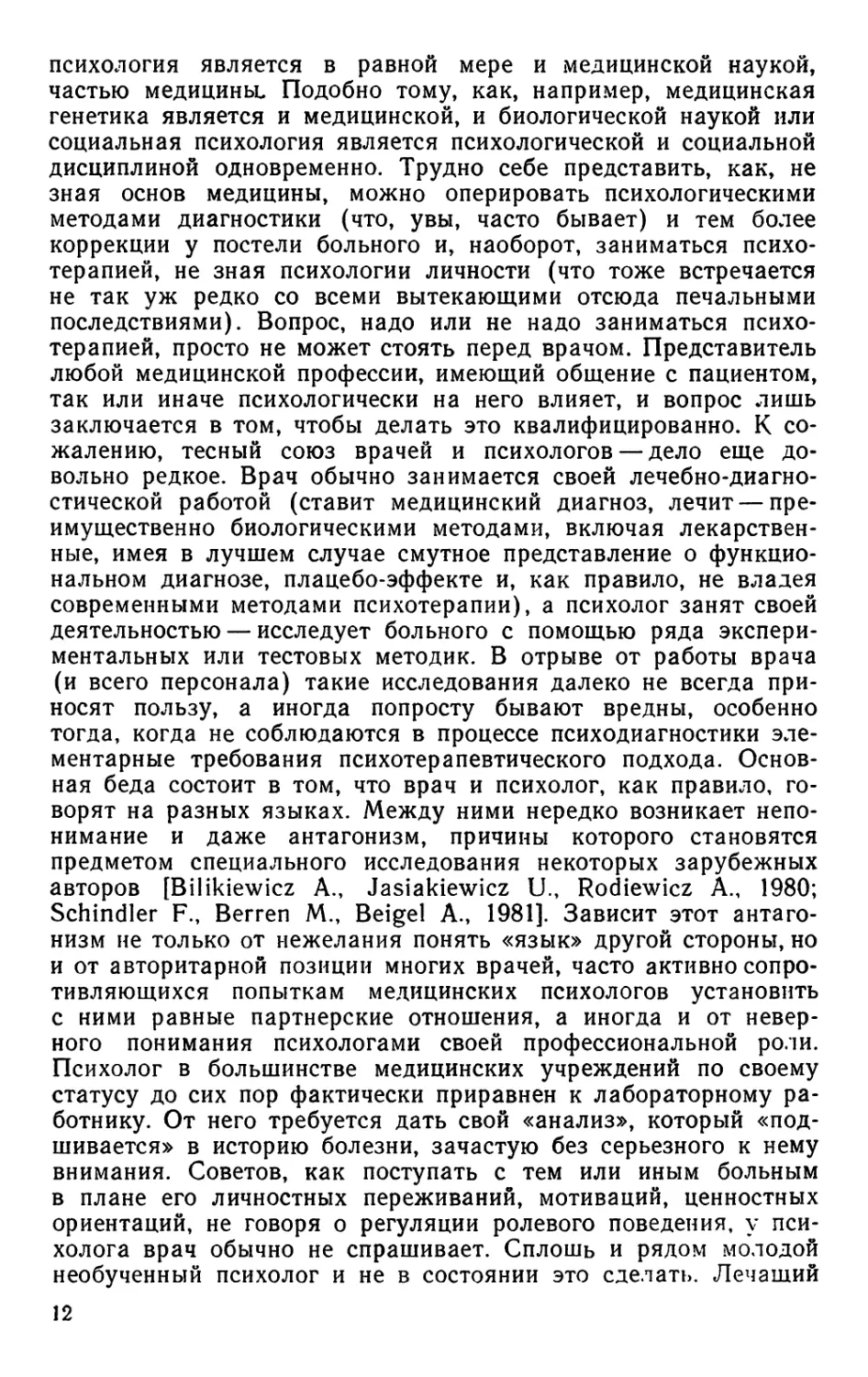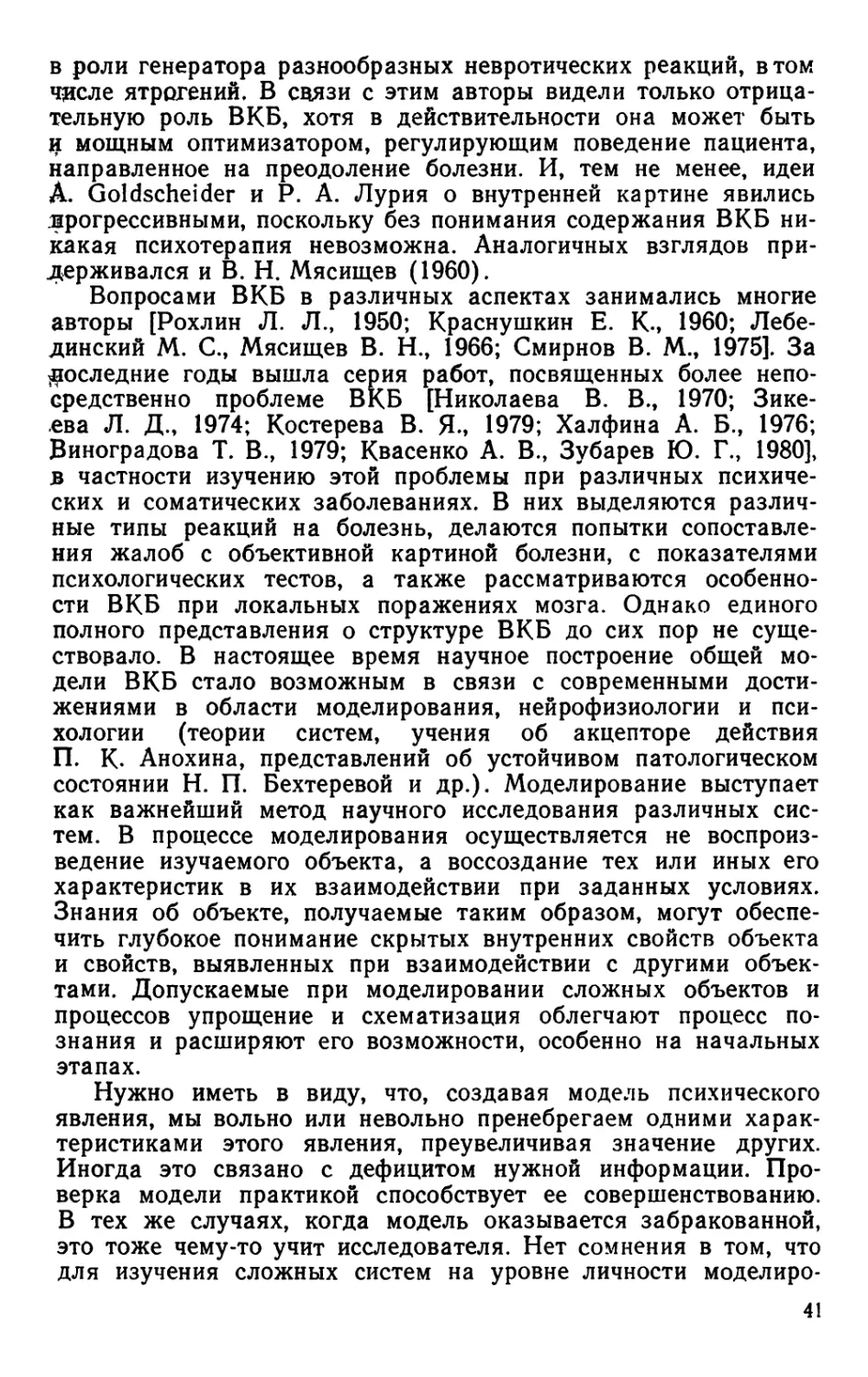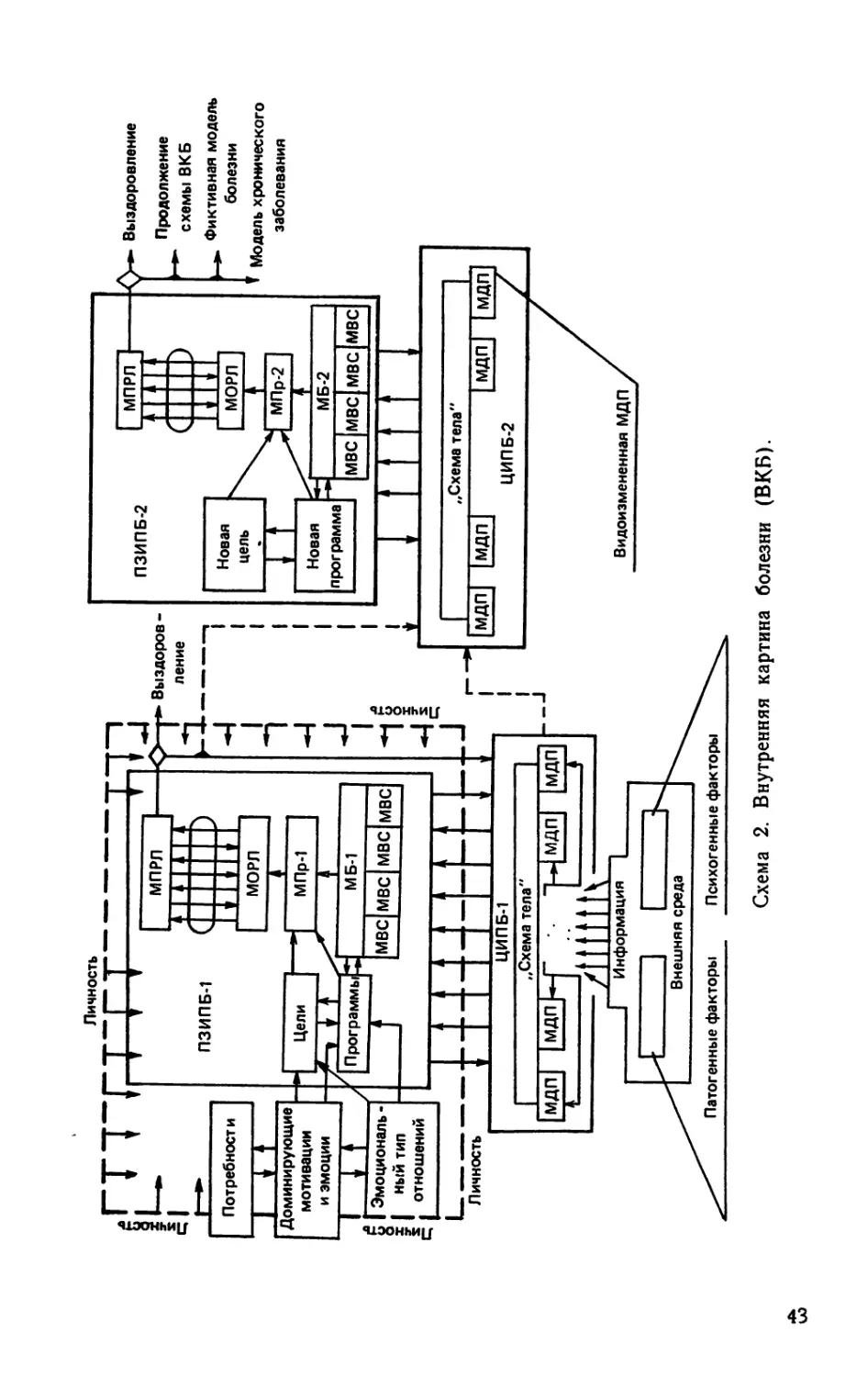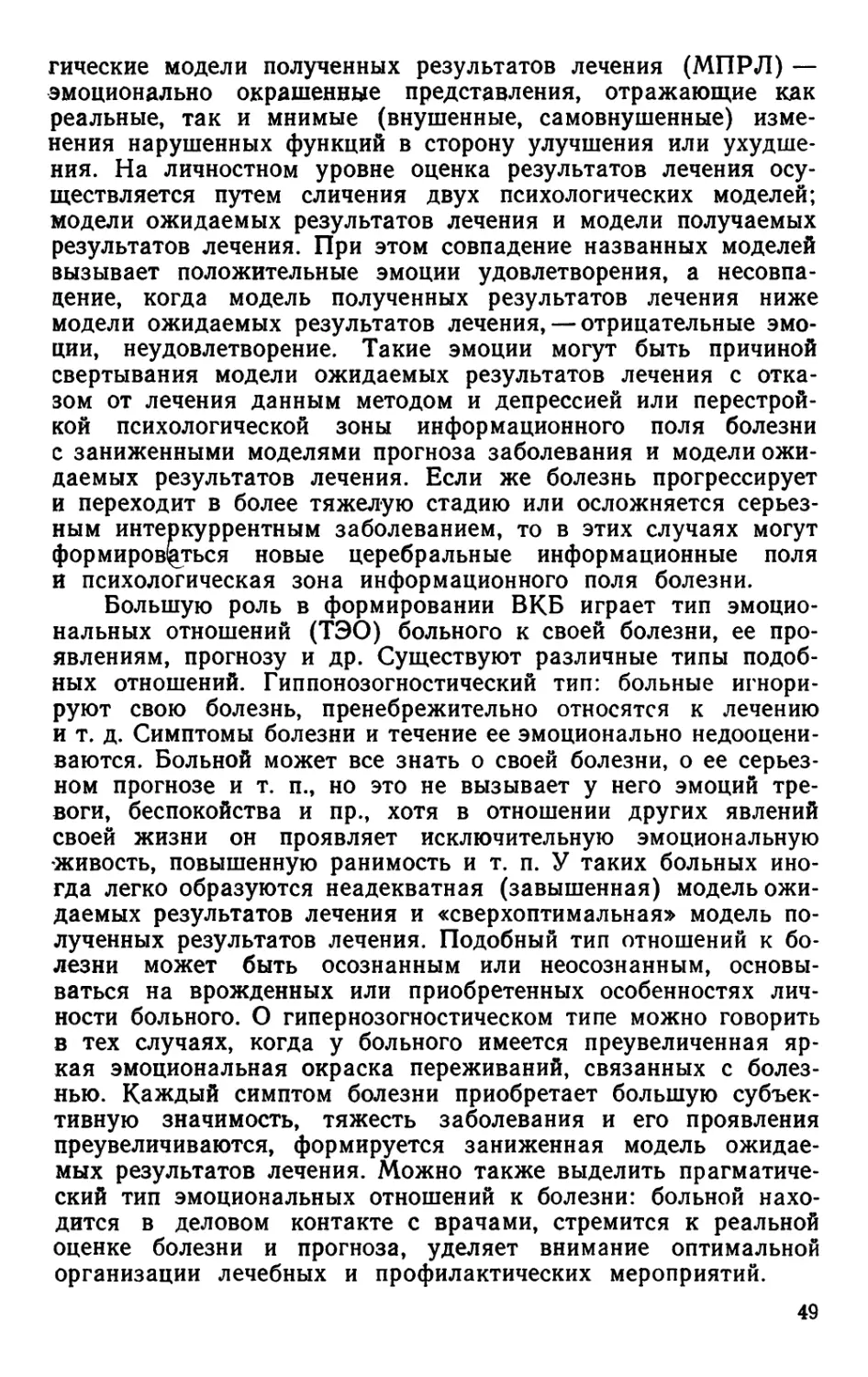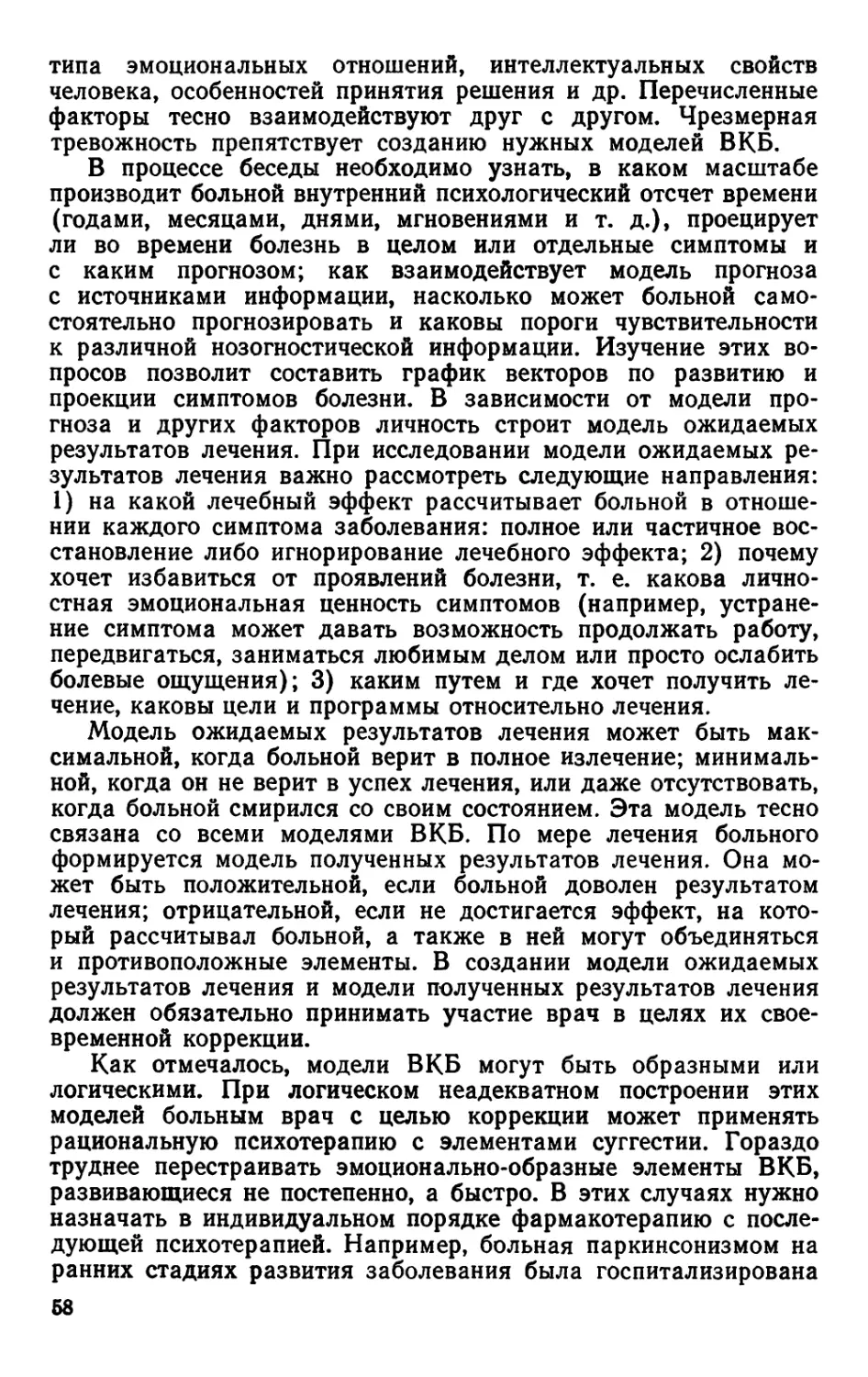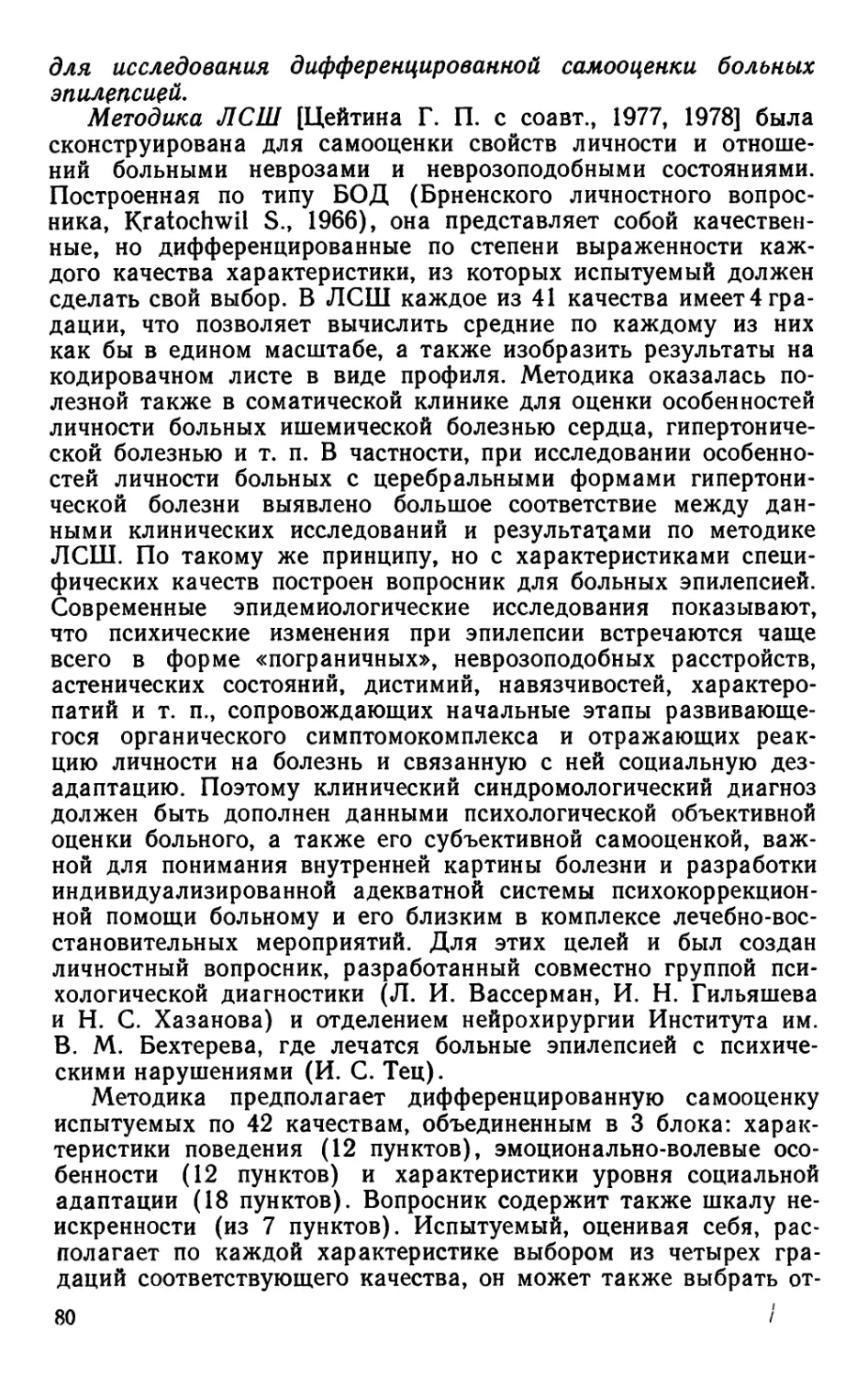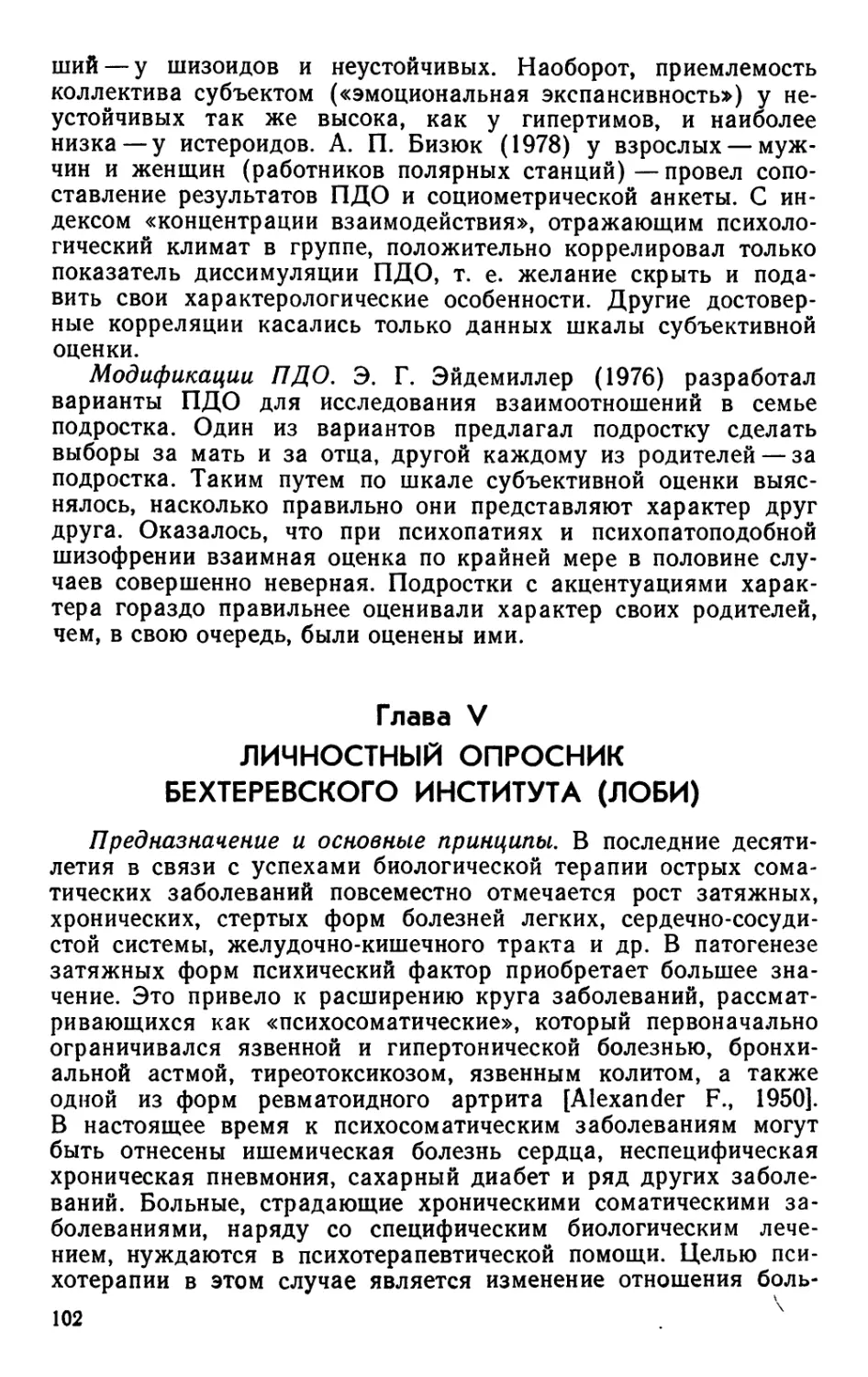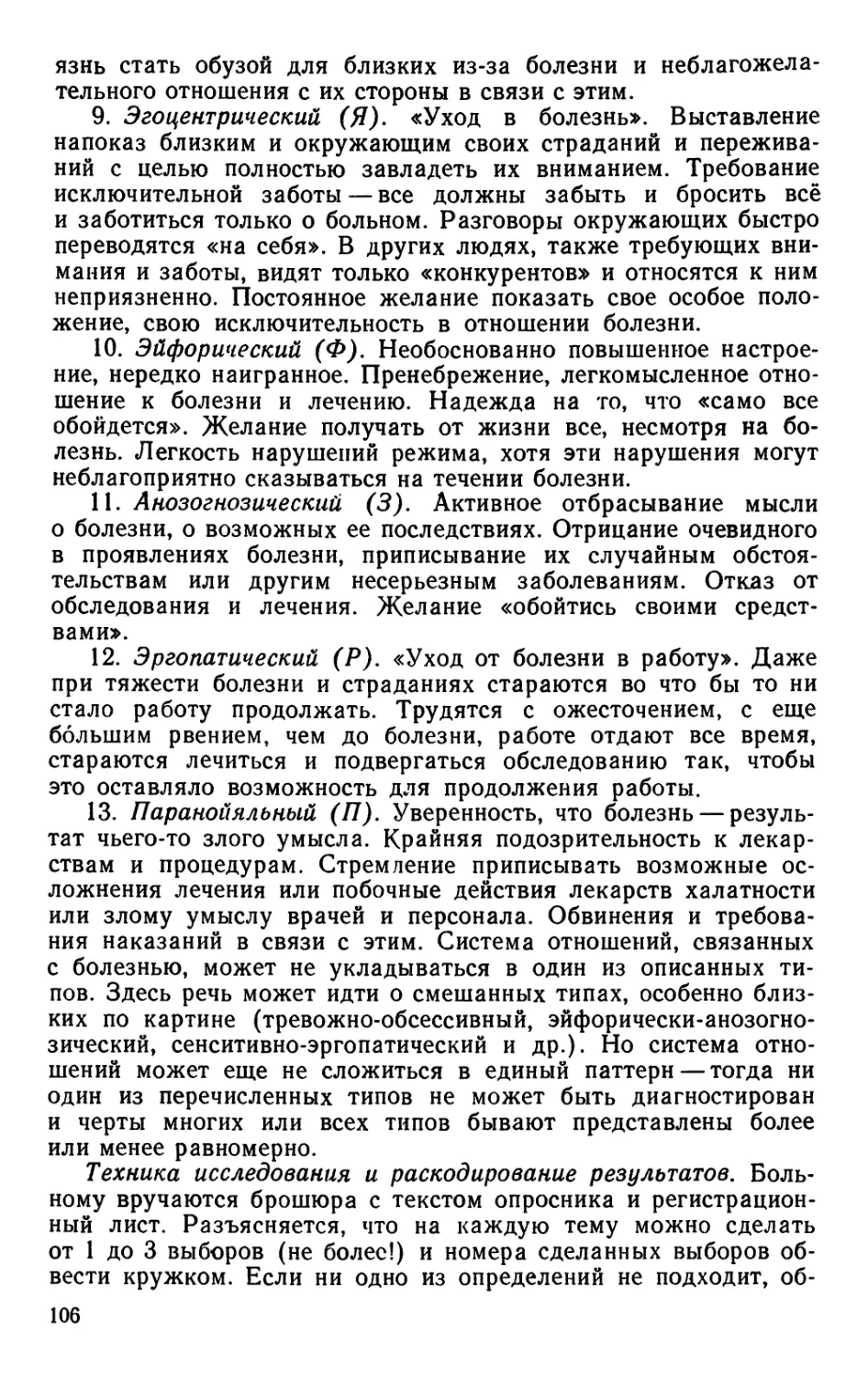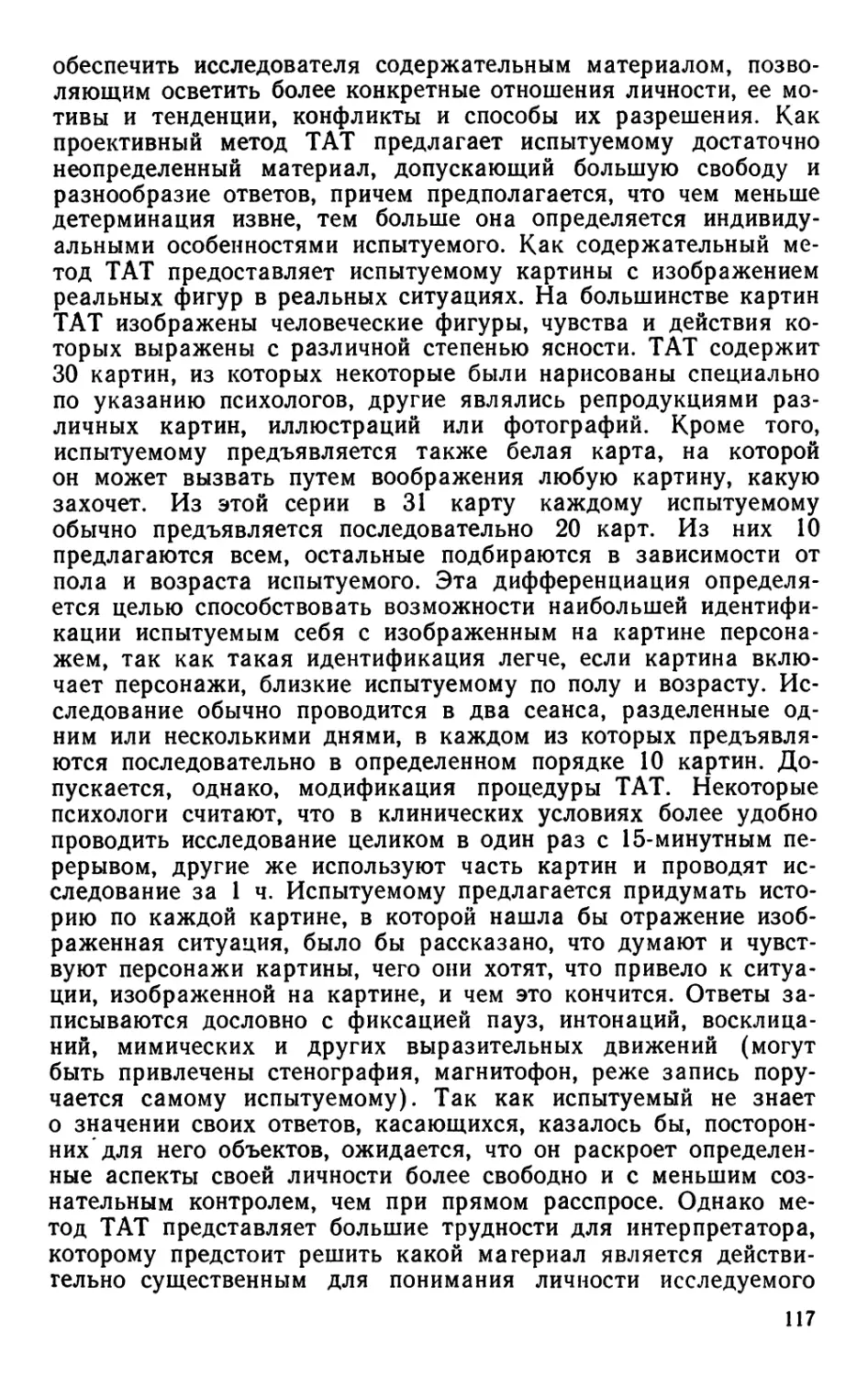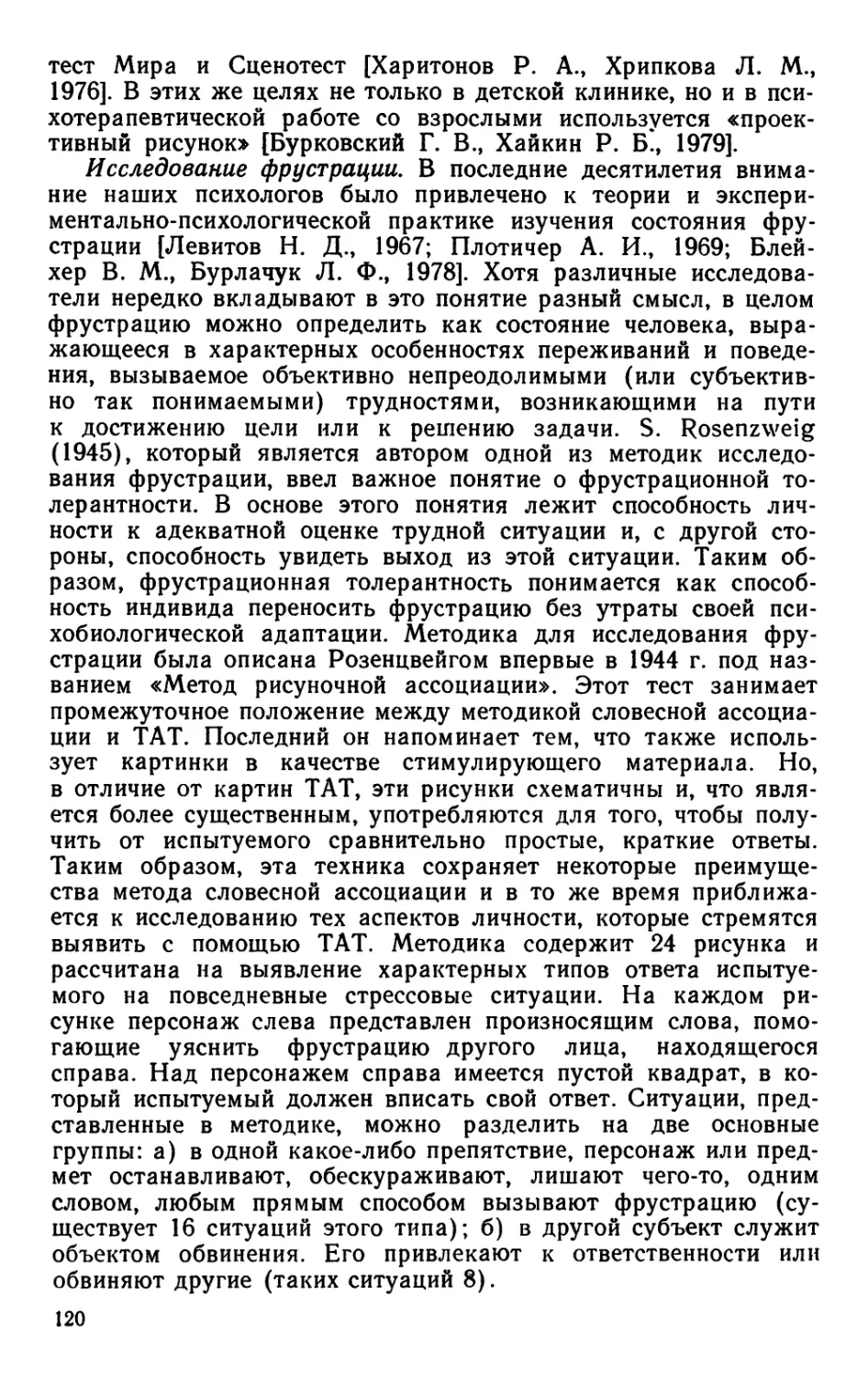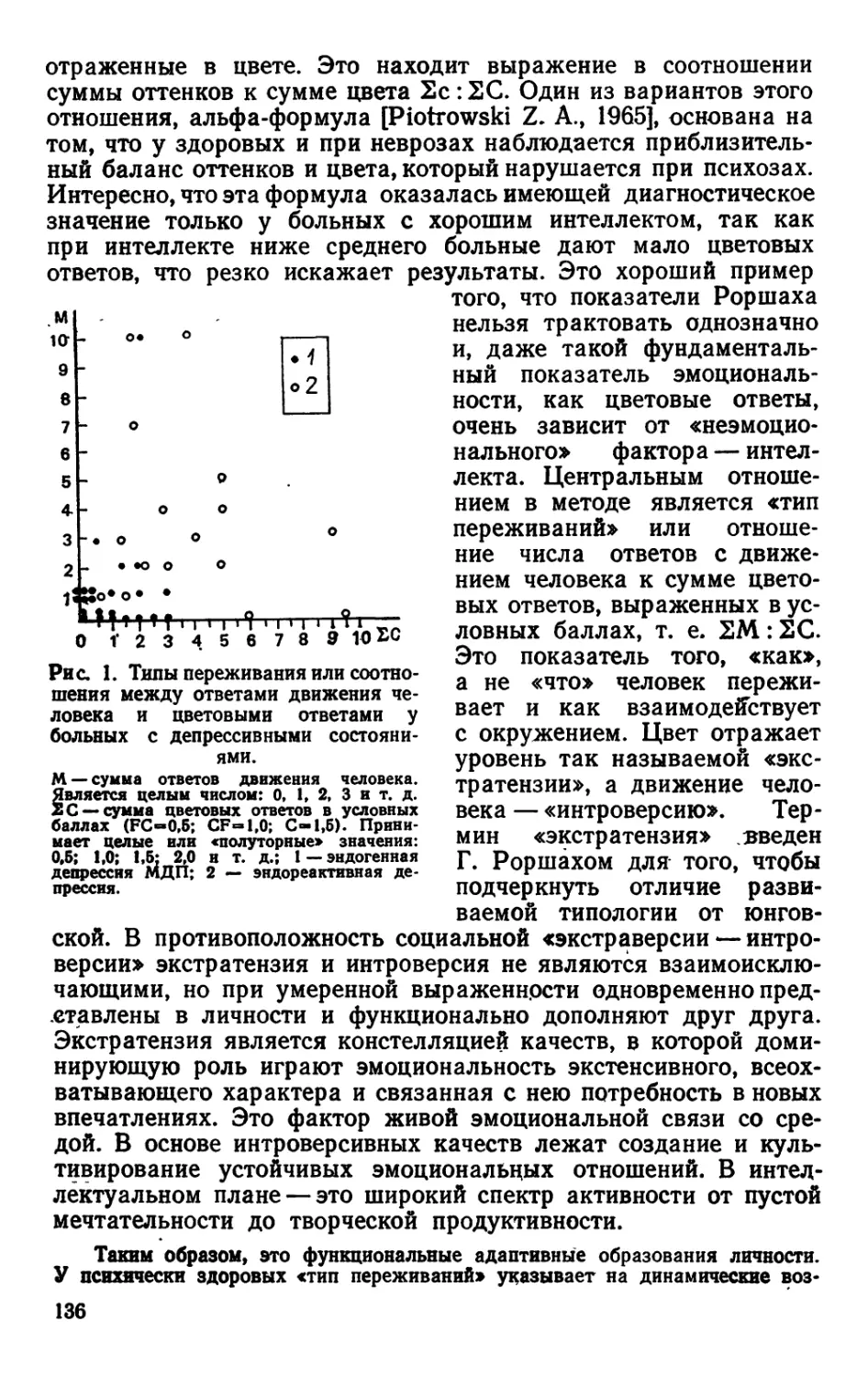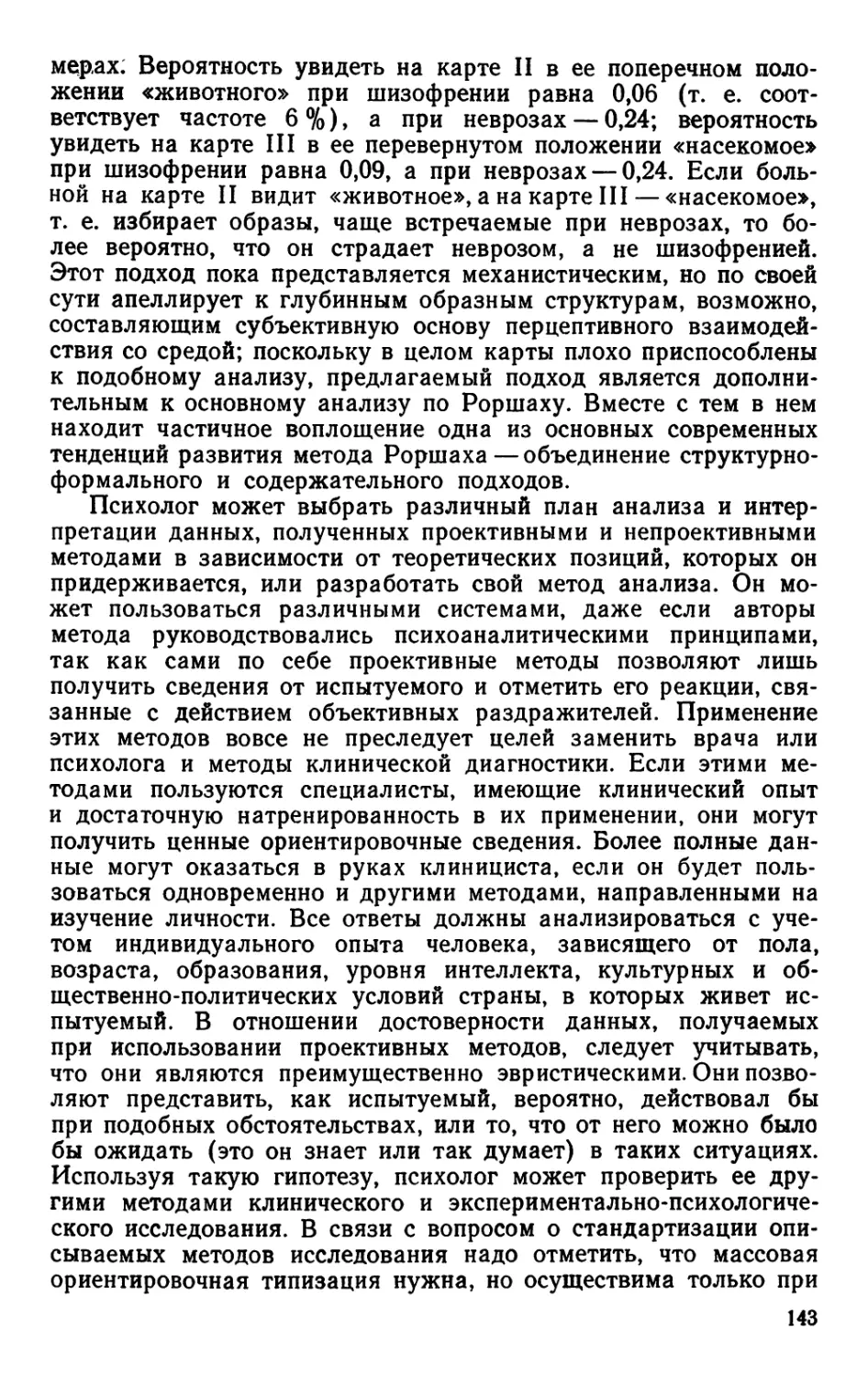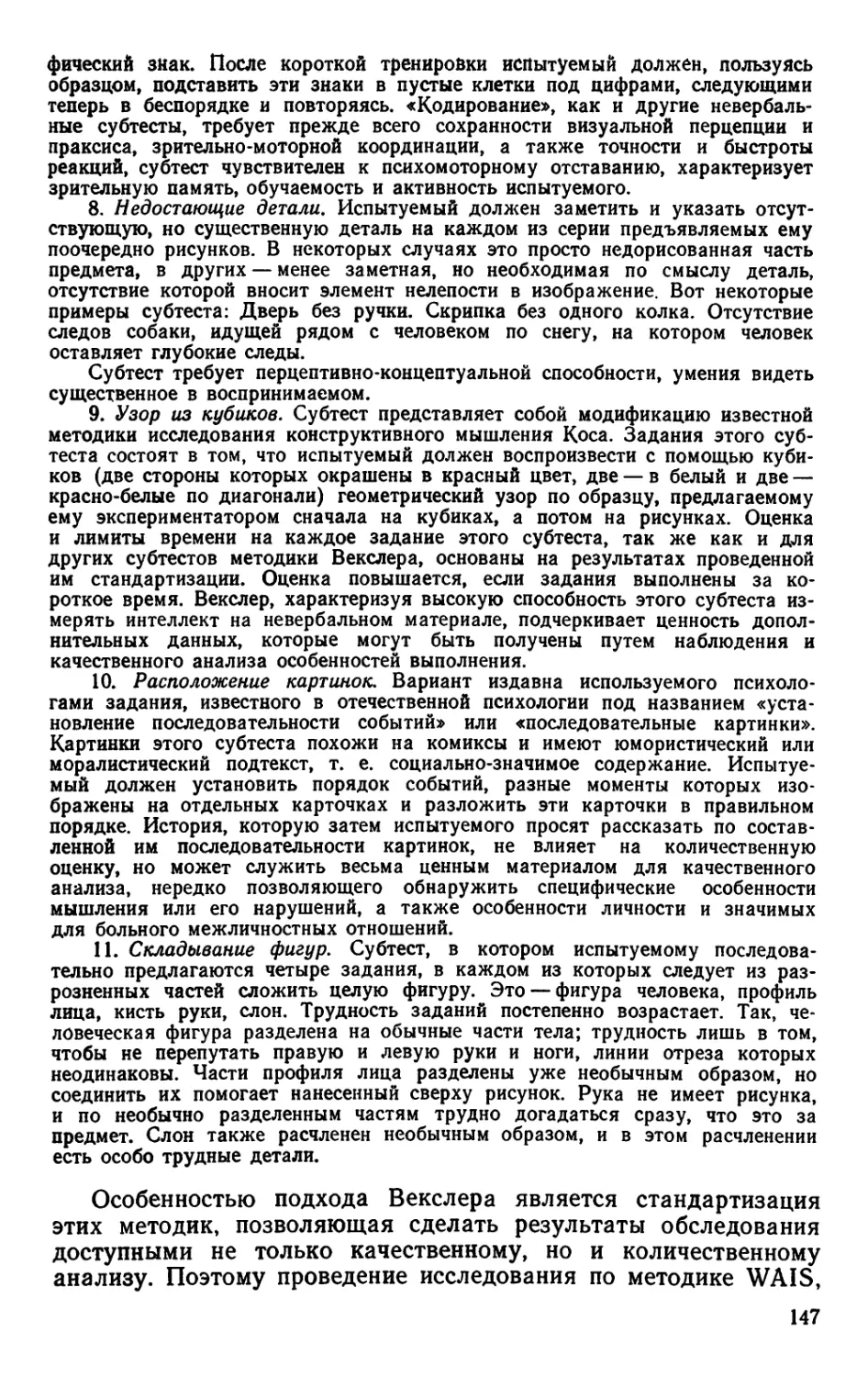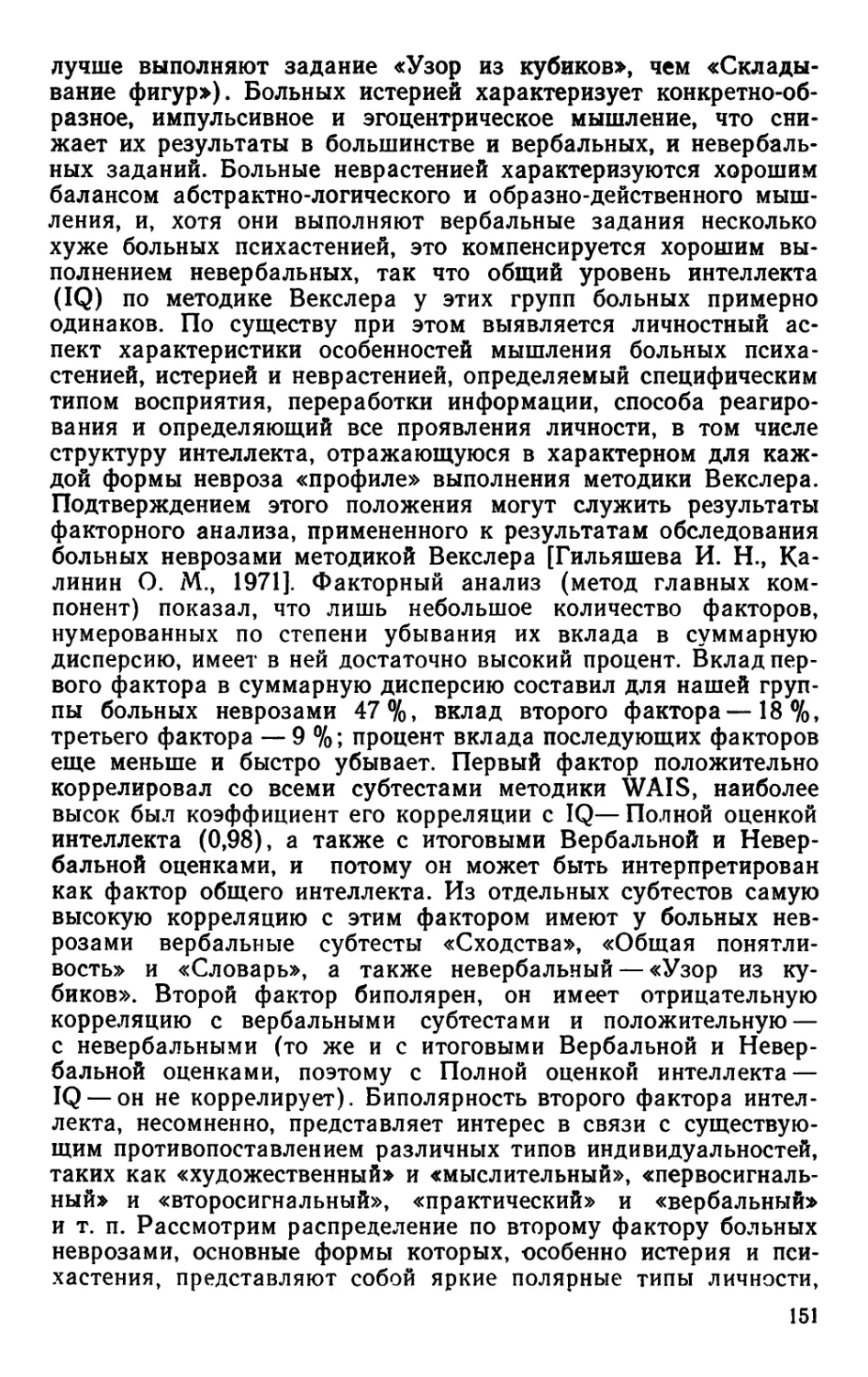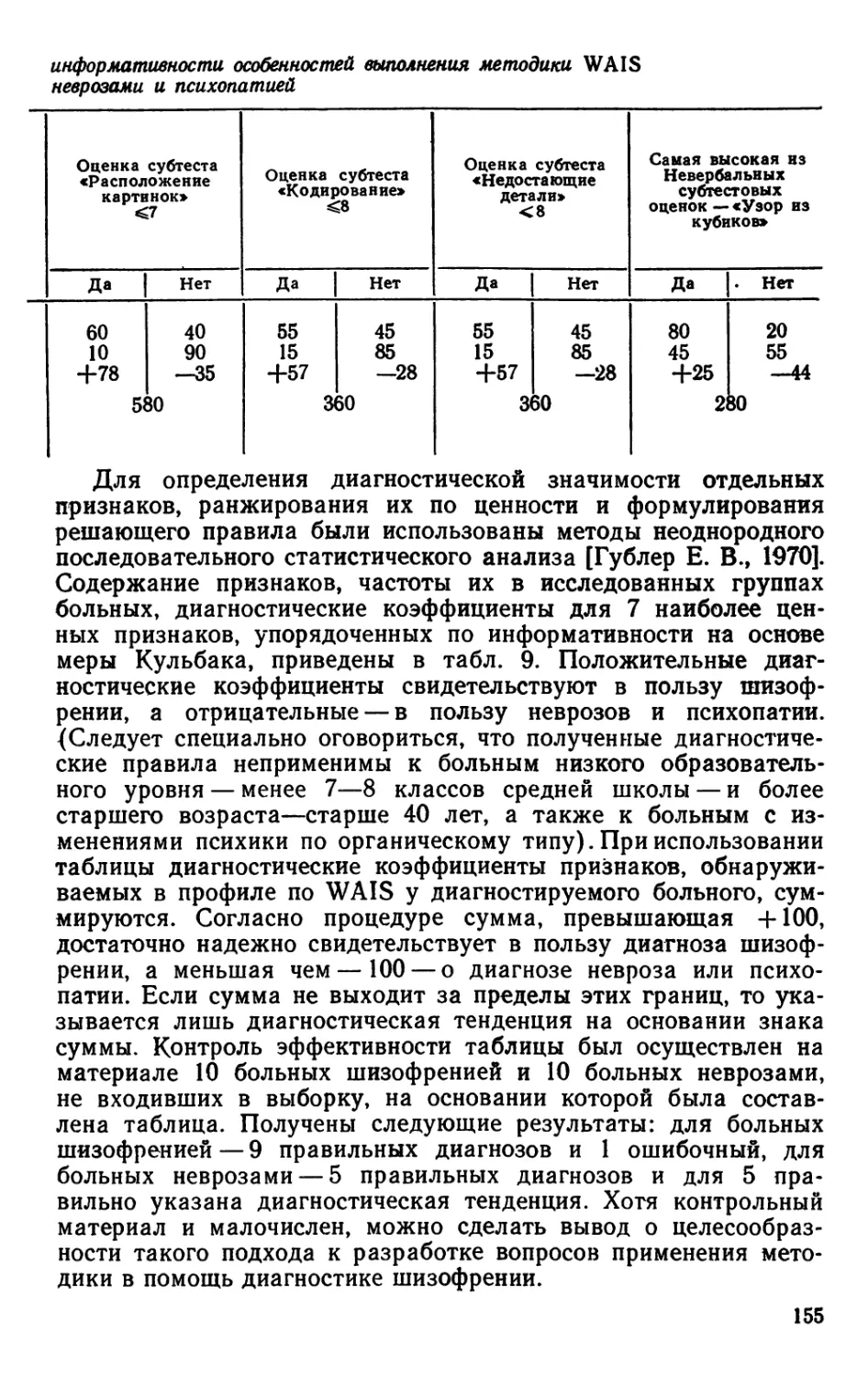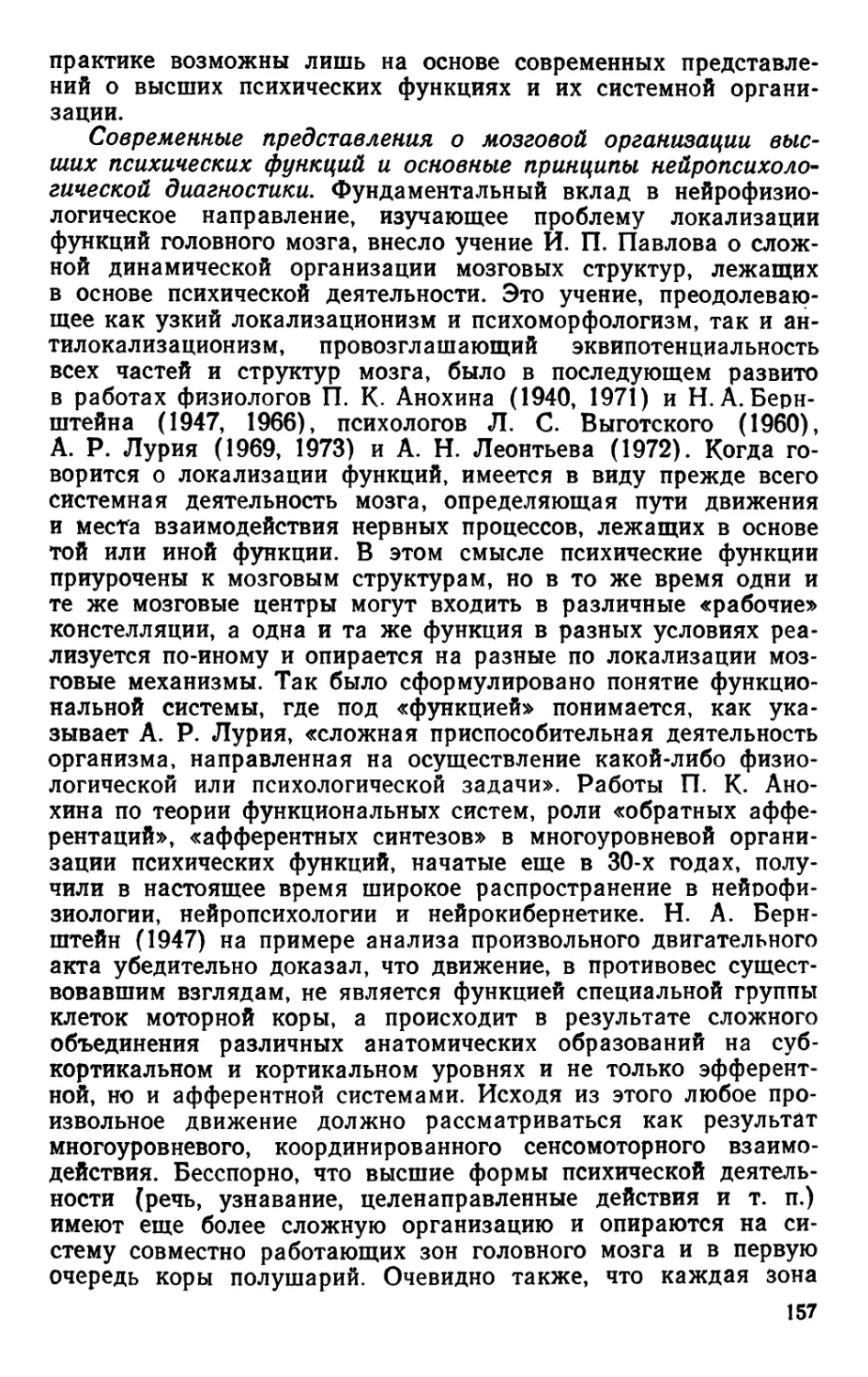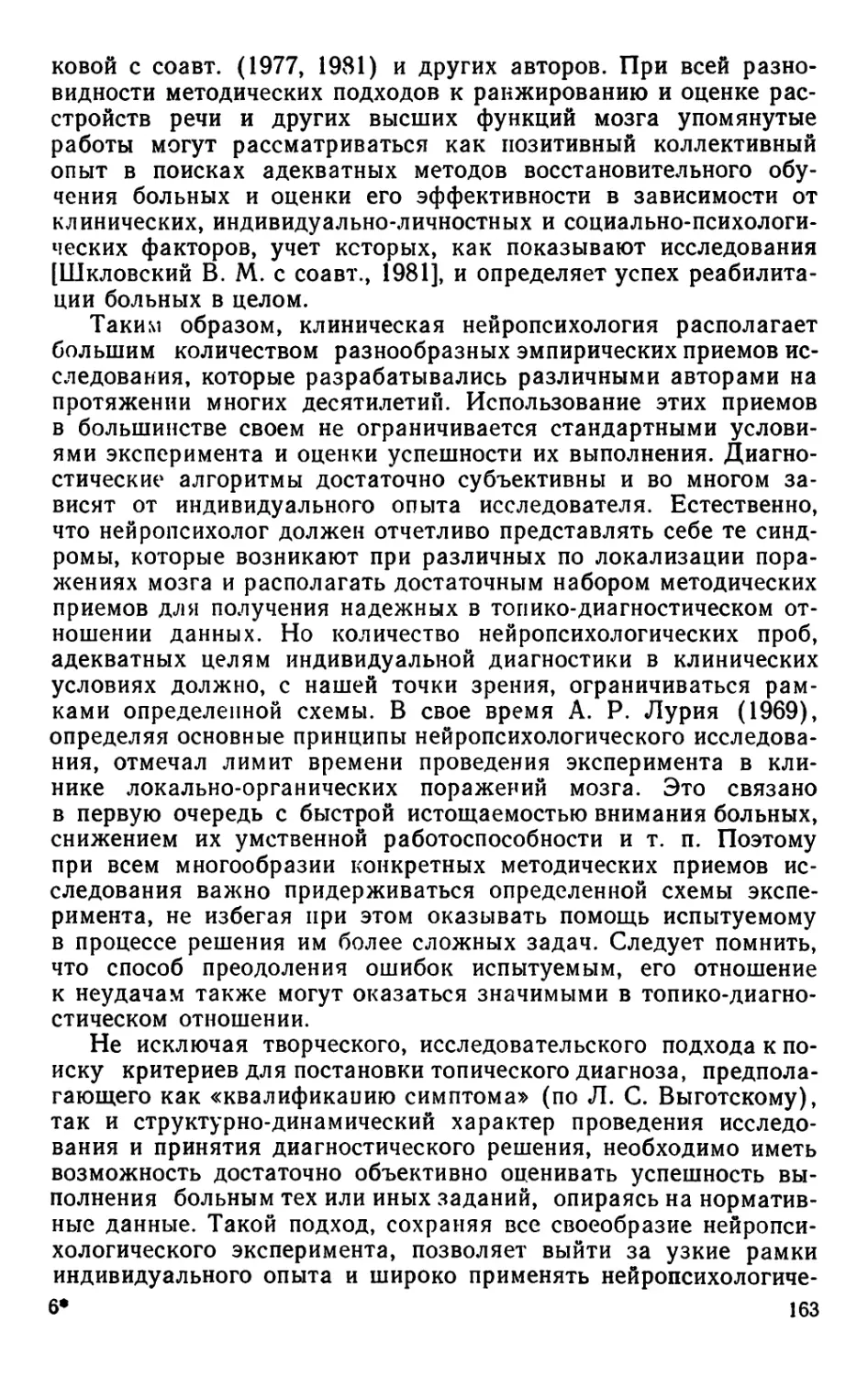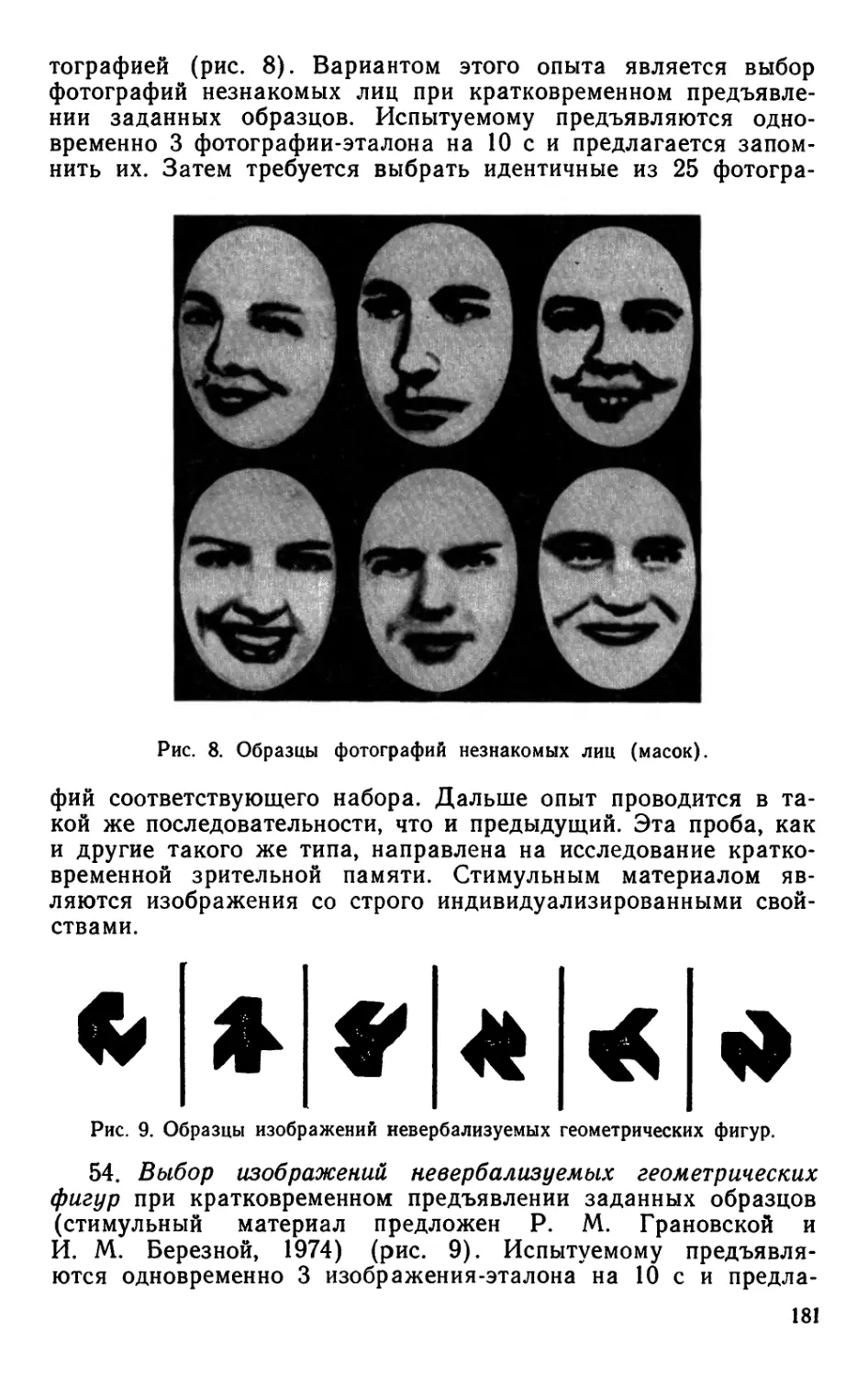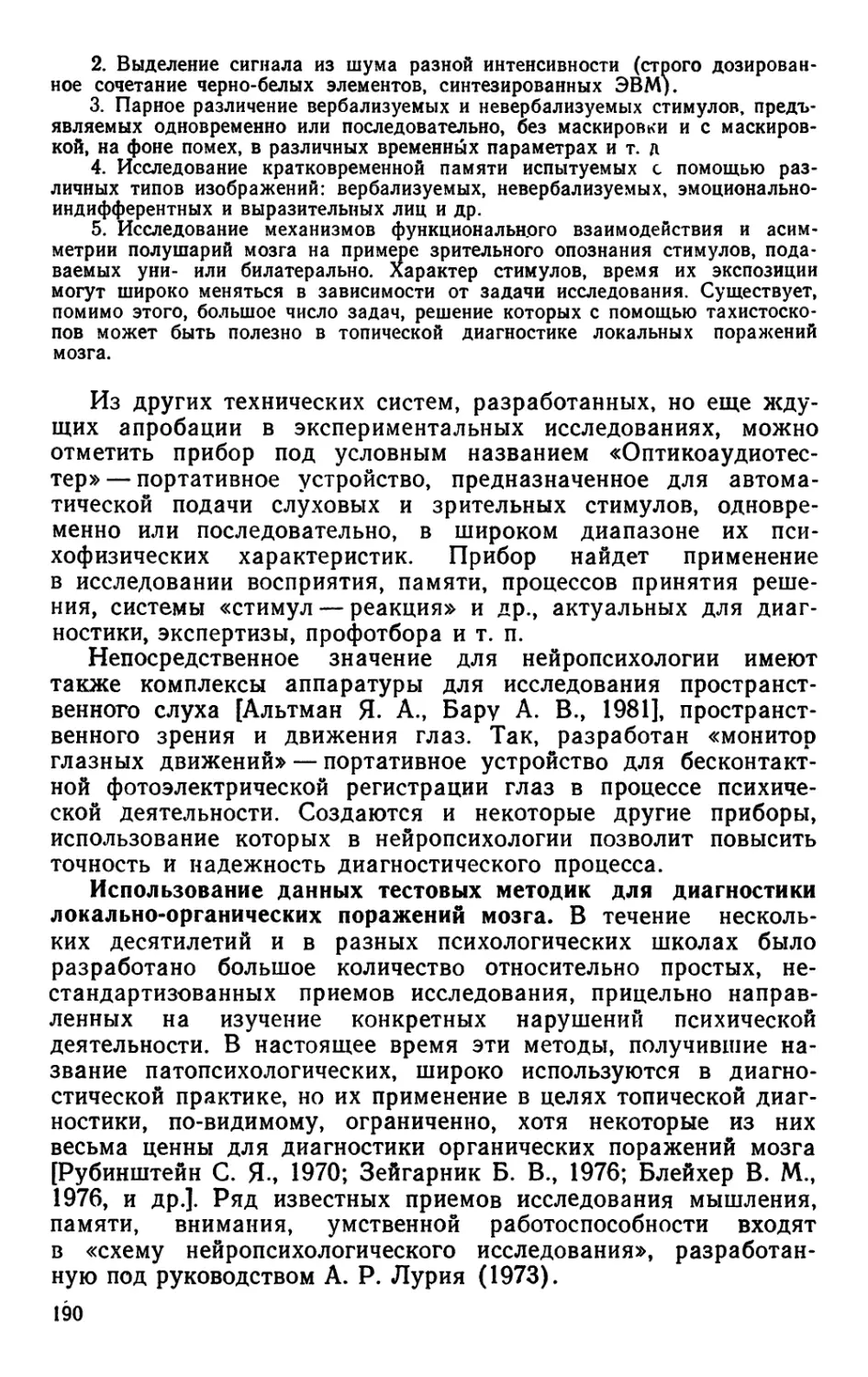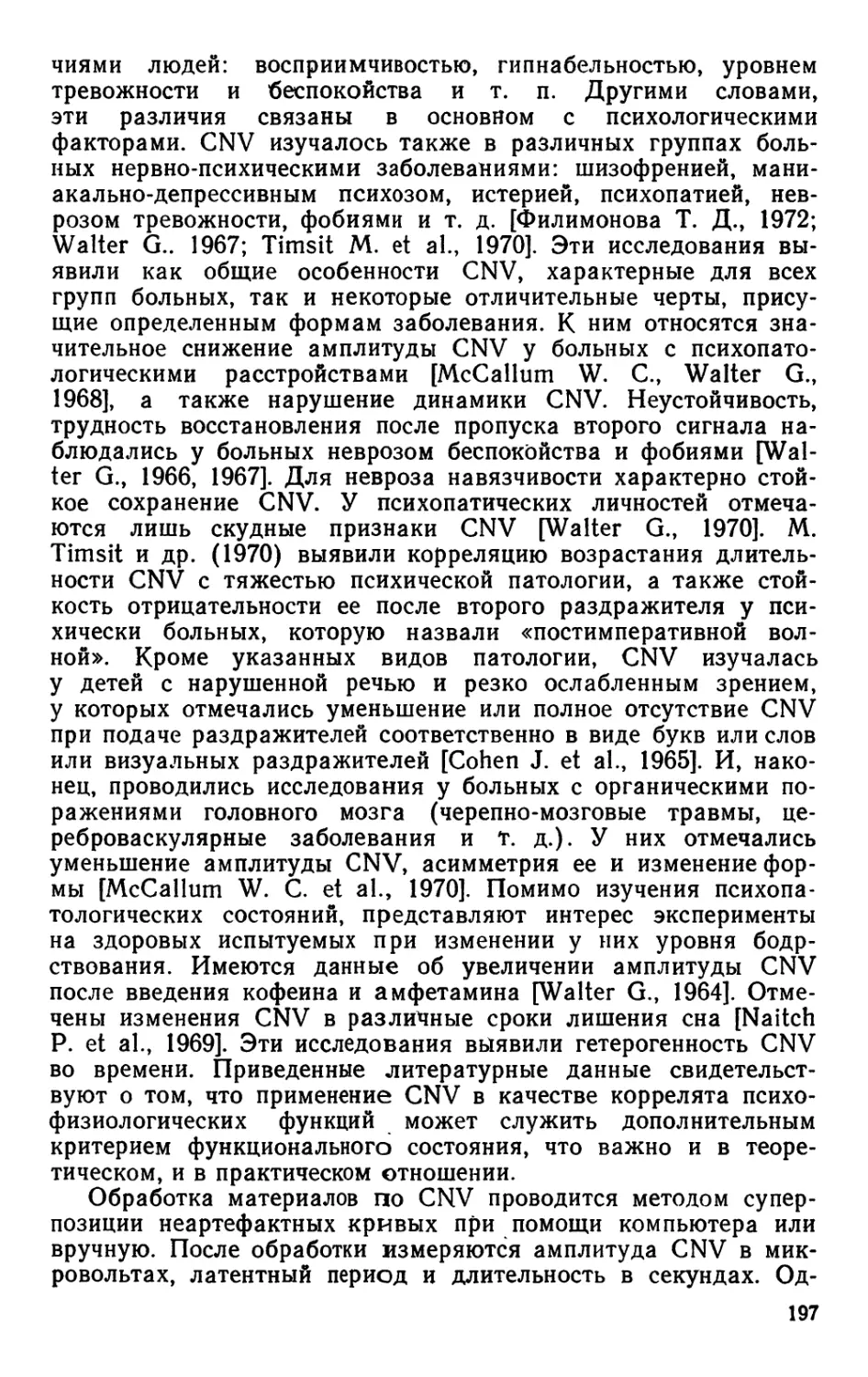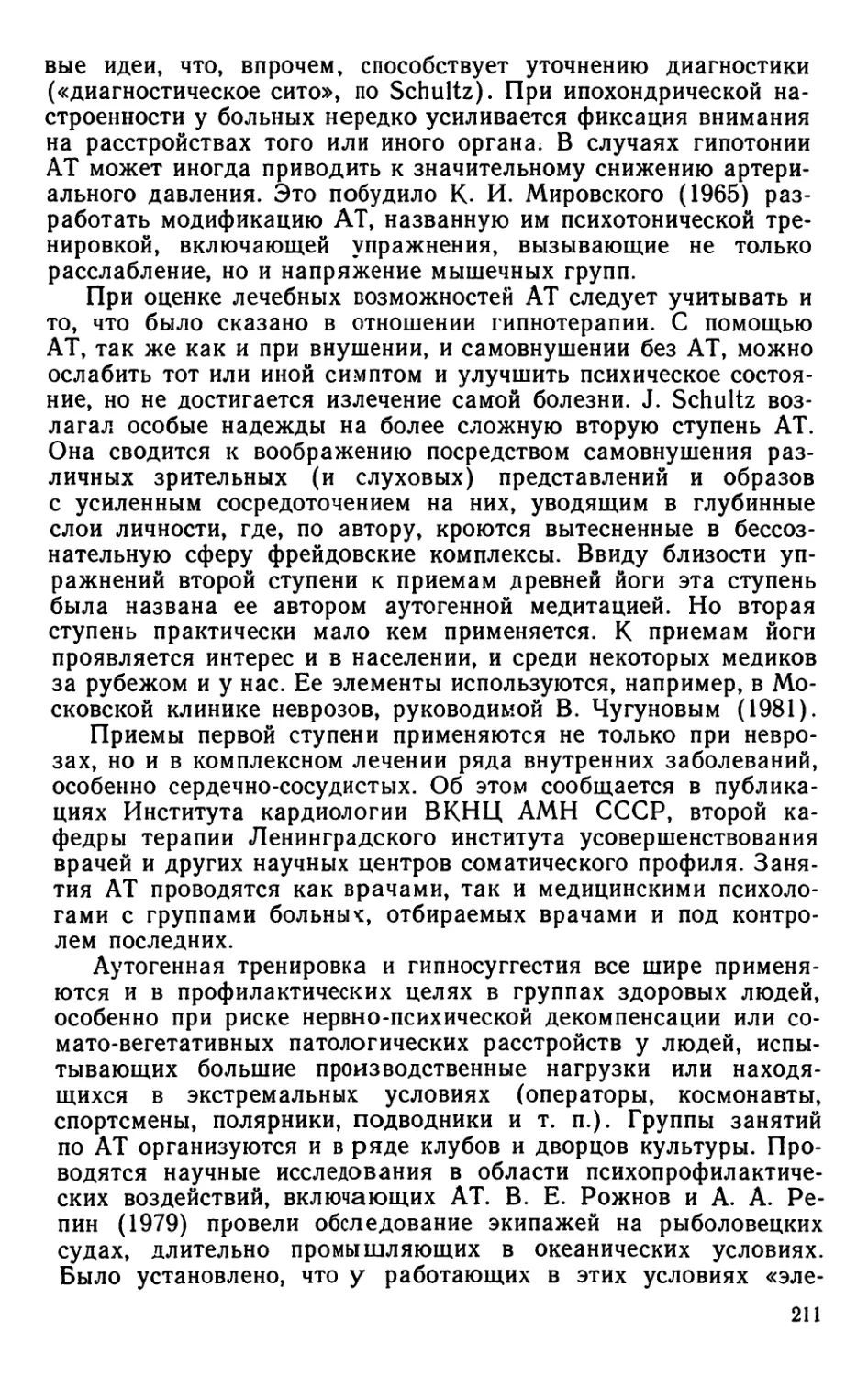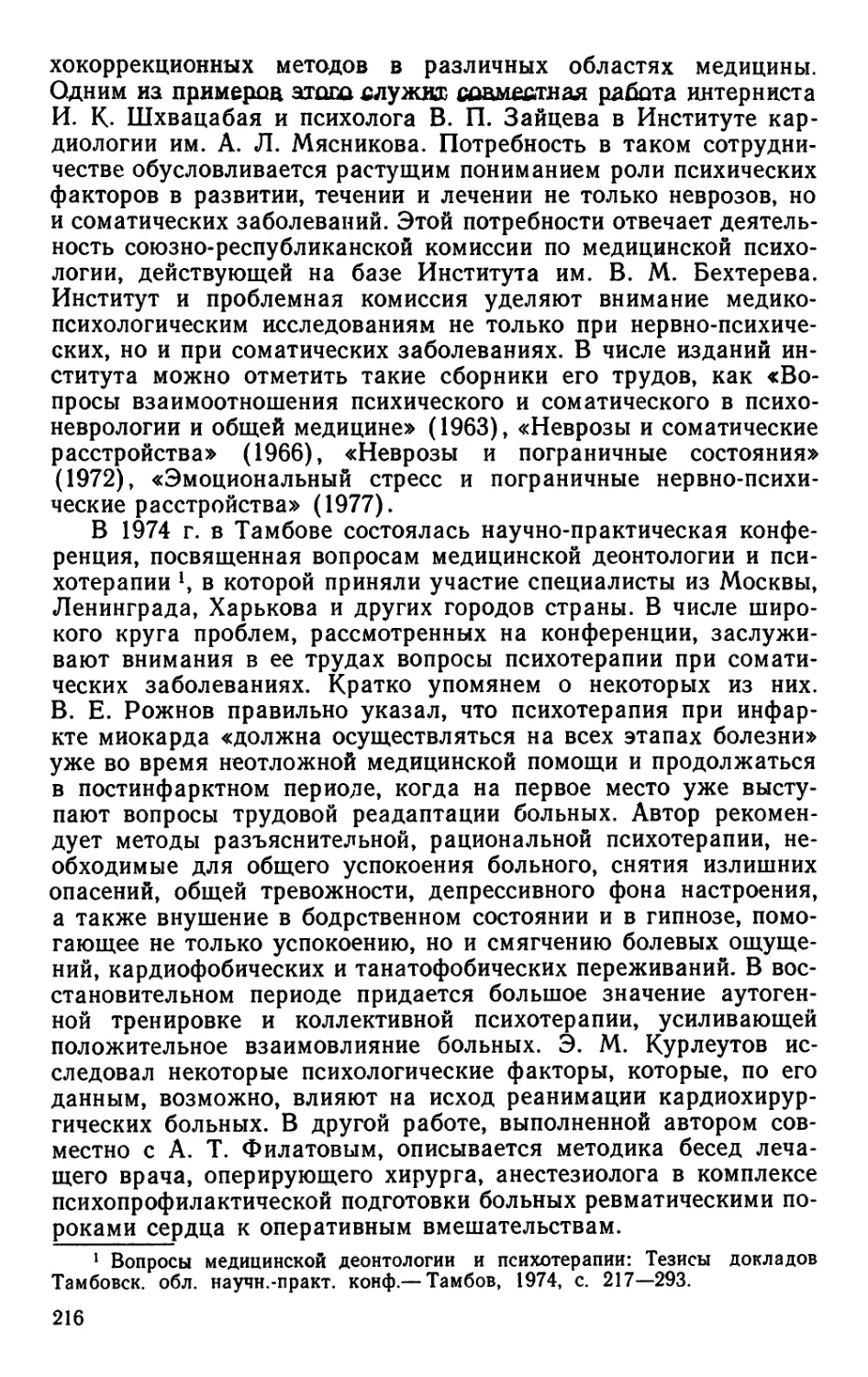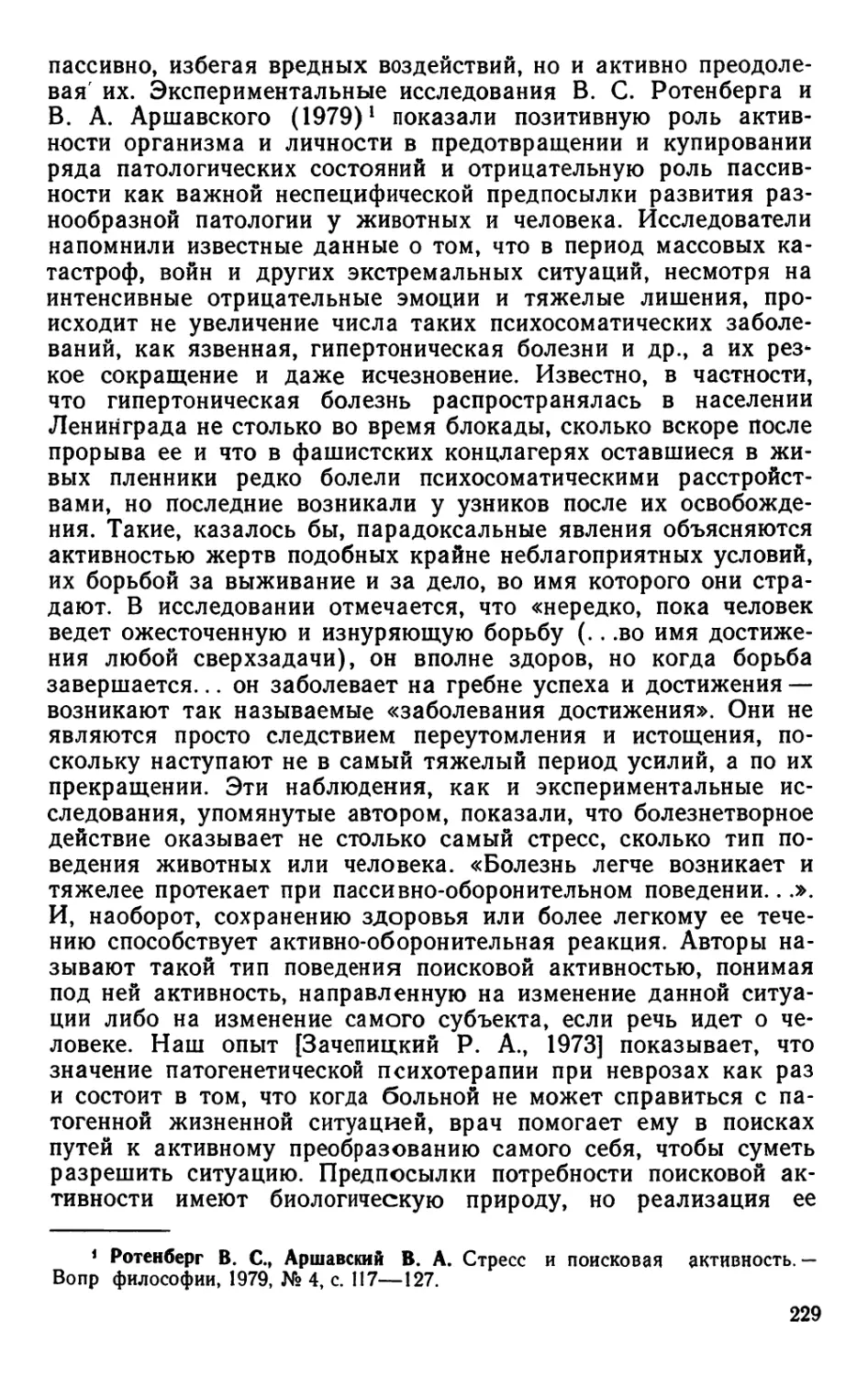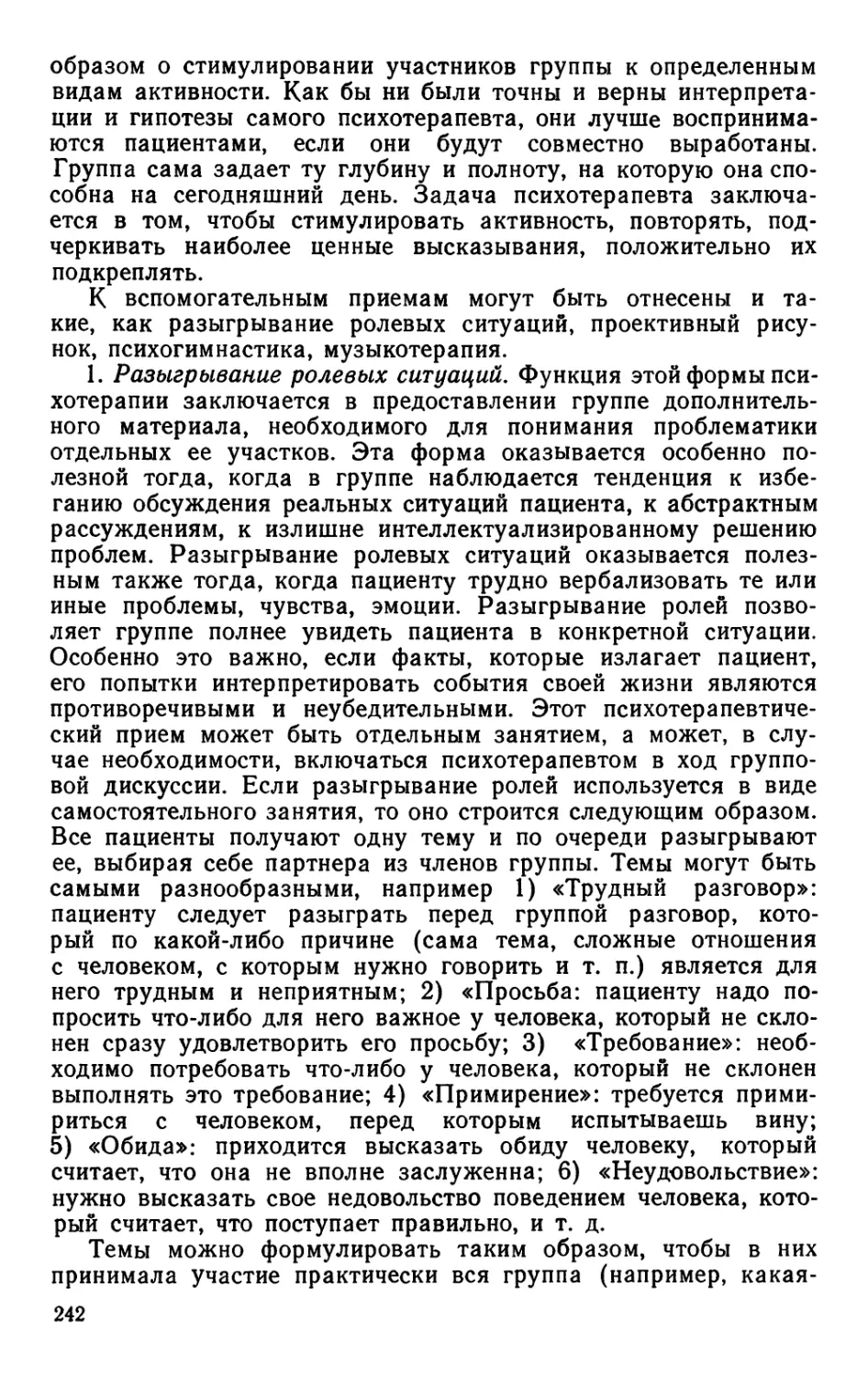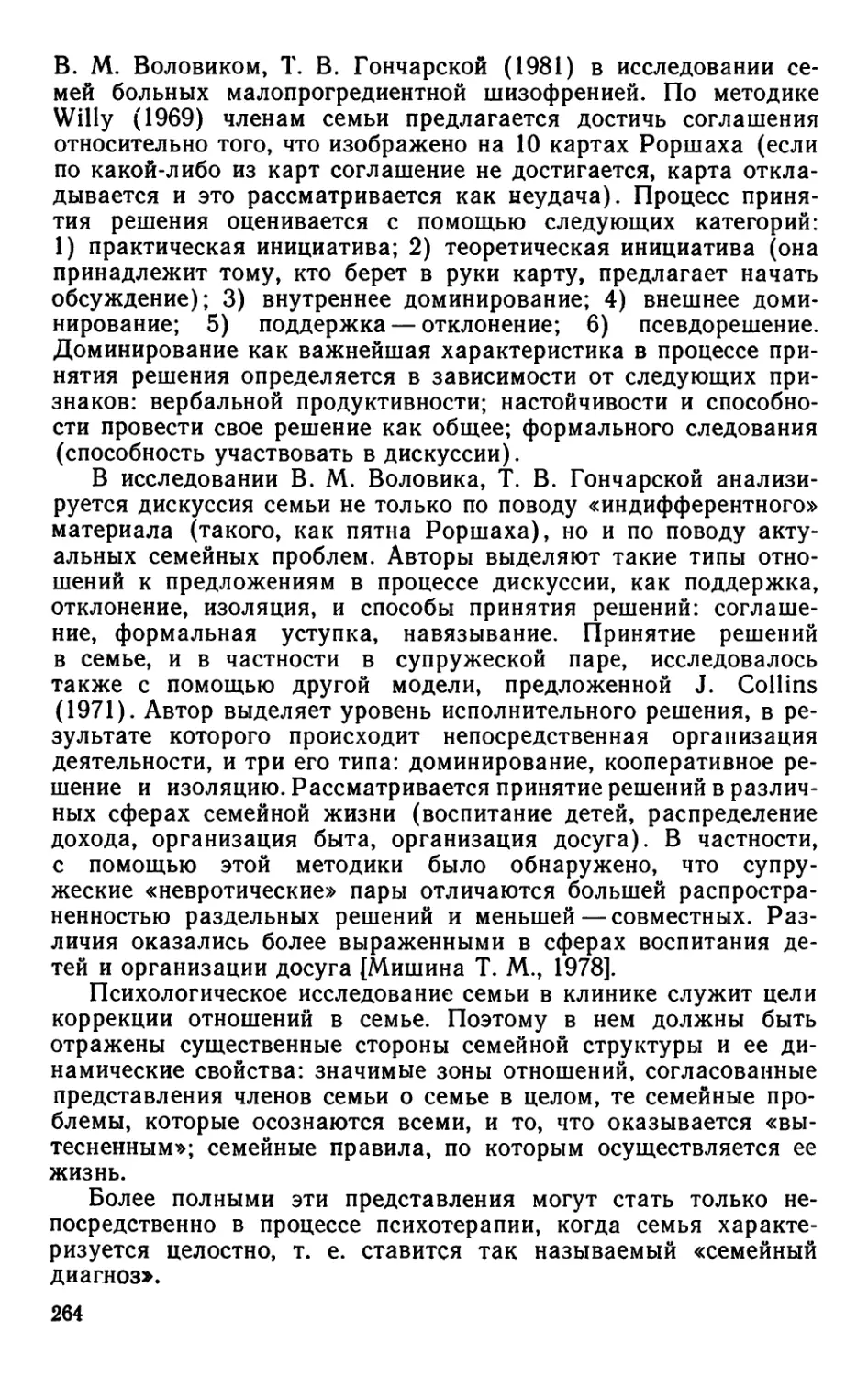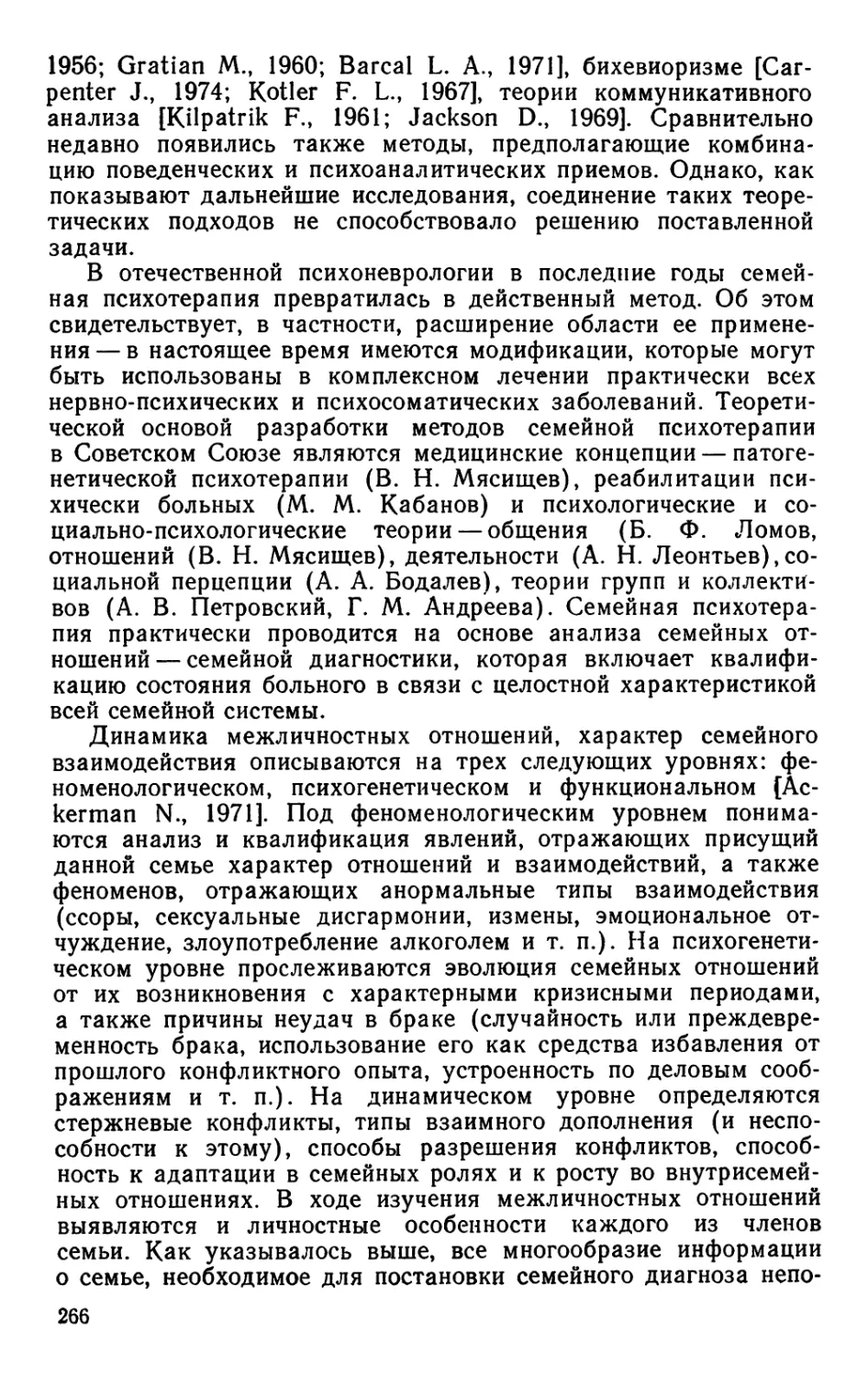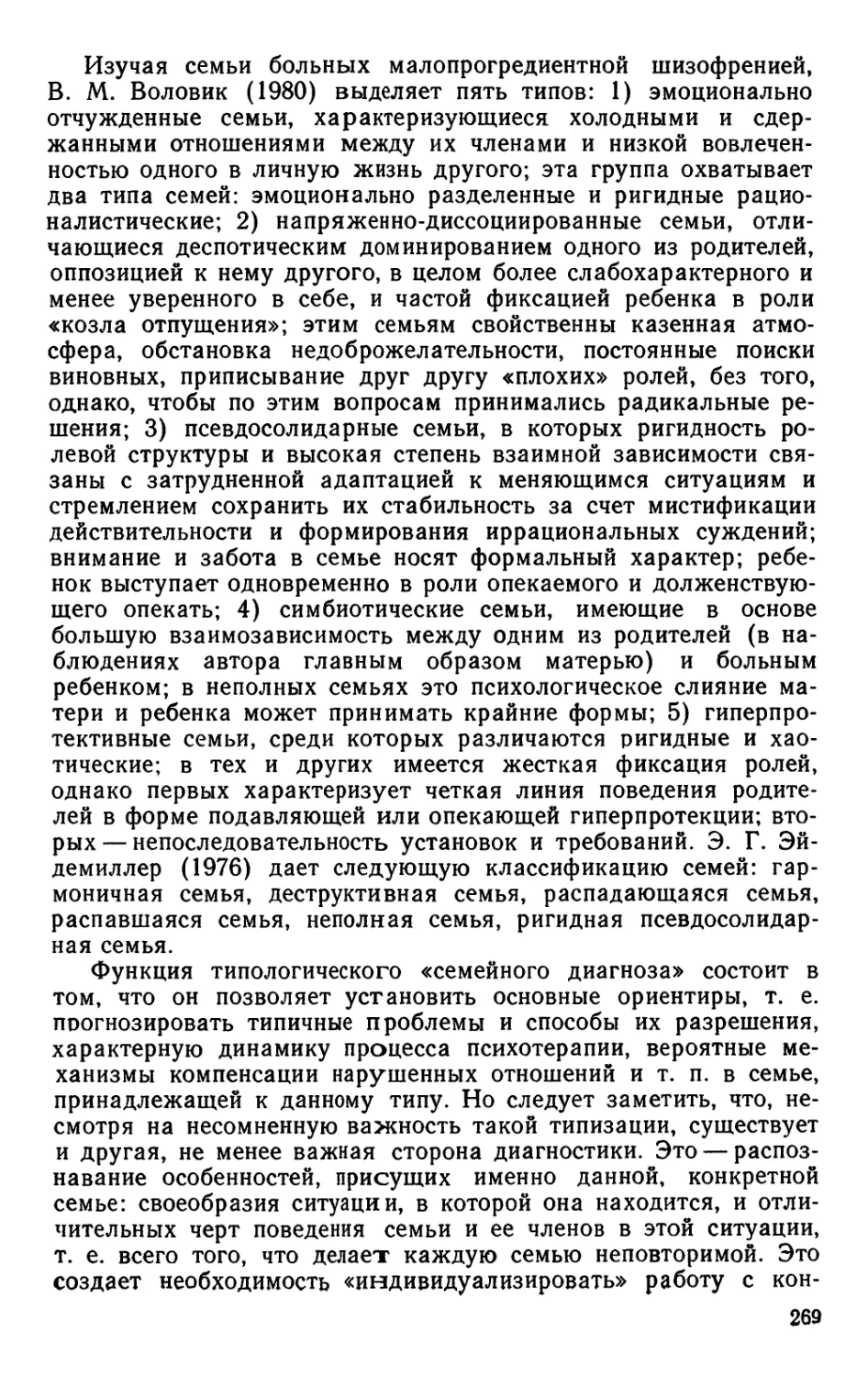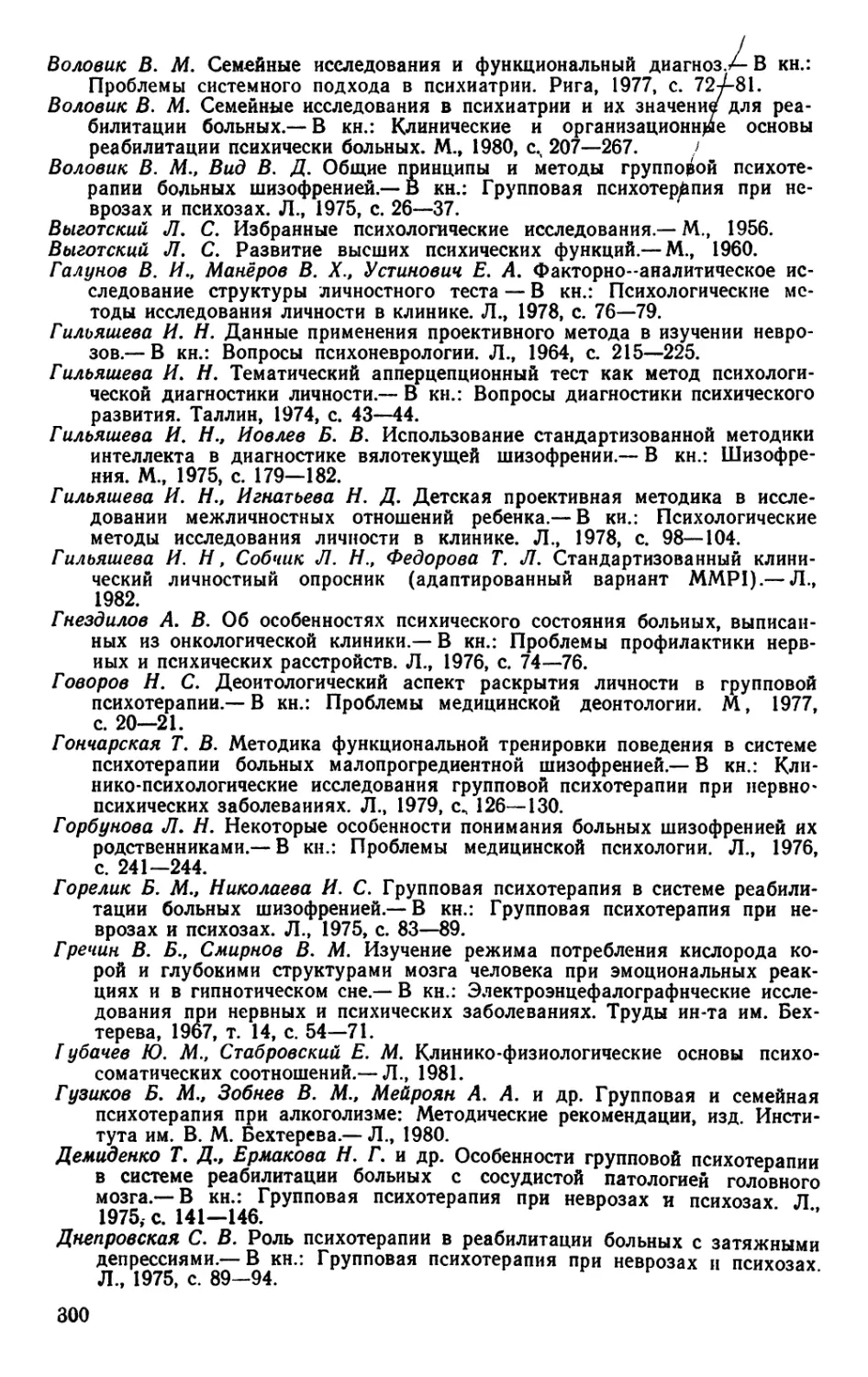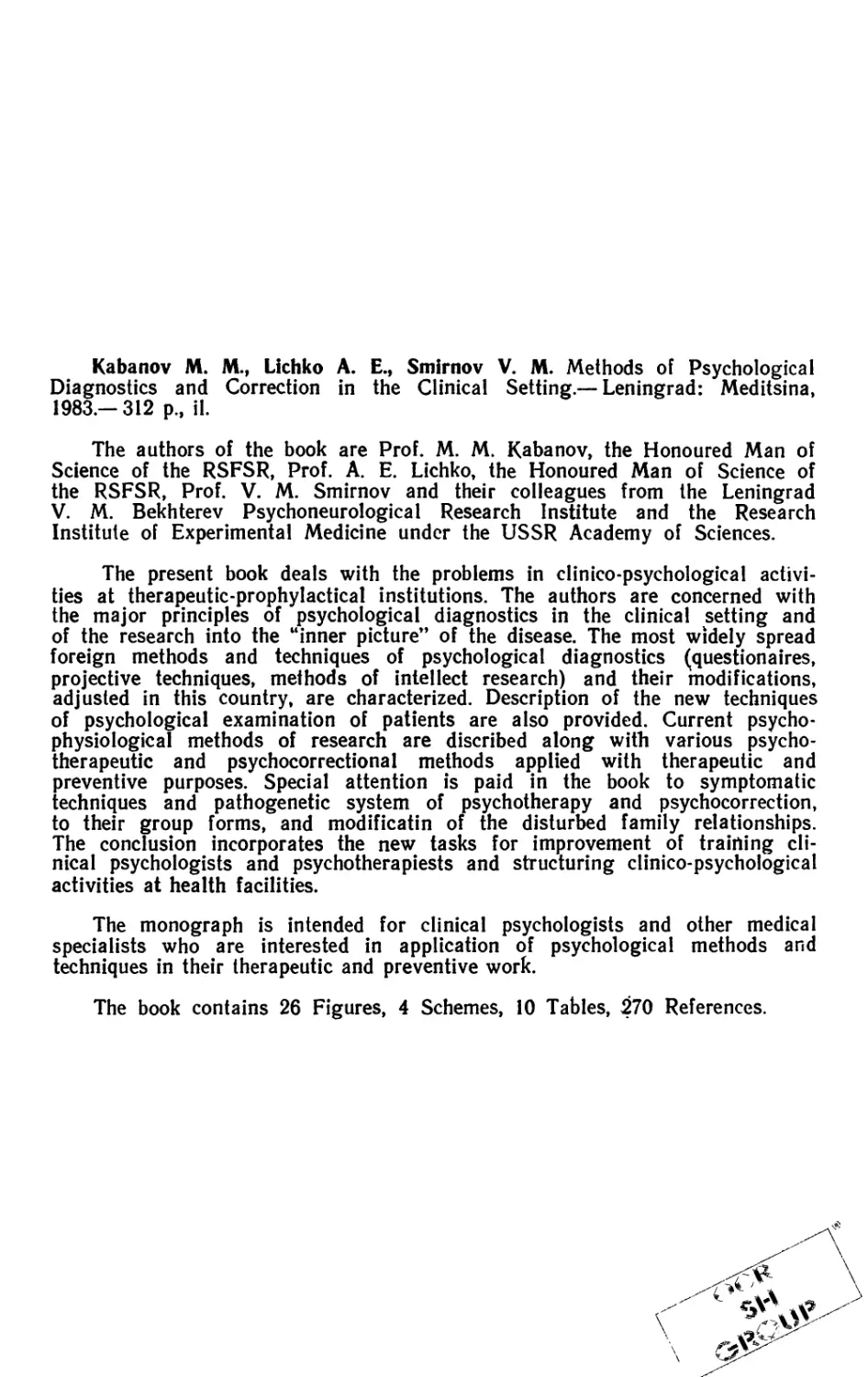Text
ММКабанов, А.Е. Личко, ВМСмирнов
методы
психологической
диагностики
и коррекции
в клинике
М. М. КАБАНОВ, А. Е. ЛИЧКО, В. М. СМИРНОВ
МЕТОДЫ
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ
ДИАГНОСТИКИ
И КОРРЕКЦИИ
В КЛИНИКЕ
ЛЕНИНГРАД „МЕДИЦИНА"
ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 1983
ББК 56.14
К 12
УДК 616.89-07-08-035-082.4
Кабанов М. М., Личко А. Е., Смирнов В. М. Методы психологической ди-
агностики и коррекции в клинике.— Л.: Медицина, 1983.—312 с, ил.
Авторы книги: засл. деят. науки РСФСР проф. М. М. Кабанов — дирек-
тор Ленинградского научно-исследовательского психоневрологического ин-
ститута им. В. М. Бехтерева; засл. деят. науки РСФСР проф. А. Е Личко —
зам. директора по научной работе того же института; проф. В. М. Смирнов —
зав. лабораторией нейропсихологии и стереотаксической неврологии ИЭМ АМН
СССР.
В книге освещаются вопросы медико-психологической работы в лечебно-
профилактических учреждениях. Рассматриваются основные принципы психо-
логической диагностики в клинике и изучения «внутренней картины» болезни.
Дается характеристика наиболее распространенных зарубежных методов пси-
хологической диагностики (вопросники, проективные методы, методы иссле-
дования интеллекта) и их модификаций, адаптированных к нашим условиям.
Приводится описание новых методов психологического исследования больных,
преимущественно разработанных в Научно-исследовательском психоневроло-
гическом институте им. В. М. Бехтерева. Представлены также современные
психофизиологические методы исследования, описываются различные психо-
терапевтические и психокоррекционные методы, применяемые в лечебных и
профилактических целях. Специальное внимание уделено симптоматическим
методам и патогенетической системе психотерапии и психокоррекции, группо-
вым их формам, коррекции нарушенных семейных отношений. В заключение
выдвигаются задачи совершенствования подготовки медицинских психологов
и психотерапевтов и организации медико-психологической работы в учрежде-
ниях здравоохранения.
Монография рассчитана на медицинских психологов и врачей различных
специальностей, интересующихся применением психологических методов в ле-
чебно-профилактической деятельности.
В книге 20 рисунков, 4 схемы, 10 таблиц, библиография — 270 названий.
For Summary see page 309.
Рецензент: зав. кафедрой психиатрии Ленинградского педиатриче-
ского медицинского института д-р мед. наук проф. Исаев Д. Н.
4110000000-055 _ от оо
039(01)—83 КБ-37-14-83
© Издательство «Медицина», Москва, 1983 г.
ВВЕДЕНИЕ
Настоящая книга не является руководством но медицинской
психологии. Более того, она не претендует на исчерпывающее
описание всех основных методов психологической диагностики
и психологической коррекции, получивших в последние годы
распространение как в нашей стране, так и за рубежом. Боль-
шее внимание в монографии уделяется тем методам психоло-
гической диагностики и коррекции, которые применяются в Ле-
нинградском научно-исследовательском психоневрологическом
институте им. В. М. Бехтерева, а также в Институте экспери-
ментальной медицины Академии медицинских наук СССР. Речь
пойдет о некоторых наиболее известных адаптированных зару-
бежных методиках и о разработанных авторами книги и их со-
трудниками собственных психологических методах диагностики
психических изменений и психологической лечебной коррекции.
Характеризуя историческую последовательность развития
новых областей науки, Б. М. Кедров (1973) отмечает, что вс*1ед
за математикой в течение двух веков лидером была механика,
затем наступил «век физики». В последнее время на первый
план выступает биология. А дальше, прогнозирует автор, воз-
можно, лидером окажется психология. И это потому, продол-
жает он, что ее проблемы «уже сейчас становятся все более
острыми на фоне резкой интенсификации психической деятель-
ности участников производственного и научно-технического
прогресса»1. Такое предсказание может быть отнесено не
только к общей психологии, но особенно к ее специальным об-
ластям, и не в последнюю очередь — к медицинской психоло-
гии, призванной стоять на страже охраны здоровья людей.
Медицинская психология — относительно молодая и интен-
сивно развивающаяся за последнее время наука, поэтому сфера
деятельности врача и психолога понимается разными специа-
листами неоднозначно. Эта смежная с медициной область пси-
хологии одними учеными расценивается исключительно как
специфическая часть психологической науки (наряду с педаго-
гической, инженерной, юридической и иными видами психоло-
гии), другими, не менее авторитетными,— как новая область
знаний о человеке, являющаяся соединением медицины и пси-
хологии. Многие профессиональные психологи подчеркивают
нежелательность привлечения врачей к специальным медико-
психологическим исследованиям, пытаются четко разграничить
функции психолога и врача. Другие же специалисты (к ним
1 Научно-техническая революция и социализм/Под ред. Б. М. Кедрова.—
М : Политиздат, 1973, с. 56—57.
1*
3
прежде всего относятся врачи, занимающиеся тем, что они на-
зывают медицинской психологией) говорят о необходимости
более тесного объединения медицины с психологией, о совмест-
ной работе врача с психологом, требующей большего взаимо-
понимания и содружества между ними. Психолог, работающий
с больными,— это тоже медицинский работник, тоже медик, го-
ворят они. Наша книга содержит материалы, подтверждающие
правомерность последней точки зрения на медицинскую психо-
логию.
Необходимо подчеркнуть, что борьба вокруг методологиче-
ских и даже методических вопросов медицинской психологии
нередко приобретает выраженную идеологическую направлен-
ность, что заставляет нас, особенно при использовании зару-
бежных психологических методик, помнить о важности четкого
теоретического обоснования положений этой сравнительно но-
вой и сложной науки о человеке, о его физических и душевных
страданиях. Медицинская психология изучает психику человека
с целью его лечения от болезни или ее профилактики. Это по-
ложение, по всей вероятности, не нуждается в доказательствах,
его разделяют все.
Надо сказать, что первые отечественные руководства по ме-
дицинской психологии появились относительно недавно. Среди
них следует назвать «Введение в медицинскую психологию»
М. С. Лебединского и В. Н. Мясищева (1966), затем—учебник
для медицинских институтов «Медицинская психология»
В. М. Банщикова, В. С. Гуськова и И. Ф. Мягкова (1967).
В 1968 г. был издан В. Н. Мясищевым с соавторами учебник
для медицинских училищ под названием «Основы общей и ме-
дицинской психологии». Все эти руководства предназначены
для медиков. Для психологов же под таким названием книг
нет. Студенты психологических факультетов университетов, где
готовятся медицинские психологи, имеют также очень немного
пособий, но под другим названием (и с другим содержанием).
Это книги Б. В. Зейгарник «Введение в патопсихологию»
(1969), «Основы патопсихологии» (1973) и «Патопсихология»
(1976), а также монография С. Я. Рубинштейн — «Эксперимен-
тальные методики патопсихологии» (М., 1970). В них как бы
содержится ответ на неправомерное, с точки зрения авторов,
расширение понятия «медицинская психология». Впрочем,
Б. В. Зейгарник и ее последователи практически не пользуются
термином «медицинская психология», предпочитая ему более
узкое понятие «патопсихология». В 1974 г. в Праге была из-
дана на русском языке книга Р. Конечного и М. Боухала «Пси-
хология в медицине». В 1976 г. вышли монография В. М. Блей-
хера «Клиническая патопсихология» и «Пособие по медицин-
ской психологии» Н. Д. Лакосиной и Г. К. Ушакова; в 1982 г.—
книга Б. Д. Карвасарского «Медицинская психология». Вот,
в сущности говоря, все основные современные руководства по
4
медицинской психологии, имеющиеся на русском языке, даю-
щие общее о ней представление, не считая ряда посвященных
этой проблеме тематических сборников трудов Ленинградского
психоневрологического научно-исследовательского института
им. В. М. Бехтерева, Московского научно-исследовательского
института психиатрии МЗ РСФСР, факультета психологии
Московского государственного университета и некоторых дру-
гих учреждений. За последние годы выпущено несколько мето-
дических рекомендаций по медицинской психологии — главным
образом министерствами здравоохранения СССР и РСФСР1.
Это не так уж много, учитывая возросшее значение психологи-
ческой науки в медицине и здравоохранении, в частности вве-
дение с 1965 г. обязательного преподавания ее курса в меди-
цинских институтах, утверждение Высшей Аттестационной Ко-
миссией (ВАК) специальности «Медицинская психология» (для
врачей и психологов), организацию Проблемной комиссии «Ме-
дицинская психология» при АМН СССР, минздравах СССР и
РСФСР и существование головного научно-исследовательского
института по медицинской психологии в нашей стране (Ленин-
градский психоневрологический институт им. В. М. Бетхерева).
Понятие «медицинская психология» за более чем полувеко-
вой период претерпело заметную эволюцию. Первой известной
книгой, посвященной медицинской психологии, следует считать
монографию Э. Кречмера, вышедшую в Германии в 1922 г.,
а затем переведенную на многие языки (в том числе и на рус-
ский, 1927) и продолжающую переиздаваться его сыном
В. Кречмером. Много сделала для развития медицинской пси-
хологии школа В. М. Бехтерева. Видные ее представители
А. Ф. Лазурский и особенно В. Н. Мясищев создали в качестве
теоретической основы медицинской психологии концепцию лич-
ности, рассматриваемой как систему отношений, в соответст-
вии с известным положением К. Маркса, что «.. .сущность че-
ловека не есть абстракт, присущий отдельному индивиду.
В своей действительности она есть совокупность всех общест-
венных отношений»2. Как указывает К. К. Платонов (1977),
«личность больного, либо различные внешние и внутренние
влияния, которые могут отразиться на ее психическом здо-
ровье», является предметом изучения медицинской психоло-
гии3. Личность, подчеркивает Е. В. Шорохова (1977), следует
1 Среди них надо отметить методические рекомендации «О работе пато-
психолога в психоневрологической больнице»/Под ред. А. А. Портнова.— М.:
Изд Моск. ин-та психиатрии МЗ РСФСР, 1975, и «О работе медицинского
психолога в психиатрических и психоневрологических учреждениях»/ГТод ред.
М. М. Кабанова.—- Л.: Изд. Лен. психоневрол. ин-та* им. В М. Бехтерева,
1976.
2 Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т. 3, с. 3.
3 Платонов К. К. Методологические проблемы медицинской психологии.—
М : Медицина, 1977, с. 69.
5
считать центром, исходя из которого только и можно решать
все проблемы психологии.
Несмотря на двадцатилетний срок официального утвержде-
ния в нашей стране статуса медицинской психологии, у нас
(да и за рубежом) до сих пор ведутся оживленные дискуссии
относительно ее сущности, методологии, правомерности приме-
нения тех или иных методических приемов, организации препо-
давания, структуры тех или иных видов медико-психологиче-
ской помощи населению и т. д.1 Все это, безусловно, говорит
о сложности стоящих проблем.
Несколько схематизируя, можно всех психологов, работаю-
щих в медицинских учреждениях нашей страны (а их насчиты-
вается сейчас, по неполным данным, свыше тысячи человек)
разделить на две группы, ориентирующиеся на разные школы.
Одна из них представлена школой видного советского психи-
атра и психолога В. Н. Мясищева2, который, как и его учитель
В. М. Бехтерев, от психофизиологических работ перешел к соб-
ственно психологическим исследованиям, к уже упоминавшейся
концепции личности как системы отношений, к патогенетиче-
ской психотерапии неврозов. В конце своей жизни он вместе
с А. Д. Зурабашвили — другим учеником В. М. Бехтерева —
усилил внимание к разработке того, что можно назвать «персо-
нологией» и «патоперсонологией» (естественно, принципиально
отличающихся от «персонализма» западной буржуазной психо-
логии). Широкое применение психотерапии, опирающейся на
личностный подход, единство в работе врача и психолога, по-
нимание интегральной функции современной медицинской пси-
хологии— отличительные особенности этого направления.
Другая группа психологов, работающая в медицине (глав-
ным образом в психиатрии), представлена школой видного со-
ветского психолога Б. В. Зейгарник — ученицы известного не-
мецкого психолога Курта Левина. Эта школа, состоящая
в основном из выпускников психологического факультета Мос-
ковского университета, на протяжении многих лет занимается
проблемами патологической психологии (патопсихологии), т. е.
изучением тех или иных психических процессов и функций
(восприятия, мышления и пр.) у психически больных (главным
образом психозами). Наряду со школой крупного советского
невролога и психолога А. Р. Лурия — основателя отечественной
нейропсихологии — это направление медицинской психологии
имеет немалые достижения в своей сфере деятельности, помо-
1 Одним из отражений этой дискуссии явились публикации ряда врачей
и психологов на страницах «Журнала невропатологии и психиатрии
им. С. С. Корсакова» в 1980—1982 гг. (статьи С. Я. Рубинштейн, Р. Л Заче-
пицкого, В. Е. Кагана, О. П. Росина, Т. С. Белявской, Б. В. Зейгарник)
2 В. Н. Мясищев явился инициатором создания проблемной комиссии ио
медицинской психологии при президиуме Академии медицинских ня\к СССР
и до самой своей смерти (1973) был ее бессменным прсдсоя.тг им
6
гающей уточнению диагностики при нервно-психических забо-
леваниях, включая топическую при неврологических и нейро-
хирургических расстройствах, решению сложных проблем раз-
личных видов экспертиз (в первую очередь трудовой). Однако
до последнего времени пато- и нейропсихологи изучением лич-
ности занимались мало, а к возможностям участия психологов
в психокоррекционной работе относились (а многие и сейчас
относятся) отрицательно.
В области психологической диагностики обе школы зани-
мают неодинаковые позиции. Школа В. Н. Мясищева (главным
образом Институт им. В. М. Бехтерева) считает правомерным
использование зарубежных стандартизированных (тестовых)
методик, включая личностные опросники и проективные методы
(разумеется, после соответствующей адаптации к нашим усло-
виям) и, как правило, в сочетании с методами клинического
и клинико-психологического исследования больного. Особенно
показаны тестовые методики при так называемой экспресс-ди-
агностике в оценке динамики лечения и для предварительного
отбора больных (или испытуемых, например лиц, находящихся
в экстремальных ситуациях).
Наше отношение к психологическим тестам уже освещалось
в литературе [Мясищев В. Н. с соавт., 1969; Морозов Г. В.,
Кабанов М. М., Лебединский М. С, 1974]. Коротко его можно
определить так — чаще всего заслуживает критики неправиль-
ное в методологическом плане истолкование полученных с по-
мощью тестов данных, а не порочность той или иной стандар-
тизированной методики. Мы уже не говорим о тех, увы,
не столь редких случаях, когда этими методиками просто не-
квалифицированно пользуются в практической деятельности
поверхностно подготовленные к их применению лица, что, есте-
ственно, только компрометирует любую методику, любое дело.
Иногда в литературе можно встретить противопоставление
стандартизированных методик нестандартизированным, «пси-
хологическому эксперименту», на неправомерность чего спра-
ведливо указывал К. К. Платонов (1977).
Важным направлением в современной отечественной психо-
диагностике следует считать создание собственных методов
психологического исследования. Среди них особую важность и
сложность представляет создание новых методик исследования
личности — центральной проблемы психологии, включая меди-
цинскую, к разработке которых в последние годы привлечено
внимание ряда сотрудников Института им. В. М. Бехтерева.
Личностный подход получает здесь дальнейшее развитие. Ме-
дико-психологические исследования используются для разра-
ботки концепции функциональной диагностики, дополняющей
нозологический диагноз [Воловик В. М., 1977; Вайзе К., Воло-
вик В. М., 1980]. Новый уровень исследований в этом направ-
лении предпринят сейчас в связи с развитием системной кон-
7
цепции реабилитации больных и инвалидов [Кабанов М. М.,
1978; Кабанов М. М. и Вайзе К., 1980].
Многие представители школы патопсихологов \ по суще-
ству, отвергают возможность применения стандартизированных
методик (тестов) в медико-психологической диагностике, осно-
вываясь большей частью на том, что за рубежом (главным
образом в Западной Европе и США) эти диагностические при-
емы возникли на неприемлемой для нас теоретической базе и
нередко служат обоснованием для оправдания идеи якобы био-
логически обусловленной классовой и расовой неполноценности
людей. Но метод почти любого исследования или подхода
в зависимости от исходных теоретических позиций может слу-
жить разным философским положениям, разной идеологии.
Примеров тому великое множество. Известно, что диалектиче-
ский метод Гегеля в философии был взят на вооружение Марк-
сом, отбросившим его идеалистическую концепцию и создав-
шим вместе с Энгельсом принципиально иное направление ма-
териалистической философии — диалектический материализм.
Другой пример: основной парадигмой классического психоана-
лиза Фрейда является концепция бессознательного, понимае-
мая с позиций пансексуальности, антагонизма между созна-
тельным и бессознательным и, в конечном итоге, являющаяся
биологическим редукционизмом. В то же время исследование
неосознаваемых механизмов человеческой психики, длительное
время игнорировавшееся нашими учеными, далеко еще не изу-
ченных, является сейчас предметом пристального внимания со-
ветских психологов, физиологов и клиницистов [Бассин Ф. В.,
1968; Прангишвили А. С, Шерозия А. Е., Бассин Ф. В., 1978;
Костандов Э. А., 1978, 1981], видящих в «бессознательном» ак-
тивный мозговой процесс, участвующий в регуляции поведения
человека, усваивающего неосознаваемую им информацию. Со-
ветские исследователи этой важной проблемы подчеркивают не
только синергию, но и примат сознательного над бессознатель-
1 Термины «патопсихология» и «психопатология» до сих пор нередко счи-
таются синонимами [Богозов Н. С, Гозман И. Г., Сахаров Т. В. «Психологи-
ческий словарь». Магадан, 1965, с. 188—190]. В то же время М. С. Лебедин-
ский и В. Н. Мясищев [Введение в медицинскую психологию. Л., «Медицина»,
1966, с. 8] предложили рассматривать «психопатологию, в основном как раздел
психиатрии, и патопсихологию, в основном как раздел медицинской психо-
логии» и понимать под первой «общее учение о патологии психики, ее болез-
ненных изменениях, прежде всего выраженных в клинике психозов», а под
второй — «изучение психики больного не только в ее болезненных изменениях,
но и в сохранных ее сторонах». Не соглашаясь с этим определением,
К. К. Платонов [Методологические проблемы медицинской психологии. М,
«Медицина», 1977, с. 27] предлагает под психопатологией понимать «все яв-
ления болезненной психики в их единстве, но не в тождестве с сохраняю-
щимися проявлениями психики больной личности, и по возможности с \ четом
преморбидной личности», а под патопсихологией — отрасль медицинской пси-
хологии, изучающей явления психопатологии. Путаница в этих понятиях еще
имеется.
8
ным, понимание многогранности, неоднородности последнего,
исходя из принципиальных положений эволюционной теории.
Еще один пример. Хорошо известно также, что применяемые
широко за рубежом многие методы психотерапии, начиная от
психоанализа и его нынешних вариаций до различных форм
поведенческой терапии, основаны на биологизаторских посту-
латах 1 и могут служить определенным идеологическим и поли-
тическим целям. Это не значит, однако, что мы не можем ис-
пользовать некоторые методические приемы психоанализа и
поведенческой терапии при их диалектико-материалистическом
переосмыслении (приемы, а не методологию!) в нашей психо-
терапевтической практике [Мясищев В. Н., 1960; Зачепиц-
кий Р. А., 1976; Слуцкий А. С, 1979, 1982, и др.]. Правильно
замечает С. К. Рощин (1980)2, что «нельзя отрицать всё и вся
лишь потому, что это создано в рамках буржуазной науки, но
и нельзя идеологически „амнистировать" все ее результаты
лишь потому, что она достигла тех или иных успехов». По-
этому, конечно, применение даже адаптированных зарубежных
психологических методик (особенно тестов) должно быть очень
осторожным. С нашей точки зрения, некоторые из этих методик
после предварительной тщательной адаптации могут быть ис-
пользованы в медицинской практике. Но здесь особенно важно
соблюдать принцип взаимоотношения и взаимопроверки от-
дельных методик, о котором в свое время (в период увлечения
тестами) писал С. Л. Рубинштейн (1935).
Понятия медицинская и клиническая психология у нас
в стране нередко отождествляются. Однако следует отметить,
что в других местах эти понятия различают. Во многих госу-
дарствах Западной Европы медицинская психология была (и
в известной степени еще остается) формой психологии, разра-
батываемой врачами, преимущественно психиатрами, а клини-
ческая психология представлена дипломированными психоло-
гами [Szewczyk H., 1981]. Впрочем, до сих пор существует из-
рядная неразбериха в толковании понятий «медицинская пси-
хология», «клиническая психология», «патопсихология». По-
следний термин в СССР необоснованно, как уже говорилось,
практически отождествляется некоторыми психологами с поня-
тием «медицинская психология». В то же время во многих дру-
гих странах (в том числе и социалистических странах Европы)
под «патологической психологией» обычно понимают то, что
1 Между прочим, многие специалисты по поведенческой терапии, наряду
с американскими учеными — основателями бихевиоризма Уотсоном и Тори-
дайком, называют в качестве предтечи этого направления распространенной
за рубежом ветви психологической науки И. П. Павлова, вульгаризируя ос-
новные положения его учения. Тут опять возникает ситуация разной теорети-
ческой трактовки метода (в данном случае — условных рефлексов).
2 Рощин С. К. Западная психология как инструмент идеологии и поли-
тики — М : Наука, 1980, с. 285.
9
у нас называется «нарушением высшей нервной деятельности»
(в трактовке школы И. П. Павлова).
Медицинская психология получила у нас за последние два
десятилетия заметное развитие (эта тенденция к эволюции
в той или иной степени отмечается и в других странах). От
преимущественного интереса к тем или иным функциям и про-
цессам (например, восприятию, вниманию, мышлению и др.)
видна отчетливая направленность на изучение личности боль-
ного человека в ее тесной связи с окружающим — прежде всего
с кругом лиц повседневного общения. Проблемы общения, ком-
муникабельности, взаимоотношения, эмпатии, деятельности,
включая мотивацию последней в системе ценностных ориента-
ции, ставятся в центр внимания не только общими и социаль-
ными, но и медицинскими психологами (А. А. Бодалев,
Б. Ф. Ломов, Е. В. Шорохова, А. Н. Леонтьев, В. Н. Мясищев,
Е. С. Кузьмин, А. Е. Личко, А. В. Петровский, Г. М. Андреева,
К. К. Платонов, П. В. Симонов, В. Я- Ядов и мн. др.). К со-
жалению, среди наших ученых-психологов еще мало специали-
стов, разрабатывающих эти психологические проблемы приме-
нительно к медицине. Правда, радует то обстоятельство, что
растет число видных ученых клиницистов-интернистов, пони-
мающих значение психологии для теории и практики медицины
и предпринимающих усилия для ее развития. Это прежде всего
Е. И. Чазов1 и 3. И. Янушкевичус (кардиологи), Ю. М. Губа-
чев, Е. И. Соколов и В. С. Волков (терапевты), В. Н. Гераси-
менко (онколог), А. Ф. Билибин (инфекционист) и др. Удиви-
тельно мало видных отечественных ученых-психиатров, разра-
батывающих проблемы медицинской психологии, хотя многие
из них преподают сейчас этот предмет в вузах. За исключением
В. Н. Мясищева и ученых бехтеревской школы, к которым сле-
дует присоединить А. Д. Зурабашвили, пожалуй, одинО.В.Кер-
биков в свое время (1965) высказался в пользу применения
психологических, социопсихологических и социологических ме-
тодов в психиатрии. Имелись, конечно, отдельные суждения об
этом и других известных советских психиатров [Канторо-
вич Н. В., 1965; Рохлин Л. Л., 1968; Мизрухин И. А., 1969;
Зеневич Г. В., 1971; Полищук И. А., 1975; Рахальский Ю. Е.,
1978, и др.], но все они носили «эскизный» характер и чаще
ставили вопросы, чем отвечали на них, проводя конкретные
медико-социопсихологические исследования. Психиатрия (глав-
ным образом биологическая, особенно клиническая психофар-
макология) развивалась сама по себе, медицинская психология
1 «Психологический фактор отношения врача и больного,— писал недавно
Е. И. Чазов (1981),— который не может быть учтен никакой электронно-вы-
числительной машиной, играет нередко не меньшую роль в построении диаг-
ноза, чем знания механизмов болезни или методов диагностики» [Чазов Е И.
Методологические аспекты диагноза заболевания — Вести. АМН СССР. 3981,
№ 4, с 45—49].
10
(главным образом патопсихология)—сама по себе. Лишь
в самые последние годы ряд крупных советских клиницистов-
психоневрологов приступили к разработке медико-психологиче-
ских и медико-социологических проблем в психиатрии
(Г. В. Морозов, В. В. Ковалев, А. Е. Личко, В. Е. Рожнов,
А. Г. Амбрумова, В. К. Мягер, Б. Д. Карвасарский, Ц. П. Ко-
роленко, Е. Д. Красик и др.)- Долгое время в нашей психиат-
рии (да и в медицине в целом) доминировал по сути биологи-
ческий редукционизм, что мешало (и сейчас еще мешает) раз-
витию системного подхода к проблеме здоровья и болезни че-
ловека. Теперь, когда во всем мире растет число так называе-
мых стертых, атипичных, пограничных заболеваний, в том
числе и психических, увеличивается интерес к изучению про-
блем стресса, кризисных ситуаций, экстремальных состояний,
концепции предболезни, возрастает внимание врачей, физиоло-
гов и, конечно, психологов к роли психических факторов в раз-
витии этих состояний и особенно к роли целостно-личностного
реагирования в их профилактике и лечении (включая психоло-
гическую коррекцию, имеющую лечебную направленность). Че-
ловекознание, пользуясь терминологией Б. Г. Ананьева (1969),
становится центральной проблемой современной науки вообще
и медицины, которая, конечно, все больше и больше впитывает
в себя «человеческое» (до сих пор «человеческое» было больше
лозунгом, чем действием). В подтверждение этого уместно со-
слаться на недавнее высказывание известных советских мето-
дологов О. П. Щепина, Г. И. Царегородцева и В. Г. Ерохина
(1981), полагающих, что до настоящего времени в медицине
преобладает в основном организмо-центрический подход, кото-
рый только начинает, правда очень медленно, уступать место
эволюционно-экологическому (популяционному) подходу, нераз-
рывно связанному с изучением психосоциальной сущности (или
биопсихосоциальной — мнения отечественных философов тут
расходятся) человека. Поэтому медицинская психология нераз-
рывно связывается сейчас с новой нарождающейся наукой —
медицинской социологии [Анохин А. М., 1980; Изуткин А. М.,
Петленко В. П., Царегородцев Г. И., 1981; Winter К., 1975;
Wieck H. et al., 1979], содержанием которой является изучение
роли социальных факторов (демографических, экономических
и др.) в развитии различных заболеваний. Некоторые авторы
даже склонны издавать единые руководства, посвященные как
медицинской психологии, так и медицинской социологии1.
Существует много определений медицинской психологии.
Это говорит о сложности ее понимания. Подавляющее боль-
шинство авторов считают медицинскую психологию частью
психологической науки. Но можно полагать, что медицинская
1 Wieck H., Valentin H., Specht К. Medizinische Psychologie und medizi-
nische Soziologie.— Stuttgart; New York, 1979
11
психология является в равной мере и медицинской наукой,
частью медицины. Подобно тому, как, например, медицинская
генетика является и медицинской, и биологической наукой или
социальная психология является психологической и социальной
дисциплиной одновременно. Трудно себе представить, как, не
зная основ медицины, можно оперировать психологическими
методами диагностики (что, увы, часто бывает) и тем более
коррекции у постели больного и, наоборот, заниматься психо-
терапией, не зная психологии личности (что тоже встречается
не так уж редко со всеми вытекающими отсюда печальными
последствиями). Вопрос, надо или не надо заниматься психо-
терапией, просто не может стоять перед врачом. Представитель
любой медицинской профессии, имеющий общение с пациентом,
так или иначе психологически на него влияет, и вопрос лишь
заключается в том, чтобы делать это квалифицированно. К со-
жалению, тесный союз врачей и психологов — дело еще до-
вольно редкое. Врач обычно занимается своей лечебно-диагно-
стической работой (ставит медицинский диагноз, лечит — пре-
имущественно биологическими методами, включая лекарствен-
ные, имея в лучшем случае смутное представление о функцио-
нальном диагнозе, плацебо-эффекте и, как правило, не владея
современными методами психотерапии), а психолог занят своей
деятельностью — исследует больного с помощью ряда экспери-
ментальных или тестовых методик. В отрыве от работы врача
(и всего персонала) такие исследования далеко не всегда при-
носят пользу, а иногда попросту бывают вредны, особенно
тогда, когда не соблюдаются в процессе психодиагностики эле-
ментарные требования психотерапевтического подхода. Основ-
ная беда состоит в том, что врач и психолог, как правило, го-
ворят на разных языках. Между ними нередко возникает непо-
нимание и даже антагонизм, причины которого становятся
предметом специального исследования некоторых зарубежных
авторов [Bilikiewicz A., Jasiakiewicz U., Rodiewicz A., 1980;
Schindler F., Berren M., Beigel A., 1981]. Зависит этот антаго-
низм не только от нежелания понять «язык» другой стороны, но
и от авторитарной позиции многих врачей, часто активно сопро-
тивляющихся попыткам медицинских психологов установить
с ними равные партнерские отношения, а иногда и от невер-
ного понимания психологами своей профессиональной роли.
Психолог в большинстве медицинских учреждений по своему
статусу до сих пор фактически приравнен к лабораторному ра-
ботнику. От него требуется дать свой «анализ», который «под-
шивается» в историю болезни, зачастую без серьезного к нему
внимания. Советов, как поступать с тем или иным больным
в плане его личностных переживаний, мотиваций, ценностных
ориентации, не говоря о регуляции ролевого поведения, у пси-
холога врач обычно не спрашивает. Сплошь и рядом молодой
необученный психолог и не в состоянии это сделать. Лечащий
12
врач, исходя из житейских соображений, считает, что все «эти
вещи» он прекрасно сумеет сделать сам, без каких-либо по-
мощников и консультантов в виде психологов. Консультанты,
конечно, имеются, но это коллеги по профессии, врачи —
прежде всего заведующий отделением, старший врач, профес-
сор, представители других врачебных специальностей. Дейст-
венные партнерские отношения зависят, само собой разумеется,
от квалификации как врачей, так и психологов, и в своей сфере
знаний, и в смежных областях, а также от личностных особен-
ностей партнеров.
В нашем понимании в задачу медицинской психологии вхо-
дят: изучение психических факторов, влияющих на развитие
болезней, их профилактику и лечение; изучение влияния тех
или иных болезней на психику; изучение психических проявле-
ний различных болезней в их динамике; изучение характера от-
ношений больного человека с окружающей его микросредой.
Медицинская психология неразрывно связана с психотера-
пией. Здесь опять-таки имеет место довольно странная ситуа-
ция. Многие врачи как у нас в стране, так и за рубежом отка-
зывают психологам в праве заниматься психотерапией на том
основании, что к лечебной деятельности может быть допущено
только лицо, имеющее диплом врача. Подобное положение за-
фиксировано в законодательстве многих стран. Но ведь «уча-
стие в лечебной деятельности» можно трактовать по-разному.
Конечно, и это не вызывает сомнений, общее руководство всей
лечебной программой должно находиться в руках лечащего
врача, и он несет главную ответственность за судьбу больного.
В то же время ни у кого не вызывает возражений участие в ле-
чебной работе, например, специалистов по лечебной физкуль-
туре или логопедов, не являющихся, как известно, в массе
своей врачами (они обычно выпускники институтов физкуль-
туры, пединститутов, психологи). Но высокополезная деятель-
ность этих коллег врачей пользуется признанием и имеет опре-
деленную автономию. Такой же автономией, и даже еще более
выраженной, может и должен пользоваться также и медицин-
ский психолог. Многолетний опыт работы психиатрических и
неврологических клиник Института им. В. М. Бехтерева, неко-
торых других научных центров и практических лечебно-профи-
лактических учреждений, а также сотрудничающих с институ-
том клиник социалистических стран (ГДР, ПНР, ЧССР) свиде-
тельствует о большой пользе совместной работы врачей с пси-
хологами. Важно подчеркнуть, что вопрос о методах или стиле
совместной («тандемной») работы врача и психолога очень
сложен, их различные варианты до сих пор дискутируются
в литературе всех развитых стран. Однако надо отметить, что
общий магистральный путь развития медицинской психологии
и практической деятельности медицинского психолога во всем
мире направлен на дальнейшее сближение его работы с вра-
13
чами и более активное участие в лечебном процессе. Об этом
говорит, в частности, документ Рабочего совещания Комитета
экспертов ВОЗ (Краков, 1973) \ в котором отмечается, что в на-
стоящее время «наблюдается тенденция к постепенному сдвигу
от терапии, основанной на чисто индивидуальном подходе,
к смешанной схеме, которая могла бы включать лечение, учи-
тывающее влияние социального окружения в стационаре, раз-
личные формы групповой активности, реабилитационные меро-
приятия в коллективе, консультации по семейным вопросам,
так, чтобы добиться изменений как в плане внутриличностном,
так и в социальном окружении...».
Заметим, что врач и психолог не должны дублировать друг
друга. У каждого из них свои задачи, хотя и направленные
к единой цели — максимально возможному улучшению здо-
ровья и благополучия больного (подробнее об этих задачах
будет сказано в заключительной XIII главе нашей моногра-
фии). Врач-соматолог, как известно, больше сосредоточен на
патологии организма, хотя и ему, конечно, следует как можно
больше уделять внимания также психике своего пациента.
«Если больному после разговора с врачом не становится
легче,— говорил В. М. Бехтерев,— значит, это не врач». Психо-
лог же целиком занимается психикой больного. Необходимо
усилить его внимание, особенно к психокоррекционной работе,
опирающейся на личность больного, на сохранные ее сто-
роны. Чем грубее выражена органическая патология, тем
больше главенствует врач, чем она меньше — тем больше ав-
тономия деятельности психолога (могут быть, конечно, и дру-
гие ситуации — например, в экспертной работе психолога или
в специальной психотерапевтической работе врача). Психологу
нечего делать, когда больной находится в коме или в состоя-
нии резкого психомоторного возбуждения на почве галлюцина-
торно-бредовых переживаний. Но там, где патология слабеет,
отступает на задний план и выдвигается вперед «личностная
окраска» того или иного расстройства, выступает в социальном
смысле этого слова «судьба больного», будь это больной, пе-
ренесший инфаркт миокарда, или больной на выходе из эндо-
генной депрессии (не говоря уже о неврозах и других погра-
ничных состояниях),— поле деятельности психолога расширя-
ется, разумеется, при согласовании всех его действий с леча-
щим врачом. В случае же наличия кризисной (стрессовой, фру-
стрирующей) ситуации у практически здорового человека роль
психолога нередко становится доминирующей (космические по-
леты, полярные экспедиции, дальние морские плавания, спорт,
1 Роль психолога в службах охраны психического здоровья. Отчет о со-
вещании рабочей группы. Краков, 8—11 мая 1973 г—Копенгаген- ВОЗ, 1974.
с. 15.
14
семейные проблемы и т. п.) 1. Врач выступает здесь уже в ос-
новном качестве консультанта, причем во многих случаях со-
вершенно необходимого. Следует также учесть, что далеко не
каждый здоровый человек охотно пойдет на консультацию
к врачу (особенно к психиатру) по разным причинам, главным
образом в силу тех или иных предубеждений.
Известный психиатр и медицинский психолог ГДР Н. Szewc-
zyk (1981) говорит о необходимости создания в настоящее
время в связи с растущей технизацией медицины новой меди-
цинской психологии, в которой нашли бы свое отражение про-
блемы взаимоотношений врача и пациента, руководства персо-
налом и коммуникациями в лечебном учреждении, коррекции
ролевого поведения больного, его отношений с окружающим
миром и влияния всех психосоциальных факторов на картину
болезни.
В связи с этой последней проблемой приобретает важное
значение участие медицинского психолога в так называемой
терапии средой (milieu therapy). Под этим термином понимают
разное. P. Sivadon (1971) условно разделил сторонников «ле-
чебной среды» на две категории. Одни под этим термином под-
разумевают преимущественно «интерьерный фактор», т. е. бла-
готворное влияние на больного комфортабельной обстановки ле-
чебного учреждения (уютное помещение, максимальное нестес-
нение, возможность пользования домашней одеждой и различ-
ными вещами, телефоном, телевизором, услугами парикмахера
и т. д.). Другие же специалисты, не отрицая большой значимо-
сти перечисленных факторов, под лечением средой понимают
в первую очередь коррекцию в благоприятном направлении
взаимоотношений больного с окружающими его лицами: персо-
налом, другими пациентами, семьей. Надо признать преимуще-
ства последней точки зрения на терапевтическую среду [Каба-
нов М. М., 1977, 1978]. В тесной связи с лечением средой стоит
концепция терапевтического сообщества или коллектива, полу-
чившая после работ Т. Мейна (1946) и М. Джонса (1953) ши
рокое распространение за рубежом, в том числе и в социали-
стических странах. Методологическим основам этой концепции,
ориентирующейся на психоанализ и буржуазные социологиче-
ские положения Т. Парсонса и Д. Хоманса [Ploeger A., 1972],
может быть противопоставлена материалистическая методоло-
гия, связанная с теоретическими взглядами Л. С. Выготского
(положение об «интериоризации» групповых взаимоотноше-
ний), педагогическими принципами А. С. Макаренко и, нако-
нец, развиваемыми в последние годы взглядами А. В. Петров-
1 Естественно, мы отдаем себе отчет, что описываемая картина деятель-
ности медицинского психолога носит в значительной степени футурологиче-
ский характер Психологов еще мало, качество их подготовки для подобной
работы оставляет желать лучшего. Но все больше и больше становится при-
меров подобной специализации и дифференциации.
15
ского (1976, 1977, 1980) об объединении группы в коллектив
в процессе совместной деятельности, направленной на достиже-
ние единой цели. В функционировании «терапевтического кол-
лектива» работа психолога приобретает особое значение, и
наши партнеры из социалистических стран делятся опытом
в этой области и на страницах советской печати [Кратохвил С,
1975; 1976; Ледер С, 1975; Хёк К., 1975]. О роли психолога
в развитии различных форм групповой и семейной психотера-
пии еще пойдет речь далее. Все эти новые формы деятельности
психолога (и врача-психотерапевта, разумеется, тоже) имеют
несомненное отношение к тому, что В. Н. Мясищев называл
медицинской педагогикой К В связи с вышеизложенным под-
черкнем большое влияние на современную медицинскую психо-
логию стремительно развивающейся социальной психологии.
Без психолога как специалиста по межличностным отношениям
немыслимо квалифицированное проведение таких форм психо-
и социотерапии, как лечение средой, групповая и семейная пси-
хотерапия.
Здесь, однако, уместно сделать предупреждение относи-
тельно возможности биологизаторского толкования социальных
явлений с клинических позиций и, наоборот, одностороннего по-
нимания патологии человека с социальных или психосоциаль-
ных позиций, что присуще многим буржуазным психологам и
социологам. Попытки объяснить конфликтные социальные си-
туации (например, безработицу, забастовки) в капиталистиче-
ском мире с точки зрения психологии и психопатологии — дав-
ная тенденция западной социальной психологии и социальной
медицины («Если поведение индивида не соответствует нор-
мам «среднего класса», то оно не только интерпретируется как
выражение индивидуальных психологических особенностей че-
ловека, но и сами эти особенности объясняются патологиче-
скими» [Рощин С. К., 1980, с. 227].
Другая крайность западной методологии медицины — социо-
логизация, т. е. стремление многие патологические состояния
(в частности, большинство психических заболеваний) вывести
непосредственно из социальных (психосоциальных) факторов
внешней среды. Такие тенденции, являющиеся выражением со-
циологического редукционизма, особенно присущие так назы-
ваемым антипсихиатрам (Cooper D., SzaszT., Basaglia F. и др.),
уже неоднократно подвергались критике в литературе социали-
стических стран (Н. М. Жариков, Т. О. Пападопулос,
Э. Я. Штернберг, С. Б. Семичов, А. Том и др.). «Вечная про-
блема» соотношения биологического и социального в человеке
рассматривается в отечественной литературе не всегда одно-
1 Некоторые авторы предпочитают пользоваться термином «лечебная
педагогика» [Коган А. Г. Лечебная педагогика в детском санатории—Л.;
Медицина, 1977].
16
значно (И. В. Давыдовский, В. Д. Жирнов, Г. И. Царегородцев
и др.). Эта проблема может правильно решаться только при
недизъюнктивном (невзаимоисключающем) к ней отношении
с позиций системного подхода, который приобрел полное при-
знание в психологической науке [Ломов Б. Ф., 1976, 1978; Кузь-
мин В. П., 1978, 1980], но только еще начинает заявлять о себе
в медицине, в частности в психиатрии [Волков П. П., 1976; Ка-
банов М. М. и Граве П. С, 1977]. Социально-биологическая
аритмия — несоответствие между адаптационными способно-
стями организма человека и быстрым изменением окружающей
среды — очевидный факт. Она требует принципиально иной ме-
тодологической основы для объяснения человеческой патологии
и ее профилактики, а также психогигиены. Медицина все
в большей и большей степени сближается с экологией человека
(происходит так называемая экологизация медицины1), и при
решении этой сложной проблемы надо избегать любого вида
редукционизма. Материалистическая психология является
«мостом», связывающим биологическое и социальное в чело-
веке. Значение, которое сейчас придается психосоциальным
факторам в медицине (мы это подчеркиваем, так как видим
большую угрозу и ощутимый вред от биологического редукцио-
низма), отражено, в частности, в положении, выдвинутом Все-
мирной организацией здравоохранения: «Психосоциальные
факторы определяются как факторы, оказывающие влияние на
здоровье, службы здравоохранения и благополучие общества,
формирующиеся из психологии индивидуума и структуры и
^функций социальных групп» (из доклада Генерального дирек-
тора ВОЗ на 57-й сессии Исполнительного комитета, 20 ноября
1975 г.).
Стремление к большему вниманию к личности в психологии
вообще и в медицинской психологии в частности тесно связано
с целостным подходом (личность, как известно, неделима),
приобретающим сейчас новое направление в связи с развитием
уже упоминавшегося системного подхода в различных областях
знаний [Анохин П. К., 1971; Ломов Б. Ф., 1976; Кузьмин В. П.,
1980; Берталанфи Л., 1976].
Одним из важнейших путей применения системного подхода
к современным проблемам научной медицины и практики здра-
воохранения является концепция реабилитации больных. Реа-
билитация ставит своей целью не только восстановление (со-
хранение) здоровья, но и восстановление (сохранение) личного
и социального статуса больного человека. Концепция реабили-
тации не может быть представлена без выраженного психоло-
гического «стержня», без обращения (апелляции) в процессе
различных усилий, воздействии и мероприятий к личности
1 Кабанов М. М. Экологизация медицины и концепция реабилитации
больных —Психол журн., 1982, № 6, с. 106—ПО.
17
больного [Кабанов М. М., 1978]. Раньше медицина ставила
своей основной целью спасение и продление жизни человека,
избавление его от болезни. Теперь у нее есть и другая задача —
оптимизировать жизнь больного, сделать ее более содержа-
тельной, полноценной («прибавить не столько годы к жизни,
сколько жизнь к годам»), И в этом трудном деле медицине
способствует концепция реабилитации с ее сложными психо-
логическими и социально-психологическими аспектами. По-
этому становится очевидной значимость медицинского психо-
лога в разработке системы лечебно-восстановительных (реаби-
литационных) мероприятий. Медицинские психологи могут
иметь разную направленность в своей профессиональной дея-
тельности. Одни могут быть более подготовлены к психодиаг-
ностической, другие — к психокоррекционной работе. Снова под-
черкнем, что еще до их дальнейшей специализации и те, и дру-
гие должны иметь общее представление и о психодиагностике,
и о психокоррекции, и о некоторых областях медицины, в кото-
рых они работают. Трудно представить себе врача, окончив-
шего медицинский институт, познания которого были бы огра-
ничены лишь диагностикой, без изучения вопросов лечения
больных. Хотя, разумеется, в дальнейшем врач может специа-
лизироваться преимущественно в области диагностики, как,
например, врач-лаборант или врач кабинета функциональной
диагностики. Еще более нелепо представить себе врача, знаю-
щего только те или иные лечебные приемы, но игнорирующего
диагностику. Также и медицинский психолог, получая общую
подготовку по своей будущей специальности, должен быть во-
оружен как диагностическими, так и лечебно-коррекционными
познаниями (у нас же пока делается в университетах явный
крен в сторону психодиагностики) К
В этой коллективной монографии представлено несколько
разделов, ставящих задачу рассказать врачу и психологу о ме-
тодах психологической диагностики и психологической коррек-
ции, наиболее распространенных в настоящее время в психиат-
рической и отчасти в неврологической и нейрохирургической
клиниках. Эти же методики могут быть применены и в других
областях клинической медицины. У нас в стране они с успехом
используются, например, в Кардиологическом и Онкологиче-
ском научных центрах Академии медицинских наук СССР.
Следует отметить, что применение психологических тестов
в клинике сдерживалось и теперь еще сдерживается узкобио-
логизаторски ориентированными медиками из опасения психо-
логизации клинических явлений. Однако односторонней психо-
логизации не может быть там, где учитывается многофакторная
1 Было время в 50-х годах, когда вопрос об участии психологов в диаг-
ностике также ставился под сомнение, как сейчас еще зачастую вызызают
возражения их возможности заниматься психокоррекцией
18
природа болезней, в развитии которых участвует психологиче-
ский компонент, играющий в одних случаях большую (при нев-
розах), в других меньшую (например, при инфекциях, физиче-
ских травмах) роль.
В I главе монографии, написанной А. Е. Личко — руководи-
телем отдела медицинской психологии Института им. В. М.Бех-
терева, кратко излагаются основные задачи психологической
диагностики в клинической медицине. Упор делается, согласно
традиции школы В. М. Бехтерева —А. Ф. Лазурского —
В. Н. Мясищева, на исследование системы актуальных личност-
ных отношений больного, его взаимоотношений с окружающей
психологической средой. Кратко говорится о таких общеприня-
тых методах психологического исследования, как анамнез, бе-
седа и наблюдение. Дается общая оценка стандартизирован-
ным и нестандартизированным методам психологической диаг-
ностики.
Во II главе излагаются основные принципы и методы пси-
хологического исследования «внутренней картины болезни»
(В. М. Смирнов и Т. Н. Резникова). Правильная оценка вра-
чом и психологом внутренней картины болезни в динамике
с ее моделями ожидаемого и получаемого результата лечения,
коррекция этих моделей являются важными факторами психо-
терапевтической и лечебно-восстановительной (реабилитацион-
ной) работы, причем следует отметить, что внутренняя картина
болезни пациента нередко имеет как бы своего двойника (часто
искаженного) среди лиц, его окружающих: прежде всего
членов семьи и других близких людей. Проблема внутренней
картины болезни (недопустимо отодвинутая на задний план
медицины), ее психологические и психосоциальные аспекты
должны служить предметом дальнейших разносторонних и уг-
лубленных исследований.
Описываются опросники (вопросники) зарубежные и разрабо-
танные учеными Института им. В. М. Бехтерева (И. Н. Гилья-
шева). Такие методики, созданные в институте, основаны на
клинических исследованиях видных отечественных психиатров
и психологов (П. Б. Ганнушкин, Н. И. Озерецкий, А. Ф. Лазур-
ский, В. Н. Мясищев и др.), а также на опыте работы ряда
зарубежных специалистов. Описываются «Патохарактерологи-
ческий диагностический опросник» (ПДО) А. Е. Личко, пред-
назначенный главным образом для подростков, недавно со-
зданный «Личностный опросник Бехтеревского института»
(ЛОБИ), который еще не вышел из стадии апробации и по-
тому, возможно, будет нуждаться в модификации, а также ме-
тодика исследования уровня невротизации и психопатизации
(УНП), разработанная в Институте им. В. М. Бехтерева, и
другие созданные или адаптированные здесь методы психоло-
гического исследования. Далее идет глава, написанная
И. Г. Беспалько и И. Н. Гильяшевой, посвященная исследова-
19
ниям личности с помощью зарубежных проективных методов.
В специальной главе освещаются исследования интеллекта
(И. Н. Гильяшева).
Проективные методы, так же как и опросники, вызывают
оживленные споры в нашей литературе [Зейгарник Б. В., 1969;
Рубинштейн С. Я., 1970; Лурия А. Р., 1970; Зейгарник Б. В.,
Поляков Ю. Ф., 1974; Платонов К. К., 1977; Аванесов В. С,
1982]. В Институте им. В. М. Бехтерева эти методы (ТАТ, Рор-
шах, Розенцвейг, семантический дифференциал и некоторые
другие) применяются в клинических отделениях в течение мно-
гих лет, встречая понимание врачей-клиницистов.
Психологическим методикам исследования нарушений по-
знавательной деятельности посвящена большая литература
[Зейгарник Б. В., Рубинштейн С. Я., 1965; Зейгарник Б. В.,
1969, 1973; Поляков Ю. Ф., 1974], поэтому в нашей книге уде-
ляется внимание лишь тем методикам, применение которых
в психиатрической клинике не является наиболее разработан-
ной частью советской медицинской психологии. Это касается
оценки интеллектуальной деятельности стандартизированными
методами, в частности широко распространенной во всем мире
методикой Векслера, использование которой до сих пор встре-
чает возражения со стороны ряда советских психологов [Берн-
штейн М. С, 1974; Гуревич К. М., 1980; Акимова М. К., 1981].
На наш взгляд, несмотря на присущие методике Векслера не-
достатки, ее применение оправдано в определенных клиниче-
ских целях, особенно в сочетании с другими методами психо-
логического исследования (И. Н. Гильяшева).
Специальные главы посвящены психофизиологическим
(В. М. Смирнов и Т. Н. Резникова) и нейропсихологическим
(Л. И. Вассерман) методам исследования, чаще всего нахо-
дящим применение в неврологической и нейрохирургической
клиниках. Наряду с традиционными психофизиологическими
методами, в книге освещаются методы электрофизиологиче-
ского исследования активации и эмоционально-мотивационной
деятельности, имеющие большие перспективы для оценки этих
психических факторов в норме и патологии.
Важный раздел монографии посвящен методам психологи-
ческой коррекции в профилактике и восстановительном лече-
нии, которое мы [Кабанов М. М., 1969] рассматриваем как на-
чальный этап реабилитации. Сюда относится глава, посвящен-
ная общим принципам методов психотерапии и психологиче-
ской коррекции, а также психологической защиты и психофи-
зиологической активности как механизмов предотвращения па-
тологических расстройств и их компенсации (Р. А. Зачепиц-
кий), а затем следуют главы этого раздела, написанные психо-
логами Института им. В. М. Бехтерева, имеющими многолет-
ний опыт психокоррекционной (по сути психотерапевтической)
работы с больными, главным образом пограничными состоя-
20
ниями (Т. М. Мишина и Г. Л. Исурина). Ими описываются до-
вольно подробно те методы психокоррекционной работы, кото-
рые на протяжении длительного времени успешно применяются
в ряде клинических отделений Института им. В. М. Бехтерева.
Это в первую очередь различные методы групповой и семейной
психотерапии. Именно в этих областях психотерапии (индиви-
дуальная психотерапия в гораздо большей степени является
прерогативой врача) деятельность психолога ощутима в прак-
тическом отношении и уже получила распространение в ряде
медицинских учреждений нашей страны. Однако для этой цели
нужны, конечно, особенно тщательный отбор и подготовка пси-
хологов, работающих в органах здравоохранения. Этим вопро-
сам в нашей книге также уделяется определенное внимание
(М. М. Кабанов, Р. А. Зачепицкий).
Настоящая книга является первой и поэтому во многом
спорной монографией подобного рода на русском языке. Она
рассчитана на врача (в первую очередь психиатра, психотера-
певта, невропатолога), подготовленного в области психологии,
а также на дипломированного психолога, ориентирующегося
в вопросах медицины (в первую очередь психоневрологии).
Врач, прошедший традиционную подготовку в медицинском
вузе, или психолог, только что окончивший психологический
факультет университета, без дополнительной специализации
(хотя бы «на рабочем месте») вряд ли сумеет усвоить в пол-
ном объеме прочитанное, причем врачу особенно трудно будет
освоить первый раздел книги («диагностический»), а психо-
логу— второй («психокоррекционный» или «лечебный»). Це-
лям подготовки таких специалистов, сближению и взаимопони-
манию врача и психолога и служит настоящая коллективная
монография. Ее авторы, понимая, что подобный труд не может
быть лишен недостатков, будут признательны читателям за
высказанные критические замечания.
Глава I
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА
В КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЕ
Принципы и задачи психологической диагностики. Психоло-
гическую диагностику принято определять как дисциплину
о методах классификации и ранжирования людей по психоло-
гическим и психофизиологическим признакам [Психологическая
диагностика..., 1981]. Диагностика в области медицинской пси-
хологии включает обе указанные задачи. Примерами задач на
классификацию являются определение типов отношения к бо-
лезни, осуществляемое с помощью Личностного опросника Бех-
теревского института (ЛОБИ), или типов акцентуаций харак-
тера у подростков посредством Патохарактерологического ди-
агностического опросника (ПДО). Примером решения задачи
на ранжирование может служить определение уровня невро-
тизации и психопатизации (УНП), показателя психологической
склонности к алкоголизации у подростков с помощью ПДО,
показателей развития интеллекта по методике Векслера.
Однако посредством медико-психологических исследований
приходится решать еще одну диагностическую задачу — выяв-
ление психопатологических симптомов, которые трудно обна-
ружить при клиническом, врачебном исследовании. Эта задача
часто решается посредством методов патопсихологической и
нейропсихологической диагностики. Например, некоторые тон-
кие нарушения мышления в инициальной стадии шизофрении
и даже на всем протяжении болезни при вялотекущей ее
форме удается выявить только с помощью специально разрабо-
танных патопсихологических методик [Зейгарник Б. В., 1969;
Рубинштейн С. Я., 1970; Поляков Ю. Ф., 1972]. Посредством
специальной шкалы ПДО удается установить признаки, ука-
зывающие с определенной долей вероятности на то, что девиа-
ция характера может выходить за рамки вариантов нормы и
достигать патологического уровня — психопатии [Личко А. Е.,
Иванов Н. Я., Озерецковский С. Д., 1981]. Можно было бы ска-
зать, что в этих случаях также решается задача классифика-
ции— разделение обследованных на больных шизофренией и
не страдающих этим заболеванием, разделение акцентуаций
характера и психопатий. Однако на самом деле только на осно-
вании обнаруженных этими методами психологической диагно-
стики патологических признаков такие разделения никогда не
делаются, т. е. диагноз шизофрении или психопатии не устанав-
ливается. Выявленные в процессе психологической диагностики
симптомы служат лишь одним из доводов в клинико-диагности-
ческом процессе, который осуществляется врачом на основе це-
лого комплекса определенных симптомов. К сказанному сле-
дует добавить, что диагностическая задача здесь не сводится
22
только к установлению «наличия или отсутствия признака».
Этому признаку всегда дается особая качественная квалифика-
ция (в чем состоят обнаруженные нарушения мышления,
в чем — нарушения при выполнении определенного патопсихо-
логического теста).
Наконец, в медицинской психологии стоит еще одна за-
дача — использование методов психологической диагностики
для оценки эффективности лечения и реабилитационных про-
грамм. Особенно в оценке эффективности нуждаются методы
психотерапии. Эффективность этих методов нередко бывает
трудно определить и тем более оценку квантифицировать. Под
влиянием психотерапии может, например, измениться тип от-
ношения больного к своей болезни (т. е. будет дано новое ре-
шение квалификационной диагностической задачи) или сни-
зиться уровень невротизации, определенный с помощью мето-
дики УНП [Методика определения..., 1980], т. е. изменится
уровень ранга. Сущность задачи на квалификацию или ранжи-
рование дополняется здесь оценкой изменения в сравнении
с исходными данными. Вся суть теперь в динамике — не про-
сто в «наличии или отсутствии признака» и не просто в «на-
хождении точки на континууме», а в качественном изменении
этого признака и в движении этой точки. Первым двум при-
емам психологической диагностики в области медицинской пси-
хологии, а именно: анамнезу и наблюдению — будет посвящена
следующая глава. Ряд психологических тестов, используемых
в медицинской психологии, представлен в последующих главах.
При этом более детально будут изложены те методы психоло-
гической диагностики, которые либо были разработаны авто-
рами настоящей книги, либо в совершенствование этих мето-
дов ими же был внесен определенный вклад. Один из этих
методов ранее еще нигде не публиковался — это Личностный
опросник Бехтеревского института (ЛОБИ). В отношении при-
меняемых в медицинской психологии диагностических тестов,
так же как вообще в психологической диагностике, главным
образом встает проблема надежности и валидности. Надеж-
ность призвана оценить постоянство показателей тестовых ис-
пытаний, определить, какая часть изменчивости тестовых по-
казателей ошибочна. Для обеспечения надежности прежде
всего необходимо постоянство условий процедуры тестирова-
ния, что при проведении медико-психологических исследований
далеко не всегда выполнимо (например, вследствие изменения
состояния больного). Определить степень надежности чаще пы-
таются повторным тестированием в идентичных условиях (ре-
тесты) и вычислением коэффициентов корреляции между по-
казателями первого и второго теста. Однако здесь вмешивается
фактор тренировки, не говоря уже об упомянутом изменении
состояния больного. Другой способ определения надежности —
разделение теста пополам и вычисление корреляции между ре-
23
зультатами обеих половин. Этот способ возможен лишь при
полном качественном однообразии всего теста. Установление
степени надежности тестов-опросников представляет особо
трудную задачу. Ни один из предложенных пока способов оп-
ределения надежности в отношении медико-психологических
опросников не может быть признан вполне удовлетворитель-
ным. В частности, при ретестировании особенно сказывается
фактор, который R. В. Cattell (1957) назвал «мотивационной
лабильностью»,— повторное заполнение одного и того же оп-
росника дает изменение ответов в зависимости от ситуации, на-
строения и т. п.
Валидность (от англ. validity — действенность, обоснован-
ность) — показатель того, насколько хорошо предлагаемый
тест определяет то, для чего он предназначен. Существуют
различные категории валидности — по содержанию, по корре-
ляции с независимым внешним критерием (например, с клини-
ческим диагнозом заболевания), по конструкции теста и др.—
все эти категории излагаются в специальных руководствах
[Психологическая диагностика..., 1981]. Определение валидно-
сти личностных опросников составляет особо трудную задачу.
Например, MMPI снабжен несколькими дополнительными шка-
лами, предназначенными для оценки валидности результатов;
этими шкалами оценивается то, насколько испытуемый небре-
жен, дает ли он намеренно неверные ответы и т. п. Подобные
шкалы имеются также в Патохарактерологическом диагности-
ческом опроснике (ПДО) для подростков: шкала О (число от-
казов)— показатель негативного отношения к исследованию;
шкала Д — диссимуляции, т. е. показатель стремления скрыть
свои истинные отношения к рассматриваемым проблемам;
шкала Т — степень откровенности. В тех случаях, когда метод
психологической диагностики в области медицинской психоло-
гии решает задачу классификации (например, отнесение боль-
ного к какому-либо типу), данный метод должен быть оценен
в отношении следующих показателей его валидности.
1. Необходимо уточнить, в каком проценте случаев с по-
мощью данного теста можно получить определенный диагно-
стический ответ при обследовании того контингента, где этот
ответ был получен клиническим методом. Например, в отноше-
нии ПДО этот показатель указывает, в каком проценте слу-
чаев определен какой-либо тип характера из общего числа об-
следованных, у которых этот тип должен был бы быть опреде-
лен (в данном случае из числа подростков, у которых клини-
ческим методом диагностированы разные типы психопатий или
акцентуаций характера). Установлено, что в случаях акцентуа-
ций характера их тип с помощью ПДО диагностируется в 86 %
[Александров Ар. А., Богдановская Л. Б., 1976], при психопа-
тиях—в 96% [Озерецковский С. Д., Эйдемиллер Э. Г., 1976],
при неврозах в подростковом возрасте, как правило, развиваю-
24
щихся на фоне акцентуаций,— в 89 % [Доброгаева И. В.,
1980].
2. Следует установить процент ошибочных определений.
Например, в отношении ПДО это будет процент расхождений
диагнозов типа с помощью данного метода и определения ти-
пов характера у тех же испытуемых клиническим методом.
Ошибка диагностики типов с помощью ПДО составляет в сред-
нем 18%—от 13 до 26% при разных типах психопатий и ак-
центуаций [Иванов Н. Я. и Личко А. Е., 1981].
3. Важно разработать дополнительные показатели, которые
бы указывали на большую вероятность ошибочного определе-
ния в каждом отдельном случае. Например, ПДО снабжен до-
полнительными шкалами диссимуляции и негативного отноше-
ния, по высоким показателям судят о большей вероятности
ошибки диагностики. В методе определения уровня невротиза-
ции и психопатизации (УНП) имеется шкала лжи.
Надо заметить, что разработка диагностических тестов
в медицинской психологии должна основываться не только на
сравнении результатов обследуемой группы больных с кон-
трольными исследованиями на здоровых того же возраста,
пола и т. д., но и путем сопоставления с результатами, полу-
ченными у других групп больных со сходными картинами за-
болевания,— с теми, с кем обычно приходится осуществлять
дифференциальную диагностику клиническими методами. На-
пример, если с помощью какого-либо теста стремятся выявить
нарушения мышления, свойственные больным шизофренией, то
валидность такого теста оценивается не только путем сравне-
ния результатов у этих больных и у здоровых испытуемых, но
и у больных с психозами на почве резидуального органиче-
ского поражения головного мозга, при шизоидных психопатиях
и др. [Зейгарник Б. В., 1969; Поляков Ю. Ф., 1972]. Без этого
валидность теста резко бы упала.
При адаптации зарубежных методов исследования личности
этот процесс не может ограничиваться только их переводом
с другого языка (даже высококачественным с самым тщатель-
ным редактированием) или заменой и исключением части те-
ста, отражающей явно иные социально-культуральные особен-
ности популяции, на которой был разработан оригинальный
тест. Необходима новая всесторонняя проверка теста на на-
дежность п валидность на той популяции, для которой он адап-
тируется.
Большая часть адаптированных тестов, включая MMPI,
еще недостаточно валидизирована [Березин Ф. Б., Мирошни-
ченко М. П., Рожанец Р. В., 1976]. Труд, который необходимо
затратить на валидизацию адаптированного опросника, не мно-
гим уступает тому, который требуется на разработку и вали-
дизацию опросника оригинального.
25
АНАМНЕЗ И НАБЛЮДЕНИЕ КАК МЕТОДЫ
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ
Анамнез — совокупность сведений, которые собирают от
больного для установления диагноза и прогноза. Медицинский
анамнез включает расспрос о проявлениях (жалобы больного)
и течении болезни, а также о прошлой жизни. Последний
включает сведения о прошлых заболеваниях, наследственно-
сти, о семье, профессиональной деятельности, об условиях
жизни, вредных привычках и др.
Психологический анамнез отличается от медицинского тем,
что его задачей является получить от больного сведения для
оценки его личности как сложившейся системы отношений
к самому себе и, в особенности, отношения к болезни и оценки
того, насколько болезнь изменила всю эту систему. Медицин-
ский анамнез в субъективных жалобах больного призван рас-
крывать объективные проявления болезни. Психологический
анамнез в данных о течении болезни и жизненном пути при-
зван выявить, какое отражение болезнь получает в субъек-
тивном мире больного, как сказывается на его поведении, на
всей системе личностных отношений. Внешне медицинский и
психологический анамнез как методы исследования весьма
сходны — расспрос может идти по одному плану, но их цель и
использование полученных данных совершенно отличны. Пси-
хологический анамнез также делится на анамнез болезни и
анамнез жизни.
Психологический анамнез болезни. Эта часть психологиче-
ского анамнеза состоит из выслушивания жалоб больного и
расспроса о влиянии болезни на различные отношения боль-
ного.
Жалобы больного важны не столько тем, на что больной
жалуется, сколько в какой манере и какими словами эти жа-
лобы предъявляются. Уже по тому, как высказываются жа-
лобы, можно бывает получить первое представление об осо-
бенностях личности больного, даже о базисе этой личности —
характере. При эпилептоидной акцентуации характера больные
жалуются неторопливо и, казалось бы, немногословно, но при
этом обнаруживают чрезмерную склонность к детализации, по-
требность рассказать о всех самых несущественных мелочах,
не имеющих непосредственного отношения к сути дела подроб-
ностях. Такие больные не выносят, когда их перебивают, в тре-
бовании кратких и четких ответов по существу они видят не-
внимательность к себе, желание поскорее от них отделаться.
Они склонны заподозрить неблагожелательное отношение
к себе и тогда замыкаются, угрюмо отмалчиваются или огра-
ничиваются лаконичными неохотными ответами сквозь зубы,
не дающими спрашивающим почти никакой информации.
В случаях истероидной акцентуации характера выступают пре-
26
тенциозность в предъявлении жалоб, чего бы они ни касались,
театральная манера высказывания, излишняя аффектация.
Больной своими жалобами, красочным описанием своих стра-
даний и переживаний стремится произвести впечатление не-
обычности, исключительности, сосредоточить на себе особое
внимание. При сенситивной и шизоидной акцентуации харак-
тера нередко приходится встречать излишнюю сдержанность
в предъявлении жалоб, многое раскрывается только при наво-
дящих вопросах. Скупость высказываний у сенситивных чаще
всего бывает обусловлена застенчивостью, а у шизоидных — тем,
что у них самих уже сложилось свое собственное четкое пред-
ставление о болезни и они сообщают по своей инициативе лишь
те сведения, которые им самим представляются важными. При
психастенической акцентуации характера сразу вслед за жа-
лобами, а иногда и вместо них можно услышать пространные
рассуждения о природе болезни, о ее причинах, закономер-
ностях течения, изложение собственных гипотез больного и т. п.
Но за всем этим обычно стоят тревожная мнительность, опа-
сения наихудшего, хотя и маловероятного, и все эти рассуж-
дения нередко служат для самоуспокоения. Иллюстрацией
сказанного могут послужить два типа жалоб, встречающиеся
у больных неврозами сердца [Балонов Л. Я., 1959; Курганов-
ский П. И., 1965]. Одни больные в ярких выражениях и с боль-
шой эффектацией расписывают, как «сердце хочет выскочить
из груди», то сжимается, то разбухает, то ноет, то сверлит, то
замирает, «вот-вот остановится». Другие скрупулезно перечис-
ляют частоту пульса в разных ситуациях, число перебоев и
т. п., сразу же добавляя свое суждение о причине того и дру-
гого. Не менее чем тип акцентуаций характера в жалобах боль-
ного может раскрываться его отношение к болезни [Личко А. Е.,
Иванов Н. Я., 1980]. При ипохондрическом типе отношений
больные ищут ситуации, где можно излить жалобы, при апа-
тическом типе отношения уклоняются от их предъявления,
даже когда это необходимо. При эргопатическом типе отно-
шения к болезни («бегство от болезни в работу») больные
строго отбирают, о чем сказать и о чем лучше умолчать, чтобы
не возникло препятствий для продолжения работы. При сен-
ситивном типе отношения больные своими жалобами боятся
произвести неблагоприятное впечатление, а при обсессивно-
фобическом, наоборот, страшатся «забыть», не сказать чего-
либо, что, по их представлению, способно предотвратить воз-
можные неправильные и даже опасные для них действия врача.
При неврастеническом типе отношения к болезни нередко
в тоне, которым предъявляются жалобы, сквозит несдержи-
ваемое раздражение, что до сих пор от этих неприятных ощу-
щений больной не избавлен, а при паранойяльном типе — оз-
лобление на всех и на все.
27
При медицинском анамнезе, как указывалось, жалобы боль-
ного служат врачу для суждения об объективных проявлениях
болезни. Собирая жалобы, врач стремится направить высказы-
вания больного в нужное русло, оградить себя от потока из-
лишней информации, от пустой траты времени на выслушива-
ние ненужных подробностей и, наоборот, подтолкнуть боль-
ного к тем высказываниям, которые важны для диагностики и
которые, по неведению больного, могут быть им опущены. Пси-
хологический анамнез, как указывалось, ставит иную цель —
оценить личность больного как сложившуюся систему отноше-
ний и влияние, оказанное на эту систему болезнью. Поэтому
для получения суждения о личности больного и типе его отно-
шения к болезни чрезмерно активно регулировать высказыва-
ние жалоб не требуется. Психолог при выслушивании жалоб
должен стремиться к наиболее полному раскрытию пережива-
ний больного, поэтому ограничивать или активно направлять
высказывания не следует — необходимо терпеливо выслуши-
вать больного и деликатно побуждать его к дальнейшим вы-
сказываниям до полного отреагирования.
Опрос о влиянии болезни на различные отношения боль-
ново дополняет выслушивание жалоб. Этот опрос касается
двух основных сфер отношений — трудовой и семейной, вклю-
чая лично-интимную. Следует выяснить, как болезнь сказыва-
ется на работоспособности больного, на его служебном поло-
жении, заработке, на отношениях с сослуживцами, имеются ли
опасения в отношении ухудшения рабочего статуса. Для пен-
сионеров и неработающих все то же касается их обязанностей
в семье, а для учащихся — учебы и перспектив на будущее.
Сфера семейных отношений также может меняться под дей-
ствием болезни, если заболевание сказывается на семейном
статусе больного. Иногда болезнь служит своего рода психо-
логическим индикатором и даже психологическим катализа-
тором семейных отношений, обнажая в них то, что до этого
было завуалировано или скомпенсировано (это касается как
отрицательных, так и положительных отношений). Гармонич-
ную семью тяжелая болезнь одного из ее членов сплачивает,
негармоничную — толкает к разладу. В гармоничной семье при
обычно сдержанных отношениях кого-либо из близких боль-
ного могут иногда неожиданно с его болезнью раскрываться
теплое внимание и забота, неподдельное проявление большой
любви и участия. Примером может послужить отношение од-
ного подростка с шизоидным типом акцентуации к его забо-
левшей раком и обреченной матери. Всегда до этого крайне
сдержанный в проявлениях чувств, по мнению матери, нелас-
ковый и нечуткий, увлеченный своими хобби и, казалось, мало
интересовавшийся жизнью матери, узнав о ее смертельной бо-
лезни, он неожиданно для всех «совершенно изменился». Отст-
ранив других близких от ухода, он все свободное время прово-
28
дил у постели матери, тут же урывками учил уроки, ночевал
около нее, чтобы вскочить по первому зову, взял на себя са-
мые тягостные стороны ухода, научился делать инъекции нар-
котиков и никому это не передоверял. Наоборот, иногда, ка-
залось бы, вполне благополучные отношения в семье с болез-
нью одного из его членов обнажаются как весьма непригляд-
ные.
Выяснение влияния болезни на интимную жизнь больного
должно быть максимально деликатным. Осторожными вопро-
сами надо сперва прозондировать, склонен ли больной рас-
крывать эту сторону отношений, а при явном нежелании — не
настаивать, а отложить беседу на эту тему до того, как будет
установлен лучший контакт. Когда речь идет о молодежи, еще
не имеющей своей семьи, в дополнение к уточнению изменения
их статуса в семье родительской надо выяснить, как болезнь
сказалась на отношениях с друзьями, со сверстниками проти-
воположного пола и как больной смотрит в связи с этим на
самого себя и на свои перспективы.
Психологический анамнез жизни. Этот раздел собирания
анамнеза включает расспрос больного по следующим темам:
1) перенесенные в прошлом болезни и реакция на них; 2) про-
фессиональный путь и деятельность, удовлетворенность ими;
3) развитие семейных и интимных отношений; 4) отношения
с непосредственным окружением вне семьи; 5) наиболее тяже-
лые события прошлой жизни и реакция на них.
Перенесенные болезни, особенно тяжелые, опасные для
жизни или длительные, надолго выбивавшие из жизненной
колеи, да и все болезни, сопряженные с госпитализацией и от-
рывом от семьи, интересуют прежде всего реакцией на них.
Особо следует отметить, как больной переносил прежние гос-
питализации, отрыв от работы и семьи, возникала ли в дет-
стве и юности необходимость из-за болезни оставаться на вто-
рой год в школе или брать академический отпуск и как боль-
ной переносил это. Сталкивался ли он ранее с необходимостью
из-за какой-либо болезни отказаться от намеченных планов,
имевших для него большое значение. И вообще—отражались
ли прежние болезни на отношениях с окружением?
Профессиональный путь и деятельность включают расспрос
о профессии, о том, как она была выбрана и приобретена, чем
привлекла, насколько больной удовлетворен своим профес-
сиональным статусом и лелеет ли какие-либо перспективы на
будущее. Необходимо осторожно выяснить, имеются ли в на-
стоящее время и имелись ли в прошлом какие-либо угрозы
профессиональному благополучию и являются ли они реаль-
ными, предполагаемыми или только воображаемыми. Для
учащихся, у которых профессиональный статус еще не опреде-
лился, его место занимает учеба. Следует узнать, где и как
учился больной, как после 8-го класса был выбран дальней-
29
ший путь обучения — по собственной инициативе, под влия-
нием родителей или кого-либо другого, что привлекло в данное
учебное заведение, насколько больной удовлетворен сделан-
ным выбором и каковы перспективы на будущее. Полезно бы-
вает получить представление о любимых и нелюбимых пред-
метах и об успехах в учебе. Эти сведения дают немало пред-
ставлений о личности молодого больного. Истероидам чаще
легче даются предметы гуманитарные — литература, история,
иностранные языки. Для эмоционально лабильных особенно
привлекательна именно литература. У лиц психастенической
акцентуации склонности бывают различными, но они обычно
не любят физкультуру и труд, так как любые ручные навыки
даются им с большим трудом. Наоборот, при гипертимной ак-
центуации все, что связано с активной деятельностью, нередко
предпочитается другим занятиям; особенно предпочтительны
спортивные игры, учебные же интересы отличаются разнообра-
зием и непостоянством. Эпилептоиды обычно более склонны
к приобретению искусных мануальных навыков, а среди наук
предпочитают точные, нежели гуманитарные, в спорте же —
индивидуальные занятия, сопряженные с развитием физиче-
ской силы (тяжелая атлетика, борьба). Склонности шизоидов
весьма разнообразны, труднее другого им даются разговорные
иностранные языки. Нередко их интересы лежат далеко за
рамками учебных программ. Посредственные в учебе, они ока-
зываются знатоками в своей излюбленной области. Всюду они
ищут свои оригинальные, нешаблонные решения, хотя зачас-
тую идут по ошибочному пути. Неустойчивых ничего не при-
влекает, и они нередко не могут ответить на вопрос о предпоч-
тении какого-либо предмета или занятия. При расспросе пен-
сионеров, оставивших свой профессиональный труд, наиболее
важно выяснить, как произошла эта ломка трудового стерео-
тина и адаптация к новым условиям жизни, что заняло место
профессиональной работы.
Семейные и интимные отношения должны быть прослежены
на всем протяжении жизни, начиная с состава родительской
семьи, взаимоотношений в ней; важно выяснить, кто в юные
годы оказал наибольшее влияние. Полезно бывает узнать о пе-
риодах жизни вне семьи (интернаты, общежития, лагеря, про-
живание в чужих семьях), быстроте и полноте адаптации
в этих условиях. У мужчин нужно выяснить, служили ли они
в армии, где и как прошла служба, а если были от нее осво-
бождены— то почему. Оценка семейного положения в данный
момент включает расспрос о том, когда была создана своя
семья, были ли разводы ранее, как сформировалась семья в на-
стоящем составе, взаимоотношения в ней, кто в семье лиди-
рует. Желательно составить представление о типе семьи («се-
мейный диагноз» по J. Howells, 1968). Если живы собственные
родители, необходимо выяснить отношения с ними, а также
30
отношения с родителями супруга (супруги) и отношения с по-
следними собственных родителей, вследствие чего возникают
разногласия, с кем имеется отчужденность, к кому возникла
привязанность. Если больной ранее переносил утраты близ-
ких, то как на это реагировал, ограничивалось ли дело адек-
ватной личностной реакцией или наступали продолжительные
срывы социальной адаптации. Если были разводы — то их
обстоятельства и реакция больного на них. Если имеются
дети — то отношения с ними, реакция на их повзросление и
уход из дома. Для имеющих внуков — роль последних в жизни
больного. Все это составляет лишь краткий перечень вопросов,
на которые полезно получить ответы для оценки семейного
статуса. У одиноких надо постараться завести речь о том, по-
чему они остались без семьи и каково их отношение к своему
одиночеству. Опрос об интимных отношениях должен вестись
очень осторожно и тактично. Поначалу лучше ограничиться
сдержанным вопросом об удовлетворенности сексуальной жиз-
нью и, лишь если больной обнаруживает желание поделиться
своими переживаниями, можно расспросить о причинах не-
удовлетворенности и особенностях сексуальных отношений.
Суммируя итог данных о семейном статусе, можно воспользо-
ваться построением семейных схем по способу, предложенному
Э. Г. Эйдемиллером (1978).
Отношения с непосредственным окружением касаются
прежде всего двух областей — отношений с сослуживцами, со-
седями, приятелями и знакомыми, с которыми поддерживается
постоянный контакт. В обеих этих сферах могут быть конфлик-
ты, причины для неприятных переживаний. Важно оценить,
может ли больной рассчитывать где-либо за пределами семьи
на поддержку и сопереживание или, наоборот, имеется полная
эмоциональная изоляция.
Наиболее тяжелые события в прошлой жизни — утраты
близких, конфликты и др. — представляют интерес прежде
всего возможностью оценить адекватность вызванной ими ре-
акции. Какие события и в какой последовательности называ-
ются больным как самые тягостные, также немало дает для
оценки особенностей личности.
Вредные привычки: употребление алкогольных напитков,
курение — в психологическом анамнезе важны ролью, которую
они играют в жизни больного. У тех, кто часто и регулярно
употребляет алкогольные напитки, необходимо выяснить, на-
сколько они продвинулись по пути формирования психической
зависимости («первичного влечения» к алкоголю). Бывает ли
больнс^й инициатором выпивок, какие события в его жизни, как
правило, сопровождаются приемом алкогольных напитков (от
праздников до получек или командировок и др.), имеется ли
у больного «своя компания», появление в которой сразу про-
буждает желание выпить («групповая психическая зависи-
31
мость» по Ю. А. Строгонову и В. Г. Капанадзе, 1978), или боль-
ной активно выискивает любой случай и любую ситуацию, где
можно «законно» употреблять алкогольные напитки. Если воз-
никает подозрение, что первичное влечение к алкоголю уже
сформировалось, желательно расспросить о наличии других
ранних признаках алкоголизма (первой стадии алкоголизма) —
утрате рвотного рефлекса на передозировку (учитывая, что
около 10 % случаев составляет изначальное отсутствие этого
рефлекса), повысилась ли толерантность к алкоголю (для по-
лучения эйфории требуется в Р/г—2 раза большая доза алко-
голя, чем раньше), не появились ли палимпсесты опьянения
(выпадение из памяти отрезков времени в период опьянения,
во время которых больной продолжал говорить, действовать,
не внушая окружающим никаких подозрений, что этот период
выпадет у него из памяти). Надо учитывать, что при первой
стадии хронического алкоголизма больные редко попадают
под наблюдение психиатра или нарколога и обычно никогда
не лечатся. Выяснить угрозу формирования первой стадии до-
ступнее всего при собирании психологического анамнеза. В от-
ношении курения важно установить степень зависимости от
никотина — пробовал ли больной бросать курить, как перено-
сил воздержание. Все сказанное является ориентировочной
схемой собирания анамнеза. В зависимости от целей, которые
ставятся при психологическом обследовании, какие-то раз-
делы могут быть дополнены, а какие-то вовсе опущены.
Способы собирания психологического анамнеза. Можно ис-
пользовать разные способы собирания психологического анам-
неза.
1. Свободная, непринужденная беседа с больным, итоги ко-
торой впоследствии оформляются в виде неформализованной
текстуальной записи, где отмечается то, что признается важ-
ным,— эта запись приобщается к истории болезни. Преиму-
щество этого способа прежде всего в возможности установить
с больным лучший, неформальный контакт и получить от него
наиболее полную информацию по самым важным в данном
случае вопросам. Последующая текстовая запись позволяет
выделить из психологического анамнеза все наиболее сущест-
венное и опустить маловажное для данного случая — тем са-
мым создаются условия для быстрого получения лечащим вра-
чом и психологом наиболее важной для данного случая инфор-
мации.
Недостаток данного способа — недоступность непосредствен-
ной формализованной обработки и какой-либо квантификации
данных. Для этого подобные записи приходится переводить
на поддающиеся такой обработке карты, причем обычно некото-
рая часть этих карт (правда, в данном случае обычно мало-
существенная) остается незаполненной за недостатком инфор-
мации в текстуальной записи.
32
Способ свободной беседы обычно вполне удовлетворяет по-
требности практической работы медицинского психолога. Его
можно считать наилучшим для индивидуальной работы с боль-
ным.
2. Формализованная карта-схема, которая вручается боль-
ному с просьбой самостоятельно заполнить все графы, где
предлагаются готовые ответы на выбор, а иногда предлагается
добавить недостающее. Преимущество этого способа —до-
ступность последующей формализованной обработки и эконо-
мия рабочего времени обследователя. Недостаток состоит в от-
сутствии непосредственного контакта с больным, вследствие
чего неизбежно снижаются качество и точность ответов, рас-
крытие нередко бывает неполным, и, главное, не удается ви-
деть, какую реакцию вызывают у больного различные вопросы.
К сказанному следует все же добавить, что иногда при шизо-
идном и сенситивном типах акцентуаций больному бывает
легче заполнять карту, чем отвечать на вопросы собеседника
(мешает застенчивость или замкнутость); в таких случаях ино-
гда при заполнении формализованных карт раскрытие может
оказаться даже ббльшим, чем во время непосредственной бе-
седы. Данный способ обычно приходится использовать при не-
обходимости быстро обследовать большое число больных.
3. Формализованная карта-схема, которую заполняет сам
психолог во время беседы с больным. Этот способ занимает
как бы промежуточное положение между первыми двумя и за-
имствует от каждого и некоторые преимущества, и некоторые
недостатки. С больным устанавливается непосредственный кон-
такт во время опроса, но заполнение в это время карты неиз-
бежно формализует беседу и мешает неформальному эмоцио-
нальному контакту, что может сказаться на ответах больного.
Заполненная формализованная карта открывает пути для по-
следующих статистических обработок, но экономии рабочего
времени этот способ почти не дает. Подобная карта, прило-
женная к истории болезни, не позволяет без долгого и тщатель-
ного ее изучения получить представление о личности больного.
4. Свободная непринужденная беседа с больным с после-
дующим заполнением формализованной карты и одновременно
с нею краткой текстуальной записью для истории болезни.
Этот способ — наилучший из всех, его единственный недоста-
ток— он требует большой затраты рабочего времени.
ПОНЯТИЕ ОБ ОБЪЕКТИВНОМ
ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ АНАМНЕЗЕ
И О ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ КАТАМНЕЗЕ
Объективным анамнезом принято условно называть рас-
спрос о больном других лиц, хорошо знающих самого больного
или обстоятельства его заболевания. Этими лицами обычно
2 Заказ № 942
33
бывают родные и близкие, иногда сослуживцы и соседи, для
учащихся — их воспитатели. Конечно, название «объективный»
при этом — неточно. Каждый из опрашиваемых не просто со-
общает факты из жизни больного или проявления его болезни,
но всегда представляет их в своем собственном освещении,
иногда даже старается навязать опрашивающему свою точку
зрения. Относительно объективные данные вырабатываются
путем сопоставления опроса самого больного и других лиц.
Надобность в объективном психологическом анамнезе более
всего имеется при нервно-психических заболеваниях, а также
тех хронических соматических болезнях, в развитии которых
психогенные и социопсихологические факторы играют особо
важную роль. Объективный анамнез в основном собирается по
той же схеме, что и анамнез от самого больного. Вначале по-
лезно бывает предоставить возможность опрашиваемому сво-
бодно высказать все, что он сам хочет сказать о больном и
его болезни. Затем наибольшее внимание при опросе уделя-
ется тем данным, полученным от больного, которые остались
неуточненными, неясными или вызвали сомнение в их досто-
верности. Детальнее следует остановиться также на том, что
противоречит высказываниям самого больного.
Психологический катамнез представляет собой один из ме-
тодов верификации психологической диагностики путем по-
вторного собирания сведений о больном через определенный
промежуток времени — обычно после проведенного лечения,
после выписки больного из больницы и т. п. Эти сведения по-
зволяют проверить (подтвердить, опровергнуть, уточнить) за-
ключение, сделанное на основании данных психологической
диагностики. Катамнез используется в медицине для проверки
правильности установленного диагноза и определения отдален-
ных результатов лечения. Различают ближайший катамнез
(сбор сведений через несколько недель или месяцев) и отда-
ленный катамнез (сбор сведений через годы). При собирании
психологического катамнеза должны быть четко сформулиро-
ваны задачи, которые ставятся, и соответственно им разрабо-
тана катамнестическая карта. Материалом для катамнеза мо-
гут быть документация лечебных учреждений (истории после-
дующих заболеваний, амбулаторные карты), повторные оп-
росы больных, а в случае надобности —проведение повторных
психологических исследований.
Наблюдение за поведением больного. Этот старейший спо-
соб психологического исследования сохраняет первостепенное
по важности место в медицинской психологии. Фактически он
сопровождает многие другие методы исследования (собирание
анамнеза, выполнение тестов и др.). Его главное преимущество
в том, что более всех других методов психологической диагно-
стики, используемых в медицинской психологии, наблюдение
позволяет увидеть поведение больного во всей широте его про-
84
явлений и, следовательно, получить о больном наиболее пол-
ное представление. Мало того, наблюдение уже в самом про-
цессе исследования позволяет разделить в поведении больного
важное и малосущественное и обратить особое внимание на
первое. Недостатки метода наблюдения в том, что оно требует
много рабочего времени, а результаты его еще более, чем при
других методах психологической диагностики, зависят от опы-
та исследователя и его индивидуальной способности — наблю-
дательности прежде всего. Наконец, результаты наблюдения
трудно поддаются количественной оценке. Попытки формали-
зовать результаты наблюдения ведут к тому, что в той или
иной степени утрачивается первое преимущество этого мето-
да— возможность видеть поведение во всей полноте его про-
явлений. Успешность наблюдения определяется также рядом
других обстоятельств. R. В. Cattell (1957) пытался сформули-
ровать правила психологического наблюдения, которые учли
бы все возможные влияющие факторы. Поведение испытуе-
мого должно быть оценено во многих его ролях и во многих
ситуациях. Поэтому наблюдатель должен проводить с испы-
туемым ежедневно достаточное число часов в течение 2—3
мес. Заранее должны быть определены черты личности или
«отрезки поведения», которые необходимо оценить; тот, кто
регистрирует поведение, должен быть предварительно натре-
нирован в подобной оценке. Ролевые отношения между оцен-
щиками и испытуемым должны быть полностью исключены.
Для оценки с высокой надежностью результаты ее должны
быть средними из данных от 10 до 20 наблюдателей, ведущих
оценку. Суждения каждого из них должны быть независи-
мыми и т. д. Понятно, что в клинических условиях, в практи-
ческой работе все эти условия крайне трудно, а то и просто не-
возможно соблюсти. Задачей наблюдения как метода психо-
логической диагностики является оценка двух показателей —
психического состояния больного и особенностей его личности.
Пользуясь методом наблюдения, следует всегда помнить, что
оно, будучи даже самым искусным, отнюдь не гарантирует от
ошибок, которых здесь бывает не меньше, чем при других ме-
тодах психологической диагностики. При наблюдении прихо-
дится сталкиваться не только со случаями симуляции, т. е. на-
рочитым изображением каких-либо расстройств или особых
форм поведения. О симуляции обычно хорошо помнят начина-
ющие исследователи и даже легко видят ее там, где ее вовсе
нет. Гораздо чаще приходится встречать диссимуляцию, т. е.
намерение утаить проявления своей болезни, особенности сво-
его состояния, свои переживания, свое отношение к чему-либо
и даже черты своего характера. Близко к симуляции и дис-
симуляции примыкает установочное поведение, которое отли-
чается от них тем, что поставленная цель достигается более
искусными путями.
2*
35
Из правил психологического наблюдения, сформулирован-
ных R. В. Cattell (1957), всегда следует стремиться к выпол-
нению следующих. Наблюдение должно быть возможно более
продолжительным, и, главное, необходимо увидеть больного
в тех ситуациях, где могут раскрыться особенности его пси-
хического состояния и черты личности. К этим ситуациям от-
носятся: 1) осмотр больного специалистами, от заключения
которых зависит его судьба; 2) подготовка и проведение бо-
лезненных или ответственных процедур; 3) у госпитализиро-
ванных больных — свидание с родными и близкими; 4) обста-
новка общения с другими больными, особенно с теми, кто бо-
лен тем же или сходным заболеванием; 5) моменты, когда
больной узнает или становится непосредственным свидетелем
неблагоприятного исхода у других больных, страдающих тем
же или, с его точки зрения, сходным заболеванием.
Наблюдение требует постоянного стремления к объектив-
ности со стороны самого наблюдателя. Предвзятая точка зре-
ния обычно быстро обрекает на неуспех. Наблюдатель дол-
жен непрестанно следить за собой, проверять самого себя, не
являются ли те или иные его оценки, заключения, изложение
наблюдавшихся фактов в поведении больного плодом его, на-
блюдателя, пристрастности, проявлением симпатии или антипа-
тии к объекту наблюдения. Полностью устранить влияние дан-
ного фактора вряд ли возможно, но постоянно стараться огра-
ничить его действие необходимо. Наконец, требуются опыт,
выработка определенных навыков наблюдательности — иначе
многое может остаться незамеченным. Эти навыки разным ис-
следователям даются с неодинаковой легкостью. Но даже те,
кому эти навыки поначалу даются с трудом, со временем при
достаточном упорстве хорошо осваивают их. Иное дело те, кто
убежден в своей прекрасной наблюдательности или хочет по-
казать ее другим, но на самом деле видит лишь то, что желает
видеть; для него беспристрастность наблюдения оказывается
недостижимой. Наблюдение как метод психологической диаг-
ностики начинается с первого контакта с больным. Обычно
это случается при собирании психологического анамнеза. Уже
здесь могут достаточно отчетливо выступить общительность
или замкнутость, живой, веселый нрав или склонность к уны-
нию, тревожная озабоченность или нарочитая бравада, под-
черкнутая деликатность или быстро утрачиваемое чувство дис-
танции, неторопливая обстоятельность или суетливость в мыс-
лях и действиях, болтливость либо осторожная осмотритель-
ность в ответах, сдержанность в проявлении чувств или эмо-
циональная лабильность. Все это дает немало материала и для
оценки психического состояния, и для суждения о личности,
в особенности о типе акцентуации характера.
Во время ответственного осмотра больного специалистами
перечисленные и другие особенности поведения могут высту-
36
пить с еще большей полнотой. Поэтому желательно, чтобы ме-
дицинский психолог, ведущий наблюдение за больным, присут-
ствовал при врачебных обходах и консультативных осмотрах.
Поведение больного во время подготовки к ответственным ме-
дицинским вмешательствам, например к предстоящей опера-
ции, а также во время болезненных процедур или тех, которых
больной страшится, нередко раскрывает те особенности лич-
ности, которые бывают компенсированы или затушеваны
в обычном его состоянии. Остается ли больной сдержанным
или целиком отдается во власть охвативших его эмоций, тер-
пелив ли и старается, чем может, помочь персоналу, или не-
сдержан, готов всем предъявить всяческие претензии, ищет ли
душевной поддержки со стороны или хочет «все перенести
сам», склонен ли впадать в уныние или крепится и преодоле-
вает выпавшие на его долю невзгоды — все это также может
быть использовано для суждений о личности больного. Свида-
ние с родными нередко воочию демонстрирует тонкие нюансы
взаимоотношений в семье, особенно когда к больному явля-
ются несколько ее членов одновременно. Здесь сразу видно,
к кому тянется больной, к кому обнаруживает равнодушие или
даже неприязнь, кому предъявляет претензии и о ком беспо-
коится сам. Даже то, с кем рядом и как близко садится боль-
ной, показывает, к кому из членов семьи он больше привязан,
не говоря уже о том, как и в какой последовательности боль-
ной прощается и здоровается. Не меньше сведений дает и
наблюдение за теми, кто к больному пришел. Можно увидеть,
кто лидирует в семье, кто в подчиненном положении, выявить
признаки эмоционального отвержения, покровительства и др.
Общение с другими больными позволяет увидеть не только
особенности взаимоотношений больного с людьми, избиратель-
ность его контактов, стремление лидировать, брать под свою
опеку или искать поддержки со стороны, либо замкнуться в уг-
рюмом одиночестве. Важно оценить, для чего в основном ис-
пользуются контакты с другими больными — чтобы «убить
время», так как сам больной себя занять ничем не может, или
для удовлетворения потребности в сопереживании, или для
того, чтобы таким путем получить дополнительную информа-
цию о своей болезни, получить совет, что делать и как вести
себя, или только для того, чтобы продемонстрировать себя
другим, привлечь к себе внимание. Следует отметить, что от-
ношение к болезни в значительной мере определяется тем, что
об этом заболевании думают и говорят в значимом для боль-
ного окружении, а другие больные составляют существенную
часть этого окружения.
Регистрация наблюдений может осуществляться двумя ос-
новными способами. Как и при собирании анамнеза, все ви-
денное можно записывать «свободным текстом» в виде нефор-
мализованной записи или отмечать на специально разрабо-
37
тайных картах и схемах. О преимуществах и недостатках каж-
дого из этих спрсобоа блло сказано в разделе, посвященном
собиранию психологического анамнеза. Важно иметь в виду,
что при изложении результатов наблюдения в виде неформа-
лизованной записи она должна содержать только наблюдав-
шиеся факты, а не мнение наблюдателя о них. Например, за-
пись «на свидании с женой видно, что больной плохо к ней
относится» отражает только суждение наблюдателя, а не фак-
ты, которые он увидел. В подобной записи должно было быть
представлено поведение больного — его высказывания, по-
ступки, особенности интонации, мимики, позы и т. д. Специ-
ального рассмотрения требует использование для наблюдения
за больными различных технических средств (видеомагнито-
фоны, скрытые телекамеры и т. п.). Прежде всего надо отда-
вать себе отчет, что это — не методы наблюдения, а только
технические его приемы. Все трудности оценки результатов
остаются прежними. Кроме того, хотя психологическое наблю-
дение за больным должно быть по возможности малозамет-
ным и во всяком случае ненавязчивым, но ни в коем случае
оно не должно быть тайным, что недопустимо по этическим
соображениям.
Глава II
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ И МЕТОДЫ
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
«ВНУТРЕННЕЙ КАРТИНЫ БОЛЕЗНИ»
В центре внимания проблемы «внутренней картины болезни»
(ВКБ) находится психология личности больного. Однако эта
проблема имеет не только медицинские и психологические ас-
пекты. ВКБ в одних случаях играет роль оптимизатора, опре-
деляющего поведение, направленное на преодоление болезни,
в других — формирует пессимистические прогнозы, сопровож-
даемые отрицательными эмоциями.
Не только выраженность органических и функциональных
нарушений, но и особенности личности, степень осознания и пе-
реживания болезни влияют на формирование структуры ВКБ.
Большое значение имеют также социальный статус личности
больного, его роль в семейных и служебных отношениях, сте-
пень его трудоспособности, общественное положение, ценност-
ные ориентации, вынужденное болезнью ограничение поведе-
ния, сужение интерперсональных связей, снижение жизненной
перспективы и т. д., которые могут создавать дополнительные,
помимо самой болезни, стрессовые ситуации, накладывают
свой отпечаток на структуру психологических перестроек лич-
ности больного, что следует учитывать при его реабилитации.
38
Снижение его социального положения может явиться мощным
дсихологически№ фактором, создающим нежелательные пере-
стройки в структуре ВКБ, в частности невротического генеза,
которые в дальнейшем могут фиксироваться.
Наличие неадекватно сформированной ВКБ может опосре-
дованно отрицательно влиять на течение и исход заболевания,
создавать серьезные трудности во взаимоотношениях в семей-
ной и общественной жизни, становиться тормозом для реали-
зации сложных жизненных программ личности, а иногда —
способствовать изменению (уплощению) самой личности, раз-
витию внутренних конфликтов различного плана и даже тяже-
лой невротизации.
Комплексная работа по перестройке ВКБ очень сложна.
При этом большое значение, наряду с психологической кор-
рекцией, имеет фармакотерапия. В последнее время можно от-
метить увлечение транквилизаторами и антидепрессантами.
Между тем транквилизаторы снимают остроту многих проб-
лем, стоящих перед больным. Эти проблемы могут казаться
ему сверхоблегченными, и в этом таится возможность срыва.
Понимание ВКБ помогает врачу найти нужную тактику в ра-
боте с больным, в выборе определенных форм лечения. Однако
при этом нужно знать, на какие звенья ВКБ можно опираться
в психотерапевтической беседе, а какие поведенческие реакции
больного следует корригировать лекарственными средствами.
ВКБ занимает также центральное место при решении вопросов
об аггравации, симуляциих диссимуляции, ятрогении, экспертизе
и в деонтологическом подходе врача. Степень адекватности
ВКБ объективной картине заболевания может быть различ-
ной. Каждый случай ее неадекватности требует специального
анализа.
Являясь психологическим образованием, ВКБ имеет опре-
деленный нейрофизиологический базис. Правильные и совре-
менные представления о нем облегчают подход к пониманию
ВКБ. Важно учитывать, что некоторые черты ВКБ могут быть
связаны с особенностями или патологией структурно-функци-
ональной организации мозга. Учение о ВКБ — это мультидис-
циплинарная проблема, в каждой области которой имеется
множество вопросов, решение которых явится основой понима-
ния психологии личности больного человека.
Проблема теоретического моделирования ВКБ. В психоло-
гическом плане ВКБ может рассматриваться как элемент са-
мосознания, сформированный в результате самопознания. Ее
можно рассматривать также как сложный комплекс представ-
лений, переживаний и идей, своеобразно отражающих в пси-
хике больного патологические изменения процессов жизнеде-
ятельности организма и связанные с ними условия существо-
вания личности, определяемые патологией. Об изменениях
в структуре личности больного человека было известно уже
39
врачам древнего мира, и в их трудах встречаются такие вы-
сказывания, которые, говоря современным языком, можно рас-
сматривать как элементарные попытки моделирования ВКБ.
В конце прошлого века Вернике и Лихтгейм продложили мо-
дели синдрома афазии, а в начале текущего столетия Фрейд
создал оригинальную, но не убедительную модель невроза.
Имелись и некоторые другие попытки моделирования измене-
ний психической структуры личности при различных заболе-
ваниях, например неврозах, психозах и др. Однако лишь в пер-
вой трети текущего столетия была создана первая модель
ВКБ, авторами которой явились немецкий невропатолог А.
Goldscheider (1929) и советский терапевт Р. А. Лурия (1935).
Это в известной мере элементарная модель ВКБ, отражающая
лишь некоторые психологические перестройки в структуре
Аллопластическая
картина болезни
Объективные
проявления болезни
! ' i
I I I
! I I
i
Аутопластическая
картина болезни
интеллектуальная
часть
1 \
1
1
т
i
1
1
\
сенситивная
часть
Схема 1. Внутренняя картина болезни (ВКБ)
по Л. Гольдшейдеру и Р. А. Лурия.
личности больного. Модель ВКБ Гольдшейдера — Лурия со-
стоит из двух частей: «аллопластической картины болезни» и
«аутопластической картины болезни» (схема 1). Аллопластиче-
ская картина — сумма функциональных и органических пато-
логических изменений, связанных с развитием и динамикой
заболевания. Над ней надстраивается собственно ВКБ, назван-
ная аутопластической, которая содержит «сенситивную часть»
(сумму всех ощущений, связанных с патологией), и «интеллек-
туальную часть», созданную мышлением больного. Такая пси-
хологическая надстройка над аллопластической картиной рас-
сматривалась A. Goldscheider и Р. А. Лурия как сумма пере-
живаний и представлений самого больного о своей болезни, ее
причинах и возможном исходе. Такой психологический комплекс
выступает, по мнению названных авторов, главным образом
40
в роли генератора разнообразных невротических реакций, в том
чщсле ятрогений. В сдязи с этим авторы видели только отрица-
тельную роль ВКБ, хотя в действительности она может быть
ц мощным оптимизатором, регулирующим поведение пациента,
направленное на преодоление болезни. И, тем не менее, идеи
Д. Goldscheider и Р. А. Лурия о внутренней картине явились
прогрессивными, поскольку без понимания содержания ВКБ ни-
какая психотерапия невозможна. Аналогичных взглядов при-
держивался и В. Н. Мясищев (1960).
Вопросами ВКБ в различных аспектах занимались многие
авторы [Рохлин Л. Л., 1950; Краснушкин Е. К., 1960; Лебе-
динский М. С, Мясищев В. Н., 1966; Смирнов В. М., 1975]. За
последние годы вышла серия работ, посвященных более непо-
средственно проблеме ВКБ [Николаева В. В., 1970; Зике-
.ева Л. Д., 1974; Костерева В. Я., 1979; Халфина А. Б., 1976;
Виноградова Т. В., 1979; Квасенко А. В., Зубарев Ю. Г., 1980],
в частности изучению этой проблемы при различных психиче-
ских и соматических заболеваниях. В них выделяются различ-
ные типы реакций на болезнь, делаются попытки сопоставле-
ния жалоб с объективной картиной болезни, с показателями
психологических тестов, а также рассматриваются особенно-
сти ВКБ при локальных поражениях мозга. Однако единого
полного представления о структуре ВКБ до сих пор не суще-
ствовало. В настоящее время научное построение общей мо-
дели ВКБ стало возможным в связи с современными дости-
жениями в области моделирования, нейрофизиологии и пси-
хологии (теории систем, учения об акцепторе действия
П. К. Анохина, представлений об устойчивом патологическом
состоянии Н. П. Бехтеревой и др.). Моделирование выступает
как важнейший метод научного исследования различных сис-
тем. В процессе моделирования осуществляется не воспроиз-
ведение изучаемого объекта, а воссоздание тех или иных его
характеристик в их взаимодействии при заданных условиях.
Знания об объекте, получаемые таким образом, могут обеспе-
чить глубокое понимание скрытых внутренних свойств объекта
и свойств, выявленных при взаимодействии с другими объек-
тами. Допускаемые при моделировании сложных объектов и
процессов упрощение и схематизация облегчают процесс по-
знания и расширяют его возможности, особенно на начальных
этапах.
Нужно иметь в виду, что, создавая модель психического
явления, мы вольно или невольно пренебрегаем одними харак-
теристиками этого явления, преувеличивая значение других.
Иногда это связано с дефицитом нужной информации. Про-
верка модели практикой способствует ее совершенствованию.
В тех же случаях, когда модель оказывается забракованной,
это тоже чему-то учит исследователя. Нет сомнения в том, что
для изучения сложных систем на уровне личности моделиро-
41
вание имеет важное значение, но не заменяет другие методы,
а дополняет их [Братко Н. А., Волков П. П., Кочергин А. Н.,
1969]. Вот почему для изучения ВКБ важен метод ее теорети-
ческого моделирования с анализом основных ее элементов и
взаимодействия с другими психологическими структурами лич-
ности, в том числе формирующими отношение к актуальным
жизненным проблемам. Создание универсальной модели ВКБ
облегчает врачам, психологам, психотерапевтам понимание тех
изменений структуры личности, которые детерминируются но-
выми, часто весьма трудными условиями существования, про-
диктованными болезнью. Это, в свою очередь, может помочь
реализации психотерапевтических задач по адекватной пере-
стройке эмоциональных и рациональных отношений личности
к своей болезни, к жизненным задачам, планам и перспек-
тивам. Другими словами, моделирование ВКБ имеет прямое
отношение к проблемам психотерапии, психодиагностики, со-
циальной реадаптации и реабилитации, профориентации и тру-
доустройства больных и инвалидов.
Учитывая современные достижения в области моделирова-
ния психической деятельности, нами были сделаны первые по-
пытки моделирования ВКБ [Резникова Т. Н., Сй*фнова В. М.,
1976, 1979; Мучник Л. С, Смирнов В. М., Резникова Т. Н.,
1981]. Мы исходим из того, что ее модель должна быть отра-
жением реально существующего сложного психологического
комплекса у больного человека. Такой комплекс составляет
сущность ВКБ и неразрывно связан с информационными про-
цессами мозга и психики. В зависимости от ряда условий, в том
числе — от индивидуальных особенностей структуры личности
больного, складывающихся жизненных ситуаций и течения за-
болевания, психологическая структура ВКБ и ее роль регуля-
тора поведения весьма вариабельны. При длительно протека-
ющих заболеваниях происходят различные перестройки ВКБ,
связанные не только с особенностями течения болезни, но и
со сложными процессами адаптации и дезадаптации личности
к своему заболеванию, к тем жизненным ситуациям, которые
связаны с болезнью. В этих условиях личность формирует пси-
хологические структуры, имеющие адаптивный, защитный ха-
рактер и вступающие в сложные отношения с другими психо-
логическими структурами. Будучи активной психологической
формацией личности, ВКБ способна активно влиять на сис-
тему интерперсональных и социальных отношений человека.
С другой стороны, на ВКБ оказывают влияние семейные и об-
щественные отношения больного. Степень ее адекватности
объективной картине заболевания может быть различной, и
особенности ее каждый раз требуют специального анализа.
Функциональная структура ВКБ. В основу теоретической
модели ВКБ положено понятие о «церебральном информацион-
ном поле болезни» (ЦИПБ) и о формируемой на его основе
42
Личность
\V*- Выздоровление
Продолжение
схемы ВКБ
т Фиктивная модель
болезни
* Модель хронического
заболевания
Схема 2. Внутренняя картина болезни (ВКБ).
«психологической зоне информационного поля болезни»
(ПЗИПБ), что показано на схеме 2. Церебральное информа-
ционное поле болезни —это сохраняемая в долгосрочной па-
мяти мозга информация о проявлениях болезни, о тех ограни-
чениях, которые она накладывает на деятельность организма
и личности. Стабильность ЦИПБ и психологической зоны ин-
формационного поля болезни может обеспечиваться патоло-
гическим состоянием мозга, представления о котором разви-
вает Н. П. Бехтерева [Бехтерева Н. П., 1971; Бехтерева Н. П.,
Бундзен П. В., 1974]. Материальным субстратом церебрального
информационного поля болезни являются матрицы долгосроч-
ной памяти, фиксирующие информацию о нарушениях процес-
сов жизнедеятельности организма, вызванных болезнью, об осо-
бенностях функционирования организма в тех условиях, кото-
рые вызывает болезнь. Эти матрицы ассоциируются в функци-
ональные комплексы, а последние, возможно, служат основой
представлений личности о своей болезни. Названные матрицы
или их комплексы могут включаться в информационные сис-
темы мозга и благодаря этому влиять на различные стороны
работы мозга, а следовательно, и психики. Информационное
поле мозга (ИПМ) — это нейрональные, главным образом
кортикальные, поля мозга, воспринимающие, хранящие и пере-
рабатывающие информацию, на основе которой мозг прини-
мает решения с учетом данной информации. В более узком
смысле информационное поле мозга —это та его структурно-
функциональная зона, которая обеспечивает переработку ин-
формации, необходимой для принятия решения, имеющего
отношение к заболеванию. Наиболее стабильной частью этого
поля является функциональная структура своего «Я» с его
многочисленными отношениями к другим информационным
системам (внутренним и внешним). Самосознание — наиболее
стабильный элемент в информационном поле мозга, поскольку
основой самосознания является такая психологическая струк-
тура, как комплекс «Я». Вместе с этим комплексом ряд тесно
спаянных с ним информационных структур образуют именно
тот стержневой аппарат личности, по которому все другие об-
разования информационного поля мозга ранжируются как на-
иболее близкие, менее близкие и далекие от «Я», приятные
или опасные, нужные или бесполезные. Информационное поле
может участвовать в механизмах и сознательной, и неосозна-
ваемой психической деятельности.
Можно говорить о генеральном церебральном информаци-
онном поле болезни — совокупности мозговых информацион-
ных полей, в которых фиксирована информация о ранее пере-
несенных заболеваниях и о частном церебральном информа-
ционном поле болезни — совокупности информационных полей,
содержащих информацию о данном заболевании. Возможно,
что церебральное информационное поле болезни в определен-
44
ных условиях способно активно влиять На информационные
процессы мозга, контролирующие состояние внутренней среды
организма и поведение. Такие влияния в одних случаях спо-
собствуют адаптационным процессам, в других — вызывают
дезадаптацию. По-видимому, церебральное информационное
поле болезни содержит информацию не только о патологиче-
ских явлениях, но и механизмах и путях их преодоления, нор-
мализации.
Таким образом, опыт организма и личности, полученный
в условиях болезни и фиксированный в матрицах долгосроч-
ной памяти церебрального информационного поля болезни,
служит структурно-функциональной основой психологической
зоны информационного поля болезни (ПЗИПБ). Психологиче-
ская зона информационного поля болезни формируется на ос-
нове доминирующих мотиваций, эмоций и связанных с заболе-
ванием представлений.
В структурно-функциональной организации базиса внутрен-
ней картины болезни, объединяющего церебральное информа-
ционное поле болезни и ПЗИПБ (психологическую зону ин-
формационного поля болезни), существенную роль играет
«схема тела» (см. схему 2) — мозговой аппарат, важнейшим
звеном которого является таламо-париетальная система [Смир-
нов В. М., Шандурина А. Н., 1973, 1975]. Благодаря деятель-
ности такой системы сенсорные и висцеросенсорные процессы
получают пространственную отнесенность и локализованный
эмоциональный тон ощущений. В результате формируется об-
раз тела в данный момент времени( динамический образ), ко-
торый сличается с эталоном, хранящимся в долгосрочной па-
мяти (статический образ). Систему_«£&емы тела» можно рас-
сматривать как психофизиологический информационный ап-
парат, где постоянно формируются и сопоставляются динами-
ческий и статический образы тела, а также оперативные об-
разы (образы будущего движения). В процессе формирования
«схемы тела» играют роль таламопариетальная, соматосенсор-
ная, лимбико-ретикулярная системы и механизмы памяти, при
взаимодействии которых из фрагментарных образов отдельных
частей тела создается единый телесный образ [Смирнов В. М.,
Шандурина А. Н., 1975].
В процессе онтогенеза «схема тела» выступает в важной
роли гностического аппарата, благодаря которому человек ов-
ладевает движениями, воспринимает других людей, совершен-
ствует производственные и спортивные (двигательные) навыки.
Однако информационные образы тела используются не только
в механизмах управления движениями, но они становятся
предметом самопознания и самосознания. При нарушении или
ослаблении таких процессов может возникать недооценка или
переоценка значения проявлений заболевания. Последнее мо-
жет быть связано также с нарушениями функциональной
45
асимметрии мозга [Доброхотова Т. А., Брагина Н. Н., 1977]
"или расстройствами, возникающими на более высоких уровнях
системы «схемы тела». На физиологическом базисе системы
«схемы тела» формируется личностная надстройка, с помощью
которой образуются психологические и эстетические образы
тела, несущие уже и оценочную функцию (красиво — некра-
сиво, плохо — хорошо и т. п.). Эти образы связаны с такими
психологическими процессами, как представление, воображе-
ние, мышление и т. п. Личность бывает пристрастна к одним
частям тела и игнорирует другие. При заболевании такая ус-
тановка приводит к тому, что больной фиксирует внимание на
значимых для себя локальных симптомах и не замечает серьез-
ных признаков заболевания, в результате чего иной раз про-
пускается важный момент для лечения. На высшем уровне
развития системы «схемы тела» — социально-психологичес-
ком— формируются образы, освязанные с такими представ-
лениями, как мода, интерьер, ролевые функции, мораль и т. д.
Поскольку существуют такие представления, как престижные
и непрестижные заболевания, нередко больной начинает сты-
диться и скрывать свое заболевание либо, наоборот, гордиться
им и слишком часто обращаться к врачам, даже когда в этом
нет необходимости. Таким образом, начиная с полианализа-
торного и до социально-психологического уровня организации
системы «схемы тела» создается психологический образ,
являющийся основой структуры «Я». Искажение образов тела
обусловливается и патологией различных уровней системы
«схемы тела». При нарушении ее физиологического уровня
(сенсорной, таламопариетальной системы и др.) возникают,
например, различные виды соматоагнозий. Неправильное фор-
мирование психологического образа, например в связи с вос-
питанием, ведет к невротическим расстройствам личности. Во
всех случаях большая роль принадлежит эмоциональной сис-
теме, которая придает сенсорному образу определенный эмо-
циональный тон, а психологическому — эмоционально-социаль-
ную оценку.
Для понимания внутренней картины болезни следует учи-
тывать, что психологический образ тела имеет большее значе-
ние, чем сенсорный, так как он в большей степени определяет
структуру поведения больного и развитие ВКБ. Переживание
телесного дискомфорта способствует развитию модели симп-
томов в определенном направлении. В этом отношении боль-
шое значение имеет проекция психологического образа тела
в будущее (что имеет значение для прогноза заболевания и
формирования жизненных планов). Следующий этап обработки
информации о проявлениях болезни и их динамики осуществ-
ляется на различных уровнях личности. При этом использу-
ются запас медицинских знаний, бытующие житейские пред-
ставления о данном заболевании и г. д. В результате личность
46
формирует своеобразные комплексы представлений о проявле-
ниях своего заболевания, его прогнозе и т. д. Речь идет прежде
всего о моделях ведущих симптомов болезни. Различные мо-
дели симптомов классифицируются личностью, между ними
устанавливаются определенные иерархические отношения и
связи.
В результате формируется центральное звено психологиче-
ской зоны информационного поля болезни—информационная
модель болезни (см. схему 2).
Наши представления об информационной модели болезни
лишь в некоторых частях совпадают с моделью болезни Лу-
рия — Гольдшейдера. Модель болезни в зависимости от обстоя-
тельств может формироваться экстренно или постепенно. В са-
мом элементарном виде модель болезни состоит из двух суб-
моделей: сенсорно-эмоционального блока и логического блока.
Формирование сенсорно-эмоциональной субмодели ВКБ про-
исходит под влиянием непосредственных впечатлений и пере-
живаний, вызванных определенными проявлениями болезни и
их течением. Эта же информация используется и для форми-
рования логической субмодели, но в этом случае существен-
ную роль играют концепции, привлекаемые личностью для
описания и объяснения причин и механизмов данной совокуп-
ности признаков болезни. Понятно, что полное согласование
сенсорно-эмоциональной и логической (интеллектуальной)
субмоделей встречается редко. Полная модель ВКБ создается,
по-видимо]мУ, лишь тогда, когда складывается система и логи-
ческих, и эмоционально-мотивационных отношений к болезни,
порождающих определенные потребности: сохранение жизни,
возвращение здоровья и работоспособности и т. д. Боли, не-
приятные эмоциональные переживания в связи с ограничением
функций, страх инвалидизации, одиночества, смерти — все это
заставляет больного оценивать пессимистически свое состоя-
ние. Внутренняя картина болезни — это не только совокупность
субъективных моделей проявлений заболевания, но и концеп-
ция данной болезни — реальная или ложная. Реальные модели
болезни более или менее адекватно отражают наличные рас-
стройства и динамику заболевания и т. д. Среди ложных мо-
делей болезни встречаются, например, мнимые болезни при
ятрогениях, фиктивные модели болезни при симуляции. По-
следние имеют иногда явно защитный характер. При агграва-
ции модель болезни частично фиктивна, при симуляции и ят-
рогении — фиктивна полностью. У симулянта церебральное ин-
формационное поле болезни отсутствует, а психологическая
зона информационного поля болезни фиктивна, тогда как
у больного с психогенным расстройством основой фиктивной
модели болезни являются матрицы долгосрочной памяти,
сформированные в результате внушения или самовнушения и
содержащие психогенную информацию.
47
Образование модели болезни, связанная с ней осознанная
и неосознанная потребность избавиться от ее проявлений, уг-
розы инвалидизации и смерти ведут к формированию программ
и целей личности, направленных на преодоление болезни. При
этом образуются модель прогноза заболевания (МПр) и мо-
дель ожидаемых результатов лечения (МОРЛ) (см. схему 2).
Эти психологические структуры личности явно адаптационного
типа формируются на основе жизненного опыта, иногда с по-
мощью врача, медицинской литературы и др.
Модель прогноза данного заболевания выступает как эмо-
ционально напряженный комплекс представлений больного об
ее вероятном течении и исходе. В зависимости от жизненного
опыта, интеллекта, эмоциональной структуры личности боль-
ные по-разному проецируют течение своего заболевания во
времени. При этом полярными параметрами являются полное
выздоровление и смерть, между ними могут быть «промежу-
точные модели» — результаты с частичным выздоровлением.
С моделью прогноза могут быть связаны различные обсто-
ятельства, меняющие для больного принципы принятия реше-
ний жизненных ситуаций. На основе модели аутопрогноза за-
болевания и с учетом представлений о возможных результа-
тах лечения, часто подсказанных врачом, больной создает пси-
хологическую модель ожидаемых результатов лечения (см.
схему 2) — комплекс доминирующих (эмоционально окрашен-
ных) представлений, отражающий желаемую степень восста-
новления нарушенных функций.
Модель ожидаемых результатов лечения (МОРЛ)—образ
или набор образов, предвосхищающих такой результат лече-
ния, на который рассчитывает сам больной или который был
внушен ему окружающими или врачом. На некоторых этапах
заболевания модель ожидаемых результатов лечения может
в значительной мере определять поведение больных. В этих
случаях они способны преодолевать значительные трудности,
например для того, чтобы попасть в определенную клинику,
«прорваться» к знаменитому профессору, так как у некоторых
больных сложившаяся модель ожидаемых результатов лечения
оказывается весьма стойкой психологической структурой лич-
ности, причем все попытки изменить ее на более адекватную
встречают сильное эмоциональное сопротивление. В физиологи-
ческом плане на определенной стадии заболевания модель ожи-
даемых результатов лечения проявляет себя как доминанта,
организующая поведение. Однако у больных с тяжелыми хро-
ническими заболеваниями, долго и неэффективно лечившихся,
наблюдаются своеобразная «коррозия» модели ожидаемых ре-
зультатов лечения, ее распад с отказом от лечения или, наобо-
рот, появляются обладающие значительной жесткостью не-
адекватные и даже нереальные попытки лечения.
Во время курса лечения у больных формируются психоло-
48
гические модели полученных результатов лечения (МПРЛ) —
эмоционально окрашенные представления, отражающие как
реальные, так и мнимые (внушенные, самовнушенные) изме-
нения нарушенных функций в сторону улучшения или ухудше-
ния. На личностном уровне оценка результатов лечения осу-
ществляется путем сличения двух психологических моделей;
модели ожидаемых результатов лечения и модели получаемых
результатов лечения. При этом совпадение названных моделей
вызывает положительные эмоции удовлетворения, а несовпа-
дение, когда модель полученных результатов лечения ниже
модели ожидаемых результатов лечения, — отрицательные эмо-
ции, неудовлетворение. Такие эмоции могут быть причиной
свертывания модели ожидаемых результатов лечения с отка-
зом от лечения данным методом и депрессией или перестрой-
кой психологической зоны информационного поля болезни
с заниженными моделями прогноза заболевания и модели ожи-
даемых результатов лечения. Если же болезнь прогрессирует
и переходит в более тяжелую стадию или осложняется серьез-
ным интеркуррентным заболеванием, то в этих случаях могут
формироваться новые церебральные информационные поля
й психологическая зона информационного поля болезни.
Большую роль в формировании ВКБ играет тип эмоцио-
нальных отношений (ТЭО) больного к своей болезни, ее про-
явлениям, прогнозу и др. Существуют различные типы подоб-
ных отношений. Гиппонозогностический тип: больные игнори-
руют свою болезнь, пренебрежительно относятся к лечению
и т. д. Симптомы болезни и течение ее эмоционально недооцени-
ваются. Больной может все знать о своей болезни, о ее серьез-
ном прогнозе и т. п., но это не вызывает у него эмоций тре-
воги, беспокойства и пр., хотя в отношении других явлений
своей жизни он проявляет исключительную эмоциональную
живость, повышенную ранимость и т. п. У таких больных ино-
гда легко образуются неадекватная (завышенная) модель ожи-
даемых результатов лечения и «сверхоптимальная» модель по-
лученных результатов лечения. Подобный тип отношений к бо-
лезни может быть осознанным или неосознанным, основы-
ваться на врожденных или приобретенных особенностях лич-
ности больного. О гипернозогностическом типе можно говорить
в тех случаях, когда у больного имеется преувеличенная яр-
кая эмоциональная окраска переживаний, связанных с болез-
нью. Каждый симптом болезни приобретает большую субъек-
тивную значимость, тяжесть заболевания и его проявления
преувеличиваются, формируется заниженная модель ожидае-
мых результатов лечения. Можно также выделить прагматиче-
ский тип эмоциональных отношений к болезни: больной нахо-
дится в деловом контакте с врачами, стремится к реальной
оценке болезни и прогноза, уделяет внимание оптимальной
организации лечебных и профилактических мероприятий.
49
В основе формирования нозогностических эмоциональных
отношений лежат определенные особенности структуры лич-
ности, обязанные прежде всего воспитанию. При этом, однако,
нельзя полностью исключить значение межполушарных отно-
шений, например доминирование (по особенностям восприя-
тия своего тела) правого полушария — у лиц гипернозогно-
стического типа. Большое значение имеют психологические
критерии для дифференцирования поведения, определяемого
типом нозогностических отношений, от симуляции и аггра-
вации. Симулянт сознательно строит фиктивную картину
болезни, аггравант сознательно усиливает имеющуюся кар-
тину болезни, в том числе и ВКБ. Однако у обычных больных
различные элементы ВКБ могут оказаться неадекватными
в связи с недостаточной информированностью, а также сни-
жением критики или под влиянием тревоги и пр. В структуре
ВКБ между церебральным информационным полем болезни
и психологической зоной информационного поля болезни мо-
жно выделить психофизиологический аппарат — детектор, ко-
торый улавливает и выявляет новые проявления заболевания,
сопоставляет их с уже имеющимися симптомами, сличает с ин-
формацией, заложенной в матрице долгосрочной памяти, и об-
разами внутренней картины болезни и внутренней картины
здоровья. Получая таким образом информацию о динамике
проявления болезни, детектор включает, с одной стороны, эмо-
циональные звенья ВКБ, с другой — психологические элементы
модели ожидаемых результатов лечения, модели полученных
результатов лечения и т. д. Детектор работает постоянно и
активно выделяет проявления болезни. Он характеризуется оп-
ределенной мощностью, пропускной способностью, широтой и
избирательностью входа. Мощность детектора и его пропуск-
ная способность могут зависеть от личностного настроя. У мни-
тельного человека широко раскрыт вход детектора для любых
проявлений, даже отдаленно не связанных с болезнью. Иногда
детектор может быть настроен на определенные части тела:
сердце, мышцы, кожу лица и т. д. Тогда любые опущения от
этих органов приобретают большую субъективную значимость
и способствуют формированию модели получаемых резуль-
татов лечения и модели ожидаемых результатов лечения с оп-
ределенным знаком. Пороги чувствительности детектора дина-
мичны и зависят от разных факторов: эмоционального состоя-
ния, ситуационных моментов, конституциональных особеннос-
тей и т. д. Они тесно связаны с типом эмоциональных отно-
шений: высокие — с гипонозогностическим типом эмоциональ-
ных отношений, низкие — с гипернозогностическим типом
эмоциональных отношений. Пропускная способность и избира-
тельность детектора часто связаны с «ценой» симптома бо-
лезни. Подобный прибор может существовать и у здоровых
людей.
50
Наши исследования показали, что одновременно с ВКБ со-
здается другая, противоположная модель — внутренняя кар-
тина здоровья, своеобразный эталон здорового человека, или
здорового органа, или части тела и т. д. Этот эталон может
быть достаточно сложным и включать различные элементы
в виде образных представлений и логических обобщений. Вза-
имодействие этих структур может характеризоваться яркой
эмоциональной реакцией. Актуализация и инактуализация этих
двух компонентов личности и характеризуют динамику ВКБ и
тем самым влияют на поведение больного. Идеал здоровья
также является регулятором поведения, но иногда формиру-
ется и раньше ВКБ. Следовательно, могут существовать об-
разы психического и физического здоровья. Однако эталон,
который человек считает нормой, в определенный период жиз-
ни может разрушаться или заменяться другим. Например,
с возрастом неизбежно происходит смена эталона здоровья.
При неврозах нередко происходит сознательное или бессозна-
тельное вытеснение идеала здоровья. «Уход в болезнь» — это
подавление идеала здоровья, что в определенной жизненной
ситуации является адаптивной реакцией. При изменении си-
туации идеал здоровья может возрождаться. Эта динамичность
операций образами, характерная для неврозов, порой связана
с нарушениями интрацентральной регуляции работы мозга.
В случае анозогнозии, наоборот, образ здоровья становится
жестким стереотипом, а динамический образ болезни либо не
формируется, либо вытесняется, либо деструктируется. Проис-
ходит доминирование «образа здоровья» над «образом болез-
ни». Исследования ВКБ психических больных позволили вы-
делить утрированный, гиперболизированный характер этой
модели, что связано со сверхценными и даже бредоподобными
ипохондрическими и нозофобическими идеями в результате ка-
татимического изменения мышления. При ипохондрических со-
стояниях тягостные физические ощущения, тревожные опасе-
ния и мысли о причинах своего тяжелого состояния образуют
у больных внутреннюю картину несуществующей болезни
[Мучник Л. С, Смирнов В. М., Резникова Т. Н., 1981]. ВКБ
следует рассматривать как единую действующую систему, все
звенья которой тесно взаимосвязаны и постоянно взаимодей-
ствуют между собой. Отличительными чертами ВКБ являются
множественность и подвижность ее элементов, а также сосу-
ществование конкурирующих моделей. Отдельные комплексы
и элементы ВКБ могут гаснуть или вновь возникать, вытес-
няться, заменяться, перестраиваться или находиться в латент-
ном состоянии, в результате чего ВКБ становится подвижной
или инертной, полной или редуцированной. Модель ВКБ много-
мерна по своим параметрам, и в этом многомерном простран-
стве ВКБ различные элементы могут быть связаны как жест-
кими, так и гибкими звеньями. При анализе структуры ВКБ
51
важно не только выделять отдельные ее звенья, но и диффе-
ренцировать их. Патологическое развитие модели ВКБ может
быть связано как с церебральной патологией, так и с чисто
информационными искажениями на личностном уровне.
При развитии заболевания не исключено ф°РмиРование
адекватного варианта ВКБ, который регулируется личностью.
Иногда же структура ВКБ приобретает автономность, стано-
вится доминирующим образованием и дезорганизует поведе-
ние. Причиной развития такого варианта ВКБ может быть
бессознательное вытеснение ее элементов, иногда с развитием
тревоги, если болезнь представляет особую ценность для лич-
ности. Можно говорить о нозогностической информации по
данному заболеванию. Канал для восприятия этой информа-
ции, как правило, открыт. Существуют пороги нозогностиче-
ской информации, которые зависят от самочувствия, внушае-
мости, самовнушения, общей тревожности, состояния функци-
ональных систем и т. д. Эти пороги в конечном итоге регули-
руются системой интрацентральных отношений мозга. Таким
образом, существуют двойная детерминация и регуляция но-
зогностических порогов: нейрофизиологическая (церебраль-
ная) и психологическая (личностная и социально-психологи-
ческая). Структуры ВКБ имеют определенные пороги (соци-
альные, психологические, нейрофизиологические). Физиологи-
ческие пороги определяются режимом работы мозга, психоло-
гические— интерперсональными отношениями и статусом лич-
ности.
И врачу, и медицинскому психологу полезно изучать внут-
реннюю картину болезни и учиться оптимизировать ее, а ино-
гда принимать активное участие в формировании ВКБ, при-
том не только реальной, но иногда и мнимой ВКБ, например
у лиц с тяжелыми интеркуррентными заболеваниями с целью
облегчения психического состояния. Адекватно сформирован-
ные с помощью врача модели прогноза и модели ожидаемых
результатов лечения выступают как важнейший фактор опти-
мизации психического и общего состояния больного на всех
этапах лечения. Соответствующие психотерапевтические возмож-
ности и воздействия должны быть построены на основе реаль-
ного прогноза возможных лечебных результатов и побочных
эффектов лечения у данного больного. По мере поступления
новой информации по ходу лечения необходимо осуществлять
психотерапевтическую коррекцию этой модели, а также модели
полученных результатов лечения. Эти модели должны нахо-
диться под пристальным вниманием врача, поскольку они мо-
гут использоваться для оптимизации общего и эмоционального
состояния больных.
Затянувшаяся болезнь требует некоторой психотерапевти-
ческой перестройки структуры личности больного. Изменение
состояния организма в связи с заболеванием становится порой
52
важнейшим объектом внимания больного, оттесняя все осталь-
ные на задний план. При выздоровлении все жизненные прог-
раммы и цели восстанавливаются или перестраиваются, а все,
что было связано с болезнью, утрачивает свою актуальность,
и модель ВКБ тускнеет, теряет свою активную роль, но сохра-
няется в памяти как важнейший нозогностический жизненный
опыт, используемый в последующем при новых заболеваниях.
Общий методический подход к изучению ВКБ. Уже при пер-
вой встрече с больным в процессе беседы можно получить не-
которое впечатление о его внутренней картине болезни. Од-
нако нужно затратить немало времени и труда, чтобы уточнить
конкретную структуру ВКБ у данного больного на данном
этапе заболевания. С этой целью применяются различные ме-
тодики: беседа, наблюдение, клинико-психологические и ней-
рофизиологические исследования. Среди них основное место
занимает подробный расспрос больного. Требуется большое
умение правильного проведения беседы и сбора информации
о ВКБ. Прежде всего следует выяснить, что и на каком этапе
развития заболевания заставило больного обратиться к врачу:
дискомфорт, тревога за состояние здоровья, невозможность тру-
диться или желание получить больничный лист и т. д. Если
больной длительно не обращался за медицинской помощью, то
нужно иметь в виду, что для этого могут существовать различ-
ные причины, которые необходимо выяснить.
Критерии, которые используются больным для оценки и
прогнозирования развития симптомов, зачастую отличаются от
объективных медицинских критериев. Прежде всего надо обра-
тить внимание на язык больного, с помощью которого он опи-
сывает свое заболевание. Вопрос о его языке, в котором отра-
жается ВКБ, является важным, так как врач и больной могут
говорить на разных языках, в которых много слов с одинако-
вым звучанием, но с различным значением, что исключает вза-
имопонимание. Поэтому анализ ВКБ должен обязательно
включать оценку адекватности описания больным своего сос-
тояния. Речь больного зависит от уровня развития, образова-
ния, общей культуры, профессии, знания медицинских терми-
нов, умения анализировать, личностных особенностей. Меди-
цинскими терминами, как правило, пользуются лица, имеющие
медицинское образование. Обычный язык — описание заболева-
ния без представления о нем; например, больной говорит «бо-
лит живот», но как и почему — не может объяснить. Параме-
дицинский язык точно отражает, «что и где болит», при этом
частично используются медицинская терминология или житей-
ские представления для описания реальных синдромов. Мета-
медицинский язык — описание болезненных явлений без осоз-
нанного понимания сущности синдрома, с употреблением меди-
цинских терминов, концепций, но не реальных, для объяснения
заболевания. Здесь могут встречаться конфабуляции, навязчи-
53
вые и доминирующие представления. Понимание ВКБ и психо-
терапевтический контакт возможны тогда, когда врач и боль-
ной говорят на одном языке.
Во время беседы врач или психолог прежде всего получают
информацию о модели ведущих симптомов. Один и тот же син-
дром оказывается осознанным больным, с одной стороны, и не
осознанным — с другой. Проявления болезни могут не осозна-
ваться по разным причинам: в результате сознательного или
неосознанного игнорирования; при отсутствии информации о ней;
вытеснения другими источниками информации и т. д. Игнори-
рование личностью симптомов болезни может происходить, на-
пример, при гипонозогностическом типе эмоциональных отно-
шений, в то время как при гипернозогностическом типе эмоцио-
нальных отношений больной более внимателен к своему
заболеванию. Личность может также активно игнорировать
симптомы по каким-то причинам эмоционального плана. Во
всех случаях важен врачебный деонтологический подход при
исследовании ВКБ. Нужно помнить, что существуют так назы-
ваемые «открытые» и «закрытые» проблемы ВКБ. Это значит,
что есть проблемы, о которых больной сам рассказывает, и
проблемы, которые могут формироваться и существовать неосо-
знаваемо, оказывая влияние на поведение больного.
При выявлении структуры ВКБ нужно изучать уровни осо-
знания элементов ВКБ. Необходимо определить, какие ком-
плексы ВКБ являются результатом самовнушения или логиче-
ской переработки информации, а какие имеют только эмоцио-
нально-мотивационную основу или внушены врачом. Следует
учитывать и источники информации, которые используются
больным при формировании ВКБ: 1) личный опыт к моменту
заболевания; 2) суждения других больных, страдающих теми
же заболеваниями; 3) использование медицинской литературы,
в том числе популярной; 4) сведения, полученные из компетент-
ных медицинских источников, которые могут быть достоверными
или недостоверными (по деонтологическим соображениям);
5) впечатления и мнения окружающих немедицинских лиц:
соседей, друзей и т. п. Все перечисленные источники информа-
ции могут быть позитивными и негативными, разной степени ин-
формативности и авторитетности, обладать эмоциональным ве-
сом (суггестивным воздействием) и значимостью. Роль мораль-
ных ориентации в формировании ВКБ чрезвычайно важна, осо-
бенно в плане раскрытия ВКБ другому человеку. Это сложный
эмоционально-личностный процесс. Далеко не каждый больной
в состоянии легко рассказать о своих проблемах в связи с раз-
витием заболевания. Некоторые элементы ВКБ своими корнями
уходят в бессознательное и недоступны самому больному. Тре-
буется большое искусство врача, психолога, психотерапевта,
чтобы понять структуру ВКБ. Для более глубокого ее понима-
ния желательно изучить ее динамику в онтогенетическом аспекте.
54
Можно выявить особенности формирования ВКБ в детском,
юношеском, зрелом и пожилом возрасте. Как известно, эле-
менты ВКБ зарождаются в детском возрасте, оставляя опыт
заболевания на всю жизнь и оказывая влияние на все после-
дующие новые модели болезни. Поэтому при анализе конкрет-
ной ВКБ необходимо получить данные о прошлых заболева-
ниях. ВКБ тесно связана с механизмами принятия решения и
системой ценности личности. Часть таких решений может быть
подсказана врачом. Эти решения могут приниматься больным
и логически, и эмоционально. Происходит, как правило, слож-
ный, напряженный процесс борьбы мотиваций, конфликта в си-
стеме ценностей и т. д. Возникают столкновения реальных
жизненных решений и тех, которые принимаются в связи с бо-
лезнью («я должен и хочу..., но не могу, так как болен»). При
исследовании ВКБ необходимо изучать систему ценностей боль-
ного, в основе которой находится оценка состояния здоровья.
При формировании ВКБ значение ее огромно. Иногда система
ценностей, имеющая отношение к ВКБ, выступает как конку-
рирующая в общей системе ценностей личности, где занимает
определенное место. Например, при ипохондрии она на первом
месте, а при анозогнозии — практически отсутствует. Во время
беседы важно выяснить, каковы ценностные ориентации боль-
ного и как они изменились в связи с развитием заболевания.
В иерархии ценностей личности каждый симптом занимает
свое место.
Изучая ведущие симптомы болезни, необходимо объективно
выяснить, какие из них являются главными, а какие — вто-
ростепенными. Однако для больного ценность симптома зача-
стую определяется не клинической, а личностной его значимо-
стью. При расспросе следует отметить, как больной описывает
и интерпретирует имеющиеся симптомы, может ли он опреде-
лить «цену» и ранговое место каждого симптома. Разница
между субъективной и клинической «ценой» симптома дает
представление о степени субъективного преувеличения или
преуменьшения проявлений заболевания. Выявление диссоциа-
ций между этими оценками является важной задачей исследо-
вателя, особенно в плане психотерапевтической коррекции и
создания адекватной модели ведущих симптомов уже на ран-
них стадиях заболевания. В построении больным этой модели
большое значение имеет система «схемы тела», с помощью ко-
торой разнообразные ощущения приобретают пространственно-
временную отнесенность и эмоциональный тон, на что указы-
валось выше. Исследование «схемы тела» можно проводить
с помощью опроса и психологического исследования. Прежде
всего необходимо выяснить отношение больного к своему телу
и попытаться определить, нет ли у него скрытых дефектов
«схемы тела». Кроме того, в процессе опроса важно узнать:
1) испытывает ли больной чувство телесного дискомфорта, и
55
если да, то в каких частях тела и какая при этом окраска
эмоциональных переживаний, рсрбенно при ндличии космети-
ческого и анатомического дефектов; 2) каковы пространствен-
ное расположение неприятных ощущений или болей относи-
тельно координат тела, степень локальности, глубины, четкости
границ и т. п.: 3) какие изменения или нарушения в собствен-
ном теле представляют для больного особое значение, с чем
это связано: с эмоциональным фактором, затруднением само-
обслуживания и др.; 4) как воспринимается телесный диском-
форт во временном аспекте: настоящем, прошедшем и будущем,
его соотношение с ощущениями в данное время.
При психофизиологических исследованиях схемы тела
можно использовать любые нейропсихологические методики,
применяющиеся для диагностики поражений теменных, теменно-
височных или лобных отделов мозга (скрещивание рук, графи-
ческие пробы, тест складывания человечка и др.), описанные
во многих руководствах. Полученные данные полезно сопостав-
лять с результатами электроэнцефалографии.
Взаимодействие и взаимосвязь элементов ВКБ прослежива-
ются уже на ранних стадиях развития заболевания. Все после-
дующие этапы ее создания сопровождаются постоянным вза-
имовлиянием ее элементов, которые могут находиться в разных
фазах формирования: полностью или частично сформирован-
ными, угасающими, перестраивающимися или только появляю-
щимися. Поэтому с самого начала исследования нужно подхо-
дить к ВКБ как динамической системе, все звенья которой
являются гибкими и обладают определенным эмоциональным
зарядом. Вот почему беседа и опрос — основные методы иссле-
дования ВКБ —не должны быть стандартными. Информация,
получаемая от больного, зачастую характеризует в разной сте-
пени сразу несколько элементов ВКБ. Но далеко не каждый
больной способен к четкой логической формулировке того, что
его беспокоит. Это связано с целым рядом внутренних и внеш-
них факторов социального, психологического и нейрофизиоло-
гического плана. Уточнение их — задача исследователя. Нужно
также помнить, что представления больного о своем заболева-
нии постоянно переосмысливаются и перестраиваются под вли-
янием различных источников информации. Врач должен по-
стоянно корригировать и контролировать этот процесс, начиная
с первых посещений больного.
Большое значение для ВКБ имеет ТЭО—тип эмоциональных
отношений личности к своему телу, проявлениям болезни. Опре-
деленный тип эмоциональных отношений может быть присущ
человеку с детства, что связано с воспитанием, особенностями
личности, структурно-функциональной организацией мозга. Это
более или менее стабильный фоновый тип эмоциональных отно-
шений. Кроме того, следует дифференцировать тип эмоциональ-
ных отношений к конкретному заболеванию в целом и тип эмо-
56
циональных отношений к отдельным проявлениям болезни.
Например, при общем гипернозогностическом типе эмоциональ-
ных отношений может быть гипонозогностический тип эмоцио-
нальных отношений к какому-то симптому болезни. Этот част-
ный тип эмоциональных отношений является чрезвычайно под-
вижным элементом ВКБ и подвержен влиянию многих факторов
социально-психологического или личностного плана. Например,
изменение семейной ситуации, потеря близкого человека могут
изменить гипонозогностический тип эмоциональных отношений
на гипернозогностический. И, наконец, следует отметить, что
тип эмоциональных отношений может быть неодинаковым
к разным заболеваниям у одного человека и к аналогичным
заболеваниям у разных людей. При исследовании типа эмоцио-
нальных отношений опрос должен быть направлен на опреде-
ление эмоционального восприятия и осознанности симптомов,
степени и характера информированности больного о заболева-
нии, выявлении особенностей воспитания, структуры формиро-
вания личности и уровня интеллектуального развития и т. п.
Помимо опроса, применяются личностные, патопсихологические
и нейропсихологические методики. Среди них большое значение
имеют тесты на определения правшества — левшества в целях
выявления функциональной асимметрии мозга. Из электрофи-
зиологических методик используются регистрация ЭЭГ, а также
КГР на эмоционально значимые раздражители и др.
Правильно проведенный анализ результатов комплексного
исследования типов эмоционального отношения позволит от-
дифференцировать типы эмоциональных отношений, связанные
с особенностями функциональной организации головного мозга,
с формированием личности, с сознательным изменением ТЭО
под влиянием эмоционально-мотивационных факторов, которые,
например, встречаются у симулянтов, умышленно строящих
фиктивную картину болезни, аггравантов, специально усилива-
ющих имеющуюся ВКБ, и др. Тип эмоциональных отношений
тесно связан с аппаратом прогнозирования и опытом личности
в отношении заболевания: гипонозогностический тип эмоцио-
нальных отношений — с положительным эмоциональным про-
гнозированием событий; гипернозогностический тип эмоциональ-
ных отношений — с отрицательным. Больной может, например,
прогнозировать и выздоровление, и смерть — два полярных
параметра исхода заболевания, между которыми находится
целый ряд переходных состояний, на которые может рассчи-
тывать больной. Вероятность прогноза смерти встречается
у немногих: как правило, надежда на выздоровление имеется
у каждого больного. Задача врача заключается в увеличении
«процента надежды» в модели прогноза. Способность каждой
личности проецировать болезнь в будущее и определять ее про-
гноз может быть различной. Эта способность зависит от многих
факторов, в том числе и от других моделей ВКБ, например
57
типа эмоциональных отношений, интеллектуальных свойств
человека, особенностей принятия решения и др. Перечисленные
факторы тесно взаимодействуют друг с другом. Чрезмерная
тревожность препятствует созданию нужных моделей ВКБ.
В процессе беседы необходимо узнать, в каком масштабе
производит больной внутренний психологический отсчет времени
(годами, месяцами, днями, мгновениями и т. д.), проецирует
ли во времени болезнь в целом или отдельные симптомы и
с каким прогнозом; как взаимодействует модель прогноза
с источниками информации, насколько может больной само-
стоятельно прогнозировать и каковы пороги чувствительности
к различной нозогностической информации. Изучение этих во-
просов позволит составить график векторов по развитию и
проекции симптомов болезни. В зависимости от модели про-
гноза и других факторов личность строит модель ожидаемых
результатов лечения. При исследовании модели ожидаемых ре-
зультатов лечения важно рассмотреть следующие направления:
1) на какой лечебный эффект рассчитывает больной в отноше-
нии каждого симптома заболевания: полное или частичное вос-
становление либо игнорирование лечебного эффекта; 2) почему
хочет избавиться от проявлений болезни, т. е. какова лично-
стная эмоциональная ценность симптомов (например, устране-
ние симптома может давать возможность продолжать работу,
передвигаться, заниматься любимым делом или просто ослабить
болевые ощущения); 3) каким путем и где хочет получить ле-
чение, каковы цели и программы относительно лечения.
Модель ожидаемых результатов лечения может быть мак-
симальной, когда больной верит в полное излечение; минималь-
ной, когда он не верит в успех лечения, или даже отсутствовать,
когда больной смирился со своим состоянием. Эта модель тесно
связана со всеми моделями ВКБ. По мере лечения больного
формируется модель полученных результатов лечения. Она мо-
жет быть положительной, если больной доволен результатом
лечения; отрицательной, если не достигается эффект, на кото-
рый рассчитывал больной, а также в ней могут объединяться
и противоположные элементы. В создании модели ожидаемых
результатов лечения и модели полученных результатов лечения
должен обязательно принимать участие врач в целях их свое-
временной коррекции.
Как отмечалось, модели ВКБ могут быть образными или
логическими. При логическом неадекватном построении этих
моделей больным врач с целью коррекции может применять
рациональную психотерапию с элементами суггестии. Гораздо
труднее перестраивать эмоционально-образные элементы ВКБ,
развивающиеся не постепенно, а быстро. В этих случаях нужно
назначать в индивидуальном порядке фармакотерапию с после-
дующей психотерапией. Например, больная паркинсонизмом на
ранних стадиях развития заболевания была госпитализирована
58
в больницу, где впервые увидела тяжелобольного с аналогич-
ным заболеванием, который не мог даже самостоятельно по-
вернуться в постели из-за выраженной ригидности. Образ тя-
желого больного был эмоционально воспринят больной и зафик-
сирован в памяти. В дальнейшем, несмотря на положительный
клинический эффект лечения, который отмечает и сама больная,
она все же заявляет, что ей «все равно плохо и будет хуже» и
что ее ждет участь того тяжелого больного, которого она уви-
дела при поступлении в клинику. Однако применение транкви-
лизаторов с последующей психотерапией (беседы на темы бли-
жайшего и отдаленного будущего) вызвали улучшение самочув-
ствия и психического состояния больной. В другом наблюдении
у больного с правосторонним гемипарезом после перенесенной
черепномозговой травмы наблюдалось нарушение восприятия
дефекта противоположных конечностей. В структуре ВКБ при
формально логическом адекватном отражении своего заболева-
ния отсутствовала эмоционально-чувственная картина болезни.
Учитывая отчетливый гипонозогностический вариант типа эмо-
циональных отношений и несколько завышеную модель прогноза
заболевания, было достаточно проведения психотерапии, разъ-
ясняющей особенности заболевания, образа жизни и лечения
для больного. В данном случае знание ВКБ было необходимо
для создания оптимальных условий лечения. Главное при ис-
следовании ВКБ — понять, за счет каких механизмов (цере-
бральных или психологических) возникают искажения или адек-
ватное развитие различных моделей. Правильное понимание
картины болезни способствует адекватному выбору лечебных
мероприятий с целью регуляции поведения больного человека
путем перестройки ВКБ. В качестве примеров можно привести
обобщенные характеристики ВКБ некоторых групп больных.
У большинства больных с длительно текущими заболеваниями
центральной нервной системы выявляется достаточно полно
сформированная ВКБ, включающая модели синдромов, про-
гноза, ожидаемых и полученных результатов лечения и др.
Большой удельный вес в структуре ВКБ этих больных зани-
мает тревога, которая, как правило, имеет сложную, пеструю,
меняющуюся картину. Она может быть также вызвана теми
ограничениями, которые накладывает болезнь. Источником тре-
воги служат нередко такие элементы ВКБ, которые вызывают
чувство неуверенности, обреченности. Высокий уровень тревож-
ности объясняется тем, что ВКБ формировалась без должного
психотерапевтического влияния врачей, а в некоторых случаях
обнаруживается и влияние ятрогений. Факторы, вызывающие
тревогу, множественны, переменны, и каждый имеет свой
«удельный вес». Все это вызывает нестабильность ВКБ. Напри-
мер, при обострении болей может активизироваться весь комп-
лекс ВКБ. Чем больше выражены неприятные ощущения, боль,
дискомфорт, тем ярче ВКБ. Возникновение отрицательной мо-
69
дели прогноза заболевания усиливает тревожность. Получается
замкнутый круг, который требует психотерапевтического вме-
шательства, следовательно, в ряде различных факторов ответ-
ственной за тревогу может стать ВКБ.
При заболевании нервной системы психологическая струк-
тура ВКБ имеет различную конструкцию в зависимости от влия-
ния определенных корково-подкорковых систем, а также вовле-
чения доминантного или субдоминантного полушарий. Так, на-
пример, при очаговых поражениях лобных долей преобладает
гипонозогностический тип эмоциональных отношений, прояв-
ляющийся, прежде всего, в игнорировании своего заболевания,
переоценке профессиональной пригодности и т. д. В других
случаях, например при поражении некоторых подкорковых об-
разований, в связи со снижением психической активности и
эмоционального тонуса, начинает преобладать гипернозогности-
ческий тип эмоциональных отношений, проявляющийся в пере-
живании существенной тяжести и опасности своего заболевания
с субъективным отрицательным самопрогнозированием заболе-
вания, работоспособности, профессиональной пригодности. При
некоторых корково-подкорковых поражениях, например таламо-
париетальной системы, во внутренней картине болезни нередко
появляются неадекватные представления о размерах, строении,
физическом состоянии своего тела или отдельных частей его.
Такие представления, на первый взгляд, могут рассматриваться
врачом как невротические, ипохондрические или даже агграва-
ционные явления. У больных неврозами или неврозоподобными
состояниями ВКБ характеризуется не только множеством несо-
впадений информации, представленной в церебральном инфор-
мационном поле болезни, с одной стороны, и в соответствующих
элементах психологической зоны информационного поля бо-
лезни — с другой, но и разнообразными фиксированными спо-
собами психологической защиты, препятствующей психотера-
певтической коррекции. При этом от соотношения компонентов
ВКБ, содержащих реальную и фиктивную нозогностическую
информацию, типа нозогностических отношений и возможностей
контролирующих систем личности зависят и содержание, и ди-
намика клинической картины неврозов и неврозоподобных со-
стояний. У некоторых здоровых людей, в прошлом не болевших,
отсутствует опыт формирования ВКБ. Тем не менее наблюде-
ние за больными, общение с ними могут способствовать появле-
нию у здоровых психологических комплексов, отражающих пе-
реживание больных и некоторые проявления болезни. Такие
психологические комплексы при их достаточной эмоциональной
напряженности и стойкости можно рассматривать как «отра-
женную модель ВКБ». Эта отраженная модель ВКБ имеет
и познавательное, и адаптивное значение для личности здоро-
вого человека, хотя и в определенных пределах, поскольку от-
раженная ВКБ может иметь не только положительный, но и
60
отрицательный психогенный результат. У большинства прак-
тически здоровых людей, перенесших в прошлом какие-либо
заболевания, элементы ВКБ сохраняются в памяти в сверну-
том, обобщенном виде. Такие элементы ВКБ, несомненно, имеют
адаптивное значение. Накопление нозогностического опыта мо-
жет способствовать формированию более или менее адекват-
ных элементов ВКБ при развитии нового заболевания. Кроме
того, такой опыт обычно играет важную роль при формировании
адекватных интерперсональных отношений в общении с боль-
ными людьми.
У олигофренов, страдающих соматическими и неврологиче-
скими расстройствами, выделяются внутренняя картина болезни
и внутренняя картина психологического дефекта, т. е. представ-
ление больного о своем психическом дефекте и отношение
к нему. У олигофренов в степени дебильности ВКБ существенно
отличается от ВКБ здоровых. Если у психически здоровых
людей ВКБ динамична, мгновенно отражает изменение состоя-
ния, является регулятором поведения, то у олигофренов она
бедна, статична, инертна и неспособна участвовать в механиз-
мах регуляции поведения. ВКБ у олигофренов преимущественно
конкретно-примитивная (чаще на уровне модели симптомов)
с выпадением отдельных элементов, без проекции в будущее.
Она отражает их состояние неполноценно, искаженно и чаще
дезорганизует поведение. У олигофренов выпадают социальные
мотивы поведения, нет своего плана действия в ситуации бо-
лезни либо этот план элементарен или внушен врачом. Тревога
относительно заболевания у олигофренов встречается редко.
Это скорее всего связано с невозможностью прогнозирования
заболевания. Степень осознания глубины и характера психиче-
ского дефекта у олигофренов различна. Большинство из них
осознают свой дефект, однако многие осознают низкое социаль-
ное ранговое место и переживают свое особое положение среди
людей без глубокого осознания причин этого. Знание и учет
ВКБ и внутренней картины психологического дефекта у этих
больных позволяют более рационально подойти к вопросам ле-
чения, психотерапии, адаптации, трудоустройству и обучению
олигофренов.
Сравнение ВКБ психически сохранных больных и олигофре-
нов показывает, что уровень интеллекта играет существенную
роль в построении структуры ВКБ.
Таким образом, знание ВКБ вооружает психологов и врачей
любой специальности представлениями о сложных психологиче-
ских перестройках в структуре личности больного, вызванных
болезнью, и способствует обеспечению правильной стратегии
и тактики врача в отношении каждого конкретного больного.
Эти знания нужно использовать в психодиагностике, деонтоло-
гии, психотерапии, при лечении и реабилитации больных,
а также для решения экспертных вопросов. Без знания ее
61
структуры и понимания личности больного страдают и индиви-
дуальный личностный подход к каждому больному, и процесс
лечения. Знание модели ВКБ необходимо для психотерапии,
направленной на коррекцию и управление адаптивными пере-
стройками ее структуры и поведением больного.
Глава III
ВОПРОСНИКИ КАК МЕТОД
ИССЛЕДОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ
Из специальных психологических методов, направленных на
исследование личности, наиболее распространенными являются
вопросники и так называемые проективные методы. При проек-
тивных методах оцениваются результаты различных форм само-
выражения испытуемого, который, как правило, не знает, что
исследуется его личность; вопросники же так или иначе обра-
щаются к самооценке испытуемыми своих личностных качеств.
И хотя в любом случае самооценка представляет интерес для
врача и психолога, естествен вопрос, насколько объективными
могут быть результаты подобных методов, если предметом
оценки испытуемого является его собственная личность. Из-
вестно, что люди весьма различаются по своей способности
к интроспекции, а также объективности в самооценке. При
использовании вопросников необходимо считаться с влиянием
таких факторов, как степень искренности, осторожности, беспо-
койство и даже страх, потребность в одобрении, естественная
защита своего «Я», а также такие формы «защитных механиз-
мов», искажающих представление о себе, как «вытеснение»,
«реактивные образования», «рационализация» и др., не говоря
уже о том, что отношение испытуемого к обследованию может
определяться установочным поведением в случае заинтересован-
ности его в результатах исследования.
По мере развития вопросников как техники изучения личности разраба-
тывались различные меры, направленные на избежание влияния искажаю-
щих факторов, в том числе введение так называемых контрольных или оце-
ночных шкал, самым простым примером которых является шкала, измеряю-
щая степень искренности отвечающего или его лжи. Некоторые вопросники,
например MMPI, имеют несколько различных контрольных шкал, позволяю-
щих улавливать и дифференцировать различные формы искажения, влияю-
щие на результат исследования. Кроме того, этот вопросник работает не по
принципу прямого смысла ответа на вопрос, а на основе чисто статистических
корреляций, вследствие чего некоторые ответы служат признаком качества,
прямо противоположного утверждаемому, например по шкале «истерические
черты».
Вопрос о валидности и надежности вопросников как метода изучения лич-
ности продолжает оставаться предметом дискуссий и побуждает исследова-
телей к дальнейшим поискам повышения их эффективности По осторожной
оценке F. Freeman (1963), вопросники как метод исследования личности «по-
лезны в определенных пределах в руках опытного психолога». Первые во-
62
просники вообще не были защищены контрольными шкалами, и оценка до-
стоверности результатов связывалась только с опытом исследователя.
В 30-е годы начинают появляться и первые многошкальные вопрос-
ники, претендующие на более полный охват личности как целого и предна-
значенные для измерения большого числа качеств. Однако большинство из
них просто пытались произвольно объединить уже существующие и столь же
произвольно выбранные переменные одношкальных или двушкальных вопрос-
ников. Так, «Личностный перечень» Бернройтера, разработанный в 1932 г.,
объединил вопросы из шкал Лейрда, Олпортов, Терстоунов (шкала невроти-
ческих тенденций у студентов) и собственного, более раннего вопросника
для определения «-самодостаточности». Многошкальным являлся и опублико-
ванный в 1930 г. Г. Беллом вопросник для изучения приспособления. Хотя
многие из подобных вопросников, особенно многошкальных, пользовались
достаточно широкой известностью, а некоторые, усовершенствованные в бо-
лее поздних редакциях, применяются и сейчас, критика справедливо указы-
вала на целый ряд их недостатков как в методическом, так и в методоло-
гическом плане, в частности на произвольность выбора переменных, чаще
всего определявшегося конкретными прагматическими целями, что было осо-
бенно характерно для американской психологии.
В то же время существовал и иной подход к проблеме психологиче-
ского исследования личности — попытка определить и описать личность во-
обще, как таковую, выделить ее основные, главные черты, обусловливающие
особенности индивидуального поведения в различных ситуациях. Такой под-
ход был характерен, в частности, для Г. Айзенка и Р. Кеттела [Eysenck H. J.,
1960; Cattell R. В., 1957], которые в конце 40-х годов начали разработку
своих так называемых «факторных» личностных вопросников. Это название
в большей мере относится к вопроснику Кеттела, который использовал мате-
матический аппарат факторного анализа с целью выявления самой структуры
личности и разработки собственной теории (скорее методологии исследова-
ния) личности на основе полученных с его помощью данных.
«Многовариантные экспериментаторы» подчеркивают важ-
ность массовых обследований и многообразия эксперименталь-
ных проб с последующей углубленной математической обра-
боткой полученных данных, вычислением коэффициентов кор-
реляции и применением факторного анализа. Собственно,
факторное аналитическое исследование и начинается с система-
тического отбора тех проб, которые обычно используются для
измерения каких-то качеств, например, интеллектуальных спо-
собностей или черт личности. Этот комплекс проб применяют
ко всем испытуемым набранной группы, получая оценку по
каждому признаку для каждого человека. Далее определяется
связь между каждой парой признаков. Если люди с высоким
баллом по одному признаку получают высокий балл и по дру-
гому, коэффициент корреляции покажет их тесную связь и бу-
дет приближаться к +1,00 (что означает полное совпадение).
Зная балл человека по одному из этих признаков, можно
эффективно прогнозировать его оценку и по другому. Высокая
отрицательная связь (приближающаяся к —1,00) означает
обратную зависимость между признаками (высокая оценка по
одному прогнозирует низкую оценку по другому); коэффи-
циенты корреляции, близкие к 0,00, свидетельствуют об отсут-
ствии связи. Все коэффициенты корреляции представляются
в виде корреляционной матрицы, которая затем подвергается
63
специальным процедурам факторного анализа с целью выявле-
ния неких общих факторов, объединяющих признаки, имеющие
наиболее тесные связи внутри одного фактора, при этом разные
факторы должны быть полностью или относительно независи-
мыми между собой (соответственна различаются ортогональ-
ные и облические факторы).
После этого отбираются пробы, тесты, «максимально нагру-
жающие» каждый выявленный фактор, или проводятся спе-
циальные дополнительные исследования с целью усовершен-
ствования или создания проб, позволяющих составить «наилуч-
шую батарею» для измерения каждого фактора, рассматривае-
мого как некое функциональное единство, в данном случае —
определенную психологическую сущность или свойство, которые
могут быть проинтерпретированы гипотетически, исходя из со-
держания и характера тестов, «нагружающих» тот или иной
фактор, а также из соотношения их с другими, внешними дан-
ными. Принципы факторного анализа в психологии примени-
тельно к изучению структуры интеллекта первым начал разра-
батывать профессор Лондонского университета Ч. Спирмен
[Spearman С, 1927].
Спирмен пришел к выводу, что интеллект представляет со-
бой некую общую способность, которая является прежде всего
способностью представлять отношения между явлениями. Ее
отражает так называемый «генеральный фактор интеллекта»
(g). Кроме g-фактора, было постулировано также существова-
ние специфических факторов (s-факторов, характерных для
разных типов интеллектуальной деятельности). Главным мери-
лом интеллекта по Спирмену являются именно g-фактор и те
тесты, где он выражен в наибольшей степени.
Любопытно, что американский психолог Л. Терстоун [Thur-
stone L., 1941], также на основе факторного анализа, сделал
несколько иной вывод. Начав исследование умственных способ-
ностей более специфическими методами, он затем подчеркивал
значение в измерении интеллекта именно специфических «пер-
вичных» способностей, таких как числовые, пространственные,
вербальные и проч., которые представлялись им как «ветви»
вторичного общего фактора интеллекта, лежащего в их основе.
Факторный анализ в психологии вначале использовался
для выяснения структуры человеческих способностей, главным
образом ментальных или интеллектуальных, и лишь затем его
стали применять и к анализу структуры личности, причем наи-
более последовательно это делалось Кеттелом и его сотрудни-
ками [Cattell R., et al., 1946, 1966, 1970]. Для получения перво-
начальных данных Кеттел обратился к традиционным в психо-
логии методам наблюдения, вопросникам, а также различным
видам лабораторного эксперимента, которые специально подго-
тавливались и стандартизовались для этого исследования, так
как количественная оценка и надежность полученных данных
64
служили необходимым условием их использования при дальней-
шей математической обработке.
Многочисленные исследования и результаты их сложной
математической обработки позволили Кеттелу и его сотрудни-
кам выделить около 30 факторов, из которых 18 использовались
в дальнейшем наиболее часто, так как вошли (в несколько от-
личающихся комбинациях) в различные формы личностного
вопросника Кеттела, предназначенные для испытуемых разного
возраста. Каждый личностный фактор рассматривается как
континуум определенного качества или «первичной черты»
(в вопросниках он измеряется в стенах — единицах шкалы
с минимальным значением в 0 баллов, максимальным —10
и средним — 5,5 балла) и характеризуется биполярно по край-
ним значениям этого континуума. Соответственно на эти бипо-
лярные содержания указывает значок + или —, стоящий рядом
с буквами алфавита, обозначающими факторы. Кроме буквен-
ных обозначений, факторы имеют еще «специальные» (или «тех-
нические») и «популярные» названия. Кеттел большое значение
придает характеристике факторов как особых, полученных неза-
висимо от произвольных операций ума, но объективно установ-
ленных категорий, представляющих «естественные унитарные
структуры личности» или совокупности определенных психоло-
гических качеств, каждая из которых рассматривается как «пер-
вичная» личностная черта, поэтому «популярные» названия
обыденного языка лишь приблизительно передают их сущность.
Для «специальных» названий Кеттел иногда придумывает слова
или берет малоизвестные термины из латыни или греческого.
Так, например, первому и одному из самых важных факторов — фак-
тору А, который иногда не совсем верно называют «шизотимией — циклоти-
мией», Кеттел, указывая на связь его с этими терминами Кречмера, а также
ссылаясь на соответствующие понятия у Блейлера и Крепелина, в то же
время, чтобы отмежеваться от известного психопатологического смысла этих
понятий (хотя Кречмер подчеркивает применимость их к норме), дает «спе-
циальное» название — «сизотимия — аффектотимия». Он пишет: «Поскольку
у публики шизотимическое связано с ненормальностью, лучше пользоваться
термином сизотимия (Sise — означает плоскость, вялость, скучность, однооб-
разность в живописи, то же в отношении чувств) — отсутствие живых виб-
рирующих эмоций. Эта холодность и отчужденность характеризует нормаль-
ный А-фактор сизотимического индивида. Циклотимия в норме — аффектоти-
мия, так как первоначальной характеристикой является аффект, эмоция,
а не колебания, циклотимические перепады, которые характерны для ненор-
мальных» [Cattell R., 1966].
Каждому личностному фактору Кеттел дает развернутое
описание с попыткой осмыслить его психологически, с характе-
ристиками специфических, например профессиональных, групп,
для которых типично соответствующее качество или ярких из-
вестных личностей, исторических, литературных, или мифологи-
ческих (Макиавелли, Гамлет, Прометей). Кроме того, приво-
дятся краткие биполярные характеристики факторов, близкие
к ий «популярным» названиям. Ниже приводится перечень
3 Заказ № 942
65
18 наиболее известных первичных факторов Кеттела, исполь-
зуемых как во взрослых, так и в подростковых и детских ва-
риантах вопросника, с их «популярными», а также специаль-
ными «техническими» наименованиями:
Низкие значения фактора
(1—3 стена)
Замкнутый, отрешенный, критич-
ный, отстраненный, негибкий
Сизотимия — А +
Тупой, низкий интеллект
Низкий 2ogx — В +
Поддающийся чувствам, эмоцио-
нально менее устойчивый, легко
расстраивающийся, изменчивый
Низкая сила эго —С +
Сдержанный, осмотрительный, не-
активный, тяжеловесный
Флегматический темперамент — D +
Смиренный, мягкий, легковедомый,
послушный, приспосабливаю-
щийся
Субмиссивность — Е +
Трезвый, молчаливый, серьезный
Десургенция — F +
Стремящийся к выгоде, пренебре-
гающий правилами
Низкая сила суперэго —G +
Робкий, застенчивый, чувствитель-
ный к угрозе
Тректия —- Н +
Жестко мыслящий, полагающийся
на себя, реалистичный
Харрия — I +
Пылкий, живой, любящий группо-
вую активность
Цеппия
Доверяющий, принимающий
вия
Алаксия
Практичный, «земные» заботы
Праксерния
-J +
усло-
-L +
— М +
Высокие значения фактора
(8—10 стенов)
Открытый, теплосердечный, лег-
кий, участвующий
Аффектотимия
Умный, высокий интеллект
Высокий q1
Эмоционально устойчивый, зре-
лый, смотрит в лицо действи-
тельности, спокойный
Высокая сила эго
Нетерпеливый, требовательный,
сверхактивный, несдержанный
Возбудимость
Самоутверждающийся, агрессив-
ный, конкурирующий, упря-
мый
Доминирование
Беспечный, веселый, воодушевлен-
ный
Сургенция
Совестливый, моралистичный,
степенный, упорный
Высокая сила суперэго
Склонный к авантюре, растормо-
женный, социально смелый,
дерзкий
Пармия
Мягкий, неуверенный, сенситив-
ный, тянущийся к другим, сверх-
опекаемый
Премсия
Осторожный индивидуализм, ре-
флектирующий, с внутренним
ограничением
Коастения
Подозрительный, не дает себя про-
вести
Протенсия
С развитым воображением, рассе-
янный, богемный
Аутия
1 Общий, или генеральный, фактор интеллекта по Спирмену.
Прямолинейный, откровенный, про-
стой, искренний, но социально
неловкий
Безыскусственный — N +
Уверенный в себе, спокойный, бла-
годушный, безмятежный
Ничем не возмущаемая адекват— О +
ность
Консервативный, уважающий тра-
диционные идеи и представления
Консерватизм темперамента —Qi+
Зависимый от группы, «примыкаю-
щий», слепой последователь
Приверженность к группе — Q2+
Внутренне недисциплинированный,
разболтанный, следует собствен-
ным импульсам, пренебрегает со-
циальными правилами
-Qs+
Хитрый, обходительный, тонкий,
искушенный, хорошо социально
ориентирующийся
Проницательный
Полный мрачных опасений, обви-
няющий себя, неуверенный, тре-
вожащийся, озабоченный
Склонность к чувству вины
Экспериментирующий, либераль-
ный, свободно мыслящий
Радикализм
Самодостаточный, изобретатель-
ный, предпочитающий собствен-
ные решения
Самодостаточность
Контролирующий себя, волевая
регуляция поведения, социаль-
но щепетильный, умеющий себя
принудить, следующий созда-
ваемому образу «Я»
Высокая интеграция чувства «Я»
Напряженный, фрустированный,
усталый, перегруженный ра-
ботой
Высокое эргическое напряжение
Низкая интеграция чувства «Я»
Расслабленный, спокойный, вялый,
нефрустированный, невозмути-
мый
Низкое эргическое напряжение —Q4+
Кроме «первичных» факторов, в результате их дальнейшей
факторизации были извлечены более обобщенные «вторичные»
факторы (или факторы второго порядка), объединяющие с раз-
ными знаками факторы первого порядка. Если, согласно Кет-
телу, первичные факторы представляют личностные черты, то
вторичные — типы личности. Кеттел многократно извлекал вто-
ричные факторы из корреляций между первичными. В разных
его работах представлено от 4 до 8 вторичных факторов. (Для
«объективных» тестов — Т-данных — были извлечены и 3 фак-
тора третьего порядка). Приведем перечень вторичных факто-
ров Кеттела (как все факторы, извлеченные из данных вопрос-
ников — Q-данных, они обозначаются буквой Q, но, в отличие
от первичных, помечаются не арабскими, а римскими цифрами):
Qi Интроверсия — Экстраверсия (Инвия — Эксвия)
Qn Низкая тревожность — Высокая тревожность (Приспособленность —
Тревожность)
Qui Сенситивность, эмоциональность — Нечувствительная уравновешен-
ность (Патемия — Кортертия)
Qiv Зависимость —Независимость (Подчиненность — Воля Прометея)
Q v Естественность — Скрытность
Qvi Холодный реализм — Чрезмерная субъективность
Qvn Низкий интеллект — Высокий интеллект (кроме фактора В, сюда вхо-
дят некоторые другие первичные факторы)
Qvm Низкая сила суперэго — Высокая сила суперэго (кроме первичного
фактора G, сюда входят факторы С и Qs, поэтому Кеттел предлагает
рассматривать его как фактор «реального суперэго»)
2* 67
Для измерения этих, установленных в результате сложных
многолетних исследований с применением множества различ-
ных методов, личностных факторов более простым и экономич-
ным способом, Кеттелом и его сотрудниками были созданы
специальные методики — личностные факторные вопросники,
сравнительно краткие, с вариантами для испытуемых различ-
ного возраста.
Для взрослых применяется «16-факторный личностный во-
просник» (16PF), имеющий три пары эквивалентных форм для
людей с разным уровнем образования (это 16 факторов из пе-
речисленных выше, кроме факторов D и J, которые использу-
ются в детском и подростковом вариантах вопросника Кеттела).
Форма А и В, имеющие по 187 вопросов, рассчитанные на уча-
щихся старших классов средней школы, студентов и взрослых
с образованием не менее 7—8 классов, занимают при обследо-
вании примерно по 50 мин. Формы С и D, имеющие по 105 во-
просов, предназначенные для испытуемых с образованием на
уровне 5—7 классов, словарный запас которых несколько ниже,
чем у испытуемых первой группы, используются также при
ограничении времени обследования, так как рассчитаны при-
мерно на 30—40 мин. Формы Е и F (по 128 вопросов), предна-
значенные для испытуемых с очень низким словарным запасом
и образованием 3—4 класса, также рассчитаны на 30—40 мин
обследования.
Для особенно ответственных обследований Кеттел рекомен-
дует использовать даже четыре формы; так, если студентам
обычно даются формы А и В, то в этих случаях могут быть при-
менены формы А и С, а для повторного исследования — В и D.
Однако, когда есть основания предполагать неискренность испы-
туемого и возможность искажения им результатов, Кеттел сове-
тует пользоваться не данными вопросников, а более объектив-
ными «Т-данными», и это разумно, так как его вопросники
не защищены от искажений со стороны испытуемого специаль-
ными контрольными шкалами.
К вопроснику 16PF существует также специальное «Патоло-
гическое дополнение» (PS) из 12 клинических шкал (шкалы
«общего психоза», ипохондрии, паранойи, психастении, психо-
патических отклонений, шизофрении и 6 шкал или факторов
депрессии). Эти 12 шкал вместе с сокращенным вариантом
шкал 16PF, образуют «Вопросник клинического анализа»
(CAQ, авторы Delhees и Cattell R.), состоящий из 28 шкал-фак-
торов, предназначенный для психопатологии, а также для тех
исследователей, «кто стремится к максимальному охвату лич-
ности» [Cattell R., Eber H., Tatsuoka M., 1970, с. 20] *. В то же
время Кеттел считает, что и сам по себе вопросник 16PF может
1 Cattell R. В., Eber H. W. a. Tatsuoka M. M. Handbook for the Sixteen
Personality Factor Questionnaire (16PF).— Illinois, 1970.
68
быть использован в психопатологии, так как он позволяет диф-
ференцировать и описвдать различные клинические группы.
Однако, хотя вопросник 16PF достоверно различает группы
неврозов и психозов от нормы, характеристика больных невро-
зами при этом получается полнее и содержательнее, чем боль-
ных психозами. Так, профиль больных неврозами отличают
«низкая сила эго (С—), недостаточные независимость мысли
и способность решать свои проблемы (Е—), излишняя затор-
моженность, возможно и как причина, и как следствие неудач
(F—), ниже среднего организация суперэго (G—), плохое па-
расимпатическое сопротивление стрессу (Н—), склонность к ги-
перопеке (1 + ), высокая тревожность и чувство виновной ник-
чемности (0+ и Q4 + )» [Кеттел и др., 1970, с. 264]. Сообщается,
что соответствующий невротический профиль сохраняет свою
устойчивость и типичность для таких разных регионов, как
Средний Запад и Восток США, Канада, Австралия, Британия.
В руководстве к вопроснику 16PF (Кеттел и др., 1970] приво-
дятся профили и средние оценки по факторам для различных
клинических групп. Рассматривая особенности профилей больных
как «проекцию общих личностных факторов на патологические
формы поведения (стр. 257), R. В. Cattell (1970) предполагает,
что «психотизм больше связан с физиологией, чем с личностной
динамикой» (стр. 276), в отличие от неврозов, психопатий,
делинквеитного поведения и т. п., для которых, по его мнению,
особенно подходит вопросник 16PF. Вообще же для психо-
патологии, особенно психозов, R. В. Cattell считает оптималь-
ным использование, наряду с 16PF, измеряющим «глубинные»
проявления («источниковые» черты личности), вопросника
MMPI, фиксирующего «синдромные» или «поверхностные» (по
Кеттелу) проявления и столь же популярному в клинике при
исследованиях психозов и пограничных состояний, сколько во-
просник Кеттела в исследованиях нормы и пограничных состоя-
ний. Оба эти личностных теста получили широкое распростра-
нение во многих странах, вопросник Кеттела — более чем
в двадцати (кроме стран английского языка, во Франции, Ита-
лии, Германии, Финляндии, Японии, Индии, а также в Польше,
Чехословакии и др.). У нас в стране интерес к вопроснику
также велик, имеются попытки использования его в разных
областях прикладной психологии, прежде всего социальной
[Кузьмин Е. С, Викторов Н. А., Чугунова Э. С, 1977] и меди-
цинской [Захаров А. И., 1982, и др.]. Однако следует учитывать,
что процесс адаптации стандартизованных личностных зару-
бежных методик почти так же сложен и трудоемок, как созда-
ние и разработка новых оригинальных методов, и требует мно-
голетних усилий коллективов специалистов (заметим, что нэд
своим вопросником Кеттел с сотрудниками работал более 40 лет
и работа продолжается). При переводе текста вопросника необ-
ходимо передать не только смысл вопроса, но и зависящий от
G9
лингвистических и культуральных различий оттенок его, в зна-
чительной степени определяющий реакцию испытуемого. Разу-
меется, все вводимые замены изменяют как частотность ответов,
так и систему корреляционных связей, на которых базируется
тест, и влекут за собой необходимость рестандартизации, т. е.,
по существу, повторения почти всех этапов разработки теста.
По отношению к факторным вопросникам рестандартизация
должна быть завершена факторным анализом с целью проверки
НЕСТАБИЛЬНОСТЬ
24
23 -*«
Угрюмый 220бидчивый
21 Неспокойный
20 Агрессивный
19
18
Тревожный
Ригидный
Трезвый
Пессимистичный
Замкнутый
Необщительный
Тихий
17 ш
с;
< 16 о
5 15 Х
2 14
13
0-1-ИНТРОВЕРСИЯ-9-Ю-11-1*2-13-14-15 ЭКСТРАВЕРСИЯ- 24
Возбудимый
Переменчивый
Импульсивный
Оптимистичный
Активный
Пассивный
Осторожный
Рассудительный
Мирный
Сдержанный
Надежный
Ровный
Общительный
s Открытый
s Разговорчивый
ш
|- Доступный
£j Беспечный
Живой
Беззаботный
^Спокойный 2 Лидерство^
-G-
СТАБИЛЬНОСТЬ
Схема 3. «Круг Айзенка».
соответствия оригиналу распределения вопросов по факторам
в адаптированном варианте вопросника. Насколько нам из-
вестно, эта работа, включающая факторизацию данных, полу-
ченных на стандартной выборке испытуемых, проделана пока
только при адаптации детского варианта вопросника Кеттела
(CPQ), причем оказалось, что распределение вопросов по фак-
торам несколько изменилась (соответственно изменилась и ин-
терпретация факторов), некоторые факторы (JN) не были вы-
делены, так как входящие в них вопросы не имели корреляции
между собой. В целом же структура адаптированного вопрос-
ника CPQ соответствует оригиналу, а верификация его после
адаптации показала, что он может быть использован в практи-
70
ческих целях [Александровская Э. М., Гильяшева И. Н.,
1978].
Автор другого известного «факторного» вопросника Г. Ай-
зенк [Eysenk H. J., 1960] подошел к проблеме по-иному. Начав
с изучения литературы, связанной с описанием свойств личности
в норме и патологии, он пришел к выводу, что на протяжении
многих сотен лет большинство исследователей выделяли два
основных свойства, определяющих разнообразие типов лич-
ности, хотя называли их по-разному, неодинаково интерпрети-
ровали и акцентировали различные аспекты этих свойств. Это
экстраверсия — интроверсия (термин взят у Юнга, хотя интер-
претация его Айзенком несколько отличается — он подчерки-
вает главным образом поведенческие проявления этого свой-
ства) и эмоционально-волевая нестабильность — стабильность
(или «нейротизм» — термин, который не следует путать с невро-
тизмом, так как речь идет не о больных неврозами, а о здоро-
вых, хотя больные неврозами при обследовании получают по
шкале нейротизма более высокие оценки, чем здоровые). Эти
свойства Айзенк находит в неявном виде в классификации тем-
пераментов, идущей от Гиппократа и Галена, у Канта и Вундта,
в типологии Юнга, а также в современных экспериментальных
и клинических работах. Собственные исследования, проведен-
ные Айзенком и подвергнутые факторному анализу, служили
скорее для подтверждения существования этих двух основных
переменных, которые легли в основу его двуфакторной модели
личности. В так называемом «круге Айзенка» (схема 3) пред-
ставлена модель, «показывающая связь между классическими
четырьмя темпераментами и результатами современных методов
факторно-аналитического описания личности» [Eysenk Н. Н.,
1964]. Согласно Айзенку переменные экстраверсия — интровер-
сия и нестабильность — стабильность ортогональны, т. е. неза-
висимы, и каждая представляет собой континуум между двумя
полюсами крайне выраженного личностного свойства, поэтому
большинство испытуемых расположатся где-то между полю-
сами, ближе к центру, удаленность от которого будет свиде-
тельствовать о степени отклонения от средней и выраженности
соответствующих личностных свойств, для измерения которых
Айзенком были созданы специальные вопросники.
Наиболее популярен из них вопросник EPI, предложенный
в 1963 г., который является развитием и усовершенствованием
существовавших ранее вопросников Айзенка MMQ (1947 г.)
и MPI (1956 г.). EPI содержит 57 вопросов, из которых 24 ра-
ботают по шкале экстраверсии-интроверсии, другие 24 во-
проса — по шкале нестабильности — стабильности, а остальные
входят в контрольную L-шкалу, предназначенную для оценки
искренности-неискренности испытуемого, его отношения к об-
следованию и достоверности результатов. Низкие баллы по
шкале экстраверсии — интроверсии означают интроверсию, вы-
71
сокие — экстраверсию (максимальная оценка ее в EPI 24 балла,
а при одновременном использовании двух форм вопросника,
А и В,— 48 баллов). Низкие баллы по шкале нестабильности —
стабильности означают стабильность, высокие — нестабильность
(максимальная оценка также 24 балла, при использовании
форм А и В — 48 баллов), средняя для обоих шкал— 12 баллов
(при А+В — 24 балла)—приходится на точку их пересечения
(см. «круг Айзенка», размеченный нами для одной формы
опросника EPI). Конкретное положение индивида в модели
Айзенка может быть представлено в виде точки, координаты
которой определяются оценками его по этим двум шкалам.
Вопросник EPI имеет две параллельные, эквивалентные формы — А и В,
которые могут применяться одновременно, для большей достоверности ре-
зультатов, или раздельно с интервалом во времени, для проверки надежно-
сти вопросника путем ретестирования или для исследований в динамике.
Айзенком (вместе с его супругой) были созданы варианты этого вопросника
для подростков и детей, также имеющие по две параллельные формы (одна
из них была адаптирована у нас А. Ю. Панасюком, 1977).
Средняя оценка 12±2 балла (по одной из форм EPI) яв-
ляется как бы идеальной гипотетической средней, которая
может быть получена на очень большой выборке испытуемых
разного пола, возраста, образования, профессии и т. п., но мо-
жет и колебаться, если соответствующие группы испытуемых
будут рассматриваться отдельно. Так, Айзенком и его сотруд-
никами приводятся средние в зависимости от пола, возраста,
профессии и других особенностей обследуемых групп. Согласно
этим данным, женщины имеют более высокие оценки (хотя раз-
личие невелико) по нейротизму (нестабильности) и более низ-
кие — по экстраверсии. Более молодые испытуемые обоего пола
имеют более высокие оценки и по экстраверсии, и по нейро-
тизму (нестабильности). Есть различия, зависящие от уровня
образования и профессии. Особый интерес представляют разли-
чия, полученные на клинических группах. Айзенк приводит дан-
ные больных неврозами; они имеют более высокие, чем здоро-
вые испытуемые, оценки по нейротизму (нестабильность) и раз-
личаются по шкале экстраверсии — интроверсии. Так, «дисти-
мические группы» («тревога, обсессии, фобии, реактивная деп-
рессия») имеют низкие оценки по шкале экстраверсии — интро-
версии и попадают на схеме Айзенка в левый верхний квадрант
(«меланхолики»), а истерики и психопаты (Айзенк не уточняет
тип психопатии) получают более высокие оценки по экстравер-
сии и попадают в верхний правый квадрант («холерики»), хотя
Айзенк указывает, что и их оценка по этой шкале несколько
ниже, чем у здоровых. Аналогичные данные, свидетельствую-
щие о том, что невротизация сопровождается или приводит
к уменьшению экстравертированности и увеличению нестабиль-
ности, были получены и по адаптированному варианту EPI на
отделении неврозов и психотерапии Института им. В. М. Бехте-
72
рева. О больных психозами Айзенк сообщает, что они по шкале
нестабильности—стабильности занимают место, промежуточное
между больными неврозами и здоровыми, причем больные
шизофренией ближе к этой шкале к здоровым, а МДП —
к больным неврозами. Психотизм, выделенный под влиянием
работ Кречмера как особый параметр личности уже в ранних
работах Айзенка [Eysenck H. J., 1952], был впоследствии введен
им как третий фактор в описанную выше модель личности. Он
ортогонален первым двум (его можно представить как перпен-
дикуляр к точке пересечения факторов экстраверсии — интро-
версии и нестабильности — стабильности); таким образом, мо-
дель становится уже не плоскостной, а объемной, «круг» пере-
ходит в «шар».
Добавление шкалы психотизма к шкалам EPI привело к появлению но-
вого вопросника PEN (1968), также предназначенного для широкого иссле-
дования нормы и патологии, так как Айзенк свойство «психотизма» не счи-
тает дискретным и принадлежащим только патологии, но рассматривает и
его как непрерывное (в континууме норма — психотизм), полагая, что иссле-
дование его может быть полезным при изучении групп с делинквентным по-
ведением, преступников, а также других проблем, пограничных между нор-
мой и патологией. Этот последний вариант вопросника Айзенка не получил
у нас распространения, в то время как EPI используется достаточно ши-
роко, особенно при исследовании приспособления человека к различным ус-
ловиям деятельности в экстремальных ситуациях, в спорте и т. п., хотя сле-
дует сказать, что адаптация обеих форм (А и В) вопросника EPI, начатая
у нас в стране в Институте им. В. М. Бехтерева (1970, 1974), далеко не
завершена и требует дальнейшей работы.
В. С. Магун (1973) приходит к правильному выводу, что
«реальные факторные модели индивидуально-типических осо-
бенностей, предложенные Айзенком и Кеттелом, не исключают,
но дополняют друг друга, располагаясь на разных уровнях
обобщенности».
Интересно, что факторный анализ, примененный в 1959 г.
Кессельбаумом, Кучем и Слетером и к совсем другому, не фак-
торному по своему происхождению вопроснику, а именно MMPI,
позволил авторам построить модель, очень близкую к модели
личности Айзенка (схема 4, приводимая по N. Sanocki, 1976).
Если принять, что фактор слабость эго-сила эго на этой
схеме близок фактору нестабильности-стабильности, можно
увидеть в ней зеркальное отражение модели Айзенка, где в тер-
минах типов темперамента верхний левый квадрант будет со-
ответствовать «холерику», верхний правый — «меланхолику»,
нижний левый — «сангвинику», а нижний правый — «флегма-
тику».
Подобное факторно-аналитическое исследование структуры
вопросника MMPI было проделано В. И. Галуновым, Б. X. Ма-
неровым и Е. А. Устинович (1978). Они также обнаружили
сходство выделенных ими факторов с факторами Айзенка и вто-
ричными факторами Кеттела. Ссылаясь также на работу
В. С. Мерлина и И. М. Палея (1975), они заключают, что можно
73
предположить, что факторная структурно-описательная модель
личности, представляя собой иерархическую систему факторов,
в качестве обобщающих должна включать в себя фактор интро-
версии—экстраверсии и фактор, объединяющий показатели эмо-
циональности.
Что же касается сравнения самих вопросников Айзенка и Кеттела, то
описание индивида с помощью многофакторного вопросника Кеттела, ко-
нечно, предоставляет возможности получения гораздо большего количества
важной информации, чем вопросник Айзенка, который дает оценку только по
двум-трем переменным. К характеристике личности по Айзенку могут быть
привлечены еще и счерты» круга Айзенка (в соответствии с показателями
испытуемого по двум основным переменным, если оценки по ним находятся
достаточно близко к периферии круга). Возможно также выделение некото-
рых, указываемых автором, первичных черт из вопросов EPI или PEN, од-
Слабость эго
Импульсивность
Экстраверсия
Общительность
Избегание социальных
контактов
Интроверсия
Интеллектуальный
контроль
Сила эго
Схема 4. Модель личности по Кессельбауму, Кучу и Сле-
теру.
нако их сравнительно небольшое количество да и то, что они не были зара-
нее дифференцированы с этой целью, не обеспечивают характеристику «пер-
вичных» черт личности с той полнотой и систематичностью, как вопросник
Кеттела. Таким образом, если говорить о возможности представления лич-
ности испытуемого как многоуровневой структуры, то преимущество вопрос-
ника Кеттела перед вопросником Айзенка становится совершенно явным.
Мы остановились здесь на вопросниках Кеттела и Айзенка
более подробно потому, что нередко встречаются случаи (даже
в публикациях) неграмотного их применения, а чаще — непони-
мания необходимости чрезвычайной осторожности выводов, ко-
торые можно делать на основе их использования ввиду незавер-
шенности их адаптации.
Миннесотский многомерный личностный перечень, или
MMPI,— еще один очень известный и широко используемый,
особенно в медицинской психологии, вопросник. Если вопрос-
ники Кеттела и Айзенка построены на основе «внутренних» кри-
териев, т. е. факторного анализа, исходящего из корреляций
между различными свойствами личности, то для создания MMPI
74
были выбраны «внешние» критерии — ответы испытуемых опре-
деленных клинических групп (согласие или несогласие их с оп-
ределенными утверждениями, которых в MMPI всего 550).
MMPI был предложен в 40—50-х годах. S. Hathaway и J. Мс-
Kinley (1951), клиническим психологом и психиатром Миннесот-
ского университета. Предназначенный для измерения «всех
наиболее важных параметров личности», этот тест был вначале
ориентирован прежде всего на клинический диагноз, т. е. пред-
полагалось, что, будучи построенным на ответах пациентов,
клинические диагнозы которых устанавливались авторитетной
комиссией из психиатров (с их помощью больные были подо-
браны по основным психопатологическим группам согласно но-
зологической классификации Крепелина), вопросник может
быть использован в последующем для диагностики соответ-
ствующих пациентов и групп. Однако это ожидание не оправ-
далось, особенно в отношении отдельных шкал вопросника.
Выше оказались диагностические возможности всего «профиля
личности», построенного на основе оценок испытуемого по всем
так называемым основным, или базисным, шкалам, хотя интер-
претация такого профиля оказалась делом достаточно сложным,
требующим и опыта, и известного искусства интерпретатора.
Вместе с тем вскоре выяснилось, что вопросник может иметь
большую ценность как для характеристики личности испытуе-
мого, так и для оценки его состояния, причем, что особенно
важно, его можно применять к одному и тому же испытуемому
практически сколько угодно раз, фиксируя изменения состоя-
ния в динамике, при этом надежность его в характеристике лич-
ности будет только повышаться, так как появится возможность
дифференцировать то, что определяется состоянием или каким-
либо воздействием, от постоянно присущих данному индивиду
свойств. Все это привело к тому, что вопросник завоевал боль-
шую популярность и количество публикаций, посвященных ему,
стало быстро нарастать, перевалив уже к началу 60-х годов за
тысячу, в настоящее время их значительно более 2 тысяч.
Адаптация MMPI у нас в стране началась в середине
60-х годов. Первыми были публикации Ф. Б. Березина и
М. П. Мирошникова (1967, 1969). Модифицированный ими ва-
риант MMPI они ограничили 384 утверждениями (только теми,
которые входят в 10 базисных и 3 контрольных шкалы). Прове-
дена рестандартизация теста на отечественной норме, и хотя
группа стандартизации не очень велика (250 мужчин и 250 жен-
щин), но отбор испытуемых производился более строго и си-
стематически, чем это делали авторы оригинального теста. По-
лучены новые стандарты, отличающиеся от американских (сле-
дует сказать, что сравнение результатов рестандартизации
MMPI в ГДР и Венгрии, опыт работы с методикой у нас
в стране — независимые данные, полученные в Москве, Ленин-
граде и Каунасе, так же как данные Ф. Б. Березина и М. П. Ми-
75
рошникова, свидетельствует об их большей близости между
собой, чем с американскими стандартами). Оригинальная и хо-
рошо обоснованная интерпретация шкал MMPI, предложенная
Ф. Б. Березиным и М. П. Мирошниковым, выгодно отличается
от сугубо эмпирической и несколько эклектической системы
интерпретации американских авторов цельностью, вытекающей
из единого принципа этой интерпретации, а именно — оценки
профиля с точки зрения адаптированности личности или нару-
шений ее адаптации. Главными симптомами и признаками на-
рушения адаптации, преобразующими основные шкалы и весь
профиль MMPI, рассматриваются тревога и депрессивные тен-
денции как субъективное отражение нарушения психологиче-
ского и психофизиологического равновесия, механизм психиче-
ского стресса, лежащего в основе большей части психопатоло-
гических проявлений [Березин Ф. Б., Мирошников М. П., Рожа-
нец Р. В., 1976]. В соответствии с этой концепцией шкалы и ин-
терпретируются, и переименовываются: шкала 1 (Hs — «ипо-
хондрия») — в шкалу «соматизации тревоги», шкала 3 (Ну —
«истерия») — в шкалу «вытеснения факторов, вызывающих тре-
вогу», шкала 7 (Pt — «психастения») —в шкалу «фиксации тре-
воги и ограничительного поведения», шкала 9 (Ма — «гипома-
ния») —в шкалу «отрицания тревоги и гипоманиакальных тен-
денций». Остальные шкалы также рассматриваются с точки
зрения разных форм модификации поведения, вызываемых эмо-
циональным напряжением вследствие нарушения адаптации.
Тщательная стандартизация и оригинальная интерпретация де-
лают «Методику многостороннего исследования личности», как
назвали свою модификацию авторы, ценным инструментом
психодиагностики, что они и демонстрируют на примерах
использования ее в психофармакологии и психофизиологии,
а также при психогигиенических исследованиях студентов
(в том же издании). К недостаткам этого вопросника следует
отнести его сокращенную форму (что, впрочем, в некоторых
случаях, например ограниченного времени обследования, может
обернуться и достоинством). Однако это закрывает возможность
использования или создания новых, так называемых дополни-
тельных, шкал MMPI, которые могут оказаться очень полез-
ными для характеристики некоторых свойств личности как
в норме, так и при патологии. Другим недостатком, на наш
взгляд, является изменение формы утверждений от первого
лица (как в оригинале) в форму второго лица, что может сни-
зить «проективный» характер утверждений испытуемого.
Почти одновременно работа над адаптацией полного текста
MMPI проводилась независимо в Ленинграде (Психоневрологи-
ческий институт им. В. М. Бехтерева) и в Москве, где
Л. Н. Собчик (1971) были предложены собственные интерпре-
тации и названия шкал, приспособленные к характеристике
личности здорового контингента испытуемых. Получены нор-
76
мативные данные на достаточно обширной выборке нормы
[Собчик Л. Н., 1978].
В Институте им. В. М. Бехтерева были разработаны и опуб-
ликованы несколько брошюрных вариантов адаптированного
полного текста MMPI (1970, 1973, 1974). Он апробировался на
больных разных нозологических групп с целью проверки диаг-
ностических возможностей [Беспалько И. Г., Гильяшева И. Н.,
1971], проводилась его стандартизация на норме. Специальные
исследования велись с целью усиления дифференцирующих воз-
можностей отдельных шкал при помощи статистической оценки
информативности каждого утверждения путем определения его
диагностического веса по той или другой шкале. Для этой цели
использовалась неоднородная последовательная статистическая
процедура (т. е. в отличие от традиционного построения вопрос-
ника MMPI, при котором каждый из зачетных ответов оцени-
вается одинаково одним баллом, разнообразие весовых коэффи-
циентов позволяет охарактеризовать различную значимость от-
вета для измеряемого свойства личности или состояния). Таким
образом, на базе утверждений MMPI в Институте им. В.М.Бех-
терева были созданы новые дифференциально-диагностические
шкалы, такие как шкала параноидной шизофрении, шкалы on-
ределения уровня невротизации и психопатизации, а также
шкалы для определения депрессивных состояний. Методика
определения уровня невротизации и психопатизации (УНП) {
предназначена для экспресс-диагностики, практической и иссле-
довательской работы в области психогигиены и психопрофилак-
тики заболеваний, связанных с определенной спецификой усло-
вий жизни и некоторыми особенностями труда, в частности
невротических состояний и психопатических декомпенсаций. Эта
методика, будучи при достаточной простоте обоснованным и
чувствительным инструментом, оказалась удобной для обследо-
вания крупных контингентов на предмет выявления «группы
риска» при профотборе и профосмотре лиц, работающих
в особо сложных условиях [Бажин Е. Ф. с соавт., 1976; Тар-
хан А. У. с соавт., 1977; Кузнецов В. Г., 1981].
Методика УНП содержит 80 утверждений из состава MMPI, статистиче-
ски достоверно различающих сравниваемые группы испытуемых и норму,
диагностическая ценность этих утверждений определялась на основании меры
Кульбака. Кроме 80 основных, она включает также 10 контрольных вопросов
шкалы неискренности (L). Методика была подвергнута проверке на кон-
трольных группах больных неврозами (103 человека) и психопатиями
(70 человек), а также 100 здоровых испытуемых и 195 лицах, работаю-
щих на полярных станциях. Апробация методики заключалась в двукрат-
ном (при поступлении и перед выпиской) исследовании вопросником боль-
ных неврозами в Институте им. В. М. Бехтерева. Анализ как среднегруп-
повой, так и индивидуальных оценок больных по шкале невротизации по-
казал отчетливую положительную динамику состояния. Было выявлено, что
1 Методика определения уровня невротизации и психопатизации (УНП):
Методические рекомендации.—Л.: Изд. ин-та им. В. М. Бехтерева, 1980.
77
шкала психопатизации может служить не только для определения некото-
рых особенностей поведения испытуемых, но и для npoi позирования дина-
мики состояния поведения в процессе лечения.
Адаптация и разработка других вопросников, В Институте
им. В. М. Бехтерева разрабатывается вопросник для опреде-
ления депрессивных состояний (ОДС), также состоящий из ут-
верждений MMPI, отобранных на основе оценки их диагности-
ческих весов [Беспалько И. Г. с соавт., 1981]. Методика пред-
ставляет собой серию шкал, каждая из которых создавалась
путем сопоставления не только групп патологии с нормой (как
это делалось в MMPI), но и двух патологических групп между
собой (например, депрессия при МДП — невротическая депрес-
сия), что представляется диагностически весьма важным, так
как шкала депрессии MMPI сама по себе не дифференцирует
невротические и эндогенные формы снижения настроения. Для
этого при разработке ОДС были подобраны в рамках депрес-
сивного синдрома группы МДП, шизофрении и неврозов, на
основании математико-статистического сопоставления которых
с помощью неоднородной статистической процедуры и исполь-
зования ЭВМ создавались дифференциально-диагностические
шкалы. Окончательная диагностическая процедура заключа-
ется в последовательном применении шкал, построенных с уче-
том нозологического диагноза в рамках депрессивного синд-
рома: 1) шкала «депрессивный синдром — норма»; 2) шкала
«МДП — невроз», 3) шкала «МДП — шизофрения» и т. д. В на-
стоящее время в ОДС выделены 2 шкалы: 1) «депрессия-
норма»; 2) «МДП — невроз». В процессе доработки находятся
шкалы «МДП — шизофрения» и «невроз — шизофрения». Пред-
варительная оценка валидности выделенных шкал показывает
следующее: а) шкала «депрессия — норма» правильно относит
к соответствующим группам 95 % депрессивных больных и
80 % здоровых (по сравнению с 89 % депрессивных и 60 % здо-
ровых по шкале депрессии — D — MMPI); б) шкала «МДП —
неврозы» правильно относит в соответствующие группы 91 %
больных МДП и 86 % больных неврозами (напомним, что D —
шкала депрессии MMPI — не различает МДП и неврозы и дает
нередко при неврозах более высокие оценки, чем средние при
МДП). Работа над увеличением диагностической ценности тех
или других шкал и выделения их в отдельные целенаправлен-
ные методики не означала прекращения дальнейшей адаптации
всего вопросника MMPI в целом. Решено было на основе по-
следних усовершенствованных ленинградского и московского
(Л. Н. Собчик) вариантов адаптации и необходимой модифи-
кации перевода полного текста вопросника (550 утверждений)
сделать единый вопросник, так как существование двух в прин-
ципе идентичных адаптации на русском языке не представля-
ется целесообразным. В настоящее время это выполнено, со-
78
здан соответствующий брошюрный вариант [Гильяшева И. Н.,
Собчик Л. Н., Федорова Т. Л., 1982], и предстоящая задача со-
стоит в стандартизации его на представительных группах
нормы. Мы полагаем, что, кроме общей усредненной выборки,
целесообразно будет получить нормы для разных групп в за-
висимости от образования, профессии, ситуации обследования
(например, профотбора) и прочих существенных факторов, ко-
торые могут влиять на результаты соответствующих групп.
Заслуживают внимания попытки психодиагностической ин-
терпретации профиля MMPI и отдельных его шкал с помощью
современных ЭВМ. Работа в этом направлении также прово-
дится в группе психологической и вычислительной диагностики
Института им. В. М. Бехтерева [Иовлев А. Б. и Иовлев Б. В.,
1982]. Один из типов кодирования рассчитан на ввод в ЭВМ
перфокарт, которые испытуемый сортирует непосредственно во
время обследования. В итоге на печать выдаются сырые и
шкальные оценки по основным шкалам и ряду дополнитель-
ных, рисунок профиля, код его и непосредственно интерпрета-
ция— психодиагностическое заключение в словесной форме на
основе рекомендаций и характеристики шкал, как это пред-
ставлено в кратком пособии по MMPI [Собчик Л. Н., 1971].
Такой анализ проводится для имеющихся пяти вариантов ста-
тистических характеристик нормативных выборок испытуемых.
В последнем варианте программы выбор идет из 237 сообще-
ний, средняя длина которых — две строчки. Обычно интерпре-
тация одного протокола MMPI содержит 10—20 предложений.
Сообщения подбираются независимо друг от друга, и пока не
удалось избежать противоречий интерпретации. Эти противоре-
чия— неизбежное следствие процесса формализации, необхо-
димого при переложении на машину функций, до этого выпол-
нявшихся человеком, не замечавшим этих противоречий, или,
выявляя их, устранявшим, проверяя выраженность признаков,
на основании которых делается вывод о наличии противоречи-
вых свойств личности. Программа написана на языке ПЛ/1,
имеет объем около 1000 операторов этого языка, отлажена на
ЭВМ ЕС-1040. Перспективами этой работы могут, как видно,
являться создание «блока редактирования» для устранения не-
которых противоречий интерпретации, ее расширение с исполь-
зованием других методических руководств, включение диагно-
стических индексов, а также разработка машинной интерпре-
тации других вопросников, формализация которых на данном
этапе представляется возможной; в настоящее время прово-
дится программирование интерпретации ПДО (см. гл. IV).
В Институте им. В. М. Бехтерева разрабатывается еще
один тип вопросников, направленных на изучение самооценки
испытуемым своих характерологических и личностных качеств,
а также особенностей состояния. К ним принадлежат методика
Субъективного личностного шкалирования (ЛСШ) и вопросник
79
для исследования дифференцированной самооценки больных
эпилепсией.
Методика ЛСШ [Цейтина Г. П. с соавт., 1977, 1978] была
сконструирована для самооценки свойств личности и отноше-
ний больными неврозами и неврозоподобными состояниями.
Построенная по типу БОД (Брненского личностного вопрос-
ника, Kratochwil S., 1966), она представляет собой качествен-
ные, но дифференцированные по степени выраженности каж-
дого качества характеристики, из которых испытуемый должен
сделать свой выбор. В ЛСШ каждое из 41 качества имеет4гра-
дации, что позволяет вычислить средние по каждому из них
как бы в едином масштабе, а также изобразить результаты на
кодировачном листе в виде профиля. Методика оказалась по-
лезной также в соматической клинике для оценки особенностей
личности больных ишемической болезнью сердца, гипертониче-
ской болезнью и т. п. В частности, при исследовании особенно-
стей личности больных с церебральными формами гипертони-
ческой болезни выявлено большое соответствие между дан-
ными клинических исследований и результахами по методике
ЛСШ. По такому же принципу, но с характеристиками специ-
фических качеств построен вопросник для больных эпилепсией.
Современные эпидемиологические исследования показывают,
что психические изменения при эпилепсии встречаются чаще
всего в форме «пограничных», неврозоподобных расстройств,
астенических состояний, дистимий, навязчивостей, характеро-
патий и т. п., сопровождающих начальные этапы развивающе-
гося органического симптомокомплекса и отражающих реак-
цию личности на болезнь и связанную с ней социальную дез-
адаптацию. Поэтому клинический синдромологический диагноз
должен быть дополнен данными психологической объективной
оценки больного, а также его субъективной самооценкой, важ-
ной для понимания внутренней картины болезни и разработки
индивидуализированной адекватной системы психокоррекцион-
ной помощи больному и его близким в комплексе лечебно-вос-
становительных мероприятий. Для этих целей и был создан
личностный вопросник, разработанный совместно группой пси-
хологической диагностики (Л. И. Вассерман, И. Н. Гильяшева
и Н. С. Хазанова) и отделением нейрохирургии Института им.
В. М. Бехтерева, где лечатся больные эпилепсией с психиче-
скими нарушениями (И. С. Тец).
Методика предполагает дифференцированную самооценку
испытуемых по 42 качествам, объединенным в 3 блока: харак-
теристики поведения (12 пунктов), эмоционально-волевые осо-
бенности (12 пунктов) и характеристики уровня социальной
адаптации (18 пунктов). Вопросник содержит также шкалу не-
искренности (из 7 пунктов). Испытуемый, оценивая себя, рас-
полагает по каждой характеристике выбором из четырех гра-
даций соответствующего качества, он может также выбрать от-
80 /
вет: «ни один вариант мне не подходит», кроме того, дать соб-
ственную! формулировку по каждой характеристике. После об-
работки данных можно получить профиль типа поведенческих
реакций, эмоционально-волевых особенностей и интерперсо-
нальных отношений испытуемого. Кроме «реальной само-
оценки» по тем же 42 параметрам, может быть дана характе-
ристика «идеального Я» испытуемого, а также оценка больного
его родными и лечащим врачом.
При разработке вопросника использовались клинико-психо-
патологический и психологический опыт авторов, анализ лите-
ратуры по эпилептологии, а также данные экспертных оценок
преобладающих особенностей личности больных эпилепсией
(по 10 ранжированным признакам), полученные более чем
у 100 экспертов (врачей-эпилептологов, психиатров, невропато-
логов, нейрохирургов). Анализ данных показал, что эта мето-
дика может быть эффективна для раскрытия самооценки важ-
ных характеристик личности больного и типа его поведенче-
ских реакций в реальной ситуации. Степень снижения критич-
ности больного может быть выявлена при расхождении между
самооценкой, характеристикой «идеального Я» и оценкой боль-
ного его близкими. Кроме того, методика дает возможность
оценить уровень самопонимания больного и контролируемость
им своего поведения. Конечно, полученная информация стано-
вится более надежной при сочетании этого вопросника с дру-
гими, а также с проективными методами исследования.
Глава IV
ПАТОХАРАКТЕРОЛОГИЧЕСКИЙ
ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ОПРОСНИК
(ПДО) ДЛЯ ПОДРОСТКОВ
Подростковый возраст — период становления характера.
В это время формируется большинство его типов, и их черты
еще не сглажены и не компенсированы последующим жизнен-
ным опытом, как это нередко бывает у взрослых. Именно
в подростковом возрасте различные типологические варианты
нормы в отношении характера выступают наиболее ярко как
«акцентуации характера» [Личко А. Е., 1977]. У взрослых ак-
центуации характера нередко проявляются не столь отчетливо,
но, тем не менее, основа их сохраняется («скрытые акцентуа-
ции»), и в особых обстоятельствах тип акцентуации может вы-
явиться во всей его полноте. Обычно это случается, когда ка-
кая-либо психическая травма или трудная жизненная ситуа-
ция больно заденут «слабое звено» данного типа акцентуации
характера. По мнению К. Леонгарда (1968, 1976, 1981), в раз-
81
витых странах около половины популяции может быть отне-
сено к описанным им «акцентуированным личностям», от ко-
торых следует отличать акцентуации характера. Если в фор-
мировании первых главную роль играют влияния окружающей
среды (фенотип), то во вторых больше проявляются генотипи-
ческие свойства (генотип).
У подростка от типа акцентуации характера зависит мно-
гое— особенности транзиторных нарушений поведения («пубер-
татных кризов»), острых аффективных реакций, неврозов (как
в их проявлениях, так и в отношении вызывающих их причин).
От типа акцентуации зависит также отношение к соматическим
заболеваниям, особенно длительным. Акцентуации характера
выступают как важный фактор преморбидного фона при эндо-
генных психических заболеваниях и как фактор, предраспола-
гающий при реактивных нервно-психических расстройствах
[Личко А. Е., 1979}. С типом акцентуации характера необхо-
димо считаться при разработке реабилитационных программ
для подростков. Этот тип служит одним из главных ориентиров
для медико-педагогических рекомендаций, для советов в отно-
шении будущей профессии и трудоустройства. Последнее же
весьма существенно для хорошей социальной адаптации. Зна-
чение типа определяет особенности разработки психотерапев-
тических программ, позволяя отдать предпочтение тем или
иным формам психотерапии (индивидуальной или групповой,
дискуссионной или директивной) и т.п. Тип акцентуации указы-
вает на уязвимые места характера и тем самым позволяет пред-
видеть факторы, способные вызвать тяжелые декомпенсации или
психогенные реакции, ведущие к дезадаптации; тем самым от-
крываются перспективы для психопрофилактики. Наконец, без
знания типа характера трудно бывает решать семейные про-
блемы, роль которых в развитии патологических нарушений
поведения у подростков трудно переоценить. При акцентуациях
характера и психопатиях у подростков их родители нередко
имеют весьма неточное представление о характере своего сына
или дочери [Эйдемиллер Э. Г., 1972, Горбунова Л. Н., 1980].
Поэтому неправильное отношение к ним родителей, неадекват-
ное с ними обращение нередко служат причиной конфликтов,
ведут к взаимному непониманию. Семейная психотерапия, пси-
хологическая коррекция внутрисемейных отношений также дол-
жны учитывать тип характера подростка и способствовать его
пониманию родителями. Акцентуации характера следует рас-
сматривать как вариант нормы. Не меньшей, чем определение
типов акцентуации характера, задачей подростковой психиат-
рии является определение типов патологических девиаций ха-
рактера, а именно типов конституциональных психопатий, пси-
хопатических (патохарактерологических) развитии и иных пси-
хопатоподобных нарушений. Эти типы, по сути дела, представ-
ляют собой те же типы характера, что и при акцентуациях,
82
но крайне заострившиеся, превратившиеся в патологическую
форму, т. е. перешедшие на новый качественный уровень. Все
сказанное делает достаточно актуальной психологическую ди-
агностику типа характера в подростковом возрасте.
Разработанный нами (А. Е. Личко) патохарактерологиче-
ский диагностический опросник (ПДО) предназначен для оп-
ределения в подростковом возрасте (14—18 лет) типов акцен-
туации характера и вариантов конституциональных психопа-
тий, психопатических развитии и органических психопатий.
В первоначальном виде ПДО не мог быть использован для
разграничения патологических характеров от акцентуаций, т. е.
не мог служить вспомогательным приемом для диагностики
психопатий. В настоящее время, как будет показано далее,
нами разрабатываются диагностические шкалы для разграни-
чения психопатий и акцентуаций характера. ПДО может приме-
няться медицинскими психологами, психиатрами и врачами дру-
гих специальностей, получившими подготовку по медицинской
психологии. С учетом типов характеров в руководствах и мо-
нографиях Е. Kraepelin (1915), Е. Kretschmer (1921), K.Schnei-
der (1923), П. Б. Ганнушкина (1933), Г. Е. Сухаревой (1959),
К. Leonhard (1968, 1976, 1981) были составлены наборы фраз,
отражающие отношение при разных типах характера к ряду
жизненных проблем, актуальных для подросткового возраста.
В наборы были включены также фразы индифферентные, не
имеющие диагностического значения. На протяжении практи-
ческой верификации опросника ряд фраз оказались незначи-
мыми для дифференциации типов, однако они были сохранены
в наборах в роли индифферентных или используемых для до-
полнительных диагностических шкал. В число исследуемых
проблем вошли оценка собственных витальных функций (са-
мочувствие, настроение, сон, аппетит, сексуальное влечение),
отношение к окружению (родителям, друзьям, незнакомым и
др.) и к некоторым таким категориям, как критика и поучения
в свой адрес, опека и наставления, правила и законы и т. д.
Принцип отношения к личностным проблемам, заимствован-
ный из психологии отношений [Лазурский А. Ф., Франк С. Л.,
1912; Мясищев В. Н., 1960], представляется наиболее плодо-
творным для распознавания типов характера [Личко А. Е.,
1977, 1978, 1980]. Диагностика типа на основе самооценки ис-
пытуемым своих отношений более объективна и надежна, чем
данные исследований, в которых подростку самому предлагают
отметить у себя те или иные черты характера. При работе
с ПДО обследуемому предлагается свобода выбора одного или
нескольких (не более трех) ответов на каждую тему или воз-
можность отказаться от выбора на несколько тем (подобный
способ исследования, когда можно выбрать несколько ответов
из многих предложенных в американской психодиагностиче-
ской литературе называют restaurant, т. е. «ресторанный»). Во
83
втором исследовании предлагается из тех же наборов выбрать
наиболее неподходящие, отвергаемые ответы. Свобода выбора,
представлялось, может лучше раскрыть систему отношений,
чем альтернативные ответы «да» или «нет». Диагностическое
значение выборов оставалось испытуемому неизвестным. Необ-
ходимость выбрать как наиболее подходящие, так и наиболее
отвергаемые ответы составила двойную систему оценки отно-
шений— с положительной и отрицательной сторон, что повы-
шало надежность метода. Текст опросника неоднократно пуб-
ликовался ранее ([ПДО]1, [ПХИ]2, Личко А. Е., 1979).
Путь разработки опросника, его надежность и валидность.
Первоначальный проект опросника был подвергнут системе
проверок. Одна из них была осуществлена на здоровых уча-
щихся 8—10-х классов средних школ (одной — из центрального
района Ленинграда, другой — из района новостроек, третьей —
специализированной математической, четвертой — с преподава-
нием ряда предметов на английском языке), а также на уча-
щихся ПТУ, где готовились работники широкого диапазона
профессий — от слесарей до конструкторов-чертежников, тех-
никума физической культуры и спорта, хореографического учи-
лища им. А. Я. Вагановой, педагогического училища, готовя-
щего воспитателей детских садов (девушки 15—18 лет), и Арк-
тического морского училища, готовящего радиотехников, гид-
рометеорологов и других специалистов для работы в Арктике
и Антарктике (юноши 15—18 лет). Всего было обследовано
2258 подростков обоего пола от 14 до 18 лет. Целью этих ис-
следований с помощью ПДО, проведенных Н. Я. Ивановым,
было охватить возможно больший по разнообразию склонно-
стей контингент подростков, чтобы выявить все многообразие
проявлений в системе акцентуаций характера, включая скры-
тые акцентуации. Именно поэтому исследования проводились
также в тех учебных заведениях, куда устремляются подростки
с рано определившимися склонностями и интересами. Получен-
ные нормативы частоты каждого выбора в каждой из проблем
послужили основой для сопоставления с данными аналогичных
исследований у 650 подростков, госпитализированных в психи-
атрическую больницу или наблюдавшихся психоневрологиче-
ским диспансером. Из них у 54 % была диагностирована психо-
патия, а у остальных 48 % — реактивные состояния, неврозы
или нарушения поведения на фоне акцентуаций характера.
1 Здесь и далее ПДО означает публикации в кн.: Патохарактерологиче-
ский диагностический опросник для подростков и опыт его практического
использования/Под ред. А. Е. Личко и Н. Я. Иванова — Л.: Изд. Лен. психо-
неврол. ин-та им. В. М. Бехтерева, 1976.
2 Здесь и далее ПХИ означает публикации в кн.: Патохарактерологиче-
ские исследования у подростков/Под ред. А. Е. Личко и Н. Я. Иванова.—Л.:
Изд. Леи. психоневрол. ин-та им. В. М. Бехтерева, 1976.
84
Каждый тип характера был представлен не менее чем 50 слу-
чаями (исследования А. А. Александрова, Е. И. Ефременковой,
П. Г. Ластинга, С. Д. Озерецковского, Э. Г. Эйдемиллера). Од-
нако последующие 5 лет работы с ПДО обнаружили два су-
щественных недостатка.
Во-первых, относительно невысокая точность диагностики
некоторых типов психопатий и акцентуаций характера (исте-
роидного, эпилептоидн«ге, психастенического, шизоидного).
Ошибки и расхождения с клинической оценкой в отношении
этих четырех типов достигали 30 %. В то же время такие типы,
как гипертимный, неустойчивый, эмоционально-лабильный, сен-
ситивный, диагностировались правильно в 80—85%. Следует
отметить, что 100 % правильной диагностики с помощью ПДО
невозможно достичь уже потому, что этот метод был разрабо-
тан на основе клинической оценки, а последняя также имеет
определенный процент ошибок и расхождений. В руководимой
нами подростковой психиатрической клинике 8 врачей-психи-
атров с достаточной профессиональной подготовкой и опытом
работы с подростками осуществили независимую клиническую
оценку типов психопатий и акцентуаций характера у 145 под-
ростков. Совпадение оценки типа по ПДО и на основе изуче-
ния истории болезни и беседы с подростком было в 45%,
у большинства экспертов — еще в 47%, а в 8% были весьма
значительные расхождения. Во-вторых, существенным недо-
статком ПДО были сложность и большая трудоемкость диаг-
ностической процедуры. Это было связано с тем, что предло-
женная диагностическая процедура опросника предусматри-
вала в каждом случае сначала осуществлять диагностику по
шкале субъективной оценки (т. е. определить, какими свои от-
ношения видит сам подросток или какими он хочет их пока-
зать), а уже затем, используя некоторые особенности этой са-
мооценки, осуществить вторую диагностическую процедуру —
с помощью шкалы объективной оценки определить действи-
тельный тип психопатии или акцентуации характера. В итоге
обработка каждого случая занимала даже при достаточном
опыте работы от 15 до 30 мин.
С целью устранения этих недостатков проведены дополни-
тельные исследования. Было значительно увеличено число слу-
чаев, положенных в качестве «банка сведений» для статистиче-
ской обработки в отношении тех типов, которые труднее диаг-
ностировались с помощью ПДО,— их число было увеличено
с 50 до 100—120 для каждого из этих типов. Новая шкала объ-
ективной оценки была составлена не только путем сопоставле-
ния, как ранее, частоты каждого выбора в ПДО в общей по-
пуляции здоровых социально адаптированных подростков и
представителями каждого из типов психопатии и акцентуаций
характера, но и путем сОпбставлеяия частоты быбороб каждым
из типов со всеми остальными. В итоге удалось разработать
85
такую новую шкалу1 объективной оценки, которая не нужда-
ется в дополнительных баллах со стороны шкалы субъективной
оценки и диагностическая надежность которой оказалась до-
статочно высокой. С помощью шкалы объективной оценки мо-
гут быть диагностированы следующие типы психопатий и ак-
центуаций характера (подробное описание см. Личко А. Е.,
1977, 1979):
Гипертимный тип (Г). Отличается почти всегда хорошим,
даже слегка приподнятым настроением, высоким жизненным
тонусом, брызжущей энергией, неудержимой активностью. По-
стоянно стремление к лидерству, притом неформальному. Хо-
рошее чувство нового сочетается с неустойчивостью интересов,
а большая общительность — с неразборчивостью в выборе зна-
комств. Легко осваиваются в незнакомой обстановке. Плохо
переносят одиночество, размеренный режим, однообразную об-
становку, монотонный и требующий мелочной аккуратности
труд, вынужденное безделье. Присущи переоценка своих воз-
можностей и чрезмерно оптимистические планы на будущее.
Короткие вспышки раздражения бывают вызваны стремлением
окружающих подавить их активность и лидерские тенденции.
Самооценка обычно неплохая, но нередко стараются показать
себя более конформными, чем есть на самом деле.
Циклоидный тип (Ц). Фазы гипертимности и субдепрессии
чередуются друг с другом и интермиссиями — длительность
каждой из них в подростковом возрасте чаще всего 1—2 нед.
В субдепрессивной фазе падает работоспособность, ко всему
утрачивается интерес, становятся вялыми домоседами, избе-
гают компаний. Неудачи и даже мелкие неурядицы тяжело пе-
реживаются. Серьезные нарекания, особенно унижающие само-
любие, способны навести на мысли о собственной неполноцен-
ности и ненужности и подтолкнуть к суицидным мыслям и по-
пыткам. В субдепрессивной фазе также плохо переносится кру-
тая ломка стереотипа жизни. Самооценка у циклоидных под-
ростков формируется постепенно, по мере накопления опыта
«хороших» и «плохих» периодов. При недостатке такого опыта
самооценка бывает еще неточной.
Лабильный тип (Л). Главная черта — крайняя изменчи-
вость настроения, которое меняется слишком часто и чрезмерно
круто от ничтожных и даже незаметных для окружающих при-
чин. От настроения момента зависит все — и самочувствие, и
сон, и аппетит, и работоспособность, и общительность. Чувства
и привязанности искренни и глубоки, особенно к тем, от кого
видят любовь, внимание и заботу. Велика потребность в сопе-
реживании. Всякого рода эксцессы избегаются. Своеобразная
избирательная интуиция позволяет чувствовать, каково отно-
1 В усовершенствованном виде эта шкала была опубликована в 1981 г.
(ПХИ).
86
шение окружающих, быстро распознавать симпатию и распо-
ложение, безразличие или даже затаенную неприязнь. Тяжело
переносят психические травмы и особенно утрату или эмоцио-
нальное отвержение со стороны значимых лиц. Самооценка от-
личается искренностью и умением правильно подметить черты
своего характера.
Астеноневротический тип (А). Главными чертами являются
повышенная утомляемость, раздражительность и склонность
к ипохондричности. Утомляемость особенно проявляется при
умственных занятиях и в обстановке соревнований. При утом-
лении аффективные вспышки возникают по ничтожному по-
воду. Раздражение легко сменяется раскаянием и слезами. Са-
мооценка обычно отражает ипохондрические установки.
Сенситивный тип (С). Две главные черты — большая впе-
чатлительность и чувство собственной неполноценности. В себе
видят множество недостатков, особенно в области качеств мо-
рально-этических и волевых. Замкнутость обычно внешняя. Ро-
бость и застенчивость выступают среди посторонних и в не-
обычной обстановке. С незнакомыми трудны даже формаль-
ные контакты. С теми, к кому привыкли, бывают достаточно
общительны. Ни к делинквентности, ни к алкоголизации склон-
ности не обнаруживают. Непосильной оказывается ситуация,
где становятся объектом недоброжелательного внимания окру-
жающих, когда на репутацию падает тень или подвергаются
несправедливым обвинениям. Самооценка отличается высоким
уровнем объективности. Отказ отвечать предпочитают неправде.
Психастенический тип (П). Главными чертами являются не-
решительность, склонность к рассуждательству, тревожная
мнительность в виде опасений за будущее — свое и своих близ-
ких, склонность к самоанализу и легкость возникновения на-
вязчивостей. Черты характера обычно обнаруживаются в пер-
вых классах школы, когда безмятежное детство сменяется пер-
выми требованиями к чувству ответственности. Отвечать за
себя и особенно за других бывает самой трудной задачей. За-
щитой от постоянной тревоги за воображаемые неприятности и
несчастья становятся выдуманные приметы и ритуалы. Нереши-
тельность особенно проявляется, когда надо сделать самостоя-
тельный выбор. Делинквентность и алкоголизация не свойст-
венны. Самооценка далеко не всегда отличается правильностью
и полнотой. Встречается тенденция находить у себя черты са-
мых разных типов, включая совершенно несвойственные.
Шизоидный тип (Ш). Главными чертами являются замкну-
тость и недостаток интуиции в процессе общения. Трудно уста-
навливать неформальные эмоциональные контакты — эта не-
способность нередко тяжело переживается. Быстрая истощае-
мость в контакте побуждает к еще большему уходу в себя.
Недостаток интуиции проявляется неумением понять чужие пе-
реживания, угадать желания других, догадаться о невысказан-
87
ном вслух. К этому примыкает недостаток сопереживания.
Внутренний мир рючти дсшдд здкрад для друщх и заполнен
увлечениями и фантазиями, которые предназначены только
для самих себя и служат утешению честолюбия или носят эро-
тический характер. Увлечения отличаются силой, постоянством
и нередко необычностью, изысканностью. Богатые эротические
фантазии сочетаются с внешней асексуальностью. Алкоголиза-
ция и делинквентное поведение встречаются довольно редко.
Трудно переносятся ситуации, где надо быстро устанавливать
множество неформальных контактов, а также насильственное
вторжение посторонних во внутренний мир. Самооценка обычно
неполная — хорошо констатируются замкнутость, трудность
контактов, непонимание окружающих; другие особенности под-
мечаются хуже, в самооценке иногда подчеркивается собствен-
ный нонконформизм.
Эпилептоидный тип (Э). Главной чертой является склон-
ность к состояним злобно-тоскливого настроения с постепенно
накипающим раздражением и поиском объекта, на котором
можно было бы сорвать зло. Эти состояния длятся часами и
днями, постепенно развиваясь и ослабевая. С ними тесно свя-
зана аффективная взрывчатость. Аффекты не только сильны,
но и продолжительны, могут достигать безудержной ярости.
Большим напряжением отличается инстинктивная жизнь. Лю-
бовь почти всегда окрашена ревностью. Алкогольные опьяне-
ния часто протекают тяжело — с гневом и агрессией. Среди
сверстников стремятся властвовать. Неплохо адаптируются
в условиях строгого дисциплинарного режима, где стараются
подольститься к начальству и завладеть положением, дающим
власть над другими подростками. Вязкость, тугоподвижность,
тяжеловесность, инертность откладывают отпечаток на всей
психике — от моторики и эмоций до мышления и личностных
ценностей. Мелочная аккуратность, скрупулезность, дотошное
соблюдение всех правил, даже в ущерб делу, допекающий ок-
ружающих педантизм обычно рассматриваются как компен-
сация собственной инертности. Самооценка обычно довольно
однобокая: отмечая приверженность к порядку и аккуратно-
сти, нелюбовь пустых мечтаний и предпочтение жить реальной
жизнью, в остальном представляют себя гораздо более кон-
формными, чем это есть на самом деле.
Истероидный тип (И). Главными чертами являются беспре-
дельный эгоцентризм, ненасытная жажда внимания к своей
особе, восхищения, удивления, почитания, сочувствия. На ху-
дой конец предпочитается негодование или даже ненависть, но
только не безразличие и равнодушие окружающих. Все осталь-
ные качества питаются этой чертой. Лживость и фантазирова-
ние целиком направлены на приукрашение своей особы. Ка-
жущаяся эмоциональность на деле оборачивается отсутствием
глубоких чувств при большой внешней выразительности, теат-
88
ральности переживаний, склонности к рисовке и позерству. Не-
способность к упорному труду сочетается с высокими претен-
зиями в отношении будущей профессии. Выдумывая, легко
вживаются в роль, искусной игрой вводят в заблуждение до-
верчивых людей. Среди сверстников претендуют на лидерство
или на исключительное положение. Пытаются возвыситься
среди них россказнями о былых удачах и похождениях. Това-
рищи вскоре их распознают, поэтому часто меняют компании
сверстников. Самооценка далека от объективности. Обычно
представляют себя такими, какими в данный момент лучше
всего обратить на себя внимание.
Неустойчивый тип (Н). Главная черта — нежелание тру-
диться: ни учиться, ни работать. Нехотя подчиняются при по-
стоянном и строгом контроле, но всегда ищут случай отлыни-
вать от любого труда. Полное безволие обнаруживается, когда
дело касается исполнения обязанности и долга, достижения це-
лей, которые ставят старшие, родные, общество. Рано выявля-
ется сильная тяга к развлечениям, удовольствию, праздности.
Охотно подражают тем, чье поведение сулит наслаждения,
смену легких впечатлений. С желанием поразвлечься связаны
делинквентность и алкоголизация. К родным любви не питают,
семья — прежде всего источник средств для развлечений. Тя-
нутся к уличным подростковым компаниям. Трусость и недо-
статочная инициативность приводят к тому, что они оказыва-
ются в полной зависимости от этих групп. Время проводят
в пустой болтовне со случайными приятелями, глазеют на про-
исходящее вокруг. Контакты всегда поверхностны. Романтиче-
ская влюбленность не свойственна, сексуальная жизнь служит
лишь источником наслаждений. К своему будущему равно-
душны, живут настоящим, планов не строят. От любых труд-
ностей и неприятностей стараются убежать. Слабоволие и трус-
ливость позволяют удерживать их в условиях строгого режима.
Безнадзорность быстро оказывает пагубное действие. Само-
оценка— неверная, приписывают себе конформные или гипер-
тимные черты.
Конформный тип (К). Главная черта — чрезмерная и по-
стоянная конформность к привычному непосредственному ок-
ружению. Это — люди своей среды, их жизненное правило —
думать «как все», поступать «как все», стараться, чтобы у них
было «все, как у всех» —от одежды до суждений по животре-
пещущим вопросам. Становятся целиком продуктом своего ок-
ружения: в хороших условиях старательно учатся и работают,
в дурной среде — со временем усваивают ее обычаи, привычки,
манеру поведения. Поэтому «за компанию» легко спиваются.
Конформность сочетается с поразительной некритичностью:
истиной считается все, что поступает через привычный канал
информации. К этому добавляется консерватизм: новое не лю-
бят потому, что не могут к нему быстро приспособиться.
89
трудно осваиваются в новой обстановке. Нелюбовь к новому
прорывается неприязнью к чужакам. Наиболее успешно рабо-
тают, когда не требуется постоянной личной инициативы.
Плохо переносят ломку жизненного стереотипа, крутые пере-
мены, лишение привычного общества. Самооценка может быть
неплохой.
Смешанные типы. Достаточно часто встречаются как при
акцентуациях характера, так и при психопатиях. Но далеко не
все сочетания описанных типов возможны. Практически не со-
четаются: гипертимность с лабильностью, астеноневротическим
типом, сенситивностью, психастеничностью, шизоидностью, эпи-
лептоидностью; циклоидность — со всеми типами, кроме гипер-
тимного и лабильного; лабильность — с психастеничностью, ши-
зоидностью, эпилептоидностью; сенситивность — с эпилептоид-
ностью, истероидностью, неустойчивостью; психастеничность —
с эпилептоидностью, истероидностью, неустойчивостью. Сме-
шанные типы бывают двоякими по своей природе.
Промежуточные типы. Эти сочетания обусловлены эндоген-
ными, прежде всего генетическими, факторами, а также, воз-
можно, особенностями развития в раннем детстве. К ним от-
носятся лабильно-циклоидный и конформно-гипертимный типы,
а также сочетания лабильного типа с астеноневротическим и
сенситивным, последних — друг с другом и с психастеническим.
Промежуточными являются и такие типы, как шизоидо-сенси-
тивный, шизоидо-психастенический, шизоидо-эпилептоидный,
шизоидо-истероидный и эпилептоидо-истероидный. В силу эн-
догенных закономерностей с возрастом возможна трансформа-
ция гипертимного типа в циклоидный.
Амальгамные типы. Эти смешанные типы формируются в те-
чение жизни как следствие напластования черт одного типа на
эндогенное ядро другого в силу неправильного воспитания или
других длительно действующих неблагоприятных условий. На
гипертимное ядро могут наслаиваться черты неустойчивости и
истероидности, к лабильности присоединяться истероидность и
сенситивность. Неустойчивость может наслаиваться также на
шизоидное, эпилептоидное, истероидное и лабильное ядро. Под
действием неблагоприятной асоциальной среды из конформ-
ного типа может развиться неустойчивый. Если подросток вы-
растает в условиях жестоких взаимоотношений вокруг, то эпи-
лептоидные черты могут наслоиться на конформное ядро.
Новая диагностическая шкала оказалась достаточно эффек-
тивной— совпадение с клинической оценкой составило от 74
до 87 % при разных типах [Иванов Н. Я., Личко А. Е., 1981].
Дополнительные диагностические показатели по шкале объ-
ективной оценки. В отличие от существующих в других опрос-
никах шкал лжи, коррекции и т. п., в ПДО для суждения
о достоверности результатов использованы показатели дисси-
муляции (D) и откровенности (Т). Показатель диссимуляции
90
предназначен выявить стремление испытуемого скрыть черты
своего характера и особенности своих отношений. Этот показа-
тель был разработан после обследования 50 подростков, гос-
питализированных в психиатрическую клинику без психоза
в экспертных целях в связи с подозрением на токсикомании,
недоказанные гомосексуальные действия и т. п. Все они стара-
лись как можно меньше сообщать о себе, в том числе и о своем
характере, представление о котором у подростка нередко тесно
переплетается с суждениями о своем поведении. Для разра-
ботки показателя откровенности, т. е. о тенденции открыто
признать неблагоприятные и нередко утаиваемые особенности
отношений, была взята другая группа подростков. Ее соста-
вили 49 здоровых, социально адаптированных учащихся, кото-
рые, определяя свое отношение к сексуальным проблемам, сде-
лали выбор, констатирующий, что они находят ненормальности
в своем половом влечении. Учитывая, что все исследования
были открытыми, т. е. подростки надписывали свою фамилию
в регистрационных листах, можно было считать, что подобный
выбор свидетельствует о высокой степени откровенности. Со-
поставление частот выбора остальных ответов в данной группе,
в общей популяции и в группе с диссимуляцией позволило раз-
работать показатели D и Т. О возможной диссимуляции черт
характера можно судить, если показатель D превышает пока-
затель Т не менее чем на 4 балла. Установление возможной
диссимуляции снижает правильность диагностики типов и
практически исключает объективную диагностику типов Ц и К.
Высокий показатель D (6 и более баллов) наиболее свойствен
типу Н. Если показатель Т больше D, то это указывает на вы-
сокую степень откровенности в самооценке. Чаще всего это
встречается у представителей типов Ц и П.
Индекс В (Brain minimal damage) служит указанием на
возможность изменений характера вследствие резидуального
органического поражения головного мозга. Этот индекс был
разработан на основании результатов обследования 50 под-
ростков, у которых была диагностирована органическая психо-
патия. Указанием на возможную органическую природу измене-
ний характера служит величина этого индекса, равная 5 и бо-
лее. Показатель В ниже 5 не исключает органического генеза,
так как лишь в 45 % случаев органической психопатии индекс
В^5. Обратная ошибка, т. е. высокий индекс при отсутствии
каких-либо клинических признаков органического резидуума,
не превышает 10%. Кроме того, оказалось, что высокий В-ин-
декс достоверно чаще встречается при эпилептоидном типе ха-
рактера. Это не удивительно, так как у эпилептоидов в анам-
незе нередко в раннем онтогенезе можно отметить черепно-моз-
говые травмы, мозговые инфекции и нейроинтоксикации.
Показатель отражения реакции эмансипации (Е). Эта ре-
акция связана со стремлением высвободиться из-под контроля,
91
опеки, присмотра старших (родителей, воспитателей и т. п.).
Она может проявляться как в поведении, так и в высказыва-
ниях. В последнем случае она может оцениваться с помощью
ПДО по выборам в опроснике, отобранным Н. Я. Ивановым
(1973). В поведении эта реакция особенно ярко выражена
у представителей типа Г. Однако представители этого типа
в случае акцентуаций характера обычно не склонны открыто
декларировать сильную жажду эмансипации при психологиче-
ском обследовании. Это чаще встречается при гипертимных
психопатиях. Наоборот, очень сильное отражение (Е, равное
6 и более баллам) характерно для типов Ш и И. Показатель
Е (emancipation) оценивается следующим образом: 0 или 1
балл — отражение реакции эмансипации слабое; 2—3 балла —
умеренное; 4—5 баллов — выраженное; 6 и более баллов —
очень сильное. При показателе Е, равном 4 и более баллов,
типы С и П не диагностируются независимо от числа баллов
в их пользу. Представителям этих типов реакция эмансипации
не свойственна (ни поведенческая, ни декларативная). По-
этому высокие показатели по типам С и П в сочетании с Е^4
свидетельствуют о противоречивости результатов.
Показатель психологической склонности к алкоголизации
(показатель V от vinus — вино). Данная шкала была разрабо-
тана [Личко А. Е., Александров А. А. и др., 1977] путем срав-
нения частот выборов на тему «Отношение к спиртным напит-
кам» ПДО в двух группах подростков. Первую группу соста-
вили 42 подростка, страдавших хроническим алкологизмом I
и II стадии, и 48 подростков, регулярно злоупотреблявших ал-
коголем (типа бытового пьянства). Вторая группа состояла из
55 подростков мужского пола 16—17 лет, никогда не употреб-
лявших алкоголя. О наличии психологической склонности к ал-
коголизации можно судить, если показатель V равен +2 и выше.
Очень высокие показатели (+6 и выше) свидетельствуют вовсе
не об интенсивной алкоголизации, а о стремлении демонстри-
ровать свою склонность к выпивкам (чаще встречается у пред-
ставителей типа И). Отрицательная величина говорит об отсут-
ствии психологической склонности к алкоголизации — наиболее
часто это встречается у представителей типа С. Величина, рав-
ная 0 или +1, означает неопределенный результат. Апробация
данной шкалы на других группах подростков показала, что
при злоупотреблении алкоголем психологическая склонность
к алкоголизации диагностируется в 93 % и лишь в 7 % (оши-
бочный результат) этой склонности распознать не удается.
В группе подростков, не употреблявших алкоголя, отрицатель-
ный и неопределенный результат установлен в 79%, а в 21 %
определена психологическая склонность к алкоголизации. Сле-
дует подчеркнуть, что данная шкала диагностирует именно
психологическую склонность к алкоголизации, а не констати-
рует злоупотребление им. В силу этого с ее помощью выявля-
ются не только подростки, которые употребляют спиртные на-
питки, но и те, которые не пьоот, но не имеют достаточно твер-
дых антиалкогольных установок и в силу этого, оказавшись
в пьющей компании, легко могут поддаться соблазну. Психо-
логическая склонность к алкоголизации зависит как от бли-
жайшего окружения подростка, так и от типа акцентуации ха-
рактера или психопатии. Наиболее высокая склонность под-
ростков гипертимного и неустойчивого типа к алкоголизации
соответствует клиническим наблюдениям [Личко А. Е., 1977].
Наименьшая склонность оказалась у подростков шизоидного и
особенно сенситивного типов. Они, действительно, нередко из-
бегают алкоголизации, даже оказавшись в пьющей компании.
Представители других типов заняли промежуточное положе-
ние между этими полярными группами. Особенно близким
к нулю оказался показатель конформного типа. Можно пола-
гать, что у большинства конформных подростков нет ни опре-
деленной склонности к алкоголизации, ни твердой отрицатель-
ной установки. Их отношение к алкоголю, как и все поведение,
зависит от того окружения, в котором они окажутся. Значение
непосредственного окружения для отношения к алкоголю видно
на примере обследования подростков в разных учебных заве-
дениях. С возрастом от 14—15 лет (8-й класс) к 16—17 годам
(9—10-й классы, I—II курсы средних специальных учебных
заведений) процент подростков с отрицательным отношением
к алкоголизации уменьшается, а с выраженной склонностью
к ней — возрастает. Особенно это видно от курса к курсу среди
учащихся ПТУ.
Показатель психологической склонности к делинквентности
(delinquency — проступок, мелкое правонарушение). Эта
шкала предназначена только для подростков мужского пола
(А. А. Вдовиченко — ПДО) на основе особенностей выборов
ответов при заполнении ПДО подростками, направленными по
решению комиссий по делам несовершеннолетних при исполко-
мах Советов народных депутатов в специальные ПТУ в связи
с делинквентным поведением. Для девочек с делинквентным
поведением подобная шкала еще только разрабатывается
В. В. Егоровым (ПХИ). Однако и у подростков мужского пола
о склонности к делинквентности с помощью данной шкалы
можно судить только при некоторых типах акцентуаций харак-
тера и психопатий. При шизоидном типе независимо от склон-
ности к делинквентности часто встречаются высокие величины
данного показателя. При неустойчивом типе, наоборот, при
склонности к делинквентному поведению значение данного по-
казателя обычно невелико. Впрочем, диагностика неустойчи-
вого типа уже сама по себе, без дополнительной шкалы, ука-
зывает на склонность к делинквентности. По данным А. А. Вдо-
виченко и др. (ПХИ), указанием на возможную склонность
к делинквентности служит при типах Г, Л — 2 балла и выше,
93
Таблица 1. Шкала мужественности — женственности ПДО
Шкала мужествениости (ш)
Тема ПДО
Самочувствие
Сон
Аппетит
»
Отношение к:
спиртным напиткам
сексуальным пробле-
мам
Отношение к:
деньгам
родителям
окружающим
будущему
приключениям
опеке
Оценка себя в данный
момент
Пробуждение ото сна
Аппетит
Сексуальные проблемы
Отношение к деньгам
Оценка себя в данный мо-
мент
»
№
вы-
бора
1-е
2
1
7
15
3
10
4
10
5
3
3
1
1
2-е
7
3
1
1
10
1 13
Число
бал-
лов
Шкала женственности (!)
Тема ПДО
исследование
2 |
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
Пробуждение ото сна
Отношение к:
одежде
родителям
приключениям
опеке
»
»
правилам и законам
школе
исследование
1 1
1
1
1
1
1
Отношение к:
спиртным напиткам
окружающим
№ 1
вы-
бора
6 |
6
8
7
И
13
14
11
4
8
2
Число
бал-
лов
1
1
2
1
2
3
2
1
1
1
1
а при типах Э, И — 4 балла и выше по шкале делинквент-
ности.
Показатель мужественности — женственности (m—f) для
подростков разработан недавно [Личко А. Е., Иванов Н. Я.,
Озерецковский С. Д., 1982]. Шкала для оценки этого показа-
теля в прежних сборниках по ПДО не публиковалась и по-
этому приводится здесь полностью (табл. 1). Суждение о пре-
обладании черт мужественности или женственности делается
на основании разности суммы баллов m—f. Разность со зна-
ком «плюс» свидетельствует о преобладании черт мужествен-
ности, со знаком «минус» — черт женственности. Эта шкала
была валидизирована Н. Я. Ивановым путем сравнения ча-
стоты разных выборов по всем темам ПДО у двух континген-
тов здоровых подростков 15—17 лет, у которых половое разли-
чие выбранных социальных ролей (будущей профессии прежде
всего) могло выявиться наиболее четко. Мужской контингент
составили 100 учеников Арктического морского училища
с предстоящим после его окончания трудом в суровых ус-
ловиях Арктики и Антарктики. Женским контингентом были
94
Таблица 2. Показатели мужественности — женственности
у здоровых подростков 15—17 лет
Группы обследованных
Средние показатели
± средняя ошибка
m-f
% подростков
с преобладанием черт
5о
Sac
т
Подростки
Ученицы хореографического
училища
Лыжницы из физкультурного
техникума
Подростки
Ученики Арктического мор-
ского училища
Боксеры из физкультурного
техникума
Ученики хореографического
училища
женского пола
1 22
50
2.2
±0,4
2,9
±0,2
5,9
±0,8
3,1
±0,3
-3.7
±0.8
-0.2
±0,3
8
40
88
36
КИМ
| 50
46
18
у ж с к о г о
3,8
±0,2
4,0
3,2
±0,4
1,8
±0,3
1,3
3,4
±0,6
пола
+2,0
±0,3
+2,7
—0,2
±0,6
84
77
33
12
9
54
4
24
4
14
13
100 учениц педагогического училища, готовящего воспитателей
детских садов. Статистической обработкой выявлено 30 выбо-
ров (из более 600 предлагаемых в ПДО), где с высокой до-
стоверностью частота их преобладала у одного из полов (р<
<0,005). В 19 случаях преобладание было у юношей, в 11 —
у девушек. Проект шкалы был проверен на следующих контин-
гентах подростков 15—17 лет: 1) на 50 других учениках того
же Арктического училища; 2) на 46 учениках физкультурного
техникума, специализирующихся в группе боксеров; 3) на 22
ученицах хореографического училища. В этих контингентах
ожидались максимальные показатели мужественности (в пер-
вых двух) и женственности (в третьем). Кроме того, были ис-
следованы еще две группы учащихся, где условия обучения
могли в какой-то мере способствовать феминизации юношей и
маскулинизации девушек. Это были 18 подростков мужского
пола из хореографического училища и 50 подростков женского
пола из физкультурного техникума, специализирующихся
в беге на лыжах на дальние дистанции. Результаты этих про-
верочных исследований подтвердили высказанные предположе-
ния (табл. 2), что позволило считать предлагаемую шкалу ди-
агностически достаточно валидной. Следует оговориться, что
предлагаемая шкала предназначена вовсе не для оценки сексу-
альных склонностей, а лишь для суждения о доминировании
черт мужественности или женственности в общей системе лич-
ностных отношений, что сказывается на поведении в целом,
тем более, что из 30 выборов шкал m и f только два относятся
к сексуальным проблемам.
95
С. Д. Озерецковским с помощью шкалы m—f была оценена
группа подростков мужского пола 15—17 лет, направленных
в психиатрическую клинику, у которых были диагностированы
психопатии разных типов или нарушения поведения и реактив-
ные состояния на фоне различных акцентуаций характера. Ока-
залось, что группы психопатий и акцентуаций в целом без
учета их типа по показателю m—f существенно не отличались
друг от друга. Отличие же обеих этих групп от нормы (за ко-
торую были приняты юноши из Арктического училища, так как
поступающие в него проходят строгий медицинский отбор) со-
стоит в том, что достоверно более высокими оказались и пока-
затели мужественности, и показатели женственности, но раз-
ность между ними осталась той же, что и в норме. Известно
из исследований с помощью MMPI, что повышение уровня по-
казателей по всем шкалам, включая противоположные по зна-
чению, встречается в условиях эмоционального стресса, кри-
зисных ситуаций и т. п. Подростки, направленные на обследо-
вание в психиатрическую больницу, нередко находятся в по-
добном состоянии. Существенные отличия от нормы выявились
по показателю m—f при сравнении с нею отдельных типов пси-
хопатий и акцентуаций. При гипертимном, эмоционально-ла-
бильном, эпилептоидном и неустойчивом типах показатель
m—f отчетливо свидетельствовал о преобладании черт мужест-
венности. Это происходило за счет значительного по сравнению
с нормой повышения показателя m при гораздо меньшем уве-
личении показателя f. При шизоидном, сенситивном и истеро-
идном типах у подростков мужского пола обнаружен сущест-
венный сдвиг в сравнении с нормой в сторону феминизации
личностных отношений. Этот сдвиг становится особенно ощу-
тимым, когда речь идет о шизоидной и сенситивной психопатии.
Наоборот, при неустойчивой психопатии показатель m заметно
выше, чем при акцентуации того же типа. Последнее, возможно,
отражает нередко наблюдаемое «огрубение» личности по мере
психопатизации по неустойчивому типу. Следует отметить
также, что при шизоидной психопатии и акцентуации и при
сенситивной психопатии сдвиг в сторону феминизации происхо-
дит за счет заметного повышения показателя f при неизменном
или даже уменьшенном показателе т. Некоторая фемининность
истероидов, да и отчасти сенситивных юношей вполне соответ-
ствует клиническим наблюдениям. Подобный сдвиг у шизоидов
оказался неожиданным. Также непредвиденным оказался вы-
сокий показатель m у эмоционально лабильных.
Шкала субъективной оценки. Эта шкала служит для выяс-
нения того, каким свой характер видит сам подросток или ка-
ким (при диссимуляции) он хочет его показать. Эта шкала
позволяет судить о правильности самооценки. Подобная само-
оценка может быть осуществлена с помощью более простых
способов, например методом идентификации со словесными ха-
96
\
рактерологическими портретами [Эйдемиллер Э. Г., 1973]. Од-
нако более простые способы менее точны тем, что подростки
охотнее идентифицируют себя с более привлекательными ти-
пами. Код шкалы субъективной оценки был опубликован ра-
нее (ПДО). Совпадение данных шкалы субъективной оценки
с клинической оценкой типа, т. е. правильная самооценка, за-
висит как от степени психопатизации, так и от типа характера.
В целом при психопатиях, особенно тяжелых, самооценка го-
раздо хуже, чем при акцентуациях характера. Однако некото-
рые типы акцентуаций — неустойчивый и истероидный (осо-
бенно)— также отличаются плохой самооценкой. Наилучшая
самооценка оказалась при сенситивном, гипертимном и шизо-
идном типах. Амбивалентность самооценки, а именно значи-
тельное число выборов в пользу какого-либо типа как в каче-
стве наиболее подходящих, так и в качестве наиболее отвер-
гаемых, среди здоровых подростков, по данным Н. Я. Иванова
(ПДО), встречалась у 12 % юношей и у 17 % девушек. Однако
у больных вялотекущей шизофренией, а также при психопа-
тиях и акцентуациях шизоидного типа амбивалентность отме-
чена достоверно чаще — в 29%. У больных шизофренией ам-
бивалентность в самооценке характера встречалась даже тогда,
когда ни в поведении, ни в высказываниях ее еще нельзя было
отметить. Шкала субъективной оценки позволяет также выде-
лить черты достоверно отвергаемых типов. Так, подростки ги-
пертимного типа часто отвергают выборы астеноневротического
типа, шизоидные и истероидные подростки — выборы конформ-
ного типа, неустойчивые подростки — выборы психастениче-
ского типа. Шкала субъективной оценки используется при рас-
кодировании результатов, только если в задачу обследования
входит определение правильности самооценки.
Дифференциальная диагностика между психопатиями и ак-
центуациями характера. Подобная диагностика должна осу-
ществляться на основании клинических критериев. Наиболее
удачными среди них являются критерии П. Б. Ганнушкина —
О. В. Кербикова (цит. по А. Е. Личко, 1977) —тотальность про-
явления черт характера во всех ситуациях, относительная ста-
бильность характера и социальная дезадаптация как следствие
аномалии характера. Однако в подростковом возрасте встреча-
ются определенные трудности для использования этих диагно-
стических критериев: разные типы психопатий развертываются
в различном возрасте, короткий жизненный путь затрудняет
суждение о стабильности черт характера, а нарушения соци-
альной адаптации встречаются и при акцентуациях характера.
Особые трудности возникают при разграничении психопатий
умеренной степени от «явных акцентуаций», т. е. от крайних
вариантов нормы [Личко А. Е., 1977].
В связи со сказанным поиск дополнительных методов диф-
ференциальной диагностики психопатий и акцентуаций харак-
4 Заказ № 942
97
тера в подростковом возрасте представляется особенно важ-
ным. Одной из таких попыток может послужить анализ данных
обследований с помощью ПДО. Однако создание единой уни-
версальной шкалы дифференциальной диагностики между пси-
хопатиями и акцентуациями характера для всех типов пред-
ставляется маловероятным. Как указывалось, ПДО основыва-
ется на оценке системы отношений. Клинический опыт свиде-
тельствует, что различия в системе отношений между разными
типами акцентуаций, например гипертимной и шизоидной, мо-
гут быть гораздо большими, чем при психопатии и акцентуации
одного и того же, например шизоидного, типа. Более перспек-
тивным является поиск статистически значимых различий в ре-
зультатах исследований с помощью ПДО между психопатиями
и акцентуациями характера для каждого типа в отдельности
или, по крайней мере, для группы сходных типов. Такой поиск
может идти двумя путями. Один путь — сравнение частоты вы-
боров каждого из ответов ПДО как наиболее подходящих, так
и наиболее отвергаемых (т. е. около 600 сравнений) в группе
психопатий и в группе акцентуаций данного типа. Этот путь,
возможно, обещает более высокий уровень надежности, но ос-
ложнен тем, что приведет к созданию множества сложных ди-
агностических шкал, работа с которыми будет требовать слиш-
ком много времени и напряженного внимания. Этот путь ис-
пользован в работе Э. Г. Эйдемиллера и В. В. Юстицкого
(ПХИ). Другой путь — искать признаки, отличающие психопа-
тии и акцентуации характера каждого типа в общих итогах
обследования с помощью ПДО — например, в том графике, ко-
торый строится при оценке результатов в баллах по шкале объ-
ективной оценки. Этот путь использован в работе А. Е. Личко,
Н. Я. Иванова и С. Д. Озерецковского (ПХИ). Здесь надеж-
ность менее высока: психопатия при разных типах распозна-
ется от 85% (шизоидный тип) до 60% (лабильный тип). Но
этот способ легко использовать для ориентировочной экспресс-
диагностики. Признаками, свидетельствующими в пользу пси-
хопатии, оказались следующие: для гипертимного типа — вы-
сокие показатели по неустойчивости и эмансипации, нулевой
уровень конформности; для лабильного типа — высокие пока-
затели астеноневротичности, шизоидности и диссимуляции, ну-
левой уровень конформности; для сенситивного типа — только
высокий уровень самой сенситивности; для шизоидного типа —
высокий показатель самой шизоидности, а также делинквент-
ности и психологической склонности к алкоголизации, очень
низкий показатель гипертимности и лабильности; для эпилеп-
тоидного типа — высокие показатели циклоидности и делинк-
вентности, нулевой уровень гипертимности, очень низкая кон-
формность; для истероидного типа — высокие показатели асте-
ноневротичности, эмансипации и отказов сделать выбор; для
неустойчивого типа — высокий показатель самой неустойчиво-
98
сти, а также В-индекса, очень низкая конформность и резко
выраженное отрицательное отношение к алкоголизации. Но от-
сутствие указанных признаков не может свидетельствовать
против клинического диагноза психопатии, так как в среднем
в 31 % случаев, клинически верифицированных как психопатии,
эти признаки отсутствовали. Наличие указанных признаков
(одного или нескольких) у подростков с нарушениями поведе-
ния может расцениваться как один из доводов в пользу диаг-
ноза психопатии, но не как решающий диагностический фак-
тор. Обнаружение указанных признаков в результатах, полу-
ченных с помощью ПДО, при проведении обследования здоро-
вых подростков не должно являться указанием для подозрения
в отношении психопатий. Однако, возможно, эти случаи нуж-
даются в более тщательном и детальном психологическом об-
следовании в связи с повышенным риском в отношении соци-
альной дезадаптации.
Распространение разных типов акцентуаций (популяцион-
ные и транскультуральные исследования). ПДО как метод пси-
хологического обследования подростков получил довольно
большое распространение, о чем свидетельствуют публикации
и библиография в двух посвященных этому методу сборниках
(ПДО, ПХИ). С помощью этого метода обследовались различ-
ные контингента здоровых учащихся, разные группы подрост-
ков с девиантным поведением, а также подростки, страдающие
нервно-психическими и хроническими соматическими заболева-
ниями. Предприняты попытки использовать ПДО для обследо-
вания молодежи в послеподростковом возрасте, в частности
студентов. В последнее время начаты транскультуральные ис-
следования с помощью ПДО. Этот опросник был переведен на
немецкий, финский, литовский и эстонский языки. Наиболее
репрезентативными являются обследования учащихся 8-го
класса школы — до их разделения на тех, кто продолжает уче-
ние в средней школе или поступает на учебу в ПТУ и техни-
кумы. Но эти обследования ограничиваются возрастом 14—
15 лет, а между тем некоторые типы акцентуаций характера
выявляются в более старшем возрасте. В 14—15 лет частота
акцентуаций оказалась удивительно близкой к той, что была
предсказана К. Leonhard (1968, 1976, 1981) для населения раз-
витых стран, т. е. около половины популяции. По данным
Н. Я. Иванова (ПДО), акцентуации характера были опреде-
лены у 52 % подростков мужского и 42 % женского пола. Наи-
более частыми типами в этом возрасте оказались конформный,
циклоидный и гипертимный у обоих полов, шизоидный и не-
устойчивый у мальчиков и эмоционально-лабильный у девочек.
Наиболее правильное представление о популяции возраста
16—17 лет, видимо, могут дать величины, промежуточные
между теми, что были получены при обследовании учащихся
9—10-х классов средней школы и в ПТУ — на I и II курсах.
4*
99
Таблица 3. Ориентировочные частоты в %
разных типов акцентуаций характера в популяции подростков
(по данным Н. Я- Иванова)
Типы акцентуаций
Г, ГН, ГИ
ц, цг, цл
л, ли
А
с, ел
II, ПА, ПС
ш, шс, шэ, ши, шн
э, эй, эн
и, ин
н
к
Мужской пол
14—15 лет
5
8
2
1
2
1
8
5
2
7
11
16—17 лет
12
3
6
1
3
1
8
9
2
14
3
Женский пол
14—15 лет
6
6
6
1
7
1 1
1
2
2
1
9
1
16—17 лет
4
5
14
4
6
1
2
4
2
6
3
По данным Н. Я. Иванова (ПДО), Н. Я. Иванова и С. Д. Озе-
рецковского (1978), в возрасте 16—17 лет возрастает общий
процент акцентуаций (62 % среди подростков мужского и
51 %—среди подростков женского пола). В этом возрасте па-
дает частота конформного типа и увеличивается у юношей ча-
стота неустойчивого, гипертимного и эпилептоидного типов,
а у девушек — лабильного и неустойчивого (табл. 3).
Транскультуральные исследования. Текст ПДО был переве-
ден на финский язык P. Kulkka, M. Tiainen, на немецкий —
S. Sebastian, на литовский — В. В. Юстицким и на эстонский —
П. Г. Ластингом.
Y. P. Hajrynen, P. Kuikka, M. Tiainen (1981) обследовали
в Финляндии более 200 учеников гимназий и средних профес-
сиональных училищ (возраст 16—19 лет) в одном из городов
на севере страны. Общий процент акцентуаций среди фин-
ских учащихся оказался несколько выше, чем в ленинградской
популяции того же возраста: 79 % среди юношей и 82 % среди
девушек. Возможно, что это увеличение, так же как и установ-
ленный в Финляндии больший процент циклоидов, обусловлено
тем, что в обследуемый контингент включался послеподрост-
ковый возраст (18—19 лет), когда, вероятно, происходит транс-
формация части акцентуаций гипертимного и лабильного типа
в циклоидный тип. В сравнении с ленинградской популяцией
несколько чаще встречался эпилептоидный тип у обоих полов,
психастенический и шизоидный—у девушек. У последних реже
встречался неустойчивый тип. Различий между гимназией
(аналог наших 9—10-х классов) и профессиональной школой
(аналог наших ПТУ) не обнаружено. S. Sebastian обследовала
учеников 9-го класса школы г. Айслебена (ГДР) и сопоставила
их с данными Н. Я. Иванова (ПДО). У немецких школьников
100
чаще отмечена гипертимная, эпилептоидная и истероидная ак-
центуации и реже — неустойчивый тип. Однако число обследо-
ванных было невелико, и поэтому степень достоверности невы-
сока (р<0,1).
Сопоставление результатов, полученных с помощью ПДО,
с другими методами психологического исследования. При сопо-
ставлении с MMPI А. А. Александров (1976) в группе подрост-
ков мужского пола с нарушениями поведения обнаружил лишь
одну достоверную корреляцию: позитивную связь между шка-
лой лжи MMPI и конформностью по субъективной (но не объ-
ективной!) шкале ПДО. Это лишь подтверждает положение,
что конформность в самооценке нередко является показной.
Сопоставление с методом Q-сортировки. В. А. Мурзенко
(1979) сделал это сопоставление на группе «трудных» школь-
ников. Показатель дезадаптированности по Q-сортировке по-
ложительно коррелировал с числом баллов в пользу лабиль-
ного типа и реакции эмансипации.
Сопоставление с методикой УНП (уровня невротизации и
психопатизации) (см. стр. 77) было осуществлено В. Г. Куз-
нецовым (ПХИ) в исследовании на делинквентных подростках
с акцентуациями характера. Оказалось, что у 16% из них об-
наружена тенденция к невротизации, зато показатель психопа-
тизации у 48 % соответствует по уровню психопатиям. Особенно
высокий показатель психопатизации оказался при гипертимном
и истероидном типе акцентуации и наименьший — при неустой-
чивом типе. Сочетание неблагоприятных показателей и по нев-
ротизации, и по психопатизации отмечено у 12% делинквент-
ных подростков, и это коррелировало с высоким В-индексом
по ПДО. Таким образом, если в подростковом возрасте для
диагностики использовать методику УНП, то значительная
часть акцентуаций характера будет неправомерно отнесена
к психопатиям.
Сопоставление с социометрическими исследованиями.
В. В. Юстицкий (ПХИ) обнаружил, что учащиеся средней
школы, у которых с помощью ПДО определен гипертимный
тип акцентуации, в неформальных группах сплачивают вокруг
себя других гипертимов, циклоидов и лабильных и отвергают
подростков с шизоидной, сенситивной, -психастенической и ас-
теноневротической акцентуациями. Эпилептоиды же отвергают
подростков со всеми видами акцентуаций, кроме конформной.
Подростки с истероидной акцентуацией предпочитают лабиль-
ных, циклоидов и психастеников и отвергают конформных. Не-
устойчивые особенно активно отвергают психастеников и пред-
почитают конформных. О. П. Перетяка (ПХИ) сравнивал
у юношей 18—19 лет диагностированный тип акцентуации, их
приемлемость коллективом и приемлемость коллектива ими.
Наибольшая приемлемость со стороны коллектива («социаль-
ный статус») оказался у гипертимных и лабильных, наихуд-
101
ший —у шизоидов и неустойчивых. Наоборот, приемлемость
коллектива субъектом («эмоциональная экспансивность») у не-
устойчивых так же высока, как у гипертимов, и наиболее
низка —у истероидов. А. П. Бизюк (1978) у взрослых — муж-
чин и женщин (работников полярных станций)—провел сопо-
ставление результатов ПДО и социометрической анкеты. С ин-
дексом «концентрации взаимодействия», отражающим психоло-
гический климат в группе, положительно коррелировал только
показатель диссимуляции ПДО, т. е. желание скрыть и пода-
вить свои характерологические особенности. Другие достовер-
ные корреляции касались только данных шкалы субъективной
оценки.
Модификации ПДО. Э. Г. Эйдемиллер (1976) разработал
варианты ПДО для исследования взаимоотношений в семье
подростка. Один из вариантов предлагал подростку сделать
выборы за мать и за отца, другой каждому из родителей — за
подростка. Таким путем по шкале субъективной оценки выяс-
нялось, насколько правильно они представляют характер друг
друга. Оказалось, что при психопатиях и психопатоподобной
шизофрении взаимная оценка по крайней мере в половине слу-
чаев совершенно неверная. Подростки с акцентуациями харак-
тера гораздо правильнее оценивали характер своих родителей,
чем, в свою очередь, были оценены ими.
Глава V
ЛИЧНОСТНЫЙ ОПРОСНИК
БЕХТЕРЕВСКОГО ИНСТИТУТА (ЛОБИ)
Предназначение и основные принципы. В последние десяти-
летия в связи с успехами биологической терапии острых сома-
тических заболеваний повсеместно отмечается рост затяжных,
хронических, стертых форм болезней легких, сердечно-сосуди-
стой системы, желудочно-кишечного тракта и др. В патогенезе
затяжных форм психический фактор приобретает большее зна-
чение. Это привело к расширению круга заболеваний, рассмат-
ривающихся как «психосоматические», который первоначально
ограничивался язвенной и гипертонической болезнью, бронхи-
альной астмой, тиреотоксикозом, язвенным колитом, а также
одной из форм ревматоидного артрита [Alexander F., 1950].
В настоящее время к психосоматическим заболеваниям могут
быть отнесены ишемическая болезнь сердца, неспецифическая
хроническая пневмония, сахарный диабет и ряд других заболе-
ваний. Больные, страдающие хроническими соматическими за-
болеваниями, наряду со специфическим биологическим лече-
нием, нуждаются в психотерапевтической помощи. Целью пси-
хотерапии в этом случае является изменение отношения боль-
102 х
ного к своей болезни, к самому себе и к своему окружению
[Рожнов В. Е., Либих С. С, 1979]. В связи с этим объектом
психотерапевтических воздействий является личность больного,
понимаемая с позиций «психологии отношений» [Лазур-
ский А. Ф., Франк С. Л., 1912; Мясищев В. Н., 1960], а теоре-
тическим базисом — те медико-психологические исследования,
которые основываются на диалектико-материалистической кон-
цепции психологии отношений [Мясищев В. Н., 1960; Личко А. Е.,
1977; 1980]. Однако разработка показаний и противопоказаний
к использованию разных видов и методов психотерапии при
хронических соматических заболеваниях пока мало продвину-
лась вперед. Они должны основываться прежде всего на зна-
нии типов личности, особенностей складывающихся в процессе
болезни личностных отношений, охватывающих как саму бо-
лезнь, так и все, что с ней связано. Многолетние усилия психо-
соматической медицины в США и других западных странах
были направлены на выявление связи между определенным
типом личности и каким-либо психосоматическим заболеванием.
Выделялись, в частности, «язвенный тип», «коронарный тип»,
«артритический тип» и т. п. [Dunbar F., 1954; Alexander F.,
French T. M., 1968]. Отношение же больного к своей болезни,
к окружению и к самому себе понималось прежде всего как
функция бессознательного [Pollock G. Н., 1978]. С позиций пси-
хологии отношений следует признать, что эти отношения в по-
давляющем большинстве — сознательные, а те, что не осоз-
наны, в принципе могут стать сознательными. Свойства лич-
ности— важный, но далеко не единственный фактор, опреде-
ляющий отношение к болезни. Отношение к ней и ко всему,
что с ней связано и на что она оказывает влияние, определя-
ется тремя важнейшими факторами [Личко А. Е., Иванов Н. Я.,
1980]: 1) природой самого соматического заболевания; 2) ти-
пом личности, в котором важнейшую составную часть опреде-
ляет тип акцентуации характера; 3) отношением к данному за-
болеванию в том значимом для больного окружении, в той мик-
росоциальной среде, к которой он принадлежит. Под влиянием
этих трех факторов вырабатывается отношение к болезни, лече-
нию, врачам, своему будущему, к работе, родным и близким,
к окружающим и т. п.
Различные виды реакций больных соматическими заболева-
ниями на свою болезнь неоднократно привлекали внимание пси-
хиатров. В последние годы интерес к этой проблеме возрос.
В 1980 г. были опубликованы две классификации — «типов реак-
ции личности на болезнь» [Приленский Ю. Ф. и соавт., 1980]
и «типов отношения к болезни» [Личко А. Е., Иванов Н. Я.,
1980]. Диагностика типов отношений к болезни, необходимая
для использования дифференцированных психотерапевтических
и реабилитационных программ, может осуществляться тем же
путем, который обычно используется в клинической психиатрии,
103
т. е. путем расспроса больного, наблюдения за его пове-
дением, собирания сведений от родных и близких и т. п. Од-
нако этот путь сложен, требует опыта и много рабочего времени
врача или медицинского психолога и поэтому весьма труден
при необходимости обследовать большое число соматических
больных. Помощь здесь может оказать специально разрабо-
танный диагностический опросник. Насколько нам известно,
подобных опросников, специально предназначенных для ука-
занной цели, ранее не разрабатывалось и не публиковалось.
Личностный Опросник Бехтеревского института (ЛОБИ)
разработан с целью диагностики типов отношения к болезни
и других связанных с нею личностных отношений у больных
хроническими соматическими заболеваниями.
Текст опросника (см. стр. 107) был составлен при участии сотрудни-
ков Института им. В. М. Бехтерева И. Г. Беспалько, Л. И. Вассермана,
И. Н. Гильяшевой, Н. Я. Иванова, Б. В. Иовлева, Э. Б. Карповой, Т./^Ми-
шиной, Т. Л. Федоровой под редакцией А. Е. Личко.
Предлагаемый диагностический код для оценки результатов был раз-
работан Н. Я. Ивановым по материалам обследовании больных, проведен-
ных В. А. Абабковым (Институт им. В. М. Бехтерева), Л. К. Богатской
(санаторий «Репино», Ленинград), Д. И. Викторовой (3-я кардиоревмато-
логическая больница, Ленинград), А. А. Гоштаутасом (Институт физиоло-
гии и патологии кровообращения, г. Каунас), В. П. Зайцевым (Институт
кардиологии им. проф. А. Л. Мясникова АМН СССР, Москва), Э. Б. Кар-
повой и Т. М. Мишиной (Ленинградский психоневрологический институт
им. В. М. Бехтерева), В. В. Соложенкиным (Мединститут, г. Фрунзе),
В. Н. Трезубовым (Мединститут, г. Калинин), И. А. Фейгиной (санаторий
«Черная речка», Ленинград), Н. Б. Шиповниковым (Институт онкологии
им. Н. Н. Петрова, Ленинград) и др.
Опросник основан на принципе упомянутой концепции «пси-
хологии отношений». Диагностируется сложившийся под влия-
нием болезни паттерн отношений к самой болезни, к ее лече-
нию, врачам и медперсоналу, родным и близким, окружающим,
работе (учебе), одиночеству и будущему, а также к своим ви-
тальным функциям (самочувствие, настроение, сон, аппетит).
Диагностируемые типы отношений. С помощью ЛОБИ могут
быть диагностированы следующие типы отношений [Личко А. Е.,
Иванов Н. Я., 1980]:
1. Гармоничный (Г). Трезвая оценка своего состояния без
склонности преувеличивать его тяжесть и без оснований видеть
все в мрачном свете, но и без недооценки тяжести болезни.
Стремление во всем активно содействовать успеху лечения.
Нежелание обременять других тяготами ухода за собой. В слу-
чае неблагоприятного прогноза в смысле инвалидизации —
переключение интересов на те области жизни, которые оста-
нутся доступными больному. При неблагоприятном прогнозе
quo ad vitam сосредоточение внимания, забот, интересов на
судьбе близких, своего дела.
2. Тревожный (Т). Непрерывное беспокойство и мнитель-
ность в отношении неблагоприятного течения болезни, возмож-
104
ных осложнений, неэффективности и даже опасности лечения.
Поиск новых способов лечения, жажда дополнительной инфор-
мации о болезни, вероятных осложнениях, методах лечения,
непрерывный поиск «авторитетов». В отличие от ипохондрии
более интересуют объективные данные о болезни (результат
анализов, заключения специалистов), чем собственные ощуще-
ния. Поэтому предпочитают больше слушать высказывания дру-
гих, чем без конца предъявлять свои жалобы. Настроение
прежде всего тревожное, угнетенность — вследствие этой тре-
воги.
3. Ипохондрический (И). Сосредоточение на субъективных
болезненных и иных неприятных ощущениях. Стремление по-
стоянно рассказывать о них окружающим. На их основе пре-
увеличение действительных и выискивание несуществующих
болезней и страданий. Преувеличение побочного действия ле-
карств. Сочетание желания лечиться и неверия в успех, требо-
ваний тщательного обследования и боязни вреда и болезнен-
ности процедур.
4. Меланхолический (М). Удрученность болезнью, неверие
в выздоровление, в возможное улучшение, в эффект лечения.
Активные депрессивные высказывания вплоть до суицидных
мыслей. Пессимистический взгляд на все вокруг. Неверие в успех
лечения даже при благоприятных объективных данных.
5. Апатический (А). Полное безразличие к своей судьбе,
к исходу болезни, к результатам лечения. Пассивное подчине-
ние процедурам и лечению при настойчивом побуждении со
стороны. Утрата интереса ко всему, что ранее волновало.
6. Неврастенический (Н). Поведение по типу «раздражи-
тельной слабости». Вспышки раздражения, особенно при болях,
при неприятных ощущениях, при неудачах лечения, неблаго-
приятных данных обследования. Раздражение нередко излива-
ется на первого попавшегося и завершается нередко раская-
нием и слезами. Непереносимость болевых ощущений. Нетер-
пеливость. Неспособность ждать облегчения. В последующем —
раскаяние за беспокойство и несдержанность.
7. Обсессивно-фобический (О). Тревожная мнительность
прежде всего касается опасений не реальных, а маловероятных
осложнений болезни, неудач лечения, а также возможных (но
малообоснованных) неудач в жизни, работе, семейной ситуации
в связи с болезнью. Воображаемые опасности волнуют более,
чем реальные. Защитой от тревоги становятся приметы и ри-
туалы.
8. Сенситивный (С). Чрезмерная озабоченность о возмож-
ном неблагоприятном впечатлении, которое могут произвести
на окружающих сведения о своей болезни. Опасения, что окру-
жающие станут избегать, считать неполноценным, пренебре-
жительно или с опаской относиться, распускать сплетни или
неблагоприятные сведения о причине и природе болезни. Бо-
105
язнь стать обузой для близких из-за болезни и неблагожела-
тельного отношения с их стороны в связи с этим.
9. Эгоцентрический (Я). «Уход в болезнь». Выставление
напоказ близким и окружающим своих страданий и пережива-
ний с целью полностью завладеть их вниманием. Требование
исключительной заботы — все должны забыть и бросить всё
и заботиться только о больном. Разговоры окружающих быстро
переводятся «на себя». В других людях, также требующих вни-
мания и заботы, видят только «конкурентов» и относятся к ним
неприязненно. Постоянное желание показать свое особое поло-
жение, свою исключительность в отношении болезни.
10. Эйфорический (Ф). Необоснованно повышенное настрое-
ние, нередко наигранное. Пренебрежение, легкомысленное отно-
шение к болезни и лечению. Надежда на то, что «само все
обойдется». Желание получать от жизни все, несмотря на бо-
лезнь. Легкость нарушений режима, хотя эти нарушения могут
неблагоприятно сказываться на течении болезни.
11. Анозогнозический (3). Активное отбрасывание мысли
о болезни, о возможных ее последствиях. Отрицание очевидного
в проявлениях болезни, приписывание их случайным обстоя-
тельствам или другим несерьезным заболеваниям. Отказ от
обследования и лечения. Желание «обойтись своими средст-
вами».
12. Эргопатический (Р). «Уход от болезни в работу». Даже
при тяжести болезни и страданиях стараются во что бы то ни
стало работу продолжать. Трудятся с ожесточением, с еще
большим рвением, чем до болезни, работе отдают все время,
стараются лечиться и подвергаться обследованию так, чтобы
это оставляло возможность для продолжения работы.
13. Паранойяльный (77). Уверенность, что болезнь — резуль-
тат чьего-то злого умысла. Крайняя подозрительность к лекар-
ствам и процедурам. Стремление приписывать возможные ос-
ложнения лечения или побочные действия лекарств халатности
или злому умыслу врачей и персонала. Обвинения и требова-
ния наказаний в связи с этим. Система отношений, связанных
с болезнью, может не укладываться в один из описанных ти-
пов. Здесь речь может идти о смешанных типах, особенно близ-
ких по картине (тревожно-обсессивный, эйфорически-анозогно-
зический, сенситивно-эргопатический и др.). Но система отно-
шений может еще не сложиться в единый паттерн — тогда ни
один из перечисленных типов не может быть диагностирован
и черты многих или всех типов бывают представлены более
или менее равномерно.
Техника исследования и раскодирование результатов. Боль-
ному вручаются брошюра с текстом опросника и регистрацион-
ный лист. Разъясняется, что на каждую тему можно сделать
от 1 до 3 выборов (не более!) и номера сделанных выборов об-
вести кружком. Если ни одно из определений не подходит, об-
106
Текст Л ОБИ и код для оценки результатов
Предлагаемые выборы
Баллы для
раскодирования
Самочувствие
С тех пор, как я заболел, у меня почти всегда пло-
хое самочувствие
Я почти всегда чувствую себя бодрым и полным
сил
Дурное самочувствие я стараюсь перебороть
Плохое самочувствие я стараюсь не показывать
другим
У меня почти всегда что-нибудь болит
Плохое самочувствие возникает у меня после огор-
чений
Плохое самочувствие появляется у меня от ожида-
ния неприятностей
Я стараюсь терпеливо переносить боль и физиче-
ские страдания
Мое самочувствие вполне удовлетворительно
С тех пор, как я заболел, у меня бывает плохое са-
мочувствие с приступами раздражительности и
чувством тоски
Мое самочувствие очень зависит от того, как отно-
сятся ко мне окружающие
Ни одно из определений ко мне не подходит
Настроение
Как правило, настроение у меня очень хорошее
Из-за болезни я часто бываю нетерпеливым и раз-
дражительным
У меня настроение портится от ожидания возмож-
ных неприятностей, беспокойства за близких, не-
уверенности в будущем
Я не позволяю себе из-за болезни предаваться уны-
нию и грусти
Из-за болезни у меня почти всегда плохое настрое-
ние
Мое плохое настроение зависит от плохого самочув-
ствия
У меня стало совершенно безразличное настроение
У меня бывают приступы мрачной раздражитель-
ности, во время которых достается окружающим
У меня не бывает уныния и грусти, но может быть
ожесточение и гнев
Малейшие неприятности сильно задевают меня
Из-за болезни у меня всегда тревожное настрое-
ние
Мое настроение обычно такое же, как у окружаю-
щих меня людей
Ни одно из определений ко мне не подходит
Сон и пробуждение ото сна
Проснувшись, я сразу заставляю себя встать
Утро для меня — самое тяжелое время суток
Если меня что-то расстроит, я долго не могу уснуть
107
Продол жени
№ выбора
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
0
Предлагаемые выборы
Я плохо сплю ночью и чувствую сонливость днем
Я сплю мало, но встаю бодрым; сны вижу редко
С утра я более активен и мне легче работать, чем
вечером
У меня плохой и беспокойный сон и часто бывают
тоскливые сновидения
Бессонница у меня наступает периодически без
особых причин
Я не могу спокойно спать, если утром надо встать
в определенный час
Утром я встаю бодрым и энергичным
Я просыпаюсь с мыслью о том, что сегодня надо
будет сделать
По ночам у меня бывают приступы страха
С утра я чувствую полное безразличие ко всему
Я могу свободно регулировать свой сон
По ночам меня особенно преследуют мысли о моей
болезни
Во сне мне видятся всякие болезни
1 Ни одно из определений ко мне не подходит
Баллы для
раскодирования
А
—
—
—
—
СС
О
О
—
—
Аппетит и отношение к еде
Нередко я стесняюсь есть при посторонних людях
У меня хороший аппетит
У меня плохой аппетит
Я люблю сытно поесть
Я ем с удовольствием и не люблю ограничивать себя
в еде
Мне легко можно испортить аппетит
Я боюсь испорченной пищи и всегда тщательно про-
веряю ее свежесть и доброкачественность
Еда меня интересует прежде всего как средство под-
держать здоровье
Я стараюсь придерживаться диеты, которую сам
разработал
Еда не доставляет мне никакого удовольствия
Ни одно из определений ко мне не подходит
Отношение к болезни
Моя болезнь меня пугает
Я так устал от болезни, что мне безразлично, что
со мной будет
Стараюсь не думать о своей болезни и жить безза-
ботной жизнью
Моя болезнь больше всего угнетает меня тем, что
люди стали сторониться меня
Без конца думаю о всех возможных осложнениях,
связанных с болезнью
Я думаю, что моя болезнь неизлечима и ничего хо-
рошего меня не ждет
Считаю, что моя болезнь запущена из-за невнима-
ния и неумения врачей
Продолжение
№ выбора
8
9
10
11
12
13
14
15
0
Предлагаемые выборы
Считаю, что опасность моей болезни врачи преуве-
личивают
Стараюсь перебороть болезнь, работать как прежде
и даже еще больше
Я чувствую, что моя болезнь гораздо тяжелее, чем
это могут определить врачи
Я здоров, и болезни меня не беспокоят
Моя болезнь протекает совершенно необычно — не
так, как у других, и поэтому требует особого
внимания
Моя болезнь меня раздражает, делает нетерпели-
вым, вспыльчивым
Я знаю, по чьей вине я заболел, и не прощу этого
никогда
Я всеми силами стараюсь не поддаваться болезни
Ни одно из определений ко мне не подходит
Баллы для
раскодирования
3
рр
и
3
яя
нн
п
г
—
Отношение к лечению
14
15
Избегаю всякого лечения — надеюсь, что орга-
низм сам переборет болезнь, если о ней поменьше
думать
Меня пугают трудности и опасности, связанные
с предстоящим лечением
Я был бы готов на самое мучительное и даже опас-
ное лечение, только бы избавиться от болезни
Я не верю в успех лечения и считаю его напрасным
Я ищу новые способы лечения, но, к сожалению,
во всех них постепенно разочаровываюсь
Считаю, что мне назначают много ненужных ле-
карств, процедур, меня уговаривают на никчем-
ную операцию
Всякие новые лекарства, процедуры и операции
вызывают у меня бесконечные мысли об ослож-
нениях и опасностях, с ними связанных
От лечения мне становится только хуже
Лекарства и процедуры нередко оказывают на меня
такое необычное действие, что это изумляет вра-
чей
Считаю, что среди применяющихся способов лече-
ния есть настолько вредные, что их следовало бы
запретить
Считаю, что меня лечат неправильно
Я ни в каком лечении не нуждаюсь
Мне надоело бесконечное лечение, хочу только,
чтобы меня оставили в покое
Я избегаю говорить о лечении с другими людьми
Меня раздражает и озлобляет, когда лечение не
дает улучшения
Ни одно из определений ко мне не подходит (или ни
одна из цифр не обведена)
109
Продолжение
№ выбора
Предлагаемые выборы
Баллы для
раскодирования
Отношение к врачам и медперсоналу
Главным во всяком медицинском работнике я счи-
таю внимание к больному
Я хотел бы лечиться у такого врача, у которого
большая известность
Считаю, что заболел я больше всего по вине врачей
Мне кажется, что врачи мало что понимают в моей
болезни и только делают вид, что лечат
Мне все равно, кто и как меня лечит
Я часто беспокоюсь о том, что не сказал врачу
что-то важное, что может повлиять на успех ле-
чения
Врачи и медперсонал нередко вызывают у меня не-
приязнь
Я обращаюсь то к одному, то к другому врачу, так
как не уверен в успехе лечения
С большим уважением я отношусь к медицинской
профессии
Я не раз убеждался, что врачи и медперсонал не-
внимательны и недобросовестно выполняют свои
обязанности
Я бываю нетерпеливым и раздражительным с вра-
чами и персоналом и потом сожалею об этом
Я здоров и в помощи врачей не нуждаюсь
Считаю, что врачи и персонал на меня попусту тра-
тят время
Ни одно из определений ко мне не подходит
Отношение к
и близким
родным
Я настолько поглощен мыслями о моей болезни, что
дела близких меня перестали волновать
Я стараюсь родным и близким не показывать виду,
как я болен, чтобы не омрачать им настроения
Близкие напрасно хотят сделать из меня тяже-
лобольного
Меня одолевают мысли, что из-за моей болезни
моих близких ждут трудности и невзгоды
Мои родные не хотят понять тяжести моей болезни
и не сочувствуют моим страданиям
Близкие не считаются с моей болезнью и хотят
жить в свое удовольствие
Я стесняюсь своей болезни даже перед близкими
Из-за болезни потерялся всякий интерес к делам и
волнениям близких и родных
Из-за болезни я стал в тягость близким
Здоровый вид и беззаботная жизнь близких вызы-
вают у меня неприязнь
Я считаю, что заболел из-за моих родных
Я стараюсь поменьше доставлять тягот и забот
моим близким из-за моей болезни
Ни одно из определений ко мне не подходит
110
Продолжение
Отношение к работе (учебе)
Болезнь делает меня никуда не годным работником
(неспособным учиться)
Я боюсь, что из-за болезни я лишусь хорошей ра-
боты (придется уйти из хорошего учебного заве-
дения)
Моя работа (учеба) стала для меня совершенно без-
различной
Из-за болезни мне стало не до работы (не до учебы)
Все время беспокоюсь, что из-за болезни могу допу-
стить оплошность на работе (не справиться с уче-
бой)
Считаю, что болезнь моя из-за того, что работа
(учеба) причинили вред моему здоровью
На работе (по месту учебы) совершенно не считают-
ся с моей болезнью и даже придираются ко мне
Не считаю, что болезнь может помешать моей ра-
боте (учебе)
Я стараюсь, чтобы на работе (по месту учебы) по-
меньше бы знали и говорили о моей болезни
Я считаю, что, несмотря на болезнь, надо продол-
жать работу (учебу)
Болезнь сделала меня на работе (учебе) неусидчи-
вым и нетерпеливым
На работе (за учебой) я стараюсь забыть о своей бо-
лезни
Все удивляются и восхищаются тем, что я успешно
работаю (учусь), несмотря на болезнь
Мое здоровье не мешает мне работать (учиться)
там, где я хочу
Ни одно из определений ко мне не подходит
Отношение к окружающим
Мне теперь все равно, кто меня окружает и кто
около меня
Мне хочется только, чтобы окружающие оставили
меня в покое
Когда я заболел, все обо мне забыли
Здоровый вид и жизнерадостность окружающих
вызывают у меня раздражение
Я стараюсь, чтобы окружающие не замечали моей
болезни
Мое здоровье не мешает мне общаться с окружаю-
щими, сколько мне хочется
Мне бы хотелось, чтобы окружающие испытали на
себе, как тяжело болеть
Мне кажется, что окружающие сторонятся меня
из-за моей болезни
Окружающие не понимают моей болезни и моих
страданий
111
№ выбора
10
11
12
13
14
15
0
Продолжение
Предлагаемые выборы
Моя болезнь и то, как я ее переношу, удивляют и
поражают окружающих
С окружающими я стараюсь не говорить о моей бо-
лезни
Мое окружение довело меня до болезни, и я этого
не прощу
Среди окружающих я теперь вижу, как много людей
страдает от болезней
Общение с людьми мне теперь стало быстро надо-
едать и даже раздражает меня
Моя болезнь не мешает мне иметь друзей
Ни одно из определений ко мне не подходит
1
БаллЬ для
раскодирования
—
~~~
*-~
—~~
И
Г
—
Отношение к одиночеству
Предпочитаю одиночество, потому что одному мне
становится лучше
Я чувствую, что болезнь обрекает меня на полное
одиночество
В одиночестве я стараюсь найти какую-нибудь инте-
ресную и нужную работу
В одиночестве меня начинают особенно преследо-
вать нерадостные мысли о болезни, осложне-
ниях, предстоящих страданиях
Часто, оставшись наедине, я скорее успокаиваюсь:
люди меня стали сильно раздражать
Стесняясь болезни, я стараюсь отдалиться от лю-
дей, а в одиночестве скучаю по людям
Избегаю одиночества, чтобы не думать о своей бо-
лезни
Мне стало все равно: что быть среди людей, что
оставаться в в одиночестве
Желание побыть одному зависит у меня от обстоя-
тельств и настроения
Я боюсь оставаться в одиночестве из-за опасений,
связанных с болезнью
Ни одно из определений ко мне не подходит (или
ни одна из цифр не обведена)
Отношение к будущему
Болезнь делает мое будущее печальным и унылым
Мое здоровье не дает пока никаких оснований бес-
покоиться за будущее
Я всегда надеюсь на счастливое будущее, даже в са-
мых отчаянных положениях
Не считаю, что болезнь может существенно отра-
зиться на моем будущем
Аккуратным лечением и соблюдением режима я
надеюсь добиться улучшения здоровья в буду-
щем
Свое будущее я целиком связываю с успехом в мо-
ей работе (учебе)
АС
НЯ
ГФ
СЯ
Ф
АА
ЗФ
33
гт
112
Продолжение
№ выбора
7
8
9
10
И
0
Предлагаемые выборы
Мне стало безразлично, что станет со мной в буду-
щем
Из-за моей болезни я в постоянной тревоге за мое
будущее
Я уверен, что в будущем вскроются ошибки и ха-
латность тех, из-за кого я заболел
Когда я думаю о своем будущем, меня охватывают
тоска и раздражение на других людей
Из-за болезни я очень тревожусь за свое будущее
Ни одно из определений ко мне не подходит
Баллы для
раскодирования
А
ИСЯЯ
П
—
—
—
водится символ О. Когда больной не хочет отвечать именно на
данную тему, графа остается незаполненной. Однако число ну-
лей и незаполненных граф в сумме не должно превышать трех.
Время заполнения регистрационного листа не ограничено. Но
консультироваться с другими не разрешается. Раскодирование
удобно осуществлять с помощью графика (см. ниже), где по
абсциссе обозначены символы типов (они в скобках даны в при-
веденном описании типов), а по ординате отложены крести-
ками баллы в пользу каждого из типов:
10
х
х
х
х
х
х
х
х
Я Ф 3 Р п
Пример графика раскодирования результатов
обследования с помощью Л ОБИ
Каждый буквенный символ в графе «Баллы для раскоди-
рования» соответствует 1 баллу в пользу соответствующего
типа: Г — гармоничного, Т — тревожного и т. д. Два и более
символа за один выбор, например ТН, ЗФ, означают, что по од-
ному баллу начисляется на каждый из этих типов. Сдвоенные
символы, например ПП, РР, обозначают, что в пользу данного
типа начисляется по два балла. После построения графика
диагностика типа осуществляется в соответствии со следую-
щими правилами:
9
8
7
6
5
4
3
2
1
X
X
X
X
г
X
X
т
X
X
и
X
X
МАИ
X
X
X
О
X
X
X
с
ИЗ
1. Диагностироваться могут только типы, в отноше/нии ко-
торых набрано такое число баллов, которое достигает или пре-
вышает минимальное диагностическое число для даннбго типа.
Минимальные диагностические числа для разных типов неоди-
наковы:
Тип отношения ГТИМАНОСЯФЗР П
Минимальное 74333343355 6 3
Диагностическое число
2. Если минимальное диагностическое число достигнуто или
превышено в отношении нескольких типов, диагностируется 2—
3 типа, где превышение наиболее велико. Если же этого сде-
лать не удается, то никакой тип не диагностируется.
3. Гармоничный тип диагностируется только, если согласно
правилам 1 и 2 не диагностируется никакой другой тип. В со-
четаниях гармоничный тип не диагностируется.
На приведенном графике в пользу эргопатического типа (Р) набрано
8 баллов, т. е. минимальное диагностическое число превышено на 2 балла.
В пользу сенситивного типа набрано 3 балла, т. е. минимальное диагно-
стическое число только достигнуто. В отношении всех других типов (Т, О,
И, Н) минимальное диагностическое число не достигнуто. Таким образом,
диагностируется смешанный тип — эргопатический с чертами сенситивности.
Опыт обследования больных с помощью ЛОВИ. Первые дан-
ные опубликованы в работе Л. И. Вассермана и соавт. (1981).
Выявлена определенная коррекция между частотой некоторых
типов и различными психосоматическими заболеваниями. При
ишемической болезни сердца более частыми были тре-
вожный, эйфорический и эргопатический типы, при бронхиаль-
ной астме — сенситивный, при язвенной болезни — ипохондри-
ческий и неврастенический типы отношений. Н. Я. Ивановым
были подсчитаны средние баллы для каждого типа отношений
у больных разными хроническими соматическими заболева-
ниями (по материалам исследований авторов, перечисленных
на стр. 104). Оказалось, что в отношении некоторых величин
имеются достоверные различия —Р<0,05 (табл. 4). В таблице
полужирным шрифтом набраны величины, достоверно более
высокие, а курсивом — достоверно более низкие при данном
заболевании в сравнении с остальными. Видно, что в группе
больных злокачественными опухолями достоверно выше показа-
тели тревожного и обсессивного типов и ниже — эйфорического
типа. В группе больйЫх инфарктом миокарда достоверно наи-
более высок показатель эргопатического типа и самый низкий —
обсессивного типа. Больные язвенной болезнью в среднем по
всем показателям заняли промежуточное положение, кроме
показателя апатического типа: при небольшой его величине он
все же оказался достоверно выше, чем при других типах.
В группе больных бронхиальной астмой максимальными ока-
зались показатели неврастенического, эгоцентрического и пара-
114
Таблица 4. Средний балл (х ± s-) на одного обследуемого
при разных хронических соматических заболеваниях
Тип
отношений
Г
т
и
А
Н
О
С
Я
Ф
3
Р
П
Средняя
сумма
баллов
(без Г)
Группы больных
Злокачест-
венные
опухоли
3,3±0,3
3,4±0,3
1,0±0,1
0,3±0,07
2,1 ±0,2
2,9±0,2
1,6±0,1
1,2±0,1
/,7±0,2
1,6±0,1
2,9±0,3
0,5±0,08
20,2±1,8
Инфаркт
миокарда
4,6±0,4
1,8±0,3
0,5±0,1
0,1 ±0,02
1,1 ±0,2
/,/±0,2
1,3±0,2
0,4±0,07
3,9±0,3
3,5±0,3
4,3±0,3
0,7±0,1
18,5±2,1
Язвенная
болезнь
2,5±0,3
2,1±0,4
0,9±0,2
0,8±0,2
2,1±0,3
2,1±0,2
1,4±0,2
0,8±0,1
2,3±0,3
1,5±0,3
2,3±0,3
0,7±0,2
17,0±1,5
Бронхиаль-
ная астма
4,6±0,3
2,8±0,3
1,3±0,2
0,3±0,07
3,0±0,4
2,0±0,3
1,2±0,2
1,4±0,2
2,2±0,3
0,7±О,2
3,8±0,3
1,3±0,2
20,0±1,5
Клиника
стоматоло-
гической
ортопедии
3,4±0,3
/,/±0,2
0,2±О,О6
0,2±0,04
1,0±0,2
1,4±0,3
1,0±0,2
0,2±0,05
3,5±0,3
3,0±0,3
2,0±0,2
0,8±0,2
14,4±1,2
нойяльного типов и минимальным — анозогнозического типа.
Группа больных из клиники ортопедической стоматологии об-
наружила минимальные показатели тревожного и ипохондриче-
ского типов. Таким образом, природа заболевания, несомненно,
является важным фактором, определяющим тип отношения к бо-
лезни. Однако данные приведенной таблицы указывают, что
этот фактор — не единственный. Средние баллы в отношении
сенситивного типа оказались весьма близкими во всех обсле-
дованных группах. Можно думать, что сенситивный тип отно-
шения к болезни более всего зависит от свойств личности,
в частности от сенситивной акцентуации характера. Как пока-
зывает таблица, средняя сумма баллов по всем типам, кроме
гармоничного, в какой-то мере может служить мерой того, на-
сколько болезнь отразилась на системе личностных отношений.
Эта сумма наиболее высока у больных злокачественными опу-
холями и бронхиальной астмой. Первое можно объяснить объ-
ективной опасностью заболевания. Что же касается больных
бронхиальной астмой, то обследованы были случаи относи-
тельно тяжелые, потребовавшие госпитализации. Достоверно
ниже, чем у этих двух групп больных, средняя сумма оказалась
у больных язвенной болезнью и особенно у больных в клинике
стоматологической ортопедии. Больные инфарктом миокарда
заняли промежуточное положение. Все это лишь первые дан-
ные, полученные с помощью ЛОБИ. По мере их накопления
в них, возможно, будут внесены существенные коррективы.
115
Глава VI
ПРОЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ
Проективные методы являются иным по сравнению с вопро-
сниками средством исследования и оценки личности, при ко-
тором изучению подвергаются результаты самовыражения или
творческой деятельности испытуемого, обычно не подозреваю-
щего, что исследуется его личность. При всем разнообразии
этой техники общим является то, что испытуемому предъявля-
ется достаточно неопределенный стимульный материал, который
он должен дополнить, развить, интерпретировать. Большое зна-
чение придается самому понятию проекции [Коган В. М., Рого-
вин М. С, 1964; Мясищев В. Н., Беспалько И. Г., Гилья-
шева И. Н., Карвасарский Б. Д., Немчин Т. А., 1969; Цула-
дзе С. В., 1969; Савенко Ю. С, 1969, 1978; Соколова Е.Т., 1978,
1980; Бурлачук Л. Ф., 1979; Frank L. К., 1939, 1948; Abt L., Bel-
lak L., 1950; Musrstein В. J., Pryer R. S., 1959]. Обычно оно
связывается с именем 3. Фрейда, хотя у него понятие «проек-
ция» чаще всего обозначает лишь один из видов защитных
механизмов, влияющих на восприятие субъекта. F. S. Freeman
(1956) определяет проекцию как: 1) бессознательный процесс,
в ходе которого субъект наделяет некоторыми своими идеями,
взглядами, желаниями, эмоциями или чертами характера дру-
гих лиц; 2) проекция может принимать форму приписывания
своих собственных потребностей другим лицам из своего окру-
жения; 3) она может также выразиться в неправильном умо-
заключении, обусловленном каким-то опытом. Проективные ме-
тоды ставят исследуемого в такое стимулирующее положение,
при котором проявляются его личные потребности, его особен-
ное восприятие, его интерпретации и многие характерологиче-
ские особенности. Проекция обнаруживается при использова-
нии всех вербальных и рисуночных методов, таких как словес-
ные ассоциации, незаконченные предложения, картинки и пятна,
собственные рисунки испытуемого и пр.
«Тематический апперцептивный тест» (ТАТ) является одним
из наиболее известных и распространенных проективных мето-
дов исследования личности. Он применяется почти в любом ши-
роком психологическом исследовании отдельных индивидуумов,
групп, а также при изучении расстройств поведения, психосома-
тических заболеваний, неврозов и психозов. ТАТ как способ
исследования фантазии впервые был применен сотрудниками
Гарвардского университета и психологической клиники С. Mor-
gan и Н. Murray (1935). В дальнейшем он стал более известен
по имени Маррея, в наибольшей степени способствовавшего
разработке его как метода оценки личности. В отличие от ме-
тода Роршаха, который, по мнению большинства авторов, нап-
равлен на исследование общей структуры личности, ТАТ может
116
обеспечить исследователя содержательным материалом, позво-
ляющим осветить более конкретные отношения личности, ее мо-
тивы и тенденции, конфликты и способы их разрешения. Как
проективный метод ТАТ предлагает испытуемому достаточно
неопределенный материал, допускающий большую свободу и
разнообразие ответов, причем предполагается, что чем меньше
детерминация извне, тем больше она определяется индивиду-
альными особенностями испытуемого. Как содержательный ме-
тод ТАТ предоставляет испытуемому картины с изображением
реальных фигур в реальных ситуациях. На большинстве картин
ТАТ изображены человеческие фигуры, чувства и действия ко-
торых выражены с различной степенью ясности. ТАТ содержит
30 картин, из которых некоторые были нарисованы специально
по указанию психологов, другие являлись репродукциями раз-
личных картин, иллюстраций или фотографий. Кроме того,
испытуемому предъявляется также белая карта, на которой
он может вызвать путем воображения любую картину, какую
захочет. Из этой серии в 31 карту каждому испытуемому
обычно предъявляется последовательно 20 карт. Из них 10
предлагаются всем, остальные подбираются в зависимости от
пола и возраста испытуемого. Эта дифференциация определя-
ется целью способствовать возможности наибольшей идентифи-
кации испытуемым себя с изображенным на картине персона-
жем, так как такая идентификация легче, если картина вклю-
чает персонажи, близкие испытуемому по полу и возрасту. Ис-
следование обычно проводится в два сеанса, разделенные од-
ним или несколькими днями, в каждом из которых предъявля-
ются последовательно в определенном порядке 10 картин. До-
пускается, однако, модификация процедуры ТАТ. Некоторые
психологи считают, что в клинических условиях более удобно
проводить исследование целиком в один раз с 15-минутным пе-
рерывом, другие же используют часть картин и проводят ис-
следование за 1 ч. Испытуемому предлагается придумать исто-
рию по каждой картине, в которой нашла бы отражение изоб-
раженная ситуация, было бы рассказано, что думают и чувст-
вуют персонажи картины, чего они хотят, что привело к ситуа-
ции, изображенной на картине, и чем это кончится. Ответы за-
писываются дословно с фиксацией пауз, интонаций, восклица-
ний, мимических и других выразительных движений (могут
быть привлечены стенография, магнитофон, реже запись пору-
чается самому испытуемому). Так как испытуемый не знает
о значении своих ответов, касающихся, казалось бы, посторон-
них для него объектов, ожидается, что он раскроет определен-
ные аспекты своей личности более свободно и с меньшим соз-
нательным контролем, чем при прямом расспросе. Однако ме-
тод ТАТ представляет большие трудности для интерпретатора,
которому предстоит решить какой материал является действи-
тельно существенным для понимания личности исследуемого
117
и какой безличным, какие истории отражают фантазии испы-
туемого и какие — его действительные тенденции и особенности
поведения. Допускается, что некоторые ответы могут быть сте-
реотипными, детерминированными условиями культуры (ра-
дио, кино, книги). Поэтому интерпретация протоколов ТАТ не
должна проводиться «в вакууме», этот материал следует рас-
смотреть по отношению к известным фактам жизни личности,
которую исследуют. Большое значение придается подготовке
и искусству психолога. Помимо знания психологии личности
и клиники, он должен иметь значительный опыт работы с ме-
тодом, желательно использование этого метода в условиях,
когда возможно сопоставление результатов по ТАТ с подроб-
ными данными об этих же испытуемых, полученными другими
средствами.
Существуют различные подходы к анализу и интерпретации
данных, полученных с помощью этого метода. Н. Murray (1943)
предлагает несколько различных принципов анализа. В одном
из них в соответствии с теорией личности, автором которой
является он сам (1938), рекомендуется схема, при которой весь
материал распределяется по двум основным категориям: «пот-
ребности» — проявления активности субъекта в отношении лю-
дей, предметов и обстоятельств и «давления» — проявления ак-
тивности среды, людей, предметов и обстоятельств, а также
социальных сил и идеологий, направленных на субъекта. В со-
ответствии с этим предлагаются списки свойств, таких как, на-
пример, стремление к достижению успеха, признания, установ-
ление положительных социальных связей, приобретение, сози-
дание, разрушение, лидерство, агрессия, доминирование, ока-
зание помощи или потребность в ней и т. д., которые могут
быть категориями как «потребности», так и «давления» в за-
висимости от того, исходят ли они от субъекта или направлены
на него.
Динамическая психология Запада, на которую существен-
ное влияние оказал психоанализ, объединяет эти свойства в об-
щем понятии «агрессия», которая рассматривается как некая
изначальная движущая сила поведения человека, а содержа-
тельный психогенетический анализ этих разнообразных прояв-
лений подменяется формальной их классификацией. По Мар-
рею, «формальный анализ» — это анализ построения, стиля,
характера и языка рассказов, на основе которого делаются за-
ключения о способности наблюдения, соотношении интроцепции
и экстрацепции, легкости вербализации, литературных способ-
ностях, психологической глубине, эмоциональной зрелости, тем-
пераменте, интеллектуальности, эстетическом воображении,
а также о нормальной или нарушенной целости проективного
акта, разорванности мышления и речи, несогласованности чув-
ства и действия и других свидетельствах психопатологических
изменений. Что касается возможности статистической обра-
118
ботки некоторых показателей ТАТ, то Маррей, например, пред-
лагает выраженность каждого свойства оценивать по пяти-
балльной шкале в зависимости от интенсивности, длительности,
частоты и значения их в сюжете каждого рассказа. После того
как все 20 рассказов оценены таким образом, сумма оценок
каждого свойства сравнивается со стандартной для данной
группы испытуемых. Многие клиницисты-практики не делают
такого детального анализа, пользуясь лишь общими принци-
пами определения идентификации и проекции тенденций, мо-
тивов, конфликтов, отношений и других аспектов личности, как
они отражаются в историях ТАТ.
Для характеристики испытуемого по рассказам ТАТ важно
оценить характер героя — главного действующего лица, с кото-
рым субъект в наибольшей степени себя идентифицирует, и его
среды, благоприятна ли она для героя или препятствует ему;
ищет ли он успеха и признания или постоянно нуждается в под-
держке других. Важно какую силу проявляет герой (энер-
гию, решительность, настойчивость, компетентность); какова
оценка сил среды, содействующих ему по сравнению с силами
противодействующими; легким или трудным является путь ге-
роя; борется он перед лицом сопротивления или отступает; до
какой степени он справляется со своими задачами; при каких
условиях добивается успеха, в каких терпит поражение; явля-
ются ли истории реалистическими; адекватно ли поведение ге-
роя; имеются ли признаки разорванности мышления и речи,
несогласованности чувства и действия. У нас в стране мето-
дику ТАТ впервые стали использовать в начале 60-х годов
в Институте им. В. М. Бехтерева, где она показала свою цен-
ность для выявления значимых, в том числе патогенных, отно-
шений личности и в помощь дифференциальной диагностике
неврозов, психозов и пограничных состояний [Гильяшева И. Н.,
1964, 1967, 1974, 1976 и др.]. Позже эта методика вышла за
пределы клиники и стала шире использоваться при психоло-
гических исследованиях [Норакидзе В. Г., 1975; Реньге В. Э.,
1979, и др.]. Считают, что ТАТ можно применять также и для
подростков и даже детей (для этих случаев инструкцией пре-
дусмотрена замена нескольких картин). Для исследования де-
тей, особенно маленьких, были созданы специальные проектив-
ные тесты. Детский апперцептивный метод CAT [Bellak L., Bel-
lak S., 1954] предназначен для детей в возрасте от 3 до 10 лет.
Он состоит из 10 рисунков, изображающих животных в обыч-
ных человеческих ситуациях и взаимоотношениях, значимых
для маленьких детей (еда, сон, туалет, игры, наказания и пр.).
В Институте им. В. М. Бехтерева адаптирована детская проек-
тивная методика для исследования межличностных отношений
ребенка [Гильяшева И. Н., Игнатьева Н. Д., 1976, 1978]. С ус-
пехом применяются при изучении личности ребенка, а также
в целях психотерапии детские игровые проективные методики —
119
тест Мира и Сценотест [Харитонов Р. А., Хрипкова Л. М.,
1976]. В этих же целях не только в детской клинике, но и в пси-
хотерапевтической работе со взрослыми используется «проек-
тивный рисунок» [Бурковский Г. В., Хайкин Р. Б!, 1979].
Исследование фрустрации. В последние десятилетия внима-
ние наших психологов было привлечено к теории и экспери-
ментально-психологической практике изучения состояния фру-
страции [Левитов Н. Д., 1967; Плотичер А. И., 1969; Блей-
хер В. М., Бурлачук Л. Ф., 1978]. Хотя различные исследова-
тели нередко вкладывают в это понятие разный смысл, в целом
фрустрацию можно определить как состояние человека, выра-
жающееся в характерных особенностях переживаний и поведе-
ния, вызываемое объективно непреодолимыми (или субъектив-
но так понимаемыми) трудностями, возникающими на пути
к достижению цели или к решению задачи. S. Rosenzweig
(1945), который является автором одной из методик исследо-
вания фрустрации, ввел важное понятие о фрустрационной то-
лерантности. В основе этого понятия лежит способность лич-
ности к адекватной оценке трудной ситуации и, с другой сто-
роны, способность увидеть выход из этой ситуации. Таким об-
разом, фрустрационная толерантность понимается как способ-
ность индивида переносить фрустрацию без утраты своей пси-
хобиологической адаптации. Методика для исследования фру-
страции была описана Розенцвейгом впервые в 1944 г. под наз-
ванием «Метод рисуночной ассоциации». Этот тест занимает
промежуточное положение между методикой словесной ассоциа-
ции и ТАТ. Последний он напоминает тем, что также исполь-
зует картинки в качестве стимулирующего материала. Но,
в отличие от картин ТАТ, эти рисунки схематичны и, что явля-
ется более существенным, употребляются для того, чтобы полу-
чить от испытуемого сравнительно простые, краткие ответы.
Таким образом, эта техника сохраняет некоторые преимуще-
ства метода словесной ассоциации и в то же время приближа-
ется к исследованию тех аспектов личности, которые стремятся
выявить с помощью ТАТ. Методика содержит 24 рисунка и
рассчитана на выявление характерных типов ответа испытуе-
мого на повседневные стрессовые ситуации. На каждом ри-
сунке персонаж слева представлен произносящим слова, помо-
гающие уяснить фрустрацию другого лица, находящегося
справа. Над персонажем справа имеется пустой квадрат, в ко-
торый испытуемый должен вписать свой ответ. Ситуации, пред-
ставленные в методике, можно разделить на две основные
группы: а) в одной какое-либо препятствие, персонаж или пред-
мет останавливают, обескураживают, лишают чего-то, одним
словом, любым прямым способом вызывают фрустрацию (су-
ществует 16 ситуаций этого типа); б) в другой субъект служит
объектом обвинения. Его привлекают к ответственности или
обвиняют другие (таких ситуаций 8).
120
Испытуемому дается инструкция: «Каждый из рисунков
включает в себя 2 или более персоны. Один человек произно-
сит определенные слова. Вам надо написать в незаполненном
квадрате первый пришедший на ум ответ на эти слова. Не
старайтесь отделаться шуткой. Действуйте по возможности бы-
стрее». При оценке результатов ответы испытуемого сводятся
к определенным типам реагирования. Каждый ответ оценива-
ется с двух точек зрения: 1) с точки зрения выраженной на-
правленности реакций личности: а) экстрапунитивный — с тен-
денцией порицать источник фрустрации; б) интропунитивный —
с тенденцией порицать самого себя или же в) импунитивный —
с тенденцией избежать порицания; 2) с учетом типа реакций
личности: а) испытуемый делает акцент на самом препятствии,
на оценке его степени и значения, как крайне неблагоприятной,
благоприятной или же незначительной; б) его реакция носит
самозащитный характер, выражающийся в обвинении другого,
порицании себя как виновного в ситуации или отрицаний чьей
бы то ни было вины в происшедшем; в) акцент делается на
разрешении ситуации (требование помощи от других лиц для
этой цели, субъект принимает на себя обязанности произвести
необходимые исправления или же ожидает, что нормальный
ход событий со временем принесет с собой разрешение ситуа-
ции). Помимо количественных и качественных оценок особен-
ностей направленности и типов реакций личности в фрустра-
ционных ситуациях, методика позволяет сопоставить ответы
испытуемого со среднестатистическими данными и установить
дополнительный показатель, дающий возможность судить
о степени социальной адаптации индивида. Розенцвейг считает,
что реакции на фрустрацию и способы приспособления к ней
должны рассматриваться как значимые для понимания пове-
дения человека, поскольку они выявляют индивидуальные сред-
ства преодоления стресса.
В Институте им. В. М. Бехтерева тест рисуночной ассоциа-
ции был адаптирован Н. В. Тарабриной (1973) и использовался
в исследовании типов реакции на фрустрацию и фрустрацион-
ной толерантности больных неврозами [Тарабрина Н. В., Ши-
ряков Г. В. и Широков В. Д., 1971]. Здесь же Г. П. Цейтиной
(1980) он применялся в сочетании с методикой незаконченных
предложений при исследовании уровня социальной адаптации
и нарушений в системе отношений к своему окружению и здо-
ровью у больных с церебральной формой гипертонической
болезни. Тест Розенцвейга, методика незаконченных предложе-
ний, а также MMPI оправдали себя и при прогнозировании
общественно опасных действий больных шизофренией [Шума-
ков В. М., Колос И. В., Дегтярев В. А., 1981].
Методики незаконченных предложений относятся к так на-
зываемым вербальным проективным методам и также часто
используются в клинике. Исследуемому предъявляется серия
121
незаконченных предложений, обычно с многоточиями в конце,
с тем чтобы он закончил их одним или более словами. Этот
прием похож на ассоциативный эксперимент, однако метод не-
законченных предложений более информативен, потому что
исследуемый может отвечать более чем одним словом. При
этом возможны большая гибкость и большее разнообразие от-
ветов; заданность определенных тем позволяет затронуть важ-
ные аспекты личности и жизненного опыта. Эти методики
строятся различно. Одни предназначаются для выявления мо-
тивов, потребностей и сил среды, действующих на субъекта.
Другие могут касаться в первую очередь или исключительно
чувств испытуемого, его отношений к семье, друзьям, колле-
гам и пр. Третьи предназначены для обнаружения некоторых
психологических механизмов, таких как чувство одиночества,
способы ухода от действительности. Иными словами, каждая
методика должна быть приспособлена к частной ситуации,
в которой она будет использоваться. Благодаря этому имеются
значительные возможности изучения как нормальных, так и
клинических случаев. Примером может служить структура од-
ного из часто используемых при психологическом исследовании
метода незаконченных предложений Сакса и Сиднея, адапти-
рованного в Институте им. В. М. Бехтерева в целях исследова-
ния личностных отношений больных неврозами и психозами
[Румянцев Г. Г., 1969; Соколова Г. С, 1971]. Метод состоит из
60 незаконченных предложений такого типа: «Будущее кажется
мне...», «Думаю, что настоящий друг...», «Супружеская жизнь
кажется мне...» и пр. Все 60 предложений при анализе рас-
пределяются на 15 групп (в каждой группе 4 незаконченных
предложения), отражающих основные отношения испытуемого:
отношение к матери, к отцу, к семье, к лицам противополож-
ного пола, половой жизни, к друзьям и знакомым, к выше-
стоящим по работе, к подчиненным, к коллегам и т. д. Рассмат-
ривается также отношение к прошлому, будущему и цели. Об-
работка полученных этим проективным методом данных может
быть качественной и количественной.
Методика «Семантического дифференциала» (СД), автором
которой является Ч. Осгуд [Osgood Ch. E., Suci G. J., Tannen-
baum 1957; Osgood Ch. E., 1969] в последние годы вызывает
интерес в отечественной психологии. Анализу теоретического
обоснования метода и опыту его применения посвящены работы
сотрудников института В. М. Бехтерева Т. Л. Федоровой (1978)
и А. М. Эткинда (1979). Методологическая уязвимость «семан-
тического дифференцирования» не отрицается даже самим соз-
дателем методики. СД связывается с теорией значения, хотя
и не основывается на ней: методика выкристаллизовывалась
в ходе практических исследований, которые Осгуд проводил
в области синестезии, и независимо от теории значения. Семан-
тический дифференциал и был задуман как методика, позво-
122
ляющая определять значение и с качественной, и с количест-
венной стороны. хМетодика состоит в том, что испытуемый оце-
нивает интересующие исследователя понятия по набору шкал.
Каждая шкала — это отрезок прямой с 7 делениями. Поляр-
ные точки обычно представлены прилагательными-антонимами:
красивый — уродливый; глубокий — мелкий и т. д. Серединная,
или нейтральная, позиция означает либо признание, либо от-
рицание обеих характеристик («и.. .и» или «ни. ..ни»). Такие
шкалы, по мнению Осгуда, можно представить как оси, про-
ходящие через начало координат (оно соответствует нейтраль-
ной шкальной позиции) и задающие таким образом многомер-
ное пространство, которое исследователь называет «семанти-
ческим». Оценка значения понятия по шкалам СД позволяет
поместить его в точку семантического пространства (СП). По-
ложение точки в СП характеризуется двумя показателями:
1) направленностью от начала координат, т. е. от нейтральной
позиции шкалы (качественная характеристика), и 2) удален-
ностью от начала координат («интенсивность», «поляриза-
ция»— количественная характеристика). Чем больше точка СП
удалена от начала координат, или, иначе, чем длиннее вектор,
тем интенсивнее реакция и, следовательно, тем более значимо
для испытуемого оцениваемое понятие. Естественно, что зна-
чение понятия определяется тем точнее, чем большее число
осей СП задано, т. е. чем больше число шкал, по которым это
понятие оценивается. Однако на практике для определения
семантического пространства вполне достаточно знать его ос-
новные измерения. Лучшим аппаратом для выделения мини-
мального количества измерений, или осей, характеризующих
СП, оказался факторный анализ.
Осгудом и его сотрудниками было проделано 3 факторных анализа, и
всякий раз в результате выделялось 3 основных фактора (от 50 до 65 %
всей дисперсии). В 1-й фактор (33—38%) с самым высоким весом вошли
шкалы типа «хороший — плохой», «красивый — уродливый», «чистый —
грязный» и т. п. Он интерпретировался как фактор оценки. 2-й фактор
(7—16%) составили шкалы «большой — маленький», «сильный—слабый»
и др., и он получил название фактора силы. В 3-й фактор (6—11 %) во-
шли шкалы «быстрый — медленный», «активный — пассивный»; он был на-
зван фактором активности. Это позволило Осгуду говорить об универсаль-
ности этих трех, как он их называет, «аффективных компонентов значе-
ния», придающих всему значению то, что можно назвать его «эмоциональ-
ной окраской». Утверждая, что СД выделяет именно аффективные компо-
ненты значения, Осгуд объясняет это тем, что, за редким исключением,
шкалы употребляются в метафорическом смысле, причем для психологов
именно метафоричность шкал делает СД предпочтительнее таких прямых
методов, как, скажем, «полярные профили».
Результаты факторного анализа шкал представляют для
психолога самостоятельный интерес, особенно если это инди-
видуальный анализ. Но не следует забывать, что в психологи-
ческом исследовании семантический дифференциал — это инст-
румент, и главное назначение факторов — служить парамет-
123
рами точки в пространстве аффективных значений. Поэтому
основной интерес представляет практика измерения значения.
Нельзя не учитывать, что выбор понятий определяется конк-
ретными целями исследования. Чаще всего понятие выража-
ется существительным или группой существительного (напри-
мер, «мое идеальное я»). Однако известны случаи, когда поня-
тиями служили прилагательные и даже глаголы. Понятия
могут быть и невербальными — карты ТАТ или Роршаха, кар-
тины, скульптуры; использовались также отрывки музыкальных
произведений и отдельные звуки и т. д. При помощи СД можно
получать: 1) факторные оценки, 2) расстояния между значе-
ниями различных понятий, 3) понятийные структуры испытуе-
мых. Все эти возможности довольно широко используются
в клинике. Очевидно, что в случае внутренних конфликтов,
при фрустрациях, при повышенной тревожности и т. д. значе-
ния определенных понятий отклоняются от нормы (особенно
ярко это выражено при фобиях). Изменение значения для
больного некоторых понятий, прежде всего таких, как «я»,
«врач», «мой отец», «будущее» и др., может служить и крите-
рием улучшения в его состоянии, например в ходе психотера-
пии и т. п. О применении СД для измерения отношений лич-
ности следует сказать особо, так как это измерение часто бы-
вает необходимым этапом клинико-психологического исследова-
ния больных. Поскольку отношение, по определению, биполяр-
но (т. е. может быть представлено на биполярном континууме
с нейтральной точкой), имеет разную интенсивность и потен-
циально опосредует собою какое-либо оценочное поведение, оно
является элементом семантической структуры личности, а сле-
довательно, может быть измерено при помощи СД. Однако
в исследовании отношения усреднение материала может обед-
нить и исказить получаемую информацию (впрочем, это каса-
ется всех случаев применения СД в психологии, особенно кли-
нической, в отличие от психолингвистики, где, как правило, ис-
следователей интересуют именно усредненные данные). В то
же время индивидуальный анализ дает иногда интересные и не-
ожиданные результаты. Так, в исследовании Т. Л. Левиной
и В. Ф. Федорова (1972) было показано, что отношение не
всегда сводится к одному фактору. Авторами было выделено
по крайней мере 2 независимых аспекта оценки, которые ус-
ловно можно назвать «нравственным» и «чувственным». (Это
исследование, кроме того, показало, что в ряде случаев строить
понятийные структуры можно, не вычисляя «Евклидова рас-
стояния» в СП, а используя в качестве меры близости понятий
коэффициенты корреляции). Умело подобранные шкалы СД
позволяют получить ценную информацию, содержащуюся в са-
мооценке больного, причем при наличии опыта делается это
достаточно безболезненно для испытуемого (здесь, может быть,
особенно важны «маскировочные» шкалы), а полученная ин-
124
формация значительно надежнее той, которую можно было бы
получить, прибегнув к прямым вопросам. Методика СД может
применяться в сочетании с проективными тестами. По Осгуду,
это дает следующие преимущества: 1) уменьшается роль экс-
периментатора с той субъективной окраской, которую он при-
вносит в ситуацию проведения теста, интерпретацию его ре-
зультатов и т. д.; 2) конечные данные выражаются в кванти-
фицированных оценках; 3) тест можно проводить одновременно
с группой испытуемых; 4) тест можно применять к больным
с речевыми нарушениями; 5) квантификация оценок проектив-
ных тестов упрощает проверку их валидности.
Будучи использованным как инструмент квантификации
проективных методик, СД является одновременно и инструмен-
том проверки их валидности. Таким образом, СД может найти
в этой области весьма широкое применение, он может служить
надежным подспорьем в работе клинического психолога, на-
пример при исследовании отношений. Это оправдывается опы-
том применения семантического дифференциала в модифика-
ции D. Feldes (1976) в Институте им. В. М. Бехтерева в сот-
рудничестве с психиатрической клиникой Университета
им. К. Маркса в Лейпциге (ГДР). Методика была стандарти-
зирована автором модификации в отношении 3 введенных Ос-
гудом факторов: «активности» (названной D. Feldes возбуж-
дением), «оценки» (названной валентностью) и «силы» (наз-
ванной потентностыо). Эти 3 фактора могут рассматриваться
как общие психологические качества и независимые инвариант-
ные и универсальные параметры психосоциальных процессов.
«Возбужденность» характеризует такие черты, как спокойствие,
уравновешенность или беспокойство, возбудимость; «потент-
ность»—отношения доминирования — зависимости, лидерства—
подчинения; фактор «валентность» отражает степень привлека-
тельности, популярности и дает некоторое представление о пси-
хологическом принятии или отклонении. Методика состоит из
18 полярных характеристик, каждые шесть охватывают один
из трех факторов: «возбужденность», «валентность» и «потент-
ность». Для адаптации в СССР методики СД по Feldes 18 шкал
и 21 стандартизированное понятие были переведены на русский
язык, испытаны в Москве и Ленинграде и подвергнуты фак-
торному анализу (ортогональному вращению). На основании
трансформационного анализа факторных матриц шкал популя-
ции ГДР и СССР было установлено, что как в той, так и
в другой популяции семантическое пространство детерминиро-
вано сходным образом тремя общими факторами методики.
С помощью СД, модифицированного D. Feldes, были обсле-
дованы врачи, обслуживающий персонал и пациенты психиат-
рических отделений и отделений неврозов и психиатрии
в СССР, ГДР и ЧССР. Результаты проведенных исследова-
ний представили ценный материал, характеризующий струк-
125
туру взаимоотношений в этих учреждениях, что позволило ре-
шить важные задачи по переподготовке их персонала для ус-
пешной работы по созданию терапевтической среды, способст-
вующей реабилитации больных. Материалы этих исследований
опубликованы в совместной монографии сотрудничающих сто-
рон на русском (1980 г.) и немецком (1981 г.) языках.
Метод Роршаха' предложен автором в 1921 г. (Н. Ror-
schach. Psychodiagnostik). Основная научная и диагностическая
особенность метода заключается в попытке через изучение от-
носительно элементарных особенностей перцептивной деятель-
ности раскрыть структуру личности во взаимоотношении ее
когнитивных и эмоциональных аспектов. Метод основан на об-
разной интерпретации испытуемым неопределенных «черниль-
ных пятен». Появление метода обусловливалось общим разви-
тием психологической и диагностической мысли в период, когда
многие исследователи интересовались скрытыми в «чернильных
пятнах» возможностями. Заслуга Г. Роршаха заключалась в пе-
реориентации интереса от конкретного содержания образных
ассоциаций к общим характеристикам называемых образов —
их локализации в пятне, учете контура пятна и т. д. Это пот-
ребовало и создания соответствующего понятийного аппарата,
лежащего у истоков развития проективных методов. Вместе
с тем метод изначально ориентирован и на количественные
статистические показатели.
В нашей литературе имеются работы, дающие возмож-
ность достаточно подробно ознакомиться с методом Роршаха.
Тем не менее ощущается явный недостаток в специальных ме-
тодических разработках, необходимых для применения теста
на конкретных популяциях. В связи с этим здесь дается опи-
сание метода с акцентом на вопросах, мало затронутых в до-
ступной литературе.
Метод Роршаха состоит из стандартного набора десяти симметричных
пятен, каждое из которых является отдельной картой. Пять пятен черно-
серые и пять с большим или меньшим включением цвета. Испытуемого
просят указать, что эти пятна ему напоминают, какие образы он мог бы
в них представить. Пятна различаются по стимулирующим особенностям и
предъявляются в строго определенном порядке. Методология сбора данных
очень развита с учетом временных характеристик, эмоциональных реакций
и т. д. Следует подчеркнуть крайне важную, но недостаточно иногда учиты-
ваемую роль, которую играет конкретное словесное описание испытуемым на-
ходимого им образа для последующей формальной оценки ответа. Например,
если отмечается образ двух людей в, казалось бы, очевидном взаимодей-
ствии, но движение не упоминается даже при косвенных вопросах исследо-
вателя, подобные ответы не оцениваются как указывающие на движение че-
ловека. Это же относится и ко всем другим качествам образов (цвет, от-
тенки и пр.). Учитывается прямая или не вызывающая сомнений косвен-
ная вербализация для шифровки видимого в пятне образа. Метод Роршаха
не является «чисто» перцептивным, как, например, тахистоскопическое ис-
следование, но зависит от слов испытуемого. Перцепция и вербализация
в нем неразделимы. Образная интерпретация оценивается (шифруется) по
1 Раздел о методе Роршаха написан И. Г. Беспалько.
126
ряду аспектов, называемых категориями подсчета или суммарными оцен-
ками: 1) локализация — область пятна, используемая для построения образа
(это может быть все пятно или его отдельная область); 2) детерминанты —
те качества пятна, которые используются для создания образа,— это контур
пятна, цвет, оттенки. Кроме того, детерминантами считаются некоторые ка-
чества, привносимые в образ, которых в пятне как таковых нет. Это дви-
жение — человека, животных, неодушевленных объектов. Сюда же относится
привнесение в образ, создаваемый на плоском пятне, трехмерного простран-
ства; 3) содержание ответов — дается в самой общей форме (человек, живот-
ное, часть животного, ландшафт и т. д.); 4) популярность — оригинальность.
По этой шкале шифруются лишь те ответы, которые встречаются или очень
часто (это популярные ответы), или очень редко (оригинальные). Каждая из
категорий подсчета имеет подробные классификации и связана с широким
спектром интерпретативных психологических значений. Обычно изучаются
суммы однотипных оценок (отсюда название — «суммарные оценки»), их от-
ношения, динамические характеристики. В идеале совокупность всех получен-
ных отношений создает уникальную единую структуру, которая и отражает
особенности личности. Диагностически важные вопросы связаны с отдель-
ными категориями подсчета.
Локализация. Тремя основными видами локализации явля-
ются ответ на пятно в целом (W), на его обычную, т. е. легко
различимую и часто избираемую, часть (D) и на необычную,
чаще мелкую и редко выбираемую, область (Dd). Они, в свою
очередь, делятся на многочисленные подвиды. Области могут
быть простыми и комбинированными, хорошо и плохо соот-
ветствовать называемому образу и т. д. Существует ряд само-
стоятельных классификаций локализаций, которые различа-
ются как по формальным оценкам, так, отчасти, и по прида-
ваемому им интерпретативному значению. У нас получила от-
носительно большое распространение традиционная европей-
ская классификация. Однако ее слабой стороной является то,
что при обосновании интерпретационного значения широко при-
меняются рассуждения по аналогии и с точки зрения «очевид-
ного», которые, как показывает опыт, далеко не всегда оп-
равдываются. Например, часто выбор обычных деталей рас-
сматривается как показатель практичности и здравомыслия,
так как свидетельствует о том, что такой человек обладает до-
статочным здравым смыслом, чтобы использовать обычный ма-
териал до того, как он перейдет к рассмотрению необычного.
Но, как, в частности, указывают L. Phillips a. S. Smith (1953):
«Очевидно, что интерпретации, основанные на таком рассудоч-
ном подходе, не могут считаться более чем гипотезами. Разум-
ность не является критерием валидности. На сегодняшний день
не обнаружено существенных корреляций между локализацией
и поведением или личностью». В связи с этим, в противополож-
ность «умозрительному» подходу, приобретают значение эмпи-
рически обоснованные оценки локализации. В настоящее время
наиболее эмпирически обоснованной является, видимо, генети-
ческая классификация. Она построена на сопоставлении осо-
бенностей локализации с уровнем возрастного психического раз-
вития (генетически ранние и поздние виды локализации). Кроме
127
Таблица 5. Генетическая классификация локализаций
Шифр
Описание
Примеры
Wa
W-
DW
А. Генетически ранние уровни:
1.Диффузная глобальная пе
Аморфное целое. Очертания не играют ро-
ли, доминирует цвет
Не удовлетворяются минимальные требова-
ния к соотношению формы пятна и содер-
жания. В оценке W помогают таблицы
F+, F-
Конфабуляция. «Узнавание» целого на ос-
нове одной детали. Чем менее существен-
на и незначительна деталь, тем пато-
логичнее ответ
р ц е п ц и я
К. I: «черная краска»,
«огонь и дым»
К. I: «муха», «черепаха»
К. И: «спрут»
К. IV: «кот», так как
маленькие централь-
ные нижние выступы
напомнили бакенбарды
Da
DdD
D—
DV
Dd—
2. Диффузное восприятие с минимальной
дифференциацией
Аморфные детали. Аналогичны Wa. Отнесе-
ны ко 2-му уровню, так как появляется
способность к выделению частей из целого
Конфабуляторные Д. Аналогичны DW
Аналогичны W—
Неопределенные детали. Форма настолько
неспецифична, что подходит любое пятно
Аналогичны W— и D—. Даются на редкие,
чаще мелкие детали
К. II, красные пятна
D4: «огонь»*
K.VI. вся верхняя об-
ласть D4: «голова ко-
та», так как «усы»
К. II, верхние красные
обл. D4: «котята»
К. II, D4: «остров»
К. VI, маленький верх-
небоковой выступ D1:
«нога свиньи»
3. Недоведение дифференциации и интеграции
до посредственного уровня
Wv
Dn
Dd+
Неопределенное целое. Отнесено к 3-му
уровню по сравнению с D, так как имеет-
ся минимальное интегративное усилие
«Олигофренические детали». Указание
только на часть образа вместо обычно ви-
димого целого
К. I,
та»
рисунок: «кар-
Необычные детали с хорошей формой. Отне-
сены к генетически низшему уровню, так
как очень часты у детей 6—10 лет (до
13 % и выше) и редки у взрослых
Б. Генетически высшие уровни:
4. Посредственный уровень с точной дифферен-
циацией и способностью к простой интеграции
К. HI, D9: «голова че-
ловека» вместо «чело-
века» на D1, в которое
D9 входит как часть
К. VI, маленькие ниж-
ние выступы в пере-
вернутом положении
карты: «головы птиц»
Wn
Посредственное целое (mediocre — посред-
ственный). Хорошее совпадение по форме.
Уровень особенно частых, популярных
ответов
Посредственные детали. Аналогично Wm
К. V: «летучая мышь»
К. VII, верхние обла-
сти: «головы женщин»
128
Продолжение табл. 5
Описание
Примеры
Интеграция со способностью
к субординации
Два или более D комбинируются в одну с хо-
рошей формой
Комбинаторное целое, в котором отдельные
объединяемые детали четко выделены
(карты II, III, VII, VIII, X)
К. IX, верхние области
«два клоуна, дерущихся
на палках»
К. VII: «две танцующие
женщины»
6. Высшие проявления дифференциации
и интеграции. Встречаются только у взрослых
Высшее комбинаторное целое. Предвари-
тельное тонкое выделение частей из цело-
го, в котором они нечетко отделены, с по-
следующей реинтеграцией (карты 1, IV,
V, VI, IX, которые обычно видны как
простое целое)
Простые, редко разделяемые области D, ис-
кусно разделенные и реинтегрированные
К. VI: «два медведя, ви-
сящих на столбе, и
трава внизу»
К. HI, верхние красные
области D2 в боковом
положении: «скворец
на ветке»
К. X, синие боковые
области (обычно —
«пауки»): «чертик на
лошади»
Патологические ответы
К ним относятся и вышеуказанные конфабуляторные ответы DW. Дру-
гие патологические формы также, как и DW, относятся к генетиче-
ски раннему уровню 1, так как обычны в раннем возрасте до пяти
лет. Но, в отличие от DW, у взрослых они всегда свидетельствуют
о патологии. Излишне говорить, что в раннем онтогенезе и в пато-
логии они отражают функционально разные'процессы и несут ка-
чественно разный смысл.
Контаминационные ответы. Содержатель
ное «наложение» двух независимых ин
терпретаций
Фабулизационные комбинации. Абсурдные
комбинации на основе пространственно-
го соприкосновения пятен
Персеверации. Повторение одного и того же
содержания безотносительно к особенно-
ностям пятен
К. IV: «плед из чере-
пахи», так как пятно
напоминает и чере-
паху, и плед
К. X: «заяц с червями
из глаз», за счет объ-
единения соприкасаю-
щихся областей D2
«черви» и D4 «голова
зайца»
К. I, IV, X: «паук»
К. VIII, IX, X: «вну-
тренние органы»
* Нумерацию областей D см. на рис. 2.
б Заказ № 942
129
того, она включает клинически установленные патологические
виды локализаций, которые опять же имеют чисто эмпирическое
обоснование. Эта классификация приведена в табл. 5 [Wesley С,
Becker, 1975].
Диагностически важным соотношением является сопостав-
ление общего числа ответов на все пятно с числом ответов на
обычные и на необычные детали, т. е. W: D: Dd, которое назы-
вается «тип восприятия». Это отношение интересно тем, что от-
ражает перцептивные типологические особенности. В основе
типа восприятия, видимо, лежат весьма общие закономерности,
непосредственно связанные с нейрофизиологическими процес-
сами [Bohm E., 1972 и др.]. По нашим данным [Беспалько И. Г.,
1976], тип восприятия связан с коституциональными особенно-
стями. Так, у больных МДП отношение общего числа W
к числу D, выраженное в процентах от числа D, т. е. W/D %,
существенно различается при пикническом и непикническом
(нормостеническом и астеническом) телосложении — соответ-
ственно W/D % =68 % и 93 %. Еще более резкие отличия имеют
место, когда учитывается и характер течения МДП. Пикники
с монополярным (депрессивным) течением обнаруживают осо-
бенно низкую величину W/D % по сравнению с непикциками
с биполярным течением: W/D %=61 % и 106 %.
Оценку индивидуальных особенностей типа восприятия при-
нято сопоставлять со средними нормативными данными. По
американским данным, число ответов на все пятно W отно-
сится к числу D как 1 к 2. Однако, как выявилось относи-
тельно недавно, тип восприятия W: D : Dd существенно зави-
сит от такого неспецифического фактора, как общее число
ответов (R). Поэтому оценка типа восприятия должна прово-
диться с учетом R. В табл. 6 приведены наши данные по со-
отношению W: D: Dd, полученные на 100 здоровых. На эту
таблицу можно грубо ориентироваться в практической работе.
Как видно из таблицы, число W колеблется около 10, т. е.
близко к числу карт, и в среднем медленно растет с увеличе-
нием числа ответов R. После R=50 приблизительное отноше-
ние 1W: 2D переходит в 1W: 3D. При особенно большом R
значительно возрастает и Dd. Обращает внимание относитель-
ное постоянство D % независимо от числа ответов.
При тревоге психотического (не невротического!) уровня описывается
высокий W% по отношению к числу ответов R с большим числом элемен-
тарных W [Phillips a. Smith, 1953]. Сходные результаты мы получили при
эндореактивной депрессии» при которой часто наблюдается тревожно-депрес-
сивный синдром. При этом, при числе ответов до 30 W % : D % : Dd % —
=56:40:4, т. е. имеется значительное повышение W % за счет D % и Dd %
(сравни с табл. 6).
Основная гипотеза Роршах-подхода. Чисто эмпирически
Роршах установил, что индивидуумы проявляют различные
предпочтения к особенностям пятна. Одни указывают в основ-
130
Таблица 6. Зависимость выбора локализации от общего числа ответов
Общее число
ответов
W
D
Dd
15-20 1
Число
5-6
9—12
1-2
%
32,4
59,7
7,9
21—30
Число
8—11
11—16
2-3
%
36,8
53,8
9,4
31—40
Число
8-11
18-24
4-6
%
26,4
59,4
14,2
41-50
Число
11—13
23—28
7,9
%
26,4
55,4
18,2
51—70
Число
9-13
29—40
12-17
%
\ 18,6
57,8
23,6
ном на форму пятна, другие часто используют цвет, оттенки
и т. д. Отсюда был сделан вывод, что люди обладают различ-
ной чувствительностью к различным составляющим пятна и
основная гипотеза заключается в том, что эта различная чувст-
вительность, в свою очередь, связана с личностными и интел-
лектуальными особенностями. Таким образом, если возможно
определить качества пятна, на которые реагирует инвалид, то
создаются предпосылки к пониманию его личности. Эти каче-
ства пятна, к которым проявляется избирательная чувстви-
тельность, и были связаны с представлением о детерминантах.
Таким образом, имеются детерминанты формы (F), цвета (С),
оттенков (с). Роршахом была еще выделена детерминанта,
связанная с образом двигающегося человека,— детерминанта
движение человека (М). Казалось бы, она находится в про-
тиворечии с элементарными качествами пятна, на которые реа-
гирует наблюдатель. Автор, однако, предположил, что и здесь
имеется элементарная стимуляция, но не от пятна, а от собст-
венных мышц, и назвал эти ответы «кинестезиями». Ответы
о движении человека, согласно Роршаху, принципиально от-
личаются от ответов о движении животных и, тем более, не-
одушевленных объектов. Первые вызываются благодаря собст-
венным кинестетическим ощущениям, остальные — лишь «сло-
весное украшение». В таком первоначальном представлении
Г. Роршаха о кинестезиях впервые прозвучала идея проекции
в психологических методах — внутренние мышечные установки
«проецируются» в двигательные образы. Эта идея оказалась
малореализуемой в смысле выявления мышечных установок.
Опыт показал, что соответствующий опрос является суггестив-
ной и бездоказательной процедурой и предъявляет непомерно
высокие требования к интроспективным возможностям чело-
века. Поэтому ряд авторов, прямо не отвергая значение мы-
шечных ощущений или непроизвольных движений, если их уда-
ется надежно установить, указывают на решающее значение
вербализации в установлении детерминанты движения человека,
т. е. положение становится таким же, как и при установлении
других детерминант. Такой переход на «вербальный» уровень
в оценке движений ознаменовался в мировой практике введе-
нием детерминанты движения животных (FM) и неодушевлен-
ных объектов (т), в которых ориентация изначально идет на
5*
131
словесные указания. Опора на слова при оценке детерминант
не является вынужденной уступкой метода. Она скорее связана
с его естественным развитием и изменяющимся пониманием и
перцептивной деятельности, и связанного с нею феномена про-
екции, и самих детерминант. В связи с этим в первую очередь
нельзя упускать, что «слово» является мощным психофизиоло-
гическим и суггестивным фактором, способным, в частности, ав-
томатически вызывать непроизвольные мышечные установки.
В связи с этим в таком методе, как тест Роршаха, вопрос
о «первичности» мышечных ощущений вообще не может быть
надежно решен. В процессе конкретного исследования по Рор-
шаху мы не можем исключить, что и «мышечные ощущения»,
и «непроизвольные движения» являются производными от сло-
весйого описания. Подобные соображения, однако, не снижают
«проективной» ценности метода в связи со следующим.
Согласно современным представлениям, в перцептивном процессе пред-
полагается связь стимуляции физического и психофизиологического уровней
и ее структур а л изации, идентификации в общих представлениях, категориях,
характеризующих воспринимаемый объект и, в конечном итоге, выражаемых
в словах. Отсюда — отсутствие качественного различия между восприятием
и другими видами познавательной деятельности [Брунер Дж., 1975;
Найссер У., 1981]. Эти категориальные составляющие восприятия и опреде-
ляют перцептивную избирательность. Благодаря таким высшим установкам
мы способны воспринимать окружающее на очень разных уровнях обобще-
ния и, кроме того, непосредственно воспринимаем сложный и тонкий эмо-
циональный смысл явлений: например, видим не просто «растянутый рот»,
но улыбку в одном из бесконечного множества ее значений. Именно эти выс-
шие установки в условиях неопределенности и ответственны за «проекцию».
Специфика метода Роршаха заключается в том, что он соотносится с очень
общими категориями, участвующими в восприятии (линия, цвет и пр.). Цен-
тральным предположением является то, что эти категории связаны не только
с чисто физиологическим уровнем восприятия, но и с уровнем очень общих
человеческих значений, что и создает «проективность» метода. В этом свете
становится понятным, что именно уровень «слов», а не элементарная чувст-
вительность физиологического порядка определяет специфику метода. Выяв-
ляемые с его помощью установки несут очень обобщенный, но сугубо чело-
веческий уровень, который адресуется к «высшим» этажам восприятия, где
перцептивная готовность тесно связана с мотивацией.
Развиваемая точка зрения ставит и новые вопросы. Так, является ли
правомерным строго различать, как это традиционно делается, детерминанты
и содержание ответов. И то, и другое — очень общие категории, а «движе-
ние человека» или «движение животных» занимают явное промежуточное
положение между «чистыми», «локализованными в пятне», детерминантами
(контур, цвет) и содержанием. Если изложенные представления близки
к реальному положению дел, то путь развития метода заключается в еди-
ном осмыслении детерминант и содержания, но, естественно, на новом
уровне, чем содержательные интерпретации пятен в дороршаховский период.
Форма. Образы в первую очередь определяются контуром
(формой) пятна. Это тот аспект пятна, на который в первую
очередь опирается рассудочная деятельность при поиске и уточ-
нении образов. Потому относительное число ответов с хорошей
формой (F+%) является важным показателем сознательного
контроля психической деятельности. Для того чтобы снизить
132
субъективизм, ответом с хорошей формой считается тот, кото-
рый дается неоднократно при обследовании здоровых лиц. Зна-
ние таких ответов дается собственным опытом исследователя.
Это, однако, не снимает основной трудности в оценке формы,
так как практически в каждом протоколе исследования встре-
чаются индивидуальные ассоциации весьма спорного качества
и, кроме того, всегда имеется прослойка ответов, выделенных
небрежно и-без особой старательности. В этих случаях, а имя
им легион, могут быть полезны Специальные списки и таблицы
F+ и F—, построенные на частотных критериях [Beck S. J.,
1945; Hertz M. R., 1970]. Их создание и публикация у нас яв-
ляются весьма желательными. Статистический нормативный
подход не может решить всех возникающих при оценке формы
проблем. Он дополняется клиническим подходом, основанным
на сопоставлении содержательных и формальных особенностей
ответов с патологией. Следует предостеречь против недооценки
одного из критериев за счет другого. Например, по поводу
весьма частых ответов на карту I: «тазовые кости» и «грудная
клетка» Е. Bohm (1972 г.), в согласии с традицией, отстаивает
мнение; что, несмотря на их частоту и, следовательно, хорошую
форму, по статистическому критерию они, тем не менее, обла-
дают плохой формой, так как отражают невротические тен-
денции, и их частота обусловлена высокой прослойкой страдаю-
щих неврозами в современных популяциях здоровых. Однако
Мнение Е. Bohm и, следовательно, решение вопроса об уровне
формы этих ответов сами нуждаются в клинико-статистической
проверке. Судя по нашим данным, частоты этих ответов при
сопоставлении группы здоровых (204 чел.) и больных невро-
зами (80 чел.) не различаются: соответственно «таз» —13,7%
и 11,3%, «грудная клетка» —12,3 % и 15%, в сумме —26%
и 26,3 %. Следовательно, эти ответы не отражают невротические
тенденции и обладают хорошей формой. Иначе мы должны
были бы признать, что в группе здоровых процент больных
неврозами так же высок, как и в группе больных, что нелепо.
Движение человека (М). Данная детерминанта является
центральной и участвует в основных соотношениях. Она явля-
ется показателем внутренней активности субъекта, которая
проявляется в различных направлениях. Это может быть и вы-
сокая творческая активность, и социальная активность со спо-
собностью к эмпатии, и ролевому поведению, и фантазии, отор-
ванной от реальности интровертированной личности, и пато-
логическая бредовая активность психически больного (в
последнем случае высокое число М может ухудшить прогноз).
В М отражается способность к созданию внутренних психи-
ческих установок, относительно независимых от внешних влия-
ний. В связи с этим М является показателем «внутреннего»
контроля, основанного на канализировании энергии в русле
создаваемых установок. Согласно нашим данным, полученным
133
на детях [Беспалько И. Г., Раева М. А., 1978], соответствую-
щим литературным, ответы М становятся общим явлением
(т. е. у большинства имеется хотя бы один М-ответ) в возра-
сте б—7 лет, когда уже относительно развита способность
внутренне удерживать и комбинировать образы. Можно пола-
гать, что ответы о движении человека отражают уровень ин-
териоризации как основы внутренней саморегуляции.
Движение животных (FM). Это тот вид ответов, когда об-
разы животных представляются в движении, взаимодействии
и пр. (борющиеся медведи, бабочка в полете и т. д.). FM-ot-
веты репрезентируют менее осознаваемый и более спонтанный
уровень активности, чем М. Если в М отражается способность
к созданию установок и отношений, канализирующих энергию
на длительные периоды времени, то в FM — склонности к не-
медленному удовлетворению потребностей. Обычно интерес
к М затеняет диагностическое значение FM, которое, вместе
с тем, весьма велико. Наш опыт исследования МДП свиде-
тельствует, что присутствие FM при депрессии (иногда в боль-
шом количестве, при полном отсутствии движений человека
М) является почти несомненным показателем отсутствия пси-
хомоторной заторможенности.
Движения неодушевленных объектов (ш). Сюда относятся
ответы типа бьющих фонтанов, падений, взрывов и т. д. По-
лагают, что в m отражается активность, независимая от созна-
тельного волевого управления. Согласно Б. Клопферу, к этой
категории также относится содержательно очень широкий
спектр «внешних» сил, по отношению к которым субъект вы-
ступает пассивной, страдательной стороной: смерть, дезинте-
грация, угроза и т. д. В целом га считаются показателем тре-
воги, однако значение «обычных» m и «страдательно-пассив-
ных» m Клопфера видимо неоднозначно. Обычные m имеют ту
же динамику, что и М, и FM, т. е. чаще они называются здо-
ровыми и снижаются при тревожно-депрессивном синдроме.
Некоторые же варианты «страдательных» m существенно по-
вышаются при тревоге на темные карты IV—VI, вызывающие
элементы дисфории.
Цвет (С). Это качество пятен больше, чем какое-либо дру-
гое, связано с переживанием приятного и неприятного. Ответы
с участием цвета являются основным показателем эмоциональ-
ности. Интересно, что цветовые ответы являются как самыми
ранними в онтогенезе — те, в которых форма имеет минималь-
ное значение С и CF («краски», «кровь» и пр.), так и наибо-
лее поздними и достигающими полного развития лишь в пост-
пубертатный период — там, где цвет гармонически включается
в форму — FC. Первые отражают мало контролируемую, «эго-
центрическую» эмоциональность, a FC является показателем
«социоцентрической» эмоциональности. В связи с этим соотно-
шение FC: (CF+C) является показателем эмоциональных осо-
134
бенностей в целом. Показателем сбалансированной здоровой
эмоциональности является такое отношение, когда число отве-
тов, отражающих «социоцентрическую» эмоциональность: FC
превышает или равно числу генетически ранних ответов —
FC+C, т. е. FC/CF+C=ot 1:1 до 2:1. Противоположное от-
ношение является показателем плохого эмоционального кон-
троля и малопредсказуемого поведения. Очень интересно соот-
ношение цветовых ответов с ответами движения человека М.
У здоровых эмоционально стабильных людей число М примерно
равно числу FC при FC, превышающем CF+C. Если, однако,
«эгоцентрическая» эмоциональность CF+C существенно превы-
шает число FC при наличии среднего или большого числа М,
то последние вместо фактора, «направляющего» эмоции, ста-
новятся фактором, «способствующим» упрочению эмоциональной
неустойчивости и создающим картину «стабильно нестабильного
поведения» — например, при психопатиях. Таким образом, хотя
М и отражает в этом случае внутреннюю активность, но это не
волевой сознательный контроль, который больше связан cF+%
и FC, но скорее канализация отношений на основе эмоциональ-
ных побуждений.
В диагностике эпилепсии и органических заболеваний мозга
имеет значение самая примитивная реакция на цвет — называ-
ние цвета Сп. В норме эти ответы появляются в 2—3 года и
исчезают к 7—8 годам. На основании проведенного нами иссле-
дования [Беспалько И Г., Андреева Ю. Д., 1981] можно пола-
гать> что Сп является частным случаем более обширной катего-
рии описательных ответов, когда называются те или иные слу-
чайные особенности пятна и даже их «взаимоотношение» и «вза-
имодействие» без дополнительной интерпретации. Одновременно
в этих случаях дается и большое число Сп, что и указывает
на единство этой группы ответов. Мы находили подобные от-
веты примерно у трети больных с корсаковоподобным синдро-
мом в старческом возрасте, когда способность к образной интер-
претации резко нарушается при клинически ясном сознании и
сохранном восприятии. Есть основания связывать эту описатель-
ную категорию ответов, включая и Сп с преимущественно пра-
восторонней патологией.
Оттенки (с}. В пятнах Роршаха широко представлено рас-
пределение светотени — это ответы типа шкур, облаков, раз-
личного рода гладких и отсвечивающих поверхностей и т. д.
Опыт показывает, что такие ответы часты у людей, у которых
много и цветовых С-ответов. Испытуемые, дающие много отве-
тов с участием оттенков, отличаются обычно тактом, конформ-
ностью, общительностью. Полагают, что в оттенках отражается,
с одной стороны, потребность в контактах, с другой — бессозна-
тельный эмоциональный контроль, направленный на предотвра-
щение стресса и тревоги. Таким образом, качества, связанные
с указанием на оттенки, смягчают и контролируют качества,
135
отраженные в цвете. Это находит выражение в соотношении
суммы оттенков к сумме цвета Sc: SC. Один из вариантов этого
отношения, альфа-формула [Piotrowski Z. А., 1965], основана на
том, что у здоровых и при неврозах наблюдается приблизитель-
ный баланс оттенков и цвета, который нарушается при психозах.
Интересно, что эта формула оказалась имеющей диагностическое
значение только у больных с хорошим интеллектом, так как
при интеллекте ниже среднего больные дают мало цветовых
ответов, что резко искажает результаты. Это хороший пример
того, что показатели Роршаха
нельзя трактовать однозначно
и, даже такой фундаменталь-
ный показатель эмоциональ-
ности, как цветовые ответы,
очень зависит от «неэмоцио-
нального» фактора — интел-
лекта. Центральным отноше-
нием в методе является «тип
переживаний» или отноше-
ние числа ответов с движе-
нием человека к сумме цвето-
вых ответов, выраженных в ус-
ловных баллах, т. е. SM: ЕС.
Это показатель того, «как»,
а не «что» человек пережи-
вает и как взаимодействует
с окружением. Цвет отражает
уровень так называемой «экс-
тратензии», а движение чело-
века — «интроверсию». Тер-
мин «экстратензия» введен
Г. Роршахом для того, чтобы
подчеркнуть отличие разви-
ваемой типологии от юнгов-
ской. В противоположность социальной «экстраверсии — интро-
версии» экстратензия и интроверсия не являются взаимоисклю-
чающими, но при умеренной выраженнрсти одновременно пред-
ставлены в личности и функционально дополняют друг друга.
Экстратензия является констелляцией качеств, в которой доми-
нирующую роль играют эмоциональность экстенсивного, всеох-
ватывающего характера и связанная с нею потребность в новых
впечатлениях. Это фактор живой эмоциональной связи со сре-
дой. В основе интроверсивных качеств лежат создание и куль-
тивирование устойчивых эмоциональных отношений. В интел-
лектуальном плане — это широкий спектр активности от пустой
мечтательности до творческой продуктивности.
Таким образом, это функциональные адаптивные образования личности.
У психически здоровых «тип переживаний» указывает на динамические воз-
10
9
8
7
6
5
4
3
Г1
о2
1»о» о • •
'Мч*т ■
т-
, И 1 | И I И 1 1 I \ - ,_.
f 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ЕС
Рис. 1. Типы переживания или соотно-
шения между ответами движения че-
ловека и цветовыми ответами у
больных с депрессивными состояни-
ями.
М — сумма ответов движения человека.
Является целым числом: О, 1, 2, 3 и т. д.
£ С— сумма цветовых ответов в условных
баллах (FC«0,5; CF=1,0; С-1,6). Прини-
мает целые или «полуторные» значения:
0,6; 1,0; 1,5: 2,0 и т. д.; 1 — эндогенная
депрессия МДП; 2 — эндореактивная де-
прессия.
136
можности приспособления. В патологии подвижность этого адаптивного ме-
ханизма снижается. Тип переживаний, помимо экстратензии — интроверсии
характеризуется еще качеством «суженности — расширенности», т. е. когда
сумма М и сумма цветовых ответов имеют или минимальное значение, или
достигают высоких цифр. Психологические характеристики этого аспекта типа
переживаний практически не разработаны, но наш опыт показывает, что,
например, больные с «чистой» эндогенной депрессией отличаются от эндо-
реактивной депрессии именно по качеству «суженности — расширенности»
типа переживаний, а не экстратензии — интроверсии. Преморбидно и очень
приблизительно в этих случаях «суженности» соответствуют тревожно-мнитель-
ные, пассивные характеры, а «расширенности» — более гипертимные. На
рис. 1 в качестве примера отражены типы переживаний при эндогенной и
эндореактивной депрессии. Построение рисунка соответствует принципам
оригинальных «словесных» таблиц Роршаха, но и материал, и само соотно-
шение экстратензии — интроверсии и суженности — расширенности становится
более обозримым.
Ниже даются методические разработки D-областей и популярных отве-
тов (P). С последними связаны, как нам представляется, важные вопросы
развития метода.
Области D. Необходимость выделения обычных областей D
на собственных популяциях связана с высокой чувствительно-
стью метода к трудноуловимым и малопредсказуемым особен-
ностям восприятия, зависящим от неизученных средовых и со-
циокультурных факторов. Не касаясь здесь ряда вопросов, свя-
занных с определением и выделением D, отметим, что в конечном
итоге решающим является частотный критерий. Принцип
-частотности как сводящий к минимуму субъективный фактор
был предложен еще Роршахом. Сейчас принимают 2 % крите-
рий, согласно которому к областям D относят те части пятна,
на которые дается не менее чем 2 % ответов от общего числа
ответов на карту. Этот критерий взят нами за основу, но с из-
менением. Обычно 2 % частота вычисляется для каждой карты
по отдельности, что делается из соображений их специфично-
сти. В частности, карты более или менее различаются по об-
щему числу ответов, которые на них даются. Но при таком под-
ходе специфика пятен учитывается скорее формально. При
этом теряется возможность прямого сопоставления разных карт
по числу обычных областей D. Точнее, смысл такого сопостав-
ления становится крайне неопределенным, так как одному и
тому же 2 % критерию на карте V может, например соответство-
вать 20 ответов, а на карте X — 40. Следовательно, на карте X
мы отнесем к «редким» такие области, на которые зачастую бу-
дет даваться больше ответов, чем на «частые» карты V. Учи-
тывая это, мы исходим из требований единой частотной границы
между D и Dd независимо от карты, т. е. из одинакового абсо-
лютного числа ответов на любую пограничную область D. Так
создается функциональная однородность всех D — в смысле
способности стимулировать приблизительно равное число ассо-
циаций.
Технически, для соблюдения требования единого числа от-
ветов на все пограничные D, 2 % уровень вычислялся с учетом
137
4 &%s gi &% **&
^E^tr^s Ь&ЩЬ^ ^rl^Ks
Рис. 2. Области D пятен Роршаха.
Примечание, карта I.D4. Это единственная область, которая выделена ее по наружному
Частые образы, выбираемые по сочетанию оттенков и точек: «голова совы», «торс жен-
Карта X DS18: вся промежуточная область. Обычно при ответах включаются и внутрен-
138
Рис. 2 (продолжение).
контуру, а по оттенкам и точкам внутри области. Ее внешние границы неопределенны,
щины» и др Отличать от соседней D5, имеющей внешний контур («профиль человека»)
иие цветные области D2 «усы», D9 «глаза» и др
139
общего числа ответов на все карты, точнее — от среднего числа
ответов на карту, одинакового для всех карт. Очень существен-
ным вопросом при выделении D является подбор испытуемых,
совокупность которых должна отразить различные слои насе-
ления. Нами исследовалась выборка здоровых из 361 чел. с об-
щим числом ответов 11 352. Эта выборка включала три само-
стоятельные группы: 1) студенты старших курсов технических
вузов—204 чел. (мужчин 101 и женщин 103); 2) городское
население с различным образованием — 54 чел. (мужчин 17,
женщин 37); 3) сельские жители—103 чел. (мужчин 28, жен-
щин 35). Всего— 146 мужчин и 215 женщин.
В области D отнесены те, на которые общее число ответов
достигало 2 % от среднего числа ответов на карту, т. е., учи-
тывая общее число ответов на все карты, в абсолютных числах
этому соответствовало 22—23 ответа. Понятно, что значитель-
ная часть D-областей имеет гораздо больший Процент ответов.
Всего выделено 108 D-областей. Из них подавляющее боль-
шинство — 94 D-области — установлены на основании 2 % кри-
терия по всей выборке в делом, а 14 областей — на основании
достижения этого уровня только в одной или двух из трех
групп. Последнее делалось из того соображения, что если ча-
стота достигает требуемого уровня даже в одной группе здо-
ровых при условии, что она достаточно представительна, то
такая область отражает обычную и естественную перцептивную
установку и, следовательно, является D. На рис. 2 указаны эти
области (их подробное описание см. Беспалько И. Г., 1978).
Популярные ответы (P) — это конкретные ответы на определен-
ные пятна или их части, отличающиеся особенно высокой частотой среди
здоровых. По разным частотным критериям их называет или каждый третий,
или каждый пятый-шестой испытуемый. Таким образом, Р-ответы отражают
общность восприятия, обусловленную сходством перцептивных установок.
Считается, что по их числу можно судить о способности воспринимать окру-
жающее «как все». Отсюда Р принимается как показатель конформности.
Полноценное применение теста Роршаха предполагает учет только таких
образов в качестве Р, которые действительно являются частыми именно
в данной популяции. Это не формальное требование, так как опыт пока-
зывает, что образы, выделяемые в качестве Р, отличаются весьма выражен-
ной вариабельностью в зависимости от региона, культурных и этнических
особенностей и, возможно, даже сравнительно близких «эпох» исследования
(одно дело 20—30-е годы, другое —80-е). В связи с этим Е. Bohm (1972),
например, говорит, что приводимый им перечень Р, по-видимому, является
общим для Швейцарии (где он был получен) и Центральной и Северной Ев-
ропы. Выбор частоты Р имеет непосредственное отношение к этой вариа-
бельности в зависимости от групповой цринадлежности. При максимальном
30% критерии (приблизительно треть испытуемых) авторы вольно или не-
вольно пытаются создать устойчивый к групповым колебаниям список Р.
Несмотря на очевидные удобства такого «универсального» критерия, его су-
щественным диагностическим недостатком является то, что его «универсаль-
ность» распространяется и на больных, т. е. среднее число Р и у них очень
незначительно или совершенно не отличается от нормы. Так, на основании
наших данных, полученных на представительных группах, среднее число Р
при 30 % критерии в норме равно 5,6, при неврозах — 5,3, при шизофре-
нии __5,1. При 16% критерии эти различия несколько выше: норма—8,5,
140
неврозы — 7,6, шизофрения — 7,0. Кроме этого, сравнительно небольшого
преимущества, у 16 % критерия есть другое, а именно: общее (а не среднее)
число Р в группе имеет значительно большие межгрупповые различия при
16 % критерии, чем при 30 % !. Так, при 30 % уровне в норме общее число
ответов, достигающих этого уровня, равно 11, при неврозах—9, при шизо-
френии —10, при МДП — 8, т. е. цифры почти не различаются, а при 16 %
критерии — в норме это число равно 24, при неврозах—18, при шизофре-
нии —17, при МДП —14, т. е. имеются четкие межгрупповые различия. Осо-
бенно резко отличается норма от патологии, так как у здоровых значи-
тельно больше Р-ответов с частотой ниже 30 %. Таким образом, Р явля-
ется наиболее информативным как групповой показатель. Именно в этом
своем качестве он различает норму и патологию, и с этим связана его ва-
риабельность в зависимости от группы — качество, которое в мировой прак-
тике рассматривается как «помеха», но которое, по-видимому, и определяет
его истинную ценность. При этом есть основания думать, что чем больше
общее число Р в группе и чем выше относительное число «низкочастотных»
Р, тем более гибкое и адекватное приспособление можно предполагать у чле-
нов группы2. Эта зависимость Р при 16 % критерии от группы делает очень
ответственным и сложным отбор выборок при выделении Р. Наш опыт по-
казывает, что не только различные социокультурные этнические выборки раз-
личаются по Р, но и этнически одинаковые группы городского и сельского
населения также различаются в не меньшей, если не в большей степени. В це-
лом, это различие групп по числу и содержанию Р связано, по-видимому,
с постоянными влияющими с детских лет условиями среды, создающими оп-
ределенный перцептивный стереотип («перцептивный диалект»). Нами для
выделения относительно стабильных Р были сопоставлены две самостоятель-
ные группы городского населения (студенты — 204 чел и группа среднего
возраста с различным культурным уровнем—50 чел). К Р отнесены только
те образы, которые достигли 16 % уровня в обеих группах, чем достигается
1 относительная стабильность Р независимо от выборки. Ниже приводится
список Р с указанием частот.
Р-ответы. Карта I: 1) летучая мышь (все пятно)—37%; 2) бабочка
(все пятно)—22%; 3) жук (центральная область)—22 %.—Карта II:
4) животные целиком, обычно медведь или голова и часть туловища (в обыч-
ном положении карты)—29%; 5) животное—медведь, собака, заяц
и др. (в боковом положении карты) —18%; 6) два человека — клоуны, тан-
цоры и др. (на все пятно с обязательным включением красных пятен — «го-
лов», «колпаков»)—18%.— Карта III: 7) два человека (в обычном поло-
жении карты, вся темная область)—64%; 8) бабочка (включая — галстук-
бабочка. Центральная область — 49%; 9) человек или человекоподобное
1 Общее число Р — это число тех ответов в данной группе, которые имеют
частоту, требуемую для Р. Из этого общего числа Р каждый представитель
группы называет лишь часть Р, из усреднения которых получается среднее
индивидуальное Р.
2 В некоторых этнопсихологических работах [Hallowell A. I., 1956] общему
числу Р в группе неосновательно пытаются приписать то же значение, что
и числу Р в индивидуальном исследовании, т. е. чем больше Р в группе, тем
она более «косная» и «приверженная» традициям. Но такое значение могло
бы иметь лишь среднее Р, получаемое на основании усреднения числа Р в ин-
дивидуальных исследованиях. Общее же число Р в группе зависит от пред-
почтения, которое отдают члены группы относительно нечастным, но много-
численным Р, создающим разнообразие приспособления. Если бы общему
числу Р действительно можно было бы приписать значение «косности», то, судя
но числу этих ответов у здоровых и в патологии, наиболее «косной» оказалась
бы группа здоровых, а наиболее «свободной» в приспособлении — группа
депрессивных больных, так как общее число Р там минимально, но еще оста-
ется в пределах «индивидуальной» нормы (при этом средний Р% на человека
у депрессивных максимален, что особенно ярко свидетельствует о различии
между общим групповым и индивидуальным Р).
141
существо — марсианин, злой дух и т. д. (темная область в перевернутом по-
ложении карты)—24%; 10) передняя часть насекомого, рака, краба, ля-
гушки и др. с указанием головы с большими глазами и растопыренных ко-
нечностей (в перевернутом положении карты)—25 %.—Карта IV: 11) шку-
ра — включая меховую одежду, ковер — с акцентом на шкуре (все пятно
или его большая часть)—22%; 12) голова собаки —на выступ («носок са-
пога»). Обычно в боковом положении карты. Называется самостоятельно
или как собака в целом. Имеет прогностическое и диагностическое значе-
ние, так как очень редок в патологии (неврозы, шизофрения, МДП) —
18%.—Карта V: 13) летучая мышь (все пятно)—62%; 14) бабочка (все
пятно)—45 %.—Карта VI: 15) шкура, включая меховую одежду, ковер
и др. с акцентом на шкуру (все пятно или без верхнего выступа) —37 %.—
Карта VII: 16) голова человека — женщины, ребенка (верхняя область) —
35%; 17) голова животного (средняя треть)—26%.— Карта VIII: 18) чет-
вероногое животное —82 %.—Карта IX: 19) голова человека (на красную
область в боковом положении). Имеет прогностическое и диагностическое
значение, так как редок при неврозах и МДП — 20 %.— Карта X: 20) паук,
осьминог, жук и другое многоногое животное, обладающее длинными и тон-
кими по отношению к телу конечностям,—60 %; 21) морской конек, гусе-
ница, змея — 39 %; 22) насекомое, кузнечик, жук и т. д.— на боковые сред-
ние темные области — 26 %; 23) голова зайца, козы и пр.— включающая
длинные уши или рога (отдельно «голова зайца» не имеет устойчивой ча-
стоты и не является Р)—23%; 24) животные — мыши, бараны и пр.—на
темные верхние центральные области —18%; 25) насекомые, жуки и пр.—
на темные верхние центральные области (те же, что и в предыдущем Р) —
17 %.
Различные группы отличаются не только количеством и набором Р, но,
что гораздо важнее, этот показатель является лишь грубым проявлением
общего частотного своеобразия групп. Даже ответы, являющиеся Р в двух
группах, т. е. достигшие минимального частотного уровня, могут суще-
ственно различаться по частоте Это относится и к многим образам, не до-
стигшим минимальной частоты Р. Так, например, ответ «два человека» на
карту II, который является Р, у здоровых достигает лишь уровня, близкого
к минимальному,—около 18%, при шизофрении его частота —31 %, а при
неврозах — только 4%. Ответ «животное» на эту же карту в ее поперечном
положении относительно част при неврозах (24%) и у здоровых (18,1%),
но редок при шизофрении (6 %) и МДП (3,3 %); частота ответа «насекомое»
в перевернутом положении карты III на все пятно при шизофрении равна
9 %, а при неврозах —24% и т. д. Мы не знаем, что лежит в основе та-
кой избирательности. Можно предположить, что при неврозах «не видят»
двух человек на карте II в связи с красными пятнами на этой карте, вызы-
вающими у этой категории больных эмоциональный «шок», ведущий к сни-
жению продуктивности, к чему здоровые и особенно больные шизофренией
безразличны, однако, видимо, надо искать более общие механизмы, связан-
ные со своеобразием типических образных установок.
Изучение этого аспекта ответов по Роршаху может пролить
дополнительный свет на диагностические возможности метода.
Возможно, «интуитивный» малоформализованный подход неко-
торых клиницистов частично основан на неосознанном учете
такого частотного своеобразия. Нами созданы специальные
таблицы, диагностическая суть которых заключается в следую-
щем— более вероятно, что больной будет чаще выбирать те
образы, которые особенно типичны для той диагностической
группн, к которой он принадлежит, и, наоборот, он обычно из-
бегает те образы, которые очень редки в этой группе. Про-
иллюстрируем суть этого подхода на приведенных выше при-
142
мерах: Вероятность увидеть на карте II в ее поперечном поло-
жении «животного» при шизофрении равна 0,06 (т. е. соот-
ветствует частоте 6 %), а при неврозах — 0,24; вероятность
увидеть на карте III в ее перевернутом положении «насекомое»
при шизофрении равна 0,09, а при неврозах — 0,24. Если боль-
ной на карте II видит «животное», а на карте III — «насекомое»,
т. е. избирает образы, чаще встречаемые при неврозах, то бо-
лее вероятно, что он страдает неврозом, а не шизофренией.
Этот подход пока представляется механистическим, но по своей
сути апеллирует к глубинным образным структурам, возможно,
составляющим субъективную основу перцептивного взаимодей-
ствия со средой; поскольку в целом карты плохо приспособлены
к подобному анализу, предлагаемый подход является дополни-
тельным к основному анализу по Роршаху. Вместе с тем в нем
находит частичное воплощение одна из основных современных
тенденций развития метода Роршаха—объединение структурно-
формального и содержательного подходов.
Психолог может выбрать различный план анализа и интер-
претации данных, полученных проективными и непроективными
методами в зависимости от теоретических позиций, которых он
придерживается, или разработать свой метод анализа. Он мо-
жет пользоваться различными системами, даже если авторы
метода руководствовались психоаналитическими принципами,
так как сами по себе проективные методы позволяют лишь
получить сведения от испытуемого и отметить его реакции, свя-
занные с действием объективных раздражителей. Применение
этих методов вовсе не преследует целей заменить врача или
психолога и методы клинической диагностики. Если этими ме-
тодами пользуются специалисты, имеющие клинический опыт
и достаточную натренированность в их применении, они могут
получить ценные ориентировочные сведения. Более полные дан-
ные могут оказаться в руках клинициста, если он будет поль-
зоваться одновременно и другими методами, направленными на
изучение личности. Все ответы должны анализироваться с уче-
том индивидуального опыта человека, зависящего от пола,
возраста, образования, уровня интеллекта, культурных и об-
щественно-политических условий страны, в которых живет ис-
пытуемый. В отношении достоверности данных, получаемых
при использовании проективных методов, следует учитывать,
что они являются преимущественно эвристическими. Они позво-
ляют представить, как испытуемый, вероятно, действовал бы
при подобных обстоятельствах, или то, что от него можно было
бы ожидать (это он знает или так думает) в таких ситуациях.
Используя такую гипотезу, психолог может проверить ее дру-
гими методами клинического и экспериментально-психологиче-
ского исследования. В связи с вопросом о стандартизации опи-
сываемых методов исследования надо отметить, что массовая
ориентировочная типизация нужна, но осуществима только при
143
условии использования экономичных приемов. Когда жизнь ста-
вит перед психологией задачи массового ориентировочного ис-
следования, для решения этих задач может быть применен стан-
дартизованный метод, но он оказывается недостаточным при
изучении индивидуальных случаев. Хотя стандартизация яв-
ляется важной при оценке полученных данных, но она не всегда
может быть применена к экспериментальным приемам иссле-
дования личности, в особенности при пользовании проектив-
ными методами. Многими исследователями подчеркивается, что
стандартизация не может быть применена к проективным ме-
тодам потому, что показания больных больше оцениваются и
классифицируются, чем измеряются, и потому, что их трудно
стандартизировать. При изучении личности необходимо глубо-
кое исследование. Поэтому симптоматическая диагностика с по-
мощью описанных методов должна дополняться патогенетиче-
ской. Правильный диагноз личности может быть осуществлен
только на основе синтеза симптоматических данных с патогене-
тическими. Такой синтез является и основой прогноза, и осно-
вой практических рекомендаций. Патогенетический анализ пред-
полагает знание анамнеза и в индивидуальном плане требует
углубленной экспериментальной беседы с больным. Рассмот-
ренные здесь методы с успехом применяются в ряде психоло-
гических лабораторий нашей страны. Важно, чтобы использо-
вались приемлемые варианты их адаптации и модификаций и
давалась интерпретация с позиций материалистической психоло-
гии. Необходимо также, чтобы были определены формы и гра-
ницы их обоснованного применения, и тогда они займут свое
место в ряду других экспериментально-психологических при-
емов для исследования личности. Эти методы позволяют по-
дойти к ориентировке в сложных свойствах личности, с трудом
поддающихся точному исследованию. Отрицать их, однако,
было бы так же ошибочно, как и отрицать некоторые лабора-
торные методы по мотивам их элементарности. Лабораторные
методы уступают проективным в смысле глубины и полноты
охвата личности и ее актуальных проблем, но превосходят их
с аналитически-методической точки зрения. В сложной про-
блеме исследования личности на современном уровне каждый
из психологических методов имеет свои преимущества и недо-
статки. Задача психолога-исследователя и психолога-прак-
тика—в умелом комбинировании их сообразно целям иссле-
дования.
Глава VII
ИССЛЕДОВАНИЯ ИНТЕЛЛЕКТА
Исследования нарушений познавательной или интеллекту-
альной деятельности, прежде всего мышления, памяти и вни-
мания, а также восприятия и представления, речи и праксиса
издавна составляют сферу деятельности «патопсихолога», т. е.
психолога, работающего в психоневрологической клинике. Спе-
цификой его работы в этом случае является то, что он исполь-
зует свои особые методические приемы в помощь врачу с целью
получения дополнительных данных для дифференциального
диагноза, анализа дефекта или тех или иных нарушений ин-
теллектуальной деятельности, оценки степени интеллектуаль-
ного снижения во время трудовой, военной или судебной экс-
пертизы, оценки эффективности терапии и т. п. Отечественная
патопсихология накопила достаточно большой опыт, основан-
ный преимущественно на данных качественного анализа выпол-
нения ряда психологических заданий больными с различными
психическими и неврологическими заболеваниями. Они описаны
во многих статьях и в обобщающих работах Б. В. Зейгарник
(1962), А. Р. Лурия (1969), С. Я. Рубинштейн (1970), Ю.Ф.По-
лякова (1974), В. М. Блейхера (1976) и др.
Вместе с тем применение стандартизованных методов иссле-
дования интеллекта, позволяющих дать не только качествен-
ную, но и количественную оценку и сопоставить нарушения
различных функций в общей структуре интеллекта, а также
применить к результатам психологического обследования сов-
ременные методы математической обработки в целях диффе-
ренциальной диагностики, является у нас делом относительно
новым; опыт использования этих методов освещен лишь в от-
дельных статьях. Поэтому позволим себе небольшой объем
этой главы посвятить описанию и опыту применения одного
из наиболее известных и распространенных в мире тестов ин-
теллекта — WAIS, предложенного американским клиническим
психологом D. Wechler (1955). В основу разработки WAIS
(«Шкала Векслера для измерения интеллекта взрослых») была
положена определенная совокупность различных психологиче-
ских методик. Сам Векслер не является автором большинства
из них. Чаще всего это модификации известных приемов для
исследования отдельных сторон интеллектуальной деятельности,
издавна применявшихся психологами и клиницистами. Многие
из них (повторение цифр в прямом и обратном порядке, обоб-
щение понятий, толкование пословиц и др.) охотно исполь-
зуются психиатрами при клиническом обследовании больного.
Тестовая «батарея» Векслера WAIS включает 11 различных
заданий-субтестов, из которых 6 являются вербальными (они
оцениваются по ответам испытуемого), а 5 — невербальными
145
(эти задания оцениваются по результатам выполнения — мани-
пулирования с невербальным материалом).
Приводим эти субтесты в обычном порядке их предъяв-
ления.
1. Общая осведомленность. Субтест состоит из вопросов, касающихся
самых разнообразных сведений. Он дает представление о запасе знаний и
способности сохранения их в долговременной памяти, культурных интересах
и образованности испытуемого. Вот несколько примеров вопросов этого суб-
теста разной степени трудности: «При какой температуре кипит вода?», «Кто
написал „Фауста"?», «Где находится Египет?»
2. Общая понятливость. Ответы на вопросы этого субтеста характери-
зуют практическое мышление, суждения испытуемого, касающиеся его жи-
тейского и социального опыта, социальные оценки и здравый смысл. При-
меры таких вопросов: «Что Вы будете делать, если найдете на улице письмо
в запечатанном конверте с надписанным адресом и маркой?», «Что бы Вы
сделали, если бы в кино или театре первым заметили дым или огонь?»,
«Почему люди, которые родились глухими, обычно не могут говорить?» Не-
сколько вопросов этого задания требуют толкования пословиц. Ответы оце-
ниваются в зависимости от полноты и степени обобщения. Понимание сути
явления, т. е. для чего совершаются определенные действия или почему они
имеют место, важнее при оценке этого задания, чем хорошая вербализация.
3. Арифметика. Задания этого субтеста представляют собой арифметиче-
ские задачи разной степени трудности, которые следует решать в уме, опе-
рируя условиями и числами, требующими не сложных вычислений или спе-
циальных навыков, но сообразительности и быстроты, так как время решения
ограничено. Задание требует также концентрации внимания, поскольку усло-
вие может быть повторено только один раз, причем время на повторение
вопроса включается в лимит времени, отпущенного на задачу. Примеры та-
ких задач: «Из 18 руб. человек израсходовал 7 руб. 50 коп. Сколько у него
осталось денег?» «Костюм I сорта стоит 60 руб., а II—на 15% дешевле.
Сколько стоит костюм II сорта?». При оценке учитывается и время решения.
4. Сходства. Субтест включает вопросы-задания, требующие установле-
ния общности двух различных понятий, от близких между собой, например
«апельсин и банан», до более отдаленных («яйцо и зерно», «похвала и нака-
зание»). Это задание, связанное с понятийным вербальным мышлением, на-
правлено на определение уровня логических абстракций, которые необхо-
димы для его выполнения. При оценке учитывается, сумел ли испытуемый
найти адекватный, общий для обоих понятий существенный признак, родо-
вое по отношению к двум приводимым видовым понятиям.
5. Повторение цифр. Задание на воспроизведение испытуемым вслед за
экспериментатором все возрастающих рядов цифр сначала в прямом, а затем
в обратном порядке. Каждый отдельный ряд цифр имеет два варианта,
чтобы в случае неудачи предоставить испытуемому вторую попытку, так
как задание требует большой концентрации внимания и подвержено как
внешним, так и внутренним помехам. Выполнение этого задания характери-
зует объем кратковременной памяти.
6. Словарь. Этот субтест требует от испытуемого понимания и умения
определить содержание слов. Он включает слова разной степени трудности
определения и частоты употребления (например: зима, ремонт, спешить,
собирать, регулировать, тирада). Данный субтест выявляет словарный запас
и культурный уровень, требует чувства меры и адекватности при определении
необходимого и достаточного для раскрытия содержания слова. Качествен-
ный анализ ответов по этому субтесту раскрывает особенности и уровень
мыслительных процессов, может выявить формальные нарушения мышления
(резонерство, нелепости, неологизмы и др.), а также характерологические и
личностные черты (импульсивность, эгоцентризм, рационализм и пр.).
7. Кодирование. С этого субтеста начинаются невербальные задания.
Испытуемому предлагается образец, в котором каждой из цифр, представ-
ленных в натуральном ряду (по порядку), соответствует определенный гра-
146
фический знак. После короткой тренировки испытуемый должен, пользуясь
образцом, подставить эти знаки в пустые клетки под цифрами, следующими
теперь в беспорядке и повторяясь. «Кодирование», как и другие невербаль-
ные субтесты, требует прежде всего сохранности визуальной перцепции и
праксиса, зрительно-моторной координации, а также точности и быстроты
реакций, субтест чувствителен к психомоторному отставанию, характеризует
зрительную память, обучаемость и активность испытуемого.
8. Недостающие детали. Испытуемый должен заметить и указать отсут-
ствующую, но существенную деталь на каждом из серии предъявляемых ему
поочередно рисунков. В некоторых случаях это просто недорисованная часть
предмета, в других —менее заметная, но необходимая по смыслу деталь,
отсутствие которой вносит элемент нелепости в изображение. Вот некоторые
примеры субтеста: Дверь без ручки. Скрипка без одного колка. Отсутствие
следов собаки, идущей рядом с человеком по снегу, на котором человек
оставляет глубокие следы.
Субтест требует перцептивно-концептуальной способности, умения видеть
существенное в воспринимаемом.
9. Узор из кубиков. Субтест представляет собой модификацию известной
методики исследования конструктивного мышления Коса. Задания этого суб-
теста состоят в том, что испытуемый должен воспроизвести с помощью куби-
ков (две стороны которых окрашены в красный цвет, две — в белый и две —
красно-белые по диагонали) геометрический узор по образцу, предлагаемому
ему экспериментатором сначала на кубиках, а потом на рисунках. Оценка
и лимиты времени на каждое задание этого субтеста, так же как и для
других субтестов методики Векслера, основаны на результатах проведенной
им стандартизации. Оценка повышается, если задания выполнены за ко-
роткое время. Векслер, характеризуя высокую способность этого субтеста из-
мерять интеллект на невербальном материале, подчеркивает ценность допол-
нительных данных, которые могут быть получены путем наблюдения и
качественного анализа особенностей выполнения.
10. Расположение картинок. Вариант издавна используемого психоло-
гами задания, известного в отечественной психологии под названием «уста-
новление последовательности событий» или «последовательные картинки».
Картинки этого субтеста похожи на комиксы и имеют юмористический или
моралистический подтекст, т. е. социально-значимое содержание. Испытуе-
мый должен установить порядок событий, разные моменты которых изо-
бражены на отдельных карточках и разложить эти карточки в правильном
порядке. История, которую затем испытуемого просят рассказать по состав-
ленной им последовательности картинок, не влияет на количественную
оценку, но может служить весьма ценным материалом для качественного
анализа, нередко позволяющего обнаружить специфические особенности
мышления или его нарушений, а также особенности личности и значимых
для больного межличностных отношений.
11. Складывание фигур. Субтест, в котором испытуемому последова-
тельно предлагаются четыре задания, в каждом из которых следует из раз-
розненных частей сложить целую фигуру. Это —фигура человека, профиль
лица, кисть руки, слон. Трудность заданий постепенно возрастает. Так, че-
ловеческая фигура разделена на обычные части тела; трудность лишь в том,
чтобы не перепутать правую и левую руки и ноги, линии отреза которых
неодинаковы. Части профиля лица разделены уже необычным образом, но
соединить их помогает нанесенный сверху рисунок. Рука не имеет рисунка,
и по необычно разделенным частям трудно догадаться сразу, что это за
предмет. Слон также расчленен необычным образом, и в этом расчленении
есть особо трудные детали.
Особенностью подхода Векслера является стандартизация
этих методик, позволяющая сделать результаты обследования
доступными не только качественному, но и количественному
анализу. Поэтому проведение исследования по методике WAIS,
147
как и оценка результатов, должно строго соответствовать опи-
санной в руководстве процедуре, что требует специальной под-
готовки и натренированности экспериментатора. Инструкции,
даваемые испытуемому, также должны предъявляться стан-
дартно (зачитываться наизусть). Обследование проводится в от-
дельной комнате, в спокойной, доброжелательной обстановке.
Необходимо позаботиться об установлении контакта с испы-
туемым и поддерживать его на протяжении всего обследова-
ния.
Подсчет баллов по всем вопросам-заданиям каждого субтеста дает пред-
варительные субтестовые оценки, максимальное значение которых может ко-
лебаться от 17—18 баллов (субтесты «Повторение цифр» и «Арифметика»)
до 80—90 баллов (субтесты «Словарь» и «Кодирование»), из-за чего
сравнение уровней выполнения отдельных субтестов по предварительным
оценкам невозможно. Предварительные оценки по каждому субтесту
с помощью специальных таблиц переводятся в шкальные оценки с равным
для всех субтестов диапазоном значений от 0 до 19 баллов. Именно эта
процедура делает возможным «интертестовое сравнение», на котором осно-
ван «анализ разброса». Сумма шкальных оценок по вербальным субтестам
определяет предварительную вербальную оценку, которая по особым таб-
лицам с учетом возраста переводится в итоговую Вербальную оценку субъ-
екта. Так же определяется итоговая Невербальная оценка. Сумма всех
шкальных оценок субтестов или сумма предварительных вербальных и невер-
бальных оценок дает предварительную полную оценку, которая затем также
по специальным таблицам с учетом возраста переводится в итоговую Пол-
ную оценку (IQ). Эти оценки дают возможность сопоставить относительный
уровень развития таких двух различных и важных сторон интеллекта, как
абстрактно-логическое вербальное мышление и мышление образное, реали-
зующееся в действии, а также дать суммарную оценку общего уровня ин-
теллекта.
Сохранив по традиции понятие «коэффициент интеллекта»
(IQ) для общей оценки результата обследования по всей тесто-
вой батарее, Векслер изменил его содержание. Если в мето-
дике Стенфорда — Бине оно означало соотношение «умствен-
ного» и «паспортного» возраста, что может иметь смысл лишь
по отношению к детям, то у Векслера IQ представляет резуль-
тат сравнения индивида с его возрастной группой. В соответ-
ствии с полученным распределением оценок IQ более чем двух
тысяч испытуемых Векслер предлагает следующую, статисти-
Таблица 7. Классификация уровней интеллекта
по Векслеру
Значения IQ
в баллах
130 и выше
120—129
110—119
90—109
80-89
70—79
69 и ниже
Классификация интеллекта
Очень высокий
Высокий
Хорошая норма
Средний
Плохая норма
Пограничная зона
Умственный дефект
Процентное соотно-
шение в населении
2,2
6,7
16,1
50,0
16,1
6,7
2,2
148
чески обоснованную классификацию уровней интеллекта, отра-
жающую как степень отклонения от средней, так и процент на-
селения, охватываемого этими уровнями (табл. 7).
Определение интеллектуального уровня имеет ограниченное клиническое
применение и используется главным образом при диагностике умственной не-
достаточности и умственной отсталости. Однако отношение и к этому, наи-
более традиционному, использованию «коэффициента интеллекта» сущест-
венно изменилось по сравнению с некритическим отношением 30-х годов.
Появились многочисленные работы, иллюстрирующие непостоянство IQ, чув-
ствительность его к изменениям в обстановке, а также зависимость от куль-
тура льных и социальных факторов. Впрочем, это не снижает важности опре-
деления уровня интеллекта в индивидуальной диагностике личности как
информации об интеллектуальных способностях субъекта сравнительно со
способностями других лиц и как показателя данного состояния его психиче-
ского функционирования. Кроме того, есть специальные исследования, сви-
детельствующие о зависимости успешности психотерапии [Hiler E. W., 1958],
а также прогноза течения психической болезни (ремиссии и улучшения) от
уровня интеллекта больного [Stotsky В. А., 1952].
Значение использования обобщенного показателя IQ в пси-
хоневрологической клинике ограничено и дает гораздо меньше
информации, чем анализ так называемою интертестового раз-
броса, т. е. соотношения шкальных оценок испытуемого по 6 вер-
бальным и 5 невербальным субтестам, а также расхождения
между итоговыми Вербальной и Невербальной оценками. Эти
расхождения представляют интерес и в личностном плане,
поскольку «профиль» выполнения различных заданий харак-
теризует своеобразие структуры психического склада индиви-
дуума [Schafer R., 1948; Mayman M., Schafer R., Rapaport D.,
1951].
Несмотря на длительный период использования, широкое распростране-
ние и большую литературу, что само по себе говорит о практической цен-
ности методики Векслера, клиническая дифференциальная диагностика с ее
помощью не является простой, и результаты ее применения, особенно при
оперировании лишь количественными показателями (IQ, анализ разброса,
различные индексы), были далеко не бесспорными. Поэтому и сам D. Wech-
sler (1958), и многие другие авторы [Watson R., 1953; Rabin A., 1965] спра-
ведливо настаивают на необходимости применения к результатам исследо-
вания по данной методике поэтапного анализа, учитывающего как количе-
ственные, так и качественные показатели. Это — полная оценка уровня
интеллекта (IQ) и соотношение двух ее составляющих — Вербальной и Не-
вербальной оценок. Далее, это «интертестовый разброс», т. е. количественный
анализ соотношений отдельных субтестов (с использованием различных «ин-
дексов»), затем следует анализ «интратестового разброса», т. е. соотношения
оценок внутри каждого субтеста, при котором особое внимание обращается
на зависимость (или независимость) качества ответа от относительной труд-
ности задания, которая в каждом субтесте нарастает последовательно от
первого задания к последнему. И, наконец, качественный анализ ответов,
свидетельствующих о тех или иных нарушениях мышления, особенностях
интеллекта и личности (включая ее и так называемые «проективные» прояв-
ления, которые могут иметь место во многих субтестах, особенно в «Рас-
положении картинок»).
У нас в стране методика WAIS (адаптированная в Инсти-
туте им. В. М. Бехтерева) успешно использовалась при реше-
нии задач комплексного изучения развития интеллекта и лич-
149
ности [Ананьев Б. Г., 1969, 1973; Дворяшина М. Д., Пехлец-
кйй И. Д., 1969; Степанова Е. И. с соавт., 1971}, а также
в клинико-психологических исследованиях. Детский вариант,
адаптированный А. Ю. Панасюком (1973), применялся в диф-
ференциальной диагностике умственной отсталости и задержки
психического развития детей {Панасюк А. Ю., 1976; Шаумаров
Г. Б., 1980] и в судебно-психологической экспертизе подрост-
ков [Калинина Л. А., 1980]. Опыт применения WAIS в Инсти-
туте им. В. М. Бехтерева в целях дифференциальной диагно-
стики различных клинических форм свидетельствует о том, что
с его помощью могут быть получены ценные данные, имеющие
как практическое значение, так и представляющие интерес для
углубления наших знаний в области клинической психологии,
а также психологии личности [Бурмашова С. В. и др., 1969;
Гильяшева И. Н., 1969, 1981; Серебрякова Р. О., 1972, 1974;
Гильяшева И. Н., Иовлев Б. В., 1975, и др.].
Известно противопоставление больных истерией и психасте-
нией1 как полярных типов личности, неврастения же в соот-
ветствии с этим представлением занимает, по И. П. Павлову,
место, промежуточное между ними. Результаты исследования
данных форм неврозов с помощью WAIS [Гильяшева И. Н.,
1969] подтвердили это в отношении выполнения вербальных
заданий, большинство которых требует высокого уровня абст-
рактно-логического мышления, свойственного психастеникам.
Однако полярными по успешности выполнения невербальных
заданий, требующих образно-действенного мышления, оказыва-
ются больные не психастенией и истерией, а неврастенией,
с одной стороны, и психастенией и истерией — с другой. У боль-
ных истерией не наблюдается такого резкого различия между
успешностью абстрактно-логического и образного мышления
в пользу последнего, как у больных психастенией в пользу
первого, хотя конкретно-образный подход к решению заданий
им свойствен. Уровень вербальных и невербальных заданий
у больных истерией невысок, но если в вербальных заданиях
они оказываются худшими, а больные психастенией — лучшими,
то в выполнении большинства невербальных заданий больные
истерией не отличаются от больных психастенией (кроме ре-
зультатов задания «Узор из кубиков», которое первые выпол-
няют хуже), но, как и последние, достоверно отличаются от
больных неврастенией. Очевидно, при оценке абстрактно-ло-
гического и образно-действенного мышления следует различать
тип подхода к решению задач и успешность их выполнения.
С этой точки зрения больных психастенией можно характери-
зовать абстрактно-логическим подходом, продуктивным при вы-
полнении многих вербальных заданий и малопродуктивным при
выполнении невербальных, особенно конкретных (поэтому они
1 Психастения здесь рассматривается как форма невроза
150
лучше выполняют задание «Узор из кубиков», чем «Склады-
вание фигур»). Больных истерией характеризует конкретно-об-
разное, импульсивное и эгоцентрическое мышление, что сни-
жает их результаты в большинстве и вербальных, и невербаль-
ных заданий. Больные неврастенией характеризуются хорошим
балансом абстрактно-логического и образно-действенного мыш-
ления, и, хотя они выполняют вербальные задания несколько
хуже больных психастенией, это компенсируется хорошим вы-
полнением невербальных, так что общий уровень интеллекта
(IQ) по методике Векслера у этих групп больных примерно
одинаков. По существу при этом выявляется личностный ас-
пект характеристики особенностей мышления больных психа-
стенией, истерией и неврастенией, определяемый специфическим
типом восприятия, переработки информации, способа реагиро-
вания и определяющий все проявления личности, в том чиеле
структуру интеллекта, отражающуюся в характерном для каж-
дой формы невроза «профиле» выполнения методики Векслера.
Подтверждением этого положения могут служить результаты
факторного анализа, примененного к результатам обследования
больных неврозами методикой Векслера [Гильяшева И. Н., Ка-
линин О. М., 1971]. Факторный анализ (метод главных ком-
понент) показал, что лишь небольшое количество факторов,
нумерованных по степени убывания их вклада в суммарную
дисперсию, имеет в ней достаточно высокий процент. Вклад пер-
вого фактора в суммарную дисперсию составил для нашей груп-
пы больных неврозами 47%, вклад второго фактора—18%,
третьего фактора —9 %; процент вклада последующих факторов
еще меньше и быстро убывает. Первый фактор положительно
коррелировал со всеми субтестами методики WAIS, наиболее
высок был коэффициент его корреляции с IQ— Полной оценкой
интеллекта (0,98), а также с итоговыми Вербальной и Невер-
бальной оценками, и потому он может быть интерпретирован
как фактор общего интеллекта. Из отдельных субтестов самую
высокую корреляцию с этим фактором имеют у больных нев-
розами вербальные субтесты «Сходства», «Общая понятли-
вость» и «Словарь», а также невербальный — «Узор из ку-
биков». Второй фактор биполярен, он имеет отрицательную
корреляцию с вербальными субтестами и положительную —
с невербальными (то же и с итоговыми Вербальной и Невер-
бальной оценками, поэтому с Полной оценкой интеллекта —
IQ — он не коррелирует). Биполярность второго фактора интел-
лекта, несомненно, представляет интерес в связи с существую-
щим противопоставлением различных типов индивидуальностей,
таких как «художественный» и «мыслительный», «первосигналь-
ный» и «второсигнальный», «практический» и «вербальный»
и т. п. Рассмотрим распределение по второму фактору больных
неврозами, основные формы которых, особенно истерия и пси-
хастения, представляют собой яркие полярные типы личности,
151
обычно характеризующиеся перечисленными выше определе-
ниями. Тенденция этого распределения следующая: высокие
показатели по первому фактору объединили больных психасте-
нией и неврастенией, так как у больных истерией они оказались
ниже. По второму фактору резко выделилось несколько испы-
туемых с отрицательным его значением, все они оказались
больными психастенией.
Представлялось, что приведенные данные обследования
больных неврозами позволяют интерпретировать второй фак-
тор интеллекта как фактор, имеющий отношение к индивиду-
альному типу как интеллекта, так и личности в целом. В це-
лях проверки этого предположения результаты исследования
больных неврозами по методике Векслера были сопоставлены
с результатами их обследования по личностной методике Айзен-
ка (EPI). Машинной обработке, включающей факторный ана-
лиз, была подвергнута вся совокупность данных 14 оценок
Ш субтестовых и 3 итоговых) по методике WAIS и 3 оценок
{экстраверсии, нейротизма и искренности), полученных по ме-
тодике EPI. Оказалось, что в то время как все оценки по Век-
слеру имели значимые положительные корреляции с первым
фактором интеллекта, таких корреляций между отдельными
оценками по методике Векслера и Айзенка не обнаружилось.
Однако была выявлена положительная корреляционная связь
(коэфф. корр. +0,66) показателя экстраверсии по Айзенку
со вторым фактором интеллекта, отличающим больных истерией
и неврастенией от больных психастенией. Таким образом, дан-
ные экспериментально-психологического исследования особен-
ностей интеллекта больных неврозами по методике WAIS с при-
менением метода факторного анализа свидетельствуют о на-
личии в интеллекте фактора, связанного с типом личности,
в частности с таким свойством, как экстраверсия-интроверсия,
и позволяют выявить специфические особенности интеллекта
и личности при разных формах неврозов.
Выявлению дифференциально-диагностических возможностей
методики Векслера, могут служить данные применения про-
цедуры последовательного статистического анализа в помощь
решению задач ранней диагностики вялотекущей шизофрении,
представляющей трудности ввиду неотчетливости психопатоло-
гических симптомов и сходства их с неврозами и психопатиями.
Были обследованы [Гильяшева И. Н., Иовлев Б. В., 1975]
40 больных вялотекущей шизофренией (включая инициальные
состояния) без грубого дефекта и столько же больных невро-
зами и психопатией. Группы однородны по полу (м. и ж.),
возрасту (от 18 до 40 лет) и образованию (среднее, незакончен-
ное высшее и высшее). Психологическое исследование показало
достаточно большое разнообразие в степени сохранности лич-
ности и интеллекта больных группы шизофрении. Вербальная
итоговая оценка интеллекта по WAIS (IQ) колебалась от 85
152
Таблица 8. Достоверность различий оценок выполнения методики
Векслера больными вялотекущей шизофренией
и больными неврозами и психопатией
Субтесты
Вер-
бальные
Невер-
бальные
Итоговая
Итоговая
Итоговая
Наименование субтестовых
и итоговых оценок !
по Векслеру
Общая осведомленность
Общая понятливость
Арифметика
Сходства
Повторение цифр
Словарь
Кодирование
Недостающие детали
Узор из кубиков
Расположение картинок
Складывание фигур
Вербальная_оценка
Невербальная оценка
Полная оценка
Средняя оценка и полу-
ширина доверительного
интервала 1с ± UpS —
X
Шизофрения
13,7±1,32
10,5±0,96
10,8=Ы,32
11,3±1,80
12,5±1,08
11,7±0,60
8,5±1,08
8,7±0,84
10,5±1,08
7,4±1,56
| 7,1±0,96
111,0^=5,64
90,0±5,52
102,0±5,40
Неврозы и
психопатия
14,4±0,96
13,2±0,96
13,0±0,84
13,0±1,20
12,0±0,84
13,4±0,84
10,3=Ы,08
11,2±0,72
12,5=Ы,08
10,2±0,84
11,1±1,20
119,0*3,60
107,4±5,04
115,0±4,80
Достоверность
различий
Недостоверно
р<0,05
р < 0,05
Недостоверно
»
р<0,05
Недостоверно
р<0,05
Недостоверно
р<0,05
р < 0,05
Недостоверно
р < 0,05
р<0,05
до 130, т. е. от уровня «плохой нормы» до уровня «очень вы-
сокой нормы». Однако и при высоком интеллекте наблюдались
несоответствия между отдельными структурными компонентами
интеллекта и личности, что нашло свое выражение в соотноше-
нии отдельных субтестовых оценок по методике Векслера,
а также итоговых Вербальной и Невербальной оценок. Пред-
ставляет интерес сравнение средних оценок больных инициаль-
ной и вялотекущей шизофренией со средними оценками боль-
ных неврозами и психопатией. Результаты представлены
в табл. 8, где средние величины оценок с указанием границ
95 % доверительного интервала приведены для обеих групп
больных1. Как видно из табл. 8, все средние оценки больных
шизофренией ниже средних оценок больных неврозами и пси-
хопатией (кроме субтеста «Повторение цифр», выполнение ко-
торого чувствительно к состояниям эмоционального стресса,
тревоги и беспокойства, характерным для больных неврозами),
однако статистически достоверно различаются из вербальной
группы субтестов лишь оценки по субтестам «Общая понятли-
вость», «Арифметика» и «Словарь», требующим активного опе-
рирования вербальными понятиями и условиями арифметиче-
1 Оценка доверительного интервала для среднего значения определялась
по размаху варьирования [Урбах В. Ю. Биометрические методы.—М.: Мед-
гиз, 1964].
153
Таблица 9. Оценка дифференциально-диагностической
больными вялотекущей шизофренией и больными
Признак
Шизофрения, %
Неврозы и психопатии, %
Диагностические коэффициенты
Оценка меры информативности
(по Кульбаку)
Одна или
более из
субтестовых
оценок !
<6
Да !
Нет
70 30
5 95
+115 —50
1105
При разности
Вербальной и
Невербальной
оценок >15
Одна из итоговых
оценок ниже уровня '
«средней нормы»
(IQ<90)
Да
Нет
55 45
5 95
+ 104 -30
650
Оценка
субтеста
«Складыва-
ние фигур»
<7
| Да | Нет
55 45
5 95
+ 104 —30
650
ских задач, в то время как более «пассивные» задания «Общая
осведомленность» и «Повторение цифр» близки по оценкам
к выполнению больными неврозами и психопатией.
В группе невербальных субтестов достоверно различаются все средние
оценки, кроме оценок по субтестам «Кодирование» и «Узор из кубиков»
(конструирование по абстрактно-графическому образцу) — единственному из
невербальных субтестов, выполнение которого в группе больных шизофре-
нией остается на уровне нормы. Наиболее низки оценки по невербальным
субтестам «Складывание фигур» — конструирование конкретных (предмет-
ных) объектов без образца и «Расположение картинок», последний из кото-
рых требует, как и субтест «Понятливость» (самый низкий у больных ши-
зофренией в группе вербальных субтестов), так называемого «социального
интеллекта».
Из итоговых оценок достоверно различаются Невербальные, что, в свою
очередь, определяет достоверность различий и Полных оценок интеллекта
при шизофрении, с одной стороны, и неврозе и психопатии —с другой, в то
время как итоговые Вербальные оценки этих групп больных достоверно не
различаются, хотя у больных шизофренией эта оценка ниже.
Результаты выполнения отдельных интеллектуальных проб
и интегративных оценок интеллекта обнаруживают достаточно
много достоверных различий для средних групповых оценок
больных шизофренией в сравнении с больными неврозами и
психопатией. Однако такие межгрупповые различия по отдель-
ным оценкам бывают недостаточно информативны при решении
вопроса диагноза у конкретного больного. Поэтому для приня-
тия диагностического решения автором методики Векслером и
его последователями [Rapoport D., Gill M. a. Schafer R., 1945;
Schafer R., 1948; Kahn С. a. Qiffen M. В., 1960, и др.].
предлагалось суммирование отдельных групп субтестовых оце-
нок и сравнение их между собой. Таким образом, делалась
как бы стихийная попытка накопить диагностическую информа-
цию, распределенную по количественным оценкам отдельных
субтестов.
Г54
информативности особенностей выполнения методики WAIS
неврозами и психопатией
Оценка субтеста
«Расположение
картинок»
<7
Да
60
10
+78
51
Нет
40
90
—35
Ю
Оценка субтеста
«Кодирование»
<8
Да
Нет
55 45
15 85
+57 —28
360
Оценка субтеста
«Недостающие
детали»
<8
Да
Нет
55 45
15 85
+57 -28
360
Самая высокая из
Невербальных
субтестовых
оценок — «Узор из
кубиков»
Да
- Нет
80 20
45 55
+25 -44
280
Для определения диагностической значимости отдельных
признаков, ранжирования их по ценности и формулирования
решающего правила были использованы методы неоднородного
последовательного статистического анализа [Гублер Е. В., 1970].
Содержание признаков, частоты их в исследованных группах
больных, диагностические коэффициенты для 7 наиболее цен-
ных признаков, упорядоченных по информативности на основе
меры Кульбака, приведены в табл. 9. Положительные диаг-
ностические коэффициенты свидетельствуют в пользу шизоф-
рении, а отрицательные — в пользу неврозов и психопатии.
{Следует специально оговориться, что полученные диагностиче-
ские правила неприменимы к больным низкого образователь-
ного уровня — менее 7—8 классов средней школы — и более
старшего возраста—старше 40 лет, а также к больным с из-
менениями психики по органическому типу). При использовании
таблицы диагностические коэффициенты признаков, обнаружи-
ваемых в профиле по WAIS у диагностируемого больного, сум-
мируются. Согласно процедуре сумма, превышающая +100,
достаточно надежно свидетельствует в пользу диагноза шизоф-
рении, а меньшая чем —100 — о диагнозе невроза или психо-
патии. Если сумма не выходит за пределы этих границ, то ука-
зывается лишь диагностическая тенденция на основании знака
суммы. Контроль эффективности таблицы был осуществлен на
материале 10 больных шизофренией и 10 больных неврозами,
не входивших в выборку, на основании которой была состав-
лена таблица. Получены следующие результаты: для больных
шизофренией—9 правильных диагнозов и 1 ошибочный, для
больных неврозами — 5 правильных диагнозов и для 5 пра-
вильно указана диагностическая тенденция. Хотя контрольный
материал и малочислен, можно сделать вывод о целесообраз-
ности такого подхода к разработке вопросов применения мето-
дики в помощь диагностике шизофрении.
155
Глава VIII
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
ПРИ ЛОКАЛЬНО-ОРГАНИЧЕСКИХ ПОРАЖЕНИЯХ
ГОЛОВНОГО МОЗГА
Локально-органические поражения головного мозга пред-
ставляют самостоятельную и довольно обширную область при-
менения идей и методов медицинской психологии, называемую
нейропсихологией. Клиника сосудистых, опухолевых, воспали-
тельных заболеваний головного мозга, его травматических по-
ражений и атрофических процессов в позднем возрасте — вот
далеко не исчерпывающий перечень патологических состояний,
где нейропсихология решает задачи уточнения топики пораже-
ния мозга, соотнося представления о структуре психологиче-
ских процессов с данными о строении высших отделов голов-
лого мозга. Использование психологических методов для изу-
чения клиники локальных мозговых поражений, механизмов
сложной психической деятельности обеспечивает более раннюю
и точную дифференциацию локальных и общемозговых симпто-
мов (синдромов) в их динамике. Успешное развитие в нашей
стране новых клинических областей применения нейропсихоло-
гии, таких как неврология и нейрохирургия (включая стерео-
таксические методы) глубоких структур мозга [Смирнов В. М.,
1976; Кузьмина Т. В. с соавт., 1981], неврология и нейрохи-
рургия детского возраста ГСимерницкая Э. Г., 1981], дефекто-
логия [Марковская И. Ф., Лебединский В. В., Лебединская К. С,
1981, и др.], психиатрия [Балонов Л. Я. и Деглин В. Л., 1976,
и др.], фокальная эпилепсия [Вассерман Л. И., 1974; Вассерман
Л. И. и Тец И. С, 1981], эндовазальная нейрохирургия [Моско-
вичюте Л. И., 1978, и др.], требует совершенствования нейро-
психологических методов исследования не только в топической
диагностике локальных поражений мозга, но и для разработки
психологически обоснованных, рациональных приемов восста-
новления высших психических функций, нарушенных в резуль-
тате очаговых поражений мозга [Лурия А. Р., 1948, 1969;
Бейн Э. С, 1964; Цветкова Л. С, 1972; Цветкова Л. С. и др.,
1981; Дорофеева С. А., 1973; Шкловский В. М., 1975, и др.].
Нейропсихологические методы также все более широко исполь-
зуются в теоретических и экспериментальных исследованиях,
внося существенный вклад в понимание мозговых механизмов
сложных психических функций [Хомская Е. Д., 1972; Бехте-
рева Н. П., 1980; Трауготт Н. Н., 1981]. Таким образом, нейро-
психологические методы составляют часть общего комплекса
клинического исследования больных в неврологической, нейро-
хирургической или психиатрической клиниках. Однако их раз-
работка, адаптация и использование в клинико-диагностической
156
практике возможны лишь на основе современных представле-
ний о высших психических функциях и их системной органи-
зации.
Современные представления о мозговой организации выс-
ших психических функций и основные принципы нейропсихоло-
гической диагностики. Фундаментальный вклад в нейрофизио-
логическое направление, изучающее проблему локализации
функций головного мозга, внесло учение И. П. Павлова о слож-
ной динамической организации мозговых структур, лежащих
в основе психической деятельности. Это учение, преодолеваю-
щее как узкий локализационизм и психоморфологизм, так и ан-
тилокализационизм, провозглашающий эквипотенциальность
всех частей и структур мозга, было в последующем развито
в работах физиологов П. К. Анохина (1940, 1971) и Н.А.Берн-
штейна (1947, 1966), психологов Л. С. Выготского (1960),
А. Р. Лурия (1969, 1973) и А. Н. Леонтьева (1972). Когда го-
ворится о локализации функций, имеется в виду прежде всего
системная деятельность мозга, определяющая пути движения
и места взаимодействия нервных процессов, лежащих в основе
той или иной функции. В этом смысле психические функции
приурочены к мозговым структурам, но в то же время одни и
те же мозговые центры могут входить в различные «рабочие»
констелляции, а одна и та же функция в разных условиях реа-
лизуется по-иному и опирается на разные по локализации моз-
говые механизмы. Так было сформулировано понятие функцио-
нальной системы, где под «функцией» понимается, как ука-
зывает А. Р. Лурия, «сложная приспособительная деятельность
организма, направленная на осуществление какой-либо физио-
логической или психологической задачи». Работы П. К. Ано-
хина по теории функциональных систем, роли «обратных аффе-
рентаций», «афферентных синтезов» в многоуровневой органи-
зации психических функций, начатые еще в 30-х годах, полу-
чили в настоящее время широкое распространение в нейрофи-
зиологии, нейропсихологии и нейрокибернетике. Н. А. Берн-
штейн (1947) на примере анализа произвольного двигательного
акта убедительно доказал, что движение, в противовес сущест-
вовавшим взглядам, не является функцией специальной группы
клеток моторной коры, а происходит в результате сложного
объединения различных анатомических образований на суб-
кортикальном и кортикальном уровнях и не только эфферент-
ной, но и афферентной системами. Исходя из этого любое про-
извольное движение должно рассматриваться как результат
многоуровневого, координированного сенсомоторного взаимо-
действия. Бесспорно, что высшие формы психической деятель-
ности (речь, узнавание, целенаправленные действия и т. п.)
имеют еще более сложную организацию и опираются на си-
стему совместно работающих зон головного мозга и в первую
очередь коры полушарий. Очевидно также, что каждая зона
157
вносит свой специфический вклад в реализацию психической
функции. Положения теории функциональных систем П. К.
Анохина широко использовались А. Р. Лурия (1969) при изу-
чении патофизиологических механизмов афазий и апраксий.
Одним из основополагающих принципов строения высших
психических функций является положение Л. С. Выготского
(1960) о том, что проблема мозговой организации психиче-
ских процессов должна разрабатываться с позиций сложных
межфункциональных связей. Высшие функции мозга, как под-
черкивается Л. С. Выготским (1960), А. Р. Лурия (1969, 1973),
А. Н. Леонтьевым (1972), формируются в процессе длительного
социально-исторического развития (в процессе эволюции пред-
метной деятельности человека), сложными, опосредованными
по своему строению, сознательными и произвольными по спо-
собу деятельности. Представление о «системной локализации
функций» позволяет лучше понять механизмы нарушений выс-
ших психических процессов, возникающих при очаговых пора-
жениях мозга. Нейропсихологическая практика показывает, что
при дезинтеграции любого звена функциональной системы мо-
жет страдать вся деятельность в целом, но выпадение той или
иной функции еще не дает основания судить о ее локализации,
и поиск «центров» чтения, письма, счета и т. д. представляется
неправомерным. Для того чтобы перейти от симптома к лока-
лизации функции, необходим детальный психологический ана-
лиз структуры расстройства с выделением основной причины
распада функциональной системы. Это оказывается возможным
только при нейропсихологической «квалификации» симптомов
нарушения высших психических функций (Лурия А. Р., 1969].
Понятия «локализация очага» и «локализация функции» не яв-
ляются однозначными, и судить о мозговой организации функ-
циональной системы на основании данных очагового пораже-
ния мозга следует исходя из структурного анализа совокупно-
сти взаимосвязанных и взаимодействующих друг с другом
симптомов. При нарушении функции симптом может быть
частично или полностью защищен за счет деятельности других
областей мозга, участвующих в рабочей констелляции, что
повышает надежность работы мозга. Но какова все же роль
отдельных мозговых структур или функциональных единиц
в сложной многоэтапной иерархии функциональной системы?
Наряду с понятием «локализация функций», возникло понятие
«локализация операций», которое пришло в нейропсихологию из
теории информации и распознавания образов. Под операциями
понимается ряд действий, необходимых для реализации той или
иной функциональной системы, таких как выделение сигнала из
шума (фильтрация сообщений), оперативная память, принятие
решения и др. Можно допустить, что именно операции являются
теми дискретными категориями, по Н. А. Бернштейну, которые
«.. .могут быть в действительности локализованно отображены
158
в центрах мозга». Синтез современной нейропсихологии с нейро-
кибернетикой, теорией информации и распознавания образов
обогатил представление о мозге как о системе, воспринимаю-
щей, хранящей и перерабатывающей информацию, где операции
реализуют отдельные «звенья» или «этапы» в сложной органи-
зации памяти, узнавания, действия и т. д. Такое представление
не только обогатило нейропсихологию новыми методологиче-
скими принципами, но и способствовало разработке принци-
пиально новых методов исследования в клинико-диагностиче-
ской практике, включая применение технических систем и ап-
паратуры.
При решении задач нейропсихологической диагностики сле-
дует помнить, что все психические процессы совершаются на
разных уровнях интеграции и что нарушения высокодифферен-
цированной системной деятельности мозга при локальных пора-
жениях могут быть обусловлены не только за счет пораженного
полушария, но и в результате изменения межполушарного вза-
имодействия, влияния одностороннего очага на деятельность ин-
тактного полушария, изменения взаимодействия так называе-
мых специфических функций отдельных корковых зон и неспе-
цифических активирующих образований ствола мозга и
ретикулярной формации [Лурия А. Р., 1973; Смирнов В. М.,
1976; Мучник Л. С. и др., 1981; Бехтерева Н. П., 1980; Трау-
готт Н. Н., 1981; Geschwind N., 1965; Sperri R. с соавт., 1969].
Иными словами, множество церебральных структур, обеспечи-
вающих реализацию функциональных систем сложных психиче-
ских процессов, связаны между собой как по горизонтали, так и
по вертикали. Поражение верхних отделов ствола, межуточного
мозга, лимбических и палеокортикальных образований, как из-
вестно, редко приводит к дефектам отдельных психических функ-
ций. Но при этом в зависимости от расположения очагов пора-
жения могут наблюдаться расстройства активного внимания,
модальностно-неспецифические расстройства кратковременной
памяти, нарушения процессов консолидации следов текущего
опыта, расстройства пластичности и инициативы при решении
интеллектуально-мнестических задач, эмоционального реагиро-
вания и некоторых форм адаптивного поведения. Задача нейро-
психолога заключается в том, чтобы изучить, как влияют нару-
шение тонуса коры, снижение уровня активации на процессы
восприятия, памяти, узнавания, речи и какое это имеет значе-
ние для диагностики, восстановительного лечения и прогноза
заболевания.
В последние годы многими исследованиями установлены
важная роль правого полушария в осуществлении психических
функций и особая значимость для прикладной нейропсихоло-
гии вопроса о функциональной специлизации полушарий.
В связи с этим проблема доминантности полушарий (по речи
и по ведущей руке), оставаясь актуальной для решения конк-
159
ретных задач топической диагностики (особенно в нейрохирур-
гической клинике), должна рассматриваться как составная часть
более общей проблемы интегративной деятельности мозга. Из-
вестные со времен X. Джексона и В. М. Бехтерева различия
в функционировании правого и левого полушарий (у право-
руких) нашли широкое подтверждение и дополнение в экспери-
ментальных исследованиях. Суммируя результаты работ Н. Не-
саеп и сотр. (1963, 1970), Е. П. Кок (1967), R. Sperri и сотр.
(1969, 1974>, М. Gazzaniga (1971), А. Р. Лурия (1973), Л. Я. Ба-
лонова и В. Л. Деглина (1976), J. Levy (1976), Т. А. Доброхо-
товой и Н. Н. Брагиной (1977), Н. Н. Брагиной и Т. А. Добро-
хотовой (1981), Я. А. Меерсона (1981), Б. И. Белого (1982) и
других авторов, можно сказать, что представления о доминиро-
вании полушарий в восприятии определенного стимульного ма-
териала (речевого — для левого полушария и наглядно-образ-
ного— для правого) должны быть дополнены. Оказалось, что
различия зависят не только и не столько от особенностей
предъявляемого материала, сколько от характера конкретных
задач, стоящих перед испытуемым. При этом с левым полуша-
рием связываются задачи категоризации (классификации) пре-
имущественно на основе выделения существенных признаков
в речевых или зрительных стимулах, а с правым — задачи иден-
тификации (сличения) целостного образа. Иными словами, раз-
личие в способах переработки информации является одним из
важнейших механизмов, определяющих функциональную спе-
циализацию полушарий [Меерсон Я. А., 1975, 1981; Ле-
ушина Л. И., 1981; Зальцман А. Г., 1982; Sperri R., 1974, и др.].
При этом правое полушарие обеспечивает главным образом
быстроту узнавания стимулов, требующих комплексного описа-
ния (не выделяя главный признак), необходимого для иденти-
фикации сложных, малознаковых невербализуемых объектов
(в условиях высокой помехоустойчивости), а левое полушарие
доминирует в задачах, связанных с категоризацией хорошо зна-
комых, относительно несложных, легко вербализуемых объектов.
Левое полушарие, как показывают экспериментальные дан-
ные, теряет в скорости переработки информации (оно связано,
по-видимому, с построением иерархии признаков и выделением
ведущего), оно менее устойчиво к повреждениям, но обладает
способностью к аналитическому обобщенному описанию объек-
тов на основе системы речевых связей и тем самым к произволь-
ному управлению психологическими функциями. Следует
заметить, что и доминантность левого полушария по речи рас-
сматривается в настоящее время как относительная [Симерниц-
кая Э. Г., 1978], ибо оно превалирует только в наиболее сложных
видах произвольной речевой деятельности, тогда как правое по-
лушарие доминирует в непроизвольных, автоматизированных
речевых процессах, таких как эмоциональная, интонационная
окраска речи, ее музические компоненты и др. Все это необхо-
160
димо учитывать при нейропсихологическом исследовании боль-
ных и принятии топико-диагностического решения.
Психологические методы в диагностике локально-органиче-
ских поражений мозга. Впервые методы психологической диаг-
ностики при локально-органических поражениях мозга стали
применяться в конце XIX в., в период описания основных фено-
менов нарушений высших психических функций. В течение дли-
тельного времени симптомы расстройств речи, гнозиса, праксиса
рассматривались лишь в качестве дополнительных критериев
неврологической диагностики, а методы их выявления спе-
циально не выделялись из арсенала клинических приемов иссле-
дования больных с очаговой патологией мозга. До настоящего
времени известны некоторые пробы, предложенные A. Pick,
P. Marie, Г. И. Россолимо, Ф. Е. Рыбаковым. Так, в опублико-
ванной Г. И. Россолимо работе «Профили больных нервными и
душевными болезнями» (1910) приводятся данные исследования
больных с сосудистыми поражениями мозга, в том числе и
с афазиями. Делается одна из первых попыток оценить степень
выраженности нарушений речи при афазиях по шкале «ошибок»
и вывести итоговый профиль; ряд проб методики еще не по-
теряли значения. В клинике очаговых поражений мозга до сих
пор используются также некоторые пробы, предназначенные для
исследования психически больных: запоминание бессмысленных
слов по Г. Эббингаузу, счет по Э. Крепелину и др. Разработан-
ная А. Н. Бернштейном (1907, 1922) «Экспериментально-психо-
логическая методика распознавания душевных болезней» приме-
няется наряду с другими приемами для исследования больных
с локальной патологией мозга [Кроль М. Б., 1914]. Проводились
такие исследования и в клинике В. М. Бехтерева. В частности,
изучалась психическая деятельность больных с гемиплегиями
капсулярного и кортикального происхождения. Для этой цели
применялись таблицы В. М. Бехтерева и С. Д. Владычко, кор-
ректурная проба, счет по Э. Крепелину. Топико-диагностического
значения эти исследования, по-видимому, не имели, но получен-
ные данные обсуждались при клинико-анатомических сопостав-
лениях. Н. Head (1926) одним из первых среди нейропсихоло-
гов предложил большой набор тестов для выявления расст-
ройств речи, гнозиса, праксиса и других расстройств высших
психических функций. Многие пробы из набора Н. Head приме-
няются на практике и в настоящее время (пробы Хеда на от-
чуждение смысла слов, для исследования называния изображе-
ний предметов, «часы»—для исследования ориентировки в про-
странстве и др.). И. П. Филимонов с соавт. (1936) использовали
набор этих проб для исследования больных в неврологической
клинике, дополнив его своими оригинальными заданиями, на-
правленными главным образом на выявление нарушений речи.
По мере развития клинической неврологии, нейрофизиологии и
научной психологии трансформировались и представления
6 Заказ № 942
161
о значении симптомов нарушения высших психических функций
для понимания их мозговой организации. Теория динамической
локализации функций, представление о системной деятельности
мозга явились фундаментом для развития клинической нейро-
психологии. Большой вклад в это внес А. Р. Лурия — один из
основоположников отечественной нейропсихологии. В моногра-
фии «Высшие корковые функции человека» (1962, 1969) им при-
водятся основные принципы нейропсихологической диагностики,
обоснование и описание большого числа нейропсихологических
методов исследования (многие из которых предложены автором
и его учениками).
Ряд известных нейропсихологических приемов в нейрохирур-
гической клинике разработан В. Milner (1958, 1967), D. Kimura
(1961), A. Benton (1968) и др. Однако описанные В. Milner и
другими авторами неиропсихологические тесты использовались
главным образом для выявления расстройств высших психиче-
ских функций в результате хирургического лечения фокальной
эпилепсии и опухолей головного мозга. Применение их в пред-
операционной топической диагностике потребовало особенно
тщательного сопоставления с данными других, более валидных
и надежных для этой цели экспериментальных заданий. В ней-
ропсихологических исследованиях применяются также пробы
Н. Н. Трауготт (1959), В. К. Орфинской (1960), В. М. Когана
(1962), Е. П. Кок (1967), Н. Н. Трауготт и С. И. Кайдановой
(1975) и других авторов. Проникновение в нейропсихологию
идей и методов кибернетики, теории информации и распознава-
ния образов послужило основанием для экспериментальных ис-
следований, в результате которых разработаны и вошли в диаг-
ностическую практику многие принципиально новые методичес-
кие приемы исследования, помогающие обнаружить тонкие, сла-
боструктурированные дефекты затылочных, теменно-затылочных
и височных областей доминантной и субдоминантной по речи ге-
мисферы [Меерсон Я. А., 1972, 1975, 1980; Тонконогий И. М.,
1973; ВассерманЛ. И. ссоавт., 1974, 1981, и др.]. В целях топиче-
ской диагностики локальных поражений мозга стали широко
применяться специальные технические устройства и аппаратура,
что значительно повысило объективность и надежность экспе-
риментальных данных [Вассерман Л. И. с соавт., 1981Ц.
Весьма актуальными являются вопросы разработки оценоч-
ных шкал в нейропсихологических исследованиях, т. е. поиск оп-
тимальных вариантов квантификации и стандартизации методов
топической диагностики. Описание способов оценки степени вы-
раженности расстройств высших психических функций (главным
образом при афазиях) мы встречаем в работах В. М. Когана
(1962), L. Vignolo (1964), Е. П. Кок (1965), A. Benton (1965),
В. Orgass (1969), Э. С. Бейн и П. А. Овчаровой (1970),
Л. Г. Столяровой (1973), С. А. Дорофеевой (1973), В. Я. Ре-
пина (1974), Л. И. Вассермана с соавт. (1974, 1977), Л. С. Цвет-
162
ковой с соавт. (1977, 1981) и других авторов. При всей разно-
видности методических подходов к ранжированию и оценке рас-
стройств речи и других высших функций мозга упомянутые
работы могут рассматриваться как позитивный коллективный
опыт в поисках адекватных методов восстановительного обу-
чения больных и оценки его эффективности в зависимости от
клинических, индивидуально-личностных и социально-психологи-
ческих факторов, учет которых, как показывают исследования
[Шкловский В. М. с соавт., 1981], и определяет успех реабилита-
ции больных в целом.
Таким образом, клиническая нейропсихология располагает
большим количеством разнообразных эмпирических приемов ис-
следования, которые разрабатывались различными авторами на
протяжении многих десятилетий. Использование этих приемов
в большинстве своем не ограничивается стандартными услови-
ями эксперимента и оценки успешности их выполнения. Диагно-
стические алгоритмы достаточно субъективны и во многом за-
висят от индивидуального опыта исследователя. Естественно,
что нейропсихолог должен отчетливо представлять себе те синд-
ромы, которые возникают при различных по локализации пора-
жениях мозга и располагать достаточным набором методических
приемов для получения надежных в топико-диагностическом от-
ношении данных. Но количество нейропсихологических проб,
адекватных целям индивидуальной диагностики в клинических
условиях должно, с нашей точки зрения, ограничиваться рам-
ками определенной схемы. В свое время А. Р. Лурия (1969),
определяя основные принципы нейропсихологического исследова-
ния, отмечал лимит времени проведения эксперимента в кли-
нике локально-органических поражений мозга. Это связано
в первую очередь с быстрой истощаемостью внимания больных,
снижением их умственной работоспособности и т. п. Поэтому
при всем многообразии конкретных методических приемов ис-
следования важно придерживаться определенной схемы экспе-
римента, не избегая при этом оказывать помощь испытуемому
в процессе решения им более сложных задач. Следует помнить,
что способ преодоления ошибок испытуемым, его отношение
к неудачам также могут оказаться значимыми в топико-диагно-
стическом отношении.
Не исключая творческого, исследовательского подхода к по-
иску критериев для постановки топического диагноза, предпола-
гающего как «квалификацию симптома» (по Л. С. Выготскому),
так и структурно-динамический характер проведения исследо-
вания и принятия диагностического решения, необходимо иметь
возможность достаточно объективно оценивать успешность вы-
полнения больным тех или иных заданий, опираясь на норматив-
ные данные. Такой подход, сохраняя все своеобразие нейропси-
хологического эксперимента, позволяет выйти за узкие рамки
индивидуального опыта и широко применять нейропсихологиче-
6* 163
ские методы в научно-исследовательской работе для оценки эф-
фективности лечебно-восстановительных и реабилитационных
мероприятий и медико-педагогической практики. Вопрос о на-
дежности получаемых в нейропсихологическом эксперименте
данных решается главным образом сравнительным анализом ре-
зультатов группы разнородных проб и обнаружением в них об-
щих признаков, укладывающихся в единый синдром.
Таким образом, представляется, что основные требования,
которым должен удовлетворять набор нейропсихологических
проб для решения топико-диагностических задач в неврологи-
ческой, нейрохирургической и психиатрической клиниках, со-
стоят в следующем:
1. Необходимы избирательная надежность и валидность ме-
тодов исследования тех высших психических функций, наруше-
ния которых могут иметь место при локальных поражениях
мозга. Иными словами, набор должен содержать минимально
необходимое количество проб, адекватных для исследования
речи, гнозиса, праксиса, специальных видов памяти и т. д., ха-
рактеристика нарушений которых позволяет оценить их топи-
ко-диагностическую значимость в динамике лечения.
2. Методики должны быть доступны для выполнения любому
взрослому1 (практически здоровому испытуемому), для чего
желательна их предварительная стандартизация на нормативных
данных, включая и относительно малообразованных людей.
(Сложные пробы могут использоваться индивидуально с учетом
преморбидных особенностей и культурного уровня больных).
3. В набор следует включать задания, направленные на вы-
явление нарушений высших психических функций различной
степени тяжести, не только выраженных и умеренно выражен-
ных расстройств, но и слабовыраженных, которые часто не
удается обнаружить при обычном клинико-психологическом ис-
следовании. Для этого необходимы пробы, содержащие ряд
сенсибилизированных приемов исследования для выявления
тонких, слабо структурированных нарушений речи, гнозиса,
праксиса, памяти и т. д.
4. Результаты исследования, полученные с помощью нейро-
психологических проб и заданий, должны быть пригодны для
сравнительной характеристики нарушений высших психических
функций и их динамики в процессе восстановительного лечения
и реабилитации больных. Это может быть достигнуто относи-
тельно стандартной процедурой исследования и оценивания.
5. Оценка степени выраженности расстройств высших кор-
ковых функций (квантификация) не должна препятствовать ос-
новному принципу нейропсихологического исследования — каче-
ственному, структурному анализу синдрома.
1 Вопрос о создании специального набора нейропсихологических проб
для детской нейропсихиатрической клиники пока остается открытым.
164
Нейропсихологическое исследование, как и любое другое ме-
дико-психологическое исследование, надо строить с учетом ин-
дивидуальных особенностей больного, демонстрируя его успехи
и психотерапевтически сглаживая неудачи. В соответствии
с этими требованиями в основе предлагаемого нами стандарти-
зованного набора нейропсихологических методик лежат субте-
сты, отобранные за 15 лет научно-практической работы в Инсти-
туте им. В. М. Бехтерева как наиболее адекватные и валидные
для решения топико-диагностических задач. Одни из них давно
и хорошо известны (пробы Поппельрейтера, Хеда, Н. И. Озерец-
кого, А. Р. Лурия и некоторые другие). Другие пробы применя-
ются многие годы преимущественно ленинградскими нейропси-
хологами. Часть методических приемов исследования пред-
ложена известными зарубежными нейропсихологами [Milner В.,
1958, 1967; Kimura D., 1961, 1966; Benton A., 1968; Finley D.
et al., 1978; Ley K. et al., 1979] и адаптированы в Институте
им. В. М. Бехтерева. Наконец, ряд субтестов методики впервые
разработан для целей топической диагностики при локаль-
ных мозговых поражениях нейропсихологами Института
им. В. М. Бехтерева, Института эволюционной физиологии и
биохимии им. И. М. Сеченова АН СССР в содружестве со спе-
циалистами по теории информации и распознавания образов.
Все субтесты набора нейропсихологических методик пред-
варительно стандартизованы на нормативном материале. Об-
следование группы практически здоровых взрослых испытуемых
в возрасте от 16 до 68 лет (различного образовательного уро-
вня) показало, что практически предлагаемые пробы выполня-
ются ими успешно.
Инструкция по применению нейропсихологических методов
в клинико-диагностической практике. Экспериментально-психо-
логическому исследованию предшествует краткая беседа
с больным. В ходе естественного эксперимента последний зна-
комится с задачами исследования, а неиропсихолог получает
предварительную информацию о речевом статусе больного, его
эмоционально-экспрессивных особенностях, уровне осознания
болезни и отношения к ней, степени социальной дезадаптации
и т. д. Выявляются (если это представляется возможным) так-
же анамнестические данные о право-леворукости больного и
членов его семьи. Уже непосредственно перед исследованием
проводится ряд проб (если позволяет неврологический статус),
обычно используемых для выявления доминантности полуша-
рий [Лурия А. Р., 1969; Симерницкая Э. Г., 1978]. Темп предъ-
явления субтестов методики умеренный; требовать от больного
быстрого выполнения заданий не следует, но в то же время не-
обходимо отмечать его инактивность, затруднения при включе-
нии в действие, импульсивность, тенденции к эхолалиям, эхо-
праксиям, нарушения произвольного внимания, памяти и т. д.,
что имеет самостоятельное топико-диагностическое значение.
165
В зависимости от состояния больного (повышенная утомляе-
мость, истощаемость внимания и др.) экспериментальное ис-
следование проводится либо однократно, либо в течение не-
скольких дней. Результаты исследования фиксируются на бла-
нке методики или в специальной тетради, причем особенности
выполнения речевых заданий — развернутой записью экспери-
ментатора, фиксирующей детали экспрессивной речи. Пробы,
направленные на исследование письма, счета, конструктивного
праксиса и пространственной ориентировки, выполняются ис-
пытуемым прямо на бланке (в тетради). Успешность выпол-
нения остальных субтестов методики отмечается цифрой (или
знаком « + »), фиксирующей количество выполненных пра-
вильно проб в конкретном задании. Характерные качественные
особенности выполнения заданий также должны отмечаться
экспериментатором для последующего их анализа. Успешность
выполнения каждого задания может быть ранжирована. Пред-
лагаемая нами система оценки по 4-балльной системе доста-
точно проста, не занимает много времени, но требует специаль-
ной «организации» экспериментального материала: в каждой
пробе должно быть 3 или 6 заданий. Так, если в пробе 3 зада-
ния и каждое из них выполняется без ошибок, то оценка—0;
ошибки в одном задании—1; ошибки в 2 заданиях — 2; все
задания выполняются с ошибками или отказ от их выполне-
ния— 3. Если в пробе 6 заданий и каждое из них выполняется
без ошибок, оценка — 0; ошибки в 1—2 заданиях—1; в 3—4
заданиях — 2; в 5—6 заданиях — 3. В одних случаях учиты-
вается преимущественно число правильно выполненных зада-
ний, в других — для оценки успешности необходим тщатель-
ный анализ особенностей выполнения заданий (качественная
сторона); наконец, имеются пробы, где принимается во внима-
ние как тот, так и другой критерий. В любом случае необхо-
димо отмечать индивидуальные особенности выполнения зада-
ний независимо от того, по какому критерию оценивается
успешность их выполнения. Ряд специальных сенсибилизиро-
ванных нейропсихологических проб («выделение сигнала из
шума» и др.) оцениваются по той же системе, исходя из успеш-
ности выполнения наиболее сложных заданий. Подробно стан-
дартизованный набор нейропсихологических методик и система
оценок успешности их выполнения изложены в разрабатывае-
мых методических рекомендациях Института им. В. М. Бехте-
рева.
Особенности и степень выраженности тех или иных наруше-
ний речи, письма и чтения рационально также оценивать по
4-балльной системе с помощью специально разработанной шка-
лы [Вассерман Л. И., Дорофеева С. А. и др., 1977]. Следует от-
метить, что большинство предлагаемых нами нейропсихологи-
ческих проб составлено по принципу от простого к сложному.
Но в ряде случаев целесообразно начинать исследование с бо-
166
лее сложных заданий (если у больного в процессе предвари-
тельной клинико-психологической беседы не выявляются выра-
женные нарушения речи, узнавания, действия). При успешном
выполнении сложных заданий предъявлять испытуемому про-
стые— нет необходимости, что значительно сокращает время
исследования.
На основании данных нейропсихологического исследования
могут быть вычерчены профили успешности выполнения от-
дельных проб методики, но для этого каждое отдельное зада-
ние должно иметь свой порядковый номер. Затем по оси орди-
нат откладываются баллы (0, 1, 2, 3), а по оси абсцисс — от-
дельные задания под их порядковыми номерами, объединенные
в блоки (блок экспрессивной речи, понимания речи, письма,
чтения и т. д.). Такой профиль отражает в наглядной форме
преобладание тех или иных нейропсихологических симптомов
и синдромов и их динамику. Следует еще раз подчеркнуть, что
нейропсихологическое заключение строится на основе прежде
всего тщательного анализа структуры синдрома в целом, а
предлагаемый нами набор нейропсихологических проб и зада-
ний является только инструментом для более или менее де-
тального исследования больных — процесса сложного и твор-
ческого, при котором не исключается использование и других
приемов нейропсихологического исследования. Оценка же ре-
зультатов успешности выполнения отдельных проб имеет вспо-
могательное значение при сопоставлении данных обследования
больного в динамике восстановительного обучения, сопоставле-
нии различных групп обследованных больных, сравнении дан-
ных различных авторов и т. п.
Здесь мы не касаемся основных симптомов и синдромов на-
рушений высших психических функций при локальных пораже-
ниях мозга и правил принятия топико-диагностического реше-
ния на основе анализа клинико-психологических и эксперимен-
тальных данных, поскольку это специальная и весьма сложная
задача клинической нейропсихологии.
Приводим описание методов нейропсихологического иссле-
дования при локально-органических поражениях мозга.
I. Экспрессивная речь. Нейропсихологическое исследование
обычно начинается с предварительной беседы, цель которой —
установление контакта с больным. Диалог должен быть естест-
венным и касаться привычных для больного тем. Одновременно
образцы речевой продукции испытуемого записывают для по-
следующего тщательного качественного анализа и оценки его
самостоятельной, развернутой речи.
1. Спонтанная и диалогическая речь. Больному предъявля-
ется ряд вопросов, на которые он должен ответить. Одни воп-
росы предусматривают короткий, односложный ответ типа «да»,
«нет», другие — более развернутые. Обычно задают следующие
вопросы: Вы работаете? У Вас болит голова? Как Вы себя чув-
167
ствуйте? Расскажите, как Вы заболели? Расскажите о своей ра-
боте, доме.
При анализе полученных ответов обычно учитывается способность боль-
ного понимать обращенные к нему вопросы, поддерживать диалог. Отмеча-
ется также характер ответов: односложные или развернутые ответы, сопро-
вождаются ли они мимикой, жестами, наличием эхолалий. Фиксируются бы-
строта, с которой даются ответы, различие в ответах на эмоционально зна-
чимые или индифферентные для больного вопросы.
2. Автоматизированная речь исследуется путем предложе-
ния больному перечислить привычный числовой ряд (от 1 до
6; от 7 до 12; от 15 до 20) или перечислить месяцы в году: сен-
тябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль. Кроме этих
проб, больному может быть предложено произнести короткое,
но хорошо известное с детства стихотворение или пропеть куп-
лет хорошо знакомой песни. Отмечаются плавность перечисле-
ния автоматизированных рядов, пропуски элементов или их за-
мены, искажение порядка следования элементов, особенности
парафразий, эхолалий, персеверации и др.
3. Повествовательная речь. Испытуемому предлагается ко-
роткий рассказ, который он должен пересказать в развернутой,
повествовательной форме, например: «У одной хозяйки мыши
съели в погребе сало. Тогда она заперла в погребе кошку. А
кошка съела и сало, и мясо, и молоко», или, используя также
развернутые речевые обороты, предлагается составить неболь-
шой рассказ по сюжетной картинке. Если больной не в состоя-
нии передать содержание рассказа или сюжетной картины, ему
задают вопросы, вычленяющие детали сюжета.
При анализе повествовательной речи обращается внимание на то, в ка-
кой мере в пересказе отражены ключевые элементы текста, сохранены ли
нужная последовательность повествования, близость пересказа к тексту. От-
мечаются также возможность самостоятельного воспроизведения рассказа
без наводящих вопросов, активность, развернутость, плавность или отрыви-
стость речи, поиски слов, аграмматизм, преобладание в речи глаголов, ввод-
ных слов или существительных, характер парафразий, их лабильность.
4. Отраженная речь (повторение) исследуется, как правило,
при помощи нескольких серий опытов: повторение изолирован-
ных гласных звуков: а, о, у, и, е, ю; повторение изолированных
согласных звуков: эм, эр, рэ, мэ, ка, ха; повторение серий оп-
позиционных слогов: па — ба, ба —па, да — та, та — ка, бы —
би, ка — ха; повторение слогов-триграмм (бессмысленных сло-
гов): лив, кет, бун, тал, шом, гис; повторение серий слогов-
триграмм (интервал между элементами в серии 1—2с): рел —
зук, бун — лец — тиз, бун — цис — кет — лаш; повторение прос-
тых и сложных слов: дом, работа, полководец, балалайка,
стратостат, электроэнцефалография; повторение серий слов
(односложных, не связанных по смыслу) в 2 вариантах с изме-
нением порядка следования слов в одном из них, например:
дом — лес — ко г ночь — звон — стол — гром
лес — дом — кот гром — стол — ночь — звон *
168
мост — план — груз — снег — лист .
груз — план—мост — снег — лист
повторение предложений: «Я иду в кино». «Наступили теплые
дни, но снег еще не растаял». «Дом, который стоял у дороги,
был окружен забором»; повторение серий слогов-триграмм и
односложных слов в условиях интерференции. Эта и следую-
щая проба преимущественно направлены на исследование про-
чности следов, т. е. кратковременной слухоречевой памяти.
Испытуемому необходимо запомнить предъявляемые последо-
вательно две серии речевых стимулов и после однократного
воспроизведения первой, а затем второй серии через 5 с вновь
вернуться к припоминанию первой серии, например:
мед — луч — пар
век — род — дар g-^
век— род—дар?
Сравнение серий слогов-триграмм в условиях расставлен-
ного во времени предъявления. Как правило, предъявляются
серии не более чем из 4 составляющих. Испытуемому предъяв-
ляется на слух 2 серии из 4 слогов каждая. Интервал между
сериями около 10 с, а интервал между элементами в серии 1—
2 с. Требуется, не повторяя серий вслух, ответить (вербально
или жестом), одинаков или отличается порядок следования
элементов в сравниваемых сериях. Например:
дил — лец — ост — тиз/10 с пауза дил — ост — лец — тиз
и так далее, но не более 6 серий. Обращается внимание на
стойкость слухоречевых следов, влияние интерференции
и расставления во времени на удержание речевого ряда,
персевераторные повторения прежде данных серий или
контаминации отдельных слогов (слов), входящих в речевой
ряд, потерю общего смысла, парафазии при повторении фраз
и др.
5. Называние (номинативная функция речи) также иссле-
дуется в нескольких сериях опытов: называние реальных пред-
метов (например, часы, карман, ремешок, циферблат) или дру-
гих предметов, окружающих больного, называние частей тела
(употребляемых чаще и реже в обыденной речи): глаз, колено,
локоть, подбородок, ресницы, переносица, скула и др.; называ-
ние изображений предметов (рис. 3) —утюг, топор, булавка,
самовар, трубка, якорь, зонт, пила, ножницы, пистолет, сабля,
циркуль. На рис. 3 изображены предметы, словесные обозначе-
ния которых встречаются как достаточно часто, так и относи-
тельно редко. Этот же набор можно использовать для исследо-
вания возможности нахождения больным категориальных наз-
ваний предметов (классификация): например, пила, топор,
клещи — инструменты и т. д. В дополнение к этой пробе можно
исследовать называние качеств или действие с предметами.
169
В этой серии проб обращается внимание главным образом на
поиск больным нужного названия, помогает ли при этом под-
сказка первых 1—2 фонем или контекст, характер встречаю-
щихся парафазии (вербальных или литеральных), разница
Рис. 3. Вариант набора предметных изображений для исследования называ-
ния и удержания речевого ряда.
в назывании окружающих предметов и частей тела, с одной
стороны, и изображений предметов — с другой.
При анализе выполнения заданий, направленных на оценку экспрессив-
ной речи, учитываются такие важные элементы, как темп речи, ее мелодиче-
ские характеристики (эмоциональная выразительность), тенденции к логорее,
170
плавность речи — напряжение, запинание, затруднение приступа к слову, ар-
тикуляторйые искажения и поиски артикуляции, способность плавного пере-
хода от одной артикулемы на другую, особенности парафазии (вербальные
или литеральные), лабильность литеральных парафазии. Все обнаружен-
ные нарушения тщательно анализируются и сопоставляются с дефектами
письменной речи. Ряд проб на экспрессивную речь могут быть оценены и
с точки зрения понимания речи и словесных значений.
II. Понимание речи и словесных значений.
6. Различение изолированных гласных звуков и их серий.
Проба предложена Н. Н. Трауготт и выполняется по условно-
рефлекторной методике: испытуемый поднимает руку при про-
изнесении «а» и не поднимает при произнесении «у» и т. д.
В каждой из представленных серий положительным стимулом
является первый по порядку: а—у—у—а—у—а; ау—уа—ау—
уа—уа: ауо—аоу—оау—оау—ауо—уоа—ауо и т. д.
7. Дифференцирование близких по звучанию слогов, слов
и звукосочетаний. Выполняется по той же методике, что и пре-
дыдущая: да—та—да—да—та—та; коса — коза — коза — ко-
са — коза — коса; лобата — ломата — лопата — лобата — ло-
пада—лопата и т. д. Эта проба и другие известные пробы из
этой серии направлены на исследование фонематического
слуха.
8. Понимание отдельных слов. Вначале предлагается пока-
зать предметы, окружающие больного. Покажите, пожалуйста
(делается пауза): стол, окно, дверь, часы, авторучку, выклю-
чатель, люстру и т. д.
9. Сохранение смысла слов в условиях нагрузки исследуется
затем в качестве более трудного задания. При этом предлага-
ется многократное повторение группы из одних и тех же слов
или их серий. При нарушении понимания слов возникает «от-
чуждение» их значения. Покажите, пожалуйста (делается па-
уза): глаз — ухо — нос — ухо — глаз — нос; ухо — глаз, нос —
ухо, глаз — нос; глаз — нос — ухо; ухо — глаз — нос; нос — ухо,
глаз.
10. Удержание речевого ряда: перед испытуемым раскла-
дывают карточки с 12 изображениями предметов (рис. ^.Вна-
чале набор закрыт. Называются 4 предмета, затем, открыв на-
бор, просят больного их показать. В таком виде опыт повто-
ряют 3 раза. Если испытуемый не справляется с заданием, то
опыт проделывают с серией из 3 изображений и т. д. Если за-
дание с 4 изображениями выполняется, то продолжать исследо-
вание нет необходимости. Рекомендуется перед каждым новым
предъявлением менять порядок расположения карточек в на-
боре для того, чтобы исключить влияние местоположения изо-
бражения на удержание речевого ряда. Эта проба может слу-
жить также примером методического подхода для исследова-
ния узнавания значений слов по их следам.
11. Понимание простых команд и предложений: закройте
глаза; покажите язык; поднимите и опустите руку; возьмите
171
карандаш и дайте его мне и т. д., но не более трех последо-
вательных действий в одном предложении.
12. Понимание логико-грамматических структур или отно-
шений между предметами. Большинство проб этой серии пред-
ложено А. Р. Лурия. Приводим некоторые из них: понимание
флективных отношений: покажите, пожалуйста, ключ — руч-
кой; ручку — ключом; ручкой — ключ; ключом — ручку и т. д.
Понимание отношений между предметами, выраженных пред-
логами и наречиями: положите ручку под книгу; положите кни-
гу на ручку; положите ручку выше книги и т. д. Дополнительно
можно использовать пробы на понимание так называемых ат-
рибутивных, инвертированных или сравнительных конструкций
(по А. Р. Лурия), например: одно ли это и то же: «отец брата
и брат отца» и др. Правильно ли я говорю: «Солнце осве-
щается землею?» и др. Какой карандаш более длинный? менее
длинный и др.
13. Понимание проб Хеда. Покажите, пожалуйста, указа-
тельным пальцем руки — нос; указательным пальцем левой ру-
ки— правый глаз; указательным пальцем правой руки — ле-
вое ухо и нос; указательным пальцем правой руки — левый глаз
и нос и т. д., причем для усложнения пробы можно менять
также и палец. Эта проба нередко используется для экспресс-
диагностики различных клинических вариантов афазий прямо
у постели больного. Выявляемые с помощью пробы нарушения
зависят не только от понимания логико-грамматических кон-
струкций, но и от удержания речевого ряда, ориентировки
в правом — левом, сохранности номинативной функции слова
и т. д.
14. Понимание ситуативной речи исследуется обычно во
время предварительной беседы с больным, а также отчасти при
исследовании спонтанной и диалогической речи, понимании
ряда инструкций, предшествующих выполнению других зада-
ний.
15. Фонематический анализ. Исследуется обычно так назы-
ваемый количественный и качественный анализ фонем в сло-
вах; например, требуется сказать, из какого числа букв сос-
тоят слова: окно, работа, самолет, микроскоп, полководец или
другие одно-, двухсложные, многосложные слова. Качественный
анализ фонем в словах выполняется обычно по условно-рефлек-
торной методике, предложенной В. К. Орфинской: если произ-
носится слово, в котором есть звук «с», больной должен под-
нять руку; при отсутствии в слове звука «с» поднимать руку
не надо. Первые несколько слов обычно произносятся с усиле-
нием нужной фонемы, например: сстол, ззабор, лошадь, мороз,
весна, пуговицы, ресницы, циферблат, автобус, рукавица, рас-
сказ, электростанция. В других вариантах опытов можно так-
же предъявить больному ряд изображений предметов, из ко-
торых он может выбрать те, в словесном обозначении которых
172
встречаются заданные фонемы (см. рис. 3). Для исключения
роли артикуляции в фонематическом анализе и синтезе испы-
туемому предлагают при выполнении задания зажать язык ме-
жду зубами.
При анализе и оценке особенностей импрессивной речи обращается вни-
мание главным образом на адекватное восприятие звуков речи, дифференци-
ровку близких по звучанию гласных и согласных, их комплексов, оппози-
ционных фонем, понимание значений слов и коротких фраз, стойкость значе-
ния слова в зависимости от объема удержания ряда, «отчуждения смысла
слова», когда больной, правильно повторяя отдельные слова, не может их со-
отнести со значением, как бы «отчуждая» название предмета от его смысла,
сохранность схемы тела, способность удержать в памяти относительно длин-
ное предложение и т. д. Особенности нарушения фонематического анализа
и синтеза важно учитывать также при анализе расстройств письма и чтения.
III. Письмо представляет собой особую форму экспрессив-
ной речи, и начинается исследование обычно со списывания
букв и слов q предъявляемого образца, например:
16. Списывание отдельных букв или фразы, состоящей из
слов, написанных буквами разных шрифтов: «Сегодня хоро-
шая погода» (рис. 4). При этом образец может постоянно на-
ходиться перед испытуемым или убираться через 5—6 с. Об-
ращается внимание на четкость, с которой больной восприни-
мает и воспроизводит существенные признаки букв, и не
заменяет ли списывание «рабским» копированием.
17. Исследование двигательных стереотипов — запись авто-
матизированных энграмм: собственное имя, фамилия, назва-
ние родного города.
18. Письмо букв под диктовку, например: А, И, У, К, П, Щ.
19. Письмо простых и более сложных фонетически слов под
диктовку, например: дом, весна, работа, самолет, экватор, ко-
раблекрушение.
20. Составление тех же слов из отдельных букв (разрез-
ной азбуки или кубиков), при этом сравнивается, одинаковы
ли трудности в выполнении заданий — написать или сложить
слова из отдельных букв. В последнем случае устраняются
трудности, возникающие при нарушении двигательных навы-
ков письма.
21. Письмо фраз под диктовку, например: «Я иду в кино»;
«Завтра будет хорошая погода»; «Войсками командовал вы-
дающийся полководец» и т. п. Пробы на письмо слогов, слов
и фраз под диктовку выполняются либо с проговариванием,
либо при «выключении» артикуляции — язык зажат между
зубами.
22. Самостоятельное письмо. Написать 2—3 фразы на за-
данную тему (квартира, работа и т. п.). Последняя проба на-
правлена на исследование собственно письменной речи боль-
ного. Анализ ошибок при этом аналогичен тому, что прово-
дится при исследовании развернутой повествовательной речи.
173
СЕГОЛНЯ хорошая ПОГОДЯ
АНЕ^бЯ^СДНГ
Я вУМЭО! ШЯФ^К
С«ЛПг Мо£^ ЕсЯГ
^8^^ ОГсГИФлаГ
Mm МФО А Г К РМА
ИП ЧС&М1 ZWсЕ
ГТлДиШйГюЦФВ
4234367890
1234567890
£234567390
14 41 1004 1010 1515
71017
Рис. 4. Набор букв и цифр, выполненных разными шрифтами, для исследова-
ния особенностей письма, чтения и счета.
174
VI. Чтение. 23. Чтение — одна из форм импрессивной речи,
и его исследование начинается обычно с узнавания отдельных
букв, для чего предлагается выбрать заданные буквы из на-
бора, выполненного разным шрифтом, например: А, Е, К, Т,
Ш, Ц и т. п. (см. рис. 4).
24. Чтение вслух букв разного шрифта — печатных и пись-
менных, например: А, Д, К, Ю, Р, Ц и т. п.
25. Чтение вслух «зашумленных» букв. Предъявляется
любой из 2 вариантов набора из 6 букв, каждый при двух раз-
ных уровнях шума — 0,35 и 0,25. Если больной не справля-
ется с заданиями при уровне шума в 0,35, переходят к менее
«зашумленным» буквам (рис. 5).
I
4
!
]
i - . . . _.
Рис. 5. Образец букв на фоне шума интенсивностью 0,35 и 0,25 (статистик
первого порядка, синтезированных ЭВМ).
26. Глобальное чтение. Больному предлагается подобрать
карточки с названиями предметов к рисункам (из набора для
названия, см. рис. 3).
27. Чтение вслух идеограмм: СССР, Москва, фамилия
больного.
28. Чтение вслух простых и сложных слов: лес, диван, ав-
тобус, суббота, индустрия, Гибралтар.
29. Чтение вслух простого и более сложного текста, напри-
мер пословиц: цыплят по осени считают; куй железо пока го-
рячо и т. п. В качестве более сложного текста может быть
предложен один из коротких (2—3 фразы) рассказов.
При оценке результатов исследования проб на письмо и чтение учиты-
вается, в какой мере нарушения этих функций отражают особенности уст-
ной речи, каково соотношение тяжести нарушений письма и чтения, каково
соотношение тяжести нарушений устной и письменной речи. Кроме того,
в опытах с чтением фраз и короткого текста обращается внимание на дви-
жение глаз больного, прослеживающего строки слева направо, переход с од-
ной строки на другую, предпочтение одной (чаще правой) стороны текста, ха-
рактер паралексий при чтении вслух и другие особенности.
175
V. Счет. Исследование счета складывается обычно из 2
этапов: анализа представлений о разрядном строении чисел и
исследования собственно счетных операций, включая решение
простых задач.
30. Запись под диктовку простых и сложных (многознач-
ных) чисел, например: 7, 14, 41, 1004, 1010, 1515, 71017 и т. п.
31. Чтение вслух тех же чисел (см. рис. 4). Письмо и чте-
ние многозначных чисел направлены на анализ разрядного
строения чисел.
32. Устный счет. Автоматизированные счетные операции
(таблица умножения): 3x5; 6X9; 8x9; 9x8 и т. п. Сложение
и вычитание однозначных и двузначных чисел: 9+6; 17—9;
32—15; 57+28 и т. д.
33. Письменный счет: 227+369; 669—185; 131X14.
34. Решение простых задач, например: в одной корзине 9
яблок, в другой — в 4 раза больше. Сколько яблок во второй
корзине? На одной полке 6 книг, на другой — на 5 книг боль-
ше. Сколько всего книг на полках?
Исследование счета можно также дополнить пробами на
серийные счетные операции, состоящие из 3—4 звеньев, сери-
ями последовательных действий, типа отсчета от 100 по 7,
или другими сенсибилизированными пробами.
При оценке результатов исследования следует по возможности уточнить,
обусловлены ли нарушения в счетных операциях собственно акалькулией или
речевыми расстройствами.
VI. Праксис. Исследованию праксиса предшествует тща-
тельное знакомство с данными клинического анализа двига-
тельных функций: силы и точности движений, состояния мы-
шечного тонуса, наличия гиперкинезов и т. д. не только в ко-
нечностях (руках), но и артикуляторного аппарата.
35. Идеаторный и идеомоторный праксис исследуют да-
лее, предлагая больному выполнять действия с реальными
предметами, например: зажечь спичку, причесаться, расстег-
нуть и застегнуть пуговицу и т. д.; действия с воображаемыми
предметами, например: показать, как пилят дрова, забивают
гвозди, размешивают сахар в чашке; символические действия:
попрощаться, поманить пальцем, отдать воинское приветствие
и др.
36. Конструктивный праксис. Складывание из палочек по
образцу простых и более сложных геометрических фигур: квад-
рата, ромба, сложной ломаной линии из 10 линейных отрез-
ков (комплексная фигура Рея). Рисование (без образца) по
заданию: домик, человечек, звезда, куб, ромашка, циферблат.
Рисование геометрических фигур с перевертыванием их на
180°, например треугольника с заштрихованным углом, тра-
пеции с треугольником внутри и т. д.
176
37. Динамический праксис (по А. Р. Лурия). Проба «ку-
лак— ладонь — ребро» выполняется по зрительному показу
одной (здоровой) рукой; при этом больному предлагается по-
следовательно ударять по столу кистью руки, сжатой в кулак,
плашмя и ребром: кулак — ладонь — ребро; ребро — кулак —
ладонь; ладонь — ребро — кулак и т. д. Проба на реципрокную
координацию движений (по Н. И. Озерецкому), при которой
больному предлагается одновременно сжимать в кулак одну
руку и распрямлять другую; эти движения чередуются не-
сколько раз. Проба проводится при отсутствии у больных
явлений пареза. Проба на усвоение заданной последовательно-
сти движений пальцев рук (постукивание по столу) по зри-
тельному показу, например: II—III—IV пальцы; I—V—I паль-
цы и другие варианты. Проба на усвоение заданной последо-
вательности движений пальцев по проприоцептивному показу
(глаза испытуемого закрыты, порядок движений демонстри-
руется с помощью пассивных движений пальцев эксперимен-
татором), например: I — III — II пальцы; II — I — IV пальцы
и т. д. Воспроизведение заданного графического стереотипа, на-
пример: заполнить строчку как можно быстрее следующей се-
рией: ХХ000ХХ000ХХ... или 6660066600... Могут быть и дру-
гие варианты проб на динамический праксис, при выполнении
которых обращается особое внимание на дезавтоматизацию
двигательного акта, персеверации, эхопраксии.
38. Оральный праксис. Простые движения губ и языка: вы-
сунуть язык, надуть щеки, поместить язык между зубами и
нижней губой. Сложные движения губ и языка: посвистеть,
«задуть» горящую свечу, сплюнуть, поцеловать и т. д.
При оценке результатов выполнения проб по разделу «прак-
сис» необходимо выяснить, какие нарушения могут быть обус-
ловлены речевыми расстройствами (неудержание ряда, отчуж-
дение смысла слов и т. д.). Следует также охарактеризовать
особенности двигательных операций (дискоординаторные на-
рушения, персеверации, эхопраксии, истощаемость и т. д.), их
адекватность в отношении заданной экспериментатором ситу-
ации (например, в ответ на предложение поманить пальцем,
грозить им и т. п.). Учитывается способность испытуемого пра-
вильно ориентировать одежду по отношению к собственному
телу (апраксия одевания), а также ошибки в левом (чаще)
или правом (реже) поле зрения и другие особенности тонких
целенаправленных движений и действий.
VII. Неречевой слуховой гнозис. Пробы на узнавание не-
речевых звуков, включая музыкальные мелодии и ритмы, про-
водят чаще всего в процессе исследования речевой функции,
но выделяются в самостоятельный раздел. При этом, так же
как и при исследовании различных сторон речи, предвари-
тельно знакомятся с состоянием более элементарных сторон
слуха и слуховым вниманием.
177
39. Узнавание знакомых звуков и их последовательностей:
шелест бумаги, звон монет, хлопание в ладоши и др.
40. Узнавание (идентификация) ритмов. Экспериментатор
задает ритм постукиванием по столу — испытуемый должен
найти идентичный среди других на схеме.
41. Узнавание мелодий известных песен, пропеваемых экс-
периментатором.
42. Воспроизведение предъявленных на слух ритмических
последовательностей. В одном из вариантов опыта больному
может быть предложено при этом зажать язык между зубами.
43. Воспроизведение любых, знакомых испытуемому мело-
дий.
VIII. Схема тела. 44. Право-левая ориентировка. Испытуе-
мого просят показать: свою левую руку, правую руку экспери-
ментатора (сидит рядом с испытуемым), левую руку экспери-
ментатора (сидит напротив испытуемого со скрещенными на
груди руками).
45. Пальцевой гнозис. Испытуемого просят показать паль-
цы по вербальной инструкции: указательный палец, мизинец,
средний, большой, мизинец, безымянный. По подражанию: по-
казывают III палец, V палец, II палец, III палец, IV палец,
I палец. При этом экспериментатор показывает пальцы попе-
ременно то левой, то правой руки, изменяя каждый раз поло-
жение кисти в пространстве. Нередко также используется
проба, когда больному предлагается узнать при закрытых
глазах, какие пальцы двигаются пассивно врачом.
46. Воспроизведение позы пальцев по подражанию. Экспе-
риментатор при этом сидит напротив испытуемого.
47. Воспроизведение соотносительного положения кистей
двух рук. Экспериментатор при этом также сидит напротив
испытуемого. Последние две пробы в равной степени имеют
отношение и к исследованию праксиса, в частности зрительно-
пространственной организации движений. При анализе ошибок
следует учитывать данные исследования праксиса, в частно-
сти рисунки «лица», «ромашки» и др., в которых могут отме-
чаться ошибки в левом поле зрения. Учитываются также
данные клинико-психологического наблюдения за больным (не-
осознание им паралича и других дефектов — анозогнозии, на-
рушений чувствительности и других расстройств). Необходимо
также отмечать нарушения называния пальцев рук в исследо-
ваниях пальцевого гнозиса.
IX. Ориентировка в пространстве. 48. Схема пространст-
венных отношений. Испытуемому предлагается нарисовать
план своей палаты с указанием расположения: двери, окон,
кроватей. В другом варианте опыта, известного под названием
«части света», испытуемому предлагается поставить на бумаге
точку и, обозначив ее «севером», схематически показать соот-
ношение частей света: юг, запад, восток.
178
49. ПроСа «Географическая карта». Испытуемому предла-
гается поставить в центре бумаги точку и, обозначив ее Моск-
вой, показать примерное расположение: Ленинграда, Влади-
востока, Одессы, Ташкента, Мурманска, Берлина или других
городов. Учитывается также способность испытуемого ориен-
тироваться в реальном пространстве: в помещениях клиники,
своей квартиры, улицах родного города, самостоятельно нахо-
дить свой дом. Дли представления о нарушении топографиче-
ской ориентировки следует поинтересоваться, как больные опи-
сывают зрительно знакомые места: дом, где живут, улицу, на
которой расположен дом, и т. п.
X. Стереогноз. 50. Узнавание реальных предметов с помо-
щью осязания (глаза испытуемого закрыты). Предлагается уз-
нать: ручку, пуговицу, монету, ключ, часы и другие предметы,
встречающиеся как относительно часто, так и более редко. При
этом следует помнить об ошибках называния или других де-
фектах речи.
XI. Высшие зрительные функции. Исследуются при отно-
сительно сохранной функции элементарного зрения, а также
при учете данных исследования функции речи.
51. Предметный зрительный гнозис. Узнавание реальных
предметов (ручка, монета, часы, расческа, ключ, скрепка или
другие предметы). Узнавание изображений предметов прове-
ряется, как правило, при исследовании называния (см. рис. 3).
Узнавание наложенных друг на друга изображений предметов
(фигуры Поппельрейтера — рис. 6). Узнавание изображений
предметов с «недостающими» признаками (чайник, булавка,
ножницы, лампочка, якорь, весы) или изображений других
предметов (рис. 6). Узнавание изображений предметов на «за-
шумленных» рисунках (рис. 7). Предъявляется для узнавания
6 изображений предметов на матрице с разным уровнем шу-
ма— 0,35 или 0,25 (уровень шума определяется относительным
числом черных элементов, синтезированных ЭВМ). Вначале
опыт проводится с уровнем шума 0,35. Если испытуемый не
узнает ни один из предметов при этом уровне шума, перехо-
дят к менее зашумленным карточкам (уровень шума 0,25).
Если больной зрительно не опознает объекты, ему можно пред-
ложить обвести их контуры карандашом.
52. Цветовой гнозис. Называние цветов. Предъявляются для
называния цветные карандаши или другие эталоны основных
цветов (красный, желтый, синий, коричневый, зеленый, чер-
ный). В опыте на идентификацию цветов испытуемому пред-
лагается показать называемые экспериментатором цвета: зе-
леный, желтый, черный, красный, синий, коричневый.
53. Лицевой гнозис. Узнавание знакомых лиц. Предъявля-
ются для узнавания фотографии выдающихся отечественных
писателей, например А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова,
Н. В. Гоголя, Л. Толстого, М. Горького, В. Маяковского и др.
179
В другом опыте предлагается выбрать фотографии незнако-
мых лиц по заданному образцу. Предъявляются одновременно
3 фотографии незнакомых лиц (масок)—эталоны; затем ис-
•ч
Ч|
Рис. б. Один из вариантов фигур Поппельрейтера и изображении предме-
тов с «недостающими» признаками.
Рис. 7. Образец изображений предметов на фоне шума интенсивностью 0,35
и 0,25 (статистик первого ряда).
пытуемый, глядя на эти фотографии, должен отыскать иден-
тичные в соответствующем наборе из 25 фотографий. Опыт
проводится три раза и с тремя фотографиями. Если испытуе-
мый не справляется с заданием (все три пробы делает с ошиб-
ками), то опыт проделывают трижды с двумя или одной фо-
180
тографией (рис. 8). Вариантом этого опыта является выбор
фотографий незнакомых лиц при кратковременном предъявле-
нии заданных образцов. Испытуемому предъявляются одно-
временно 3 фотографии-эталона на 10 с и предлагается запом-
нить их. Затем требуется выбрать идентичные из 25 фотогра-
Рис. 8. Образцы фотографий незнакомых лиц (масок).
фий соответствующего набора. Дальше опыт проводится в та-
кой же последовательности, что и предыдущий. Эта проба, как
и другие такого же типа, направлена на исследование кратко-
временной зрительной памяти. Стимульным материалом яв-
ляются изображения со строго индивидуализированными свой-
ствами.
*
* *
« «
*
Рис. 9. Образцы изображений невербализуемых геометрических фигур.
54. Выбор изображений невербализуемых геометрических
фигур при кратковременном предъявлении заданных образцов
(стимульный материал предложен Р. М. Грановской и
И. М. Березной, 1974) (рис. 9). Испытуемому предъявля-
ются одновременно 3 изображения-эталона на 10 с и предла-
181
гается запомнить. Затем требуется найти их среди 25 изобра-
жений соответствующего набора. Далее — так же, как и в пре-
дыдущих пробах. В качестве сенсибилизированных вариантов
предлагается проводить эту пробу с интерференцией и в усло-
виях расставленного во времени предъявления (по аналогии
с пробами на повторение).
Методические приемы исследования лицевого гнозиса,
идентификации незнакомых лиц и невербализуемых геомет-
рических фигур (по образцу и по памяти) направлены на по-
Рис. 10. Примеры фотографий незнакомых эмоцио-
нально-выразительных лиц.
иски дефектов в функционировании правого (субдоминантного
по речи) полушария и, как показывает наш опыт, являются
адекватными для решения этих задач. Однако набор таких
проб необходимо дополнить другими, разработанными в по-
следние годы и, по литературным данным, валидными для об-
наружения преимущества левого или правого полушарий.
В основном это пробы на категоризацию (обобщение) знако-
мых, легко вербализуемых объектов (левое полушарие) или
опознание более сложных, малознакомых структур (правое по-
лушарие). В качестве примера приводим некоторые варианты
экспериментальных заданий.
55. Выбор фотографий эмоционально-выразительных, не-
знакомых лиц по заданному образцу1. Предъявляются одно-
1 В разработке методики принимали участие А. Г. Зальцман и В. В. Бо-
чаров.
182
временно 3 фотографии-эталона; затем испытуемый, глядя на
эти фотографии, должен отыскать идентичный в матрице с 20
подобными стимулами. Опыт проводится трижды, и если ис-
пытуемый не справляется с заданием, его повторяют с двумя
или одной фотографией (рис. 10). Сенсибилизированным ва-
риантом этой пробы является выбор фотографий эмоциональ-
но-выразительных, незнакомых лиц при кратковременном
предъявлении эталонов. Опыт проводится также, как в преды-
дущих разделах; стимульныи материал частично заимствован
из монографий: К. Leonhard (1968) и К. Изарда (1980).
56. Идентификация объектов с индивидуализированными
признаками1. Предлагается найти и показать целостную фи-
гуру, соответствующую «разорванной»
(образец) в наборе из 6 других, схожих
фигур (рис. 11). Задание повторяется
трижды с разными эталонами. Учитыва-
ется не только количество правильно вы-
полненных заданий, но и способ их ре-
шения. Аналогичную направленность
имеют и другие подобные пробы, ко-
торые рекомендуется использовать в на-
боре из 3—4 вариантов.
57. Проба на классификацию углов.
Предлагается разделить 12 изображе-
ний углов на группы. Принцип класси-
фикации не указывается, но предпола-
гается, что должны быть выделены
2 группы: тупые и острые углы.
58. Классификация объектных изо-
бражений представляет собой более
сложный и многозначный вариант предыдущей пробы. Предла-
гается разделить 8 изображений (рис. 12, а) на 2 группы. Прин-
цип классификации не указывается. Если классификация про-
водится по понятийному принципу (мебель — животные), пред-
полагается, что она идет по левополушарному типу. Если же
в одну группу отнесены объекты, вытянутые по вертикали,
а в другую — по горизонтали (или используется любой другой
принцип), предполагается, что классификация идет по правопо-
лушарному типу. При анализе результатов и способов решения
таких заданий следует учитывать особенности мышления испы-
туемых.
XII. Мышление. Нарушения мышления встречаются при
различных по локализации очагах поражения мозга. Сущест-
вует большое количество методов исследования этой наиболее
Рис. 11. Пример пробы
для исследования иден-
тификации объектов с
индивидуализированными
признаками.
1 В разработке методических приемов № 56—58 непосредственное уча-
стие принимал А. Г. Зальцман.
183
сложной формы психической деятельности, среди которых вы-
деляются приемы, имеющие определенное топико-диагностиче-
ское значение. В этом разделе приводятся некоторые из них,
направленные главным образом на выявление дефектов функ-
ционирования лобных долей мозга как наиболее трудных для
нейропсихологического анализа. Обычно используются два
типа заданий. Для одних необходимо участие системы рече-
вых связей, для других непосредственное участие устной речи
менее обязательно. Последние имеют важное значение при об-
следовании больных с
выраженными наруше-
ниями речи.
59. Последователь-
ные картинки. Предъ-
являются 3 серии раз-
ных по сложности сю-
жета последователь-
ных картинок (каждая
из 4 составляющих).
Испытуемый должен
разложить картинки
каждой из серий в оп-
ределенной последова-
тельности — так, что-
бы они составили вме-
сте небольшой рассказ
(рис. 13, а, б). Картинки
предъявляются обыч-
но в разрозненном ви-
де, но в упрощенном
варианте опыта может
быть использована и
«правильная последо-
вательность». Исполь-
Рис. 12. Вариант набора
изображений объектов для
исследования способности к
классификации.
зуется и иной вариант последовательных картинок. Например,
больному предлагают 2 серии последовательных картинок, в од-
ной из которых событие разворачивается в единой конкретной
ситуации (как на рис. 13,6), в другой —такая ситуация отсутст-
вует (см. рис. 13,а). Испытуемый должен разложить картинки
каждой серии в определенной последовательности. Предполага-
ется, что выполнение первой задачи (связанной с анализом
конкретных составляющих сюжета) связано преимущественно
184
Рис. 13. Варианты двух (а, б) последовательных серий картинок для иссле-
дования особенностей мышления.
185
с функциями правого полушария, а второй (связано с анали-
зом изменения ситуации во времени и пространстве)—с функ-
циями левого полушария. Успех также зависит и от локализа-
ции очага в пределах одного полушария (лобная, височная,
теменно-затылочная области). При анализе результатов учи-
тываются такие особенности выполнения заданий, как способ-
ность к выделению существенных признаков каждого сюжета,
импульсивность в принятии решения, трудности словесной
формулировки сюжета (сохранность операций «внутренней
речи»), критичность и другие данные.
60. Понимание смысла сюжетных картинок. Эти пробы про-
водятся при относительной сохранности у больного экспрес-
сивной и импрессивной стороны речи. Предъявляются после-
довательно 3 сюжетные картинки различной степени сложно-
сти. Испытуемый должен оценить сюжет каждой из них и
составить короткий рассказ. При анализе важно отметить,
в какой мере больной выделяет существенные признаки изобра-
жения или делает импульсивные заключения на основе слу-
чайных признаков, его речевой статус, ориентировку в прост-
ранственных взаимоотношениях между фрагментами сюжета,
активность больного, критичность и др. Описанные пробы
этого раздела могут быть дополнены экспериментами на по-
нимание коротких текстов (в том числе с переносным смыс-
лом рассказа), решение простых задач, пробами на понятий-
ное мышление и другими, отражающими характер операций
мышления.
Аппаратурные методы исследования в топической диагно-
стике локально-органических поражений мозга. Представле-
ния о мозге как о системе, воспринимающей, перерабатываю-
щей и хранящей информацию, об операциях, реализующих от-
дельные «звенья» в сложной организации памяти, узнавания,
принятия решения, способствовали разработке и внедрению
в нейропсихологическую практику принципиально новых мето-
дов исследования. В частности, Ленинградскими нейропсихо-
логами1 выполнены работы, топико-диагностическая значи-
мость которых определяется применением электронных уст-
ройств и аппаратуры (см. обзор Вассермана Л. И. с соавт.,
1981). Так, например, известно, что традиционные отоневроло-
гические методы исследования малоинформативны, когда речь
идет о диагностике поражений центральных отделов слухового
анализатора в височных долях мозга. Поиск новых акустиче-
ских методов исследования для диагностики центральных слу-
1 В течение более полутора десятков лет плодотворно сотрудничают
в нейропсихологии ученые Института им. В. М. Бехтерева, Института физио-
логии им. И. П. Павлова АН СССР и Института эволюционной физиологии
и биохимии им. И. М. Сеченова АН СССР. Во многом благодаря такому
сотрудничеству возникло и развивается указанное направление в прикладной
нейропсихологии.
186
ховых расстройств привел к разработке таких приемов, как
изучение фильтрации в слуховой системе, обнаружение корот-
ких звуковых сигналов, различение интенсивности и частоты
звуковых сигналов малой длительности. Новые акустические
методы исследования позволяют при монауральной подаче сиг-
налов не только диагностировать слуховые расстройства цент-
рального происхождения, а следовательно, поражения височ-
ных областей мозга, но и определять локализацию поражений
относительно левой или правой гемисферы. Они надежны в то-
пической диагностике поражений коры височных областей
мозга и в случаях тонкой, подчас скрытой патологии, напри-
мер при височной эпилепсии, слуховых галлюцинаторных син-
дромах. Эти тесты независимы от речевого статуса и интел-
лекта больных, дают возможность неоднократного воспроизве-
Рис. 14. Портативный переносный прибор для исследования особенностей
слухового восприятия.
дения эффекта. Однако для реализации акустических топико-
диагностических методов требуется специальная аппаратура.
Большинство исследований выполнено в Институте им.
В. М. Бехтерева в стационарной звукозаглушенной камере1,
но в последние годы разработано и изготовлено портативное
переносное устройство (рис. 14), при помощи которого можно
осуществлять большинство из современных топико-диагности-
ческих акустических тестов прямо у постели больного2. Ряд
тестов, таких как выделение сигнала из шума, может осуще-
ствляться и при помощи современных аудиометров типа АК-68.
1 При консультативной помощи сотрудников Института физиологии
им. И. П. Павлова АН СССР, чл.-кор. АН СССР Г. В. Гершуни и канд. мед.
наук А. В. Бару основная работа по созданию аппаратурного комплекса
проведена инженером В. А. Торубаровым.
2 Разработка приборов осуществлена инженером Ю. А. Чичикалюком,
психологом Л. В. Томановым при консультативной помощи А. В. Бару,
Л. И. Вассермана, В. А. Торубарвва.
187
1. Исследование порогов обнаружения тональных сигналов на фоне шума.
Проводится монаурально, попеременно на обоих ушах общепринятым мето-
дом нарастания интенсивности сигнала (способ минимальных изменений) на
5 фиксированных частотах: 250, 500, 1000, 2000, 4000 Гц на фоне постоянного
ипсилатерального широкополосного шума интенсивностью 50 Дб над поро-
гом его обнаружения. Длительность сигнала 1—2 с, интервал между ними
в пределах 5—10 с (варьировался для устранения фиксированной реакции
на время).
2. Исследование порогов различения интенсивности тональных сигналов
на фоне шума. Это надпороговое исследование проводится также мона-
урально и на тех же фиксированных частотах. Широкополосный белый шум
50 Дб над порогом его обнаружения, тестовые сигналы подаются на фоне
шума интенсивностью 40 Дб над порогом. Исследование порогов различения
интенсивности проводится методом границ с помощью временного устройства,
предъявляющего на одно ухо два сигнала длительностью около 1,3 с с пау-
зой между ними 500 мс. Один из сигналов — эталон, интенсивность второго
меняется от —10 до ±0,1 Дб. Пороги определяются методом графической
интерполяции данных многократных измерений. В сокращенном варианте
исследование может проводиться только на одной из частот речевого диапа-
зона (1000 Гц). При поражении корковых отделов височных долей мозга
обнаруживаются более высокие абсолютные и дифференциальные пороги на
фоне шума при измерении на стороне, противоположной пораженному полу-
шарию [Тархан А. С, 1972].
3. Исследование порогов обнаружения звуковых сигналов различной дли-
тельности. Проводится при монауральной подаче чистого тона (белого шума)
частотой 1000 Гц, длительностью 1000, 100, 10 и 1 мс. Сигналы формиру-
ются путем их подачи от звукового генератора на электронный ключ, с вы-
хода которого через аттенюаторы, отградуированные в Дб — на электроди-
намические телефоны. Измерение порогов методов границ проводится на ме-
нее 3 раз. Процедура вычисления пороговой величины здесь и далее обычная
для такого рода исследования [Кравков С. В., 1946].
4. Исследование порогов различения интенсивности и частоты звуковых
сигналов различной длительности также проводится монаурально с использо-
ванием синусоидальных посылок частотой 1000 Гц, длительностью 1000, 100,
10 и 1 мс. Надпороговый уровень — 40 Дб тона 1000 Гц, длительностью
1000 мс. Процедура исследования и определения пороговых величин де-
тально описана [Вассерман Л. И., 1969; Бару А. В., Карасева Т. А., 1971;
Бару А. В., Вассерман Л. И., Гершуни Г. В. и др., 1971; Бару А. В., Вассер-
ман Л. И. и др., 1976; Рихтер Р., 1976].
Результатом исследований у больных с очаговыми поражениями височ-
ных областей мозга является асимметрия как порогов обнаружения, так и
различения полезных признаков сигналов (интенсивности и частоты) только
короткой длительности —10 и 1 мс и на ухе, противоположном пораженному
полушарию. Различие в пороговых величинах в известной мере зависит и
от массивности поражения. У больных с поражением лобно-центральных,
теменных и теменно-затылочных областей мозга асимметрии в порогах, из-
меряемых описанными методами, не наблюдается, вследствие чего эти тесты
пригодны для индивидуальной диагностики
Специальный класс задач решается в экспериментальной
нейропсихологии с помощью современных электронно-оптиче-
ских тахистоскопов [Меерсон Я. А., 1969, 1975, 1981; Зальц-
ман А. Г., 1981, и др.]. Исследование операций, связанных
с узнаванием сообщений в зрительных каналах связи, исполь-
зование при этом маскирующего шума, короткой экспозиции
стимулов (до 100 мке), подач сигналов одновременно по не-
скольким каналам с возможностью тонкой регулировки паузы
между стимулами и стирающим изображением, вариантов
188
с подачей стимулов в правом и левом полях зрения (соответ-
ственно в левую или правую гемисферу), синхронной регист-
рацией времени двигательной реакции испытуемого и многие
другие приемы исследования дают возможность диагностиро-
вать слабоструктурированные дефекты затылочных, теменно-
затылочных, височных областей доминантной и субдоминантной
по речи гемисферы. Особенно четкую топико-диагностическую
направленность имеют исследования зрительной оперативной
памяти, выполняемые с помощью тахистоскопа. В настоящее
время используются тахистоскопы уже 6-го поколения \ напри-
мер двухканальиый электронно-оптический тахистоскоп ТЭО-6
Рис. 15. Исследование особенностей зрительного восприятия и узнавания с по-
мощью современного электронно-оптического тахистоскопа.
(рис. 15), дающий возможность показывать изображения с экс-
позицией от 0,1 до 100 мс (с шагом 0,1 мс). Наличие 9 про-
грамм позволяет предъявлять как одиночные, так и парные
изображения в разных полях зрения, при различной экспози-
ции и длительности пауз между сигналами, с предшествующей,
последующей или двойной маскировкой, на фоне помех и т. д.
Прибор снабжен выходом па головные телефоны, позволяю-
щим проводить аналогичные исследования для слуховой мо-
дальности. Автоматическая регуляция смены кадров обеспечи-
вает заданный режим работы.
Приводим кратко некоторые из многих экспериментально-
психологических приемов исследования, проводимых с помо-
щью ТЭО-6.
1. Обнаружение относительно простого и сложного стимульного мате-
риала при обычной и малой длительности экспозиции.
1 Разработка и изготовление приборов осуществляются в лечебно-про-
изводственном комбинате института им. В. М. Бехтерева.
189
2. Выделение сигнала из шума разной интенсивности (строго дозирован-
ное сочетание черно-белых элементов, синтезированных ЭВМ).
3. Парное различение вербализуемых и невербализуемых стимулов, предъ-
являемых одновременно или последовательно, без маскировки и с маскиров-
кой, на фоне помех, в различных временных параметрах и т. д
4. Исследование кратковременной памяти испытуемых с помощью раз-
личных типов изображений: вербализуемых, невербализуемых, эмоционально-
индифферентных и выразительных лиц и др.
5. Исследование механизмов функционального взаимодействия и асим-
метрии полушарий мозга на примере зрительного опознания стимулов, пода-
ваемых уни- или билатерально. Характер стимулов, время их экспозиции
могут широко меняться в зависимости от задачи исследования. Существует,
помимо этого, большое число задач, решение которых с помощью тахистоско-
пов может быть полезно в топической диагностике локальных поражений
мозга.
Из других технических систем, разработанных, но еще жду-
щих апробации в экспериментальных исследованиях, можно
отметить прибор под условным названием «Оптикоаудиотес-
тер» — портативное устройство, предназначенное для автома-
тической подачи слуховых и зрительных стимулов, одновре-
менно или последовательно, в широком диапазоне их пси-
хофизических характеристик. Прибор найдет применение
в исследовании восприятия, памяти, процессов принятия реше-
ния, системы «стимул — реакция» и др., актуальных для диаг-
ностики, экспертизы, профотбора и т. п.
Непосредственное значение для нейропсихологии имеют
также комплексы аппаратуры для исследования пространст-
венного слуха [Альтман Я. А., Бару А. В., 1981], пространст-
венного зрения и движения глаз. Так, разработан «монитор
глазных движений» — портативное устройство для бесконтакт-
ной фотоэлектрической регистрации глаз в процессе психиче-
ской деятельности. Создаются и некоторые другие приборы,
использование которых в нейропсихологии позволит повысить
точность и надежность диагностического процесса.
Использование данных тестовых методик для диагностики
локально-органических поражений мозга. В течение несколь-
ких десятилетий и в разных психологических школах было
разработано большое количество относительно простых, не-
стандартизованных приемов исследования, прицельно направ-
ленных на изучение конкретных нарушений психической
деятельности. В настоящее время эти методы, получившие на-
звание патопсихологических, широко используются в диагно-
стической практике, но их применение в целях топической диаг-
ностики, по-видимому, ограниченно, хотя некоторые из них
весьма ценны для диагностики органических поражений мозга
[Рубинштейн С. Я., 1970; Зейгарник Б. В., 1976; Блейхер В. М.,
1976, и др.]. Ряд известных приемов исследования мышления,
памяти, внимания, умственной работоспособности входят
в «схему нейропсихологического исследования», разработан-
ную под руководством А. Р. Лурия (1973).
190
С развитием общей и экспериментальной психологии раз-
рабатываются и начинают использоваться для психологичес-
кой диагностики нервно-психических заболеваний сложные
стандартизованные (тестовые) методики. Не затрагивая во-
просов истории и теории применения тестовых методик, от-
метим лишь, что многие из них (методики Роршаха, Векслера,
Равена, Бентона и некоторые другие) оказались чувствитель-
ными к органическому поражению мозга [Rawen J., 1939;
Wechsler D., 1958; Freeman F., 1959; Benton A., 1960; Kopa-
бельников К. В. и Серебрякова Р. О., 1969; Гильяшева И. Н.,
1969, 1981; Белая И. И., 1978]. И хотя тесты Роршаха и Векс-
лера не могут с достаточной определенностью дифференциро-
вать случаи с различной локализацией очагов поражения, все
же, как показывают литературные данные, умелое их использо-
вание дает известную информацию (ее можно рассматривать
как предварительную) для суждения о локально-органической
патологии мозга. Так, по данным И. И. Белой (1978), при изу-
чении интерпретаций таблиц Роршаха больными эпилепсией
и опухолями мозга были выделены статистически достоверные
особенности восприятия, которые характеризовали только сто-
рону поражения. У больных с очаговым поражением левой
височной области (без клинически выраженной афазии) на-
блюдалась тенденция строить образы преимущественно на ос-
новании крупных, хорошо отграниченных и часто называемых
деталей, цвет имел дополнительное значение, фигуры из фона
выделялись четко. Больные с поражением правой височной
области чаще строили образы на основании всего пятна в це-
лом, преобладали цветовое восприятие и фиксация на свето-
тени, форма пятна выделялась неотчетливо. Ответов было зна-
чительно больше, чем у больных с поражением левого полуша-
рия.
И. Н. Гильяшева (1981) обращает внимание на особенно-
сти выполнения заданий методики Векслера, Бентона и Ра-
вена больными с органическим поражением мозга. В частно-
сти, отмечаются затруднения в субтестах методики Векслера:
«конструирование из кубиков», «повторение цифр», «склады-
вание фигур», «расположение картинок» и др., характерные
для поражения теменных и теменно-затылочных структур
обеих гемисфер. При височном поражении доминантного по
речи полушария (например, при фокальной эпилепсии) могут
наблюдаться затруднения в понимании и удержании в памяти
вербальных заданий, расстройства счетных операций, парафа-
зии. При лобных поражениях на первый план выступают:
импульсивность суждений, нарушение интенции, общее сниже-
ние активности, расстройства плана действия и др. Методика
Равена, построенная на визуальном материале, требует, как
известно, весьма дифференцированного анализа. Больному да-
ется изображение структуры с известным пропуском зритель-
191
него элемента, который он должен заполнить, отобрав един-
ственно пригодный из нескольких предлагаемых образцов, зри-
тельно близких по набору признаков. Решение этой задачи
возможно при сохранности операций, лежащих в основе оп-
тического и оптико-пространственного гнозиса, что отмечалось
А. Р. Лурия (1969), включавшего пробы Равена в свой набор
нейропсихологических проб.
Тест Бентона наиболее часто используется в нейропсихоло-
гической практике как наименее трудоемкий для испытуемого
и простой в обработке для экспериментатора. Его направлен-
ность — зрительная кратковременная память. Конструктивная
особенность — воспроизведение (зарисовывание) фигур, кото-
рые предъявляются в качестве эталонов на определенное,
строго фиксированное время. Набор геометрически относительно
абстрактных фигур содержит 10 серий. Оцениваются как
количество правильно воспроизведенных заданий, так и каче-
ство ошибок. Общая низкая оценка выполнения теста харак-
терна для больных с диффузным органическим поражением
мозга, сопровождающимся нарушением памяти. Однако при
этом анализируется качество выполнения заданий, т. е. выяв-
ляется ряд специфических ошибок, таких как деформация фи-
гур, ротация на 90° или 180°, опущение отдельных фигур, ло-
кализация ошибок в правом или (чаще) в левом поле зрения
и др. Например, типичные ошибки в конструировании фигур
из отдельных элементов возникают при конструктивной апрак-
то-агнозии (теменно-затылочные отделы доминантной по речи
гемисферы), фрагментарность восприятия, игнорирование ле-
вого поля зрения — при поражении симметричных областей
правого полушария. Дефекты удержания и воспроизведения
абстрактных (слабо вербализуемых) фигур наблюдаются также
при поражении структур правой височной доли [Вассерман Л. И.,
И. С. Тец, 1981]. Тест Бентона может быть использован как
дополнительный прием исследования в нейропсихологической
практике. В особенности он пригоден, как отмечал его автор,
для диагностики инициальных, доманифестных проявлений пси-
хических расстройств в позднем возрасте, выявляя признаки
так называемых лакунарных деменций при болезни Альцгей-
мера и Пика.
В целях диагностики органического поражения мозга, уточ-
нения локализации очагов при общем экспериментальном ис-
следовании памяти и интеллекта бывает полезным сопостав-
ление данных методики Бентона с оценкой общего уровня ин-
теллекта (что предусмотрено конструкцией теста), так же как
и сопоставление результатов по другим методикам, но окон-
чательное суждение об особенностях локально-органического
дефекта может быть вынесено лишь при более тонком, целе-
направленном и дифференцированном исследовании с помо-
щью специальных нейропсихологических проб.
192
Глава IX
НЕКОТОРЫЕ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ
МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Существует множество электрофизиологических методик,
применяющихся для психологических исследований. Остано-
вимся здесь только на тех, которые либо мало известны, либо
хорошо известны, но их можно использовать в особых усло-
виях исследования, например при регистрации в коре и глубо-
ких структурах головного мозга электрических процессов
и др.
1. Отражение психических процессов в динамике электро-
энцефалографии. Изучение корреляций между разнообразными
проявлениями психической деятельности, с одной стороны, и
процессами жизнедеятельности мозга —с другой, имеет боль-
шое значение для решения теоретических и практических про-
блем нейрофизиологии человека в клинике. В настоящее время
весьма интенсивно ведется изучение электрофизиологических
коррелятов психических процессов и состояний, а также оп-
ределенных характеристик структуры личности. Трудности ре-
шения этой проблемы определяются многими причинами, в том
числе и методическими. Так, например, Н. П. Бехтерева (1971),
рассматривая возможности использования электроэнцефало-
граммы (ЭЭГ) для изучения физиологических характеристик
поведенческих реакций человека, пришла к выводу, что элект-
рофизиологические изменения при вызванной психической ак-
тивности отражают не только и не столько соотношение от-
дельных структур, сколько общецеребральные изменения,
связанные с перестройками режима работы мозга. Довольно
полно изучены частотно-амплитудные изменения электриче-
ской активности мозга человека, возникающие в связи с акти-
вацией внимания, предметным восприятием, мнестическими и
мыслительными процессами [Генкин А. А., 1961; Бехте-
рева Н. П., 1971, 1974; Хомская Е. Д., 1972; Егорова И. С,
1973, и др.]. Так, в качестве электрофизиологического корре-
лята процессов внимания рассматривается впервые описанная
Бергером [Berger H., 1929] реакция активации (arousal),
проявляющаяся при регистрации ЭЭГ. Она характеризуется
блокадой альфа-ритма при одновременном усилении бета-ак-
тивности. Считают, что данная реакция является электрофизи-
ологическим компонентом ориентировочного рефлекса. В даль-
нейшем оказалось, что она не единственный коррелят процессов
активации внимания. Так, например, А. А. Генкин (1971) по-
казал, что изменения функционального состояния мозга при
активации внимания хара ктеризуются изменением уровня
асимметрии длительности фаз колебаний электроэнцефало-
граммы. Было установлена, что с концентрацией внимания,
7 Заказ № 942
193
а также с интеллектуальным и эмоциональным напряжением,
которые проявляются в процессе узнавания, коррелируют
сложные многокомпонентные изменения биоэлектрической ак-
тивности. Они начинаются с глубокой депрессии биопотенциа-
лов мозга и завершаются возвращением активности к исход-
ному уровню [Бейн Э. С, Волков В. Н., Жирмунская Е. А.,
1968]. Выраженные изменения эмоционального состояния по-
ложительного или отрицательного знака также влияют на био-
электрическую активность мозга [Егорова И. С, 1973; Моп-
nier М., 1950; Remy M., 1955]. Однако проблема электрофизи-
ологических коррелятов эмоций решена еще далеко не полно.
Так, например, некоторые исследователи связывают отрица-
тельные эмоциональные состояния с усилением альфа-актив-
ности [Barlow Y. S., 1957; Kreitman N., Shaw Y., 1965], а дру-
гие— с угнетением альфа-активности при одновременном уси-
лении бета-активности [Penfield W., Jasper H., 1958; Lindsley
D. В., 1960].
Вместе с тем имеются основания считать, что с изменением
характеристик эмоционального состояния связаны определен-
ные изменения показателей ЭЭГ. Например, при слабой тре-
воге регистрируется усиление альфа-ритма, а при усилении
тревоги — десинхронизация основного ритма ЭЭГ [Лукья-
нова А. Н., Фролов М. В., 1969]. Небольшое эмоциональное
напряжение вызывает экзальтацию альфа-активности, которая
на высоте эмоционального напряжения сменяется ее депрес-
сией. При отрицательных эмоциях отмечается усиление тета-
активности [Анохин П. К-, 1963; Судаков К. В., 1966; Walter
G., 1953], а иногда — усиление или уменьшение всех видов ак-
тивности ЭЭГ [Ольшанникова А. Е., 1969]. При положитель-
ных эмоциях наблюдается как экзальтация, так и экспрессия
альфа-ритма, а также усиление тета-активности. Считают, что
наиболее характерной особенностью изменений ЭЭГ является
повторное нарастание медленных ритмов при меньшей степени
напряжения, чем во время отрицательных эмоциональных со-
стояний [Валуева М. Н., 1967; Скорикова С. Е., 1972].
2. Волна «ожидания» как электрофизиологический показа-
тель изменения психического состояния. Для изучения психи-
ческого состояния больных и здоровых людей используют от-
крытый Г. Уолтером и его сотрудниками (1964) своеобразный
психофизиологический феномен — волну «ожидания», позво-
ляющий судить о некоторых особенностях интегративной дея-
тельности мозга. Волна «ожидания» является медленным по-
верхностным отрицательным потенциалом головного мозга,
возникающим в период между двумя сигналами при инструк-
ции выполнить определенное действие в ответ на второй сиг-
нал. Имеется множество синонимов этого феномена: волна
«ожидания», волна «Е», contingent negative variation (CNV),
вероятностная отрицательная волна, условное отрицательное
194
отклонение, условный медленный отрицательный потенциал
(УМОП). Это связано, во-первых, с трудностью перевода дан-
ного термина на русский язык и, во-вторых, со сложностью от-
ражения в названии сущности этого электрофизиологического
феномена. Первоначальное определение связано с тем, что
в эксперимент вводилась ситуация ожидания. Поэтому G. Wal-
ter предполагал, что эта волна может быть показателем готов-
ности коры (точнее, лобных ее отделов) к какому-либо виду
деятельности [Walter G., 1964, 1966]. Наиболее распространен-
ным названием этого феномена является „contingent negative
variation (CNV). Толчком для открытия CNV послужили дли-
тельные целенаправленные поиски корреляции между показа-
телями ЭЭГ человека и познавательными процессами [Lemere
Е., 1936; Gastant A. et al„ 1951; Walter G., 1953]. Однако осо-
бую актуальность изучение таких корреляций получило в на-
стоящее время в связи с увеличением технических возмож-
ностей регистрации ЭЭГ и совершенствованием способов
обработки электрограмм с использованием электронно-вычис-
лительной аппаратуры.
Проведенные феноменологические исследования показали
тесную взаимосвязь CNV с такими психологическими процес-
сами и состояниями, как ожидание, способность к волевому
усилию, активность внимания и восприятия. G. Walter указы-
вал также на зависимость характеристик CNV от личности
испытуемого, его внушаемости, индивидуального отношения
к фактам и событиям реальной жизни. Последующие работы,
воспроизводящие и расширяющие опыт G. Walter, подчерки-
вали корреляцию CNV с намерением действовать [Low M. et
al., 1966] и с уровнем мотивации [Irwin D. A. et al., 1966;
Elton M., De Long R., Feret R., 1980]. В последнее
время CNV все больше связывается с вниманием, которое
считается главным и первичным психологическим коррелятом
изменения CNV. Регистрация CNV может проводиться усили-
телем постоянного тока или на обычном электроэнцефало-
графе с большой постоянной времени. При ее записи применя-
ются серебряные неполяризующиеся хлорированные элект-
роды, которые чаще всего помещаются на волосистую
поверхность кожи головы. В классическом варианте использу-
ется монополярное отведение, при котором активный электрод
помещается на макушку, индифферентный — на один или оба
сосцевидных отростка. Известны также записи CNV с помощью
вживленных в разные области головного мозга электродов.
Эти записи не выявили отличий в морфологии CNV, зарегист-
рированных другими способами [Илюхина В. А., Хон Ю. В.,
1973; Walter G., 1967].
Построение эксперимента при регистрации CNV может быть
разнообразным в зависимости от целей исследования. Наибо-
лее часто испытуемому предъявляются два сигнала, на вто-
7*
195
рой из них он должен ответить каким-либо действием, напри-
мер нажимать кнопку. Этими сигналами могут быть раздра-
жители различных модальностей (одиночные вспышки света,
серии вспышек, звуковой тон или щелчки, тактильные раздра-
жители и т. д.), которые подаются в различных сочетаниях
с различными интервалами. Кроме указанных раздражителей,
в качестве второго сигнала применяются различные психоло-
гические тесты на память, интеллект (запоминание цифр, гео-
метрических фигур, таблицы Равена, словесные раздражители
и т. д.) с одновременной регистрацией двигательной реакции
и некоторых вегетативных показателей [Walter G., 1967; Тессе
J. J., 1969; Jacobson G. P., Gans Dobald P., 1981; Gerull G.,
Mielke G., 1981]. На электроэнцефалограмме между двумя сиг-
налами появляется медленный отрицательный потенциал
(CNV). Он возникает после первого сигнала и растет до мо-
мента выполнения соответствующего действия, после чего
резко обрывается. Основными характеристиками CNV явля-
ются: латентный период, длительность, амплитуда. Сущест-
вуют четыре гипотезы, объясняющие появление и изменение
CNV. Из них первые три: гипотеза «ожидания» [Walter G.,
1965], гипотеза «волевого движения» [Low M. D. et al., 1966]
и гипотеза мотивации [Irwin D. A. et al., 1967]—лишь частично
объясняют данные CNV. Четвертая гипотеза «внимания и воз-
буждения» (arousal) [Тессе J. J., 1971, 1972] предполагает тес-
ную взаимосвязь CNV с сосредоточением внимания и процес-
сами церебральной активации. Эта гипотеза в настоящее
время лучше других обобщает полученные факты по CNV,
объясняя их неспецифической психической деятельностью. Во-
прос о нейрофизиологическом генезе CNV до сих пор не ре-
шен. G. Walter (1968) указывал, что CNV представляет собой
смешанный потенциал фронтальной части коры и центральных
отделов, возникающий в результате деполяризации апикаль-
ных дендритов в верхних слоях фронтальной коры. В даль-
нейшем благодаря исследованиям больных с вживленными
электродами, а также опытам на животных, у которых удалось
зарегистрировать CNV, CNV-подобные волны и другие мед-
ленные электрические потенциалы, было доказано, что в раз-
витии CNV принимают участие таламические структуры и ре-
тикулярная формация [Бехтерева Н. П., Чернышева В. Ам
1968; Rebert С, 1971]. Таким образом, все полученные данные
позволяют предположить, что, по-видимому, CNV является ге-
терогенной электрической мозговой волной, возникающей в ре-
зультате сложного взаимодействия корково-подкорковых сис-
тем, я—*
У здоровых взрослых людей CNV выявляется при усред-
нении в 90 % случаев [Cohen J. et al., 1967; Bostem F. et al.,
1967]. Однако по своим параметрам она отличается большой
вариабельностью, что связывается с индивидуальными разли-
196
чиями людей: восприимчивостью, гипнабельностью, уровнем
тревожности и беспокойства и т. п. Другими словами,
эти различия связаны в основном с психологическими
факторами. CNV изучалось также в различных группах боль-
ных нервно-психическими заболеваниями: шизофренией, мани-
акально-депрессивным психозом, истерией, психопатией, нев-
розом тревожности, фобиями и т. д. [Филимонова Т. Д., 1972;
Walter G.. 1967; Timsit M. et al., 1970]. Эти исследования вы-
явили как общие особенности CNV, характерные для всех
групп больных, так и некоторые отличительные черты, прису-
щие определенным формам заболевания. К ним относятся зна-
чительное снижение амплитуды CNV у больных с психопато-
логическими расстройствами [McCallum W. С, Walter G.,
1968], а также нарушение динамики CNV. Неустойчивость,
трудность восстановления после пропуска второго сигнала на-
блюдались у больных неврозом беспокойства и фобиями [Wal-
ter G., 1966, 1967]. Для невроза навязчивости характерно стой-
кое сохранение CNV. У психопатических личностей отмеча-
ются лишь скудные признаки CNV [Walter G., 1970]. М.
Timsit и др. (1970) выявили корреляцию возрастания длитель-
ности CNV с тяжестью психической патологии, а также стой-
кость отрицательности ее после второго раздражителя у пси-
хически больных, которую назвали «постимперативной вол-
ной». Кроме указанных видов патологии, CNV изучалась
у детей с нарушенной речью и резко ослабленным зрением,
у которых отмечались уменьшение или полное отсутствие CNV
при подаче раздражителей соответственно в виде букв или слов
или визуальных раздражителей [Cohen J. et al., 1965]. И, нако-
нец, проводились исследования у больных с органическими по-
ражениями головного мозга (черепно-мозговые травмы, це-
реброваскулярные заболевания и т. д.). У них отмечались
уменьшение амплитуды CNV, асимметрия ее и изменение фор-
мы [McCallum W. С. et al., 1970]. Помимо изучения психопа-
тологических состояний, представляют интерес эксперименты
на здоровых испытуемых при изменении у них уровня бодр-
ствования. Имеются данные об увеличении амплитуды CNV
после введения кофеина и амфетамина [Walter G., 1964]. Отме-
чены изменения CNV в различные сроки лишения сна [Naitch
P. et al., 1969]. Эти исследования выявили гетерогенность CNV
во времени. Приведенные литературные данные свидетельст-
вуют о том, что применение CNV в качестве коррелята психо-
физиологических функций может служить дополнительным
критерием функционального состояния, что важно и в теоре-
тическом, и в практическом отношении.
Обработка материалов no CNV проводится методом супер-
позиции неартефактных кривых при помощи компьютера или
вручную. После обработки измеряются амплитуда CNV в мик-
ровольтах, латентный период и длительность в секундах. Од-
197
новременно определяется «проявляемое™» волны в процентах,
которая высчитывается как отношение количества проб, в ко-
торых имеется CNV, ко всему количеству проб в каждой части
эксперимента. При проведении исследований с помощью комп-
лекса индифферентных и эмоциогенных раздражителей можно
создавать для испытуемых условия определенной эмоциональ-
ной напряженности, как, например: а) низкой —с помощью
светового раздражителя; б) средней — применением электро-
кожного раздражителя пороговой величины; в) высокой — вве-
дением сверхпорогового электрокожного раздражителя вслед
за плохим выполнением задания.
Как показали проведенные нами исследования здоровых
лиц и больных гипертонической болезнью [Резникова Т. Н.,
1972, 1976] в условиях эксперимента, направленного на созда-
ние у испытуемых «низкой» эмоциональной напряженности,
амплитуда и «проявляемость» волны у больных были досто-
верно ниже, латентный период — выше, чем у здоровых, а дли-
тельность различий не имела. При «средней» эмоциональной
напряженности к описанным выше изменениям добавились
резкое уменьшение латентного периода CNV у больных и рез-
кое повышение его у здоровых. А при «высокой» эмоциональной
напряженности обнаружено отчетливое увеличение ампли-
туды CNV как у больных, так и у здоровых. Кроме того,
длительность волны у здоровых испытуемых становится значи-
тельно меньше, чем у больных, у которых она возрастает по
сравнению с «низкой» и «средней» эмоциональной напряжен-
ностью, тогда как у здоровых — уменьшается.
Такой анализ полученных данных позволил обнаружить су-
щественные различия режимов работы мозга при эмоциональ-
ной напряженности у здоровых и больных гипертонической
болезнью. Они объясняются тем, что у больных в условиях
эмоционального напряжения более отчетливо, чем в состоянии
спокойного бодрствования, обнаруживается дисфункция систем
интрацентральной регуляции, обеспечивающих адаптивное по-
ведение.
Значительный интерес представляют различия в форме
CNV. У больных гипертонической болезнью встречаются низ-
коамплитудные волны, которые могут быть либо большой дли-
тельности (до 5 с), либо малой длительности, но неоднократно
повторяющиеся. У здоровых же CNV более ярко выражена и
имеет форму кривой с быстрым подъемом после второго сиг-
нала и резким обрывом после императивного раздражителя
(классическая кривая — рис. 16). У больных в некоторых слу-
чаях волны не прерываются императивным сигналом (рис. 17);
такой тип волны отсутствует у здоровых испытуемых. На рис.
18 показаны CNV у больного и здорового испытуемого, кото-
рые отличаются как по форме, так и по амплитуде. Следует
подчеркнуть, что у всех испытуемых, как у здоровых, так и
198
больных, форма CNV не менялась в течение всего экспери-
мента и была одинакова во всех отведениях.
Выделяются 4 формы биоэлектрической кривой CNV (рис.
19): 1) крутого подъема и плавной нисходящей части; 2) плав-
ного подъема и плавной нисходящей части; 3) крутого подъ-
ема стойкой отрицательности и обрыва после императивного
б. *у*
Рис. 16. Схема измерения параметров 25мкВ|
CNV. 1с
1 i i I i » i
Типичные отличия CNV по величине и по i i
форме у больной Г-вой (гипертоническая бо- Т Т
лезнь) —а; б —у испытуемого Ш-кого (здо- Звук I | Свет
ровый).
сигнала; 4) плавного подъема и крутой нисходящей части. Из
выделенных нами четырех форм CNV две (третья и четвертая)
соответствуют ранее описанным в литературе (типу «А», квад-
ратно-волновой форме, и типу «В», пилообразной форме)
[Bostrem F. et al., 1967; McAdam D. W., 1969; Tecce J. J., 1971].
Помимо них, мы выделили еще две самостоятельные формы
CNV: первую (с крутым подъемом и плавной нисходящей час-
25 мкВ 25 мкВ
. L-^ у_, ,, ?С ■ , L, ,
Рис. 17. Формы кривых CNV.
а — 1-я, б — 2-я, в — 3-я, г — 4-я
тью) и вторую (с плавным подъемом и плавной нисходящей
частью). Считается, что амплитуда CNV зависит от многих
психофизиологических факторов. Уменьшение ее связывается
прежде всего с неустойчивостью и повышенной отвлекаемо-
стью внимания, а также с преобладанием таких черт харак-
тера, как тревожность, беспокойство [Irwin D. A. et al., 1966;
Walter G., 1966, 1967; Knott I. et al., 1971]. Кроме того, ампли-
туда CNV меняется в зависимости от информативности сти-
мула, его ожидания, периода решения задач и других фак-
199
торов [Noegeishi J., Shimoko M., 1981; Macar F., Vitton N..
1981]. У больных с неврологическими расстройствами и пато-
логическим складом личности CNV может значительно изме-
няться и даже полностью отсутствовать [Филимонова Т. Д.,
1971; McCallum W. С, 1967].
J^^^^^ 1^/Wk
w^±n
Зву
л г
1с
1 L.
Свет
J L
25
мкВ
Звук
1 Г
1с
J I L
ЭКР
25
J L
мкВ I
son!
1с
I ECLAIRS
J I
I ю
мкВ
Рис. 18. Постимперативная волна у больных гипертонической болезнью,
а, б —по Т. Н. Резниковой (1976); в —по М. Timslt и соавт. (1970).
Изменение амплитуды CNV при различной эмоциональной
напряженности можно объяснить также и состоянием внима-
ния, тесно связанным с мотивацией, которая, как правило, спо-
собствует активации внимания. D. A. Irwin и С. Robert (1970)
установили, что чем выше уровень мотивации, тем больше
амплитуда CNV, что объясняется усилением активации мозга.
Изолиния
Рис. 19. Схема измерения параметров CNV.
Ci—Сг — промежуток времени между двумя раздражителями; ЛП — латентный пе-
риод (с); L — длительность (с); А — амплитуда (мкВ).
J. J. Тессе (1970, 1971) считает внимание первичным психоло-
гическим коррелятом развития CNV. Своими исследованиями
по отвлечению внимания он показал, что CNV однозначно свя-
зана со степенью концентрации внимания и неоднозначно —
с. повышением уровня активации. W. С. McCallum (1967),
J. R. Knott и D. A. Irwin (1967) при изучении амплитуды CNV
200
в экспериментах с различными видами мотивации также нашли
увеличение амплитуды CNV при усилении внимания ко второму
сигналу, и, наоборот, уменьшение ее в условиях, включающих
факторы стресса и беспокойства. Как известно, длительность
CNV, так же как и амплитуда, варьирует в довольно широких
пределах. Однако изменение этого параметра под влиянием
каких-либо факторов изучено недостаточно. М. Timsit (1970)
указывал на зависимость длительности CNV от характера пси-
хических нарушений. Автор показал, что для здоровых ха-
рактерна CNV малой длительности, для больных, страдающих
шизофренией, — большой длительности, а для больных различ-
ными формами неврозов — средней. Большое значение он при-
давал стойкости отрицательной волны после императивного
стимула.
CNV у здоровых может появляться как с первых проб, так
и только после 30 сочетаний [Walter G., 1965; Cohen J., 1969].
Это зависит от многих факторов, в частности от понимания
задачи эксперимента, характера раздражителей, интервалов
между ними, индивидуальных особенностей испытуемых и т. д.
Поэтому нами был введен показатель «проявляемое™», кото-
рый, как указывалось выше, дает представление о той доле
проб, в которой имелась CNV, по отношению к общему коли-
честву проб в какой-либо группе испытуемых. Этот показа-
тель характеризует вероятность появления CNV в каждой
группе испытуемых. Характер восходящей и нисходящей части
кривой CNV несет в себе определенную информацию. D. W.
McAdam (1969) обнаружил взаимосвязь типа «A» CNV (кру-
той подъем и крутой обрыв) с неуверенностью испытуемого
в отношении времени появления второго сигнала, а тип «В»
(медленное нарастание и крутой обрыв)—с высоким уровнем
вероятности появления второго сигнала. J. J. Тессе (1972) на-
блюдал, что при отвлечении внимания задерживается время
подъема и достижения максимума CNV. Сходное мнение вы-
сказывает Т. Д. Филимонова (1973) о том, что CNV с крутой
восходящей и нисходящей фазой возникает у испытуемых при
сосредоточении внимания и умении четко выполнять инструк-
ции. Неуверенность в поведении испытуемого она связывает
с пологой и длительной нисходящей фазой CNV. M. Timsit
(1970) также отмечал, что затяжная нисходящая часть CNV
характерна для нервно-психических больных. Следовательно,
показатели волны «ожидания» позволяют получить комплекс-
ную многомерную оценку психического состояния и характе-
ризовать: а) процессы внимания — по амплитуде кривой CNV
и ее изменению; б) эмоционально-мотивационное поведение —
по изменению амплитуды, длительности латентного периода,
динамике частоты появления волны «ожидания»; в) состояние
ожидания, готовности к действию — по величине амплитуды,
длительности, форме волны. Таким образом, исследование CNV
201
можно рассматривать как дополнительную методику, исполь-
зуемую для объективизации некоторых особенностей психиче-
ской деятельности испытуемых.
3. Использование медленных электрических процессов мозга
для исследования психической деятельности. С процессами
активного и пассивного внимания, а также с эмоциями тесно
коррелируют медленные электрические процессы (МЭП). Тер-
мин «МЭП» обычно используют для обозначения различных
форм медленной биоэлектрической активности, которые иг-
рают важную роль в реализации деятельности мозга [Бехте-
рева Н. П., 1974]. Согласно Н. А. Аладжаловой (1969), мед-
ленная и сверхмедленная активность отражает состояние мед-
ленной управляющей системы мозга, которая под влиянием
значимых раздражителей способствует переводу деятельности
мозга на новый уровень его функционирования. Значение МЭП
как электрофизиологического коррелята поведения выявлено
не только у человека, но и у животных. Установлено, что раз-
личным стадиям выработки условных рефлексов соответствуют
определенные формы проявления МЭП [Швец Т. Б., 1969].
Регистрация МЭП в коре и глубоких структурах мозга че-
ловека впервые была осуществлена в процессе лечения боль-
ных методом «вживленных» электродов Н. П. Бехтеревой
(1965, 1966, 1968). К исследованиям МЭП приступали не ра-
нее 2—3 нед после стереотаксической операции вживления
электродов в глубокие структуры мозга. К этому времени ре-
активные явления стихали; больные вели обычный образ
жизни, психическое состояние их было стабильным. Регист-
рация МЭП начиналась при спокойном бодрствовании, в даль-
нейшем применялись психологические тесты, включая эмоцио-
генные. Несколько серий такого рода исследований были про-
ведены В. М. Смирновым [Аврамов С. Р., Смирнов В. М., 1968;
Смирнов В. М., Сперанский М. М., 1972]. В результате прове-
денных исследований вначале были выделены два основных
вида изменений МЭП, регистрируемых в околоэлектродных
нейрональных участках мозга в связи с психологическими
(в том числе эмоциогенными) тестами. Речь идет об «измене-
ниях динамики МЭП первого вида» при активациях внимания
и об «изменениях динамики МЭП второго вида» при актива-
циях эмоций. Было показано, что более сильным эмоциональ-
ным реакциям соответствуют более выраженные изменения
МЭП, иногда в виде резкого сдвига уровня МЭП. Скорость
развития и продолжительность изменений МЭП коррелируют
с особенностями течения эмоциональных проявлений: бурному
развитию эмоциональной реакции соответствуют резкие изме-
нения МЭП; медленному развитию — постепенные; вязким,
инертным эмоциональным реакциям — более продолжительные;
кратковременным эмоциям—скоропреходящие изменения МЭП.
Следует отметить, что продолжительные изменения МЭП мо-
202
гли быть «сняты» успокаивающими психотерапевтическими воз-
действиями; в этих случаях удавалось «перевести» выражен-
ные изменения в обычные спонтанные (фоновые) колебания,
характерные для спокойного бодрствования.
Затем на основании анализа электрограммы динамики МЭП
были разработаны приемы ее описания и формализации
[Смирнов В. М., 1970]. В результате была предложена ниже-
следующая классификация типичных компонентов МЭП при
психологических воздействиях. Эта классификация включает
Рис. 20. Типичные компоненты ответов МЭП.
А — аппликационная волна; S — селлярная волна; I — I-волна, W — W-волна,
V — V-волна; Р — позитивный сдвиг; N — негативный сдвиг; U — U-волны,
М — монотонные волны: F — фон
10 типичных компонентов МЭП (см. рис. 20). Высокоампли-
тудными компонентами ответа (A, S, W, V, Р, N, I) считаются
такие, амплитуда которых превышает 25—50 % максимальной
амплитуды колебаний минутного отрезка фона, а низкоампли-
тудными (U, М) — амплитуда которых не превышает этой ве-
личины. Согласно предлагаемой классификации типичные ком-
поненты разделяются на комплексные (A, S, I, V, Р, N, I) и
некомплексные (Р, N, U, М). Комплексный компонент харак-
теризуется совокупностью высокоамплитудных элементов элект-
рограммы МЭП, составляющих единое целое, не расчлененное
иными элементами МЭП. Некомплексный компонент — либо
высокоамплитудный сдвиг МЭП (Р или N), либо низкоампли-
тудные колебания, пересекающие изоэлектрическую линию
(U) или не пересекающие ее (М). Эти ундулирующие (U) и
монотонные (М) волны отнесены к фоновым изменениям МЭП.
203
Последующий анализ более 1000 электрограмм подтвердил
возможность описания на основе данной классификации всей
динамики МЭП. Было установлено, что некоторые высокоам-
плитудные компоненты МЭП (в первую очередь А-волны) кор-
релируют с эмоциональным поведением, волна 1 — с активацией
внимания, а динамика минутного уровня постоянного потенци-
ала (МУПП)—с динамикой психического состояния в целом.
При этом инертность МУПП отражает устойчивость психиче-
ского состояния, а пики МУПП — экстренные изменения этого
состояния (эмоциональные вспышки).
Дальнейшие исследования Т. И. Грековой [Грекова Т. И.,
1974; Смирнов В. М., Грекова Т. И., 1974; Грекова Т. И., Спе-
ранский М. М., Смирнов В. М., 1975] на большом материале
подтвердили реальность классификации типичных компонентов
МЭП и уточнили, что волны I и волна V коррелируют с процес-
сами внимания, волны А и S, а также позитивные и негатив-
ные сдвиги (Р, N) коррелируют с эмоциями. Сопоставление
динамики МЭП глубоких структур мозга с периферическим
показателем изменений психического состояния — кожно-галь-
ванического рефлекса—выявило корреляцию паттернов МЭП
с особенностями изменений КГР. Установлено, что волна I
четко коррелирует с кратковременной формой КГР, характер-
ной для активации внимания, в то время как волны A, S,
сдвиги Р и N коррелируют с длительной формой КГР, типич-
ной для эмоций. По-видимому, КГР и МЭП имеют общую
церебральную основу; КГР является «зашумленным» и сум-
марным отражением на периферии той же самой церебраль-
ной динамики, локальным, центральным проявлением которой
являются паттерны МЭП. Динамика минутного уровня посто-
янного потенциала (МУПП), регистрируемая десятками минут
и часов, адекватно отражает участие исследуемых структур
в церебральных механизмах реализации психического состоя-
ния, главным образом в активационных и эмоциональных ме-
ханизмах мозга. Мощные пики МУПП обычно коррелируют
с яркими эмоциональными вспышками или со стремлением по-
давить отрицательные эмоции.
Полученные материалы показали, что в одном и том же
околоэлектродном нейрональном участке исследуемой струк-
туры мозга в зависимости от деятельности, реализуемой моз-
гом, могут регистрироваться как паттерны МЭП, связанные
с активацией внимания, так и связанные с эмоциями. Следо-
вательно, эти паттерны отражают различные функциональные
состояния нейрональных популяций данной структуры, опре-
деляемые ее ролью в механизмах реализации названных пси-
хических явлений.
4. Изучение динамики наличного кислорода в процессе ис-
следования психической деятельности. Результаты изучения
МЭП были дополнены данными изучения динамики наличного
204
кислорода коры и глубоких структур мозга при изменениях
психического состояния, вызванных психологическими тестами
[Гречин В. Б., Смирнов, В. М., 1967; Гречин В. Б., 1972]. Го-
воря о наличном кислороде (Р<э2а), имеют в виду парциальное
давление в структурах мозга. Речь идет о сложной результи-
рующей процессов поступления и потребления кислорода ней-
ронально-глиальными популяциями, трансформирующейся оп-
ределенным образом при изменениях функционального состоя-
ния мозга [Бехтерева Н. П., Гречин В. Б., 1968; Гречин В. Б.,
1972].
Результаты исследований Ро2а (динамика наличного ки-
слорода в коре и глубоких структурах мозга) установили, что
основные характеристики этого показателя при эмоциональных
переживаниях существенно отличаются от таковых при других
видах психической деятельности. Были обнаружены определен-
ные зависимости между особенностями эмоционального пере-
живания и характером изменений Р<э2а в некоторых корти-
кальных и субкортикальных образованиях: чем сильнее эмо-
ция, чем значительнее уменьшение ее латентного периода, тем
больше амплитуда и продолжительность вызванных изменений.
Особенно яркие эмоции вызывали длительные изменения Ро2а»
которые продолжались многие минуты после того, как исчезали
внешние проявления эмоционального переживания. В некоторых
образованиях мозга характеристики этих изменений определен-
ным образом коррелируют со знаком эмоции, причем отрица-
тельным эмоциям соответствуют более значительные и длитель-
ные изменения рисунка и уровня Ро2а, чем положительным.
Названные изменения Ро2а наиболее отчетливо регистрирова-
лись в миндалине, гиппокампе, некоторых таламических ядрах
(срединный центр, дорсомедиальное, переднее), хвостатом ядре,
бледном шаре, премоторной коре и др. Менее выраженные изме-
нения, не коррелирующие со знаком эмоций, отмечены в специ-
фических ядрах таламуса — вентролатеральном и заднем вент-
ральном. Значимые изменения Ро2а при эмоциональных пере-
живаниях в белом веществе мозга не регистрировались.
Эти исследования показывают, что для некоторых лимбико-
ретикулярных образований и новой коры установлены значимые
изменения дыхательного метаболизма нейрональных популяций
упомянутых образований в случае участия последних в целост-
ной деятельности мозга, реализующего эмоциональное поведе-
ние. Даже небольшое усиление или перемена знака эмоциональ-
ного компонента поведенческой реакции перечисленных выше
подкорковых образований (что показало вычисление кросскор-
реляционных функций) изменяло характер временных взаимо-
отношений между различными образованиями мозга. Такие из-
менения в деятельности исследованных структур рассматрива-
205
ются как проявление непрерывно организуемого мозгом приспо-
собительного поведения к меняющимся условиям внешней
среды, включая факторы, значимые в биологическом и социаль-
ном аспектах. Существенные изменения в системе «поставка —
потребление» кислорода наблюдаются также в большинстве
структур мозга, исследованных у больных в гипнотическом со-
стоянии. Следует отметить, что в глубоком гипнозе, на фоне об-
щего снижения дыхательного метаболизма нейронально-глиаль-
ных популяций, такие психологические виды контакта, как рап-
порт гипнотизера с пациентом и эмоциогенное гипнотическое
внушение, вызывают более выраженные изменения Ро2&, чем
в бодрствующем состоянии в покое и при эмоциональных пере-
живаниях.
5. Кожно-гальваническая реакция как показатель изменения
внимания и эмоций. Кожно-гальванический рефлекс (КГР) ши-
роко используется в психологических и нейрофизиологических
исследованиях здорового и больного человека. Это объясняется
тем, что способы регистрации КГР просты, анализ полученных
данных не является сложным, тогда как получаемая информа-
ция оказывается весьма ценной. КГР называют также «феноме-
ном Тарханова», поскольку И. Р. Тархановым в 1889 г. он был
получен и исследован. И. Р. Тарханов рассматривал КГР как
эффект изменения разности потенциалов. При этом он отмечал,
что любые приятные, неприятные, а также и новые раздражи-
тели ведут к уменьшению сопротивления кожи и, соответст-
венно, к изменению характеристик КГР. Таким образом, оказа-
лось, что КГР активируется стимулами, обладающими призна-
ками новизны и значимости. Дальнейшие исследования
показали, что КГР може! отражать даже мимолетные измене-
ния в ситуации и поэтому является коррелятом ориентировочной
реакции, главным образом ее активационного компонента. Ока-
залось, что характерные изменения КГР возникают также
и в связи с эмоциональными реакциями. Следовательно, ответ
КГР имеет два самостоятельных компонента, а именно — ком-
понент ориентировочной реакции и компонент эмоциональной
реакции. Запись КГР может осуществляться по методике
И. Р. Тарханова (серебряные электроды, ладонно-тыльное от-
ведение) на одном из каналов электроэнцефалографа (раньше
для этой цели использовался чувствительный гальванометр).
Методика И. Р. Тарханова предполагает регистрацию измене-
ний собственного потенциала кожи испытуемого в ответ на
предъявляемые значимые и незначимые раздражители. По ме-
тодике Форе регистрируются изменения сопротивления кожи
пропускаемому через нее слабому току.
Три вида КГР выделяет Т. И. Грекова (1974). КГР характе-
ризуется полным или почти полным отсутствием значительных
колебаний, приближается к прямой линии и свидетельствует
206
о расслабленности испытуемого, отсутствии ориентировочной
реакции. КГР! типична для ориентировочной деятельности, не
требующей повышенного напряжения; она проявляется следую-
щими признаками: число колебаний от 1 до 5 непосредственно
после предъявления пробы (сигнала), затем — быстрое затуха-
ние до прямой линии. КГР2 — длительность не менее 30 с
с момента предъявления сигнала, очень часто на протяжении
минуты и более. Этот вид КГР характерен для состояния повы-
шенной активности, напряженной мыслительной деятельности
или эмоциональной активации.
Полагают, что эмоциональная неустойчивость, легкая возбу-
димость, тревожность коррелируют с высокой реактивностью
КГР, тогда как вялость, торпидность, эмоциональная затормо-
женность коррелируют со снижением активности КГР [Мяси-
щев В. Н., 1939; Ермолаева-Томина Л. Б., 1965]. Природа КГР
(точнее—отношение КГР к определенному виду мозговой дея-
тельности) длительное время оставалась неясной. При этом
одни исследователи полагали, что КГР имеет периферическое
происхождение и регулируется механизмами симпатической
нервной системы, тогда как другие считали, что КГР имеет
центральное происхождение и реализуется главным образом при
участии лимбико-ретикулярного комплекса. В пользу последней
гипотезы свидетельствуют, например, экспериментальные дан-
ные, показавшие, что у обезьян после двустороннего разруше-
ния миндалин проявления КГР слабее, чем те же показатели
у интактных животных.
Решение вопроса о природе КГР оказалось возможным
в процессе лечения больных методом «вживленных» электродов
[Смирнов В. М., Сперанский М. М., 1970, 1972]. У этих больных
изучались медленные электрические процессы (МЭП), регистри-
руемые с помощью «вживленных» электродов в коре и глубоких
структурах мозга. Регистрация МЭП осуществлялась одновре-
менно с регистрацией КГР как в покое, так и при предъявлениях
различных тестов на активацию внимания и эмоций. При этом
было установлено, что динамика КГР коррелирует с динамикой
МЭП коры и глубоких структур мозга, а паттерны КГР корре-
лируют с паттернами МЭП. Из этого следует, что КГР и МЭП
являются проявлением общего мозгового механизма. Первый
компонент реакции КГР (кратковременный активационный от-
клик) является проявлением ориентировочного рефлекса.
Второй компенент, обладающий более сложной структурно-
функциональной организацией, обеспечивается эмоционально-
мотивационными системами. Последние контролируются ин-
формационными системами личности, в том числе системой цен-
ностей. Именно поэтому КГР, как и МЭП, проявляют себя
чуткими детекторами, улавливающими не только фактор но-
визны, но и неосознанную и осознанную информацию, значи-
мую для данного индивида. Конечно, КГР, как и любой реф-
207
леке, имеет пороги, уровни которых определяются многочислен-
ными факторами, в том числе физиологическими, психологиче-
скими, личностными. Они могут снижать или повышать эти
пороги. Не исключено, однако, что определенный психо-
тренинг способствует в какой-то степени произвольному
изменению порогов реакций КГР. В психофизиологиче-
ских исследованиях с регистрацией самых различных
показателей реактивности личности и центральной нервной
системы КГР в настоящее время занимает скромное место, но
незаменимость КГР очевидна. КГР легко активизируется стиму-
лами, обладающими новизной и значимостью. А. Е. Ольшанни-
кова и В. Г. Дорогокупец (1969) показали существенное разли-
чие динамики КГР при ориентировочном и эмоциональном пове-
дении. Изменения КГР при ориентировочных реакциях значи-
тельно меньше по амплитуде, интенсивности, длительности и
имеют большую скорость угашения, чем изменения КГР при
эмоциях.
В заключение можно отметить, что каждая из представлен-
ных методик приобретает большую ценность в тех случаях,
когда результаты одной методики анализируются в комплексе
с показателями других методик. Это раскрывает большие воз-
можности для понимания механизмов интегративной деятель-
ности мозга.
Глава X
СИМПТОМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ
И ПАТОГЕНЕТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
ПСИХОТЕРАПИИ И ПСИХОКОРРЕКЦИИ
Важным условием продуктивного участия психотерапевтов и
медицинских психологов в лечении и профилактике заболеваний
является правильное понимание сущности наиболее распростра-
ненных методов психотерапии и психокоррекции. Между этими
двумя классами методов имеется много общего и вместе с тем
некоторые различия. Психотерапия — это, как видно из самого
термина, лечение. Психокоррекция, как явствует из данного тер-
мина, направлена на коррекцию, т. е. на исправление тех или
иных расстройств, но в то же время и лечение в некоторых слу-
чаях рассчитано не на полное устранение патологических нару-
шений, а лишь на их компенсацию. Существенной общей особен-
ностью и психотерапии, и психокоррекции является психологиче-
ское воздействие, направленное на нормализацию или
улучшение психической деятельности и невросоматических
функций человеческого организма.
Общеупотребительные методы психотерапии и психокоррек-
ции. Одним из старых и общеупотребительных методов счита-
ется так называемая рациональная психотерапия, обоснование
208
которой было дано P. Dubois (1911), предназначавшего ее для
лечения неврозов. Считая причиной неврозов ошибочные пред-
ставления пациентов о своей болезни, он предлагал лечить их
обращением к рассудку (ratio) путем убеждения и переубежде-
ния. На односторонность такого подхода обратил внимание уже
J. Dejerine (1912), придававший большое значение в психотера-
пии воздействию на эмоциональную сферу больных. Но незави-
симо от этих концепций, задолго до их возникновения и по сей
день представители различных областей медицины широко поль-
зуются приемами рациональной (разъяснительной) психотера-
пии для ободрения и успокоения пациентов, коррекции их не-
правильных представлений о своей болезни и реакций на нее
или на применяемое лечение. Соответствующие разъяснения по-
ложительно действуют и на эмоциональное состояние больных.
В них содержатся также элементы внушения (зачастую ненаме-
ренного), тем более действенного, чем авторитетнее терапевт (и
работающий совместно с ним медицинский психолог). В таком
общепринятом смысле рациональную психотерапию нельзя рас-
сматривать как специфический метод.
Внушение, или суггестия, используется в качестве специаль-
ного метода как в бодрственном состоянии, так и в гипнозе. Еще
с древних времен внушением в гипнозе пользовались жрецы,
шаманы, а затем и исцелители — служители церкви. Как из-
вестно, научное объяснение явлений гипноза было дано
И. П. Павловым, а гипнотерапии — В. М. Бехтеревым (1900).
Существуют различные приемы гипнотизации и определения сте-
пени внушаемости людей. В. М. Бехтеревым было показано, что
гипнабельность и внушаемость повышаются в коллективе.
В случаях недостаточной гипнабельности внушение может осу-
ществляться при введении наркотического вещества (в фазе,
промежуточной между сном и бодрствованием) —так называе-
мая наркогипнотерапия или наркопсихотерапия [Телешев-
ская М. Э., 1969]. В последние десятилетия научной разработкой
вопросов гипнотерапии в нашей стране занимается кафедра пси-
хотерапии Центрального института усовершенствования врачей.
Ее руководитель В. Е. Рожнов (1982) рекомендует предложен-
ную им специальную методику эмоционально-стрессовой гипно-
терапии алкоголизма, считая ее полезной и для лечения ряда
неалкогольных заболеваний. Автор справедливо рассматривает
эту методику «лишь как одно из звеньев в общей системе ле-
чебных мероприятий». Такое уточнение надо считать правиль-
ным потому, что хотя с помощью гипнотерапевтического воздей-
ствия порой удается даже мгновенно снять, например, какой-
либо истерический симптом, но невозможно излечение невроза
или другого заболевания. К тому же не все люди поддаются
гипнозу в должной степени. Считаются наиболее податливыми
больные истерией. Но и таких больных не всегда можно загип-
нотизировать при выраженности свойственного им негативизма.
209
Кроме того, возможны всякого рода осложнения, особенно
в сомнамбулической фазе гипноза. Поэтому гипнотерапию раз-
решается применять лишь врачам.
Существуют приемы не только врачебного внушения (гетеро-
суггестии), но и лечебного самовнушения в бодрственном состо-
янии. Известен в литературе метод такого самовнушения по
Е. Coue (1924). На принципе самовнушения построен приобрета-
ющий в наше время широкое применение метод аутогенной тре-
нировки (AT), предложенный более 50 лет назад немецким ин-
тернистом, ставшим затем видным психотерапевтом J. Schultz,
(1932). Создатель этого метода оценил связь между наблюдав-
шимся в гипнозе ослаблением мышечного напряжения и сопутст-
вующим ему психическим успокоением, облегчающими лечебное
воздействие на соматовегетативные функции, и пришел к вы-
воду, что этого можно достигнуть и путем самовнушения в бодр-
ственном состоянии. Методика Schultz состоит из двух ступеней
(первой и второй). Но обычно используется лишь первая сту-
пень. Она заключается в вызывании путем самовнушения рас-
слабления мускулатуры рук и ног, ощущения в них тяжести и
тепла, успокоения сердечной деятельности и дыхания, ощущения
тепла в области солнечного сплетения и прохлады во лбу. Не-
мецкие психотерапевты Н. Kleinsorge и G. Kulmbies (1965), счи-
тая эту методику недостаточно ориентированной на отдельные
органы и системы, разработали ее модификацию, предусматри-
вающую более уточненные самовнушения, направленные на оп-
ределенные соматофизиологические комплексы, такие как «го-
лова», «сердце», «живот», «сосуды», «легкие», «сон». Авторы
применяли свою модификацию при аллергических заболеваниях,
бронхиальной астме, гипертиреозе, дискинезии желчных путей,
запорах, поносе, кожном зуде, ночном недержании мочи, колите,
психогенной рвоте и др. AT используется и для лечения заика-
ния, сексуальных нарушений, алкоголизма и иных расстройств.
Занятия по обучению AT начинаются, как правило, в груп-
пах и продолжаются в них. По мере овладения ее приемами
участникам группы рекомендуется выполнять упражнения само-
стоятельно в домашних условиях. Высказывается мнение, что
усвоение приемов AT происходит, по сути, не посредством само-
внушения, а благодаря гетеросуггестии, производимой лицом,
обучающим ее приемам. У нас и за рубежом возникли и иные
толкования механизмов AT. Например, Г. С. Беляев, В. С. Лоб-
зин и И. А. Копылова (1977) полагают, что приемы AT «основаны
на явлениях самоубеждения, а не на самовнушении», и предло-
жили свою модификацию метода. Многообразие различных мо-
дификаций AT объединяет принцип саморегуляции психического
состояния и соматических функций, осуществляемой благодаря
мышечному расслаблению. Следует, однако, заметить, что AT
приносит пользу не при всех формах патологии. У некоторых
психически больных при занятиях AT могут выявляться бредо-
210
вые идеи, что, впрочем, способствует уточнению диагностики
(«диагностическое сито», по Schultz). При ипохондрической на-
строенности у больных нередко усиливается фиксация внимания
на расстройствах того или иного органа. В случаях гипотонии
AT может иногда приводить к значительному снижению артери-
ального давления. Это побудило К. И. Мировского (1965) раз-
работать модификацию AT, названную им психотонической тре-
нировкой, включающей упражнения, вызывающие не только
расслабление, но и напряжение мышечных групп.
При оценке лечебных возможностей AT следует учитывать и
то, что было сказано в отношении гипнотерапии. С помощью
AT, так же как и при внушении, и самовнушении без AT, можно
ослабить тот или иной симптом и улучшить психическое состоя-
ние, но не достигается излечение самой болезни. J. Schultz воз-
лагал особые надежды на более сложную вторую ступень AT.
Она сводится к воображению посредством самовнушения раз-
личных зрительных (и слуховых) представлений и образов
с усиленным сосредоточением на них, уводящим в глубинные
слои личности, где, по автору, кроются вытесненные в бессоз-
нательную сферу фрейдовские комплексы. Ввиду близости уп-
ражнений второй ступени к приемам древней йоги эта ступень
была названа ее автором аутогенной медитацией. Но вторая
ступень практически мало кем применяется. К приемам йоги
проявляется интерес и в населении, и среди некоторых медиков
за рубежом и у нас. Ее элементы используются, например, в Мо-
сковской клинике неврозов, руководимой В. Чугуновым (1981).
Приемы первой ступени применяются не только при невро-
зах, но и в комплексном лечении ряда внутренних заболеваний,
особенно сердечно-сосудистых. Об этом сообщается в публика-
циях Института кардиологии ВКНЦ АМН СССР, второй ка-
федры терапии Ленинградского института усовершенствования
врачей и других научных центров соматического профиля. Заня-
тия AT проводятся как врачами, так и медицинскими психоло-
гами с группами больнык, отбираемых врачами и под контро-
лем последних.
Аутогенная тренировка и гипносуггестия все шире применя-
ются и в профилактических целях в группах здоровых людей,
особенно при риске нервно-психической декомпенсации или со-
мато-вегетативных патологических расстройств у людей, испы-
тывающих большие производственные нагрузки или находя-
щихся в экстремальных условиях (операторы, космонавты,
спортсмены, полярники, подводники и т. п.). Группы занятий
по AT организуются и в ряде клубов и дворцов культуры. Про-
водятся научные исследования в области психопрофилактиче-
ских воздействий, включающих AT. В. Е. Рожнов и А. А. Ре-
пин (1979) провели обследование экипажей на рыболовецких
судах, длительно промышляющих в океанических условиях.
Было установлено, что у работающих в этих условиях «эле-
211
менты психологического стресса могут вызывать как избыточ-
ный, так и недостаточный приток психосенсорной информации...
Подчас внешне неощутимые, неосязаемые причины могут при-
вести к стойким и глубоким нервно-психическим нарушениям,
которые усугубляются переутомлением, истощением организма».
Для предотвращения таких расстройств авторы разработали
собственную модификацию AT и успешно применили ее в си-
стеме производственной психологической тренировки плав-
состава. А. Т. Филатов (1979) создал сложную систему эмоцио-
нально-волевой подготовки спортсменов, основанной на AT и со-
четающей саморасслабление и самоактивацию, ауто- и
гетеросуггестию. На первом ее этапе проводится «изучение лич-
ностных качеств спортсмена», на втором — он «обучается успо-
каивающему варианту психической саморегуляции», на третьем
этапе —«мобилизирующему варианту психорегулирующей тре-
нировки по А. К. Гиссену и А. В. Алексееву». Наиболее слож-
ным является четвертый этап эмоционально-волевой трени-
ровки. «Он включает занятия по ауто- и гетеросуггестии, уве-
ренности в себе, настойчивости, целеустремленности». Перед
соревнованиями проводятся «самовнушения по мобилизации
к состязанию с предполагаемым соперником». Автор проводил
такую же психогигиеническую тренировку с операторами ма-
шинно-счетных станций и горными мастерами угольных шахт.
В работе с этими контингентами преобладают «успокаивающие
варианты» тренировки.
О. Г. Ольхов (1982)! разработал систему групповой производ-
ственной психологической тренировки для водителей автотран-
спорта. Перед применением психокоррекционных воздействий
проводилось их психологическое исследование. В зависимости от
результатов такого исследования врач-психотерапевт в одной
группе использовал общепринятую методику аутогенной трени-
ровки с включением «мобилизирующих» элементов, в другой
группе занятия AT сочетались с гипносуггестией, в третьей
группе использовался «вариант, направленный на коррекцию по-
веденческих нарушений... на создание благоприятного психоло-
гического микроклимата на производстве». Использовался и
электросон с суггестией. Применялась также психофизическая
нагрузка с помощью различных тренажеров.
Поведенческая терапия, В последние десятилетия за рубежом
приобретает большую популярность метод так называемой пове-
денческой терапии. Ее создатели J. Volpe (1956) и Н. J. Eysenk
(1959) исходят из теорий бихевиоризма, механистически воспри-
нявших павловское учение об условных рефлексах, отрицающих
роль сознания в формировании поведения людей и трактующих
1 Система производственной психологической тренировки для водителей
автотранспорта.—В кн.: Исследование механизмов и эффективности психо-
терапии при нервно-психических заболеваниях.— Л.: Изд. Лен. психоневрол.
ин-та им. В. М. Бехтерева, 1982, с. 140—144.
212
его также, как и поведение животных. Терапевты поведения на-
чали с решительного отказа от психоанализа и вообще любых
видов психотерапии. Они рассматривают неврозы человека, ано-
малии личности и ряд других патологических расстройств как
выражение выработанных в онтогенезе по условно-рефлектор-
ному механизму привычек к неадаптивному поведению, в раз-
витии которого активность сознания якобы не играет существен-
ной роли. В соответствии с этим выяснение сложных психических
причин таких заболеваний считается излишним. Главная цель
поведенческого лечения состоит в устранении симптомов посред-
ством угашения их условно-рефлекторными воздействиями.
Правда, современные представители этого направления стали
признавать важность выяснения черт личности больного, игра-
ющих роль в развитии патологических расстройств, но ограни-
чиваются лишь переобусловливанием внешних раздражителей,
поддерживающих эти расстройства. Разумеется, условные связи
лежат в основе многих нормальных и патологических процессов,
протекающих в организме, и на них можно влиять посредством
условно-рефлекторных воздействий. Это было показано не
только работами павловской школы, но и исследованиями зару-
бежных специалистов.
Американский психолог-бихевиорист N. Е. Miller (1969) ис-
пользовал метод условных рефлексов для обучения животных,
чаще крыс, «управлению» своими вегетативными функциями.
Например, для выработки у них тахикардии каждый раз при
случайном учащении пульса производилось через вживленные
в мозг электроды подкрепление мозгового центра удовольствия,
а при урежении пульса — подкрепление так называемого центра
«наказания», что вызывало неприятные ощущения. В результате
и после прекращения таких раздражений у животных сохра-
нялся учащенный пульс. Что касается человека, то автор в сов-
местной работе с J. Dollard (1950) хотя и отмечает влияние со-
циальных условий на его развитие, но объясняет их действие
таким же механизмом, как и научение крыс в эксперименталь-
ном лабиринте. Установлено, что и человека можно обучить ре-
гуляции некоторых физиологических процессов и без вживления
электродов. Так, когда у больного гипертонической болезнью
временно снижалось артериальное давление, применялось поло-
жительное подкрепление в виде похвалы врача или других при-
ятных для пациента воздействий. Таким образом, сниженное
давление становилось более длительным. Подобным же образом
добивались сокращения у больных частоты пульса при тахикар-
дии. Особый интерес представляют опыты такого рода по обуче-
нию человека изменять биоэлектрическую активность своего
мозга (электроэнцефалограмму). Обучаемые люди не могут
объяснить, каким образом происходит изменение той или иной
функции их организма. Это так называемое «висцеральное» обу-
чение остается неосознаваемым, если врач или исследователь
213
не разъясняет его механизм. Естественно, что для закрепления
на длительное время достигнутого положительного изменения
того или иного процесса или функции необходимо в последую-
щем периодически повторять условно-рефлекторные воздействия
во избежание угасания выработанного рефлекса. Вместе с тем
оказалось, что с помощью условно-рефлекторных воздействий
можно изменять отдельные симптомы и физиологические про-
цессы, но не излечить болезнь, развивающуюся по более слож-
ным механизмам, нежели обыкновенный условный рефлекс.
Этого, однако, не учитывают бихевиористы и их последователи —
терапевты поведения. Между тем и И. П. Павлов, и В. М. Бех-
терев в свое время возражали против абсолютизации роли ус-
ловных рефлексов. И. П. Павлов (1935) указывал, что в основе
психической деятельности человека лежат более сложные ас-
социативные связи—«другой вид ассоциаций, имеющий, может
быть, не меньшее, а скорее большее значение, чем условные
рефлексы»1, и заявлял, что психику человека «прежде всего
важно понять психологически, а потом уже переводить на фи-
зиологический язык». В. М. Бехтерев (1925), впервые предло-
живший сочетательно (условно) рефлекторную терапию, отме-
чал ее «механизированный характер»2 и потому рекомендовал
дополнять ее разъяснительной психотерапией, действующей на
личность больного. В связи с этим свой метод он назвал также
«психорефлекторной терапией». Но известный необихевиорист
В. F. Skinner (1972)3, на идеи которого ориентируются многие
нынешние терапевты поведения, не пользуется понятием лич-
ности, определяя «Я» как «репертуар поведения, адекватного
набору условных связей». Он полагает, что «почти все, кто за-
нимается человеческими проблемами», включая психотерапев-
тов, якобы «продолжают говорить о поведении человека на до-
научном уровне».
В. F. Skinner считает своим «открытием» применявшееся им
«оперантное» подкрепление, следующее за наступающей реак-
цией подопытных животных, в отличие от павловской методики
подкрепления, предшествующего реакции. Но «оперантное» под-
крепление до него использовали уже Е. Torndike (1932) и дру-
гие исследователи. Такую методику применяли еще в 20-х годах
сотрудники И. П. Павлова. В находящихся под влиянием бихе-
виористов больницах западных стран используют «оперантное»
подкрепление в виде вознаграждения пациентов за хорошее по-
ведение жетонами на различные привилегии. Вместе с тем прак-
тикуется и наказание пациентов за плохое поведение путем, на-
1 Павловские среды, стенограммы 1935—1936 гг.—М.: Изд. АН СССР,
1949, т. 3, с. 262.
2 Бехтерев В. М. О сочетательно-рефлекторной терапии.— В кн.: Избран-
ные произведения. М.: Медгиз, 1954, с. 441.
3 Skinner В. F. Beyond Freedom and Dignity.—N. Y.: Alfred & Knonf,
1972, p. 255.
214
пример, ограничений в питании, лишения домашних отпусков
и др. Лечение невротического дрожания и тиков нередко произ-
водится ударами электрического тока при каждом вздрагива-
нии; такие же удары совершаются при упускании мочи в слу-
чаях ночного энуреза; агорафобию, клаустрофобию и другие фо-
бии лечат, например, «затоплением»— больных «окунают»
в страшащую их ситуацию (в людскую толпу, закрытое помеще-
ние, открытое пространство), чтобы вызвать привыкание к ней.
Более гуманным способом лечения фобий является десенсити-
зация по Volpe. У больного путем тренировки или с помощью
гипноза вызывают мышечное расслабление и в этом состоянии
предлагают вспоминать пугающие его жизненные ситуации
в расчете на образование и закрепление условной связи между
объектами страха и успокоением, вызываемым мышечным рас-
слаблением. Не останавливаясь на других поведенческих мето-
дах, отметим недостаточную эффективность изолированного при-
менения любого из этих методов, что вынуждает даже часть
основоположников терапии поведения [Lazarus A., 1970, 1971,
и др.] выдвигать требование соединения их с психотерапией. Под
последней в западных странах имеются в виду психоанализ и
иные родственные ему системы. Сами психоаналитики, тоже
убеждаясь в малой эффективности своих методов, также идут
на сближение с терапией поведения. Но такой союз не дает су-
щественных преимуществ.
Полезность же различных специальных методов, о которых
выше была речь, представляется ограниченной из-за того, что
они обращены не к целостной личности, а адресуются к какой-
либо одной стороне психической или нервной деятельности, на-
пример к рассудку (рациональная психотерапия), внушаемости
(гипнотерапия, аутогенная тренировка), условно-рефлекторным
процессам (поведенческая терапия). Такие методы, обычно на-
зываемые симптоматическими, оказывают то большее, то мень-
шее лечебное действие в зависимости от свойств нервно-психиче-
ской сферы конкретного индивида.
Положительное действие психотерапевтического подхода при
соматических заболеваниях уже давно хорошо понимали видные
интернисты, среди которых можно назвать, например, во Фран-
ции— A. Liebeaut, в Швеции — О. Wetterstrand, в старой Рос-
сии— В. А. Манассеина, А. И. Яроцкого, М. Я. Мудрова и др.,
в послеоктябрьский период — Р. А. Лурия, И. А. Кассирского,
М. В. Черноруцкого, В. Ф. Зеленина, Б. Е. Вотчала, А. Л. Мяс-
никова, Т. И. Истаманову и др. В последние годы у нас боль-
шое внимание уделяют вопросам психотерапии и медицинской
деонтологии такие крупные представители внутренней медицины,
как Е. И. Чазов, 3. И. Янушкевичус, А. Ф. Билибин,
И. К. Шхвацабая, С. Я. Долецкий, Ю. М. Губачев и др.
Советские психиатры и медицинские психологи стремятся ак-
тивно содействовать использованию психотерапевтических и пси-
215
хокоррекционных методов в различных областях медицины.
Одним иа примеров атош ялужих совместная работа интерниста
И. К. Шхвацабая и психолога В. П. Зайцева в Институте кар-
диологии им. А. Л. Мясникова. Потребность в таком сотрудни-
честве обусловливается растущим пониманием роли психических
факторов в развитии, течении и лечении не только неврозов, но
и соматических заболеваний. Этой потребности отвечает деятель-
ность союзно-республиканской комиссии по медицинской психо-
логии, действующей на базе Института им. В. М. Бехтерева.
Институт и проблемная комиссия уделяют внимание медико-
психологическим исследованиям не только при нервно-психиче-
ских, но и при соматических заболеваниях. В числе изданий ин-
ститута можно отметить такие сборники его трудов, как «Во-
просы взаимоотношения психического и соматического в психо-
неврологии и общей медицине» (1963), «Неврозы и соматические
расстройства» (1966), «Неврозы и пограничные состояния»
(1972), «Эмоциональный стресс и пограничные нервно-психи-
ческие расстройства» (1977).
В 1974 г. в Тамбове состоялась научно-практическая конфе-
ренция, посвященная вопросам медицинской деонтологии и пси-
хотерапии *, в которой приняли участие специалисты из Москвы,
Ленинграда, Харькова и других городов страны. В числе широ-
кого круга проблем, рассмотренных на конференции, заслужи-
вают внимания в ее трудах вопросы психотерапии при сомати-
ческих заболеваниях. Кратко упомянем о некоторых из них.
В. Е. Рожнов правильно указал, что психотерапия при инфар-
кте миокарда «должна осуществляться на всех этапах болезни»
уже во время неотложной медицинской помощи и продолжаться
в постинфарктном периоде, когда на первое место уже высту-
пают вопросы трудовой реадаптации больных. Автор рекомен-
дует методы разъяснительной, рациональной психотерапии, не-
обходимые для общего успокоения больного, снятия излишних
опасений, общей тревожности, депрессивного фона настроения,
а также внушение в бодрственном состоянии и в гипнозе, помо-
гающее не только успокоению, но и смягчению болевых ощуще-
ний, кардиофобических и танатофобических переживаний. В вос-
становительном периоде придается большое значение аутоген-
ной тренировке и коллективной психотерапии, усиливающей
положительное взаимовлияние больных. Э. М. Курлеутов ис-
следовал некоторые психологические факторы, которые, по его
данным, возможно, влияют на исход реанимации кардиохирур-
гических больных. В другой работе, выполненной автором сов-
местно с А. Т. Филатовым, описывается методика бесед леча-
щего врача, оперирующего хирурга, анестезиолога в комплексе
психопрофилактической подготовки больных ревматическими по-
роками сердца к оперативным вмешательствам.
1 Вопросы медицинской деонтологии и психотерапии: Тезисы докладов
Тамбовск. обл. научн.-практ. конф.—Тамбов, 1974, с. 217—293.
216
Вопросам психотерапии в комплексном лечении больных ги-
потонией посвящена работа В. Т. Зайцева и И. М. Виша.
В. Т. Зайцев описал также опыт психопрофилактики гипотони-
ческих состояний среди сельского населения. Исследования, про-
веденные А. Л. Гройсмаиом, свидетельствуют, как пишет автор,
о больших интегральных возможностях коллективной суггестив-
ной психотерапии при ряде внутренних заболеваний — туберку-
лезе легких, тиреотоксикозе, язвенной болезни, гастрите, холе-
цистите, сахарном диабете, женском климаксе. При этом мето-
дика коллективной психотерапии строится на основе
дидактических бесед, направленных на развенчивание непра-
вильного гнозиса болезни, гипносуггестия — на снятие невроти-
ческих явлений, аутогенная тренировка — на регуляцию вегета-
тивно-висцеральных ощущений. Методику психотерапии при
сахарном диабете в условиях курорта описал А. А. Мартыненко.
На основании проведенных исследований М. А. Мелькумова и
И. М. Виш рекомендуют включение психотерапии (в виде разъя-
снительных бесед, мотивированного внушения в бодрственном
состоянии и в гипнотическом сне) в комплексное лечение хрони-
ческих колитов, как неспецифическом язвенном, так и нейроки-
нетическом. Л. М. Мушер описал основные этапы психотерапии
желудочно-кишечных заболеваний на курорте, предусматриваю-
щие групповые занятия, на которых «Основное внимание уделя-
ется суггестивной терапии в сочетании с рассудочной, разговор-
ной терапией». Для этой работы специально готовились врачи,
медицинские сестры и другие работники курорта. И. М. Пере-
крестов и Р. И. Перекрестова разработали специальную мето-
дику аутогенной тренировки при диссомическом синдроме
у больных язвенной болезнью. Е. Н. Ревенок и Л. И. Завилян-
ская использовали психотерапевтические беседы, внушение
в бодрственном состоянии и в гипнозе в комплексном лечении
заболеваний печени и желчевыводящих путей. И. Ф. Мягков и
В. Е. Апарин применили оригинальное сочетание лечебной физ-
культуры с психотерапевтическим опосредованием при компле-
ксном лечении хронических заболеваний легких. На этой же
Тамбовской конференции в докладах Т. Д. Демиденко и
В. А. Киселева был отражен опыт использования поэтапной
коллективной психотерапии, проводимой в Институте
им. В. М. Бехтерева и в Ленинградском госпитале инвалидов
отечественной войны при органических заболеваниях централь-
ной нервной системы (последствия мозгового инсульта, черепно-
мозговой травмы, рассеянный склероз) и патологии перифери-
ческой нервной системы. Применялись аутогенная тренировка,
императивное и мотивированное внушение, разъяснительные бе-
седы. Авторы установили, что такого рода психотерапия не
только смягчает или устраняет функционально-невротические на-
слоения, но также способствует компенсации органических из-
менений моторики, речи и других функциональных дефектов.
217
В работе сотрудников Института им. В. М. Бехтерева, совмест-
ной с сотрудниками Института онкологии Минздрава СССР,
исследованы невротические реакции у онкологических больных
и разработаны методы психокоррекции этих реакций. А. В. Гнез-
дилов (1976) обосновал необходимость психопрофилактической
работы «на всех этапах пребывания больного в сфере онкологи-
ческой службы».
Н. Б. Шиповников (1980) показал, что благодаря психокор-
рекционным воздействиям возможна достаточно эффективная
стимуляция психологических компенсаторных ресурсов лич-
ности у многих из этой категории больных. В сборнике трудов
Института им. В. М. Бехтерева «Реабилитация больных эпи-
лепсией» (1980) освещены методы психокоррекционной работы
с больными эпилепсией, способствующие их социально-трудо-
вому восстановлению.
А. М. Свядощ (1982) также отмечает положительное дейст-
вие аутогенной тренировки при ряде соматических и нервно-ор-
ганических заболеваний. Автор считает ее полезной при стено-
кардии, гипертонической болезни, экземе, кривошее, вазомотор-
ной головной боли, ночном энурезе, дисменорее, вагинизме и
других сексуальных расстройствах. Вместе с тем он справедливо
предостерегает от возможности отрицательных последствий AT.
Так, больные стенокардией при уменьшении интенсивности за-
грудинных болей могут недооценить тяжести своего состояния.
При язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки вы-
зывание тепла в области солнечного сплетения может привести
к кровотечению. Поэтому при проведении AT необходим врачеб-
ный контроль. Так же как и ряд вышеупомянутых авторов,
А. М. Свядощ считает, что AT целесообразнее всего применять
в комплексе с другими психотерапевтическими методами. Хо-
рошо известны также работы П. И. Буля по гипнотерапии при
заболеваниях внутренних органов. Следует учитывать, что при
риске любого заболевания и при его развитии не только проис-
ходит нарушение той или иной функции, но в возникновении на-
рушения и в реакции на него играют роль различные уровни
нервно-психической деятельности и особенно высший ее уро-
вень— свойства личности. Поэтому профилактический и лечеб-
ный эффект оказывается значительно более высоким, если и
при неврозах, и при соматических болезнях врачи и медицин-
ские психологи не ограничиваются вышеупомянутыми симптома-
тическими методами, но уделяют внимание личности страдаю-
щего человека, его особо значимым ценностям, травмирующим
его жизненным проблемам и ситуации, поскольку личностно-си-
туационные моменты являются существенным условием развития
невротической декомпенсации при всех болезнях. Именно такой
подход положен в основу созданной В. Н. Мясищевым (1960)
системы патогенетической психотерапии при неврозах на основе
его концепции психологии отношений. Эту систему продолжают
218
разрабатывать Б. Д. Карвасарский, В. К. Мягер, Р. А. Зачепиц-
кий (1973) и другие последователи В. Н. Мясищева.
Главным положением патогенетической психотерапии служит
понимание психической травмы как следствия жизненного удара
по особо значимым, эмоционально насыщенным отношениям
(ценностям, мотивам) личности, сформированным в онтогенезе.
К этому фундаментальному положению присоединились и дру-
гие психологи и клиницисты [Бассин Ф. В., Рожнов В. Е. и др.,
1974]. В 1978 г. А. С. Прангишвили, А. Е. Шерозия и Ф. В. Бас-
син, касаясь психогенных причин психосоматических расст-
ройств, отметили, что действие «этих причин зависит от положе-
ния, которое они занимают в иерархии психологических ценно-
стей субъекта или, что то же, от значимости связанных с ними
событий для субъекта»1. Этим подтверждается значение основ-
ного принципа, на котором строится патогенетическая психоте-
рапия не только при неврозах. То, что при нервно-органических
и соматических болезнях зачастую имеют место реакции лич-
ности на заболевание и нередко невротические осложнения,
обусловленные ущербом ценностям и перспективам личности,
нанесенным болезнью, все больше начинают понимать интер-
нисты. Так, интернист Ю. М. Губачев и сотр. (1981) заявили,
что их позиция в подходе к проблеме личности основывается на
психологии отношений, развитой трудами В. Н. Мясищева2.
Основная задача патогенетической психотерапии заключа-
ется в выявлении с больным (в индивидуальной и групповой
работе) волнующих его жизненных проблем, невыносимого про-
тиворечия между особо «значимыми его отношениями к цен-
ностям и трудными обстоятельствами жизни и с учетом этого —
перестройке неадекватных отношений и установок и по воз-
можности неблагоприятной ситуации. Нередким затруднением
при этом служит то обстоятельство, что сами больные не все-
гда осознают, каким образом сформировались особенности их
личности, сыгравшие патогенную роль в развитии или ослож-
нении болезни. В речевом общении с терапевтом им не всегда
удается выразить словами с достаточной ясностью свои пере-
живания, даже и тогда, когда они не стыдятся их.
Говоря, что «Язык так же древен, как и сознание; ...»,
К. Маркс подчеркивал их единство, но не тождество3. Дело в том,
что, стихийно развиваясь, как форма сознания, язык постепенно
терял свой естественный характер и превратился в особую си-
стему обобщающих искусственных знаков. И поэтому, как
указал В. И. Ленин в «Философских тетрадях», «Всякое слово
1 Прангишвили А. С, Шерозия А. Е., Бассин Ф. В. Вступительная статья
к 5-му разделу — В кн.: Бессознательное, природа, функции, методы иссле-
дования.-— Тбилиси, 1978. с. 198.
2 Губачев Ю. М., Стабровский Е. М. Клинико-физиологические основы
психосоматических соотношений— Я.: Медицина, 1981, с. 73.
3 Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т. 3, с. 29.
219
(речь) уже обобщает,.. Чувства показывают реальность; мысль
и слово — общее»1. Понимая это, Л. С, Выготский (1956) за-
метил: «Если ощущающее и мыслящее сознание располагает
разными способами отражения действительности, то они пред-
ставляют собой и разные типы сознания»2. Автор показал, что
за развернутой речью со значениями ее слов стоят скрытые
субъективные смыслы, определенные мысли, тесно спаян-
ные с «аффективной и волевой тенденцией внутреннего, под-
вижного, неуловимого понимания и переживания. Объективные
надиндивидуальные значения слов и субъективные неформа-
лизуемые «личностные смыслы»—это два плана единой пси-
хической деятельности». Таким образом, человечество распо-
лагает формализованной линейной системой языка, призван-
ной выражать нелинейное движение внутренней и внешней
действительности. И поэтому прав Н. Schands (1971), заяв-
ляющий, что «нас сковывает» эта «несогласованность двух гос-
подствующих систем, в которых совершается человеческое бы-
тие»3. Известно, что Фрейд с лечебной целью предложил про-
рывать эту скованность или блокаду речью переживаний
больного посредством интерпретации его свободных ассоциа-
ций, обмолвок и ошибок, а также толкования его сновидений.
Сами по себе эти способы не вызывали бы возражений, если
бы интерпретации и толкования не были подчинены заранее
установленной психоаналитической схеме. При патогенетиче-
ской психотерапии раскрытие личности больного и тревожа-
щих его обстоятельств и проблем жизни происходит в довери-
тельных беседах психотерапевта и психолога с пациентами или
в недирективно направляемых ими собеседованиях пациентов
в группе. Этому помогают и специальные экспериментально-
психологические исследования с одновременной полиграфиче-
ской записью кожно-гальванического рефлекса, сердечных, ды-
хательных и иных физиологических реакций. Но психологиче-
ские тесты дают информацию психологу и терапевту, в то
время как в лечебных целях необходимо, чтобы и больной
ее осознавал. Сложность психотерапевтической и психокоррек-
пионной работы связана еще и с тем, что уникальность лич-
ности, в том числе и больной, относительна, поскольку сущест-
вует слитно с той внешней ролью, которую она играет среди
других людей и формы которой стандартизированы и опреде-
ляются социальной структурой общества и характерными для
нее нормами поведения. Это требует, чтобы за внешним обли-
чием поведения больного выявить его индивидуально-психоло-
гические позиции, способствовавшие болезненному столкнове-
нию с действительностью. Как нередко говорят, в информации
1 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 29, с. 246.
2 Выготский В. С. Избранные психологические исследования.— Мм 1956,
с. 102.
3 Schands Н. С. The war with Words.--Paris: The Hague, 1971, p. 32.
220
человека о себе одна ее часть, даваемая сознательно, пред-
ставляет собой большей частью как бы фасад его личности,
а другая, составляющая его внутренний мир, обнаруживается
нелегко и нередко помимо его желания. Психотерапевту и
медицинскому психологу необходимо знание и общесоциаль-
ного аспекта, и индивидуального, неповторимого своеобразия
конкретной больной личности. В ходе индивидуальной или
групповой психотерапии уточняются особенности жизненного
опыта больного в различные возрастные периоды, отношения
его к себе и к окружающим, его ценности, характер его пере-
живаний, интересов, мотивов его деятельности, понимание им
жизни и мира в целом и своего места в нем, его мечтаний
и ожиданий, симпатий и антипатий, манеры преодолевать пре-
пятствия или уступать им и т. д. Внимание больного привлека-
ется не только к его субъективным тенденциям, но и к тем
внешним обстоятельствам, с которыми они пришли в столкно-
вение. Рассматривается и сексуальная сторона его жизни, но,
разумеется, не фрейдовские либидинозные фазы младенческого
периода. В тех случаях, когда имеют место непорядки в сексу-
альной и семейной жизни, учитывается не только возможность
физиологического несоответствия партнеров, но и место воз-
никающих конфликтов в сложной структуре человеческих
отношений, могущих болезненно затрагивать достоинство, дове-
рие, самолюбие и другие социально-нравственные ценности лич-
ности.
Психотерапия представляет диалектический процесс со свой-
ственными ему противоречиями. Одним из их выражений яв-
ляется сопротивление пациента, на которое обратил внимание
Фрейд, мистифицируя его происхождение. Между тем сопро-
тивление можно рассматривать реалистично как реакцию на
прикосновение к острым переживаниям больного по анало-
гии с реакцией на прикосновение к весьма чувствительной ра-
невой или воспалительной поверхности человеческого тела.
Можно согласиться с тем, что сопротивление представляет не
только помеху, но и указание врачу на приближение к дей-
ствительно значимым переживаниям больного. Несмотря на со-
противление, в терапевтической атмосфере доброжелательного
общения врача с пациентом или умело направляемого вра-
чом взаимообщения пациентов в психотерапевтической группе
постепенно выявляются связи личностных и ситуационных мо-
ментов, сыгравших патогенную роль.
Хорошо известно, что одно воспоминание и воспроизведе-
ние больным тягостных обстоятельств его жизни и связан-
ных с ними переживаний — так называемый катарзис — вы-
зывает облегчение, однако не приводит непосредственно к вы-
здоровлению. Психоаналитики сводят лечебное действие
психотерапии к переносу, понимаемому как эмоциональная
идентификация больным терапевта с одним из своих родителей.
221
Согласно их толкованиям, на терапевта направляются чувства,
испытывавшиеся в младенчестве к отцу или матери, главным
образом сексуальное влечение, чувства ревности, ненависти. Ну-
жно признать существенное значение взаимоотношений врача и
больного в процессе психотерапии, но вовсе не в этом плане.
Исследования, проведенные в Институте им. В. М. Бехтерева
[Ташлыков В. А., 1971], показали, что эталонные ожидания и
представления пациентов о враче оказываются часто более
близкими не к родителям, а к иным лицам его окружения —
учителям, сотрудникам по работе, сверстникам, друзьям. В са-
мом деле, на отношении к врачу сказывается весь прошлый
опыт общения больного с широким кругом нейтральных, при-
ятных и неприятных людей, с которыми приходилось встре-
чаться на протяжении жизни. И учет этого дает врачу и меди-
цинскому психологу дополнительный материал для понимания
больного, а последнему — для уяснения влияния своего опыта
общения с людьми на формирование собственной личности.
Терапевтический эффект, нужно думать, вызывается особым
эмоциональным сдвигом, происходящим у пациента в процессе
психотерапии, помогающим ему заново прочувствовать пере-
житое и по-иному взглянуть и на себя, и на трудности, с кото-
рыми пока не удавалось справиться. Такого рода эмоциональ-
ная перестройка зачастую становится более эффективной
в процессе групповой психотерапии благодаря тому, что в дис-
куссии с другими пациентами начинаешь лучше видеть себя са-
мого как в зеркале (обатная связь). Групповая психотерапия
имеет преимущества, так как ориентирует и врача, и психо-
лога, и пациента в социоцентрическом направлении, на значе-
ние чего указывает М. М. Кабанов (1978), освещая проблему
реабилитации больных. Конечно, весьма важным условием ус-
пеха патогенетической психотерапии является не одно так на-
зываемое осознание (инсайт). Как указывает В. Н. Мясищев
(1973)!, прогресс в психотерапевтическом процессе происходит
«по мере того, как реорганизуются личность и система ее от-
ношений к действительности. Реорганизация характеризуется
тем, что ранее важное утрачивает свою значимость, возникают
и начинают определять общественно адекватное поведение и
переживания, другие значимые мотивы... бывшие больные
говорят: „Я стал новым, я стал по-новому смотреть на дейст-
вительность, я точно вновь родился"». Такой результат есть
следствие не только возникшего понимания патогенных вза-
имосвязей, но, может быть, еще в большей степени прочувст-
вования их. Важность эмоционального аспекта психотерапии
можно сравнивать с его исключительным значением в искус-
1 Мясищев В. Н. Психотерапия как система средств воздействия на пси-
хику человека в целях восстановления его здоровья.— В кн.: Психотерапия
при нервных и психических заболеваниях. Л.: Медицина, 1973, с. 7—20.
222
стве, позволяющем столь тонко проникать во внутренний мир
изображаемых героев. Хотя и принято считать, что психотера-
пии поддаются главным образом интеллектуальные пациенты,
но, тем не менее, одного ума недостаточно для ведущей к изле-
чению переоценки и собственной личности, и ситуации. Поэтому
и была подвергнута критике так называемая рациональная пси-
хотерапия, сводящая лечение к опровержению ошибочных
представлений пациента о своей болезни. Лучшим ответом ей
служит приводимая В. Н. Мясищевым формула нередких за-
явлений пациентов: «Я понимаю, доктор, но справиться с этим
не могу». В. Н. Мясищев допускал применение и различных
других методов (гипнотерапии, поведенческих приемов, убеж-
дения и др.) при условии пользования ими в системе патогене-
тической психотерапии, уточняя, что «основа психотерапии —
знание личности, ее отношений, ее слабых уязвимых мест,
определяющих непреодолимую для нее к моменту декомпенса-
ции сторону внешних условий».
Проведенные в Институте им В. М. Бехтерева нами [Заче-
пицкий Р. А., 1978] исследования показали, что условно-реф-
лекторные методы оказываются более эффективными при про-
стых невротических реакциях, формы которых мало дифферен-
цированы, чем при выраженных неврозах, в патогенезе
которых существенную роль играет своеобразие индивидуальных
особенностей личности. В частности, такие сложные формы,
как агорафобия или клаустрофобия, не излечиваются одними
условно-рефлекторными приемами. Даже если больной трени-
руется при прямой поддержке врача или психолога в пребыва-
нии на открытом пространстве или в закрытом помещении,
лечение остается безуспешным, пока не выявлен психогенный
источник, создавший и поддерживающий данную фобию. Но
после его вскрытия и осознания больным и психологической пе-
рестройки его установок такие упражнения становятся полез-
ными для закрепления успеха терапии. Устранение истериче-
ского симптома, например, гипнотическим внушением также не
ведет к ликвидации истерии, но облегчает психотерапию, на-
правленную на коррекцию особенностей истерической лично-
сти. Среди больных неврозами и психозами нередко встреча-
ются пациенты, характеризующиеся неуверенностью в себе, ис-
пытывающие затруднения в общении с людьми. В Институте
им. В. М. Бехтерева проводятся групповые занятия с такими
пациентами по поведенческой тренировке в самоутверждении,
называемой функциональной тренировкой поведения [Воло-
вик В. М., Вид В. Д., 1975; Лукина И. С, 1975, и др.]. Проигры-
ваются сцены самоутверждения, при этом каждая удача паци-
ента в этой игре подкрепляется словесной похвалой врача или
психолога, проводящего занятия. Такая условно-рефлекторная
тренировка поведения является первоначальной ступенью груп-
повой психотерапии подобных больных. После достигнутых
223
в ней успехов открываются возможности для последующих
более сложных форм групповой психотерапии. В совместной ра-
боте Б. Безади, Е. И. Голынкиной и Ю. Я. Тупицына (1979)
приводятся данные использования опросника и анкеты для
психологической диагностики чувства неуверенности в себе,
разработанные в отделении клинической психологии Универ-
ситета им. Гумбольдта в Берлине (ГДР), сотрудничающего
с Институтом им. В. М. Бехтерева. Результаты этих исследо-
ваний в сравнении с результатами исследований в контрольной
группе показали снижение чувства неуверенности в себе у за-
нимающихся функциональной тренировкой, более выраженное
у больных с высокой мотивацией к участию в занятиях и вы-
полнению заданий по тренировке.
Весьма важным, но пока еще недостаточно решенным яв-
ляется вопрос о факторах, определяющих успешность психоте-
рапии. Из неспецифических факторов психотерапии многие ав-
торы выдвигают личность терапевта, его умение анализировать
проблемы, волнующие больных, эмпатию, сердечность, теп-
лоту, доброту, способность вызвать у пациента надежду на
выздоровление. Среди множества черт личности пациента, спо-
собствующих успешному включению в терапию, обычно выде-
ляются такие, как мотивация, внутренняя установка на лечение,
способность к самораскрытию, вера во врача, потребность
в эмоциональной поддержке. Важными условиями являются
ожидания пациентов в отношении личности терапевта, методов
его работы, предполагаемых результатов лечения. R. W. Heine
и Н. Trosman (1960) выделяют два типа ожиданий пациентов.
Одни рассчитывают на получение советов, руководства, прямых
указаний психотерапевта и применение технических приемов,
другие—на участие и на разрешение тревожащих их
проблем. Впрочем, существуют немногочисленные возраже-
ния против утверждений о лучшем исходе лечения, когда ха-
рактер его соответствует ожиданиям пациентов [Bloch S. и др.,
1976]. Указывается также, что по характеру первоначальных бе-
сед с больным можно прогнозировать эффективность психоте-
рапии. L. Lubarsky (1959) отмечает, что у тех, кто продолжает
начатое лечение, происходит улучшение. Очень существенными
являются этико-деонтологические проблемы психотерапии, среди
которых особенное значение имеет конфиденциальность, кото-
рую следует соблюдать с учетом личности больного и при инди-
видуальной, и при групповой психотерапии. Н. С. Говоров
(1977), напоминая о принципе А. С. Макаренко «не ворошить
старого» в работе с воспитанниками его колонии, указывает,
что в некоторых случаях не следует добиваться полного само-
раскрытия пациента в процессе психотерапии.
Для оценки эффективности психотерапии используются дан-
ные клинического наблюдения, психологических тестов и ка-
тамнестических обследований. В исследованиях Б. Д. Карва-
224
сарского и его сотрудников (1979, 1982) было установлено, что
критериями эффективности индивидуальной и групповой психо-
терапии являются: 1) субъективно переживаемое больным
симптоматическое улучшение; 2) степень понимания им психо-
логических механизмов его заболевания; 3) объективно регист-
рируемое проявление восстановления нарушенных отношений
личности; 4) субъективно и объективно определяемая степень
улучшения социального функционирования пациента в различ-
ных сферах деятельности.
В сотрудничестве с психиатрами и психологами ГДР в Ин-
ституте им. В. М. Бехтерева создана и действует автоматизи-
рованная информационная система для учета многочисленных
клинических, психологических, биологических и социальных ха-
рактеристик больных, процесса психотерапии и других лечебно-
восстановительных мероприятий. Для этого разработаны спе-
циальная карта (формализованная история болезни) и оце-
ночная шкала основных клинико-психопатологических данных,
которые подвергаются математико-статистической обработке
с помощью ЭВМ [Бурковский Т. В., Вукс А. Я., Иовлев Б. В.,
Корабельников К. В., 1977].
В нашей литературе в последние годы используются неко-
торые понятия, выдвинутые психоанализом (неосознаваемые
психические процессы, осознание, сопротивление и др.), не
только в критическом плане, но и путем переосмысливания их
с диалектико-материалистических позиций. В связи с задачами
психопрофилактики особого рассмотрения требует выдвинутое
психоанализом понятие так называемой психологической за-
щиты.
Приемы психологической защиты должны помогать преодо-
лению психотравмирующих воздействий. В психоаналитической
литературе описаны такие неосознаваемые приемы, как «вы-
теснение» из области сознания неприемлемых тягостных пред-
ставлений; «проекция» —приписывание другим лицам своих
собственных отрицательных черт или помыслов; «вымещение»—
перенос своих стремлений к действию с объекта, на котором
они неосуществимы, на другой объект, где возможна их реали-
зация; «сублимация»—переключение своих недозволенных им-
пульсов на одобряемую социальными нормами деятельность;
«фиксация»— автоматическое повторение случайного действия,
послужившего однажды для избавления от страдания; «рацио-
нализация»— снижение ценности объекта, в отношении кото-
рого невозможно реализовать свои стремления, и др. Нетрудно
видеть, что все такие приемы представляют отказ от реальной
действительности для избавления от страданий в виде неосо-
знаваемых уловок. При этом, как тонко заметил Т. Шибутани
(1969), защищается, строго говоря, «не столько биологический
организм, сколько собственное представление о самом себе»,
человек охраняется «от понимания определенных факторов,
8 Заказ № 942
225
касающихся его личности»1. Признавая явления психологиче-
ской защиты важной и реальной стороной психической жизни
людей, Ф. В. Бассин (1971) вместе с тем указывает, что ос-
новным недостатком психоаналитической трактовки понятия
психологической защиты является то, что последняя рассмат-
ривается как механизм, используемый только как средство
предотвращения грозных клинических последствий конфликта
«Я» с неизменно якобы враждебным ему «бессознательным».
В противоположность этому, автору психологическая защита
представляется и как нормальный механизм, присущий здоро-
вым людям, используемый не только при конфликтах сознания
и бессознательного, но и при столкновении вполне осознавае-
мых эмоционально насыщенных установок. С этим можно со-
гласиться.
Хотя распространенные в давние времена разного рода
защитные ритуалы (навязчивые действия, заклинания, ношение
амулетов и др.) не являлись неврозами, т. е. болезнями, но
в случаях, когда страхи и тревога переходили за предел чело-
веческой выносливости, возникали нервно-психические рас-
стройства, принимавшие форму истерических эпидемий, про-
являвшихся особенно ярко в бессодержимости в средние века
в Западной Европе и в «кликушестве» среди русских женщин
в дореволюционных селах. Подобные расстройства представ-
ляли собой патологическую форму защиты от жестоких усло-
вий жизни. В наше время научно-технического прогресса, уско-
рения темпов жизни и повышенных эмоциональных нагрузок
в развитых странах вновь растет число неврозов и погранич-
ных с ними состояний, но не в прежних примитивных формах,
а порой в малоотличимых от практического здоровья. Поэтому
ныне стали особенно актуальными вопросы их профилактики и
лечения, и оживился интерес к мерам психологической защиты.
По сути своей многие проявления современных неврозов также
представляют собой одновременно и тягостные расстройства,
и патологическую форму психофизиологической защиты, облег-
чающей в какой-то мере состояние больных. Сюда относятся,
в частности, ритуальные действия при неврозе навязчивости
или разнообразные выпадения функций у больных истерией.
По нашим наблюдениям [Зачепицкий Р. А., 1972], например, при
истерическом нижнем парапарезе больные обыкновенно с уди-
вительным спокойствием лежат в постели, как бы отрешенные
от волнений, вызвавших это нарушение, но у них возникает
тревожное состояние, когда в процессе лечебных воздействий
начинают восстанавливаться движения в ногах, если одновре-
менно не достигается продуктивное разрешение породившего
невроз конфликта. К числу патологических форм пассивной
1 Шибутани Т. Социальная психология. Пер. с англ.—М.: Прогресс, 1969,
с. 252.
226
психологической защиты относится и отмеченная психоанали-
зом так называемая «регрессия»—соскальзывания на более
примитивный уровень поведения или мышления (например,
пуэрилизм, псевдодеменция и др.). Как указывают В. М. Воло-
вик и В. Д. Вид (1975), отрицание психически больными своего
заболевания, выглядящее как отсутствие критики, нередко ока-
зывается способом неадекватной защиты. В соматической кли-
нике нередко наблюдаемая фиксация пациента в роли больного
также представляет собой пассивную форму защиты, затруд-
няющую лечение. Но у людей и животных существуют и более
эффективные активно-оборонительные пути предупреждения
или преодоления болезни. Так, например, среди приведенных
В. Е. Рожновым и М. Е. Бурно (1978)! ярких описаний различ-
ных типов психологической защиты одни носят характер пас-
сивных реакций. К ним относятся: «ощущение нереальности
происходящего (деперсонализационно-дереализационные явле-
ния)»; «аффектогенно возникающая способность не давать себе
отчета в переживаниях, способность вытеснять из сознания
травмирующие моменты, сужение сознания вплоть до сомнам-
булизма», «астенический вариант психологической защиты»;
«стремление отрешиться от забот, уйдя в «первобытное» состоя-
ние, «растворяясь» среди природы. Другие из приведенных ав-
торами типов зашиты стоят на границе между пассивной и ак-
тивной реакциями. Это —«бессознательное стремление „раст-
ворить" свое душевное напряжение в различных выразительных
движениях и действиях», и уже явно активную реакцию пред-
ставляет выделяемая авторами «злобно-агрессивная (дисфори-
ческая) защита». Ю. С. Савенко (1974), называя описанные им
7 типов защитных приемов механизмами психологической ком-
пенсации, прямо подразделяет их на пассивные и активные.
А. С. Прангишвили и соавт. (1978), наряду с вниманием к про-
блеме психологической защиты, стали подчеркивать также за-
висимость течения болезни от активного отношения больного
к своему страданию, собственному внутреннему миру и ко
всей окружающей его объективной среде.
В современной советской психологии используется понятие
деятельности для раскрытия закономерностей функционирова-
ния психического мира личности. Б. Ф. Ломов (1979) рассмат-
ривает деятельность в широком аспекте общения как выраже-
ния активности личности в ее отношениях с другими людьми.
Развивая исследования в области психологии отношений лич-
ности, В. Н. Мясищев указывал на их активный характер: че-
ловек, воспитываясь под влиянием той или иной среды, не
только не уходит из нее, но и преодолевает ее дефекты и преоб-
1 Рожнов В. Е., Бурно М. Е. Учение о бессознательном и клиническая
психотерапия: постановка вопроса.— В кн.: Бессознательное, природа, функ-
ции, методы исследования. Тбилиси, 1978, т. \1% с< 346—353.
8* 227
разует ее. Пониманию большого значения общей активности
организма и личности в борьбе с болезнью во многом способ-
ствовали современные исследования ряда ученых — Н. А. Берн-
штейна (1963), П. К. Анохина (1973), П. В. Симонова (1973)
и др., заложивших основы физиологии активности, строящейся
на принципах системного подхода. В свете такого подхода ор-
ганизм и личность являются самоуправляющимися и саморе-
гулирующимися системами. Н. А. Бернштейн1 писал: «...ни
одно существо не живет „на поводу" сигналов-раздражите-
лей. .. оно ведет активный поиск того, что ему потребно. Оно со-
образуется, конечно, с внешними сигналами, но не они опреде-
ляют его целеустремленное поведение». Согласно теории функ-
циональных систем П. К. Анохина, физиологическая потребность
(мотивация) и конечный результат деятельности (цель) яв-
ляются движущими силами биосистемы. П. В. Симонов говорит
о решающей роли у животных и человека поиска средств
удовлетворения потребностей, врожденных и приобретенных
в опыте. Д. Н. Меницкий (1975)2 приходит к выводу, что
«последовательность: потребность — поиск — удовлетворение —
оказалась чрезвычайно эффективным приобретением эволюции».
Марксизм не противопоставляет социальных черт личности
ее природной стороне, подчеркивая, что личность активно дей-
ствует в социальной среде всем своим существом. Нельзя не
отметить и того, что психофизиология активности служит од-
ним из подтверждений ленинской теории отражения, согласно
которой «Сознание человека не только отражает объективный
мир, но и творит его»3. Следовательно, можно говорить о со-
циальном, психологическом и физиологическом аспектах актив-
ности человека в их единстве.
Возвращаясь к медико-психологическим аспектам обсужда-
емой проблемы, надо отметить, что идея необходимости актив-
ного участия больного в процессе лечебно-восстановительной
работы является одним из основных принципов реабилитацион-
ных программ, разрабатываемых М. М. Кабановым (1978).
К признанию роли активности личности в преодолении болезни
пришел и такой видный представитель американской психосо-
матической медицины, как W. Green (1968). Заявляя о проис-
ходящем возрастании интереса не только к проблеме болезни,
но и к проблеме здоровья, он подчеркивает значение понятия
«coping», означающего то, что позволяет сохранять психоло-
гическую и физиологическую устойчивость вопреки отрицатель-
ным эмоциям. Уберегаться от болезни человек может не только
1 Бернштейн А. Н Предисловие к кн. А. В. Напалкова и Н. А. Чичваро-
вой. Мозг и кибернетика.— М., 1963, с. 4.
2 Меницкий Д. Н. Некоторые методологические вопросы условнорефлек-
торной теории.— В кн.: Методологические вопросы теоретической медицины.
М : Медицина, 1975, с. 82.
3 Ленин В. И. Поли. собр. соч, т. 29, с. 194.
228
пассивно, избегая вредных воздействий, но и активно преодоле-
вая' их. Экспериментальные исследования В. С. Ротенберга и
В. А. Аршавского (1979)1 показали позитивную роль актив-
ности организма и личности в предотвращении и купировании
ряда патологических состояний и отрицательную роль пассив-
ности как важной неспецифической предпосылки развития раз-
нообразной патологии у животных и человека. Исследователи
напомнили известные данные о том, что в период массовых ка-
тастроф, войн и других экстремальных ситуаций, несмотря на
интенсивные отрицательные эмоции и тяжелые лишения, про-
исходит не увеличение числа таких психосоматических заболе-
ваний, как язвенная, гипертоническая болезни и др., а их рез-
кое сокращение и даже исчезновение. Известно, в частности,
что гипертоническая болезнь распространялась в населении
Ленинграда не столько во время блокады, сколько вскоре после
прорыва ее и что в фашистских концлагерях оставшиеся в жи-
вых пленники редко болели психосоматическими расстройст-
вами, но последние возникали у узников после их освобожде-
ния. Такие, казалось бы, парадоксальные явления объясняются
активностью жертв подобных крайне неблагоприятных условий,
их борьбой за выживание и за дело, во имя которого они стра-
дают. В исследовании отмечается, что «нередко, пока человек
ведет ожесточенную и изнуряющую борьбу (.. .во имя достиже-
ния любой сверхзадачи), он вполне здоров, но когда борьба
завершается... он заболевает на гребне успеха и достижения —
возникают так называемые «заболевания достижения». Они не
являются просто следствием переутомления и истощения, по-
скольку наступают не в самый тяжелый период усилий, а по их
прекращении. Эти наблюдения, как и экспериментальные ис-
следования, упомянутые автором, показали, что болезнетворное
действие оказывает не столько самый стресс, сколько тип по-
ведения животных или человека. «Болезнь легче возникает и
тяжелее протекает при пассивно-оборонительном поведении...».
И, наоборот, сохранению здоровья или более легкому ее тече-
нию способствует активно-оборонительная реакция. Авторы на-
зывают такой тип поведения поисковой активностью, понимая
под ней активность, направленную на изменение данной ситуа-
ции либо на изменение самого субъекта, если речь идет о че-
ловеке. Наш опыт [Зачепицкий Р. А., 1973] показывает, что
значение патогенетической психотерапии при неврозах как раз
и состоит в том, что когда больной не может справиться с па-
тогенной жизненной ситуацией, врач помогает ему в поисках
путей к активному преобразованию самого себя, чтобы суметь
разрешить ситуацию. Предпосылки потребности поисковой ак-
тивности имеют биологическую природу, но реализация ее
1 Ротенберг В. С, Аршавский В. А. Стресс и поисковая активность.—
Вопр философии, 1979, № 4, с. 117—127.
229
у человека в большой степени зависит от социальных условий.
Характеризуя преобразования социально-экономическими усло-
виями потребностей человека, К. Маркс указывал, что эти
потребности «.. .равно как и способы их удовлетворения, сами
представляют собой продукт истории...» 1.
Защитные позиции личности Н. В. Иванов (1974) подразде-
ляет на три типа: 1) уклонение от переживания трудной ситуа-
ции; 2) преодоление такой ситуации обходным путем; 3) стрем-
ление к преодолению травмирующей ситуации путем прямого
сопротивления. Первые два типа характеризуют защитные при-
емы, подмеченные психоанализом, и иные пассивные при-
емы описанные другими исследователями. Третий тип — это
активно-оборонительная защита, использующая резервные воз-
можности организма и личности. В связи с этим уместно при-
вести справедливое указание Б. М. Кедрова (1973)2 о том, что
современная техника не несет фатальной угрозы психике и
здоровью человека. «В функциональной мощности человече-
ского мозга, пишет автор, кроются еще необозримые резервы».
Для их реализации необходимы соответствующие социальные,
психологические и психопрофилактические условия. Среди та-
ких условий важное место следует отвести правильному вос-
питанию детей и молодежи. При этом весьма существенно, как
отмечает В. Е. Кемеров (1977)3, что деятельность формирую-
щейся личности в основе своей является самодеятельностью и
«что воспитание ребенка, его обучение выступает как сотрудни-
чество воспитателя и воспитуемого, как двусторонний активный
процесс». Поисковая активность развивается с детства в зави-
симости от степени вовлечения ребенка в деятельное общение
со взрослыми и сверстниками. При полном удовлетворении
всех желаний детей и изнеживающем их воспитании подавля-
ется поисковая активность. То же происходит и при воспитании
в духе полных запретов и лишении их самостоятельности.
В обоих случаях люди вырастают беспомощными при встрече
с трудностями. Подобная детренированность, нужно думать, и
определяет в дальнейшем пассивно-оборонительные формы пси-
хологической защиты в норме и патологии4.
Благодаря правильному воспитанию у большинства людей
вырабатывается поисковая активность, обеспечивающая фру-
страционную толерантность, действенную позицию при встрече
с трудностями, что уберегает от невротических или психосома-
1 Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т. 23, с. 182.
2 Научно-техническая революция и социализм/Под ред. Б. М. Кедрова.—
М.: Политиздат, 1973, с. 50.
3 Кемеров В. Е. Проблема личности: методология исследования и жизнен-
ный смысл.— М.: Политиздат, 1977, с. 133—134.
4 В связи с изложенным представляет интерес предложенная А. А. Гош-
таутасом с соавт. (1978) методика исследования психологической активности
личности
230
тических заболеваний или облегчает их течение и способст-
вует выздоровлению. Предпосылками силы и выносливости лич-
ности являются гармоническое развитие системы ее отношений,
ее положительные интересы, рациональные взгляды на жизнь,
способность трезво оценивать окружающий мир и свои возмож-
ности. Такую устойчивость личности можно сравнить с невос-
приимчивостью к инфекционным болезням иммунизированных
людей.
В наше время много и правильно говорят о важности физи-
ческой закалки организма, но, к сожалению, до сих пор остав-
ляли без достаточного внимания задачу психической закалки
человека как непременного условия его развития и здоровья.
Как указывал В. Н. Мясищев, по мере роста нового человека
надо с детства знакомить его с трудностями, учить не пасовать
перед ними, смело идти на их преодоление. Предпринимаемые
теперь меры по улучшению трудового воспитания детей и мо-
лодежи должны способствовать формированию здоровой ду-
хом и телом гармонически развитой, сильной личности.
Глава XI
ГРУППОВЫЕ МЕТОДЫ ПСИХОТЕРАПИИ
И ПСИХОКОРРЕКЦИИ
Психологическая коррекция, так же как и психотерапия,
осуществляется преимущественно в трех основных формах:
индивидуальной, групповой и семейной. В нашей стране ме-
тоды1 психотерапии и психокоррекции наиболее полно и широко
разработаны В. Н. Мясшцевым, Р. А. Зачепицким, Е. К. Яков-
левой, Б. Д. Карвасарским, В. Е. Рожновым, И. 3. Вельвов-
ским, А. Т. Филатовым, С. С. Либихом, М. Э. Телешевской,
Н. Д. Лакосиной, М. Е. Бурно и др. Классификация этих мето-
дов представляет значительные трудности. Наиболее прием-
лемым можно считать выделение J. Alexandrowicz (1979) сле-
дующих четырех их основных категорий.
1) имеющих характер техник (дискуссия, психодрама,
психогимнастика, гипноз, музыкотерапия, аутогенная трени-
ровка, релаксация и т. п.);
2) определяющих условия, в которых реализуются психо-
терапевтические цели: семейная психотерапия, амбулаторная
психотерапия, терапевтическое сообщество и др. (по автору,
эти термины означают не какие-либо специфические приемы
воздействия, а специфические условия, в которых происходит
психотерапевтический процесс);
3) представляющих разновидности инструментов воздейст-
вия на пациента. Инструментом могут быть психотерапевт (ин-
231
дивидуальная психотерапия) или психотерапевтическая группа
(групповая психотерапия);
4) являющихся методами, которые автор называет «психо-
терапевтическими интервенциями (вмешательствами), такими
как интерпретация или кларификация, убеждение или разъяс-
нение, директивное или недирективное поведение психотера-
певта.
Конкретные цели, формы, методические приемы и содержа-
ние психокоррекционной работы определяются еще и тем, ка-
кова роль психологического фактора в происхождении тех или
иных расстройств, того или иного заболевания. В зависимости
от этого методы психологической коррекции могут выступать
в ходе лечебно-восстановительной деятельности в качестве ос-
новных или вспомогательных. Лучше всего рассмотреть методы
психотерапии и психокоррекции на модели невроза, в проис-
хождении которого психологический фактор и прежде всего
особенности личности играют ведущую роль.
Формирование личности человека, индивидуальной системы
отношений происходит в процессе взаимодействия между
людьми, их общения в той или иной группе (семья, учебный
или производственный коллектив, группа сверстников) и в об-
ществе в целом путем последовательного усвоения характерных
для этой группы целей, норм, ценностей, образцов и стереоти-
пов поведения. В связи с этим логически обоснованным явля-
ется использование группы с целью коррекции неадекватных
отношений, установок, реакций и форм поведения. Как указы-
вают Б. Д. Карвасарский и В. А. Мурзенко (1977), психотера-
певтический потенциал групповых методов не ограничивается
возможностью использования воздействия группы на отдельного
ее участника. Если бы психотерапевтическое воздействие группы
ограничивалось лишь этим феноменом, то групповые методы не
имели бы никаких дополнительных механизмов коррекции по
сравнению с индивидуальной психотерапией: в одном случае
инструментом воздействия выступает психотерапевт, в другом —
группа, и это было бы единственное различие. Групповая пси-
хотерапия представляет иной аспект воздействия на внутрилич-
ностные структуры. В психотерапевтической группе каждый
пациент моделирует свою реальную жизненную ситуацию, ис-
пользует привычные для него стереотипы поведения, реализует
характерные отношения и установки. Здесь он получает воз-
можность «посмотреть на себя со стороны», понять непродук-
тивный характер своего поведения и общения и в психотерапев-
тической обстановке прийти к изменению нарушенных отноше-
ний, приобретая навыки полноценного общения, отказываясь от
невротических защитных механизмов, осваивая иные, более
адекватные формы эмоционального реагирования и поведения.
Таким образом, групповой психотерапевтический процесс охва-
тывает не только индивидуальную проблематику пациента в ее
232
непосредственном выражении, но и преломление индивидуаль-
ных проблем в реальных отношениях, складывающихся в группе
(с другими членами группы, с группой как целым, с психоте-
рапевтом). Специфичность групповой психотерапии заключа-
ется в осознанном и целенаправленном использовании всей со-
вокупности взаимоотношений и взаимодействий, возникающих
между участниками группы (включая психотерапевта), т. е.
происходит целенаправленное использование групповой дина-
мики в лечебных целях.
А. В. Петровским и его сотрудниками (1975) разрабатыва-
ется стратометрическая концепция групповой активности, пре-
одолевающая односторонность зарубежных теорий групповой
динамики, в рамках которых малая группа рассматривается
лишь как совокупность интеракционистских и коммуникативных
актов без учета содержательной стороны деятельности группы.
Концепция А. В. Петровского предполагает наличие нескольких
слоев групповой активности, которые соотносятся с различными
уровнями развития,группы. Традиционно описываемые в запад-
ной литературе параметры групповой активности, по мнению
автора, относятся лишь к самому низкому уровню развития
группы — к диффузной группе. Развитая группа, коллектив ха-
рактеризуется иными параметрами, такими как: преобладание
актов коллективистического самоопределения, ценностно-ориен-
тационное единство, степень референтности данной группы для
ее членов, эталонность коллектива и др. Использование страто-
метрической концепции как методологической основы позво-
ляет глубже понять специфику групповой динамики и откры-
вает новые перспективы повышения эффективности групповых
методов психотерапии и психокоррекции путем целенаправлен-
ного воздействия на процессы формирования и развития психо-
терапевтической группы.
В общем виде групповую динамику определяют: 1) цели,
задачи и нормы группы, их формирование и изменение, их влия-
ние на участников группы (имеет ли группа общую цель и ка-
кую, понимают и разделяют ли эту цель члены группы, какие
формы поведения соответствуют групповым нормам и т. д.);
2) структура лидерства в группе, проблемы руководства,
зависимости, подчинения и сотрудничества (каково отношение
членов группы к лидеру, насколько выражены потреб-
ность в руководстве и опоре и потребность в автономии, ка-
ковы возникающие виды соперничества и т. д.); 3) групповые
роли (роли лидера, «эксперта», «звезды», «козла отпущения»
и т. д., кто доминирует, кто подчиняется, кто активен, кто пас-
сивен, причины пассивности и т. д.); 4) сплоченность группы
(привлекательность группы для отдельных ее членов, потреб-
ность участия в жизни группы, сотрудничество при реализации
совместных задач, какие потребности участников группы она
удовлетворяет, каи воспринимаются проявления враждебности
233
или поддержки и т. д.); 5) групповое напряжение, проявление
антипатии (агрессивные чувства, причины конфликтов и спо-
собы их разрешения и т. д.); 6) актуализация прежнего эмо-
ционального опыта и прошлых стереотипов межличностных от-
ношений во взаимодействии с отдельными членами группы;
7) формирование подгрупп, их отношение к группе и влияние
на ее деятельность; 8) главные виды вербальной коммуника-
ции в группе и их содержание (вопросы, ответы, информация,
выявление положительных и отрицательных эмоций, высказы-
вание о чувствах, критика, отвергание, признание и похвала,
выражение положительного отношения и т. д.).
Все элементы групповой динамики подлежат обсуждению
в группе, так как в них наиболее ярко выражаются специфика
системы отношений, установок, особенности поведения, цен-
ностные ориентации и пр., и могут рассматриваться как основ-
ные темы групповых дискуссий. Обсуждение в группе — это,
по сути дела, интерпретация, которая является ведущим сти-
лем проведения психотерапевтической группы с больными нев-
розами.
Все формы межличностных взаимодействий и взаимоот-
ношений, все формы внутригрупповой интеракции, обладаю-
щие наиболее выраженным психотерапевтическим потенциалом,
можно условно объединить в две основные категории: 1) пре-
доставление эмоциональной поддержки; 2) собственно направ-
ленная психотерапевтическая коррекция. Хотя эмоциональная
поддержка является неспецифическим психотерапевтическим
фактором и сама по себе не ведет к достижению понимания
зависимости между невротическим состоянием и особенностями
личности больного, особенностями его системы отношений (что
является важнейшим условием, способствующим выздоровле-
нию), тем не менее возникающая благодаря ей атмосфера вза-
имной заинтересованности, доверия и понимания создает не-
обходимые предпосылки для ослабления характерных невро-
тических защитных механизмов. В свою очередь, это ведет
к тому, что сопоставление невротических позиций, установок,
отношений с реальной действительностью не влечет за собой
дополнительной травматизации и дает желательный психоте-
рапевтический эффект. Собственно эмоциональную поддержку,
вероятно, вообще нельзя отнести к неспецифическим факторам
в строгом смысле слова, так как эмоциональная поддержка
оказывает стабилизирующее положительное влияние на само-
оценку, повышает степень самоуважения и, таким образом,
оказывает корригирующее влияние на такой важнейший эле-
мент системы отношений, каким является отношение к себе.
Основным средством реализации второй категории межлич-
ностных воздействий — направленного психотерапевтического
воздействия — является конфронтация участников группы с их
отношениями, проблемами и эмоциями. Такая конфронтация
234
представляется одним из важных специфических факторов и
осуществляется главным образом по механизму обратной связи
между каждым из членов группы и группой как целым. Бла-
годаря ее наличию участник группы получает информацию
о том, какие эмоциональные реакции у окружающих вызывает
его поведение, как он воспринимается окружением и, наоборот,
в каких случаях его интерпретация эмоционального содержа-
ния межличностной ситуации оказывается неадекватной и вле-
чет за собой столь же неадекватную реакцию. Обратная связь
дает возможность участнику группы понять и оценить значе-
ние собственной роли и характерных для него межличностных
конфликтов, а поскольку эта связь осуществляется в условиях
реального эмоционального взаимодействия, для него в огром-
ной степени облегчаются отказ от неадекватных эмоционально-
поведенческих стереотипов и выработка навыков полноценного
межличностного общения. Недооценка роли эмоционального
переживания в процессе самопознания ведет к тому, что при
наличии вербального понимания причин своего состояния не-
вротик, тем не менее, не в состоянии отказаться от собственных
дефектных эмоциональных стереотипов.
В психотерапевтической группе необходимо сохранение ди-
намического равновесия между тенденциями к обоим видам
интеракций, которое можно назвать «групповым балансом».
В случае преобладания первой из тенденций группе угрожает
возможность превратиться в псевдотоварищескую неформаль-
ную структуру, которая будет приятной для всех, но психоте-
рапевтически совершенно бесполезной. При одностороннем
доминировании тенденции к конфронтации взаимная критика
перестает восприниматься как доброжелательная и конструк-
тивная, обостряется защитное поведение участников группы,
под угрозу ставятся групповые нормы и, в конечном счете,
ее психотерапевтический характер. В зависимости от степени
психотерапевтической зрелости группы и эмоциональной ситуа-
ции в ней периодически возникает объективная потребность в от-
носительном преобладании того или другого вида интеракции.
Например, в первой фазе функционирования группы, когда
ее участники еще недостаточно усвоили групповые психотера-
певтические нормы, когда еще не оформилась более или менее
стабильная структура, попытки психотерапевта искусственно
навязать группе непосредственно корригирующую форму ин-
теракции окажутся преждевременными и приведут к противо-
положному результату. Точно так же при наличии четко оформ-
ленных и соперничающих между собой подгрупп корригирую-
щая форма интеракции может использоваться как инструмент
этого соперничества. Регулирование группового баланса не но-
сит спонтанного характера и требует недирективного вмеша-
тельства со стороны психотерапевта. Такое вмешательство дол-
жно быть дифференцированным и определяться тем, какие кон-
235
кретные формы приобретает нарушение группового баланса.
Нарушение может, выражаться в молчании группы, в лишенном
эмоциональности теоретизировании на отвлеченные темы,
в стремлении приписывать ответственность за свои невротиче-
ские трудности окружению (родственникам, сотрудникам по
работе и т. д.). Зачастую нарушение группового баланса на-
ходит выражение в псевдотерапевтической активности группы
(высказывание участников группы по очереди вместо спон-
танного эмоционального обмена, выбор «козла отпущения»
для создания видимости оживленной дискуссии и пр.).
Причины таких нарушений группового баланса могут быть
самыми разнообразными: конфликты, возникающие между
участниками группы, но не вынесенные ими на обсуждение,
появление в группе новых членов (что может привести к раз-
делению на «старых и «новых»), уход из группы наиболее по-
пулярных ее членов и т. д. Единственно допустимым и психо-
терапевтически эффективным путем разрешения такого типа
ситуаций являются вскрытие причин и свободное обсуждение
связанных с этим эмоций. Осуществляется это в формах, оп-
ределяемых целой совокупностью групповых факторов. Обычно
в таких случаях эффективным является использование раз-
личных вспомогательных техник (в том числе и невербальных).
Конечная цель групповой психотерапии — коррекция нару-
шенной системы отношений, неадекватных реакций и форм по-
ведения, достигаемая путем направленного воздействия психо-
терапевтической группы на основные компоненты отношений
личности: познавательный, эмоциональный и поведенческий.
Конкретные задачи в каждой из этих сфер формулируются
следующим образом.
1. В познавательной (интеллектуальной) сфере пациент дол-
жен: а) осознать связь между различными психогенными фак-
торами — психотравмами, конфликтными ситуациями и воз-
никновением, развитием и продолжением его невротических
расстройств; б) уяснить меру своего участия в возникновении,
повторении и продолжении своих конфликтных и травмирую-
щих ситуаций, т. е. каким образом он сам своим поведением
и своими отношениями способствует этому, а также понять,
каким путем можно было бы предотвратить повторение кон-
фликтных ситуаций через другое поведение и другие отноше-
ния; в) уловить более глубокие причины собственных пережи-
ваний и способов поведения начиная с детства, а также осо-
бенностей и условий формирования своей системы отношений.
S. Kratochvil (1978) считает, что первая стадия не имеет
большого лечебного значения, вторая представляет собой ста-
дию интерперсонального осознания, третья — генетического
осознания. Не всегда бывает необходимым решение всех трех
этих задач, иногда достаточно интерперсонального осознания
для того, чтобы пациент приобрел возможность формирования
236
более адекватных форм поведения и через это — более адек-
ватной системы отношений и установок.
2. В эмоциональной сфере пациент может: а) в атмосфере
откровенности и доверия свободно раскрыть свои проблемы
с соответствующими чувствами (часто скрытыми не только для
окружающих, но и от себя самого); б) получить эмоциональ-
ную поддержку, необходимую для ослабления действия невро-
тических защитных механизмов, стабилизации самооценки,
повышения самоуважения, изменения эмоционального отноше-
ния к самому себе; в) приобрести возможность осуществить
эмоциональную коррекцию своих отношений, модифицировать
способ переживаний и реагирования, восприятия своих отно-
шений с окружающими.
3. В сфере поведения пациент может корректировать свои
неадекватные реакции и формы поведения на основании до-
стижений в познавательной и эмоциональной областях.
В отличие от психоаналитического направления задачей па-
тогенетической групповой психотерапии является не само по
себе осознание и эмоциональное отреагирование, а, как пишет
В. Н. Мясищев (I960), «образование на этой основе регуля-
ции потребностей, которая на высоком уровне связана с са-
мовоспитанием» и, что самое главное, реализация этого нового
понимания, этого нового знания, нового способа эмоциональ-
ного реагирования и нового способа переживаний, этой новой
системы отношений на практике, прежде всего в социальном
функционировании личности.
В настоящее время большинство исследователей процесса
групповой психотерапии, а также практики в этой области
описывают специфический фазный характер группового психо-
терапевтического процесса, который обнаруживается как на
уровне общегрупповых параметров, так и на уровне индивиду-
ально-психологических показателей. Существование различных
схем определяется как разными теоретическими ориентациями,
так и различными параметрами, исследование которых послу-
жило основанием для выделения определенных фаз группового
психотерапевтического процесса. Однако на описательном
уровне у большинства авторов в этом вопросе обнаруживается
больше сходства, чем различий. Первая фаза психотерапевти-
ческого процесса представляет собой момент образования
группы как целого и совпадает с моментом поступления паци-
ента в лечебное учреждение. Пациенты имеют различные уста-
новки и ожидания по отношению к лечению: более или менее
реалистичные, оптимистические или пессимистические, направ-
ленные на выздоровление или амбивалентные, но практически
почти для всех пациентов вначале характерны преувеличение
роли фармакотерапии и симптоматических методов лечения,
стремление перенести ответственность за результаты лечения
на врача, непонимание значения собственной активной роли
237
в достижении выздоровления, ожидание от врача директивной
роли руководителя. Такие установки проявляются и выражаются
в надежде на различного рода направляющие инструкции психо-
терапевта. Не соответствующее ожиданиям пациентов поведение
психотерапевта может вызвать тревогу у членов группы и соз-
дает в ней довольно высокий уровень напряжения. Зачастую
можно выделить начальный период этой фазы, носящий иной
характер и представляющий собой период псевдосплоченности.
Если группа состоит из достаточно активных пациентов, имею-
щих сходный социальный статус, близкие проблемы, то пе-
риод предварительного знакомства (представление пациентов
в группе, когда каждый из участников группы коротко рас-
сказывает о себе), занимающий обычно в целом 30—40 мин на
первом занятии, может растянуться на несколько занятий и
превратиться в длительный рассказ пациента, направленный
на «драматизацию», на утрированное подчеркивание объектив-
ных причин своего заболевания. На этом фоне порой формиру-
ется псевдосплоченность, препятствующая выработке психоте-
рапевтических групповых норм. Псевдосплоченность может
сформироваться и на другой основе: например, какому-либо
из членов группы отводится роль «козла отпущения», на кото-
ром длительное время непродуктивным образом концентриру-
ется внимание группы. Однако группа, развитие которой ха-
рактеризуется наличием такого периода, неизбежно приходит
к разочарованию в этой позиции и пониманию ее непродуктив-
ности. Задача психотерапевта в этот период заключается в том,
чтобы помочь группе вскрыть подлинный смысл этой ситуации,
показать ее защитный характер, сходность с позициями паци-
ентов в реальной жизни, ее конфликтогенность и непродуктив-
ность в реальном жизненном общении и функционировании.
Выход из этой ситуации сопровождается повышением уровня
напряжения в группе. Однако группа приобретает опыт анализа
и понимания возникающих в ней отношений.
Вторая фаза группового психотерапевтического процесса
характеризуется высоким уровнем напряженности. Если в пер-
вой фазе, испытывая напряжение, члены группы ведут себя
чаще всего пассивно, обнаруживая лишь свои ожидания по от-
ношению к активности психотерапевта, то во второй фазе на-
пряжение может становиться более активным, аффективно за-
ряженным, даже с некоторыми агрессивными тенденциями.
В таких случаях агрессивные чувства, переживаемые членами
группы, могут направляться на психотерапевта, как на чело-
века, якобы оторванного от группы, не желающего ей помочь,
плохо, по мнению пациентов, справляющегося со своими обя-
занностями. Однако группа не всегда открыто выражает свои
чувства по отношению к психотерапевту, поскольку часто рас-
сматривает его как официальное лицо, стоящее «вне критики»,
выражение агрессивных чувств к которому является «запрет-
238
ным». Тогда в качестве объекта приложения этих чувств мо-
жет быть выбран кто-либо из пациентов либо сам метод лече-
ния, как бы безотносительно к психотерапевту. Важно в этот
период, чтобы члены группы вербализовали свои переживания
относительно психотерапевта и своих ожиданий по отношению
к нему.
Анализ сложившейся в группе ситуации определяет начало
третьей фазы групповой психотерапии, в процессе которой на-
чинаются структурирование группы, выработка норм и целей.
Возникают активность, самостоятельность и ответственность
членов группы в отношении себя самого и группы в целом.
Формируется сплоченность, которая является важнейшим усло-
вием функционирования психотерапевтической группы. Совмест-
ная деятельность по разрешению кризисной ситуации, в кото-
рой большинство пациентов испытывали сходные чувства и
разрешали ситуацию сходным путем, совместная выработка
групповых норм делает для пациентов более естественным про-
цесс принятия групповой «культуры». Таким образом, у пациен-
тов развиваются чувство принадлежности к группе, ответствен-
ность за ее функционирование. В ответ пациент получает приз-
нание группы, что оказывает в дальнейшем большое влияние
на изменение самооценки и повышение степени самоуважения,
а это, в свою очередь, увеличивает привлекательность группы
для каждого отдельного пациента и способствует дальнейшему
развитию групповой сплоченности.
В этой ситуации психотерапевт постепенно начинает зани-
мать другую позицию. Как описывают этот процесс многие ав-
торы, он переходит из альфа-позиции (позиции руководителя)
через омега-позицию (позицию противника) в бета-позицию
(позицию консультанта и эксперта). Группа демонстрирует
своим членам способность самостоятельно решать возникающие
проблемы, что создает у них чувство уверенности и безопасно-
сти, необходимое для спонтанности и искренности. Однако не
всегда фаза конфронтации с психотерапевтом носит столь вы-
раженный характер. Группа, продуктивно разрешившая ситуа-
цию псевдосплоченности, приобретая и вырабатывая новое по-
нимание групповых целей и норм, переходит с помощью психо-
терапевта к конструктивному взаимодействию. Решающую роль
в этом случае имеет позиция психотерапевта. Если он с самого
начала принимает роль внимательного, доброжелательного, по-
нимающего, недирективным способом направляющего актив-
ность группы руководителя, то постепенно его позиция стано-
вится позицией консультанта, доброжелательного наблюдателя,
который не ограничивает и не подавляет активность пациентов;
таким образом, фаза конфронтации группы с психотерапевтом
может быть в значительной степени редуцирована, хотя эле-
менты ее нередко сохраняются, но в менее выраженной степени.
Первый путь, когда психотерапевт сознательно идет на кон-
239
фронтацию с группой, является более эффективным для разви-
тия группы, она становится активнее и самостоятельнее. Однако
не всякий, особенно начинающий, психотерапевт способен сам
выдержать высокое напряжение, вызываемое наличием агрес-
сивных реакций пациентов. В таких случаях стратегия психоте-
рапевта зависит от его опыта и личностных особенностей.
Четвертая фаза групповой психотерапии представляет собой
период активно работающей психотерапевтической группы.
Возникающие в предыдущей ее фазе сплоченность, заинтере-
сованность участников друг в друге, эмоциональная поддержка,
ответственность, искренность, спонтанность ее участников соз-
дают возможности для собственно психотерапевтического про-
цесса, направленного на изменение системы отношений, на кор-
рекцию неадекватных реакций и форм поведения.
Групповая дискуссия является основной формой групповой
психотерапии. Все остальные формы выполняют по отношению
к ней вспомогательную функцию. Обычно выделяют три основ-
ные ориентации групповой дискуссии: биографическую, темати-
ческую, интеракционную. Биографически ориентированное заня-
тие посвящено истории жизни отдельного пациента, его проб-
лемам, конфликтным ситуациям, особенностям его поведения
в реальной жизни, в клиническом отделении, в группе. Темати-
чески ориентированное занятие концентрируется на какой-либо
теме, актуальной для большинства пациентов. Интеракционно
ориентированная дискуссия направлена на анализ ситуаций и
механизмов, связанных с функционированием группы, с анали-
зом группового взаимодействия. Однако такое деление является
условным, так как в ходе одной и той же групповой дискуссии
имеют место различные виды ориентации группового сеанса.
Например, вначале занятие ориентировано интеракционно
(в частности, обсуждается ролевая структура группы), затем
в этой связи внимание концентрируется на одном из пациен-
тов, играющем определенную роль в этой структуре, в даль-
нейшем занятие может принять биографическую ориентацию,
так как необходимо привлечение биографического материала
либо с целью показать пациенту повторяемость его реакций
и способов поведения, конфликтов, либо для того, чтобы по-
мочь ему понять причины его поведения. Точно так же обсуж-
дение биографии отдельного пациента может привести в даль-
нейшем к обсуждению актуального поведения и проблематики
остальных пациентов, общей для всех пациентов проблемы. Не
существует определенной схемы дискуссионного занятия. Каж-
дое занятие имеет свою собственную структуру, которая опре-
деляется, прежде всего, актуальной групповой ситуацией, ха-
рактером взаимоотношений и взаимодействий в группе в дан-
ный конкретный момент. Кроме того, оказывают влияние на
структуру данного занятия характер и содержание предыду-
щего занятия, вхождение в группу новых членов, уход старых
240
и пр. Естественно, что обсуждение групповой динамики, ее
понимание и переживание отдельными пациентами не явля-
ются самоцелью. Конечной целью является достижение боль-
ным понимания специфики своих отношений, реакций и форм
поведения, сопровождаемого определенными переживаниями,
стимулирующими пациента к формированию нового поведения;
достигается же это как путем анализа биографии, так и
(в этом специфика групповой психотерапии) путем анализа
его особенностей в контексте группового взаимодействия.
Средства воздействия, используемые психотерапевтом в ходе
групповых занятий, можно условно разделить на вербальные и
невербальные. К невербальным формам воздействия личности
психотерапевта можно отнести его мимику, жестикуляцию, ин-
тонацию. Используемые более или менее сознательно и целена-
правленно, они выражают собственные эмоциональные состоя-
ния психотерапевта и служат для стимулирования пациентов
к определенной активности, а также являются средством по-
ложительного или отрицательного подкрепления определенных
форм поведения пациентов. Человек в меньшей степени спосо-
бен контролировать свои невербальные реакции по сравнению
с вербальными. Это относится не только к пациентам, но и
к психотерапевту. В этой связи к психотерапевту предъявля-
ются определенные требования в плане контроля своего невер-
бального поведения.
Вербальные средства воздействия можно условно разделить
на несколько категорий: а) структурирование хода занятий;
б) сбор информации — психотерапевт задает вопросы, стиму-
лирует других пациентов к задаванию вопросов; в) интерпре-
тация — наиболее обширная категория психотерапевтических
приемов. Она может касаться как прошлого пациента, так и
относиться к актуальному периоду. При этом имеют место от-
ражение эмоций (психотерапевт повторяет высказывание па-
циента, не выходя за пределы их явного содержания); клас-
сификация (психотерапевт извлекает из высказываний пациен-
тов то существенное, что содержится в них неявным образом);
конфронтация (психотерапевт сопоставляет отдельные выска-
зывания с целью показать сходства, различия, противоречия,
которые пациент до сих пор не замечал); собственно интерпре-
тация (постановка гипотез в отношении причинно-следствен-
ных связей, в наличии которых пациент не отдавал себе от-
чета); г) убеждение и переубеждение, совершаемые непосред-
ственно и опосредованно; д) предоставление информации;
е) постановка определенных заданий, которые должны выпол-
нять пациенты (речь идет об использовании различных вспо-
могательных техник, как вербальных, так и невербальных).
Все эти категории характеризуют интерпретационный стиль
ведения группы. В каждом из этих подходов речь идет не
только о собственной активности психотерапевта, но главным
241
образом о стимулировании участников группы к определенным
видам активности. Как бы ни были точны и верны интерпрета-
ции и гипотезы самого психотерапевта, они лучше воспринима-
ются пациентами, если они будут совместно выработаны.
Группа сама задает ту глубину и полноту, на которую она спо-
собна на сегодняшний день. Задача психотерапевта заключа-
ется в том, чтобы стимулировать активность, повторять, под-
черкивать наиболее ценные высказывания, положительно их
подкреплять.
К вспомогательным приемам могут быть отнесены и та-
кие, как разыгрывание ролевых ситуаций, проективный рису-
нок, психогимнастика, музыкотерапия.
1. Разыгрывание ролевых ситуаций. Функция этой формы пси-
хотерапии заключается в предоставлении группе дополнитель-
ного материала, необходимого для понимания проблематики
отдельных ее участков. Эта форма оказывается особенно по-
лезной тогда, когда в группе наблюдается тенденция к избе-
ганию обсуждения реальных ситуаций пациента, к абстрактным
рассуждениям, к излишне интеллектуализированному решению
проблем. Разыгрывание ролевых ситуаций оказывается полез-
ным также тогда, когда пациенту трудно вербализовать те или
иные проблемы, чувства, эмоции. Разыгрывание ролей позво-
ляет группе полнее увидеть пациента в конкретной ситуации.
Особенно это важно, если факты, которые излагает пациент,
его попытки интерпретировать события своей жизни являются
противоречивыми и неубедительными. Этот психотерапевтиче-
ский прием может быть отдельным занятием, а может, в слу-
чае необходимости, включаться психотерапевтом в ход группо-
вой дискуссии. Если разыгрывание ролей используется в виде
самостоятельного занятия, то оно строится следующим образом.
Все пациенты получают одну тему и по очереди разыгрывают
ее, выбирая себе партнера из членов группы. Темы могут быть
самыми разнообразными, например 1) «Трудный разговор»:
пациенту следует разыграть перед группой разговор, кото-
рый по какой-либо причине (сама тема, сложные отношения
с человеком, с которым нужно говорить и т. п.) является для
него трудным и неприятным; 2) «Просьба: пациенту надо по-
просить что-либо для него важное у человека, который не скло-
нен сразу удовлетворить его просьбу; 3) «Требование»: необ-
ходимо потребовать что-либо у человека, который не склонен
выполнять это требование; 4) «Примирение»: требуется прими-
риться с человеком, перед которым испытываешь вину;
5) «Обида»: приходится высказать обиду человеку, который
считает, что она не вполне заслуженна; 6) «Неудовольствие»:
нужно высказать свое недовольство поведением человека, кото-
рый считает, что поступает правильно, и т. д.
Темы можно формулировать таким образом, чтобы в них
принимала участие практически вся группа (например, какая-
242
либо ситуация на работе или в семье). Они могут быть менее
реальными или даже фантастическими (например, «Карнавал»,
«Необитаемый остров», «Прием гостей» и т. д.).
После проигрывания ситуации группа обсуждает увиденное
и услышанное: какие рациональные и какие эмоциональные за-
дачи ставил перед собой пациент, каким и насколько адекват-
ным способом он решал их, какие эмоции возникали у партне-
ров по отношению друг к другу во время разыгрывания ситу-
аций, насколько достигнутое соответствовало поставленным це-
лям и ожиданиям и на рациональном и на эмоциональном
уровне. В группе после разыгрывания ситуации обсуждается
также вопрос о том, насколько характерно такое поведение для
пациента вообще, в группе, в реальной жизни. В зависимости
от конкретной ситуации могут обсуждаться самые разнообраз-
ные моменты, имеющие значение для понимания проблематики
конкретного пациента, например выбор партнера на «положи-
тельную» или «отрицательную» роль, повторяющиеся стерео-
типы поведения. В некоторых случаях (обычно это касается
пациентов с выраженным чувством неуверенности) методика
разыгрывания ролевых ситуаций может выполнять функцию
поведенческого тренинга. Тогда пациенту предлагают разыграть
ситуацию, в которой он испытывает напряжение, скованность,
неуверенность. Пациент проигрывает эту ситуацию несколько
раз, до тех пор, пока он не сделает этого достаточно свободно,
не испытывая при этом отрицательных эмоций. Как правило,
в таком случае психотерапевт совместно с группой задают
схему ситуации, оговаривая способы и даже текст.
2. Психогимнастика. Это форма психотерапии, при которой
главным средством коммуникации является двигательная экс-
прессия. Она требует от участников группы выражения эмоций
с помощью мимики, пантомимы. В основу проводимых нами
психогимнастических занятий положена методика, разработан-
ная Н. Junova (1979).
Психогимнастические занятия состоят из двух частей: подго-
товительной и пантомимической. Целью первой являются умень-
шение напряжения, сокращение эмоциональной дистанции
между участниками группы, тренинг способности выражения и
понимания чувств, мыслей, различных эмоциональных состоя-
ний без помощи слов. Как правило, подготовительная часть за-
нятия начинается с упражнений, направленных на развитие
внимания. К такого рода упражнениям относятся: а) гимна-
стика с запаздыванием: вся группа повторяет за одним из ее
участников обычное гимнастическое упражнение, отставая от
ведущего на одно движение; темп упражнения постепенно на-
растает; б) «передача ритма по кругу»: вслед за одним из
участников все члены группы поочередно по кругу повторяют,
хлопая в ладоши, заданный ритм; в) «Передача движения по
кругу»: один из участников группы начинает действие с вообра-
243
жаемым предметом таким образом, чтобы это действие можно
было продолжить; сосед продолжает это действие; такие обра-
зом, воображаемый предмет обходит весь круг; г) «Зеркало»:
участники группы разбиваются на пары и по очереди зеркально
повторяют движения своего партнера. Другой вид упражнений
направлен главным образом на снятие напряжения и состоит
из простейших движений, например: «я иду по воде», «по горя-
чему песку», «спешу на работу», «возвращаюсь с работы», «иду
к врачу», «на занятие группы» и пр. Сюда же относится упраж-
нение и по типу «третий лишний» и т. п., для чего могут ис-
пользоваться также разнообразные подвижные игры.
Следующий тип упражнений направлен прежде всего на со-
кращение эмоциональной дистанции между участниками
группы, на развитие сотрудничества и взаимопомощи. Здесь ис-
пользуются упражнения, предусматривающие непосредственный
контакт, уменьшение пространственной дистанции: разойтись
с партнером на узком мостике, сесть на стул, занятый другим
человеком, успокоить обиженного человека, «передать чувства
по кругу». В последнем упражнении вся группа садится в круг
и закрывает глаза. Один из ее участников передает какое-либо
чувство своему соседу с помощью прикосновения, а тот, в свою
очередь, должен передать это чувство дальше своему соседу,
сохранив его содержание, но выразив его с помощью собствен-
ных средств. Таким образом, одно и то же чувство, выражен-
ное с помощью различных движений и прикосновений, обходит
весь круг. Такого рода упражнения способствуют развитию
чувства безопасности у пациентов, доверия, эмоционального
принятия друг друга.
Применяются и другие упражнения, связанные с трениров-
кой понимания невербального поведения других и тренировкой
способности выражения своих чувств и мыслей с помощью не-
вербального поведения, например: а) договориться о чем-либо
с другим человеком с помощью только жестов (разговор через
толстое стекло); б) изобразить то или иное состояние, чувство
(например, радость, раздражение, гнев, обиду, сочувствие
и пр.), изобразить психологические особенности свои или дру-
гого человека; каков я есть, каким я хотел бы быть, каким я
кажусь окружающим; в) понять, какое чувство или мысль хо-
тел выразить другой человек с помощью невербального пове-
дения; г) обратить на себя внимание группы и т. д.
Все перечисленные упражнения составляют подготовитель-
ную часть групповой психотерапии, хотя по времени она может
занимать примерно до половины всего занятия и нести более
выраженную содержательную нагрузку, особенно на более позд-
них этапах развития группы. Выбор упражнений подготовитель-
ной части, а также ее длительность определяются общегруппо-
вой ситуацией и фазой развития группы. Например, в некото-
рых случаях первые занятия психогимнастикой могут состоять
244
только из упражнений подготовительной части. Напряжение,
скованность, тревога, свойственные невротическим пациентам,
в непривычной ситуации усиливаются, страх перед неформаль-
ными контактами, к тому же в такой непривычной форме, воз-
растает. Поэтому на данном этапе не следует давать слишком
сложных пантомимических заданий и слишком увлекаться ин-
терпретацией упражнений (по сути дела, каждое упражнение
содержит материал, доступный содержательной интерпретации).
В такой ситуации гораздо эффективнее предлагать группе об-
щие упражнения, связанные с тренировкой внимания, способно-
сти понимать невербальные проявления вообще, а также уп-
ражнения, направленные на сокращение эмоциональной дистан-
ции между участниками группы.
На последующих этапах возрастает удельный вес собственно
пантомимических заданий. Здесь психотерапевт задает опреде-
ленную тему, которую пациенты должны представить с помощью
невербальных средств. Темы могут быть ориентированы как
на проблемы отдельного пациента, так и на проблемы, свойст-
венные всем участникам группы и группе в целом, т. е. касаю-
щиеся межличностных отношений в психотерапевтической
группе. Тема 1 — «Преодоление трудностей». Все пациенты по
очереди изображают, как они преодолевают жизненные трудно-
сти (символически «трудность» может олицетворять любой пред-
мет: например, скамья или стул изображают преграду, которую
нужно преодолеть). Тема 2 — «Запретный плод». Все пациенты
по очереди показывают, как они ведут себя в ситуации, когда
их желания расходятся с внешними или внутренними нормами
(роль «запретного плода» также может «играть» какой-либо
предмет). Тема 3 — «Моя семья». Пациент выбирает несколько
участников группы и расставляет их в пространстве так, чтобы
физическая дистанция примерно соответствовала степени эмо-
циональной близости с членами семьи (или ближайшим ок-
ружением). Тема 4 — «Скульптор». Один из членов группы
выступает в роли скульптора, т. е. придает членам группы позы,
которые, по его мнению, отражают их особенности и кон-
фликты. Тема 5 — «Моя группа», связанная с выражением
чувств к членам группы, своего ближайшего окружения,
к членам своей семьи. Члены группы расставляются в прост-
ранстве, причем физическое расстояние между членами группы
должно отражать степень эмоциональной близости и т. д.
Содержание тем для пантомимы не ограничено. Их могут
предлагать и психотерапевт, и пациенты, ориентируясь как на
проблемы каждого отдельного пациента, так и группы в целом.
Выполнение каждого занятия пантомимической части обсуж-
дается всей группой: разбираются переживания и чувства, воз-
никшие у пациентов во время выполнения упражнений, анали-
зируется выражение индивидуальных проблем, а также отно-
шений между участниками группы и пр. Оцениваются также
245
и задания подготовительной части (на более поздних этапах
функционирования группы). На первых фазах работы психо-
терапевтической группы интерпретации уделяется не слишком
много внимания (естественно, группой, но не психотерапевтом
для себя). В дальнейшем любое невербальное задание обсуж-
дается группой довольно подробно. Весь материал, получен-
ный в ходе гимнастики, в дальнейшем используется на группо-
вой дискуссии)как важный материал.
3. Проективный рисунок. Функцией проективного рисунка
также является предоставление дополнительного материала
о проблемах отдельного пациента. Так же как и методика
разыгрывания ролевых ситуаций и психогимнастика, проек-
тивный рисунок способствует выявлению и пониманию трудно-
вербализуемых проблем и переживаний. Занятие строится сле-
дующим образом: каждый пациент получает лист бумаги, цвет-
ные мелки (можно цветные карандаши или краски) и рисует
на заданную тему. Темы рисунка могут касаться как индиви-
дуальных, так и внутригрупповых проблем: какой я есть, ка-
ким я хотел бы быть, каким кажусь окружающим, моя семья,
моя работа, мои родители, я среди людей, мое представление
о невротике и здоровом человеке, самая большая трудность,
самое приятное или самое неприятное воспоминание или пере-
живание (какого-либо определенного периода, например дет-
ства, или жизни вообще) моя главная проблема, что мне нра-
вится и что не нравится в людях, три желания, «остров счастья»,
жизнь без невроза, мой любимый герой, моя группа, мое поло-
жение в группе, кто-либо из членов группы и т. д.
На рисование отводится 30 мин. Затем все рисунки выве-
шиваются на доске, и группа начинает по очереди их обсуж-
дение. Сначала все члены группы говорят о том, что хотел
изобразить автор, как они понимают его рисунок, а затем го-
ворит автор данного рисунка. Обсуждаются также возникшие
расхождения в интерпретации рисунка группой и самим рисо-
вавшим. При интерпретации рисунка обращается внимание на
его содержание, способы выражения, цвет, форму, композицию,
размеры, повторяющиеся в разных рисунках особенности. В ри-
сунках находят непосредственное выражение восприятие паци-
ентом той или иной ситуации, различные переживания, часто
неосознаваемые и невербализуемые. Например, пациент, гово-
рящий, что он является главой семьи и доволен своим поло-
жением, которое он занимает в семье, рисует на тему «Моя
семья» яркие и крупные фигуры жены и детей в центре листа
и себя самого, лежащего на кровати, причем себя он рисует
черным цветом и помещает свою крошечную фигурку в ниж-
нем углу листа. В дальнейшем оказалось, что рисунок в го-
раздо большей степени отражал истинную ситуацию, а глав-
ное— истинные переживания пациента по поводу занимаемого
им положения в семье.
246
Может использоваться и другой вариант проективного ри-
сунка, когда вся группа рисует сообща одну картину. В этом
случае обсуждаются также участие каждого члена группы
в общей работе, характер его вклада в общую деятельность
и особенности взаимодействия группы. Такая форма проектив-
ного рисунка стимулирует развитие в группе сотрудничества
и активного взаимодействия членов группы друг с другом, вы-
являет структуру лидерства и роли членов группы. Можно
также с этой целью использовать лепку (пластилин или глина)
и в варианте индивидуальной, и в варианте совместной груп-
повой деятельности.
4. Музыкотерапия. При рецептивном (пассивном) варианте
музыкотерапии занятия строятся следующим образом: паци-
енты прослушивают специально подобранные музыкальные
произведения, затем обсуждают эмоции, чувства, переживания,
воспоминания и мысли, которые возникли при прослушивании
музыки. На одном занятии прослушиваются, как правило, три
музыкальных произведения или три более или менее закон-
ченных музыкальных отрывка (каждое произведение длится
примерно 10 мин). Программы для занятий составляются с уче-
том различной эмоциональной «нагрузки» музыкальных произ-
ведений. Первое произведение должно создавать определенное
настроение для всего занятия, определенную атмосферу, оно,
как правило, спокойное, отличающееся расслабляющим дейст-
вием, не слишком напряженное. Второе произведение несет
основную нагрузку. Оно более динамичное, драматичное, его
функция — стимулировать интенсивные эмоции, переживания,
воспоминания. После прослушивания этого музыкального про-
изведения группа обсуждает те переживания, воспоминания,
ассоциации, эмоции, которые возникли у пациентов в ходе про-
слушивания музыки. Третье произведение должно снять воз-
никшее напряжение, оно может быть спокойным, расслабляю-
щим либо, наоборот, энергичным, дающим заряд оптимизма,
энергии, бодрости.
Музыкально образованный психотерапевт или психолог мо-
гут также стимулировать в процессе музыкотерапии собствен-
ную активность пациентов, давая задания подобрать музы-
кальные произведения, наиболее соответствующие их эмоци-
ональному состоянию, или же музыкальное произведение, по
их мнению более всего соответствующее состоянию какого-
либо пациента. Для использования активного варианта музы-
котерапии нужен набор несложных музыкальных инструментов
(колокольчики, барабан, марокасы, цимбалы и пр.). Пациен-
там предлагаются определенные ситуации, темы, сходные
с темами проигрывания ролей, психогимнастики, рисунка, на-
пример трудный разговор с кем-либо из лиц ближайшего окру-
жения. Пациент выбирает себе музыкальный инструмент и ин-
струмент для своего партнера, и затем с помощью звуков соз-
247
дается диалог. Обсуждение здесь идет тем же образом, что и
при проведении других вспомогательных техник. Кроме пере-
численных вспомогательных приемов, в процессе групповой
психотерапии могут также использоваться такие методики, как
хореотерапия, или танцы, пение. Их целью является создание
соответствующей эмоциональной атмосферы, необходимой для
психотерапевтического функционирования группы, снижения
уровня напряжения, скованности, отчужденности, создания
сплоченности, формирования сотрудничества, взаимопонимания,
эмоционального контакта.
5. Тренинговые методы (условно-рефлекторные, поведенче-
ские) имеют целью коррекцию неадекватных взаимоотношений,
выработку более эффективных форм поведения в конкретных,
распространенных жизненных ситуациях, преодоление чувства
неуверенности в подобных ситуациях. Программы такого тре-
нинга строятся таким образом, чтобы происходило постепен-
ное усложнение ситуаций, которые предлагаются пациентам
для обработки. Тренинг различных поведенческих стереотипов
расширяет функциональные возможности человека, и это уже
само по себе может приводить к изменению более глубоких
внутренних структур. Тем не менее, как указывалось, изолиро-
ванное применение тренинговых методов не дает высоких ре-
зультатов.
Если психотерапевтическая группа работает ежедневно в ус-
ловиях специализированного отделения, то лучше, чтобы пере-
численные вспомогательные приемы существовали в виде от-
дельных занятий и в случае необходимости элементы их вклю-
чались в ход групповой дискуссии. Если же занятия группы
происходят не каждый день (например, амбулаторная группа,
члены которой встречаются один раз в неделю), то целесооб-
разно не выделять вспомогательные приемы в отдельное заня-
тие, а лучше каждое групповое занятие начинать с какой-либо
вспомогательной техники и уже затем переходить к групповой
дискуссии. Сочетание групповой дискуссии с различными вер-
бальными и невербальными приемами может быть самое раз-
личное, и определяется оно конкретной групповой ситуацией,
фазой развития группы. В зависимости от этого может изме-
няться удельный вес различных вербальных и невербальных
приемов, а также содержание и структура таких занятий. На-
пример, в начальной фазе групповой психотерапии, когда суще-
ствует выраженная дистанция между пациентами в группе и
страх перед ее преодолением, когда поведение пациентов харак-
теризуется напряженностью и чувством неуверенности, полез-
ным может оказаться увеличение удельного веса невербальных
занятий, в особенности психогимнастики, так как в ходе этих
занятий неуверенность, скованность, дистанцированность паци-
ентов проявляются более ярко и в то же время здесь создаются
условия для продуктивного их устранения. В таком случае для
248
занятия подбираются упражнения, адекватные разрешению су-
ществующих задач. Вспомогательные вербальные и невербаль-
ные приемы часто используются в группе с целью разрешения
трудной ситуации. Их использование в ходе групповой дискус-
сии позволяет обратить внимание группы и отдельных пациен-
тов на характерные особенности и способы поведения, вскрыть
существующие в группе взаимоотношения и сделать их более
наглядными для всех, оживить процесс взаимодействия, дать
дополнительный материал для анализа проблем группы в це-
лом и каждого пациента в отдельности.
Психотерапия и социотерапия. Понятие о терапевтической
среде. Методы психологической коррекции охватывают как соб-
ственно психологическую, так и социально-психологическую
сферу. Практически любое заболевание в качестве своих по-
следствий (а иногда и причин) имеет нарушение социального
функционирования личности, более или менее выраженное
(вызванное, например, дефектом как следствием перенесенного
заболевания, который не позволяет пациенту выполнять привыч-
ные социальные роли, сохранить существовавший ранее соци-
альный статус, что, естественно, препятствует процессу выздо-
ровления, вызывая большее или меньшее нервно-психическое
напряжение). Поэтому социотерапевтические методы имеют
большое значение. Трудотерапия, терапия занятостью, методы
социально-психологического тренинга, клубы бывших пациентов
и другие методы социотерапии, направленные на стимуляцию
активности, уверенности, возникновение жизненной перспек-
тивы, восстановление адекватного социального поведения и вы-
работку новых социальных ролей и позиций, сочетающееся с ре-
альной помощью пациенту в различных сферах жизнедеятель-
ности (профессиональной, семейной), являются необходимыми
для восстановления полноценного функционирования личности.
В этой связи большое значение приобретает понятие терапев-
тической среды. Как указывает М. М. Кабанов (1978): «Весь
комплекс лечебно-восстановительных мероприятий, включая ле-
чебные режимы, должен рассматриваться сквозь призму кон-
цепции „терапевтической среды", понимаемой в первую очередь
как определенный характер направляемых взаимоотношений,
складывающихся в лечебном учреждении между больным и его
непосредственным окружением (персонал, семья, другие паци-
енты)». Терапевтическая среда существует как бы в двух пла-
нах: это среда лечебного учреждения и реальная жизненная
среда. И в том, и в другом случае терапевтическая среда —это
прежде всего благоприятно организуемые взаимоотношения
между больным и его окружением. Как пишет A. Kempinski
(1975), для создания терапевтической среды «необходимо пе-
рейти; две границы: одну, отделяющую больничный персонал от
больных, вторую — отделяющую здоровых от психически боль-
ных. Терапевтическое общество должно объединять, а не раз-
249
делять людей». М. М. Кабанов и другие авторы подчеркивают,
что создание терапевтической среды в лечебном учреждении
сопряжено со многими трудностями, связанными прежде всего
с изменением традиционного мышления медицинского персо-
нала, с изменением его отношения к пациентам. Одним из ос-
новных элементов этого нового отношения должен быть принцип
партнерства (М.М.Кабанов),в рамках которого нет места отно-
шениям субъект (врач)—объект (больной). Больной высту-
пает не только как объект лечения, но прежде всего как субъ-
ект, как личность, которой присущи свои переживания, отно-
шения, жизненные установки и ценности, без учета которых
невозможен успех лечебно-восстановительных мероприятий. Те-
рапевтическая среда — это не определенная организационная
структура лечебного учреждения, хотя наиболее последовательно
этот принцип реализуется в форме «терапевтического сообще-
ства» {Kratochvil S., 1978; Кабанов М. М., 1978; Ploeger A.,
1972, и др.]. Терапевтическая среда — это прежде всего отно-
шение к пациенту как к личности, это сближение с ним, пре-
одоление существующей дистанции, отказ от роли судьи, от
магической силы белого халата, это сотрудничество, партнер-
ство, привлечение к лечению пациента всего персонала, всех
других больных, всего ближайшего окружения.
Сферы применения психологической коррекции. В настоя-
щее время методы психологической коррекции находят широ-
кое применение в самых различных областях медицины как
для решения собственно лечебных задач, задач психотерапев-
тических, так и для целей психогигиены и психопрофилактики.
В системе восстановительного лечения и реабилитации боль-
ных различными заболеваниями осуществляется комплексный
подход, учитывающий наличие биологического, психологиче-
ского и социального факторов в происхождении того или иного
заболевания. Чем большее значение имеют психологические и
социально-психологические факторы в развитии того или иного
вида нарушений, тем больший удельный вес приобретают ме-
тоды психологической коррекции. В этом смысле наиболее
адекватными методы психологической коррекции становятся
при лечении психогенных расстройств. Однако применение пси-
хокоррекционных методов обусловлено не только этиопатоге-
незом. Во-первых, любое заболевание протекает у определен-
ной конкретной личности, учет психологических особенностей
которой, ее эмоционального состояния, психологического от-
ношения к болезни и лечению, взаимоотношений с окружаю-
щими способствует процессу восстановления. Во-вторых, ряд
заболеваний, в этиопатогенезе которых психологический фак-
тор не играет существенной роли, имеют определенные психо-
логические и социально-психологические последствия (связан-
ные с тяжестью заболевания, с ограничениями или дефектом,
вызванными болезнью), выражающиеся в изменении психиче-
250
ского состояния человека, снижении его работоспособности и
реакции на это, сужении круга интересов, изменении социаль-
ного статуса, затруднении или невозможности выполнения су-
ществовавших ранее социальных ролей и т. д. Человек не ус-
певает или вовсе не в состоянии сам адаптироваться к этим
изменениям, что может привести к усилению невротизации.
Применение методов психологической коррекции в таких слу-
чаях также будет адекватным, так как здесь мы имеем дело
с нарушением психологического и социально-психологического
функционирования личности под воздействием соматических
расстройств. В принципе применение методов психологической
коррекции при непсихогенных заболеваниях можно рассмат-
ривать как психопрофилактические мероприятия, направленные
на предупреждение вторичных невротических нарушений.
При различных психосоматических и соматических заболева-
ниях спектр методов психологической коррекции используется
в самом разнообразном сочетании. Интенсивность корригирую-
щих воздействий определяется удельным весом психогенного
фактора в происхождении нарушений. Соответственно этому
формулируются и специальные задачи психокоррекционной ра-
боты, которые во многом совпадают с задачами психокоррек-
ционной работы с больными неврозами. При работе с различ-
ными пограничными контингентами (психопатии, суициденты,
логоневрозы, сексуальные психогенные расстройства) особое
значение приобретают методы, направленные на восстановле-
ние коммуникативных навыков, выработку более адекватных
форм поведения и общения в самых разнообразных ситуациях,
совершенствование личностного контроля, изменение само-
оценки в адекватном направлении. Для этого широко исполь-
зуются тренинговые методы, групповые и семейные формы
психотерапии.
Все более расширяющееся применение методов психокор-
рекционной работы связано с развитием реабилитационного
направления. Задачи психологической коррекции при психи-
ческих заболеваниях охватывают широкий круг проблем и
формулируются следующим образом: эмоциональная стимуля-
ция, социальная активация, развитие коммуникативных воз-
можностей, выработка адекватных стереотипов поведения, по-
вышение самооценки и уверенности, коррекция установок, ре-
конструкция в возможных пределах измененной системы от-
ношений, оптимизация общения, преодоление изоляции, разви-
тие адекватных форм психологической компенсации, развитие
сохранных психологических структур [Вид В. Д., 1975; Горе-
лик В. М., Николаева И. Н., 1975; Днепровская С. В., 1975;
Кабанов М. М., 1978, и др.]. В психокоррекционной работе
с психическими больными используются самые разнообразные
методы и приемы в индивидуальном, семейном и групповом
вариантах. Особое значение приобретают социотерапевтические
251
методы, направленные на восстановление социального статуса
больных, тренировку их сохранных социальных ролей и выра-
ботку новых, повышение самооценки, чувства уверенности
в себе и собственной ценности. Конкретные методы психокор-
рекционной работы определяются особенностями личности
больного, нозологической принадлежностью, характером симп-
томатики, стадией лечебного процесса, т. е. всей совокупно-
стью клинических, психологических и социальных факторов.
Интерпретация, тренинг и советы являются адекватными сти-
лями проведения психокоррекционной работы с данным кон-
тингентом больных. Психокоррекционная работа с психически
больными является более длительной и, как правило, требует
продолжения после окончания интенсивного лечения (напри-
мер, в форме клуба бывших пациентов). В целом, как отме-
чает В. М. Воловик, психокоррекционную работу с данным
контингентом отличает поддерживающий и тренировочный ха-
рактер.
При проведении психокоррекционной работы с больными
алкоголизмом основными задачами являются преодоление ано-
зогнозии, изменение неадекватного отношения к своей болезни
и формирование установок на полное воздержание от употреб-
ления алкоголя, а также формирование правильного представ-
ления больного алкоголизмом о самом себе [Гузиков Б. М.
и др., 1980]. Коррекционная работа при алкоголизме осущест-
вляется и в форме групповой, и в форме индивидуальной, и
в форме семейной психотерапии. Большое значение имеют со-
циотерапевтические методы. При проведении психотерапевти-
ческой работы, в отличие, например, от неврозов, стиль пове-
дения психотерапевта отличается большей директивностью.
Поддерживающая психокоррекционная работа проводится с па-
циентами на протяжении нескольких лет (также часто в форме
клуба бывших пациентов, к участию в работе которого привле-
каются члены семьи и лица ближайшего окружения).
У больных соматическими и нервно-органическими расстрой-
ствами задачи психологической коррекции связаны прежде
всего с изменением патологической реакции личности на забо-
левание, которая различными эмоциогенными расстройствами
усугубляет тяжесть основного страдания и затрудняет восста-
новление нарушенного в результате болезни социального функ-
ционирования личности — изменение социального статуса, смена
ролей, снижение или ограничение работоспособности, сужение
контактов и пр. [Демиденко Т. Д. с соавт., 1975; Губачев О. М.
с соавт., 1981]. Если в происхождении определенного заболева-
ния роль психологического фактора более существенна и имеют
место невротические наслоения, то тогда психологическая кор-
рекция носит более глубокий характер и направлена не только
на изменение отношения к болезни, но и на коррекцию более
глубоких отношений личности. Для работы с указанным кон-
252
тингентом больных наиболее адекватны различные социотера-
певтические методы, социально-психологический тренинг, ме-
тоды, направленные на создание определенной жизненной пер-
спективы, повышение уверенности в себе. Большое значение
для последующей адаптации имеют создание терапевтической
среды и семейная психотерапия. Задачами психопрофилакти-
ческой работы являются повышение адаптивных возможностей
личности, обеспечение ее устойчивости к различного рода не-
благоприятным воздействиям, стабилизация существующих
адаптивных отношений и формирование новых необходимых
отношений и форм поведения. В работах В. К. Мягер и сотр.
в качестве важных проблем называются определение границ
нормы и болезни и выявление групп и лиц с повышенной уг-
розой возникновения заболевания. В качестве факторов риска
выделяются личностный, межличностный и ситуационный.
В психокоррекционных воздействиях с целью психопрофилак-
тики, как правило, нуждаются так называемые уязвимые кон-
тингенты. В качестве уязвимых контингентов могут рассматри-
ваться: во-первых, лица с определенными личностными особен-
ностями (высокой степенью тревожности, нейротизма, эгоцен-
тричное™, лица с низкой самооценкой); во-вторых, лица, нахо-
дящиеся в определенной возрастной фазе, которая предъявляет
к человеку иные требования, чем существовавшие до сих пор,
где требуется иная адаптация (подростковый период, начало и
окончание трудовой деятельности, вступление в брак и т. д.);
в-третьих, это лица, находящиеся в кризисной ситуации лич-
ного плана; в-четвертых, лица проживающие или работающие
в экстремальных условиях (трудные климатические условия,
замкнутость в пространстве, ограниченность в контактах, сен-
сорная депривация и пр.). В работе с подобными континен-
тами психокоррекционная работа приобретает особо важное
значение, она направлена на стабилизацию отношений лично-
сти, на выработку новых, более соответствующих в данной си-
туации отношений, на развитие адекватных реакций и форм
поведения, на снятие напряжения и преодоление тревоги. Ре-
шаться эти задачи могут практически с помощью всех извест-
ных методов психологической коррекции. Чаще всего в этих
целях используются аутогенная тренировка, тренинговые ме-
тоды, групповая дискуссия и другие формы групповой работы,
семейная психотерапия.
В настоящее время все более возрастает роль психолога
при проведении психокоррекционной работы. Психологи, рабо-
тающие в медицинских учреждениях, занимаются не только
психологической диагностикой, но все более включаются в пси-
хокоррекционную работу с пациентами. Освоение медицинским
психологом этой новой роли является оправданным, так как
основной задачей психологической коррекции является восста-
новление нарушенных отношений личности, которые, будучи
253
сами по себе психологическим феноменом, подвергаются из-
менениям посредством использования влияний психологиче-
ского и социально-психологического порядка. Психолог может
принимать участие практически во всех видах психокоррекцион-
ной работы: индивидуальной, групповой, семейной, социотера-
пии. Однако степень его самостоятельного участия определяется
не столько конкретными методами психологической коррекции,
сколько тем контингентом, с которым проводится психокоррек-
ционная работа. Если речь идет о психогигиенической и психо-
профилактической работе, то, вероятно, хорошо подготовлен-
ный клинический психолог может проводить эту работу само-
стоятельно. Если же речь идет о клинических контингентах, то
в таком случае наиболее адекватной является совместная ра-
бота врача и психолога или так называемый бригадный метод,
когда в работе с пациентом принимают участие несколько спе-
циалистов: врач, психолог, медицинская сестра и другие (на-
пример, социолог, терапевт по занятости и т. д.), где каждый
привносит в проводимую работу соответствующий его подго-
товке вклад: врач — клинический, психолог — психологический
и социально-психологический. Но и в рамках клиники есть
психокоррекционные методы, которые могут быть полностью
отнесены к компетенции психолога: это, прежде всего, социо-
терапевтические методы, коммуникативная, поведенческая и
тренинговая терапия, многочисленные вспомогательные, в ча-
стности невербальные, приемы. Разумеется, что и при прове-
дении этих методов психолог должен работать в тесном кон-
такте с врачом. Участие психолога в проведении психокоррек-
ционной работы расширяет диапазон его возможностей и
в плане диагностики. В процессе общения с пациентом, в про-
цессе групповой деятельности психолог наблюдает за пациен-
том в самых разнообразных ситуациях и получает чрезвы-
чайно существенную информацию о специфических и повто-
ряющихся формах поведения пациента, об особенностях его
взаимоотношений с окружающими, о его установках, отноше-
ниях, мотивации, ценностных ориентациях, которая не всегда
может быть получена при экспериментально-психологических
исследованиях. Этот материал может иметь существенное зна-
чение не только для личностной диагностики, но и для диагно-
стики клинической. Обсуждение с пациентом результатов ис-
следования интеллекта, памяти, внимания, мышления также
может быть использовано в психокоррекционных целях. Та-
кая информация (особенно для неуверенных в себе пациен-
тов) может положительно влиять на самооценку, на правиль-
ную оценку характера и последствий своего заболевания, что
способствует формированию адекватного отношения к болезни
и лечению, вселяет уверенность и создает лечебную перспек-
тиву.
254
Глава XII
ИССЛЕДОВАНИЕ СЕМЬИ В КЛИНИКЕ
И КОРРЕКЦИЯ СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ
Важное значение в процессе реабилитации больного [Каба-
нов М. М., 1977] имеет перестройка межличностных отношений
в ближайшем значимом его окружении и, в частности, в семье.
Изучение семьи больного осуществляется совместными уси-
лиями врачей, социальных и медицинских психологов, а также
социологов. Психологическое исследование семьи в клинике на-
правлено на решение двух основных задач: 1) определения того,
как заболевание кого-либо из ее членов влияет на характер се-
мейных отношений, и 2) каким образом нарушение семейных
отношений способствует возникновению или поддержанию про-
явлений заболевания.
В психиатрической клинике изучение семьи началось с по-
иска связи между болезнью ее члена и реакцией родственников
на эту болезнь. Было выяснено, что многие особенности семей-
ной жизни психиатрического больного определяются именно
этим классом отношений. При неврозах и хроническом алкого-
лизме на первом этапе анализировалась та же зависимость, од-
нако эти исследования были в большей степени направлены на
анализ собственно семейных проблем. В настоящее время сохра-
няется необходимость изучения как общих закономерностей се-
мейных отношений, так и особенностей функционирования
семьи, связанных с характером заболевания ее членов. Главная
особенность большинства современных исследований в данной
области — это их практическая направленность, предполагаю-
щая использование их результатов для психотерапии. В семей-
ных исследованиях как в норме, так и в клинике нервных и
психических болезней используется большое количество разно-
образных психологических методов, которые можно условно
разделить на: 1) диагностические — личностные методы иссле-
дования членов семьи, определения ролевой структуры и типа
семьи и 2) психотерапевтические. Вместе с тем результаты
«диагностических» методов можно использовать в процессе пси-
хотерапии, а психотерапевтические приемы могут служить для
исследовательских целей. Для определения места тех или иных
методов исследования семьи и возможности адекватной интер-
претации их результатов необходимо исходить из представлений
о семье как о системе (группе), включенной в более широкую
систему социальных отношений и имеющей свою структуру и
функцию. В соответствии с этим исследование может быть адре-
совано к разным уровням организации семейной системы. За-
дачи изучения структуры семьи на уровне личностных характе-
ристик отдельных ее членов решаются с помощью методов, ис-
пользуемых для изучения личности в норме и в клинике: опрос-
255
ников, полупроективных и проективных тестов (методики се-
мантического дифференциала, ПДО, MMPI, ТАТ, Роршаха,
Кеттела, Розенцвейга, Айзенка и др.). Сами по себе эти ме-
тоды не имеют какой-либо «семейной» специфики, но данные,
полученные с их помощью относительного каждого из членов
семьи, могут создать и некоторое представление о семейной
структуре. Исследования более высокого уровня организации
семьи — межличностного — имеют целью изучение процессов об-
щения, взаимодействия, совместной деятельности. Они преду-
сматривают анализ процессов социальной перцепции (восприя-
тие каждым из членов семьи другого, самого себя, семьи в це-
лом, восприятие семьей каждого из ее членов), коммуникаций,
принятия совместных решений.
Методы исследования семьи на личностном уровне. В на-
чале века были предприняты попытки охарактеризовать семей-
ную структуру через сочетание личностных свойств членов
семьи. На основе представлений о физических и психологиче-
ских особенностях супругов формулировались гипотезы о их
совместимости [Burgess V.].
В 40—60-е годы на этой основе была сформулирована так
называемая «теория выбора супруга». Суть ее заключается
в том, что субъекты с конституциональной предрасположен-
ностью к психическим заболеваниям выбирают друг друга.
Впоследствии эта теория была признана неудовлетворительной
[Kreitman N., 1962], а исследование совместимости в традицион-
ном виде стало достаточно редким явлением.
Однако представление о сочетании личностных характери-
стик членов семьи может быть полезным для знания семейной
структуры. Идеи совместимости (партнеров, супругов) развива-
ются у нас Н. Н. Обозовым, А. Н. Волковой и др. Исследования
в этой области основываются на двух принципах. Первый из
них — принцип подобия — контраста свойств партнеров как ус-
ловия совместимости. В частности, в ряде работ показано, что
свойства, в большей степени обусловленные наследственно, об-
наруживают тенденцию к контрастности у совместимых инди-
видов. Человеческие качества, обусловленные скорее воспита-
нием, подверженные влиянию социокультурной среды (особенно
ценностные ориентации, установки, интересы), чаще всего по-
добны. Второй принцип — гомеостазиса, проявляющийся в том,
что совместимые субъекты образуют своеобразную уравнове-
шенную структуру. Их свойства взаимно компенсируют и до-
полняют друг друга.
Для исследования совместимости применяются ряд широко
известных методик, например отнесение супругов к различным
личностным типам по Юнгу. Анализировалось сочетание таких
типов в благополучных и неблагополучных браках. Был сделан
вывод о взаимодополнениях партнеров по этим характеристи-
кам в благополучных браках. В нестабильных браках партнеры
256
оказались похожими по юнговским типам (Аугустинавичюте А.,
1981]. С помощью модифицированных методик личностного оп-
росника Айзенка и методики исследования фрустрационной то-
лерантности Розенцвейга рассматривались также вопросы соче-
тания личностных свойств партнеров (их соотношения) в груп-
пах «невротических» и здоровых супружеских пар. Оказалось,
что в «невротических» парах определяется тенденция к компен-
саторному сочетанию партнеров по их личностной направлен-
ности. Пары образуются экстравертированными субъектами,
партнеры которых обладают какими-либо признаками, харак-
теризующими их как интравертов. По характеру реакции в си-
туации препятствия в «невротических» парах обнаружена тен-
денция к сходству партнеров, причем наиболее значимыми
оказались соотношения реакций типа «застревания на препят-
ствии». В группе здоровых пар наблюдаются обратные соотно-
шения (Мишина Т. М., 1978].
Анализ супружеской совместимости, проведенный с по-
мощью методики исследования личности Кеттела, показал, что
благоприятным для супружества является сходство по 5 фак-
торам: Н (резкая шизотимия — заторможенная циклотимия),
G (сила «сверх-Я» — незрелость), Q2 (самодостаточность — свя-
занность с группой), F (возбудимость — невозбудимость), L
(параноидность — доступность доверию). По фактору А (ци-
клотимия — шизотимия) благоприятным является контрастное
сочетание. Другой методикой, описывающей с определенной
полнотой, правда, не поведение, а его движущие силы, является
проективная методика Сцонди, которая также используется со-
ветскими психологами для исследования совместимости. Этот
тест хорошо зарекомендовал себя в психиатрической диагно-
стике, однако область применения его шире. Szondi (1960) счи-
тает, что его тест предназначен для диагностики поведения
любого человека, измеряет влечения или тенденции, которые яв-
ляются общечеловеческими, но степень выраженности этих тен-
денций у каждого индивида отличная от другого. Заострение
этих свойств, по мнению Szondi, проявляется в виде одной из
известных форм психических расстройств: эпилепсии, истерии,
кататонии, паранойи, депрессии, мании, сексуальных наруше-
ний.
Тест L. Szondi представляет собой набор из 48 фотографий
человеческих лиц, сгруппированных в 6 серий по 8 фотографий
в каждой. Каждая фотография изображает субъекта с ярко
выраженной патологией одного из 8 влечений. Испытуемому
предлагается выбрать в каждой серии симпатичные и несимпа-
тичные ему лица. Осуществляя выборы последовательно в каж-
дой серии, испытуемый, по представлению автора методики, об-
наруживает «влечения» (факторы), которые выступают на «пе-
редний план» личности, и те тенденции, которые являются ее
«задним планом». По мнению автора методики, каждый чело-
1*/а9 Заказ № 942
257
век может быть охарактеризован одной из тенденций [( + ), (—)]
каждого из 8 факторов. Эта тенденция более или менее посто-
янна на протяжении жизни. Конкретные ситуации, актуальное
состояние изменяют степень выраженности влечений, однако их
направленность остается характерной для данного индивида.
Методика Сцонди применялась в исследовании супружеской
совместимости А. Н. Волковой (1979), чтобы определить, ка-
кое сочетание «влечений» является условием, благоприятным
для развития семейных отношений. Для прогноза совместимо-
сти супружеской пары используется коэффициент совпадения
тенденций факторов по тесту. Выводом исследования явилось
то, что благоприятным для брака является принцип дополне-
ния «влечений».
При исследовании членов семьи с помощью различных лич-
ностных методик речь идет не вообще о совместимости, а со-
вместимости на уровне тех качеств, которые определяют эти
методики. Любые критерии совместимости дают возможность
выделить лишь крайние варианты очень плохо совместимых и
очень подходящих друг другу людей. Во всех остальных слу-
чаях можно говорить лишь о благоприятной тенденции для
партнеров, но при таком подходе всегда остается нерешенным
вопрос о том, достаточным ли было проведенное исследование
(те ли качества анализировались в каждом конкретном слу-
чае), чтобы можно было с определенной вероятностью говорить
о прогнозе отношений. Очевидно, что такой подход будет не
полон без выделения «значимых зон» семейного взаимодействия,
так как основные конфликты возникают при фрустрации по-
требностей членов семьи именно в значимых зонах взаимных от-
ношений [Мишина Т. М., 1978].
Методы исследования процессов социальной перцепции
в семье. Теоретической основой изучения восприятия людьми
друг друга являются исследования А. А. Бодалева (1970). Ав-
тор подчеркивает, что совместная деятельность способствует
проявлению у партнера определенных качеств, познание кото-
рых и происходит в процессе самого взаимодействия. Прямой
контакт, общение со «значимыми другими» имеет специфиче-
ские особенности по сравнению с иными формами общения.
Знания, получаемые человеком о других людях при прямом
контакте с ними, имея, как правило, сильнейшую эмоциональ-
ную окраску, облегчают выработку одних психологических
обобщений и критериев оценки людей и затрудняют формиро-
вание других. Это положение, характерное для процессов со-
циальной перцепции здоровых людей, приобретает особое зна-
чение при исследовании семейных отношений в клинике. Как
подчеркивает Г. М. Андреева (1977), при изучении процессов
социальной перцепции (речь идет о перцепции в широком
смысле слова — восприятии, представлении, понимании) дол-
жны рассматриваться следующие уровни: 1) восприятие чле-
258
нами группы (в данном случае семейной) друг друга (качество
эмпатии, взаимное понимание и т. д,); 2) восприятие каждым
из членов группы семьи в целом; 3) восприятие группой каж-
дого из ее членов. В современных отечественных исследованиях
семьи в клинике процесс социальной перцепции чаще всего
изучается на уровне восприятия членами семьи друг друга.
Для этого используются личностные методики, модифицирован-
ные для процедуры взаимооценок. Наибольшее распростране-
ние получили у нас: опросник Т. Лири, ПДО-2 А. Е. Личко
(модифицированный Э. Г. Эйдемиллером), методика семанти-
ческого дифференциала (в различных модификациях), «мето-
дика понимания» Л. Н. Горбуновой.
Э. Г. Эйдемиллер предложил оценивать с помощью патоха-
рактерологического диагностического опросника (1976) пред-
ставления подростков о своих родителях и родителей о подро-
стках, и с этой целью разработан вариант опросника ПДО-2.
В дополнение к ПДО-2 автор использовал методику аутоиден-
тификации и идентификации по словесным характерологическим
портретам (СПХ). Для этого на основании классических клини-
ческих представлений им был сделан набор словесных описаний
13 характерологических типов. Этот метод основывается непо-
средственно на оценке испытуемым своего характера, т. е. на
сравнении субъективного образа с предлагаемыми стандартами.
В случае идентификации с помощью методики родственники оце-
нивают друг друга, используя словесные характерологические
портреты. Оба метода позволили определить различия во вза-
имовосприятии родителей и подростков с различными типами
акцентуаций. Аналогичным образом используется методика, мо-
дифицированная на основе MMPI Л. Н. Горбуновой (1981),
названная ею «методикой понимания». В методику вошли 200
утверждений из 550 выбранных на основании статистической
процедуры, отделивших 100 утверждений, имевших наивысший
процент совпадения ответов родителей и больных, и 100 ут-
верждений, имевших наименьший процент совпадения ответов.
Эта методика позволяет дифференцировать представления ро-
дителей о своих больных детях. С ее помощью было выявлено,
что достаточно полное знание родителями своих детей, больных
шизофренией, ограничивается лишь их соматическим состоя-
нием. Хуже распознаются проявления, связанные с психиче-
скими нарушениями. В наименьшей степени родители имеют
представление о внутреннем мире больного, его интересах, цен-
ностных ориентациях, мировоззрении, морально-этических уста-
новках и переживаниях, связанных с отношением к противопо-
ложному полу.
Одним из зарубежных методов, направленных на изучение
взаимовосприятия в семье, является опросник, предложенный
Т. F. Leary (1957). В несколько модифицированном виде он
используется советскими авторами (Ю. А. Решетняк, Г. С. Ва-
1V«9*
259
сильченко). Опросник включает список из 128 характеристик
личности (типа «умеет настоять на своем», «благодарный»,
«бескорыстный», «любит ответственность» и т. д.). Эти характе-
ристики испытуемый оценивает в различных вариантах. В пред-
лагаемой модификации все вопросы анкеты группируются в
восемь октант, определяющих различные личностные черты. Пер-
вая октанта содержит качества, располагающиеся по оси: тен-
денция к доминированию (лидерству)—властность — деспотич-
ность; во второй — уверенность в себе — самоуверенность —
самовлюбленность; в третьей — требовательность — непримири-
мость— жестокость и т. д.; в четвертой — скептицизм — упрям-
ство — негативизм; в пятой — уступчивость — кротость — пас-
сивная подчиняемость; в шестой — доверчивость — послуш-
ность— зависимость; в седьмой — добросердечие — несамостоя-
тельность, чрезмерный конформизм; в восьмой — отзывчивость —
бескорыстие — жертвенность.
Важным преимуществом, которое дает использование опрос-
ника Т. Лири в семейных исследованиях, является многоаспект-
ное^ перцептивных представлений. Самооценка и оценка парт-
нера здесь дополнены рядом важных характеристик, таких как
оценка идеала (жены или мужа), оценка образов отца и ма-
тери. Особо можно отметить выделение оценки «Я в мнении
жены (мужа)», которая дает возможность определить степень
точности представлений члена семьи в том, как его восприни-
мают близкие, что непосредственно определяет взаимодействие
в семье. Кроме того (и это представляется существенным), оп-
росник содержит в себе предлагаемую автором модель форми-
рования нарушенных отношений в семье. Другими словами, ме-
тодика выявляет: самооценку и степень неудовлетворенности
собой, ожидания в отношении личности жены (мужа) и сте-
пень расхождения этих ожиданий с реальным образом, т. е.
условия, создающие напряжение в семейной жизни и кореня-
щиеся в возможном недовольстве собой и партнером, а также
основания таких личностных реакций, связанные с образами
отца и матери.
В последние годы основной областью применения семантиче-
ского дифференциала (СД) стало исследование межличностных
отношений. Из методики, измеряющей личностные или эмоцио-
нальные значения понятий при исследовании семьи, она прев-
ратилась в инструмент, дифференцирующий отношения ее чле-
нов к себе и друг к другу. В семейных исследованиях на лично-
стном уровне с помощью СД измеряется «расстояние» между
семейными понятиями, семейными ролями у одного из членов
семьи.
Таким образом, анализируется, какие из семейных понятий
или ролей ему ближе; семантический дифференциал использу-
ется для сравнения этих «семейных значений» с идеальными
представлениями.
260
С помощью СД (по D. Feldes) исследовался характер вос-
приятия супругами друг друга {Волкова А. Н., 1979]. Оказа-
лось, что в семьях с более гармоничными отношениями —
меньше ошибки восприятий, т. е. самооценка супруга ближе
к оценке его партнером, чем в семьях с нарушенными отноше-
ниями. Аналогичный вывод сделан В. Баршис (1977) и в ис-
следовании с помощью СД восприятия супругами основных се-
мейных ролей, таких как: муж — жена, отец — мать, семьянин —
хозяйка, глава семьи, мужчина — женщина. Автор указывает,
что близость в восприятии своих семейных ролей самим супру-
гом более характерна для устойчивых семейных отношений
в сравнении с нестабильными семьями.
Перечисленные выше методики использовались для анализа
социальной перцепции в семьях на одном уровне — межиндиви-
дуальном. Но, как совершенно справедливо подчеркивает
Г. М. Андреева, для понимания того, что происходит в реаль-
ных социальных группах, этого уровня недостаточно, необхо-
димо проанализировать также процессы социальной перцепции
на уровне — индивид как член семьи — семья как целое. Отли-
чие такого подхода от межиндивидуального можно показать на
методически очень простом приеме — исследовании темперамен-
тологических качеств супругов с помощью описанного в гл. III
«круга Айзенка» {Мишина Т. М., 1978]. Инструкция методики
мало чем отличалась от используемой при изучении межиндиви-
дуального восприятия: каждому супругу предлагалось выбрать
из набора качеств те, которые, по его мнению, характеризуют
его самого, а также его партнера. В зависимости от того, в ка-
ком из квадрантов круга выбиралось наибольшее количество
признаков, формулировалось суждение о том, как испытуемый
оценивает темперамент: во-первых, собственный, во-вторых,
партнера. Было проанализировано, близки или различаются
у супругов представления о темпераментологической структуре
пары.
При сравнении «невротических» и здоровых пар оказалось,
что первая группа отличается от второй преобладанием несо-
гласованных представлений о паре.
Этот методический прием позволяет анализировать то, что
для данной пары является признанным обоими партнерами
(общим для супругов),—общий регулирующий поведение пары
образ. Такой образ теснейшим образом связан с семейными за-
щитными реакциями, с одной стороны, и с семейными прави-
лами— с другой, т. е. с тем, на что в первую очередь направ-
лено внимание психотерапевта при работе с семьей. Семья
как целое может исследоваться и в других аспектах (напри-
мер, качество эмпатии), и на других более сложных
уровнях — ролевом, принятии решений и т. д. Современное ис-
следование, ориентированное на психотерапию, не может огра-
ничиться лишь межиндивидуальным подходом. Он оказывается
261
«неприцельным», так как не отвечает на вопрос о том, что
именно (в целом) нужно менять в данной семье в процессе пси-
хотерапии.
Методы исследования семейного взаимодействия. Одним из
наиболее современных методов исследования семьи является
анализ непосредственного взаимодействия в терминах теории
коммуникации. Эксперимент в этой области может проводиться
как с использованием какого-либо специального тестового ма-
териала (например, карт Роршаха), так и в форме беседы на
интересующие семью темы. Суть исследования остается неиз-
менной— анализируется характер взаимодействия между чле-
нами семьи.
Единицей коммуникативного анализа является не изолиро-
ванный коммуникативный акт («сообщение»), а так называе-
мая трансакция, т. е. по меньшей мере, 2 коммуникативных
акта (например, вопрос — ответ — ответ на ответ). Семейное
поведение — его структура (как и любое поведение) может рас-
сматриваться на уровне либо симметричных (подтверждающих
равенство партнеров), либо комплементарных коммуникатив-
ных шагов, подчеркивающих различие, полярность типа: актив-
ность — пассивность; зависимость — независимость; доминант-
ность — подчиняемость.
Процедура коммуникативного анализа включает обязатель-
ный анализ магнитофонной записи семейного взаимодействия
(может быть использован видеомагнитофон или звуковой
фильм, снятый через поляризованное стекло). Наблюдение от-
ношений в семье может осуществляться в короткий временной
отрезок. Многие исследователи говорят об эффективном ис-
пользовании микроанализа — семья наблюдается лишь 15 мин.
В полученном материале выделяются трансакции и их
структуры. Такой анализ отвечает на следующие вопросы: есть
ли в семье нарушение отношений, какими признаками оно про-
является и кто является ее носителем, каковы общие свойства
семейных трансакций, включая уровни спонтанности, ригидно-
сти, эмоционального климата, конкуренции, и, кроме того, с его
помощью можно выявить, кто играет роль «козла отпущения»,
обнаружить патологические коммуникативные связи, свойства
отдельных личностей.
В нестабильных семьях всегда есть скрытый вопрос о том,
какими правами наделены разные члены семьи, кто в семье
обычно провоцирует противоречие без возможности его разре-
шения. Любые темы: воспитание детей, сексуальные отношения,
отношения с родственниками, требующие непосредственного
сотрудничества, вызывают вопрос: кто должен это решать?
В нестабильных семьях это почти всегда ведет к конфликтам.
В стабильно неудовлетворенных семьях вопрос фактически ни-
когда не разрешается, он маскируется поверхностным согла-
сием.
262
Кроме качественного анализа, при изучении взаимодействия
в семье используются количественные системы оценок, такие,
как шкала В. F. Bales или J. Riskin, родовые списки Wynk и
J. L. Singer или критерии J. Willy. Одними из наиболее распро-
страненных являются «шкалы семейного взаимодействия»
(J. Riskin и Е. Faunce). Исследователями выделены 8 шкал для
описания семейного взаимодействия. Эти шкалы достаточно
полно описывают характер семейных коммуникаций. Они вклю-
чают: 1) категории ясности (обращения — ясные, точные или
включают двусмысленности, смех и т. д.); 2) категории темы
(продолжение темы или ее смена, шутки); 3) категории обра-
щения (всякое высказывание, касающееся желаний, мечтаний,
чувств, мнений, на которых говорящий ясно останавливается);
4) категории согласия — несогласия; 5) категории напряжен-
ности (ее увеличение, падение, нормальное напряжение); 6) ка-
тегории взаимоотношений (позитивное, негативное, нейтральная
речь); 7) категории: «Кто, к кому обращается?»; 8) категории
прерывания речи.
Семейные коммуникации изучаются и с применением про-
ективных методов. Проективный тест в этом случае использу-
ется по-иному и для другой цели, чем при индивидуальном ис-
следовании. Центром исследования становятся изучение отно-
шений между членами семьи и сам процесс решения проблемы,
а не реакции отдельных личностей. В экспериментальной ситуа-
ции семья должна договориться о том, что она видит в пятне,
объективно ничего не изображающем. Требование достигнуть
соглашения приводит к тому, что каждый член семьи вынужден
принимать во внимание не только стимул, но и реакцию всех
остальных родственников на этот стимул, а также на его соб-
ственную проекцию. Активность испытуемых направлена обычно
на получение требуемого результата, в то время как действи-
тельная цель эксперимента остается от них скрытой. Это ак-
тивизирует репертуар поведения семьи в новой ситуации или,
поскольку она воспринимается в качестве стресса,— репертуар
поведения в стресс-ситуации. В ходе эксперимента семья дол-
жна определить: а) свое отношение к новой стрессовой ситуа-
ции; б) отношение к предлагаемой задаче; в) отношение к тому
факту, что исследуется вся семья, а не только «пациент», что
скорее соответствовало бы традиционному способу исследова-
ния. Оценка результатов часто производится качественно с ис-
пользованием коммуникативного анализа, основное внимание
при этом уделяется процессу принятия решения, устанавлива-
ются роль каждого участника в общем решении и способ, ко-
торым удалось прийти к общему решению, т. е. ход конфликта
с маневрами и дисквалификациями. Другой способ оценки
предполагает использование шкал: описанной выше шкалы
J. Riskin и Е. Faunce, а также критериев J. Willy. Последний
вариант в несколько модифицированном виде был использован
263
В. М. Воловиком, Т. В. Гончарской (1981) в исследовании се-
мей больных малопрогредиентной шизофренией. По методике
Willy (1969) членам семьи предлагается достичь соглашения
относительно того, что изображено на 10 картах Роршаха (если
по какой-либо из карт соглашение не достигается, карта откла-
дывается и это рассматривается как неудача). Процесс приня-
тия решения оценивается с помощью следующих категорий:
1) практическая инициатива; 2) теоретическая инициатива (она
принадлежит тому, кто берет в руки карту, предлагает начать
обсуждение); 3) внутреннее доминирование; 4) внешнее доми-
нирование; 5) поддержка — отклонение; 6) псевдорешение.
Доминирование как важнейшая характеристика в процессе при-
нятия решения определяется в зависимости от следующих при-
знаков: вербальной продуктивности; настойчивости и способно-
сти провести свое решение как общее; формального следования
(способность участвовать в дискуссии).
В исследовании В. М. Воловика, Т. В. Гончарской анализи-
руется дискуссия семьи не только по поводу «индифферентного»
материала (такого, как пятна Роршаха), но и по поводу акту-
альных семейных проблем. Авторы выделяют такие типы отно-
шений к предложениям в процессе дискуссии, как поддержка,
отклонение, изоляция, и способы принятия решений: соглаше-
ние, формальная уступка, навязывание. Принятие решений
в семье, и в частности в супружеской паре, исследовалось
также с помощью другой модели, предложенной J. Collins
(1971). Автор выделяет уровень исполнительного решения, в ре-
зультате которого происходит непосредственная организация
деятельности, и три его типа: доминирование, кооперативное ре-
шение и изоляцию. Рассматривается принятие решений в различ-
ных сферах семейной жизни (воспитание детей, распределение
дохода, организация быта, организация досуга). В частности,
с помощью этой методики было обнаружено, что супру-
жеские «невротические» пары отличаются большей распростра-
ненностью раздельных решений и меньшей — совместных. Раз-
личия оказались более выраженными в сферах воспитания де-
тей и организации досуга [Мишина Т. М., 1978].
Психологическое исследование семьи в клинике служит цели
коррекции отношений в семье. Поэтому в нем должны быть
отражены существенные стороны семейной структуры и ее ди-
намические свойства: значимые зоны отношений, согласованные
представления членов семьи о семье в целом, те семейные про-
блемы, которые осознаются всеми, и то, что оказывается «вы-
тесненным»; семейные правила, по которым осуществляется ее
жизнь.
Более полными эти представления могут стать только не-
посредственно в процессе психотерапии, когда семья характе-
ризуется целостно, т. е. ставится так называемый «семейный
диагноз».
264
Коррекция семейных отношений. Перестройка, оптимизация
нарушенные семейных отношений могут служить цели как пси-
хотерапии, так и профилактики нервно-психических расстройств.
Профилактическая работа с семьями направлена на выработку
адекватных способов разрешения семейных конфликтов и кри-
зисных ситУаДий» что, в свою очередь, предохраняет от пато-
генного повышения уровня психологического напряжения
в семье. Подобная работа в семьях психически больных направ-
лена на преД°твРащение нервно-психических (и прежде всего
невротичесКих и психосоматических) заболеваний у родствен-
ников большого. Когда перестройка семейных взаимоотношений
осуществля^тся непосредственно с лечебной целью, речь идет
о семейной психотерапии. По определению В. К. Мягер (1976),
семейная психотерапия —особый вид психотерапии, направлен-
ный на коррекцию межличностных отношений и имеющий
целью устранение эмоциональных расстройств в семье, наибо-
лее выраженных У больного индивида. Можно сказать, что
семейная психотерапия — один из видов патогенетической психо-
терапии (по В. Н. Мясищеву). Основная цель семейной психо-
терапии (лечение больного, устранение эмоциональных рас-
стройств и неадекватных стереотипов поведения) достигается
путем перестройки его значимых отношений, что, в свою оче-
редь, происходит в ходе реконструкции, позитивного преобразо-
вания системы отношений, характера взаимодействия в семье
больного. Показанием к семейной психотерапии являются все
виды эмоцИональных нарушений поведения и аномалий харак-
тера и дрУгих нервно-психических расстройств, находящихся
в причинно-следственной связи с различными типами семейной
дезорганизации и неправильного воспитания.
Семейная психотерапия — сравнительно новый психотерапев-
тический метод, однако предпосылки для его создания имелись
уже в труда* отечественных психиатров прошлого века. В этих
работах, посвященных семейному патронажу, организации вра-
чебно-восп0тательных учреждений, указывалось на то, что при
амбулаторном ведении больных необходимо учитывать ту об-
становку, в которой они находятся. В последней четверти XIX
века у отечественных психиатров появились представления
о семейной диагностике и семейном лечении. На первом съезде
отечественных психиатров С. С. Корсаков говорил о том, что
есть категория больных, которых возможно лечить в семейных
условиях, в том числе большинство неврастеников, для которых
должна быть создана особая обстановка. В зарубежных рабо-
тах указыв#ется на становление метода семейной психотерапии
на протяжении трех последних: десятилетий. Теоретические кон-
цепции, на основании которых строится зарубежная семейная
психотерапия, отличаются многообразием и противоречивостью.
Наиболее распространены теоретические представления, бази-
рующиеся На психоанализе з различных его вариантах [KubieL.,
265
1956; Gratian M., 1960; Barcal L. A., 1971], бихевиоризме [Car-
penter J., 1974; Kotler F. L., 1967], теории коммуникативного
анализа [Kilpatrik F., 1961; Jackson D., 1969]. Сравнительно
недавно появились также методы, предполагающие комбина-
цию поведенческих и психоаналитических приемов. Однако, как
показывают дальнейшие исследования, соединение таких теоре-
тических подходов не способствовало решению поставленной
задачи.
В отечественной психоневрологии в последние годы семей-
ная психотерапия превратилась в действенный метод. Об этом
свидетельствует, в частности, расширение области ее примене-
ния— в настоящее время имеются модификации, которые могут
быть использованы в комплексном лечении практически всех
нервно-психических и психосоматических заболеваний. Теорети-
ческой основой разработки методов семейной психотерапии
в Советском Союзе являются медицинские концепции — патоге-
нетической психотерапии (В. Н. Мясищев), реабилитации пси-
хически больных (М. М. Кабанов) и психологические и со-
циально-психологические теории — общения (Б. Ф. Ломов,
отношений (В. Н. Мясищев), деятельности (А. Н. Леонтьев),со-
циальной перцепции (А. А. Бодалев), теории групп и коллекти-
вов (А. В. Петровский, Г. М. Андреева). Семейная психотера-
пия практически проводится на основе анализа семейных от-
ношений— семейной диагностики, которая включает квалифи-
кацию состояния больного в связи с целостной характеристикой
всей семейной системы.
Динамика межличностных отношений, характер семейного
взаимодействия описываются на трех следующих уровнях: фе-
номенологическом, психогенетическом и функциональном {Ас-
kerman N., 1971]. Под феноменологическим уровнем понима-
ются анализ и квалификация явлений, отражающих присущий
данной семье характер отношений и взаимодействий, а также
феноменов, отражающих анормальные типы взаимодействия
(ссоры, сексуальные дисгармонии, измены, эмоциональное от-
чуждение, злоупотребление алкоголем и т. п.). На психогенети-
ческом уровне прослеживаются эволюция семейных отношений
от их возникновения с характерными кризисными периодами,
а также причины неудач в браке (случайность или преждевре-
менность брака, использование его как средства избавления от
прошлого конфликтного опыта, устроенность по деловым сооб-
ражениям и т. п.). На динамическом уровне определяются
стержневые конфликты, типы взаимного дополнения (и неспо-
собности к этому), способы разрешения конфликтов, способ-
ность к адаптации в семейных ролях и к росту во внутрисемей-
ных отношениях. В ходе изучения межличностных отношений
выявляются и личностные особенности каждого из членов
семьи. Как указывалось выше, все многообразие информации
о семье, необходимое для постановки семейного диагноза непо-
266
средственно в процессе семейной психотерапии, получается с по-
мощью клинического, биографического, а также эксперимен-
тально-психологических методов.
Этапы семейной психотерапии и «семейный диагноз». В ходе
семейной психотерапии, длительность которой в разных слу-
чаях может колебаться от нескольких недель до нескольких
лет, происходит ряд изменений в содержании и форме работы
психотерапевта. Этот процесс, различно протекающий при ра-
боте с разными семьями, имеет все же некоторые общие зако-
номерности, которые позволяют в значительной мере условно
подразделять его на ряд последовательных этапов, или стадий.
Так, В. М. Воловик, А. П. Коцюбинский и В. Л. Гайда (1978)
выделили 5 этапов в работе с семьями больных малопрогре-
диентной шизофренией: 1) диагностический; 2) конфронтации
семьи с основной проблематикой; 3) отклонения центральной
проблемы и акцентуации частных проблем; 4) осознания цен-
тральной проблемы кризиса и диссоциации семейной группы;
5) консолидации семьи и выработки взаимоприемлемых реше-
ний по основным проблемам семейной жизни.
Чаще исследователи (Эйдемиллер Э. Г., 1970; Тысячная 3. К.,
1979] выделяют 4 этапа в процессе психотерапии: 1) диагно-
стический («семейный диагноз»); 2) ликвидации семейного кон-
фликта; 3) реконструктивный; 4) поддерживающий. Однако
следует ясно представлять себе условность определения подоб-
ных стадий в едином психотерапевтическом процессе. Это свя-
зано прежде всего с тем, что диагностика (ознакомление с
анамнезом больного и биографией семьи в целом, установление
связи между внутрисемейным конфликтом и нервно-психиче-
ским или психосоматическим заболеванием члена семьи) не
может быть ограничена лишь первым этапом. Действительно,
для проведения семейной психотерапии должны быть выявлены
общие (типологические) характеристики семьи. В отечествен-
ных исследованиях характер нарушенных семейных отношений
чаще всего описывается на уровне семейных структур, их типо-
логии. В связи с этим «семейный диагноз» понимается как ти-
пизация нарушенных семейных отношений с учетом индиви-
дуально-личностных свойств членов семьи и характеристик бо-
лезни одного из них [Мягер В. К., Мишина Т. М., 1976]. На
этой диагностической основе выделяются группы семей, соответ-
ствующие определенным типам. Так, анализ отношений в семьях
больных различными формами неврозов позволил выделить 3
основных типа супружеских пар — с отношениями «соперниче-
ства», «псевдосотрудничества» и «изоляции» [Мишина Т. М.,
1978].
Соперничество. Взаимодействие этого типа в «невротиче-
ских» супружеских парах чаще возникает на первых этапах
супружества. С внешней стороны отношения характеризуются
постоянными открытыми столкновениями (ссоры, упреки, изну-
267
рительные объяснения, открытые проявления агрессии). В бе-
седе супруги обычно не дослушивают друг друга, каждый из
них мало говорит о проблемах и переживаниях другого. В це-
лом структура отношений носит противоречивый, дружествен-
но-враждебный характер. Поводы к возникновению конфликтов
связаны с изменением состава семейной группы или реальной
угрозой такого изменения. Оба партнера характеризуются не-
зрелостью, несформированностью семейной роли и оказываются
не в состоянии принимать на себя ответственность за поведе-
ние пары как целого. Конфликты могут быть представлены
как противоречия, главным образом в сферах заботы и опеки,
главенствования и эмоционального принятия, где сталкива-
ются значимые потребности партнеров. Невротическая потреб-
ность больного в «особом» отношении оказывает решающее
влияние на характер этого столкновения. Компенсация отно-
шений данного типа в основном осуществляется за счет «под-
держки извне», людей из окружения пары, которые берут на
себя ответственность и оказывают супругам помощь в различ-
ных сферах их жизни.
Псевдосотрудничество. С внешней стороны отношения этого
типа выглядят ровными, согласованными, с элементами преуве-
личенного выражения заботы о партнере. Поводы к возникно-
вению конфликтов в семье лежат во внесемейной сфере и свя-
заны с индивидуальными трудностями и неудачами, касающи-
мися работы или общения. Конфликты в этих парах возникают:
1) когда здоровый партнер не разделяет стремления своего суп-
руга к разного рода личным «достижениям» (профессиональ-
ным, социальному росту и т. д.), так как они противоречат его
потребностям к главенствованию; 2) когда здоровый партнер,
напротив, ожидает достижений от своего супруга, а последний
не решается действовать из-за невротического страха перед не-
удачами. Компенсация отношений этого типа поддерживается
преимущественно за счет прямого и непрямого «подчинения»
поведения одного из супругов целям другого.
Изоляция. Отношения в парах этой группы обычно не имеют
явного внешнего конфликтного выражения. Совместная дея-
тельность супругов может внешне выглядеть как согласован-
ная, но при этом партнеры остаются эмоционально обособлен-
ными. Супруги оказываются незаинтересованными друг в друге
как в муже и жене — брак служит для них средством овладе-
ния иными «несемейными» ценностями (например, возмож-
ностью приобщиться к кругу «избранных»).
Конфликтные ситуации в отношениях супругов возникают
при нарушении «границ изоляции» в сторону сближения парт-
неров или их большей разобщенности. Устойчивость отношений
этого типа обычно достигается с помощью такой организации
быта, при которой ограничивается необходимость совместной
деятельности.
268
Изучая семьи больных малопрогредиентной шизофренией,
В. М. Воловик (1980) выделяет пять типов: 1) эмоционально
отчужденные семьи, характеризующиеся холодными и сдер-
жанными отношениями между их членами и низкой вовлечен-
ностью одного в личную жизнь другого; эта группа охватывает
два типа семей: эмоционально разделенные и ригидные рацио-
налистические; 2) напряженно-диссоциированные семьи, отли-
чающиеся деспотическим доминированием одного из родителей,
оппозицией к нему другого, в целом более слабохарактерного и
менее уверенного в себе, и частой фиксацией ребенка в роли
«козла отпущения»; этим семьям свойственны казенная атмо-
сфера, обстановка недоброжелательности, постоянные поиски
виновных, приписывание друг другу «плохих» ролей, без того,
однако, чтобы по этим вопросам принимались радикальные ре-
шения; 3) псевдосолидарные семьи, в которых ригидность ро-
левой структуры и высокая степень взаимной зависимости свя-
заны с затрудненной адаптацией к меняющимся ситуациям и
стремлением сохранить их стабильность за счет мистификации
действительности и формирования иррациональных суждений;
внимание и забота в семье носят формальный характер; ребе-
нок выступает одновременно в роли опекаемого и долженствую-
щего опекать; 4) симбиотические семьи, имеющие в основе
большую взаимозависимость между одним из родителей (в на-
блюдениях автора главным образом матерью) и больным
ребенком; в неполных семьях это психологическое слияние ма-
тери и ребенка может принимать крайние формы; 5) гиперпро-
тективные семьи, среди которых различаются ригидные и хао-
тические; в тех и других имеется жесткая фиксация ролей,
однако первых характеризует четкая линия поведения родите-
лей в форме подавляющей или опекающей гиперпротекции; вто-
рых— непоследовательность установок и требований. Э. Г. Эй-
демиллер (1976) дает следующую классификацию семей: гар-
моничная семья, деструктивная семья, распадающаяся семья,
распавшаяся семья, неполная семья, ригидная псевдосолидар-
ная семья.
Функция типологического «семейного диагноза» состоит в
том, что он позволяет установить основные ориентиры, т. е.
прогнозировать типичные проблемы и способы их разрешения,
характерную динамику процесса психотерапии, вероятные ме-
ханизмы компенсации нарушенных отношений и т. п. в семье,
принадлежащей к данному типу. Но следует заметить, что, не-
смотря на несомненную важность такой типизации, существует
и другая, не менее важная сторона диагностики. Это — распоз-
навание особенностей, присущих именно данной, конкретной
семье: своеобразия ситуации, в которой она находится, и отли-
чительных черт поведения семьи и ее членов в этой ситуации,
т. е. всего того, что делает каждую семью неповторимой. Это
создает необходимость «индивидуализировать» работу с кон-
269
кретной семьей — избирать различную тактику, варьировать
технические приемы и решать всякий раз непохожие задачи.
Неповторимость каждой семьи в значительной мере связана с
тем, что можно назвать «индивидуальной системой значений»
для семьи в целом и для каждого ее члена. Опыт показывает,
что одна и та же проблема, подчас одинаковые высказывания
оцениваются членами разных семей и индивидами одной семьи
в той или иной мере по-разному. В некоторых случаях эти зна-
чения близки друг другу, в других они полностью не совпадают.
Познание психотерапевтом индивидуальных особенностей пове-
дения и «индивидуального языка» семьи, того, как и в чем мо-
гут перестраиваться эти значения и связанное с ними поведе-
ние, не заканчивается на первом этапе знакомства с семьей,
а продолжается и углубляется на протяжении всего периода
психотерапевтической работы.
Первые контакты психотерапевта с семьей и понятие «се-
мейной защиты». Психотерапевтическая работа с семьями
в большей степени отличается от психотерапии в других видах
групп именно на первых этапах. Основное отличие состоит
в том, что семейный психотерапевт встречается с группой с уже
сложившимися отношениями, законами и правилами, с опреде-
ленным распределением ролей и сформированными особенно-
стями социальной перцепции. Несмотря на нарушенные отно-
шения или даже наличие конфликта в семье, эти нормы и пра-
вила остаются более или менее устойчивыми. Устойчивость
сохраняется за счет механизмов, поддерживающих гомеостаз се-
мейной системы, так называемых «семейных защит». «Защит-
ные механизмы» в семье или семейные «мифы» {Dicks H., 1963;
Ferreira A., 1966] являются групповыми защитными реакциями
и так же, как индивидуальные «защиты», активизируются при
наличии реальной или воображаемой угрозы.
Контакт психотерапевта с семьей может представляться ее
членам «угрожающим» в первую очередь для двух следующих
зон семейных отношений: 1) авторитет лидера в группе;
2) представление семьи о болезни и о роли больного в семье
(речь здесь идет о неосознаваемых или лишь частично осозна-
ваемых механизмах). Эта угроза и вызывает защитные реак-
ции, реакции сопротивления психотерапевтическому воздейст-
вию. Например, больной человек может выступать в семье
в роли «опекаемого», являясь своеобразным центром семьи,
а членов семьи при этом объединяет общая забота о нем,
а в некоторых случаях даже атмосфера самопожертвования.
На первых этапах психотерапии защитные реакции семьи мо-
гут быть вызваны тем, что поведение психотерапевта интерпре-
тируется как критическое отношение к такому «семейному
кредо». При другом распределении ролей больной человек мо-
жет выступать в роли «отвергаемого», которому другие члены
семьи противопоставляют себя, и это противопоставление спо-
270
собствует сплочению семейной группы. Выражение неприятия
психотерапевтом такой структуры отношений может усилить
сопротивление семьи психотерапевтическому воздействию.
Внешнее, поведенческое выражение сопротивления семьи осо-
бенно ясно можно наблюдать в амбулаторной практике, где
семью не ограничивают рамки госпитализации больного и она
демонстрирует более естественные защитные реакции. Одним из
видов открытой защитной реакции является просто «уход», от-
каз от участия в семейной психотерапии. При более скрытом
сопротивлении члены семьи отрицают наличие какой-либо связи
между болезнью и отношениями в семье и стараются ограни-
чить обсуждение лишь проблемами больного члена семьи.
С. В. Днепровская (1975) называет 6 видов защитных реак-
ций семьи: 1) возражения против формы совместных бесед или
обсуждения семейных проблем с врачом; 2) умолчание; 3) ре-
акция раздражения; 4) отрицание обсуждаемых факторов;
5) поспешное согласие с врачом; 6) уклонение от обсуждаемых
вопросов. А. П. Коцюбинский и В. Л. Гайда в качестве формы
группового противодействия семьи наблюдали: 1) молчание,
2) перемену темы, 3) аффективное и негативистическое пове-
дение. Преодоление сопротивления семьи требует больших уси-
лий и не всегда приносит успех. Очевидно, что степень актив-
ности и прямых советов психотерапевта в случае встречи со
всей семьей должна быть меньше, чем иногда может быть при
первой индивидуальной беседе. Исключение составляют острые,
кризисные ситуации, где часто бывают необходимы непосред-
ственные советы. Но в эти периоды в семье происходит ослаб-
ление ее групповых защитных реакций. Для преодоления со-
противления семейной группы иногда оказывается эффектив-
ным временное выключение из психотерапии тех членов семьи,
которые демонстрируют «реакцию ухода», с тем, чтобы вернуть
их, когда возникнет подходящая для этого ситуация. Наиболее
распространенным способом установления контакта с семьей
является «завоевание ее изнутри», т. е. работа с опорой на не-
формальных лидеров или эмоционально значимых, но не уча-
ствующих в данном конфликте членов семьи. Следует подчерк-
нуть большое значение первого этапа в психотерапии, так как
процесс «снятия семейных защит» наиболее полно раскрывает
суть взаимодействия в семье и показывает, каким образом мо-
жет осуществляться движение в системе «психотерапевт —
семья».
Различные формы семейной психотерапии. В литературе по
семейной психотерапии до сих пор остается дискуссионным во-
прос о том, в какой форме следует работать с семьей. Должны
ли в психотерапии участвовать все члены семьи, или она мо-
жет осуществляться в форме работы с семейными проблемами
индивидов, или для ее проведения необходимо участие наибо-
лее активных, важных для решения конфликта членов семьи?
271
При этом все исследователи оказываются единодушными
в том, что психотерапевту необходимо видеть семью в целом,
только тогда становятся не схематичными, а реальными пред-
ставления о расстановке сил в семье. Аксиомой можно считать
и положение о том, что для изменения характера коммуника-
ции, «семейных правил» (исходя из существующих представле-
ний о взаимодействии) нужно работать со всей семьей. На
практике семейные психотерапевты используют гибкую так-
тику. Обычно психотерапевтический процесс включает в себя
на разных этапах работу как с семьей в целом, так и с отдель-
ными ее членами в зависимости от изменения семейной ситуа-
ции и в соответствии с динамикой самой психотерапии.
В отечественной практике семейная психотерапия часто со-
четается с групповой. Такой подход оказывается оправданным
в тех случаях, когда кого-либо из членов семьи «изолируют»
из патогенной ситуации или (это довольно распространенный
вариант) пребывание в группе используется для психологиче-
ского роста, взросления наиболее инфантильного члена семьи.
После такой работы с отдельными членами семьи семейная
психотерапия может быть продолжена. Групповая психотерапия
может осуществляться и в другой форме. Речь идет, например,
о создании родительских групп больных шизофренией, суици-
дентов, групповой психотерапии с женами больных алкоголиз-
мом. Родительская психотерапия бывает направлена прежде
всего на создание групповых норм отношения к больным. Об
опыте работы в родительских группах больных шизофренией
пишет В. М. Воловик (1980). Такие смешанные группы, в ко-
торые могут включаться и здоровые супруги больных, условно
называются автором «родительскими собраниями». Обсуждение
в этих группах касается реальных проблем сегодняшнего дня и
планов на будущее. В группах корректируются неадекватные
способы семейного взаимодействия. Это особенно важно для
хаотических семей, которые в среде других родителей, состав-
ляющих группу, находят «эталон» собственного родительского
поведения.
Для перечисленных видов семейной психотерапии (скон-
центрированной на всей семье, на супружеской паре, исполь-
зующей сочетание индивидуальной, семейной и групповой ра-
боты) важным остается вопрос о психотерапевтической тактике
ведения семейной группы. При любом сочетании конкретных
техник обязательным является обсуждение происходящего
в семье минимум двумя психотерапевтами. Это не означает, что
оба психотерапевта обязательно должны участвовать во всех
встречах. Например, одной из эффективных методик супруже-
ской психотерапии является использование «стереоскопической
техники» [Martin P., Bird Н., 1963] —параллельного ведения
супругов двумя психотерапевтами с обязательным последующим
обсуждением происходящего. Наш позитивный опыт позволяет
272
говорить об оптимальном сочетании для психотерапии врача и
психолога, дополняющих свои профессиональные знания, и об
использовании так называемого «бригадного метода». В состав
«бригады», кроме перечисленных выше специалистов, могут
входить детский психоневролог и сексолог.
Семейная психотерапия строится с учетом таких общих
представлений, как семейный диагноз, динамика семейной
жизни, «семейные защиты», стиль психотерапевтического воз-
действия. Вместе с тем особенности заболевания и личности
больного создают специфику семейной психотерапии при разных
формах заболеваний. Одной из специфических проблем, кото-
рая возникает в процесс психотерапии, являются определение
и последующая коррекция нарушенных отношений семьи к бо-
лезни ее члена. Во всех формах семейной психотерапии пере-
стройка этой системы отношений занимает одно из центральных
мест. Так, в работе с семьями больных хроническим алкоголиз-
мом суть подобной коррекционной работы сводится к созданию
и поддержанию всей семейной группой установки на трезвость
[Рыбакова Т. Г., 1977]. Для больных неврозами эта связь пси-
хологически выражена еще более явно. Семейная психотерапия,
направленная на изменение стиля взаимодействия в семье, ос-
лабление взаимозависимости и повышение уровня личностной
зрелости членов семьи, оказывает непосредственное воздействие
на перестройку нарушенных отношений личности, т. е. способ-
ствует лечению больного неврозом. Особенности заболевания
членов семьи оказывают также влияние и на предпочтитель-
ность использования конкретных психотерапевтических техник.
Психотерапия в семьях детей больных неврозами [Захаров А. И.,
1976] осуществляется в форме работы с группами детей и ро-
дителей, но основной техникой здесь являются ролевые игры,
проводимые в парах взрослый — ребенок, где дети и родители
постоянно меняются ролями. При работе с семьями подростков
с психопатиями, акцентуациями характера, неврозами и невро-
зоподобными состояниями тактика психотерапии строится пре-
жде всего в зависимости от типа акцентуации подростка и типа
неправильного воспитания, типа семьи {Эйдемиллер Э. Г., 1980].
В то же время указывается на предпочтительность использова-
ния в психотерапии таких методик, как конструктивный спор
(с диагностической и с обучающей целью), а также обсужде-
ние анонимных случаев, конфликтных ситуаций, при которых
семья должна найти способы разрешения.
Психотерапевтические техники и стиль семейной психотера-
пии. Семейный психотерапевт в процессе работы пользуется ря-
дом приемов, которые в целом образуют психотерапевтический
стиль. На протяжении занятия с семьей он варьирует различ-
ные «техники» в зависимости от той конкретной задачи, кото-
рая ставится для семьи в целом или отдельных ее членов. Уп-
равляя психотерапевтическим процессом, изменяя содержание
273
обсуждаемых проблем и складывающиеся в их ходе отноше-
ния, психотерапевт может воздействовать на семью тем или
иным более предпочтительным для него самого способом.
К наиболее употребительным техникам такого рода, применяе-
мым в процессе психотерапевтического занятия, могут быть от-
несены следующие: 1) эффективное использование молчания;
2) умение слушать; 3) обучение при помощи вопросов; 4) по-
вторение (резюмирование); 5) суммарное повторение; 6) уточ-
нение (прояснение) и отражение аффекта; 7) конфронтация;
8) проигрывание ролей; 9) создание «живых скульптур»;
10) анализ видеомагнитофонных записей [Peres J. F., 1979]. Как
видно из перечня, эти приемы представляют собой конкретиза-
цию метода психотерапевтической работы с группами. В се-
мейной психотерапии они имеют свою специфику.
Эффективное использование молчания. На первых психоте-
рапевтических занятиях со всей семьей в начале занятия (или
в процессе его) может возникнуть достаточно длительное мол-
чание. Такое поведение семьи часто служит выражением сле-
дующих эмоций: робости, страха, враждебности или тревоги.
Чувство протеста иногда является одной из причин, из-за кото-
рой члены семьи молчат в начале психотерапии. Нередко под-
ростки или мужчины в семье (мужья и отцы) «играют» в мол-
чание на протяжении первых встреч. Другая причина молчания
кроется в генерализованной семейной тревоге. Из-за нее уча-
стники беседы ведут себя скованно, создавая общую атмосферу
напряженности. Характерное поведение этих семей в трудной
ситуации — не вскрывать конфликты, а просто не касаться их,
не говорить о том, что тревожит. Психотерапевт, принимая во
внимание особенности поведения таких семей, может использо-
вать тактику «выжидания». Другими словами, психотерапевт
может просто молчать вместе со всеми, осознавая, что это со-
ответствует правилу поведения в данной ситуации. Принятие
семейных правил на начальном этапе знакомства вызывает
у членов семьи чувство доверия к психотерапевту. Когда эмо-
циональная атмосфера становится слишком тревожной, психо-
терапевт может прервать молчание, тем самым сняв возникшее
напряжение.
Умение слушать. В любой семье с нарушенными отноше-
ниями есть трудности в общении, которые выражаются в неуме-
нии близких людей слушать друг друга. Психотерапевт своим
поведением демонстрирует семье, каким образом можно слу-
шать партнера. Всем своим видом он как бы говорит: «Вы
важны для меня». Чтобы этот процесс осуществлялся более эф-
фективно, необходимо: 1) занять такое положение, которое
позволяло бы видеть лица каждого из членов семьи; поза дол-
жна быть не слишком напряженной, не слишком расслаблен-
ной; 3) достаточно контролировать свое невербальное пове-
дение.
274
Обучение при помощи вопросов. Задавая вопросы, психотера-
певт обучает членов семьи тому, как следует находить связь
между причинами и следствиями, мотивами и поведением.
В дальнейшем эти знания членов семьи могут быть дополнены
и углублены информацией, полученной в результате использо-
вания других техник.
Повторение (резюмирование). Психотерапевт выбирает наи-
более значительные высказывания в дискуссии и затем повто-
ряет их. Повторение адресовано как к отдельным членам семьи,
так и ко всей семье в целом. Психотерапевт выбирает главное,
делает более коротким и четким содержание высказывания,
тем самым проясняя его для самого говорящего и для окру-
жающих. Резюмируя высказывания, он учит этому членов
семьи.
Суммарное повторение. Психотерапевт может связать все
комментарии воедино, суммировать их. Такое резюме объясняет
говорящему, что именно различные заявления означают для
него самого и, возможно, для окружающих. Эта техника мо-
жет быть использована как в конце занятия, так и в любой
другой момент его ведения.
Уточнение (прояснение) и отражение аффекта. Необходи-
мость в использовании этого приема возникает потому, что для
членов семей с нарушенными отношениями характерно, расхож-
дение между чувствами и поведением. Кларификация аффекта
состоит в том, чтобы пояснить, что именно означают высказы-
вания индивида о своих переживаниях. Смысл этого поведения
психотерапевта состоит в том, чтобы помочь членам семьи по-
нять чувства друг друга, вербализуя их. Отражение аффекта
состоит в определении того чувства (страх, гнев, удовольствие),
которое опосредует высказывания и поведение членов семьи.
Психотерапевт помогает понять, какое именно чувство окраши-
вает данное поведение.
Конфронтация. Психотерапевт использует эту технику в тех
случаях, когда он чувствует, что возникший характер взаимо-
действия блокирует психотерапевтический процесс. Мастерство
конфронтации включает: 1) способность выбрать соответствую-
щую эмоциональную атмосферу; 2) умение определить пригод-
ность использования этой техники как для индивидуумов, так
и для семьи в целом; 3) способность контролировать процесс —
не вовлекаться в него полностью и 4) умение выбирать для кон-
фронтации такие выражения, которые не оттолкнули бы инди-
вида или семью, а, наоборот, улучшили бы взаимодействие
между ними и психотерапевтом.
Проигрывание ролей. Эта техника используется психотера-
певтом для улучшения взаимопонимания в семье. Каждый член
семьи получает возможность понять и почувствовать другого,
играя его роль, стараясь «стать им». Остальные участники
также получают новое восприятие этой роли в результате того,
18*
275
что она оказывается сыгранной другим человеком. Когда муж
играет роль жены, а жена — мужа, ребенок — матери (и на-
оборот) и т. д., каждый в игре другого получает возможность
увидеть как привлекательные, так и непривлекательные сто-
роны своей роли. У психотерапевта есть еще одно основание об-
ращаться к описываемой технике. Нередко члены семьи ведут
себя так стереотипно, словно они «приговорены» к единствен-
ной форме поведения. Проигрывание ролей освобождает их от
этого чувства «приговоренности», расширяет поведенческий
«репертуар».
Создание «живых скульптур». Этот прием позволяет члену
семьи показать близким (а нередко и себе самому) его вос-
приятие внутрисемейных отношений. Такая невербальная тех-
ника оказывается особенно полезной для более «слабых» чле-
нов семьи (детей, пассивных взрослых). Обычно в семье редко
спрашивают их мнение, а если и спрашивают, то они часто
оказываются не в состоянии выразить его достаточно полно.
Как скульпторы они получают возможность выразить это мне-
ние полно и без тревоги, связанной с вербализацией.
Разумеется, этот перечень является далеко не полным. На-
пример, в семейной психотерапии могут быть также использо-
ваны методика «проективного рисунка» или известные приемы
невербальной групповой психотерапии, арттерапии и музыкоте-
рапии.
Семейный психотерапевт должен владеть 3 основными фор-
мами воздействия: психотерапией советов, интерпретационной
психотерапией и тренировкой навыков общения. Такое разделе-
ние отражает различия в общей направленности процесса пси-
хотерапии, особенности позиции психотерапевта. Эта позиция
может меняться в зависимости от этапов психотерапии. Напри-
мер, вместо интерпретаций на реконструктивном этапе может
быть использован метод тренировки навыков общения. Конкрет-
ные техники, с помощью которых реализуются эти стили,
обычно взаимодополняют друг друга. Так, направляя семью на
интерпретацию ее переживаний и поведения, психотерапевт мо-
жет использовать и коммуникативные приемы, а в психотерапии
советов — элементы интерпретации. Таким образом, речь идет
не о жестком стереотипе проведения психотерапии, а о гибкой
системе, в которой намечается та или иная общая психотерапев-
тическая тенденция. На проявление этой тенденции непосред-
ственное влияние оказывают три связанных между собой фак-
тора: личностные особенности психотерапевта, характер нервно-
психического расстройства больного члена семьи, и наконец,
особенности самой семейной ситуации. В зависимости от зна-
чимости этих факторов они могут определять стиль психотера-
певтического воздействия. Например, в ситуациях семейных
кризисов оказывается необходимым «оперативное вмешатель-
ство» в дела семьи. Высокий уровень тревоги у членов семьи,
276
их растерянность, поиск поддержки создают необходимость
в активной, действенной роли, не наблюдателя, а советчика.
В литературе, в том числе и отечественной, распространено
представление о том, что психотерапевту следует воздержи-
ваться от прямых советов, так как в противном случае семья бу-
дет полностью возлагать ответственность за свои поступки на
^психотерапевта.
Очевидно, что в ситуациях кризиса, о которых говорилось
выше, «не давать совета»— неестественная, нереалистическая
позиция. При наличии настроенности семьи на авторитетное
вмешательство основная психотерапевтическая задача — дать
семье «точный» совет. Это означает, что психотерапевт дол-
жен уловить естественную динамику семейных отношений — ха-
рактер изменения расстановки сил в семье (уменьшение или
увеличение дистанции, направленности и качества связей между
членами семьи). Совет должен быть конкретен и реалистичен,
и на его содержание должно оказать решающее влияние состоя-
ние больного члена семьи. Спектр конкретного выражения со-
вета может быть очень широк: от высказывания в пользу от-
сутствия действий: «Не принимать решений», до конкретиза-
ции поведения в данной ситуации. При наличии этих условий
психотерапевтический совет может: а) поддерживать уже фор-
мирующееся изменение отношений в семье; б) выполнять
роль «толчка», когда семья застревает на стадии разрешения
ситуации. Обе функции совета можно проиллюстрировать на
примере разрешения конфликта между поколениями. Само по
себе наличие такого конфликта свидетельствует о том, что
старая расстановка сил оказывается неприемлемой для семьи.
Психотерапевтический совет в данном случае подкрепляет та-
кую перестройку, которая соответствует более зрелой стадии
в развитии семьи. Например, в семье, где сохраняются более
тесные отношения зависимости между одним из родителей и
их взрослым ребенком, конфликт возникает в том случае, ко-
гда эти отношения перестают устраивать какую-либо из сто-
рон (или обе). Но перестройка отношений оказывается сопря-
женной для семьи с большими эмоциональными трудностями.
Советы в данном случае должны формулироваться таким обра-
зом, чтобы они подкрепляли обе линии перестройки отноше-
ний: как движение родителей навстречу друг другу, так и про-
явление самостоятельности у взрослого ребенка. Функцию
поддержки выполняют советы членам семьи в ситуации раз-
вода, который невозможно предотвратить. В этом случае они
могут быть направлены на то, чтобы несколько растянуть си-
туацию во времени, как бы амортизировать ее, чтобы «постра-
давший» член семьи привык к своему новому положению.
В целом психотерапевтическая работа после развода имеет
своей целью сделать для страдающей стороны ситуацию ме-
нее драматичной и тем самым предотвратить возникновение
277
аффективных действий, в том числе суицида. Советы в этом
случае могут быть направлены, например, на создание пере-
становки в семье (например, возвращение взрослых детей,
живших отдельно, к оставленной супругом матери) либо на
создание «опоры в работе» и т. п. Так как в ситуации развода
у «пострадавшей» стороны почти всегда понижается само-
оценка, то советы могут касаться и того, как вести себя во
время самой процедуры развода, чтобы сохранить привычный
уровень самооценки.
Интерпретационный стиль психотерапии оказывается более
действенным в ситуации обострения хронически существую-
щего семейного конфликта и часто служит средством ломки
старых «правил» и «мифов», которые оказываются в новой си-
туации «тесными» для семьи. В процессе семейной психотера-
пии взаимоотношения между членами семьи могут интерпрети-
роваться с разной степенью глубины. Вопросы интепретации
в итоге связаны с тем, что же именно члены семьи должны
осознать в своем поведении, чтобы это служило основанием
для выработки новых, более конструктивных форм взаимо-
действия. Другими словами, интерпретация должна касаться
зон семейных взаимоотношений, наиболее значимых для пере-
стройки. В каких терминах, например, осуществляется такая
«окончательная» интерпретация, может быть проиллюстриро-
вано на модели семейной психотерапии в «невротических» су-
пружеских парах [Мишина Т. М., 1978]. Так, при перестройке
«сопернических» отношений супругов следует исходить из до-
стигнутого понимания характера этого взаимодействия—стре-
мления обоих супругов (в силу эгоцентрической позиции)
самоутвердиться в роли лидера, навязать партнеру признание
своего превосходства, свои требования, не считаясь с его соб-
ственными потребностями. Для осознания супругами подлин-
ных причин нарушения их взаимоотношений необходимо,
чтобы интерпретация касалась более точного понимания парт-
нерами положительных качеств друг друга, необходимых
форм взаимопомощи и эмоциональной поддержки. Она должна
касаться также изменения характерной для этого типа вза-
имоотношений формы компенсации конфликтных отношений —
замены «опоры извне» — разрешением конфликтов самими су-
пругами. При перестройке «псевдосотруднических» отношений
интерпретация касается основы взаимоотношений — разделение
супружеских ролей на «опекающего» и «опекаемого», ведущее
к сохранению или даже усилению несамостоятельности боль-
ного неврозом (что неизбежно приводит к его неудачам в тру-
довой деятельности и общественной активности и тем самым
способствует поддержанию невроза). Одновременно супруги
должны осознать характер преобладающего при данном типе
отношений компенсаторного механизма — «подчинения» как
неэффективного, усиливающего взаимозависимость супругов.
278
В процессе коррекций отношений типа Изоляций ййтер*
претация касается сложившегося неадекватного стереотипа
взаимодействия между супругами. Этот стереотип определяет
особенности поведения супругов — постоянное подчеркивание
якобы неустранимых несоответствий и различий между ними,
которое затрудняет их взаимопознание и ведет к эмоциональ-
ной разобщенности и неадекватному исполнению супружеских
ролей.
Обучение навыкам общения — этот стиль психотерапевти-
ческого воздействия, как правило, используется на реконст-
руктивном этапе семейной психотерапии, но он может быть
и преобладающим для семей, имеющих особые трудности,
именно в этой сфере семейных отношений. Это касается тех
случаев, когда прежде всего нарушена коммуникативная,
экспрессивная сторона взаимодействия. Для тренировки навы-
ков общения в той или иной степени оказываются примени-
мыми все описанные выше конкретные приемы семейной психо-
терапии. Вместе с тем существуют методики, непосредственно
направленные на тренировку исполнения семейных ролей. К по-
добным техникам, используемым за рубежом, могут быть от-
несены: 1) методика применения цветной сигнализации для
улучшения взаимодействия между супругами [Alger I., Ha-
gan P., 1969] и 2) анализ семьей видеомагнитофонных записей
[Eisler R., Berger M., 1969]. Использование первой техники поз-
воляет супругам постоянно иметь обратную связь во время бе-
седы (на цветовом табло супруги зажигают лампочки, симво-
лизирующие чувства, которые они испытывают в данный мо-
мент). С помощью второй методики члены семьи также
получают возможность «обратной связи» и могут легко про-
следить динамику взаимоотношений.
В отечественной практике наибольшее распространение для
тренировки навыков общения получила техника «конструктив-
ного спора» С. Кратохвила (1973). В основу техники спора
положены следующие принципы: 1) спор может проводиться
только после предварительного согласия обеих сторон, выясне-
ние отношений должно осуществляться как можно быстрее,
после возникновения конфликтной ситуации; 2) тот, кто начи-
нает спор должен заранее ясно представлять то, о чем ему
предстоит сказать, и ту цель, которой он хочет достигнуть;
3) стиль спора должен быть конкретным, речь должна идти об
актуальной для обоих участников проблеме; 4) оба должны
активно принимать участие в споре. Каждый участник должен
говорить о себе без «шума», с «хорошей обратной связью» при
полном понимании партнера; 5) аргументы должны быть де-
ловыми, участники должны придерживаться правил «честной
игры». Нарушением последнего положения являются: «удар
ниже пояса» — использование аргументов, не относящихся
к делу или имеющих целью поразить в партнере его чувстви-
279
Таблица 10. Оценочный лист методики конструктивного спора
Оцениваемые
характеристики
Положительная оценка
Подсчет
очков
+ -
Отрицательная оценка
1. Стиль спора
Конкретность
Вовлеченность
Коммуникация
«Честная
игра»
В споре имеется пред-
мет, нападение или
защита сводится к
конкретному поведе-
нию «здесь и теперь»
Оба увлечены, наносят
и получают сильные
«удары»
Ясная, открытая, каж-
дый говорит за себя,
думает то, что гово-
рит, его можно по-
нять и ответить ему,
хорошая «обратная
связь»
Не допускаются удары
ниже пояса и прини-
мается во внимание,
сколько может выне-
сти партнер
Обобщение, поведение
называется «типич-
ным», ссылка на собы-
тия прошедшие или не
имеющие отношения
к делу
Один из участников не
задействован, нахо-
дится в стороне от спо-
ра, оскорбляется, пре-
кращает спор прежде-
временно и т. д.
Слишком частое повто-
рение своих доводов и
малое внимание к дово-
дам другого, скрытые
признаки непонима-
ния, укрывающиеся за
другими, «шум»
Аргументы не относятся
к предмету, но наце-
лены в чувствительное
место
2. Результаты спора
Информатив-
ность
Отреагиро-
вание
Сближение
Улучшение
Что-то узнал или полу-
чил, научился чему-
то новому
Исчезла напряжен-
ность, уменьшилась
злобность, выяснены
претензии
Спор привел к взаимо-
пониманию и сближе-
нию партнеров, есть
ощущение, что это их
касается, что так и
должно быть, сохра-
няют свое достоин-
ство
Устранение проблемы,
разрешение ситуа-
ции, оправдания, из-
винения, планы на
будущее
Не узнал ничего нового
Напряжение не исчез-
ло, а осталось или уси-
лилось
Партнеры более отдале-
ны, чем прежде, ощу-
щают, что они не по-
няты или сильно оби-
жены
Ничего не решено, участ-
ник не старается ниче-
го исправить или оста-
вляет это другому, и
не хочет его простить
280
тельное место; «прижимание к стенке», т. е. создание такой
ситуации, в которой для партнера невозможна честная уступка
и спор основан на его унижении. Вспоминается старое, пере-
житое (к примеру, напоминается о том, как он провинился
в прошлом году во время отпуска); используются обобще-
ния —«ты мне никогда ничем не помогаешь, ты со мной ни-
куда не ходишь», угрозы.
Фазы конструктивного спора: вступительная — изложи суть
того, о чем ты хочешь спорить; средняя — говори о том, что
ты думаешь, отреагируй и критикуй; конечная — признай свои
ошибки, найди в противнике что-нибудь хорошее.
Спорящим членам семьи предлагаются оценочные листы,
на одной стороне которых изложены правила конструктивного
спора, на другой — основные положения стиля спора и оценки
результатов спора. В конце спора выставляется итоговая
оценка. Она включает оценку стиля спора и его результатов.
Каждая позиция, по С. Кратохвилу, оценивается +1 или —1
(табл. 10). Итоговый результат может варьировать от (+8)
до (—8). Оценка стиля спора проводится обычно обоими уча-
стниками вместе и каждым из них в отдельности. Многократ-
ное применение конструктивного спора в процессе психотера-
пии может служить одновременно как для оживления комму-
никации и ее тренировки, так и для диагностики того, в каких
областях семейной жизни быстрее усваиваются навыки кон-
структивного общения, а где их усвоение представляется наи-
более сложным.
Эффективность семейной психотерапии при различных фор-
мах нервно-психических расстройств выявляется при сравнении
исследуемой группы (где проводилась семейная психотерапия)
с контрольной (где в лечении больных этот метод не использо-
вался) по трем критериям: клиническому, психологическому
и социальному. Так, 3. К. Тысячная (1979) при катамнестиче-
ском изучении эффективности метода при неврозах показала,
что по всем трем критериям лечение с использованием семей-
ной психотерапии оказалось более эффективным, в среднем
на 30—35%.
В заключение следует подчеркнуть, что семейная психоте-
рапия представляет собой молодой развивающийся психотера-
певтический метод, совершенствование которого позволяет
решать как лечебные, так и психопрофилактические задачи,
обогащая в то же время наши представления об этиологии и
патогенезе нервно-психических и соматических заболеваний.
10 Заказ № 942
281
Глава XIII
ПОДГОТОВКА МЕДИЦИНСКИХ ПСИХОЛОГОВ
И ПУТИ ОРГАНИЗАЦИИ
МЕДИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
В УЧРЕЖДЕНИЯХ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Во «Введении» уже говорилось о том большом значении,
которое в наше время приобретает медицинская психология.
Отмечалось и то, что определение сферы ее деятельности, ме-
тоды работы и многое другое порождает споры специалистов.
Вызывает дискуссии и характер профессиональной подготовки
медицинских психологов. С одной стороны, они, конечно, пси-
хологи, а с другой — в определенной мере и медики. Возникает
сложнейший вопрос: где, как и кому их готовить?
Медицинскую психологию преподают сейчас в медицинских
вузах на 2-м курсе на кафедрах психиатрии. Лекции проводят
специалисты-психиатры (больше некому, специальных кафедр
медицинской психологии в медвузах пока нет). Лекционный
курс составляет около 20 ч. Практические (семинарские) за-
нятия не ведутся. Экзамена по медицинской психологии по су-
ществу тоже нет (в экзаменационные билеты по психиатрии
иногда включаются отдельные вопросы медицинской психоло-
гии). Даже к психиатрии, обучение которой проводится обычно
в психиатрических больницах традиционного типа, отношение
у будущих врачей складывается как к дисциплине не столь
важной, как терапия или хирургия, тем более, что число учеб-
ных часов на психиатрию тоже явно занижено — всего 16 ч
лекционных и 60 ч практических занятий. Что уж тут говорить
о медицинской психологии с ее весьма короткой и элементар-
ной программой, которая дает очень скудное представление
о ней будущим врачам. Да и преждевременное преподавание
психологии на 2-м курсе студентам, незнакомым еще с кли-
никой различных заболеваний, также, видимо, требует пере-
смотра (ранее медпсихология преподавалась на 3-м курсе).
Писатель и врач П. Бейлин как-то на страницах «Литера-
турной газеты» (1977, № 50 от 14.12, с. 12), подметил, что для
изучения человеческого организма в медицинском вузе отво-
дится около 8000 тыс. часов, а для изучения человеческой пси-
хологии — всего 18. Кстати, не всегда квалифицированные
в области психологии преподаватели-психиатры нередко прев-
ращают курс медицинской психологии, по существу, в пропе-
девтику психиатрии. Естественно, у студента, изучавшего ряд
лет шесть химий, три анатомии и две физиологии и основатель-
ные курсы терапии, хирургии и других клинических дисциплин
вырабатывается a priori взгляд на психиатрию, и особенно на
медицинскую психологию, как на дисциплины, малозначимые
282
для врачебной практики (исключение составляют в какой-то
мере только студенты, склонные специализироваться в области
психиатрии). Можно возразить, сказав, что медицинский вуз
и не ставит своей задачей подготовку профессиональных пси-
хологов. Его задача — дать врачу-лечебнику только элемен-
тарные понятия в области медицинской психологии. Но за
столь малое количество часов невозможно и это обеспечить
достаточным образом. Кроме того, весьма важно делать «при-
вязку» медицинской психологии к каждой клинической специ-
альности: терапии, хирургии, педиатрии, акушерству и гинеко-
логии, невропатологии, оториноларингологии и др. Лишь в не-
которых медицинских институтах элементы медицинской
психологии пытались включить, несмотря на незначительное ко-
личество отведенных часов в клинические специальности, но
с очень скромным результатом [Стукалова Л. А., 1974] из-за
явной нехватки времени.
Таким образом, получается, что медицинская психология
преподается в медвузах, так сказать, для общей ориентации,
а специалистов-психологов в этой области готовят у нас
только университеты (главным образом Московский и Ленин-
градский). Несколько лет тому назад было официально запре-
щено врачам, не имеющим университетского образования, за-
нимать должность психолога. Это, по нашему мнению, непро-
думанное решение. Потребность в медицинских психологах ра-
стет, университеты же выпускают незначительное число таких
специалистов. Да их и не всегда охотно берут в практические
медицинские учреждения из-за слабой подготовленности
к работе в этих учреждениях. Обычно психологи широкого
профиля (т. е. занимающиеся не только психодиагностикой,
но и психокоррекцией) готовятся лишь на базе Института
им. В. М. Бехтерева (на рабочем месте, путем участия в еже-
годных месячных семинарах), что явно недостаточно для дела,
тем более в масштабе всей страны. Врачи, желающие рабо-
тать в качестве медицинских психологов, обычно устраиваются
(в нарушение официальных требований штатно-финансовой
дисциплины) на должность ординаторов, старших лаборантов,
а иногда и психологов (последнее имеет место только в психи-
атрических стационарах). Кстати, штатными расписаниями
предусмотрены должности медицинских психологов только
в психиатрических больница*, в отделениях (кабинетах) вос-
становительного лечения при общих поликлиниках, а также
в семейных консультациях, причем следует отметить, что чи-
сло отделений восстановительного лечения и семейных кон-
сультаций крайне невелико.
Если в психиатрических стационарах имеется известная
польза от применения традиционных патопсихологических
методик и психокоррекциониая работа нередко, к сожалению,
игнорируется, то в отделениях восстановительного лечения
10*
283
патопсихологические методики исследования могут играть
более чем скромную роль. Диагностика здесь должна быть
направлена в сторону функционального диагноза (с исполь-
зованием личностных методик), и, главное, психолог должен
владеть различными приемами психокоррекционной работы.
Между тем программа подготовки психологов в университе-
тах до сих пор оставляет желать лучшего. Она, правда, пред-
усматривает основательную подготовку будущих медицинских
психологов практически по всем разделам современной психо-
логии и некоторым смежным наукам. Однако усвоение собст-
венно медицинских знаний (основы пропедевтики внутренних
болезней, общая и частная психопатология, психосоматическая
медицина и др.) носит весьма поверхностный характер. Что же
касается методов психокоррекционной работы, то в программе
факультета психологии Ленинградского университета пред-
усмотрено небольшое количество часов для ознакомления
с ними. Но, во-первых, освоить методы психологической кор-
рекции можно лишь путем практической длительной работы
совместно с врачом-психотерапевтом, хорошо владеющим ими
(а не только гипнозом и аутотренингом, к которым почему-то
сводится у многих врачей представление о психотерапии); во-
вторых, нужны соответствующие руководства по методам пси-
хологической коррекции, а их нет; в-третьих, и это, может
быть, самое главное, психологам внушается идея, что «психоте-
рапия» не их дело, да и полуофициально существует своего
рода запрет на их деятельность в этой области. Наконец, не-
маловажную роль играет то обстоятельство, что в лечебно-
профилактических стационарах соматического профиля соот-
ветствующих должностей (для психологов, особенно намерева-
ющих заниматься психокоррекционной работой) практически не
предусмотрено. В результате психологи или поступают на ра-
боту в психиатрические больницы, где предпочитают, в силу
своей односторонней подготовленности, заниматься в основном
диагностической работой (причем выпускники Московского уни-
верситета называют себя «патопсихологами» и пользуются
в своей деятельности в большей мере традиционными патопси-
хологическими методиками, недооценивая личностные опрос-
ники и проективные методы), или идут работать в любое меди-
цинское учреждение (включая санатории), где их нередко
используют как своего рода «затейников» при проведении куль-
турных программ (иногда эту деятельность именуют расплывча-
тым термином «культтерапия»), или, наконец, психологи пред-
почитают устраиваться на работу в научно-исследовательские
институты, лаборатории и другие учреждения различных мини-
стерств и ведомств. Все же надо отметить, что число научных
подразделений, где работают медицинские психологи в сфере
министерств здравоохранения (СССР и союзных республик),
а также Академии медицинских наук СССР и Министерств
284
социального обеспечения, с каждым годом увеличивается, что
весьма отрадно.
Важен вопрос о психологических качествах самого психо-
лога. Психолог вообще и особенно работающий в медицине
должен обладать набором определенных личностных свойств.
Всемирная организация здравоохранения (комитет экспертов
ВОЗ) полагает, что даже медицинская сестра современной
психиатрической больницы должка иметь не только: 1) основ-
ные навыки сестринского обслуживания (включающие уход
за больным и создание для него необходимых удобств); 2) тех-
нические приемы сестринского обслуживания (умение выпол-
нять соответствующие лечебные процедуры), к которым отно-
сятся и способы осуществления надзора за больными, и приемы
предупреждения их опасных действий, но также 3) умение
устанавливать контакт и развивать интерперсональные отно-
шения с больными, включающие определенные аспекты психо-
терапевтической работы; 4) наблюдательность, тесно связанную
с профессиональной грамотностью и необходимую не только
для предупреждения чрезвычайных происшествий, но еще бо-
лее важную для диагностики (в помощь врачу), для психоло-
гической оценки пациента в целях установления индивидуаль-
ного подхода к больному, одинаково нужного для вовлечения
его в жизнь коллектива пациентов и для привлечения к полез-
ной занятости и труду; 5) организационные навыки; 6) навыки
проведения трудовой терапии и особенно ее форм, определяе-
мых как лечение занятостью; 7) умение формировать общение
как в группах больных, так и среди их внебольничного окру-
жения в семье и на работе1. Таковы требования к медсестре
современной психиатрической больницы. Сходные требования
надо предъявлять к медсестрам соматических учреждений.
Определенным набором психологических качеств ( в том
или ином объеме) должен обладать каждый медик, имеющий
общение с больным человеком (врач, психолог, медицинская
сестра), особенно лица, занимающиеся психосоциальными мето-
дами лечебного воздействия (психо-трудо-социотерапией)- Бу-
дем надеяться, что придет время, когда перед приемом в ме-
дицинские институты, а также на отделения медицинской пси-
хологии в университетах будут принимать лиц, не только и. не
столько сдавших с положительными оценками вступительные
экзамены, но в первую очередь обнаруживших при собеседо-
вании и специальном психологическом исследовании выражен-
ную способность к эмоциональному сопереживанию, резониро-
ванию (к так называемой эмпатии)2.
1 Европейская техническая конференция о роли медсестры в- психиатрк*
ческой практике (Копенгаген, 1961). Тетради общественного здравоохране-
ния № 22. Женева; ВОЗ, 1964, с. 38—57.
2 Проблеме эмпатии посвящена большая литература [Бодалев А. А, Каш-
танова Т. Р„ 1975; Гаврилова Т, П., 1975; Симонов П. В., 1979].
285
Мы считаем необходимым высказать здесь соображения,
может быть и не бесспорные, о подготовке в будущем специа-
листов — медицинских психологов как в университетах, так
и в медицинских высших учебных заведениях. Безусловно,
врач, имеющий еще и психологическое образование, будет
иметь преимущества в работе с больными, особенно лечебно-
восстановительной или психотерапевтической. Поэтому возмо-
жен следующий вариант подготовки специалистов. Выпускник
медицинского института, врач-психолог (обученный, естест-
венно, психологии по новой расширенной программе), направ-
ляется на работу в лечебное учреждение, а выпускник уни-
верситета, психолог,— или направляется в специализирован-
ное учреждение (не обязательно медицинское), занимающееся
более углубленно психологической диагностикой (например,
экспертизой), либо занимается преподавательской или научно-
исследовательской деятельностью. (По аналогии, например,
с математиками или физиками — выпускники педагогических
институтов идут, как правило, на работу в школы, а лица,
окончившие университеты,— в большей степени на преподава-
ние в вузах или на научную работу). Проект этот может быть
реализован при наличии штатных должностей медицинских
психологов во всех без исключения лечебно-профилактических
учреждениях любого профиля. Для этого роль психолога, не-
обходимость его деятельности должны быть понятны каждому
клиницисту (терапевту, хирургу и пр.). А ведь до сих пор
еще дискутируется вопрос о том, что должен делать психолог,
чем его занять. Вряд ли кому-нибудь из главных врачей при-
ходится задумываться над таким вопросом, принимая на ра-
боту к себе в учреждение, скажем, анестезиолога, логопеда
или специалиста по лечебной физкультуре. Тут все ясно.
А с психологами ясности пока нет. Ясность будет тогда,
когда станет очевидной и ощутимой его польза в учреждениях
практического здравоохранения (как очевидна польза, напри-
мер, логопеда). А добиться этого можно лишь расширяя и
углубляя объем работы психолога, не ограничивая его только
рамками одной психодиагностики (с помощью в основном
патопсихопатологических методов). Но пока положение меня-
ется мало, и нам надо соотносить свои планы с реальностью.
Видимо, при существующем положении вещей выходом из
создавшейся ситуации является максимальное насыщение
программы подготовки медицинских психологов в универси-
тетах клиническим содержанием, т. е. необходимо большее
ознакомление их с основами психогигиены, психопрофилак-
тики, психотерапии, социо- и трудотерапии, психологическими
аспектами реабилитации (это в какой-то мере сейчас дела-
ется в Ленинградском и Московском университетах) ■. Даль^
нейший путь подготовки медицинского психолога — совершен-
ствование как его психодиагностических знаний, так и психо*
286
коррекционных умений в Институте им. В. М. Бехтерева,
головном учреждении страны по медицинской психологии (что,
как указывалось, делается, хотя могло бы быть организовано
лучше). Что же касается врачей, то к медико-психологиче-
ской работе они могут допускаться, если после окончания ме-
дицинского института пройдут специальную подготовку. Она
может быть различной — специализация на кафедрах психо-
терапии институтов усовершенствования врачей или обучение
на так называемых рабочих местах и семинарах в Институте
им. В. М. Бехтерева или в других научных учреждениях. Выс-
шей формой подготовки по медицинской психологии следует
считать аспирантуру по этой специальности. Однако эта
форма специализации пока развита у нас, к сожалению,
крайне недостаточно.
Прочитав эту книгу, врач или психолог лучше поймут, ка-
кие требования ставит жизнь перед современными психоло-
гами, работающими в сфере здравоохранения. Попытаемся
рассказать и о некоторых путях организации медико-психоло-
гической помощи в нашей стране и наметить некоторые пер-
спективы ее развития с учетом опыта работы развитых зару-
бежных стран, включая социалистические.
Как уже говорилось, наиболее устоявшейся формой ра-
боты медицинского психолога в нашей стране является его
деятельность в психиатрических больницах. Согласно сущест-
вующему положению должности медицинских психологов мо-
гут устанавливаться в этих больницах «по потребности». Но
потребности, как известно, бывают разные. В одних случаях
главным врачам кажется целесообразным ограничиваться пси-
хологическими лабораториями, где в штате состоят несколько
медицинских психологов. Другие руководители стационарных
учреждений предпочитают вводить в штатное расписание пси-
хиатрических отделений должности психолога — по одному на
каждое клиническое отделение (или на 2—3). Подчиняются
психологи, с одной стороны, администрации больницы,
а с другой — заведующему клиническим отделением (а там,
где имеется психологическая лаборатория или кабинет,— их
заведующему; впрочем, существующим штатным расписанием
последняя должность не предусмотрена).
По поводу организации работы медицинского психолога
в психиатрической больнице (как и в стационаре соматиче-
ского профиля) также не существует, к сожалению, единой
точки зрения. Об этом свидетельствуют, в частности, уже упо-
минавшиеся в начале книги методические рекомендации о ра-
боте психолога в психиатрическом лечебном учреждении
изданные в 1975 г. Московским научно-исследовательским ин-
ститутом психиатрии и в 1976 г.—Ленинградским научно-ис-
следовательским психоневрологическим институтом им. В. М.
Бехтерева. Характерно, что первый документ посвящен работе
287
«патопсихолога», а второй — деятельности «медицинского пси-
холога», хотя речь идет об одних и тех же лицах. И это не
просто предпочтение одного термина другому; это принципи-
альная позиция представителей разных школ — патопсихоло-
гии (одна из кафедр факультета психологии МГУ носит на-
звание «патопсихологии и нейропсихологии») и медицинской
психологии (в Ленинградском институте им. В. М. Бехтерева
и Ленинградском университете). О различиях в подходе к под-
готовке медицинских психологов, к их функциям говорилось
во введении к настоящей книге 1.
С нашей точки зрения, термин «патопсихолог» можно со-
хранить для тех психологов, которые занимаются исследова-
тельской работой в этой области в различных научных учреж-
дениях. В практических же учреждениях системы здравоохра-
нения употребление этого термина не только неправомерно
(существует официально признанная специальность, препода-
ваемая в медицинских вузах,— медицинская психология, а не
патопсихология; есть еще и другие соображения на этот счет,
о которых уже говорилось), но и неприемлемо, так как при-
водит к некой камерности в работе психолога, частичной изо-
ляции его от непосредственного контакта с жизнью всего кли-
нического отделения в целом. Деятельность психолога, сидя-
щего «в тиши» своего рабочего кабинета (часто за
пределами клиники) и занимающегося только исследованиями
(экспериментальными или тестовыми) приводимых к нему па-
циентов, уподобляется в чем-то диагностической работе врача-
рентгенолога или специалиста по электрокардиографии (или
электроэнцефалографии), высокополезная деятельность кото-
рых- действительно может носить и носит в известной степени
«камерный» характер и ограничивается обычно лишь пред-
ставлением лечащему врачу соответствующего заключения,
нередко имеющего жизненное значение. У психолога же стиль
работы должен быть иным. Он не может ограничиваться пси-
ходиагностикой. Ему необходимо вращаться в гуще отделен-
ческих событий, помогая врачам создавать соответствующий
психологический климат, обстановку «терапевтической среды».
Конечно, при разных условиях психолог может делать пре-
имущественный акцент в своей практической деятельности на
психологической диагностике или на психокоррекционной ра-
боте, что зависит от ряда обстоятельств. Среди них следует
назвать: 1) степень подготовленности его в той или иной об-
ласти — диагностической или психокоррекционной; 2) про-
филь клинического отделения — приемно-диагностическое или
экспертизное отделение требуют одного стиля работы, а отде-
1 В последнее время некоторые наиболее видные представители школы
^патопсихологов» начинают признавать значение участия психолога в психо-
терапевтической работе (Зейгарник Б. В, Поляков Ю Ф).
288
ление восстановительного лечения (реабилитации) — другого;
3) понимание администрацией лечебно-профилактического уч*
реждения и особенно врачами, персоналом клинического отде-
ления специфики работы психолога—его «языка», стоящих
перед ним задач, нужности психолога (нередко на его дея-
тельность врачи смотрят как на своего рода украшение в ди-
агностике или как на культмассовую работу с больными, ко-
торую иногда пытаются примитивно истолковывать и даже:
называть «психологической коррекцией»); 4) личностные осо-
бенности психолога, его умение вступать в контакты с людьми,
доброжелательность, эмпатийный потенциал —эти качества
нужны для всех видов психологической деятельности, как ди-
агностической, так и коррекционной, но особенно важны они
для последней; психологов, не имеющих склонности к психо-
коррекционной работе, привлекать к ней (как это иногда бы-
вает, чуть ли не принудительно) нецелесообразно.
Диагностическая работа психолога должна быть построена
таким образом, чтобы не только не повредить больному предъ-
явлением различных психологических заданий, которых мно-
гие пациенты пугаются, опасаясь обнаружить свою несостоя-
тельность, но и содействовать выработке у пациентов более
адекватной внутренней картины болезни, модели ожидаемых
результатов лечения. Психологический диагноз, состоящий не
только из характеристик тех или иных процессов, функций и
степени их измененности, но и особенностей личности боль-
ного, должен помогать уточнению нозологического диагноза
в психиатрической клинике. Большие перспективы для психо-
диагностики в медицине открываются в связи с концепцией
функционального диагноза, который должен отвечать и на
вопросы о том, у какой личности и в какой среде возникает
то или иное заболевание (злокачественная опухоль, ишемиче-
ская болезнь сердца, шизофрения и т. д.). Функциональная
диагностика в ее современном понимании [Вайзе К., Воло-
вик В. М., 1980], пока еще довольно сложная для освоения,
нуждается в большем методологическом обосновании и ме-
тодической разработке, но перспективы ее развития представ-
ляются несомненными.
В клиниках Института им. В. М. Бехтерева медицинский
психолог проводит психологическое обследование больного
чаще всего дважды — вскоре после его поступления и неза-
долго до выписки. В клинических разборах больных участие
медицинского психолога обязательно. После доклада лечащего
врача о состоянии больного с обстоятельным сообщением
о проделанной им работе выступает медицинский психолог,
анализируя психологические качества пациента, а также осо-
бенности его отношений с окружающими (персоналом, другими
пациентами клиники, семьей). Если психолог проводит с дан-
ным больным и психокоррекционную работу, об этом также
19 Зака» № 942
289
докладывается на разборе. Само собой разумеется, что все
действия психолога согласовываются и координируются с вра-
чом. Однако необходимо подчеркнуть, что статус медицинского
психолога в глазах больного, всего персонала клинического
отделения должен быть достаточно высоким, психолог пред-
ставляется как лицо, действующее на равных правах с ле-
чащим врачом и пользующееся известной автономией диктуе-
мой его профессией.
Что же касается психокоррекционой работы, то здесь дея-
тельность врача и психолога должна иметь еще более взаимо-
связанный характер. Врач-психиатр (или психотерапевт) может
сотрудничать с медицинским психологом в различных ва-
риантах.
Первый вариант. Врач проводит самостоятельно психотера-
певтическую (психокоррекционную) работу, используя клини-
ческие данные и результаты психологической диагностики,
полученные психологом. Последний в процессе диагностиче-
ской процедуры как бы «подыгрывает» врачу (оба бьют
в одну цель, например на снижение уровня притязаний или
укрепление тех или иных мотиваций). К этой же работе сле-
дует в той или иной степени привлекать и других специали-
стов: медицинских сестер, трудинструкторов и даже санитарок.
В псйхокоррекционной работе, проводимой в клиническом от-
делении, не должно быть безучастных наблюдателей со сто-
роны персонала.
Второй вариант. Врач проводит психокоррекционную ра-
боту вместе с медицинским психологом на равных правах.
Психолог выступает в роли сотерапевта (котерапевта) в пси-
хотерапевтической группе — чаще всего разговорной. Ведение
групповой терапии двумя специалистами (лучше, если это
люди разного пола) придает занятиям (сеансам) характер
большей непринужденности, улучшает процесс коммуникабе-
льности, особенно на первом этапе формирования группы. Та-
кая же совместная работа может проводиться врачом и пси-
хологом во время семейной психотерапии и других форм пси-
хосоциальных воздействий (лечение занятостью, трудовая
терапия и пр.). Психолог вносит значительную лепту и в уста-
новление функционального диагноза, на что уже указывалось.
Третий вариант. Врач только наблюдает за деятельностью
психолога. Психолог сам ведет группы невербальной психо-
терапии (психогимнастика, арттерапия и др.). Наиболее ква-
лифицированным психологам можно разрешить самостоятель-
ное проведение и некоторых видов вербальной психотерапии по
плану, намеченному совместно с врачом.
Ну и, естественно, действия психолога полностью само-
стоятельны в области психологической диагностики (методики
исследования структуры интеллекта, личностные методики,
пато- и нейропсихологические исследования и др.). О резуль-
290
татаД этих психодиагностических исследований психолог
обязаЦ, помимо письменного заключения дать словесный
отчет \дечащему врачу, обратив его внимание на осо-
бенности отношения больного к проводимому исследованию,
выявленный характер взаимоотношений с окружающими
(в том числе и с врачом, персоналом, другими пациентами),
некоторые поведенческие характеристики. Еще раз следует
подчеркнуть необходимость психотерапевтической «аранжи-
ровки» проводимых психологических исследований, смысл ко-
торых в деликатной форме следует сообщить больному, похва-
лив и обнадежив его.
Применение психологических методов исследования, осо-
бенно тестов, может приводить к отрицательным результатам
при отсутствии высокой профессиональной подготовки, такта
и знаний [Аванесов В. С, 1982]. Поэтому, как и во врачебной
практике, в ряде стран существуют кодексы этических норм,
которые должны соблюдаться в процессе применения тестов х.
Относительно работы психолога в лечебных учреждениях
соматического профиля еще раз отметим, что штатными рас-
писаниями их должности предусмотрены пока только в отде-
лениях (кабинетах) восстановительного лечения при общих
поликлиниках и в семейных консультациях. Мало где органи-
зованы эти подразделения и тем более укомплектованы психо-
логами, а поэтому об опыте их работы пока говорить не при-
ходится. Стиль работы психологов в этих кабинетах следует,
видимо, соотносить с деятельностью тех психологов, которые
имеют опыт работы в практических лечебных учреждениях со-
матического профиля (системы органов здравоохранения и
других ведомств), а также в ряде научно-исследовательских
институтов2.
Иногда еще спрашивают, а надо ли вообще ставить вопрос
о создании специализированной медико-психологической слу-
жбы. Проблема эта остается сложной. И пока медицина не
выходила из рамок патологии, ответ на этот вопрос чаще всего
являлся отрицальным. Сейчас же, когда упор в здравоохране-
нии делается на профилактику различных заболеваний (в том
числе на психопрофилактику и психогигиену), решение ее ста-
новится особенно актуальным. В постановлении ЦК КПСС и
Совета Министров СССР «О дополнительных мерах по улуч-
шению охраны здоровья населения» (1982) красной нитью
проходят идеи предупреждения заболеваний, в первую оче-
редь сердечно-сосудистых, онкологических, эндокринологиче-
ских, гастроэнтерологических и, конечно, нервно-психических,
1 Например, Etical Standarts of psychologists.—Am. psychol., 1963, v. 18,
ЛЬ I, p. 56—60.
2 Первичная психологическая профилактика и реабилитация больных
ИБСУПод ред. 3. И. Янушкевичуса.— Вильнюс; 1982, с. 169.
291
в профилактике которых психологическому фактору принад-
лежит немаловажная, а нередко и определяющая.роль. «Инер-
ция естественнонаучного подхода,— пишут в журнале «Ком-
мунист» О. Щепин, В. Ерохин и Г. Царегородцев (1982), —ко-
гда все внимание сосредоточилось на изучении чисто телесных
функций организма, достаточно сильна и поныне. Комплекс
медико-социологических и особенно медико-психологических
наук, нуждается в более серьезной разработке. Соответственно
требуются весьма существенная перестройка медицинского об-
разования, а также организация социологических и психоло-
гических служб в практическом звене системы здравоохра-
нения»1.
Структура медико-психологической службы в нашей стране
(да. и во многих других странах) еще не разработана. Начи-
нает только формироваться представление о ее общих зада-
лах и формах. Появились «островки» этой службы в виде се-
мейных консультаций, кабинетов медико-психологической (пси-
хогигиенической, социально-психологической) помощи, так
называемых телефонов доверия, которые большей частью за-
нимаются решением конфликтных психологических ситуаций
и предотвращением суицидов [Амбрумова А. Г., 1974, 1978;
-Мягер В. К., 1976; Лежепекова Л. Н. и Якубов Б. А., 1977;
Янушкевичус 3. И. с соавт., 1982]. В связи с растущим вни-
манием к проблемам психогигиены и психопрофилактики,
к предболезни [Адо А. Д., 1981; Чернух А. М., 1981; Казна-
чеев В. П. с соавт., 1981; Комаров Ф. И., 1981; Семичов С. Б.,
1982] значение психологии в медицине становится еще более
значимым. В различных звеньях существующих психиатриче-
ской и наркологической служб создаются психотерапевтиче-
ские кабинеты, в которых, наряду с врачами-психотерапев-
тами, должны найти себе применение и соответствующим обра-
зом подготовленные психологи. Существенным недостатком
ведущейся в этом направлении организационной работы яв-
ч^яется слабая профессиональная подготовленность психоло-
гов, работающих в психиатрической службе (и тем более
в других видах специализированной помощи населению). Так,
по данным сотрудников Института им. В. М. Бехтерева
Л. И. Вассермана и Т. Л. Угаровой (1981), проведенное ими
анкетирование 280 практических психологов, работающих
« различных психиатрических учреждениях страны (подавля-
ющее большинство трудятся в психиатрических больницах)
показало, что психологами по образованию являются только
45% (треть из них — выпускники МГУ и ЛГУ); 32%—это
врачи-психиатры, 8 % — врачи-невропатологи, остальные —
врачи других специальностей, а также дефектологи, физио-
Щепин О., Ерохин В., Царегородцев Г. Наше советское здравоохране-
ние — Коммунист, 1982, N° 11, с. 82.
292
логи,, биологи, педагоги и даже спортивные работники. Ме-
дико-Психологическую подготовку имели 84 % опрошенных,
стаж ^работы по медицинской психологии колебался от не-
скольких месяцев до 19 лет. 88 % из числа опрошенных зани-
мались II основном психодиагностикой, 29 %, наряду с психо-
диагностикой,—и психокоррекционной работой; только 12 че-
ловек из всех 280 опрошенных указали психокоррекционную
работу в качестве основного занятия. Выявленный этим иссле-
дованием статус медицинских психологов никак нельзя при-
знать удовлетворительным. До сих пор медицинская психо-
логия не включена в перечень медицинских специальностей
(как и психотерапия!), нет утвержденных штатных нормати-
вов и объема работы психологов в различных медицинских
учреждениях. Тем не менее определенные сдвиги в позитив-
ную сторону уже имеются. Они были перечислены как во вве-
дении к настоящей книге, так и в этой главе.
Можно с уверенностью сказать, что, постепенно преодоле-
вая немалые организационные и иные трудности, медицинская
психология в тесном союзе с медициной в целом (особенно
психотерапией, психогигиеной, психопрофилактикой, медицин-
ской деонтологией) раскроет новые возможности человека,
обеспечит повышение его психической и физической актив-
ности для укрепления здоровья в наше стремительно разви-
вающееся время.
Большого внимания требует также дальнейшее развитие
психотерапевтической службы, тесно связанной со службой
медико-психологической (границы между ними нередко усло-
вны). Прежде всего необходимо официальное признание осо-
бой специальности психотерапевта. В действительности эта про-
фессия у нас, как и в других развитых странах, существует, и
число ее представителей растет, хотя и далеко не в полной
мере в соответствии с потребностью. Значительным толчком
к этому росту послужило умножающееся количество кабине-
тов психотерапии при общесоматических поликлиниках в круп-
ных городах. Но в мединститутах пока не имеется специальных
курсов обучения психотерапии. О ней вскользь упоминается
лишь при чтении лекций по психиатрии и медицинской психо-
логии. Специально подготовкой врачей-психотерапевтов зани-
маются только три кафедры психотерапии при иститутах усо-
вершенствования врачей (Москва, Ленинград, Харьков). На
этих кафедрах, наряду с лекциями, ведутся и практические за-
нятия по психотерапии. Подготовка и усовершенствование пси-
хотерапевтов проводятся и в Институте им. В. М. Бехтерева
на ежегодных циклах и на рабочих местах. Назрело время,
чтобы к существующим методам обучения психотерапии были
присоединены и новые, учитывающие особенности данной про-
фессии. Дело в том, что профессия психотерапевта (как и ме-
дицинского психолога) одновременно относится и к области
293
науки, и к области искусства. Поэтому прав чехословацкий' пси-
хиатр С. Skoda (1979)1, заявляющий, что «группы и 1иколы
для подготовки психотерапевтов» (добавим — и медицинских
психологов) необходимо строить «подобно тому, как/сущест-
вуют художественные группы и школы», т. е. их/обучение
нельзя сводить только к пассивному получению знаний. Требу-
ется активное их освоение путем самостоятельных упражне-
ний. Такое освоение становится возможным при использовании
соответствующего зарубежного опыта.
В западных странах в настоящее время интересы приклад-
ной психологии сосредоточены на вопросах работы тренинго-
вых групп (Т-группы). Одни из них создаются с целью выра-
ботки у руководителей предприятий и организаций навыков
умелого управления здоровыми людьми, дискуссией в коллек-
тивах, разрешения межличностных конфликтов 2.
Другие группы организуются для обучения тому же кли-
нических психологов и психотерапевтов, создаются также Т-
группы терапевтические для лечения больных или профилак-
тики нервно-психических расстройств. При всем разнообразии
таких групп существуют два основных их типа — собственно
Т-группы и группы тренинга сенситивности или «группы встреч»
(encounter groups). В последних преобладают методы невер-
бального общения. Термин «Т-группы» является общим для
различных их видов. В Т-группах для здоровых не добиваются
раскрытия мотивов и установок индивида, что является важ-
ной задачей психотерапевтических групп. Но в тех и других
существенной целью является усиление чувствительности к себе
и к другим и способности к эмоциональному отклику. Обзору
деятельности Т-групп в западных странах посвящена статья
М. А. Ковальчук и Л. А. Петровской (1982)3, в которой осве-
щаются теоретические ориентации руководителей таких групп
(Левиновская, Роджеровская, экзистенциальная).
Проблема Т-групп изучается и у нас на кафедре социаль-
ной психологии факультета психологии МГУ с позиций мате-
риалистической диалектики. Результаты изучения обобщены
в изданной кафедрой коллективной монографии «Межличност-
ное восприятие в группе» (ред. Г. М. Андреева и А. И. Донцов,
1981). В заключительной главе книги (автор Л. А. Петров-
ская) указывается, что и в нашей стране целесообразно ис-
пользовать форму социально-психологического тренинга (СПТ),
который рассматривается (стр. 287) «как составная часть под-
1 Skoda С. Вопросы оценки эффективности психотерапии: пер. с чешек.—
В кн.: 3-й Междунар. симпозиум социалистических стран по психотерапии
Л., 1979, с. 180.
2 Направленность работы такого рода Т-групп в западных странах под-
вергнута у нас критике [Рощин С. К., 1980, и др.].
3 Ковальчук М. А., Петровская Л. А. Проблема группового тренинга в
зарубежной психологии.—- Вопр. психол., 1982, № 2, с. 140—146.
294
готовки руководителей коллективов различного типа (произ-
водственных, учебных, спортивных и т. п.)». Разъясняется, что
использование СПТ «может быть полезным не только для уп-
равленческого персонала». Подчеркивается также, что «данная
форма, так показывает опыт, является весьма адекватной для
решения })яда актуальных проблем в сфере службы семьи,
в области" подготовки психологов, космонавтов и т. д.».
В социалистических странах уже ведутся исследования дея-
тельности тренинговых групп для подготовки психотерапевтов
и медицинских психологов. В Институте им. В. М. Бехтерева
В. А. Ташлыков (1979) исследован опыт работы тренинговои
группы психотерапевтов. Данные автора показали, что у участ-
ников группы, во-первых, усилилась «способность к регист-
рации своих эмоций, возникающих в групповой ситуации», и,
во-вторых, улучшилось «понимание влияния собственных уста-
новок на особенности общения с другими», т. е. развились ка-
чества, необходимые психотерапевту, особенно при проведении
групповых занятий с больными. Чехословацкие психотерапевты
Е. Urban, J. Skala, J. Rubes, M. Bouchal (1979), описывая свой
опыт в этой области, подчеркивают, что при обучении психоте-
рапии врачей и психологов ими «упор делается на специаль-
ный тренинг, т. е. на деятельность». Авторы полагают, что пре-
доставление готовых знаний «может порой нежелательным об-
разом воздействовать на переживание и спонтанный процесс
межчеловеческих взаимодействий в группе подготовки». Они
также считают, что обучающиеся в тренинговых группах дол-
жны овладевать такими различными методами, как вербаль-
ная групповая психотерапия, аутогенная тренировка, гипноз,
пантомима, психогимнастика, психодрама, йога, арттерапия,
музыкотерапия, клубная работа, поведенческая терапия и др.
Отвечая на возможный упрек в эклектичности, авторы настаи-
вают на том, что их система является «не эклектической,
а синтетической». В Варшавском психоневрологическом инсти-
туте С. Ледер с сотрудниками (1979)! провели исследование
эффективности группового лабораторного тренинга для подго-
товки психотерапевтов и пришли к выводу, что тренинг «опти-
мальным образом позволяет овладеть различными психо- и
социотерапевтическими методами и техниками, узнать законо-
мерности групповых процессов и воздействий на других,
а также может обеспечить восприятие себя и отношений между
собой и группой». Авторы отметили и некоторые негативные
последствия тренинга, обусловленные сильными эмоциями уча-
стников группы в связи с получением новой информации о себе,
что «является, возможно, необходимой ценой» за обучение.
1 Ледер С, Косевска А., Чабала Ч. Опыт оценки отдаленных результа-
тов подготовки психотерапевтов в тренинговых группах в условиях курсовой
специализации.—В кн • Клинико-психологические исследования групповой
психотерапии при нервно психических заболеваниях Л., 1979, с 38—46.
295
Тренинговый метод оказывается полезным не только при
обучении психотерапии врачей и психологов, но также и/ сред-
него медперсонала. Т. Becvafova (1979) 1 описала свою/работу
в ЧССР по психотерапевтической подготовке медсестер, име-
ющей целью превратить их в знающих помощников врачей и
психологов, проводящих психотерапию. Автор исходит из того,
что последние не имеют возможности находиться в столь дли-
тельном общении с пациентами, как средний медперсонал. Обу-
чение проводят опытные психотерапевты в загородной местно-
сти, куда специально приезжают сестры два раза в год на
недельные занятия на протяжении трех лет. В последующем,
в течение 3 лет организуются ежегодно трехдневные встречи
окончивших курсы, носящие характер смотров того, что ими
достигнуто. Основой курсовых занятий служит вербальная те-
рапия. Члены группы практикуются и в других методах группо-
вой работы: в аутогенной тренировке, психодраме, элементах
йоги, психогимнастике, трудотерапии, музыкотерапии, семейной
терапии и арттерапии. Они учатся участвовать в руководстве
коллективом больных, терапевтическим клубом. Автор указы-
вает на целесообразность проведения занятий с сестрами с пе-
риодическим отрывом от работы в спокойной, изолированной от
города среде, обеспечивающей лучшую концентрацию внимания
на протяжении нескольких лет с одним и тем же составом.
В группу для занятий следует включить сестер со строгим от-
бором из числа выразивших желание обучаться психотерапии.
Рекомендуется отказаться от традиционных форм обучения —
докладов сестер — и перейти к активному их участию в реали-
зации в группе психотерапевтических приемов, «когда новые
знания усваиваются благодаря собственным переживаниям».
В Институте им. В. М. Бехтерева проведены клинико-социоло-
гические исследования взаимоотношений медсестер с пациен-
тами с целью оценки их подготовленности к психосоциальной
работе [Бурковский Г. В., 1980], а также исследования взаимо-
отношений «врач — сестра — больной» (методом семантиче-
ского дифференциала), позволившие наметить пути оптимиза-
ции этих отношений.
Представляет интерес также работа М. Балинта (1964)—основополож-
ника группового обучения психотерапии врачей общей практики (так назы-
ваемые «балинтовские группы»), который отказался не только от персональ-
ного анализа, но и вообще от психоаналитических толкований в своих груп-
пах. Главное в их работе он видит в обсуждении конкретных больных, пред-
ставленных врачом, чтобы понять их проблемы и отношения, складываю-
щиеся между терапевтами и пациентами.
По мере роста квалификации врачей, возглавляющих каби-
неты психотерапии в крупных общих поликлиниках наших го-
1 Becvarava - Т. Ausbildung von Krankenschwestern in der Psychothera-
pie.— В кн : 3-й Междунар. симпозиум социалистических стран по психоте-
рапии 17—19 X 1979 г. Л., 1979, с 59—60.
296
родов, полезными были бы их занятия с врачами поликлиник
по балЬнтовскому типу, но, конечно, с содержанием, отвечаю-
щим задачам советского здравоохранения. Удачно определили
стратегии) подготовки специалистов в области психотерапии и
психокоррекции венгерские психотерапевты G. Hidas и J. Fu-
redi (I979V Авторы пишут: «В силу того обстоятельства, что
объектом психотерапии является человеческая психика, обра-
зование в этой области отличается от подготовки других меди-
цинских специалистов. При обучении психотерапии важны не
только эмпатия и усвоение различных технических приемов ле-
чения, но прежде всего необходимо знание теории личности,
динамики связей между терапевтом и пациентом, методологи-
ческих принципов достижения желательных изменений в лич-
ности больного. Такое обучение следует проводить как посред-
ством чтения лекций, так и путем участия обучающихся в се-
минарах типа групп Балинта с разбором конкретных случаев
лечения, применением различных психотерапевтических прие-
мов. ..». Важно, подчеркивают авторы, учить психотерапевтов
тому, чтобы за конкретными приемами психотерапии не теря-
лась ее основная стратегия, вытекающая из теоретических по-
зиций патогенетической системы.
В настоящей книге мы попытались осветить вопросы при-
менения психологических методов в сфере медицинской дея-
тельности. Имеются основания надеяться, что книга внесет свой
определенный вклад в область взаимопроникновения и взаимо-
понимания медицины и психологии. Дальнейшее развитие
фундаментальных и прикладных исследований в области ме-
дицинской психологии будет способствовать повышению эффек-
тивности профилактической и лечебной работы. То, что изло-
жено в книге, является лишь небольшой частью широких задач
медицинской психологии. Успешному решению этих задач дол-
жно способствовать принятое Академией наук СССР постанов-
ление о дальнейшей разработке научных основ психологической
службы в нашей стране.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Аванесов В. С, Тесты в социологическом исследовании.— М., 19^2.
Адо А. Д. Проблема опосредования биологического социальным в современ-
ной медицине.—Вестн. АМН СССР, 1982, JVfe 4, с. 10—17.
Александров А. А. Попытки сопоставления результатов исследований с по-
мощью MMPI и ПДО подростков с непсихотическими нарушениями по-
ведения.— В кн.: Проблемы медицинской психологии. Л., 1976, с. 7—8.
Александровская Э. М., Гильяшева И. И. Верификация адаптированного дет-
ского личностного опросника Кеттела (CPQ).— В кн : Психологические
методы исследования личности в клинике. Л., 1978, с. 70—76.
Альтман Я. А., Бару А. В. Некоторые перспективы психоакустических иссле-
дований в невропсихологии.— В кн.: Нейропсихологические исследования
в неврологии, нейрохирургии и психиатрии. Л., 1981, с. 43—46.
Ананьев Б. Г. О проблемах современного человекознания.—М., 1977.
Андреева Г. М. К построению теоретической схемы исследования социальной
перцепции.—Вопросы психол., 1977, № 2, с. 3—21.
Анохин П. К. Принципиальные вопросы общей теории функциональных си-
стем.—М., 1971.
Анохин А. М. Медицинская социология и проблема человека.— Вести. АМН
СССР, 1980, № 4, с. 36—42.
Бажин Е. Ф., Воловик В. М., Карвасарский Б. Д. и др. О работе медицин-
ского психолога в психиатрических и психоневрологических учреждениях:
Методические рекомендации. Л., 1976.
Бажин Е. Ф., Ласко И. Б., Тархан А. У. Изучение уровня невротизации и
психопатизации с помощью специальной стандартизованной методики.—
В кн.: Проблемы психопрофилактики нервно-психических расстройств. Л.,
1976, с. 44—46.
Бару А. В.. Карасева Т. А. Мозг и слух.— М., 1971
Бару А. В., Вассерман Л. И. и др. Применение методики обнаружения и
различения сигналов разной длительности для диагностики поражений
височных отделов мозга.— Журн. невропатол. и психиатр., 1971, вып. 4,
с. 534—540.
Баршис В. Опыт исследования взаимоотношений супругов в семье.— В кн.:
Социологические проблемы взаимодействия личности и социальных групп
в условиях развитого социалистического общества. Вильнюс, 1977,
с. 38—45.
Бассин Ф. В. Сознание, «бессознательное» и болезнь.— Вопр. философии,
1971, № 9, с. 90—102.
Бассин Ф. В., Рожнов В., Рожнова М. Некоторые вопросы эмоциональной
напряженности.— Коммунист, 1974, № 14, с. 67.
Бейн Э. С. Афазия и пути ее преодоления.— Л., 1964.
Бейн Э. С, Овчарова П Л. Клиника и лечение афазий.—София, 1970.
Бсзади Б., Голынкина Е. И., Тупицын Ю. Я. О месте и значении функцио-
нальной тренировки поведения в системе лечения больных неврозами.—
В кн.: Клинико-психологические исследования групповой психотерапии.
Л., 1979, с. 90—94.
Белая И. И. Методика Роршаха и ее применение при исследовании больных
эпилепсией: Методические рекомендации.— М., 1978.
Белый Б. И, «Тип переживаний» в методике Роршаха и функциональная
асимметрия мозга.— Психол. журн., 1981, № 4, с. 127—136.
Беляев Г. С, Лобзин В. С, Копылова И. А. Психогигиеническая саморегу-
ляция.—Л., 1977.
Березин Ф. Б., Мирошников М. П, Рожанец Р. В. Методика многопрофиль-
ного исследования личности (в клинической медицине и психогигиене).—
М., 1976.
298
БернштЫн Л. Н. Очерки физиологии движений и физиологии активности.—
М.Д966.
Бернштеш Н. А. Предисловие к книге А. В. Напалкова и Н. А. Чичваровой
«Мозг\и кибернетика*.— М., 1963, с. 4.
Беспалько W. Г. Статистические и клинико-диагностические аспекты катего-
рии локализации в методе Роршаха.— В кн.: Психологические методы
исследования личности в клинике/ Под ред. М. М. Кабанова. Л., 1978,
с. 104—Ш.
Беспалько И. Г., Гильяшева И. Н. О некоторых методических и диагностиче-
ских возможностях применения MMPI.— Журн. невропатол. и психиатр.,
1971, вып. 12, с. 1850—1857.
Беспалько И. Г., Раева М. Н. О применении метода Роршаха в изучении воз
растных особенностей психического развития.— В кн.: Медико-психологи-
ческие аспекты реабилитации детей с психическими нарушениями/ Под
ред. Р. А. Харитонова. Л., 1978, с. 22—34.
Бехтерев В. М. Лечебное значение гипноза.— СПб., 1900.
Бехтерева Н. П. Нейрофизиологические основы психической деятельности че-
ловека—Л., 1971; 1974.
Бехтерева Н. П. Здоровый и больной мозг человека.—Л., 1980.
Бехтерева Н. #., Бундзен П. В. Нейрофизиологическая организация психи-
ческой деятельности человека.— В кн.: Нейрофизиологические механизмы
психической деятельности человека. Л., 1974, с. 42—60.
Бизюк А. П, Применение характерологического диагностического опрос-
ника.— В кн.: Адаптация человека в особых условиях обитания. Л., 1978.
с. 89—95.
Блейхер В. М. Клиническая патопсихология.— Ташкент, 1976.
Блейхер В. М., Бурлачук Л, Ф. Психологическая диагностика интеллекта и
личности.—Киев, 1978.
Бодалев А. А. Формирование понятия о другом человеке как личности.—Л.,
1970.
Бурковский Г. В., Хайкин Р. Б. Изучение изобразительной продукции арт те-
рапевтической группы психически больных.— В кн.: Клинико-психологи-
ческие исследования групповой психотерапии при нервно-психических за-
болеваниях. Л., 1979, с. 113—117.
Бурковский Г. В., В у кс Л. #., Иов лев Б. В., Корабельников К. В. О месте
автоматизированной информационной системы в изучении реабилитации
психически больных — В кн.: Восстановительная терапия психически
больных. Л., 1977, с. 36—59.
Бурлачук Л. Ф. Исследование личности в клинической психологии (на основе
метода Роршаха).—Киев, 1979.
Вайзе К., Воловик В. М. Функциональный диагноз как клиническая основа
восстановительного лечения и реабилитации психически больных.— В кн.:
Клинические и организационные основы реабилитации психически боль-
ных/ Под ред. М. М. Кабанова и К. Вайзе. М., 1980, с. 152—206
Валуева М. Н. Произвольная регуляция вегетативных функций организма.—
М., 1967.
Вассерман Л. И. Исследование абсолютных порогов восприятия тональных
сигналов как функции их длительности у больных с поражением височ-
ных отделов коры головного мозга.—В кн.: Психологический экспери-
мент в неврологической и психиатрической клинике. Л., 1969, с. 77—90.
Вассерман Л. И., Дорофеева С. А., Меерсон #. А. и др. Диагностическая
нейропсихологическая методика: Методические рекомендации.— Л., 1977.
Вассерман Л. И., Тец И. С. Динамика нейропсихологических характеристик
мнестической деятельности у больных эпилепсией в процессе хирургиче-
ского лечения.— В кн.: Нейропсихологические исследования в невроло-
гии, нейрохирургии и психиатрии. Л., 1981, с. 56—65.
Вассерман Л. И., Меерсон Я. А, Томанов Л. В. и др. Значение аппаратур-
ных методов исследования для экспериментальной нейропсихологии.—
В кн.: Нейропсихологические исследования в неврологии, нейрохирургии
и психиатрии Л , 1981, с. 27—34. r v
299
Воловик В. М. Семейные исследования и функциональный диагноз. А В кн.:
Проблемы системного подхода в психиатрии. Рига, 1977, с. 72-/-81.
Воловик В. М. Семейные исследования в психиатрии и их значение для реа-
билитации больных.— В кн.: Клинические и организационное основы
реабилитации психически больных. М., 1980, с, 207—267. /
Воловик В. М., Вид В. Д. Общие принципы и методы группоэой психоте-
рапии больных шизофренией.— В кн.: Групповая психотерапия при не-
врозах и психозах. Л., 1975, с. 26—37.
Выготский Л, С. Избранные психологические исследования.— М., 1956.
Выготский Л. С. Развитие высших психических функций.—М., 1960.
Галунов В. Я., Манёров В. X., Устинович Е. Л. Факторно-аналитическое ис-
следование структуры личностного теста — В кн.: Психологические ме-
тоды исследования личности в клинике. Л., 1978, с. 76—79.
Гильяшева Я. Я. Данные применения проективного метода в изучении невро-
зов.—В кн.: Вопросы психоневрологии. Л., 1964, с. 215—225.
Гильяшева Я. Я. Тематический апперцепционный тест как метод психологи-
ческой диагностики личности.— В кн.: Вопросы диагностики психического
развития. Таллин, 1974, с. 43—44.
Гильяшева Я. //., Иовлев Б. В. Использование стандартизованной методики
интеллекта в диагностике вялотекущей шизофрении.— В кн.: Шизофре-
ния. М., 1975, с. 179—182.
Гильяшева Я. Я., Игнатьева Я. Д. Детская проективная методика в иссле-
довании межличностных отношений ребенка.— В кн.: Психологические
методы исследования личности в клинике. Л., 1978, с. 98—104.
Гильяшева И. Я, Собчик Л. Н., Федорова Т. Л. Стандартизованный клини-
ческий личностный опросник (адаптированный вариант MMPI).—Л.,
1982.
Гнездилов А. В. Об особенностях психического состояния больных, выписан-
ных из онкологической клиники.—В кн.: Проблемы профилактики нерв-
ных и психических расстройств. Л., 1976, с. 74—76.
Говоров Я. С. Деонтологический аспект раскрытия личности в групповой
психотерапии.—В кн.: Проблемы медицинской деонтологии. М, 1977,
с. 20—21.
Гончарская Т. В. Методика функциональной тренировки поведения в системе
психотерапии больных малопрогредиентной шизофренией,—В кн.: Кли-
нико-психологические исследования групповой психотерапии при нервно*
психических заболеваниях. Л., 1979, с, 126—130.
Горбунова Л. Я. Некоторые особенности понимания больных шизофренией их
родственниками.—В кн.: Проблемы медицинской психологии. Л., 1976,
с. 241—244.
Горелик Б. М., Николаева Я. С. Групповая психотерапия в системе реабили-
тации больных шизофренией.— В кн.: Групповая психотерапия при не-
врозах и психозах. Л., 1975, с. 83—89.
Гречин В. Б., Смирнов В. М. Изучение режима потребления кислорода ко-
рой и глубокими структурами мозга человека при эмоциональных реак-
циях и в гипнотическом сне.— В кн.: Электроэнцефалографические иссле-
дования при нервных и психических заболеваниях. Труды ин-та им. Бех-
терева, 1967, т. 14, с. 54—71.
Губачев Ю. М., Стабровский Е. М. Клинико-физиологические основы психо-
соматических соотношений.— Л., 1981.
Гузиков Б. М., Зобнев В. М., Мейроян А. А. и др. Групповая и семейная
психотерапия при алкоголизме: Методические рекомендации, изд. Инсти-
тута им. В. М. Бехтерева.— Л., 1980.
Демиденко Т. Д., Ермакова Я. Г. и др. Особенности групповой психотерапии
в системе реабилитации больных с сосудистой патологией головного
мозга.—В кн.: Групповая психотерапия при неврозах и психозах Л
1975, с. 141—146.
Днепровская С. В. Роль психотерапии в реабилитации больных с затяжными
депрессиями.— В кн.: Групповая психотерапия при неврозах и психозах
Л., 1975, с. 89—94.
300
Днепровская С. В. Семейная психотерапия при затяжных неблагоприятно
протекающих депрессиях.— В кн.: Вопросы реабилитации больных нерв-
но-поихическими заболеваниями. Томск, 1975, с. 119—121.
Доброхотова Т. А.г Брагина Н. И. Функциональная асимметрия и психопа-
тология очаговых поражений мозга.—М., 1977.
Дорофеева С. Л. О некоторых принципах реабилитации при сосудистых афа-
зиях.— В кн.: Реабилитация больных нервными и психическими заболе-
ваниями. Л., 1973, с. 335—336.
Зайцев В. П., Храмелашвили В. В. Психологическая реабилитация больных
инфарктом миокарда: опыт подготовки кадров.— Психол. журн., 1982,
№2, с. 145-146.
Зальцман А. Г. О роли правого и левого полушарий головного мозга в про-
цессах лицевого гнозиса.— Физиология человека, 1982, № 1, с. 80—92.
Захаров А. #. Психотерапия неврозов у детей и подростков.— Л., 1982
Зачепицкий Р. А. О патогенетической психотерапии при неврозах. В кн.:
Психотерапия при неврозах и психических заболеваниях. Л., 1973,
с. 27—39.
Зачепицкий Р. А. О терапии поведения.—Журн. невропатол. и психиатр.,
1976, вып. 9, с. 1400—1405.
Зачепицкий Р. А. Психология и поведенческая психотерапия, кн.: Психология
и медицина. М., 1978, с. 200—204.
Зачепицкий Р. А. Социальные и биологические аспекты психологической за-
щиты.—В кн.: Социально-психологические исследования в психоневроло-
гии. Л., 1980, с. 22—27.
Зачепицкий Р. А. Новое и старое в современном психоанализе.— В кн.: Ис-
следования механизмов и эффективности психотерапии при нервно-пси-
хических заболеваниях. Л., 1982, с. 144—149.
Зейгарник Б. В. Патопсихология.— М., 1976.
Зейгарник Б. В., Рубинштейн С. Я. Экспериментально-психологические иссле-
дования в медицине.—В кн.: Психология и медицина. М., 1978, с. 37—42.
Иванов Н. Я. Об акцентуациях характера у подростков с ранней профессио-
нальной ориентацией.—В кн.: Проблемы медицинской психологии. Л.,
1976, с. 14—16.
Иванов Н. Я., Личко Л. Е. Усовершенствование процедуры обработки ре-
зультатов, полученных с помощью Патохарактерологического диагности-
ческого опросника для подростков.— В кн.: Патохарактсрологические ис-
следования у подростков. Л., 1981, с. 5—28.
Иовлев Б. В., Корабельников К. В. О возможностях описания психически
больного и процесса реабилитации с помощью формализованной истории
болезни.— В кн.: Восстановительная терапия психически больных. Л.,
1977, с. 49—57.
Иовлев Л. Б., Иовлев Б. В. Об использовании ЭВМ для совершенствования
психодиагностической работы клинического психолога.—В кн.: Органи-
зация психиатрической и неврологической помощи городскому населе-
лению. Л., 1981, с. 133—137.
Исурина Г. Л., Мурзенко Б. Л. Процессы интеракции в психотерапевтиче-
ской группе.—В кн.: Проблемы медицинский психологии. Л., 1976,
с. 253—254.
Кабанов М. М. Некоторые этические вопросы в психотерапии и реабилитации
психических больных.—В кн.: Психотерапия при нервных и психических
заболеваниях. Л., 1973, с. 21—27.
Кабанов М. М. Больной и среда в процессе реабилитации.— Вестн. АМН
СССР, 1977, № 4, с. 55-60.
Кабанов М. М. Реабилитация психически больных.— Л., 1978.
Кабанов М. М. Медицина и психология.—Вестн. АМН СССР, 1979, № 5,
с. 45-51.
Кабанов М. Af. Роль психических факторов в современной клинической меди-
цине.—Сов. мед., 1982, № 12, с. 91—98.
Кабанов М. М. Экологизация медицины и концепция реабилитации боль-
ных.—Психол. журн., 1982, № 6, с. 106—110.
301
Кабанов М. М„ Вайзе К, Воловик £. М. и др. Клинические и организацион-
ные основы реабилитации психически больных.—М., 1980.
(Кабанов М. М., Мягер В. К., Воловик В. М.) Kabanow М. M., Mjager W. /С.
Volovik V. М. Research in Family Psychotherapy as Reported by the Le-
ningrad Bekhterev Psychoneurological Institute— Int. J. Fam. Psych., 1980,
v. 1, N 4, p. 437—451.
Кайдановская E. В. Групповая психотерапия при неврозах: критерии и ме-
тоды оценки ее эффективности.— В кн.: Исследования механизмов и
эффективности психотерапии при нервно-психических заболеваниях. Л.,
1982, с. 63—67.
Калинина Л. Л. Применение психологических тестов в судебно-психологиче-
ской экспертизе подростков: Методические рекомендации.— Харьков,
1980.
Карвасарский Б. Д. Неврозы.— М., 1980.
Карвасарский Б. Д. Медицинская психология.— Л., 1982.
Карвасарский Б. Д., Мурзенко В. А. Групповая психотерапия как предмет
исследования.— В кн.: Клинико-психологические исследования групповой
психотерапии. Л., 1979, с. 25—30.
Карвасарский Б, Д., Исурина Г. Л., Мелик-Парсаданов М. Ю. и др. Группо-
вая психотерапия при неврозах: Методические рекомендации.— Л., 1981.
Квасенко А. В., Зубарев Ю. Г. Психология больного.— Л., 1980.
Кедров Б. М. (ред.). Научно-техническая революция и социализм.—М., 1973,
с. 50.
Кемеров В. Е. Проблема личности: методология исследования и жизненный
смысл.—М., 1977.
Кербиков О. В. Микросоциология, конкретно-социологические исследования и
психиатрия.— Вестн. АМН СССР, 1965, I, с, 7—16.
Конончук Н. В., Мягер В. К Профилактика эмоционального стресса.— В кн.:
Эмоциональный стресс и пограничные нервно-психические расстройства.
Л., 1977, с. 140—146.
Корабельников К. В., Серебрякова Р. О. Методики исследования интеллекта
и мышления в клинике.— В кн.: Исследование личности в клинике и экс-
тремальных условиях. Труды ин-та им. В. М. Бехтерева, 1969, т. 50,
с. 55—68.
Костандов Э. А. Нейрофизиологические механизмы бессознательных психиче-
ских явлений.—Успехи физиол. наук, 1981, № 4, с. 3—27.
Костерева В. Я. О значении внутренней картины болезни в психотерапии
больных малопрогредиентной шизофренией.— В кн.: Клинико-психологи-
ческие исследования групповой психотерапии при нервно-психических
заболеваниях. Л., 1979, с. 117—121.
Краснушкин Е. К О сознании и чувстве болезни при соматических болезнях.
Избранные труды.— М., 1960.
Кузьмин В. П. Системный подход в современном научном познании.—Вопр.
философии, 1980, № 1, с. 55—73.
Кузьмин Е. С, Викторов Н. А., Чугунова Э. С. Методы индивидуальной и
групповой оценки личности инженера в автоматизированных системах
управления разрабатывающих предприятий (АСУРП).— В кн.: Методо-
логия и методы социальной психологии. М., 1977, с. 157-т172.
Кузьмина Т. В., Моргажинская В. И., Щербакова £. fi. и др. Интегративная
деятельность мозга.— М., 1981.
Кургановский П. И. Физиологические механизмы неврозов сердца у детей.—
Л., 1965.
Лазурский А. Ф. Классификация личностей.— Пг., 1923.
Лакосина Я. Д., Ушаков Г. К. Учебное пособие по медицинской психоло-
гии—Л., 1976.
Лебединский М. С, Мясищев В. Н. Введение в медицинскую психологию.—
Л., 1966.
Левина Т. Л., Федоров В. Ф. Измерение отношения при помощи методики се-
мантического дифференциала.—В кн.: Математические методы в пси-
хиатрии и неврологии. Л., 1972, с. 156—160.
302
Ледер С, Косевска А., Чабала Ч. Опыт оценки отдаленных результатов под-
готовки психотерапевтов в тренинговых группах в условиях курсов спе-
циализации.— В кн.: Клинико-психологические исследования групповой
психотерапии при нервно-психических заболеваниях. Л., 1979, с. 38—46.
Леонтьев А. И. Деятельность. Сознание. Личность. Изд. 2-е.—М., 1977.
Либих С. С. Коллективная психотерапия неврозов.—Л., 1973.
Личко А. Е. Патохарактерологический диагностический опросник для подро-
стков.—Л., 1976.
Личко А. Е. Подростковая психиатрия: Руководство для врачей.— М., 1979.
Личко А. Е. Психология отношений как теоретическая концепция в медицин-
ской психологии и психотерапии.— Жури, невропатол. и психиатр., 1977,
вып. 12, с. 1833—1838.
Личко А. Е. Психопатии и акцентуации характера у подростков. Изд. 2-е.—
Л., 1977.
Личко А. Е., Александров А. А., Вдовиченко А. А. и др. Подростки с повы-
шенным риском алкоголизации.— В кн.: Лечение и реабилитация боль-
ных алкоголизмом. Л., 1977, с. 50—54.
Личко А. Е„ Иванов И. Я. Медико-психологическое обследование соматиче-
ских больных.—Журн. невропатол. и психиатр., 1980, вып. 8, с. 1195—
1198.
Логинова Г. П. Опросники в психологической диагностике личности.— В кн.:
/ Психологическая диагностика. Проблемы и исследования. М., 1981,
с. 95-107.
Ломов Б. Ф. Категория общения и деятельности в психологии.—Вопр. фило-
софии, 1979, № 8, с. 34—47.
Ломов Б. Ф. Личность в системе общественных отношений.— Психол. жури.,
1981, Кя 1, с. 3-17.
Лукина И. С. Тенденции психотерапевтов при отборе больных в психотера-
певтические группы.—В кн.: Социально-психологические исследования
в психоневрологии. Л., 1980, с. 80—85.
Лурия А. Р. Основы нейропсихологии.—М., 1973.
Лурия А. Р., Зейгарник Б. В., Поляков Ю. Ф. О применении психологических
тестов в клинической практике — Журн. невропатол. и психиатр., 1974,
вып. 12, с. 1821—1830.
Лурия А. Р., Зейгарник Б. В, Поляков Ю. Ф. Психология и ее роль в ме-
дицине.—Вопр. психол., 1978, №. 1, с 28—36.
Лурия Р. А. Внутренняя картина болезни и иатрогенные заболевания. Изд
4-е.—М., 1977.
Магун В. С. О многоуровневости факторной структуры индивидуально-типи-
ческих особенностей человека.— В кн.: Экспериментальная и прикладная
психология. Л., 1973, с. 92—101.
Меерсон Я. А. Особенности восприятия сенсорных сигналов при поврежде-
нии левого или правого полушарий головного мозга.— В кн.: Нейропси-
хологические исследования в неврологии и психиатрии. Л, 1981, с. 34—
Межличностное восприятие в группе/ Под ред. Г. М. Андреевой, А. И. Дон-
цова.— М. 1981.
Меницкий Д. Н. Некоторые методологические вопросы условно-рефлекторной
теории.— В кн : Методологические вопросы теоретической медицины/ Под
ред Н. П. Бехтеревой. Л, 1975, с. 70—86
Методика определения уровня невротизации и психопатизации (УЫП): Ме-
тодические рекомендации.— Л., 1980.
Мирошников М. П., Березин Ф. Б. Тест MMPI как метод объективной оценки
психофармакологического эффекта.— В кн.: Современные психотропные
средства. Диапазон дейсчгвия и методы оценки. М., 1967, с. 47—56.
Мишина Т. М. Сравнительный анализ супружеских отношений в «невротиче-
ских» и здоровых парах.—В кн.: Социально-психологические исследова-
ния в психоневрологии Л., 1980, с. 101—105
Морозов Г В, Кабанов М Ai, Лебединский М. С О применении в клинике
психологических тестов — Жури, невропатол. и психиатр., 1974, вып 8,
с. 1275—1276.
303
Московичюте Л. И. и др. Нейропсихологический анализ нарушений конструк-
тивной деятельности у больных с артериовенозными аневризмами темен-
ной локализации.— Журн. невропатол. и психиатр., 1978, вып. 12, с. 1794.
Мурзенко В. А. Групповая психотерапия при неврозах.—В кн.: Групповая
психотерапия при неврозах и психозах. Л., 1975, с. 77—83.
Мучник Л. С, Смирнов В. М., Резникова Т. Н. Нейропсихологические и лич-
ностные аспекты внутренней картины болезни — В кн.: Нейропсихологи-
ческие исследования в неврологии, нейрохирургии и психиатрии. Л., 1981,
с. 13—21.
Мясищев В Н. Личность и неврозы.—Л., I960.
Мясищев В. Н. Психотерапия как система средств воздействия на психику
человека в целях восстановления его здоровья.— В кн.: Психотерапия
при нервных и психических заболеваниях. Л., 1973, с. 7—20.
Мясищев В. Н., Беспалько И. Г., Гильяшева И. Н. и др. Методики исследо-
вания личности за рубежом.— В кн.: Исследования личности в клинике
и в экстремальных условиях. Л., 1969, с. 69—97.
Мягер В. К. Этические аспекты взаимоотношений врача и больного невро-
зом.— В кн.: Психотерапия при нервных и психических заболеваниях.
Л., 1973, с. 53—59.
Мягер В. К., Мишина Т. М. Семейная психотерапия при неврозах: Методи-
ческие рекомендации.— Л., 1976.
Мягер В. д., Козлов В. П., Мишина Т. М. и др. Значение «факторов риска»
для возникновения психогенных заболеваний и роль психотерапии в их
предупреждении.—В кн.: Третий Междунар. симпозиум соц. стран по
психотерапии. Л., 1979, с 39—42.
Обозов И. И., Обозова А. Н. Три подхода к исследованию психологической
совместимости.— Вопр. психол., 1981, № 6, с. 98—101.
Озерецковский С. Д., Эйдемиллер Э. Г. Психопатии у подростков.— В кн.:
Патохарактерологический диагностический опросник и опыт его прак-
тического использования. Л., 1976, с. 79—80.
Павловские среды (1935—1936 гг.).—М.; Л., 1949.
Панасюк А. Ю. Адаптированный вариант личностного вопросника для детей.
Методические разработки для специалистов и студентов.— Л., 1977.
Петровский А. В. Психологическая теория групп и коллективов на новом
этапе.— Вопр. психол., 1977, № 5, с. 48—60.
Петровский А. В. Теория деятельностного опосредования и проблема лидер-
ства.—Вопр психол., 1980, № 2, с. 29—41.
Поляков Ю. Ф, Патология познавательной деятельности при шизофрении.—
М., 1974.
Прангишвили А. С, Шерозия А. Е., Бассин Ф. В. Роль неосознаваемой пси-
хической деятельности в развитии и течении соматических клинических
синдромов.—В кн.: Бессознательное. Природа. Функции. Методы ис-
следования. Тбилиси, 1978, т. 2, с. 195—216.
Психологическая диагностика Проблемы исследования/ Под ред. И. М Гу-
ревича.— М, 1981.
Рахальский Ю. Е. Социальная психология в преподавании психиатрии и ме-
дицинской психологии.— Жури невропатол. и психиатр, 1978, вып. 12,
с. 1863—1866.
Резникова Т. И. Волна «ожидания» как электрофизиологический показатель
изменений психического состояния — Физиология человека, 1976, № 2,
с. 287-296.
Резникова Т. И., Смирнов В. М. О моделировании внутренней картины бо-
лезни.— В кн.: Проблемы медицинской психологии./ Л., 1976, с. 122—124
Рожнов В. Е. Эмоционально-стрессов а я гипнотерапия алкоголизма и вопросы
реабилитации алкоголиков.— В кн.: Восстановительная терапия и реаби-
литация больных нервными и психическими заболеваниями. Л., 1982,
с. 319—323.
Рожнов В. Е., Либих С. С. Психотерапия в клинике внутренних болезней —
В кн • Руководство по психотерапии/ Под ред В Е. Рожнова. Ташкент.
1979, с. 525-540.
304
Рожнов В. £., Репин А. А. Система психологической производственной тре-
нировки.— В кн.: Руководство по психотерапии/ Под ред. В. Е. Рожнова.
Ташкент, 1979, с. 85—99.
Ротенберг В. С, Аршавский В. А. Стресс и поисковая активность.—Вопр.
философии, 1979, № 4, с. 117—127.
Рощин С. а. Западная психология как инструмент идеологии и политики.—
М., 1980.
Рубинштейн С. Я. Экспериментальные методики патопсихологии.—М., 1970.
Савенко Ю, С. Проблема психологических компенсаторных механизмов и их
типология.— В кн.: Проблемы клиники и патогенеза психических заболе-
ваний. М., 1974, с. 95.
Свядощ Л. М. Неврозы.—М., 1982.
Симерницкая Э. Г. Об особенностях проявления очаговых нарушений выс-
ших психических функций в детском возрасте.— В кн.: Нейропсихологи-
ческие исследования в неврологии, нейрохирургии и психиатрии. Л., 1981,
с. 86—89.
Симонов Я. В. О познавательной функции сопереживания.— Вопр. философии,
1979, № 9, с. 137—142.
Смирнов В. М. О роли модели ожидаемых и полученных результатов лече-
ния в механизмах эмоционально-мотивационного поведения больных
с хроническими заболеваниями нервной системы.— В кн.: Труды Шестого
Всесоюзн. съезда невропатологов и психиатров. М., 1975, т. 1, с. 271—273.
Смирнов В. М. Стереотаксическая неврология.— Л., 1976.
Собчик Л. Н. Пособие по применению психологической методики MMPI.—
М., 1971.
Собчик Л. Н., Лукьянова Н. Изучение психологических особенности летнего
состава стандартизованным методом исследования личности: пособие для
авиационных врачей.—М., 1978.
Соколова Е. Т. Проективные методы исследования личности.—М., 1980.
Столярова Л. Г. Афазия при мозговом инсульте.—М., 1973.
Строгонов Ю. А., Капанаозе В. Г. Медико-психологические аспекты форми-
рования алкогольной зависимости у подростков.— В кн.: Медико-психо-
логические аспекты реабилитации детей с психическими заболеваниями.
Л., 1978, с. 56—61.
Стукалова Л. А. К вопросу о преподавании медицинской психологии.— В ки •
Вопросы медицинской деонтологии и психотерапии: Материалы Таадбовск
обл. конф. Тамбов, 1974, с. 41—43.
Схема нейропсихологического исследования: Учебное пособие/ Под рсд
А. Р. Лурия —М., 1973.
Тарабрина Н. В., Шеряков Г. В., Широков В. Д. Экспериментальное иссле-
дование фрустрации при истерии.— В кн.: Клинико-психологическис ис-
следования личности. Л., 1971, с. 205—209.
Тархан А. У. Различение тонов на фоне шума при височной эпилепсии.—
В кн.: Математические методы в психиатрии и неврологии: Материалы
2-го симпозиума. Л., 1972, с. 173—174.
Ташлыков В. А. Опыт изучения тренинговой группы психотерапевтов.—
В кн.: Клинико-психологические исследования групповой психотерапии
при нервно-психических заболеваниях. Л., 1979, с. 46—50.
Ташлыков В. А , Бобровская М. И., Костерева В. #. О методике эксперимен-
тально-психологического исследования взаимоотношений врача и боль-
ного п психотерапии — В кн.: Клинико-психологическис исследования лич-
ности. Л., 1971, с 247—249.
Трауготт Н. II Нарушения взаимодействия полушарий при очаговых пора-
жениях мозга как проблема нейропсихологии.— В кн • Нейропсихологи-
ческис исследования в неврологии, нейрохирургии и психиатрии. Л., 1981,
с. 7-13
Федорова Т. Л Мстодка семантического дифференциала и возможности се
применения в клинической психологии.— В кн.: Психологические методы
исследования личности в клинике. Л., 1978, с. 80—82.
Филатов А. Т. Эмоционально волевая подготовка спортсменов.— Киев, 1982.
305
Филимонов #. Н„ Соболь М. Е., Василенко Ю. В. Схема исследования афа-
зических расстройств.—Сов. психоневрол., 1936, № 1, с. 17—31.
Филимонова Т. Д. Значение параметров Е-волиы в оценке психической дея-
тельности человека.—В кн.: Сб. тезисов XXIII совещания по проблемам
высшей нервной деятельности. Горький, 1972, т. II, с. 178—179.
Филимонова Т. Д. Изучение условной негативной вариации (CNV) в пси-
хиатрической клинике.—Журн. невропатол. и психиатр., 1973г вып. 12,
с. 1837-1841.
Харитонов Р. А., Хрипкова Л. М. Две психологические игровые методики
в клинике детской психиатрии.— В кн.: Психологические проблемы психо-
гигиены, психопрофилактики и медицинской деонтологии. Л., 1976,
с. 130—132.
Хомская Е. Д. Мозг и активация.— М., 1972.
Цветкова Л. С. Нарушение и восстановление счета при локальных пораже-
ниях мозга.— М., 1972.
Цветкова Л. С, Ахутина Т. В., Пылаева Н. М. Методика оценки речи при
афазии.—М., 1981.
Цейтина Г. П. К вопросу о системе отношений у больных церебральной фор-
мой гипертонической болезни.— В кн.: Социально-психологические иссле-
дования в психоневрологии. Л., 1980, с. 132—136.
Чазов Е. И. Методологические аспекты диагноза заболевания.— Вестн. АМН
СССР, 1981, № 4, с. 45—49.
Шиповников Н. Б. Роль социально-психологических факторов в оценке ком-
пенсаторных возможностей онкологических больных.— В кн.: Социально-
психологические исследования в психоневрологии. Л., 1980, с. 124—128.
Шкловский В. М. Опыт применения групповой психотерапии при лечении
больных с заиканием.— В кн.: Третий Междунар. симпозиум соц. стран
по психотерапии. Л., 1979, с. 176—179.
Шумаков В. M.t Колос И. В., Дегтярев В. А. Некоторые личностные харак-
теристики больных вялотекущей шизофренией и их роль в генезе обще-
ственно опасных действий: Методические рекомендации.—М., 1981.
Шхвацабая //. К-, Зайцев В. П. Вопросы оценки и классификации психиче-
ских изменений у больных инфарктом миокарда в связи с задачей их
реабилитации.— Кардиология, 1970, № 9, с. 12.
Щепин О. П., Царегородцев Г. #., Ерохин В. Г. Медицина и общество.—
Вестн. АМН СССР, 1981, № 4, с. 22—36.
Щепин О., Ерохин В., Царегородцев Г. Наше советское здравоохра-
нение.—Коммунист, 1982, № И, с. 78—88.
Эйдемиллер Э. Г. О взаимной перцепции в семьях подростков, страдающих
психопатиями и психопатоподобными расстройствами.— В кн.: Социаль-
но-психологические исследования в психоневрологии. Л., 1980, с. 94—100.
Эйдемиллер Э. Г. Семейная психотерапия у подростков при психопатиях,
неврозах, и неврозоподобных состояниях: методические рекомендации.—
М., 1980.
Янушкевичу с 3. И., Блужас И. //., Баубинене А. В,, Гоштаутас А. А. Пси-
хологические аспекты ишемической болезни сердца.— В кн.: Первичная
психологическая профилактика и реабилитация больных ИБС. Вильнюс,
1982, с. 3—16.
Ackerman N. W. The family approach to marital disorders. The psychoterapics
of marital disgarmony. Free Press, 1965, p. 153—167.
Alexander F., French T. M., Pollock G. H. Psychosomatic apecifity. Experimen-
tal studies and results. Chicago Press., 1968. V. 1.
Alexandrowicz J., Czabala С Methodologische Probleme der Untersuchung der
Psychotherapie.— In: III Int. Symp. soz. Lander fur Psychoterapie. Lenin-
grad, 1979, S. 5-8.
Barcal A. Family therapy in treatment of Anorexia Nervosa.— Am. J. Psychiat.»
1971, v. 128, N 3, p. 286—290.
Bedvdrovd T Die Ausbildung von Krankenschwestern in der Psychotherapie.—
В кн.: 3-й Междунар. симпозиум соц. стран по психотерапии. Л., 1979, с.
59—60.
306
Bellak L. Thematic Apperception Test and Children Apperception Test in the
Clinical use.— N Y., 1954.
Benton A., Van Allen M. Impairment in facial recognition in patients with
cerebral disease.—Cortex, 1968, v. 4, N 3. p. 344—358.
(Bruncr J. S.) Брунер Дж. О перцептивной готовности — В кн.: Хрестоматия
по ощущению и восприятию: Пер. с англ/Под ред 10. Б. Гиппенрейтера,
М. Б. Михалевского. М., 1975, с. 134—151.
Bohm E. Lehrbuch der Rorsschach-Psychodiagnostik.— Bern u. Stuttgart, 1972
Cattell R. В., Eber H. W. a. Tatusuoka M. Af. Handbook for the Sixteen Per-
sonality Factor Questionnaire (16 PF) in Clinical, Educational, Industrial
and Research Physiology.— Illinois, 1970.
Collins /., Kreitman N„ Nelson В., Troop /. Neurosis and marital interaction.
Family roles and functions.—Brit. J. Psychiat., 1971, v. 119, N 550,
p. 233—242.
Delay /., Perse /., Pichot P. Methodes psychometriques en clinique. Tests
mentaux et interpretation.—Paris. 1966.
Dollard J. a. Miller N. E. Personality and Psychotherapy — N. Y., 1950.
Dunbar F. Emotions and bodily changes 4th ed.— N. Y., 1954.
Elton M., De Long /?., Ferstt R. The CNV in reactive depressives and nor-
mals.- Biol. Psychol., 1980, v. 11, N 3—4, p. 288.
Eysenck H. J. Principles and Methods of Personality. Description, Classifica-
tion and Diagnosis.—Brit. J. Psychol., 1964, v. 55, N 3, p. 284—294.
Freeman F. S. Theory and Practice of Psychological Testing.—N. Y., 1959.
Gazzaniga Af. The hisected brain.— N. Y., 1971.
Gerull G., Mielke G., Mravinsky D. Contingent negative variation bei olfakto-
rischer reisung.— EEG-EMG, 1981, v. 12. N 3, p. 125—127.
Head H. Aphasia and Kindred disorders of speach.—Cambridge, 1926.
ttecaen #., Assal G. A comparasion of constructive deficites following right a.
left hemispheric lesions.—Neuropsychology, 1970, v. 8, p 289—303.
Hidas G., Furedi J. Vorausrtzungen und Moglichkeiten der psychotherapeutis-
chen Ausbildung.— В кн.: 3-й Междунар. симпозиум соц. стран по психоте-
рапии. Л, 1979, с. 143—144
Howells J. G. Theory and practice of family psychiatry.—Edinburgh, 1968.
(Hock К.) Хек К Динамика и механизмы процесса групповой психотерапии
при неврозах.— В кн.: Групповая психотерапия при неврозах и психозах:
Пер. с нем. Л., 1975, с. 46—53.
Jrwin D. A., Rebert Ch. S. Slow Potential changes in cat brain during classi-
cal appetitive conditioning of gaw morement using two lekees of reward —
EEG. a. clin. Neurophysiol, 1970, v. 28, N 2, p. 119.
(Izard С. Е.) Изард К. Эмоции человека: Пер. с англ.— М., 1980.
Jacobson G. P., Donald Gans P. The contingent negative, variation indica-
tor of Speech discrimination difficulty.—J. Speech a Hear Res., 1981, v. 24,
N 3, p. 345—350.
Junova H. Psychogymnastik in der stationaren Gruppenpsychotherapie — In:
Psychiatrie, Neurologie und medizinische Psychologic Leipzig, 1979, S. 7.
(Kleinsorge H, Klumbies G.) Клейнзорге Х., Клумбиес Г. Техника релакса-
ции: Пер. с нем М., 1965.
(Konecny R., Bouchal М) Конечный Р., Боухал М. Психология в медицине:
Пер. с чешек.—Прага, 1974.
Kratochvil S. Psychoterapie. 2 vyd.—Praha, 1976.
JKratochvil S.)Skupinova psyhoterapie neuros.—Praha, 1978.
(reitman N. Mental disordes married coupees.—J. Ment. Sci., 1962, v. 108.
p. 438-446.
Lazarus A. Behavior Therapy.—Intern. J. Psychiat, 1970—1971, v. 9, p. 113—
140.
(Leder S.) Ледер С. Система психокорригирующих воздействий в рамках
социалистического здравоохранения.— В кн.: Групповая психотерапия при
неврозах и психозах Л , 1975, с. 37—46.
(Leonhard К) Лсонгард К. Акцентуированные личности: Пер. с нем.— Киев,
307
Levy У. Cerebral lateralization and spetial ability — Behav Genet., 1976, v. 6,
p.* 171.
(Miller N E.) Миллер Н. E. Двигательное обучение, висцеральное обучение
и гомеостаз — В кн.: Системная организация физиологических функций М.,
1969, с. 363—372.
Murray H. Explorations in personality.—N. У., 1958.
Osgood С. Е., Suci G. J., Tannenbaum P. H. The measurement of meaning.—
Illinois, 1957.
Peres J. F. Family counseling (Theory and Practice).—N. Y., 1979.
Ploeger A. Die therapeutische Gemeinschaft in der Psychotherapie und So-
cialpsychiatrie.— Stuttgart, 1972.
Pollock G. H. The psychosomatic specificity concept.— В кн.: Бессознатель-
ное, Природа, Функция. Методы исследования. Тбилиси, 1978, т. II,
с 229—238.
Rabin A. Diagnostic Use of Intelligence Tests.— In: Handbook of clinical
psychology. N. Y., 1965, p. 477—498.
Rlskin J. a. Faunce E. Family interaction scales.— Arch. Gen. Psychiat, 1970,
v. 22, June, p. 503—512.
Rorschach H. Psychodiagnostik.—Bern, u. Leipzig, 1921.
Rosenzweig S. The Picture-Association Method and its Application in a Study
of Reactions to Frustration.— J. Personality, 1945, v. 14, p. 3
Schands H. C. The war with Words.—Paris, 1971.
Schultz J. H Das autogene Training.— Stuttgart, 1932.
(Skoda С.) Шкода Ч. Вопросы оценки эффективности психотерапии.— В кн.:
3-й Междунар. симпозиум соц. стран по психотерапии. Л., 1979, с. 179—
182.
Sperry R. Lateral spezialization in the surgically separated herrryspheres.—
In: The Neurosciences, Third Study Programy. Cambridge; London, 1974,
p. 5.
Szewczyk H. Medizinische Psychologie-traditionsbelandens Gebiet oder Airs-
druck einer neuen Entwicklungsrichtung in der Medicin? — Psychiat. Neurol.
med. Psychol. 1981, Bd. 33, H. 10, S. 589—596.
Szondi L. Lehrbuch der experementellen Tribdiagnostic—Bern; Stuttgart,
1960.
Tecce /. /. Contigent negative variation (CNV) a, psychological processes
in man.—Psychol, bull., 1972, v. 2, N 77, p. 73—107.
Timsit M., Koninckx N., bar gent /. et al. Contigent negative variation in psy-
chiatry.—Electroencephal. Clin. Neurophysiol.. 1970, v. 28/1, p. 41—47.
(Urban E., Skala J., Rubes J., Bouchal M.) Урбан Э.$ Скала Я., Рубеш Я-,
Боухал М. Специализация в области психотерапии.—В кн.: 3-й Между-
нар. симпозиум соц. стран по психотерапии. Л., 1979, с 163—165.
(Walter G.) Уолтер Г. Живой мозг: Пер. с англ.— М., 1966.
Watson R. /. The clinical method in psychology.—N. YM 1963.
Wechsler D. Intelligence scale for Children.— N. Y., 1949.
Wechsler D. Manual for the Wechsler Adult Intelligence scale.— N. Y., 1955
Wieck H., Valentin H., Specht К Medizinische Psychologie und Medizinische
Sociologie.— Stuttgart; New York, 1979.
Willy /. Joint Rorschach testing of partner relationships.—Family Process,
19*69, v. 8, N 1, p. 64-78.
Winter K. Soziologie fur Mediziner.— Berlin, 1975.
Witkower E. a. Warnes H. Historical survey of psychosomatic medizine.—
В кн.: Бессознательное. Природа, Функции. Методы исследования. Тбилиси,
1978, т. II, с. 239-252.
308
Kabanov M. M., Lichko A. E., Smirnov V. M. Methods of Psychological
Diagnostics and Correction in the Clinical Setting.—Leningrad: Meditsina,
1983.—312 p., il.
The authors of the book are Prof. M. M. Kabanov, the Honoured Man of
Science of the RSFSR, Prof. A. E. Lichko, the Honoured Man of Science of
the RSFSR, Prof. V. M. Smirnov and their colleagues from the Leningrad
V. M. Bekhterev Psychoneurological Research Institute and the Research
Institute of Experimental Medicine under the USSR Academy of Sciences.
The present book deals with the problems in clinico-psychological activi-
ties at therapeutic-prophylactical institutions. The authors are concerned with
the major principles of psychological diagnostics in the clinical setting and
of the research into the "inner picture" of the disease. The most widely spread
foreign methods and techniques of psychological diagnostics (questionaires,
projective techniques, methods of intellect research) and their modifications,
adjusted in this country, are characterized. Description of the new techniques
of psychological examination of patients are also provided. Current psycho-
physiological methods of research are discribed along with various psycho-
therapeutic and psychocorrectional methods applied with therapeutic and
preventive purposes. Special attention is paid in the book to symptomatic
techniques and pathogenetic system of psychotherapy and psychocorrection,
to their group forms, and modification of the disturbed family relationships.
The conclusion incorporates the new tasks for improvement of training cli-
nical psychologists and psychotherapiests and structuring clinico-psychological
activities at health facilities.
The monograph is intended for clinical psychologists and other medical
specialists who are interested in application of psychological methods and
techniques in their therapeutic and preventive work.
The book contains 26 Figures, 4 Schemes, 10 Tables, 270 References.
ОГЛАВЛЕНИЕ
Введение. М. М. Кабанов * . 3
Глава 1. Психологическая диагностика в клинической медицине.
А. Е. Личко 22
Глава II. Основные принципы и методы психологического исследова-
ния «внутренней картины болезни». В. М. Смирнов и
Т. Н. Резникова 38
Глава III. Вопросники как метод исследования личности. И. Н. Гиль-
яшева 62
Г л а в а IV. Патохарактерологический диагностический опросник
(ПДО) для подростков. А. Е. Личко 81
Глава V. Личностный опросник Бехтеревского института (ЛОБИ).
A. Е. Личко 102
Глава VI. Проективные методы. И. Г. Беспалько и И. Н. Гильяшева 116
Глава VII. Исследования интеллекта. И. Н. Гильяшева 145
Глава VIII. Психологические методы исследования при локально-орга-
нических поражениях головного мозга. Л. И. Вассерман . 156
Глава IX. Некоторые психофизиологические методы исследования.
B. М. Смирнов и Т. Н. Резникова 193
Глава X. Симптоматические методы и патогенетическая система пси-
хотерапии и психокоррекции. Р. А. Зачепицкий .... 208
Глава XI. Групповые методы психотерапии и психокоррекции. Г. Л.
Исурина 231
Глава XII. Исследование семьи в клинике и коррекция семейных от-
ношений. Т. М. Мишина 255
Глава XIII. Подготовка медицинских психологов и пути организации
медико-психологической работы в учреждениях здравоох-
ранения. М. М. Кабанов и Р. А. Зачепицкий 282
Список литературы 298
CONTENTS
Introduction M. M. Kabanov 3
Chapter I. Psychological Diagnostics in Clinical Medicine.
A. E. Lichko 22
Chapter II. Major Principles and Methods of Psychological Research
Into the "Inner Picture" of the Disease. V. M. Smirnov
and T. N. Reznikova 38
Chapter III. Questionaries as a Method of Personality Research.
I. N. Gilyasheva 62
Chapter IV. Pathocharacterological Diagnostical Inventory (PDI) for
Adolescents. A. E. Lichko 81
Chapter V. The Bekhterev Institute Personality Inventory (BIPI)
A. E. Lichko 102
Chapter VI. Projective Techniques. I. G. Bespalko and I. N. Gi-
lyasheva 116
Chapter VII. Research Into Intellect. I. N. Gilyasheva 145
Chapter VIII. Psychological Methods of Investigation in Focal Orga-
nic Brain Lesions. L. I. Vasserman 156
Chapter IX. Some Psychophysiological Methods of Investigation.
V. M. Smirnov and T. N. Reznikova 193
Chapter X. Symptomatic Methods and Pathogenetic System of Psy-
chotherapy and Psychocorrection. R. A. Zachepitskii . . 208
Chapter XI. Group Methods of Psychotherapy and Psychocorrection.
G. L, Isurina 231
Chapter XII. Study of a Family in Clinical Setting and Correction of
the Family Relationships. Т. М. Mishina 255
Chapter XIII. Training Clinical Psychologists and the Ways of Orga-
nization of Clinico-Psychological Work in Health Facili-
ties. M. M. Kabanov and R. A. Zachepitskii 282
List of References 298
Модест Михайлович Кабанов,
Андрей Евгеньевич Личко,
Владимир Михайлович Смирнов
МЕТОДЫ
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ
ДИАГНОСТИКИ
И КОРРЕКЦИИ
В КЛИНИКЕ
Зав. редакцией Р. С. Горяинова
Редактор Р. А. Зачепицкий
Переплет художника И. Д. Наумовой
Художественный редактор Т. Г. Кашицкая
Технический редактор Л. И. Данилова
Корректор А, Ф. Лукичева
ИБ № 2567
Сдано в набор 6.05.83. Подписано в печать 8.08.83. М-34828. Формат бумаги 60X90'/ie.
Бумага типографская № 1. Гарнитура литературная. Печать высокая. Усл. печ. л. 19,5.
Усл. кр.-отт. 19,75. Уч.-нзд. л. 21,96. Тираж 11000 экз. Заказ № 942. Цена 1 р 80 коп.
Ленинград, ордена Трудового Красного Знамени издательство «Медицина»,
Ленинградское отделение. 191104, Ленинград, ул. Некрасова, д. 10.
Ленинградская типография № 4 ордена Трудового Красного Знамени Ленинградского й,
объединения им. Евгении Соколовой Союзполиграфпрома при Государственном коми-
тете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 191126, Ленинград, \
Социалистическая ул., 14. ^Х ч