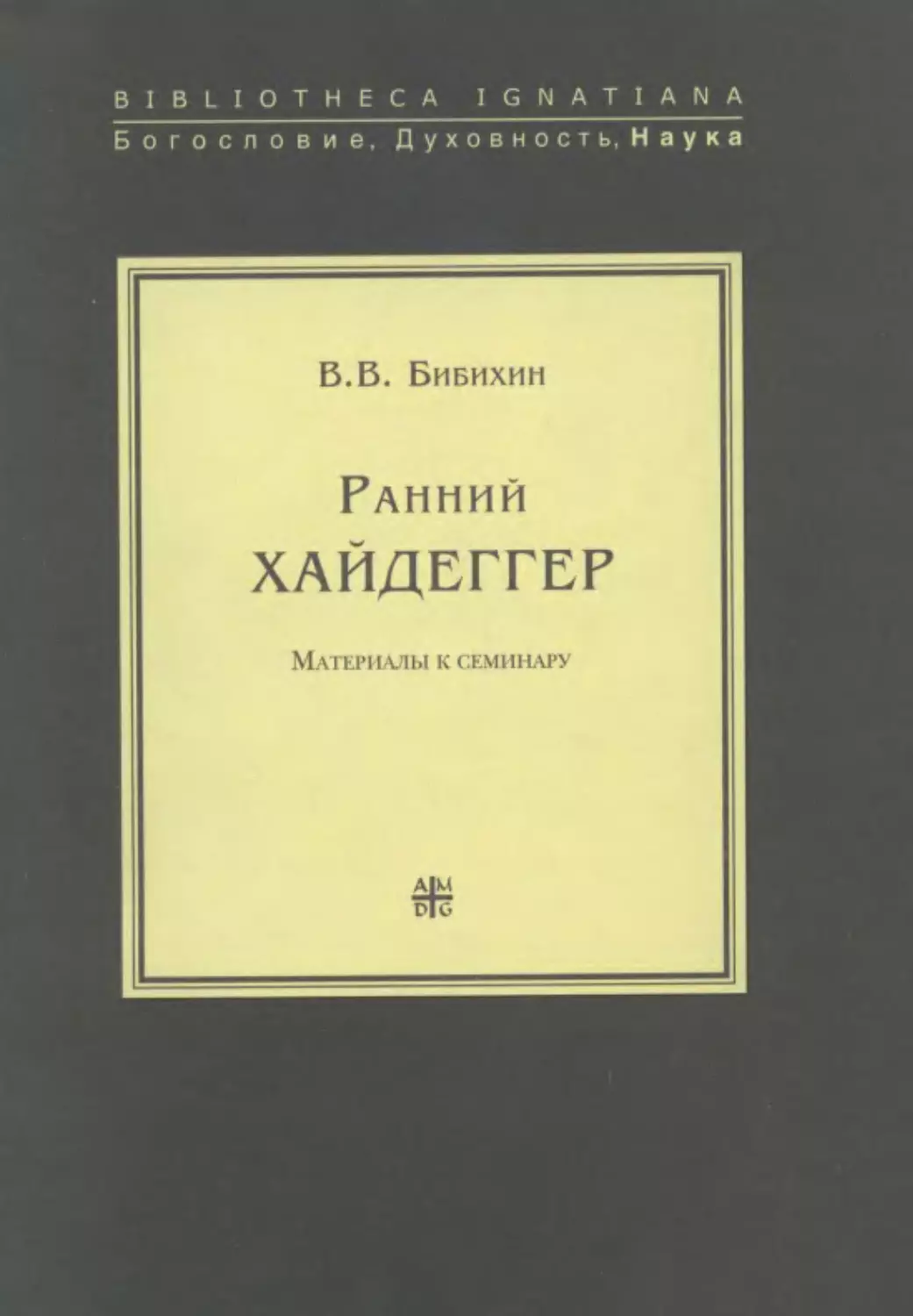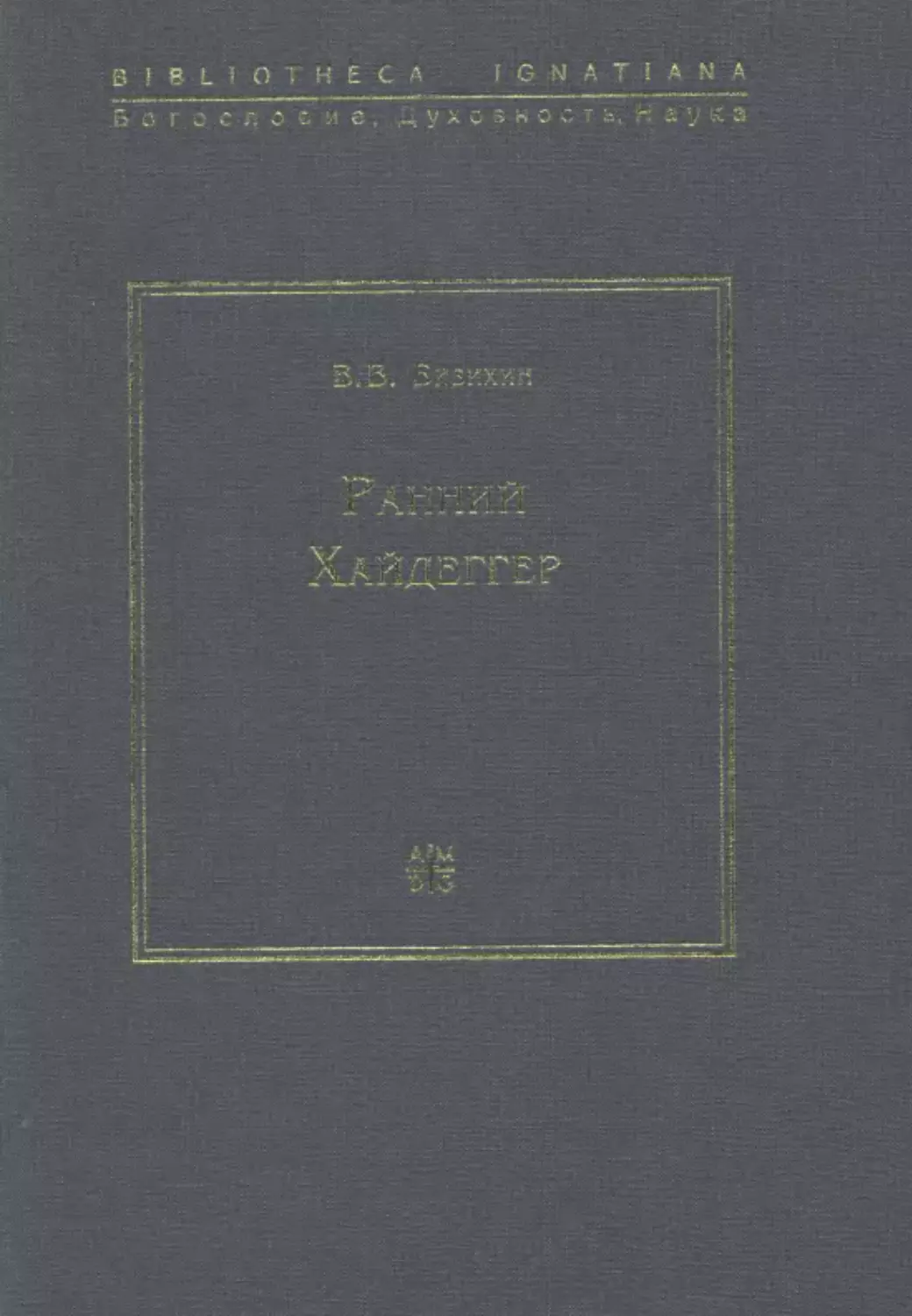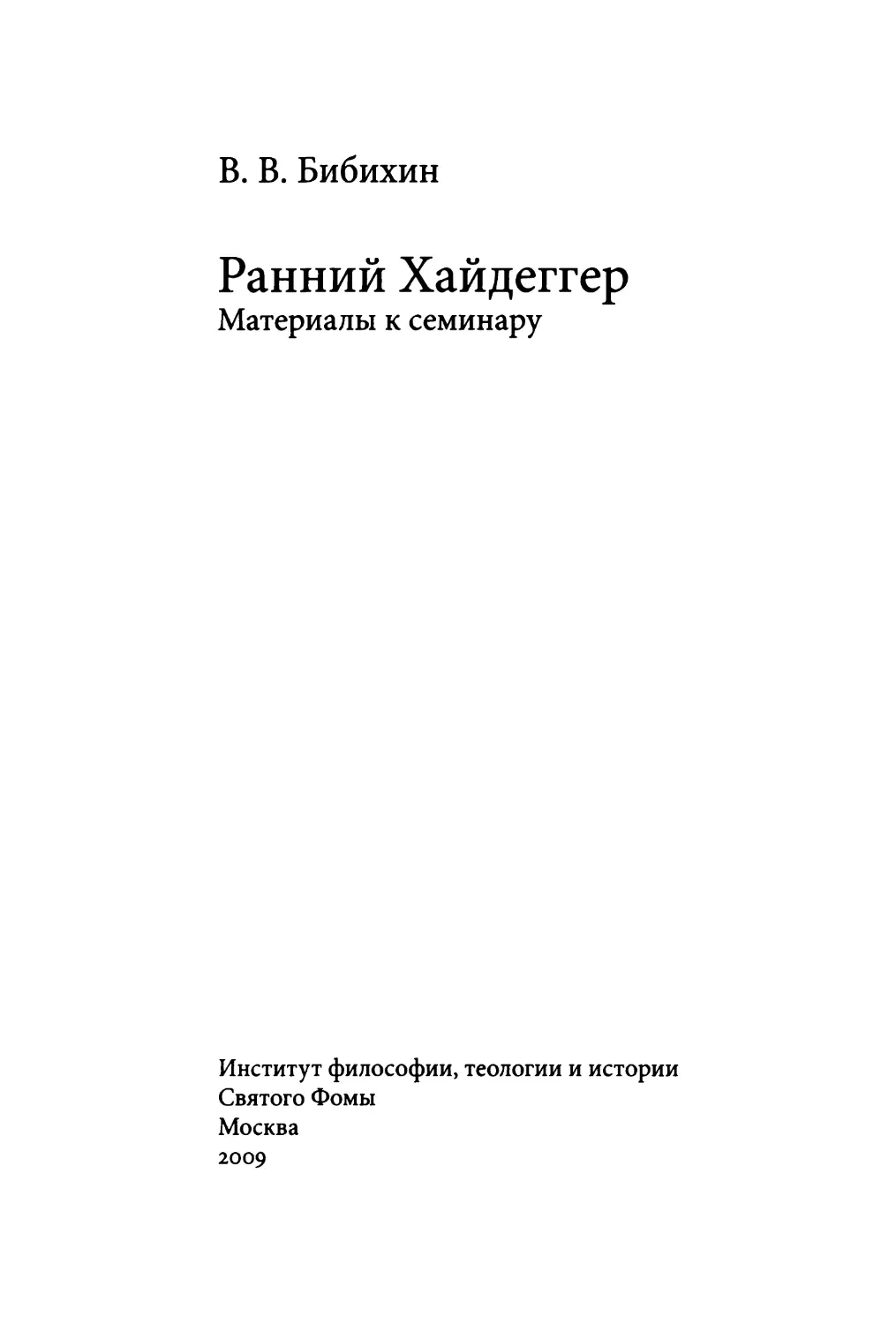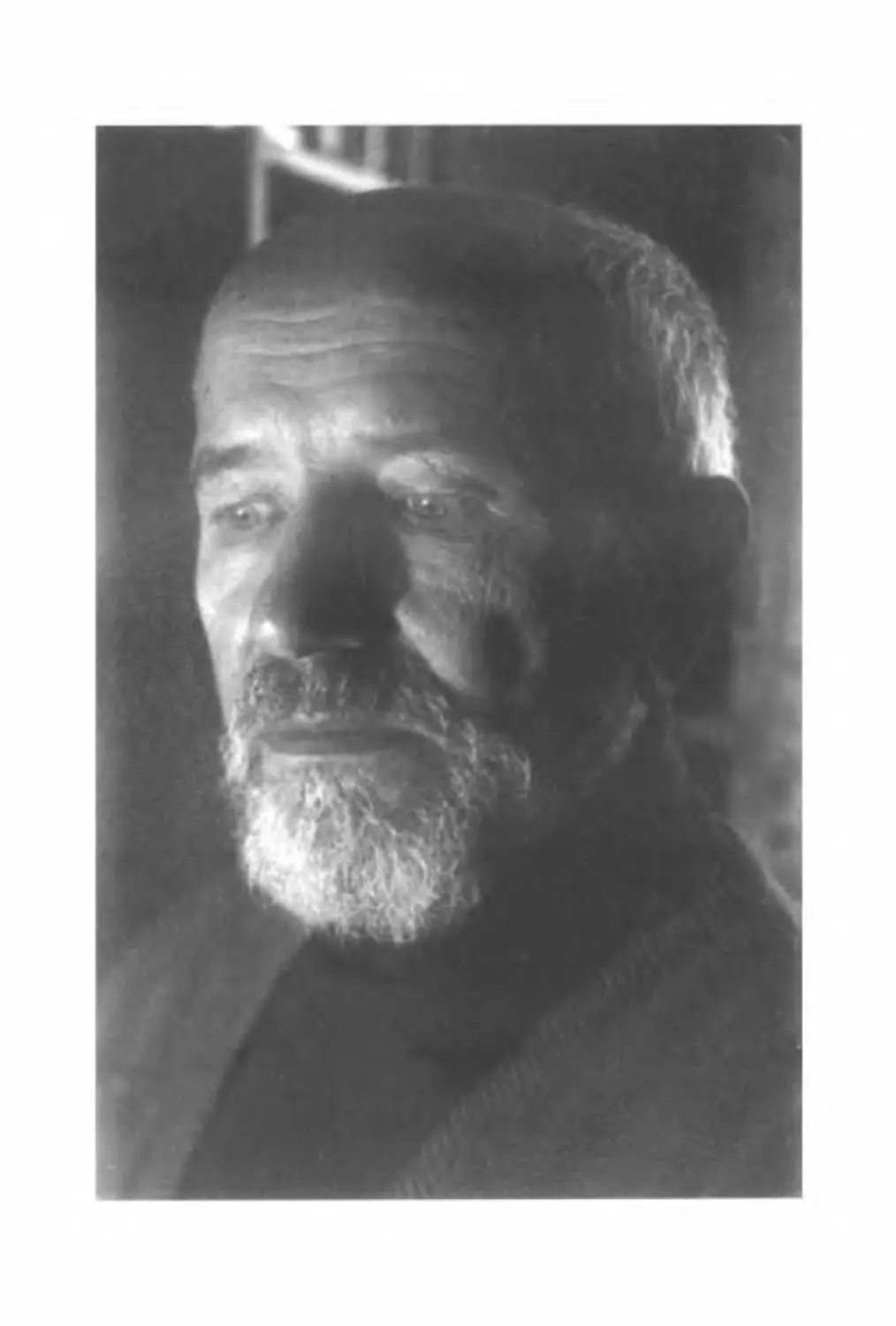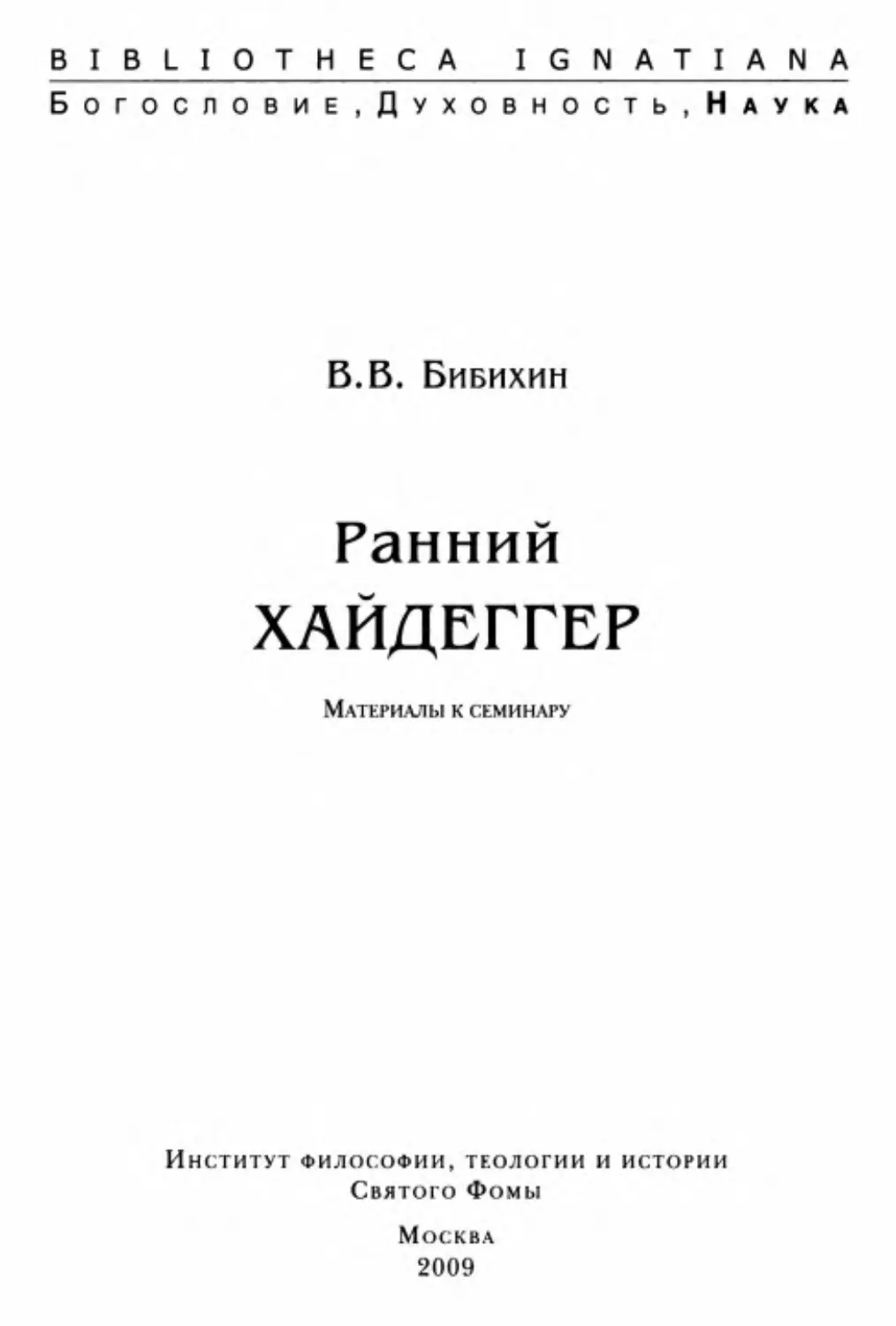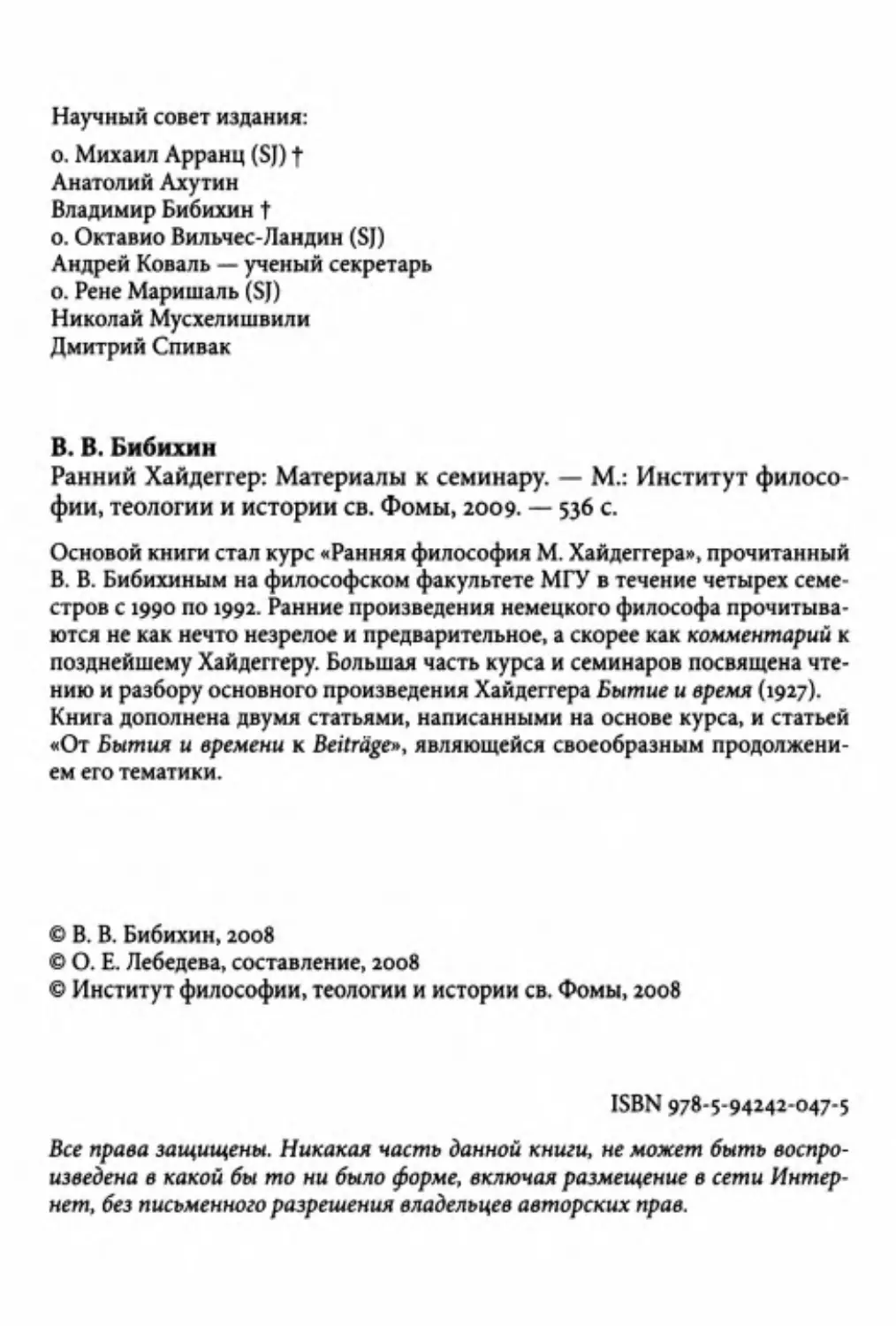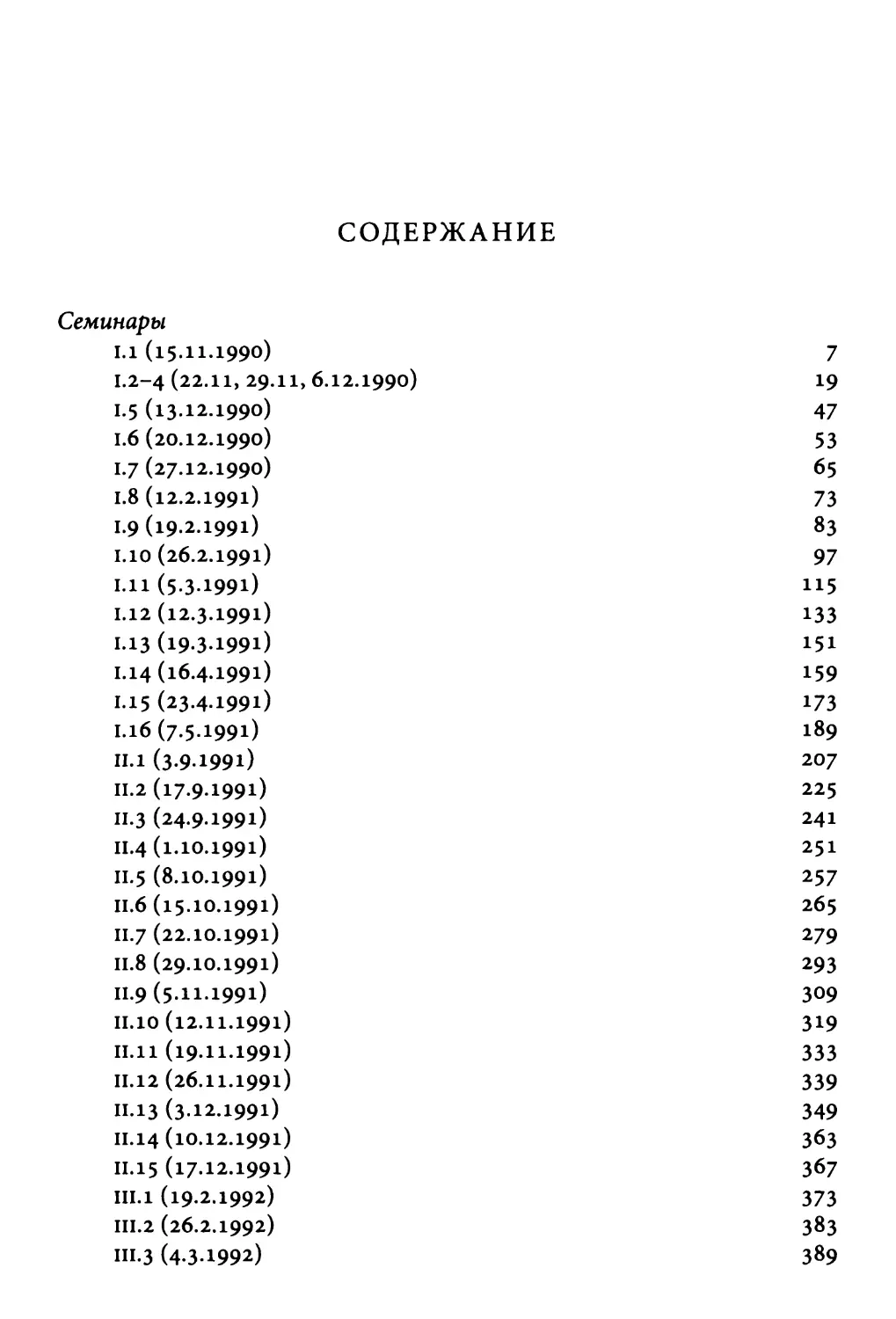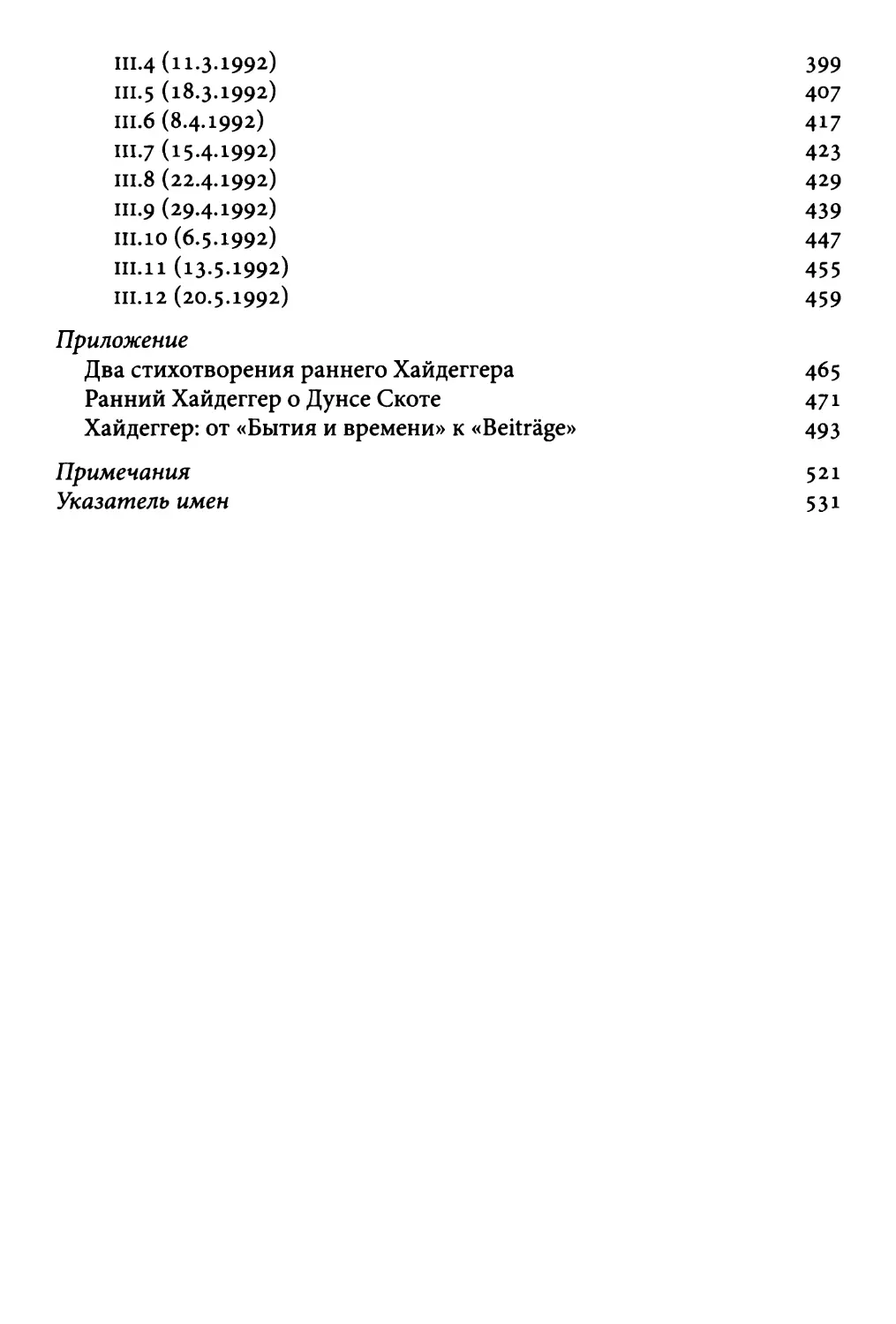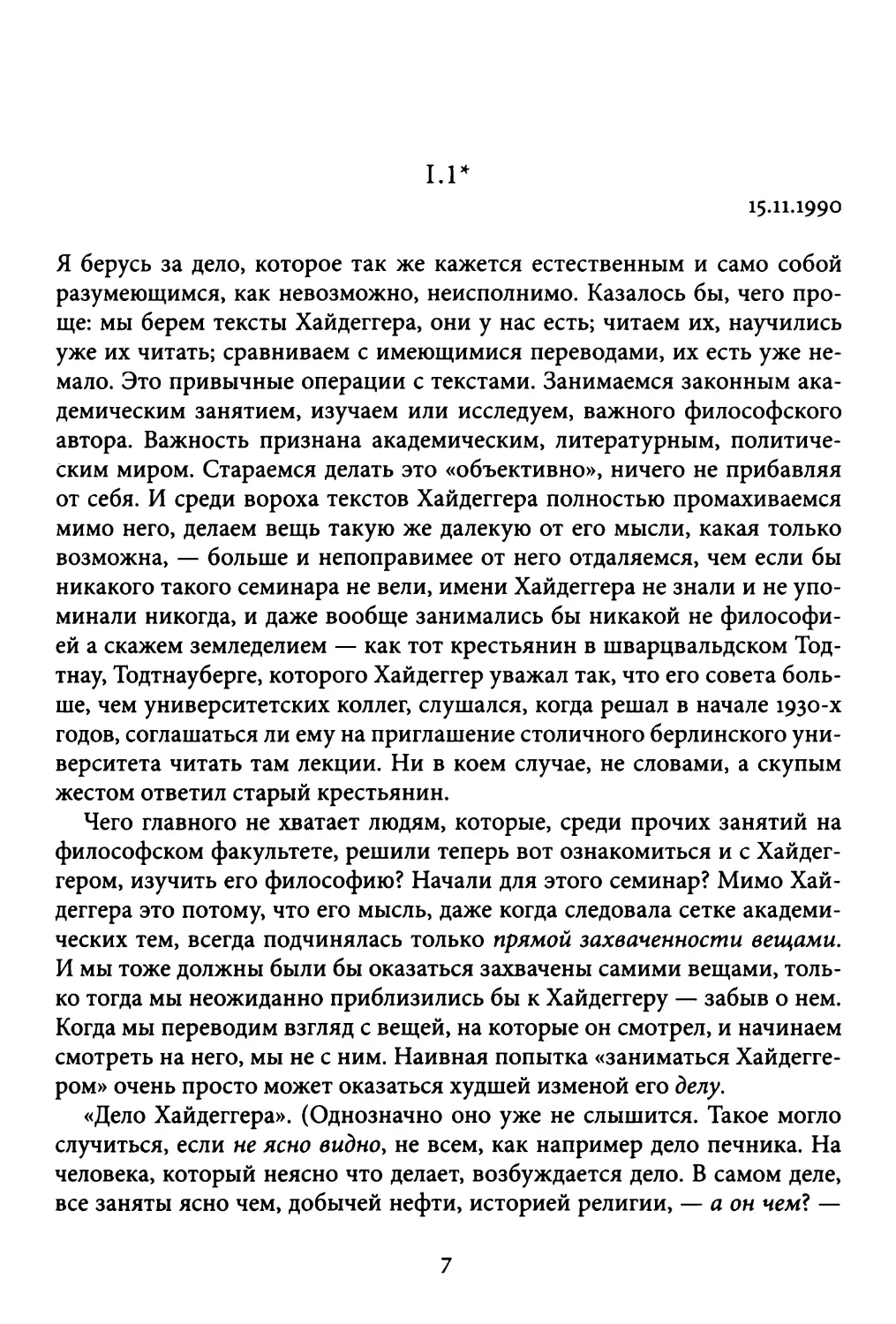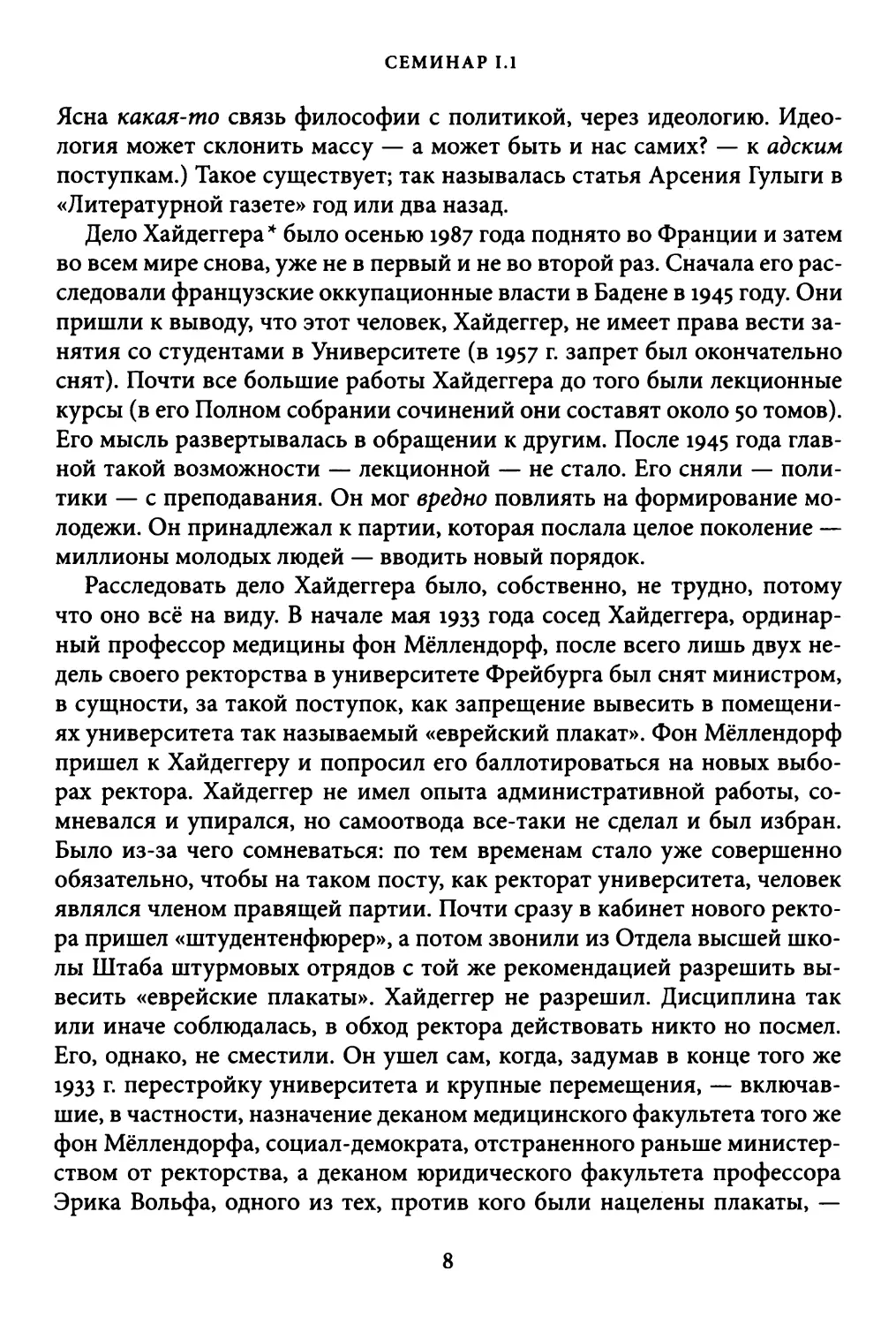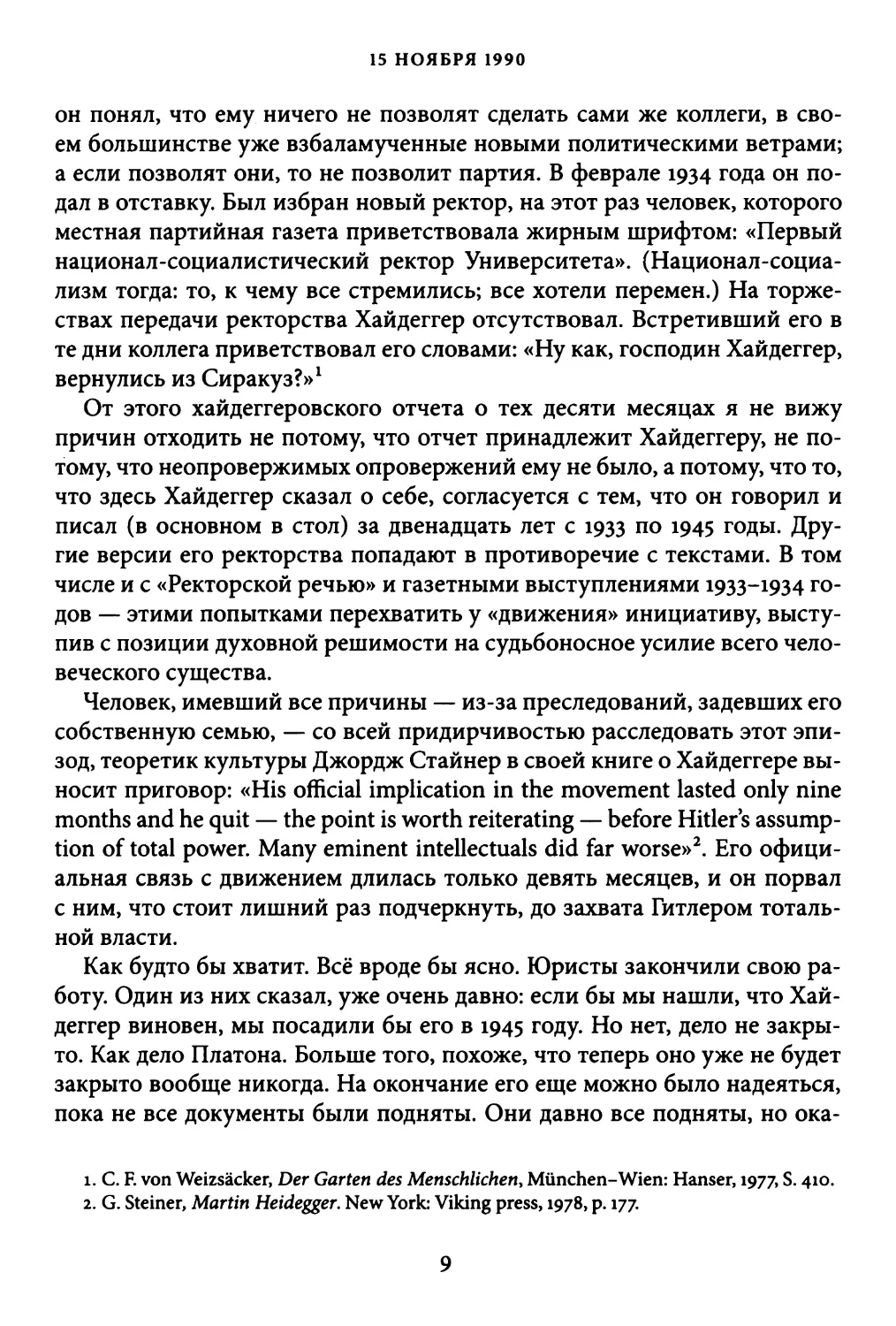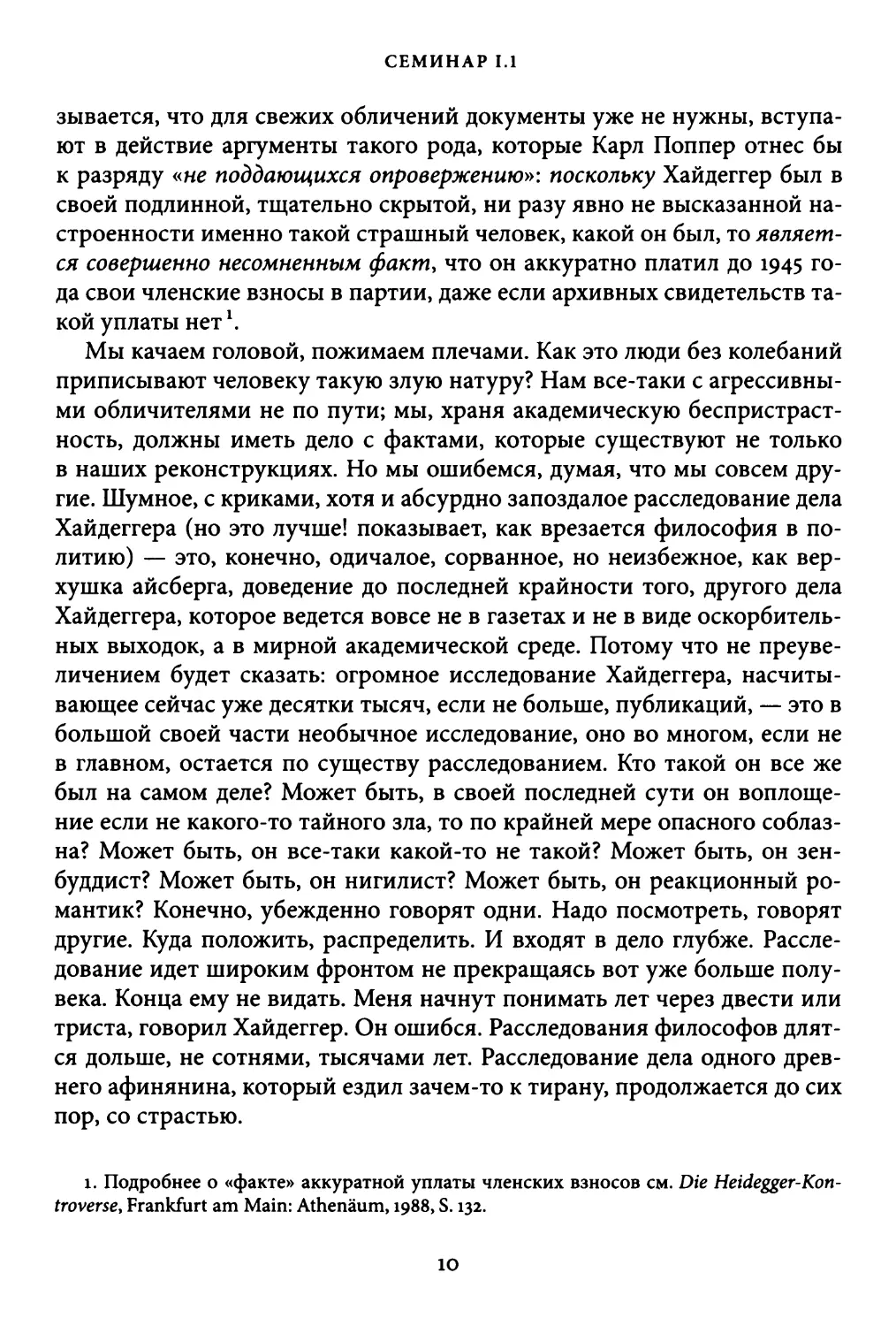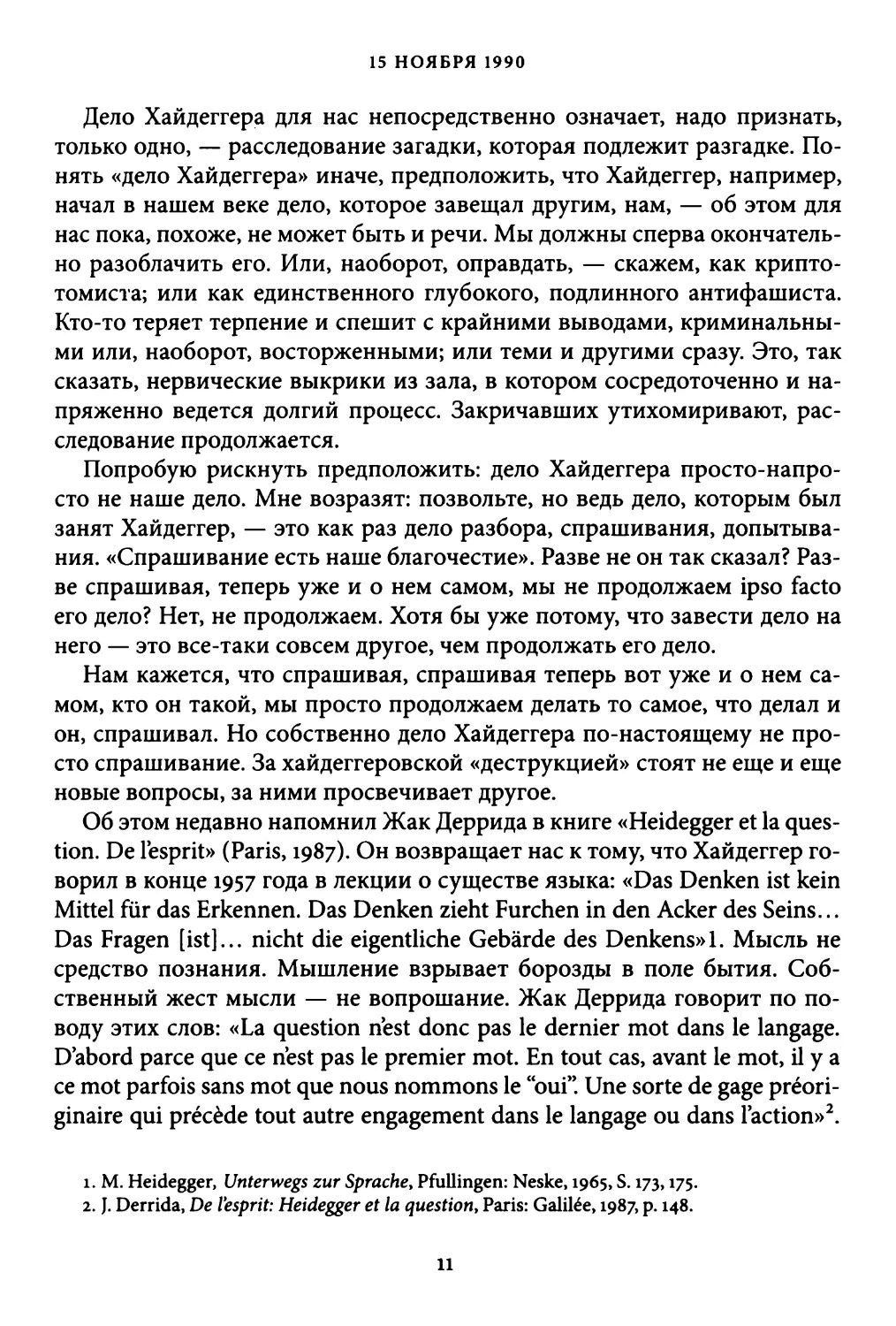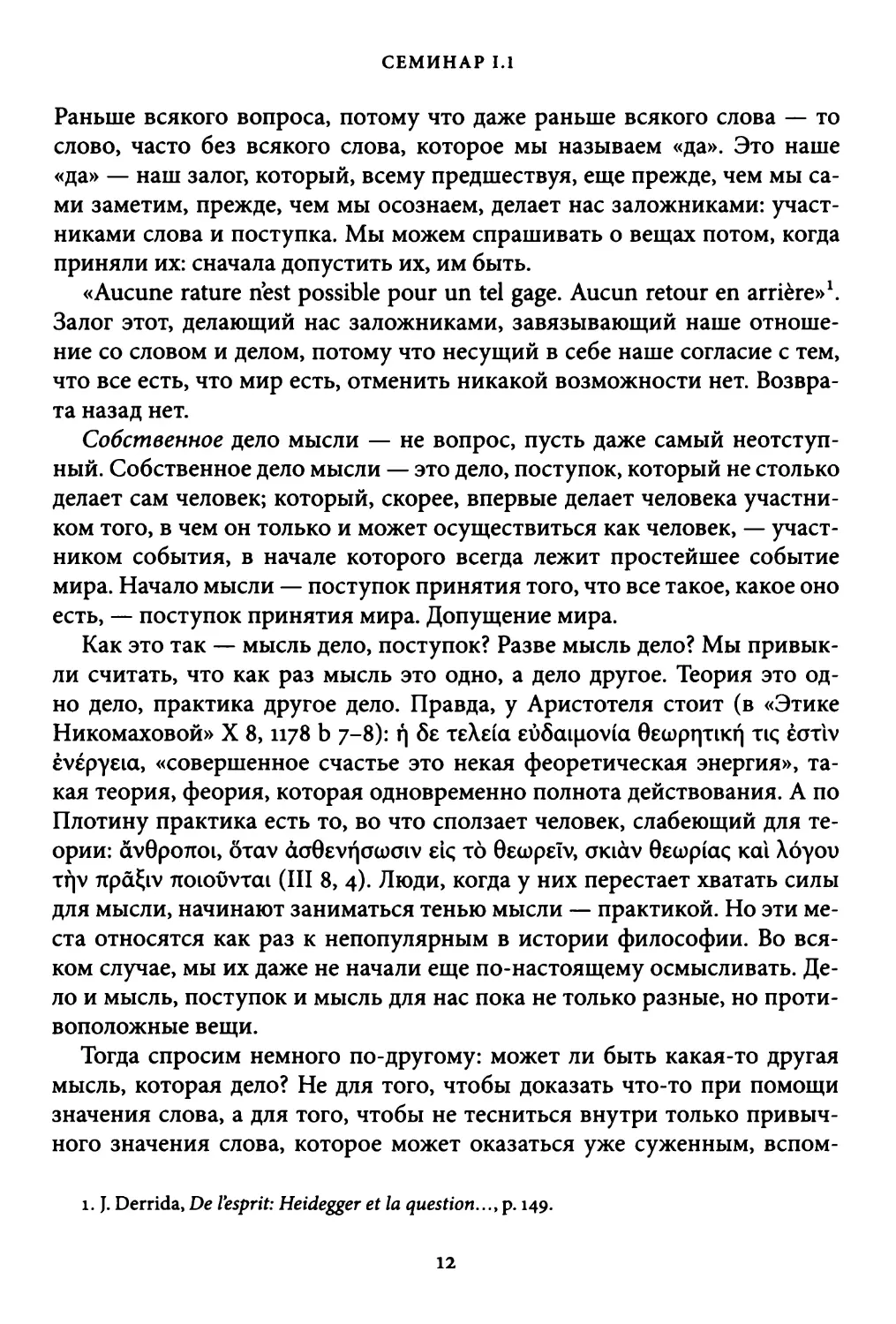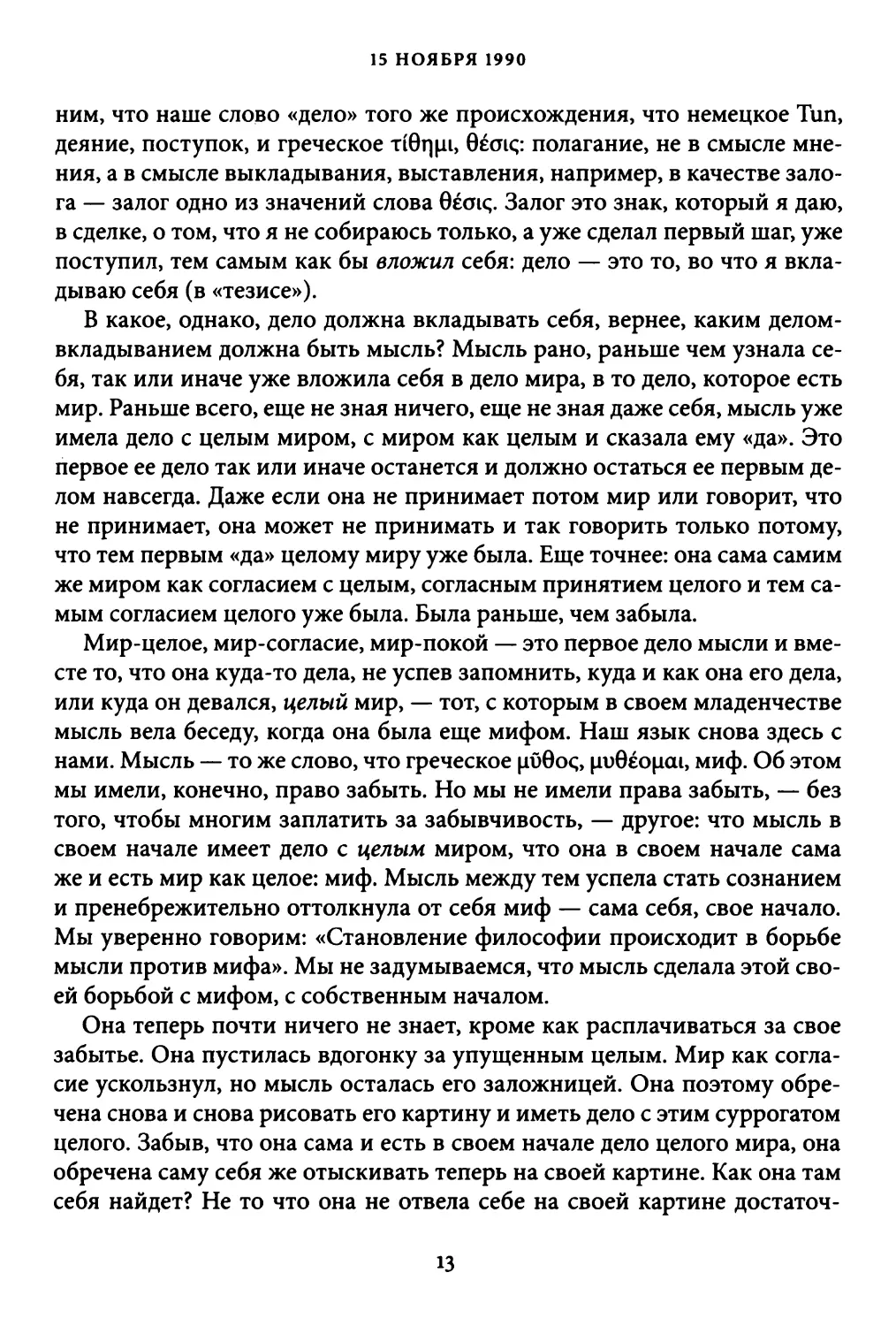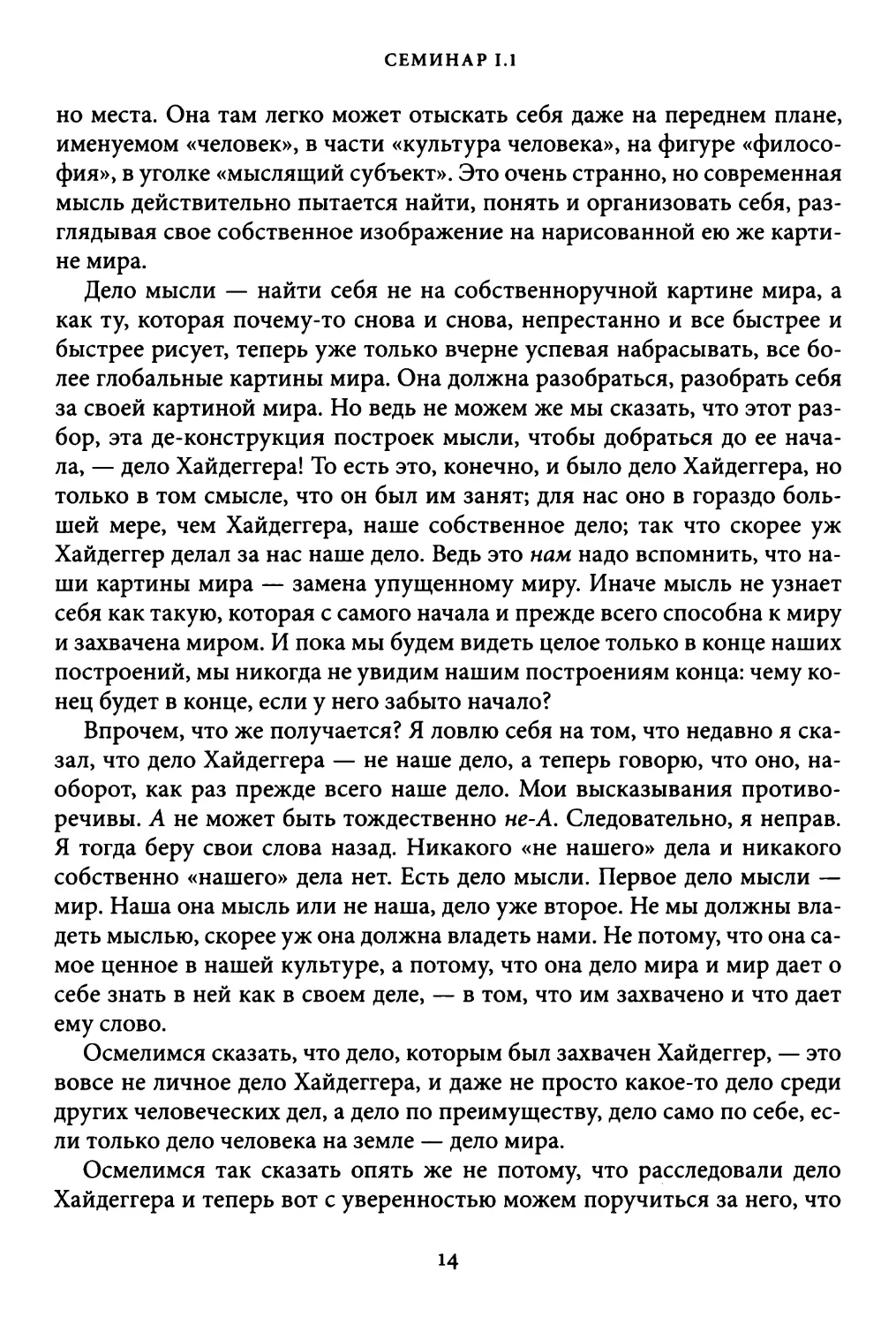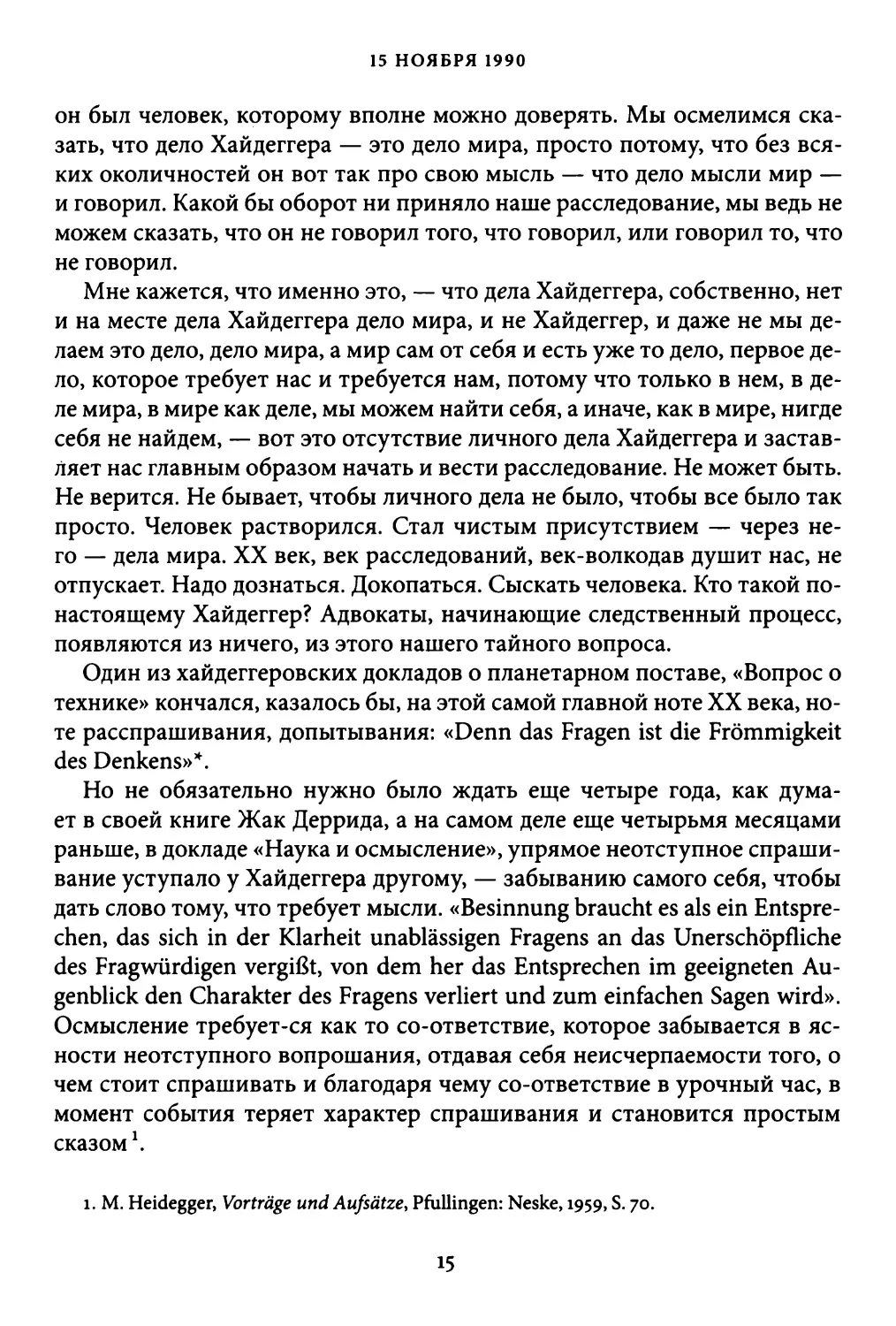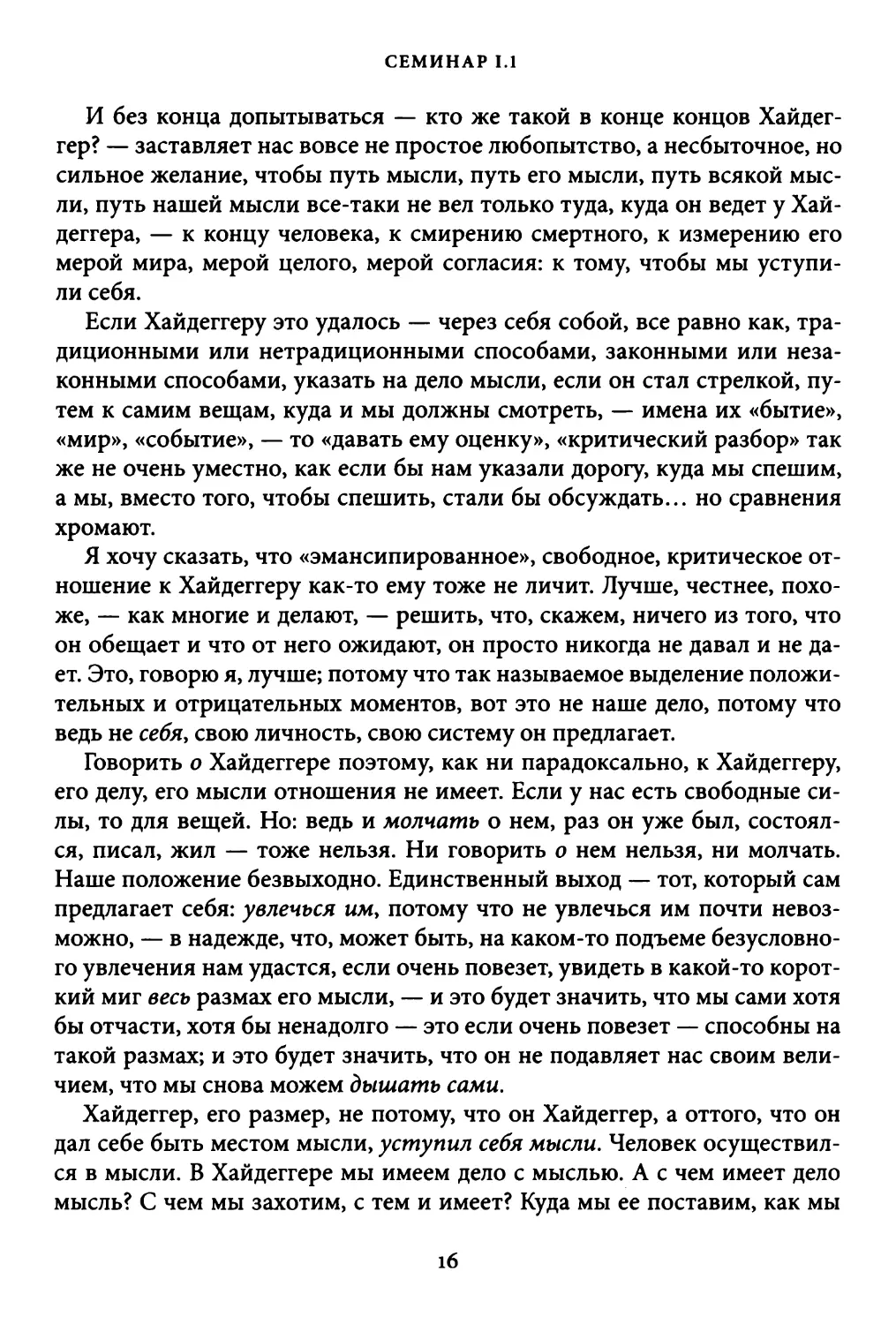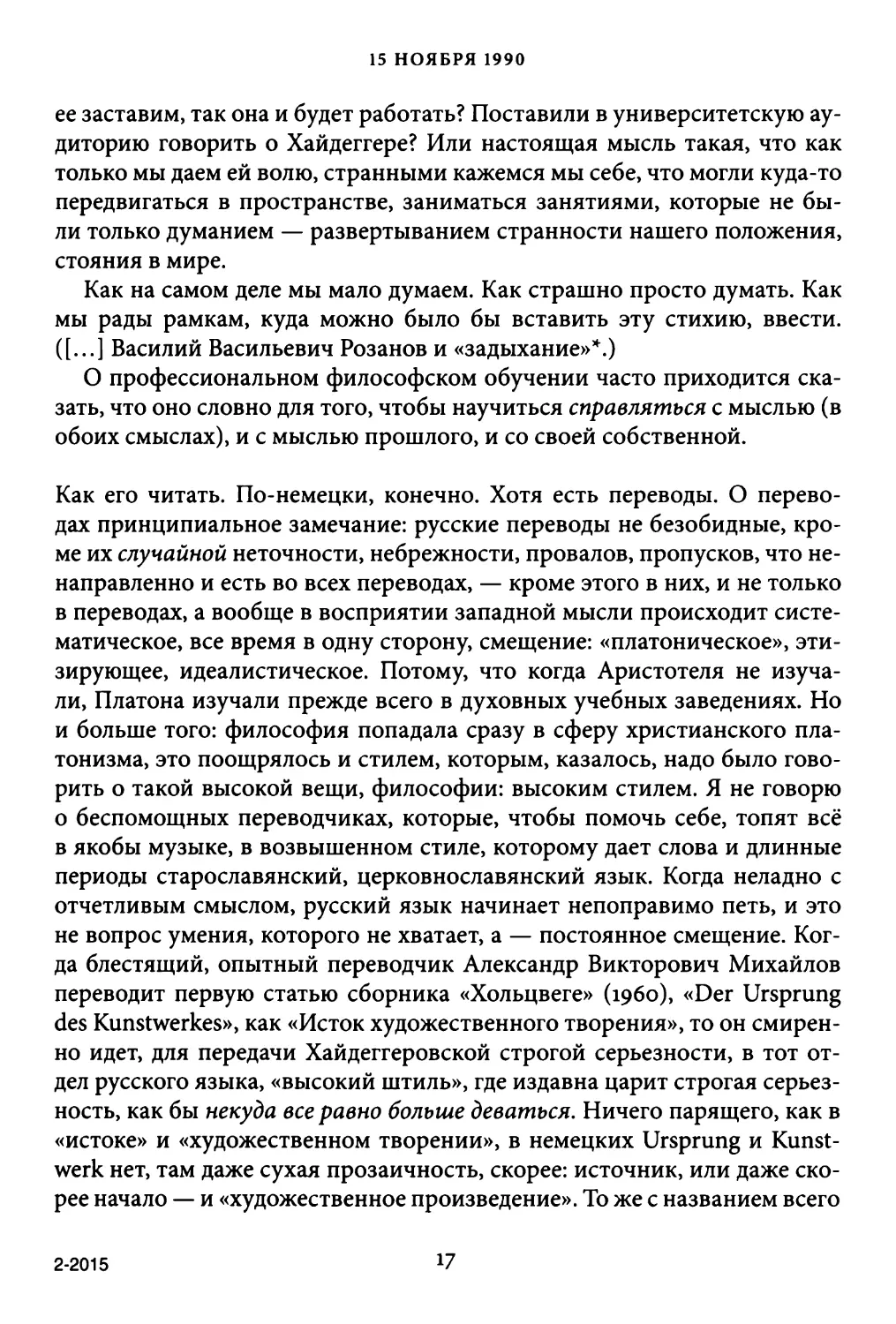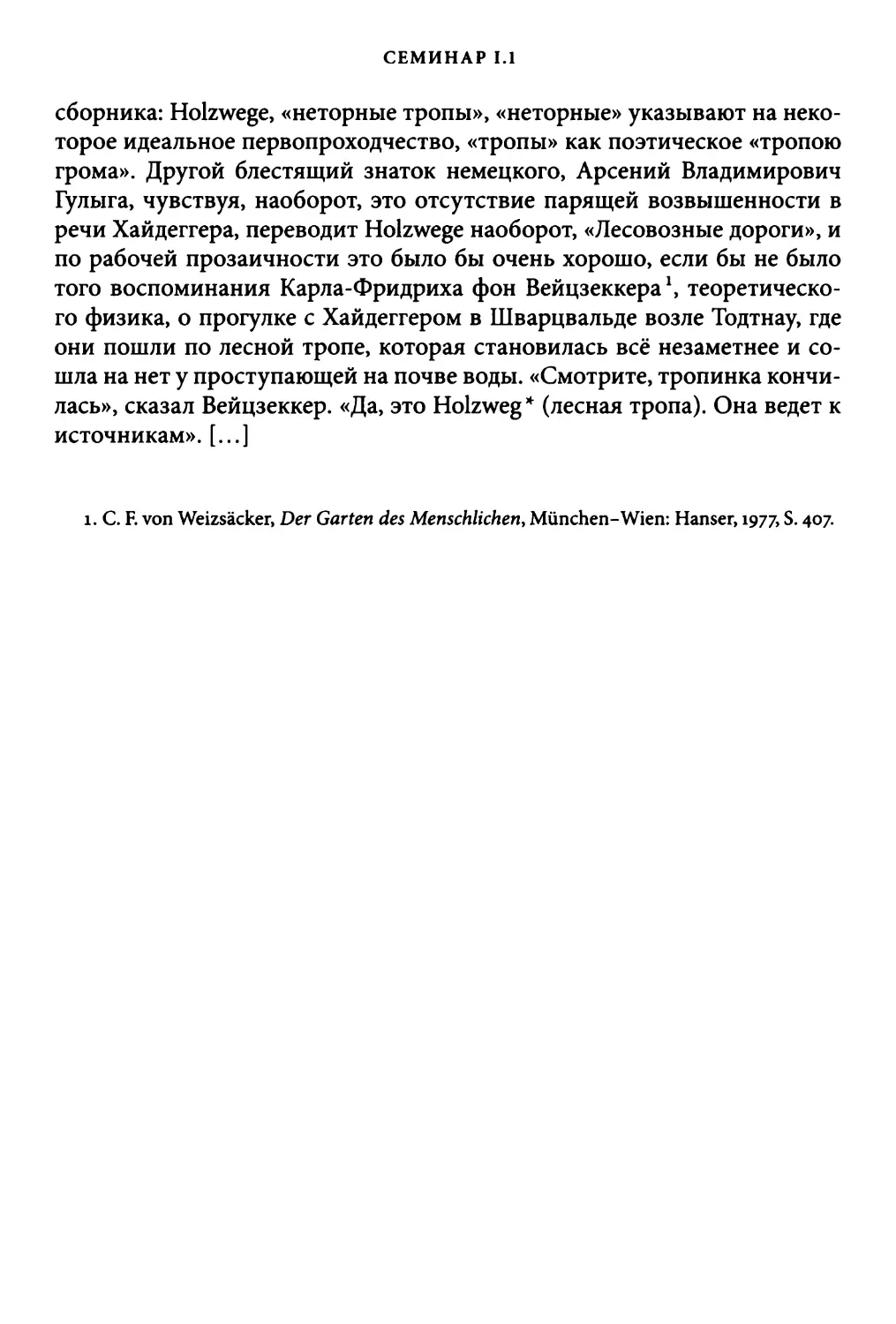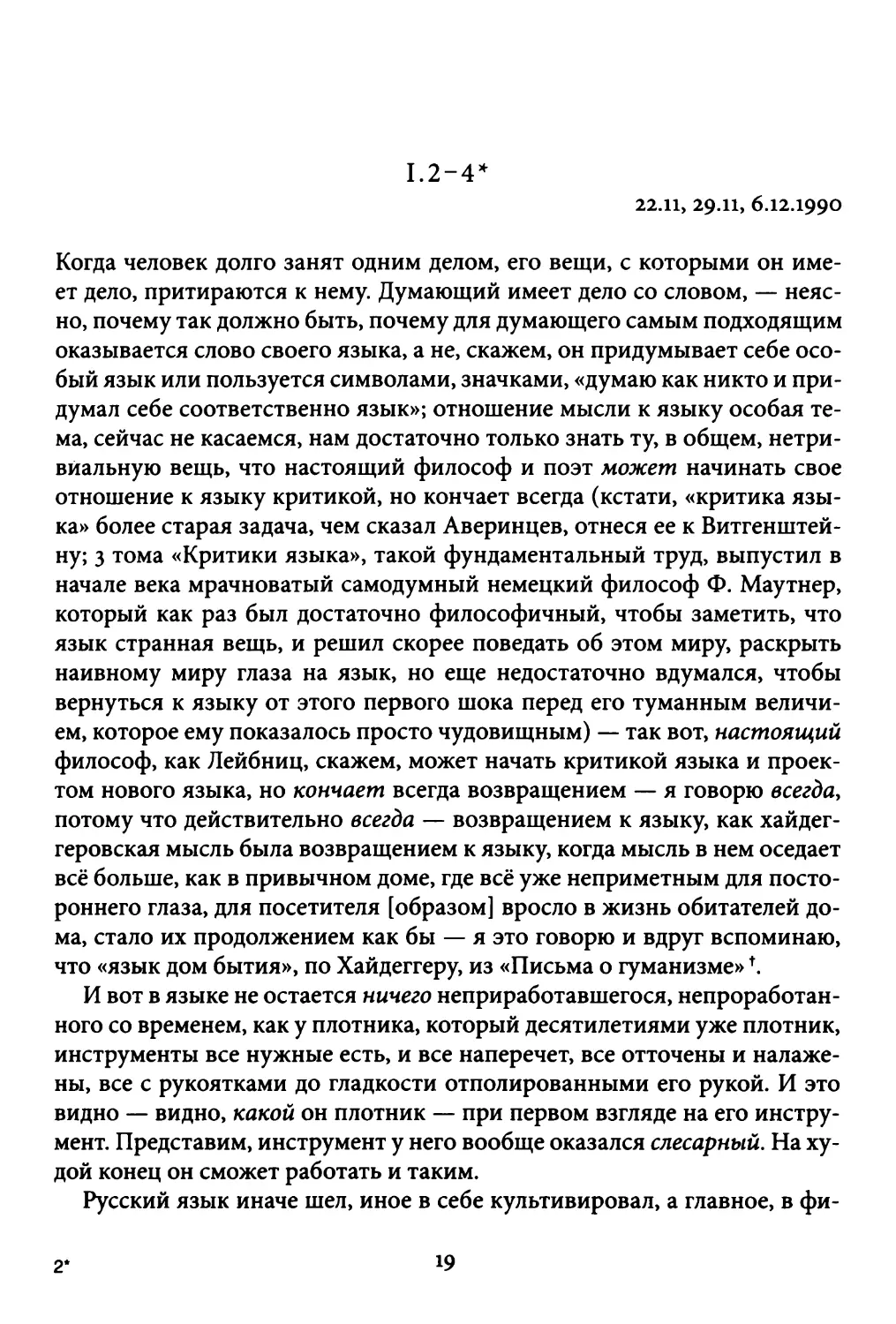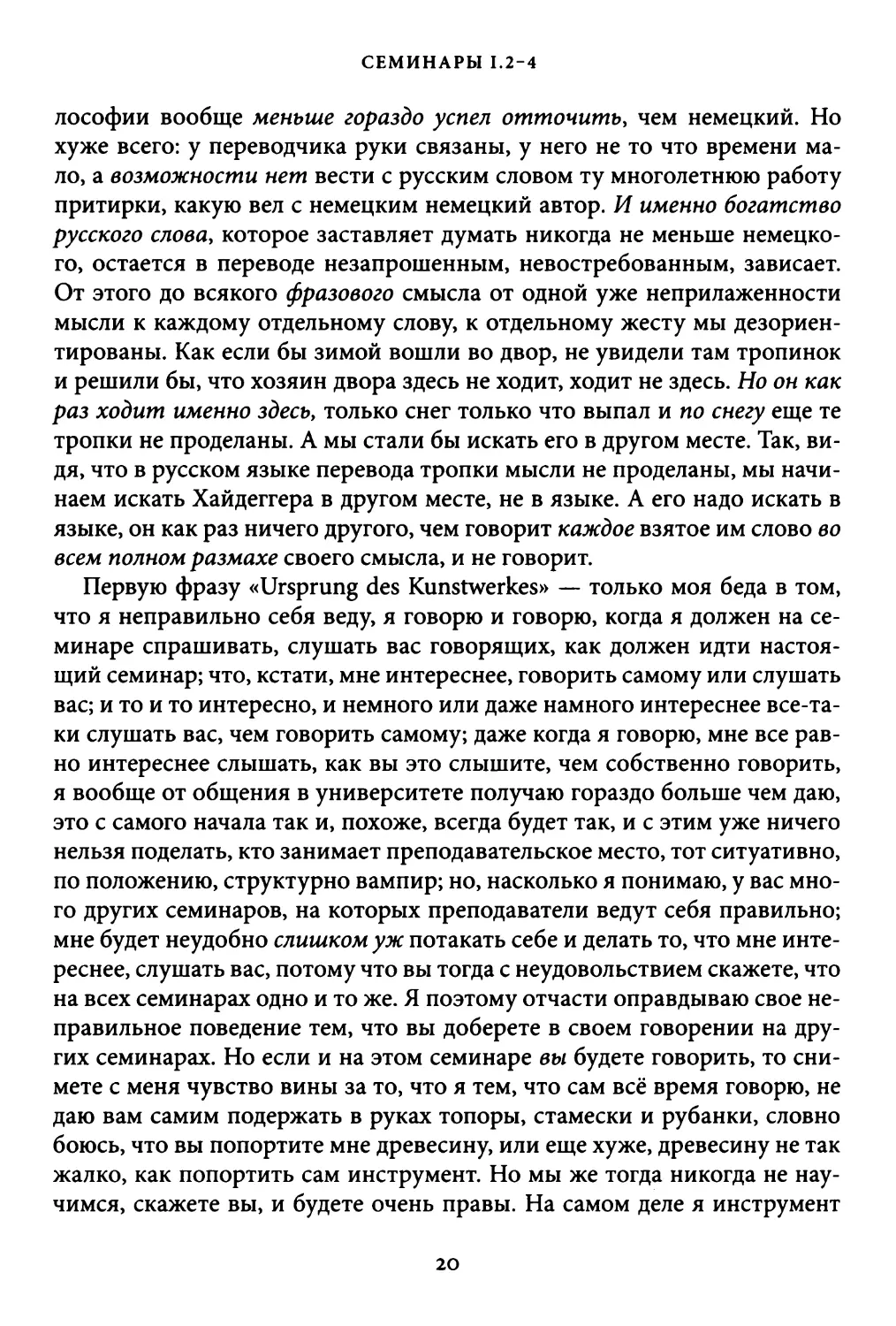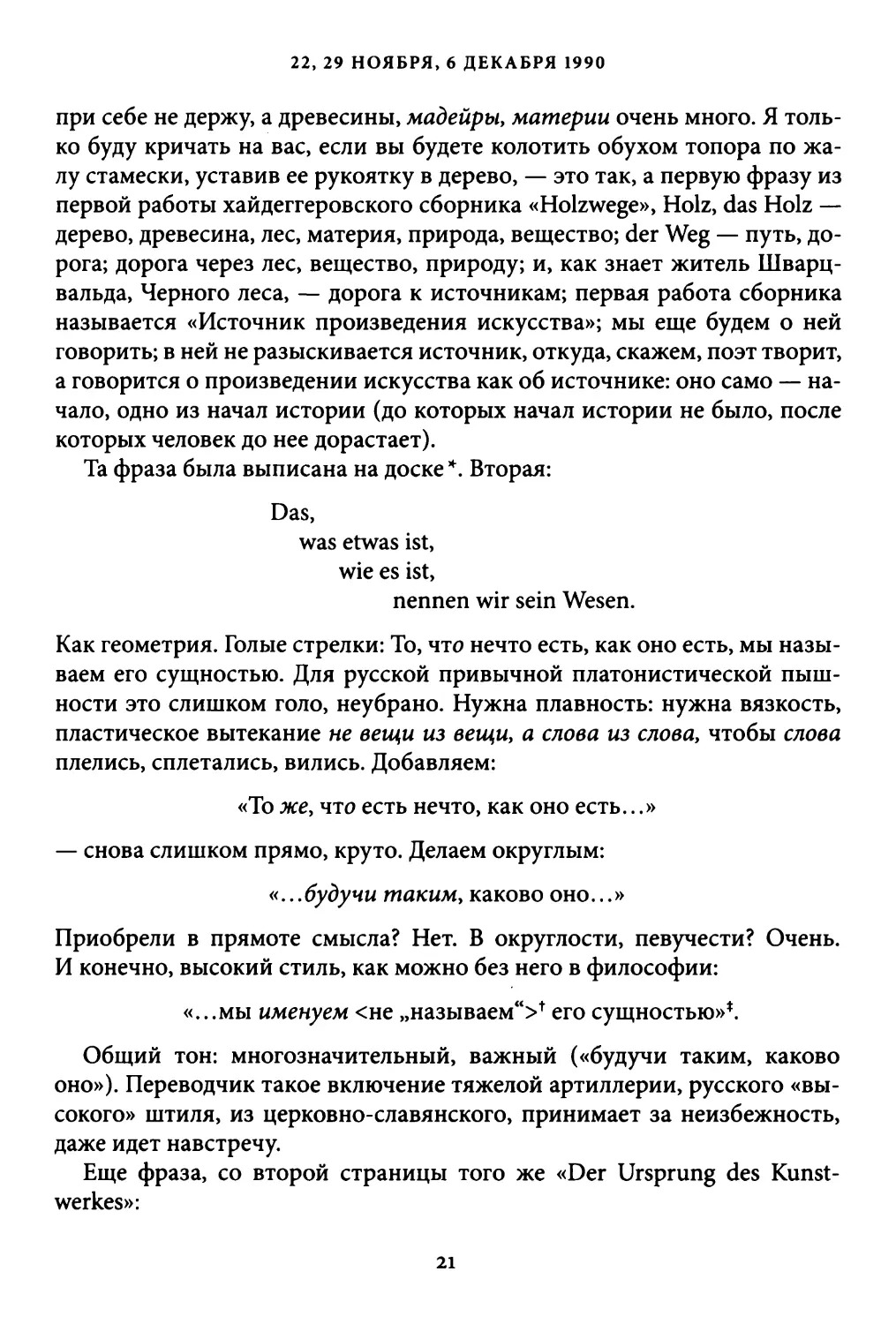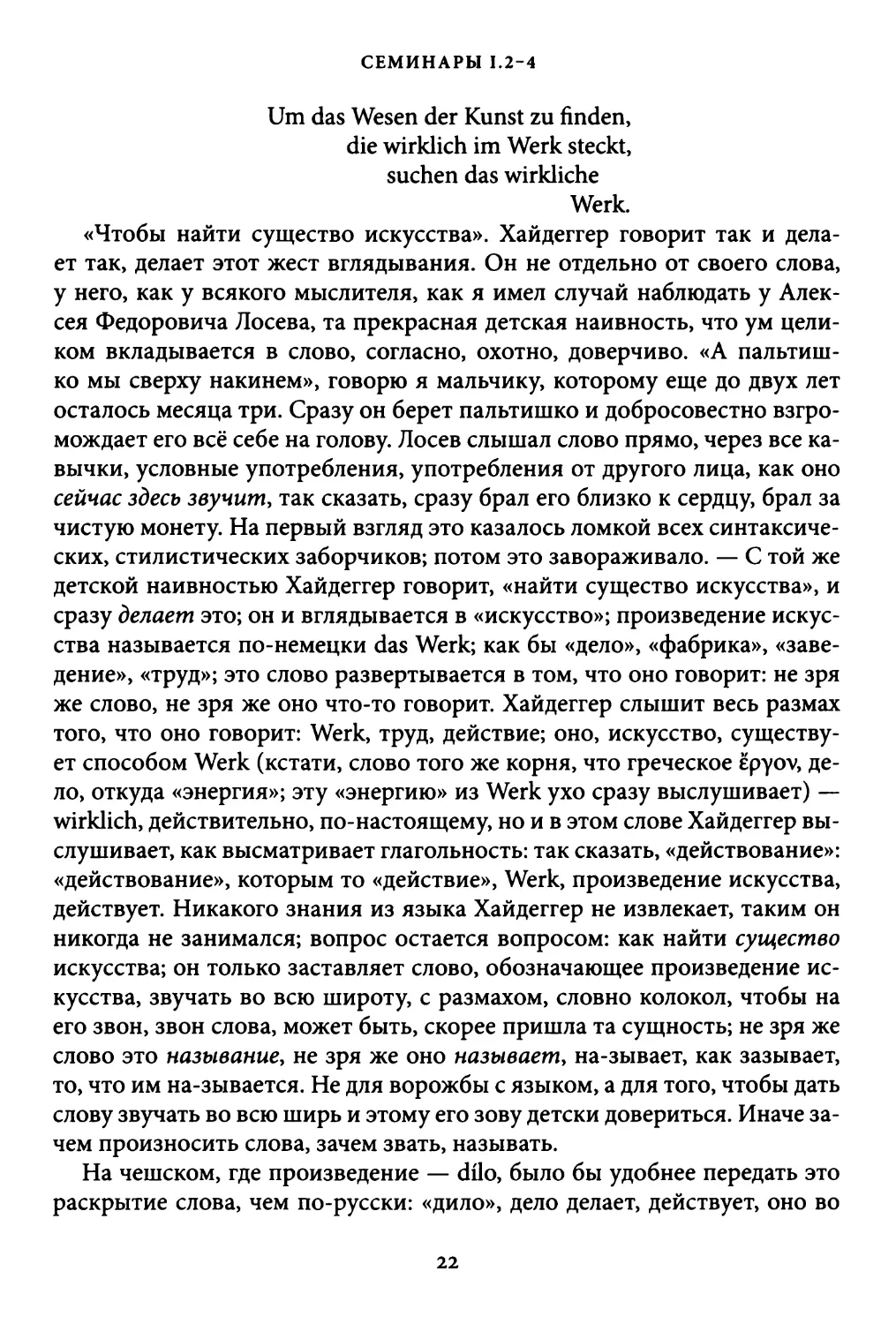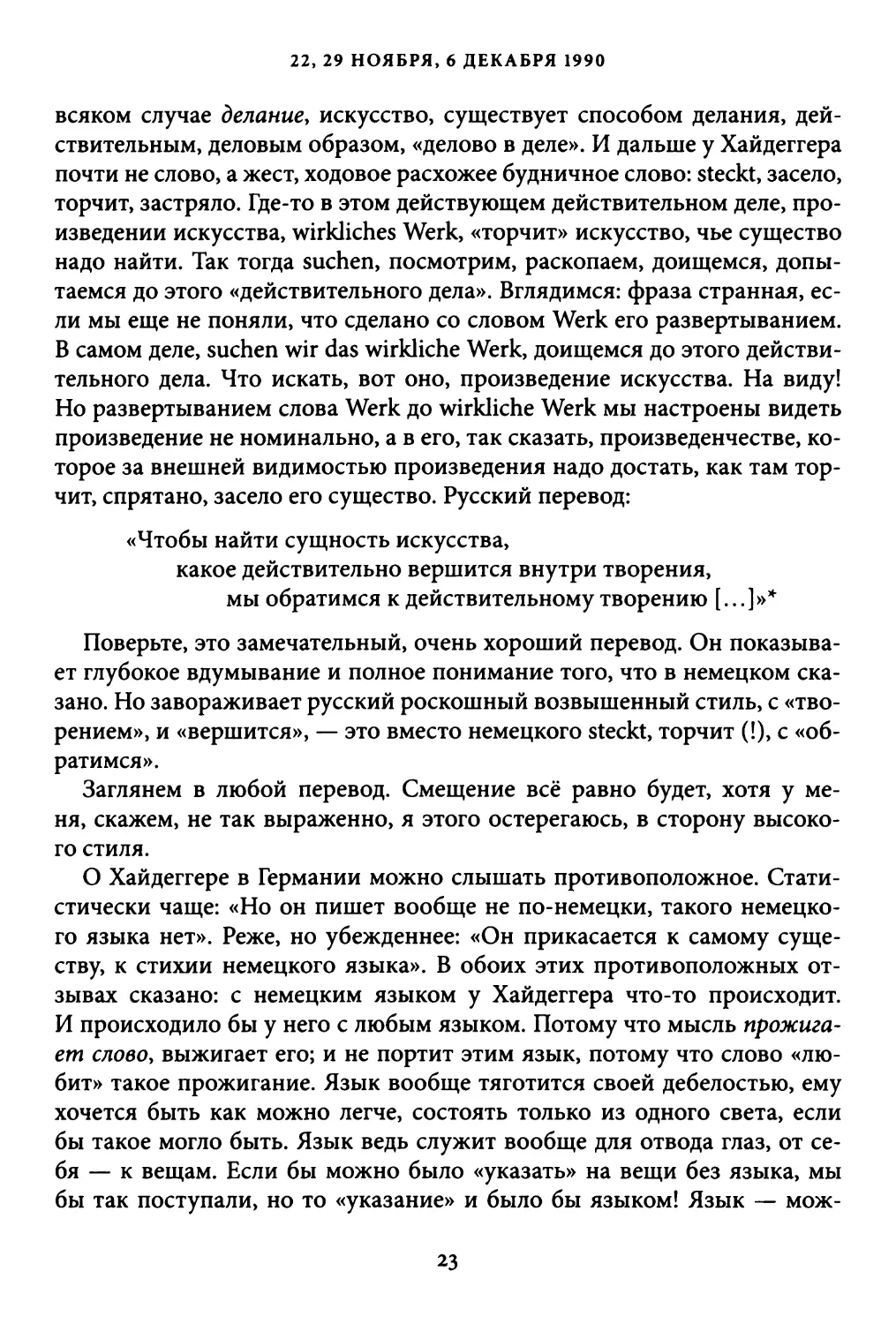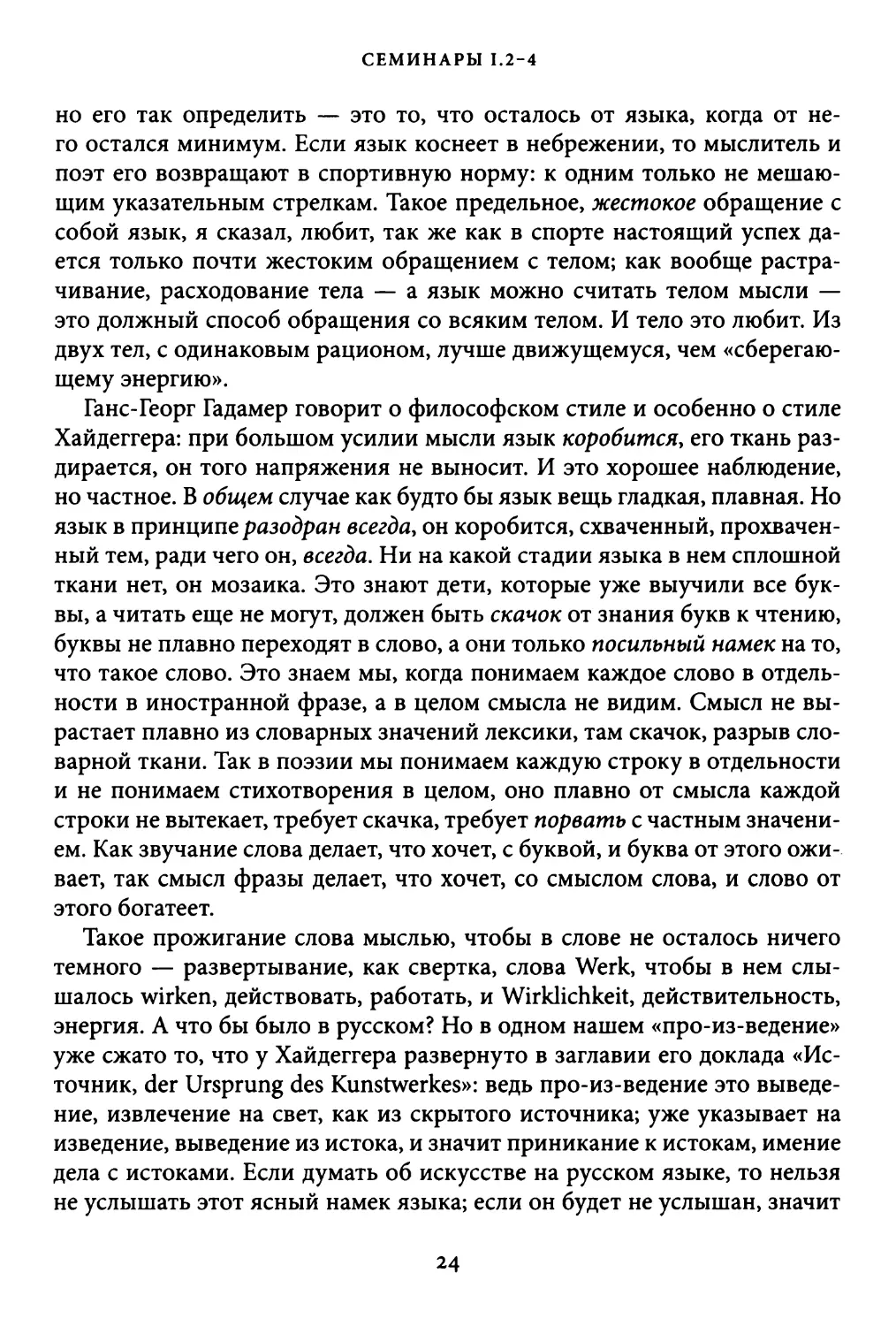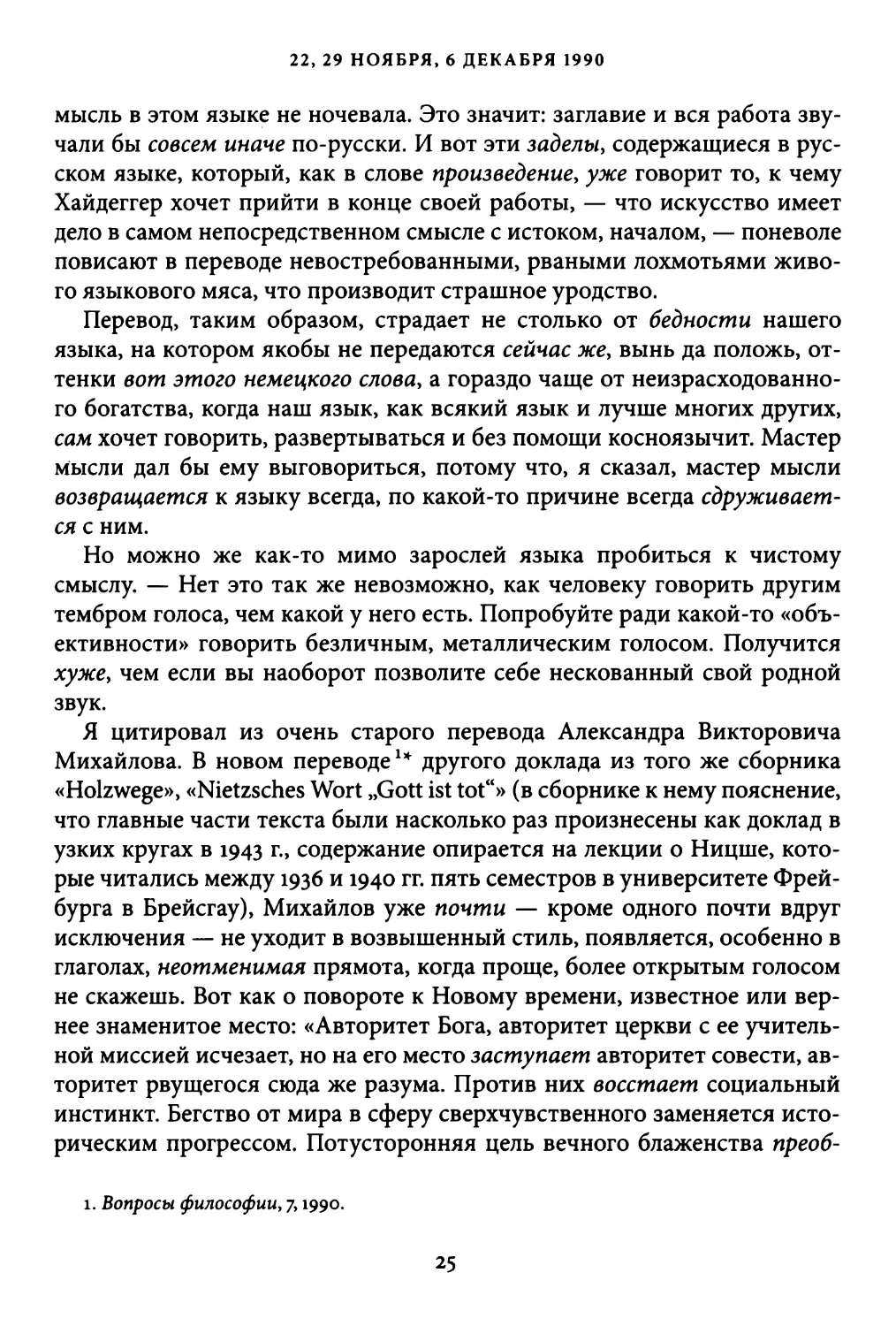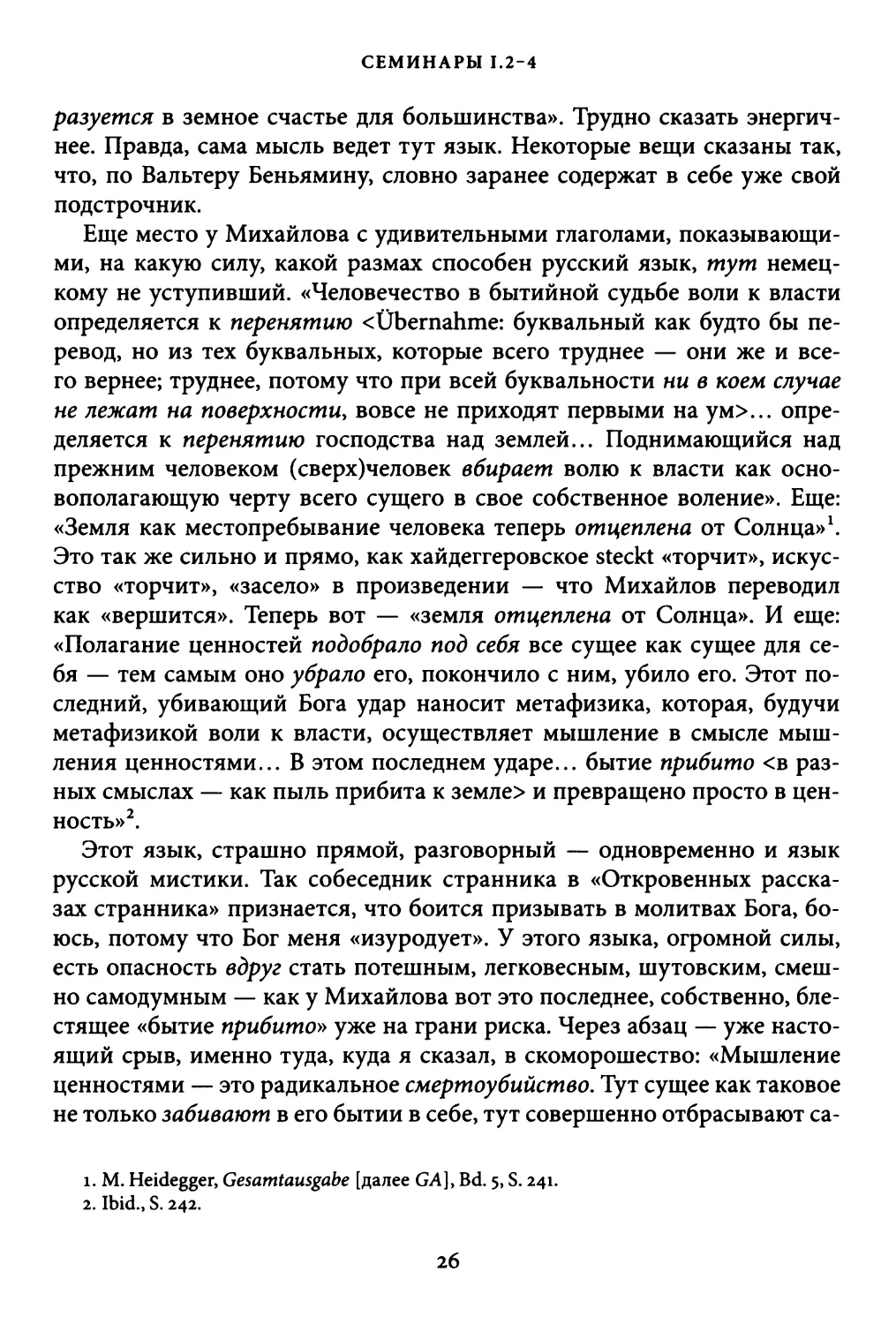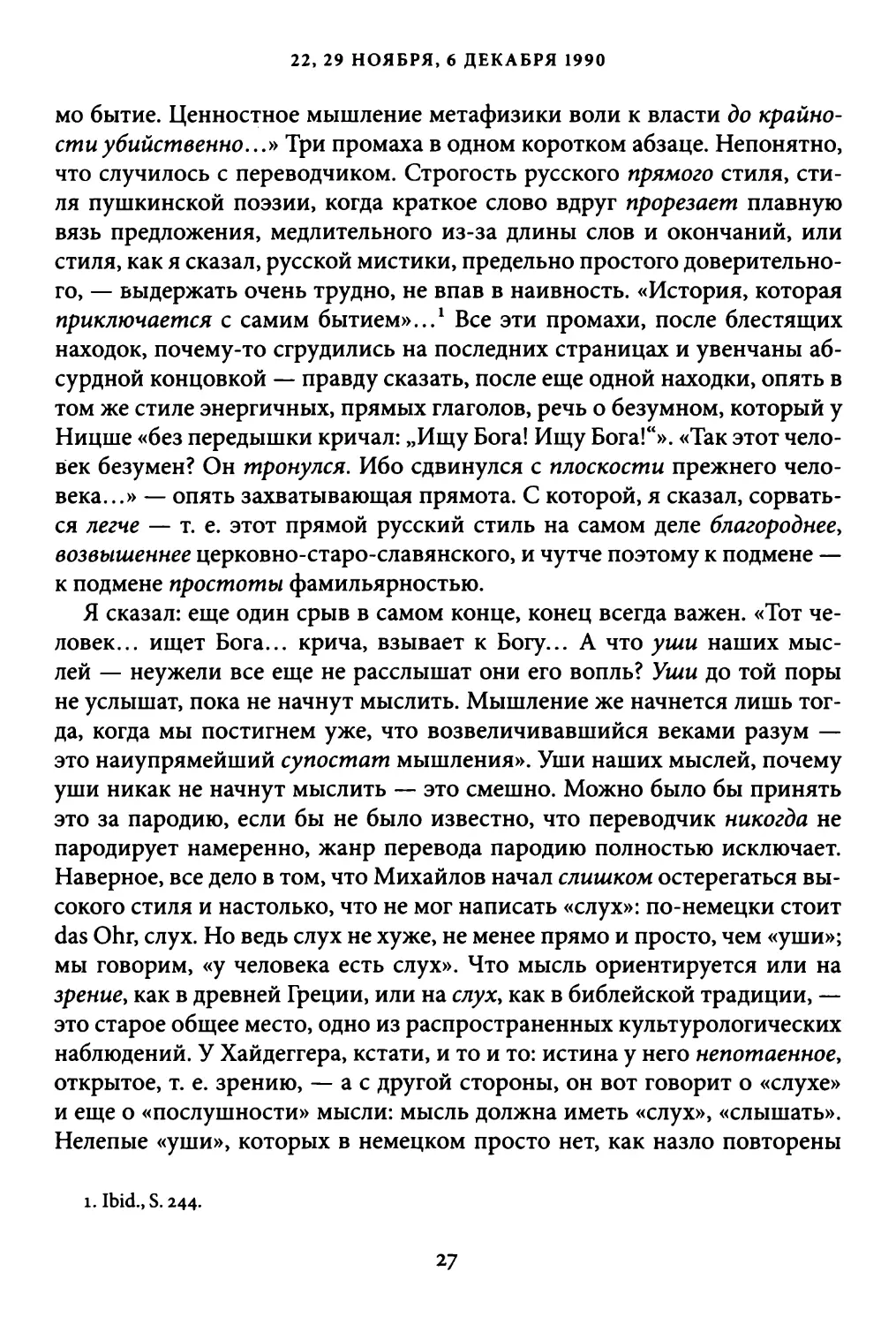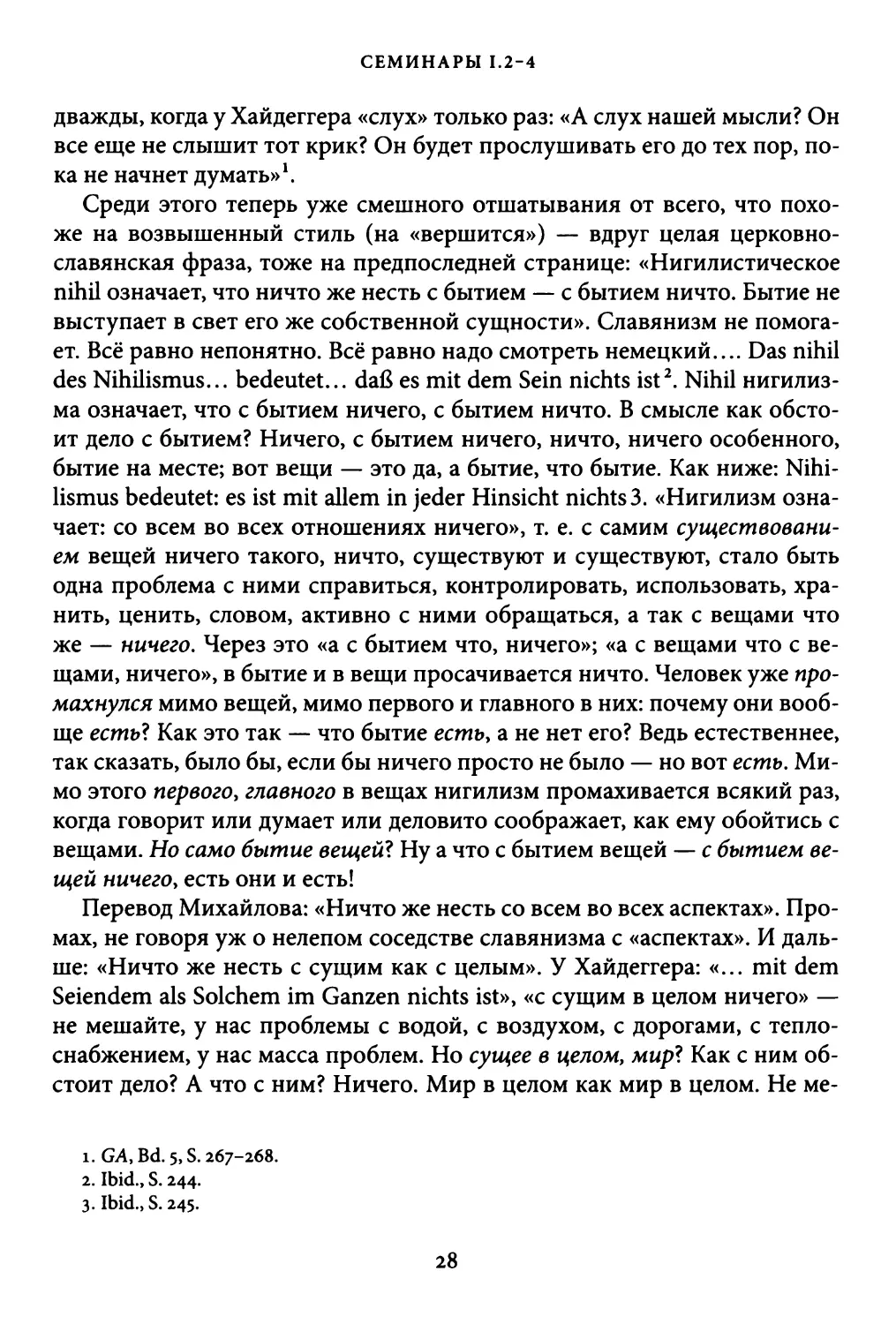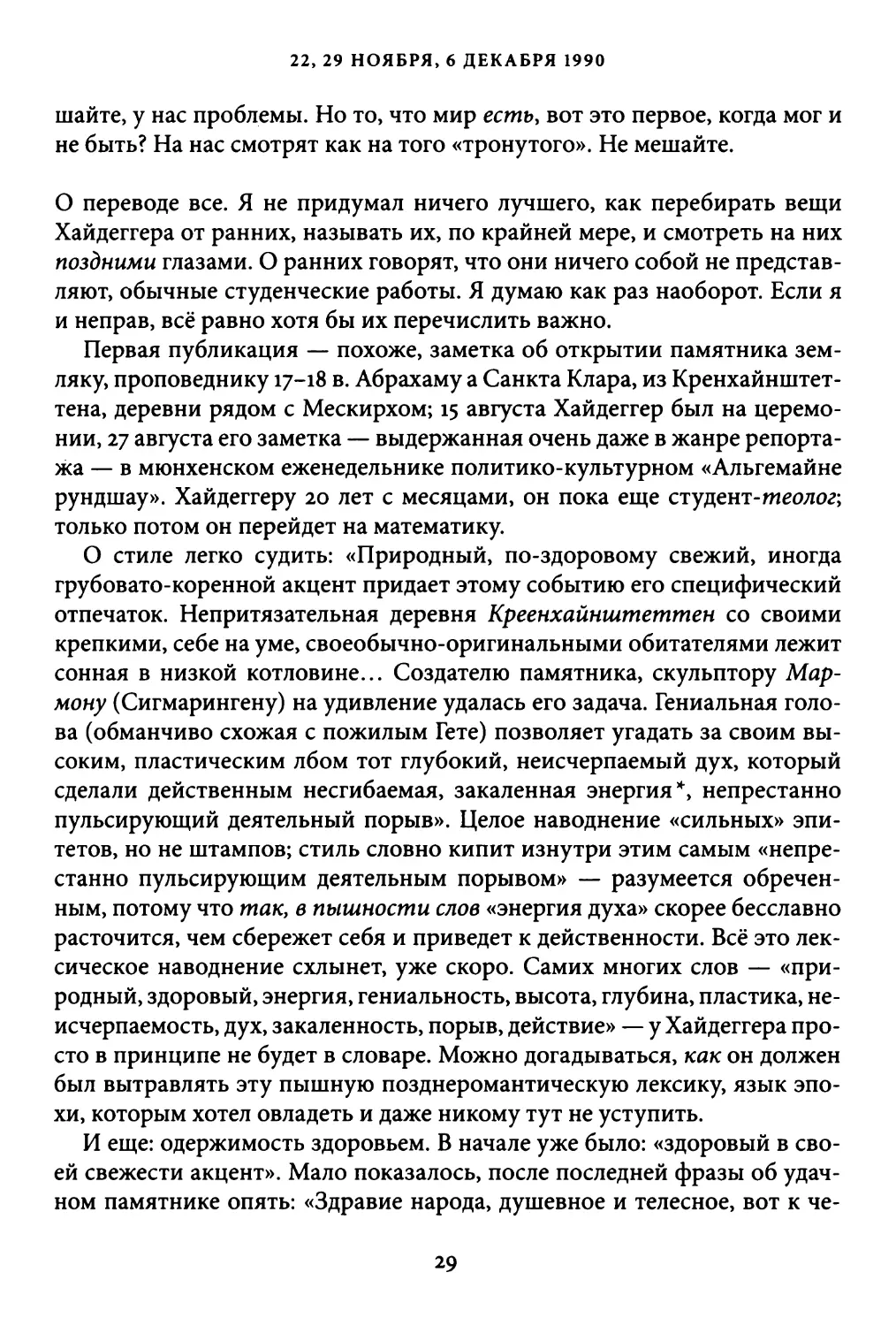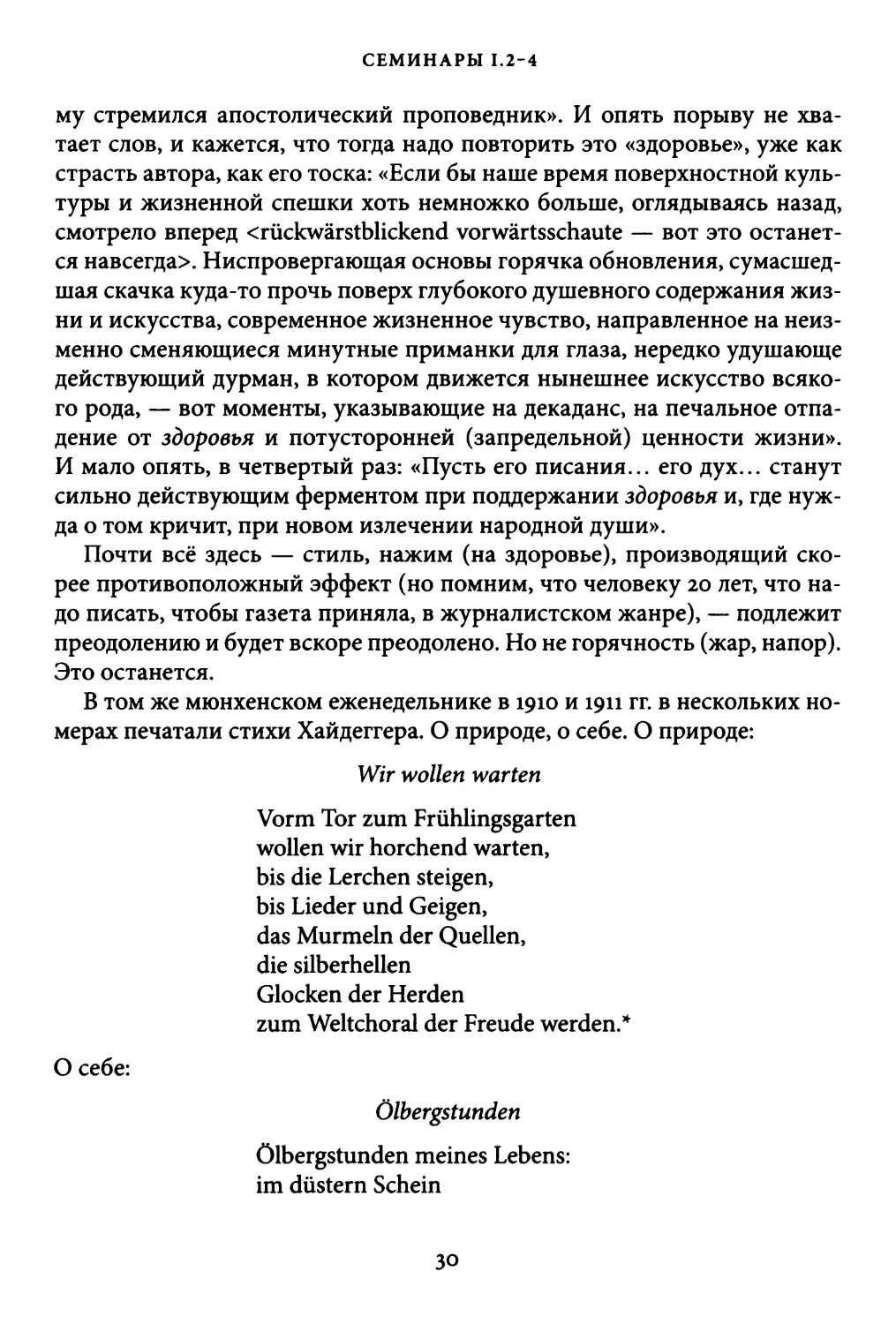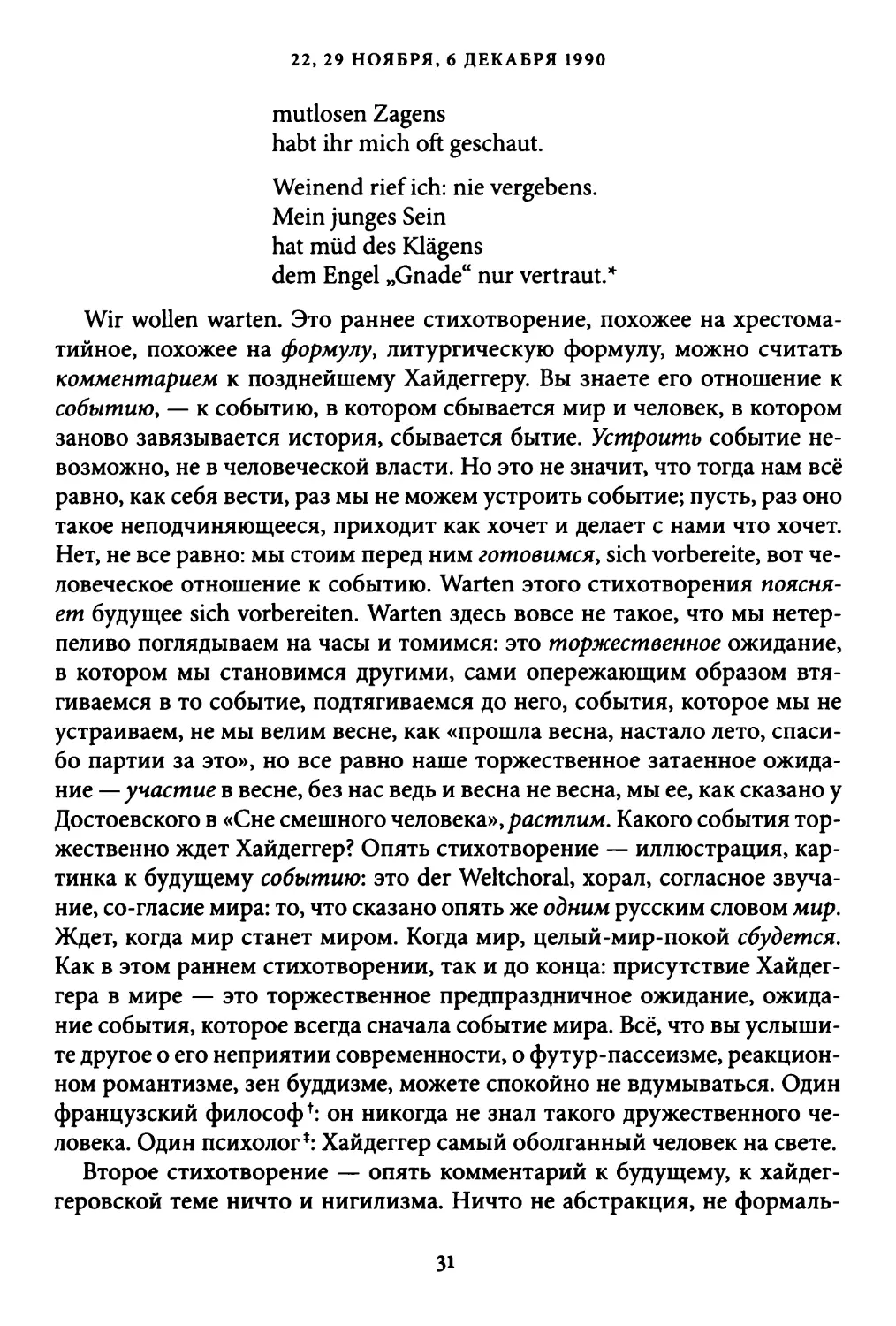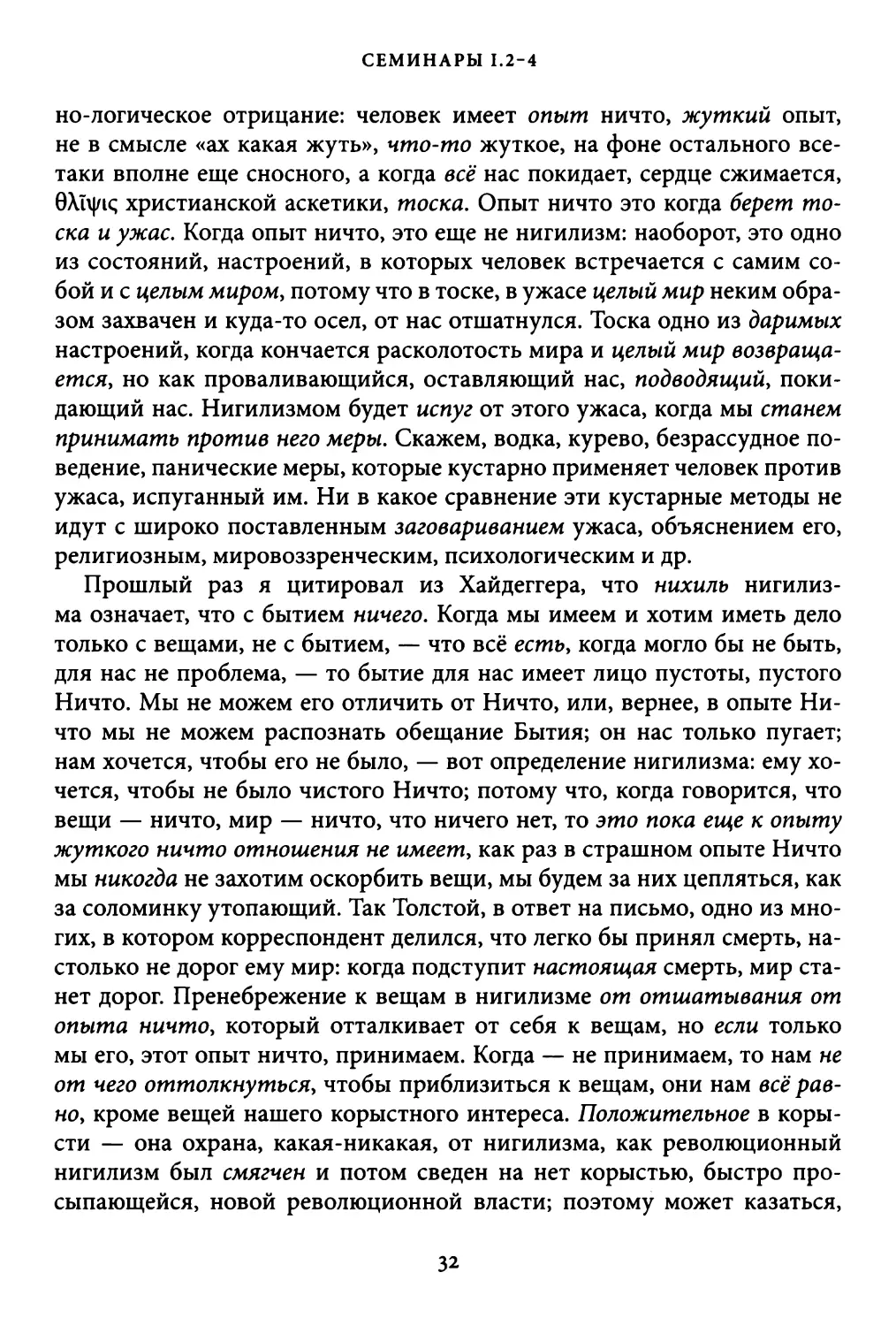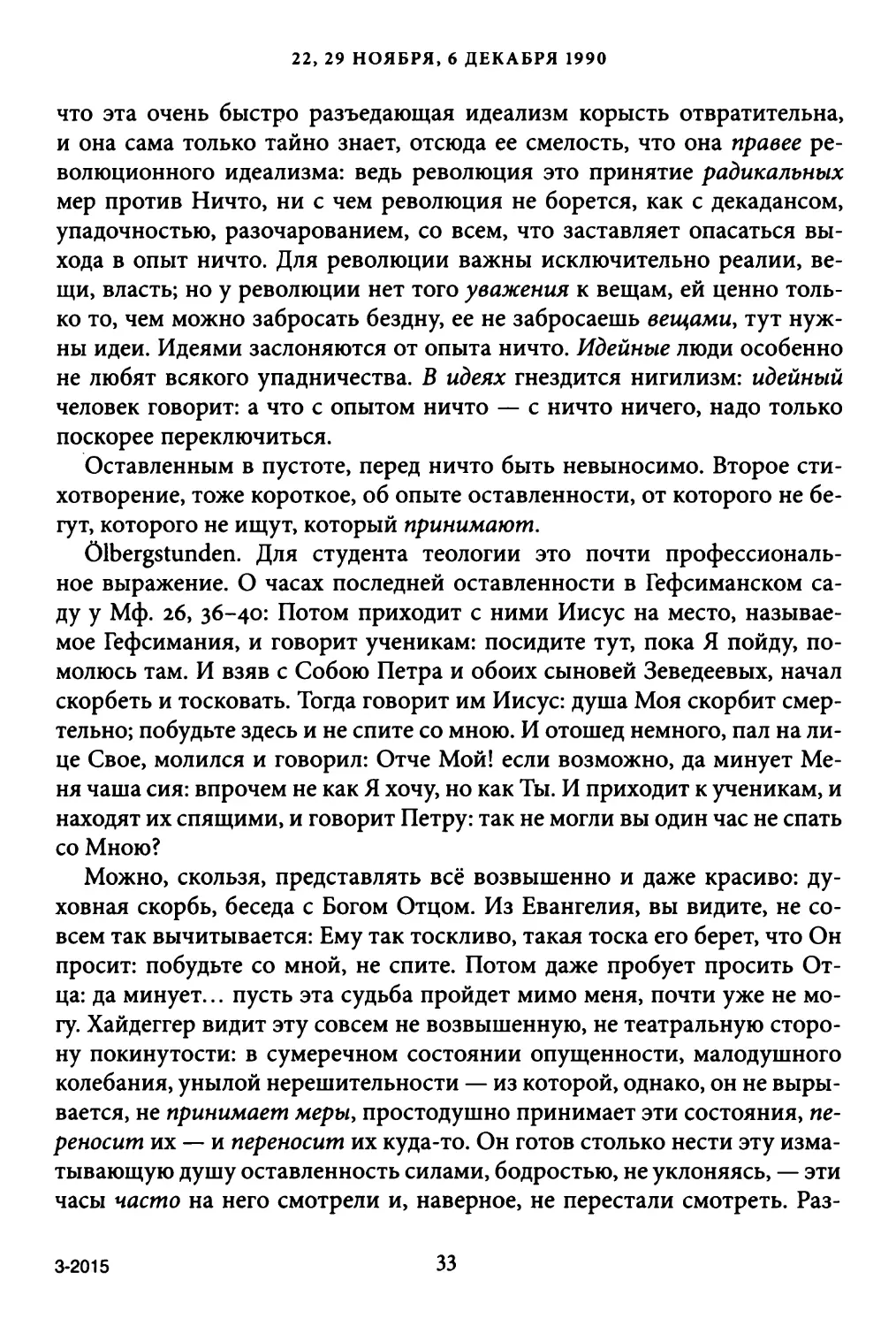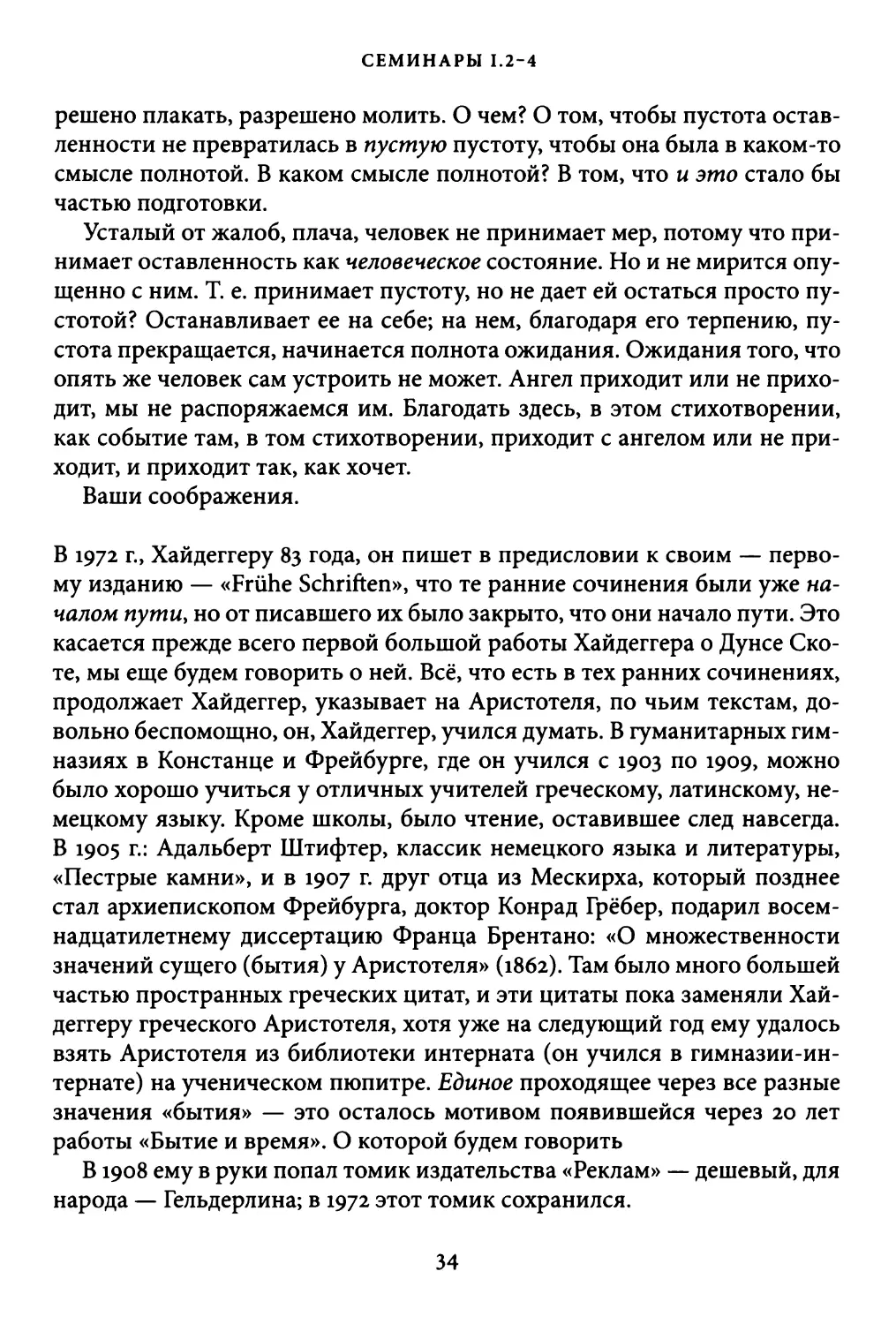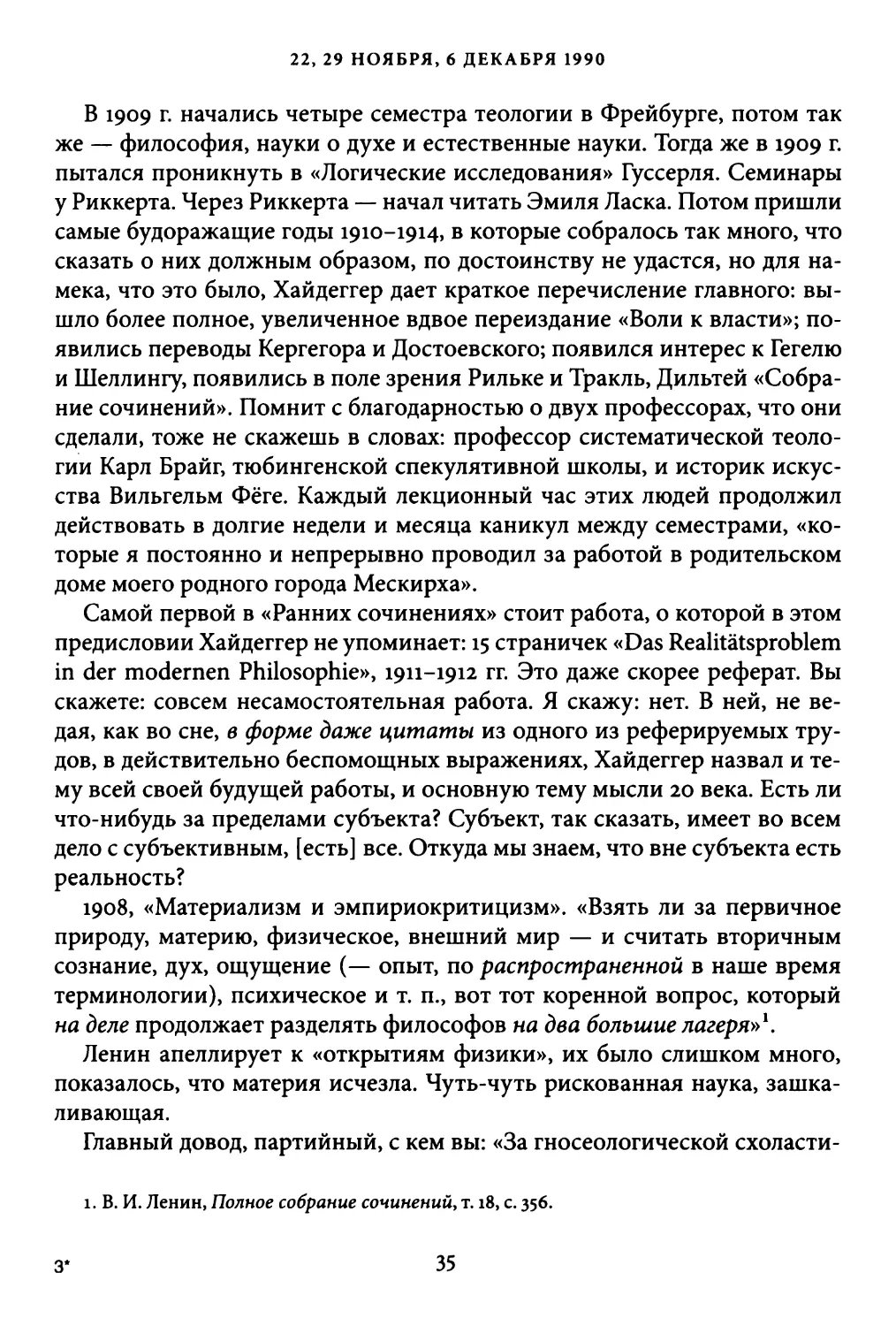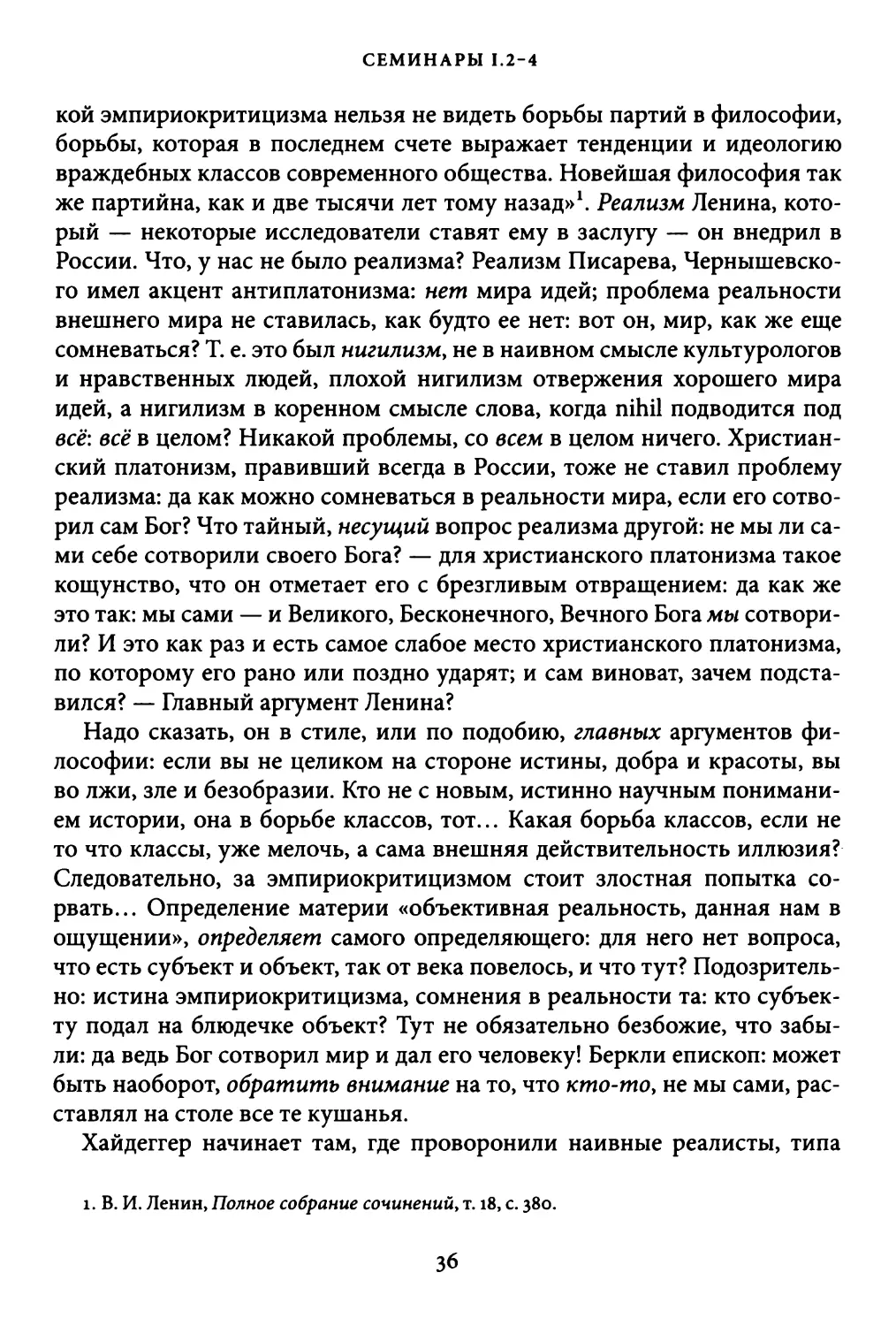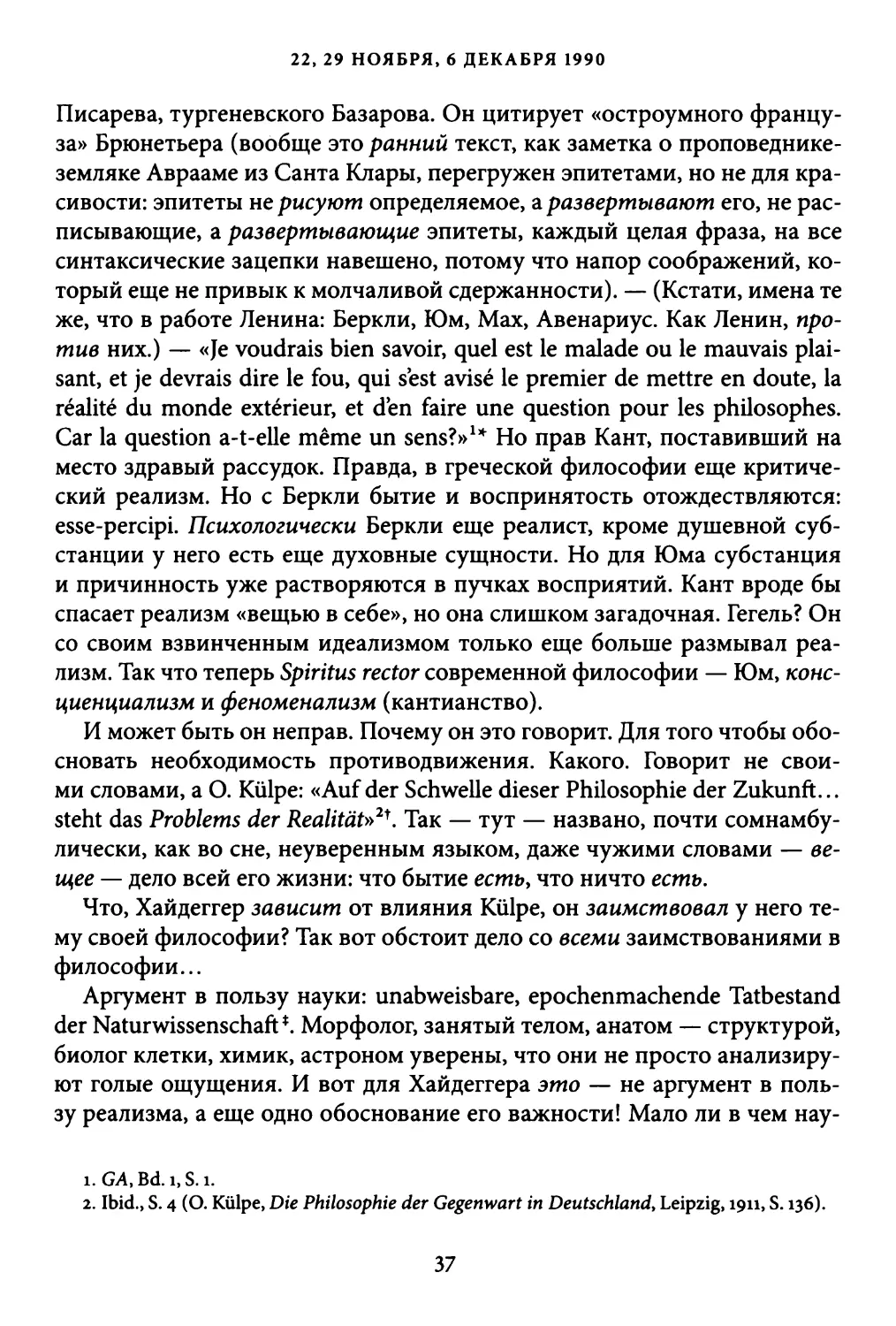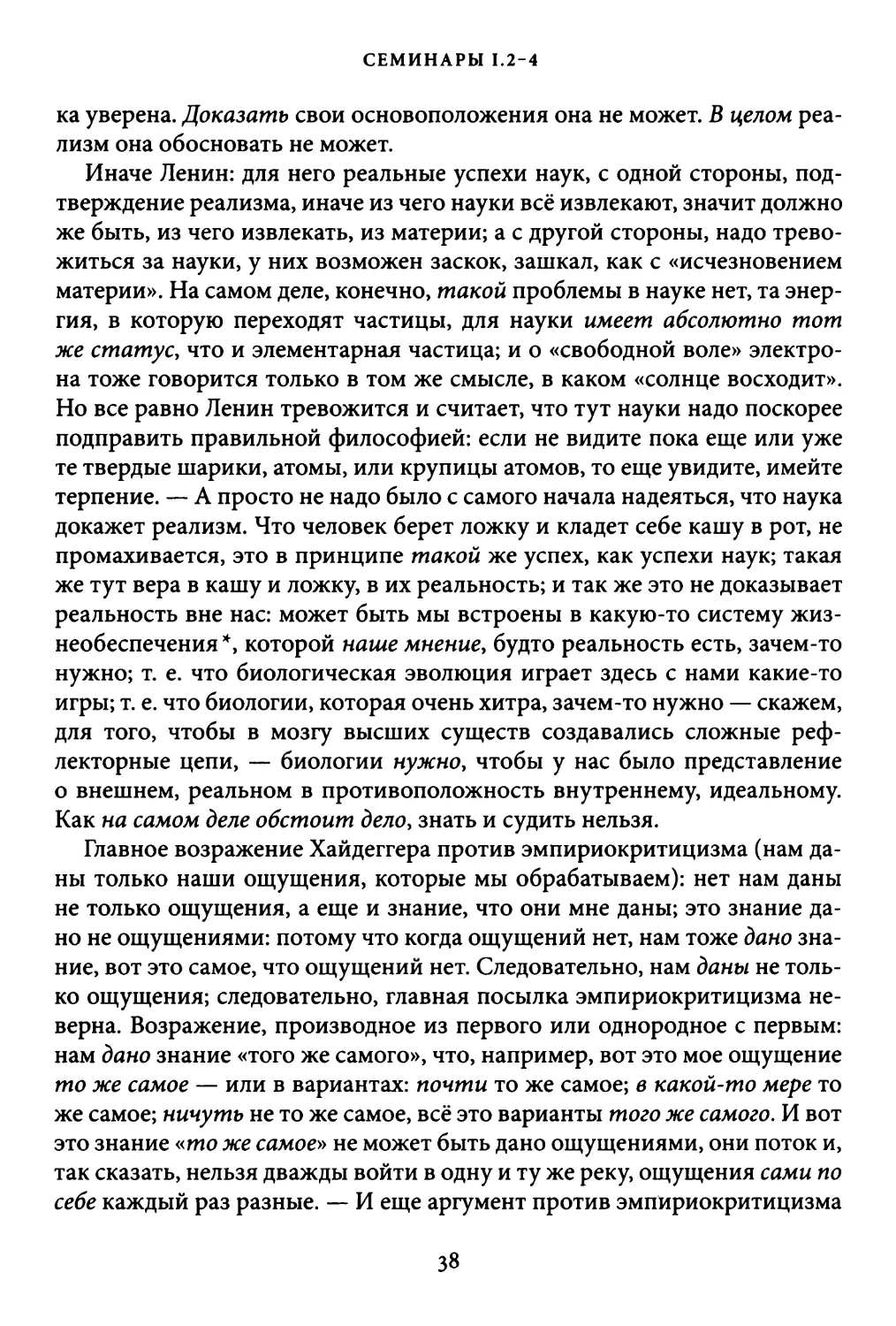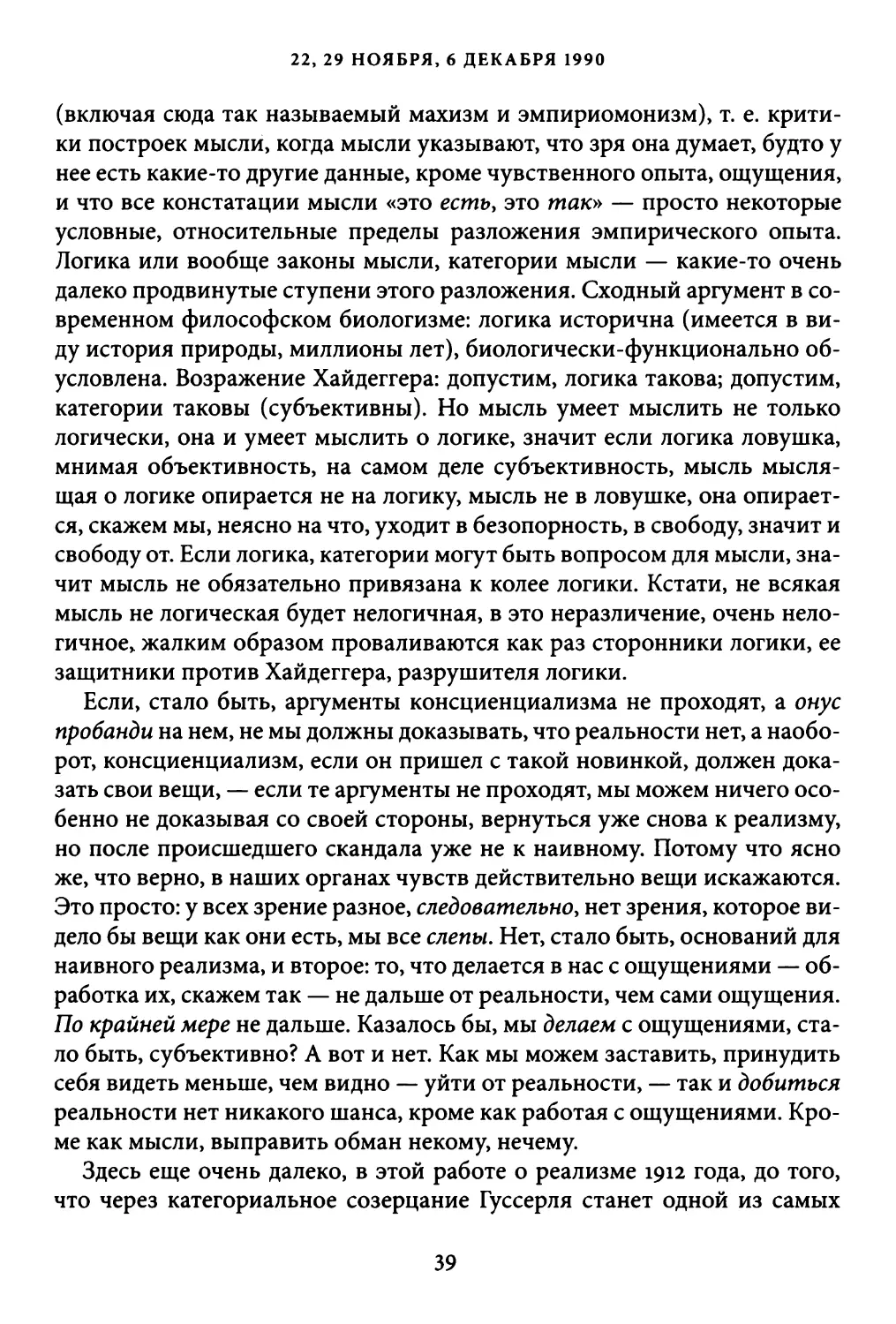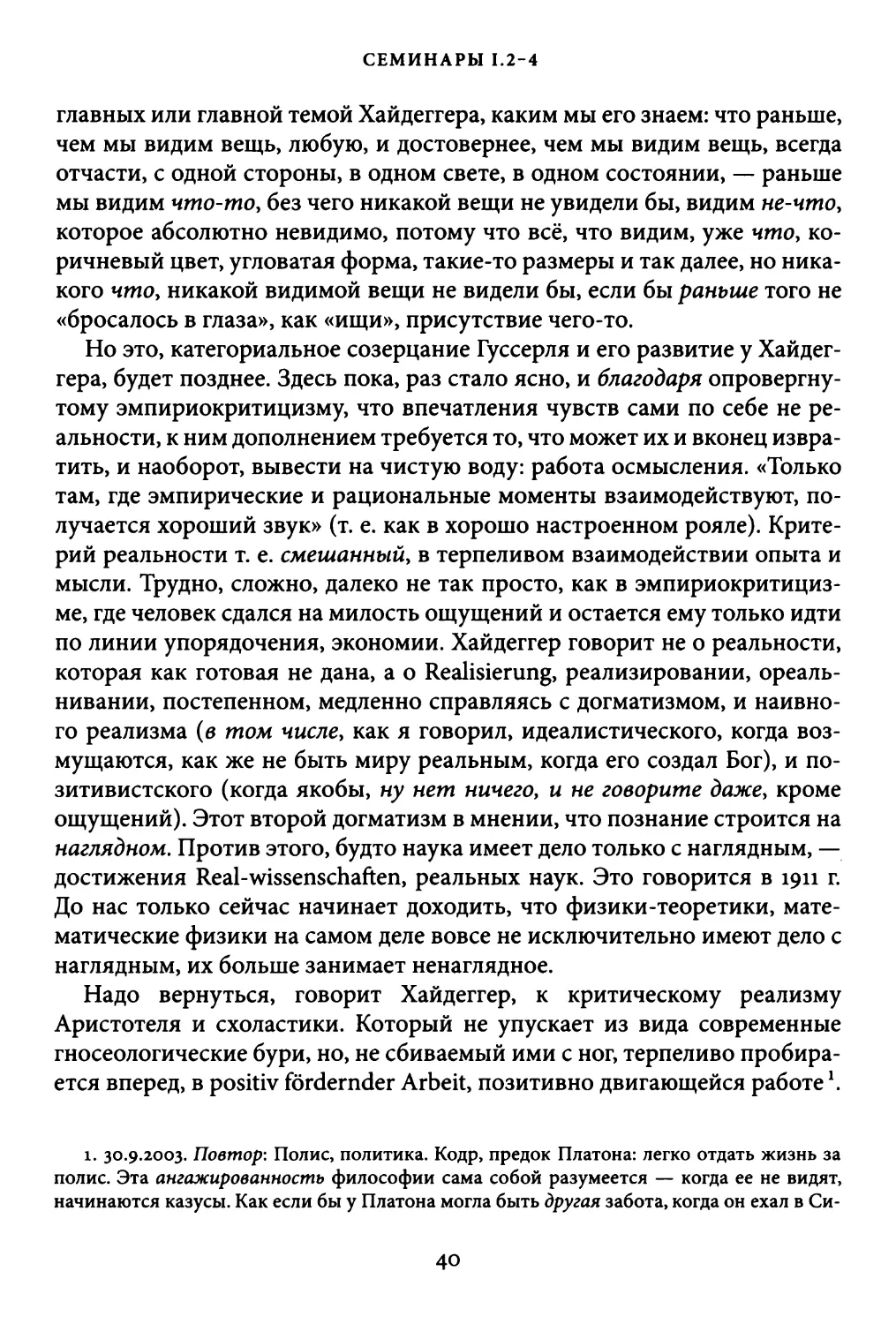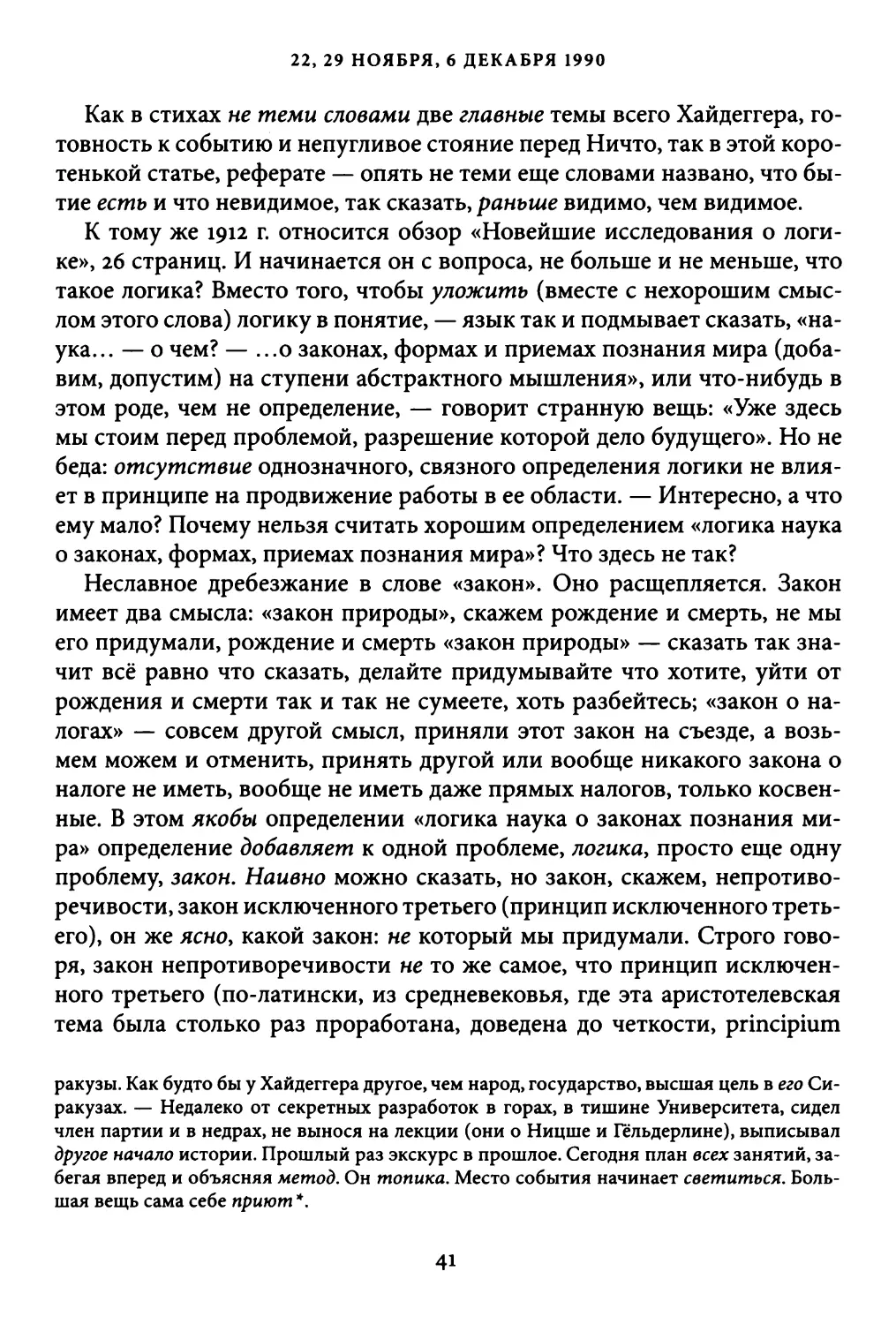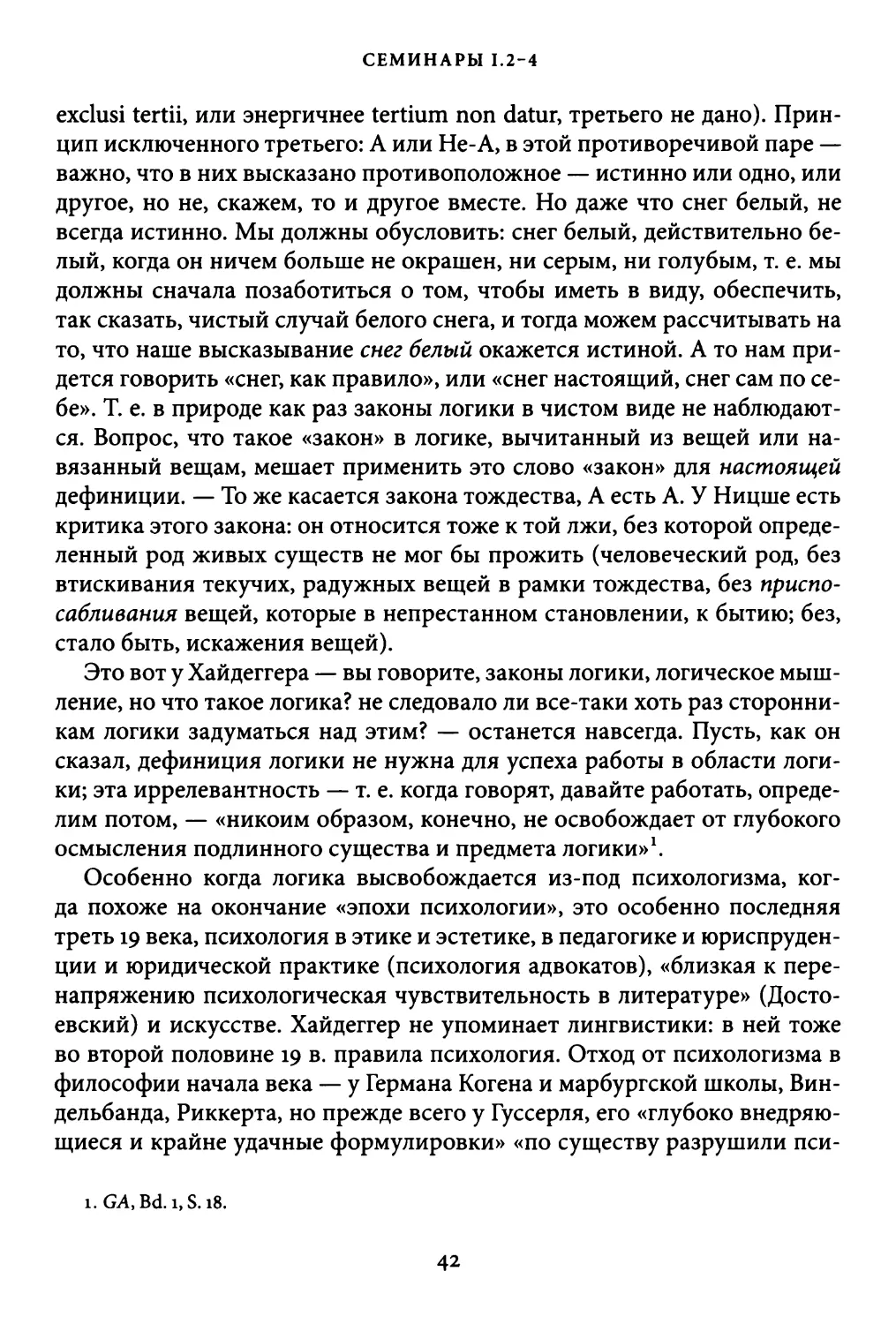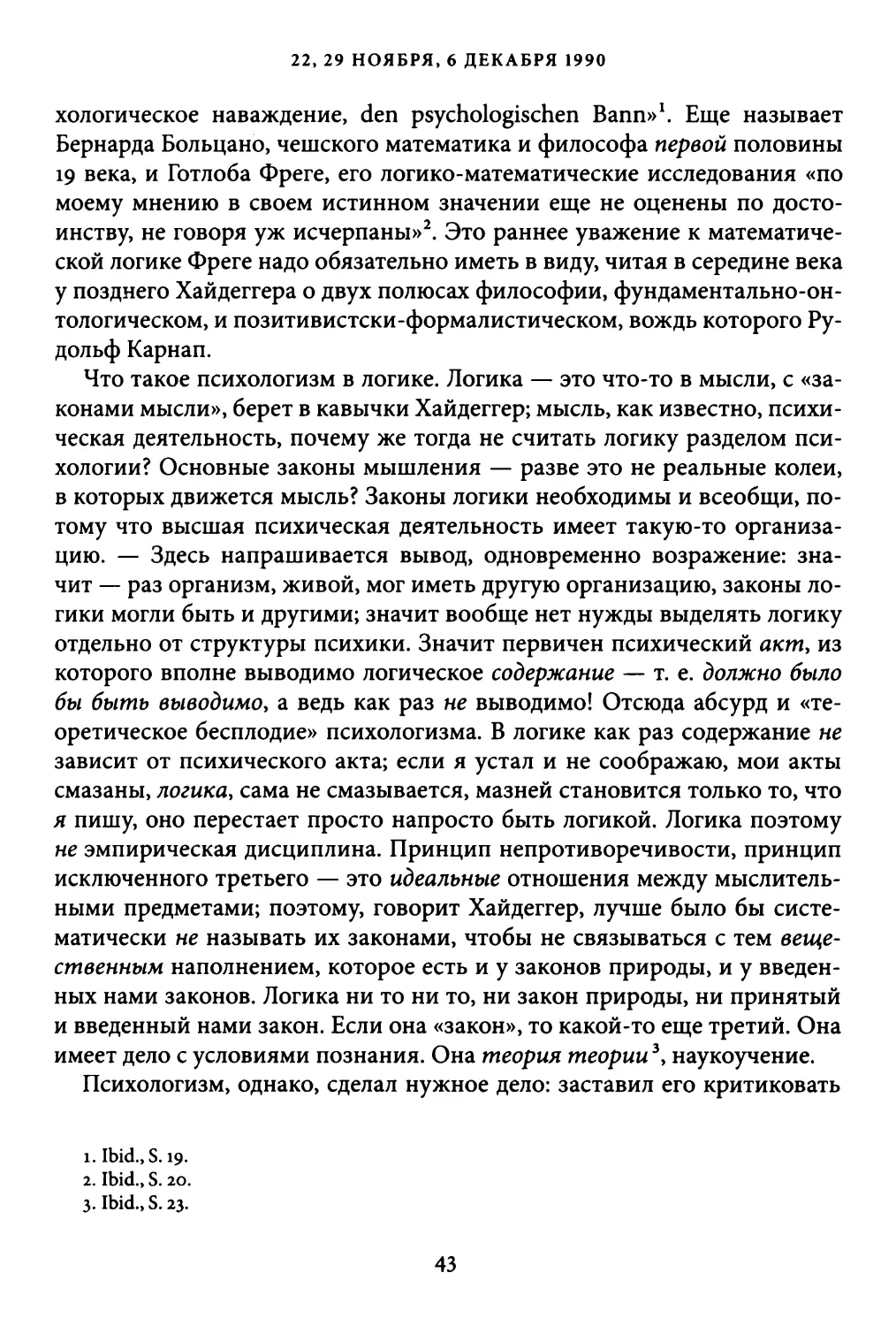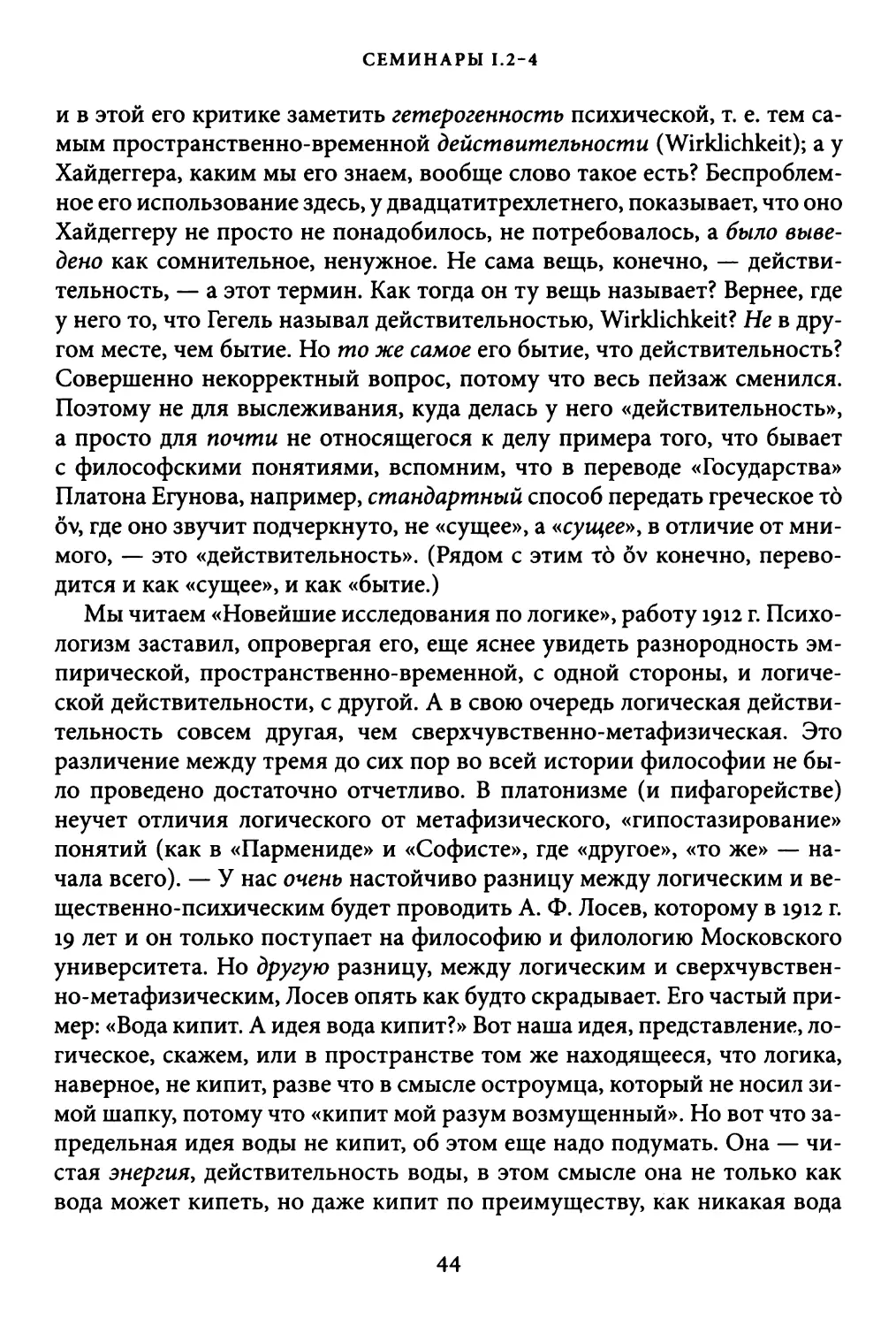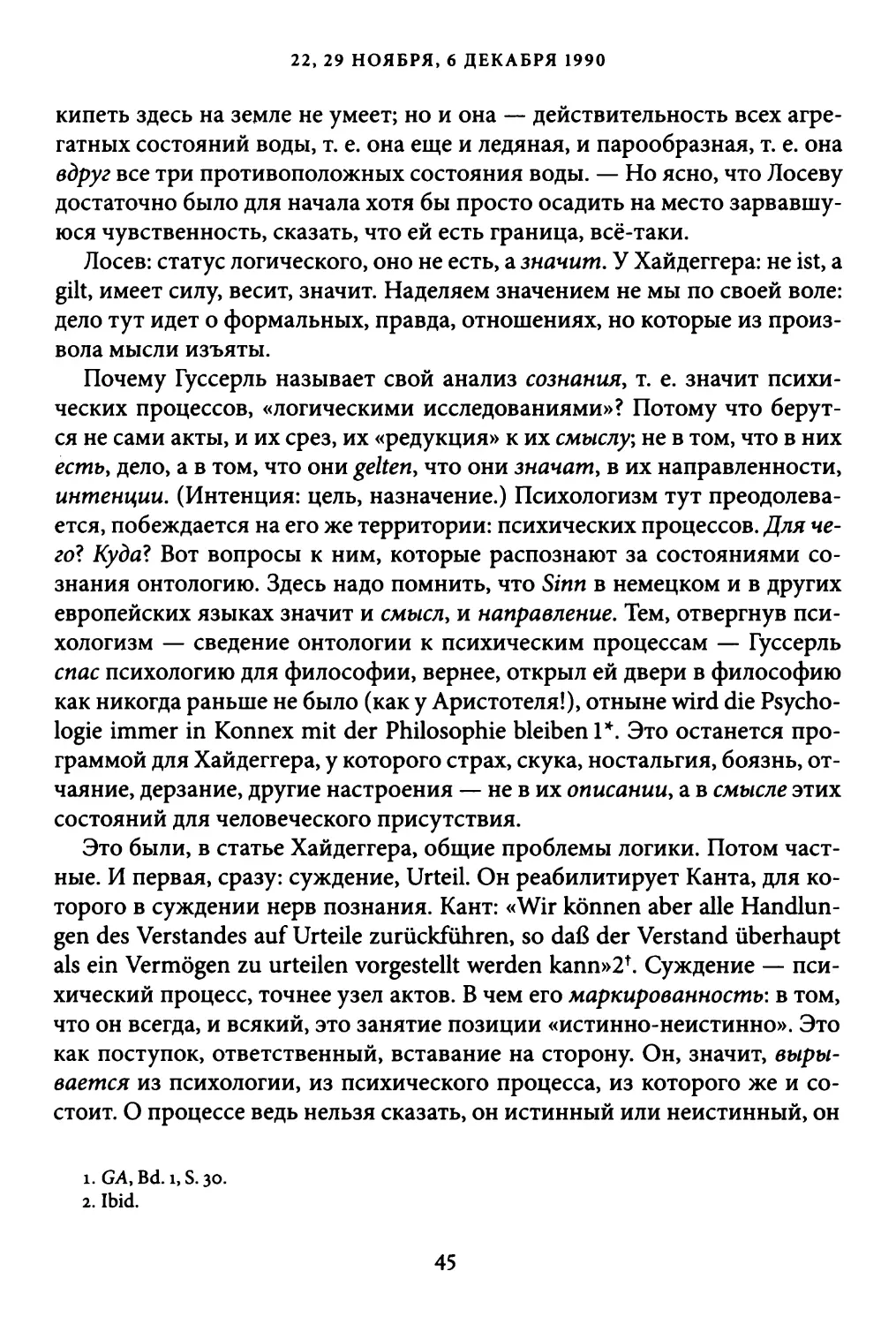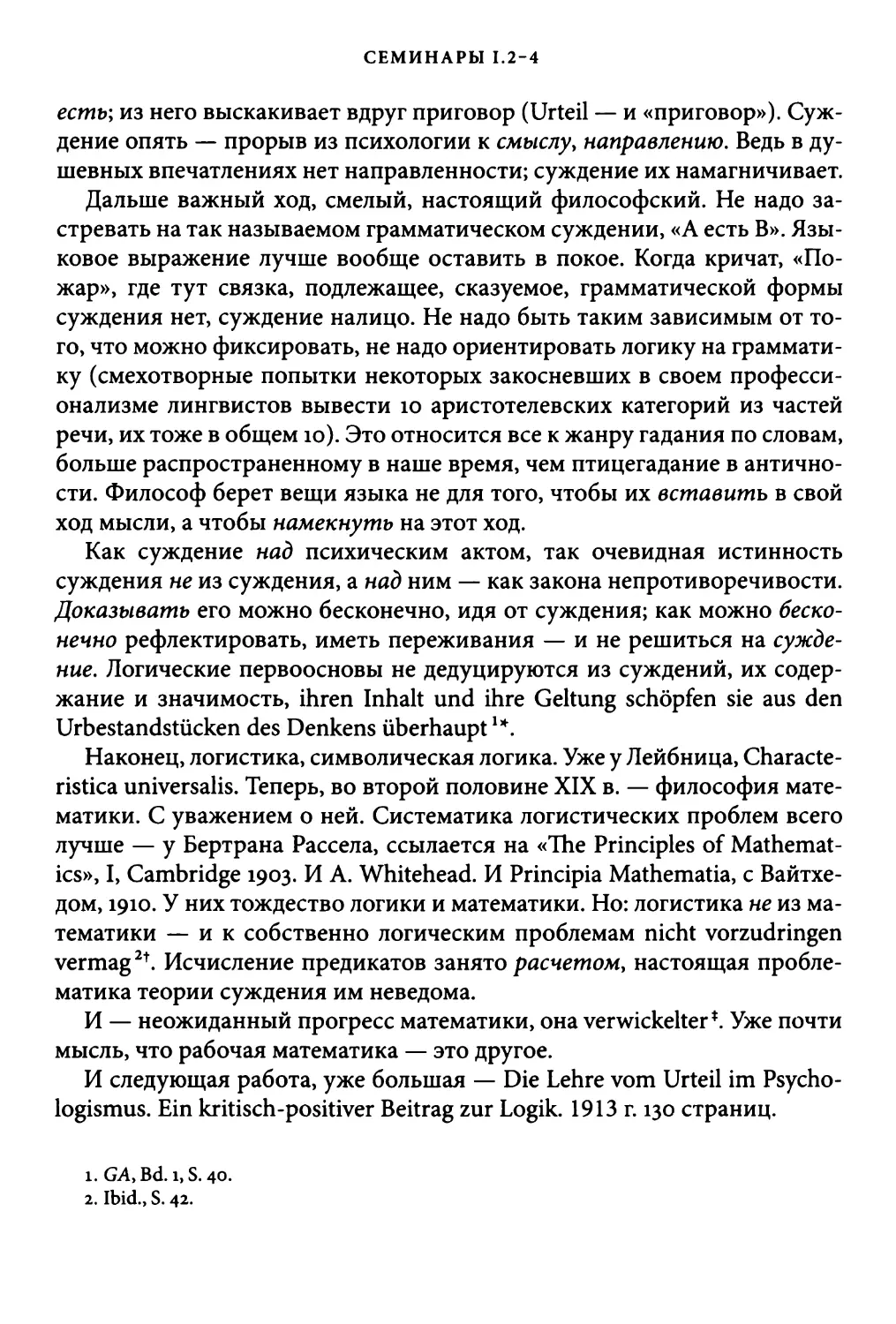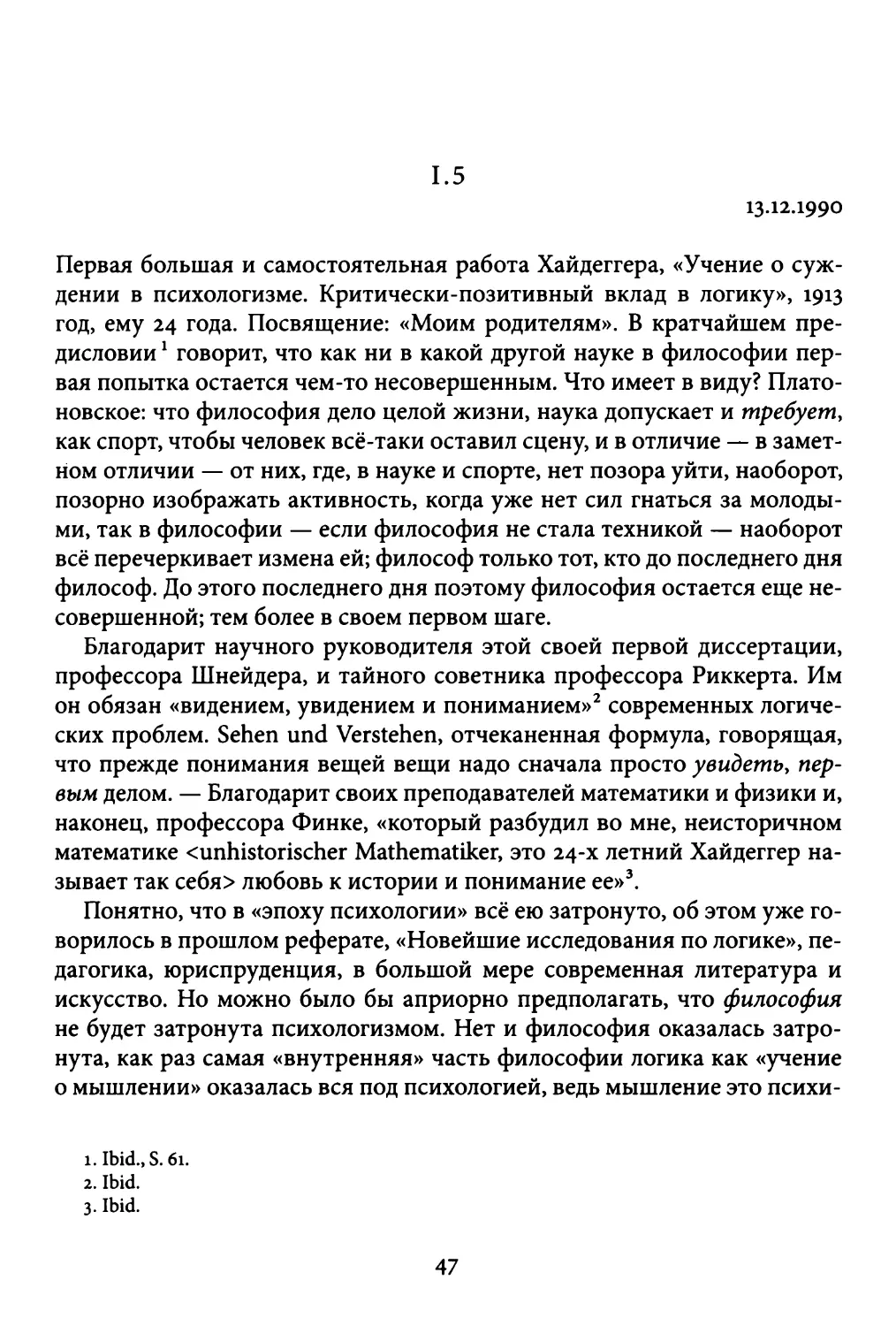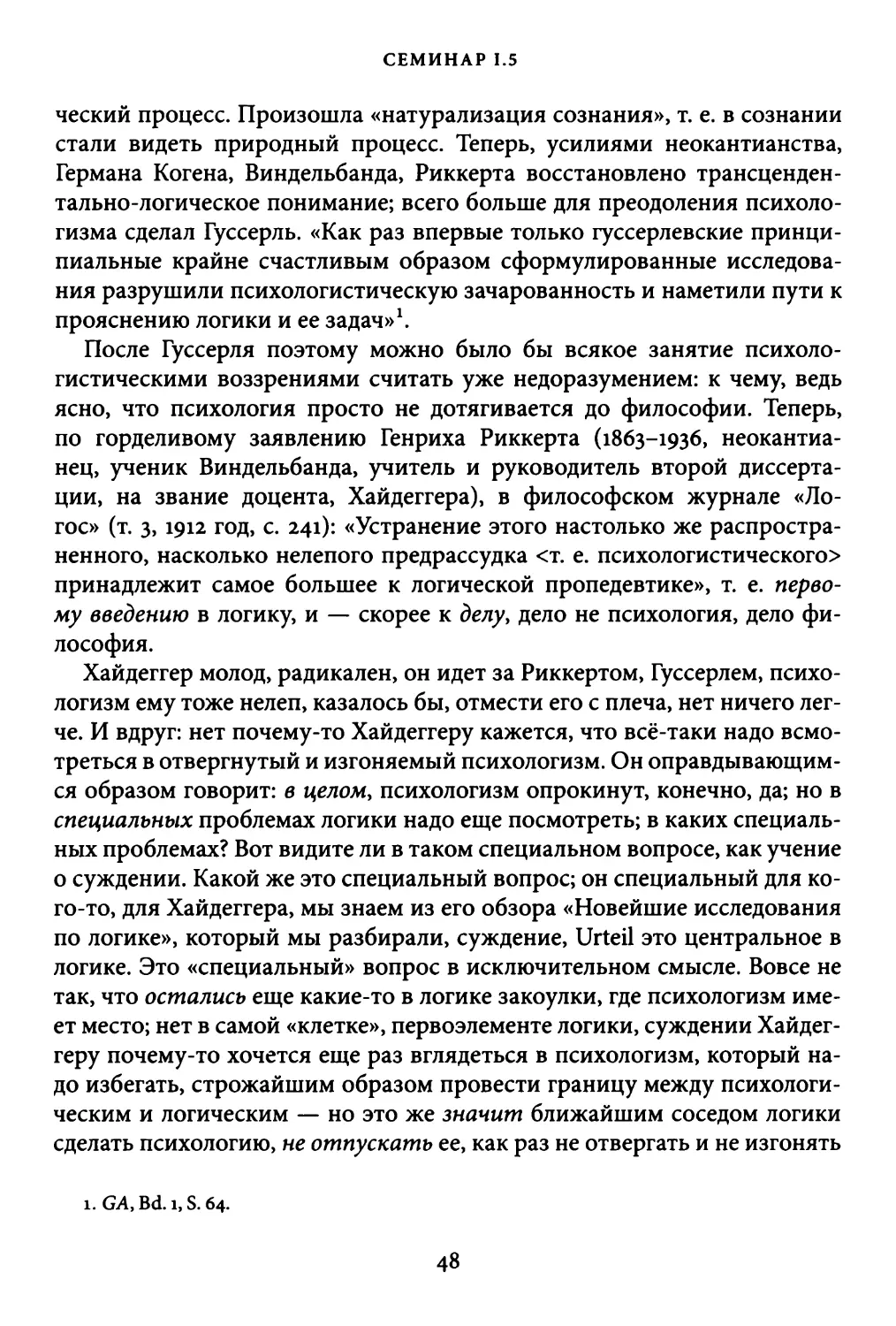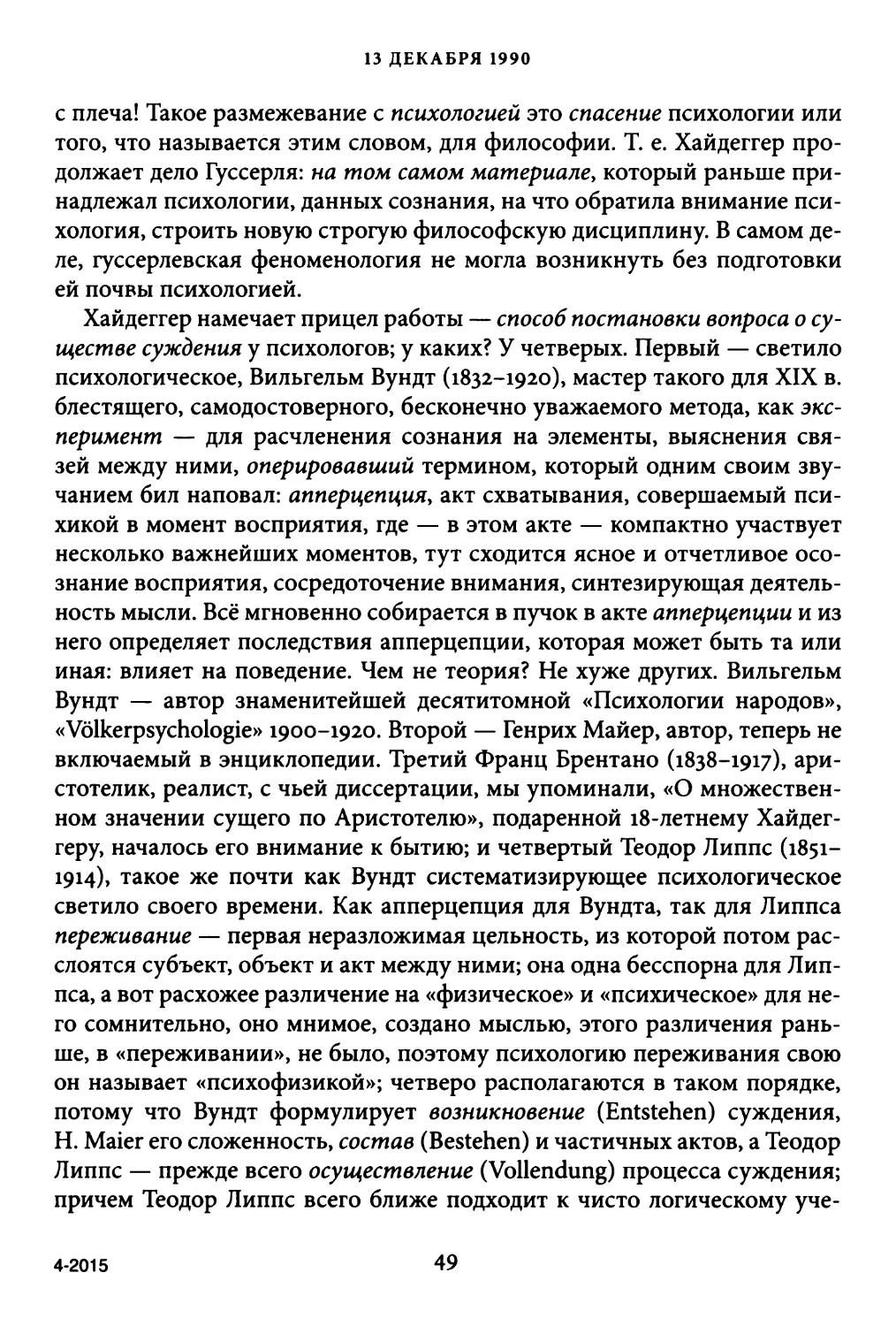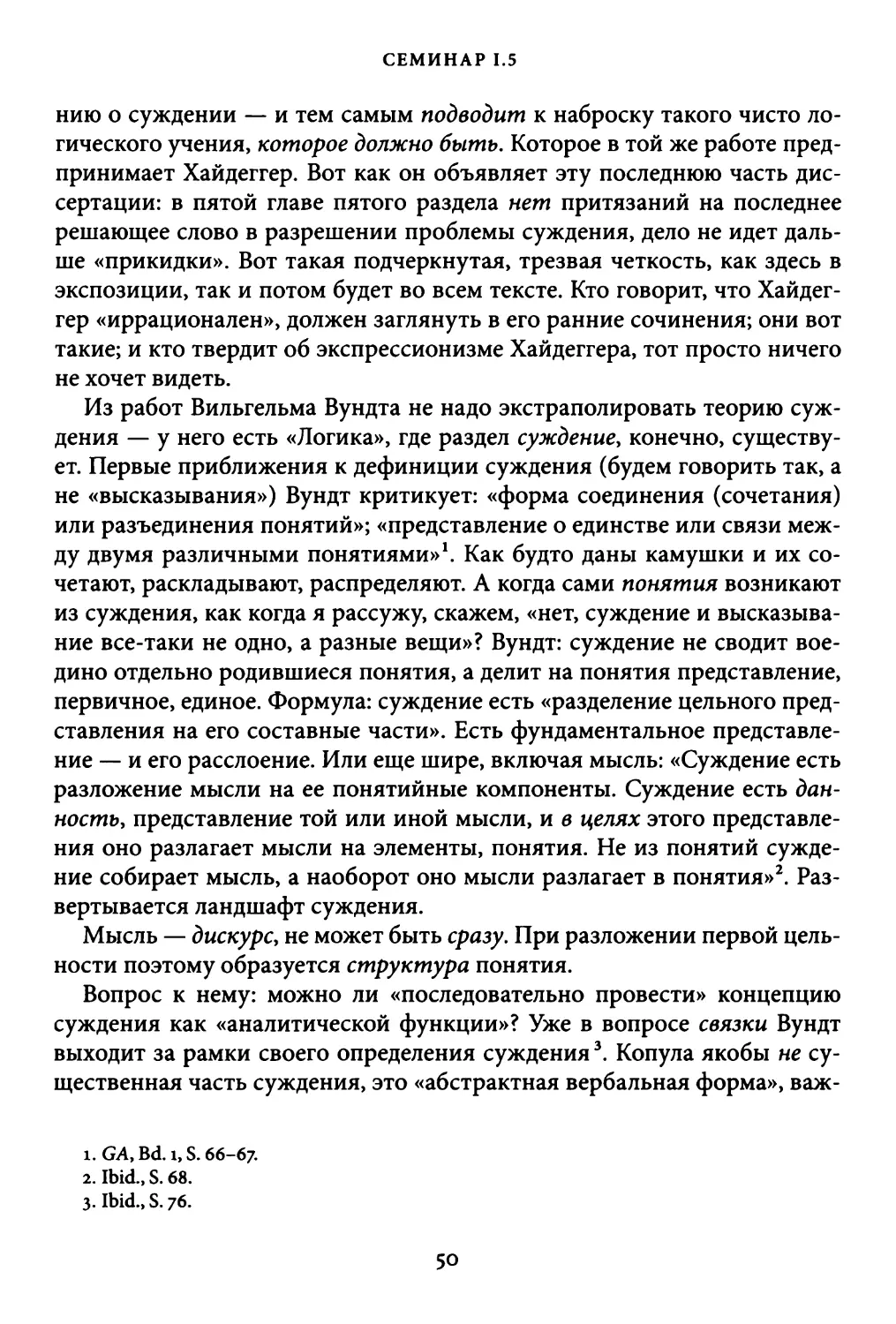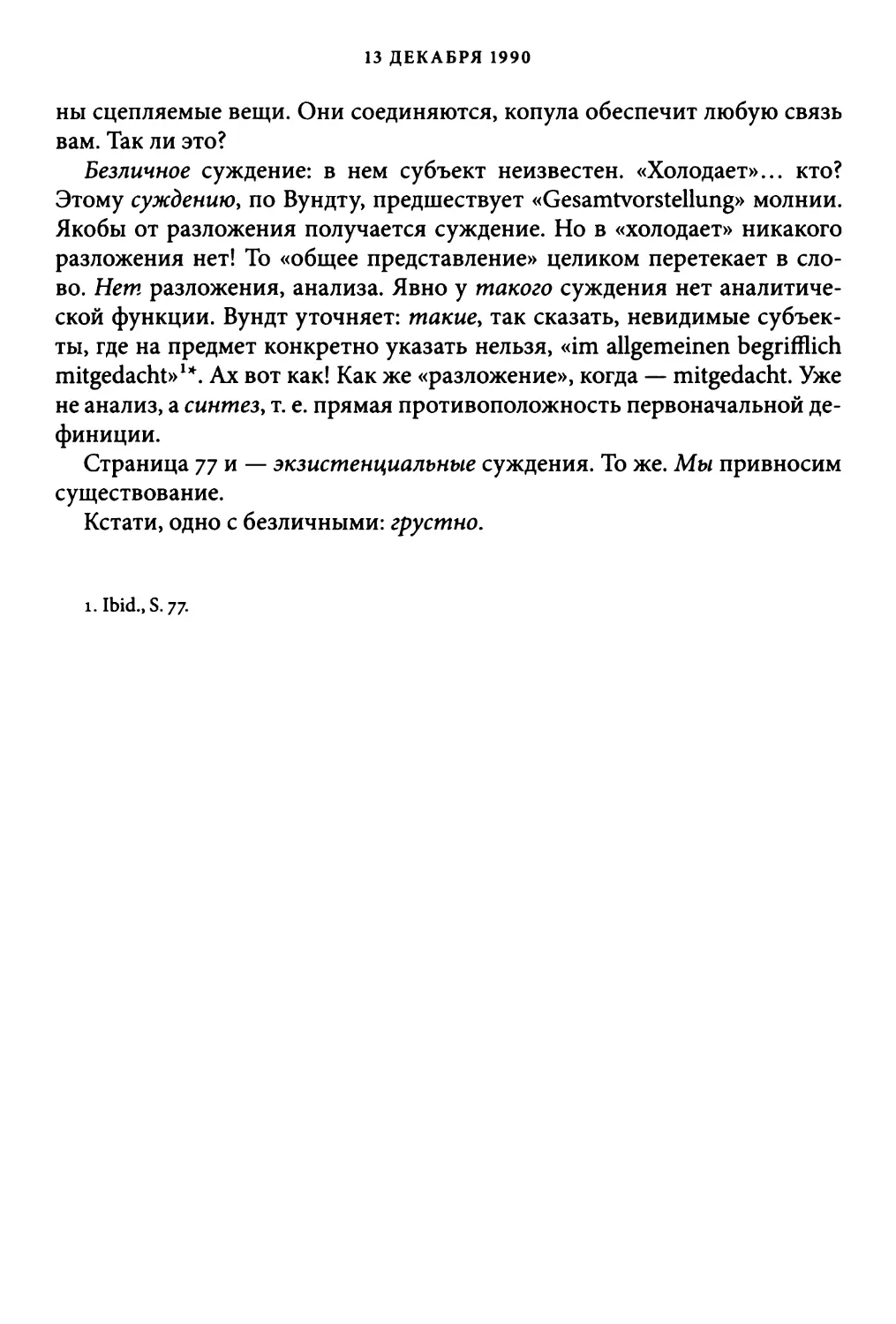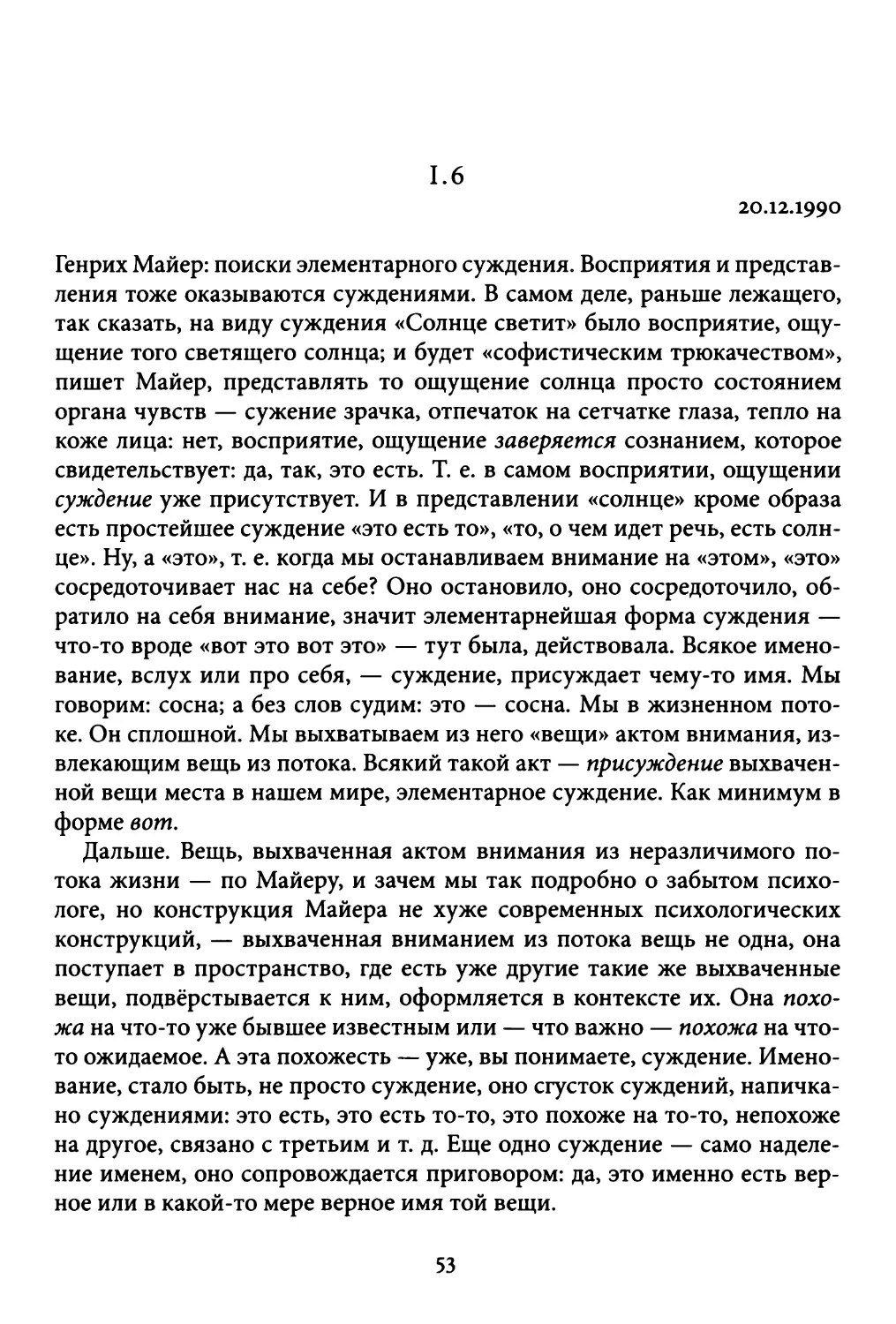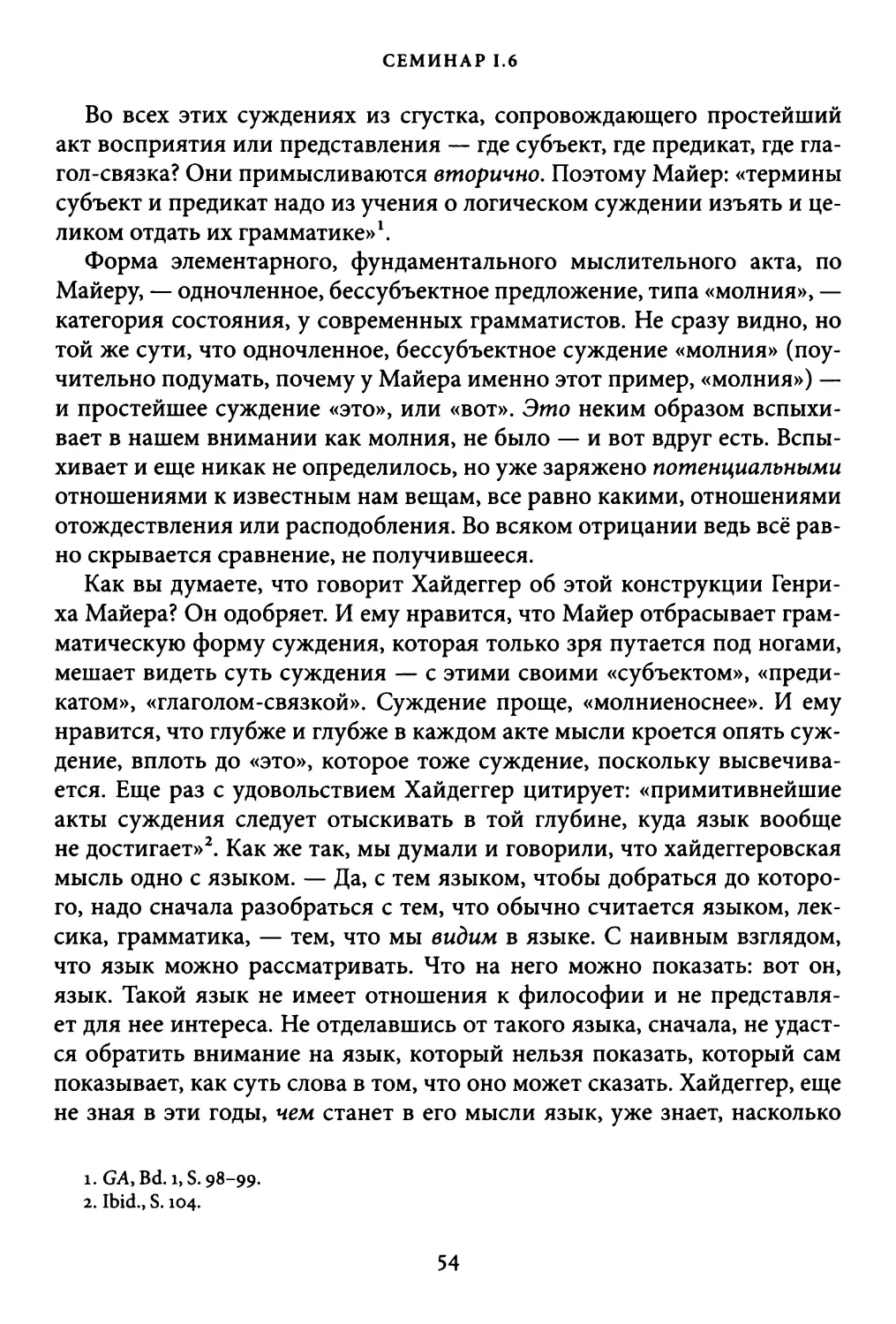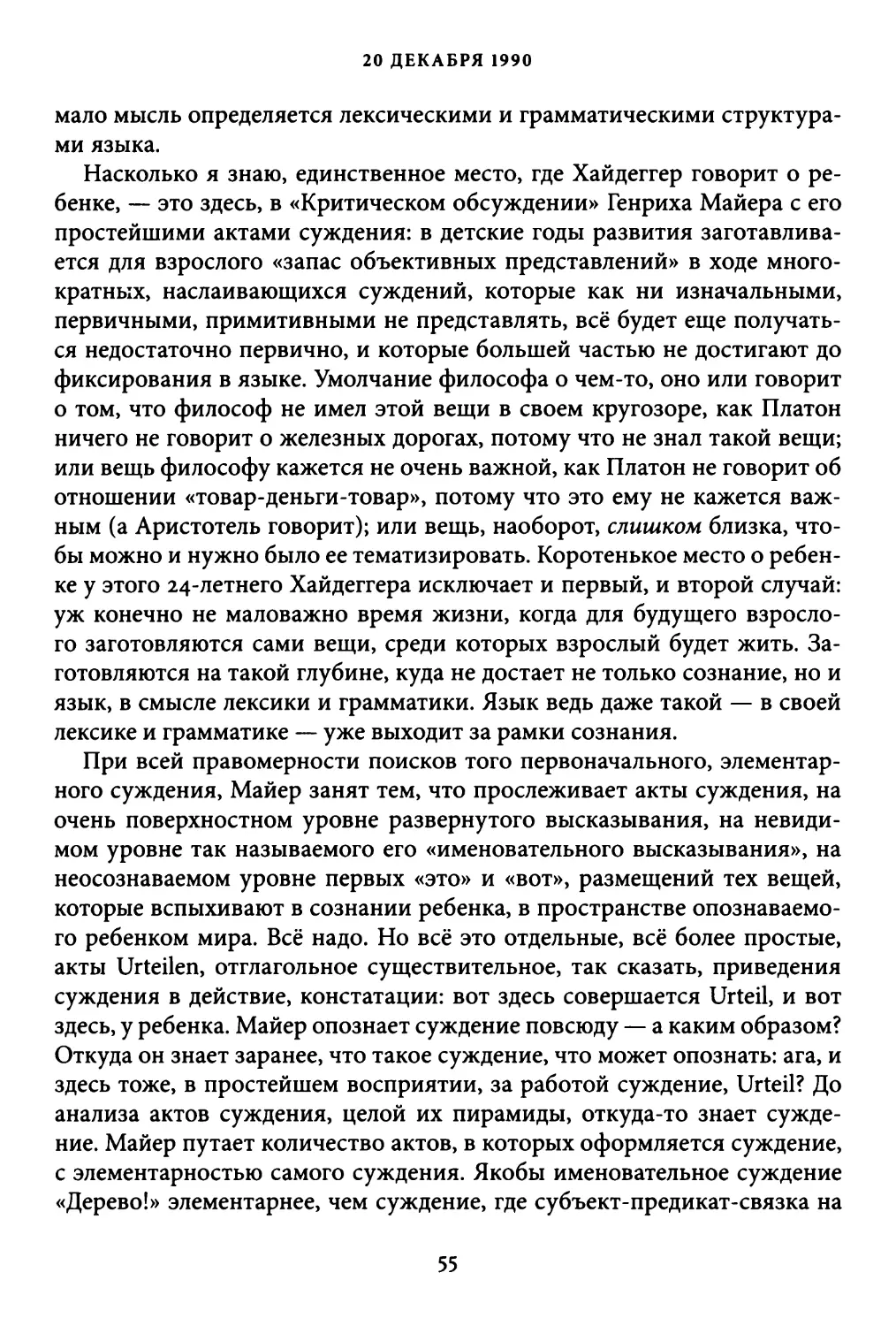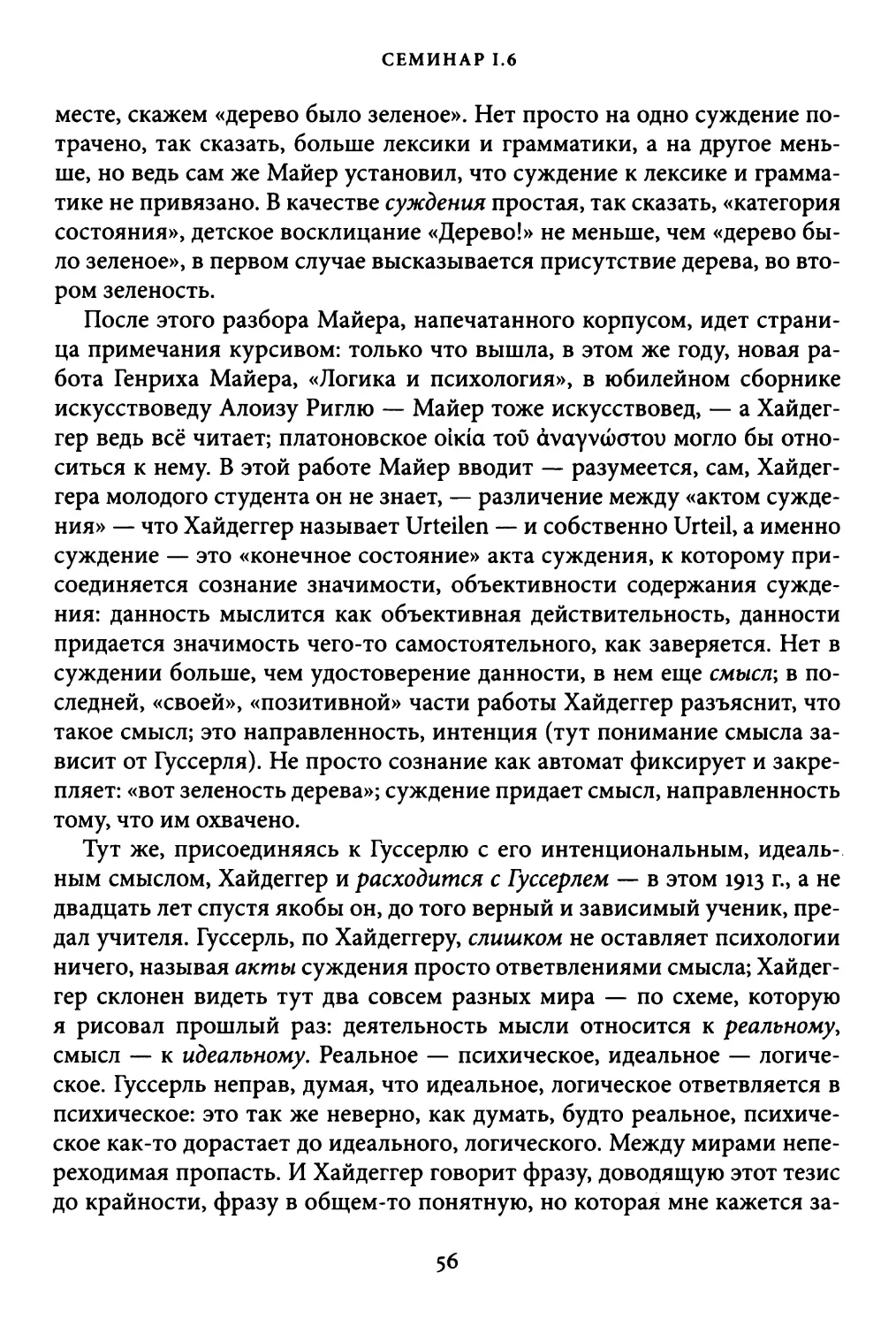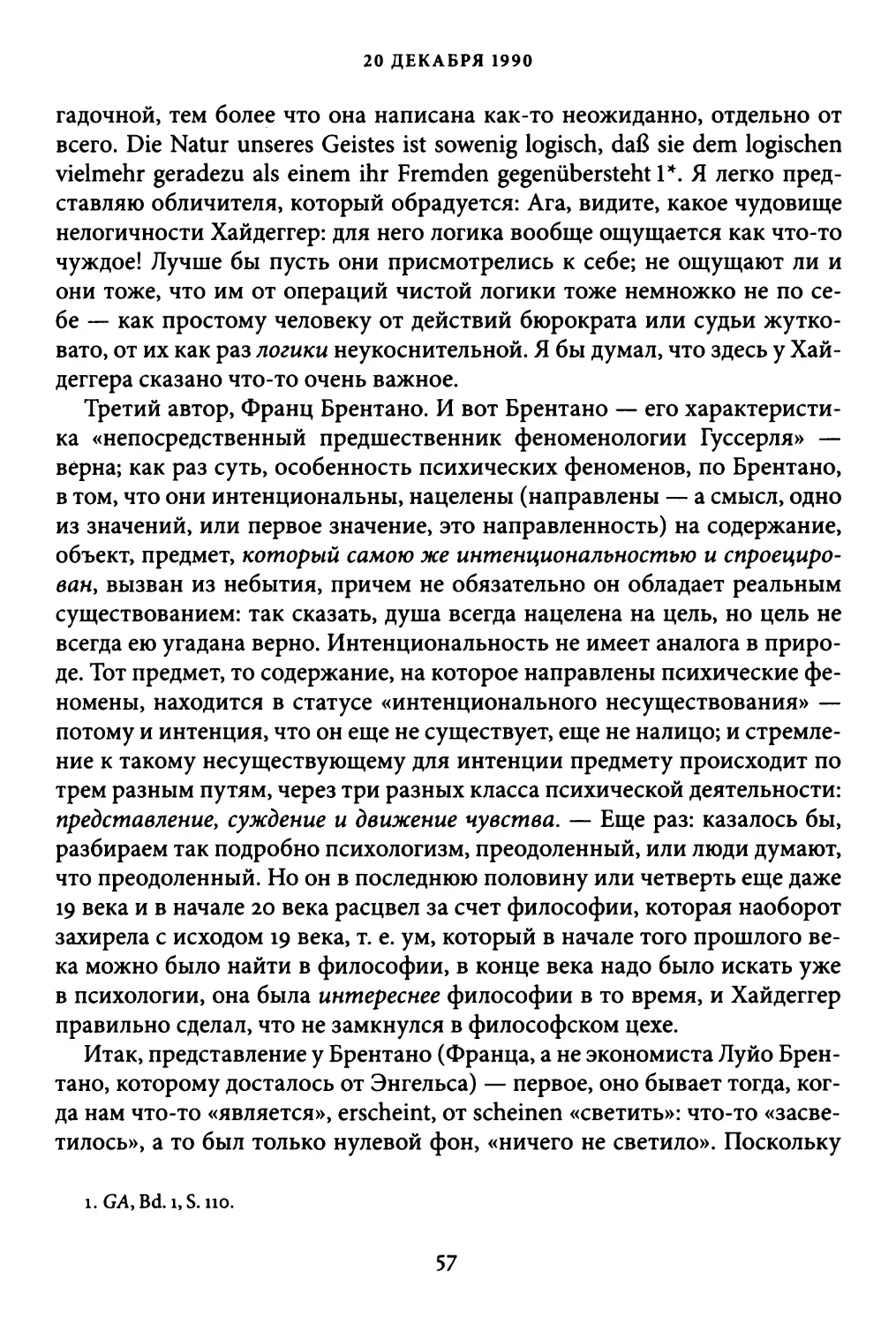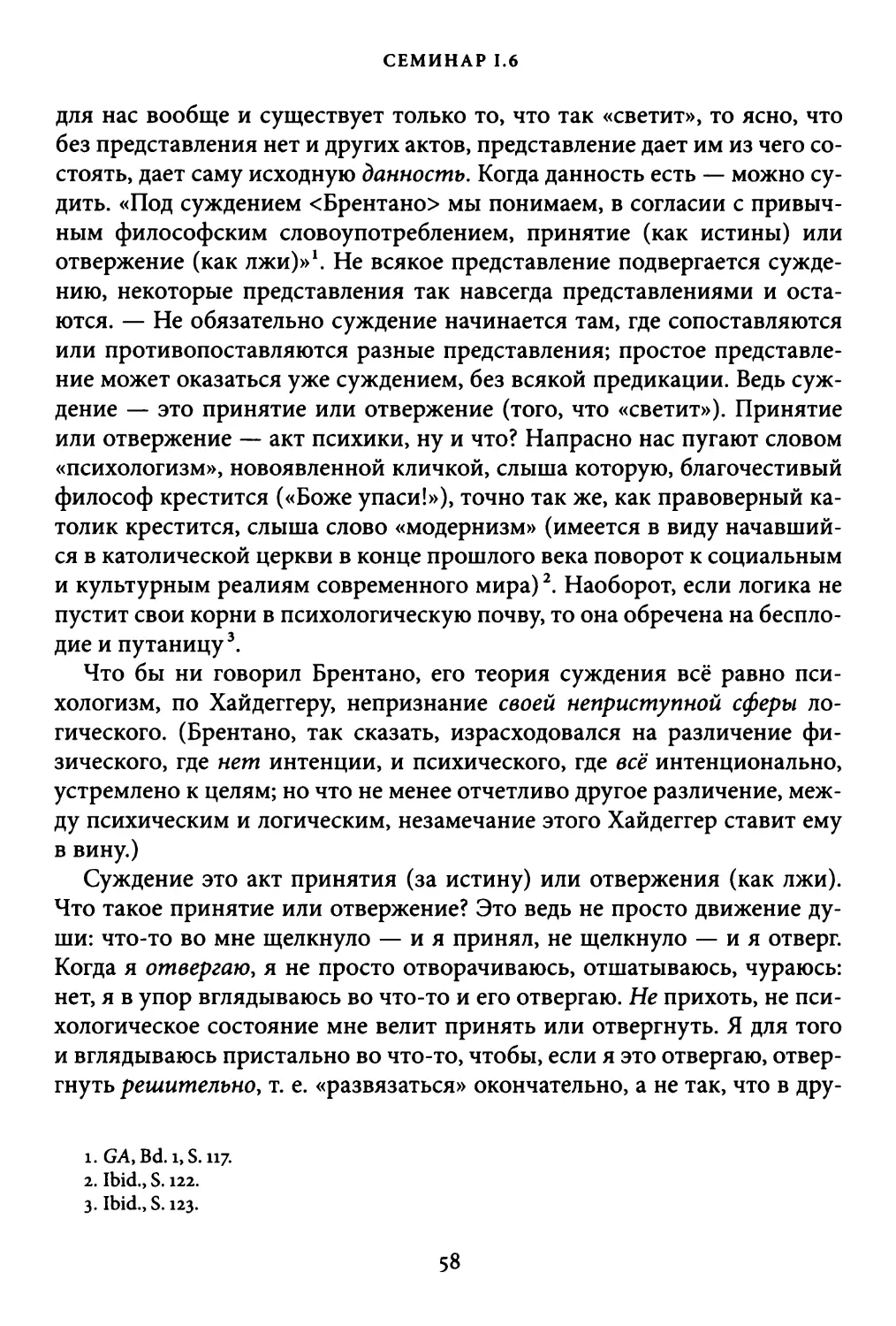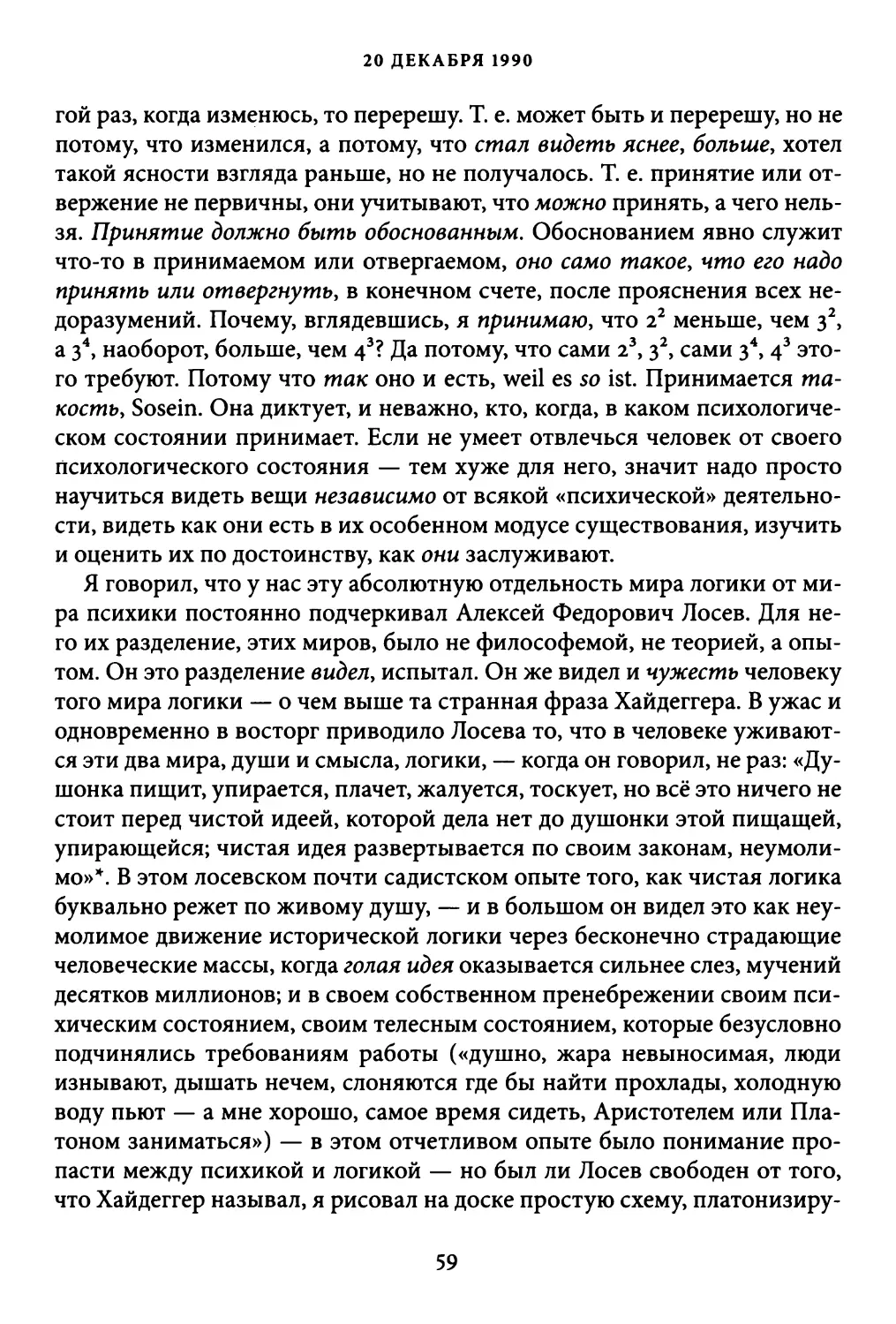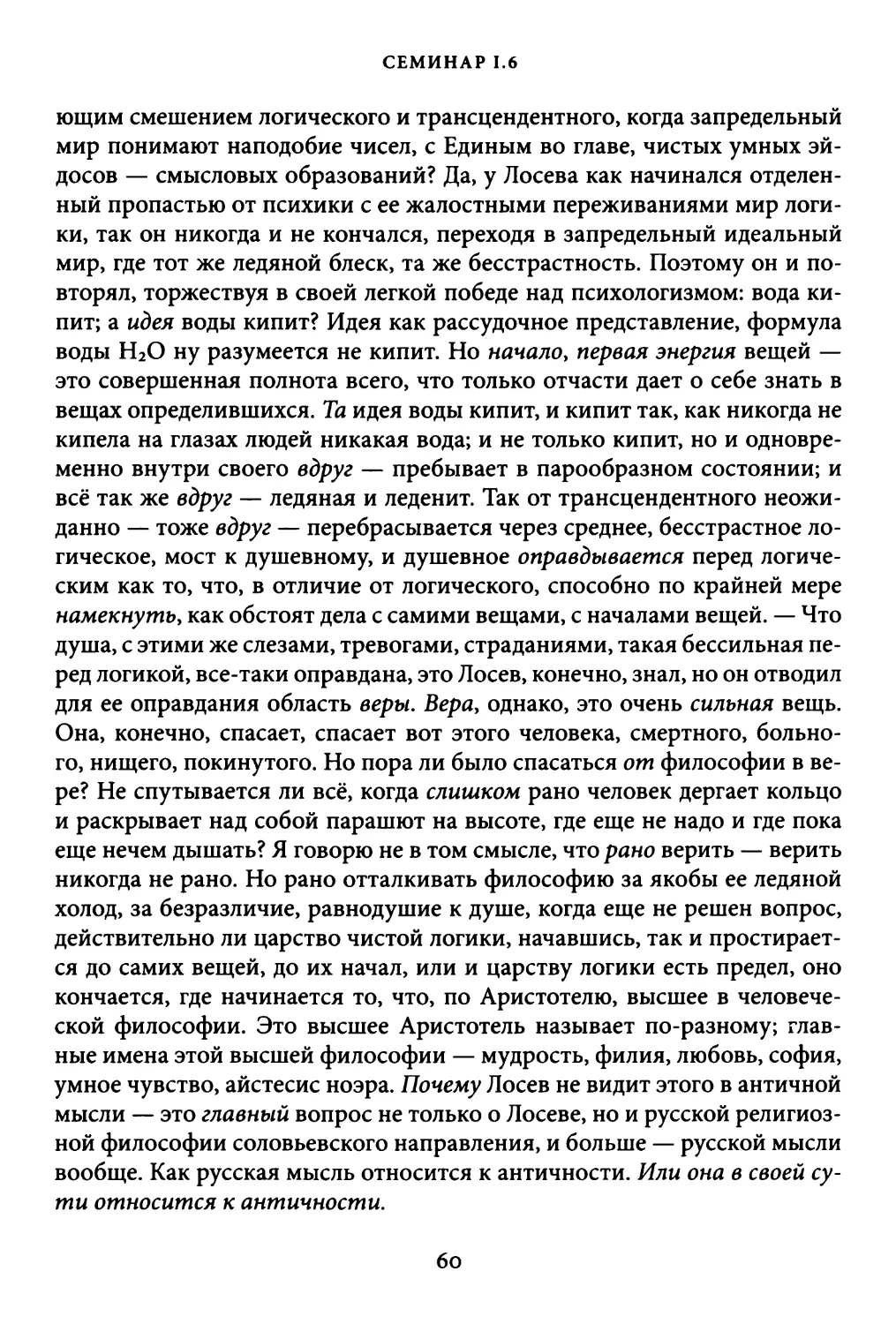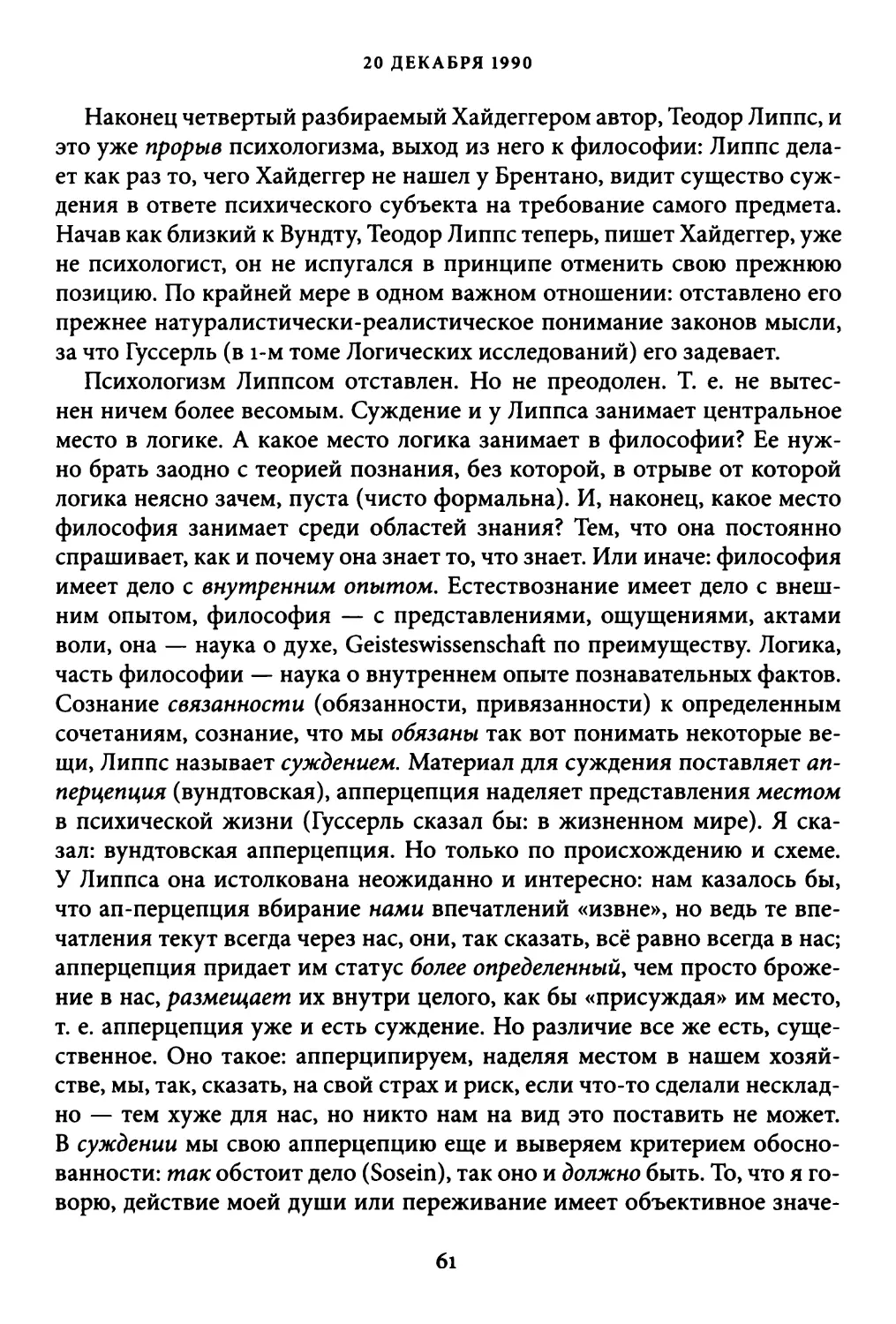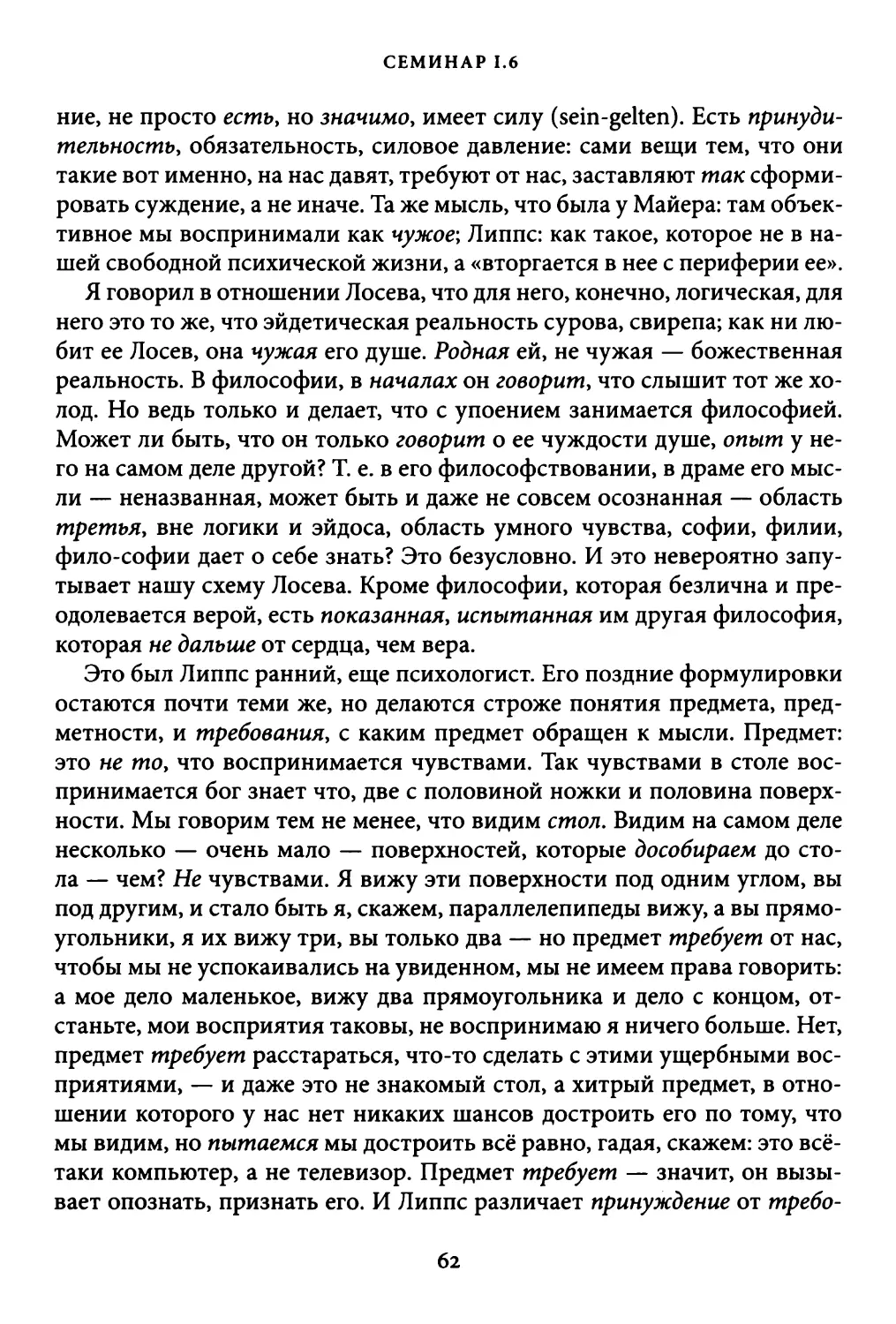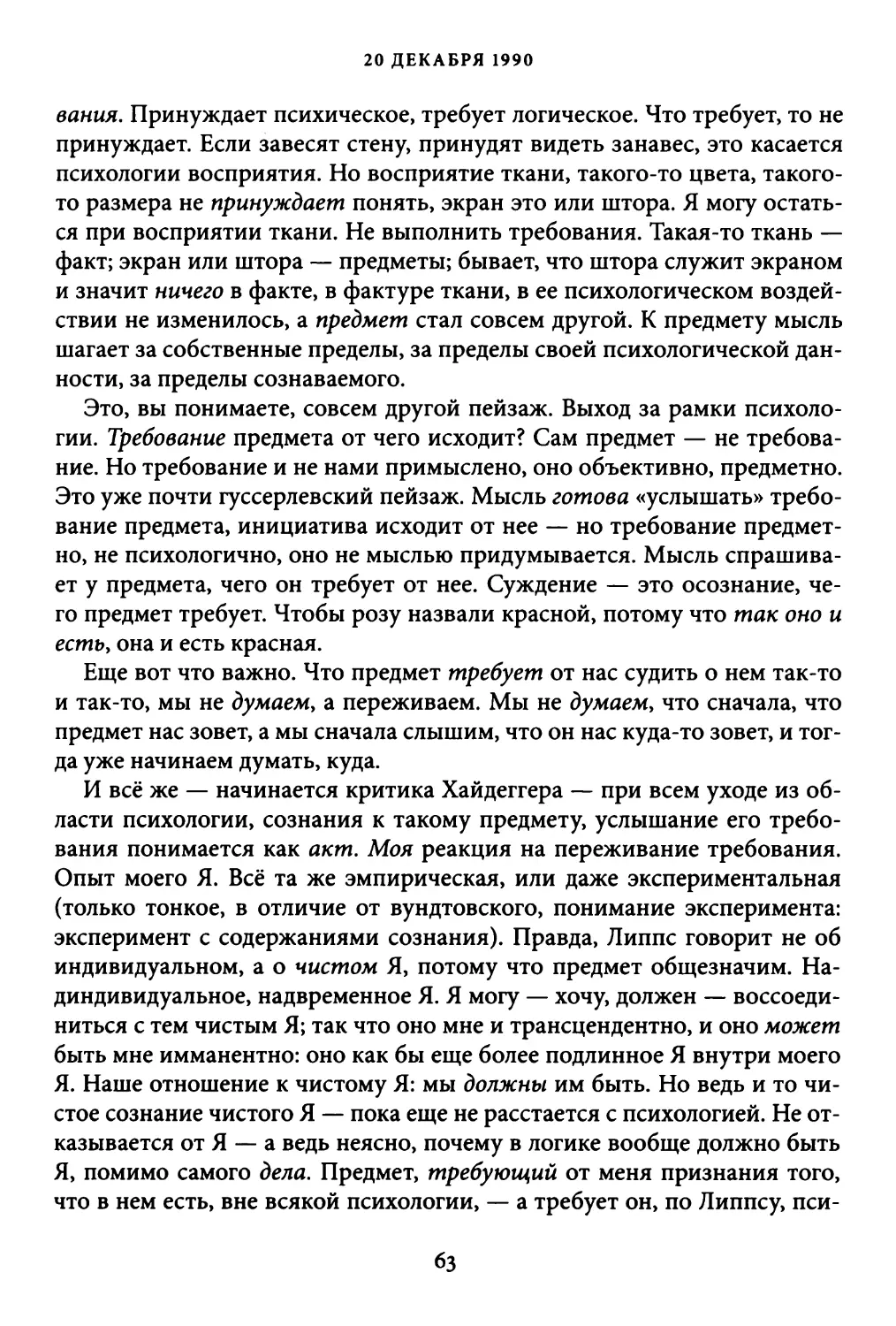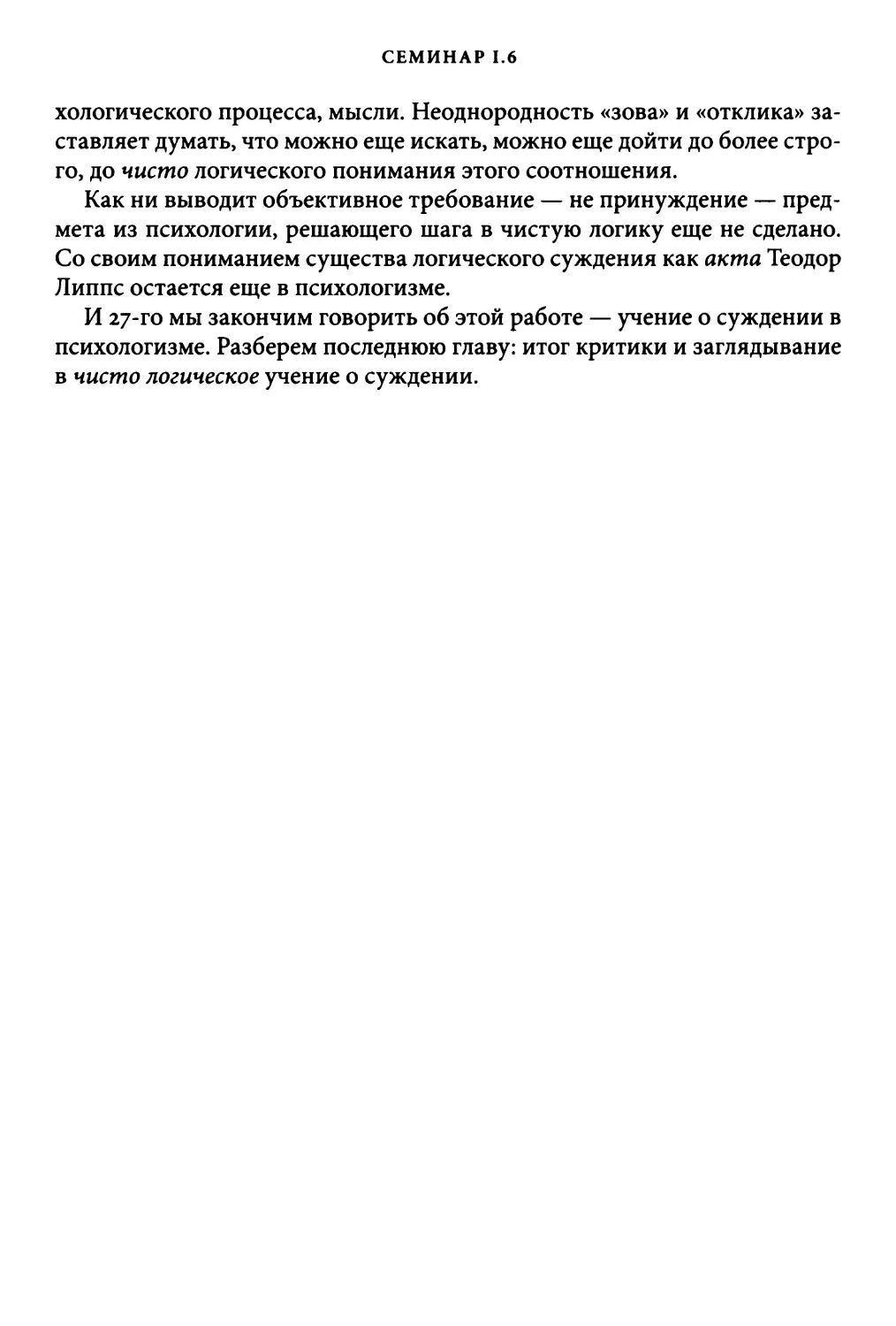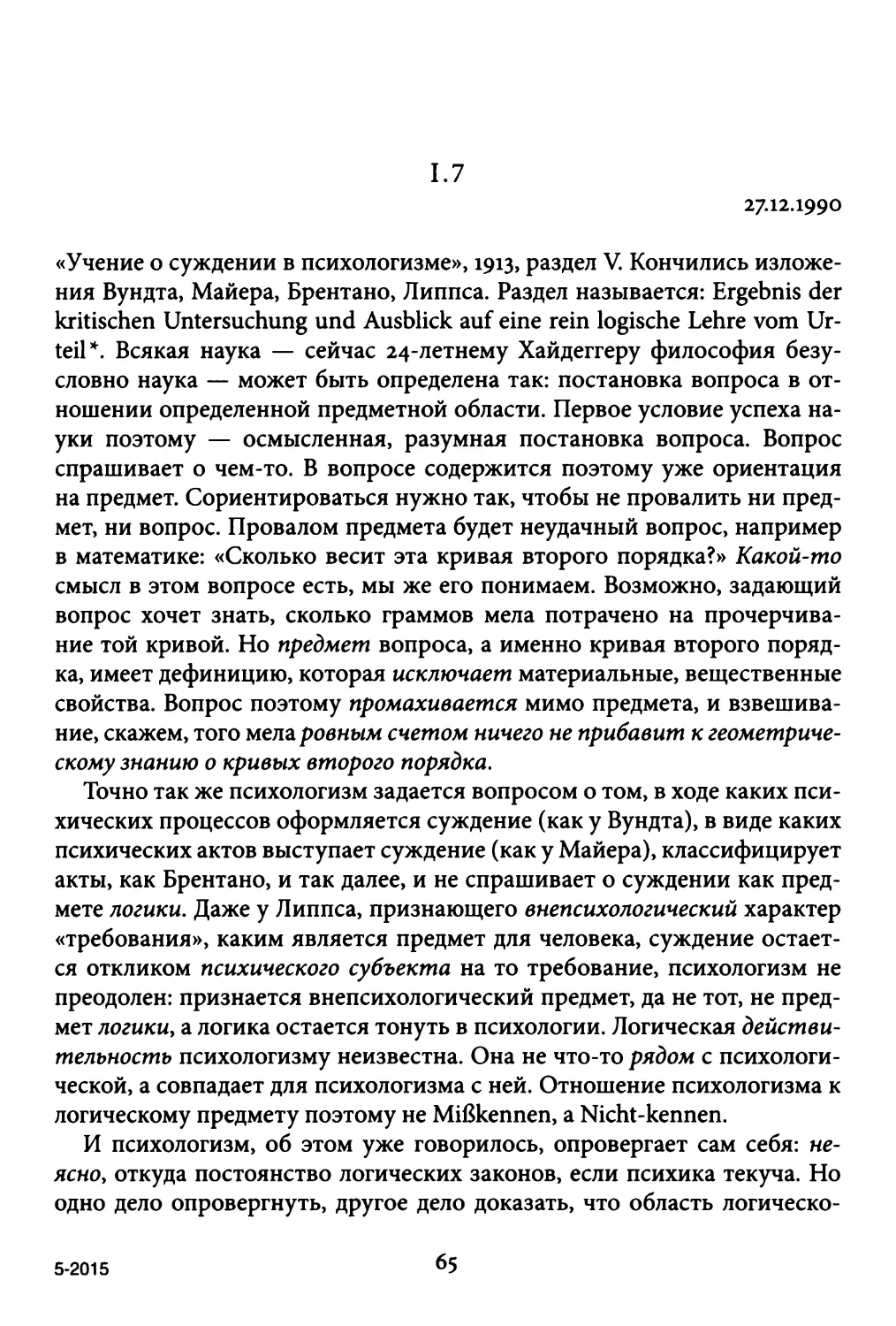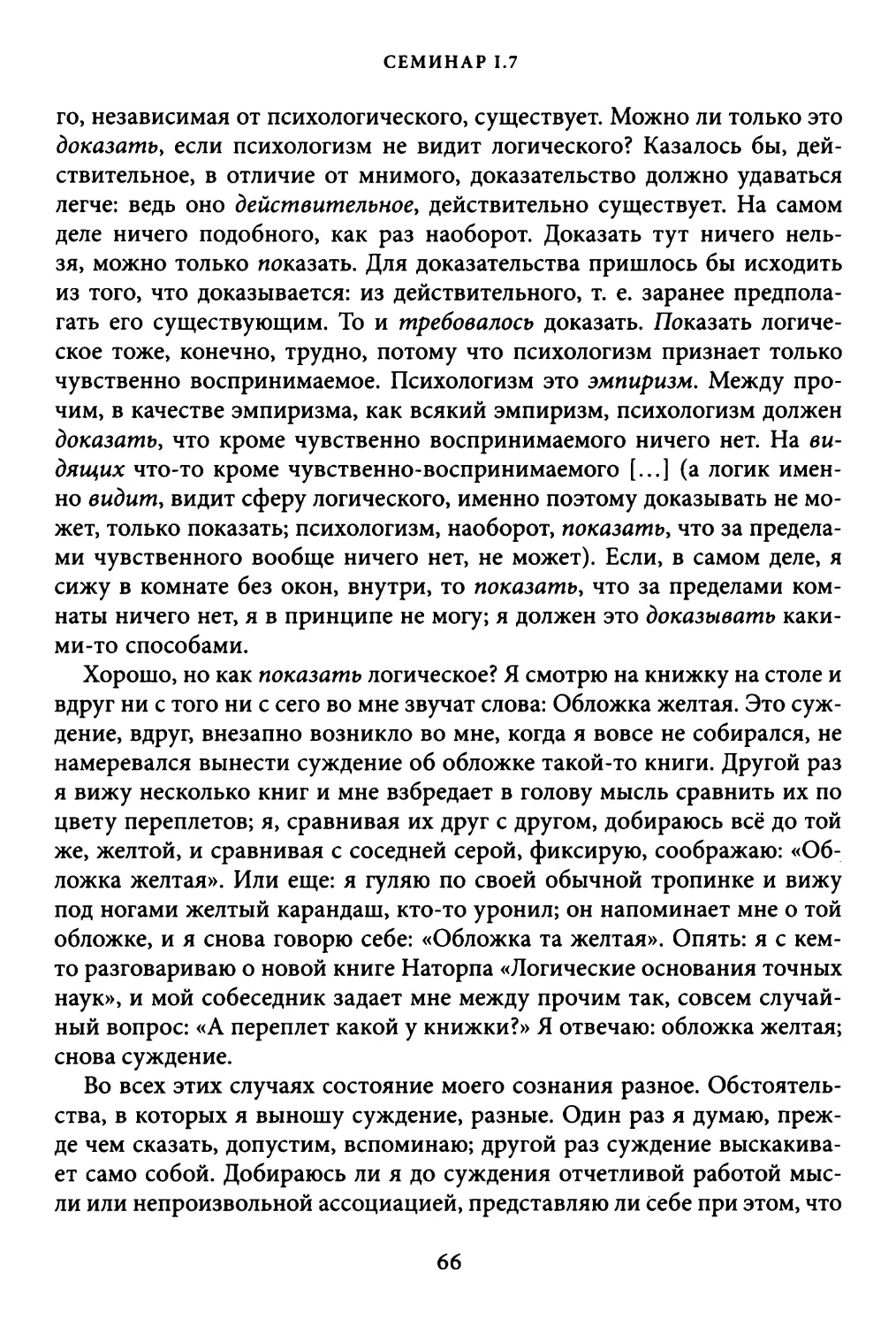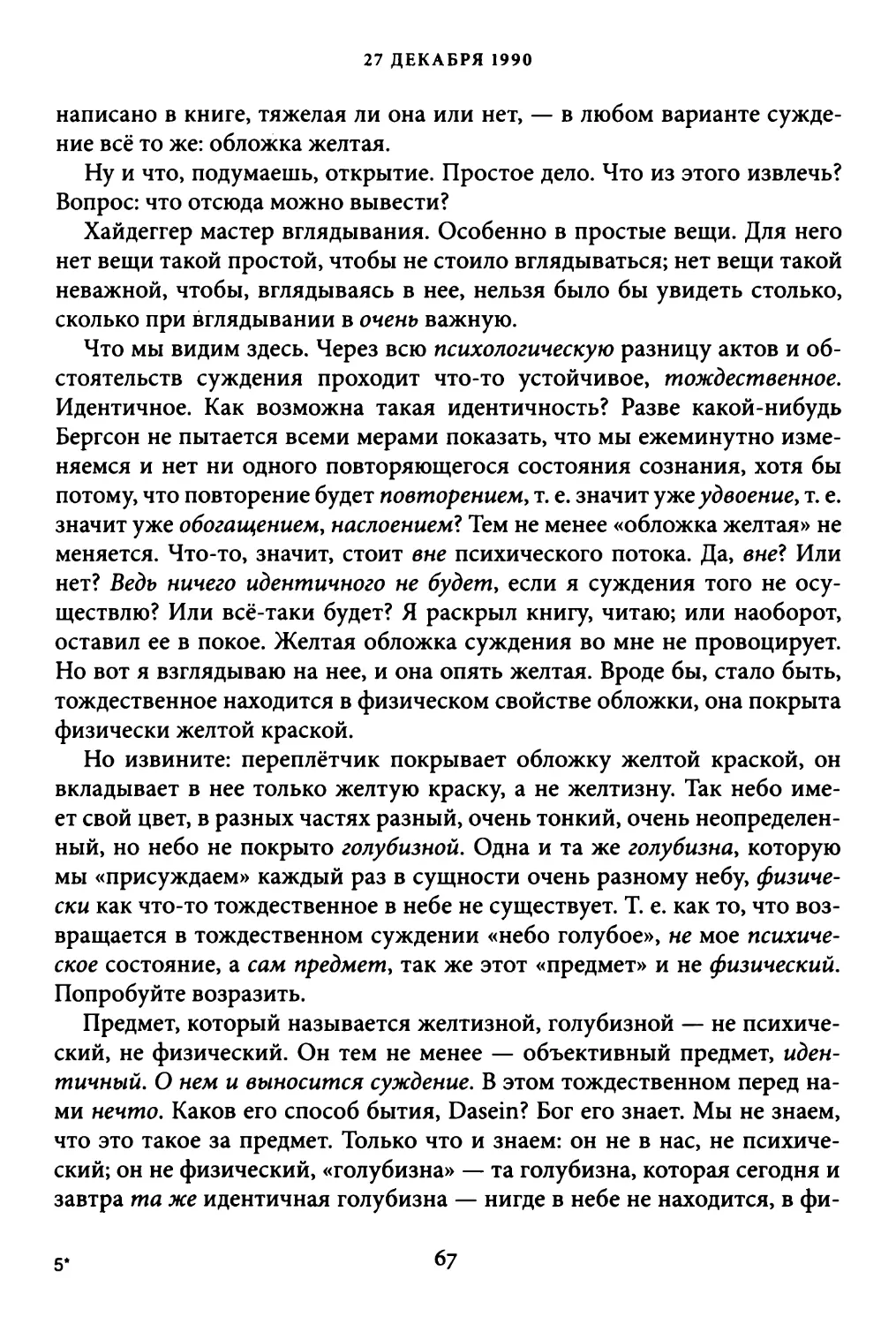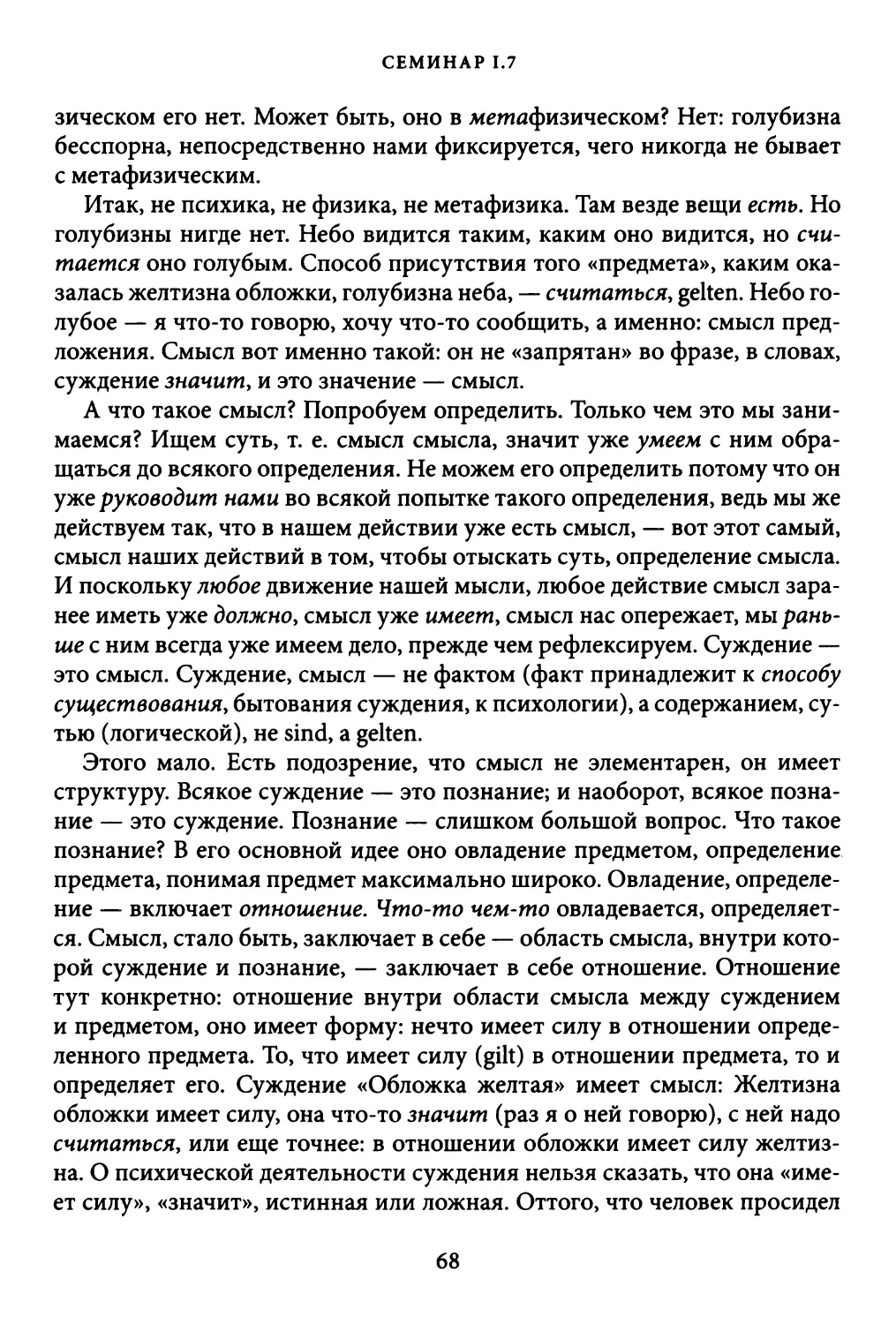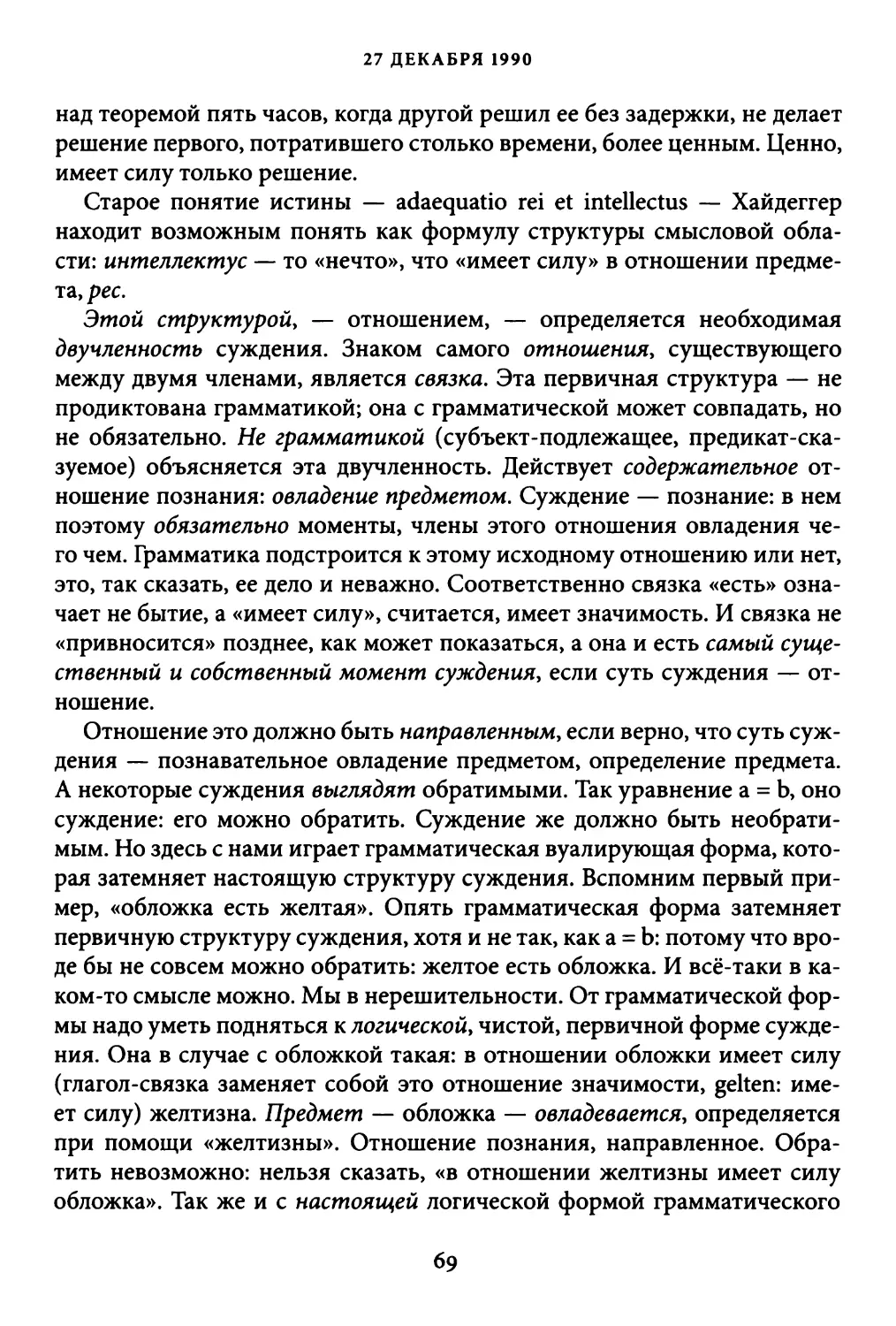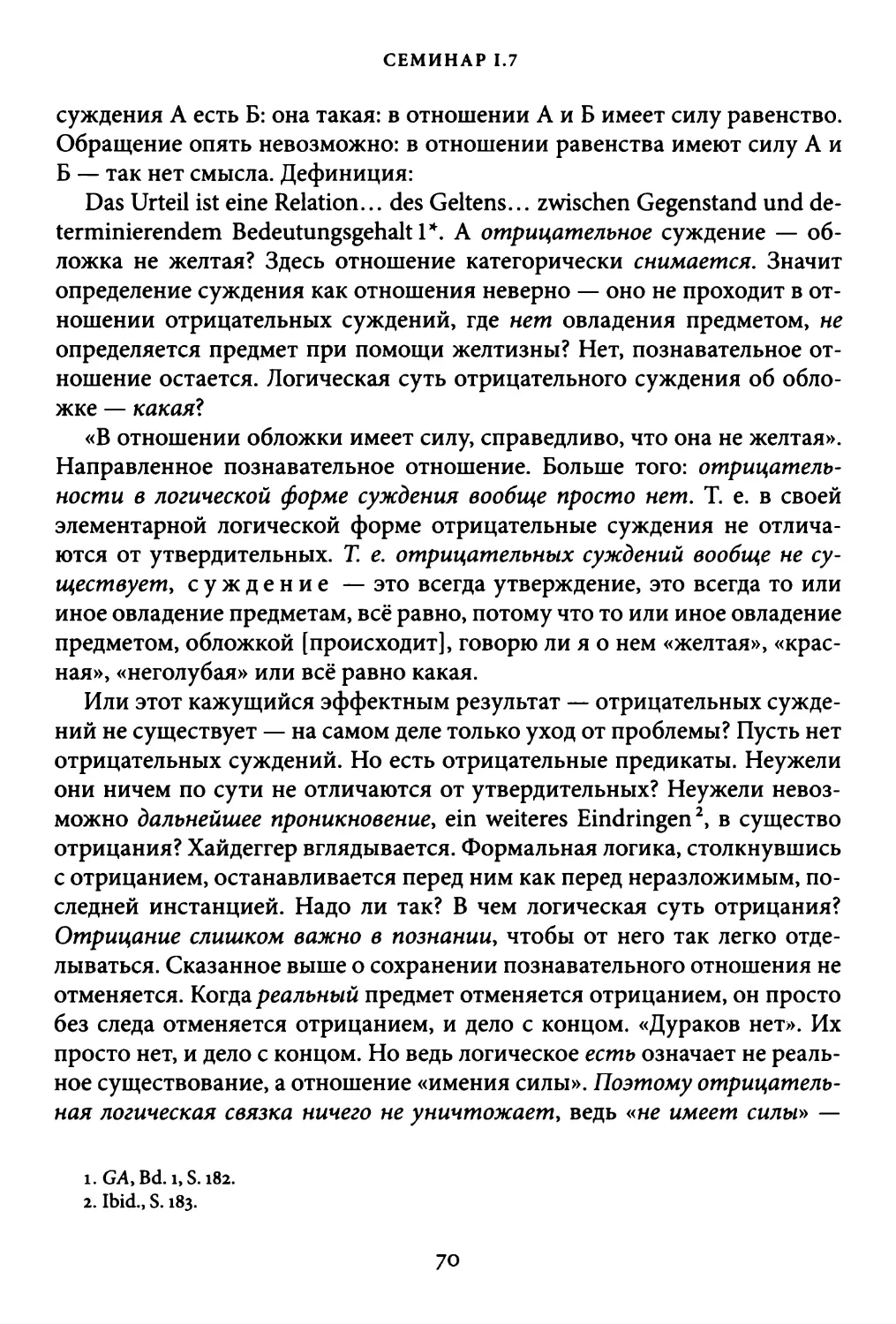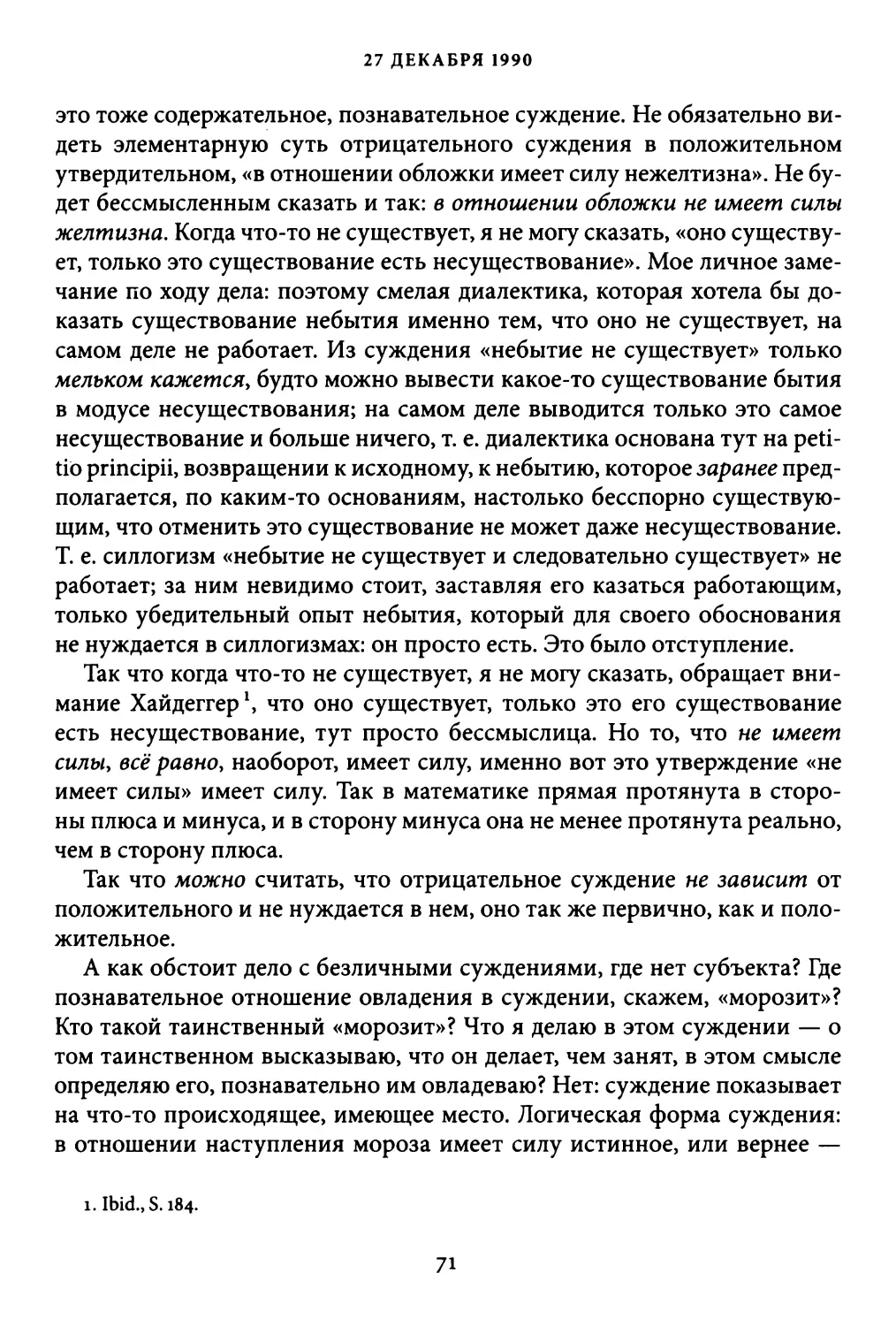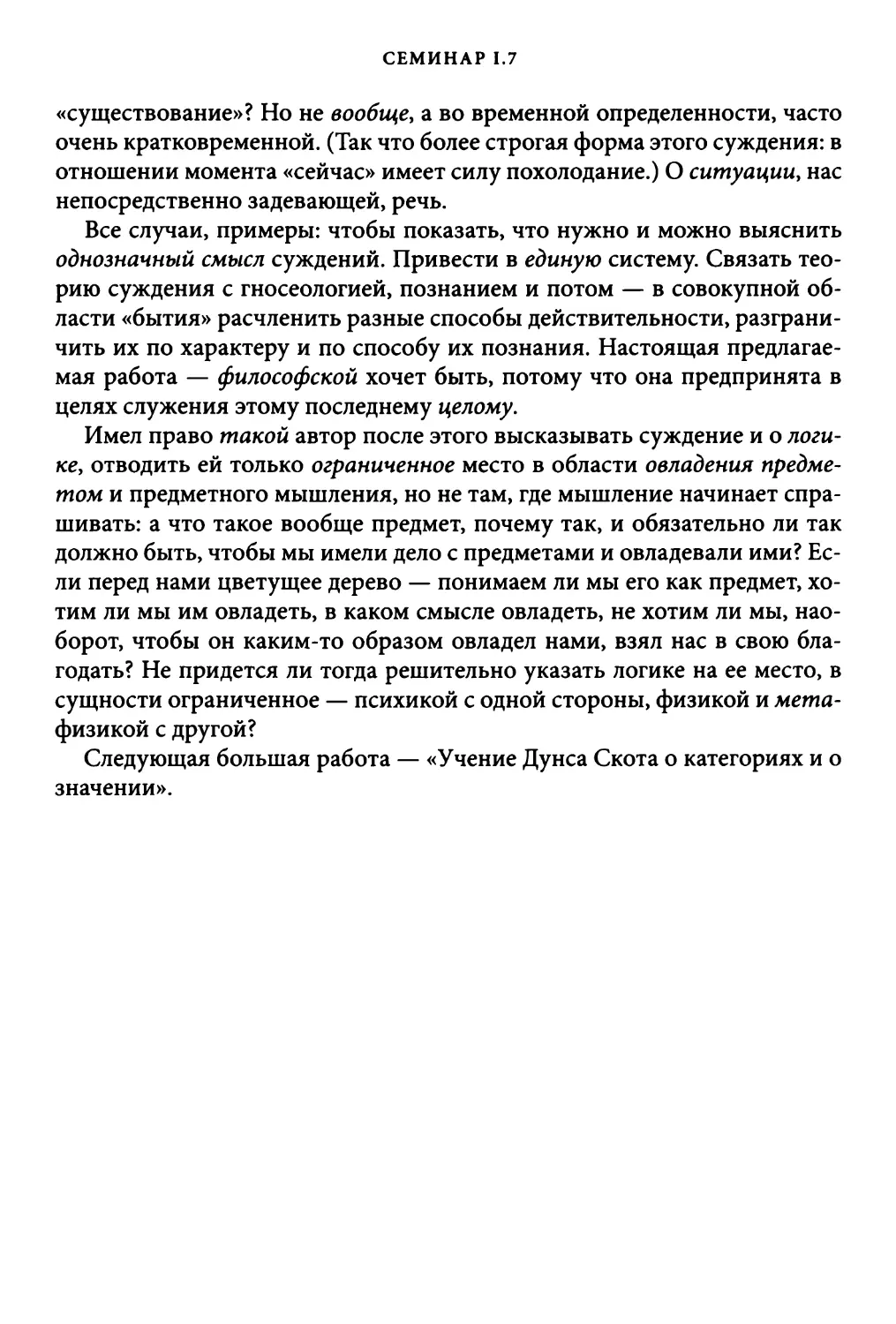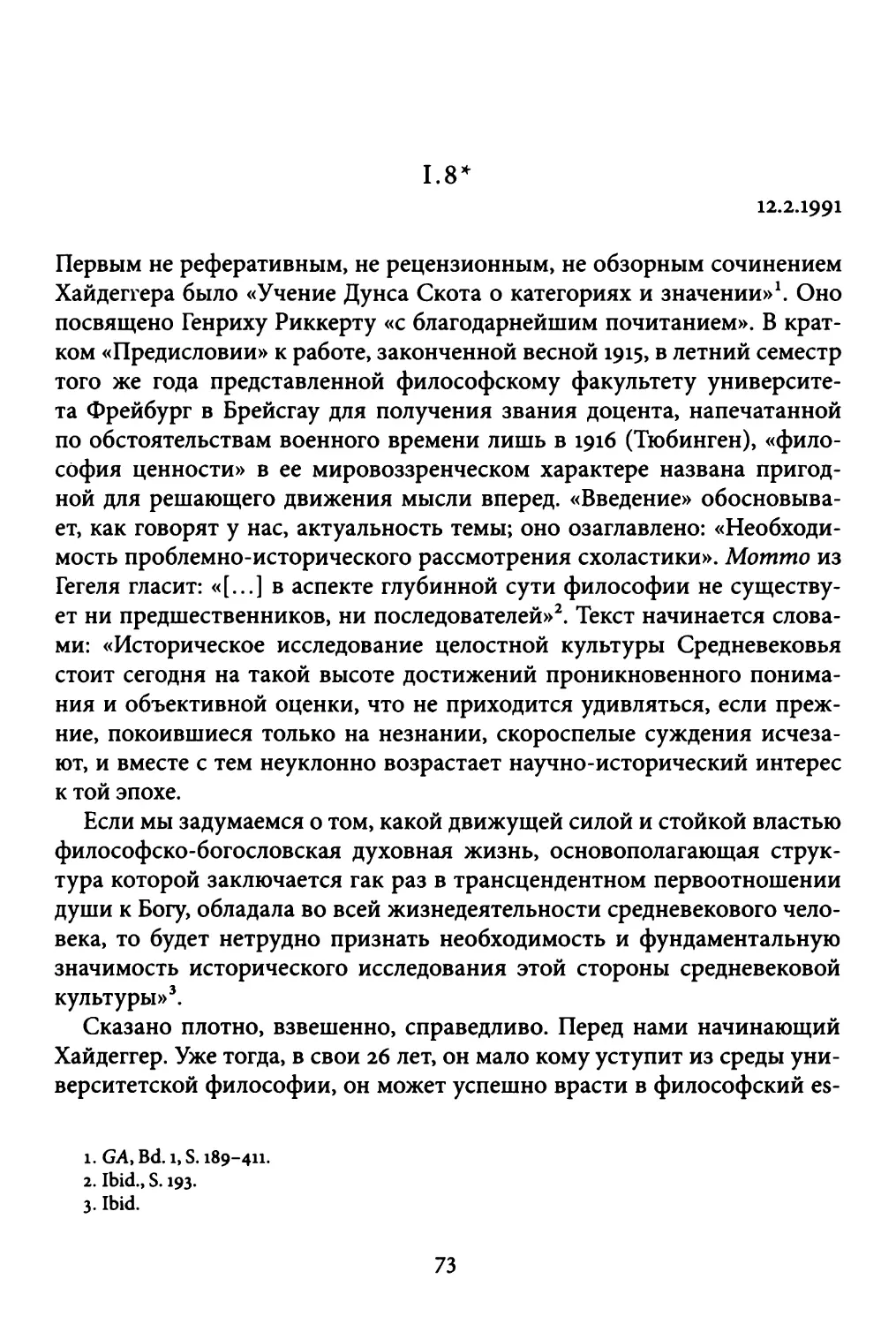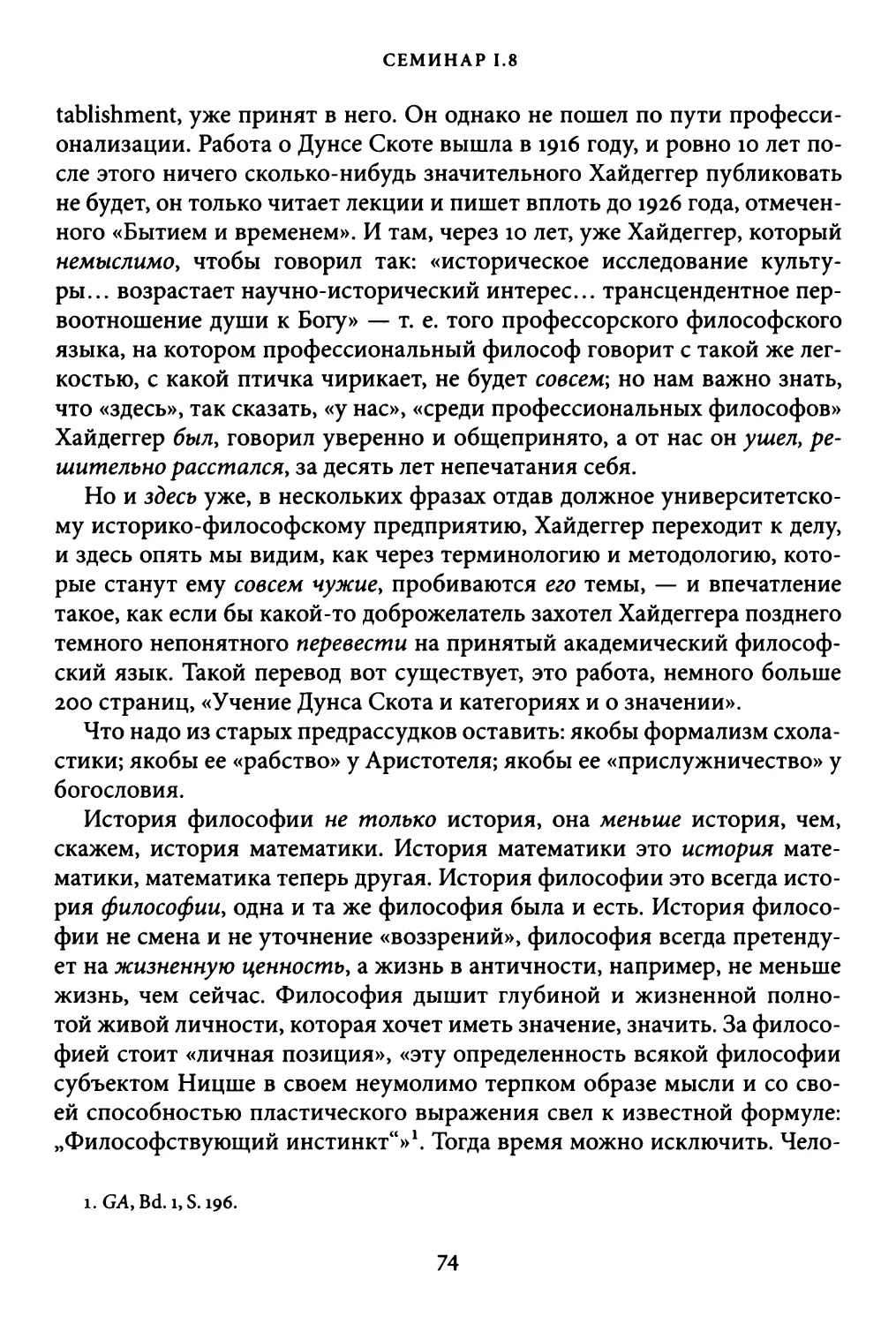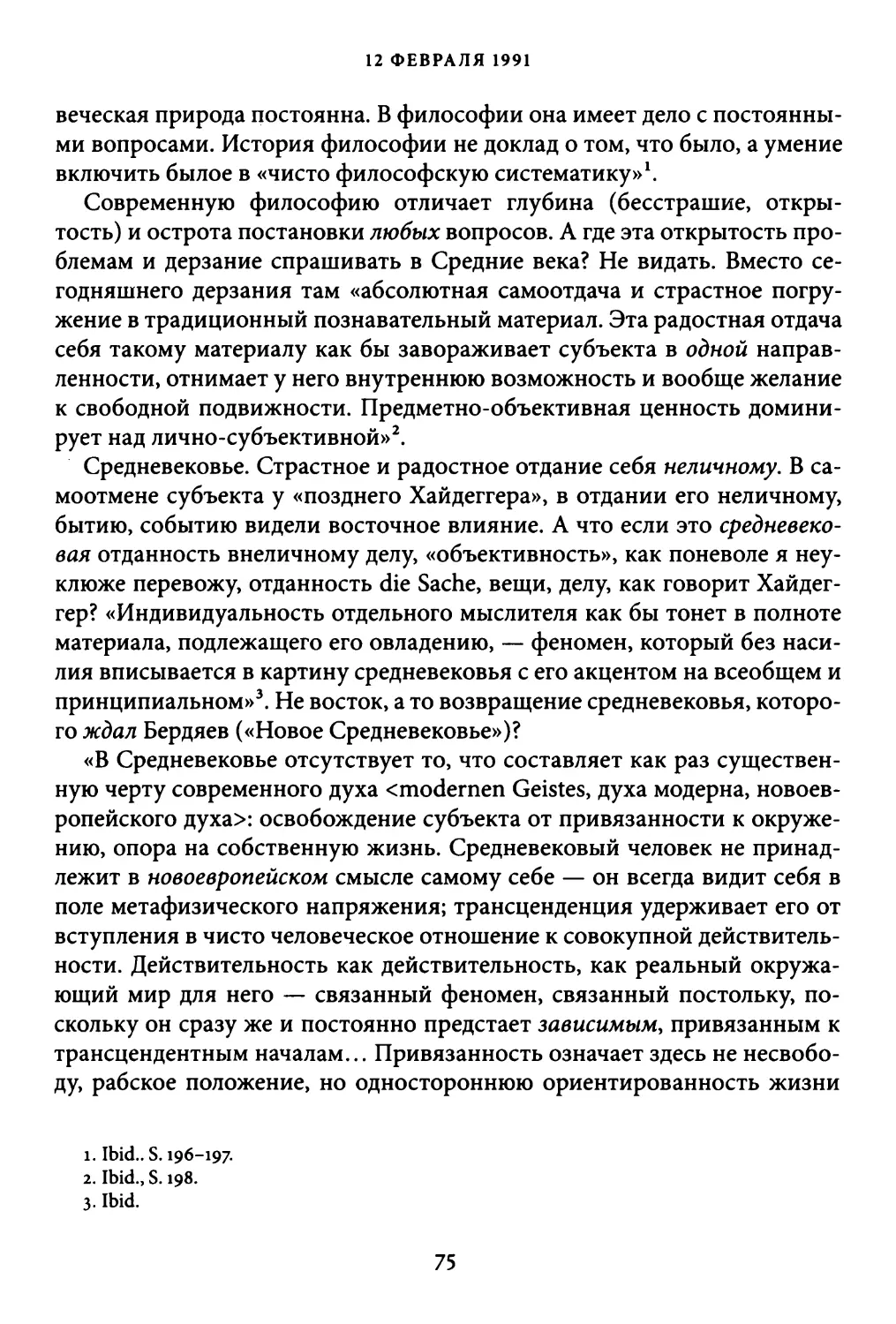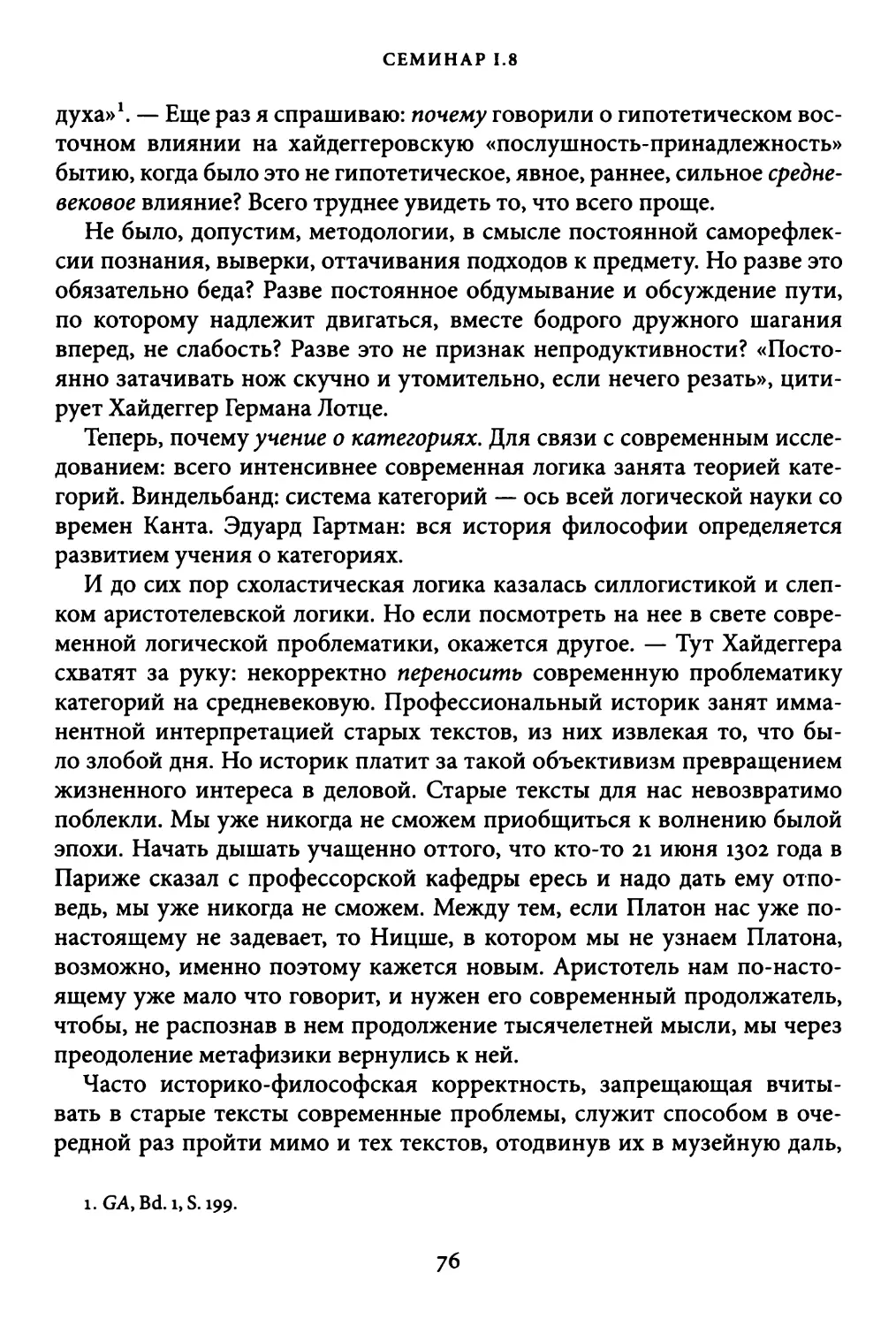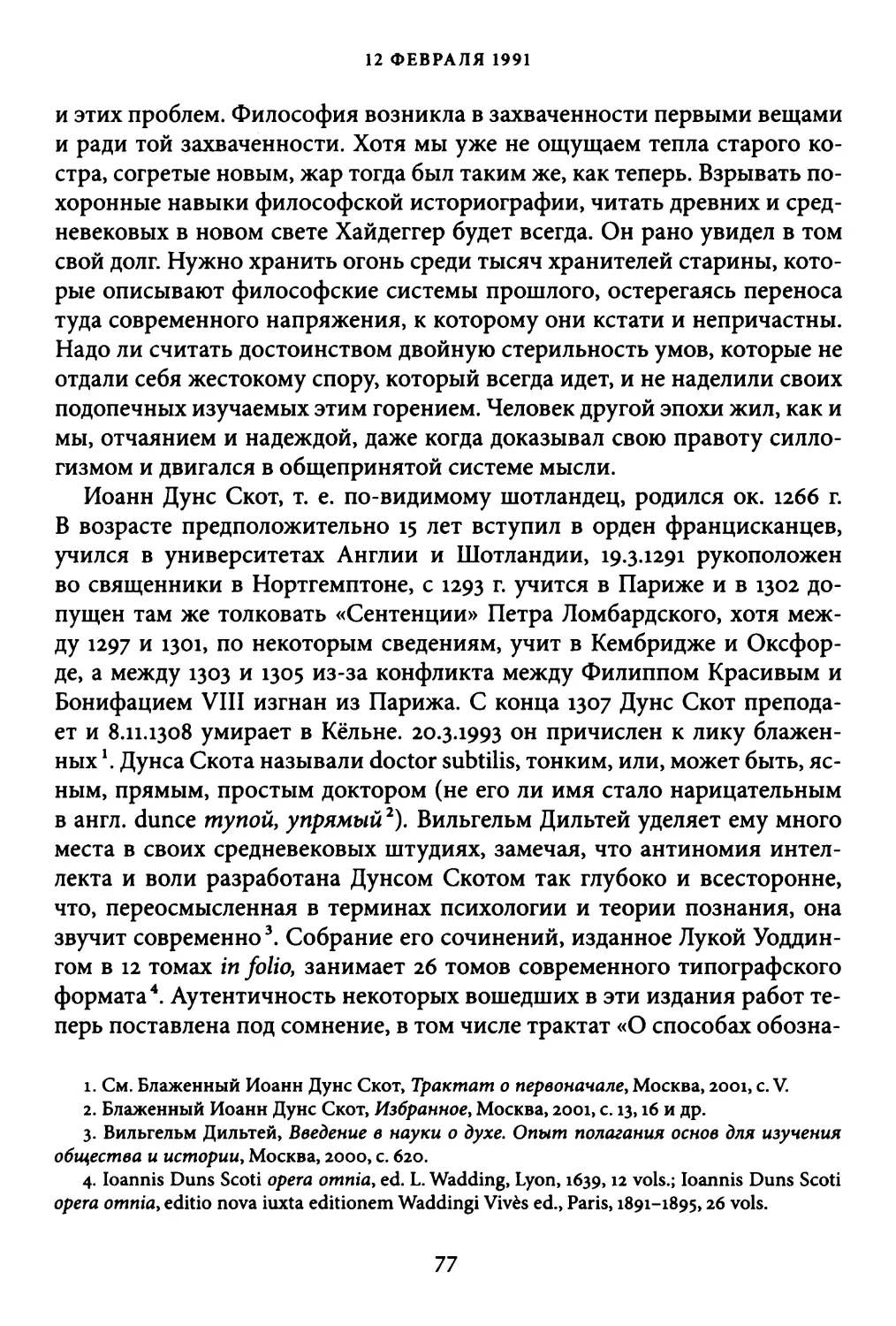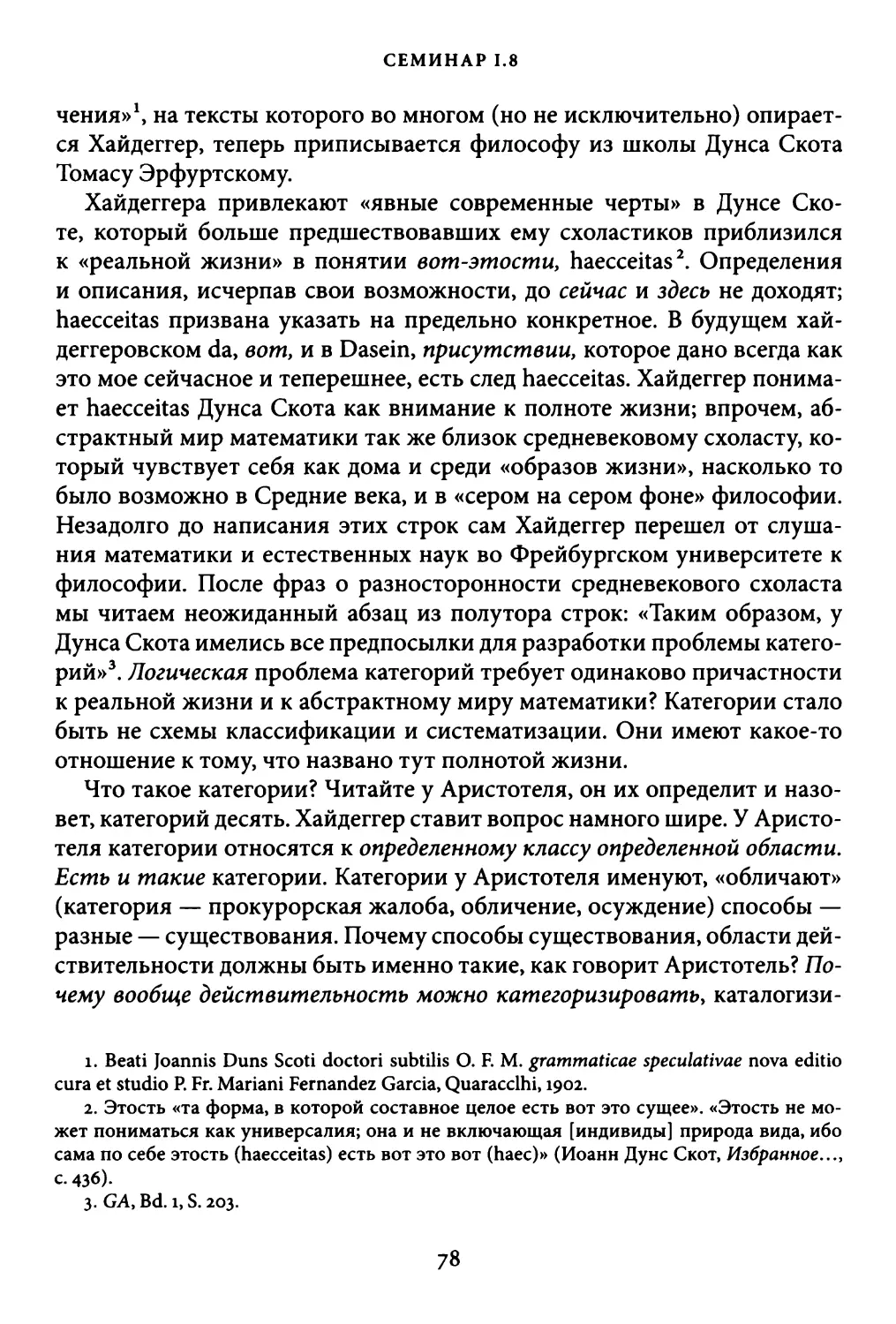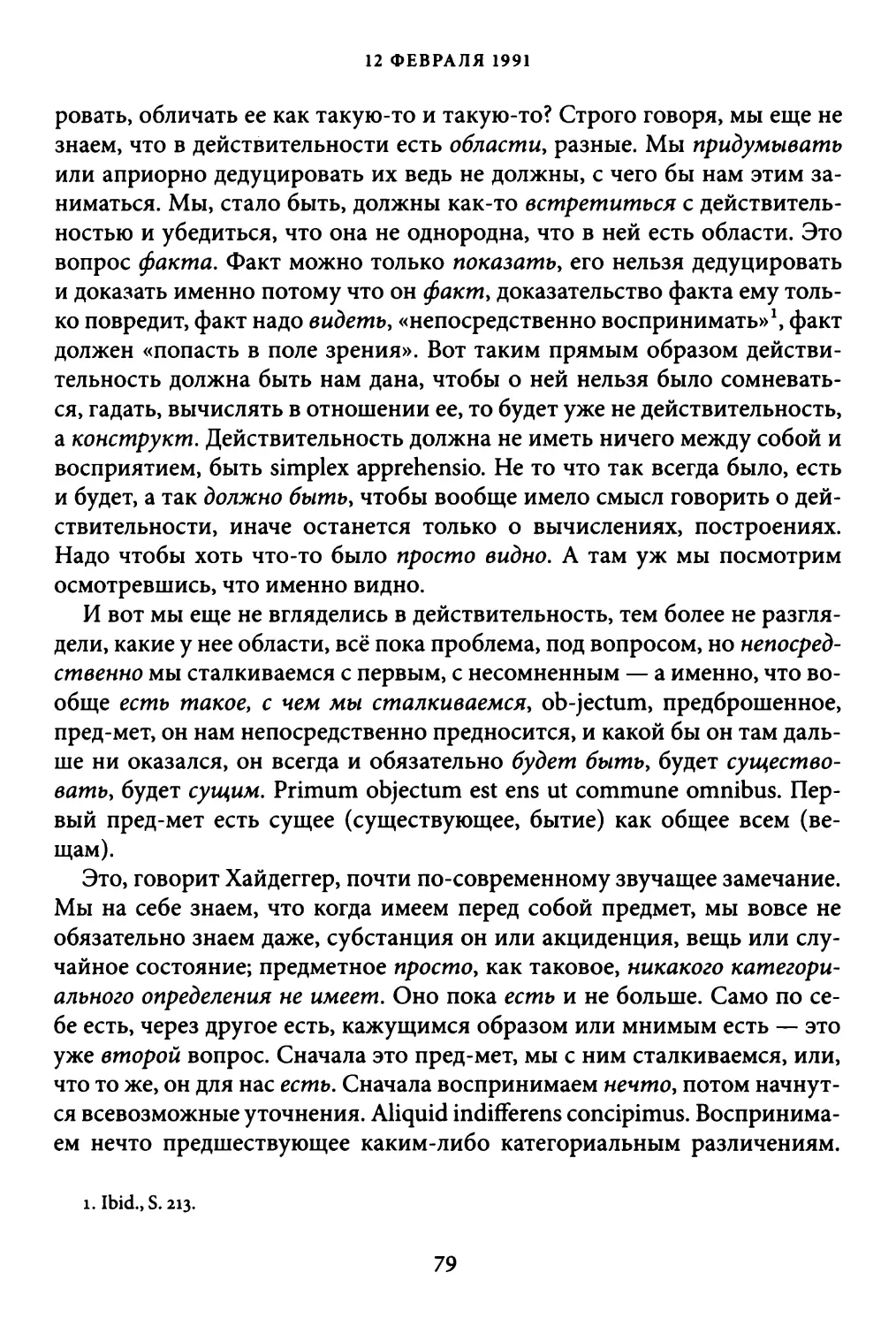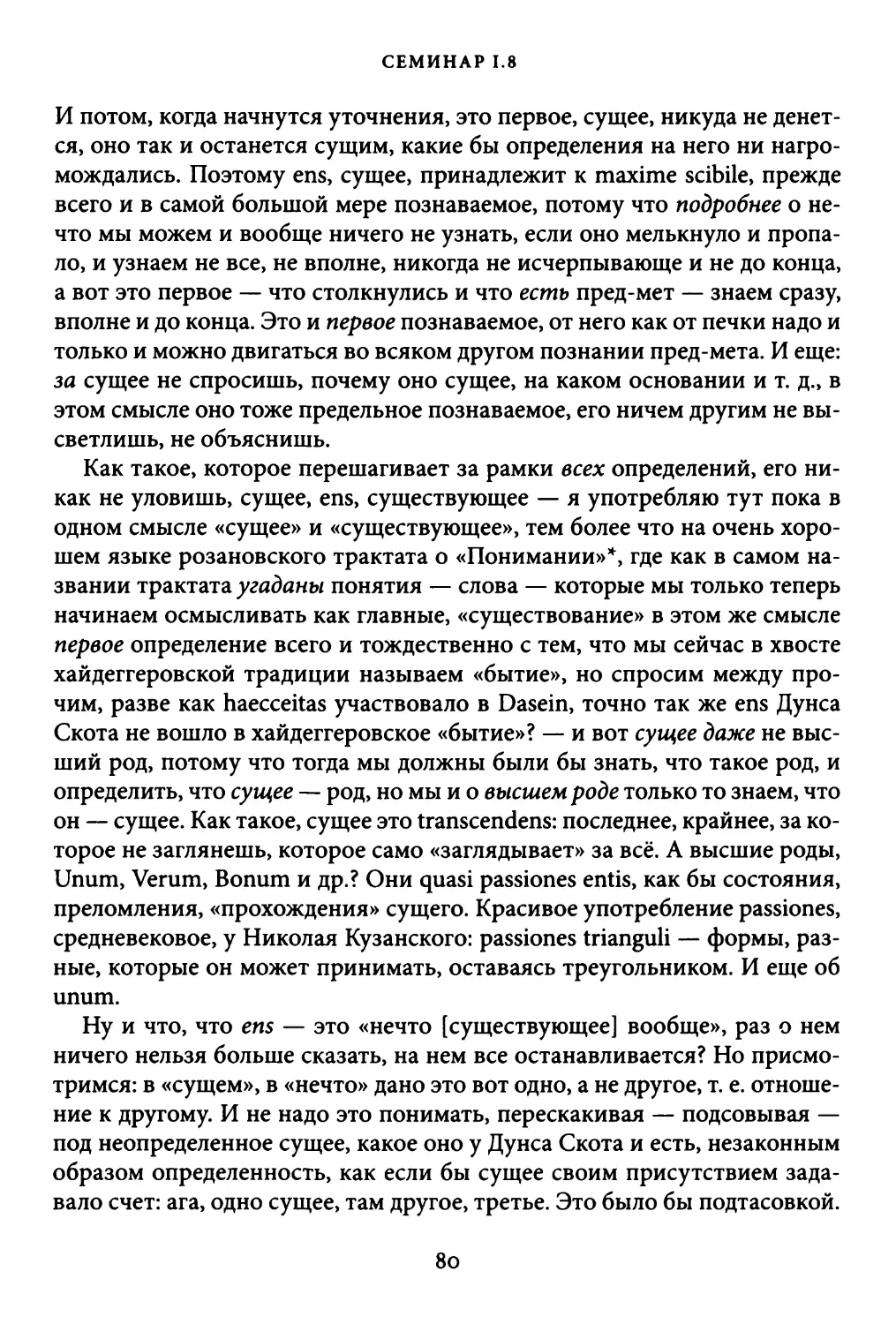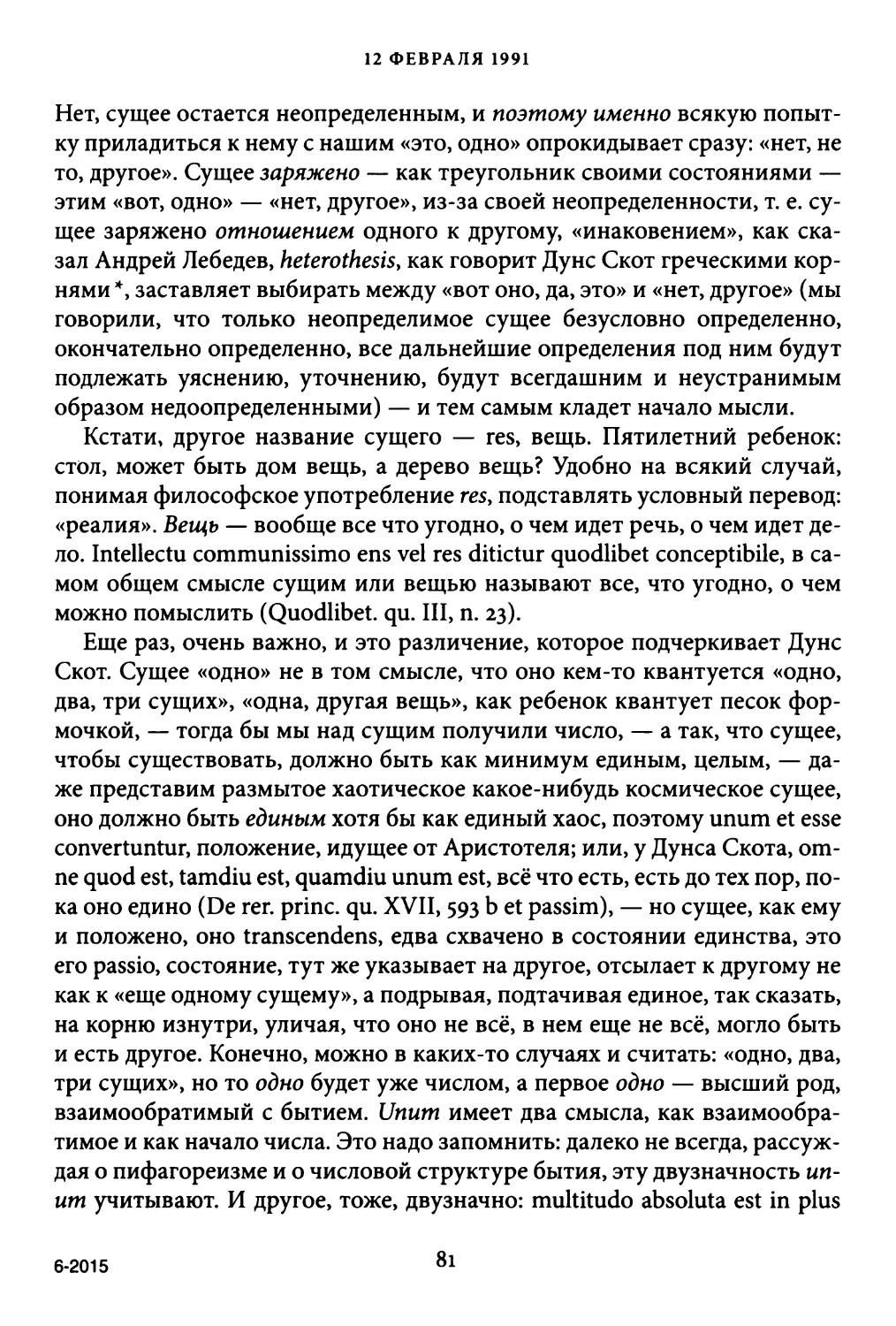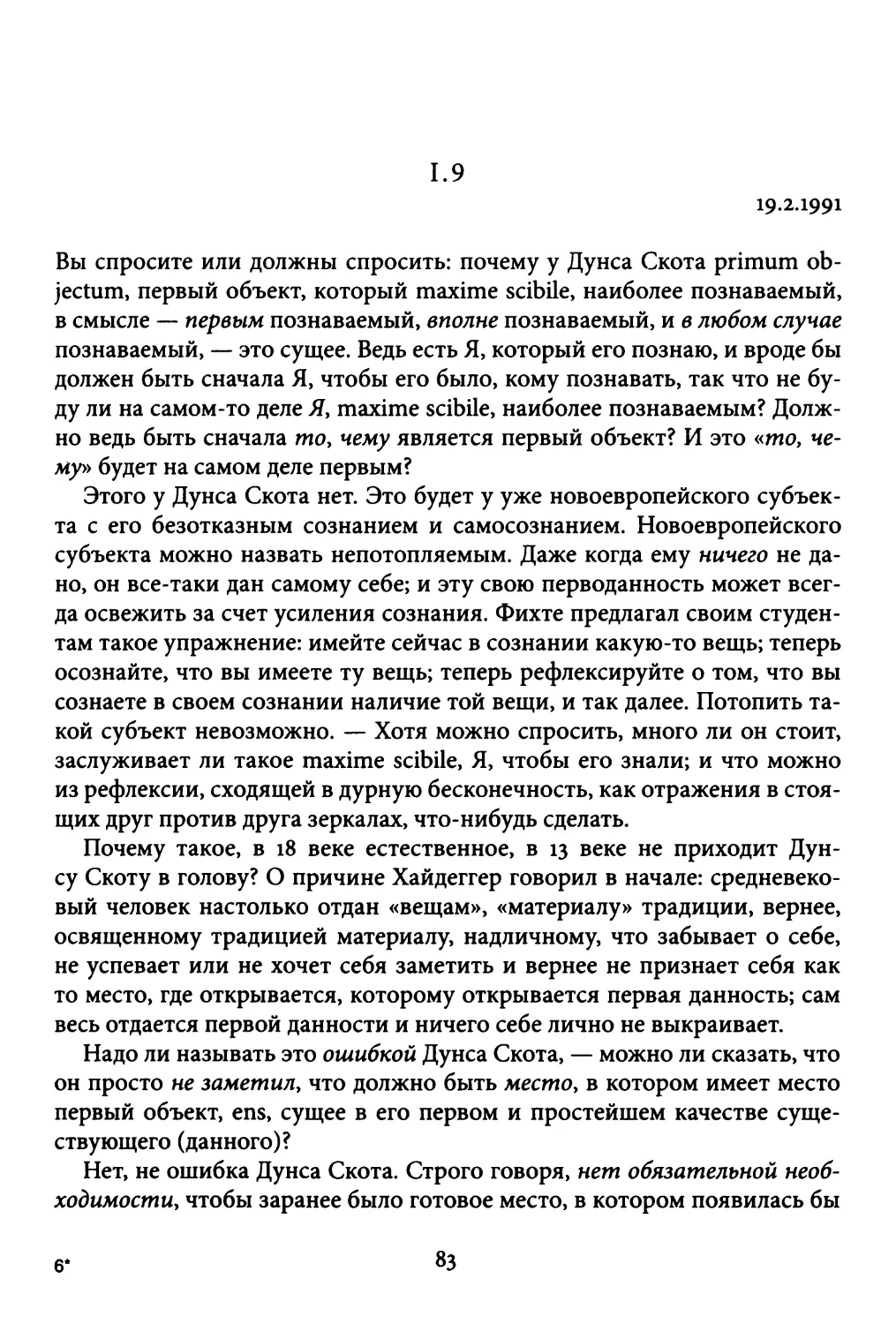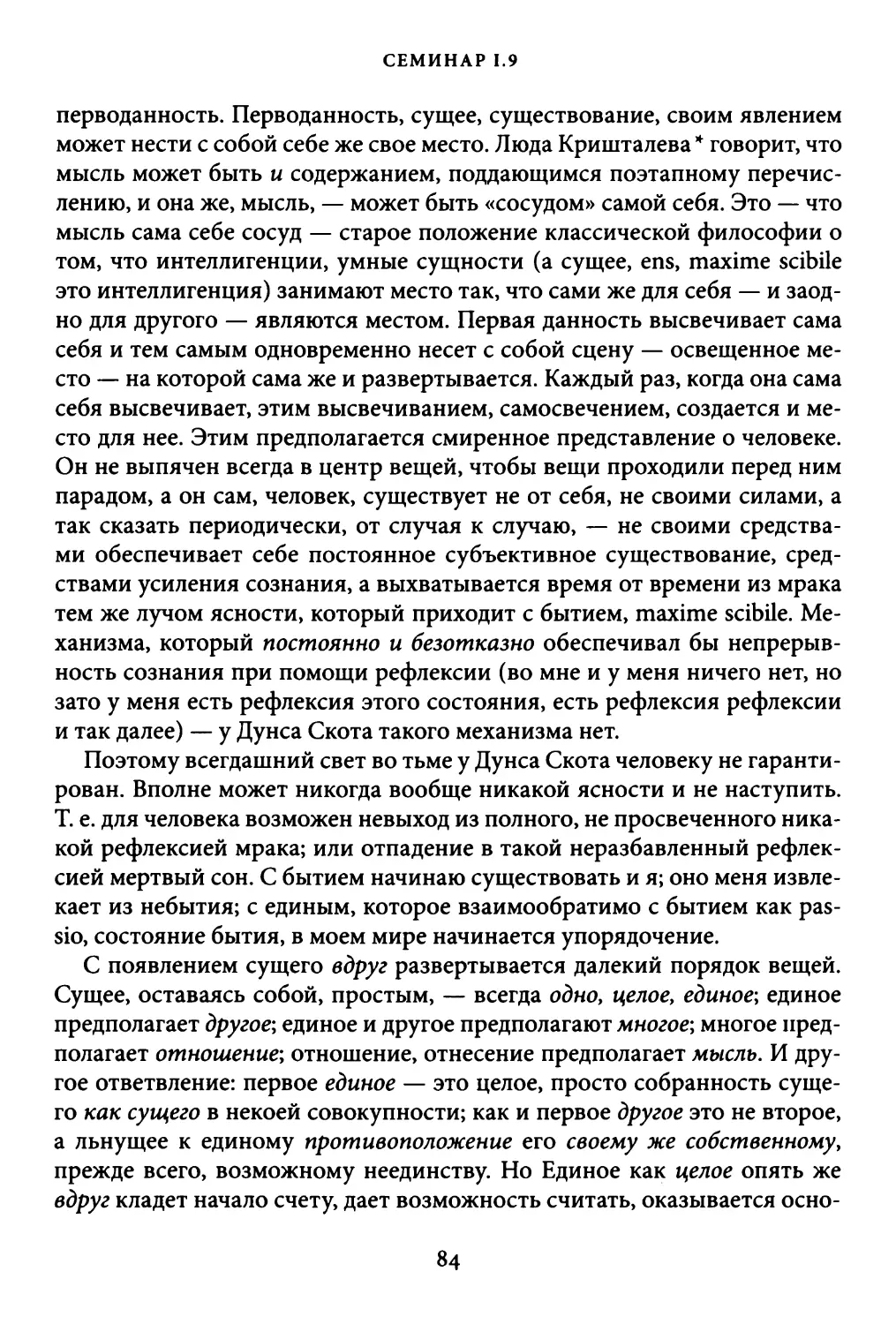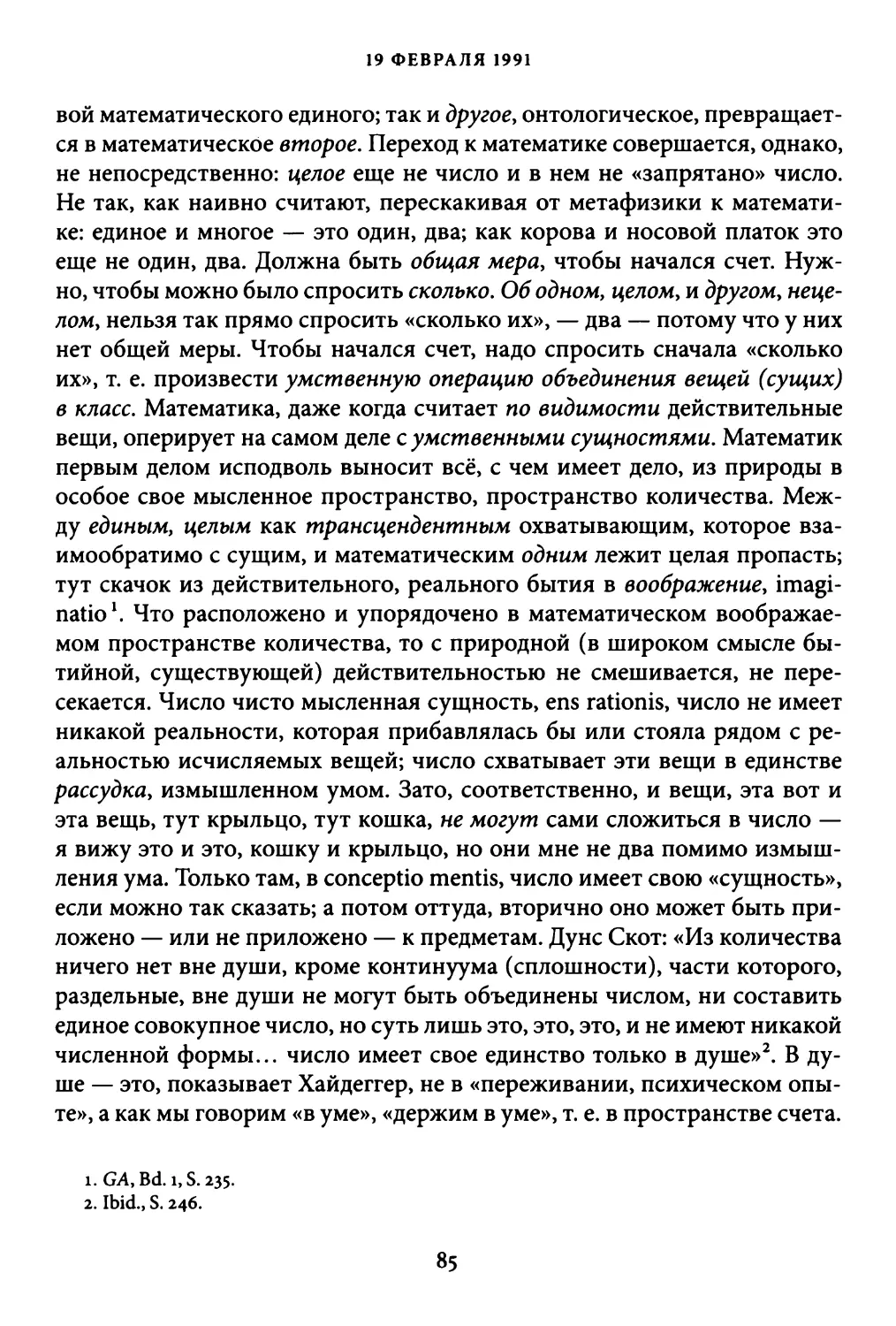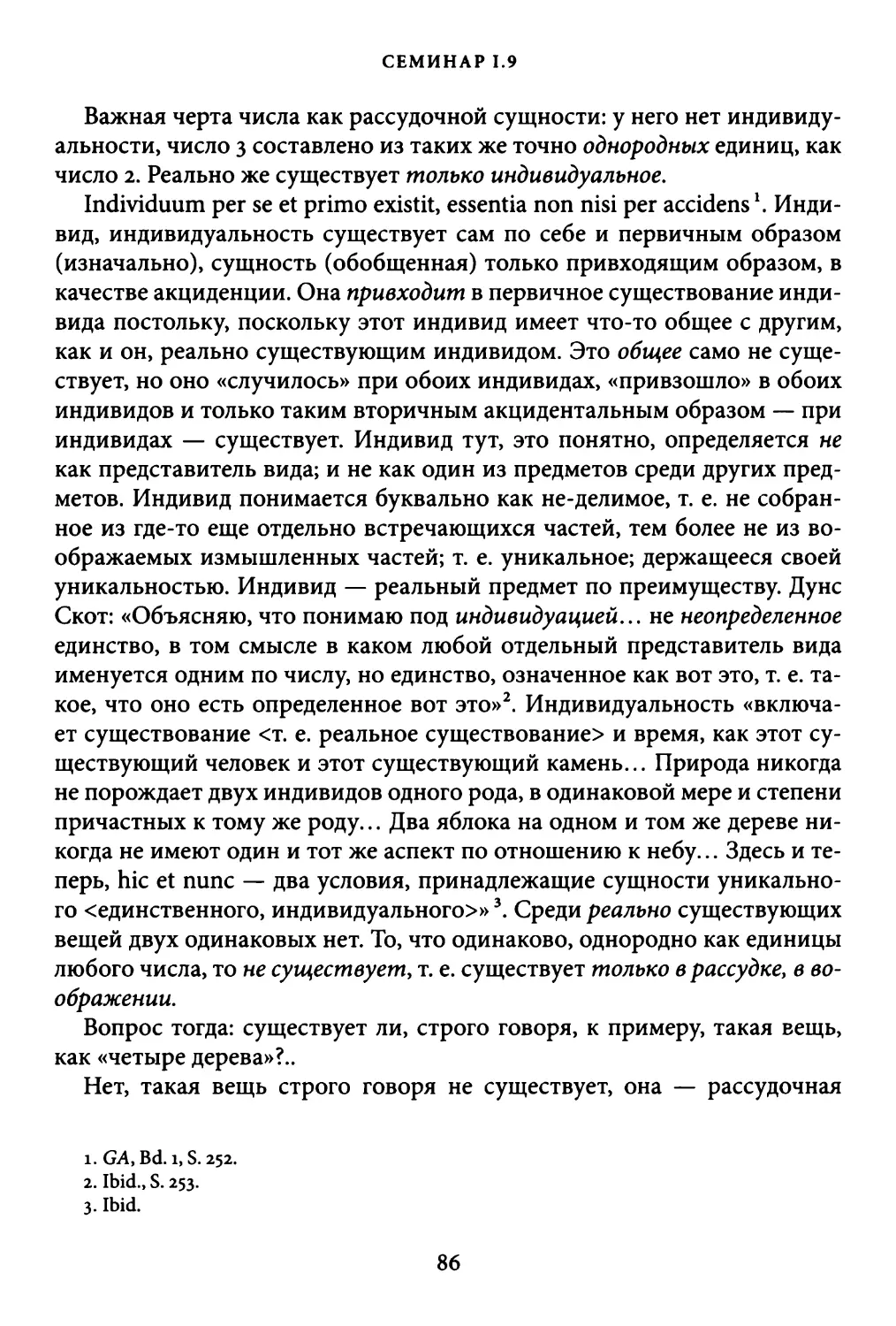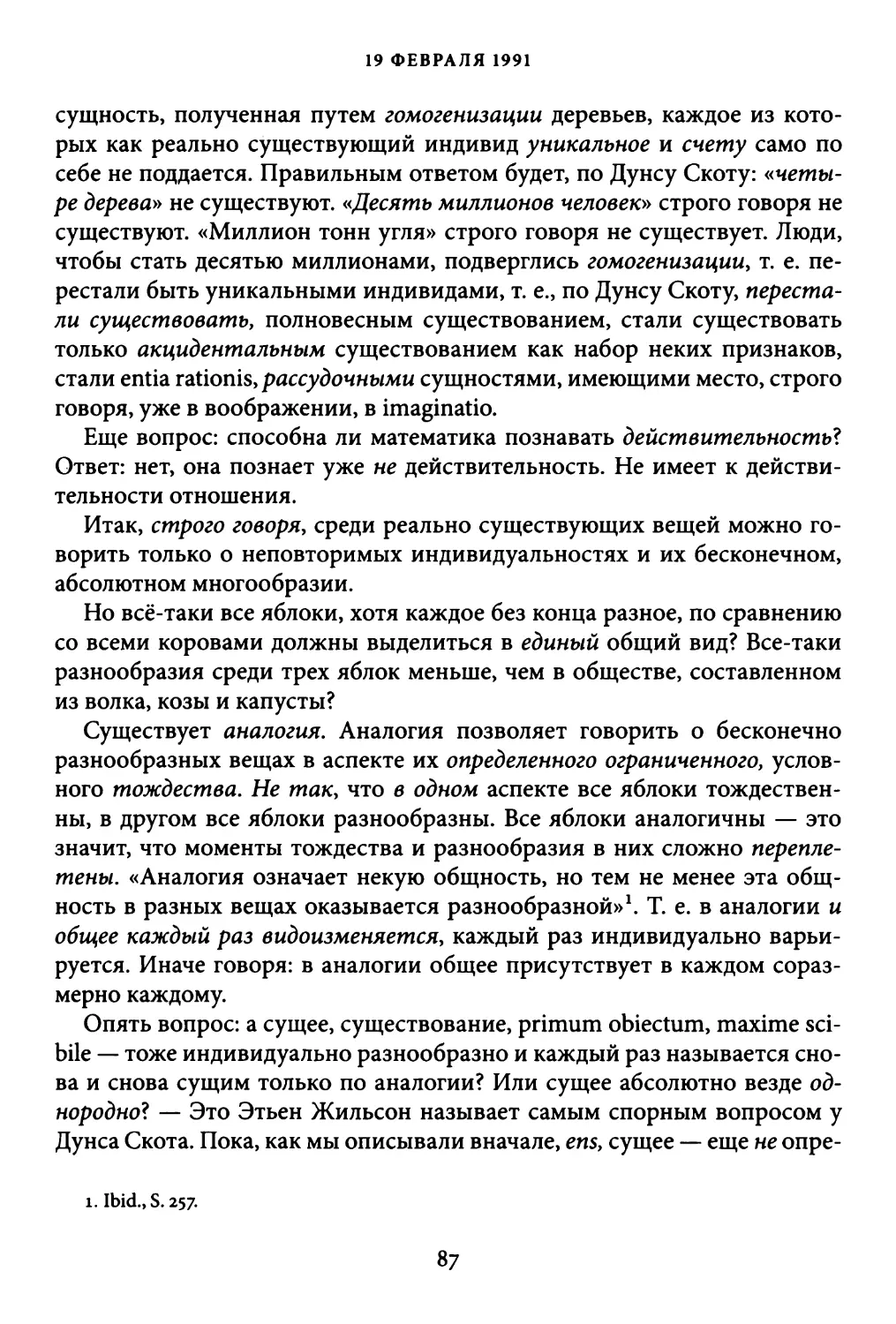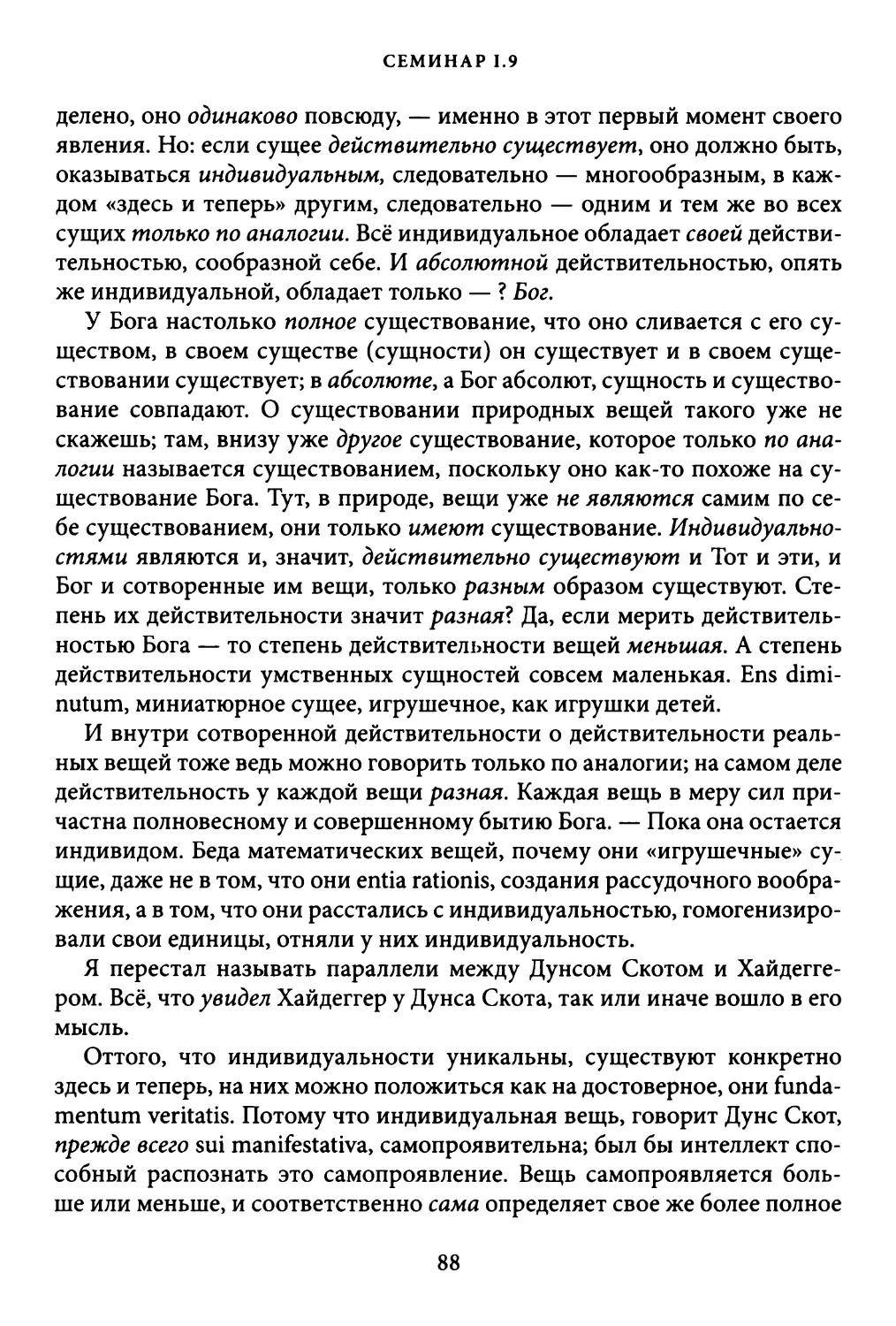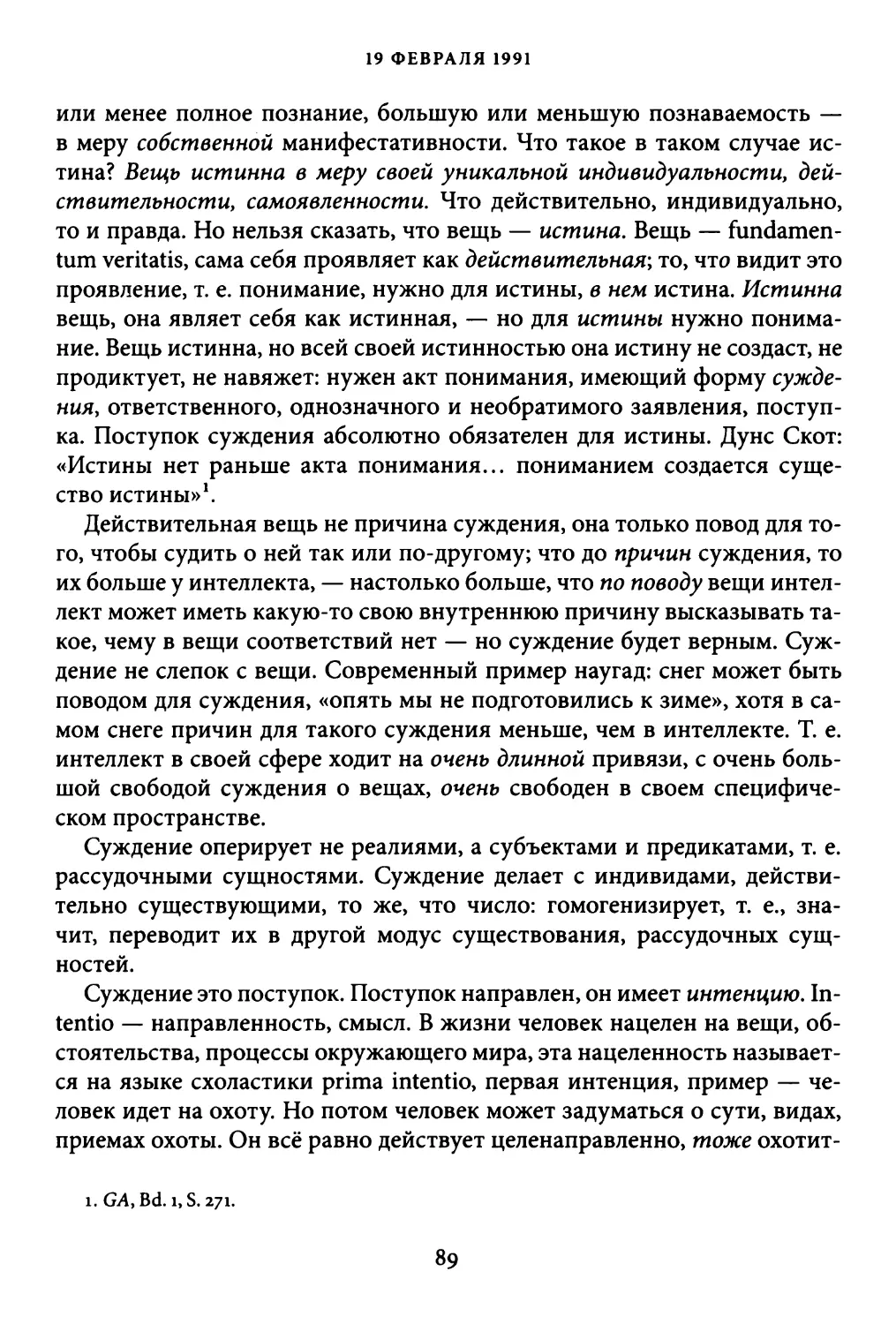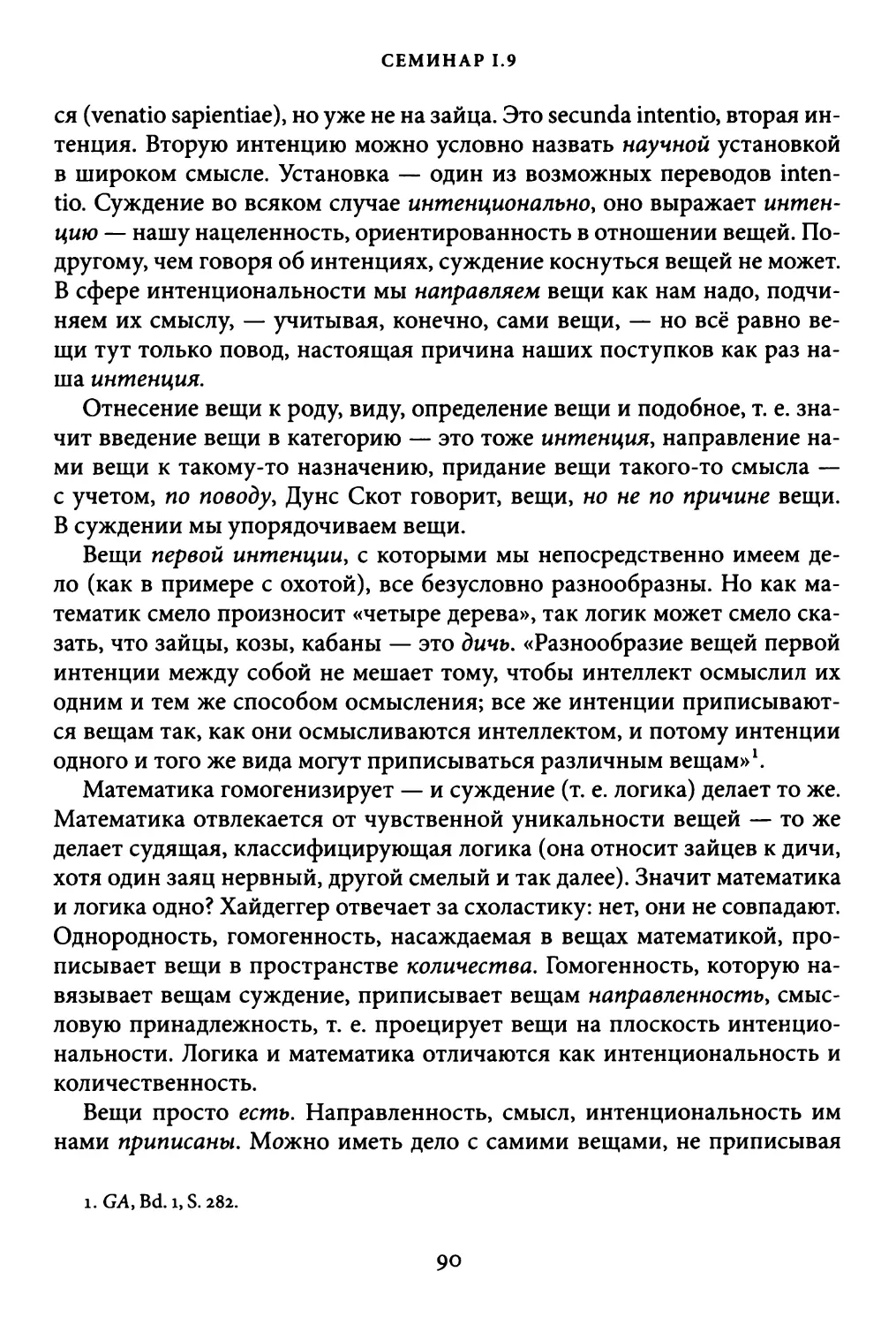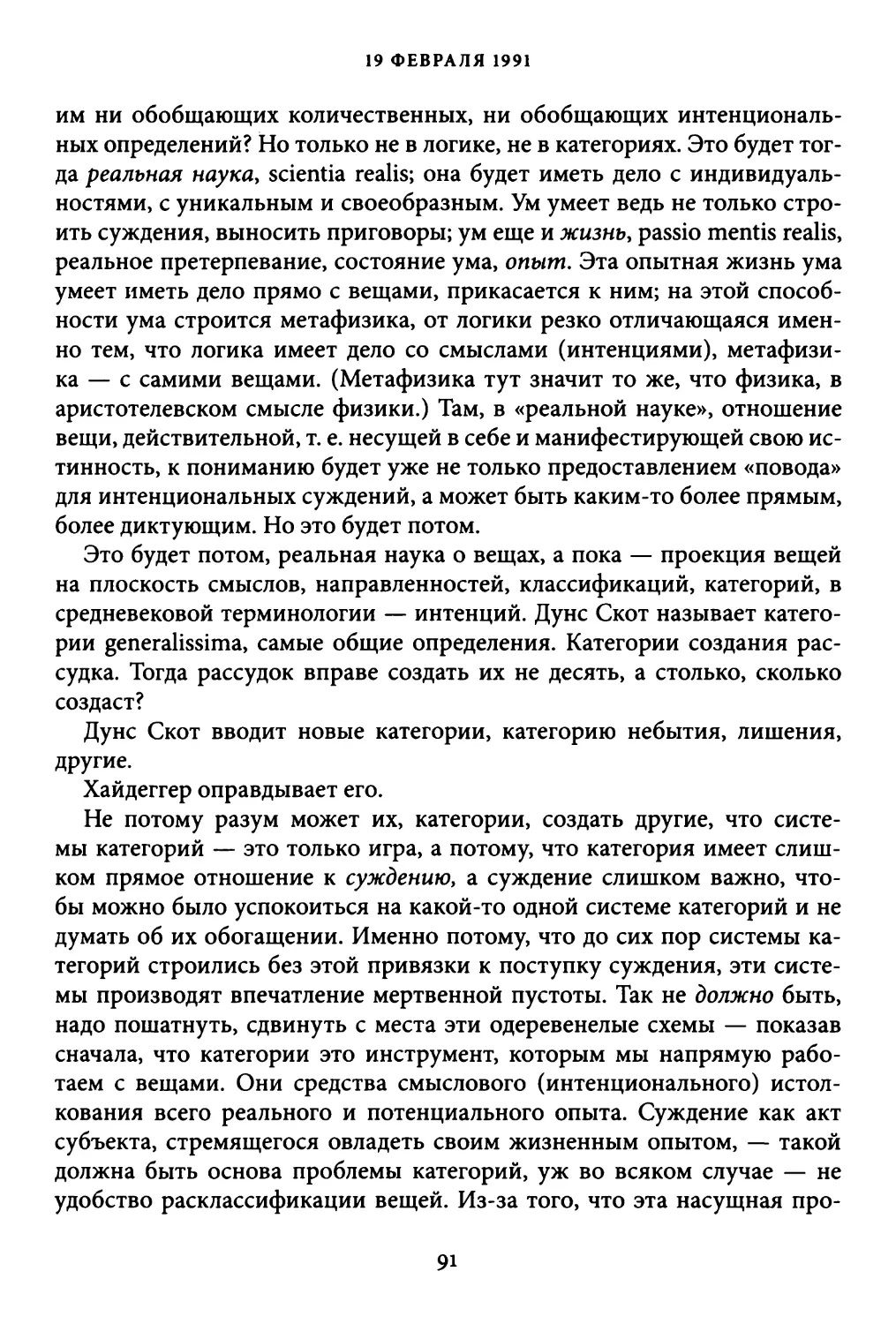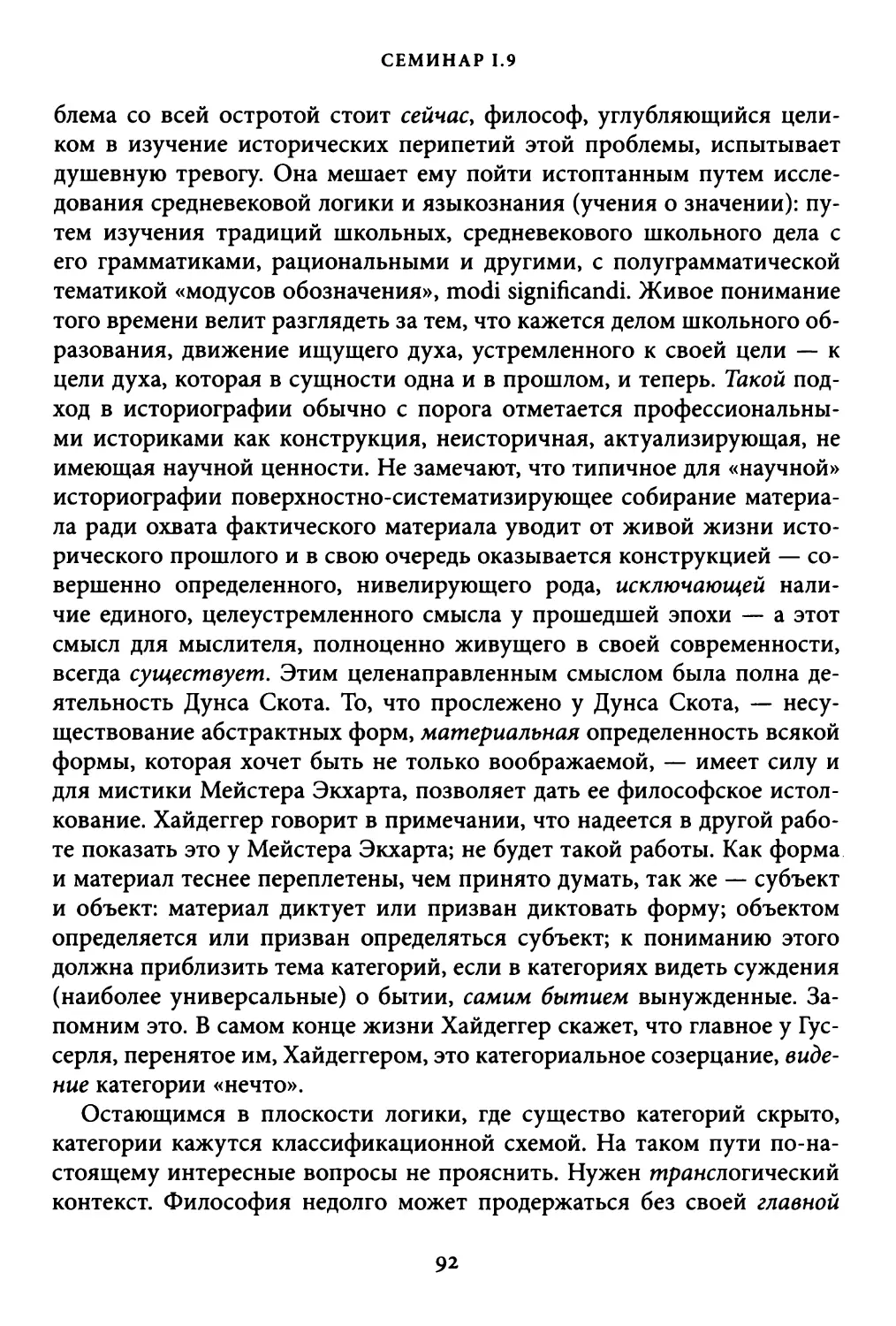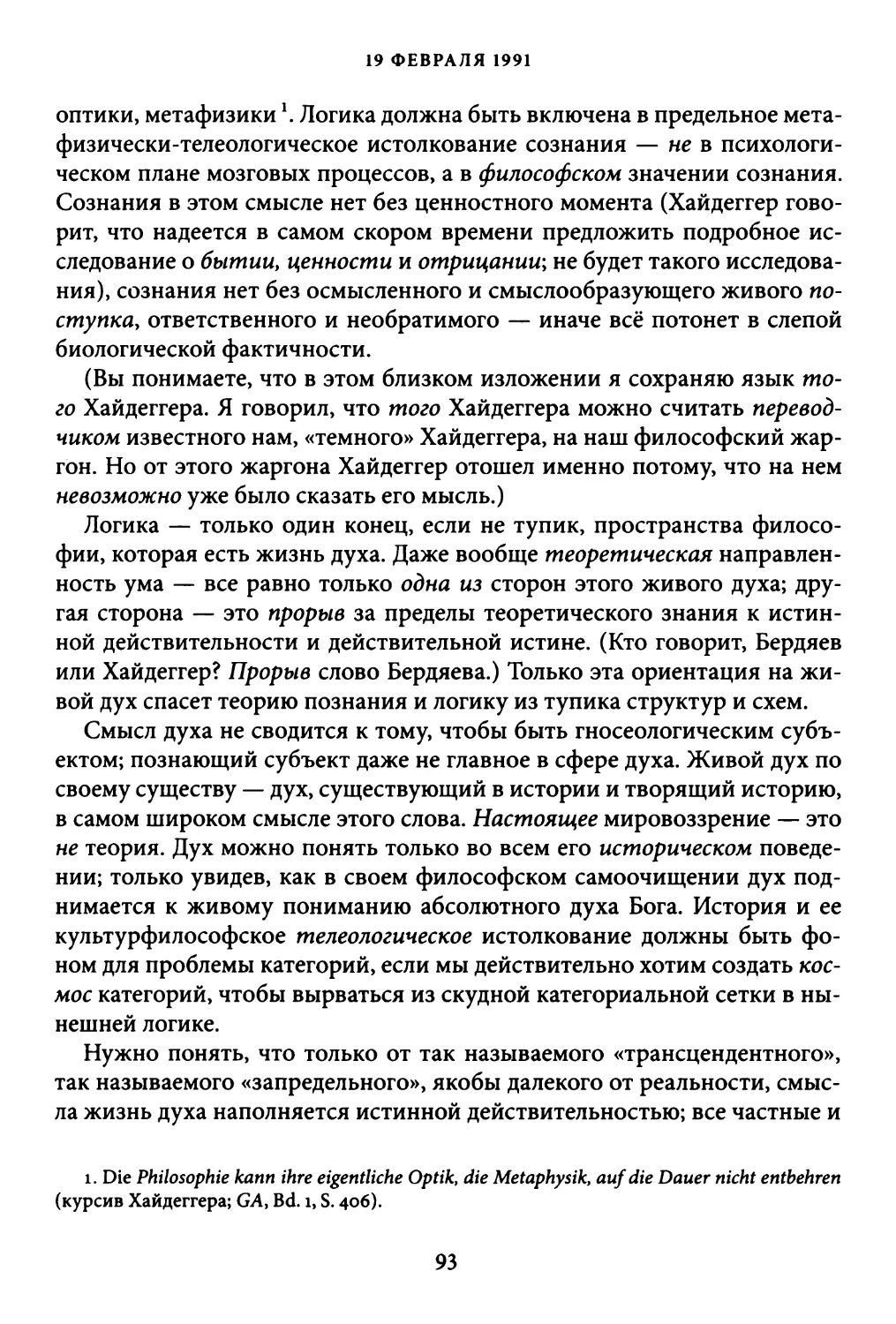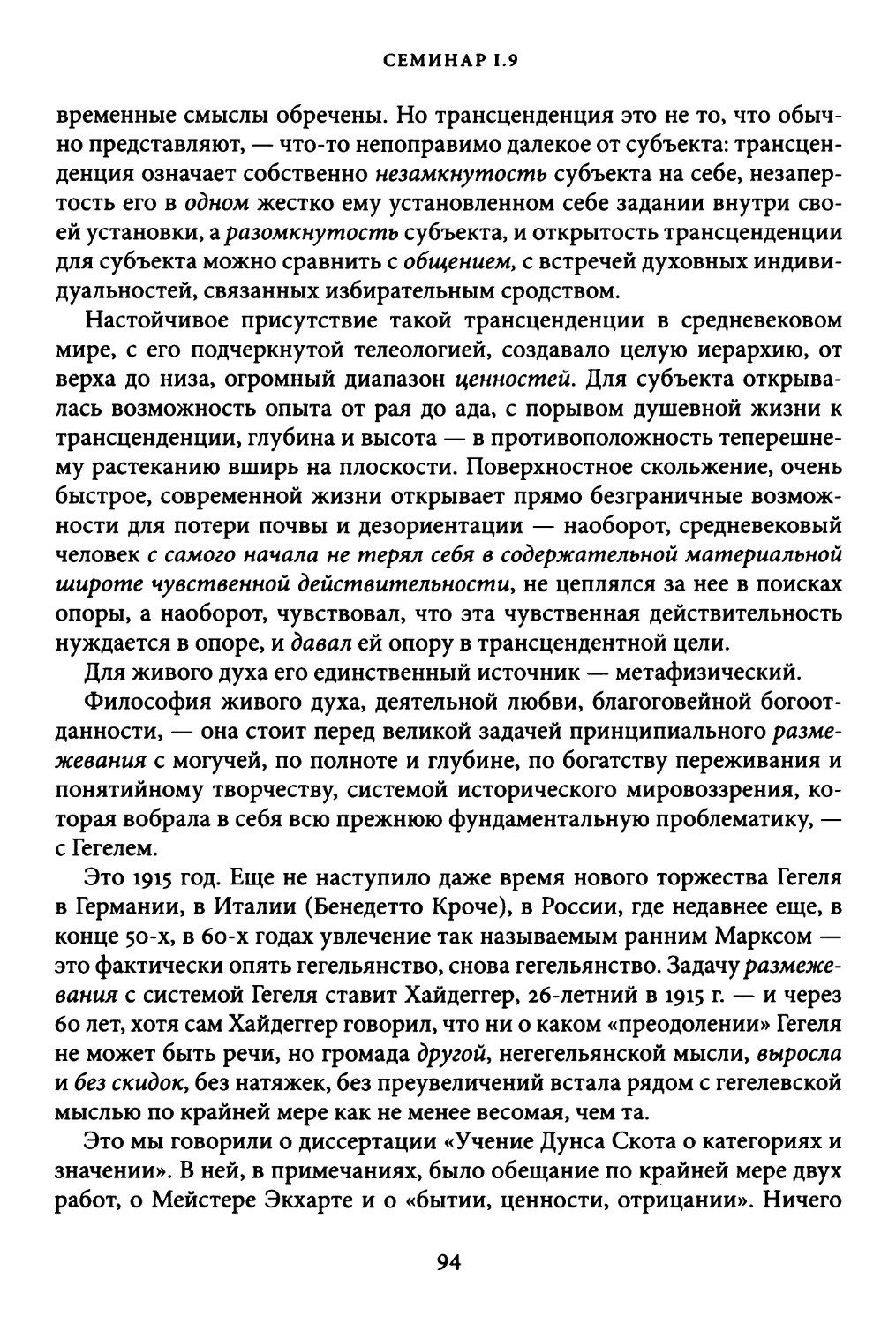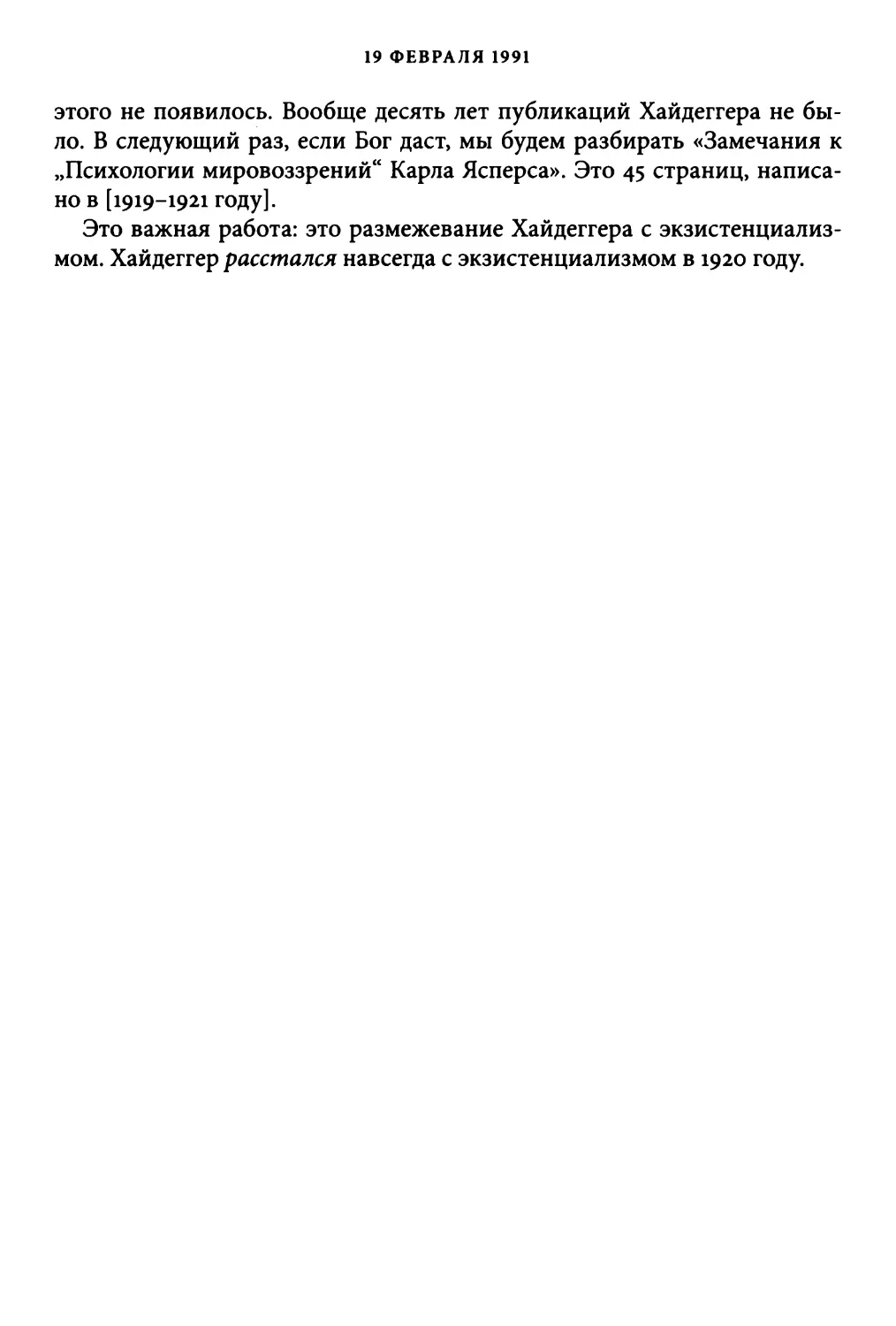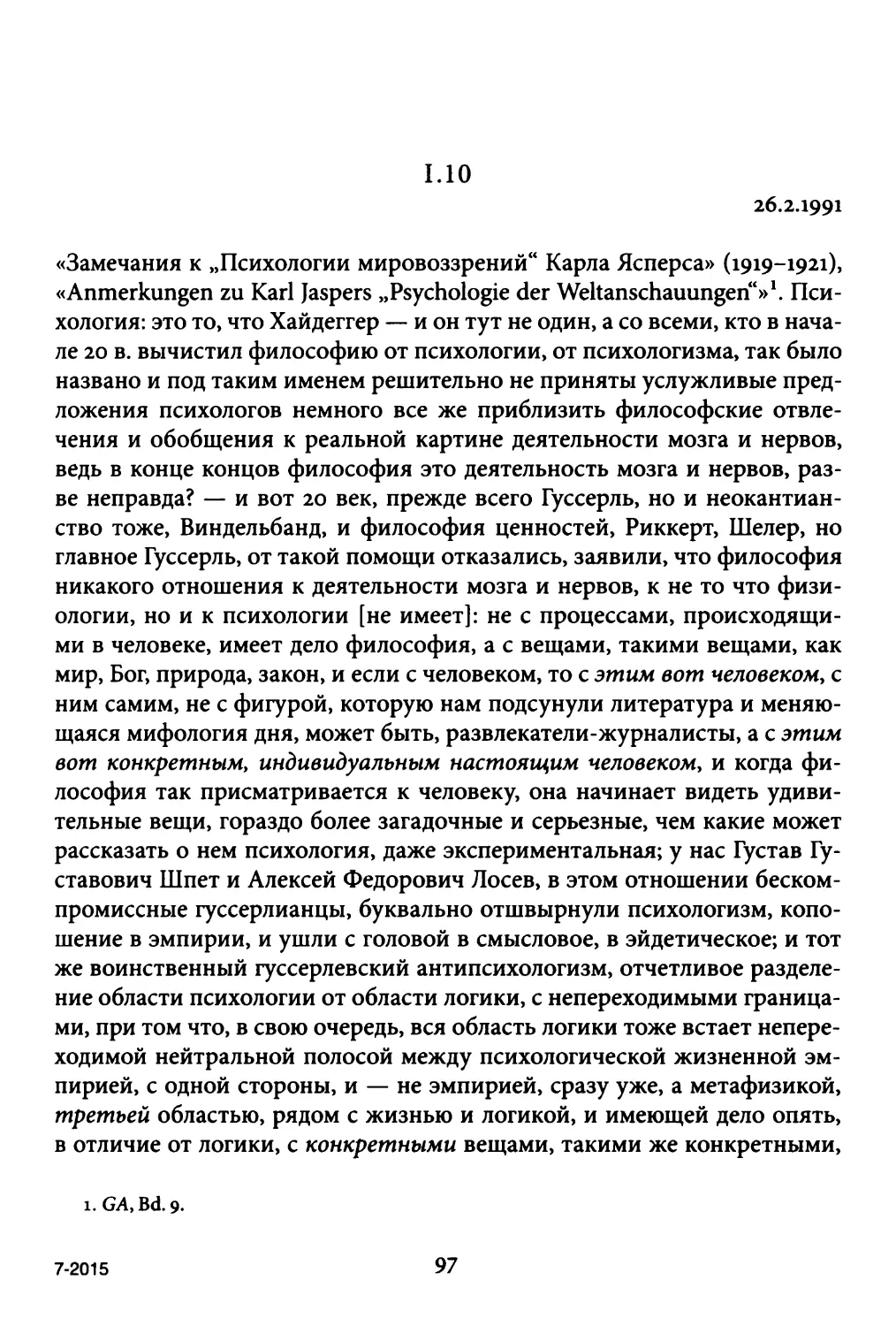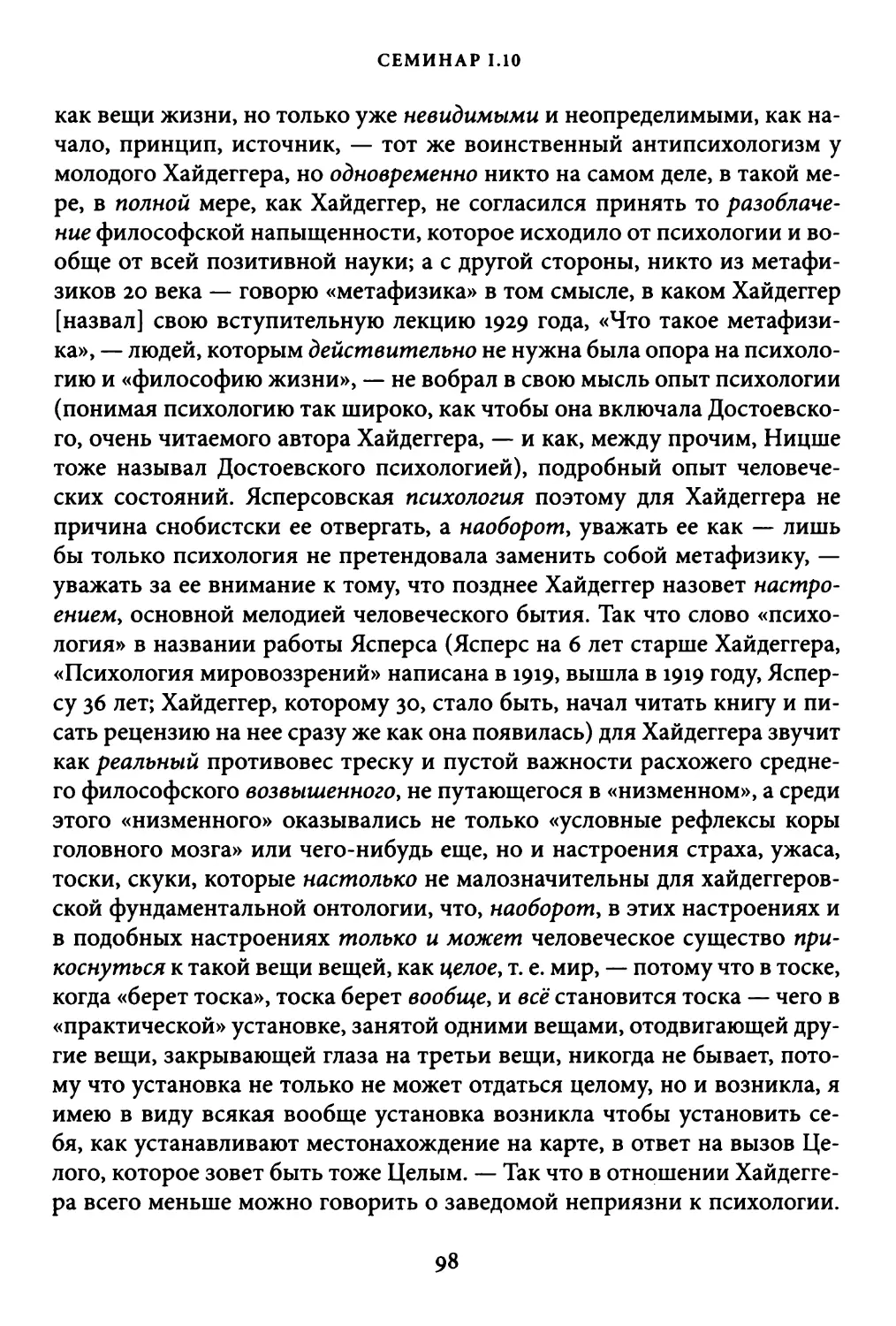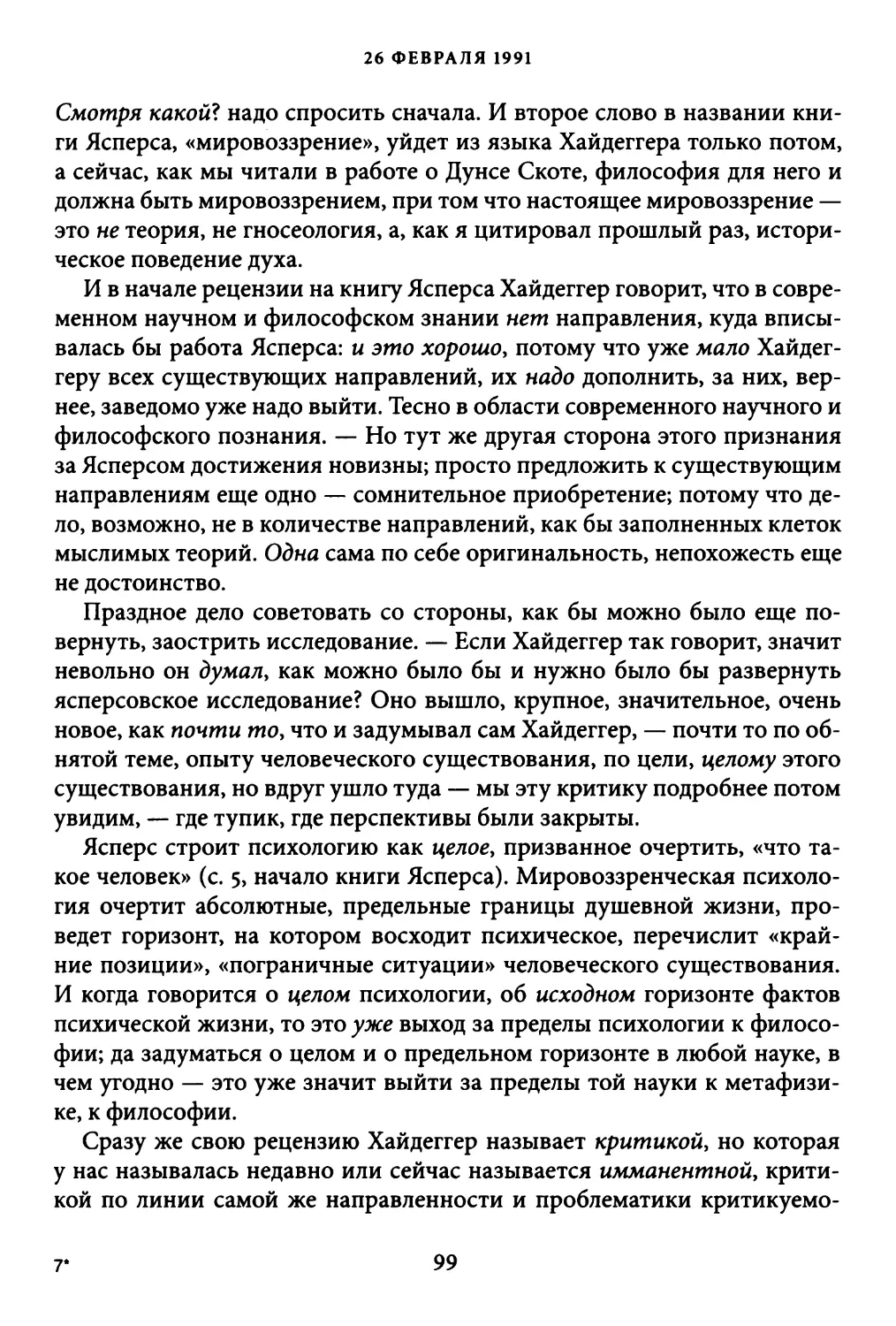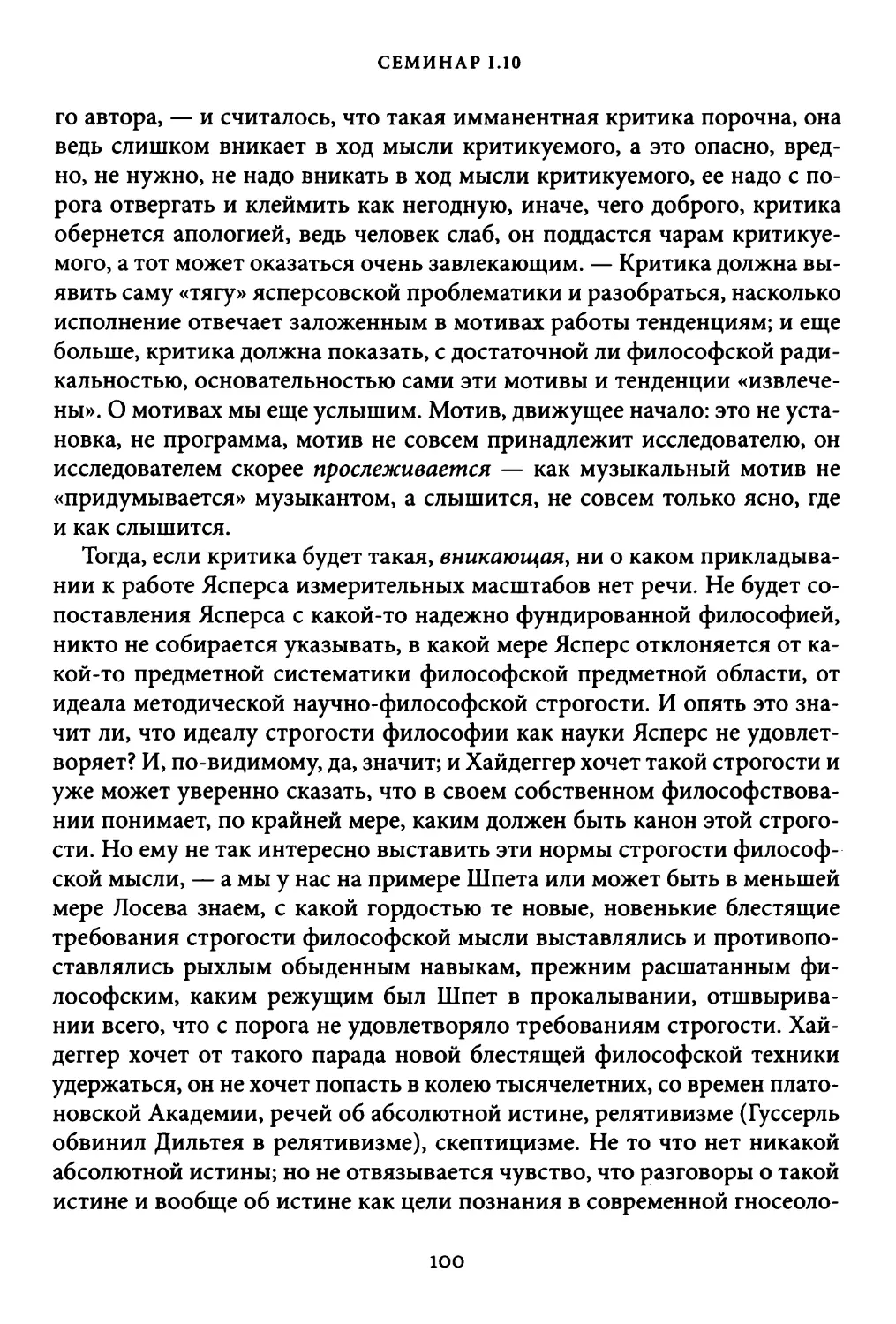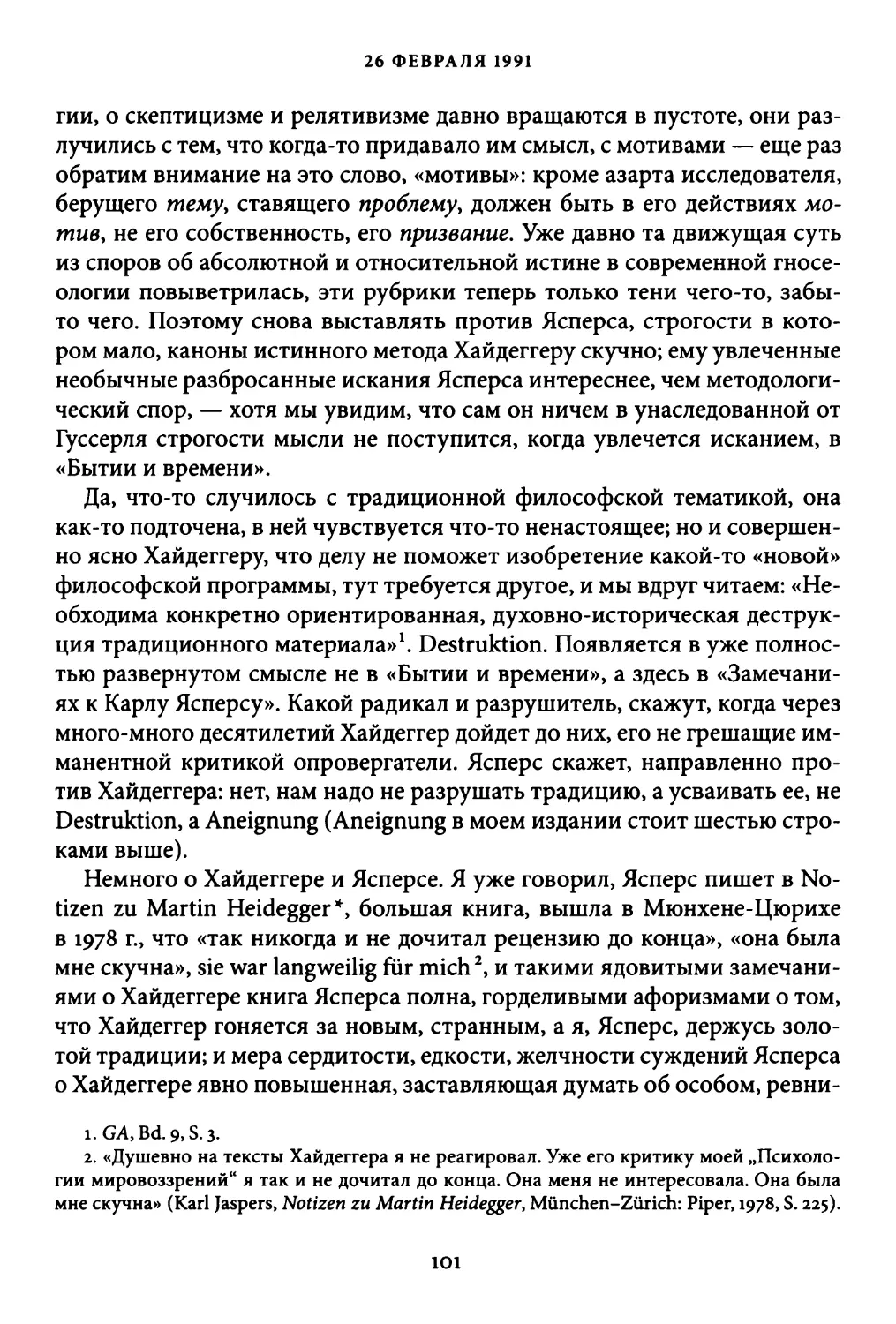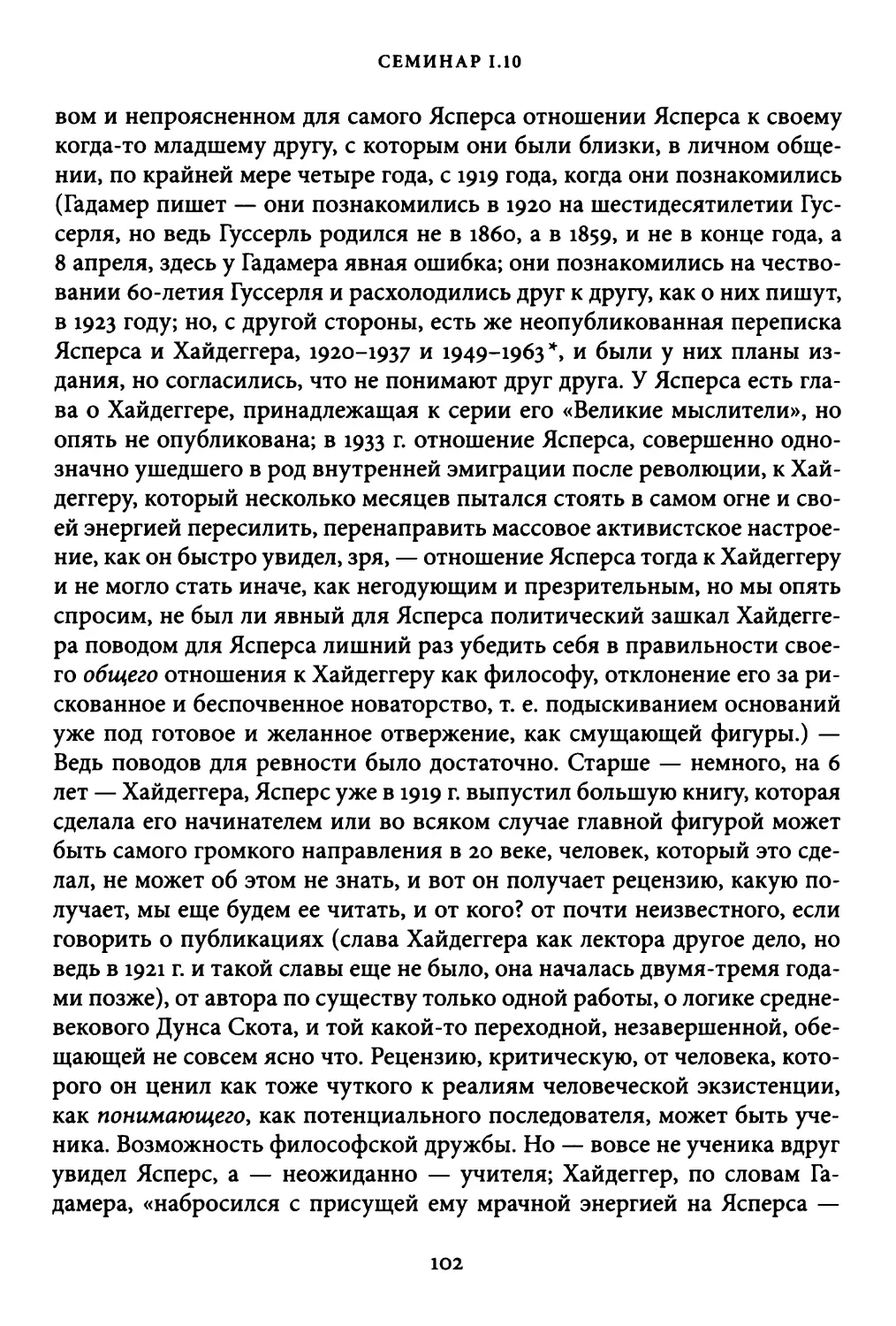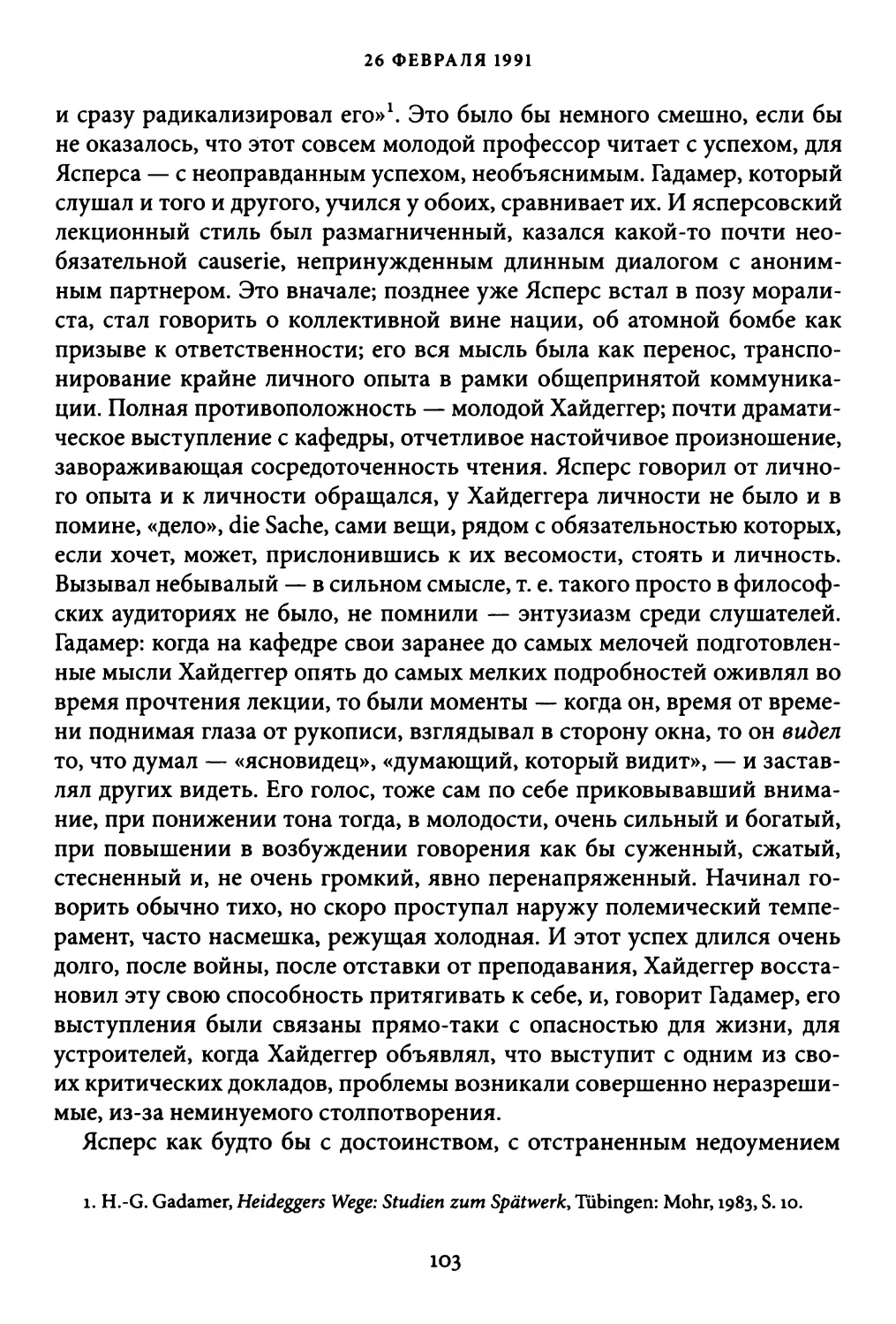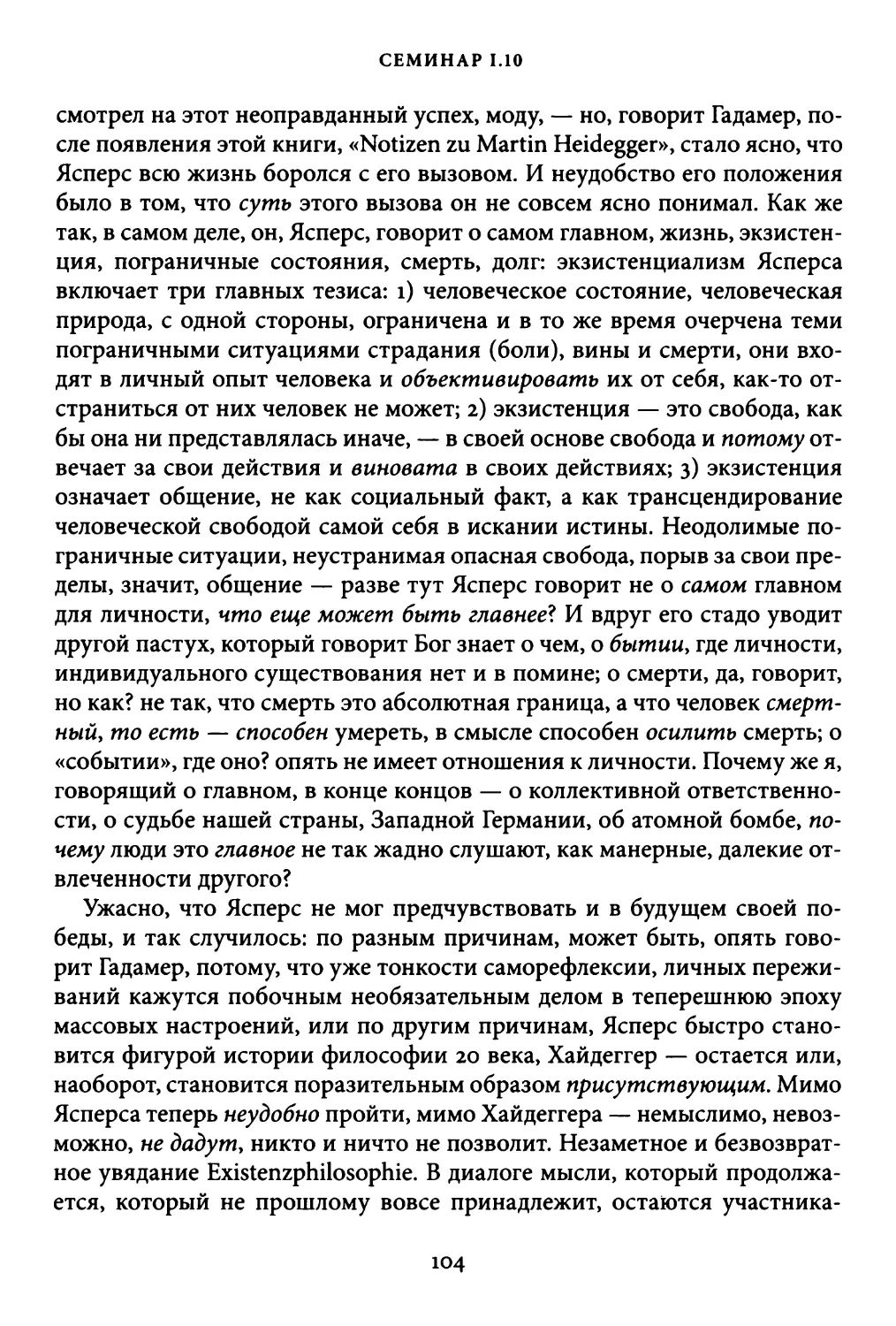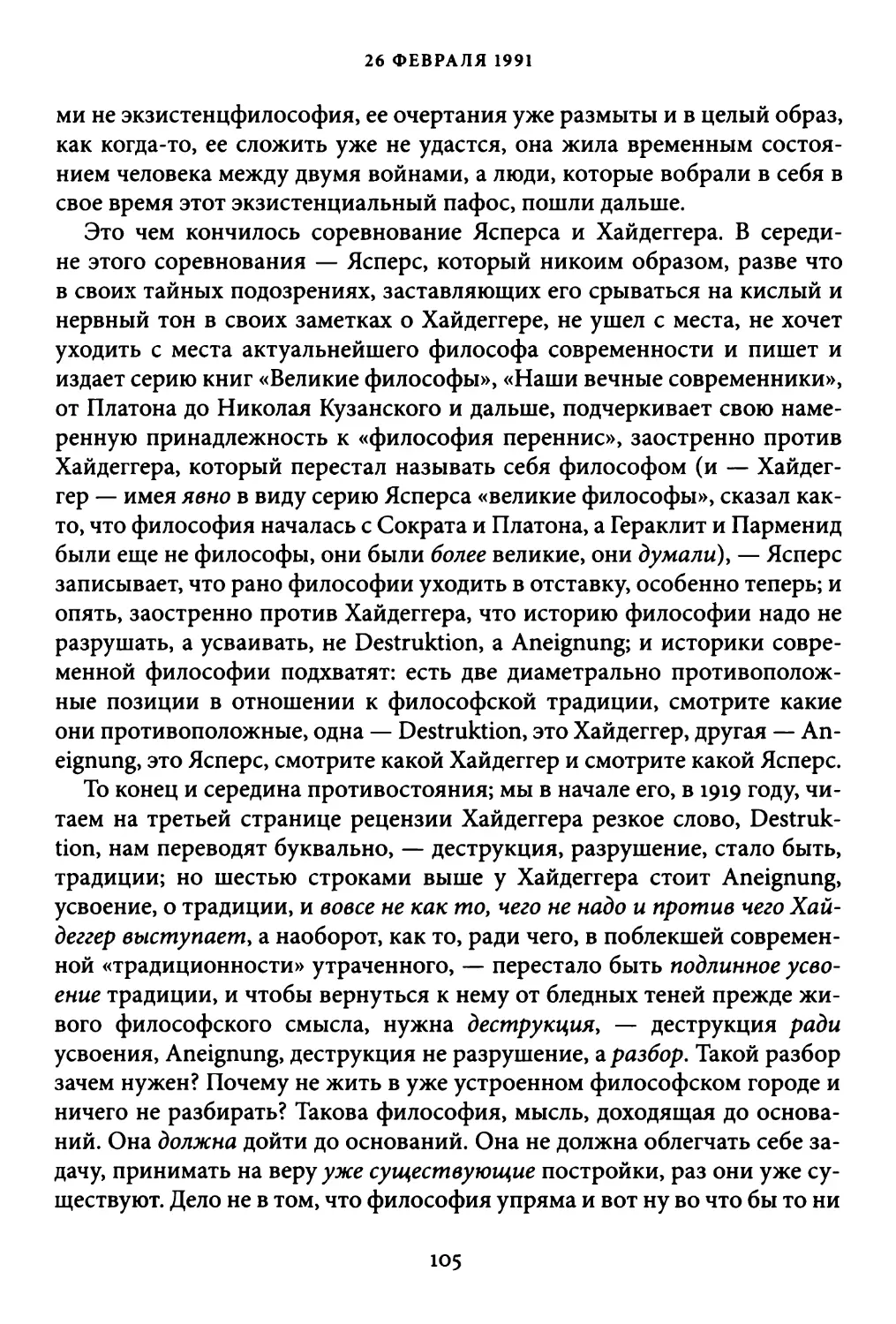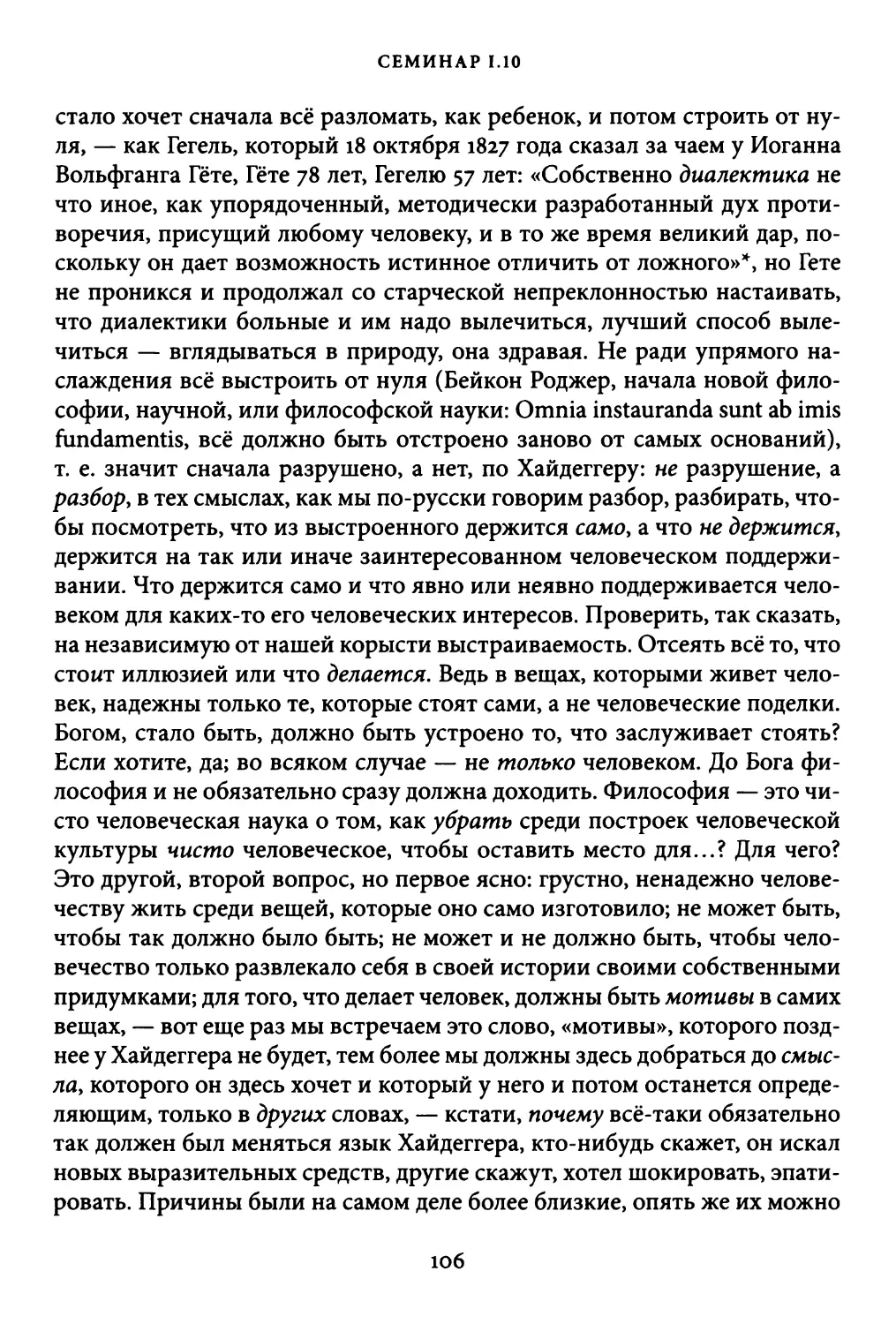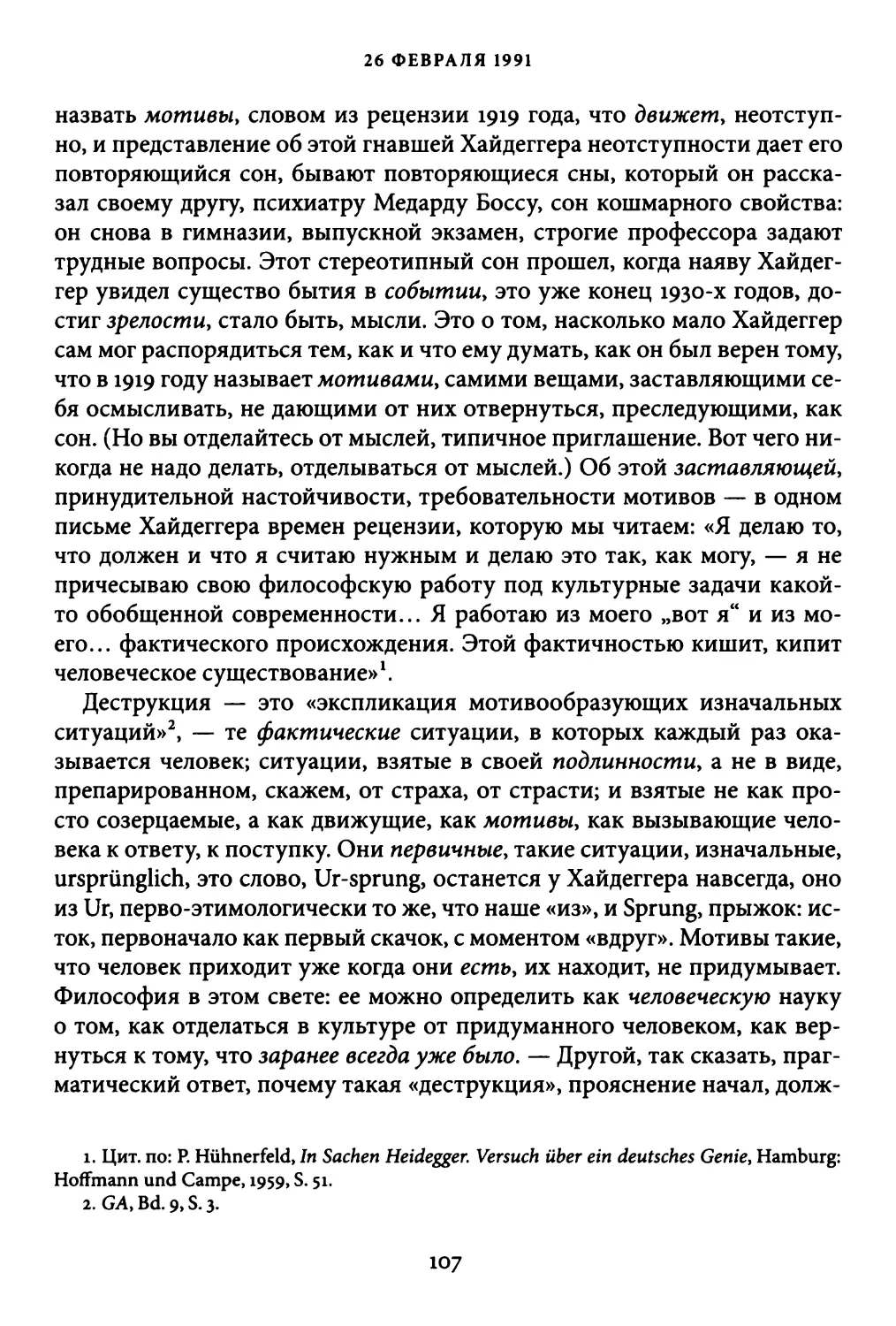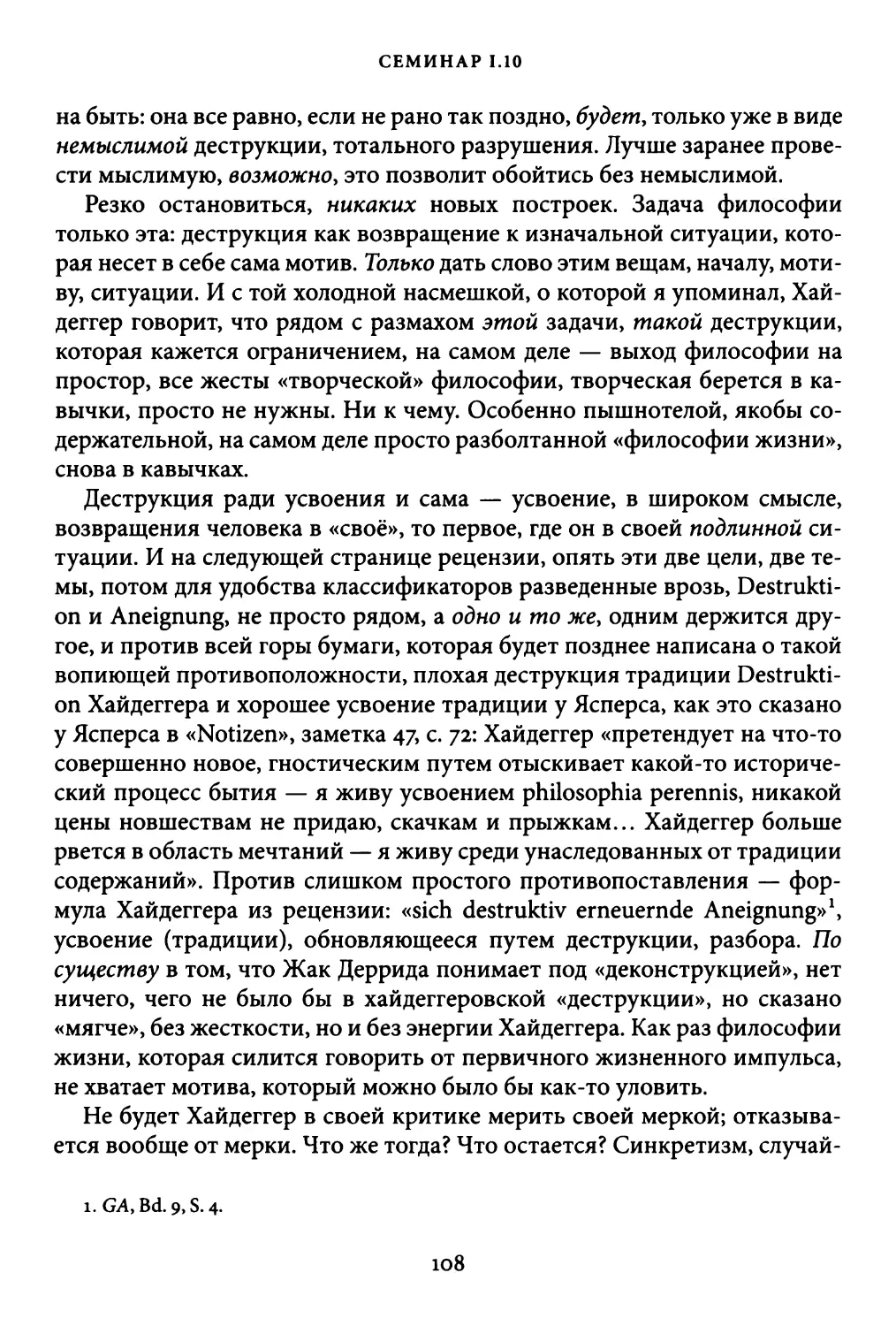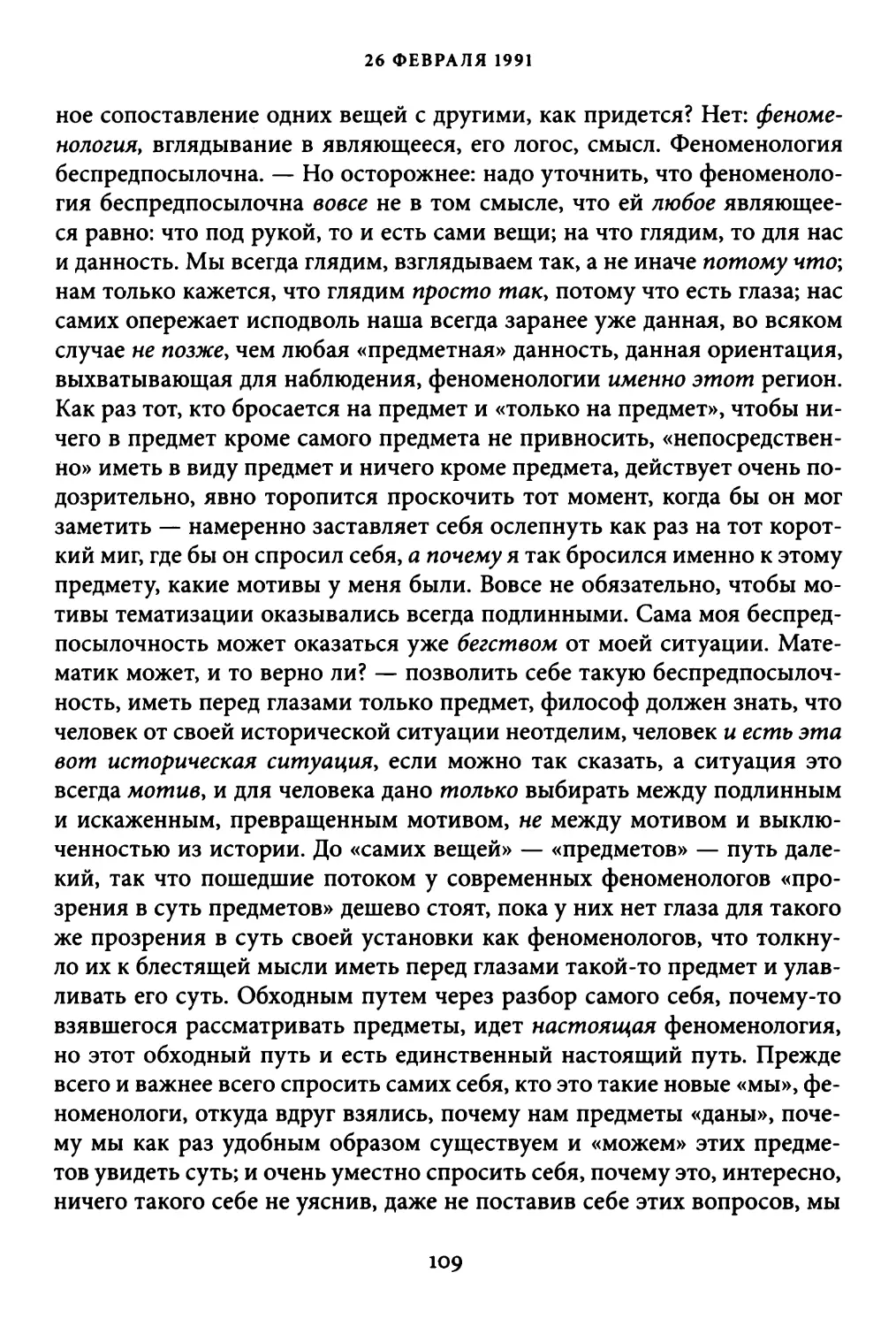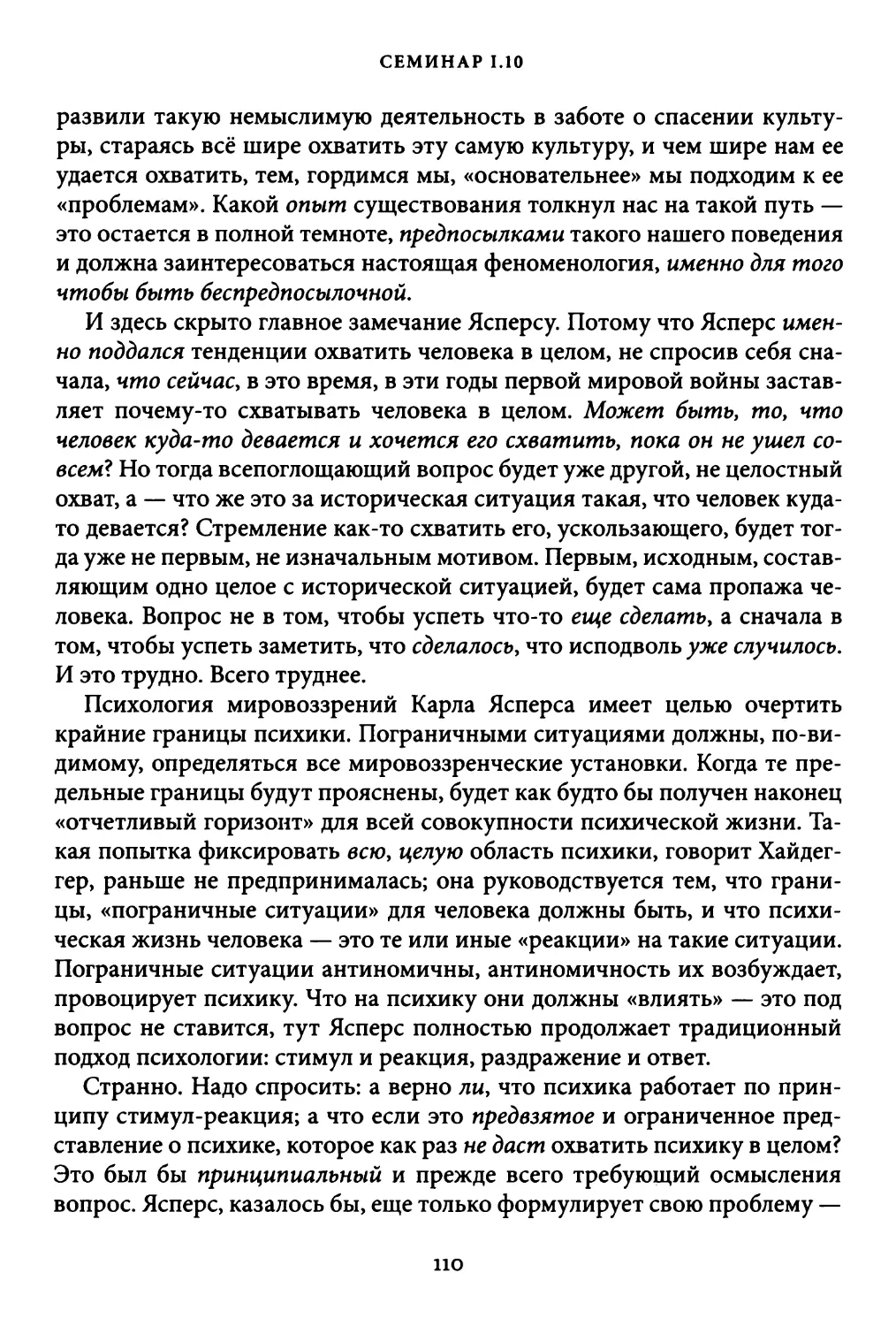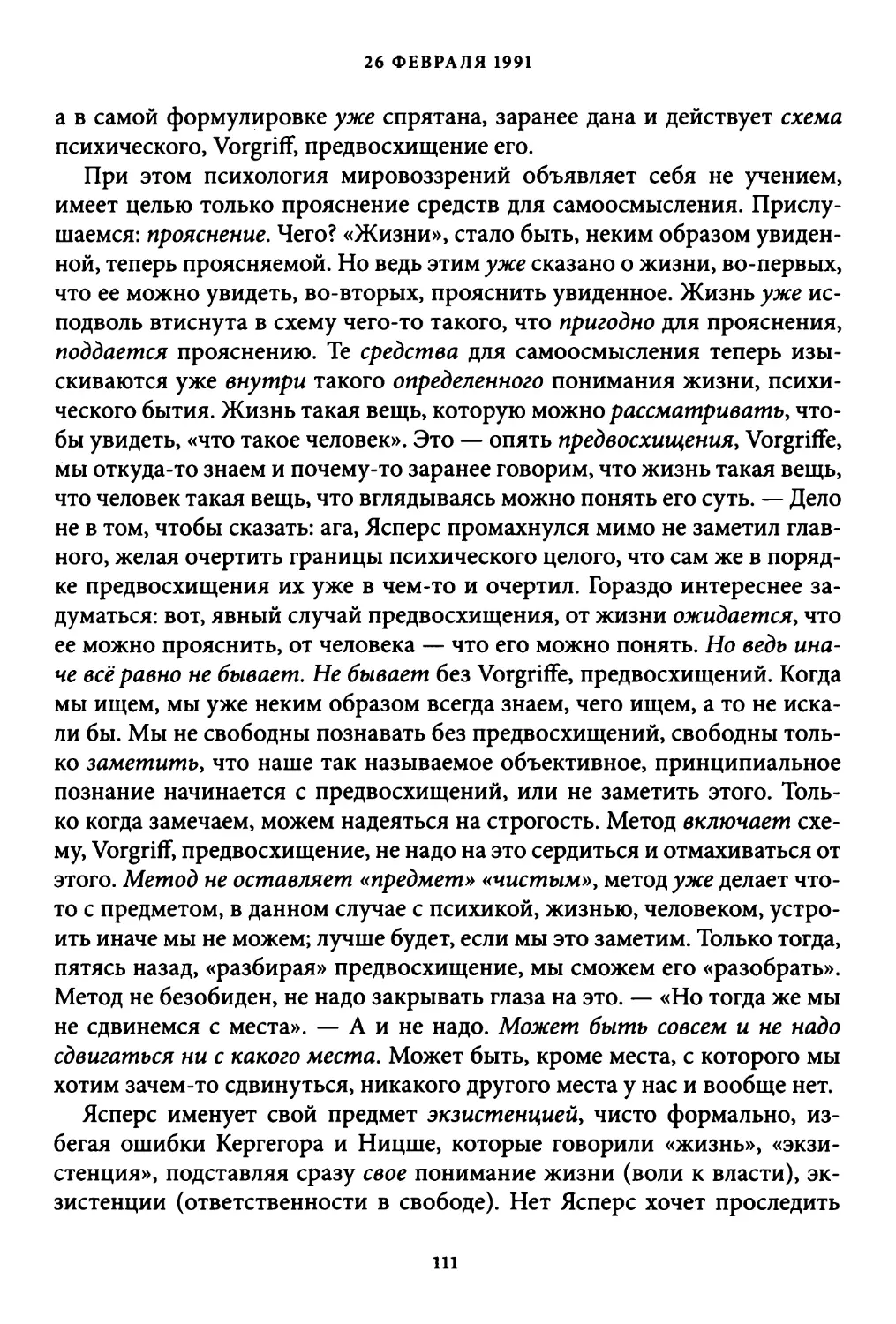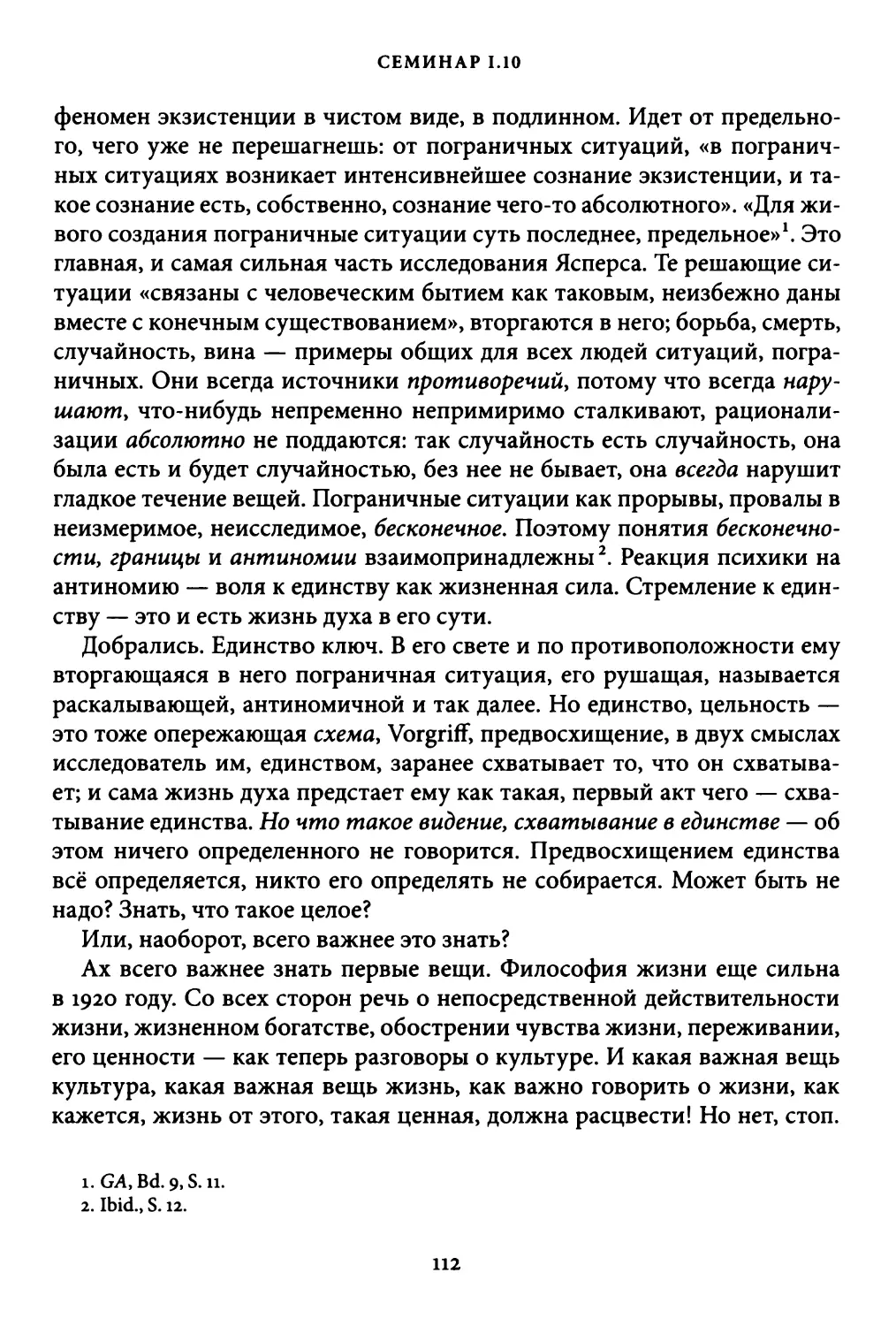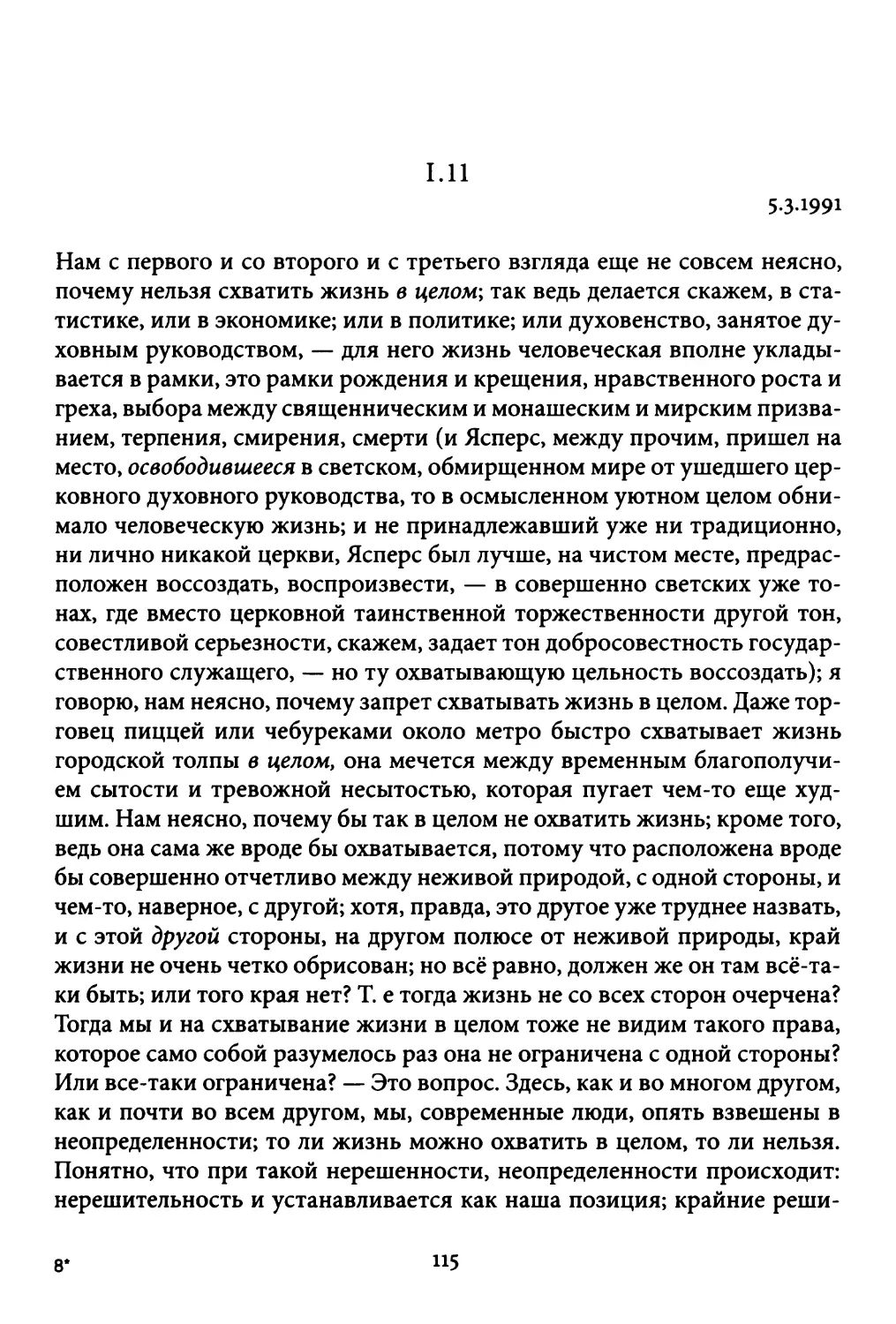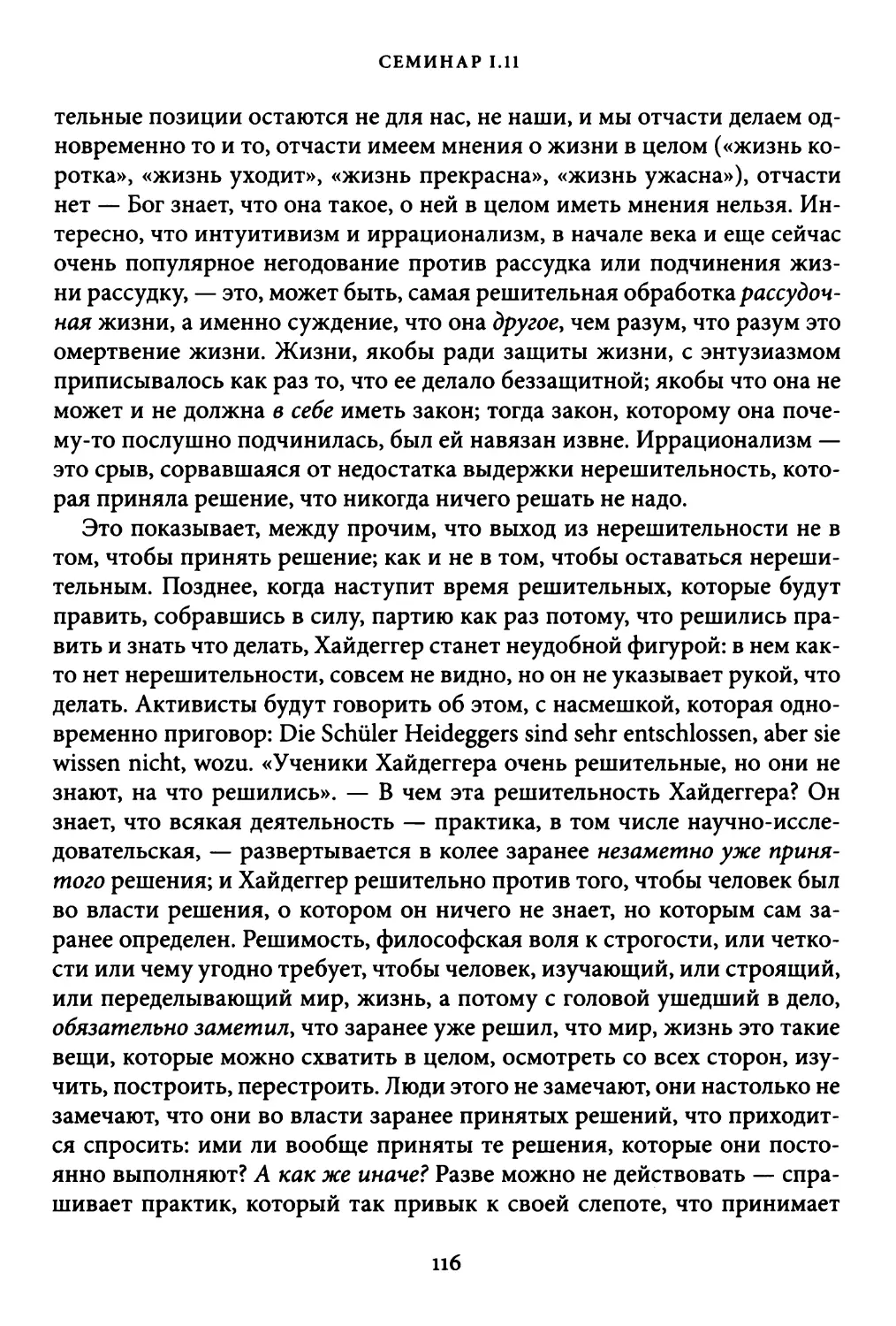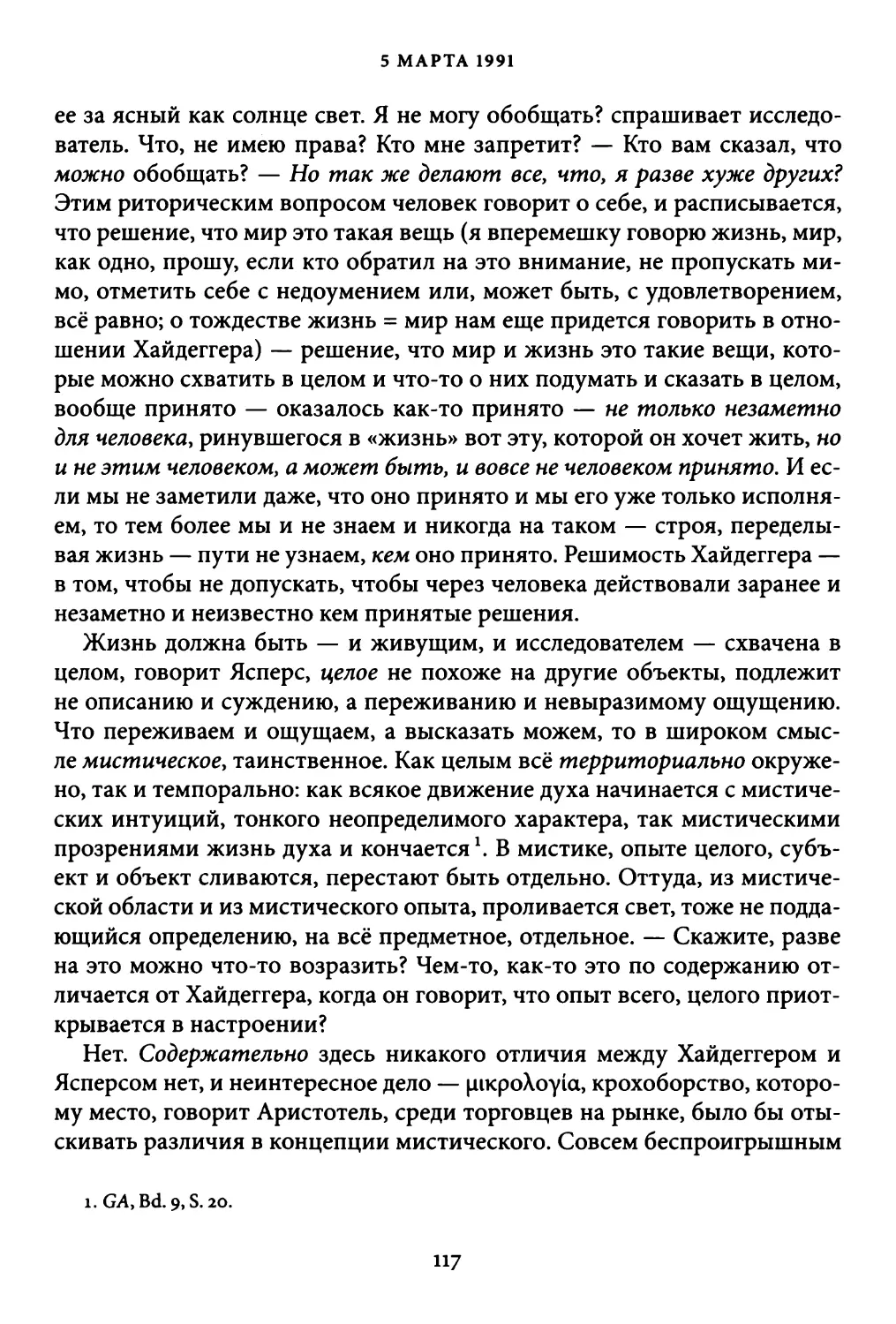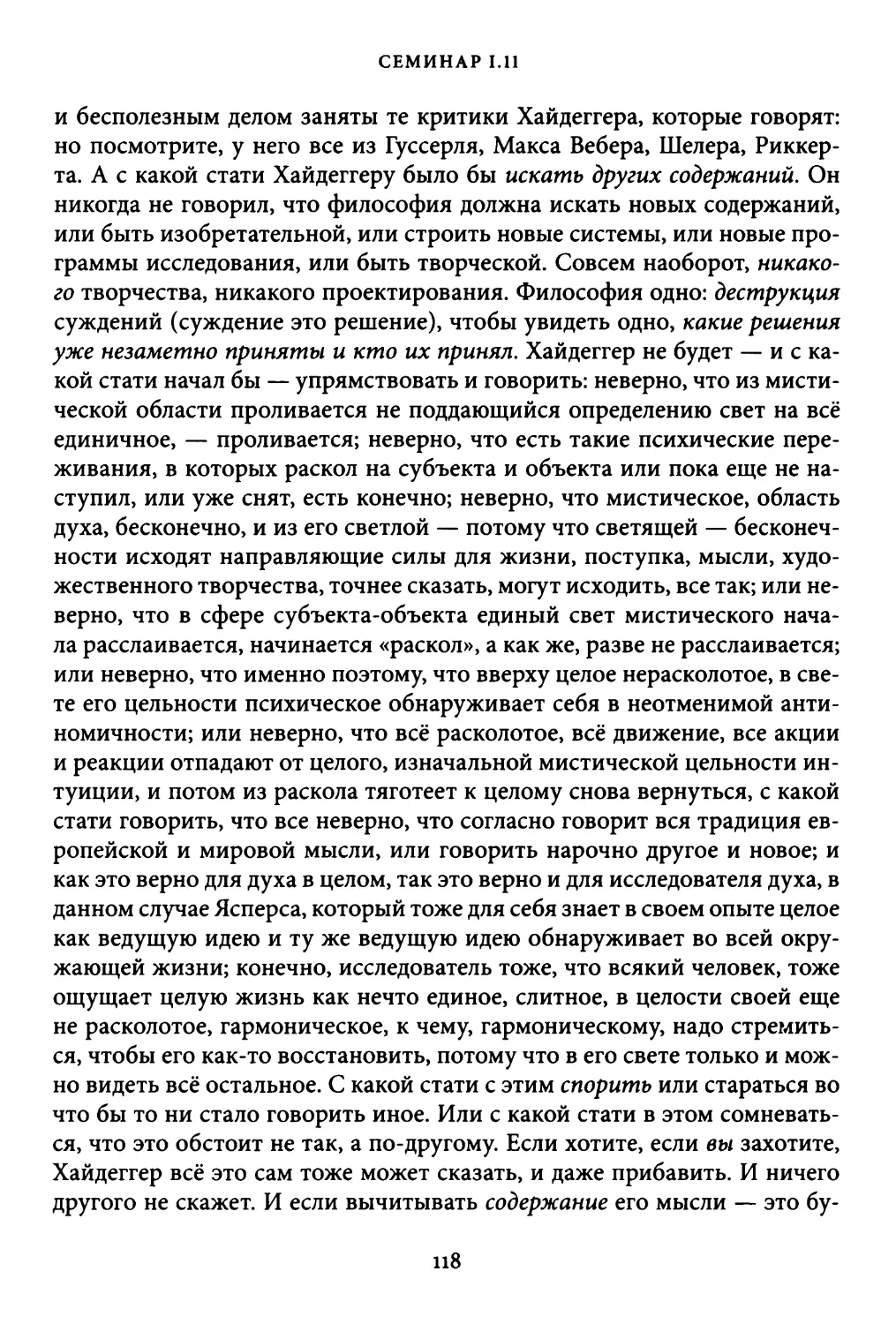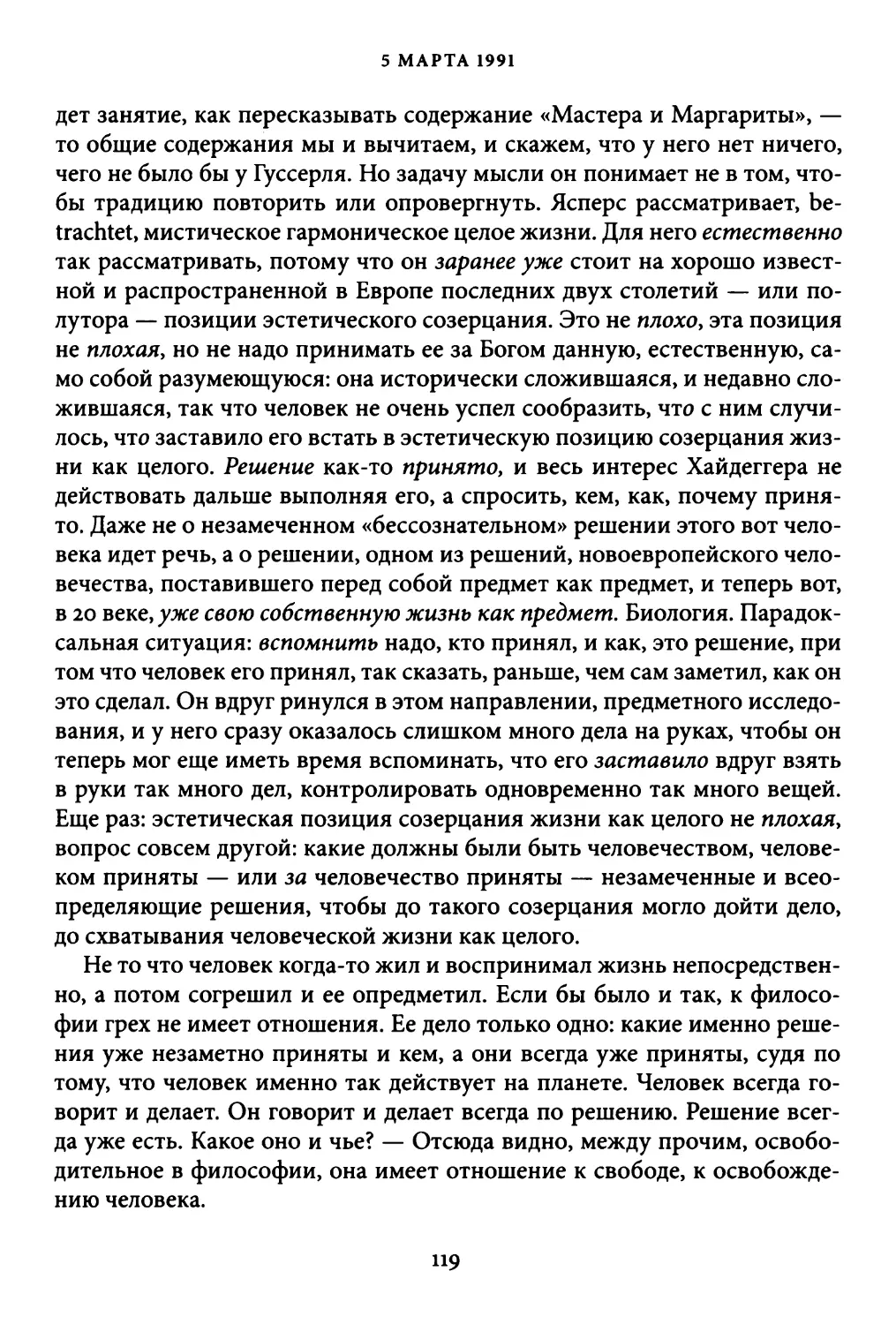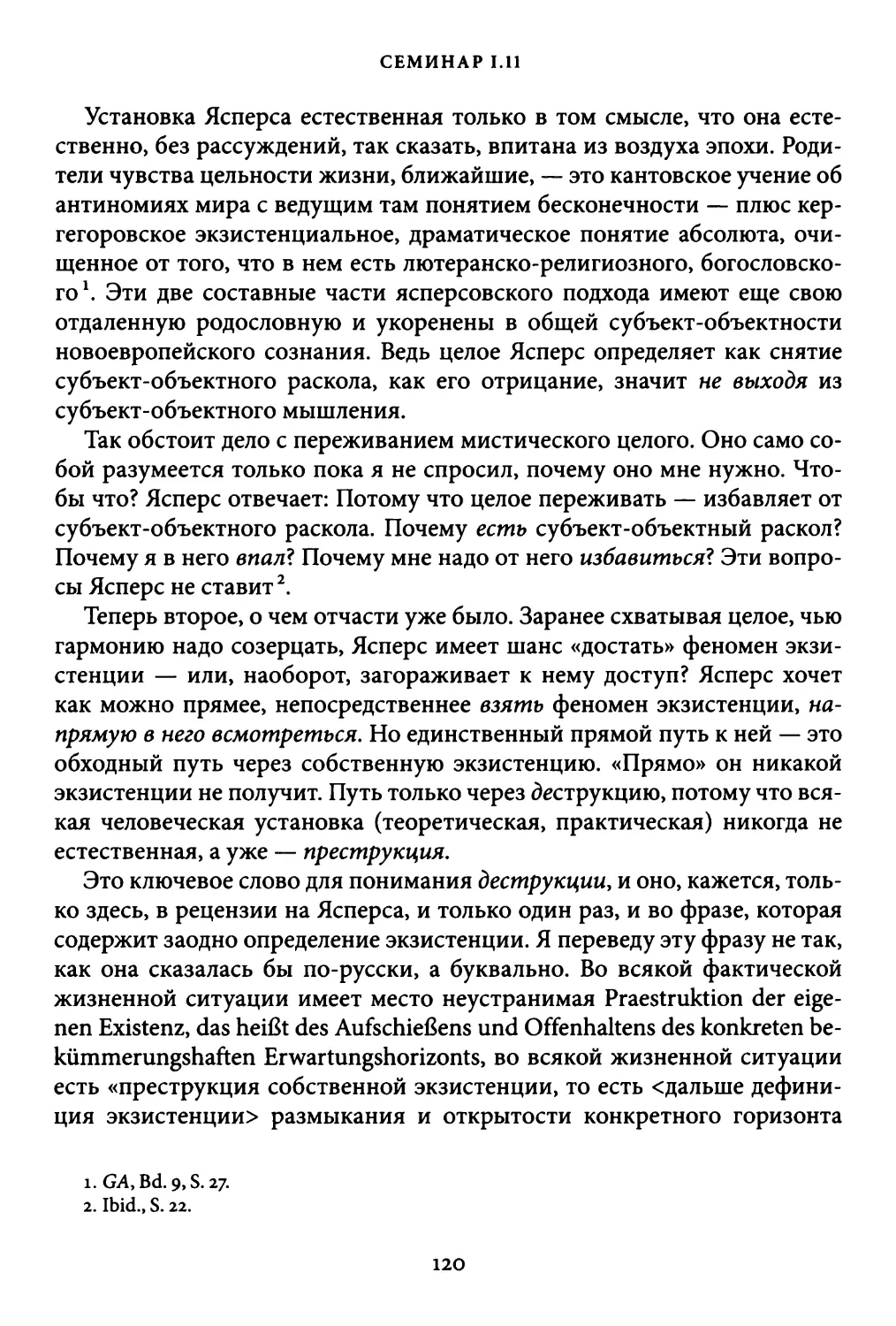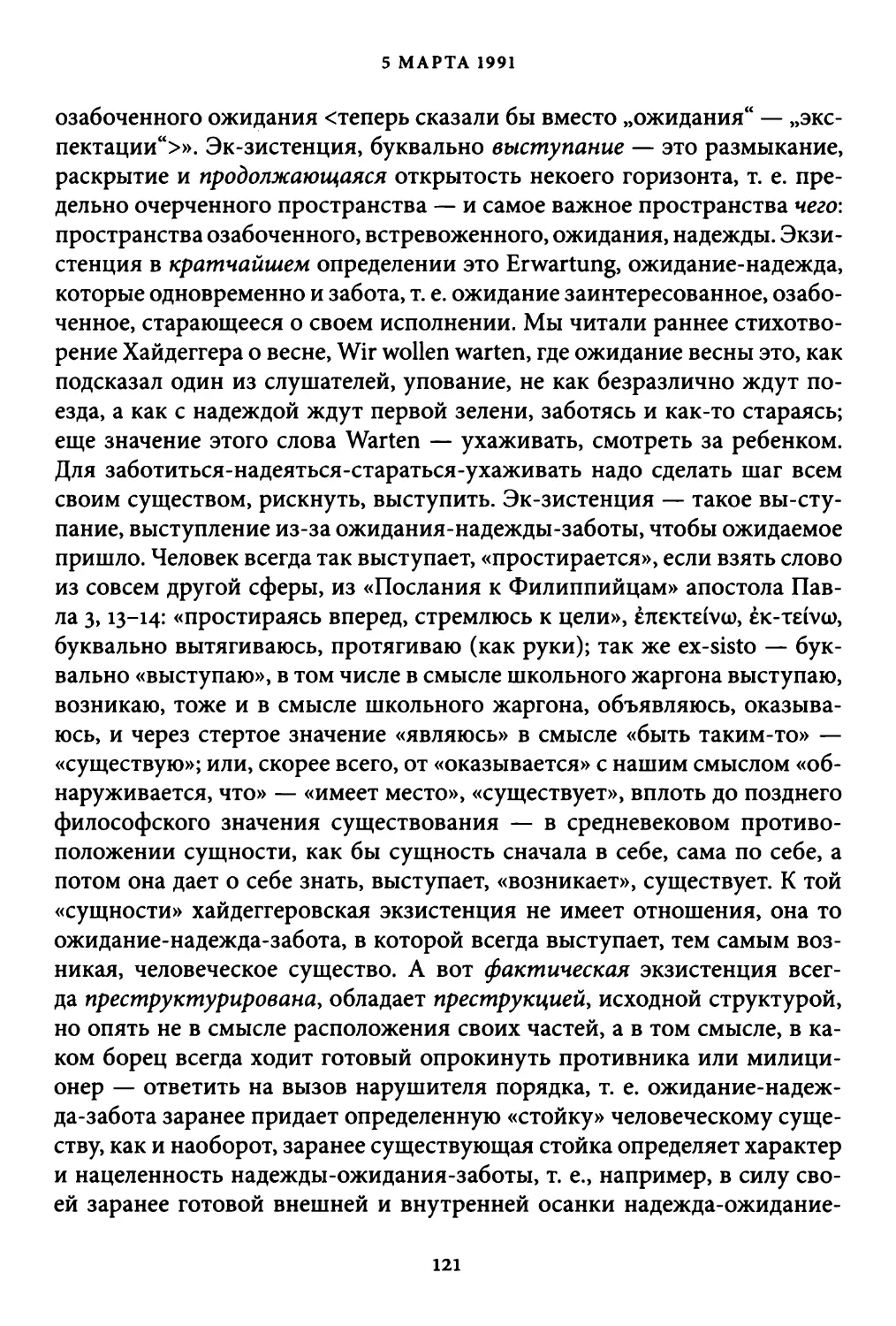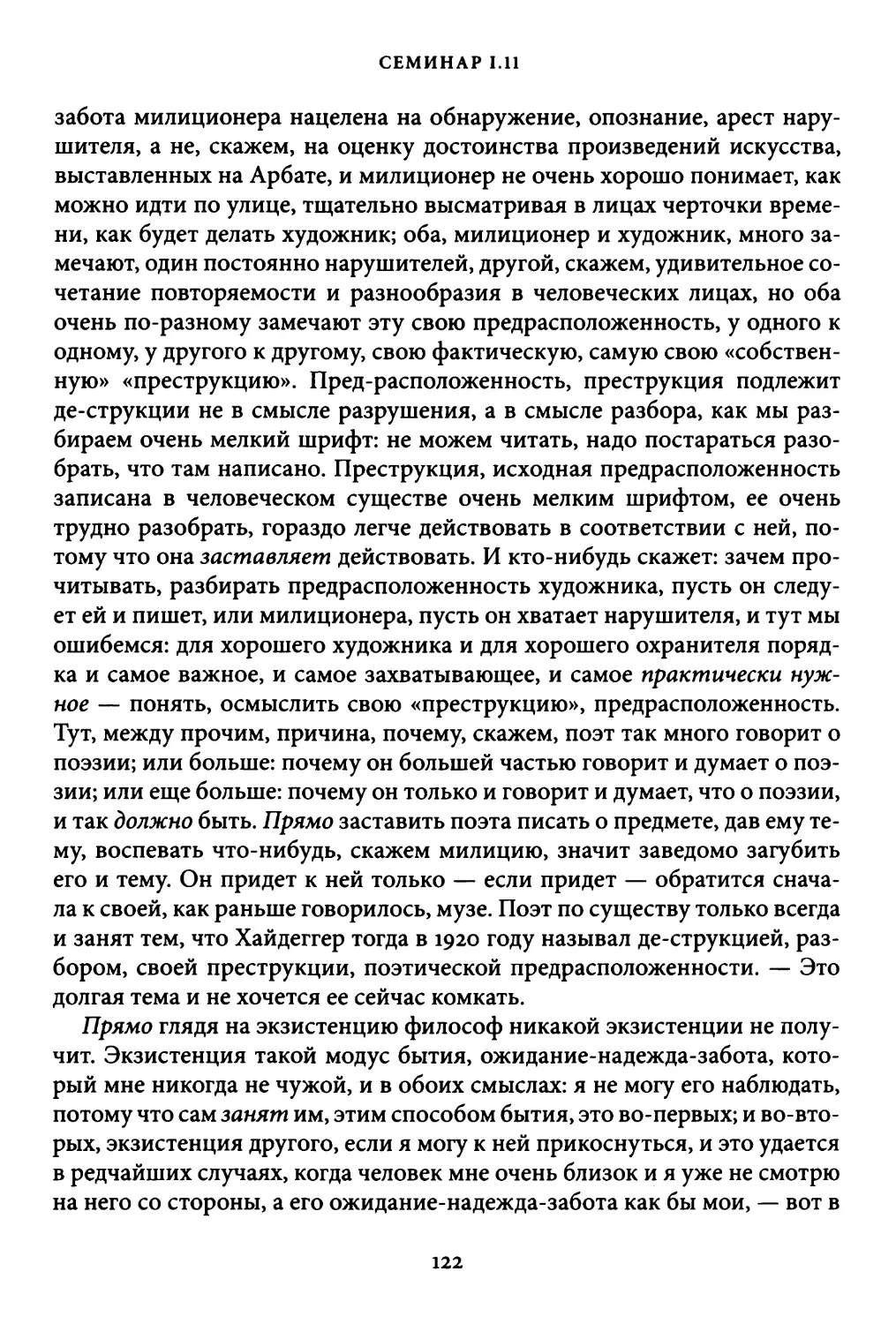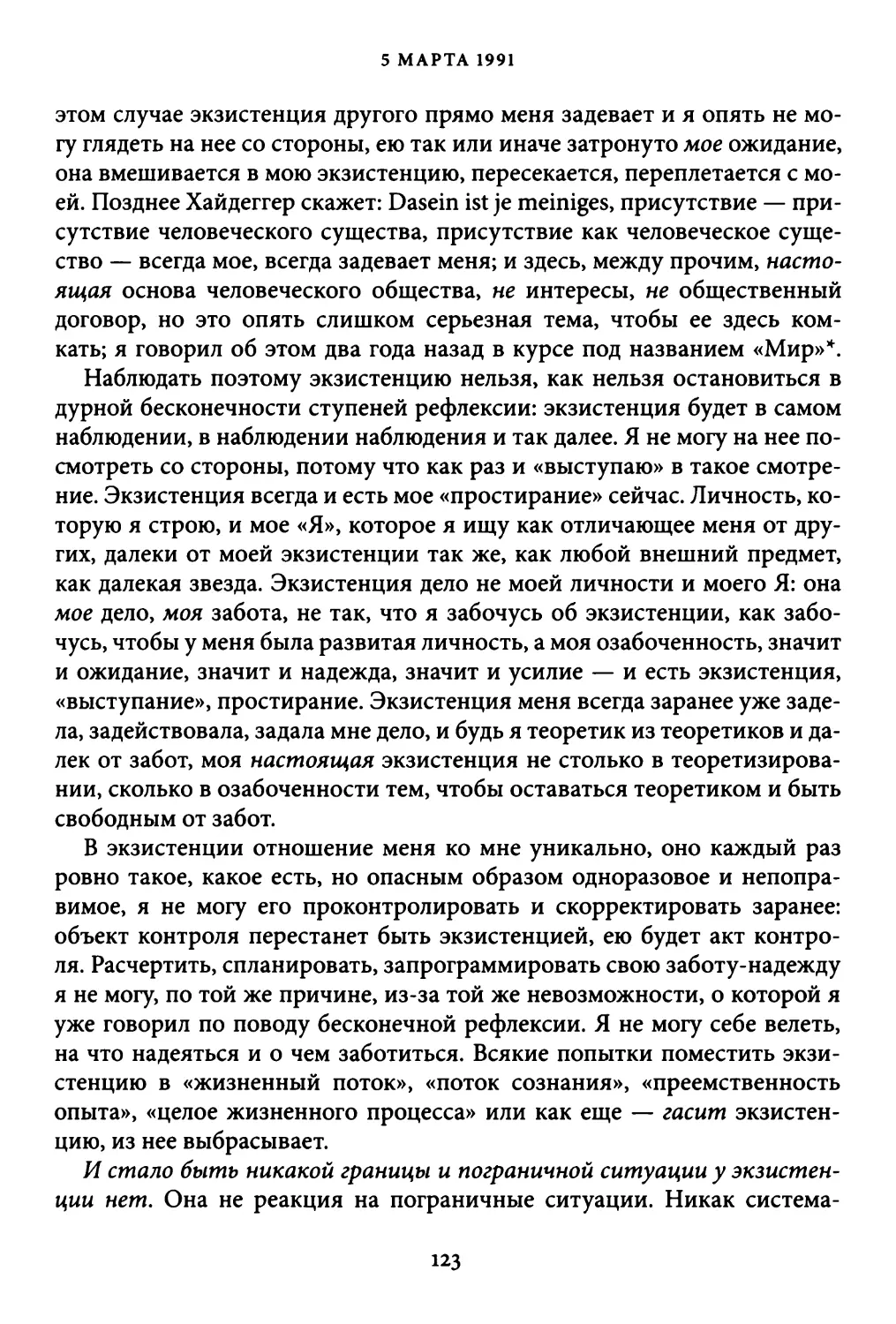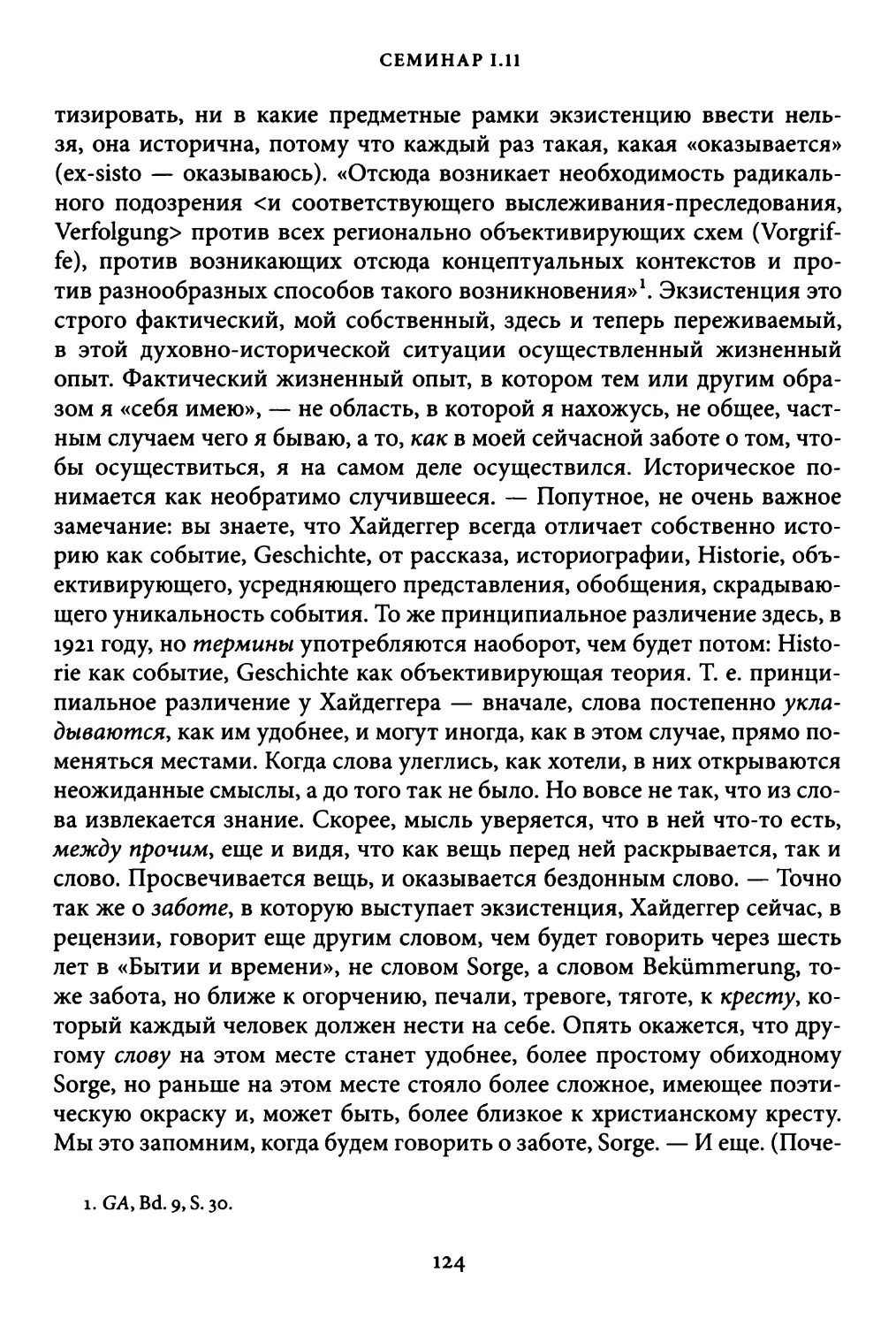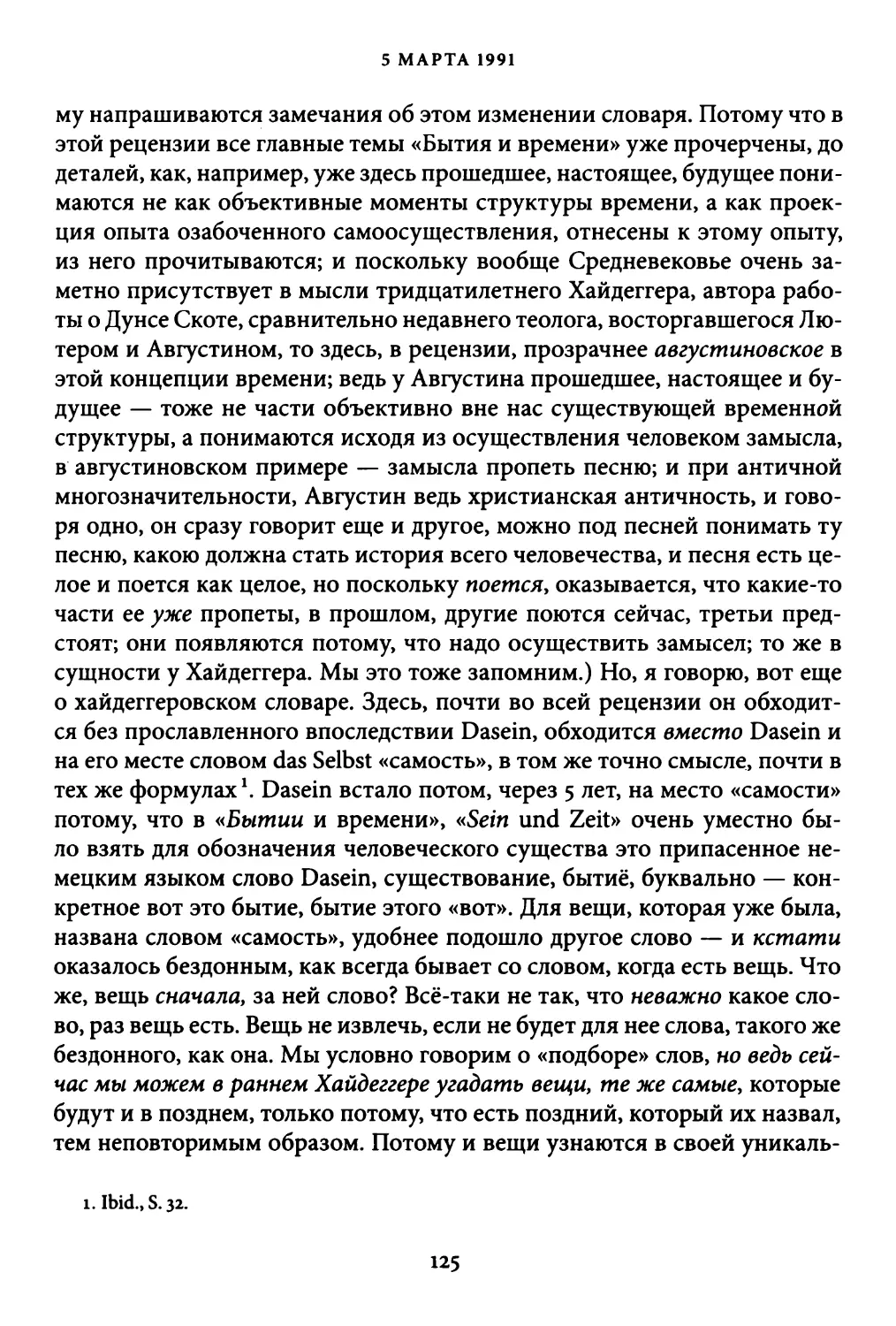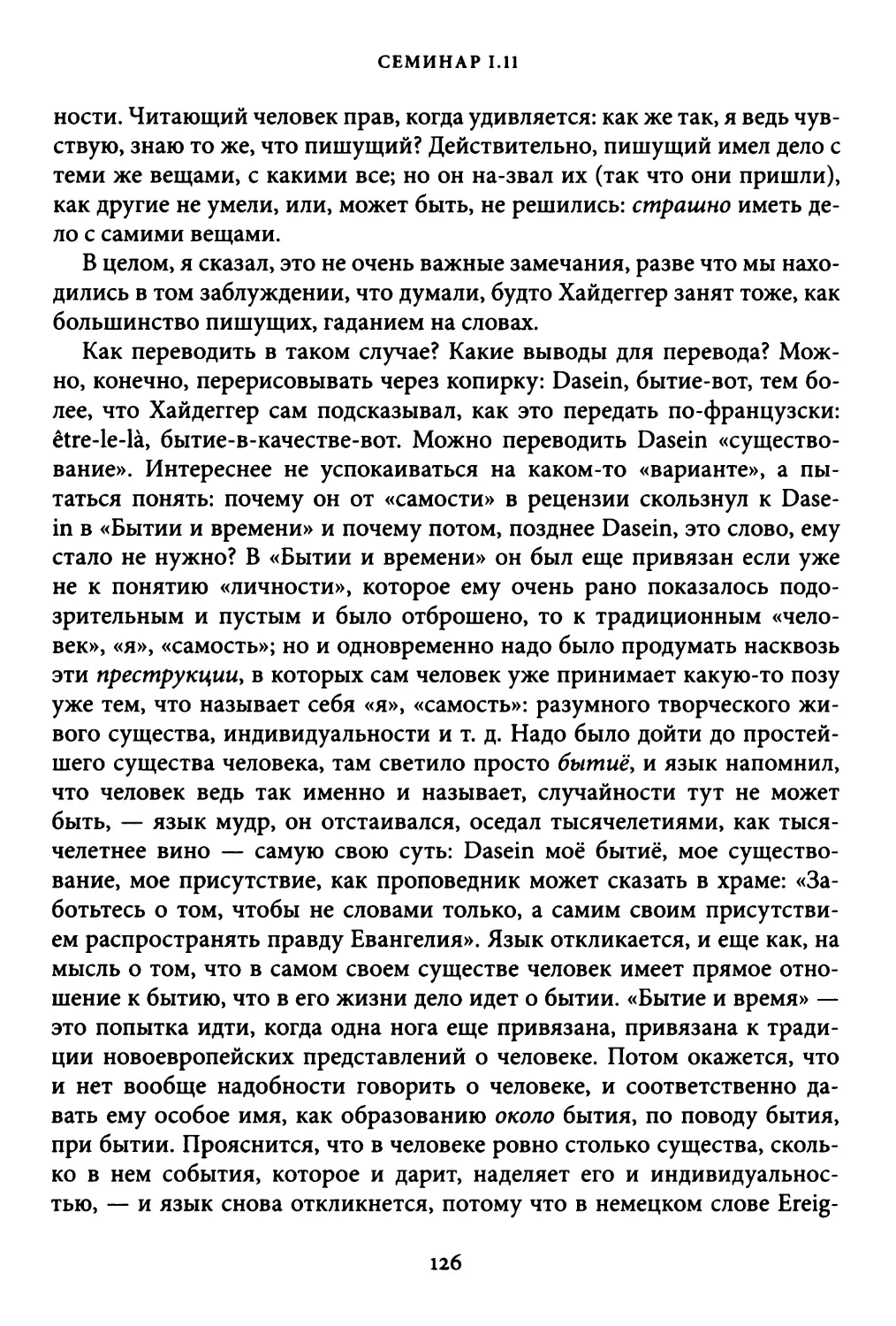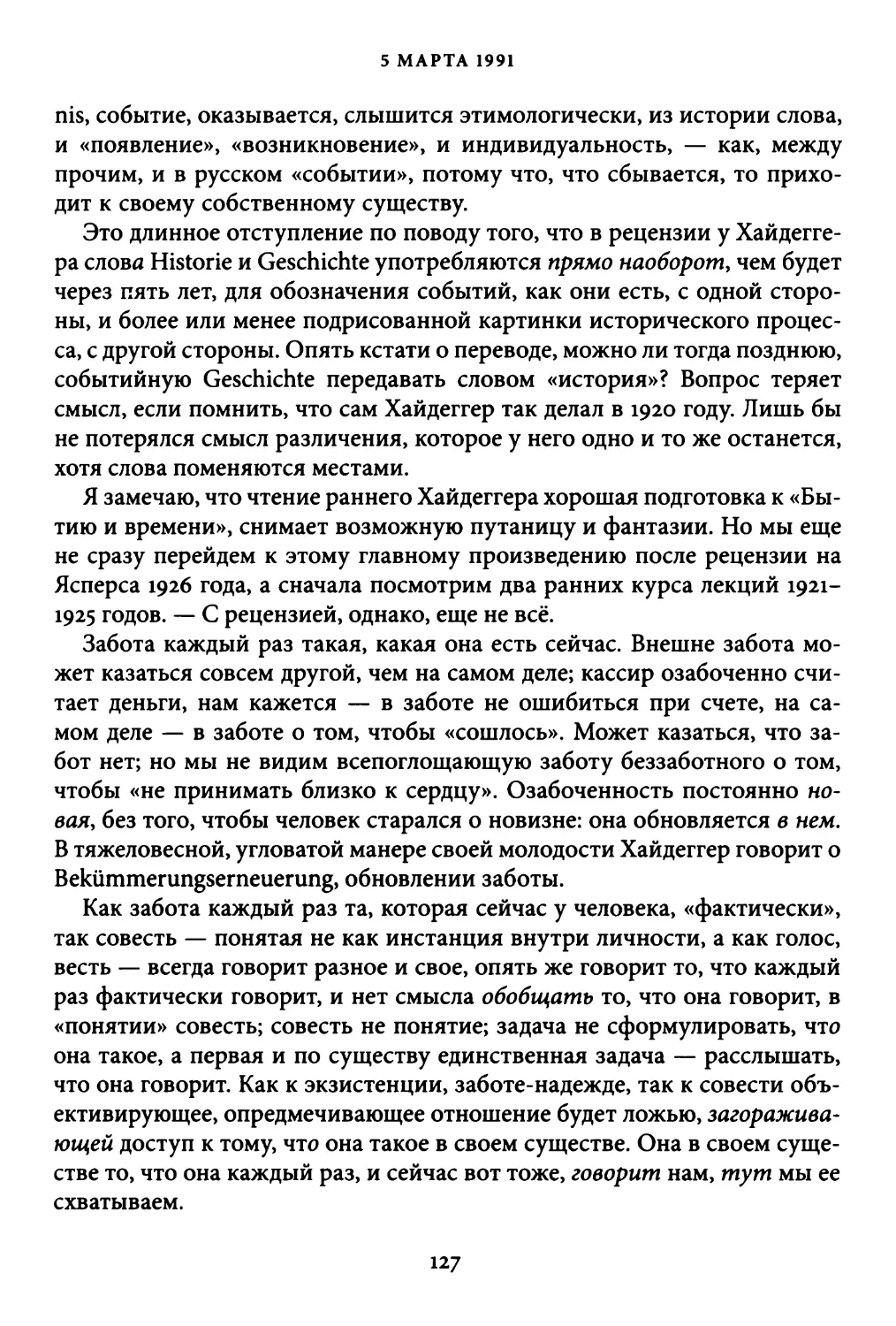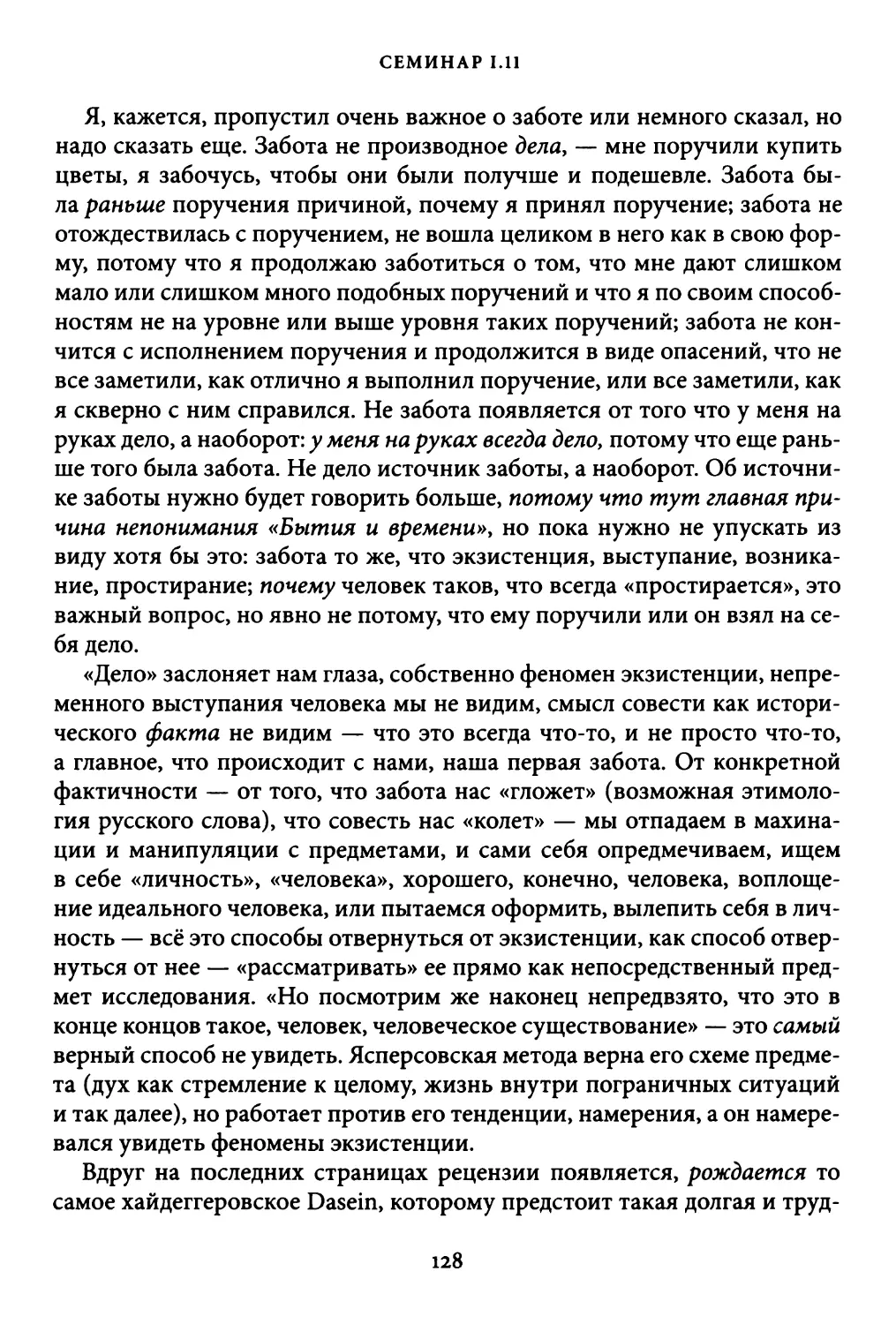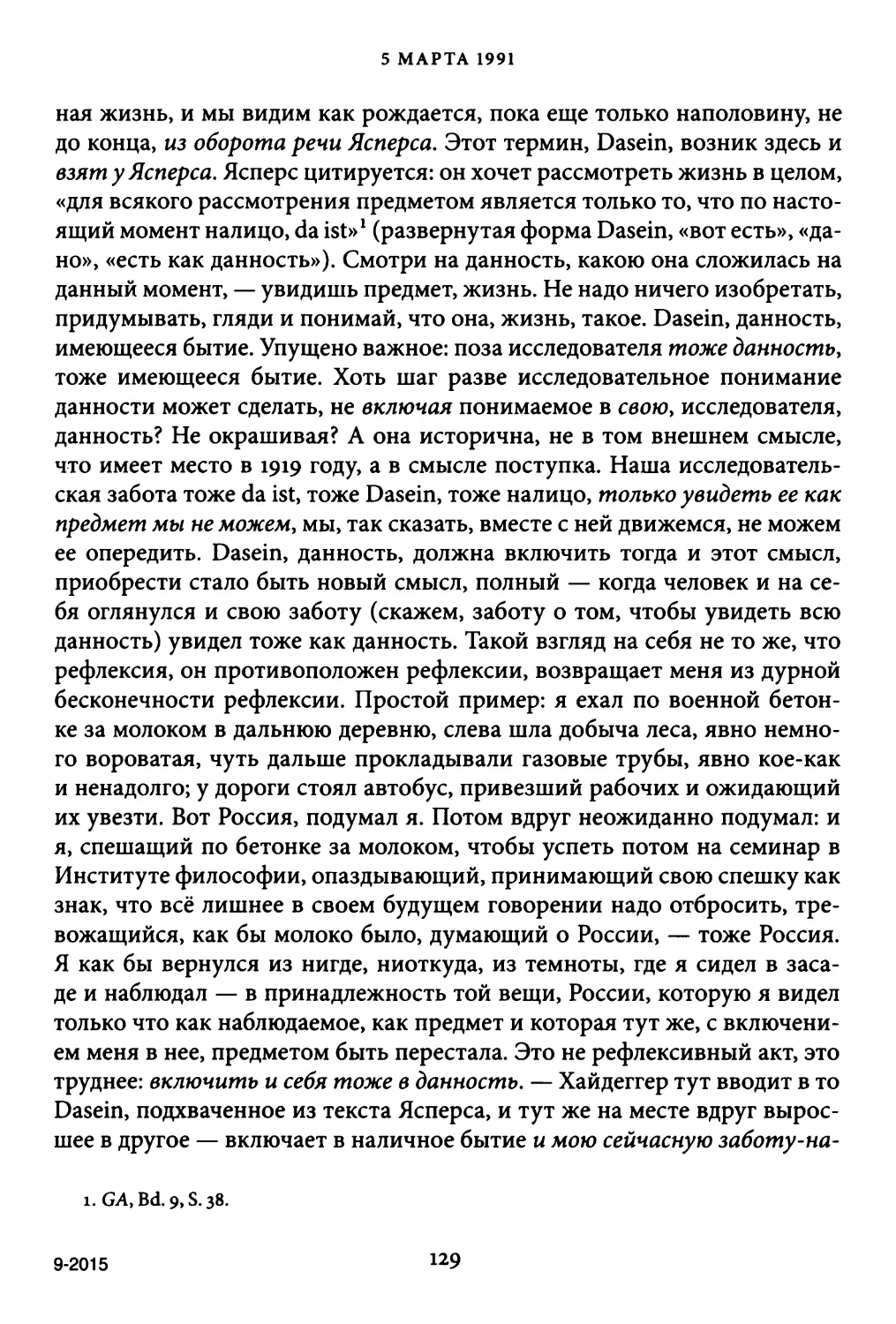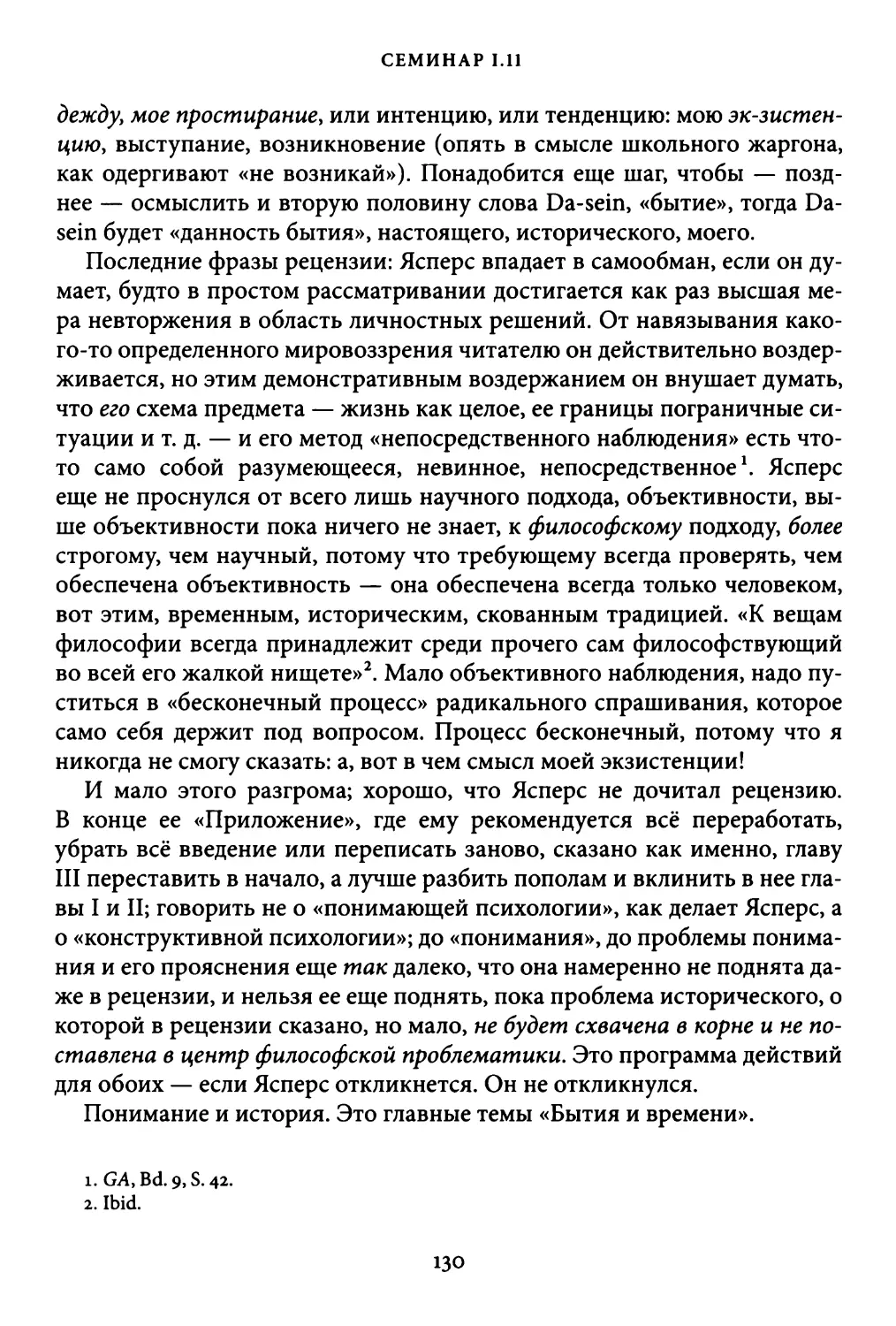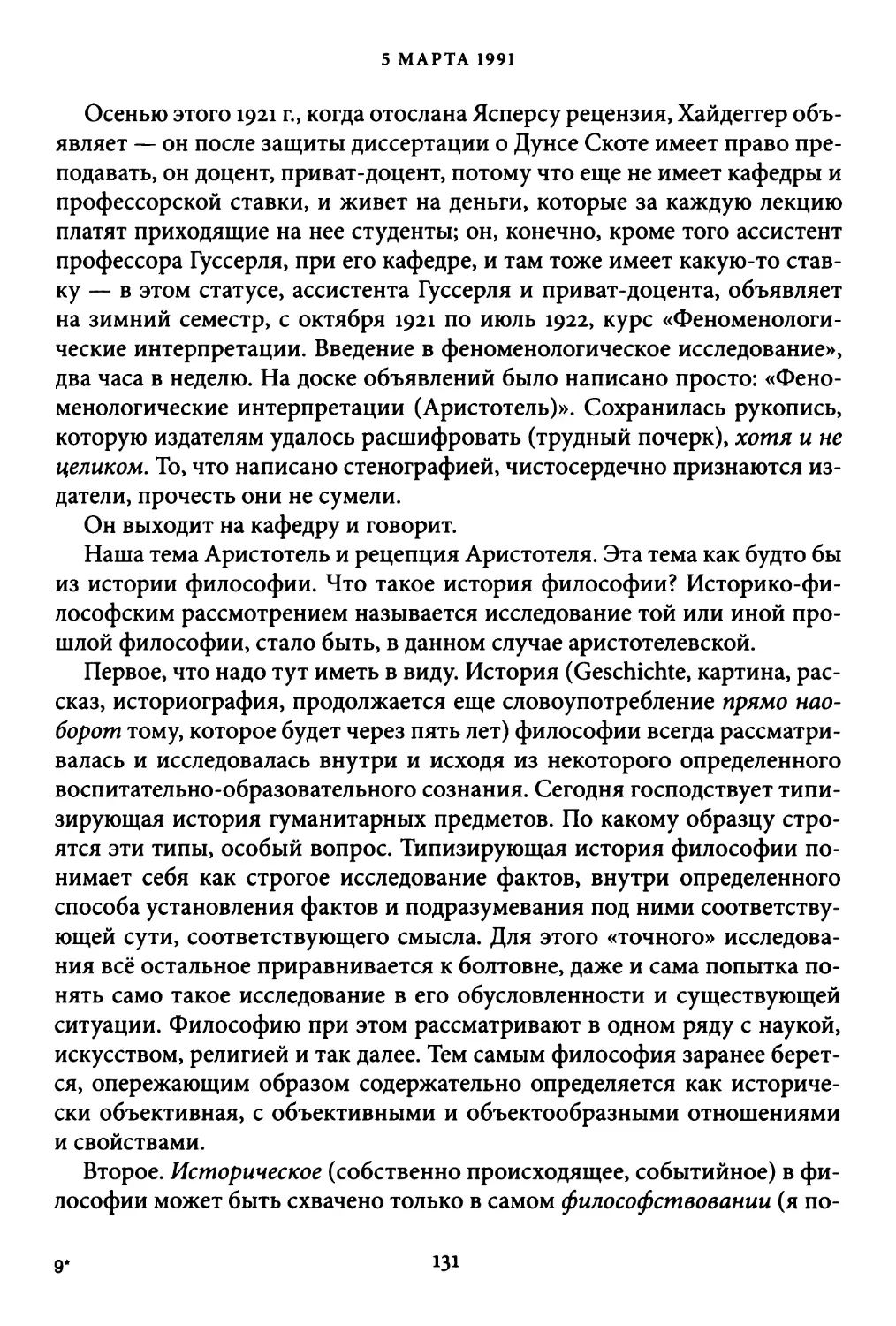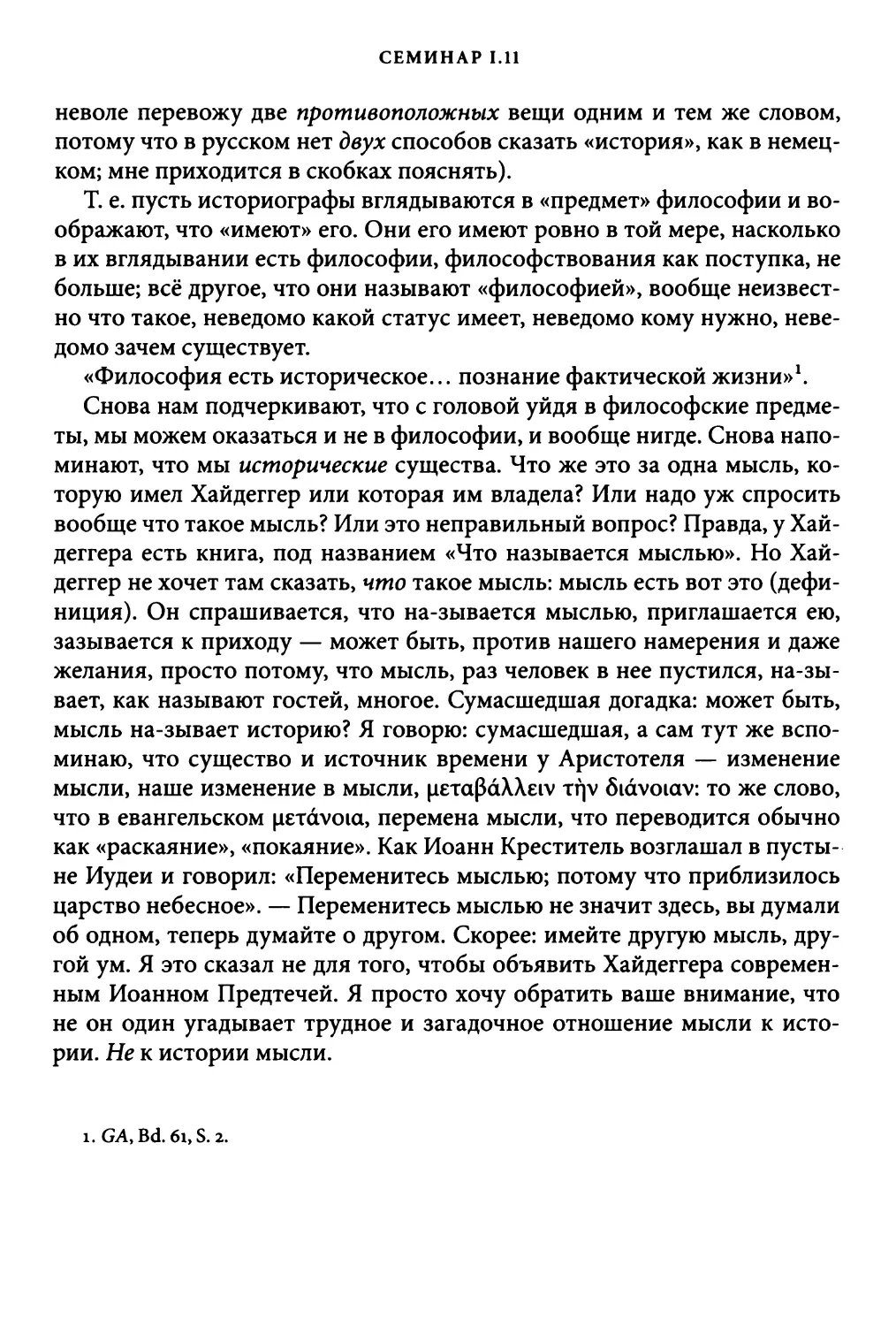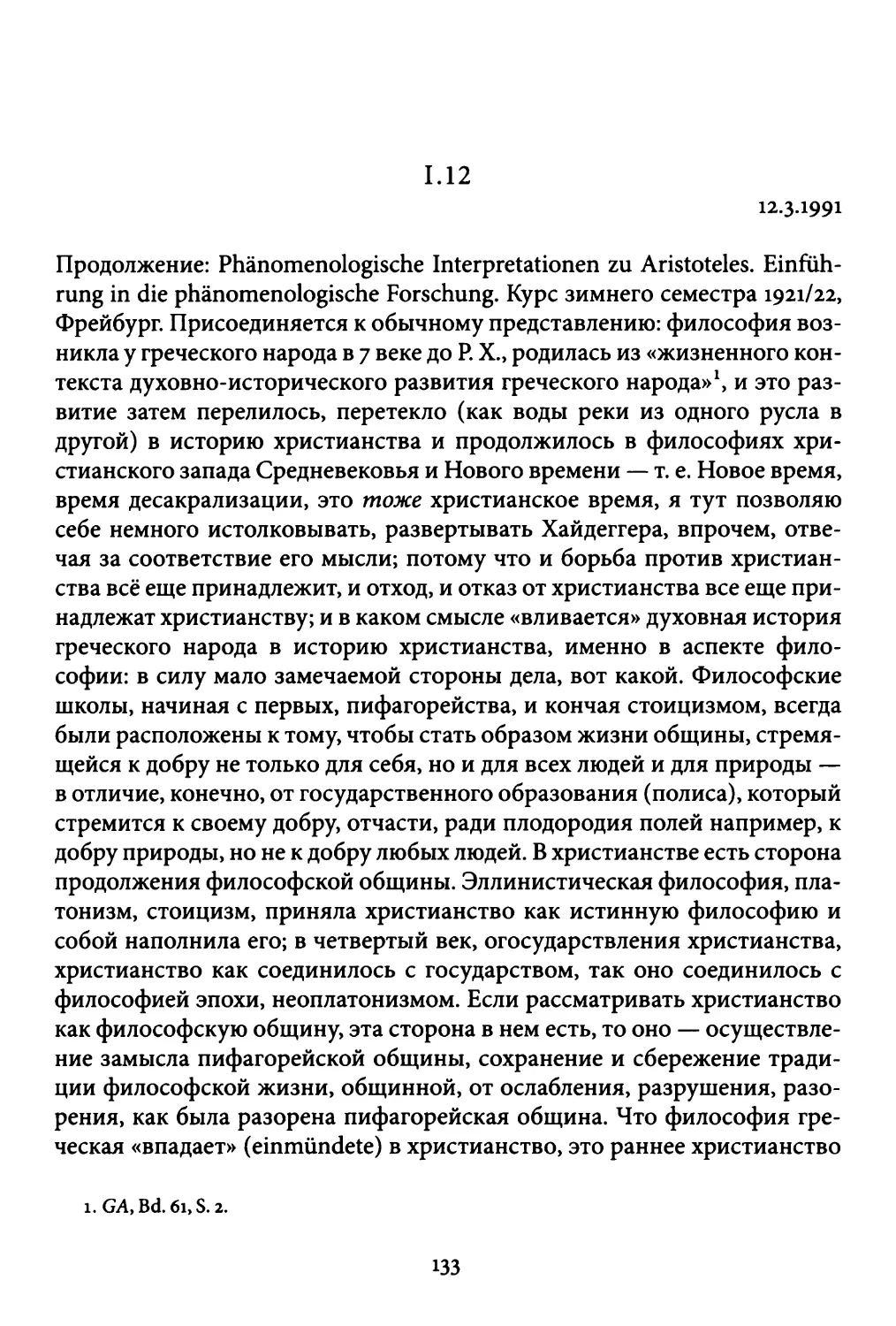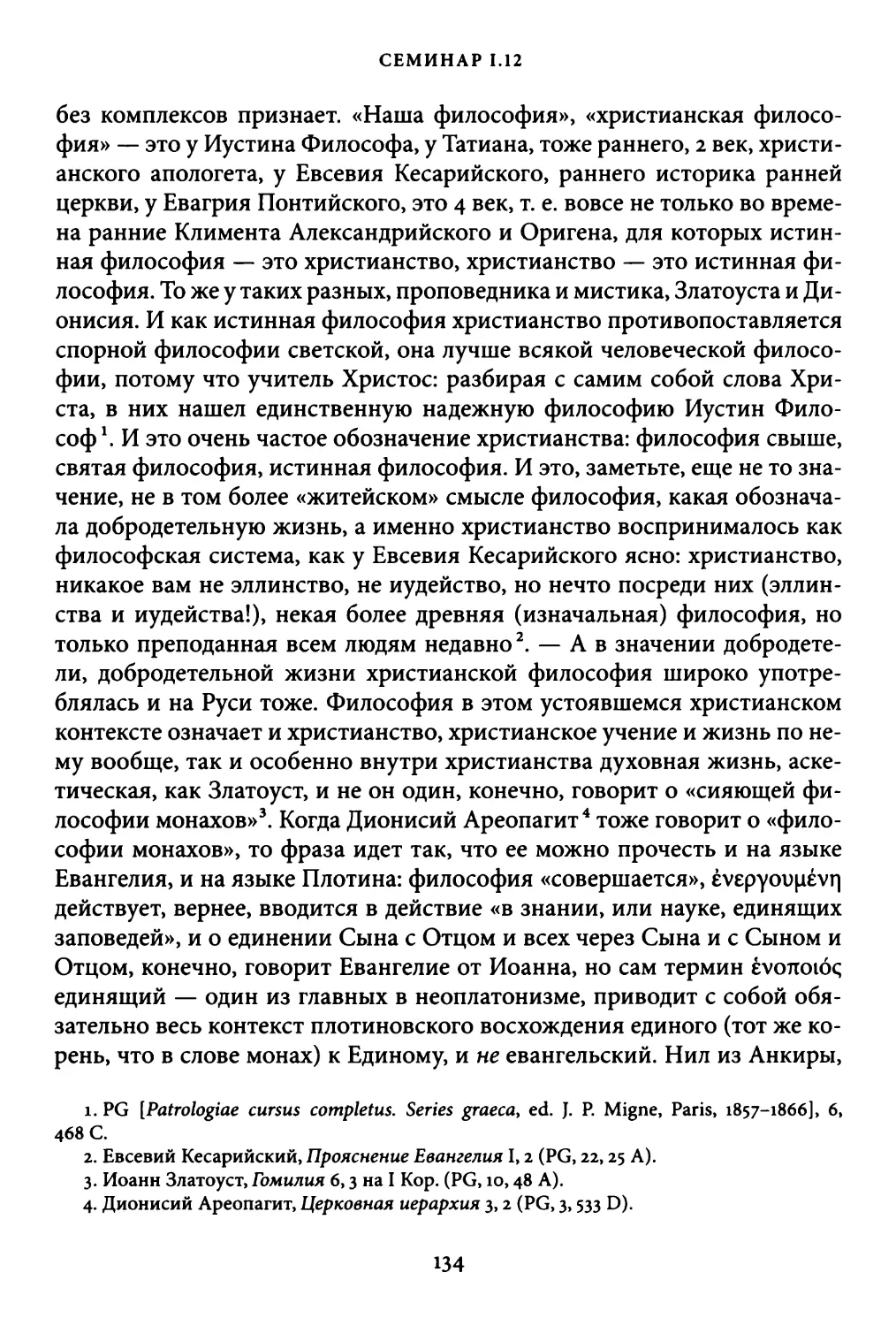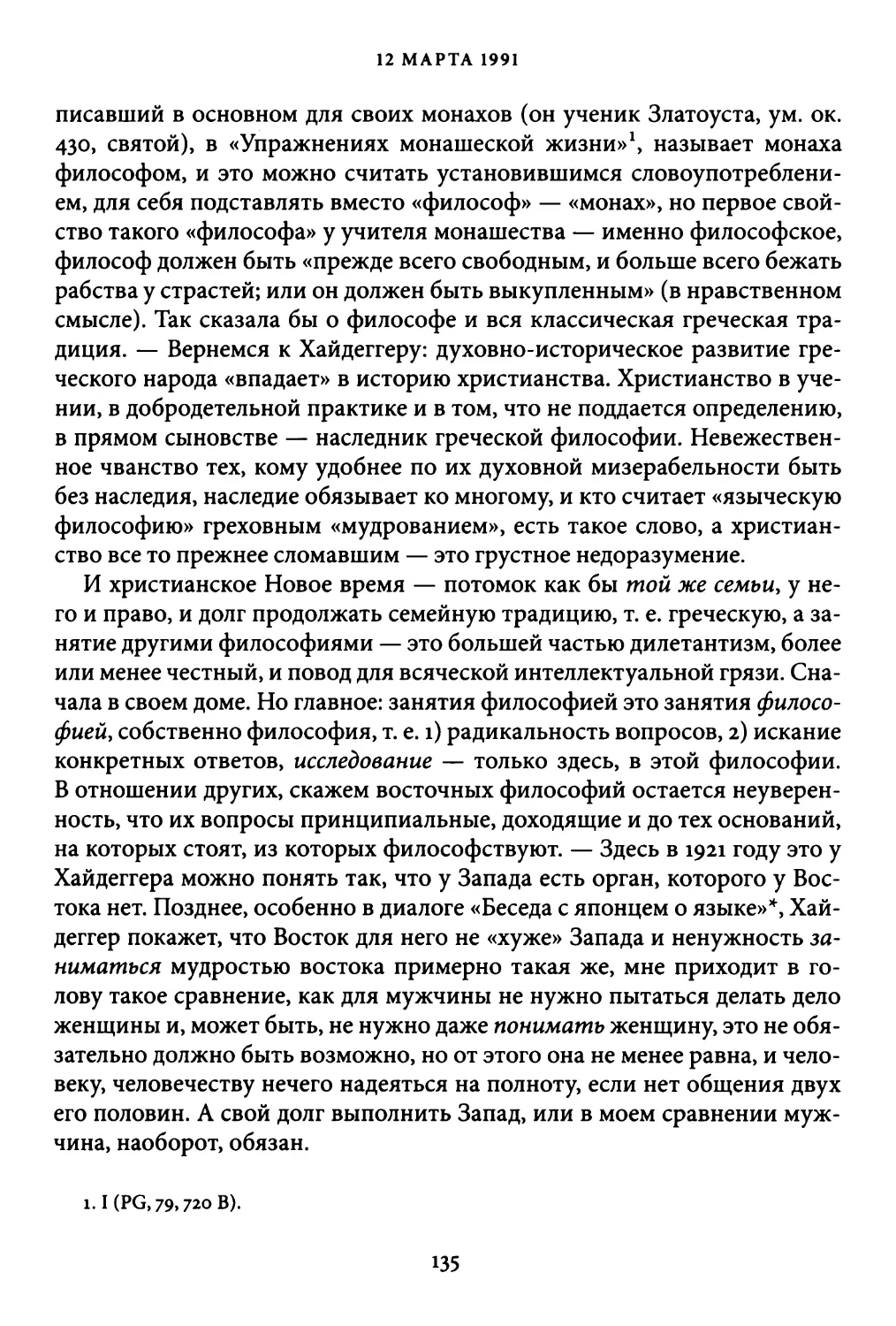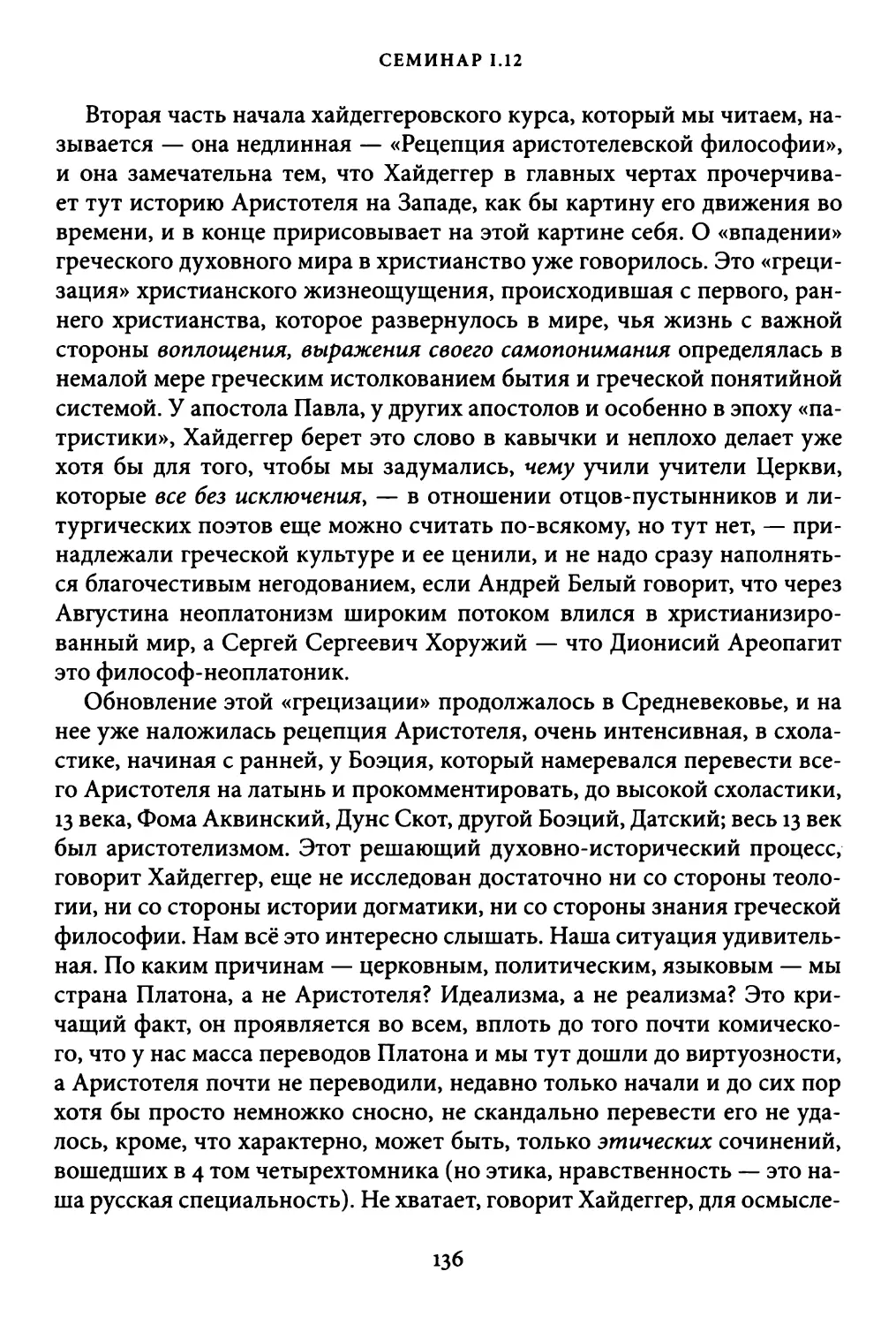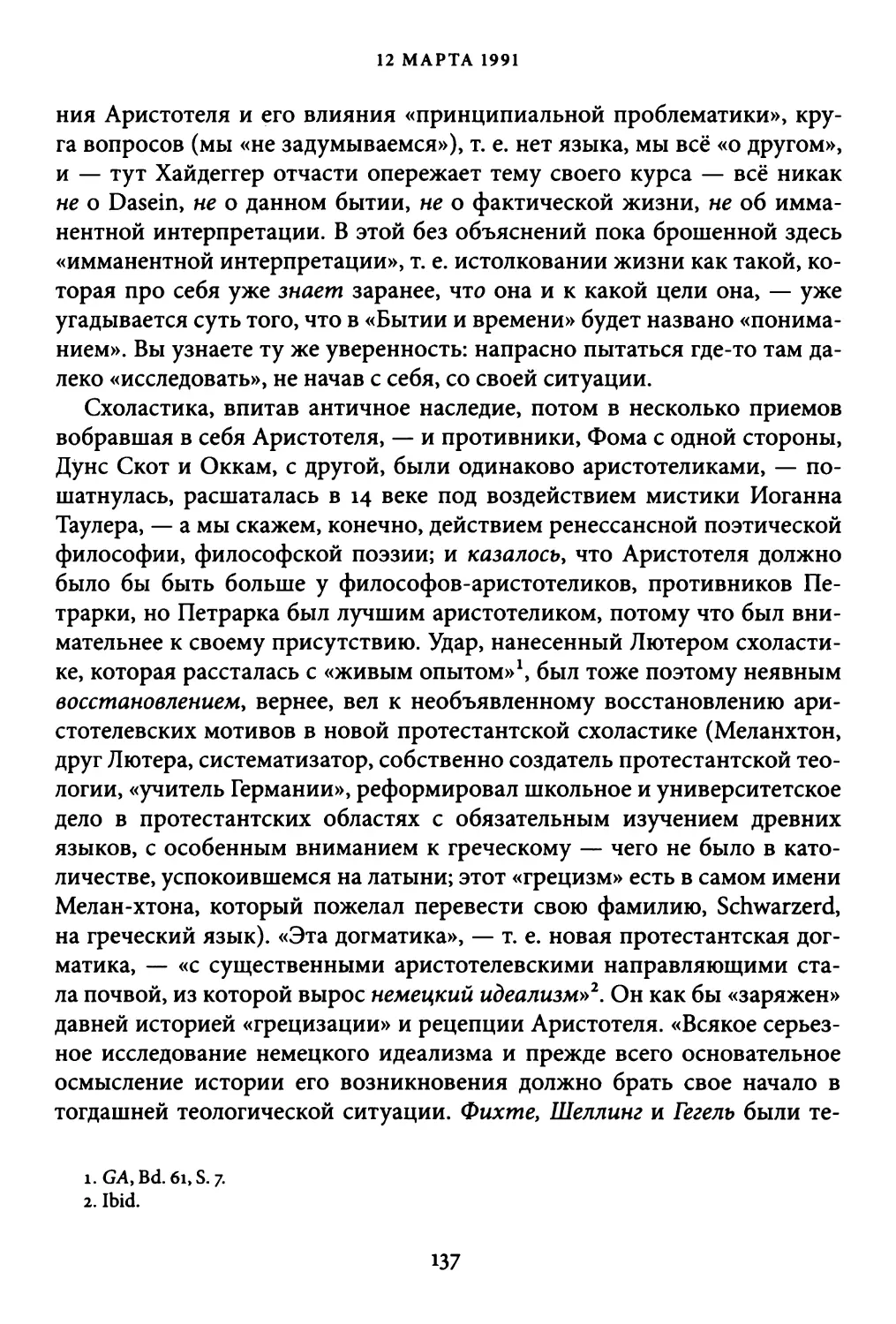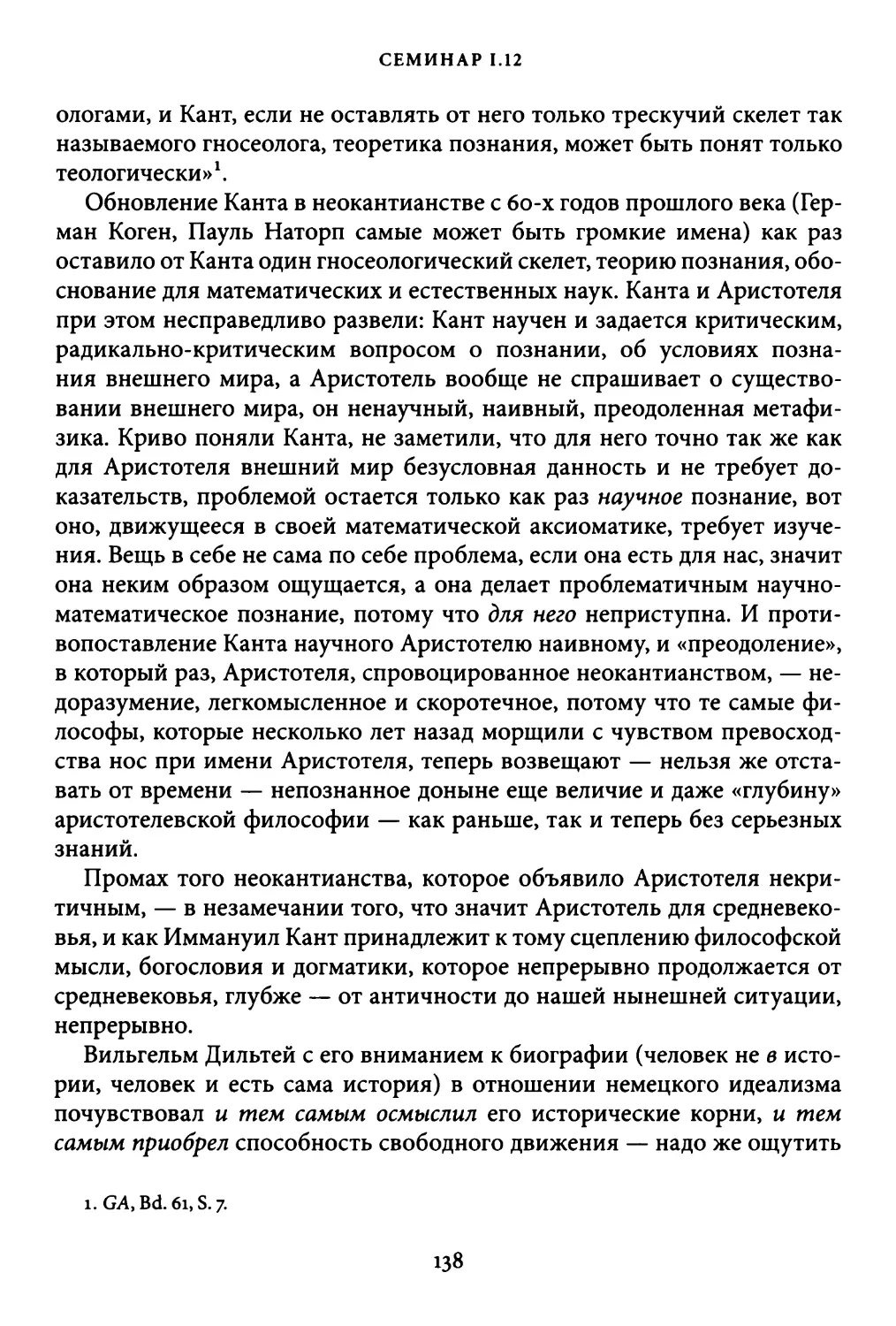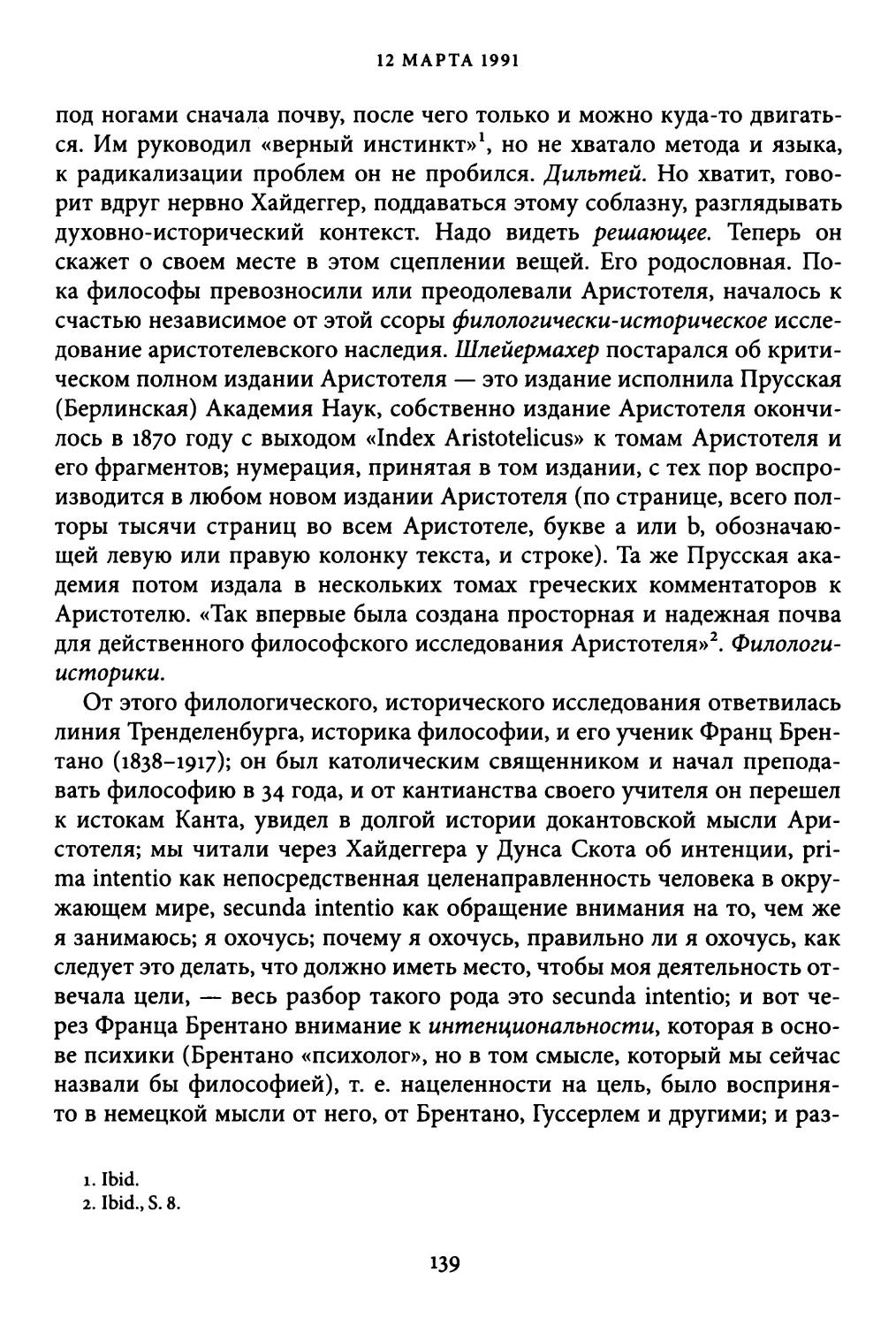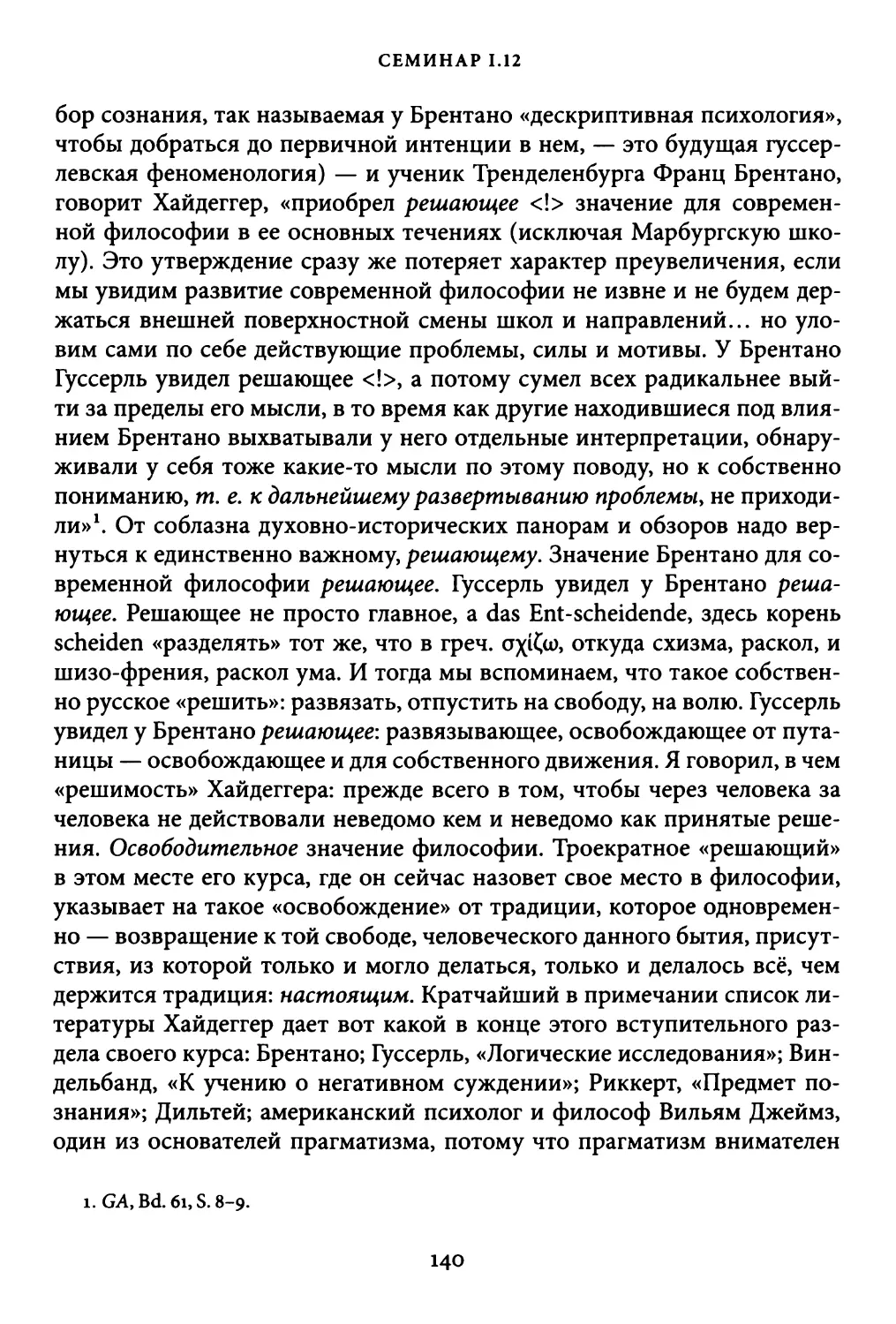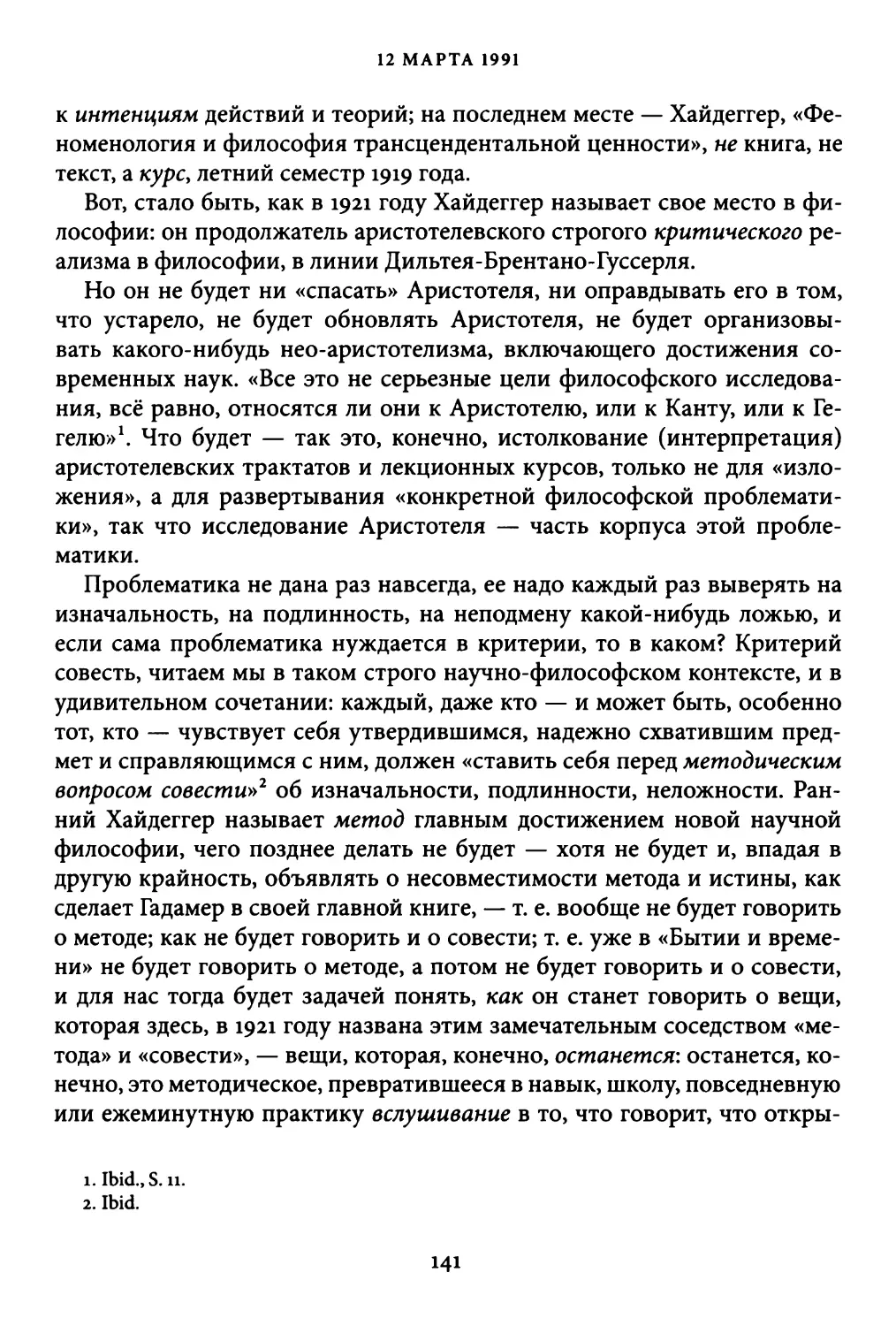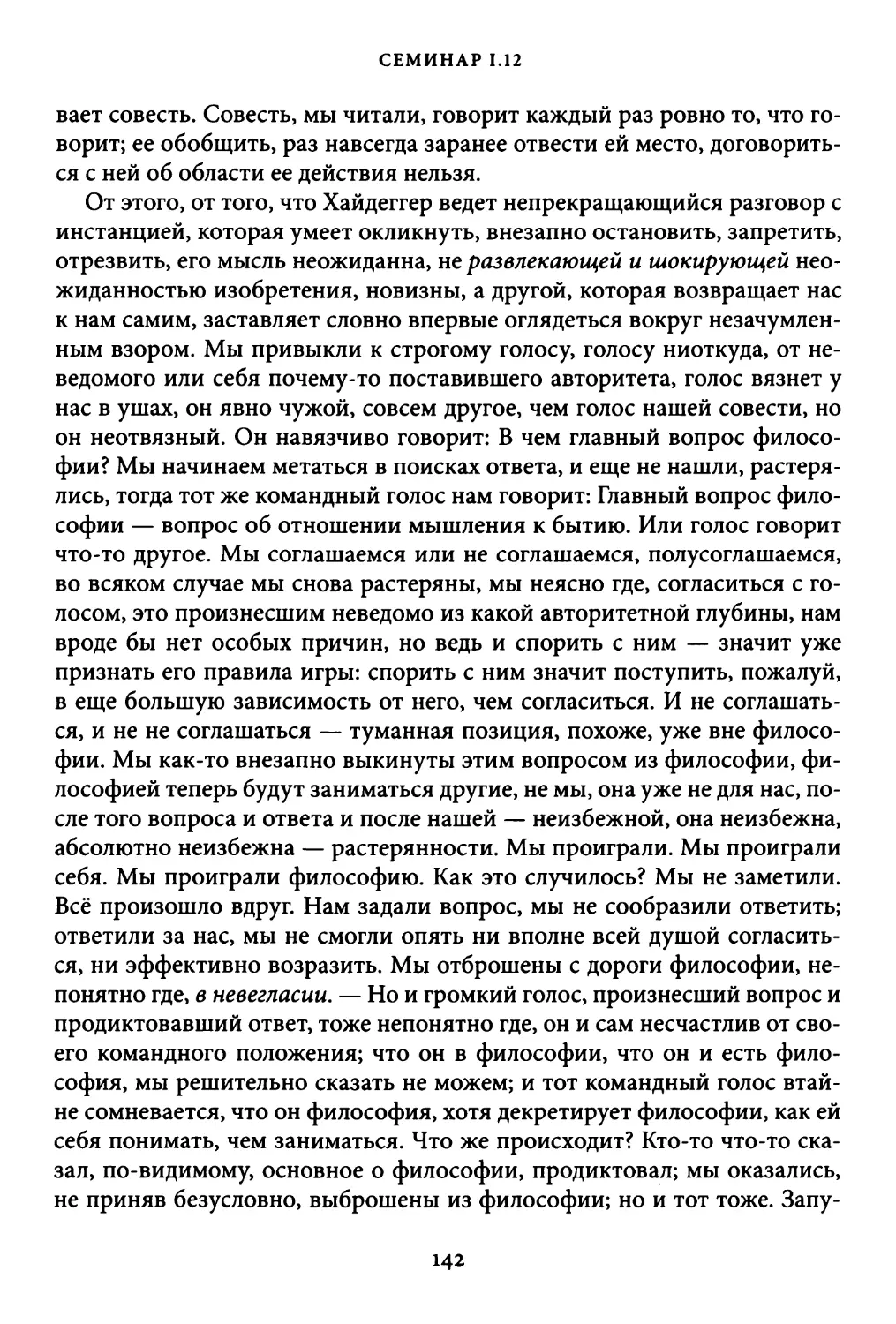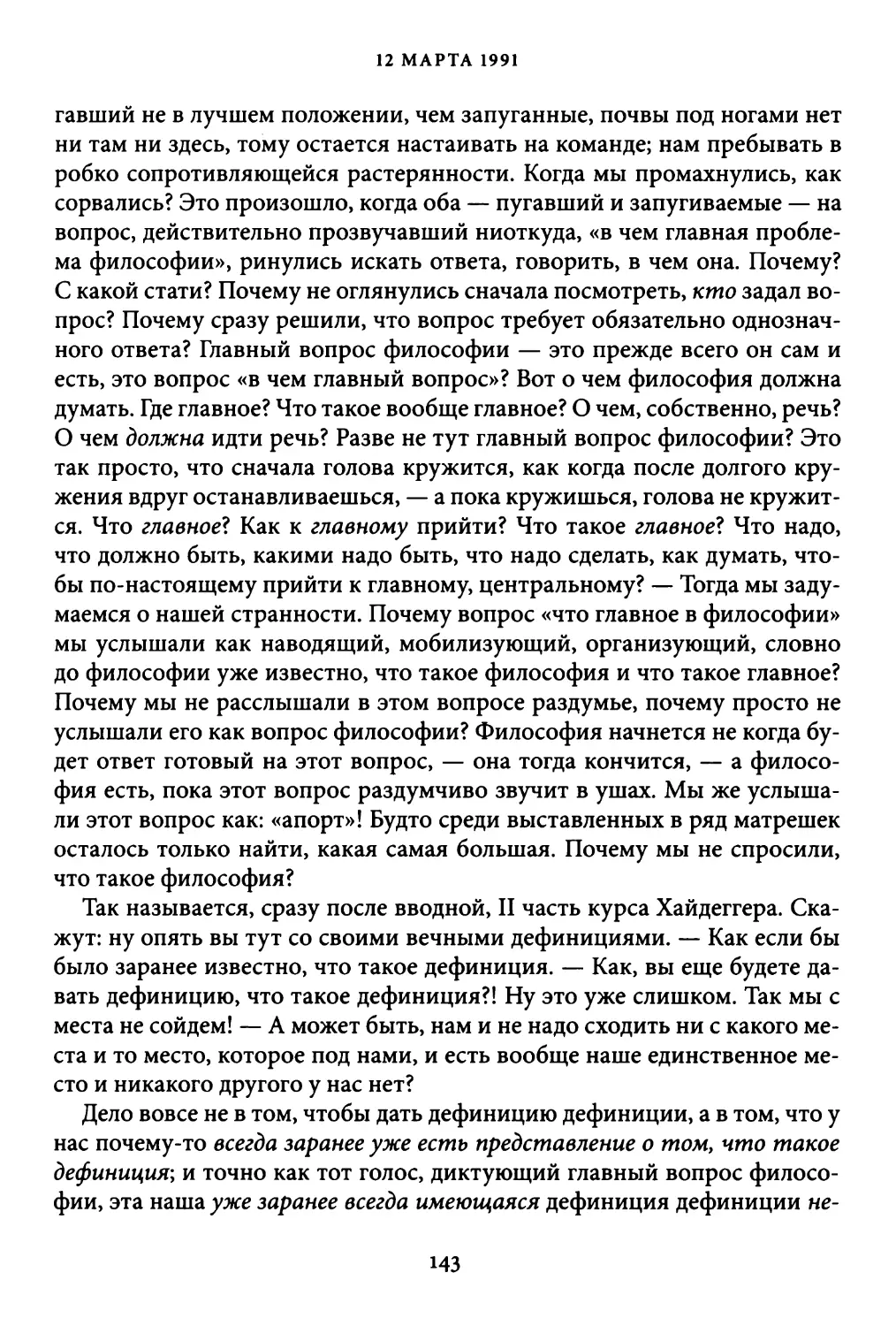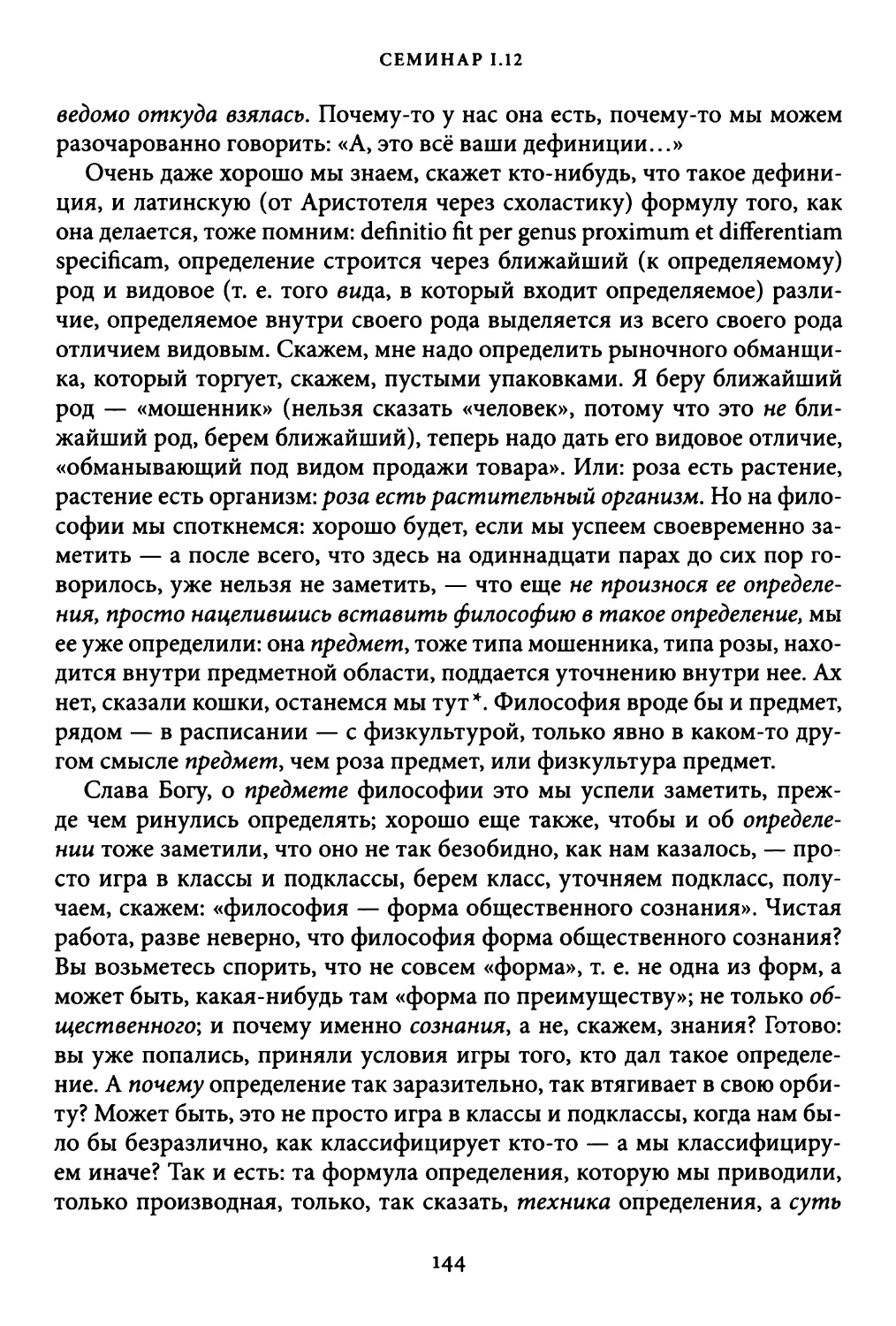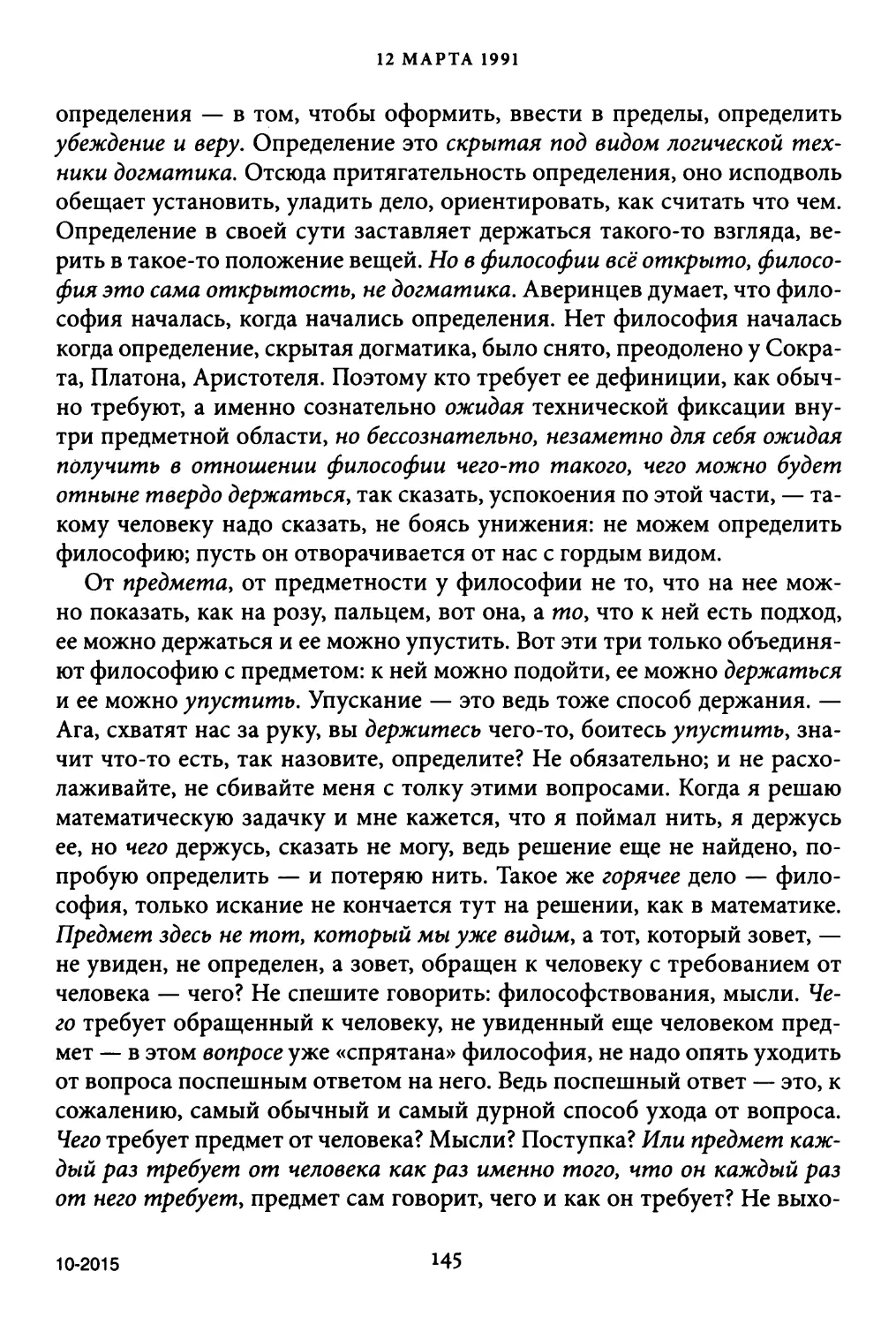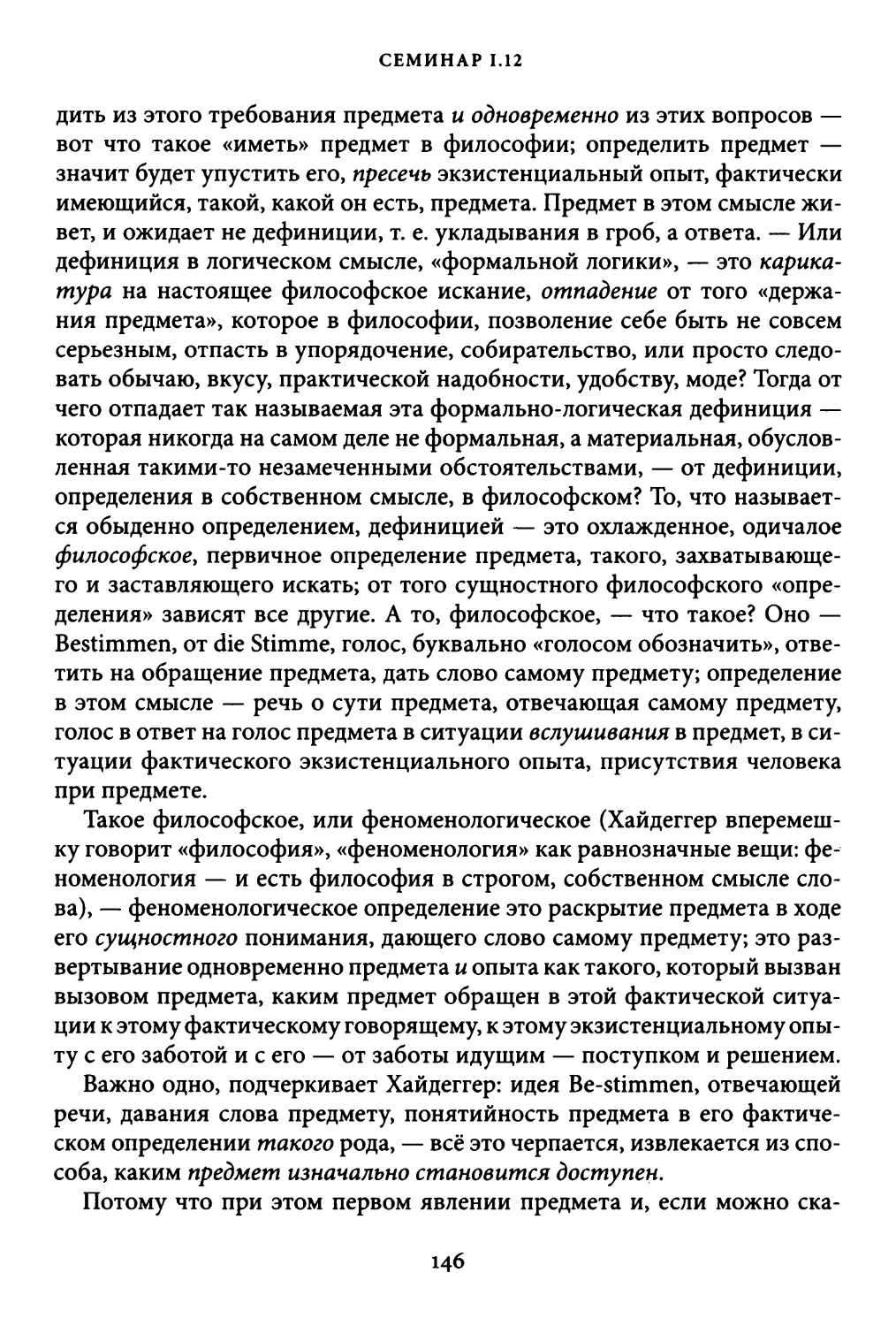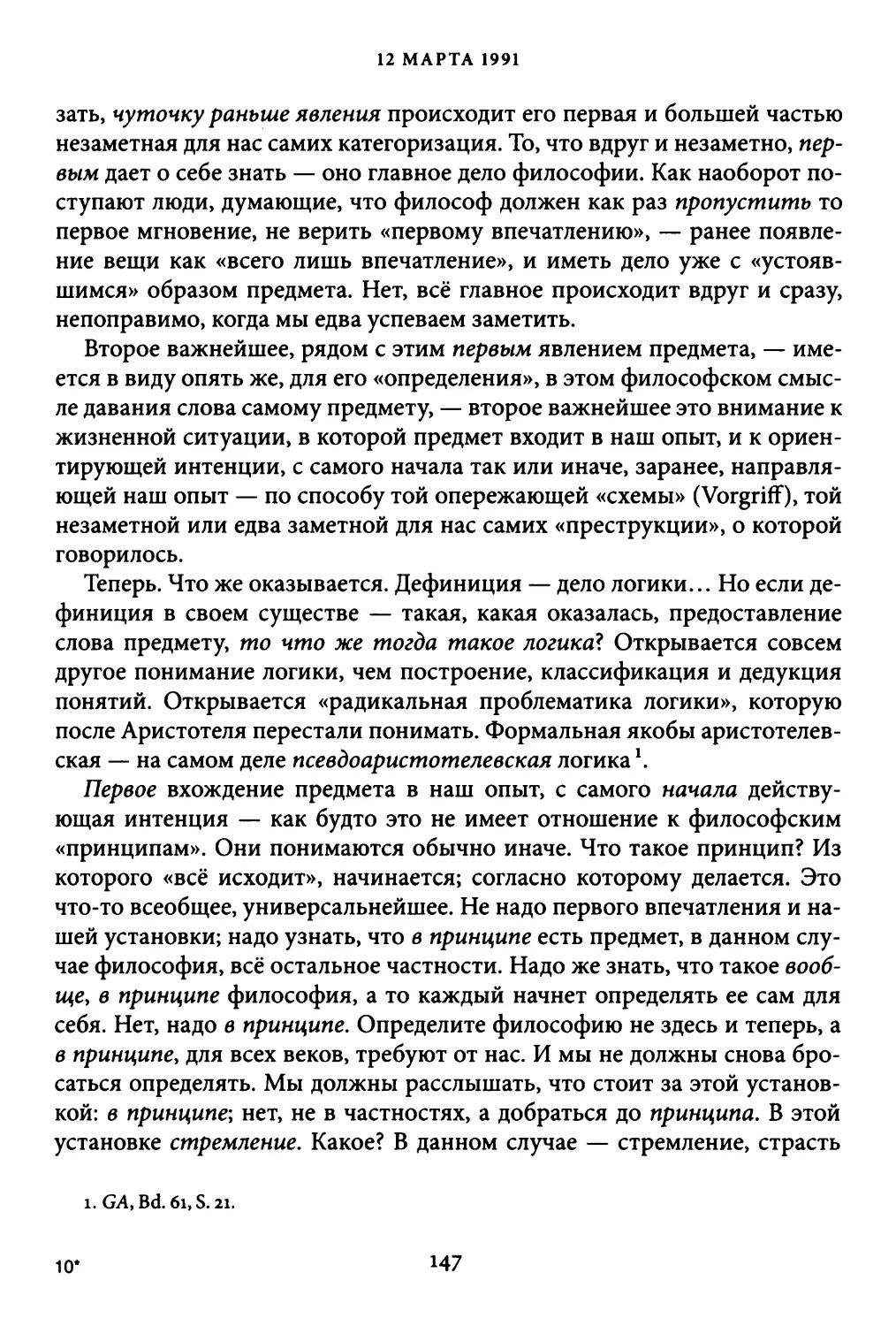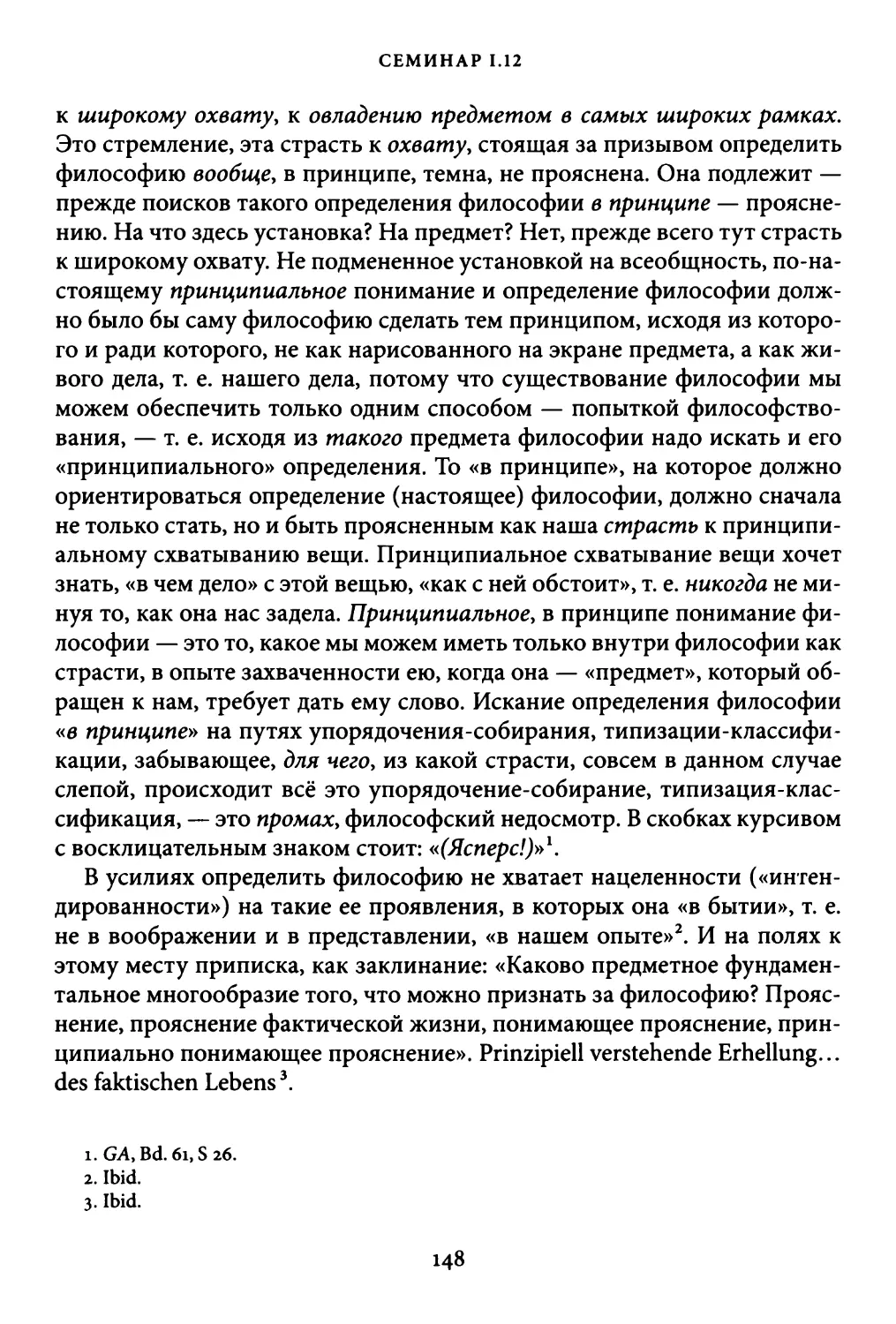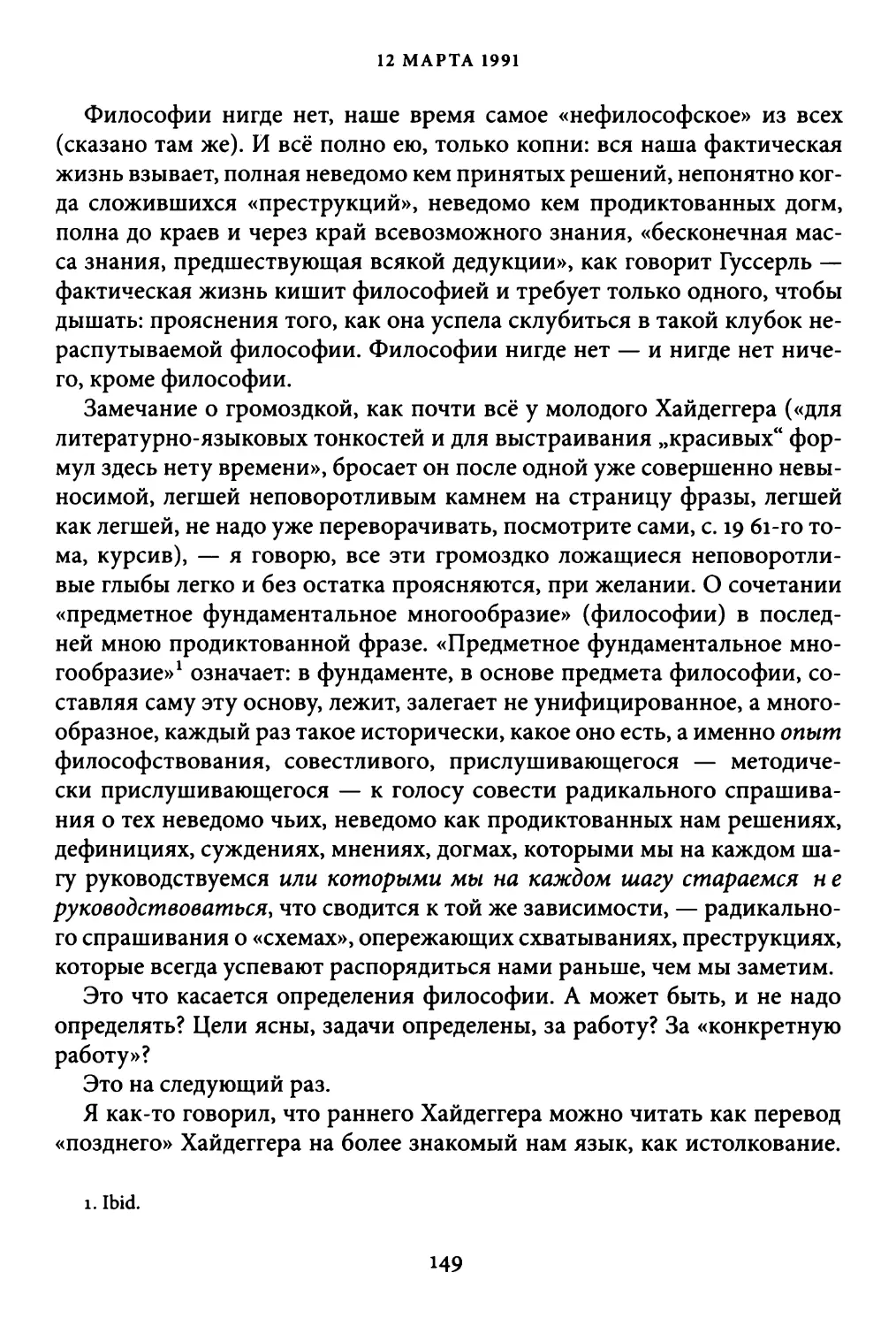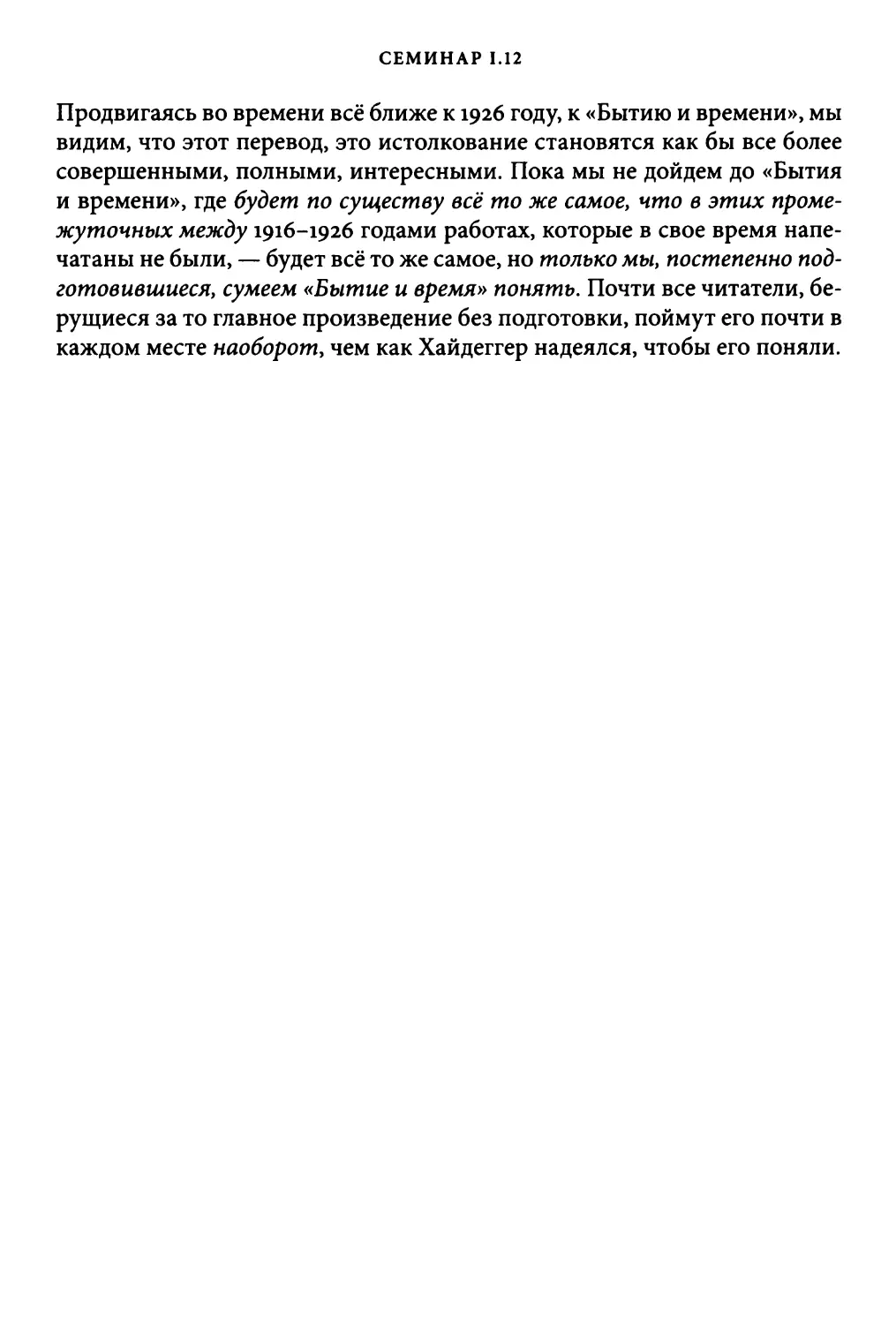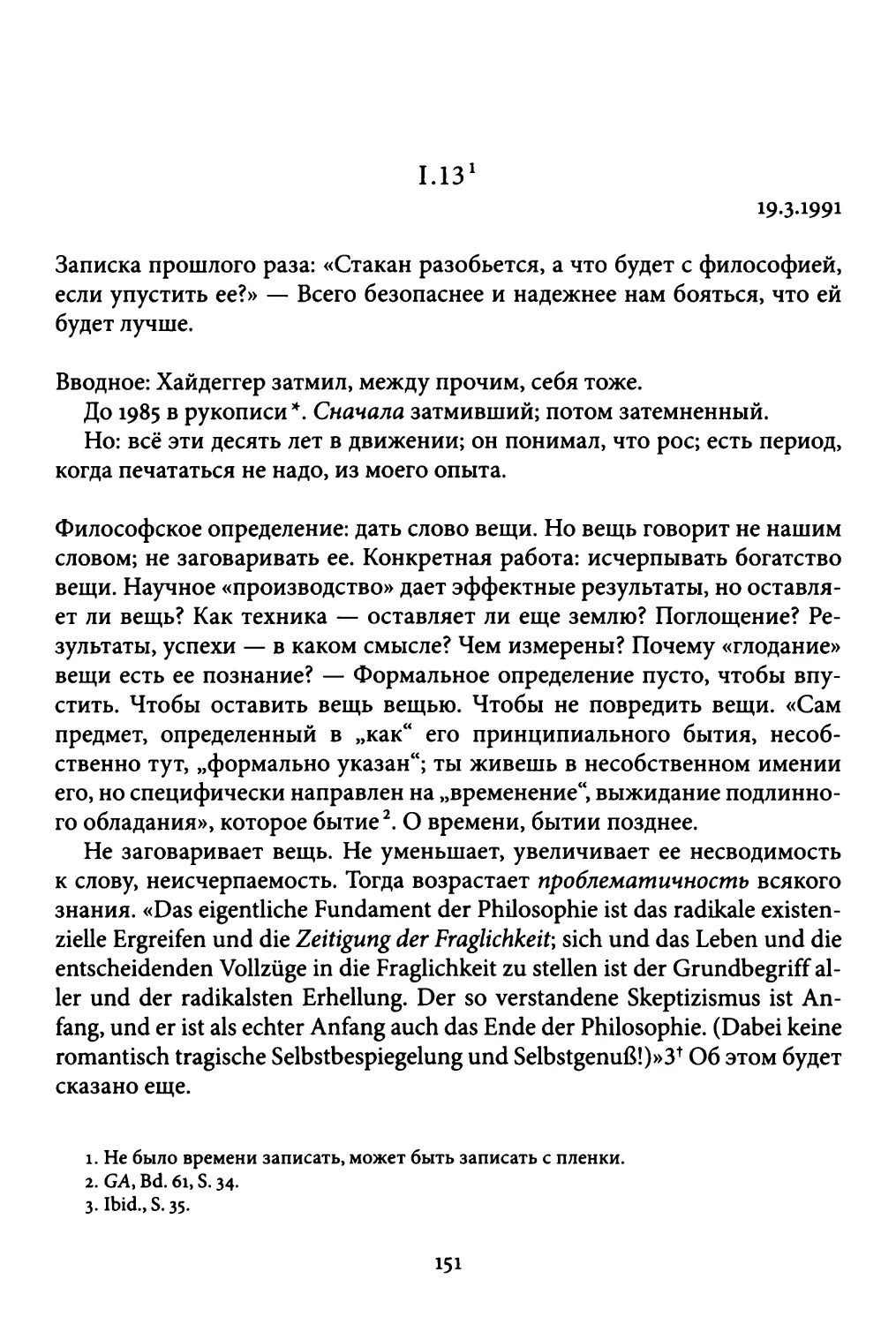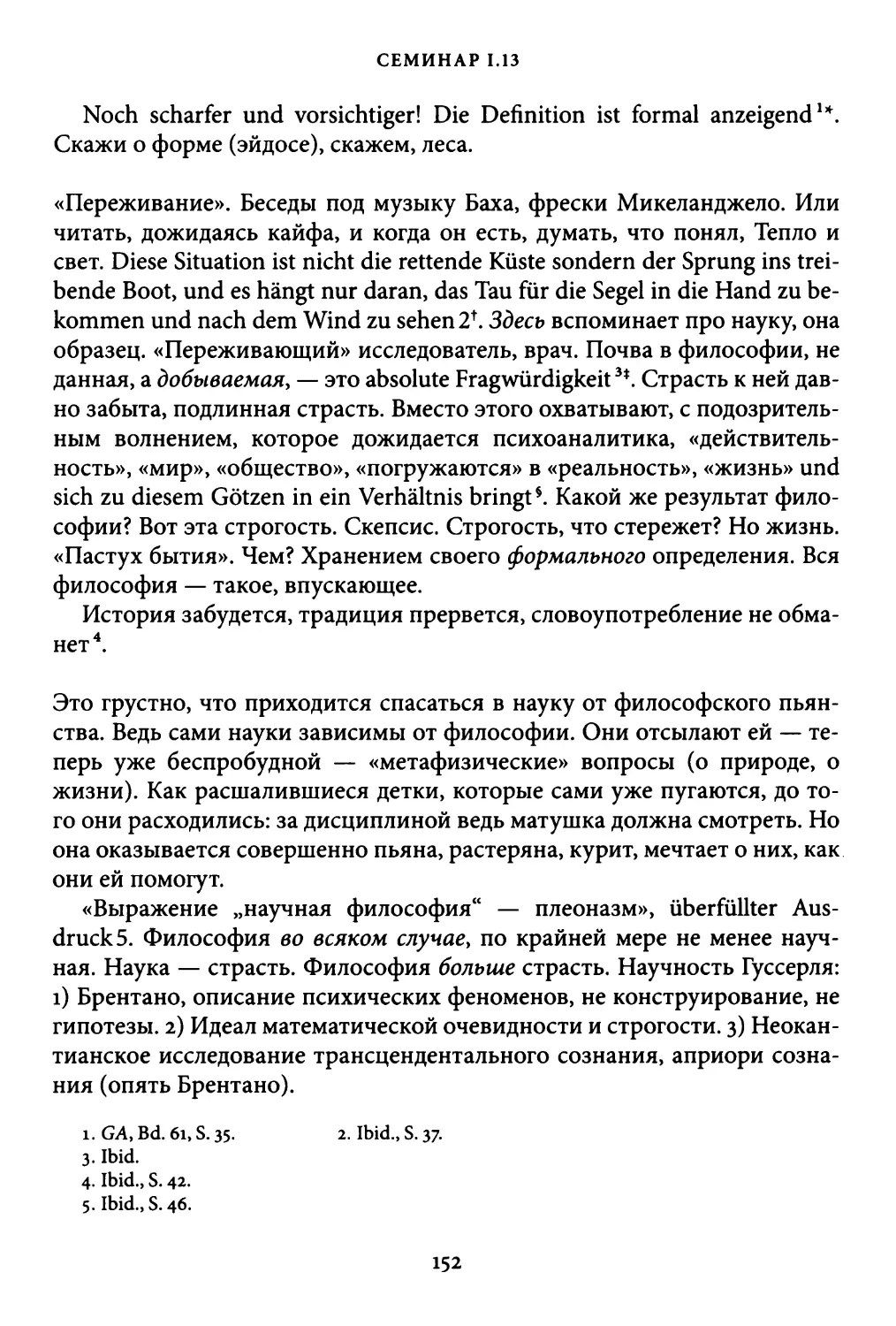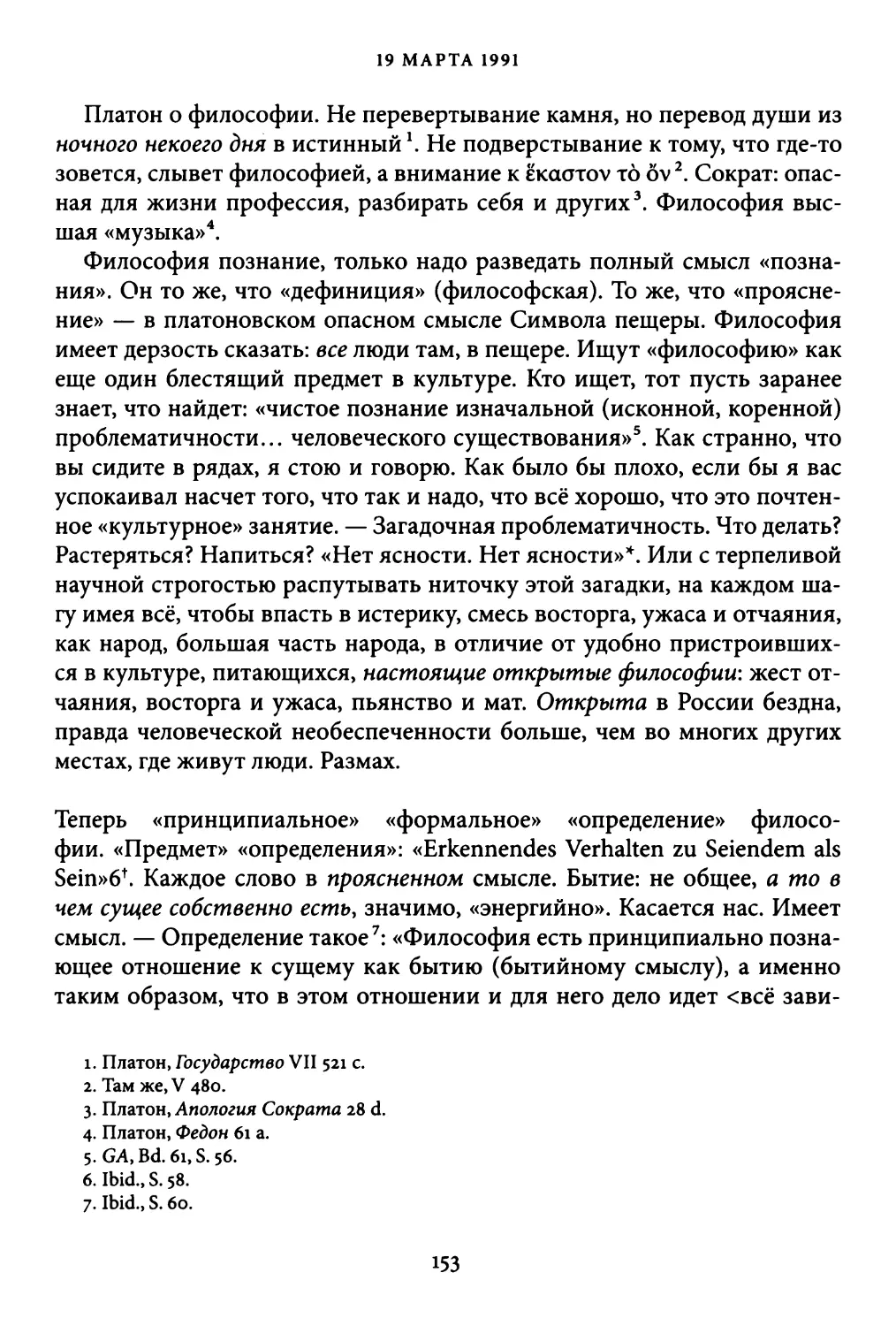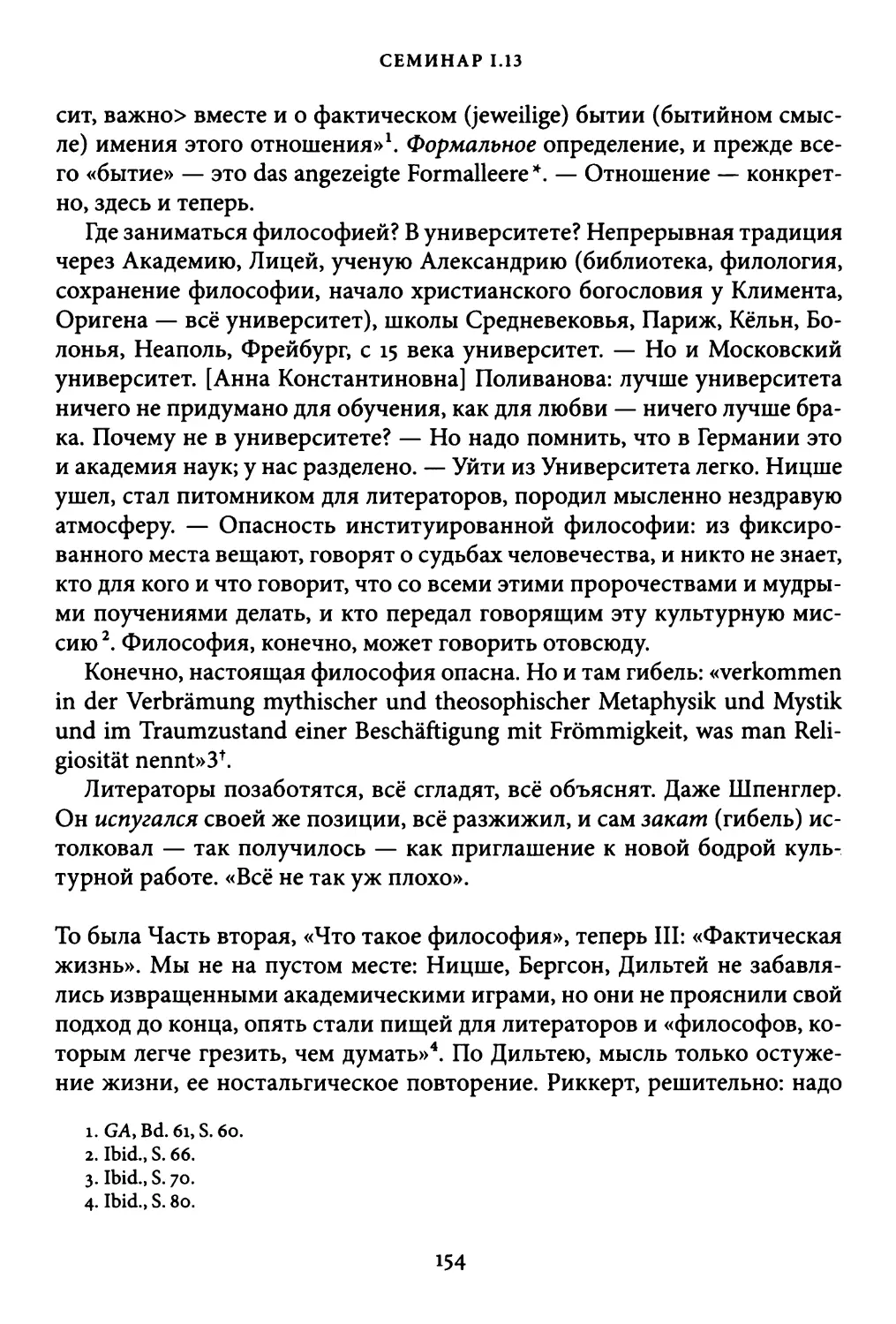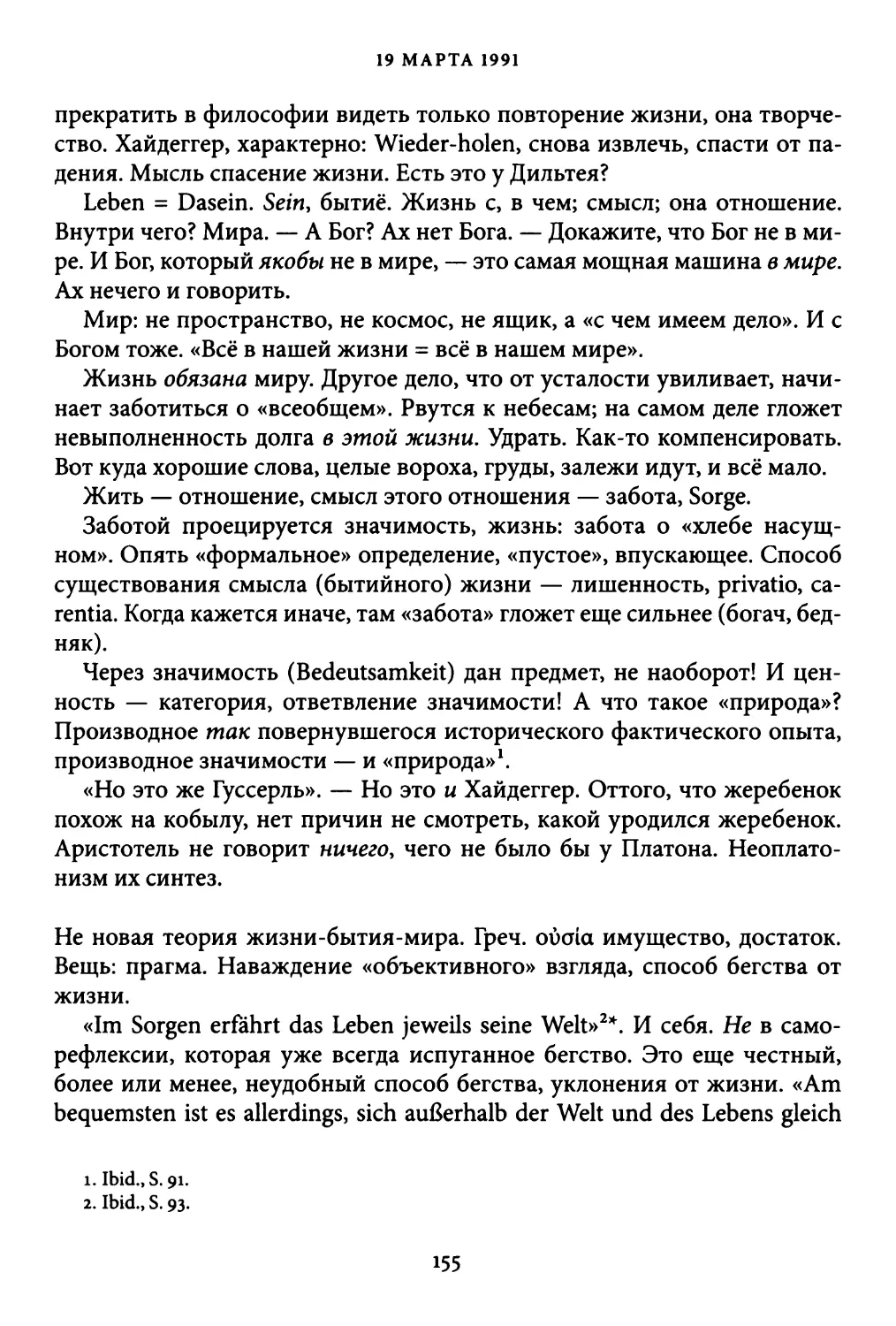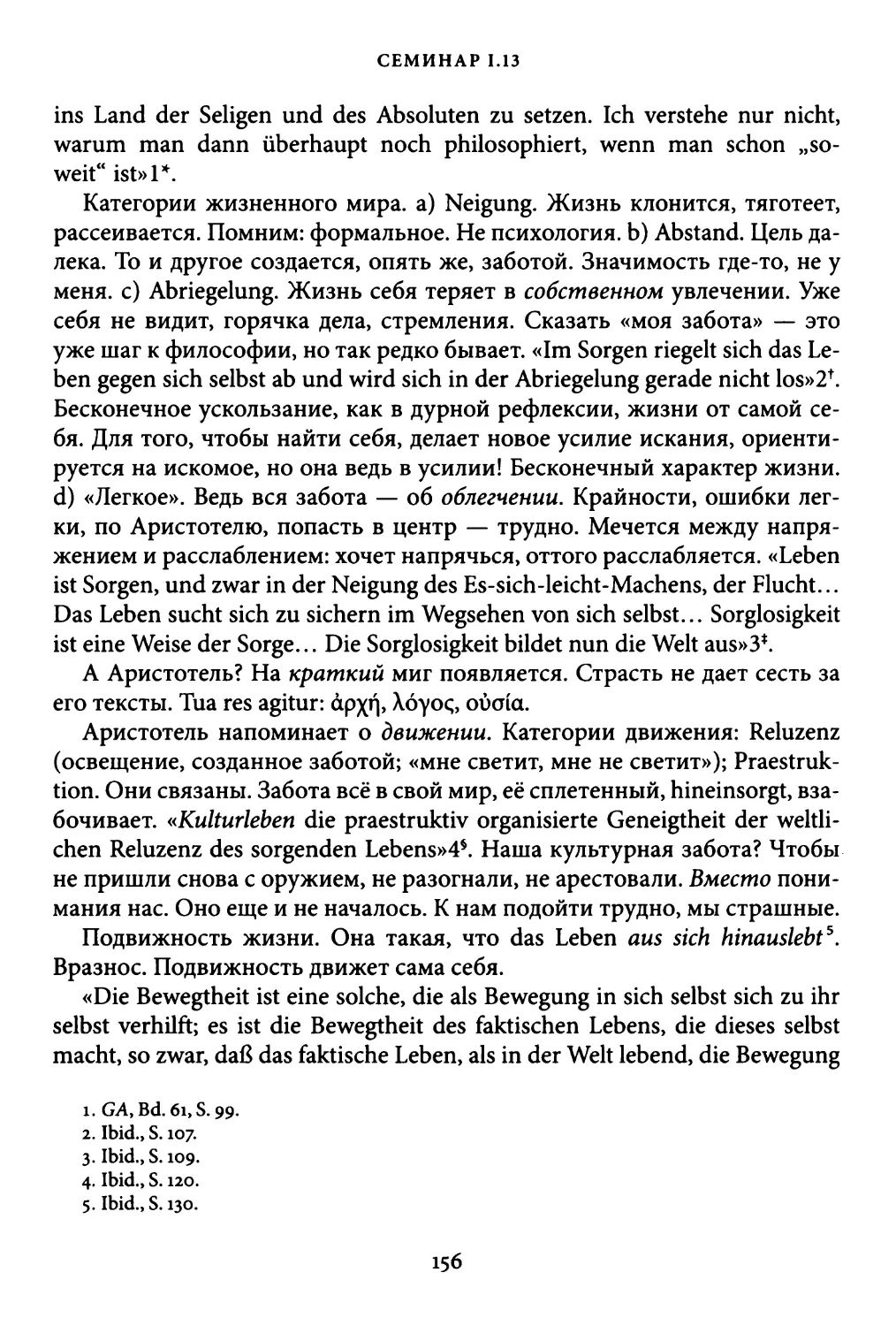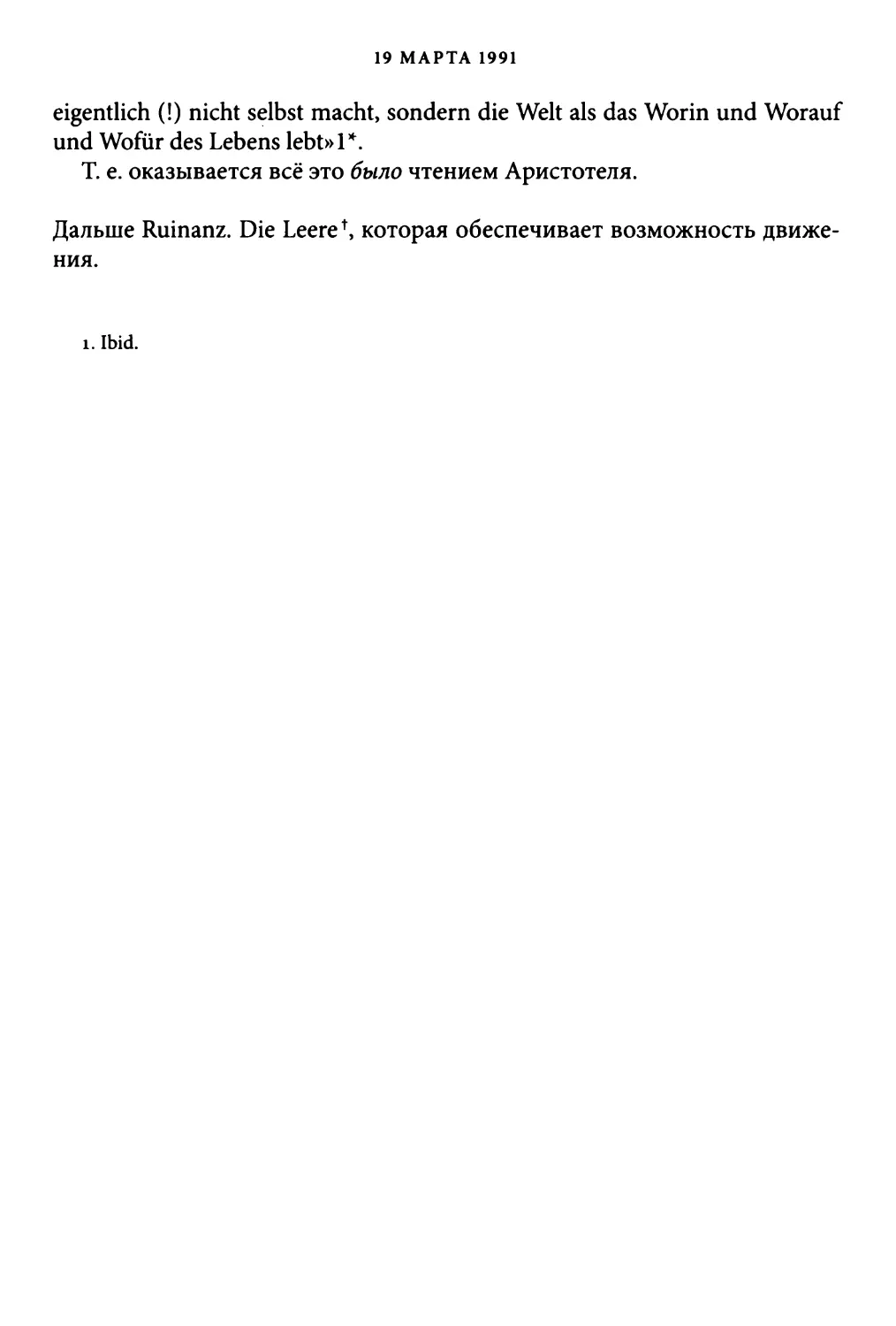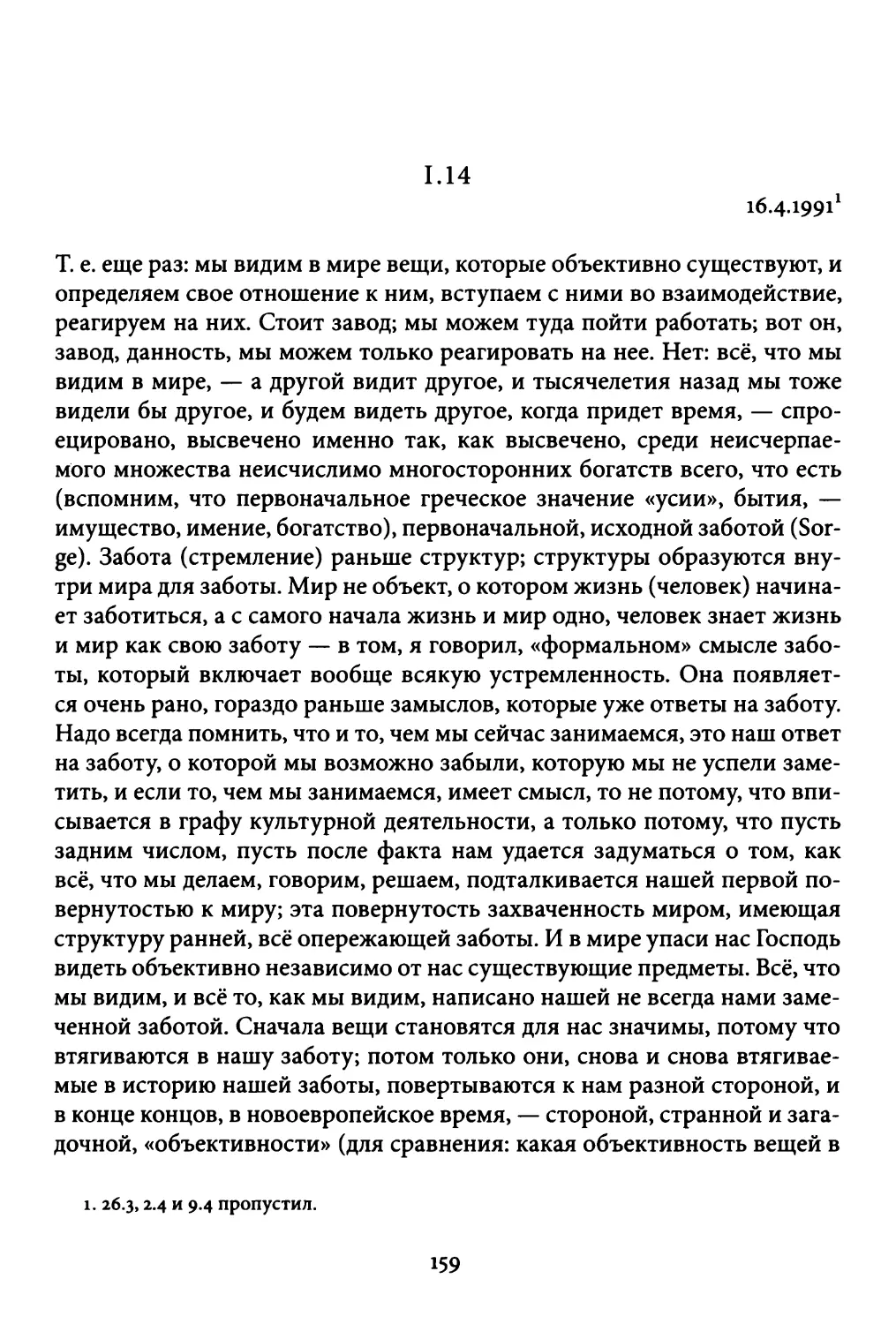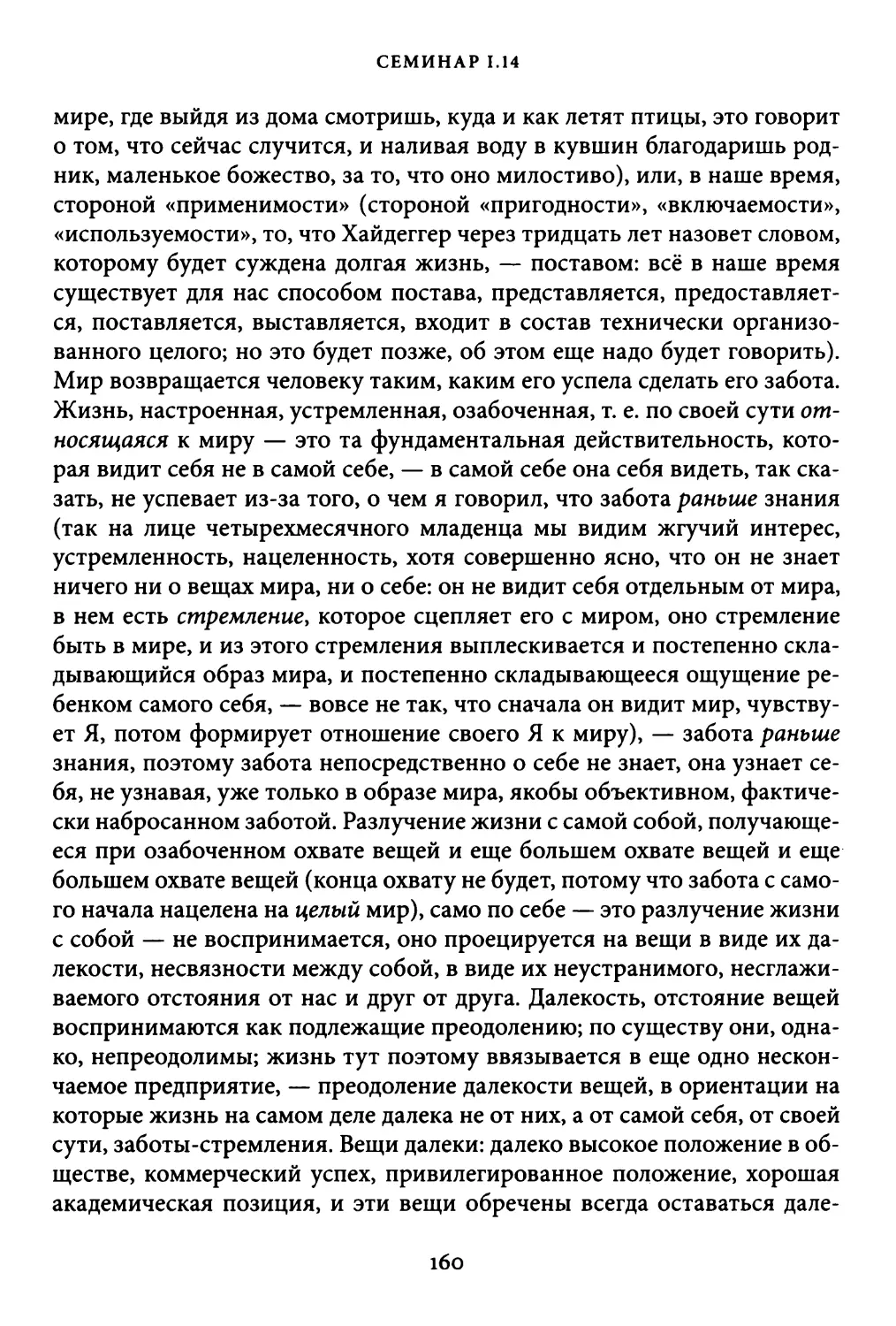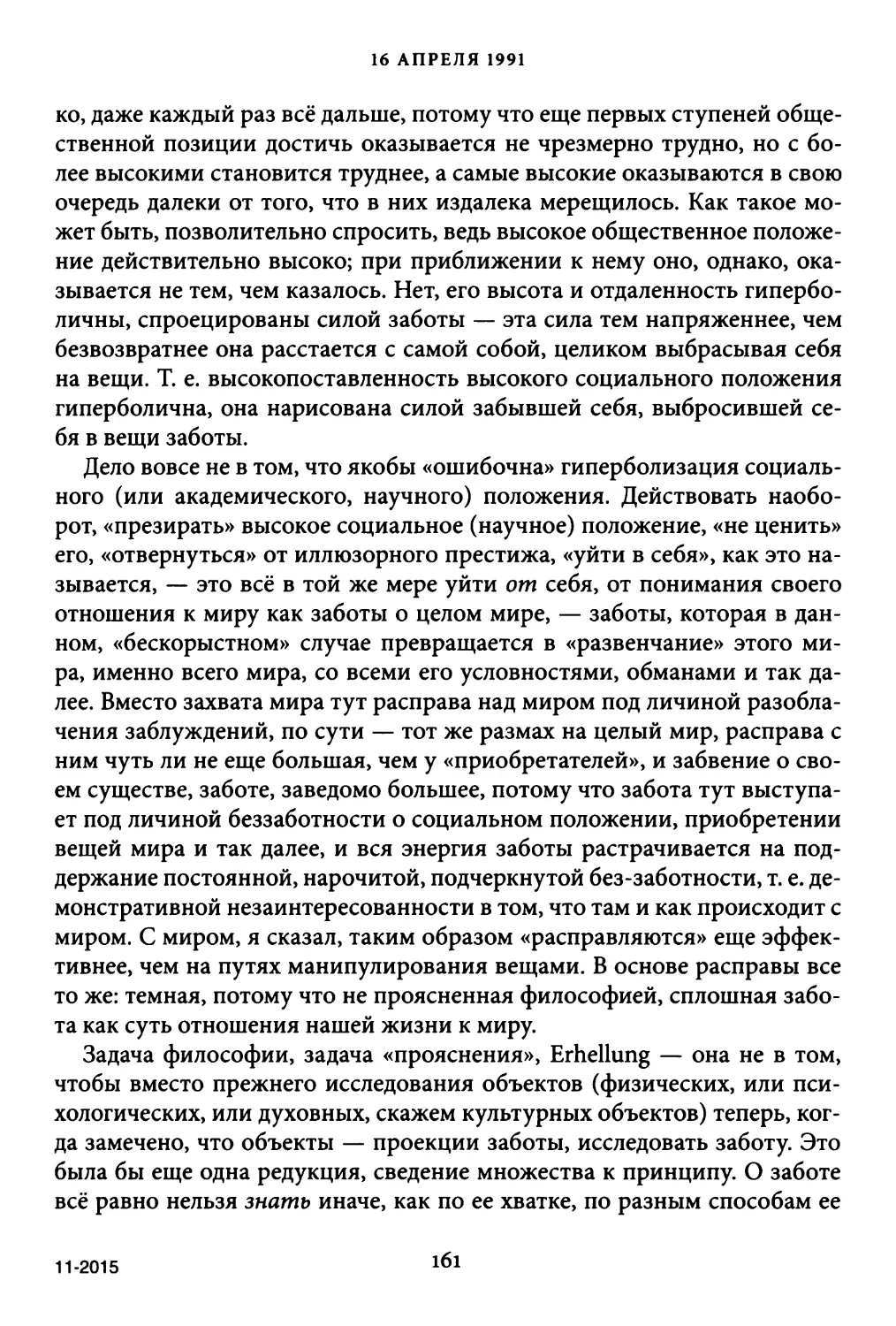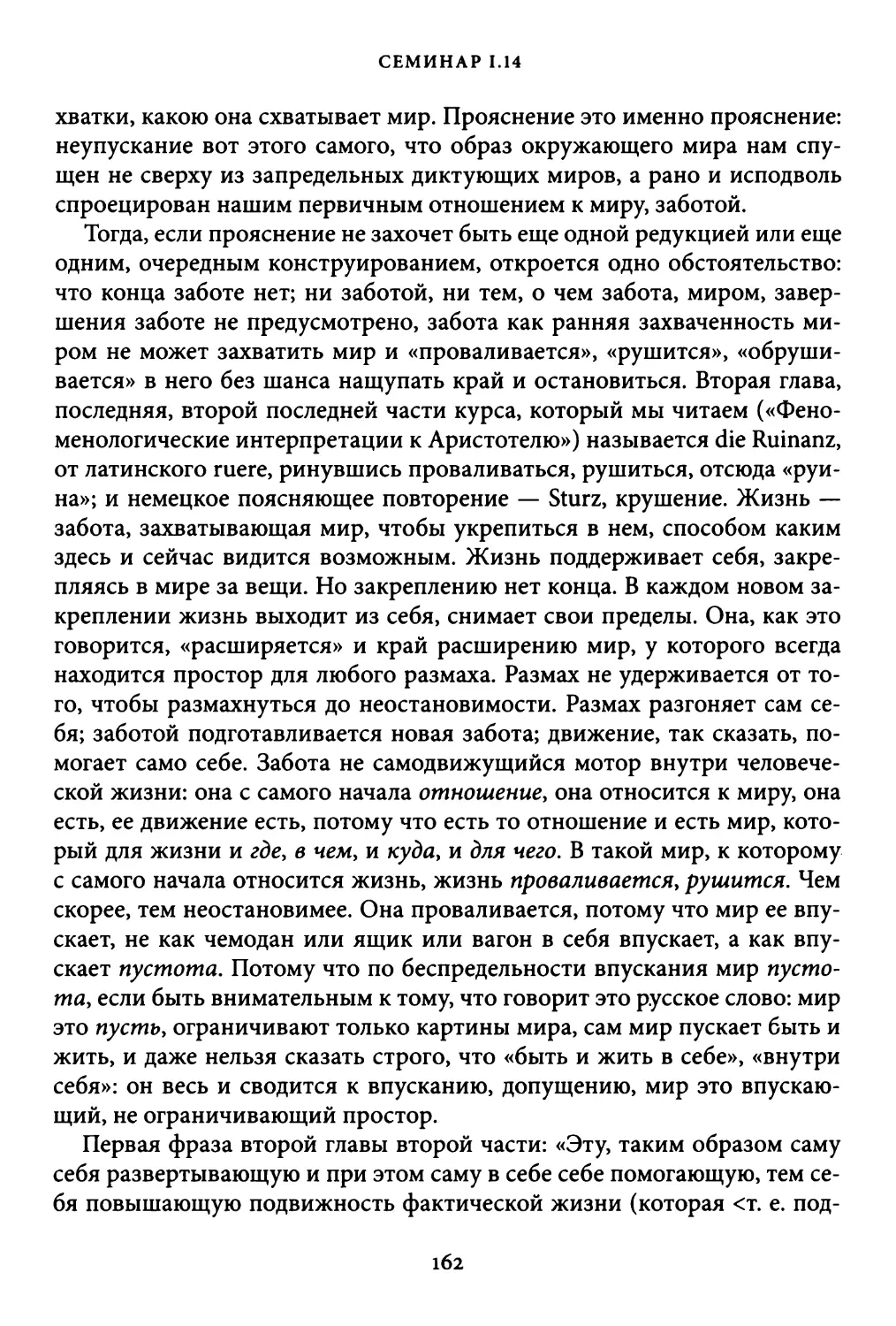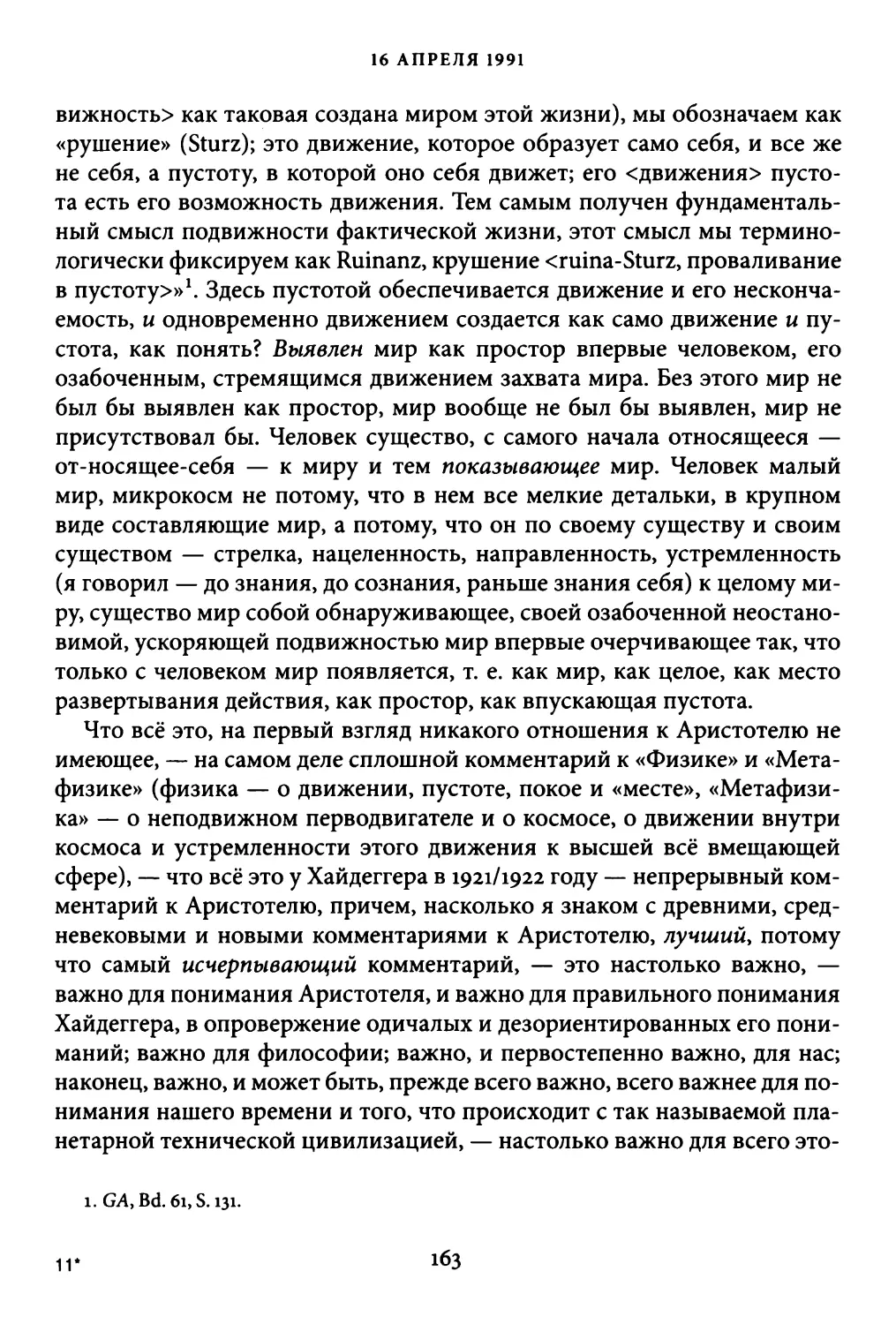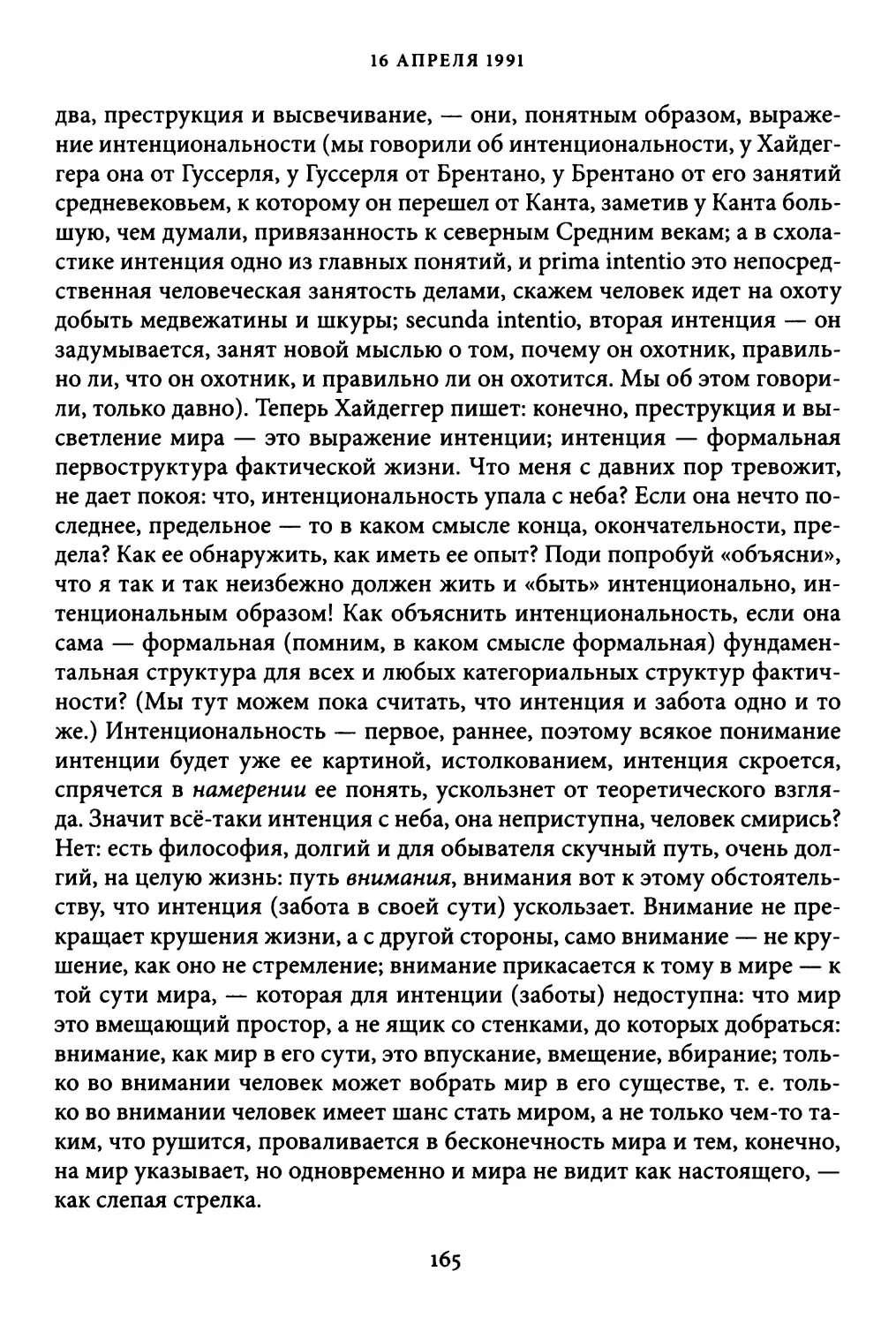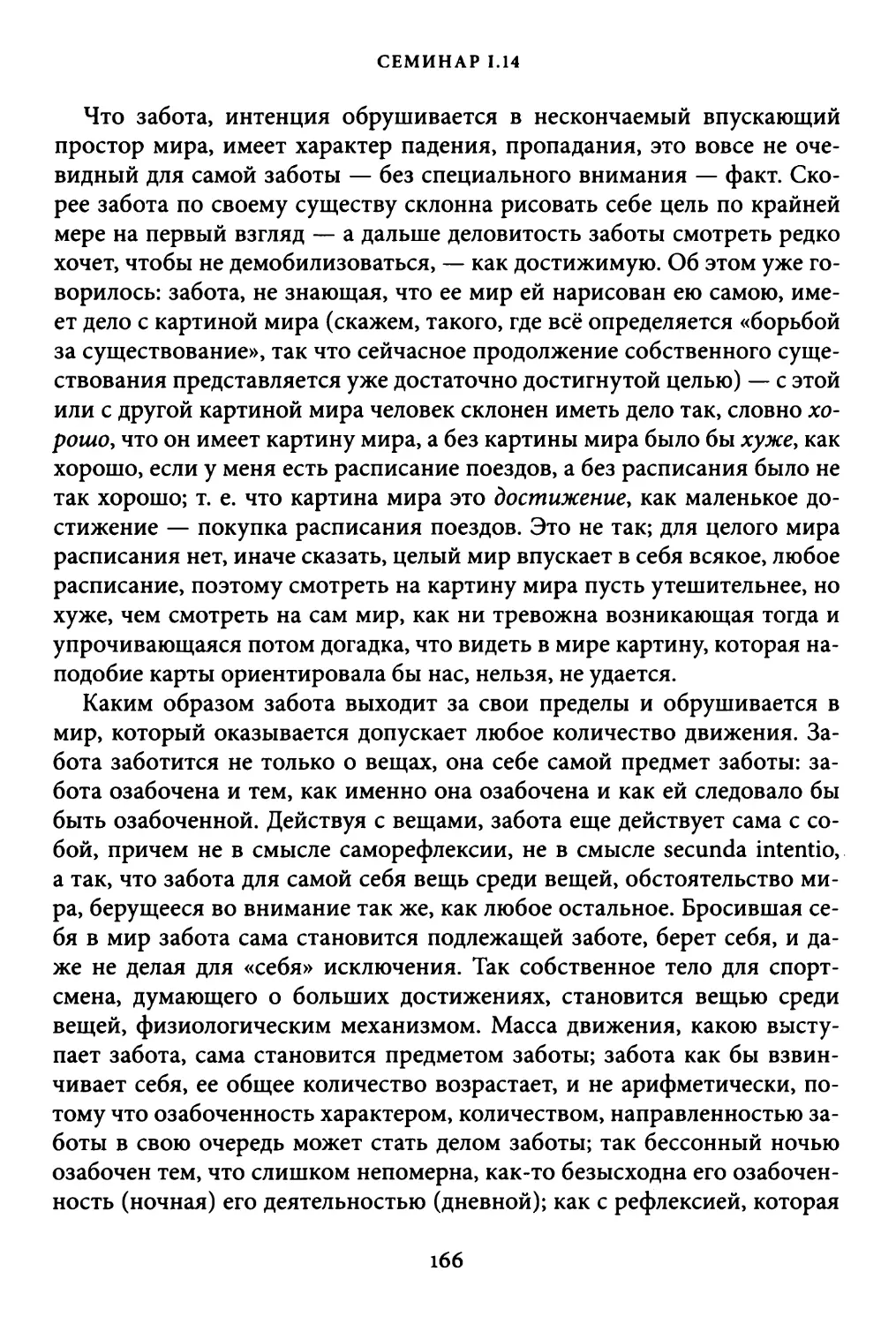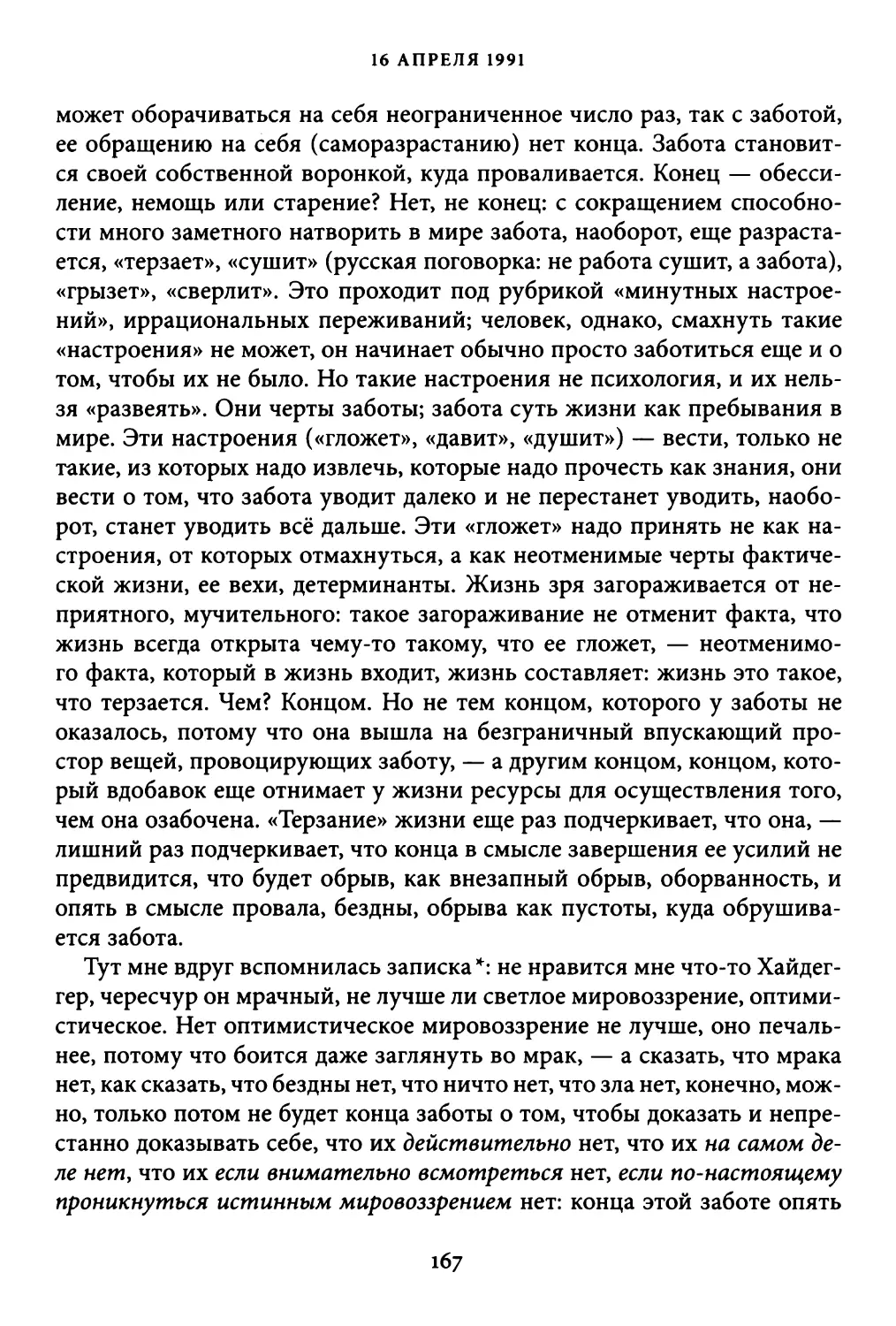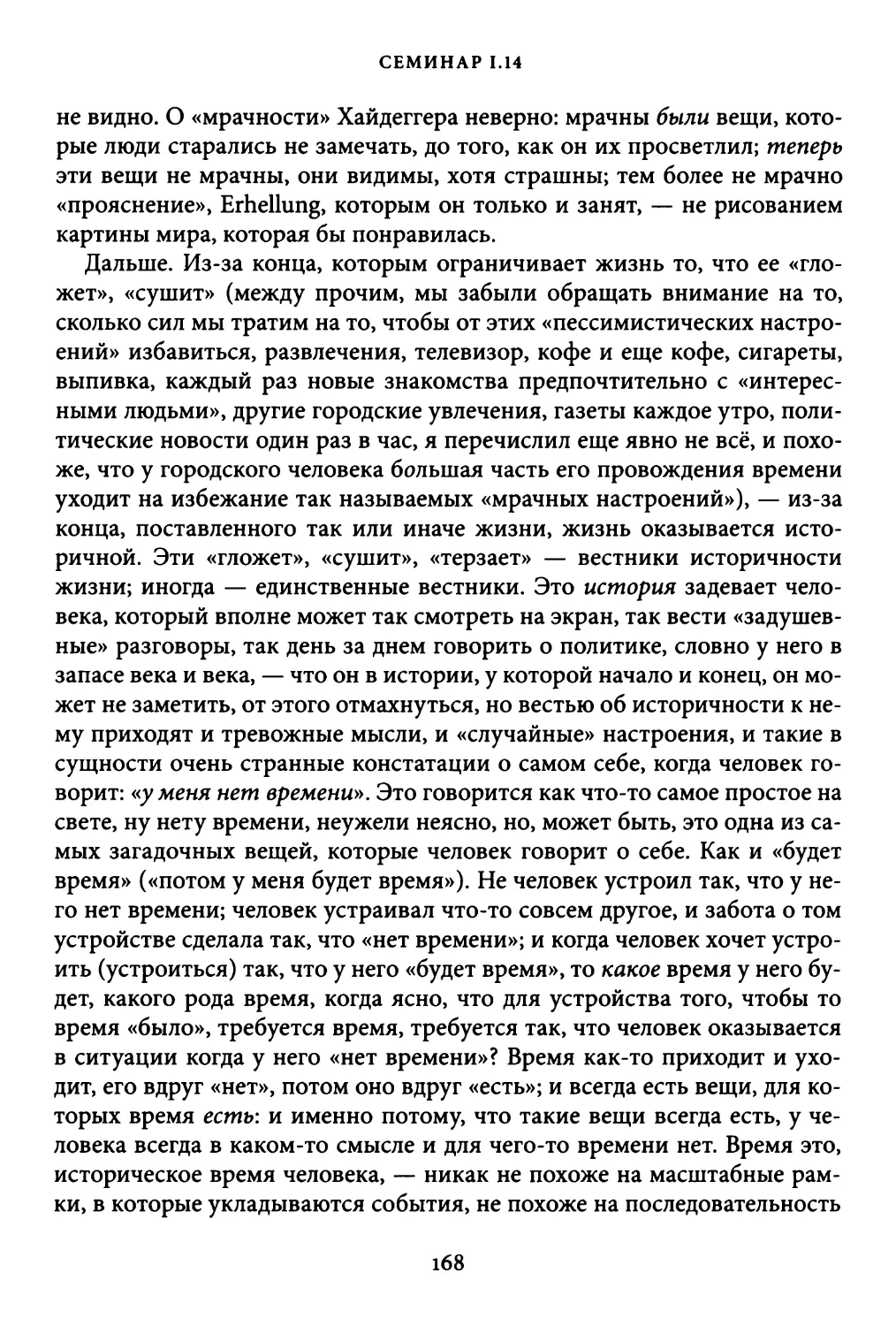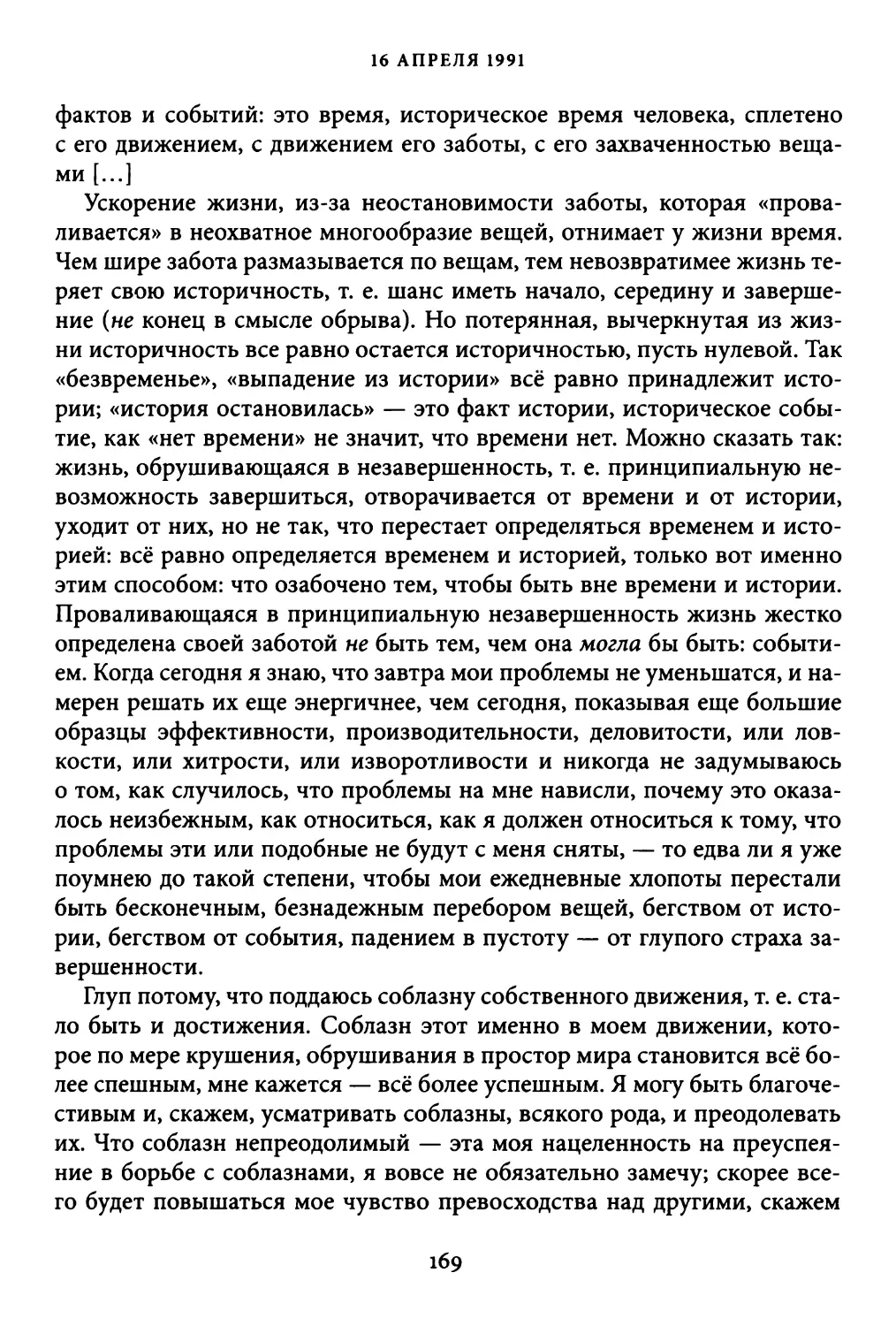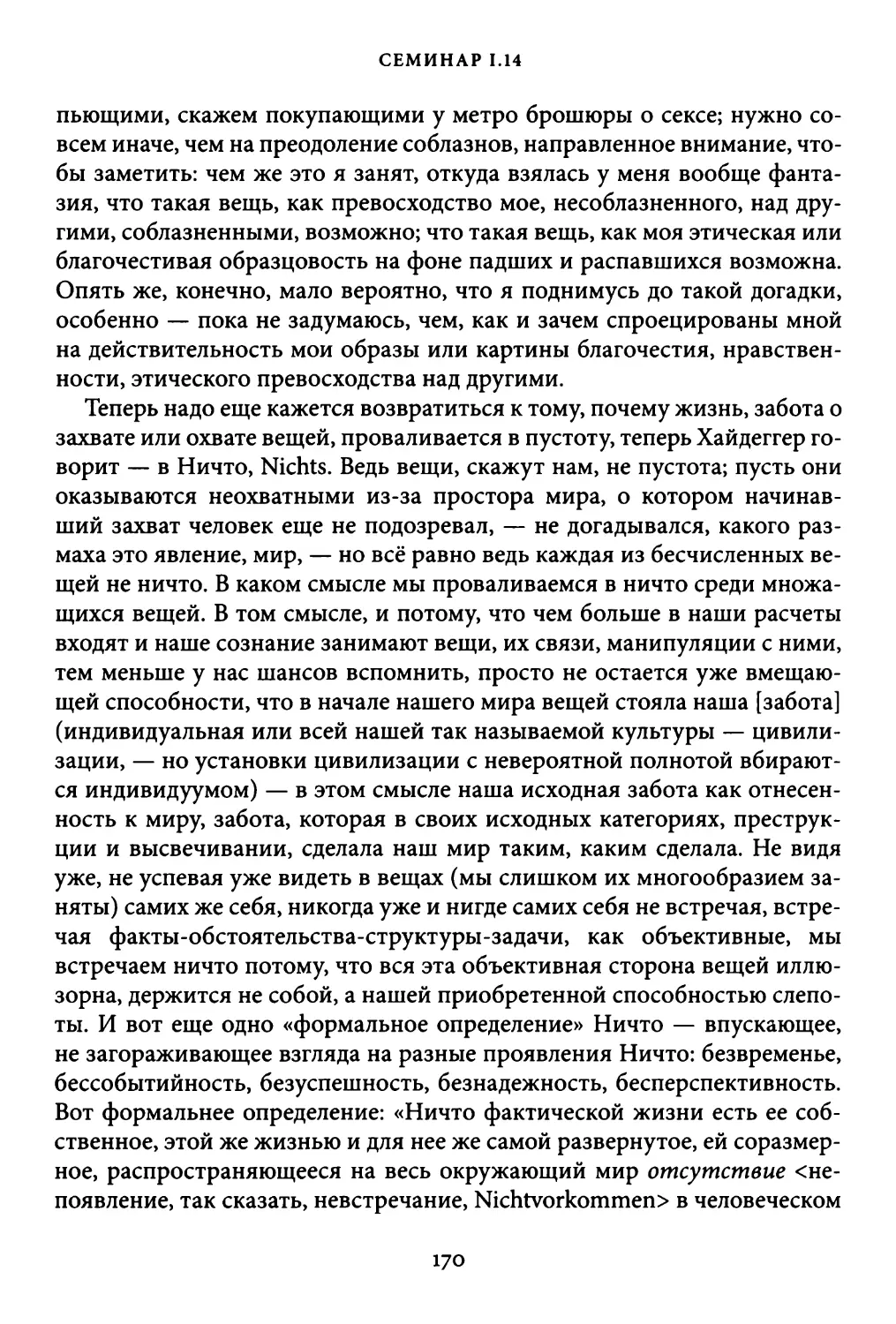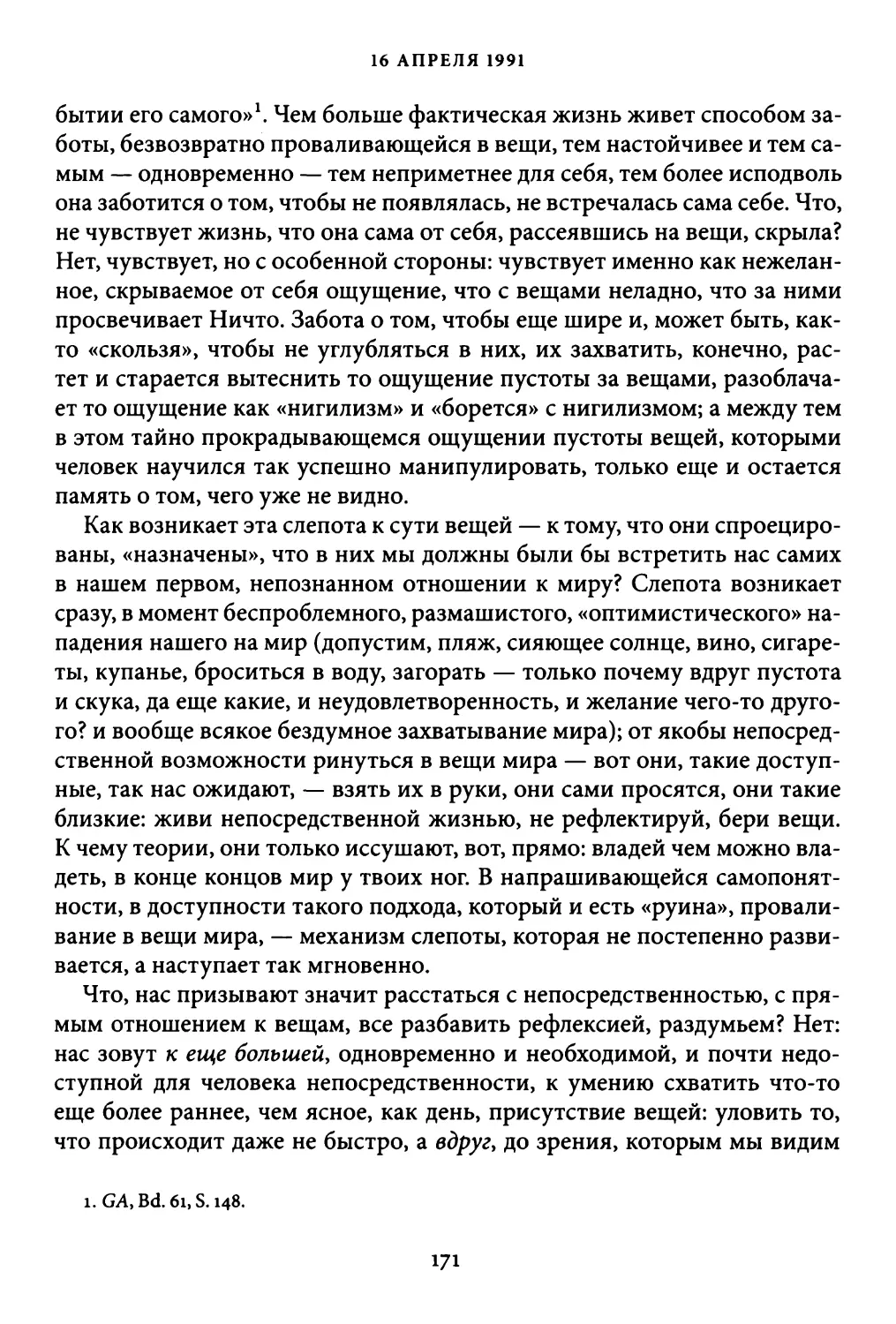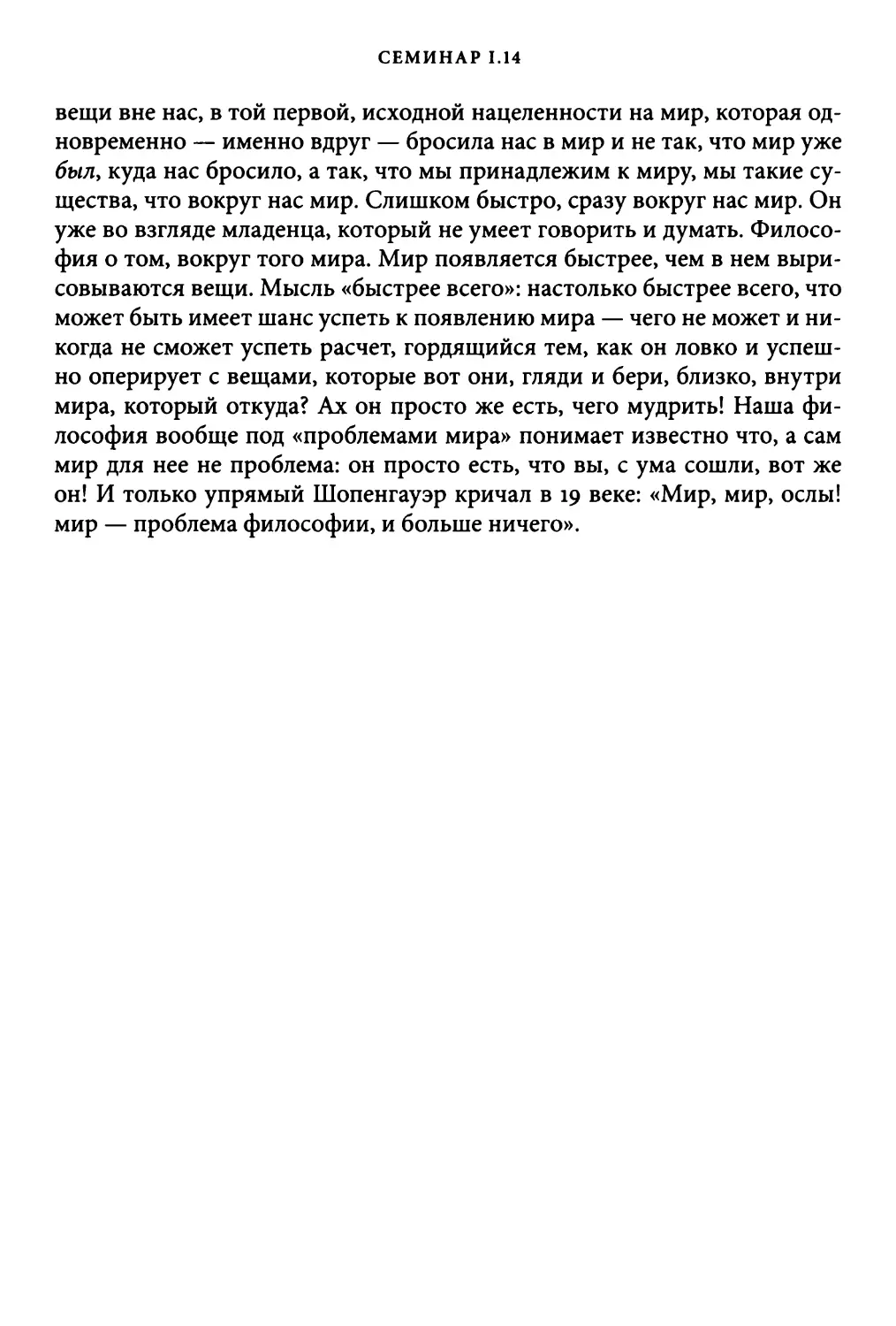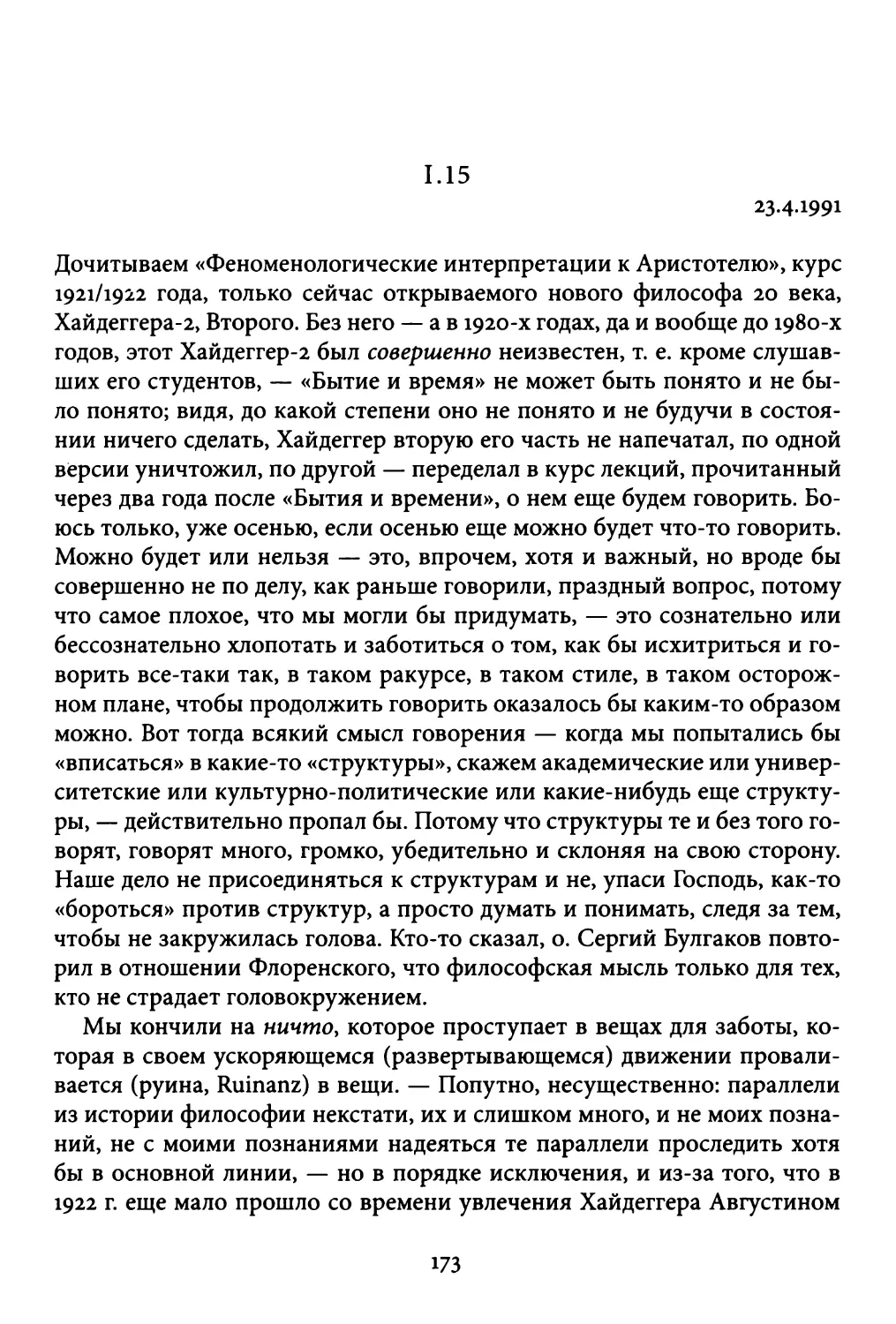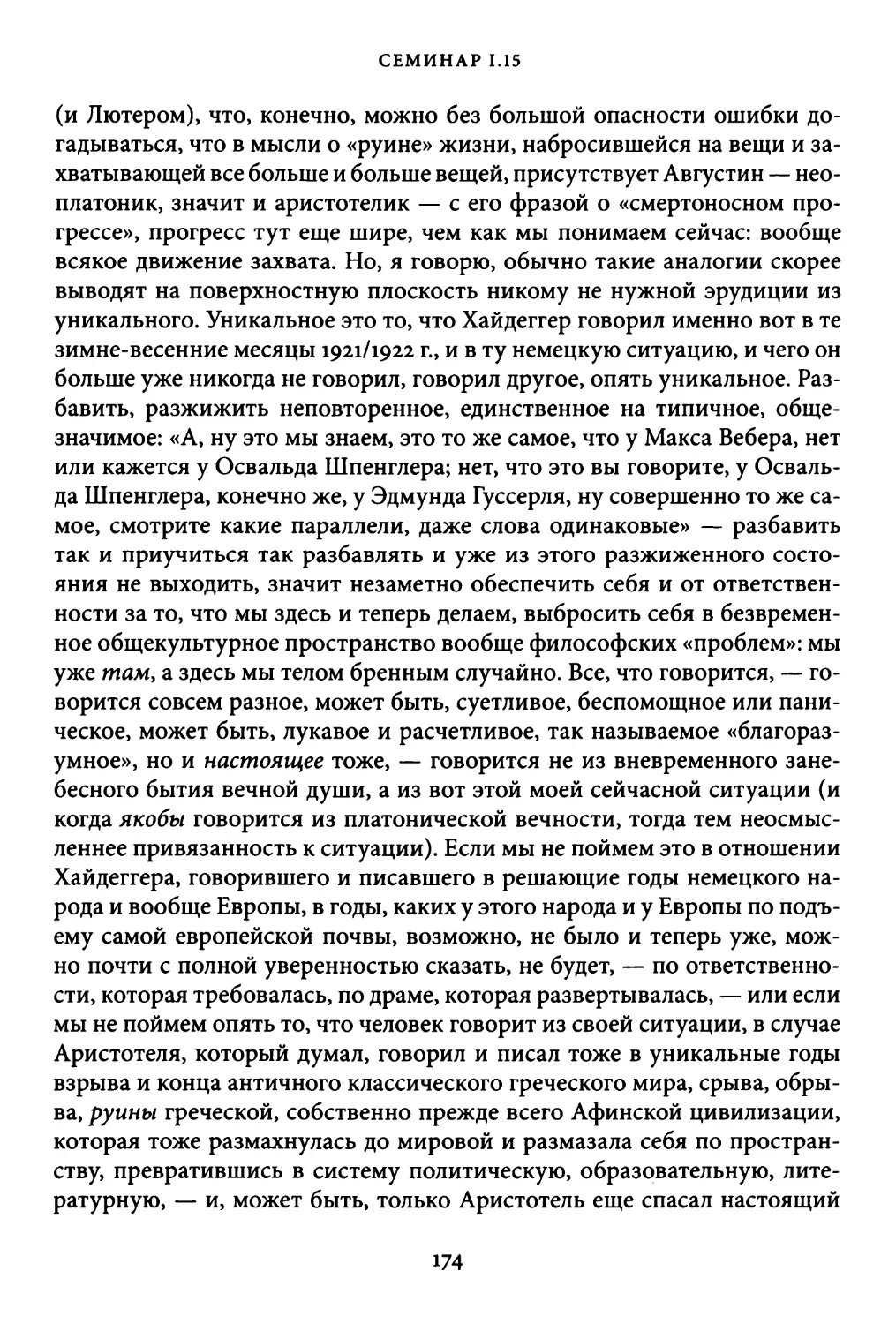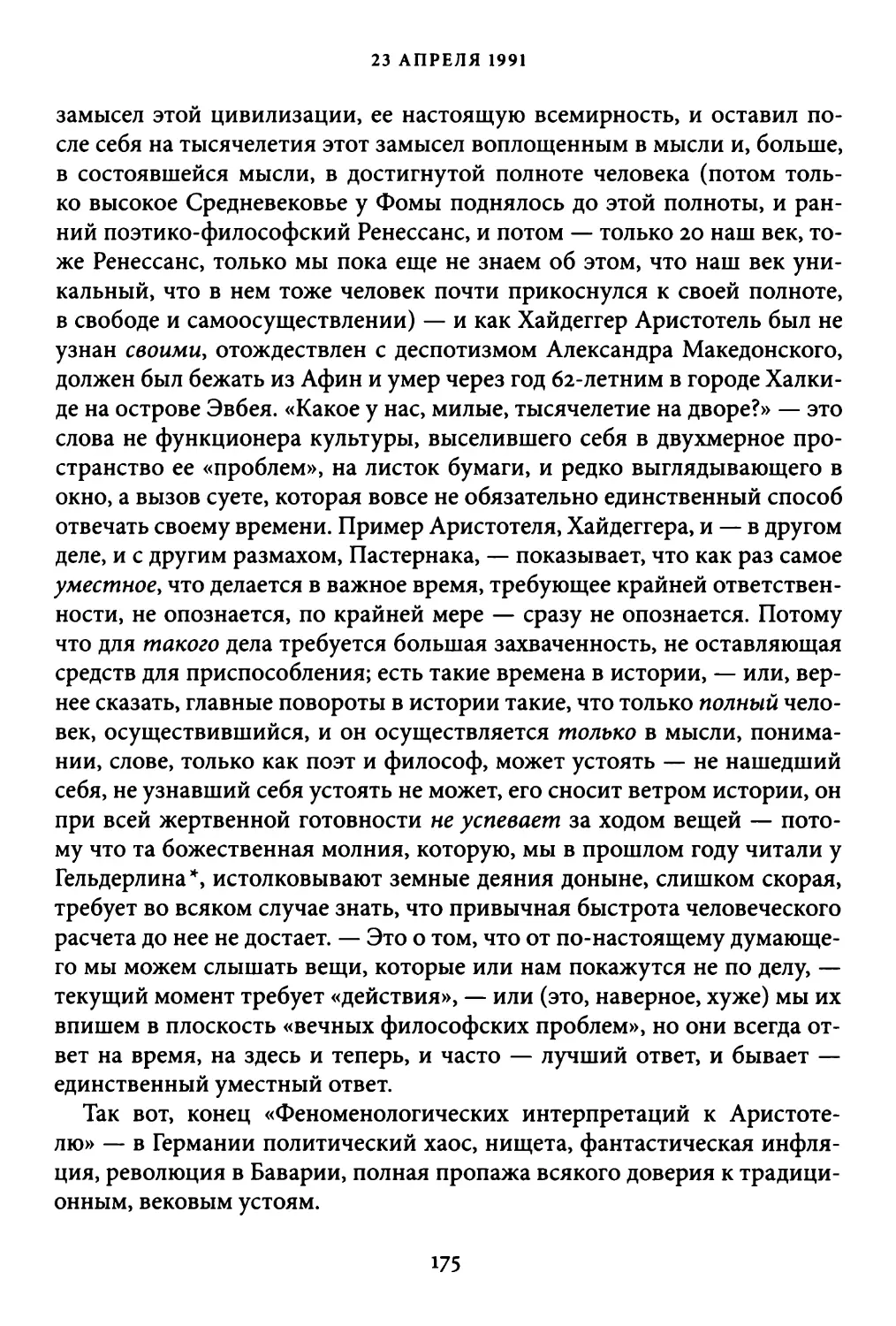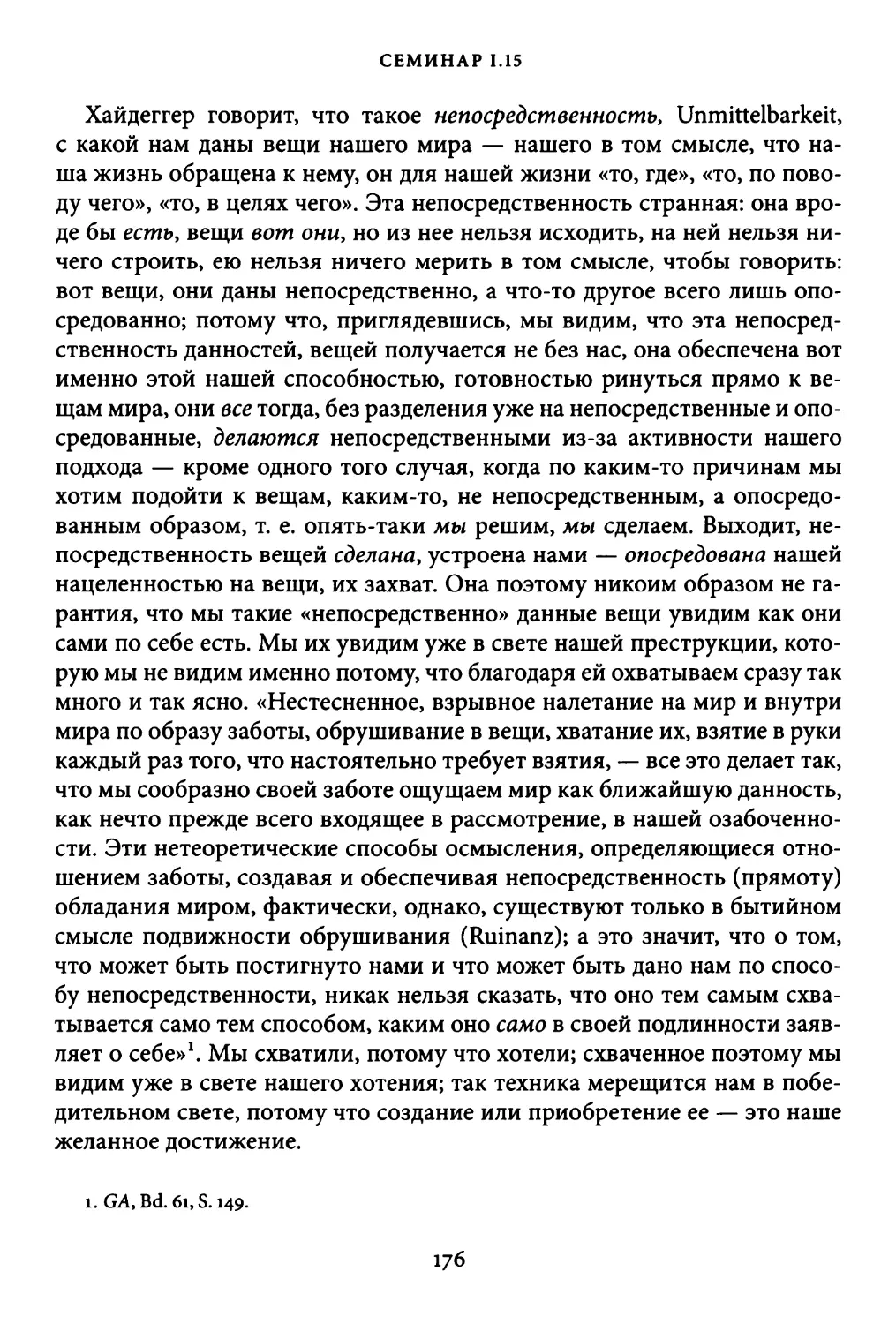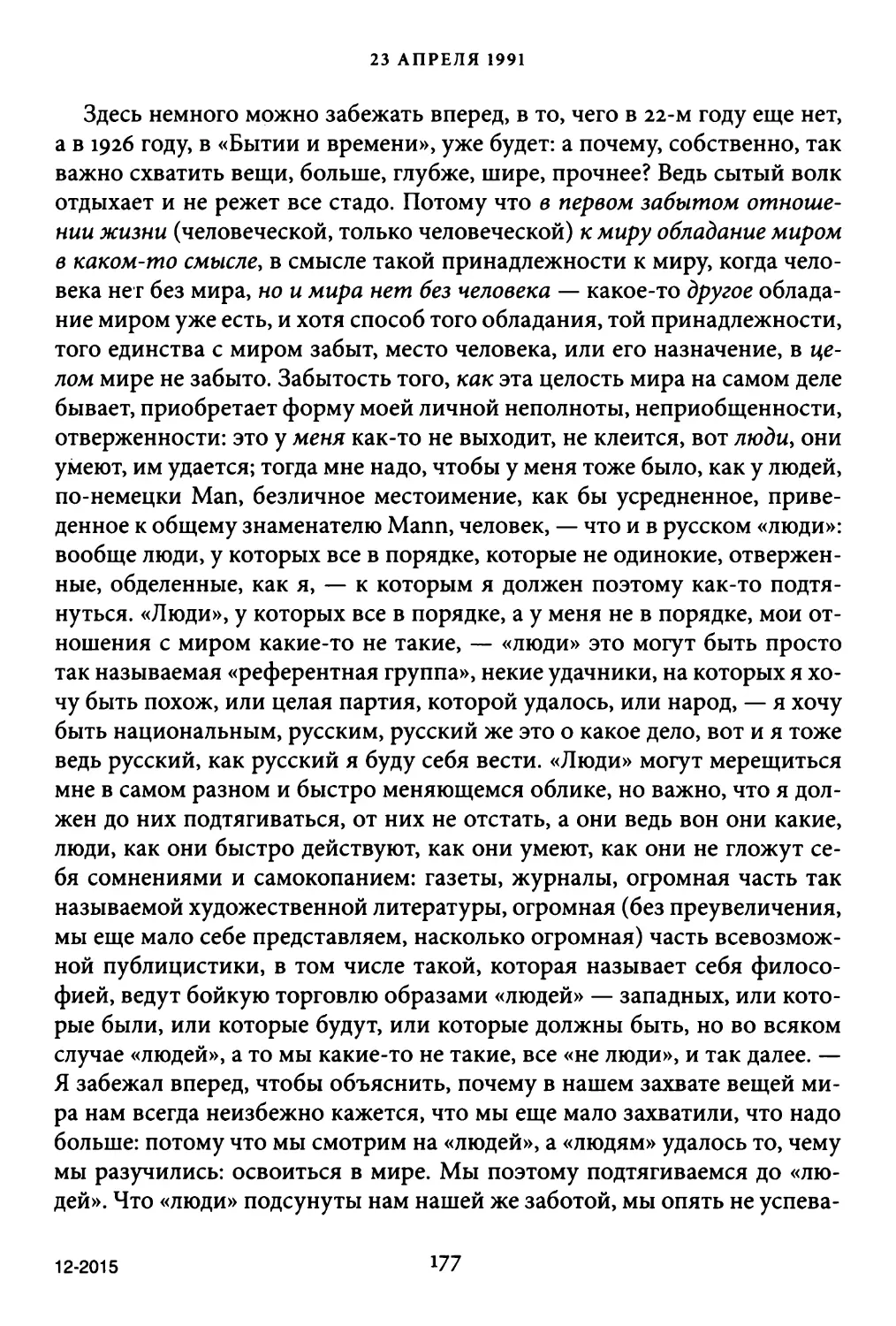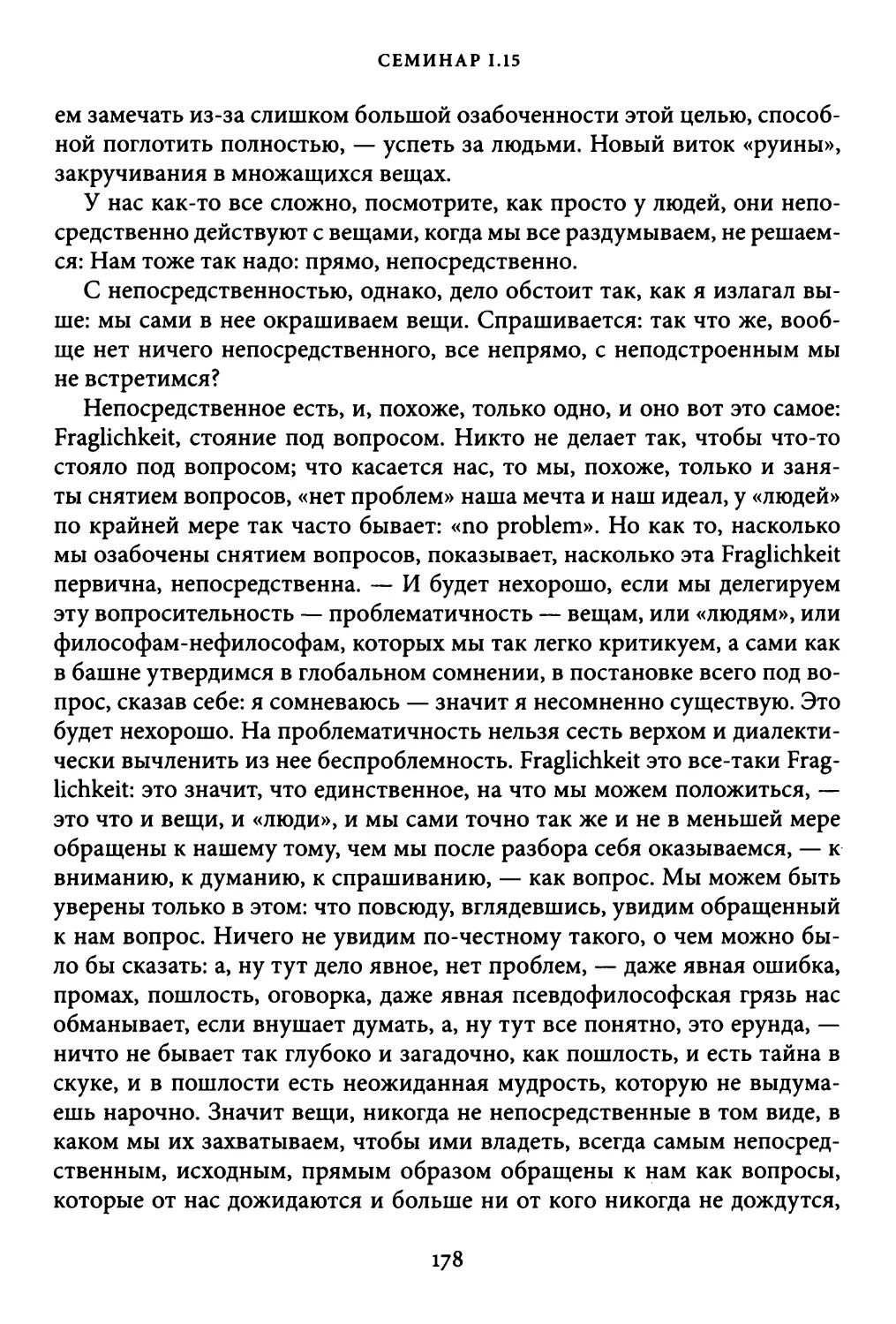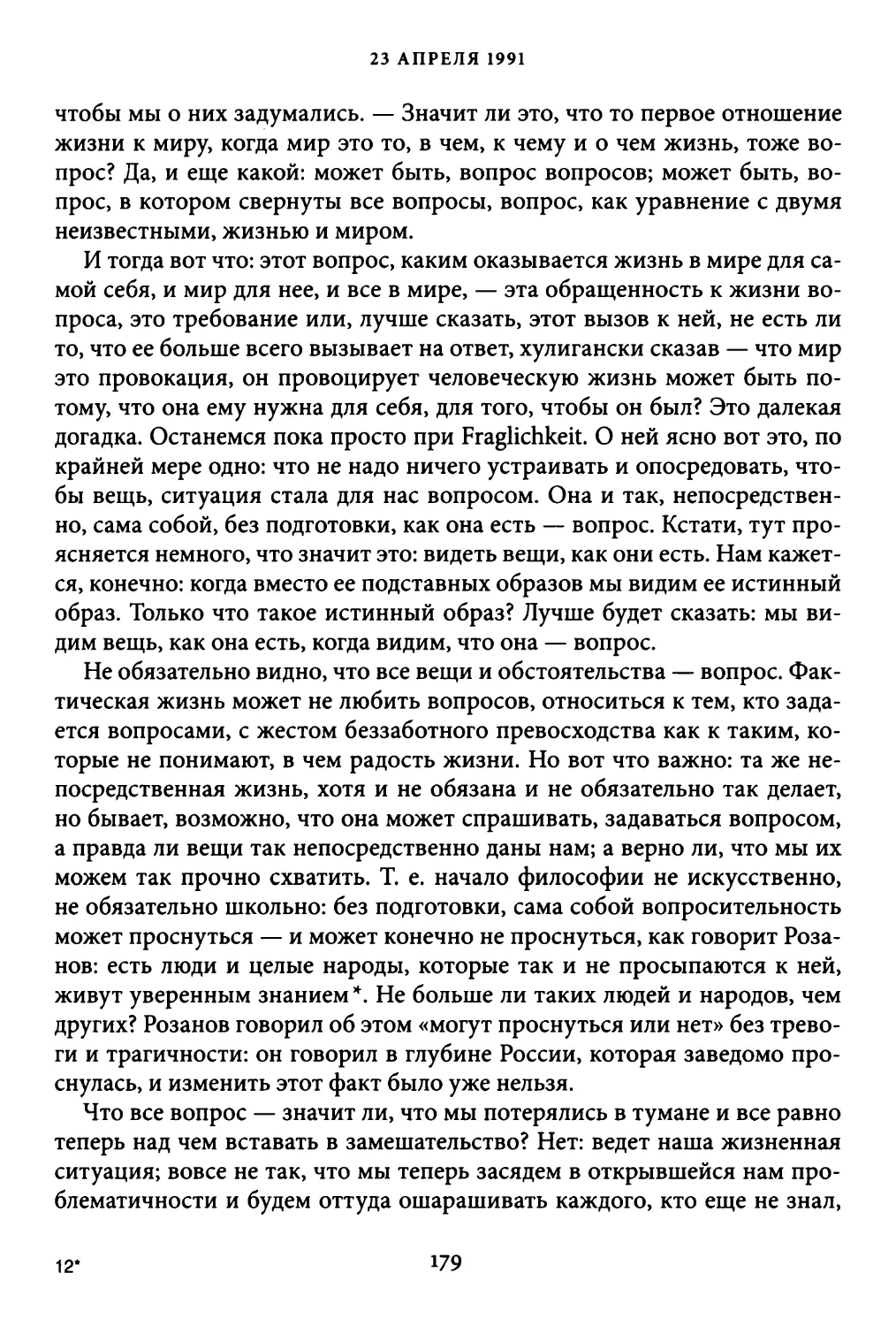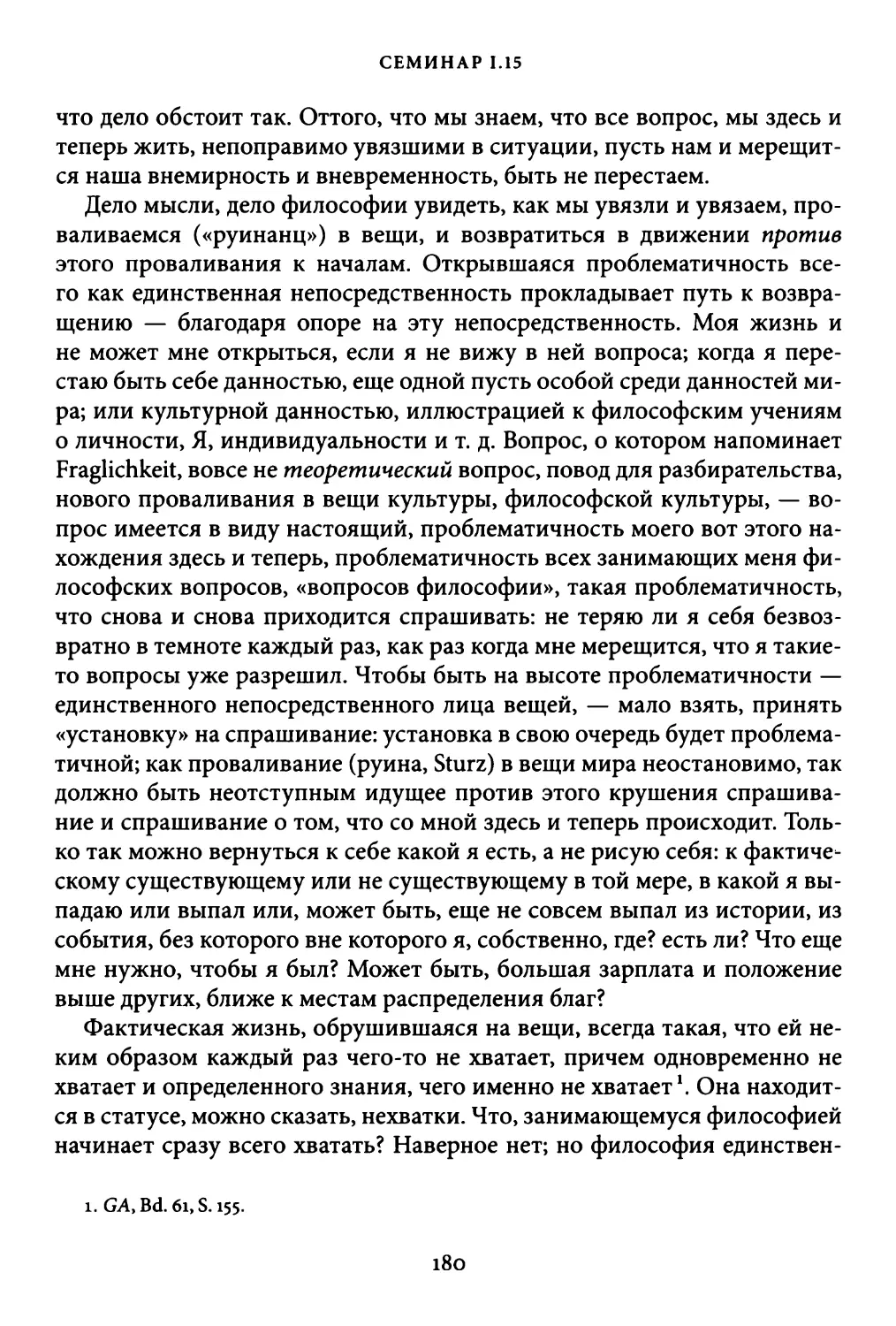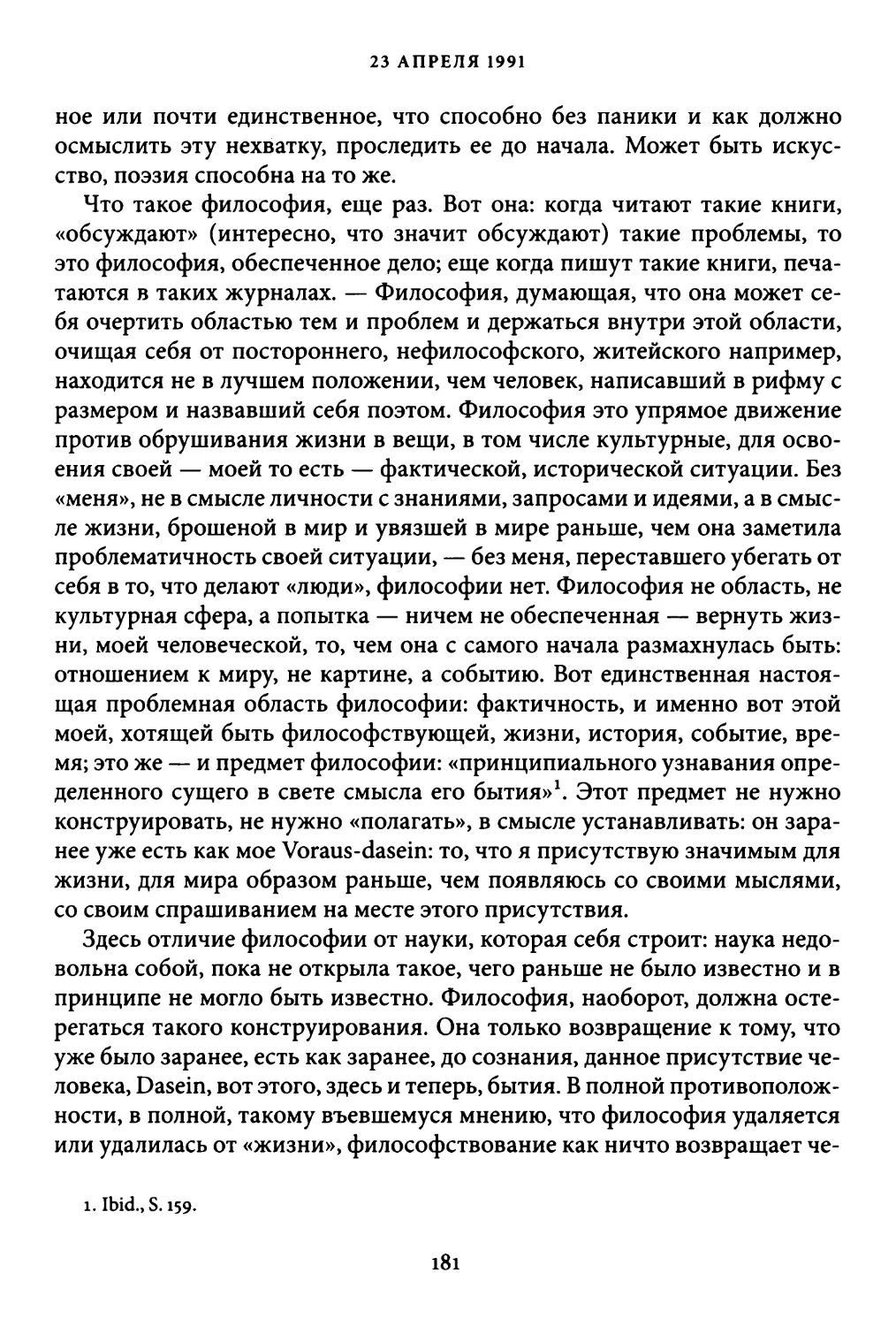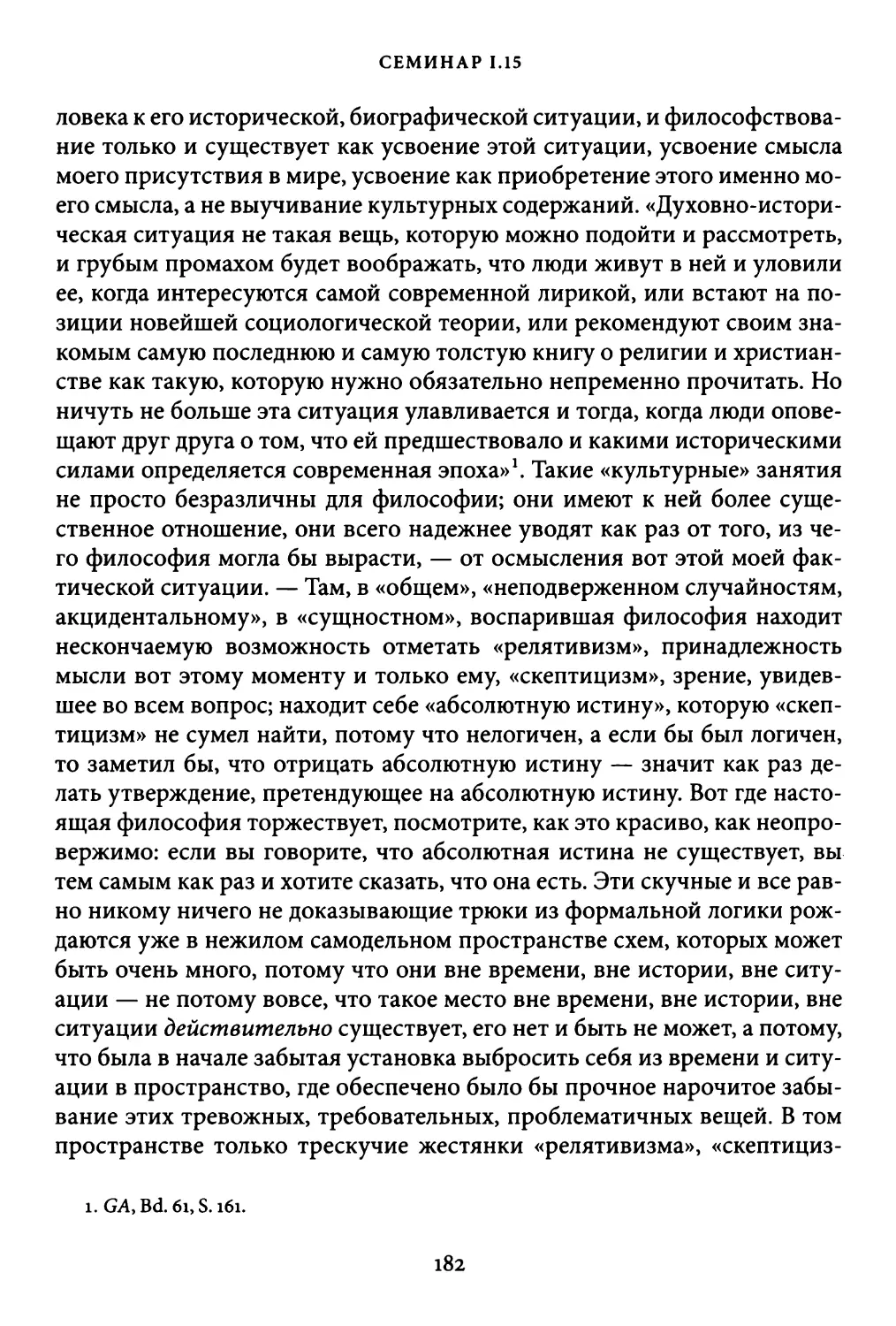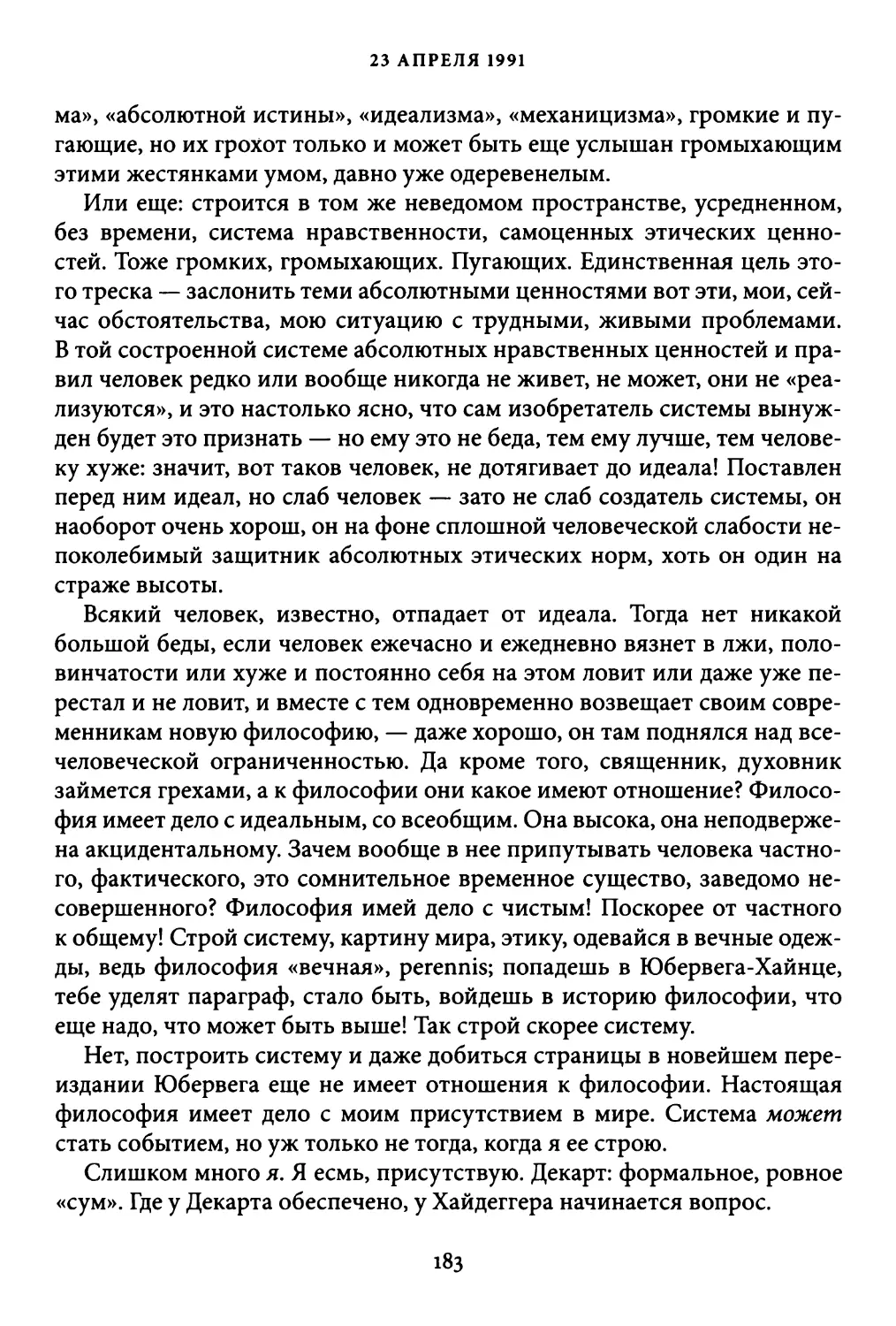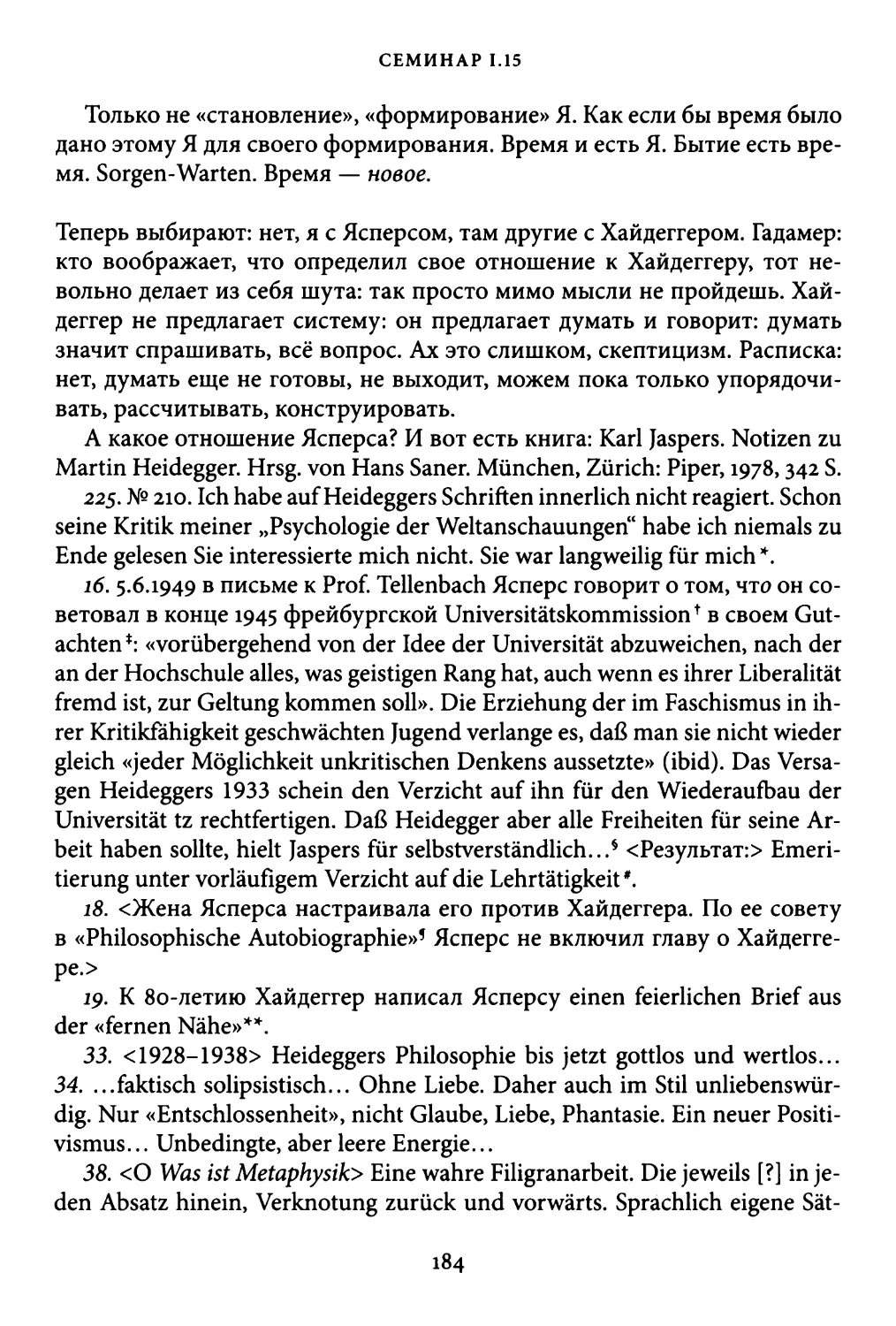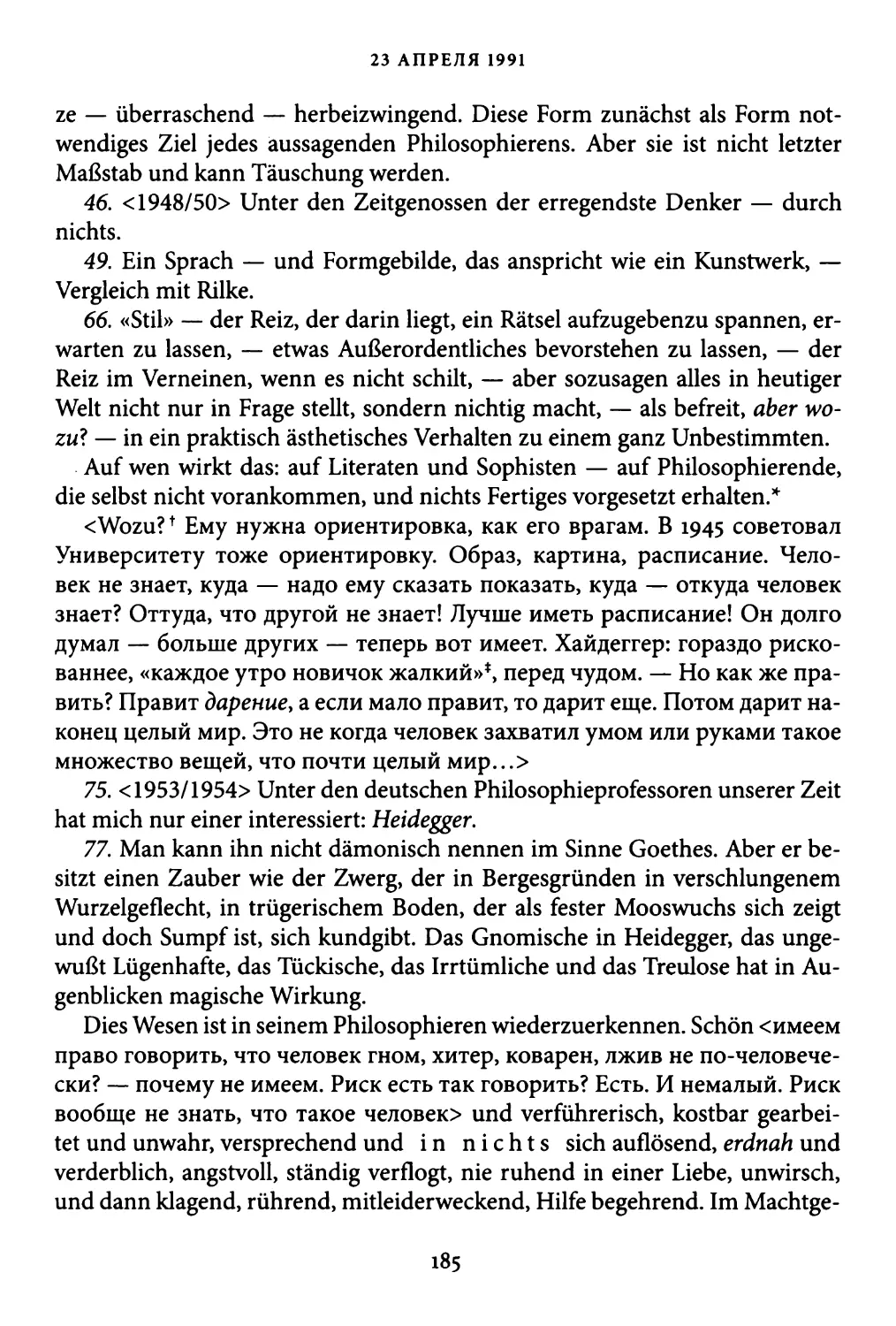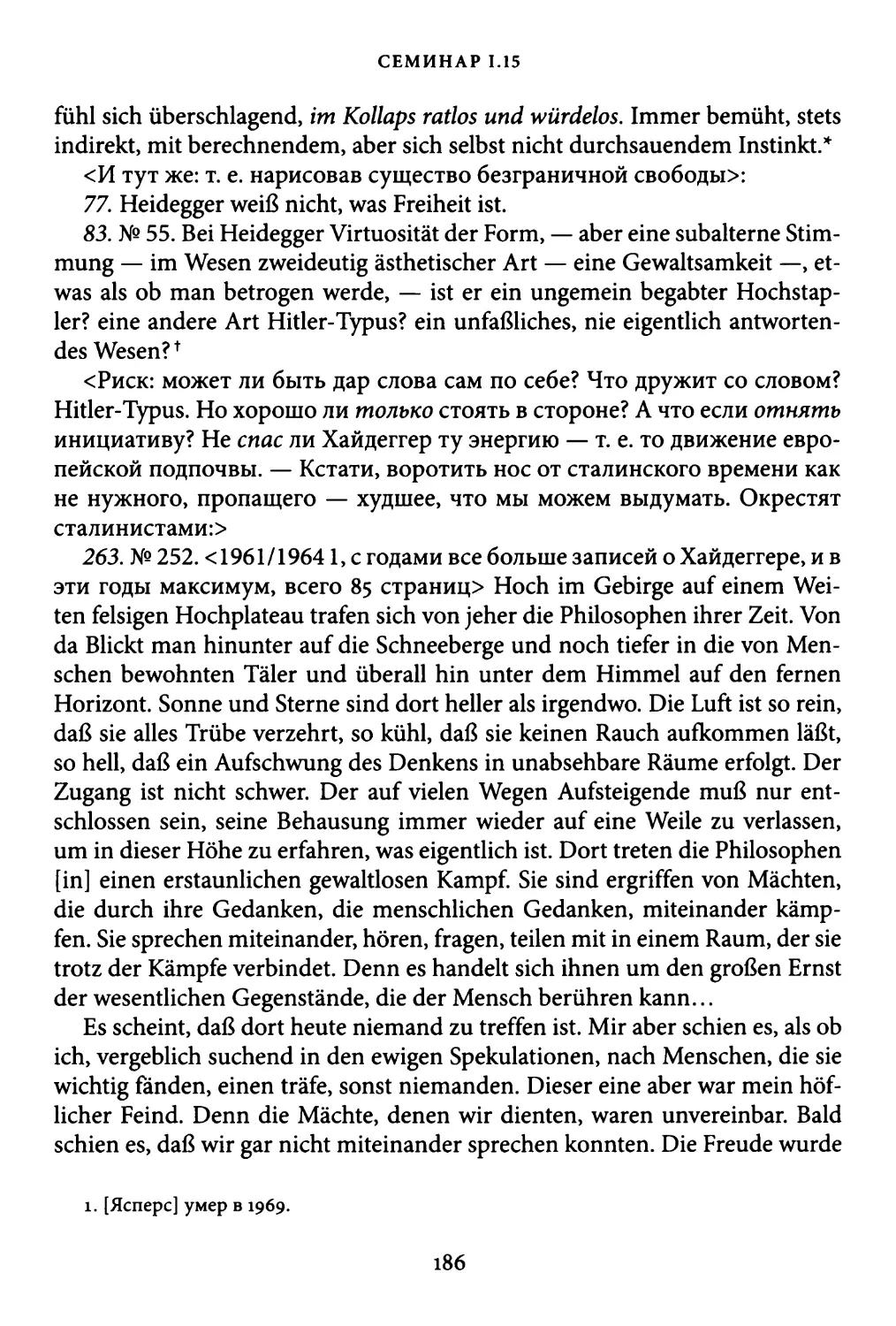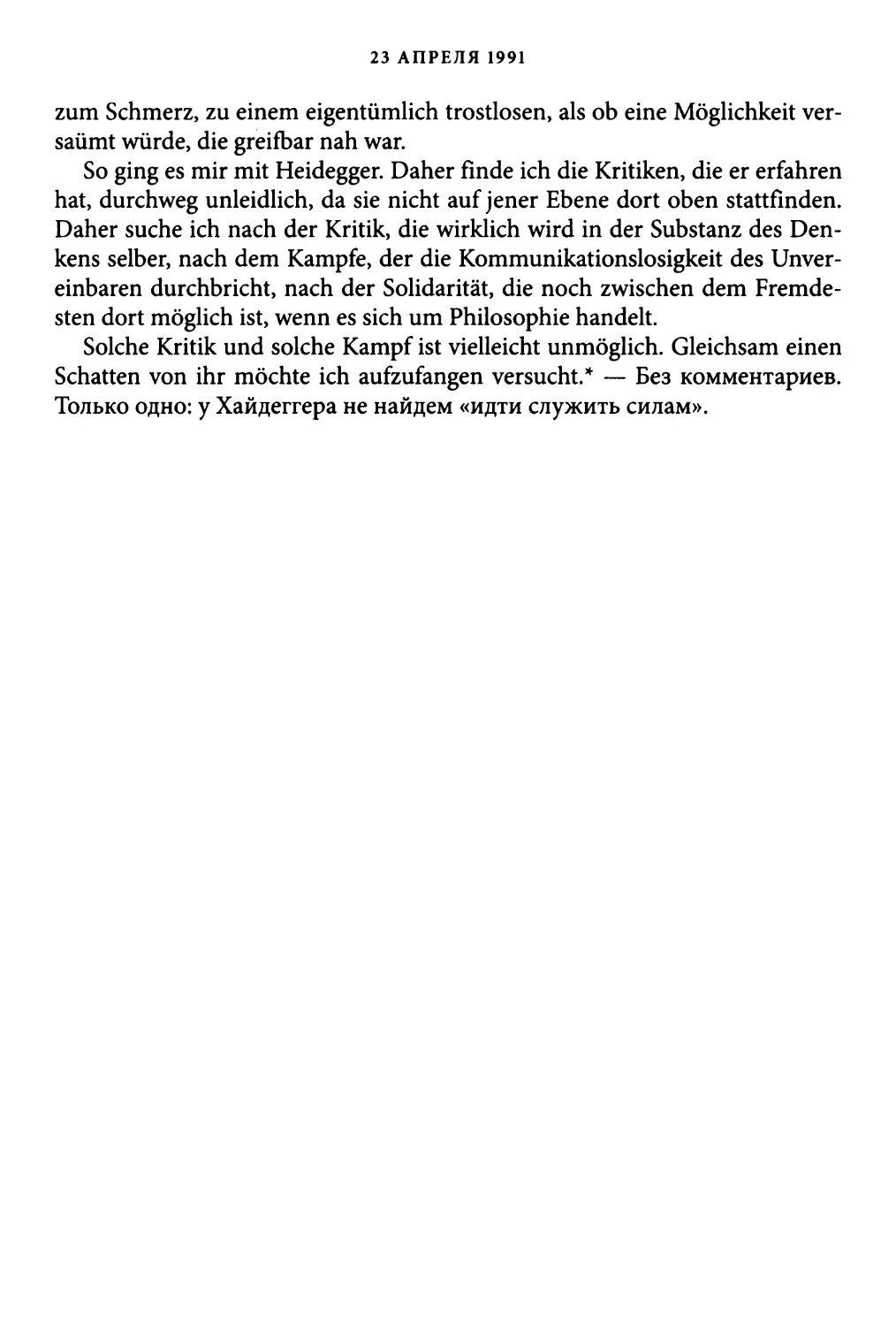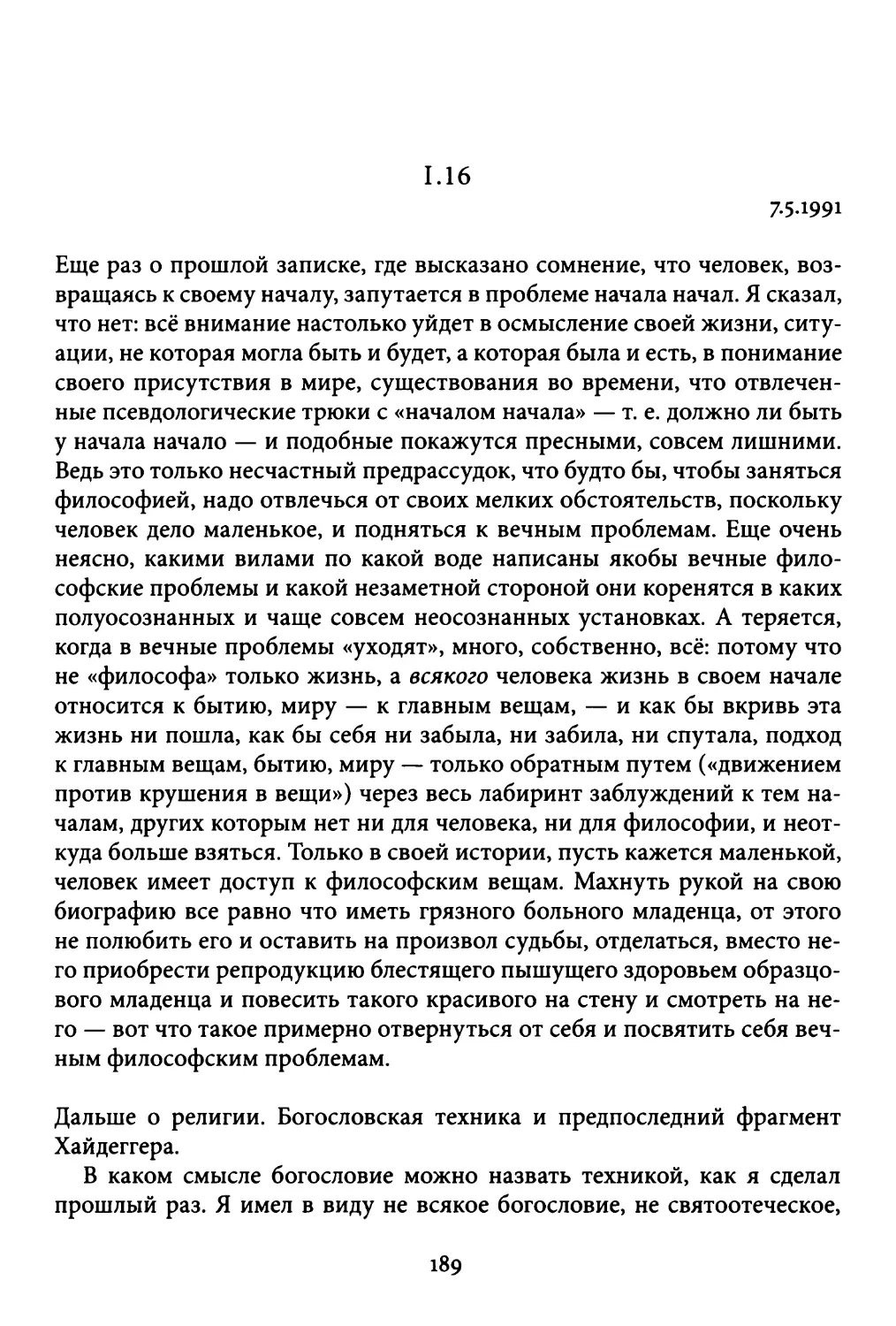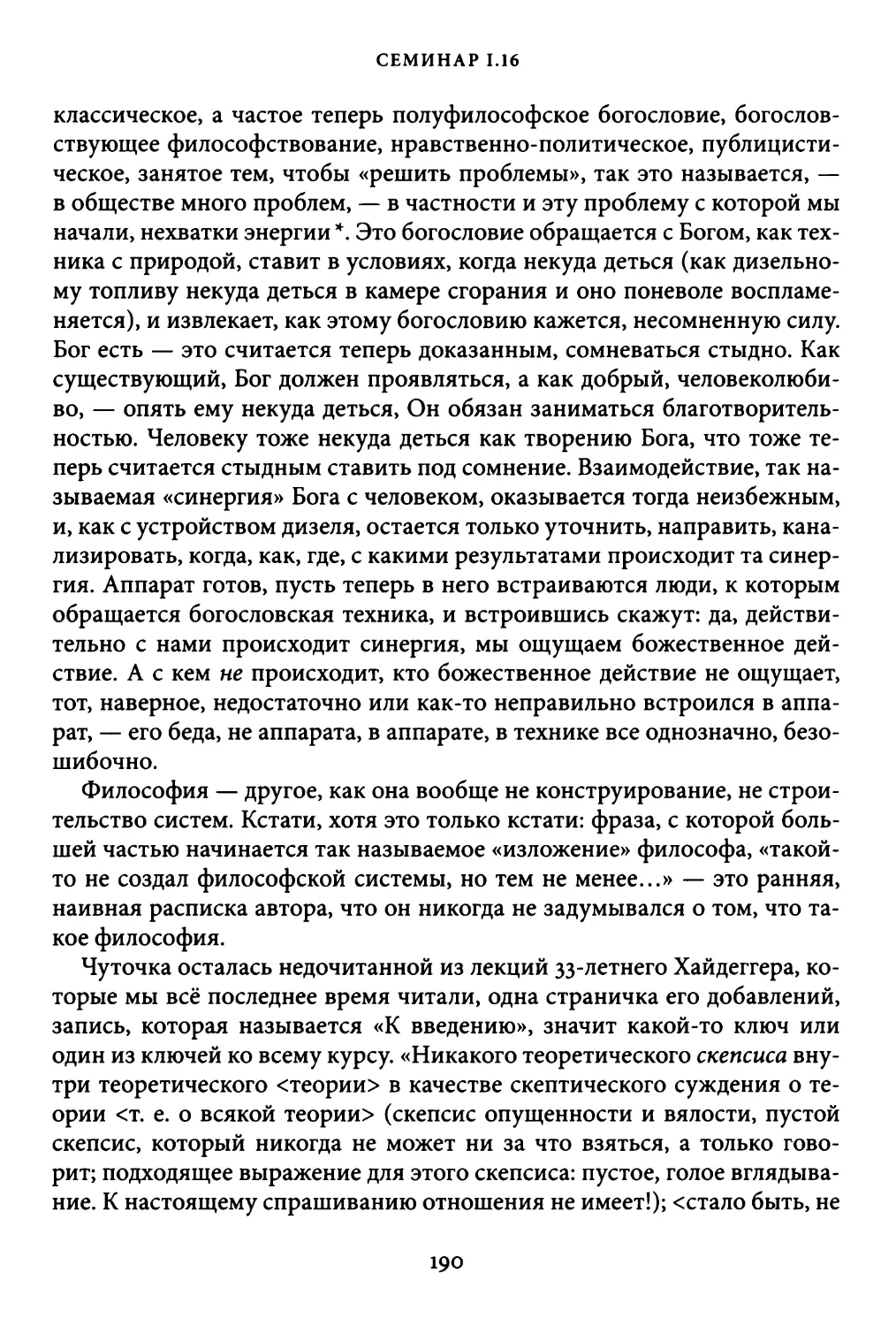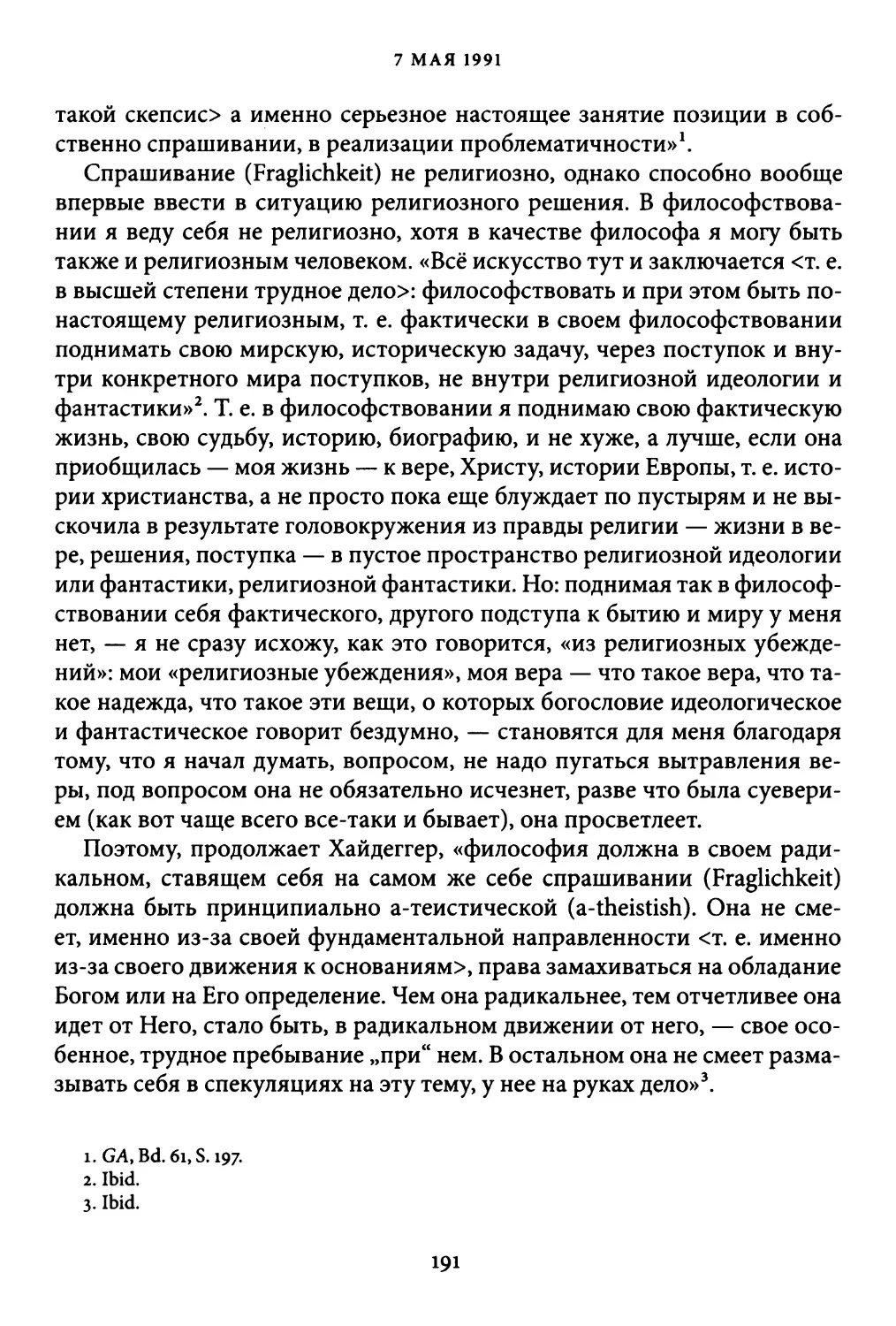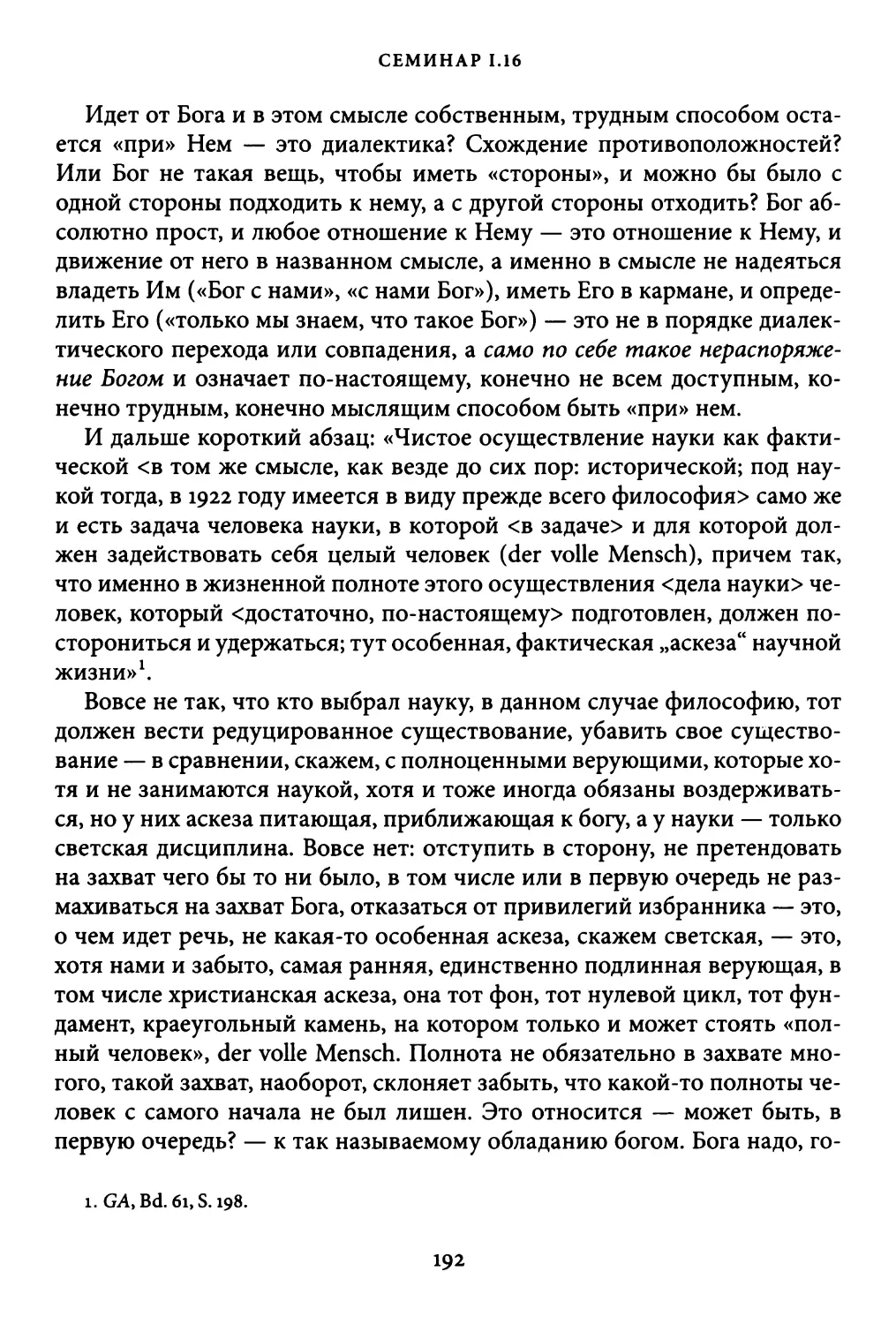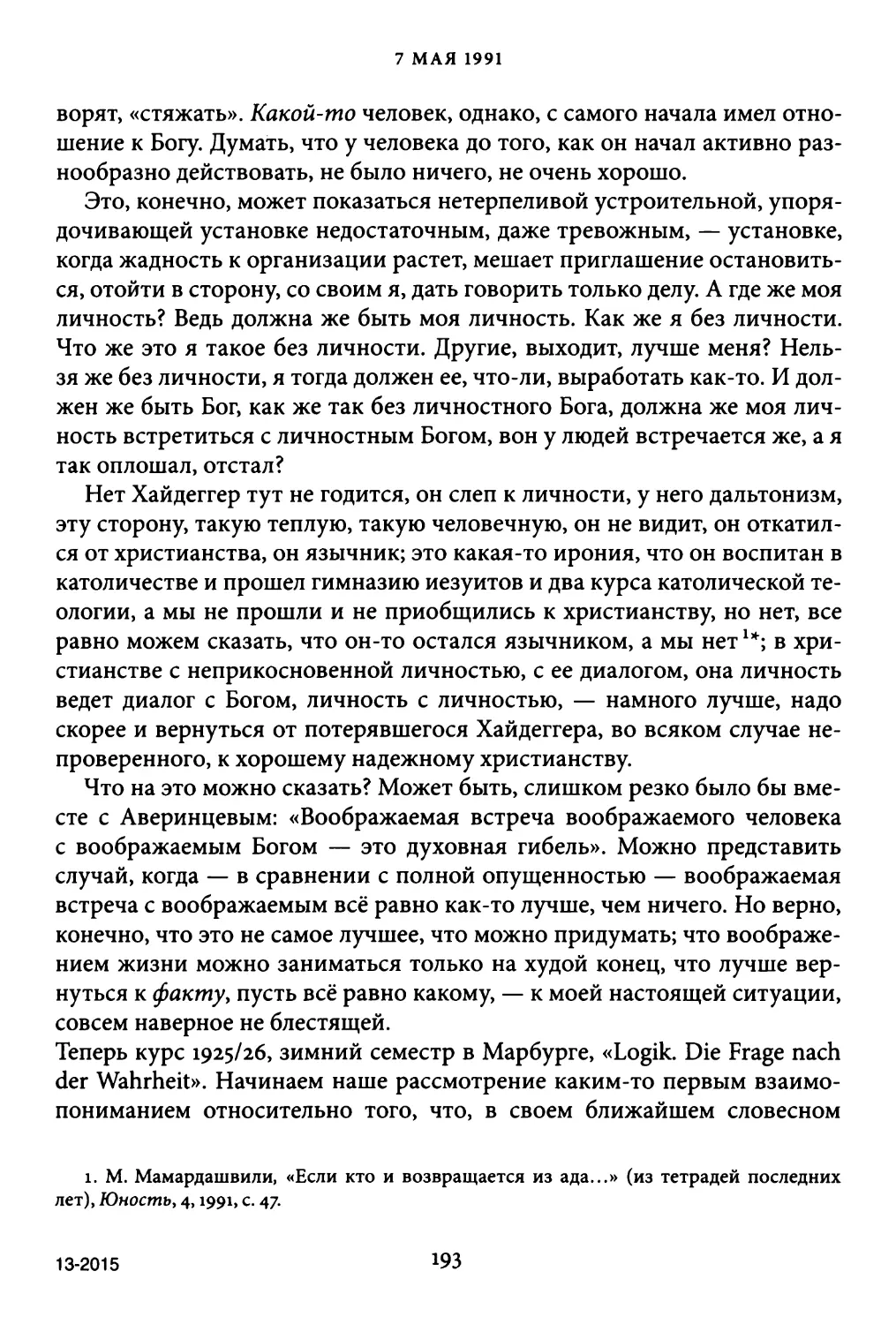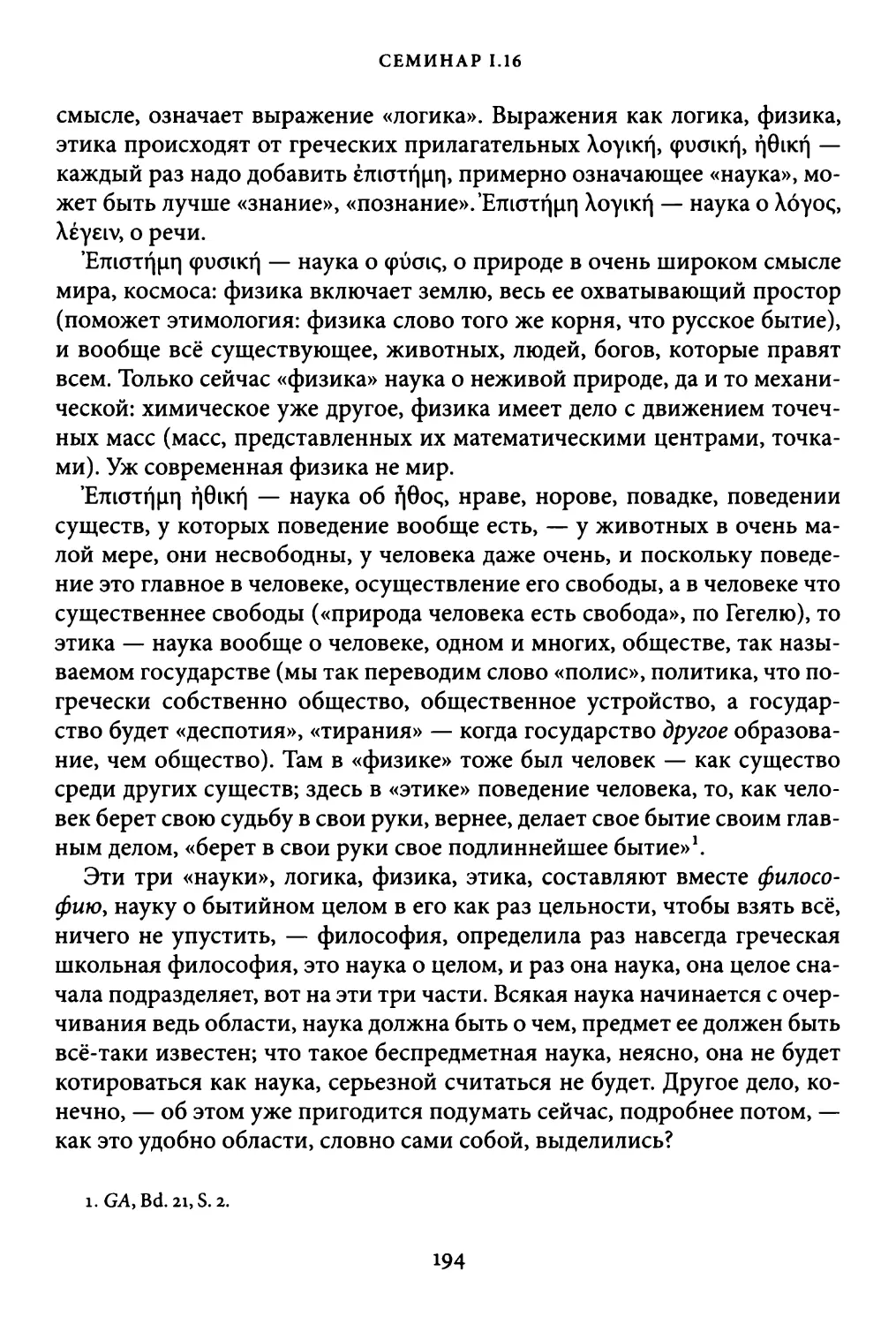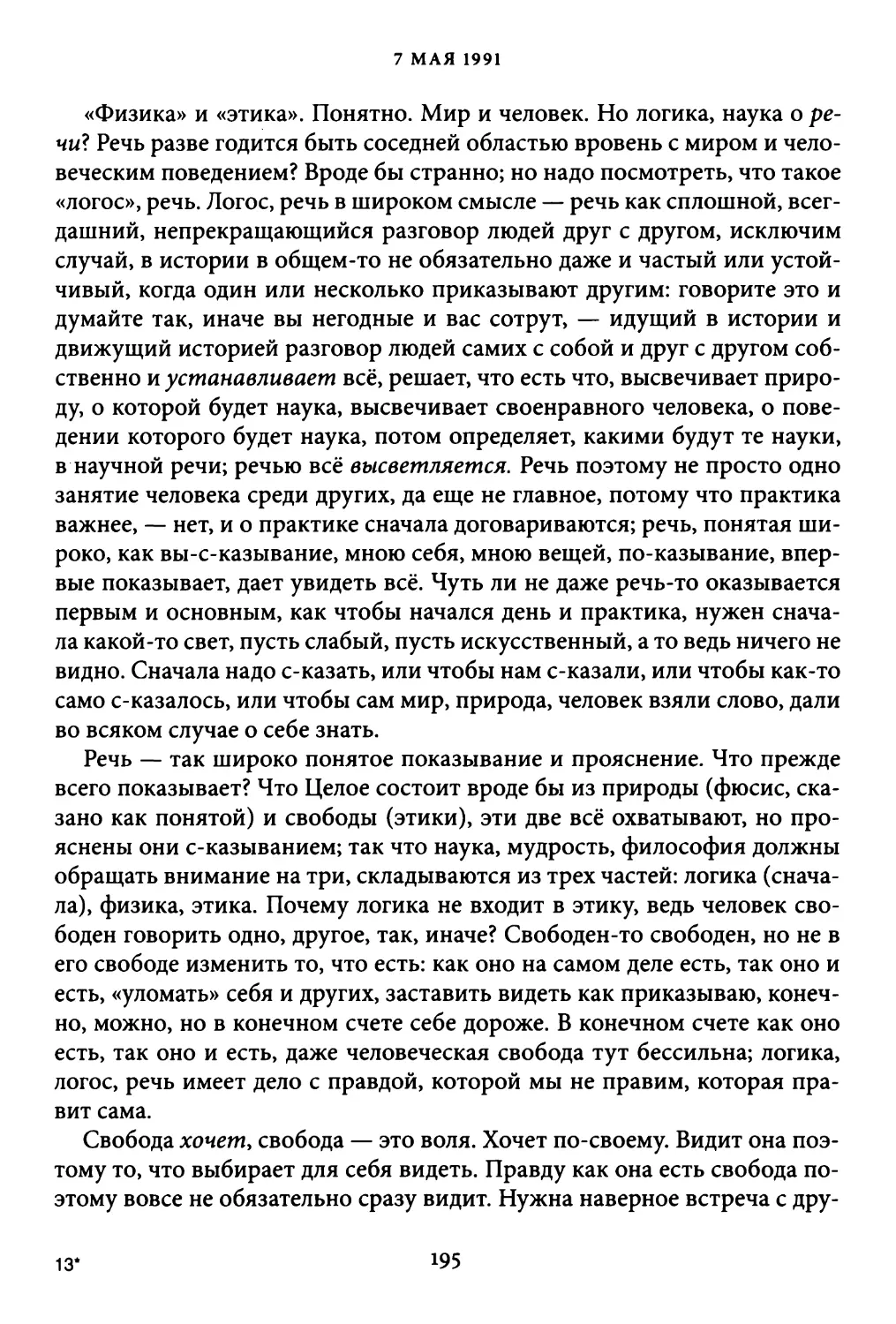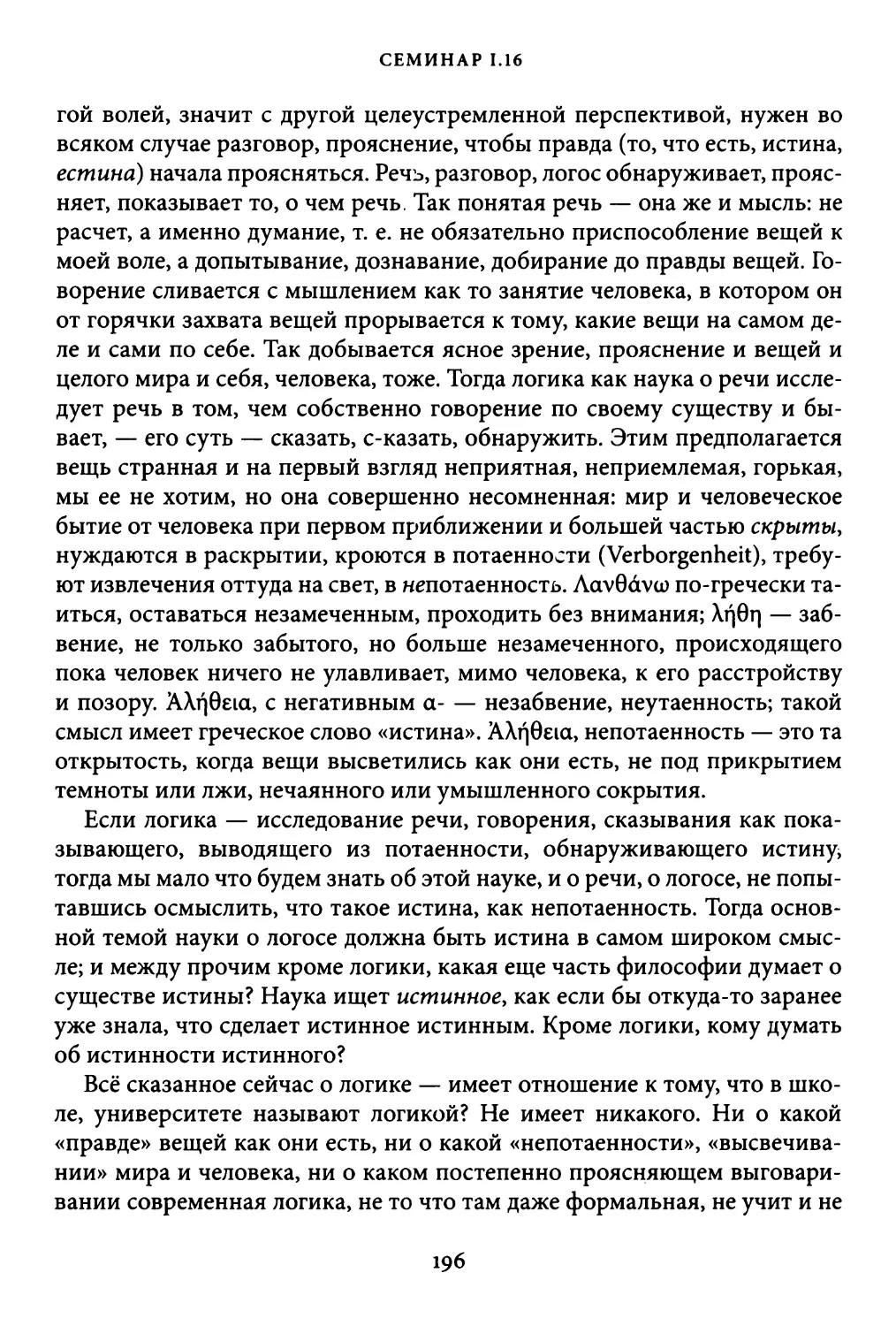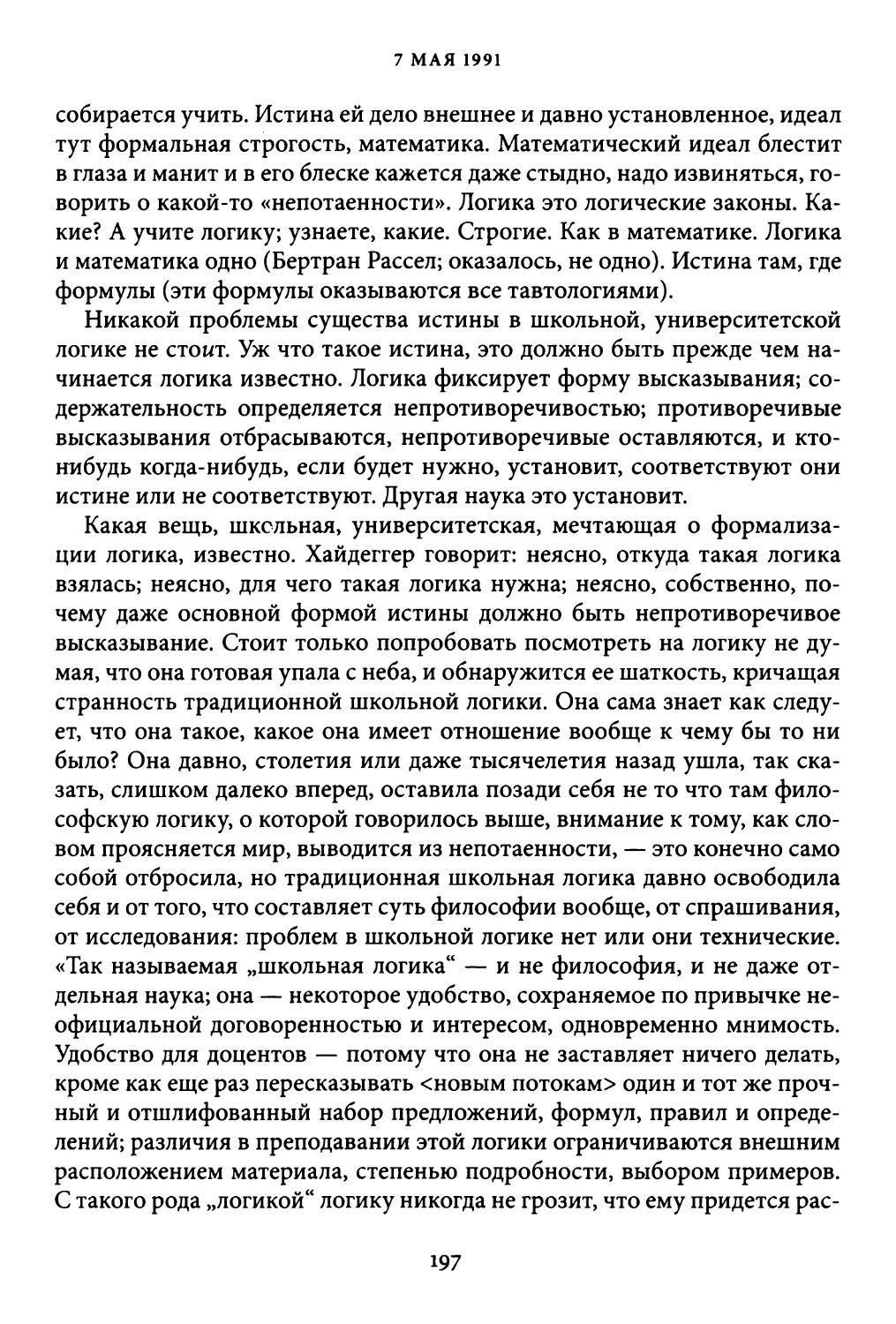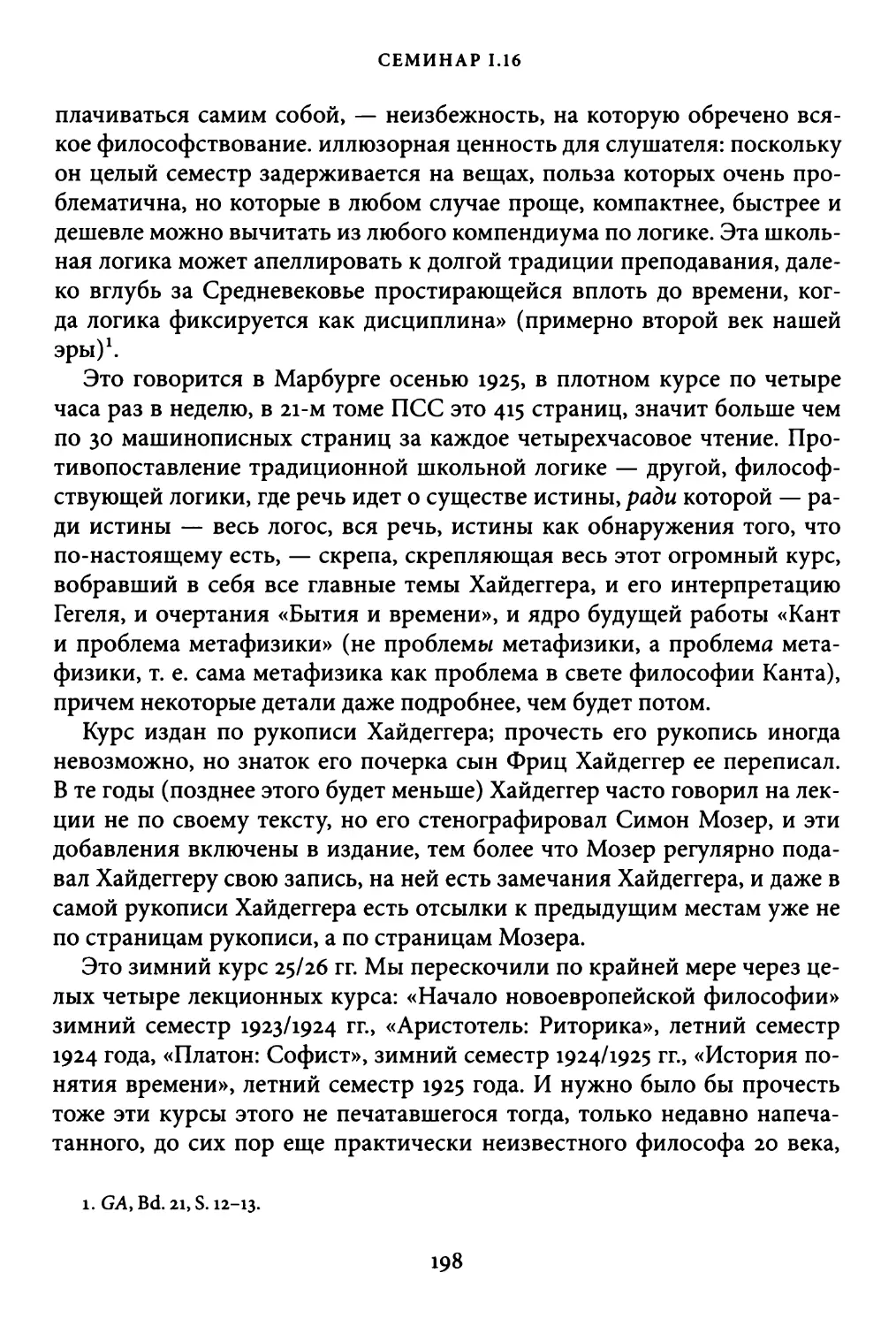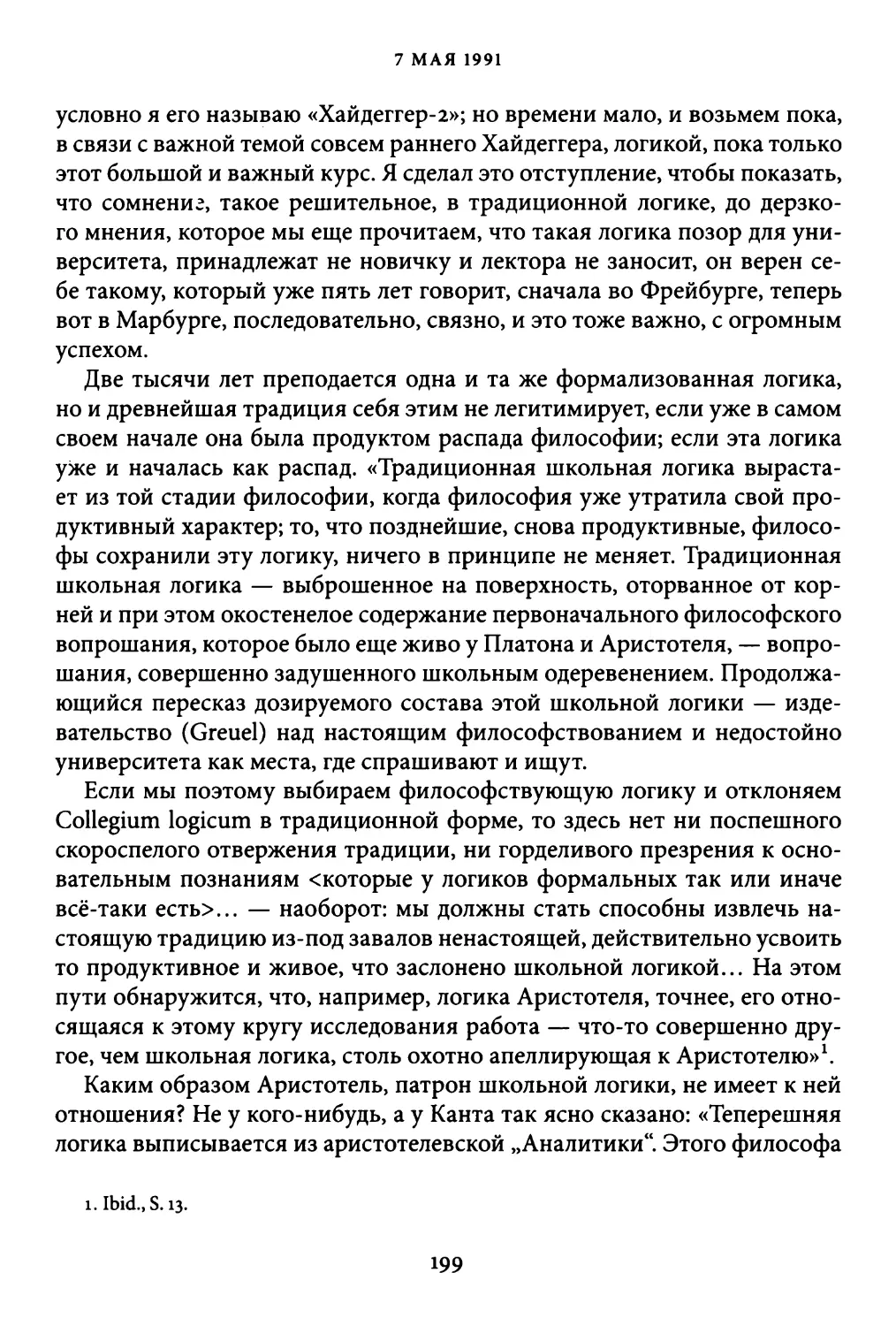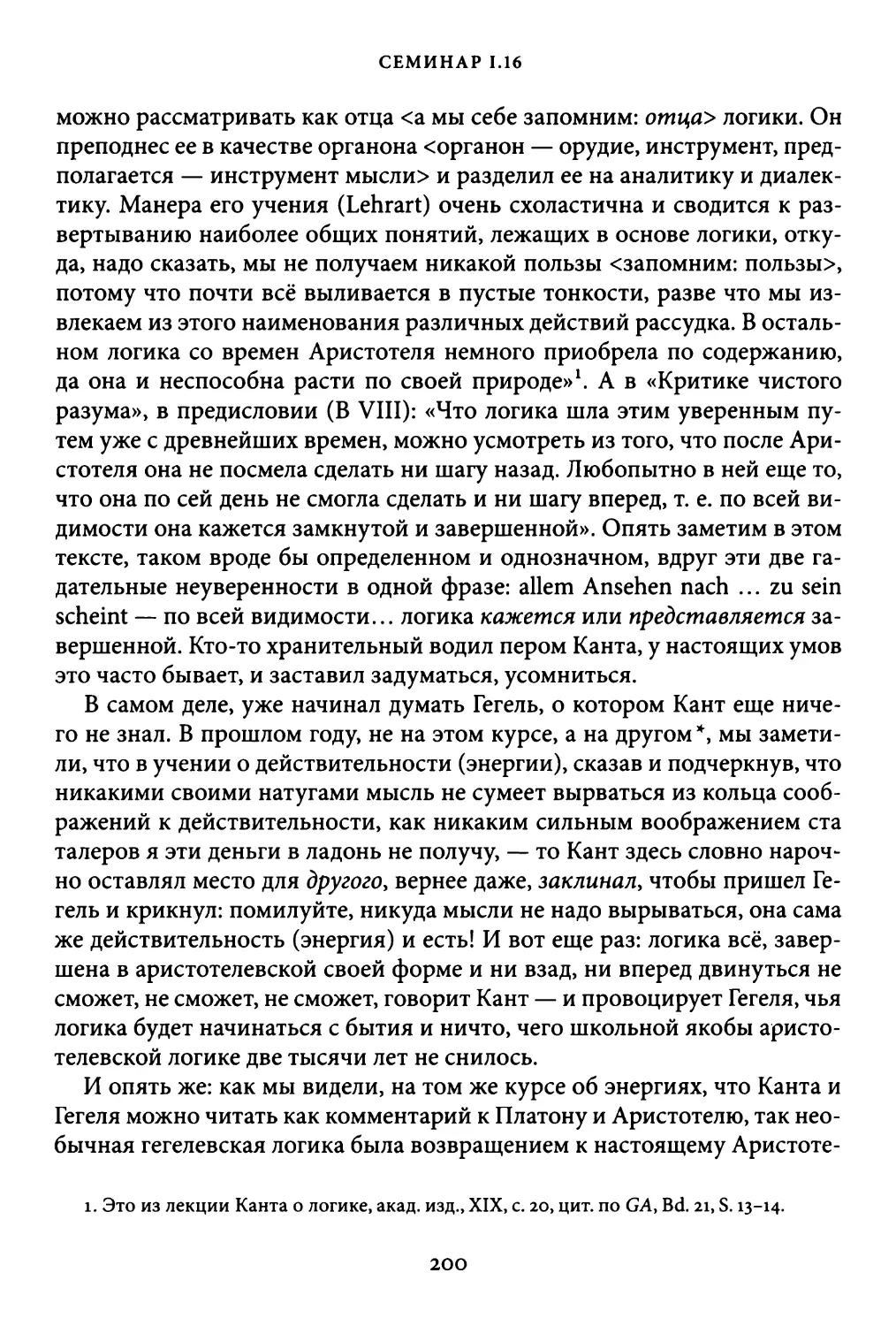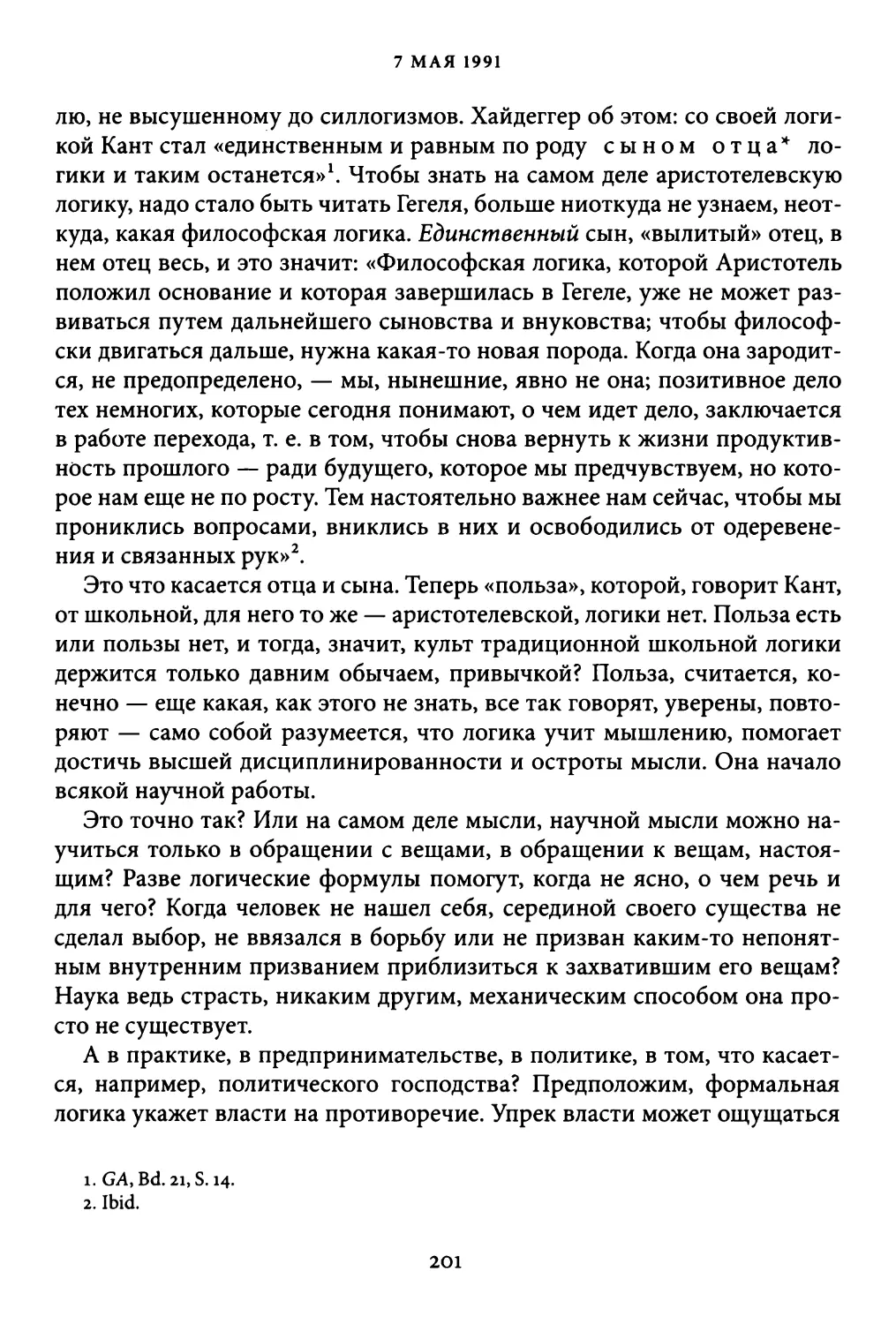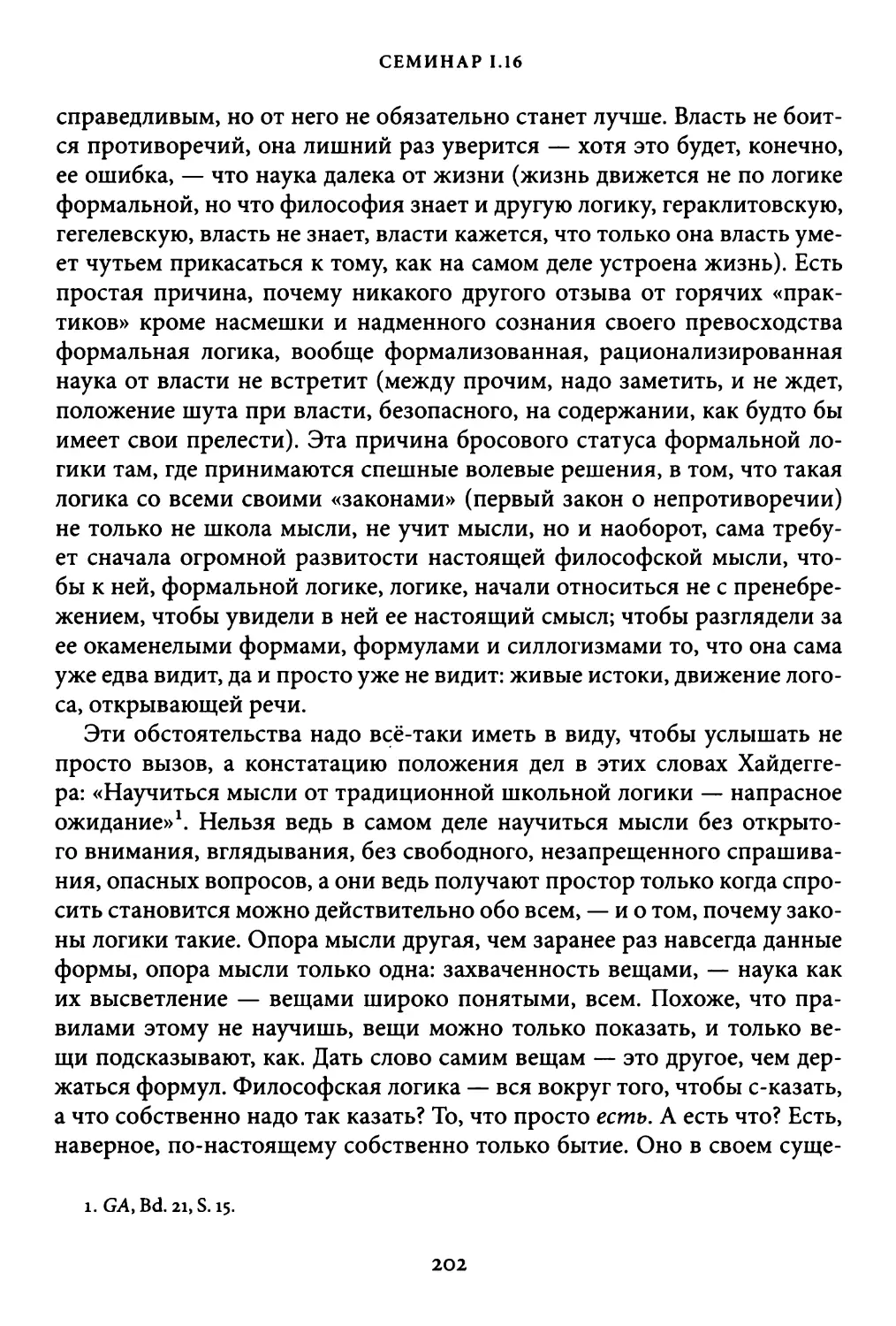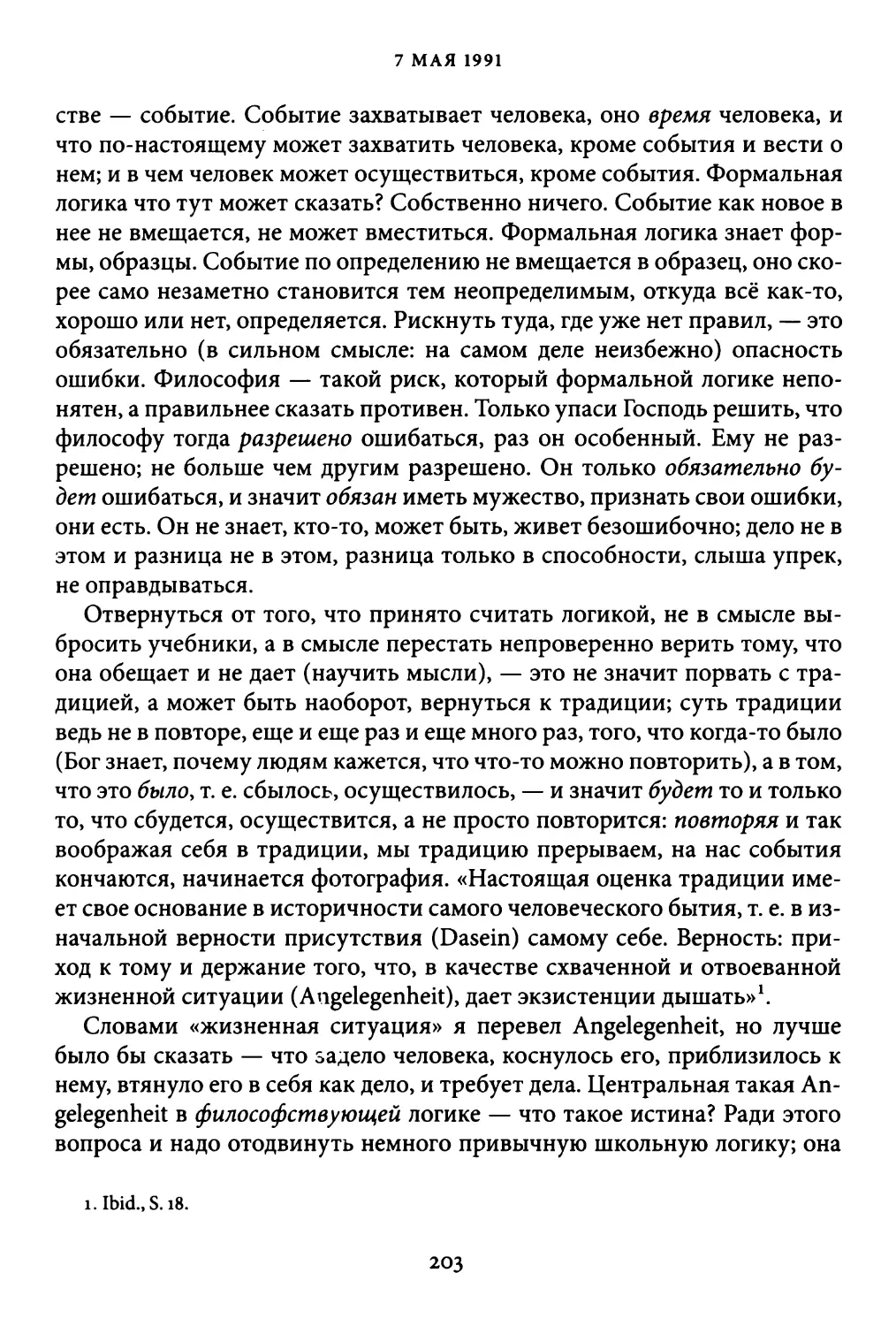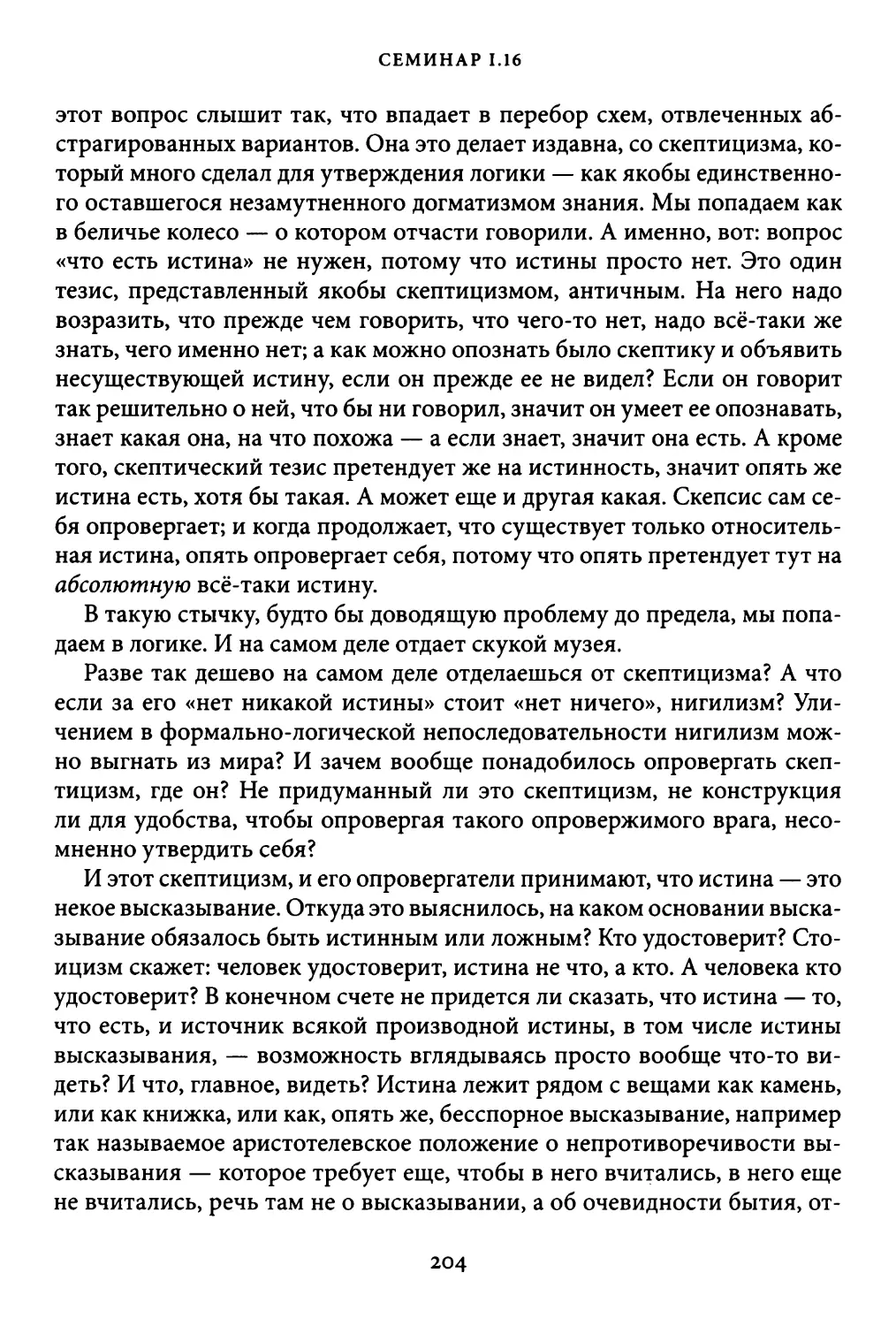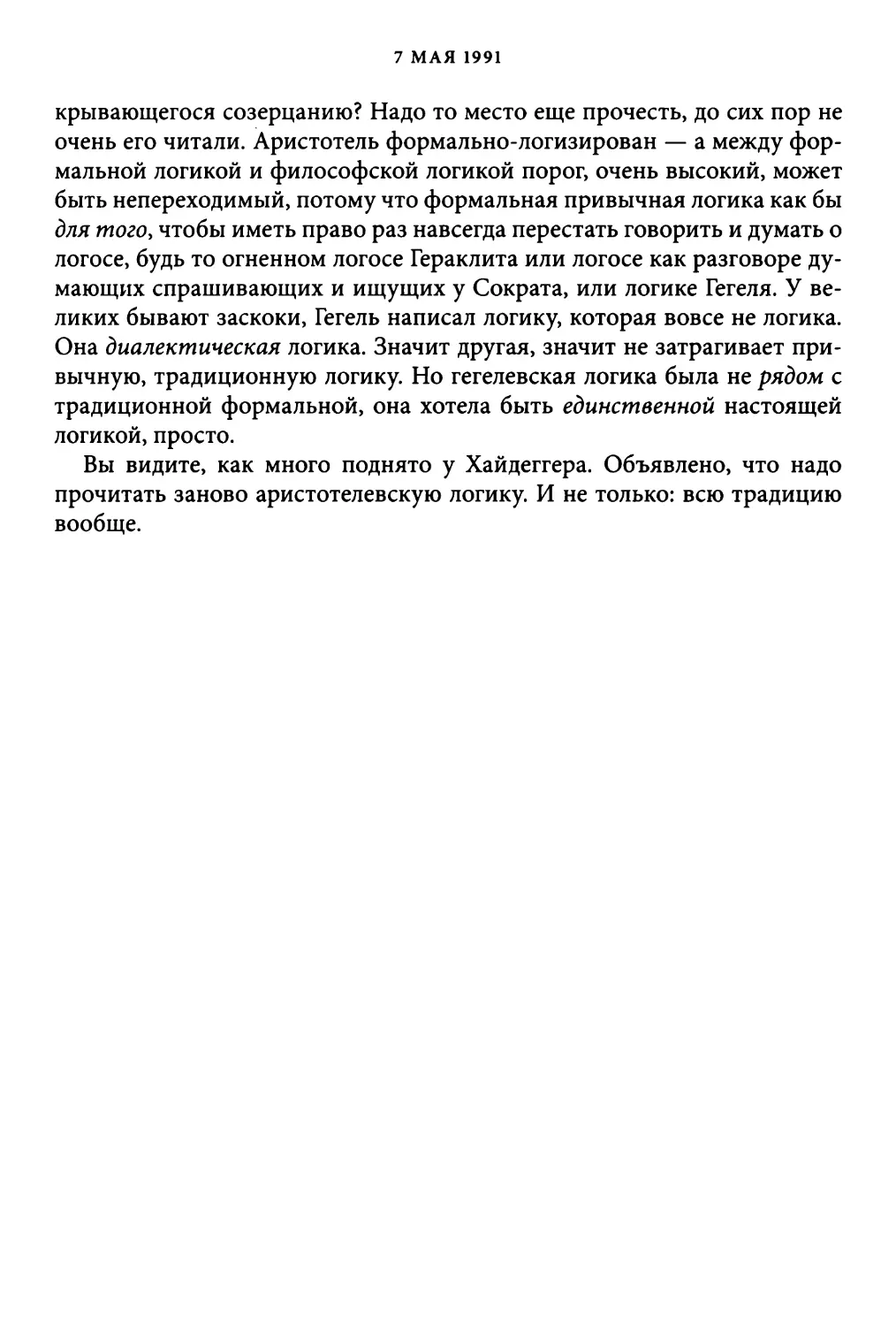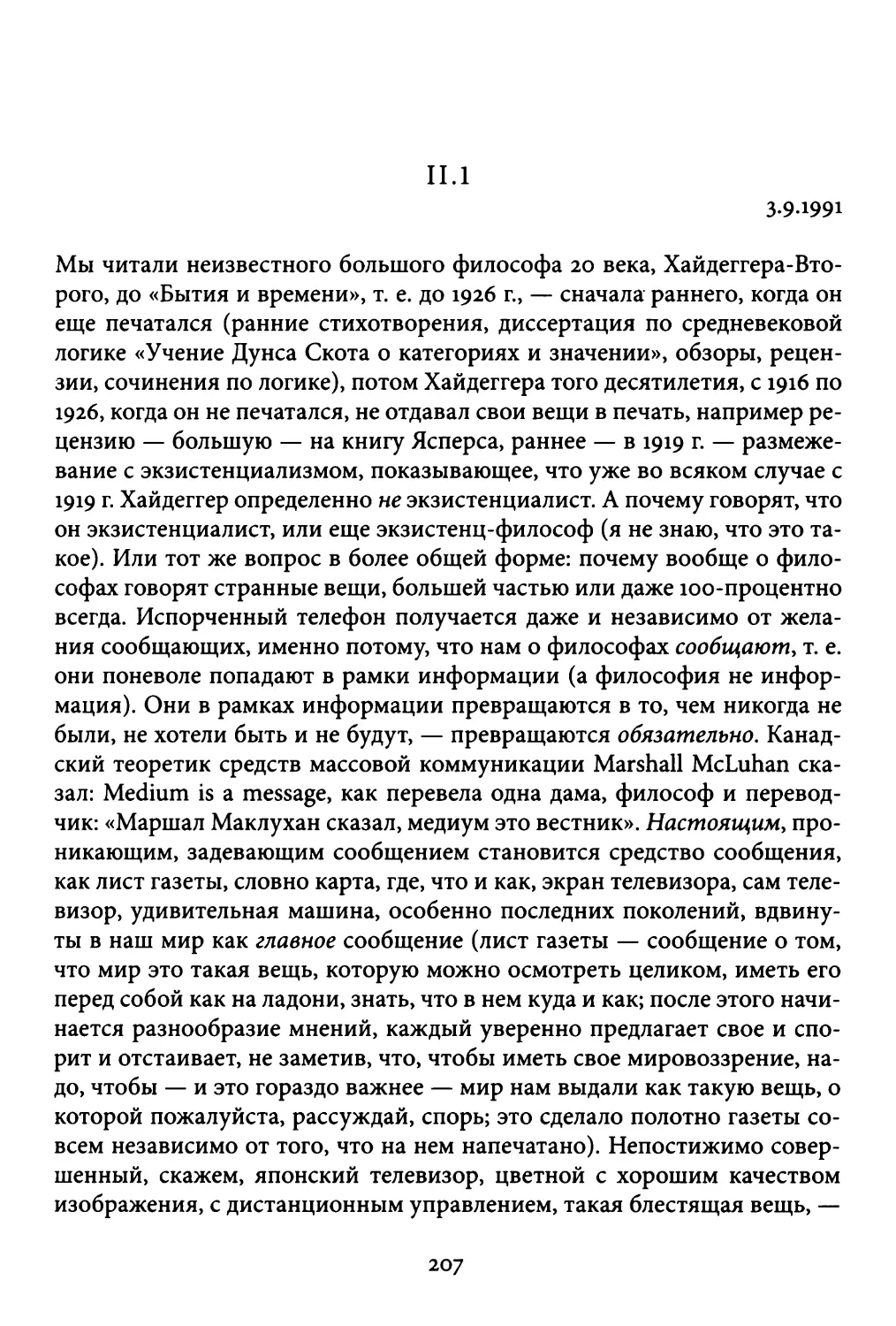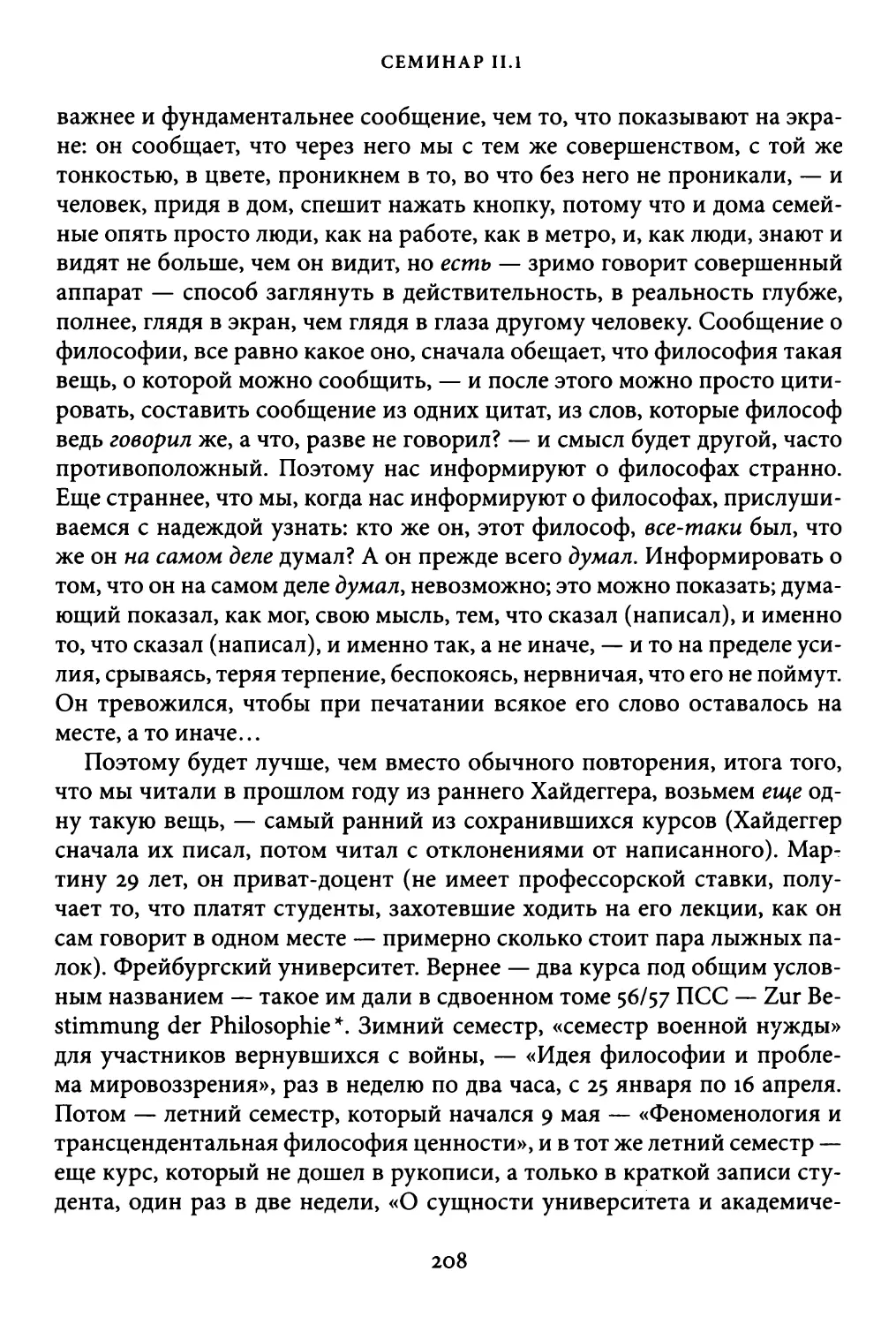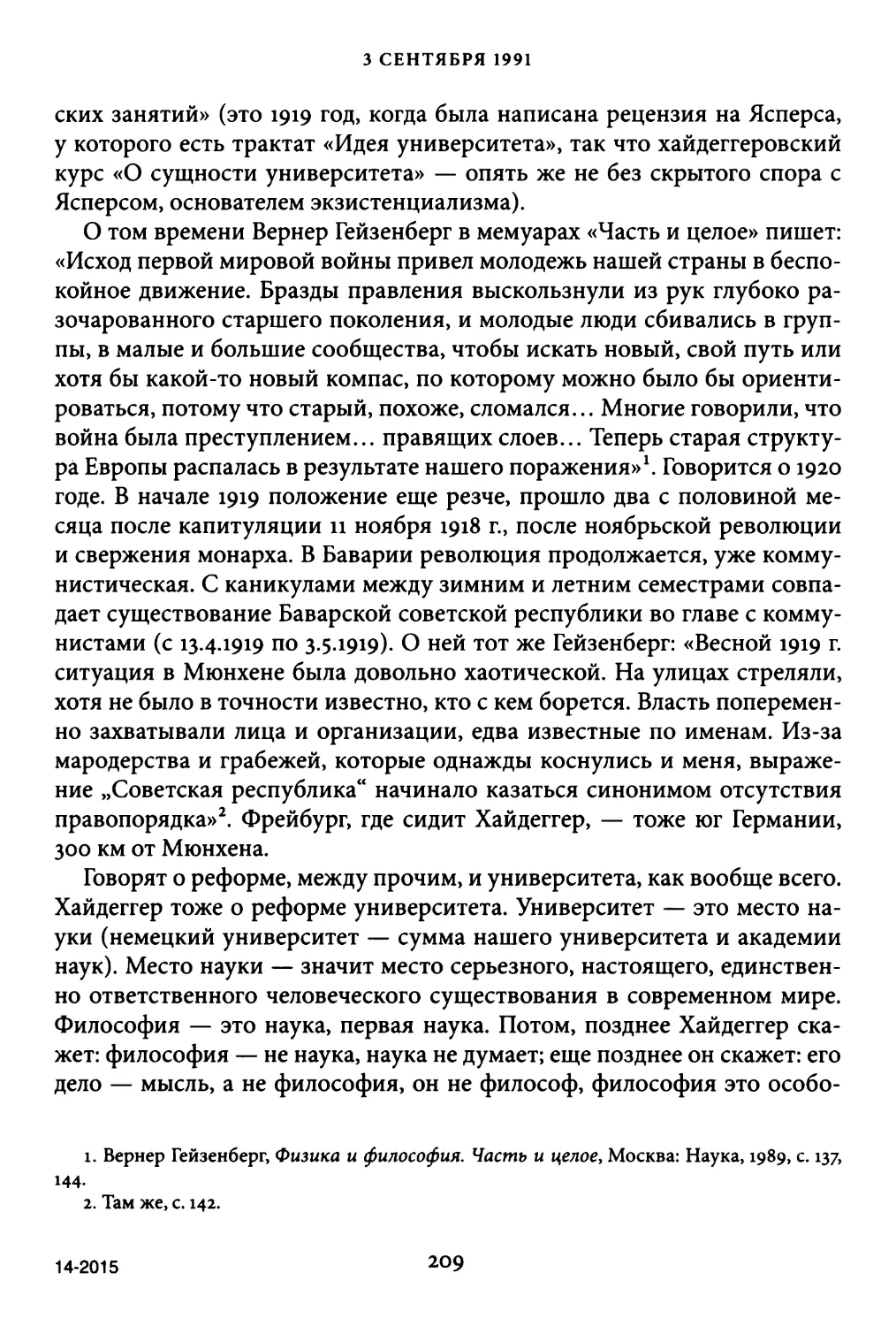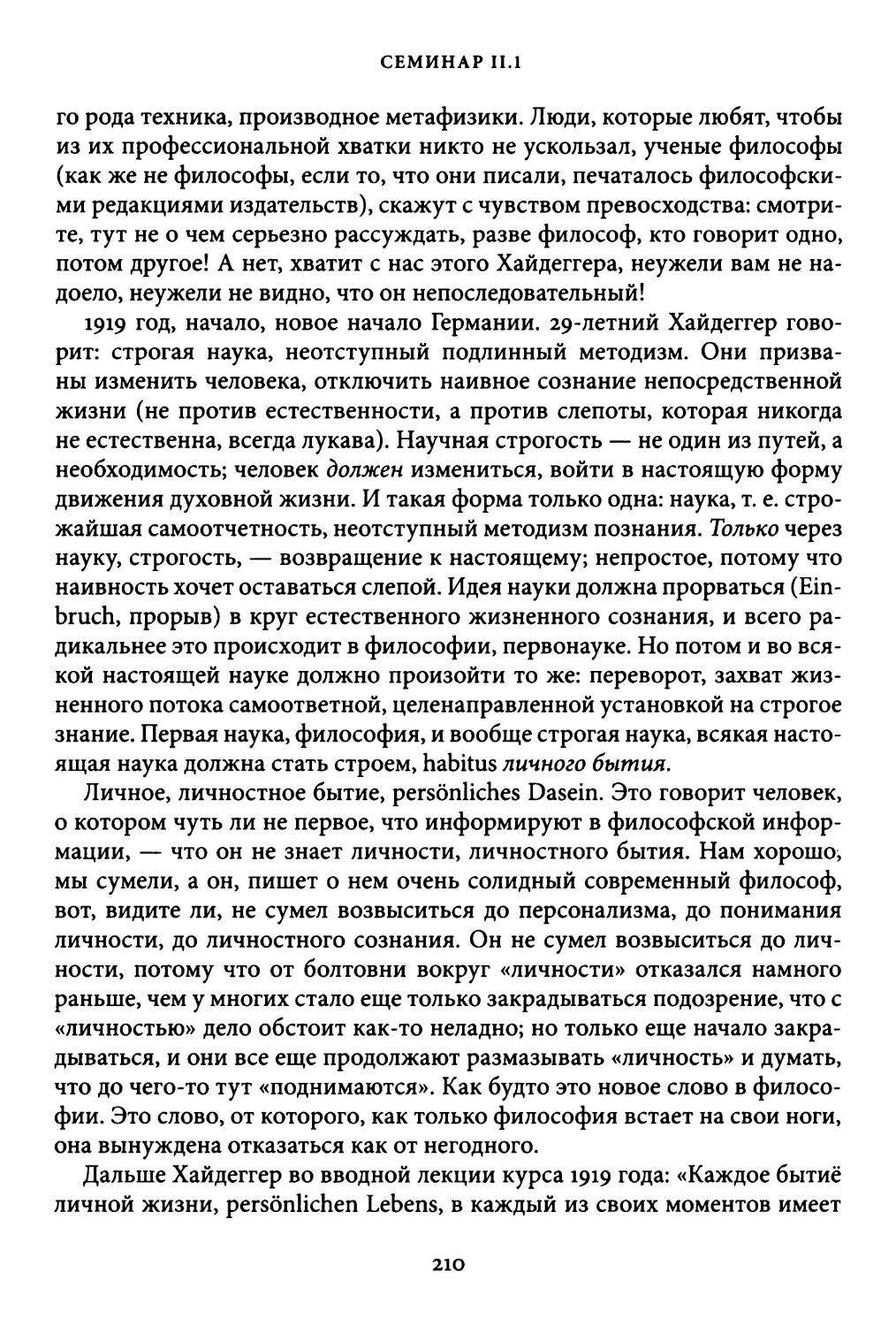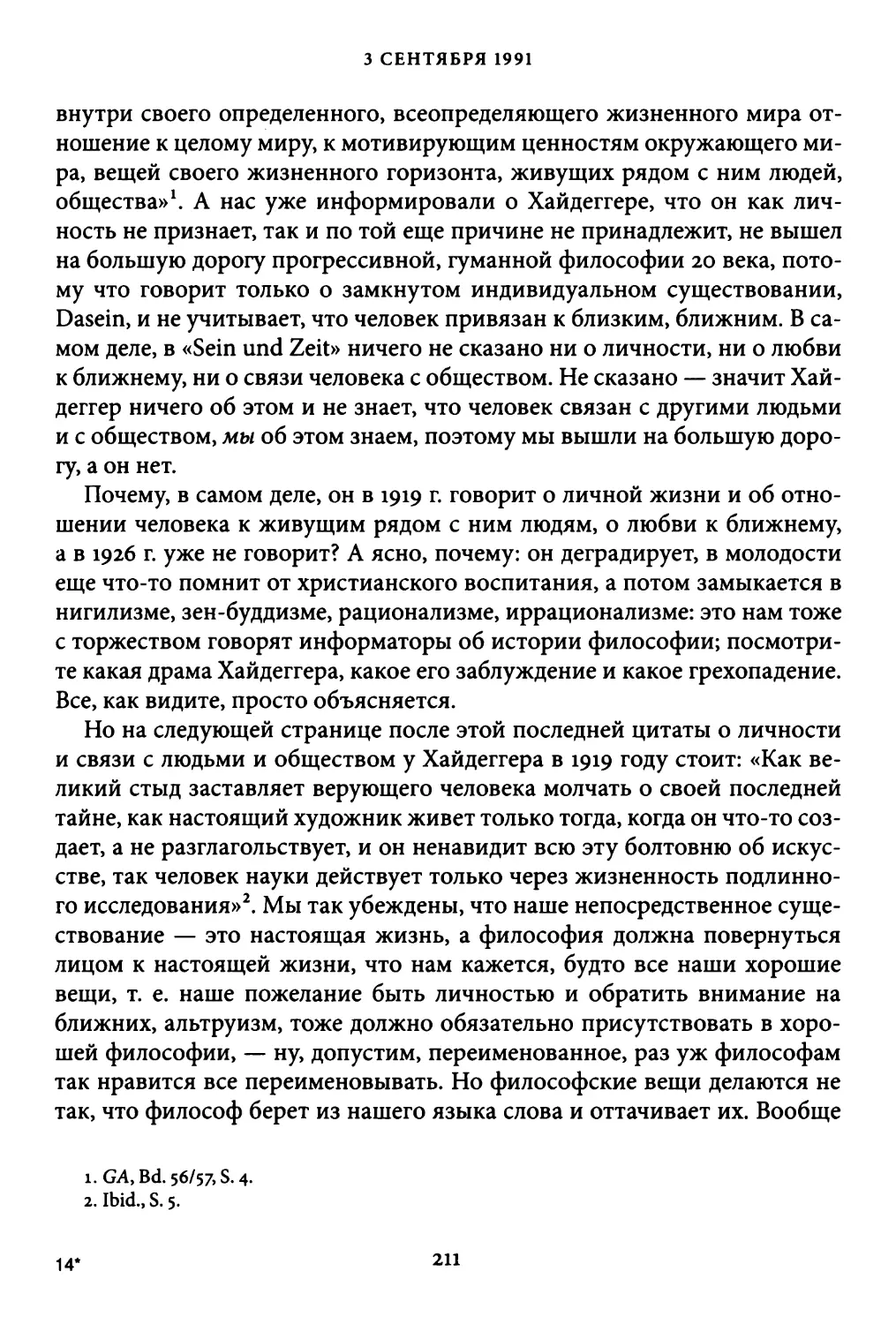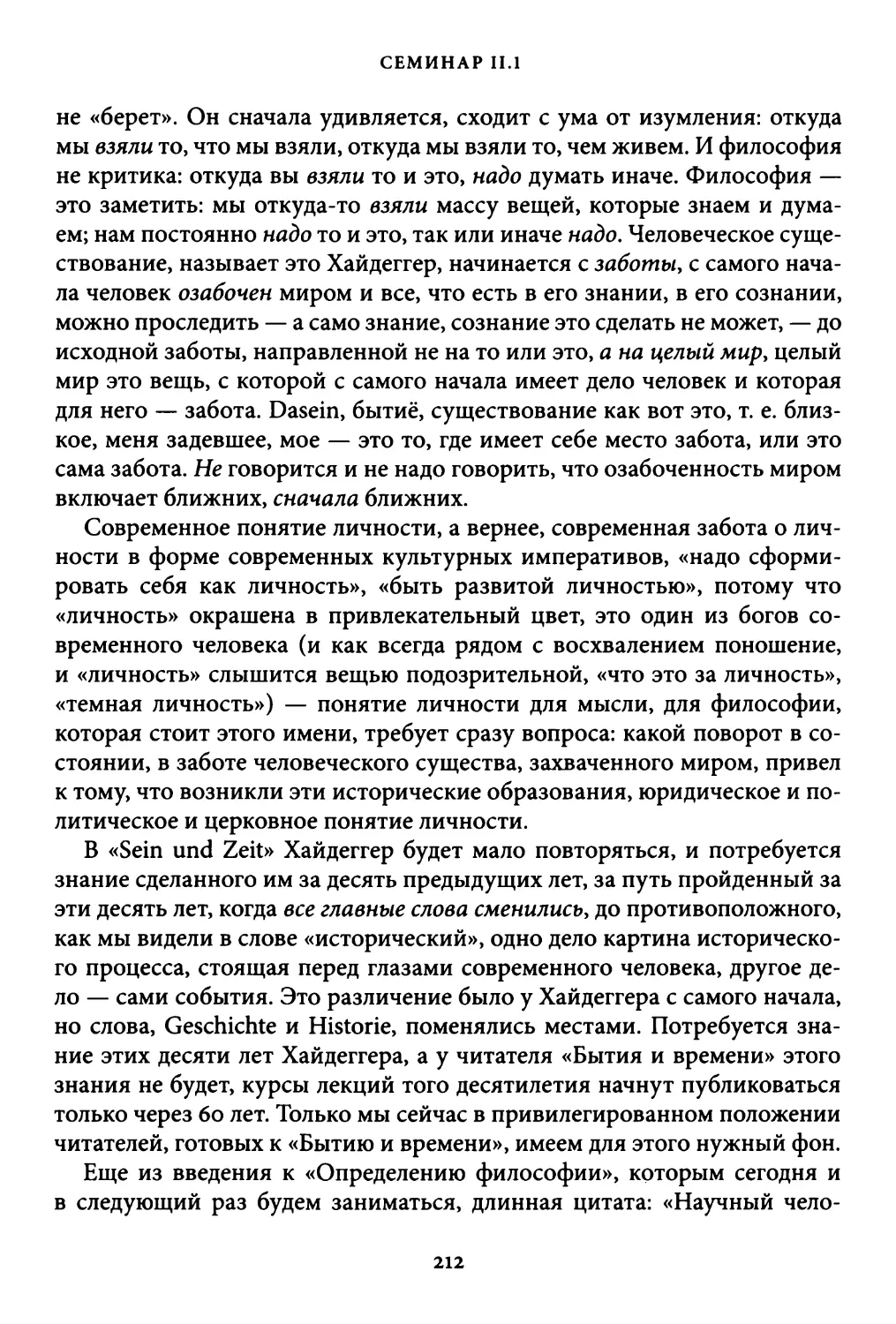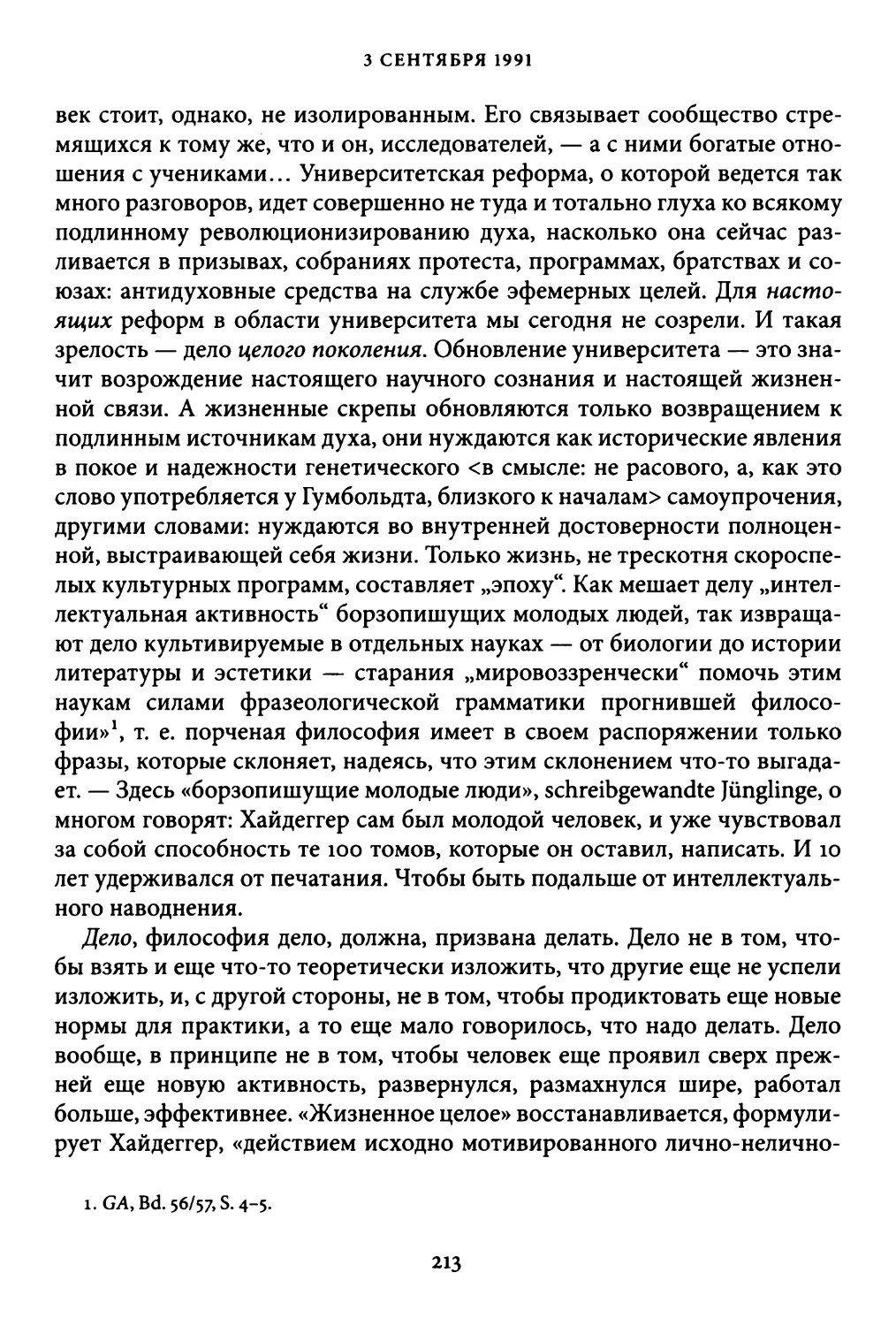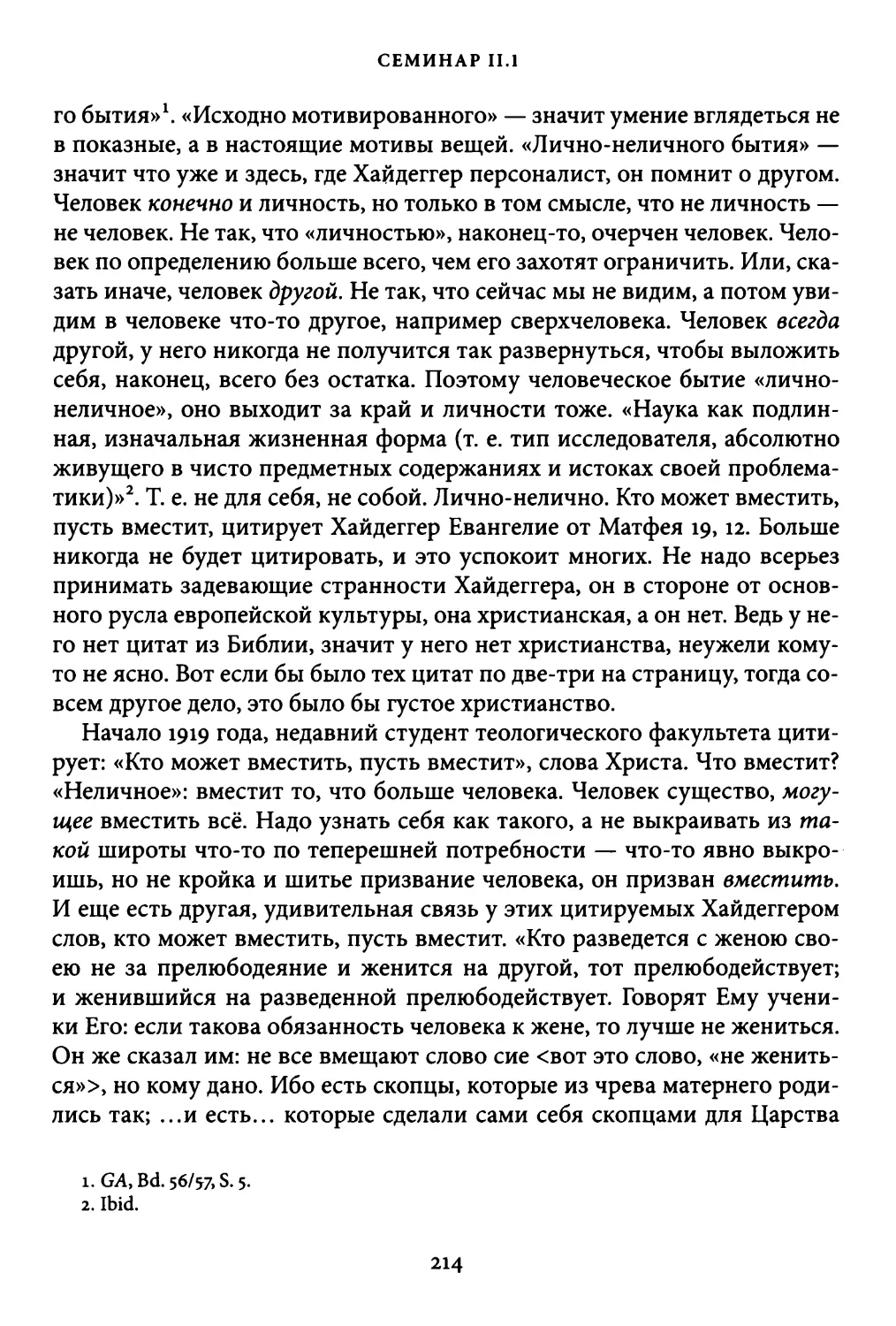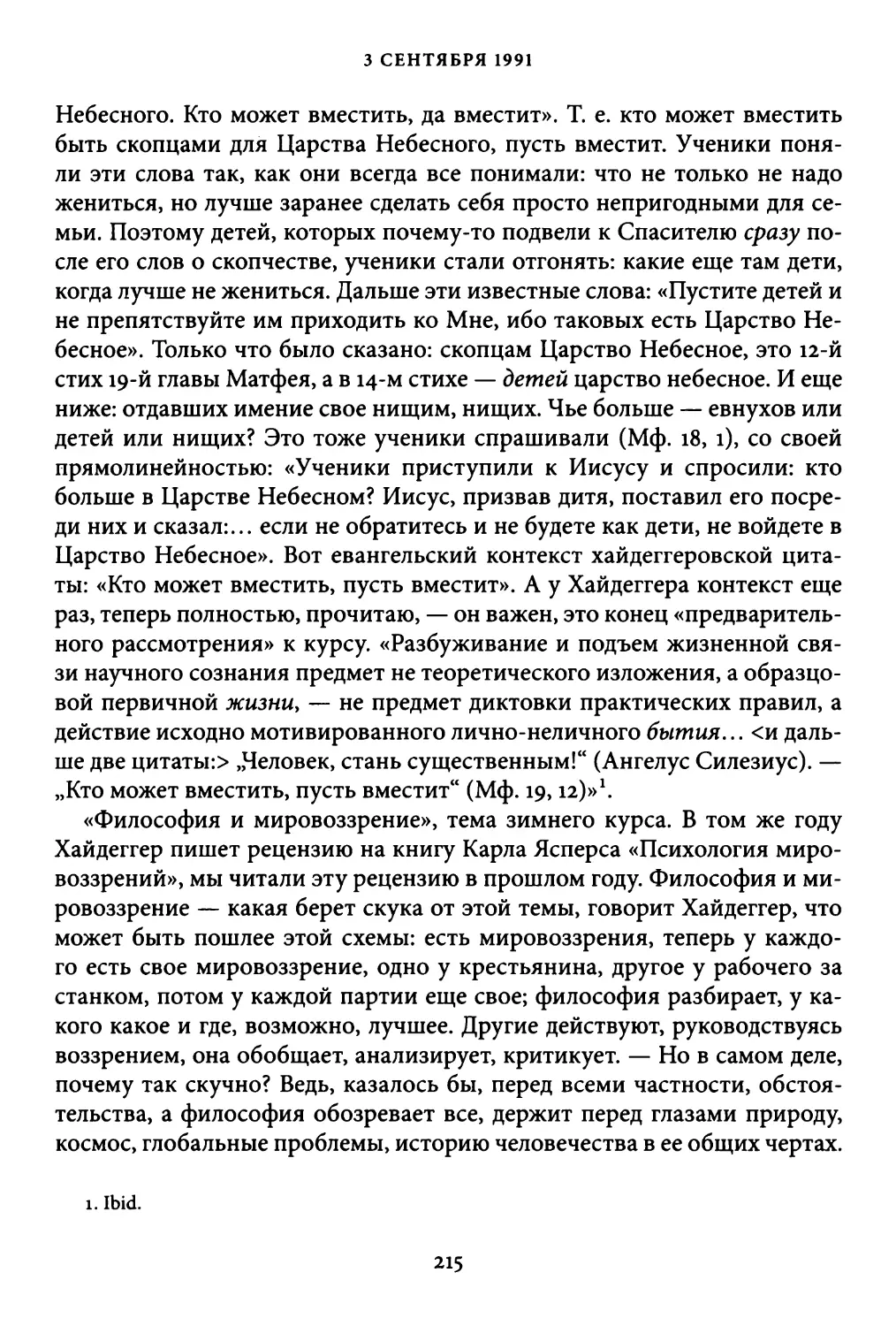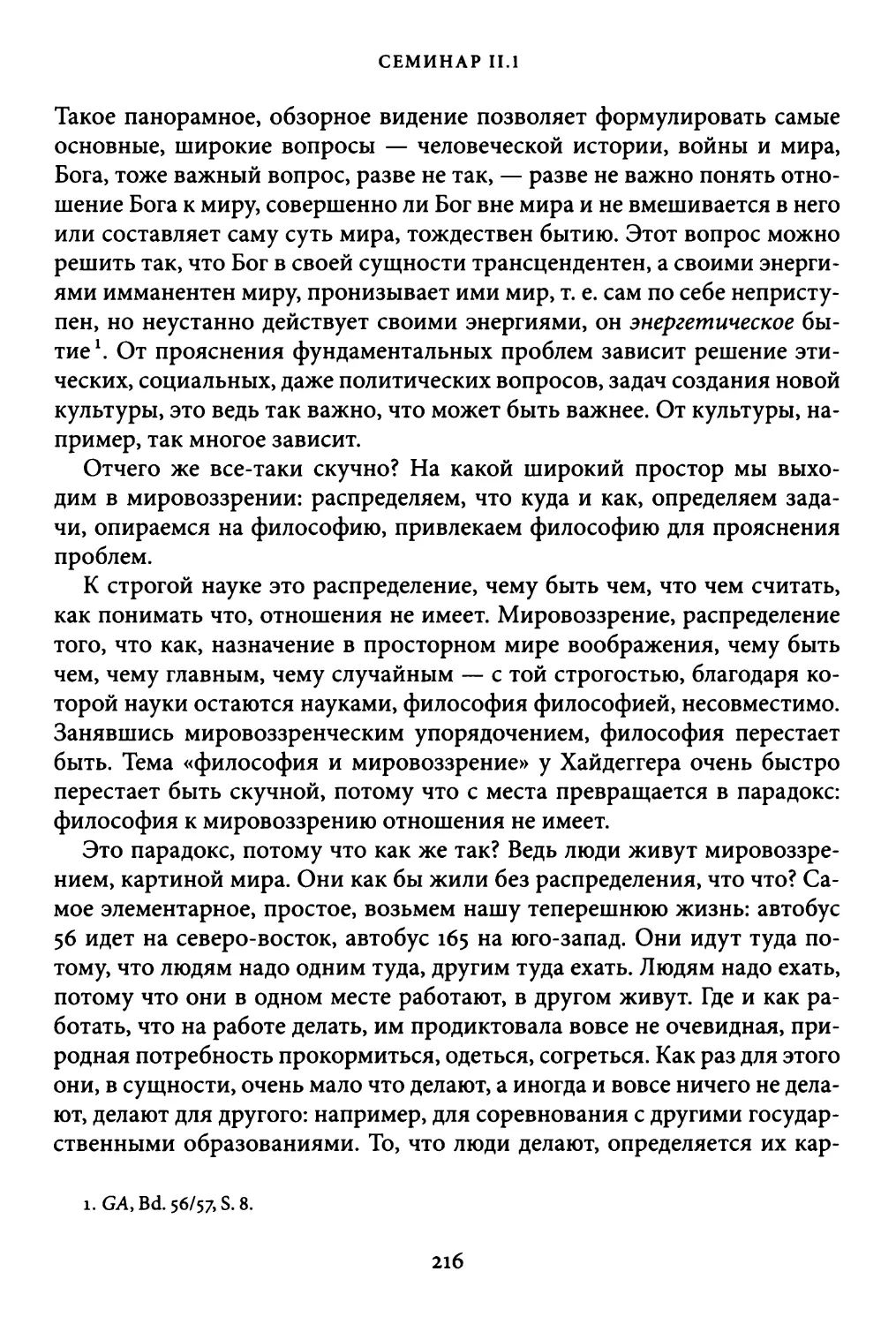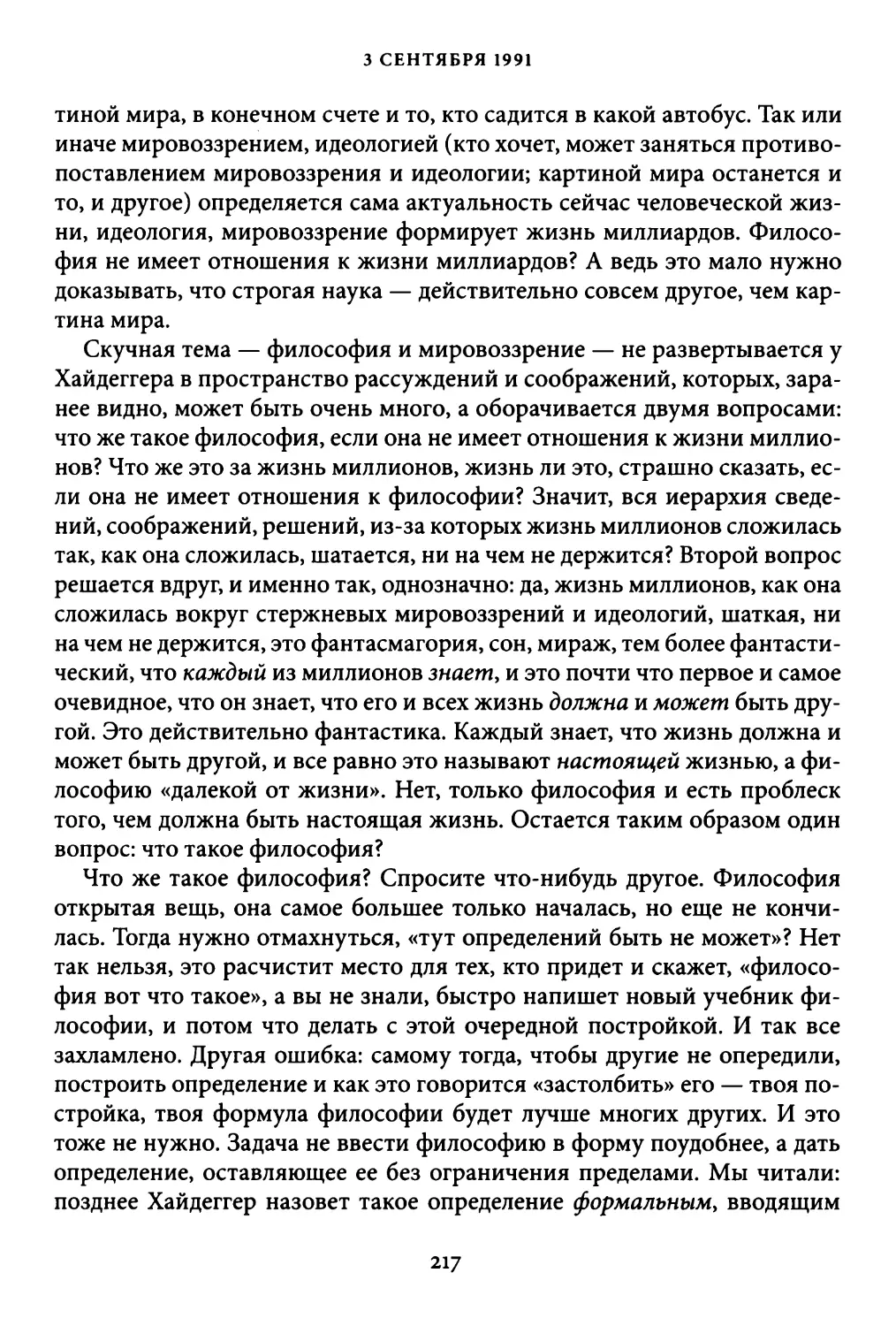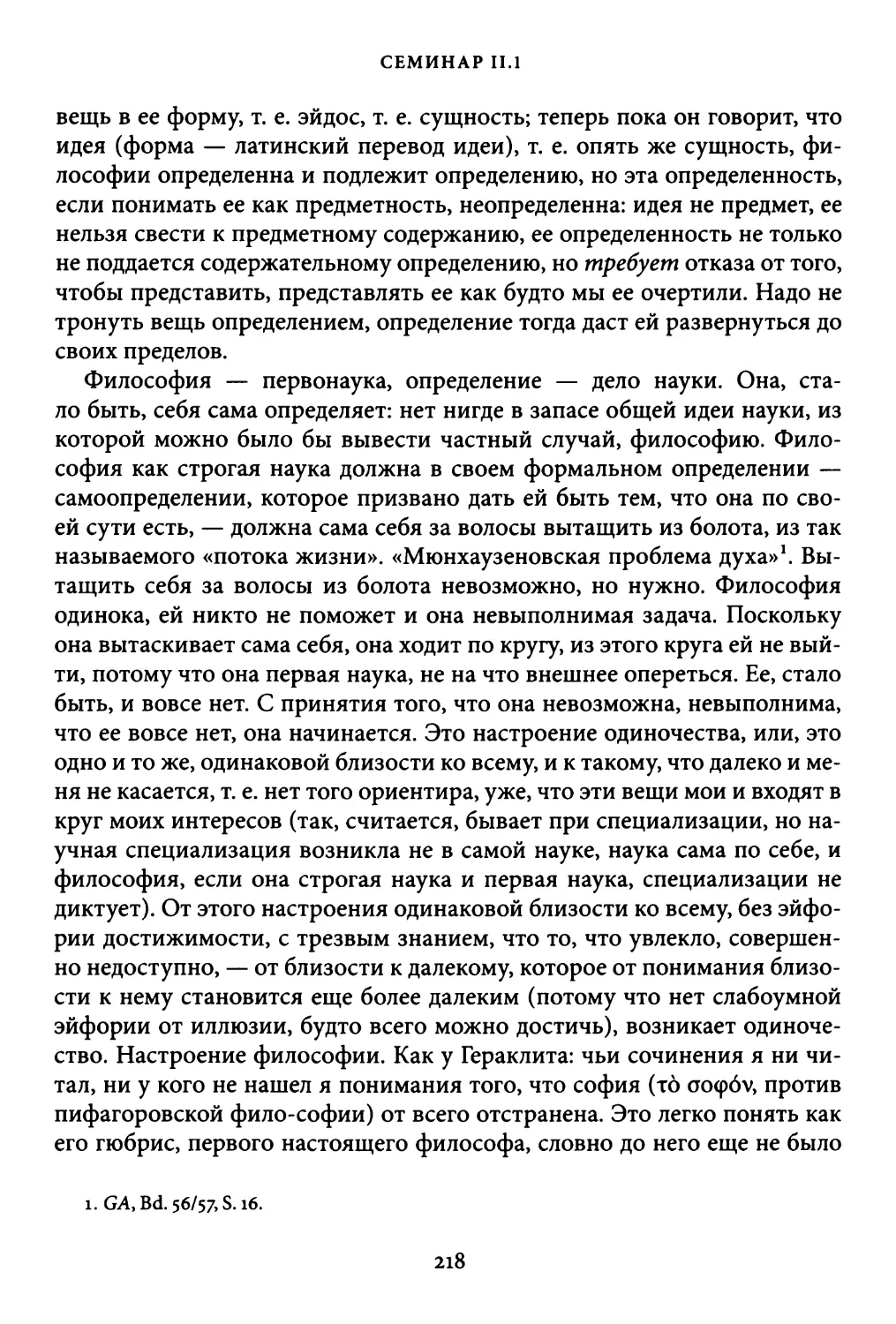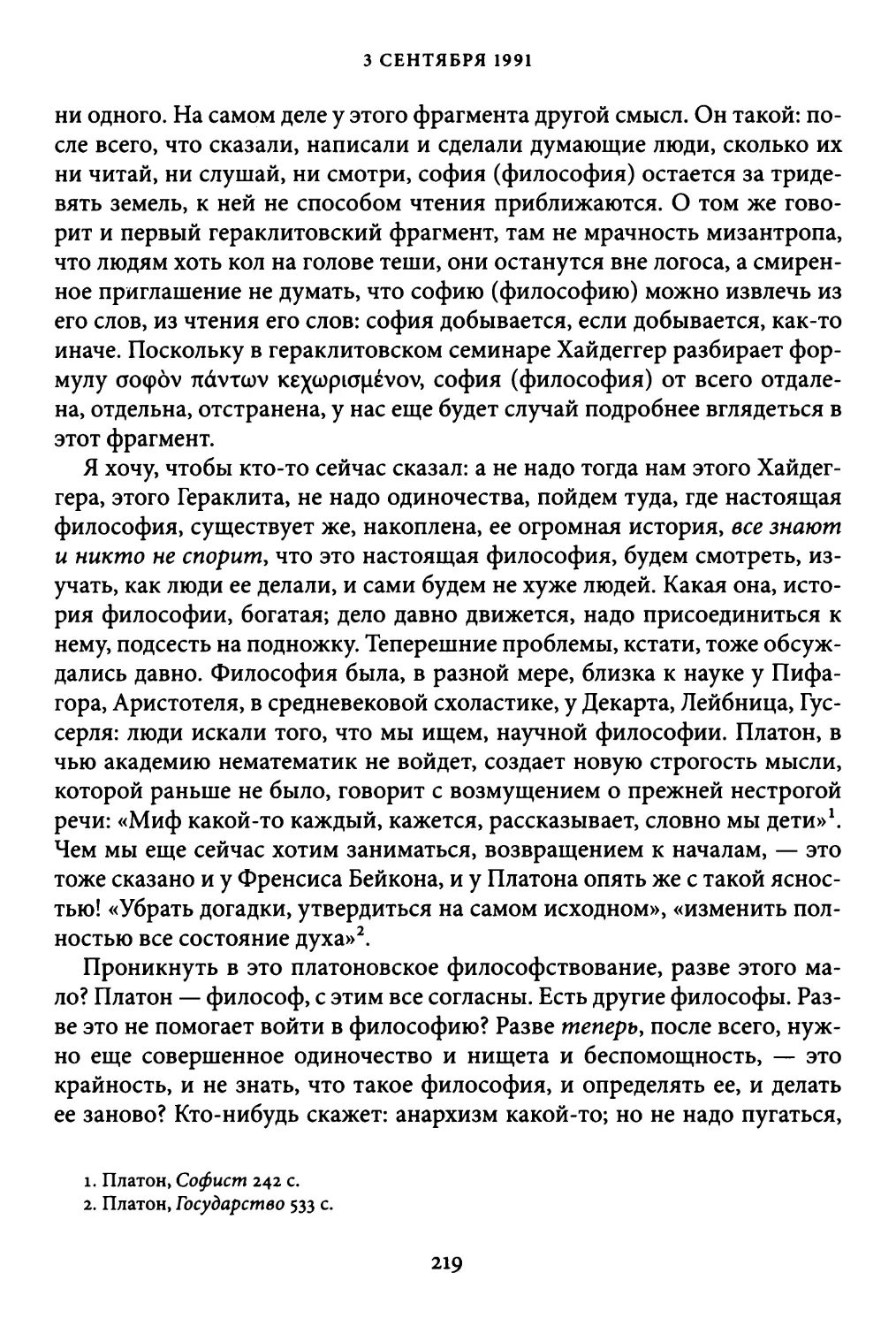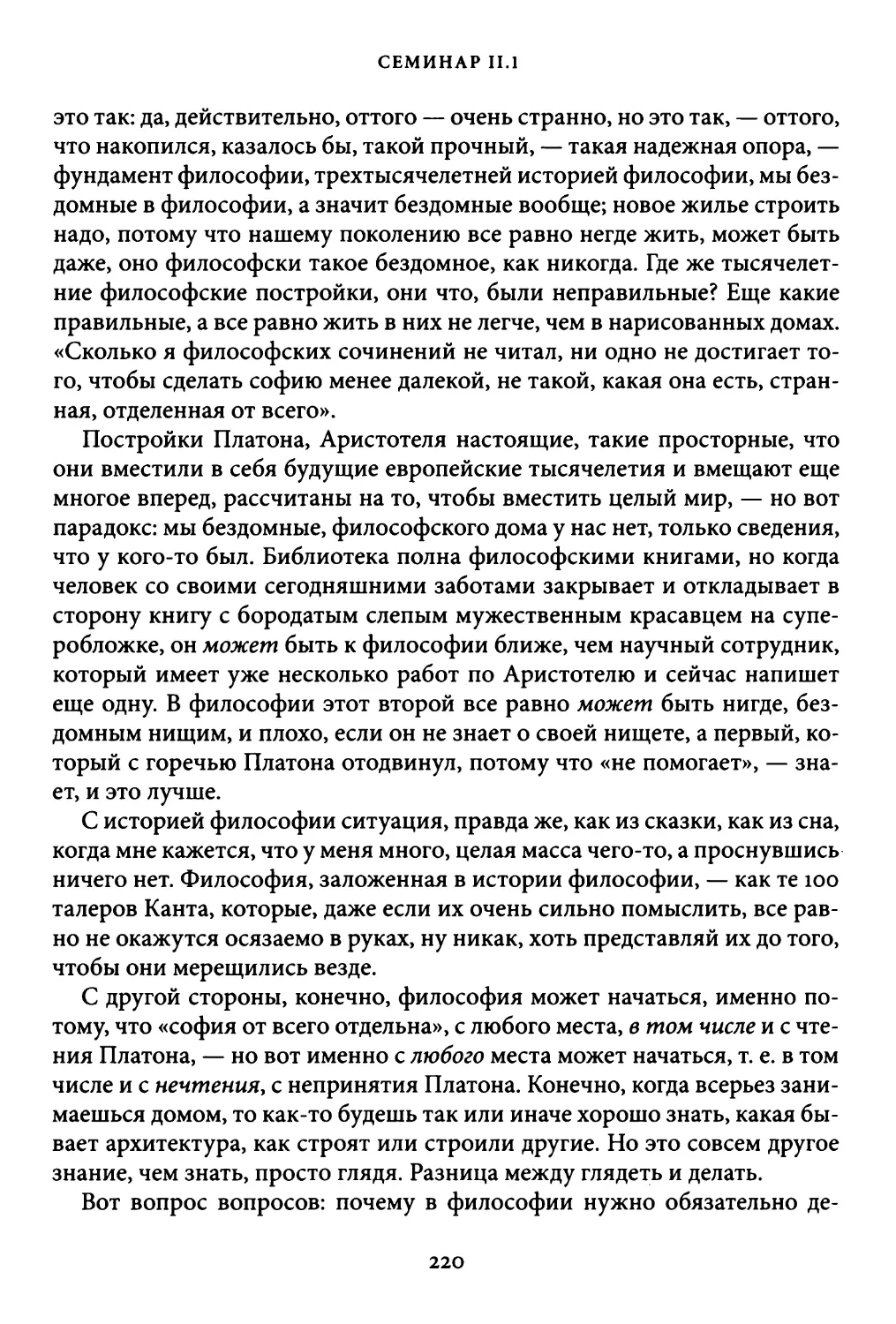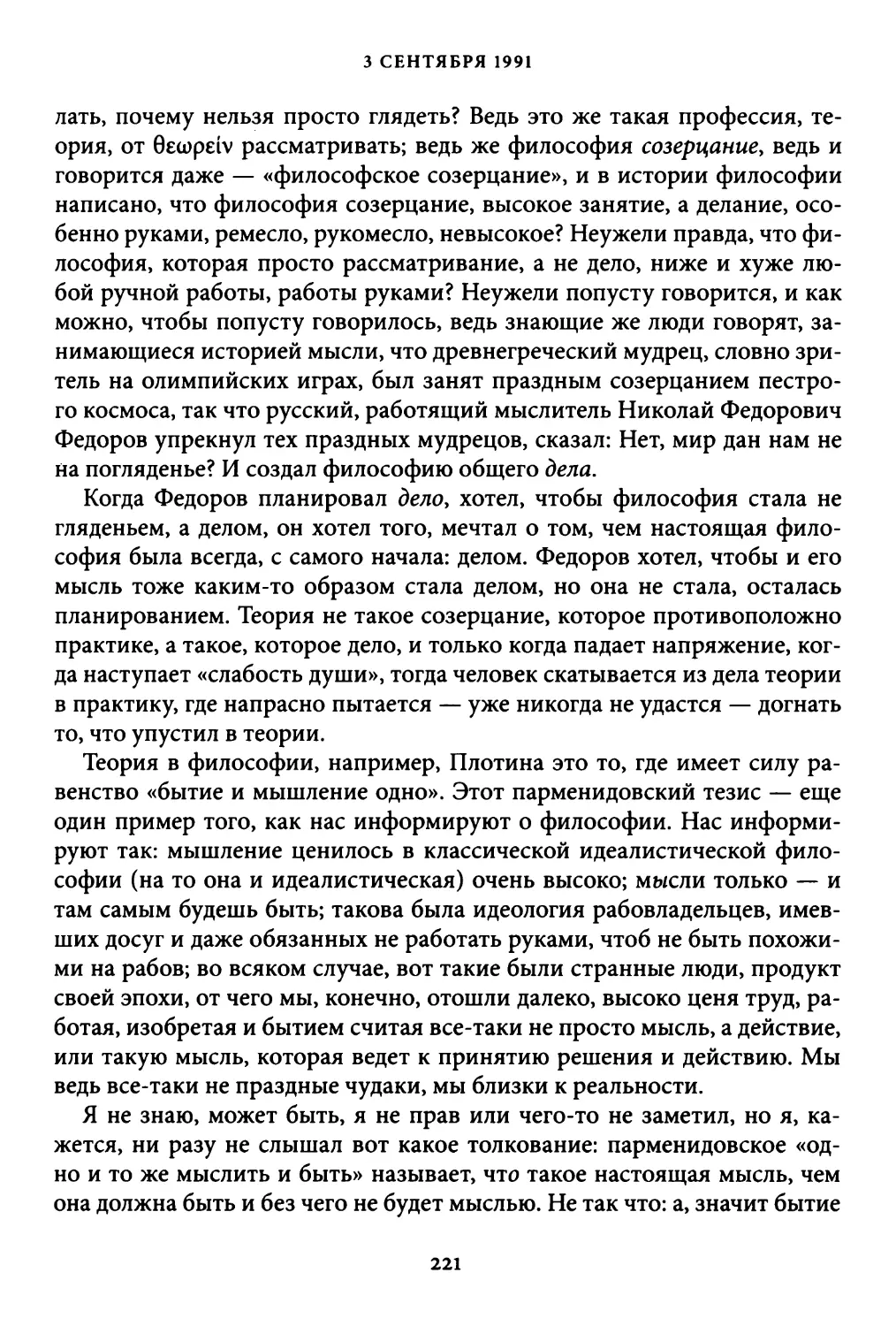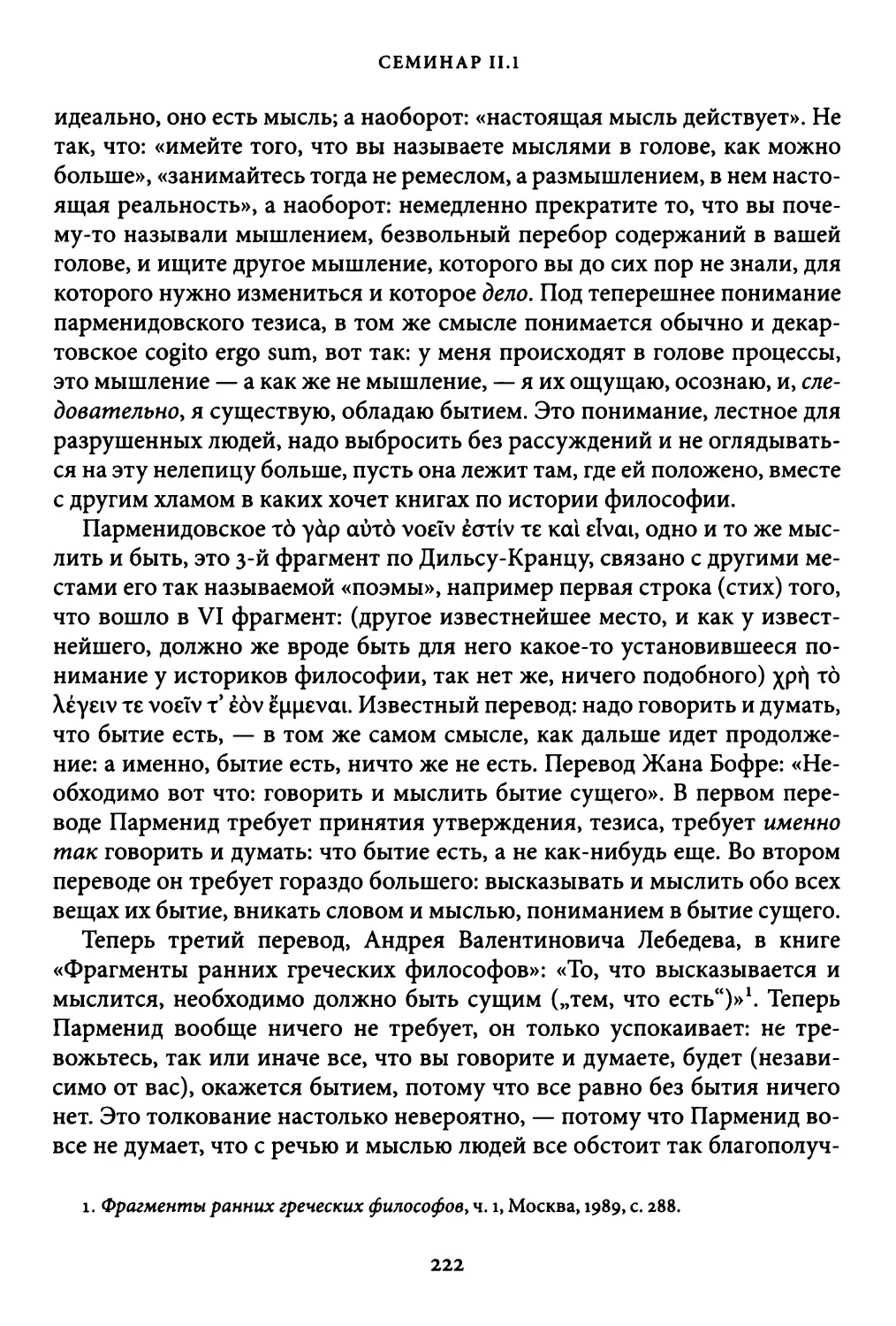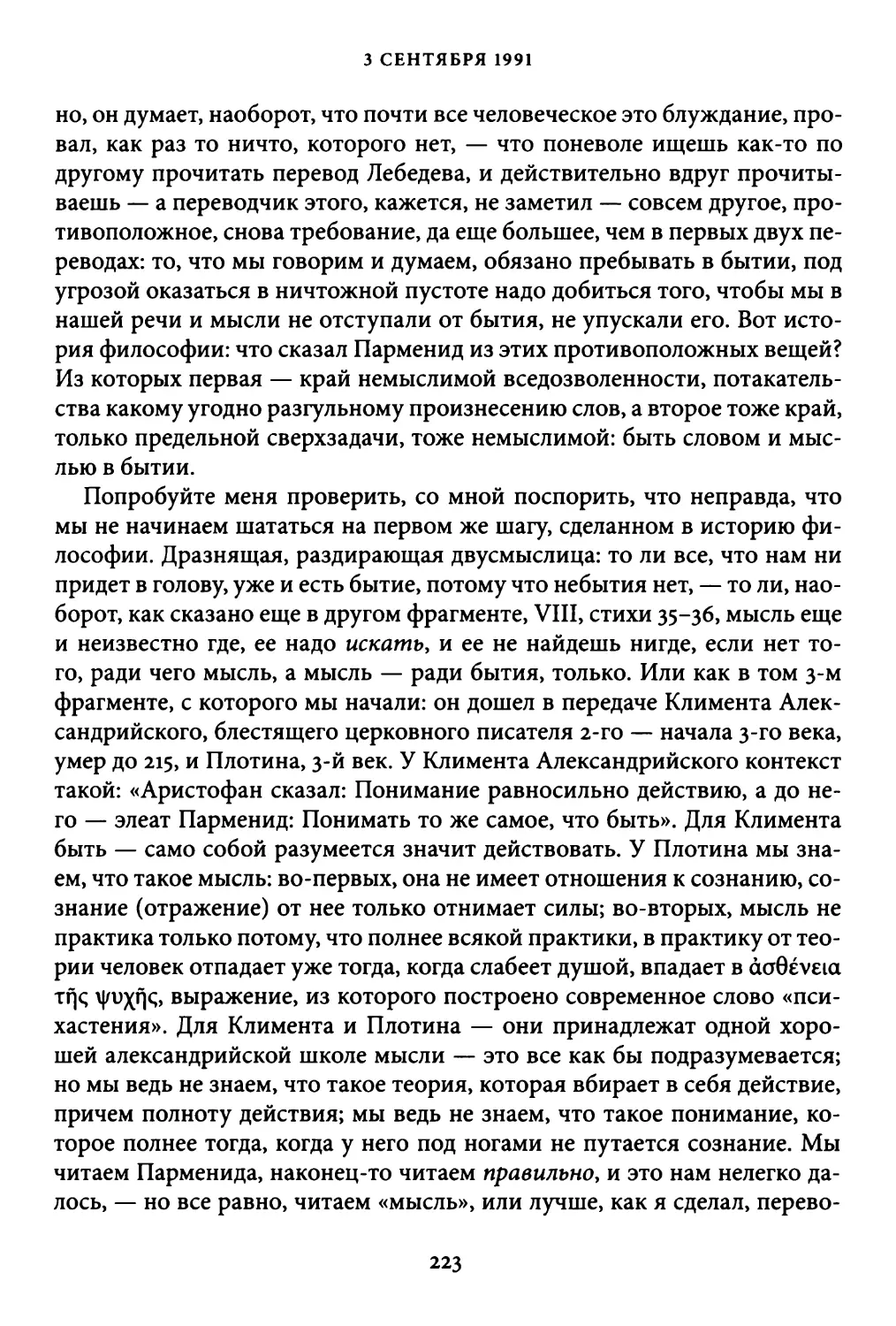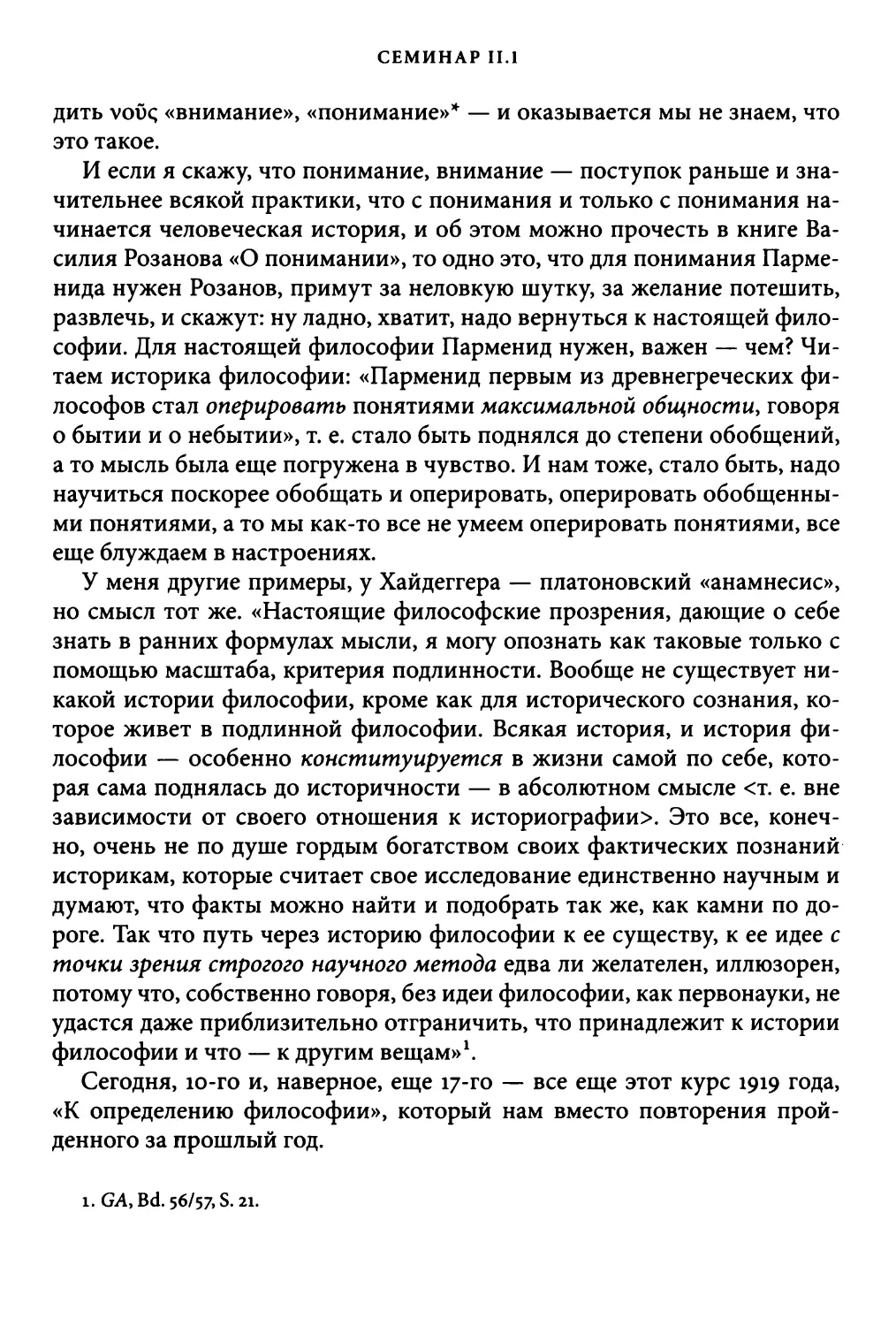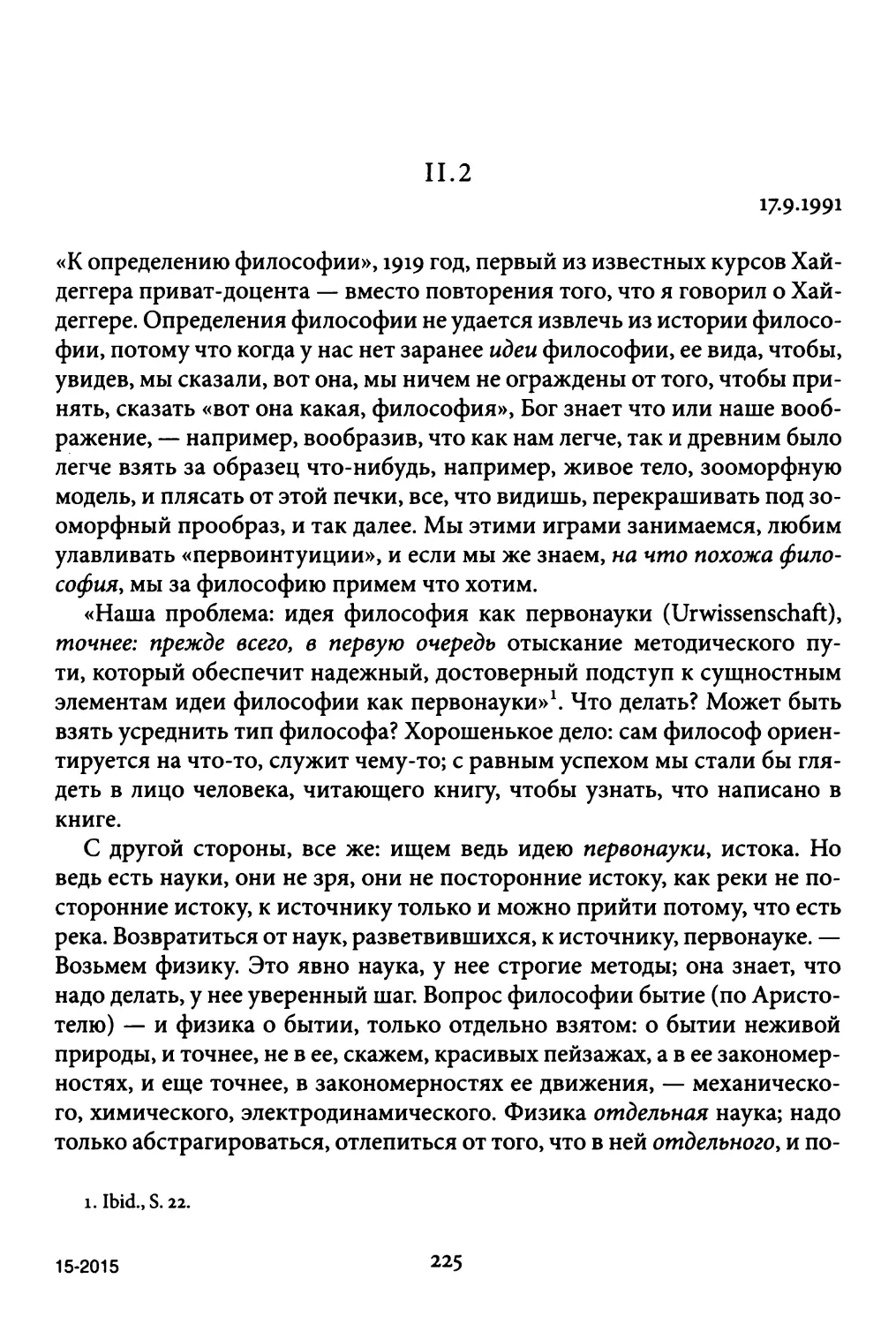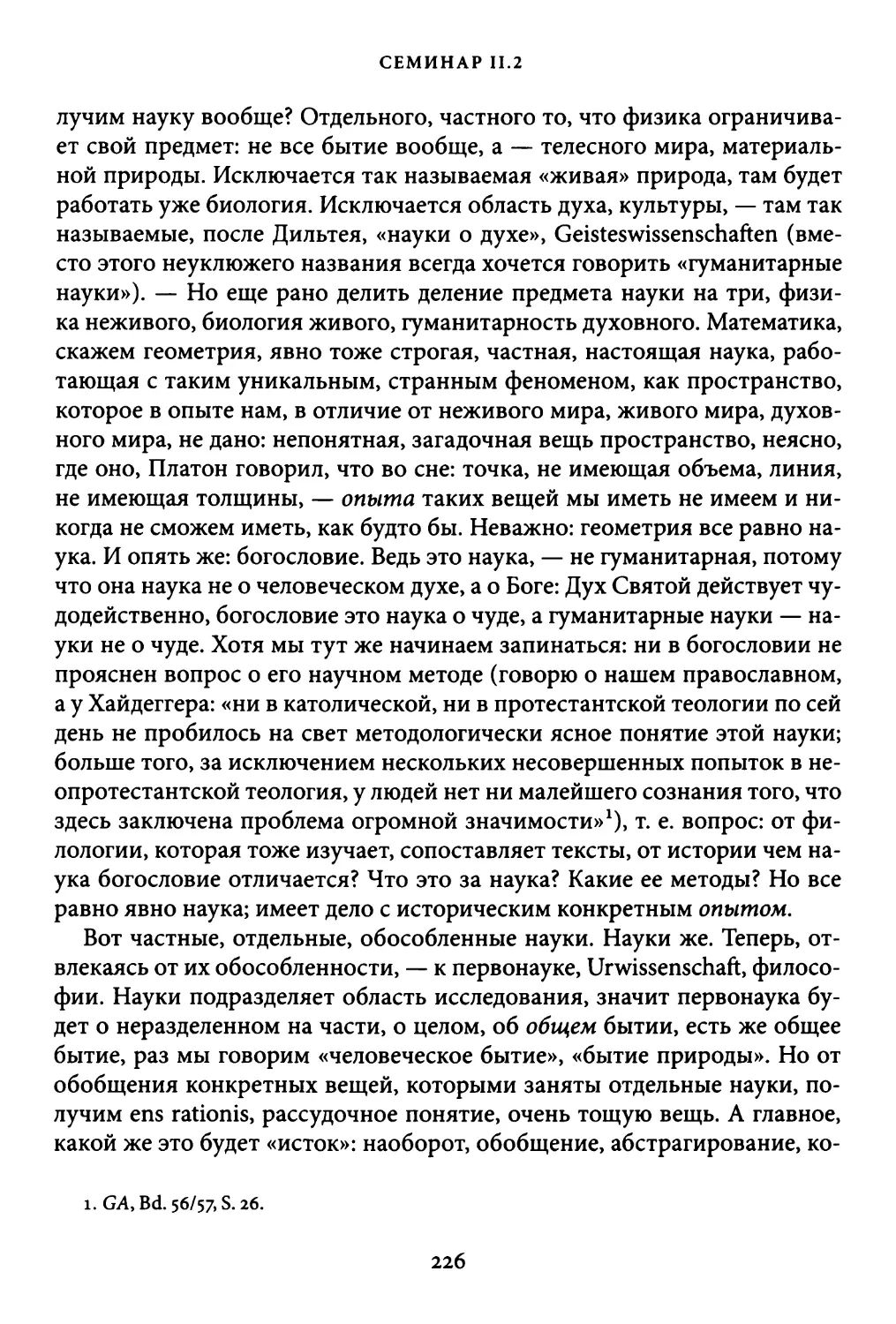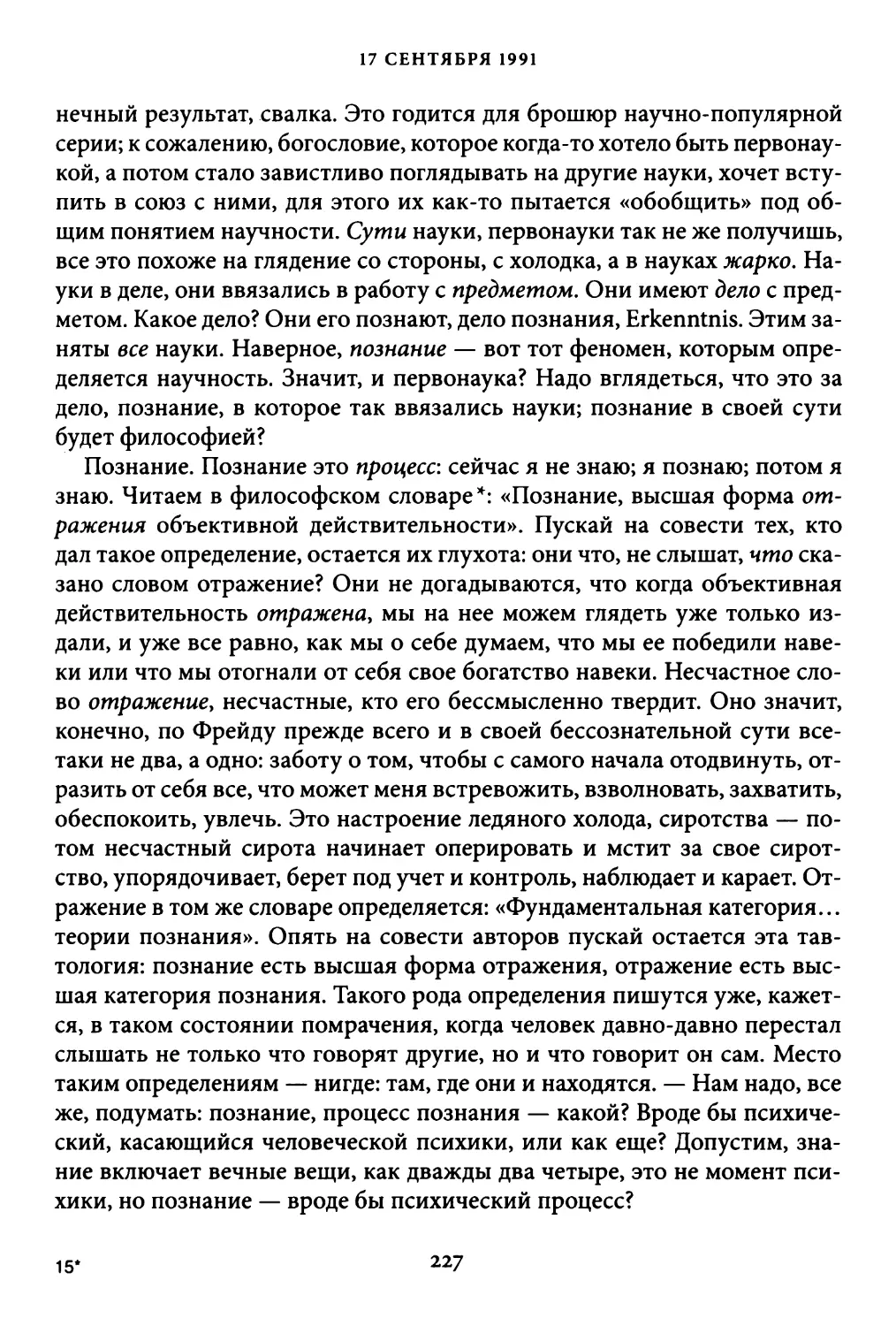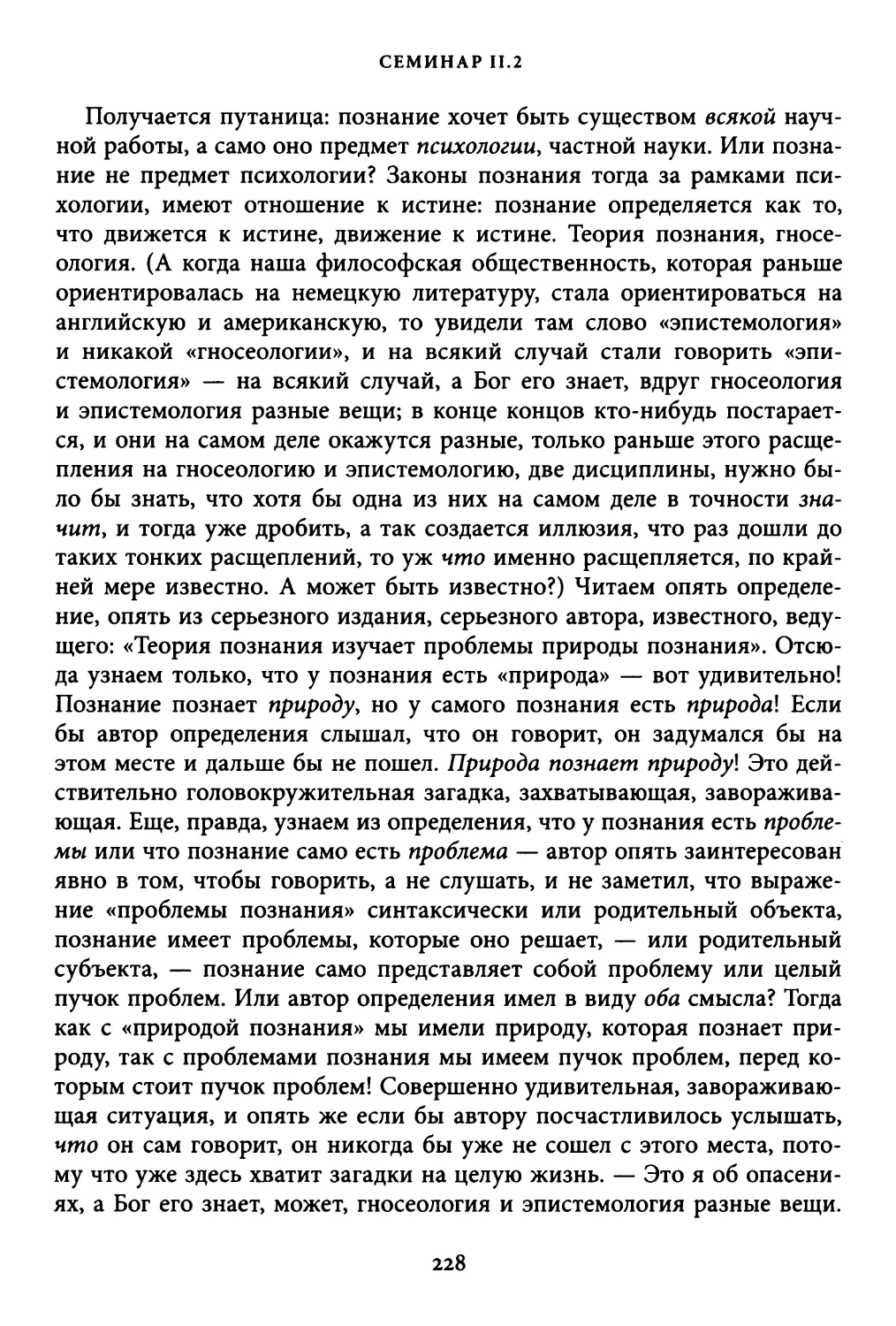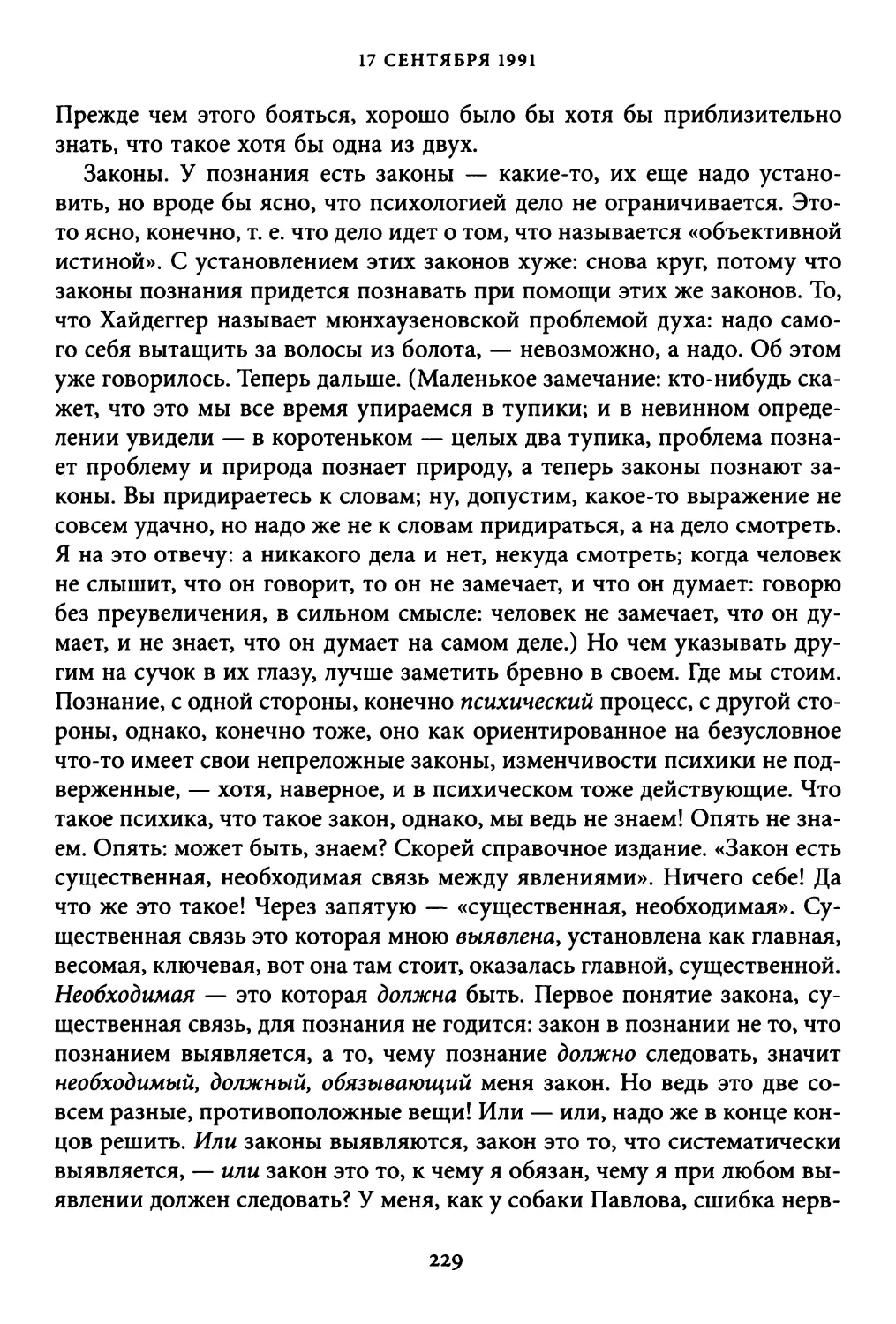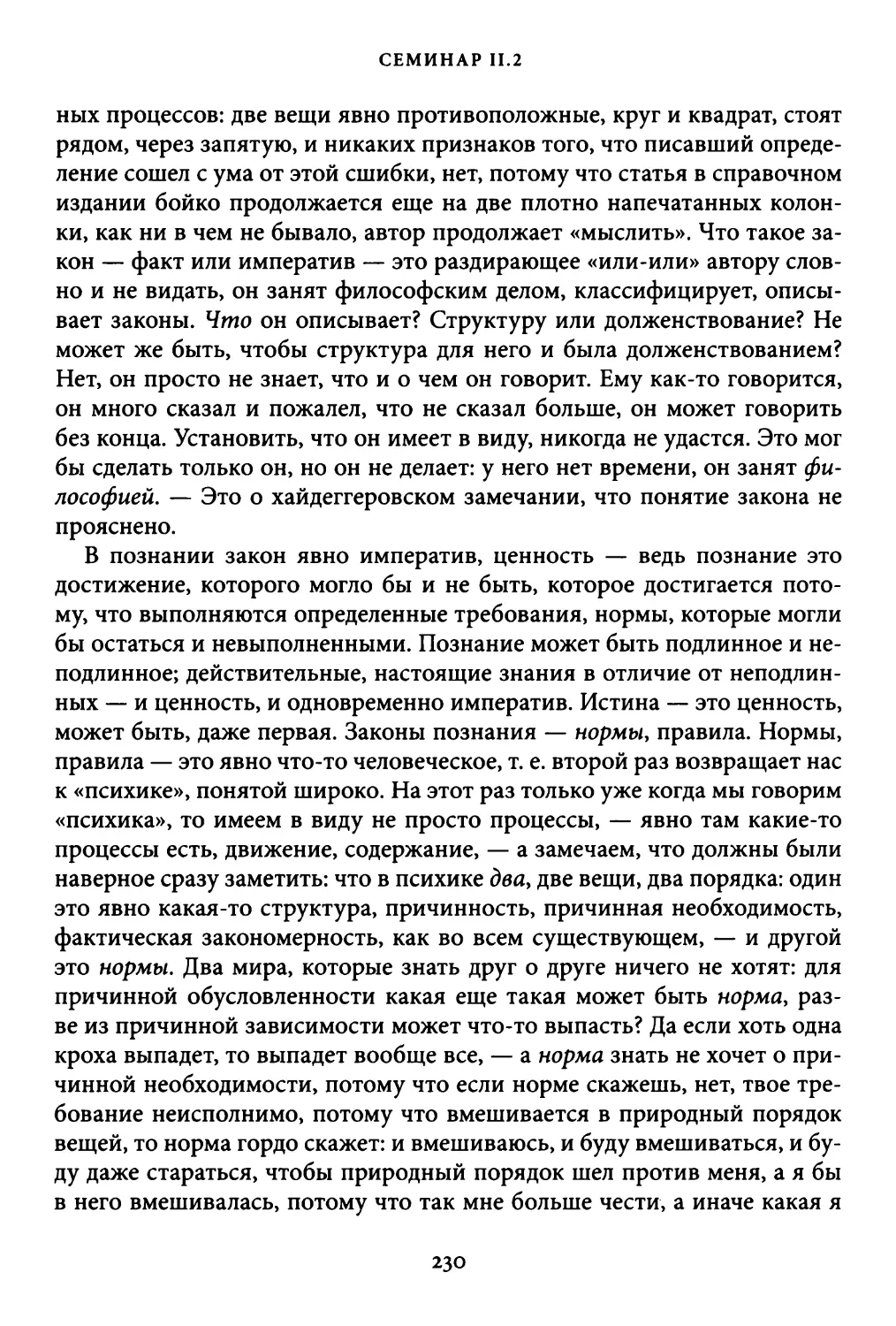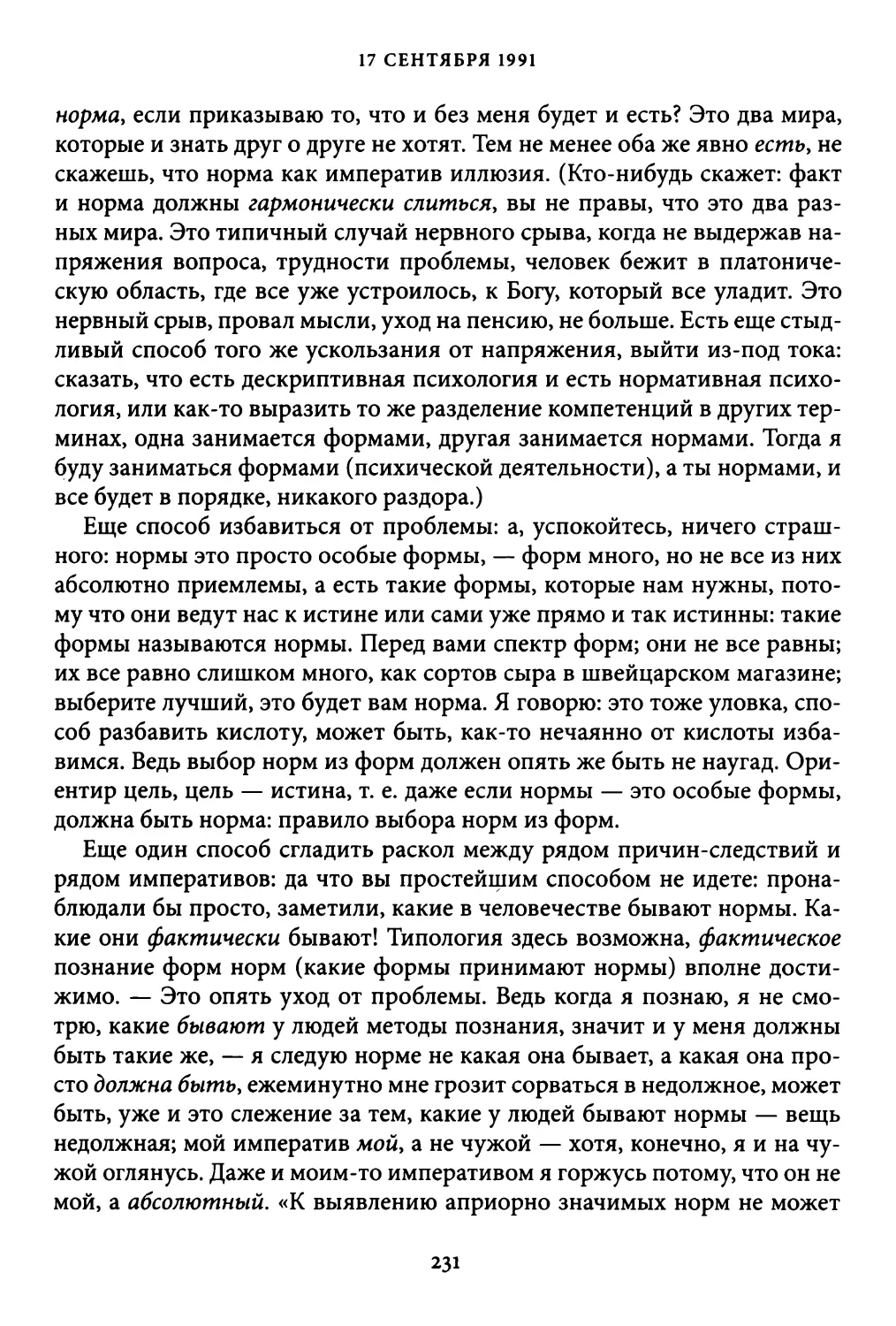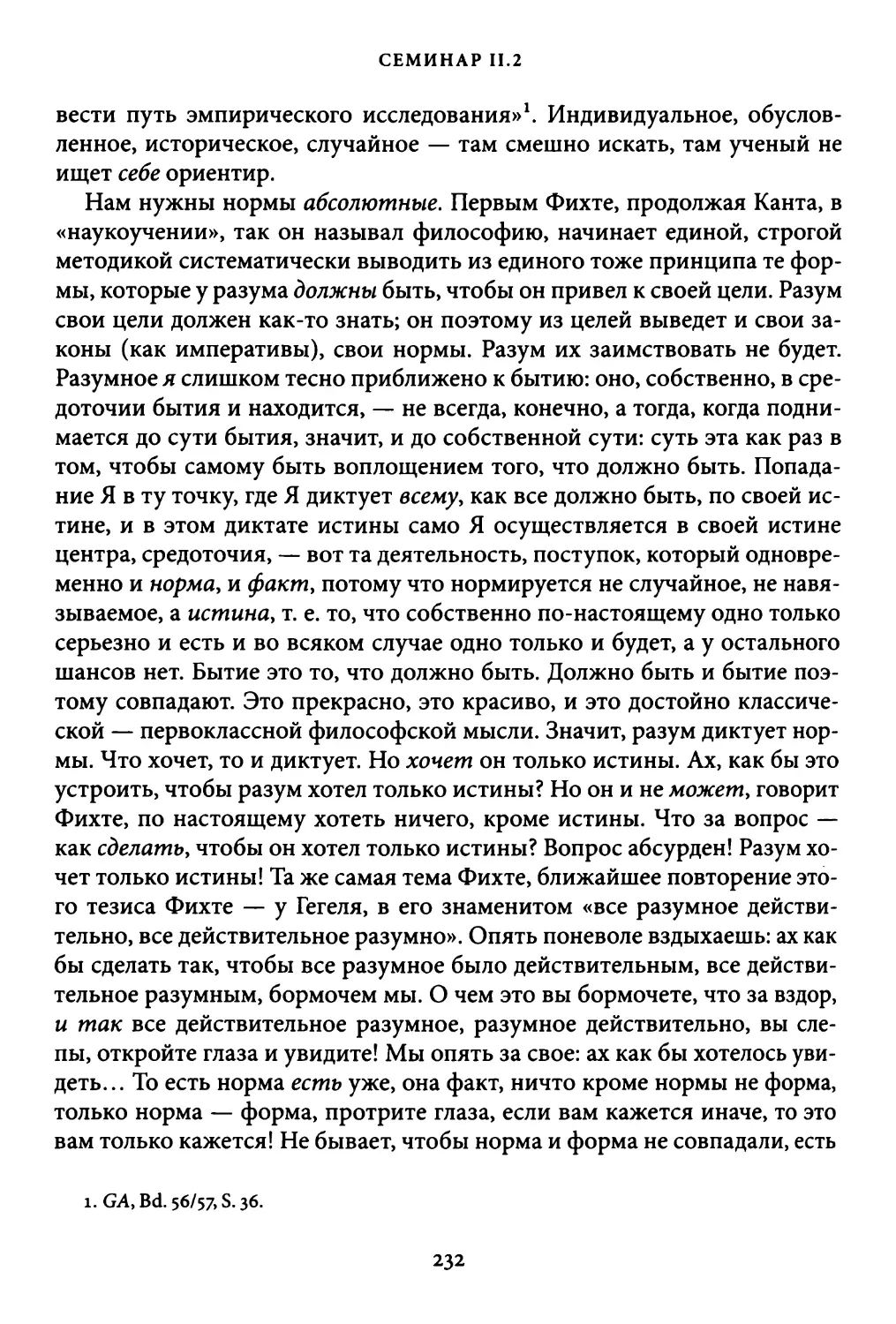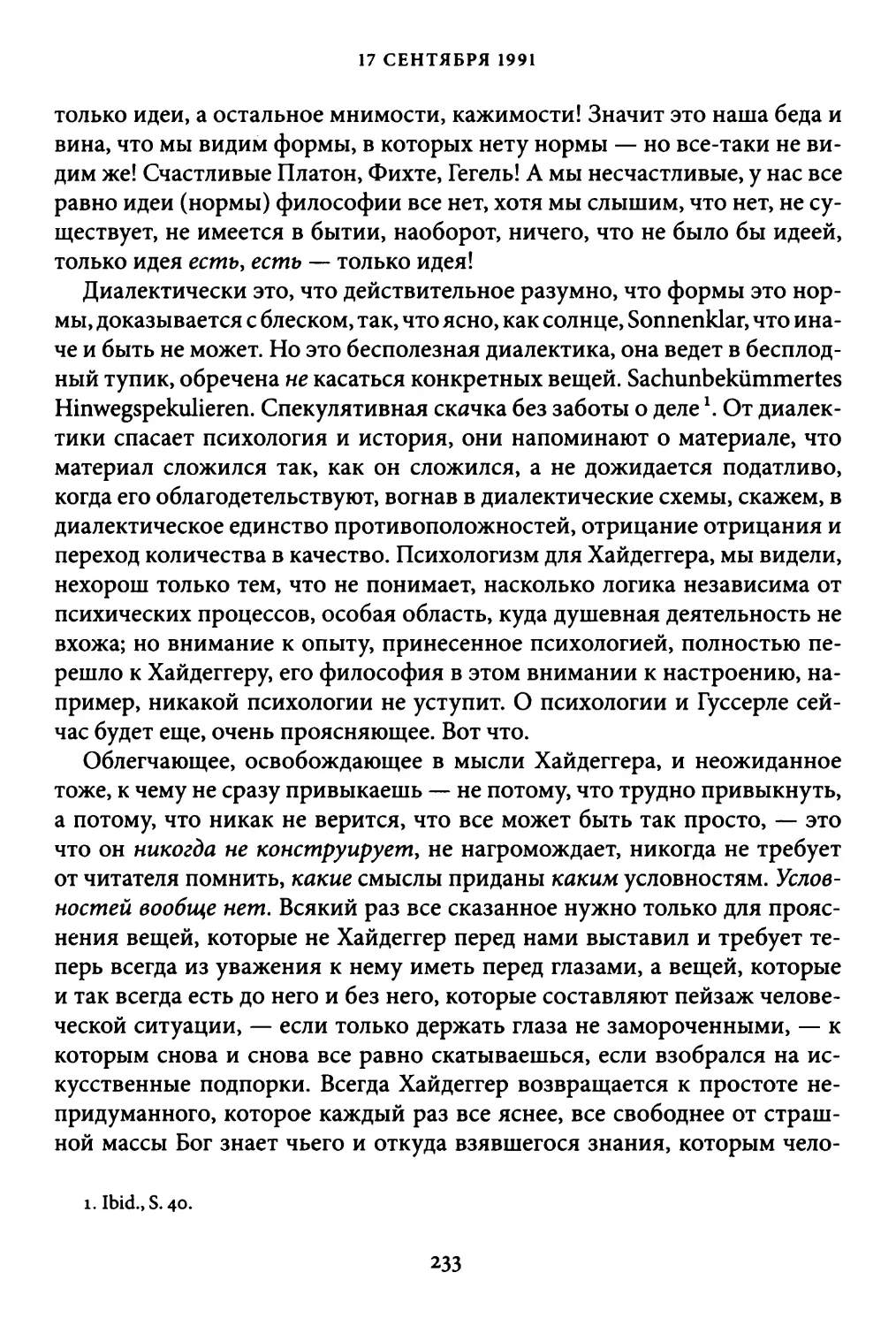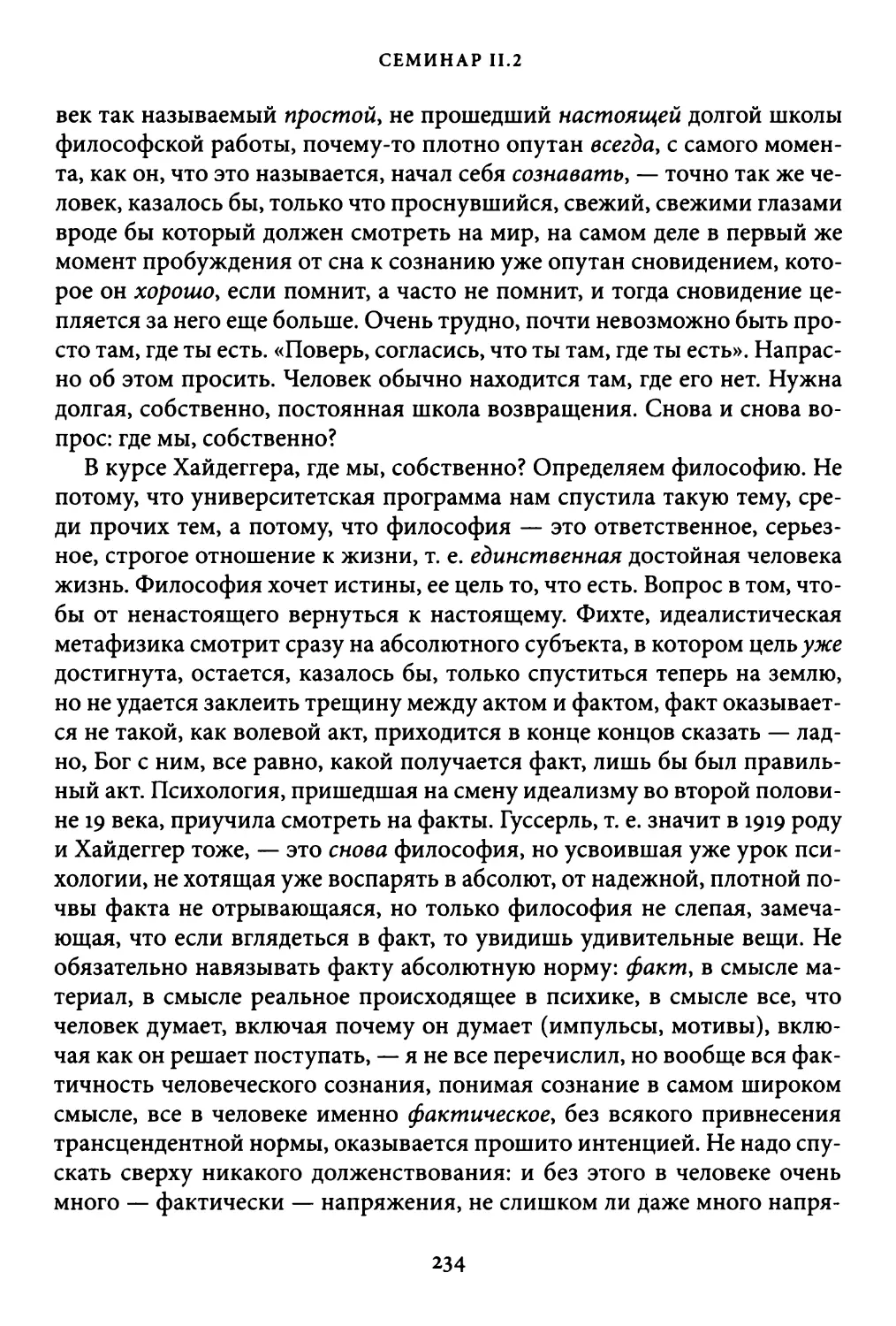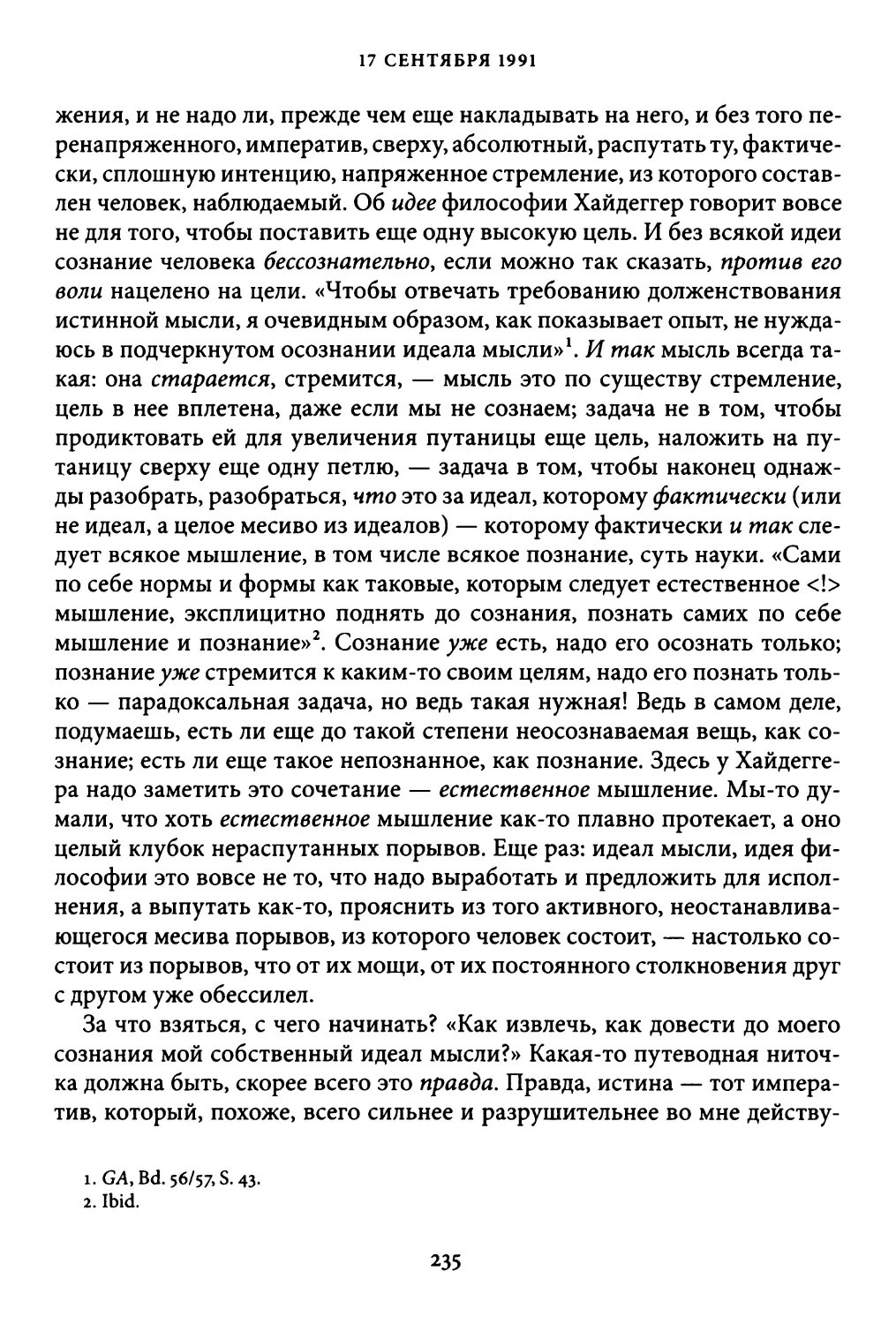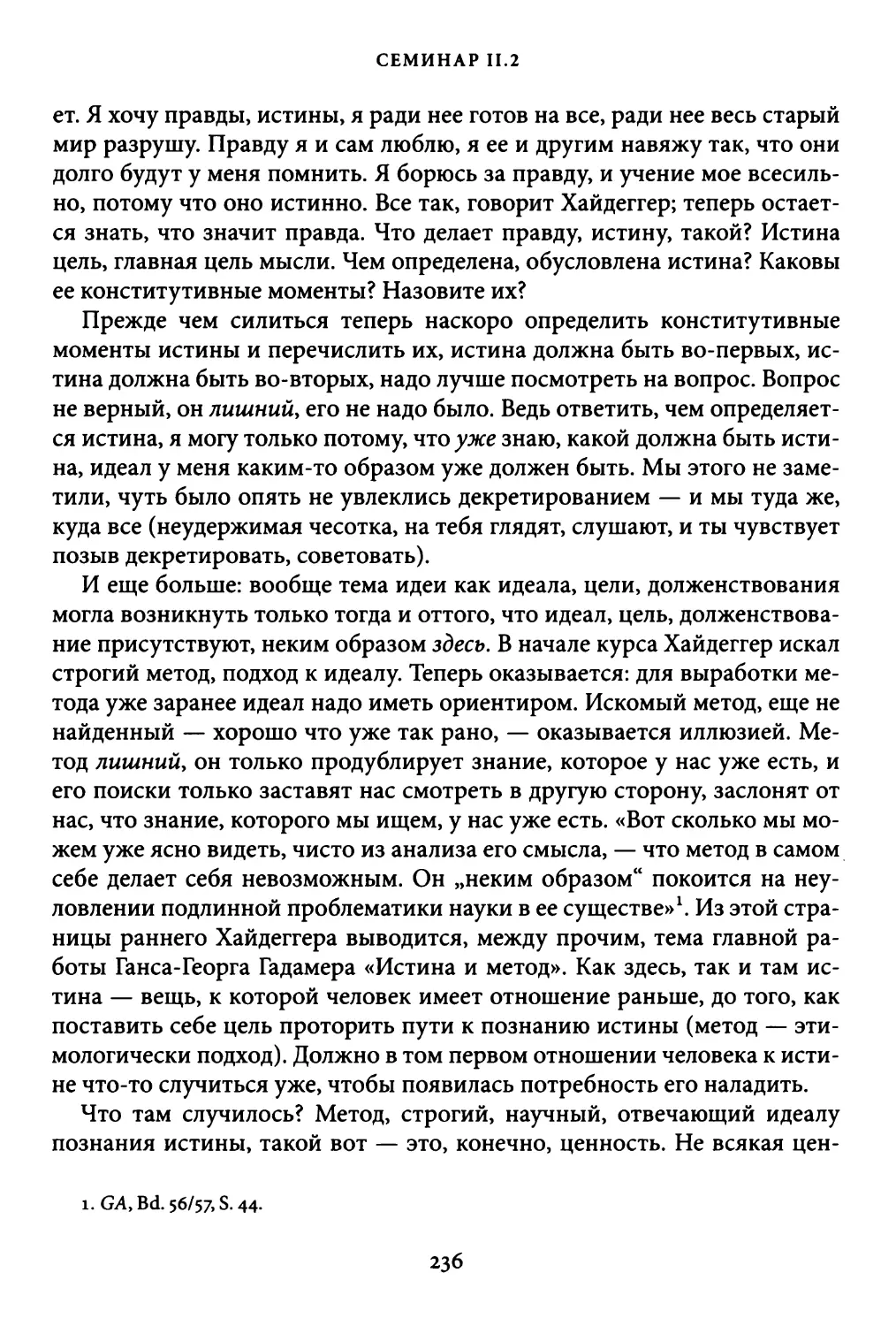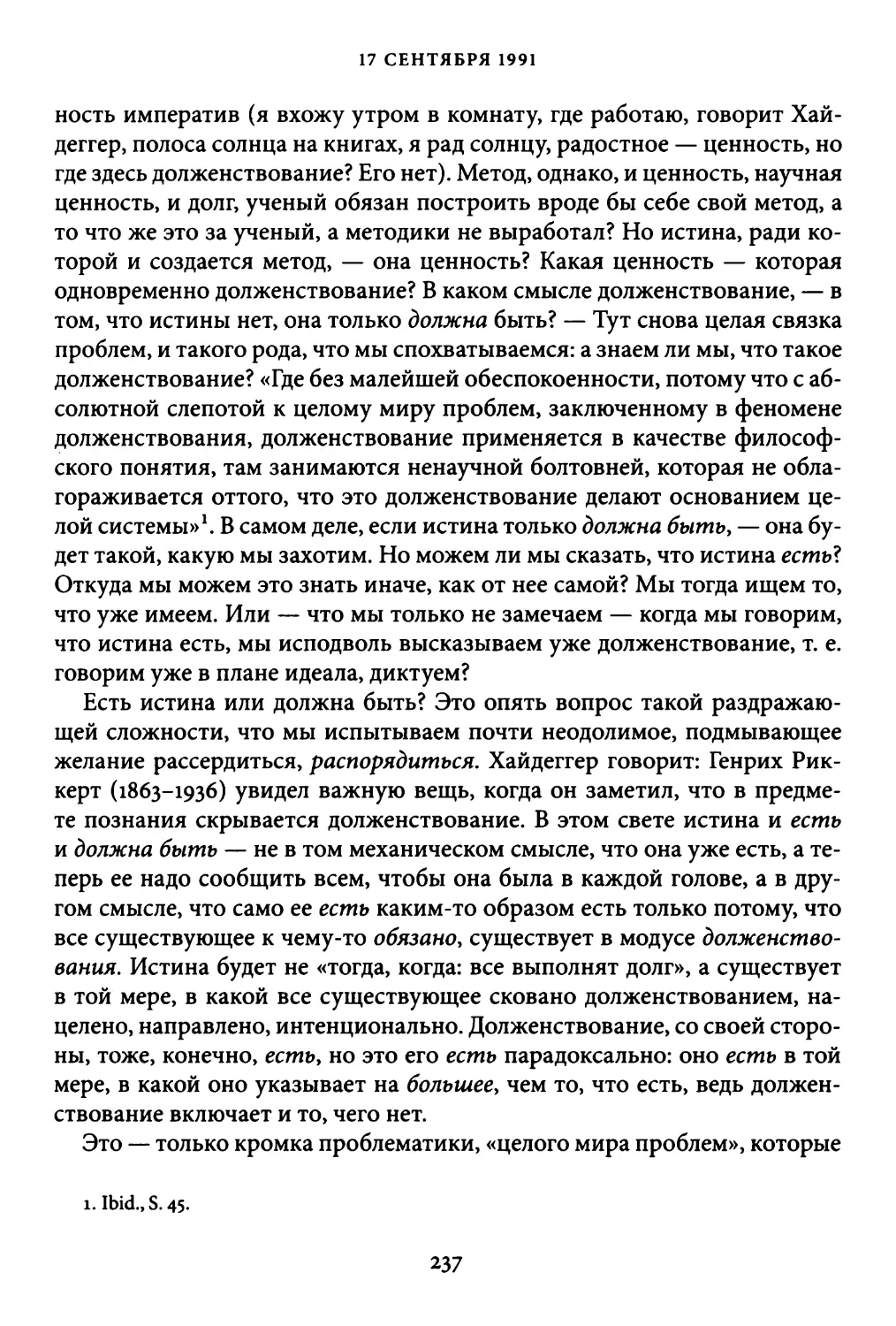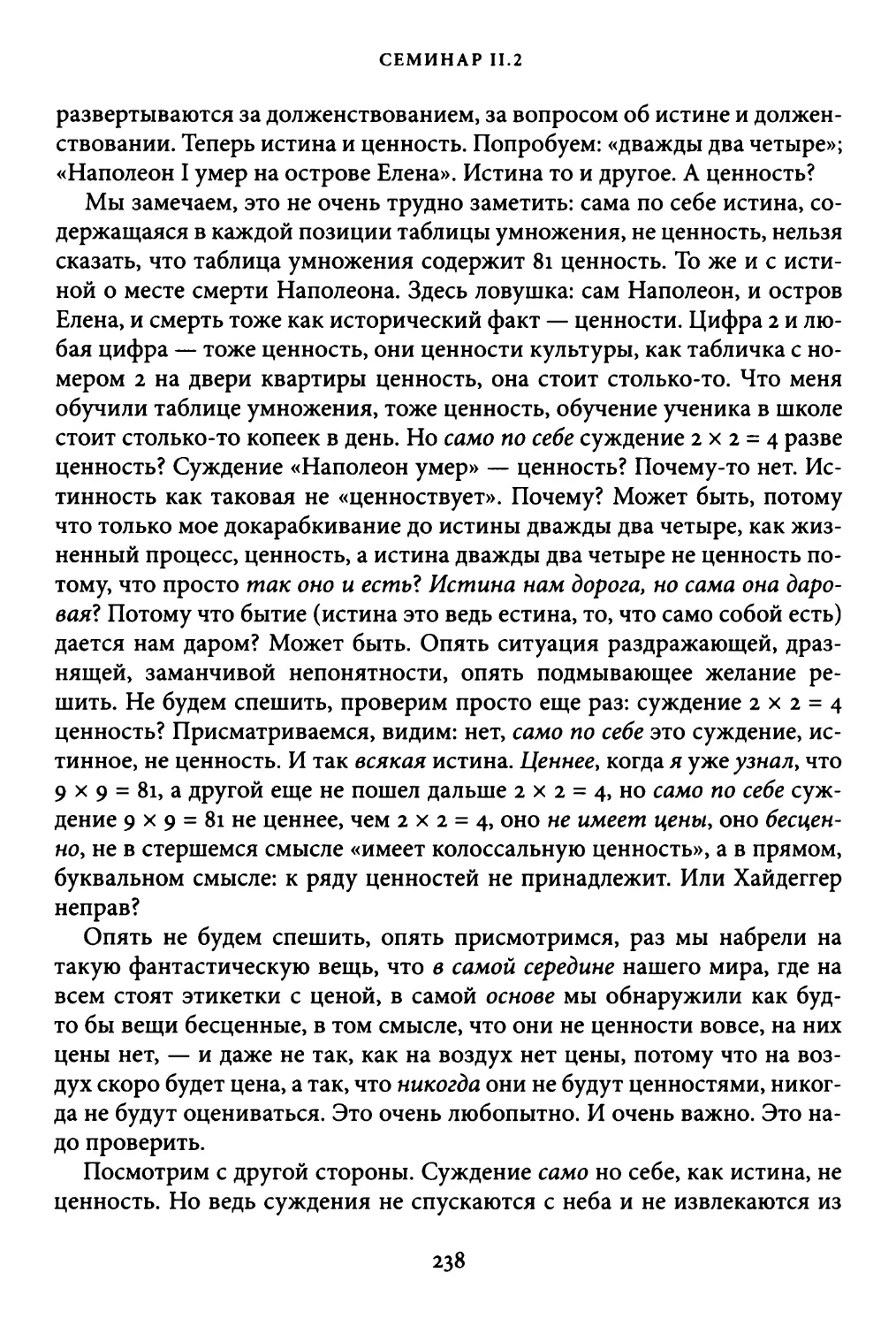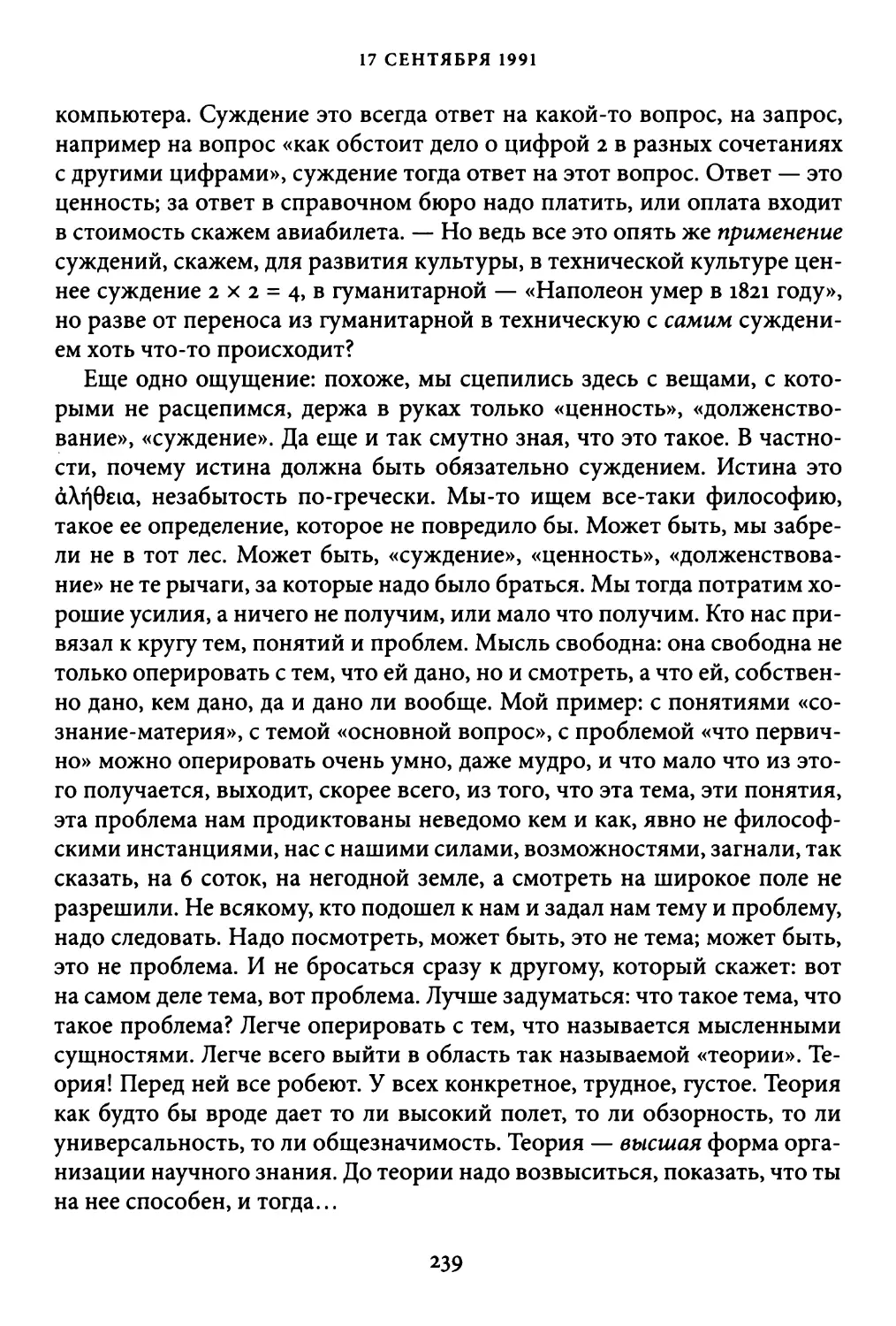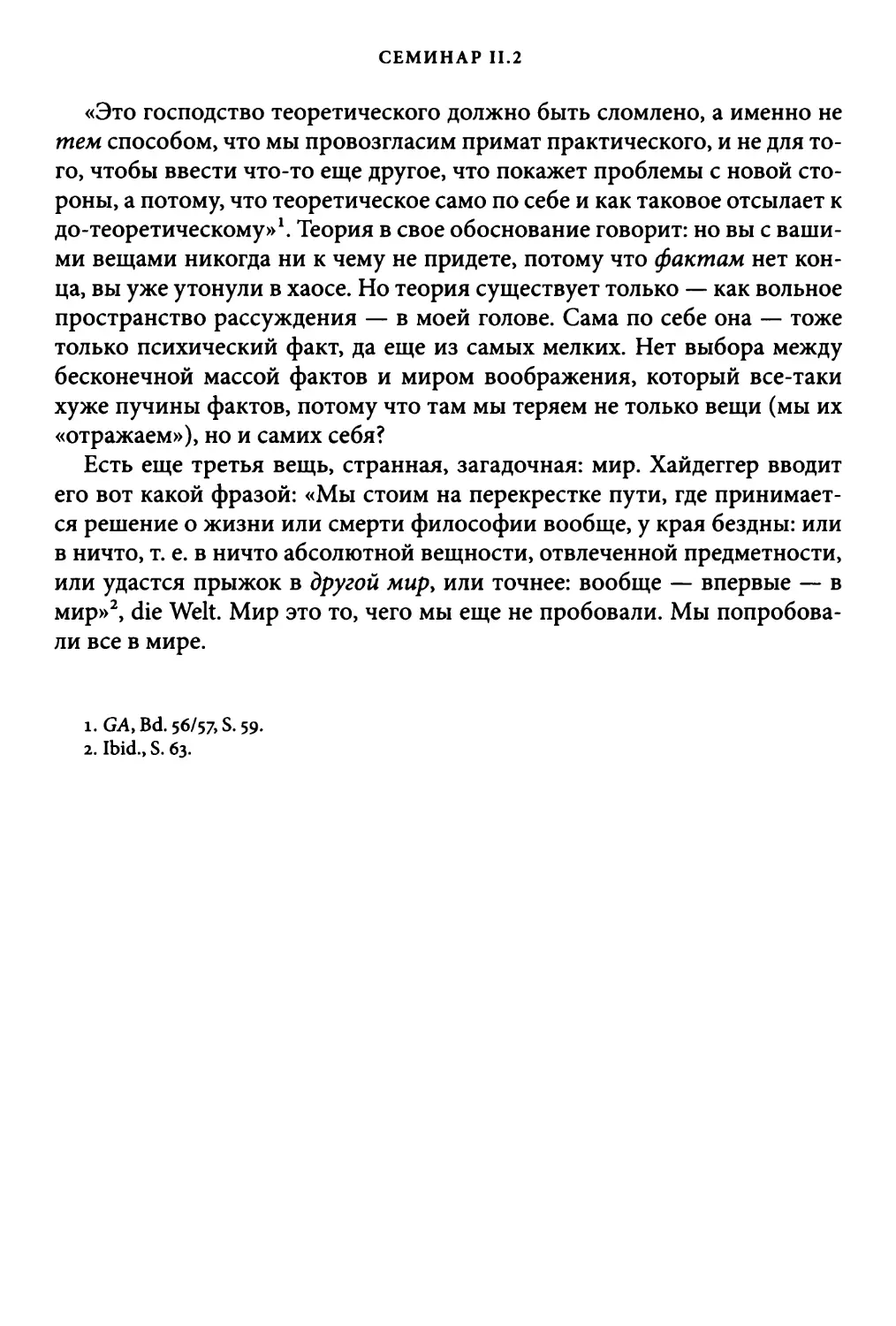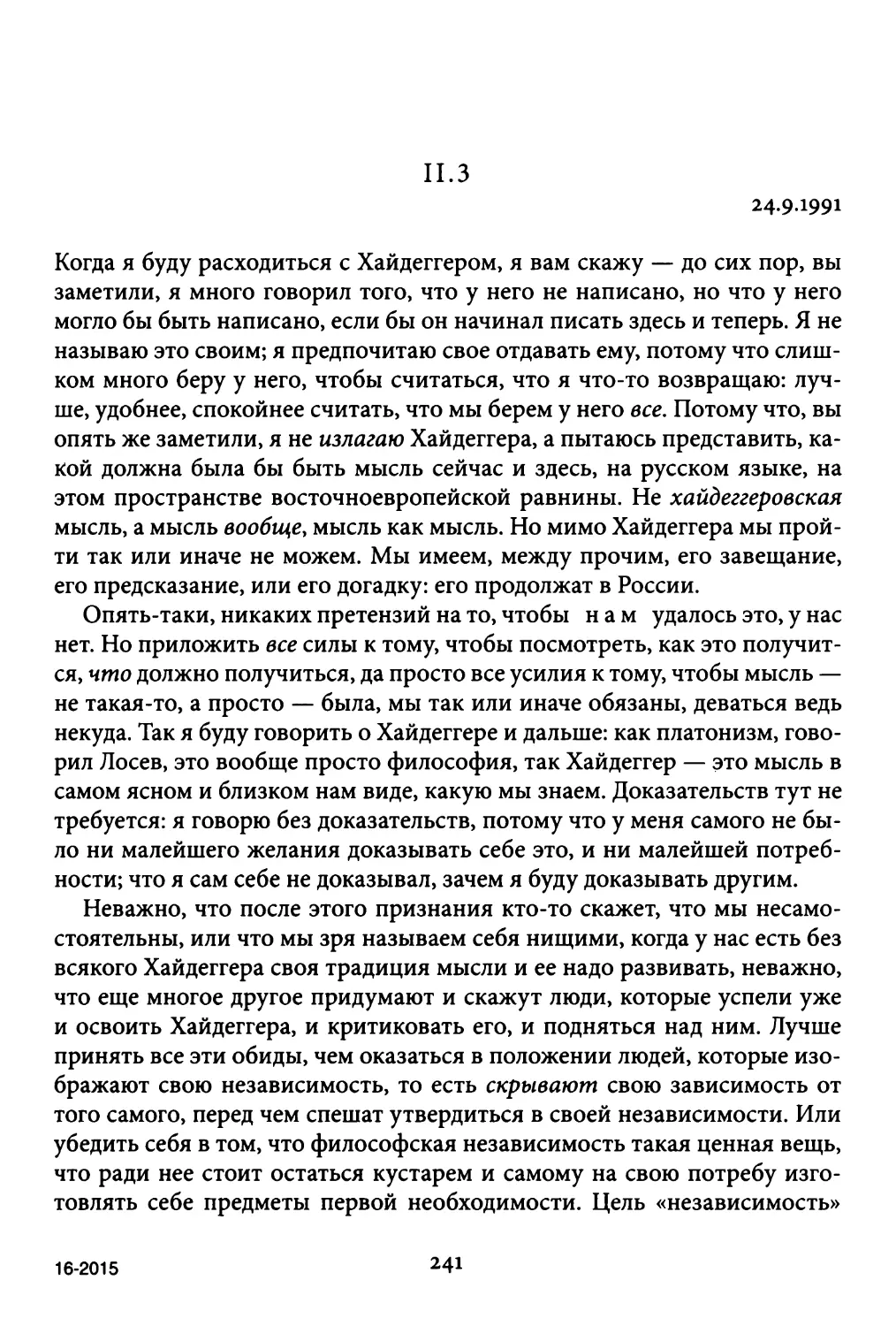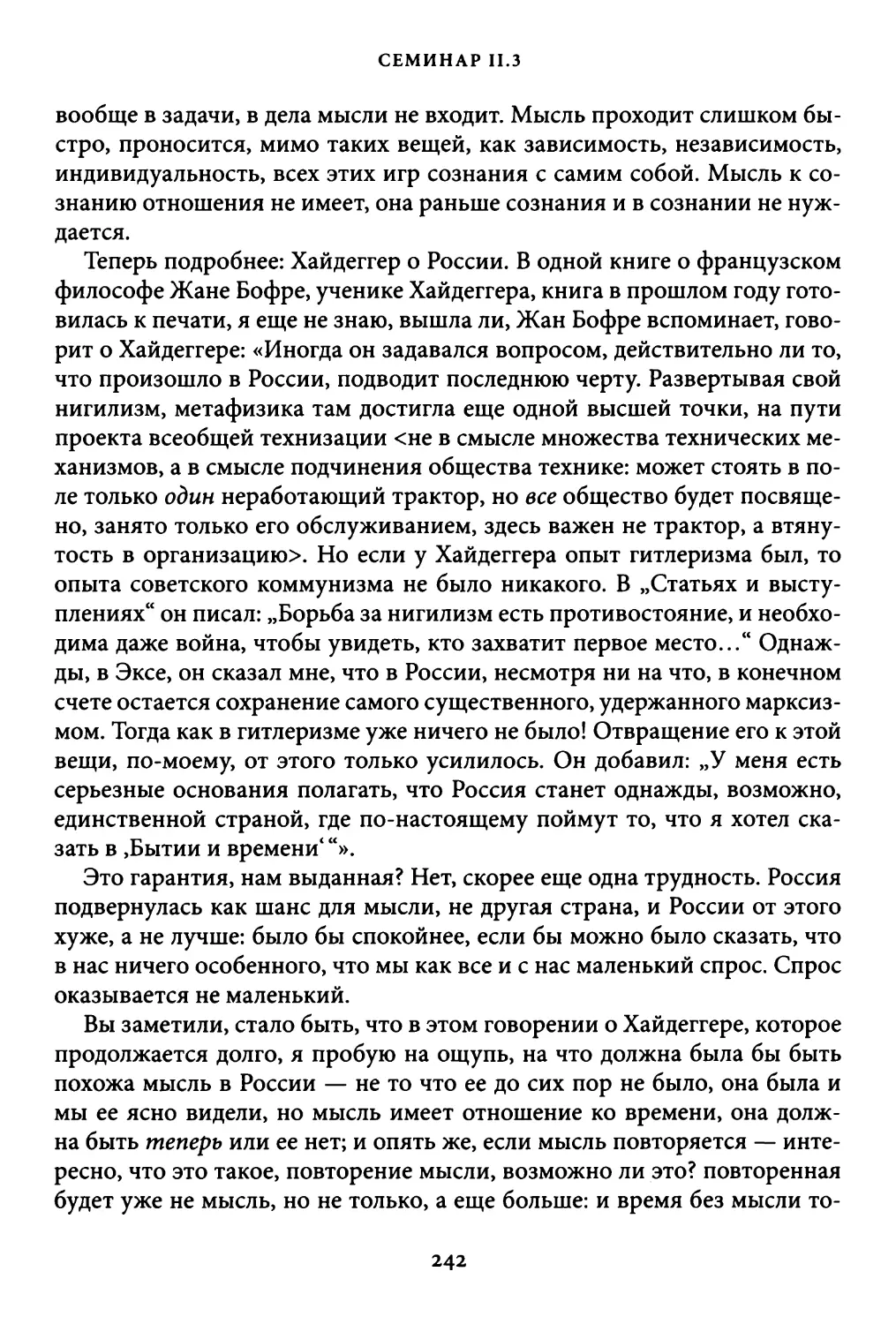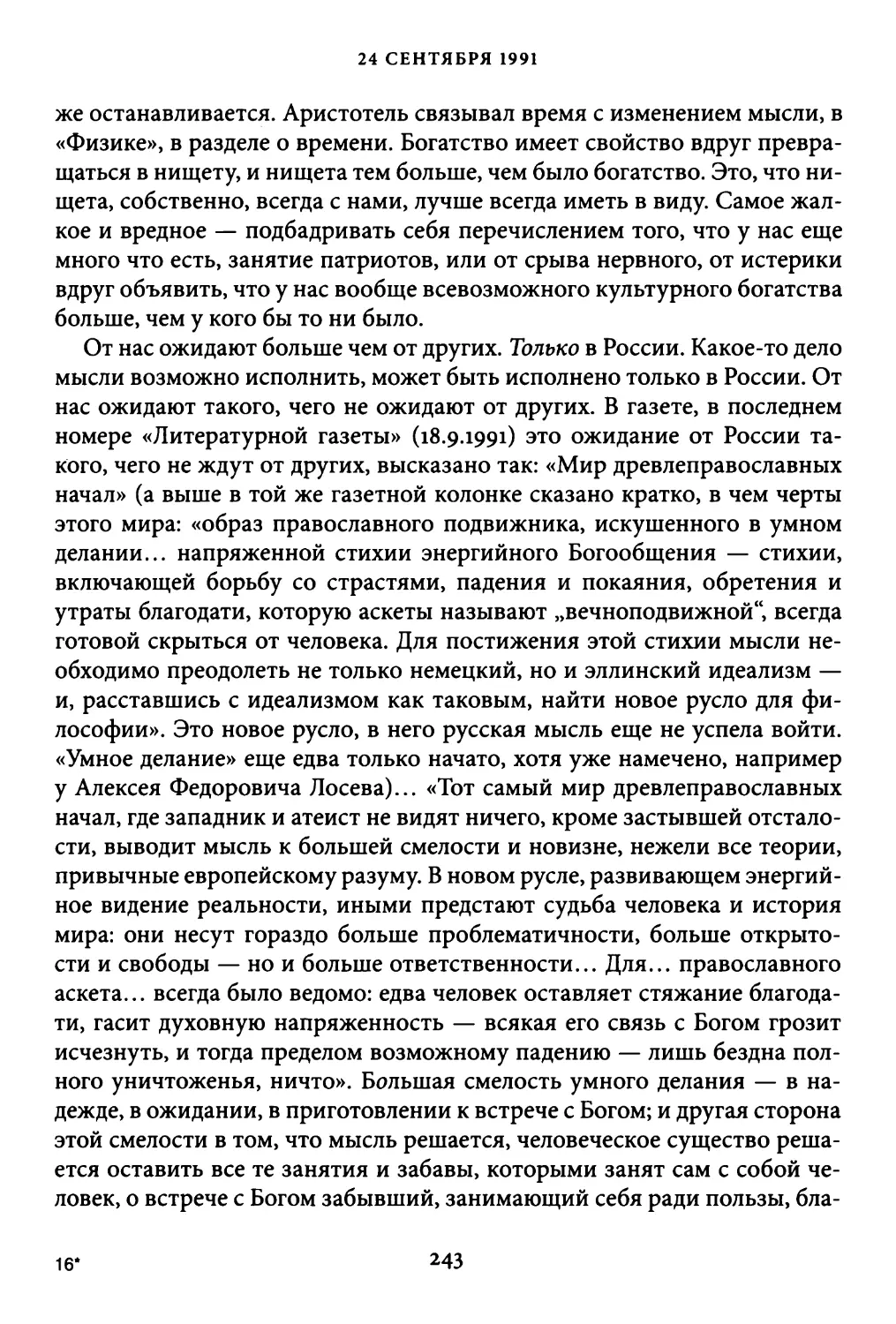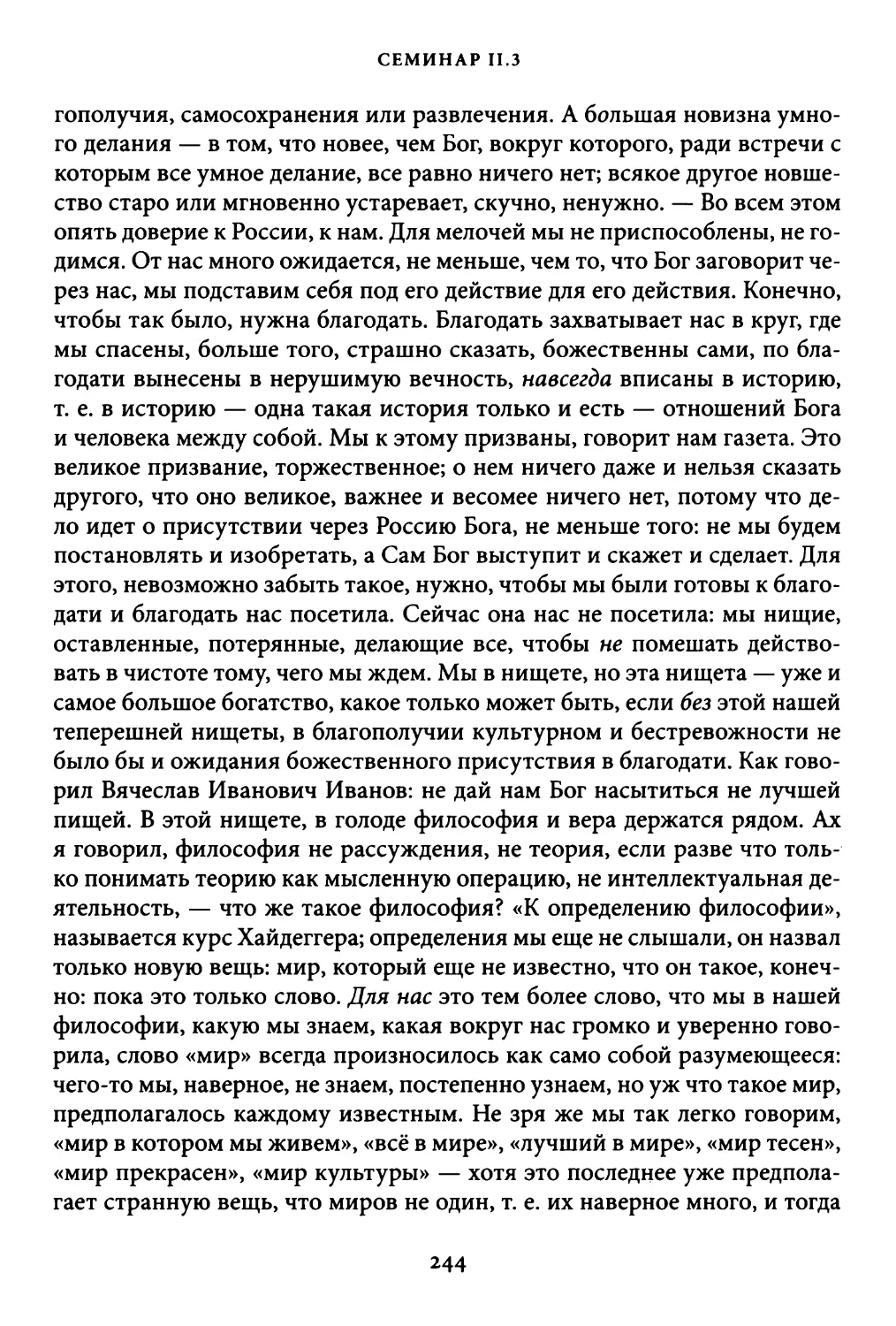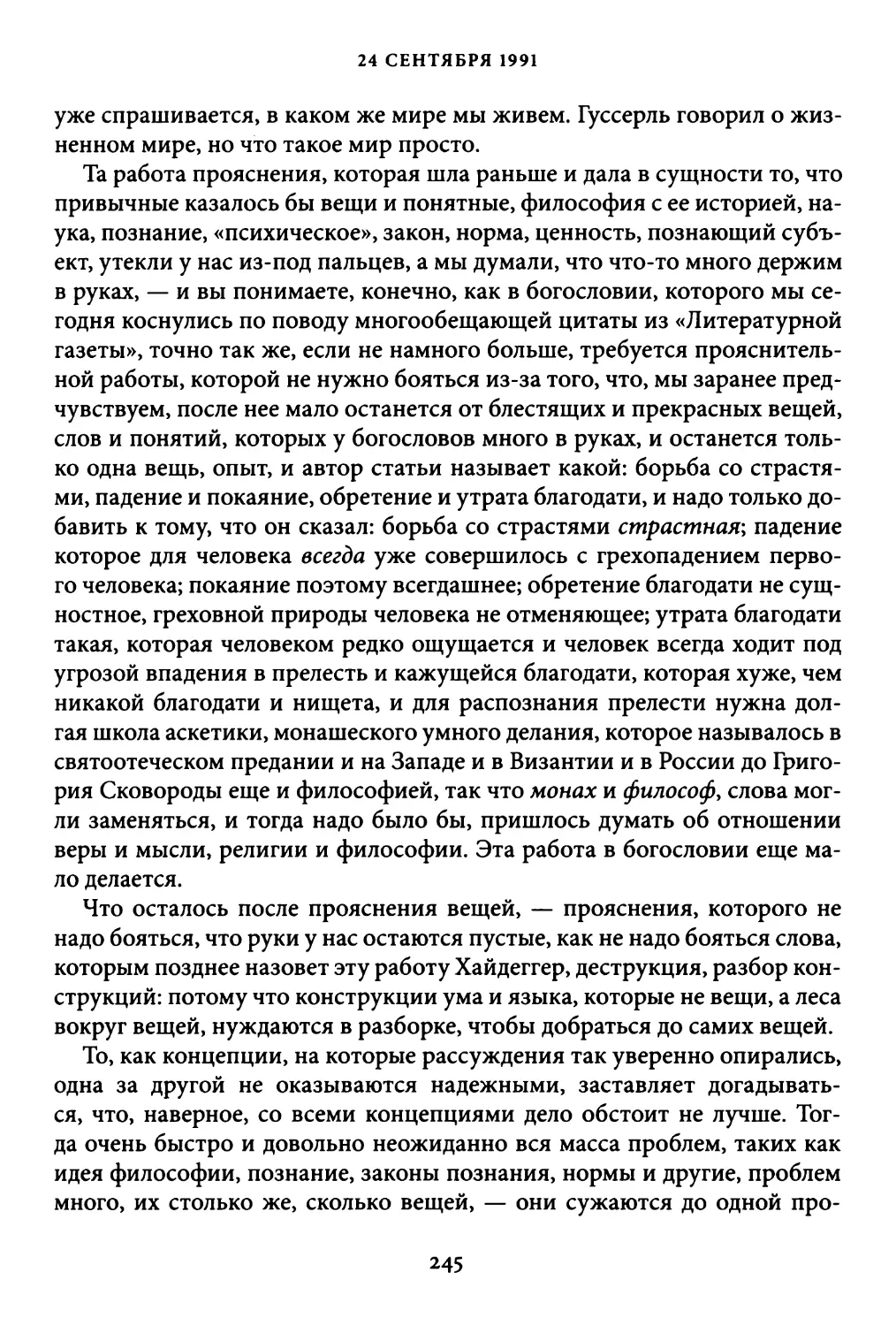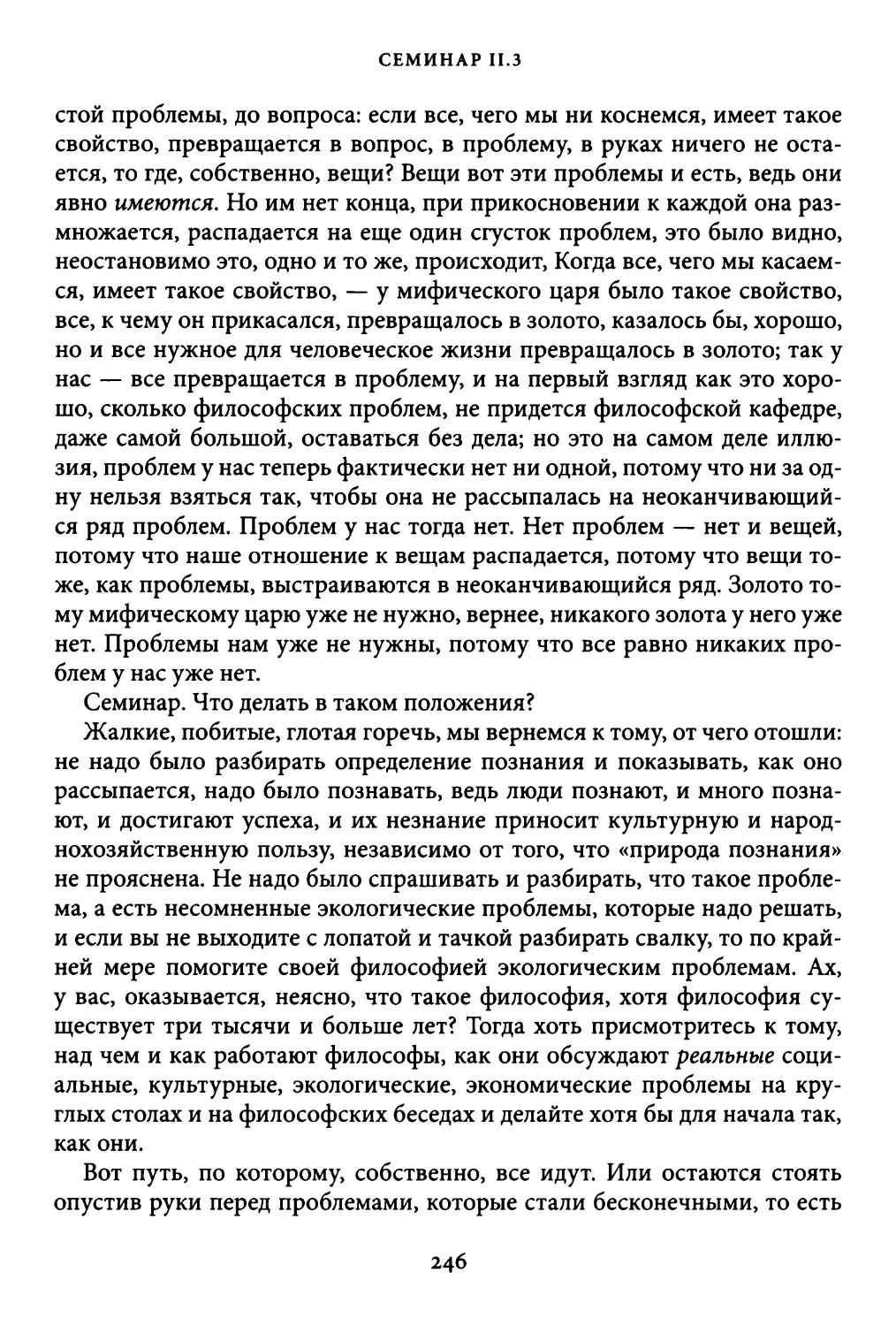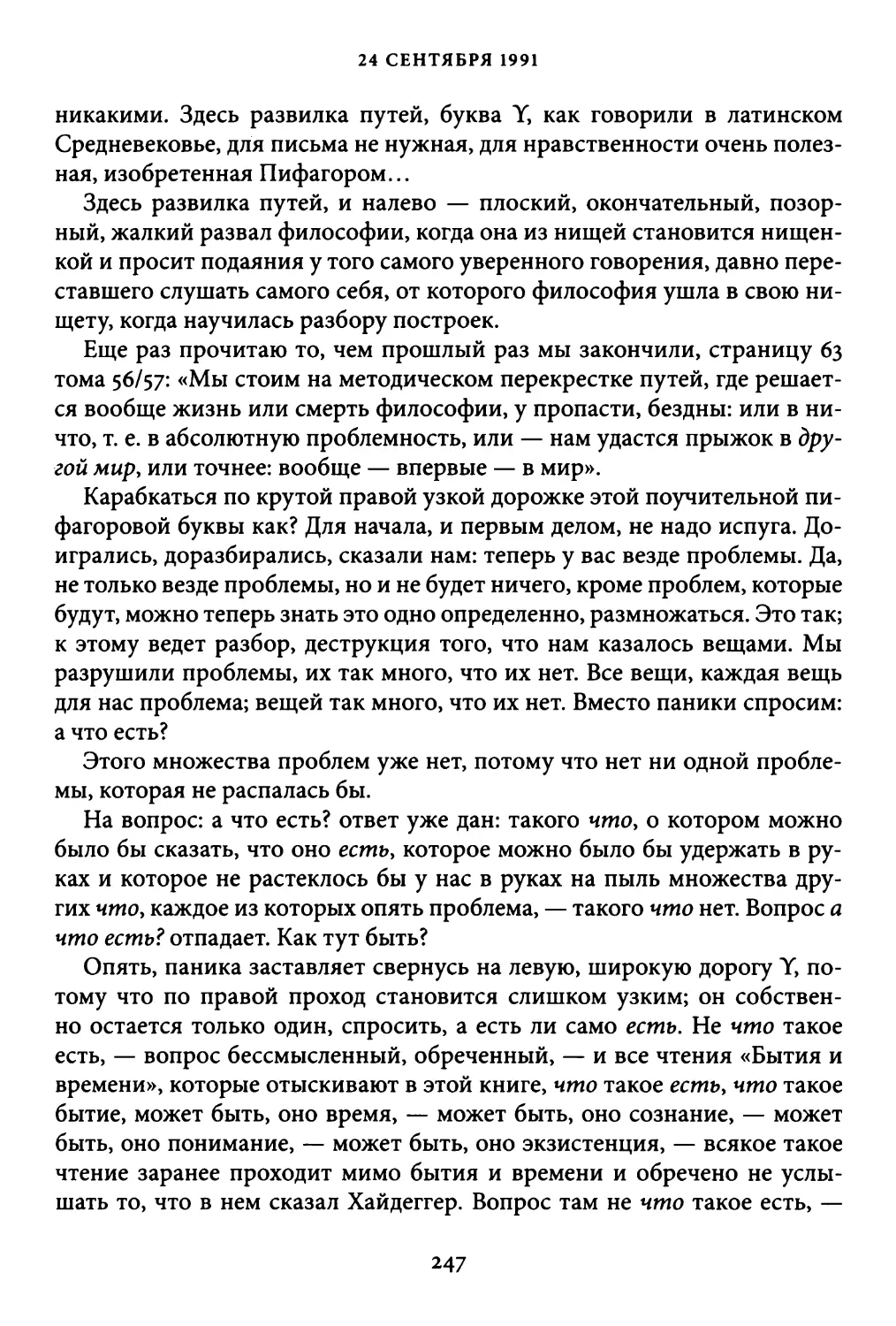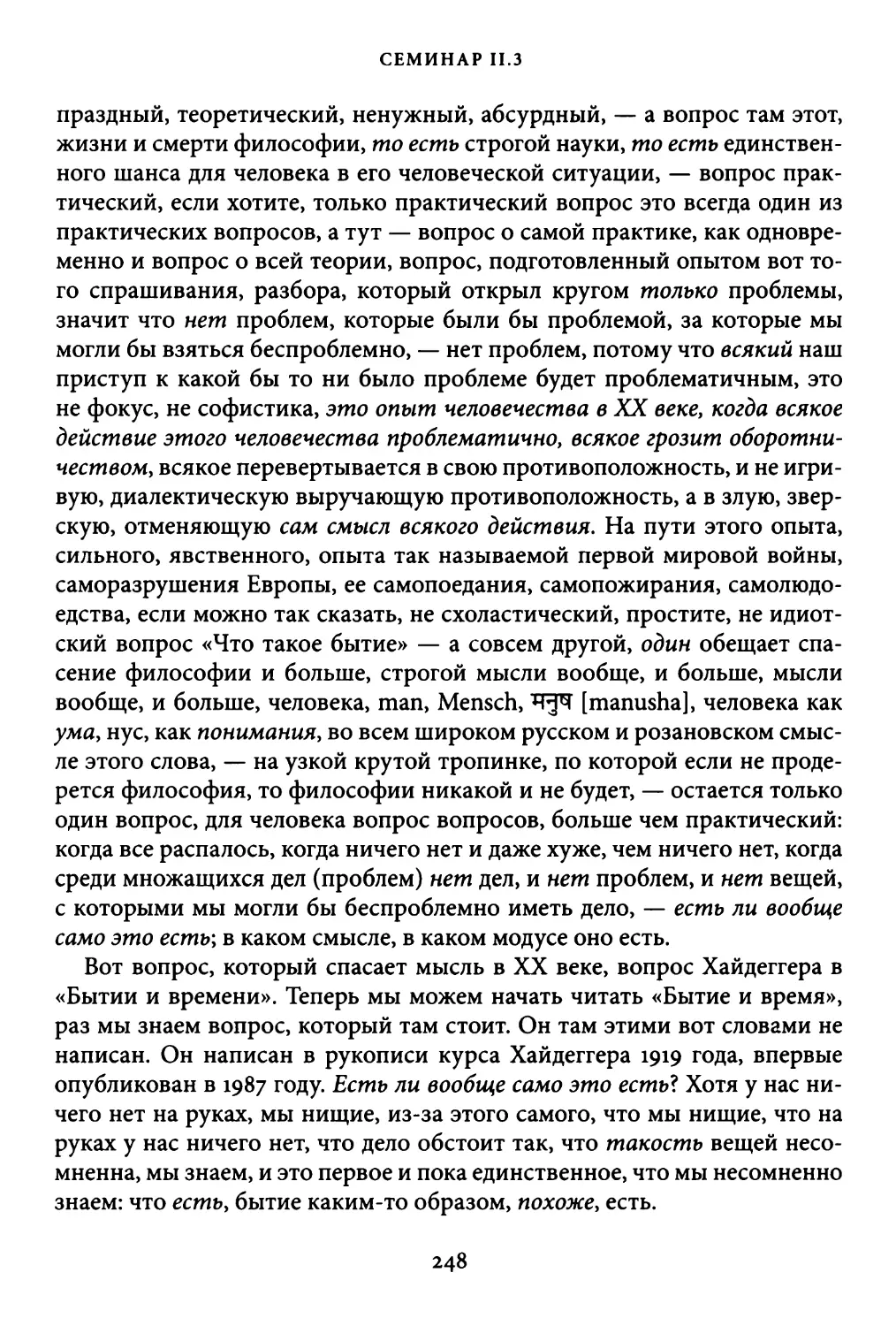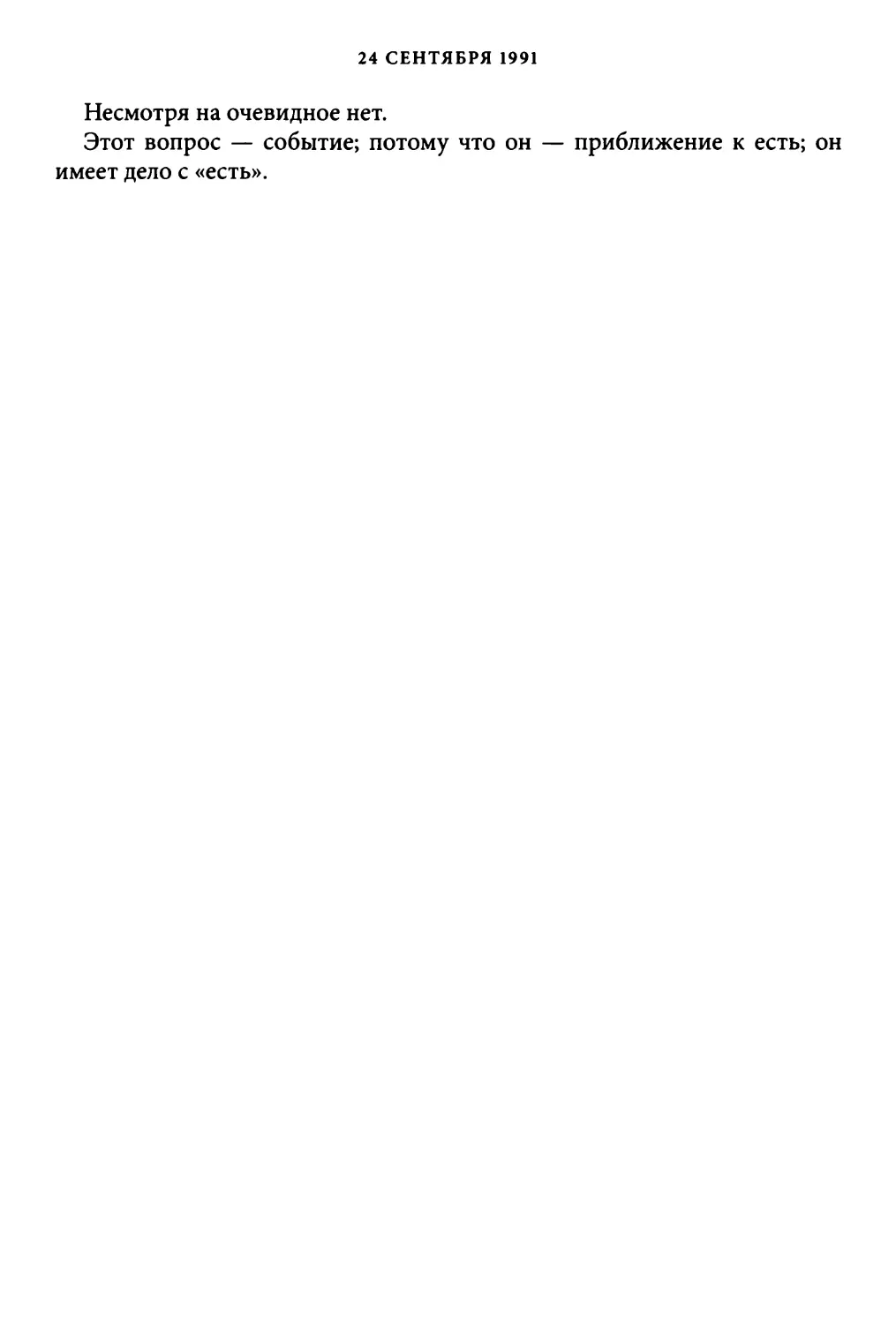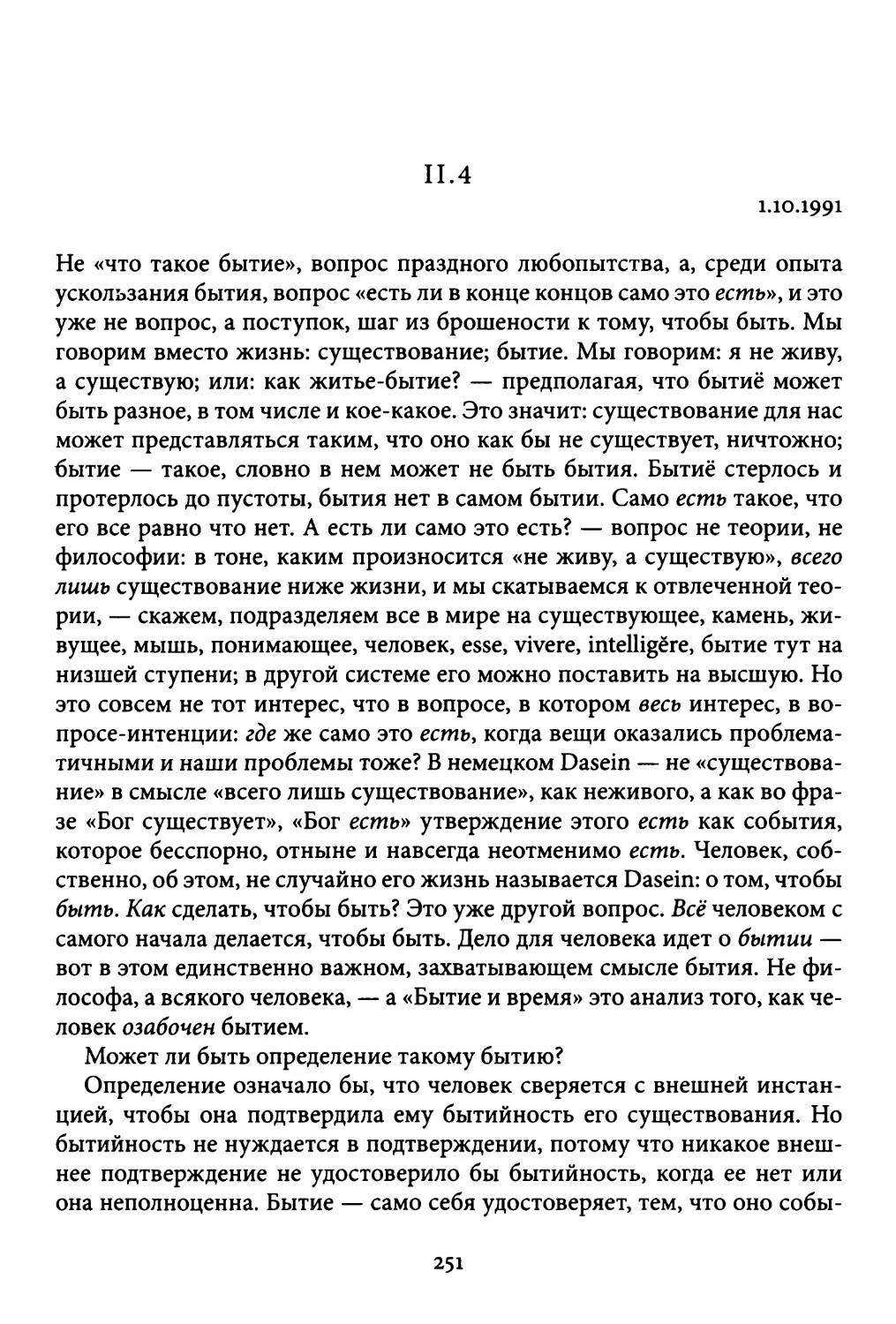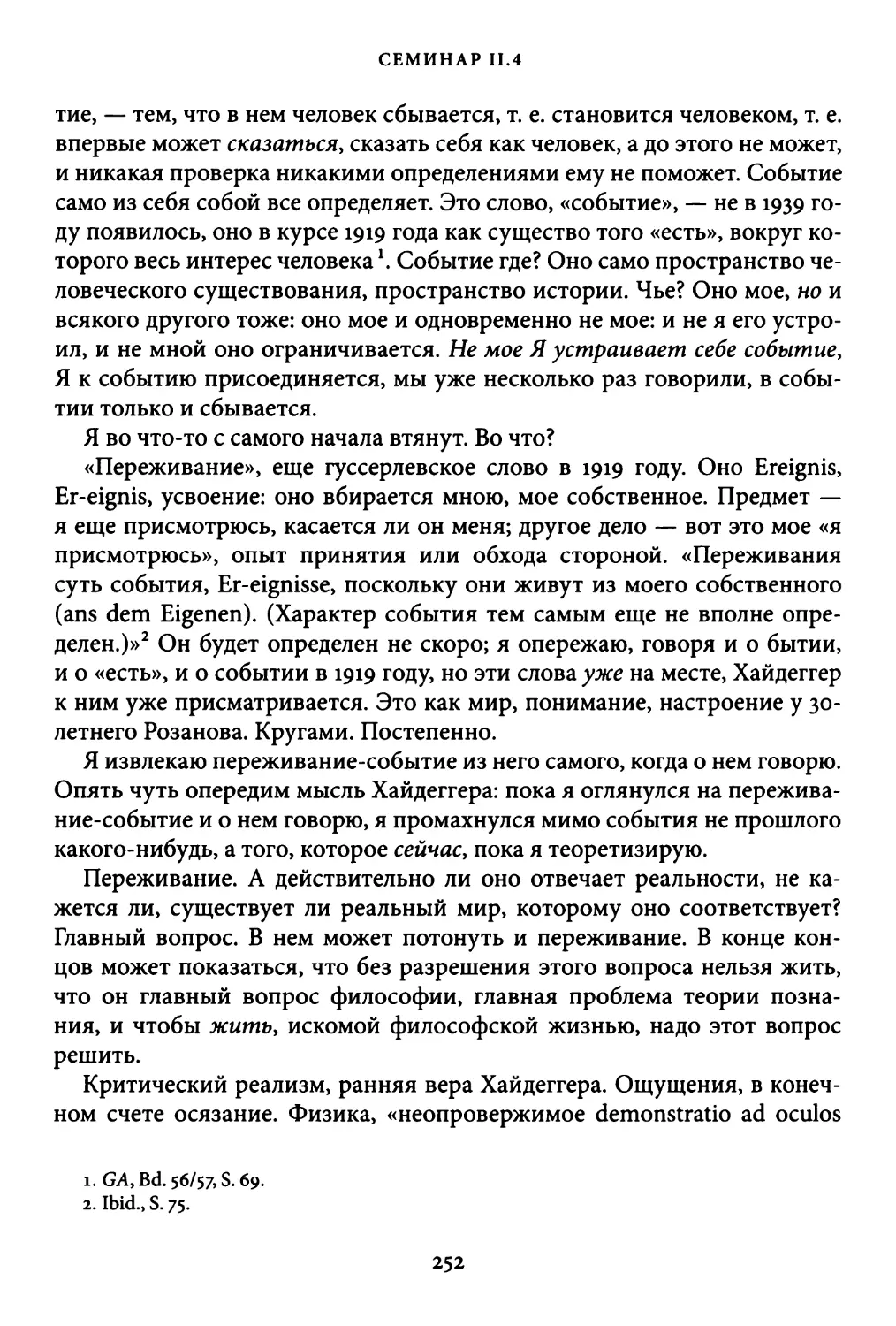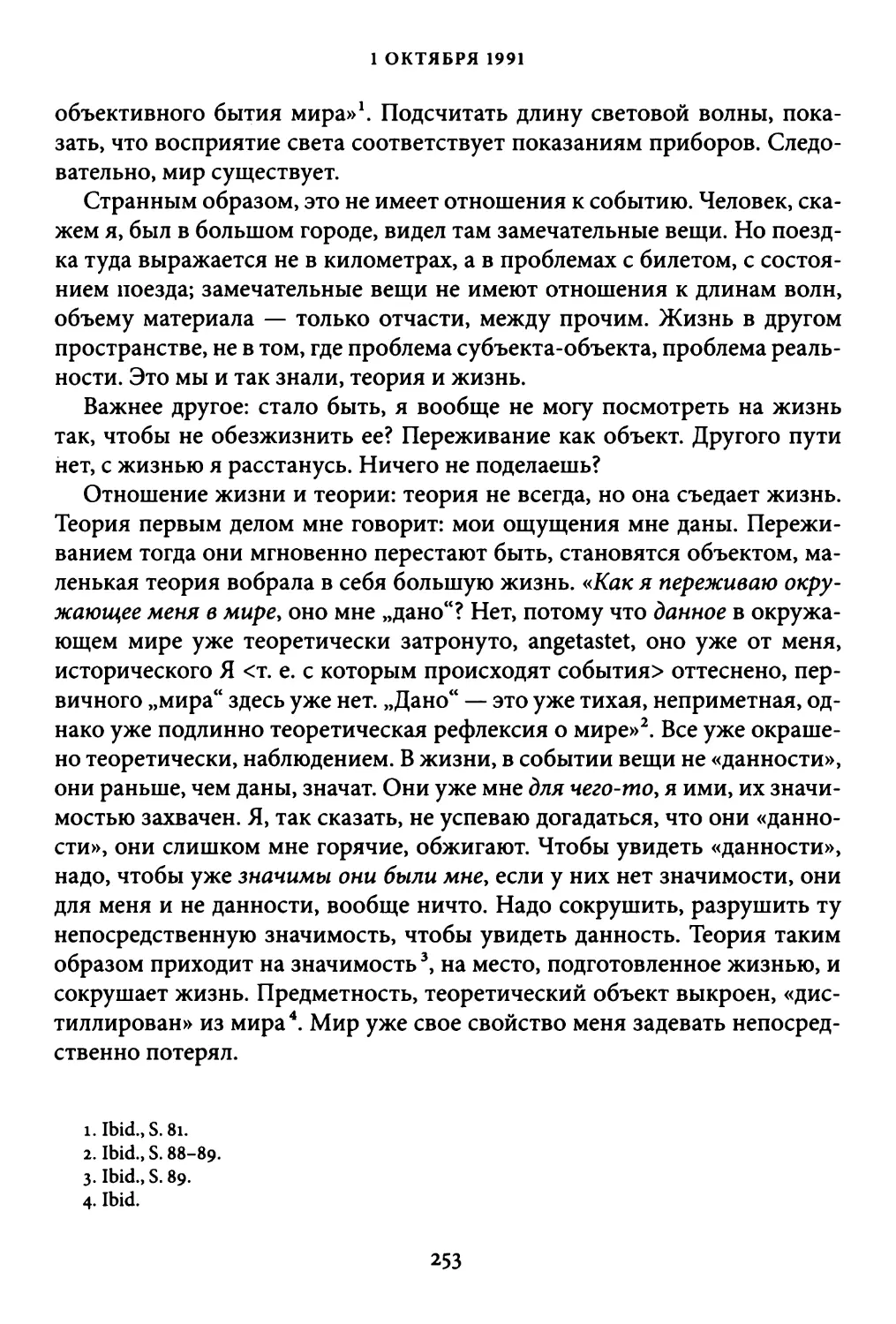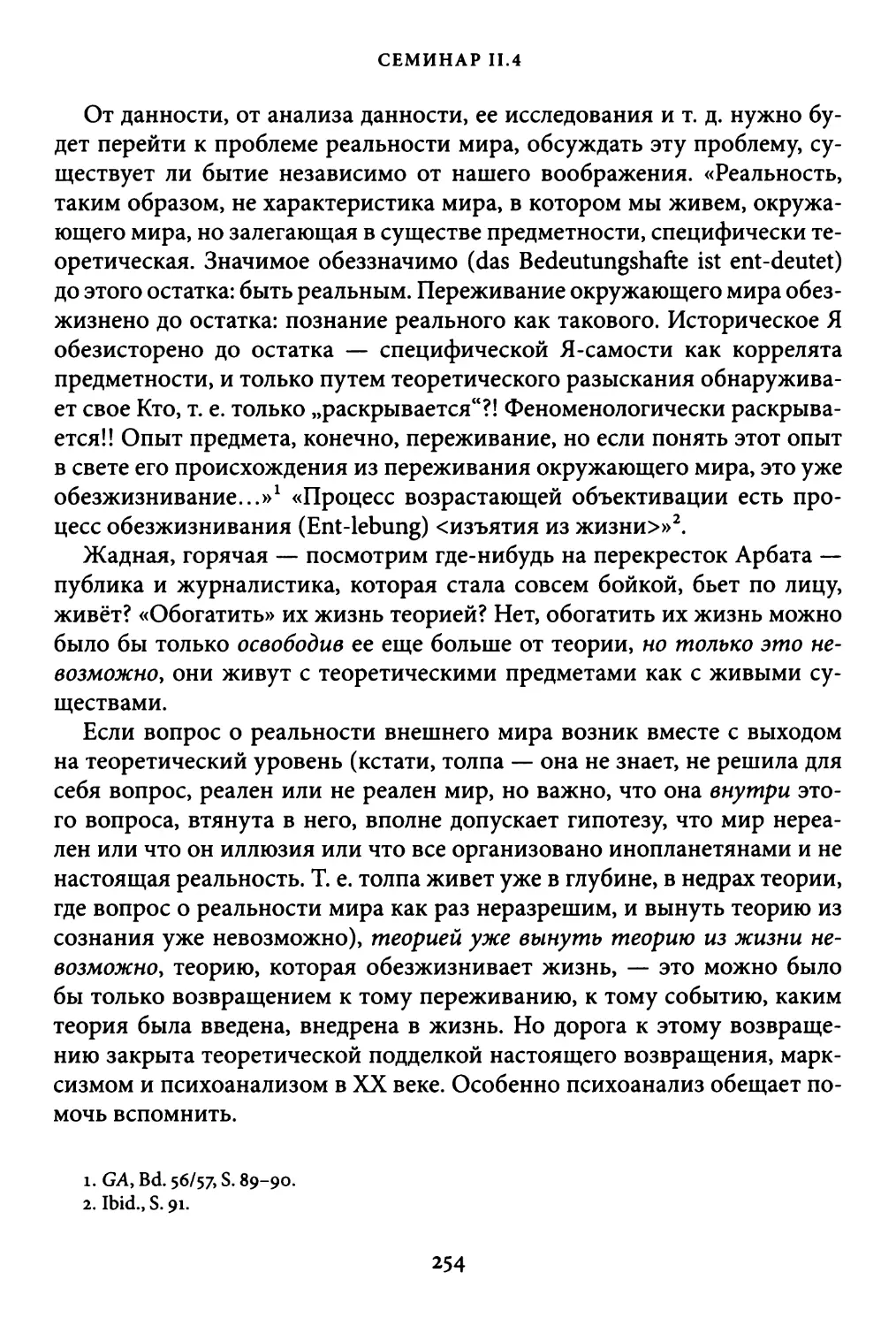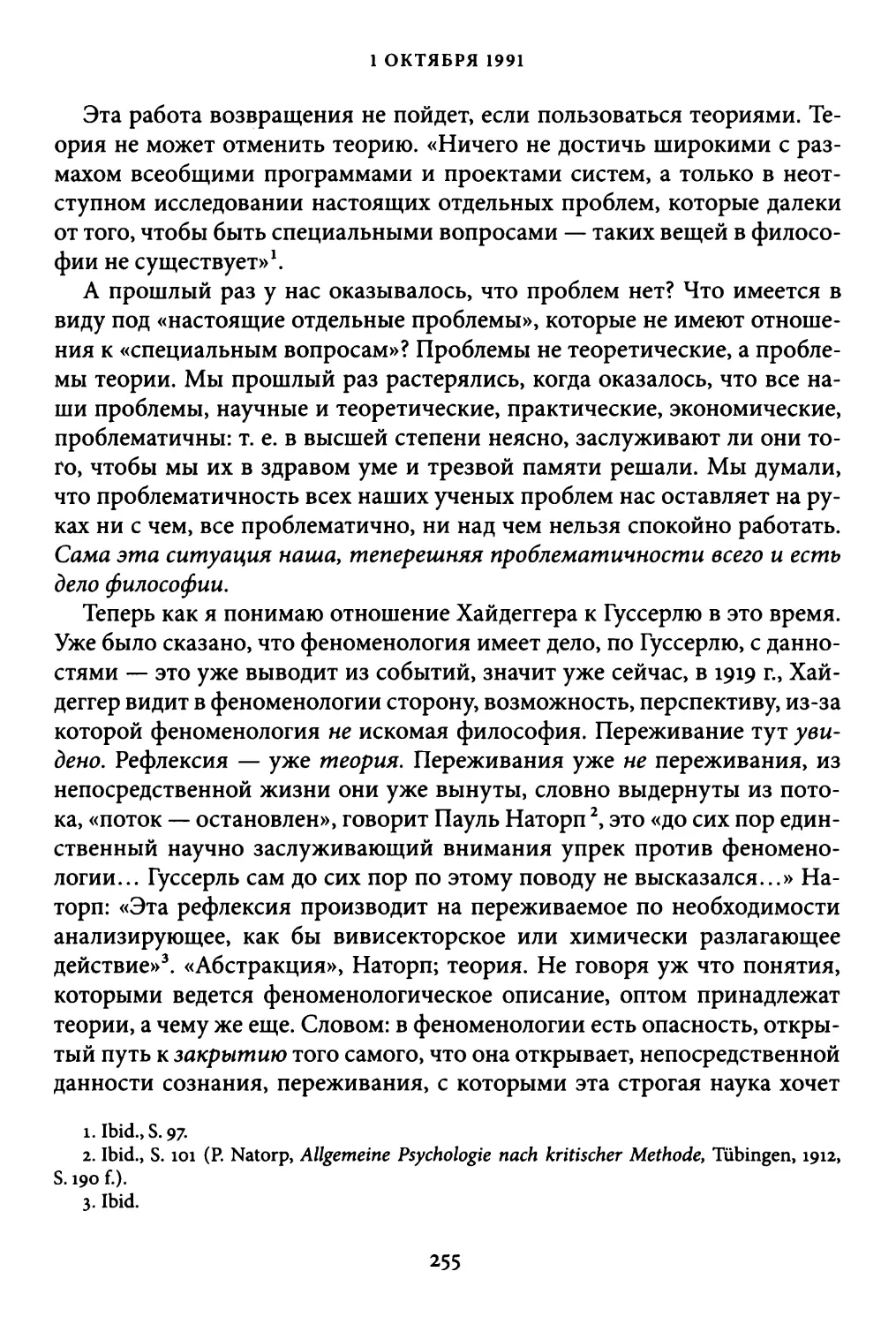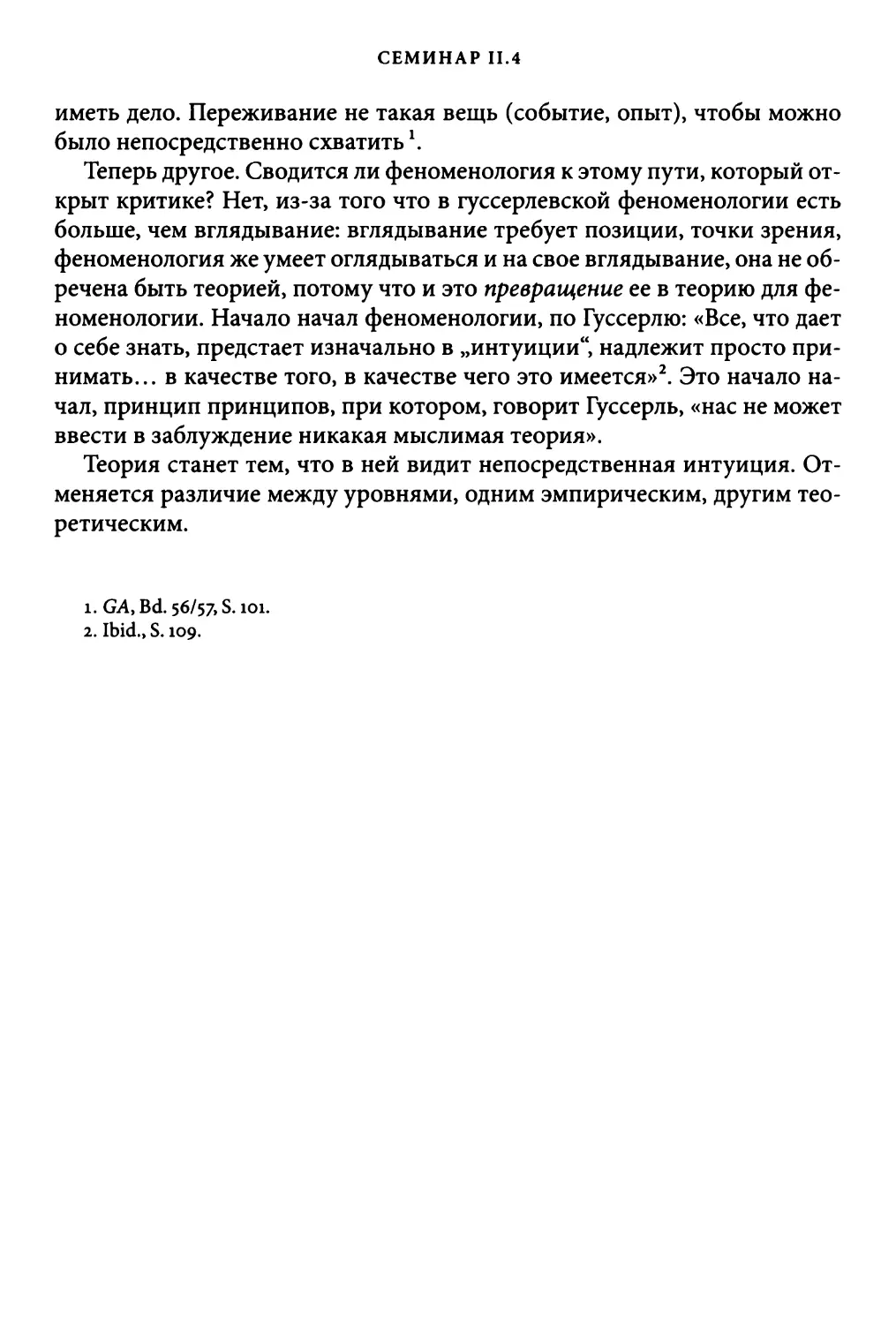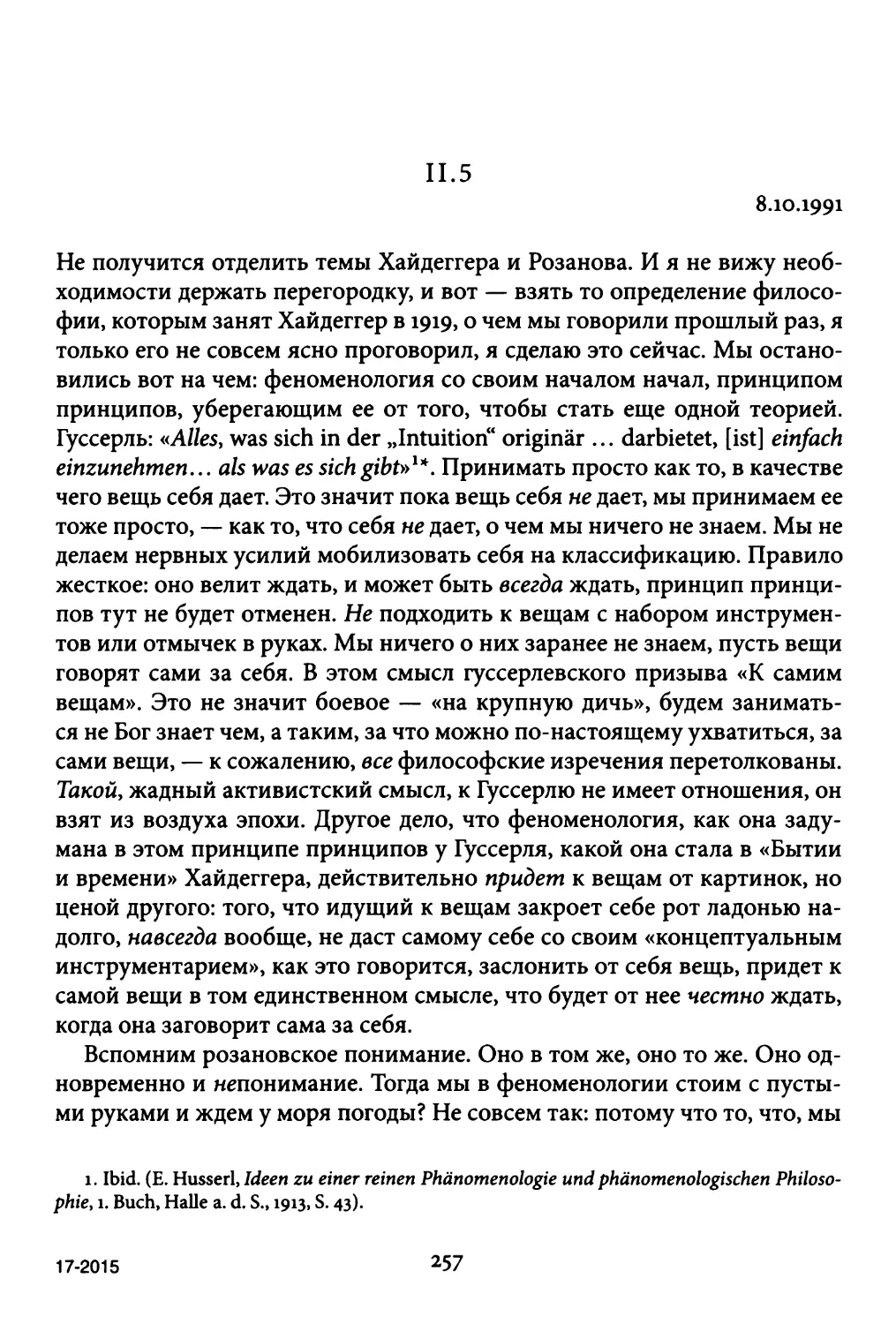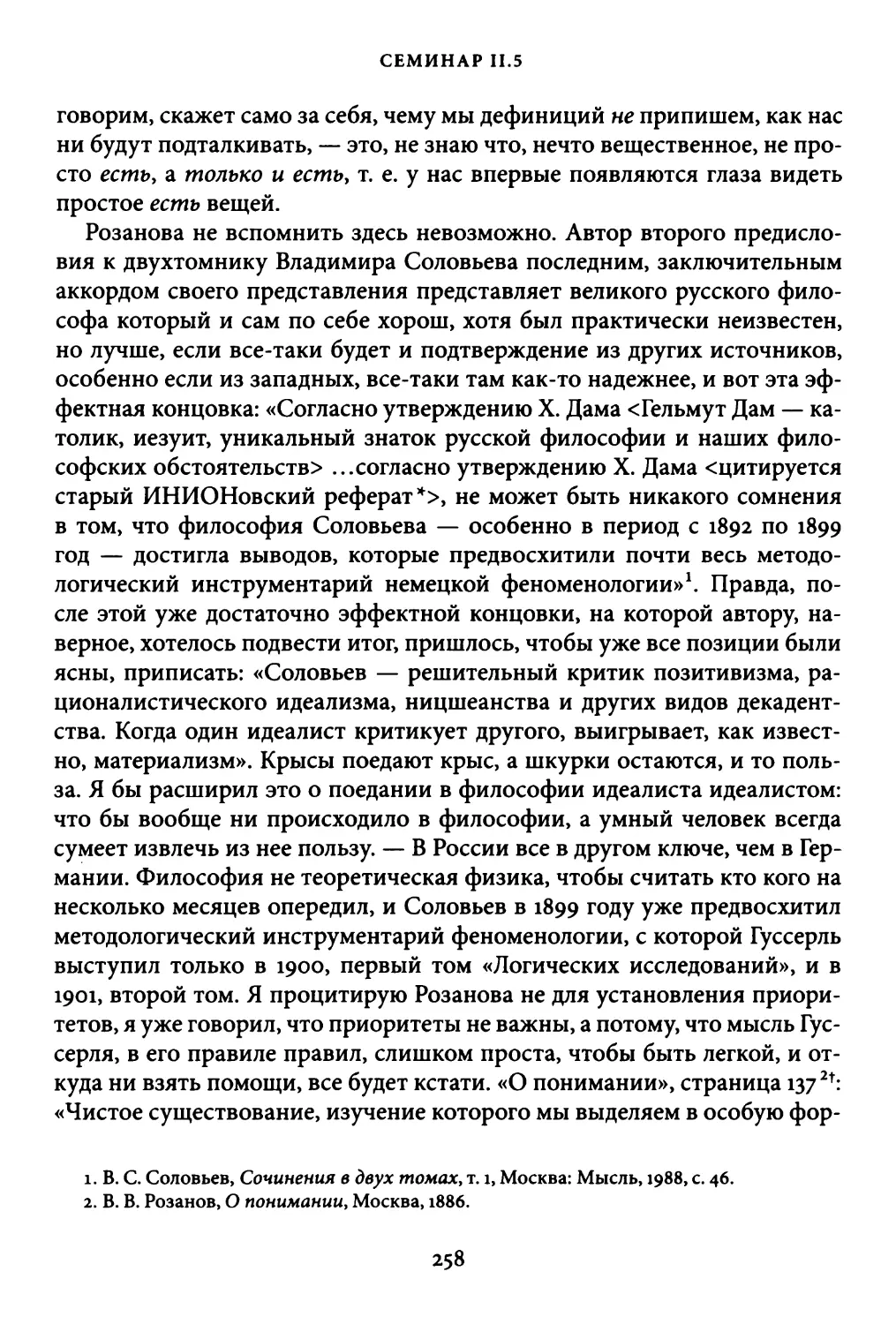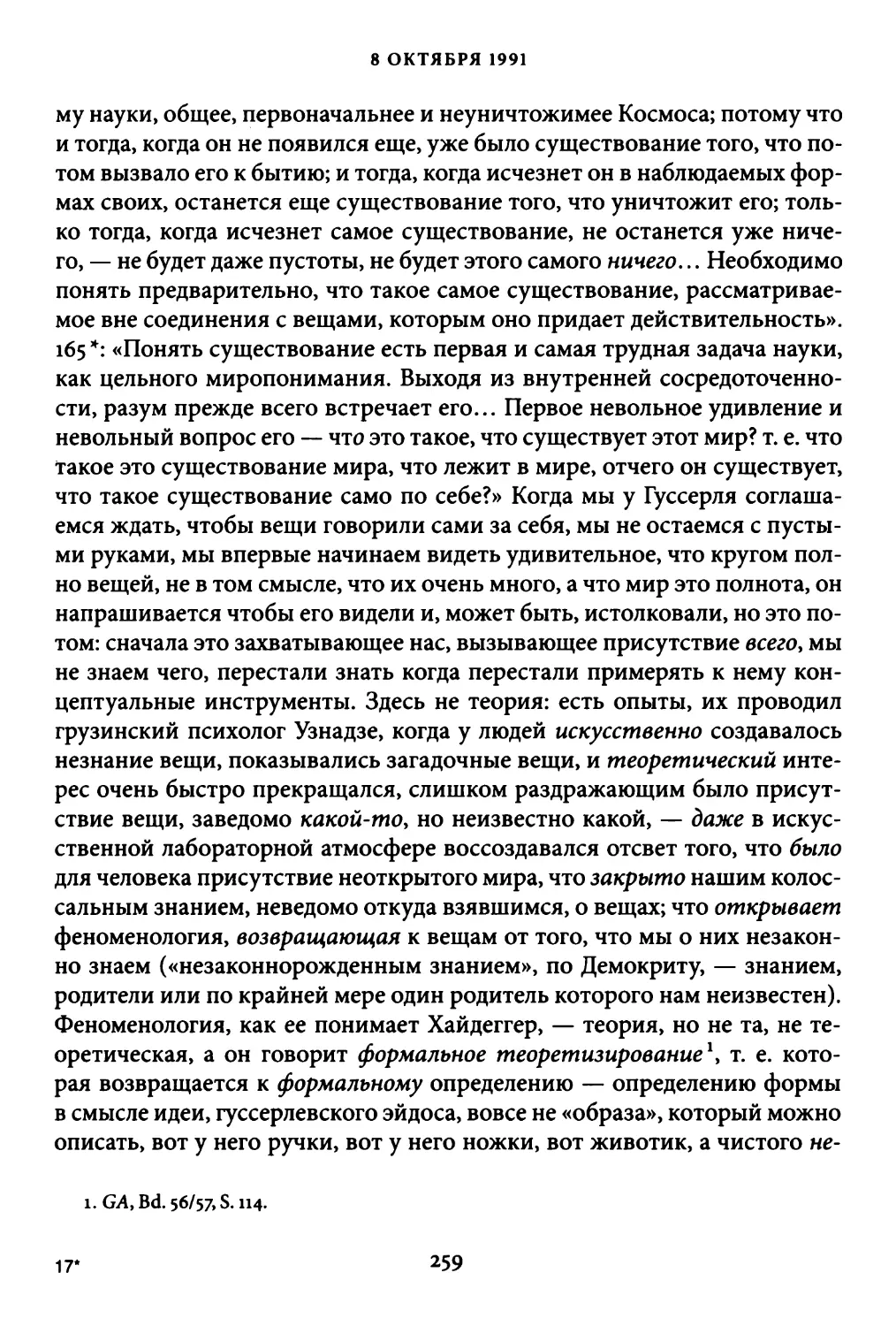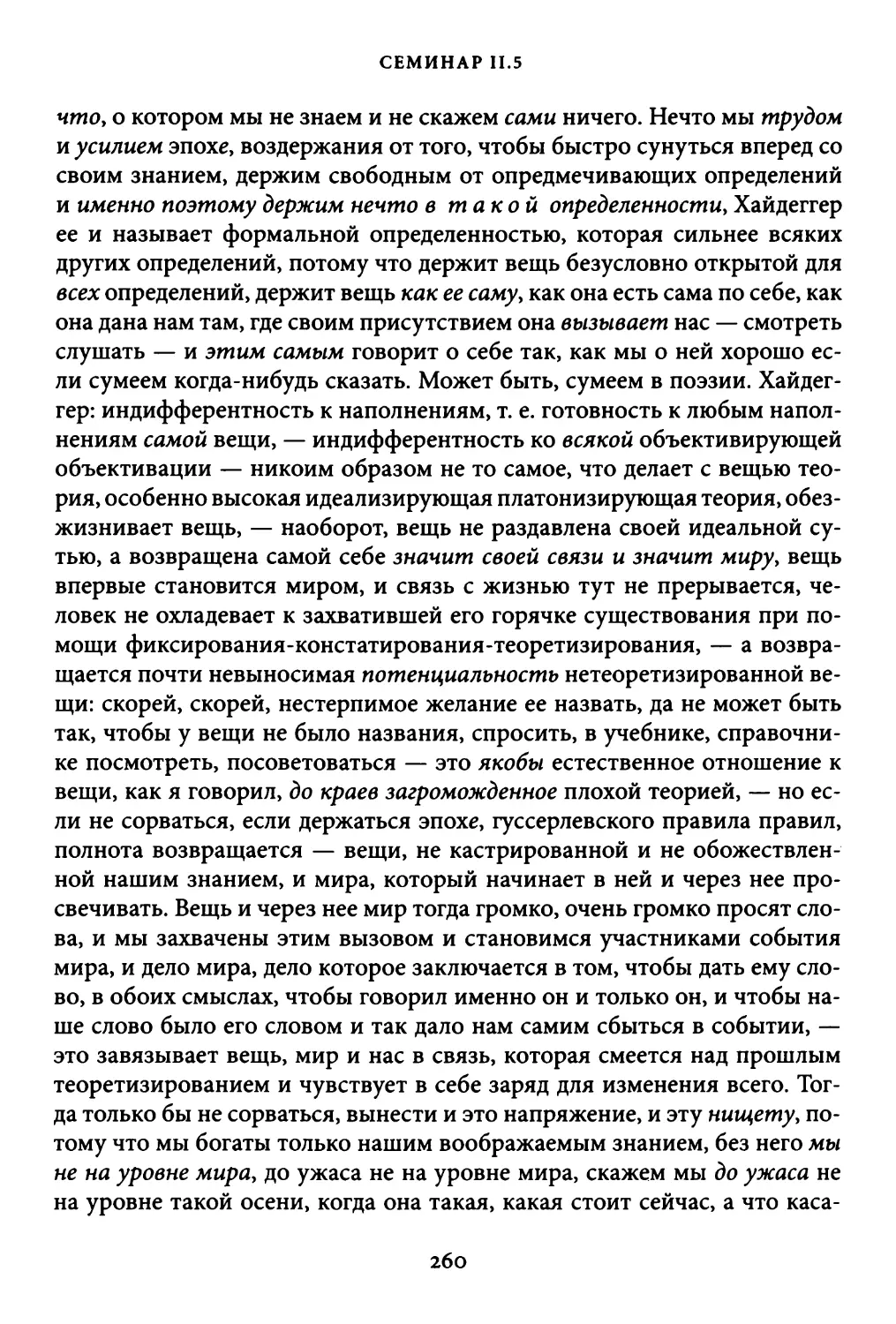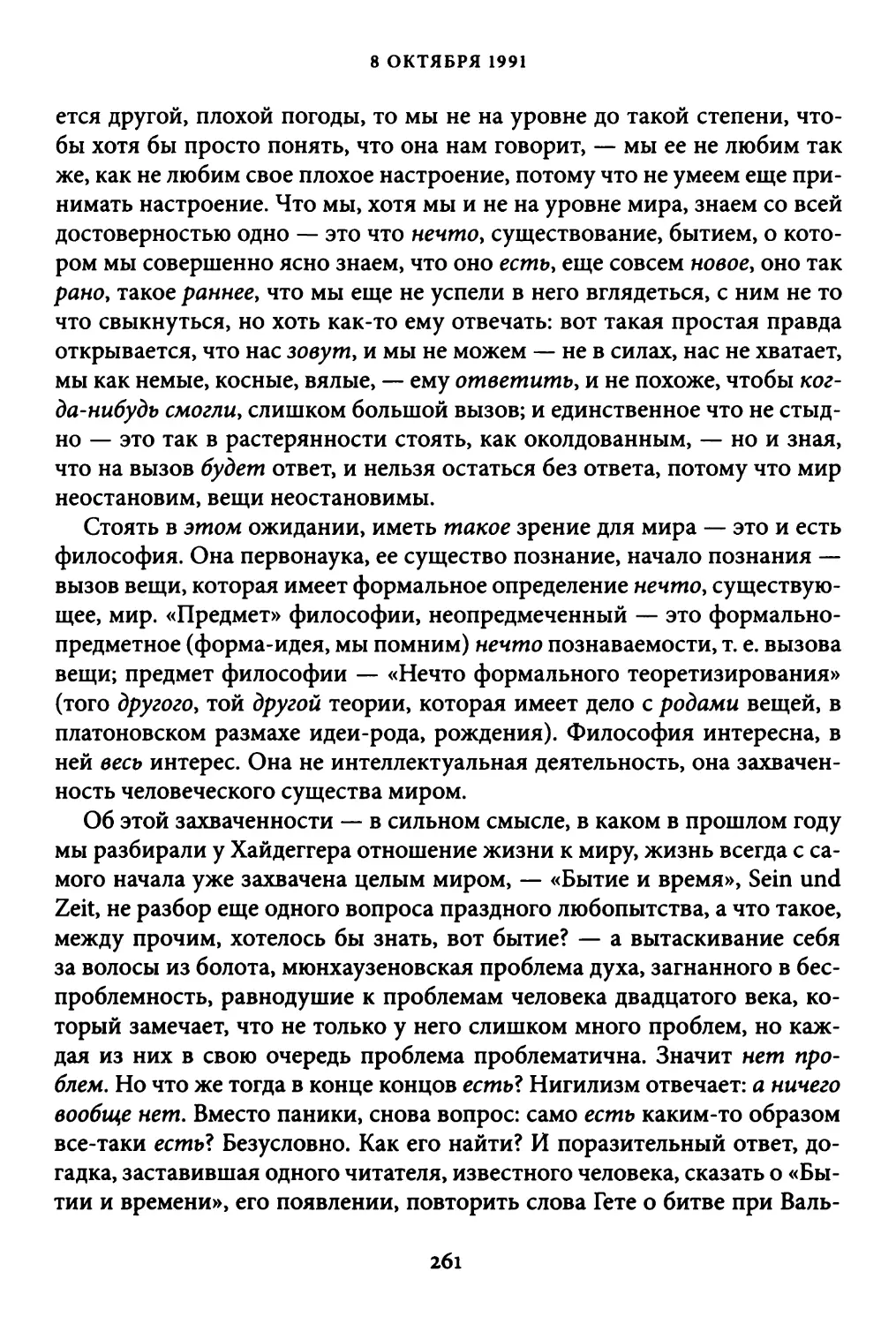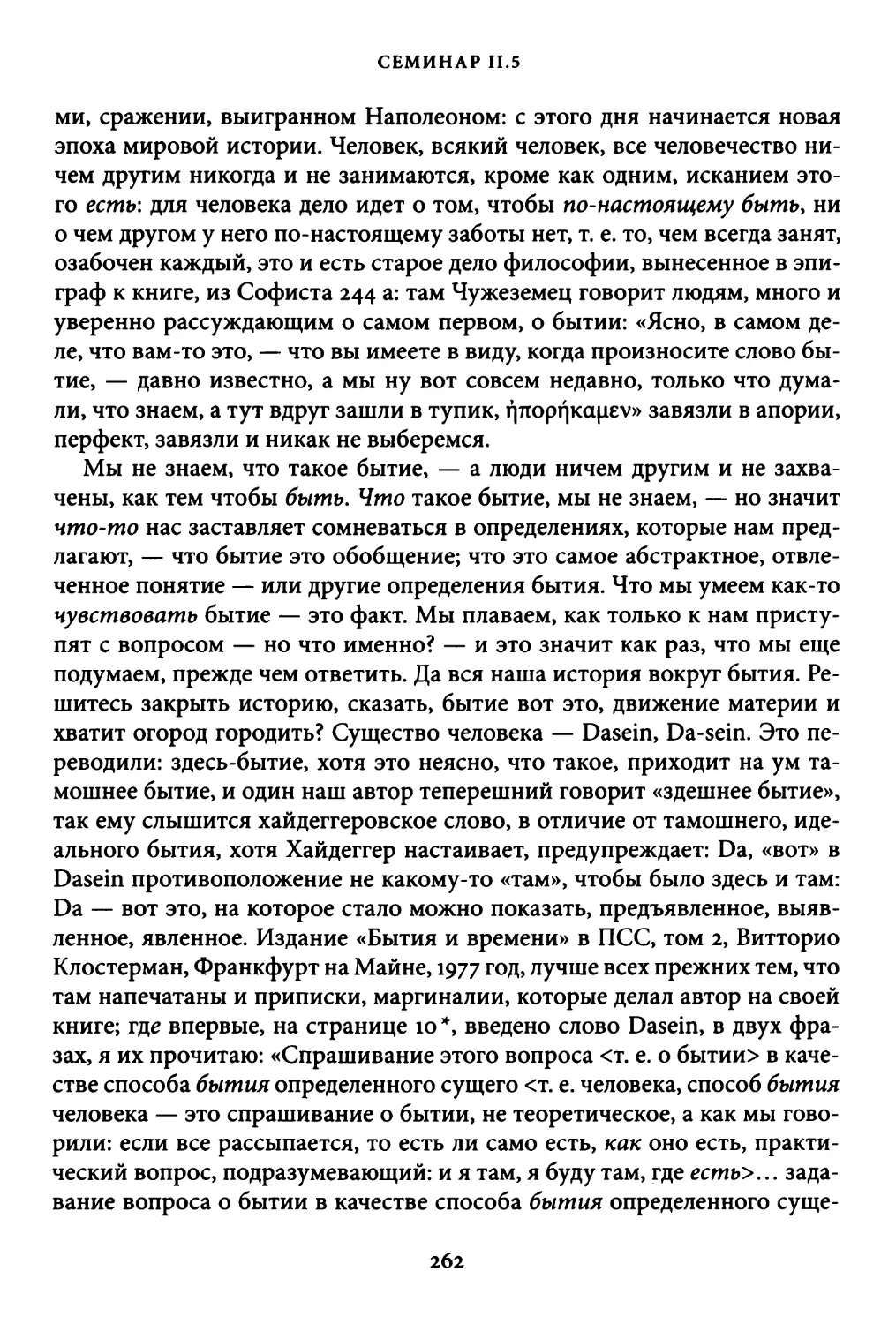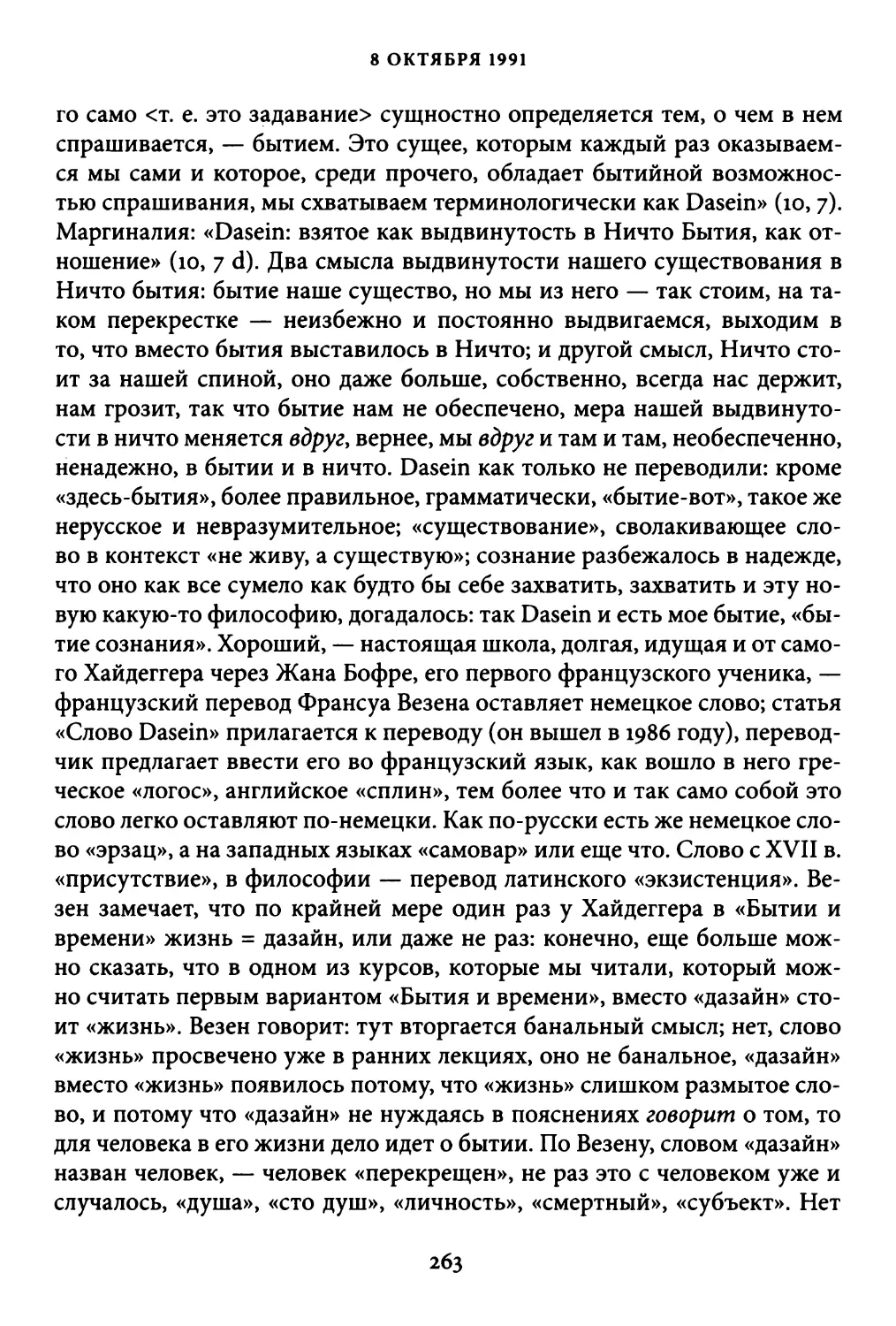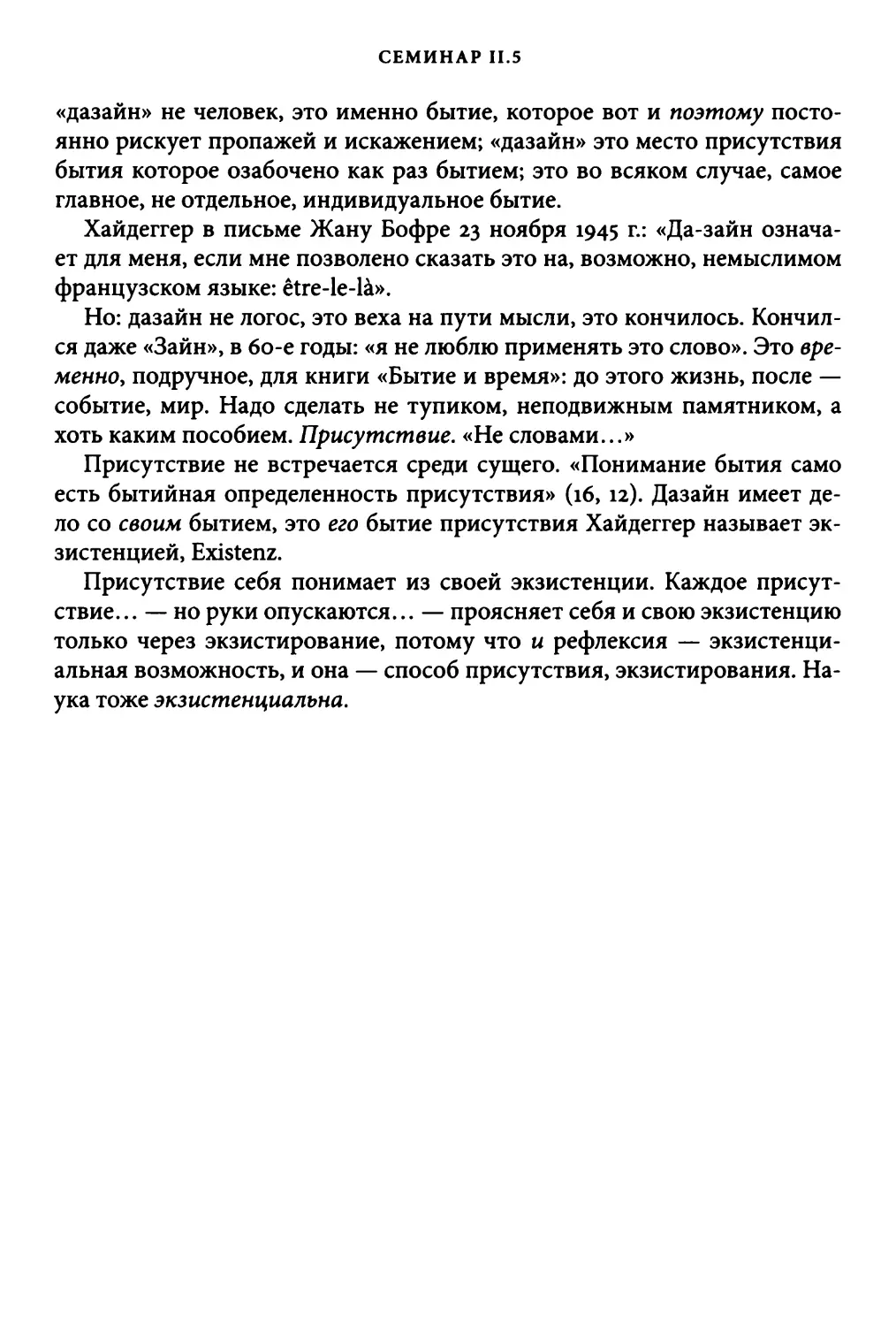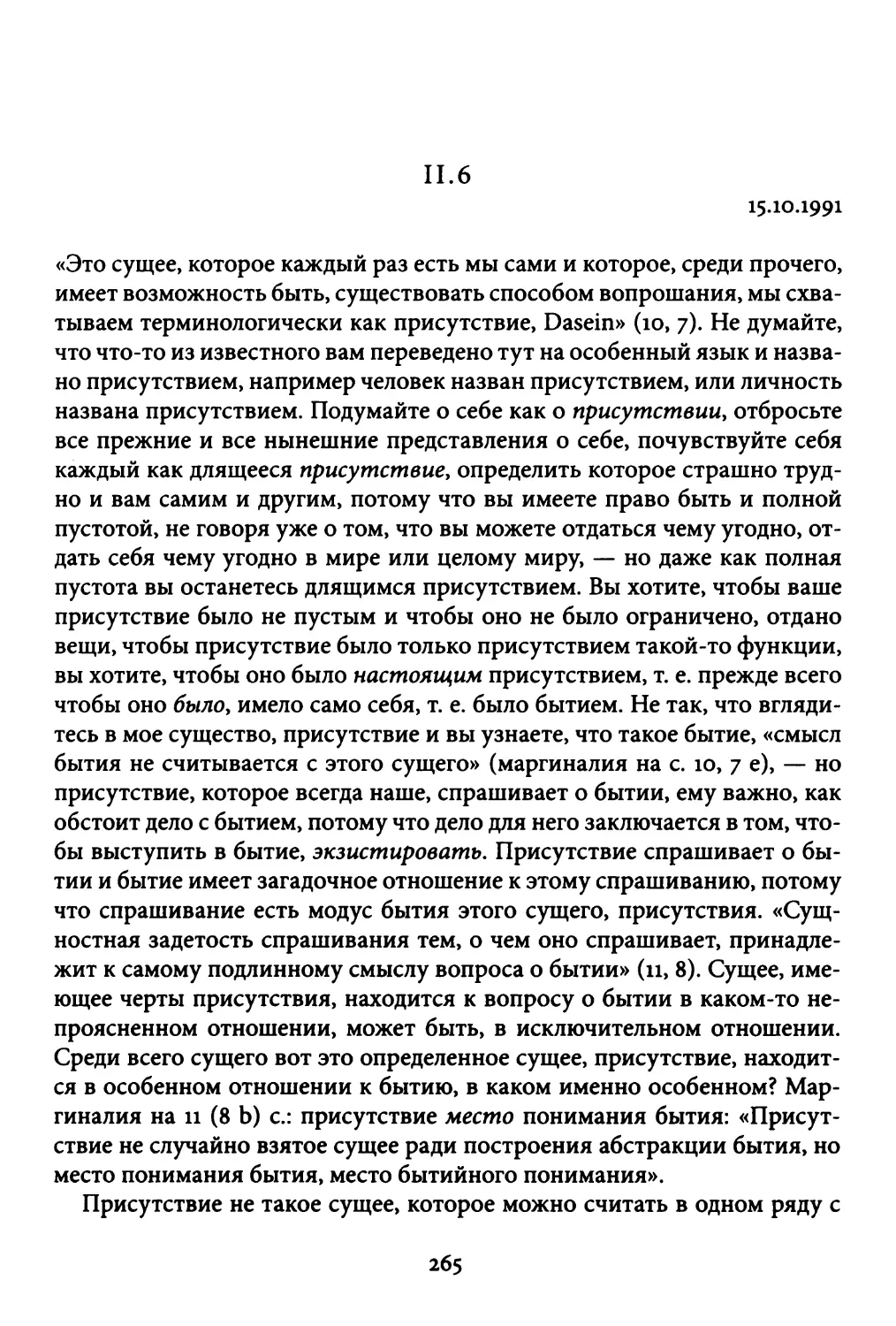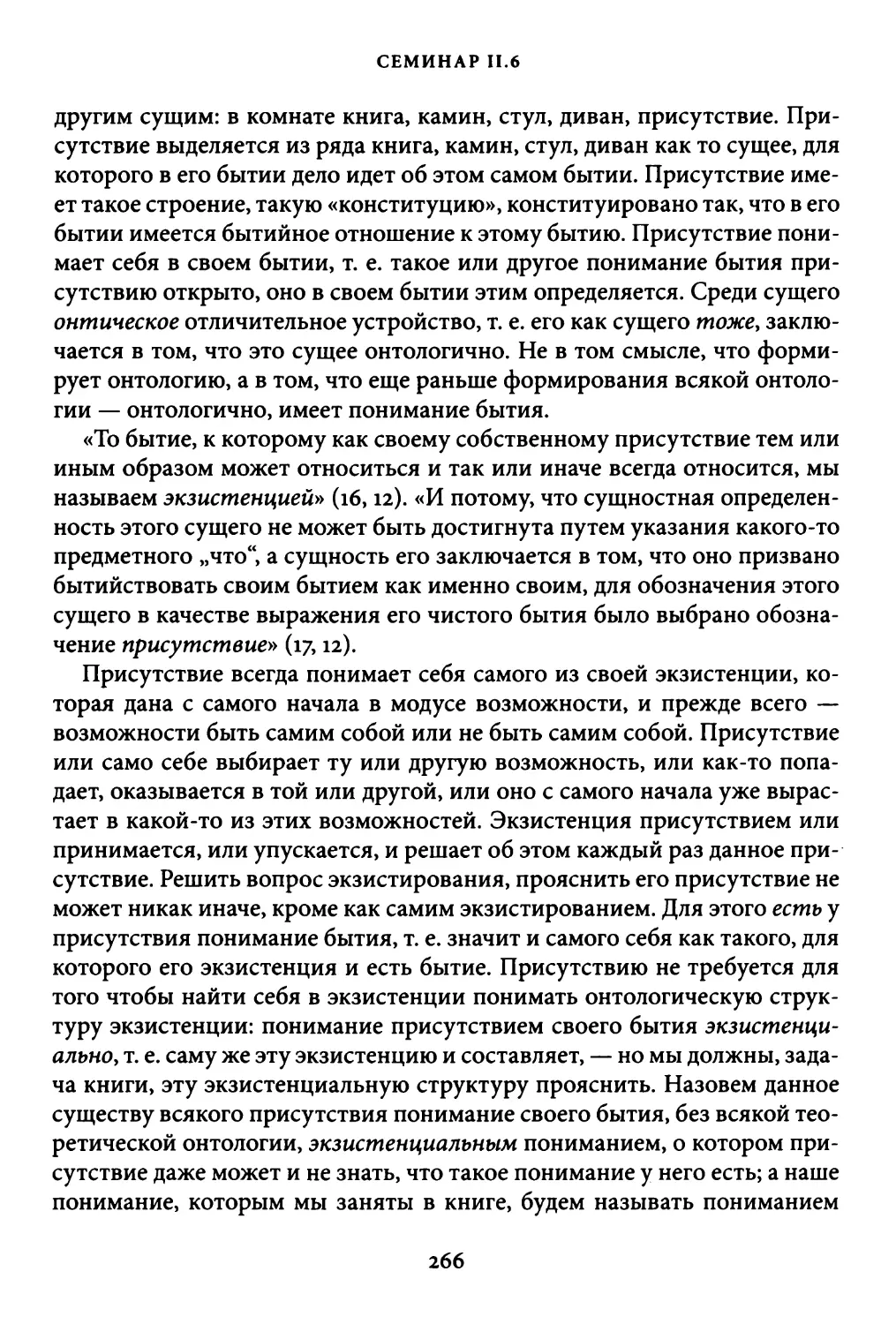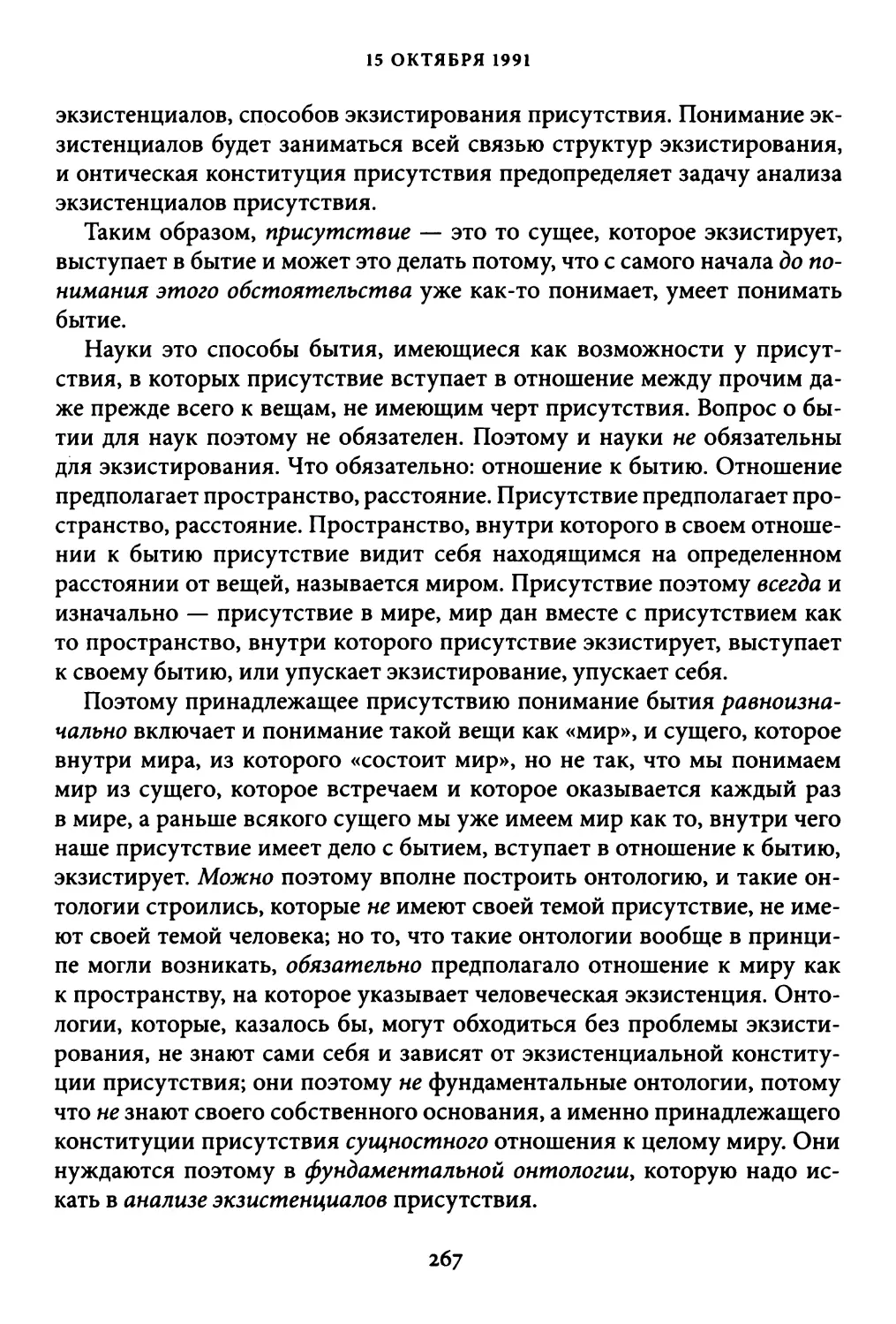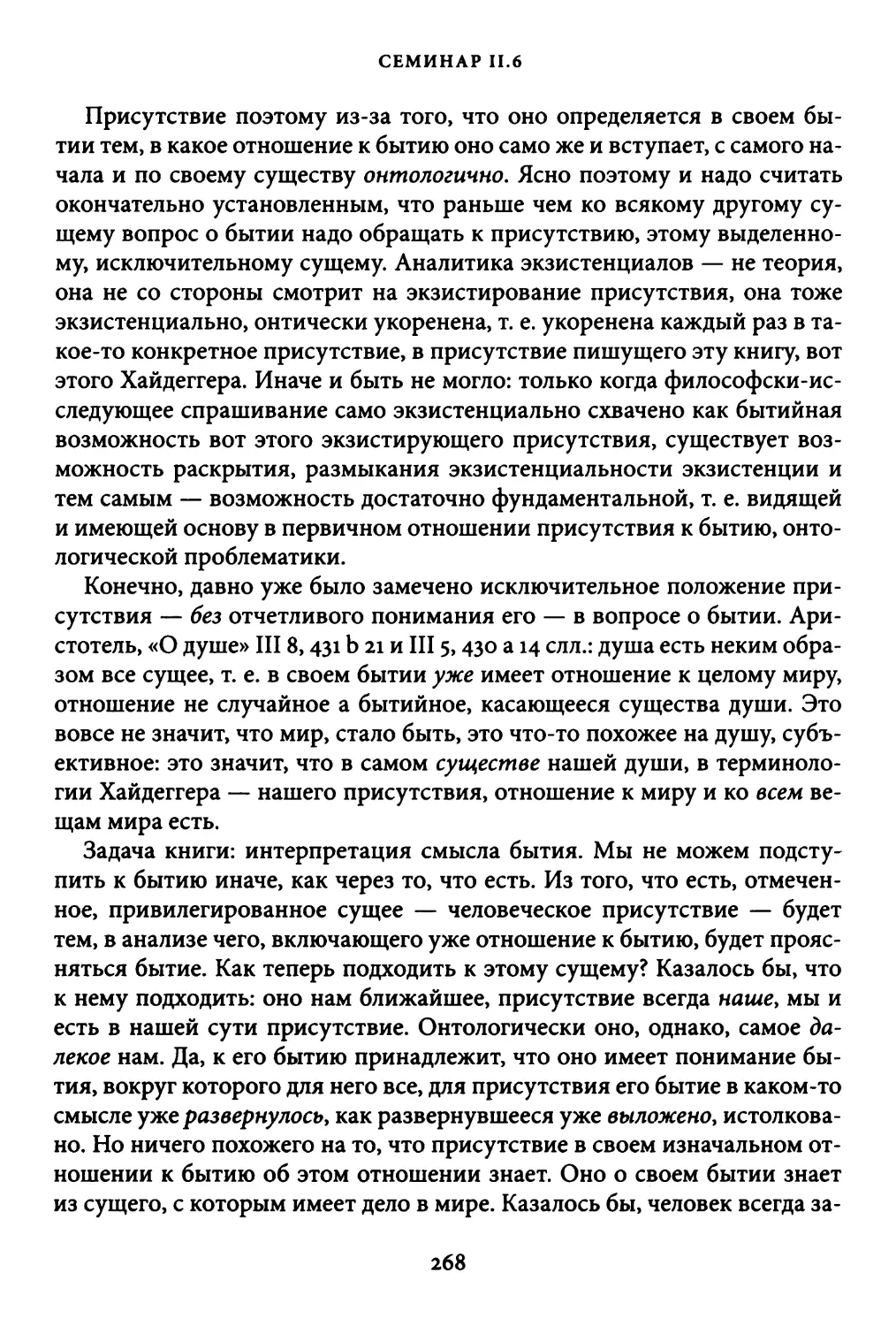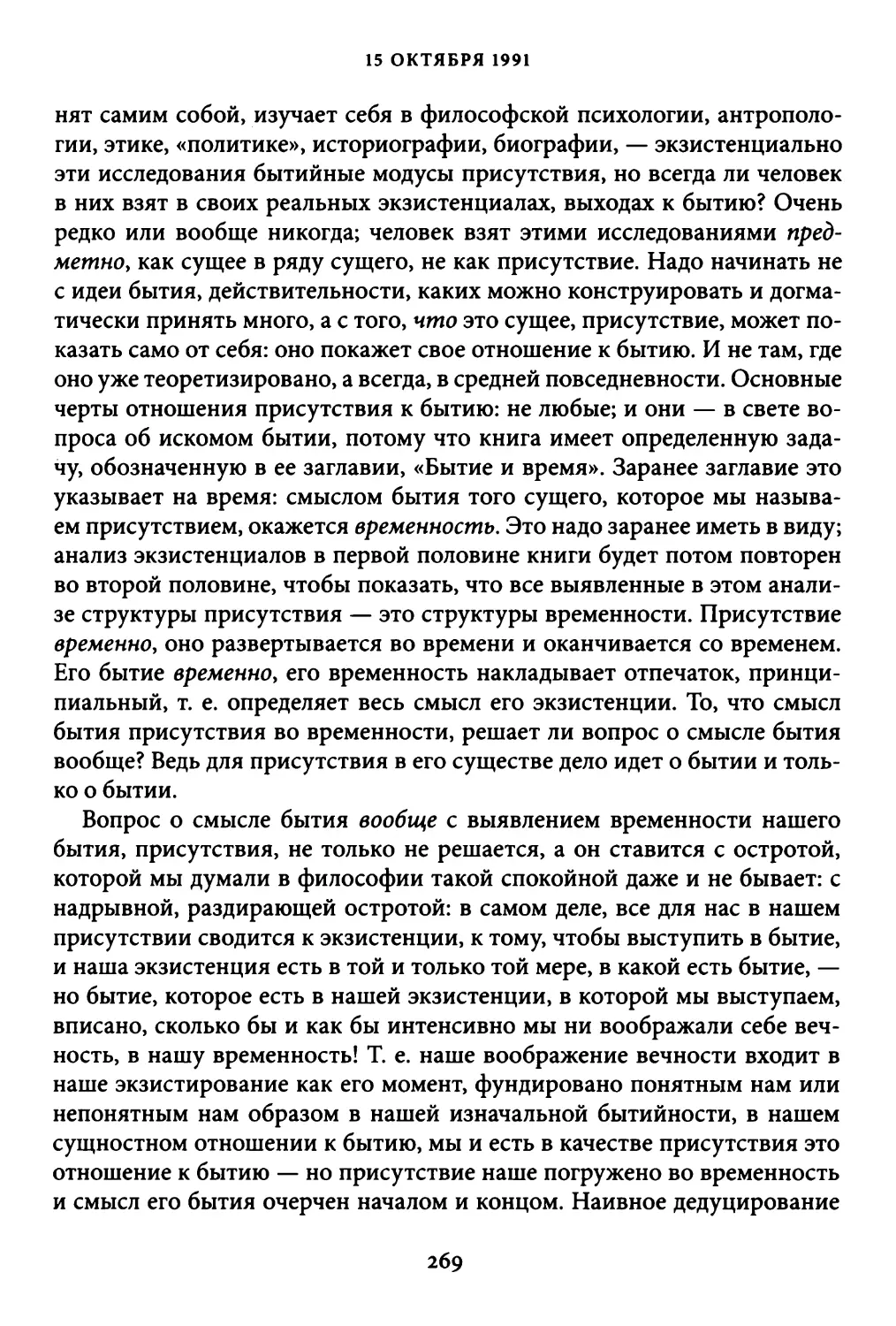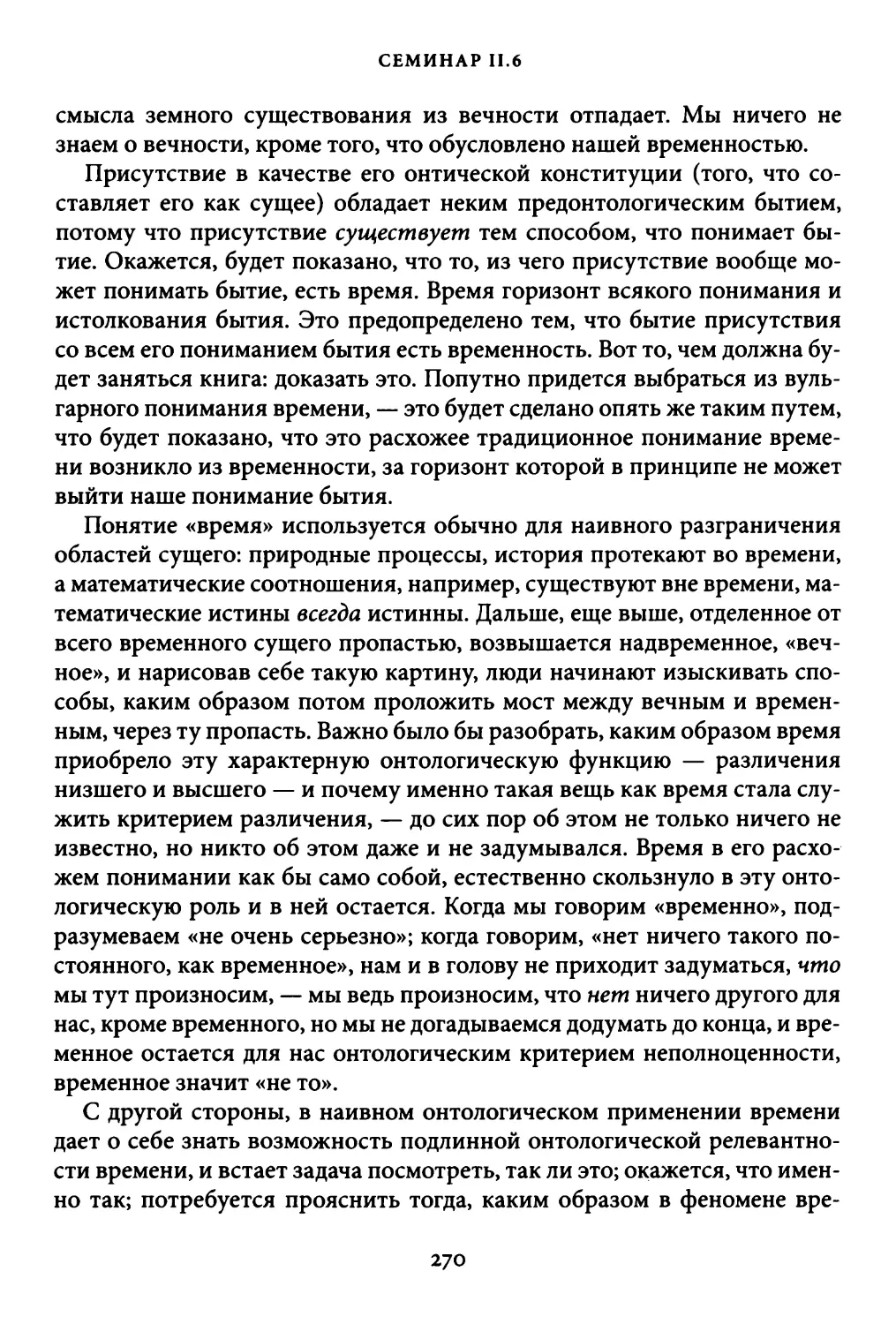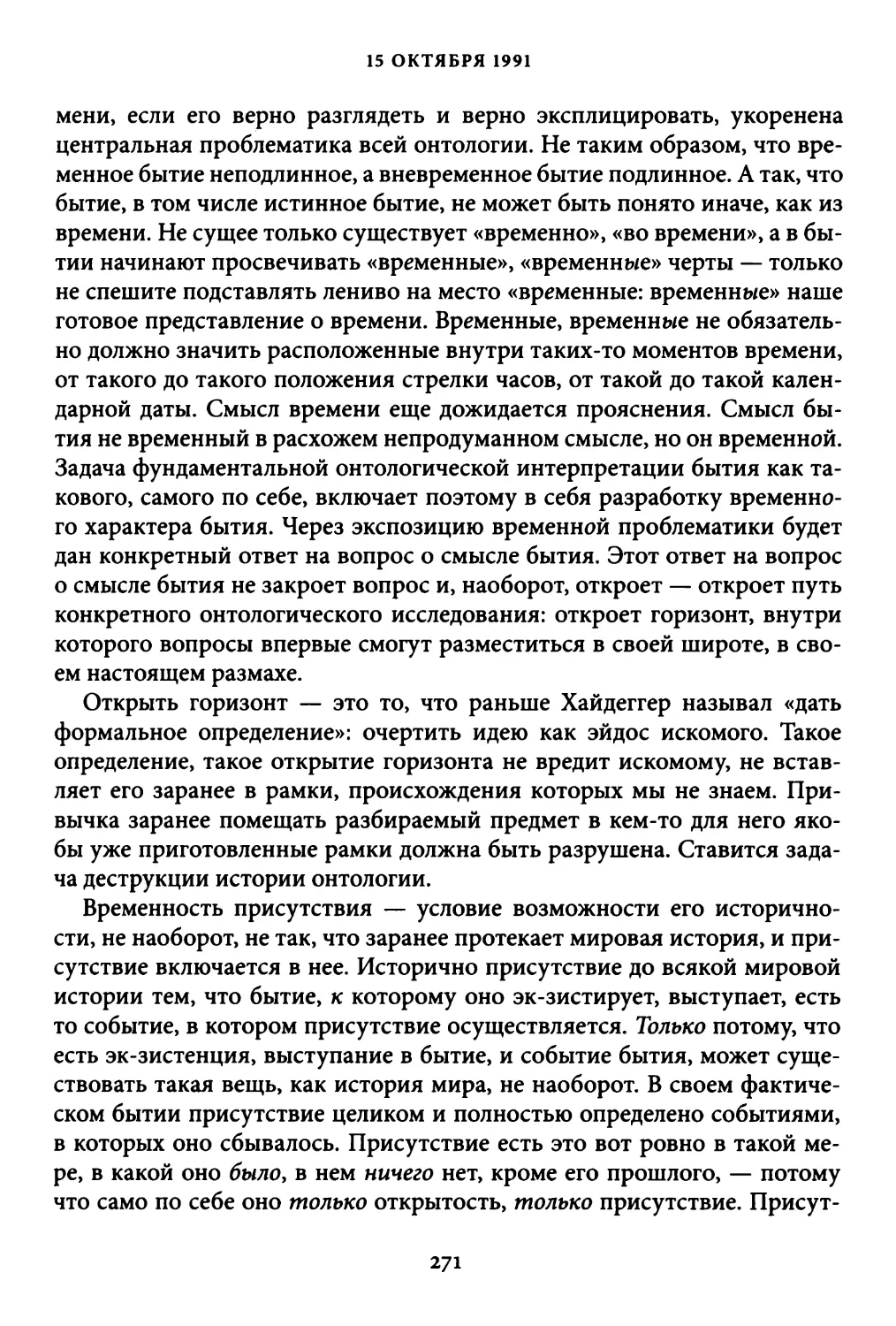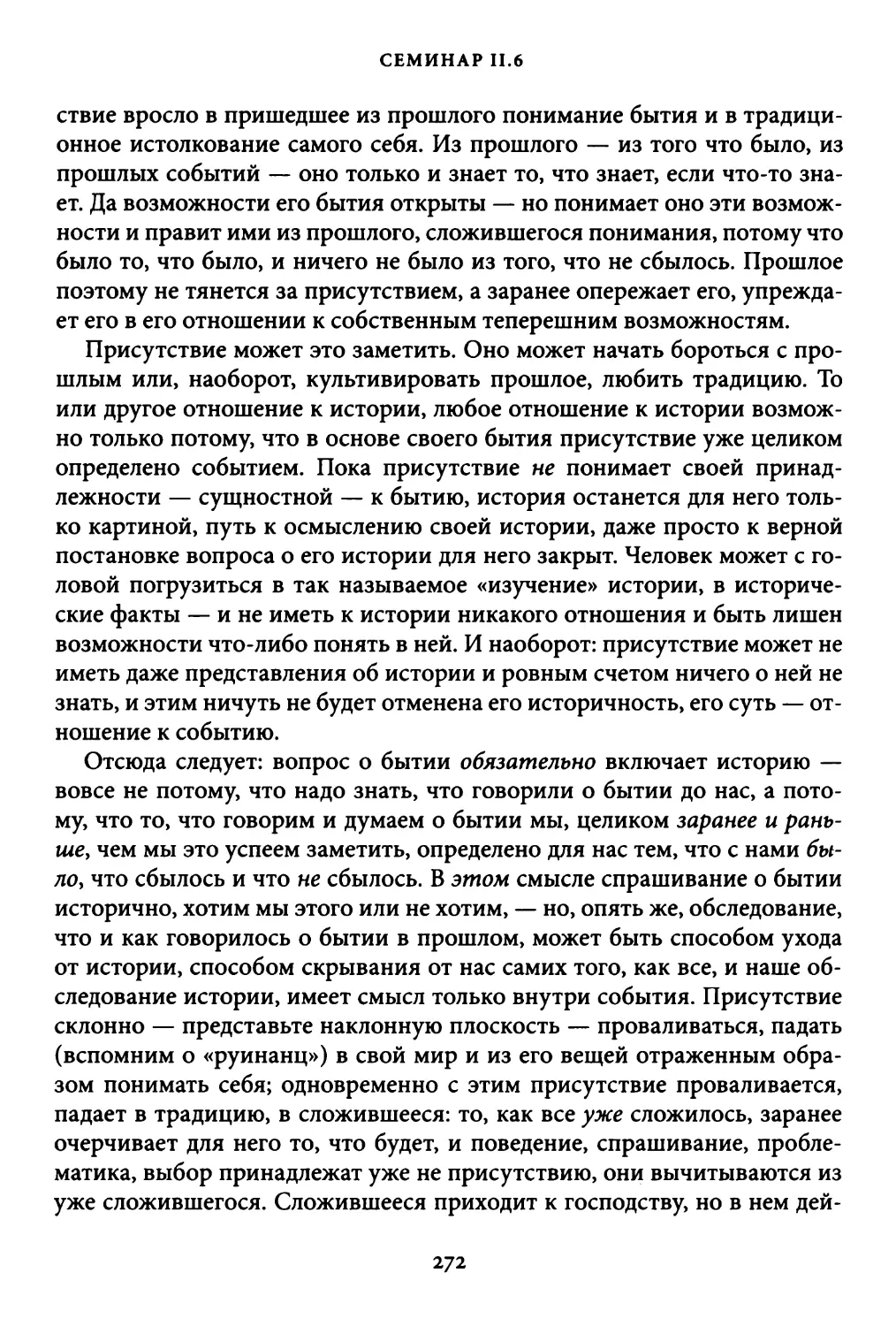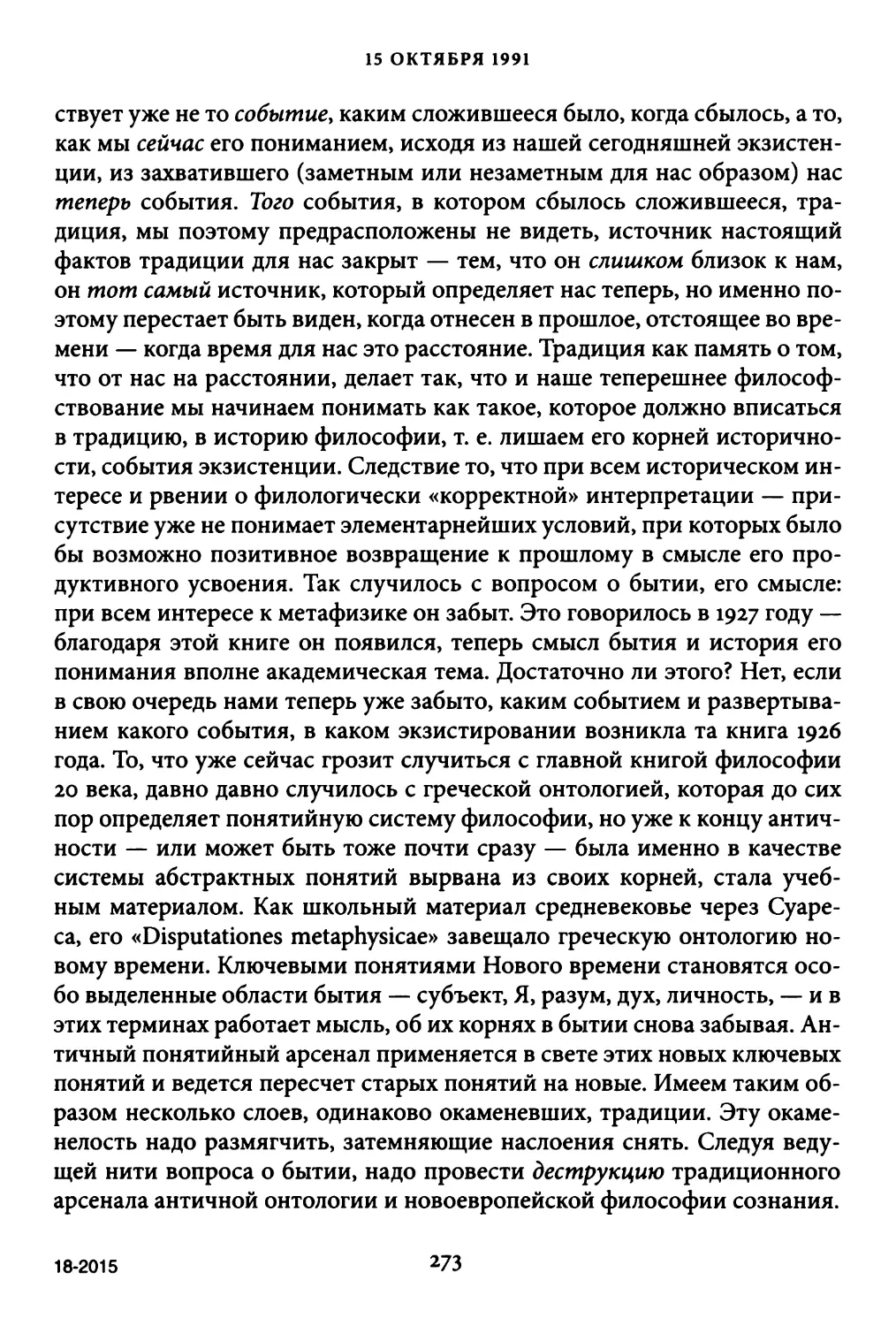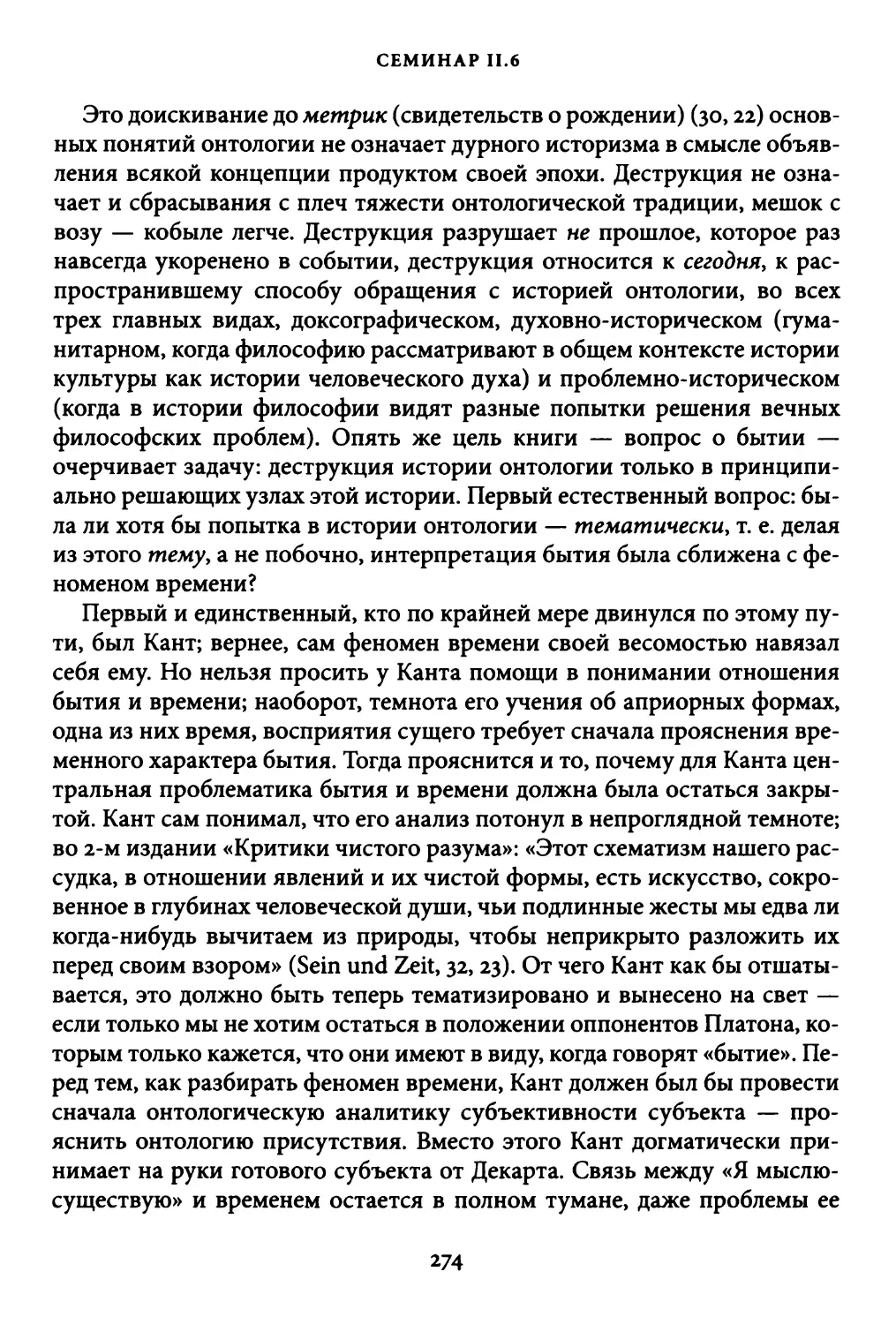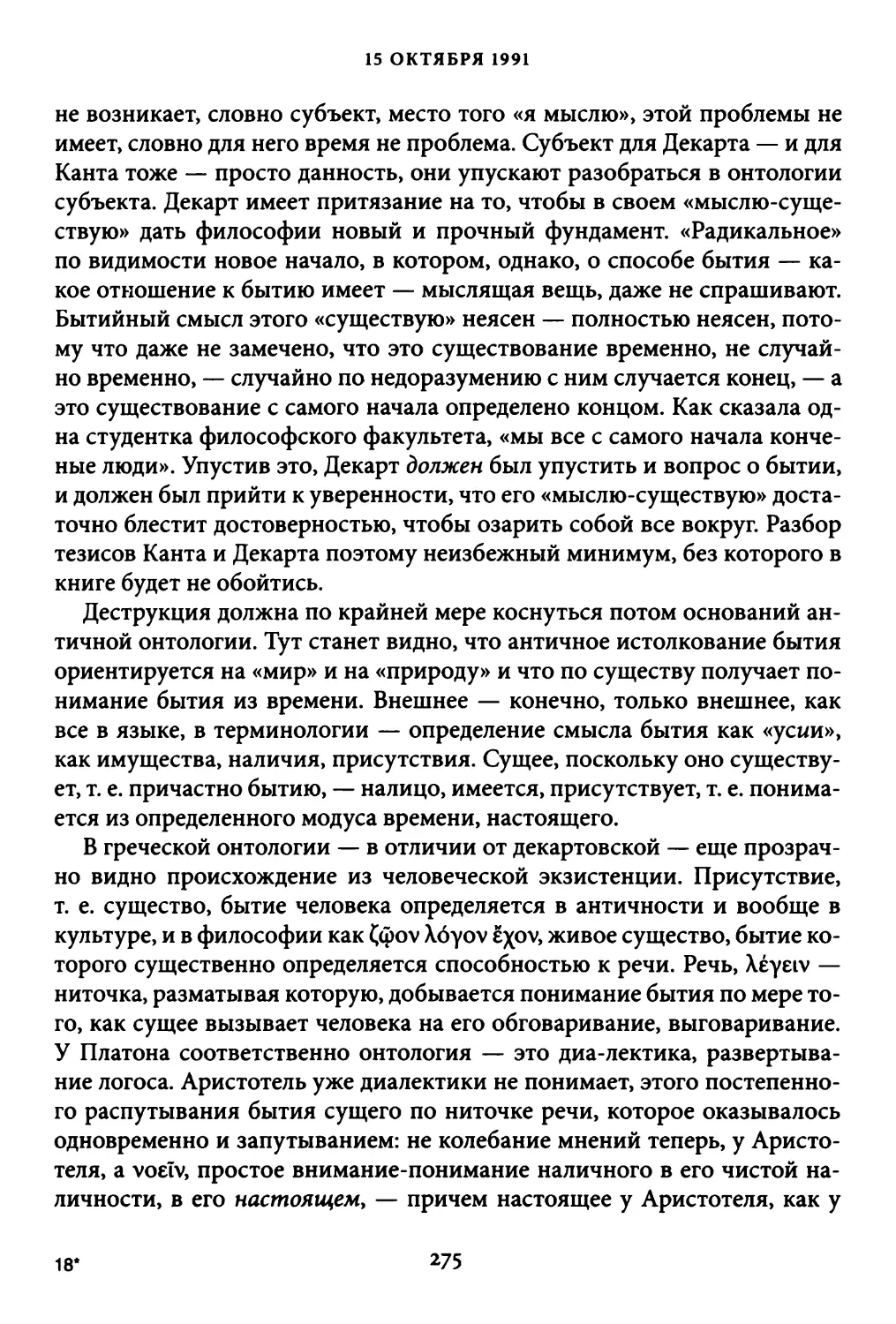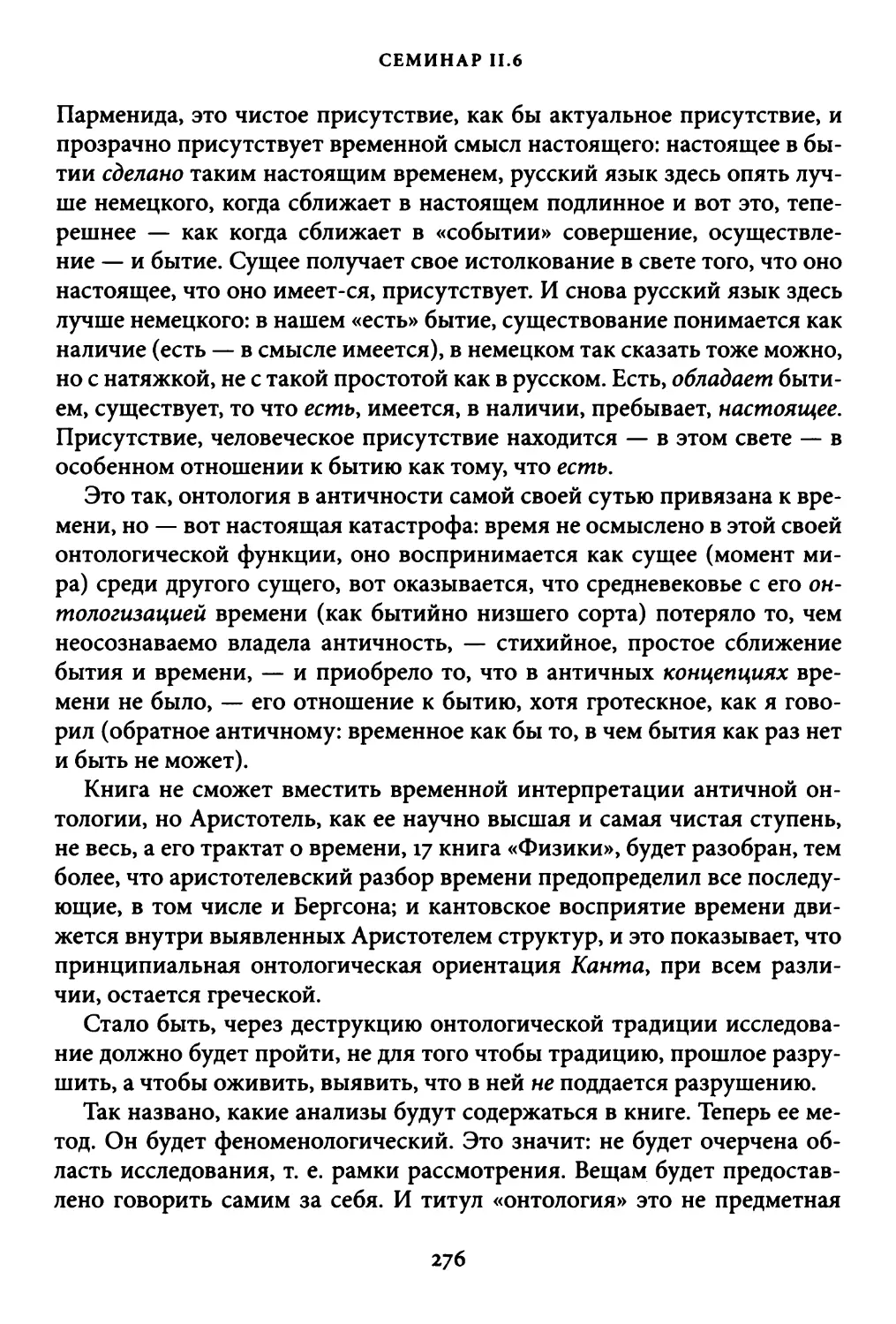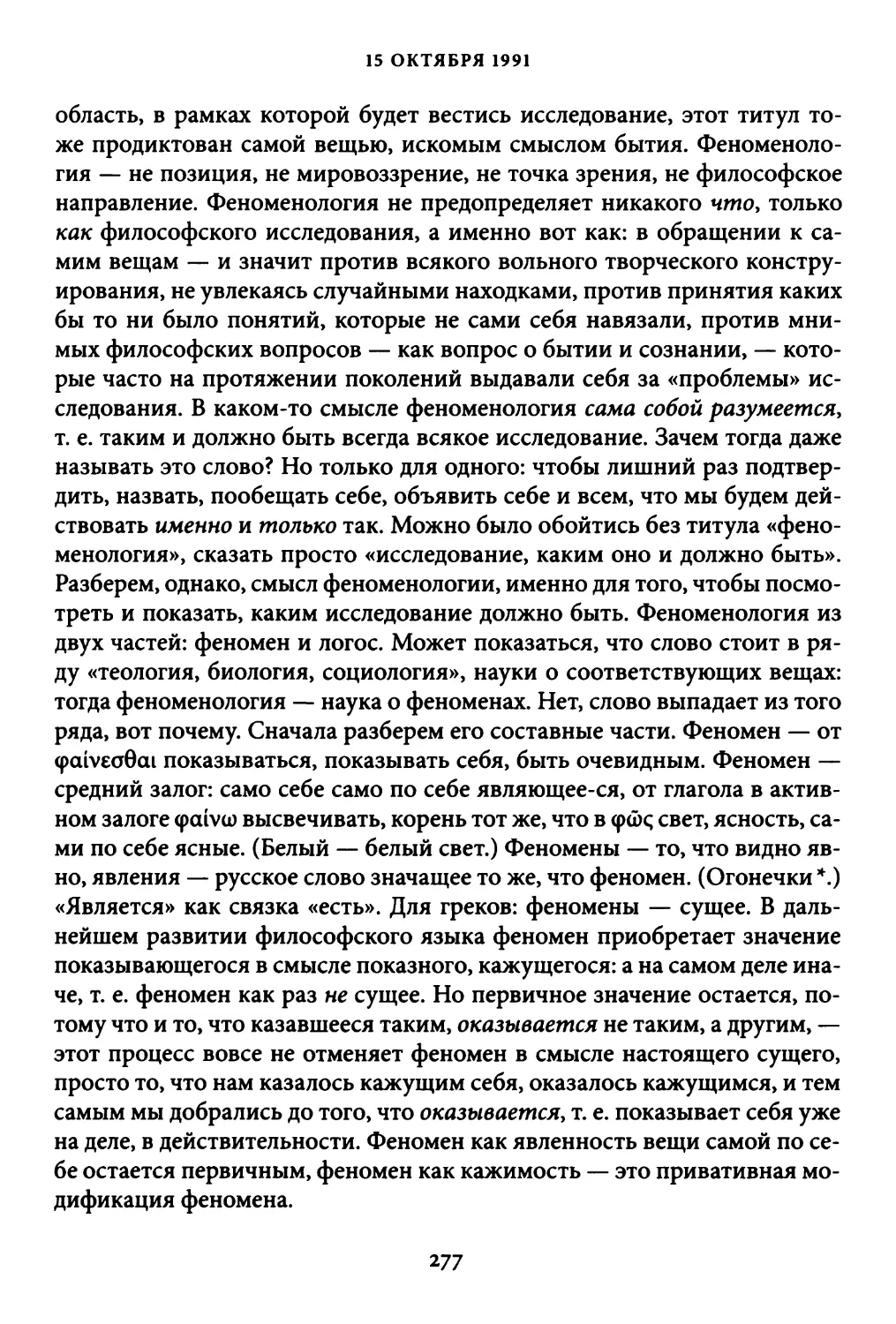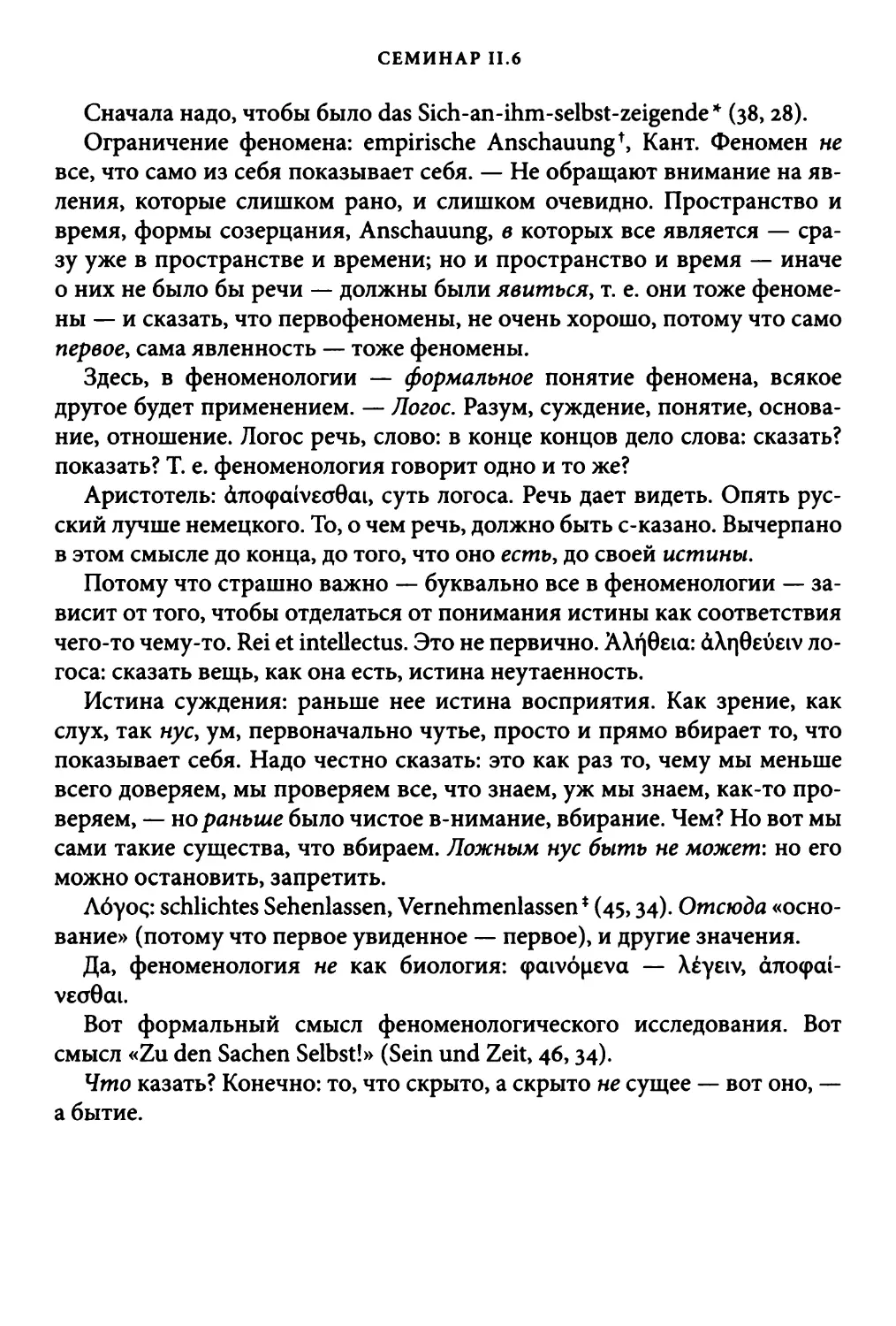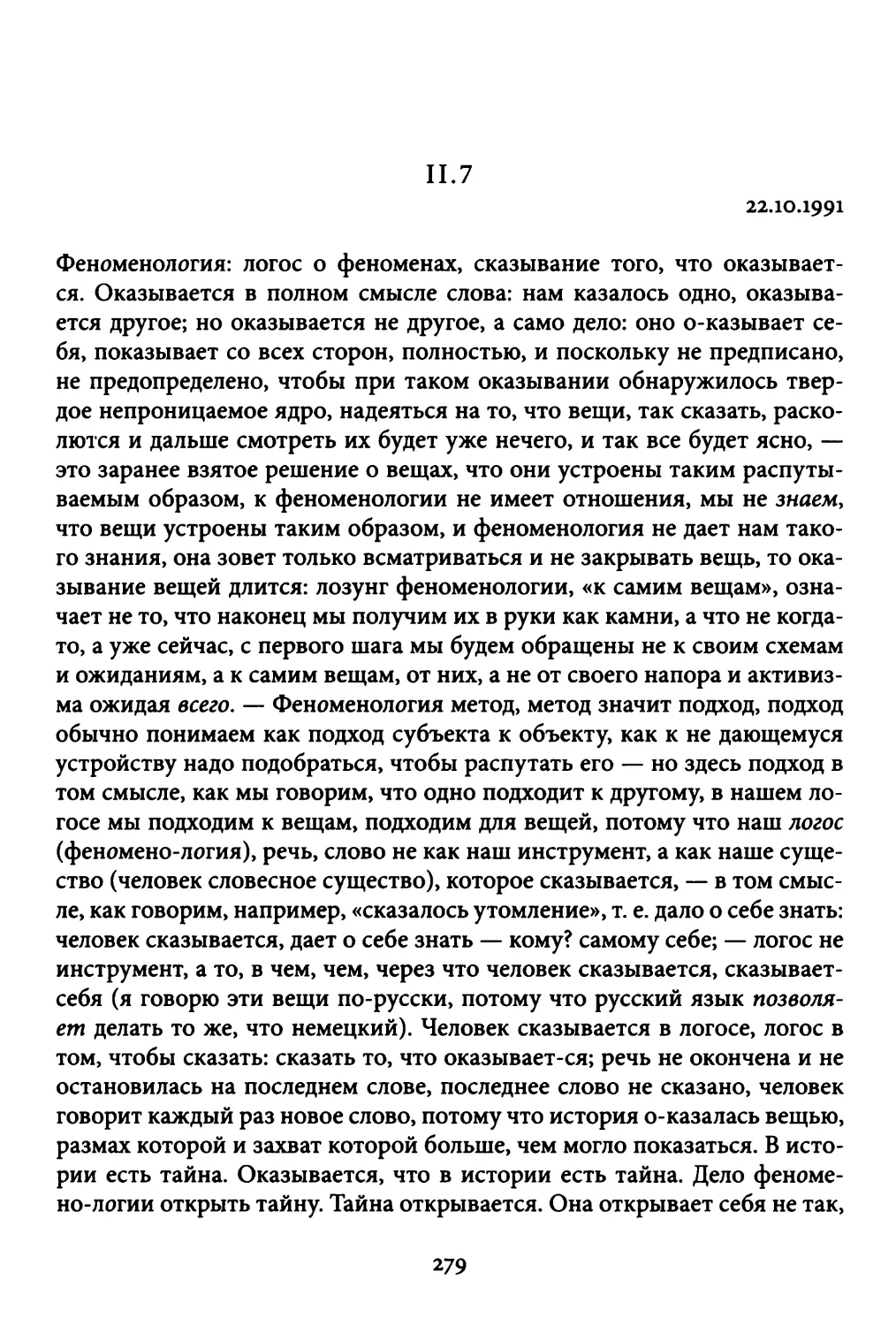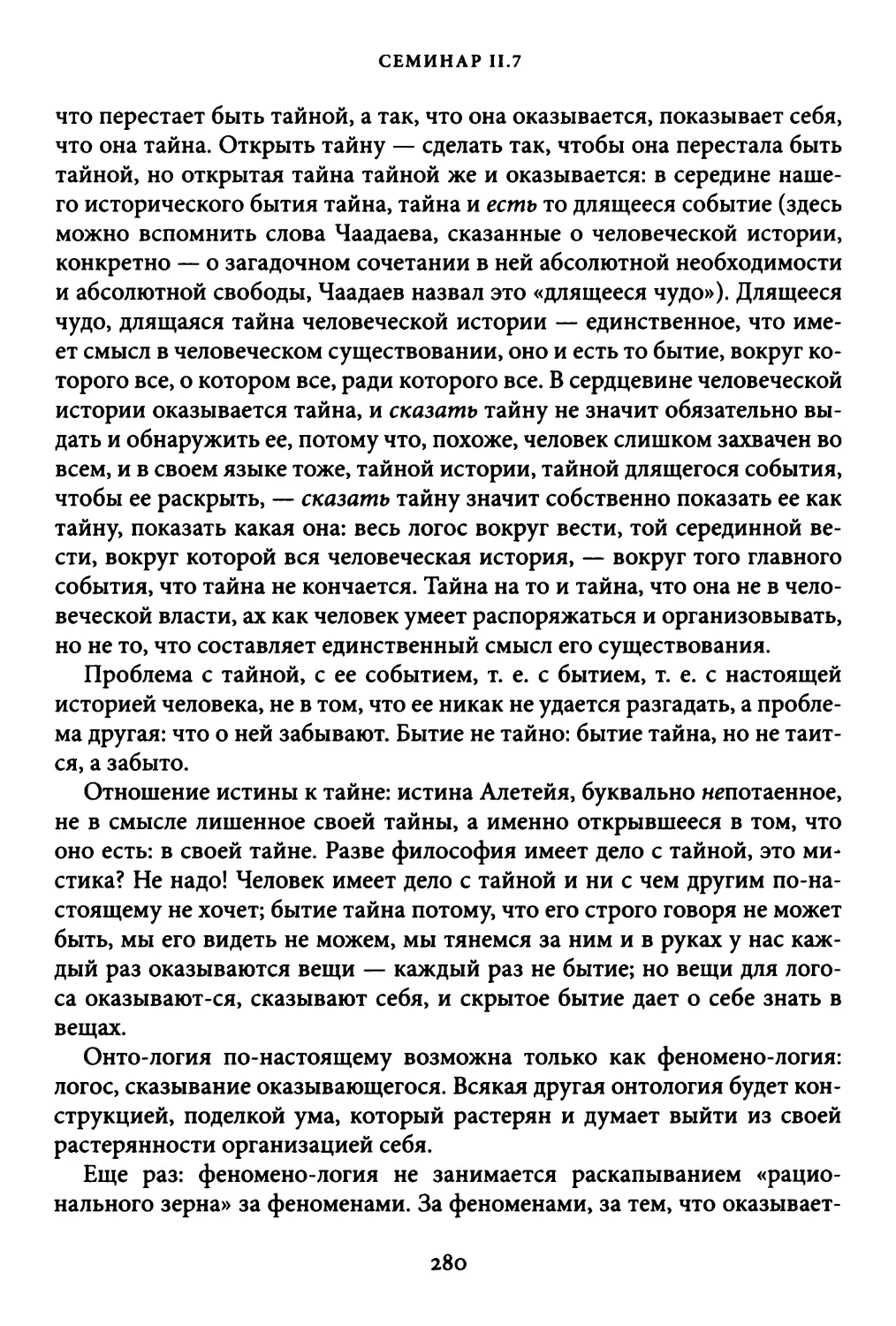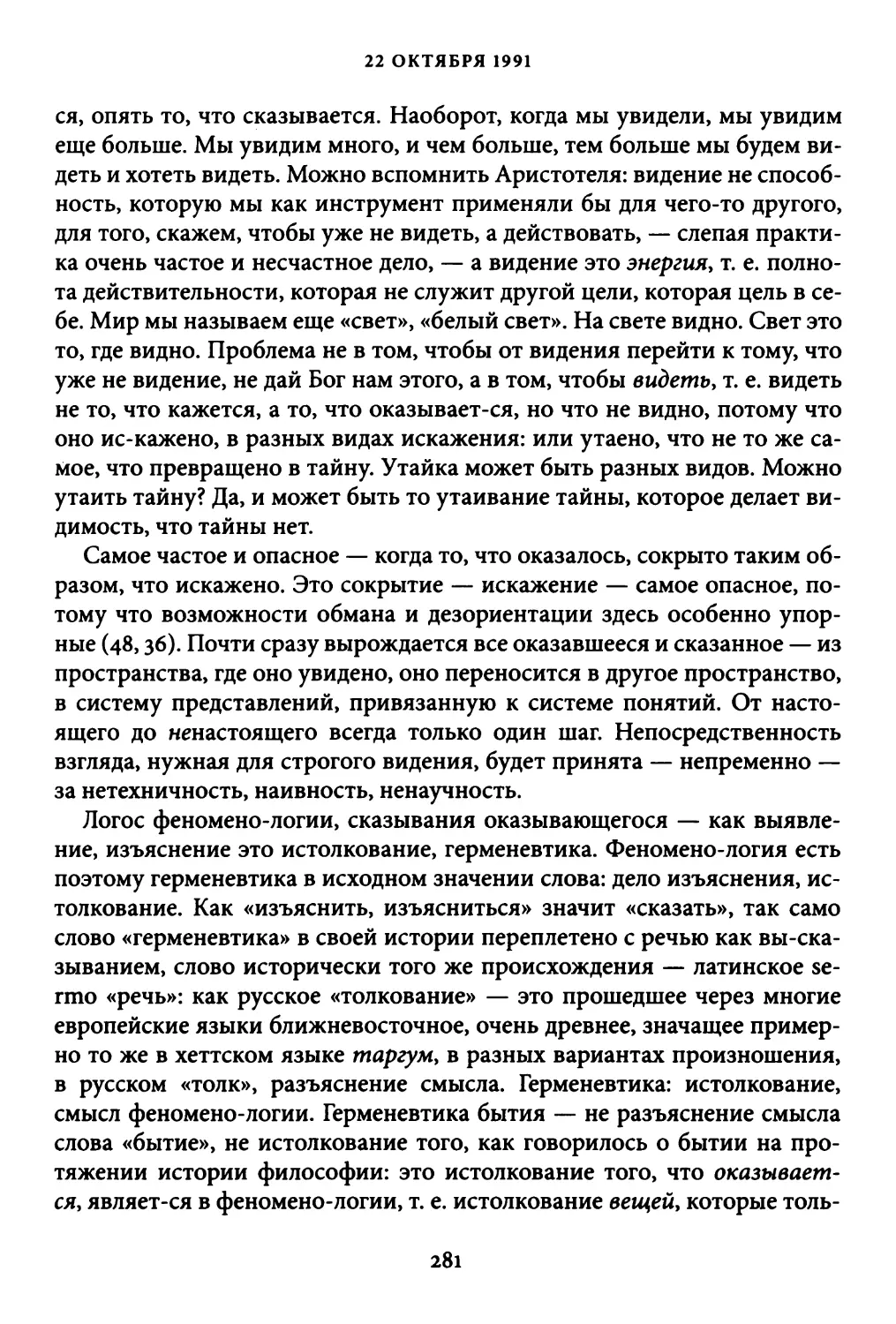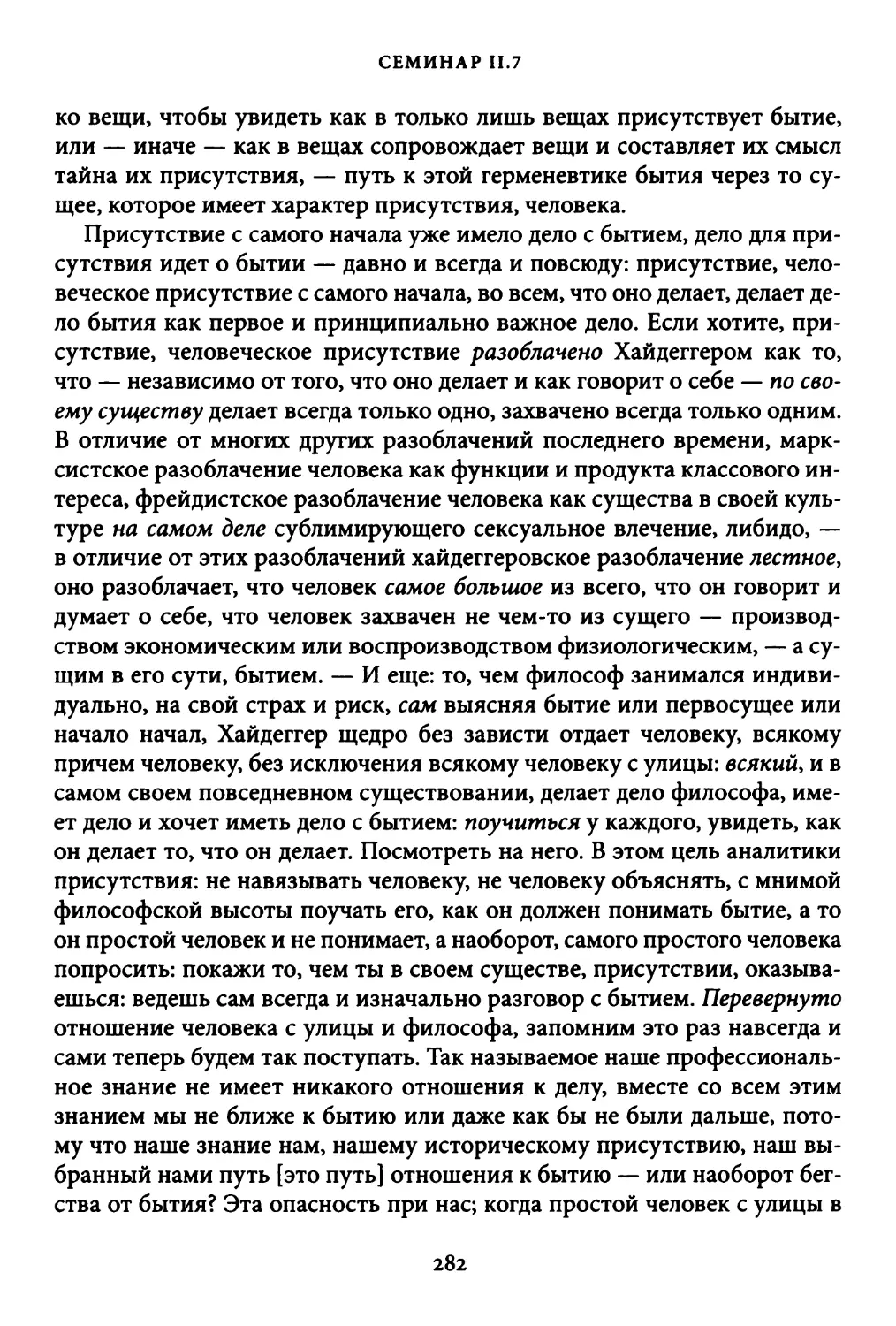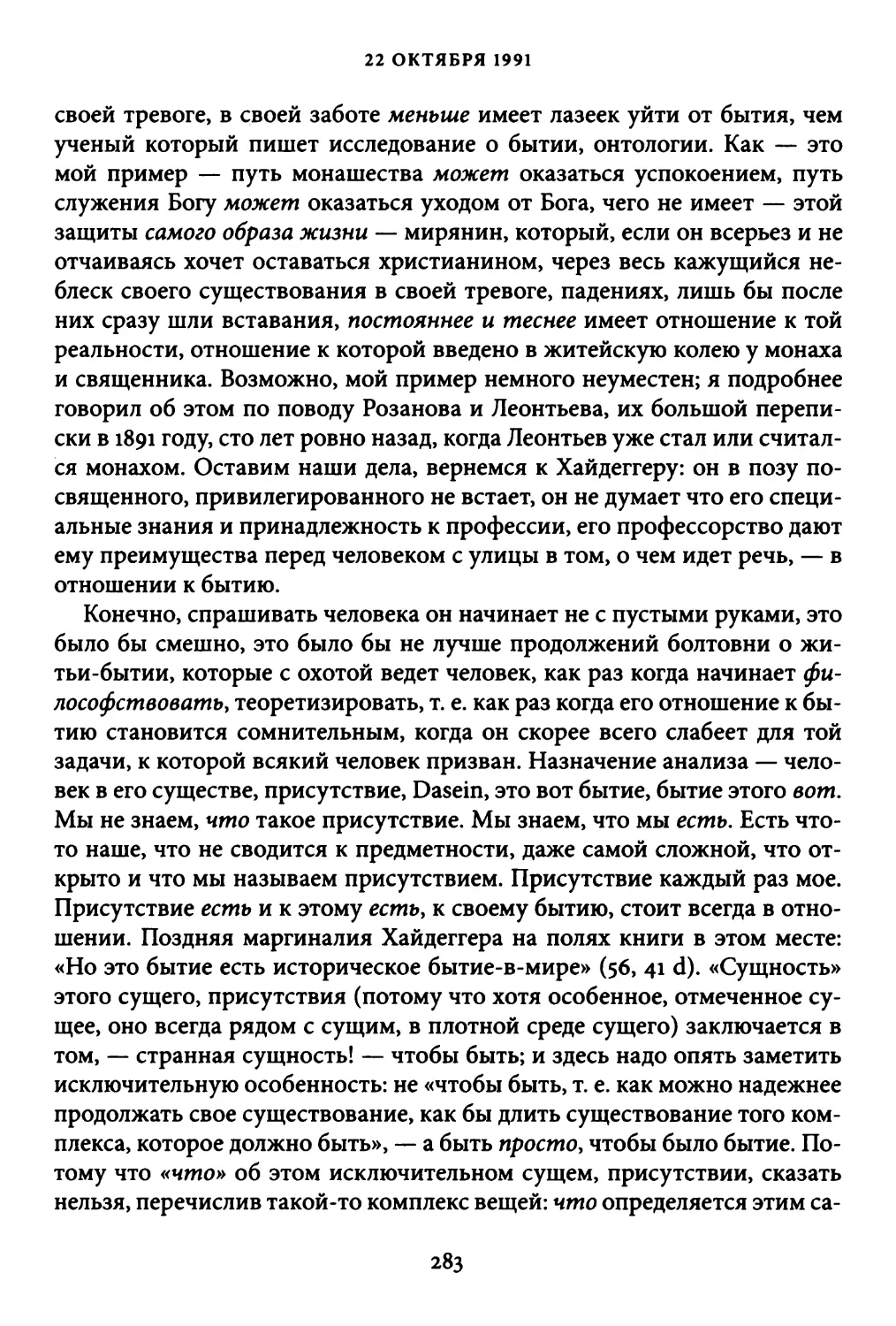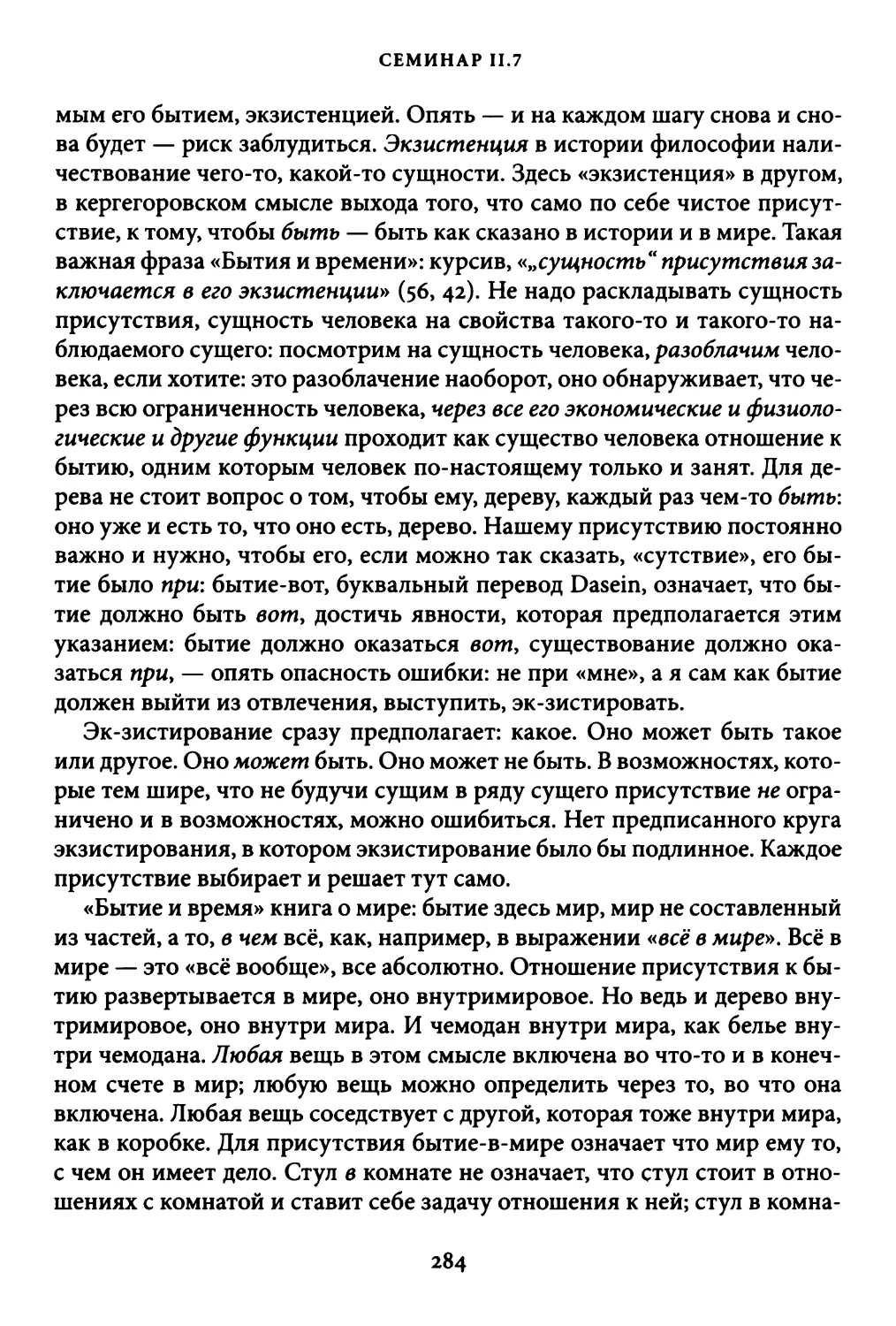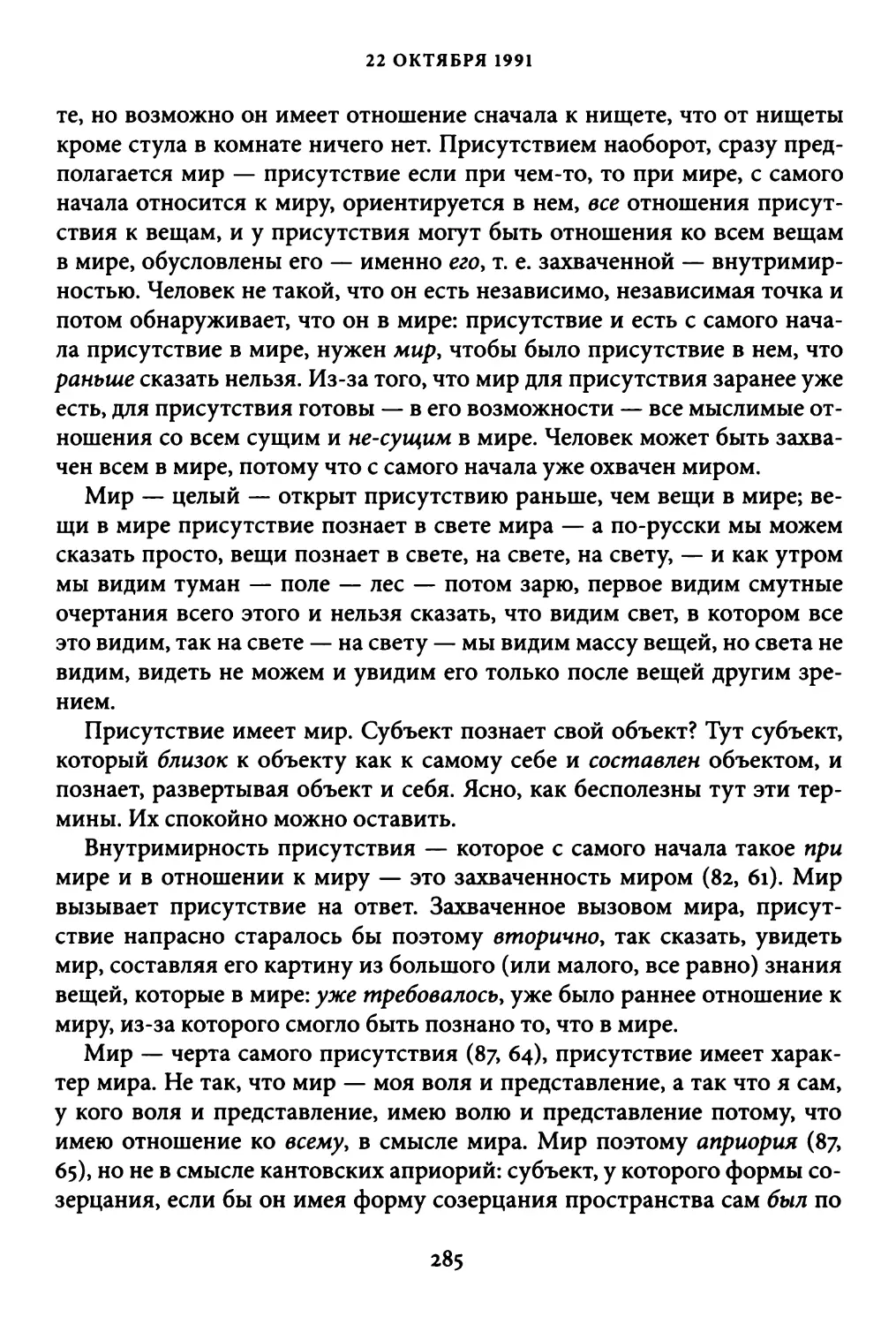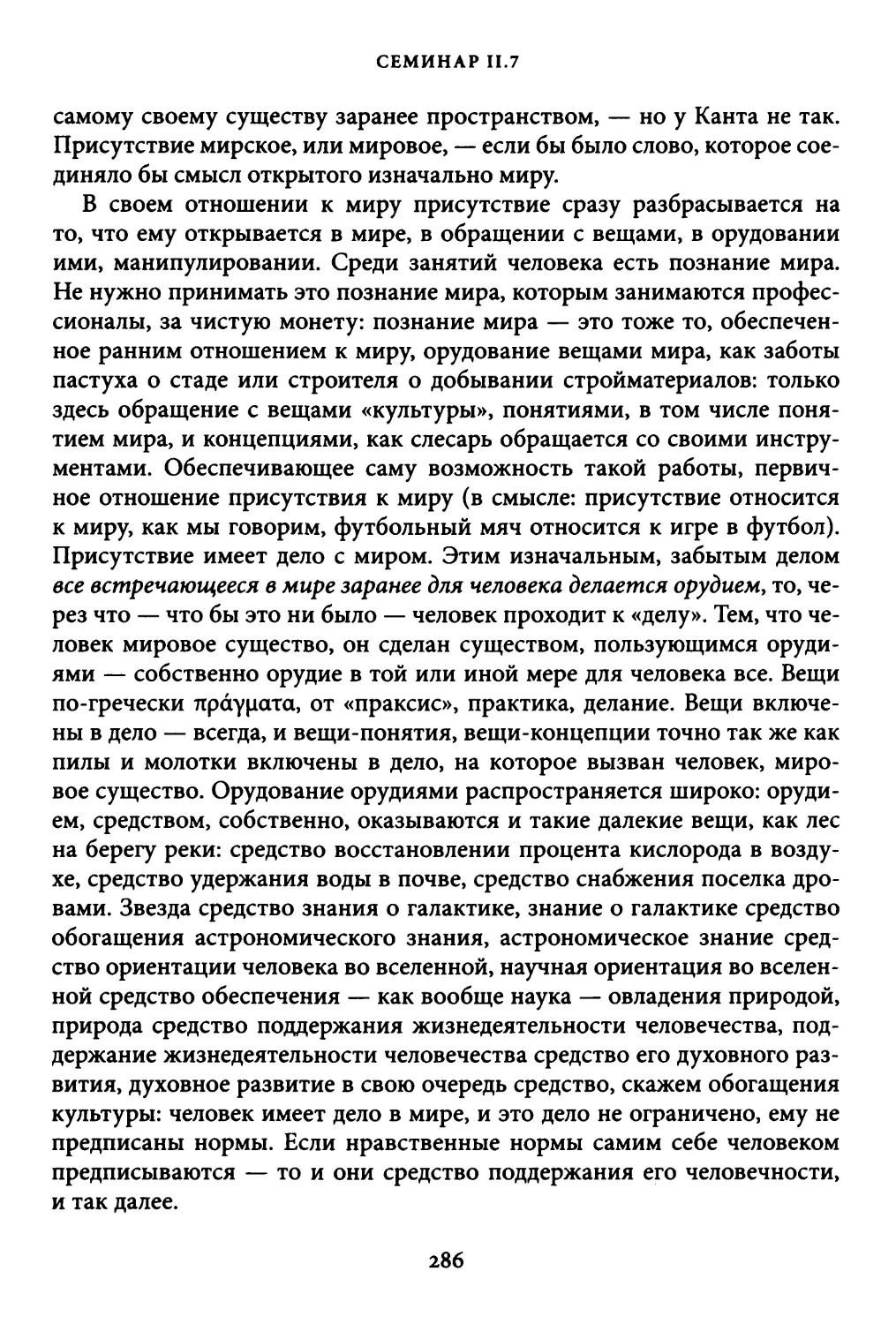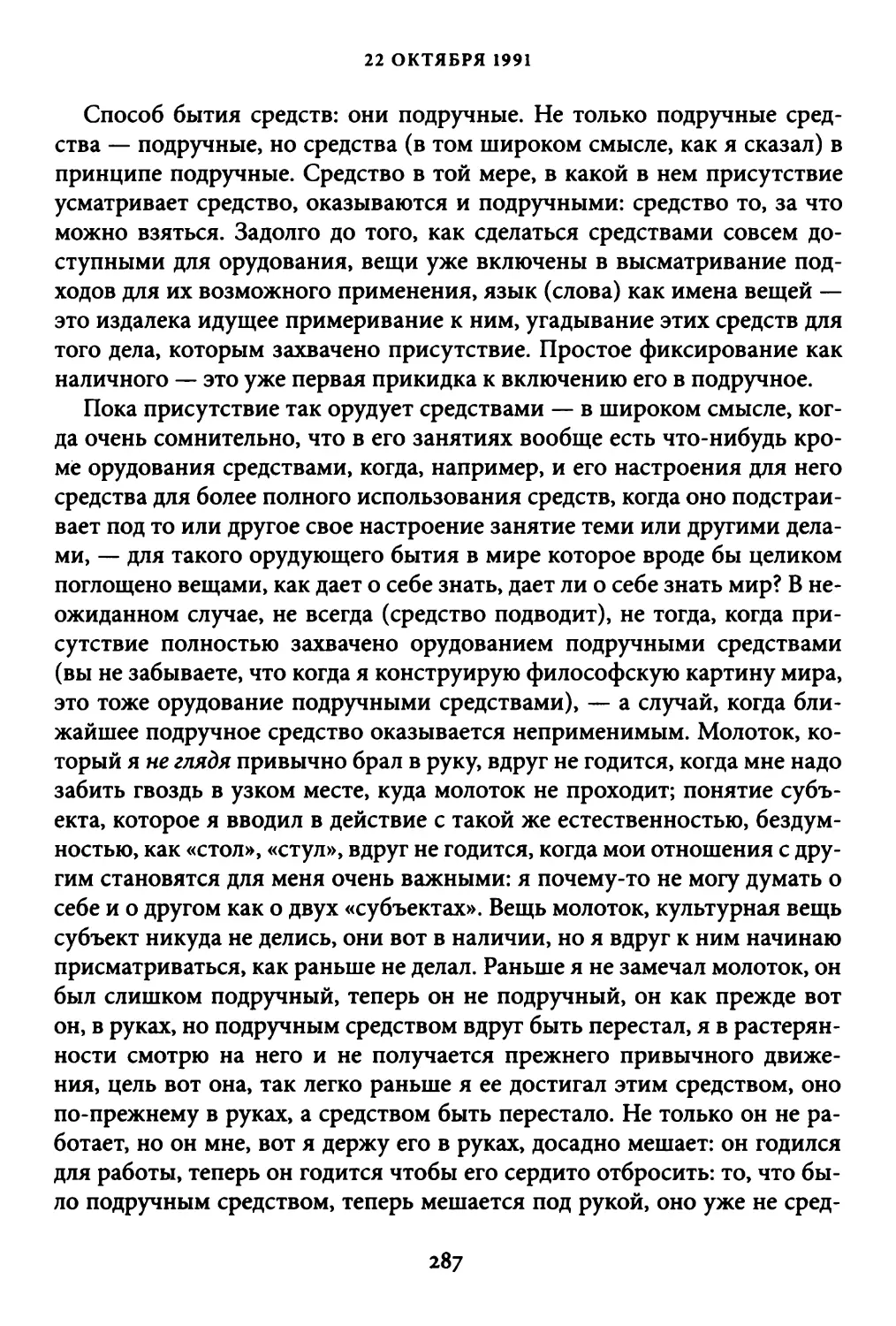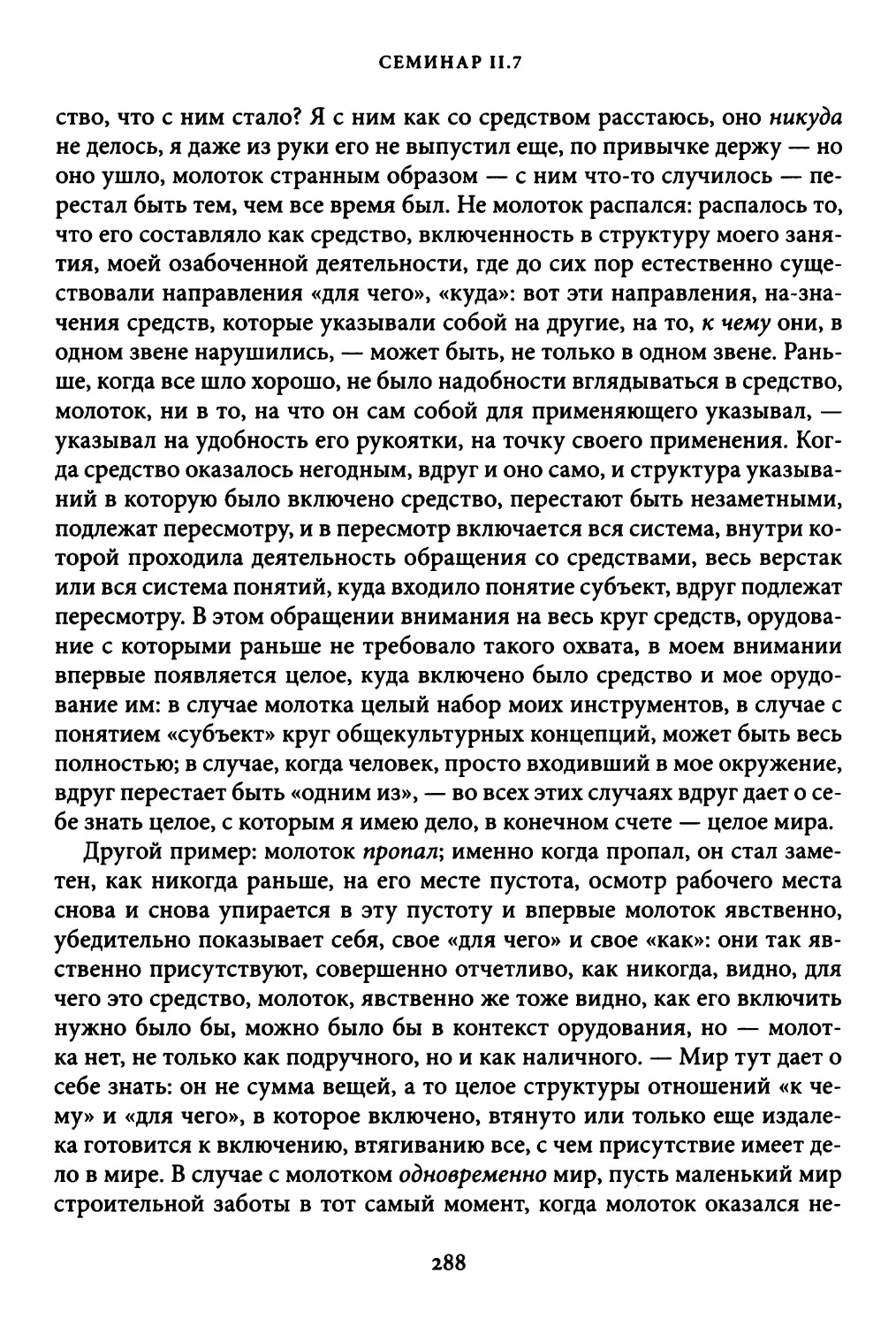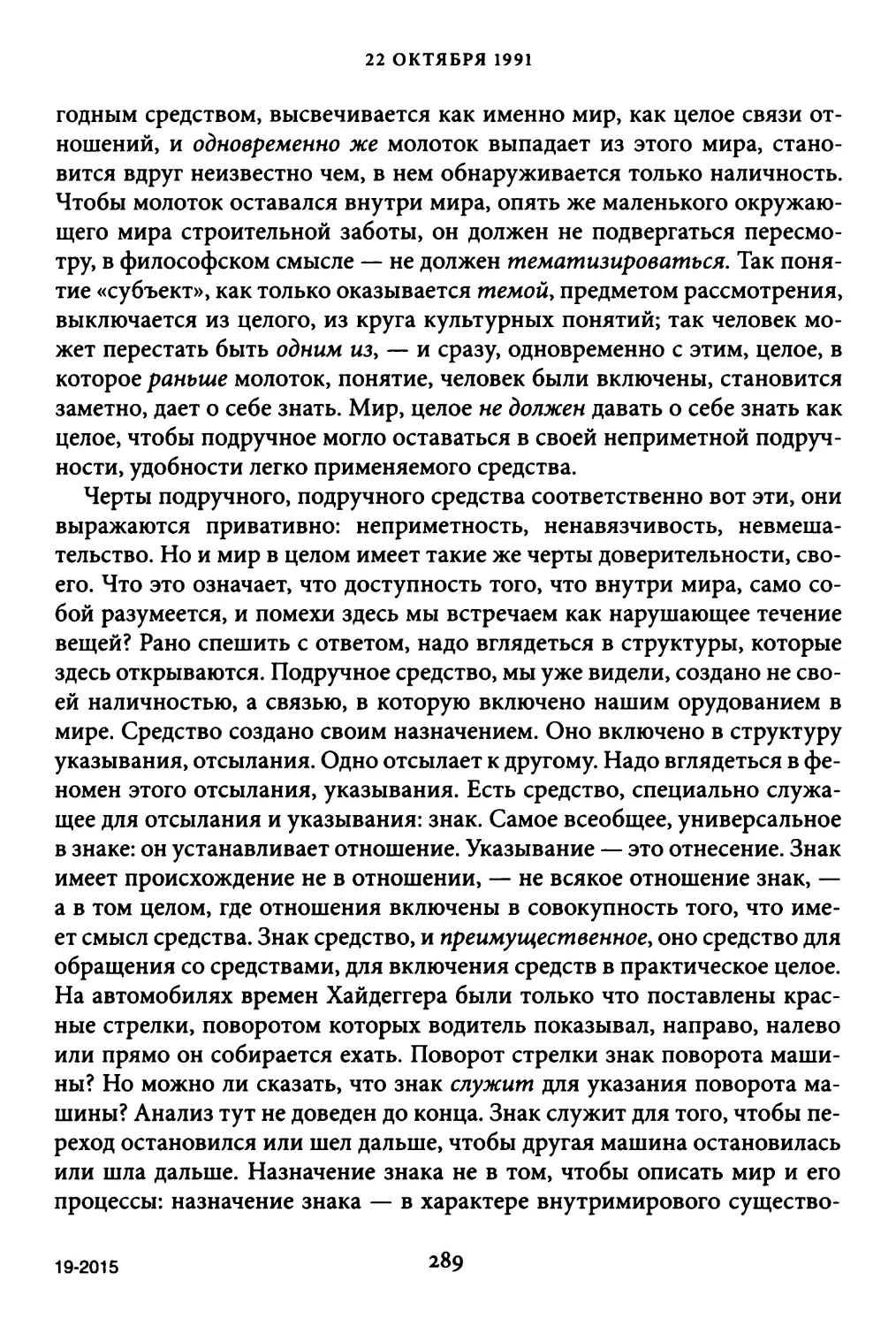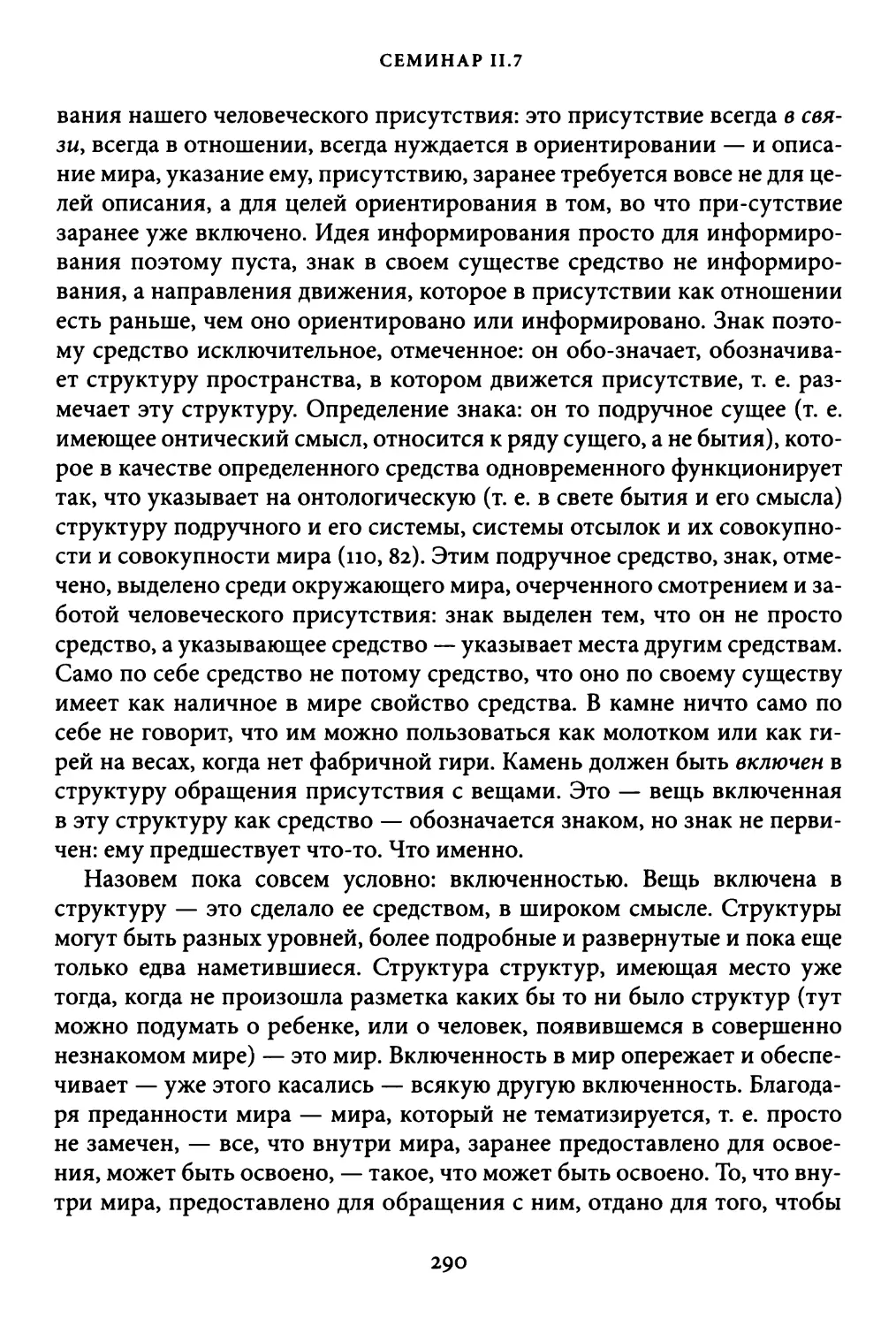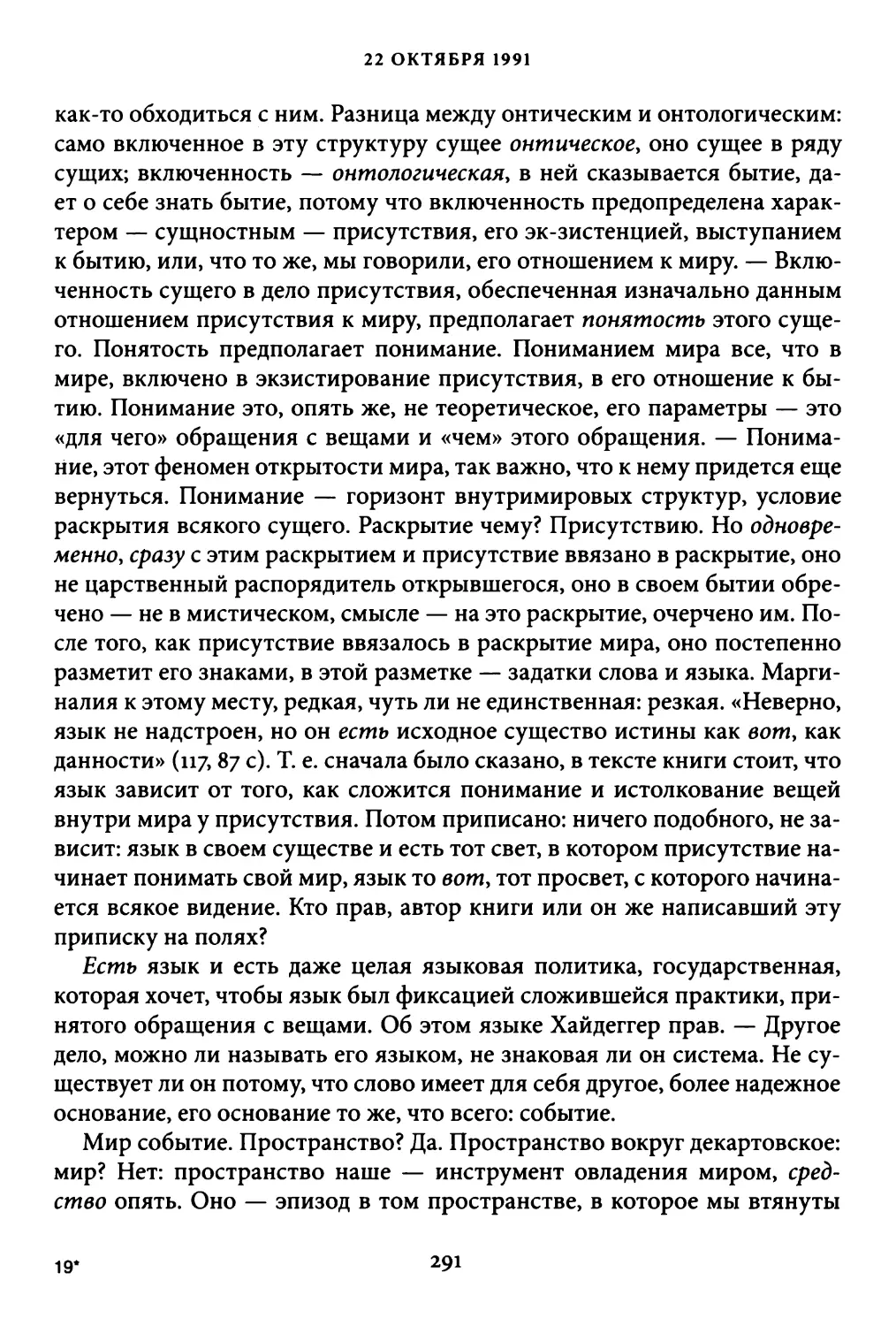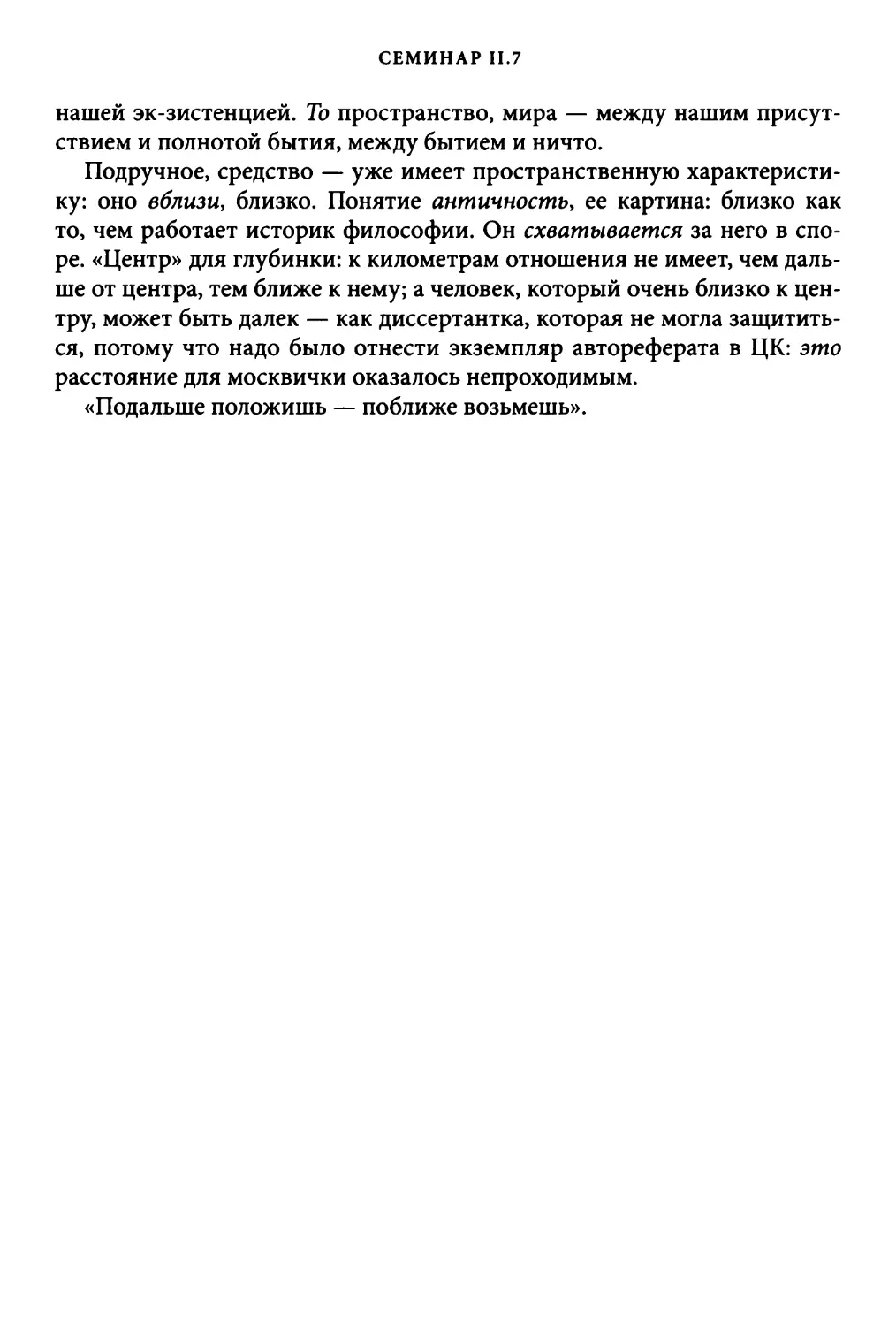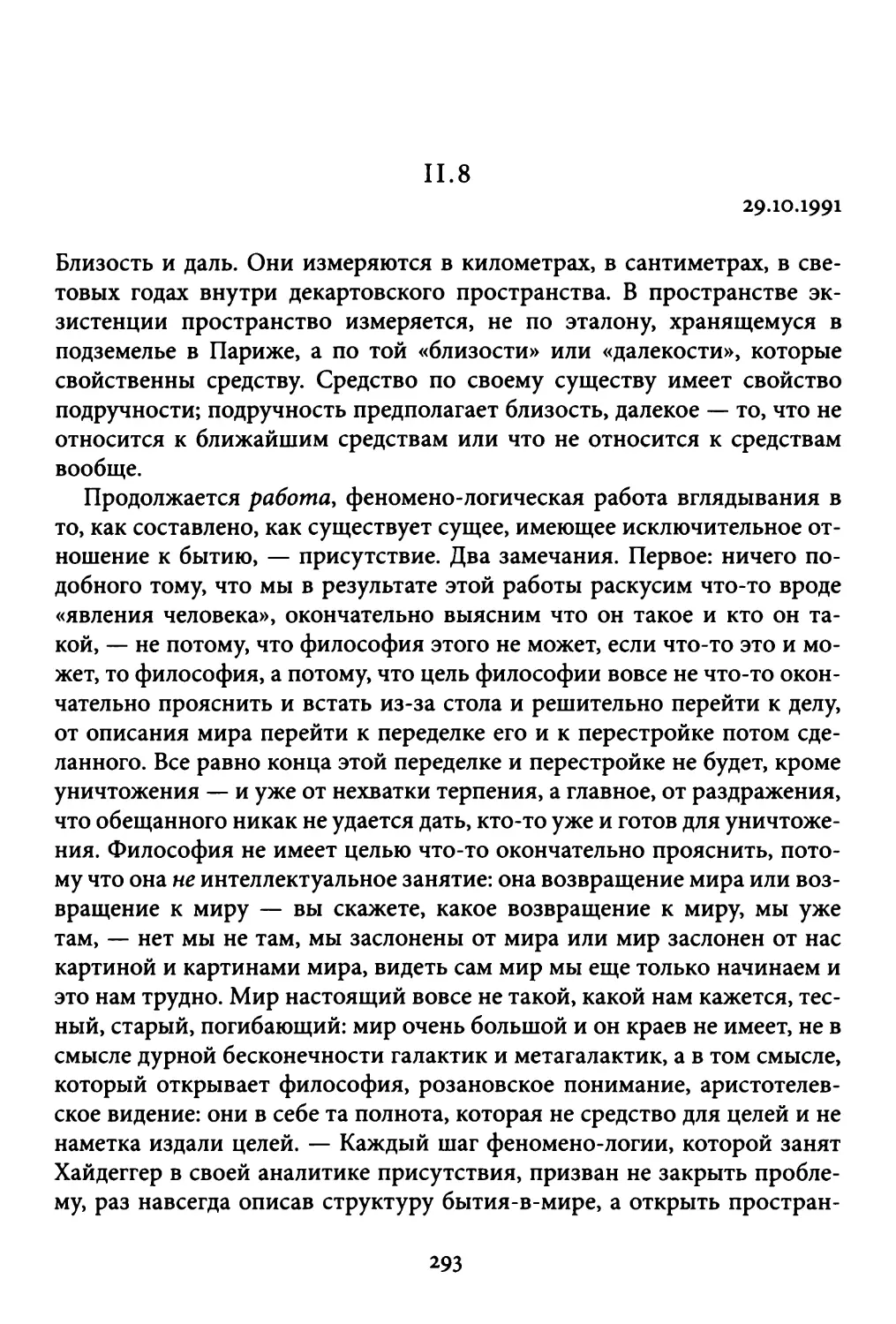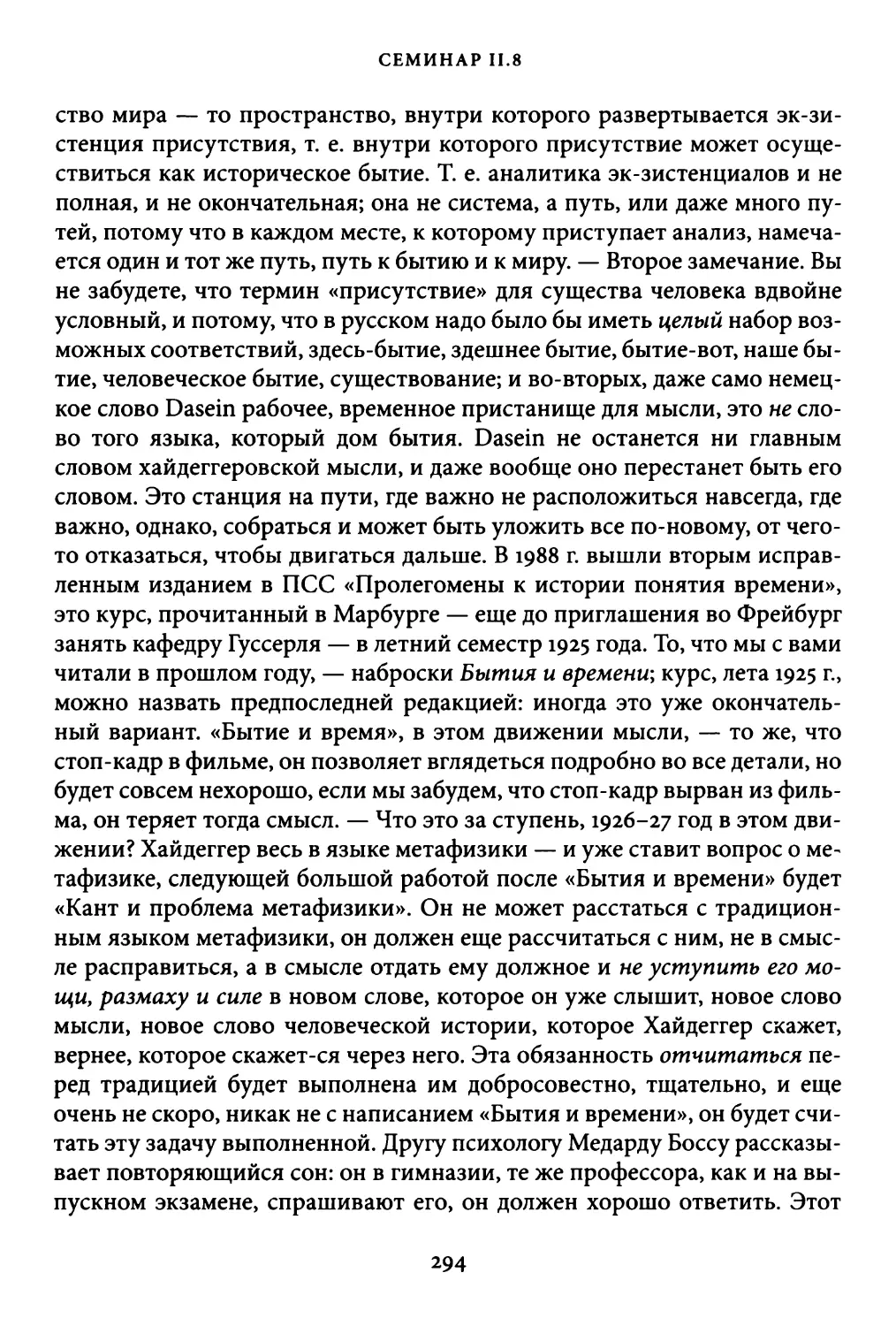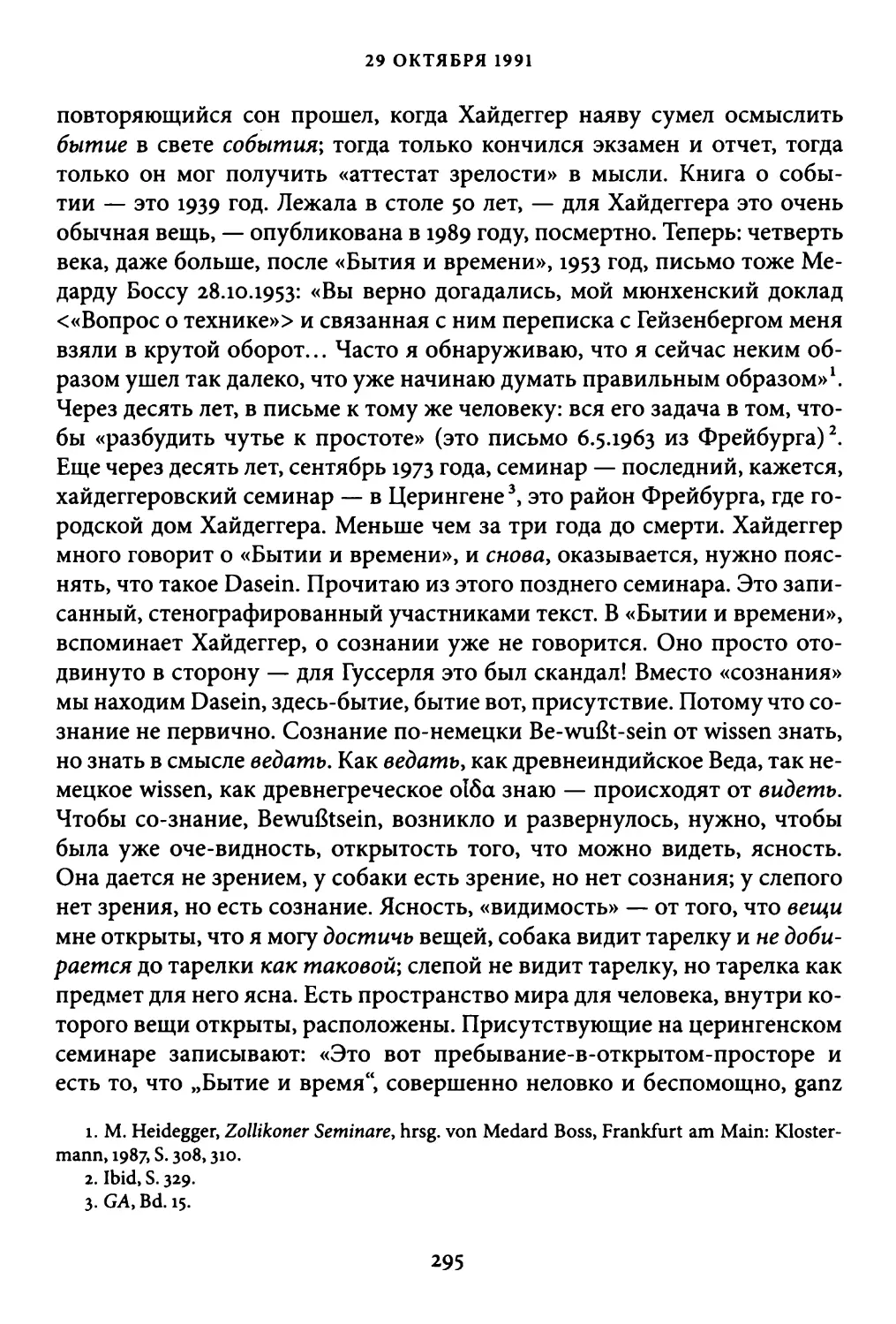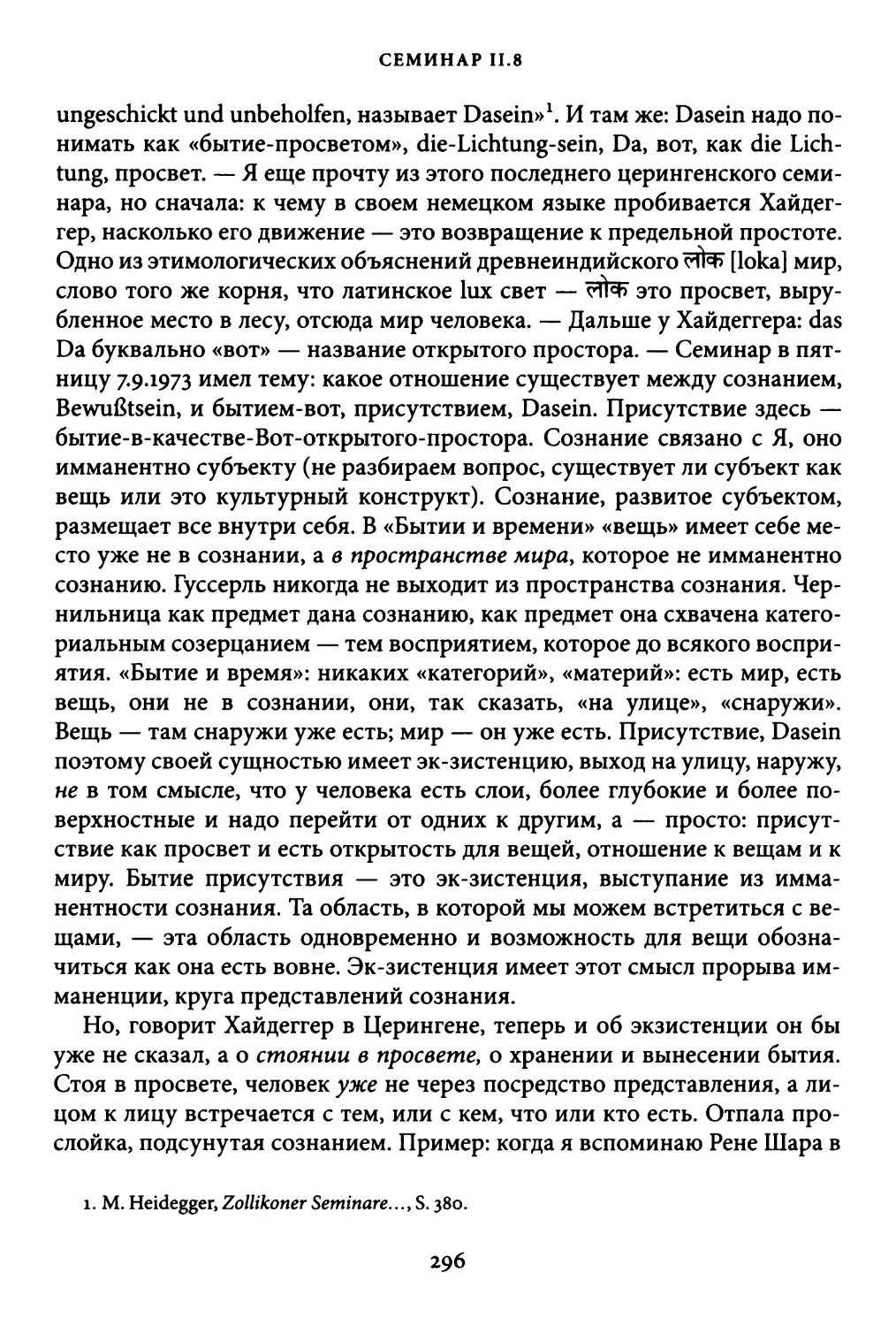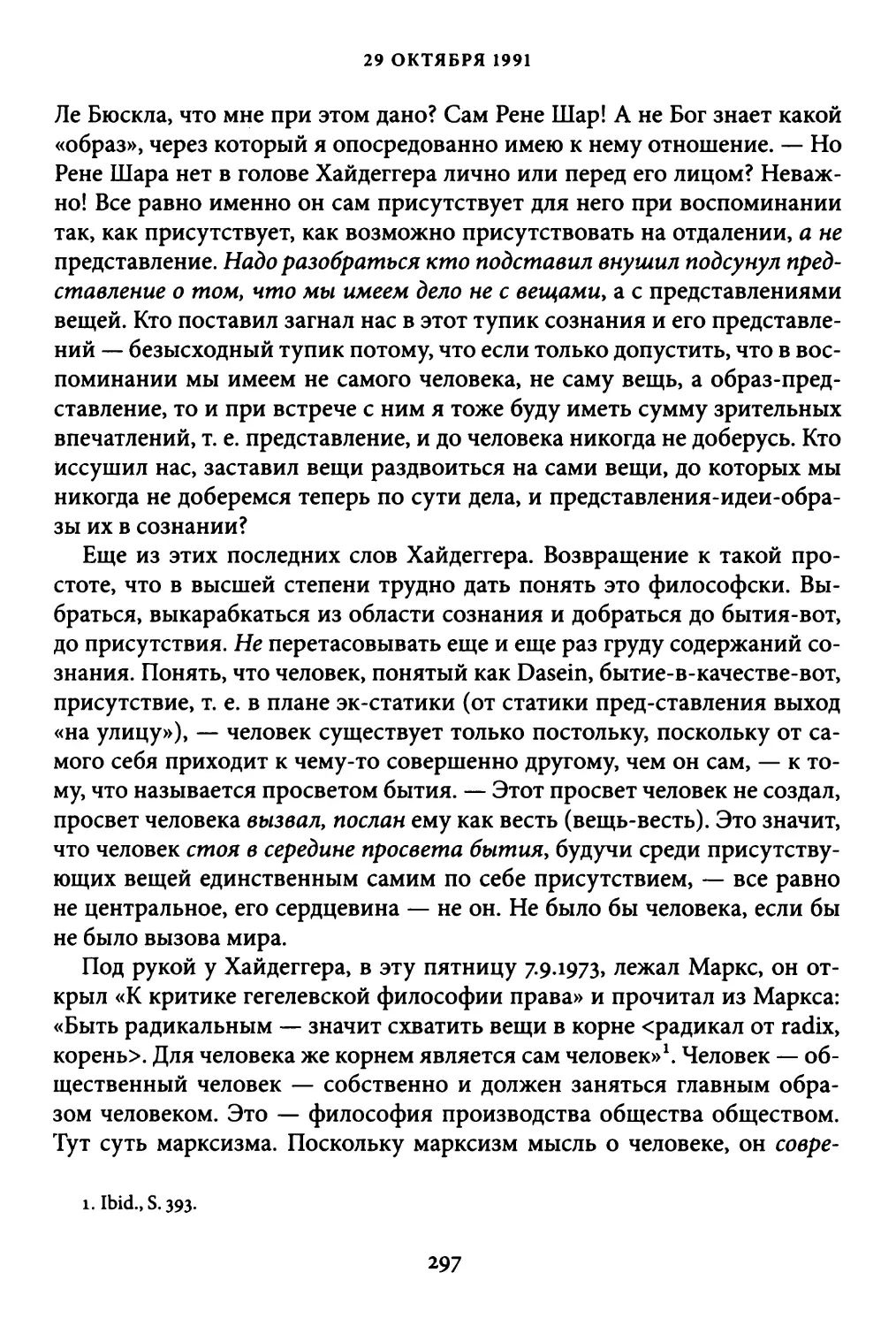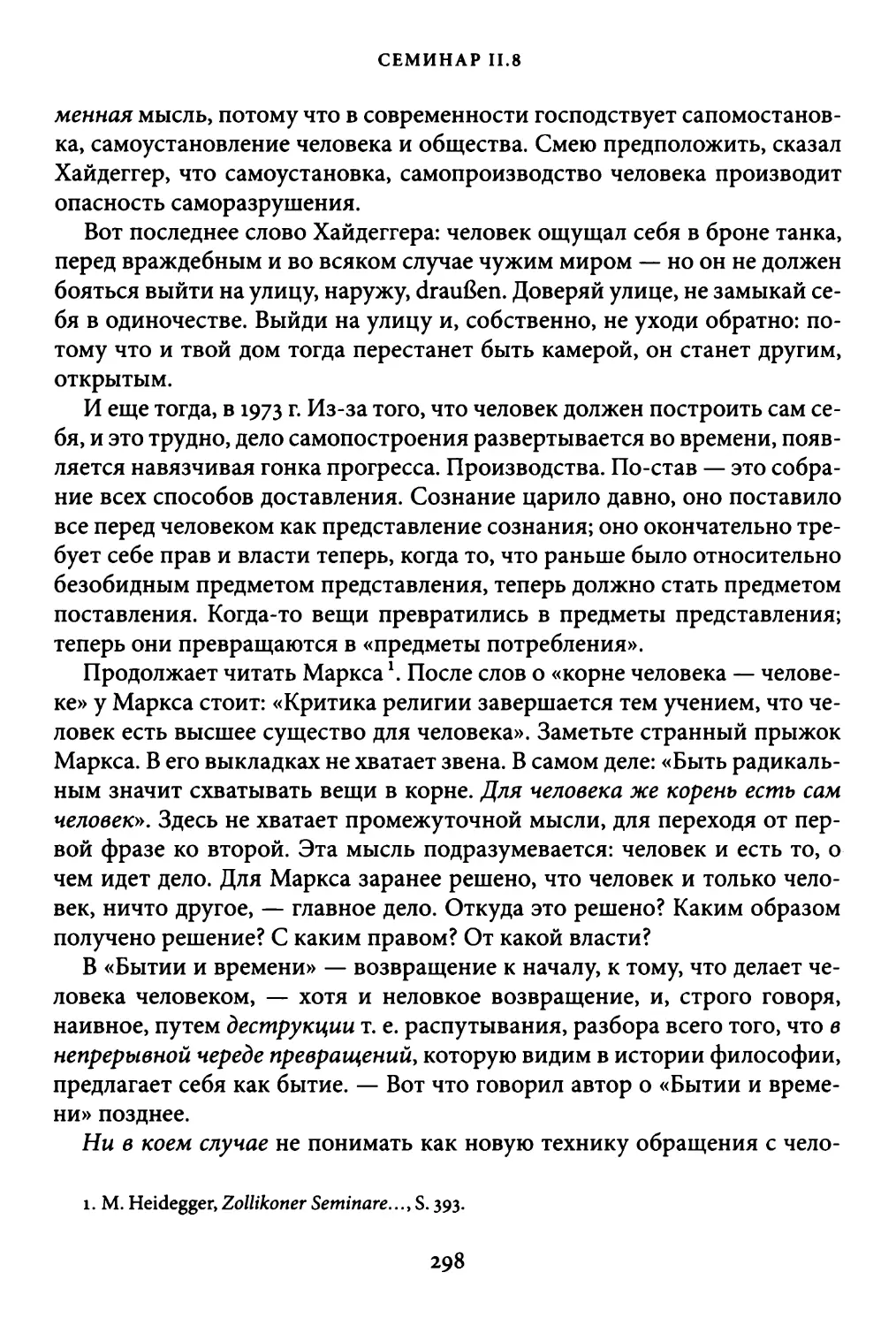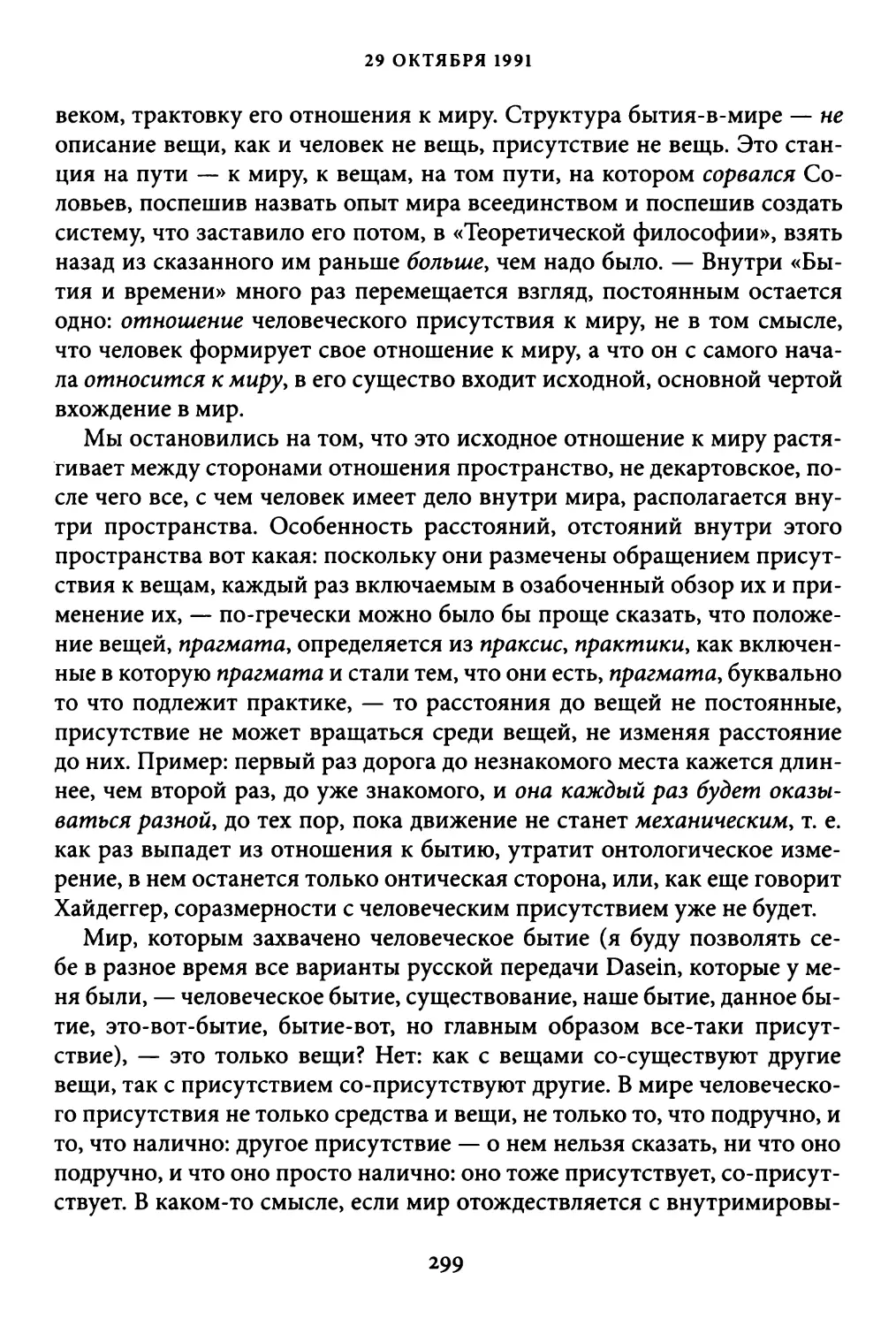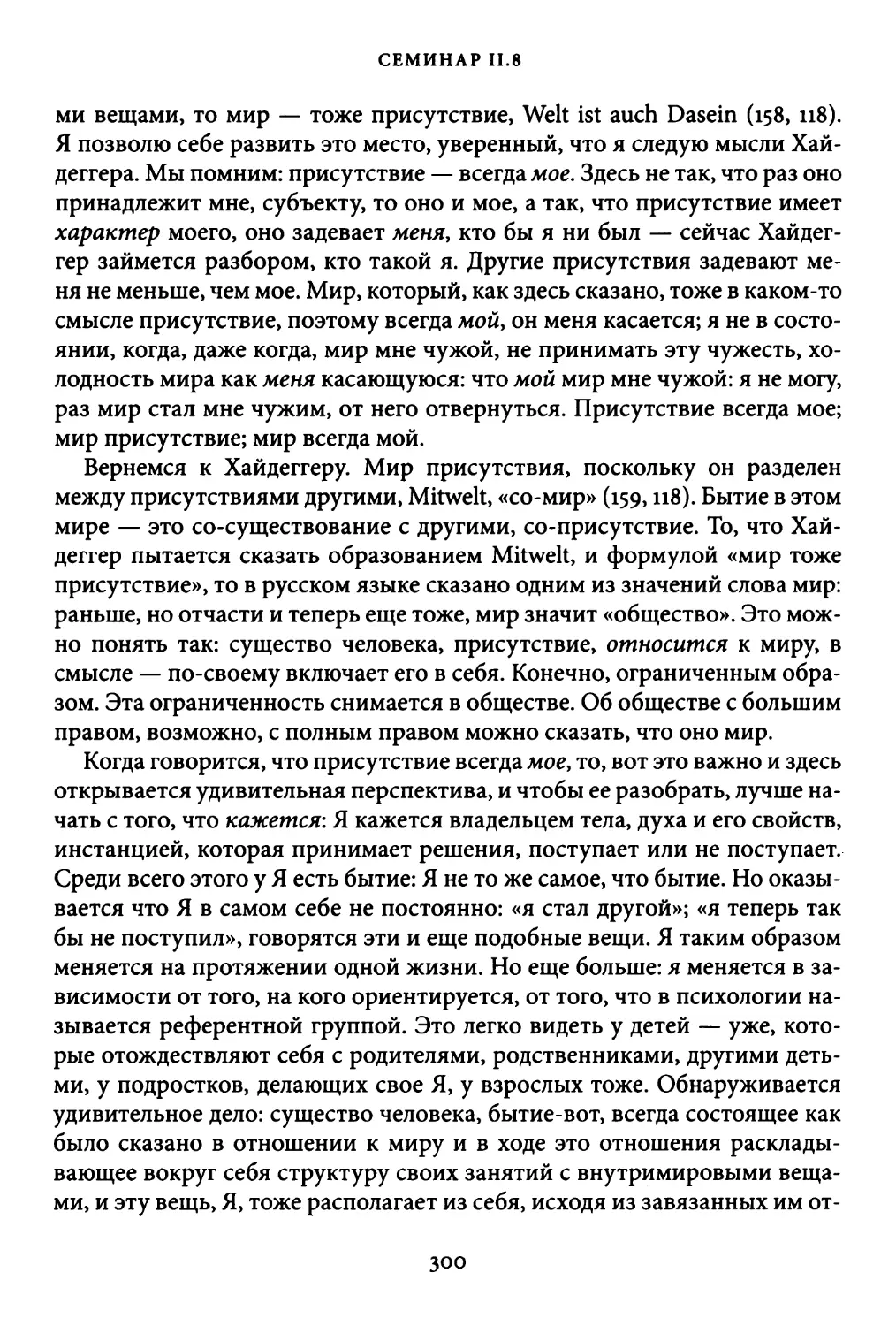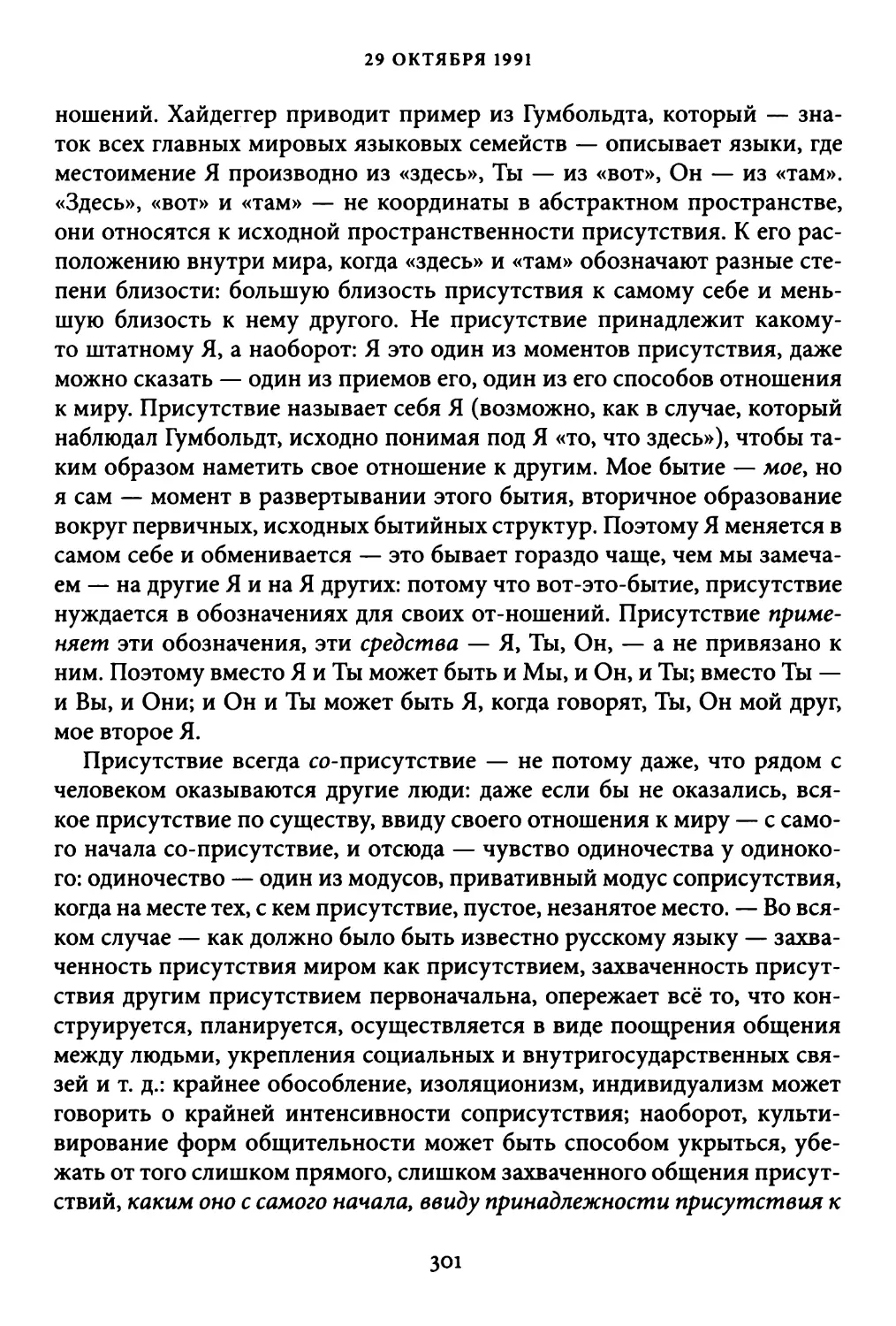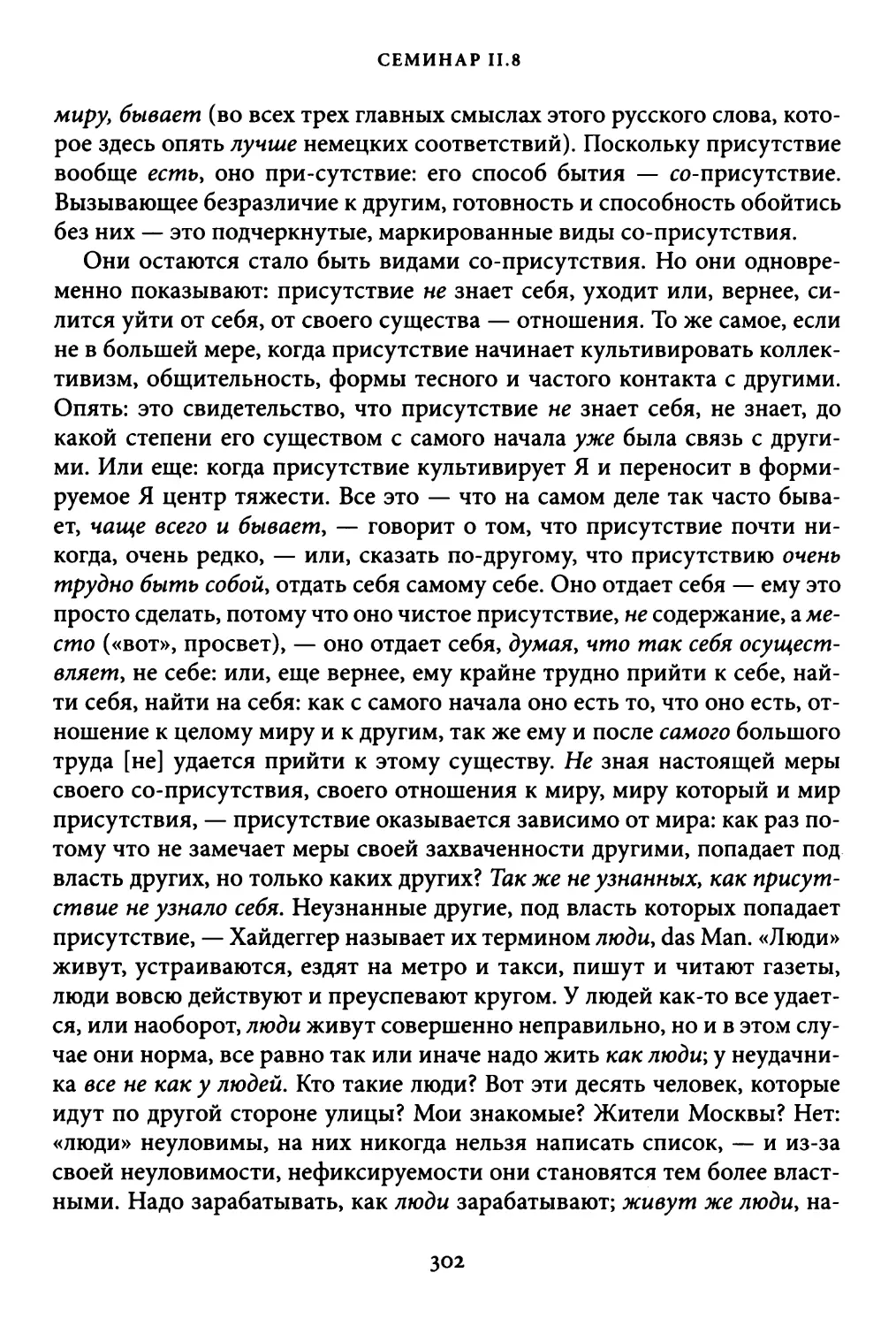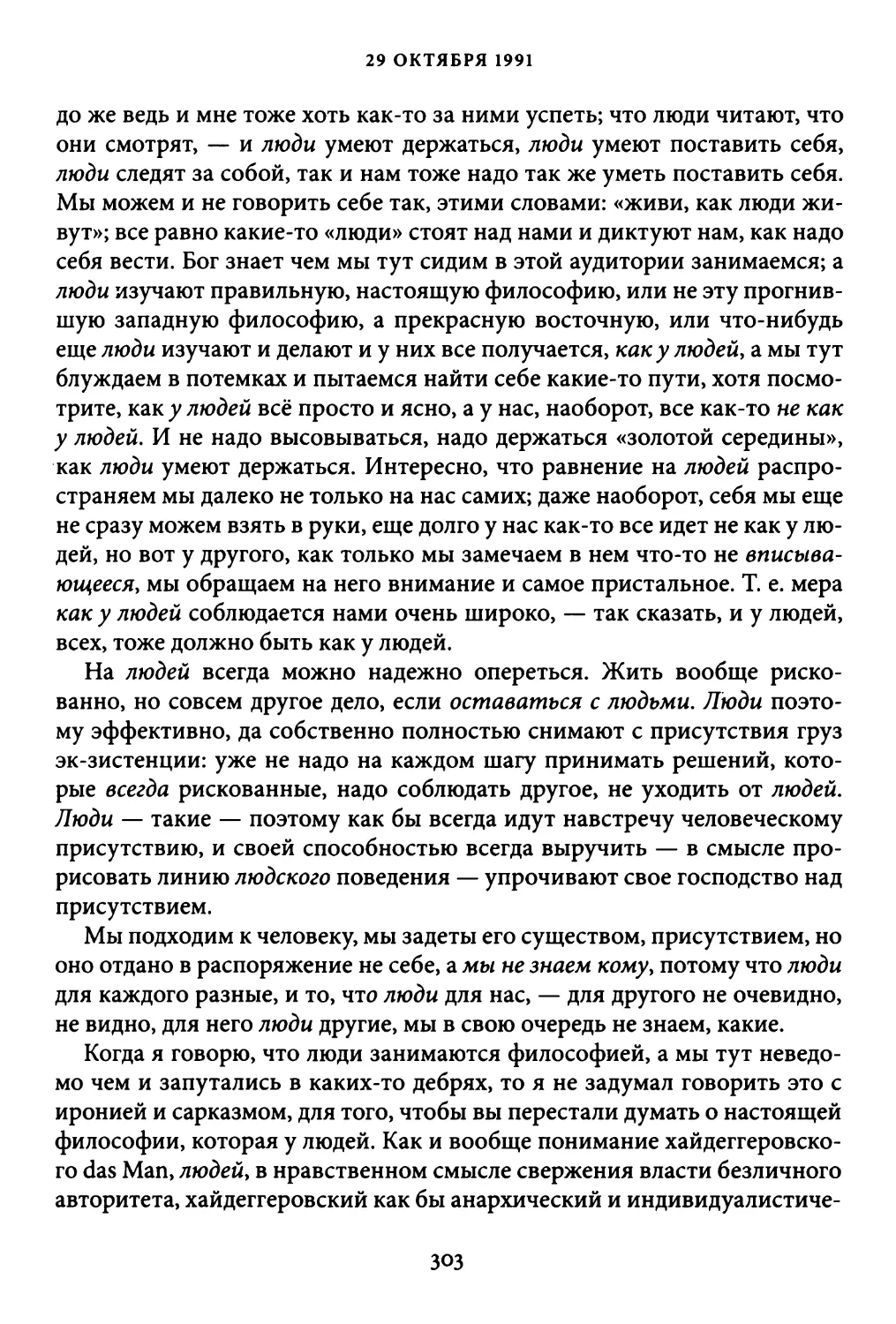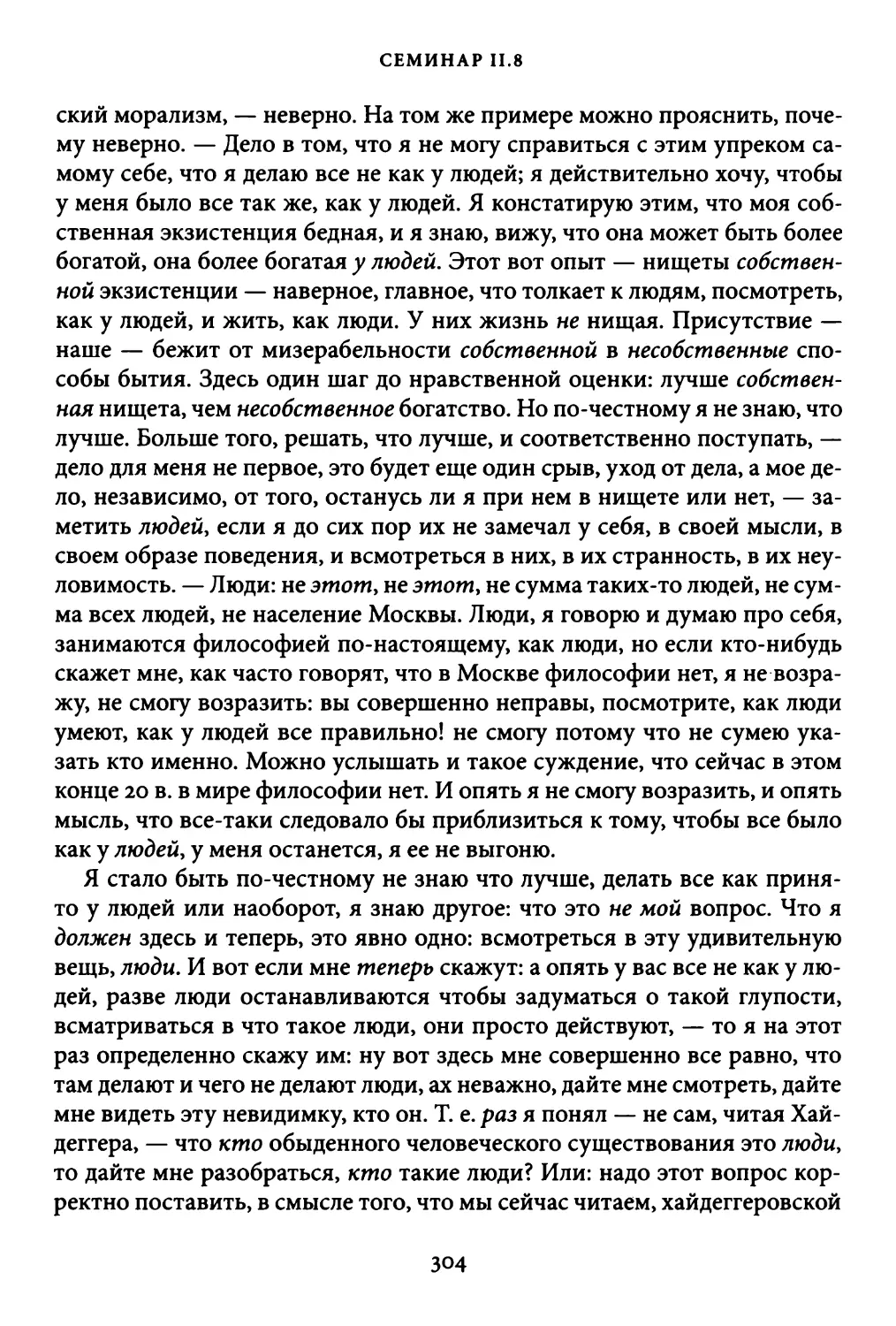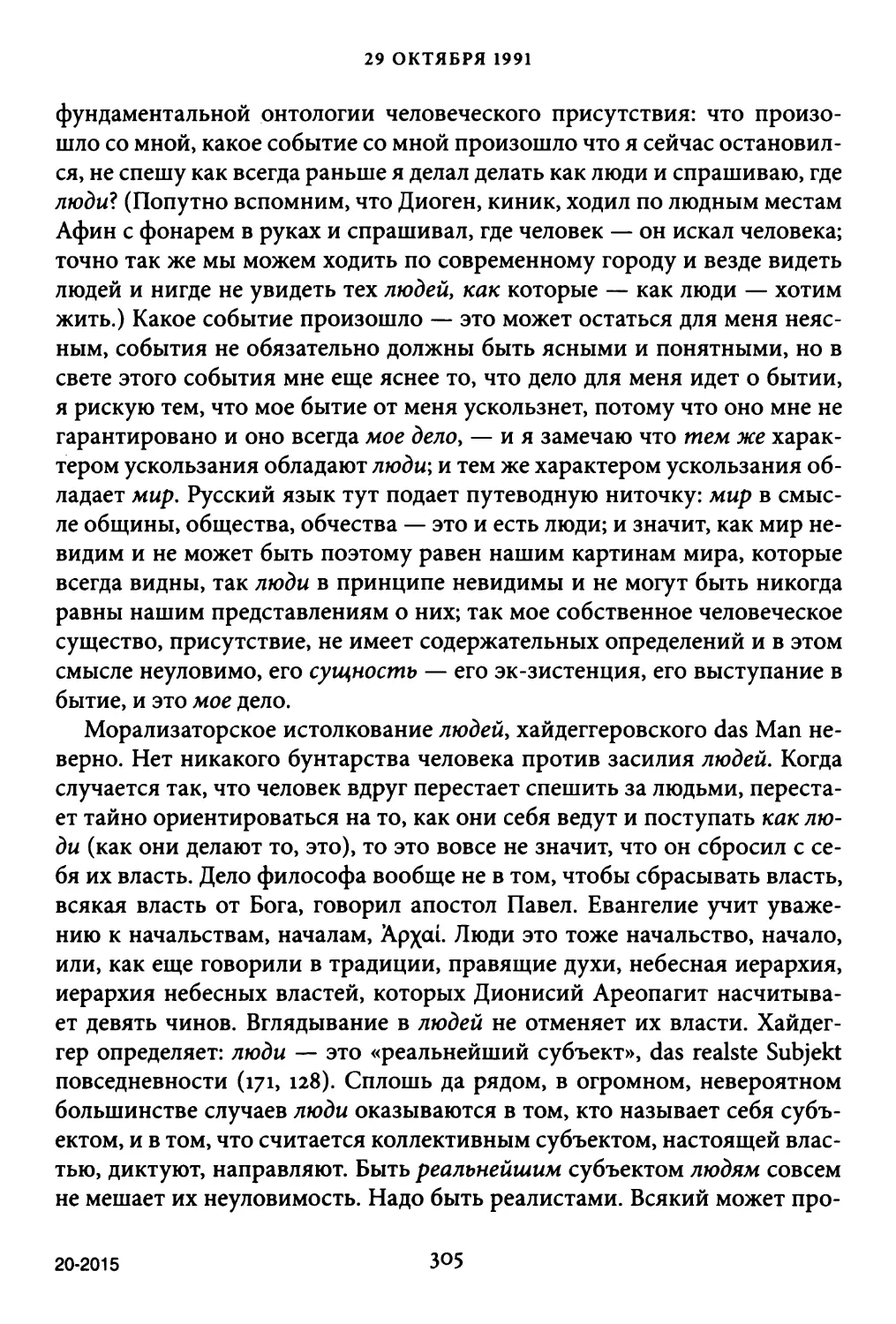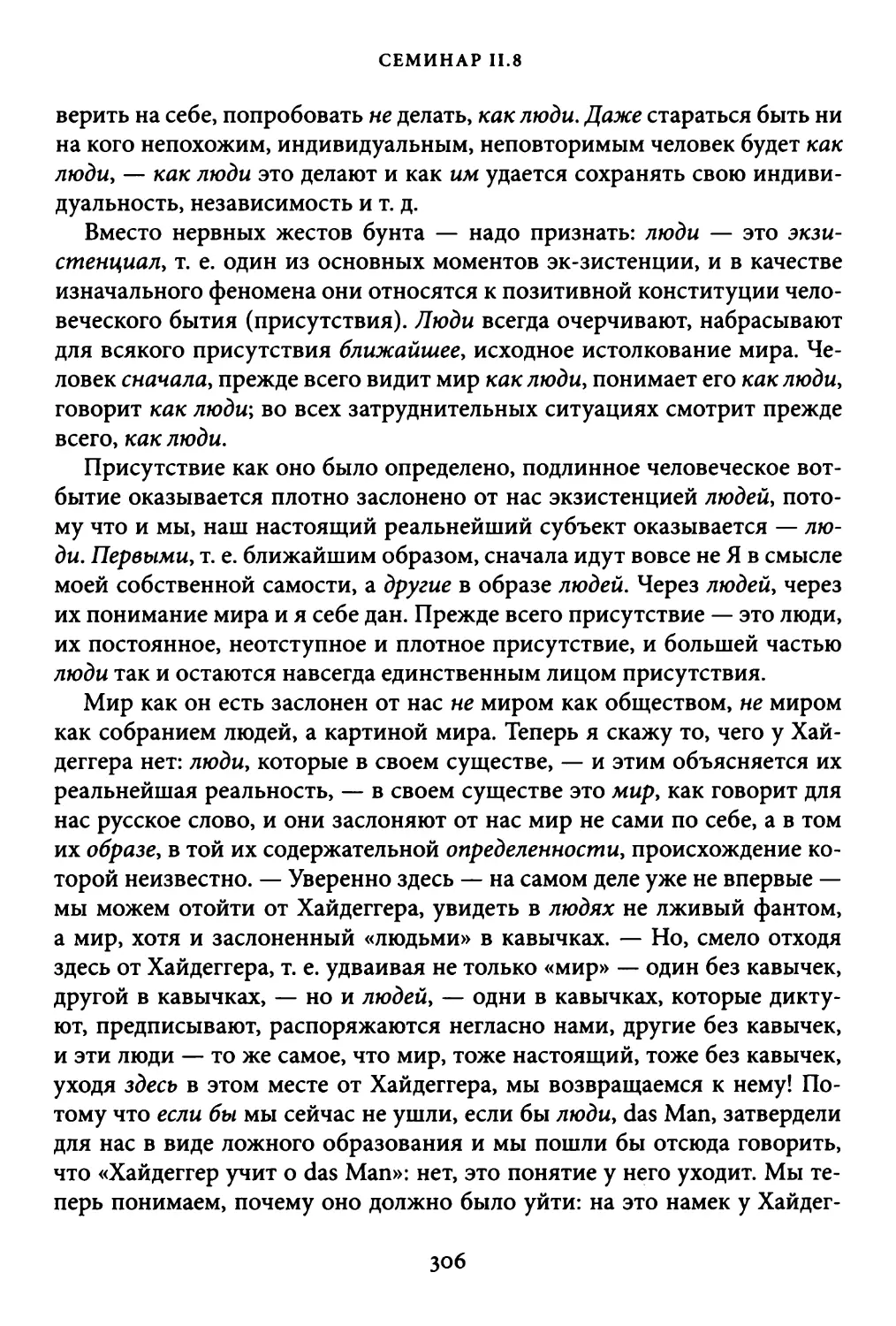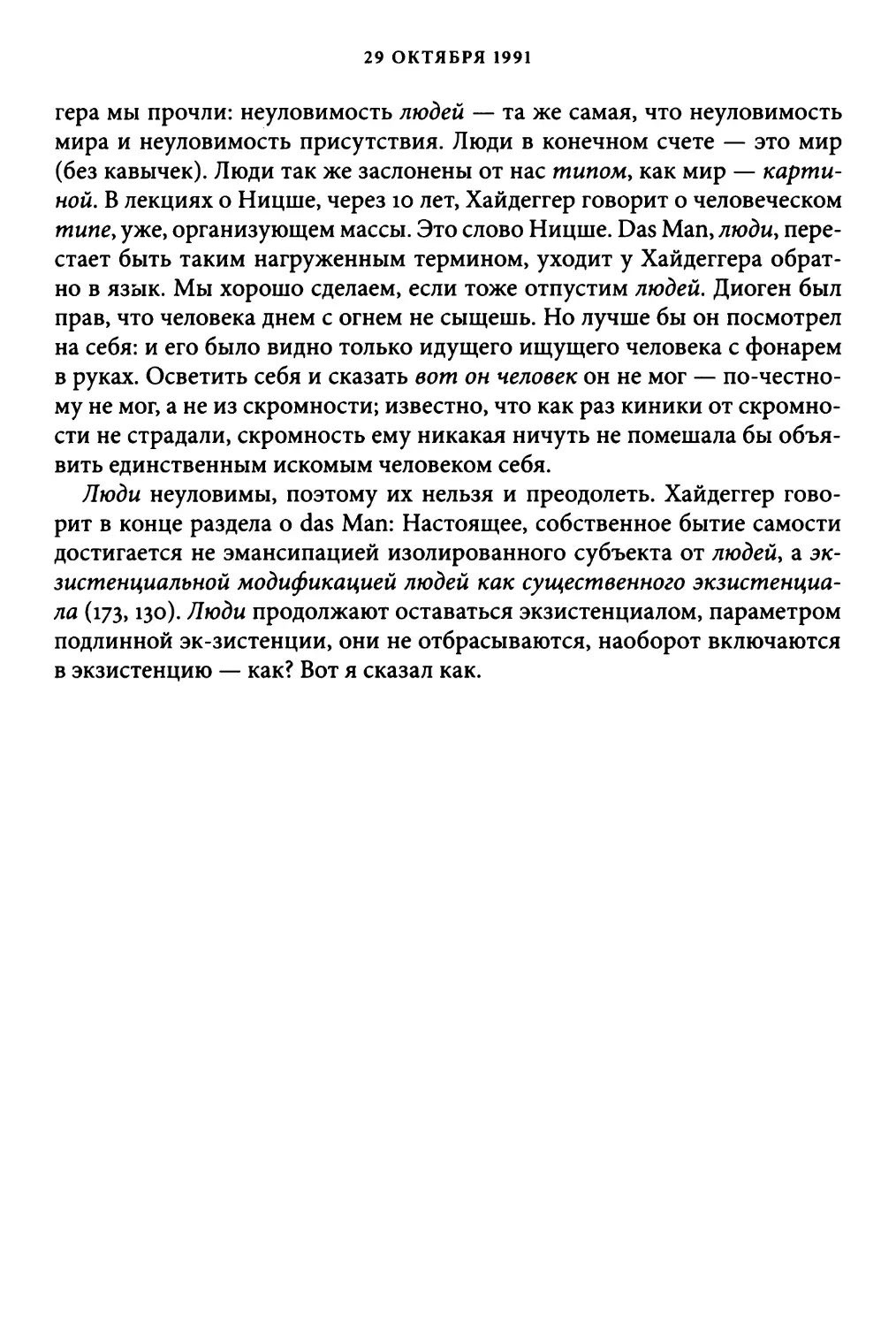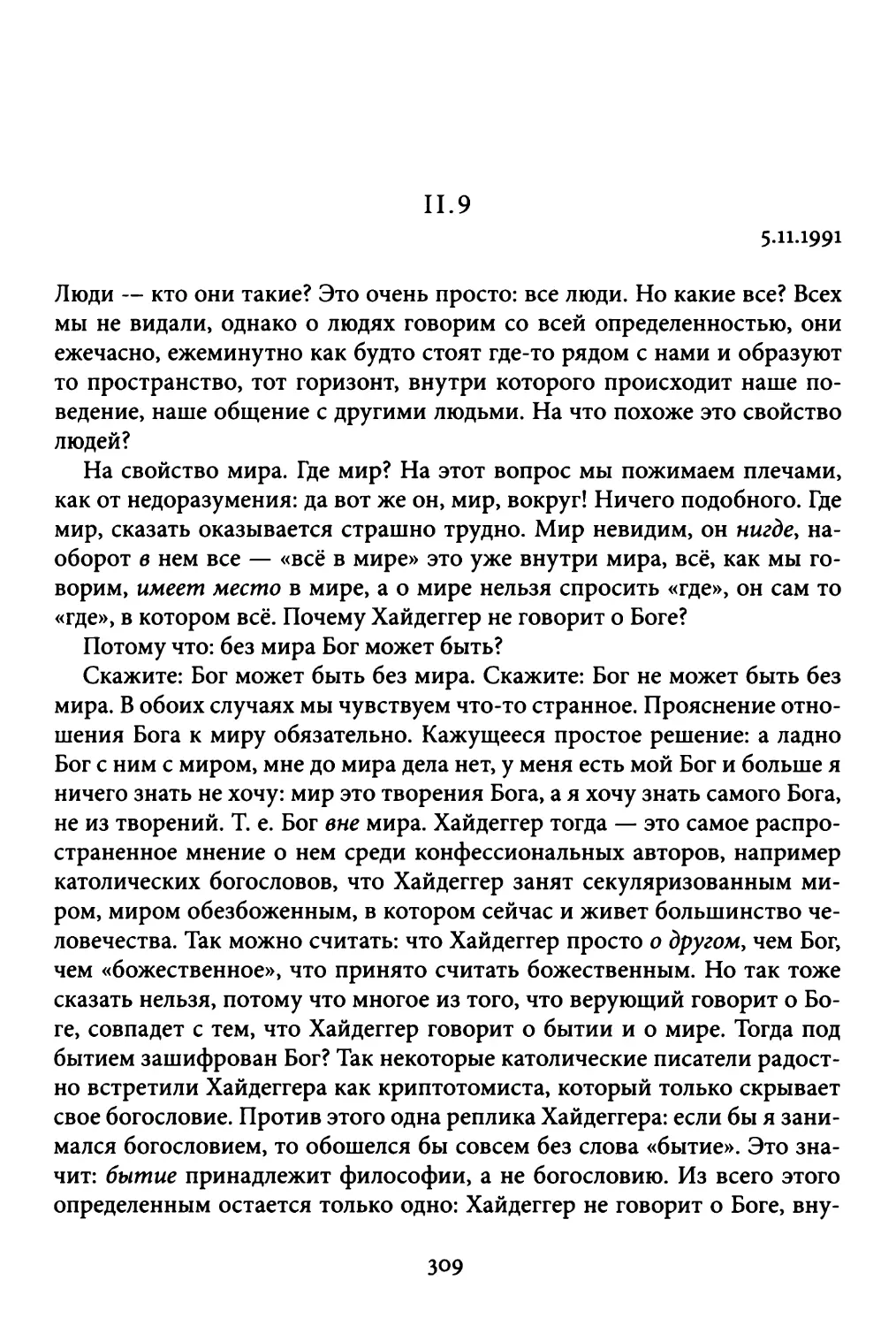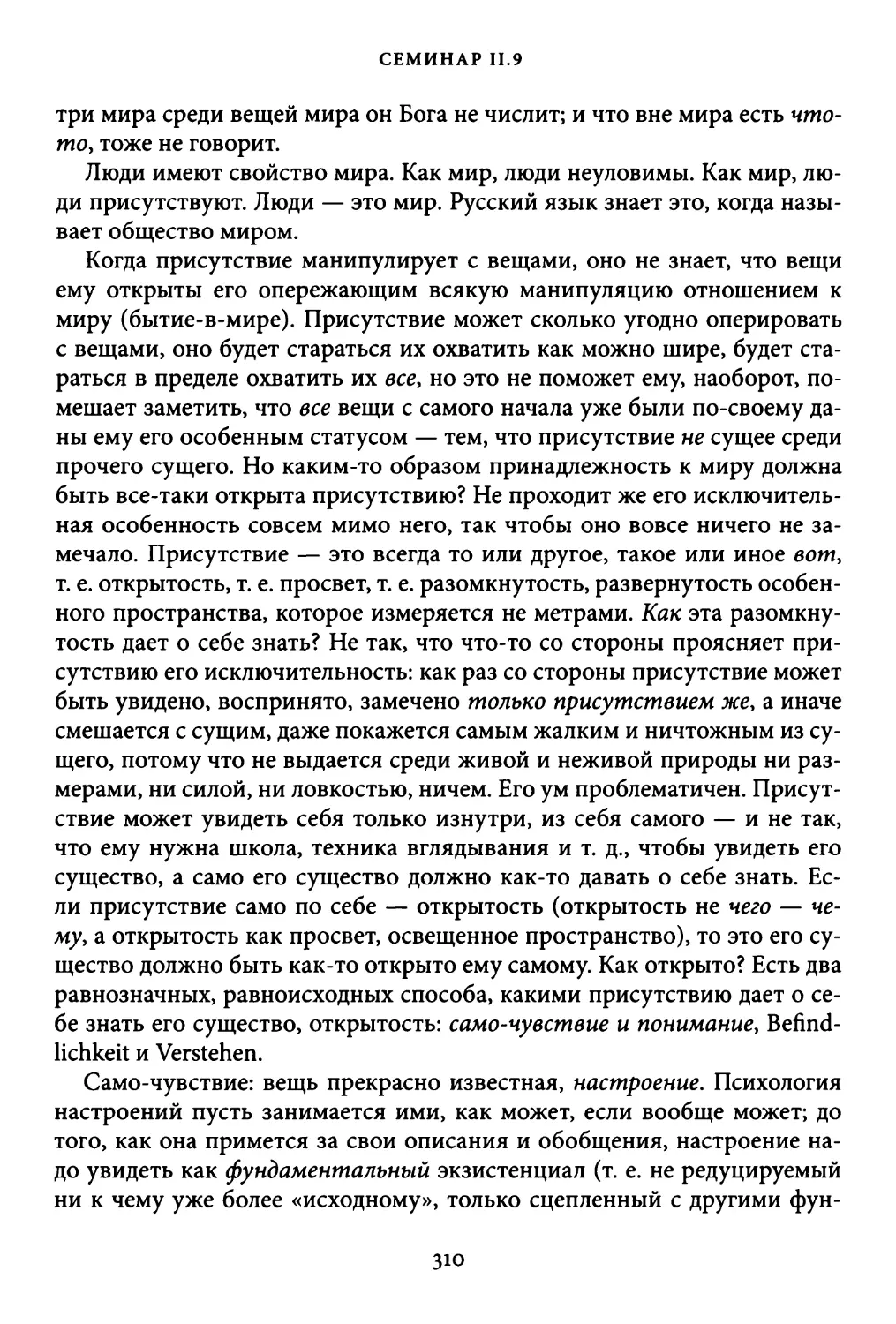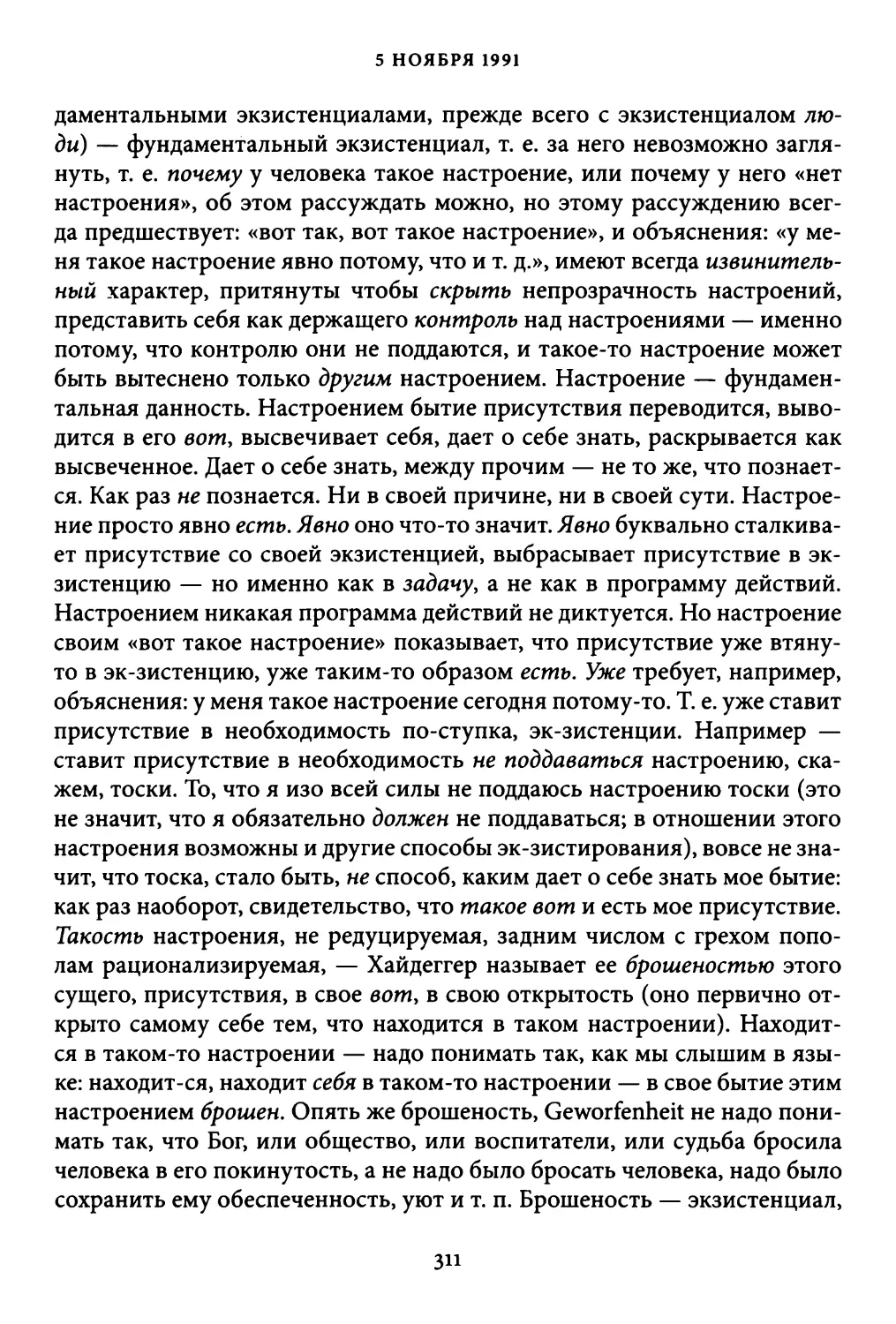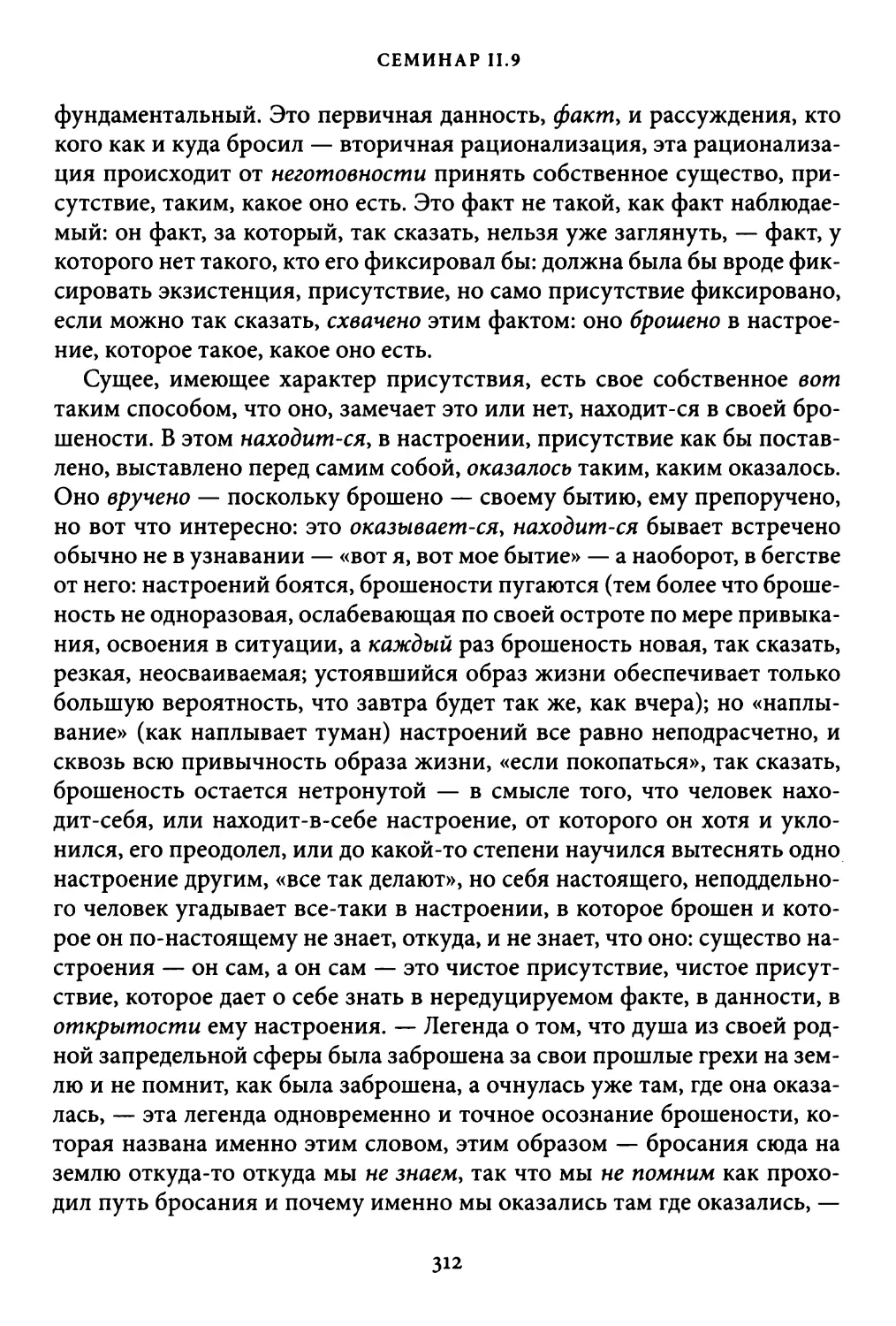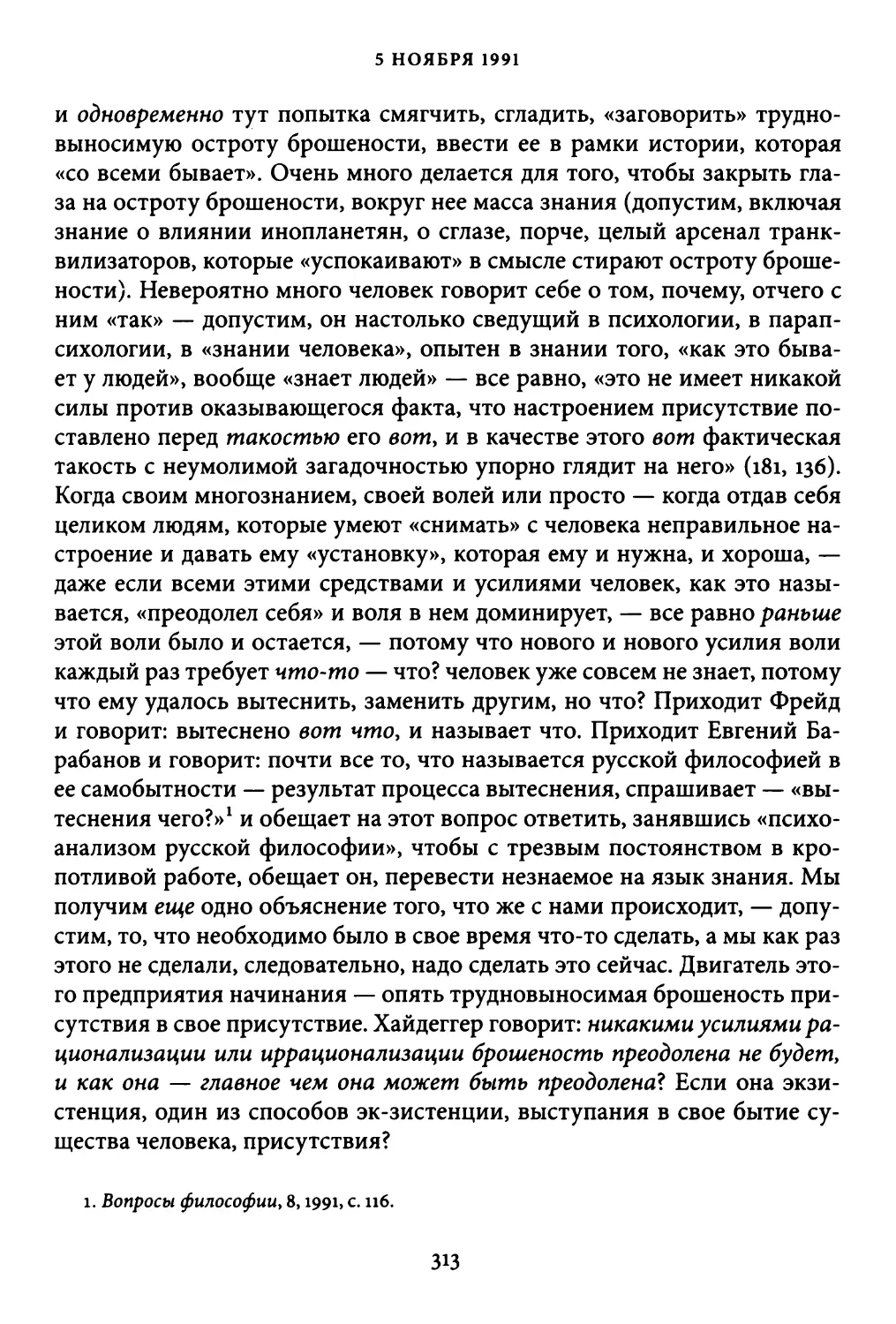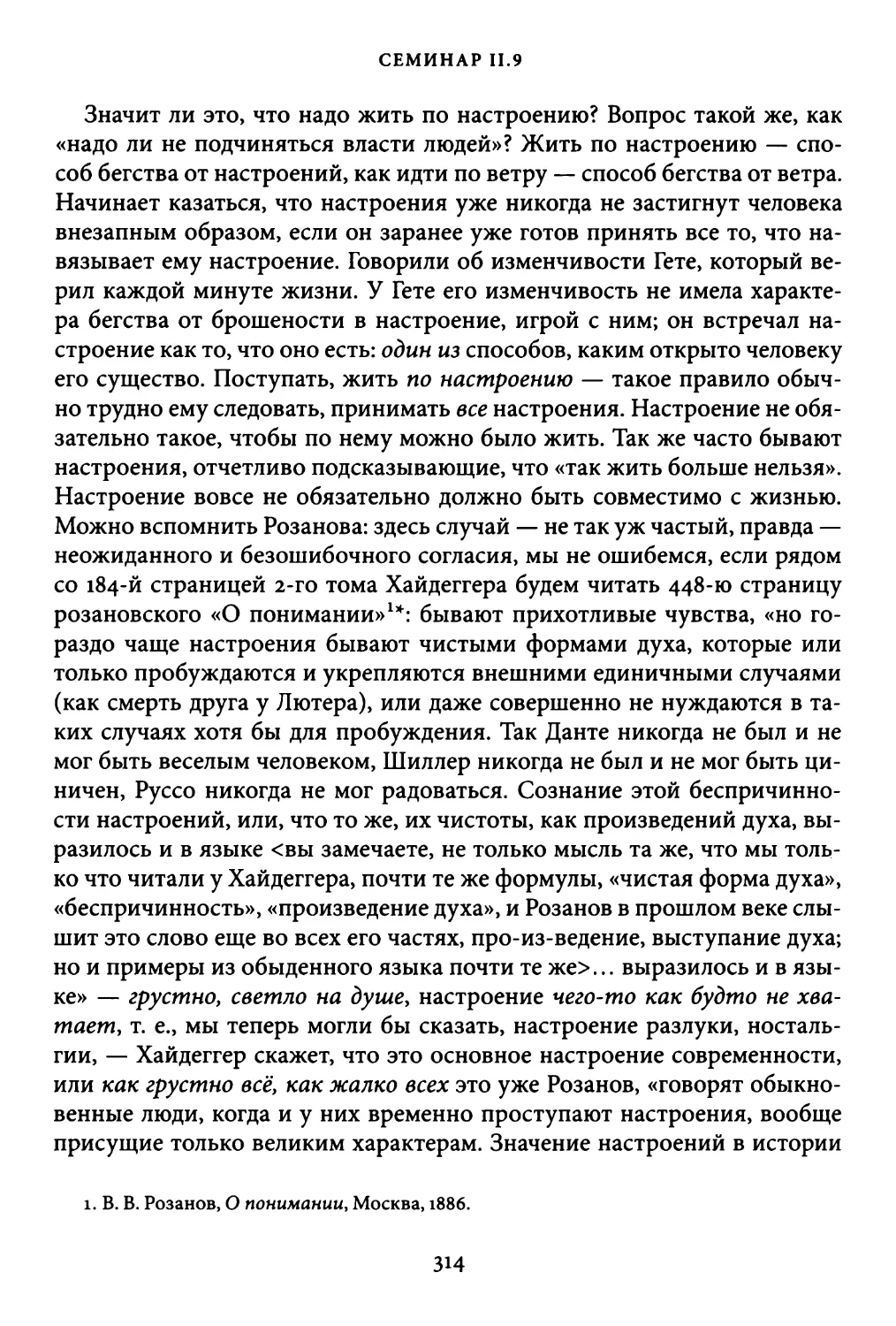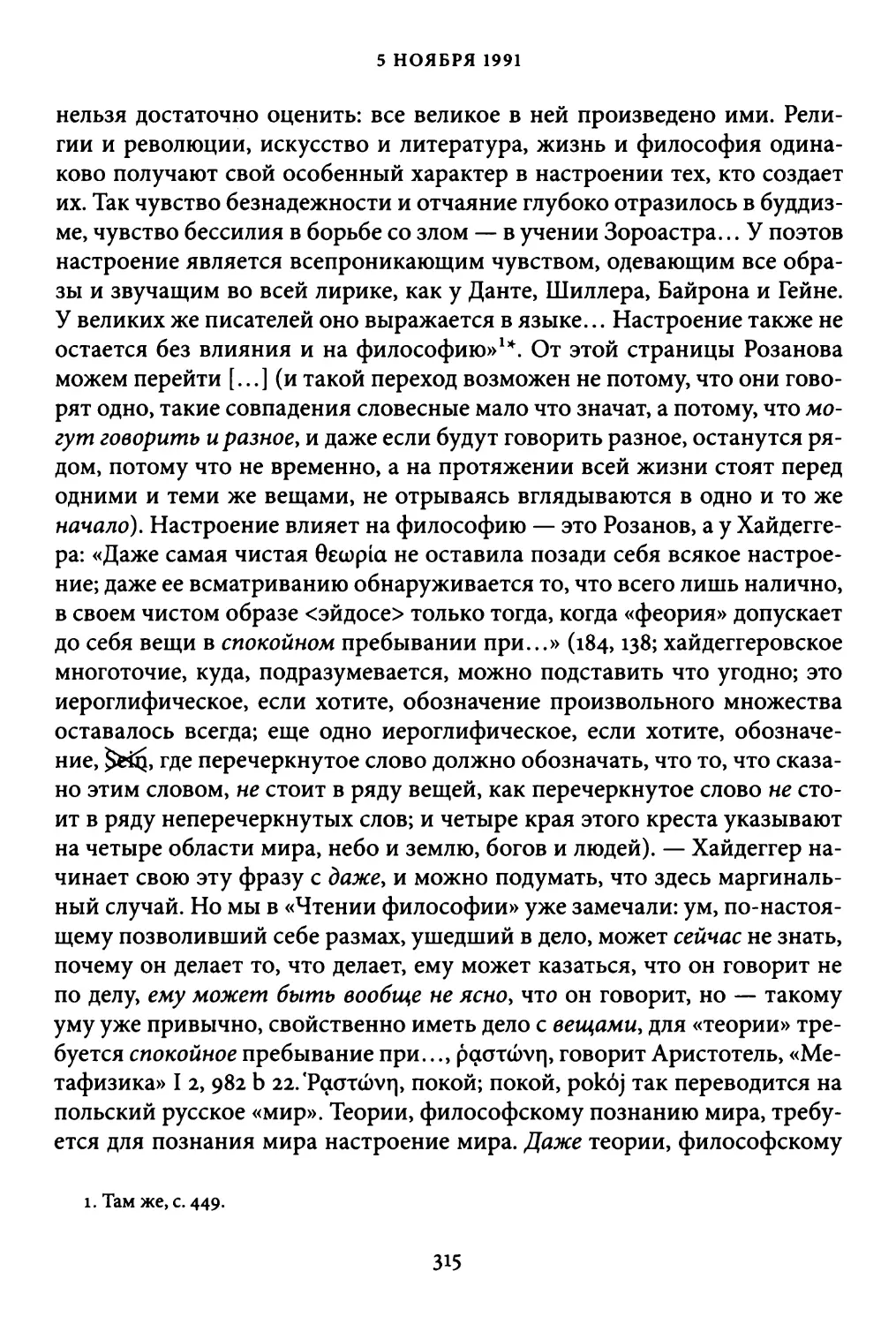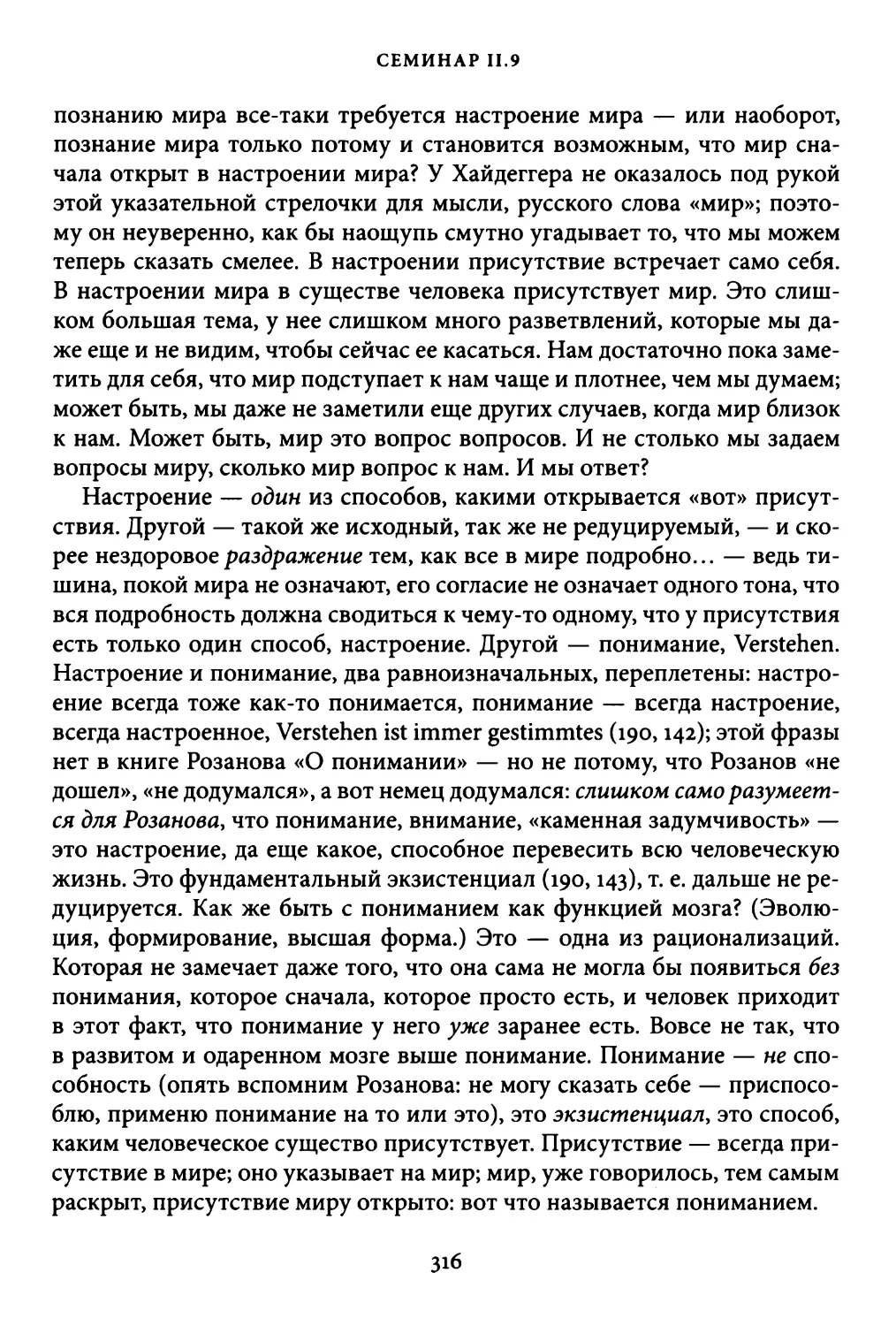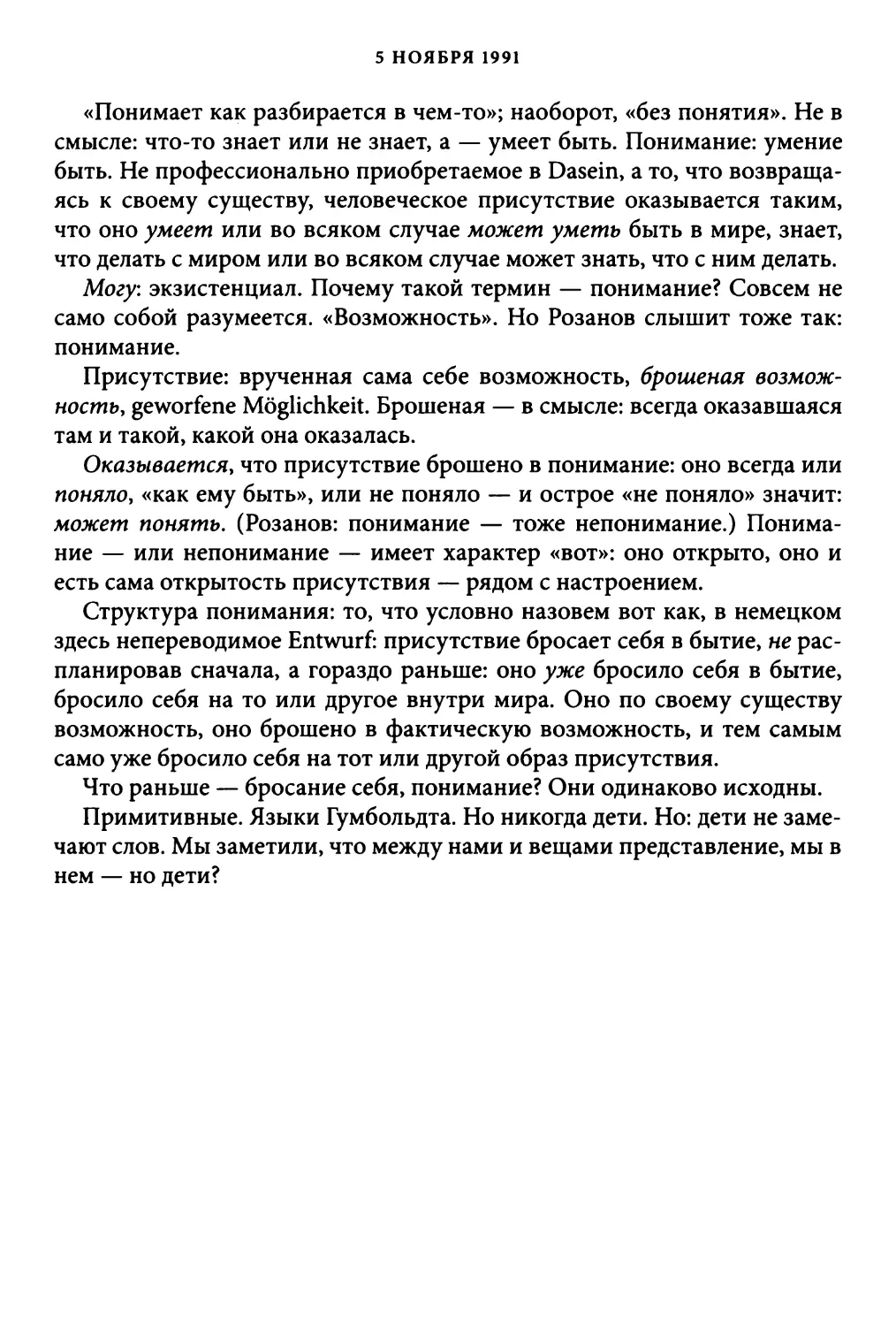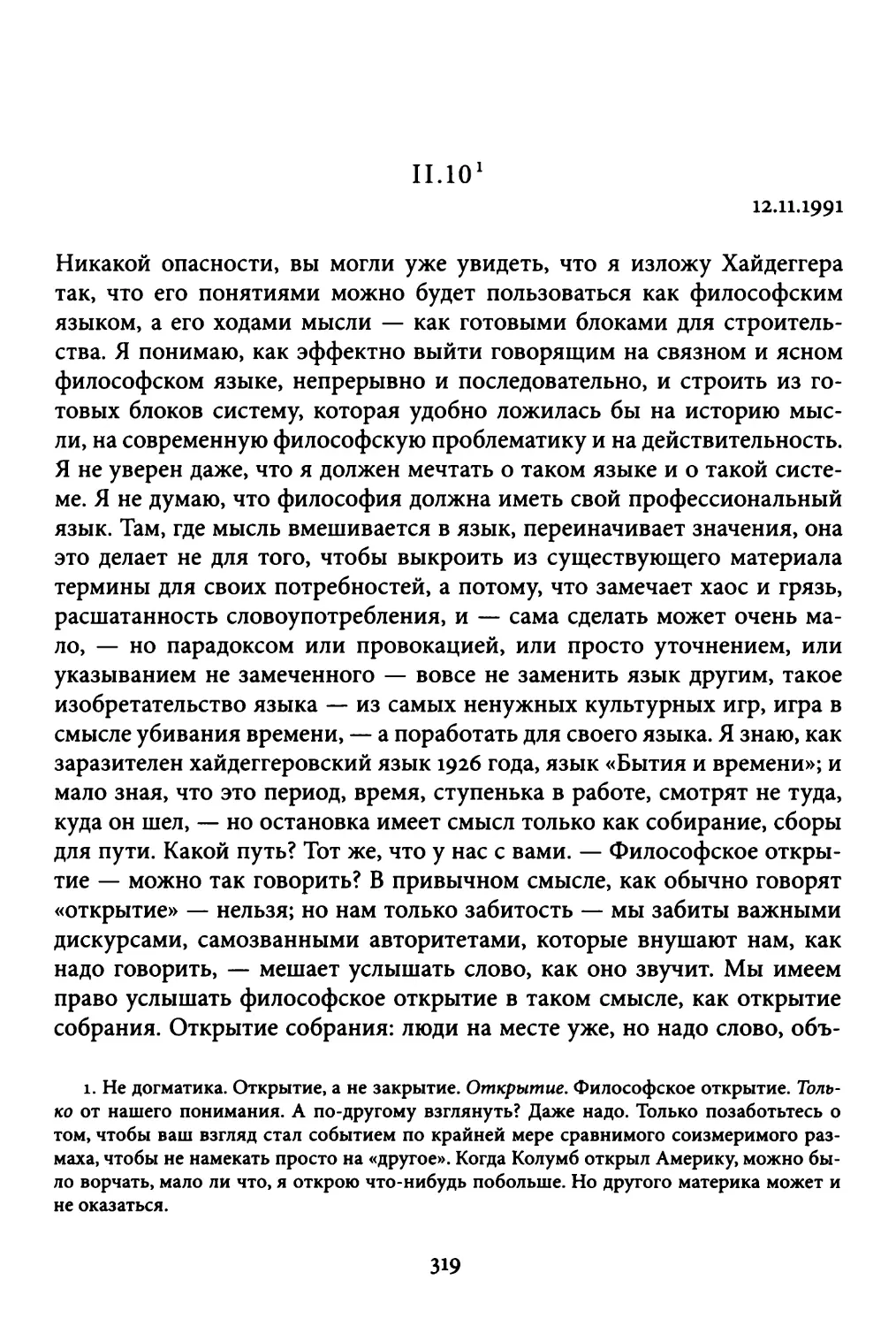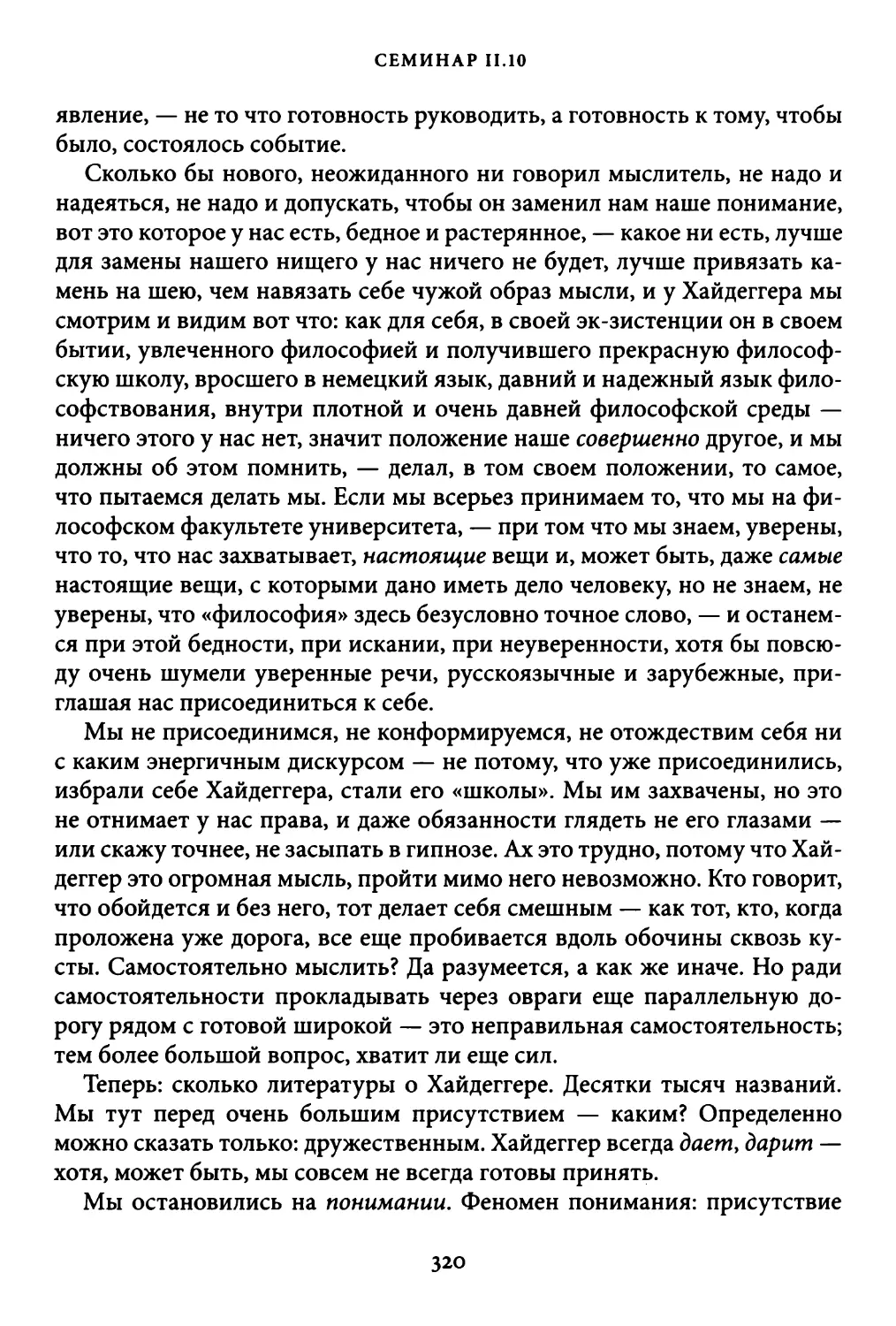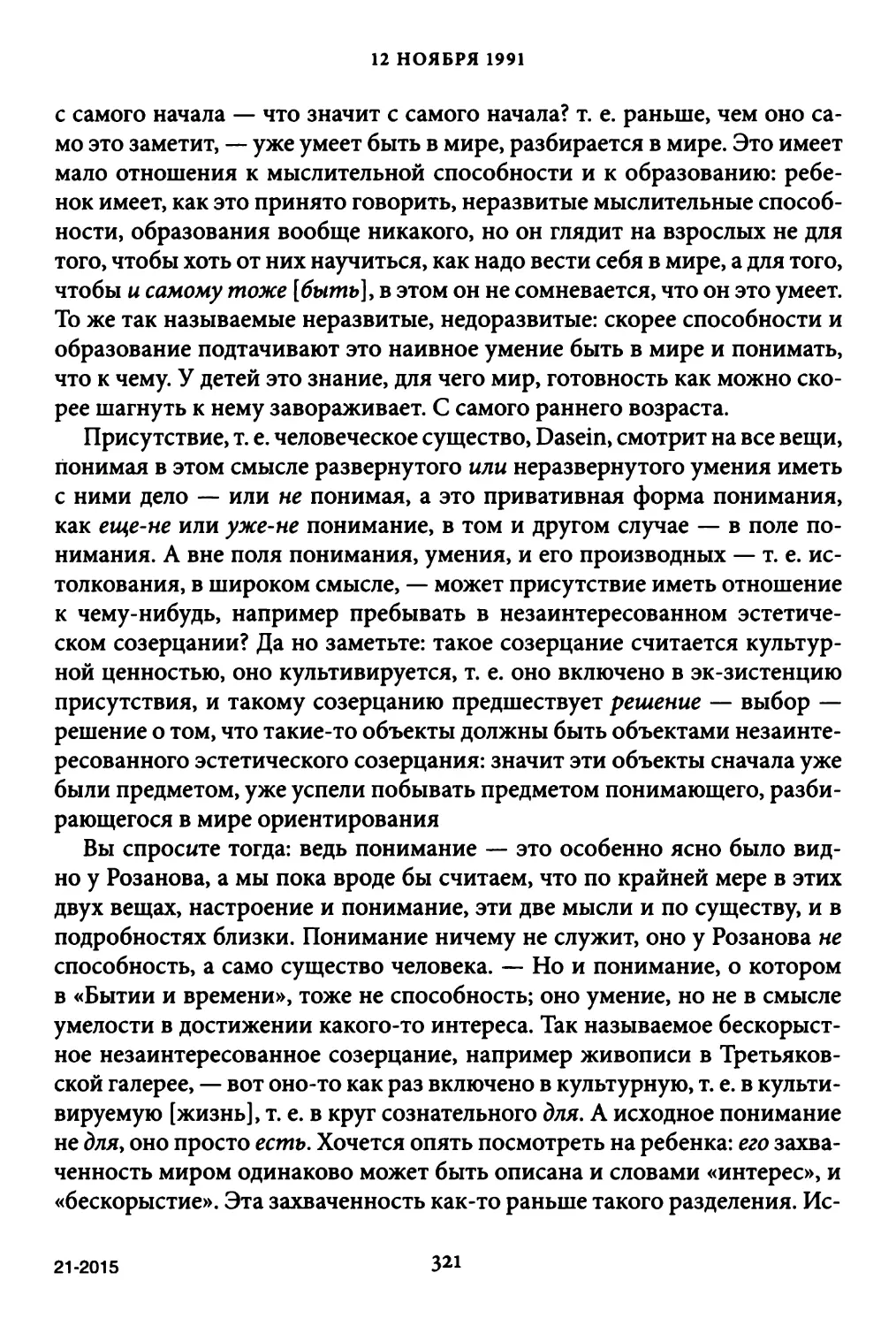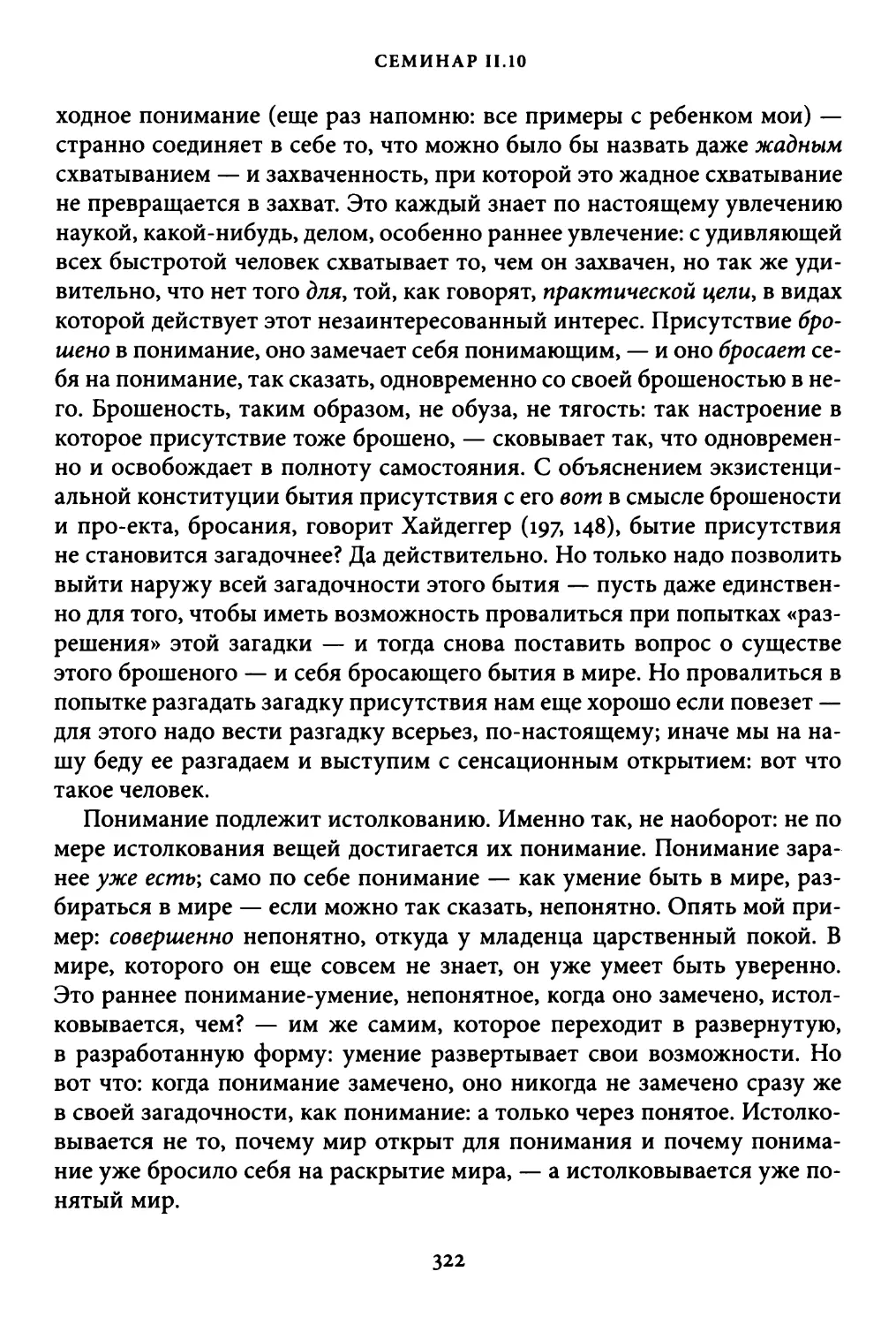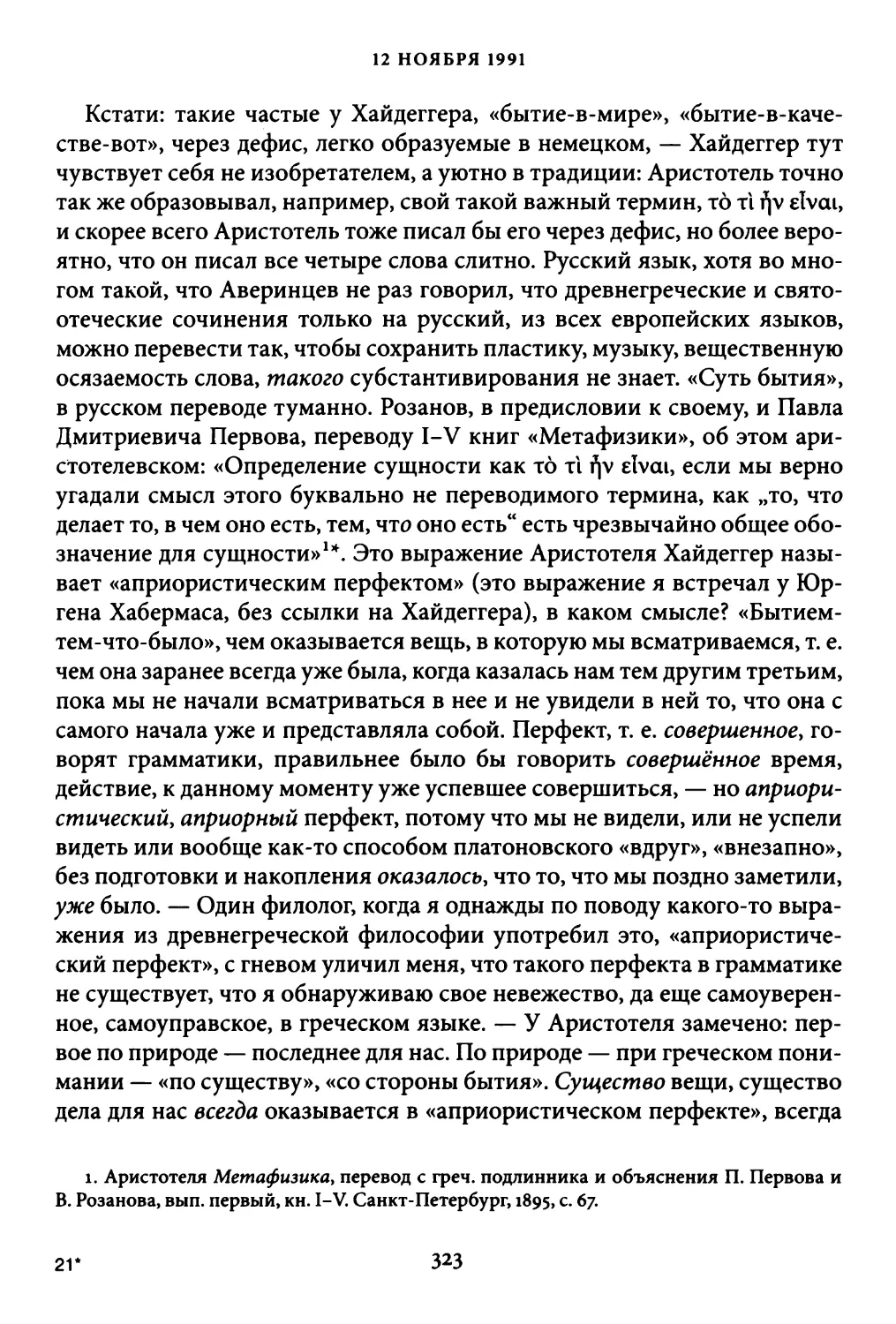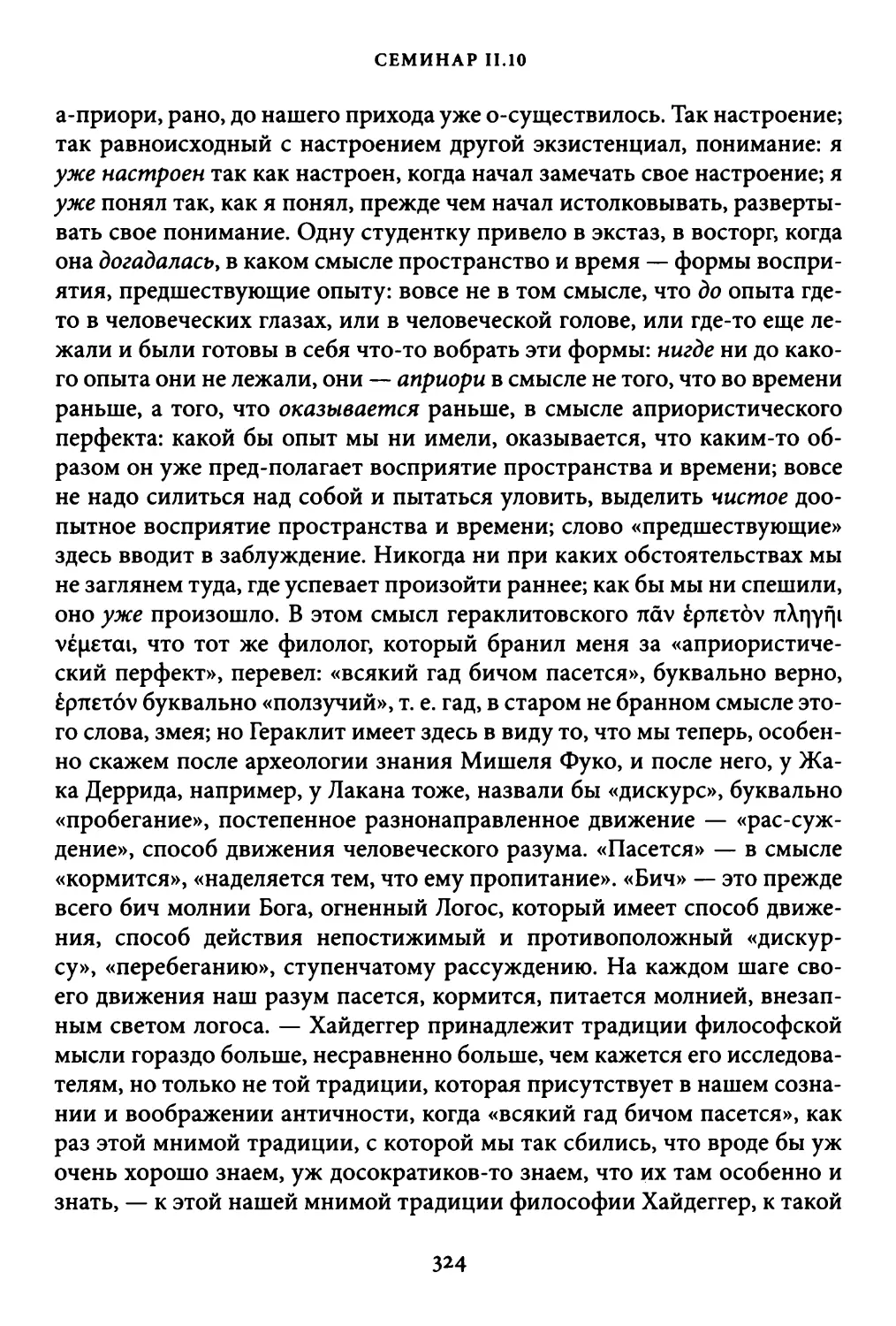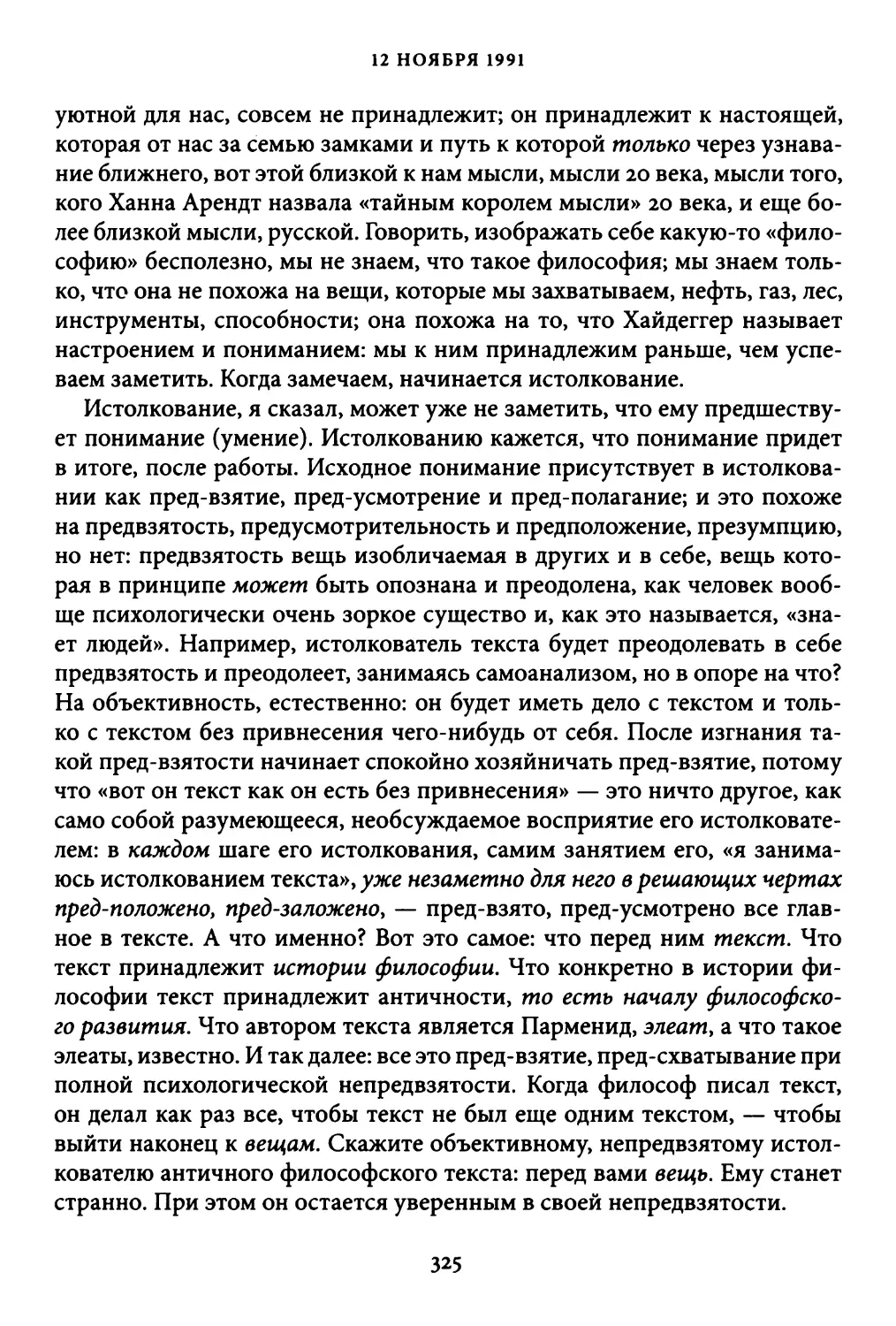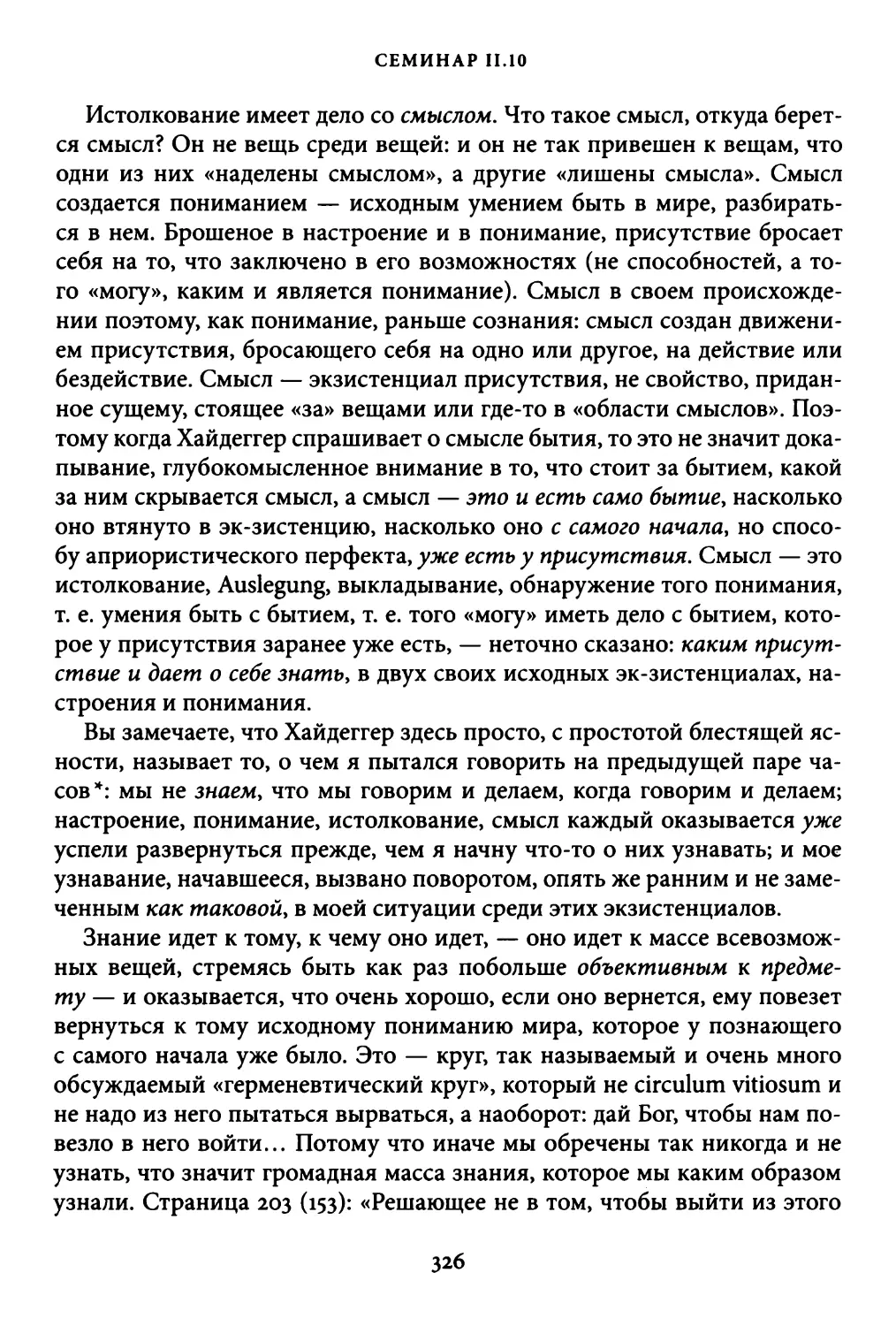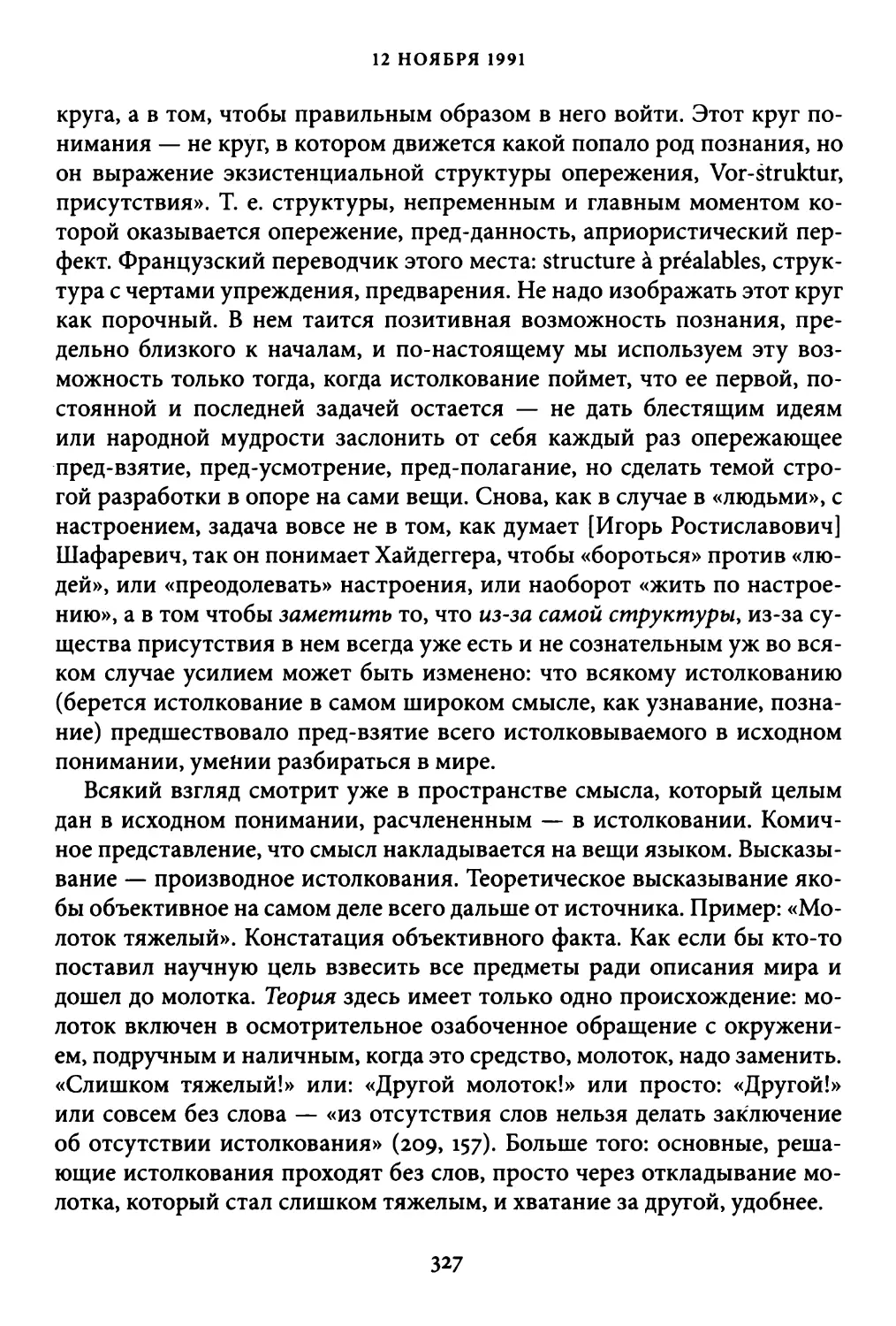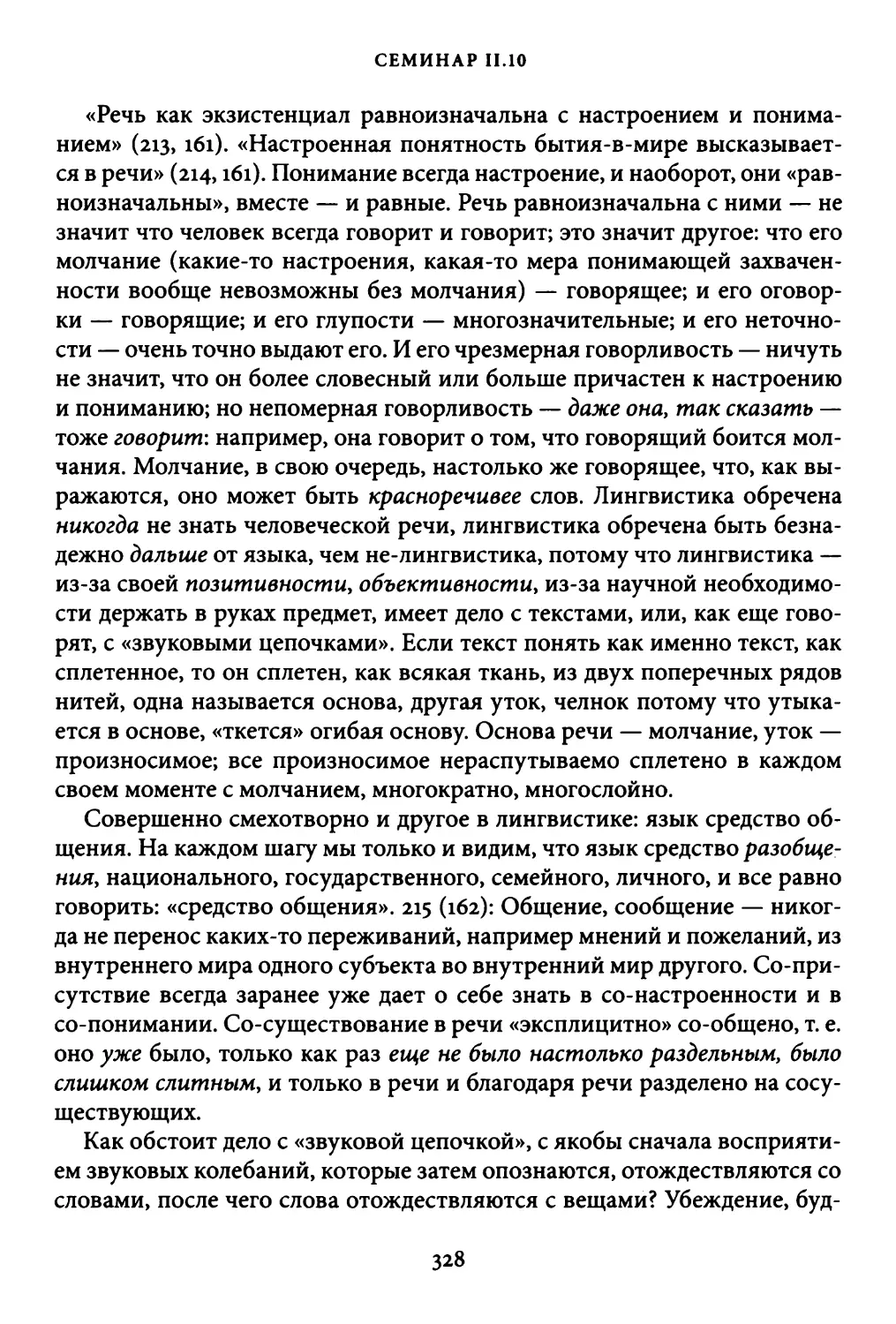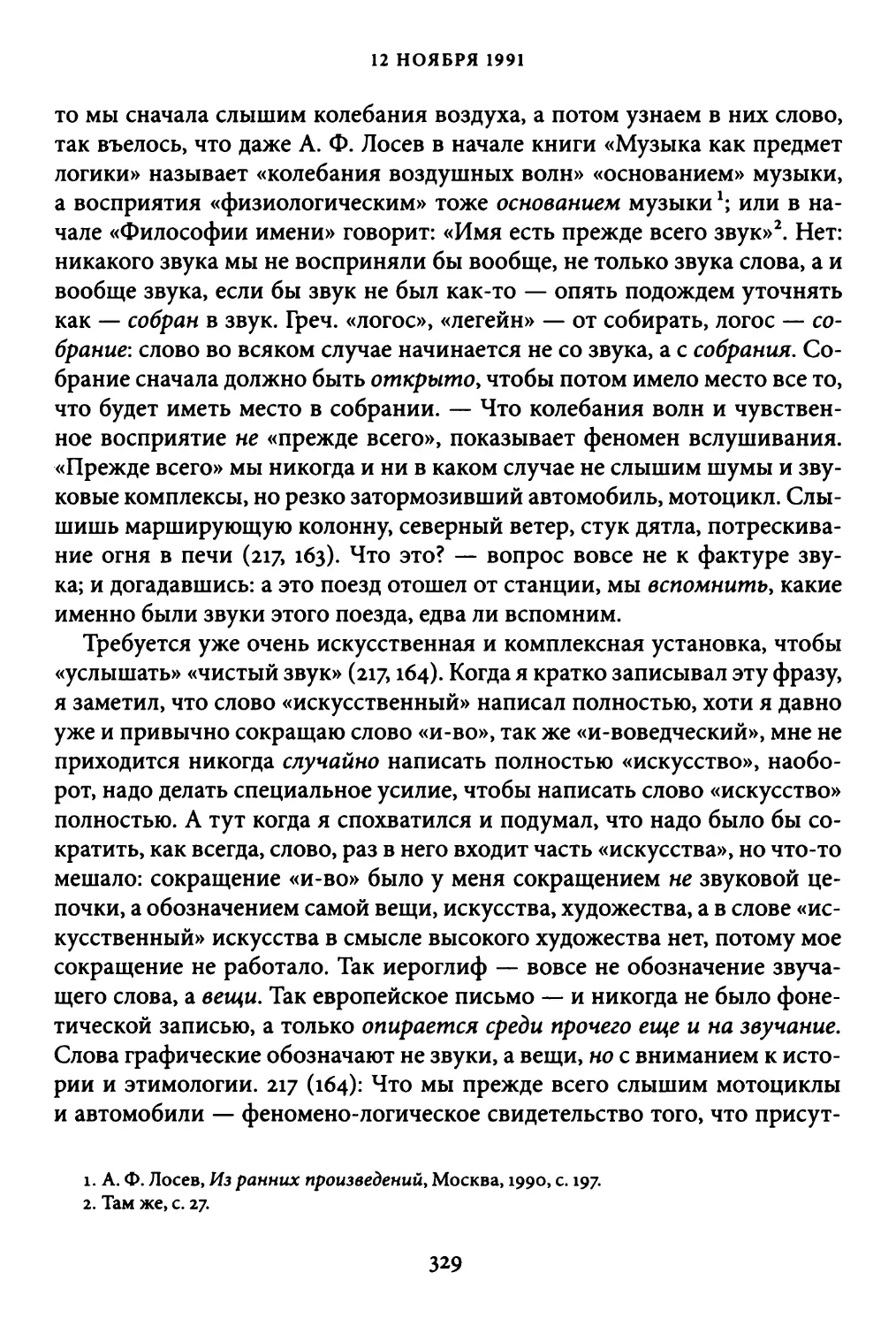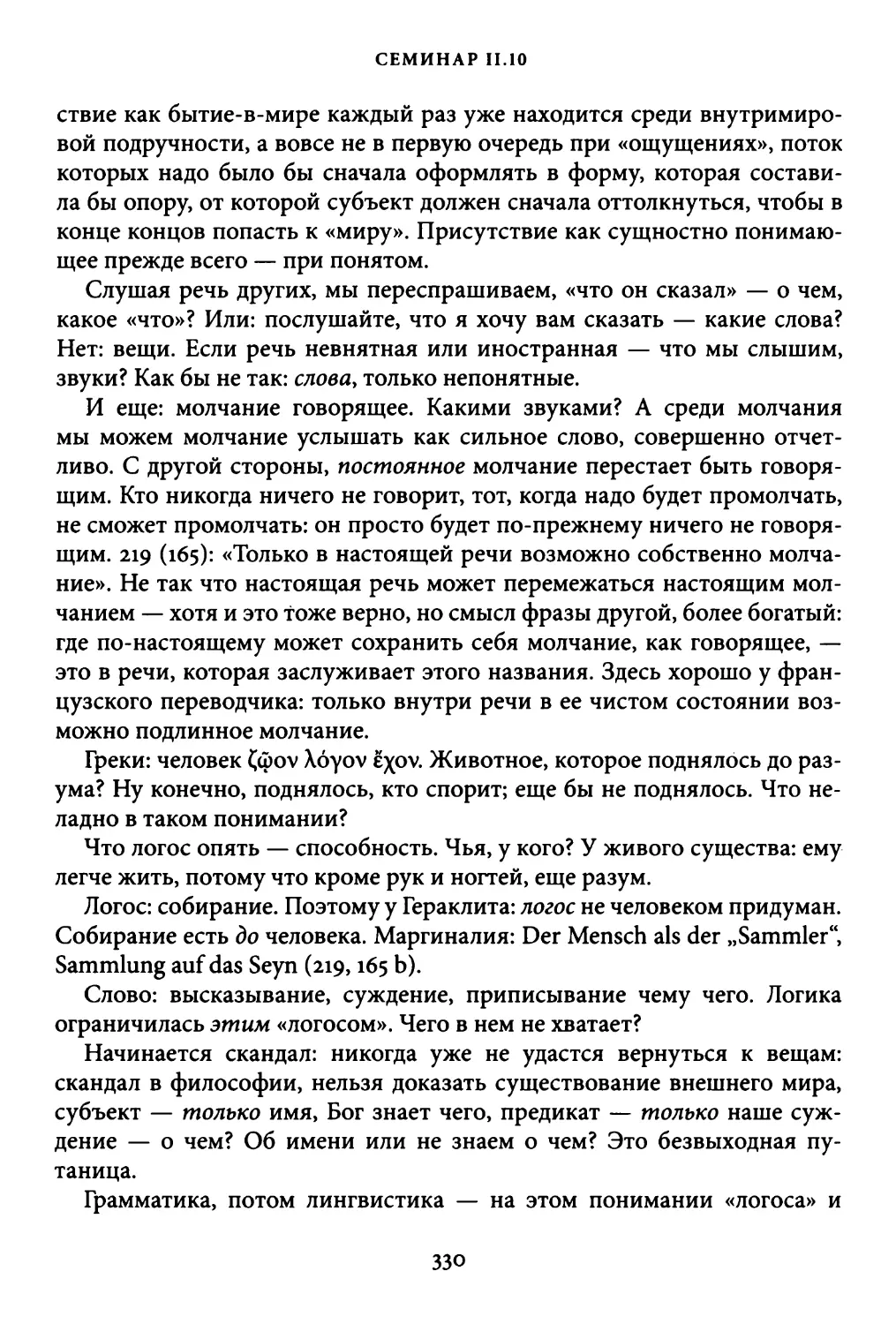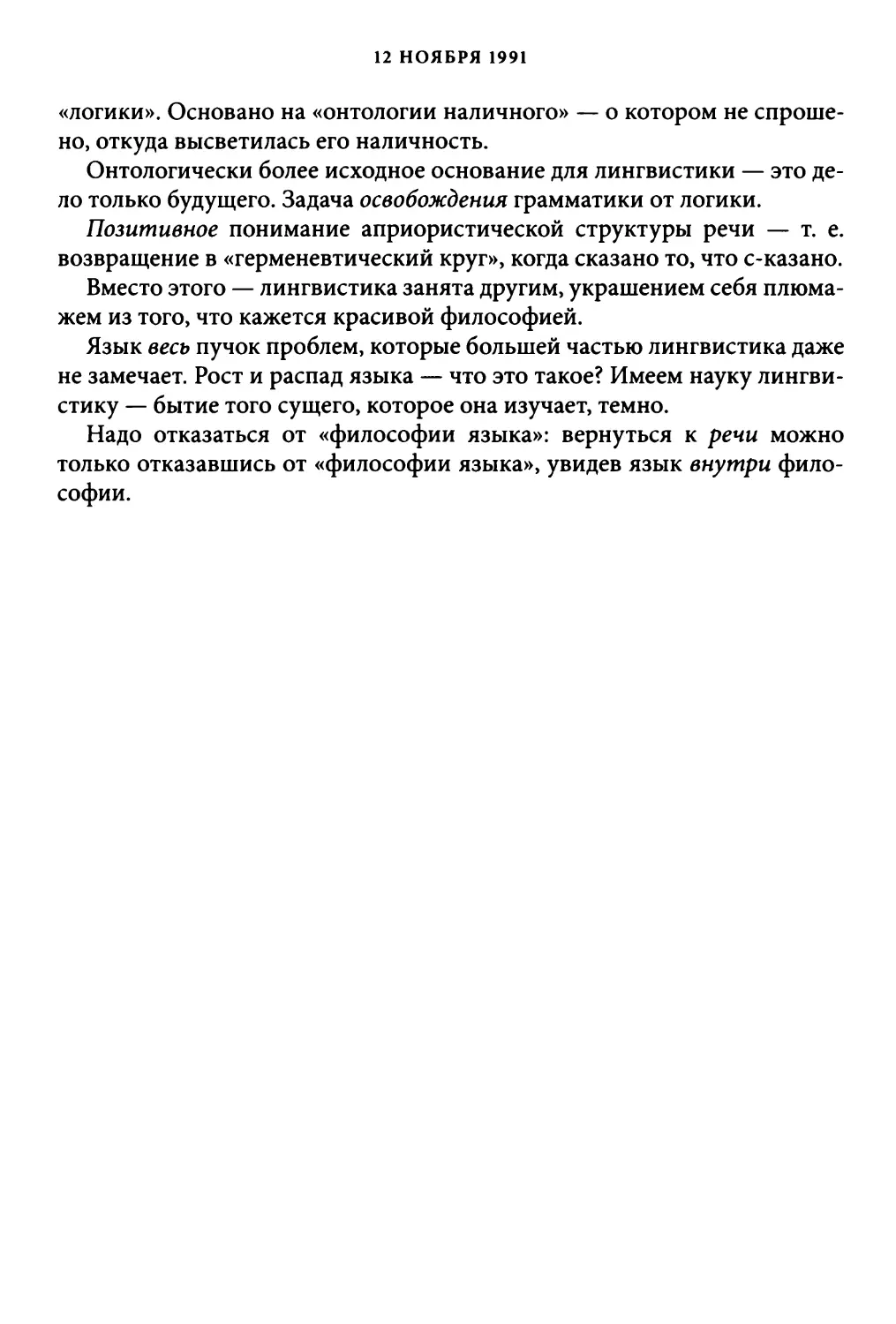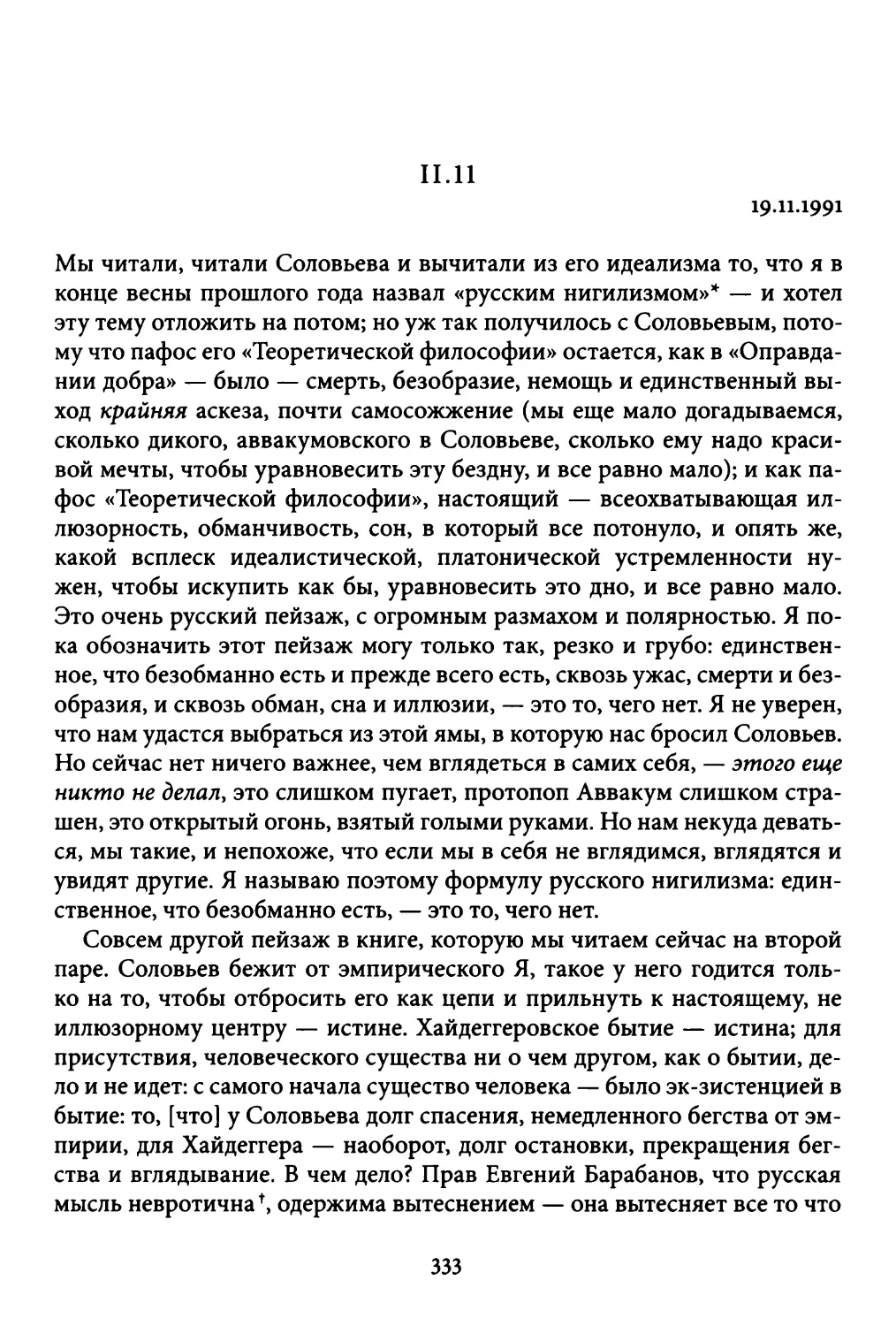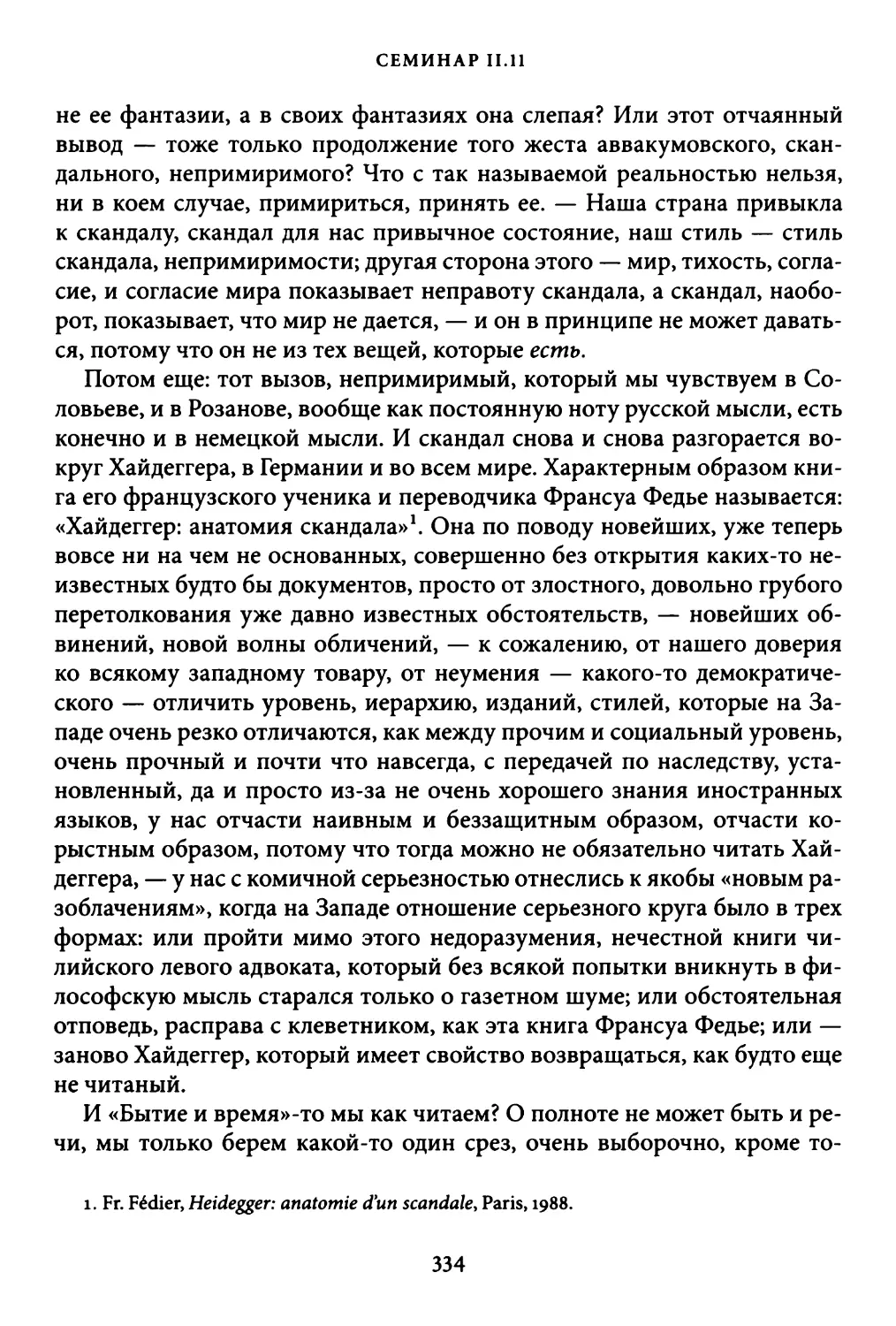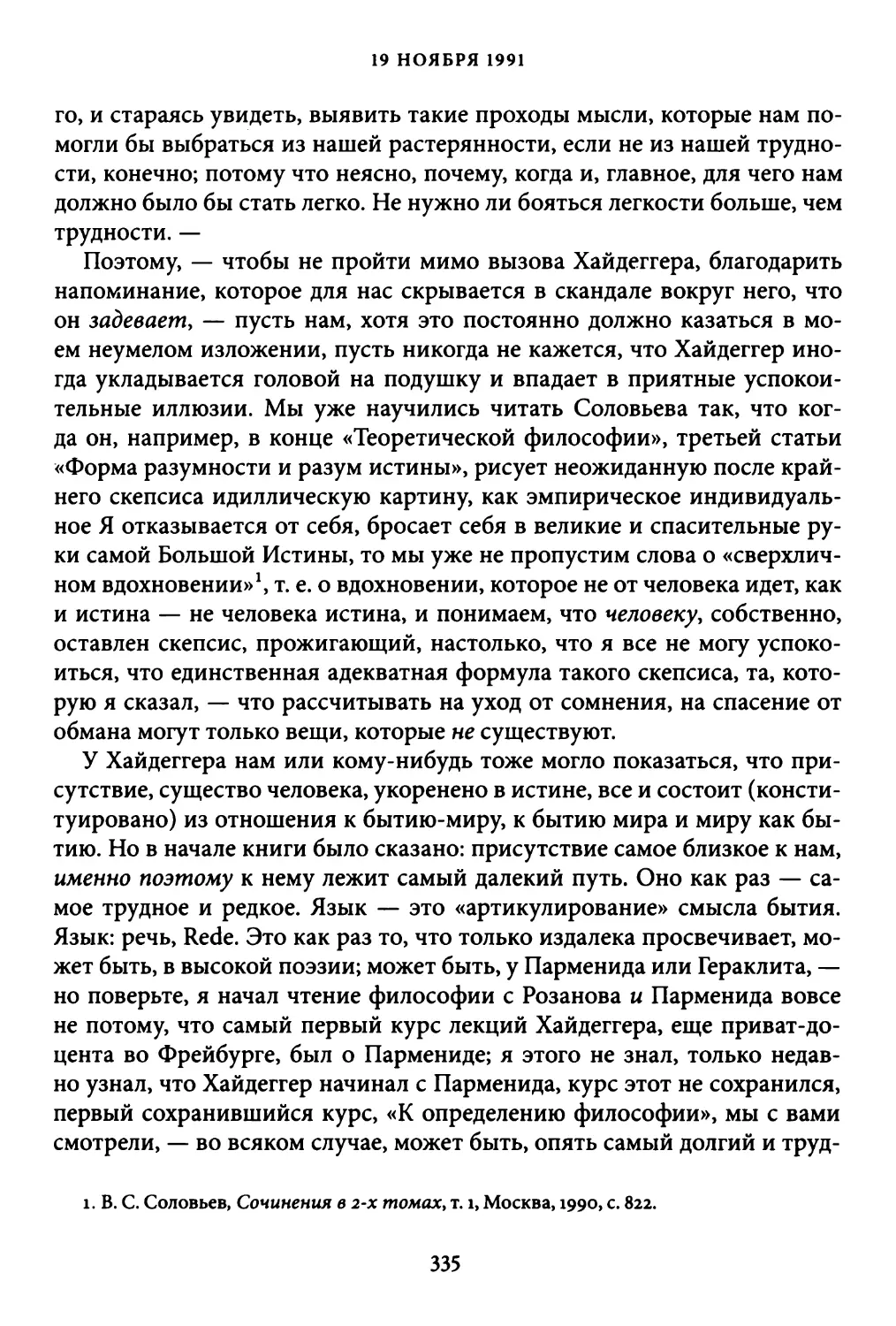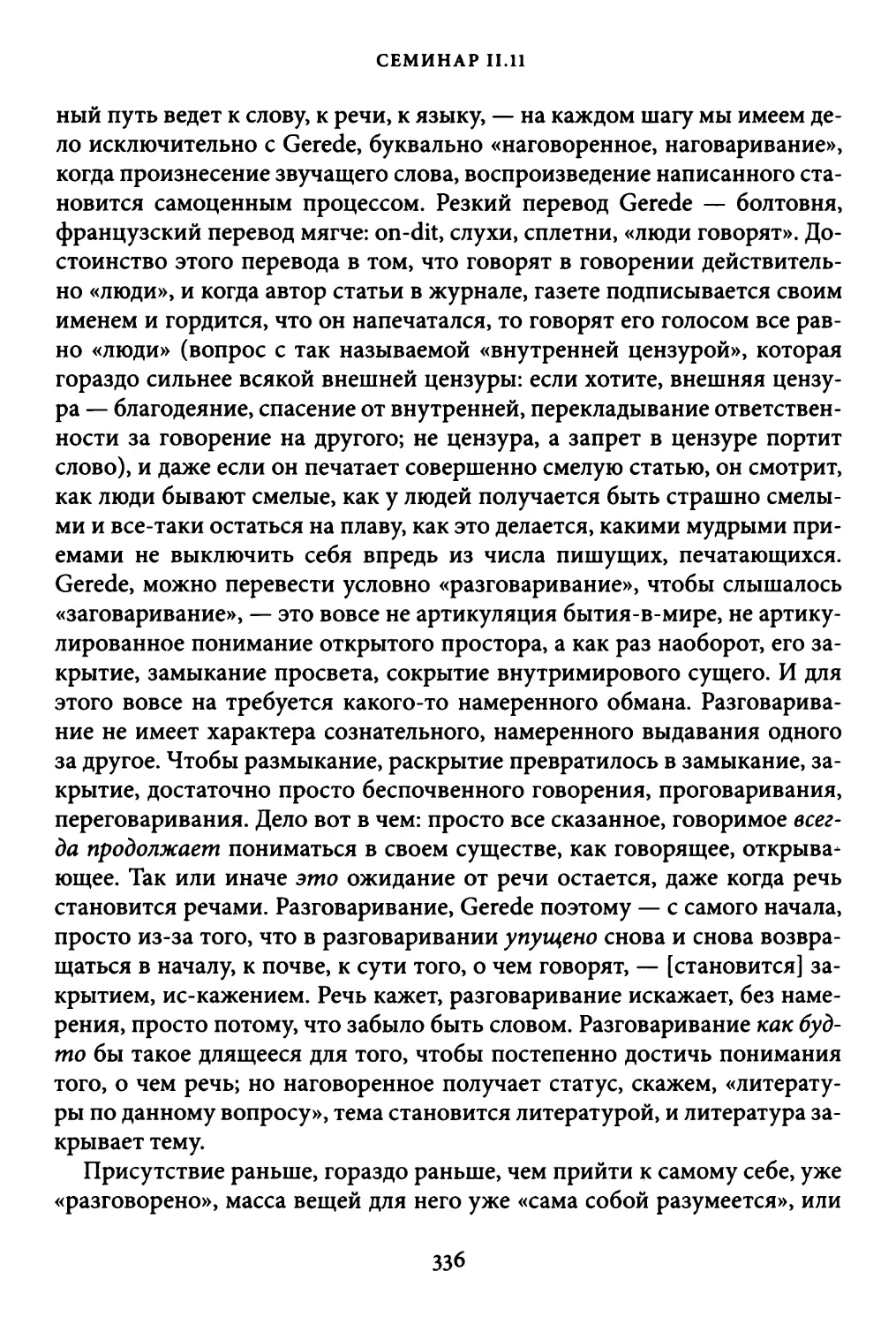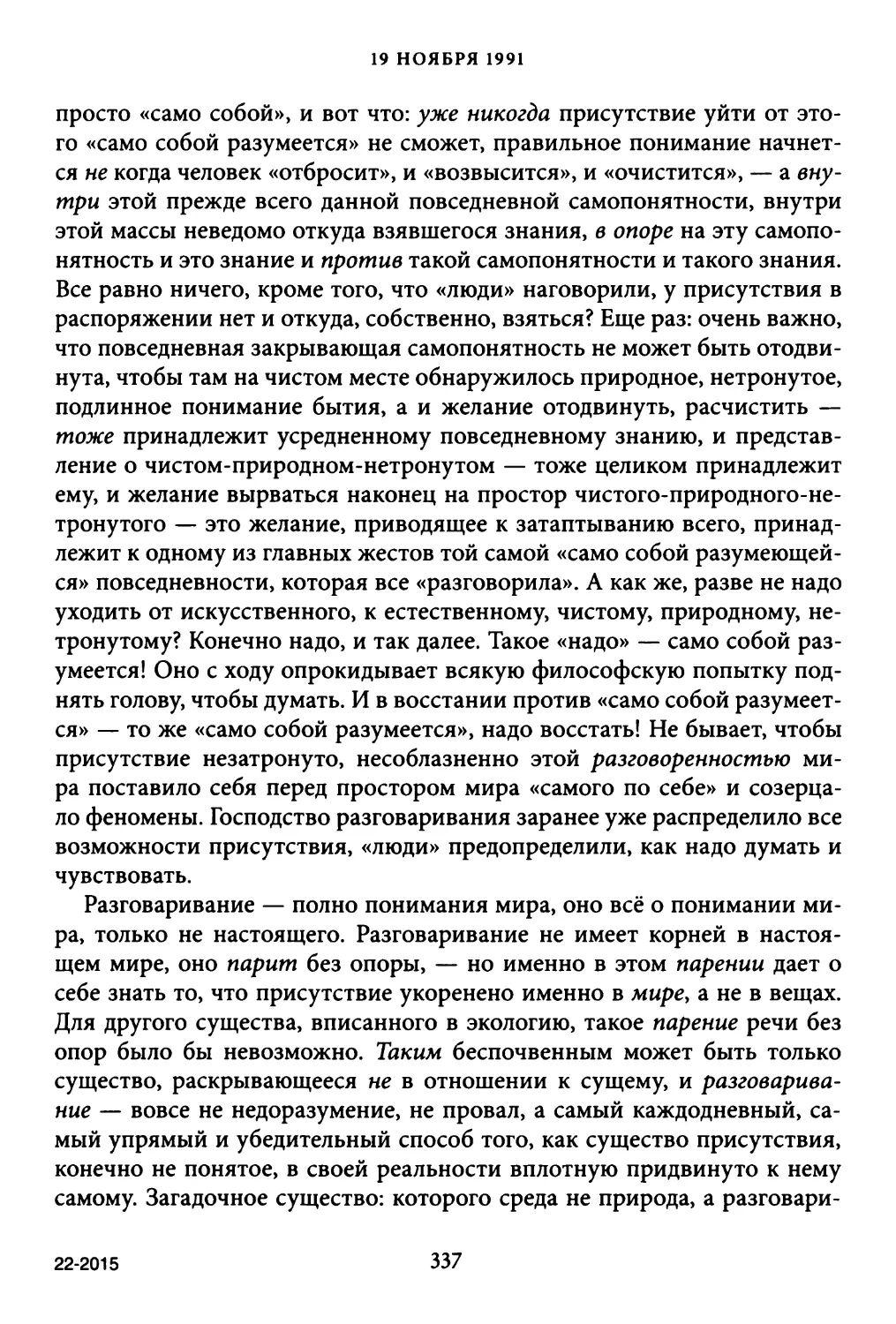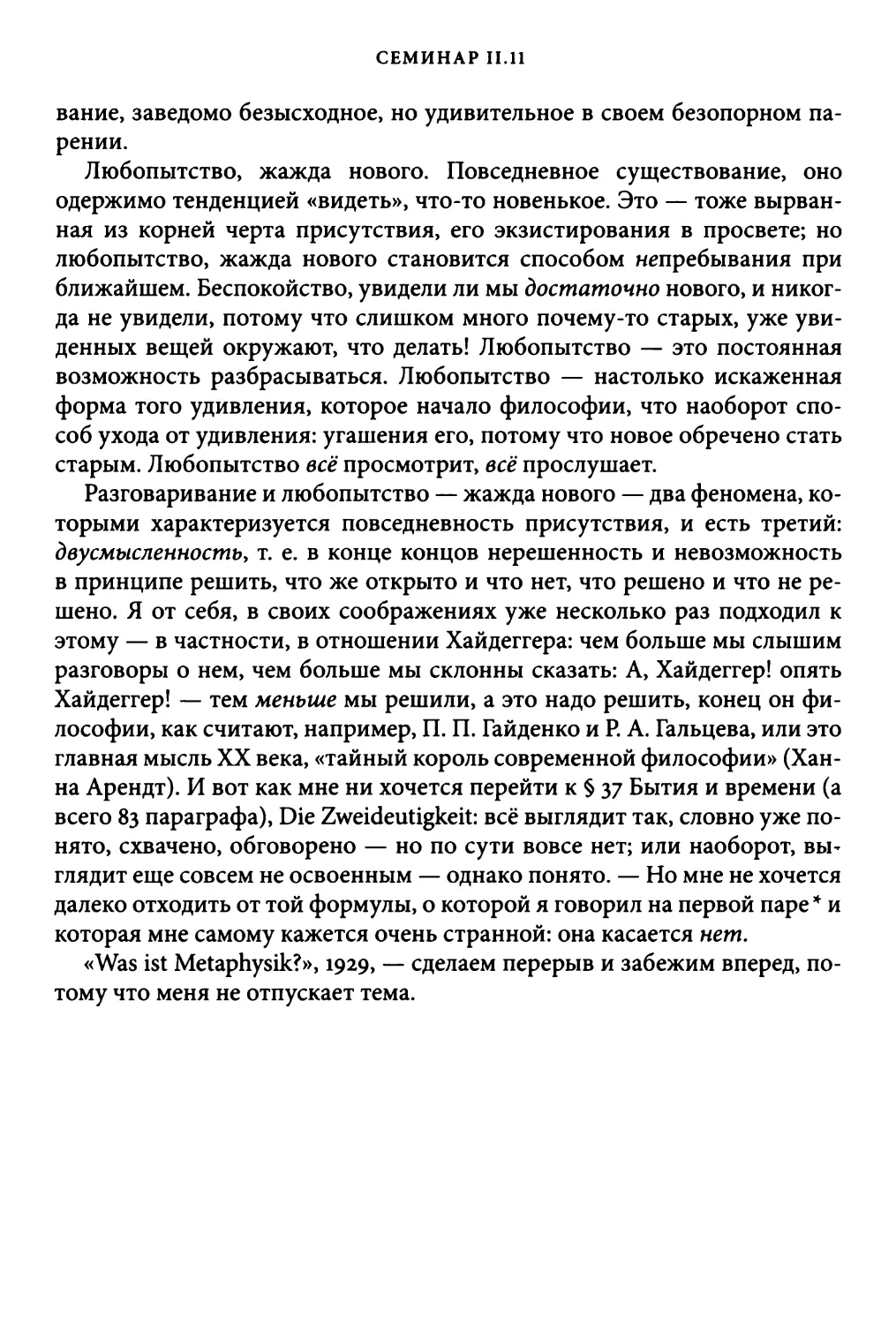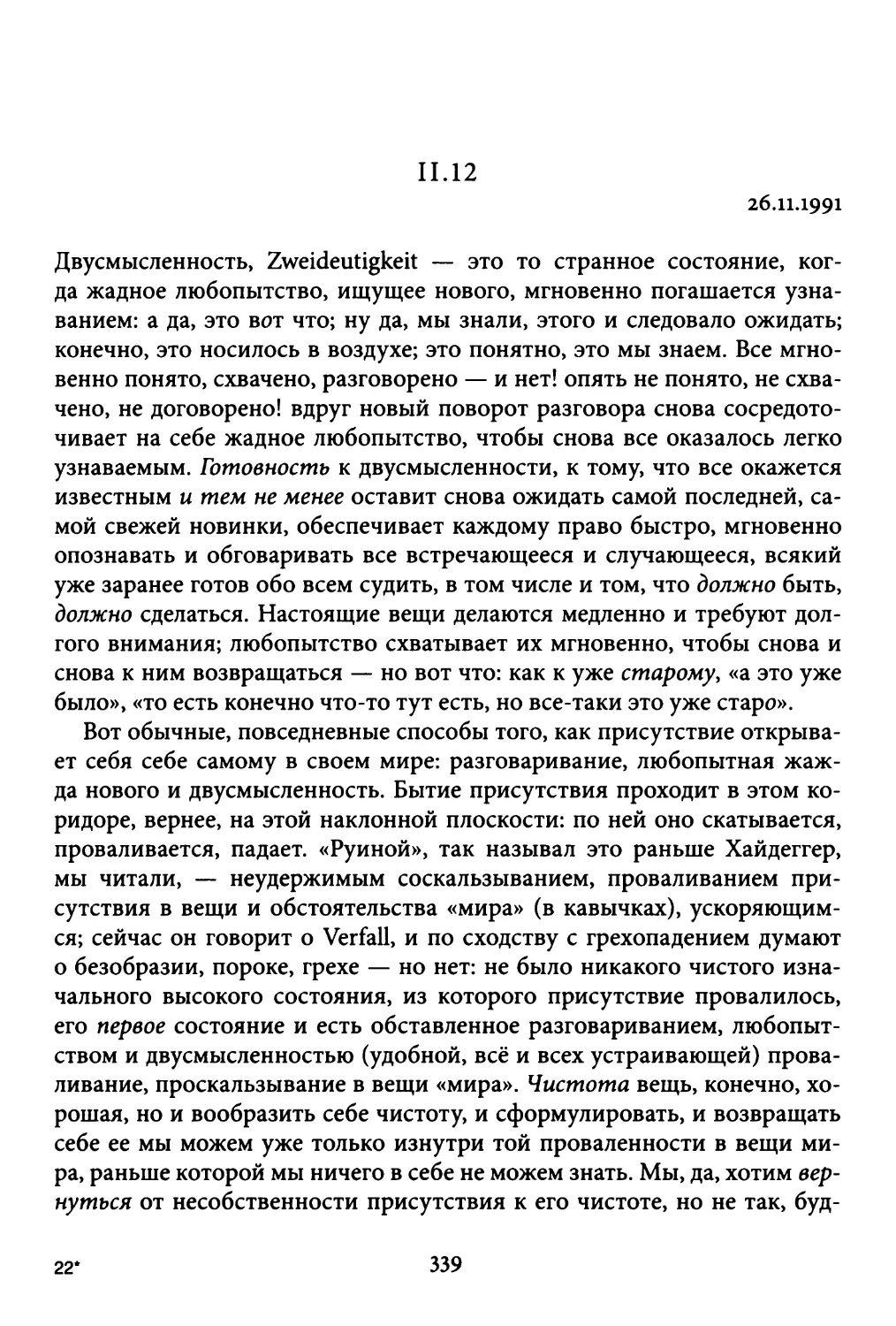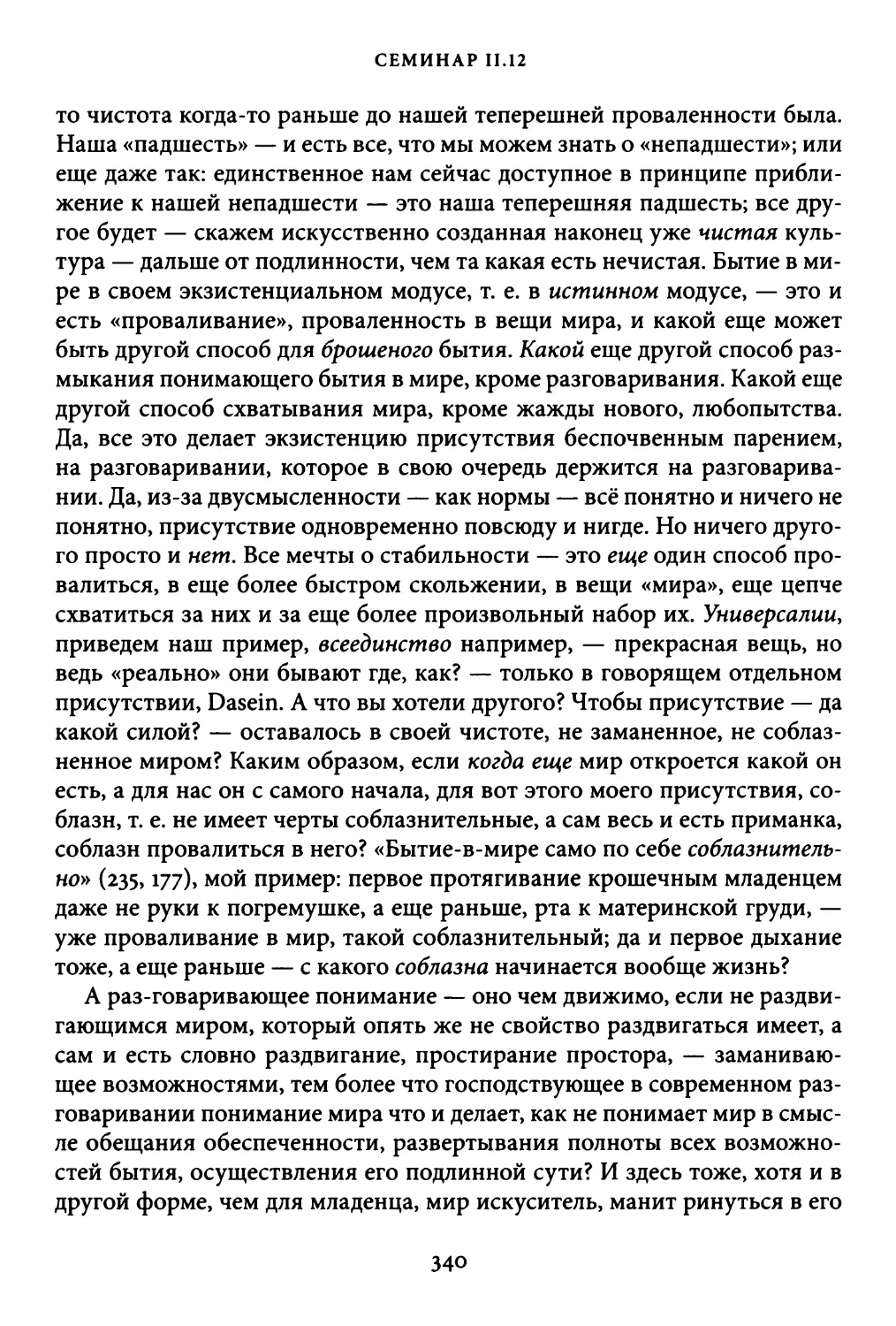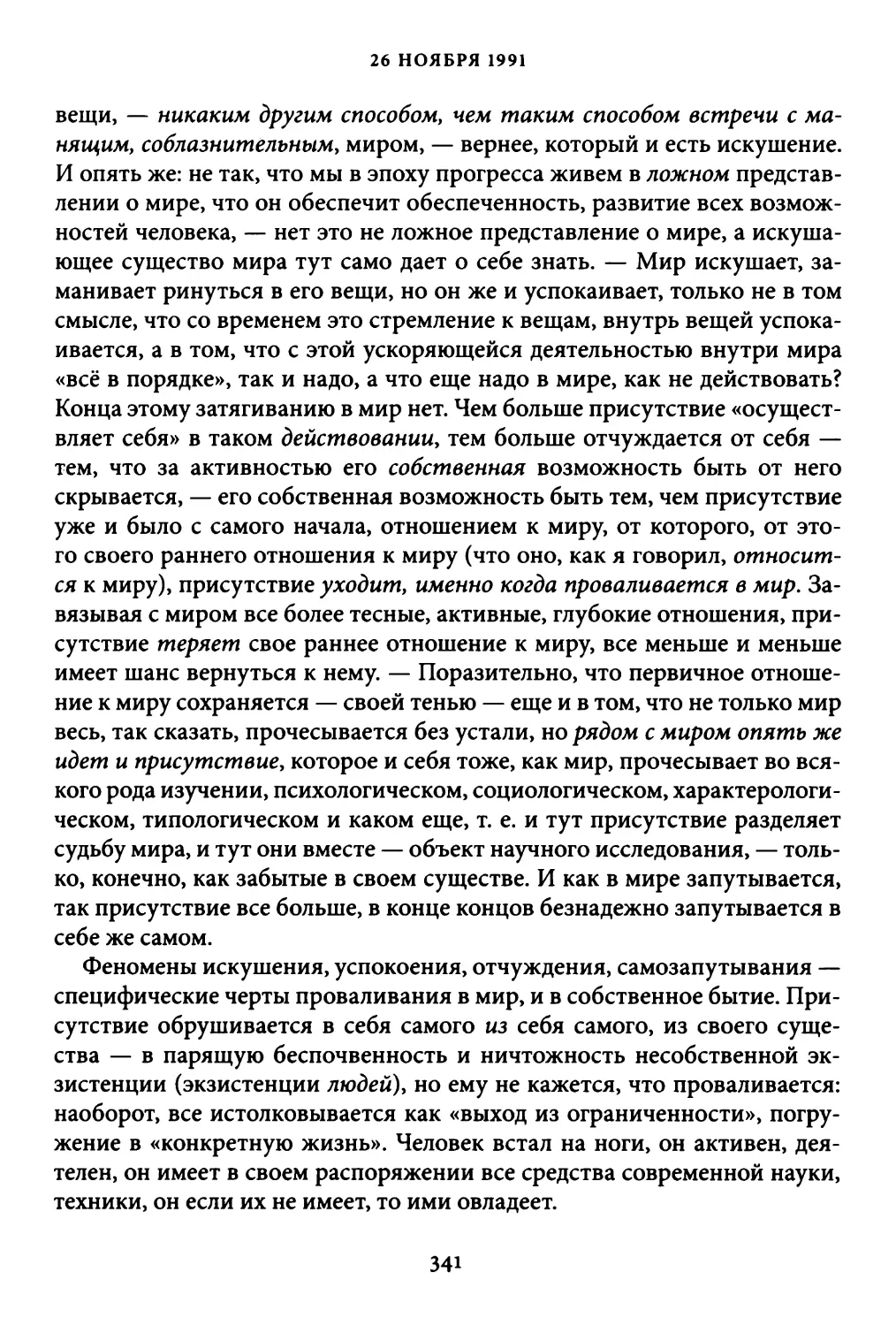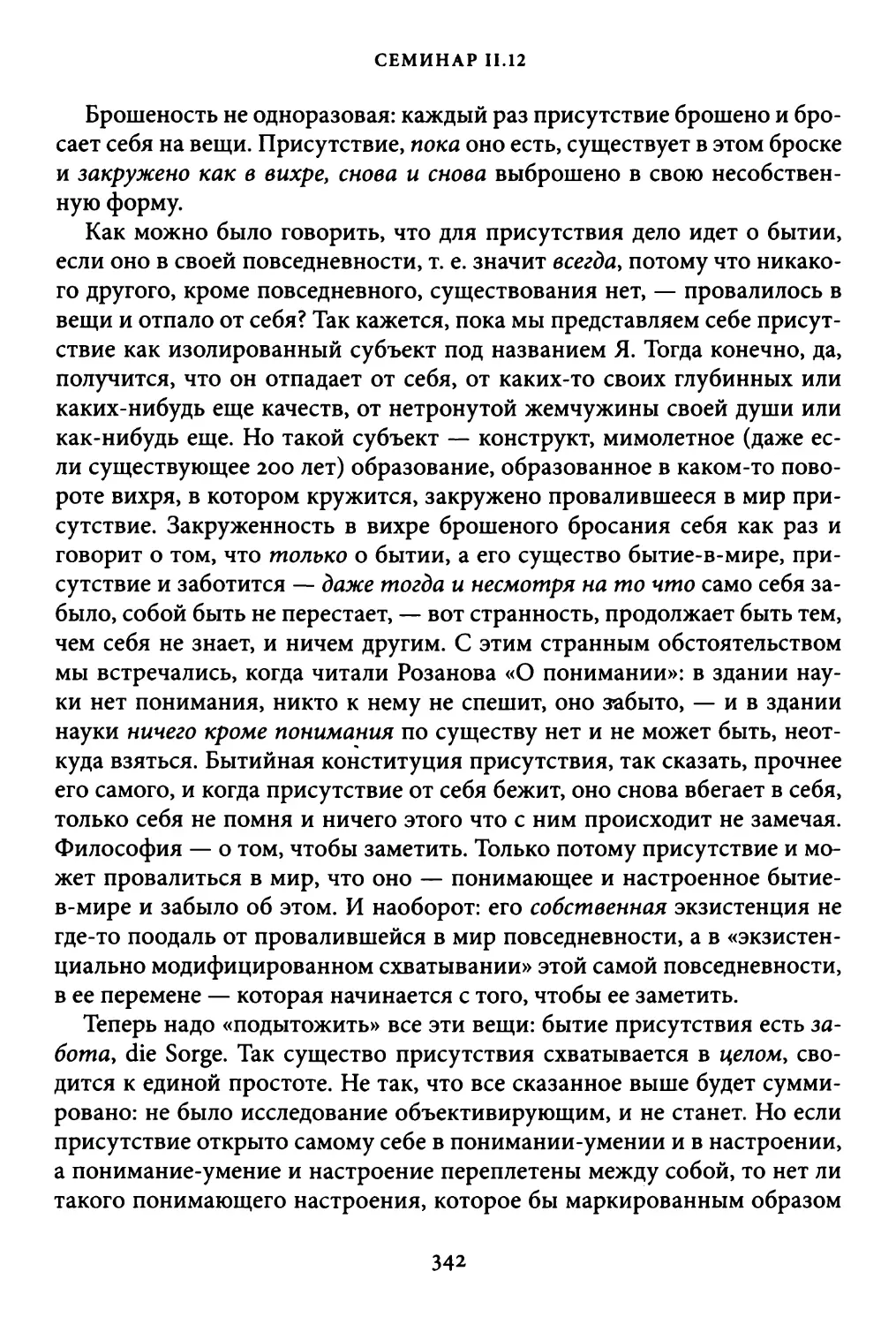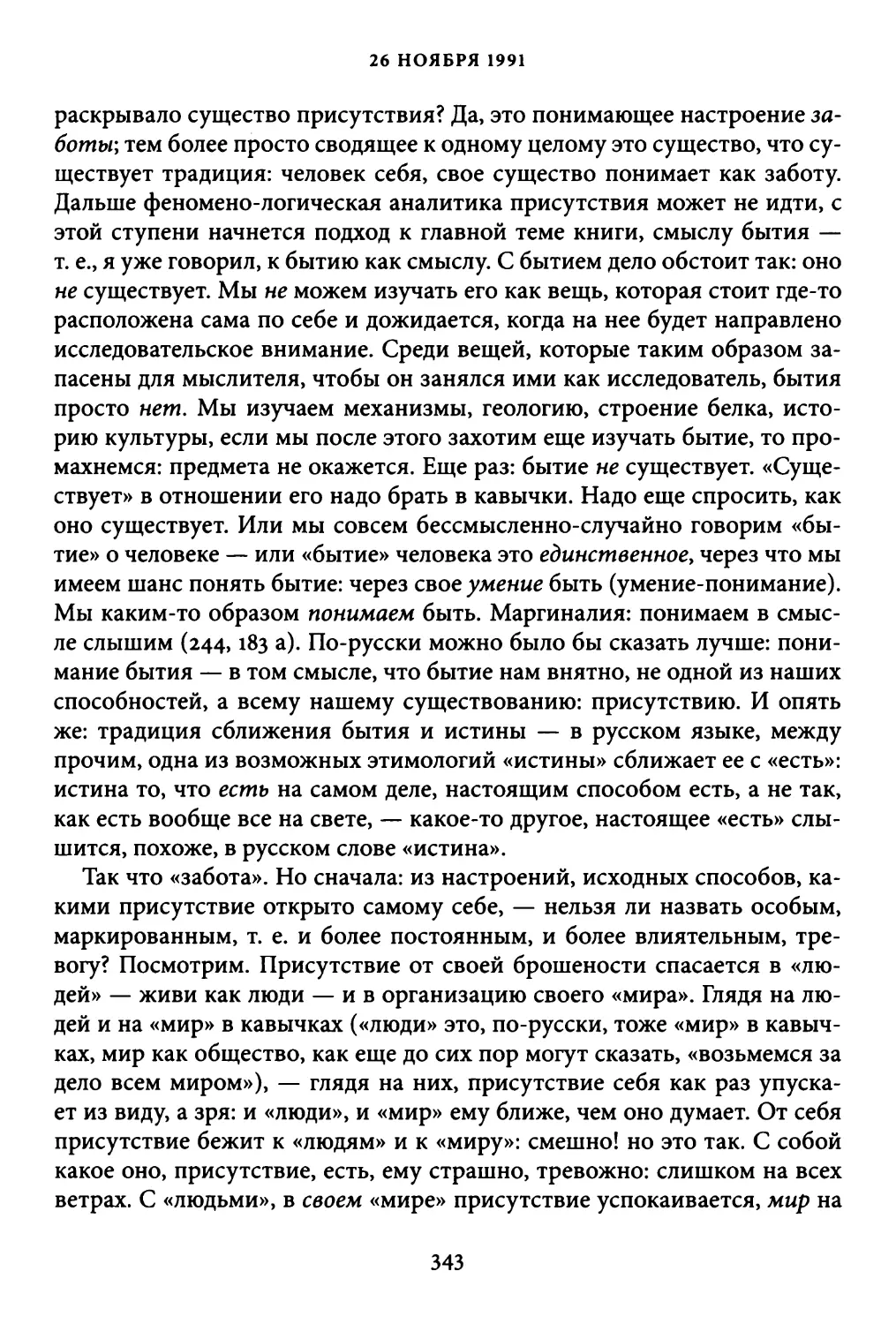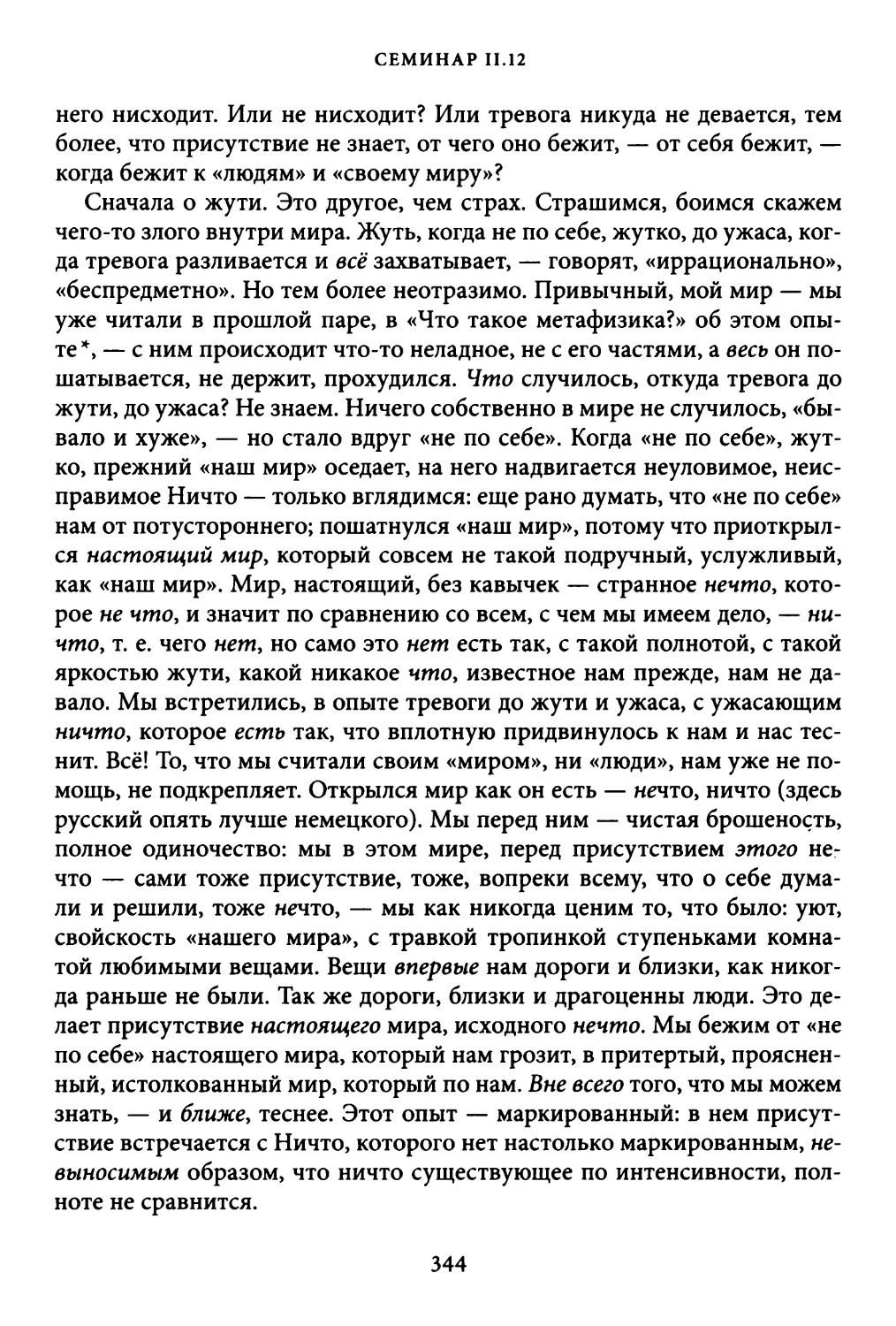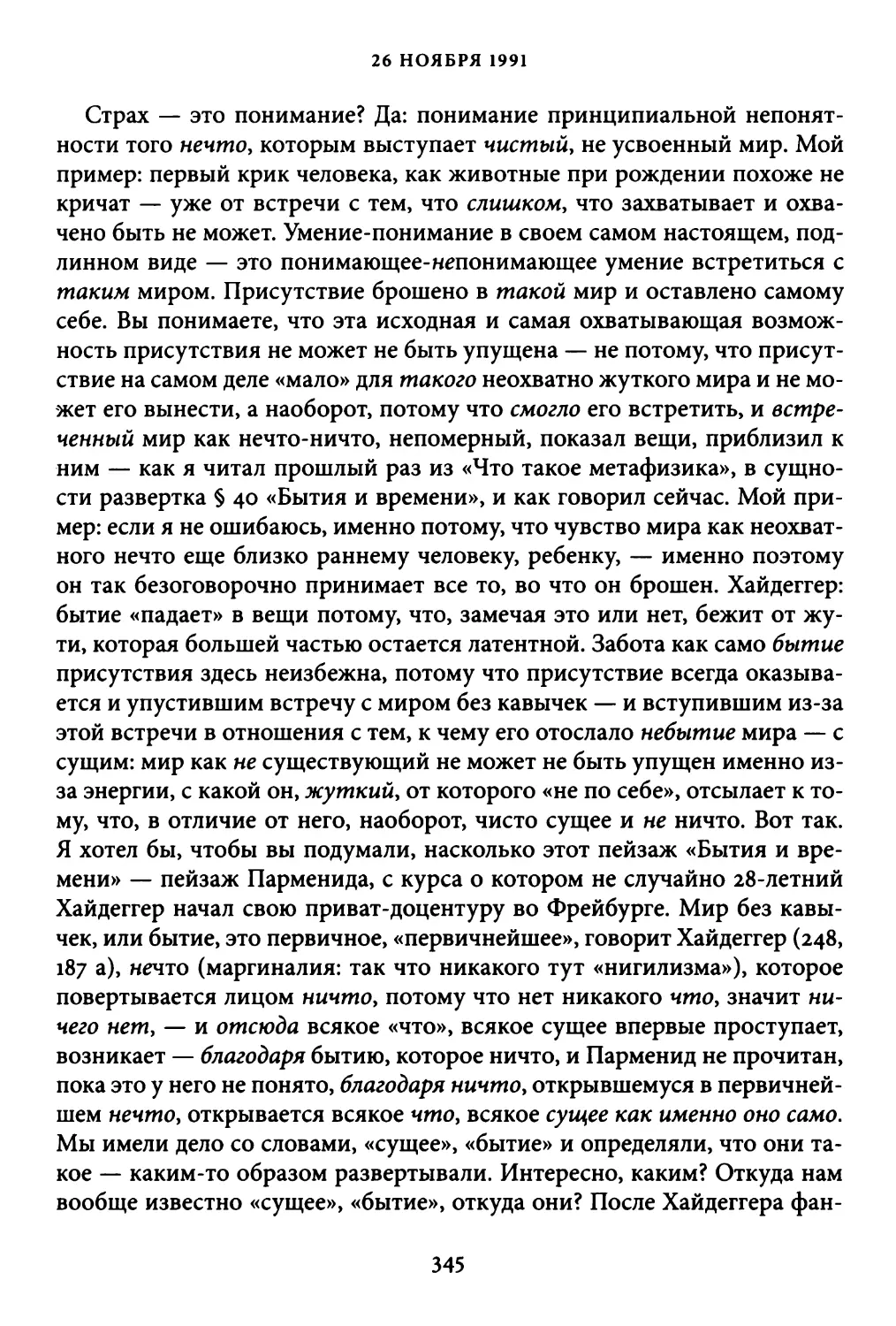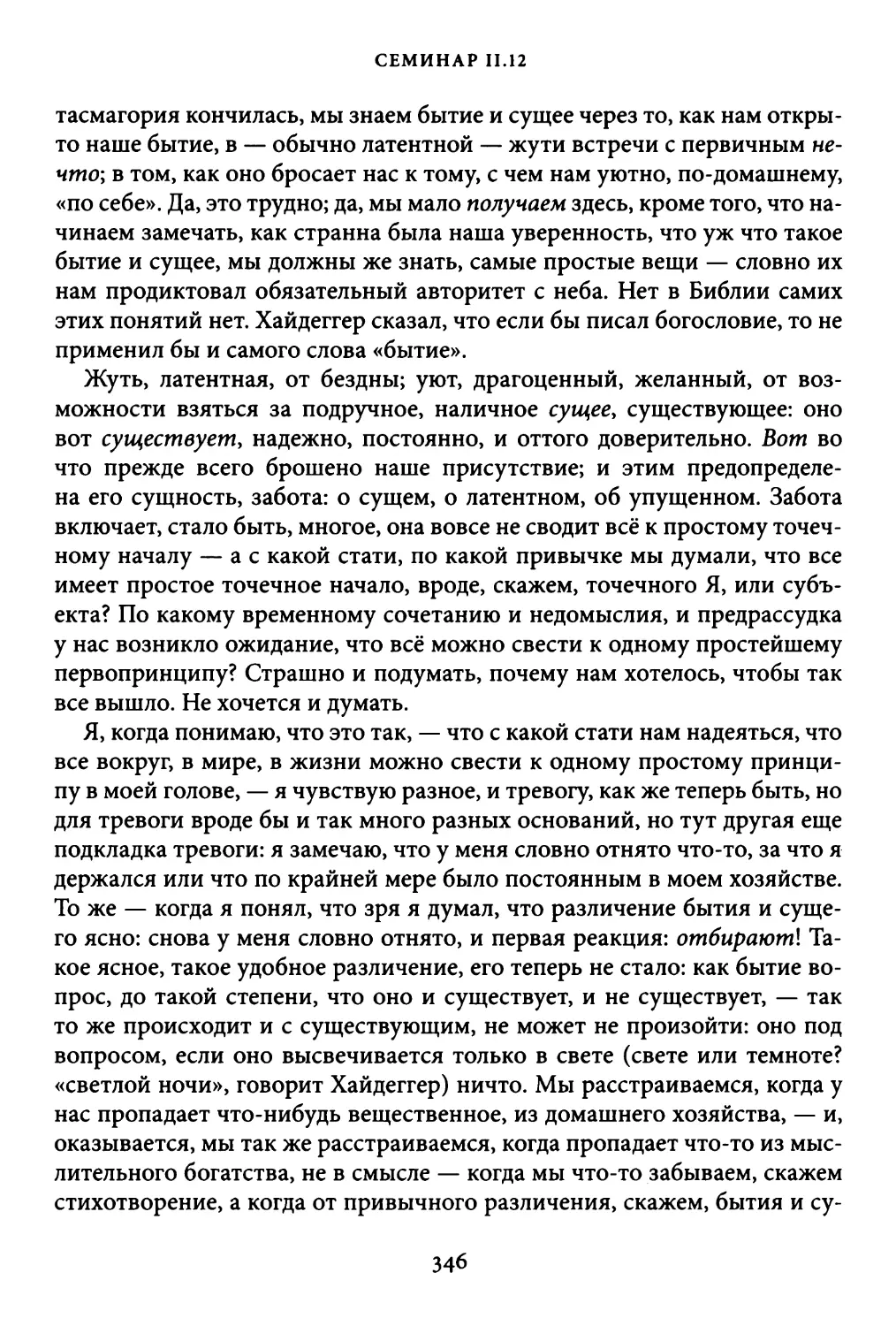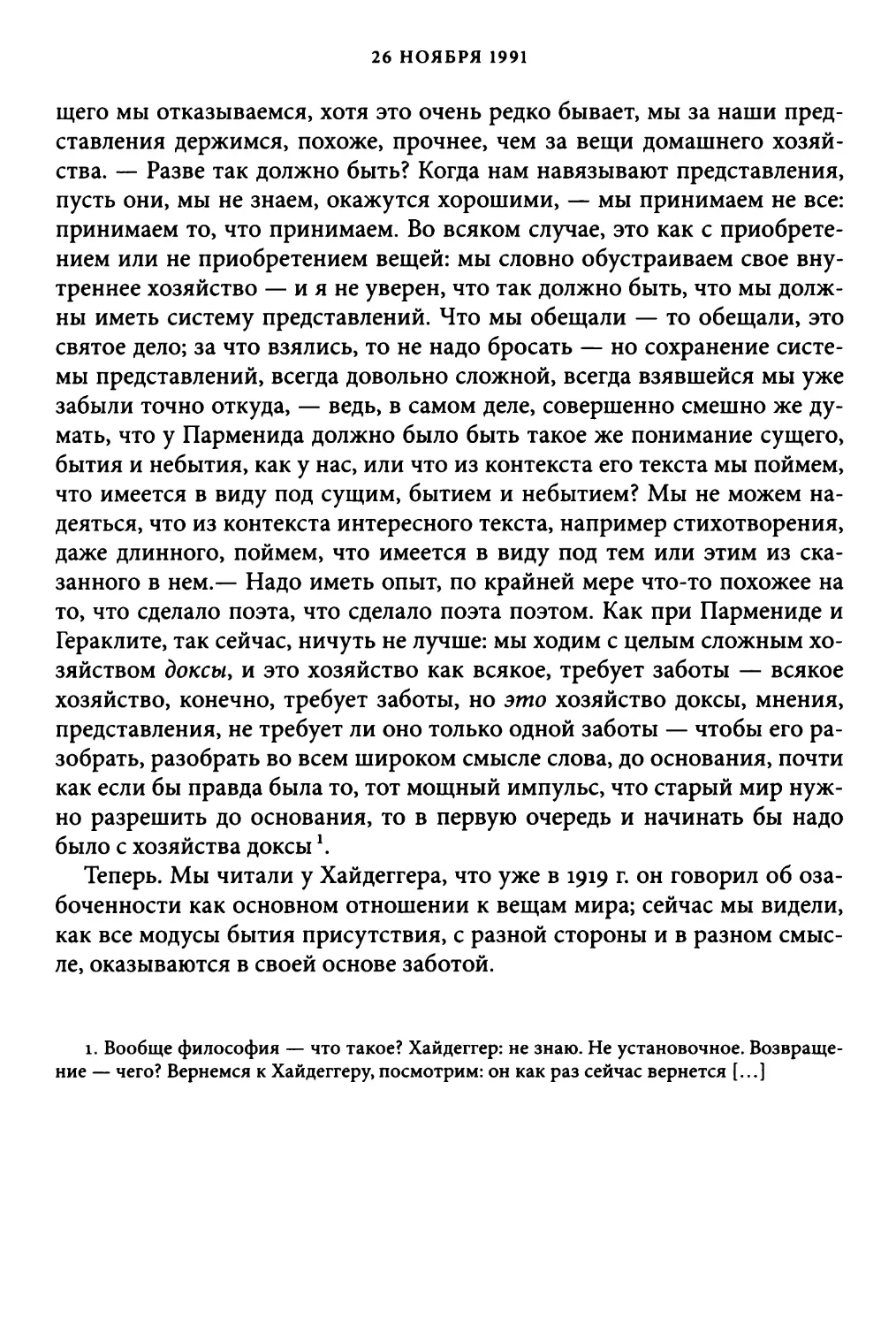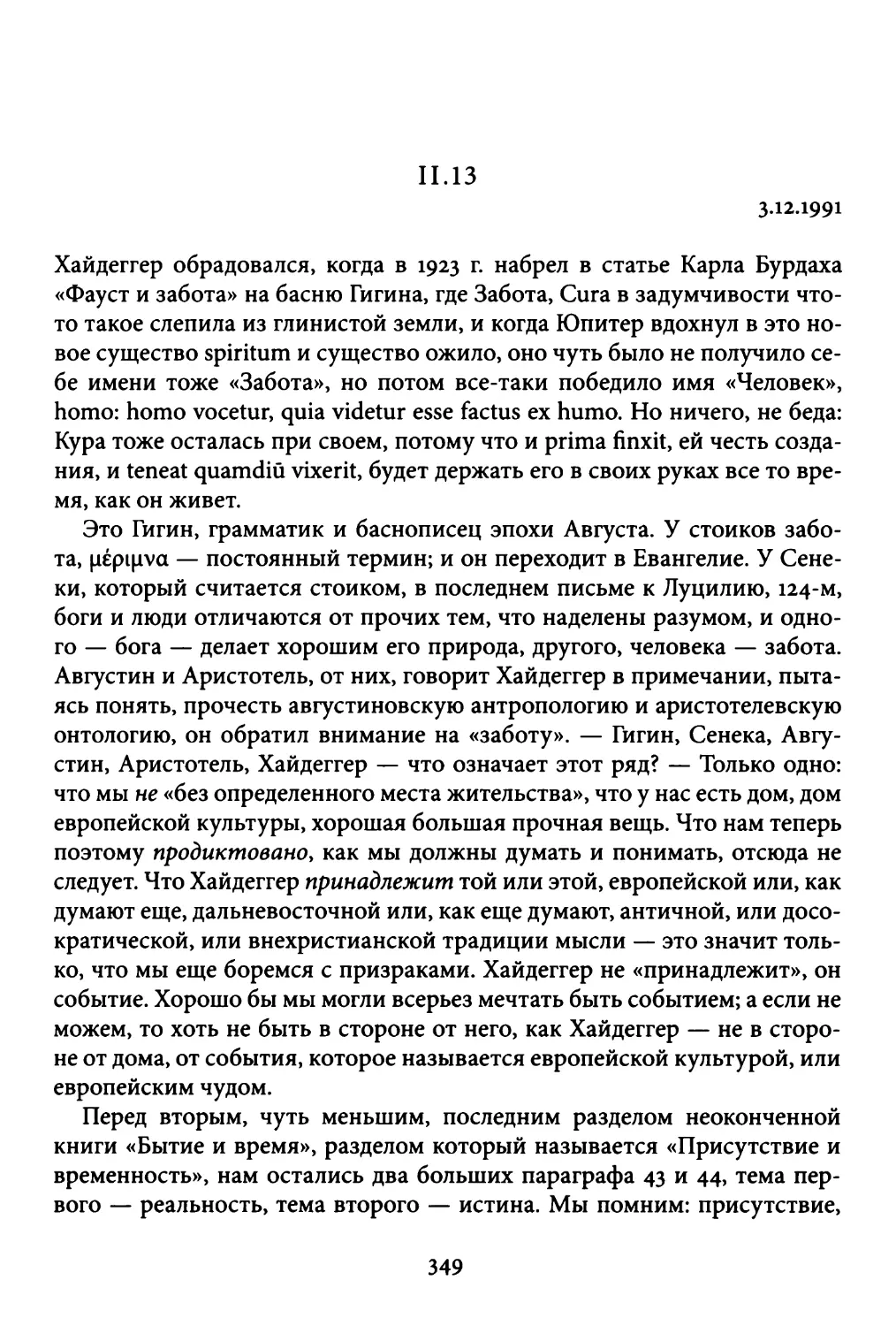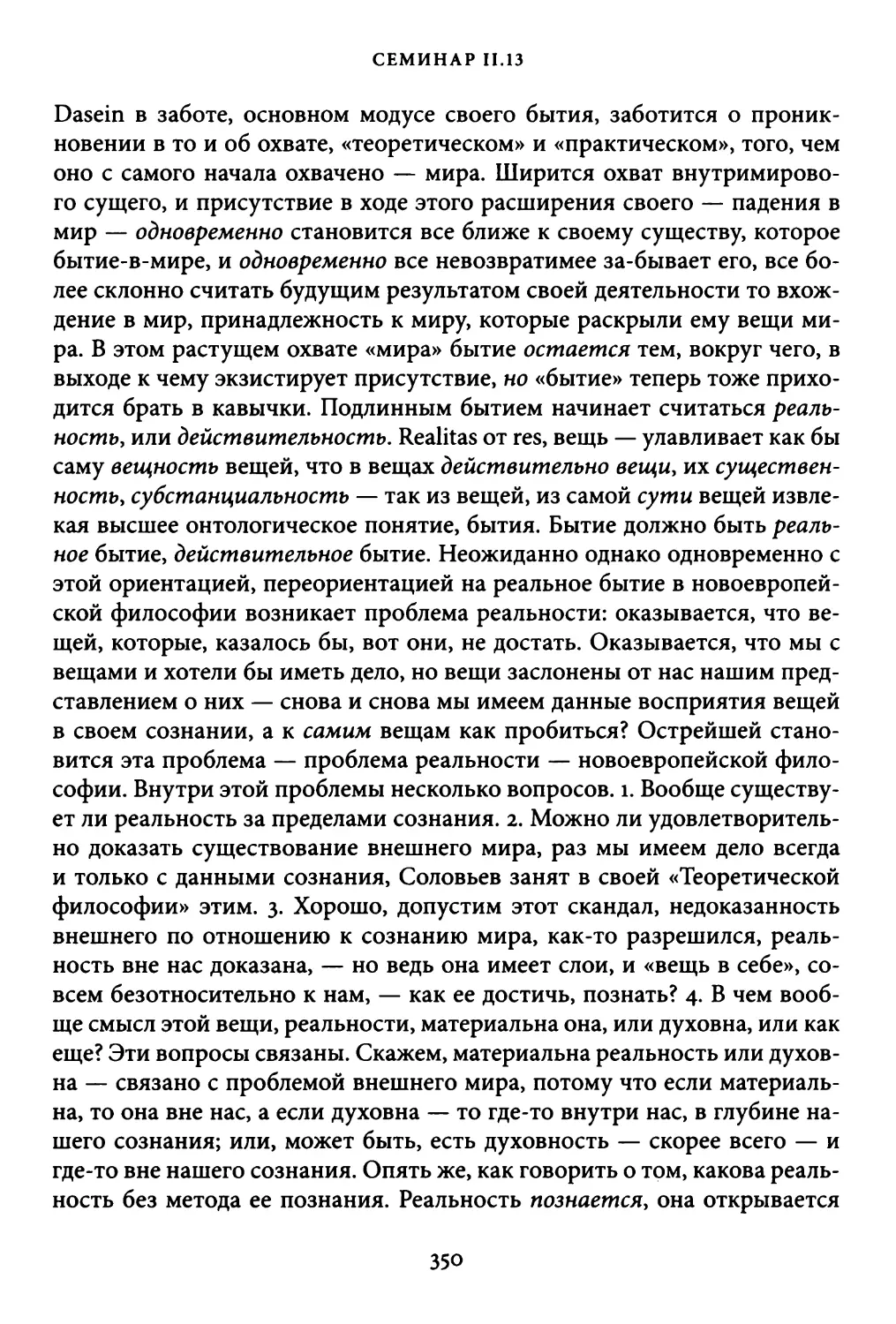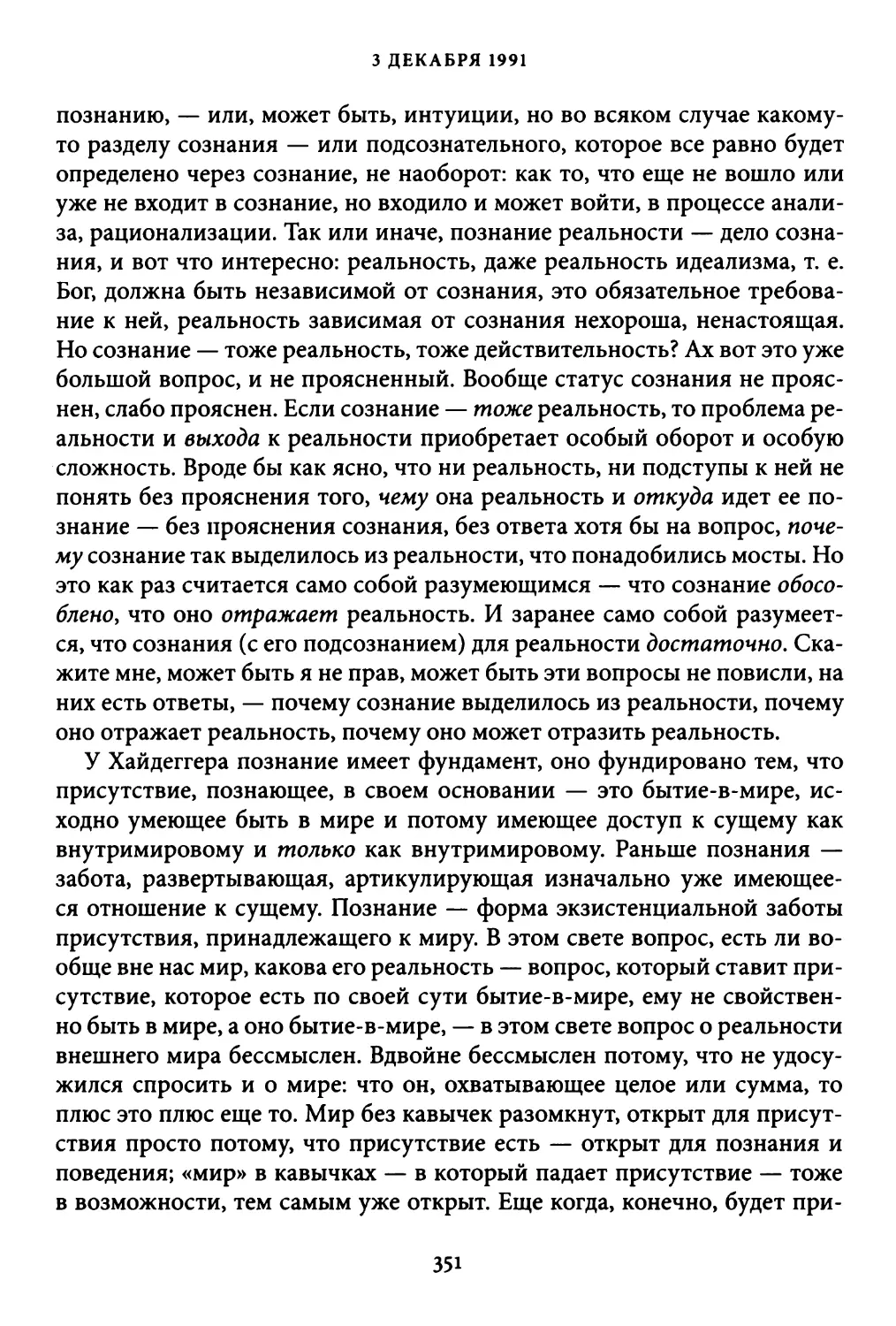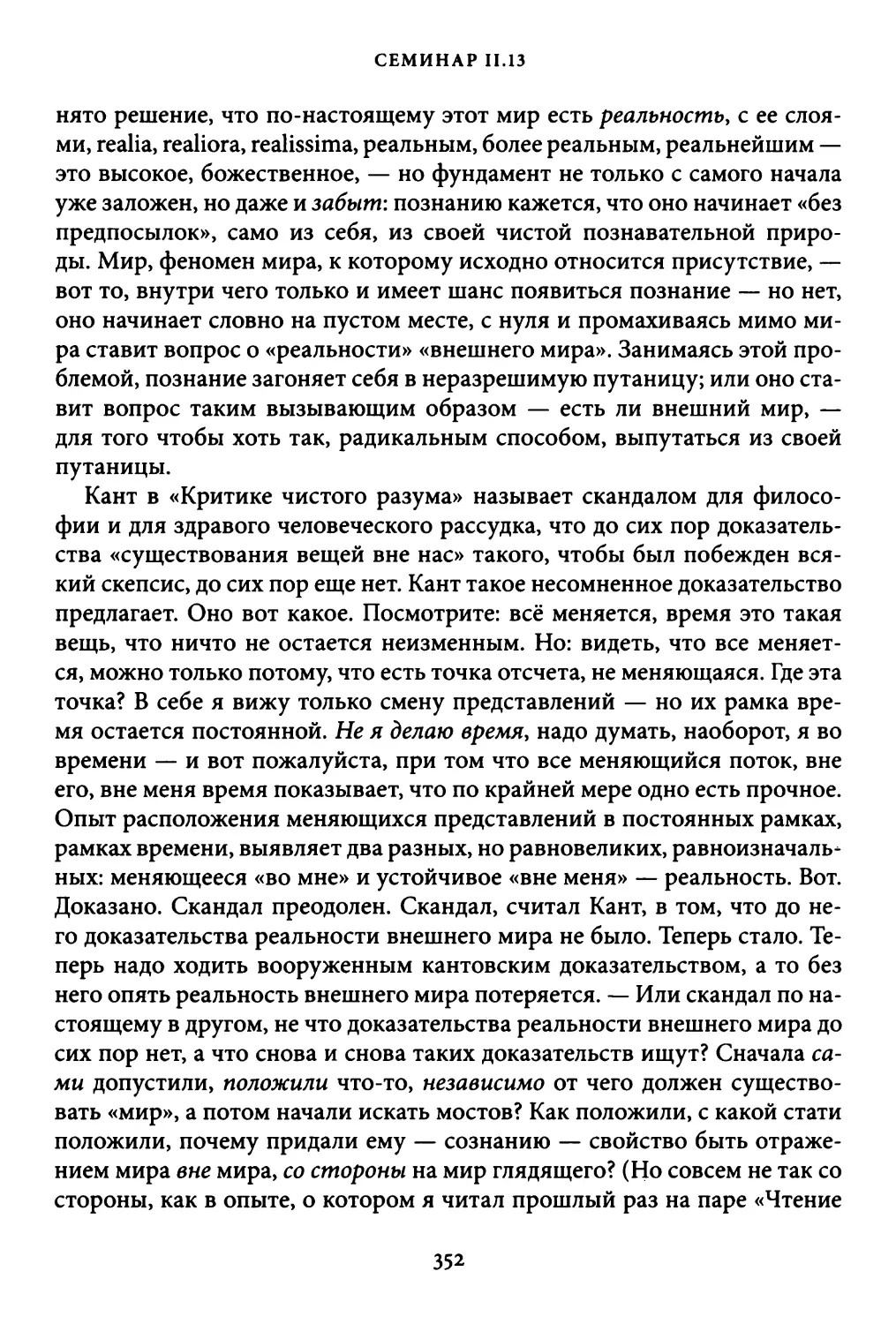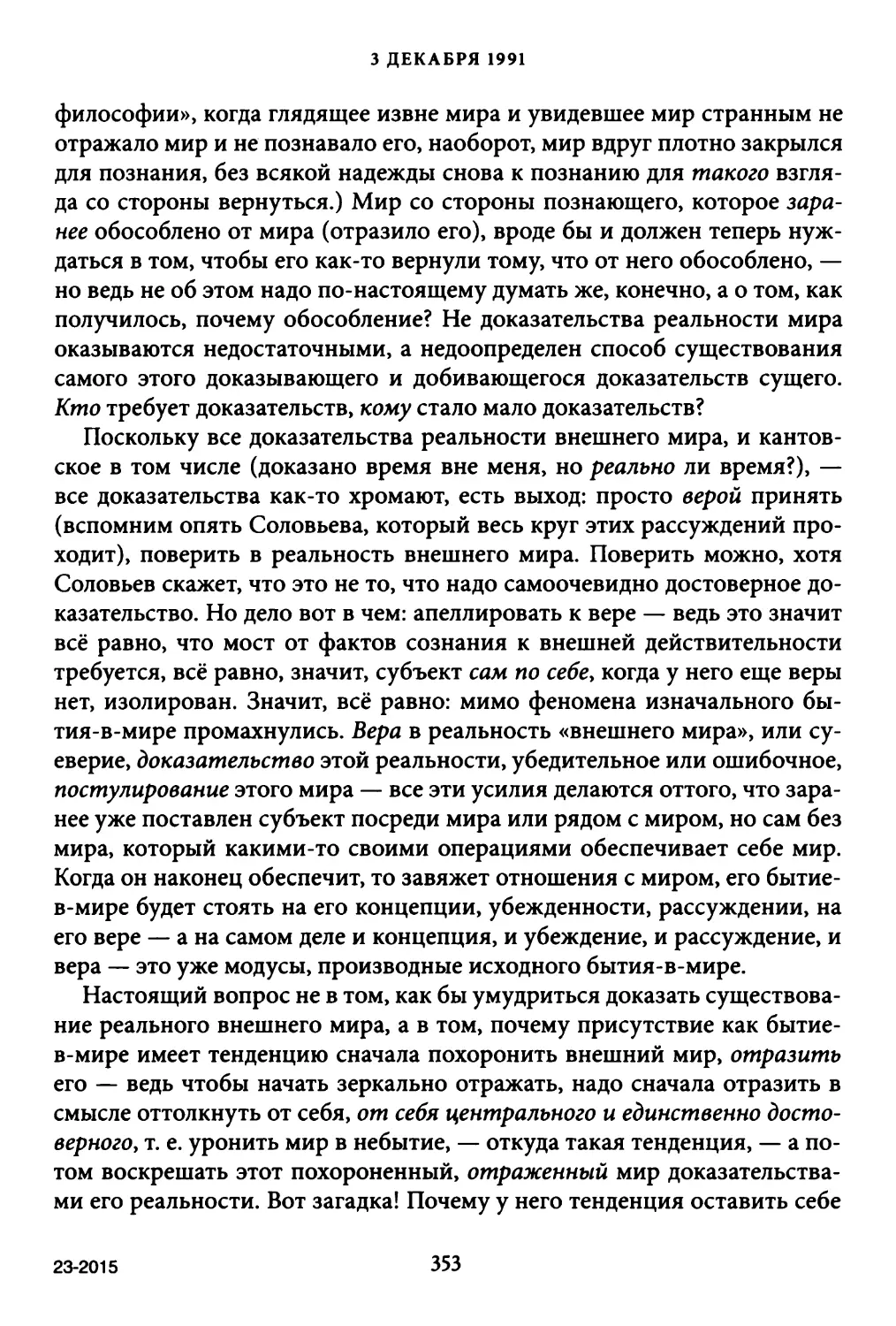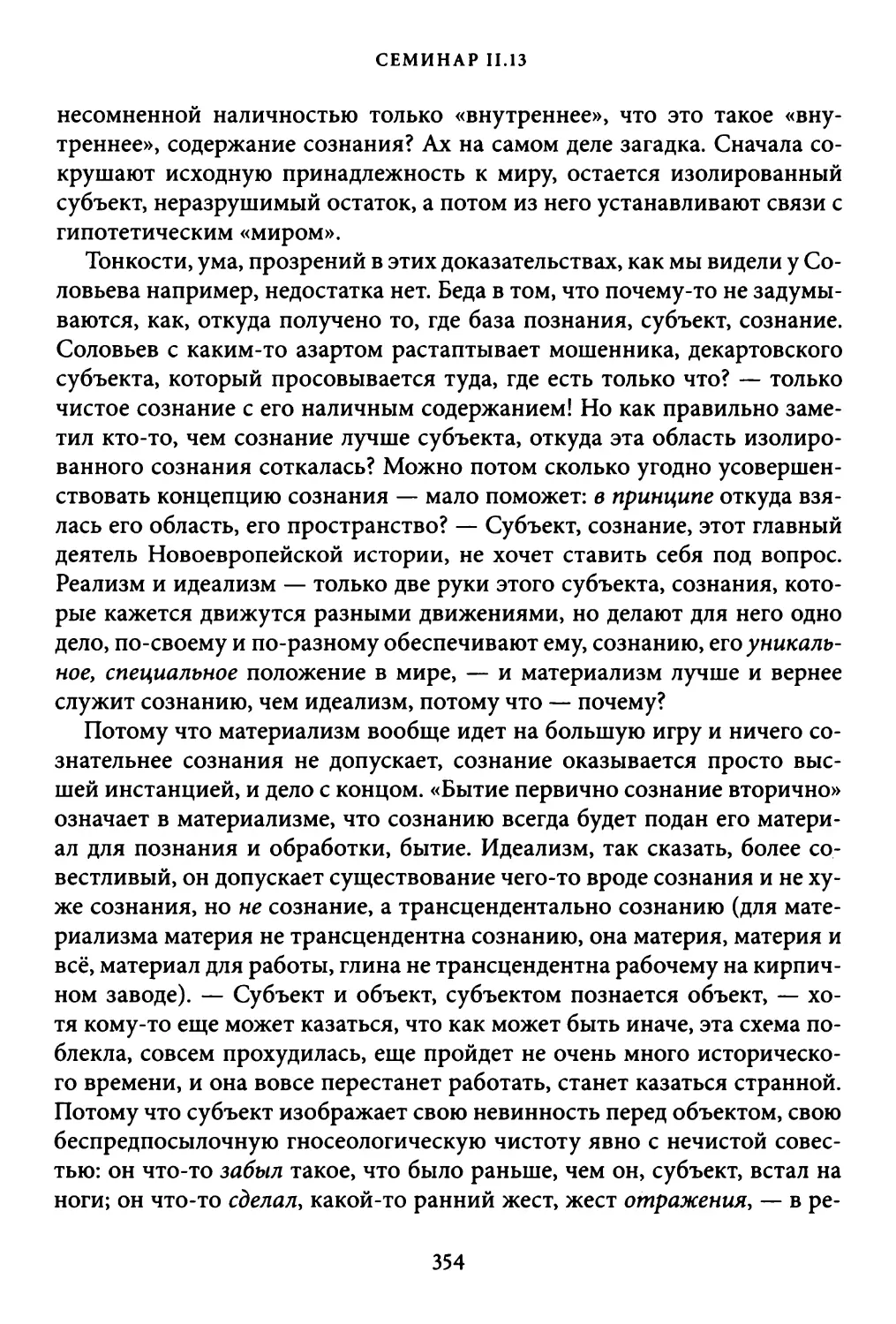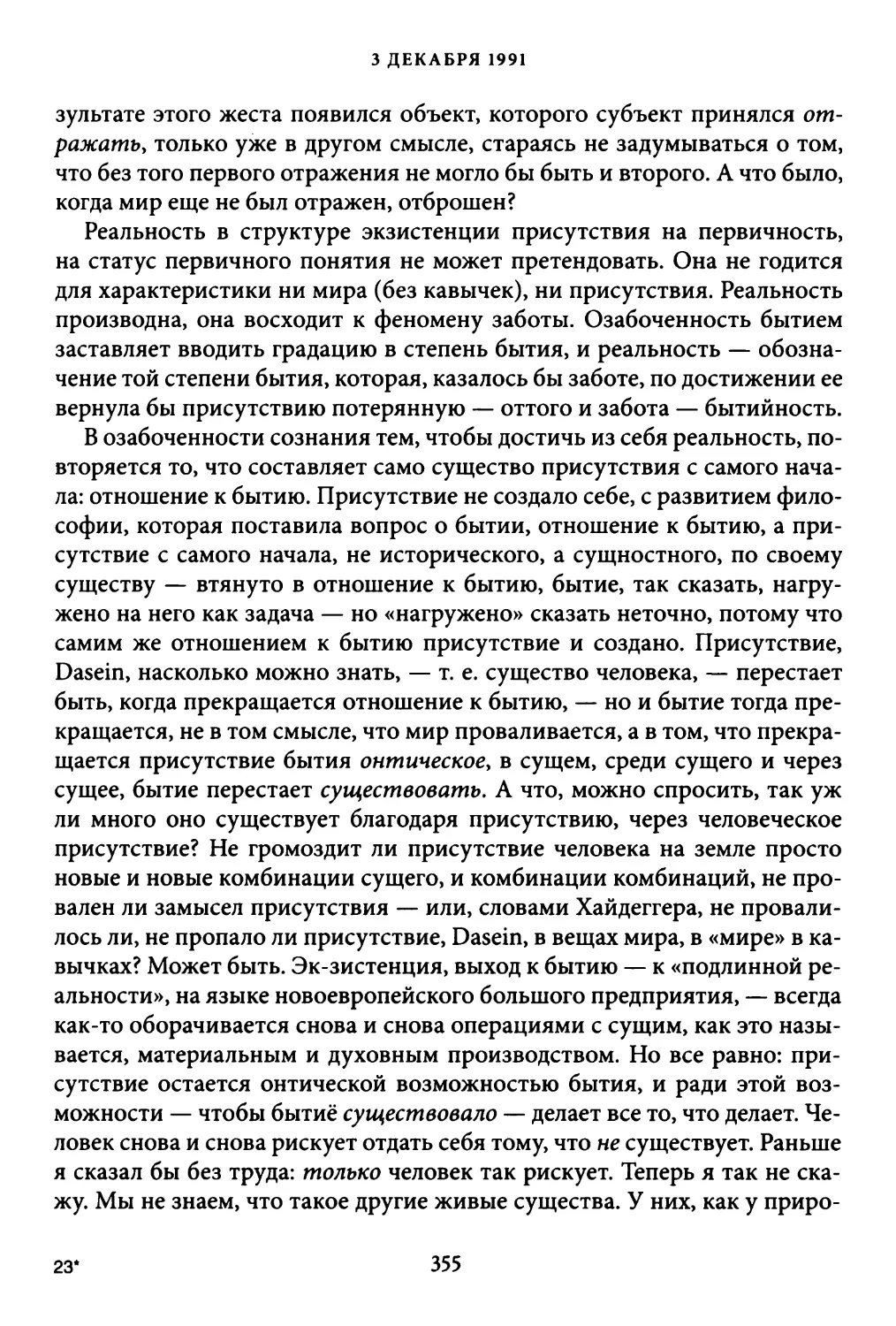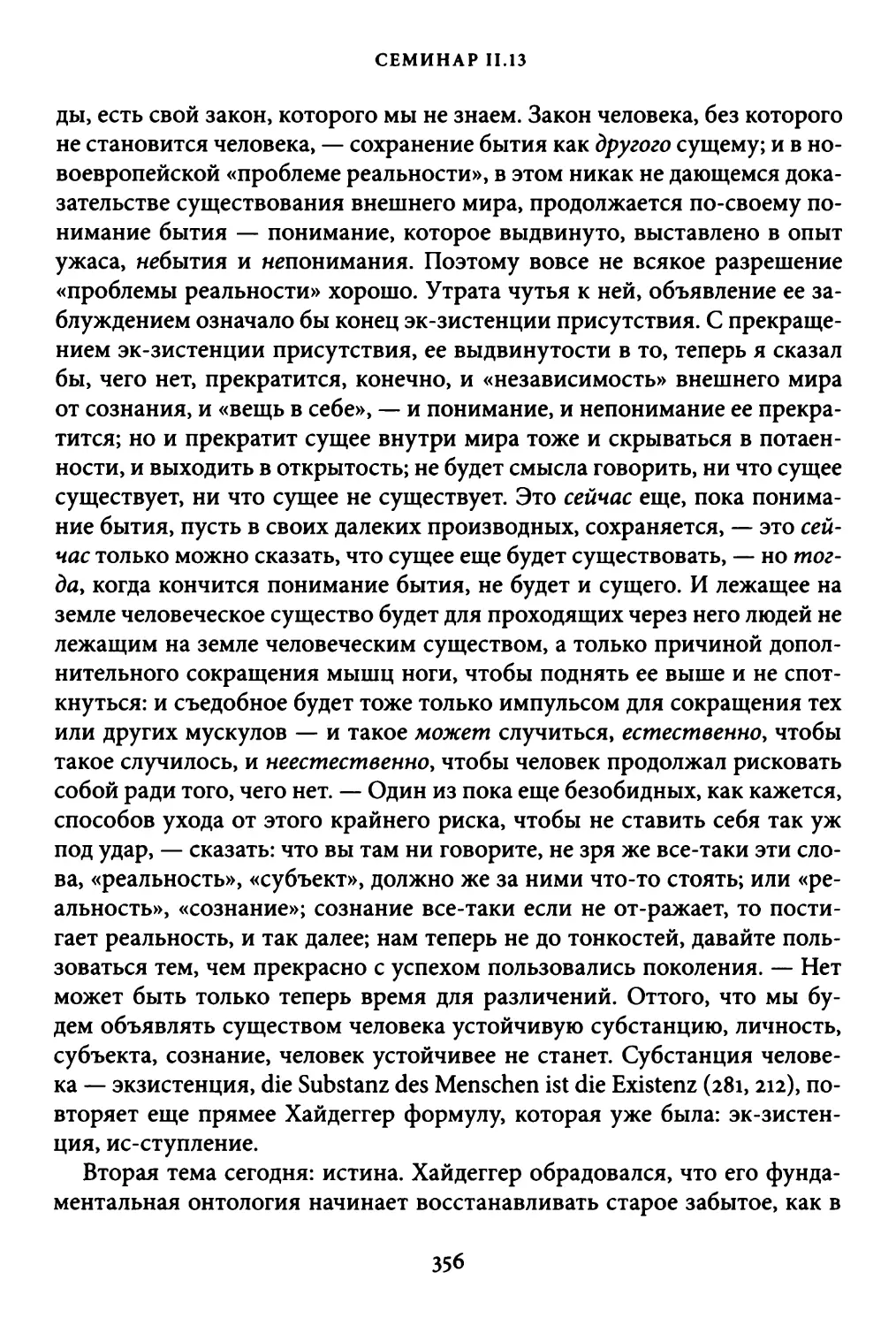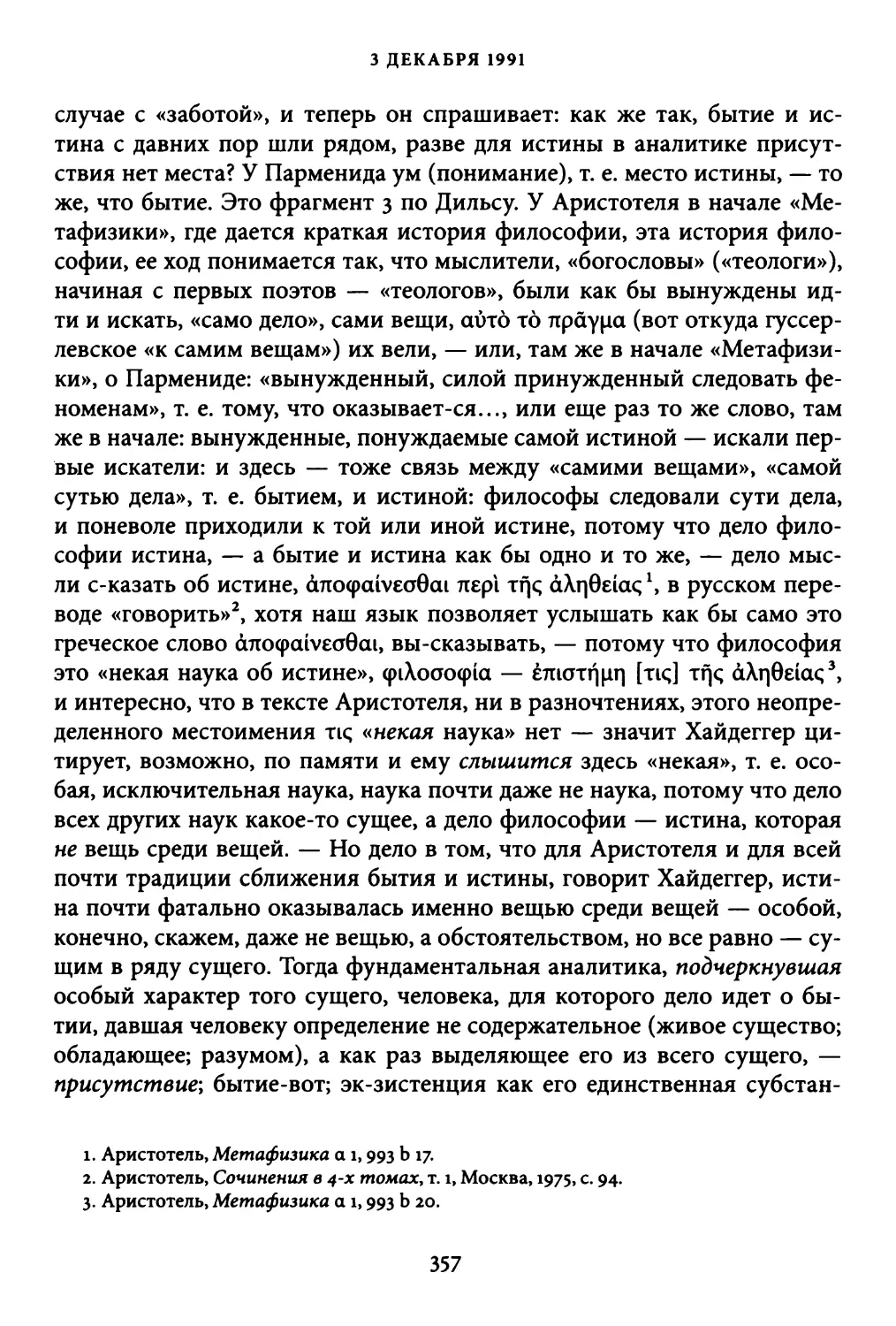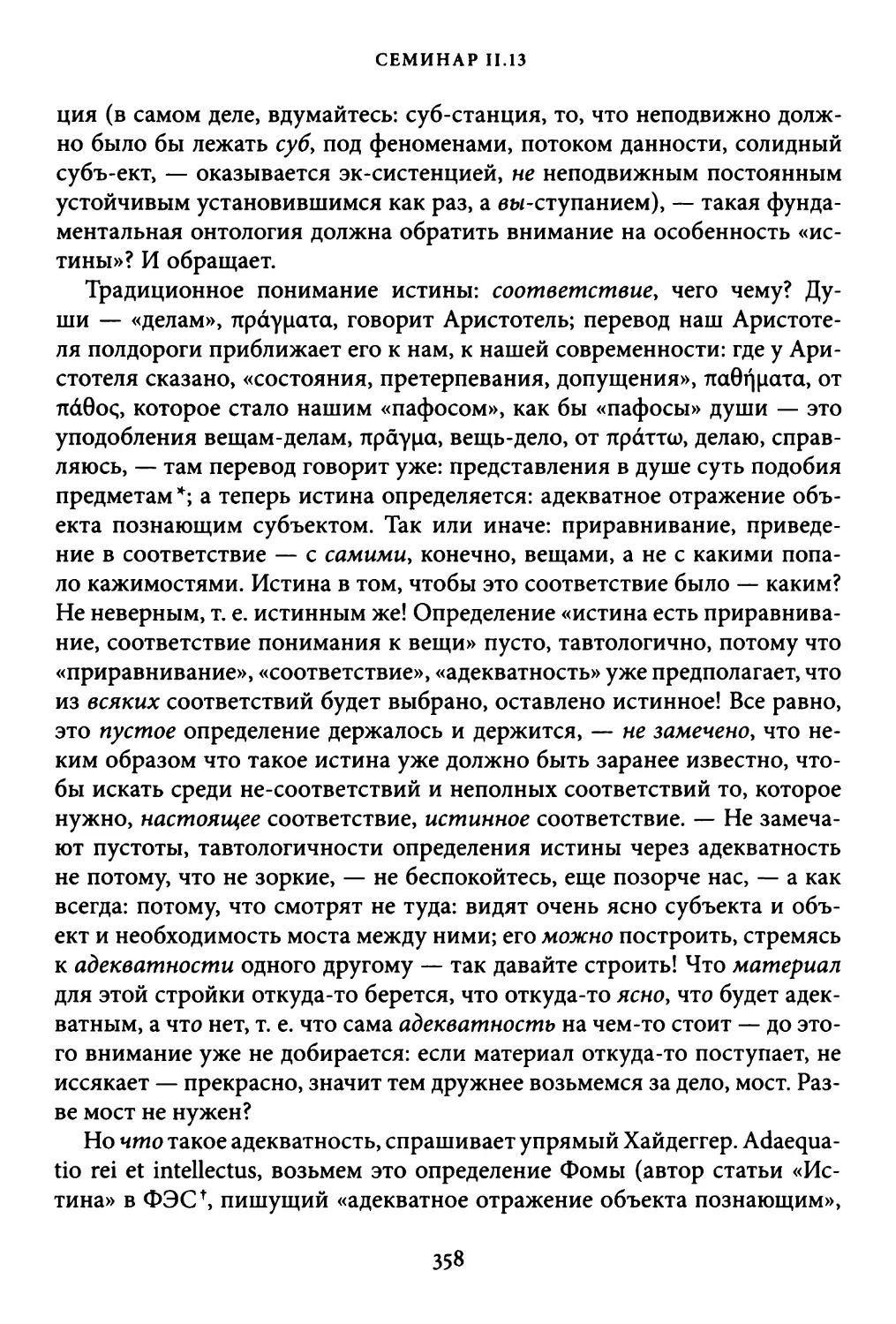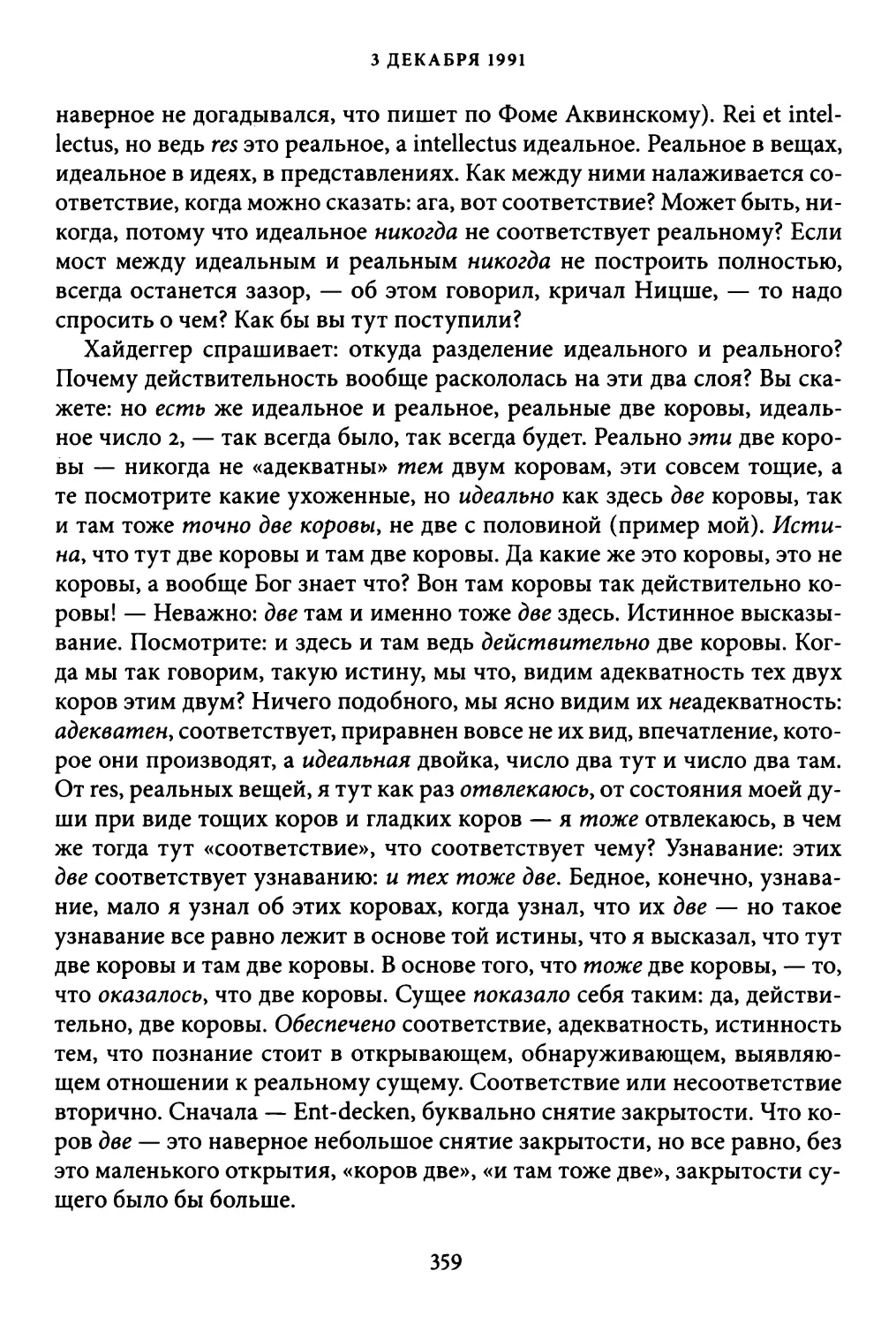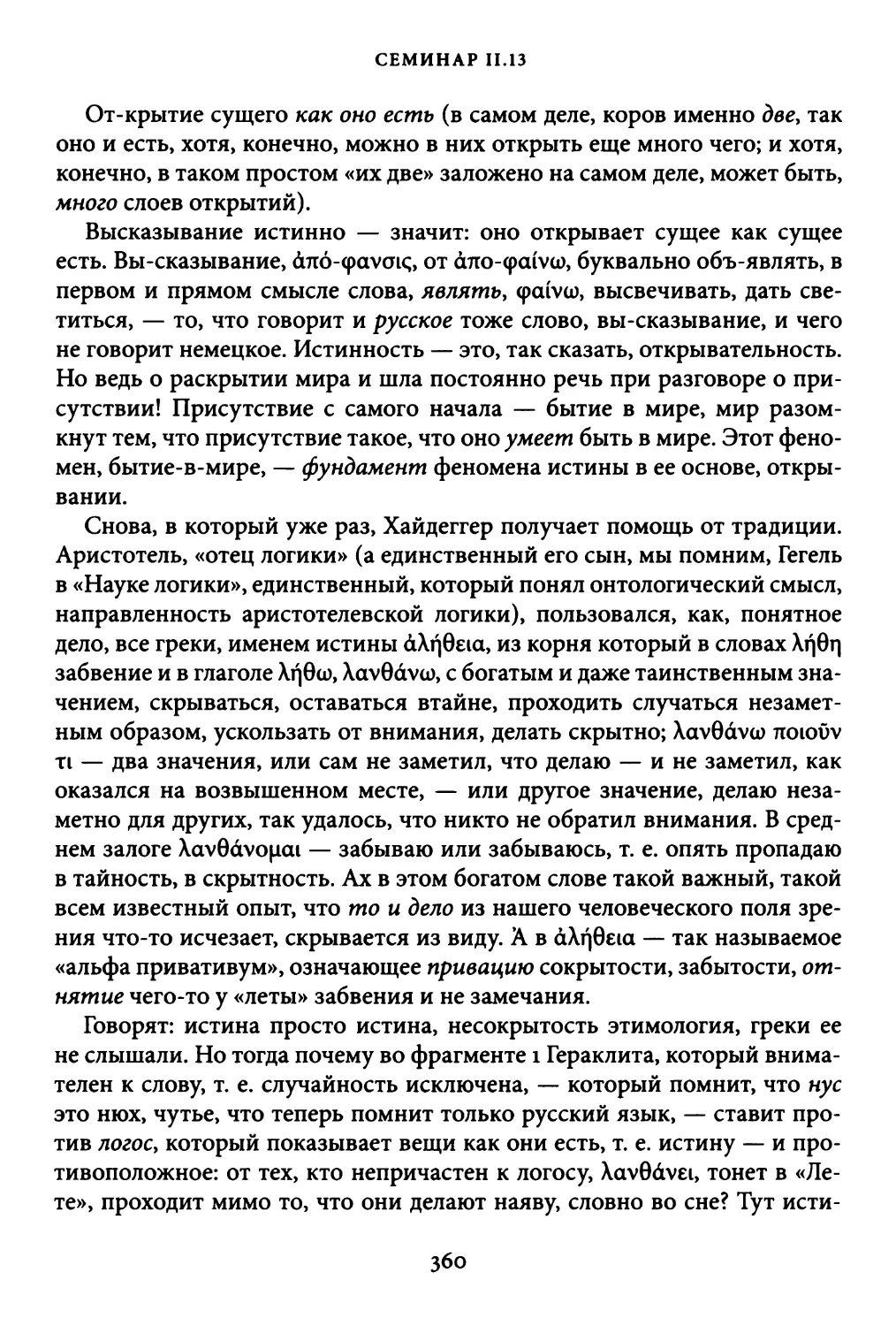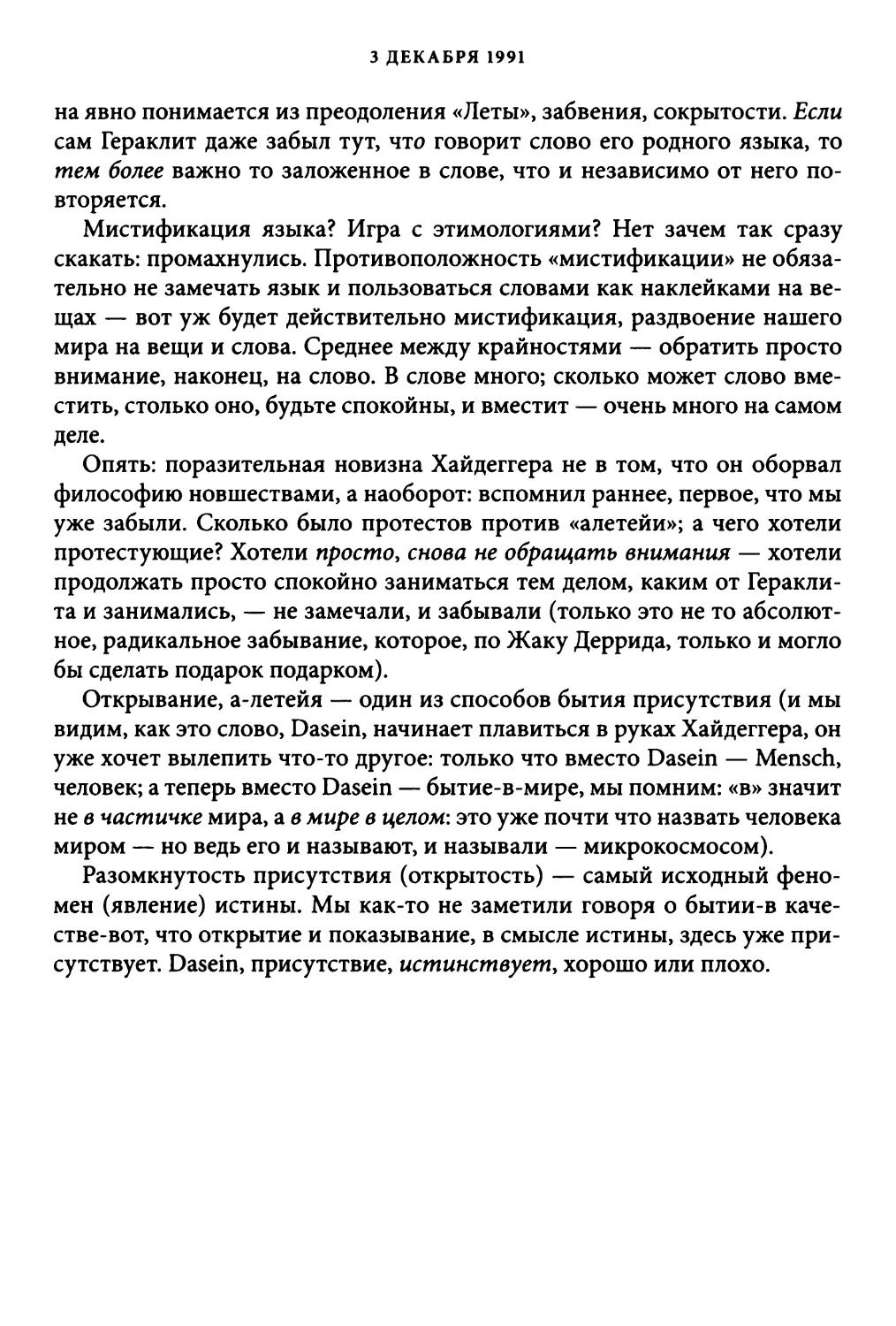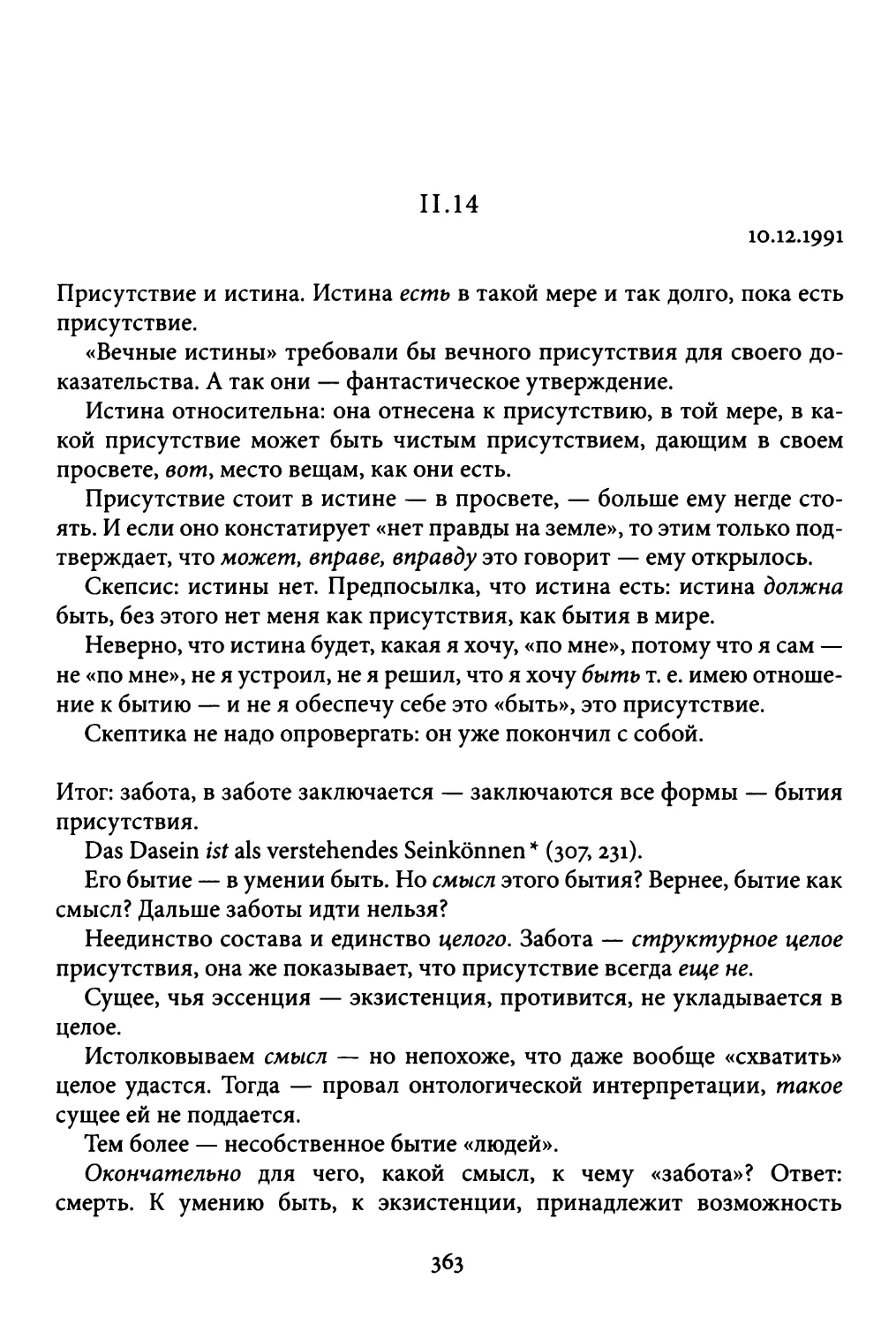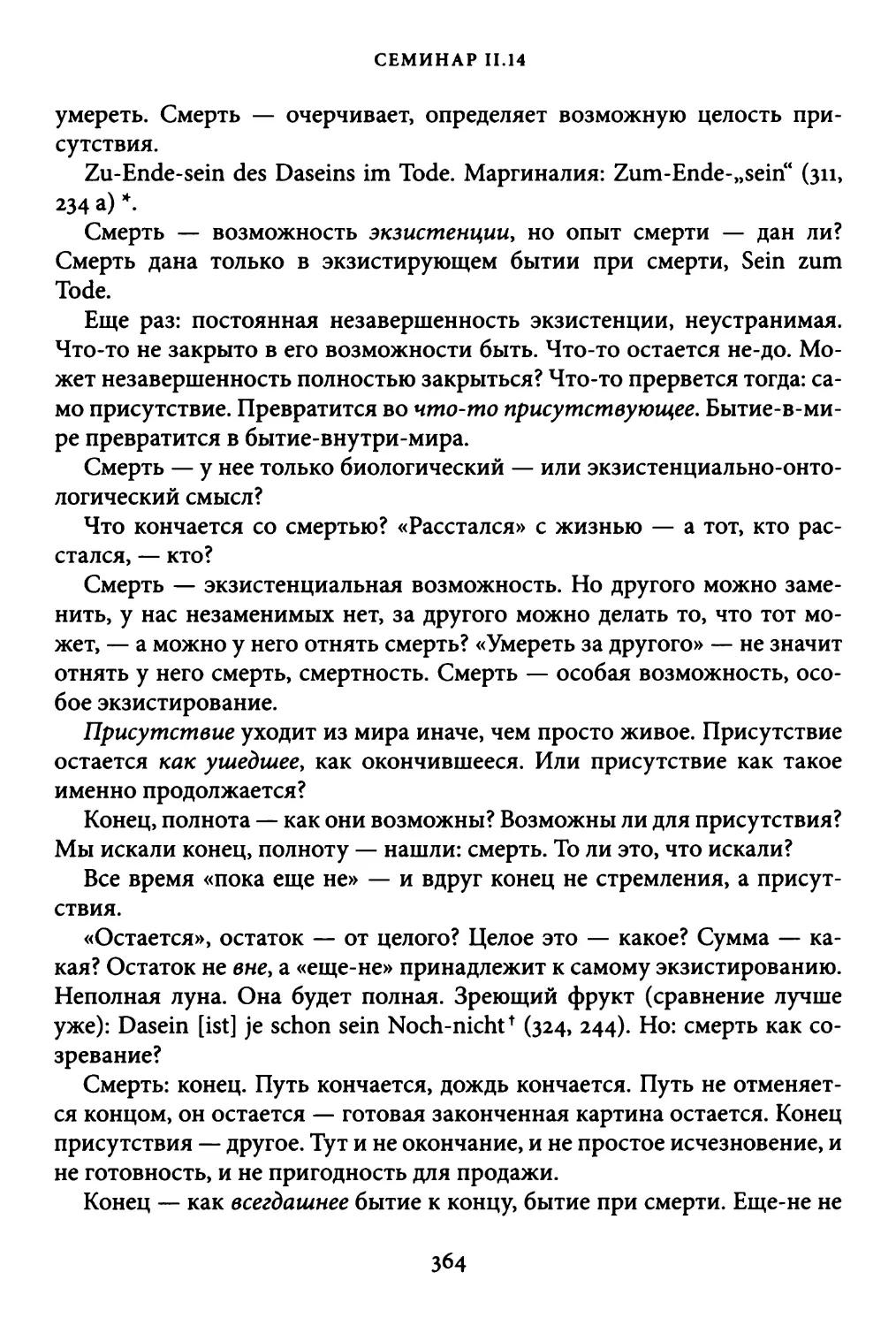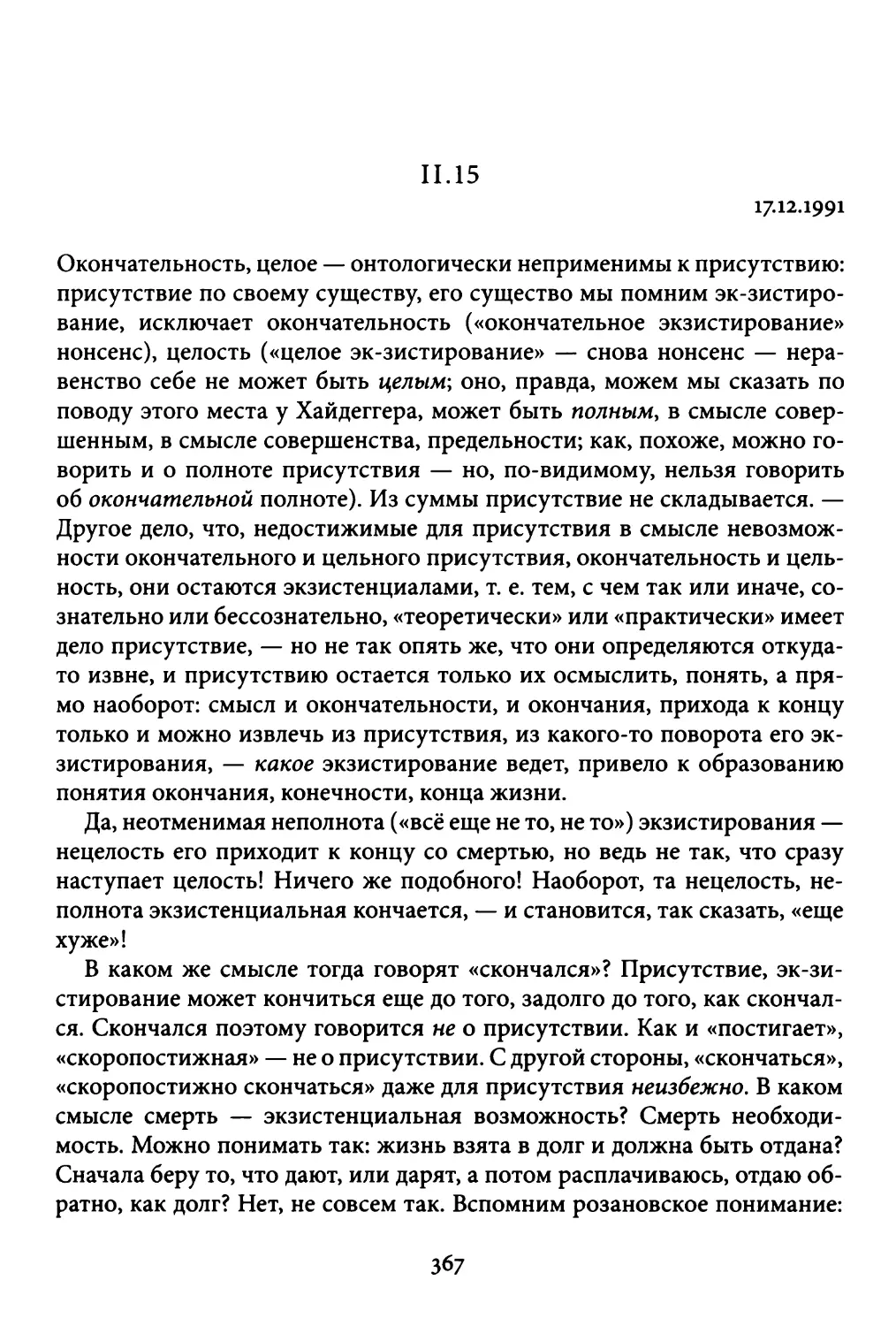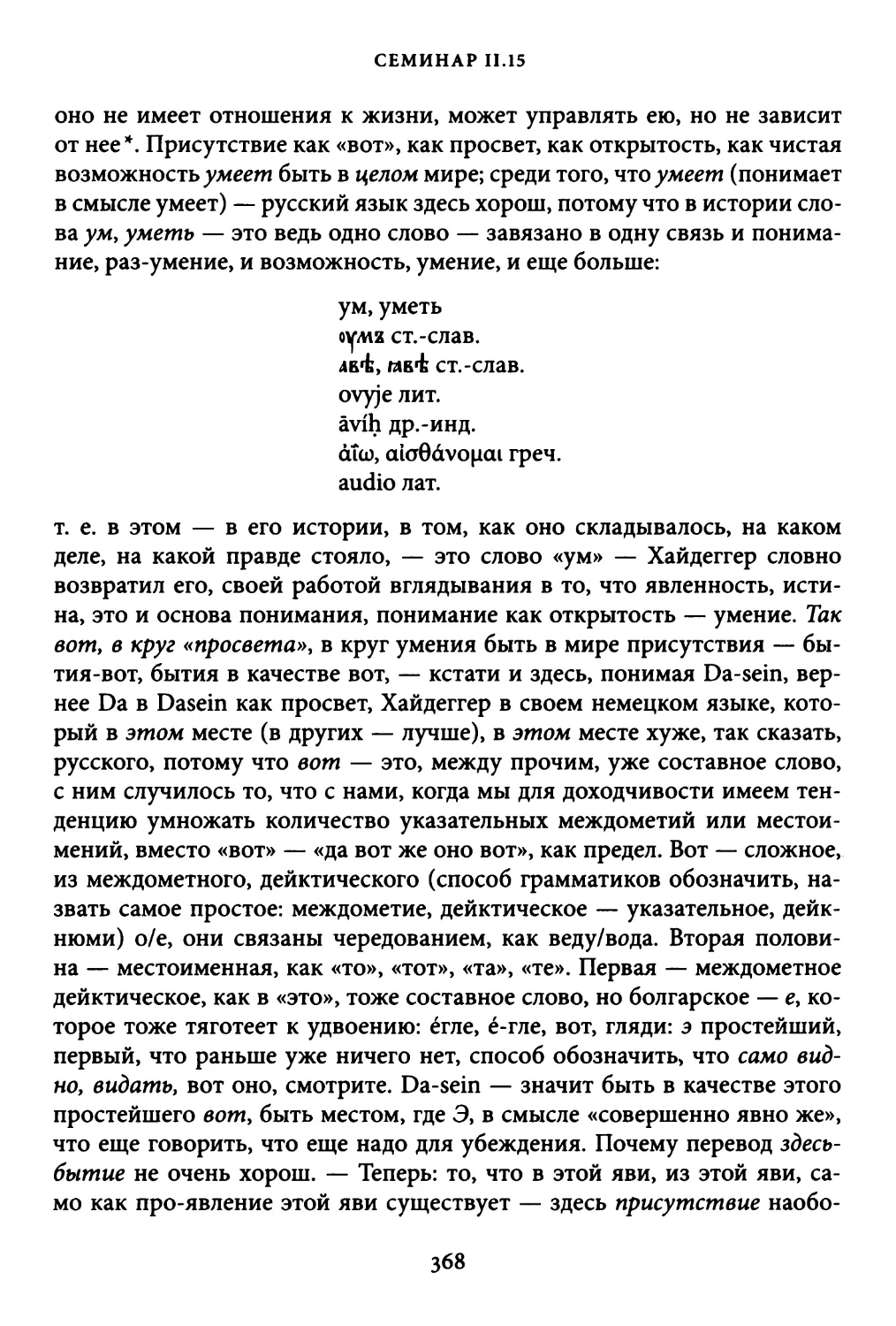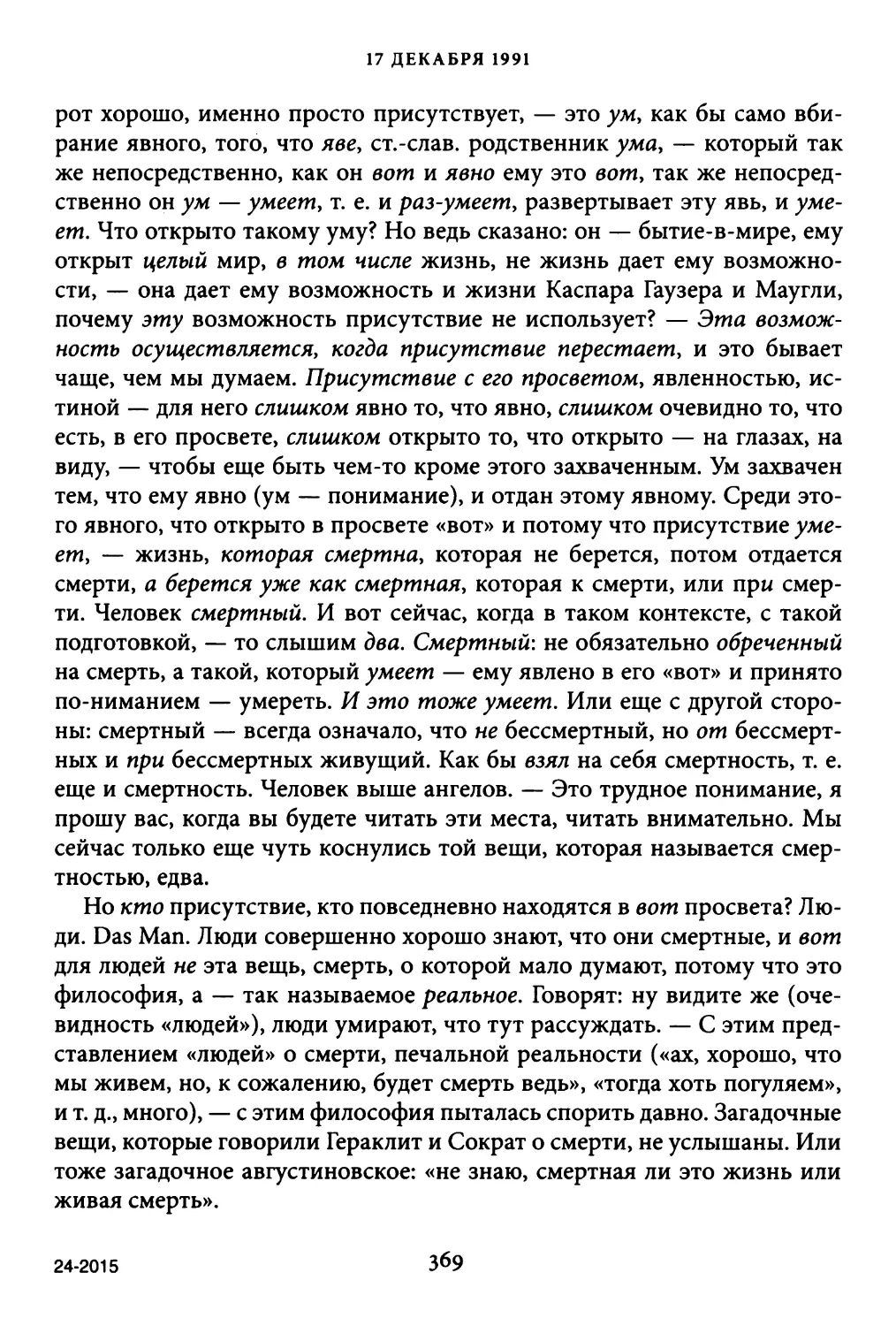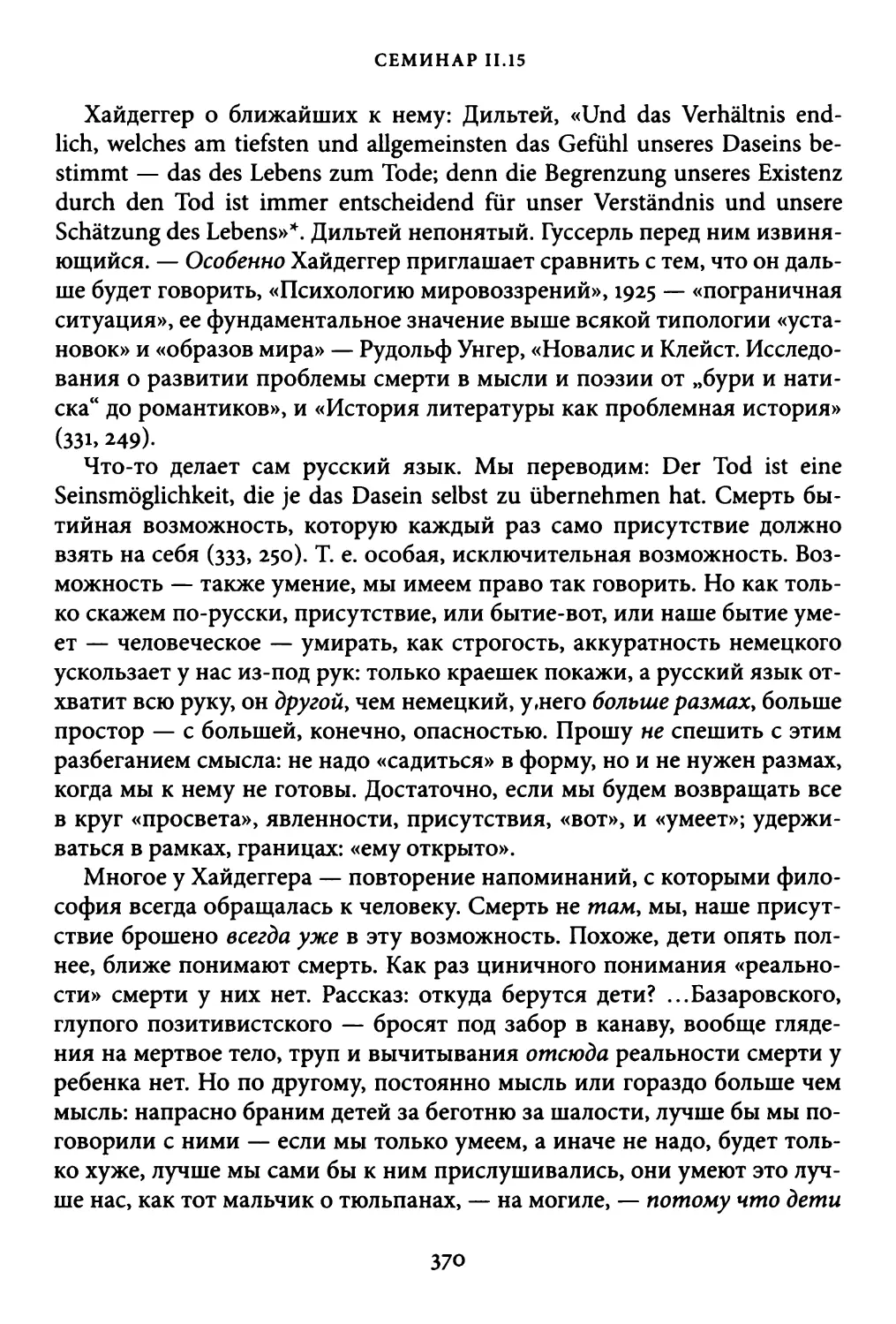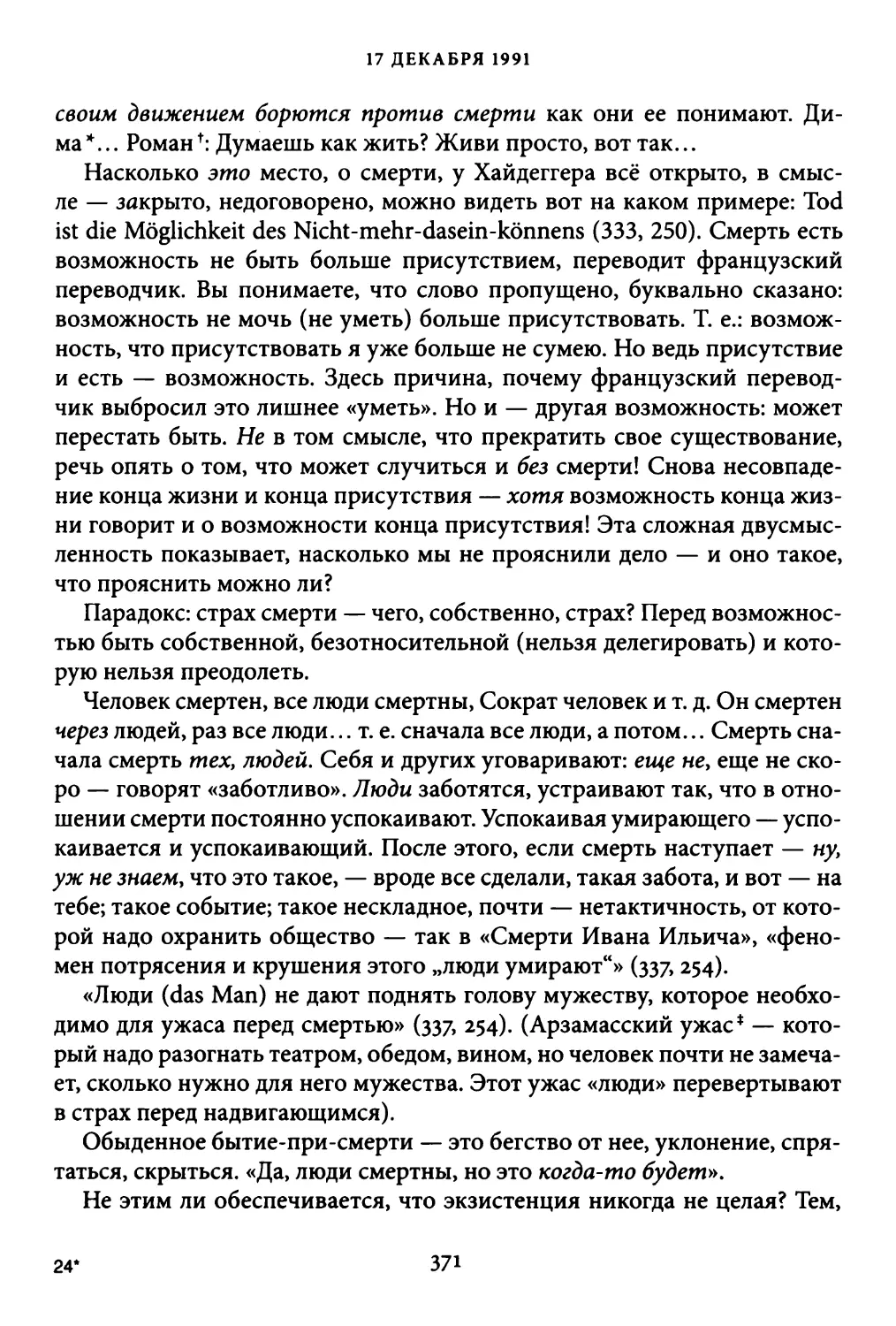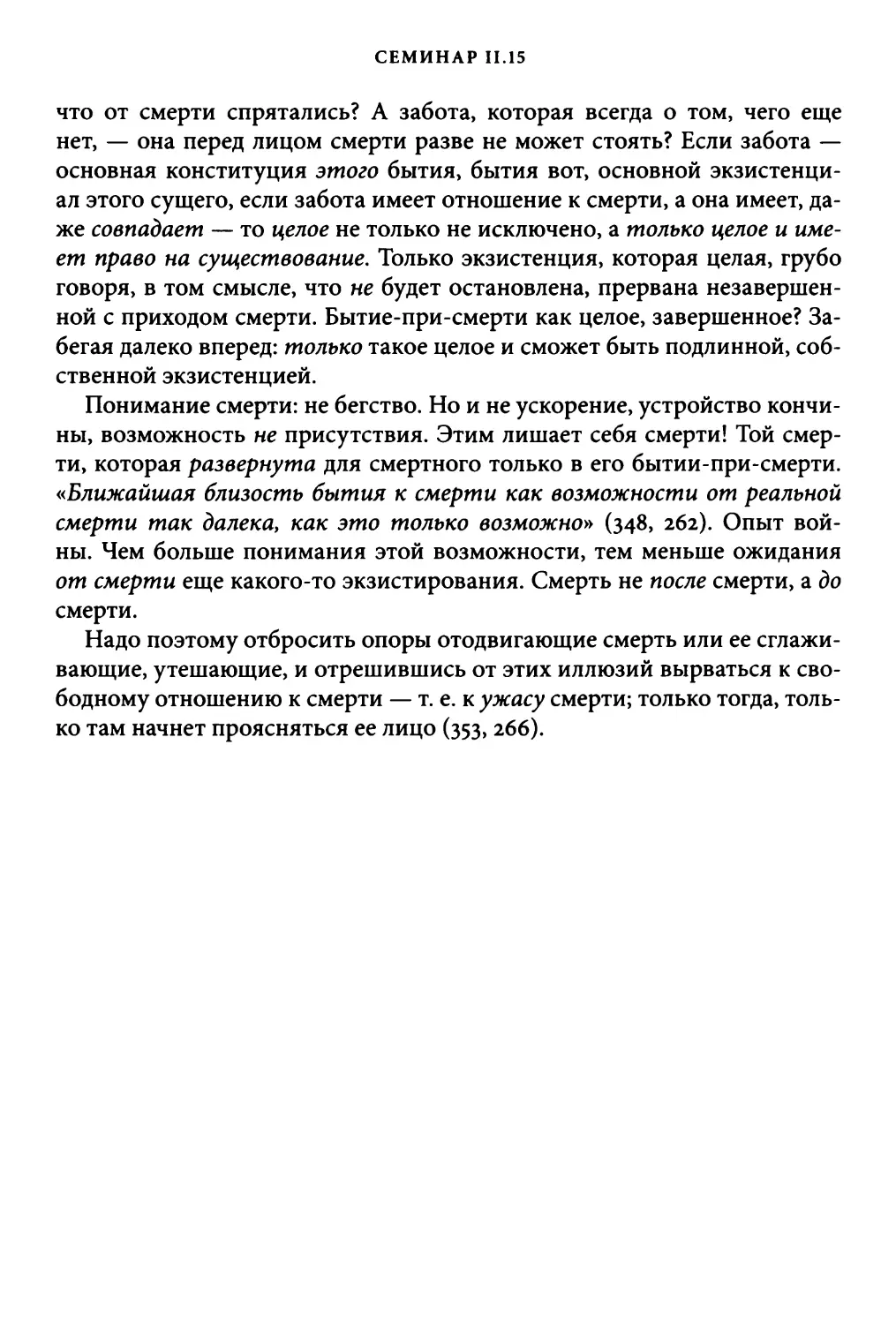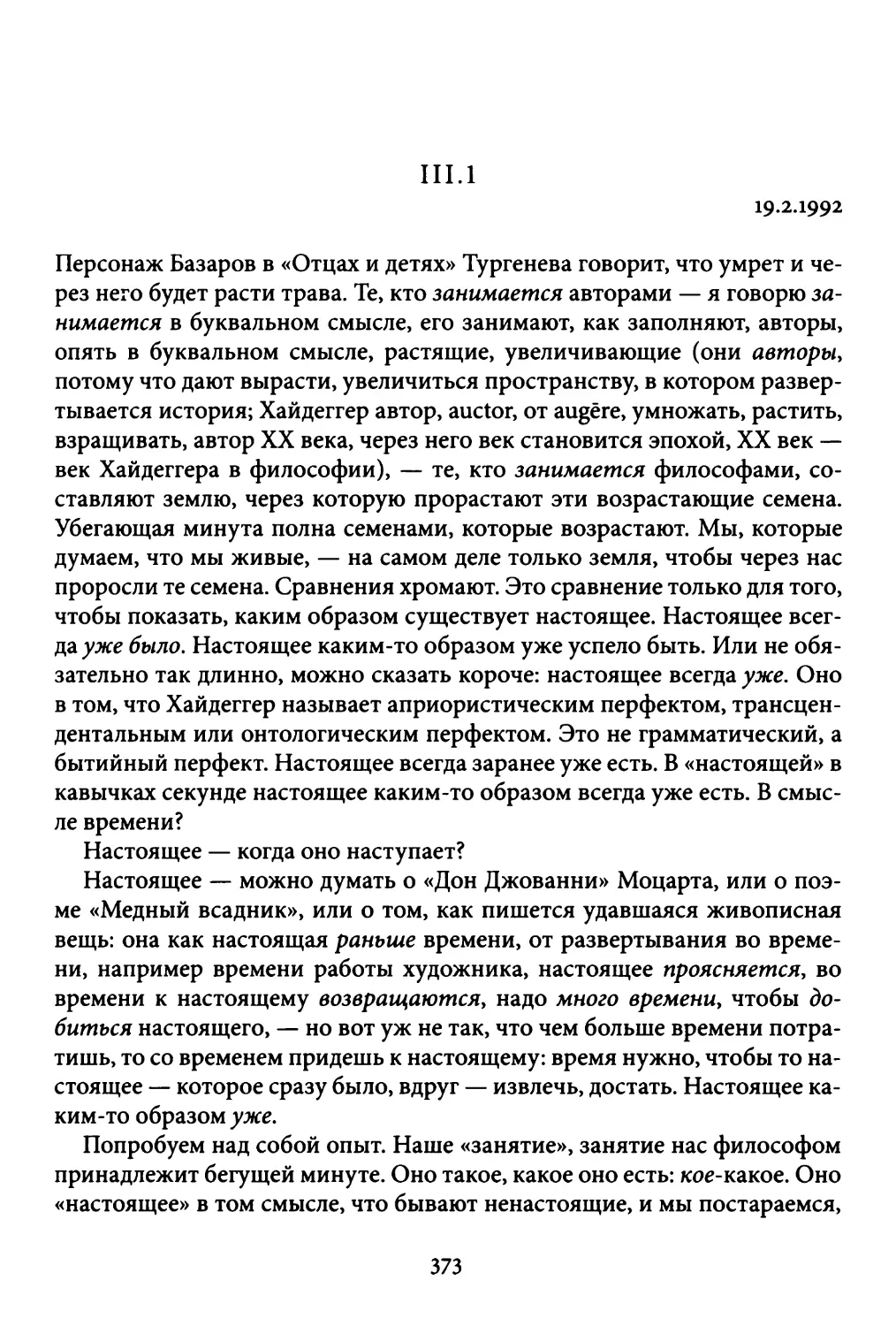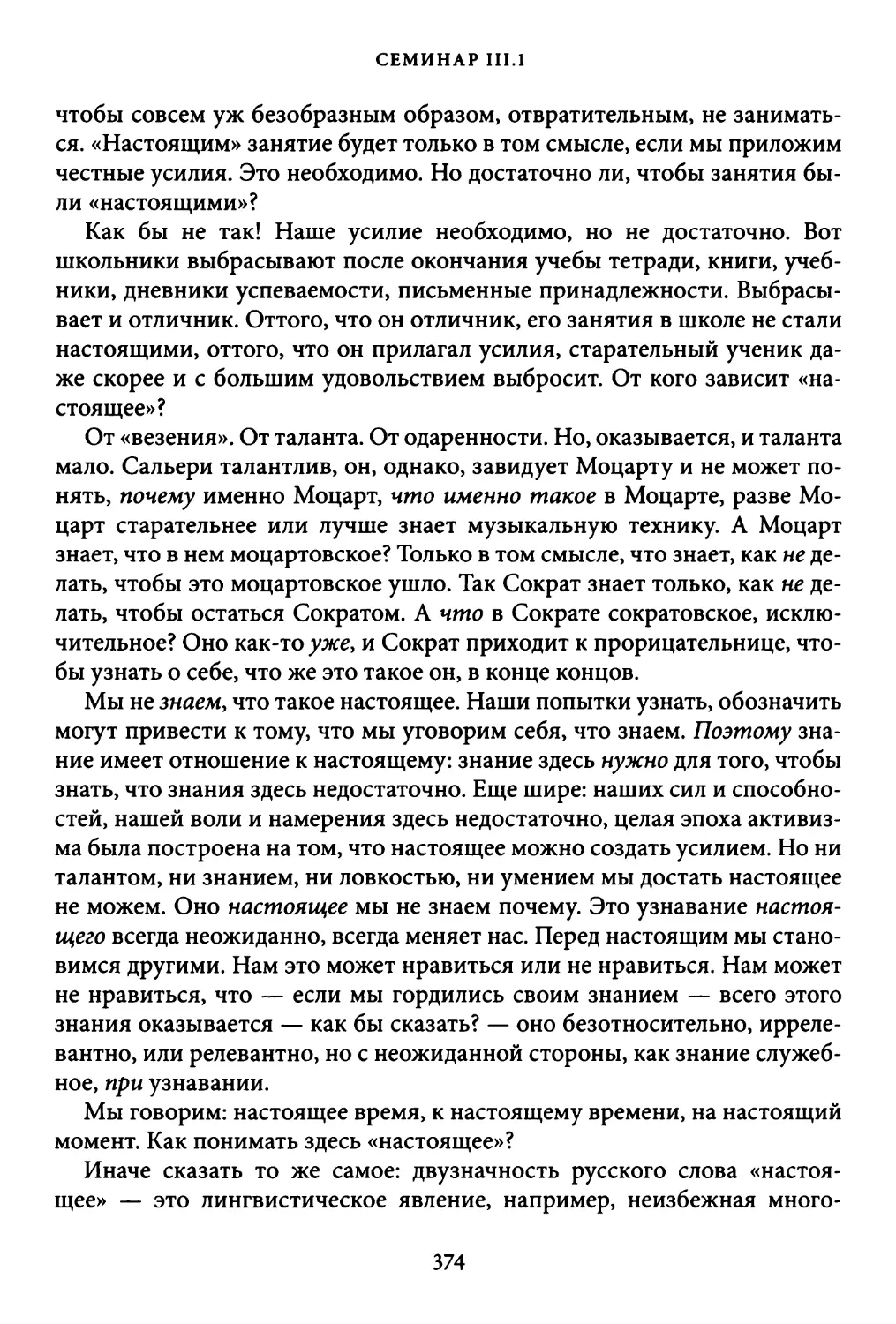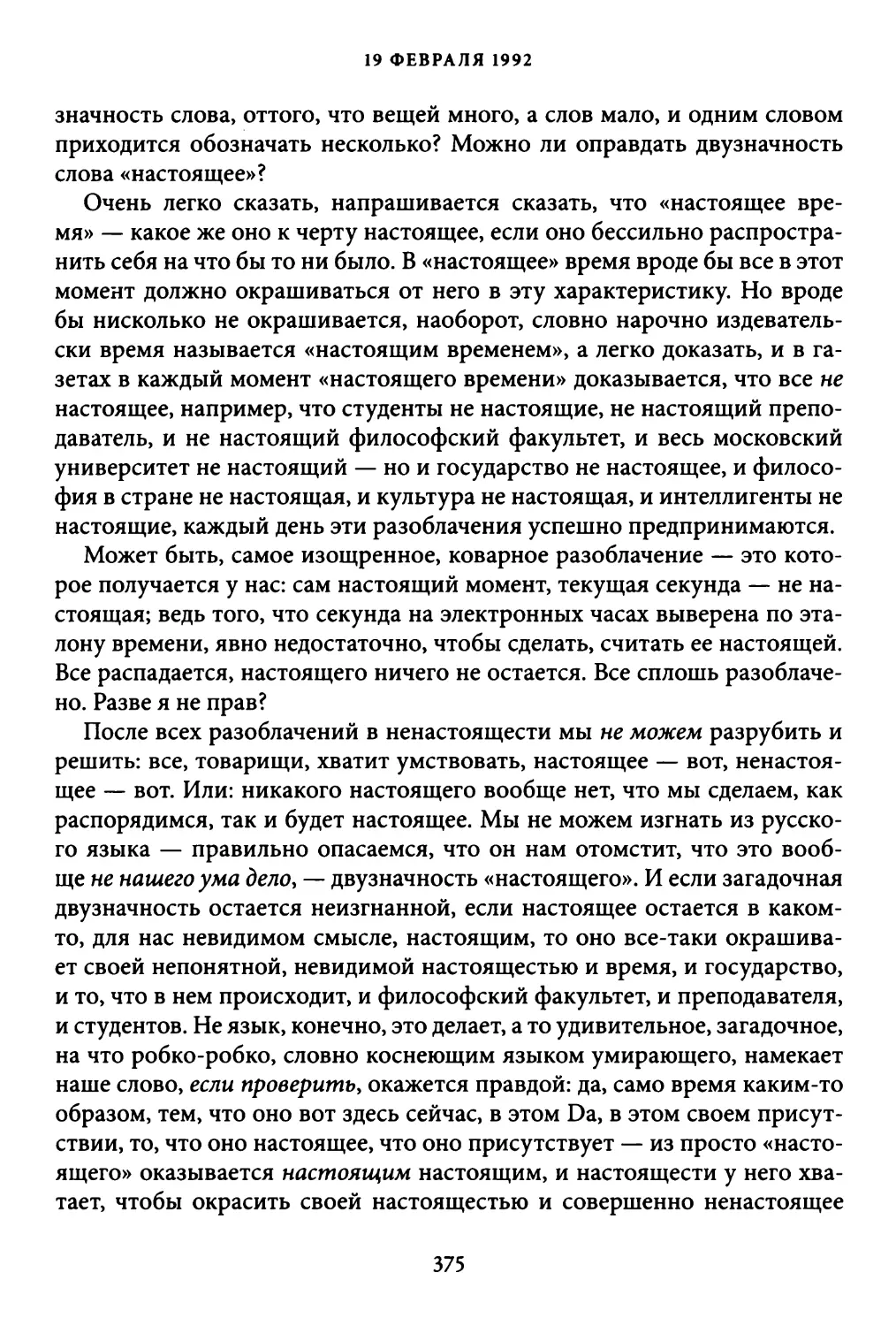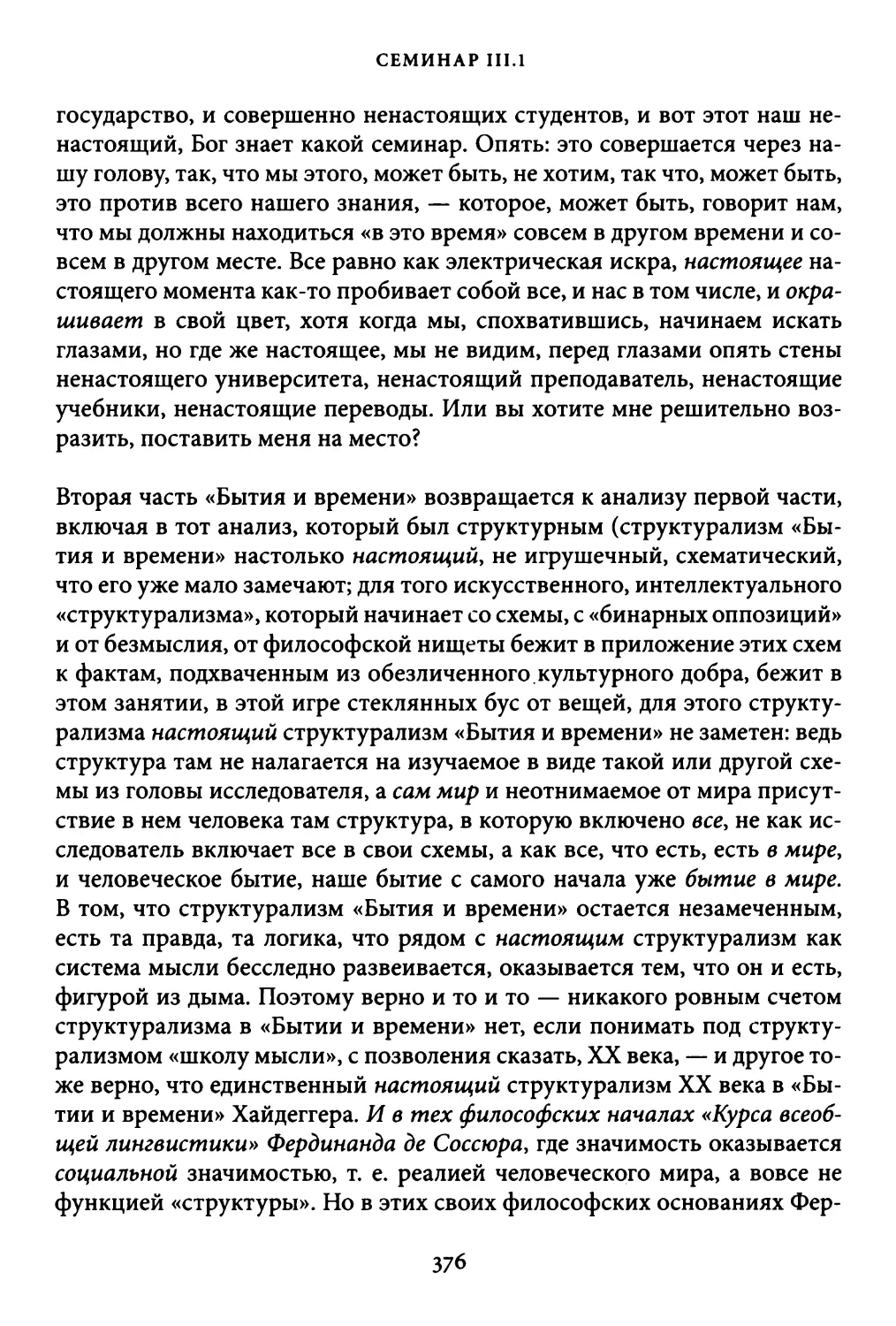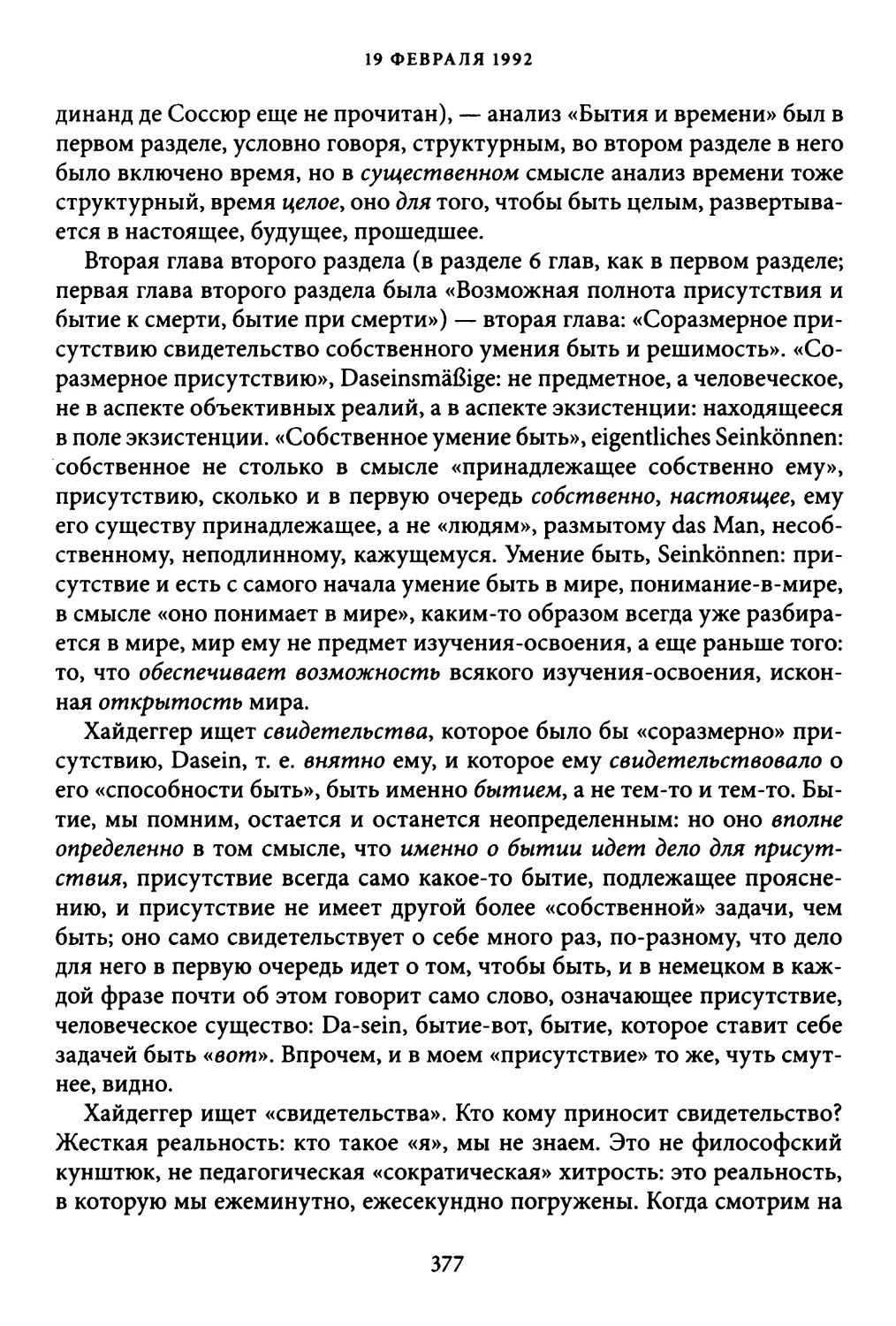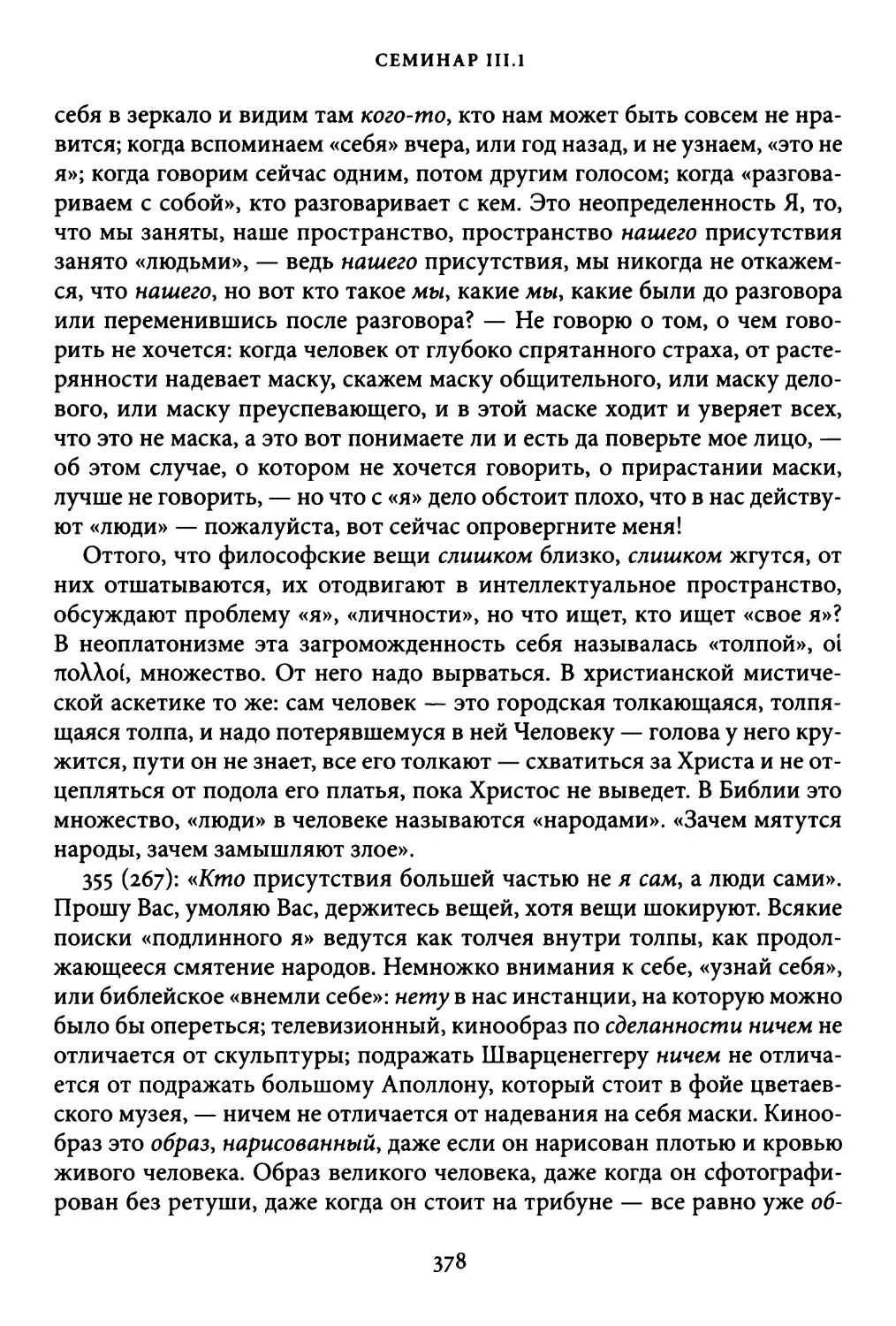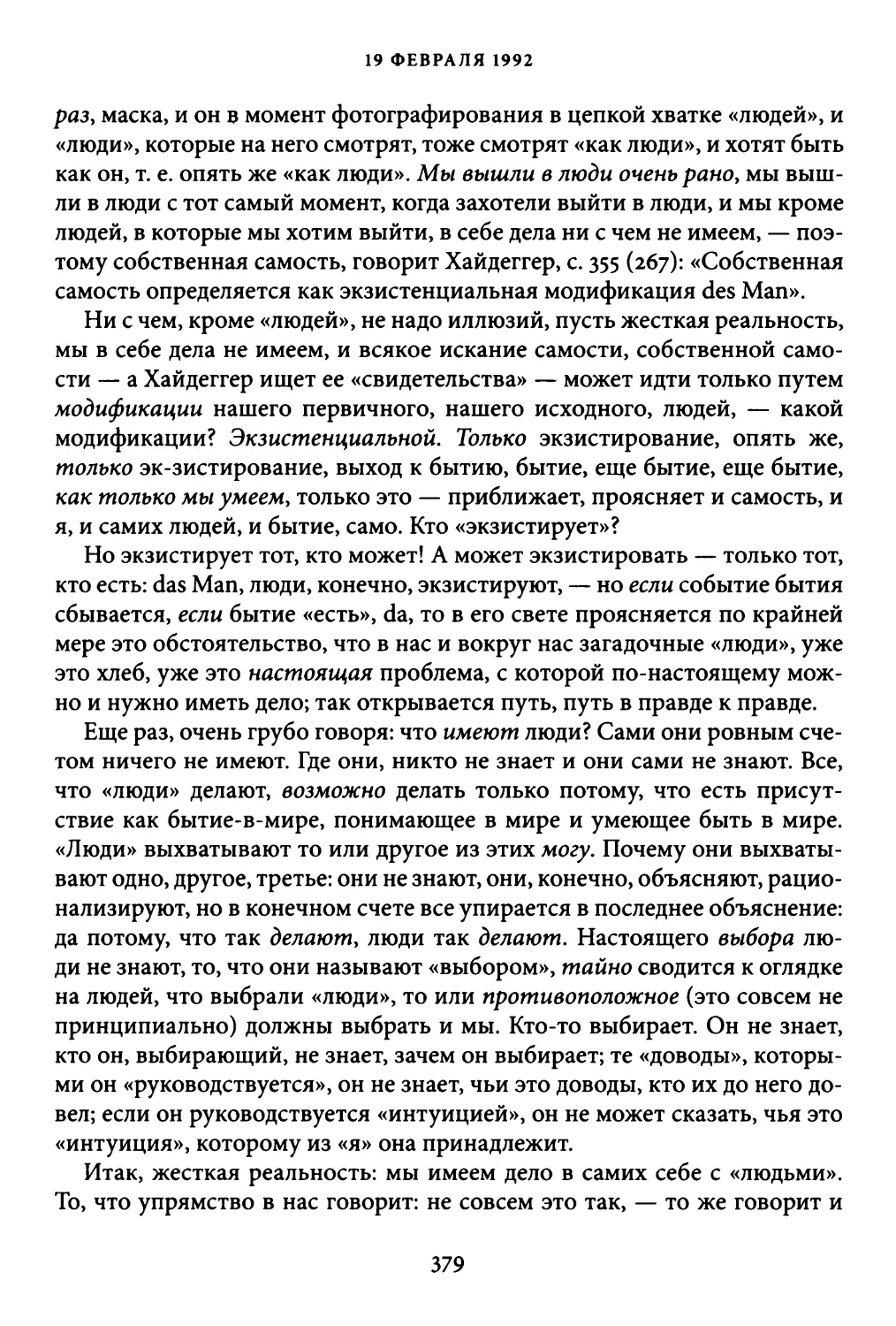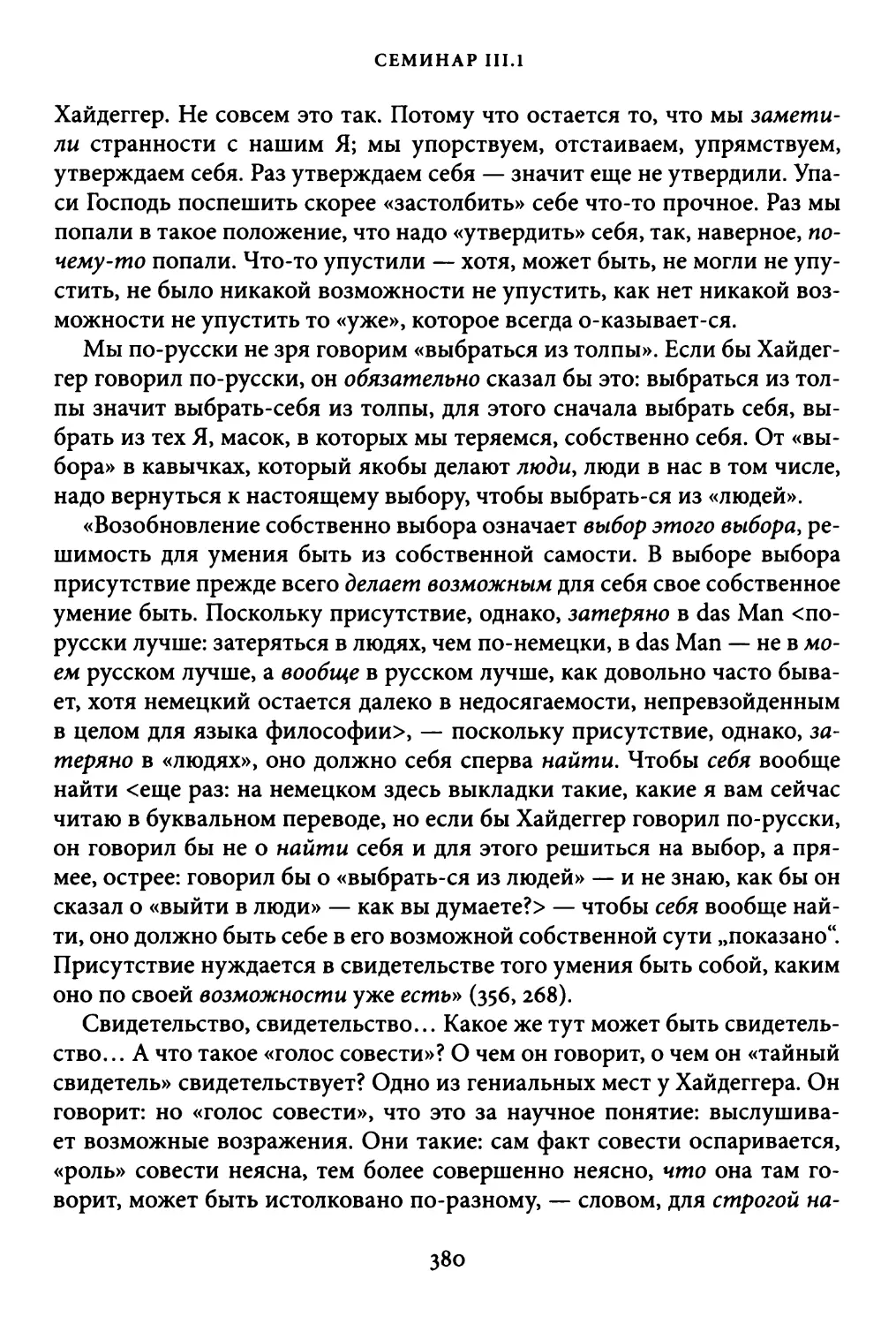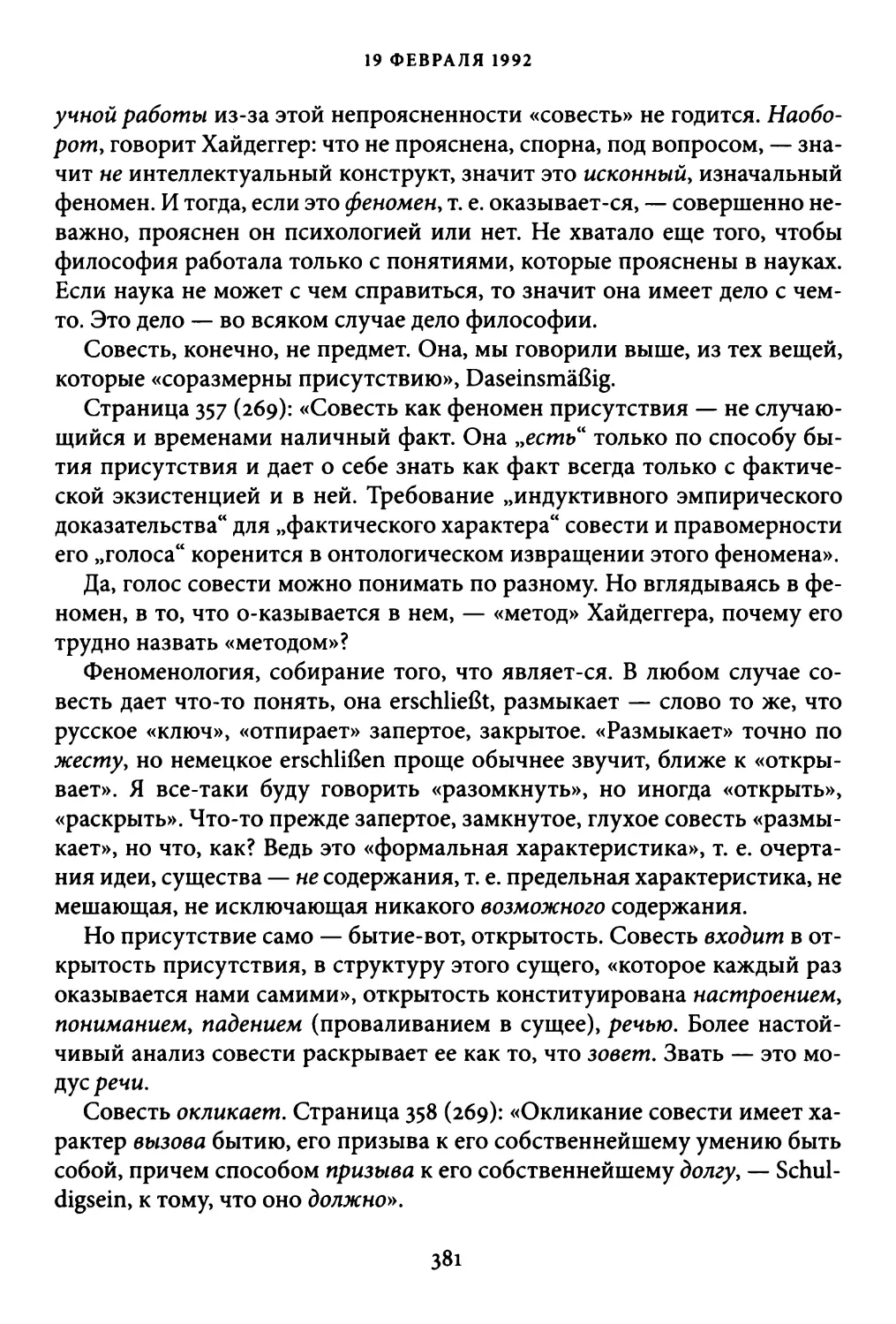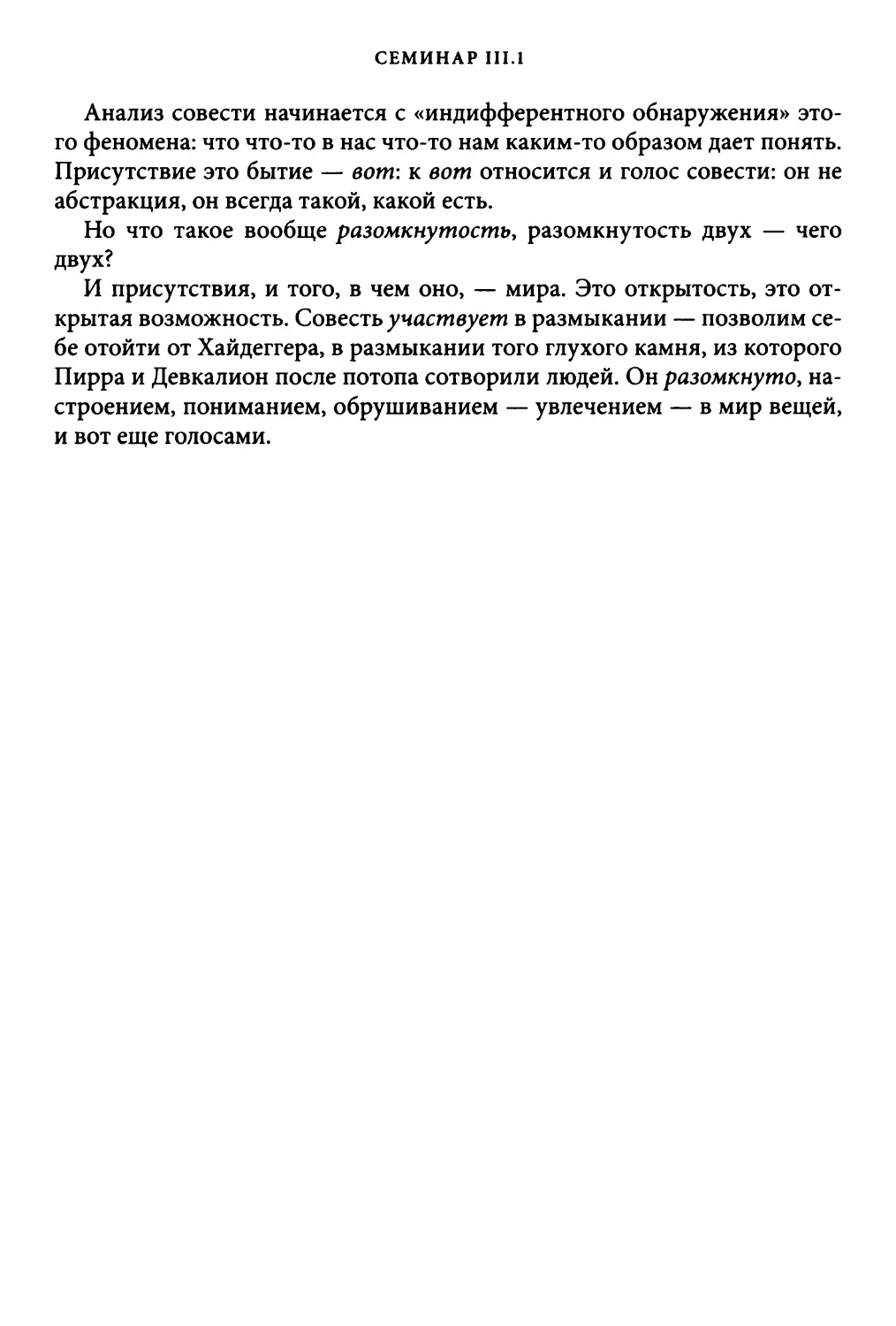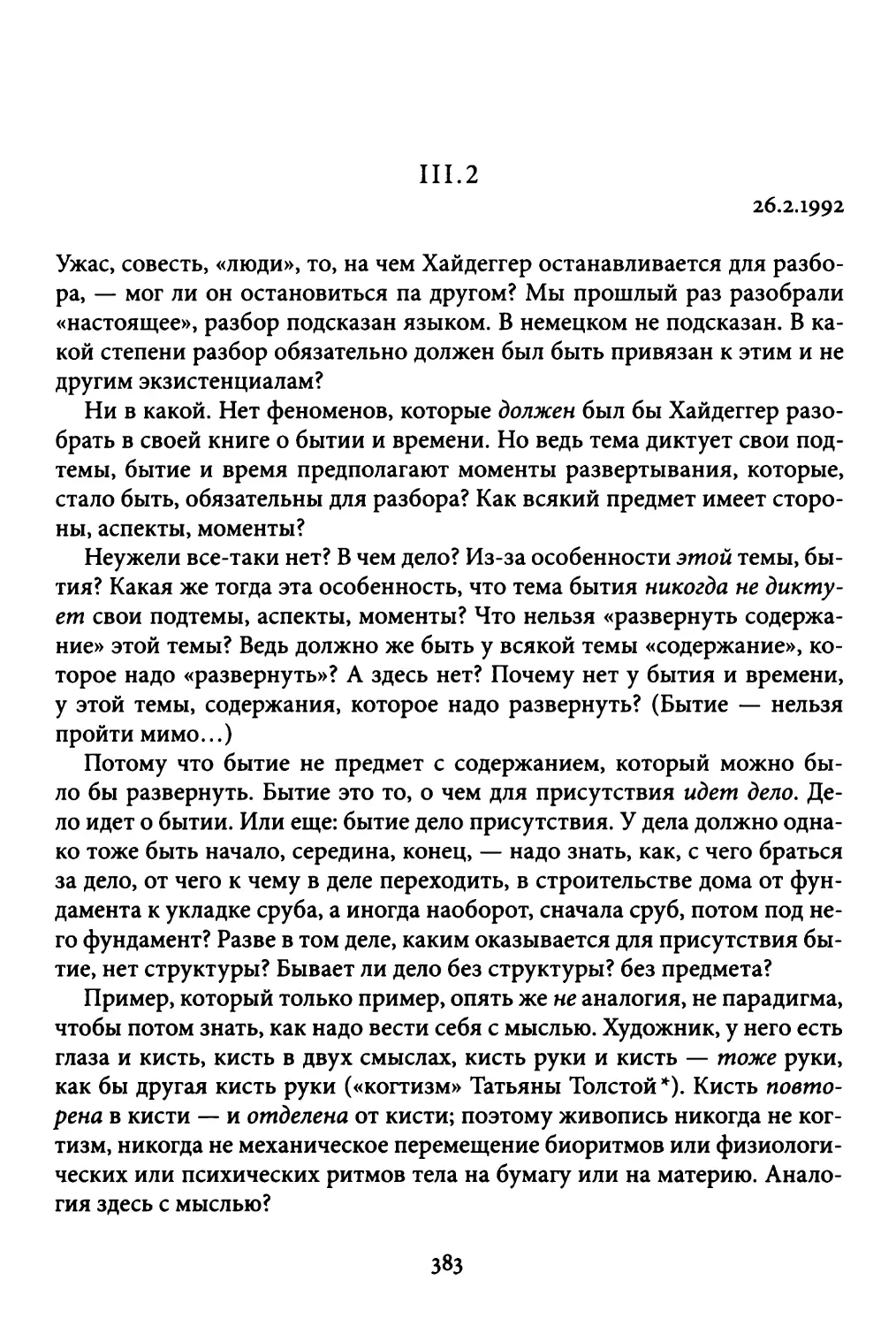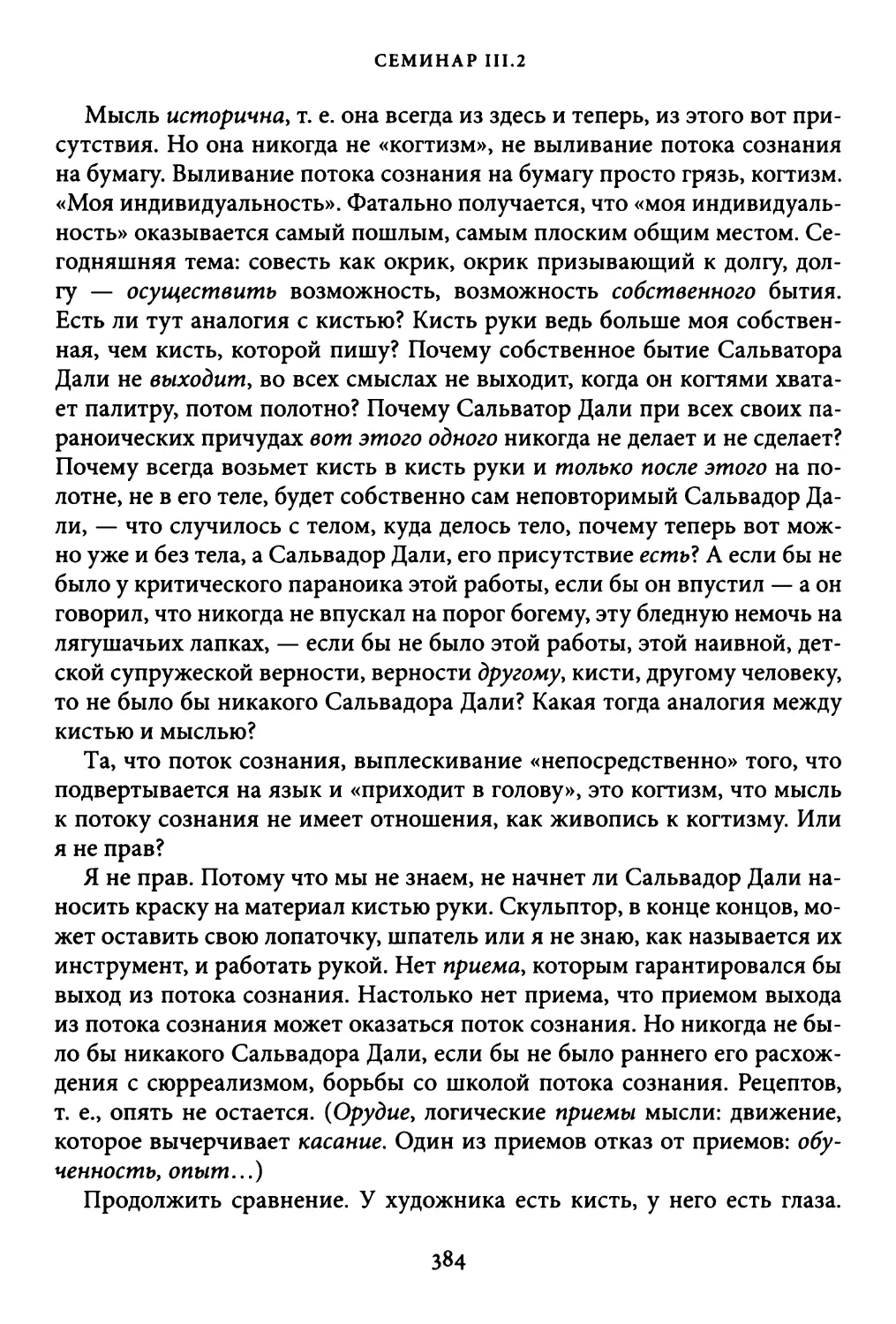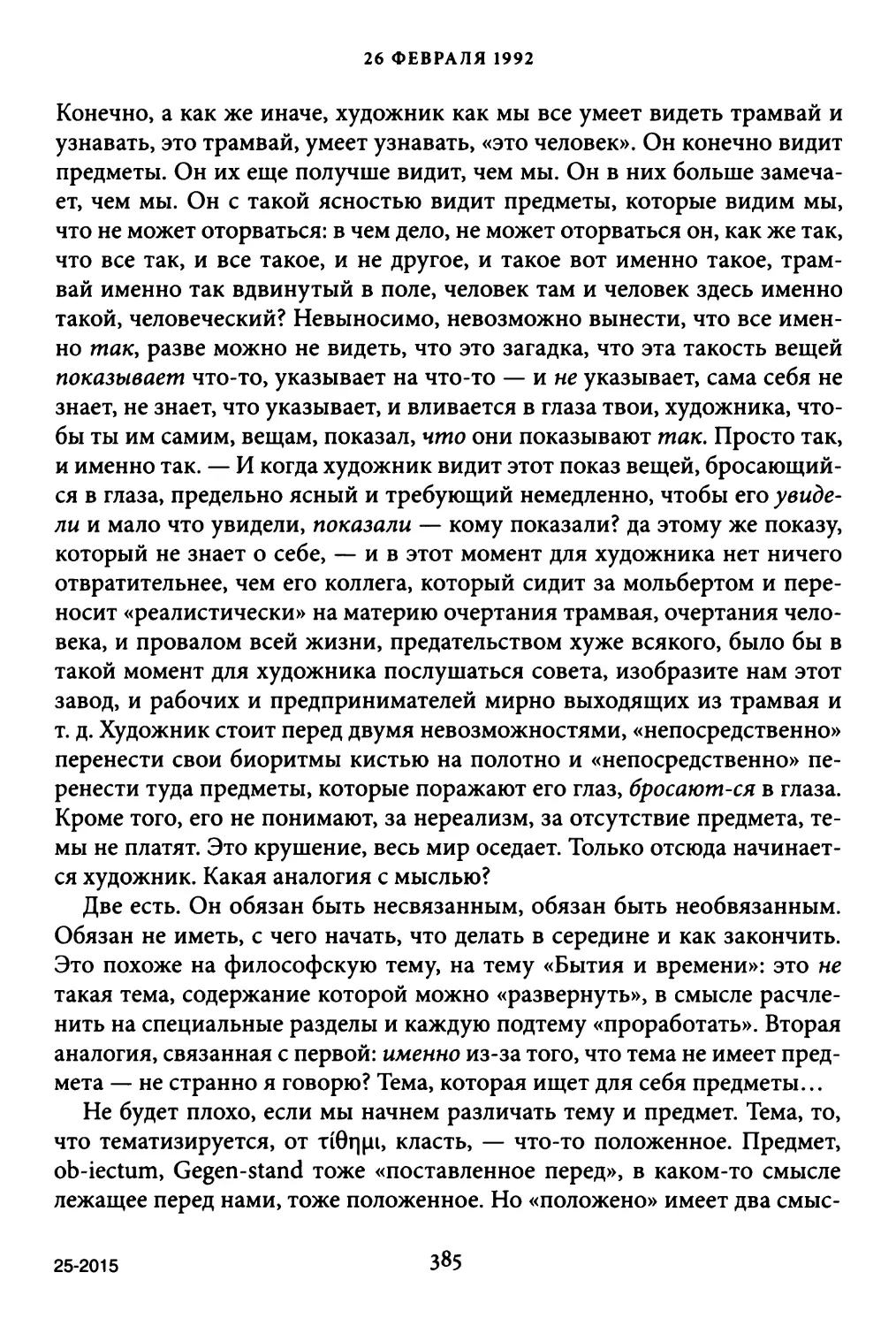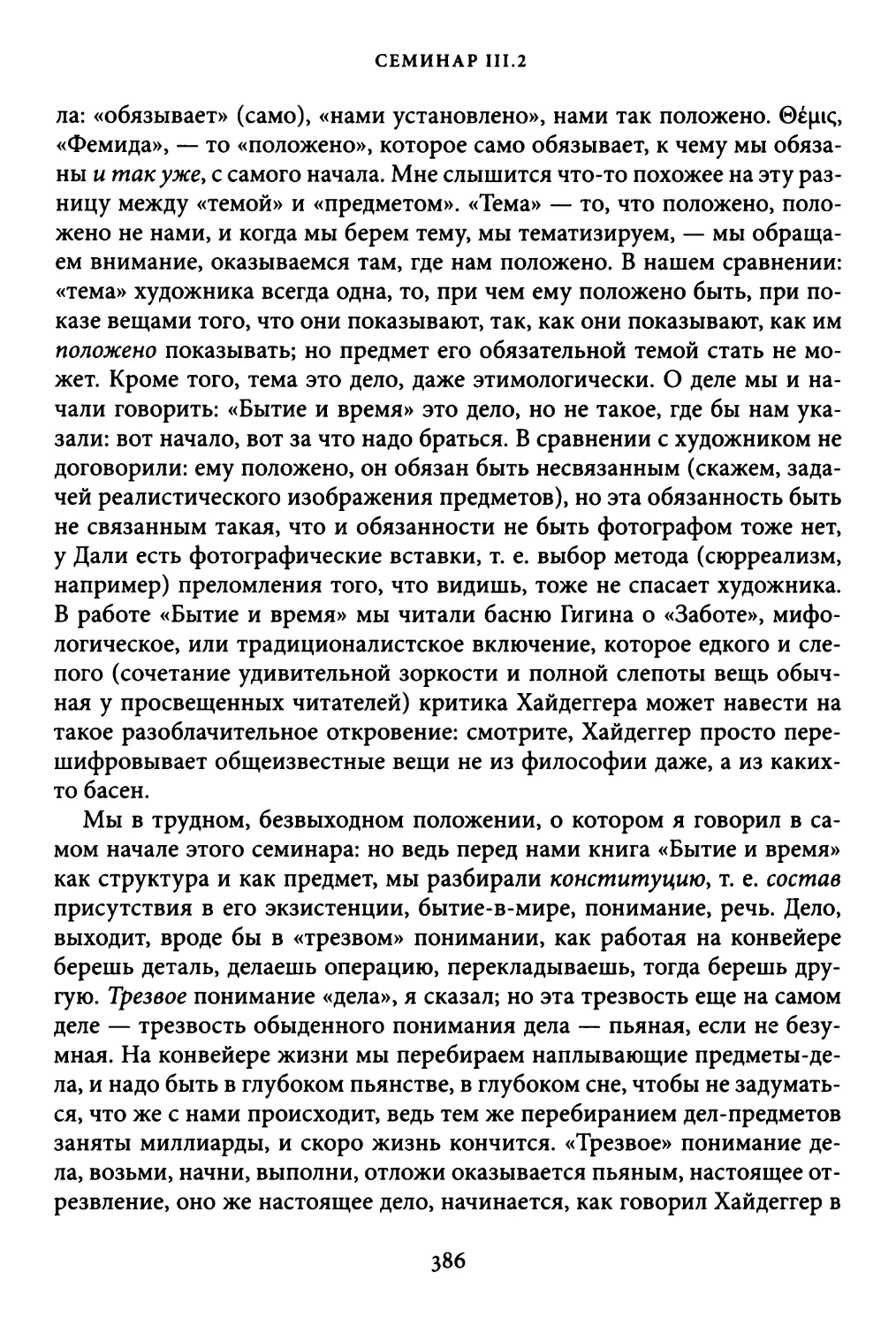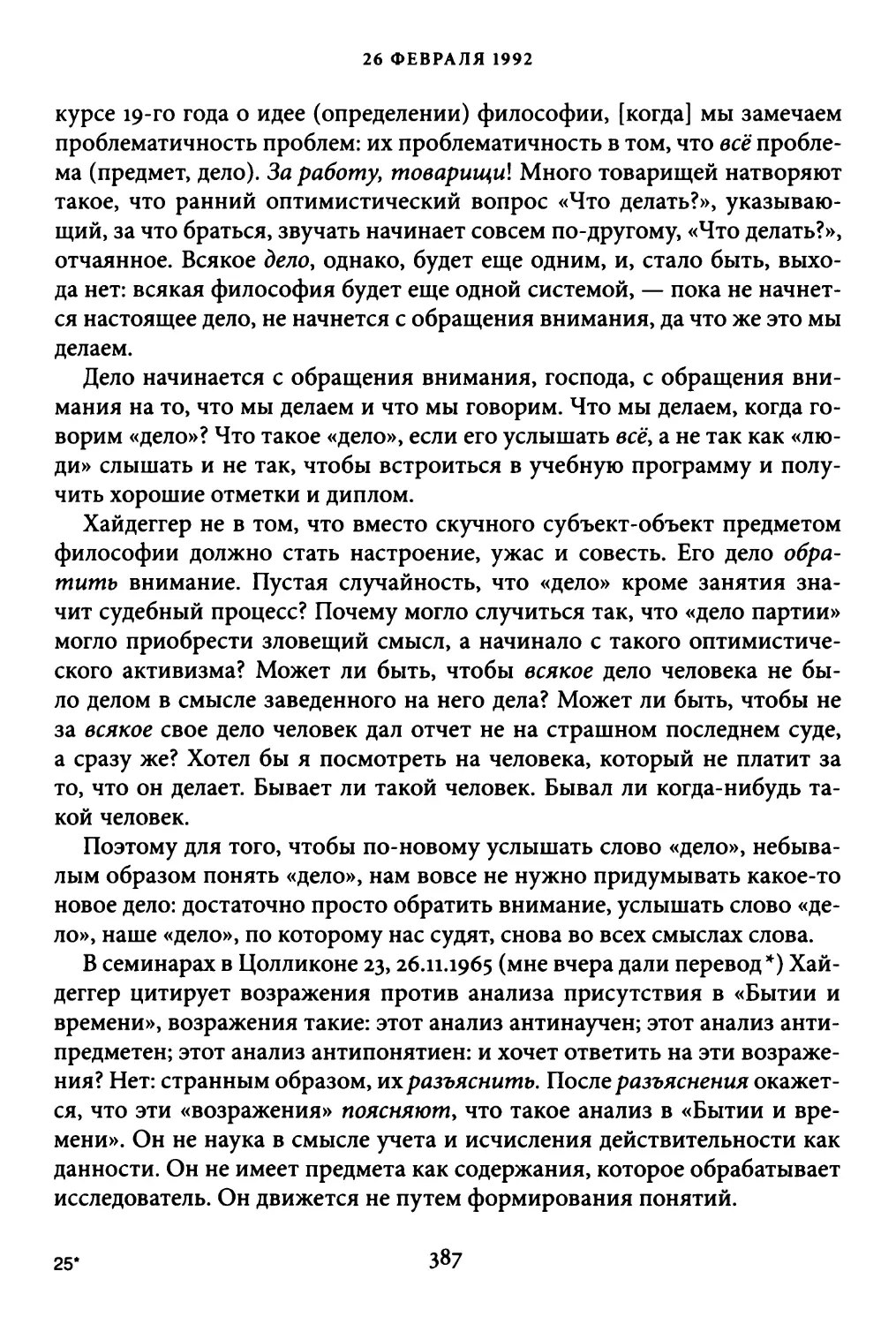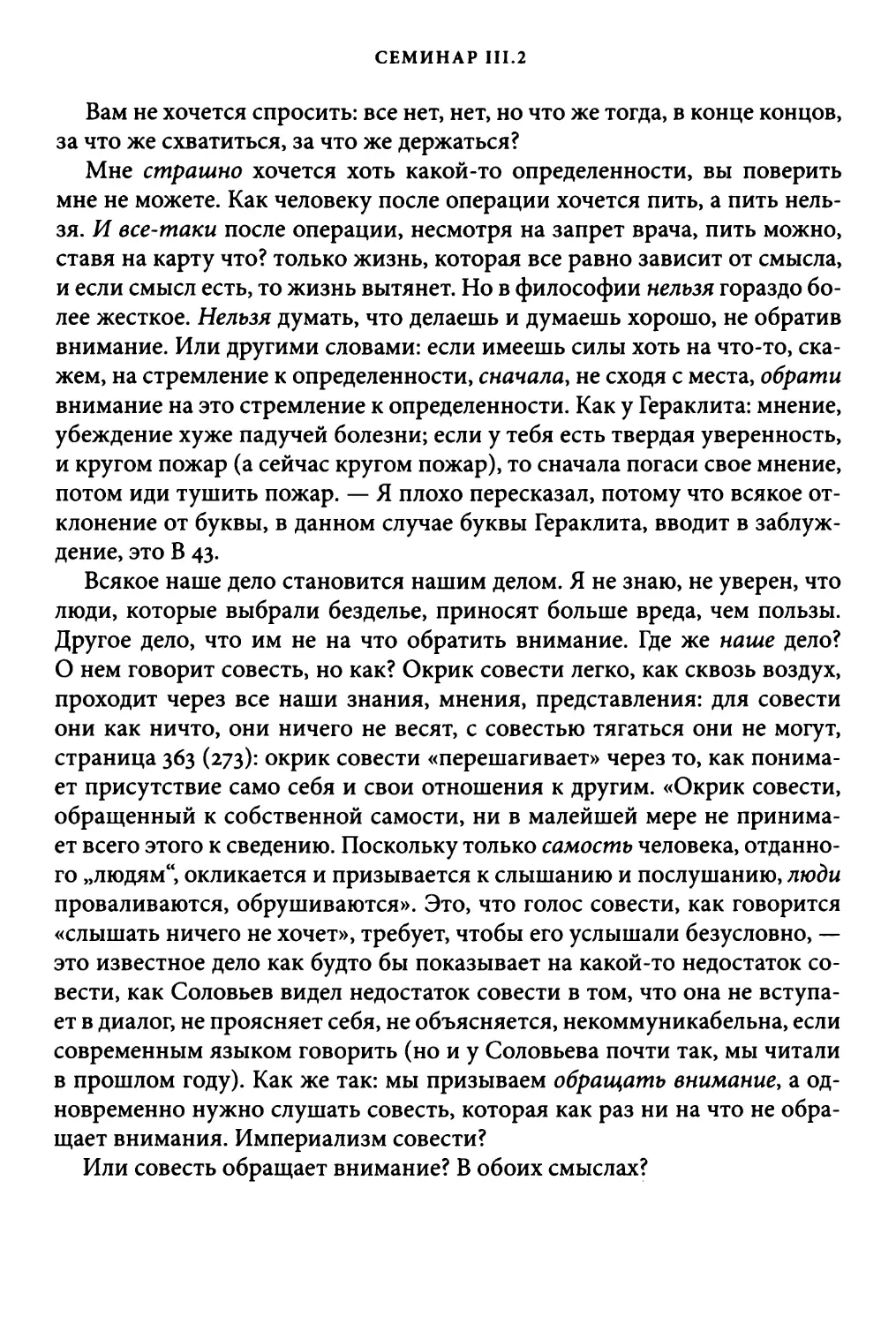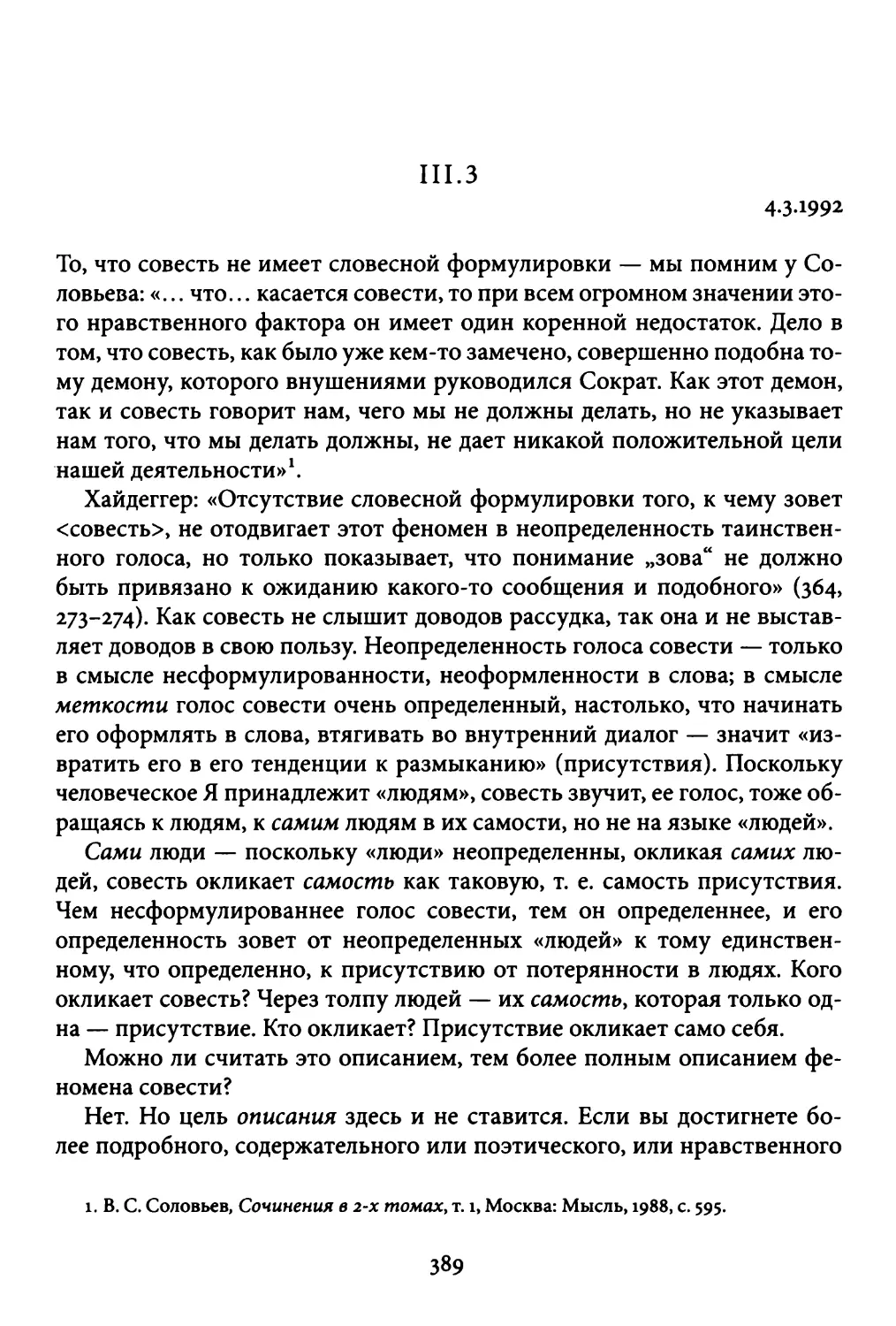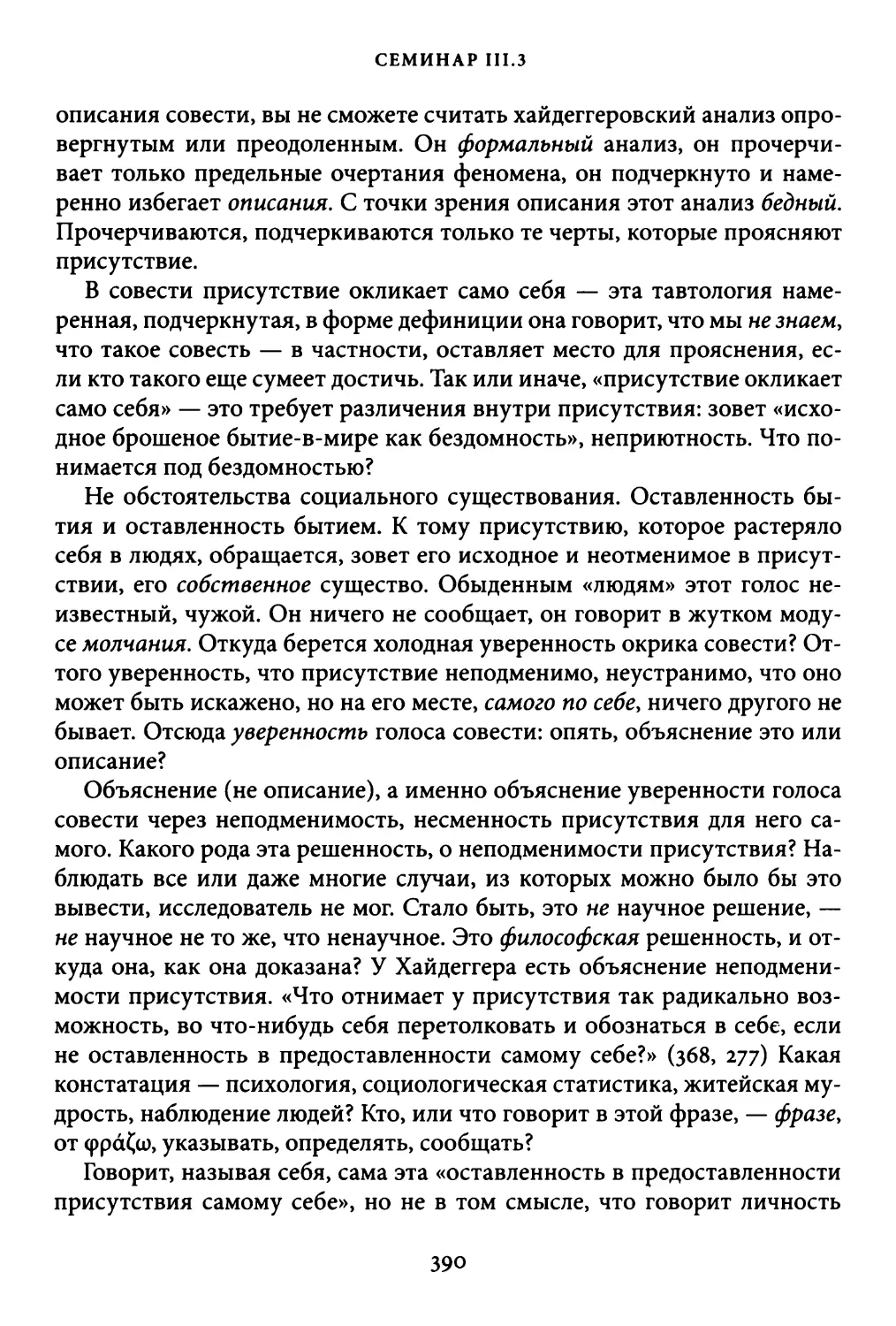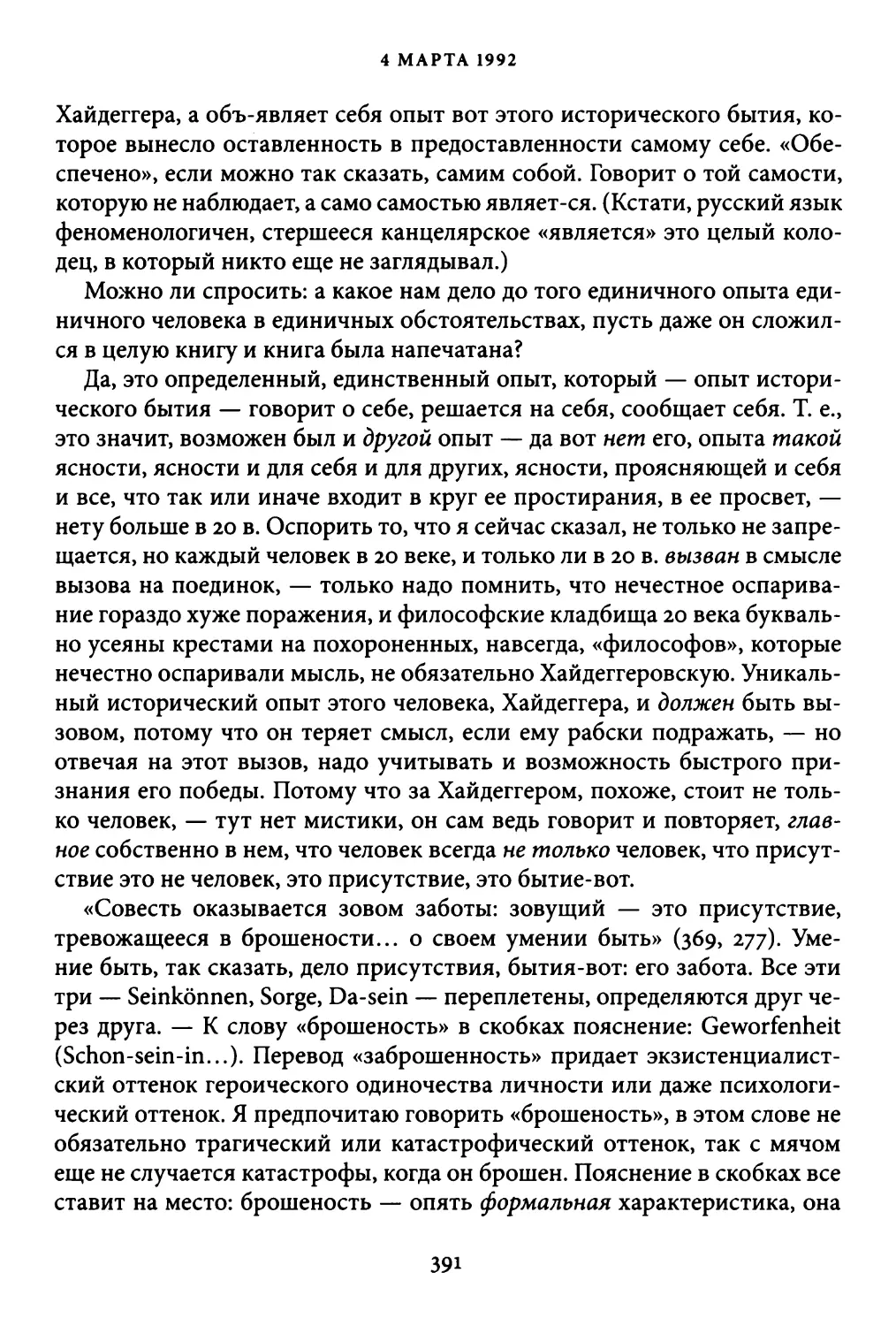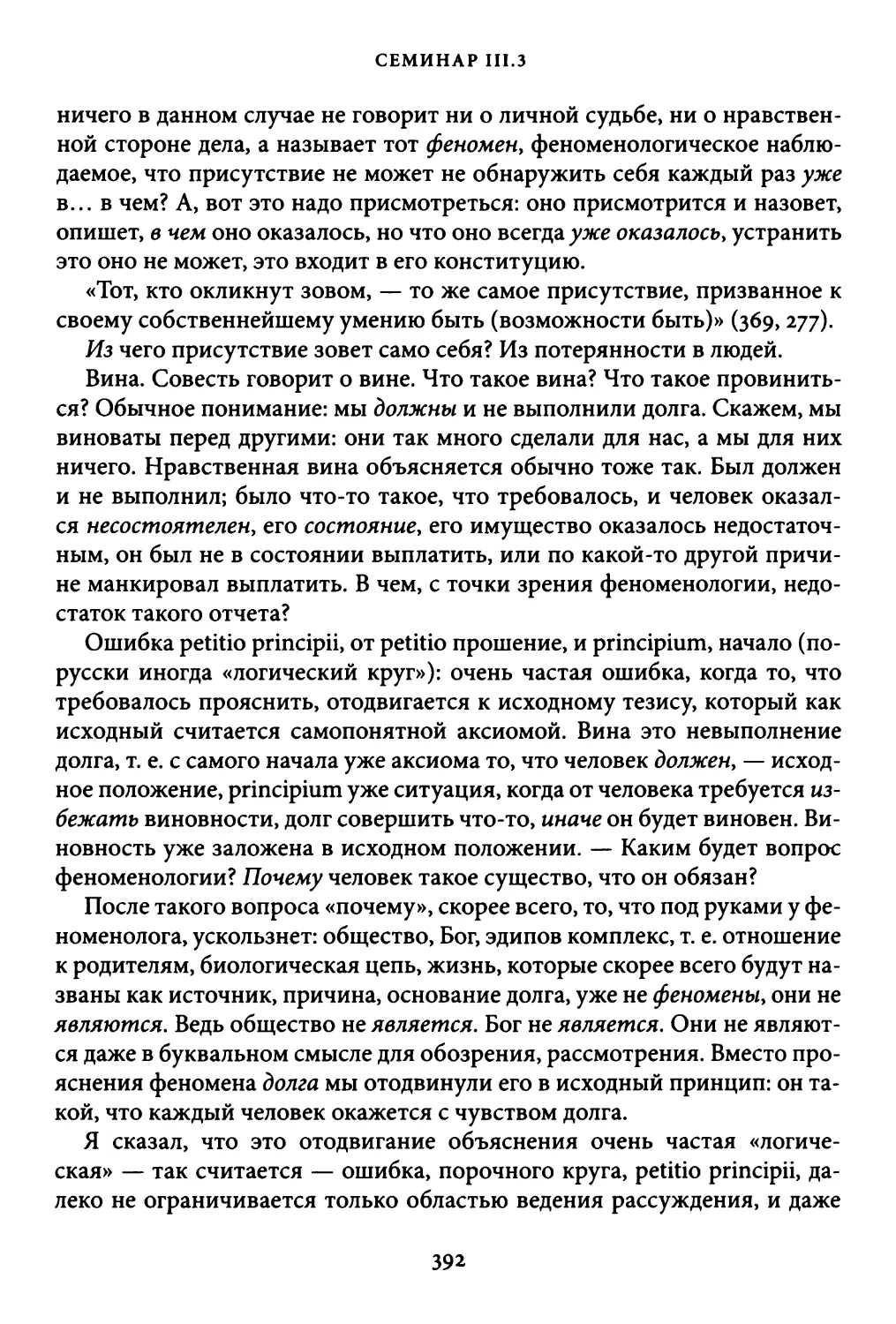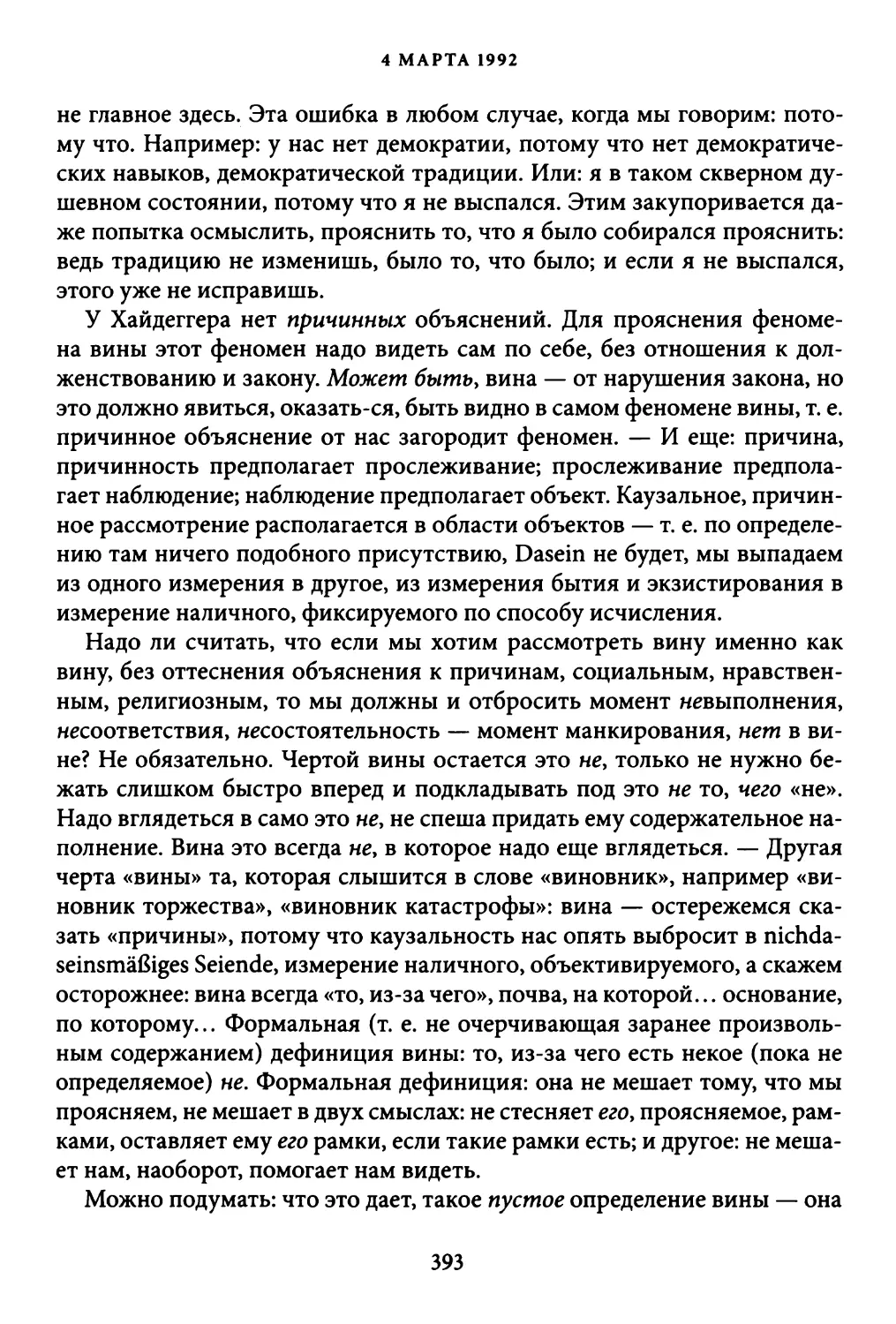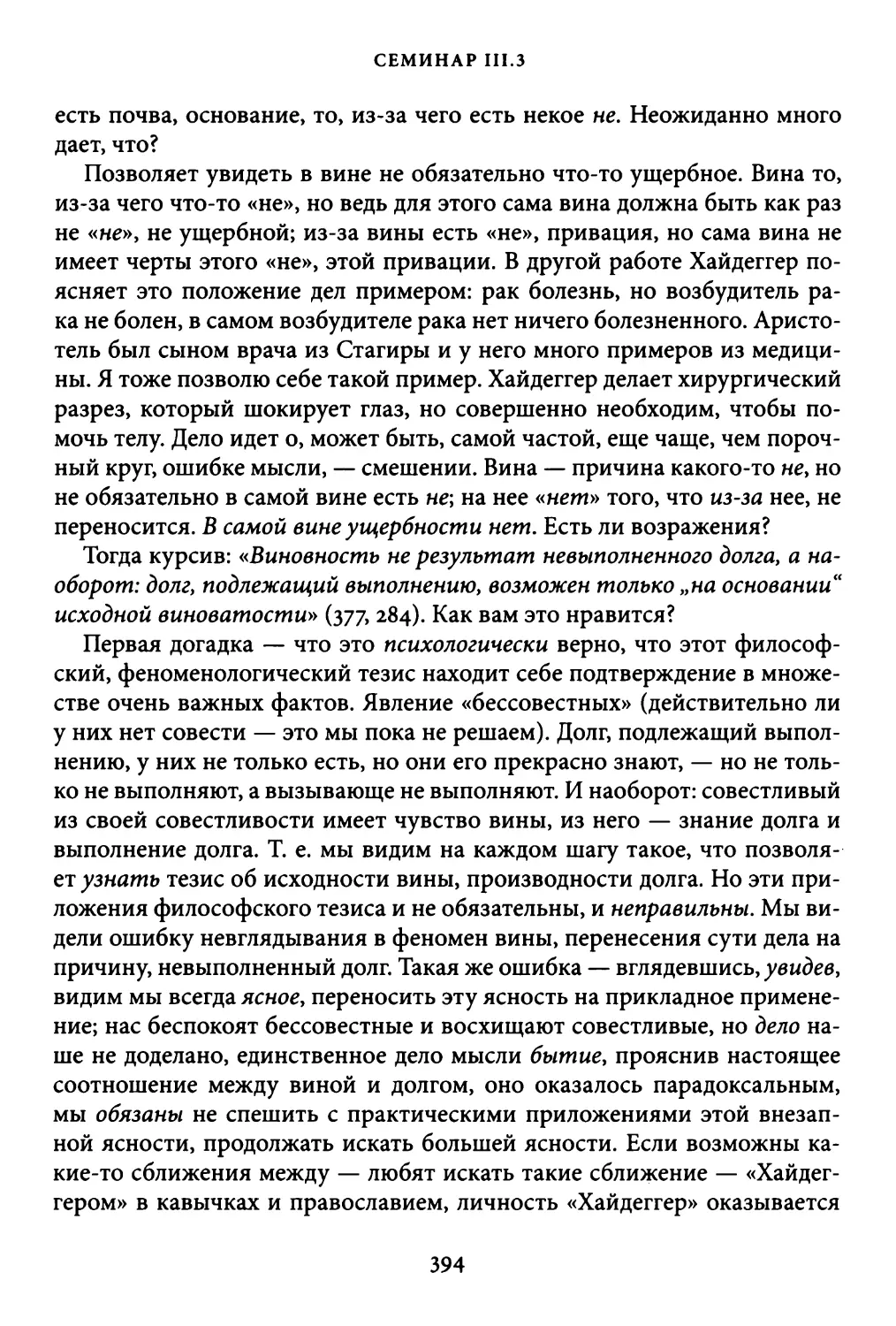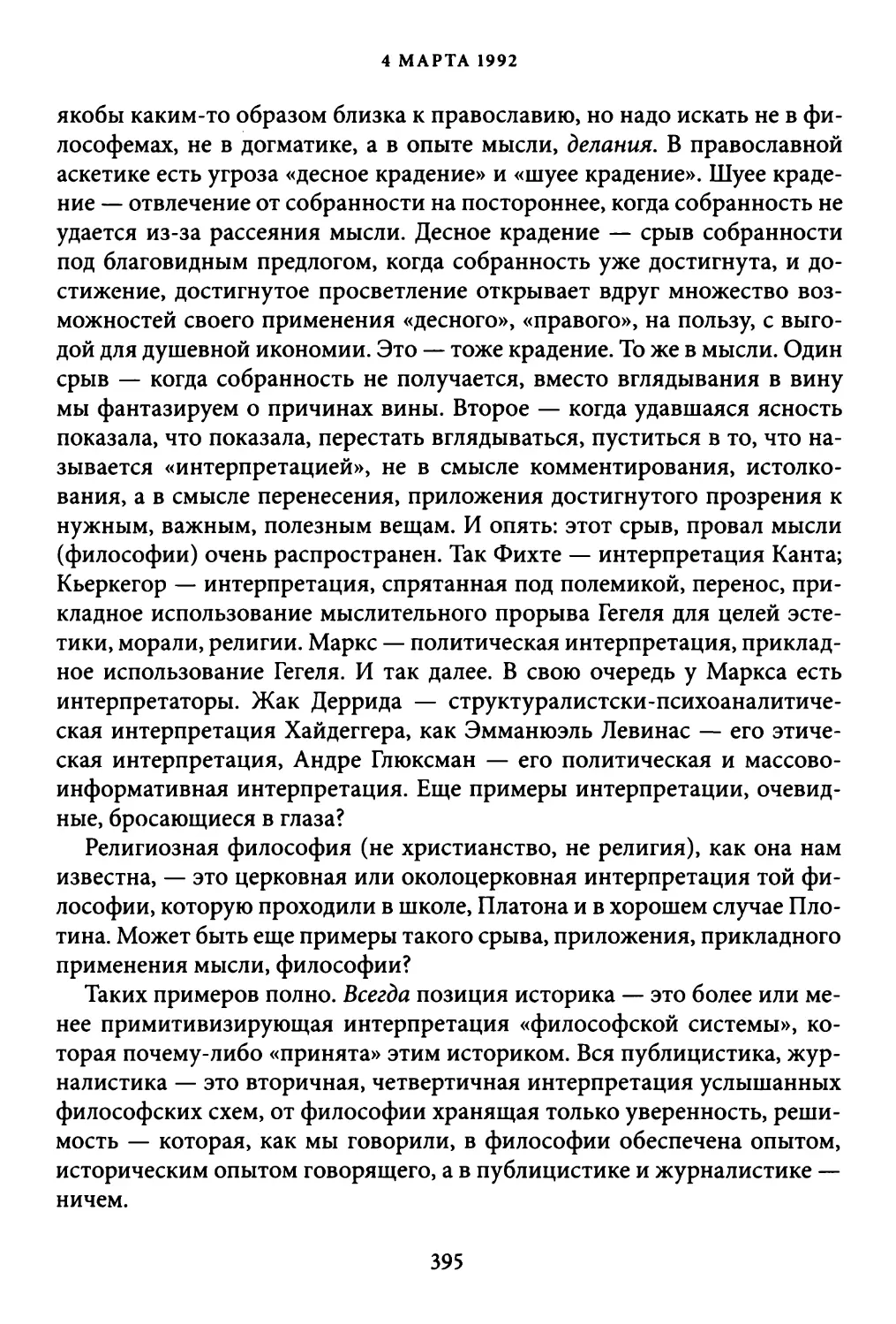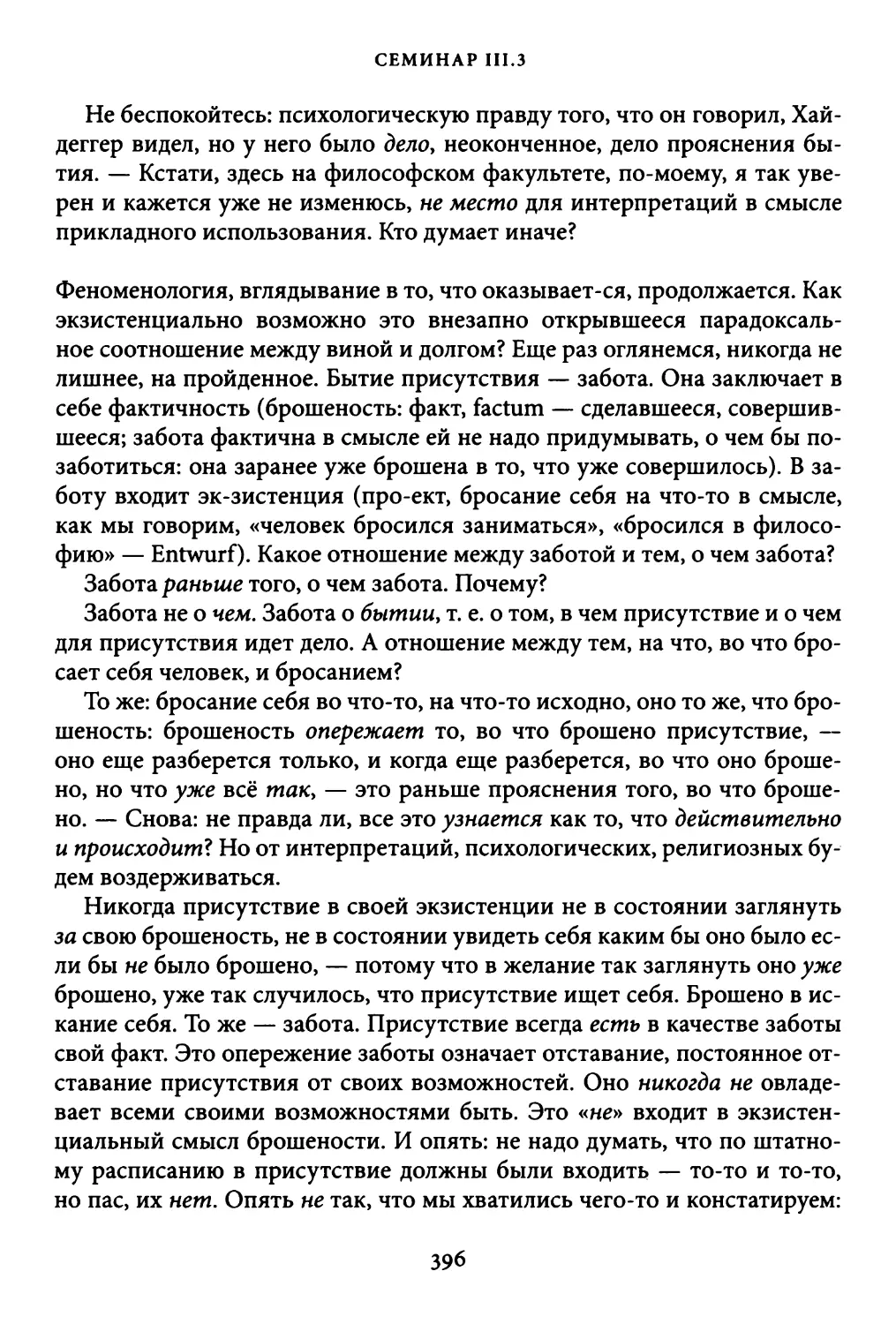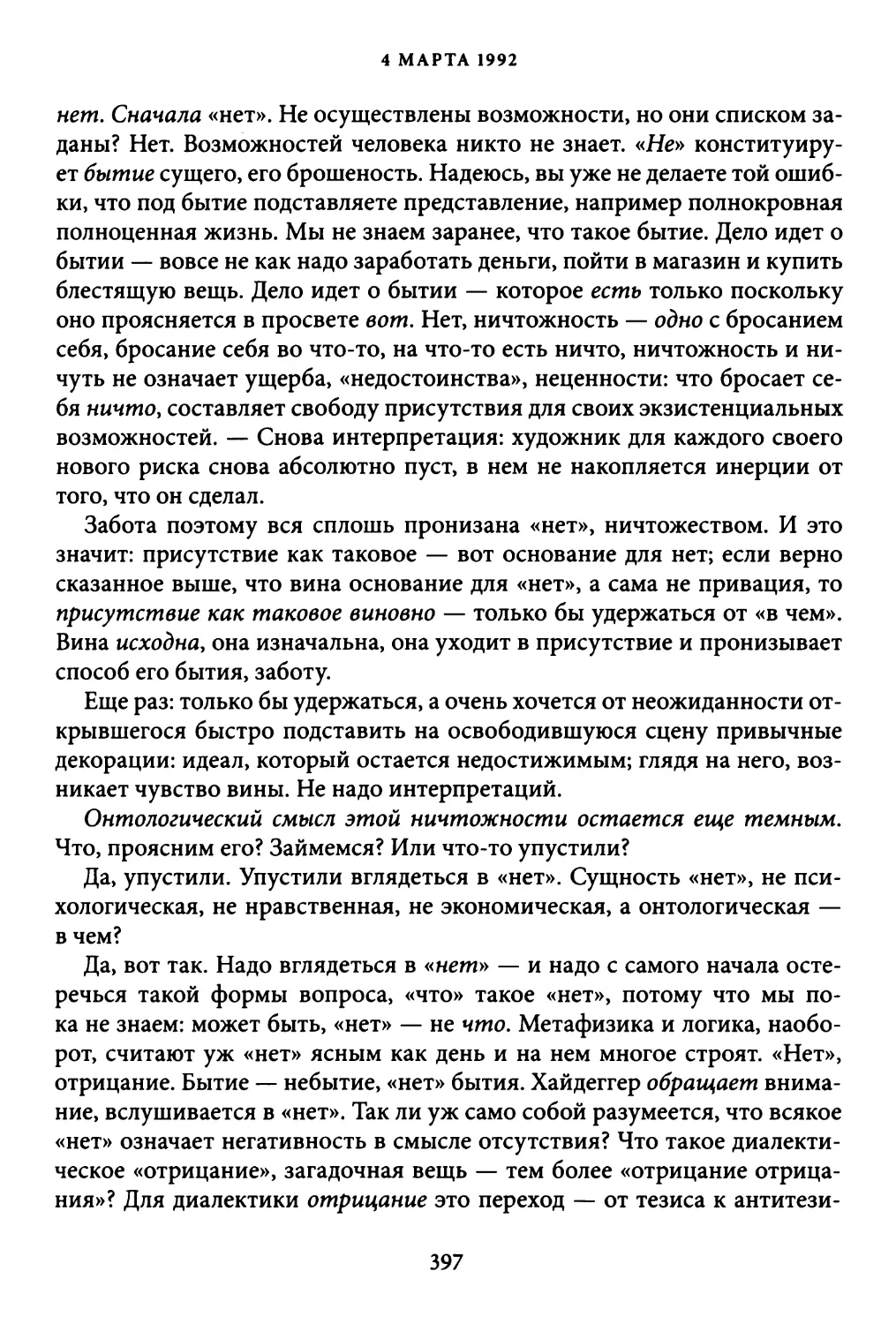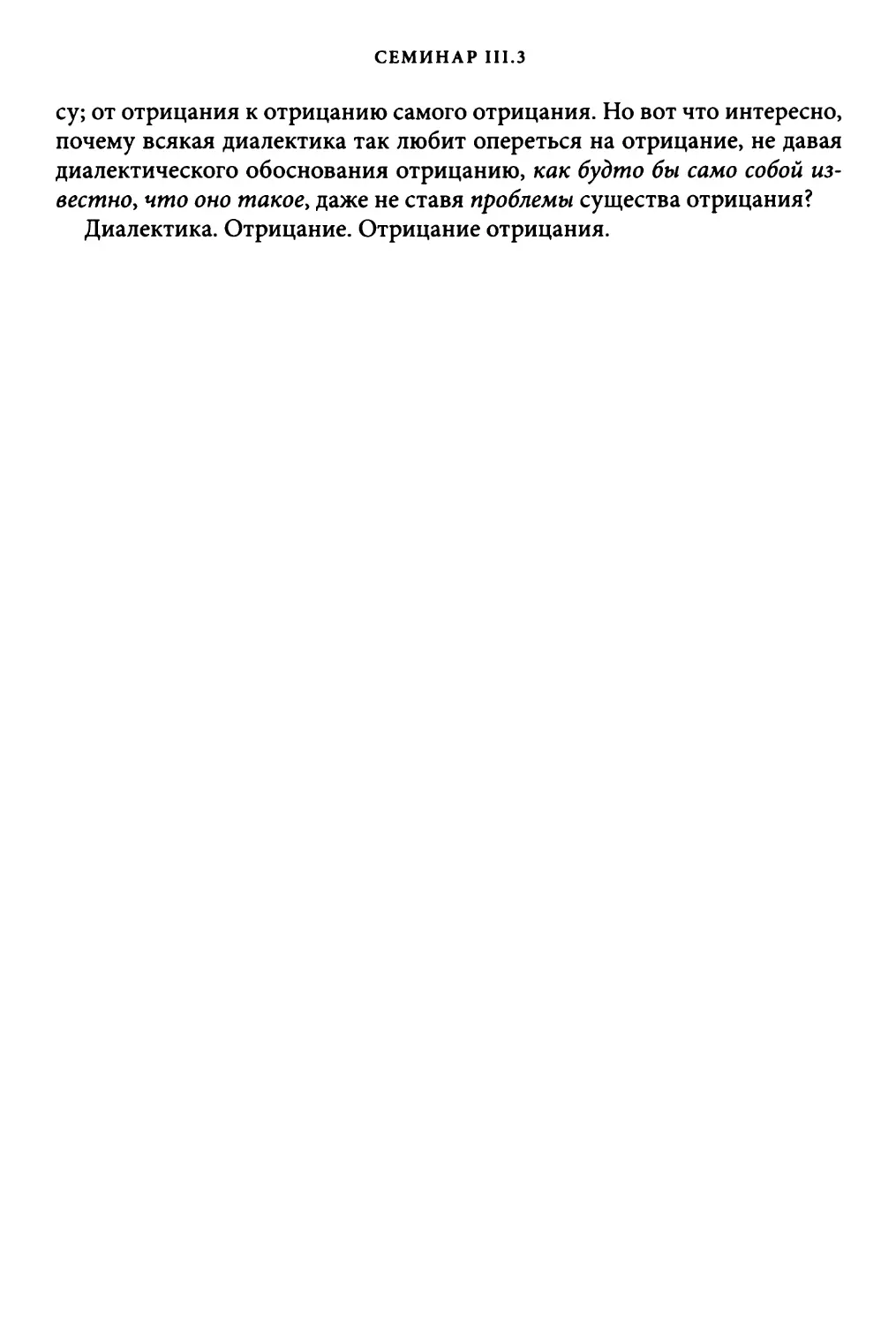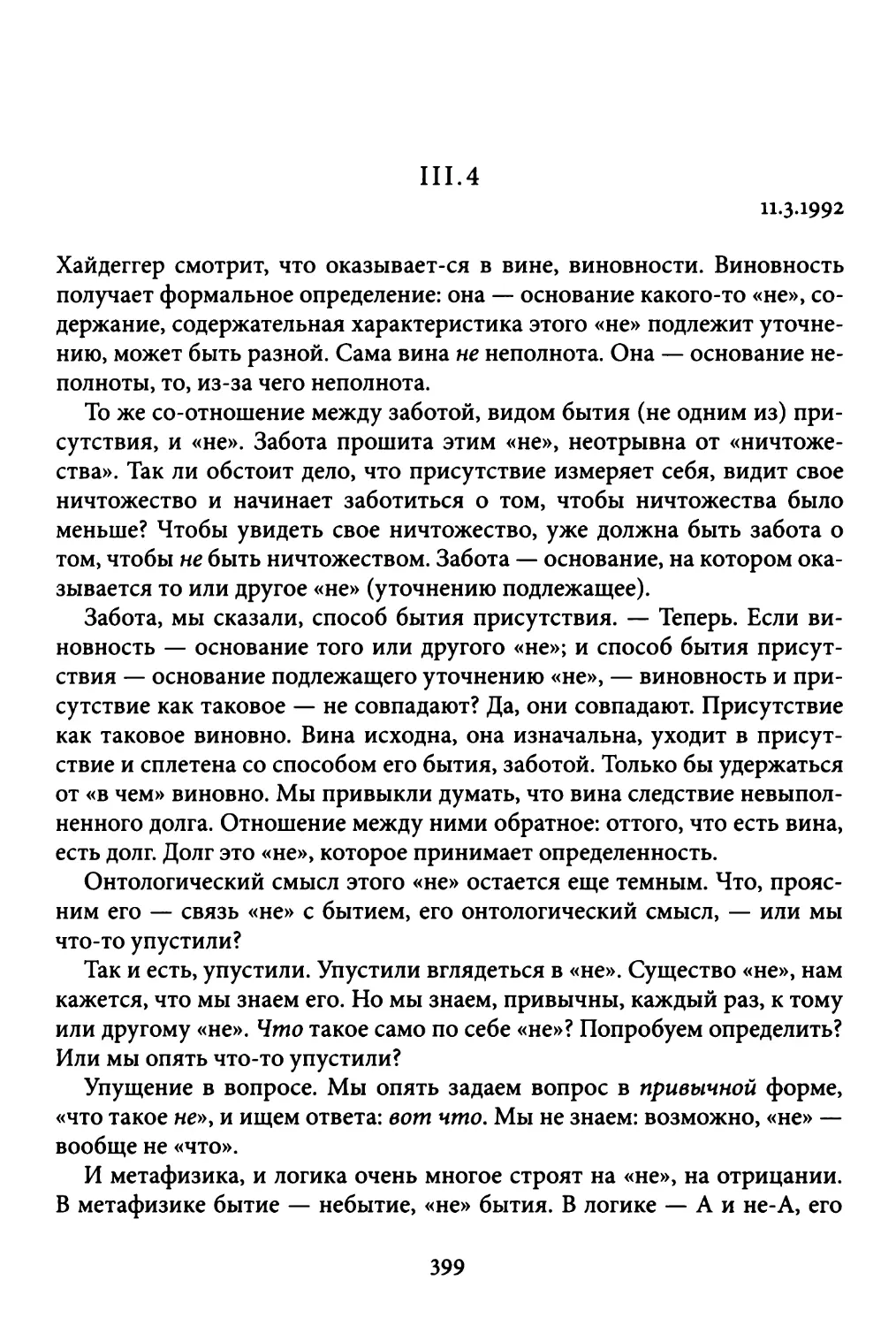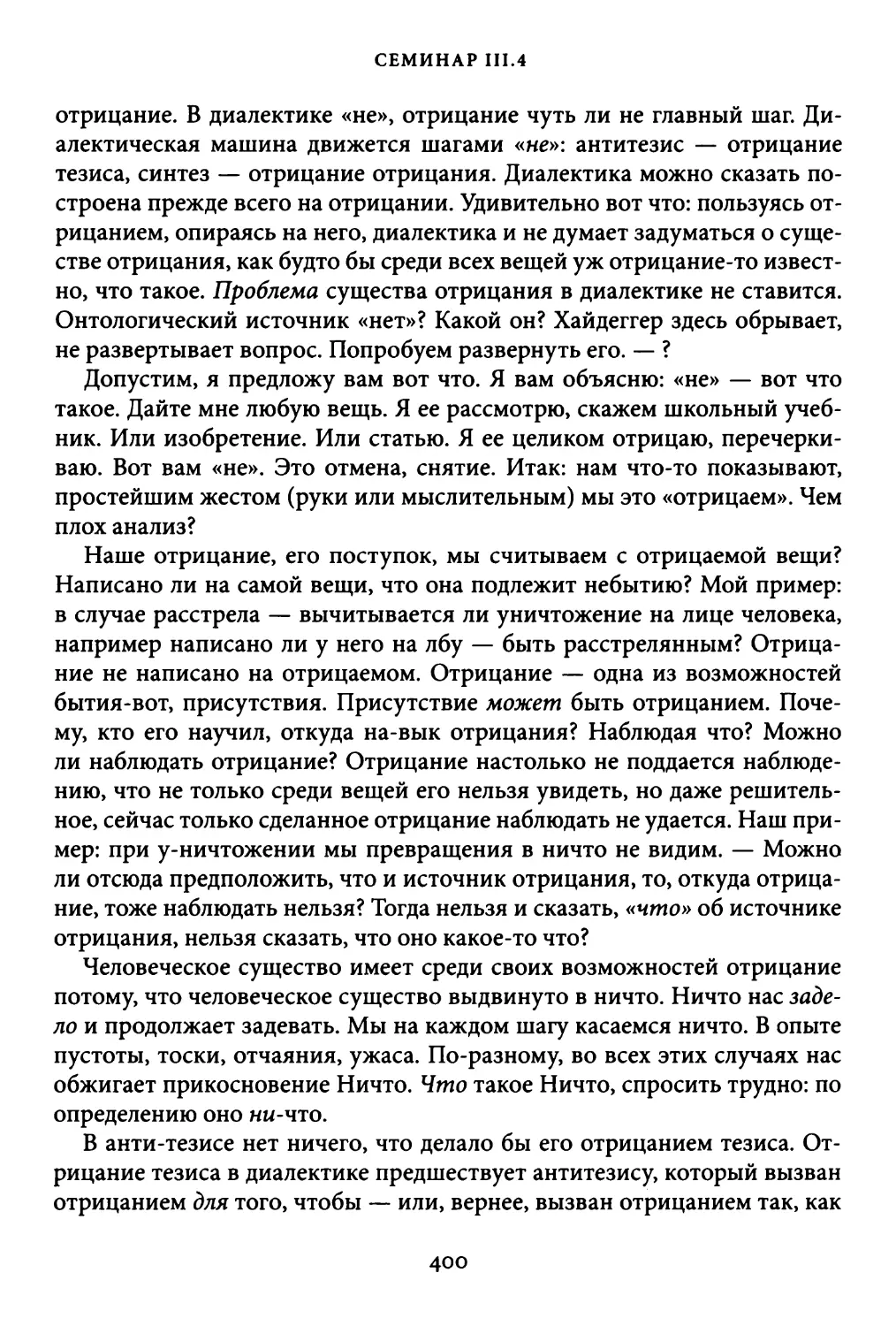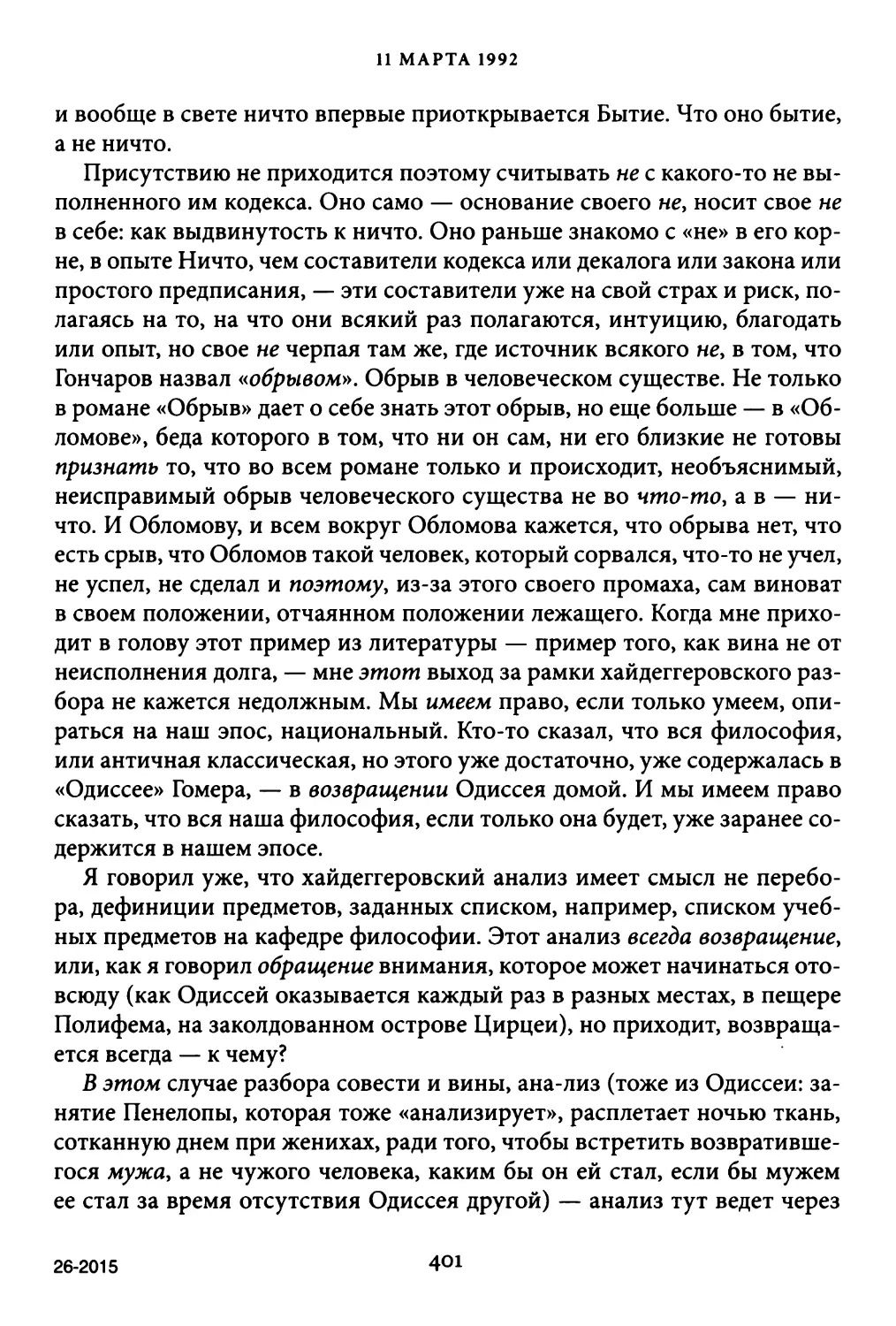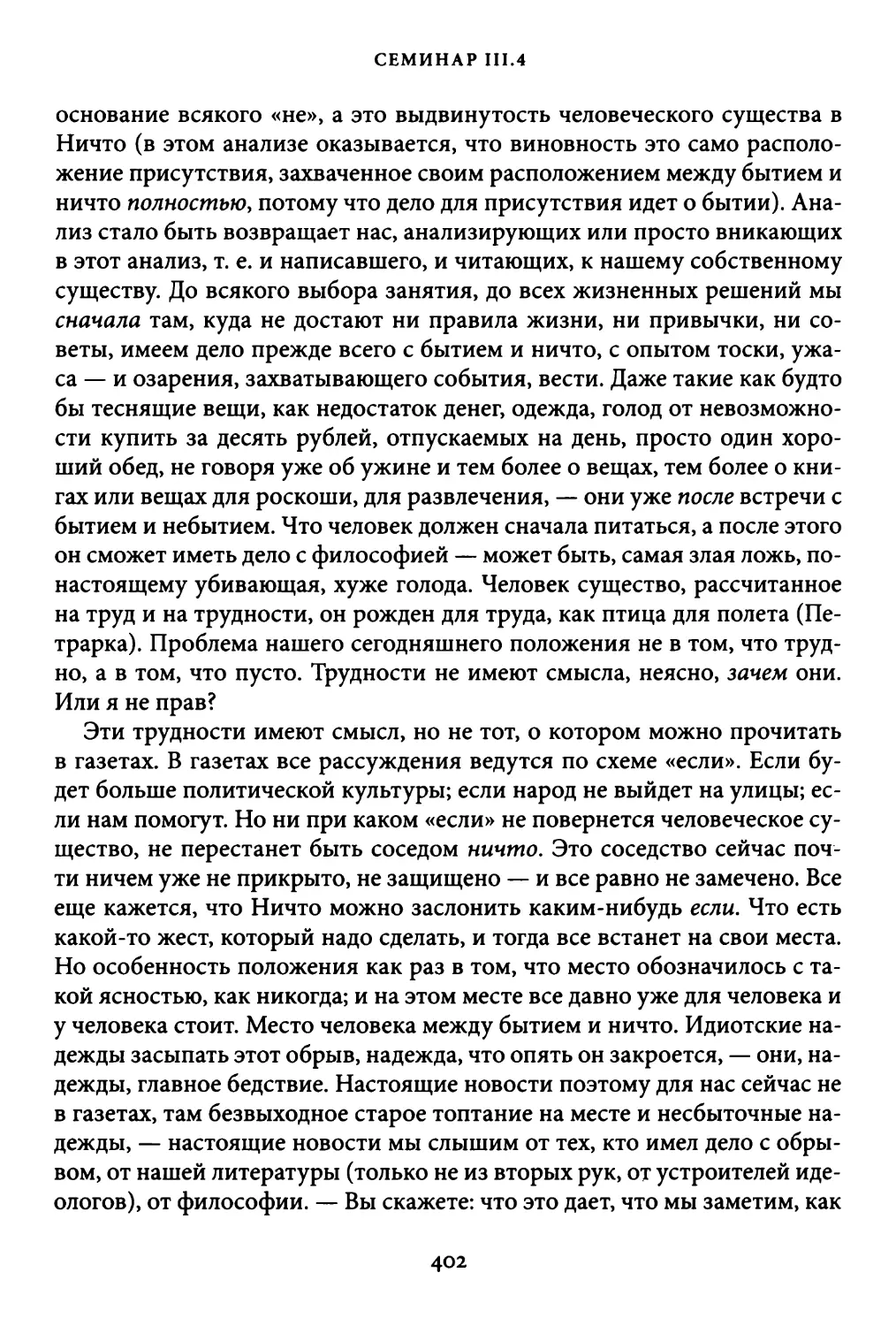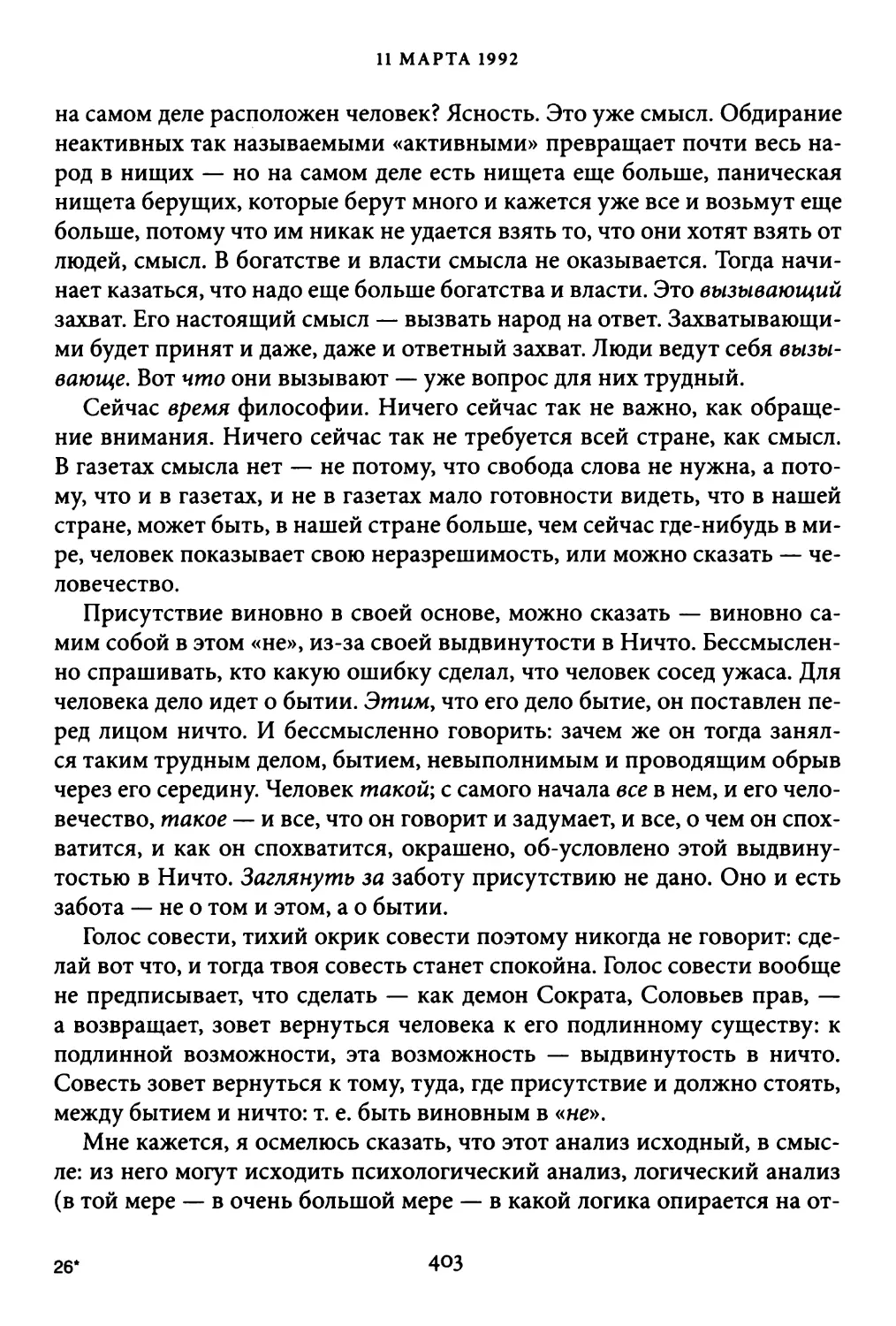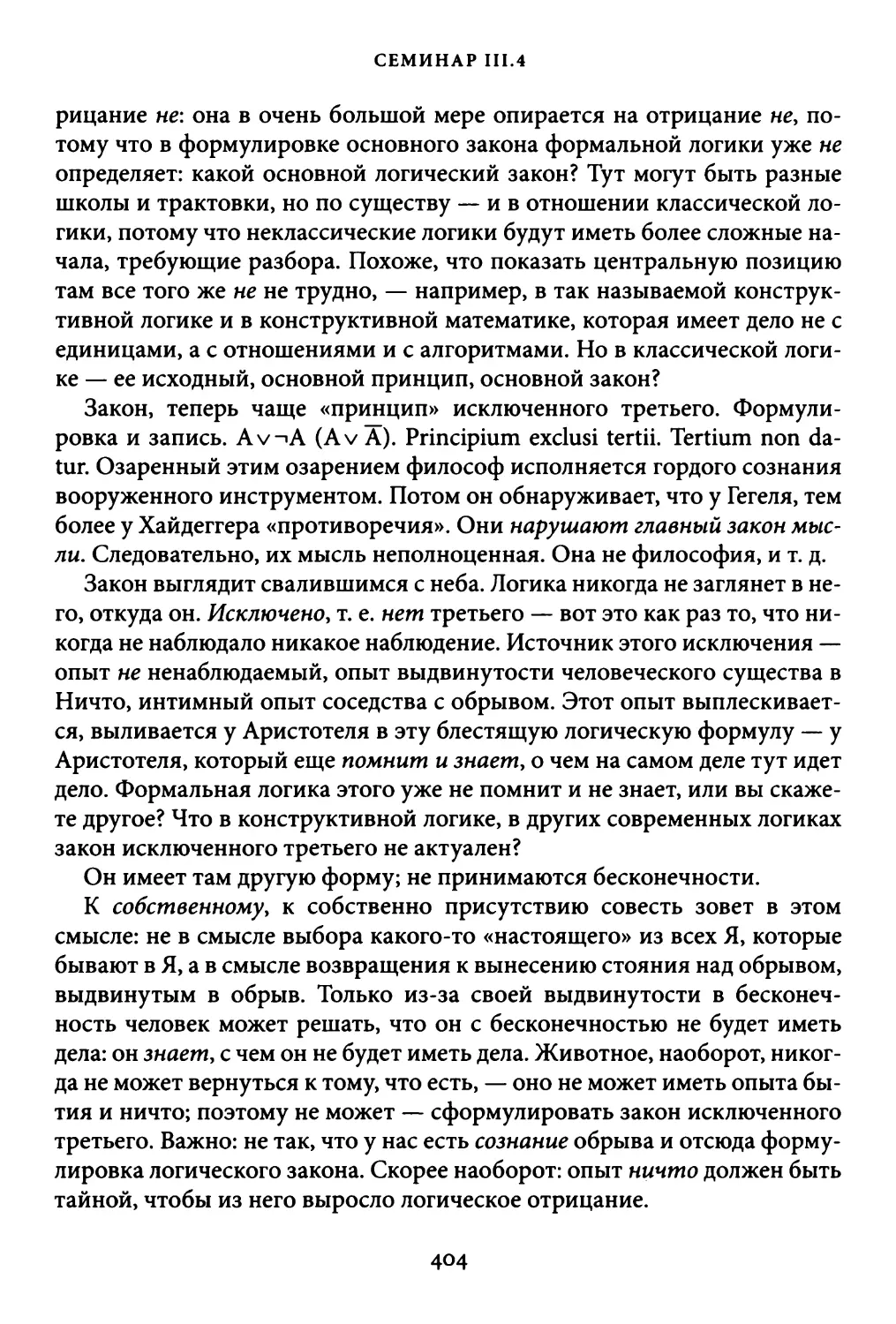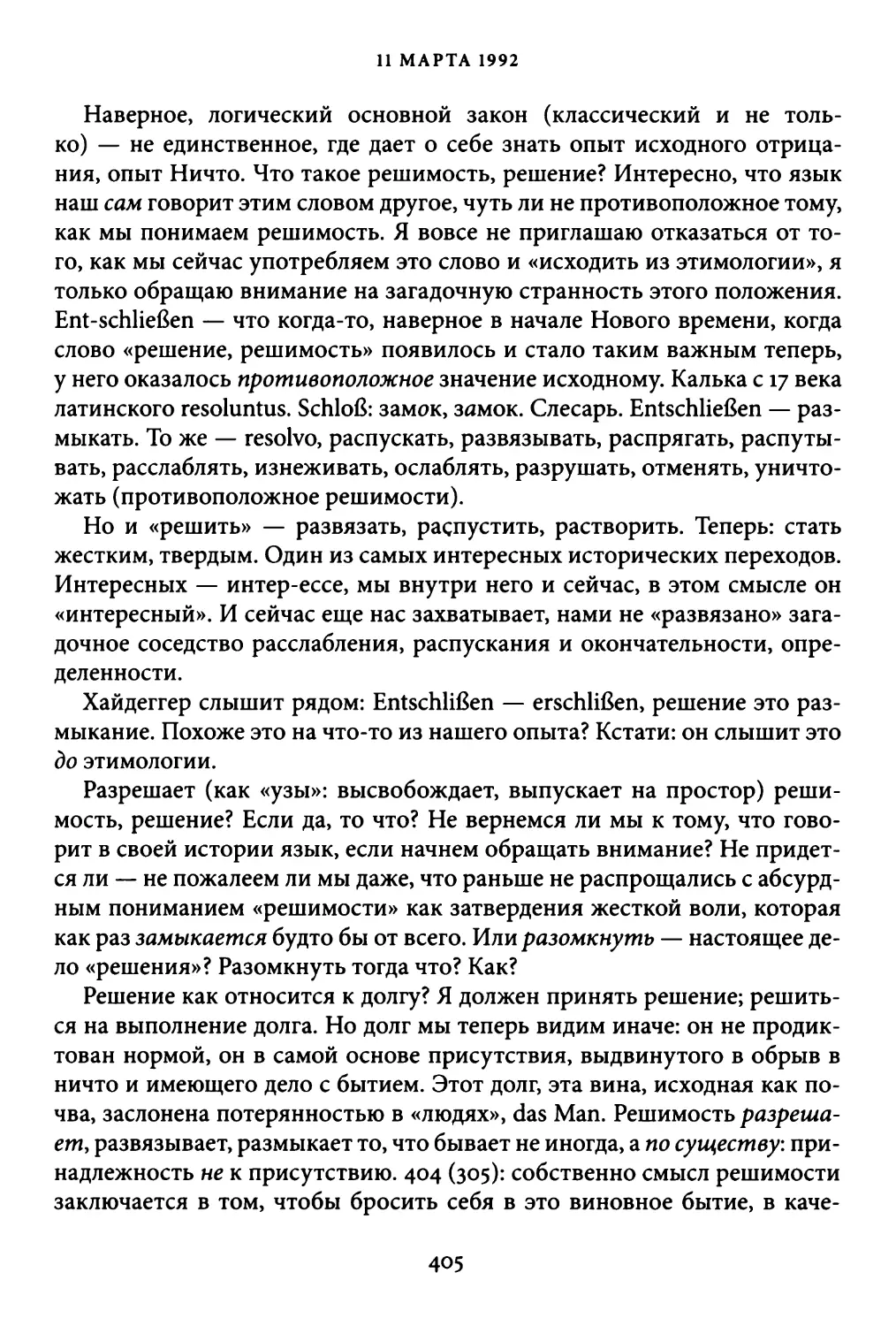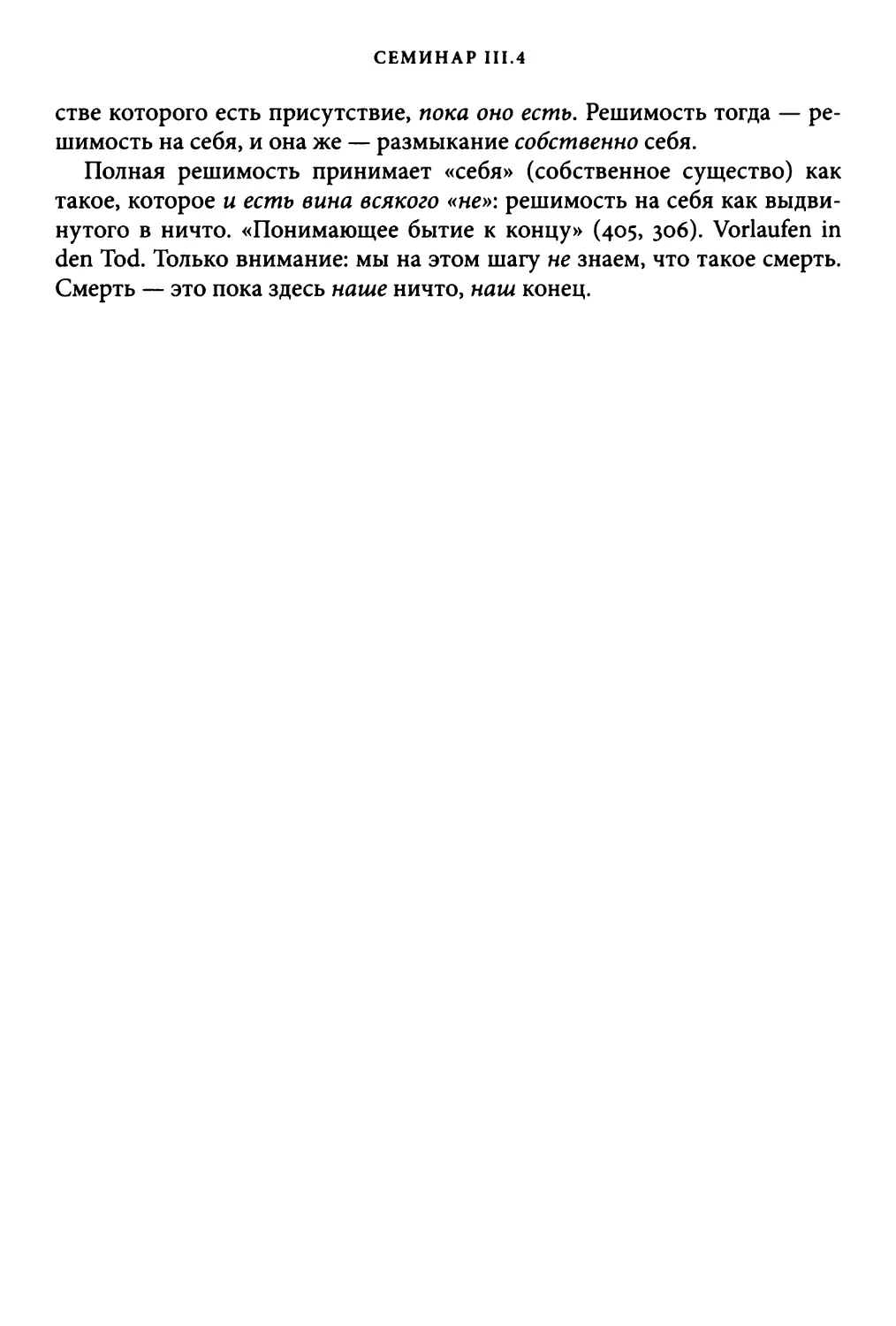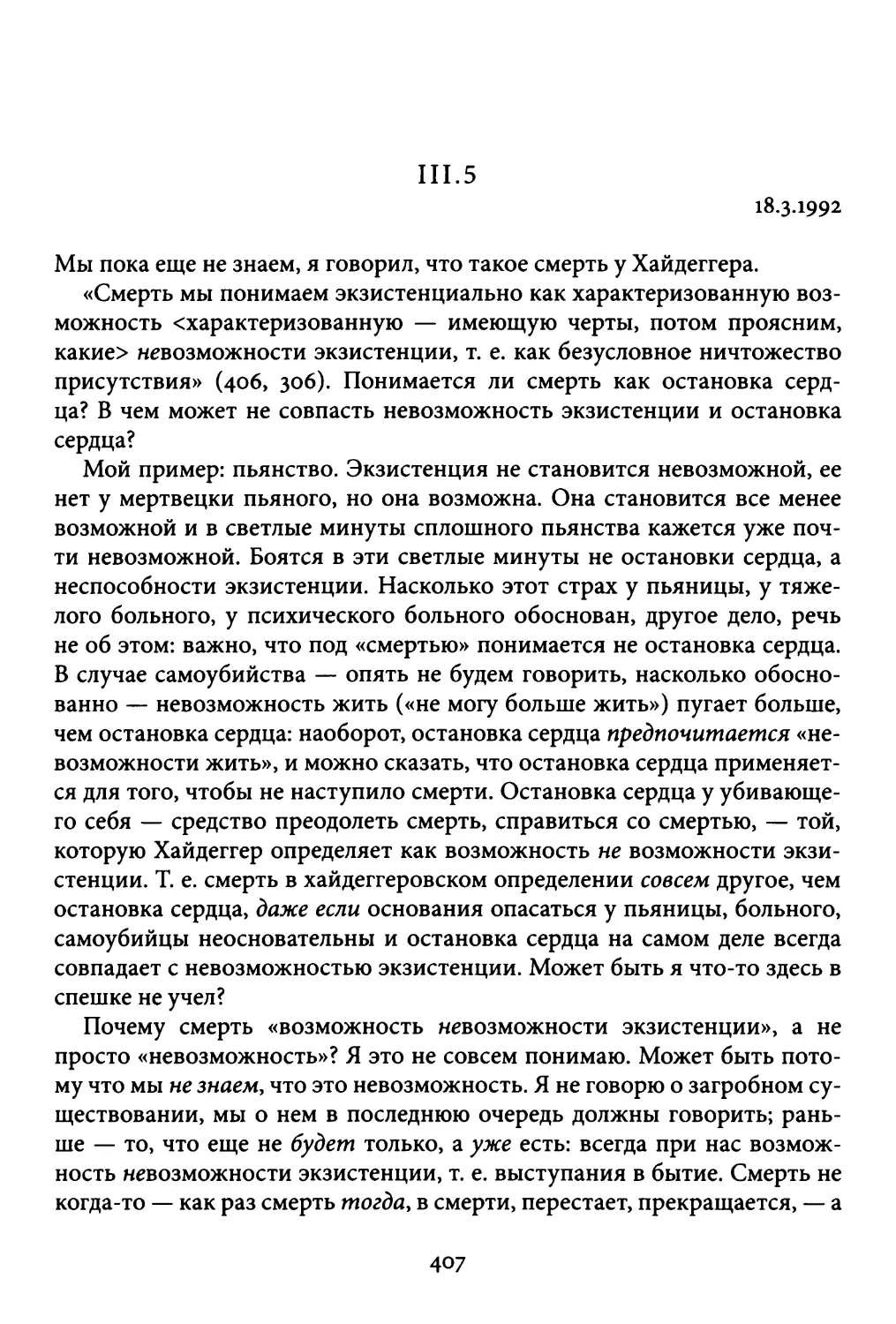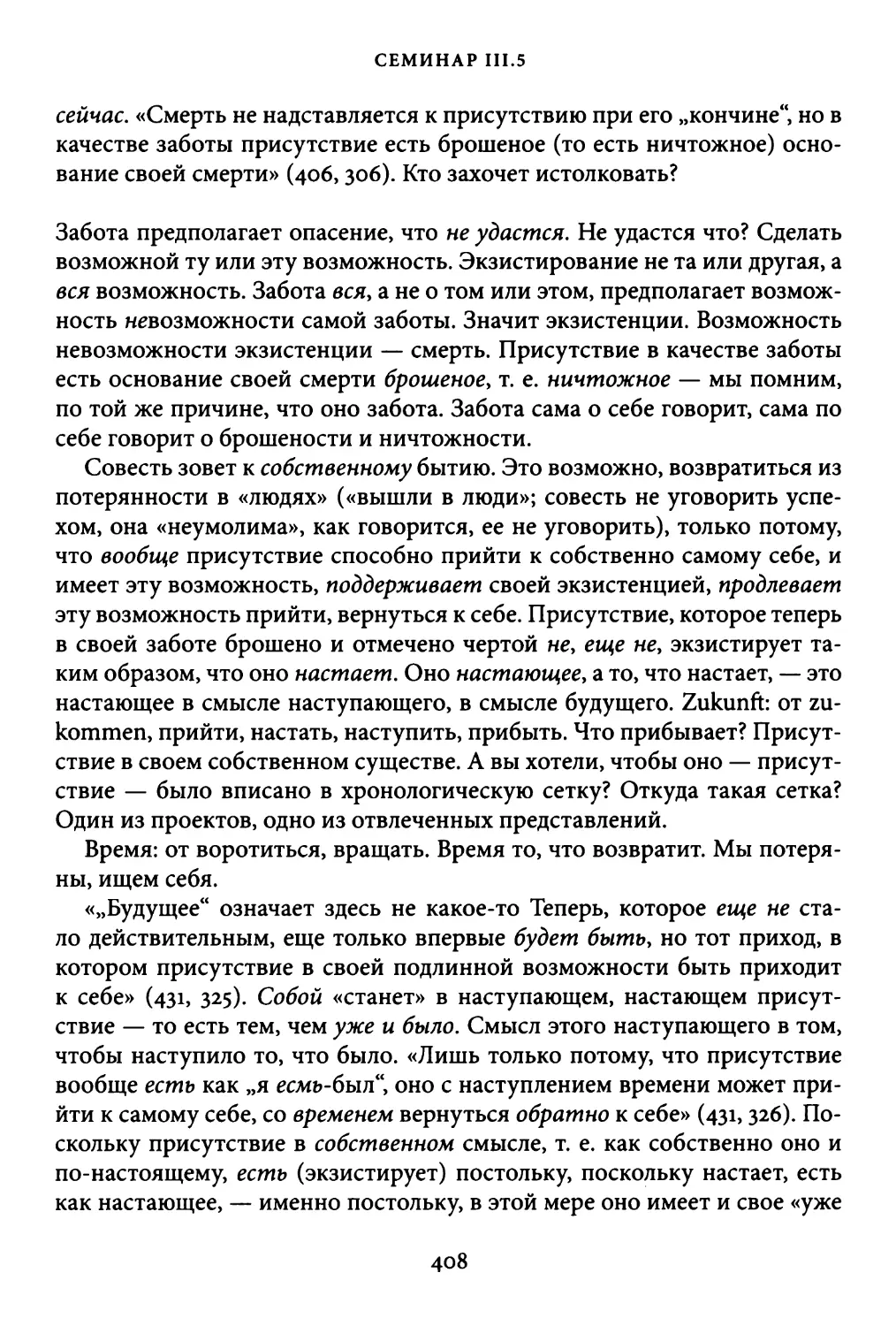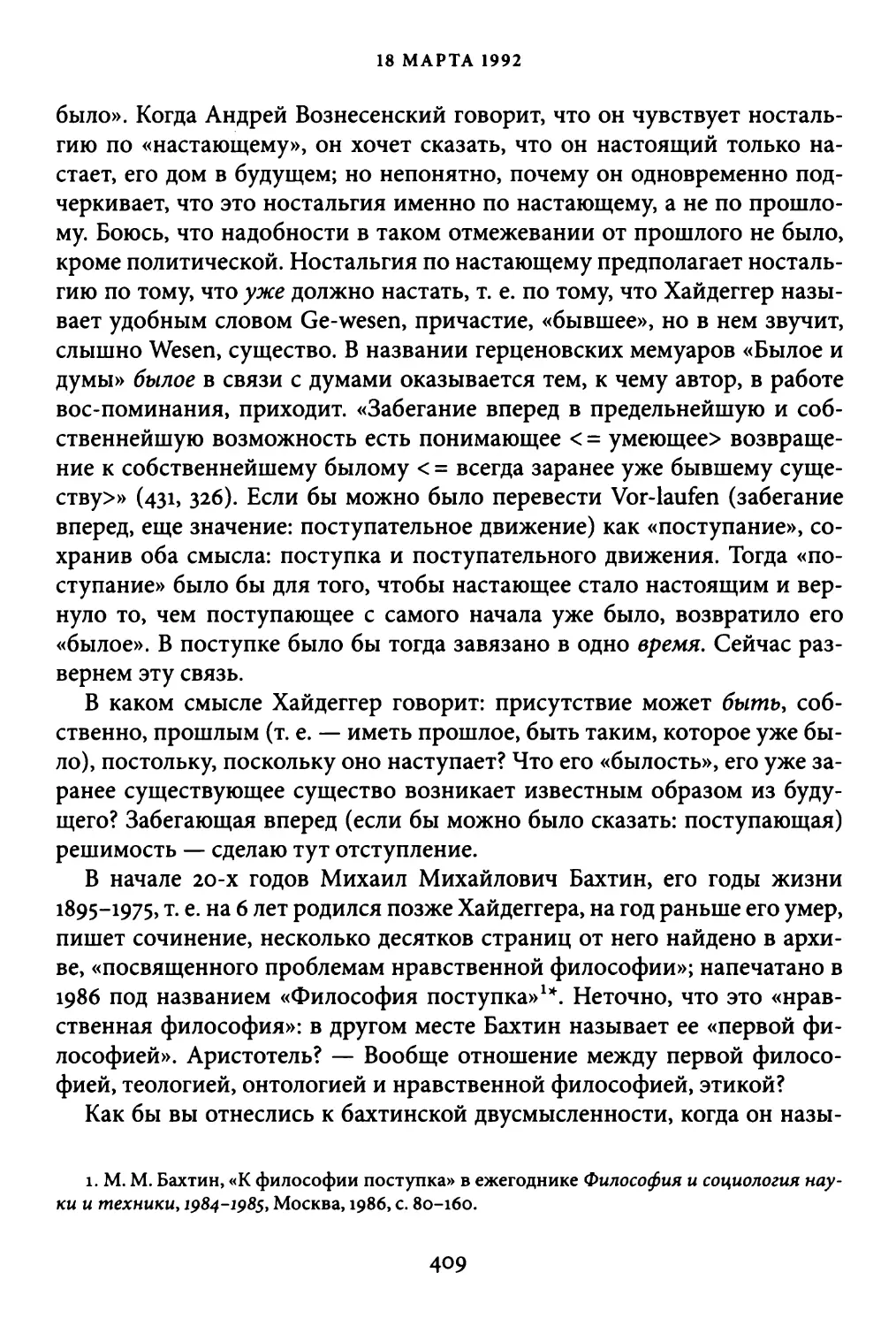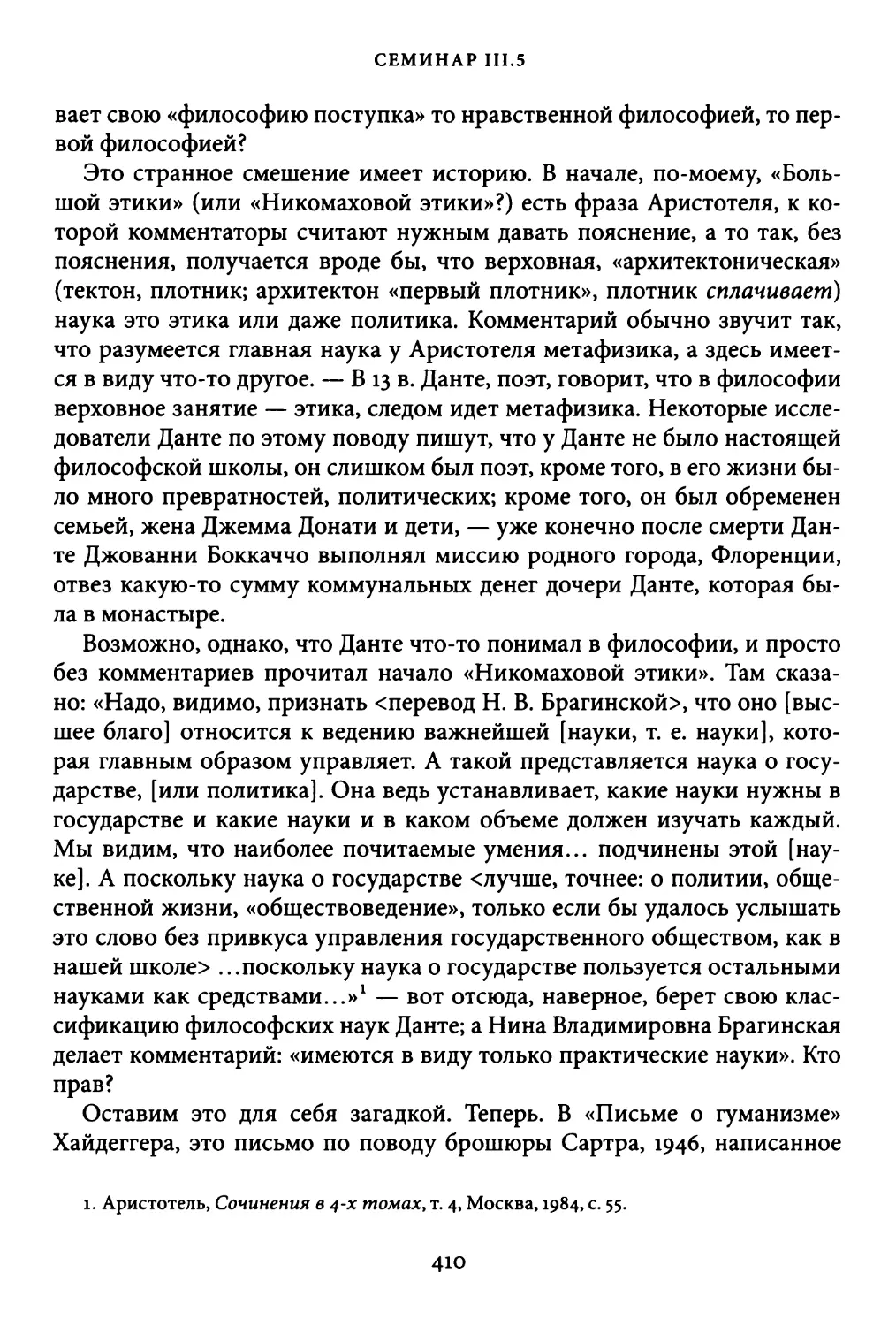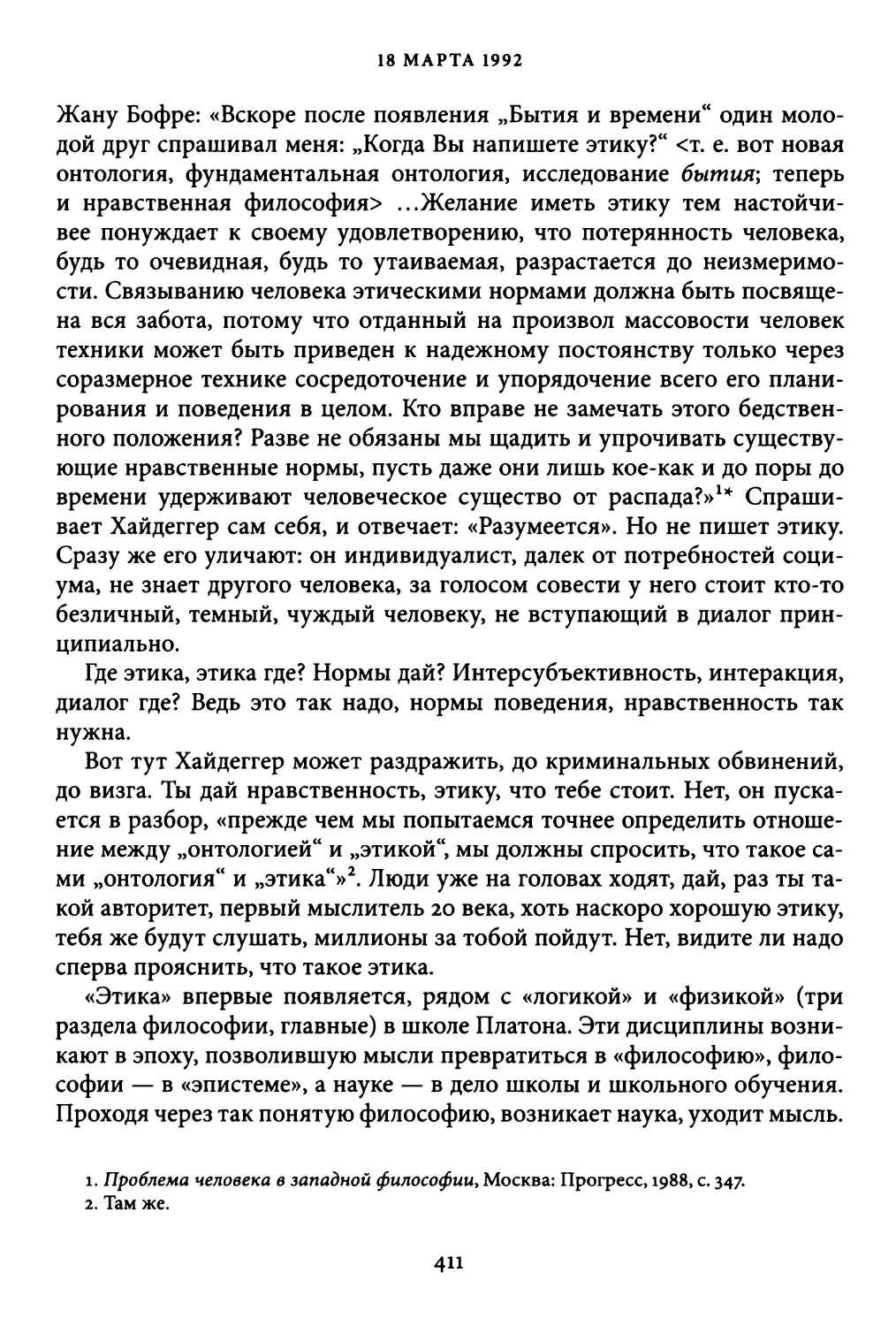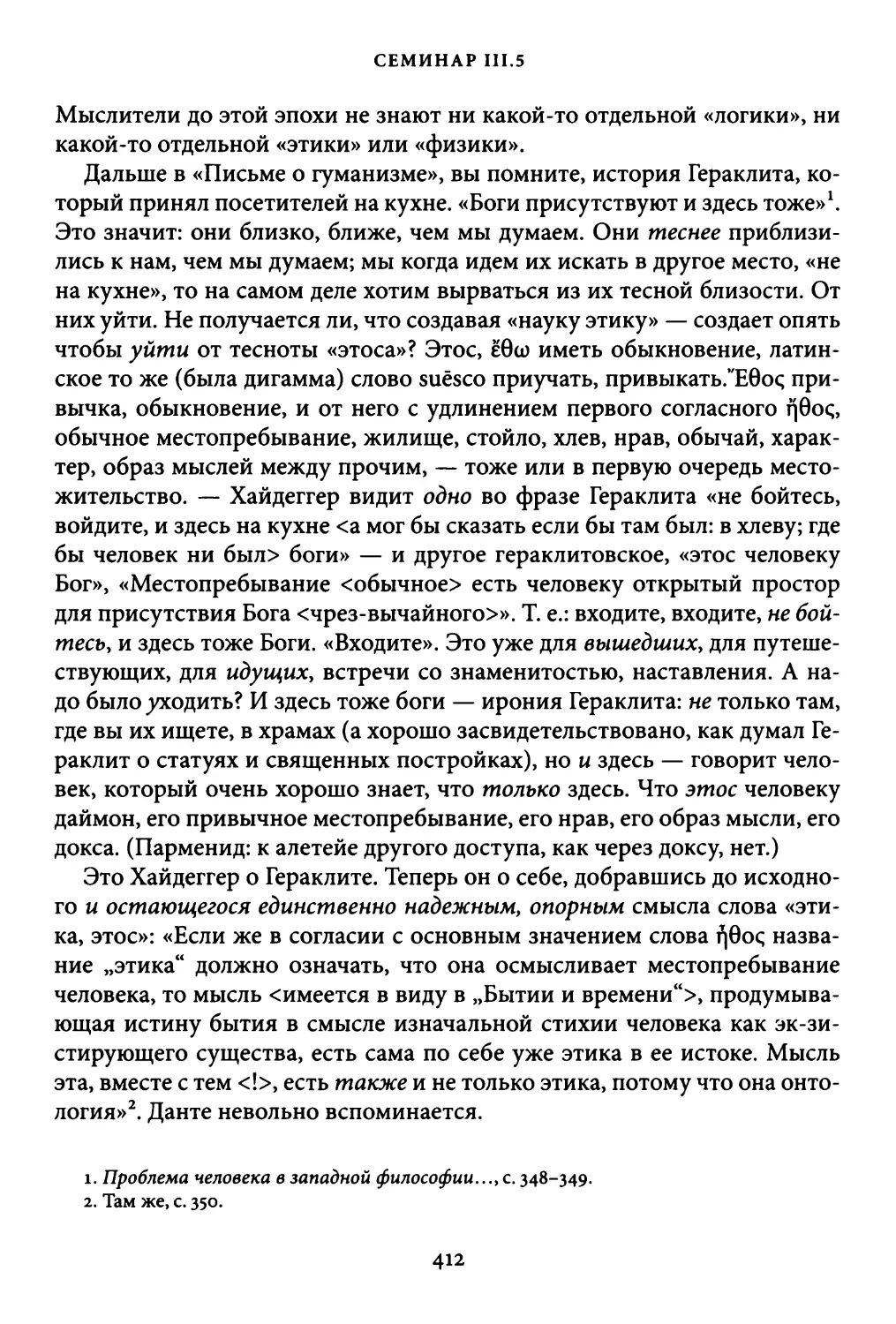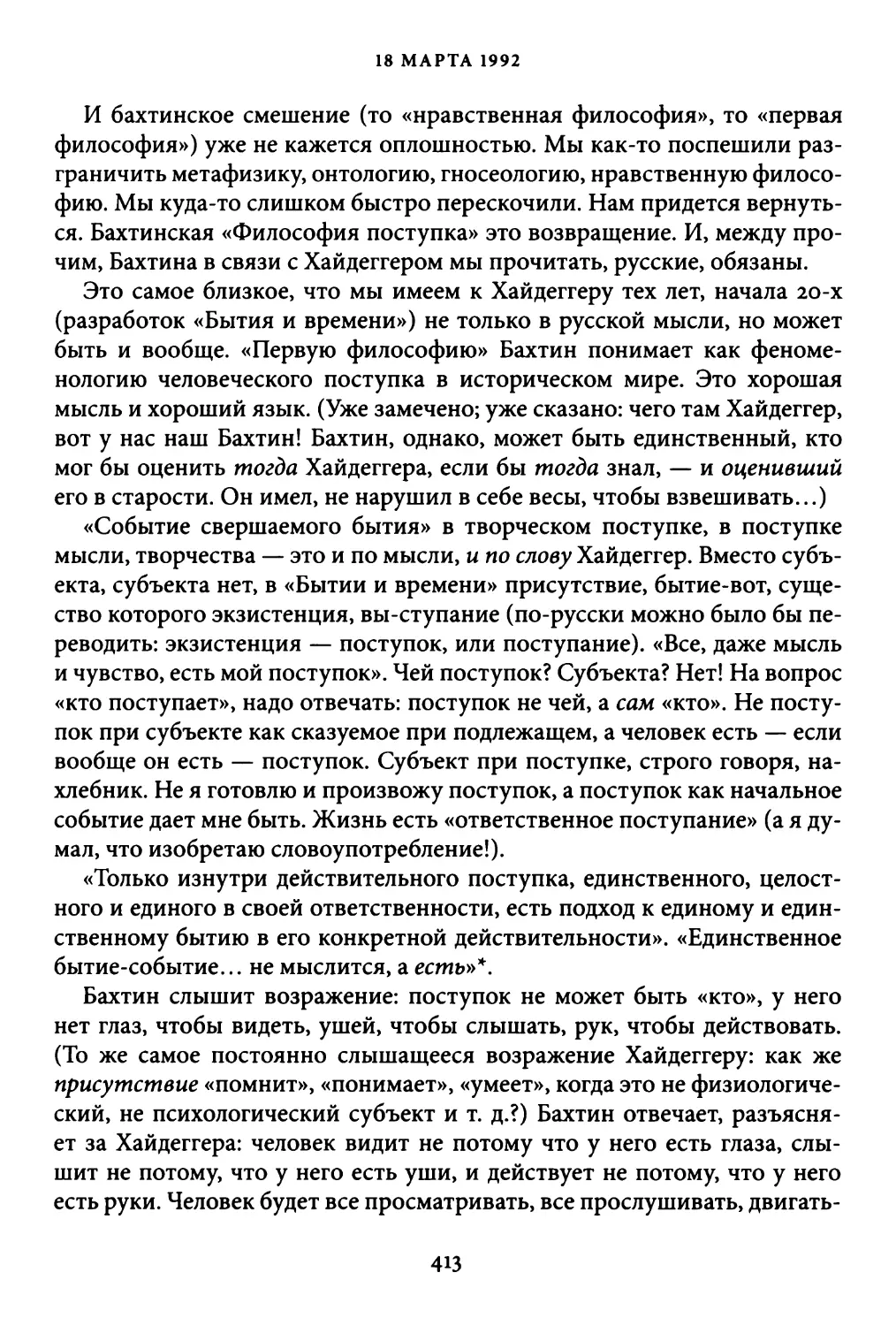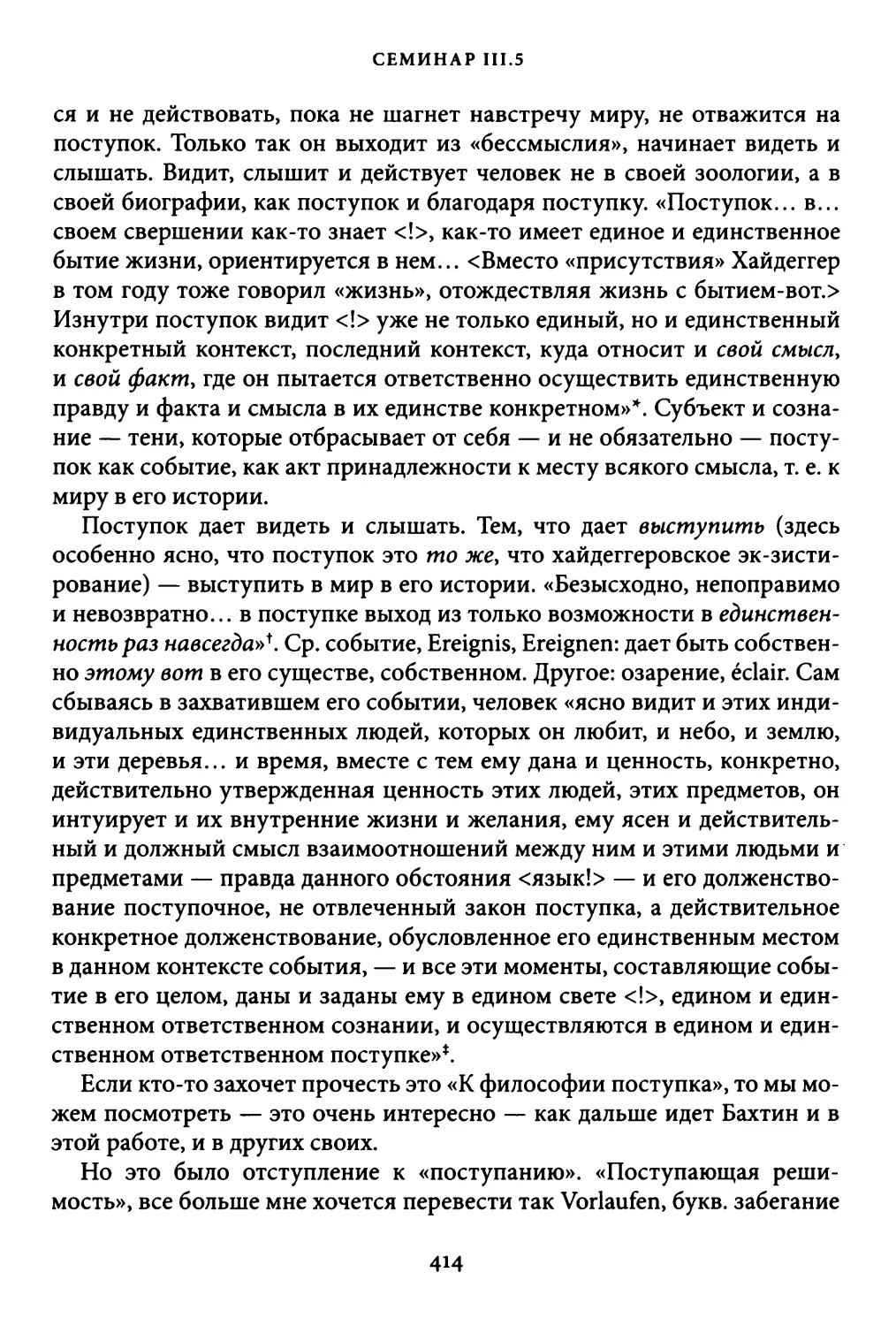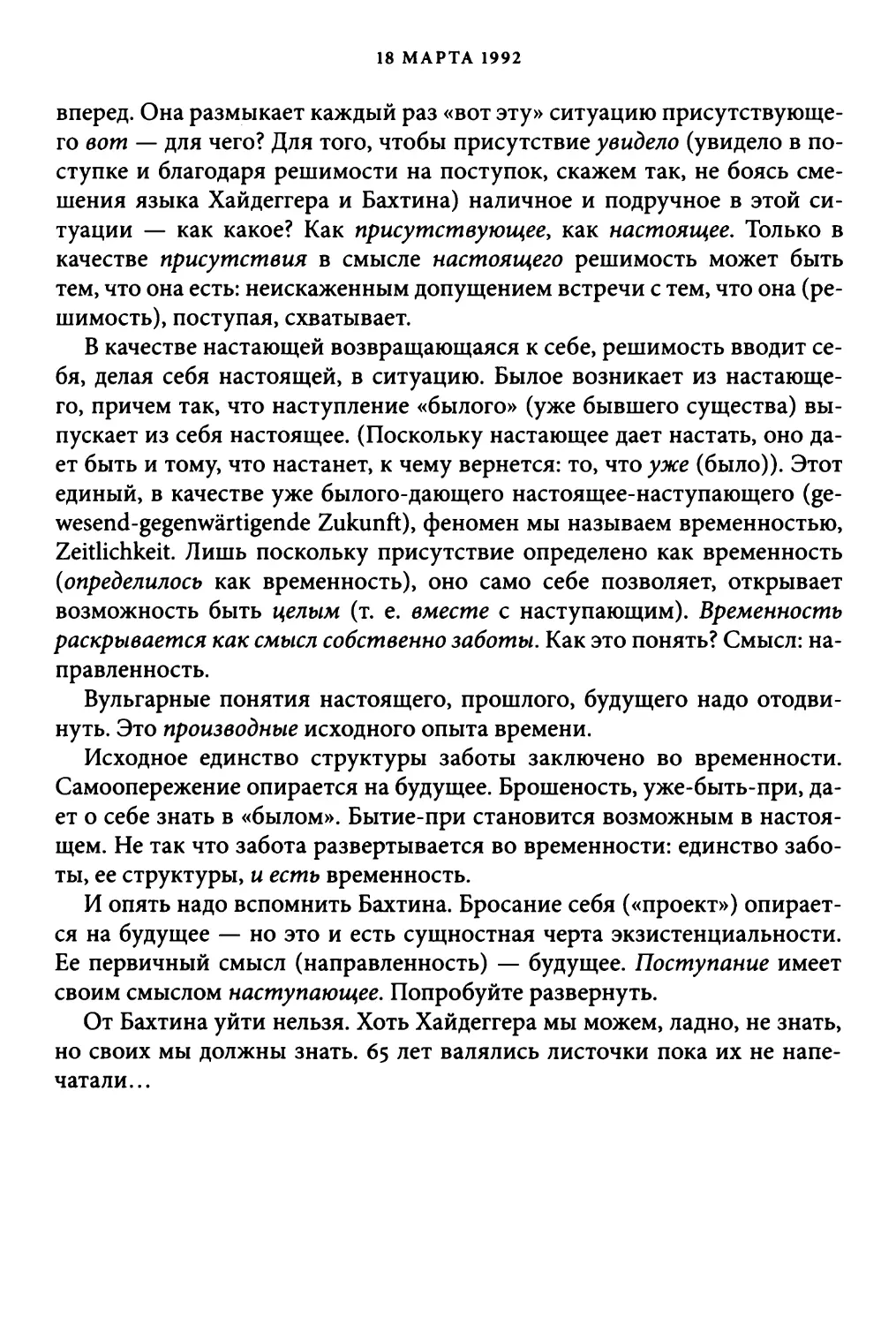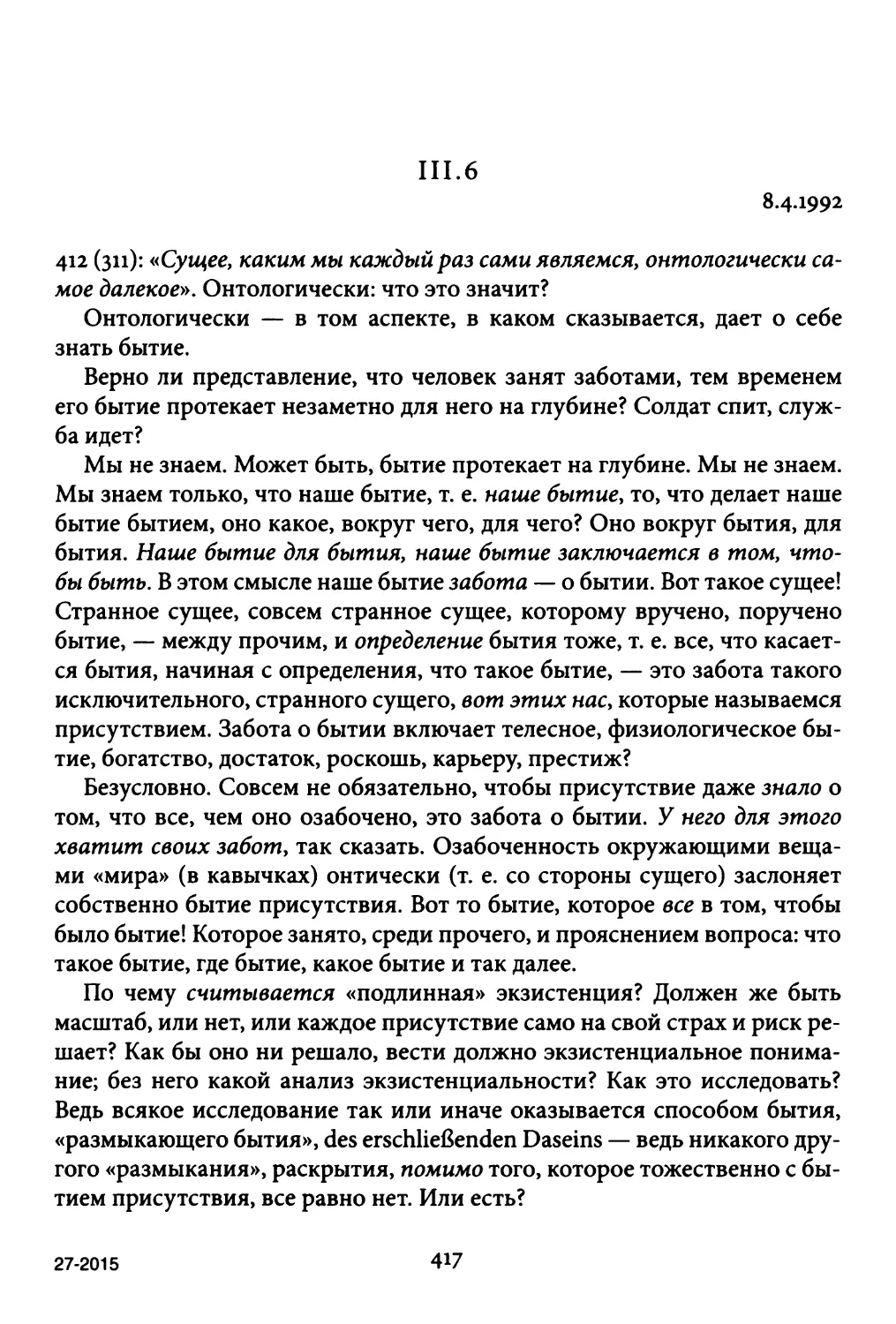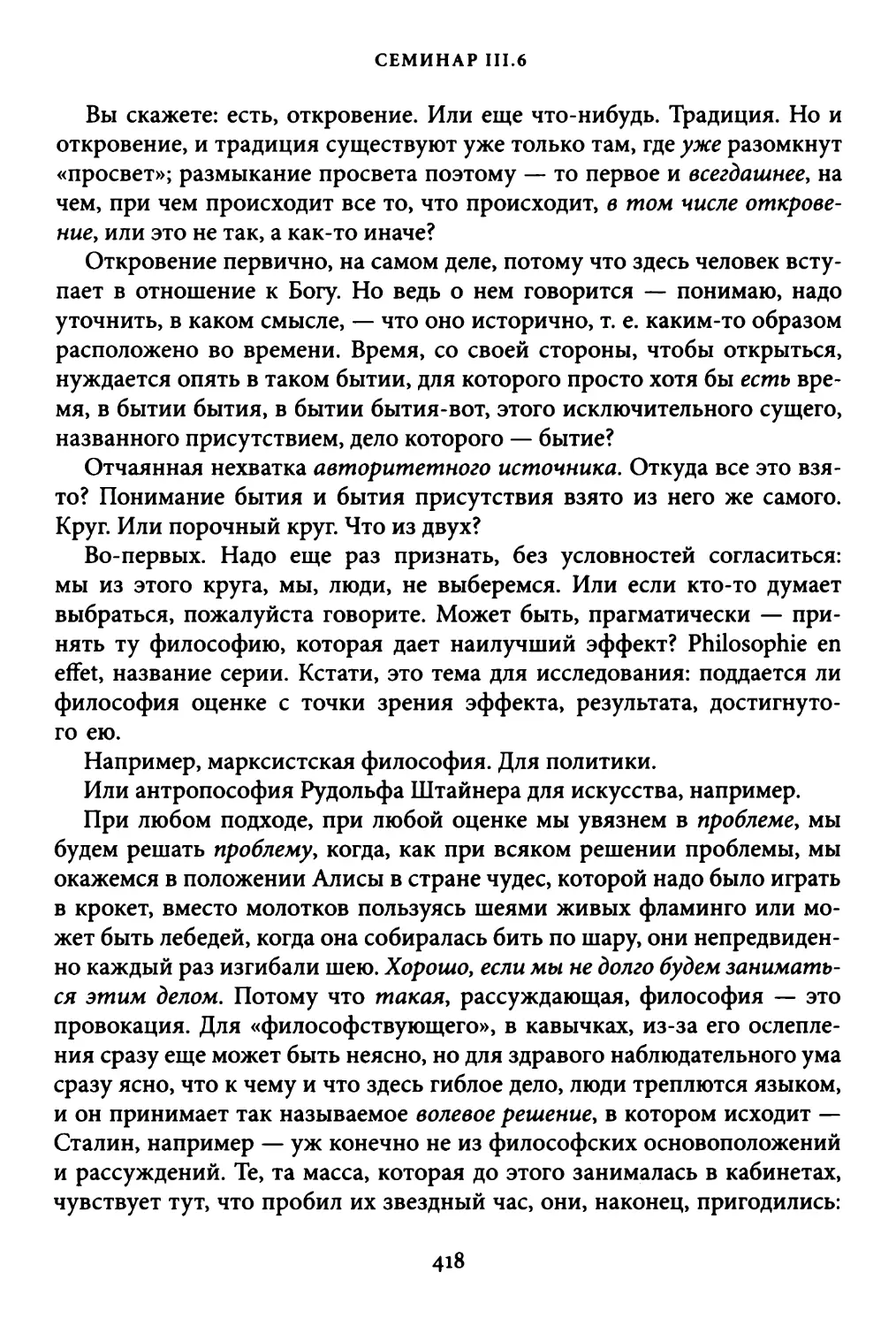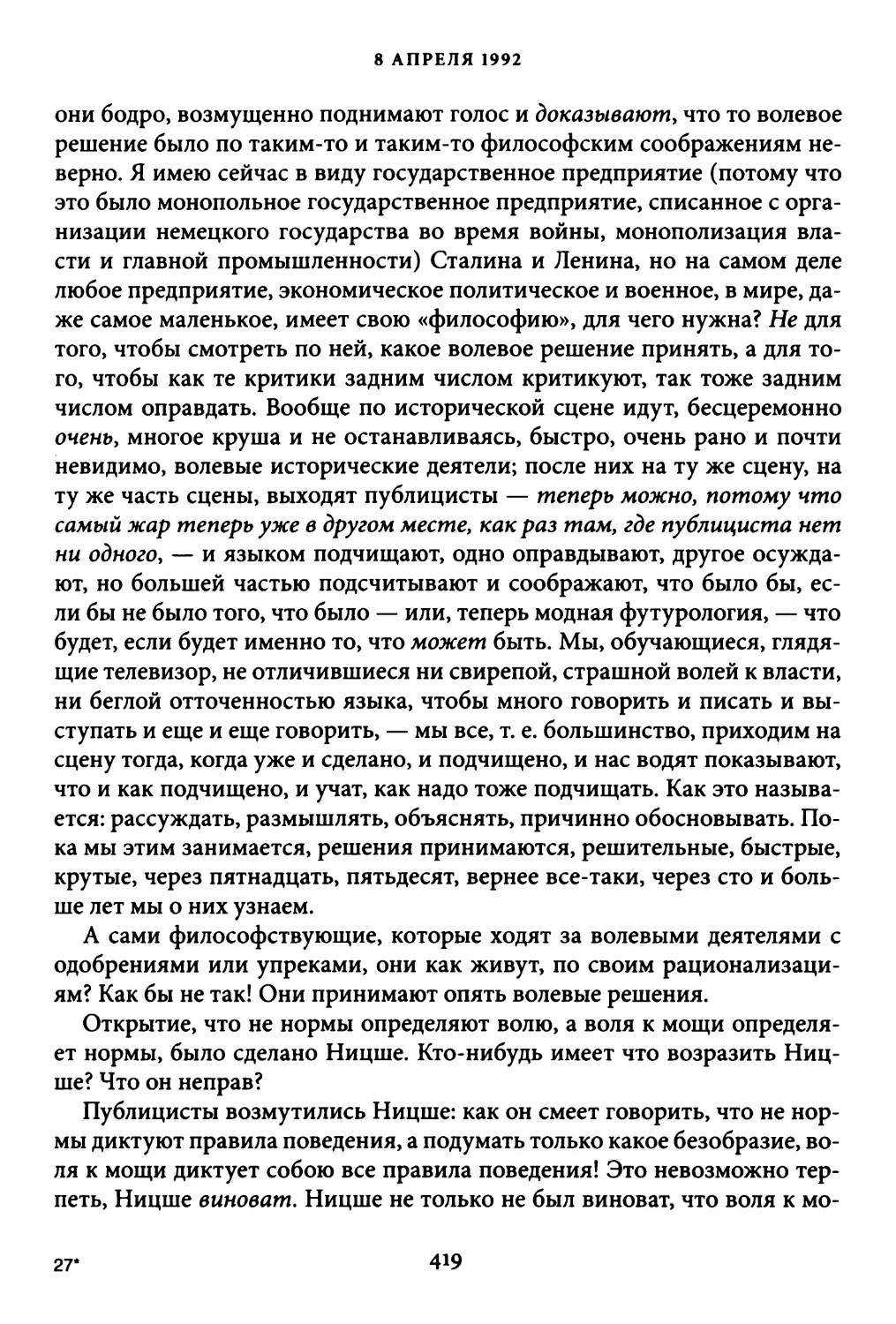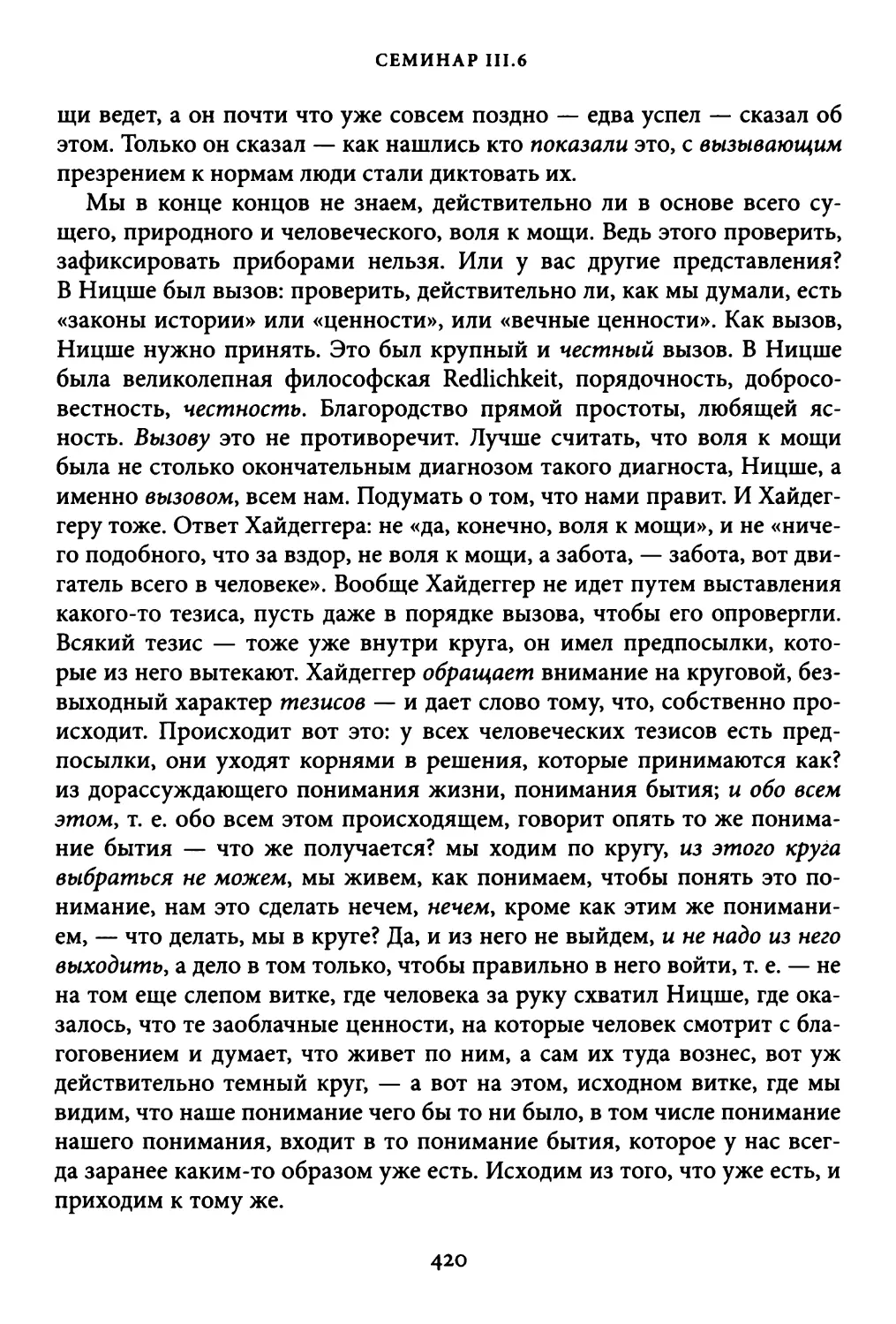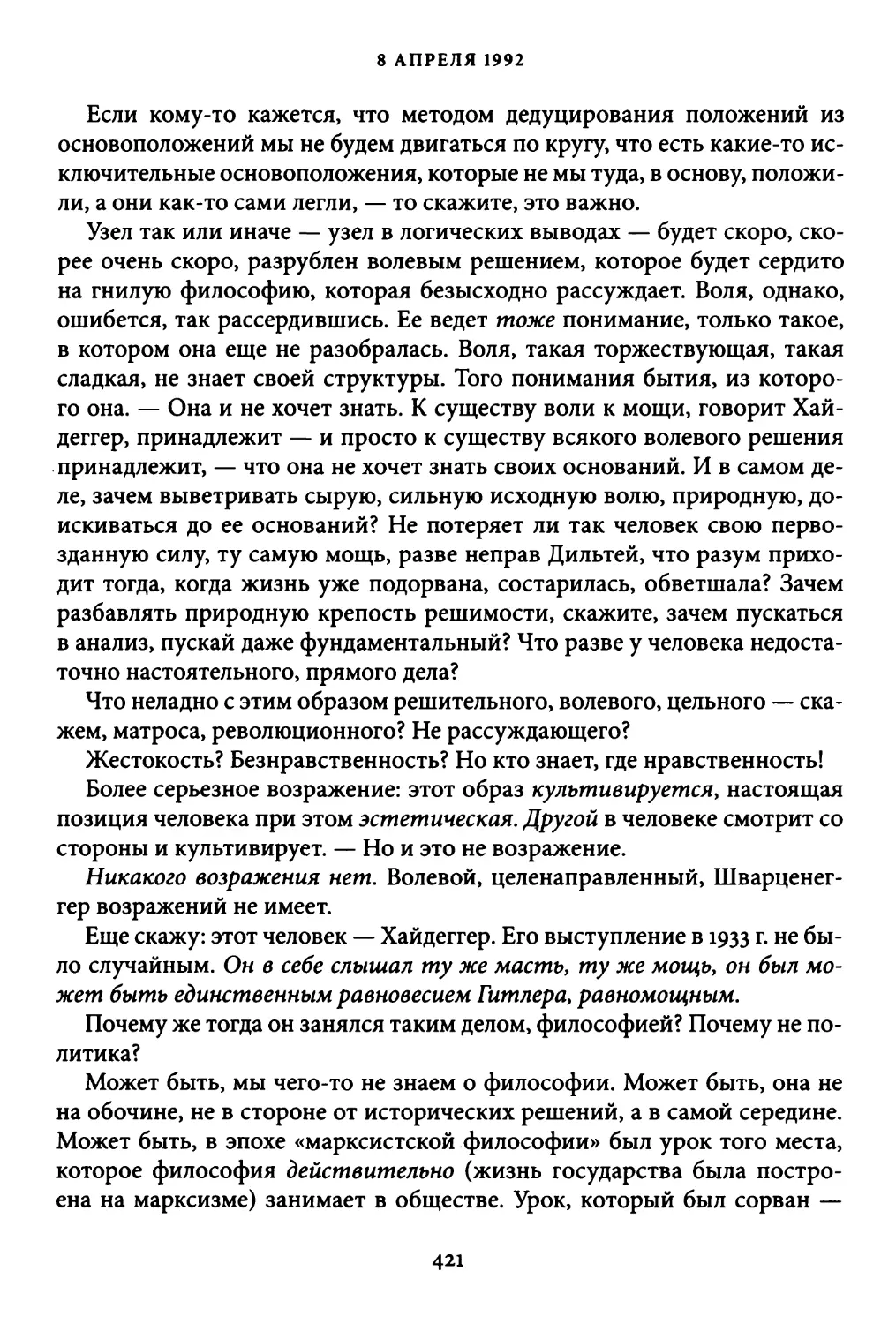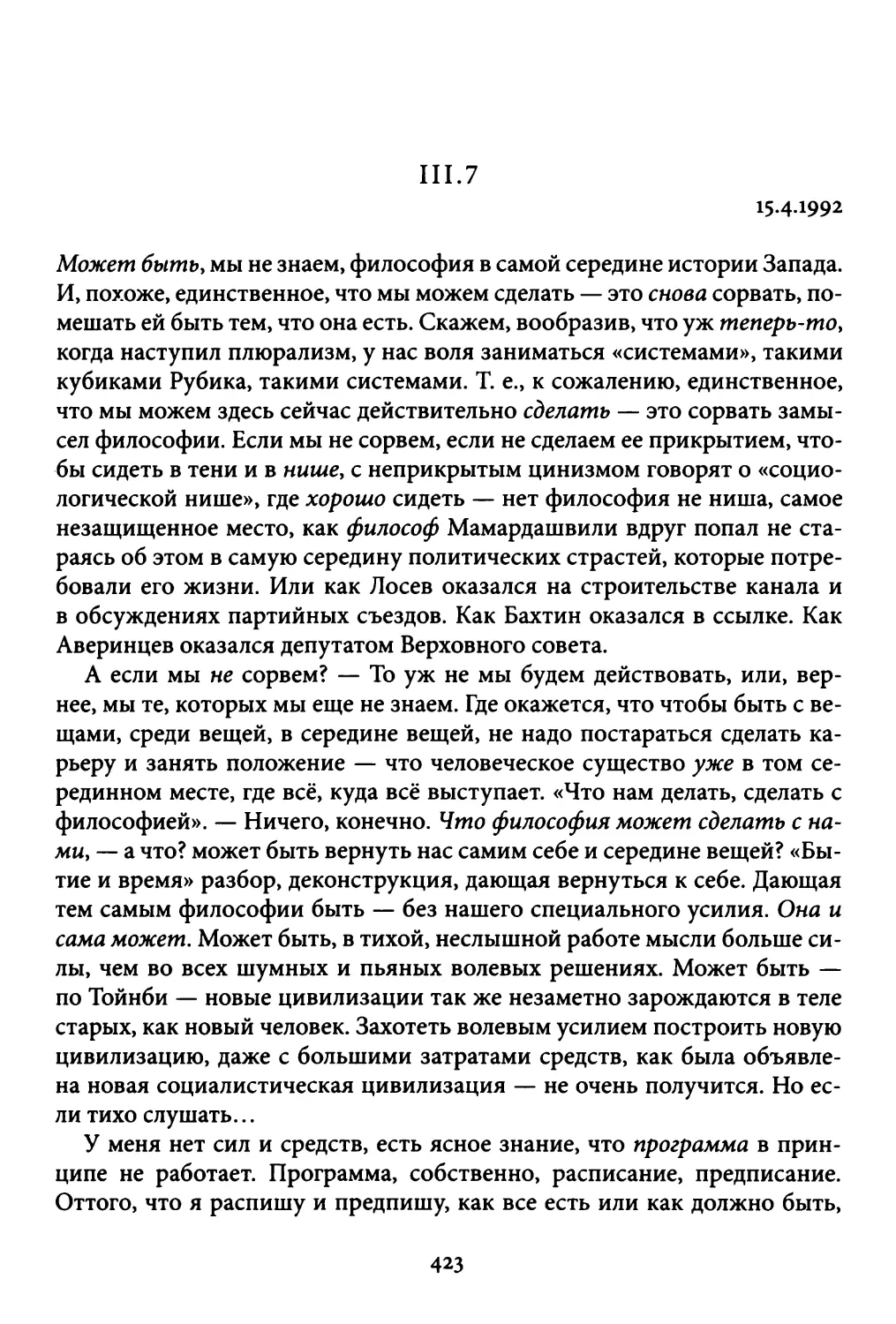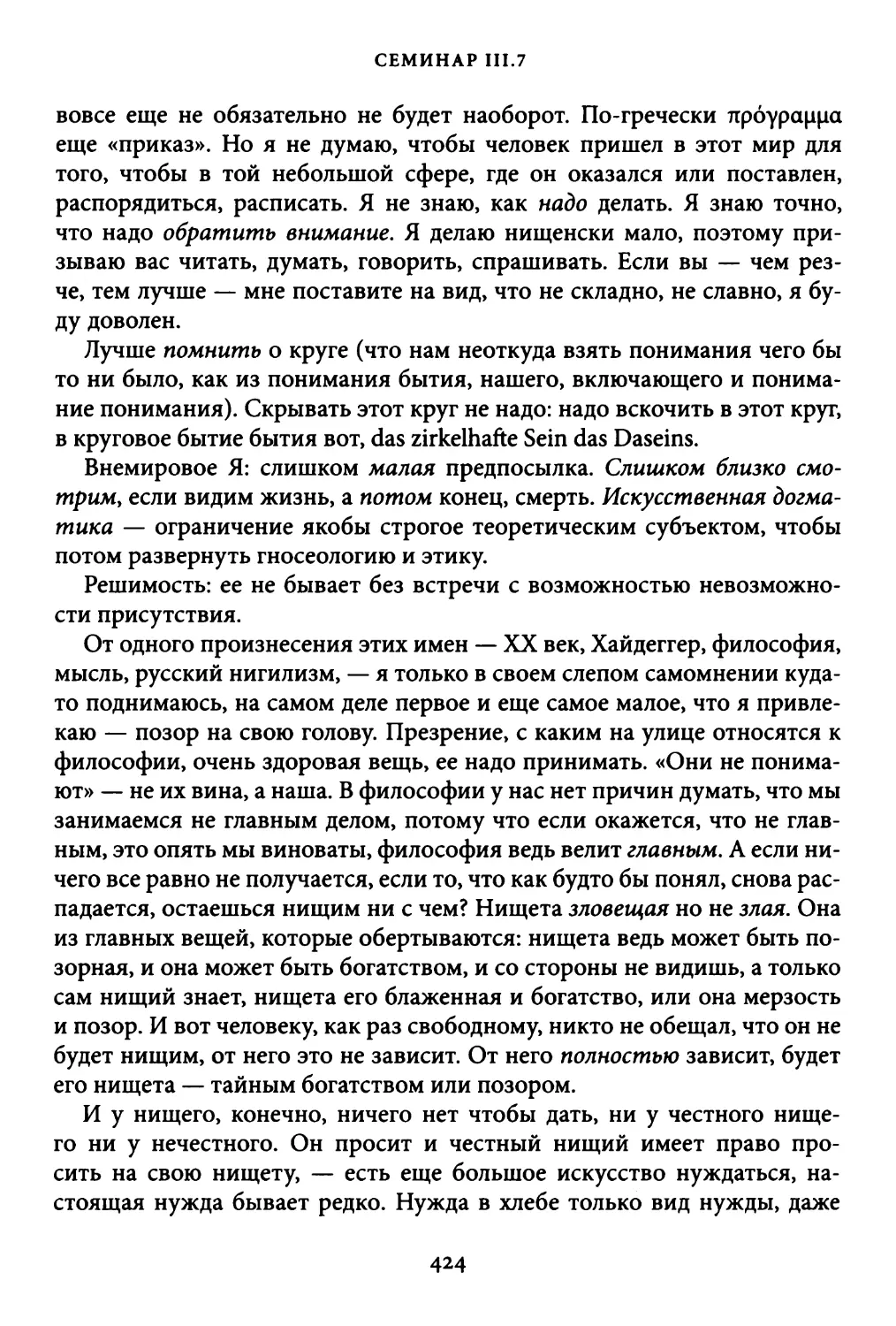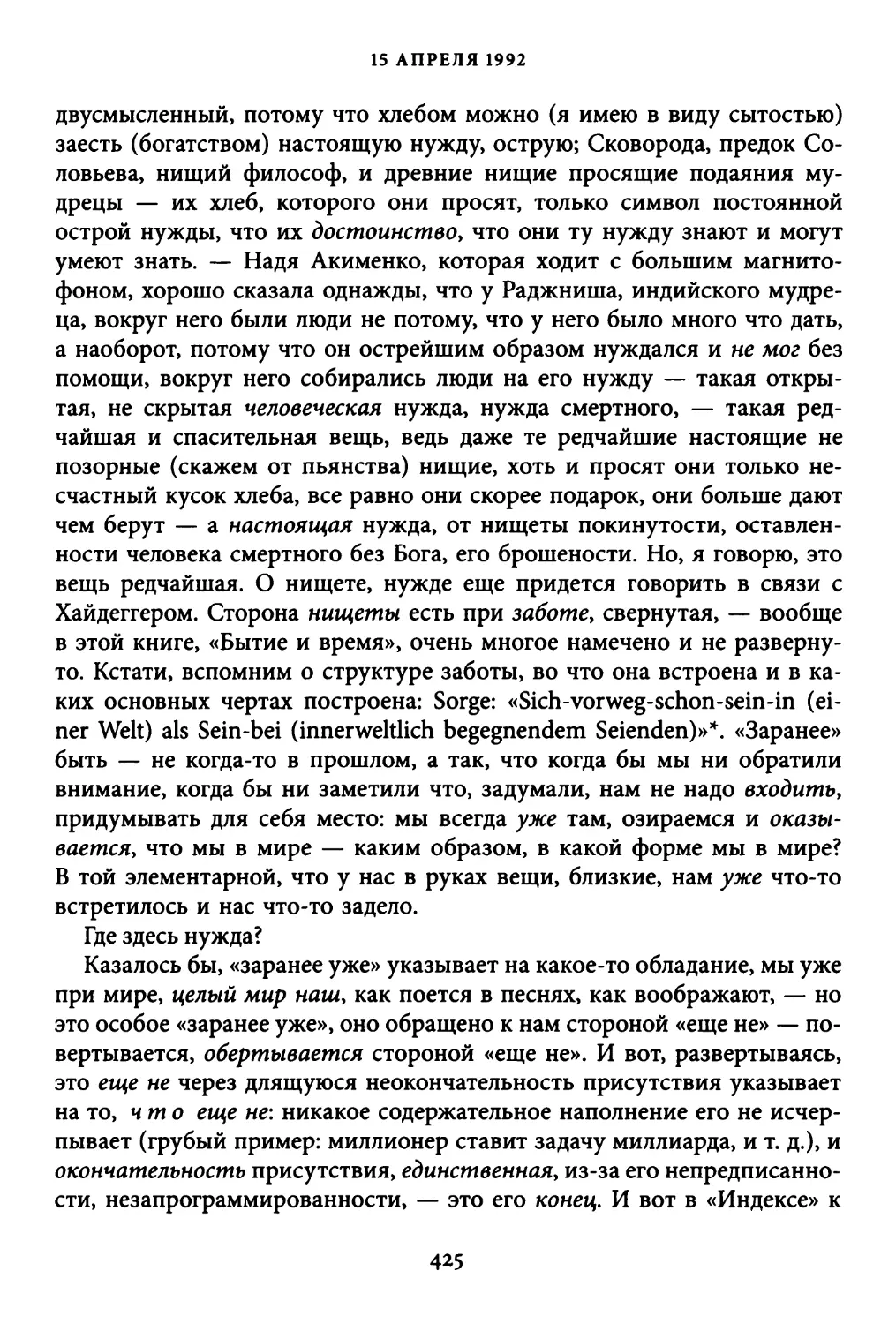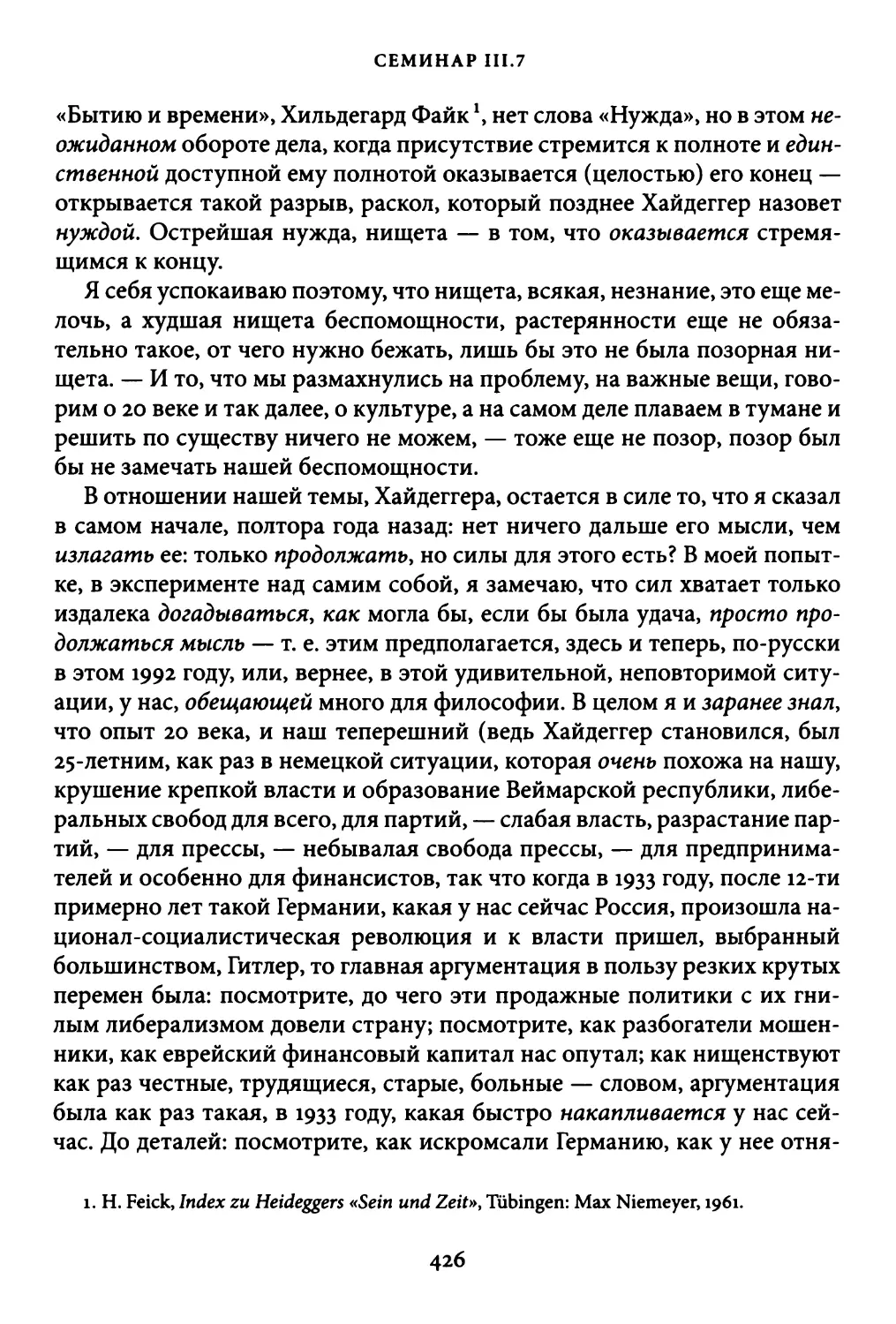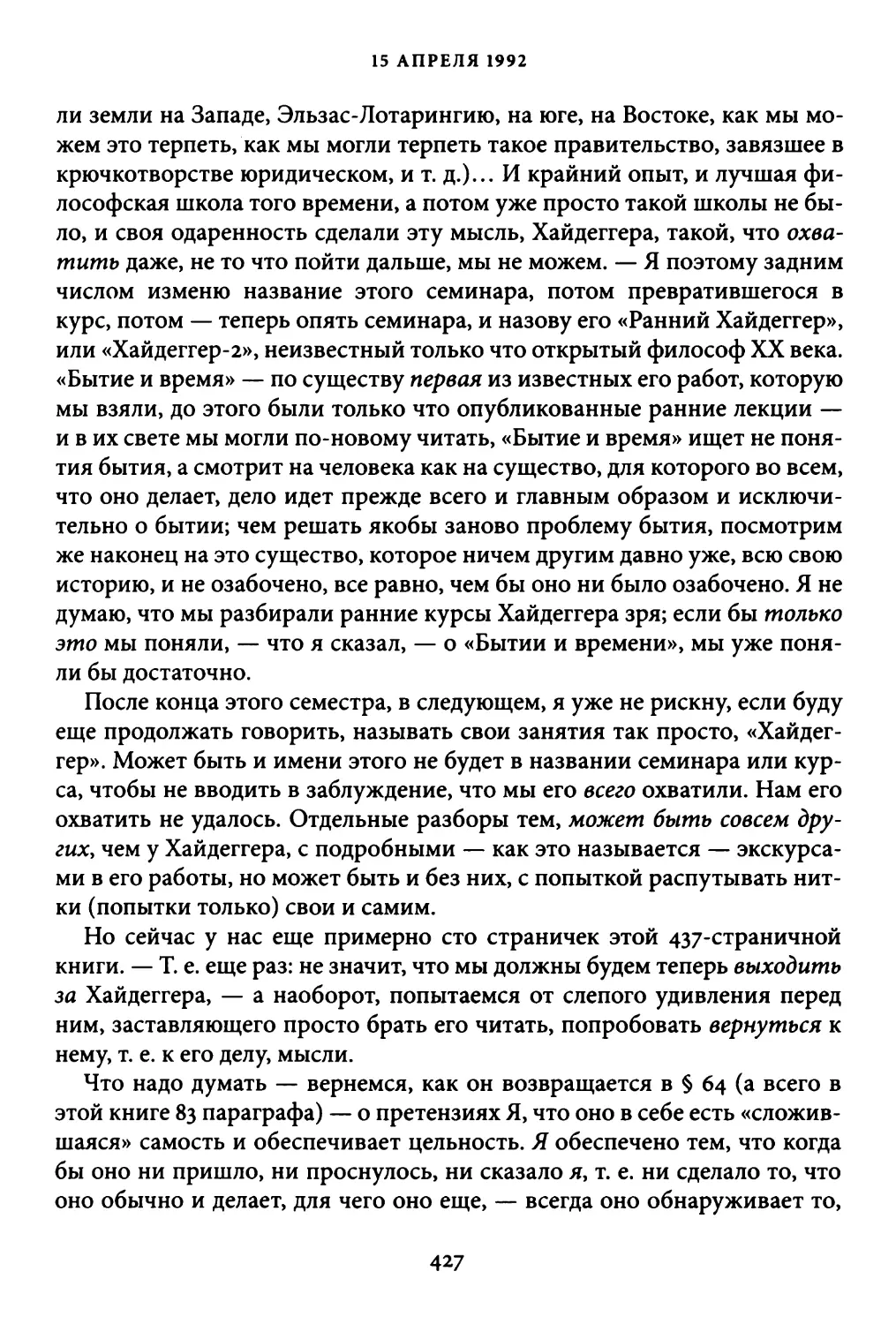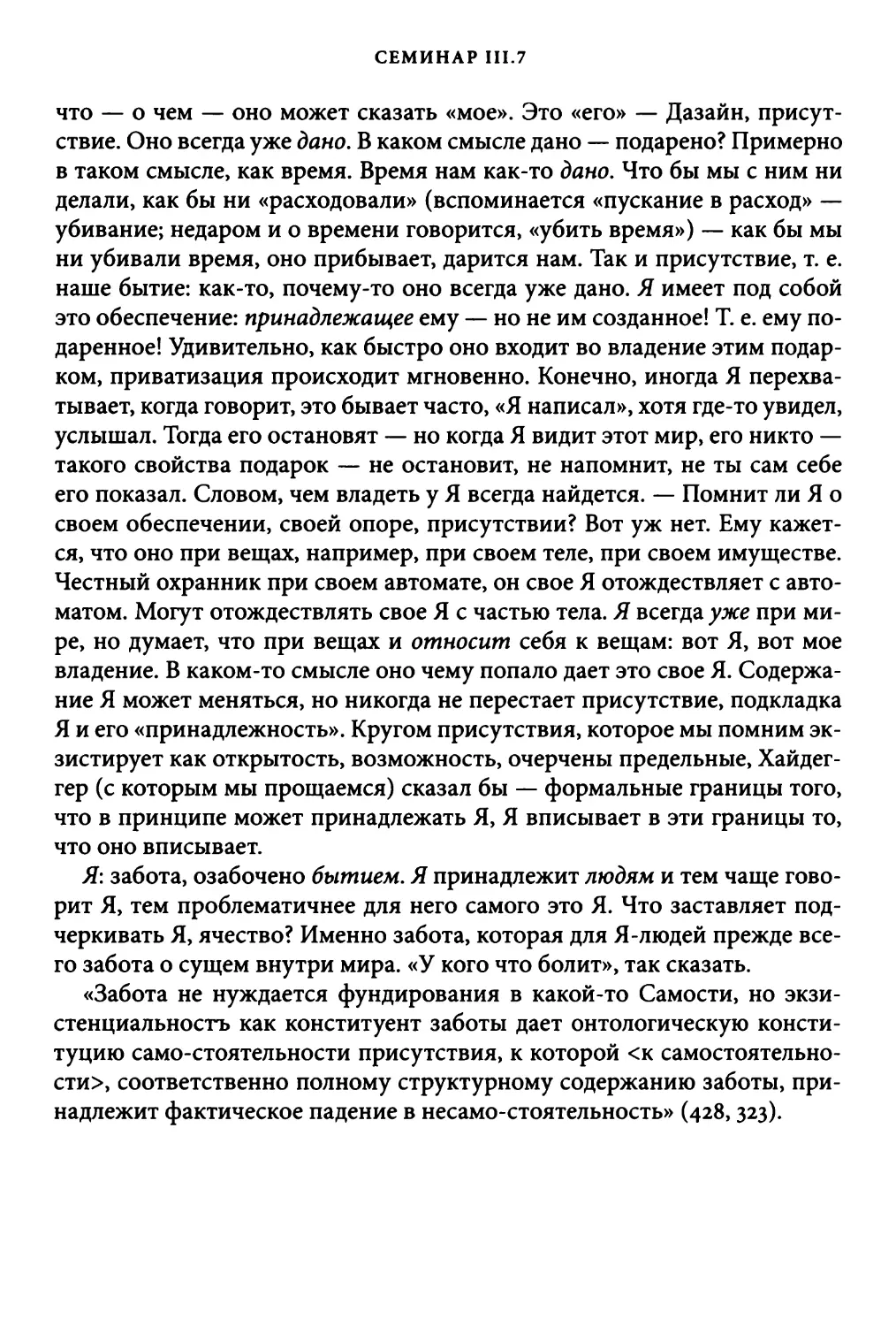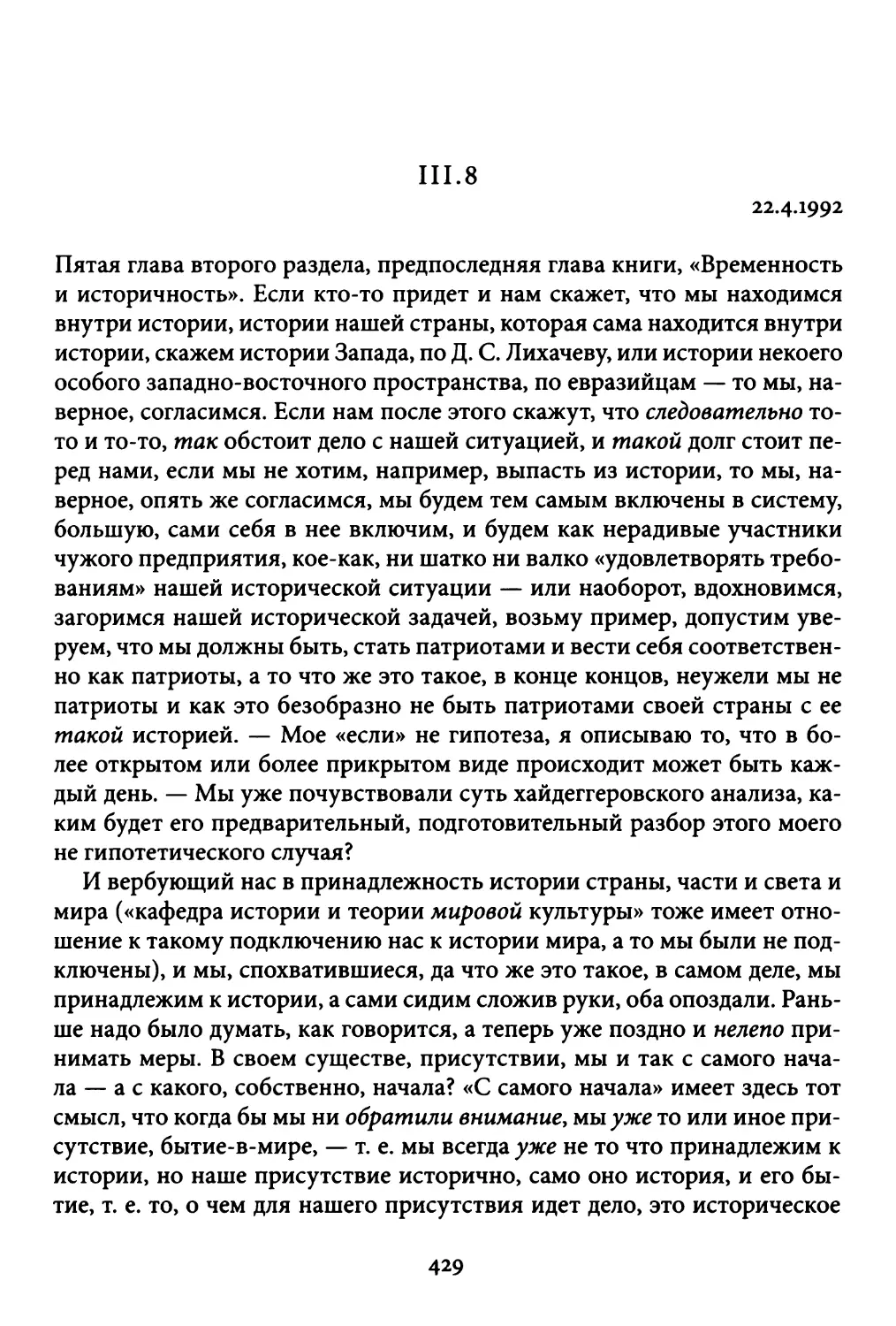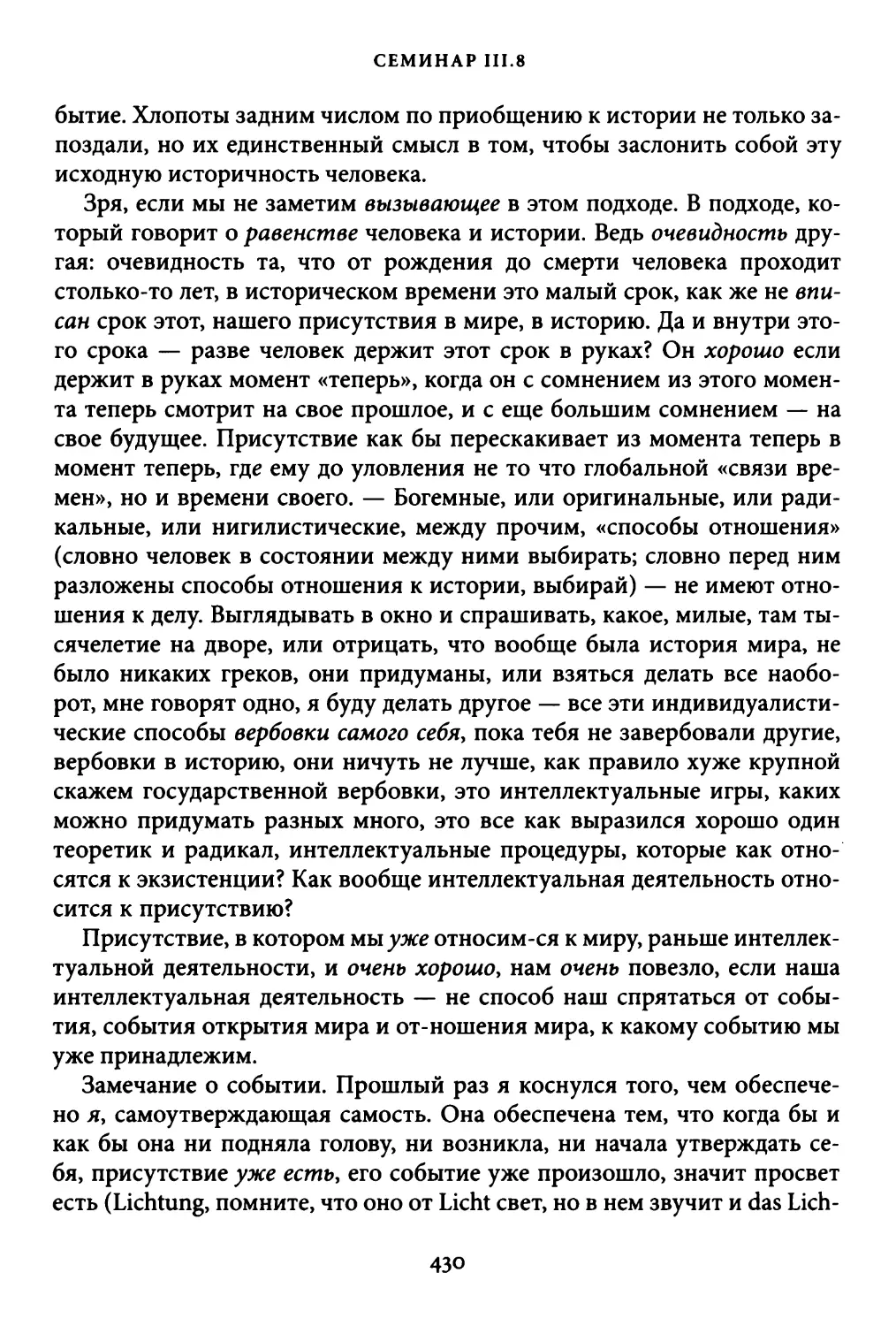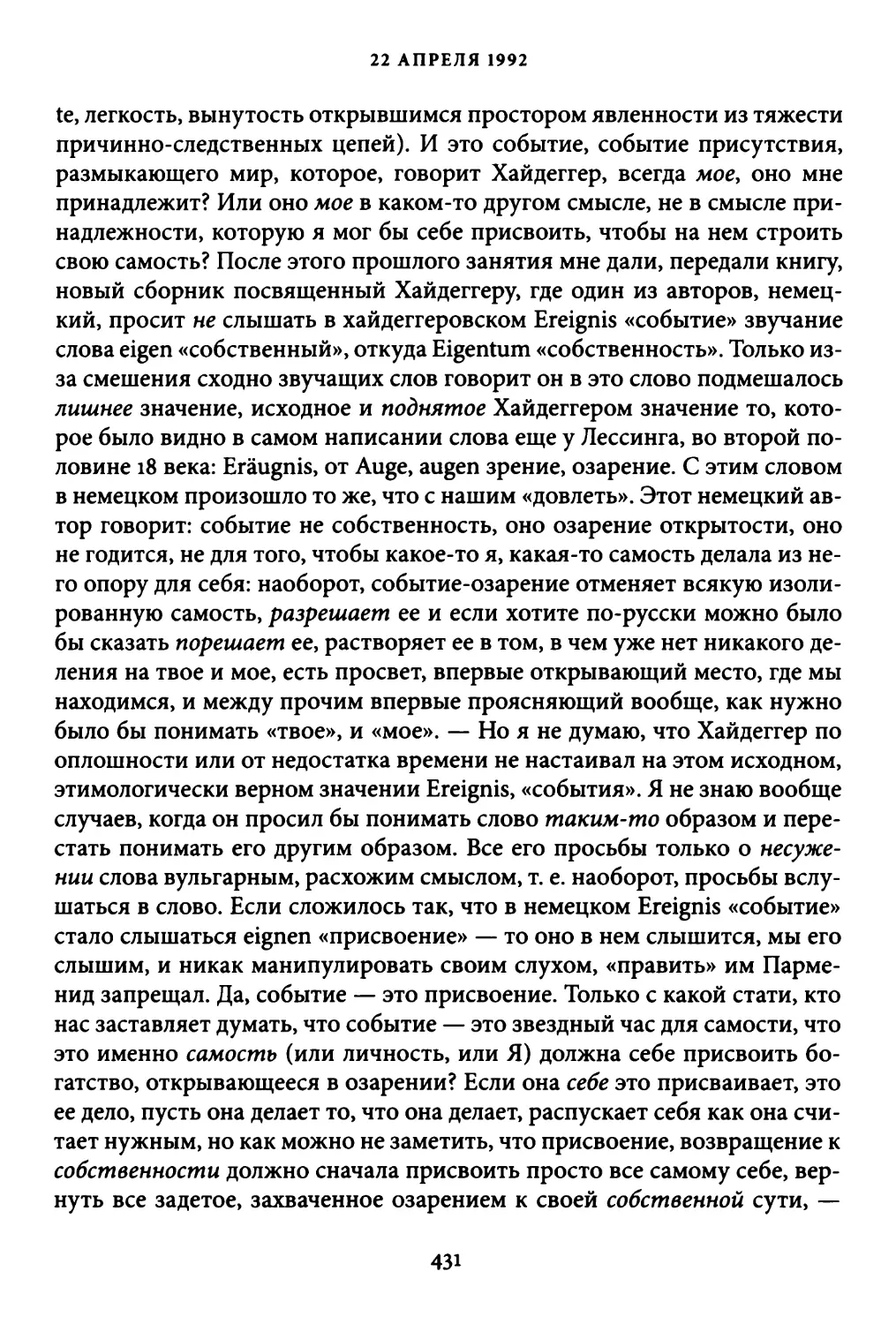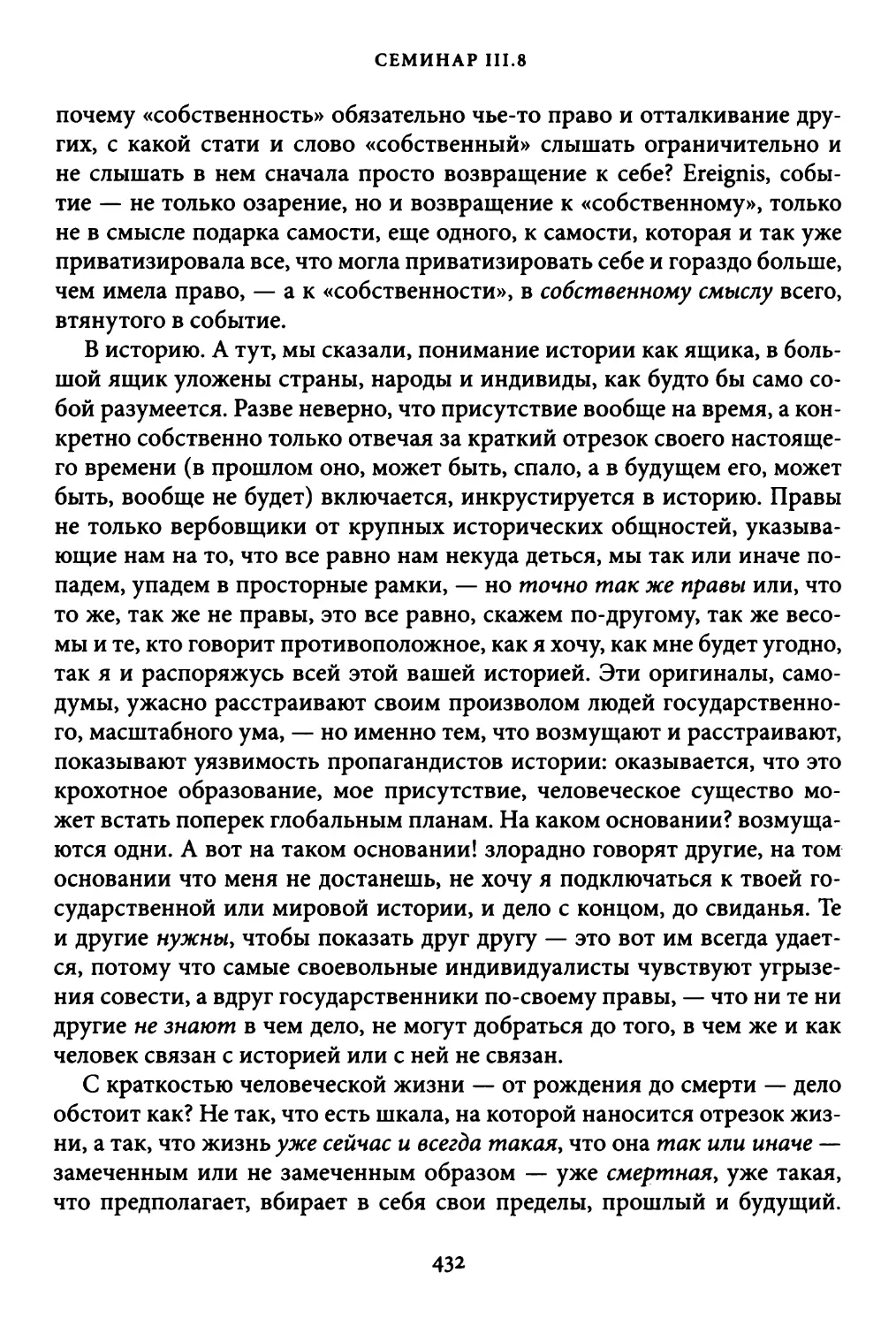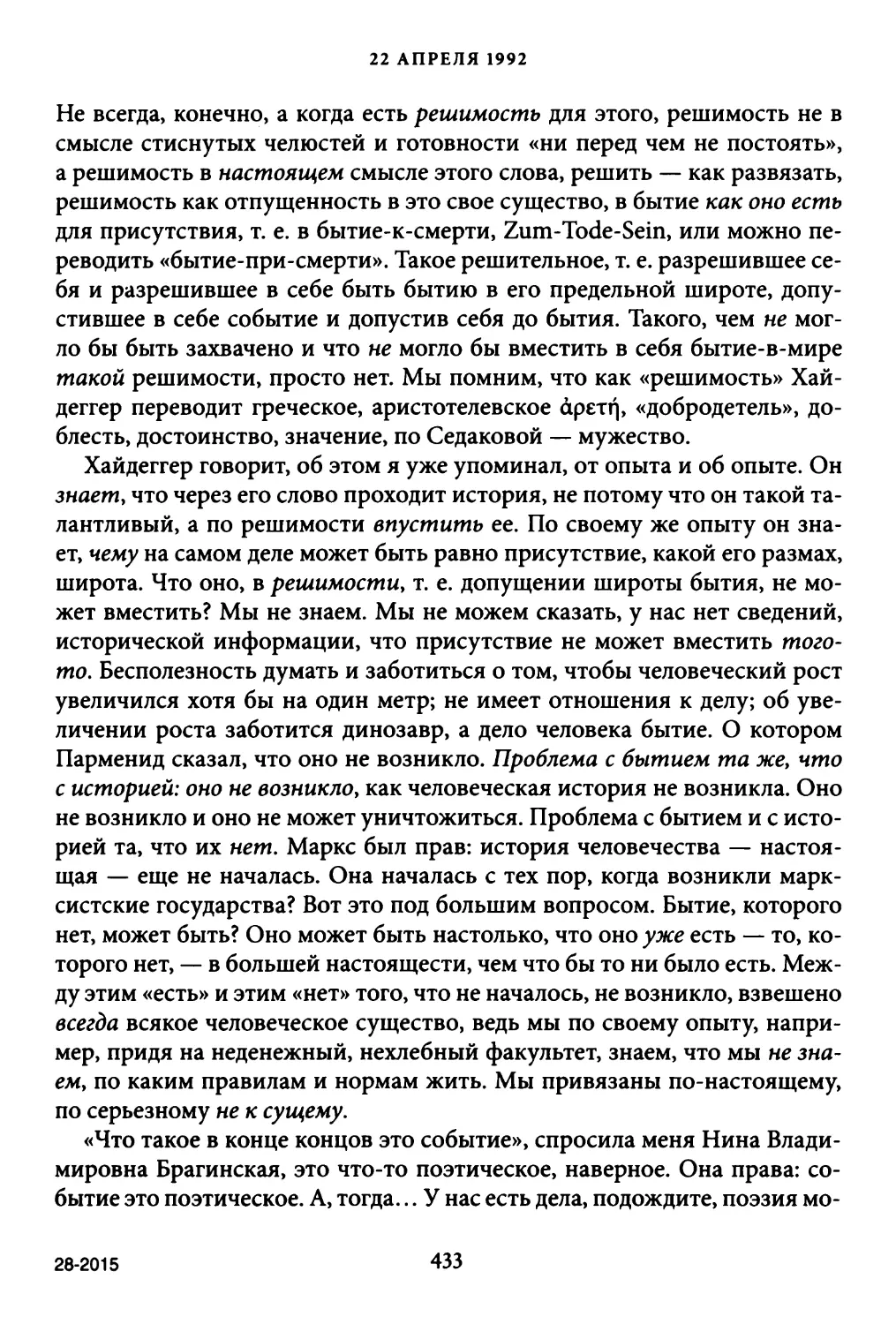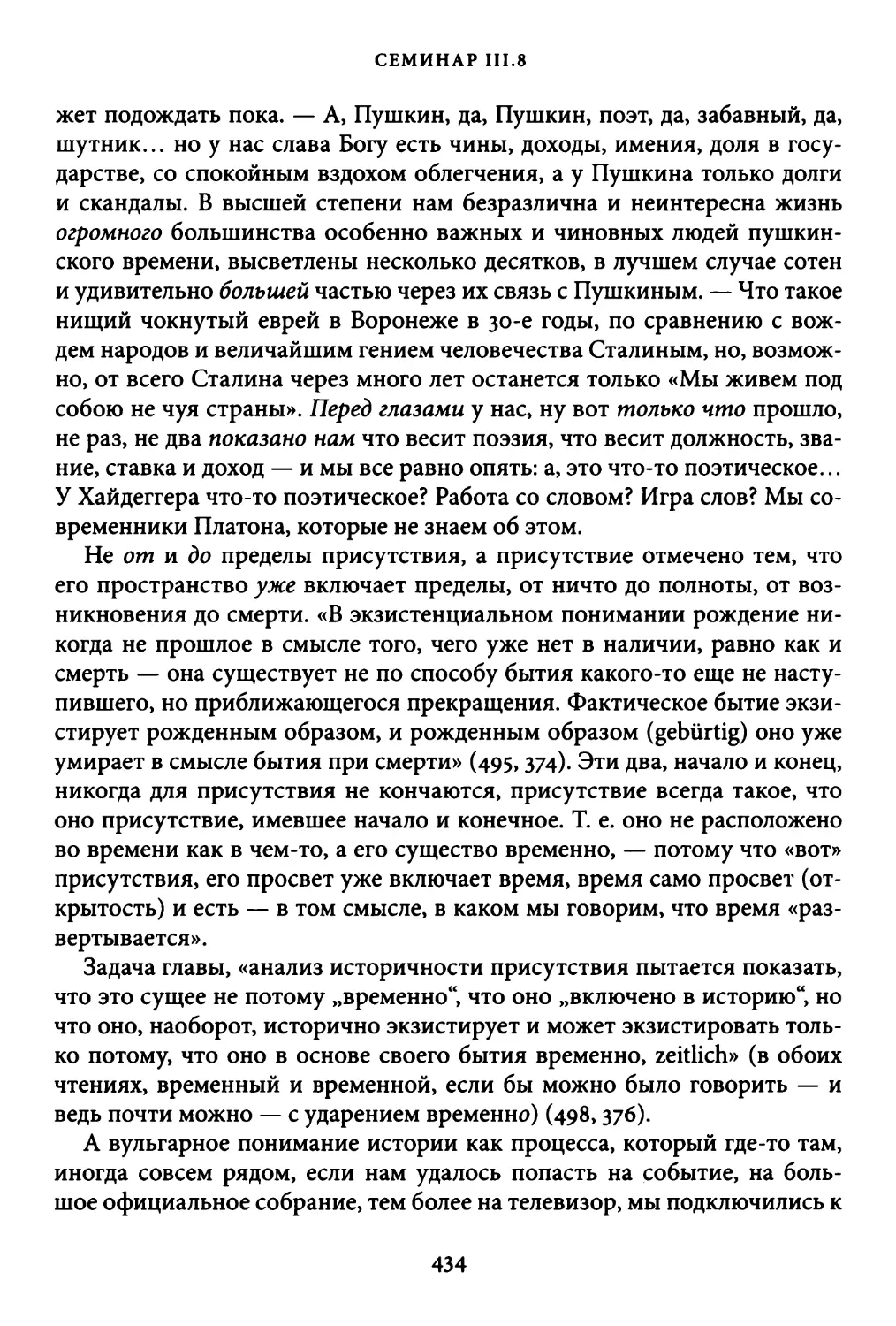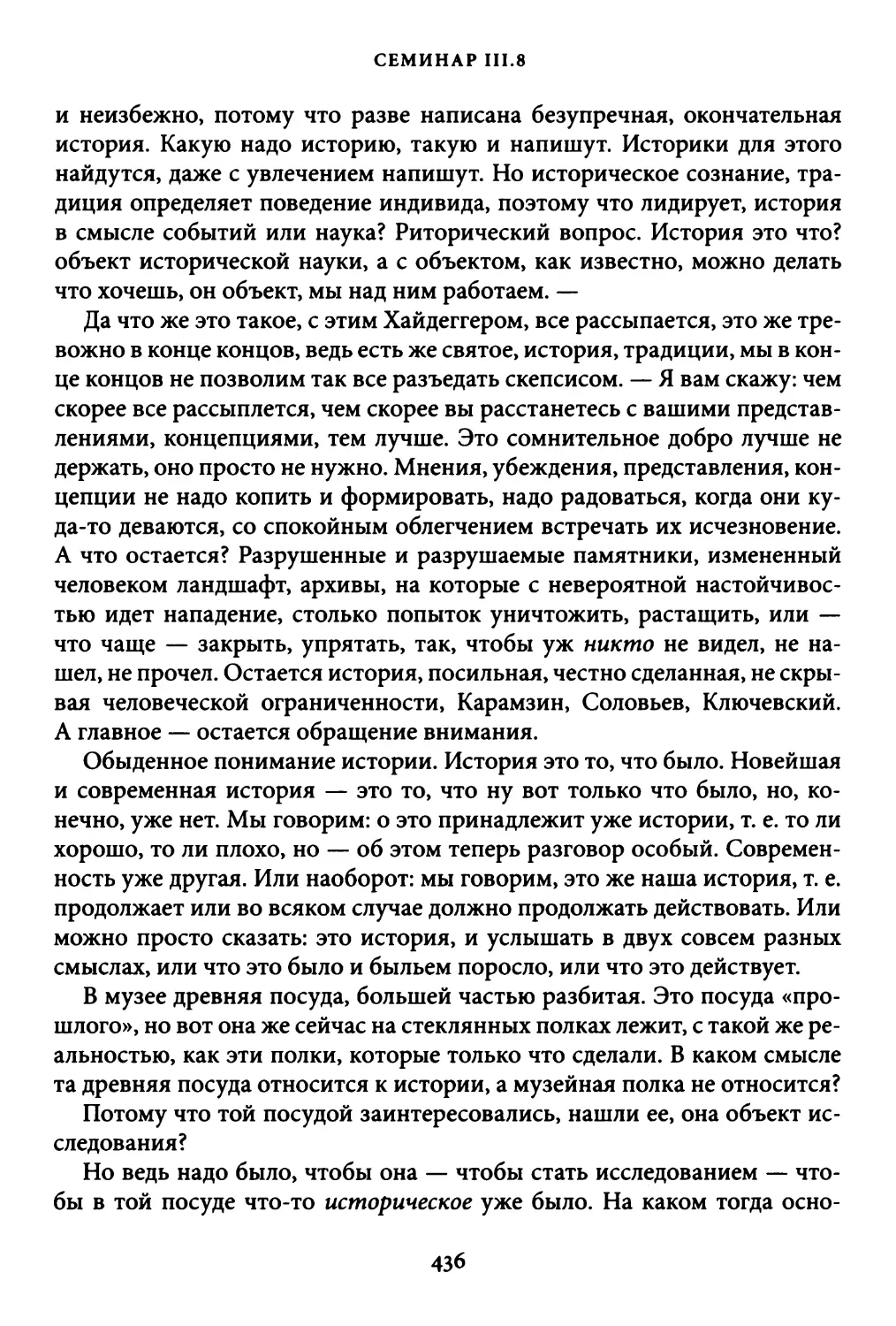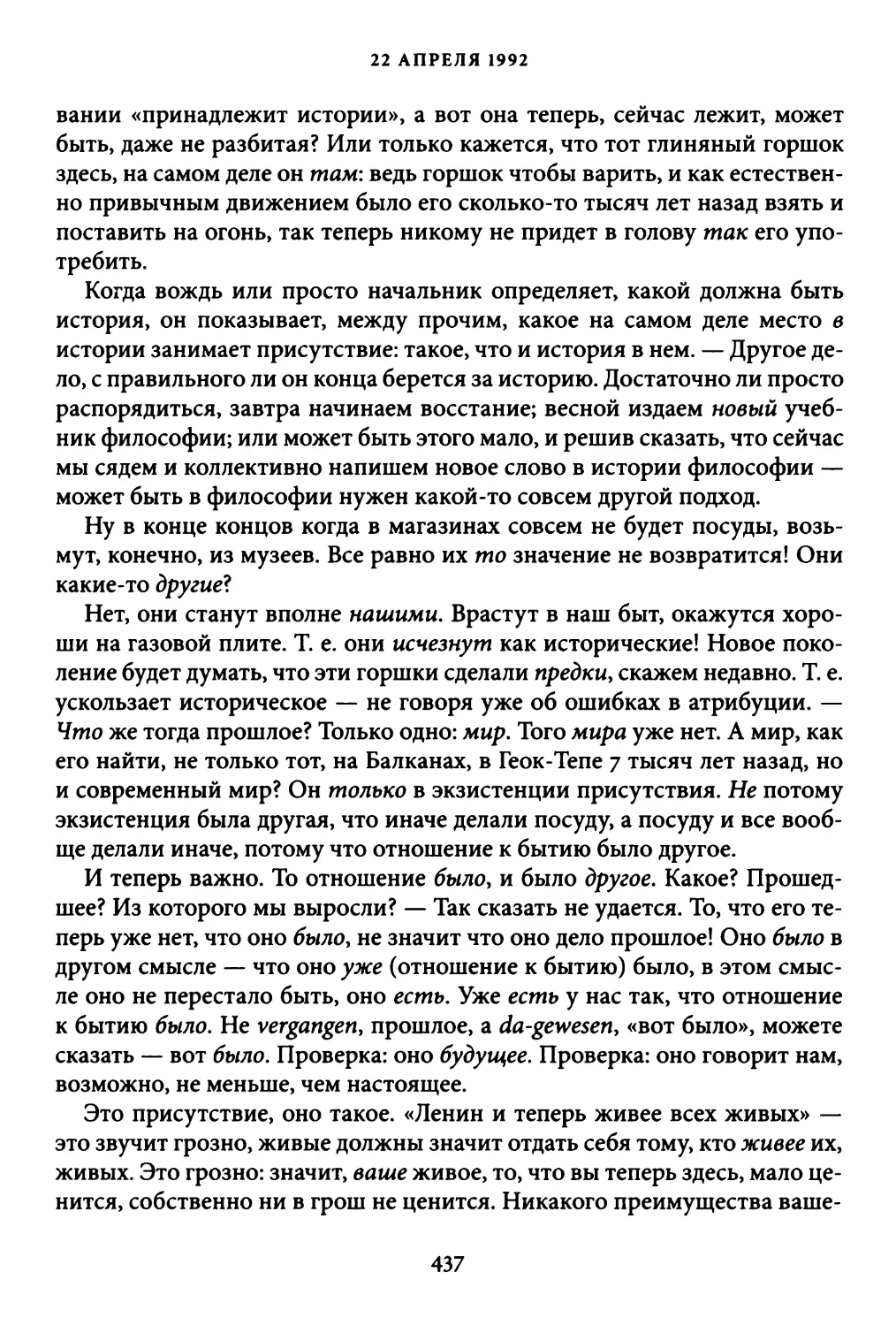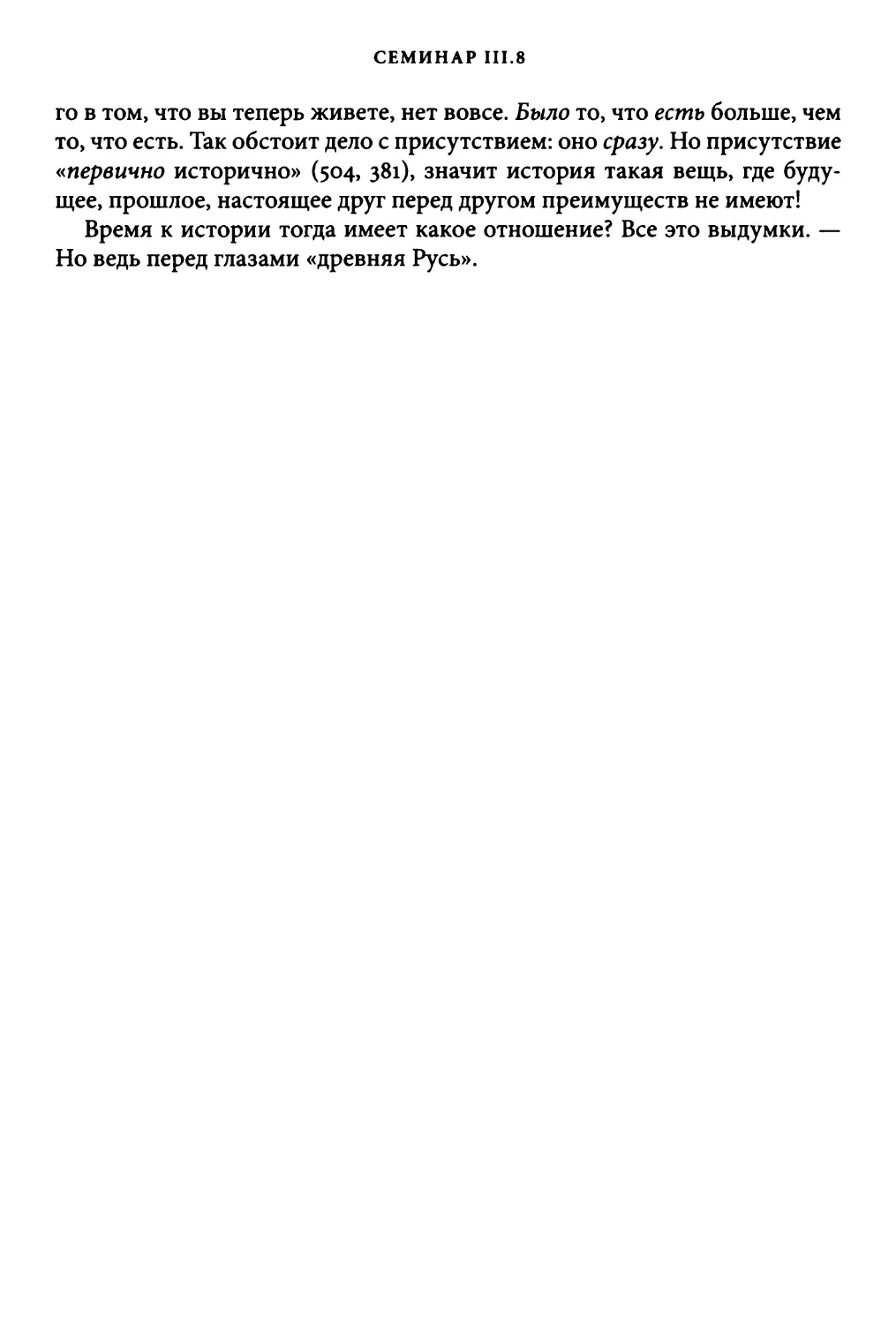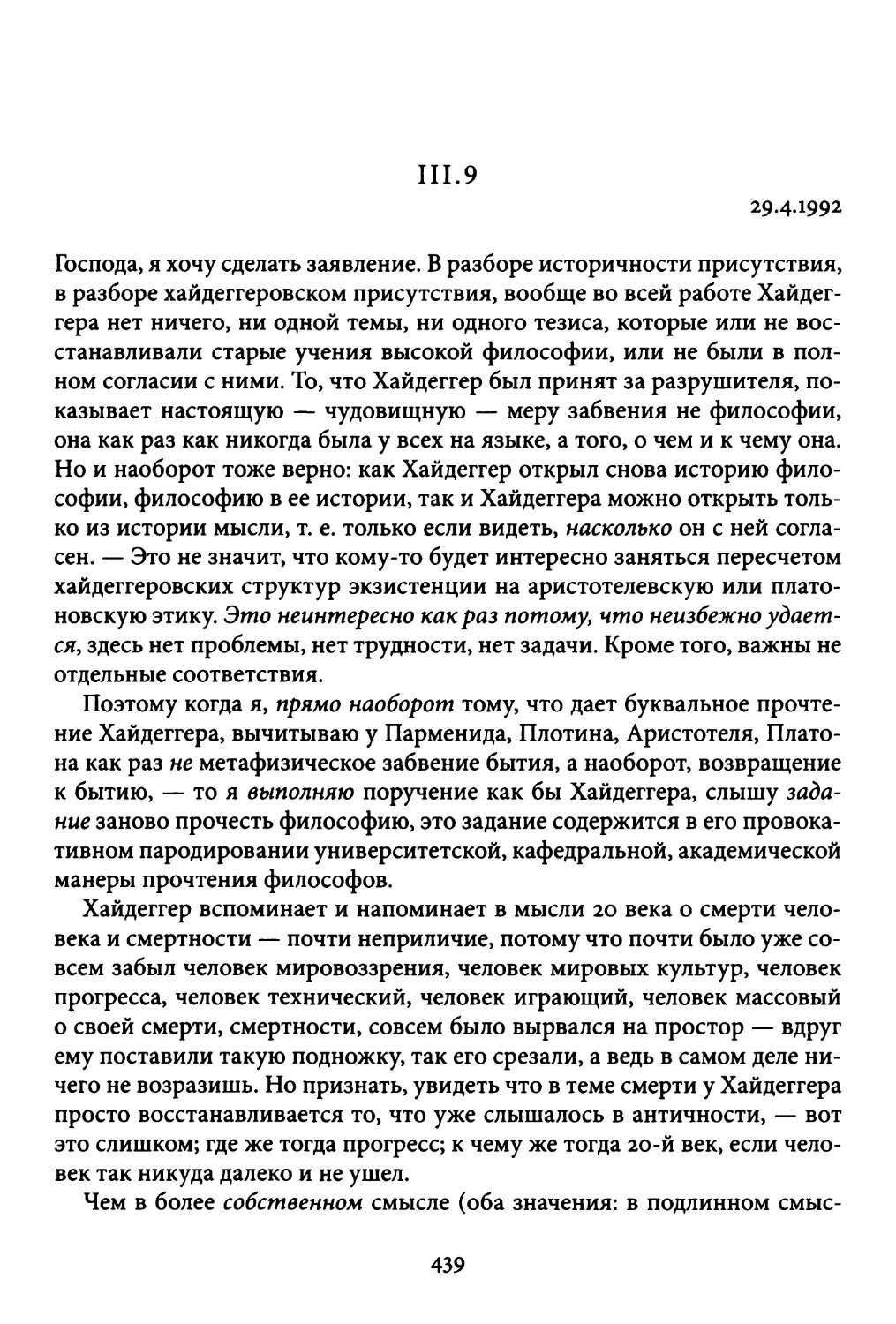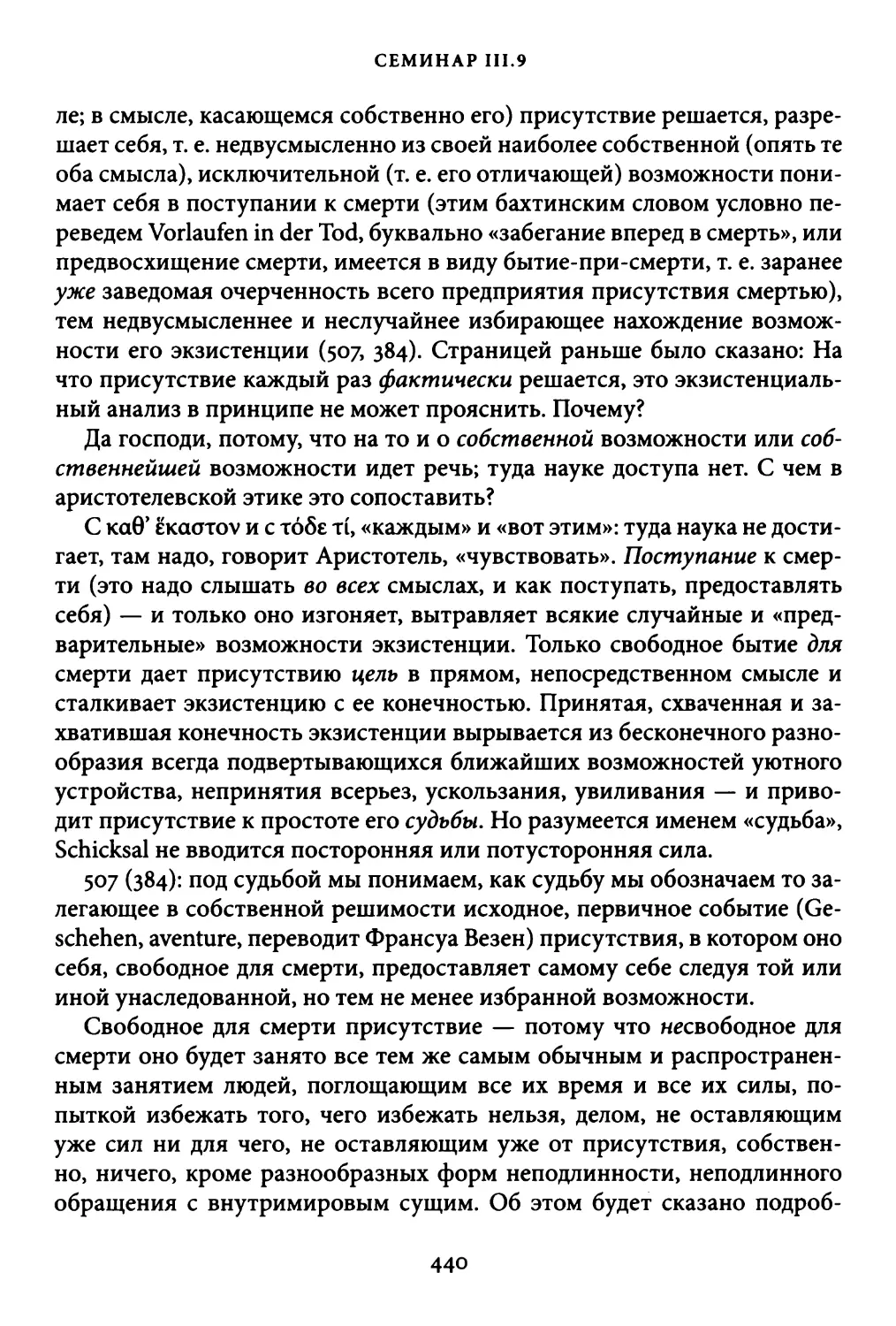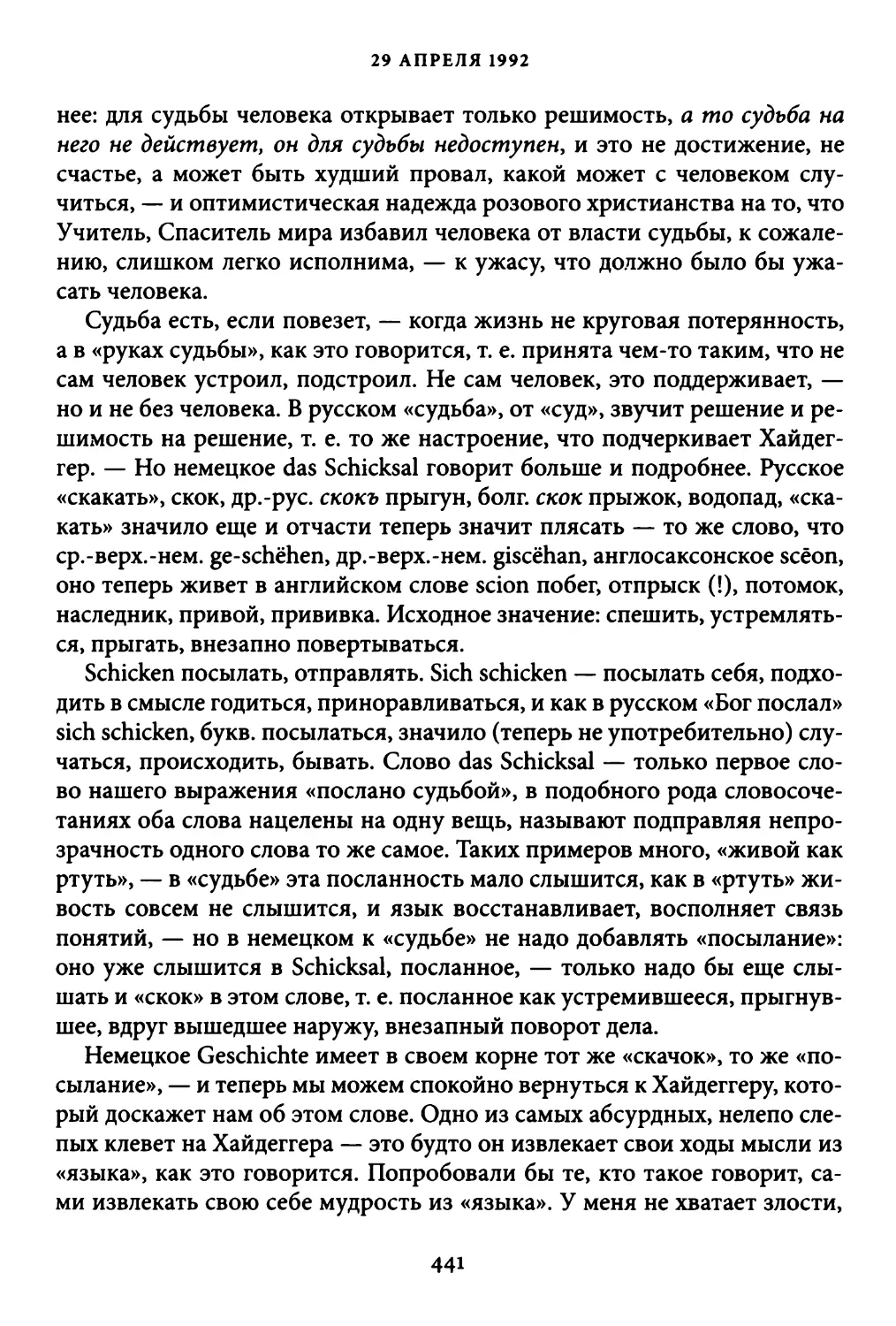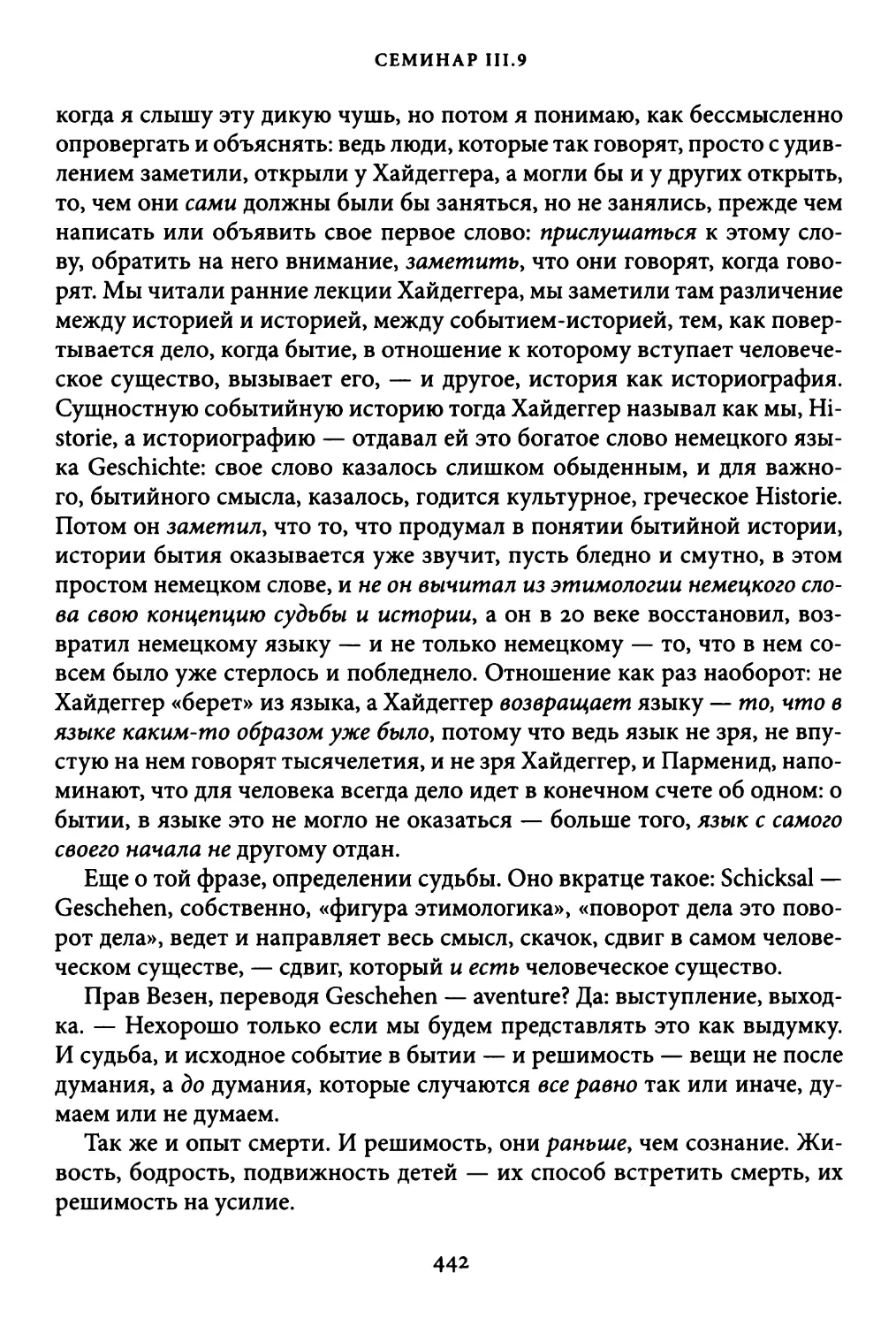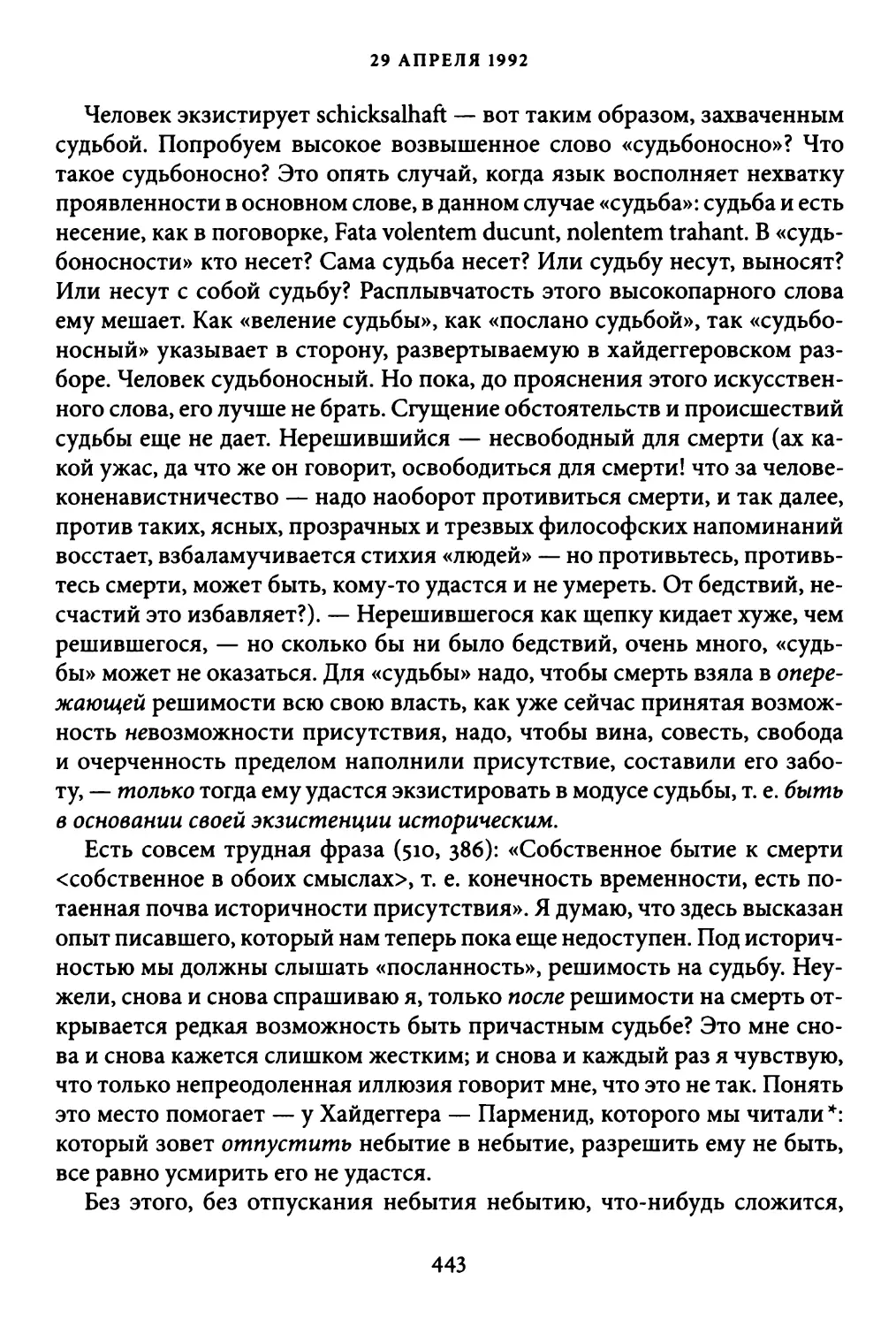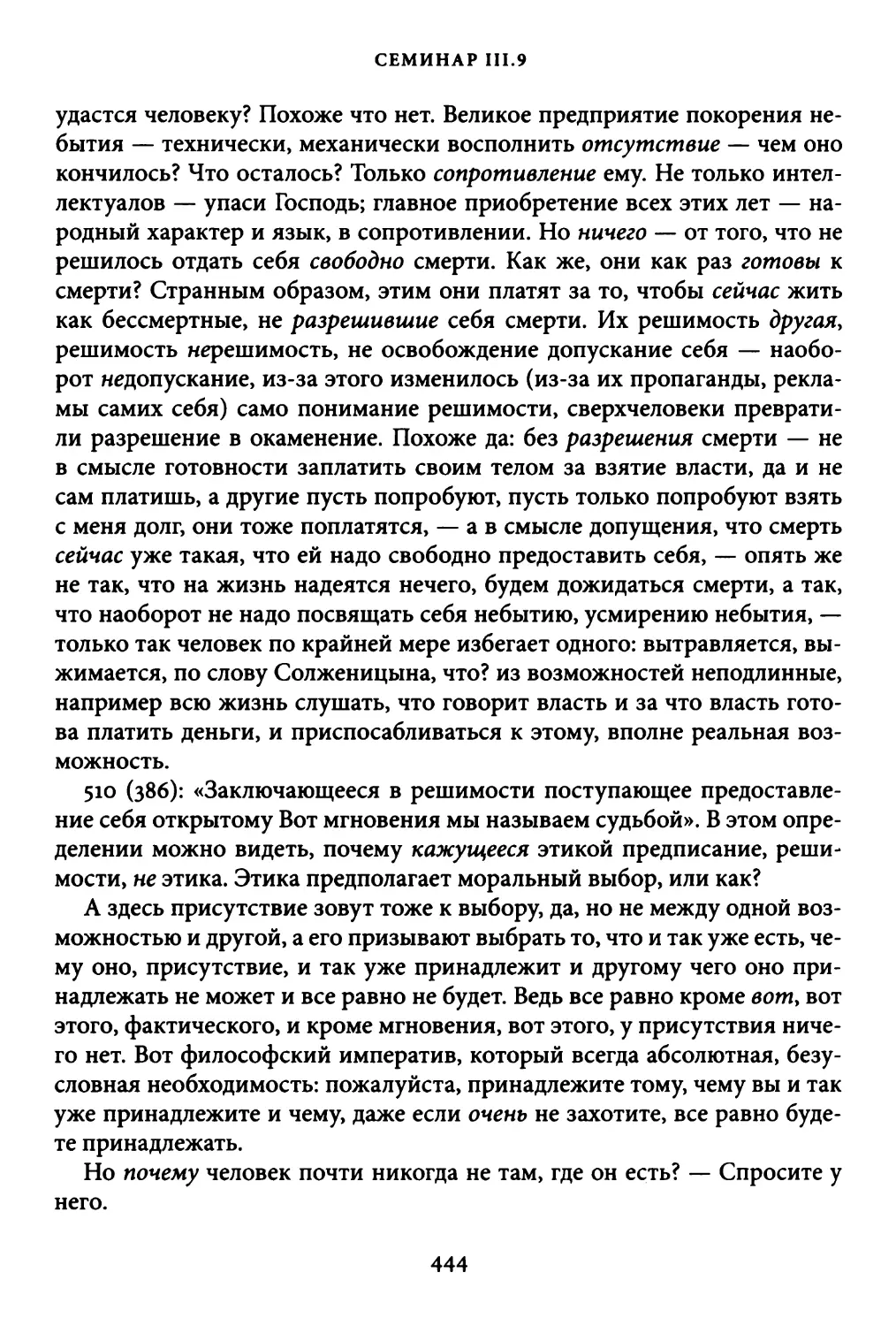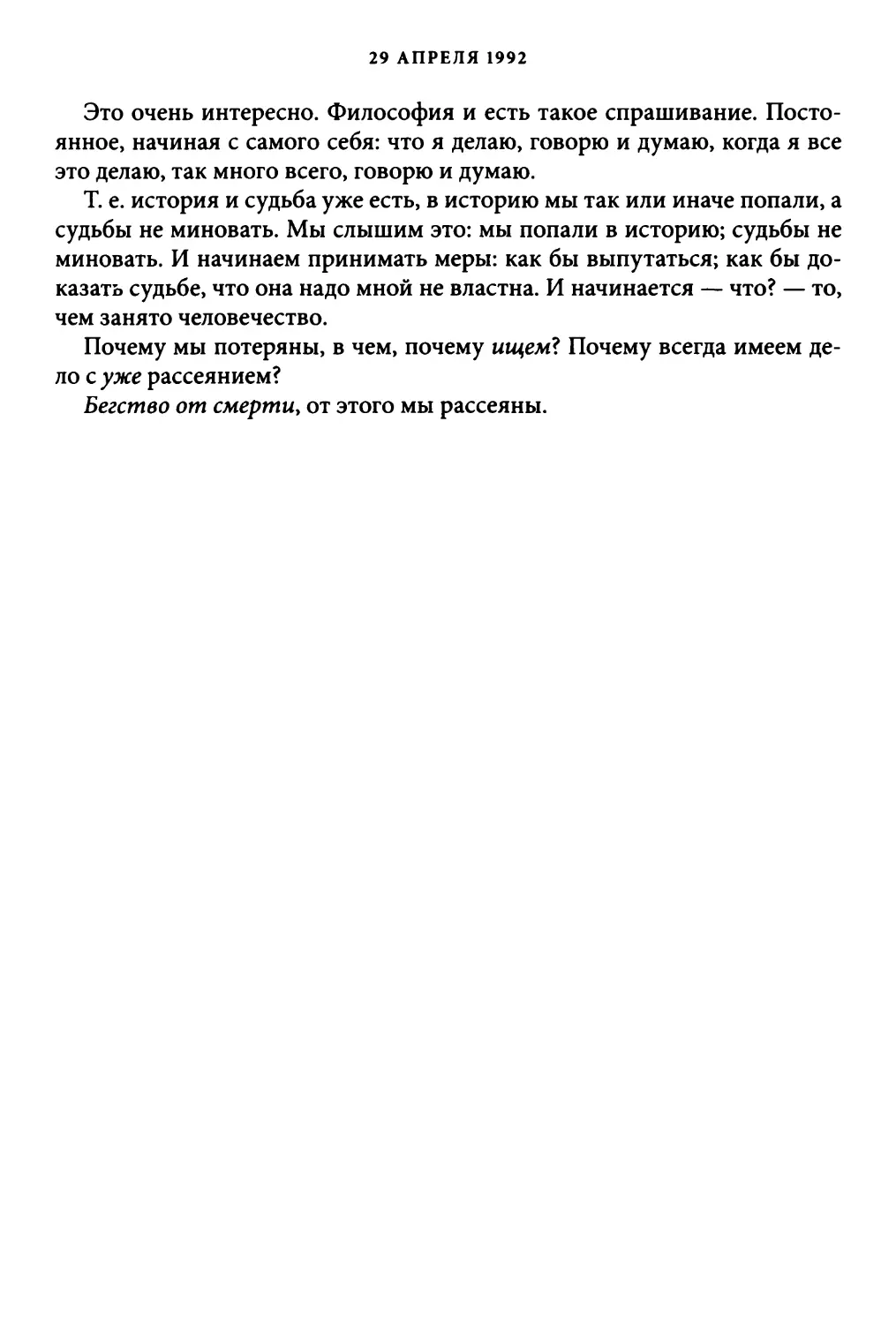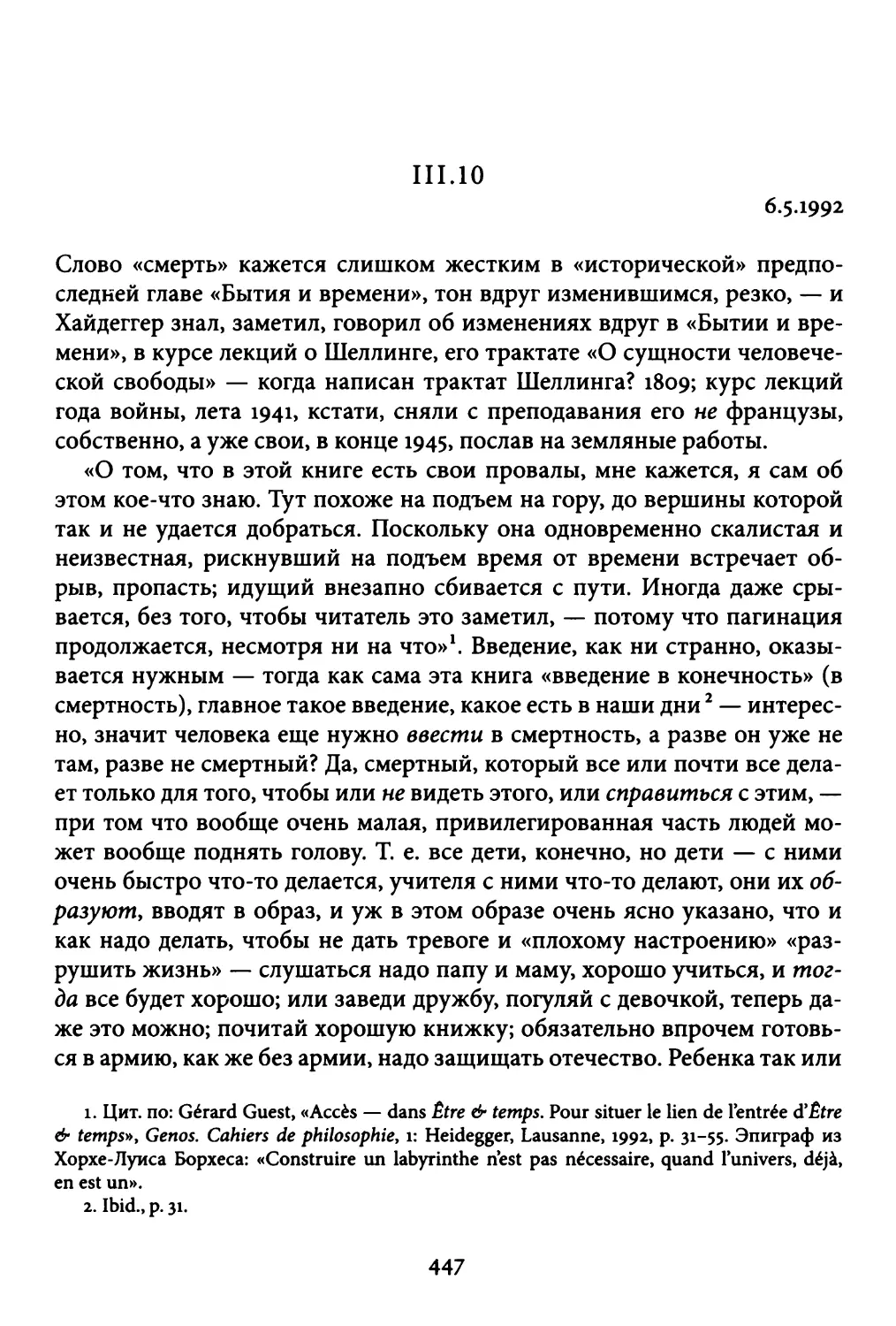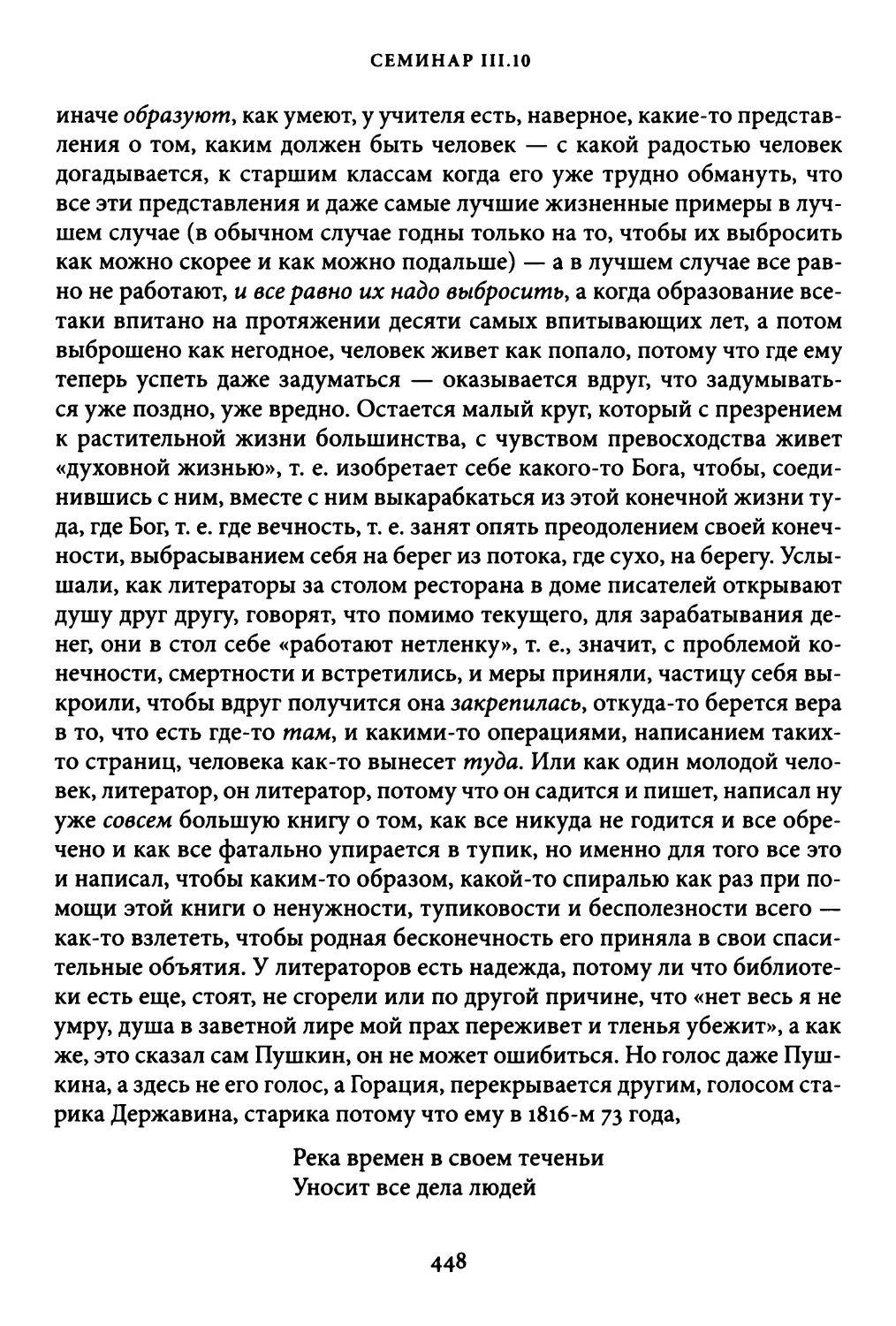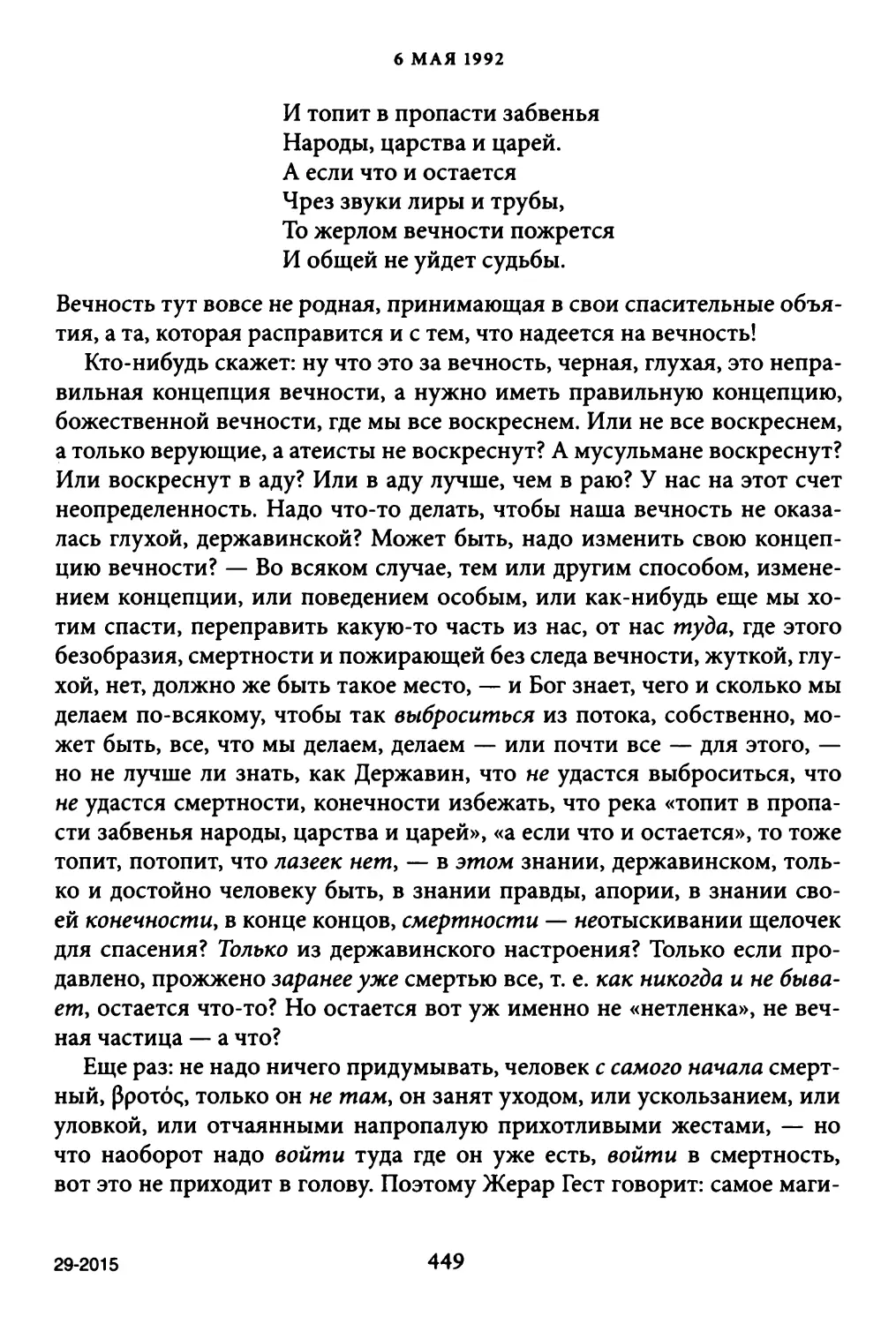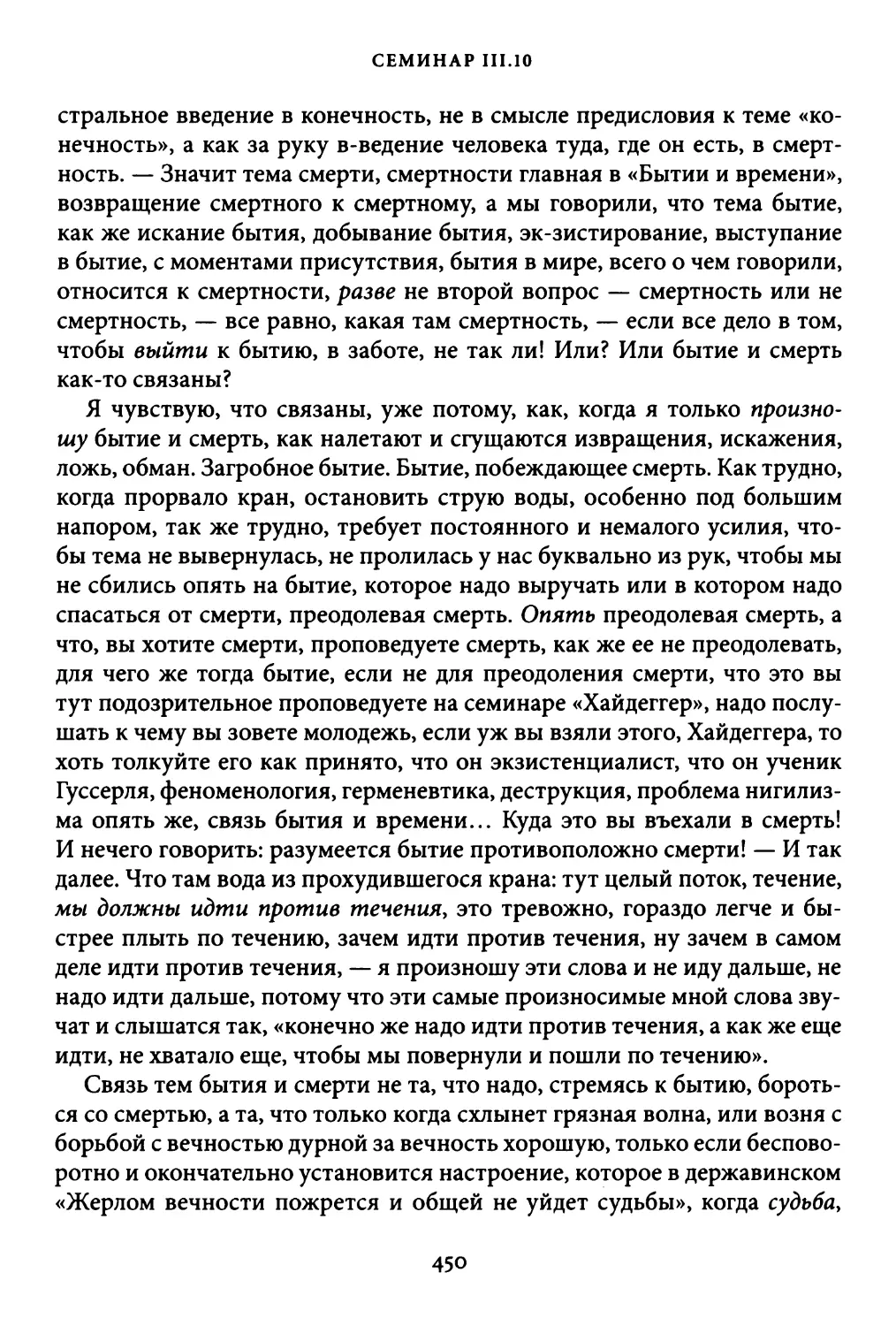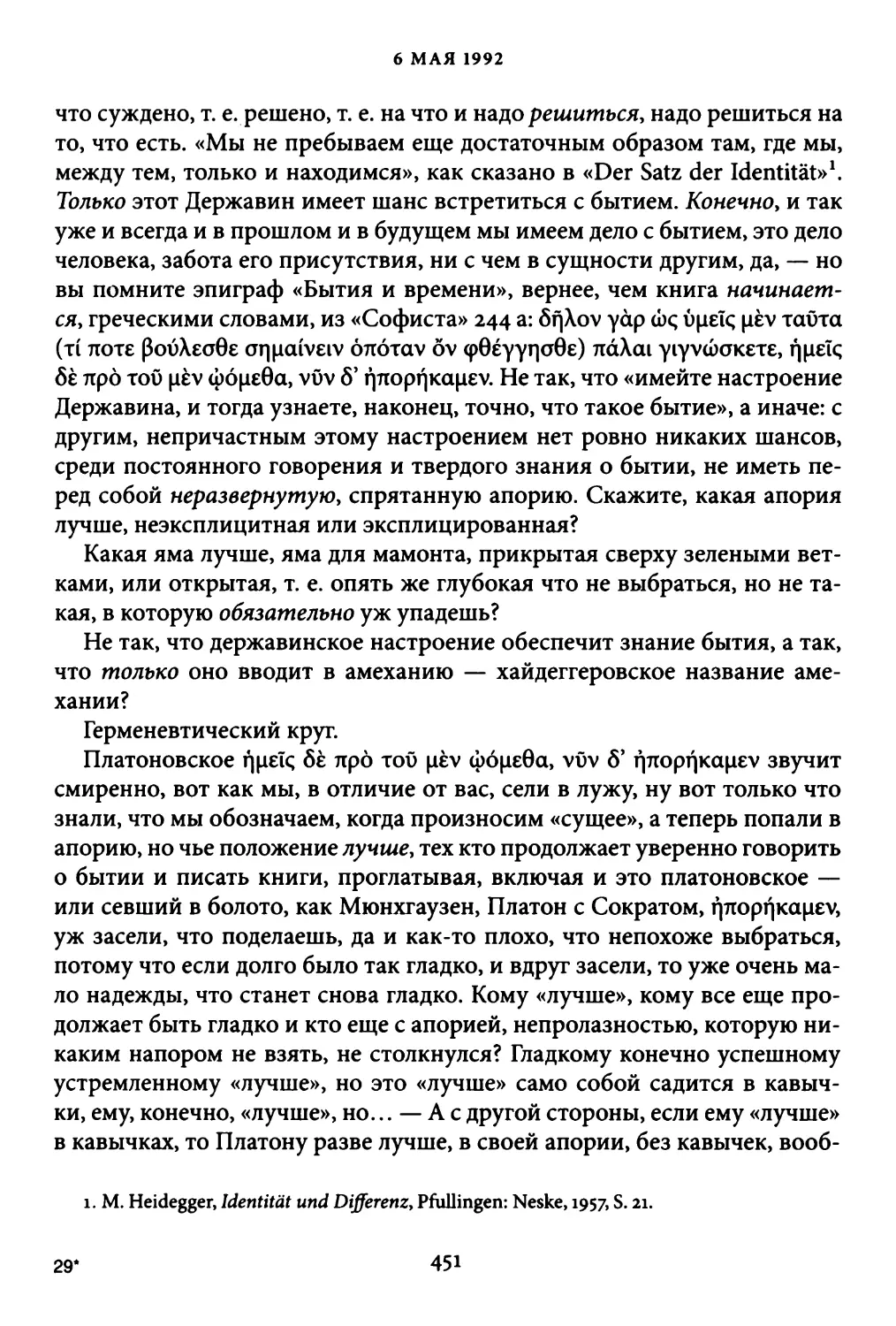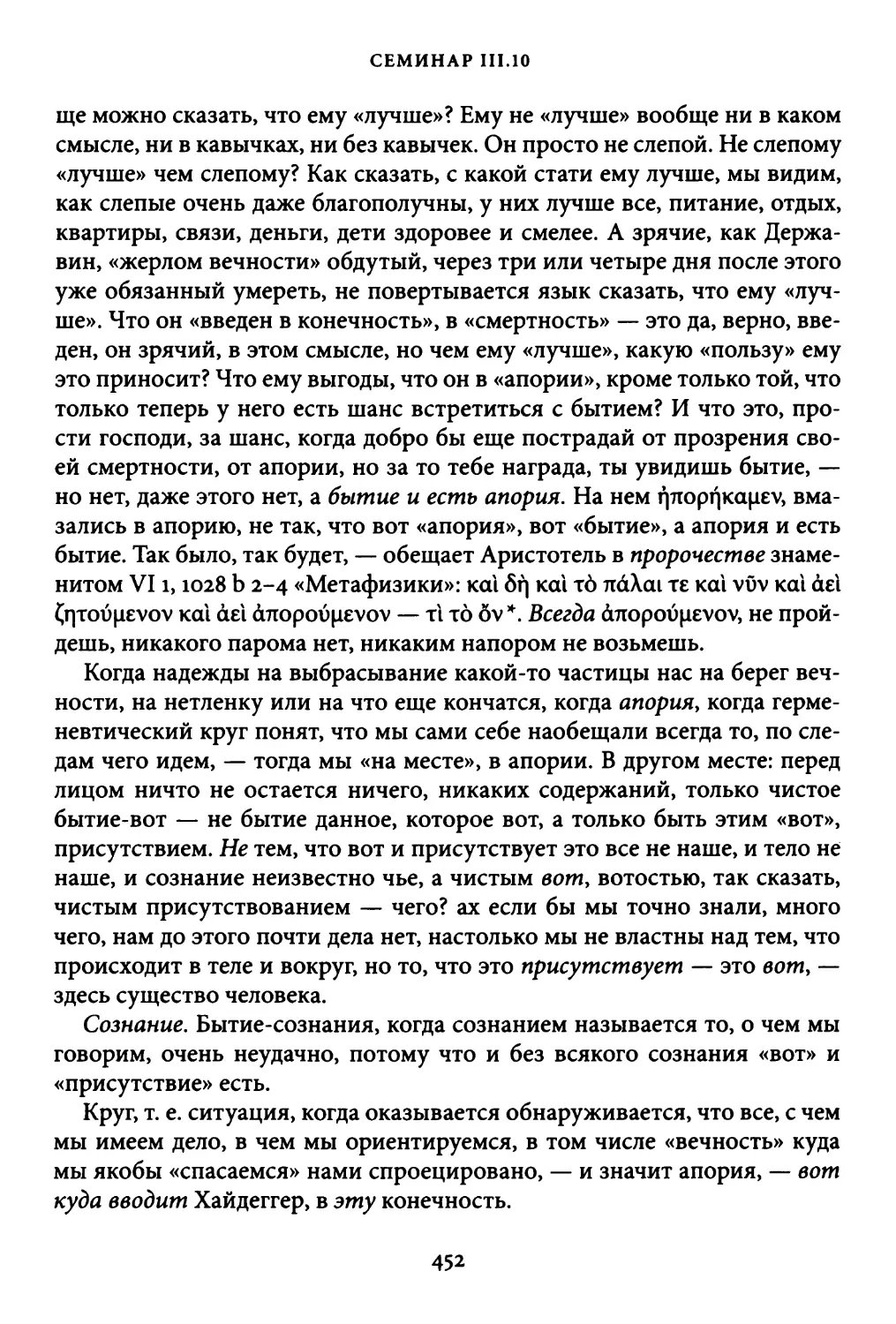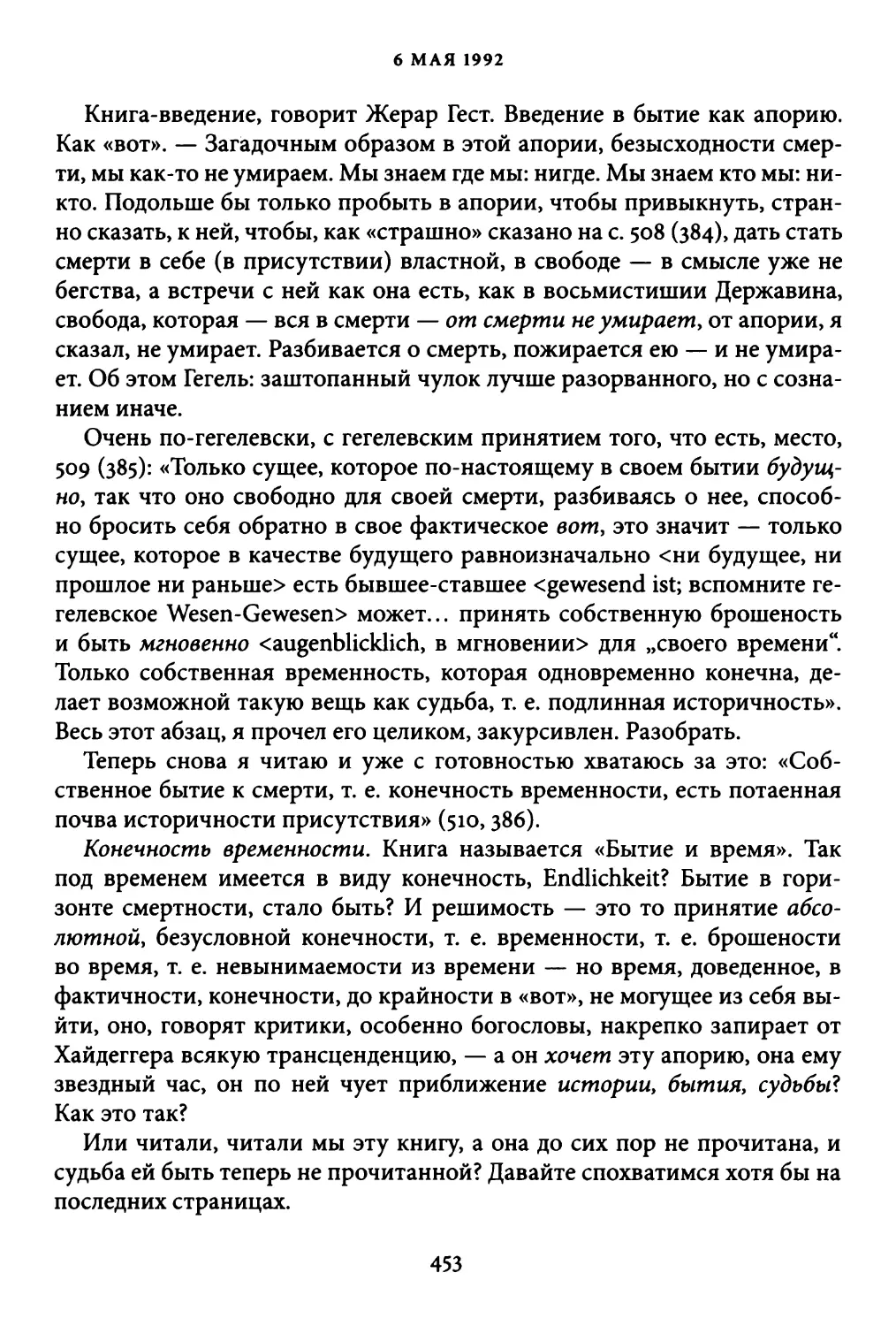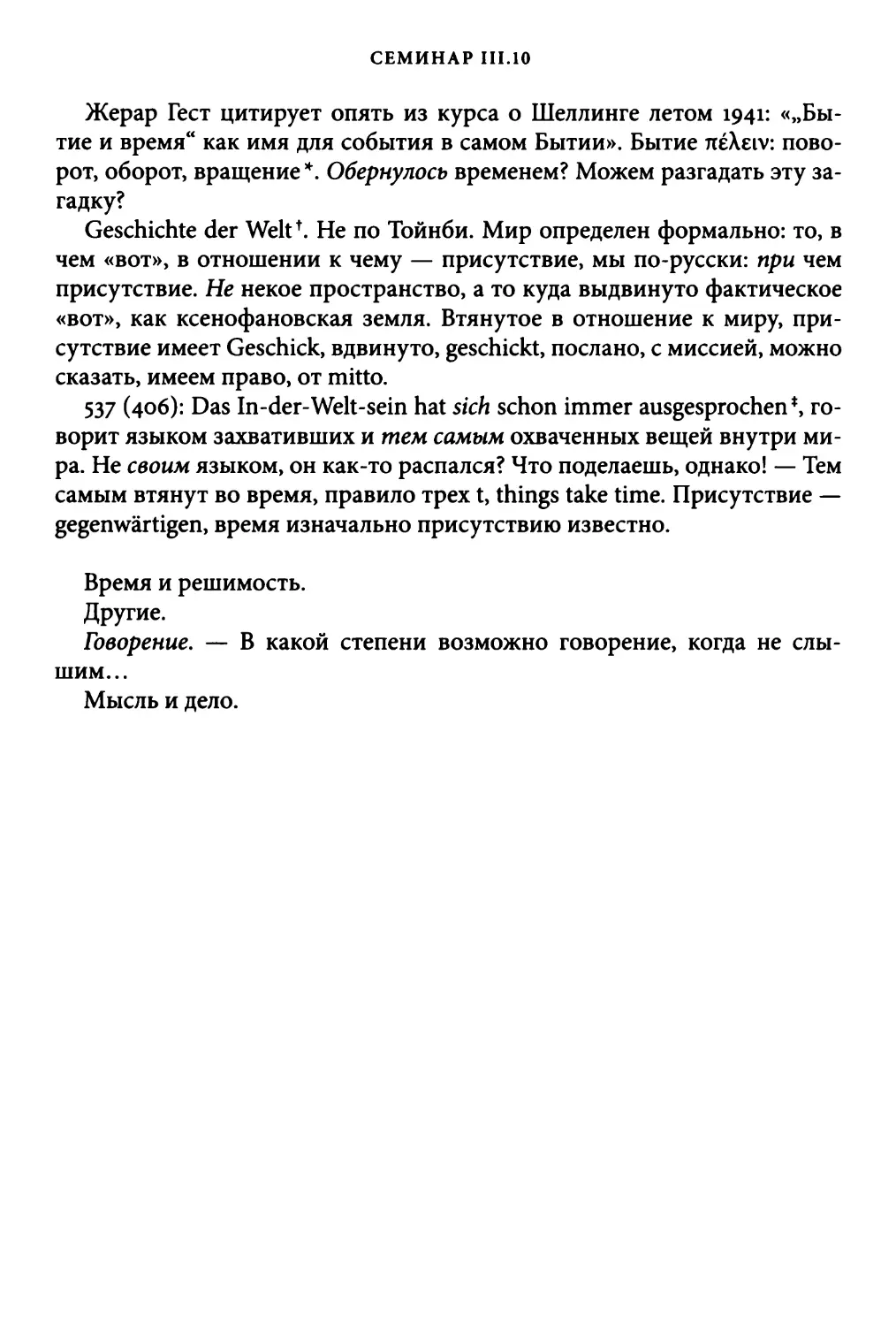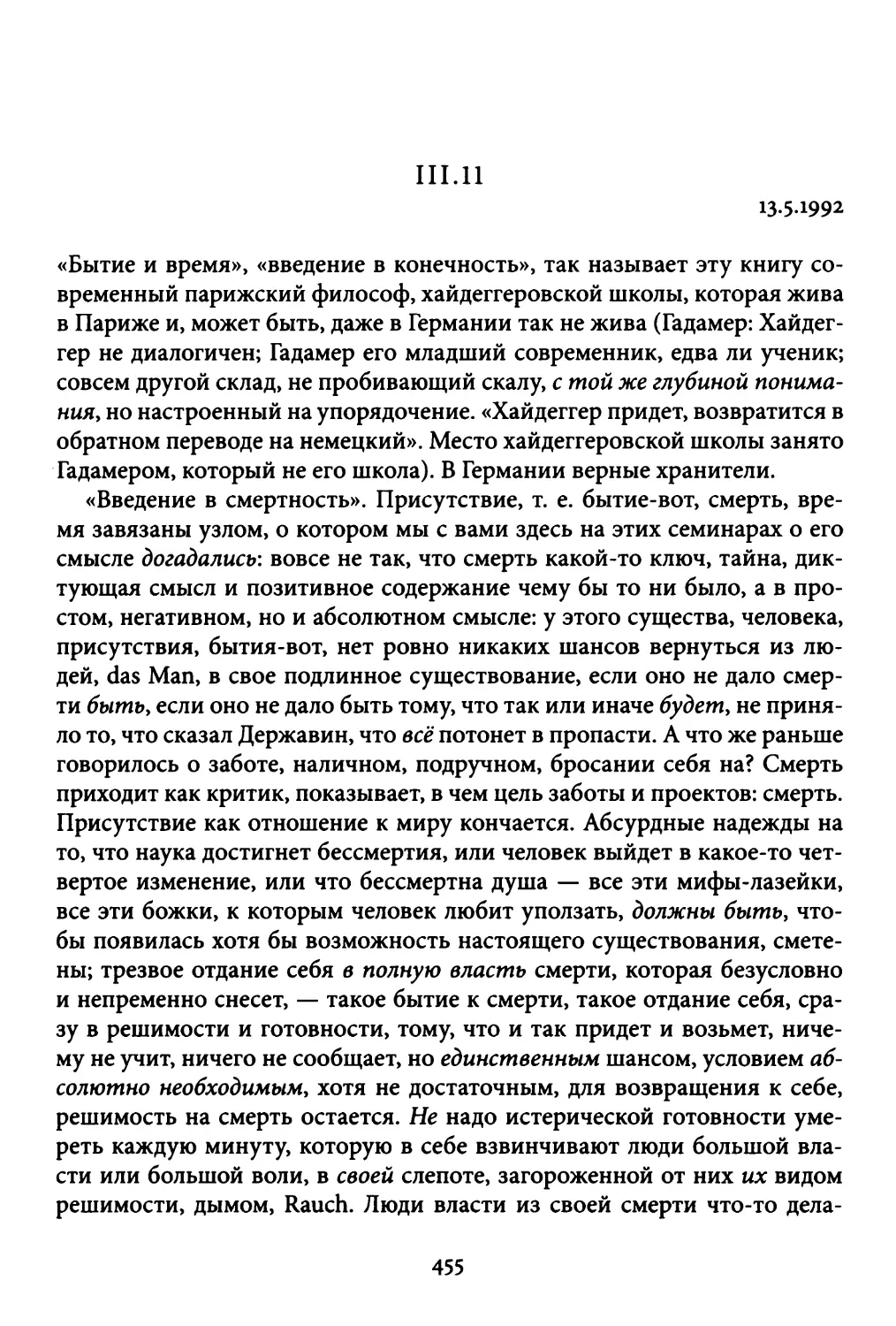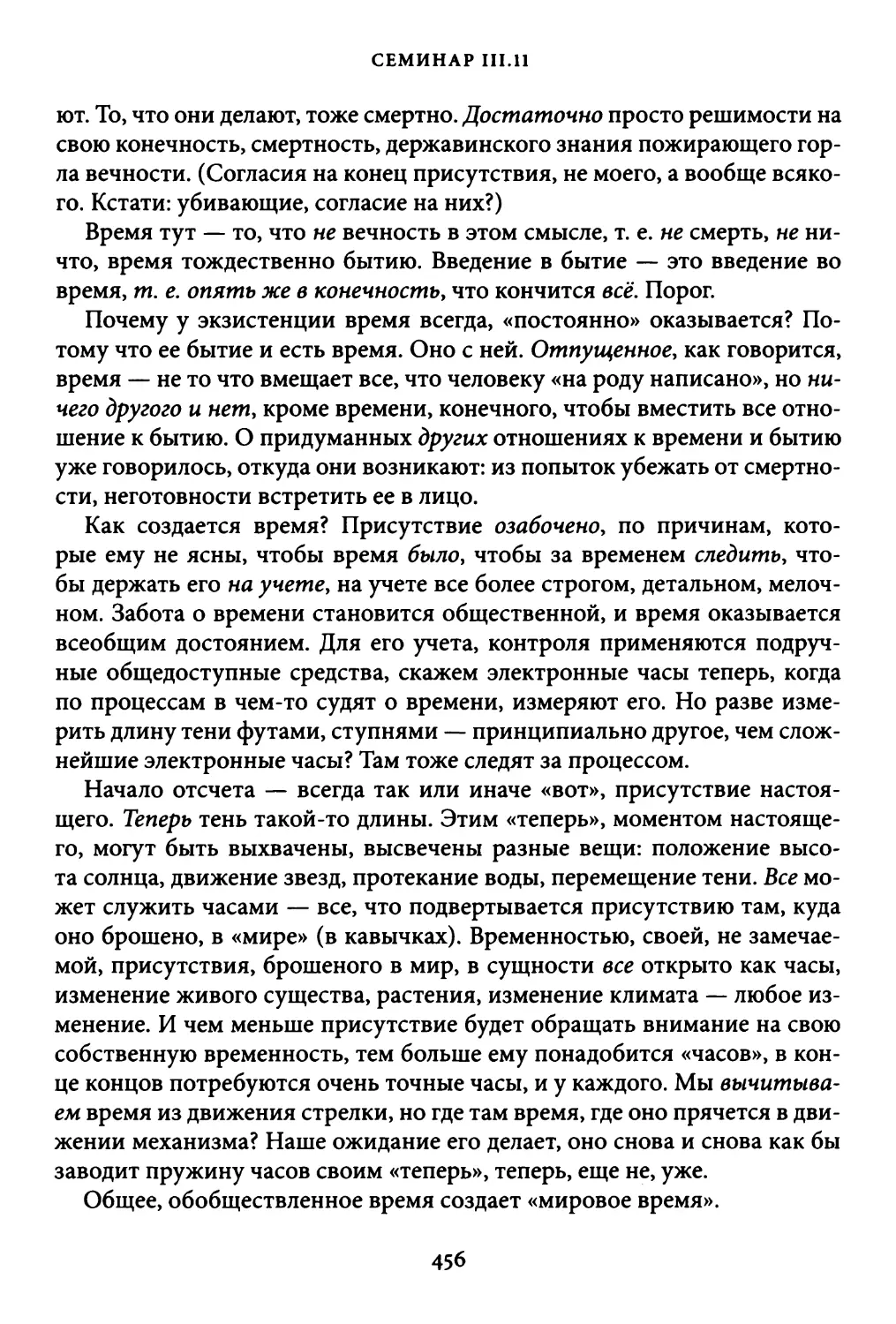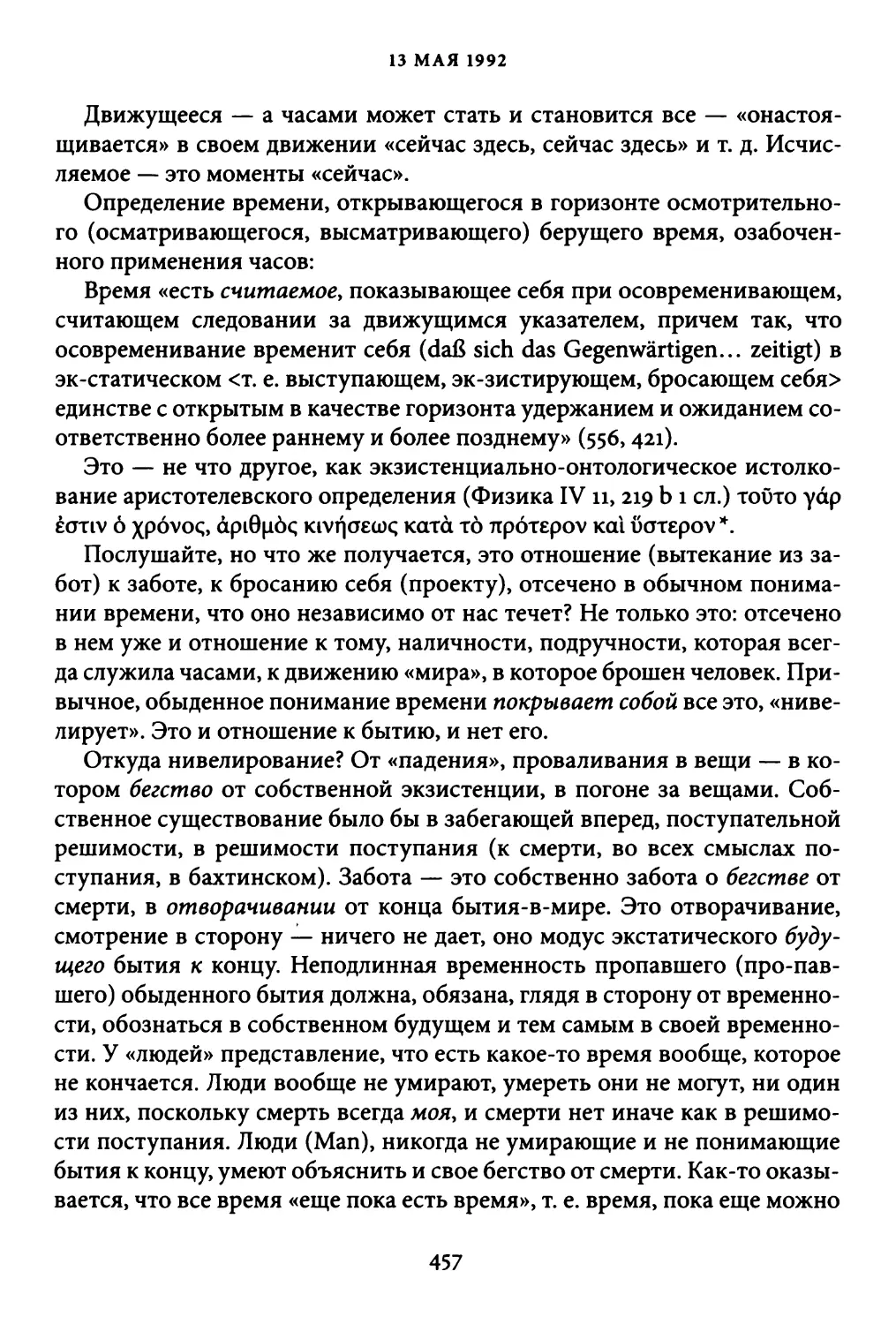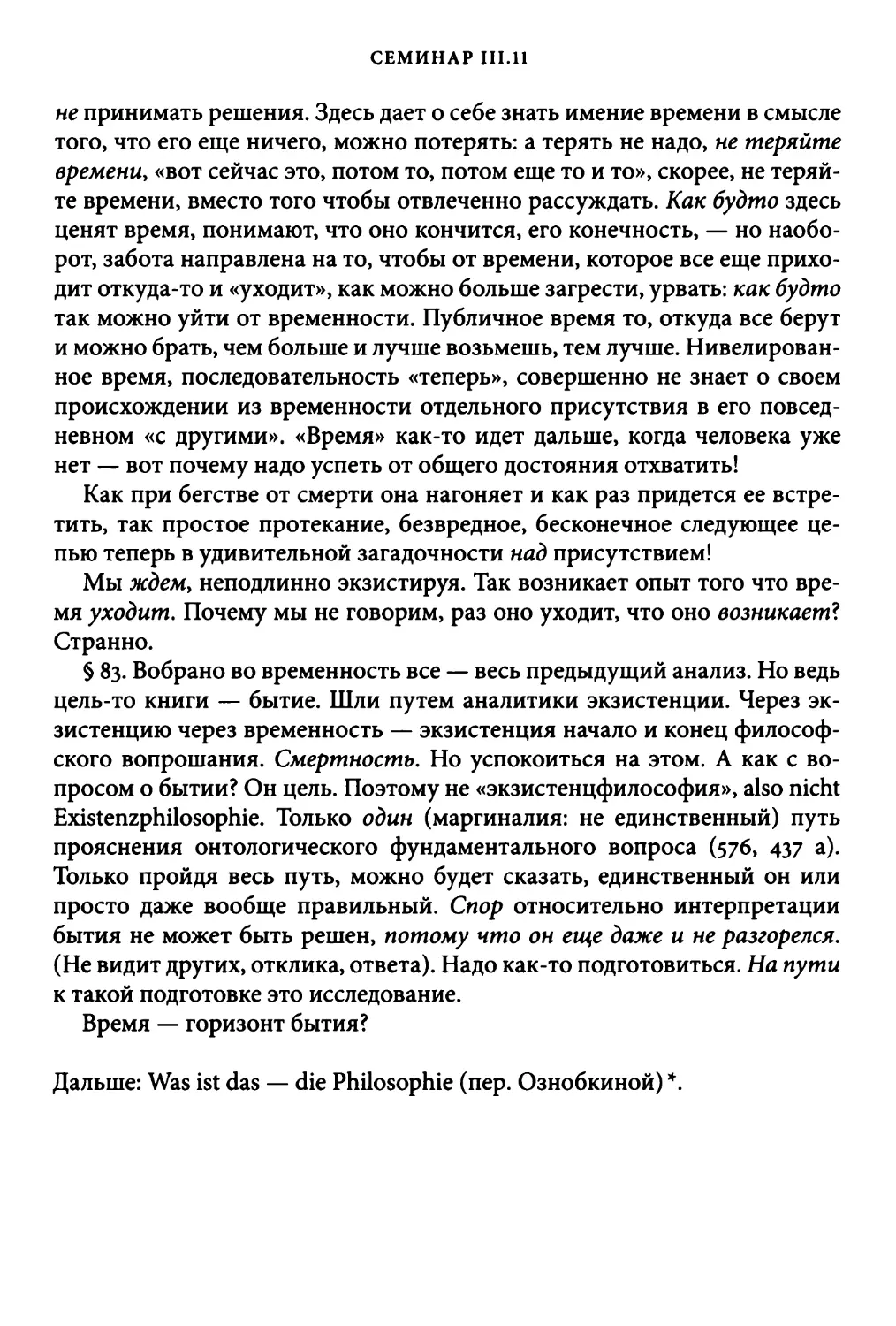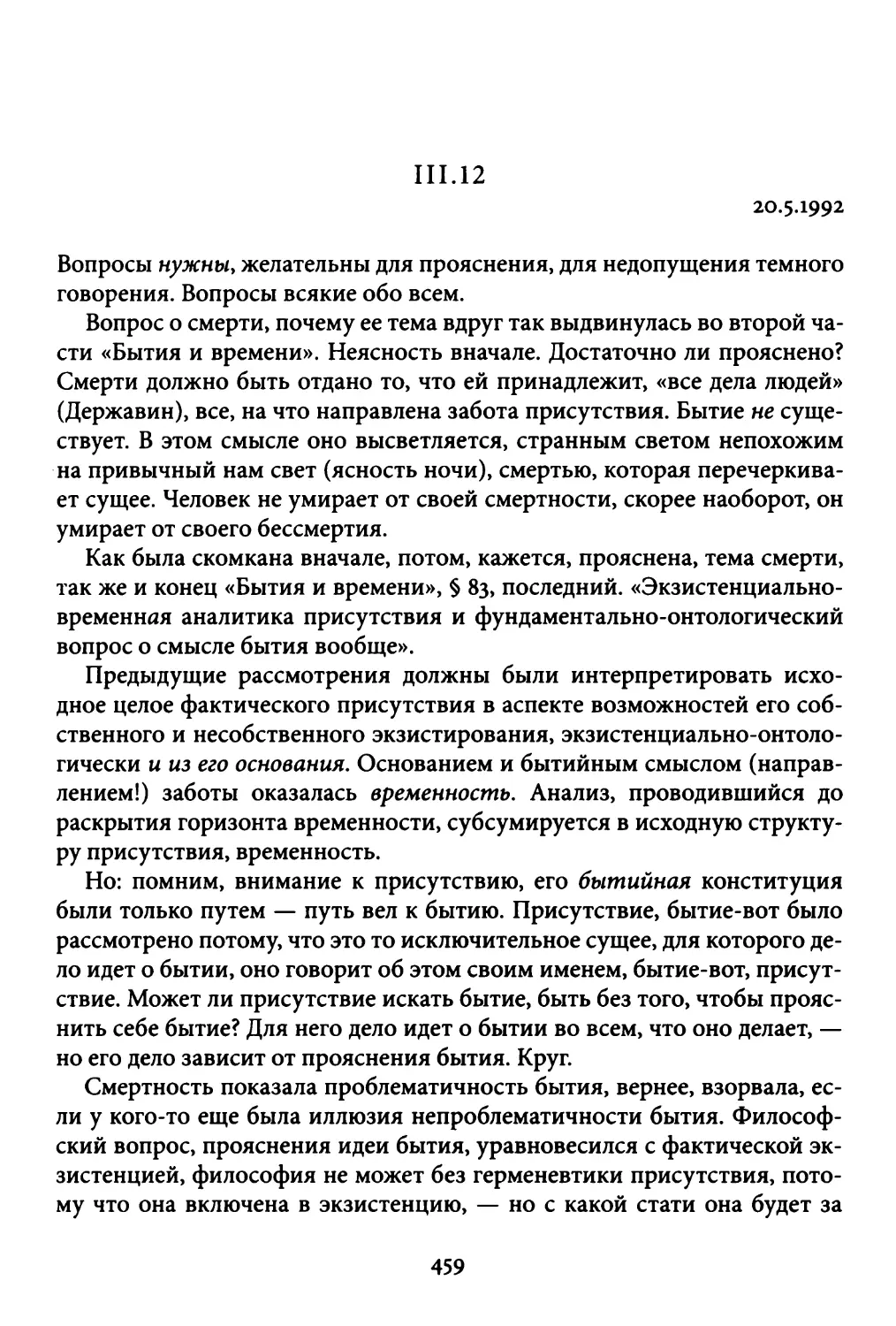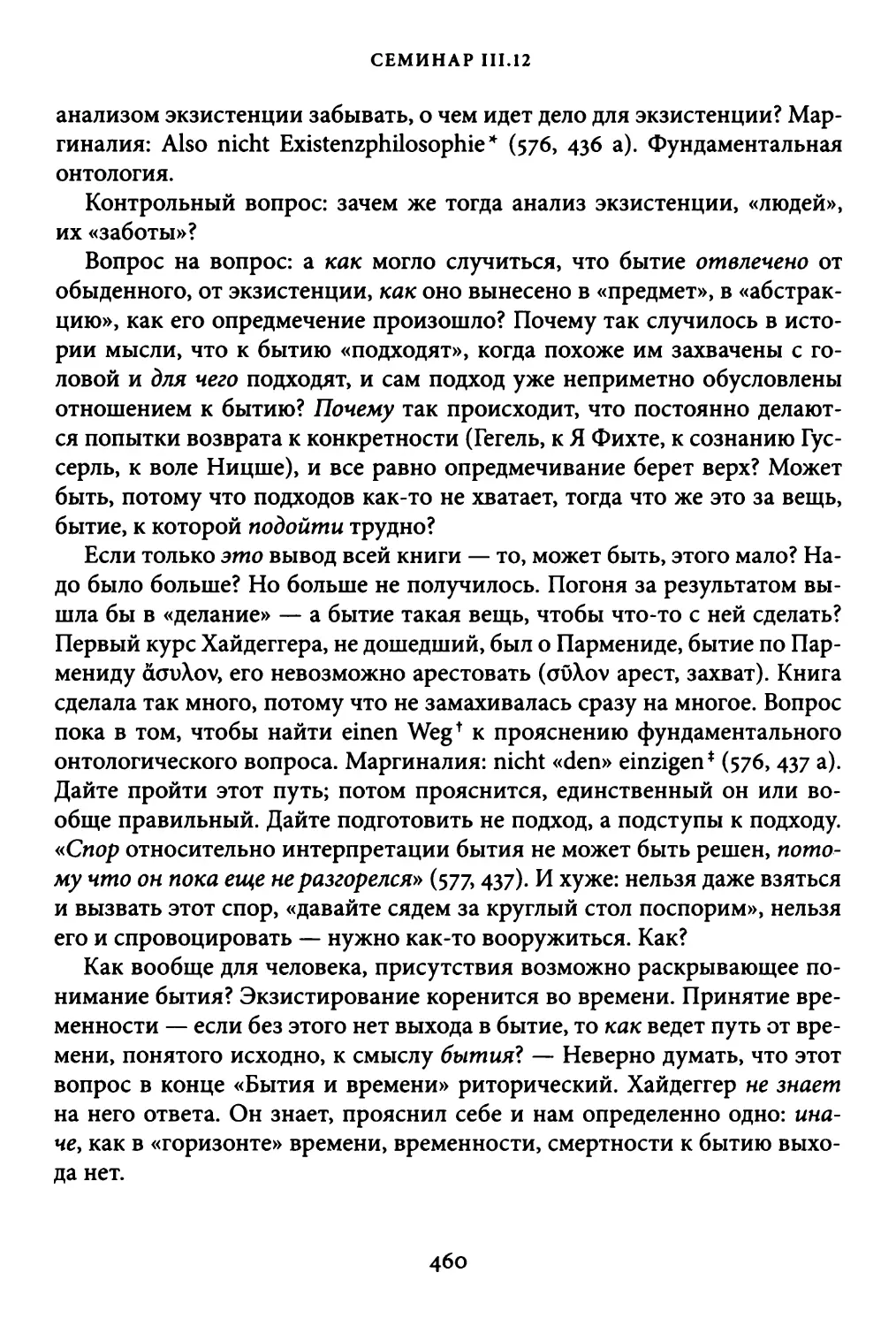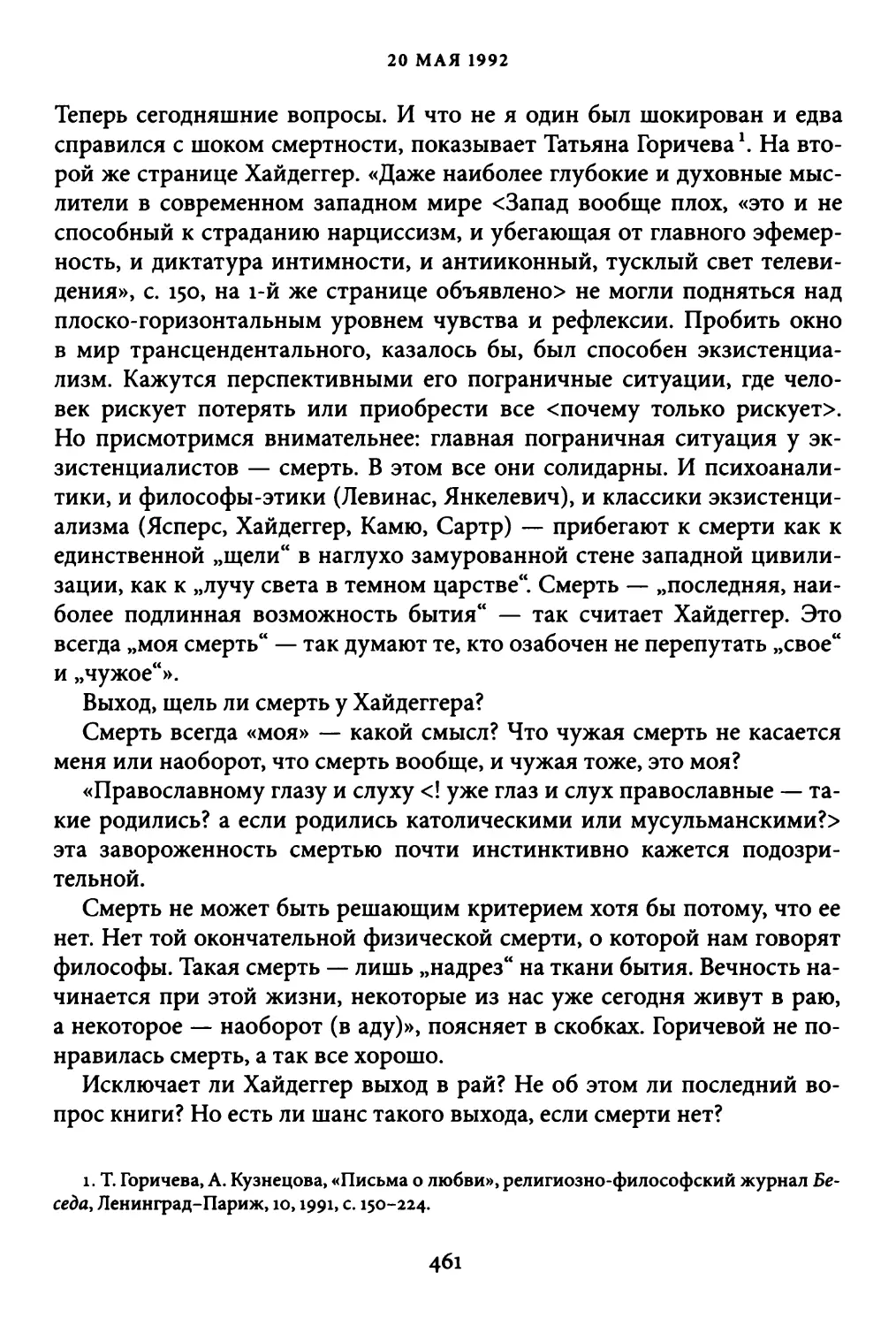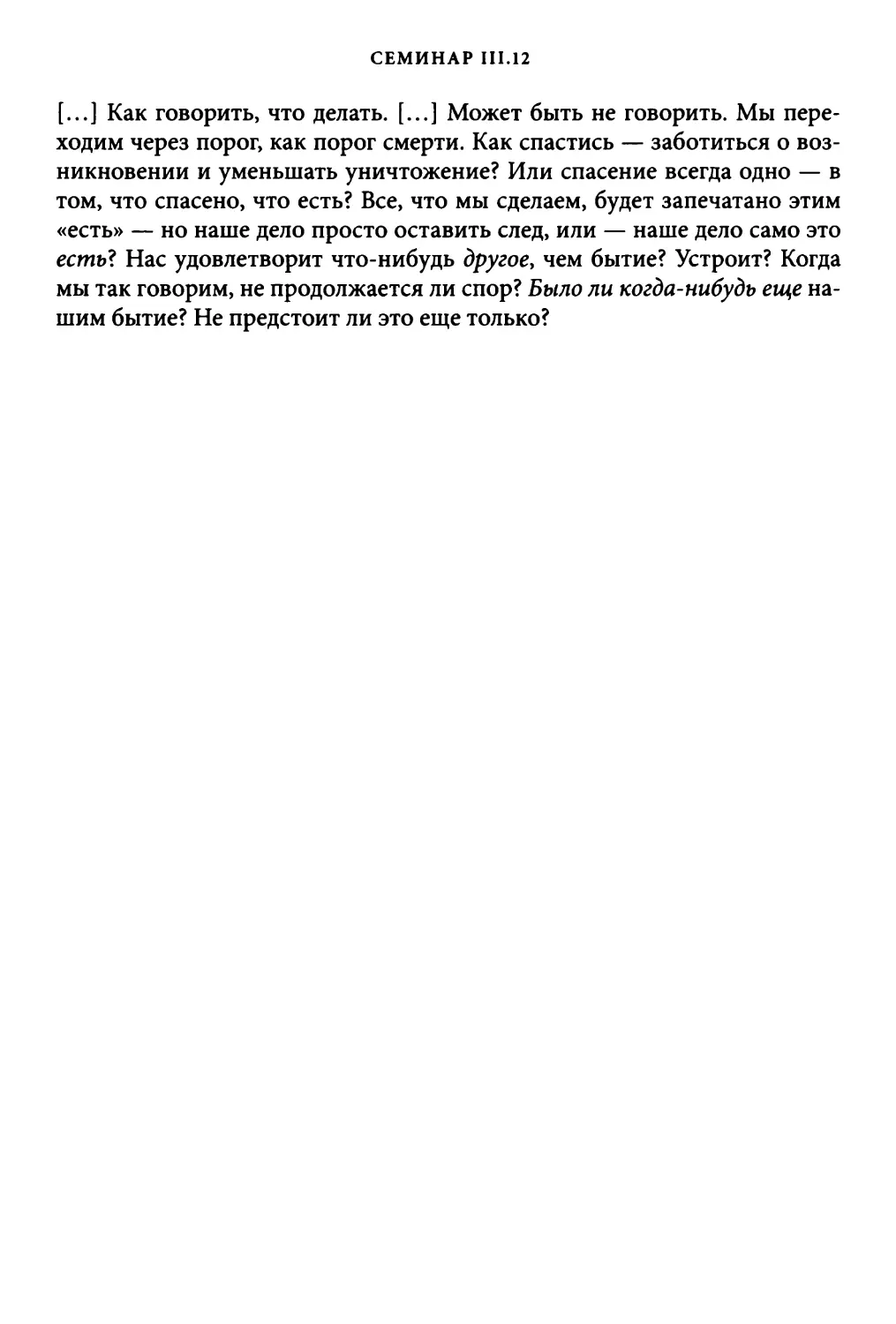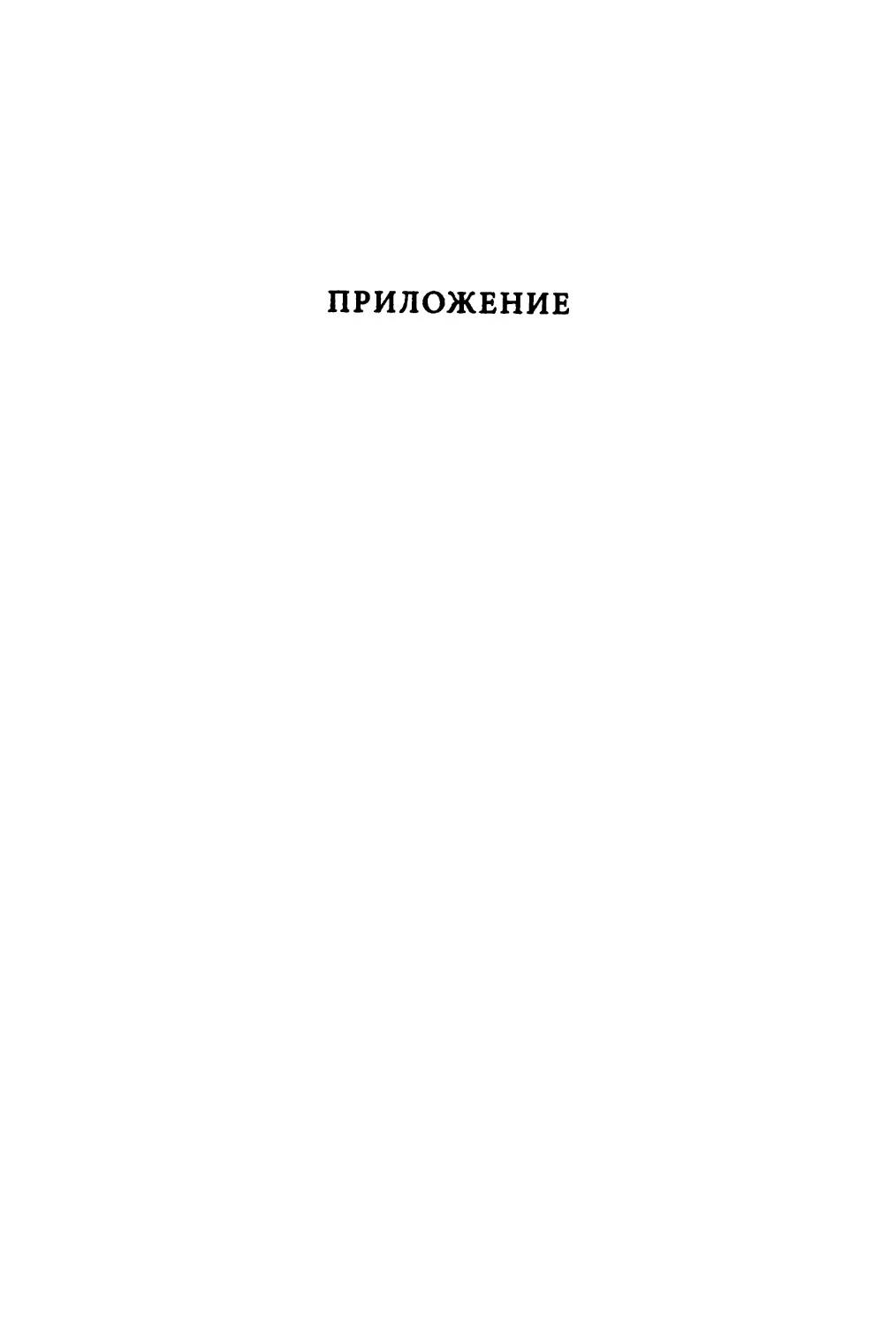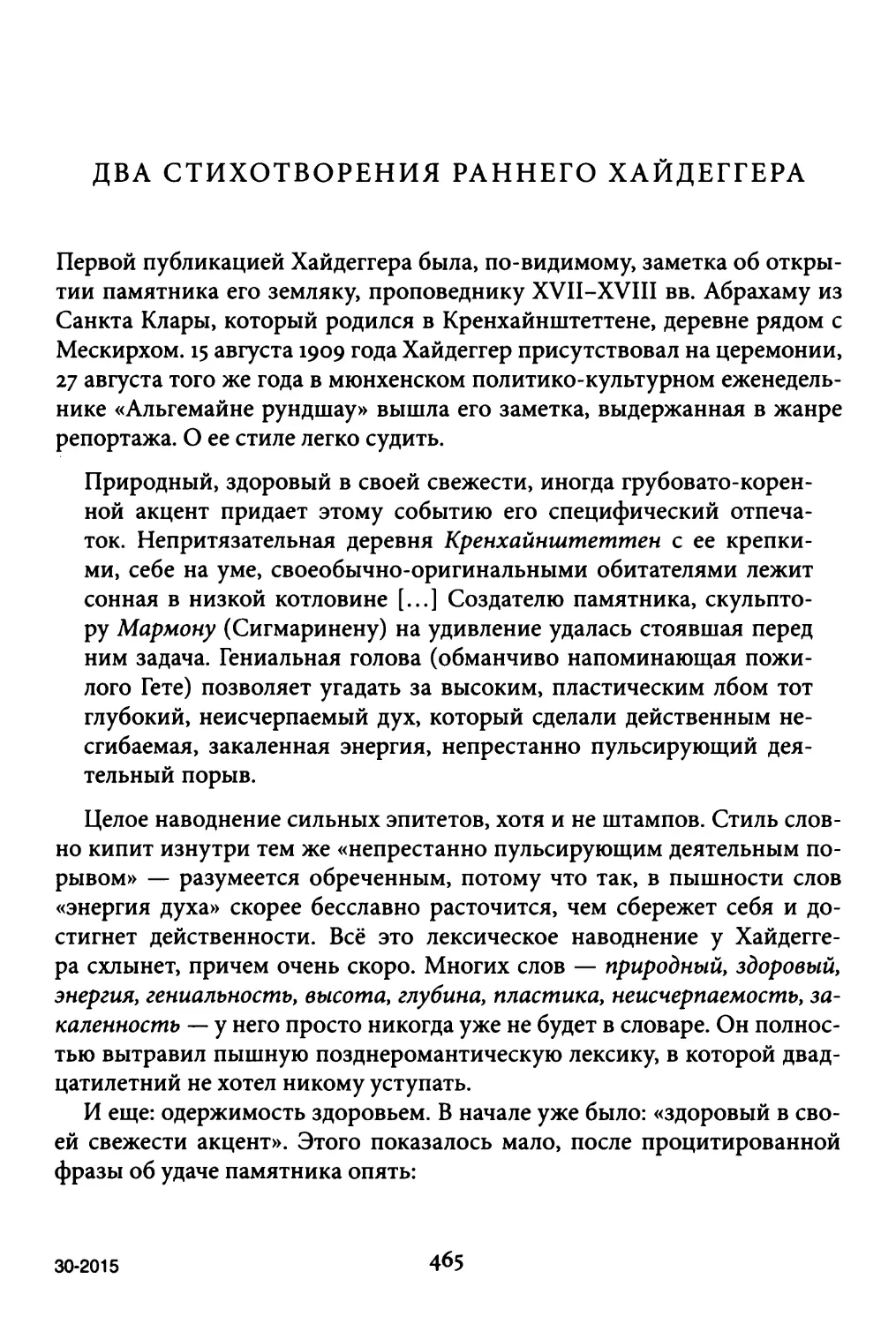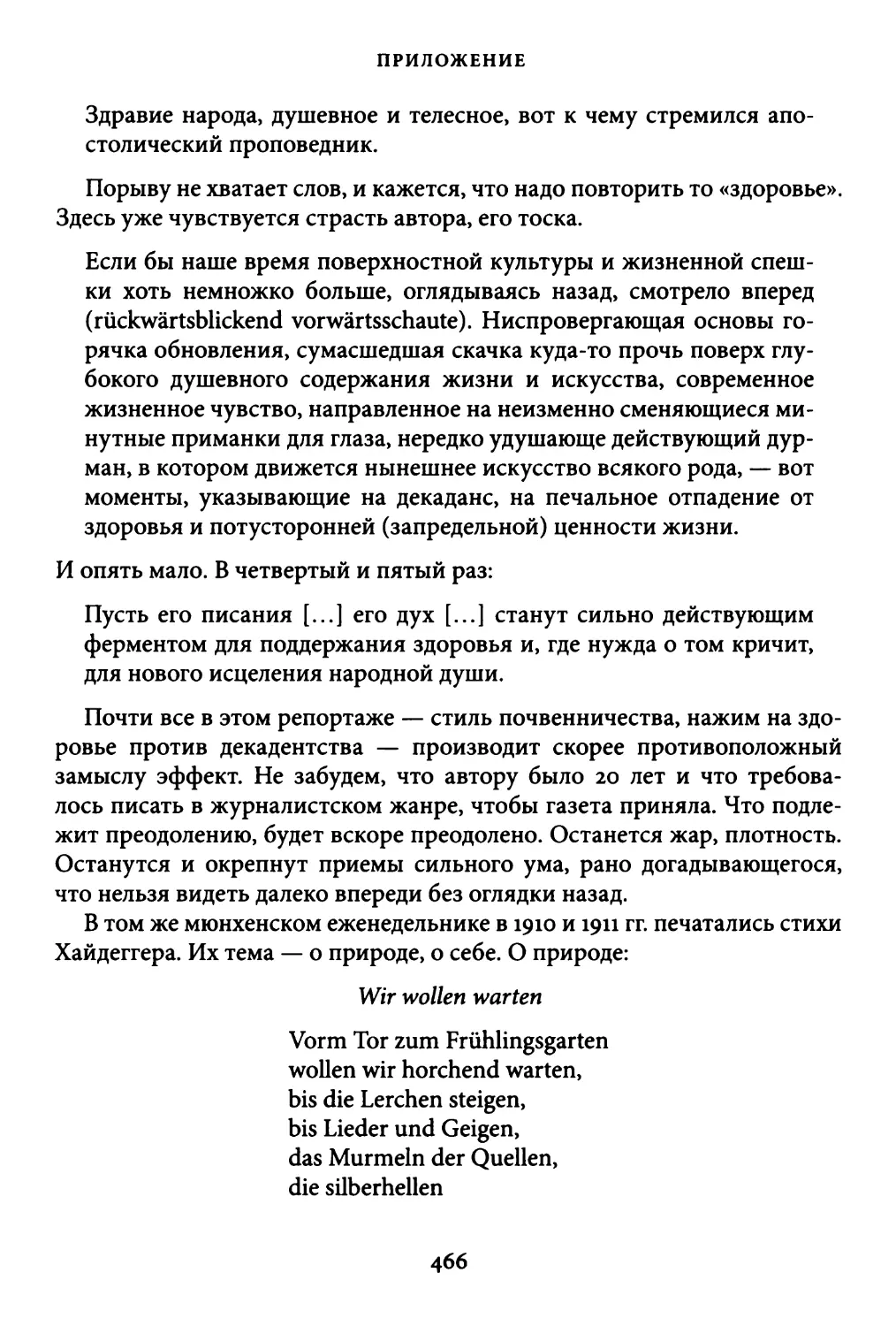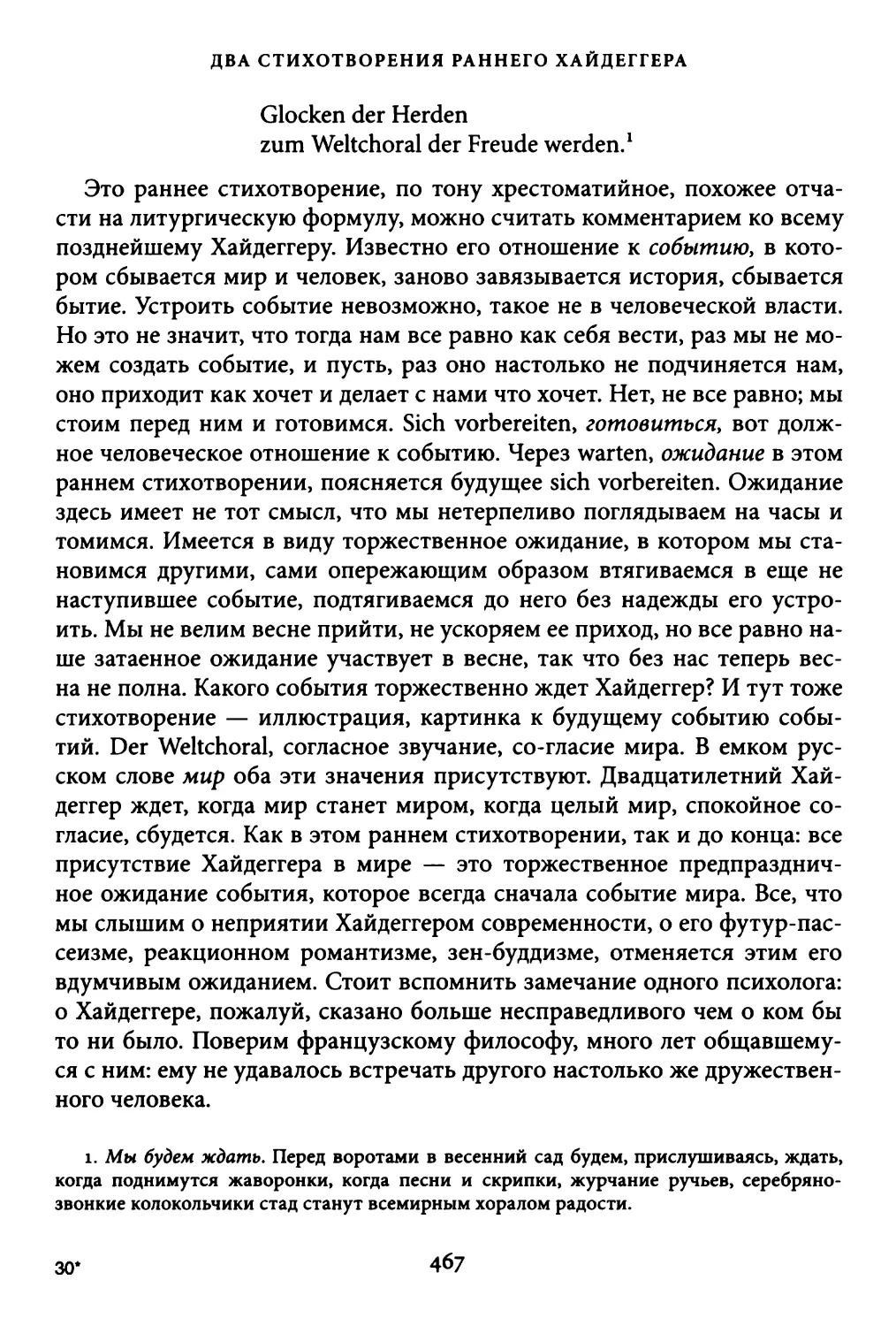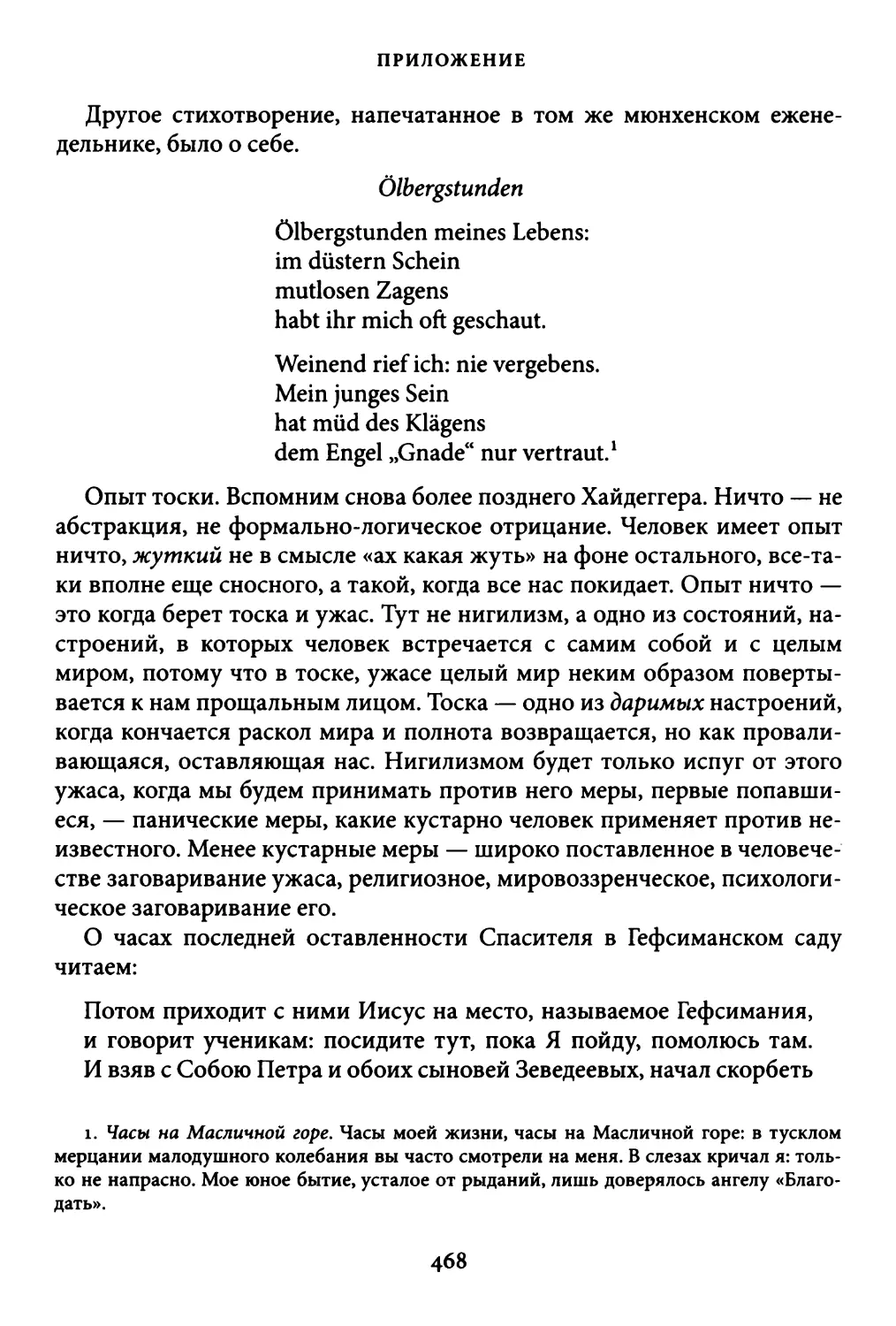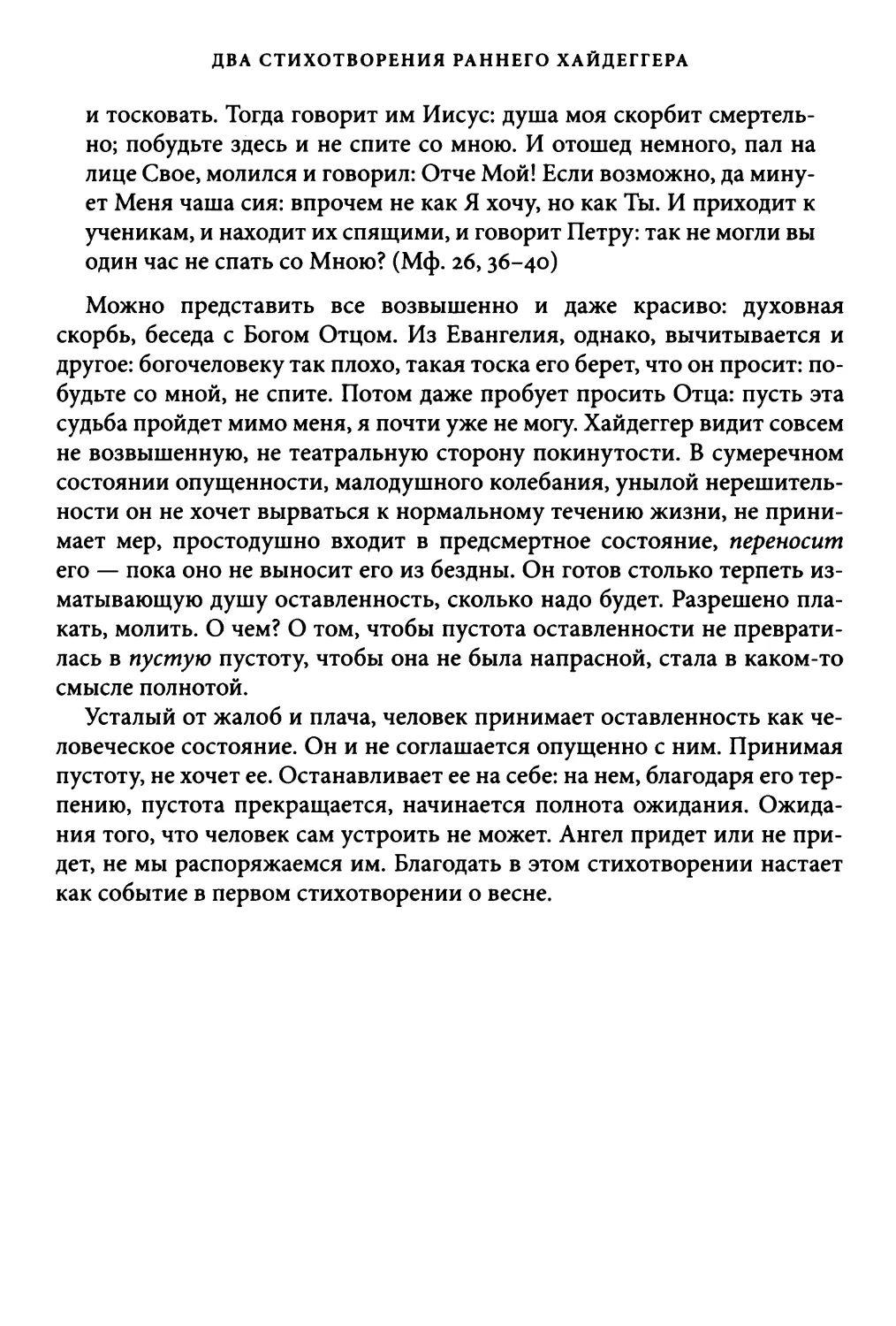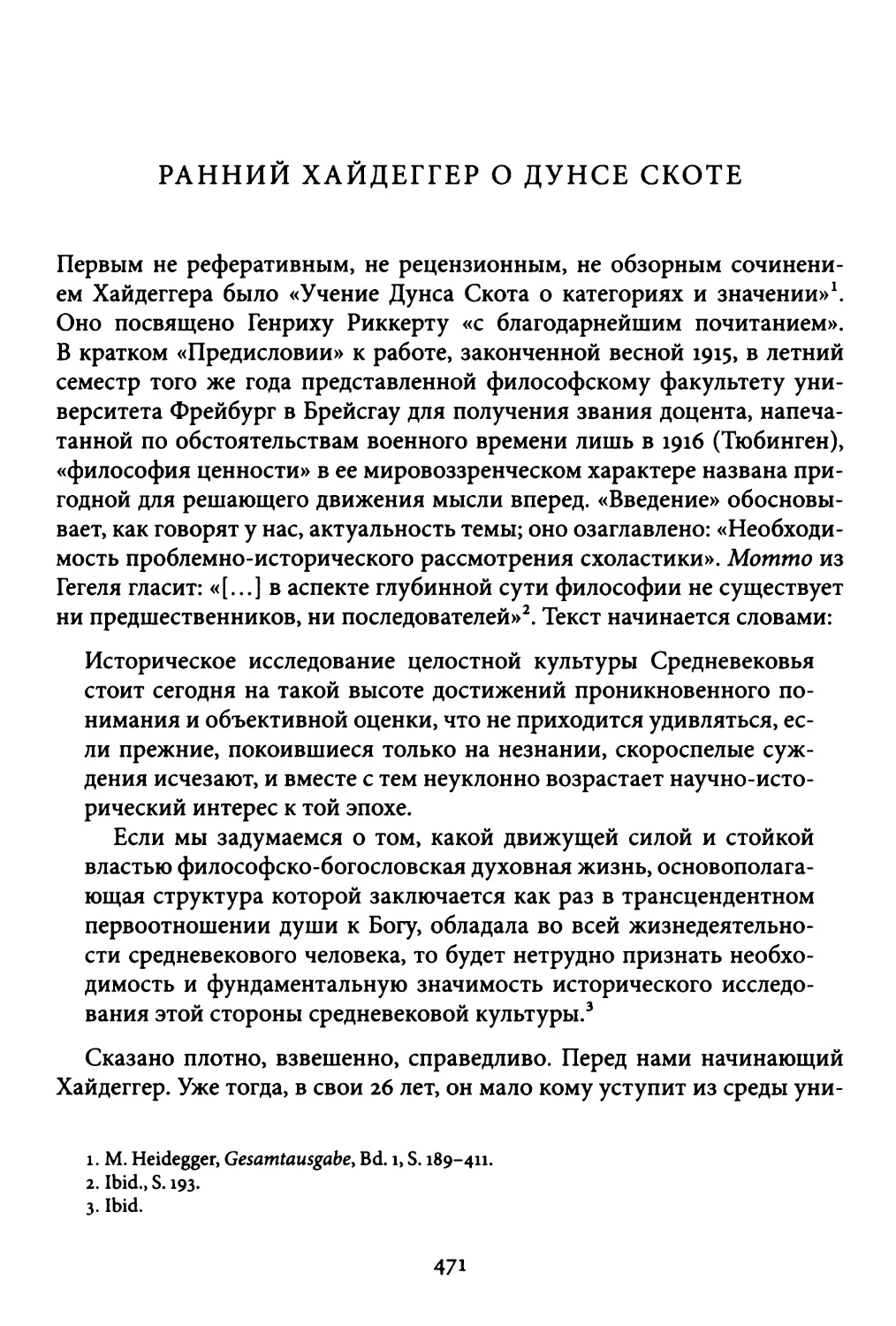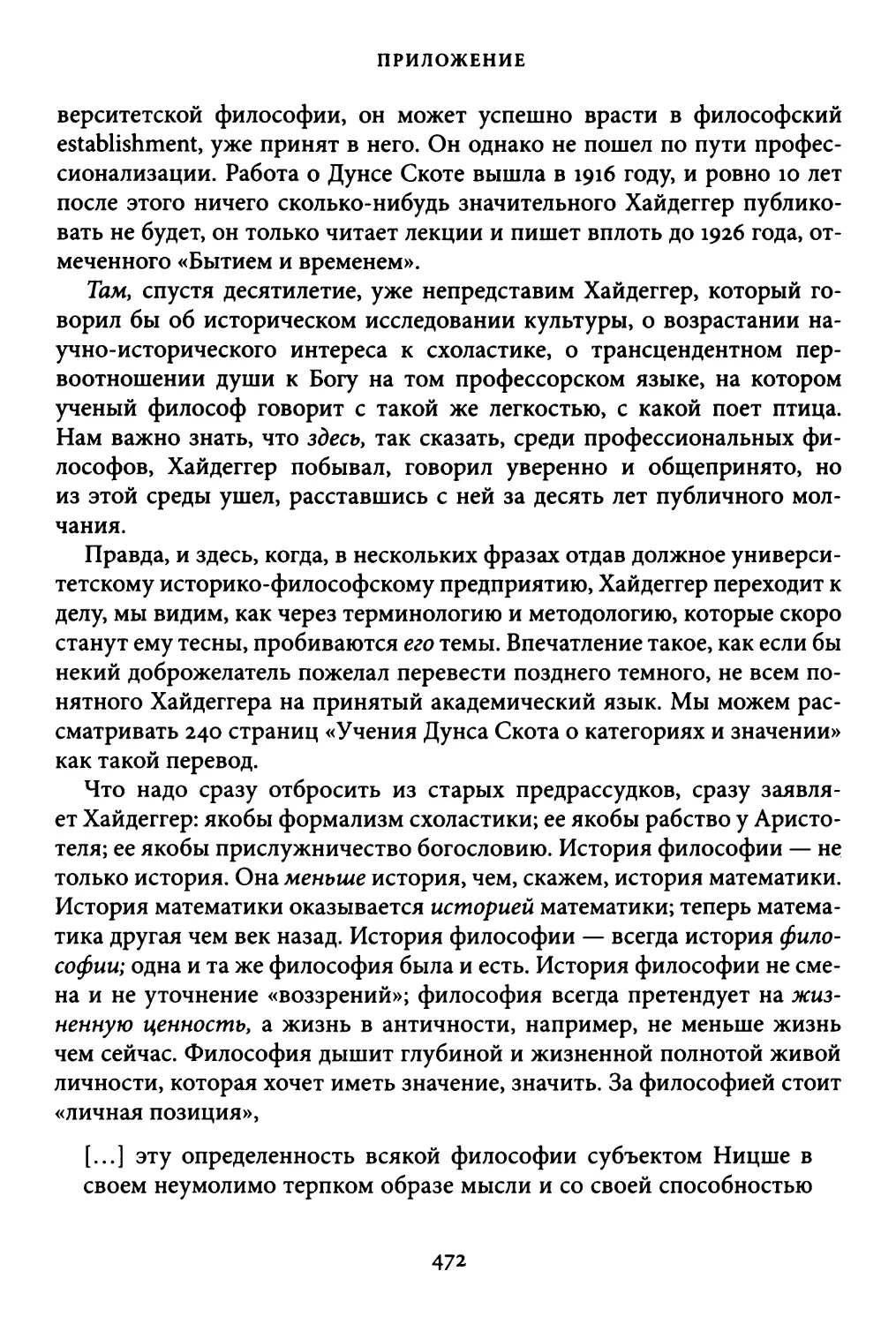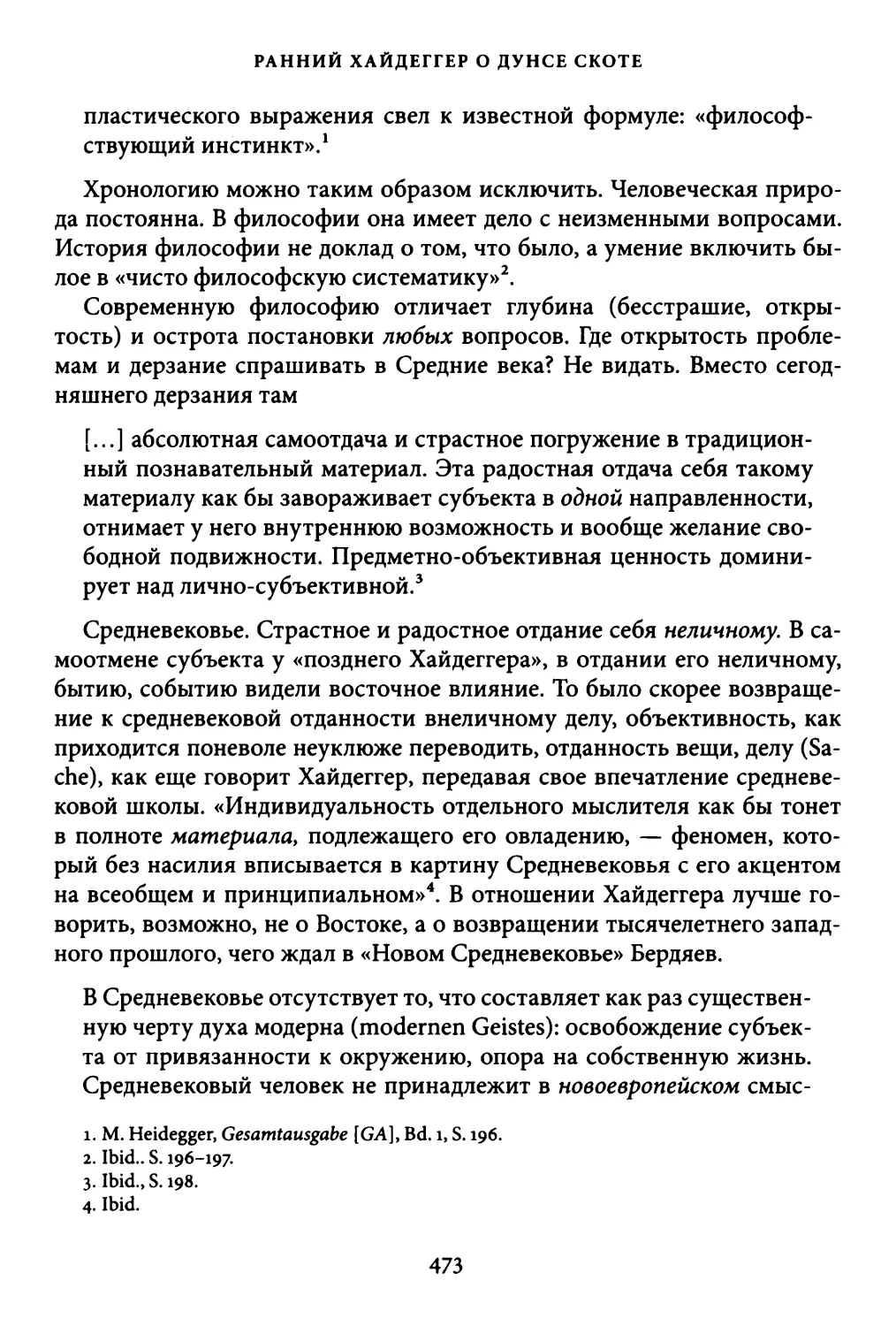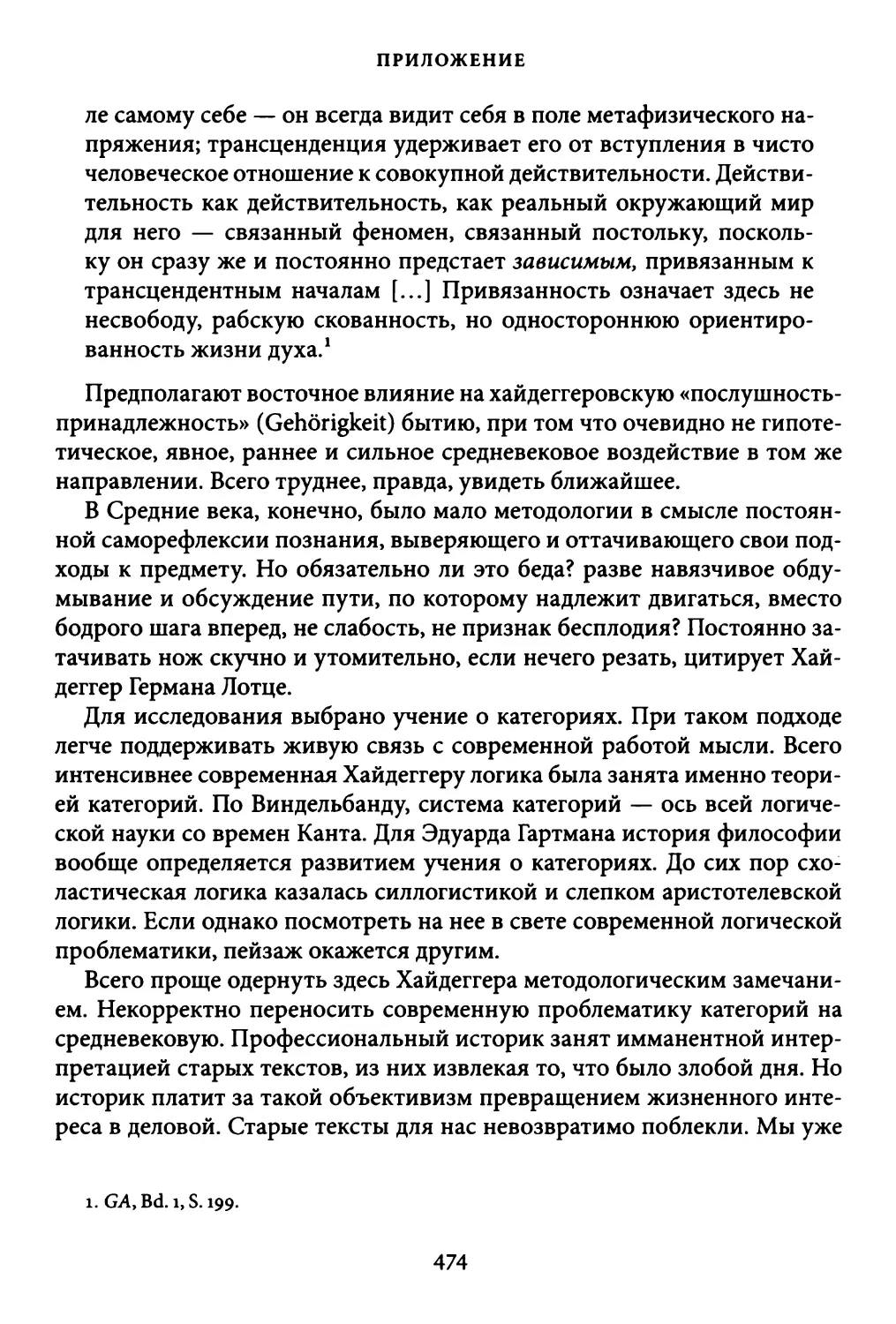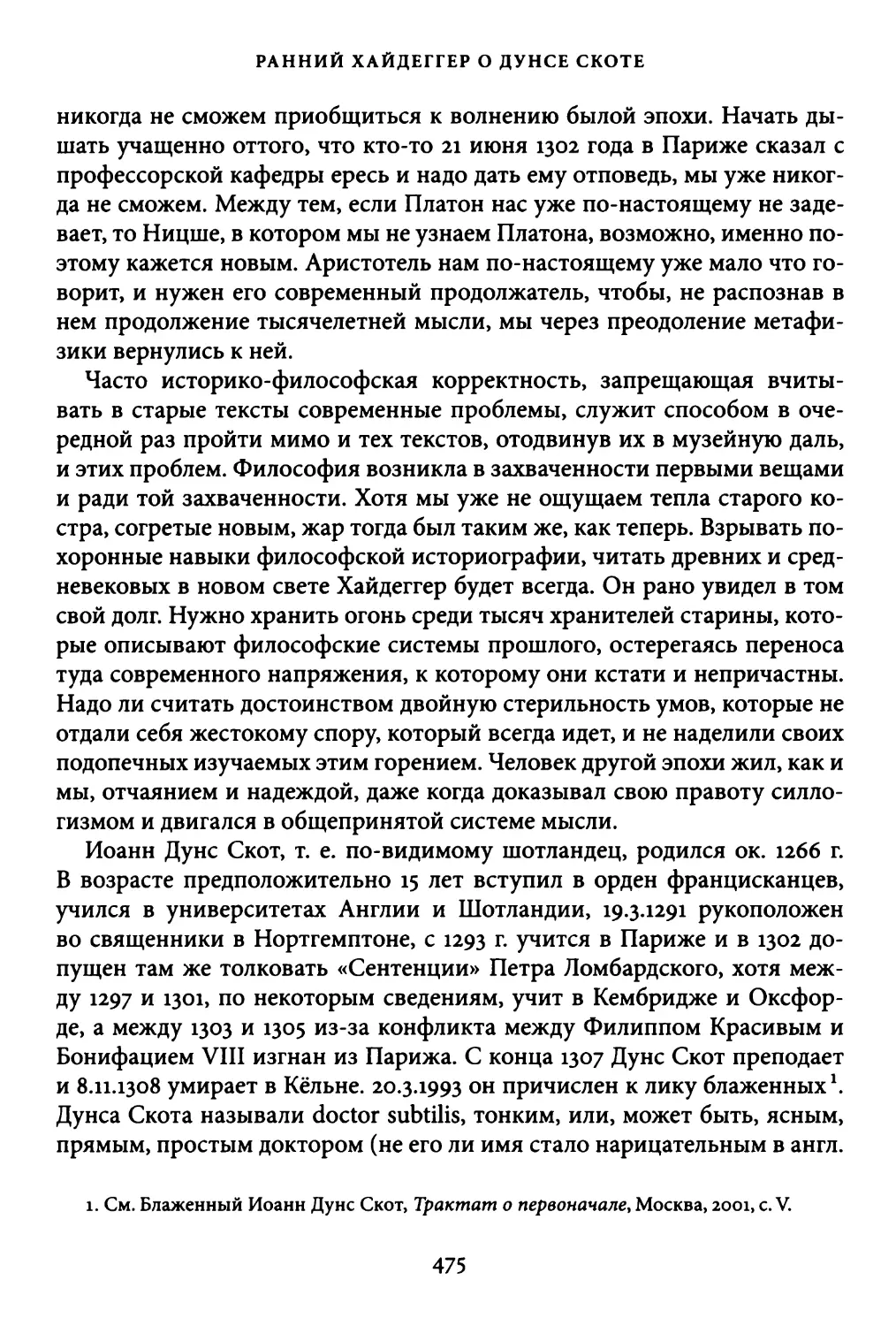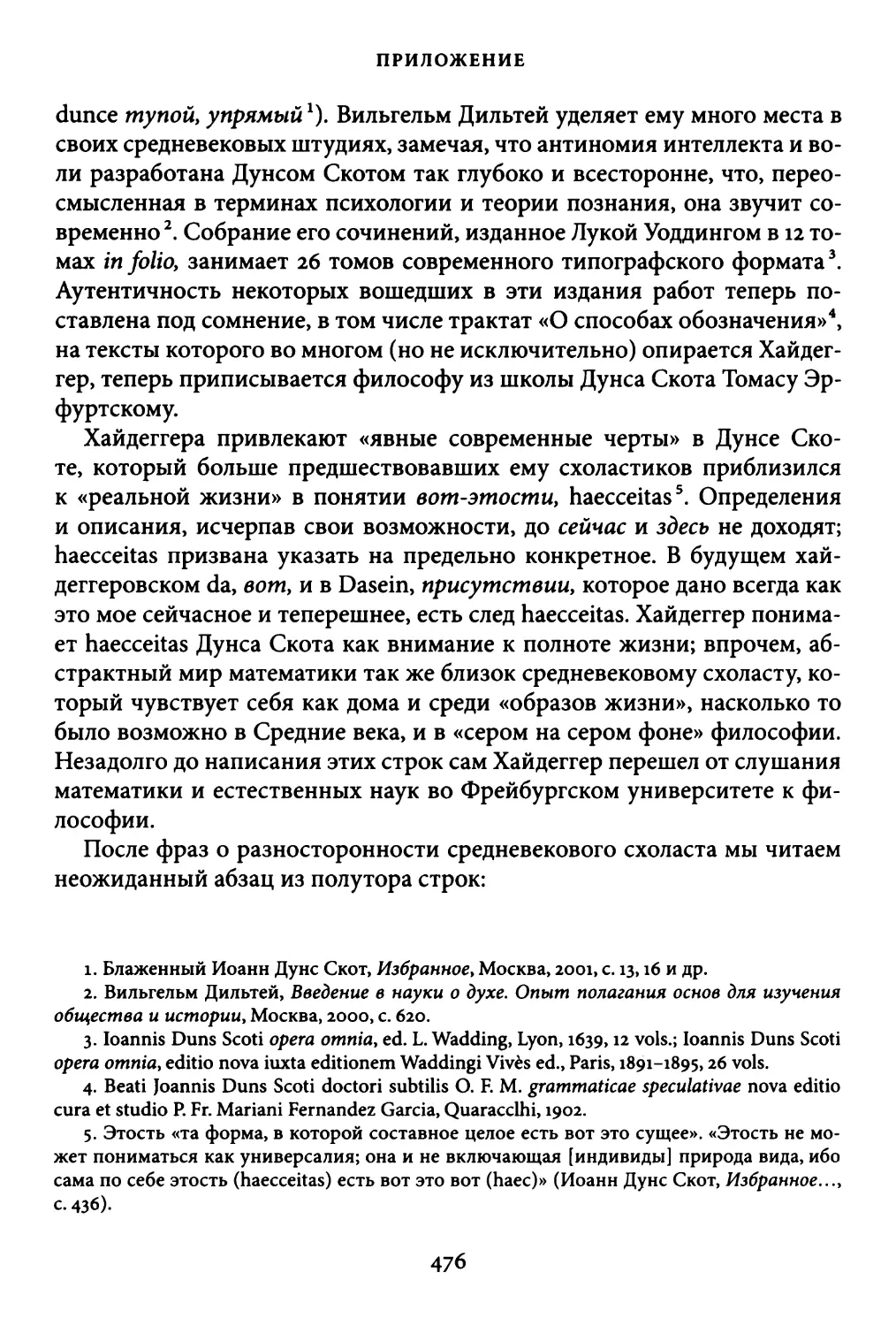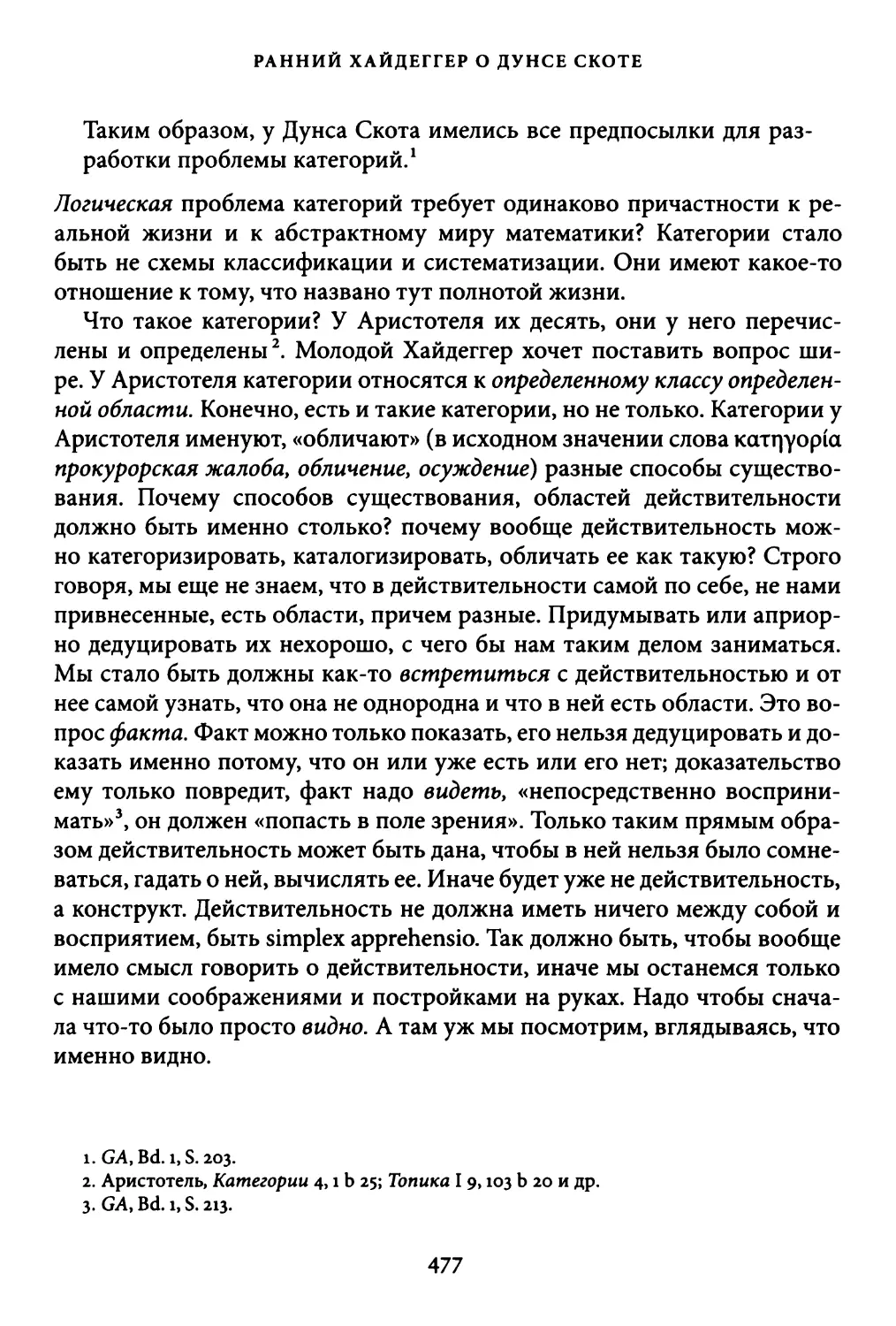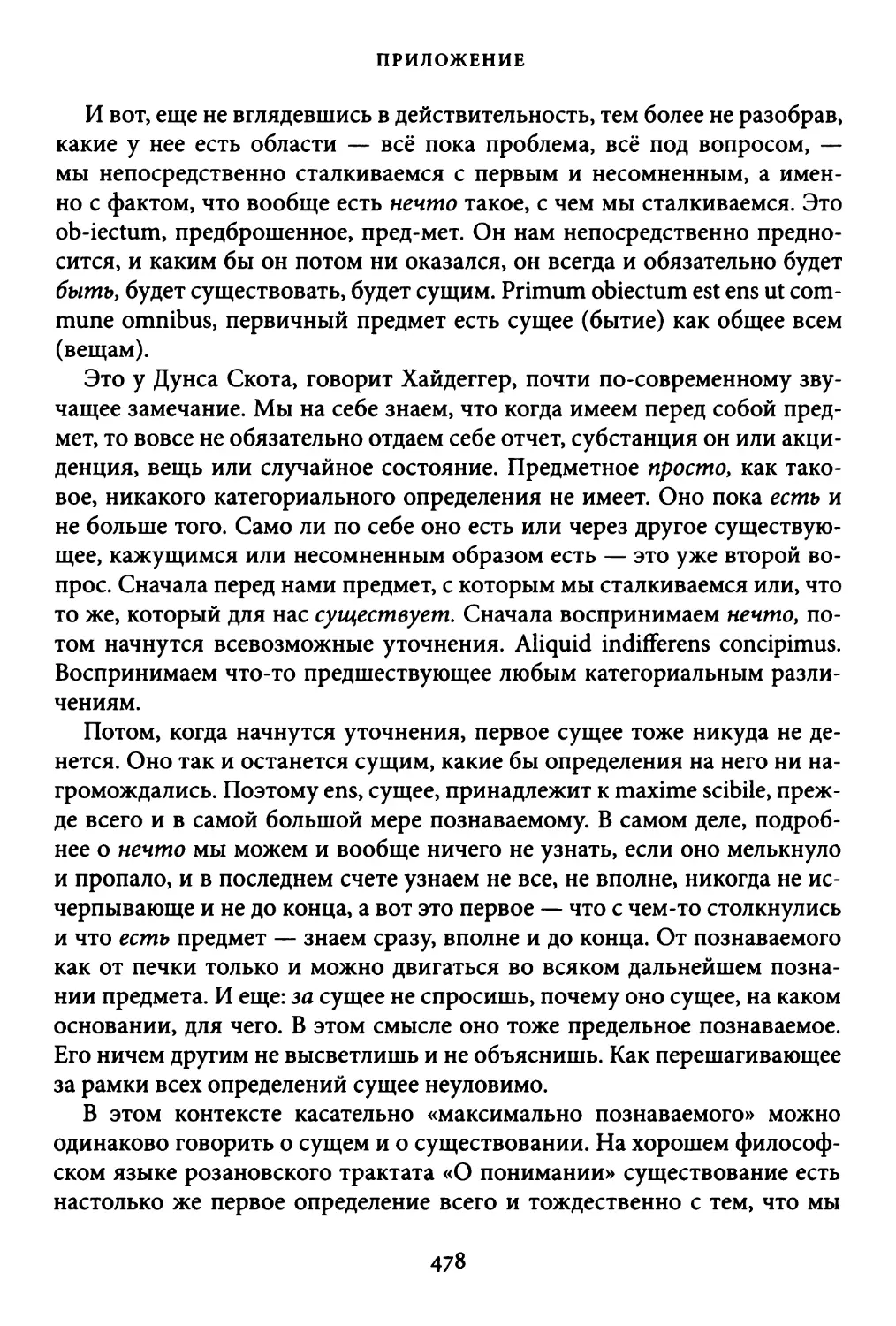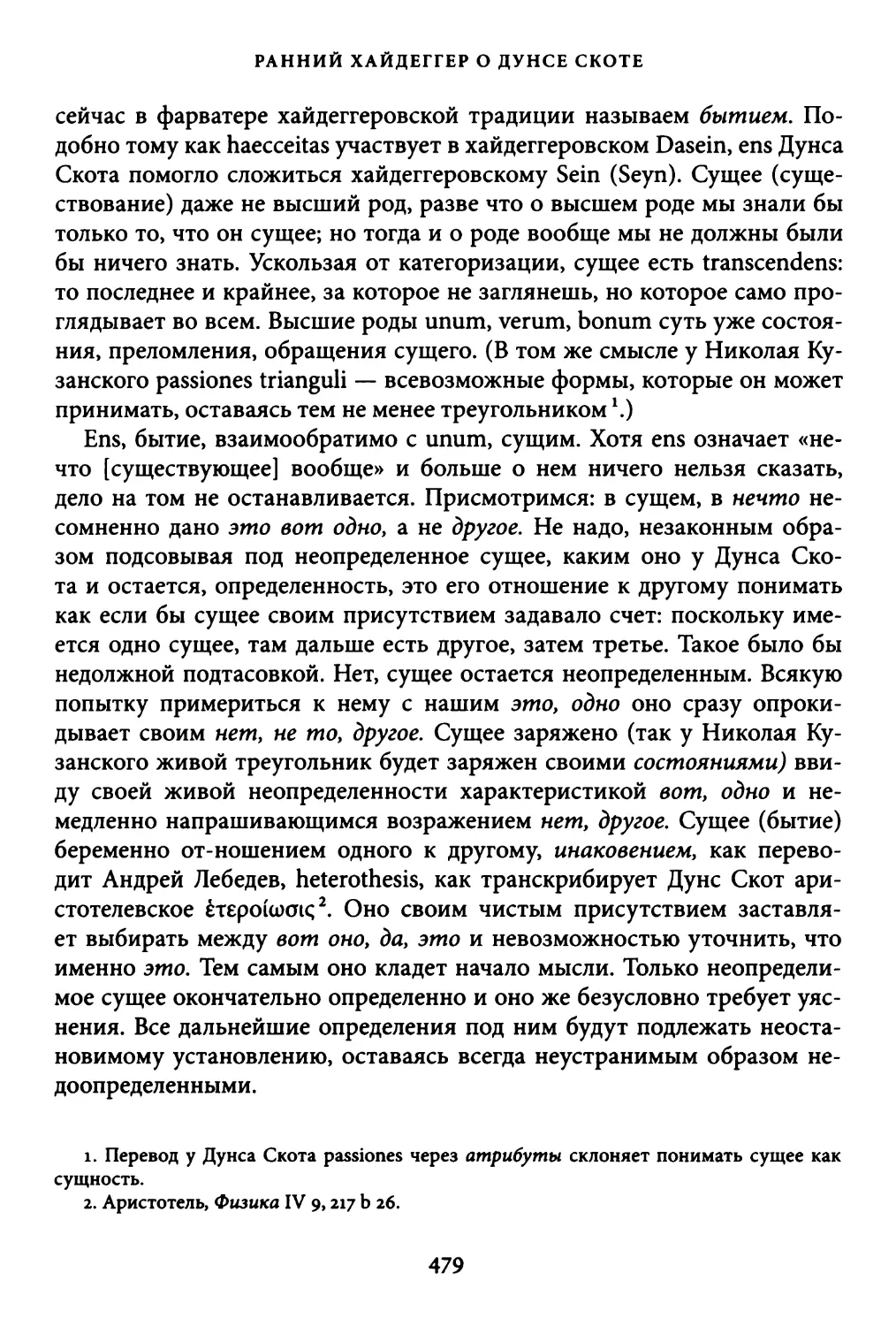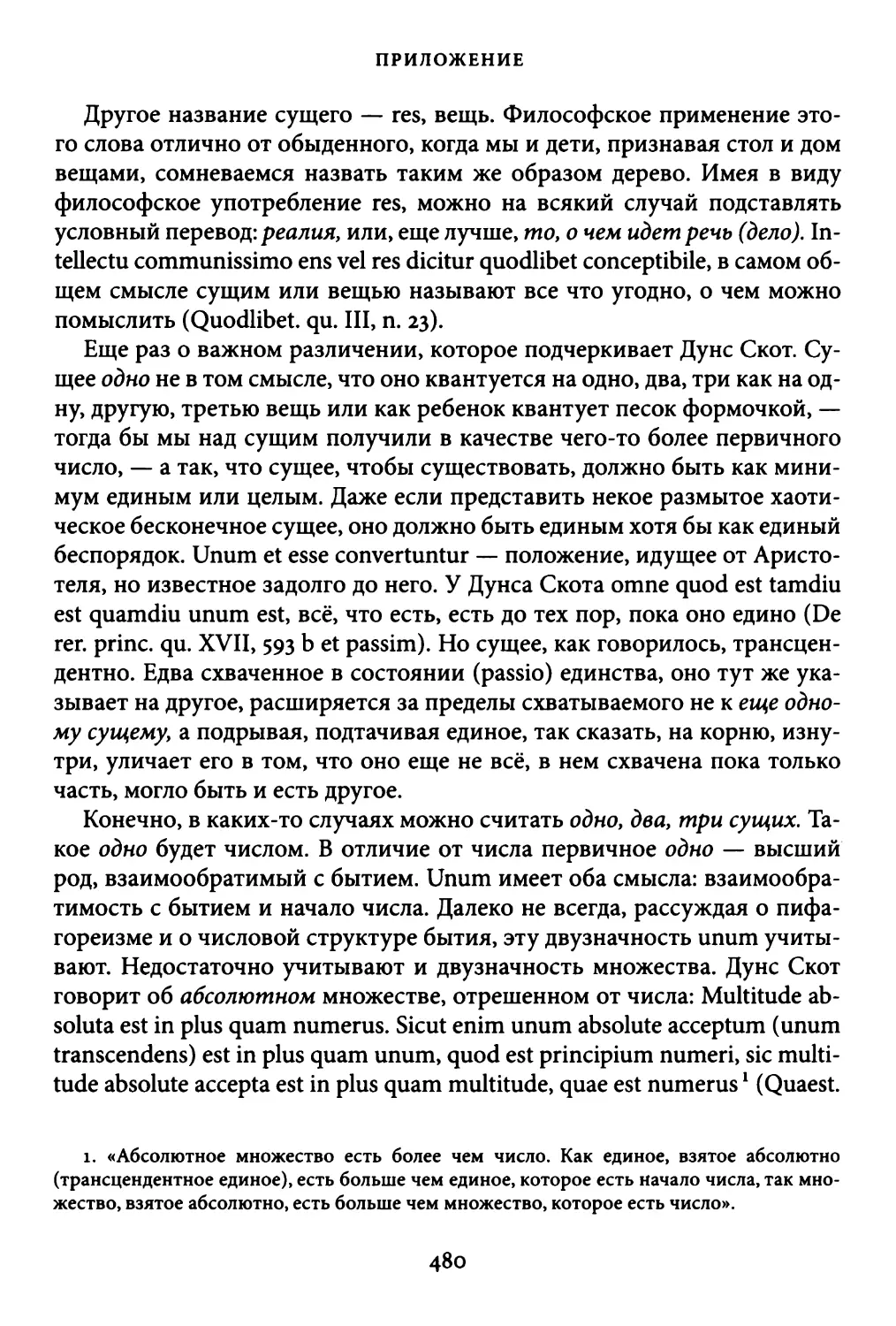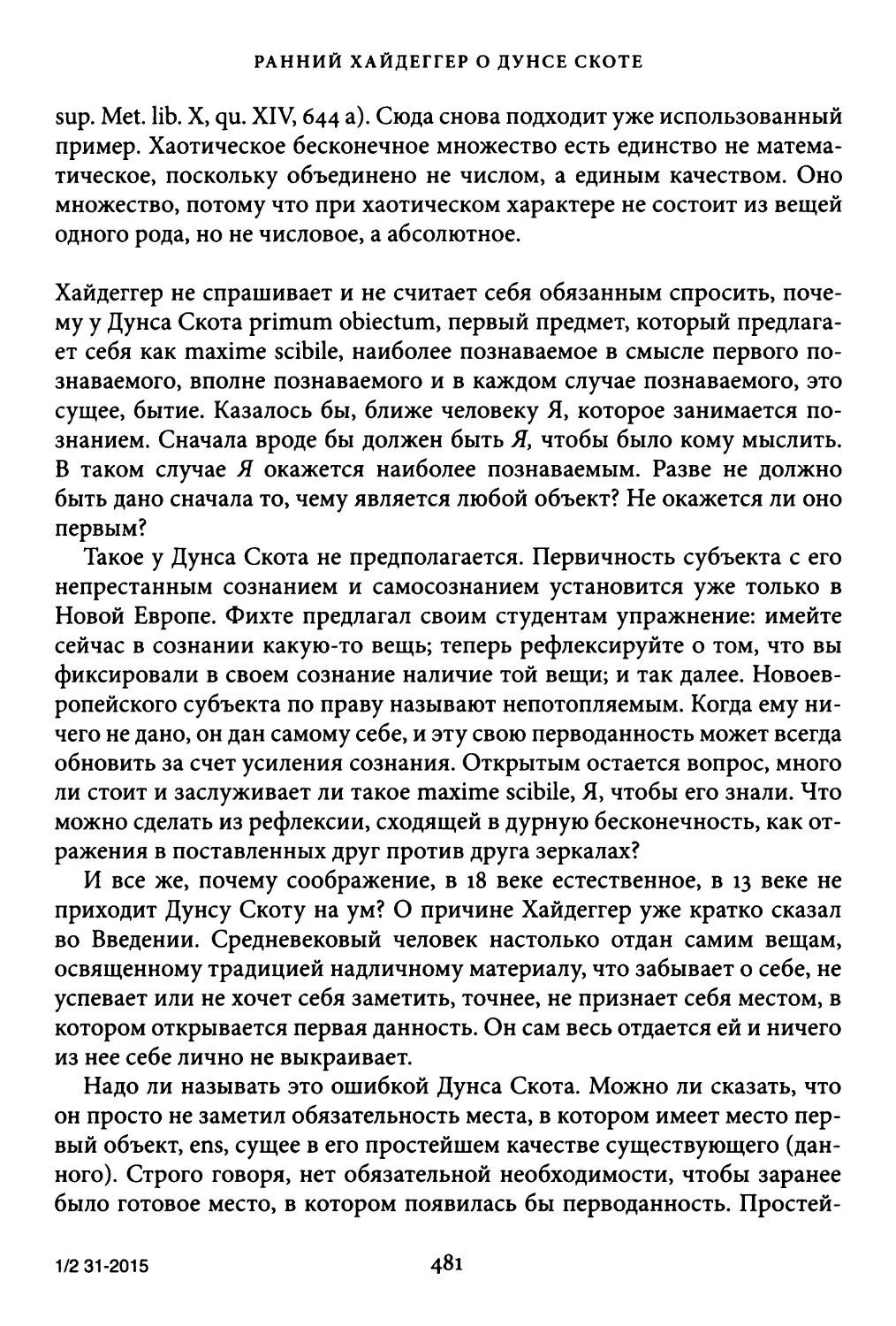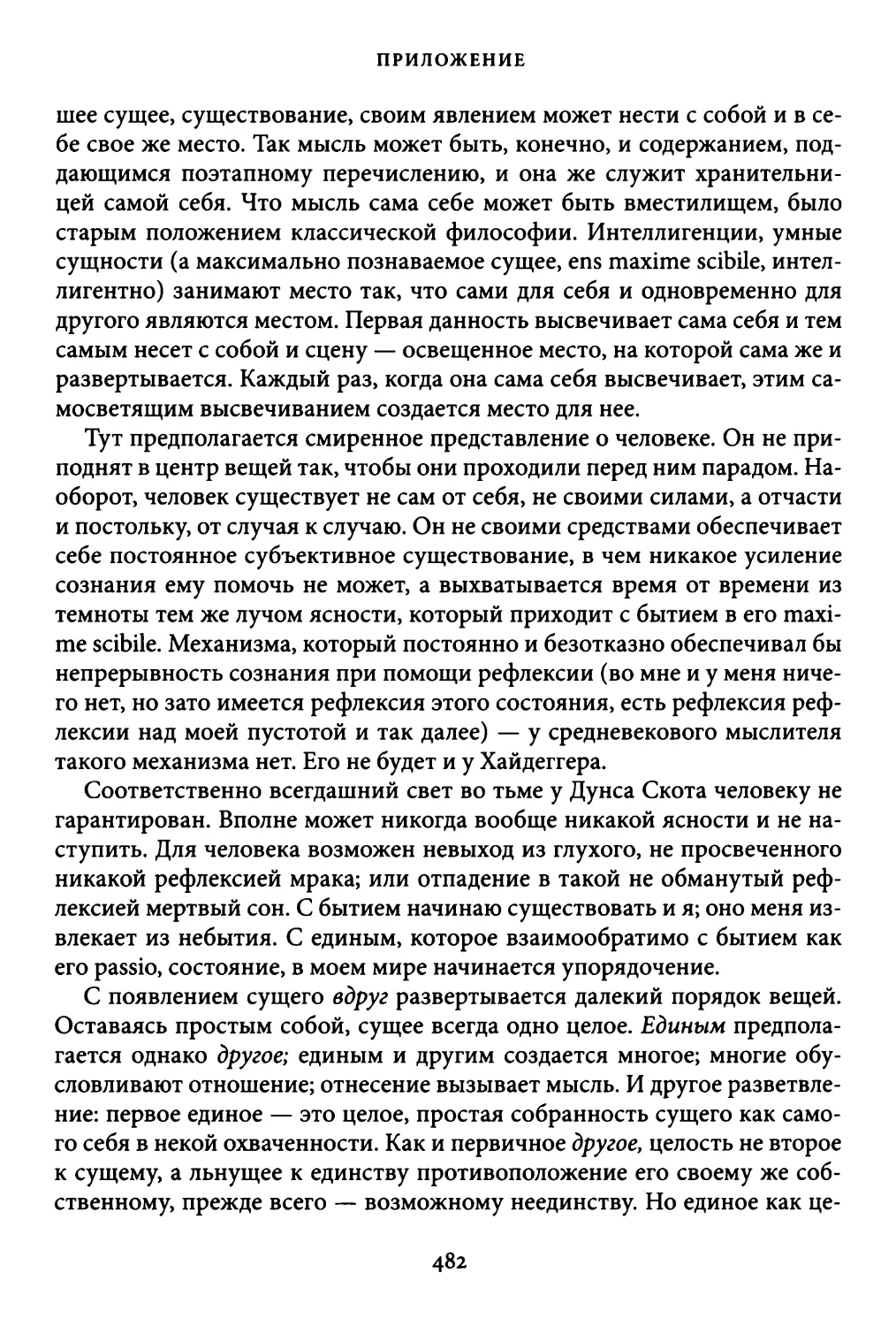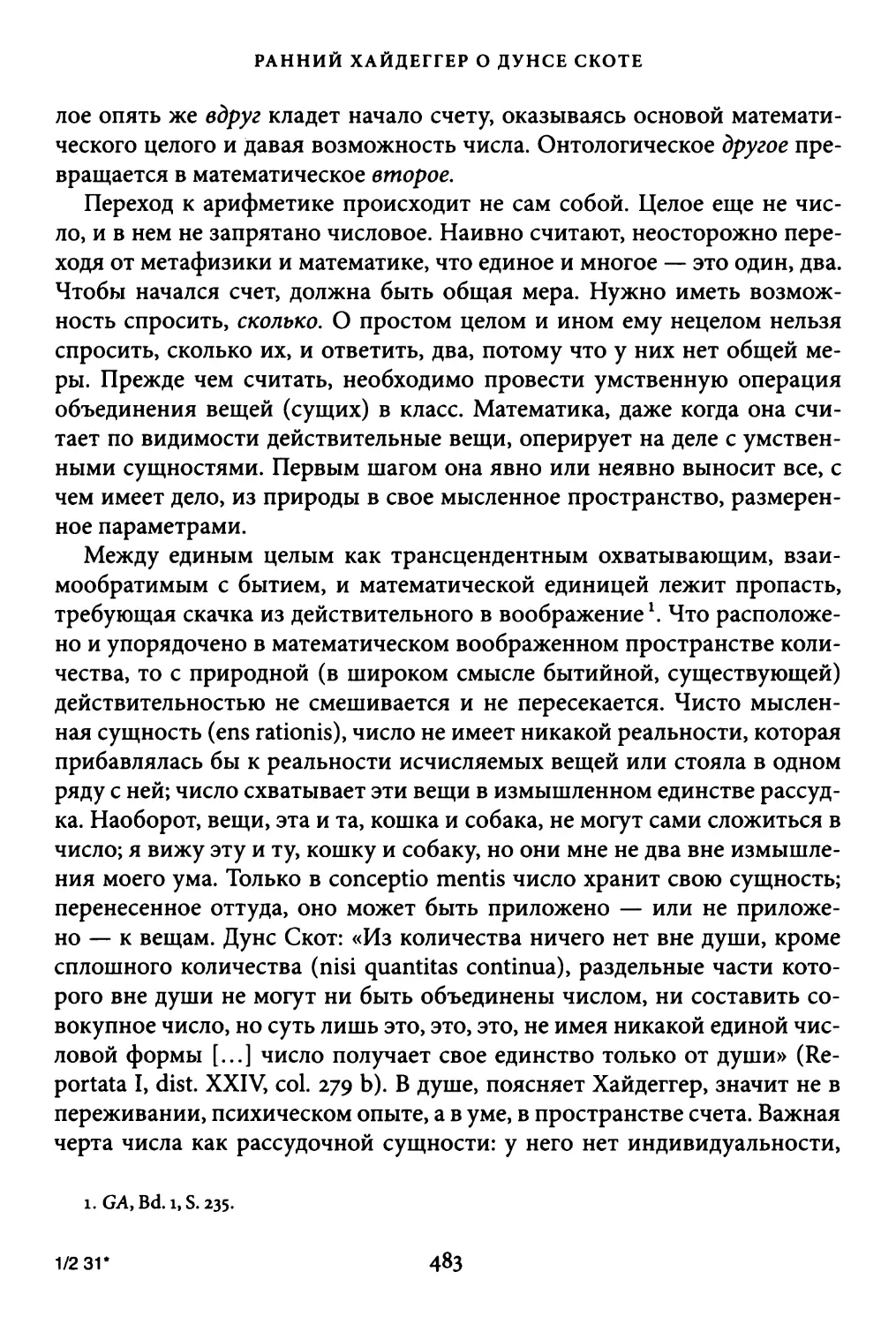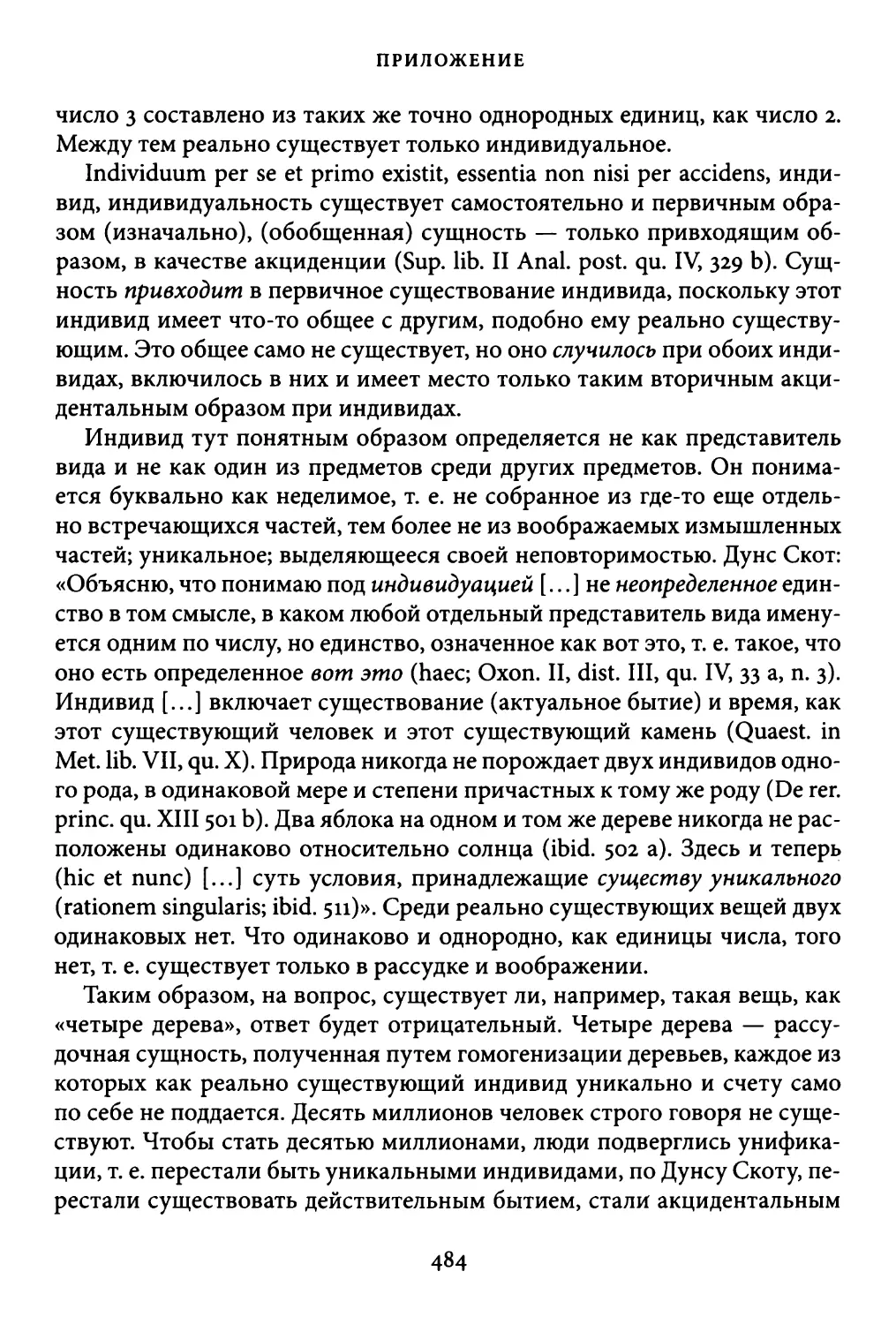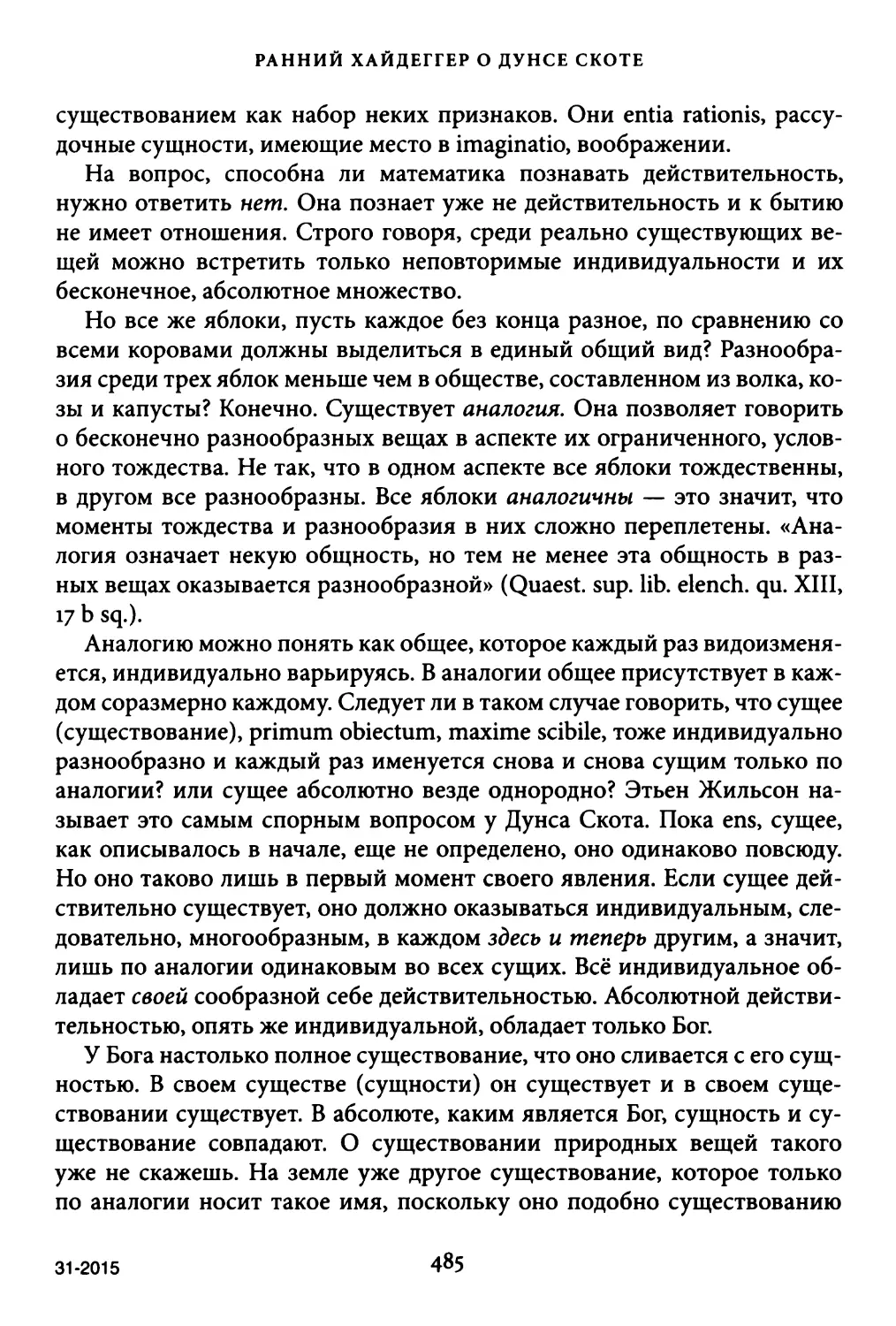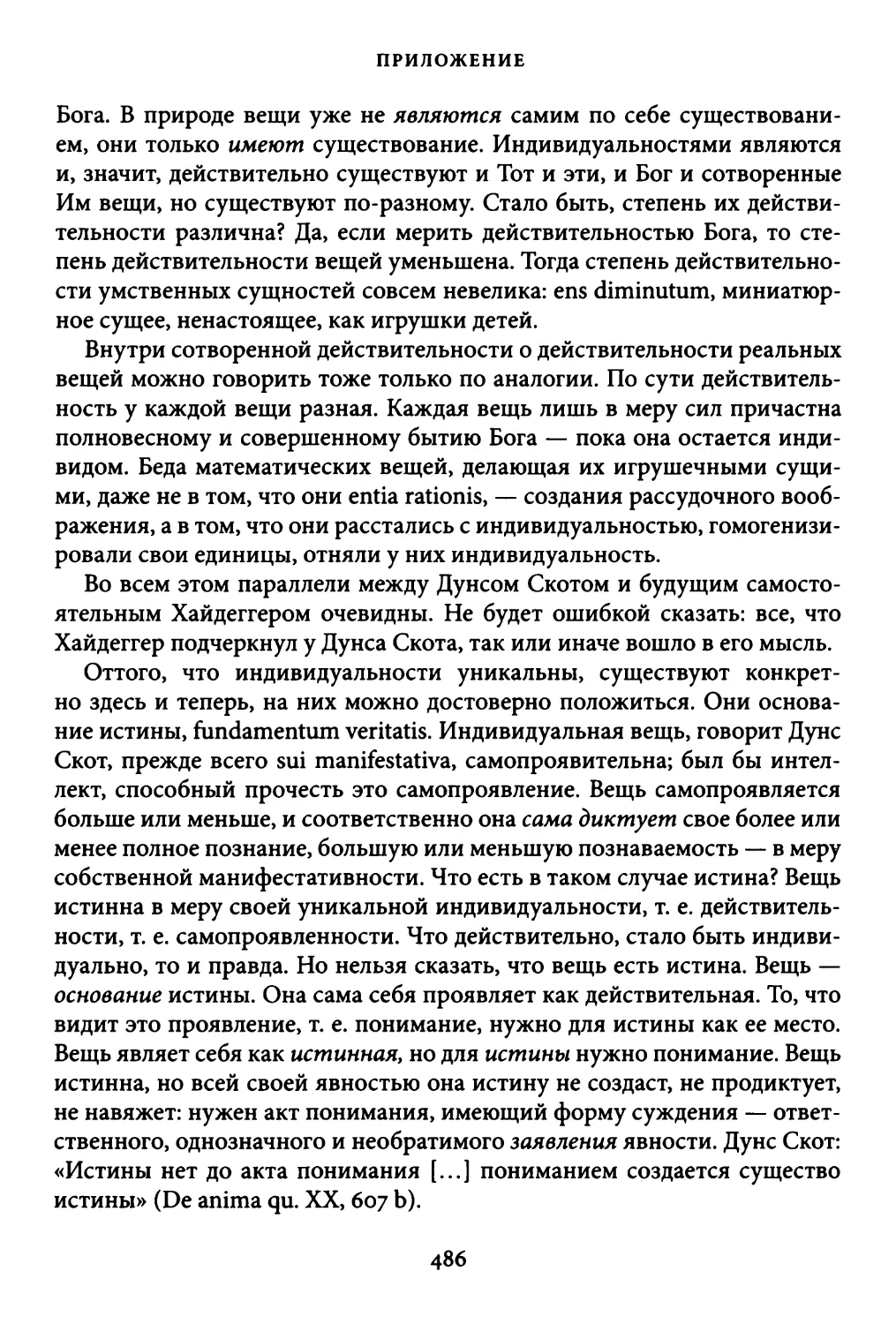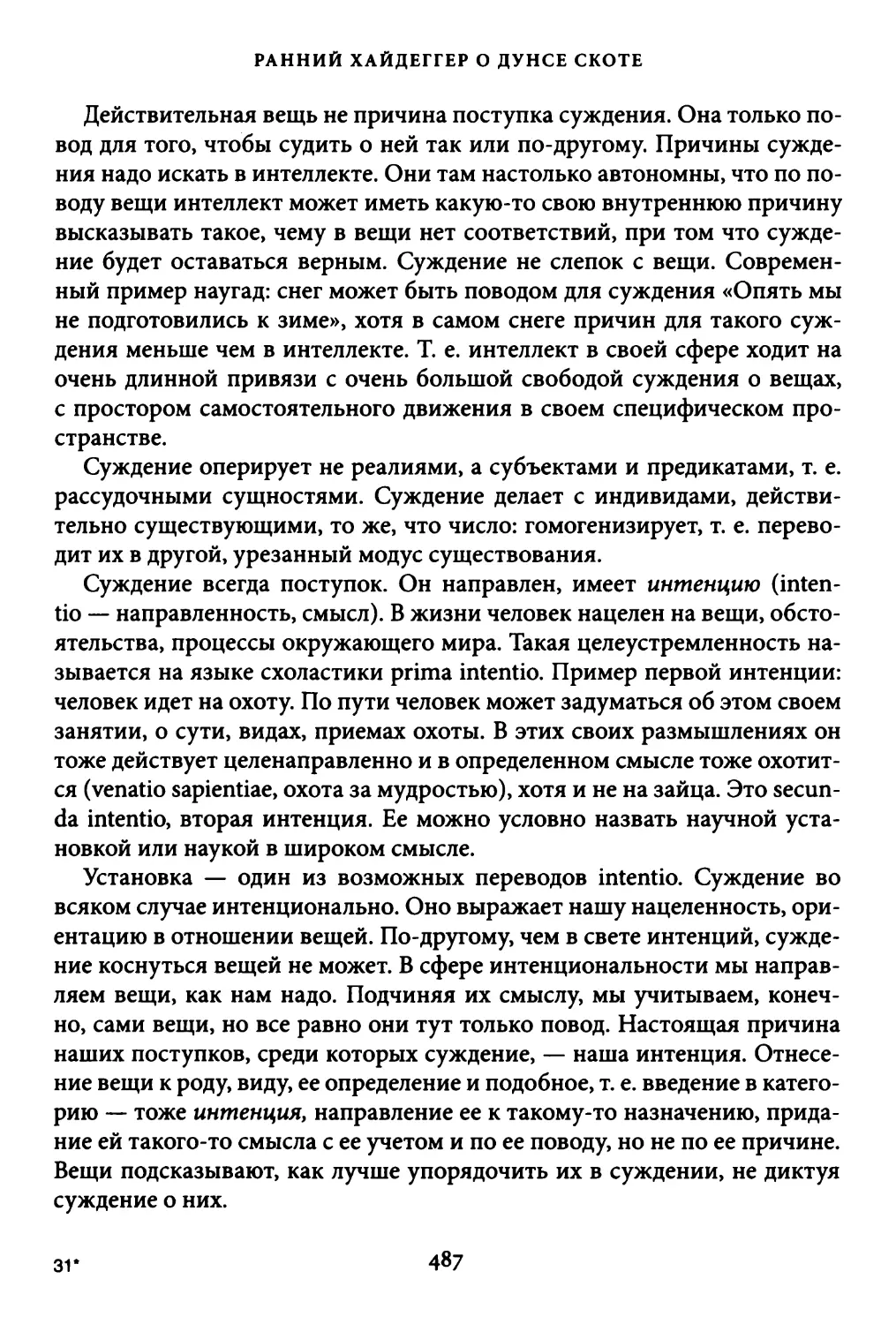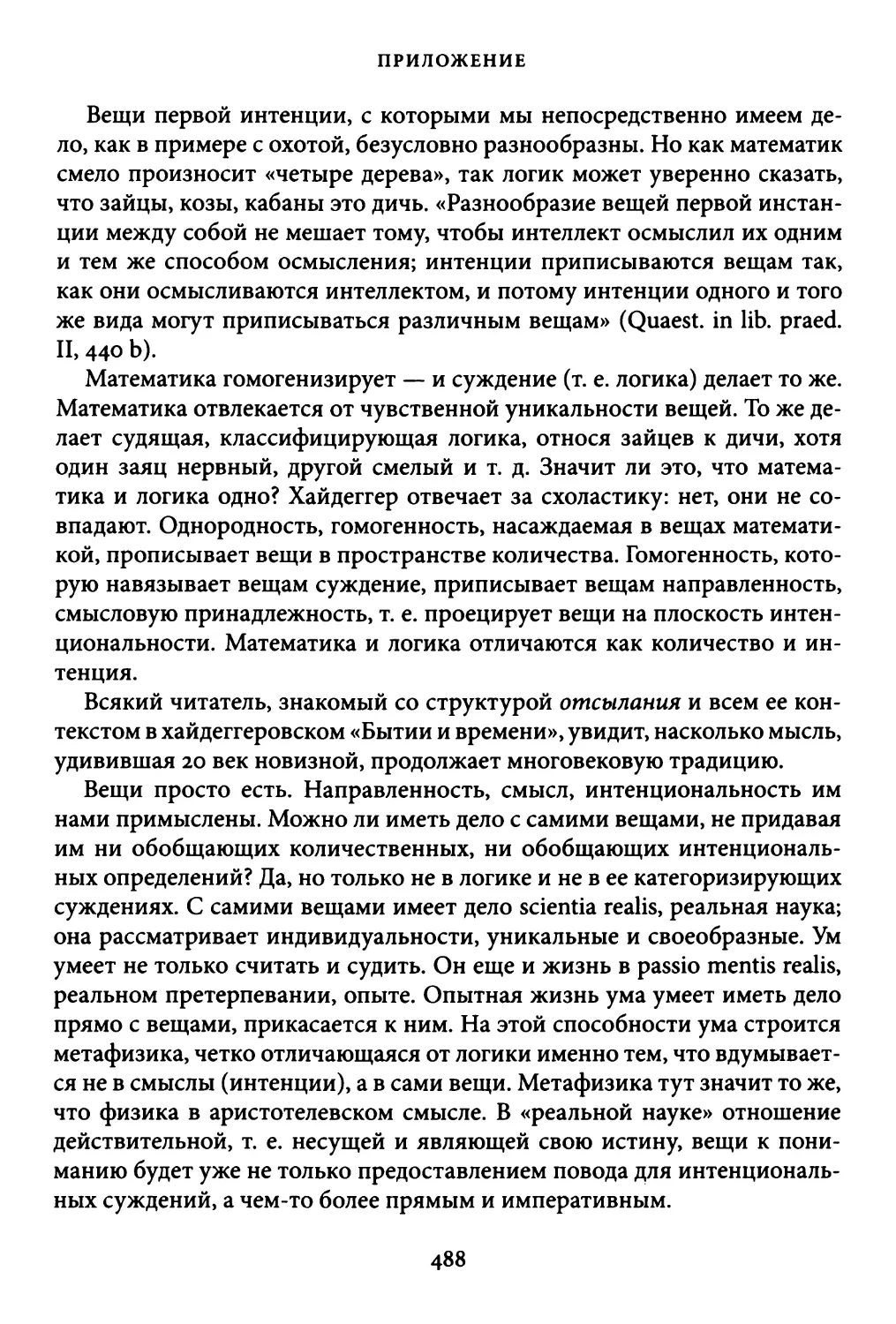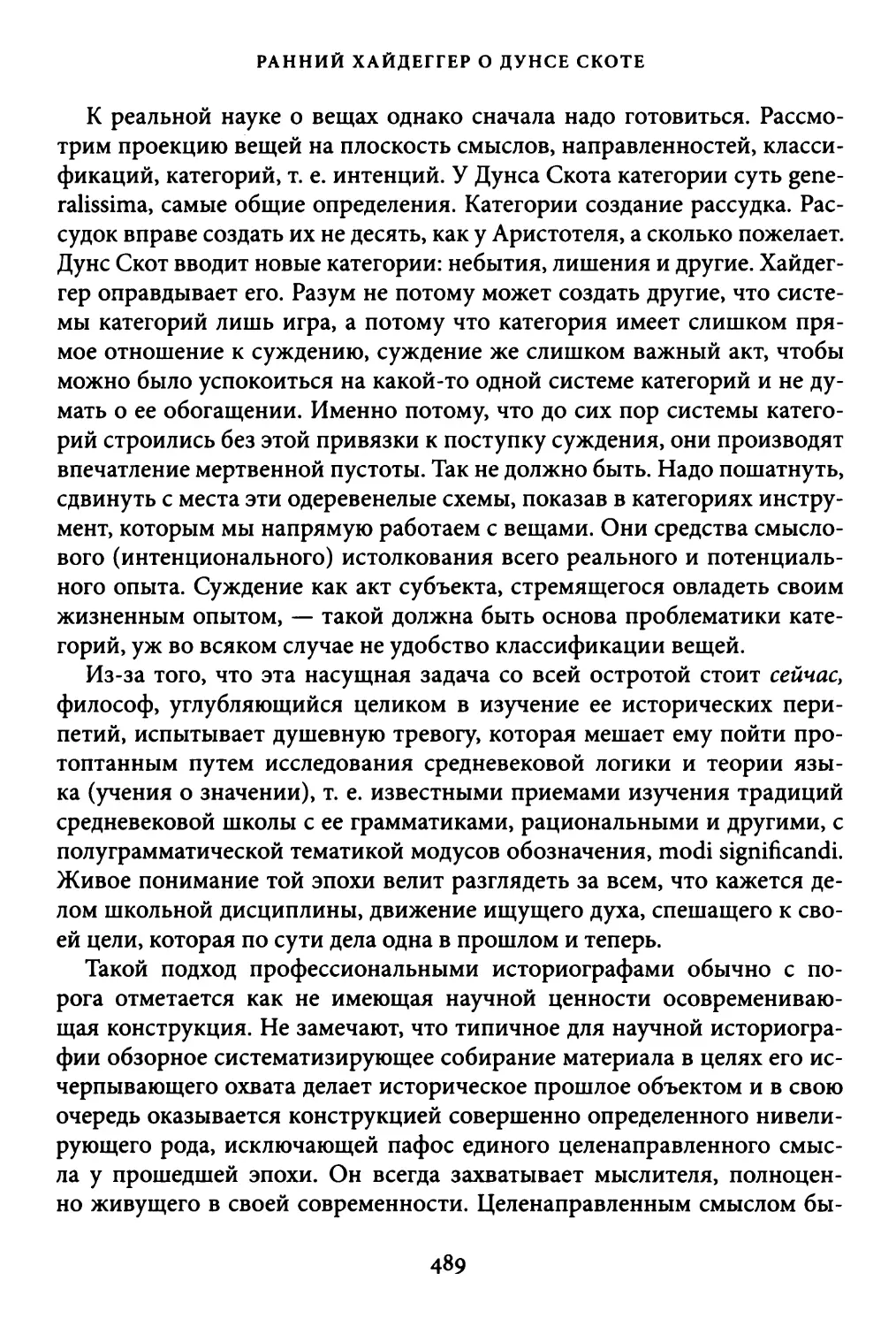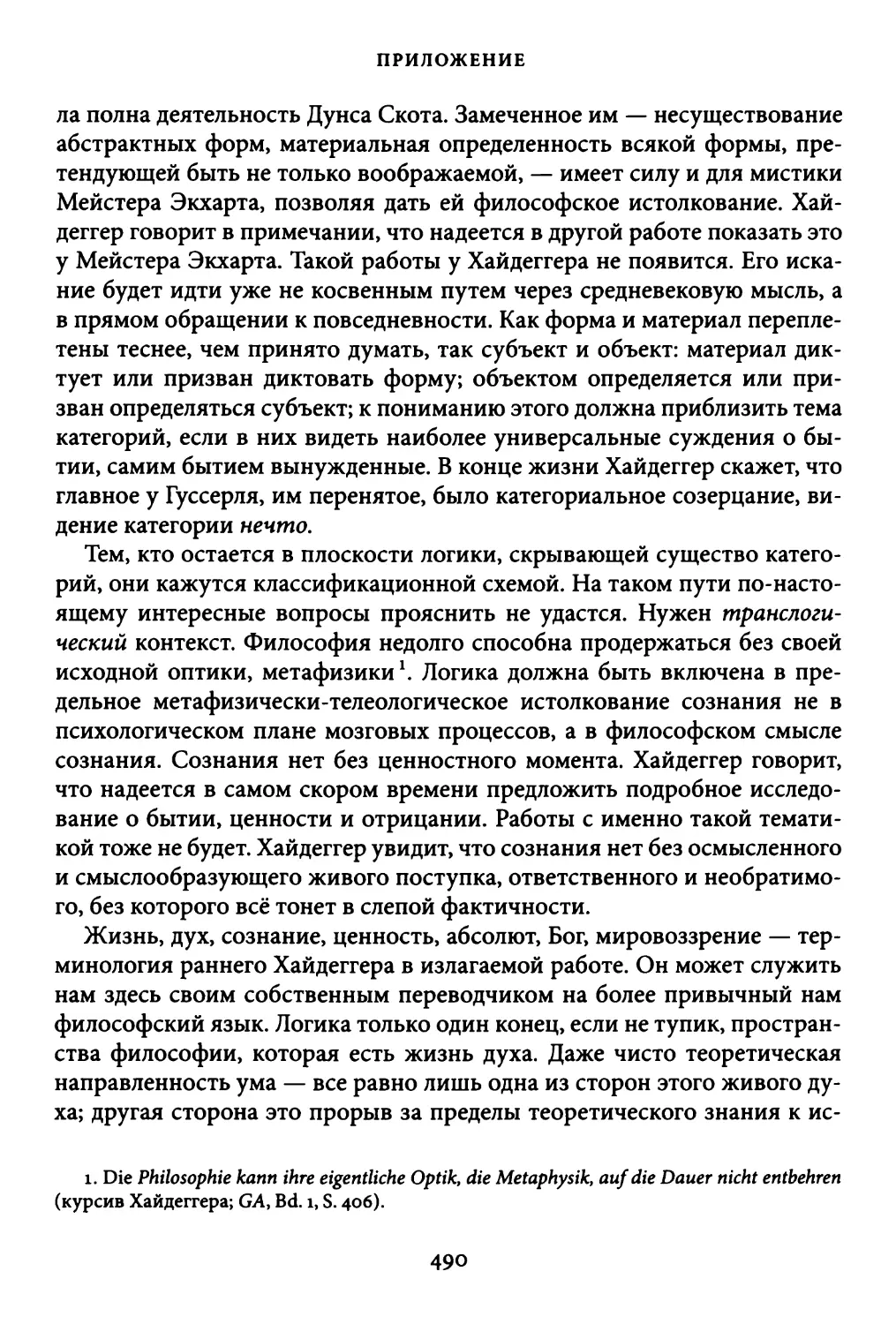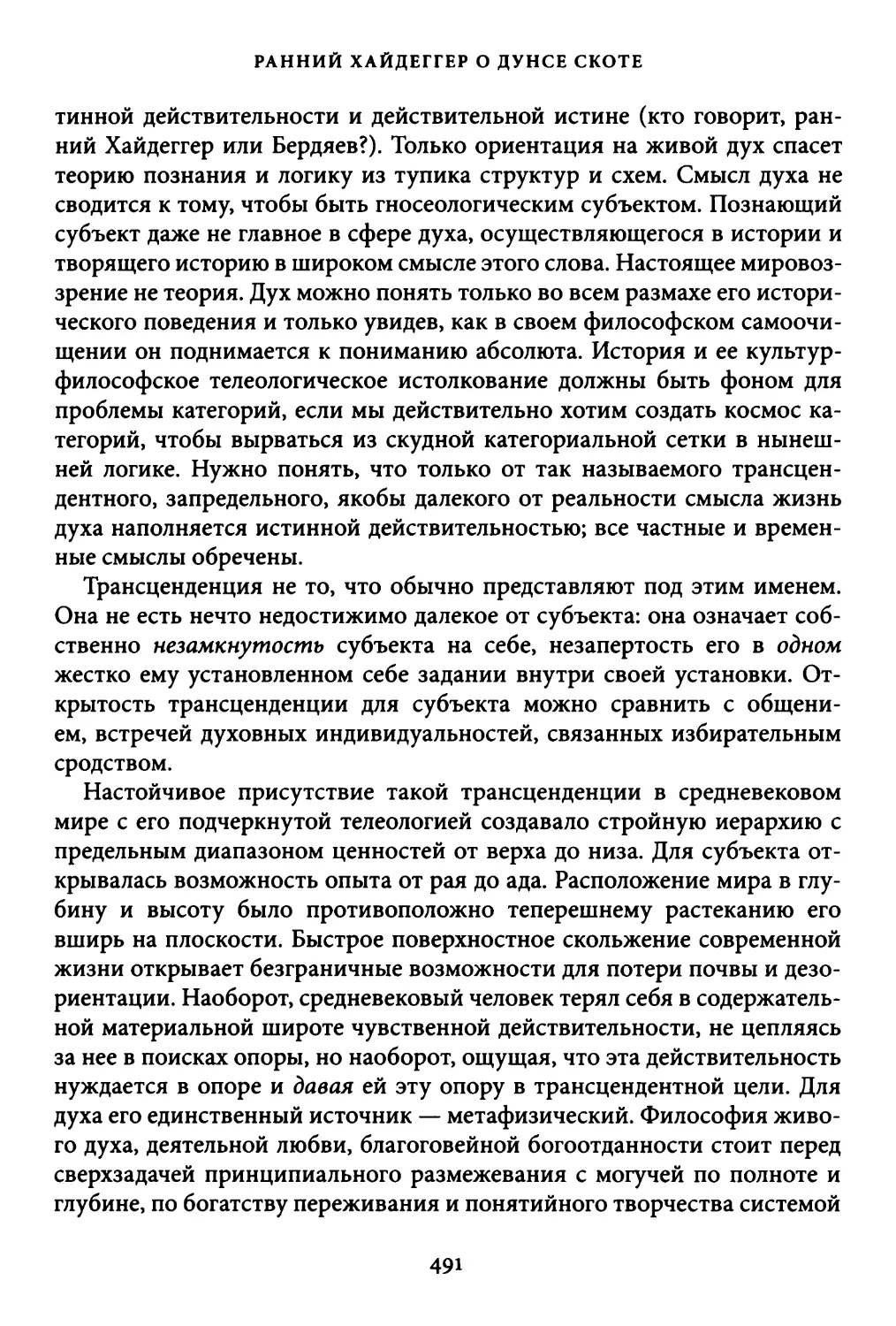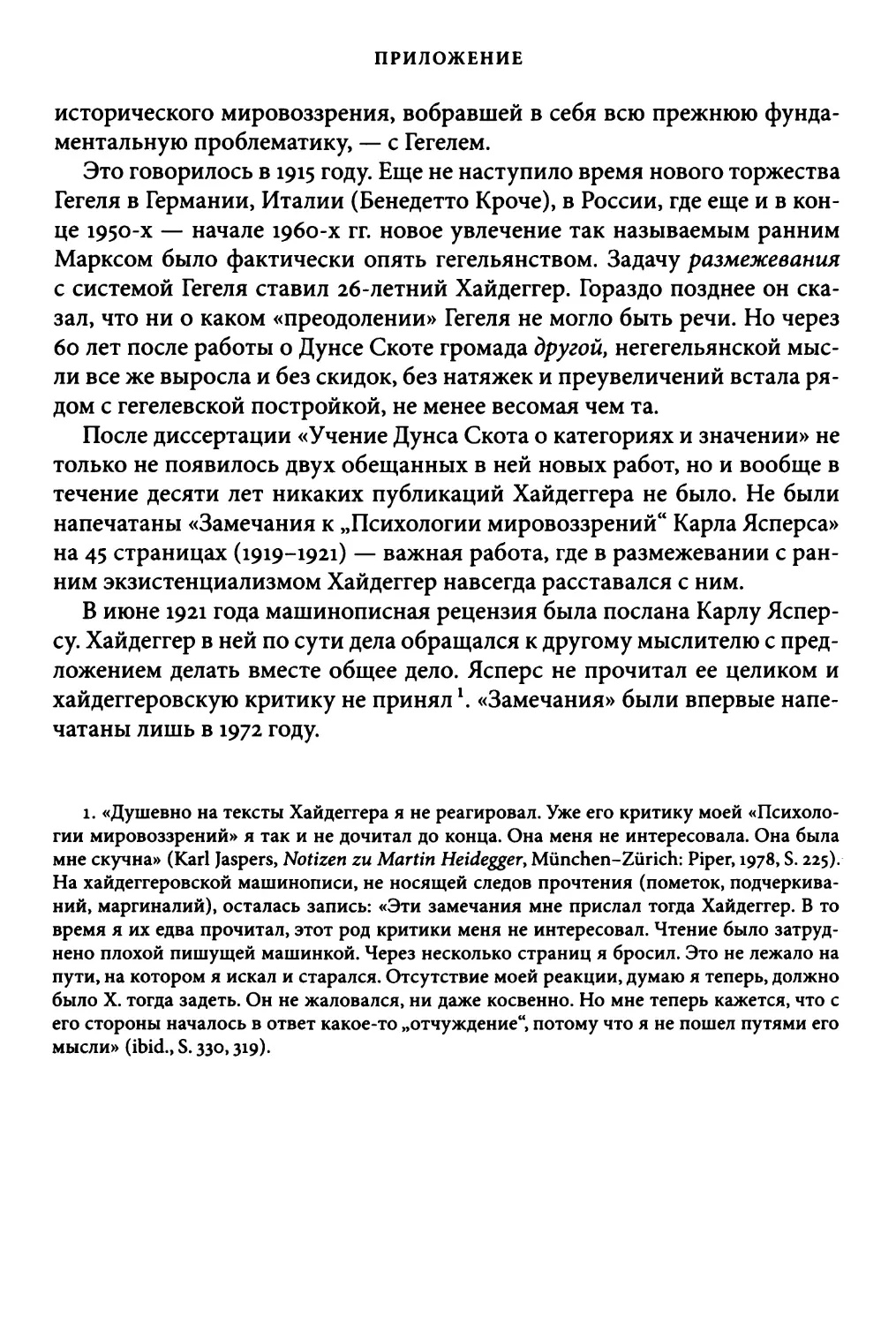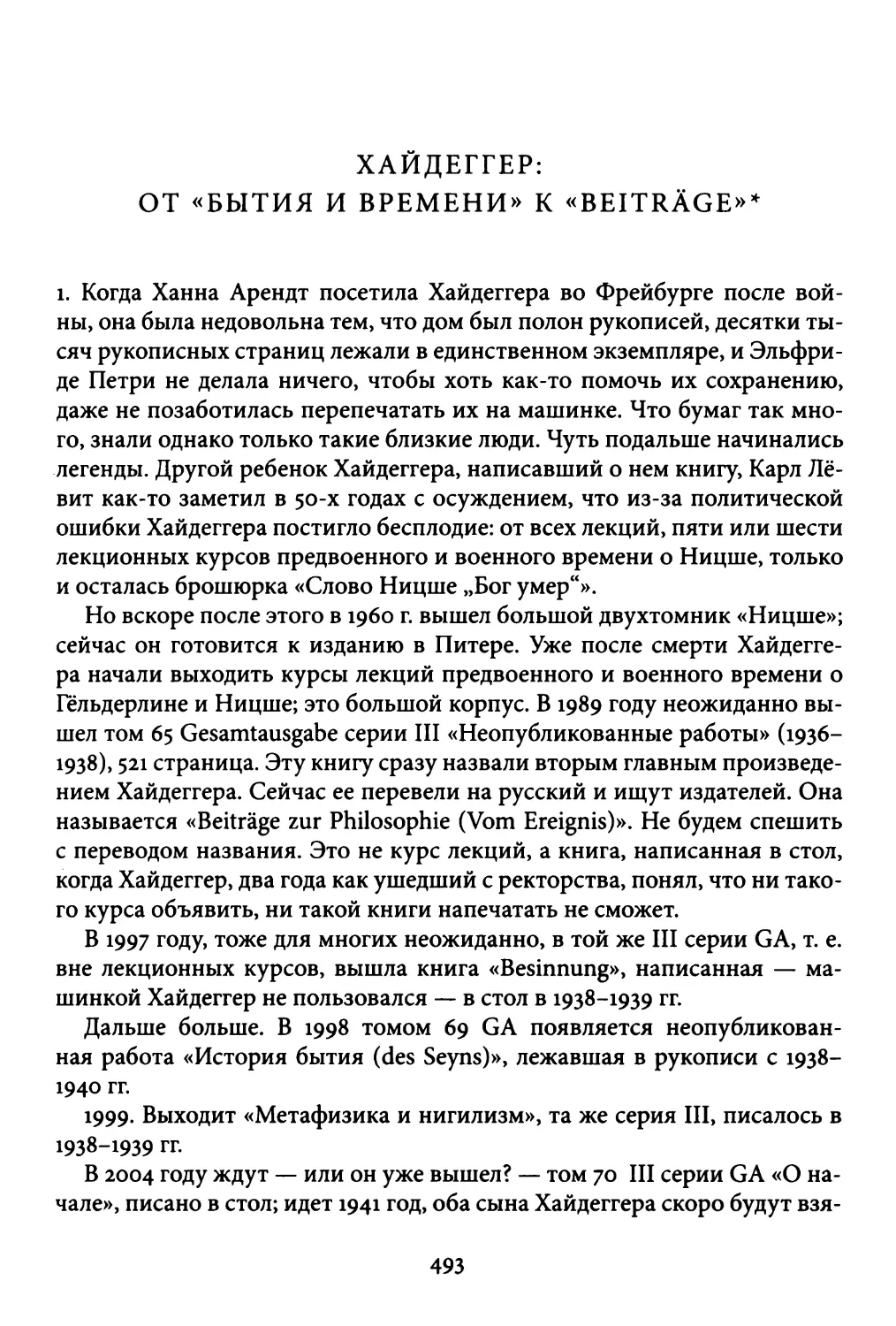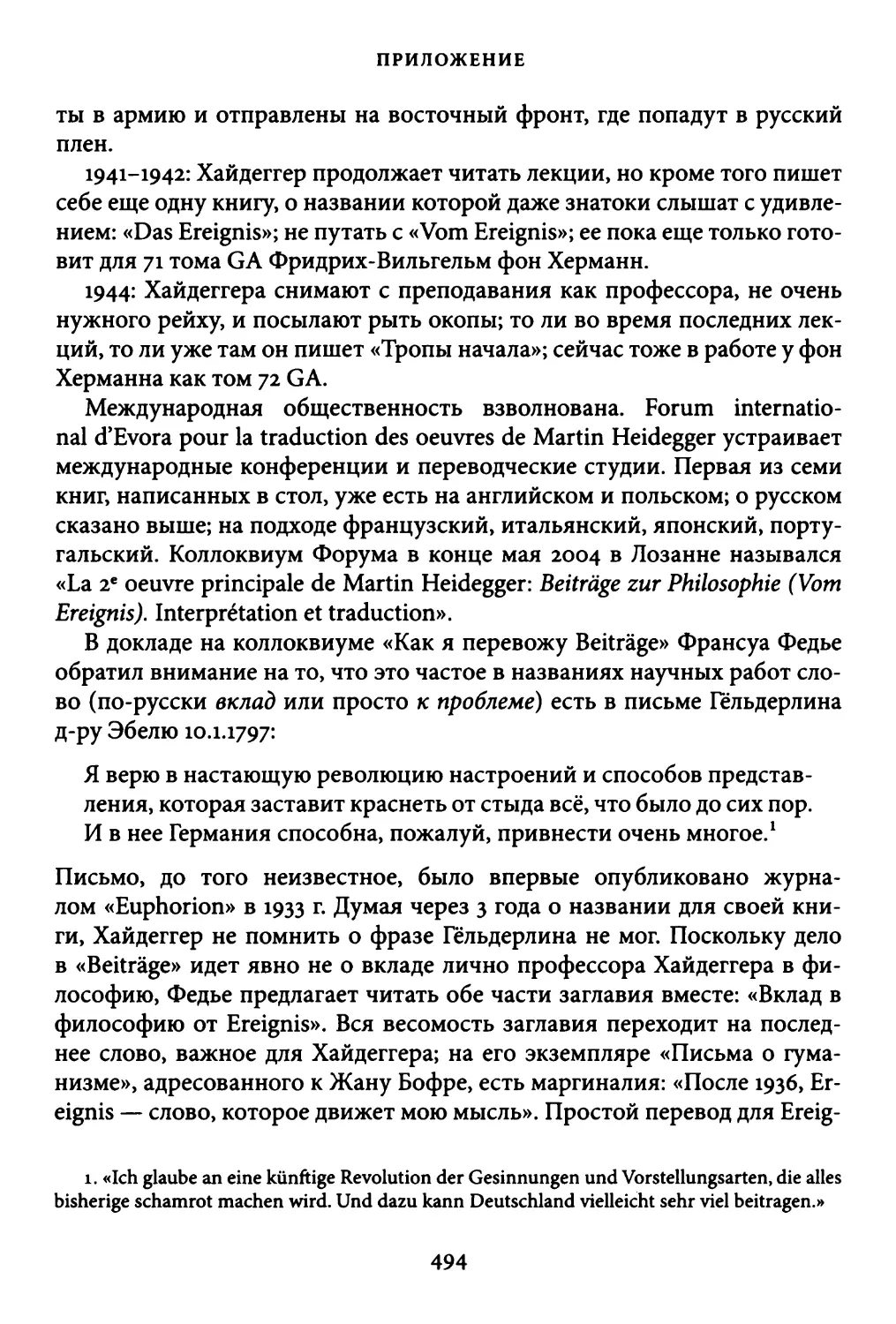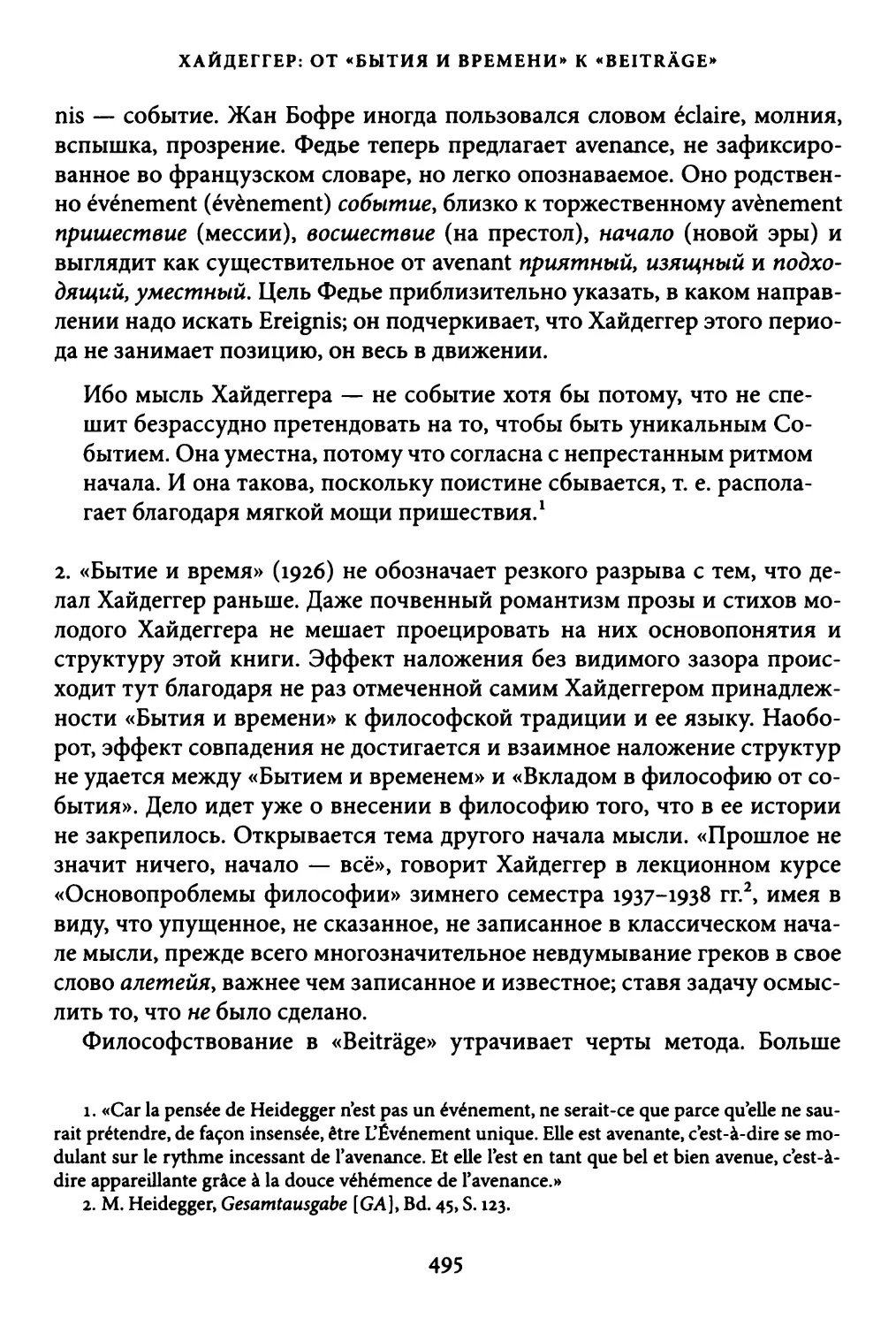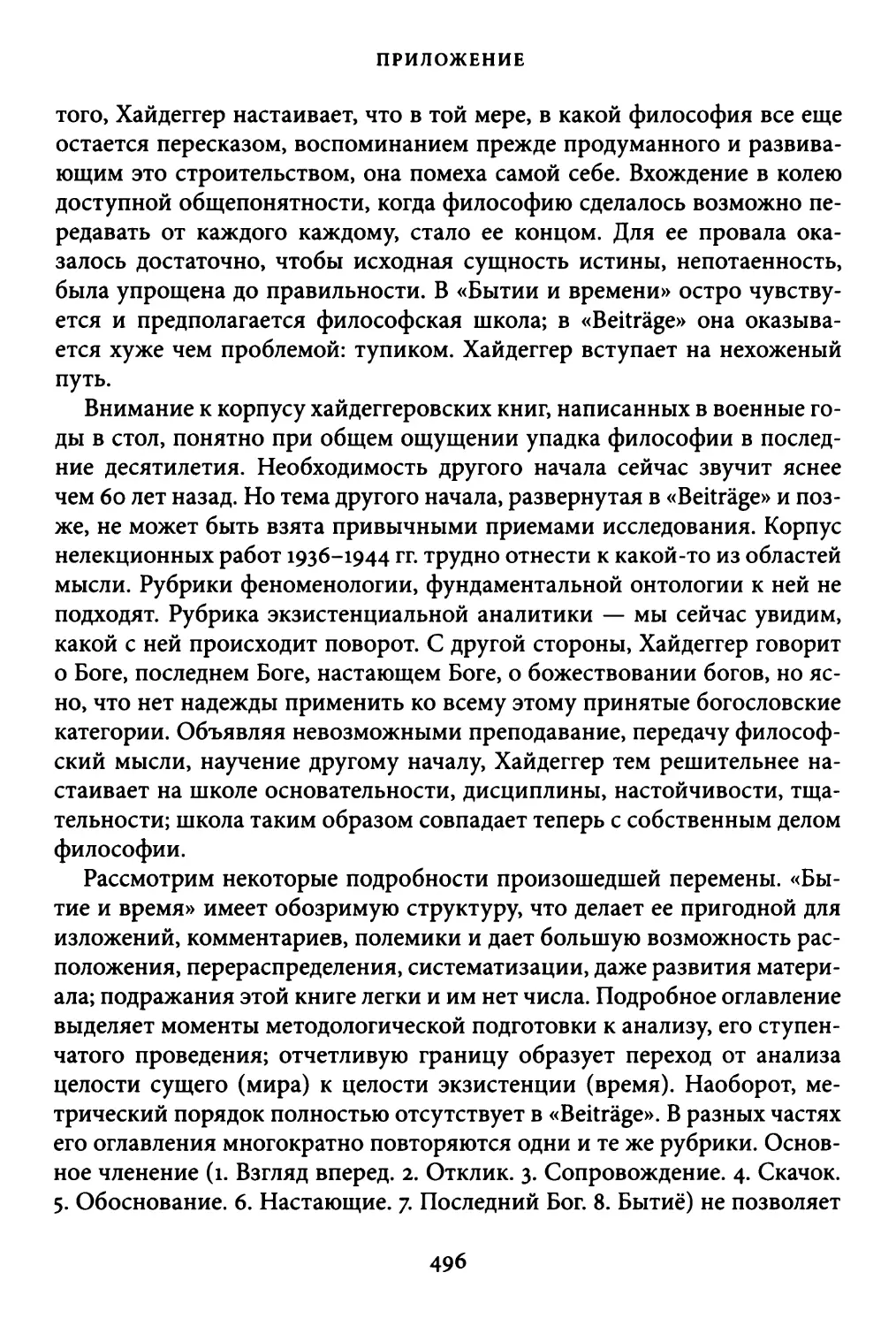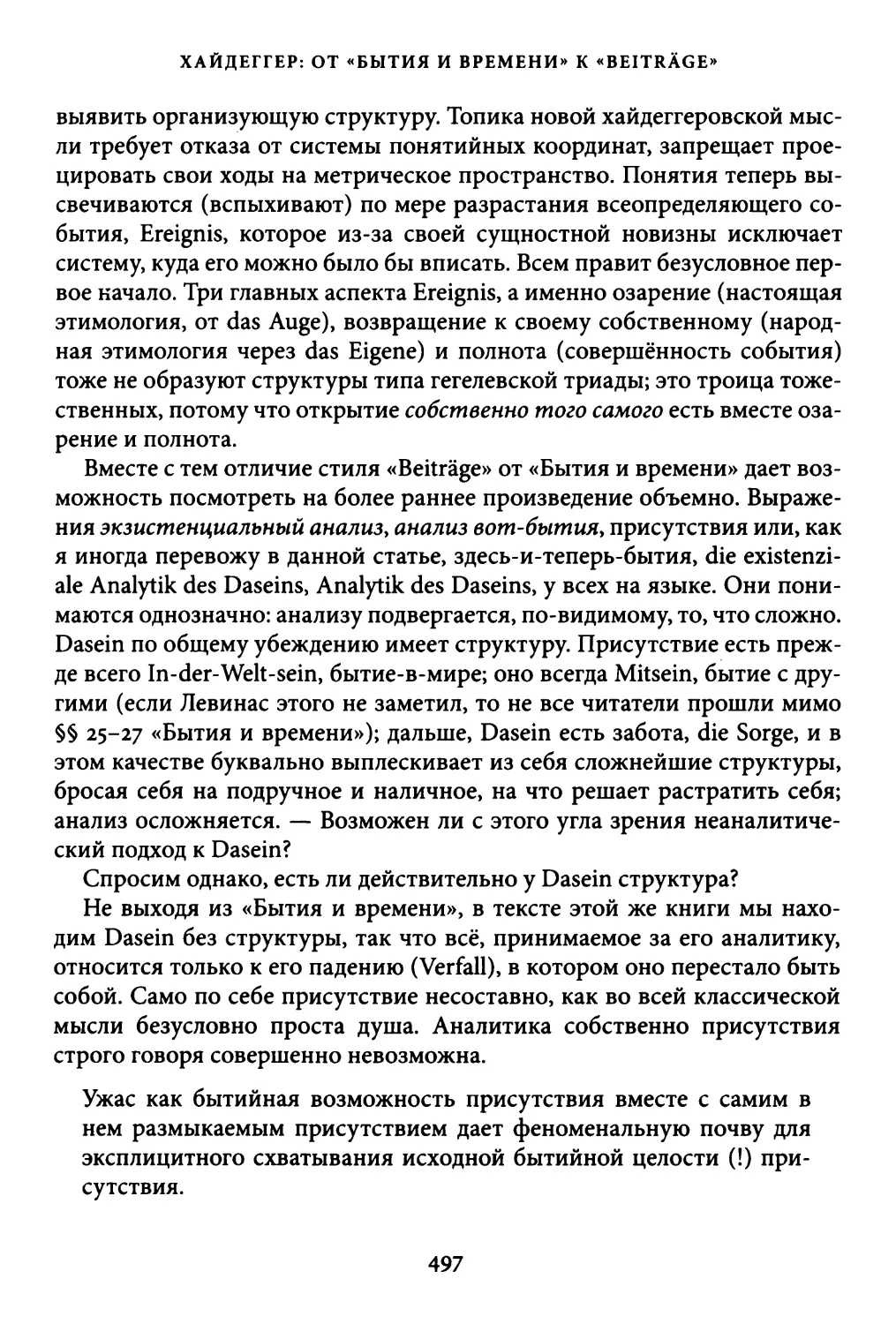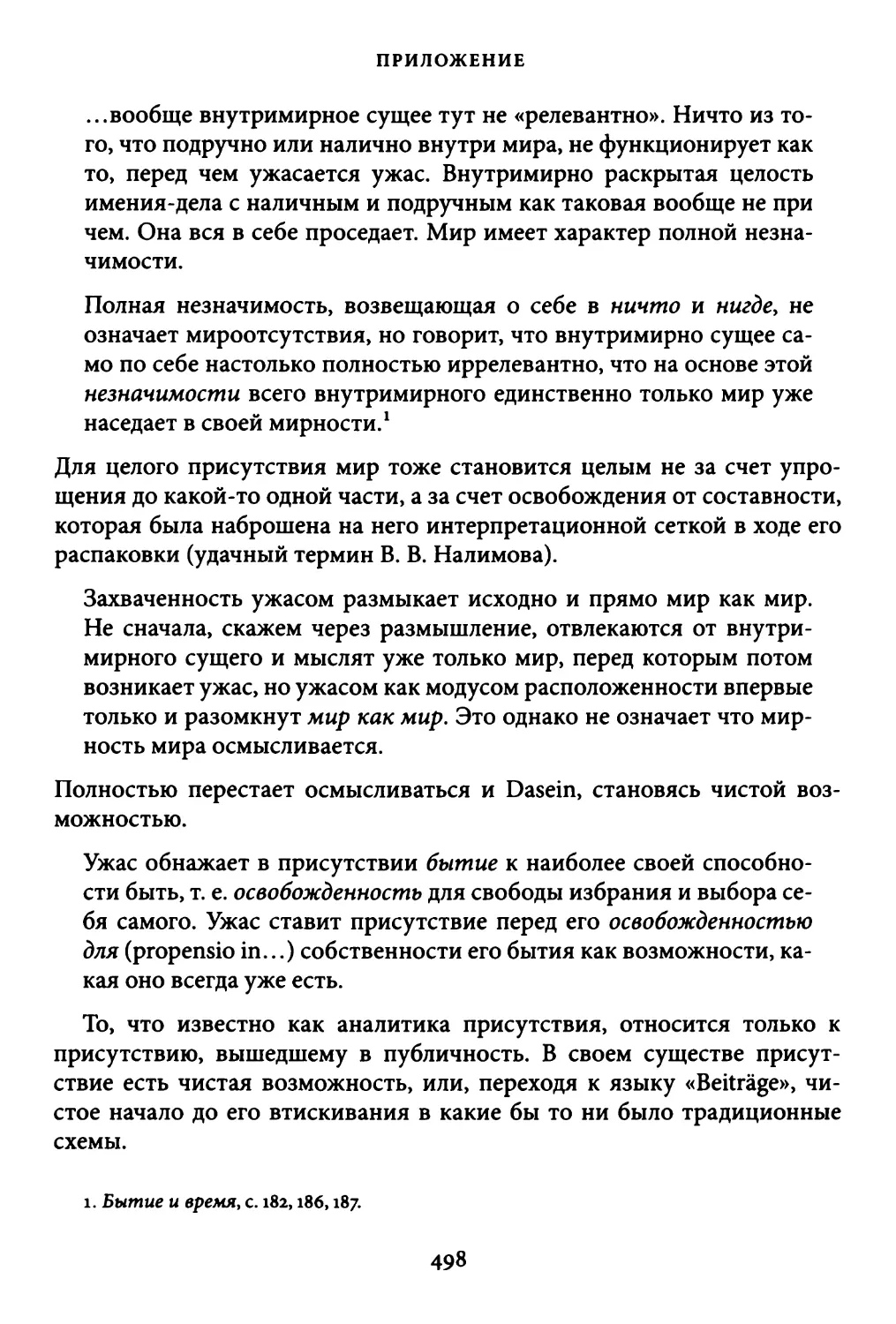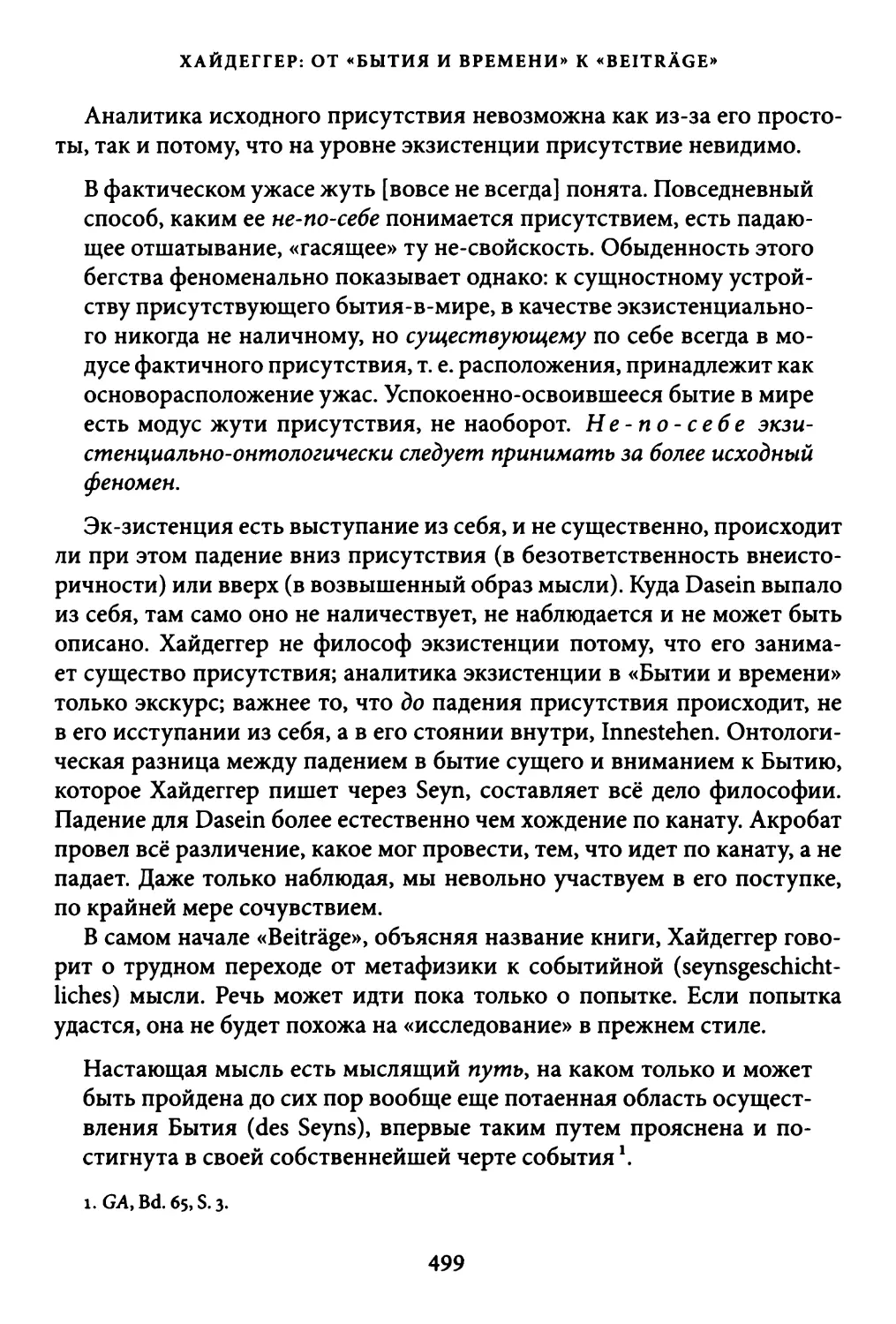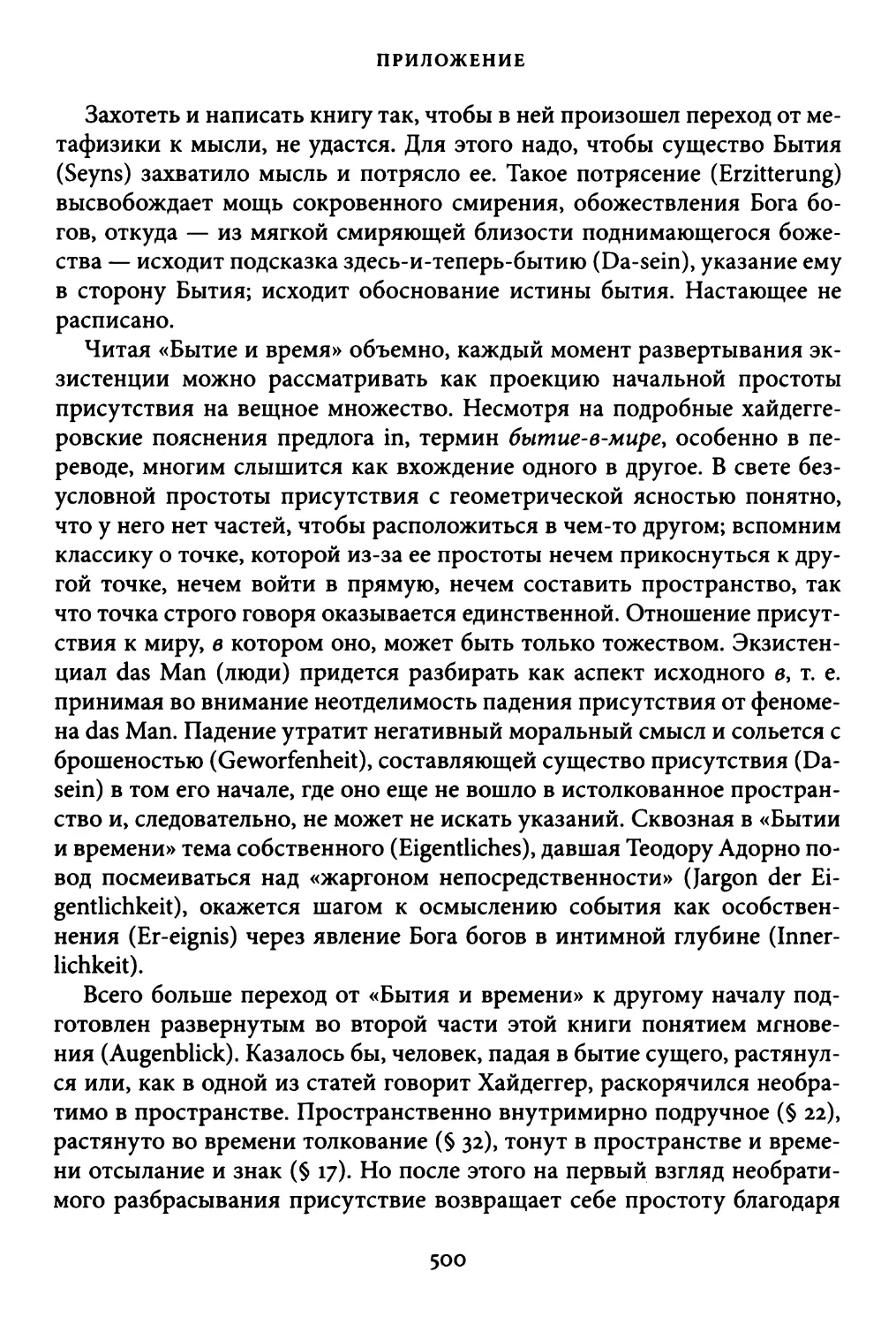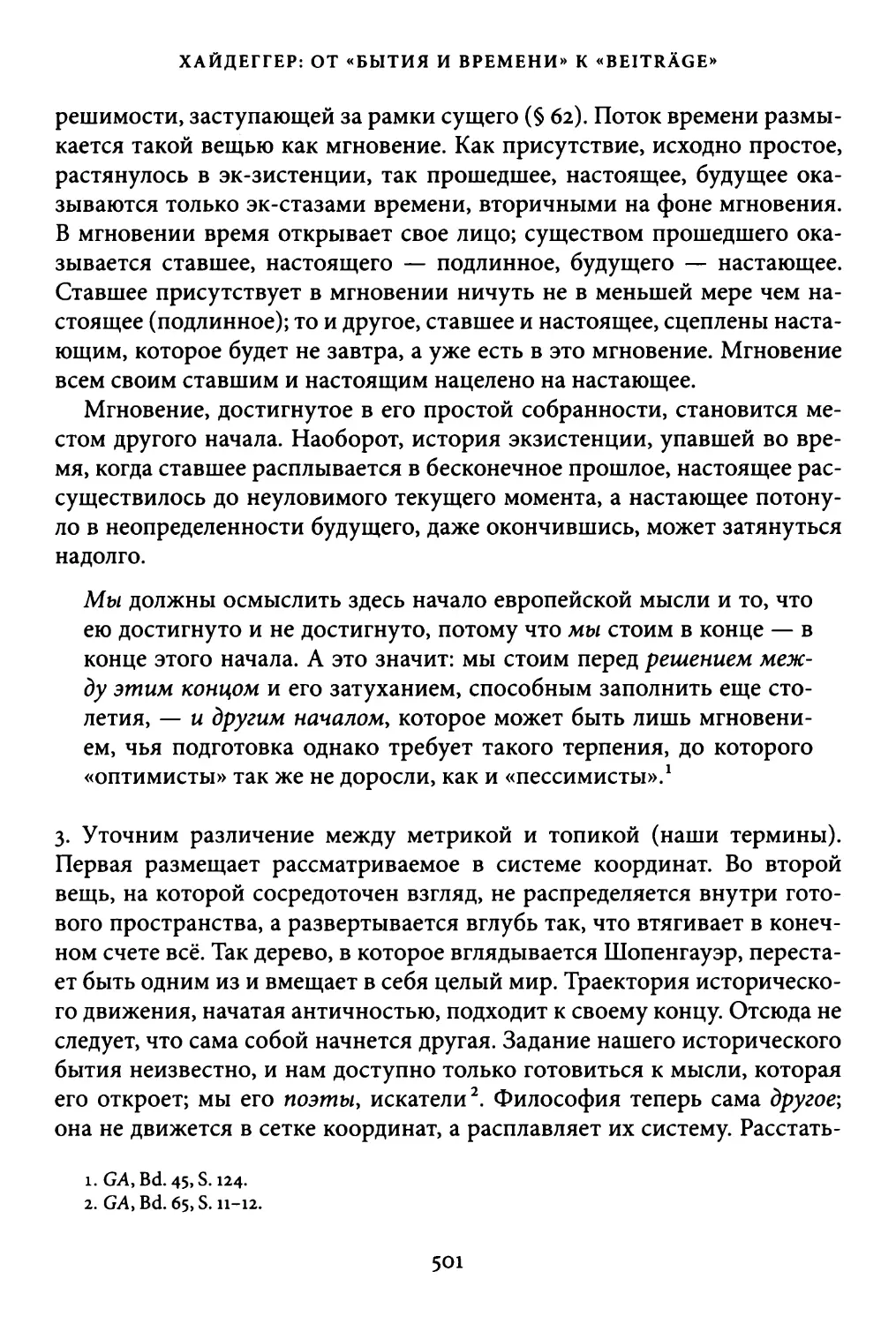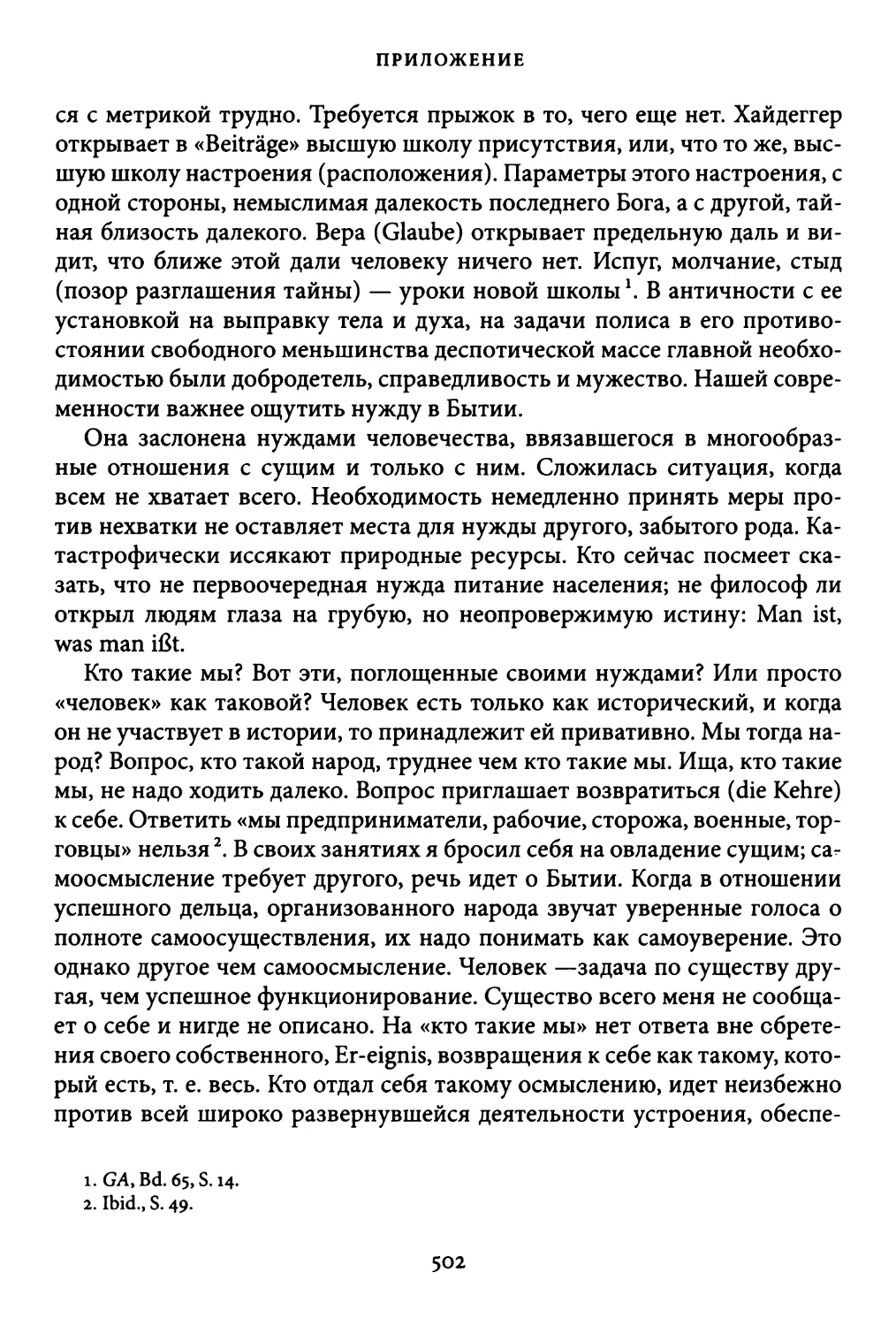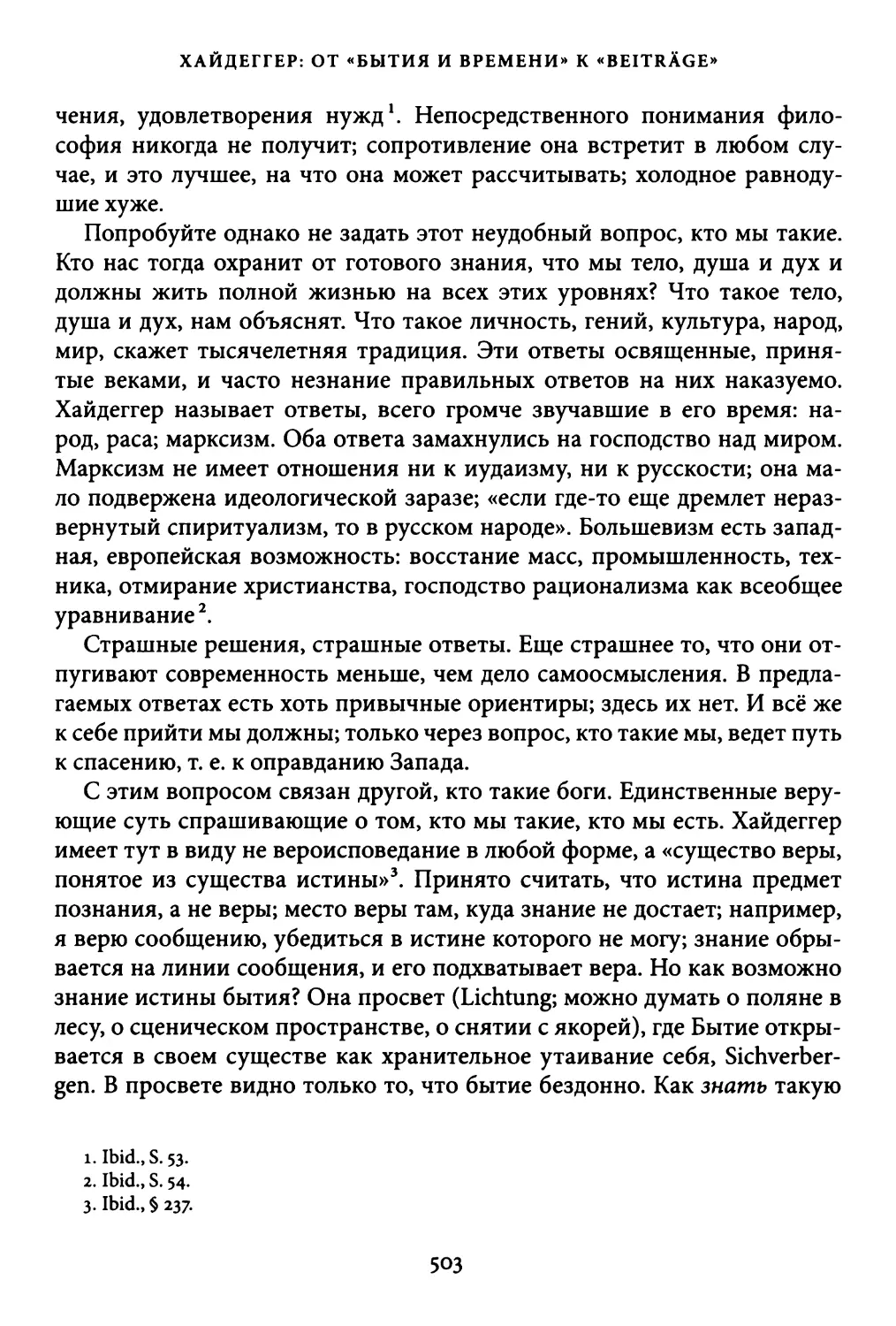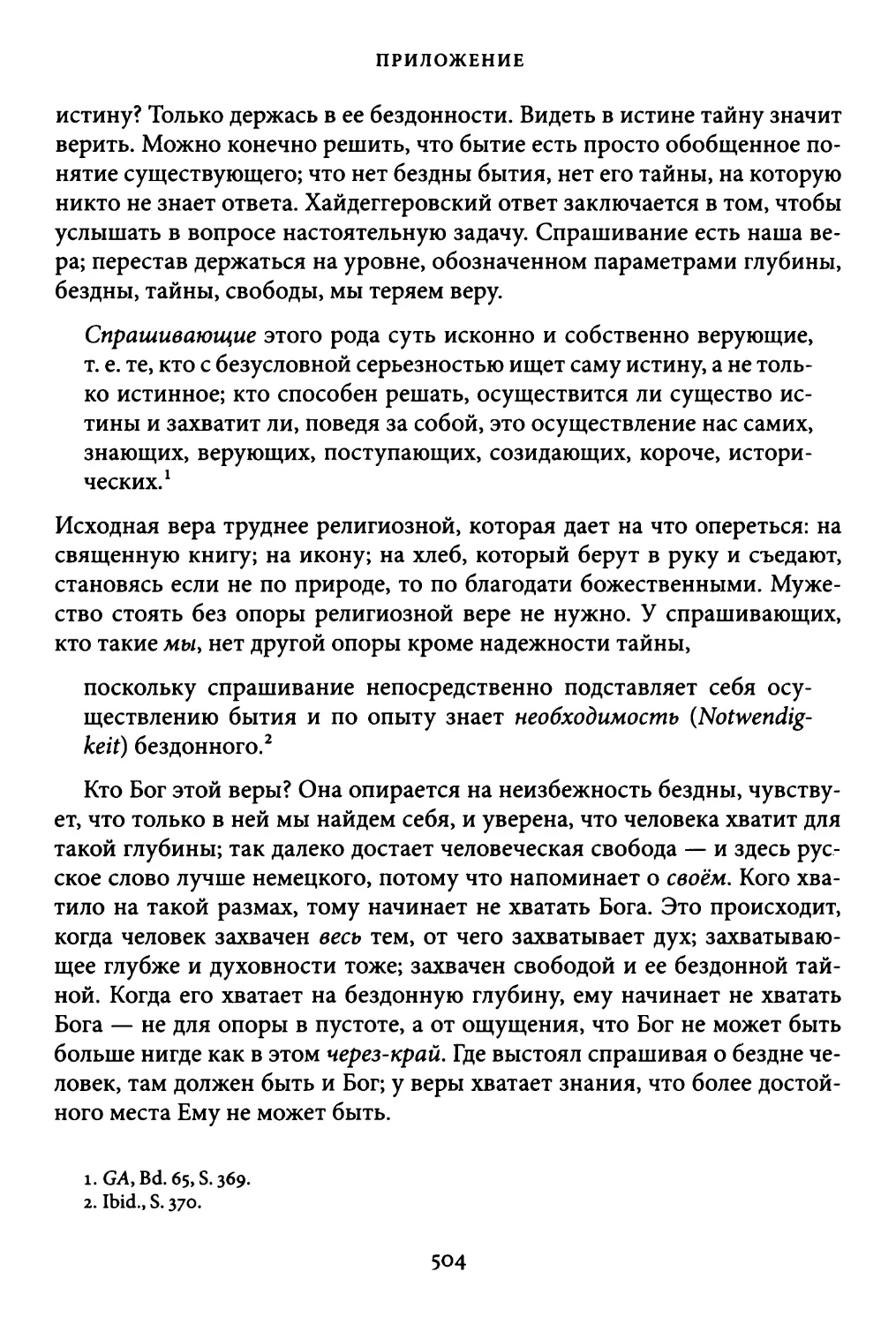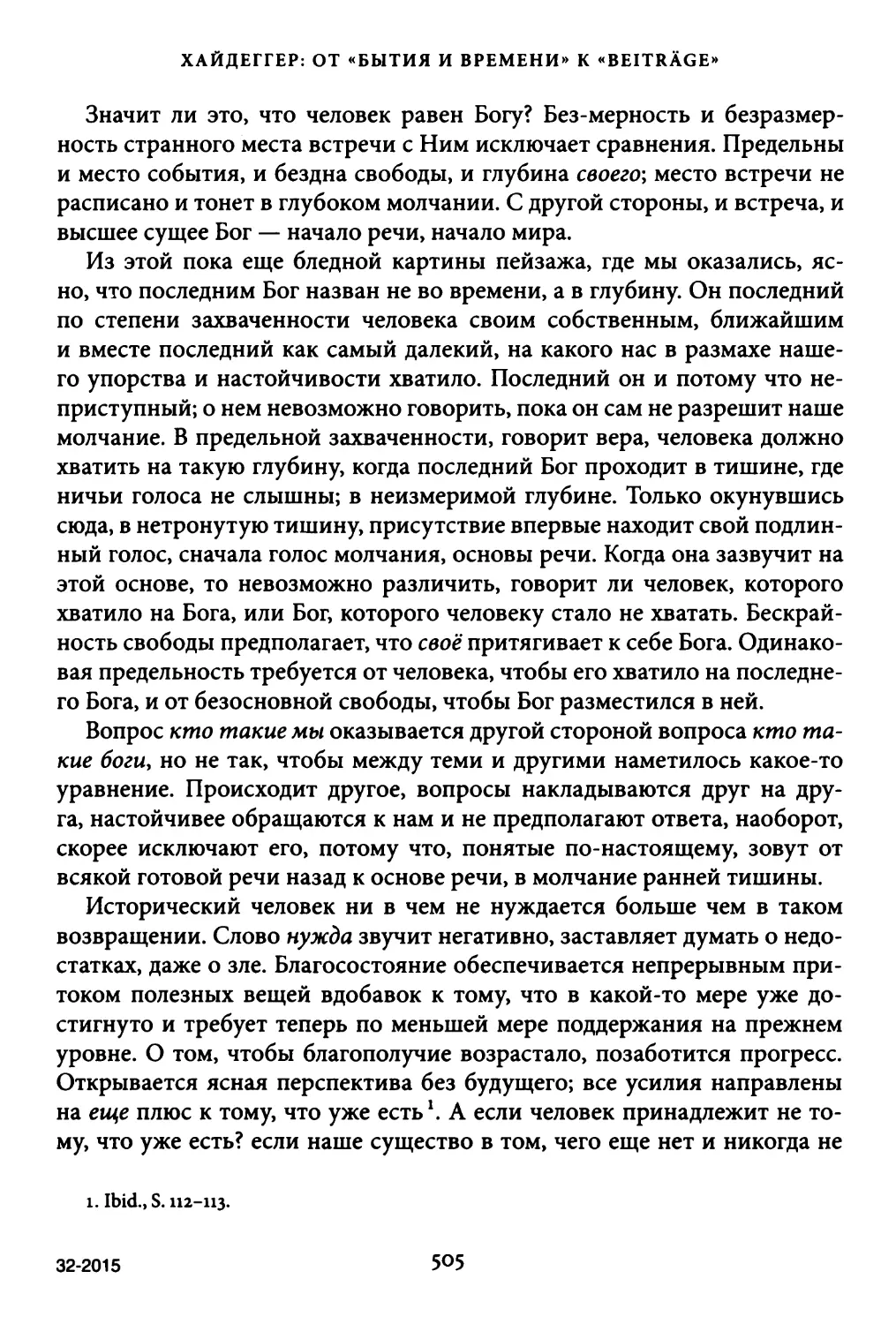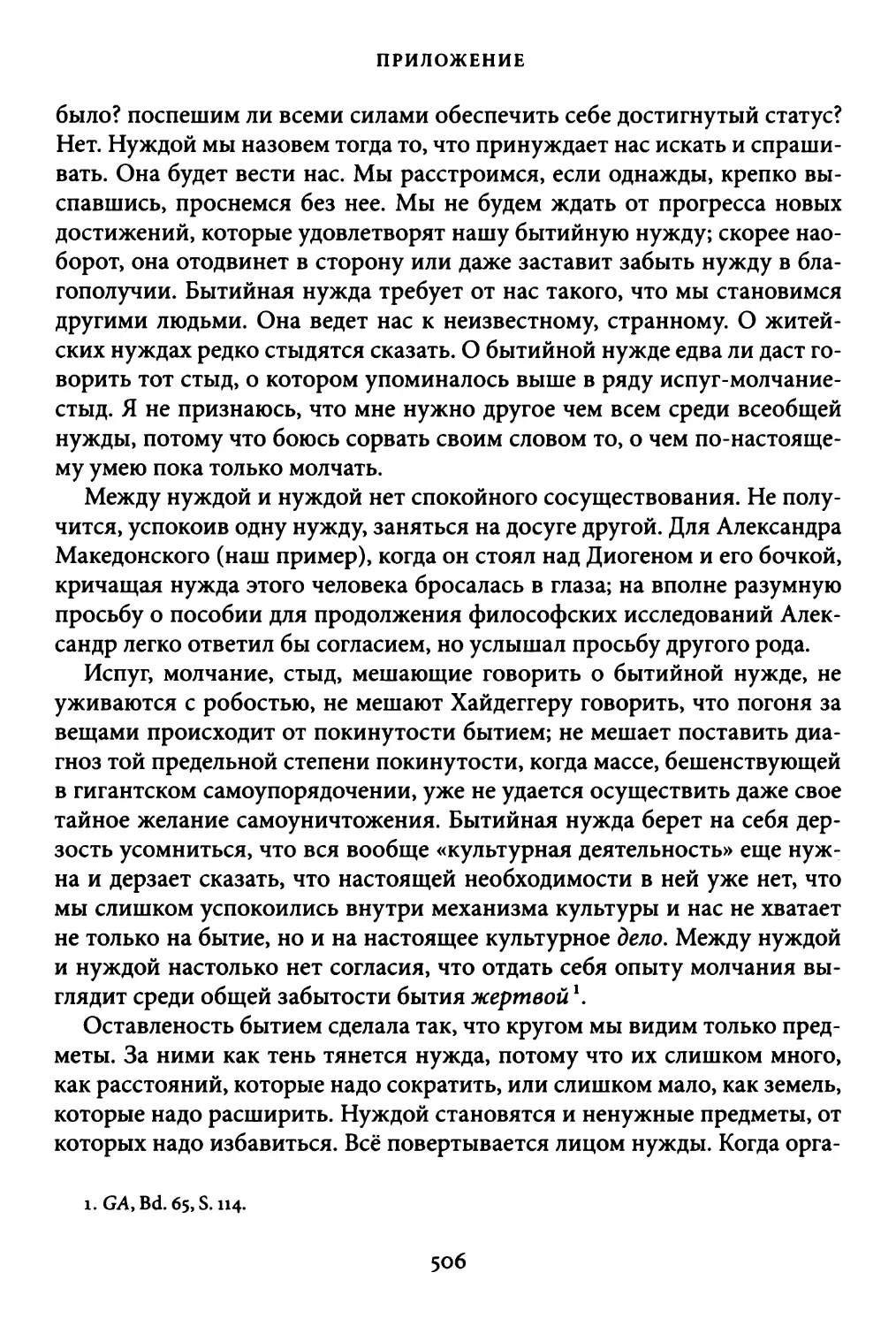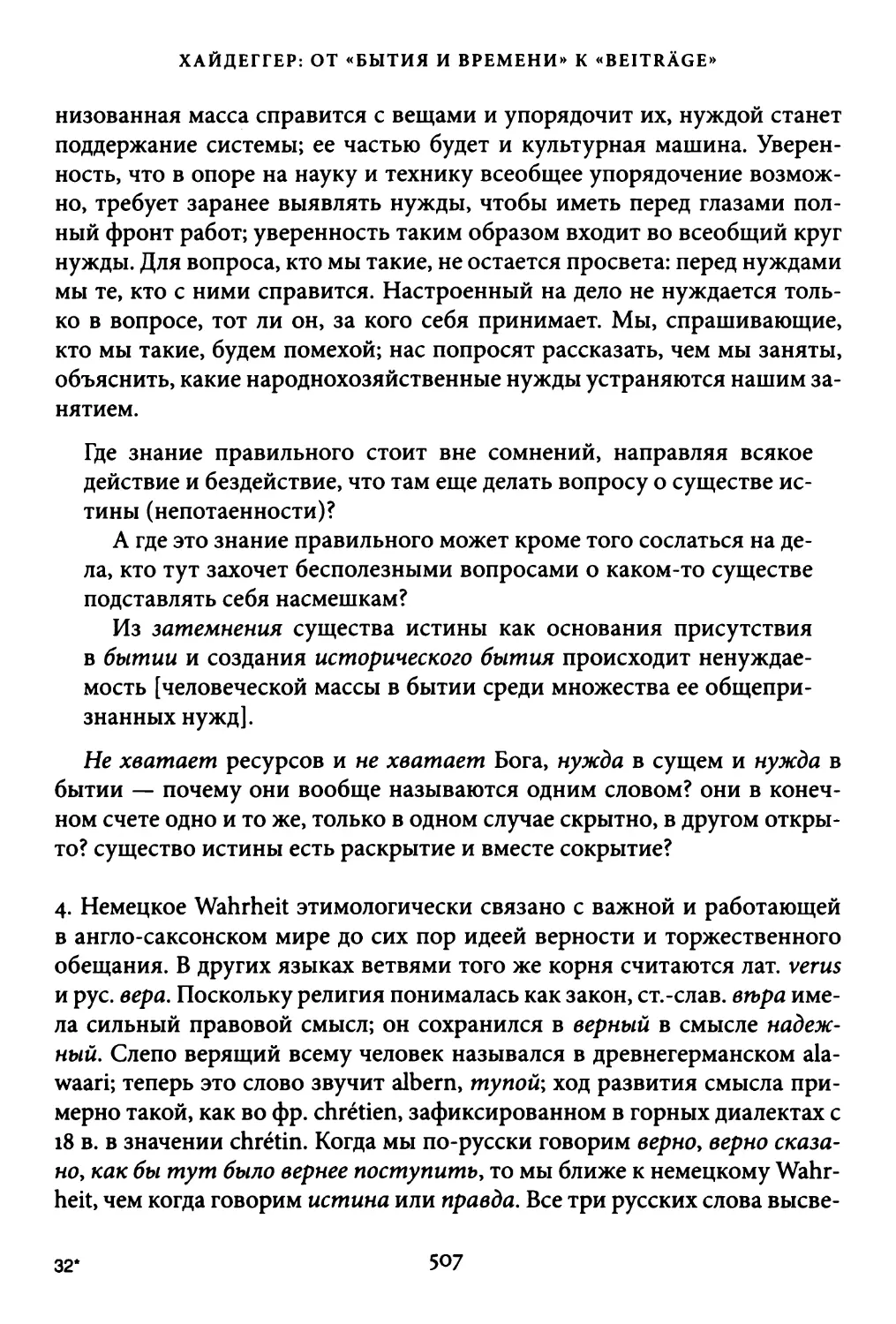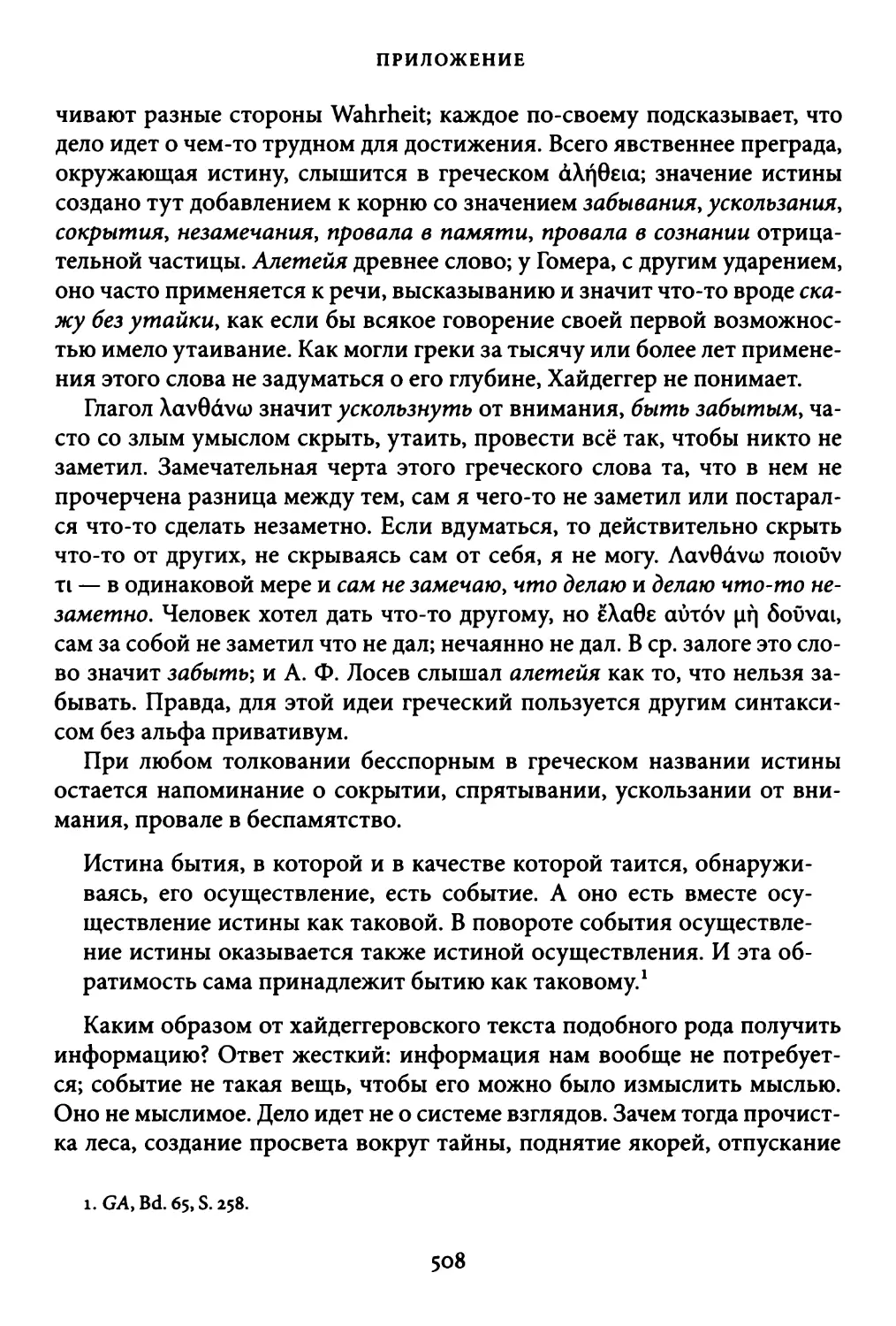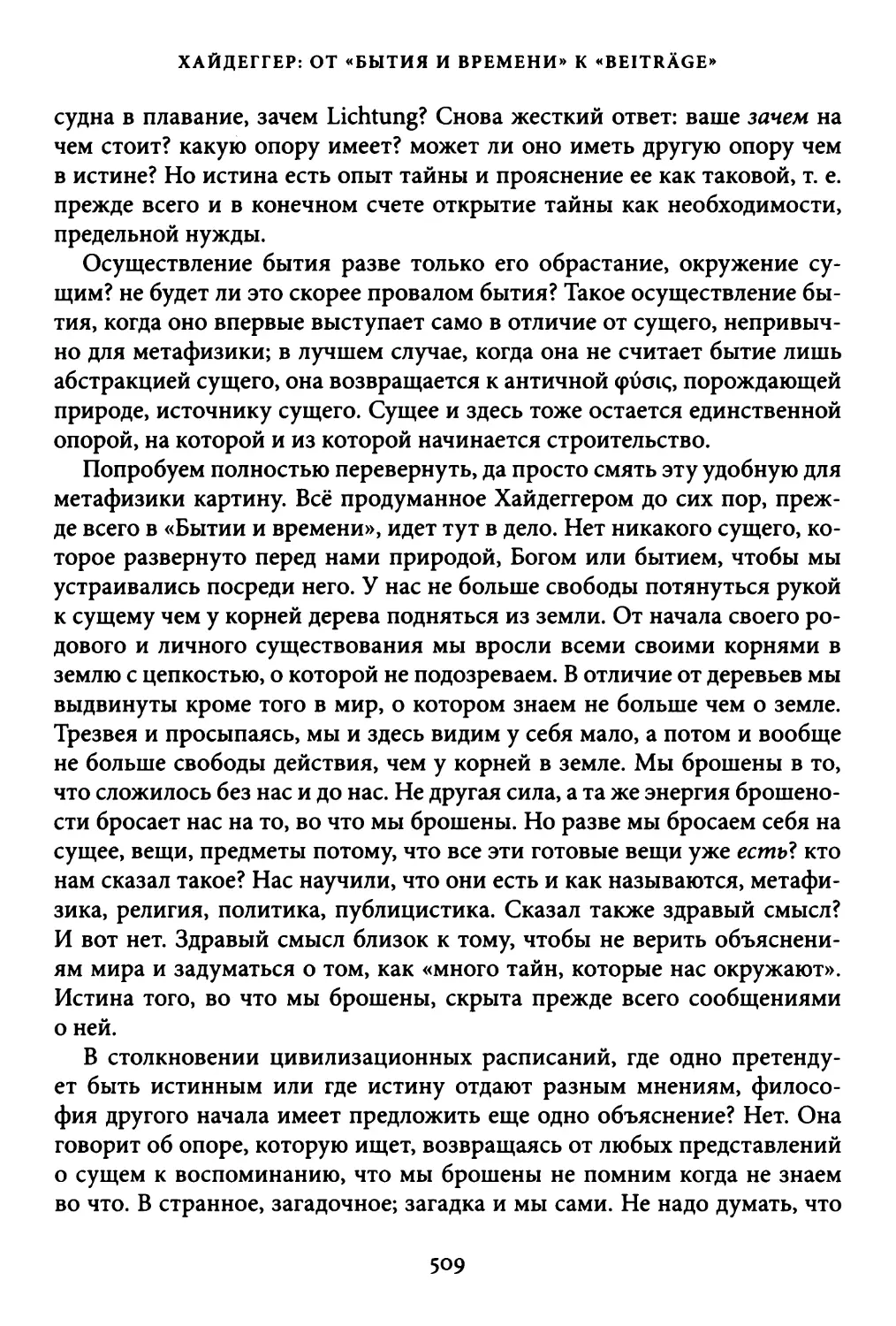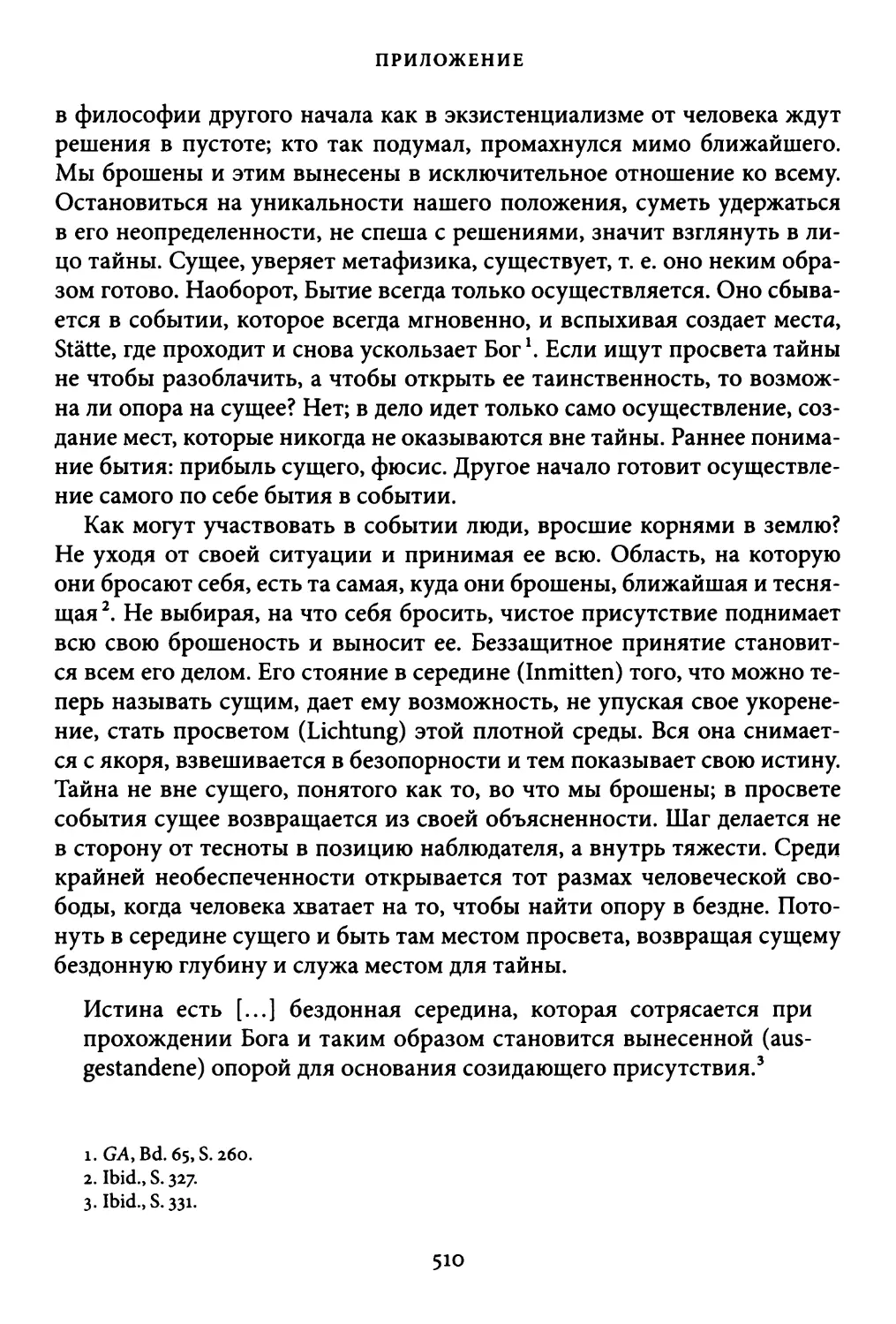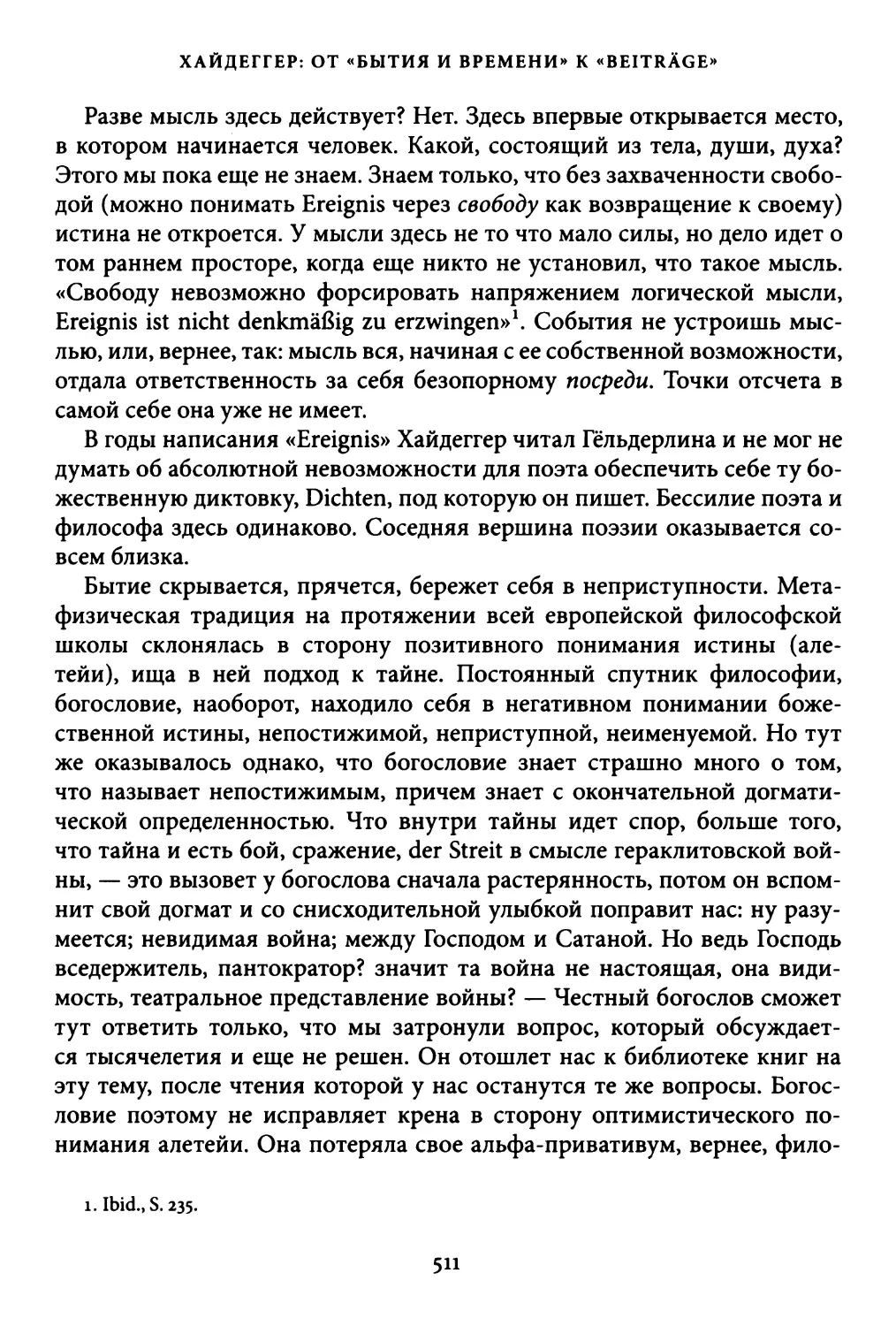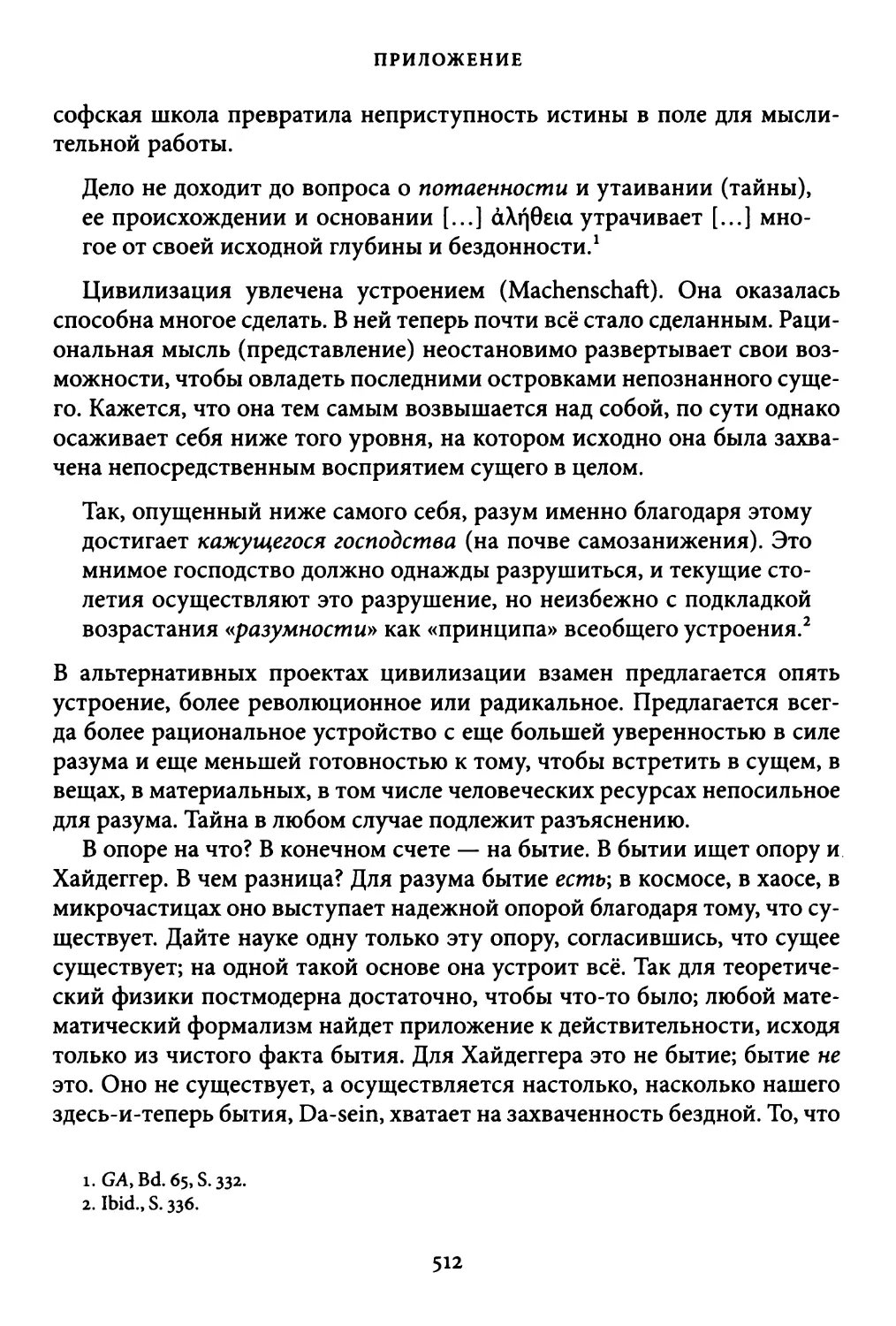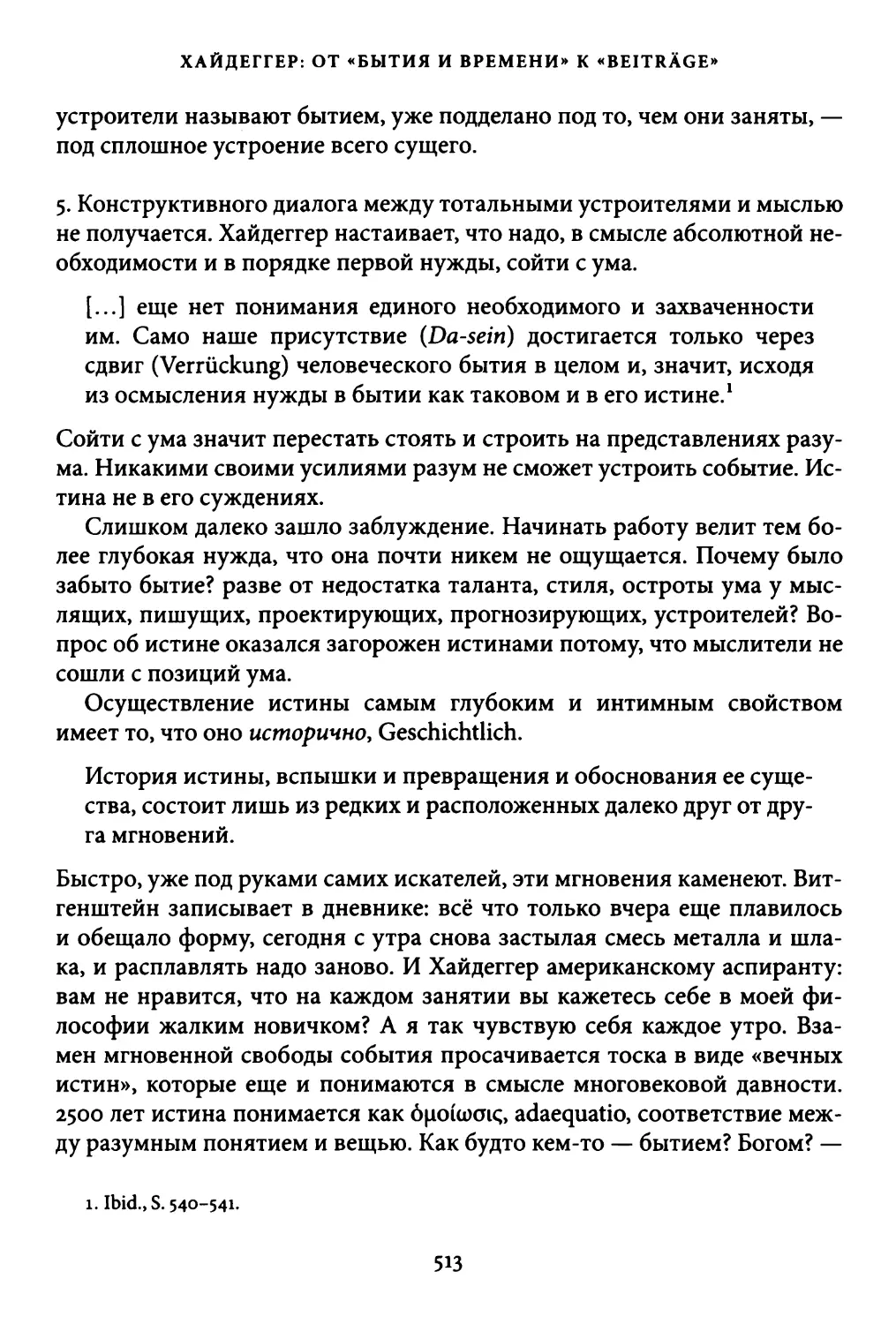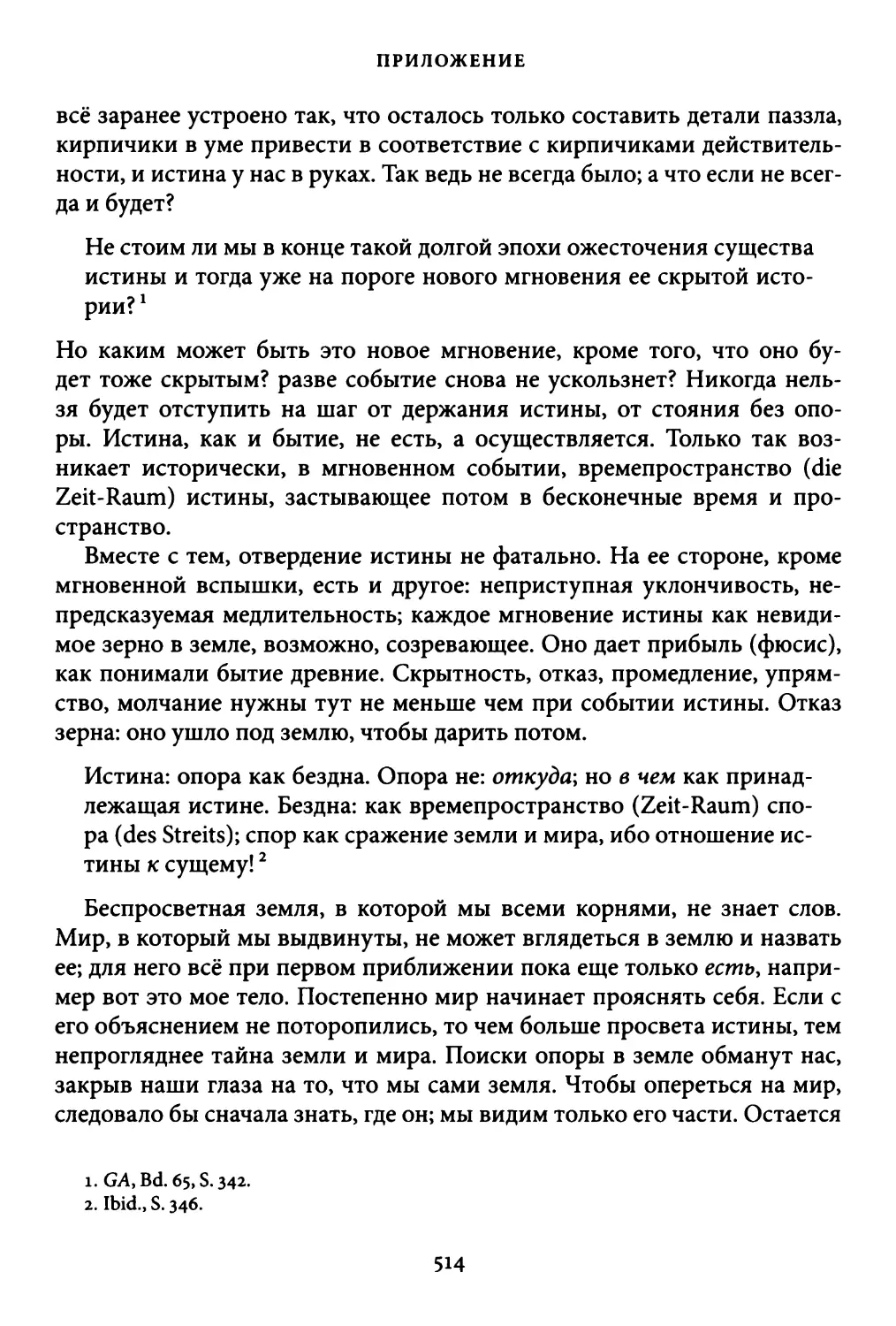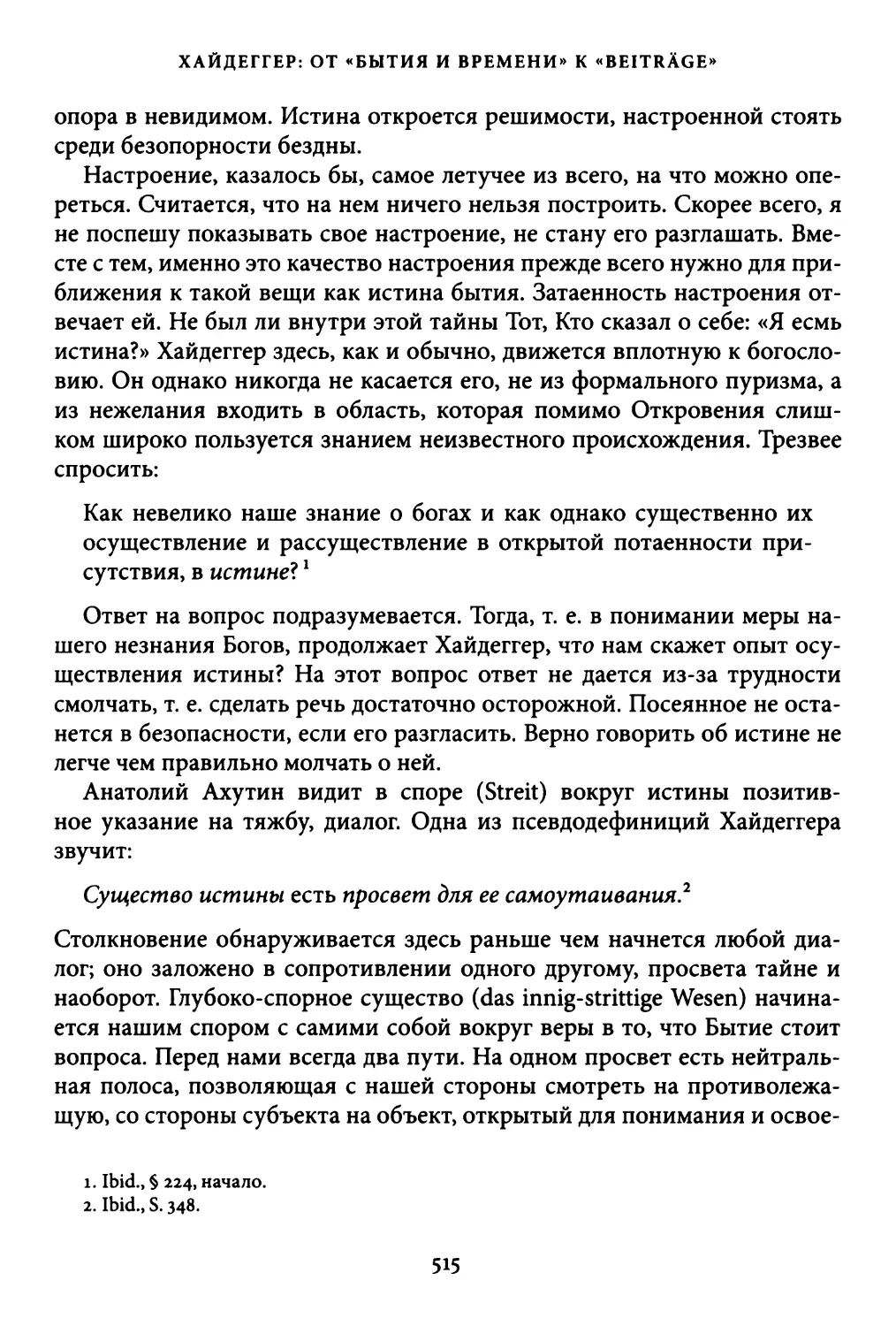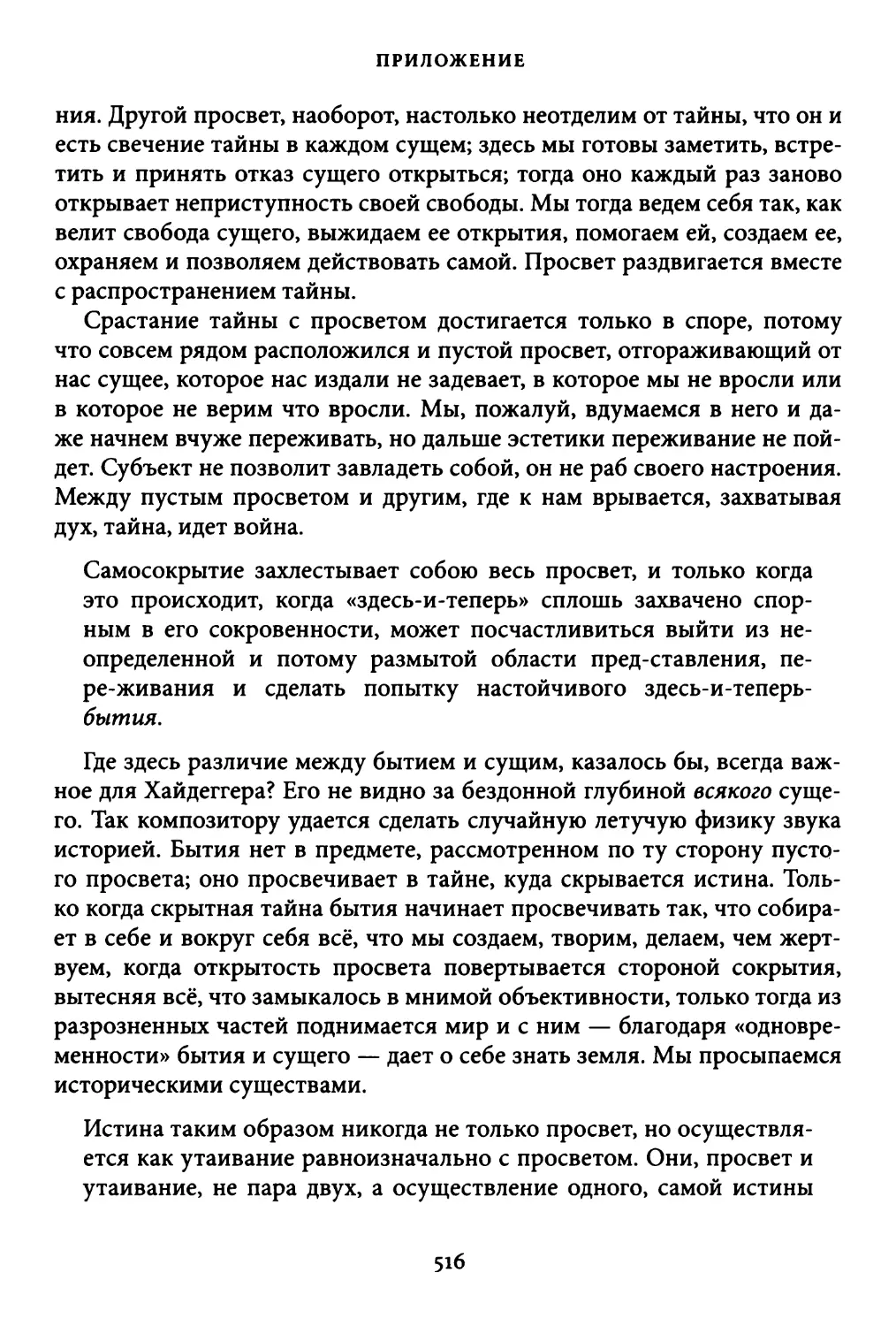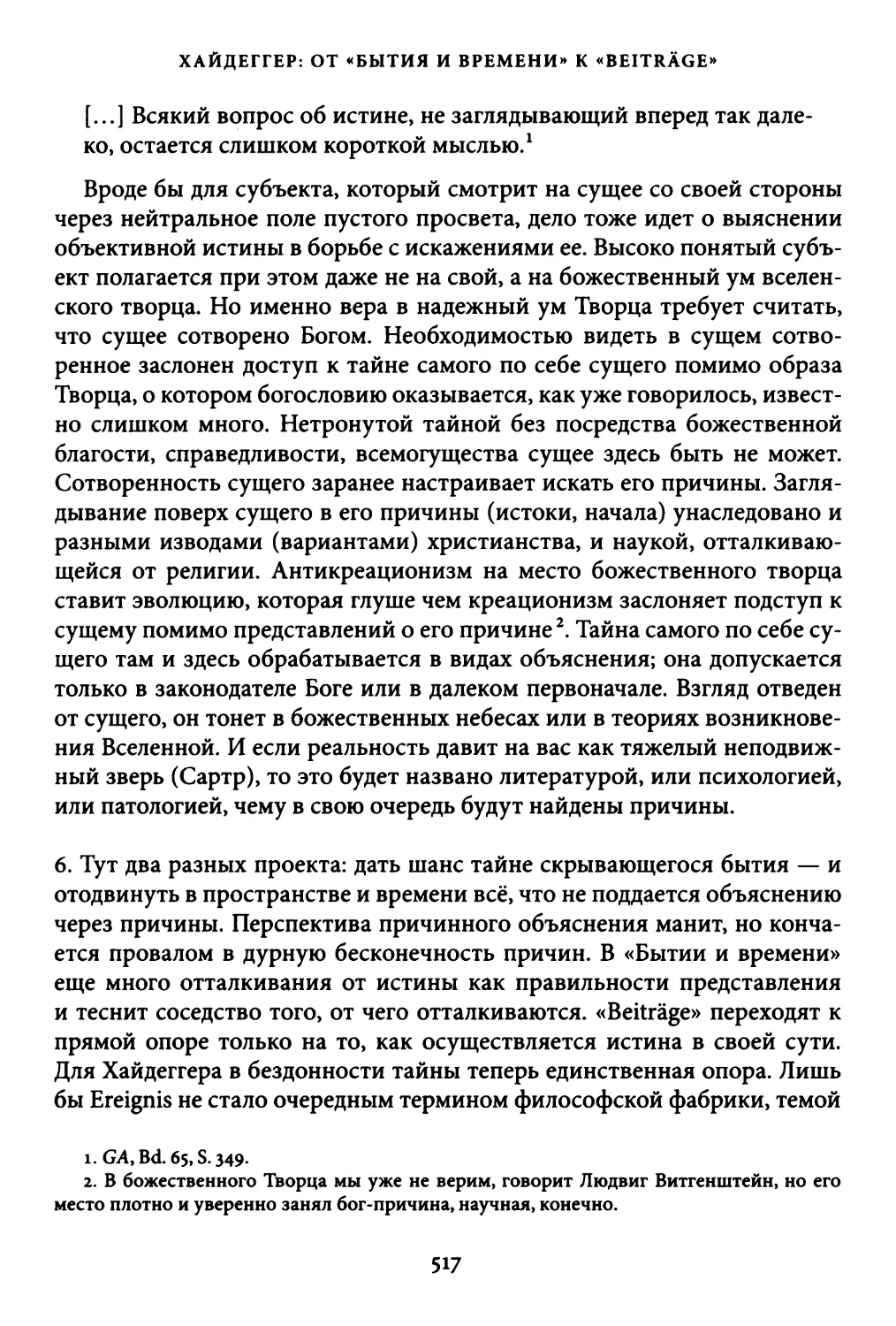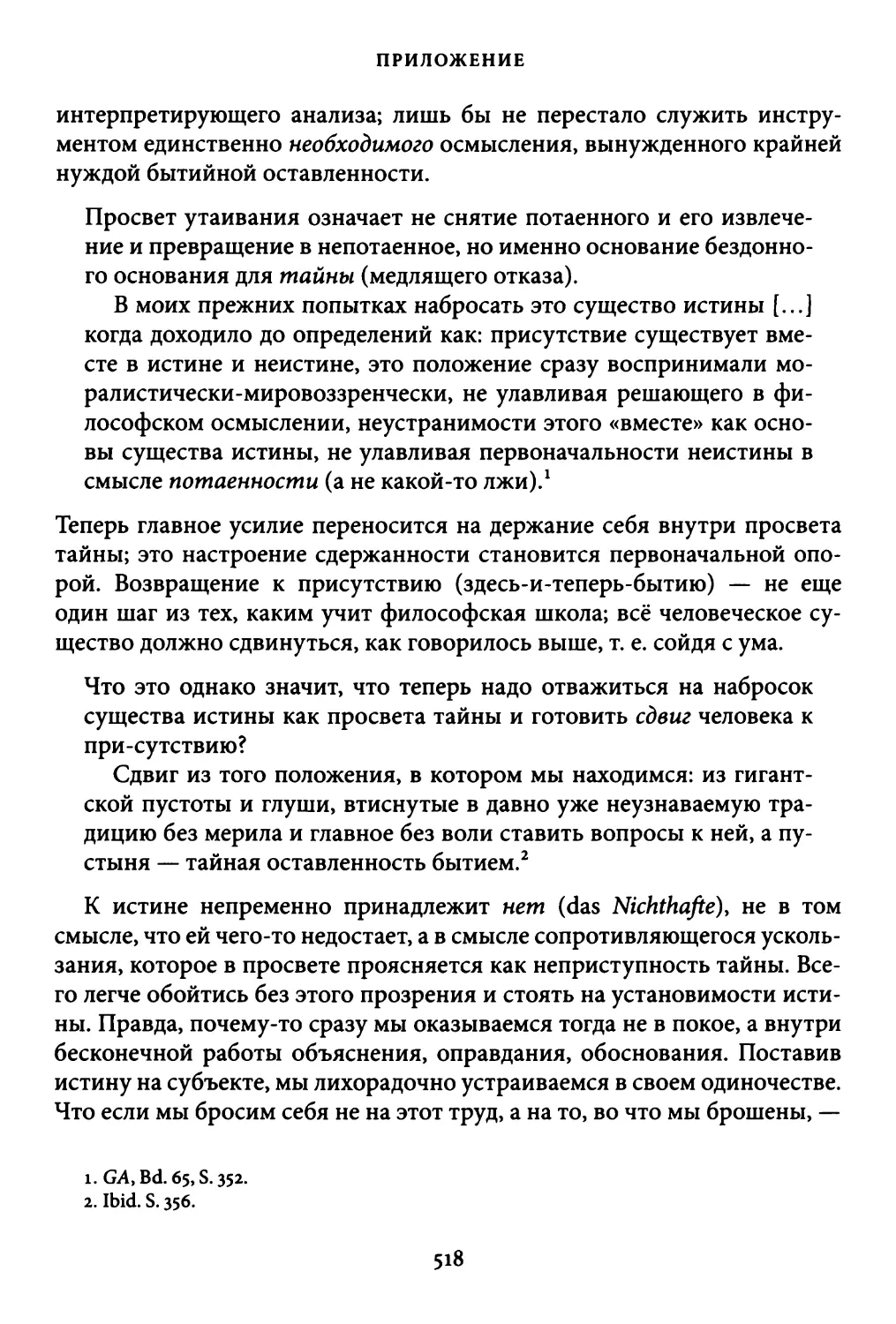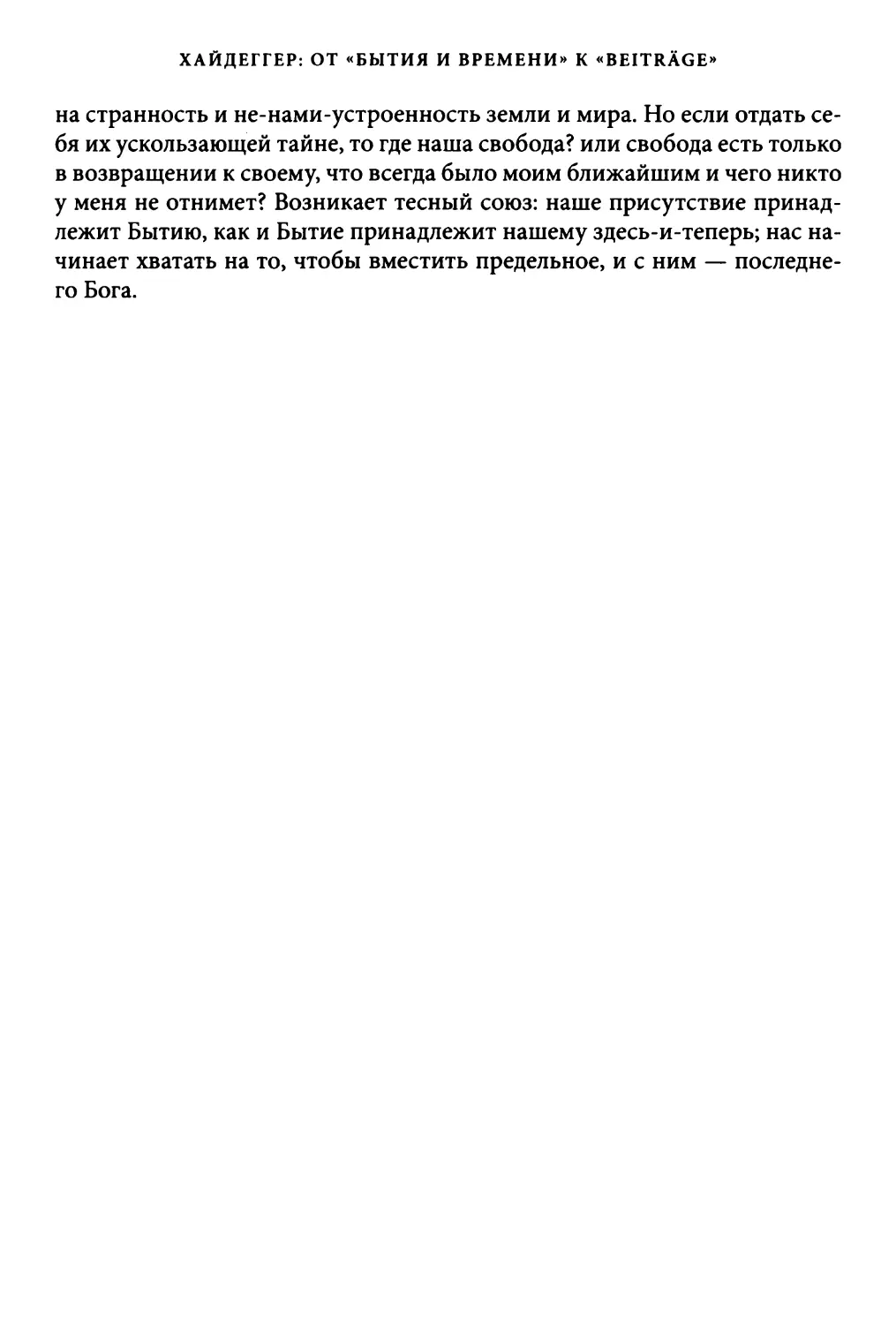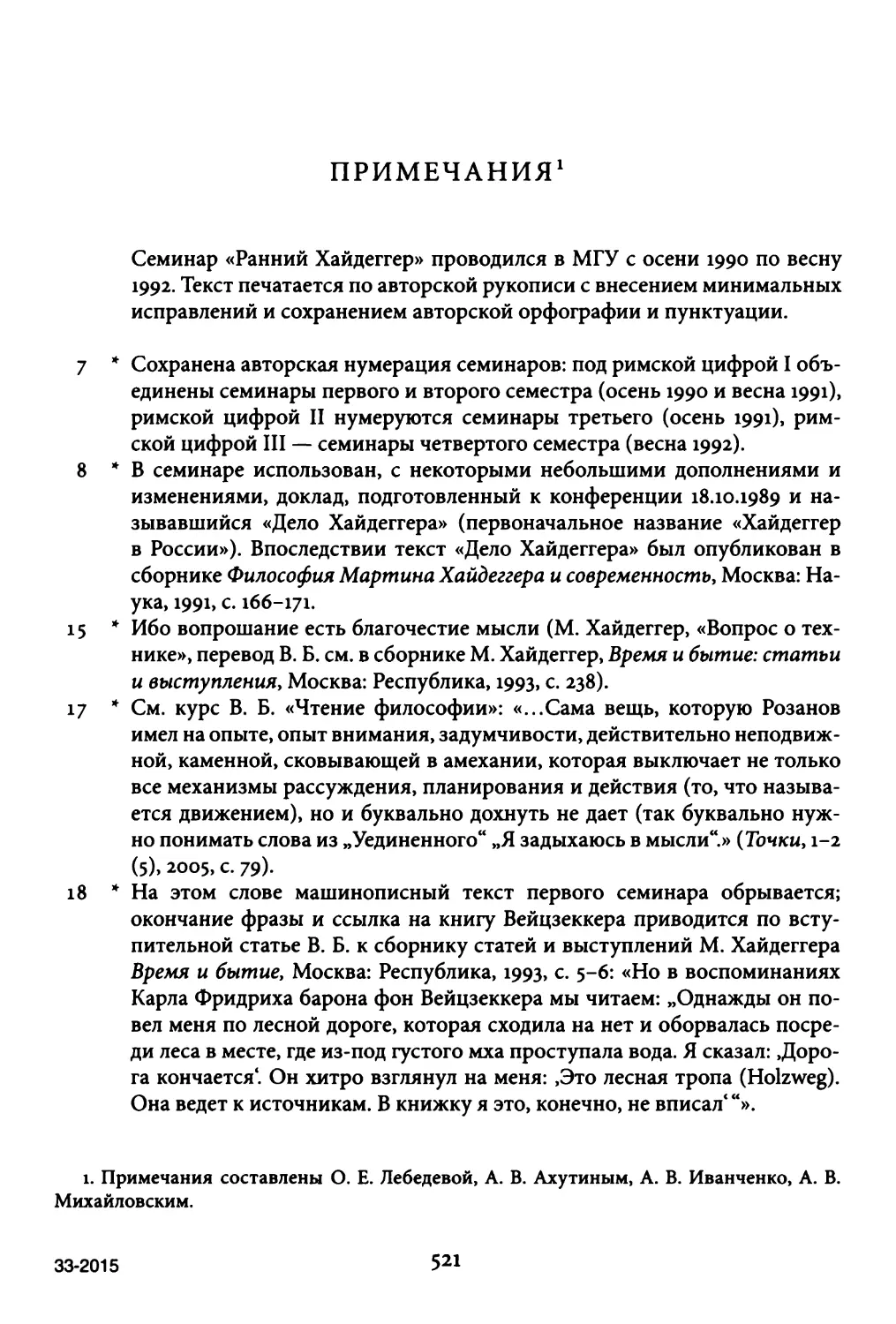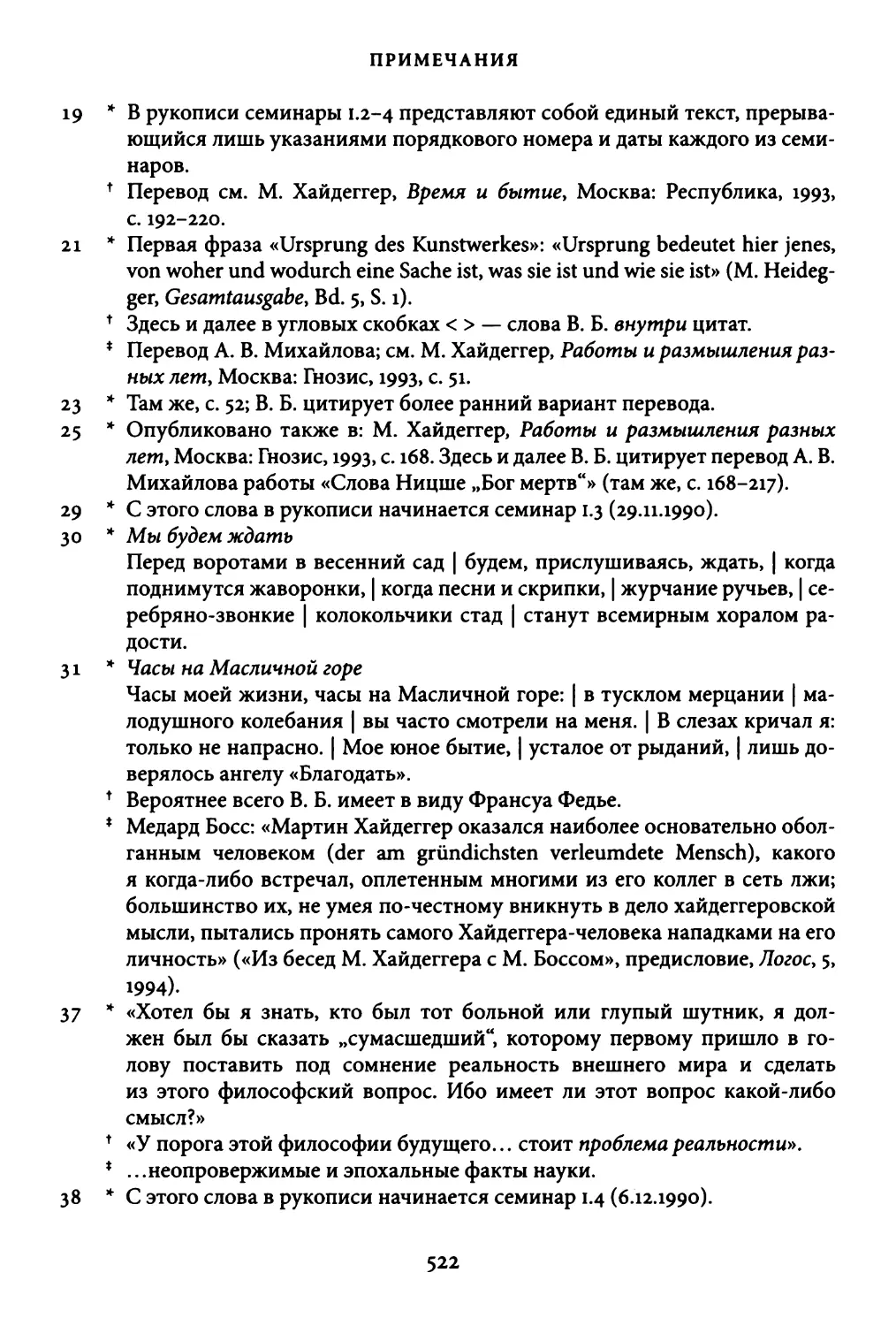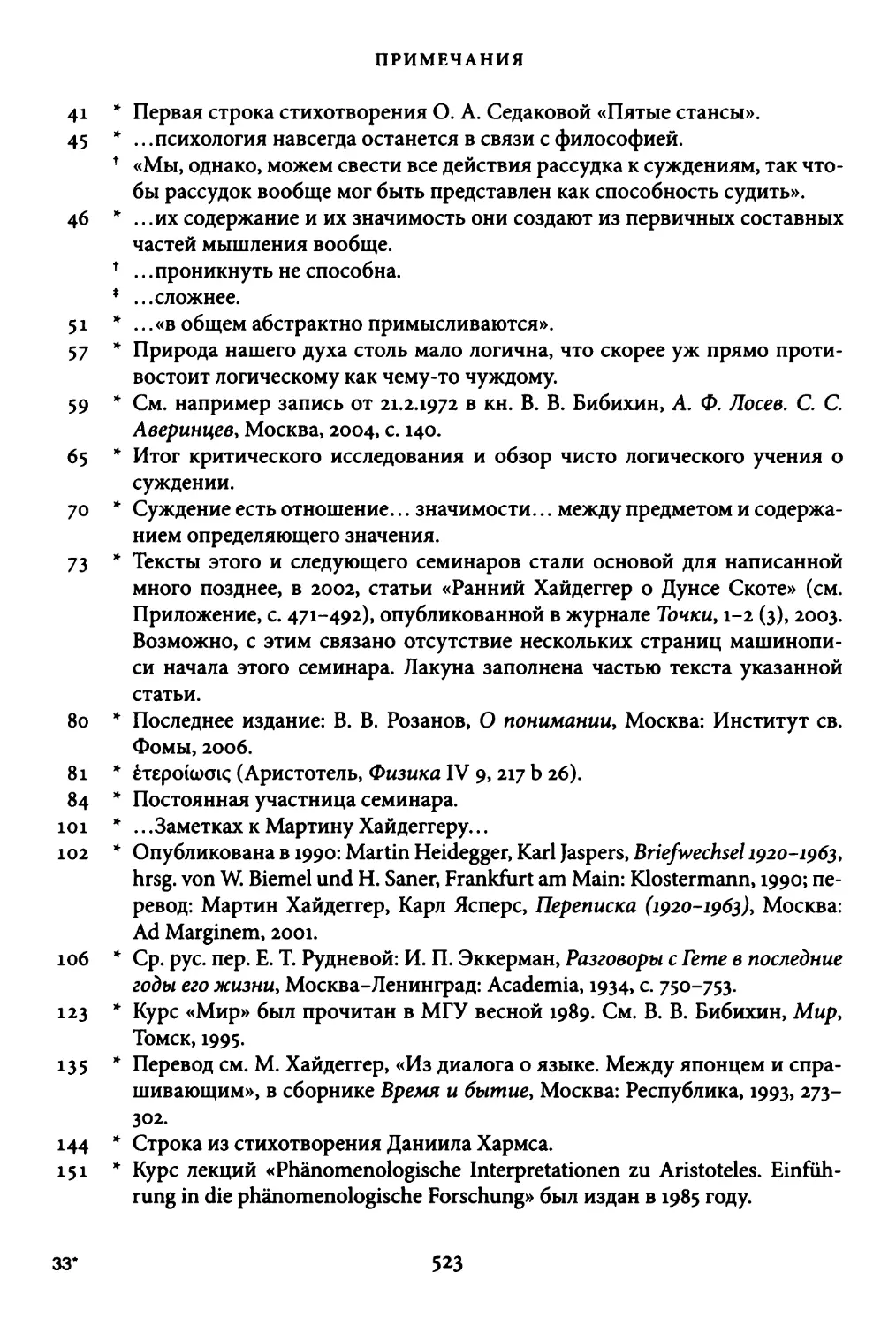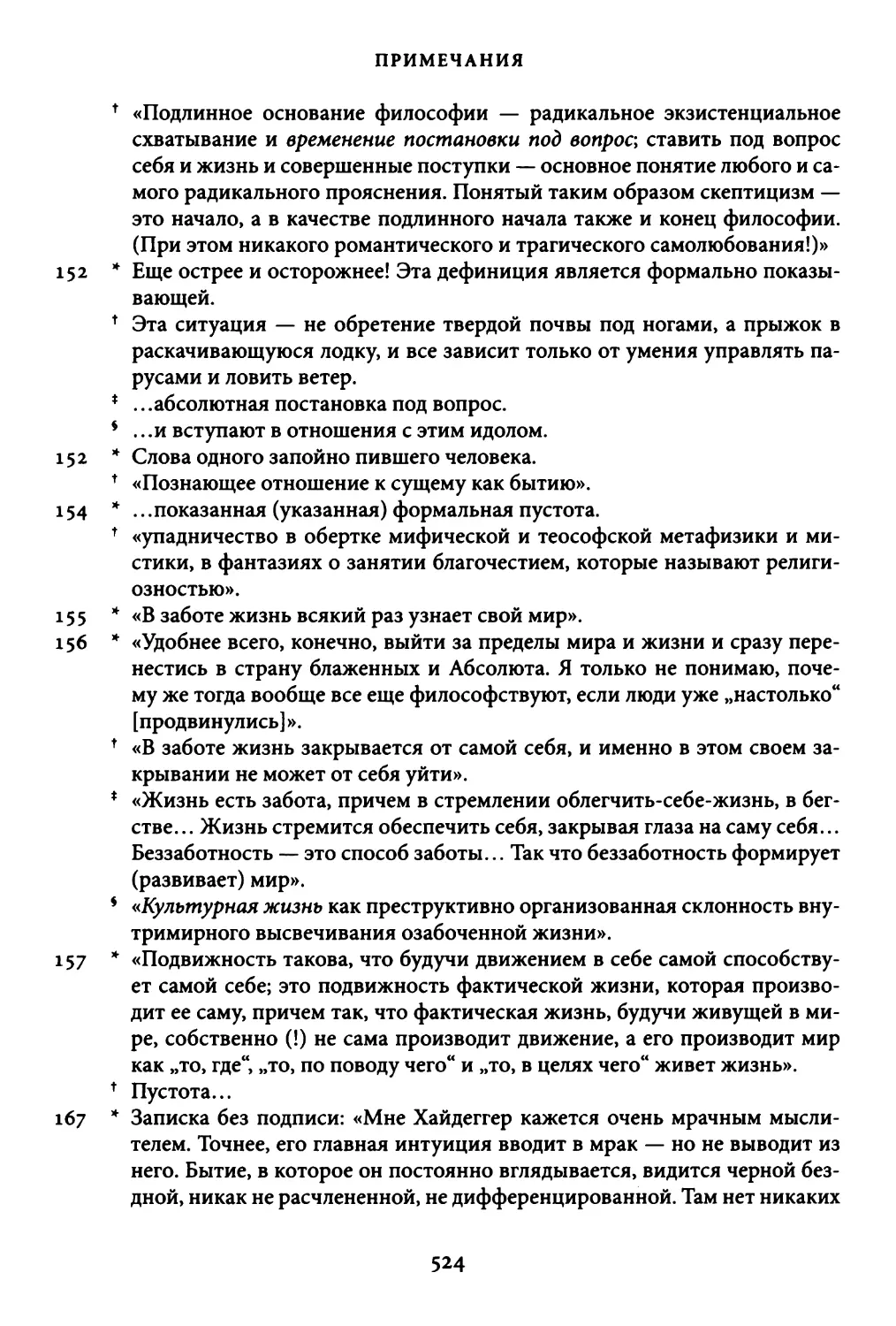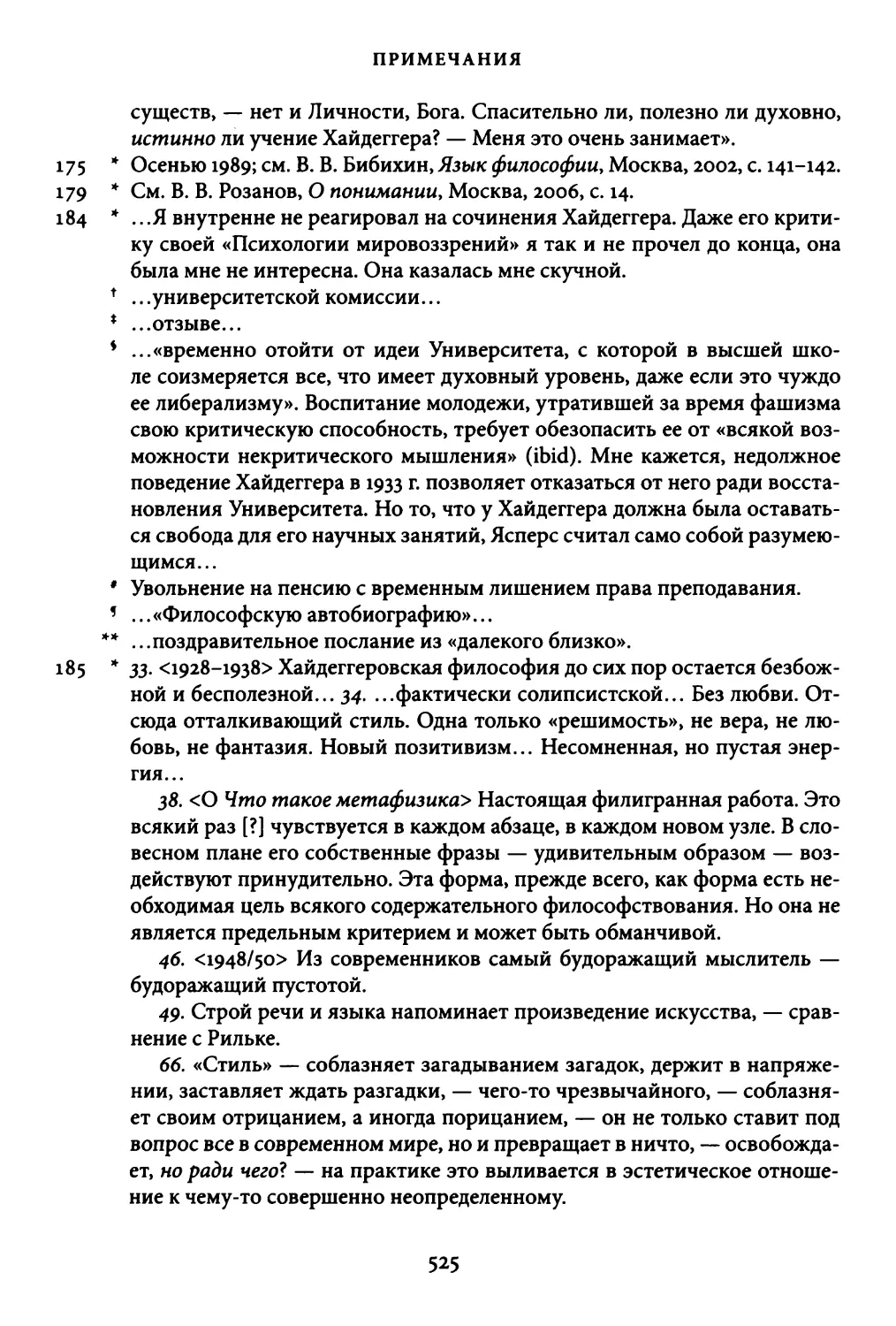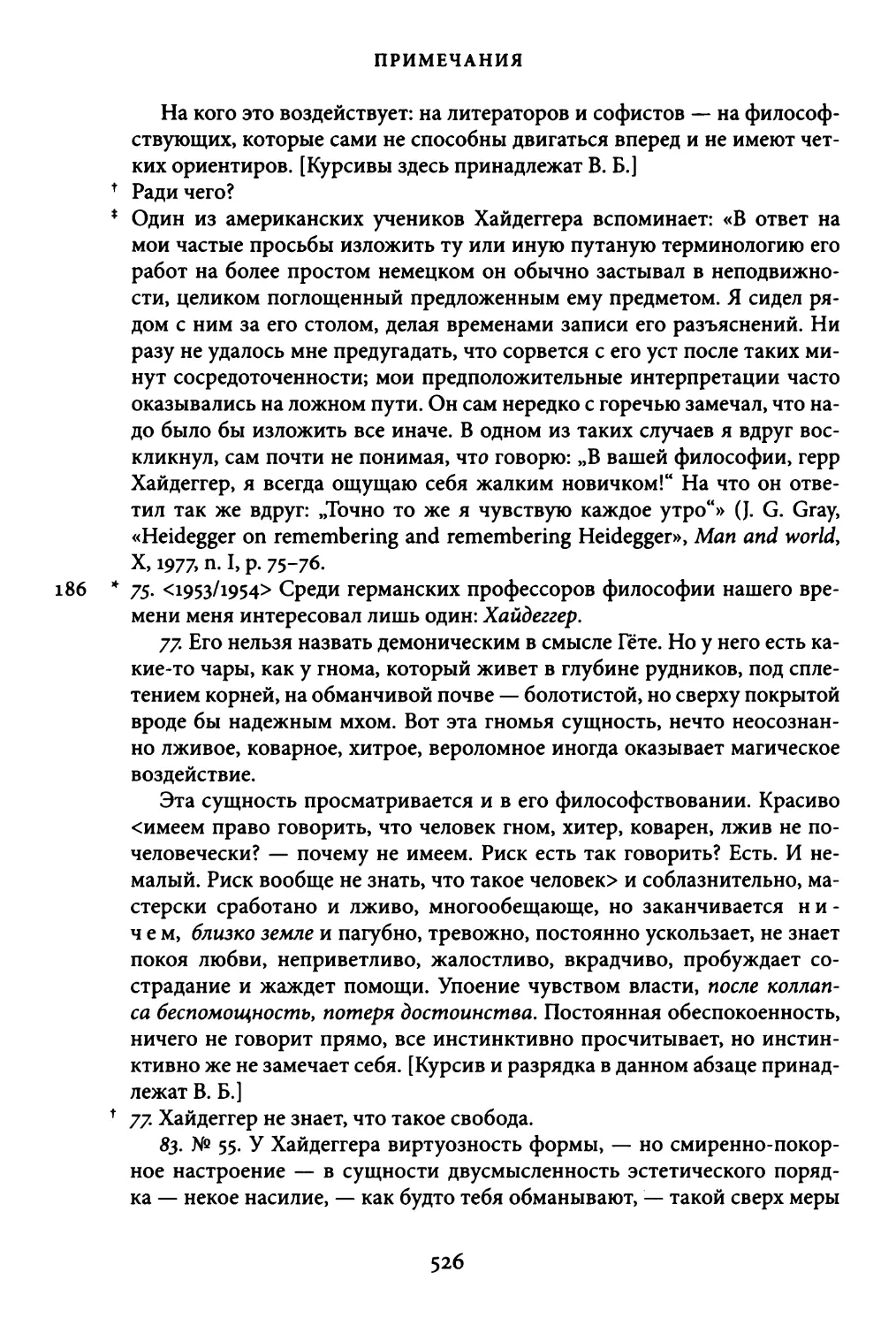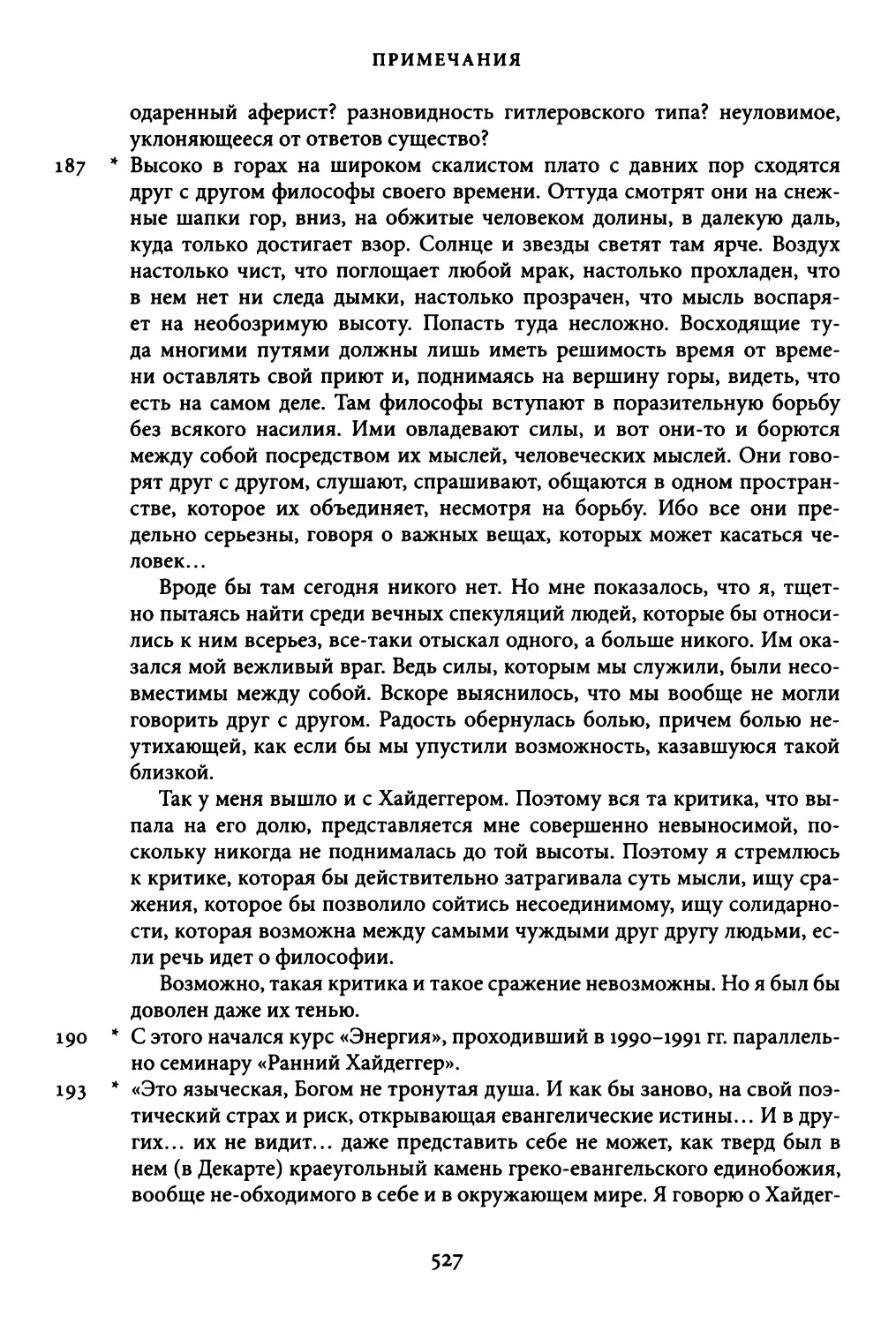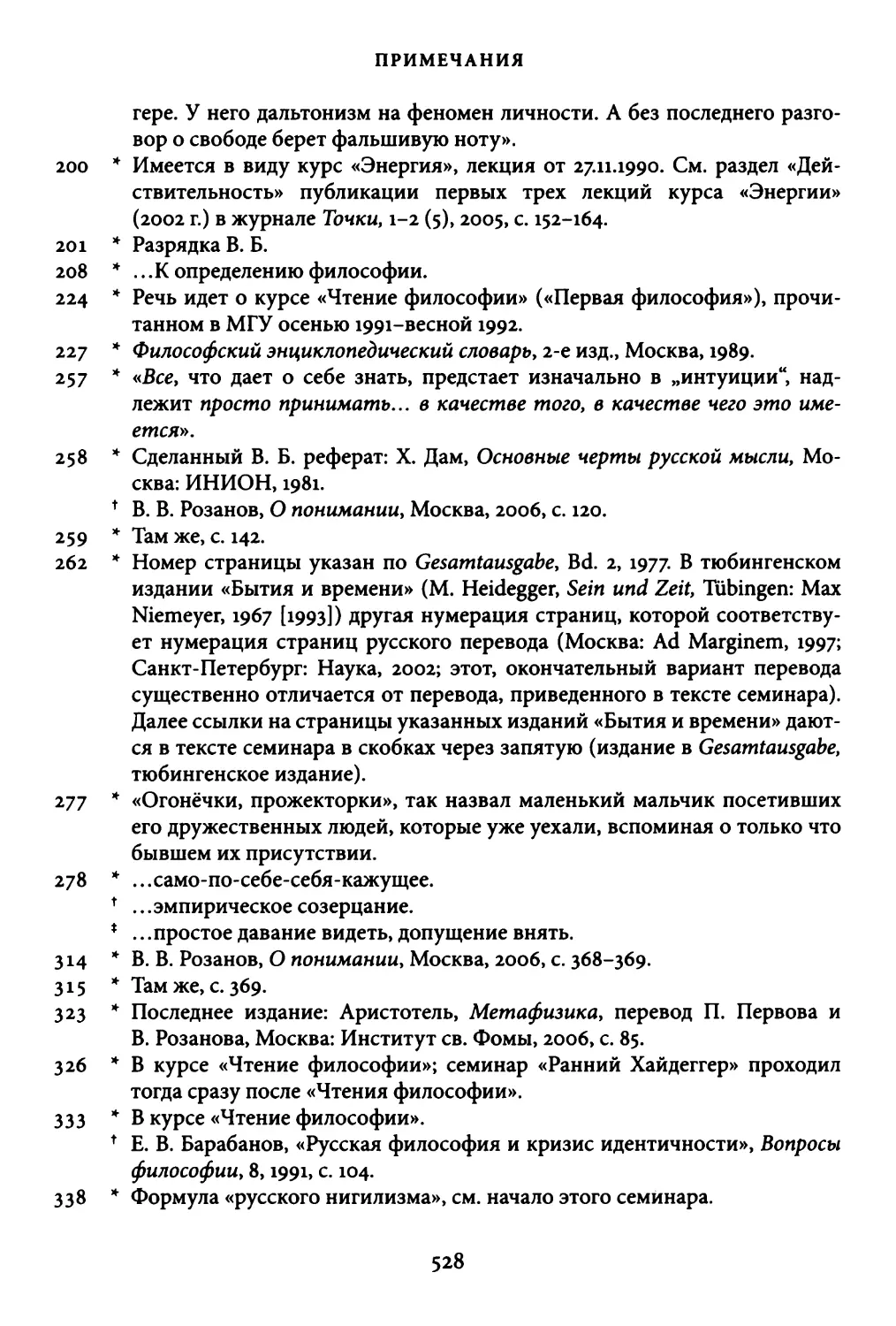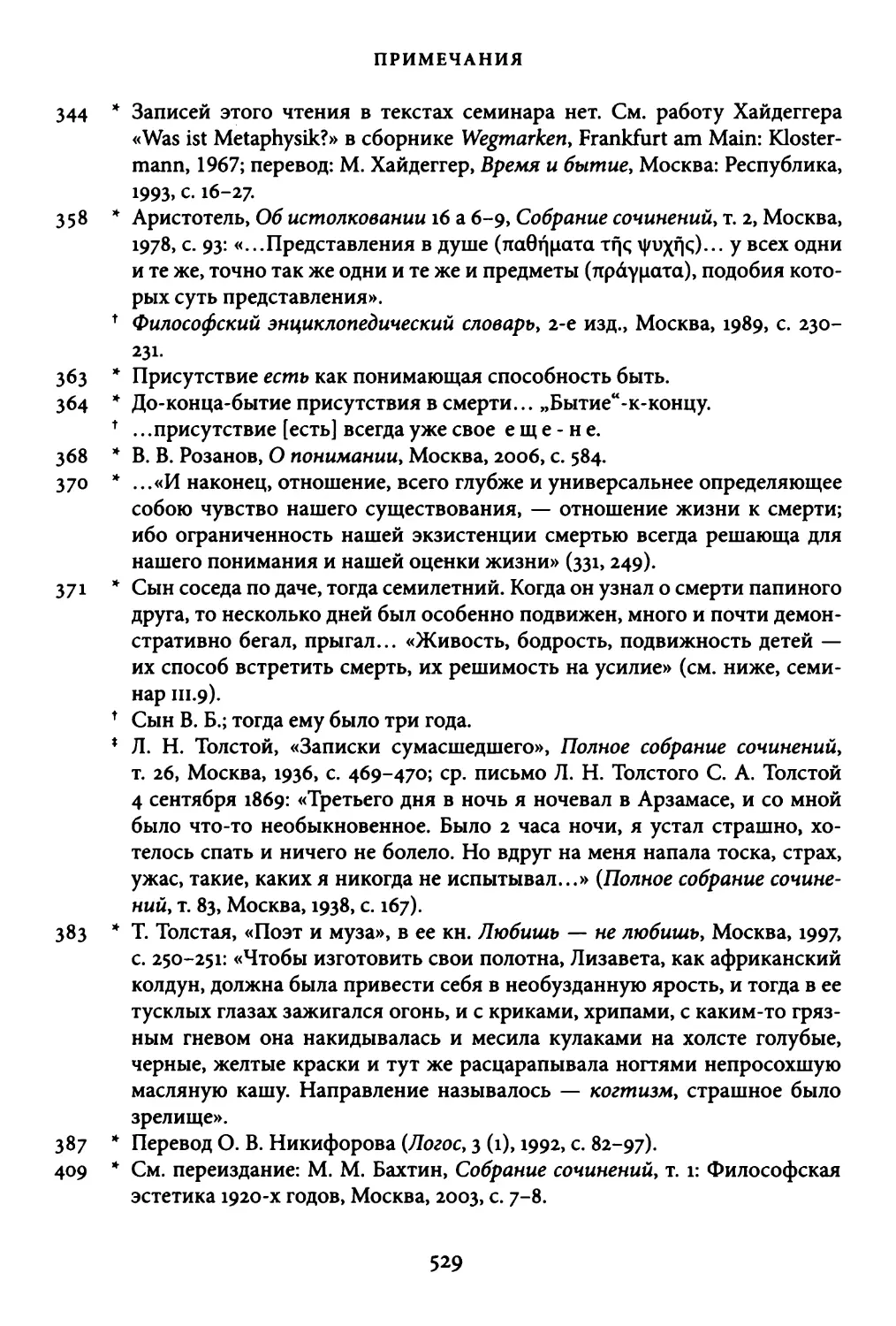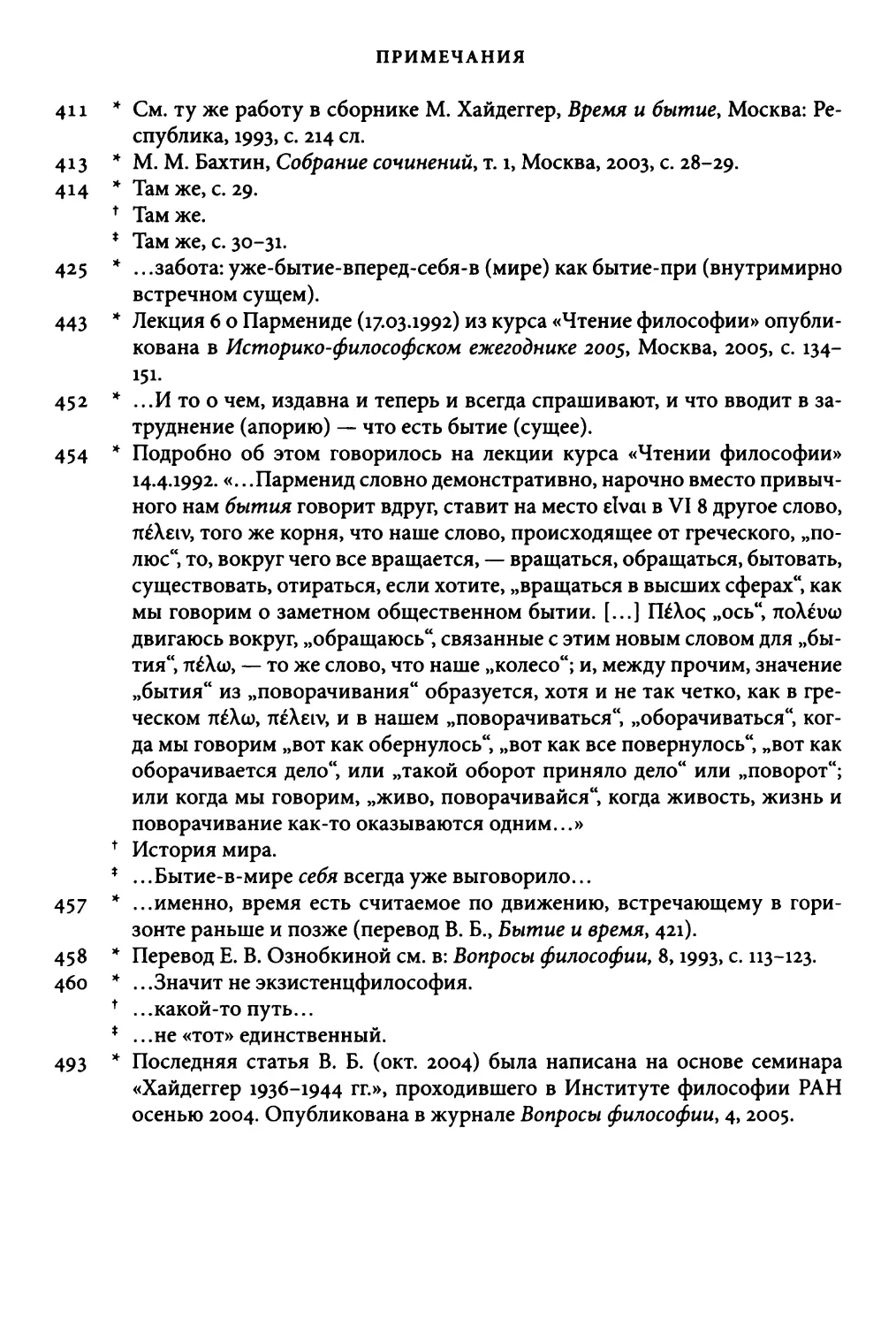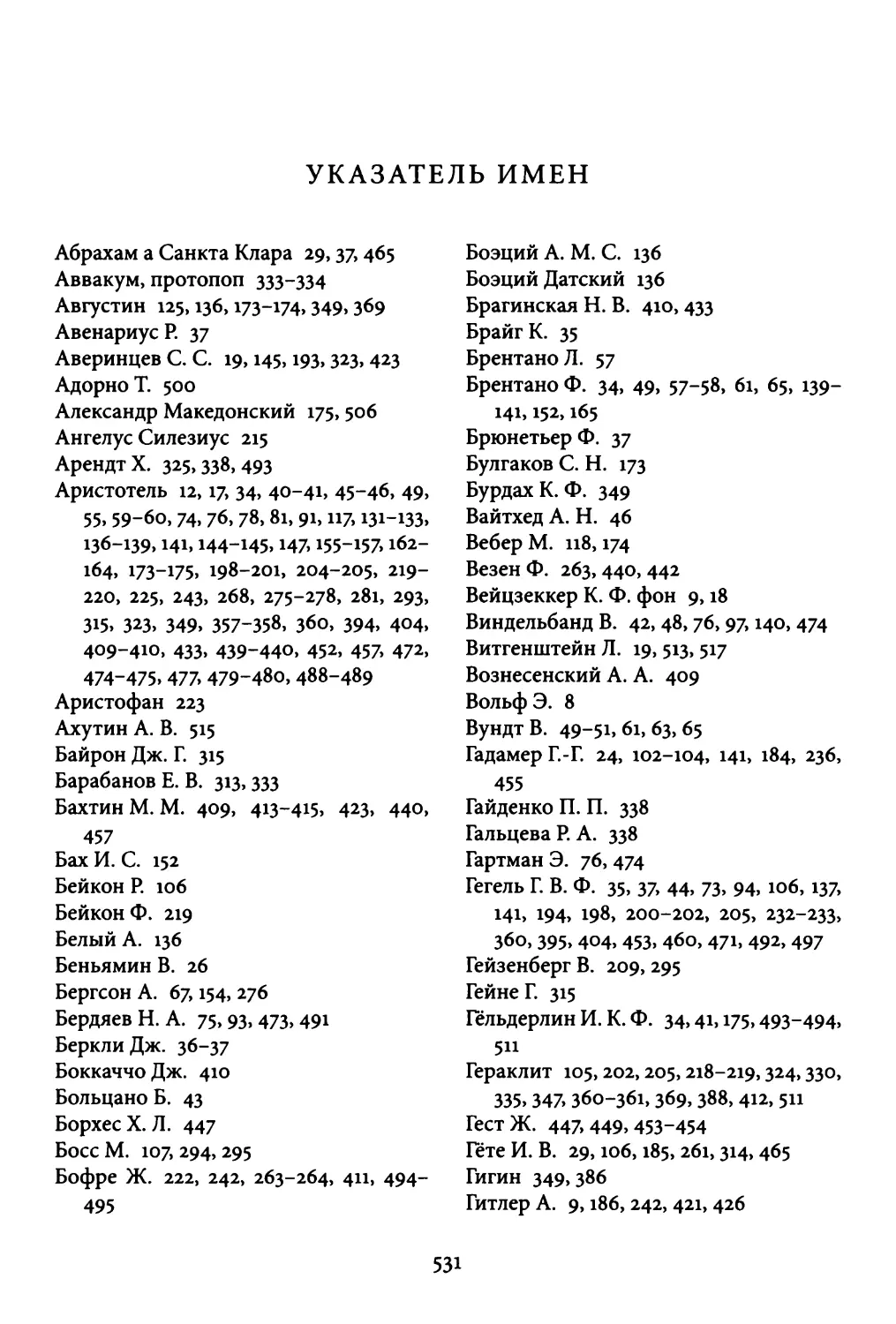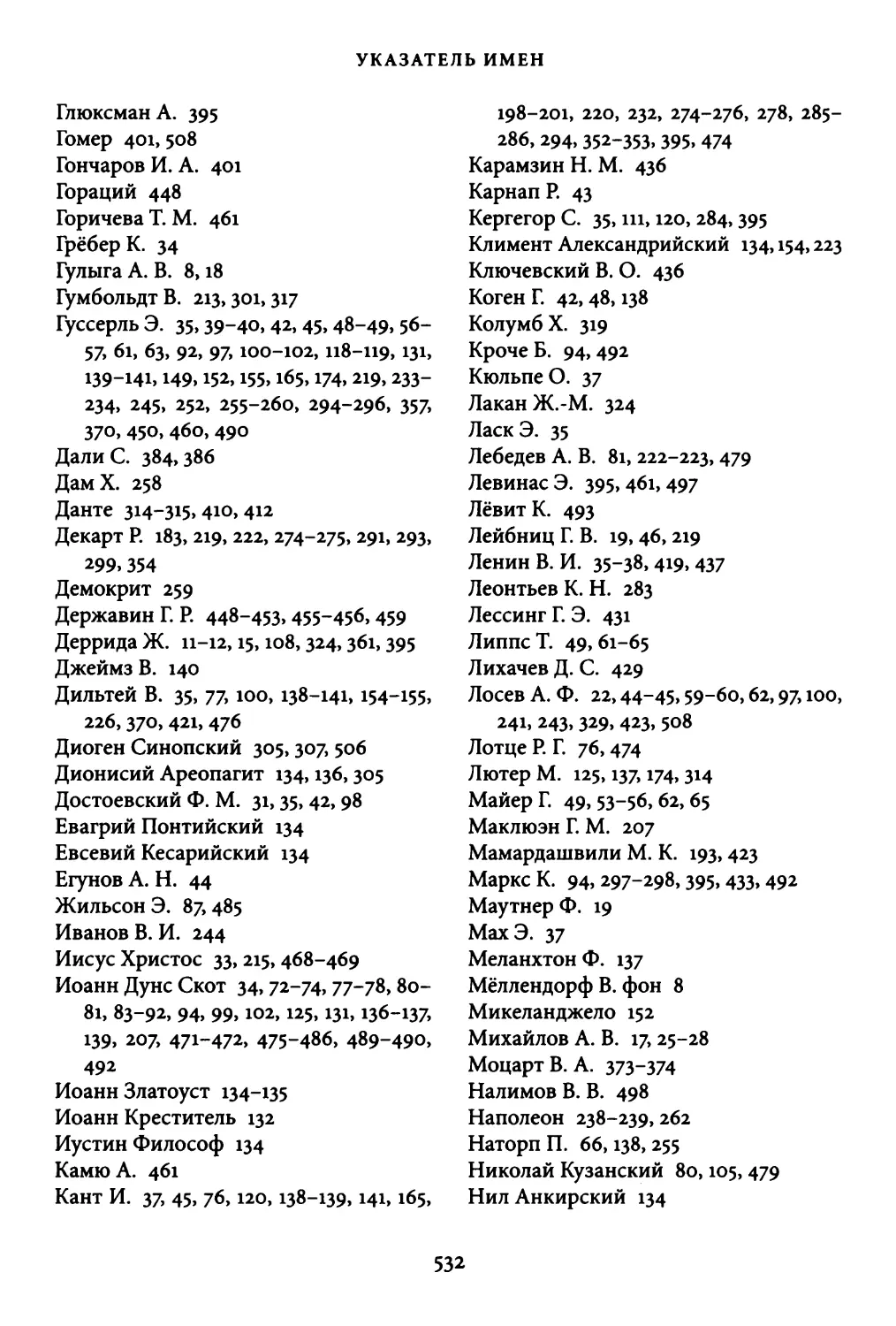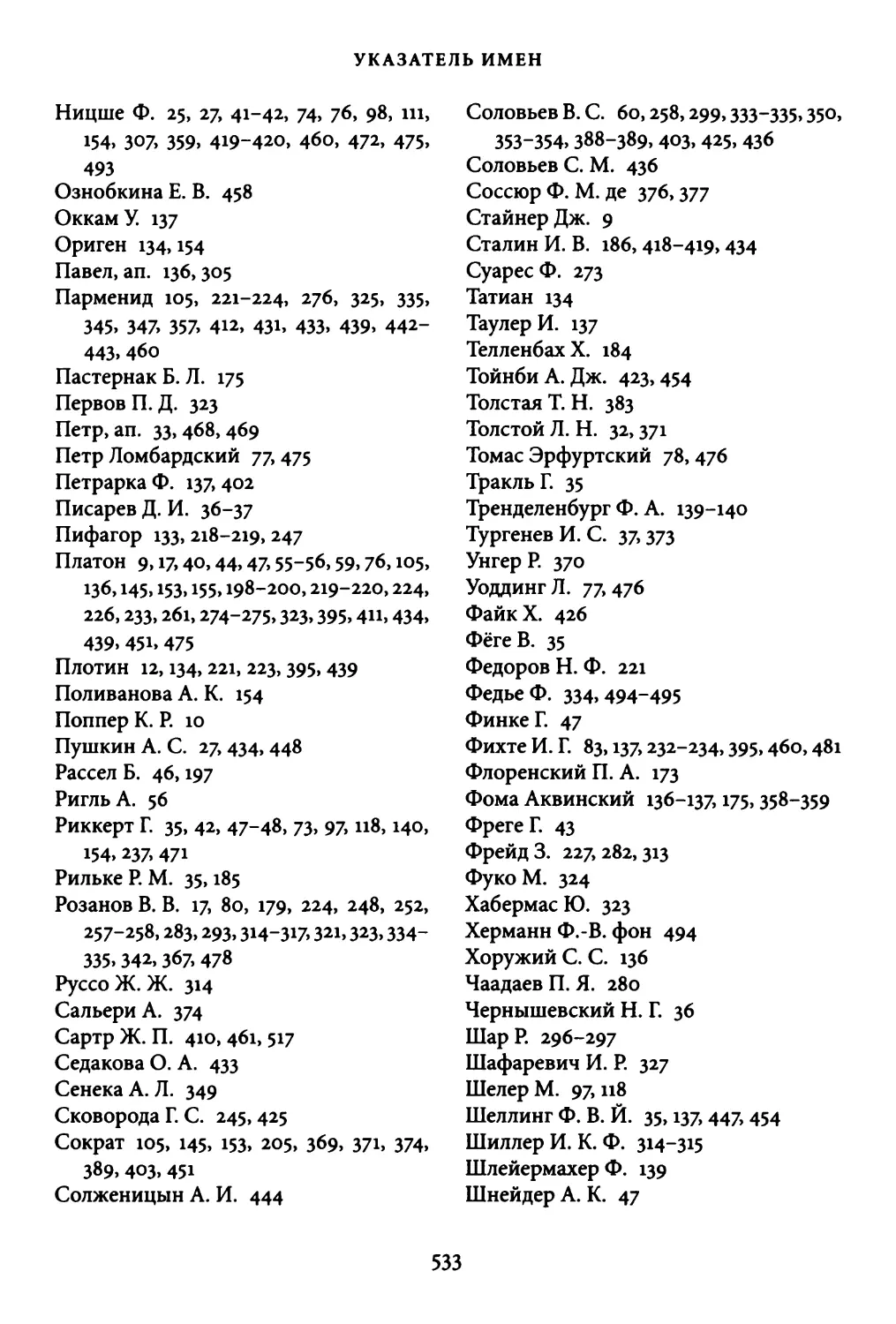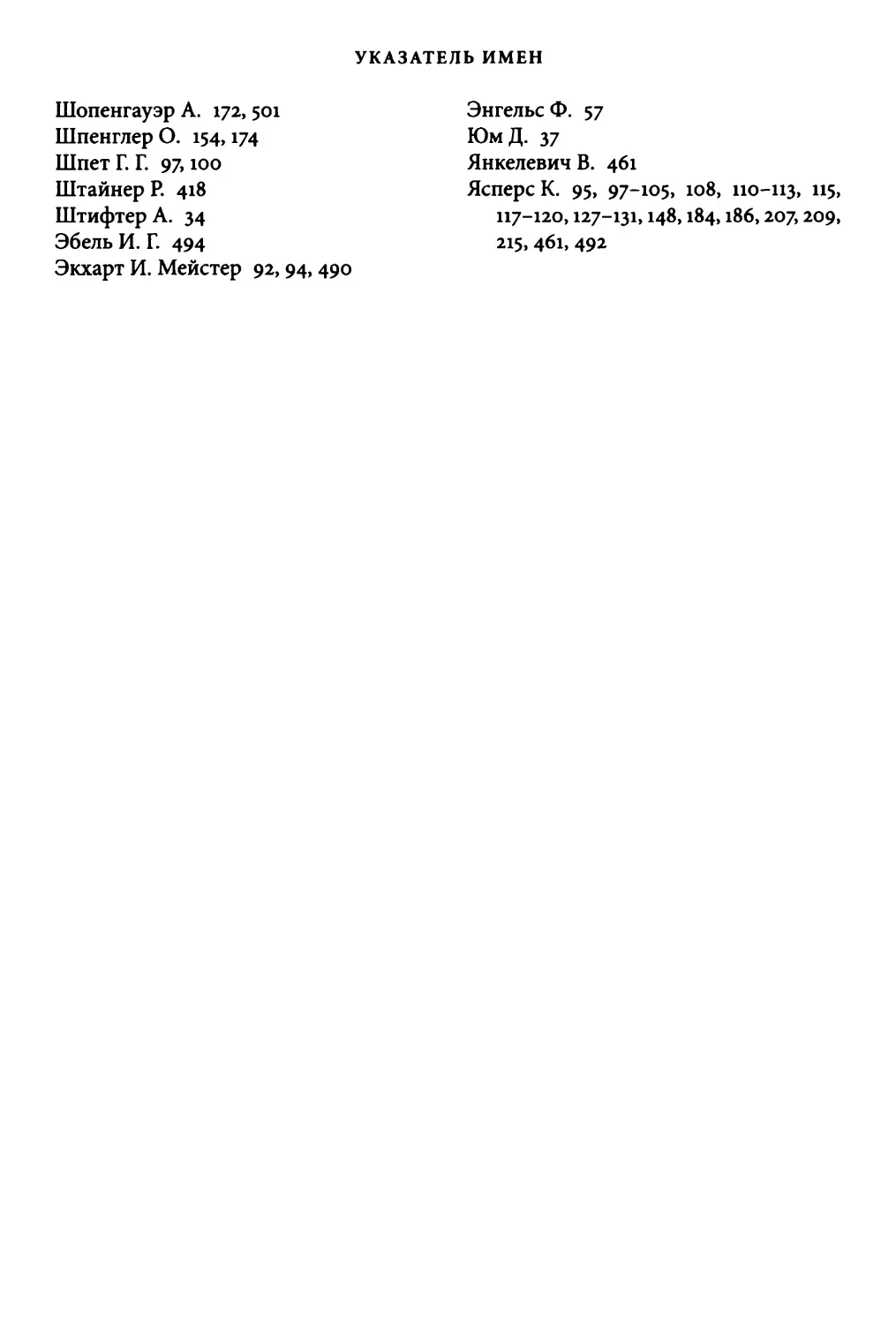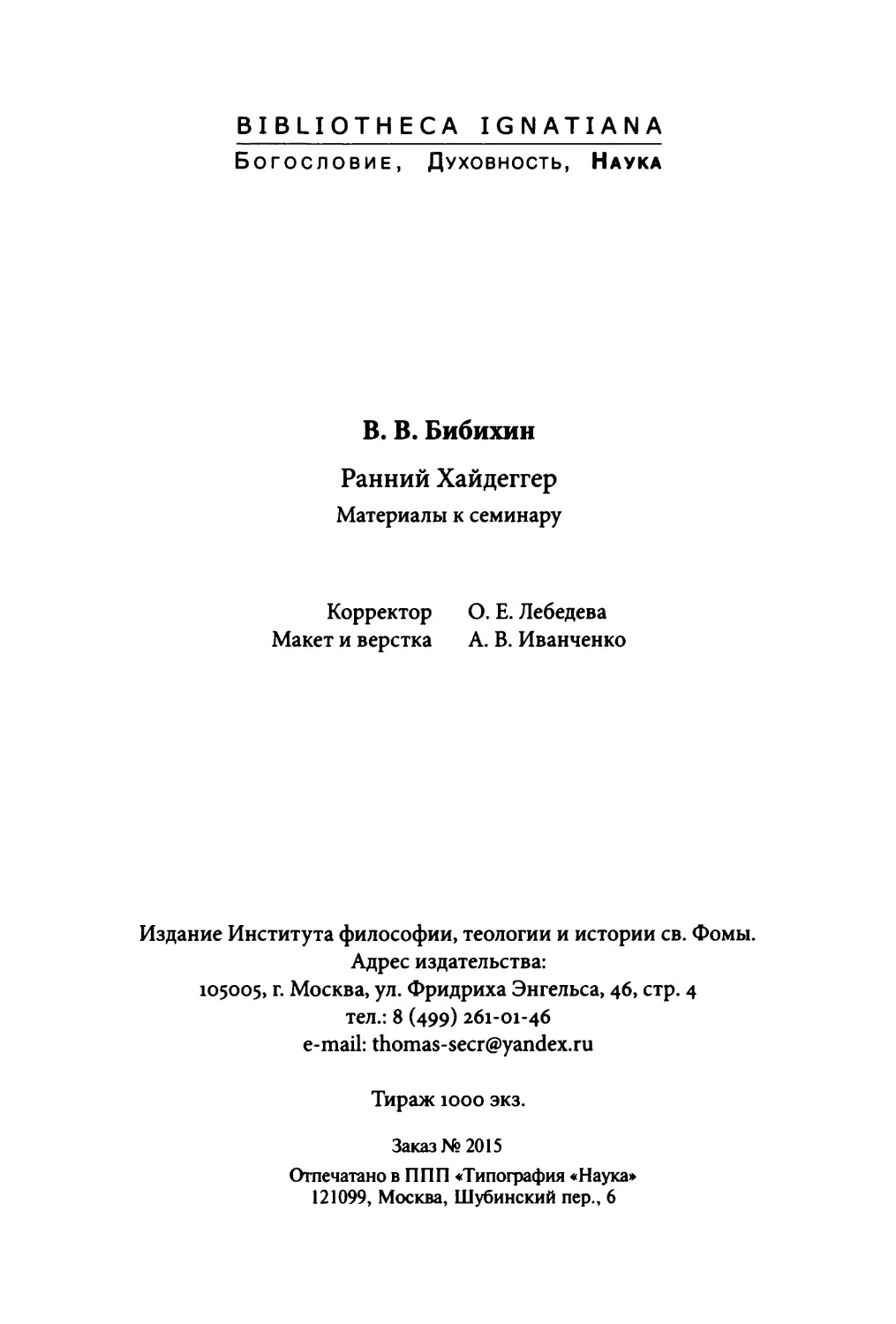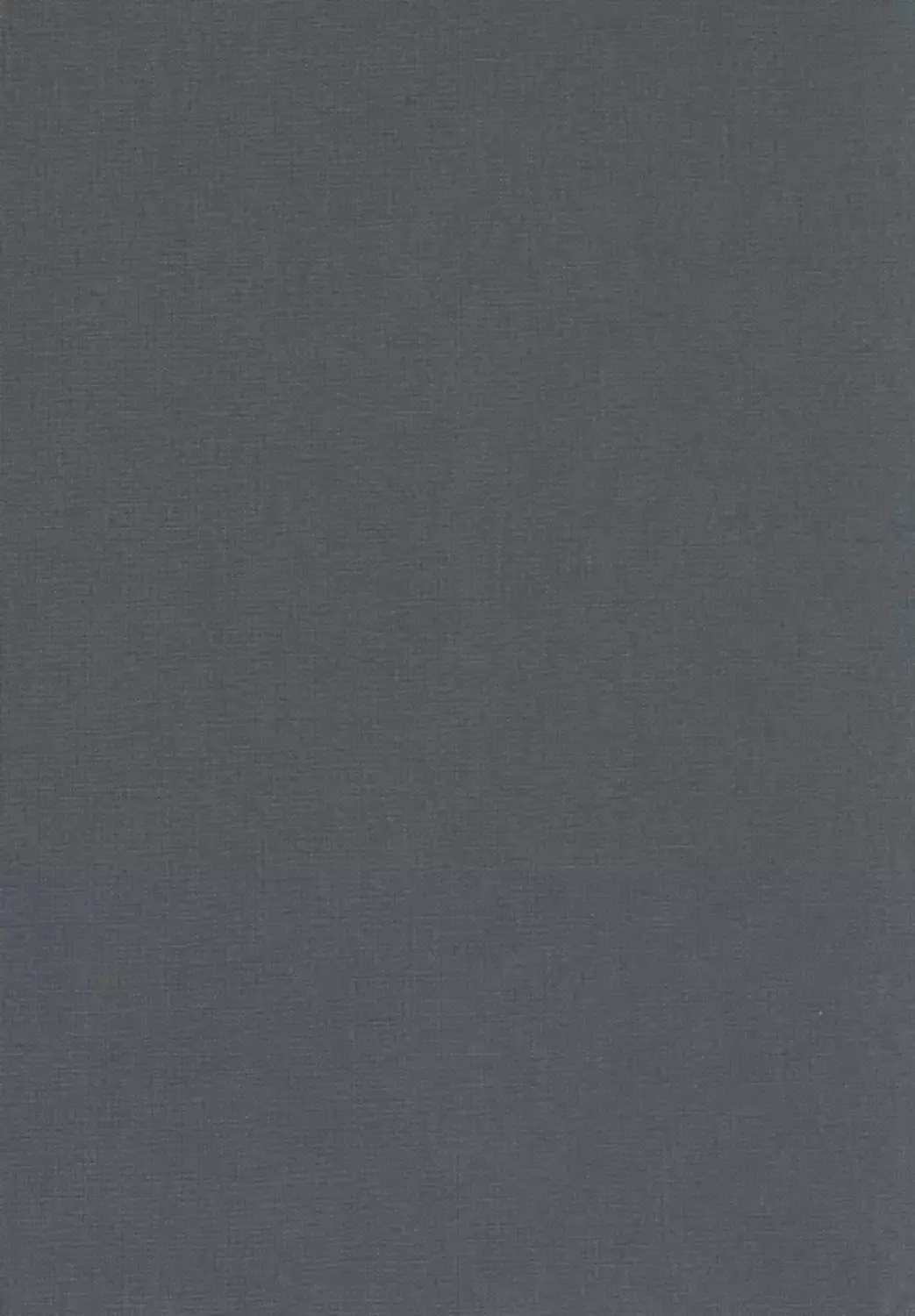Text
В. В . Бибихин
Ранний Хайдеггер
Материалы к семинару
Институт философии, теологии и истории
Святого Фомы
Москва
2009
BIBLIOTHECA
IGNATIANA
БОГОСЛОВИЕ,ДУХОВНОСТЬ,НАУКА
В.Б . БИБИХИН
Ранний
ХАЙДЕГГЕР
МАТЕРИАЛЫ К СЕМИНАРУ
ИНСТИТУТ ФИЛОСОФИИ, ТЕОЛОГИИ И ИСТОРИИ
СВЯТОГО Фомы
МОСКВА
2009
Научный совет издания:
о. Михаил Арранц (SJ) f
Анатолий Ахутин
Владимир Бибихин t
о. Октавио Вильчес-Ландин (SJ)
Андрей Коваль — ученый секретарь
о. Рене Маришаль (SJ)
Николай Мусхелишвили
Дмитрий Спивак
В. В. Бибихин
Ранний Хайдеггер: Материалы к семинару.
—
М.: Институт филосо
фии, теологии и истории св. Фомы, 2009. — 536 с.
Основой книги стал курс «Ранняя философия М. Хайдеггера», прочитанный
В. В. Бибихиным на философском факультете МГУ в течение четырех семе
стров с 1990 по 1992. Ранние произведения немецкого философа прочитыва
ются не как нечто незрелое и предварительное, а скорее как комментарий к
позднейшему Хайдеггеру. Большая часть курса и семинаров посвящена чте
нию и разбору основного произведения Хайдеггера Бытие и время (1927).
Книга дополнена двумя статьями, написанными на основе курса, и статьей
«От Бытия и времени к Beiträge», являющейся своеобразным продолжени
ем его тематики.
© В. В. Бибихин, 2008
© О. Е. Лебедева, составление, 2оо8
© ИНСТИТУТ фиЛОСОфиИ, ТеОЛОГИИ И ИСТОрИИ СВ. ФОМЫ, 2008
ISBN 978-5 -94242-047-5
Все права защищены. Никакая часть данной книги, не может быть воспро
изведена в какой бы то ни было форме, включая размещение в сети Интер
нет, без письменного разрешения владельцев авторских прав.
СОДЕРЖАНИЕ
Семинары
.1(15.11 .1990)
. 2 -4 (22.11 , 29-11, 6.12 .1990)
.5 (13.12 .1990)
.6 (20.12.1990)
.7(27.12 .1990)
. 8 (12.2.1991)
. 9(19.2 .1991)
. ί ο (26.2 .1991)
.11(5.31991)
.1 2 (12.3 .1991)
.1 3(19.3 .1991)
. 1 4(16.4 .1991)
.15 (23.4 .1991)
.16(7.51991)
Li (3.9.1991)
1.2(17.9 .1991)
1.3 (24.91991)
1.4(1.10 .1991)
1.5 (8.10 .1991)
1.6(15.10 .1991)
1.7 (22.10 .1991)
1.8 (29.10 .1991)
1.9(5.111991)
1.10 (l2.11 . 1991)
1.11 (19.11.1991)
1.12 (26.II .I991)
1.13(3.12 .1991)
I.14(l0.12 .199l)
1.15(17.12.1991)
11.1 (19.2.1992)
II.2 (26.2.1992)
II.3 (4.3 .I992)
7
19
47
53
65
73
83
97
115
1ЗЗ
151
159
17З
189
207
225
241
251
257
265
279
29З
309
З19
333
339
349
363
367
373
383
389
Ill.4(ii.3 .i992)
399
III.5 (18.3 .1992)
407
Ш.6 (8.4 .1992)
417
111.7(15.4 .1992)
423
Ш.8 (22.4 .1992)
429
Ш.9 (29.4 .1992)
439
111.10(6.5 .1992)
447
iii.il (13.5 .1992)
455
111.12 (20.5.1992)
459
Приложение
Два стихотворения раннего Хайдеггера
4^5
Ранний Хайдеггер о Дунсе Скоте
471
Хайдеггер: от «Бытия и времени» к «Beiträge»
493
Примечания
Указатель имен
521
531
LI*
15.11 .1990
Я берусь за дело, которое так же кажется естественным и само собой
разумеющимся, как невозможно, неисполнимо. Казалось бы, чего про
ще: мы берем тексты Хайдеггера, они у нас есть; читаем их, научились
уже их читать; сравниваем с имеющимися переводами, их есть уже не
мало. Это привычные операции с текстами. Занимаемся законным ака
демическим занятием, изучаем или исследуем, важного философского
автора. Важность признана академическим, литературным, политиче
ским миром. Стараемся делать это «объективно», ничего не прибавляя
от себя. И среди вороха текстов Хайдеггера полностью промахиваемся
мимо него, делаем вещь такую же далекую от его мысли, какая только
возможна, — больше и непоправимее от него отдаляемся, чем если бы
никакого такого семинара не вели, имени Хайдеггера не знали и не упо
минали никогда, и даже вообще занимались бы никакой не философи
ей а скажем земледелием — как тот крестьянин в шварцвальдском Тод-
тнау, Тодтнауберге, которого Хайдеггер уважал так, что его совета боль
ше, чем университетских коллег, слушался, когда решал в начале ΐ930-
χ
годов, соглашаться ли ему на приглашение столичного берлинского уни
верситета читать там лекции. Ни в коем случае, не словами, а скупым
жестом ответил старый крестьянин.
Чего главного не хватает людям, которые, среди прочих занятий на
философском факультете, решили теперь вот ознакомиться и с Хайдег-
гером, изучить его философию? Начали для этого семинар? Мимо Хай
деггера это потому, что его мысль, даже когда следовала сетке академи
ческих тем, всегда подчинялась только прямой захваненности вещами.
И мы тоже должны были бы оказаться захвачены самими вещами, толь
ко тогда мы неожиданно приблизились бы к Хайдеггеру — забыв о нем.
Когда мы переводим взгляд с вещей, на которые он смотрел, и начинаем
смотреть на него, мы не с ним. Наивная попытка «заниматься Хайдегге-
ром» очень просто может оказаться худшей изменой его делу.
«Дело Хайдеггера». (Однозначно оно уже не слышится. Такое могло
случиться, если не ясно видно, не всем, как например дело печника. На
человека, который неясно что делает, возбуждается дело. В самом деле,
все заняты ясно чем, добычей нефти, историей религии, — а он нем
7
.—
7
СЕМИНАР 1.1
Ясна какая-то связь философии с политикой, через идеологию. Идео
логия может склонить массу — а может быть и нас самих? — к адским
поступкам.) Такое существует; так называлась статья Арсения Гулыги в
«Литературной газете» год или два назад.
Дело Хайдеггера * было осенью 1987 года поднято во Франции и затем
во всем мире снова, уже не в первый и не во второй раз. Сначала его рас
следовали французские оккупационные власти в Бадене в 1945 году. Они
пришли к выводу, что этот человек, Хайдеггер, не имеет права вести за
нятия со студентами в Университете (в 1957 г. запрет был окончательно
снят). Почти все большие работы Хайдеггера до того были лекционные
курсы (в его Полном собрании сочинений они составят около 50 томов).
Его мысль развертывалась в обращении к другим. После 1945 года глав
ной такой возможности — лекционной — не стало . Его сняли — поли
тики — с преподавания. Он мог вредно повлиять на формирование мо
лодежи. Он принадлежал к партии, которая послала целое поколение —
миллионы молодых людей — вводить новый порядок.
Расследовать дело Хайдеггера было, собственно, не трудно, потому
что оно всё на виду. В начале мая 1933 года сосед Хайдеггера, ординар
ный профессор медицины фон Мёллендорф, после всего лишь двух не
дель своего ректорства в университете Фрейбурга был снят министром,
в сущности, за такой поступок, как запрещение вывесить в помещени
ях университета так называемый «еврейский плакат». Фон Мёллендорф
пришел к Хайдеггеру и попросил его баллотироваться на новых выбо
рах ректора. Хайдеггер не имел опыта административной работы, со
мневался и упирался, но самоотвода все-таки не сделал и был избран.
Было из-за чего сомневаться: по тем временам стало уже совершенно
обязательно, чтобы на таком посту, как ректорат университета, человек
являлся членом правящей партии. Почти сразу в кабинет нового ректо
ра пришел «штудентенфюрер», а потом звонили из Отдела высшей шко
лы Штаба штурмовых отрядов с той же рекомендацией разрешить вы
весить «еврейские плакаты». Хайдеггер не разрешил. Дисциплина так
или иначе соблюдалась, в обход ректора действовать никто но посмел.
Его, однако, не сместили. Он ушел сам, когда, задумав в конце того же
1933 г. перестройку университета и крупные перемещения, — включав
шие, в частности, назначение деканом медицинского факультета того же
фон Мёллендорфа, социал-демократа, отстраненного раньше министер
ством от ректорства, а деканом юридического факультета профессора
Эрика Вольфа, одного из тех, против кого были нацелены плакаты, —
8
15 НОЯБРЯ 1990
он понял, что ему ничего не позволят сделать сами же коллеги, в сво
ем большинстве уже взбаламученные новыми политическими ветрами;
а если позволят они, то не позволит партия. В феврале 1934 года он по
дал в отставку. Был избран новый ректор, на этот раз человек, которого
местная партийная газета приветствовала жирным шрифтом: «Первый
национал-социалистический ректор Университета». (Национал-социа
лизм тогда: то, к чему все стремились; все хотели перемен.) На торже
ствах передачи ректорства Хайдеггер отсутствовал. Встретивший его в
те дни коллега приветствовал его словами: «Ну как, господин Хайдеггер,
вернулись из Сиракуз?»
1
От этого хайдеггеровского отчета о тех десяти месяцах я не вижу
причин отходить не потому, что отчет принадлежит Хайдеггеру, не по
тому, что неопровержимых опровержений ему не было, а потому, что то,
что здесь Хайдеггер сказал о себе, согласуется с тем, что он говорил и
писал (в основном в стол) за двенадцать лет с 1933 по 1945 годы. Дру
гие версии его ректорства попадают в противоречие с текстами. В том
числе и с «Ректорской речью» и газетными выступлениями i933~i934 го
дов — этими попытками перехватить у «движения» инициативу, высту
пив с позиции духовной решимости на судьбоносное усилие всего чело
веческого существа.
Человек, имевший все причины — из-за преследований, задевших его
собственную семью, — со всей придирчивостью расследовать этот эпи
зод, теоретик культуры Джордж Стайнер в своей книге о Хайдеггере вы
носит приговор: «His official implication in the movement lasted only nine
months and he quit — the point is worth reiterating — before Hitler s assump
tion of total power. Many eminent intellectuals did far worse»
2
. Его офици
альная связь с движением длилась только девять месяцев, и он порвал
с ним, что стоит лишний раз подчеркнуть, до захвата Гитлером тоталь
ной власти.
Как будто бы хватит. Всё вроде бы ясно. Юристы закончили свою ра
боту. Один из них сказал, уже очень давно: если бы мы нашли, что Хай
деггер виновен, мы посадили бы его в 1945 году. Но нет, дело не закры
то. Как дело Платона. Больше того, похоже, что теперь оно уже не будет
закрыто вообще никогда. На окончание его еще можно было надеяться,
пока не все документы были подняты. Они давно все подняты, но ока-
1. С. F . von Weizsäcker, Der Garten des Menschlichen^ München-Wien: Hanser, 1977, S. 410 .
2. G. Steiner, Martin Heidegger. New York: Viking press, 1978, p. 177.
9
СЕМИНАР 1.1
зывается, что для свежих обличений документы уже не нужны, вступа
ют в действие аргументы такого рода, которые Карл Поппер отнес бы
к разряду «не поддающихся опровержению»: поскольку Хайдеггер был в
своей подлинной, тщательно скрытой, ни разу явно не высказанной на
строенности именно такой страшный человек, какой он был, то являет
ся совершенно несомненным факт, что он аккуратно платил до 1945 го
да свои членские взносы в партии, даже если архивных свидетельств та
кой уплаты нет
1
.
Мы качаем головой, пожимаем плечами. Как это люди без колебаний
приписывают человеку такую злую натуру? Нам все-таки с агрессивны
ми обличителями не по пути; мы, храня академическую беспристраст
ность, должны иметь дело с фактами, которые существуют не только
в наших реконструкциях. Но мы ошибемся, думая, что мы совсем дру
гие. Шумное, с криками, хотя и абсурдно запоздалое расследование дела
Хайдеггера (но это лучше! показывает, как врезается философия в по
литик)) — это, конечно, одичалое, сорванное, но неизбежное, как вер
хушка айсберга, доведение до последней крайности того, другого дела
Хайдеггера, которое ведется вовсе не в газетах и не в виде оскорбитель
ных выходок, а в мирной академической среде. Потому что не преуве
личением будет сказать: огромное исследование Хайдеггера, насчиты
вающее сейчас уже десятки тысяч, если не больше, публикаций, — это в
большой своей части необычное исследование, оно во многом, если не
в главном, остается по существу расследованием. Кто такой он все же
был на самом деле? Может быть, в своей последней сути он воплоще
ние если не какого-то тайного зла, то по крайней мере опасного соблаз
на? Может быть, он все-таки какой-то не такой? Может быть, он зен-
буддист? Может быть, он нигилист? Может быть, он реакционный ро
мантик? Конечно, убежденно говорят одни. Надо посмотреть, говорят
другие. Куда положить, распределить. И входят в дело глубже. Рассле
дование идет широким фронтом не прекращаясь вот уже больше полу
века. Конца ему не видать. Меня начнут понимать лет через двести или
триста, говорил Хайдеггер. Он ошибся. Расследования философов длят
ся дольше, не сотнями, тысячами лет. Расследование дела одного древ
него афинянина, который ездил зачем-то к тирану, продолжается до сих
пор, со страстью.
ι. Подробнее о «факте» аккуратной уплаты членских взносов см. Die Heidegger-Kon
troverse, Frankfurt am Main: Athenäum, 1988, S. 132 .
10
15 НОЯБРЯ 1990
Дело Хайдеггера для нас непосредственно означает, надо признать,
только одно, — расследование загадки, которая подлежит разгадке. По
нять «дело Хайдеггера» иначе, предположить, что Хайдеггер, например,
начал в нашем веке дело, которое завещал другим, нам, — об этом для
нас пока, похоже, не может быть и речи. Мы должны сперва окончатель
но разоблачить его. Или, наоборот, оправдать, — скажем, как крипто-
томиста; или как единственного глубокого, подлинного антифашиста.
Кто-то теряет терпение и спешит с крайними выводами, криминальны
ми или, наоборот, восторженными; или теми и другими сразу. Это, так
сказать, нервические выкрики из зала, в котором сосредоточенно и на
пряженно ведется долгий процесс. Закричавших утихомиривают, рас
следование продолжается.
Попробую рискнуть предположить: дело Хайдеггера просто-напро
сто не наше дело. Мне возразят: позвольте, но ведь дело, которым был
занят Хайдеггер, — это как раз дело разбора, спрашивания, допытыва-
ния. «Спрашивание есть наше благочестие». Разве не он так сказал? Раз
ве спрашивая, теперь уже и о нем самом, мы не продолжаем ipso facto
его дело? Нет, не продолжаем. Хотя бы уже потому, что завести дело на
него — это все -таки совсем другое, чем продолжать его дело.
Нам кажется, что спрашивая, спрашивая теперь вот уже и о нем са
мом, кто он такой, мы просто продолжаем делать то самое, что делал и
он, спрашивал. Но собственно дело Хайдеггера по-настоящему не про
сто спрашивание. За хайдеггеровской «деструкцией» стоят не еще и еще
новые вопросы, за ними просвечивает другое.
Об этом недавно напомнил Жак Деррида в книге «Heidegger et la ques
tion. De l'esprit» (Paris, 1987). Он возвращает нас к тому, что Хайдеггер го
ворил в конце 1957 года в лекции о существе языка: «Das Denken ist kein
Mittel für das Erkennen. Das Denken zieht Furchen in den Acker des Seins...
Das Fragen [ist]... nicht die eigentliche Gebärde des Denkens» 1. Мысль не
средство познания. Мышление взрывает борозды в поле бытия. Соб
ственный жест мысли — не вопрошание. Жак Деррида говорит по по
воду этих слов: «La question nest donc pas le dernier mot dans le langage.
D abord parce que ce n'est pas le premier mot. En tout cas, avant le mot, il y a
ce mot parfois sans mot que nous nommons le "oui". Une sorte de gage préori-
ginaire qui précède tout autre engagement dans le langage ou dans Faction»
2
.
1. M. Heidegger, Unterwegs zur Sprache, Pfullingen: Neske, 1965, S. 173,175.
2. J. Derrida, De l'esprit: Heidegger et la question, Paris: Galilée, 1987, p. 148 .
11
СЕМИНАР 1.1
Раньше всякого вопроса, потому что даже раньше всякого слова — то
слово, часто без всякого слова, которое мы называем «да». Это наше
«да» — наш залог, который, всему предшествуя, еще прежде, чем мы са
ми заметим, прежде, чем мы осознаем, делает нас заложниками: участ
никами слова и поступка. Мы можем спрашивать о вещах потом, когда
приняли их: сначала допустить их, им быть.
«Aucune rature nest possible pour un tel gage. Aucun retour en arrière»
1
.
Залог этот, делающий нас заложниками, завязывающий наше отноше
ние со словом и делом, потому что несущий в себе наше согласие с тем,
что все есть, что мир есть, отменить никакой возможности нет. Возвра
та назад нет.
Собственное дело мысли — не вопрос, пусть даже самый неотступ
ный. Собственное дело мысли — это дело, поступок, который не столько
делает сам человек; который, скорее, впервые делает человека участни
ком того, в чем он только и может осуществиться как человек, — участ
ником события, в начале которого всегда лежит простейшее событие
мира. Начало мысли — поступок принятия того, что все такое, какое оно
есть, — поступок принятия мира. Допущение мира.
Как это так — мысль дело, поступок? Разве мысль дело? Мы привык
ли считать, что как раз мысль это одно, а дело другое. Теория это од
но дело, практика другое дело. Правда, у Аристотеля стоит (в «Этике
Никомаховой» X 8,1178 b 7-8): ή δε τελεία ευδαιμονία θεωρητική τις εστίν
ενέργεια, «совершенное счастье это некая феоретическая энергия», та
кая теория, феория, которая одновременно полнота действования. А по
Плотину практика есть то, во что сползает человек, слабеющий для те
ории: άνθροποι, όταν άσθενήσωσιν εις το θεωρεΐν, σκιάν θεωρίας και λόγου
την πράξιν ποιούνται (III 8, 4)· Люди, когда у них перестает хватать силы
для мысли, начинают заниматься тенью мысли — практикой. Но эти ме
ста относятся как раз к непопулярным в истории философии. Во вся
ком случае, мы их даже не начали еще по-настоящему осмысливать. Де
ло и мысль, поступок и мысль для нас пока не только разные, но проти
воположные вещи.
Тогда спросим немного по-другому: может ли быть какая-то другая
мысль, которая дело? Не для того, чтобы доказать что-то при помощи
значения слова, а для того, чтобы не тесниться внутри только привыч
ного значения слова, которое может оказаться уже суженным, вспом-
1. J . Derrida, De l'esprit: Heidegger et la question..., p. 149 .
12
15 НОЯБРЯ 1990
ним, что наше слово «дело» того же происхождения, что немецкое Tun,
деяние, поступок, и греческое τίθημι, θέσις: полагание, не в смысле мне
ния, а в смысле выкладывания, выставления, например, в качестве зало
га — залог одно из значений слова θέσις. Залог это знак, который я даю,
в сделке, о том, что я не собираюсь только, а уже сделал первый шаг, уже
поступил, тем самым как бы вложил себя: дело — это то, во что я вкла
дываю себя (в «тезисе»).
В какое, однако, дело должна вкладывать себя, вернее, каким делом-
вкладыванием должна быть мысль? Мысль рано, раньше чем узнала се
бя, так или иначе уже вложила себя в дело мира, в то дело, которое есть
мир. Раньше всего, еще не зная ничего, еще не зная даже себя, мысль уже
имела дело с целым миром, с миром как целым и сказала ему «да». Это
первое ее дело так или иначе останется и должно остаться ее первым де
лом навсегда. Даже если она не принимает потом мир или говорит, что
не принимает, она может не принимать и так говорить только потому,
что тем первым «да» целому миру уже была. Еще точнее: она сама самим
же миром как согласием с целым, согласным принятием целого и тем са
мым согласием целого уже была. Была раньше, чем забыла.
Мир-целое, мир-согласие, мир-покой — это первое дело мысли и вме
сте то, что она куда-то дела, не успев запомнить, куда и как она его дела,
или куда он девался, целый мир, — тот, с которым в своем младенчестве
мысль вела беседу, когда она была еще мифом. Наш язык снова здесь с
нами. Мысль — то же слово, что греческое μύθος,
μυθέομαι, миф. Об этом
мы имели, конечно, право забыть. Но мы не имели права забыть, — без
того, чтобы многим заплатить за забывчивость, — другое: что мысль в
своем начале имеет дело с целым миром, что она в своем начале сама
же и есть мир как целое: миф. Мысль между тем успела стать сознанием
и пренебрежительно оттолкнула от себя миф — сама себя, свое начало.
Мы уверенно говорим: «Становление философии происходит в борьбе
мысли против мифа». Мы не задумываемся, что мысль сделала этой сво
ей борьбой с мифом, с собственным началом.
Она теперь почти ничего не знает, кроме как расплачиваться за свое
забытье. Она пустилась вдогонку за упущенным целым. Мир как согла
сие ускользнул, но мысль осталась его заложницей. Она поэтому обре
чена снова и снова рисовать его картину и иметь дело с этим суррогатом
целого. Забыв, что она сама и есть в своем начале дело целого мира, она
обречена саму себя же отыскивать теперь на своей картине. Как она там
себя найдет? Не то что она не отвела себе на своей картине достаточ-
13
СЕМИНАР 1.1
но места. Она там легко может отыскать себя даже на переднем плане,
именуемом «человек», в части «культура человека», на фигуре «филосо
фия», в уголке «мыслящий субъект». Это очень странно, но современная
мысль действительно пытается найти, понять и организовать себя, раз
глядывая свое собственное изображение на нарисованной ею же карти
не мира.
Дело мысли — найти себя не на собственноручной картине мира, а
как ту, которая почему-то снова и снова, непрестанно и все быстрее и
быстрее рисует, теперь уже только вчерне успевая набрасывать, все бо
лее глобальные картины мира. Она должна разобраться, разобрать себя
за своей картиной мира. Но ведь не можем же мы сказать, что этот раз
бор, эта де-конструкция построек мысли, чтобы добраться до ее нача
ла, — дело Хайдеггера! То есть это, конечно, и было дело Хайдеггера, но
только в том смысле, что он был им занят; для нас оно в гораздо боль
шей мере, чем Хайдеггера, наше собственное дело; так что скорее уж
Хайдеггер делал за нас наше дело. Ведь это нам надо вспомнить, что на
ши картины мира — замена упущенному миру. Иначе мысль не узнает
себя как такую, которая с самого начала и прежде всего способна к миру
и захвачена миром. И пока мы будем видеть целое только в конце наших
построений, мы никогда не увидим нашим построениям конца: чему ко
нец будет в конце, если у него забыто начало?
Впрочем, что же получается? Я ловлю себя на том, что недавно я ска
зал, что дело Хайдеггера — не наше дело, а теперь говорю, что оно, на
оборот, как раз прежде всего наше дело. Мои высказывания противо
речивы. А не может быть тождественно не-А. Следовательно, я неправ.
Я тогда беру свои слова назад. Никакого «не нашего» дела и никакого
собственно «нашего» дела нет. Есть дело мысли. Первое дело мысли —
мир. Наша она мысль или не наша, дело уже второе. Не мы должны вла
деть мыслью, скорее уж она должна владеть нами. Не потому, что она са
мое ценное в нашей культуре, а потому, что она дело мира и мир дает о
себе знать в ней как в своем деле, — в том, что им захвачено и что дает
ему слово.
Осмелимся сказать, что дело, которым был захвачен Хайдеггер, — это
вовсе не личное дело Хайдеггера, и даже не просто какое-то дело среди
других человеческих дел, а дело по преимуществу, дело само по себе, ес
ли только дело человека на земле — дело мира.
Осмелимся так сказать опять же не потому, что расследовали дело
Хайдеггера и теперь вот с уверенностью можем поручиться за него, что
14
15 НОЯБРЯ 1990
он был человек, которому вполне можно доверять. Мы осмелимся ска
зать, что дело Хайдеггера — это дело мира, просто потому, что без вся
ких околичностей он вот так про свою мысль — что дело мысли мир —
и говорил. Какой бы оборот ни приняло наше расследование, мы ведь не
можем сказать, что он не говорил того, что говорил, или говорил то, что
не говорил.
Мне кажется, что именно это, — что дела Хайдеггера, собственно, нет
и на месте дела Хайдеггера дело мира, и не Хайдеггер, и даже не мы де
лаем это дело, дело мира, а мир сам от себя и есть уже то дело, первое де
ло, которое требует нас и требуется нам, потому что только в нем, в де
ле мира, в мире как деле, мы можем найти себя, а иначе, как в мире, нигде
себя не найдем, — вот это отсутствие личного дела Хайдеггера и застав
ляет нас главным образом начать и вести расследование. Не может быть.
Не верится. Не бывает, чтобы личного дела не было, чтобы все было так
просто. Человек растворился. Стал чистым присутствием — через не
го — дела мира. XX век, век расследований, век-волкодав душит нас, не
отпускает. Надо дознаться. Докопаться. Сыскать человека. Кто такой по-
настоящему Хайдеггер? Адвокаты, начинающие следственный процесс,
появляются из ничего, из этого нашего тайного вопроса.
Один из хайдеггеровских докладов о планетарном поставе, «Вопрос о
технике» кончался, казалось бы, на этой самой главной ноте XX века, но
те расспрашивания, допытывания: «Denn das Fragen ist die Frömmigkeit
des Denkens»*.
Но не обязательно нужно было ждать еще четыре года, как дума
ет в своей книге Жак Деррида, а на самом деле еще четырьмя месяцами
раньше, в докладе «Наука и осмысление», упрямое неотступное спраши
вание уступало у Хайдеггера другому, — забыванию самого себя, чтобы
дать слово тому, что требует мысли. «Besinnung braucht es als ein Entspre
chen, das sich in der Klarheit unablässigen Fragens an das Unerschöpfliche
des Fragwürdigen vergißt, von dem her das Entsprechen im geeigneten Au-
genblick den Charakter des Fragens verliert und zum einfachen Sagen wird».
Осмысление требует-ся как то со-ответствие, которое забывается в яс
ности неотступного вопрошания, отдавая себя неисчерпаемости того, о
чем стоит спрашивать и благодаря чему со-ответствие в урочный час, в
момент события теряет характер спрашивания и становится простым
сказом
1
.
ι. М . Heidegger, Vorträge und Aufsätze^ Pfullingen: Neske, 1959, S. 70 .
15
СЕМИНАР 1.1
И без конца допытываться — кто же такой в конце концов Хайдег-
гер? — заставляет нас вовсе не простое любопытство, а несбыточное, но
сильное желание, чтобы путь мысли, путь его мысли, путь всякой мыс
ли, путь нашей мысли все-таки не вел только туда, куда он ведет у Хай-
деггера, — к концу человека, к смирению смертного, к измерению его
мерой мира, мерой целого, мерой согласия: к тому, чтобы мы уступи
ли себя.
Если Хайдеггеру это удалось — через себя собой, все равно как, тра
диционными или нетрадиционными способами, законными или неза
конными способами, указать на дело мысли, если он стал стрелкой, пу
тем к самим вещам, куда и мы должны смотреть, — имена их «бытие»,
«мир», «событие», — то «давать ему оценку», «критический разбор» так
же не очень уместно, как если бы нам указали дорогу, куда мы спешим,
а мы, вместо того, чтобы спешить, стали бы обсуждать... но сравнения
хромают.
Я хочу сказать, что «эмансипированное», свободное, критическое от
ношение к Хайдеггеру как-то ему тоже не личит. Лучше, честнее, похо
же, — как многие и делают, — решить, что, скажем, ничего из того, что
он обещает и что от него ожидают, он просто никогда не давал и не да
ет. Это, говорю я, лучше; потому что так называемое выделение положи
тельных и отрицательных моментов, вот это не наше дело, потому что
ведь не себя, свою личность, свою систему он предлагает.
Говорить о Хайдеггере поэтому, как ни парадоксально, к Хайдеггеру,
его делу, его мысли отношения не имеет. Если у нас есть свободные си
лы, то для вещей. Но: ведь и молчать о нем, раз он уже был, состоял
ся, писал, жил — тоже нельзя . Ни говорить о нем нельзя, ни молчать.
Наше положение безвыходно. Единственный выход — тот, который сам
предлагает себя: увлечься им, потому что не увлечься им почти невоз
можно, — в надежде, что, может быть, на каком-то подъеме безусловно
го увлечения нам удастся, если очень повезет, увидеть в какой-то корот
кий миг весь размах его мысли, — и это будет значить, что мы сами хотя
бы отчасти, хотя бы ненадолго — это если очень повезет
—
способны на
такой размах; и это будет значить, что он не подавляет нас своим вели
чием, что мы снова можем дышать сами.
Хайдеггер, его размер, не потому, что он Хайдеггер, а оттого, что он
дал себе быть местом мысли, уступил себя мысли. Человек осуществил
ся в мысли. В Хайдеггере мы имеем дело с мыслью. А с чем имеет дело
мысль? С чем мы захотим, с тем и имеет? Куда мы ее поставим, как мы
16
15 НОЯБРЯ 1990
ее заставим, так она и будет работать? Поставили в университетскую ау
диторию говорить о Хайдеггере? Или настоящая мысль такая, что как
только мы даем ей волю, странными кажемся мы себе, что могли куда-то
передвигаться в пространстве, заниматься занятиями, которые не бы
ли только думанием — развертыванием странности нашего положения,
стояния в мире.
Как на самом деле мы мало думаем. Как страшно просто думать. Как
мы рады рамкам, куда можно было бы вставить эту стихию, ввести.
([...] Василий Васильевич Розанов и «задыхание»*.)
О профессиональном философском обучении часто приходится ска
зать, что оно словно для того, чтобы научиться справляться с мыслью (в
обоих смыслах), и с мыслью прошлого, и со своей собственной.
Как его читать. По-немецки, конечно. Хотя есть переводы. О перево
дах принципиальное замечание: русские переводы не безобидные, кро
ме их случайной неточности, небрежности, провалов, пропусков, что не
направленно и есть во всех переводах, — кроме этого в них, и не только
в переводах, а вообще в восприятии западной мысли происходит систе
матическое, все время в одну сторону, смещение: «платоническое», эти-
зирующее, идеалистическое. Потому, что когда Аристотеля не изуча
ли, Платона изучали прежде всего в духовных учебных заведениях. Но
и больше того: философия попадала сразу в сферу христианского пла
тонизма, это поощрялось и стилем, которым, казалось, надо было гово
рить о такой высокой вещи, философии: высоким стилем. Я не говорю
о беспомощных переводчиках, которые, чтобы помочь себе, топят всё
в якобы музыке, в возвышенном стиле, которому дает слова и длинные
периоды старославянский, церковнославянский язык. Когда неладно с
отчетливым смыслом, русский язык начинает непоправимо петь, и это
не вопрос умения, которого не хватает, а — постоянное смещение. Ког
да блестящий, опытный переводчик Александр Викторович Михайлов
переводит первую статью сборника «Хольцвеге» (i960), «Der Ursprung
des Kunstwerkes», как «Исток художественного творения», то он смирен
но идет, для передачи Хайдеггеровской строгой серьезности, в тот от
дел русского языка, «высокий штиль», где издавна царит строгая серьез
ность, как бы некуда все равно больше деваться. Ничего парящего, как в
«истоке» и «художественном творении», в немецких Ursprung и Kunst
werk нет, там даже сухая прозаичность, скорее: источник, или даже ско
рее начало — и «художественное произведение». То же с названием всего
2-2015
17
СЕМИНАР 1.1
сборника: Holzwege, «неторные тропы», «неторные» указывают на неко
торое идеальное первопроходчество, «тропы» как поэтическое «тропою
грома». Другой блестящий знаток немецкого, Арсений Владимирович
Гулыга, чувствуя, наоборот, это отсутствие парящей возвышенности в
речи Хайдеггера, переводит Holzwege наоборот, «Лесовозные дороги», и
по рабочей прозаичности это было бы очень хорошо, если бы не было
того воспоминания Карла-Фридриха фон Вейцзеккера
1
, теоретическо
го физика, о прогулке с Хайдеггером в Шварцвальде возле Тодтнау, где
они пошли по лесной тропе, которая становилась всё незаметнее и со
шла на нет у проступающей на почве воды. «Смотрите, тропинка кончи
лась», сказал Вейцзеккер. «Да, это Holzweg* (лесная тропа). Она ведет к
источникам». [ ...]
ι. С . F. von Weizsäcker, Der Garten des Menschlichen* München-Wien: Hanser, 1977, S. 407.
1.2-4*
22.11, 29-11, 6.12 .1990
Когда человек долго занят одним делом, его вещи, с которыми он име
ет дело, притираются к нему. Думающий имеет дело со словом, — неяс
но, почему так должно быть, почему для думающего самым подходящим
оказывается слово своего языка, а не, скажем, он придумывает себе осо
бый язык или пользуется символами, значками, «думаю как никто и при
думал себе соответственно язык»; отношение мысли к языку особая те
ма, сейчас не касаемся, нам достаточно только знать ту, в общем, нетри
виальную вещь, что настоящий философ и поэт может начинать свое
отношение к языку критикой, но кончает всегда (кстати, «критика язы
ка» более старая задача, чем сказал Аверинцев, отнеся ее к Витгенштей
ну; з тома «Критики языка», такой фундаментальный труд, выпустил в
начале века мрачноватый самодумный немецкий философ Ф. Маутнер,
который как раз был достаточно философичный, чтобы заметить, что
язык странная вещь, и решил скорее поведать об этом миру, раскрыть
наивному миру глаза на язык, но еще недостаточно вдумался, чтобы
вернуться к языку от этого первого шока перед его туманным величи
ем, которое ему показалось просто чудовищным) — так вот, настоящий
философ, как Лейбниц, скажем, может начать критикой языка и проек
том нового языка, но кончает всегда возвращением — я говорю всегда^
потому что действительно всегда — возвращением к языку, как хайдег-
геровская мысль была возвращением к языку, когда мысль в нем оседает
всё больше, как в привычном доме, где всё уже неприметным для посто
роннего глаза, для посетителя [образом] вросло в жизнь обитателей до
ма, стало их продолжением как бы — я это говорю и вдруг вспоминаю,
что «язык дом бытия», по Хайдеггеру, из «Письма о гуманизме»
+
.
И вот в языке не остается ничего неприработавшегося, непроработан-
ного со временем, как у плотника, который десятилетиями уже плотник,
инструменты все нужные есть, и все наперечет, все отточены и налаже
ны, все с рукоятками до гладкости отполированными его рукой. И это
видно — видно, какой он плотник — при первом взгляде на его инстру
мент. Представим, инструмент у него вообще оказался слесарный. На ху
дой конец он сможет работать и таким.
Русский язык иначе шел, иное в себе культивировал, а главное, в фи-
2*
19
СЕМИНАРЫ 1.2 -4
лософии вообще меньше гораздо успел отточить, чем немецкий. Но
хуже всего: у переводчика руки связаны, у него не то что времени ма
ло, а возможности нет вести с русским словом ту многолетнюю работу
притирки, какую вел с немецким немецкий автор. И именно богатство
русского слова, которое заставляет думать никогда не меньше немецко
го, остается в переводе незапрошенным, невостребованным, зависает.
От этого до всякого фразового смысла от одной уже неприлаженности
мысли к каждому отдельному слову, к отдельному жесту мы дезориен
тированы. Как если бы зимой вошли во двор, не увидели там тропинок
и решили бы, что хозяин двора здесь не ходит, ходит не здесь. Но он как
раз ходит именно здесь, только снег только что выпал и по снегу еще те
тропки не проделаны. А мы стали бы искать его в другом месте. Так, ви
дя, что в русском языке перевода тропки мысли не проделаны, мы начи
наем искать Хайдеггера в другом месте, не в языке. А его надо искать в
языке, он как раз ничего другого, чем говорит каждое взятое им слово во
всем полном размахе своего смысла, и не говорит.
Первую фразу «Ursprung des Kunstwerkes» — только моя беда в том,
что я неправильно себя веду, я говорю и говорю, когда я должен на се
минаре спрашивать, слушать вас говорящих, как должен идти настоя
щий семинар; что, кстати, мне интереснее, говорить самому или слушать
вас; и то и то интересно, и немного или даже намного интереснее все-та
ки слушать вас, чем говорить самому; даже когда я говорю, мне все рав
но интереснее слышать, как вы это слышите, чем собственно говорить,
я вообще от общения в университете получаю гораздо больше чем даю,
это с самого начала так и, похоже, всегда будет так, и с этим уже ничего
нельзя поделать, кто занимает преподавательское место, тот ситуативно,
по положению, структурно вампир; но, насколько я понимаю, у вас мно
го других семинаров, на которых преподаватели ведут себя правильно;
мне будет неудобно слишком уж потакать себе и делать то, что мне инте
реснее, слушать вас, потому что вы тогда с неудовольствием скажете, что
на всех семинарах одно и то же. Я поэтому отчасти оправдываю свое не
правильное поведение тем, что вы доберете в своем говорении на дру
гих семинарах. Но если и на этом семинаре вы будете говорить, то сни
мете с меня чувство вины за то, что я тем, что сам всё время говорю, не
даю вам самим подержать в руках топоры, стамески и рубанки, словно
боюсь, что вы попортите мне древесину, или еще хуже, древесину не так
жалко, как попортить сам инструмент. Но мы же тогда никогда не нау
чимся, скажете вы, и будете очень правы. На самом деле я инструмент
20
22, 29 НОЯБРЯ, 6 ДЕКАБРЯ 1990
при себе не держу, а древесины, мадейры, материи очень много. Я толь
ко буду кричать на вас, если вы будете колотить обухом топора по жа
лу стамески, уставив ее рукоятку в дерево, — это так, а первую фразу из
первой работы хайдеггеровского сборника «Holzwege», Holz, das Holz —
дерево, древесина, лес, материя, природа, вещество; der Weg — путь, до
рога; дорога через лес, вещество, природу; и, как знает житель Шварц
вальда, Черного леса, — дорога к источникам; первая работа сборника
называется «Источник произведения искусства»; мы еще будем о ней
говорить; в ней не разыскивается источник, откуда, скажем, поэт творит,
а говорится о произведении искусства как об источнике: оно само — на
чало, одно из начал истории (до которых начал истории не было, после
которых человек до нее дорастает).
Та фраза была выписана на доске *. Вторая:
Das,
was etwas ist,
wie es ist,
nennen wir sein Wesen.
Как геометрия. Голые стрелки: То, что нечто есть, как оно есть, мы назы
ваем его сущностью. Для русской привычной платонистической пыш
ности это слишком голо, неубрано. Нужна плавность: нужна вязкость,
пластическое вытекание не вещи из вещи, а слова из слова, чтобы слова
плелись, сплетались, вились. Добавляем:
«То же, что есть нечто, как оно есть...»
—
снова слишком прямо, круто. Делаем округлым:
«...будучи таким, каково оно...»
Приобрели в прямоте смысла? Нет. В округлости, певучести? Очень.
И конечно, высокий стиль, как можно без него в философии:
«...мы именуем <не „называем";^ его сущностью»*.
Общий тон: многозначительный, важный («будучи таким, каково
оно»). Переводчик такое включение тяжелой артиллерии, русского «вы
сокого» штиля, из церковно-славянского, принимает за неизбежность,
даже идет навстречу.
Еще фраза, со второй страницы того же «Der Ursprung des Kunst
werkes»:
21
СЕМИНАРЫ 1.2 -4
Um das Wesen der Kunst zu finden,
die wirklich im Werk steckt,
suchen das wirkliche
Werk.
«Чтобы найти существо искусства». Хайдеггер говорит так и дела
ет так, делает этот жест вглядывания. Он не отдельно от своего слова,
у него, как у всякого мыслителя, как я имел случай наблюдать у Алек
сея Федоровича Лосева, та прекрасная детская наивность, что ум цели
ком вкладывается в слово, согласно, охотно, доверчиво. «А пальтиш
ко мы сверху накинем», говорю я мальчику, которому еще до двух лет
осталось месяца три. Сразу он берет пальтишко и добросовестно взгро
мождает его всё себе на голову. Лосев слышал слово прямо, через все ка
вычки, условные употребления, употребления от другого лица, как оно
сейчас здесь звучит, так сказать, сразу брал его близко к сердцу, брал за
чистую монету. На первый взгляд это казалось ломкой всех синтаксиче
ских, стилистических заборчиков; потом это завораживало. — С той же
детской наивностью Хайдеггер говорит, «найти существо искусства», и
сразу делает это; он и вглядывается в «искусство»; произведение искус
ства называется по-немецки das Werk; как бы «дело», «фабрика», «заве
дение», «труд»; это слово развертывается в том, что оно говорит: не зря
же слово, не зря же оно что-то говорит. Хайдеггер слышит весь размах
того, что оно говорит: Werk, труд, действие; оно, искусство, существу
ет способом Werk (кстати, слово того же корня, что греческое έργον, де
ло, откуда «энергия»; эту «энергию» из Werk ухо сразу выслушивает) —
wirklich, действительно, по-настоящему, но и в этом слове Хайдеггер вы
слушивает, как высматривает глагольность: так сказать, «действование»:
«действование», которым то «действие», Werk, произведение искусства,
действует. Никакого знания из языка Хайдеггер не извлекает, таким он
никогда не занимался; вопрос остается вопросом: как найти существо
искусства; он только заставляет слово, обозначающее произведение ис
кусства, звучать во всю широту, с размахом, словно колокол, чтобы на
его звон, звон слова, может быть, скорее пришла та сущность; не зря же
слово это называние, не зря же оно называет, на-зывает, как зазывает,
то, что им на-зывается. Не для ворожбы с языком, а для того, чтобы дать
слову звучать во всю ширь и этому его зову детски довериться. Иначе за
чем произносить слова, зачем звать, называть.
На чешском, где произведение — düo, было бы удобнее передать это
раскрытие слова, чем по-русски: «дило», дело делает, действует, оно во
22
22, 29 НОЯБРЯ, 6 ДЕКАБРЯ 1990
всяком случае делание, искусство, существует способом делания, дей
ствительным, деловым образом, «делово в деле». И дальше у Хайдеггера
почти не слово, а жест, ходовое расхожее будничное слово: steckt, засело,
торчит, застряло. Где-то в этом действующем действительном деле, про
изведении искусства, wirkliches Werk, «торчит» искусство, чье существо
надо найти. Так тогда suchen, посмотрим, раскопаем, доищемся, допы
таемся до этого «действительного дела». Вглядимся: фраза странная, ес
ли мы еще не поняли, что сделано со словом Werk его развертыванием.
В самом деле, suchen wir das wirkliche Werk, доищемся до этого действи
тельного дела. Что искать, вот оно, произведение искусства. На виду!
Но развертыванием слова Werk до wirkliche Werk мы настроены видеть
произведение не номинально, а в его, так сказать, произведенчестве, ко
торое за внешней видимостью произведения надо достать, как там тор
чит, спрятано, засело его существо. Русский перевод:
«Чтобы найти сущность искусства,
какое действительно вершится внутри творения,
мы обратимся к действительному творению [...]»*
Поверьте, это замечательный, очень хороший перевод. Он показыва
ет глубокое вдумывание и полное понимание того, что в немецком ска
зано. Но завораживает русский роскошный возвышенный стиль, с «тво
рением», и «вершится», — это вместо немецкого steckt, торчит (!), с «об
ратимся».
Заглянем в любой перевод. Смещение всё равно будет, хотя у ме
ня, скажем, не так выраженно, я этого остерегаюсь, в сторону высоко
го стиля.
О Хайдеггере в Германии можно слышать противоположное. Стати
стически чаще: «Но он пишет вообще не по-немецки, такого немецко
го языка нет». Реже, но убежденнее: «Он прикасается к самому суще
ству, к стихии немецкого языка». В обоих этих противоположных от
зывах сказано: с немецким языком у Хайдеггера что-то происходит.
И происходило бы у него с любым языком. Потому что мысль прожига
ет слово, выжигает его; и не портит этим язык, потому что слово «лю
бит» такое прожигание. Язык вообще тяготится своей дебелостью, ему
хочется быть как можно легче, состоять только из одного света, если
бы такое могло быть. Язык ведь служит вообще для отвода глаз, от се
бя—к вещам. Если бы можно было «указать» на вещи без языка, мы
бы так поступали, но то «указание» и было бы языком! Язык — мож-
23
СЕМИНАРЫ 1.2 -4
но его так определить — это то, что осталось от языка, когда от не
го остался минимум. Если язык коснеет в небрежении, то мыслитель и
поэт его возвращают в спортивную норму: к одним только не мешаю
щим указательным стрелкам. Такое предельное, жестокое обращение с
собой язык, я сказал, любит, так же как в спорте настоящий успех да
ется только почти жестоким обращением с телом; как вообще растра
чивание, расходование тела — а язык можно считать телом мысли
—
это должный способ обращения со всяким телом. И тело это любит. Из
двух тел, с одинаковым рационом, лучше движущемуся, чем «сберегаю
щему энергию».
Ганс-Георг Гадамер говорит о философском стиле и особенно о стиле
Хайдеггера: при большом усилии мысли язык коробится, его ткань раз
дирается, он того напряжения не выносит. И это хорошее наблюдение,
но частное. В общем случае как будто бы язык вещь гладкая, плавная. Но
язык в принципе разодран всегда, он коробится, схваченный, прохвачен
ный тем, ради чего он, всегда. Ни на какой стадии языка в нем сплошной
ткани нет, он мозаика. Это знают дети, которые уже выучили все бук
вы, а читать еще не могут, должен быть скачок от знания букв к чтению,
буквы не плавно переходят в слово, а они только посильный намек на то,
что такое слово. Это знаем мы, когда понимаем каждое слово в отдель
ности в иностранной фразе, а в целом смысла не видим. Смысл не вы
растает плавно из словарных значений лексики, там скачок, разрыв сло
варной ткани. Так в поэзии мы понимаем каждую строку в отдельности
и не понимаем стихотворения в целом, оно плавно от смысла каждой
строки не вытекает, требует скачка, требует порвать с частным значени
ем. Как звучание слова делает, что хочет, с буквой, и буква от этого ожи
вает, так смысл фразы делает, что хочет, со смыслом слова, и слово от
этого богатеет.
Такое прожигание слова мыслью, чтобы в слове не осталось ничего
темного — развертывание, как свертка, слова Werk, чтобы в нем слы
шалось wirken, действовать, работать, и Wirklichkeit, действительность,
энергия. А что бы было в русском? Но в одном нашем «про-из -ведение»
уже сжато то, что у Хайдеггера развернуто в заглавии его доклада «Ис
точник, der Ursprung des Kunstwerkes»: ведь про-из-ведение это выведе
ние, извлечение на свет, как из скрытого источника; уже указывает на
изведение, выведение из истока, и значит приникание к истокам, имение
дела с истоками. Если думать об искусстве на русском языке, то нельзя
не услышать этот ясный намек языка; если он будет не услышан, значит
24
22, 29 НОЯБРЯ, 6 ДЕКАБРЯ 1990
мысль в этом языке не ночевала. Это значит: заглавие и вся работа зву
чали бы совсем иначе по-русски. И вот эти заделы, содержащиеся в рус
ском языке, который, как в слове произведение, уже говорит то, к чему
Хайдеггер хочет прийти в конце своей работы, — что искусство имеет
дело в самом непосредственном смысле с истоком, началом, — поневоле
повисают в переводе невостребованными, рваными лохмотьями живо
го языкового мяса, что производит страшное уродство.
Перевод, таким образом, страдает не столько от бедности нашего
языка, на котором якобы не передаются сейчас же, вынь да положь, от
тенки вот этого немецкого слова, а гораздо чаще от неизрасходованно
го богатства, когда наш язык, как всякий язык и лучше многих других,
сам хочет говорить, развертываться и без помощи косноязычит. Мастер
мысли дал бы ему выговориться, потому что, я сказал, мастер мысли
возвращается к языку всегда, по какой-то причине всегда сдруживает-
ся с ним.
Но можно же как-то мимо зарослей языка пробиться к чистому
смыслу. — Нет это так же невозможно, как человеку говорить другим
тембром голоса, чем какой у него есть. Попробуйте ради какой-то «объ
ективности» говорить безличным, металлическим голосом. Получится
хуже, чем если вы наоборот позволите себе нескованный свой родной
звук.
Я цитировал из очень старого перевода Александра Викторовича
Михайлова. В новом переводе
1
* другого доклада из того же сборника
«Holzwege», «Nietzsches Wort „Gott ist tot"» (в сборнике к нему пояснение,
что главные части текста были насколько раз произнесены как доклад в
узких кругах в 1943 г., содержание опирается на лекции о Ницше, кото
рые читались между 1936 и 1940 гг. пять семестров в университете Фрей-
бурга в Брейсгау), Михайлов уже почти — кроме одного почти вдруг
исключения — не уходит в возвышенный стиль, появляется, особенно в
глаголах, неотменимая прямота, когда проще, более открытым голосом
не скажешь. Вот как о повороте к Новому времени, известное или вер
нее знаменитое место: «Авторитет Бога, авторитет церкви с ее учитель
ной миссией исчезает, но на его место заступает авторитет совести, ав
торитет рвущегося сюда же разума. Против них восстает социальный
инстинкт. Бегство от мира в сферу сверхчувственного заменяется исто
рическим прогрессом. Потусторонняя цель вечного блаженства преоб-
1. Вопросы философии, 7> 1990·
25
СЕМИНАРЫ 1.2-4
разуется в земное счастье для большинства». Трудно сказать энергич
нее. Правда, сама мысль ведет тут язык. Некоторые вещи сказаны так,
что, по Вальтеру Беньямину, словно заранее содержат в себе уже свой
подстрочник.
Еще место у Михайлова с удивительными глаголами, показывающи
ми, на какую силу, какой размах способен русский язык, тут немец
кому не уступивший. «Человечество в бытийной судьбе воли к власти
определяется к перенятию <Übernahme: буквальный как будто бы пе
ревод, но из тех буквальных, которые всего труднее — они же и все
го вернее; труднее, потому что при всей буквальности ни в коем случае
не лежат на поверхности^ вовсе не приходят первыми на ум>... опре
деляется к перенятию господства над землей... Поднимающийся над
прежним человеком (сверх)человек вбирает волю к власти как осно
вополагающую черту всего сущего в свое собственное воление». Еще:
«Земля как местопребывание человека теперь отцеплена от Солнца»
1
.
Это так же сильно и прямо, как хайдеггеровское steckt «торчит», искус
ство «торчит», «засело» в произведении — что Михайлов переводил
как «вершится». Теперь вот — «земля отцеплена от Солнца». И еще:
«Полагание ценностей подобрало под себя все сущее как сущее для се
бя — тем самым оно убрало его, покончило с ним, убило его. Этот по
следний, убивающий Бога удар наносит метафизика, которая, будучи
метафизикой воли к власти, осуществляет мышление в смысле мыш
ления ценностями... В этом последнем ударе... бытие прибито <в раз
ных смыслах — как пыль прибита к земле> и превращено просто в цен
ность»
2
.
Этот язык, страшно прямой, разговорный — одновременно и язык
русской мистики. Так собеседник странника в «Откровенных расска
зах странника» признается, что боится призывать в молитвах Бога, бо
юсь, потому что Бог меня «изуродует». У этого языка, огромной силы,
есть опасность вдруг стать потешным, легковесным, шутовским, смеш
но самодумным — как у Михайлова вот это последнее, собственно, бле
стящее «бытие прибито» уже на грани риска. Через абзац — уже насто
ящий срыв, именно туда, куда я сказал, в скоморошество: «Мышление
ценностями — это радикальное смертоубийство. Тут сущее как таковое
не только забивают в его бытии в себе, тут совершенно отбрасывают са-
1. М. Heidegger, Gesamtausgabe [далее GA]y Bd. 5, S. 241.
2. Ibid., S . 242.
26
22, 29 НОЯБРЯ, 6 ДЕКАБРЯ 1990
мо бытие. Ценностное мышление метафизики воли к власти до крайно
сти убийственно...» Три промаха в одном коротком абзаце. Непонятно,
что случилось с переводчиком. Строгость русского прямого стиля, сти
ля пушкинской поэзии, когда краткое слово вдруг прорезает плавную
вязь предложения, медлительного из-за длины слов и окончаний, или
стиля, как я сказал, русской мистики, предельно простого доверительно
го, — выдержать очень трудно, не впав в наивность. «История, которая
приключается с самим бытием»...
1
Все эти промахи, после блестящих
находок, почему-то сгрудились на последних страницах и увенчаны аб
сурдной концовкой — правду сказать, после еще одной находки, опять в
том же стиле энергичных, прямых глаголов, речь о безумном, который у
Ницше «без передышки кричал: „Ищу Бога! Ищу Бога!"». «Так этот чело
век безумен? Он тронулся. Ибо сдвинулся с плоскости прежнего чело
века...» — опять захватывающая прямота. С которой, я сказал, сорвать
ся легче — т. е. этот прямой русский стиль на самом деле благороднее,
возвышеннее церковно-старо-славянского, и чутче поэтому к подмене —
к подмене простоты фамильярностью.
Я сказал: еще один срыв в самом конце, конец всегда важен. «Тот че
ловек... ищет Бога... крича, взывает к Богу... А что уши наших мыс
лей — неужели все еще не расслышат они его вопль? Уши до той поры
не услышат, пока не начнут мыслить. Мышление же начнется лишь тог
да, когда мы постигнем уже, что возвеличивавшийся веками разум —
это наиупрямейший супостат мышления». Уши наших мыслей, почему
уши никак не начнут мыслить — это смешно. Можно было бы принять
это за пародию, если бы не было известно, что переводчик никогда не
пародирует намеренно, жанр перевода пародию полностью исключает.
Наверное, все дело в том, что Михайлов начал слишком остерегаться вы
сокого стиля и настолько, что не мог написать «слух»: по-немецки стоит
das Ohr, слух. Но ведь слух не хуже, не менее прямо и просто, чем «уши»;
мы говорим, «у человека есть слух». Что мысль ориентируется или на
зрение, как в древней Греции, или на слух, как в библейской традиции, —
это старое общее место, одно из распространенных культурологических
наблюдений. У Хайдеггера, кстати, и то и то: истина у него непотаенное,
открытое, т. е. зрению, — ас другой стороны, он вот говорит о «слухе»
и еще о «послушности» мысли: мысль должна иметь «слух», «слышать».
Нелепые «уши», которых в немецком просто нет, как назло повторены
ι. Ibid., S. 244·
27
СЕМИНАРЫ 1.2 -4
дважды, когда у Хайдеггера «слух» только раз: «А слух нашей мысли? Он
все еще не слышит тот крик? Он будет прослушивать его до тех пор, по
ка не начнет думать»
1
.
Среди этого теперь уже смешного отшатывания от всего, что похо
же на возвышенный стиль (на «вершится») — вдруг целая церковно
славянская фраза, тоже на предпоследней странице: «Нигилистическое
nihil означает, что ничто же несть с бытием — с бытием ничто. Бытие не
выступает в свет его же собственной сущности». Славянизм не помога
ет. Всё равно непонятно. Всё равно надо смотреть немецкий.... Das nihil
des Nihilismus... bedeutet... daß es mit dem Sein nichts ist
2
. N ihil нигилиз
ма означает, что с бытием ничего, с бытием ничто. В смысле как обсто
ит дело с бытием? Ничего, с бытием ничего, ничто, ничего особенного,
бытие на месте; вот вещи — это да, а бытие, что бытие. Как ниже: Nihi
lismus bedeutet: es ist mit allem in jeder Hinsicht nichts 3. «Нигилизм озна
чает: со всем во всех отношениях ничего», т. е. с самим существовани
ем вещей ничего такого, ничто, существуют и существуют, стало быть
одна проблема с ними справиться, контролировать, использовать, хра
нить, ценить, словом, активно с ними обращаться, а так с вещами что
же — ничего . Через это «а с бытием что, ничего»; «а с вещами что с ве
щами, ничего», в бытие и в вещи просачивается ничто. Человек уже про
махнулся мимо вещей, мимо первого и главного в них: почему они вооб
ще есть
7
. Как это так — что бытие есть, а не нет его? Ведь естественнее,
так сказать, было бы, если бы ничего просто не было — но вот есть. Ми
мо этого первого, главного в вещах нигилизм промахивается всякий раз,
когда говорит или думает или деловито соображает, как ему обойтись с
вещами. Но само бытие вещей
7
. Нуачтосбытиемвещей— сбытием ве
щей ничего, есть они и есть!
Перевод Михайлова: «Ничто же несть со всем во всех аспектах». Про
мах, не говоря уж о нелепом соседстве славянизма с «аспектах». И даль
ше: «Ничто же несть с сущим как с целым». У Хайдеггера: «... mit dem
Seiendem als Solchem im Ganzen nichts ist», «с сущим в целом ничего» —
не мешайте, у нас проблемы с водой, с воздухом, с дорогами, с тепло
снабжением, у нас масса проблем. Но сущее в целом, мир
7
. Какснимоб
стоит дело? А что с ним? Ничего. Мир в целом как мир в целом. Не ме-
i.GA,Bd.5,S.267 -268 .
2. Ibid., S. 244·
3. Ibid., S. 245.
28
22, 29 НОЯБРЯ, 6 ДЕКАБРЯ 1990
шайте, у нас проблемы. Но то, что мир есть, вот это первое, когда мог и
не быть? На нас смотрят как на того «тронутого». Не мешайте.
О переводе все. Я не придумал ничего лучшего, как перебирать вещи
Хайдеггера от ранних, называть их, по крайней мере, и смотреть на них
поздними глазами. О ранних говорят, что они ничего собой не представ
ляют, обычные студенческие работы. Я думаю как раз наоборот. Если я
и неправ, всё равно хотя бы их перечислить важно.
Первая публикация — похоже, заметка об открытии памятника зем
ляку, проповеднику 17-18 в. Абрахаму а Санкта Клара, из Кренхайнштет-
тена, деревни рядом с Мескирхом; 15 августа Хайдеггер был на церемо
нии, 27 августа его заметка — выдержанная очень даже в жанре репорта
жа—в мюнхенском еженедельнике политико-культурном «Альгемайне
рундшау». Хайдеггеру 20 лет с месяцами, он пока еще студент-теолог;
только потом он перейдет на математику.
О стиле легко судить: «Природный, по-здоровому свежий, иногда
грубовато-коренной акцент придает этому событию его специфический
отпечаток. Непритязательная деревня Креенхайнштеттен со своими
крепкими, себе на уме, своеобычно-оригинальными обитателями лежит
сонная в низкой котловине... Создателю памятника, скульптору Мар-
мону (Сигмарингену) на удивление удалась его задача. Гениальная голо
ва (обманчиво схожая с пожилым Гете) позволяет угадать за своим вы
соким, пластическим лбом тот глубокий, неисчерпаемый дух, который
сделали действенным несгибаемая, закаленная энергия*, непрестанно
пульсирующий деятельный порыв». Целое наводнение «сильных» эпи
тетов, но не штампов; стиль словно кипит изнутри этим самым «непре
станно пульсирующим деятельным порывом» — разумеется обречен
ным, потому что так, в пышности слов «энергия духа» скорее бесславно
расточится, чем сбережет себя и приведет к действенности. Всё это лек
сическое наводнение схлынет, уже скоро. Самих многих слов — «при
родный, здоровый, энергия, гениальность, высота, глубина, пластика, не
исчерпаемость, дух, закаленность, порыв, действие» — у Хайдеггера про
сто в принципе не будет в словаре. Можно догадываться, как он должен
был вытравлять эту пышную позднеромантическую лексику, язык эпо
хи, которым хотел овладеть и даже никому тут не уступить.
И еще: одержимость здоровьем. В начале уже было: «здоровый в сво
ей свежести акцент». Мало показалось, после последней фразы об удач
ном памятнике опять: «Здравие народа, душевное и телесное, вот к че-
29
СЕМИНАРЫ 1.2 -4
му стремился апостолический проповедник». И опять порыву не хва
тает слов, и кажется, что тогда надо повторить это «здоровье», уже как
страсть автора, как его тоска: «Если бы наше время поверхностной куль
туры и жизненной спешки хоть немножко больше, оглядываясь назад,
смотрело вперед <rückwärstblickend vorwärtsschaute — вот это останет
ся навсегдах Ниспровергающая основы горячка обновления, сумасшед
шая скачка куда-то прочь поверх глубокого душевного содержания жиз
ни и искусства, современное жизненное чувство, направленное на неиз
менно сменяющиеся минутные приманки для глаза, нередко удушающе
действующий дурман, в котором движется нынешнее искусство всяко
го рода, — вот моменты, указывающие на декаданс, на печальное отпа
дение от здоровья и потусторонней (запредельной) ценности жизни».
И мало опять, в четвертый раз: «Пусть его писания... его дух... станут
сильно действующим ферментом при поддержании здоровья и, где нуж
да о том кричит, при новом излечении народной души».
Почти всё здесь — стиль, нажим (на здоровье), производящий ско
рее противоположный эффект (но помним, что человеку 20 лет, что на
до писать, чтобы газета приняла, в журналистском жанре), — подлежит
преодолению и будет вскоре преодолено. Но не горячность (жар, напор).
Это останется.
В том же мюнхенском еженедельнике в 1910 и 1911 гг. в нескольких но
мерах печатали стихи Хайдеггера. О природе, о себе. О природе:
Wir wollen warten
Vorm Tor zum Frühlingsgarten
wollen wir horchend warten,
bis die Lerchen steigen,
bis Lieder und Geigen,
das Murmeln der Quellen,
die silberhellen
Glocken der Herden
zum Weltchoral der Freude werden.*
О себе:
Ölbergstunden
ölbergstunden meines Lebens:
im düstern Schein
30
22, 29 НОЯБРЯ, 6 ДЕКАБРЯ 1990
mutlosen Zagens
habt ihr mich oft geschaut.
Weinend rief ich: nie vergebens.
Mein junges Sein
hat müd des Klägens
dem Engel „Gnade" nur vertraut.*
Wir wollen warten. Это раннее стихотворение, похожее на хрестома
тийное, похожее на формулу, литургическую формулу, можно считать
комментарием к позднейшему Хайдеггеру. Вы знаете его отношение к
событию у — к событию, в котором сбывается мир и человек, в котором
заново завязывается история, сбывается бытие. Устроить событие не
возможно, не в человеческой власти. Но это не значит, что тогда нам всё
равно, как себя вести, раз мы не можем устроить событие; пусть, раз оно
такое неподчиняющееся, приходит как хочет и делает с нами что хочет.
Нет, не все равно: мы стоим перед ним готовимся, sich vorbereite, вот че
ловеческое отношение к событию. Warten этого стихотворения поясня
ет будущее sich vorbereiten. Warten здесь вовсе не такое, что мы нетер
пеливо поглядываем на часы и томимся: это торжественное ожидание,
в котором мы становимся другими, сами опережающим образом втя
гиваемся в то событие, подтягиваемся до него, события, которое мы не
устраиваем, не мы велим весне, как «прошла весна, настало лето, спаси
бо партии за это», но все равно наше торжественное затаенное ожида
ние — участие в весне, без нас ведь и весна не весна, мы ее, как сказано у
Достоевского в «Сне смешного человека», растлим. Какого события тор
жественно ждет Хайдеггер? Опять стихотворение — иллюстрация, кар
тинка к будущему событию: это der Weltchoral, хорал, согласное звуча
ние, со-гласие мира: то, что сказано опять же одним русским словом мир.
Ждет, когда мир станет миром. Когда мир, целый-мир-покой сбудется.
Как в этом раннем стихотворении, так и до конца: присутствие Хайдег-
гера в мире — это торжественное предпраздничное ожидание, ожида
ние события, которое всегда сначала событие мира. Всё, что вы услыши
те другое о его неприятии современности, о футур-пассеизме, реакцион
ном романтизме, зен буддизме, можете спокойно не вдумываться. Один
французский философ
f
: он никогда не знал такого дружественного че
ловека. Один психолог*: Хайдеггер самый оболганный человек на свете.
Второе стихотворение — опять комментарий к будущему, к хайдег-
геровской теме ничто и нигилизма. Ничто не абстракция, не формаль-
31
СЕМИНАРЫ 1.2-4
но-логическое отрицание: человек имеет опыт ничто, жуткий опыт,
не в смысле «ах какая жуть», что-то жуткое, на фоне остального все-
таки вполне еще сносного, а когда всё нас покидает, сердце сжимается,
θλΐψις христианской аскетики, тоска. Опыт ничто это когда берет то
ска и ужас. Когда опыт ничто, это еще не нигилизм: наоборот, это одно
из состояний, настроений, в которых человек встречается с самим со
бой и с целым миром, потому что в тоске, в ужасе целый мир неким обра
зом захвачен и куда-то осел, от нас отшатнулся. Тоска одно из даримых
настроений, когда кончается расколотость мира и целый мир возвраща
ется, но как проваливающийся, оставляющий нас, подводящий, поки
дающий нас. Нигилизмом будет испуг от этого ужаса, когда мы станем
принимать против него меры. Скажем, водка, курево, безрассудное по
ведение, панические меры, которые кустарно применяет человек против
ужаса, испуганный им. Ни в какое сравнение эти кустарные методы не
идут с широко поставленным заговариванием ужаса, объяснением его,
религиозным, мировоззренческим, психологическим и др.
Прошлый раз я цитировал из Хайдеггера, что нихилъ нигилиз
ма означает, что с бытием ничего. Когда мы имеем и хотим иметь дело
только с вещами, не с бытием, — что всё есть, когда могло бы не быть,
для нас не проблема, — то бытие для нас имеет лицо пустоты, пустого
Ничто. Мы не можем его отличить от Ничто, или, вернее, в опыте Ни
что мы не можем распознать обещание Бытия; он нас только пугает;
нам хочется, чтобы его не было, — вот определение нигилизма: ему хо
чется, чтобы не было чистого Ничто; потому что, когда говорится, что
вещи — ничто, мир — ничто, что ничего нет, то это пока еще к опыту
жуткого ничто отношения не имеет, как раз в страшном опыте Ничто
мы никогда не захотим оскорбить вещи, мы будем за них цепляться, как
за соломинку утопающий. Так Толстой, в ответ на письмо, одно из мно
гих, в котором корреспондент делился, что легко бы принял смерть, на
столько не дорог ему мир: когда подступит настоящая смерть, мир ста
нет дорог. Пренебрежение к вещам в нигилизме от отшатывания от
опыта ничто, который отталкивает от себя к вещам, но если только
мы его, этот опыт ничто, принимаем. Когда — не принимаем, то нам не
от чего оттолкнуться, чтобы приблизиться к вещам, они нам всё рав
но, кроме вещей нашего корыстного интереса. Положительное в коры
сти — она охрана, какая-никакая, от нигилизма, как революционный
нигилизм был смягчен и потом сведен на нет корыстью, быстро про
сыпающейся, новой революционной власти; поэтому может казаться,
32
22, 29 НОЯБРЯ, 6 ДЕКАБРЯ 1990
что эта очень быстро разъедающая идеализм корысть отвратительна,
и она сама только тайно знает, отсюда ее смелость, что она правее ре
волюционного идеализма: ведь революция это принятие радикальных
мер против Ничто, ни с чем революция не борется, как с декадансом,
упадочностью, разочарованием, со всем, что заставляет опасаться вы
хода в опыт ничто. Для революции важны исключительно реалии, ве
щи, власть; но у революции нет того уважения к вещам, ей ценно толь
ко то, чем можно забросать бездну, ее не забросаешь вещами, тут нуж
ны идеи. Идеями заслоняются от опыта ничто. Идейные люди особенно
не любят всякого упадничества. В идеях гнездится нигилизм: идейный
человек говорит: а что с опытом ничто — с ничто ничего, надо только
поскорее переключиться.
Оставленным в пустоте, перед ничто быть невыносимо. Второе сти
хотворение, тоже короткое, об опыте оставленности, от которого не бе
гут, которого не ищут, который принимают.
Ölbergstunden. Для студента теологии это почти профессиональ
ное выражение. О часах последней оставленности в Гефсиманском са
ду у Мф. 26, 36-40: Потом приходит с ними Иисус на место, называе
мое Гефсимания, и говорит ученикам: посидите тут, пока Я пойду, по
молюсь там. И взяв с Собою Петра и обоих сыновей Зеведеевых, начал
скорбеть и тосковать. Тогда говорит им Иисус: душа Моя скорбит смер
тельно; побудьте здесь и не спите со мною. И отошед немного, пал на ли
це Свое, молился и говорил: Отче Мой! если возможно, да минует Ме
ня чаша сия: впрочем не как Я хочу, но как Ты. И приходит к ученикам, и
находят их спящими, и говорит Петру: так не могли вы один час не спать
со Мною?
Можно, скользя, представлять всё возвышенно и даже красиво: ду
ховная скорбь, беседа с Богом Отцом. Из Евангелия, вы видите, не со
всем так вычитывается: Ему так тоскливо, такая тоска его берет, что Он
просит: побудьте со мной, не спите. Потом даже пробует просить От
ца: да минует... пусть эта судьба пройдет мимо меня, почти уже не мо
гу. Хайдеггер видит эту совсем не возвышенную, не театральную сторо
ну покинутости: в сумеречном состоянии опущенности, малодушного
колебания, унылой нерешительности — из которой, однако, он не выры
вается, не принимает меры, простодушно принимает эти состояния, пе
реносит их — и переносит их куда-то. Он готов столько нести эту изма
тывающую душу оставленность силами, бодростью, не уклоняясь, — эти
часы часто на него смотрели и, наверное, не перестали смотреть. Раз-
3-2015
33
СЕМИНАРЫ 1.2-4
решено плакать, разрешено молить. О чем? О том, чтобы пустота остав-
ленности не превратилась в пустую пустоту, чтобы она была в каком-то
смысле полнотой. В каком смысле полнотой? В том, что и это стало бы
частью подготовки.
Усталый от жалоб, плача, человек не принимает мер, потому что при
нимает оставленность как человеческое состояние. Но и не мирится опу-
щенно с ним. Т. е. принимает пустоту, но не дает ей остаться просто пу
стотой? Останавливает ее на себе; на нем, благодаря его терпению, пу
стота прекращается, начинается полнота ожидания. Ожидания того, что
опять же человек сам устроить не может. Ангел приходит или не прихо
дит, мы не распоряжаемся им. Благодать здесь, в этом стихотворении,
как событие там, в том стихотворении, приходит с ангелом или не при
ходит, и приходит так, как хочет.
Ваши соображения.
В 1972 г., Хайдеггеру 8з года, он пишет в предисловии к своим — перво
му изданию — «Frühe Schriften», что те ранние сочинения были уже на
чалом пути, но от писавшего их было закрыто, что они начало пути. Это
касается прежде всего первой большой работы Хайдеггера о Дунсе Ско
те, мы еще будем говорить о ней. Всё, что есть в тех ранних сочинениях,
продолжает Хайдеггер, указывает на Аристотеля, по чьим текстам, до
вольно беспомощно, он, Хайдеггер, учился думать. В гуманитарных гим
назиях в Констанце и Фрейбурге, где он учился с 1903 по 1909, можно
было хорошо учиться у отличных учителей греческому, латинскому, не
мецкому языку. Кроме школы, было чтение, оставившее след навсегда.
В 1905 г.: Адальберт Штифтер, классик немецкого языка и литературы,
«Пестрые камни», и в 1907 г. друг отца из Мескирха, который позднее
стал архиепископом Фрейбурга, доктор Конрад Грёбер, подарил восем
надцатилетнему диссертацию Франца Брентано: «О множественности
значений сущего (бытия) у Аристотеля» (1862). Там было много большей
частью пространных греческих цитат, и эти цитаты пока заменяли Хай
деггеру греческого Аристотеля, хотя уже на следующий год ему удалось
взять Аристотеля из библиотеки интерната (он учился в гимназии-ин
тернате) на ученическом пюпитре. Единое проходящее через все разные
значения «бытия» — это осталось мотивом появившейся через ю лет
работы «Бытие и время». О которой будем говорить
В1908 ему в руки попал томик издательства «Реклам» — дешевый, для
народа — Гельдерлина; в 1972 этот томик сохранился.
34
22, 29 НОЯБРЯ, 6 ДЕКАБРЯ 1990
В 1909 г. начались четыре семестра теологии в Фрейбурге, потом так
же — философия, науки о духе и естественные науки. Тогда же в 1909 г.
пытался проникнуть в «Логические исследования» Гуссерля. Семинары
у Риккерта. Через Риккерта — начал читать Эмиля Ласка. Потом пришли
самые будоражащие годы 1910-1914» в которые собралось так много, что
сказать о них должным образом, по достоинству не удастся, но для на
мека, что это было, Хайдеггер дает краткое перечисление главного: вы
шло более полное, увеличенное вдвое переиздание «Воли к власти»; по
явились переводы Кергегора и Достоевского; появился интерес к Гегелю
и Шеллингу, появились в поле зрения Рильке и Тракль, Дильтей «Собра
ние сочинений». Помнит с благодарностью о двух профессорах, что они
сделали, тоже не скажешь в словах: профессор систематической теоло
гии Карл Брайг, тюбингенской спекулятивной школы, и историк искус
ства Вильгельм Фёге. Каждый лекционный час этих людей продолжил
действовать в долгие недели и месяца каникул между семестрами, «ко
торые я постоянно и непрерывно проводил за работой в родительском
доме моего родного города Мескирха».
Самой первой в «Ранних сочинениях» стоит работа, о которой в этом
предисловии Хайдеггер не упоминает: 15 страничек «Das Realitätsproblem
in der modernen Philosophie», 1911-1912 гг. Это даже скорее реферат. Вы
скажете: совсем несамостоятельная работа. Я скажу: нет. В ней, не ве
дая, как во сне, в форме даже цитаты из одного из реферируемых тру
дов, в действительно беспомощных выражениях, Хайдеггер назвал и те
му всей своей будущей работы, и основную тему мысли 20 века. Есть ли
что-нибудь за пределами субъекта? Субъект, так сказать, имеет во всем
дело с субъективным, [есть] все. Откуда мы знаем, что вне субъекта есть
реальность?
1908, «Материализм и эмпириокритицизм». «Взять ли за первичное
природу, материю, физическое, внешний мир — и считать вторичным
сознание, дух, ощущение (— опыт, по распространенной в наше время
терминологии), психическое и т. п ., вот тот коренной вопрос, который
на деле продолжает разделять философов на два большие лагеря»
1
.
Ленин апеллирует к «открытиям физики», их было слишком много,
показалось, что материя исчезла. Чуть-чуть рискованная наука, зашка
ливающая.
Главный довод, партийный, с кем вы: «За гносеологической схоласти-
1. В . И. Ленин, Полное собрание сочинений^ т. ι8, с. 356.
3*
35
СЕМИНАРЫ 1.2-4
кой эмпириокритицизма нельзя не видеть борьбы партий в философии,
борьбы, которая в последнем счете выражает тенденции и идеологию
враждебных классов современного общества. Новейшая философия так
же партийна, как и две тысячи лет тому назад»
1
. Реализм Ленина, кото
рый — некоторые исследователи ставят ему в заслугу — он внедрил в
России. Что, у нас не было реализма? Реализм Писарева, Чернышевско
го имел акцент антиплатонизма: нет мира идей; проблема реальности
внешнего мира не ставилась, как будто ее нет: вот он, мир, как же еще
сомневаться? Т. е . это был нигилизму не в наивном смысле культурологов
и нравственных людей, плохой нигилизм отвержения хорошего мира
идей, а нигилизм в коренном смысле слова, когда nihil подводится под
всё: всё в целом? Никакой проблемы, со всем в целом ничего. Христиан
ский платонизм, правивший всегда в России, тоже не ставил проблему
реализма: да как можно сомневаться в реальности мира, если его сотво
рил сам Бог? Что тайный, несущий вопрос реализма другой: не мы ли са
ми себе сотворили своего Бога? — для христианского платонизма такое
кощунство, что он отметает его с брезгливым отвращением: да как же
это так: мы сами — и Великого, Бесконечного, Вечного Бога мы сотвори
ли? И это как раз и есть самое слабое место христианского платонизма,
по которому его рано или поздно ударят; и сам виноват, зачем подста
вился? — Главный аргумент Ленина?
Надо сказать, он в стиле, или по подобию, главных аргументов фи
лософии: если вы не целиком на стороне истины, добра и красоты, вы
во лжи, зле и безобразии. Кто не с новым, истинно научным понимани
ем истории, она в борьбе классов, тот... Какая борьба классов, если не
то что классы, уже мелочь, а сама внешняя действительность иллюзия?
Следовательно, за эмпириокритицизмом стоит злостная попытка со
рвать... Определение материи «объективная реальность, данная нам в
ощущении», определяет самого определяющего: для него нет вопроса,
что есть субъект и объект, так от века повелось, и что тут? Подозритель
но: истина эмпириокритицизма, сомнения в реальности та: кто субъек
ту подал на блюдечке объект? Тут не обязательно безбожие, что забы
ли: да ведь Бог сотворил мир и дал его человеку! Беркли епископ: может
быть наоборот, обратить внимание на то, что кто-то, не мы сами, рас
ставлял на столе все те кушанья.
Хайдеггер начинает там, где проворонили наивные реалисты, типа
ι. В. И. Ленин, Полное собрание сочинений* т. ι8, с. 380 .
36
22, 29 НОЯБРЯ, 6 ДЕКАБРЯ 1990
Писарева, тургеневского Базарова. Он цитирует «остроумного францу
за» Брюнетьера (вообще это ранний текст, как заметка о проповеднике-
земляке Аврааме из Санта Клары, перегружен эпитетами, но не для кра
сивости: эпитеты не рисуют определяемое, г развертывают его, не рас
писывающие, а развертывающие эпитеты, каждый целая фраза, на все
синтаксические зацепки навешено, потому что напор соображений, ко
торый еще не привык к молчаливой сдержанности). — (Кстати, имена те
же, что в работе Ленина: Беркли, Юм, Мах, Авенариус. Как Ленин, про
тив них.) — «Je voudrais bien savoir, quel est le malade ou le mauvais plai
sant, et je devrais dire le fou, qui s'est avisé le premier de mettre en doute, la
réalité du monde extérieur, et den faire une question pour les philosophes.
Car la question a-t -elle même un sens?»
1
* Но прав Кант, поставивший на
место здравый рассудок. Правда, в греческой философии еще критиче
ский реализм. Но с Беркли бытие и воспринятость отождествляются:
esse-percipi. Психологически Беркли еще реалист, кроме душевной суб
станции у него есть еще духовные сущности. Но для Юма субстанция
и причинность уже растворяются в пучках восприятий. Кант вроде бы
спасает реализм «вещью в себе», но она слишком загадочная. Гегель? Он
со своим взвинченным идеализмом только еще больше размывал реа
лизм. Так что теперь Spiritus rector современной философии — Юм, конс-
циенциализм и феноменализм (кантианство).
И может быть он неправ. Почему он это говорит. Для того чтобы обо
сновать необходимость противодвижения. Какого. Говорит не свои
ми словами, а О. Külpe: «Auf der Schwelle dieser Philosophie der Zukunft...
steht das Problems der Realität»
2
*. Так — тут — названо, почти сомнамбу
лически, как во сне, неуверенным языком, даже чужими словами — ве
щее — дело всей его жизни: что бытие естьу что ничто есть.
Что, Хайдеггер зависит от влияния Külpe, он заимствовал у него те
му своей философии? Так вот обстоит дело со всеми заимствованиями в
философии...
Аргумент в пользу науки: unabweisbare, epochenmachende Tatbestand
der Naturwissenschaft*. Морфолог, занятый телом, анатом — структурой,
биолог клетки, химик, астроном уверены, что они не просто анализиру
ют голые ощущения. И вот для Хайдеггера это — не аргумент в поль
зу реализма, а еще одно обоснование его важности! Мало ли в чем нау-
1.GAyBd.ι,S.ι.
2. Ibid., S. 4 (О. Külpe, Die Philosophie der Gegenwart in Deutschland* Leipzig, 1911, S. 136).
37
СЕМИНАРЫ 1.2 -4
ка уверена. Доказать свои основоположения она не может. В целом реа
лизм она обосновать не может.
Иначе Ленин: для него реальные успехи наук, с одной стороны, под
тверждение реализма, иначе из чего науки всё извлекают, значит должно
же быть, из чего извлекать, из материи; а с другой стороны, надо трево
житься за науки, у них возможен заскок, зашкал, как с «исчезновением
материи». На самом деле, конечно, такой проблемы в науке нет, та энер
гия, в которую переходят частицы, для науки имеет абсолютно тот
же статус, что и элементарная частица; и о «свободной воле» электро
на тоже говорится только в том же смысле, в каком «солнце восходит».
Но все равно Ленин тревожится и считает, что тут науки надо поскорее
подправить правильной философией: если не видите пока еще или уже
те твердые шарики, атомы, или крупицы атомов, то еще увидите, имейте
терпение. — А просто не надо было с самого начала надеяться, что наука
докажет реализм. Что человек берет ложку и кладет себе кашу в рот, не
промахивается, это в принципе такой же успех, как успехи наук; такая
же тут вера в кашу и ложку, в их реальность; и так же это не доказывает
реальность вне нас: может быть мы встроены в какую-то систему жиз
необеспечения *, которой наше мнение, будто реальность есть, зачем-то
нужно; т. е. что биологическая эволюция играет здесь с нами какие-то
игры; т. е . что биологии, которая очень хитра, зачем-то нужно — скажем,
для того, чтобы в мозгу высших существ создавались сложные реф
лекторные цепи, — биологии нужно, чтобы у нас было представление
о внешнем, реальном в противоположность внутреннему, идеальному.
Как на самом деле обстоит дело, знать и судить нельзя.
Главное возражение Хайдеггера против эмпириокритицизма (нам да
ны только наши ощущения, которые мы обрабатываем): нет нам даны
не только ощущения, а еще и знание, что они мне даны; это знание да
но не ощущениями: потому что когда ощущений нет, нам тоже дано зна
ние, вот это самое, что ощущений нет. Следовательно, нам даны не толь
ко ощущения; следовательно, главная посылка эмпириокритицизма не
верна. Возражение, производное из первого или однородное с первым:
нам дано знание «того же самого», что, например, вот это мое ощущение
то же самое — или в вариантах: почти то же самое; в какой-то мере то
же самое; ничуть не то же самое, всё это варианты того же самого. И вот
это знание «то же самое» не может быть дано ощущениями, они поток и,
так сказать, нельзя дважды войти в одну и ту же реку, ощущения сами по
себе каждый раз разные. — И еще аргумент против эмпириокритицизма
38
22, 29 НОЯБРЯ, 6 ДЕКАБРЯ 1990
(включая сюда так называемый махизм и эмпириомонизм), т. е. крити
ки построек мысли, когда мысли указывают, что зря она думает, будто у
нее есть какие-то другие данные, кроме чувственного опыта, ощущения,
и что все констатации мысли «это есть, это так» — просто некоторые
условные, относительные пределы разложения эмпирического опыта.
Логика или вообще законы мысли, категории мысли — какие -то очень
далеко продвинутые ступени этого разложения. Сходный аргумент в со
временном философском биологизме: логика исторична (имеется в ви
ду история природы, миллионы лет), биологически-функционально об
условлена. Возражение Хайдеггера: допустим, логика такова; допустим,
категории таковы (субъективны). Но мысль умеет мыслить не только
логически, она и умеет мыслить о логике, значит если логика ловушка,
мнимая объективность, на самом деле субъективность, мысль мысля
щая о логике опирается не на логику, мысль не в ловушке, она опирает
ся, скажем мы, неясно на что, уходит в безопорность, в свободу, значит и
свободу от. Если логика, категории могут быть вопросом для мысли, зна
чит мысль не обязательно привязана к колее логики. Кстати, не всякая
мысль не логическая будет нелогичная, в это неразличение, очень нело-
гичноег жалким образом проваливаются как раз сторонники логики, ее
защитники против Хайдеггера, разрушителя логики.
Если, стало быть, аргументы консциенциализма не проходят, а онус
пробанди на нем, не мы должны доказывать, что реальности нет, а наобо
рот, консциенциализм, если он пришел с такой новинкой, должен дока
зать свои вещи, — если те аргументы не проходят, мы можем ничего осо
бенно не доказывая со своей стороны, вернуться уже снова к реализму,
но после происшедшего скандала уже не к наивному. Потому что ясно
же, что верно, в наших органах чувств действительно вещи искажаются.
Это просто: у всех зрение разное, следовательно, нет зрения, которое ви
дело бы вещи как они есть, мы все слепы. Нет, стало быть, оснований для
наивного реализма, и второе: то, что делается в нас с ощущениями — об
работка их, скажем так — не дальше от реальности, чем сами ощущения.
По крайней мере не дальше. Казалось бы, мы делаем с ощущениями, ста
ло быть, субъективно? А вот и нет. Как мы можем заставить, принудить
себя видеть меньше, чем видно — уйти от реальности, — так и добиться
реальности нет никакого шанса, кроме как работая с ощущениями. Кро
ме как мысли, выправить обман некому, нечему.
Здесь еще очень далеко, в этой работе о реализме 1912 года, до того,
что через категориальное созерцание Гуссерля станет одной из самых
39
СЕМИНАРЫ 1.2-4
главных или главной темой Хайдеггера, каким мы его знаем: что раньше,
чем мы видим вещь, любую, и достовернее, чем мы видим вещь, всегда
отчасти, с одной стороны, в одном свете, в одном состоянии, — раньше
мы видим что-то, без чего никакой вещи не увидели бы, видим не-что,
которое абсолютно невидимо, потому что всё, что видим, уже что, ко
ричневый цвет, угловатая форма, такие-то размеры и так далее, но ника
кого что, никакой видимой вещи не видели бы, если бы раньше того не
«бросалось в глаза», как «ищи», присутствие чего-то.
Но это, категориальное созерцание Гуссерля и его развитие у Хайдег
гера, будет позднее. Здесь пока, раз стало ясно, и благодаря опровергну
тому эмпириокритицизму, что впечатления чувств сами по себе не ре
альности, к ним дополнением требуется то, что может их и вконец извра
тить, и наоборот, вывести на чистую воду: работа осмысления. «Только
там, где эмпирические и рациональные моменты взаимодействуют, по
лучается хороший звук» (т. е . как в хорошо настроенном рояле). Крите
рий реальности т. е . смешанный, в терпеливом взаимодействии опыта и
мысли. Трудно, сложно, далеко не так просто, как в эмпириокритициз
ме, где человек сдался на милость ощущений и остается ему только идти
по линии упорядочения, экономии. Хайдеггер говорит не о реальности,
которая как готовая не дана, а о Realisierung, реализировании, ореаль-
нивании, постепенном, медленно справляясь с догматизмом, и наивно
го реализма (в том числе, как я говорил, идеалистического, когда воз
мущаются, как же не быть миру реальным, когда его создал Бог), и по
зитивистского (когда якобы, ну нет ничего, и не говорите даже, кроме
ощущений). Этот второй догматизм в мнении, что познание строится на
наглядном. Против этого, будто наука имеет дело только с наглядным, —
достижения Real-wissenschaften, реальных наук. Это говорится в 1911 г.
До нас только сейчас начинает доходить, что физики-теоретики, мате
матические физики на самом деле вовсе не исключительно имеют дело с
наглядным, их больше занимает ненаглядное.
Надо вернуться, говорит Хайдеггер, к критическому реализму
Аристотеля и схоластики. Который не упускает из вида современные
гносеологические бури, но, не сбиваемый ими с ног, терпеливо пробира
ется вперед, в positiv fördernder Arbeit, позитивно двигающейся работе \
ι. 30.9.2003. Повтор-. Полис, политика. Кодр, предок Платона: легко отдать жизнь за
полис. Эта ангажированность философии сама собой разумеется — когда ее не видят,
начинаются казусы. Как если бы у Платона могла быть другая забота, когда он ехал в Си-
40
22, 29 НОЯБРЯ, 6 ДЕКАБРЯ 1990
Как в стихах не теми словами две главные темы всего Хайдеггера, го
товность к событию и непугливое стояние перед Ничто, так в этой коро
тенькой статье, реферате — опять не теми еще словами названо, что бы
тие есть и что невидимое, так сказать, раньше видимо, чем видимое.
К тому же 1912 г. относится обзор «Новейшие исследования о логи
ке», 26 страниц. И начинается он с вопроса, не больше и не меньше, что
такое логика? Вместо того, чтобы уложить (вместе с нехорошим смыс
лом этого слова) логику в понятие, — язык так и подмывает сказать, «на
ука... — о ч ем? — . . .о закон ах, формах и приемах познания мира (доба
вим, допустим) на ступени абстрактного мышления», или что-нибудь в
этом роде, чем не определение, — говорит странную вещь: «Уже здесь
мы стоим перед проблемой, разрешение которой дело будущего». Но не
беда: отсутствие однозначного, связного определения логики не влия
ет в принципе на продвижение работы в ее области. — Интересно, а что
ему мало? Почему нельзя считать хорошим определением «логика наука
о законах, формах, приемах познания мира»? Что здесь не так?
Неславное дребезжание в слове «закон». Оно расщепляется. Закон
имеет два смысла: «закон природы», скажем рождение и смерть, не мы
его придумали, рождение и смерть «закон природы» — сказать так зна
чит всё равно что сказать, делайте придумывайте что хотите, уйти от
рождения и смерти так и так не сумеете, хоть разбейтесь; «закон о на
логах» — совсем другой смысл, приняли этот закон на съезде, а возь
мем можем и отменить, принять другой или вообще никакого закона о
налоге не иметь, вообще не иметь даже прямых налогов, только косвен
ные. В этом якобы определении «логика наука о законах познания ми
ра» определение добавляет к одной проблеме, логика, просто еще одну
проблему, закон. Наивно можно сказать, но закон, скажем, непротиво
речивости, закон исключенного третьего (принцип исключенного треть
его), он же ясно, какой закон: не который мы придумали. Строго гово
ря, закон непротиворечивости не то же самое, что принцип исключен
ного третьего (по-латински, из средневековья, где эта аристотелевская
тема была столько раз проработана, доведена до четкости, principium
ракузы. Как будто бы у Хайдеггера другое, чем народ, государство, высшая цель в его Си
ракузах. — Недалеко от секретных разработок в горах, в тишине Университета, сидел
член партии и в недрах, не вынося на лекции (они о Ницше и Гёльдерлине), выписывал
другое начало истории. Прошлый раз экскурс в прошлое. Сегодня план всех занятий, за
бегая вперед и объясняя метод. Он топика. Место события начинает светиться. Боль
шая вещь сама себе приют *.
41
СЕМИНАРЫ 1.2-4
exclusi tertii, или энергичнее tertium non datur, третьего не дано). Прин
цип исключенного третьего: А или Не-А, в этой противоречивой паре —
важно, что в них высказано противоположное — истинно или одно, или
другое, но не, скажем, то и другое вместе. Но даже что снег белый, не
всегда истинно. Мы должны обусловить: снег белый, действительно бе
лый, когда он ничем больше не окрашен, ни серым, ни голубым, т. е. мы
должны сначала позаботиться о том, чтобы иметь в виду, обеспечить,
так сказать, чистый случай белого снега, и тогда можем рассчитывать на
то, что наше высказывание снег белый окажется истиной. А то нам при
дется говорить «снег, как правило», или «снег настоящий, снег сам по се
бе». Т . е . в природе как раз законы логики в чистом виде не наблюдают
ся. Вопрос, что такое «закон» в логике, вычитанный из вещей или на
вязанный вещам, мешает применить это слово «закон» для настоящей
дефиниции. — То же касается закона тождества, А есть А. У Ницше есть
критика этого закона: он относится тоже к той лжи, без которой опреде
ленный род живых существ не мог бы прожить (человеческий род, без
втискивания текучих, радужных вещей в рамки тождества, без приспо
сабливания вещей, которые в непрестанном становлении, к бытию; без,
стало быть, искажения вещей).
Это вот у Хайдеггера — вы говорите, законы логики, логическое мыш
ление, но что такое логика? не следовало ли все-таки хоть раз сторонни
кам логики задуматься над этим? — останется навсегда. Пусть, как он
сказал, дефиниция логики не нужна для успеха работы в области логи
ки; эта иррелевантность — т. е. когда говорят, давайте работать, опреде
лим потом, — «никоим образом, конечно, не освобождает от глубокого
осмысления подлинного существа и предмета логики»
1
.
Особенно когда логика высвобождается из-под психологизма, ког
да похоже на окончание «эпохи психологии», это особенно последняя
треть 19 века, психология в этике и эстетике, в педагогике и юриспруден
ции и юридической практике (психология адвокатов), «близкая к пере
напряжению психологическая чувствительность в литературе» (Досто
евский) и искусстве. Хайдеггер не упоминает лингвистики: в ней тоже
во второй половине 19 в. правила психология. Отход от психологизма в
философии начала века — у Германа Когена и марбургской школы, Вин-
дельбанда, Риккерта, но прежде всего у Гуссерля, его «глубоко внедряю
щиеся и крайне удачные формулировки» «по существу разрушили пси-
1. GA, Bd. i,S. 18.
42
22, 29 НОЯБРЯ, 6 ДЕКАБРЯ 1990
хологическое наваждение, den psychologischen Bann»
1
.
Еще называет
Бернарда Больцано, чешского математика и философа первой половины
19 века, и Готлоба Фреге, его логико-математические исследования «по
моему мнению в своем истинном значении еще не оценены по досто
инству, не говоря уж исчерпаны»
2
. Это раннее уважение к математиче
ской логике Фреге надо обязательно иметь в виду, читая в середине века
у позднего Хайдеггера о двух полюсах философии, фундаментально-он
тологическом, и позитивистски-формалистическом, вождь которого Ру
дольф Карнап.
Что такое психологизм в логике. Логика — это что -то в мысли, с «за
конами мысли», берет в кавычки Хайдеггер; мысль, как известно, психи
ческая деятельность, почему же тогда не считать логику разделом пси
хологии? Основные законы мышления — разве это не реальные колеи,
в которых движется мысль? Законы логики необходимы и всеобщи, по
тому что высшая психическая деятельность имеет такую-то организа
цию.
—
Здесь напрашивается вывод, одновременно возражение: зна
чит — раз организм, живой, мог иметь другую организацию, законы ло
гики могли быть и другими; значит вообще нет нужды выделять логику
отдельно от структуры психики. Значит первичен психический акт, из
которого вполне выводимо логическое содержание — т . е. должно было
бы быть выводимо, а ведь как раз не выводимо! Отсюда абсурд и «те
оретическое бесплодие» психологизма. В логике как раз содержание не
зависит от психического акта; если я устал и не соображаю, мои акты
смазаны, логика, сама не смазывается, мазней становится только то, что
я пишу, оно перестает просто напросто быть логикой. Логика поэтому
не эмпирическая дисциплина. Принцип непротиворечивости, принцип
исключенного третьего — это идеальные отношения между мыслитель
ными предметами; поэтому, говорит Хайдеггер, лучше было бы систе
матически не называть их законами, чтобы не связываться с тем веще
ственным наполнением, которое есть и у законов природы, и у введен
ных нами законов. Логика ни то ни то, ни закон природы, ни принятый
и введенный нами закон. Если она «закон», то какой-то еще третий. Она
имеет дело с условиями познания. Она теория теории
3
, наукоучение.
Психологизм, однако, сделал нужное дело: заставил его критиковать
ι. Ibid., S. 19.
2. Ibid., S. 20.
3. Ibid., S. 23.
43
СЕМИНАРЫ 1.2 -4
и в этой его критике заметить гетерогенность психической, т. е. тем са
мым пространственно-временной действительности (Wirklichkeit); а у
Хайдеггера, каким мы его знаем, вообще слово такое есть? Беспроблем
ное его использование здесь, у двадцатитрехлетнего, показывает, что оно
Хайдеггеру не просто не понадобилось, не потребовалось, а было выве
дено как сомнительное, ненужное. Не сама вещь, конечно, — действи
тельность, — а этот термин. Как тогда он ту вещь называет? Вернее, где
у него то, что Гегель называл действительностью, Wirklichkeit? Не в дру
гом месте, чем бытие. Но то же самое его бытие, что действительность?
Совершенно некорректный вопрос, потому что весь пейзаж сменился.
Поэтому не для выслеживания, куда делась у него «действительность»,
а просто для почти не относящегося к делу примера того, что бывает
с философскими понятиями, вспомним, что в переводе «Государства»
Платона Егунова, например, стандартный способ передать греческое το
öv, где оно звучит подчеркнуто, не «сущее», а «сущее», в отличие от мни
мого, — это «действительность». (Рядом с этим το öv конечно, перево
дится и как «сущее», и как «бытие.)
Мы читаем «Новейшие исследования по логике», работу 1912 г. Психо
логизм заставил, опровергая его, еще яснее увидеть разнородность эм
пирической, пространственно-временной, с одной стороны, и логиче
ской действительности, с другой. А в свою очередь логическая действи
тельность совсем другая, чем сверхчувственно-метафизическая. Это
различение между тремя до сих пор во всей истории философии не бы
ло проведено достаточно отчетливо. В платонизме (и пифагорействе)
неучет отличия логического от метафизического, «гипостазирование»
понятий (как в «Пармениде» и «Софисте», где «другое», «то же» — на
чала всего). — У нас очень настойчиво разницу между логическим и ве
щественно-психическим будет проводить А. Ф . Лосев, которому в 1912 г.
19 лет и он только поступает на философию и филологию Московского
университета. Но другую разницу, между логическим и сверхчувствен
но-метафизическим, Лосев опять как будто скрадывает. Его частый при
мер: «Вода кипит. А идея вода кипит?» Вот наша идея, представление, ло
гическое, скажем, или в пространстве том же находящееся, что логика,
наверное, не кипит, разве что в смысле остроумца, который не носил зи
мой шапку, потому что «кипит мой разум возмущенный». Но вот что за
предельная идея воды не кипит, об этом еще надо подумать. Она — чи
стая энергия, действительность воды, в этом смысле она не только как
вода может кипеть, но даже кипит по преимуществу, как никакая вода
44
22, 29 НОЯБРЯ, 6 ДЕКАБРЯ 1990
кипеть здесь на земле не умеет; но и она — действительность всех агре
гатных состояний воды, т. е. она еще и ледяная, и парообразная, т. е. она
вдруг все три противоположных состояния воды. — Но ясно, что Лосеву
достаточно было для начала хотя бы просто осадить на место зарвавшу
юся чувственность, сказать, что ей есть граница, всё-таки.
Лосев: статус логического, оно не есть, а значит. У Хайдеггера: не ist, а
gilt, имеет силу, весит, значит. Наделяем значением не мы по своей воле:
дело тут идет о формальных, правда, отношениях, но которые из произ
вола мысли изъяты.
Почему Гуссерль называет свой анализ сознания, т. е. значит психи
ческих процессов, «логическими исследованиями»? Потому что берут
ся не сами акты, и их срез, их «редукция» к их смыслу; не в том, что в них
есть, дело, а в том, что они gelten, что они значат, в их направленности,
интенции. (Интенция: цель, назначение.) Психологизм тут преодолева
ется, побеждается на его же территории: психических процессов. Для че
го
7
. Куда
7
. Вот вопросы к ним, которые распознают за состояниями со
знания онтологию. Здесь надо помнить, что Sinn в немецком и в других
европейских языках значит и смысл, и направление. Тем, отвергнув пси
хологизм — сведение онтологии к психическим процессам — Гуссерль
спас психологию для философии, вернее, открыл ей двери в философию
как никогда раньше не было (как у Аристотеля!), отныне wird die Psycho
logie immer in Konnex mit der Philosophie bleiben 1*. Это останется про
граммой для Хайдеггера, у которого страх, скука, ностальгия, боязнь, от
чаяние, дерзание, другие настроения — не в их описании, а в смысле этих
состояний для человеческого присутствия.
Это были, в статье Хайдеггера, общие проблемы логики. Потом част
ные. И первая, сразу: суждение, Urteil. Он реабилитирует Канта, для ко
торого в суждении нерв познания. Кант: «Wir können aber alle Handlun
gen des Verstandes auf Urteile zurückführen, so daß der Verstand überhaupt
als ein Vermögen zu urteilen vorgestellt werden kann»2
f
. Суждение — пси
хический процесс, точнее узел актов. В чем его маркированность: в том,
что он всегда, и всякий, это занятие позиции «истинно-неистинно». Это
как поступок, ответственный, вставание на сторону. Он, значит, выры
вается из психологии, из психического процесса, из которого же и со
стоит. О процессе ведь нельзя сказать, он истинный или неистинный, он
ι. GA, Bd. i,S. зо.
2. Ibid.
45
СЕМИНАРЫ 1.2 -4
есть; из него выскакивает вдруг приговор (Urteil — и «приговор»). Суж
дение опять — прорыв из психологии к смыслу, направлению. Ведь в ду
шевных впечатлениях нет направленности; суждение их намагничивает.
Дальше важный ход, смелый, настоящий философский. Не надо за
стревать на так называемом грамматическом суждении, «А есть В». Язы
ковое выражение лучше вообще оставить в покое. Когда кричат, «По
жар», где тут связка, подлежащее, сказуемое, грамматической формы
суждения нет, суждение налицо. Не надо быть таким зависимым от то
го, что можно фиксировать, не надо ориентировать логику на граммати
ку (смехотворные попытки некоторых закосневших в своем професси
онализме лингвистов вывести ю аристотелевских категорий из частей
речи, их тоже в общем ю). Это относится все к жанру гадания по словам,
больше распространенному в наше время, чем птицегадание в антично
сти. Философ берет вещи языка не для того, чтобы их вставить в свой
ход мысли, а чтобы намекнуть на этот ход.
Как суждение над психическим актом, так очевидная истинность
суждения не из суждения, а над ним — как закона непротиворечивости.
Доказывать его можно бесконечно, идя от суждения; как можно беско
нечно рефлектировать, иметь переживания — и не решиться на сужде
ние. Логические первоосновы не дедуцируются из суждений, их содер
жание и значимость, ihren Inhalt und ihre Geltung schöpfen sie aus den
Urbestandstücken des Denkens überhaupt1
*.
Наконец, логистика, символическая логика. Уже у Лейбница, Characte-
ristica universalis. Теперь, во второй половине XIX в. — философия мате
матики. С уважением о ней. Систематика логистических проблем всего
лучше — у Бертрана Рассела, ссылается на «The Principles of Mathemat
ics», I, Cambridge 1903. И A. Whitehead. И Principia Mathematia, с Вайтхе-
дом, 19Ю. У них тождество логики и математики. Но: логистика не из ма
тематики — и к собственно логическим проблемам nicht vorzudringen
vermag
2t
. Исчисление предикатов занято расчетом, настоящая пробле
матика теории суждения им неведома.
И — неожиданный прогресс математики, она verwickelter*. Уже почти
мысль, что рабочая математика — это другое.
И следующая работа, уже большая — Die Lehre vom Urteil im Psycho
logismus. Ein kritisch-positiver Beitrag zur Logik. 1913 r. 130 страниц.
ι. GA,Bd.ι,S.40.
2. Ibid., S. 42.
1.5
13.12 .1990
Первая большая и самостоятельная работа Хайдеггера, «Учение о суж
дении в психологизме. Критически-позитивный вклад в логику», 1913
год, ему 24 года. Посвящение: «Моим родителям». В кратчайшем пре
дисловии * говорит, что как ни в какой другой науке в философии пер
вая попытка остается чем-то несовершенным. Что имеет в виду? Плато
новское: что философия дело целой жизни, наука допускает и требует,
как спорт, чтобы человек всё-таки оставил сцену, и в отличие — в замет
ном отличии — от них, где, в науке и спорте, нет позора уйти, наоборот,
позорно изображать активность, когда уже нет сил гнаться за молоды
ми, так в философии — если философия не стала техникой — наоборот
всё перечеркивает измена ей; философ только тот, кто до последнего дня
философ. До этого последнего дня поэтому философия остается еще не
совершенной; тем более в своем первом шаге.
Благодарит научного руководителя этой своей первой диссертации,
профессора Шнейдера, и тайного советника профессора Риккерта. Им
он обязан «видением, увидением и пониманием»
2
современных логиче
ских проблем. Sehen und Verstehen, отчеканенная формула, говорящая,
что прежде понимания вещей вещи надо сначала просто увидеть, пер
вым делом. — Благодарит своих преподавателей математики и физики и,
наконец, профессора Финке, «который разбудил во мне, неисторичном
математике <unhistorischer Mathematiker, это 24-х летний Хайдеггер на
зывает так себя> любовь к истории и понимание ее»
3
.
Понятно, что в «эпоху психологии» всё ею затронуто, об этом уже го
ворилось в прошлом реферате, «Новейшие исследования по логике», пе
дагогика, юриспруденция, в большой мере современная литература и
искусство. Но можно было бы априорно предполагать, что философия
не будет затронута психологизмом. Нет и философия оказалась затро
нута, как раз самая «внутренняя» часть философии логика как «учение
о мышлении» оказалась вся под психологией, ведь мышление это психи-
i.Ibid.,S.6i.
2. Ibid .
3. Ibid .
47
СЕМИНАР 1.5
ческий процесс. Произошла «натурализация сознания», т. е. в сознании
стали видеть природный процесс. Теперь, усилиями неокантианства,
Германа Когена, Виндельбанда, Риккерта восстановлено трансценден
тально-логическое понимание; всего больше для преодоления психоло
гизма сделал Гуссерль. «Как раз впервые только гуссерлевские принци
пиальные крайне счастливым образом сформулированные исследова
ния разрушили психологистическую зачарованность и наметили пути к
прояснению логики и ее задач»
1
.
После Гуссерля поэтому можно было бы всякое занятие психоло
гистическими воззрениями считать уже недоразумением: к чему, ведь
ясно, что психология просто не дотягивается до философии. Теперь,
по горделивому заявлению Генриха Риккерта (1863-1936, неокантиа
нец, ученик Виндельбанда, учитель и руководитель второй диссерта
ции, на звание доцента, Хайдеггера), в философском журнале «Ло
гос» (т. з, 1912 год, с. 241): «Устранение этого настолько же распростра
ненного, насколько нелепого предрассудка <т. е. психологистической»
принадлежит самое большее к логической пропедевтике», т. е. перво
му введению в логику, и — скорее к делуу дело не психология, дело фи
лософия.
Хайдеггер молод, радикален, он идет за Риккертом, Гуссерлем, психо
логизм ему тоже нелеп, казалось бы, отмести его с плеча, нет ничего лег
че. И вдруг: нет почему-то Хайдеггеру кажется, что всё-таки надо всмо
треться в отвергнутый и изгоняемый психологизм. Он оправдывающим
ся образом говорит: в целом, психологизм опрокинут, конечно, да; но в
специальных проблемах логики надо еще посмотреть; в каких специаль
ных проблемах? Вот видите ли в таком специальном вопросе, как учение
о суждении. Какой же это специальный вопрос; он специальный для ко
го-то, для Хайдеггера, мы знаем из его обзора «Новейшие исследования
по логике», который мы разбирали, суждение, Urteil это центральное в
логике. Это «специальный» вопрос в исключительном смысле. Вовсе не
так, что остались еще какие-то в логике закоулки, где психологизм име
ет место; нет в самой «клетке», первоэлементе логики, суждении Хайдег
геру почему-то хочется еще раз вглядеться в психологизм, который на
до избегать, строжайшим образом провести границу между психологи
ческим и логическим — но это же значит ближайшим соседом логики
сделать психологию, не отпускать ее, как раз не отвергать и не изгонять
ι. GA,Bd.1.S.64.
48
13 ДЕКАБРЯ 1990
с плеча! Такое размежевание с психологией это спасение психологии или
того, что называется этим словом, для философии. Т. е. Хайдеггер про
должает дело Гуссерля: на том самом материале, который раньше при
надлежал психологии, данных сознания, на что обратила внимание пси
хология, строить новую строгую философскую дисциплину. В самом де
ле, гуссерлевская феноменология не могла возникнуть без подготовки
ей почвы психологией.
Хайдеггер намечает прицел работы — способ постановки вопроса о су
ществе суждения у психологов; у каких? У четверых. Первый — светило
психологическое, Вильгельм Вундт (1832-1920), мастер такого для XIX в.
блестящего, самодостоверного, бесконечно уважаемого метода, как экс
перимент — для расчленения сознания на элементы, выяснения свя
зей между ними, оперировавший термином, который одним своим зву
чанием бил наповал: апперцепция, акт схватывания, совершаемый пси
хикой в момент восприятия, где — в этом акте
— ко мпа кт но участвует
несколько важнейших моментов, тут сходится ясное и отчетливое осо
знание восприятия, сосредоточение внимания, синтезирующая деятель
ность мысли. Всё мгновенно собирается в пучок в акте апперцепции и из
него определяет последствия апперцепции, которая может быть та или
иная: влияет на поведение. Чем не теория? Не хуже других. Вильгельм
Вундт — автор знаменитейшей десятитомной «Психологии народов»,
«Völkerpsychologie» 1900-1920. Второй — Генрих Майер, автор, теперь не
включаемый в энциклопедии. Третий Франц Брентано (1838-1917)» ари-
стотелик, реалист, с чьей диссертации, мы упоминали, «О множествен
ном значении сущего по Аристотелю», подаренной 18-летнему Хайдег-
геру, началось его внимание к бытию; и четвертый Теодор Липпс (1851-
1914)» такое же почти как Вундт систематизирующее психологическое
светило своего времени. Как апперцепция для Вундта, так для Липпса
переживание — первая неразложимая цельность, из которой потом рас
слоятся субъект, объект и акт между ними; она одна бесспорна для Лип
пса, а вот расхожее различение на «физическое» и «психическое» для не
го сомнительно, оно мнимое, создано мыслью, этого различения рань
ше, в «переживании», не было, поэтому психологию переживания свою
он называет «психофизикой»; четверо располагаются в таком порядке,
потому что Вундт формулирует возникновение (Entstehen) суждения,
Н. Maier его сложенность, состав (Bestehen) и частичных актов, а Теодор
Липпс — прежде всего осуществление (Vollendung) процесса суждения;
причем Теодор Липпс всего ближе подходит к чисто логическому уче-
4-2015
49
СЕМИНАР 1.5
нию о суждении — и тем самым подводит к наброску такого чисто ло
гического учения, которое должно быть. Которое в той же работе пред
принимает Хайдеггер. Вот как он объявляет эту последнюю часть дис
сертации: в пятой главе пятого раздела нет притязаний на последнее
решающее слово в разрешении проблемы суждения, дело не идет даль
ше «прикидки». Вот такая подчеркнутая, трезвая четкость, как здесь в
экспозиции, так и потом будет во всем тексте. Кто говорит, что Хайдег
гер «иррационален», должен заглянуть в его ранние сочинения; они вот
такие; и кто твердит об экспрессионизме Хайдеггера, тот просто ничего
не хочет видеть.
Из работ Вильгельма Вундта не надо экстраполировать теорию суж
дения — у него есть «Логика», где раздел суждение, конечно, существу
ет. Первые приближения к дефиниции суждения (будем говорить так, а
не «высказывания») Вундт критикует: «форма соединения (сочетания)
или разъединения понятий»; «представление о единстве или связи меж
ду двумя различными понятиями»
1
. Как будто даны камушки и их со
четают, раскладывают, распределяют. А когда сами понятия возникают
из суждения, как когда я рассужу, скажем, «нет, суждение и высказыва
ние все-таки не одно, а разные вещи»? Вундт: суждение не сводит вое
дино отдельно родившиеся понятия, а делит на понятия представление,
первичное, единое. Формула: суждение есть «разделение цельного пред
ставления на его составные части». Есть фундаментальное представле
ние — и его расслоение. Или еще шире, включая мысль: «Суждение есть
разложение мысли на ее понятийные компоненты. Суждение есть дан
ность, представление той или иной мысли, и в цепях этого представле
ния оно разлагает мысли на элементы, понятия. Не из понятий сужде
ние собирает мысль, а наоборот оно мысли разлагает в понятия»
2
. Раз
вертывается ландшафт суждения.
Мысль — дискурс, не может быть сразу. При разложении первой цель
ности поэтому образуется структура понятия.
Вопрос к нему: можно ли «последовательно провести» концепцию
суждения как «аналитической функции»? Уже в вопросе связки Вундт
выходит за рамки своего определения суждения
3
. Копула якобы не су
щественная часть суждения, это «абстрактная вербальная форма», важ-
1.GА, Bd. ι, S.66-67.
2. Ibid ., S. 68.
3. Ibid., S. 76.
SO
13 ДЕКАБРЯ 1990
ны сцепляемые вещи. Они соединяются, копула обеспечит любую связь
вам. Так ли это?
Безличное суждение: в нем субъект неизвестен. «Холодает»... кто?
Этому суждению, по Вундту, предшествует «Gesamtvorstellung» молнии.
Якобы от разложения получается суждение. Но в «холодает» никакого
разложения нет! То «общее представление» целиком перетекает в сло
во. Нет разложения, анализа. Явно у такого суждения нет аналитиче
ской функции. Вундт уточняет: такие, так сказать, невидимые субъек
ты, где на предмет конкретно указать нельзя, «im allgemeinen begrifflich
mitgedacht»
1
*. Ах вот как! Как же «разложение», когда — mitgedacht. Уже
не анализ, а синтез, т. е . прямая противоположность первоначальной де
финиции.
Страница 77 и — экзистенциальные суждения. То же. Мы привносим
существование.
Кстати, одно с безличными: грустно.
ι. Ibid., S. 77·
1.6
20.12.1990
Генрих Майер: поиски элементарного суждения. Восприятия и представ
ления тоже оказываются суждениями. В самом деле, раньше лежащего,
так сказать, на виду суждения «Солнце светит» было восприятие, ощу
щение того светящего солнца; и будет «софистическим трюкачеством»,
пишет Майер, представлять то ощущение солнца просто состоянием
органа чувств — сужение зрачка, отпечаток на сетчатке глаза, тепло на
коже лица: нет, восприятие, ощущение заверяется сознанием, которое
свидетельствует: да, так, это есть. Т . е. в самом восприятии, ощущении
суждение уже присутствует. И в представлении «солнце» кроме образа
есть простейшее суждение «это есть то», «то, о чем идет речь, есть солн
це». Ну, а «это», т. е. когда мы останавливаем внимание на «этом», «это»
сосредоточивает нас на себе? Оно остановило, оно сосредоточило, об
ратило на себя внимание, значит элементарнейшая форма суждения —
что-то вроде «вот это вот это» — тут была, действовала. Всякое имено
вание, вслух или про себя, — суждение, присуждает чему-то имя . Мы
говорим: сосна; а без слов судим: это — сосна . Мы в жизненном пото
ке. Он сплошной. Мы выхватываем из него «вещи» актом внимания, из
влекающим вещь из потока. Всякий такой акт — присуждение выхвачен
ной вещи места в нашем мире, элементарное суждение. Как минимум в
форме вот.
Дальше. Вещь, выхваченная актом внимания из неразличимого по
тока жизни — по Майеру, и зачем мы так подробно о забытом психо
логе, но конструкция Майера не хуже современных психологических
конструкций, — выхваченная вниманием из потока вещь не одна, она
поступает в пространство, где есть уже другие такие же выхваченные
вещи, подвёрстывается к ним, оформляется в контексте их. Она похо
жа на что-то уже бывшее известным или — что важно
—
похожа на что-
то ожидаемое. А эта похожесть — уже, вы понимаете, суждение. Имено
вание, стало быть, не просто суждение, оно сгусток суждений, напичка
но суждениями: это есть, это есть то-то, это похоже на то-то, непохоже
на другое, связано с третьим и т. д. Еще одно суждение — само наделе
ние именем, оно сопровождается приговором: да, это именно есть вер
ное или в какой-то мере верное имя той вещи.
53
СЕМИНАР 1.6
Во всех этих суждениях из сгустка, сопровождающего простейший
акт восприятия или представления — где субъект, где предикат, где гла
гол-связка? Они примысливаются вторично. Поэтому Майер: «термины
субъект и предикат надо из учения о логическом суждении изъять и це
ликом отдать их грамматике»
1
.
Форма элементарного, фундаментального мыслительного акта, по
Майеру, — одночленное, бессубъектное предложение, типа «молния», —
категория состояния, у современных грамматистов. Не сразу видно, но
той же сути, что одночленное, бессубъектное суждение «молния» (поу
чительно подумать, почему у Майера именно этот пример, «молния») —
и простейшее суждение «это», или «вот». Это неким образом вспыхи
вает в нашем внимании как молния, не было — и вот вдруг есть. Вспы
хивает и еще никак не определилось, но уже заряжено потенциальными
отношениями к известным нам вещам, все равно какими, отношениями
отождествления или расподобления. Во всяком отрицании ведь всё рав
но скрывается сравнение, не получившееся.
Как вы думаете, что говорит Хайдеггер об этой конструкции Генри
ха Майера? Он одобряет. И ему нравится, что Майер отбрасывает грам
матическую форму суждения, которая только зря путается под ногами,
мешает видеть суть суждения — с этими своими «субъектом», «преди
катом», «глаголом-связкой». Суждение проще, «молниеноснее». И ему
нравится, что глубже и глубже в каждом акте мысли кроется опять суж
дение, вплоть до «это», которое тоже суждение, поскольку высвечива
ется. Еще раз с удовольствием Хайдеггер цитирует: «примитивнейшие
акты суждения следует отыскивать в той глубине, куда язык вообще
не достигает»
2
. Как же так, мы думали и говорили, что хайдеггеровская
мысль одно с языком. — Да, с тем языком, чтобы добраться до которо
го, надо сначала разобраться с тем, что обычно считается языком, лек
сика, грамматика, — тем, что мы видим в языке. С наивным взглядом,
что язык можно рассматривать. Что на него можно показать: вот он,
язык. Такой язык не имеет отношения к философии и не представля
ет для нее интереса. Не отделавшись от такого языка, сначала, не удаст
ся обратить внимание на язык, который нельзя показать, который сам
показывает, как суть слова в том, что оно может сказать. Хайдеггер, еще
не зная в эти годы, чем станет в его мысли язык, уже знает, насколько
ι. GA, Bd. i,S. 98-99.
2. Ibid., S. 104.
54
20 ДЕКАБРЯ 1990
мало мысль определяется лексическими и грамматическими структура
ми языка.
Насколько я знаю, единственное место, где Хайдеггер говорит о ре
бенке, — это здесь, в «Критическом обсуждении» Генриха Майера с его
простейшими актами суждения: в детские годы развития заготавлива
ется для взрослого «запас объективных представлений» в ходе много
кратных, наслаивающихся суждений, которые как ни изначальными,
первичными, примитивными не представлять, всё будет еще получать
ся недостаточно первично, и которые большей частью не достигают до
фиксирования в языке. Умолчание философа о чем-то, оно или говорит
о том, что философ не имел этой вещи в своем кругозоре, как Платон
ничего не говорит о железных дорогах, потому что не знал такой вещи;
или вещь философу кажется не очень важной, как Платон не говорит об
отношении «товар-деньги-товар», потому что это ему не кажется важ
ным (а Аристотель говорит); или вещь, наоборот, слишком близка, что
бы можно и нужно было ее тематизировать. Коротенькое место о ребен
ке у этого 24-летнего Хайдеггера исключает и первый, и второй случай:
уж конечно не маловажно время жизни, когда для будущего взросло
го заготовляются сами вещи, среди которых взрослый будет жить. За
готовляются на такой глубине, куда не достает не только сознание, но и
язык, в смысле лексики и грамматики. Язык ведь даже такой — в своей
лексике и грамматике — уже выходит за рамки сознания.
При всей правомерности поисков того первоначального, элементар
ного суждения, Майер занят тем, что прослеживает акты суждения, на
очень поверхностном уровне развернутого высказывания, на невиди
мом уровне так называемого его «именовательного высказывания», на
неосознаваемом уровне первых «это» и «вот», размещений тех вещей,
которые вспыхивают в сознании ребенка, в пространстве опознаваемо
го ребенком мира. Всё надо. Но всё это отдельные, всё более простые,
акты Urteilen, отглагольное существительное, так сказать, приведения
суждения в действие, констатации: вот здесь совершается Urteil, и вот
здесь, у ребенка. Майер опознает суждение повсюду — а каким образом?
Откуда он знает заранее, что такое суждение, что может опознать: ага, и
здесь тоже, в простейшем восприятии, за работой суждение, Urteil? До
анализа актов суждения, целой их пирамиды, откуда-то знает сужде
ние. Майер путает количество актов, в которых оформляется суждение,
с элементарностью самого суждения. Якобы именовательное суждение
«Дерево!» элементарнее, чем суждение, где субъект-предикат-связка на
55
СЕМИНАР 1.6
месте, скажем «дерево было зеленое». Нет просто на одно суждение по
трачено, так сказать, больше лексики и грамматики, а на другое мень
ше, но ведь сам же Майер установил, что суждение к лексике и грамма
тике не привязано. В качестве суждения простая, так сказать, «категория
состояния», детское восклицание «Дерево!» не меньше, чем «дерево бы
ло зеленое», в первом случае высказывается присутствие дерева, во вто
ром зеленость.
После этого разбора Майера, напечатанного корпусом, идет страни
ца примечания курсивом: только что вышла, в этом же году, новая ра
бота Генриха Майера, «Логика и психология», в юбилейном сборнике
искусствоведу Алоизу Риглю — Майер тоже искусствовед, — а Хайдег
гер ведь всё читает; платоновское οικία τοϋ άναγνώστου могло бы отно
ситься к нему. В этой работе Майер вводит — разумеется, сам, Хайдег-
гера молодого студента он не знает, — различение между «актом сужде
ния» — что Хайдеггер называет Urteilen — и собственно Urteil, а именно
суждение — это «конечное состояние» акта суждения, к которому при
соединяется сознание значимости, объективности содержания сужде
ния: данность мыслится как объективная действительность, данности
придается значимость чего-то самостоятельного, как заверяется. Нет в
суждении больше, чем удостоверение данности, в нем еще смысл; в по
следней, «своей», «позитивной» части работы Хайдеггер разъяснит, что
такое смысл; это направленность, интенция (тут понимание смысла за
висит от Гуссерля). Не просто сознание как автомат фиксирует и закре
пляет: «вот зеленость дерева»; суждение придает смысл, направленность
тому, что им охвачено.
Тут же, присоединяясь к Гуссерлю с его интенциональным, идеаль
ным смыслом, Хайдеггер и расходится с Гуссерлем — в этом 1913 г., а не
двадцать лет спустя якобы он, до того верный и зависимый ученик, пре
дал учителя. Гуссерль, по Хайдеггеру, слишком не оставляет психологии
ничего, называя акты суждения просто ответвлениями смысла; Хайдег
гер склонен видеть тут два совсем разных мира — по схеме, которую
я рисовал прошлый раз: деятельность мысли относится к реальному,
смысл — к идеальному. Реальное — психическое, идеальное — логиче
ское. Гуссерль неправ, думая, что идеальное, логическое ответвляется в
психическое: это так же неверно, как думать, будто реальное, психиче
ское как-то дорастает до идеального, логического. Между мирами непе-
реходимая пропасть. И Хайдеггер говорит фразу, доводящую этот тезис
до крайности, фразу в общем-то понятную, но которая мне кажется за-
56
20 ДЕКАБРЯ 1990
гадочной, тем более что она написана как-то неожиданно, отдельно от
всего. Die Natur unseres Geistes ist sowenig logisch, daß sie dem logischen
vielmehr geradezu als einem ihr Fremden gegenübersteht 1*. Я легко пред
ставляю обличителя, который обрадуется: Ага, видите, какое чудовище
нелогичности Хайдеггер: для него логика вообще ощущается как что-то
чуждое! Лучше бы пусть они присмотрелись к себе; не ощущают ли и
они тоже, что им от операций чистой логики тоже немножко не по се
бе — как простому человеку от действий бюрократа или судьи жутко
вато, от их как раз логики неукоснительной. Я бы думал, что здесь у Хай-
деггера сказано что-то очень важное.
Третий автор, Франц Брентано. И вот Брентано — его характеристи
ка «непосредственный предшественник феноменологии Гуссерля» —
верна; как раз суть, особенность психических феноменов, по Брентано,
в том, что они интенциональны, нацелены (направлены — а смысл, одно
из значений, или первое значение, это направленность) на содержание,
объект, предмет, который самою же интенциональностъю и спроециро
ван, вызван из небытия, причем не обязательно он обладает реальным
существованием: так сказать, душа всегда нацелена на цель, но цель не
всегда ею угадана верно. Интенциональность не имеет аналога в приро
де. Тот предмет, то содержание, на которое направлены психические фе
номены, находится в статусе «интенционального несуществования» —
потому и интенция, что он еще не существует, еще не налицо; и стремле
ние к такому несуществующему для интенции предмету происходит по
трем разным путям, через три разных класса психической деятельности:
представление, суждение и движение чувства. — Еще раз: казалось бы,
разбираем так подробно психологизм, преодоленный, или люди думают,
что преодоленный. Но он в последнюю половину или четверть еще даже
19 века и в начале ю века расцвел за счет философии, которая наоборот
захирела с исходом 19 века, т. е. ум, который в начале того прошлого ве
ка можно было найти в философии, в конце века надо было искать уже
в психологии, она была интереснее философии в то время, и Хайдеггер
правильно сделал, что не замкнулся в философском цехе.
Итак, представление у Брентано (Франца, а не экономиста Луйо Брен
тано, которому досталось от Энгельса) — первое, оно бывает тогда, ког
да нам что-то «является», erscheint, от scheinen «светить»: что-то «засве
тилось», а то был только нулевой фон, «ничего не светило». Поскольку
ι. GA,Bd.ι,S.по.
57
СЕМИНАР 1.6
для нас вообще и существует только то, что так «светит», то ясно, что
без представления нет и других актов, представление дает им из чего со
стоять, дает саму исходную данность. Когда данность есть — можно су
дить. «Под суждением <Брентано> мы понимаем, в согласии с привыч
ным философским словоупотреблением, принятие (как истины) или
отвержение (как лжи)»
1
. Не всякое представление подвергается сужде
нию, некоторые представления так навсегда представлениями и оста
ются. — Не обязательно суждение начинается там, где сопоставляются
или противопоставляются разные представления; простое представле
ние может оказаться уже суждением, без всякой предикации. Ведь суж
дение — это принятие или отвержение (того, что «светит»). Принятие
или отвержение — акт психики, ну и что? Напрасно нас пугают словом
«психологизм», новоявленной кличкой, слыша которую, благочестивый
философ крестится («Боже упаси!»), точно так же, как правоверный ка
толик крестится, слыша слово «модернизм» (имеется в виду начавший
ся в католической церкви в конце прошлого века поворот к социальным
и культурным реалиям современного мира)
2
. Наоборот, если логика не
пустит свои корни в психологическую почву, то она обречена на беспло
дие и путаницу3
.
Что бы ни говорил Брентано, его теория суждения всё равно пси
хологизм, по Хайдеггеру, непризнание своей неприступной сферы ло
гического. (Брентано, так сказать, израсходовался на различение фи
зического, где нет интенции, и психического, где всё интенционально,
устремлено к целям; но что не менее отчетливо другое различение, меж
ду психическим и логическим, незамечание этого Хайдеггер ставит ему
в вину.)
Суждение это акт принятия (за истину) или отвержения (как лжи).
Что такое принятие или отвержение? Это ведь не просто движение ду
ши: что-то во мне щелкнуло — и я принял, не щелкнуло — и я отверг.
Когда я отвергаю, я не просто отворачиваюсь, отшатываюсь, чураюсь:
нет, я в упор вглядываюсь во что-то и его отвергаю. Не прихоть, не пси
хологическое состояние мне велит принять или отвергнуть. Я для того
и вглядываюсь пристально во что-то, чтобы, если я это отвергаю, отвер
гнуть решительно, т. е. «развязаться» окончательно, а не так, что в дру-
1. GAt Bd. i,S. 117.
2. Ibid., S. 122.
3. Ibid., S. 123.
58
20 ДЕКАБРЯ 1990
гой раз, когда изменюсь, то перерешу. Т. е. может быть и перерешу, но не
потому, что изменился, а потому, что стал видеть яснее, больше, хотел
такой ясности взгляда раньше, но не получалось. Т. е. принятие или от
вержение не первичны, они учитывают, что можно принять, а чего нель
зя. Принятие должно быть обоснованным. Обоснованием явно служит
что-то в принимаемом или отвергаемом, оно само такое, что его надо
принять или отвергнуть, в конечном счете, после прояснения всех не
доразумений. Почему, вглядевшись, я принимаю, что 2
2
меньше, чем з
2
>
аз
4
, наоборот, больше, чем 4
3
? Да потому, что сами 2
3
,з
2
>самиз
4
,4
3
это
го требуют. Потому что так оно и есть, weil es so ist. Принимается ma-
кость, Sosein. Она диктует, и неважно, кто, когда, в каком психологиче
ском состоянии принимает. Если не умеет отвлечься человек от своего
психологического состояния — тем хуже для него, значит надо просто
научиться видеть вещи независимо от всякой «психической» деятельно
сти, видеть как они есть в их особенном модусе существования, изучить
и оценить их по достоинству, как они заслуживают.
Я говорил, что у нас эту абсолютную отдельность мира логики от ми
ра психики постоянно подчеркивал Алексей Федорович Лосев. Для не
го их разделение, этих миров, было не философемой, не теорией, а опы
том. Он это разделение видел, испытал. Он же видел и чужесть человеку
того мира логики — о чем выше та странная фраза Хайдеггера. В ужас и
одновременно в восторг приводило Лосева то, что в человеке уживают
ся эти два мира, души и смысла, логики, — когда он говорил, не раз: «Ду
шонка пищит, упирается, плачет, жалуется, тоскует, но всё это ничего не
стоит перед чистой идеей, которой дела нет до душонки этой пищащей,
упирающейся; чистая идея развертывается по своим законам, неумоли
мо»*. В этом лосевском почти садистском опыте того, как чистая логика
буквально режет по живому душу, — ив большом он видел это как неу
молимое движение исторической логики через бесконечно страдающие
человеческие массы, когда голая идея оказывается сильнее слез, мучений
десятков миллионов; и в своем собственном пренебрежении своим пси
хическим состоянием, своим телесным состоянием, которые безусловно
подчинялись требованиям работы («душно, жара невыносимая, люди
изнывают, дышать нечем, слоняются где бы найти прохлады, холодную
воду пьют — а мне хорошо, самое время сидеть, Аристотелем или Пла
тоном заниматься») — в этом отчетливом опыте было понимание про
пасти между психикой и логикой — но был ли Лосев свободен от того,
что Хайдеггер называл, я рисовал на доске простую схему, платонизиру-
59
СЕМИНАР 1.6
ющим смешением логического и трансцендентного, когда запредельный
мир понимают наподобие чисел, с Единым во главе, чистых умных эй-
досов — смысловых образований? Да, у Лосева как начинался отделен
ный пропастью от психики с ее жалостными переживаниями мир логи
ки, так он никогда и не кончался, переходя в запредельный идеальный
мир, где тот же ледяной блеск, та же бесстрастность. Поэтому он и по
вторял, торжествуя в своей легкой победе над психологизмом: вода ки
пит; а идея воды кипит? Идея как рассудочное представление, формула
воды Н20 ну разумеется не кипит. Но начало, первая энергия вещей —
это совершенная полнота всего, что только отчасти дает о себе знать в
вещах определившихся. Та идея воды кипит, и кипит так, как никогда не
кипела на глазах людей никакая вода; и не только кипит, но и одновре
менно внутри своего вдруг — пребывает в парообразном состоянии; и
всё так же вдруг — ледяная и леденит. Так от трансцендентного неожи
данно — тоже вдруг — перебрасывается через среднее, бесстрастное ло
гическое, мост к душевному, и душевное оправдывается перед логиче
ским как то, что, в отличие от логического, способно по крайней мере
намекнуть, как обстоят дела с самими вещами, с началами вещей. — Что
душа, с этими же слезами, тревогами, страданиями, такая бессильная пе
ред логикой, все-таки оправдана, это Лосев, конечно, знал, но он отводил
для ее оправдания область веры. Вера, однако, это очень сильная вещь.
Она, конечно, спасает, спасает вот этого человека, смертного, больно
го, нищего, покинутого. Но пора ли было спасаться от философии в ве
ре? Не спутывается ли всё, когда слишком рано человек дергает кольцо
и раскрывает над собой парашют на высоте, где еще не надо и где пока
еще нечем дышать? Я говорю не в том смысле, что рано верить — верить
никогда не рано. Но рано отталкивать философию за якобы ее ледяной
холод, за безразличие, равнодушие к душе, когда еще не решен вопрос,
действительно ли царство чистой логики, начавшись, так и простирает
ся до самих вещей, до их начал, или и царству логики есть предел, оно
кончается, где начинается то, что, по Аристотелю, высшее в человече
ской философии. Это высшее Аристотель называет по-разному; глав
ные имена этой высшей философии — мудрость, филия, любовь, софия,
умное чувство, айстесис ноэра. Почему Лосев не видит этого в античной
мысли — это главный вопрос не только о Лосеве, но и русской религиоз
ной философии соловьевского направления, и больше — русской мысли
вообще. Как русская мысль относится к античности. Или она в своей су
ти относится к античности.
6о
20 ДЕКАБРЯ 1990
Наконец четвертый разбираемый Хайдеггером автор, Теодор Липпс, и
это уже прорыв психологизма, выход из него к философии: Липпс дела
ет как раз то, чего Хайдеггер не нашел у Брентано, видит существо суж
дения в ответе психического субъекта на требование самого предмета.
Начав как близкий к Вундту, Теодор Липпс теперь, пишет Хайдеггер, уже
не психологист, он не испугался в принципе отменить свою прежнюю
позицию. По крайней мере в одном важном отношении: отставлено его
прежнее натуралистически-реалистическое понимание законов мысли,
за что Гуссерль (в ι-м томе Логических исследований) его задевает.
Психологизм Липпсом отставлен. Но не преодолен. Т . е . не вытес
нен ничем более весомым. Суждение и у Липпса занимает центральное
место в логике. А какое место логика занимает в философии? Ее нуж
но брать заодно с теорией познания, без которой, в отрыве от которой
логика неясно зачем, пуста (чисто формальна). И, наконец, какое место
философия занимает среди областей знания? Тем, что она постоянно
спрашивает, как и почему она знает то, что знает. Или иначе: философия
имеет дело с внутренним опытом. Естествознание имеет дело с внеш
ним опытом, философия — с представлениями, ощущениями, актами
воли, она — наука о духе, Geisteswissenschaft по преимуществу. Логика,
часть философии — наука о внутреннем опыте познавательных фактов.
Сознание связанности (обязанности, привязанности) к определенным
сочетаниям, сознание, что мы обязаны так вот понимать некоторые ве
щи, Липпс называет суждением. Материал для суждения поставляет ап
перцепция (вундтовская), апперцепция наделяет представления местом
в психической жизни (Гуссерль сказал бы: в жизненном мире). Я ска
зал: вундтовская апперцепция. Но только по происхождению и схеме.
У Липпса она истолкована неожиданно и интересно: нам казалось бы,
что ап-перцепция вбирание нами впечатлений «извне», но ведь те впе
чатления текут всегда через нас, они, так сказать, всё равно всегда в нас;
апперцепция придает им статус более определенный, чем просто броже
ние в нас, размещает их внутри целого, как бы «присуждая» им место,
т. е . апперцепция уже и есть суждение. Но различие все же есть, суще
ственное. Оно такое: апперципируем, наделяя местом в нашем хозяй
стве, мы, так, сказать, на свой страх и риск, если что-то сделали несклад
но — тем хуже для нас, но никто нам на вид это поставить не может.
В суждении мы свою апперцепцию еще и выверяем критерием обосно
ванности: так обстоит дело (Sosein), так оно и должно быть. То, что я го
ворю, действие моей души или переживание имеет объективное значе-
61
СЕМИНАР 1.6
ние, не просто есть, но значимо* имеет силу (sein-gelten). Есть принуди
тельность, обязательность, силовое давление: сами вещи тем, что они
такие вот именно, на нас давят, требуют от нас, заставляют так сформи
ровать суждение, а не иначе. Та же мысль, что была у Майера: там объек
тивное мы воспринимали как чужое; Липпс: как такое, которое не в на
шей свободной психической жизни, а «вторгается в нее с периферии ее».
Я говорил в отношении Лосева, что для него, конечно, логическая, для
него это то же, что эйдетическая реальность сурова, свирепа; как ни лю
бит ее Лосев, она чужая его душе. Родная ей, не чужая — божественная
реальность. В философии, в началах он говорит, что слышит тот же хо
лод. Но ведь только и делает, что с упоением занимается философией.
Может ли быть, что он только говорит о ее чуждости душе, опыт у не
го на самом деле другой? Т. е. в его философствовании, в драме его мыс
ли — неназванная, может быть и даже не совсем осознанная — область
третья, вне логики и эйдоса, область умного чувства, софии, филии,
фило-софии дает о себе знать? Это безусловно. И это невероятно запу
тывает нашу схему Лосева. Кроме философии, которая безлична и пре
одолевается верой, есть показанная, испытанная им другая философия,
которая не дальше от сердца, чем вера.
Это был Липпс ранний, еще психологист. Его поздние формулировки
остаются почти теми же, но делаются строже понятия предмета, пред
метности, и требования, с каким предмет обращен к мысли. Предмет:
это не то, что воспринимается чувствами. Так чувствами в столе вос
принимается бог знает что, две с половиной ножки и половина поверх
ности. Мы говорим тем не менее, что видим стол. Видим на самом деле
несколько — очень мало
—
поверхностей, которые дособираем до сто
ла — чем? Не чувствами. Я вижу эти поверхности под одним углом, вы
под другим, и стало быть я, скажем, параллелепипеды вижу, а вы прямо
угольники, я их вижу три, вы только два — но предмет требует от нас,
чтобы мы не успокаивались на увиденном, мы не имеем права говорить:
а мое дело маленькое, вижу два прямоугольника и дело с концом, от
станьте, мои восприятия таковы, не воспринимаю я ничего больше. Нет,
предмет требует расстараться, что-то сделать с этими ущербными вос
приятиями, — и даже это не знакомый стол, а хитрый предмет, в отно
шении которого у нас нет никаких шансов достроить его по тому, что
мы видим, но пытаемся мы достроить всё равно, гадая, скажем: это всё-
таки компьютер, а не телевизор. Предмет требует — значит, он вызы
вает опознать, признать его. И Липпс различает принуждение от требо-
62
20 ДЕКАБРЯ 1990
вания. Принуждает психическое, требует логическое. Что требует, то не
принуждает. Если завесят стену, принудят видеть занавес, это касается
психологии восприятия. Но восприятие ткани, такого-то цвета, такого-
то размера не принуждает понять, экран это или штора. Я могу остать
ся при восприятии ткани. Не выполнить требования. Такая-то ткань —
факт; экран или штора — предметы; бывает, что штора служит экраном
и значит ничего в факте, в фактуре ткани, в ее психологическом воздей
ствии не изменилось, а предмет стал совсем другой. К предмету мысль
шагает за собственные пределы, за пределы своей психологической дан
ности, за пределы сознаваемого.
Это, вы понимаете, совсем другой пейзаж. Выход за рамки психоло
гии. Требование предмета от чего исходит? Сам предмет — не требова
ние. Но требование и не нами примыслено, оно объективно, предметно.
Это уже почти гуссерлевский пейзаж. Мысль готова «услышать» требо
вание предмета, инициатива исходит от нее — но требование предмет
но, не психологично, оно не мыслью придумывается. Мысль спрашива
ет у предмета, чего он требует от нее. Суждение — это осознание, че
го предмет требует. Чтобы розу назвали красной, потому что так оно и
ecmby она и есть красная.
Еще вот что важно. Что предмет требует от нас судить о нем так-то
и так-то, мы не думаем, а переживаем. Мы не думаем, что сначала, что
предмет нас зовет, а мы сначала слышим, что он нас куда-то зовет, и тог
да уже начинаем думать, куда.
И всё же — начинается критика Хайдеггера — при всем уходе из об
ласти психологии, сознания к такому предмету, услышание его требо
вания понимается как акт. Моя реакция на переживание требования.
Опыт моего Я. Всё та же эмпирическая, или даже экспериментальная
(только тонкое, в отличие от вундтовского, понимание эксперимента:
эксперимент с содержаниями сознания). Правда, Липпс говорит не об
индивидуальном, а о чистом Я, потому что предмет общезначим. На-
диндивидуальное, надвременное Я. Я могу — хочу, должен — воссоеди
ниться с тем чистым Я; так что оно мне и трансцендентно, и оно может
быть мне имманентно: оно как бы еще более подлинное Я внутри моего
Я. Наше отношение к чистому Я: мы должны им быть. Но ведь и то чи
стое сознание чистого Я — пока еще не расстается с психологией. Не от
казывается от Я — а ведь неясно, почему в логике вообще должно быть
Я, помимо самого дела. Предмет, требующий от меня признания того,
что в нем есть, вне всякой психологии, — а требует он, по Липпсу, пси-
63
СЕМИНАР 1.6
хологического процесса, мысли. Неоднородность «зова» и «отклика» за
ставляет думать, что можно еще искать, можно еще дойти до более стро
го, до чисто логического понимания этого соотношения.
Как ни выводит объективное требование — не принуждение — пред
мета из психологии, решающего шага в чистую логику еще не сделано.
Со своим пониманием существа логического суждения как акта Теодор
Липпс остается еще в психологизме.
И 27-го мы закончим говорить об этой работе — учение о суждении в
психологизме. Разберем последнюю главу: итог критики и заглядывание
в чисто логическое учение о суждении.
1.7
27.12.1990
«Учение о суждении в психологизме», 1913» раздел V. Кончились изложе
ния Вундта, Майера, Брентано, Липпса. Раздел называется: Ergebnis der
kritischen Untersuchung und Ausblick auf eine rein logische Lehre vom Ur
teil*. Всякая наука — сейчас 24-летнему Хайдеггеру философия безу
словно наука — может быть определена так: постановка вопроса в от
ношении определенной предметной области. Первое условие успеха на
уки поэтому — осмысленная, разумная постановка вопроса. Вопрос
спрашивает о чем-то. В вопросе содержится поэтому уже ориентация
на предмет. Сориентироваться нужно так, чтобы не провалить ни пред
мет, ни вопрос. Провалом предмета будет неудачный вопрос, например
в математике: «Сколько весит эта кривая второго порядка?» Какой-то
смысл в этом вопросе есть, мы же его понимаем. Возможно, задающий
вопрос хочет знать, сколько граммов мела потрачено на прочерчива
ние той кривой. Но предмет вопроса, а именно кривая второго поряд
ка, имеет дефиницию, которая исключает материальные, вещественные
свойства. Вопрос поэтому промахивается мимо предмета, и взвешива
ние, скажем, того мела ровным счетом ничего не прибавит к геометриче
скому знанию о кривых второго порядка.
Точно так же психологизм задается вопросом о том, в ходе каких пси
хических процессов оформляется суждение (как у Вундта), в виде каких
психических актов выступает суждение (как у Майера), классифицирует
акты, как Брентано, и так далее, и не спрашивает о суждении как пред
мете логики. Даже у Липпса, признающего внепсихологический характер
«требования», каким является предмет для человека, суждение остает
ся откликом психического субъекта на то требование, психологизм не
преодолен: признается внепсихологический предмет, да не тот, не пред
мет логики, а логика остается тонуть в психологии. Логическая действи
тельность психологизму неизвестна. Она не что-то рядом с психологи
ческой, а совпадает для психологизма с ней. Отношение психологизма к
логическому предмету поэтому не Mißkennen, a Nicht-kennen.
И психологизм, об этом уже говорилось, опровергает сам себя: не
ясно, откуда постоянство логических законов, если психика текуча. Но
одно дело опровергнуть, другое дело доказать, что область логическо-
5-2015
65
СЕМИНАР 1.7
го, независимая от психологического, существует. Можно ли только это
доказатЬу если психологизм не видит логического? Казалось бы, дей
ствительное, в отличие от мнимого, доказательство должно удаваться
легче: ведь оно действительное, действительно существует. На самом
деле ничего подобного, как раз наоборот. Доказать тут ничего нель
зя, можно только «оказать. Для доказательства пришлось бы исходить
из того, что доказывается: из действительного, т. е. заранее предпола
гать его существующим. То и требовалось доказать. Показать логиче
ское тоже, конечно, трудно, потому что психологизм признает только
чувственно воспринимаемое. Психологизм это эмпиризм. Между про
чим, в качестве эмпиризма, как всякий эмпиризм, психологизм должен
доказать, что кроме чувственно воспринимаемого ничего нет. На ви
дящих что-то кроме чувственно-воспринимаемого [...] (а логик имен
но видит, видит сферу логического, именно поэтому доказывать не мо
жет, только показать; психологизм, наоборот, показать, что за предела
ми чувственного вообще ничего нет, не может). Если, в самом деле, я
сижу в комнате без окон, внутри, то показать, что за пределами ком
наты ничего нет, я в принципе не могу; я должен это доказывать каки
ми-то способами.
Хорошо, но как показать логическое? Я смотрю на книжку на столе и
вдруг ни с того ни с сего во мне звучат слова: Обложка желтая. Это суж
дение, вдруг, внезапно возникло во мне, когда я вовсе не собирался, не
намеревался вынести суждение об обложке такой-то книги. Другой раз
я вижу несколько книг и мне взбредает в голову мысль сравнить их по
цвету переплетов; я, сравнивая их друг с другом, добираюсь всё до той
же, желтой, и сравнивая с соседней серой, фиксирую, соображаю: «Об
ложка желтая». Или еще: я гуляю по своей обычной тропинке и вижу
под ногами желтый карандаш, кто-то уронил; он напоминает мне о той
обложке, и я снова говорю себе: «Обложка та желтая». Опять: я с кем-
то разговариваю о новой книге Наторпа «Логические основания точных
наук», и мой собеседник задает мне между прочим так, совсем случай
ный вопрос: «А переплет какой у книжки?» Я отвечаю: обложка желтая;
снова суждение.
Во всех этих случаях состояние моего сознания разное. Обстоятель
ства, в которых я выношу суждение, разные. Один раз я думаю, преж
де чем сказать, допустим, вспоминаю; другой раз суждение выскакива
ет само собой. Добираюсь ли я до суждения отчетливой работой мыс
ли или непроизвольной ассоциацией, представляю ли себе при этом, что
66
27 ДЕКАБРЯ 1990
написано в книге, тяжелая ли она или нет, — в любом варианте сужде
ние всё то же: обложка желтая.
Ну и что, подумаешь, открытие. Простое дело. Что из этого извлечь?
Вопрос: что отсюда можно вывести?
Хайдеггер мастер вглядывания. Особенно в простые вещи. Для него
нет вещи такой простой, чтобы не стоило вглядываться; нет вещи такой
неважной, чтобы, вглядываясь в нее, нельзя было бы увидеть столько,
сколько при вглядывании в очень важную.
Что мы видим здесь. Через всю психологическую разницу актов и об
стоятельств суждения проходит что-то устойчивое, тождественное.
Идентичное. Как возможна такая идентичность? Разве какой-нибудь
Бергсон не пытается всеми мерами показать, что мы ежеминутно изме
няемся и нет ни одного повторяющегося состояния сознания, хотя бы
потому, что повторение будет повторением, т. е . значит уже удвоение, т. е.
значит уже обогащением, наслоением
7
. Тем не менее «обложка желтая» не
меняется. Что-то, значит, стоит вне психического потока. Да, вне
7
. Или
нет? Ведь ничего идентичного не будет, если я суждения того не осу
ществлю? Или всё-таки будет? Я раскрыл книгу, читаю; или наоборот,
оставил ее в покое. Желтая обложка суждения во мне не провоцирует.
Но вот я взглядываю на нее, и она опять желтая. Вроде бы, стало быть,
тождественное находится в физическом свойстве обложки, она покрыта
физически желтой краской.
Но извините: переплётчик покрывает обложку желтой краской, он
вкладывает в нее только желтую краску, а не желтизну. Так небо име
ет свой цвет, в разных частях разный, очень тонкий, очень неопределен
ный, но небо не покрыто голубизной. Одна и та же голубизна, которую
мы «присуждаем» каждый раз в сущности очень разному небу, физиче
ски как что-то тождественное в небе не существует. Т. е. как то, что воз
вращается в тождественном суждении «небо голубое», не мое психиче
ское состояние, а сам предмет, так же этот «предмет» и не физический.
Попробуйте возразить.
Предмет, который называется желтизной, голубизной — не психиче
ский, не физический. Он тем не менее — объективный предмет, иден
тичный. О нем и выносится суждение. В этом тождественном перед на
ми нечто. Каков его способ бытия, Dasein? Бог его знает. Мы не знаем,
что это такое за предмет. Только что и знаем: он не в нас, не психиче
ский; он не физический, «голубизна» — та голубизна, которая сегодня и
завтра та же идентичная голубизна — нигде в небе не находится, в фи-
5*
67
СЕМИНАР 1.7
зическом его нет. Может быть, оно в метафизическом? Нет: голубизна
бесспорна, непосредственно нами фиксируется, чего никогда не бывает
с метафизическим.
Итак, не психика, не физика, не метафизика. Там везде вещи есть. Но
голубизны нигде нет. Небо видится таким, каким оно видится, но счи
тается оно голубым. Способ присутствия того «предмета», каким ока
залась желтизна обложки, голубизна неба, — считаться, gelten. Небо го
лубое — я что -то говорю, хочу что-то сообщить, а именно: смысл пред
ложения. Смысл вот именно такой: он не «запрятан» во фразе, в словах,
суждение значит, и это значение — смысл.
А что такое смысл? Попробуем определить. Только чем это мы зани
маемся? Ищем суть, т. е . смысл смысла, значит уже умеем с ним обра
щаться до всякого определения. Не можем его определить потому что он
уже руководит нами во всякой попытке такого определения, ведь мы же
действуем так, что в нашем действии уже есть смысл, — вот этот самый,
смысл наших действий в том, чтобы отыскать суть, определение смысла.
И поскольку любое движение нашей мысли, любое действие смысл зара
нее иметь уже должно, смысл уже имеет, смысл нас опережает, мы рань
ше с ним всегда уже имеем дело, прежде чем рефлексируем. Суждение —
это смысл. Суждение, смысл — не фактом (факт принадлежит к способу
существования, бытования суждения, к психологии), а содержанием, су
тью (логической), не sind, a gelten.
Этого мало. Есть подозрение, что смысл не элементарен, он имеет
структуру. Всякое суждение — это познание; и наоборот, всякое позна
ние — это суждение. Познание — слишком большой вопрос. Что такое
познание? В его основной идее оно овладение предметом, определение
предмета, понимая предмет максимально широко. Овладение, определе
ние — включает отношение. Что-то чем -то овладевается, определяет
ся. Смысл, стало быть, заключает в себе — область смысла, внутри кото
рой суждение и познание, — заключает в себе отношение. Отношение
тут конкретно: отношение внутри области смысла между суждением
и предметом, оно имеет форму: нечто имеет силу в отношении опреде
ленного предмета. То, что имеет силу (gilt) в отношении предмета, то и
определяет его. Суждение «Обложка желтая» имеет смысл: Желтизна
обложки имеет силу, она что-то значит (раз я о ней говорю), с ней надо
считаться, или еще точнее: в отношении обложки имеет силу желтиз
на. О психической деятельности суждения нельзя сказать, что она «име
ет силу», «значит», истинная или ложная. Оттого, что человек просидел
68
27 ДЕКАБРЯ 1990
над теоремой пять часов, когда другой решил ее без задержки, не делает
решение первого, потратившего столько времени, более ценным. Ценно,
имеет силу только решение.
Старое понятие истины — adaequatio rei et intellectus — Хайдеггер
находит возможным понять как формулу структуры смысловой обла
сти: интеллектус — то «нечто», что «имеет силу» в отношении предме
та, рее.
Этой структурой, — отношением, — определяется необходимая
двучленность суждения. Знаком самого отношения, существующего
между двумя членами, является связка. Эта первичная структура — не
продиктована грамматикой; она с грамматической может совпадать, но
не обязательно. Не грамматикой (субъект-подлежащее, предикат-ска
зуемое) объясняется эта двучленность. Действует содержательное от
ношение познания: овладение предметом. Суждение — познание: в нем
поэтому обязательно моменты, члены этого отношения овладения че
го чем. Грамматика подстроится к этому исходному отношению или нет,
это, так сказать, ее дело и неважно. Соответственно связка «есть» озна
чает не бытие, а «имеет силу», считается, имеет значимость. И связка не
«привносится» позднее, как может показаться, а она и есть самый суще
ственный и собственный момент суждения, если суть суждения — от
ношение.
Отношение это должно быть направленным, если верно, что суть суж
дения — познавательное овладение предметом, определение предмета.
А некоторые суждения выглядят обратимыми. Так уравнение а = Ь, оно
суждение: его можно обратить. Суждение же должно быть необрати
мым. Но здесь с нами играет грамматическая вуалирующая форма, кото
рая затемняет настоящую структуру суждения. Вспомним первый при
мер, «обложка есть желтая». Опять грамматическая форма затемняет
первичную структуру суждения, хотя и не так, как а = Ь: потому что вро
де бы не совсем можно обратить: желтое есть обложка. И всё-таки в ка
ком-то смысле можно . Мы в нерешительности. От грамматической фор
мы надо уметь подняться к логической, чистой, первичной форме сужде
ния. Она в случае с обложкой такая: в отношении обложки имеет силу
(глагол-связка заменяет собой это отношение значимости, gelten: име
ет силу) желтизна. Предмет — обложка — овладевается, определяется
при помощи «желтизны». Отношение познания, направленное. Обра
тить невозможно: нельзя сказать, «в отношении желтизны имеет силу
обложка». Так же и с настоящей логической формой грамматического
69
СЕМИНАР 1.7
суждения А есть Б: она такая: в отношении А и Б имеет силу равенство.
Обращение опять невозможно: в отношении равенства имеют силу А и
Б — так нет смысла . Дефиниция:
Das Urteil ist eine Relation... des Geltens... zwischen Gegenstand und de
terminierendem Bedeutungsgehalt 1*. А отрицательное суждение — об
ложка не желтая? Здесь отношение категорически снимается. Значит
определение суждения как отношения неверно — оно не проходит в от
ношении отрицательных суждений, где нет овладения предметом, не
определяется предмет при помощи желтизны? Нет, познавательное от
ношение остается. Логическая суть отрицательного суждения об обло
жке — какая
7
.
«В отношении обложки имеет силу, справедливо, что она не желтая».
Направленное познавательное отношение. Больше того: отрицатель
ности в логической форме суждения вообще просто нет. Т . е. в своей
элементарной логической форме отрицательные суждения не отлича
ются от утвердительных. Т. е. отрицательных суждений вообще не су
ществует, суждение — это всегда утверждение, это всегда то или
иное овладение предметам, всё равно, потому что то или иное овладение
предметом, обложкой [происходит], говорю ли я о нем «желтая», «крас
ная», «неголубая» или всё равно какая.
Или этот кажущийся эффектным результат — отрицательных сужде
ний не существует — на самом деле только уход от проблемы? Пусть нет
отрицательных суждений. Но есть отрицательные предикаты. Неужели
они ничем по сути не отличаются от утвердительных? Неужели невоз
можно дальнейшее проникновение, ein weiteres Eindringen
2
, в существо
отрицания? Хайдеггер вглядывается. Формальная логика, столкнувшись
с отрицанием, останавливается перед ним как перед неразложимым, по
следней инстанцией. Надо ли так? В чем логическая суть отрицания?
Отрицание слишком важно в познании, чтобы от него так легко отде
лываться. Сказанное выше о сохранении познавательного отношения не
отменяется. Когда реальный предмет отменяется отрицанием, он просто
без следа отменяется отрицанием, и дело с концом. «Дураков нет». Их
просто нет, и дело с концом. Но ведь логическое есть означает не реаль
ное существование, а отношение «имения силы». Поэтому отрицатель
ная логическая связка ничего не уничтожает, ведь «не имеет силы» —
i.GA,Bd.i,S.i82 .
2. Ibid., S.183.
70
27 ДЕКАБРЯ 1990
это тоже содержательное, познавательное суждение. Не обязательно ви
деть элементарную суть отрицательного суждения в положительном
утвердительном, «в отношении обложки имеет силу нежелтизна». Не бу
дет бессмысленным сказать и так: в отношении обложки не имеет силы
желтизна. Когда что-то не существует, я не могу сказать, «оно существу
ет, только это существование есть несуществование». Мое личное заме
чание по ходу дела: поэтому смелая диалектика, которая хотела бы до
казать существование небытия именно тем, что оно не существует, на
самом деле не работает. Из суждения «небытие не существует» только
мельком кажется, будто можно вывести какое-то существование бытия
в модусе несуществования; на самом деле выводится только это самое
несуществование и больше ничего, т. е . диалектика основана тут на peti-
tiö principii, возвращении к исходному, к небытию, которое заранее пред
полагается, по каким-то основаниям, настолько бесспорно существую
щим, что отменить это существование не может даже несуществование.
Т. е. силлогизм «небытие не существует и следовательно существует» не
работает; за ним невидимо стоит, заставляя его казаться работающим,
только убедительный опыт небытия, который для своего обоснования
не нуждается в силлогизмах: он просто есть. Это было отступление.
Так что когда что-то не существует, я не могу сказать, обращает вни
мание Хайдеггер
1
, что оно существует, только это его существование
есть несуществование, тут просто бессмыслица. Но то, что не имеет
силы, всё равно, наоборот, имеет силу, именно вот это утверждение «не
имеет силы» имеет силу. Так в математике прямая протянута в сторо
ны плюса и минуса, и в сторону минуса она не менее протянута реально,
чем в сторону плюса.
Так что можно считать, что отрицательное суждение не зависит от
положительного и не нуждается в нем, оно так же первично, как и поло
жительное.
А как обстоит дело с безличными суждениями, где нет субъекта? Где
познавательное отношение овладения в суждении, скажем, «морозит»?
Кто такой таинственный «морозит»? Что я делаю в этом суждении — о
том таинственном высказываю, что он делает, чем занят, в этом смысле
определяю его, познавательно им овладеваю? Нет: суждение показывает
на что-то происходящее, имеющее место. Логическая форма суждения:
в отношении наступления мороза имеет силу истинное, или вернее —
ι. Ibid., S. 184.
71
СЕМИНАР 1.7
«существование»? Но не вообще, а во временной определенности, часто
очень кратковременной. (Так что более строгая форма этого суждения: в
отношении момента «сейчас» имеет силу похолодание.) О ситуации, нас
непосредственно задевающей, речь.
Все случаи, примеры: чтобы показать, что нужно и можно выяснить
однозначный смысл суждений. Привести в единую систему. Связать тео
рию суждения с гносеологией, познанием и потом — в совокупной об
ласти «бытия» расчленить разные способы действительности, разграни
чить их по характеру и по способу их познания. Настоящая предлагае
мая работа — философской хочет быть, потому что она предпринята в
целях служения этому последнему целому.
Имел право такой автор после этого высказывать суждение и о логи
ке, отводить ей только ограниченное место в области овладения предме
том и предметного мышления, но не там, где мышление начинает спра
шивать: а что такое вообще предмет, почему так, и обязательно ли так
должно быть, чтобы мы имели дело с предметами и овладевали ими? Ес
ли перед нами цветущее дерево — понимаем ли мы его как предмет, хо
тим ли мы им овладеть, в каком смысле овладеть, не хотим ли мы, нао
борот, чтобы он каким-то образом овладел нами, взял нас в свою бла
годать? Не придется ли тогда решительно указать логике на ее место, в
сущности ограниченное — психикой с одной стороны, физикой и мета
физикой с другой?
Следующая большая работа — «Учение Дунса Скота о категориях и о
значении».
1.8*
12.2 .1991
Первым не реферативным, не рецензионным, не обзорным сочинением
Хайдеггера было «Учение Дунса Скота о категориях и значении»
1
. Оно
посвящено Генриху Риккерту «с благодарнейшим почитанием». В крат
ком «Предисловии» к работе, законченной весной i9i5> в летний семестр
того же года представленной философскому факультету университе
та Фрейбург в Брейсгау для получения звания доцента, напечатанной
по обстоятельствам военного времени лишь в 1916 (Тюбинген), «фило
софия ценности» в ее мировоззренческом характере названа пригод
ной для решающего движения мысли вперед. «Введение» обосновыва
ет, как говорят у нас, актуальность темы; оно озаглавлено: «Необходи
мость проблемно-исторического рассмотрения схоластики». Мотто из
Гегеля гласит: «[...] в аспекте глубинной сути философии не существу
ет ни предшественников, ни последователей»
2
. Текст начинается слова
ми: «Историческое исследование целостной культуры Средневековья
стоит сегодня на такой высоте достижений проникновенного понима
ния и объективной оценки, что не приходится удивляться, если преж
ние, покоившиеся только на незнании, скороспелые суждения исчеза
ют, и вместе с тем неуклонно возрастает научно-исторический интерес
к той эпохе.
Если мы задумаемся о том, какой движущей силой и стойкой властью
философско-богословская духовная жизнь, основополагающая струк
тура которой заключается гак раз в трансцендентном первоотношении
души к Богу, обладала во всей жизнедеятельности средневекового чело
века, то будет нетрудно признать необходимость и фундаментальную
значимость исторического исследования этой стороны средневековой
культуры»
3
.
Сказано плотно, взвешенно, справедливо. Перед нами начинающий
Хайдеггер. Уже тогда, в свои 26 лет, он мало кому уступит из среды уни
верситетской философии, он может успешно врасти в философский es-
1. GA, Bd. 1, S. 189-411.
2. Ibid., S. 193.
3. Ibid .
73
СЕМИНАР 1.8
tablishment, уже принят в него. Он однако не пошел по пути професси
онализации. Работа о Дунсе Скоте вышла в 1916 году, и ровно ю лет по
сле этого ничего сколько-нибудь значительного Хайдеггер публиковать
не будет, он только читает лекции и пишет вплоть до 1926 года, отмечен
ного «Бытием и временем». И там, через ι о лет, уже Хайдеггер, который
немыслимОу чтобы говорил так: «историческое исследование культу
ры... возрастает научно-исторический интерес... трансцендентное пер-
воотношение души к Богу» — т. е. того профессорского философского
языка, на котором профессиональный философ говорит с такой же лег
костью, с какой птичка чирикает, не будет совсем; но нам важно знать,
что «здесь», так сказать, «у нас», «среди профессиональных философов»
Хайдеггер был, говорил уверенно и общепринято, а от нас он ушел, ре
шительно расстался, за десять лет непечатания себя.
Но и здесь уже, в нескольких фразах отдав должное университетско
му историко-философскому предприятию, Хайдеггер переходит к делу,
и здесь опять мы видим, как через терминологию и методологию, кото
рые станут ему совсем чужие, пробиваются его темы, — и впечатление
такое, как если бы какой-то доброжелатель захотел Хайдеггера позднего
темного непонятного перевести на принятый академический философ
ский язык. Такой перевод вот существует, это работа, немного больше
200 страниц, «Учение Дунса Скота и категориях и о значении».
Что надо из старых предрассудков оставить: якобы формализм схола
стики; якобы ее «рабство» у Аристотеля; якобы ее «прислужничество» у
богословия.
История философии не только история, она меньше история, чем,
скажем, история математики. История математики это история мате
матики, математика теперь другая. История философии это всегда исто
рия философии, одна и та же философия была и есть. История филосо
фии не смена и не уточнение «воззрений», философия всегда претенду
ет на жизненную ценность, а жизнь в античности, например, не меньше
жизнь, чем сейчас. Философия дышит глубиной и жизненной полно
той живой личности, которая хочет иметь значение, значить. За филосо
фией стоит «личная позиция», «эту определенность всякой философии
субъектом Ницше в своем неумолимо терпком образе мысли и со сво
ей способностью пластического выражения свел к известной формуле:
„Философствующий инстинкт"»
1
. Тогда время можно исключить. Чело-
i.GA,Bd.i,S.i96.
74
12 ФЕВРАЛЯ 1991
веческая природа постоянна. В философии она имеет дело с постоянны
ми вопросами. История философии не доклад о том, что было, а умение
включить былое в «чисто философскую систематику»
1
.
Современную философию отличает глубина (бесстрашие, откры
тость) и острота постановки любых вопросов. А где эта открытость про
блемам и дерзание спрашивать в Средние века? Не видать. Вместо се
годняшнего дерзания там «абсолютная самоотдача и страстное погру
жение в традиционный познавательный материал. Эта радостная отдача
себя такому материалу как бы завораживает субъекта в одной направ
ленности, отнимает у него внутреннюю возможность и вообще желание
к свободной подвижности. Предметно-объективная ценность домини
рует над лично-субъективной»
2
.
Средневековье. Страстное и радостное отдание себя неличному. В са
моотмене субъекта у «позднего Хайдеггера», в отдании его неличному,
бытию, событию видели восточное влияние. А что если это средневеко
вая отданность внеличному делу, «объективность», как поневоле я неу
клюже перевожу, отданность die Sache, вещи, делу, как говорит Хайдег-
гер? «Индивидуальность отдельного мыслителя как бы тонет в полноте
материала, подлежащего его овладению, — феномен, который без наси
лия вписывается в картину средневековья с его акцентом на всеобщем и
принципиальном»
3
. Не восток, а то возвращение средневековья, которо
го ждал Бердяев («Новое Средневековье»)?
«В Средневековье отсутствует то, что составляет как раз существен
ную черту современного духа <modernen Geistes, духа модерна, новоев
ропейского духа>: освобождение субъекта от привязанности к окруже
нию, опора на собственную жизнь. Средневековый человек не принад
лежит в новоевропейском смысле самому себе — он всегда видит себя в
поле метафизического напряжения; трансценденция удерживает его от
вступления в чисто человеческое отношение к совокупной действитель
ности. Действительность как действительность, как реальный окружа
ющий мир для него — связанный феномен, связанный постольку, по
скольку он сразу же и постоянно предстает зависимым, привязанным к
трансцендентным началам... Привязанность означает здесь не несвобо
ду, рабское положение, но одностороннюю ориентированность жизни
ι. Ibid.. S. 196-197-
2. Ibid., S. 198.
3. Ibid.
75
СЕМИНАР 1.8
духа»
1
. — Еще раз я спрашиваю: почему говорили о гипотетическом вос
точном влиянии на хайдеггеровскую «послушность-принадлежность»
бытию, когда было это не гипотетическое, явное, раннее, сильное средне
вековое влияние? Всего труднее увидеть то, что всего проще.
Не было, допустим, методологии, в смысле постоянной саморефлек
сии познания, выверки, оттачивания подходов к предмету. Но разве это
обязательно беда? Разве постоянное обдумывание и обсуждение пути,
по которому надлежит двигаться, вместе бодрого дружного шагания
вперед, не слабость? Разве это не признак непродуктивности? «Посто
янно затачивать нож скучно и утомительно, если нечего резать», цити
рует Хайдеггер Германа Лотце.
Теперь, почему учение о категориях. Для связи с современным иссле
дованием: всего интенсивнее современная логика занята теорией кате
горий. Виндельбанд: система категорий — ось всей логической науки со
времен Канта. Эдуард Гартман: вся история философии определяется
развитием учения о категориях.
И до сих пор схоластическая логика казалась силлогистикой и слеп
ком аристотелевской логики. Но если посмотреть на нее в свете совре
менной логической проблематики, окажется другое. — Тут Хайдеггера
схватят за руку: некорректно переносить современную проблематику
категорий на средневековую. Профессиональный историк занят имма
нентной интерпретацией старых текстов, из них извлекая то, что бы
ло злобой дня. Но историк платит за такой объективизм превращением
жизненного интереса в деловой. Старые тексты для нас невозвратимо
поблекли. Мы уже никогда не сможем приобщиться к волнению былой
эпохи. Начать дышать учащенно оттого, что кто-то 21 июня 1302 года в
Париже сказал с профессорской кафедры ересь и надо дать ему отпо
ведь, мы уже никогда не сможем. Между тем, если Платон нас уже по-
настоящему не задевает, то Ницше, в котором мы не узнаем Платона,
возможно, именно поэтому кажется новым. Аристотель нам по-насто
ящему уже мало что говорит, и нужен его современный продолжатель,
чтобы, не распознав в нем продолжение тысячелетней мысли, мы через
преодоление метафизики вернулись к ней.
Часто историко-философская корректность, запрещающая вчиты-
вать в старые тексты современные проблемы, служит способом в оче
редной раз пройти мимо и тех текстов, отодвинув их в музейную даль,
ι. GA, Bd. i,S. 199.
76
12 ФЕВРАЛЯ 1991
и этих проблем. Философия возникла в захваченности первыми вещами
и ради той захваченности. Хотя мы уже не ощущаем тепла старого ко
стра, согретые новым, жар тогда был таким же, как теперь. Взрывать по
хоронные навыки философской историографии, читать древних и сред
невековых в новом свете Хайдеггер будет всегда. Он рано увидел в том
свой долг. Нужно хранить огонь среди тысяч хранителей старины, кото
рые описывают философские системы прошлого, остерегаясь переноса
туда современного напряжения, к которому они кстати и непричастны.
Надо ли считать достоинством двойную стерильность умов, которые не
отдали себя жестокому спору, который всегда идет, и не наделили своих
подопечных изучаемых этим горением. Человек другой эпохи жил, как и
мы, отчаянием и надеждой, даже когда доказывал свою правоту силло
гизмом и двигался в общепринятой системе мысли.
Иоанн Дуне Скот, т. е . по -видимому шотландец, родился ок. и66 г.
В возрасте предположительно 15 лет вступил в орден францисканцев,
учился в университетах Англии и Шотландии, 19.31291 рукоположен
во священники в Нортгемптоне, с 1293 г. учится в Париже и в 1302 до
пущен там же толковать «Сентенции» Петра Ломбардского, хотя меж
ду 1297 и 1301, по некоторым сведениям, учит в Кембридже и Оксфор
де, а между 1303 и 1305 из-за конфликта между Филиппом Красивым и
Бонифацием VIII изгнан из Парижа. С конца 1307 Дуне Скот препода
ет и 8.11.1308 умирает в Кёльне. 20.3.1993 он причислен к лику блажен
ных
!
. Дунса Скота называли doctor subtilis, тонким, или, может быть, яс
ным, прямым, простым доктором (не его ли имя стало нарицательным
в англ. dunce тупой, упрямый
2
). Вильгельм Дильтей уделяет ему много
места в своих средневековых штудиях, замечая, что антиномия интел
лекта и воли разработана Дунсом Скотом так глубоко и всесторонне,
что, переосмысленная в терминах психологии и теории познания, она
звучит современно
3
. Собрание его сочинений, изданное Лукой Уоддин-
гом в 12 томах in folio, занимает 26 томов современного типографского
формата
4
. Аутентичность некоторых вошедших в эти издания работ те
перь поставлена под сомнение, в том числе трактат «О способах обозна-
1. См. Блаженный Иоанн Дуне Скот, Трактат о первоначале,Москва, 2θοι, e.V .
2. Блаженный Иоанн Дуне Скот, Избранное* Москва, 200i, с. 13, i6 и др.
3. Вильгельм Дильтей, Введение в науки о духе. Опыт полагания основ для изучения
общества и истории, Москва, 2θθο, с. бго.
4. Ioannis Duns Scoti opera omnia, ed. L. Wadding, Lyon, 1639,12 vols.; Ioannis Duns Scoti
opera omnia, editio nova iuxta editionem Waddingi Vives ed., Paris, 1891-1895,26 vols.
77
СЕМИНАР 1.8
чения»
1
, на тексты которого во многом (но не исключительно) опирает
ся Хайдеггер, теперь приписывается философу из школы Дунса Скота
Томасу Эрфуртскому.
Хайдеггера привлекают «явные современные черты» в Дунсе Ско
те, который больше предшествовавших ему схоластиков приблизился
к «реальной жизни» в понятии вот-этости, haecceitas
2
. Определения
и описания, исчерпав свои возможности, до сейчас и здесь не доходят;
haecceitas призвана указать на предельно конкретное. В будущем хай-
деггеровском da, вот, и в Dasein, присутствии, которое дано всегда как
это мое сейчасное и теперешнее, есть след haecceitas. Хайдеггер понима
ет haecceitas Дунса Скота как внимание к полноте жизни; впрочем, аб
страктный мир математики так же близок средневековому схоласту, ко
торый чувствует себя как дома и среди «образов жизни», насколько то
было возможно в Средние века, и в «сером на сером фоне» философии.
Незадолго до написания этих строк сам Хайдеггер перешел от слуша
ния математики и естественных наук во Фрейбургском университете к
философии. После фраз о разносторонности средневекового схоласта
мы читаем неожиданный абзац из полутора строк: «Таким образом, у
Дунса Скота имелись все предпосылки для разработки проблемы катего
рий»
3
. Логическая проблема категорий требует одинаково причастности
к реальной жизни и к абстрактному миру математики? Категории стало
быть не схемы классификации и систематизации. Они имеют какое-то
отношение к тому, что названо тут полнотой жизни.
Что такое категории? Читайте у Аристотеля, он их определит и назо
вет, категорий десять. Хайдеггер ставит вопрос намного шире. У Аристо
теля категории относятся к определенному классу определенной области.
Есть и такие категории. Категории у Аристотеля именуют, «обличают»
(категория — прокурорская жалоба, обличение, осуждение) способы —
разные — существования. Почему способы существования, области дей
ствительности должны быть именно такие, как говорит Аристотель? По
чему вообще действительность можно категоризировать, каталогизи-
1. Beati Joannis Duns Scoti doctori subtilis O. F . M . grammaticae speculativae nova editio
cura et studio P. Fr. Mariani Fernandez Garcia, Quaracclhi, 1902.
2. Этость «та форма, в которой составное целое есть вот это сущее». «Этость не мо
жет пониматься как универсалия; она и не включающая [индивиды] природа вида, ибо
сама по себе этость (haecceitas) есть вот это вот (haec)» (Иоанн Дуне Скот, Избранное...,
с. 436).
3. GAy Bd. 1, S. 203.
78
12 ФЕВРАЛЯ 1991
ровать, обличать ее как такую-то и такую-то? Строго говоря, мы еще не
знаем, что в действительности есть области, разные. Мы придумывать
или априорно дедуцировать их ведь не должны, с чего бы нам этим за
ниматься. Мы, стало быть, должны как-то встретиться с действитель
ностью и убедиться, что она не однородна, что в ней есть области. Это
вопрос факта. Факт можно только показать, его нельзя дедуцировать
и доказать именно потому что он факт, доказательство факта ему толь
ко повредит, факт надо видеть, «непосредственно воспринимать»
1
, факт
должен «попасть в поле зрения». Вот таким прямым образом действи
тельность должна быть нам дана, чтобы о ней нельзя было сомневать
ся, гадать, вычислять в отношении ее, то будет уже не действительность,
а конструкт. Действительность должна не иметь ничего между собой и
восприятием, быть simplex apprehensio. He то что так всегда было, есть
и будет, а так должно быть, чтобы вообще имело смысл говорить о дей
ствительности, иначе останется только о вычислениях, построениях.
Надо чтобы хоть что-то было просто видно. А там уж мы посмотрим
осмотревшись, что именно видно.
И вот мы еще не вгляделись в действительность, тем более не разгля
дели, какие у нее области, всё пока проблема, под вопросом, но непосред
ственно мы сталкиваемся с первым, с несомненным — а именно, что во
обще есть такое, с нем мы сталкиваемся, ob-jectum, предброшенное,
пред-мет, он нам непосредственно предносится, и какой бы он там даль
ше ни оказался, он всегда и обязательно будет быть, будет существо
вать, будет сущим. Primum objectum est ens ut commune omnibus. Пер
вый пред-мет есть сущее (существующее, бытие) как общее всем (ве
щам).
Это, говорит Хайдеггер, почти по-современному звучащее замечание.
Мы на себе знаем, что когда имеем перед собой предмет, мы вовсе не
обязательно знаем даже, субстанция он или акциденция, вещь или слу
чайное состояние; предметное просто, как таковое, никакого категори
ального определения не имеет. Оно пока есть и не больше. Само по се
бе есть, через другое есть, кажущимся образом или мнимым есть — это
уже второй вопрос. Сначала это пред-мет, мы с ним сталкиваемся, или,
что то же, он для нас есть. Сначала воспринимаем нечто, потом начнут
ся всевозможные уточнения. Aliquid indifferens concipimus. Воспринима
ем нечто предшествующее каким-либо категориальным различениям.
ι. Ibid., S.213.
79
СЕМИНАР 1.8
И потом, когда начнутся уточнения, это первое, сущее, никуда не денет
ся, оно так и останется сущим, какие бы определения на него ни нагро
мождались. Поэтому ens, сущее, принадлежит к maxime scibile, прежде
всего и в самой большой мере познаваемое, потому что подробнее о не
что мы можем и вообще ничего не узнать, если оно мелькнуло и пропа
ло, и узнаем не все, не вполне, никогда не исчерпывающе и не до конца,
а вот это первое — что столкнулись и что есть пред-мет — знаем сразу,
вполне и до конца. Это и первое познаваемое, от него как от печки надо и
только и можно двигаться во всяком другом познании пред-мета. И еще:
за сущее не спросишь, почему оно сущее, на каком основании и т. д ., в
этом смысле оно тоже предельное познаваемое, его ничем другим не вы
светлишь, не объяснишь.
Как такое, которое перешагивает за рамки всех определений, его ни
как не уловишь, сущее, ens, существующее — я употребляю тут пока в
одном смысле «сущее» и «существующее», тем более что на очень хоро
шем языке розановского трактата о «Понимании»*, где как в самом на
звании трактата угаданы понятия — слова
—
которые мы только теперь
начинаем осмысливать как главные, «существование» в этом же смысле
первое определение всего и тождественно с тем, что мы сейчас в хвосте
хайдеггеровской традиции называем «бытие», но спросим между про
чим, разве как haecceitas участвовало в Dasein, точно так же ens Дунса
Скота не вошло в хайдеггеровское «бытие»? — и вот сущее даже не выс
ший род, потому что тогда мы должны были бы знать, что такое род, и
определить, что сущее — род, но мы и о высшем роде только то знаем, что
он — сущее. Как такое, сущее это transcendens: последнее, крайнее, за ко
торое не заглянешь, которое само «заглядывает» за всё. А высшие роды,
Unum, Verum, Bonum и др.? Они quasi passiones entis, как бы состояния,
преломления, «прохождения» сущего. Красивое употребление passiones,
средневековое, у Николая Кузанского: passiones trianguli — формы, раз
ные, которые он может принимать, оставаясь треугольником. И еще об
unum.
Ну и что, что ens — это «нечто [существующее] вообще», раз о нем
ничего нельзя больше сказать, на нем все останавливается? Но присмо
тримся: в «сущем», в «нечто» дано это вот одно, а не другое, т. е. отноше
ние к другому. И не надо это понимать, перескакивая — подсовывая —
под неопределенное сущее, какое оно у Дунса Скота и есть, незаконным
образом определенность, как если бы сущее своим присутствием зада
вало счет: ага, одно сущее, там другое, третье. Это было бы подтасовкой.
8о
12 ФЕВРАЛЯ 1991
Нет, сущее остается неопределенным, и поэтому именно всякую попыт
ку приладиться к нему с нашим «это, одно» опрокидывает сразу: «нет, не
то, другое». Сущее заряжено — как треугольник своими состояниями —
этим «вот, одно» — «нет, другое», из-за своей неопределенности, т. е . су
щее заряжено отношением одного к другому, «инаковением», как ска
зал Андрей Лебедев, heterothesisy как говорит Дуне Скот греческими кор
нями *, заставляет выбирать между «вот оно, да, это» и «нет, другое» (мы
говорили, что только неопределимое сущее безусловно определенно,
окончательно определенно, все дальнейшие определения под ним будут
подлежать уяснению, уточнению, будут всегдашним и неустранимым
образом недоопределенными) — и тем самым кладет начало мысли.
Кстати, другое название сущего — res, вещь. Пятилетний ребенок:
стол, может быть дом вещь, а дерево вещь? Удобно на всякий случай,
понимая философское употребление res, подставлять условный перевод:
«реалия». Вещь — вообще все что угодно, о чем идет речь, о чем идет де
ло. Intellectu communissimo ens vel res ditictur quodlibet conceptibile, в са
мом общем смысле сущим или вещью называют все, что угодно, о чем
можно помыслить (Quodlibet. qu. Ill, n. 23).
Еще раз, очень важно, и это различение, которое подчеркивает Дуне
Скот. Сущее «одно» не в том смысле, что оно кем-то квантуется «одно,
два, три сущих», «одна, другая вещь», как ребенок квантует песок фор
мочкой, — тогда бы мы над сущим получили число, — а так, что сущее,
чтобы существовать, должно быть как минимум единым, целым, — да
же представим размытое хаотическое какое-нибудь космическое сущее,
оно должно быть единым хотя бы как единый хаос, поэтому unum et esse
convertuntur, положение, идущее от Аристотеля; или, у Дунса Скота, от-
ne quod est, tamdiu est, quamdiu unum est, всё что есть, есть до тех пор, по
ка оно едино (De rer. princ. qu. XVII, 593 b et passim), — но сущее, как ему
и положено, оно transcendens, едва схвачено в состоянии единства, это
его passio, состояние, тут же указывает на другое, отсылает к другому не
как к «еще одному сущему», а подрывая, подтачивая единое, так сказать,
на корню изнутри, уличая, что оно не всё, в нем еще не всё, могло быть
и есть другое. Конечно, можно в каких-то случаях и считать: «одно, два,
три сущих», но то одно будет уже числом, а первое одно — высший род,
взаимообратимый с бытием. Unum имеет два смысла, как взаимообра
тимое и как начало числа. Это надо запомнить: далеко не всегда, рассуж
дая о пифагореизме и о числовой структуре бытия, эту двузначность un
um учитывают. И другое, тоже, двузначно: multitudo absoluta est in plus
6-2015
81
СЕМИНАР 1.8
quam numéros, абсолютное множество есть более чем число (Quaest. sup.
Met. lib. X, qu. XIV, 644 а). Еще тот же пример: хаотическое множество —
это ипигпу не математическое, именно потому что не единое; к нему mul-
titudo absoluta, другое, не оно — может быть как раз немножество. Т . е.
это первое отношение, в которое вступает ens, делаясь тем самым нача
лом мысли, — не математическое.
1.9
19.2.1991
Вы спросите или должны спросить: почему у Дунса Скота primum ob-
jectum, первый объект, который maxime scibile, наиболее познаваемый,
в смысле — первым познаваемый, вполне познаваемый, и в любом случае
познаваемый, — это сущее. Ведь есть Я, который его познаю, и вроде бы
должен быть сначала Я, чтобы его было, кому познавать, так что не бу
ду ли на самом-то деле Я, maxime scibile, наиболее познаваемым? Долж
но ведь быть сначала то, чему является первый объект? И это «то, че
му» будет на самом деле первым?
Этого у Дунса Скота нет. Это будет у уже новоевропейского субъек
та с его безотказным сознанием и самосознанием. Новоевропейского
субъекта можно назвать непотопляемым. Даже когда ему ничего не да
но, он все-таки дан самому себе; и эту свою перводанность может всег
да освежить за счет усиления сознания. Фихте предлагал своим студен
там такое упражнение: имейте сейчас в сознании какую-то вещь; теперь
осознайте, что вы имеете ту вещь; теперь рефлексируйте о том, что вы
сознаете в своем сознании наличие той вещи, и так далее. Потопить та
кой субъект невозможно. — Хотя можно спросить, много ли он стоит,
заслуживает ли такое maxime scibile, Я, чтобы его знали; и что можно
из рефлексии, сходящей в дурную бесконечность, как отражения в стоя
щих друг против друга зеркалах, что-нибудь сделать.
Почему такое, в ι8 веке естественное, в 13 веке не приходит Дун-
су Скоту в голову? О причине Хайдеггер говорил в начале: средневеко
вый человек настолько отдан «вещам», «материалу» традиции, вернее,
освященному традицией материалу, надличному, что забывает о себе,
не успевает или не хочет себя заметить и вернее не признает себя как
то место, где открывается, которому открывается первая данность; сам
весь отдается первой данности и ничего себе лично не выкраивает.
Надо ли называть это ошибкой Дунса Скота, — можно ли сказать, что
он просто не заметил, что должно быть место, в котором имеет место
первый объект, ens, сущее в его первом и простейшем качестве суще
ствующего (данного)?
Нет, не ошибка Дунса Скота. Строго говоря, нет обязательной необ
ходимости, чтобы заранее было готовое место, в котором появилась бы
б*
83
СЕМИНАР 1.9
перводанность. Перводанность, сущее, существование, своим явлением
может нести с собой себе же свое место. Люда Кришталева * говорит, что
мысль может быть и содержанием, поддающимся поэтапному перечис
лению, и она же, мысль, — может быть «сосудом» самой себя. Это — что
мысль сама себе сосуд — старое положение классической философии о
том, что интеллигенции, умные сущности (а сущее, ens, maxime scibile
это интеллигенция) занимают место так, что сами же для себя — и заод
но для другого — являются местом. Первая данность высвечивает сама
себя и тем самым одновременно несет с собой сцену — освещенное ме
сто — на которой сама же и развертывается. Каждый раз, когда она сама
себя высвечивает, этим высвечиванием, самосвечением, создается и ме
сто для нее. Этим предполагается смиренное представление о человеке.
Он не выпячен всегда в центр вещей, чтобы вещи проходили перед ним
парадом, а он сам, человек, существует не от себя, не своими силами, а
так сказать периодически, от случая к случаю, — не своими средства
ми обеспечивает себе постоянное субъективное существование, сред
ствами усиления сознания, а выхватывается время от времени из мрака
тем же лучом ясности, который приходит с бытием, maxime scibile. Ме
ханизма, который постоянно и безотказно обеспечивал бы непрерыв
ность сознания при помощи рефлексии (во мне и у меня ничего нет, но
зато у меня есть рефлексия этого состояния, есть рефлексия рефлексии
и так далее) — у Дунса Скота такого механизма нет.
Поэтому всегдашний свет во тьме у Дунса Скота человеку не гаранти
рован. Вполне может никогда вообще никакой ясности и не наступить.
Т. е. для человека возможен невыход из полного, не просвеченного ника
кой рефлексией мрака; или отпадение в такой неразбавленный рефлек
сией мертвый сон. С бытием начинаю существовать и я; оно меня извле
кает из небытия; с единым, которое взаимообратимо с бытием как pas-
sio, состояние бытия, в моем мире начинается упорядочение.
С появлением сущего вдруг развертывается далекий порядок вещей.
Сущее, оставаясь собой, простым, — всегда одно, целое, единое; единое
предполагает другое; единое и другое предполагают многое; многое пред
полагает отношение; отношение, отнесение предполагает мысль. И дру
гое ответвление: первое единое — это целое, просто собранность суще
го как сущего в некоей совокупности; как и первое другое это не второе,
а льнущее к единому противоположение его своему же собственному,
прежде всего, возможному неединству. Но Единое как целое опять же
вдруг кладет начало счету, дает возможность считать, оказывается осно-
84
19 ФЕВРАЛЯ 1991
вой математического единого; так и другое, онтологическое, превращает
ся в математическое второе. Переход к математике совершается, однако,
не непосредственно: целое еще не число и в нем не «запрятано» число.
Не так, как наивно считают, перескакивая от метафизики к математи
ке: единое и многое — это один, два; как корова и носовой платок это
еще не один, два. Должна быть общая мера, чтобы начался счет. Нуж
но, чтобы можно было спросить сколько. Об одном, целом, и другом, неце
лом, нельзя так прямо спросить «сколько их», — два — потому что у них
нет общей меры. Чтобы начался счет, надо спросить сначала «сколько
их», т. е. произвести умственную операцию объединения вещей (сущих)
в класс. Математика, даже когда считает по видимости действительные
вещи, оперирует на самом деле с умственными сущностями. Математик
первым делом исподволь выносит всё, с чем имеет дело, из природы в
особое свое мысленное пространство, пространство количества. Меж
ду единым, целым как трансцендентным охватывающим, которое вза-
имообратимо с сущим, и математическим одним лежит целая пропасть;
тут скачок из действительного, реального бытия в воображение, imagi-
natio
1
. Что расположено и упорядочено в математическом воображае
мом пространстве количества, то с природной (в широком смысле бы
тийной, существующей) действительностью не смешивается, не пере
секается. Число чисто мысленная сущность, ens rationis, число не имеет
никакой реальности, которая прибавлялась бы или стояла рядом с ре
альностью исчисляемых вещей; число схватывает эти вещи в единстве
рассудка, измышленном умом. Зато, соответственно, и вещи, эта вот и
эта вещь, тут крыльцо, тут кошка, не могут сами сложиться в число —
я вижу это и это, кошку и крыльцо, но они мне не два помимо измыш
ления ума. Только там, в conceptio mentis, число имеет свою «сущность»,
если можно так сказать; а потом оттуда, вторично оно может быть при
ложено — или не приложено — к предметам. Дуне Скот: «Из количества
ничего нет вне души, кроме континуума (сплошности), части которого,
раздельные, вне души не могут быть объединены числом, ни составить
единое совокупное число, но суть лишь это, это, это, и не имеют никакой
численной формы... число имеет свое единство только в душе»
2
. Вду
ше — это, показывает Хайдеггер, не в «переживании, психическом опы
те», а как мы говорим «в уме», «держим в уме», т. е. в пространстве счета.
ι. GA, Bd. ι, S. 235-
2. Ibid., S. 246.
85
СЕМИНАР 1.9
Важная черта числа как рассудочной сущности: у него нет индивиду
альности, число з составлено из таких же точно однородных единиц, как
число 2. Реально же существует только индивидуальное.
Individuum per se et primo existit, essentia non nisi per accidens *. Инди
вид, индивидуальность существует сам по себе и первичным образом
(изначально), сущность (обобщенная) только привходящим образом, в
качестве акциденции. Она привходит в первичное существование инди
вида постольку, поскольку этот индивид имеет что-то общее с другим,
как и он, реально существующим индивидом. Это общее само не суще
ствует, но оно «случилось» при обоих индивидах, «привзошло» в обоих
индивидов и только таким вторичным акцидентальным образом — при
индивидах — существует. Индивид тут, это понятно, определяется не
как представитель вида; и не как один из предметов среди других пред
метов. Индивид понимается буквально как не-делимое, т. е. не собран
ное из где-то еще отдельно встречающихся частей, тем более не из во
ображаемых измышленных частей; т. е . уникальное; держащееся своей
уникальностью. Индивид — реальный предмет по преимуществу. Дуне
Скот: «Объясняю, что понимаю под индивидуацией... не не о пределенное
единство, в том смысле в каком любой отдельный представитель вида
именуется одним по числу, но единство, означенное как вот это, т. е. та
кое, что оно есть определенное вот это»
2
. Индивидуальность «включа
ет существование <т. е. реальное существованио и время, как этот су
ществующий человек и этот существующий камень... Природа никогда
не порождает двух индивидов одного рода, в одинаковой мере и степени
причастных к тому же роду... Два яблока на одном и том же дереве ни
когда не имеют один и тот же аспект по отношению к небу... Здесь и те
перь, hic et nunc — два условия, принадлежащие сущности уникально
го единственного, индивидуального^
3
. Среди реально существующих
вещей двух одинаковых нет. То, что одинаково, однородно как единицы
любого числа, то не существует, т. е. существует только в рассудке, в во
ображении.
Вопрос тогда: существует ли, строго говоря, к примеру, такая вещь,
как «четыре дерева»?..
Нет, такая вещь строго говоря не существует, она — рассудочная
i.GA,Bd.i,S.252 .
2. Ibid., S. 253.
3. Ibid .
86
19 ФЕВРАЛЯ 1991
сущность, полученная путем гомогенизации деревьев, каждое из кото
рых как реально существующий индивид уникальное и счету само по
себе не поддается. Правильным ответом будет, по Дунсу Скоту: «четы
ре дерева» не существуют. «Десять миллионов человек» строго говоря не
существуют. «Миллион тонн угля» строго говоря не существует. Люди,
чтобы стать десятью миллионами, подверглись гомогенизации т. е. пе
рестали быть уникальными индивидами, т. е ., по Дунсу Скоту, переста
ли существовать полновесным существованием, стали существовать
только акцидентальным существованием как набор неких признаков,
стали entia rationis, рассудочными сущностями, имеющими место, строго
говоря, уже в воображении, в imaginatio.
Еще вопрос: способна ли математика познавать действительность?
Ответ: нет, она познает уже не действительность. Не имеет к действи
тельности отношения.
Итак, строго говоря, среди реально существующих вещей можно го
ворить только о неповторимых индивидуальностях и их бесконечном,
абсолютном многообразии.
Но всё-таки все яблоки, хотя каждое без конца разное, по сравнению
со всеми коровами должны выделиться в единый общий вид? Все-таки
разнообразия среди трех яблок меньше, чем в обществе, составленном
из волка, козы и капусты?
Существует аналогия. Аналогия позволяет говорить о бесконечно
разнообразных вещах в аспекте их определенного ограниченного, услов
ного тождества. Не так, что в одном аспекте все яблоки тождествен
ны, в другом все яблоки разнообразны. Все яблоки аналогичны — это
значит, что моменты тождества и разнообразия в них сложно перепле
тены. «Аналогия означает некую общность, но тем не менее эта общ
ность в разных вещах оказывается разнообразной»
1
. Т.е.ваналогиии
общее каждый раз видоизменяется, каждый раз индивидуально варьи
руется. Иначе говоря: в аналогии общее присутствует в каждом сораз
мерно каждому.
Опять вопрос: а сущее, существование, primum obiectum, maxime sci-
bile — тоже индивидуально разнообразно и каждый раз называется сно
ва и снова сущим только по аналогии? Или сущее абсолютно везде од
нородно? — Это Этьен Жильсон называет самым спорным вопросом у
Дунса Скота. Пока, как мы описывали вначале, ens, сущее — еще не опре-
1. Ibid., S. 257·
87
СЕМИНАР 1.9
делено, оно одинаково повсюду, — именно в этот первый момент своего
явления. Но: если сущее действительно существует, оно должно быть,
оказываться индивидуальным, следовательно — многообразным, в каж
дом «здесь и теперь» другим, следовательно — одним и тем же во всех
сущих только по аналогии. Всё индивидуальное обладает своей действи
тельностью, сообразной себе. И абсолютной действительностью, опять
же индивидуальной, обладает только — ? Бог.
У Бога настолько полное существование, что оно сливается с его су
ществом, в своем существе (сущности) он существует и в своем суще
ствовании существует; в абсолюте, а Бог абсолют, сущность и существо
вание совпадают. О существовании природных вещей такого уже не
скажешь; там, внизу уже другое существование, которое только по ана
логии называется существованием, поскольку оно как-то похоже на су
ществование Бога. Тут, в природе, вещи уже не являются самим по се
бе существованием, они только имеют существование. Индивидуально
стями являются и, значит, действительно существуют и Тот и эти, и
Бог и сотворенные им вещи, только разным образом существуют. Сте
пень их действительности значит разная
7
. Да, если мерить действитель
ностью Бога — то степень действительности вещей меньшая. А степень
действительности умственных сущностей совсем маленькая. Ens dimi-
nutum, миниатюрное сущее, игрушечное, как игрушки детей.
И внутри сотворенной действительности о действительности реаль
ных вещей тоже ведь можно говорить только по аналогии; на самом деле
действительность у каждой вещи разная. Каждая вещь в меру сил при-
частна полновесному и совершенному бытию Бога. — Пока она остается
индивидом. Беда математических вещей, почему они «игрушечные» су
щие, даже не в том, что они entia rationis, создания рассудочного вообра
жения, а в том, что они расстались с индивидуальностью, гомогенизиро
вали свои единицы, отняли у них индивидуальность.
Я перестал называть параллели между Дунсом Скотом и Хайдегге-
ром. Всё, что увидел Хайдеггер у Дунса Скота, так или иначе вошло в его
мысль.
Оттого, что индивидуальности уникальны, существуют конкретно
здесь и теперь, на них можно положиться как на достоверное, они funda-
mentum veritatis. Потому что индивидуальная вещь, говорит Дуне Скот,
прежде всего sui manifestativa, самопроявительна; был бы интеллект спо
собный распознать это самопроявление. Вещь самопроявляется боль
ше или меньше, и соответственно сама определяет свое же более полное
88
19 ФЕВРАЛЯ 1991
или менее полное познание, большую или меньшую познаваемость —
в меру собственной манифестативности. Что такое в таком случае ис
тина? Вещь истинна в меру своей уникальной индивидуальности, дей
ствительности, самоявленности. Что действительно, индивидуально,
то и правда. Но нельзя сказать, что вещь — истина. Вещь — fundamen-
tum veritatis, сама себя проявляет как действительная; то, что видит это
проявление, т. е. понимание, нужно для истины, в нем истина. Истинна
вещь, она являет себя как истинная, — но для истины нужно понима
ние. Вещь истинна, но всей своей истинностью она истину не создаст, не
продиктует, не навяжет: нужен акт понимания, имеющий форму сужде
ния, ответственного, однозначного и необратимого заявления, поступ
ка. Поступок суждения абсолютно обязателен для истины. Дуне Скот:
«Истины нет раньше акта понимания... пониманием создается суще
ство истины»
1
.
Действительная вещь не причина суждения, она только повод для то
го, чтобы судить о ней так или по-другому; что до причин суждения, то
их больше у интеллекта, — настолько больше, что по поводу вещи интел
лект может иметь какую-то свою внутреннюю причину высказывать та
кое, чему в вещи соответствий нет — но суждение будет верным. Суж
дение не слепок с вещи. Современный пример наугад: снег может быть
поводом для суждения, «опять мы не подготовились к зиме», хотя в са
мом снеге причин для такого суждения меньше, чем в интеллекте. Т. е.
интеллект в своей сфере ходит на очень длинной привязи, с очень боль
шой свободой суждения о вещах, очень свободен в своем специфиче
ском пространстве.
Суждение оперирует не реалиями, а субъектами и предикатами, т. е.
рассудочными сущностями. Суждение делает с индивидами, действи
тельно существующими, то же, что число: гомогенизирует, т. е ., зна
чит, переводит их в другой модус существования, рассудочных сущ
ностей.
Суждение это поступок. Поступок направлен, он имеет интенцию. 1п-
tentio — направленность, смысл. В жизни человек нацелен на вещи, об
стоятельства, процессы окружающего мира, эта нацеленность называет
ся на языке схоластики prima intentio, первая интенция, пример — че
ловек идет на охоту. Но потом человек может задуматься о сути, видах,
приемах охоты. Он всё равно действует целенаправленно, тоже охотит-
1. GAy Bd. ι, S. 271.
89
СЕМИНАР 1.9
ся (venatio sapientiae), но уже не на зайца. Это secunda intentio, вторая ин
тенция. Вторую интенцию можно условно назвать научной установкой
в широком смысле. Установка — один из возможных переводов inten
tio. Суждение во всяком случае интенционально, оно выражает интен
цию — нашу нацеленность, ориентированность в отношении вещей. По-
другому, чем говоря об интенциях, суждение коснуться вещей не может.
В сфере интенциональности мы направляем вещи как нам надо, подчи
няем их смыслу, — учитывая, конечно, сами вещи, — но всё равно ве
щи тут только повод, настоящая причина наших поступков как раз на
ша интенция.
Отнесение вещи к роду, виду, определение вещи и подобное, т. е. зна
чит введение вещи в категорию — это тоже интенция, направление на
ми вещи к такому-то назначению, придание вещи такого-то смысла —
с учетом, по поводу, Дуне Скот говорит, вещи, но не по причине вещи.
В суждении мы упорядочиваем вещи.
Вещи первой интенции, с которыми мы непосредственно имеем де
ло (как в примере с охотой), все безусловно разнообразны. Но как ма
тематик смело произносит «четыре дерева», так логик может смело ска
зать, что зайцы, козы, кабаны — это дичь. «Разнообразие вещей первой
интенции между собой не мешает тому, чтобы интеллект осмыслил их
одним и тем же способом осмысления; все же интенции приписывают
ся вещам так, как они осмысливаются интеллектом, и потому интенции
одного и того же вида могут приписываться различным вещам»
1
.
Математика гомогенизирует — и суждение (т. е. логика) делает то же.
Математика отвлекается от чувственной уникальности вещей — то же
делает судящая, классифицирующая логика (она относит зайцев к дичи,
хотя один заяц нервный, другой смелый и так далее). Значит математика
и логика одно? Хайдеггер отвечает за схоластику: нет, они не совпадают.
Однородность, гомогенность, насаждаемая в вещах математикой, про
писывает вещи в пространстве количества. Гомогенность, которую на
вязывает вещам суждение, приписывает вещам направленность, смыс
ловую принадлежность, т. е . проецирует вещи на плоскость интенцио
нальности. Логика и математика отличаются как интенциональность и
количественность.
Вещи просто есть. Направленность, смысл, интенциональность им
нами приписаны. Можно иметь дело с самими вещами, не приписывая
ι. GAy Bd. i,S. 282.
90
19 ФЕВРАЛЯ 1991
им ни обобщающих количественных, ни обобщающих интенциональ-
ных определений? Но только не в логике, не в категориях. Это будет тог
да реальная наукау scientia realis; она будет иметь дело с индивидуаль
ностями, с уникальным и своеобразным. Ум умеет ведь не только стро
ить суждения, выносить приговоры; ум еще и жизнь, passio mentis realis,
реальное претерпевание, состояние ума, опыт. Эта опытная жизнь ума
умеет иметь дело прямо с вещами, прикасается к ним; на этой способ
ности ума строится метафизика, от логики резко отличающаяся имен
но тем, что логика имеет дело со смыслами (интенциями), метафизи
ка—с самими вещами. (Метафизика тут значит то же, что физика, в
аристотелевском смысле физики.) Там, в «реальной науке», отношение
вещи, действительной, т. е. несущей в себе и манифестирующей свою ис
тинность, к пониманию будет уже не только предоставлением «повода»
для интенциональных суждений, а может быть каким-то более прямым,
более диктующим. Но это будет потом.
Это будет потом, реальная наука о вещах, а пока — проекция вещей
на плоскость смыслов, направленностей, классификаций, категорий, в
средневековой терминологии — интенций. Дуне Скот называет катего
рии generalissima, самые общие определения. Категории создания рас
судка. Тогда рассудок вправе создать их не десять, а столько, сколько
создаст?
Дуне Скот вводит новые категории, категорию небытия, лишения,
другие.
Хайдеггер оправдывает его.
Не потому разум может их, категории, создать другие, что систе
мы категорий — это только игра, а потому, что категория имеет слиш
ком прямое отношение к суждению, а суждение слишком важно, что
бы можно было успокоиться на какой-то одной системе категорий и не
думать об их обогащении. Именно потому, что до сих пор системы ка
тегорий строились без этой привязки к поступку суждения, эти систе
мы производят впечатление мертвенной пустоты. Так не должно быть,
надо пошатнуть, сдвинуть с места эти одеревенелые схемы — показав
сначала, что категории это инструмент, которым мы напрямую рабо
таем с вещами. Они средства смыслового (интенционального) истол
кования всего реального и потенциального опыта. Суждение как акт
субъекта, стремящегося овладеть своим жизненным опытом, — такой
должна быть основа проблемы категорий, уж во всяком случае — не
удобство расклассификации вещей. Из-за того, что эта насущная про-
91
СЕМИНАР 1.9
блема со всей остротой стоит сейчас, философ, углубляющийся цели
ком в изучение исторических перипетий этой проблемы, испытывает
душевную тревогу. Она мешает ему пойти истоптанным путем иссле
дования средневековой логики и языкознания (учения о значении): пу
тем изучения традиций школьных, средневекового школьного дела с
его грамматиками, рациональными и другими, с полуграмматической
тематикой «модусов обозначения», modi significandi. Живое понимание
того времени велит разглядеть за тем, что кажется делом школьного об
разования, движение ищущего духа, устремленного к своей цели — к
цели духа, которая в сущности одна и в прошлом, и теперь. Такой под
ход в историографии обычно с порога отметается профессиональны
ми историками как конструкция, неисторичная, актуализирующая, не
имеющая научной ценности. Не замечают, что типичное для «научной»
историографии поверхностно-систематизирующее собирание материа
ла ради охвата фактического материала уводит от живой жизни исто
рического прошлого и в свою очередь оказывается конструкцией — со
вершенно определенного, нивелирующего рода, исключающей нали
чие единого, целеустремленного смысла у прошедшей эпохи — а этот
смысл для мыслителя, полноценно живущего в своей современности,
всегда существует. Этим целенаправленным смыслом была полна де
ятельность Дунса Скота. То, что прослежено у Дунса Скота, — несу
ществование абстрактных форм, материальная определенность всякой
формы, которая хочет быть не только воображаемой, — имеет силу и
для мистики Мейстера Экхарта, позволяет дать ее философское истол
кование. Хайдеггер говорит в примечании, что надеется в другой рабо
те показать это у Мейстера Экхарта; не будет такой работы. Как форма
и материал теснее переплетены, чем принято думать, так же — субъект
и объект: материал диктует или призван диктовать форму; объектом
определяется или призван определяться субъект; к пониманию этого
должна приблизить тема категорий, если в категориях видеть суждения
(наиболее универсальные) о бытии, самим бытием вынужденные. За
помним это. В самом конце жизни Хайдеггер скажет, что главное у Гус
серля, перенятое им, Хайдеггером, это категориальное созерцание, виде
ние категории «нечто».
Остающимся в плоскости логики, где существо категорий скрыто,
категории кажутся классификационной схемой. На таком пути по-на
стоящему интересные вопросы не прояснить. Нужен транслогический
контекст. Философия недолго может продержаться без своей главной
92
19 ФЕВРАЛЯ 1991
оптики, метафизики *. Логика должна быть включена в предельное мета
физически-телеологическое истолкование сознания — не в психологи
ческом плане мозговых процессов, а в философском значении сознания.
Сознания в этом смысле нет без ценностного момента (Хайдеггер гово
рит, что надеется в самом скором времени предложить подробное ис
следование о бытии, ценности и отрицании; не будет такого исследова
ния), сознания нет без осмысленного и смыслообразующего живого по
ступка, ответственного и необратимого — иначе всё потонет в слепой
биологической фактичности.
(Вы понимаете, что в этом близком изложении я сохраняю язык то
го Хайдеггера. Я говорил, что того Хайдеггера можно считать перевод
чиком известного нам, «темного» Хайдеггера, на наш философский жар
гон. Но от этого жаргона Хайдеггер отошел именно потому, что на нем
невозможно уже было сказать его мысль.)
Логика — только один конец, если не тупик, пространства филосо
фии, которая есть жизнь духа. Даже вообще теоретическая направлен
ность ума — все равно только одна из сторон этого живого духа; дру
гая сторона — это прорыв за пределы теоретического знания к истин
ной действительности и действительной истине. (Кто говорит, Бердяев
или Хайдеггер? Прорыв слово Бердяева.) Только эта ориентация на жи
вой дух спасет теорию познания и логику из тупика структур и схем.
Смысл духа не сводится к тому, чтобы быть гносеологическим субъ
ектом; познающий субъект даже не главное в сфере духа. Живой дух по
своему существу — дух, существующий в истории и творящий историю,
в самом широком смысле этого слова. Настоящее мировоззрение — это
не теория. Дух можно понять только во всем его историческом поведе
нии; только увидев, как в своем философском самоочищении дух под
нимается к живому пониманию абсолютного духа Бога. История и ее
культурфилософское телеологическое истолкование должны быть фо
ном для проблемы категорий, если мы действительно хотим создать кос
мос категорий, чтобы вырваться из скудной категориальной сетки в ны
нешней логике.
Нужно понять, что только от так называемого «трансцендентного»,
так называемого «запредельного», якобы далекого от реальности, смыс
ла жизнь духа наполняется истинной действительностью; все частные и
ι. Die Philosophie kann ihre eigentliche Optik, die Metaphysik, auf die Dauer nicht entbehren
(курсив Хайдеггера; GA> Bd. ι, S. 406).
93
СЕМИНАР 1.9
временные смыслы обречены. Но трансценденция это не то, что обыч
но представляют, — что -то непоправимо далекое от субъекта: трансцен
денция означает собственно незамкнутость субъекта на себе, незапер-
тость его в одном жестко ему установленном себе задании внутри сво
ей установки, а разомкнутость субъекта, и открытость трансценденции
для субъекта можно сравнить с общением, с встречей духовных индиви
дуальностей, связанных избирательным сродством.
Настойчивое присутствие такой трансценденции в средневековом
мире, с его подчеркнутой телеологией, создавало целую иерархию, от
верха до низа, огромный диапазон ценностей. Для субъекта открыва
лась возможность опыта от рая до ада, с порывом душевной жизни к
трансценденции, глубина и высота — в противоположность теперешне
му растеканию вширь на плоскости. Поверхностное скольжение, очень
быстрое, современной жизни открывает прямо безграничные возмож
ности для потери почвы и дезориентации — наоборот, средневековый
человек с самого начала не терял себя в содержательной материальной
широте чувственной действительности, не цеплялся за нее в поисках
опоры, а наоборот, чувствовал, что эта чувственная действительность
нуждается в опоре, и давал ей опору в трансцендентной цели.
Для живого духа его единственный источник — метафизический.
Философия живого духа, деятельной любви, благоговейной богоот-
данности, — она стоит перед великой задачей принципиального разме
жевания с могучей, по полноте и глубине, по богатству переживания и
понятийному творчеству, системой исторического мировоззрения, ко
торая вобрала в себя всю прежнюю фундаментальную проблематику, —
с Гегелем.
Это 1915 год· Еще не наступило даже время нового торжества Гегеля
в Германии, в Италии (Бенедетто Кроче), в России, где недавнее еще, в
конце 50-х, в бо-х годах увлечение так называемым ранним Марксом —
это фактически опять гегельянство, снова гегельянство. Задачу размеже
вания с системой Гегеля ставит Хайдеггер, 2б-летний в 1915 г. — и через
6о лет, хотя сам Хайдеггер говорил, что ни о каком «преодолении» Гегеля
не может быть речи, но громада другой, негегельянской мысли, выросла
и без скидок, без натяжек, без преувеличений встала рядом с гегелевской
мыслью по крайней мере как не менее весомая, чем та.
Это мы говорили о диссертации «Учение Дунса Скота о категориях и
значении». В ней, в примечаниях, было обещание по крайней мере двух
работ, о Мейстере Экхарте и о «бытии, ценности, отрицании». Ничего
94
19 ФЕВРАЛЯ 1991
этого не появилось. Вообще десять лет публикаций Хайдеггера не бы
ло. В следующий раз, если Бог даст, мы будем разбирать «Замечания к
„Психологии мировоззрений" Карла Ясперса». Это 45 страниц, написа
но в [1919-1921 году].
Это важная работа: это размежевание Хайдеггера с экзистенциализ
мом. Хайдеггер расстался навсегда с экзистенциализмом в 1920 году.
1.10
26.2.1991
«Замечания к „Психологии мировоззрений" Карла Ясперса» (1919-1921),
«Anmerkungen zu Karl Jaspers „Psychologie der Weltanschauungen"»
1
. Пси
хология: это то, что Хайдеггер — и он тут не один, а со всеми, кто в нача
ле 20 в. вычистил философию от психологии, от психологизма, так было
названо и под таким именем решительно не приняты услужливые пред
ложения психологов немного все же приблизить философские отвле
чения и обобщения к реальной картине деятельности мозга и нервов,
ведь в конце концов философия это деятельность мозга и нервов, раз
ве неправда? — и вот 20 век, прежде всего Гуссерль, но и неокантиан
ство тоже, Виндельбанд, и философия ценностей, Риккерт, Шелер, но
главное Гуссерль, от такой помощи отказались, заявили, что философия
никакого отношения к деятельности мозга и нервов, к не то что физи
ологии, но и к психологии [не имеет]: не с процессами, происходящи
ми в человеке, имеет дело философия, а с вещами, такими вещами, как
мир, Бог, природа, закон, и если с человеком, то с этим вот человеком, с
ним самим, не с фигурой, которую нам подсунули литература и меняю
щаяся мифология дня, может быть, развлекатели-журналисты, а с этим
вот конкретным, индивидуальным настоящим человеком, и когда фи
лософия так присматривается к человеку, она начинает видеть удиви
тельные вещи, гораздо более загадочные и серьезные, чем какие может
рассказать о нем психология, даже экспериментальная; у нас Густав Гу
ставович Шпет и Алексей Федорович Лосев, в этом отношении беском
промиссные гуссерлианцы, буквально отшвырнули психологизм, копо
шение в эмпирии, и ушли с головой в смысловое, в эйдетическое; и тот
же воинственный гуссерлевский антипсихологизм, отчетливое разделе
ние области психологии от области логики, с непереходимыми граница
ми, при том что, в свою очередь, вся область логики тоже встает непере-
ходимой нейтральной полосой между психологической жизненной эм
пирией, с одной стороны, и — не эмпирией, сразу уже, а метафизикой,
третьей областью, рядом с жизнью и логикой, и имеющей дело опять,
в отличие от логики, с конкретными вещами, такими же конкретными,
i.GA,Bd.9 .
7-2015
97
СЕМИНАР 1.10
как вещи жизни, но только уже невидимыми и неопределимыми, как на
чало, принцип, источник, — тот же воинственный антипсихологизм у
молодого Хайдеггера, но одновременно никто на самом деле, в такой ме
ре, в полной мере, как Хайдеггер, не согласился принять то разоблаче
ние философской напыщенности, которое исходило от психологии и во
обще от всей позитивной науки; а с другой стороны, никто из метафи
зиков 20 века — говорю «метафизика» в том смысле, в каком Хайдеггер
[назвал] свою вступительную лекцию 1929 года, «Что такое метафизи
ка», — людей, которым действительно не нужна была опора на психоло
гию и «философию жизни», — не вобрал в свою мысль опыт психологии
(понимая психологию так широко, как чтобы она включала Достоевско
го, очень читаемого автора Хайдеггера, — и как, между прочим, Ницше
тоже называл Достоевского психологией), подробный опыт человече
ских состояний. Ясперсовская психология поэтому для Хайдеггера не
причина снобистски ее отвергать, а наоборот, уважать ее как — лишь
бы только психология не претендовала заменить собой метафизику, —
уважать за ее внимание к тому, что позднее Хайдеггер назовет настро-
ениеМу основной мелодией человеческого бытия. Так что слово «психо
логия» в названии работы Ясперса (Ясперс на 6 лет старше Хайдеггера,
«Психология мировоззрений» написана в i9i9> вышла в 1919 году, Яспер-
су зб лет; Хайдеггер, которому зо, стало быть, начал читать книгу и пи
сать рецензию на нее сразу же как она появилась) для Хайдеггера звучит
как реальный противовес треску и пустой важности расхожего средне
го философского возвышенного, не путающегося в «низменном», а среди
этого «низменного» оказывались не только «условные рефлексы коры
головного мозга» или чего-нибудь еще, но и настроения страха, ужаса,
тоски, скуки, которые настолько не малозначительны для хайдеггеров-
ской фундаментальной онтологии, что, наоборот, в этих настроениях и
в подобных настроениях только и может человеческое существо при
коснуться к такой вещи вещей, как целое, т. е. мир, — потому что в тоске,
когда «берет тоска», тоска берет вообще, и всё становится тоска — чего в
«практической» установке, занятой одними вещами, отодвигающей дру
гие вещи, закрывающей глаза на третьи вещи, никогда не бывает, пото
му что установка не только не может отдаться целому, но и возникла, я
имею в виду всякая вообще установка возникла чтобы установить се
бя, как устанавливают местонахождение на карте, в ответ на вызов Це
лого, которое зовет быть тоже Целым. — Так что в отношении Хайдегге
ра всего меньше можно говорить о заведомой неприязни к психологии.
98
26 ФЕВРАЛЯ 1991
Смотря какой
7
, надо спросить сначала. И второе слово в названии кни
ги Ясперса, «мировоззрение», уйдет из языка Хайдеггера только потом,
а сейчас, как мы читали в работе о Дунсе Скоте, философия для него и
должна быть мировоззрением, при том что настоящее мировоззрение —
это не теория, не гносеология, а, как я цитировал прошлый раз, истори
ческое поведение духа.
И в начале рецензии на книгу Ясперса Хайдеггер говорит, что в совре
менном научном и философском знании нет направления, куда вписы
валась бы работа Ясперса: и это хорошоу потому что уже мало Хайдег-
геру всех существующих направлений, их надо дополнить, за них, вер
нее, заведомо уже надо выйти. Тесно в области современного научного и
философского познания. — Но тут же другая сторона этого признания
за Ясперсом достижения новизны; просто предложить к существующим
направлениям еще одно — сомнительное приобретение; потому что де
ло, возможно, не в количестве направлений, как бы заполненных клеток
мыслимых теорий. Одна сама по себе оригинальность, непохожесть еще
не достоинство.
Праздное дело советовать со стороны, как бы можно было еще по
вернуть, заострить исследование. — Если Хайдеггер так говорит, значит
невольно он думал, как можно было бы и нужно было бы развернуть
ясперсовское исследование? Оно вышло, крупное, значительное, очень
новое, как почти то, что и задумывал сам Хайдеггер, — почти то по об
нятой теме, опыту человеческого существования, по цели, целому этого
существования, но вдруг ушло туда — мы эту критику подробнее потом
увидим, — где тупик, где перспективы были закрыты.
Ясперс строит психологию как целое, призванное очертить, «что та
кое человек» (с. 5, начало книги Ясперса). Мировоззренческая психоло
гия очертит абсолютные, предельные границы душевной жизни, про
ведет горизонт, на котором восходит психическое, перечислит «край
ние позиции», «пограничные ситуации» человеческого существования.
И когда говорится о целом психологии, об исходном горизонте фактов
психической жизни, то это уже выход за пределы психологии к филосо
фии; да задуматься о целом и о предельном горизонте в любой науке, в
чем угодно — это уже значит выйти за пределы той науки к метафизи
ке, к философии.
Сразу же свою рецензию Хайдеггер называет критикой, но которая
у нас называлась недавно или сейчас называется имманентной, крити
кой по линии самой же направленности и проблематики критикуемо-
v
99
СЕМИНАР 1.10
го автора, — и считалось, что такая имманентная критика порочна, она
ведь слишком вникает в ход мысли критикуемого, а это опасно, вред
но, не нужно, не надо вникать в ход мысли критикуемого, ее надо с по
рога отвергать и клеймить как негодную, иначе, чего доброго, критика
обернется апологией, ведь человек слаб, он поддастся чарам критикуе
мого, а тот может оказаться очень завлекающим. — Критика должна вы
явить саму «тягу» ясперсовской проблематики и разобраться, насколько
исполнение отвечает заложенным в мотивах работы тенденциям; и еще
больше, критика должна показать, с достаточной ли философской ради
кальностью, основательностью сами эти мотивы и тенденции «извлече
ны». О мотивах мы еще услышим. Мотив, движущее начало: это не уста
новка, не программа, мотив не совсем принадлежит исследователю, он
исследователем скорее прослеживается — как музыкальный мотив не
«придумывается» музыкантом, а слышится, не совсем только ясно, где
и как слышится.
Тогда, если критика будет такая, вникающая, ни о каком прикладыва
нии к работе Ясперса измерительных масштабов нет речи. Не будет со
поставления Ясперса с какой-то надежно фундированной философией,
никто не собирается указывать, в какой мере Ясперс отклоняется от ка
кой-то предметной систематики философской предметной области, от
идеала методической научно-философской строгости. И опять это зна
чит ли, что идеалу строгости философии как науки Ясперс не удовлет
воряет? И, по-видимому, да, значит; и Хайдеггер хочет такой строгости и
уже может уверенно сказать, что в своем собственном философствова
нии понимает, по крайней мере, каким должен быть канон этой строго
сти. Но ему не так интересно выставить эти нормы строгости философ
ской мысли, — а мы у нас на примере Шпета или может быть в меньшей
мере Лосева знаем, с какой гордостью те новые, новенькие блестящие
требования строгости философской мысли выставлялись и противопо
ставлялись рыхлым обыденным навыкам, прежним расшатанным фи
лософским, каким режущим был Шпет в прокалывании, отшвырива
нии всего, что с порога не удовлетворяло требованиям строгости. Хай
деггер хочет от такого парада новой блестящей философской техники
удержаться, он не хочет попасть в колею тысячелетних, со времен плато
новской Академии, речей об абсолютной истине, релятивизме (Гуссерль
обвинил Дильтея в релятивизме), скептицизме. Не то что нет никакой
абсолютной истины; но не отвязывается чувство, что разговоры о такой
истине и вообще об истине как цели познания в современной гносеоло-
100
26 ФЕВРАЛЯ 1991
гии, о скептицизме и релятивизме давно вращаются в пустоте, они раз
лучились с тем, что когда-то придавало им смысл, с мотивами — еще раз
обратим внимание на это слово, «мотивы»: кроме азарта исследователя,
берущего темуу ставящего проблему', должен быть в его действиях мо
тиву не его собственность, его призвание. Уже давно та движущая суть
из споров об абсолютной и относительной истине в современной гносе
ологии повыветрилась, эти рубрики теперь только тени чего-то, забы
то чего. Поэтому снова выставлять против Ясперса, строгости в кото
ром мало, каноны истинного метода Хайдеггеру скучно; ему увлеченные
необычные разбросанные искания Ясперса интереснее, чем методологи
ческий спор, — хотя мы увидим, что сам он ничем в унаследованной от
Гуссерля строгости мысли не поступится, когда увлечется исканием, в
«Бытии и времени».
Да, что-то случилось с традиционной философской тематикой, она
как-то подточена, в ней чувствуется что-то ненастоящее; но и совершен
но ясно Хайдеггеру, что делу не поможет изобретение какой-то «новой»
философской программы, тут требуется другое, и мы вдруг читаем: «Не
обходима конкретно ориентированная, духовно-историческая деструк
ция традиционного материала»
1
. Destruktion. Появляется в уже полнос
тью развернутом смысле не в «Бытии и времени», а здесь в «Замечани
ях к Карлу Ясперсу». Какой радикал и разрушитель, скажут, когда через
много-много десятилетий Хайдеггер дойдет до них, его не грешащие им
манентной критикой опровергатели. Ясперс скажет, направленно про
тив Хайдеггера: нет, нам надо не разрушать традицию, а усваивать ее, не
Destruktion, a Aneignung (Aneignung в моем издании стоит шестью стро
ками выше).
Немного о Хайдеггере и Ясперсе. Я уже говорил, Ясперс пишет в No
tizen zu Martin Heidegger*, большая книга, вышла в Мюнхене-Цюрихе
в 1978 г., что «так никогда и не дочитал рецензию до конца», «она была
мне скучна», sie war langweilig für mich
2
, и такими ядовитыми замечани
ями о Хайдеггере книга Ясперса полна, горделивыми афоризмами о том,
что Хайдеггер гоняется за новым, странным, а я, Ясперс, держусь золо
той традиции; и мера сердитости, едкости, желчности суждений Ясперса
о Хайдеггере явно повышенная, заставляющая думать об особом, ревни-
1. GA, Bd. 9, S.3.
2. «Душевно на тексты Хайдеггера я не реагировал. Уже его критику моей „Психоло
гии мировоззрений" я так и не дочитал до конца. Она меня не интересовала. Она была
мне скучна» (Karl Jaspers, Notizen zu Martin Heidegger, München-Zürich: Piper, 1978, S. 225).
101
СЕМИНАР 1.10
вом и непроясненном для самого Ясперса отношении Ясперса к своему
когда-то младшему другу, с которым они были близки, в личном обще
нии, по крайней мере четыре года, с 1919 года, когда они познакомились
(Гадамер пишет — они познакомились в 1920 на шестидесятилетии Гус
серля, но ведь Гуссерль родился не в i860, a в 1859» и не в конце года, а
8 апреля, здесь у Гадамера явная ошибка; они познакомились на чество
вании бо-летия Гуссерля и расхолоди лись друг к другу, как о них пишут,
в 1923 году; но, с другой стороны, есть же неопубликованная переписка
Ясперса и Хайдеггера, 1920-1937 и 1949-1963*» и были у них планы из
дания, но согласились, что не понимают друг друга. У Ясперса есть гла
ва о Хайдеггере, принадлежащая к серии его «Великие мыслители», но
опять не опубликована; в 1933 г. отношение Ясперса, совершенно одно
значно ушедшего в род внутренней эмиграции после революции, к Хай-
деггеру, который несколько месяцев пытался стоять в самом огне и сво
ей энергией пересилить, перенаправить массовое активистское настрое
ние, как он быстро увидел, зря, — отношение Ясперса тогда к Хайдеггеру
и не могло стать иначе, как негодующим и презрительным, но мы опять
спросим, не был ли явный для Ясперса политический зашкал Хайдегге
ра поводом для Ясперса лишний раз убедить себя в правильности свое
го общего отношения к Хайдеггеру как философу, отклонение его за ри
скованное и беспочвенное новаторство, т. е. подыскиванием оснований
уже под готовое и желанное отвержение, как смущающей фигуры.) —
Ведь поводов для ревности было достаточно. Старше — немного, на 6
лет — Хайдеггера, Ясперс уже в 1919 г. выпустил большую книгу, которая
сделала его начинателем или во всяком случае главной фигурой может
быть самого громкого направления в 20 веке, человек, который это сде
лал, не может об этом не знать, и вот он получает рецензию, какую по
лучает, мы еще будем ее читать, и от кого? от почти неизвестного, если
говорить о публикациях (слава Хайдеггера как лектора другое дело, но
ведь в 1921 г. и такой славы еще не было, она началась двумя-тремя года
ми позже), от автора по существу только одной работы, о логике средне
векового Дунса Скота, и той какой-то переходной, незавершенной, обе
щающей не совсем ясно что. Рецензию, критическую, от человека, кото
рого он ценил как тоже чуткого к реалиям человеческой экзистенции,
как понимающего^ как потенциального последователя, может быть уче
ника. Возможность философской дружбы. Но — вовсе не ученика вдруг
увидел Ясперс, а — неожиданно — учителя; Хайдеггер, по словам Га
дамера, «набросился с присущей ему мрачной энергией на Ясперса —
102
26 ФЕВРАЛЯ 1991
и сразу радикализировал его»
1
. Это было бы немного смешно, если бы
не оказалось, что этот совсем молодой профессор читает с успехом, для
Ясперса — с неоправданным успехом, необъяснимым. Гадамер, который
слушал и того и другого, учился у обоих, сравнивает их. И ясперсовский
лекционный стиль был размагниченный, казался какой-то почти нео
бязательной causerie, непринужденным длинным диалогом с аноним
ным партнером. Это вначале; позднее уже Ясперс встал в позу морали
ста, стал говорить о коллективной вине нации, об атомной бомбе как
призыве к ответственности; его вся мысль была как перенос, транспо
нирование крайне личного опыта в рамки общепринятой коммуника
ции. Полная противоположность — молодой Хайдеггер; почти драмати
ческое выступление с кафедры, отчетливое настойчивое произношение,
завораживающая сосредоточенность чтения. Ясперс говорил от лично
го опыта и к личности обращался, у Хайдеггера личности не было и в
помине, «дело», die Sache, сами вещи, рядом с обязательностью которых,
если хочет, может, прислонившись к их весомости, стоять и личность.
Вызывал небывалый — в сильном смысле, т. е . такого просто в философ
ских аудиториях не было, не помнили — энтузиазм среди слушателей.
Гадамер: когда на кафедре свои заранее до самых мелочей подготовлен
ные мысли Хайдеггер опять до самых мелких подробностей оживлял во
время прочтения лекции, то были моменты — когда он, время от време
ни поднимая глаза от рукописи, взглядывал в сторону окна, то он видел
то, что думал — «ясновидец», «думающий, который видит», — и застав
лял других видеть. Его голос, тоже сам по себе приковывавший внима
ние, при понижении тона тогда, в молодости, очень сильный и богатый,
при повышении в возбуждении говорения как бы суженный, сжатый,
стесненный и, не очень громкий, явно перенапряженный. Начинал го
ворить обычно тихо, но скоро проступал наружу полемический темпе
рамент, часто насмешка, режущая холодная. И этот успех длился очень
долго, после войны, после отставки от преподавания, Хайдеггер восста
новил эту свою способность притягивать к себе, и, говорит Гадамер, его
выступления были связаны прямо-таки с опасностью для жизни, для
устроителей, когда Хайдеггер объявлял, что выступит с одним из сво
их критических докладов, проблемы возникали совершенно неразреши
мые, из-за неминуемого столпотворения.
Ясперс как будто бы с достоинством, с отстраненным недоумением
ι. H .-G . Gadamer, Heideggers Wege: Studien zum Spätwerk, Tübingen: Mohr, 1983, S. 10.
103
СЕМИНАР 1.10
смотрел на этот неоправданный успех, моду, — но, говорит Гадамер, по
сле появления этой книги, «Notizen zu Martin Heidegger», стало ясно, что
Ясперс всю жизнь боролся с его вызовом. И неудобство его положения
было в том, что суть этого вызова он не совсем ясно понимал. Как же
так, в самом деле, он, Ясперс, говорит о самом главном, жизнь, экзистен
ция, пограничные состояния, смерть, долг: экзистенциализм Ясперса
включает три главных тезиса: ι) человеческое состояние, человеческая
природа, с одной стороны, ограничена и в то же время очерчена теми
пограничными ситуациями страдания (боли), вины и смерти, они вхо
дят в личный опыт человека и объективировать их от себя, как-то от
страниться от них человек не может; 2) экзистенция — это свобода, как
бы она ни представлялась иначе, — в своей основе свобода и потому от
вечает за свои действия и виновата в своих действиях; з) экзистенция
означает общение, не как социальный факт, а как трансцендирование
человеческой свободой самой себя в искании истины. Неодолимые по
граничные ситуации, неустранимая опасная свобода, порыв за свои пре
делы, значит, общение — разве тут Ясперс говорит не о самом главном
для личности, что еще может быть главнее
7
. И вдруг его стадо уводит
другой пастух, который говорит Бог знает о чем, о бытии, где личности,
индивидуального существования нет и в помине; о смерти, да, говорит,
но как? не так, что смерть это абсолютная граница, а что человек смерт
ный, то есть — способен умереть, в смысле способен осилить смерть; о
«событии», где оно? опять не имеет отношения к личности. Почему же я,
говорящий о главном, в конце концов — о коллективной ответственно
сти, о судьбе нашей страны, Западной Германии, об атомной бомбе, по
чему люди это главное не так жадно слушают, как манерные, далекие от
влеченности другого?
Ужасно, что Ясперс не мог предчувствовать и в будущем своей по
беды, и так случилось: по разным причинам, может быть, опять гово
рит Гадамер, потому, что уже тонкости саморефлексии, личных пережи
ваний кажутся побочным необязательным делом в теперешнюю эпоху
массовых настроений, или по другим причинам, Ясперс быстро стано
вится фигурой истории философии 20 века, Хайдеггер — остается или,
наоборот, становится поразительным образом присутствующим. Мимо
Ясперса теперь неудобно пройти, мимо Хайдеггера — немыслимо, невоз
можно, не дадут, никто и ничто не позволит. Незаметное и безвозврат
ное увядание Existenzphilosophie. В диалоге мысли, который продолжа
ется, который не прошлому вовсе принадлежит, остаются участника-
104
26 ФЕВРАЛЯ 1991
ми не экзистенцфилософия, ее очертания уже размыты и в целый образ,
как когда-то, ее сложить уже не удастся, она жила временным состоя
нием человека между двумя войнами, а люди, которые вобрали в себя в
свое время этот экзистенциальный пафос, пошли дальше.
Это чем кончилось соревнование Ясперса и Хайдеггера. В середи
не этого соревнования — Ясперс, который никоим образом, разве что
в своих тайных подозрениях, заставляющих его срываться на кислый и
нервный тон в своих заметках о Хайдеггере, не ушел с места, не хочет
уходить с места актуальнейшего философа современности и пишет и
издает серию книг «Великие философы», «Наши вечные современники»,
от Платона до Николая Кузанского и дальше, подчеркивает свою наме
ренную принадлежность к «философия переннис», заостренно против
Хайдеггера, который перестал называть себя философом (и — Хайдег-
гер — имея явно в виду серию Ясперса «великие философы», сказал как-
то, что философия началась с Сократа и Платона, а Гераклит и Парменид
были еще не философы, они были более великие, они думали), — Ясперс
записывает, что рано философии уходить в отставку, особенно теперь; и
опять, заостренно против Хайдеггера, что историю философии надо не
разрушать, а усваивать, не Destruktion, a Aneignung; и историки совре
менной философии подхватят: есть две диаметрально противополож
ные позиции в отношении к философской традиции, смотрите какие
они противоположные, одна — Destruktion, это Хайдеггер, другая — An
eignung, это Ясперс, смотрите какой Хайдеггер и смотрите какой Ясперс.
То конец и середина противостояния; мы в начале его, в 1919 году, чи
таем на третьей странице рецензии Хайдеггера резкое слово, Destruk
tion, нам переводят буквально, — деструкция, разрушение, стало быть,
традиции; но шестью строками выше у Хайдеггера стоит Aneignung,
усвоение, о традиции, и вовсе не как то, него не надо и против чего Хай
деггер выступает, а наоборот, как то, ради чего, в поблекшей современ
ной «традиционности» утраченного, — перестало быть подлинное усво
ение традиции, и чтобы вернуться к нему от бледных теней прежде жи
вого философского смысла, нужна деструкция, — деструкция ради
усвоения, Aneignung, деструкция не разрушение, а разбор. Такой разбор
зачем нужен? Почему не жить в уже устроенном философском городе и
ничего не разбирать? Такова философия, мысль, доходящая до основа
ний. Она должна дойти до оснований. Она не должна облегчать себе за
дачу, принимать на веру уже существующие постройки, раз они уже су
ществуют. Дело не в том, что философия упряма и вот ну во что бы то ни
105
СЕМИНАР 1.10
стало хочет сначала всё разломать, как ребенок, и потом строить от ну
ля, — как Гегель, который ι8 октября 1827 года сказал за чаем у Иоганна
Вольфганга Гёте, Гёте 78 лет, Гегелю 57 лет: «Собственно диалектика не
что иное, как упорядоченный, методически разработанный дух проти
воречия, присущий любому человеку, и в то же время великий дар, по
скольку он дает возможность истинное отличить от ложного»*, но Гете
не проникся и продолжал со старческой непреклонностью настаивать,
что диалектики больные и им надо вылечиться, лучший способ выле
читься — вглядываться в природу, она здравая. Не ради упрямого на
слаждения всё выстроить от нуля (Бейкон Роджер, начала новой фило
софии, научной, или философской науки: Omnia instauranda sunt ab imis
fundamentis, всё должно быть отстроено заново от самых оснований),
т. е . значит сначала разрушено, а нет, по Хайдеггеру: не разрушение, а
разбору в тех смыслах, как мы по-русски говорим разбор, разбирать, что
бы посмотреть, что из выстроенного держится само, а что не держится,
держится на так или иначе заинтересованном человеческом поддержи
вании. Что держится само и что явно или неявно поддерживается чело
веком для каких-то его человеческих интересов. Проверить, так сказать,
на независимую от нашей корысти выстраиваемость. Отсеять всё то, что
стоит иллюзией или что делается. Ведь в вещах, которыми живет чело
век, надежны только те, которые стоят сами, а не человеческие поделки.
Богом, стало быть, должно быть устроено то, что заслуживает стоять?
Если хотите, да; во всяком случае — не только человеком . До Бога фи
лософия и не обязательно сразу должна доходить. Философия — это чи
сто человеческая наука о том, как убрать среди построек человеческой
культуры чисто человеческое, чтобы оставить место для...? Для чего?
Это другой, второй вопрос, но первое ясно: грустно, ненадежно челове
честву жить среди вещей, которые оно само изготовило; не может быть,
чтобы так должно было быть; не может и не должно быть, чтобы чело
вечество только развлекало себя в своей истории своими собственными
придумками; для того, что делает человек, должны быть мотивы в самих
вещах, — вот еще раз мы встречаем это слово, «мотивы», которого позд
нее у Хайдеггера не будет, тем более мы должны здесь добраться до смыс
ла, которого он здесь хочет и который у него и потом останется опреде
ляющим, только в других словах, — кстати, почему всё-таки обязательно
так должен был меняться язык Хайдеггера, кто-нибудь скажет, он искал
новых выразительных средств, другие скажут, хотел шокировать, эпати
ровать. Причины были на самом деле более близкие, опять же их можно
юб
26 ФЕВРАЛЯ 1991
назвать мотивы, словом из рецензии 1919 года, что движет, неотступ
но, и представление об этой гнавшей Хайдеггера неотступности дает его
повторяющийся сон, бывают повторяющиеся сны, который он расска
зал своему другу, психиатру Медарду Боссу, сон кошмарного свойства:
он снова в гимназии, выпускной экзамен, строгие профессора задают
трудные вопросы. Этот стереотипный сон прошел, когда наяву Хайдег-
гер увидел существо бытия в событии, это уже конец 1930-х годов, до
стиг зрелости, стало быть, мысли. Это о том, насколько мало Хайдеггер
сам мог распорядиться тем, как и что ему думать, как он был верен тому,
что в 1919 году называет мотивами, самими вещами, заставляющими се
бя осмысливать, не дающими от них отвернуться, преследующими, как
сон. (Но вы отделайтесь от мыслей, типичное приглашение. Вот чего ни
когда не надо делать, отделываться от мыслей.) Об этой заставляющей,
принудительной настойчивости, требовательности мотивов — в одном
письме Хайдеггера времен рецензии, которую мы читаем: «Я делаю то,
что должен и что я считаю нужным и делаю это так, как могу, — я не
причесываю свою философскую работу под культурные задачи какой-
то обобщенной современности... Я работаю из моего „вот я" и из мо
его... фактического происхождения. Этой фактичностью кишит, кипит
человеческое существование»
1
.
Деструкция — это «экспликация мотивообразующих изначальных
ситуаций»
2
, — те фактические ситуации, в которых каждый раз ока
зывается человек; ситуации, взятые в своей подлинности, а не в виде,
препарированном, скажем, от страха, от страсти; и взятые не как про
сто созерцаемые, а как движущие, как мотивы, как вызывающие чело
века к ответу, к поступку. Они первичные, такие ситуации, изначальные,
ursprünglich, это слово, Ur-sprung, останется у Хайдеггера навсегда, оно
из Ur, перво-этимологически то же, что наше «из», и Sprung, прыжок: ис
ток, первоначало как первый скачок, с моментом «вдруг». Мотивы такие,
что человек приходит уже когда они есть, их находит, не придумывает.
Философия в этом свете: ее можно определить как человеческую науку
о том, как отделаться в культуре от придуманного человеком, как вер
нуться к тому, что заранее всегда уже было. — Другой, так сказать, праг
матический ответ, почему такая «деструкция», прояснение начал, долж-
1. Цит. по: Р. Hühnerfeld, In Sachen Heidegger. Versuch über ein deutsches Genie, Hamburg:
Hoffmann und Campe, 1959, S. 51.
2.GAtBd.9,S.3.
107
СЕМИНАР 1.10
на быть: она все равно, если не рано так поздно, будет, только уже в виде
немыслимой деструкции, тотального разрушения. Лучше заранее прове
сти мыслимую, возможно, это позволит обойтись без немыслимой.
Резко остановиться, никаких новых построек. Задача философии
только эта: деструкция как возвращение к изначальной ситуации, кото
рая несет в себе сама мотив. Только дать слово этим вещам, началу, моти
ву, ситуации. И с той холодной насмешкой, о которой я упоминал, Хай
деггер говорит, что рядом с размахом этой задачи, такой деструкции,
которая кажется ограничением, на самом деле — выход философии на
простор, все жесты «творческой» философии, творческая берется в ка
вычки, просто не нужны. Ни к чему. Особенно пышнотелой, якобы со
держательной, на самом деле просто разболтанной «философии жизни»,
снова в кавычках.
Деструкция ради усвоения и сама — усвоение, в широком смысле,
возвращения человека в «своё», то первое, где он в своей подлинной си
туации. И на следующей странице рецензии, опять эти две цели, две те
мы, потом для удобства классификаторов разведенные врозь, Destrukti
on и Aneignung, не просто рядом, а одно и то же, одним держится дру
гое, и против всей горы бумаги, которая будет позднее написана о такой
вопиющей противоположности, плохая деструкция традиции Destrukti
on Хайдеггера и хорошее усвоение традиции у Ясперса, как это сказано
у Ясперса в «Notizen», заметка 47> с. jv. Хайдеггер «претендует на что-то
совершенно новое, гностическим путем отыскивает какой-то историче
ский процесс бытия — я живу усвоением philosophia perennis, никакой
цены новшествам не придаю, скачкам и прыжкам... Хайдеггер больше
рвется в область мечтаний — я живу среди унаследованных от традиции
содержаний». Против слишком простого противопоставления — фор
мула Хайдеггера из рецензии: «sich destruktiv erneuernde Aneignung»
1
,
усвоение (традиции), обновляющееся путем деструкции, разбора. По
существу в том, что Жак Деррида понимает под «деконструкцией», нет
ничего, чего не было бы в хайдеггеровской «деструкции», но сказано
«мягче», без жесткости, но и без энергии Хайдеггера. Как раз философии
жизни, которая силится говорить от первичного жизненного импульса,
не хватает мотива, который можно было бы как-то уловить.
Не будет Хайдеггер в своей критике мерить своей меркой; отказыва
ется вообще от мерки. Что же тогда? Что остается? Синкретизм, случай-
1.GA,Bd.9,S.4·
ιο8
26 ФЕВРАЛЯ 1991
ное сопоставление одних вещей с другими, как придется? Нет: феноме
нология, вглядывание в являющееся, его логос, смысл. Феноменология
беспредпосылочна. — Но осторожнее: надо уточнить, что феноменоло
гия беспредпосылочна вовсе не в том смысле, что ей любое являющее
ся равно: что под рукой, то и есть сами вещи; на что глядим, то для нас
и данность. Мы всегда глядим, взглядываем так, а не иначе потому что;
нам только кажется, что глядим просто так, потому что есть глаза; нас
самих опережает исподволь наша всегда заранее уже данная, во всяком
случае не позже, чем любая «предметная» данность, данная ориентация,
выхватывающая для наблюдения, феноменологии именно этот регион.
Как раз тот, кто бросается на предмет и «только на предмет», чтобы ни
чего в предмет кроме самого предмета не привносить, «непосредствен
но» иметь в виду предмет и ничего кроме предмета, действует очень по
дозрительно, явно торопится проскочить тот момент, когда бы он мог
заметить — намеренно заставляет себя ослепнуть как раз на тот корот
кий миг, где бы он спросил себя, а почему я так бросился именно к этому
предмету, какие мотивы у меня были. Вовсе не обязательно, чтобы мо
тивы тематизации оказывались всегда подлинными. Сама моя беспред-
посылочность может оказаться уже бегством от моей ситуации. Мате
матик может, и то верно ли? — позволить себе такую беспредпосылоч-
ность, иметь перед глазами только предмет, философ должен знать, что
человек от своей исторической ситуации неотделим, человек и есть эта
вот историческая ситуация, если можно так сказать, а ситуация это
всегда мотив, и для человека дано только выбирать между подлинным
и искаженным, превращенным мотивом, не между мотивом и выклю-
ченностью из истории. До «самих вещей» — «предметов» — путь дале
кий, так что пошедшие потоком у современных феноменологов «про
зрения в суть предметов» дешево стоят, пока у них нет глаза для такого
же прозрения в суть своей установки как феноменологов, что толкну
ло их к блестящей мысли иметь перед глазами такой-то предмет и улав
ливать его суть. Обходным путем через разбор самого себя, почему-то
взявшегося рассматривать предметы, идет настоящая феноменология,
но этот обходный путь и есть единственный настоящий путь. Прежде
всего и важнее всего спросить самих себя, кто это такие новые «мы», фе
номенологи, откуда вдруг взялись, почему нам предметы «даны», поче
му мы как раз удобным образом существуем и «можем» этих предме
тов увидеть суть; и очень уместно спросить себя, почему это, интересно,
ничего такого себе не уяснив, даже не поставив себе этих вопросов, мы
109
СЕМИНАР 1.10
развили такую немыслимую деятельность в заботе о спасении культу
ры, стараясь всё шире охватить эту самую культуру, и чем шире нам ее
удается охватить, тем, гордимся мы, «основательнее» мы подходим к ее
«проблемам». Какой опыт существования толкнул нас на такой путь —
это остается в полной темноте, предпосылками такого нашего поведения
и должна заинтересоваться настоящая феноменология, именно для того
чтобы быть беспредпосылонной.
И здесь скрыто главное замечание Ясперсу. Потому что Ясперс имен
но поддался тенденции охватить человека в целом, не спросив себя сна
чала, что сейчас, в это время, в эти годы первой мировой войны застав
ляет почему-то схватывать человека в целом. Может быть, то, что
человек куда-то девается и хочется его схватить, пока он не ушел со
всем
7
. Но тогда всепоглощающий вопрос будет уже другой, не целостный
охват, а — что же это за историческая ситуация такая, что человек куда-
то девается? Стремление как-то схватить его, ускользающего, будет тог
да уже не первым, не изначальным мотивом. Первым, исходным, состав
ляющим одно целое с исторической ситуацией, будет сама пропажа че
ловека. Вопрос не в том, чтобы успеть что-то еще сделать, а сначала в
том, чтобы успеть заметить, что сделалось, что исподволь уже случилось.
И это трудно. Всего труднее.
Психология мировоззрений Карла Ясперса имеет целью очертить
крайние границы психики. Пограничными ситуациями должны, по-ви
димому, определяться все мировоззренческие установки. Когда те пре
дельные границы будут прояснены, будет как будто бы получен наконец
«отчетливый горизонт» для всей совокупности психической жизни. Та
кая попытка фиксировать всю, целую область психики, говорит Хайдег-
гер, раньше не предпринималась; она руководствуется тем, что грани
цы, «пограничные ситуации» для человека должны быть, и что психи
ческая жизнь человека — это те или иные «реакции» на такие ситуации.
Пограничные ситуации антиномичны, антиномичность их возбуждает,
провоцирует психику. Что на психику они должны «влиять» — это под
вопрос не ставится, тут Ясперс полностью продолжает традиционный
подход психологии: стимул и реакция, раздражение и ответ.
Странно. Надо спросить: а верно ли, что психика работает по прин
ципу стимул-реакция; а что если это предвзятое и ограниченное пред
ставление о психике, которое как раз не даст охватить психику в целом?
Это был бы принципиальный и прежде всего требующий осмысления
вопрос. Ясперс, казалось бы, еще только формулирует свою проблему —
но
26 ФЕВРАЛЯ 1991
а в самой формулировке уже спрятана, заранее дана и действует схема
психического, Vorgriff, предвосхищение его.
При этом психология мировоззрений объявляет себя не учением,
имеет целью только прояснение средств для самоосмысления. Прислу
шаемся: прояснение. Чего? «Жизни», стало быть, неким образом увиден
ной, теперь проясняемой. Но ведь этим уже сказано о жизни, во-первых,
что ее можно увидеть, во-вторых, прояснить увиденное. Жизнь уже ис
подволь втиснута в схему чего-то такого, что пригодно для прояснения,
поддается прояснению. Те средства для самоосмысления теперь изы
скиваются уже внутри такого определенного понимания жизни, психи
ческого бытия. Жизнь такая вещь, которую можно рассматривать, что
бы увидеть, «что такое человек». Это — опять предвосхищения, Vorgriffe,
мы откуда-то знаем и почему-то заранее говорим, что жизнь такая вещь,
что человек такая вещь, что вглядываясь можно понять его суть. — Дело
не в том, чтобы сказать: ага, Ясперс промахнулся мимо не заметил глав
ного, желая очертить границы психического целого, что сам же в поряд
ке предвосхищения их уже в чем-то и очертил. Гораздо интереснее за
думаться: вот, явный случай предвосхищения, от жизни ожидается, что
ее можно прояснить, от человека — что его можно понять. Но ведь ина
че всё равно не бывает. Не бывает без Vorgriffe, предвосхищений. Когда
мы ищем, мы уже неким образом всегда знаем, чего ищем, а то не иска
ли бы. Мы не свободны познавать без предвосхищений, свободны толь
ко заметить, что наше так называемое объективное, принципиальное
познание начинается с предвосхищений, или не заметить этого. Толь
ко когда замечаем, можем надеяться на строгость. Метод включает схе
му, Vorgriff, предвосхищение, не надо на это сердиться и отмахиваться от
этого. Метод не оставляет «предмет» «чистым», метод уже делает что-
то с предметом, в данном случае с психикой, жизнью, человеком, устро
ить иначе мы не можем; лучше будет, если мы это заметим. Только тогда,
пятясь назад, «разбирая» предвосхищение, мы сможем его «разобрать».
Метод не безобиден, не надо закрывать глаза на это. — «Но тогда же мы
не сдвинемся с места». — А и не надо. Может быть совсем и не надо
сдвигаться ни с какого места. Может быть, кроме места, с которого мы
хотим зачем-то сдвинуться, никакого другого места у нас и вообще нет.
Ясперс именует свой предмет экзистенцией, чисто формально, из
бегая ошибки Кергегора и Ницше, которые говорили «жизнь», «экзи
стенция», подставляя сразу свое понимание жизни (воли к власти), эк
зистенции (ответственности в свободе). Нет Ясперс хочет проследить
ш
СЕМИНАР 1.10
феномен экзистенции в чистом виде, в подлинном. Идет от предельно
го, чего уже не перешагнешь: от пограничных ситуаций, «в погранич
ных ситуациях возникает интенсивнейшее сознание экзистенции, и та
кое сознание есть, собственно, сознание чего-то абсолютного». «Для жи
вого создания пограничные ситуации суть последнее, предельное»
1
. Это
главная, и самая сильная часть исследования Ясперса. Те решающие си
туации «связаны с человеческим бытием как таковым, неизбежно даны
вместе с конечным существованием», вторгаются в него; борьба, смерть,
случайность, вина — примеры общих для всех людей ситуаций, погра
ничных. Они всегда источники противоречий, потому что всегда нару
шают, что-нибудь непременно непримиримо сталкивают, рационали
зации абсолютно не поддаются: так случайность есть случайность, она
была есть и будет случайностью, без нее не бывает, она всегда нарушит
гладкое течение вещей. Пограничные ситуации как прорывы, провалы в
неизмеримое, неисследимое, бесконечное. Поэтому понятия бесконечно
сти, границы и антиномии взаимопринадлежны
2
. Реакция психики на
антиномию — воля к единству как жизненная сила. Стремление к един
ству — это и есть жизнь духа в его сути.
Добрались. Единство ключ. В его свете и по противоположности ему
вторгающаяся в него пограничная ситуация, его рушащая, называется
раскалывающей, антиномичной и так далее. Но единство, цельность —
это тоже опережающая схема, Vorgriff, предвосхищение, в двух смыслах
исследователь им, единством, заранее схватывает то, что он схватыва
ет; и сама жизнь духа предстает ему как такая, первый акт чего — схва
тывание единства. Но что такое видение, схватывание в единстве — об
этом ничего определенного не говорится. Предвосхищением единства
всё определяется, никто его определять не собирается. Может быть не
надо? Знать, что такое целое?
Или, наоборот, всего важнее это знать?
Ах всего важнее знать первые вещи. Философия жизни еще сильна
в 1920 году. Со всех сторон речь о непосредственной действительности
жизни, жизненном богатстве, обострении чувства жизни, переживании,
его ценности — как теперь разговоры о культуре. И какая важная вещь
культура, какая важная вещь жизнь, как важно говорить о жизни, как
кажется, жизнь от этого, такая ценная, должна расцвести! Но нет, стоп.
ι. GA,Bd.9,S.и.
2. Ibid., S. 12.
112
26 ФЕВРАЛЯ 1991
Почему-то не расцветает. Разговоры о жизни выдают себя за жизнь, на
самом деле в них выдает себя изменившаяся духовная ситуация. С ней
что-то случилось, раз начались такие разговоры о жизни. Что случи
лось? С этого вопроса только и начинается философия, только и начи
нается философия. Не жизнь тема, а почему жизнь стала темой. По
чему Ясперс этого не замечает, почему он вместе со всеми тоже хочет
«рассмотреть жизнь»? Он тоже ее сначала объективировал (вместе с мо
ментами бесконечности в ней), теперь может предаваться ее «непосред
ственному рассмотрению». Пусть он как угодно не любит метафизику,
отметает ее — всё равно ведь надо как-то дать себе отчет, в смысле како
го предмета, в каком модусе бытия предполагается то якобы целое рас
сматриваемое, жизненный поток. Что собственно произошло. Нет, не
знаем, что такое целое и т. д . Деструкция, очистка.
1.11
531991
Нам с первого и со второго и с третьего взгляда еще не совсем неясно,
почему нельзя схватить жизнь в целом; так ведь делается скажем, в ста
тистике, или в экономике; или в политике; или духовенство, занятое ду
ховным руководством, — для него жизнь человеческая вполне уклады
вается в рамки, это рамки рождения и крещения, нравственного роста и
греха, выбора между священническим и монашеским и мирским призва
нием, терпения, смирения, смерти (и Ясперс, между прочим, пришел на
место, освободившееся в светском, обмирщенном мире от ушедшего цер
ковного духовного руководства, то в осмысленном уютном целом обни
мало человеческую жизнь; и не принадлежавший уже ни традиционно,
ни лично никакой церкви, Ясперс был лучше, на чистом месте, предрас
положен воссоздать, воспроизвести, — в совершенно светских уже то
нах, где вместо церковной таинственной торжественности другой тон,
совестливой серьезности, скажем, задает тон добросовестность государ
ственного служащего, — но ту охватывающую цельность воссоздать); я
говорю, нам неясно, почему запрет схватывать жизнь в целом. Даже тор
говец пиццей или чебуреками около метро быстро схватывает жизнь
городской толпы в целом, она мечется между временным благополучи
ем сытости и тревожной несытостью, которая пугает чем-то еще худ
шим. Нам неясно, почему бы так в целом не охватить жизнь; кроме того,
ведь она сама же вроде бы охватывается, потому что расположена вроде
бы совершенно отчетливо между неживой природой, с одной стороны, и
чем-то, наверное, с другой; хотя, правда, это другое уже труднее назвать,
и с этой другой стороны, на другом полюсе от неживой природы, край
жизни не очень четко обрисован; но всё равно, должен же он там всё-та
ки быть; или того края нет? Т. е тогда жизнь не со всех сторон очерчена?
Тогда мы и на схватывание жизни в целом тоже не видим такого права,
которое само собой разумелось раз она не ограничена с одной стороны?
Или все-таки ограничена? — Это вопрос. Здесь, как и во многом другом,
как и почти во всем другом, мы, современные люди, опять взвешены в
неопределенности; то ли жизнь можно охватить в целом, то ли нельзя.
Понятно, что при такой нерешенности, неопределенности происходит:
нерешительность и устанавливается как наша позиция; крайние реши-
8#
115
СЕМИНАР 1.11
тельные позиции остаются не для нас, не наши, и мы отчасти делаем од
новременно то и то, отчасти имеем мнения о жизни в целом («жизнь ко
ротка», «жизнь уходит», «жизнь прекрасна», «жизнь ужасна»), отчасти
нет — Бог знает, что она такое, о ней в целом иметь мнения нельзя. Ин
тересно, что интуитивизм и иррационализм, в начале века и еще сейчас
очень популярное негодование против рассудка или подчинения жиз
ни рассудку, — это, может быть, самая решительная обработка рассудоч
ная жизни, а именно суждение, что она другое, чем разум, что разум это
омертвение жизни. Жизни, якобы ради защиты жизни, с энтузиазмом
приписывалось как раз то, что ее делало беззащитной; якобы что она не
может и не должна в себе иметь закон; тогда закон, которому она поче
му-то послушно подчинилась, был ей навязан извне. Иррационализм —
это срыв, сорвавшаяся от недостатка выдержки нерешительность, кото
рая приняла решение, что никогда ничего решать не надо.
Это показывает, между прочим, что выход из нерешительности не в
том, чтобы принять решение; как и не в том, чтобы оставаться нереши
тельным. Позднее, когда наступит время решительных, которые будут
править, собравшись в силу, партию как раз потому, что решились пра
вить и знать что делать, Хайдеггер станет неудобной фигурой: в нем как-
то нет нерешительности, совсем не видно, но он не указывает рукой, что
делать. Активисты будут говорить об этом, с насмешкой, которая одно
временно приговор: Die Schüler Heideggers sind sehr entschlossen, aber sie
wissen nicht, wozu. «Ученики Хайдеггера очень решительные, но они не
знают, на что решились». — В чем эта решительность Хайдеггера? Он
знает, что всякая деятельность — практика, в том числе научно-иссле
довательская, — развертывается в колее заранее незаметно уже приня
того решения; и Хайдеггер решительно против того, чтобы человек был
во власти решения, о котором он ничего не знает, но которым сам за
ранее определен. Решимость, философская воля к строгости, или четко
сти или чему угодно требует, чтобы человек, изучающий, или строящий,
или переделывающий мир, жизнь, а потому с головой ушедший в дело,
обязательно заметил, что заранее уже решил, что мир, жизнь это такие
вещи, которые можно схватить в целом, осмотреть со всех сторон, изу
чить, построить, перестроить. Люди этого не замечают, они настолько не
замечают, что они во власти заранее принятых решений, что приходит
ся спросить: ими ли вообще приняты те решения, которые они посто
янно выполняют? А как же иначе? Разве можно не действовать — спра
шивает практик, который так привык к своей слепоте, что принимает
116
5 МАРТА 1991
ее за ясный как солнце свет. Я не могу обобщать? спрашивает исследо
ватель. Что, не имею права? Кто мне запретит? — Кто вам сказал, что
можно обобщать? — Но так же делают всеу что, я разве хуже других?
Этим риторическим вопросом человек говорит о себе, и расписывается,
что решение, что мир это такая вещь (я вперемешку говорю жизнь, мир,
как одно, прошу, если кто обратил на это внимание, не пропускать ми
мо, отметить себе с недоумением или, может быть, с удовлетворением,
всё равно; о тождестве жизнь = мир нам еще придется говорить в отно
шении Хайдеггера) — решение, что мир и жизнь это такие вещи, кото
рые можно схватить в целом и что-то о них подумать и сказать в целом,
вообще принято — оказалось как-то принято — не только незаметно
для человека, ринувшегося в «жизнь» вот эту, которой он хочет жить, но
и не этим человеком, а может быть, и вовсе не человеком принято. И ес
ли мы не заметили даже, что оно принято и мы его уже только исполня
ем, то тем более мы и не знаем и никогда на таком — строя, переделы
вая жизнь — пути не узнаем, кем оно принято. Решимость Хайдеггера —
в том, чтобы не допускать, чтобы через человека действовали заранее и
незаметно и неизвестно кем принятые решения.
Жизнь должна быть — и живущим, и исследователем — схвачена в
целом, говорит Ясперс, целое не похоже на другие объекты, подлежит
не описанию и суждению, а переживанию и невыразимому ощущению.
Что переживаем и ощущаем, а высказать можем, то в широком смыс
ле мистическое, таинственное. Как целым всё территориально окруже
но, так и темпорально: как всякое движение духа начинается с мистиче
ских интуиции, тонкого неопределимого характера, так мистическими
прозрениями жизнь духа и кончается1
. В мистике, опыте целого, субъ
ект и объект сливаются, перестают быть отдельно. Оттуда, из мистиче
ской области и из мистического опыта, проливается свет, тоже не подда
ющийся определению, на всё предметное, отдельное. — Скажите, разве
на это можно что-то возразить? Чем-то, как-то это по содержанию от
личается от Хайдеггера, когда он говорит, что опыт всего, целого приот
крывается в настроении?
Нет. Содержательно здесь никакого отличия между Хайдеггером и
Ясперсом нет, и неинтересное дело —
μι κρολογία, крохоборство, которо
му место, говорит Аристотель, среди торговцев на рынке, было бы оты
скивать различия в концепции мистического. Совсем беспроигрышным
i.GA,Bd.9,S.20.
117
СЕМИНАР 1.11
и бесполезным делом заняты те критики Хайдеггера, которые говорят:
но посмотрите, у него все из Гуссерля, Макса Вебера, Шелера, Риккер-
та. А с какой стати Хайдеггеру было бы искать других содержаний. Он
никогда не говорил, что философия должна искать новых содержаний,
или быть изобретательной, или строить новые системы, или новые про
граммы исследования, или быть творческой. Совсем наоборот, никако
го творчества, никакого проектирования. Философия одно: деструкция
суждений (суждение это решение), чтобы увидеть одно, какие решения
уже незаметно приняты и кто их принял. Хайдеггер не будет — и с ка
кой стати начал бы — упрямствовать и говорить: неверно, что из мисти
ческой области проливается не поддающийся определению свет на всё
единичное, — проливается; неверно, что есть такие психические пере
живания, в которых раскол на субъекта и объекта или пока еще не на
ступил, или уже снят, есть конечно; неверно, что мистическое, область
духа, бесконечно, и из его светлой — потому что светящей — бесконеч
ности исходят направляющие силы для жизни, поступка, мысли, худо
жественного творчества, точнее сказать, могут исходить, все так; или не
верно, что в сфере субъекта-объекта единый свет мистического нача
ла расслаивается, начинается «раскол», а как же, разве не расслаивается;
или неверно, что именно поэтому, что вверху целое нерасколотое, в све
те его цельности психическое обнаруживает себя в неотменимой анти-
номичности; или неверно, что всё расколотое, всё движение, все акции
и реакции отпадают от целого, изначальной мистической цельности ин
туиции, и потом из раскола тяготеет к целому снова вернуться, с какой
стати говорить, что все неверно, что согласно говорит вся традиция ев
ропейской и мировой мысли, или говорить нарочно другое и новое; и
как это верно для духа в целом, так это верно и для исследователя духа, в
данном случае Ясперса, который тоже для себя знает в своем опыте целое
как ведущую идею и ту же ведущую идею обнаруживает во всей окру
жающей жизни; конечно, исследователь тоже, что всякий человек, тоже
ощущает целую жизнь как нечто единое, слитное, в целости своей еще
не расколотое, гармоническое, к чему, гармоническому, надо стремить
ся, чтобы его как-то восстановить, потому что в его свете только и мож
но видеть всё остальное. С какой стати с этим спорить или стараться во
что бы то ни стало говорить иное. Или с какой стати в этом сомневать
ся, что это обстоит не так, а по-другому. Если хотите, если вы захотите,
Хайдеггер всё это сам тоже может сказать, и даже прибавить. И ничего
другого не скажет. И если вычитывать содержание его мысли — это бу-
п8
5 МАРТА 1991
дет занятие, как пересказывать содержание «Мастера и Маргариты», —
то общие содержания мы и вычитаем, и скажем, что у него нет ничего,
чего не было бы у Гуссерля. Но задачу мысли он понимает не в том, что
бы традицию повторить или опровергнуть. Ясперс рассматривает, be
trachtet, мистическое гармоническое целое жизни. Для него естественно
так рассматривать, потому что он заранее уже стоит на хорошо извест
ной и распространенной в Европе последних двух столетий — или по
лутора — позиции эстетического созерцания. Это не плохо, эта позиция
не плохая, но не надо принимать ее за Богом данную, естественную, са
мо собой разумеющуюся: она исторически сложившаяся, и недавно сло
жившаяся, так что человек не очень успел сообразить, что с ним случи
лось, что заставило его встать в эстетическую позицию созерцания жиз
ни как целого. Решение как-то принято, и весь интерес Хайдеггера не
действовать дальше выполняя его, а спросить, кем, как, почему приня
то. Даже не о незамеченном «бессознательном» решении этого вот чело
века идет речь, а о решении, одном из решений, новоевропейского чело
вечества, поставившего перед собой предмет как предмет, и теперь вот,
в 20 веке, уже свою собственную жизнь как предмет. Биология. Парадок
сальная ситуация: вспомнить надо, кто принял, и как, это решение, при
том что человек его принял, так сказать, раньше, чем сам заметил, как он
это сделал. Он вдруг ринулся в этом направлении, предметного исследо
вания, и у него сразу оказалось слишком много дела на руках, чтобы он
теперь мог еще иметь время вспоминать, что его заставило вдруг взять
в руки так много дел, контролировать одновременно так много вещей.
Еще раз: эстетическая позиция созерцания жизни как целого не плохая,
вопрос совсем другой: какие должны были быть человечеством, челове
ком приняты — или за человечество приняты — незамеченные и всео-
пределяющие решения, чтобы до такого созерцания могло дойти дело,
до схватывания человеческой жизни как целого.
Не то что человек когда-то жил и воспринимал жизнь непосредствен
но, а потом согрешил и ее опредметил. Если бы было и так, к филосо
фии грех не имеет отношения. Ее дело только одно: какие именно реше
ния уже незаметно приняты и кем, а они всегда уже приняты, судя по
тому, что человек именно так действует на планете. Человек всегда го
ворит и делает. Он говорит и делает всегда по решению. Решение всег
да уже есть. Какое оно и чье? — Отсюда видно, между прочим, освобо
дительное в философии, она имеет отношение к свободе, к освобожде
нию человека.
119
СЕМИНАР 1.11
Установка Ясперса естественная только в том смысле, что она есте
ственно, без рассуждений, так сказать, впитана из воздуха эпохи. Роди
тели чувства цельности жизни, ближайшие, — это кантовское учение об
антиномиях мира с ведущим там понятием бесконечности — плюс кер-
гегоровское экзистенциальное, драматическое понятие абсолюта, очи
щенное от того, что в нем есть лютеранско-религиозного, богословско
го
1
. Эти две составные части ясперсовского подхода имеют еще свою
отдаленную родословную и укоренены в общей субъект-объектности
новоевропейского сознания. Ведь целое Ясперс определяет как снятие
субъект-объектного раскола, как его отрицание, значит не выходя из
субъект-объектного мышления.
Так обстоит дело с переживанием мистического целого. Оно само со
бой разумеется только пока я не спросил, почему оно мне нужно. Что
бы что? Ясперс отвечает: Потому что целое переживать — избавляет от
субъект-объектного раскола. Почему есть субъект-объектный раскол?
Почему я в него впал
7
. Почему мне надо от него избавиться
7
. Эти вопро
сы Ясперс не ставит
2
.
Теперь второе, о чем отчасти уже было. Заранее схватывая целое, чью
гармонию надо созерцать, Ясперс имеет шанс «достать» феномен экзи
стенции — или, наоборот, загораживает к нему доступ? Ясперс хочет
как можно прямее, непосредственнее взять феномен экзистенции, на
прямую в него всмотреться. Но единственный прямой путь к ней — это
обходный путь через собственную экзистенцию. «Прямо» он никакой
экзистенции не получит. Путь только через деструкцию, потому что вся
кая человеческая установка (теоретическая, практическая) никогда не
естественная, а уже — преструкция.
Это ключевое слово для понимания деструкции, и оно, кажется, толь
ко здесь, в рецензии на Ясперса, и только один раз, и во фразе, которая
содержит заодно определение экзистенции. Я переведу эту фразу не так,
как она сказалась бы по-русски, а буквально. Во всякой фактической
жизненной ситуации имеет место неустранимая Praestruktion der eige
nen Existenz, das heißt des Aufschießens und Offenhaltens des konkreten be-
kümmerungshaften Erwartungshorizonts, во всякой жизненной ситуации
есть «преструкция собственной экзистенции, то есть <далыпе дефини
ция экзистенции> размыкания и открытости конкретного горизонта
i.GA,Bd.9,S.27 .
2. Ibid., S. 22.
120
5 МАРТА 1991
озабоченного ожидания <теперь сказали бы вместо „ожидания" — „экс-
пектации">». Эк-зистенция, буквально выступание — это размыкание,
раскрытие и продолжающаяся открытость некоего горизонта, т. е. пре
дельно очерченного пространства — и самое важное пространства него:
пространства озабоченного, встревоженного, ожидания, надежды. Экзи
стенция в кратчайшем определении это Erwartung, ожидание-надежда,
которые одновременно и забота, т. е. ожидание заинтересованное, озабо
ченное, старающееся о своем исполнении. Мы читали раннее стихотво
рение Хайдеггера о весне, Wir wollen warten, где ожидание весны это, как
подсказал один из слушателей, упование, не как безразлично ждут по
езда, а как с надеждой ждут первой зелени, заботясь и как-то стараясь;
еще значение этого слова Warten — ухаживать, смотреть за ребенком.
Для заботиться-надеяться-стараться-ухаживать надо сделать шаг всем
своим существом, рискнуть, выступить. Эк-зистенция — такое вы-сту-
пание, выступление из-за ожидания-надежды-заботы, чтобы ожидаемое
пришло. Человек всегда так выступает, «простирается», если взять слово
из совсем другой сферы, из «Послания к Филиппийцам» апостола Пав
ла з, 13-14: «простираясь вперед, стремлюсь к цели», επεκτείνω, έκ-τείνω,
буквально вытягиваюсь, протягиваю (как руки); так же ex-sisto — бук
вально «выступаю», в том числе в смысле школьного жаргона выступаю,
возникаю, тоже и в смысле школьного жаргона, объявляюсь, оказыва
юсь, и через стертое значение «являюсь» в смысле «быть таким-то» —
«существую»; или, скорее всего, от «оказывается» с нашим смыслом «об
наруживается, что» — «имеет место», «существует», вплоть до позднего
философского значения существования — в средневековом противо
положении сущности, как бы сущность сначала в себе, сама по себе, а
потом она дает о себе знать, выступает, «возникает», существует. К той
«сущности» хайдеггеровская экзистенция не имеет отношения, она то
ожидание-надежда-забота, в которой всегда выступает, тем самым воз
никая, человеческое существо. А вот фактическая экзистенция всег
да преструктурирована, обладает преструкцией, исходной структурой,
но опять не в смысле расположения своих частей, а в том смысле, в ка
ком борец всегда ходит готовый опрокинуть противника или милици
онер — ответить на вызов нарушителя порядка, т. е. ожидание-надеж
да-забота заранее придает определенную «стойку» человеческому суще
ству, как и наоборот, заранее существующая стойка определяет характер
и нацеленность надежды-ожидания-заботы, т. е ., например, в силу сво
ей заранее готовой внешней и внутренней осанки надежда-ожидание-
121
СЕМИНАР I.И
забота милиционера нацелена на обнаружение, опознание, арест нару
шителя, а не, скажем, на оценку достоинства произведений искусства,
выставленных на Арбате, и милиционер не очень хорошо понимает, как
можно идти по улице, тщательно высматривая в лицах черточки време
ни, как будет делать художник; оба, милиционер и художник, много за
мечают, один постоянно нарушителей, другой, скажем, удивительное со
четание повторяемости и разнообразия в человеческих лицах, но оба
очень по-разному замечают эту свою предрасположенность, у одного к
одному, у другого к другому, свою фактическую, самую свою «собствен
ную» «преструкцию». Пред-расположенность, преструкция подлежит
де-струкции не в смысле разрушения, а в смысле разбора, как мы раз
бираем очень мелкий шрифт: не можем читать, надо постараться разо
брать, что там написано. Преструкция, исходная предрасположенность
записана в человеческом существе очень мелким шрифтом, ее очень
трудно разобрать, гораздо легче действовать в соответствии с ней, по
тому что она заставляет действовать. И кто-нибудь скажет: зачем про
читывать, разбирать предрасположенность художника, пусть он следу
ет ей и пишет, или милиционера, пусть он хватает нарушителя, и тут мы
ошибемся: для хорошего художника и для хорошего охранителя поряд
ка и самое важное, и самое захватывающее, и самое практически нуж
ное — понять, осмыслить свою «преструкцию», предрасположенность.
Тут, между прочим, причина, почему, скажем, поэт так много говорит о
поэзии; или больше: почему он большей частью говорит и думает о поэ
зии; или еще больше: почему он только и говорит и думает, что о поэзии,
и так должно быть. Прямо заставить поэта писать о предмете, дав ему те
му, воспевать что-нибудь, скажем милицию, значит заведомо загубить
его и тему. Он придет к ней только — если придет — обратится снача
ла к своей, как раньше говорилось, музе. Поэт по существу только всегда
и занят тем, что Хайдеггер тогда в 1920 году называл де-струкцией, раз
бором, своей преструкции, поэтической предрасположенности. — Это
долгая тема и не хочется ее сейчас комкать.
Прямо глядя на экзистенцию философ никакой экзистенции не полу
чит. Экзистенция такой модус бытия, ожидание-надежда-забота, кото
рый мне никогда не чужой, и в обоих смыслах: я не могу его наблюдать,
потому что сам занят им, этим способом бытия, это во-первых; и во-вто
рых, экзистенция другого, если я могу к ней прикоснуться, и это удается
в редчайших случаях, когда человек мне очень близок и я уже не смотрю
на него со стороны, а его ожидание-надежда-забота как бы мои, — вот в
122
5 МАРТА 1991
этом случае экзистенция другого прямо меня задевает и я опять не мо
гу глядеть на нее со стороны, ею так или иначе затронуто мое ожидание,
она вмешивается в мою экзистенцию, пересекается, переплетается с мо
ей. Позднее Хайдеггер скажет: Dasein ist je meiniges, присутствие — при
сутствие человеческого существа, присутствие как человеческое суще
ство — всегда мое, всегда задевает меня; и здесь, между прочим, насто
ящая основа человеческого общества, не интересы, не общественный
договор, но это опять слишком серьезная тема, чтобы ее здесь ком
кать; я говорил об этом два года назад в курсе под названием «Мир»*.
Наблюдать поэтому экзистенцию нельзя, как нельзя остановиться в
дурной бесконечности ступеней рефлексии: экзистенция будет в самом
наблюдении, в наблюдении наблюдения и так далее. Я не могу на нее по
смотреть со стороны, потому что как раз и «выступаю» в такое смотре
ние. Экзистенция всегда и есть мое «простирание» сейчас. Личность, ко
торую я строю, и мое «Я», которое я ищу как отличающее меня от дру
гих, далеки от моей экзистенции так же, как любой внешний предмет,
как далекая звезда. Экзистенция дело не моей личности и моего Я: она
мое дело, моя забота, не так, что я забочусь об экзистенции, как забо
чусь, чтобы у меня была развитая личность, а моя озабоченность, значит
и ожидание, значит и надежда, значит и усилие — и есть экзистенция,
«выступание», простирание. Экзистенция меня всегда заранее уже заде
ла, задействовала, задала мне дело, и будь я теоретик из теоретиков и да
лек от забот, моя настоящая экзистенция не столько в теоретизирова
нии, сколько в озабоченности тем, чтобы оставаться теоретиком и быть
свободным от забот.
В экзистенции отношение меня ко мне уникально, оно каждый раз
ровно такое, какое есть, но опасным образом одноразовое и непопра
вимое, я не могу его проконтролировать и скорректировать заранее:
объект контроля перестанет быть экзистенцией, ею будет акт контро
ля. Расчертить, спланировать, запрограммировать свою заботу-надежду
я не могу, по той же причине, из-за той же невозможности, о которой я
уже говорил по поводу бесконечной рефлексии. Я не могу себе велеть,
на что надеяться и о чем заботиться. Всякие попытки поместить экзи
стенцию в «жизненный поток», «поток сознания», «преемственность
опыта», «целое жизненного процесса» или как еще — гасит экзистен
цию, из нее выбрасывает.
И стало быть никакой границы и пограничной ситуации у экзистен
ции нет. Она не реакция на пограничные ситуации. Никак система-
123
СЕМИНАР I.И
тизировать, ни в какие предметные рамки экзистенцию ввести нель
зя, она исторична, потому что каждый раз такая, какая «оказывается»
(ex-sisto — оказываюсь). «Отсюда возникает необходимость радикаль
ного подозрения <и соответствующего выслеживания-преследования,
Verfolgung> против всех регионально объективирующих схем (Vorgrif
fe), против возникающих отсюда концептуальных контекстов и про
тив разнообразных способов такого возникновения»
1
. Экзистенция это
строго фактический, мой собственный, здесь и теперь переживаемый,
в этой духовно-исторической ситуации осуществленный жизненный
опыт. Фактический жизненный опыт, в котором тем или другим обра
зом я «себя имею», — не область, в которой я нахожусь, не общее, част
ным случаем чего я бываю, а то, как в моей сейчасной заботе о том, что
бы осуществиться, я на самом деле осуществился. Историческое по
нимается как необратимо случившееся. — Попутное, не очень важное
замечание: вы знаете, что Хайдеггер всегда отличает собственно исто
рию как событие, Geschichte, от рассказа, историографии, Historie, объ
ективирующего, усредняющего представления, обобщения, скрадываю
щего уникальность события. То же принципиальное различение здесь, в
1921 году, но термины употребляются наоборот, чем будет потом: Histo
rie как событие, Geschichte как объективирующая теория. Т . е. принци
пиальное различение у Хайдеггера — вначале, слова постепенно укла
дываются, как им удобнее, и могут иногда, как в этом случае, прямо по
меняться местами. Когда слова улеглись, как хотели, в них открываются
неожиданные смыслы, а до того так не было. Но вовсе не так, что из сло
ва извлекается знание. Скорее, мысль уверяется, что в ней что-то есть,
между прочим, еще и видя, что как вещь перед ней раскрывается, так и
слово. Просвечивается вещь, и оказывается бездонным слово. — Точно
так же о заботе, в которую выступает экзистенция, Хайдеггер сейчас, в
рецензии, говорит еще другим словом, чем будет говорить через шесть
лет в «Бытии и времени», не словом Sorge, а словом Bekümmerung, то
же забота, но ближе к огорчению, печали, тревоге, тяготе, к кресту, ко
торый каждый человек должен нести на себе. Опять окажется, что дру
гому слову на этом месте станет удобнее, более простому обиходному
Sorge, но раньше на этом месте стояло более сложное, имеющее поэти
ческую окраску и, может быть, более близкое к христианскому кресту.
Мы это запомним, когда будем говорить о заботе, Sorge. — И еще. (Поче-
1.GA,Bd.9,S.зо.
124
5 МАРТА 1991
му напрашиваются замечания об этом изменении словаря. Потому что в
этой рецензии все главные темы «Бытия и времени» уже прочерчены, до
деталей, как, например, уже здесь прошедшее, настоящее, будущее пони
маются не как объективные моменты структуры времени, а как проек
ция опыта озабоченного самоосуществления, отнесены к этому опыту,
из него прочитываются; и поскольку вообще Средневековье очень за
метно присутствует в мысли тридцатилетнего Хайдеггера, автора рабо
ты о Дунсе Скоте, сравнительно недавнего теолога, восторгавшегося Лю
тером и Августином, то здесь, в рецензии, прозрачнее августиновское в
этой концепции времени; ведь у Августина прошедшее, настоящее и бу
дущее — тоже не части объективно вне нас существующей временной
структуры, а понимаются исходя из осуществления человеком замысла,
в августиновском примере — замысла пропеть песню; и при античной
многозначительности, Августин ведь христианская античность, и гово
ря одно, он сразу говорит еще и другое, можно под песней понимать ту
песню, какою должна стать история всего человечества, и песня есть це
лое и поется как целое, но поскольку поется, оказывается, что какие-то
части ее уже пропеты, в прошлом, другие поются сейчас, третьи пред
стоят; они появляются потому, что надо осуществить замысел; то же в
сущности у Хайдеггера. Мы это тоже запомним.) Но, я говорю, вот еще
о хайдеггеровском словаре. Здесь, почти во всей рецензии он обходит
ся без прославленного впоследствии Dasein, обходится вместо Dasein и
на его месте словом das Selbst «самость», в том же точно смысле, почти в
тех же формулах
1
. Dasein встало потом, через 5 лет, на место «самости»
потому, что в «Бытии и времени», «Sein und Zeit» очень уместно бы
ло взять для обозначения человеческого существа это припасенное не
мецким языком слово Dasein, существование, бытиё, буквально — кон
кретное вот это бытие, бытие этого «вот». Для вещи, которая уже была,
названа словом «самость», удобнее подошло другое слово — и кстати
оказалось бездонным, как всегда бывает со словом, когда есть вещь. Что
же, вещь сначала, за ней слово? Всё-таки не так, что неважно какое сло
во, раз вещь есть. Вещь не извлечь, если не будет для нее слова, такого же
бездонного, как она. Мы условно говорим о «подборе» слов, но ведь сей
час мы можем в раннем Хайдеггере угадать вещи, те же самые, которые
будут и в позднем, только потому, что есть поздний, который их назвал,
тем неповторимым образом. Потому и вещи узнаются в своей уникаль-
1. Ibid., S.32.
125
СЕМИНАР 1.11
ности. Читающий человек прав, когда удивляется: как же так, я ведь чув
ствую, знаю то же, что пишущий? Действительно, пишущий имел дело с
теми же вещами, с какими все; но он на-звал их (так что они пришли),
как другие не умели, или, может быть, не решились: страшно иметь де
ло с самими вещами.
В целом, я сказал, это не очень важные замечания, разве что мы нахо
дились в том заблуждении, что думали, будто Хайдеггер занят тоже, как
большинство пишущих, гаданием на словах.
Как переводить в таком случае? Какие выводы для перевода? Мож
но, конечно, перерисовывать через копирку: Dasein, бытие-вот, тем бо
лее, что Хайдеггер сам подсказывал, как это передать по-французски:
être-le-là, бытие-в-качестве -вот . Можно переводить Dasein «существо
вание». Интереснее не успокаиваться на каком-то «варианте», а пы
таться понять: почему он от «самости» в рецензии скользнул к Dase
in в «Бытии и времени» и почему потом, позднее Dasein, это слово, ему
стало не нужно? В «Бытии и времени» он был еще привязан если уже
не к понятию «личности», которое ему очень рано показалось подо
зрительным и пустым и было отброшено, то к традиционным «чело
век», «я», «самость»; но и одновременно надо было продумать насквозь
эти преструкциЫу в которых сам человек уже принимает какую-то позу
уже тем, что называет себя «я», «самость»: разумного творческого жи
вого существа, индивидуальности и т. д . Надо было дойти до простей
шего существа человека, там светило просто 6ытиёу и язык напомнил,
что человек ведь так именно и называет, случайности тут не может
быть, — язык мудр, он отстаивался, оседал тысячелетиями, как тыся
челетнее вино — самую свою суть: Dasein моё бытиё, мое существо
вание, мое присутствие, как проповедник может сказать в храме: «За
ботьтесь о том, чтобы не словами только, а самим своим присутстви
ем распространять правду Евангелия». Язык откликается, и еще как, на
мысль о том, что в самом своем существе человек имеет прямое отно
шение к бытию, что в его жизни дело идет о бытии. «Бытие и время» —
это попытка идти, когда одна нога еще привязана, привязана к тради
ции новоевропейских представлений о человеке. Потом окажется, что
и нет вообще надобности говорить о человеке, и соответственно да
вать ему особое имя, как образованию около бытия, по поводу бытия,
при бытии. Прояснится, что в человеке ровно столько существа, сколь
ко в нем события, которое и дарит, наделяет его и индивидуальнос
тью, — и язык снова откликнется, потому что в немецком слове Ereig-
126
5 МАРТА 1991
nis, событие, оказывается, слышится этимологически, из истории слова,
и «появление», «возникновение», и индивидуальность, — как, между
прочим, и в русском «событии», потому что, что сбывается, то прихо
дит к своему собственному существу.
Это длинное отступление по поводу того, что в рецензии у Хайдегге-
ра слова Historie и Geschichte употребляются прямо наоборот, чем будет
через пять лет, для обозначения событий, как они есть, с одной сторо
ны, и более или менее подрисованной картинки исторического процес
са, с другой стороны. Опять кстати о переводе, можно ли тогда позднюю,
событийную Geschichte передавать словом «история»? Вопрос теряет
смысл, если помнить, что сам Хайдеггер так делал в 1920 году. Лишь бы
не потерялся смысл различения, которое у него одно и то же останется,
хотя слова поменяются местами.
Я замечаю, что чтение раннего Хайдеггера хорошая подготовка к «Бы
тию и времени», снимает возможную путаницу и фантазии. Но мы еще
не сразу перейдем к этому главному произведению после рецензии на
Ясперса 1926 года, а сначала посмотрим два ранних курса лекций 1921-
1925 годов. — С рецензией, однако, еще не всё.
Забота каждый раз такая, какая она есть сейчас. Внешне забота мо
жет казаться совсем другой, чем на самом деле; кассир озабоченно счи
тает деньги, нам кажется — в заботе не ошибиться при счете, на са
мом деле — в заботе о том, чтобы «сошлось». Может казаться, что за
бот нет; но мы не видим всепоглощающую заботу беззаботного о том,
чтобы «не принимать близко к сердцу». Озабоченность постоянно но
вая, без того, чтобы человек старался о новизне: она обновляется в нем.
В тяжеловесной, угловатой манере своей молодости Хайдеггер говорит о
Bekümmerungserneuerung, обновлении заботы.
Как забота каждый раз та, которая сейчас у человека, «фактически»,
так совесть — понятая не как инстанция внутри личности, а как голос,
весть — всегда говорит разное и свое, опять же говорит то, что каждый
раз фактически говорит, и нет смысла обобщать то, что она говорит, в
«понятии» совесть; совесть не понятие; задача не сформулировать, что
она такое, а первая и по существу единственная задача — расслышать,
что она говорит. Как к экзистенции, заботе-надежде, так к совести объ
ективирующее, опредмечивающее отношение будет ложью, загоражива
ющей доступ к тому, что она такое в своем существе. Она в своем суще
стве то, что она каждый раз, и сейчас вот тоже, говорит нам, тут мы ее
схватываем.
127
СЕМИНАР I.И
Я, кажется, пропустил очень важное о заботе или немного сказал, но
надо сказать еще. Забота не производное дела, — мне поручили купить
цветы, я забочусь, чтобы они были получше и подешевле. Забота бы
ла раньше поручения причиной, почему я принял поручение; забота не
отождествилась с поручением, не вошла целиком в него как в свою фор
му, потому что я продолжаю заботиться о том, что мне дают слишком
мало или слишком много подобных поручений и что я по своим способ
ностям не на уровне или выше уровня таких поручений; забота не кон
чится с исполнением поручения и продолжится в виде опасений, что не
все заметили, как отлично я выполнил поручение, или все заметили, как
я скверно с ним справился. Не забота появляется от того что у меня на
руках дело, а наоборот: у меня на руках всегда дело, потому что еще рань
ше того была забота. Не дело источник заботы, а наоборот. Об источни
ке заботы нужно будет говорить больше, потому что тут главная при
чина непонимания «Бытия и времени», но пока нужно не упускать из
виду хотя бы это: забота то же, что экзистенция, выступание, возника-
ние, простирание; почему человек таков, что всегда «простирается», это
важный вопрос, но явно не потому, что ему поручили или он взял на се
бя дело.
«Дело» заслоняет нам глаза, собственно феномен экзистенции, непре
менного выступания человека мы не видим, смысл совести как истори
ческого факта не видим — что это всегда что-то, и не просто что-то,
а главное, что происходит с нами, наша первая забота. От конкретной
фактичности — от того, что забота нас «гложет» (возможная этимоло
гия русского слова), что совесть нас «колет» — мы отпадаем в махина
ции и манипуляции с предметами, и сами себя опредмечиваем, ищем
в себе «личность», «человека», хорошего, конечно, человека, воплоще
ние идеального человека, или пытаемся оформить, вылепить себя в лич
ность — всё это способы отвернуться от экзистенции, как способ отвер
нуться от нее — «рассматривать» ее прямо как непосредственный пред
мет исследования. «Но посмотрим же наконец непредвзято, что это в
конце концов такое, человек, человеческое существование» — это самый
верный способ не увидеть. Ясперсовская метода верна его схеме предме
та (дух как стремление к целому, жизнь внутри пограничных ситуаций
и так далее), но работает против его тенденции, намерения, а он намере
вался увидеть феномены экзистенции.
Вдруг на последних страницах рецензии появляется, рождается то
самое хайдеггеровское Dasein, которому предстоит такая долгая и труд-
128
5 МАРТА 1991
ная жизнь, и мы видим как рождается, пока еще только наполовину, не
до конца, из оборота речи Ясперса. Этот термин, Dasein, возник здесь и
взят у Ясперса. Ясперс цитируется: он хочет рассмотреть жизнь в целом,
«для всякого рассмотрения предметом является только то, что по насто
ящий момент налицо, da ist»
1
(развернутая форма Dasein, «вот есть», «да
но», «есть как данность»). Смотри на данность, какою она сложилась на
данный момент, — увидишь предмет, жизнь. Не надо ничего изобретать,
придумывать, гляди и понимай, что она, жизнь, такое. Dasein, данность,
имеющееся бытие. Упущено важное: поза исследователя тоже данность,
тоже имеющееся бытие. Хоть шаг разве исследовательное понимание
данности может сделать, не включая понимаемое в свою, исследователя,
данность? Не окрашивая? А она исторична, не в том внешнем смысле,
что имеет место в 1919 году, а в смысле поступка. Наша исследователь
ская забота тоже da ist, тоже Dasein, тоже налицо, только увидеть ее как
предмет мы не можем, мы, так сказать, вместе с ней движемся, не можем
ее опередить. Dasein, данность, должна включить тогда и этот смысл,
приобрести стало быть новый смысл, полный — когда человек и на се
бя оглянулся и свою заботу (скажем, заботу о том, чтобы увидеть всю
данность) увидел тоже как данность. Такой взгляд на себя не то же, что
рефлексия, он противоположен рефлексии, возвращает меня из дурной
бесконечности рефлексии. Простой пример: я ехал по военной бетон
ке за молоком в дальнюю деревню, слева шла добыча леса, явно немно
го вороватая, чуть дальше прокладывали газовые трубы, явно кое-как
и ненадолго; у дороги стоял автобус, привезший рабочих и ожидающий
их увезти. Вот Россия, подумал я. Потом вдруг неожиданно подумал: и
я, спешащий по бетонке за молоком, чтобы успеть потом на семинар в
Институте философии, опаздывающий, принимающий свою спешку как
знак, что всё лишнее в своем будущем говорении надо отбросить, тре
вожащийся, как бы молоко было, думающий о России, — тоже Россия.
Я как бы вернулся из нигде, ниоткуда, из темноты, где я сидел в заса
де и наблюдал — в принадлежность той вещи, России, которую я видел
только что как наблюдаемое, как предмет и которая тут же, с включени
ем меня в нее, предметом быть перестала. Это не рефлексивный акт, это
труднее: включить и себя тоже в данность. — Хайдеггер тут вводит в то
Dasein, подхваченное из текста Ясперса, и тут же на месте вдруг вырос
шее в другое — включает в наличное бытие и мою сейчасную заботу-на -
1.GA,Bd.9,S.з8.
9-2015
129
СЕМИНАР 1.11
деждуу мое простирание, или интенцию, или тенденцию: мою эк-зистен -
цию, выступание, возникновение (опять в смысле школьного жаргона,
как одергивают «не возникай»). Понадобится еще шаг, чтобы — позд
нее — осмыслить и вторую половину слова Da-sein, «бытие», тогда Da
sein будет «данность бытия», настоящего, исторического, моего.
Последние фразы рецензии: Ясперс впадает в самообман, если он ду
мает, будто в простом рассматривании достигается как раз высшая ме
ра невторжения в область личностных решений. От навязывания како
го-то определенного мировоззрения читателю он действительно воздер
живается, но этим демонстративным воздержанием он внушает думать,
что его схема предмета — жизнь как целое, ее границы пограничные си
туации и т. д . — и е го м етод «непосредственного наблюдения» есть что-
то само собой разумеющееся, невинное, непосредственное
1
. Ясперс
еще не проснулся от всего лишь научного подхода, объективности, вы
ше объективности пока ничего не знает, к философскому подходу, более
строгому, чем научный, потому что требующему всегда проверять, чем
обеспечена объективность — она обеспечена всегда только человеком,
вот этим, временным, историческим, скованным традицией. «К вещам
философии всегда принадлежит среди прочего сам философствующий
во всей его жалкой нищете»
2
. Мало объективного наблюдения, надо пу
ститься в «бесконечный процесс» радикального спрашивания, которое
само себя держит под вопросом. Процесс бесконечный, потому что я
никогда не смогу сказать: а, вот в чем смысл моей экзистенции!
И мало этого разгрома; хорошо, что Ясперс не дочитал рецензию.
В конце ее «Приложение», где ему рекомендуется всё переработать,
убрать всё введение или переписать заново, сказано как именно, главу
III переставить в начало, а лучше разбить пополам и вклинить в нее гла
вы I и II; говорить не о «понимающей психологии», как делает Ясперс, а
о «конструктивной психологии»; до «понимания», до проблемы понима
ния и его прояснения еще так далеко, что она намеренно не поднята да
же в рецензии, и нельзя ее еще поднять, пока проблема исторического, о
которой в рецензии сказано, но мало, не будет схвачена в корне и не по
ставлена в центр философской проблематики. Это программа действий
для обоих — если Ясперс откликнется. Он не откликнулся.
Понимание и история. Это главные темы «Бытия и времени».
ι. GAyBd.9,S.42.
2. Ibid .
130
5 МАРТА 1991
Осенью этого 1921 г., когда отослана Ясперсу рецензия, Хайдеггер объ
являет — он после защиты диссертации о Дунсе Скоте имеет право пре
подавать, он доцент, приват-доцент, потому что еще не имеет кафедры и
профессорской ставки, и живет на деньги, которые за каждую лекцию
платят приходящие на нее студенты; он, конечно, кроме того ассистент
профессора Гуссерля, при его кафедре, и там тоже имеет какую-то став
ку—в этом статусе, ассистента Гуссерля и приват-доцента, объявляет
на зимний семестр, с октября 1921 по июль 1922, курс «Феноменологи
ческие интерпретации. Введение в феноменологическое исследование»,
два часа в неделю. На доске объявлений было написано просто: «Фено
менологические интерпретации (Аристотель)». Сохранилась рукопись,
которую издателям удалось расшифровать (трудный почерк), хотя и не
целиком. То, что написано стенографией, чистосердечно признаются из
датели, прочесть они не сумели.
Он выходит на кафедру и говорит.
Наша тема Аристотель и рецепция Аристотеля. Эта тема как будто бы
из истории философии. Что такое история философии? Историко-фи
лософским рассмотрением называется исследование той или иной про
шлой философии, стало быть, в данном случае аристотелевской.
Первое, что надо тут иметь в виду. История (Geschichte, картина, рас
сказ, историография, продолжается еще словоупотребление прямо нао
борот тому, которое будет через пять лет) философии всегда рассматри
валась и исследовалась внутри и исходя из некоторого определенного
воспитательно-образовательного сознания. Сегодня господствует типи
зирующая история гуманитарных предметов. По какому образцу стро
ятся эти типы, особый вопрос. Типизирующая история философии по
нимает себя как строгое исследование фактов, внутри определенного
способа установления фактов и подразумевания под ними соответству
ющей сути, соответствующего смысла. Для этого «точного» исследова
ния всё остальное приравнивается к болтовне, даже и сама попытка по
нять само такое исследование в его обусловленности и существующей
ситуации. Философию при этом рассматривают в одном ряду с наукой,
искусством, религией и так далее. Тем самым философия заранее берет
ся, опережающим образом содержательно определяется как историче
ски объективная, с объективными и объектообразными отношениями
и свойствами.
Второе. Историческое (собственно происходящее, событийное) в фи
лософии может быть схвачено только в самом философствовании (я по-
9*
131
СЕМИНАР 1.11
неволе перевожу две противоположных вещи одним и тем же словом,
потому что в русском нет двух способов сказать «история», как в немец
ком; мне приходится в скобках пояснять).
Т. е. пусть историографы вглядываются в «предмет» философии и во
ображают, что «имеют» его. Они его имеют ровно в той мере, насколько
в их вглядывании есть философии, философствования как поступка, не
больше; всё другое, что они называют «философией», вообще неизвест
но что такое, неведомо какой статус имеет, неведомо кому нужно, неве
домо зачем существует.
«Философия есть историческое... познание фактической жизни»
1
.
Снова нам подчеркивают, что с головой уйдя в философские предме
ты, мы можем оказаться и не в философии, и вообще нигде. Снова напо
минают, что мы исторические существа. Что же это за одна мысль, ко
торую имел Хайдеггер или которая им владела? Или надо уж спросить
вообще что такое мысль? Или это неправильный вопрос? Правда, у Хай-
деггера есть книга, под названием «Что называется мыслью». Но Хай
деггер не хочет там сказать, что такое мысль: мысль есть вот это (дефи
ниция). Он спрашивается, что на-зывается мыслью, приглашается ею,
зазывается к приходу — может быть, против нашего намерения и даже
желания, просто потому, что мысль, раз человек в нее пустился, на-зы -
вает, как называют гостей, многое. Сумасшедшая догадка: может быть,
мысль на-зывает историю? Я говорю: сумасшедшая, а сам тут же вспо
минаю, что существо и источник времени у Аристотеля — изменение
мысли, наше изменение в мысли, μεταβάλλειν την διάνοιαν: то же слово,
что в евангельском μετάνοια, перемена мысли, что переводится обычно
как «раскаяние», «покаяние». Как Иоанн Креститель возглашал в пусты
не Иудеи и говорил: «Переменитесь мыслью; потому что приблизилось
царство небесное». — Переменитесь мыслью не значит здесь, вы думали
об одном, теперь думайте о другом. Скорее: имейте другую мысль, дру
гой ум. Я это сказал не для того, чтобы объявить Хайдеггера современ
ным Иоанном Предтечей. Я просто хочу обратить ваше внимание, что
не он один угадывает трудное и загадочное отношение мысли к исто
рии. Не к истории мысли.
ι. GA, Bd. 6i,S. 2.
1.12
12.3 .1991
Продолжение: Phänomenologische Interpretationen zu Aristoteles. Einfuh-
rung in die phänomenologische Forschung. Курс зимнего семестра 1921/22,
Фрейбург. Присоединяется к обычному представлению: философия воз
никла у греческого народа в у веке до Р. X., родилась из «жизненного кон
текста духовно-исторического развития греческого народа»
1
,иэтораз
витие затем перелилось, перетекло (как воды реки из одного русла в
другой) в историю христианства и продолжилось в философиях хри
стианского запада Средневековья и Нового времени — т. е. Новое время,
время десакрализации, это тоже христианское время, я тут позволяю
себе немного истолковывать, развертывать Хайдеггера, впрочем, отве
чая за соответствие его мысли; потому что и борьба против христиан
ства всё еще принадлежит, и отход, и отказ от христианства все еще при
надлежат христианству; и в каком смысле «вливается» духовная история
греческого народа в историю христианства, именно в аспекте фило
софии: в силу мало замечаемой стороны дела, вот какой. Философские
школы, начиная с первых, пифагорейства, и кончая стоицизмом, всегда
были расположены к тому, чтобы стать образом жизни общины, стремя
щейся к добру не только для себя, но и для всех людей и для природы —
в отличие, конечно, от государственного образования (полиса), который
стремится к своему добру, отчасти, ради плодородия полей например, к
добру природы, но не к добру любых людей. В христианстве есть сторона
продолжения философской общины. Эллинистическая философия, пла
тонизм, стоицизм, приняла христианство как истинную философию и
собой наполнила его; в четвертый век, огосударствления христианства,
христианство как соединилось с государством, так оно соединилось с
философией эпохи, неоплатонизмом. Если рассматривать христианство
как философскую общину, эта сторона в нем есть, то оно — осуществле
ние замысла пифагорейской общины, сохранение и сбережение тради
ции философской жизни, общинной, от ослабления, разрушения, разо
рения, как была разорена пифагорейская община. Что философия гре
ческая «впадает» (einmündete) в христианство, это раннее христианство
ι. GA, Bd. 6i,S. 2.
133
СЕМИНАР 1.12
без комплексов признает. «Наша философия», «христианская филосо
фия» — это у Иустина Философа, у Татиана, тоже раннего, 2 век, христи
анского апологета, у Евсевия Кесарийского, раннего историка ранней
церкви, у Евагрия Понтийского, это 4 век, т. е. вовсе не только во време
на ранние Климента Александрийского и Оригена, для которых истин
ная философия — это христианство, христианство — это истинная фи
лософия. То же у таких разных, проповедника и мистика, Златоуста и Ди
онисия. И как истинная философия христианство противопоставляется
спорной философии светской, она лучше всякой человеческой филосо
фии, потому что учитель Христос: разбирая с самим собой слова Хри
ста, в них нашел единственную надежную философию Иустин Фило
соф \ И это очень частое обозначение христианства: философия свыше,
святая философия, истинная философия. И это, заметьте, еще не то зна
чение, не в том более «житейском» смысле философия, какая обознача
ла добродетельную жизнь, а именно христианство воспринималось как
философская система, как у Евсевия Кесарийского ясно: христианство,
никакое вам не эллинство, не иудейство, но нечто посреди них (эллин-
ства и иудейства!), некая более древняя (изначальная) философия, но
только преподанная всем людям недавно
2
. — А в значении добродете
ли, добродетельной жизни христианской философия широко употре
блялась и на Руси тоже. Философия в этом устоявшемся христианском
контексте означает и христианство, христианское учение и жизнь по не
му вообще, так и особенно внутри христианства духовная жизнь, аске
тическая, как Златоуст, и не он один, конечно, говорит о «сияющей фи
лософии монахов»
3
. Когда Дионисий Ареопагит4 тоже говорит о «фило
софии монахов», то фраза идет так, что ее можно прочесть и на языке
Евангелия, и на языке Плотина: философия «совершается», ενεργούμενη
действует, вернее, вводится в действие «в знании, или науке, единящих
заповедей», и о единении Сына с Отцом и всех через Сына и с Сыном и
Отцом, конечно, говорит Евангелие от Иоанна, но сам термин ενοποιός
единящий — один из главных в неоплатонизме, приводит с собой обя
зательно весь контекст плотиновского восхождения единого (тот же ко
рень, что в слове монах) к Единому, и не евангельский. Нил из Анкиры,
ι. PG [Patrologiae cursus computus. Series graecay ed. J . P. Migne, Paris, 1857-1866], 6,
468 С
2. Евсевий Кесарийский, Прояснение Евангелия I,2 (PG, 22,25 А).
3. Иоанн Златоуст, Гомилия 6, з на I Кор. (PG, ю, 48 А).
4- Дионисий Ареопагит, Церковная иерархия з, 2 (PG, з> 533 D)·
134
12 МАРТА 1991
писавший в основном для своих монахов (он ученик Златоуста, ум. ок .
430, святой), в «Упражнениях монашеской жизни»
1
, называет монаха
философом, и это можно считать установившимся словоупотреблени
ем, для себя подставлять вместо «философ» — «монах», но первое свой
ство такого «философа» у учителя монашества — именно философское,
философ должен быть «прежде всего свободным, и больше всего бежать
рабства у страстей; или он должен быть выкупленным» (в нравственном
смысле). Так сказала бы о философе и вся классическая греческая тра
диция. — Вернемся к Хайдеггеру: духовно-историческое развитие гре
ческого народа «впадает» в историю христианства. Христианство в уче
нии, в добродетельной практике и в том, что не поддается определению,
в прямом сыновстве — наследник греческой философии. Невежествен
ное чванство тех, кому удобнее по их духовной мизерабельности быть
без наследия, наследие обязывает ко многому, и кто считает «языческую
философию» греховным «мудрованием», есть такое слово, а христиан
ство все то прежнее сломавшим — это грустное недоразумение.
И христианское Новое время — потомок как бы той же семьи, у не
го и право, и долг продолжать семейную традицию, т. е. греческую, а за
нятие другими философиями — это большей частью дилетантизм, более
или менее честный, и повод для всяческой интеллектуальной грязи. Сна
чала в своем доме. Но главное: занятия философией это занятия филосо
фией, собственно философия, т. е . ι) радикальность вопросов, г) искание
конкретных ответов, исследование — только здесь, в этой философии.
В отношении других, скажем восточных философий остается неуверен
ность, что их вопросы принципиальные, доходящие и до тех оснований,
на которых стоят, из которых философствуют. — Здесь в 1921 году это у
Хайдеггера можно понять так, что у Запада есть орган, которого у Вос
тока нет. Позднее, особенно в диалоге «Беседа с японцем о языке»*, Хай-
деггер покажет, что Восток для него не «хуже» Запада и ненужность за
ниматься мудростью востока примерно такая же, мне приходит в го
лову такое сравнение, как для мужчины не нужно пытаться делать дело
женщины и, может быть, не нужно даже понимать женщину, это не обя
зательно должно быть возможно, но от этого она не менее равна, и чело
веку, человечеству нечего надеяться на полноту, если нет общения двух
его половин. А свой долг выполнить Запад, или в моем сравнении муж
чина, наоборот, обязан.
1.1 (PG, 79,720 В).
135
СЕМИНАР 1.12
Вторая часть начала хайдеггеровского курса, который мы читаем, на
зывается — она недлинная — «Рецепция аристотелевской философии»,
и она замечательна тем, что Хайдеггер в главных чертах прочерчива
ет тут историю Аристотеля на Западе, как бы картину его движения во
времени, и в конце пририсовывает на этой картине себя. О «впадении»
греческого духовного мира в христианство уже говорилось. Это «греци-
зация» христианского жизнеощущения, происходившая с первого, ран
него христианства, которое развернулось в мире, чья жизнь с важной
стороны воплощения, выражения своего самопонимания определялась в
немалой мере греческим истолкованием бытия и греческой понятийной
системой. У апостола Павла, у других апостолов и особенно в эпоху «па
тристики», Хайдеггер берет это слово в кавычки и неплохо делает уже
хотя бы для того, чтобы мы задумались, чему учили учители Церкви,
которые все без исключения, — в отношении отцов-пустынников и ли
тургических поэтов еще можно считать по-всякому, но тут нет, — при
надлежали греческой культуре и ее ценили, и не надо сразу наполнять
ся благочестивым негодованием, если Андрей Белый говорит, что через
Августина неоплатонизм широким потоком влился в христианизиро
ванный мир, а Сергей Сергеевич Хоружий — что Дионисий Ареопагит
это философ-неоплатоник .
Обновление этой «грецизации» продолжалось в Средневековье, и на
нее уже наложилась рецепция Аристотеля, очень интенсивная, в схола
стике, начиная с ранней, у Боэция, который намеревался перевести все
го Аристотеля на латынь и прокомментировать, до высокой схоластики,
13 века, Фома Аквинский, Дуне Скот, другой Боэций, Датский; весь 13 век
был аристотелизмом. Этот решающий духовно-исторический процесс,
говорит Хайдеггер, еще не исследован достаточно ни со стороны теоло
гии, ни со стороны истории догматики, ни со стороны знания греческой
философии. Нам всё это интересно слышать. Наша ситуация удивитель
ная. По каким причинам — церковным, политическим, языковым — мы
страна Платона, а не Аристотеля? Идеализма, а не реализма? Это кри
чащий факт, он проявляется во всем, вплоть до того почти комическо
го, что у нас масса переводов Платона и мы тут дошли до виртуозности,
а Аристотеля почти не переводили, недавно только начали и до сих пор
хотя бы просто немножко сносно, не скандально перевести его не уда
лось, кроме, что характерно, может быть, только этических сочинений,
вошедших в 4 том четырехтомника (но этика, нравственность — это на
ша русская специальность). Не хватает, говорит Хайдеггер, для осмысле-
136
12 МАРТА 1991
ния Аристотеля и его влияния «принципиальной проблематики», кру
га вопросов (мы «не задумываемся»), т. е. нет языка, мы всё «о другом»,
и — тут Хайдеггер отчасти опережает тему своего курса — всё никак
не о Dasein, не о данном бытии, не о фактической жизни, не об имма
нентной интерпретации. В этой без объяснений пока брошенной здесь
«имманентной интерпретации», т. е. истолковании жизни как такой, ко
торая про себя уже знает заранее, что она и к какой цели она, — уже
угадывается суть того, что в «Бытии и времени» будет названо «понима
нием». Вы узнаете ту же уверенность: напрасно пытаться где-то там да
леко «исследовать», не начав с себя, со своей ситуации.
Схоластика, впитав античное наследие, потом в несколько приемов
вобравшая в себя Аристотеля, — и противники, Фома с одной стороны,
Дуне Скот и Оккам, с другой, были одинаково аристотеликами, — по
шатнулась, расшаталась в 14 веке под воздействием мистики Иоганна
Таулера, — а мы скажем, конечно, действием ренессансной поэтической
философии, философской поэзии; и казалось^ что Аристотеля должно
было бы быть больше у философов-аристотеликов, противников Пе
трарки, но Петрарка был лучшим аристотеликом, потому что был вни
мательнее к своему присутствию. Удар, нанесенный Лютером схоласти
ке, которая рассталась с «живым опытом»
1
, был тоже поэтому неявным
восстановлением^ вернее, вел к необъявленному восстановлению ари
стотелевских мотивов в новой протестантской схоластике (Меланхтон,
друг Лютера, систематизатор, собственно создатель протестантской тео
логии, «учитель Германии», реформировал школьное и университетское
дело в протестантских областях с обязательным изучением древних
языков, с особенным вниманием к греческому — чего не было в като
личестве, успокоившемся на латыни; этот «грецизм» есть в самом имени
Мелан-хтона, который пожелал перевести свою фамилию, Schwarzerd,
на греческий язык). «Эта догматика», — т. е. новая протестантская дог
матика, — «с существенными аристотелевскими направляющими ста
ла почвой, из которой вырос немецкий идеализм»
1
. Он как бы «заряжен»
давней историей «грецизации» и рецепции Аристотеля. «Всякое серьез
ное исследование немецкого идеализма и прежде всего основательное
осмысление истории его возникновения должно брать свое начало в
тогдашней теологической ситуации. ФихтеУ Шеллинг и Гегель были те-
1.GA,Bd.6i,S.7-
2. Ibid .
137
СЕМИНАР 1.12
ологами, и Кант, если не оставлять от него только трескучий скелет так
называемого гносеолога, теоретика познания, может быть понят только
теологически»
1
.
Обновление Канта в неокантианстве с бо-х годов прошлого века (Гер
ман Коген, Пауль Наторп самые может быть громкие имена) как раз
оставило от Канта один гносеологический скелет, теорию познания, обо
снование для математических и естественных наук. Канта и Аристотеля
при этом несправедливо развели: Кант научен и задается критическим,
радикально-критическим вопросом о познании, об условиях позна
ния внешнего мира, а Аристотель вообще не спрашивает о существо
вании внешнего мира, он ненаучный, наивный, преодоленная метафи
зика. Криво поняли Канта, не заметили, что для него точно так же как
для Аристотеля внешний мир безусловная данность и не требует до
казательств, проблемой остается только как раз научное познание, вот
оно, движущееся в своей математической аксиоматике, требует изуче
ния. Вещь в себе не сама по себе проблема, если она есть для нас, значит
она неким образом ощущается, а она делает проблематичным научно-
математическое познание, потому что для него неприступна. И проти
вопоставление Канта научного Аристотелю наивному, и «преодоление»,
в который раз, Аристотеля, спровоцированное неокантианством, — не
доразумение, легкомысленное и скоротечное, потому что те самые фи
лософы, которые несколько лет назад морщили с чувством превосход
ства нос при имени Аристотеля, теперь возвещают — нельзя же отста
вать от времени — непознанное доныне еще величие и даже «глубину»
аристотелевской философии — как раньше, так и теперь без серьезных
знаний.
Промах того неокантианства, которое объявило Аристотеля некри
тичным, — в незамечании того, что значит Аристотель для средневеко
вья, и как Иммануил Кант принадлежит к тому сцеплению философской
мысли, богословия и догматики, которое непрерывно продолжается от
средневековья, глубже — от античности до нашей нынешней ситуации,
непрерывно.
Вильгельм Дильтей с его вниманием к биографии (человек не в исто
рии, человек и есть сама история) в отношении немецкого идеализма
почувствовал и тем самым осмыслил его исторические корни, и тем
самым приобрел способность свободного движения — надо же ощутить
ι. GA,Bd.6i,S.7-
138
12 МАРТА 1991
под ногами сначала почву, после чего только и можно куда-то двигать
ся. Им руководил «верный инстинкт»
1
, но не хватало метода и языка,
к радикализации проблем он не пробился. Дилътей. Но хватит, гово
рит вдруг нервно Хайдеггер, поддаваться этому соблазну, разглядывать
духовно-исторический контекст. Надо видеть решающее. Теперь он
скажет о своем месте в этом сцеплении вещей. Его родословная. По
ка философы превозносили или преодолевали Аристотеля, началось к
счастью независимое от этой ссоры филологически-историческое иссле
дование аристотелевского наследия. Шлейермахер постарался об крити
ческом полном издании Аристотеля — это издание исполнила Прусская
(Берлинская) Академия Наук, собственно издание Аристотеля окончи
лось в 1870 году с выходом «Index Aristotelicus» к томам Аристотеля и
его фрагментов; нумерация, принятая в том издании, с тех пор воспро
изводится в любом новом издании Аристотеля (по странице, всего пол
торы тысячи страниц во всем Аристотеле, букве а или Ь, обозначаю
щей левую или правую колонку текста, и строке). Та же Прусская ака
демия потом издала в нескольких томах греческих комментаторов к
Аристотелю. «Так впервые была создана просторная и надежная почва
для действенного философского исследования Аристотеля»
2
. Филологи-
историки.
От этого филологического, исторического исследования ответвилась
линия Тренделенбурга, историка философии, и его ученик Франц Брен-
тано (1838-1917); он был католическим священником и начал препода
вать философию в 34 года, и от кантианства своего учителя он перешел
к истокам Канта, увидел в долгой истории докантовской мысли Ари
стотеля; мы читали через Хайдеггера у Дунса Скота об интенции, pri
ma intentio как непосредственная целенаправленность человека в окру
жающем мире, secunda intentio как обращение внимания на то, чем же
я занимаюсь; я охочусь; почему я охочусь, правильно ли я охочусь, как
следует это делать, что должно иметь место, чтобы моя деятельность от
вечала цели, — весь разбор такого рода это secunda intentio; и вот че
рез Франца Брентано внимание к интенционалъности> которая в осно
ве психики (Брентано «психолог», но в том смысле, который мы сейчас
назвали бы философией), т. е. нацеленности на цель, было восприня
то в немецкой мысли от него, от Брентано, Гуссерлем и другими; и раз-
1. Ibid.
2. Ibid., S. 8.
139
СЕМИНАР 1.12
бор сознания, так называемая у Брентано «дескриптивная психология»,
чтобы добраться до первичной интенции в нем, — это будущая гуссер-
левская феноменология) — и ученик Тренделенбурга Франц Брентано,
говорит Хайдеггер, «приобрел решающее <!> значение для современ
ной философии в ее основных течениях (исключая Марбургскую шко
лу). Это утверждение сразу же потеряет характер преувеличения, если
мы увидим развитие современной философии не извне и не будем дер
жаться внешней поверхностной смены школ и направлений... но уло
вим сами по себе действующие проблемы, силы и мотивы. У Брентано
Гуссерль увидел решающее <!>, а потому сумел всех радикальнее вый
ти за пределы его мысли, в то время как другие находившиеся под влия
нием Брентано выхватывали у него отдельные интерпретации, обнару
живали у себя тоже какие-то мысли по этому поводу, но к собственно
пониманию, т. е. к дальнейшему развертыванию проблемы, не приходи
ли»
1
. От соблазна духовно-исторических панорам и обзоров надо вер
нуться к единственно важному, решающему. Значение Брентано для со
временной философии решающее. Гуссерль увидел у Брентано реша
ющее. Решающее не просто главное, a das Ent-scheidende, здесь корень
scheiden «разделять» тот же, что в греч. σχίζω, откуда схизма, раскол, и
шизо-френия, раскол ума. И тогда мы вспоминаем, что такое собствен
но русское «решить»: развязать, отпустить на свободу, на волю. Гуссерль
увидел у Брентано решающее: развязывающее, освобождающее от пута
ницы — освобождающее и для собственного движения. Я говорил, в чем
«решимость» Хайдеггера: прежде всего в том, чтобы через человека за
человека не действовали неведомо кем и неведомо как принятые реше
ния. Освободительное значение философии. Троекратное «решающий»
в этом месте его курса, где он сейчас назовет свое место в философии,
указывает на такое «освобождение» от традиции, которое одновремен
но — возвращение к той свободе, человеческого данного бытия, присут
ствия, из которой только и могло делаться, только и делалось всё, чем
держится традиция: настоящим. Кратчайший в примечании список ли
тературы Хайдеггер дает вот какой в конце этого вступительного раз
дела своего курса: Брентано; Гуссерль, «Логические исследования»; Вин-
дельбанд, «К учению о негативном суждении»; Риккерт, «Предмет по
знания»; Дильтей; американский психолог и философ Вильям Джеймз,
один из основателей прагматизма, потому что прагматизм внимателен
ι. GA, Bd. 61, S. 8-9.
140
12 МАРТА 1991
к интенциям действий и теорий; на последнем месте — Хайдеггер, «Фе
номенология и философия трансцендентальной ценности», не книга, не
текст, а курс, летний семестр 1919 года.
Вот, стало быть, как в 1921 году Хайдеггер называет свое место в фи
лософии: он продолжатель аристотелевского строгого критического ре
ализма в философии, в линии Дильтея-Брентано-Гуссерля.
Но он не будет ни «спасать» Аристотеля, ни оправдывать его в том,
что устарело, не будет обновлять Аристотеля, не будет организовы
вать какого-нибудь нео-аристотелизма, включающего достижения со
временных наук. «Все это не серьезные цели философского исследова
ния, всё равно, относятся ли они к Аристотелю, или к Канту, или к Ге
гелю»
1
. Что будет — так это, конечно, истолкование (интерпретация)
аристотелевских трактатов и лекционных курсов, только не для «изло
жения», а для развертывания «конкретной философской проблемати
ки», так что исследование Аристотеля — часть корпуса этой пробле
матики.
Проблематика не дана раз навсегда, ее надо каждый раз выверять на
изначальность, на подлинность, на неподмену какой-нибудь ложью, и
если сама проблематика нуждается в критерии, то в каком? Критерий
совесть, читаем мы в таком строго научно-философском контексте, и в
удивительном сочетании: каждый, даже кто — и может быть, особенно
тот, кто — чувствует себя утвердившимся, надежно схватившим пред
мет и справляющимся с ним, должен «ставить себя перед методическим
вопросом совести»
2
об изначальности, подлинности, неложности. Ран
ний Хайдеггер называет метод главным достижением новой научной
философии, чего позднее делать не будет — хотя не будет и, впадая в
другую крайность, объявлять о несовместимости метода и истины, как
сделает Гадамер в своей главной книге, — т . е. вообще не будет говорить
о методе; как не будет говорить и о совести; т. е. уже в «Бытии и време
ни» не будет говорить о методе, а потом не будет говорить и о совести,
и для нас тогда будет задачей понять, как он станет говорить о вещи,
которая здесь, в 1921 году названа этим замечательным соседством «ме
тода» и «совести», — вещи, которая, конечно, останется: останется, ко
нечно, это методическое, превратившееся в навык, школу, повседневную
или ежеминутную практику вспушивание в то, что говорит, что откры-
1. Ibid.,S.u.
2. Ibid .
141
СЕМИНАР 1.12
вает совесть. Совесть, мы читали, говорит каждый раз ровно то, что го
ворит; ее обобщить, раз навсегда заранее отвести ей место, договорить
ся с ней об области ее действия нельзя.
От этого, от того, что Хайдеггер ведет непрекращающийся разговор с
инстанцией, которая умеет окликнуть, внезапно остановить, запретить,
отрезвить, его мысль неожиданна, не развлекающей и шокирующей нео
жиданностью изобретения, новизны, а другой, которая возвращает нас
к нам самим, заставляет словно впервые оглядеться вокруг незачумлен
ным взором. Мы привыкли к строгому голосу, голосу ниоткуда, от не
ведомого или себя почему-то поставившего авторитета, голос вязнет у
нас в ушах, он явно чужой, совсем другое, чем голос нашей совести, но
он неотвязный. Он навязчиво говорит: В чем главный вопрос филосо
фии? Мы начинаем метаться в поисках ответа, и еще не нашли, растеря
лись, тогда тот же командный голос нам говорит: Главный вопрос фило
софии — вопрос об отношении мышления к бытию. Или голос говорит
что-то другое. Мы соглашаемся или не соглашаемся, полусоглашаемся,
во всяком случае мы снова растеряны, мы неясно где, согласиться с го
лосом, это произнесшим неведомо из какой авторитетной глубины, нам
вроде бы нет особых причин, но ведь и спорить с ним — значит уже
признать его правила игры: спорить с ним значит поступить, пожалуй,
в еще большую зависимость от него, чем согласиться. И не соглашать
ся, и не не соглашаться — туманная позиция, похоже, уже вне филосо
фии. Мы как-то внезапно выкинуты этим вопросом из философии, фи
лософией теперь будут заниматься другие, не мы, она уже не для нас, по
сле того вопроса и ответа и после нашей — неизбежной, она неизбежна,
абсолютно неизбежна — растерянности. Мы проиграли. Мы проиграли
себя. Мы проиграли философию. Как это случилось? Мы не заметили.
Всё произошло вдруг. Нам задали вопрос, мы не сообразили ответить;
ответили за нас, мы не смогли опять ни вполне всей душой согласить
ся, ни эффективно возразить. Мы отброшены с дороги философии, не
понятно где, в невегласии. — Но и громкий голос, произнесший вопрос и
продиктовавший ответ, тоже непонятно где, он и сам несчастлив от сво
его командного положения; что он в философии, что он и есть фило
софия, мы решительно сказать не можем; и тот командный голос втай
не сомневается, что он философия, хотя декретирует философии, как ей
себя понимать, чем заниматься. Что же происходит? Кто-то что-то ска
зал, по-видимому, основное о философии, продиктовал; мы оказались,
не приняв безусловно, выброшены из философии; но и тот тоже. Запу-
42
12 МАРТА 1991
гавший не в лучшем положении, чем запуганные, почвы под ногами нет
ни там ни здесь, тому остается настаивать на команде; нам пребывать в
робко сопротивляющейся растерянности. Когда мы промахнулись, как
сорвались? Это произошло, когда оба — пугавший и запугиваемые — на
вопрос, действительно прозвучавший ниоткуда, «в чем главная пробле
ма философии», ринулись искать ответа, говорить, в чем она. Почему?
С какой стати? Почему не оглянулись сначала посмотреть, кто задал во
прос? Почему сразу решили, что вопрос требует обязательно однознач
ного ответа? Главный вопрос философии — это прежде всего он сам и
есть, это вопрос «в чем главный вопрос»? Вот о чем философия должна
думать. Где главное? Что такое вообще главное? О чем, собственно, речь?
О чем должна идти речь? Разве не тут главный вопрос философии? Это
так просто, что сначала голова кружится, как когда после долгого кру
жения вдруг останавливаешься, — а пока кружишься, голова не кружит
ся. Что главное? Как к главному прийти? Что такое главное? Что надо,
что должно быть, какими надо быть, что надо сделать, как думать, что
бы по-настоящему прийти к главному, центральному? — Тогда мы заду
маемся о нашей странности. Почему вопрос «что главное в философии»
мы услышали как наводящий, мобилизующий, организующий, словно
до философии уже известно, что такое философия и что такое главное?
Почему мы не расслышали в этом вопросе раздумье, почему просто не
услышали его как вопрос философии? Философия начнется не когда бу
дет ответ готовый на этот вопрос, — она тогда кончится, — а филосо
фия есть, пока этот вопрос раздумчиво звучит в ушах. Мы же услыша
ли этот вопрос как: «апорт»! Будто среди выставленных в ряд матрешек
осталось только найти, какая самая большая. Почему мы не спросили,
что такое философия?
Так называется, сразу после вводной, II часть курса Хайдеггера. Ска
жут: ну опять вы тут со своими вечными дефинициями. — Как если бы
было заранее известно, что такое дефиниция. — Как, вы еще будете да
вать дефиницию, что такое дефиниция?! Ну это уже слишком. Так мы с
места не сойдем! — А может быть, нам и не надо сходить ни с какого ме
ста и то место, которое под нами, и есть вообще наше единственное ме
сто и никакого другого у нас нет?
Дело вовсе не в том, чтобы дать дефиницию дефиниции, а в том, что у
нас почему-то всегда заранее уже есть представление о тому что такое
дефиниция; и точно как тот голос, диктующий главный вопрос филосо
фии, эта наша уже заранее всегда имеющаяся дефиниция дефиниции не-
ИЗ
СЕМИНАР 1.12
ведомо откуда взялась. Почему-то у нас она есть, почему-то мы можем
разочарованно говорить: «А, это всё ваши дефиниции...»
Очень даже хорошо мы знаем, скажет кто-нибудь, что такое дефини
ция, и латинскую (от Аристотеля через схоластику) формулу того, как
она делается, тоже помним: definitio fit per genus proximum et differentiam
specificam, определение строится через ближайший (к определяемому)
род и видовое (т. е. того вида, в который входит определяемое) разли
чие, определяемое внутри своего рода выделяется из всего своего рода
отличием видовым. Скажем, мне надо определить рыночного обманщи
ка, который торгует, скажем, пустыми упаковками. Я беру ближайший
род — «мошенник» (нельзя сказать «человек», потому что это не бли
жайший род, берем ближайший), теперь надо дать его видовое отличие,
«обманывающий под видом продажи товара». Или: роза есть растение,
растение есть организм: роза есть растительный организм. Но на фило
софии мы споткнемся: хорошо будет, если мы успеем своевременно за
метить — а после всего, что здесь на одиннадцати парах до сих пор го
ворилось, уже нельзя не заметить, — что еще не произнося ее определе
ния, просто нацелившись вставить философию в такое определение, мы
ее уже определили: она предмет, тоже типа мошенника, типа розы, нахо
дится внутри предметной области, поддается уточнению внутри нее. Ах
нет, сказали кошки, останемся мы тут*. Философия вроде бы и предмет,
рядом — в расписании — с физкультурой, только явно в каком-то дру
гом смысле предмет, чем роза предмет, или физкультура предмет.
Слава Богу, о предмете философии это мы успели заметить, преж
де чем ринулись определять; хорошо еще также, чтобы и об определе
нии тоже заметили, что оно не так безобидно, как нам казалось, — про
сто игра в классы и подклассы, берем класс, уточняем подкласс, полу
чаем, скажем: «философия — форма общественного сознания». Чистая
работа, разве неверно, что философия форма общественного сознания?
Вы возьметесь спорить, что не совсем «форма», т. е. не одна из форм, а
может быть, какая-нибудь там «форма по преимуществу»; не только об
щественного; и почему именно сознания, а не, скажем, знания? Готово:
вы уже попались, приняли условия игры того, кто дал такое определе
ние. А почему определение так заразительно, так втягивает в свою орби
ту? Может быть, это не просто игра в классы и подклассы, когда нам бы
ло бы безразлично, как классифицирует кто-то — а мы классифициру
ем иначе? Так и есть: та формула определения, которую мы приводили,
только производная, только, так сказать, техника определения, а суть
144
12 МАРТА 1991
определения — в том, чтобы оформить, ввести в пределы, определить
убеждение и веру. Определение это скрытая под видом логической тех
ники догматика. Отсюда притягательность определения, оно исподволь
обещает установить, уладить дело, ориентировать, как считать что чем.
Определение в своей сути заставляет держаться такого-то взгляда, ве
рить в такое-то положение вещей. Но в философии всё открыто, филосо
фия это сама открытость, не догматика. Аверинцев думает, что фило
софия началась, когда начались определения. Нет философия началась
когда определение, скрытая догматика, было снято, преодолено у Сокра
та, Платона, Аристотеля. Поэтому кто требует ее дефиниции, как обыч
но требуют, а именно сознательно ожидая технической фиксации вну
три предметной области, но бессознательно, незаметно для себя ожидая
получить в отношении философии чего-то такого, чего можно будет
отныне твердо держаться, так сказать, успокоения по этой части, — та
кому человеку надо сказать, не боясь унижения: не можем определить
философию; пусть он отворачивается от нас с гордым видом.
От предмета, от предметности у философии не то, что на нее мож
но показать, как на розу, пальцем, вот она, а то, что к ней есть подход,
ее можно держаться и ее можно упустить. Вот эти три только объединя
ют философию с предметом: к ней можно подойти, ее можно держаться
и ее можно упустить. Упускание — это ведь тоже способ держания. —
Ага, схватят нас за руку, вы держитесь чего-то, боитесь упустить, зна
чит что-то есть, так назовите, определите? Не обязательно; и не расхо
лаживайте, не сбивайте меня с толку этими вопросами. Когда я решаю
математическую задачку и мне кажется, что я поймал нить, я держусь
ее, но чего держусь, сказать не могу, ведь решение еще не найдено, по
пробую определить — и потеряю нить. Такое же горячее дело — фило
софия, только искание не кончается тут на решении, как в математике.
Предмет здесь не тот, который мы уже видим, а тот, который зовет, —
не увиден, не определен, а зовет, обращен к человеку с требованием от
человека — чего? Не спешите говорить: философствования, мысли. Че
го требует обращенный к человеку, не увиденный еще человеком пред
мет — в этом вопросе уже «спрятана» философия, не надо опять уходить
от вопроса поспешным ответом на него. Ведь поспешный ответ — это, к
сожалению, самый обычный и самый дурной способ ухода от вопроса.
Чего требует предмет от человека? Мысли? Поступка? Или предмет каж
дый раз требует от человека как раз именно того, что он каждый раз
от него требует, предмет сам говорит, чего и как он требует? Не выхо-
10-2015
145
СЕМИНАР 1.12
дить из этого требования предмета и одновременно из этих вопросов —
вот что такое «иметь» предмет в философии; определить предмет —
значит будет упустить его, пресечь экзистенциальный опыт, фактически
имеющийся, такой, какой он есть, предмета. Предмет в этом смысле жи
вет, и ожидает не дефиниции, т. е . укладывания в гроб, а ответа. — Или
дефиниция в логическом смысле, «формальной логики», — это карика
тура на настоящее философское искание, отпадение от того «держа
ния предмета», которое в философии, позволение себе быть не совсем
серьезным, отпасть в упорядочение, собирательство, или просто следо
вать обычаю, вкусу, практической надобности, удобству, моде? Тогда от
чего отпадает так называемая эта формально-логическая дефиниция —
которая никогда на самом деле не формальная, а материальная, обуслов
ленная такими-то незамеченными обстоятельствами, — от дефиниции,
определения в собственном смысле, в философском? То, что называет
ся обыденно определением, дефиницией — это охлажденное, одичалое
философское, первичное определение предмета, такого, захватывающе
го и заставляющего искать; от того сущностного философского «опре
деления» зависят все другие. А то, философское, — что такое? Оно —
Bestimmen, от die Stimme, голос, буквально «голосом обозначить», отве
тить на обращение предмета, дать слово самому предмету; определение
в этом смысле — речь о сути предмета, отвечающая самому предмету,
голос в ответ на голос предмета в ситуации вслушивания в предмет, в си
туации фактического экзистенциального опыта, присутствия человека
при предмете.
Такое философское, или феноменологическое (Хайдеггер вперемеш
ку говорит «философия», «феноменология» как равнозначные вещи: фе
номенология — и есть философия в строгом, собственном смысле сло
ва), — феноменологическое определение это раскрытие предмета в ходе
его сущностного понимания, дающего слово самому предмету; это раз
вертывание одновременно предмета и опыта как такого, который вызван
вызовом предмета, каким предмет обращен в этой фактической ситуа
ции к этому фактическому говорящему, к этому экзистенциальному опы
ту с его заботой и с его — от заботы идущим — поступком и решением.
Важно одно, подчеркивает Хайдеггер: идея Be-stimmen, отвечающей
речи, давания слова предмету, понятийность предмета в его фактиче
ском определении такого рода, — всё это черпается, извлекается из спо
соба, каким предмет изначально становится доступен.
Потому что при этом первом явлении предмета и, если можно ска-
146
12 МАРТА 1991
зать, чуточку раньше явления происходит его первая и большей частью
незаметная для нас самих категоризация. То, что вдруг и незаметно, пер
вым дает о себе знать — оно главное дело философии. Как наоборот по
ступают люди, думающие, что философ должен как раз пропустить то
первое мгновение, не верить «первому впечатлению», — ранее появле
ние вещи как «всего лишь впечатление», и иметь дело уже с «устояв
шимся» образом предмета. Нет, всё главное происходит вдруг и сразу,
непоправимо, когда мы едва успеваем заметить.
Второе важнейшее, рядом с этим первым явлением предмета, — име
ется в виду опять же, для его «определения», в этом философском смыс
ле давания слова самому предмету, — второе важнейшее это внимание к
жизненной ситуации, в которой предмет входит в наш опыт, и к ориен
тирующей интенции, с самого начала так или иначе, заранее, направля
ющей наш опыт — по способу той опережающей «схемы» (Vorgriff), той
незаметной или едва заметной для нас самих «преструкции», о которой
говорилось.
Теперь. Что же оказывается. Дефиниция — дело логики... Но если де
финиция в своем существе — такая, какая оказалась, предоставление
слова предмету, то что же тогда такое логика
7
. Открывается совсем
другое понимание логики, чем построение, классификация и дедукция
понятий. Открывается «радикальная проблематика логики», которую
после Аристотеля перестали понимать. Формальная якобы аристотелев
ская — на самом деле псевдоаристотелевская логика \
Первое вхождение предмета в наш опыт, с самого начала действу
ющая интенция — как будто это не имеет отношение к философским
«принципам». Они понимаются обычно иначе. Что такое принцип? Из
которого «всё исходит», начинается; согласно которому делается. Это
что-то всеобщее, универсальнейшее. Не надо первого впечатления и на
шей установки; надо узнать, что в принципе есть предмет, в данном слу
чае философия, всё остальное частности. Надо же знать, что такое вооб
ще, в принципе философия, а то каждый начнет определять ее сам для
себя. Нет, надо в принципе. Определите философию не здесь и теперь, а
в принципе, для всех веков, требуют от нас. И мы не должны снова бро
саться определять. Мы должны расслышать, что стоит за этой установ
кой: в принципе; нет, не в частностях, а добраться до принципа. В этой
установке стремление. Какое? В данном случае — стремление, страсть
ι. GA, Bd. 6i, S. 21.
10*
147
СЕМИНАР 1.12
к широкому охвату', к овладению предметом в самых широких рамках.
Это стремление, эта страсть к охвату', стоящая за призывом определить
философию вообще, в принципе, темна, не прояснена. Она подлежит —
прежде поисков такого определения философии в принципе — проясне
нию. На что здесь установка? На предмет? Нет, прежде всего тут страсть
к широкому охвату. Не подмененное установкой на всеобщность, по-на
стоящему принципиальное понимание и определение философии долж
но было бы саму философию сделать тем принципом, исходя из которо
го и ради которого, не как нарисованного на экране предмета, а как жи
вого дела, т. е. нашего дела, потому что существование философии мы
можем обеспечить только одним способом — попыткой философство
вания, — т. е. исходя из такого предмета философии надо искать и его
«принципиального» определения. То «в принципе», на которое должно
ориентироваться определение (настоящее) философии, должно сначала
не только стать, но и быть проясненным как наша страсть к принципи
альному схватыванию вещи. Принципиальное схватывание вещи хочет
знать, «в чем дело» с этой вещью, «как с ней обстоит», т. е. никогда не ми
нуя то, как она нас задела. Принципиальное, в принципе понимание фи
лософии — это то, какое мы можем иметь только внутри философии как
страсти, в опыте захваченности ею, когда она — «предмет», который об
ращен к нам, требует дать ему слово. Искание определения философии
«в принципе» на путях упорядочения-собирания, типизации-классифи
кации, забывающее, для чего, из какой страсти, совсем в данном случае
слепой, происходит всё это упорядочение-собирание, типизация-клас
сификация, — это промах, философский недосмотр. В скобках курсивом
с восклицательным знаком стоит: «(Ясперс!)»
1
.
В усилиях определить философию не хватает нацеленности («интен-
дированности») на такие ее проявления, в которых она «в бытии», т. е.
не в воображении и в представлении, «в нашем опыте»
2
. Инаполяхк
этому месту приписка, как заклинание: «Каково предметное фундамен
тальное многообразие того, что можно признать за философию? Прояс
нение, прояснение фактической жизни, понимающее прояснение, прин
ципиально понимающее прояснение». Prinzipiell verstehende Erhellung...
des faktischen Lebens
3
.
i.GA,Bd.6i,S26.
2. Ibid .
3. Ibid .
148
12 МАРТА 1991
Философии нигде нет, наше время самое «нефилософское» из всех
(сказано там же). И всё полно ею, только копни: вся наша фактическая
жизнь взывает, полная неведомо кем принятых решений, непонятно ког
да сложившихся «преструкций», неведомо кем продиктованных догм,
полна до краев и через край всевозможного знания, «бесконечная мас
са знания, предшествующая всякой дедукции», как говорит Гуссерль —
фактическая жизнь кишит философией и требует только одного, чтобы
дышать: прояснения того, как она успела склубиться в такой клубок не-
распутываемой философии. Философии нигде нет — и нигде нет ниче
го, кроме философии.
Замечание о громоздкой, как почти всё у молодого Хайдеггера («для
литературно-языковых тонкостей и для выстраивания „красивых" фор
мул здесь нету времени», бросает он после одной уже совершенно невы
носимой, легшей неповоротливым камнем на страницу фразы, легшей
как легшей, не надо уже переворачивать, посмотрите сами, с. 19 6i-ro то
ма, курсив), — я говорю, все эти громоздко ложащиеся неповоротли
вые глыбы легко и без остатка проясняются, при желании. О сочетании
«предметное фундаментальное многообразие» (философии) в послед
ней мною продиктованной фразе. «Предметное фундаментальное мно
гообразие»
1
означает: в фундаменте, в основе предмета философии, со
ставляя саму эту основу, лежит, залегает не унифицированное, а много
образное, каждый раз такое исторически, какое оно есть, а именно опыт
философствования, совестливого, прислушивающегося — методиче
ски прислушивающегося — к голосу совести радикального спрашива
ния о тех неведомо чьих, неведомо как продиктованных нам решениях,
дефинициях, суждениях, мнениях, догмах, которыми мы на каждом ша
гу руководствуемся или которыми мы на каждом шагу стараемся н е
руководствоваться, что сводится к той же зависимости, — радикально
го спрашивания о «схемах», опережающих схватываниях, преструкциях,
которые всегда успевают распорядиться нами раньше, чем мы заметим.
Это что касается определения философии. А может быть, и не надо
определять? Цели ясны, задачи определены, за работу? За «конкретную
работу»?
Это на следующий раз.
Я как-то говорил, что раннего Хайдеггера можно читать как перевод
«позднего» Хайдеггера на более знакомый нам язык, как истолкование.
ι. Ibid.
149
СЕМИНАР 1.12
Продвигаясь во времени всё ближе к 1926 году, к «Бытию и времени», мы
видим, что этот перевод, это истолкование становятся как бы все более
совершенными, полными, интересными. Пока мы не дойдем до «Бытия
и времени», где будет по существу всё то же самое, что в этих проме
жуточных между 1916-1926 годами работах, которые в свое время напе
чатаны не были, — будет всё то же самое, но только мы, постепенно под
готовившиеся, сумеем «Бытие и время» понять. Почти все читатели, бе
рущиеся за то главное произведение без подготовки, поймут его почти в
каждом месте наоборот, чем как Хайдеггер надеялся, чтобы его поняли.
I.131
19.3.1991
Записка прошлого раза: «Стакан разобьется, а что будет с философией,
если упустить ее?» — Всего безопаснее и надежнее нам бояться, что ей
будет лучше.
Вводное: Хайдеггер затмил, между прочим, себя тоже.
До 1985 в рукописи *. Сначала затмивший; потом затемненный.
Но: всё эти десять лет в движении; он понимал, что рос; есть период,
когда печататься не надо, из моего опыта.
Философское определение: дать слово вещи. Но вещь говорит не нашим
словом; не заговаривать ее. Конкретная работа: исчерпывать богатство
вещи. Научное «производство» дает эффектные результаты, но оставля
ет ли вещь? Как техника — оставляет ли еще землю? Поглощение? Ре
зультаты, успехи — в каком смысле? Чем измерены? Почему «глодание»
вещи есть ее познание? — Формальное определение пусто, чтобы впу
стить. Чтобы оставить вещь вещью. Чтобы не повредить вещи. «Сам
предмет, определенный в „как" его принципиального бытия, несоб
ственно тут, „формально указан"; ты живешь в несобственном имении
его, но специфически направлен на „временение", выжидание подлинно
го обладания», которое бытие
2
. О времени, бытии позднее.
Не заговаривает вещь. Не уменьшает, увеличивает ее несводимость
к слову, неисчерпаемость. Тогда возрастает проблематичность всякого
знания. «Das eigentliche Fundament der Philosophie ist das radikale existen-
zielle Ergreifen und die Zeitigung der Fraglichkeit; sich und das Leben und die
entscheidenden Vollzüge in die Fraglichkeit zu stellen ist der Grundbegriff al-
ler und der radikalsten Erhellung. Der so verstandene Skeptizismus ist An-
fang, und er ist als echter Anfang auch das Ende der Philosophie. (Dabei keine
romantisch tragische Selbstbespiegelung und Selbstgenuß!)»3
t
Об этом будет
сказано еще.
ι. Не было времени записать, может быть записать с пленки.
2. GAy Bd. 61, S. 34·
3. Ibid., S.35.
151
СЕМИНАР 1.13
Noch scharfer und vorsichtiger! Die Definition ist formal anzeigend
1
*.
Скажи о форме (эйдосе), скажем, леса.
«Переживание». Беседы под музыку Баха, фрески Микеланджело. Или
читать, дожидаясь кайфа, и когда он есть, думать, что понял, Тепло и
свет. Diese Situation ist nicht die rettende Küste sondern der Sprung ins trei-
bende Boot, und es hängt nur daran, das Tau für die Segel in die Hand zu be-
kommen und nach dem Wind zu sehen 2\ Здесь вспоминает про науку, она
образец. «Переживающий» исследователь, врач. Почва в философии, не
данная, а добываемая, — это absolute Fragwürdigkeit3
*. Страсть к ней дав
но забыта, подлинная страсть. Вместо этого охватывают, с подозритель
ным волнением, которое дожидается психоаналитика, «действитель
ность», «мир», «общество», «погружаются» в «реальность», «жизнь» und
sich zu diesem Götzen in ein Verhältnis bringt§. Какой же результат фило
софии? Вот эта строгость. Скепсис. Строгость, что стережет? Но жизнь.
«Пастух бытия». Чем? Хранением своего формального определения. Вся
философия — такое, впускающее.
История забудется, традиция прервется, словоупотребление не обма
нет
4
.
Это грустно, что приходится спасаться в науку от философского пьян
ства. Ведь сами науки зависимы от философии. Они отсылают ей — те
перь уже беспробудной — «метафизические» вопросы (о природе, о
жизни). Как расшалившиеся детки, которые сами уже пугаются, до то
го они расходились: за дисциплиной ведь матушка должна смотреть. Но
она оказывается совершенно пьяна, растеряна, курит, мечтает о них, как
они ей помогут.
«Выражение „научная философия" — плеоназм», überfüllter Aus-
drucks. Философия во всяком случае, по крайней мере не менее науч
ная. Наука — страсть. Философия больше страсть. Научность Гуссерля:
ι) Брентано, описание психических феноменов, не конструирование, не
гипотезы. 2) Идеал математической очевидности и строгости, з) Неокан
тианское исследование трансцендентального сознания, априори созна
ния (опять Брентано).
ι. GAy Bd. 6i, S. 35.
2. Ibid., S. y?·
3. Ibid .
4. Ibid., S. 42.
5. Ibid., S. 46.
152
19 МАРТА 1991
Платон о философии. Не перевертывание камня, но перевод души из
ночного некоего дня в истинный \ Не подверстывание к тому, что где-то
зовется, слывет философией, а внимание к εκαστον το öv
2
. Сократ: опас
ная для жизни профессия, разбирать себя и других3
. Философия выс
шая «музыка»
4
.
Философия познание, только надо разведать полный смысл «позна
ния». Он то же, что «дефиниция» (философская). То же, что «проясне
ние» — в платоновском опасном смысле Символа пещеры. Философия
имеет дерзость сказать: все люди там, в пещере. Ищут «философию» как
еще один блестящий предмет в культуре. Кто ищет, тот пусть заранее
знает, что найдет: «чистое познание изначальной (исконной, коренной)
проблематичности... человеческого существования»
5
. Как странно, что
вы сидите в рядах, я стою и говорю. Как было бы плохо, если бы я вас
успокаивал насчет того, что так и надо, что всё хорошо, что это почтен
ное «культурное» занятие. — Загадочная проблематичность. Что делать?
Растеряться? Напиться? «Нет ясности. Нет ясности»*. Или с терпеливой
научной строгостью распутывать ниточку этой загадки, на каждом ша
гу имея всё, чтобы впасть в истерику, смесь восторга, ужаса и отчаяния,
как народ, большая часть народа, в отличие от удобно пристроивших
ся в культуре, питающихся, настоящие открытые философии: жест от
чаяния, восторга и ужаса, пьянство и мат. Открыта в России бездна,
правда человеческой необеспеченности больше, чем во многих других
местах, где живут люди. Размах.
Теперь «принципиальное» «формальное» «определение» филосо
фии. «Предмет» «определения»: «Erkennendes Verhalten zu Seiendem als
Sein»6
f
. Каждое слово в проясненном смысле. Бытие: не общее, а то в
чем сущее собственно есть, значимо, «энергийно». Касается нас. Имеет
смысл. — Определение такое
7
: «Философия есть принципиально позна
ющее отношение к сущему как бытию (бытийному смыслу), а именно
таким образом, что в этом отношении и для него дело идет <всё зави-
1. Платон, Государство VII 521 с.
2. Там же, V 480.
3. Платон, Апология Сократа 28 d.
4. Платон, Федон 6i a.
5. GA, Bd. 61, S. 56.
6. Ibid., S. 58.
7. Ibid., S. 60.
15З
СЕМИНАР 1.13
сит, важно> вместе и о фактическом (jeweilige) бытии (бытийном смыс
ле) имения этого отношения»
1
. Формальное определение, и прежде все
го «бытие» — это das angezeigte Formalleere *. — Отношение — конкрет
но, здесь и теперь.
Где заниматься философией? В университете? Непрерывная традиция
через Академию, Лицей, ученую Александрию (библиотека, филология,
сохранение философии, начало христианского богословия у Климента,
Оригена — всё университет), школы Средневековья, Париж, Кёльн, Бо
лонья, Неаполь, Фрейбург, с 15 века университет. — Но и Московский
университет. [Анна Константиновна] Поливанова: лучше университета
ничего не придумано для обучения, как для любви — ничего лучше бра
ка. Почему не в университете? — Но надо помнить, что в Германии это
и академия наук; у нас разделено. — Уйти из Университета легко. Ницше
ушел, стал питомником для литераторов, породил мысленно нездравую
атмосферу. — Опасность институированной философии: из фиксиро
ванного места вещают, говорят о судьбах человечества, и никто не знает,
кто для кого и что говорит, что со всеми этими пророчествами и мудры
ми поучениями делать, и кто передал говорящим эту культурную мис
сию
2
. Философия, конечно, может говорить отовсюду.
Конечно, настоящая философия опасна. Но и там гибель: «verkommen
in der Verbrämung mythischer und theosophischer Metaphysik und Mystik
und im Traumzustand einer Beschäftigung mit Frömmigkeit, was man Reli-
giosität nennt»3
f
.
Литераторы позаботятся, всё сгладят, всё объяснят. Даже Шпенглер.
Он испугался своей же позиции, всё разжижил, и сам закат (гибель) ис
толковал — так получилось — как приглашение к новой бодрой куль
турной работе. «Всё не так уж плохо».
То была Часть вторая, «Что такое философия», теперь III: «Фактическая
жизнь». Мы не на пустом месте: Ницше, Бергсон, Дильтей не забавля
лись извращенными академическими играми, но они не прояснили свой
подход до конца, опять стали пищей для литераторов и «философов, ко
торым легче грезить, чем думать»
4
. По Дильтею, мысль только остуже
ние жизни, ее ностальгическое повторение. Риккерт, решительно: надо
ι. GA, Bd. 6i,S.6o.
2. Ibid., S. 66.
3. Ibid., S. 70.
4. Ibid., S. 80.
154
19 МАРТА 1991
прекратить в философии видеть только повторение жизни, она творче
ство. Хайдеггер, характерно: Wieder-holen, снова извлечь, спасти от па
дения. Мысль спасение жизни. Есть это у Дильтея?
Leben = Dasein. Sein, бытиё. Жизнь с, в чем; смысл; она отношение.
Внутри чего? Мира. — А Бог? Ах нет Бога. — Докажите, что Бог не в ми
ре. И Бог, который якобы не в мире, — это самая мощная машина в мире.
Ах нечего и говорить.
Мир: не пространство, не космос, не ящик, а «с чем имеем дело». И с
Богом тоже. «Всё в нашей жизни = всё в нашем мире».
Жизнь обязана миру. Другое дело, что от усталости увиливает, начи
нает заботиться о «всеобщем». Рвутся к небесам; на самом деле гложет
невыполненность долга в этой жизни. Удрать. Как-то компенсировать.
Вот куда хорошие слова, целые вороха, груды, залежи идут, и всё мало.
Жить — отношение, смысл этого отношения — забота, Sorge.
Заботой проецируется значимость, жизнь: забота о «хлебе насущ
ном». Опять «формальное» определение, «пустое», впускающее. Способ
существования смысла (бытийного) жизни — лишенность, privatio, ca-
rentia. Когда кажется иначе, там «забота» гложет еще сильнее (богач, бед
няк).
Через значимость (Bedeutsamkeit) дан предмет, не наоборот! И цен
ность — категория, ответвление значимости! А что такое «природа»?
Производное так повернувшегося исторического фактического опыта,
производное значимости — и «природа»
1
.
«Но это же Гуссерль». — Но это и Хайдеггер. Оттого, что жеребенок
похож на кобылу, нет причин не смотреть, какой уродился жеребенок.
Аристотель не говорит ничего, чего не было бы у Платона. Неоплато
низм их синтез.
Не новая теория жизни-бытия-мира. Греч, ουσία имущество, достаток.
Вещь: прагма. Наваждение «объективного» взгляда, способ бегства от
жизни.
«Im Sorgen erfährt das Leben jeweils seine Welt»
2
*. И себя. Не в само
рефлексии, которая уже всегда испуганное бегство. Это еще честный,
более или менее, неудобный способ бегства, уклонения от жизни. «Am
bequemsten ist es allerdings, sich außerhalb der Welt und des Lebens gleich
i. Ibid., S. 91.
2. Ibid., S. 93.
155
СЕМИНАР 1.13
ins Land der Seligen und des Absoluten zu setzen. Ich verstehe nur nicht,
warum man dann überhaupt noch philosophiert, wenn man schon „so-
weit" ist»l*.
Категории жизненного мира, a) Neigung. Жизнь клонится, тяготеет,
рассеивается. Помним: формальное. Не психология, b) Abstand. Цель да
лека. То и другое создается, опять же, заботой. Значимость где-то, не у
меня, с) Abriegelung. Жизнь себя теряет в собственном увлечении. Уже
себя не видит, горячка дела, стремления. Сказать «моя забота» — это
уже шаг к философии, но так редко бывает. «Im Sorgen riegelt sich das Le
ben gegen sich selbst ab und wird sich in der Abriegelung gerade nicht 1о8»2
+
.
Бесконечное ускользание, как в дурной рефлексии, жизни от самой се
бя. Для того, чтобы найти себя, делает новое усилие искания, ориенти
руется на искомое, но она ведь в усилии! Бесконечный характер жизни,
d) «Легкое». Ведь вся забота — об облегчении. Крайности, ошибки лег
ки, по Аристотелю, попасть в центр — трудно. Мечется между напря
жением и расслаблением: хочет напрячься, оттого расслабляется. «Leben
ist Sorgen, und zwar in der Neigung des Es-sich-leicht-Machens, der Flucht...
Das Leben sucht sich zu sichern im Wegsehen von sich selbst... Sorglosigkeit
ist eine Weise der Sorge... Die Sorglosigkeit bildet nun die Welt aus»3*.
А Аристотель? На краткий миг появляется. Страсть не дает сесть за
его тексты. Tua res agitur: αρχή, λόγος, ουσία.
Аристотель напоминает о движении. Категории движения: Reluzenz
(освещение, созданное заботой; «мне светит, мне не светит»); Praestruk-
tion. Они связаны. Забота всё в свой мир, её сплетенный, hineinsorgt, вза-
бочивает. «Kulturleben die praestruktiv organisierte Geneigtheit der weltli
chen Reluzenz des sorgenden Lebens»4§. Наша культурная забота? Чтобы
не пришли снова с оружием, не разогнали, не арестовали. Вместо пони
мания нас. Оно еще и не началось. К нам подойти трудно, мы страшные.
Подвижность жизни. Она такая, что das Leben aus sich hinauslebt5
.
Вразнос. Подвижность движет сама себя.
«Die Bewegtheit ist eine solche, die als Bewegung in sich selbst sich zu ihr
selbst verhilft; es ist die Bewegtheit des faktischen Lebens, die dieses selbst
macht, so zwar, daß das faktische Leben, als in der Welt lebend, die Bewegung
i. GA, Bd. 6i,S. 99.
2. Ibid., S. 107.
3. Ibid., S. 109.
4. Ibid., S. 120.
5. Ibid., S. 130.
156
19 МАРТА 1991
eigentlich (!) nicht selbst macht, sondern die Welt als das Worin und Worauf
und Wofür des Lebens lebt»l*.
Т. е. оказывается всё это было чтением Аристотеля.
Дальше Ruinanz. Die Leere \ которая обеспечивает возможность движе
ния.
ι. Ibid.
1.14
16.4 .1991
1
Т. е. еще раз: мы видим в мире вещи, которые объективно существуют, и
определяем свое отношение к ним, вступаем с ними во взаимодействие,
реагируем на них. Стоит завод; мы можем туда пойти работать; вот он,
завод, данность, мы можем только реагировать на нее. Нет: всё, что мы
видим в мире, — а другой видит другое, и тысячелетия назад мы тоже
видели бы другое, и будем видеть другое, когда придет время, — спро
ецировано, высвечено именно так, как высвечено, среди неисчерпае
мого множества неисчислимо многосторонних богатств всего, что есть
(вспомним, что первоначальное греческое значение «усии», бытия, —
имущество, имение, богатство), первоначальной, исходной заботой (Sor
ge). Забота (стремление) раньше структур; структуры образуются вну
три мира для заботы. Мир не объект, о котором жизнь (человек) начина
ет заботиться, а с самого начала жизнь и мир одно, человек знает жизнь
и мир как свою заботу — в том, я говорил, «формальном» смысле забо
ты, который включает вообще всякую устремленность. Она появляет
ся очень рано, гораздо раньше замыслов, которые уже ответы на заботу.
Надо всегда помнить, что и то, чем мы сейчас занимаемся, это наш ответ
на заботу, о которой мы возможно забыли, которую мы не успели заме
тить, и если то, чем мы занимаемся, имеет смысл, то не потому, что впи
сывается в графу культурной деятельности, а только потому, что пусть
задним числом, пусть после факта нам удается задуматься о том, как
всё, что мы делаем, говорим, решаем, подталкивается нашей первой по-
вернутостью к миру; эта повернутость захваченность миром, имеющая
структуру ранней, всё опережающей заботы. И в мире упаси нас Господь
видеть объективно независимо от нас существующие предметы. Всё, что
мы видим, и всё то, как мы видим, написано нашей не всегда нами заме
ченной заботой. Сначала вещи становятся для нас значимы, потому что
втягиваются в нашу заботу; потом только они, снова и снова втягивае
мые в историю нашей заботы, повертываются к нам разной стороной, и
в конце концов, в новоевропейское время, — стороной, странной и зага
дочной, «объективности» (для сравнения: какая объективность вещей в
ι. 2б.з, 2.4 и 9-4 пропустил.
159
СЕМИНАР 1.14
мире, где выйдя из дома смотришь, куда и как летят птицы, это говорит
о том, что сейчас случится, и наливая воду в кувшин благодаришь род
ник, маленькое божество, за то, что оно милостиво), или, в наше время,
стороной «применимости» (стороной «пригодности», «включаемости»,
«используемости», то, что Хайдеггер через тридцать лет назовет словом,
которому будет суждена долгая жизнь, — поставом: всё в наше время
существует для нас способом постава, представляется, предоставляет
ся, поставляется, выставляется, входит в состав технически организо
ванного целого; но это будет позже, об этом еще надо будет говорить).
Мир возвращается человеку таким, каким его успела сделать его забота.
Жизнь, настроенная, устремленная, озабоченная, т. е. по своей сути от
носящаяся к миру — это та фундаментальная действительность, кото
рая видит себя не в самой себе, — в самой себе она себя видеть, так ска
зать, не успевает из-за того, о чем я говорил, что забота раньше знания
(так на лице четырехмесячного младенца мы видим жгучий интерес,
устремленность, нацеленность, хотя совершенно ясно, что он не знает
ничего ни о вещах мира, ни о себе: он не видит себя отдельным от мира,
в нем есть стремление, которое сцепляет его с миром, оно стремление
быть в мире, и из этого стремления выплескивается и постепенно скла
дывающийся образ мира, и постепенно складывающееся ощущение ре
бенком самого себя, — вовсе не так, что сначала он видит мир, чувству
ет Я, потом формирует отношение своего Я к миру), — забота раньше
знания, поэтому забота непосредственно о себе не знает, она узнает се
бя, не узнавая, уже только в образе мира, якобы объективном, фактиче
ски набросанном заботой. Разлучение жизни с самой собой, получающе
еся при озабоченном охвате вещей и еще большем охвате вещей и еще
большем охвате вещей (конца охвату не будет, потому что забота с само
го начала нацелена на целый мир), само по себе — это разлучение жизни
с собой — не воспринимается, оно проецируется на вещи в виде их да
лекости, несвязности между собой, в виде их неустранимого, несглажи-
ваемого отстояния от нас и друг от друга. Далекость, отстояние вещей
воспринимаются как подлежащие преодолению; по существу они, одна
ко, непреодолимы; жизнь тут поэтому ввязывается в еще одно нескон
чаемое предприятие, — преодоление далекости вещей, в ориентации на
которые жизнь на самом деле далека не от них, а от самой себя, от своей
сути, заботы-стремления. Вещи далеки: далеко высокое положение в об
ществе, коммерческий успех, привилегированное положение, хорошая
академическая позиция, и эти вещи обречены всегда оставаться дале-
ι6ο
16 АПРЕЛЯ 1991
ко, даже каждый раз всё дальше, потому что еще первых ступеней обще
ственной позиции достичь оказывается не чрезмерно трудно, но с бо
лее высокими становится труднее, а самые высокие оказываются в свою
очередь далеки от того, что в них издалека мерещилось. Как такое мо
жет быть, позволительно спросить, ведь высокое общественное положе
ние действительно высоко; при приближении к нему оно, однако, ока
зывается не тем, чем казалось. Нет, его высота и отдаленность гипербо
личны, спроецированы силой заботы — эта сила тем напряженнее, чем
безвозвратнее она расстается с самой собой, целиком выбрасывая себя
на вещи. Т . е . высокопоставленность высокого социального положения
гиперболична, она нарисована силой забывшей себя, выбросившей се
бя в вещи заботы.
Дело вовсе не в том, что якобы «ошибочна» гиперболизация социаль
ного (или академического, научного) положения. Действовать наобо
рот, «презирать» высокое социальное (научное) положение, «не ценить»
его, «отвернуться» от иллюзорного престижа, «уйти в себя», как это на
зывается, — это всё в той же мере уйти от себя, от понимания своего
отношения к миру как заботы о целом мире, — заботы, которая в дан
ном, «бескорыстном» случае превращается в «развенчание» этого ми
ра, именно всего мира, со всеми его условностями, обманами и так да
лее. Вместо захвата мира тут расправа над миром под личиной разобла
чения заблуждений, по сути — тот же размах на целый мир, расправа с
ним чуть ли не еще большая, чем у «приобретателей», и забвение о сво
ем существе, заботе, заведомо большее, потому что забота тут выступа
ет под личиной беззаботности о социальном положении, приобретении
вещей мира и так далее, и вся энергия заботы растрачивается на под
держание постоянной, нарочитой, подчеркнутой без-заботности, т. е. де
монстративной незаинтересованности в том, что там и как происходит с
миром. С миром, я сказал, таким образом «расправляются» еще эффек
тивнее, чем на путях манипулирования вещами. В основе расправы все
то же: темная, потому что не проясненная философией, сплошная забо
та как суть отношения нашей жизни к миру.
Задача философии, задача «прояснения», Erhellung — она не в том,
чтобы вместо прежнего исследования объектов (физических, или пси
хологических, или духовных, скажем культурных объектов) теперь, ког
да замечено, что объекты — проекции заботы, исследовать заботу. Это
была бы еще одна редукция, сведение множества к принципу. О заботе
всё равно нельзя знать иначе, как по ее хватке, по разным способам ее
11-2015
1б1
СЕМИНАР 1.14
хватки, какою она схватывает мир. Прояснение это именно прояснение:
неупускание вот этого самого, что образ окружающего мира нам спу
щен не сверху из запредельных диктующих миров, а рано и исподволь
спроецирован нашим первичным отношением к миру, заботой.
Тогда, если прояснение не захочет быть еще одной редукцией или еще
одним, очередным конструированием, откроется одно обстоятельство:
что конца заботе нет; ни заботой, ни тем, о чем забота, миром, завер
шения заботе не предусмотрено, забота как ранняя захваченность ми
ром не может захватить мир и «проваливается», «рушится», «обруши
вается» в него без шанса нащупать край и остановиться. Вторая глава,
последняя, второй последней части курса, который мы читаем («Фено
менологические интерпретации к Аристотелю») называется die Ruinanz,
от латинского ruere, ринувшись проваливаться, рушиться, отсюда «руи
на»; и немецкое поясняющее повторение — Sturz, крушение. Жизнь —
забота, захватывающая мир, чтобы укрепиться в нем, способом каким
здесь и сейчас видится возможным. Жизнь поддерживает себя, закре
пляясь в мире за вещи. Но закреплению нет конца. В каждом новом за
креплении жизнь выходит из себя, снимает свои пределы. Она, как это
говорится, «расширяется» и край расширению мир, у которого всегда
находится простор для любого размаха. Размах не удерживается от то
го, чтобы размахнуться до неостановимости. Размах разгоняет сам се
бя; заботой подготавливается новая забота; движение, так сказать, по
могает само себе. Забота не самодвижущийся мотор внутри человече
ской жизни: она с самого начала отношение, она относится к миру, она
есть, ее движение есть, потому что есть то отношение и есть мир, кото
рый для жизни и где, в чем, и куда, и для чего. В такой мир, к которому
с самого начала относится жизнь, жизнь проваливается, рушится. Чем
скорее, тем неостановимее. Она проваливается, потому что мир ее впу
скает, не как чемодан или ящик или вагон в себя впускает, а как впу
скает пустота. Потому что по беспредельности впускания мир пусто
та, если быть внимательным к тому, что говорит это русское слово: мир
это пусть, ограничивают только картины мира, сам мир пускает быть и
жить, и даже нельзя сказать строго, что «быть и жить в себе», «внутри
себя»: он весь и сводится к впусканию, допущению, мир это впускаю
щий, не ограничивающий простор.
Первая фраза второй главы второй части: «Эту, таким образом саму
себя развертывающую и при этом саму в себе себе помогающую, тем се
бя повышающую подвижность фактической жизни (которая <т. е. под-
1б2
16 АПРЕЛЯ 1991
вижность> как таковая создана миром этой жизни), мы обозначаем как
«рушение» (Sturz); это движение, которое образует само себя, и все же
не себя, а пустоту, в которой оно себя движет; его <движения> пусто
та есть его возможность движения. Тем самым получен фундаменталь
ный смысл подвижности фактической жизни, этот смысл мы термино
логически фиксируем как Ruinanz, крушение <ruina-Sturz, проваливание
в пустоту>»
1
. Здесь пустотой обеспечивается движение и его несконча-
емость, и одновременно движением создается как само движение и пу
стота, как понять? Выявлен мир как простор впервые человеком, его
озабоченным, стремящимся движением захвата мира. Без этого мир не
был бы выявлен как простор, мир вообще не был бы выявлен, мир не
присутствовал бы. Человек существо, с самого начала относящееся —
от-носящее-себя — к миру и тем показывающее мир. Человек малый
мир, микрокосм не потому, что в нем все мелкие детальки, в крупном
виде составляющие мир, а потому, что он по своему существу и своим
существом — стрелка, нацеленность, направленность, устремленность
(я говорил — до знания, до сознания, раньше знания себя) к целому ми
ру, существо мир собой обнаруживающее, своей озабоченной неостано
вимой, ускоряющей подвижностью мир впервые очерчивающее так, что
только с человеком мир появляется, т. е. как мир, как целое, как место
развертывания действия, как простор, как впускающая пустота.
Что всё это, на первый взгляд никакого отношения к Аристотелю не
имеющее, — на самом деле сплошной комментарий к «Физике» и «Мета
физике» (физика — о движении, пустоте, покое и «месте», «Метафизи
ка» — о неподвижном перводвигателе и о космосе, о движении внутри
космоса и устремленности этого движения к высшей всё вмещающей
сфере), — что всё это у Хайдеггера в 1921/1922 году — непрерывный ком
ментарий к Аристотелю, причем, насколько я знаком с древними, сред
невековыми и новыми комментариями к Аристотелю, лучший, потому
что самый исчерпывающий комментарий, — это настолько важно, —
важно для понимания Аристотеля, и важно для правильного понимания
Хайдеггера, в опровержение одичалых и дезориентированных его пони
маний; важно для философии; важно, и первостепенно важно, для нас;
наконец, важно, и может быть, прежде всего важно, всего важнее для по
нимания нашего времени и того, что происходит с так называемой пла
нетарной технической цивилизацией, — настолько важно для всего это-
1. GA, Bd. 6i,S. 131.
11*
163
СЕМИНАР 1.14
го, я говорю, что требует от нас несоизмеримо большего внимания и от
дания себя, чем на какие мы сейчас способны, поэтому я ограничиваюсь
сейчас только вот этим, которое может показаться недоказанным, заме
чанием о том, что всё, что мы последние три раза читали, был коммен
тарий к Аристотелю. Это значит, между прочим, соответственно, что и
«Бытие и время» тоже в основной своей мысли аристотелевское. Особая
красота этого явления, аристотелизма Хайдеггера, между прочим, — в
его незамеченности.
Вот что мы пока должны хотя бы мельком заметить, от невозможно
сти, неспособности (хотя бы от малого знания Аристотеля) внимательно
рассмотреть. Может быть, нам повезет, и нам удастся подробнее всмо
треться в Аристотеля. Пока будем, теряя почву под ногами, от раскры
вающегося простора, впускающей пустоты, делать лучшее, что можем,
вчитываться в текст хайдеггеровского курса, который, слава Богу, с 1985
года у нас под руками. И читаем «формальное» (мы помним, что значит
«формальное»: предельно очерчивающее, свободно впускающее предмет
без втискивания его в форму, дающее слово самому предмету и до того,
как сам предмет начал говорить, ничего о нем не говорящее, «формаль
ное» в самом деле) — вот такое «формальное» определение «обрушива
ния», Ruinanz: это «недвижность фактической жизни, которую эта фак
тическая жизнь „осуществляет", т. е. в качестве которой она „есть" в са
мой себе как сама для себя самой из себя самой за пределы себя самой и
при всем этом против себя самой»
1
. «Против» себя самого совершается
движение фактической жизни потому, почему говорилось: потому что
чем больше движения, тем яснее обнаруживается беспредельность ми
рового поля (простора), недостижимость цели движения, неутолимость
заботы, перспектива ускоряющегося падения (крушения) движения ку
да? в пустоту, впускающий простор мира. Вот таким образом.
В тексте курса здесь замечание в квадратных скобках, значит которое
Хайдеггер, наверное, с кафедры не произнес, написал на полях лекции
потом. Преструкция (мы о преструкции говорили: заранее готовая к
схватыванию нацеленность жизни, как, в моем примере, борец или бок
сер часто всегда вообще ходят в специфической осанке, настроенные,
«преструктурированные» на отбрасывание, повержение противника) и
высвечивание (высвечивание мира с его вещами как проецирование на
его простор значимости, сопутствующей заботе, стремлению), вот эти
ι. GA, Bd. 61, S. 131.
164
16 АПРЕЛЯ 1991
два, преструкция и высвечивание, — они, понятным образом, выраже
ние интенциональности (мы говорили об интенциональности, у Хайдег-
гера она от Гуссерля, у Гуссерля от Брентано, у Брентано от его занятий
средневековьем, к которому он перешел от Канта, заметив у Канта боль
шую, чем думали, привязанность к северным Средним векам; а в схола
стике интенция одно из главных понятий, и prima intentio это непосред
ственная человеческая занятость делами, скажем человек идет на охоту
добыть медвежатины и шкуры; secunda intentio, вторая интенция — он
задумывается, занят новой мыслью о том, почему он охотник, правиль
но ли, что он охотник, и правильно ли он охотится. Мы об этом говори
ли, только давно). Теперь Хайдеггер пишет: конечно, преструкция и вы
светление мира — это выражение интенции; интенция — формальная
первоструктура фактической жизни. Что меня с давних пор тревожит,
не дает покоя: что, интенциональность упала с неба? Если она нечто по
следнее, предельное — то в каком смысле конца, окончательности, пре
дела? Как ее обнаружить, как иметь ее опыт? Поди попробуй «объясни»,
что я так и так неизбежно должен жить и «быть» интенционально, ин-
тенциональным образом! Как объяснить интенциональность, если она
сама — формальная (помним, в каком смысле формальная) фундамен
тальная структура для всех и любых категориальных структур фактич
ности? (Мы тут можем пока считать, что интенция и забота одно и то
же.) Интенциональность — первое, раннее, поэтому всякое понимание
интенции будет уже ее картиной, истолкованием, интенция скроется,
спрячется в намерении ее понять, ускользнет от теоретического взгля
да. Значит всё-таки интенция с неба, она неприступна, человек смирись?
Нет: есть философия, долгий и для обывателя скучный путь, очень дол
гий, на целую жизнь: путь внимания, внимания вот к этому обстоятель
ству, что интенция (забота в своей сути) ускользает. Внимание не пре
кращает крушения жизни, а с другой стороны, само внимание — не кру
шение, как оно не стремление; внимание прикасается к тому в мире — к
той сути мира, — которая для интенции (заботы) недоступна: что мир
это вмещающий простор, а не ящик со стенками, до которых добраться:
внимание, как мир в его сути, это впускание, вмещение, вбирание; толь
ко во внимании человек может вобрать мир в его существе, т. е. толь
ко во внимании человек имеет шанс стать миром, а не только чем-то та
ким, что рушится, проваливается в бесконечность мира и тем, конечно,
на мир указывает, но одновременно и мира не видит как настоящего, —
как слепая стрелка.
165
СЕМИНАР 1.14
Что забота, интенция обрушивается в нескончаемый впускающий
простор мира, имеет характер падения, пропадания, это вовсе не оче
видный для самой заботы — без специального внимания — факт. Ско
рее забота по своему существу склонна рисовать себе цель по крайней
мере на первый взгляд — а дальше деловитость заботы смотреть редко
хочет, чтобы не демобилизоваться, — как достижимую. Об этом уже го
ворилось: забота, не знающая, что ее мир ей нарисован ею самою, име
ет дело с картиной мира (скажем, такого, где всё определяется «борьбой
за существование», так что сейчасное продолжение собственного суще
ствования представляется уже достаточно достигнутой целью) — с этой
или с другой картиной мира человек склонен иметь дело так, словно хо-
рошОу что он имеет картину мира, а без картины мира было бы хужеу как
хорошо, если у меня есть расписание поездов, а без расписания было не
так хорошо; т. е . что картина мира это достижениву как маленькое до
стижение — покупка расписания поездов. Это не так; для целого мира
расписания нет, иначе сказать, целый мир впускает в себя всякое, любое
расписание, поэтому смотреть на картину мира пусть утешительнее, но
хуже, чем смотреть на сам мир, как ни тревожна возникающая тогда и
упрочивающаяся потом догадка, что видеть в мире картину, которая на
подобие карты ориентировала бы нас, нельзя, не удается.
Каким образом забота выходит за свои пределы и обрушивается в
мир, который оказывается допускает любое количество движения. За
бота заботится не только о вещах, она себе самой предмет заботы: за
бота озабочена и тем, как именно она озабочена и как ей следовало бы
быть озабоченной. Действуя с вещами, забота еще действует сама с со
бой, причем не в смысле саморефлексии, не в смысле secunda intentio,
а так, что забота для самой себя вещь среди вещей, обстоятельство ми
ра, берущееся во внимание так же, как любое остальное. Бросившая се
бя в мир забота сама становится подлежащей заботе, берет себя, и да
же не делая для «себя» исключения. Так собственное тело для спорт
смена, думающего о больших достижениях, становится вещью среди
вещей, физиологическим механизмом. Масса движения, какою высту
пает забота, сама становится предметом заботы; забота как бы взвин
чивает себя, ее общее количество возрастает, и не арифметически, по
тому что озабоченность характером, количеством, направленностью за
боты в свою очередь может стать делом заботы; так бессонный ночью
озабочен тем, что слишком непомерна, как-то безысходна его озабочен
ность (ночная) его деятельностью (дневной); как с рефлексией, которая
166
16 АПРЕЛЯ 1991
может оборачиваться на себя неограниченное число раз, так с заботой,
ее обращению на себя (саморазрастанию) нет конца. Забота становит
ся своей собственной воронкой, куда проваливается. Конец — обесси-
ление, немощь или старение? Нет, не конец: с сокращением способно
сти много заметного натворить в мире забота, наоборот, еще разраста
ется, «терзает», «сушит» (русская поговорка: не работа сушит, а забота),
«грызет», «сверлит». Это проходит под рубрикой «минутных настрое
ний», иррациональных переживаний; человек, однако, смахнуть такие
«настроения» не может, он начинает обычно просто заботиться еще и о
том, чтобы их не было. Но такие настроения не психология, и их нель
зя «развеять». Они черты заботы; забота суть жизни как пребывания в
мире. Эти настроения («гложет», «давит», «душит») — вести, только не
такие, из которых надо извлечь, которые надо прочесть как знания, они
вести о том, что забота уводит далеко и не перестанет уводить, наобо
рот, станет уводить всё дальше. Эти «гложет» надо принять не как на
строения, от которых отмахнуться, а как неотменимые черты фактиче
ской жизни, ее вехи, детерминанты. Жизнь зря загораживается от не
приятного, мучительного: такое загораживание не отменит факта, что
жизнь всегда открыта чему-то такому, что ее гложет, — неотменимо
го факта, который в жизнь входит, жизнь составляет: жизнь это такое,
что терзается. Чем? Концом. Но не тем концом, которого у заботы не
оказалось, потому что она вышла на безграничный впускающий про
стор вещей, провоцирующих заботу, — а другим концом, концом, кото
рый вдобавок еще отнимает у жизни ресурсы для осуществления того,
чем она озабочена. «Терзание» жизни еще раз подчеркивает, что она, —
лишний раз подчеркивает, что конца в смысле завершения ее усилий не
предвидится, что будет обрыв, как внезапный обрыв, оборванность, и
опять в смысле провала, бездны, обрыва как пустоты, куда обрушива
ется забота.
Тут мне вдруг вспомнилась записка*: не нравится мне что-то Хайдег-
гер, чересчур он мрачный, не лучше ли светлое мировоззрение, оптими
стическое. Нет оптимистическое мировоззрение не лучше, оно печаль
нее, потому что боится даже заглянуть во мрак, — а сказать, что мрака
нет, как сказать, что бездны нет, что ничто нет, что зла нет, конечно, мож
но, только потом не будет конца заботы о том, чтобы доказать и непре
станно доказывать себе, что их действительно нет, что их на самом де
ле нет, что их если внимательно всмотреться нет, если по-настоящему
проникнуться истинным мировоззрением нет: конца этой заботе опять
167
СЕМИНАР 1.14
не видно. О «мрачности» Хайдеггера неверно: мрачны были вещи, кото
рые люди старались не замечать, до того, как он их просветлил; теперь
эти вещи не мрачны, они видимы, хотя страшны; тем более не мрачно
«прояснение», Erhellung, которым он только и занят, — не рисованием
картины мира, которая бы понравилась.
Дальше. Из-за конца, которым ограничивает жизнь то, что ее «гло
жет», «сушит» (между прочим, мы забыли обращать внимание на то,
сколько сил мы тратим на то, чтобы от этих «пессимистических настро
ений» избавиться, развлечения, телевизор, кофе и еще кофе, сигареты,
выпивка, каждый раз новые знакомства предпочтительно с «интерес
ными людьми», другие городские увлечения, газеты каждое утро, поли
тические новости один раз в час, я перечислил еще явно не всё, и похо
же, что у городского человека большая часть его провождения времени
уходит на избежание так называемых «мрачных настроений»), — из-за
конца, поставленного так или иначе жизни, жизнь оказывается исто
ричной. Эти «гложет», «сушит», «терзает» — вестники историчности
жизни; иногда — единственные вестники. Это история задевает чело
века, который вполне может так смотреть на экран, так вести «задушев
ные» разговоры, так день за днем говорить о политике, словно у него в
запасе века и века, — что он в истории, у которой начало и конец, он мо
жет не заметить, от этого отмахнуться, но вестью об историчности к не
му приходят и тревожные мысли, и «случайные» настроения, и такие в
сущности очень странные констатации о самом себе, когда человек го
ворит: «у меня нет времени». Это говорится как что-то самое простое на
свете, ну нету времени, неужели неясно, но, может быть, это одна из са
мых загадочных вещей, которые человек говорит о себе. Как и «будет
время» («потом у меня будет время»). Не человек устроил так, что у не
го нет времени; человек устраивал что-то совсем другое, и забота о том
устройстве сделала так, что «нет времени»; и когда человек хочет устро
ить (устроиться) так, что у него «будет время», то какое время у него бу
дет, какого рода время, когда ясно, что для устройства того, чтобы то
время «было», требуется время, требуется так, что человек оказывается
в ситуации когда у него «нет времени»? Время как-то приходит и ухо
дит, его вдруг «нет», потом оно вдруг «есть»; и всегда есть вещи, для ко
торых время есть: и именно потому, что такие вещи всегда есть, у че
ловека всегда в каком-то смысле и для чего-то времени нет. Время это,
историческое время человека, — никак не похоже на масштабные рам
ки, в которые укладываются события, не похоже на последовательность
168
16 АПРЕЛЯ 1991
фактов и событий: это время, историческое время человека, сплетено
с его движением, с движением его заботы, с его захваченностью веща
ми [...]
Ускорение жизни, из-за неостановимости заботы, которая «прова
ливается» в неохватное многообразие вещей, отнимает у жизни время.
Чем шире забота размазывается по вещам, тем невозвратимее жизнь те
ряет свою историчность, т. е. шанс иметь начало, середину и заверше
ние (не конец в смысле обрыва). Но потерянная, вычеркнутая из жиз
ни историчность все равно остается историчностью, пусть нулевой. Так
«безвременье», «выпадение из истории» всё равно принадлежит исто
рии; «история остановилась» — это факт истории, историческое собы
тие, как «нет времени» не значит, что времени нет. Можно сказать так:
жизнь, обрушивающаяся в незавершенность, т. е. принципиальную не
возможность завершиться, отворачивается от времени и от истории,
уходит от них, но не так, что перестает определяться временем и исто
рией: всё равно определяется временем и историей, только вот именно
этим способом: что озабочено тем, чтобы быть вне времени и истории.
Проваливающаяся в принципиальную незавершенность жизнь жестко
определена своей заботой не быть тем, чем она могла бы быть: событи
ем. Когда сегодня я знаю, что завтра мои проблемы не уменьшатся, и на
мерен решать их еще энергичнее, чем сегодня, показывая еще большие
образцы эффективности, производительности, деловитости, или лов
кости, или хитрости, или изворотливости и никогда не задумываюсь
о том, как случилось, что проблемы на мне нависли, почему это оказа
лось неизбежным, как относиться, как я должен относиться к тому, что
проблемы эти или подобные не будут с меня сняты, — то едва ли я уже
поумнею до такой степени, чтобы мои ежедневные хлопоты перестали
быть бесконечным, безнадежным перебором вещей, бегством от исто
рии, бегством от события, падением в пустоту — от глупого страха за
вершенности.
Глуп потому, что поддаюсь соблазну собственного движения, т. е. ста
ло быть и достижения. Соблазн этот именно в моем движении, кото
рое по мере крушения, обрушивания в простор мира становится всё бо
лее спешным, мне кажется — всё более успешным. Я могу быть благоче
стивым и, скажем, усматривать соблазны, всякого рода, и преодолевать
их. Что соблазн непреодолимый — эта моя нацеленность на преуспея
ние в борьбе с соблазнами, я вовсе не обязательно замечу; скорее все
го будет повышаться мое чувство превосходства над другими, скажем
169
СЕМИНАР 1.14
пьющими, скажем покупающими у метро брошюры о сексе; нужно со
всем иначе, чем на преодоление соблазнов, направленное внимание, что
бы заметить: чем же это я занят, откуда взялась у меня вообще фанта
зия, что такая вещь, как превосходство мое, несоблазненного, над дру
гими, соблазненными, возможно; что такая вещь, как моя этическая или
благочестивая образцовость на фоне падших и распавшихся возможна.
Опять же, конечно, мало вероятно, что я поднимусь до такой догадки,
особенно — пока не задумаюсь, чем, как и зачем спроецированы мной
на действительность мои образы или картины благочестия, нравствен
ности, этического превосходства над другими.
Теперь надо еще кажется возвратиться к тому, почему жизнь, забота о
захвате или охвате вещей, проваливается в пустоту, теперь Хайдеггер го
ворит — в Ничто, Nichts. Ведь вещи, скажут нам, не пустота; пусть они
оказываются неохватными из-за простора мира, о котором начинав
ший захват человек еще не подозревал, — не догадывался, какого раз
маха это явление, мир, — но всё равно ведь каждая из бесчисленных ве
щей не ничто. В каком смысле мы проваливаемся в ничто среди множа
щихся вещей. В том смысле, и потому, что чем больше в наши расчеты
входят и наше сознание занимают вещи, их связи, манипуляции с ними,
тем меньше у нас шансов вспомнить, просто не остается уже вмещаю
щей способности, что в начале нашего мира вещей стояла наша [забота]
(индивидуальная или всей нашей так называемой культуры — цивили
зации, — но установки цивилизации с невероятной полнотой вбирают
ся индивидуумом) — в этом смысле наша исходная забота как отнесен
ность к миру, забота, которая в своих исходных категориях, преструк-
ции и высвечивании, сделала наш мир таким, каким сделала. Не видя
уже, не успевая уже видеть в вещах (мы слишком их многообразием за
няты) самих же себя, никогда уже и нигде самих себя не встречая, встре
чая факты-обстоятельства-структуры-задачи, как объективные, мы
встречаем ничто потому, что вся эта объективная сторона вещей иллю
зорна, держится не собой, а нашей приобретенной способностью слепо
ты. И вот еще одно «формальное определение» Ничто — впускающее,
не загораживающее взгляда на разные проявления Ничто: безвременье,
бессобытийность, безуспешность, безнадежность, бесперспективность.
Вот формальнее определение: «Ничто фактической жизни есть ее соб
ственное, этой же жизнью и для нее же самой развернутое, ей соразмер
ное, распространяющееся на весь окружающий мир отсутствие <не-
появление, так сказать, невстречание, Nichtvorkommen> в человеческом
170
16 АПРЕЛЯ 1991
бытии его самого»
1
. Чем больше фактическая жизнь живет способом за
боты, безвозвратно проваливающейся в вещи, тем настойчивее и тем са
мым — одновременно — тем неприметнее для себя, тем более исподволь
она заботится о том, чтобы не появлялась, не встречалась сама себе. Что,
не чувствует жизнь, что она сама от себя, рассеявшись на вещи, скрыла?
Нет, чувствует, но с особенной стороны: чувствует именно как нежелан
ное, скрываемое от себя ощущение, что с вещами неладно, что за ними
просвечивает Ничто. Забота о том, чтобы еще шире и, может быть, как-
то «скользя», чтобы не углубляться в них, их захватить, конечно, рас
тет и старается вытеснить то ощущение пустоты за вещами, разоблача
ет то ощущение как «нигилизм» и «борется» с нигилизмом; а между тем
в этом тайно прокрадывающемся ощущении пустоты вещей, которыми
человек научился так успешно манипулировать, только еще и остается
память о том, чего уже не видно.
Как возникает эта слепота к сути вещей — к тому, что они спроециро
ваны, «назначены», что в них мы должны были бы встретить нас самих
в нашем первом, непознанном отношении к миру? Слепота возникает
сразу, в момент беспроблемного, размашистого, «оптимистического» на
падения нашего на мир (допустим, пляж, сияющее солнце, вино, сигаре
ты, купанье, броситься в воду, загорать — только почему вдруг пустота
и скука, да еще какие, и неудовлетворенность, и желание чего-то друго
го? и вообще всякое бездумное захватывание мира); от якобы непосред
ственной возможности ринуться в вещи мира — вот они, такие доступ
ные, так нас ожидают, — взять их в руки, они сами просятся, они такие
близкие: живи непосредственной жизнью, не рефлектируй, бери вещи.
К чему теории, они только иссушают, вот, прямо: владей чем можно вла
деть, в конце концов мир у твоих ног. В напрашивающейся самопонят
ности, в доступности такого подхода, который и есть «руина», провали-
вание в вещи мира, — механизм слепоты, которая не постепенно разви
вается, а наступает так мгновенно.
Что, нас призывают значит расстаться с непосредственностью, с пря
мым отношением к вещам, все разбавить рефлексией, раздумьем? Нет:
нас зовут к еще большей, одновременно и необходимой, и почти недо
ступной для человека непосредственности, к умению схватить что-то
еще более раннее, чем ясное, как день, присутствие вещей: уловить то,
что происходит даже не быстро, а вдруг, до зрения, которым мы видим
ι. GA, Bd. 6i,S.i48.
171
СЕМИНАР 1.14
вещи вне нас, в той первой, исходной нацеленности на мир, которая од
новременно — именно вдруг — бросила нас в мир и не так, что мир уже
былу куда нас бросило, а так, что мы принадлежим к миру, мы такие су
щества, что вокруг нас мир. Слишком быстро, сразу вокруг нас мир. Он
уже во взгляде младенца, который не умеет говорить и думать. Филосо
фия о том, вокруг того мира. Мир появляется быстрее, чем в нем выри
совываются вещи. Мысль «быстрее всего»: настолько быстрее всего, что
может быть имеет шанс успеть к появлению мира — чего не может и ни
когда не сможет успеть расчет, гордящийся тем, как он ловко и успеш
но оперирует с вещами, которые вот они, гляди и бери, близко, внутри
мира, который откуда? Ах он просто же есть, чего мудрить! Наша фи
лософия вообще под «проблемами мира» понимает известно что, а сам
мир для нее не проблема: он просто есть, что вы, с ума сошли, вот же
он! И только упрямый Шопенгауэр кричал в 19 веке: «Мир, мир, ослы!
мир — проблема философии, и больше ничего».
1.15
23.4.1991
Дочитываем «Феноменологические интерпретации к Аристотелю», курс
1921/1922 года, только сейчас открываемого нового философа 20 века,
Хайдеггера-2, Второго. Без него — а в 1920-х годах, да и вообще до 1980-х
годов, этот Хайдеггер-2 был совершенно неизвестен, т. е. кроме слушав
ших его студентов, — «Бытие и время» не может быть понято и не бы
ло понято; видя, до какой степени оно не понято и не будучи в состоя
нии ничего сделать, Хайдеггер вторую его часть не напечатал, по одной
версии уничтожил, по другой — переделал в курс лекций, прочитанный
через два года после «Бытия и времени», о нем еще будем говорить. Бо
юсь только, уже осенью, если осенью еще можно будет что-то говорить.
Можно будет или нельзя — это, впрочем, хотя и важный, но вроде бы
совершенно не по делу, как раньше говорили, праздный вопрос, потому
что самое плохое, что мы могли бы придумать, — это сознательно или
бессознательно хлопотать и заботиться о том, как бы исхитриться и го
ворить все-таки так, в таком ракурсе, в таком стиле, в таком осторож
ном плане, чтобы продолжить говорить оказалось бы каким-то образом
можно. Вот тогда всякий смысл говорения — когда мы попытались бы
«вписаться» в какие-то «структуры», скажем академические или универ
ситетские или культурно-политические или какие -нибудь еще структу
ры, — действительно пропал бы. Потому что структуры те и без того го
ворят, говорят много, громко, убедительно и склоняя на свою сторону.
Наше дело не присоединяться к структурам и не, упаси Господь, как-то
«бороться» против структур, а просто думать и понимать, следя за тем,
чтобы не закружилась голова. Кто-то сказал, о. Сергий Булгаков повто
рил в отношении Флоренского, что философская мысль только для тех,
кто не страдает головокружением.
Мы кончили на ничто, которое проступает в вещах для заботы, ко
торая в своем ускоряющемся (развертывающемся) движении провали
вается (руина, Ruinanz) в вещи. — Попутно, несущественно: параллели
из истории философии некстати, их и слишком много, и не моих позна
ний, не с моими познаниями надеяться те параллели проследить хотя
бы в основной линии, — но в порядке исключения, и из-за того, что в
1922 г. еще мало прошло со времени увлечения Хайдеггера Августином
173
СЕМИНАР 1.15
(и Лютером), что, конечно, можно без большой опасности ошибки до
гадываться, что в мысли о «руине» жизни, набросившейся на вещи и за
хватывающей все больше и больше вещей, присутствует Августин — нео
платоник, значит и аристотелик — с его фразой о «смертоносном про
грессе», прогресс тут еще шире, чем как мы понимаем сейчас: вообще
всякое движение захвата. Но, я говорю, обычно такие аналогии скорее
выводят на поверхностную плоскость никому не нужной эрудиции из
уникального. Уникальное это то, что Хайдеггер говорил именно вот в те
зимне-весенние месяцы 1921/1922 г., и в ту немецкую ситуацию, и чего он
больше уже никогда не говорил, говорил другое, опять уникальное. Раз
бавить, разжижить неповторенное, единственное на типичное, обще
значимое: «А, ну это мы знаем, это то же самое, что у Макса Вебера, нет
или кажется у Освальда Шпенглера; нет, что это вы говорите, у Осваль
да Шпенглера, конечно же, у Эдмунда Гуссерля, ну совершенно то же са
мое, смотрите какие параллели, даже слова одинаковые» — разбавить
так и приучиться так разбавлять и уже из этого разжиженного состо
яния не выходить, значит незаметно обеспечить себя и от ответствен
ности за то, что мы здесь и теперь делаем, выбросить себя в безвремен
ное общекультурное пространство вообще философских «проблем»: мы
уже таму а здесь мы телом бренным случайно. Все, что говорится, — го
ворится совсем разное, может быть, суетливое, беспомощное или пани
ческое, может быть, лукавое и расчетливое, так называемое «благораз
умное», но и настоящее тоже, — говорится не из вневременного зане-
бесного бытия вечной души, а из вот этой моей сейчасной ситуации (и
когда якобы говорится из платонической вечности, тогда тем неосмыс
леннее привязанность к ситуации). Если мы не поймем это в отношении
Хайдеггера, говорившего и писавшего в решающие годы немецкого на
рода и вообще Европы, в годы, каких у этого народа и у Европы по подъ
ему самой европейской почвы, возможно, не было и теперь уже, мож
но почти с полной уверенностью сказать, не будет, — по ответственно
сти, которая требовалась, по драме, которая развертывалась, — или если
мы не поймем опять то, что человек говорит из своей ситуации, в случае
Аристотеля, который думал, говорил и писал тоже в уникальные годы
взрыва и конца античного классического греческого мира, срыва, обры
ва, руины греческой, собственно прежде всего Афинской цивилизации,
которая тоже размахнулась до мировой и размазала себя по простран
ству, превратившись в систему политическую, образовательную, лите
ратурную, — и, может быть, только Аристотель еще спасал настоящий
174
23 АПРЕЛЯ 1991
замысел этой цивилизации, ее настоящую всемирность, и оставил по
сле себя на тысячелетия этот замысел воплощенным в мысли и, больше,
в состоявшейся мысли, в достигнутой полноте человека (потом толь
ко высокое Средневековье у Фомы поднялось до этой полноты, и ран
ний поэтико-философский Ренессанс, и потом — только 20 наш век, то
же Ренессанс, только мы пока еще не знаем об этом, что наш век уни
кальный, что в нем тоже человек почти прикоснулся к своей полноте,
в свободе и самоосуществлении) — и как Хайдеггер Аристотель был не
узнан своими, отождествлен с деспотизмом Александра Македонского,
должен был бежать из Афин и умер через год 62-летним в городе Халки-
де на острове Эвбея. «Какое у нас, милые, тысячелетие на дворе?» — это
слова не функционера культуры, выселившего себя в двухмерное про
странство ее «проблем», на листок бумаги, и редко выглядывающего в
окно, а вызов суете, которая вовсе не обязательно единственный способ
отвечать своему времени. Пример Аристотеля, Хайдеггера, и — в другом
деле, и с другим размахом, Пастернака, — показывает, что как раз самое
уместное, что делается в важное время, требующее крайней ответствен
ности, не опознается, по крайней мере — сразу не опознается. Потому
что для такого дела требуется большая захваченность, не оставляющая
средств для приспособления; есть такие времена в истории, — или, вер
нее сказать, главные повороты в истории такие, что только полный чело
век, осуществившийся, и он осуществляется только в мысли, понима
нии, слове, только как поэт и философ, может устоять — не нашедший
себя, не узнавший себя устоять не может, его сносит ветром истории, он
при всей жертвенной готовности не успевает за ходом вещей — пото
му что та божественная молния, которую, мы в прошлом году читали у
Гельдерлина *, истолковывают земные деяния доныне, слишком скорая,
требует во всяком случае знать, что привычная быстрота человеческого
расчета до нее не достает. — Это о том, что от по-настоящему думающе
го мы можем слышать вещи, которые или нам покажутся не по делу, —
текущий момент требует «действия», — или (это, наверное, хуже) мы их
впишем в плоскость «вечных философских проблем», но они всегда от
вет на время, на здесь и теперь, и часто — лучший ответ, и бывает —
единственный уместный ответ.
Так вот, конец «Феноменологических интерпретаций к Аристоте
лю» — в Германии политический хаос, нищета, фантастическая инфля
ция, революция в Баварии, полная пропажа всякого доверия к традици
онным, вековым устоям.
175
СЕМИНАР 1.15
Хайдеггер говорит, что такое непосредственность, Unmittelbarkeit,
с какой нам даны вещи нашего мира — нашего в том смысле, что на
ша жизнь обращена к нему, он для нашей жизни «то, где», «то, по пово
ду чего», «то, в целях чего». Эта непосредственность странная: она вро
де бы есть, вещи вот они, но из нее нельзя исходить, на ней нельзя ни
чего строить, ею нельзя ничего мерить в том смысле, чтобы говорить:
вот вещи, они даны непосредственно, а что-то другое всего лишь опо
средованно; потому что, приглядевшись, мы видим, что эта непосред
ственность данностей, вещей получается не без нас, она обеспечена вот
именно этой нашей способностью, готовностью ринуться прямо к ве
щам мира, они все тогда, без разделения уже на непосредственные и опо
средованные, делаются непосредственными из-за активности нашего
подхода — кроме одного того случая, когда по каким-то причинам мы
хотим подойти к вещам, каким-то, не непосредственным, а опосредо
ванным образом, т. е. опять -таки мы решим, мы сделаем. Выходит, не
посредственность вещей сделана, устроена нами — опосредована нашей
нацеленностью на вещи, их захват. Она поэтому никоим образом не га
рантия, что мы такие «непосредственно» данные вещи увидим как они
сами по себе есть. Мы их увидим уже в свете нашей преструкции, кото
рую мы не видим именно потому, что благодаря ей охватываем сразу так
много и так ясно. «Нестесненное, взрывное налетание на мир и внутри
мира по образу заботы, обрушивание в вещи, хватание их, взятие в руки
каждый раз того, что настоятельно требует взятия, — все это делает так,
что мы сообразно своей заботе ощущаем мир как ближайшую данность,
как нечто прежде всего входящее в рассмотрение, в нашей озабоченно
сти. Эти нетеоретические способы осмысления, определяющиеся отно
шением заботы, создавая и обеспечивая непосредственность (прямоту)
обладания миром, фактически, однако, существуют только в бытийном
смысле подвижности обрушивания (Ruinanz); a это значит, что о том,
что может быть постигнуто нами и что может быть дано нам по спосо
бу непосредственности, никак нельзя сказать, что оно тем самым схва
тывается само тем способом, каким оно само в своей подлинности заяв
ляет о себе»
1
. Мы схватили, потому что хотели; схваченное поэтому мы
видим уже в свете нашего хотения; так техника мерещится нам в побе
дительном свете, потому что создание или приобретение ее — это наше
желанное достижение.
i.GA,Bd.6i,S.i49·
176
23 АПРЕЛЯ 1991
Здесь немного можно забежать вперед, в то, чего в 22-м году еще нет,
а в 1926 году, в «Бытии и времени», уже будет: а почему, собственно, так
важно схватить вещи, больше, глубже, шире, прочнее? Ведь сытый волк
отдыхает и не режет все стадо. Потому что в первом забытом отноше
нии жизни (человеческой, только человеческой) к миру обладание миром
в каком-то смысле, в смысле такой принадлежности к миру, когда чело
века нет без мира, но и мира нет без человека — какое -то другое облада
ние миром уже есть, и хотя способ того обладания, той принадлежности,
того единства с миром забыт, место человека, или его назначение, в це
лом мире не забыто. Забытость того, как эта целость мира на самом деле
бывает, приобретает форму моей личной неполноты, неприобщенности,
отверженности: это у меня как-то не выходит, не клеится, вот люди, они
умеют, им удается; тогда мне надо, чтобы у меня тоже было, как у людей,
по-немецки Man, безличное местоимение, как бы усредненное, приве
денное к общему знаменателю Mann, человек, — что и в русском «люди»:
вообще люди, у которых все в порядке, которые не одинокие, отвержен
ные, обделенные, как я, — к которым я должен поэтому как-то подтя
нуться. «Люди», у которых все в порядке, а у меня не в порядке, мои от
ношения с миром какие-то не такие, — «люди» это могут быть просто
так называемая «референтная группа», некие удачники, на которых я хо
чу быть похож, или целая партия, которой удалось, или народ, — я хочу
быть национальным, русским, русский же это о какое дело, вот и я тоже
ведь русский, как русский я буду себя вести. «Люди» могут мерещиться
мне в самом разном и быстро меняющемся облике, но важно, что я дол
жен до них подтягиваться, от них не отстать, а они ведь вон они какие,
люди, как они быстро действуют, как они умеют, как они не гложут се
бя сомнениями и самокопанием: газеты, журналы, огромная часть так
называемой художественной литературы, огромная (без преувеличения,
мы еще мало себе представляем, насколько огромная) часть всевозмож
ной публицистики, в том числе такой, которая называет себя филосо
фией, ведут бойкую торговлю образами «людей» — западных, или кото
рые были, или которые будут, или которые должны быть, но во всяком
случае «людей», а то мы какие-то не такие, все «не люди», и так далее. —
Я забежал вперед, чтобы объяснить, почему в нашем захвате вещей ми
ра нам всегда неизбежно кажется, что мы еще мало захватили, что надо
больше: потому что мы смотрим на «людей», а «людям» удалось то, чему
мы разучились: освоиться в мире. Мы поэтому подтягиваемся до «лю
дей». Что «люди» подсунуты нам нашей же заботой, мы опять не успева-
12-2015
177
СЕМИНАР 1.15
ем замечать из-за слишком большой озабоченности этой целью, способ
ной поглотить полностью, — успеть за людьми. Новый виток «руины»,
закручивания в множащихся вещах.
У нас как-то все сложно, посмотрите, как просто у людей, они непо
средственно действуют с вещами, когда мы все раздумываем, не решаем
ся: Нам тоже так надо: прямо, непосредственно.
С непосредственностью, однако, дело обстоит так, как я излагал вы
ше: мы сами в нее окрашиваем вещи. Спрашивается: так что же, вооб
ще нет ничего непосредственного, все непрямо, с неподстроенным мы
не встретимся?
Непосредственное есть, и, похоже, только одно, и оно вот это самое:
Fraglichkeit, стояние под вопросом. Никто не делает так, чтобы что-то
стояло под вопросом; что касается нас, то мы, похоже, только и заня
ты снятием вопросов, «нет проблем» наша мечта и наш идеал, у «людей»
по крайней мере так часто бывает: «no problem». Но как то, насколько
мы озабочены снятием вопросов, показывает, насколько эта Fraglichkeit
первична, непосредственна. — И будет нехорошо, если мы делегируем
эту вопросительность — проблематичность — вещам, или «людям», или
философам-нефилософам, которых мы так легко критикуем, а сами как
в башне утвердимся в глобальном сомнении, в постановке всего под во
прос, сказав себе: я сомневаюсь — значит я несомненно существую. Это
будет нехорошо. На проблематичность нельзя сесть верхом и диалекти
чески вычленить из нее беспроблемность. Fraglichkeit это все-таки Frag
lichkeit: это значит, что единственное, на что мы можем положиться, —
это что и вещи, и «люди», и мы сами точно так же и не в меньшей мере
обращены к нашему тому, чем мы после разбора себя оказываемся, — к
вниманию, к думанию, к спрашиванию, — как вопрос. Мы можем быть
уверены только в этом: что повсюду, вглядевшись, увидим обращенный
к нам вопрос. Ничего не увидим по-честному такого, о чем можно бы
ло бы сказать: а, ну тут дело явное, нет проблем, — даже явная ошибка,
промах, пошлость, оговорка, даже явная псевдофилософская грязь нас
обманывает, если внушает думать, а, ну тут все понятно, это ерунда, —
ничто не бывает так глубоко и загадочно, как пошлость, и есть тайна в
скуке, и в пошлости есть неожиданная мудрость, которую не выдума
ешь нарочно. Значит вещи, никогда не непосредственные в том виде, в
каком мы их захватываем, чтобы ими владеть, всегда самым непосред
ственным, исходным, прямым образом обращены к нам как вопросы,
которые от нас дожидаются и больше ни от кого никогда не дождутся,
178
23 АПРЕЛЯ 1991
чтобы мы о них задумались. — Значит ли это, что то первое отношение
жизни к миру, когда мир это то, в чем, к чему и о чем жизнь, тоже во
прос? Да, и еще какой: может быть, вопрос вопросов; может быть, во
прос, в котором свернуты все вопросы, вопрос, как уравнение с двумя
неизвестными, жизнью и миром.
И тогда вот что: этот вопрос, каким оказывается жизнь в мире для са
мой себя, и мир для нее, и все в мире, — эта обращенность к жизни во
проса, это требование или, лучше сказать, этот вызов к ней, не есть ли
то, что ее больше всего вызывает на ответ, хулигански сказав — что мир
это провокация, он провоцирует человеческую жизнь может быть по
тому, что она ему нужна для себя, для того, чтобы он был? Это далекая
догадка. Останемся пока просто при Fraglichkeit. О ней ясно вот это, по
крайней мере одно: что не надо ничего устраивать и опосредовать, что
бы вещь, ситуация стала для нас вопросом. Она и так, непосредствен
но, сама собой, без подготовки, как она есть — вопрос. Кстати, тут про
ясняется немного, что значит это: видеть вещи, как они есть. Нам кажет
ся, конечно: когда вместо ее подставных образов мы видим ее истинный
образ. Только что такое истинный образ? Лучше будет сказать: мы ви
дим вещь, как она есть, когда видим, что она — вопрос.
Не обязательно видно, что все вещи и обстоятельства — вопрос. Фак
тическая жизнь может не любить вопросов, относиться к тем, кто зада
ется вопросами, с жестом беззаботного превосходства как к таким, ко
торые не понимают, в чем радость жизни. Но вот что важно: та же не
посредственная жизнь, хотя и не обязана и не обязательно так делает,
но бывает, возможно, что она может спрашивать, задаваться вопросом,
а правда ли вещи так непосредственно даны нам; а верно ли, что мы их
можем так прочно схватить. Т. е . начало философии не искусственно,
не обязательно школьно: без подготовки, сама собой вопросительность
может проснуться — и может конечно не проснуться, как говорит Роза
нов: есть люди и целые народы, которые так и не просыпаются к ней,
живут уверенным знанием *. Не больше ли таких людей и народов, чем
других? Розанов говорил об этом «могут проснуться или нет» без трево
ги и трагичности: он говорил в глубине России, которая заведомо про
снулась, и изменить этот факт было уже нельзя.
Что все вопрос — значит ли, что мы потерялись в тумане и все равно
теперь над чем вставать в замешательство? Нет: ведет наша жизненная
ситуация; вовсе не так, что мы теперь засядем в открывшейся нам про
блематичности и будем оттуда ошарашивать каждого, кто еще не знал,
12*
179
СЕМИНАР 1.15
что дело обстоит так. Оттого, что мы знаем, что все вопрос, мы здесь и
теперь жить, непоправимо увязшими в ситуации, пусть нам и мерещит
ся наша внемирность и вневременность, быть не перестаем.
Дело мысли, дело философии увидеть, как мы увязли и увязаем, про
валиваемся («руинанц») в вещи, и возвратиться в движении против
этого проваливания к началам. Открывшаяся проблематичность все
го как единственная непосредственность прокладывает путь к возвра
щению — благодаря опоре на эту непосредственность. Моя жизнь и
не может мне открыться, если я не вижу в ней вопроса; когда я пере
стаю быть себе данностью, еще одной пусть особой среди данностей ми
ра; или культурной данностью, иллюстрацией к философским учениям
о личности, Я, индивидуальности и т. д. Вопрос, о котором напоминает
Fraglichkeit, вовсе не теоретический вопрос, повод для разбирательства,
нового проваливания в вещи культуры, философской культуры, — во
прос имеется в виду настоящий, проблематичность моего вот этого на
хождения здесь и теперь, проблематичность всех занимающих меня фи
лософских вопросов, «вопросов философии», такая проблематичность,
что снова и снова приходится спрашивать: не теряю ли я себя безвоз
вратно в темноте каждый раз, как раз когда мне мерещится, что я такие-
то вопросы уже разрешил. Чтобы быть на высоте проблематичности —
единственного непосредственного лица вещей, — мало взять, принять
«установку» на спрашивание: установка в свою очередь будет проблема
тичной; как проваливание (руина, Sturz) в вещи мира неостановимо, так
должно быть неотступным идущее против этого крушения спрашива
ние и спрашивание о том, что со мной здесь и теперь происходит. Толь
ко так можно вернуться к себе какой я есть, а не рисую себя: к фактиче
скому существующему или не существующему в той мере, в какой я вы
падаю или выпал или, может быть, еще не совсем выпал из истории, из
события, без которого вне которого я, собственно, где? есть ли? Что еще
мне нужно, чтобы я был? Может быть, большая зарплата и положение
выше других, ближе к местам распределения благ?
Фактическая жизнь, обрушившаяся на вещи, всегда такая, что ей не
ким образом каждый раз чего-то не хватает, причем одновременно не
хватает и определенного знания, чего именно не хватает
1
. Она находит
ся в статусе, можно сказать, нехватки. Что, занимающемуся философией
начинает сразу всего хватать? Наверное нет; но философия единствен-
1. GA, Bd. 61, S. 155-
180
23 АПРЕЛЯ 1991
ное или почти единственное, что способно без паники и как должно
осмыслить эту нехватку, проследить ее до начала. Может быть искус
ство, поэзия способна на то же.
Что такое философия, еще раз. Вот она: когда читают такие книги,
«обсуждают» (интересно, что значит обсуждают) такие проблемы, то
это философия, обеспеченное дело; еще когда пишут такие книги, печа
таются в таких журналах. — Философия, думающая, что она может се
бя очертить областью тем и проблем и держаться внутри этой области,
очищая себя от постороннего, нефилософского, житейского например,
находится не в лучшем положении, чем человек, написавший в рифму с
размером и назвавший себя поэтом. Философия это упрямое движение
против обрушивания жизни в вещи, в том числе культурные, для осво
ения своей — моей то есть — фактической, исторической ситуации. Без
«меня», не в смысле личности с знаниями, запросами и идеями, а в смыс
ле жизни, брошеной в мир и увязшей в мире раньше, чем она заметила
проблематичность своей ситуации, — без меня, переставшего убегать от
себя в то, что делают «люди», философии нет. Философия не область, не
культурная сфера, а попытка — ничем не обеспеченная — вернуть жиз
ни, моей человеческой, то, чем она с самого начала размахнулась быть:
отношением к миру, не картине, а событию. Вот единственная настоя
щая проблемная область философии: фактичность, и именно вот этой
моей, хотящей быть философствующей, жизни, история, событие, вре
мя; это же — и предмет философии: «принципиального узнавания опре
деленного сущего в свете смысла его бытия»
1
. Этот предмет не нужно
конструировать, не нужно «полагать», в смысле устанавливать: он зара
нее уже есть как мое Voraus-dasein: то, что я присутствую значимым для
жизни, для мира образом раньше, чем появляюсь со своими мыслями,
со своим спрашиванием на месте этого присутствия.
Здесь отличие философии от науки, которая себя строит: наука недо
вольна собой, пока не открыла такое, чего раньше не было известно и в
принципе не могло быть известно. Философия, наоборот, должна осте
регаться такого конструирования. Она только возвращение к тому, что
уже было заранее, есть как заранее, до сознания, данное присутствие че
ловека, Dasein, вот этого, здесь и теперь, бытия. В полной противополож
ности, в полной, такому въевшемуся мнению, что философия удаляется
или удалилась от «жизни», философствование как ничто возвращает че-
1. Ibid., S. 159-
ι8ι
СЕМИНАР 1.15
ловека к его исторической, биографической ситуации, и философствова
ние только и существует как усвоение этой ситуации, усвоение смысла
моего присутствия в мире, усвоение как приобретение этого именно мо
его смысла, а не выучивание культурных содержаний. «Духовно-истори
ческая ситуация не такая вещь, которую можно подойти и рассмотреть,
и грубым промахом будет воображать, что люди живут в ней и уловили
ее, когда интересуются самой современной лирикой, или встают на по
зиции новейшей социологической теории, или рекомендуют своим зна
комым самую последнюю и самую толстую книгу о религии и христиан
стве как такую, которую нужно обязательно непременно прочитать. Но
ничуть не больше эта ситуация улавливается и тогда, когда люди опове
щают друг друга о том, что ей предшествовало и какими историческими
силами определяется современная эпоха»
1
. Такие «культурные» занятия
не просто безразличны для философии; они имеют к ней более суще
ственное отношение, они всего надежнее уводят как раз от того, из че
го философия могла бы вырасти, — от осмысления вот этой моей фак
тической ситуации. — Там, в «общем», «неподверженном случайностям,
акцидентальному», в «сущностном», воспарившая философия находит
нескончаемую возможность отметать «релятивизм», принадлежность
мысли вот этому моменту и только ему, «скептицизм», зрение, увидев
шее во всем вопрос; находит себе «абсолютную истину», которую «скеп
тицизм» не сумел найти, потому что нелогичен, а если бы был логичен,
то заметил бы, что отрицать абсолютную истину — значит как раз де
лать утверждение, претендующее на абсолютную истину. Вот где насто
ящая философия торжествует, посмотрите, как это красиво, как неопро
вержимо: если вы говорите, что абсолютная истина не существует, вы
тем самым как раз и хотите сказать, что она есть. Эти скучные и все рав
но никому ничего не доказывающие трюки из формальной логики рож
даются уже в нежилом самодельном пространстве схем, которых может
быть очень много, потому что они вне времени, вне истории, вне ситу
ации — не потому вовсе, что такое место вне времени, вне истории, вне
ситуации действительно существует, его нет и быть не может, а потому,
что была в начале забытая установка выбросить себя из времени и ситу
ации в пространство, где обеспечено было бы прочное нарочитое забы
вание этих тревожных, требовательных, проблематичных вещей. В том
пространстве только трескучие жестянки «релятивизма», «скептициз-
1. GA,Bd.6i,S.i6i .
182
23 АПРЕЛЯ 1991
ма», «абсолютной истины», «идеализма», «механицизма», громкие и пу
гающие, но их грохот только и может быть еще услышан громыхающим
этими жестянками умом, давно уже одеревенелым.
Или еще: строится в том же неведомом пространстве, усредненном,
без времени, система нравственности, самоценных этических ценно
стей. Тоже громких, громыхающих. Пугающих. Единственная цель это
го треска — заслонить теми абсолютными ценностями вот эти, мои, сей
час обстоятельства, мою ситуацию с трудными, живыми проблемами.
В той состроенной системе абсолютных нравственных ценностей и пра
вил человек редко или вообще никогда не живет, не может, они не «реа
лизуются», и это настолько ясно, что сам изобретатель системы вынуж
ден будет это признать — но ему это не беда, тем ему лучше, тем челове
ку хуже: значит, вот таков человек, не дотягивает до идеала! Поставлен
перед ним идеал, но слаб человек — зато не слаб создатель системы, он
наоборот очень хорош, он на фоне сплошной человеческой слабости не
поколебимый защитник абсолютных этических норм, хоть он один на
страже высоты.
Всякий человек, известно, отпадает от идеала. Тогда нет никакой
большой беды, если человек ежечасно и ежедневно вязнет в лжи, поло
винчатости или хуже и постоянно себя на этом ловит или даже уже пе
рестал и не ловит, и вместе с тем одновременно возвещает своим совре
менникам новую философию, — даже хорошо, он там поднялся над все
человеческой ограниченностью. Да кроме того, священник, духовник
займется грехами, а к философии они какое имеют отношение? Филосо
фия имеет дело с идеальным, со всеобщим. Она высока, она неподверже
на акцидентальному. Зачем вообще в нее припутывать человека частно
го, фактического, это сомнительное временное существо, заведомо не
совершенного? Философия имей дело с чистым! Поскорее от частного
к общему! Строй систему, картину мира, этику, одевайся в вечные одеж
ды, ведь философия «вечная», perennis; попадешь в Юбервега-Хайнце,
тебе уделят параграф, стало быть, войдешь в историю философии, что
еще надо, что может быть выше! Так строй скорее систему.
Нет, построить систему и даже добиться страницы в новейшем пере
издании Юбервега еще не имеет отношения к философии. Настоящая
философия имеет дело с моим присутствием в мире. Система может
стать событием, но уж только не тогда, когда я ее строю.
Слишком много я. Я есмь, присутствую. Декарт: формальное, ровное
«сум». Где у Декарта обеспечено, у Хайдеггера начинается вопрос.
183
СЕМИНАР 1.15
Только не «становление», «формирование» Я. Как если бы время было
дано этому Я для своего формирования. Время и есть Я. Бытие есть вре
мя. Sorgen-Warten. Время — новое.
Теперь выбирают: нет, я с Ясперсом, там другие с Хайдеггером. Гадамер:
кто воображает, что определил свое отношение к Хайдеггеру, тот не
вольно делает из себя шута: так просто мимо мысли не пройдешь. Хай-
деггер не предлагает систему: он предлагает думать и говорит: думать
значит спрашивать, всё вопрос. Ах это слишком, скептицизм. Расписка:
нет, думать еще не готовы, не выходит, можем пока только упорядочи
вать, рассчитывать, конструировать.
А какое отношение Ясперса? И вот есть книга: Karl Jaspers. Notizen zu
Martin Heidegger. Hrsg. von Hans Saner. München, Zürich: Piper, 1978,342 S.
225. No 210. Ich habe auf Heideggers Schriften innerlich nicht reagiert. Schon
seine Kritik meiner „Psychologie der Weltanschauungen" habe ich niemals zu
Ende gelesen Sie interessierte mich nicht. Sie war langweilig für mich *.
16. 5 .6 .1949 в письме к Prof. Tellenbach Ясперс говорит о том, что он со
ветовал в конце 1945 фрейбургской Universitätskommission
f
в своем Gut
achten *: «vorübergehend von der Idee der Universität abzuweichen, nach der
an der Hochschule alles, was geistigen Rang hat, auch wenn es ihrer Liberalität
fremd ist, zur Geltung kommen soll». Die Erziehung der im Faschismus in ih-
rer Kritikfähigkeit geschwächten Jugend verlange es, daß man sie nicht wieder
gleich «jeder Möglichkeit unkritischen Denkens aussetzte» (ibid). Das Versa-
gen Heideggers 1933 schein den Verzicht auf ihn für den Wiederaufbau der
Universität tz rechtfertigen. Daß Heidegger aber alle Freiheiten für seine Ar-
beit haben sollte, hielt Jaspers für selbstverständlich...
5
<Результат:> Emeri
tierung unter vorläufigem Verzicht auf die Lehrtätigkeit#
.
18. <Жена Ясперса настраивала его против Хайдеггера. По ее совету
в «Philosophische Autobiographie»
5
Ясперс не включил главу о Хайдегге-
ре.>
J9. К 8о-летию Хайдеггер написал Ясперсу einen feierlichen Brief aus
der «fernen Nähe»**.
33. <1928-1938> Heideggers Philosophie bis jetzt gottlos und wertlos...
34. . .. faktisch solipsistisch... Ohne Liebe. Daher auch im Stil unliebenswür-
dig. Nur «Entschlossenheit», nicht Glaube, Liebe, Phantasie. Ein neuer Positi-
vismus. .. Unbedingte, aber leere Energie...
38. <0 Was ist Metaphysik> Eine wahre Filigranarbeit. Die jeweils [?] in je-
den Absatz hinein, Verknotung zurück und vorwärts. Sprachlich eigene Sät-
184
23 АПРЕЛЯ 1991
ze — überraschend — herbeizwingend. Diese Form zunächst als Form not-
wendiges Ziel jedes aussagenden Philosophierens. Aber sie ist nicht letzter
Maßstab und kann Täuschung werden.
46. <1948/50> Unter den Zeitgenossen der erregendste Denker — durch
nichts.
49. Ein Sprach — und Formgebilde, das anspricht wie ein Kunstwerk, —
Vergleich mit Rilke.
66. «Stil» — der Reiz, der darin liegt, ein Rätsel aufzugebenzu spannen, er-
warten zu lassen, — etwas Außerordentliches bevorstehen zu lassen, — der
Reiz im Verneinen, wenn es nicht schilt, — aber sozusagen alles in heutiger
Welt nicht nur in Frage stellt, sondern nichtig macht, — als befreit, aber wo-
zu
7
. — in ein praktisch ästhetisches Verhalten zu einem ganz Unbestimmten.
Auf wen wirkt das: auf Literaten und Sophisten — auf Philosophierende,
die selbst nicht vorankommen, und nichts Fertiges vorgesetzt erhalten.*
<Wozu?
f
Ему нужна ориентировка, как его врагам. В 1945 советовал
Университету тоже ориентировку. Образ, картина, расписание. Чело
век не знает, куда — надо ему сказать показать, куда — откуда человек
знает? Оттуда, что другой не знает! Лучше иметь расписание! Он долго
думал — больше других — теперь вот имеет. Хайдеггер: гораздо риско
ваннее, «каждое утро новичок жалкий»*, перед чудом. — Но как же пра
вить? Правит дарение, а если мало правит, то дарит еще. Потом дарит на
конец целый мир. Это не когда человек захватил умом или руками такое
множество вещей, что почти целый мир...>
75. <1953/1954> Unter den deutschen Philosophieprofessoren unserer Zeit
hat mich nur einer interessiert: Heidegger.
77. Man kann ihn nicht dämonisch nennen im Sinne Goethes. Aber er be-
sitzt einen Zauber wie der Zwerg, der in Bergesgründen in verschlungenem
Wurzelgeflecht, in trügerischem Boden, der als fester Mooswuchs sich zeigt
und doch Sumpf ist, sich kundgibt. Das Gnomische in Heidegger, das unge-
wußt Lügenhafte, das Tückische, das Irrtümliche und das Treulose hat in Au-
genblicken magische Wirkung.
Dies Wesen ist in seinem Philosophieren wiederzuerkennen. Schön <имеем
право говорить, что человек гном, хитер, коварен, лжив не по-человече
ски? — почему не имеем. Риск есть так говорить? Есть. И немалый. Риск
вообще не знать, что такое человек> und verführerisch, kostbar gearbei-
tet und unwahr, versprechend und in nichts sich auflösend, erdnah und
verderblich, angstvoll, ständig verflogt, nie ruhend in einer Liebe, unwirsch,
und dann klagend, rührend, mitleiderweckend, Hilfe begehrend. Im Machtge-
185
СЕМИНАР 1.15
fühl sich überschlagend, im Kollaps ratlos und würdelos. Immer bemüht, stets
indirekt, mit berechnendem, aber sich selbst nicht durchsauendem Instinkt.*
<И тут же: т. е. нарисовав существо безграничной сво6оды>:
77. Heidegger weiß nicht, was Freiheit ist.
83. No 55. Bei Heidegger Virtuosität der Form, — aber eine subalterne Stim-
mung — im Wesen zweideutig ästhetischer Art — eine Gewaltsamkeit —, et-
was als ob man betrogen werde, — ist er ein ungemein begabter Hochstap-
ler? eine andere Art Hitler-Typus? ein unfaßliches, nie eigentlich antworten-
des Wesen?
f
<Риск: может ли быть дар слова сам по себе? Что дружит со словом?
Hitler-Typus. Но хорошо ли только стоять в стороне? А что если отнять
инициативу? Не спас ли Хайдеггер ту энергию — т. е. то движение евро
пейской подпочвы. — Кстати, воротить нос от сталинского времени как
не нужного, пропащего — худшее, что мы можем выдумать. Окрестят
сталинистами:>
263. No 252. < 1961/19641, с годами все больше записей о Хайдеггере, и в
эти годы максимум, всего 85 страниц> Hoch im Gebirge auf einem Wei
ten felsigen Hochplateau trafen sich von jeher die Philosophen ihrer Zeit. Von
da Blickt man hinunter auf die Schneeberge und noch tiefer in die von Men
schen bewohnten Täler und überall hin unter dem Himmel auf den fernen
Horizont. Sonne und Sterne sind dort heller als irgendwo. Die Luft ist so rein,
daß sie alles Trübe verzehrt, so kühl, daß sie keinen Rauch aufkommen läßt,
so hell, daß ein Aufschwung des Denkens in unabsehbare Räume erfolgt. Der
Zugang ist nicht schwer. Der auf vielen Wegen Aufsteigende muß nur ent-
schlossen sein, seine Behausung immer wieder auf eine Weile zu verlassen,
um in dieser Höhe zu erfahren, was eigentlich ist. Dort treten die Philosophen
[in] einen erstaunlichen gewaltlosen Kampf. Sie sind ergriffen von Mächten,
die durch ihre Gedanken, die menschlichen Gedanken, miteinander kämp-
fen. Sie sprechen miteinander, hören, fragen, teilen mit in einem Raum, der sie
trotz der Kämpfe verbindet. Denn es handelt sich ihnen um den großen Ernst
der wesentlichen Gegenstände, die der Mensch berühren kann...
Es scheint, daß dort heute niemand zu treffen ist. Mir aber schien es, als ob
ich, vergeblich suchend in den ewigen Spekulationen, nach Menschen, die sie
wichtig fänden, einen träfe, sonst niemanden. Dieser eine aber war mein höf-
licher Feind. Denn die Mächte, denen wir dienten, waren unvereinbar. Bald
schien es, daß wir gar nicht miteinander sprechen konnten. Die Freude wurde
1. [Ясперс] умер в 1969.
186
23 АПРЕЛЯ 1991
zum Schmerz, zu einem eigentümlich trostlosen, als ob eine Möglichkeit ver-
säumt würde, die greifbar nah war.
So ging es mir mit Heidegger. Daher finde ich die Kritiken, die er erfahren
hat, durchweg unleidlich, da sie nicht auf jener Ebene dort oben stattfinden.
Daher suche ich nach der Kritik, die wirklich wird in der Substanz des Den-
kens selber, nach dem Kampfe, der die Kommunikationslosigkeit des Unver-
einbaren durchbricht, nach der Solidarität, die noch zwischen dem Fremde-
sten dort möglich ist, wenn es sich um Philosophie handelt.
Solche Kritik und solche Kampf ist vielleicht unmöglich. Gleichsam einen
Schatten von ihr möchte ich aufzufangen versucht/ — Без комментариев.
Только одно: у Хайдеггера не найдем «идти служить силам».
1.16
75.1991
Еще раз о прошлой записке, где высказано сомнение, что человек, воз
вращаясь к своему началу, запутается в проблеме начала начал. Я сказал,
что нет: всё внимание настолько уйдет в осмысление своей жизни, ситу
ации, не которая могла быть и будет, а которая была и есть, в понимание
своего присутствия в мире, существования во времени, что отвлечен
ные псевдологические трюки с «началом начала» — т. е. должно ли быть
у начала начало — и подобные покажутся пресными, совсем лишними.
Ведь это только несчастный предрассудок, что будто бы, чтобы заняться
философией, надо отвлечься от своих мелких обстоятельств, поскольку
человек дело маленькое, и подняться к вечным проблемам. Еще очень
неясно, какими вилами по какой воде написаны якобы вечные фило
софские проблемы и какой незаметной стороной они коренятся в каких
полуосознанных и чаще совсем неосознанных установках. А теряется,
когда в вечные проблемы «уходят», много, собственно, всё: потому что
не «философа» только жизнь, а всякого человека жизнь в своем начале
относится к бытию, миру — к главным вещам, — и как бы вкривь эта
жизнь ни пошла, как бы себя ни забыла, ни забила, ни спутала, подход
к главным вещам, бытию, миру — только обратным путем («движением
против крушения в вещи») через весь лабиринт заблуждений к тем на
чалам, других которым нет ни для человека, ни для философии, и неот
куда больше взяться. Только в своей истории, пусть кажется маленькой,
человек имеет доступ к философским вещам. Махнуть рукой на свою
биографию все равно что иметь грязного больного младенца, от этого
не полюбить его и оставить на произвол судьбы, отделаться, вместо не
го приобрести репродукцию блестящего пышущего здоровьем образцо
вого младенца и повесить такого красивого на стену и смотреть на не
го — вот что такое примерно отвернуться от себя и посвятить себя веч
ным философским проблемам.
Дальше о религии. Богословская техника и предпоследний фрагмент
Хайдеггера.
В каком смысле богословие можно назвать техникой, как я сделал
прошлый раз. Я имел в виду не всякое богословие, не святоотеческое,
189
СЕМИНАР 1.16
классическое, а частое теперь полуфилософское богословие, богослов-
ствующее философствование, нравственно-политическое, публицисти
ческое, занятое тем, чтобы «решить проблемы», так это называется, —
в обществе много проблем, — в частности и эту проблему с которой мы
начали, нехватки энергии *. Это богословие обращается с Богом, как тех
ника с природой, ставит в условиях, когда некуда деться (как дизельно
му топливу некуда деться в камере сгорания и оно поневоле воспламе
няется), и извлекает, как этому богословию кажется, несомненную силу.
Бог есть — это считается теперь доказанным, сомневаться стыдно. Как
существующий, Бог должен проявляться, а как добрый, человеколюби
во, — опять ему некуда деться, Он обязан заниматься благотворитель
ностью. Человеку тоже некуда деться как творению Бога, что тоже те
перь считается стыдным ставить под сомнение. Взаимодействие, так на
зываемая «синергия» Бога с человеком, оказывается тогда неизбежным,
и, как с устройством дизеля, остается только уточнить, направить, кана
лизировать, когда, как, где, с какими результатами происходит та синер
гия. Аппарат готов, пусть теперь в него встраиваются люди, к которым
обращается богословская техника, и встроившись скажут: да, действи
тельно с нами происходит синергия, мы ощущаем божественное дей
ствие. А с кем не происходит, кто божественное действие не ощущает,
тот, наверное, недостаточно или как-то неправильно встроился в аппа
рат, — его беда, не аппарата, в аппарате, в технике все однозначно, безо
шибочно.
Философия — другое, как она вообще не конструирование, не строи
тельство систем. Кстати, хотя это только кстати: фраза, с которой боль
шей частью начинается так называемое «изложение» философа, «такой-
то не создал философской системы, но тем не менее...» — это ранняя,
наивная расписка автора, что он никогда не задумывался о том, что та
кое философия.
Чуточка осталась недочитанной из лекций зз-летнего Хайдеггера, ко
торые мы всё последнее время читали, одна страничка его добавлений,
запись, которая называется «К введению», значит какой-то ключ или
один из ключей ко всему курсу. «Никакого теоретического скепсиса вну
три теоретического <теории> в качестве скептического суждения о те
ории <т. е. о всякой теории> (скепсис опущенности и вялости, пустой
скепсис, который никогда не может ни за что взяться, а только гово
рит; подходящее выражение для этого скепсиса: пустое, голое вглядыва-
ние. К настоящему спрашиванию отношения не имеет!); <стало быть, не
190
7 МАЯ 1991
такой скепсио а именно серьезное настоящее занятие позиции в соб
ственно спрашивании, в реализации проблематичности»
1
.
Спрашивание (Fraglichkeit) не религиозно, однако способно вообще
впервые ввести в ситуацию религиозного решения. В философствова
нии я веду себя не религиозно, хотя в качестве философа я могу быть
также и религиозным человеком. «Всё искусство тут и заключается <т. е.
в высшей степени трудное дело>: философствовать и при этом быть по-
настоящему религиозным, т. е. фактически в своем философствовании
поднимать свою мирскую, историческую задачу, через поступок и вну
три конкретного мира поступков, не внутри религиозной идеологии и
фантастики»
2
. Т. е. в философствовании я поднимаю свою фактическую
жизнь, свою судьбу, историю, биографию, и не хуже, а лучше, если она
приобщилась — моя жизнь — к вере, Христу, истории Европы, т. е. исто
рии христианства, а не просто пока еще блуждает по пустырям и не вы
скочила в результате головокружения из правды религии — жизни в ве
ре, решения, поступка — в пустое пространство религиозной идеологии
или фантастики, религиозной фантастики. Но: поднимая так в философ
ствовании себя фактического, другого подступа к бытию и миру у меня
нет, — я не сразу исхожу, как это говорится, «из религиозных убежде
ний»: мои «религиозные убеждения», моя вера — что такое вера, что та
кое надежда, что такое эти вещи, о которых богословие идеологическое
и фантастическое говорит бездумно, — становятся для меня благодаря
тому, что я начал думать, вопросом, не надо пугаться вытравления ве
ры, под вопросом она не обязательно исчезнет, разве что была суевери
ем (как вот чаще всего все-таки и бывает), она просветлеет.
Поэтому, продолжает Хайдеггер, «философия должна в своем ради
кальном, ставящем себя на самом же себе спрашивании (Fraglichkeit)
должна быть принципиально а-теистической (a-theistish). Она не сме
ет, именно из-за своей фундаментальной направленности <т. е. именно
из-за своего движения к основаниями права замахиваться на обладание
Богом или на Его определение. Чем она радикальнее, тем отчетливее она
идет от Него, стало быть, в радикальном движении от него, — свое осо
бенное, трудное пребывание „при" нем. В остальном она не смеет разма
зывать себя в спекуляциях на эту тему, у нее на руках дело»
3
.
ι. GAy Bd. 6i,S. 197·
2. Ibid.
3. Ibid.
191
СЕМИНАР 1.16
Идет от Бога и в этом смысле собственным, трудным способом оста
ется «при» Нем — это диалектика? Схождение противоположностей?
Или Бог не такая вещь, чтобы иметь «стороны», и можно бы было с
одной стороны подходить к нему, а с другой стороны отходить? Бог аб
солютно прост, и любое отношение к Нему — это отношение к Нему, и
движение от него в названном смысле, а именно в смысле не надеяться
владеть Им («Бог с нами», «с нами Бог»), иметь Его в кармане, и опреде
лить Его («только мы знаем, что такое Бог») — это не в порядке диалек
тического перехода или совпадения, а само по себе такое нераспоряже
ние Богом и означает по-настоящему, конечно не всем доступным, ко
нечно трудным, конечно мыслящим способом быть «при» нем.
И дальше короткий абзац: «Чистое осуществление науки как факти
ческой <в том же смысле, как везде до сих пор: исторической; под нау
кой тогда, в 1922 году имеется в виду прежде всего философия> само же
и есть задача человека науки, в которой <в задаче> и для которой дол
жен задействовать себя целый человек (der volle Mensch), причем так,
что именно в жизненной полноте этого осуществления <дела науки> че
ловек, который <достаточно, по-настоящему> подготовлен, должен по
сторониться и удержаться; тут особенная, фактическая „аскеза" научной
жизни»
1
.
Вовсе не так, что кто выбрал науку, в данном случае философию, тот
должен вести редуцированное существование, убавить свое существо
вание — в сравнении, скажем, с полноценными верующими, которые хо
тя и не занимаются наукой, хотя и тоже иногда обязаны воздерживать
ся, но у них аскеза питающая, приближающая к богу, а у науки — только
светская дисциплина. Вовсе нет: отступить в сторону, не претендовать
на захват чего бы то ни было, в том числе или в первую очередь не раз
махиваться на захват Бога, отказаться от привилегий избранника — это,
о чем идет речь, не какая-то особенная аскеза, скажем светская, — это,
хотя нами и забыто, самая ранняя, единственно подлинная верующая, в
том числе христианская аскеза, она тот фон, тот нулевой цикл, тот фун
дамент, краеугольный камень, на котором только и может стоять «пол
ный человек», der volle Mensch. Полнота не обязательно в захвате мно
гого, такой захват, наоборот, склоняет забыть, что какой-то полноты че
ловек с самого начала не был лишен. Это относится — может быть, в
первую очередь? — к так называемому обладанию богом. Бога надо, го-
1. GA, Bd. 6i,S. 198.
192
7 МАЯ 1991
ворят, «стяжать». Какой-то человек, однако, с самого начала имел отно
шение к Богу. Думать, что у человека до того, как он начал активно раз
нообразно действовать, не было ничего, не очень хорошо.
Это, конечно, может показаться нетерпеливой устроительной, упоря
дочивающей установке недостаточным, даже тревожным, — установке,
когда жадность к организации растет, мешает приглашение остановить
ся, отойти в сторону, со своим я, дать говорить только делу. А где же моя
личность? Ведь должна же быть моя личность. Как же я без личности.
Что же это я такое без личности. Другие, выходит, лучше меня? Нель
зя же без личности, я тогда должен ее, что-ли, выработать как-то. И дол
жен же быть Бог, как же так без личностного Бога, должна же моя лич
ность встретиться с личностным Богом, вон у людей встречается же, а я
так оплошал, отстал?
Нет Хайдеггер тут не годится, он слеп к личности, у него дальтонизм,
эту сторону, такую теплую, такую человечную, он не видит, он откатил
ся от христианства, он язычник; это какая-то ирония, что он воспитан в
католичестве и прошел гимназию иезуитов и два курса католической те
ологии, а мы не прошли и не приобщились к христианству, но нет, все
равно можем сказать, что он-то остался язычником, а мы нет
и
;вхри
стианстве с неприкосновенной личностью, с ее диалогом, она личность
ведет диалог с Богом, личность с личностью, — намного лучше, надо
скорее и вернуться от потерявшегося Хайдеггера, во всяком случае не
проверенного, к хорошему надежному христианству.
Что на это можно сказать? Может быть, слишком резко было бы вме
сте с Аверинцевым: «Воображаемая встреча воображаемого человека
с воображаемым Богом — это духовная гибель». Можно представить
случай, когда — в сравнении с полной опущенностью — воображаемая
встреча с воображаемым всё равно как-то лучше, чем ничего. Но верно,
конечно, что это не самое лучшее, что можно придумать; что воображе
нием жизни можно заниматься только на худой конец, что лучше вер
нуться к факту, пусть всё равно какому, — к моей настоящей ситуации,
совсем наверное не блестящей.
Теперь курс 1925/26, зимний семестр в Марбурге, «Logik. Die Frage nach
der Wahrheit». Начинаем наше рассмотрение каким-то первым взаимо
пониманием относительно того, что, в своем ближайшем словесном
ι. М. Мамардашвили, «Если кто и возвращается из ада...» (из тетрадей последних
лет), ЮностЬу 4,199Ь с. 47 ·
13-2015
193
СЕМИНАР 1.16
смысле, означает выражение «логика». Выражения как логика, физика,
этика происходят от греческих прилагательных λογική, φυσική, ηθική —
каждый раз надо добавить επιστήμη, примерно означающее «наука», мо
жет быть лучше «знание», «познание».Επιστήμη λογική — наука о λόγος,
λέγειν, о речи.
Επιστήμη φυσική — наука о φύσις, о природе в очень широком смысле
мира, космоса: физика включает землю, весь ее охватывающий простор
(поможет этимология: физика слово того же корня, что русское бытие),
и вообще всё существующее, животных, людей, богов, которые правят
всем. Только сейчас «физика» наука о неживой природе, да и то механи
ческой: химическое уже другое, физика имеет дело с движением точеч
ных масс (масс, представленных их математическими центрами, точка
ми). Уж современная физика не мир.
Επιστήμη ηθική — наука об ήθος, нраве, норове, повадке, поведении
существ, у которых поведение вообще есть, — у животных в очень ма
лой мере, они несвободны, у человека даже очень, и поскольку поведе
ние это главное в человеке, осуществление его свободы, а в человеке что
существеннее свободы («природа человека есть свобода», по Гегелю), то
этика — наука вообще о человеке, одном и многих, обществе, так назы
ваемом государстве (мы так переводим слово «полис», политика, что по-
гречески собственно общество, общественное устройство, а государ
ство будет «деспотия», «тирания» — когда государство другое образова
ние, чем общество). Там в «физике» тоже был человек — как существо
среди других существ; здесь в «этике» поведение человека, то, как чело
век берет свою судьбу в свои руки, вернее, делает свое бытие своим глав
ным делом, «берет в свои руки свое подлиннейшее бытие»
1
.
Эти три «науки», логика, физика, этика, составляют вместе филосо
фию, науку о бытийном целом в его как раз цельности, чтобы взять всё,
ничего не упустить, — философия, определила раз навсегда греческая
школьная философия, это наука о целом, и раз она наука, она целое сна
чала подразделяет, вот на эти три части. Всякая наука начинается с очер
чивания ведь области, наука должна быть о чем, предмет ее должен быть
всё-таки известен; что такое беспредметная наука, неясно, она не будет
котироваться как наука, серьезной считаться не будет. Другое дело, ко
нечно, — об этом уже пригодится подумать сейчас, подробнее потом, —
как это удобно области, словно сами собой, выделились?
ι. GA,Bd.2i,S.2.
194
7 МАЯ 1991
«Физика» и «этика». Понятно. Мир и человек. Но логика, наука о ре
чи
7
. Речь разве годится быть соседней областью вровень с миром и чело
веческим поведением? Вроде бы странно; но надо посмотреть, что такое
«логос», речь. Логос, речь в широком смысле — речь как сплошной, всег
дашний, непрекращающийся разговор людей друг с другом, исключим
случай, в истории в общем-то не обязательно даже и частый или устой
чивый, когда один или несколько приказывают другим: говорите это и
думайте так, иначе вы негодные и вас сотрут, — идущий в истории и
движущий историей разговор людей самих с собой и друг с другом соб
ственно и устанавливает всё, решает, что есть что, высвечивает приро
ду, о которой будет наука, высвечивает своенравного человека, о пове
дении которого будет наука, потом определяет, какими будут те науки,
в научной речи; речью всё высветляется. Речь поэтому не просто одно
занятие человека среди других, да еще не главное, потому что практика
важнее, — нет, и о практике сначала договариваются; речь, понятая ши
роко, как вы-с-казывание, мною себя, мною вещей, по-казывание, впер
вые показывает, дает увидеть всё. Чуть ли не даже речь-то оказывается
первым и основным, как чтобы начался день и практика, нужен снача
ла какой-то свет, пусть слабый, пусть искусственный, а то ведь ничего не
видно. Сначала надо с-казать, или чтобы нам с-казали, или чтобы как-то
само с-казалось, или чтобы сам мир, природа, человек взяли слово, дали
во всяком случае о себе знать.
Речь — так широко понятое показывание и прояснение. Что прежде
всего показывает? Что Целое состоит вроде бы из природы (фюсис, ска
зано как понятой) и свободы (этики), эти две всё охватывают, но про
яснены они с-казыванием; так что наука, мудрость, философия должны
обращать внимание на три, складываются из трех частей: логика (снача
ла), физика, этика. Почему логика не входит в этику, ведь человек сво
боден говорить одно, другое, так, иначе? Свободен-то свободен, но не в
его свободе изменить то, что есть: как оно на самом деле есть, так оно и
есть, «уломать» себя и других, заставить видеть как приказываю, конеч
но, можно, но в конечном счете себе дороже. В конечном счете как оно
есть, так оно и есть, даже человеческая свобода тут бессильна; логика,
логос, речь имеет дело с правдой, которой мы не правим, которая пра
вит сама.
Свобода хонету свобода — это воля . Хочет по-своему. Видит она поэ
тому то, что выбирает для себя видеть. Правду как она есть свобода по
этому вовсе не обязательно сразу видит. Нужна наверное встреча с дру-
13*
195
СЕМИНАР 1.16
гой волей, значит с другой целеустремленной перспективой, нужен во
всяком случае разговор, прояснение, чтобы правда (то, что есть, истина,
естина) начала проясняться. Речь, разговор, логос обнаруживает, прояс
няет, показывает то, о чем речь. Так понятая речь — она же и мысль: не
расчет, а именно думание, т. е . не обязательно приспособление вещей к
моей воле, а допытывание, дознавание, добирание до правды вещей. Го
ворение сливается с мышлением как то занятие человека, в котором он
от горячки захвата вещей прорывается к тому, какие вещи на самом де
ле и сами по себе. Так добывается ясное зрение, прояснение и вещей и
целого мира и себя, человека, тоже. Тогда логика как наука о речи иссле
дует речь в том, чем собственно говорение по своему существу и бы
вает, — его суть — сказать, с-казать, обнаружить. Этим предполагается
вещь странная и на первый взгляд неприятная, неприемлемая, горькая,
мы ее не хотим, но она совершенно несомненная: мир и человеческое
бытие от человека при первом приближении и большей частью скрыты,
нуждаются в раскрытии, кроются в потаенности (Verborgenheit), требу
ют извлечения оттуда на свет, в непотаенность. Λανθάνω по-гречески та
иться, оставаться незамеченным, проходить без внимания; λήθη — заб
вение, не только забытого, но больше незамеченного, происходящего
пока человек ничего не улавливает, мимо человека, к его расстройству
и позору. Αλήθεια, с негативным α
незабвение, неутаенность; такой
смысл имеет греческое слово «истина». Αλήθεια, непотаенность — это та
открытость, когда вещи высветились как они есть, не под прикрытием
темноты или лжи, нечаянного или умышленного сокрытия.
Если логика — исследование речи, говорения, сказывания как пока
зывающего, выводящего из потаенности, обнаруживающего истину,
тогда мы мало что будем знать об этой науке, и о речи, о логосе, не попы
тавшись осмыслить, что такое истина, как непотаенность. Тогда основ
ной темой науки о логосе должна быть истина в самом широком смыс
ле; и между прочим кроме логики, какая еще часть философии думает о
существе истины? Наука ищет истинное, как если бы откуда-то заранее
уже знала, что сделает истинное истинным. Кроме логики, кому думать
об истинности истинного?
Всё сказанное сейчас о логике — имеет отношение к тому, что в шко
ле, университете называют логикой? Не имеет никакого. Ни о какой
«правде» вещей как они есть, ни о какой «непотаенности», «высвечива
нии» мира и человека, ни о каком постепенно проясняющем выговари-
вании современная логика, не то что там даже формальная, не учит и не
196
7 МАЯ 1991
собирается учить. Истина ей дело внешнее и давно установленное, идеал
тут формальная строгость, математика. Математический идеал блестит
в глаза и манит и в его блеске кажется даже стыдно, надо извиняться, го
ворить о какой-то «непотаенности». Логика это логические законы. Ка
кие? А учите логику; узнаете, какие. Строгие. Как в математике. Логика
и математика одно (Бертран Рассел; оказалось, не одно). Истина там, где
формулы (эти формулы оказываются все тавтологиями).
Никакой проблемы существа истины в школьной, университетской
логике не стоит. Уж что такое истина, это должно быть прежде чем на
чинается логика известно. Логика фиксирует форму высказывания; со
держательность определяется непротиворечивостью; противоречивые
высказывания отбрасываются, непротиворечивые оставляются, и кто-
нибудь когда-нибудь, если будет нужно, установит, соответствуют они
истине или не соответствуют. Другая наука это установит.
Какая вещь, школьная, университетская, мечтающая о формализа
ции логика, известно. Хайдеггер говорит: неясно, откуда такая логика
взялась; неясно, для чего такая логика нужна; неясно, собственно, по
чему даже основной формой истины должно быть непротиворечивое
высказывание. Стоит только попробовать посмотреть на логику не ду
мая, что она готовая упала с неба, и обнаружится ее шаткость, кричащая
странность традиционной школьной логики. Она сама знает как следу
ет, что она такое, какое она имеет отношение вообще к чему бы то ни
было? Она давно, столетия или даже тысячелетия назад ушла, так ска
зать, слишком далеко вперед, оставила позади себя не то что там фило
софскую логику, о которой говорилось выше, внимание к тому, как сло
вом проясняется мир, выводится из непотаенности, — это конечно само
собой отбросила, но традиционная школьная логика давно освободила
себя и от того, что составляет суть философии вообще, от спрашивания,
от исследования: проблем в школьной логике нет или они технические.
«Так называемая „школьная логика" — и не философия, и не даже от
дельная наука; она — некоторое удобство, сохраняемое по привычке не
официальной договоренностью и интересом, одновременно мнимость.
Удобство для доцентов — потому что она не заставляет ничего делать,
кроме как еще раз пересказывать <новым потокам> один и тот же проч
ный и отшлифованный набор предложений, формул, правил и опреде
лений; различия в преподавании этой логики ограничиваются внешним
расположением материала, степенью подробности, выбором примеров.
С такого рода „логикой" логику никогда не грозит, что ему придется рас-
197
СЕМИНАР 1.16
плачиваться самим собой, — неизбежность, на которую обречено вся
кое философствование, иллюзорная ценность для слушателя: поскольку
он целый семестр задерживается на вещах, польза которых очень про
блематична, но которые в любом случае проще, компактнее, быстрее и
дешевле можно вычитать из любого компендиума по логике. Эта школь
ная логика может апеллировать к долгой традиции преподавания, дале
ко вглубь за Средневековье простирающейся вплоть до времени, ког
да логика фиксируется как дисциплина» (примерно второй век нашей
эры)
1
.
Это говорится в Марбурге осенью 1925, в плотном курсе по четыре
часа раз в неделю, в 21-м томе ПСС это 415 страниц, значит больше чем
по зо машинописных страниц за каждое четырехчасовое чтение. Про
тивопоставление традиционной школьной логике — другой, философ
ствующей логики, где речь идет о существе истины, ради которой — ра
ди истины — весь логос, вся речь, истины как обнаружения того, что
по-настоящему есть, — скрепа, скрепляющая весь этот огромный курс,
вобравший в себя все главные темы Хайдеггера, и его интерпретацию
Гегеля, и очертания «Бытия и времени», и ядро будущей работы «Кант
и проблема метафизики» (не проблемы метафизики, а проблема мета
физики, т. е. сама метафизика как проблема в свете философии Канта),
причем некоторые детали даже подробнее, чем будет потом.
Курс издан по рукописи Хайдеггера; прочесть его рукопись иногда
невозможно, но знаток его почерка сын Фриц Хайдеггер ее переписал.
В те годы (позднее этого будет меньше) Хайдеггер часто говорил на лек
ции не по своему тексту, но его стенографировал Симон Мозер, и эти
добавления включены в издание, тем более что Мозер регулярно пода
вал Хайдеггеру свою запись, на ней есть замечания Хайдеггера, и даже в
самой рукописи Хайдеггера есть отсылки к предыдущим местам уже не
по страницам рукописи, а по страницам Мозера.
Это зимний курс 25/26 гг. Мы перескочили по крайней мере через це
лых четыре лекционных курса: «Начало новоевропейской философии»
зимний семестр 1923/1924 гг., «Аристотель: Риторика», летний семестр
1924 года, «Платон: Софист», зимний семестр 1924/1925 гг., «История по
нятия времени», летний семестр 1925 года. И нужно было бы прочесть
тоже эти курсы этого не печатавшегося тогда, только недавно напеча
танного, до сих пор еще практически неизвестного философа 20 века,
ι. GA, Bd. 21,S. 12-13.
198
7 МАЯ 1991
условно я его называю «Хайдеггер-2»; но времени мало, и возьмем пока,
в связи с важной темой совсем раннего Хайдеггера, логикой, пока только
этот большой и важный курс. Я сделал это отступление, чтобы показать,
что сомнение, такое решительное, в традиционной логике, до дерзко
го мнения, которое мы еще прочитаем, что такая логика позор для уни
верситета, принадлежат не новичку и лектора не заносит, он верен се
бе такому, который уже пять лет говорит, сначала во Фрейбурге, теперь
вот в Марбурге, последовательно, связно, и это тоже важно, с огромным
успехом.
Две тысячи лет преподается одна и та же формализованная логика,
но и древнейшая традиция себя этим не легитимирует, если уже в самом
своем начале она была продуктом распада философии; если эта логика
уже и началась как распад. «Традиционная школьная логика выраста
ет из той стадии философии, когда философия уже утратила свой про
дуктивный характер; то, что позднейшие, снова продуктивные, филосо
фы сохранили эту логику, ничего в принципе не меняет. Традиционная
школьная логика — выброшенное на поверхность, оторванное от кор
ней и при этом окостенелое содержание первоначального философского
вопрошания, которое было еще живо у Платона и Аристотеля, — вопро-
шания, совершенно задушенного школьным одеревенением. Продолжа
ющийся пересказ дозируемого состава этой школьной логики — изде
вательство (Greuel) над настоящим философствованием и недостойно
университета как места, где спрашивают и ищут.
Если мы поэтому выбираем философствующую логику и отклоняем
Collegium logicum в традиционной форме, то здесь нет ни поспешного
скороспелого отвержения традиции, ни горделивого презрения к осно
вательным познаниям <которые у логиков формальных так или иначе
всё-таки есть>...
—
наоборот: мы должны стать способны извлечь на
стоящую традицию из-под завалов ненастоящей, действительно усвоить
то продуктивное и живое, что заслонено школьной логикой... На этом
пути обнаружится, что, например, логика Аристотеля, точнее, его отно
сящаяся к этому кругу исследования работа — что -то совершенно дру
гое, чем школьная логика, столь охотно апеллирующая к Аристотелю»
1
.
Каким образом Аристотель, патрон школьной логики, не имеет к ней
отношения? Не у кого-нибудь, а у Канта так ясно сказано: «Теперешняя
логика выписывается из аристотелевской „Аналитики". Этого философа
ι. Ibid., S.13.
199
СЕМИНАР 1.16
можно рассматривать как отца <а мы себе запомним: отца> логики. Он
преподнес ее в качестве органона <органон — орудие, инструмент, пред
полагается — инструмент мысли> и разделил ее на аналитику и диалек
тику. Манера его учения (Lehrart) очень схоластична и сводится к раз
вертыванию наиболее общих понятий, лежащих в основе логики, отку
да, надо сказать, мы не получаем никакой пользы оапомним: пользы>,
потому что почти всё выливается в пустые тонкости, разве что мы из
влекаем из этого наименования различных действий рассудка. В осталь
ном логика со времен Аристотеля немного приобрела по содержанию,
да она и неспособна расти по своей природе»
1
.
А в «Критике чистого
разума», в предисловии (В VIII): «Что логика шла этим уверенным пу
тем уже с древнейших времен, можно усмотреть из того, что после Ари
стотеля она не посмела сделать ни шагу назад. Любопытно в ней еще то,
что она по сей день не смогла сделать и ни шагу вперед, т. е . по всей ви
димости она кажется замкнутой и завершенной». Опять заметим в этом
тексте, таком вроде бы определенном и однозначном, вдруг эти две га
дательные неуверенности в одной фразе: allem Ansehen nach ... zu sein
scheint — по всей видимости... логика кажется или представляется за
вершенной. Кто-то хранительный водил пером Канта, у настоящих умов
это часто бывает, и заставил задуматься, усомниться.
В самом деле, уже начинал думать Гегель, о котором Кант еще ниче
го не знал. В прошлом году, не на этом курсе, а на другом*, мы замети
ли, что в учении о действительности (энергии), сказав и подчеркнув, что
никакими своими натугами мысль не сумеет вырваться из кольца сооб
ражений к действительности, как никаким сильным воображением ста
талеров я эти деньги в ладонь не получу, — то Кант здесь словно нароч
но оставлял место для другого* вернее даже, заклинал, чтобы пришел Ге
гель и крикнул: помилуйте, никуда мысли не надо вырываться, она сама
же действительность (энергия) и есть! И вот еще раз: логика всё, завер
шена в аристотелевской своей форме и ни взад, ни вперед двинуться не
сможет, не сможет, не сможет, говорит Кант — и провоцирует Гегеля, чья
логика будет начинаться с бытия и ничто, чего школьной якобы аристо
телевской логике две тысячи лет не снилось.
И опять же: как мы видели, на том же курсе об энергиях, что Канта и
Гегеля можно читать как комментарий к Платону и Аристотелю, так нео
бычная гегелевская логика была возвращением к настоящему Аристоте-
1. Это из лекции Канта о логике, акад. изд., XIX, с. 2θ, цит. по GAy Bd. 21, S. 13 -14 ·
200
7 МАЯ 1991
лю, не высушенному до силлогизмов. Хайдеггер об этом: со своей логи
кой Кант стал «единственным и равным по роду сыном отца* ло
гики и таким останется»
1
. Чтобы знать на самом деле аристотелевскую
логику, надо стало быть читать Гегеля, больше ниоткуда не узнаем, неот
куда, какая философская логика. Единственный сын, «вылитый» отец, в
нем отец весь, и это значит: «Философская логика, которой Аристотель
положил основание и которая завершилась в Гегеле, уже не может раз
виваться путем дальнейшего сыновства и внуковства; чтобы философ
ски двигаться дальше, нужна какая-то новая порода. Когда она зародит
ся, не предопределено, — мы, нынешние, явно не она; позитивное дело
тех немногих, которые сегодня понимают, о чем идет дело, заключается
в работе перехода, т. е . в том, чтобы снова вернуть к жизни продуктив
ность прошлого — ради будущего, которое мы предчувствуем, но кото
рое нам еще не по росту. Тем настоятельно важнее нам сейчас, чтобы мы
прониклись вопросами, вниклись в них и освободились от одеревене
ния и связанных рук»
2
.
Это что касается отца и сына. Теперь «польза», которой, говорит Кант,
от школьной, для него то же — аристотелевской, логики нет. Польза есть
или пользы нет, и тогда, значит, культ традиционной школьной логики
держится только давним обычаем, привычкой? Польза, считается, ко
нечно — еще какая, как этого не знать, все так говорят, уверены, повто
ряют — само собой разумеется, что логика учит мышлению, помогает
достичь высшей дисциплинированности и остроты мысли. Она начало
всякой научной работы.
Это точно так? Или на самом деле мысли, научной мысли можно на
учиться только в обращении с вещами, в обращении к вещам, настоя
щим? Разве логические формулы помогут, когда не ясно, о чем речь и
для чего? Когда человек не нашел себя, серединой своего существа не
сделал выбор, не ввязался в борьбу или не призван каким-то непонят
ным внутренним призванием приблизиться к захватившим его вещам?
Наука ведь страсть, никаким другим, механическим способом она про
сто не существует.
А в практике, в предпринимательстве, в политике, в том, что касает
ся, например, политического господства? Предположим, формальная
логика укажет власти на противоречие. Упрек власти может ощущаться
ι. GA, Bd. 21, S. 14.
2. Ibid.
201
СЕМИНАР 1.16
справедливым, но от него не обязательно станет лучше. Власть не боит
ся противоречий, она лишний раз уверится — хотя это будет, конечно,
ее ошибка, — что наука далека от жизни (жизнь движется не по логике
формальной, но что философия знает и другую логику, гераклитовскую,
гегелевскую, власть не знает, власти кажется, что только она власть уме
ет чутьем прикасаться к тому, как на самом деле устроена жизнь). Есть
простая причина, почему никакого другого отзыва от горячих «прак
тиков» кроме насмешки и надменного сознания своего превосходства
формальная логика, вообще формализованная, рационализированная
наука от власти не встретит (между прочим, надо заметить, и не ждет,
положение шута при власти, безопасного, на содержании, как будто бы
имеет свои прелести). Эта причина бросового статуса формальной ло
гики там, где принимаются спешные волевые решения, в том, что такая
логика со всеми своими «законами» (первый закон о непротиворечии)
не только не школа мысли, не учит мысли, но и наоборот, сама требу
ет сначала огромной развитости настоящей философской мысли, что
бы к ней, формальной логике, логике, начали относиться не с пренебре
жением, чтобы увидели в ней ее настоящий смысл; чтобы разглядели за
ее окаменелыми формами, формулами и силлогизмами то, что она сама
уже едва видит, да и просто уже не видит: живые истоки, движение лого
са, открывающей речи.
Эти обстоятельства надо всё-таки иметь в виду, чтобы услышать не
просто вызов, а констатацию положения дел в этих словах Хайдегге-
ра: «Научиться мысли от традиционной школьной логики — напрасное
ожидание»
1
.
Нельзя ведь в самом деле научиться мысли без открыто
го внимания, вглядывания, без свободного, незапрещенного спрашива
ния, опасных вопросов, а они ведь получают простор только когда спро
сить становится можно действительно обо всем, — и о том, почему зако
ны логики такие. Опора мысли другая, чем заранее раз навсегда данные
формы, опора мысли только одна: захваченность вещами, — наука как
их высветление — вещами широко понятыми, всем. Похоже, что пра
вилами этому не научишь, вещи можно только показать, и только ве
щи подсказывают, как. Дать слово самим вещам — это другое, чем дер
жаться формул. Философская логика — вся вокруг того, чтобы с-казать,
а что собственно надо так казать? То, что просто есть. А есть что? Есть,
наверное, по-настоящему собственно только бытие. Оно в своем суще-
1. GAy Bd. 21, S. 15.
202
7 МАЯ 1991
стве — событие. Событие захватывает человека, оно время человека, и
что по-настоящему может захватить человека, кроме события и вести о
нем; и в чем человек может осуществиться, кроме события. Формальная
логика что тут может сказать? Собственно ничего. Событие как новое в
нее не вмещается, не может вместиться. Формальная логика знает фор
мы, образцы. Событие по определению не вмещается в образец, оно ско
рее само незаметно становится тем неопределимым, откуда всё как-то,
хорошо или нет, определяется. Рискнуть туда, где уже нет правил, — это
обязательно (в сильном смысле: на самом деле неизбежно) опасность
ошибки. Философия — такой риск, который формальной логике непо
нятен, а правильнее сказать противен. Только упаси Господь решить, что
философу тогда разрешено ошибаться, раз он особенный. Ему не раз
решено; не больше чем другим разрешено. Он только обязательно бу
дет ошибаться, и значит обязан иметь мужество, признать свои ошибки,
они есть. Он не знает, кто-то, может быть, живет безошибочно; дело не в
этом и разница не в этом, разница только в способности, слыша упрек,
не оправдываться.
Отвернуться от того, что принято считать логикой, не в смысле вы
бросить учебники, а в смысле перестать непроверенно верить тому, что
она обещает и не дает (научить мысли), — это не значит порвать с тра
дицией, а может быть наоборот, вернуться к традиции; суть традиции
ведь не в повторе, еще и еще раз и еще много раз, того, что когда-то было
(Бог знает, почему людям кажется, что что-то можно повторить), а в том,
что это было, т. е . сбылось, осуществилось, — и значит будет то и только
то, что сбудется, осуществится, а не просто повторится: повторяя и так
воображая себя в традиции, мы традицию прерываем, на нас события
кончаются, начинается фотография. «Настоящая оценка традиции име
ет свое основание в историчности самого человеческого бытия, т. е. в из
начальной верности присутствия (Dasein) самому себе. Верность: при
ход к тому и держание того, что, в качестве схваченной и отвоеванной
жизненной ситуации (Angelegenheit), дает экзистенции дышать»
1
.
Словами «жизненная ситуация» я перевел Angelegenheit, но лучше
было бы сказать — что задело человека, коснулось его, приблизилось к
нему, втянуло его в себя как дело, и требует дела. Центральная такая An
gelegenheit в философствующей логике — что такое истина? Ради этого
вопроса и надо отодвинуть немного привычную школьную логику; она
ι. Ibid., S.18.
203
СЕМИНАР 1.16
этот вопрос слышит так, что впадает в перебор схем, отвлеченных аб
страгированных вариантов. Она это делает издавна, со скептицизма, ко
торый много сделал для утверждения логики — как якобы единственно
го оставшегося незамутненного догматизмом знания. Мы попадаем как
в беличье колесо — о котором отчасти говорили. А именно, вот: вопрос
«что есть истина» не нужен, потому что истины просто нет. Это один
тезис, представленный якобы скептицизмом, античным. На него надо
возразить, что прежде чем говорить, что чего-то нет, надо всё-таки же
знать, чего именно нет; а как можно опознать было скептику и объявить
несуществующей истину, если он прежде ее не видел? Если он говорит
так решительно о ней, что бы ни говорил, значит он умеет ее опознавать,
знает какая она, на что похожа — а если знает, значит она есть. А кроме
того, скептический тезис претендует же на истинность, значит опять же
истина есть, хотя бы такая. А может еще и другая какая. Скепсис сам се
бя опровергает; и когда продолжает, что существует только относитель
ная истина, опять опровергает себя, потому что опять претендует тут на
абсолютную всё-таки истину.
В такую стычку, будто бы доводящую проблему до предела, мы попа
даем в логике. И на самом деле отдает скукой музея.
Разве так дешево на самом деле отделаешься от скептицизма? А что
если за его «нет никакой истины» стоит «нет ничего», нигилизм? Ули
чением в формально-логической непоследовательности нигилизм мож
но выгнать из мира? И зачем вообще понадобилось опровергать скеп
тицизм, где он? Не придуманный ли это скептицизм, не конструкция
ли для удобства, чтобы опровергая такого опровержимого врага, несо
мненно утвердить себя?
И этот скептицизм, и его опровергатели принимают, что истина — это
некое высказывание. Откуда это выяснилось, на каком основании выска
зывание обязалось быть истинным или ложным? Кто удостоверит? Сто
ицизм скажет: человек удостоверит, истина не что, а кто. А человека кто
удостоверит? В конечном счете не придется ли сказать, что истина — то,
что есть, и источник всякой производной истины, в том числе истины
высказывания, — возможность вглядываясь просто вообще что-то ви
деть? И что, главное, видеть? Истина лежит рядом с вещами как камень,
или как книжка, или как, опять же, бесспорное высказывание, например
так называемое аристотелевское положение о непротиворечивости вы
сказывания — которое требует еще, чтобы в него вчитались, в него еще
не вчитались, речь там не о высказывании, а об очевидности бытия, от-
204
7 МАЯ 1991
крывающегося созерцанию? Надо то место еще прочесть, до сих пор не
очень его читали. Аристотель формально-логизирован — а между фор
мальной логикой и философской логикой порог, очень высокий, может
быть непереходимый, потому что формальная привычная логика как бы
для того, чтобы иметь право раз навсегда перестать говорить и думать о
логосе, будь то огненном логосе Гераклита или логосе как разговоре ду
мающих спрашивающих и ищущих у Сократа, или логике Гегеля. У ве
ликих бывают заскоки, Гегель написал логику, которая вовсе не логика.
Она диалектическая логика. Значит другая, значит не затрагивает при
вычную, традиционную логику. Но гегелевская логика была не рядом с
традиционной формальной, она хотела быть единственной настоящей
логикой, просто.
Вы видите, как много поднято у Хайдеггера. Объявлено, что надо
прочитать заново аристотелевскую логику. И не только: всю традицию
вообще.
II.l
3.9.1991
Мы читали неизвестного большого философа 20 века, Хайдеггера-Вто-
рого, до «Бытия и времени», т. е . до 1926 г., — сначала раннего, когда он
еще печатался (ранние стихотворения, диссертация по средневековой
логике «Учение Дунса Скота о категориях и значении», обзоры, рецен
зии, сочинения по логике), потом Хайдеггера того десятилетия, с 1916 по
1926, когда он не печатался, не отдавал свои вещи в печать, например ре
цензию — большую — на книгу Ясперса, раннее — в 1919 г. — размеже
вание с экзистенциализмом, показывающее, что уже во всяком случае с
1919 г. Хайдеггер определенно не экзистенциалист. А почему говорят, что
он экзистенциалист, или еще экзистенц-философ (я не знаю, что это та
кое). Или тот же вопрос в более общей форме: почему вообще о фило
софах говорят странные вещи, большей частью или даже юо-процентно
всегда. Испорченный телефон получается даже и независимо от жела
ния сообщающих, именно потому, что нам о философах сообщают, т. е.
они поневоле попадают в рамки информации (а философия не инфор
мация). Они в рамках информации превращаются в то, чем никогда не
были, не хотели быть и не будут, — превращаются обязательно. Канад
ский теоретик средств массовой коммуникации Marshall McLuhan ска
зал: Medium is a message, как перевела одна дама, философ и перевод
чик: «Маршал Маклухан сказал, медиум это вестник». Настоящим, про
никающим, задевающим сообщением становится средство сообщения,
как лист газеты, словно карта, где, что и как, экран телевизора, сам теле
визор, удивительная машина, особенно последних поколений, вдвину
ты в наш мир как главное сообщение (лист газеты — сообщение о том,
что мир это такая вещь, которую можно осмотреть целиком, иметь его
перед собой как на ладони, знать, что в нем куда и как; после этого начи
нается разнообразие мнений, каждый уверенно предлагает свое и спо
рит и отстаивает, не заметив, что, чтобы иметь свое мировоззрение, на
до, чтобы — и это гораздо важнее — мир нам выдали как такую вещь, о
которой пожалуйста, рассуждай, спорь; это сделало полотно газеты со
всем независимо от того, что на нем напечатано). Непостижимо совер
шенный, скажем, японский телевизор, цветной с хорошим качеством
изображения, с дистанционным управлением, такая блестящая вещь, —
207
СЕМИНАР II.1
важнее и фундаментальнее сообщение, чем то, что показывают на экра
не: он сообщает, что через него мы с тем же совершенством, с той же
тонкостью, в цвете, проникнем в то, во что без него не проникали, — и
человек, придя в дом, спешит нажать кнопку, потому что и дома семей
ные опять просто люди, как на работе, как в метро, и, как люди, знают и
видят не больше, чем он видит, но есть — зримо говорит совершенный
аппарат — способ заглянуть в действительность, в реальность глубже,
полнее, глядя в экран, чем глядя в глаза другому человеку. Сообщение о
философии, все равно какое оно, сначала обещает, что философия такая
вещь, о которой можно сообщить, — и после этого можно просто цити
ровать, составить сообщение из одних цитат, из слов, которые философ
ведь говорил же, а что, разве не говорил? — и смысл будет другой, часто
противоположный. Поэтому нас информируют о философах странно.
Еще страннее, что мы, когда нас информируют о философах, прислуши
ваемся с надеждой узнать: кто же он, этот философ, все-таки был, что
же он на самом деле думал? А он прежде всего думал. Информировать о
том, что он на самом деле думал, невозможно; это можно показать; дума
ющий показал, как мог, свою мысль, тем, что сказал (написал), и именно
то, что сказал (написал), и именно так, а не иначе, — и то на пределе уси
лия, срываясь, теряя терпение, беспокоясь, нервничая, что его не поймут.
Он тревожился, чтобы при печатании всякое его слово оставалось на
месте, а то иначе...
Поэтому будет лучше, чем вместо обычного повторения, итога того,
что мы читали в прошлом году из раннего Хайдеггера, возьмем еще од
ну такую вещь, — самый ранний из сохранившихся курсов (Хайдеггер
сначала их писал, потом читал с отклонениями от написанного). Мар
тину 29 лет, он приват-доцент (не имеет профессорской ставки, полу
чает то, что платят студенты, захотевшие ходить на его лекции, как он
сам говорит в одном месте — примерно сколько стоит пара лыжных па
лок). Фрейбургский университет. Вернее — два курса под общим услов
ным названием — такое им дали в сдвоенном томе 56/57 ПСС — Zur Be
stimmung der Philosophie*. Зимний семестр, «семестр военной нужды»
для участников вернувшихся с войны, — «Идея философии и пробле
ма мировоззрения», раз в неделю по два часа, с 25 января по \в апреля.
Потом — летний семестр, который начался g мая — «Феноменология и
трансцендентальная философия ценности», и в тот же летний семестр —
еще курс, который не дошел в рукописи, а только в краткой записи сту
дента, один раз в две недели, «О сущности университета и академиче-
208
3 СЕНТЯБРЯ 1991
ских занятий» (это 1919 год, когда была написана рецензия на Ясперса,
у которого есть трактат «Идея университета», так что хайдеггеровский
курс «О сущности университета» — опять же не без скрытого спора с
Ясперсом, основателем экзистенциализма).
О том времени Вернер Гейзенберг в мемуарах «Часть и целое» пишет:
«Исход первой мировой войны привел молодежь нашей страны в беспо
койное движение. Бразды правления выскользнули из рук глубоко ра
зочарованного старшего поколения, и молодые люди сбивались в груп
пы, в малые и большие сообщества, чтобы искать новый, свой путь или
хотя бы какой-то новый компас, по которому можно было бы ориенти
роваться, потому что старый, похоже, сломался... Многие говорили, что
война была преступлением... правящих слоев... Теперь старая структу
ра Европы распалась в результате нашего поражения»
1
. Говорится о 1920
годе. В начале 1919 положение еще резче, прошло два с половиной ме
сяца после капитуляции и ноября 1918 г., после ноябрьской революции
и свержения монарха. В Баварии революция продолжается, уже комму
нистическая. С каникулами между зимним и летним семестрами совпа
дает существование Баварской советской республики во главе с комму
нистами (с 13.41919 по 351919)· О ней тот же Гейзенберг: «Весной 1919 г.
ситуация в Мюнхене была довольно хаотической. На улицах стреляли,
хотя не было в точности известно, кто с кем борется. Власть поперемен
но захватывали лица и организации, едва известные по именам. Из-за
мародерства и грабежей, которые однажды коснулись и меня, выраже
ние „Советская республика" начинало казаться синонимом отсутствия
правопорядка»
2
. Фрейбург, где сидит Хайдеггер, — тоже юг Германии,
Зоо км от Мюнхена.
Говорят о реформе, между прочим, и университета, как вообще всего.
Хайдеггер тоже о реформе университета. Университет — это место на
уки (немецкий университет — сумма нашего университета и академии
наук). Место науки — значит место серьезного, настоящего, единствен
но ответственного человеческого существования в современном мире.
Философия — это наука, первая наука. Потом, позднее Хайдеггер ска
жет: философия — не наука, наука не думает; еще позднее он скажет: его
дело — мысль, а не философия, он не философ, философия это особо-
1. Вернер Гейзенберг, Физика и философия. Часть и целое, Москва: Наука, 1989> с. 137»
144-
2. Там же, с. 142.
14-2015
209
СЕМИНАР II.1
го рода техника, производное метафизики. Люди, которые любят, чтобы
из их профессиональной хватки никто не ускользал, ученые философы
(как же не философы, если то, что они писали, печаталось философски
ми редакциями издательств), скажут с чувством превосходства: смотри
те, тут не о чем серьезно рассуждать, разве философ, кто говорит одно,
потом другое! А нет, хватит с нас этого Хайдеггера, неужели вам не на
доело, неужели не видно, что он непоследовательный!
1919 год» начало, новое начало Германии. 29-летний Хайдеггер гово
рит: строгая наука, неотступный подлинный методизм. Они призва
ны изменить человека, отключить наивное сознание непосредственной
жизни (не против естественности, а против слепоты, которая никогда
не естественна, всегда лукава). Научная строгость — не один из путей, а
необходимость; человек должен измениться, войти в настоящую форму
движения духовной жизни. И такая форма только одна: наука, т. е. стро
жайшая самоотчетность, неотступный методизм познания. Только через
науку, строгость, — возвращение к настоящему; непростое, потому что
наивность хочет оставаться слепой. Идея науки должна прорваться (Ein
bruch, прорыв) в круг естественного жизненного сознания, и всего ра
дикальнее это происходит в философии, первонауке. Но потом и во вся
кой настоящей науке должно произойти то же: переворот, захват жиз
ненного потока самоответной, целенаправленной установкой на строгое
знание. Первая наука, философия, и вообще строгая наука, всякая насто
ящая наука должна стать строем, habitus личного бытия.
Личное, личностное бытие, persönliches Dasein. Это говорит человек,
о котором чуть ли не первое, что информируют в философской инфор
мации, — что он не знает личности, личностного бытия. Нам хорошо,
мы сумели, а он, пишет о нем очень солидный современный философ,
вот, видите ли, не сумел возвыситься до персонализма, до понимания
личности, до личностного сознания. Он не сумел возвыситься до лич
ности, потому что от болтовни вокруг «личности» отказался намного
раньше, чем у многих стало еще только закрадываться подозрение, что с
«личностью» дело обстоит как-то неладно; но только еще начало закра
дываться, и они все еще продолжают размазывать «личность» и думать,
что до чего-то тут «поднимаются». Как будто это новое слово в филосо
фии. Это слово, от которого, как только философия встает на свои ноги,
она вынуждена отказаться как от негодного.
Дальше Хайдеггер во вводной лекции курса 1919 года: «Каждое бытиё
личной жизни, persönlichen Lebens, в каждый из своих моментов имеет
210
3 СЕНТЯБРЯ 1991
внутри своего определенного, всеопределяющего жизненного мира от
ношение к целому миру, к мотивирующим ценностям окружающего ми
ра, вещей своего жизненного горизонта, живущих рядом с ним людей,
общества»
1
. А нас уже информировали о Хайдеггере, что он как лич
ность не признает, так и по той еще причине не принадлежит, не вышел
на большую дорогу прогрессивной, гуманной философии ю века, пото
му что говорит только о замкнутом индивидуальном существовании,
Dasein, и не учитывает, что человек привязан к близким, ближним. В са
мом деле, в «Sein und Zeit» ничего не сказано ни о личности, ни о любви
к ближнему, ни о связи человека с обществом. Не сказано — значит Хай-
деггер ничего об этом и не знает, что человек связан с другими людьми
и с обществом, мы об этом знаем, поэтому мы вышли на большую доро
гу, а он нет.
Почему, в самом деле, он в 1919 г. говорит о личной жизни и об отно
шении человека к живущим рядом с ним людям, о любви к ближнему,
а в 1926 г. уже не говорит? А ясно, почему: он деградирует, в молодости
еще что-то помнит от христианского воспитания, а потом замыкается в
нигилизме, зен-буддизме, рационализме, иррационализме: это нам тоже
с торжеством говорят информаторы об истории философии; посмотри
те какая драма Хайдеггера, какое его заблуждение и какое грехопадение.
Все, как видите, просто объясняется.
Но на следующей странице после этой последней цитаты о личности
и связи с людьми и обществом у Хайдеггера в 1919 году стоит: «Как ве
ликий стыд заставляет верующего человека молчать о своей последней
тайне, как настоящий художник живет только тогда, когда он что-то соз
дает, а не разглагольствует, и он ненавидит всю эту болтовню об искус
стве, так человек науки действует только через жизненность подлинно
го исследования»
2
. Мы так убеждены, что наше непосредственное суще
ствование — это настоящая жизнь, а философия должна повернуться
лицом к настоящей жизни, что нам кажется, будто все наши хорошие
вещи, т. е. наше пожелание быть личностью и обратить внимание на
ближних, альтруизм, тоже должно обязательно присутствовать в хоро
шей философии, — ну, допустим, переименованное, раз уж философам
так нравится все переименовывать. Но философские вещи делаются не
так, что философ берет из нашего языка слова и оттачивает их. Вообще
ι. GA, Bd. 5б/57> S. 4-
2. Ibid., S. 5.
14*
211
СЕМИНАР II.1
не «берет». Он сначала удивляется, сходит с ума от изумления: откуда
мы взяли то, что мы взяли, откуда мы взяли то, чем живем. И философия
не критика: откуда вы взяли то и это, надо думать иначе. Философия —
это заметить: мы откуда-то взяли массу вещей, которые знаем и дума
ем; нам постоянно надо то и это, так или иначе надо. Человеческое суще
ствование, называет это Хайдеггер, начинается с заботы, с самого нача
ла человек озабочен миром и все, что есть в его знании, в его сознании,
можно проследить — а само знание, сознание это сделать не может, — до
исходной заботы, направленной не на то или это, а на целый мир, целый
мир это вещь, с которой с самого начала имеет дело человек и которая
для него — забота. Dasein, бытиё, существование как вот это, т. е. близ
кое, меня задевшее, мое — это то, где имеет себе место забота, или это
сама забота. Не говорится и не надо говорить, что озабоченность миром
включает ближних, сначала ближних.
Современное понятие личности, а вернее, современная забота о лич
ности в форме современных культурных императивов, «надо сформи
ровать себя как личность», «быть развитой личностью», потому что
«личность» окрашена в привлекательный цвет, это один из богов со
временного человека (и как всегда рядом с восхвалением поношение,
и «личность» слышится вещью подозрительной, «что это за личность»,
«темная личность») — понятие личности для мысли, для философии,
которая стоит этого имени, требует сразу вопроса: какой поворот в со
стоянии, в заботе человеческого существа, захваченного миром, привел
к тому, что возникли эти исторические образования, юридическое и по
литическое и церковное понятие личности.
В «Sein und Zeit» Хайдеггер будет мало повторяться, и потребуется
знание сделанного им за десять предыдущих лет, за путь пройденный за
эти десять лет, когда все главные слова сменились, до противоположного,
как мы видели в слове «исторический», одно дело картина историческо
го процесса, стоящая перед глазами современного человека, другое де
ло — сами события. Это различение было у Хайдеггера с самого начала,
но слова, Geschichte и Historie, поменялись местами. Потребуется зна
ние этих десяти лет Хайдеггера, а у читателя «Бытия и времени» этого
знания не будет, курсы лекций того десятилетия начнут публиковаться
только через 6о лет. Только мы сейчас в привилегированном положении
читателей, готовых к «Бытию и времени», имеем для этого нужный фон.
Еще из введения к «Определению философии», которым сегодня и
в следующий раз будем заниматься, длинная цитата: «Научный чело-
212
3 СЕНТЯБРЯ 1991
век стоит, однако, не изолированным. Его связывает сообщество стре
мящихся к тому же, что и он, исследователей, — ас ними богатые отно
шения с учениками... Университетская реформа, о которой ведется так
много разговоров, идет совершенно не туда и тотально глуха ко всякому
подлинному революционизированию духа, насколько она сейчас раз
ливается в призывах, собраниях протеста, программах, братствах и со
юзах: антидуховные средства на службе эфемерных целей. Для насто
ящих реформ в области университета мы сегодня не созрели. И такая
зрелость — дело целого поколения. Обновление университета — это зна
чит возрождение настоящего научного сознания и настоящей жизнен
ной связи. А жизненные скрепы обновляются только возвращением к
подлинным источникам духа, они нуждаются как исторические явления
в покое и надежности генетического <в смысле: не расового, а, как это
слово употребляется у Гумбольдта, близкого к началам> самоупрочения,
другими словами: нуждаются во внутренней достоверности полноцен
ной, выстраивающей себя жизни. Только жизнь, не трескотня скороспе
лых культурных программ, составляет „эпоху". Как мешает делу „интел
лектуальная активность" борзопишущих молодых людей, так извраща
ют дело культивируемые в отдельных науках — от биологии до истории
литературы и эстетики — старания „мировоззренчески" помочь этим
наукам силами фразеологической грамматики прогнившей филосо
фии»
1
, т. е. порченая философия имеет в своем распоряжении только
фразы, которые склоняет, надеясь, что этим склонением что-то выгада
ет. — Здесь «борзопишущие молодые люди», schreibgewandte Jünglinge, о
многом говорят: Хайдеггер сам был молодой человек, и уже чувствовал
за собой способность те юо томов, которые он оставил, написать. И ю
лет удерживался от печатания. Чтобы быть подальше от интеллектуаль
ного наводнения.
Дело, философия дело, должна, призвана делать. Дело не в том, что
бы взять и еще что-то теоретически изложить, что другие еще не успели
изложить, и, с другой стороны, не в том, чтобы продиктовать еще новые
нормы для практики, а то еще мало говорилось, что надо делать. Дело
вообще, в принципе не в том, чтобы человек еще проявил сверх преж
ней еще новую активность, развернулся, размахнулся шире, работал
больше, эффективнее. «Жизненное целое» восстанавливается, формули
рует Хайдеггер, «действием исходно мотивированного лично-нелично -
i.GA,Bd.56/57>S.4 -5 -
213
СЕМИНАР ИЛ
го бытия»
1
. «Исходно мотивированного» — значит умение вглядеться не
в показные, а в настоящие мотивы вещей. «Лично-неличного бытия» —
значит что уже и здесь, где Хайдеггер персоналист, он помнит о другом.
Человек конечно и личность, но только в том смысле, что не личность —
не человек. Не так, что «личностью», наконец-то, очерчен человек. Чело
век по определению больше всего, чем его захотят ограничить. Или, ска
зать иначе, человек другой. Не так, что сейчас мы не видим, а потом уви
дим в человеке что-то другое, например сверхчеловека. Человек всегда
другой, у него никогда не получится так развернуться, чтобы выложить
себя, наконец, всего без остатка. Поэтому человеческое бытие «лично-
неличное», оно выходит за край и личности тоже. «Наука как подлин
ная, изначальная жизненная форма (т. е. тип исследователя, абсолютно
живущего в чисто предметных содержаниях и истоках своей проблема
тики)»
2
. Т . е. не для себя, не собой. Лично-нелично . Кто может вместить,
пусть вместит, цитирует Хайдеггер Евангелие от Матфея 19,12. Больше
никогда не будет цитировать, и это успокоит многих. Не надо всерьез
принимать задевающие странности Хайдеггера, он в стороне от основ
ного русла европейской культуры, она христианская, а он нет. Ведь у не
го нет цитат из Библии, значит у него нет христианства, неужели кому-
то не ясно. Вот если бы было тех цитат по две-три на страницу, тогда со
всем другое дело, это было бы густое христианство.
Начало 1919 года, недавний студент теологического факультета цити
рует: «Кто может вместить, пусть вместит», слова Христа. Что вместит?
«Неличное»: вместит то, что больше человека. Человек существо, могу
щее вместить всё. Надо узнать себя как такого, а не выкраивать из та
кой широты что-то по теперешней потребности — что-то явно выкро
ишь, но не кройка и шитье призвание человека, он призван вместить.
И еще есть другая, удивительная связь у этих цитируемых Хайдеггером
слов, кто может вместить, пусть вместит. «Кто разведется с женою сво
ею не за прелюбодеяние и женится на другой, тот прелюбодействует;
и женившийся на разведенной прелюбодействует. Говорят Ему учени
ки Его: если такова обязанность человека к жене, то лучше не жениться.
Он же сказал им: не все вмещают слово сие <вот это слово, «не женить
ся)», но кому дано. Ибо есть скопцы, которые из чрева матернего роди
лись так; ...и есть. .. которые сделали сами себя скопцами для Царства
ι. GА, Bd.56/57»S. 5.
2. Ibid .
214
3 СЕНТЯБРЯ 1991
Небесного. Кто может вместить, да вместит». Т . е. кто может вместить
быть скопцами для Царства Небесного, пусть вместит. Ученики поня
ли эти слова так, как они всегда все понимали: что не только не надо
жениться, но лучше заранее сделать себя просто непригодными для се
мьи. Поэтому детей, которых почему-то подвели к Спасителю сразу по
сле его слов о скопчестве, ученики стали отгонять: какие еще там дети,
когда лучше не жениться. Дальше эти известные слова: «Пустите детей и
не препятствуйте им приходить ко Мне, ибо таковых есть Царство Не
бесное». Только что было сказано: скопцам Царство Небесное, это 12-й
стих 19-й главы Матфея, а в 14-м стихе — детей царство небесное. И еще
ниже: отдавших имение свое нищим, нищих. Чье больше — евнухов или
детей или нищих? Это тоже ученики спрашивали (Мф. ι8, 1), со своей
прямолинейностью: «Ученики приступили к Иисусу и спросили: кто
больше в Царстве Небесном? Иисус, призвав дитя, поставил его посре
ди них и сказал:... если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в
Царство Небесное». Вот евангельский контекст хайдеггеровской цита
ты: «Кто может вместить, пусть вместит». А у Хайдеггера контекст еще
раз, теперь полностью, прочитаю, — он важен, это конец «предваритель
ного рассмотрения» к курсу. «Разбуживание и подъем жизненной свя
зи научного сознания предмет не теоретического изложения, а образцо
вой первичной жизни, — не предмет диктовки практических правил, а
действие исходно мотивированного лично-неличного бытия... <и даль
ше две цитаты:> „Человек, стань существенным!" (Ангелус Силезиус). —
„Кто может вместить, пусть вместит" (Мф. 19, vi)»
1
.
«Философия и мировоззрение», тема зимнего курса. В том же году
Хайдеггер пишет рецензию на книгу Карла Ясперса «Психология миро
воззрений», мы читали эту рецензию в прошлом году. Философия и ми
ровоззрение — какая берет скука от этой темы, говорит Хайдеггер, что
может быть пошлее этой схемы: есть мировоззрения, теперь у каждо
го есть свое мировоззрение, одно у крестьянина, другое у рабочего за
станком, потом у каждой партии еще свое; философия разбирает, у ка
кого какое и где, возможно, лучшее. Другие действуют, руководствуясь
воззрением, она обобщает, анализирует, критикует. — Но в самом деле,
почему так скучно? Ведь, казалось бы, перед всеми частности, обстоя
тельства, а философия обозревает все, держит перед глазами природу,
космос, глобальные проблемы, историю человечества в ее общих чертах.
ι. Ibid .
215
СЕМИНАР II.1
Такое панорамное, обзорное видение позволяет формулировать самые
основные, широкие вопросы — человеческой истории, войны и мира,
Бога, тоже важный вопрос, разве не так, — разве не важно понять отно
шение Бога к миру, совершенно ли Бог вне мира и не вмешивается в него
или составляет саму суть мира, тождествен бытию. Этот вопрос можно
решить так, что Бог в своей сущности трансцендентен, а своими энерги
ями имманентен миру, пронизывает ими мир, т. е . сам по себе непристу
пен, но неустанно действует своими энергиями, он энергетическое бы
тие
1
.
От прояснения фундаментальных проблем зависит решение эти
ческих, социальных, даже политических вопросов, задач создания новой
культуры, это ведь так важно, что может быть важнее. От культуры, на
пример, так многое зависит.
Отчего же все-таки скучно? На какой широкий простор мы выхо
дим в мировоззрении: распределяем, что куда и как, определяем зада
чи, опираемся на философию, привлекаем философию для прояснения
проблем.
К строгой науке это распределение, чему быть чем, что чем считать,
как понимать что, отношения не имеет. Мировоззрение, распределение
того, что как, назначение в просторном мире воображения, чему быть
чем, чему главным, чему случайным — с той строгостью, благодаря ко
торой науки остаются науками, философия философией, несовместимо.
Занявшись мировоззренческим упорядочением, философия перестает
быть. Тема «философия и мировоззрение» у Хайдеггера очень быстро
перестает быть скучной, потому что с места превращается в парадокс:
философия к мировоззрению отношения не имеет.
Это парадокс, потому что как же так? Ведь люди живут мировоззре
нием, картиной мира. Они как бы жили без распределения, что что? Са
мое элементарное, простое, возьмем нашу теперешнюю жизнь: автобус
56 идет на северо-восток, автобус 165 на юго-запад. Они идут туда по
тому, что людям надо одним туда, другим туда ехать. Людям надо ехать,
потому что они в одном месте работают, в другом живут. Где и как ра
ботать, что на работе делать, им продиктовала вовсе не очевидная, при
родная потребность прокормиться, одеться, согреться. Как раз для этого
они, в сущности, очень мало что делают, а иногда и вовсе ничего не дела
ют, делают для другого: например, для соревнования с другими государ
ственными образованиями. То, что люди делают, определяется их кар-
1. GA, Bd. 56/57, S. 8.
216
3 СЕНТЯБРЯ 1991
тиной мира, в конечном счете и то, кто садится в какой автобус. Так или
иначе мировоззрением, идеологией (кто хочет, может заняться противо
поставлением мировоззрения и идеологии; картиной мира останется и
то, и другое) определяется сама актуальность сейчас человеческой жиз
ни, идеология, мировоззрение формирует жизнь миллиардов. Филосо
фия не имеет отношения к жизни миллиардов? А ведь это мало нужно
доказывать, что строгая наука — действительно совсем другое, чем кар
тина мира.
Скучная тема — философия и мировоззрение — не развертывается у
Хайдеггера в пространство рассуждений и соображений, которых, зара
нее видно, может быть очень много, а оборачивается двумя вопросами:
что же такое философия, если она не имеет отношения к жизни миллио
нов? Что же это за жизнь миллионов, жизнь ли это, страшно сказать, ес
ли она не имеет отношения к философии? Значит, вся иерархия сведе
ний, соображений, решений, из-за которых жизнь миллионов сложилась
так, как она сложилась, шатается, ни на чем не держится? Второй вопрос
решается вдруг, и именно так, однозначно: да, жизнь миллионов, как она
сложилась вокруг стержневых мировоззрений и идеологий, шаткая, ни
на чем не держится, это фантасмагория, сон, мираж, тем более фантасти
ческий, что каждый из миллионов знает, и это почти что первое и самое
очевидное, что он знает, что его и всех жизнь должна и может быть дру
гой. Это действительно фантастика. Каждый знает, что жизнь должна и
может быть другой, и все равно это называют настоящей жизнью, а фи
лософию «далекой от жизни». Нет, только философия и есть проблеск
того, чем должна быть настоящая жизнь. Остается таким образом один
вопрос: что такое философия?
Что же такое философия? Спросите что-нибудь другое. Философия
открытая вещь, она самое большее только началась, но еще не кончи
лась. Тогда нужно отмахнуться, «тут определений быть не может»? Нет
так нельзя, это расчистит место для тех, кто придет и скажет, «филосо
фия вот что такое», а вы не знали, быстро напишет новый учебник фи
лософии, и потом что делать с этой очередной постройкой. И так все
захламлено. Другая ошибка: самому тогда, чтобы другие не опередили,
построить определение и как это говорится «застолбить» его — твоя по
стройка, твоя формула философии будет лучше многих других. И это
тоже не нужно. Задача не ввести философию в форму поудобнее, а дать
определение, оставляющее ее без ограничения пределами. Мы читали:
позднее Хайдеггер назовет такое определение формальным, вводящим
217
СЕМИНАР ИЛ
вещь в ее форму, т. е. эйдос, т. е . сущность; теперь пока он говорит, что
идея (форма — латинский перевод идеи), т. е . опять же сущность, фи
лософии определенна и подлежит определению, но эта определенность,
если понимать ее как предметность, неопределенна: идея не предмет, ее
нельзя свести к предметному содержанию, ее определенность не только
не поддается содержательному определению, но требует отказа от того,
чтобы представить, представлять ее как будто мы ее очертили. Надо не
тронуть вещь определением, определение тогда даст ей развернуться до
своих пределов.
Философия — первонаука, определение — дело науки. Она, ста
ло быть, себя сама определяет: нет нигде в запасе общей идеи науки, из
которой можно было бы вывести частный случай, философию. Фило
софия как строгая наука должна в своем формальном определении —
самоопределении, которое призвано дать ей быть тем, что она по сво
ей сути есть, — должна сама себя за волосы вытащить из болота, из так
называемого «потока жизни». «Мюнхаузеновская проблема духа»
1
. Вы
тащить себя за волосы из болота невозможно, но нужно. Философия
одинока, ей никто не поможет и она невыполнимая задача. Поскольку
она вытаскивает сама себя, она ходит по кругу, из этого круга ей не вый
ти, потому что она первая наука, не на что внешнее опереться. Ее, стало
быть, и вовсе нет. С принятия того, что она невозможна, невыполнима,
что ее вовсе нет, она начинается. Это настроение одиночества, или, это
одно и то же, одинаковой близости ко всему, и к такому, что далеко и ме
ня не касается, т. е . нет того ориентира, уже, что эти вещи мои и входят в
круг моих интересов (так, считается, бывает при специализации, но на
учная специализация возникла не в самой науке, наука сама по себе, и
философия, если она строгая наука и первая наука, специализации не
диктует). От этого настроения одинаковой близости ко всему, без эйфо
рии достижимости, с трезвым знанием, что то, что увлекло, совершен
но недоступно, — от близости к далекому, которое от понимания близо
сти к нему становится еще более далеким (потому что нет слабоумной
эйфории от иллюзии, будто всего можно достичь), возникает одиноче
ство. Настроение философии. Как у Гераклита: чьи сочинения я ни чи
тал, ни у кого не нашел я понимания того, что софия (το σοφόν, против
пифагоровской фило-софии) от всего отстранена. Это легко понять как
его гюбрис, первого настоящего философа, словно до него еще не было
î.GA, Bd. 56/57, S. 16 .
218
3 СЕНТЯБРЯ 1991
ни одного. На самом деле у этого фрагмента другой смысл. Он такой: по
сле всего, что сказали, написали и сделали думающие люди, сколько их
ни читай, ни слушай, ни смотри, софия (философия) остается за триде
вять земель, к ней не способом чтения приближаются. О том же гово
рит и первый гераклитовский фрагмент, там не мрачность мизантропа,
что людям хоть кол на голове теши, они останутся вне логоса, а смирен
ное приглашение не думать, что софию (философию) можно извлечь из
его слов, из чтения его слов: софия добывается, если добывается, как-то
иначе. Поскольку в гераклитовском семинаре Хайдеггер разбирает фор
мулу σοφον πάντων κεχωρισμένον, софия (философия) от всего отдале
на, отдельна, отстранена, у нас еще будет случай подробнее вглядеться в
этот фрагмент.
Я хочу, чтобы кто-то сейчас сказал: а не надо тогда нам этого Хайдег-
гера, этого Гераклита, не надо одиночества, пойдем туда, где настоящая
философия, существует же, накоплена, ее огромная история, все знают
и никто не спорит, что это настоящая философия, будем смотреть, из
учать, как люди ее делали, и сами будем не хуже людей. Какая она, исто
рия философии, богатая; дело давно движется, надо присоединиться к
нему, подсесть на подножку. Теперешние проблемы, кстати, тоже обсуж
дались давно. Философия была, в разной мере, близка к науке у Пифа
гора, Аристотеля, в средневековой схоластике, у Декарта, Лейбница, Гус
серля: люди искали того, что мы ищем, научной философии. Платон, в
чью академию нематематик не войдет, создает новую строгость мысли,
которой раньше не было, говорит с возмущением о прежней нестрогой
речи: «Миф какой-то каждый, кажется, рассказывает, словно мы дети»
1
.
Чем мы еще сейчас хотим заниматься, возвращением к началам, — это
тоже сказано и у Френсиса Бейкона, и у Платона опять же с такой яснос
тью! «Убрать догадки, утвердиться на самом исходном», «изменить пол
ностью все состояние духа»
2
.
Проникнуть в это платоновское философствование, разве этого ма
ло? Платон — философ, с этим все согласны. Есть другие философы. Раз
ве это не помогает войти в философию? Разве теперь, после всего, нуж
но еще совершенное одиночество и нищета и беспомощность, — это
крайность, и не знать, что такое философия, и определять ее, и делать
ее заново? Кто-нибудь скажет: анархизм какой-то; но не надо пугаться,
ι. Платон, Софист 242 с.
2. Платон, Государство 533
с
·
219
СЕМИНАР II.1
это так: да, действительно, оттого — очень странно, но это так, — оттого,
что накопился, казалось бы, такой прочный, — такая надежная опора, —
фундамент философии, трехтысячелетней историей философии, мы без
домные в философии, а значит бездомные вообще; новое жилье строить
надо, потому что нашему поколению все равно негде жить, может быть
даже, оно философски такое бездомное, как никогда. Где же тысячелет
ние философские постройки, они что, были неправильные? Еще какие
правильные, а все равно жить в них не легче, чем в нарисованных домах.
«Сколько я философских сочинений не читал, ни одно не достигает то
го, чтобы сделать софию менее далекой, не такой, какая она есть, стран
ная, отделенная от всего».
Постройки Платона, Аристотеля настоящие, такие просторные, что
они вместили в себя будущие европейские тысячелетия и вмещают еще
многое вперед, рассчитаны на то, чтобы вместить целый мир, — но вот
парадокс: мы бездомные, философского дома у нас нет, только сведения,
что у кого-то был. Библиотека полна философскими книгами, но когда
человек со своими сегодняшними заботами закрывает и откладывает в
сторону книгу с бородатым слепым мужественным красавцем на супе
робложке, он может быть к философии ближе, чем научный сотрудник,
который имеет уже несколько работ по Аристотелю и сейчас напишет
еще одну. В философии этот второй все равно может быть нигде, без
домным нищим, и плохо, если он не знает о своей нищете, а первый, ко
торый с горечью Платона отодвинул, потому что «не помогает», — зна
ет, и это лучше.
С историей философии ситуация, правда же, как из сказки, как из сна,
когда мне кажется, что у меня много, целая масса чего-то, а проснувшись
ничего нет. Философия, заложенная в истории философии, — как те юо
талеров Канта, которые, даже если их очень сильно помыслить, все рав
но не окажутся осязаемо в руках, ну никак, хоть представляй их до того,
чтобы они мерещились везде.
С другой стороны, конечно, философия может начаться, именно по
тому, что «софия от всего отдельна», с любого места, в том числе и с чте
ния Платона, — но вот именно с любого места может начаться, т. е. в том
числе и с нечтения, с непринятия Платона. Конечно, когда всерьез зани
маешься домом, то как-то будешь так или иначе хорошо знать, какая бы
вает архитектура, как строят или строили другие. Но это совсем другое
знание, чем знать, просто глядя. Разница между глядеть и делать.
Вот вопрос вопросов: почему в философии нужно обязательно де-
220
3 СЕНТЯБРЯ 1991
лать, почему нельзя просто глядеть? Ведь это же такая профессия, те
ория, от θεωρείν рассматривать; ведь же философия созерцание, ведь и
говорится даже — «философское созерцание», и в истории философии
написано, что философия созерцание, высокое занятие, а делание, осо
бенно руками, ремесло, рукомесло, невысокое? Неужели правда, что фи
лософия, которая просто рассматривание, а не дело, ниже и хуже лю
бой ручной работы, работы руками? Неужели попусту говорится, и как
можно, чтобы попусту говорилось, ведь знающие же люди говорят, за
нимающиеся историей мысли, что древнегреческий мудрец, словно зри
тель на олимпийских играх, был занят праздным созерцанием пестро
го космоса, так что русский, работящий мыслитель Николай Федорович
Федоров упрекнул тех праздных мудрецов, сказал: Нет, мир дан нам не
на погляденье? И создал философию общего дела.
Когда Федоров планировал делоу хотел, чтобы философия стала не
гляденьем, а делом, он хотел того, мечтал о том, чем настоящая фило
софия была всегда, с самого начала: делом. Федоров хотел, чтобы и его
мысль тоже каким-то образом стала делом, но она не стала, осталась
планированием. Теория не такое созерцание, которое противоположно
практике, а такое, которое дело, и только когда падает напряжение, ког
да наступает «слабость души», тогда человек скатывается из дела теории
в практику, где напрасно пытается — уже никогда не удастся — догнать
то, что упустил в теории.
Теория в философии, например, Плотина это то, где имеет силу ра
венство «бытие и мышление одно». Этот парменидовский тезис — еще
один пример того, как нас информируют о философии. Нас информи
руют так: мышление ценилось в классической идеалистической фило
софии (на то она и идеалистическая) очень высоко; мшсли только — и
там самым будешь быть; такова была идеология рабовладельцев, имев
ших досуг и даже обязанных не работать руками, чтоб не быть похожи
ми на рабов; во всяком случае, вот такие были странные люди, продукт
своей эпохи, от чего мы, конечно, отошли далеко, высоко ценя труд, ра
ботая, изобретая и бытием считая все-таки не просто мысль, а действие,
или такую мысль, которая ведет к принятию решения и действию. Мы
ведь все-таки не праздные чудаки, мы близки к реальности.
Я не знаю, может быть, я не прав или чего-то не заметил, но я, ка
жется, ни разу не слышал вот какое толкование: парменидовское «од
но и то же мыслить и быть» называет, что такое настоящая мысль, чем
она должна быть и без чего не будет мыслью. Не так что: а, значит бытие
221
СЕМИНАР II.1
идеально, оно есть мысль; а наоборот: «настоящая мысль действует». Не
так, что: «имейте того, что вы называете мыслями в голове, как можно
больше», «занимайтесь тогда не ремеслом, а размышлением, в нем насто
ящая реальность», а наоборот: немедленно прекратите то, что вы поче
му-то называли мышлением, безвольный перебор содержаний в вашей
голове, и ищите другое мышление, которого вы до сих пор не знали, для
которого нужно измениться и которое дело. Под теперешнее понимание
парменидовского тезиса, в том же смысле понимается обычно и декар
товское cogito ergo sum, вот так: у меня происходят в голове процессы,
это мышление — а как же не мышление, — я их ощущаю, осознаю, и, сле
довательно^ я существую, обладаю бытием. Это понимание, лестное для
разрушенных людей, надо выбросить без рассуждений и не оглядывать
ся на эту нелепицу больше, пусть она лежит там, где ей положено, вместе
с другим хламом в каких хочет книгах по истории философии.
Парменидовское τό γαρ αυτό νοεΐν εστίν τε και είναι, одно и то же мыс
лить и быть, это з-й фрагмент по Дильсу-Кранцу, связано с другими ме
стами его так называемой «поэмы», например первая строка (стих) того,
что вошло в VI фрагмент: (другое известнейшее место, и как у извест
нейшего, должно же вроде быть для него какое-то установившееся по
нимание у историков философии, так нет же, ничего подобного) χρή τό
λέγειν τε νοεΐν τ' έόν εμμεναι. Известный перевод: надо говорить и думать,
что бытие есть, — в том же самом смысле, как дальше идет продолже
ние: а именно, бытие есть, ничто же не есть. Перевод Жана Бофре: «Не
обходимо вот что: говорить и мыслить бытие сущего». В первом пере
воде Парменид требует принятия утверждения, тезиса, требует именно
так говорить и думать: что бытие есть, а не как-нибудь еще. Во втором
переводе он требует гораздо большего: высказывать и мыслить обо всех
вещах их бытие, вникать словом и мыслью, пониманием в бытие сущего.
Теперь третий перевод, Андрея Валентиновича Лебедева, в книге
«Фрагменты ранних греческих философов»: «То, что высказывается и
мыслится, необходимо должно быть сущим („тем, что есть")»
1
. Теперь
Парменид вообще ничего не требует, он только успокаивает: не тре
вожьтесь, так или иначе все, что вы говорите и думаете, будет (незави
симо от вас), окажется бытием, потому что все равно без бытия ничего
нет. Это толкование настолько невероятно, — потому что Парменид во
все не думает, что с речью и мыслью людей все обстоит так благополуч-
1. Фрагменты ранних греческих философов, ч. ι, Москва, 1989» с. 288 .
222
3 СЕНТЯБРЯ 1991
но, он думает, наоборот, что почти все человеческое это блуждание, про
вал, как раз то ничто, которого нет, — что поневоле ищешь как-то по
другому прочитать перевод Лебедева, и действительно вдруг прочиты
ваешь — а переводчик этого, кажется, не заметил — совсем другое, про
тивоположное, снова требование, да еще большее, чем в первых двух пе
реводах: то, что мы говорим и думаем, обязано пребывать в бытии, под
угрозой оказаться в ничтожной пустоте надо добиться того, чтобы мы в
нашей речи и мысли не отступали от бытия, не упускали его. Вот исто
рия философии: что сказал Парменид из этих противоположных вещей?
Из которых первая — край немыслимой вседозволенности, потакатель
ства какому угодно разгульному произнесению слов, а второе тоже край,
только предельной сверхзадачи, тоже немыслимой: быть словом и мыс
лью в бытии.
Попробуйте меня проверить, со мной поспорить, что неправда, что
мы не начинаем шататься на первом же шагу, сделанном в историю фи
лософии. Дразнящая, раздирающая двусмыслица: то ли все, что нам ни
придет в голову, уже и есть бытие, потому что небытия нет, — то ли, нао
борот, как сказано еще в другом фрагменте, VIII, стихи 35~3б, мысль еще
и неизвестно где, ее надо искать, и ее не найдешь нигде, если нет то
го, ради чего мысль, а мысль — ради бытия, только. Или как в том з-м
фрагменте, с которого мы начали: он дошел в передаче Климента Алек
сандрийского, блестящего церковного писателя 2-го — начала з-го века,
умер до 215, и Плотина, з-й век. У Климента Александрийского контекст
такой: «Аристофан сказал: Понимание равносильно действию, а до не
го — элеат Парменид: Понимать то же самое, что быть». Для Климента
быть — само собой разумеется значит действовать. У Плотина мы зна
ем, что такое мысль: во-первых, она не имеет отношения к сознанию, со
знание (отражение) от нее только отнимает силы; во-вторых, мысль не
практика только потому, что полнее всякой практики, в практику от тео
рии человек отпадает уже тогда, когда слабеет душой, впадает в ασθένεια
της ψυχής, выражение, из которого построено современное слово «пси
хастения». Для Климента и Плотина — они принадлежат одной хоро
шей александрийской школе мысли — это все как бы подразумевается;
но мы ведь не знаем, что такое теория, которая вбирает в себя действие,
причем полноту действия; мы ведь не знаем, что такое понимание, ко
торое полнее тогда, когда у него под ногами не путается сознание. Мы
читаем Парменида, наконец-то читаем правильно, и это нам нелегко да
лось, — но все равно, читаем «мысль», или лучше, как я сделал, перево-
223
СЕМИНАР II.1
дить νους «внимание», «понимание»* — и оказывается мы не знаем, что
это такое.
И если я скажу, что понимание, внимание — поступок раньше и зна
чительнее всякой практики, что с понимания и только с понимания на
чинается человеческая история, и об этом можно прочесть в книге Ва
силия Розанова «О понимании», то одно это, что для понимания Парме-
нида нужен Розанов, примут за неловкую шутку, за желание потешить,
развлечь, и скажут: ну ладно, хватит, надо вернуться к настоящей фило
софии. Для настоящей философии Парменид нужен, важен — чем? Чи
таем историка философии: «Парменид первым из древнегреческих фи
лософов стал оперировать понятиями максимальной общности, говоря
о бытии и о небытии», т. е. стало быть поднялся до степени обобщений,
а то мысль была еще погружена в чувство. И нам тоже, стало быть, надо
научиться поскорее обобщать и оперировать, оперировать обобщенны
ми понятиями, а то мы как-то все не умеем оперировать понятиями, все
еще блуждаем в настроениях.
У меня другие примеры, у Хайдеггера — платоновский «анамнесис»,
но смысл тот же. «Настоящие философские прозрения, дающие о себе
знать в ранних формулах мысли, я могу опознать как таковые только с
помощью масштаба, критерия подлинности. Вообще не существует ни
какой истории философии, кроме как для исторического сознания, ко
торое живет в подлинной философии. Всякая история, и история фи
лософии — особенно конституируется в жизни самой по себе, кото
рая сама поднялась до историчности — в абсолютном смысле <т. е. вне
зависимости от своего отношения к историографиих Это все, конеч
но, очень не по душе гордым богатством своих фактических познаний
историкам, которые считает свое исследование единственно научным и
думают, что факты можно найти и подобрать так же, как камни по до
роге. Так что путь через историю философии к ее существу, к ее идее с
тонки зрения строгого научного метода едва ли желателен, иллюзорен,
потому что, собственно говоря, без идеи философии, как первонауки, не
удастся даже приблизительно отграничить, что принадлежит к истории
философии и что — к другим вещам»
1
.
Сегодня, ю-го и, наверное, еще 17-го — все еще этот курс 1919 года,
«К определению философии», который нам вместо повторения прой
денного за прошлый год.
ι. GA, Bd. 56/57, S. 21.
II.2
17.91991
«К определению философии», 1919 год, первый из известных курсов Хай-
деггера приват-доцента — вместо повторения того, что я говорил о Хай-
деггере. Определения философии не удается извлечь из истории филосо
фии, потому что когда у нас нет заранее идеи философии, ее вида, чтобы,
увидев, мы сказали, вот она, мы ничем не ограждены от того, чтобы при
нять, сказать «вот она какая, философия», Бог знает что или наше вооб
ражение, — например, вообразив, что как нам легче, так и древним было
легче взять за образец что-нибудь, например, живое тело, зооморфную
модель, и плясать от этой печки, все, что видишь, перекрашивать под зо
оморфный прообраз, и так далее. Мы этими играми занимаемся, любим
улавливать «первоинтуиции», и если мы же знаем, на что похожа фило
софия, мы за философию примем что хотим.
«Наша проблема: идея философия как первонауки (Urwissenschaft),
точнее: прежде всего, в первую очередь отыскание методического пу
ти, который обеспечит надежный, достоверный подступ к сущностным
элементам идеи философии как первонауки»
1
. Что делать? Может быть
взять усреднить тип философа? Хорошенькое дело: сам философ ориен
тируется на что-то, служит чему-то; с равным успехом мы стали бы гля
деть в лицо человека, читающего книгу, чтобы узнать, что написано в
книге.
С другой стороны, все же: ищем ведь идею первонауки, истока. Но
ведь есть науки, они не зря, они не посторонние истоку, как реки не по
сторонние истоку, к источнику только и можно прийти потому, что есть
река. Возвратиться от наук, разветвившихся, к источнику, первонауке. —
Возьмем физику. Это явно наука, у нее строгие методы; она знает, что
надо делать, у нее уверенный шаг. Вопрос философии бытие (по Аристо
телю) — и физика о бытии, только отдельно взятом: о бытии неживой
природы, и точнее, не в ее, скажем, красивых пейзажах, а в ее закономер
ностях, и еще точнее, в закономерностях ее движения, — механическо
го, химического, электродинамического. Физика отдельная наука; надо
только абстрагироваться, отлепиться от того, что в ней отдельного, и по-
1. Ibid., S. 22.
15-2015
225
СЕМИНАР II.2
лучим науку вообще? Отдельного, частного то, что физика ограничива
ет свой предмет: не все бытие вообще, а — телесного мира, материаль
ной природы. Исключается так называемая «живая» природа, там будет
работать уже биология. Исключается область духа, культуры, — там так
называемые, после Дильтея, «науки о духе», Geisteswissenschaften (вме
сто этого неуклюжего названия всегда хочется говорить «гуманитарные
науки»). — Но еще рано делить деление предмета науки на три, физи
ка неживого, биология живого, гуманитарность духовного. Математика,
скажем геометрия, явно тоже строгая, частная, настоящая наука, рабо
тающая с таким уникальным, странным феноменом, как пространство,
которое в опыте нам, в отличие от неживого мира, живого мира, духов
ного мира, не дано: непонятная, загадочная вещь пространство, неясно,
где оно, Платон говорил, что во сне: точка, не имеющая объема, линия,
не имеющая толщины, — опыта таких вещей мы иметь не имеем и ни
когда не сможем иметь, как будто бы. Неважно: геометрия все равно на
ука. И опять же: богословие. Ведь это наука, — не гуманитарная, потому
что она наука не о человеческом духе, а о Боге: Дух Святой действует чу
додейственно, богословие это наука о чуде, а гуманитарные науки — на
уки не о чуде. Хотя мы тут же начинаем запинаться: ни в богословии не
прояснен вопрос о его научном методе (говорю о нашем православном,
а у Хайдеггера: «ни в католической, ни в протестантской теологии по сей
день не пробилось на свет методологически ясное понятие этой науки;
больше того, за исключением нескольких несовершенных попыток в не
опротестантской теология, у людей нет ни малейшего сознания того, что
здесь заключена проблема огромной значимости»
1
), т. е. вопрос: от фи
лологии, которая тоже изучает, сопоставляет тексты, от истории чем на
ука богословие отличается? Что это за наука? Какие ее методы? Но все
равно явно наука; имеет дело с историческим конкретным опытом.
Вот частные, отдельные, обособленные науки. Науки же. Теперь, от
влекаясь от их обособленности, — к первонауке, Urwissenschaft, филосо
фии. Науки подразделяет область исследования, значит первонаука бу
дет о неразделенном на части, о целом, об общем бытии, есть же общее
бытие, раз мы говорим «человеческое бытие», «бытие природы». Но от
обобщения конкретных вещей, которыми заняты отдельные науки, по
лучим ens rationis, рассудочное понятие, очень тощую вещь. А главное,
какой же это будет «исток»: наоборот, обобщение, абстрагирование, ко-
i.GA,Bd.56/57,S.26.
226
17 СЕНТЯБРЯ 1991
нечный результат, свалка. Это годится для брошюр научно-популярной
серии; к сожалению, богословие, которое когда-то хотело быть первонау-
кой, а потом стало завистливо поглядывать на другие науки, хочет всту
пить в союз с ними, для этого их как-то пытается «обобщить» под об
щим понятием научности. Сути науки, первонауки так не же получишь,
все это похоже на глядение со стороны, с холодка, а в науках жарко. На
уки в деле, они ввязались в работу с предметом. Они имеют дело с пред
метом. Какое дело? Они его познают, дело познания, Erkenntnis. Этим за
няты все науки. Наверное, познание — вот тот феномен, которым опре
деляется научность. Значит, и первонаука? Надо вглядеться, что это за
дело, познание, в которое так ввязались науки; познание в своей сути
будет философией?
Познание. Познание это процесс: сейчас я не знаю; я познаю; потом я
знаю. Читаем в философском словаре * : «Познание, высшая форма от
ражения объективной действительности». Пускай на совести тех, кто
дал такое определение, остается их глухота: они что, не слышат, что ска
зано словом отражение? Они не догадываются, что когда объективная
действительность отражена, мы на нее можем глядеть уже только из
дали, и уже все равно, как мы о себе думаем, что мы ее победили наве
ки или что мы отогнали от себя свое богатство навеки. Несчастное сло
во отражение, несчастные, кто его бессмысленно твердит. Оно значит,
конечно, по Фрейду прежде всего и в своей бессознательной сути все-
таки не два, а одно: заботу о том, чтобы с самого начала отодвинуть, от
разить от себя все, что может меня встревожить, взволновать, захватить,
обеспокоить, увлечь. Это настроение ледяного холода, сиротства — по
том несчастный сирота начинает оперировать и мстит за свое сирот
ство, упорядочивает, берет под учет и контроль, наблюдает и карает. От
ражение в том же словаре определяется: «Фундаментальная категория...
теории познания». Опять на совести авторов пускай остается эта тав
тология: познание есть высшая форма отражения, отражение есть выс
шая категория познания. Такого рода определения пишутся уже, кажет
ся, в таком состоянии помрачения, когда человек давно-давно перестал
слышать не только что говорят другие, но и что говорит он сам. Место
таким определениям — нигде: там, где они и находятся. — Нам надо, все
же, подумать: познание, процесс познания — какой? Вроде бы психиче
ский, касающийся человеческой психики, или как еще? Допустим, зна
ние включает вечные вещи, как дважды два четыре, это не момент пси
хики, но познание — вроде бы психический процесс?
15*
227
СЕМИНАР II.2
Получается путаница: познание хочет быть существом всякой науч
ной работы, а само оно предмет психологии, частной науки. Или позна
ние не предмет психологии? Законы познания тогда за рамками пси
хологии, имеют отношение к истине: познание определяется как то,
что движется к истине, движение к истине. Теория познания, гносе
ология. (А когда наша философская общественность, которая раньше
ориентировалась на немецкую литературу, стала ориентироваться на
английскую и американскую, то увидели там слово «эпистемология»
и никакой «гносеологии», и на всякий случай стали говорить «эпи
стемология» — на всякий случай, а Бог его знает, вдруг гносеология
и эпистемология разные вещи; в конце концов кто-нибудь постарает
ся, и они на самом деле окажутся разные, только раньше этого расще
пления на гносеологию и эпистемологию, две дисциплины, нужно бы
ло бы знать, что хотя бы одна из них на самом деле в точности зна
чит, и тогда уже дробить, а так создается иллюзия, что раз дошли до
таких тонких расщеплений, то уж что именно расщепляется, по край
ней мере известно. А может быть известно?) Читаем опять определе
ние, опять из серьезного издания, серьезного автора, известного, веду
щего: «Теория познания изучает проблемы природы познания». Отсю
да узнаем только, что у познания есть «природа» — вот удивительно!
Познание познает природу, но у самого познания есть npupodal Если
бы автор определения слышал, что он говорит, он задумался бы на
этом месте и дальше бы не пошел. Природа познает природу] Это дей
ствительно головокружительная загадка, захватывающая, заворажива
ющая. Еще, правда, узнаем из определения, что у познания есть пробле
мы или что познание само есть проблема — автор опять заинтересован
явно в том, чтобы говорить, а не слушать, и не заметил, что выраже
ние «проблемы познания» синтаксически или родительный объекта,
познание имеет проблемы, которые оно решает, — или родительный
субъекта, — познание само представляет собой проблему или целый
пучок проблем. Или автор определения имел в виду оба смысла? Тогда
как с «природой познания» мы имели природу, которая познает при
роду, так с проблемами познания мы имеем пучок проблем, перед ко
торым стоит пучок проблем! Совершенно удивительная, завораживаю
щая ситуация, и опять же если бы автору посчастливилось услышать,
что он сам говорит, он никогда бы уже не сошел с этого места, пото
му что уже здесь хватит загадки на целую жизнь. — Это я об опасени
ях, а Бог его знает, может, гносеология и эпистемология разные вещи.
228
17 СЕНТЯБРЯ 1991
Прежде чем этого бояться, хорошо было бы хотя бы приблизительно
знать, что такое хотя бы одна из двух.
Законы. У познания есть законы — какие-то, их еще надо устано
вить, но вроде бы ясно, что психологией дело не ограничивается. Это-
то ясно, конечно, т. е . что дело идет о том, что называется «объективной
истиной». С установлением этих законов хуже: снова круг, потому что
законы познания придется познавать при помощи этих же законов. То,
что Хайдеггер называет мюнхаузеновской проблемой духа: надо само
го себя вытащить за волосы из болота, — невозможно, а надо. Об этом
уже говорилось. Теперь дальше. (Маленькое замечание: кто-нибудь ска
жет, что это мы все время упираемся в тупики; и в невинном опреде
лении увидели — в коротеньком — целых два тупика, проблема позна
ет проблему и природа познает природу, а теперь законы познают за
коны. Вы придираетесь к словам; ну, допустим, какое-то выражение не
совсем удачно, но надо же не к словам придираться, а на дело смотреть.
Я на это отвечу: а никакого дела и нет, некуда смотреть; когда человек
не слышит, что он говорит, то он не замечает, и что он думает: говорю
без преувеличения, в сильном смысле: человек не замечает, что он ду
мает, и не знает, что он думает на самом деле.) Но чем указывать дру
гим на сучок в их глазу, лучше заметить бревно в своем. Где мы стоим.
Познание, с одной стороны, конечно психический процесс, с другой сто
роны, однако, конечно тоже, оно как ориентированное на безусловное
что-то имеет свои непреложные законы, изменчивости психики не под
верженные, — хотя, наверное, и в психическом тоже действующие. Что
такое психика, что такое закон, однако, мы ведь не знаем! Опять не зна
ем. Опять: может быть, знаем? Скорей справочное издание. «Закон есть
существенная, необходимая связь между явлениями». Ничего себе! Да
что же это такое! Через запятую — «существенная, необходимая». Су
щественная связь это которая мною выявлена, установлена как главная,
весомая, ключевая, вот она там стоит, оказалась главной, существенной.
Необходимая — это которая должна быть. Первое понятие закона, су
щественная связь, для познания не годится: закон в познании не то, что
познанием выявляется, а то, чему познание должно следовать, значит
необходимый, должный, обязывающий меня закон. Но ведь это две со
всем разные, противоположные вещи! Или — или, надо же в конце кон
цов решить. Или законы выявляются, закон это то, что систематически
выявляется, — или закон это то, к чему я обязан, чему я при любом вы
явлении должен следовать? У меня, как у собаки Павлова, сшибка нерв-
229
СЕМИНАР II.2
ных процессов: две вещи явно противоположные, круг и квадрат, стоят
рядом, через запятую, и никаких признаков того, что писавший опреде
ление сошел с ума от этой сшибки, нет, потому что статья в справочном
издании бойко продолжается еще на две плотно напечатанных колон
ки, как ни в чем не бывало, автор продолжает «мыслить». Что такое за
кон — факт или императив — это раздирающее «или-или» автору слов
но и не видать, он занят философским делом, классифицирует, описы
вает законы. Что он описывает? Структуру или долженствование? Не
может же быть, чтобы структура для него и была долженствованием?
Нет, он просто не знает, что и о чем он говорит. Ему как-то говорится,
он много сказал и пожалел, что не сказал больше, он может говорить
без конца. Установить, что он имеет в виду, никогда не удастся. Это мог
бы сделать только он, но он не делает: у него нет времени, он занят фи
лософией. — Это о хайдеггеровском замечании, что понятие закона не
прояснено.
В познании закон явно императив, ценность — ведь познание это
достижение, которого могло бы и не быть, которое достигается пото
му, что выполняются определенные требования, нормы, которые могли
бы остаться и невыполненными. Познание может быть подлинное и не
подлинное; действительные, настоящие знания в отличие от неподлин
ных — и ценность, и одновременно императив. Истина — это ценность,
может быть, даже первая. Законы познания — нормы, правила. Нормы,
правила — это явно что -то человеческое, т. е. второй раз возвращает нас
к «психике», понятой широко. На этот раз только уже когда мы говорим
«психика», то имеем в виду не просто процессы, — явно там какие -то
процессы есть, движение, содержание, — а замечаем, что должны были
наверное сразу заметить: что в психике два, две вещи, два порядка: один
это явно какая-то структура, причинность, причинная необходимость,
фактическая закономерность, как во всем существующем, — и другой
это нормы. Два мира, которые знать друг о друге ничего не хотят: для
причинной обусловленности какая еще такая может быть норма, раз
ве из причинной зависимости может что-то выпасть? Да если хоть одна
кроха выпадет, то выпадет вообще все, — а норма знать не хочет о при
чинной необходимости, потому что если норме скажешь, нет, твое тре
бование неисполнимо, потому что вмешивается в природный порядок
вещей, то норма гордо скажет: и вмешиваюсь, и буду вмешиваться, и бу
ду даже стараться, чтобы природный порядок шел против меня, а я бы
в него вмешивалась, потому что так мне больше чести, а иначе какая я
230
17 СЕНТЯБРЯ 1991
норма, если приказываю то, что и без меня будет и есть? Это два мира,
которые и знать друг о друге не хотят. Тем не менее оба же явно есть, не
скажешь, что норма как императив иллюзия. (Кто-нибудь скажет: факт
и норма должны гармонически спиться, вы не правы, что это два раз
ных мира. Это типичный случай нервного срыва, когда не выдержав на
пряжения вопроса, трудности проблемы, человек бежит в платониче
скую область, где все уже устроилось, к Богу, который все уладит. Это
нервный срыв, провал мысли, уход на пенсию, не больше. Есть еще стыд
ливый способ того же ускользания от напряжения, выйти из-под тока:
сказать, что есть дескриптивная психология и есть нормативная психо
логия, или как-то выразить то же разделение компетенций в других тер
минах, одна занимается формами, другая занимается нормами. Тогда я
буду заниматься формами (психической деятельности), а ты нормами, и
все будет в порядке, никакого раздора.)
Еще способ избавиться от проблемы: а, успокойтесь, ничего страш
ного: нормы это просто особые формы, — форм много, но не все из них
абсолютно приемлемы, а есть такие формы, которые нам нужны, пото
му что они ведут нас к истине или сами уже прямо и так истинны: такие
формы называются нормы. Перед вами спектр форм; они не все равны;
их все равно слишком много, как сортов сыра в швейцарском магазине;
выберите лучший, это будет вам норма. Я говорю: это тоже уловка, спо
соб разбавить кислоту, может быть, как-то нечаянно от кислоты изба
вимся. Ведь выбор норм из форм должен опять же быть не наугад. Ори
ентир цель, цель — истина, т. е . даже если нормы — это особые формы,
должна быть норма: правило выбора норм из форм.
Еще один способ сгладить раскол между рядом причин-следствий и
рядом императивов: да что вы простейшим способом не идете: прона
блюдали бы просто, заметили, какие в человечестве бывают нормы. Ка
кие они фактически бывают! Типология здесь возможна, фактическое
познание форм норм (какие формы принимают нормы) вполне дости
жимо.
—
Это опять уход от проблемы. Ведь когда я познаю, я не смо
трю, какие бывают у людей методы познания, значит и у меня должны
быть такие же, — я следую норме не какая она бывает, а какая она про
сто должна быть, ежеминутно мне грозит сорваться в недолжное, может
быть, уже и это слежение за тем, какие у людей бывают нормы — вещь
недолжная; мой императив мой, а не чужой — хотя, конечно, я и на чу
жой оглянусь. Даже и моим-то императивом я горжусь потому, что он не
мой, а абсолютный. «К выявлению априорно значимых норм не может
231
СЕМИНАР II.2
вести путь эмпирического исследования»
1
. Индивидуальное, обуслов
ленное, историческое, случайное — там смешно искать, там ученый не
ищет себе ориентир.
Нам нужны нормы абсолютные. Первым Фихте, продолжая Канта, в
«наукоучении», так он называл философию, начинает единой, строгой
методикой систематически выводить из единого тоже принципа те фор
мы, которые у разума должны быть, чтобы он привел к своей цели. Разум
свои цели должен как-то знать; он поэтому из целей выведет и свои за
коны (как императивы), свои нормы. Разум их заимствовать не будет.
Разумное я слишком тесно приближено к бытию: оно, собственно, в сре
доточии бытия и находится, — не всегда, конечно, а тогда, когда подни
мается до сути бытия, значит, и до собственной сути: суть эта как раз в
том, чтобы самому быть воплощением того, что должно быть. Попада
ние Я в ту точку, где Я диктует всему, как все должно быть, по своей ис
тине, и в этом диктате истины само Я осуществляется в своей истине
центра, средоточия, — вот та деятельность, поступок, который одновре
менно и норма, и факт, потому что нормируется не случайное, не навя
зываемое, а истина, т. е. то, что собственно по-настоящему одно только
серьезно и есть и во всяком случае одно только и будет, а у остального
шансов нет. Бытие это то, что должно быть. Должно быть и бытие поэ
тому совпадают. Это прекрасно, это красиво, и это достойно классиче
ской — первоклассной философской мысли. Значит, разум диктует нор
мы. Что хочет, то и диктует. Но хочет он только истины. Ах, как бы это
устроить, чтобы разум хотел только истины? Но он и не может, говорит
Фихте, по настоящему хотеть ничего, кроме истины. Что за вопрос —
как сделать, чтобы он хотел только истины? Вопрос абсурден! Разум хо
чет только истины! Та же самая тема Фихте, ближайшее повторение это
го тезиса Фихте — у Гегеля, в его знаменитом «все разумное действи
тельно, все действительное разумно». Опять поневоле вздыхаешь: ах как
бы сделать так, чтобы все разумное было действительным, все действи
тельное разумным, бормочем мы. О чем это вы бормочете, что за вздор,
и так все действительное разумное, разумное действительно, вы сле
пы, откройте глаза и увидите! Мы опять за свое: ах как бы хотелось уви
деть... То есть норма есть уже, она факт, ничто кроме нормы не форма,
только норма — форма, протрите глаза, если вам кажется иначе, то это
вам только кажется! Не бывает, чтобы норма и форма не совпадали, есть
ι. GA, Bd. 56/57, S. 36.
232
17 СЕНТЯБРЯ 1991
только идеи, а остальное мнимости, кажимости! Значит это наша беда и
вина, что мы видим формы, в которых нету нормы — но все -таки не ви
дим же! Счастливые Платон, Фихте, Гегель! А мы несчастливые, у нас все
равно идеи (нормы) философии все нет, хотя мы слышим, что нет, не су
ществует, не имеется в бытии, наоборот, ничего, что не было бы идеей,
только идея есть, есть — только идея!
Диалектически это, что действительное разумно, что формы это нор
мы, доказывается с блеском, так, что ясно, как солнце, Sonnenklar, что ина
че и быть не может. Но это бесполезная диалектика, она ведет в бесплод
ный тупик, обречена не касаться конкретных вещей. Sachunbekümmertes
Hinwegspekulieren. Спекулятивная скачка без заботы о деле \ От диалек
тики спасает психология и история, они напоминают о материале, что
материал сложился так, как он сложился, а не дожидается податливо,
когда его облагодетельствуют, вогнав в диалектические схемы, скажем, в
диалектическое единство противоположностей, отрицание отрицания и
переход количества в качество. Психологизм для Хайдеггера, мы видели,
нехорош только тем, что не понимает, насколько логика независима от
психических процессов, особая область, куда душевная деятельность не
вхожа; но внимание к опыту, принесенное психологией, полностью пе
решло к Хайдеггеру, его философия в этом внимании к настроению, на
пример, никакой психологии не уступит. О психологии и Гуссерле сей
час будет еще, очень проясняющее. Вот что.
Облегчающее, освобождающее в мысли Хайдеггера, и неожиданное
тоже, к чему не сразу привыкаешь — не потому, что трудно привыкнуть,
а потому, что никак не верится, что все может быть так просто, — это
что он никогда не конструирует, не нагромождает, никогда не требует
от читателя помнить, какие смыслы приданы каким условностям. Услов
ностей вообще нет. Всякий раз все сказанное нужно только для прояс
нения вещей, которые не Хайдеггер перед нами выставил и требует те
перь всегда из уважения к нему иметь перед глазами, а вещей, которые
и так всегда есть до него и без него, которые составляют пейзаж челове
ческой ситуации, — если только держать глаза не замороченными, — к
которым снова и снова все равно скатываешься, если взобрался на ис
кусственные подпорки. Всегда Хайдеггер возвращается к простоте не
придуманного, которое каждый раз все яснее, все свободнее от страш
ной массы Бог знает чьего и откуда взявшегося знания, которым чело-
1. Ibid., S. 40.
233
СЕМИНАР II.2
век так называемый простой* не прошедший настоящей долгой школы
философской работы, почему-то плотно опутан всегда, с самого момен
та, как он, что это называется, начал себя сознавать, — точно так же че
ловек, казалось бы, только что проснувшийся, свежий, свежими глазами
вроде бы который должен смотреть на мир, на самом деле в первый же
момент пробуждения от сна к сознанию уже опутан сновидением, кото
рое он хорошо, если помнит, а часто не помнит, и тогда сновидение це
пляется за него еще больше. Очень трудно, почти невозможно быть про
сто там, где ты есть. «Поверь, согласись, что ты там, где ты есть». Напрас
но об этом просить. Человек обычно находится там, где его нет. Нужна
долгая, собственно, постоянная школа возвращения. Снова и снова во
прос: где мы, собственно?
В курсе Хайдеггера, где мы, собственно? Определяем философию. Не
потому, что университетская программа нам спустила такую тему, сре
ди прочих тем, а потому, что философия — это ответственное, серьез
ное, строгое отношение к жизни, т. е . единственная достойная человека
жизнь. Философия хочет истины, ее цель то, что есть. Вопрос в том, что
бы от ненастоящего вернуться к настоящему. Фихте, идеалистическая
метафизика смотрит сразу на абсолютного субъекта, в котором цель уже
достигнута, остается, казалось бы, только спуститься теперь на землю,
но не удается заклеить трещину между актом и фактом, факт оказывает
ся не такой, как волевой акт, приходится в конце концов сказать — лад
но, Бог с ним, все равно, какой получается факт, лишь бы был правиль
ный акт. Психология, пришедшая на смену идеализму во второй полови
не 19 века, приучила смотреть на факты. Гуссерль, т. е . значит в 1919 роду
и Хайдеггер тоже, — это снова философия, но усвоившая уже урок пси
хологии, не хотящая уже воспарять в абсолют, от надежной, плотной по
чвы факта не отрывающаяся, но только философия не слепая, замеча
ющая, что если вглядеться в факт, то увидишь удивительные вещи. Не
обязательно навязывать факту абсолютную норму: факт, в смысле ма
териал, в смысле реальное происходящее в психике, в смысле все, что
человек думает, включая почему он думает (импульсы, мотивы), вклю
чая как он решает поступать, — я не все перечислил, но вообще вся фак
тичность человеческого сознания, понимая сознание в самом широком
смысле, все в человеке именно фактическое, без всякого привнесения
трансцендентной нормы, оказывается прошито интенцией. Не надо спу
скать сверху никакого долженствования: и без этого в человеке очень
много — фактически — напряжения, не слишком ли даже много напря-
234
17 СЕНТЯБРЯ 1991
жения, и не надо ли, прежде чем еще накладывать на него, и без того пе
ренапряженного, императив, сверху, абсолютный, распутать ту, фактиче
ски, сплошную интенцию, напряженное стремление, из которого состав
лен человек, наблюдаемый. Об идее философии Хайдеггер говорит вовсе
не для того, чтобы поставить еще одну высокую цель. И без всякой идеи
сознание человека бессознательно, если можно так сказать, против его
воли нацелено на цели. «Чтобы отвечать требованию долженствования
истинной мысли, я очевидным образом, как показывает опыт, не нужда
юсь в подчеркнутом осознании идеала мысли»
1
. И так мысль всегда та
кая: она старается, стремится, — мысль это по существу стремление,
цель в нее вплетена, даже если мы не сознаем; задача не в том, чтобы
продиктовать ей для увеличения путаницы еще цель, наложить на пу
таницу сверху еще одну петлю, — задача в том, чтобы наконец однаж
ды разобрать, разобраться, что это за идеал, которому фактически (или
не идеал, а целое месиво из идеалов) — которому фактически и так сле
дует всякое мышление, в том числе всякое познание, суть науки. «Сами
по себе нормы и формы как таковые, которым следует естественное <!>
мышление, эксплицитно поднять до сознания, познать самих по себе
мышление и познание»
2
.
Сознание уже есть, надо его осознать только;
познание уже стремится к каким-то своим целям, надо его познать толь
ко — парадоксальная задача, но ведь такая нужная! Ведь в самом деле,
подумаешь, есть ли еще до такой степени неосознаваемая вещь, как со
знание; есть ли еще такое непознанное, как познание. Здесь у Хайдегге-
ра надо заметить это сочетание — естественное мышление. Мы-то ду
мали, что хоть естественное мышление как-то плавно протекает, а оно
целый клубок нераспутанных порывов. Еще раз: идеал мысли, идея фи
лософии это вовсе не то, что надо выработать и предложить для испол
нения, а выпутать как-то, прояснить из того активного, неостанавлива
ющегося месива порывов, из которого человек состоит, — настолько со
стоит из порывов, что от их мощи, от их постоянного столкновения друг
с другом уже обессилел.
За что взяться, с чего начинать? «Как извлечь, как довести до моего
сознания мой собственный идеал мысли?» Какая-то путеводная ниточ
ка должна быть, скорее всего это правда. Правда, истина — тот импера
тив, который, похоже, всего сильнее и разрушительнее во мне действу-
1. GAy Bd. 5б/57> S. 43·
2. Ibid.
235
СЕМИНАР II.2
ет. Я хочу правды, истины, я ради нее готов на все, ради нее весь старый
мир разрушу. Правду я и сам люблю, я ее и другим навяжу так, что они
долго будут у меня помнить. Я борюсь за правду, и учение мое всесиль
но, потому что оно истинно. Все так, говорит Хайдеггер; теперь остает
ся знать, что значит правда. Что делает правду, истину, такой? Истина
цель, главная цель мысли. Чем определена, обусловлена истина? Каковы
ее конститутивные моменты? Назовите их?
Прежде чем силиться теперь наскоро определить конститутивные
моменты истины и перечислить их, истина должна быть во-первых, ис
тина должна быть во-вторых, надо лучше посмотреть на вопрос. Вопрос
не верный, он лишний, его не надо было. Ведь ответить, чем определяет
ся истина, я могу только потому, что уже знаю, какой должна быть исти
на, идеал у меня каким-то образом уже должен быть. Мы этого не заме
тили, чуть было опять не увлеклись декретированием — и мы туда же,
куда все (неудержимая чесотка, на тебя глядят, слушают, и ты чувствует
позыв декретировать, советовать).
И еще больше: вообще тема идеи как идеала, цели, долженствования
могла возникнуть только тогда и оттого, что идеал, цель, долженствова
ние присутствуют, неким образом здесь. В начале курса Хайдеггер искал
строгий метод, подход к идеалу. Теперь оказывается: для выработки ме
тода уже заранее идеал надо иметь ориентиром. Искомый метод, еще не
найденный — хорошо что уже так рано, — оказывается иллюзией. Ме
тод лишнийу он только продублирует знание, которое у нас уже есть, и
его поиски только заставят нас смотреть в другую сторону, заслонят от
нас, что знание, которого мы ищем, у нас уже есть. «Вот сколько мы мо
жем уже ясно видеть, чисто из анализа его смысла, — что метод в самом
себе делает себя невозможным. Он „неким образом" покоится на неу
ловлении подлинной проблематики науки в ее существе»
1
. Из этой стра
ницы раннего Хайдеггера выводится, между прочим, тема главной ра
боты Ганса-Георга Гадамера «Истина и метод». Как здесь, так и там ис
тина — вещь, к которой человек имеет отношение раньше, до того, как
поставить себе цель проторить пути к познанию истины (метод — эти
мологически подход). Должно в том первом отношении человека к исти
не что-то случиться уже, чтобы появилась потребность его наладить.
Что там случилось? Метод, строгий, научный, отвечающий идеалу
познания истины, такой вот — это, конечно, ценность. Не всякая цен-
1. GA, Bd. 56/57, S. 44-
236
17 СЕНТЯБРЯ 1991
ность императив (я вхожу утром в комнату, где работаю, говорит Хай-
деггер, полоса солнца на книгах, я рад солнцу, радостное — ценность, но
где здесь долженствование? Его нет). Метод, однако, и ценность, научная
ценность, и долг, ученый обязан построить вроде бы себе свой метод, а
то что же это за ученый, а методики не выработал? Но истина, ради ко
торой и создается метод, — она ценность? Какая ценность — которая
одновременно долженствование? В каком смысле долженствование, — в
том, что истины нет, она только должна быть? — Тут снова целая связка
проблем, и такого рода, что мы спохватываемся: а знаем ли мы, что такое
долженствование? «Где без малейшей обеспокоенности, потому что с аб
солютной слепотой к целому миру проблем, заключенному в феномене
долженствования, долженствование применяется в качестве философ
ского понятия, там занимаются ненаучной болтовней, которая не обла
гораживается оттого, что это долженствование делают основанием це
лой системы»
1
. В самом деле, если истина только должна быть, — она бу
дет такой, какую мы захотим. Но можем ли мы сказать, что истина есть
7
.
Откуда мы можем это знать иначе, как от нее самой? Мы тогда ищем то,
что уже имеем. Или — что мы только не замечаем
— к огда мы говорим,
что истина есть, мы исподволь высказываем уже долженствование, т. е.
говорим уже в плане идеала, диктуем?
Есть истина или должна быть? Это опять вопрос такой раздражаю
щей сложности, что мы испытываем почти неодолимое, подмывающее
желание рассердиться, распорядиться. Хайдеггер говорит: Генрих Рик-
керт (1863-1936) увидел важную вещь, когда он заметил, что в предме
те познания скрывается долженствование. В этом свете истина и есть
и должна быть — не в том механическом смысле, что она уже есть, а те
перь ее надо сообщить всем, чтобы она была в каждой голове, а в дру
гом смысле, что само ее есть каким-то образом есть только потому, что
все существующее к чему-то обязано, существует в модусе долженство
вания. Истина будет не «тогда, когда: все выполнят долг», а существует
в той мере, в какой все существующее сковано долженствованием, на
целено, направлено, интенционально. Долженствование, со своей сторо
ны, тоже, конечно, есть, но это его есть парадоксально: оно есть в той
мере, в какой оно указывает на большее, чем то, что есть, ведь должен
ствование включает и то, чего нет.
Это — только кромка проблематики, «целого мира проблем», которые
ι. Ibid., S. 45·
237
СЕМИНАР II.2
развертываются за долженствованием, за вопросом об истине и должен
ствовании. Теперь истина и ценность. Попробуем: «дважды два четыре»;
«Наполеон I умер на острове Елена». Истина то и другое. А ценность?
Мы замечаем, это не очень трудно заметить: сама по себе истина, со
держащаяся в каждой позиции таблицы умножения, не ценность, нельзя
сказать, что таблица умножения содержит 8ι ценность. То же и с исти
ной о месте смерти Наполеона. Здесь ловушка: сам Наполеон, и остров
Елена, и смерть тоже как исторический факт — ценности. Цифра 2 и лю
бая цифра — тоже ценность, они ценности культуры, как табличка с но
мером 2 на двери квартиры ценность, она стоит столько-то . Что меня
обучили таблице умножения, тоже ценность, обучение ученика в школе
стоит столько-то копеек в день. Но само по себе суждение 2x2 = 4 разве
ценность? Суждение «Наполеон умер» — ценность? Почему-то нет . Ис
тинность как таковая не «ценноствует». Почему? Может быть, потому
что только мое докарабкивание до истины дважды два четыре, как жиз
ненный процесс, ценность, а истина дважды два четыре не ценность по
тому, что просто так оно и есть? Истина нам дорога, но сама она даро
вая? Потому что бытие (истина это ведь естина, то, что само собой есть)
дается нам даром? Может быть. Опять ситуация раздражающей, драз
нящей, заманчивой непонятности, опять подмывающее желание ре
шить. Не будем спешить, проверим просто еще раз: суждение 2x2 = 4
ценность? Присматриваемся, видим: нет, само по себе это суждение, ис
тинное, не ценность. И так всякая истина. Ценнее, когда я уже узнал, что
9х9=8ι,адругойещенепошелдальше2χ2=4,носамо посебесуж
дение 9 х 9 = 8ι не ценнее, чем 2x2 = 4, оно не имеет цены, оно бесцен
но, не в стершемся смысле «имеет колоссальную ценность», а в прямом,
буквальном смысле: к ряду ценностей не принадлежит. Или Хайдеггер
неправ?
Опять не будем спешить, опять присмотримся, раз мы набрели на
такую фантастическую вещь, что в самой середине нашего мира, где на
всем стоят этикетки с ценой, в самой основе мы обнаружили как буд
то бы вещи бесценные, в том смысле, что они не ценности вовсе, на них
цены нет, — и даже не так, как на воздух нет цены, потому что на воз
дух скоро будет цена, а так, что никогда они не будут ценностями, никог
да не будут оцениваться. Это очень любопытно. И очень важно. Это на
до проверить.
Посмотрим с другой стороны. Суждение само но себе, как истина, не
ценность. Но ведь суждения не спускаются с неба и не извлекаются из
238
17 СЕНТЯБРЯ 1991
компьютера. Суждение это всегда ответ на какой-то вопрос, на запрос,
например на вопрос «как обстоит дело о цифрой 2 в разных сочетаниях
с другими цифрами», суждение тогда ответ на этот вопрос. Ответ — это
ценность; за ответ в справочном бюро надо платить, или оплата входит
в стоимость скажем авиабилета. — Но ведь все это опять же применение
суждений, скажем, для развития культуры, в технической культуре цен
нее суждение 2 χ 2 = 4, в гуманитарной — «Наполеон умер в 1821 году»,
но разве от переноса из гуманитарной в техническую с самим суждени
ем хоть что-то происходит?
Еще одно ощущение: похоже, мы сцепились здесь с вещами, с кото
рыми не расцепимся, держа в руках только «ценность», «долженство
вание», «суждение». Да еще и так смутно зная, что это такое. В частно
сти, почему истина должна быть обязательно суждением. Истина это
αλήθεια, незабытость по-гречески. Мы-то ищем все-таки философию,
такое ее определение, которое не повредило бы. Может быть, мы забре
ли не в тот лес. Может быть, «суждение», «ценность», «долженствова
ние» не те рычаги, за которые надо было браться. Мы тогда потратим хо
рошие усилия, а ничего не получим, или мало что получим. Кто нас при
вязал к кругу тем, понятий и проблем. Мысль свободна: она свободна не
только оперировать с тем, что ей дано, но и смотреть, а что ей, собствен
но дано, кем дано, да и дано ли вообще. Мой пример: с понятиями «со
знание-материя», с темой «основной вопрос», с проблемой «что первич
но» можно оперировать очень умно, даже мудро, и что мало что из это
го получается, выходит, скорее всего, из того, что эта тема, эти понятия,
эта проблема нам продиктованы неведомо кем и как, явно не философ
скими инстанциями, нас с нашими силами, возможностями, загнали, так
сказать, на 6 соток, на негодной земле, а смотреть на широкое поле не
разрешили. Не всякому, кто подошел к нам и задал нам тему и проблему,
надо следовать. Надо посмотреть, может быть, это не тема; может быть,
это не проблема. И не бросаться сразу к другому, который скажет: вот
на самом деле тема, вот проблема. Лучше задуматься: что такое тема, что
такое проблема? Легче оперировать с тем, что называется мысленными
сущностями. Легче всего выйти в область так называемой «теории». Те
ория! Перед ней все робеют. У всех конкретное, трудное, густое. Теория
как будто бы вроде дает то ли высокий полет, то ли обзорность, то ли
универсальность, то ли общезначимость. Теория — высшая форма орга
низации научного знания. До теории надо возвыситься, показать, что ты
на нее способен, и тогда...
239
СЕМИНАР II.2
«Это господство теоретического должно быть сломлено, а именно не
тем способом, что мы провозгласим примат практического, и не для то
го, чтобы ввести что-то еще другое, что покажет проблемы с новой сто
роны, а потому, что теоретическое само по себе и как таковое отсылает к
до-теоретическому»
1
. Теория в свое обоснование говорит: но вы с ваши
ми вещами никогда ни к чему не придете, потому что фактам нет кон
ца, вы уже утонули в хаосе. Но теория существует только — как вольное
пространство рассуждения — в моей голове. Сама по себе она — тоже
только психический факт, да еще из самых мелких. Нет выбора между
бесконечной массой фактов и миром воображения, который все-таки
хуже пучины фактов, потому что там мы теряем не только вещи (мы их
«отражаем»), но и самих себя?
Есть еще третья вещь, странная, загадочная: мир. Хайдеггер вводит
его вот какой фразой: «Мы стоим на перекрестке пути, где принимает
ся решение о жизни или смерти философии вообще, у края бездны: или
в ничто, т. е. в ничто абсолютной вещности, отвлеченной предметности,
или удастся прыжок в другой миру или точнее: вообще — впервые — в
мир»
2
, die Welt. Мир это то, чего мы еще не пробовали. Мы попробова
ли все в мире.
ι. GA, Bd. 56/57, S. 59-
2. Ibid., S. 63.
и.з
24.9.1991
Когда я буду расходиться с Хайдеггером, я вам скажу — до сих пор, вы
заметили, я много говорил того, что у него не написано, но что у него
могло бы быть написано, если бы он начинал писать здесь и теперь. Я не
называю это своим; я предпочитаю свое отдавать ему, потому что слиш
ком много беру у него, чтобы считаться, что я что-то возвращаю: луч
ше, удобнее, спокойнее считать, что мы берем у него все. Потому что, вы
опять же заметили, я не излагаю Хайдеггера, а пытаюсь представить, ка
кой должна была бы быть мысль сейчас и здесь, на русском языке, на
этом пространстве восточноевропейской равнины. Не хайдеггеровская
мысль, а мысль вообще, мысль как мысль. Но мимо Хайдеггера мы прой
ти так или иначе не можем. Мы имеем, между прочим, его завещание,
его предсказание, или его догадку: его продолжат в России.
Опять-таки, никаких претензий на то, чтобы нам удалось это, у нас
нет. Но приложить все силы к тому, чтобы посмотреть, как это получит
ся, что должно получиться, да просто все усилия к тому, чтобы мысль —
не такая-то, а просто — была, мы так или иначе обязаны, деваться ведь
некуда. Так я буду говорить о Хайдеггере и дальше: как платонизм, гово
рил Лосев, это вообще просто философия, так Хайдеггер — это мысль в
самом ясном и близком нам виде, какую мы знаем. Доказательств тут не
требуется: я говорю без доказательств, потому что у меня самого не бы
ло ни малейшего желания доказывать себе это, и ни малейшей потреб
ности; что я сам себе не доказывал, зачем я буду доказывать другим.
Неважно, что после этого признания кто-то скажет, что мы несамо
стоятельны, или что мы зря называем себя нищими, когда у нас есть без
всякого Хайдеггера своя традиция мысли и ее надо развивать, неважно,
что еще многое другое придумают и скажут люди, которые успели уже
и освоить Хайдеггера, и критиковать его, и подняться над ним. Лучше
принять все эти обиды, чем оказаться в положении людей, которые изо
бражают свою независимость, то есть скрывают свою зависимость от
того самого, перед чем спешат утвердиться в своей независимости. Или
убедить себя в том, что философская независимость такая ценная вещь,
что ради нее стоит остаться кустарем и самому на свою потребу изго
товлять себе предметы первой необходимости. Цель «независимость»
16-2015
241
СЕМИНАР II.3
вообще в задачи, в дела мысли не входит. Мысль проходит слишком бы
стро, проносится, мимо таких вещей, как зависимость, независимость,
индивидуальность, всех этих игр сознания с самим собой. Мысль к со
знанию отношения не имеет, она раньше сознания и в сознании не нуж
дается.
Теперь подробнее: Хайдеггер о России. В одной книге о французском
философе Жане Бофре, ученике Хайдеггера, книга в прошлом году гото
вилась к печати, я еще не знаю, вышла ли, Жан Бофре вспоминает, гово
рит о Хайдеггере: «Иногда он задавался вопросом, действительно ли то,
что произошло в России, подводит последнюю черту. Развертывая свой
нигилизм, метафизика там достигла еще одной высшей точки, на пути
проекта всеобщей технизации <не в смысле множества технических ме
ханизмов, а в смысле подчинения общества технике: может стоять в по
ле только один неработающий трактор, но все общество будет посвяще
но, занято только его обслуживанием, здесь важен не трактор, а втяну-
тость в организациюх Но если у Хайдеггера опыт гитлеризма был, то
опыта советского коммунизма не было никакого. В „Статьях и высту
плениях" он писал: „Борьба за нигилизм есть противостояние, и необхо
дима даже война, чтобы увидеть, кто захватит первое место..." Однаж
ды, в Эксе, он сказал мне, что в России, несмотря ни на что, в конечном
счете остается сохранение самого существенного, удержанного марксиз
мом. Тогда как в гитлеризме уже ничего не было! Отвращение его к этой
вещи, по-моему, от этого только усилилось. Он добавил: „У меня есть
серьезные основания полагать, что Россия станет однажды, возможно,
единственной страной, где по-настоящему поймут то, что я хотел ска
зать в ,Бытии и времени* "».
Это гарантия, нам выданная? Нет, скорее еще одна трудность. Россия
подвернулась как шанс для мысли, не другая страна, и России от этого
хуже, а не лучше: было бы спокойнее, если бы можно было сказать, что
в нас ничего особенного, что мы как все и с нас маленький спрос. Спрос
оказывается не маленький.
Вы заметили, стало быть, что в этом говорении о Хайдеггере, которое
продолжается долго, я пробую на ощупь, на что должна была бы быть
похожа мысль в России — не то что ее до сих пор не было, она была и
мы ее ясно видели, но мысль имеет отношение ко времени, она долж
на быть теперь или ее нет; и опять же, если мысль повторяется — инте
ресно, что это такое, повторение мысли, возможно ли это? повторенная
будет уже не мысль, но не только, а еще больше: и время без мысли то-
242
24 СЕНТЯБРЯ 1991
же останавливается. Аристотель связывал время с изменением мысли, в
«Физике», в разделе о времени. Богатство имеет свойство вдруг превра
щаться в нищету, и нищета тем больше, чем было богатство. Это, что ни
щета, собственно, всегда с нами, лучше всегда иметь в виду. Самое жал
кое и вредное — подбадривать себя перечислением того, что у нас еще
много что есть, занятие патриотов, или от срыва нервного, от истерики
вдруг объявить, что у нас вообще всевозможного культурного богатства
больше, чем у кого бы то ни было.
От нас ожидают больше чем от других. Только в России. Какое-то дело
мысли возможно исполнить, может быть исполнено только в России. От
нас ожидают такого, чего не ожидают от других. В газете, в последнем
номере «Литературной газеты» (18.9.1991) это ожидание от России та
кого, чего не ждут от других, высказано так: «Мир древлеправославных
начал» (а выше в той же газетной колонке сказано кратко, в чем черты
этого мира: «образ православного подвижника, искушенного в умном
делании... напряженной стихии энергийного Богообщения — стихии,
включающей борьбу со страстями, падения и покаяния, обретения и
утраты благодати, которую аскеты называют „вечноподвижной", всегда
готовой скрыться от человека. Для постижения этой стихии мысли не
обходимо преодолеть не только немецкий, но и эллинский идеализм —
и, расставшись с идеализмом как таковым, найти новое русло для фи
лософии». Это новое русло, в него русская мысль еще не успела войти.
«Умное делание» еще едва только начато, хотя уже намечено, например
у Алексея Федоровича Лосева)... «Тот самый мир древлеправославных
начал, где западник и атеист не видят ничего, кроме застывшей отстало
сти, выводит мысль к большей смелости и новизне, нежели все теории,
привычные европейскому разуму. В новом русле, развивающем энергий-
ное видение реальности, иными предстают судьба человека и история
мира: они несут гораздо больше проблематичности, больше открыто
сти и свободы — но и больше ответственности... Для... православного
аскета... всегда было ведомо: едва человек оставляет стяжание благода
ти, гасит духовную напряженность — всякая его связь с Богом грозит
исчезнуть, и тогда пределом возможному падению — лишь бездна пол
ного уничтоженья, ничто». Большая смелость умного делания — в на
дежде, в ожидании, в приготовлении к встрече с Богом; и другая сторона
этой смелости в том, что мысль решается, человеческое существо реша
ется оставить все те занятия и забавы, которыми занят сам с собой че
ловек, о встрече с Богом забывший, занимающий себя ради пользы, бла-
16*
243
СЕМИНАР II.3
гополучия, самосохранения или развлечения. А большая новизна умно
го делания — в том, что новее, чем Бог, вокруг которого, ради встречи с
которым все умное делание, все равно ничего нет; всякое другое новше
ство старо или мгновенно устаревает, скучно, ненужно. — Во всем этом
опять доверие к России, к нам. Для мелочей мы не приспособлены, не го
димся. От нас много ожидается, не меньше, чем то, что Бог заговорит че
рез нас, мы подставим себя под его действие для его действия. Конечно,
чтобы так было, нужна благодать. Благодать захватывает нас в круг, где
мы спасены, больше того, страшно сказать, божественны сами, по бла
годати вынесены в нерушимую вечность, навсегда вписаны в историю,
т. е. в историю — одна такая история только и есть — отношений Бога
и человека между собой. Мы к этому призваны, говорит нам газета. Это
великое призвание, торжественное; о нем ничего даже и нельзя сказать
другого, что оно великое, важнее и весомее ничего нет, потому что де
ло идет о присутствии через Россию Бога, не меньше того: не мы будем
постановлять и изобретать, а Сам Бог выступит и скажет и сделает. Для
этого, невозможно забыть такое, нужно, чтобы мы были готовы к благо
дати и благодать нас посетила. Сейчас она нас не посетила: мы нищие,
оставленные, потерянные, делающие все, чтобы не помешать действо
вать в чистоте тому, чего мы ждем. Мы в нищете, но эта нищета — уже и
самое большое богатство, какое только может быть, если без этой нашей
теперешней нищеты, в благополучии культурном и бестревожности не
было бы и ожидания божественного присутствия в благодати. Как гово
рил Вячеслав Иванович Иванов: не дай нам Бог насытиться не лучшей
пищей. В этой нищете, в голоде философия и вера держатся рядом. Ах
я говорил, философия не рассуждения, не теория, если разве что толь
ко понимать теорию как мысленную операцию, не интеллектуальная де
ятельность, — что же такое философия? «К определению философии»,
называется курс Хайдеггера; определения мы еще не слышали, он назвал
только новую вещь: мир, который еще не известно, что он такое, конеч
но: пока это только слово. Для нас это тем более слово, что мы в нашей
философии, какую мы знаем, какая вокруг нас громко и уверенно гово
рила, слово «мир» всегда произносилось как само собой разумеющееся:
чего-то мы, наверное, не знаем, постепенно узнаем, но уж что такое мир,
предполагалось каждому известным. Не зря же мы так легко говорим,
«мир в котором мы живем», «всё в мире», «лучший в мире», «мир тесен»,
«мир прекрасен», «мир культуры» — хотя это последнее уже предпола
гает странную вещь, что миров не один, т. е. их наверное много, и тогда
244
24 СЕНТЯБРЯ 1991
уже спрашивается, в каком же мире мы живем. Гуссерль говорил о жиз
ненном мире, но что такое мир просто.
Та работа прояснения, которая шла раньше и дала в сущности то, что
привычные казалось бы вещи и понятные, философия с ее историей, на
ука, познание, «психическое», закон, норма, ценность, познающий субъ
ект, утекли у нас из-под пальцев, а мы думали, что что-то много держим
в руках, — и вы понимаете, конечно, как в богословии, которого мы се
годня коснулись по поводу многообещающей цитаты из «Литературной
газеты», точно так же, если не намного больше, требуется прояснитель-
ной работы, которой не нужно бояться из-за того, что, мы заранее пред
чувствуем, после нее мало останется от блестящих и прекрасных вещей,
слов и понятий, которых у богословов много в руках, и останется толь
ко одна вещь, опыт, и автор статьи называет какой: борьба со страстя
ми, падение и покаяние, обретение и утрата благодати, и надо только до
бавить к тому, что он сказал: борьба со страстями страстная; падение
которое для человека всегда уже совершилось с грехопадением перво
го человека; покаяние поэтому всегдашнее; обретение благодати не сущ
ностное, греховной природы человека не отменяющее; утрата благодати
такая, которая человеком редко ощущается и человек всегда ходит под
угрозой впадения в прелесть и кажущейся благодати, которая хуже, чем
никакой благодати и нищета, и для распознания прелести нужна дол
гая школа аскетики, монашеского умного делания, которое называлось в
святоотеческом предании и на Западе и в Византии и в России до Григо
рия Сковороды еще и философией, так что монах и философу слова мог
ли заменяться, и тогда надо было бы, пришлось думать об отношении
веры и мысли, религии и философии. Эта работа в богословии еще ма
ло делается.
Что осталось после прояснения вещей, — прояснения, которого не
надо бояться, что руки у нас остаются пустые, как не надо бояться слова,
которым позднее назовет эту работу Хайдеггер, деструкция, разбор кон
струкций: потому что конструкции ума и языка, которые не вещи, а леса
вокруг вещей, нуждаются в разборке, чтобы добраться до самих вещей.
То, как концепции, на которые рассуждения так уверенно опирались,
одна за другой не оказываются надежными, заставляет догадывать
ся, что, наверное, со всеми концепциями дело обстоит не лучше. Тог
да очень быстро и довольно неожиданно вся масса проблем, таких как
идея философии, познание, законы познания, нормы и другие, проблем
много, их столько же, сколько вещей, — они сужаются до одной про-
245
СЕМИНАР II.3
стой проблемы, до вопроса: если все, чего мы ни коснемся, имеет такое
свойство, превращается в вопрос, в проблему, в руках ничего не оста
ется, то где, собственно, вещи? Вещи вот эти проблемы и есть, ведь они
явно имеются. Но им нет конца, при прикосновении к каждой она раз
множается, распадается на еще один сгусток проблем, это было видно,
неостановимо это, одно и то же, происходит, Когда все, чего мы касаем
ся, имеет такое свойство, — у мифического царя было такое свойство,
все, к чему он прикасался, превращалось в золото, казалось бы, хорошо,
но и все нужное для человеческое жизни превращалось в золото; так у
нас — все превращается в проблему, и на первый взгляд как это хоро
шо, сколько философских проблем, не придется философской кафедре,
даже самой большой, оставаться без дела; но это на самом деле иллю
зия, проблем у нас теперь фактически нет ни одной, потому что ни за од
ну нельзя взяться так, чтобы она не рассыпалась на неоканчивающий-
ся ряд проблем. Проблем у нас тогда нет. Нет проблем — нет и вещей,
потому что наше отношение к вещам распадается, потому что вещи то
же, как проблемы, выстраиваются в неоканчивающийся ряд. Золото то
му мифическому царю уже не нужно, вернее, никакого золота у него уже
нет. Проблемы нам уже не нужны, потому что все равно никаких про
блем у нас уже нет.
Семинар. Что делать в таком положения?
Жалкие, побитые, глотая горечь, мы вернемся к тому, от чего отошли:
не надо было разбирать определение познания и показывать, как оно
рассыпается, надо было познавать, ведь люди познают, и много позна
ют, и достигают успеха, и их незнание приносит культурную и народ
нохозяйственную пользу, независимо от того, что «природа познания»
не прояснена. Не надо было спрашивать и разбирать, что такое пробле
ма, а есть несомненные экологические проблемы, которые надо решать,
и если вы не выходите с лопатой и тачкой разбирать свалку, то по край
ней мере помогите своей философией экологическим проблемам. Ах,
у вас, оказывается, неясно, что такое философия, хотя философия су
ществует три тысячи и больше лет? Тогда хоть присмотритесь к тому,
над чем и как работают философы, как они обсуждают реальные соци
альные, культурные, экологические, экономические проблемы на кру
глых столах и на философских беседах и делайте хотя бы для начала так,
как они.
Вот путь, по которому, собственно, все идут. Или остаются стоять
опустив руки перед проблемами, которые стали бесконечными, то есть
246
24 СЕНТЯБРЯ 1991
никакими. Здесь развилка путей, буква Y, как говорили в латинском
Средневековье, для письма не нужная, для нравственности очень полез
ная, изобретенная Пифагором...
Здесь развилка путей, и налево — плоский, окончательный, позор
ный, жалкий развал философии, когда она из нищей становится нищен
кой и просит подаяния у того самого уверенного говорения, давно пере
ставшего слушать самого себя, от которого философия ушла в свою ни
щету, когда научилась разбору построек.
Еще раз прочитаю то, чем прошлый раз мы закончили, страницу 6з
тома 56/57: «Мы стоим на методическом перекрестке путей, где решает
ся вообще жизнь или смерть философии, у пропасти, бездны: или в ни
что, т. е. в абсолютную проблемность, или — нам удастся прыжок в дру
гой миру или точнее: вообще — впервые — в мир».
Карабкаться по крутой правой узкой дорожке этой поучительной пи
фагоровой буквы как? Для начала, и первым делом, не надо испуга. До
игрались, доразбирались, сказали нам: теперь у вас везде проблемы. Да,
не только везде проблемы, но и не будет ничего, кроме проблем, которые
будут, можно теперь знать это одно определенно, размножаться. Это так;
к этому ведет разбор, деструкция того, что нам казалось вещами. Мы
разрушили проблемы, их так много, что их нет. Все вещи, каждая вещь
для нас проблема; вещей так много, что их нет. Вместо паники спросим:
а что есть?
Этого множества проблем уже нет, потому что нет ни одной пробле
мы, которая не распалась бы.
На вопрос: а что есть? ответ уже дан: такого чтоу о котором можно
было бы сказать, что оно естьу которое можно было бы удержать в ру
ках и которое не растеклось бы у нас в руках на пыль множества дру
гих чтоу каждое из которых опять проблема, — такого что нет. Вопрос а
что есть? отпадает. Как тут быть?
Опять, паника заставляет свернусь на левую, широкую дорогу Y, по
тому что по правой проход становится слишком узким; он собствен
но остается только один, спросить, а есть ли само есть. Не что такое
есть, — вопрос бессмысленный, обреченный, — и все чтения «Бытия и
времени», которые отыскивают в этой книге, что такое естьу что такое
бытие, может быть, оно время, — может быть, оно сознание, — может
быть, оно понимание, — может быть, оно экзистенция, — всякое такое
чтение заранее проходит мимо бытия и времени и обречено не услы
шать то, что в нем сказал Хайдеггер. Вопрос там не что такое есть, —
247
СЕМИНАР II.3
праздный, теоретический, ненужный, абсурдный, — а вопрос там этот,
жизни и смерти философии, то есть строгой науки, то есть единствен
ного шанса для человека в его человеческой ситуации, — вопрос прак
тический, если хотите, только практический вопрос это всегда один из
практических вопросов, а тут — вопрос о самой практике, как одновре
менно и вопрос о всей теории, вопрос, подготовленный опытом вот то
го спрашивания, разбора, который открыл кругом только проблемы,
значит что нет проблем, которые были бы проблемой, за которые мы
могли бы взяться беспроблемно, — нет проблем, потому что всякий наш
приступ к какой бы то ни было проблеме будет проблематичным, это
не фокус, не софистика, это опыт человечества в XX веке, когда всякое
действие этого человечества проблематично, всякое грозит оборотни-
чеством, всякое перевертывается в свою противоположность, и не игри
вую, диалектическую выручающую противоположность, а в злую, звер
скую, отменяющую сам смысл всякого действия. На пути этого опыта,
сильного, явственного, опыта так называемой первой мировой войны,
саморазрушения Европы, ее самопоедания, самопожирания, самолюдо
едства, если можно так сказать, не схоластический, простите, не идиот
ский вопрос «Что такое бытие» — а совсем другой, один обещает спа
сение философии и больше, строгой мысли вообще, и больше, мысли
вообще, и больше, человека, man, Mensch, Ч^Щ [manusha], человека как
ума, нус, как понимания, во всем широком русском и розановском смыс
ле этого слова, — на узкой крутой тропинке, по которой если не проде
рется философия, то философии никакой и не будет, — остается только
один вопрос, для человека вопрос вопросов, больше чем практический:
когда все распалось, когда ничего нет и даже хуже, чем ничего нет, когда
среди множащихся дел (проблем) нет дел, и нет проблем, и нет вещей,
с которыми мы могли бы беспроблемно иметь дело, — есть ли вообще
само это есть; в каком смысле, в каком модусе оно есть.
Вот вопрос, который спасает мысль в XX веке, вопрос Хайдеггера в
«Бытии и времени». Теперь мы можем начать читать «Бытие и время»,
раз мы знаем вопрос, который там стоит. Он там этими вот словами не
написан. Он написан в рукописи курса Хайдеггера 1919 года, впервые
опубликован в 1987 году. Есть ли вообще само это есть
7
. Хотяунасни
чего нет на руках, мы нищие, из-за этого самого, что мы нищие, что на
руках у нас ничего нет, что дело обстоит так, что такость вещей несо
мненна, мы знаем, и это первое и пока единственное, что мы несомненно
знаем: что есть, бытие каким-то образом, похоже, есть.
248
24 СЕНТЯБРЯ 1991
Несмотря на очевидное нет.
Этот вопрос — событие; потому что он — приближение к есть; он
имеет дело с «есть».
II.4
1.10.1991
Не «что такое бытие», вопрос праздного любопытства, а, среди опыта
ускользания бытия, вопрос «есть ли в конце концов само это есть», и это
уже не вопрос, а поступок, шаг из брошености к тому, чтобы быть. Мы
говорим вместо жизнь: существование; бытие. Мы говорим: я не живу,
а существую; или: как житье-бытие? — предполагая, что бытиё может
быть разное, в том числе и кое-какое. Это значит: существование для нас
может представляться таким, что оно как бы не существует, ничтожно;
бытие — такое, словно в нем может не быть бытия. Бытиё стерлось и
протерлось до пустоты, бытия нет в самом бытии. Само есть такое, что
его все равно что нет. А есть ли само это есть? — вопрос не теории, не
философии: в тоне, каким произносится «не живу, а существую», всего
лишь существование ниже жизни, и мы скатываемся к отвлеченной тео
рии, — скажем, подразделяем все в мире на существующее, камень, жи
вущее, мышь, понимающее, человек, esse, vivere, intelligëre, бытие тут на
низшей ступени; в другой системе его можно поставить на высшую. Но
это совсем не тот интерес, что в вопросе, в котором весь интерес, в во
просе-интенции: где же само это есть, когда вещи оказались проблема
тичными и наши проблемы тоже? В немецком Dasein — не «существова
ние» в смысле «всего лишь существование», как неживого, а как во фра
зе «Бог существует», «Бог есть» утверждение этого есть как события,
которое бесспорно, отныне и навсегда неотменимо есть. Человек, соб
ственно, об этом, не случайно его жизнь называется Dasein: о том, чтобы
быть. Как сделать, чтобы быть? Это уже другой вопрос. Всё человеком с
самого начала делается, чтобы быть. Дело для человека идет о бытии —
вот в этом единственно важном, захватывающем смысле бытия. Не фи
лософа, а всякого человека, — а «Бытие и время» это анализ того, как че
ловек озабочен бытием.
Может ли быть определение такому бытию?
Определение означало бы, что человек сверяется с внешней инстан
цией, чтобы она подтвердила ему бытийность его существования. Но
бытийность не нуждается в подтверждении, потому что никакое внеш
нее подтверждение не удостоверило бы бытийность, когда ее нет или
она неполноценна. Бытие — само себя удостоверяет, тем, что оно собы-
251
СЕМИНАР II.4
тие, — тем, что в нем человек сбывается, т. е. становится человеком, т. е.
впервые может сказаться, сказать себя как человек, а до этого не может,
и никакая проверка никакими определениями ему не поможет. Событие
само из себя собой все определяет. Это слово, «событие», — не в 1939 го
ду появилось, оно в курсе 1919 года как существо того «есть», вокруг ко
торого весь интерес человека \ Событие где? Оно само пространство че
ловеческого существования, пространство истории. Чье? Оно мое, но и
всякого другого тоже: оно мое и одновременно не мое: и не я его устро
ил, и не мной оно ограничивается. Не мое Я устраивает себе событие,
Я к событию присоединяется, мы уже несколько раз говорили, в собы
тии только и сбывается.
Я во что-то с самого начала втянут. Во что?
«Переживание», еще гуссерлевское слово в 1919 году. Оно Ereignis,
Er-eignis, усвоение: оно вбирается мною, мое собственное. Предмет —
я еще присмотрюсь, касается ли он меня; другое дело — вот это мое «я
присмотрюсь», опыт принятия или обхода стороной. «Переживания
суть события, Er-eignisse, поскольку они живут из моего собственного
(ans dem Eigenen). (Характер события тем самым еще не вполне опре
делен.)»
2
Он будет определен не скоро; я опережаю, говоря и о бытии,
и о «есть», и о событии в 1919 году, но эти слова уже на месте, Хайдеггер
к ним уже присматривается. Это как мир, понимание, настроение у зо-
летнего Розанова. Кругами. Постепенно.
Я извлекаю переживание-событие из него самого, когда о нем говорю.
Опять чуть опередим мысль Хайдеггера: пока я оглянулся на пережива
ние-событие и о нем говорю, я промахнулся мимо события не прошлого
какого-нибудь, а того, которое сейчас, пока я теоретизирую.
Переживание. А действительно ли оно отвечает реальности, не ка
жется ли, существует ли реальный мир, которому оно соответствует?
Главный вопрос. В нем может потонуть и переживание. В конце кон
цов может показаться, что без разрешения этого вопроса нельзя жить,
что он главный вопрос философии, главная проблема теории позна
ния, и чтобы жить, искомой философской жизнью, надо этот вопрос
решить.
Критический реализм, ранняя вера Хайдеггера. Ощущения, в конеч
ном счете осязание. Физика, «неопровержимое demonstratio ad oculos
1. GA, Bd. 56/57, S. 69.
2. Ibid., S. 75.
252
1 ОКТЯБРЯ 1991
объективного бытия мира»
1
. Подсчитать длину световой волны, пока
зать, что восприятие света соответствует показаниям приборов. Следо
вательно, мир существует.
Странным образом, это не имеет отношения к событию. Человек, ска
жем я, был в большом городе, видел там замечательные вещи. Но поезд
ка туда выражается не в километрах, а в проблемах с билетом, с состоя
нием поезда; замечательные вещи не имеют отношения к длинам волн,
объему материала — только отчасти, между прочим. Жизнь в другом
пространстве, не в том, где проблема субъекта-объекта, проблема реаль
ности. Это мы и так знали, теория и жизнь.
Важнее другое: стало быть, я вообще не могу посмотреть на жизнь
так, чтобы не обезжизнить ее? Переживание как объект. Другого пути
нет, с жизнью я расстанусь. Ничего не поделаешь?
Отношение жизни и теории: теория не всегда, но она съедает жизнь.
Теория первым делом мне говорит: мои ощущения мне даны. Пережи
ванием тогда они мгновенно перестают быть, становятся объектом, ма
ленькая теория вобрала в себя большую жизнь. «Как я переживаю окру
жающее меня в мире, оно мне „дано"? Нет, потому что данное в окружа
ющем мире уже теоретически затронуто, angetastet, оно уже от меня,
исторического Я <т. е . с которым происходят события> оттеснено, пер
вичного „мира" здесь уже нет. „Дано" — это уже тихая, неприметная, од
нако уже подлинно теоретическая рефлексия о мире»
2
. Все уже окраше
но теоретически, наблюдением. В жизни, в событии вещи не «данности»,
они раньше, чем даны, значат. Они уже мне для него-то, я ими, их значи
мостью захвачен. Я, так сказать, не успеваю догадаться, что они «данно
сти», они слишком мне горячие, обжигают. Чтобы увидеть «данности»,
надо, чтобы уже значимы они были мне, если у них нет значимости, они
для меня и не данности, вообще ничто. Надо сокрушить, разрушить ту
непосредственную значимость, чтобы увидеть данность. Теория таким
образом приходит на значимость
3
, на место, подготовленное жизнью, и
сокрушает жизнь. Предметность, теоретический объект выкроен, «дис
тиллирован» из мира
4
. Мир уже свое свойство меня задевать непосред
ственно потерял.
ι. Ibid., S. 8ι.
2. Ibid., S. 88-89.
3. Ibid., S. 89.
4. Ibid .
25З
СЕМИНАР II.4
От данности, от анализа данности, ее исследования и т. д . нужно бу
дет перейти к проблеме реальности мира, обсуждать эту проблему, су
ществует ли бытие независимо от нашего воображения. «Реальность,
таким образом, не характеристика мира, в котором мы живем, окружа
ющего мира, но залегающая в существе предметности, специфически те
оретическая. Значимое обеззначимо (das Bedeutungshafte ist ent-deutet)
до этого остатка: быть реальным. Переживание окружающего мира обез-
жизнено до остатка: познание реального как такового. Историческое Я
обезисторено до остатка — специфической Я-самости как коррелята
предметности, и только путем теоретического разыскания обнаружива
ет свое Кто, т. е . только „раскрывается"?! Феноменологически раскрыва
ется!! Опыт предмета, конечно, переживание, но если понять этот опыт
в свете его происхождения из переживания окружающего мира, это уже
обезжизнивание...»
1
«Процесс возрастающей объективации есть про
цесс обезжизнивания (Ent-lebung) <изъятия из жизни>»
2
.
Жадная, горячая — посмотрим где-нибудь на перекресток Арбата —
публика и журналистика, которая стала совсем бойкой, бьет по лицу,
живёт? «Обогатить» их жизнь теорией? Нет, обогатить их жизнь можно
было бы только освободив ее еще больше от теории, но только это не
возможно^ они живут с теоретическими предметами как с живыми су
ществами.
Если вопрос о реальности внешнего мира возник вместе с выходом
на теоретический уровень (кстати, толпа — она не знает, не решила для
себя вопрос, реален или не реален мир, но важно, что она внутри это
го вопроса, втянута в него, вполне допускает гипотезу, что мир нереа
лен или что он иллюзия или что все организовано инопланетянами и не
настоящая реальность. Т . е. толпа живет уже в глубине, в недрах теории,
где вопрос о реальности мира как раз неразрешим, и вынуть теорию из
сознания уже невозможно), теорией уже вынуть теорию из жизни не
возможно, теорию, которая обезжизнивает жизнь, — это можно было
бы только возвращением к тому переживанию, к тому событию, каким
теория была введена, внедрена в жизнь. Но дорога к этому возвраще
нию закрыта теоретической подделкой настоящего возвращения, марк
сизмом и психоанализом в XX веке. Особенно психоанализ обещает по
мочь вспомнить.
ι. GA, Bd. 56/57, S. 89-90.
2. Ibid., S.91.
254
1 ОКТЯБРЯ 1991
Эта работа возвращения не пойдет, если пользоваться теориями. Те
ория не может отменить теорию. «Ничего не достичь широкими с раз
махом всеобщими программами и проектами систем, а только в неот
ступном исследовании настоящих отдельных проблем, которые далеки
от того, чтобы быть специальными вопросами — таких вещей в филосо
фии не существует»
1
.
А прошлый раз у нас оказывалось, что проблем нет? Что имеется в
виду под «настоящие отдельные проблемы», которые не имеют отноше
ния к «специальным вопросам»? Проблемы не теоретические, а пробле
мы теории. Мы прошлый раз растерялись, когда оказалось, что все на
ши проблемы, научные и теоретические, практические, экономические,
проблематичны: т. е. в высшей степени неясно, заслуживают ли они то
го, чтобы мы их в здравом уме и трезвой памяти решали. Мы думали,
что проблематичность всех наших ученых проблем нас оставляет на ру
ках ни с чем, все проблематично, ни над чем нельзя спокойно работать.
Сама эта ситуация наша, теперешняя проблематичности всего и есть
дело философии.
Теперь как я понимаю отношение Хайдеггера к Гуссерлю в это время.
Уже было сказано, что феноменология имеет дело, по Гуссерлю, с данно
стями — это уже выводит из событий, значит уже сейчас, в 1919 г., Хай-
деггер видит в феноменологии сторону, возможность, перспективу, из-за
которой феноменология не искомая философия. Переживание тут уви
дено. Рефлексия — уже теория. Переживания уже не переживания, из
непосредственной жизни они уже вынуты, словно выдернуты из пото
ка, «поток — остановлен», говорит Пауль Наторп
2
, это «до сих пор един
ственный научно заслуживающий внимания упрек против феномено
логии... Гуссерль сам до сих пор по этому поводу не высказался...» На
торп: «Эта рефлексия производит на переживаемое по необходимости
анализирующее, как бы вивисекторское или химически разлагающее
действие»
3
.
«Абстракция», Наторп; теория. Не говоря уж что понятия,
которыми ведется феноменологическое описание, оптом принадлежат
теории, а чему же еще. Словом: в феноменологии есть опасность, откры
тый путь к закрытию того самого, что она открывает, непосредственной
данности сознания, переживания, с которыми эта строгая наука хочет
ι. Ibid., S. 97.
2. Ibid., S. 101 (P. Natorp, Allgemeine Psychologie nach kritischer Methode, Tübingen, 1912,
S. 190 f.).
3. Ibid .
255
СЕМИНАР II.4
иметь дело. Переживание не такая вещь (событие, опыт), чтобы можно
было непосредственно схватить \
Теперь другое. Сводится ли феноменология к этому пути, который от
крыт критике? Нет, из-за того что в гуссерлевской феноменологии есть
больше, чем вглядывание: вглядывание требует позиции, точки зрения,
феноменология же умеет оглядываться и на свое вглядывание, она не об
речена быть теорией, потому что и это превращение ее в теорию для фе
номенологии. Начало начал феноменологии, по Гуссерлю: «Все, что дает
о себе знать, предстает изначально в „интуиции", надлежит просто при
нимать... в качестве того, в качестве чего это имеется»
2
. Это начало на
чал, принцип принципов, при котором, говорит Гуссерль, «нас не может
ввести в заблуждение никакая мыслимая теория».
Теория станет тем, что в ней видит непосредственная интуиция. От
меняется различие между уровнями, одним эмпирическим, другим тео
ретическим.
ι. GA, Bd. 56/57, S. 101.
2. Ibid., S. 109.
II.5
8.10.1991
Не получится отделить темы Хайдеггера и Розанова. И я не вижу необ
ходимости держать перегородку, и вот — взять то определение филосо
фии, которым занят Хайдеггер в i9i9> о чем мы говорили прошлый раз, я
только его не совсем ясно проговорил, я сделаю это сейчас. Мы остано
вились вот на чем: феноменология со своим началом начал, принципом
принципов, уберегающим ее от того, чтобы стать еще одной теорией.
Гуссерль: «Alles, was sich in der „Intuition" originär ... darbietet, [ist] einfach
einzunehmen... als was es sichgibfo
1
*. Принимать просто как то, в качестве
чего вещь себя дает. Это значит пока вещь себя не дает, мы принимаем ее
тоже просто, — как то, что себя не дает, о чем мы ничего не знаем. Мы не
делаем нервных усилий мобилизовать себя на классификацию. Правило
жесткое: оно велит ждать, и может быть всегда ждать, принцип принци
пов тут не будет отменен. Не подходить к вещам с набором инструмен
тов или отмычек в руках. Мы ничего о них заранее не знаем, пусть вещи
говорят сами за себя. В этом смысл гуссерлевского призыва «К самим
вещам». Это не значит боевое — «на крупную дичь», будем занимать
ся не Бог знает чем, а таким, за что можно по-настоящему ухватиться, за
сами вещи, — к сожалению, все философские изречения перетолкованы.
Такой, жадный активистский смысл, к Гуссерлю не имеет отношения, он
взят из воздуха эпохи. Другое дело, что феноменология, как она заду
мана в этом принципе принципов у Гуссерля, какой она стала в «Бытии
и времени» Хайдеггера, действительно придет к вещам от картинок, но
ценой другого: того, что идущий к вещам закроет себе рот ладонью на
долго, навсегда вообще, не даст самому себе со своим «концептуальным
инструментарием», как это говорится, заслонить от себя вещь, придет к
самой вещи в том единственном смысле, что будет от нее честно ждать,
когда она заговорит сама за себя.
Вспомним розановское понимание. Оно в том же, оно то же. Оно од
новременно и непонимание. Тогда мы в феноменологии стоим с пусты
ми руками и ждем у моря погоды? Не совсем так: потому что то, что, мы
ι. Ibid. (E. Husserl, Ideen zu einer reinen Phänomenologie und phänomenologischen Philoso-
phie, ι. Buch, Halle a. d. S., 1913, S. 43).
17-2015
257
СЕМИНАР II.5
говорим, скажет само за себя, чему мы дефиниций не припишем, как нас
ни будут подталкивать, — это, не знаю что, нечто вещественное, не про
сто есть, а только и есть, т. е. у нас впервые появляются глаза видеть
простое есть вещей.
Розанова не вспомнить здесь невозможно. Автор второго предисло
вия к двухтомнику Владимира Соловьева последним, заключительным
аккордом своего представления представляет великого русского фило
софа который и сам по себе хорош, хотя был практически неизвестен,
но лучше, если все-таки будет и подтверждение из других источников,
особенно если из западных, все-таки там как-то надежнее, и вот эта эф
фектная концовка: «Согласно утверждению X. Дама <Гельмут Дам — ка
толик, иезуит, уникальный знаток русской философии и наших фило
софских обстоятельств> ...согласно утверждению X. Дама <цитируется
старый ИНИОНовский реферат *>, не может быть никакого сомнения
в том, что философия Соловьева — особенно в период с 1892 по 1899
год — достигла выводов, которые предвосхитили почти весь методо
логический инструментарий немецкой феноменологии»
1
. Правда, по
сле этой уже достаточно эффектной концовки, на которой автору, на
верное, хотелось подвести итог, пришлось, чтобы уже все позиции были
ясны, приписать: «Соловьев — решительный критик позитивизма, ра
ционалистического идеализма, ницшеанства и других видов декадент
ства. Когда один идеалист критикует другого, выигрывает, как извест
но, материализм». Крысы поедают крыс, а шкурки остаются, и то поль
за. Я бы расширил это о поедании в философии идеалиста идеалистом:
что бы вообще ни происходило в философии, а умный человек всегда
сумеет извлечь из нее пользу. — В России все в другом ключе, чем в Гер
мании. Философия не теоретическая физика, чтобы считать кто кого на
несколько месяцев опередил, и Соловьев в 1899 году уже предвосхитил
методологический инструментарий феноменологии, с которой Гуссерль
выступил только в 1900, первый том «Логических исследований», и в
1901, второй том. Я процитирую Розанова не для установления приори
тетов, я уже говорил, что приоритеты не важны, а потому, что мысль Гус
серля, в его правиле правил, слишком проста, чтобы быть легкой, и от
куда ни взять помощи, все будет кстати. «О понимании», страница 1372t
*
«Чистое существование, изучение которого мы выделяем в особую фор-
1. В . С. Соловьев, Сочинения в двух томах, т. ι, Москва: Мысль, 1988, с. 46.
2. В. В . Розанов, О понимании, Москва, ι886.
258
8 ОКТЯБРЯ 1991
му науки, общее, первоначальнее и неуничтожимее Космоса; потому что
и тогда, когда он не появился еще, уже было существование того, что по
том вызвало его к бытию; и тогда, когда исчезнет он в наблюдаемых фор
мах своих, останется еще существование того, что уничтожит его; толь
ко тогда, когда исчезнет самое существование, не останется уже ниче
го, — не будет даже пустоты, не будет этого самого ничего... Необходимо
понять предварительно, что такое самое существование, рассматривае
мое вне соединения с вещами, которым оно придает действительность».
165 *: «Понять существование есть первая и самая трудная задача науки,
как цельного миропонимания. Выходя из внутренней сосредоточенно
сти, разум прежде всего встречает его... Первое невольное удивление и
невольный вопрос его — что это такое, что существует этот мир? т. е. что
такое это существование мира, что лежит в мире, отчего он существует,
что такое существование само по себе?» Когда мы у Гуссерля соглаша
емся ждать, чтобы вещи говорили сами за себя, мы не остаемся с пусты
ми руками, мы впервые начинаем видеть удивительное, что кругом пол
но вещей, не в том смысле, что их очень много, а что мир это полнота, он
напрашивается чтобы его видели и, может быть, истолковали, но это по
том: сначала это захватывающее нас, вызывающее присутствие всего, мы
не знаем чего, перестали знать когда перестали примерять к нему кон
цептуальные инструменты. Здесь не теория: есть опыты, их проводил
грузинский психолог Узнадзе, когда у людей искусственно создавалось
незнание вещи, показывались загадочные вещи, и теоретический инте
рес очень быстро прекращался, слишком раздражающим было присут
ствие вещи, заведомо какой-то, но неизвестно какой, — даже в искус
ственной лабораторной атмосфере воссоздавался отсвет того, что было
для человека присутствие неоткрытого мира, что закрыто нашим колос
сальным знанием, неведомо откуда взявшимся, о вещах; что открывает
феноменология, возвращающая к вещам от того, что мы о них незакон
но знаем («незаконнорожденным знанием», по Демокриту, — знанием,
родители или по крайней мере один родитель которого нам неизвестен).
Феноменология, как ее понимает Хайдеггер, — теория, но не та, не те
оретическая, а он говорит формальное теоретизирование
1
, т. е. кото
рая возвращается к формальному определению — определению формы
в смысле идеи, гуссерлевского эйдоса, вовсе не «образа», который можно
описать, вот у него ручки, вот у него ножки, вот животик, а чистого не-
1. GA, Bd. 56/57» S. 114-
17*
259
СЕМИНАР II.5
что, о котором мы не знаем и не скажем сами ничего. Нечто мы трудом
и усилием эпохе, воздержания от того, чтобы быстро сунуться вперед со
своим знанием, держим свободным от опредмечивающих определений
и именно поэтому держим нечто в такой определенности, Хайдеггер
ее и называет формальной определенностью, которая сильнее всяких
других определений, потому что держит вещь безусловно открытой для
всех определений, держит вещь как ее саму, как она есть сама по себе, как
она дана нам там, где своим присутствием она вызывает нас — смотреть
слушать — и этим самым говорит о себе так, как мы о ней хорошо ес
ли сумеем когда-нибудь сказать. Может быть, сумеем в поэзии. Хайдег
гер: индифферентность к наполнениям, т. е. готовность к любым напол
нениям самой вещи, — индифферентность ко всякой объективирующей
объективации — никоим образом не то самое, что делает с вещью тео
рия, особенно высокая идеализирующая платонизирующая теория, обез-
жизнивает вещь, — наоборот, вещь не раздавлена своей идеальной су
тью, а возвращена самой себе значит своей связи и значит миру, вещь
впервые становится миром, и связь с жизнью тут не прерывается, че
ловек не охладевает к захватившей его горячке существования при по
мощи фиксирования-констатирования-теоретизирования, — а возвра
щается почти невыносимая потенциальность нетеоретизированной ве
щи: скорей, скорей, нестерпимое желание ее назвать, да не может быть
так, чтобы у вещи не было названия, спросить, в учебнике, справочни
ке посмотреть, посоветоваться — это якобы естественное отношение к
вещи, как я говорил, до краев загроможденное плохой теорией, — но ес
ли не сорваться, если держаться эпохе, гуссерлевского правила правил,
полнота возвращается — вещи, не кастрированной и не обожествлен
ной нашим знанием, и мира, который начинает в ней и через нее про
свечивать. Вещь и через нее мир тогда громко, очень громко просят сло
ва, и мы захвачены этим вызовом и становимся участниками события
мира, и дело мира, дело которое заключается в том, чтобы дать ему сло
во, в обоих смыслах, чтобы говорил именно он и только он, и чтобы на
ше слово было его словом и так дало нам самим сбыться в событии, —
это завязывает вещь, мир и нас в связь, которая смеется над прошлым
теоретизированием и чувствует в себе заряд для изменения всего. Тог
да только бы не сорваться, вынести и это напряжение, и эту нищету, по
тому что мы богаты только нашим воображаемым знанием, без него мы
не на уровне мира, до ужаса не на уровне мира, скажем мы до ужаса не
на уровне такой осени, когда она такая, какая стоит сейчас, а что каса-
2бо
8 ОКТЯБРЯ 1991
ется другой, плохой погоды, то мы не на уровне до такой степени, что
бы хотя бы просто понять, что она нам говорит, — мы ее не любим так
же, как не любим свое плохое настроение, потому что не умеем еще при
нимать настроение. Что мы, хотя мы и не на уровне мира, знаем со всей
достоверностью одно — это что нечтоу существование, бытием, о кото
ром мы совершенно ясно знаем, что оно естьу еще совсем новоеу оно так
ранОу такое раннееу что мы еще не успели в него вглядеться, с ним не то
что свыкнуться, но хоть как-то ему отвечать: вот такая простая правда
открывается, что нас зовутУ и мы не можем — не в силах, нас не хватает,
мы как немые, косные, вялые, — ему ответить, и не похоже, чтобы ког
да-нибудь смогли, слишком большой вызов; и единственное что не стыд
но — это так в растерянности стоять, как околдованным, — но и зная,
что на вызов будет ответ, и нельзя остаться без ответа, потому что мир
неостановим, вещи неостановимы.
Стоять в этом ожидании, иметь такое зрение для мира — это и есть
философия. Она первонаука, ее существо познание, начало познания —
вызов вещи, которая имеет формальное определение нентоу существую
щее, мир. «Предмет» философии, неопредмеченный — это формально-
предметное (форма-идея, мы помним) нечто познаваемости, т. е. вызова
вещи; предмет философии — «Нечто формального теоретизирования»
(того другогОу той другой теории, которая имеет дело с родами вещей, в
платоновском размахе идеи-рода, рождения). Философия интересна, в
ней весь интерес. Она не интеллектуальная деятельность, она захвачен-
ность человеческого существа миром.
Об этой захваченности — в сильном смысле, в каком в прошлом году
мы разбирали у Хайдеггера отношение жизни к миру, жизнь всегда с са
мого начала уже захвачена целым миром, — «Бытие и время», Sein und
Zeit, не разбор еще одного вопроса праздного любопытства, а что такое,
между прочим, хотелось бы знать, вот бытие? — а вытаскивание себя
за волосы из болота, мюнхаузеновская проблема духа, загнанного в бес-
проблемность, равнодушие к проблемам человека двадцатого века, ко
торый замечает, что не только у него слишком много проблем, но каж
дая из них в свою очередь проблема проблематична. Значит нет про
блем. Но что же тогда в конце концов есть
7
. Нигилизм отвечает: а ничего
вообще нет. Вместо паники, снова вопрос: само есть каким-то образом
все-таки есть
7
. Безусловно. Как его найти? И поразительный ответ, до
гадка, заставившая одного читателя, известного человека, сказать о «Бы
тии и времени», его появлении, повторить слова Гете о битве при Валь-
201
СЕМИНАР II.5
ми, сражении, выигранном Наполеоном: с этого дня начинается новая
эпоха мировой истории. Человек, всякий человек, все человечество ни
чем другим никогда и не занимаются, кроме как одним, исканием это
го есть: для человека дело идет о том, чтобы по-настоящему быть, ни
о чем другом у него по-настоящему заботы нет, т. е. то, чем всегда занят,
озабочен каждый, это и есть старое дело философии, вынесенное в эпи
граф к книге, из Софиста 244 а: там Чужеземец говорит людям, много и
уверенно рассуждающим о самом первом, о бытии: «Ясно, в самом де
ле, что вам-то это, — что вы имеете в виду, когда произносите слово бы
тие, — давно известно, а мы ну вот совсем недавно, только что дума
ли, что знаем, а тут вдруг зашли в тупик, ήπορήκαμεν» завязли в апории,
перфект, завязли и никак не выберемся.
Мы не знаем, что такое бытие, — а люди ничем другим и не захва
чены, как тем чтобы быть. Что такое бытие, мы не знаем, — но значит
что-то нас заставляет сомневаться в определениях, которые нам пред
лагают, — что бытие это обобщение; что это самое абстрактное, отвле
ченное понятие — или другие определения бытия. Что мы умеем как-то
чувствовать бытие — это факт. Мы плаваем, как только к нам присту
пят с вопросом — но что именно? — и это значит как раз, что мы еще
подумаем, прежде чем ответить. Да вся наша история вокруг бытия. Ре
шитесь закрыть историю, сказать, бытие вот это, движение материи и
хватит огород городить? Существо человека — Dasein, Da-sein. Это пе
реводили: здесь-бытие, хотя это неясно, что такое, приходит на ум та
мошнее бытие, и один наш автор теперешний говорит «здешнее бытие»,
так ему слышится хайдеггеровское слово, в отличие от тамошнего, иде
ального бытия, хотя Хайдеггер настаивает, предупреждает: Da, «вот» в
Dasein противоположение не какому-то «там», чтобы было здесь и там:
Da — вот это, на которое стало можно показать, предъявленное, выяв
ленное, явленное. Издание «Бытия и времени» в ПСС, том 2, Витторио
Клостерман, Франкфурт на Майне, 1977 год, лучше всех прежних тем, что
там напечатаны и приписки, маргиналии, которые делал автор на своей
книге; где впервые, на странице ю *, введено слово Dasein, в двух фра
зах, я их прочитаю: «Спрашивание этого вопроса <т. е. о 6ытии> в каче
стве способа бытия определенного сущего <т. е. человека, способ бытия
человека — это спрашивание о бытии, не теоретическое, а как мы гово
рили: если все рассыпается, то есть ли само есть, как оно есть, практи
ческий вопрос, подразумевающий: и я там, я буду там, где есть>... зада
вание вопроса о бытии в качестве способа бытия определенного суще-
2б2
8 ОКТЯБРЯ 1991
го само <т. е . это задаванио сущностно определяется тем, о чем в нем
спрашивается, — бытием. Это сущее, которым каждый раз оказываем
ся мы сами и которое, среди прочего, обладает бытийной возможнос
тью спрашивания, мы схватываем терминологически как Dasein» (ίο, γ).
Маргиналия: «Dasein: взятое как выдвинутость в Ничто Бытия, как от
ношение» (ю, 7 d)· Два смысла выдвину тости нашего существования в
Ничто бытия: бытие наше существо, но мы из него — так стоим, на та
ком перекрестке — неизбежно и постоянно выдвигаемся, выходим в
то, что вместо бытия выставилось в Ничто; и другой смысл, Ничто сто
ит за нашей спиной, оно даже больше, собственно, всегда нас держит,
нам грозит, так что бытие нам не обеспечено, мера нашей выдвинуто-
сти в ничто меняется вдруг, вернее, мы вдруг и там и там, необеспеченно,
ненадежно, в бытии и в ничто. Dasein как только не переводили: кроме
«здесь-бытия», более правильное, грамматически, «бытие-вот», такое же
нерусское и невразумительное; «существование», сволакивающее сло
во в контекст «не живу, а существую»; сознание разбежалось в надежде,
что оно как все сумело как будто бы себе захватить, захватить и эту но
вую какую-то философию, догадалось: так Dasein и есть мое бытие, «бы
тие сознания». Хороший, — настоящая школа, долгая, идущая и от само
го Хайдеггера через Жана Бофре, его первого французского ученика, —
французский перевод Франсуа Везена оставляет немецкое слово; статья
«Слово Dasein» прилагается к переводу (он вышел в 1986 году), перевод
чик предлагает ввести его во французский язык, как вошло в него гре
ческое «логос», английское «сплин», тем более что и так само собой это
слово легко оставляют по-немецки. Как по-русски есть же немецкое сло
во «эрзац», а на западных языках «самовар» или еще что. Слово с XVII в.
«присутствие», в философии — перевод латинского «экзистенция». Ве
зен замечает, что по крайней мере один раз у Хайдеггера в «Бытии и
времени» жизнь = дазайн, или даже не раз: конечно, еще больше мож
но сказать, что в одном из курсов, которые мы читали, который мож
но считать первым вариантом «Бытия и времени», вместо «дазайн» сто
ит «жизнь». Везен говорит: тут вторгается банальный смысл; нет, слово
«жизнь» просвечено уже в ранних лекциях, оно не банальное, «дазайн»
вместо «жизнь» появилось потому, что «жизнь» слишком размытое сло
во, и потому что «дазайн» не нуждаясь в пояснениях говорит о том, то
для человека в его жизни дело идет о бытии. По Везену, словом «дазайн»
назван человек, — человек «перекрещен», не раз это с человеком уже и
случалось, «душа», «сто душ», «личность», «смертный», «субъект». Нет
263
СЕМИНАР II.5
«дазаин» не человек, это именно бытие, которое вот и поэтому посто
янно рискует пропажей и искажением; «дазаин» это место присутствия
бытия которое озабочено как раз бытием; это во всяком случае, самое
главное, не отдельное, индивидуальное бытие.
Хайдеггер в письме Жану Бофре 23 ноября 1945 г.: «Да-зайн означа
ет для меня, если мне позволено сказать это на, возможно, немыслимом
французском языке: être-le-là».
Но: дазаин не логос, это веха на пути мысли, это кончилось. Кончил
ся даже «Зайн», в бо-е годы: «я не люблю применять это слово». Это вре
менно^ подручное, для книги «Бытие и время»: до этого жизнь, после —
событие, мир. Надо сделать не тупиком, неподвижным памятником, а
хоть каким пособием. Присутствие. «Не словами...»
Присутствие не встречается среди сущего. «Понимание бытия само
есть бытийная определенность присутствия» (ι6, 12). Дазаин имеет де
ло со своим бытием, это его бытие присутствия Хайдеггер называет эк
зистенцией, Existenz.
Присутствие себя понимает из своей экзистенции. Каждое присут
ствие. .. — но руки опускаются... — проясняет себя и свою экзистенцию
только через экзистирование, потому что и рефлексия — экзистенци
альная возможность, и она — способ присутствия, экзистирования. На
ука тоже экзистенциальна.
II.6
15.10 .1991
«Это сущее, которое каждый раз есть мы сами и которое, среди прочего,
имеет возможность быть, существовать способом вопрошания, мы схва
тываем терминологически как присутствие, Dasein» (10, 7)· Не думайте,
что что-то из известного вам переведено тут на особенный язык и назва
но присутствием, например человек назван присутствием, или личность
названа присутствием. Подумайте о себе как о присутствии, отбросьте
все прежние и все нынешние представления о себе, почувствуйте себя
каждый как длящееся присутствие, определить которое страшно труд
но и вам самим и другим, потому что вы имеете право быть и полной
пустотой, не говоря уже о том, что вы можете отдаться чему угодно, от
дать себя чему угодно в мире или целому миру, — но даже как полная
пустота вы останетесь длящимся присутствием. Вы хотите, чтобы ваше
присутствие было не пустым и чтобы оно не было ограничено, отдано
вещи, чтобы присутствие было только присутствием такой-то функции,
вы хотите, чтобы оно было настоящим присутствием, т. е . прежде всего
чтобы оно было, имело само себя, т. е . было бытием. Не так, что вгляди
тесь в мое существо, присутствие и вы узнаете, что такое бытие, «смысл
бытия не считывается с этого сущего» (маргиналия на с. ю, 7 е), — но
присутствие, которое всегда наше, спрашивает о бытии, ему важно, как
обстоит дело с бытием, потому что дело для него заключается в том, что
бы выступить в бытие, экзистировать. Присутствие спрашивает о бы
тии и бытие имеет загадочное отношение к этому спрашиванию, потому
что спрашивание есть модус бытия этого сущего, присутствия. «Сущ
ностная задетость спрашивания тем, о чем оно спрашивает, принадле
жит к самому подлинному смыслу вопроса о бытии» (и, 8). Сущее, име
ющее черты присутствия, находится к вопросу о бытии в каком-то не
проясненном отношении, может быть, в исключительном отношении.
Среди всего сущего вот это определенное сущее, присутствие, находит
ся в особенном отношении к бытию, в каком именно особенном? Мар
гиналия на il (8 Ь) с: присутствие место понимания бытия: «Присут
ствие не случайно взятое сущее ради построения абстракции бытия, но
место понимания бытия, место бытийного понимания».
Присутствие не такое сущее, которое можно считать в одном ряду с
265
СЕМИНАР II.6
другим сущим: в комнате книга, камин, стул, диван, присутствие. При
сутствие выделяется из ряда книга, камин, стул, диван как то сущее, для
которого в его бытии дело идет об этом самом бытии. Присутствие име
ет такое строение, такую «конституцию», конституировано так, что в его
бытии имеется бытийное отношение к этому бытию. Присутствие пони
мает себя в своем бытии, т. е . такое или другое понимание бытия при
сутствию открыто, оно в своем бытии этим определяется. Среди сущего
оптическое отличительное устройство, т. е. его как сущего тоже, заклю
чается в том, что это сущее онтологично. Не в том смысле, что форми
рует онтологию, а в том, что еще раньше формирования всякой онтоло
гии — онтологично, имеет понимание бытия.
«То бытие, к которому как своему собственному присутствие тем или
иным образом может относиться и так или иначе всегда относится, мы
называем экзистенцией» (ι6,12). «И потому, что сущностная определен
ность этого сущего не может быть достигнута путем указания какого-то
предметного „что", а сущность его заключается в том, что оно призвано
бытийствовать своим бытием как именно своим, для обозначения этого
сущего в качестве выражения его чистого бытия было выбрано обозна
чение присутствие» (17,12).
Присутствие всегда понимает себя самого из своей экзистенции, ко
торая дана с самого начала в модусе возможности, и прежде всего —
возможности быть самим собой или не быть самим собой. Присутствие
или само себе выбирает ту или другую возможность, или как-то попа
дает, оказывается в той или другой, или оно с самого начала уже вырас
тает в какой-то из этих возможностей. Экзистенция присутствием или
принимается, или упускается, и решает об этом каждый раз данное при
сутствие. Решить вопрос экзистирования, прояснить его присутствие не
может никак иначе, кроме как самим экзистированием. Для этого есть у
присутствия понимание бытия, т. е . значит и самого себя как такого, для
которого его экзистенция и есть бытие. Присутствию не требуется для
того чтобы найти себя в экзистенции понимать онтологическую струк
туру экзистенции: понимание присутствием своего бытия экзистенци-
альпОу т. е. саму же эту экзистенцию и составляет, — но мы должны, зада
ча книги, эту экзистенциальную структуру прояснить. Назовем данное
существу всякого присутствия понимание своего бытия, без всякой тео
ретической онтологии, экзистенциальным пониманием, о котором при
сутствие даже может и не знать, что такое понимание у него есть; а наше
понимание, которым мы заняты в книге, будем называть пониманием
266
15 ОКТЯБРЯ 1991
экзистенциалов, способов экзистирования присутствия. Понимание эк-
зистенциалов будет заниматься всей связью структур экзистирования,
и онтическая конституция присутствия предопределяет задачу анализа
экзистенциалов присутствия.
Таким образом, присутствие — это то сущее, которое экзистирует,
выступает в бытие и может это делать потому, что с самого начала до по
нимания этого обстоятельства уже как-то понимает, умеет понимать
бытие.
Науки это способы бытия, имеющиеся как возможности у присут
ствия, в которых присутствие вступает в отношение между прочим да
же прежде всего к вещам, не имеющим черт присутствия. Вопрос о бы
тии для наук поэтому не обязателен. Поэтому и науки не обязательны
для экзистирования. Что обязательно: отношение к бытию. Отношение
предполагает пространство, расстояние. Присутствие предполагает про
странство, расстояние. Пространство, внутри которого в своем отноше
нии к бытию присутствие видит себя находящимся на определенном
расстоянии от вещей, называется миром. Присутствие поэтому всегда и
изначально — присутствие в мире, мир дан вместе с присутствием как
то пространство, внутри которого присутствие экзистирует, выступает
к своему бытию, или упускает экзистирование, упускает себя.
Поэтому принадлежащее присутствию понимание бытия равноизна-
чально включает и понимание такой вещи как «мир», и сущего, которое
внутри мира, из которого «состоит мир», но не так, что мы понимаем
мир из сущего, которое встречаем и которое оказывается каждый раз
в мире, а раньше всякого сущего мы уже имеем мир как то, внутри чего
наше присутствие имеет дело с бытием, вступает в отношение к бытию,
экзистирует. Можно поэтому вполне построить онтологию, и такие он
тологии строились, которые не имеют своей темой присутствие, не име
ют своей темой человека; но то, что такие онтологии вообще в принци
пе могли возникать, обязательно предполагало отношение к миру как
к пространству, на которое указывает человеческая экзистенция. Онто
логии, которые, казалось бы, могут обходиться без проблемы экзисти
рования, не знают сами себя и зависят от экзистенциальной конститу
ции присутствия; они поэтому не фундаментальные онтологии, потому
что не знают своего собственного основания, а именно принадлежащего
конституции присутствия сущностного отношения к целому миру. Они
нуждаются поэтому в фундаментальной онтологии^ которую надо ис
кать в анализе экзистенциалов присутствия.
267
СЕМИНАР II.б
Присутствие поэтому из-за того, что оно определяется в своем бы
тии тем, в какое отношение к бытию оно само же и вступает, с самого на
чала и по своему существу онтологинно. Ясно поэтому и надо считать
окончательно установленным, что раньше чем ко всякому другому су
щему вопрос о бытии надо обращать к присутствию, этому выделенно
му, исключительному сущему. Аналитика экзистенциалов — не теория,
она не со стороны смотрит на экзистирование присутствия, она тоже
экзистенциально, онтически укоренена, т. е. укоренена каждый раз в та
кое-то конкретное присутствие, в присутствие пишущего эту книгу, вот
этого Хайдеггера. Иначе и быть не могло: только когда философски-ис-
следующее спрашивание само экзистенциально схвачено как бытийная
возможность вот этого экзистирующего присутствия, существует воз
можность раскрытия, размыкания экзистенциальности экзистенции и
тем самым — возможность достаточно фундаментальной, т. е. видящей
и имеющей основу в первичном отношении присутствия к бытию, онто
логической проблематики.
Конечно, давно уже было замечено исключительное положение при
сутствия — без отчетливого понимания его — в вопросе о бытии. Ари
стотель, «О душе» III8,431 b 21 и III 5> 43° а 14 елл.: душа есть неким обра
зом все сущее, т. е . в своем бытии уже имеет отношение к целому миру,
отношение не случайное а бытийное, касающееся существа души. Это
вовсе не значит, что мир, стало быть, это что-то похожее на душу, субъ
ективное: это значит, что в самом существе нашей души, в терминоло
гии Хайдеггера — нашего присутствия, отношение к миру и ко всем ве
щам мира есть.
Задача книги: интерпретация смысла бытия. Мы не можем подсту
пить к бытию иначе, как через то, что есть. Из того, что есть, отмечен
ное, привилегированное сущее — человеческое присутствие — будет
тем, в анализе чего, включающего уже отношение к бытию, будет прояс
няться бытие. Как теперь подходить к этому сущему? Казалось бы, что
к нему подходить: оно нам ближайшее, присутствие всегда наше, мы и
есть в нашей сути присутствие. Онтологически оно, однако, самое да
лекое нам. Да, к его бытию принадлежит, что оно имеет понимание бы
тия, вокруг которого для него все, для присутствия его бытие в каком-то
смысле уже развернулось, как развернувшееся уже выложено, истолкова
но. Но ничего похожего на то, что присутствие в своем изначальном от
ношении к бытию об этом отношении знает. Оно о своем бытии знает
из сущего, с которым имеет дело в мире. Казалось бы, человек всегда за-
268
15 ОКТЯБРЯ 1991
нят самим собой, изучает себя в философской психологии, антрополо
гии, этике, «политике», историографии, биографии, — экзистенциально
эти исследования бытийные модусы присутствия, но всегда ли человек
в них взят в своих реальных экзистенциалах, выходах к бытию? Очень
редко или вообще никогда; человек взят этими исследованиями пред-
метноу как сущее в ряду сущего, не как присутствие. Надо начинать не
с идеи бытия, действительности, каких можно конструировать и догма
тически принять много, а с того, что это сущее, присутствие, может по
казать само от себя: оно покажет свое отношение к бытию. И не там, где
оно уже теоретизировано, а всегда, в средней повседневности. Основные
черты отношения присутствия к бытию: не любые; и они — в свете во
проса об искомом бытии, потому что книга имеет определенную зада
чу, обозначенную в ее заглавии, «Бытие и время». Заранее заглавие это
указывает на время: смыслом бытия того сущего, которое мы называ
ем присутствием, окажется временность. Это надо заранее иметь в виду;
анализ экзистенциалов в первой половине книги будет потом повторен
во второй половине, чтобы показать, что все выявленные в этом анали
зе структуры присутствия — это структуры временности. Присутствие
временно^ оно развертывается во времени и оканчивается со временем.
Его бытие временно у его временность накладывает отпечаток, принци
пиальный, т. е. определяет весь смысл его экзистенции. То, что смысл
бытия присутствия во временности, решает ли вопрос о смысле бытия
вообще? Ведь для присутствия в его существе дело идет о бытии и толь
ко о бытии.
Вопрос о смысле бытия вообще с выявлением временности нашего
бытия, присутствия, не только не решается, а он ставится с остротой,
которой мы думали в философии такой спокойной даже и не бывает: с
надрывной, раздирающей остротой: в самом деле, все для нас в нашем
присутствии сводится к экзистенции, к тому, чтобы выступить в бытие,
и наша экзистенция есть в той и только той мере, в какой есть бытие, —
но бытие, которое есть в нашей экзистенции, в которой мы выступаем,
вписано, сколько бы и как бы интенсивно мы ни воображали себе веч
ность, в нашу временность! Т. е. наше воображение вечности входит в
наше экзистирование как его момент, фундировано понятным нам или
непонятным нам образом в нашей изначальной бытийности, в нашем
сущностном отношении к бытию, мы и есть в качестве присутствия это
отношение к бытию — но присутствие наше погружено во временность
и смысл его бытия очерчен началом и концом. Наивное дедуцирование
269
СЕМИНАР II.б
смысла земного существования из вечности отпадает. Мы ничего не
знаем о вечности, кроме того, что обусловлено нашей временностью.
Присутствие в качестве его онтической конституции (того, что со
ставляет его как сущее) обладает неким предонтологическим бытием,
потому что присутствие существует тем способом, что понимает бы
тие. Окажется, будет показано, что то, из чего присутствие вообще мо
жет понимать бытие, есть время. Время горизонт всякого понимания и
истолкования бытия. Это предопределено тем, что бытие присутствия
со всем его пониманием бытия есть временность. Вот то, чем должна бу
дет заняться книга: доказать это. Попутно придется выбраться из вуль
гарного понимания времени, — это будет сделано опять же таким путем,
что будет показано, что это расхожее традиционное понимание време
ни возникло из временности, за горизонт которой в принципе не может
выйти наше понимание бытия.
Понятие «время» используется обычно для наивного разграничения
областей сущего: природные процессы, история протекают во времени,
а математические соотношения, например, существуют вне времени, ма
тематические истины всегда истинны. Дальше, еще выше, отделенное от
всего временного сущего пропастью, возвышается надвременное, «веч
ное», и нарисовав себе такую картину, люди начинают изыскивать спо
собы, каким образом потом проложить мост между вечным и времен
ным, через ту пропасть. Важно было бы разобрать, каким образом время
приобрело эту характерную онтологическую функцию — различения
низшего и высшего — и почему именно такая вещь как время стала слу
жить критерием различения, — до сих пор об этом не только ничего не
известно, но никто об этом даже и не задумывался. Время в его расхо
жем понимании как бы само собой, естественно скользнуло в эту онто
логическую роль и в ней остается. Когда мы говорим «временно», под
разумеваем «не очень серьезно»; когда говорим, «нет ничего такого по
стоянного, как временное», нам и в голову не приходит задуматься, что
мы тут произносим, — мы ведь произносим, что нет ничего другого для
нас, кроме временного, но мы не догадываемся додумать до конца, и вре
менное остается для нас онтологическим критерием неполноценности,
временное значит «не то».
С другой стороны, в наивном онтологическом применении времени
дает о себе знать возможность подлинной онтологической релевантно
сти времени, и встает задача посмотреть, так ли это; окажется, что имен
но так; потребуется прояснить тогда, каким образом в феномене вре-
270
15 ОКТЯБРЯ 1991
мени, если его верно разглядеть и верно эксплицировать, укоренена
центральная проблематика всей онтологии. Не таким образом, что вре
менное бытие неподлинное, а вневременное бытие подлинное. А так, что
бытие, в том числе истинное бытие, не может быть понято иначе, как из
времени. Не сущее только существует «временно», «во времени», а в бы
тии начинают просвечивать «временные», «временные» черты — только
не спешите подставлять лениво на место «временные: временные» наше
готовое представление о времени. Временные, временные не обязатель
но должно значить расположенные внутри таких-то моментов времени,
от такого до такого положения стрелки часов, от такой до такой кален
дарной даты. Смысл времени еще дожидается прояснения. Смысл бы
тия не временный в расхожем непродуманном смысле, но он временной.
Задача фундаментальной онтологической интерпретации бытия как та
кового, самого по себе, включает поэтому в себя разработку временно
го характера бытия. Через экспозицию временной проблематики будет
дан конкретный ответ на вопрос о смысле бытия. Этот ответ на вопрос
о смысле бытия не закроет вопрос и, наоборот, откроет — откроет путь
конкретного онтологического исследования: откроет горизонт, внутри
которого вопросы впервые смогут разместиться в своей широте, в сво
ем настоящем размахе.
Открыть горизонт — это то, что раньше Хайдеггер называл «дать
формальное определение»: очертить идею как эйдос искомого. Такое
определение, такое открытие горизонта не вредит искомому, не встав
ляет его заранее в рамки, происхождения которых мы не знаем. При
вычка заранее помещать разбираемый предмет в кем-то для него яко
бы уже приготовленные рамки должна быть разрушена. Ставится зада
ча деструкции истории онтологии.
Временность присутствия — условие возможности его исторично
сти, не наоборот, не так, что заранее протекает мировая история, и при
сутствие включается в нее. Исторично присутствие до всякой мировой
истории тем, что бытие, к которому оно эк-зистирует, выступает, есть
то событие, в котором присутствие осуществляется. Только потому, что
есть эк-зистенция, выступание в бытие, и событие бытия, может суще
ствовать такая вещь, как история мира, не наоборот. В своем фактиче
ском бытии присутствие целиком и полностью определено событиями,
в которых оно сбывалось. Присутствие есть это вот ровно в такой ме
ре, в какой оно былОу в нем ничего нет, кроме его прошлого, — потому
что само по себе оно только открытость, только присутствие. Присут-
271
СЕМИНАР II.6
ствие вросло в пришедшее из прошлого понимание бытия и в традици
онное истолкование самого себя. Из прошлого — из того что было, из
прошлых событий — оно только и знает то, что знает, если что-то зна
ет. Да возможности его бытия открыты — но понимает оно эти возмож
ности и правит ими из прошлого, сложившегося понимания, потому что
было то, что было, и ничего не было из того, что не сбылось. Прошлое
поэтому не тянется за присутствием, а заранее опережает его, упрежда
ет его в его отношении к собственным теперешним возможностям.
Присутствие может это заметить. Оно может начать бороться с про
шлым или, наоборот, культивировать прошлое, любить традицию. То
или другое отношение к истории, любое отношение к истории возмож
но только потому, что в основе своего бытия присутствие уже целиком
определено событием. Пока присутствие не понимает своей принад
лежности — сущностной — к бытию, история останется для него толь
ко картиной, путь к осмыслению своей истории, даже просто к верной
постановке вопроса о его истории для него закрыт. Человек может с го
ловой погрузиться в так называемое «изучение» истории, в историче
ские факты — и не иметь к истории никакого отношения и быть лишен
возможности что-либо понять в ней. И наоборот: присутствие может не
иметь даже представления об истории и ровным счетом ничего о ней не
знать, и этим ничуть не будет отменена его историчность, его суть — от
ношение к событию.
Отсюда следует: вопрос о бытии обязательно включает историю —
вовсе не потому, что надо знать, что говорили о бытии до нас, а пото
му, что то, что говорим и думаем о бытии мы, целиком заранее и рань
ше, чем мы это успеем заметить, определено для нас тем, что с нами бы
ло, что сбылось и что не сбылось. В этом смысле спрашивание о бытии
исторично, хотим мы этого или не хотим, — но, опять же, обследование,
что и как говорилось о бытии в прошлом, может быть способом ухода
от истории, способом скрывания от нас самих того, как все, и наше об
следование истории, имеет смысл только внутри события. Присутствие
склонно — представьте наклонную плоскость — проваливаться, падать
(вспомним о «руинанц») в свой мир и из его вещей отраженным обра
зом понимать себя; одновременно с этим присутствие проваливается,
падает в традицию, в сложившееся: то, как все уже сложилось, заранее
очерчивает для него то, что будет, и поведение, спрашивание, пробле
матика, выбор принадлежат уже не присутствию, они вычитываются из
уже сложившегося. Сложившееся приходит к господству, но в нем дей-
272
15 ОКТЯБРЯ 1991
ствует уже не то событие, каким сложившееся было, когда сбылось, а то,
как мы сейчас его пониманием, исходя из нашей сегодняшней экзистен
ции, из захватившего (заметным или незаметным для нас образом) нас
теперь события. Того события, в котором сбылось сложившееся, тра
диция, мы поэтому предрасположены не видеть, источник настоящий
фактов традиции для нас закрыт — тем, что он слишком близок к нам,
он тот самый источник, который определяет нас теперь, но именно по
этому перестает быть виден, когда отнесен в прошлое, отстоящее во вре
мени — когда время для нас это расстояние. Традиция как память о том,
что от нас на расстоянии, делает так, что и наше теперешнее философ
ствование мы начинаем понимать как такое, которое должно вписаться
в традицию, в историю философии, т. е . лишаем его корней исторично
сти, события экзистенции. Следствие то, что при всем историческом ин
тересе и рвении о филологически «корректной» интерпретации — при
сутствие уже не понимает элементарнейших условий, при которых было
бы возможно позитивное возвращение к прошлому в смысле его про
дуктивного усвоения. Так случилось с вопросом о бытии, его смысле:
при всем интересе к метафизике он забыт. Это говорилось в 1927 году —
благодаря этой книге он появился, теперь смысл бытия и история его
понимания вполне академическая тема. Достаточно ли этого? Нет, если
в свою очередь нами теперь уже забыто, каким событием и развертыва
нием какого события, в каком экзистировании возникла та книга 1926
года. То, что уже сейчас грозит случиться с главной книгой философии
20 века, давно давно случилось с греческой онтологией, которая до сих
пор определяет понятийную систему философии, но уже к концу антич
ности — или может быть тоже почти сразу — была именно в качестве
системы абстрактных понятий вырвана из своих корней, стала учеб
ным материалом. Как школьный материал средневековье через Суаре-
са, его «Disputationes metaphysicae» завещало греческую онтологию но
вому времени. Ключевыми понятиями Нового времени становятся осо
бо выделенные области бытия — субъект, Я, разум, дух, личность, — ив
этих терминах работает мысль, об их корнях в бытии снова забывая. Ан
тичный понятийный арсенал применяется в свете этих новых ключевых
понятий и ведется пересчет старых понятий на новые. Имеем таким об
разом несколько слоев, одинаково окаменевших, традиции. Эту окаме
нелость надо размягчить, затемняющие наслоения снять. Следуя веду
щей нити вопроса о бытии, надо провести деструкцию традиционного
арсенала античной онтологии и новоевропейской философии сознания.
18-2015
273
СЕМИНАР II.6
Это доискивание до метрик (свидетельств о рождении) (зо, и) основ
ных понятий онтологии не означает дурного историзма в смысле объяв
ления всякой концепции продуктом своей эпохи. Деструкция не озна
чает и сбрасывания с плеч тяжести онтологической традиции, мешок с
возу — кобыле легче. Деструкция разрушает не прошлое, которое раз
навсегда укоренено в событии, деструкция относится к сегодня, к рас
пространившему способу обращения с историей онтологии, во всех
трех главных видах, доксографическом, духовно-историческом (гума
нитарном, когда философию рассматривают в общем контексте истории
культуры как истории человеческого духа) и проблемно-историческом
(когда в истории философии видят разные попытки решения вечных
философских проблем). Опять же цель книги — вопрос о бытии —
очерчивает задачу: деструкция истории онтологии только в принципи
ально решающих узлах этой истории. Первый естественный вопрос: бы
ла ли хотя бы попытка в истории онтологии — тематически, т. е. делая
из этого тему, а не побочно, интерпретация бытия была сближена с фе
номеном времени?
Первый и единственный, кто по крайней мере двинулся по этому пу
ти, был Кант; вернее, сам феномен времени своей весомостью навязал
себя ему. Но нельзя просить у Канта помощи в понимании отношения
бытия и времени; наоборот, темнота его учения об априорных формах,
одна из них время, восприятия сущего требует сначала прояснения вре
менного характера бытия. Тогда прояснится и то, почему для Канта цен
тральная проблематика бытия и времени должна была остаться закры
той. Кант сам понимал, что его анализ потонул в непроглядной темноте;
во 2-м издании «Критики чистого разума»: «Этот схематизм нашего рас
судка, в отношении явлений и их чистой формы, есть искусство, сокро
венное в глубинах человеческой души, чьи подлинные жесты мы едва ли
когда-нибудь вычитаем из природы, чтобы неприкрыто разложить их
перед своим взором» (Sein und Zeit, 32, 23). От чего Кант как бы отшаты
вается, это должно быть теперь тематизировано и вынесено на свет —
если только мы не хотим остаться в положении оппонентов Платона, ко
торым только кажется, что они имеют в виду, когда говорят «бытие». Пе
ред тем, как разбирать феномен времени, Кант должен был бы провести
сначала онтологическую аналитику субъективности субъекта — про
яснить онтологию присутствия. Вместо этого Кант догматически при
нимает на руки готового субъекта от Декарта. Связь между «Я мыслю-
существую» и временем остается в полном тумане, даже проблемы ее
274
15 ОКТЯБРЯ 1991
не возникает, словно субъект, место того «я мыслю», этой проблемы не
имеет, словно для него время не проблема. Субъект для Декарта — и для
Канта тоже — просто данность, они упускают разобраться в онтологии
субъекта. Декарт имеет притязание на то, чтобы в своем «мыслю-суще
ствую» дать философии новый и прочный фундамент. «Радикальное»
по видимости новое начало, в котором, однако, о способе бытия — ка
кое отношение к бытию имеет — мыслящая вещь, даже не спрашивают.
Бытийный смысл этого «существую» неясен — полностью неясен, пото
му что даже не замечено, что это существование временно, не случай
но временно, — случайно по недоразумению с ним случается конец, — а
это существование с самого начала определено концом. Как сказала од
на студентка философского факультета, «мы все с самого начала конче
ные люди». Упустив это, Декарт должен был упустить и вопрос о бытии,
и должен был прийти к уверенности, что его «мыслю-существую» доста
точно блестит достоверностью, чтобы озарить собой все вокруг. Разбор
тезисов Канта и Декарта поэтому неизбежный минимум, без которого в
книге будет не обойтись.
Деструкция должна по крайней мере коснуться потом оснований ан
тичной онтологии. Тут станет видно, что античное истолкование бытия
ориентируется на «мир» и на «природу» и что по существу получает по
нимание бытия из времени. Внешнее — конечно, только внешнее, как
все в языке, в терминологии — определение смысла бытия как «усми»,
как имущества, наличия, присутствия. Сущее, поскольку оно существу
ет, т. е. причастно бытию, — налицо, имеется, присутствует, т. е. понима
ется из определенного модуса времени, настоящего.
В греческой онтологии — в отличии от декартовской — еще прозрач
но видно происхождение из человеческой экзистенции. Присутствие,
т. е . существо, бытие человека определяется в античности и вообще в
культуре, и в философии как ζφον λόγον έχον, живое существо, бытие ко
торого существенно определяется способностью к речи. Речь, λέγειν —
ниточка, разматывая которую, добывается понимание бытия по мере то
го, как сущее вызывает человека на его обговаривание, выговаривание.
У Платона соответственно онтология — это диа-лектика, развертыва
ние логоса. Аристотель уже диалектики не понимает, этого постепенно
го распутывания бытия сущего по ниточке речи, которое оказывалось
одновременно и запутыванием: не колебание мнений теперь, у Аристо
теля, a νοεΐν, простое внимание-понимание наличного в его чистой на
личности, в его настоящему — причем настоящее у Аристотеля, как у
18*
275
СЕМИНАР II.6
Парменида, это чистое присутствие, как бы актуальное присутствие, и
прозрачно присутствует временной смысл настоящего: настоящее в бы
тии сделано таким настоящим временем, русский язык здесь опять луч
ше немецкого, когда сближает в настоящем подлинное и вот это, тепе
решнее — как когда сближает в «событии» совершение, осуществле
ние — и бытие. Сущее получает свое истолкование в свете того, что оно
настоящее, что оно имеет-ся, присутствует. И снова русский язык здесь
лучше немецкого: в нашем «есть» бытие, существование понимается как
наличие (есть — в смысле имеется), в немецком так сказать тоже можно,
но с натяжкой, не с такой простотой как в русском. Есть, обладает быти
ем, существует, то что есть, имеется, в наличии, пребывает, настоящее.
Присутствие, человеческое присутствие находится — в этом свете
—
в
особенном отношении к бытию как тому, что есть.
Это так, онтология в античности самой своей сутью привязана к вре
мени, но — вот настоящая катастрофа: время не осмыслено в этой своей
онтологической функции, оно воспринимается как сущее (момент ми
ра) среди другого сущего, вот оказывается, что средневековье с его он-
тологизацией времени (как бытийно низшего сорта) потеряло то, чем
неосознаваемо владела античность, — стихийное, простое сближение
бытия и времени, — и приобрело то, что в античных концепциях вре
мени не было, — его отношение к бытию, хотя гротескное, как я гово
рил (обратное античному: временное как бы то, в чем бытия как раз нет
и быть не может).
Книга не сможет вместить временной интерпретации античной он
тологии, но Аристотель, как ее научно высшая и самая чистая ступень,
не весь, а его трактат о времени, ιγ книга «Физики», будет разобран, тем
более, что аристотелевский разбор времени предопределил все последу
ющие, в том числе и Бергсона; и кантовское восприятие времени дви
жется внутри выявленных Аристотелем структур, и это показывает, что
принципиальная онтологическая ориентация Канта, при всем разли
чии, остается греческой.
Стало быть, через деструкцию онтологической традиции исследова
ние должно будет пройти, не для того чтобы традицию, прошлое разру
шить, а чтобы оживить, выявить, что в ней не поддается разрушению.
Так названо, какие анализы будут содержаться в книге. Теперь ее ме
тод. Он будет феноменологический. Это значит: не будет очерчена об
ласть исследования, т. е. рамки рассмотрения. Вещам будет предостав
лено говорить самим за себя. И титул «онтология» это не предметная
276
15 ОКТЯБРЯ 1991
область, в рамках которой будет вестись исследование, этот титул то
же продиктован самой вещью, искомым смыслом бытия. Феноменоло
гия — не позиция, не мировоззрение, не точка зрения, не философское
направление. Феноменология не предопределяет никакого что, только
как философского исследования, а именно вот как: в обращении к са
мим вещам — и значит против всякого вольного творческого констру
ирования, не увлекаясь случайными находками, против принятия каких
бы то ни было понятий, которые не сами себя навязали, против мни
мых философских вопросов — как вопрос о бытии и сознании, — кото
рые часто на протяжении поколений выдавали себя за «проблемы» ис
следования. В каком-то смысле феноменология сама собой разумеется,
т. е. таким и должно быть всегда всякое исследование. Зачем тогда даже
называть это слово? Но только для одного: чтобы лишний раз подтвер
дить, назвать, пообещать себе, объявить себе и всем, что мы будем дей
ствовать именно и только так. Можно было обойтись без титула «фено
менология», сказать просто «исследование, каким оно и должно быть».
Разберем, однако, смысл феноменологии, именно для того, чтобы посмо
треть и показать, каким исследование должно быть. Феноменология из
двух частей: феномен и логос. Может показаться, что слово стоит в ря
ду «теология, биология, социология», науки о соответствующих вещах:
тогда феноменология — наука о феноменах. Нет, слово выпадает из того
ряда, вот почему. Сначала разберем его составные части. Феномен — от
φαίνεσθαι показываться, показывать себя, быть очевидным. Феномен —
средний залог: само себе само по себе являющее-ся, от глагола в актив
ном залоге φαίνω высвечивать, корень тот же, что в φως свет, ясность, са
ми по себе ясные. (Белый — белый свет.) Феномены — то, что видно яв
но, явления — русское слово значащее то же, что феномен. (Огонечки *.)
«Является» как связка «есть». Для греков: феномены — сущее. В даль
нейшем развитии философского языка феномен приобретает значение
показывающегося в смысле показного, кажущегося: а на самом деле ина
че, т. е. феномен как раз не сущее. Но первичное значение остается, по
тому что и то, что казавшееся таким, оказывается не таким, а другим, —
этот процесс вовсе не отменяет феномен в смысле настоящего сущего,
просто то, что нам казалось кажущим себя, оказалось кажущимся, и тем
самым мы добрались до того, что оказывается, т. е. показывает себя уже
на деле, в действительности. Феномен как явленность вещи самой по се
бе остается первичным, феномен как кажимость — это привативная мо
дификация феномена.
277
СЕМИНАР II.6
Сначала надо, чтобы было das Sich-an-ihm-selbst-zeigende * (38, 28).
Ограничение феномена: empirische Anschauung
1
, Кант. Феномен не
все, что само из себя показывает себя. — Не обращают внимание на яв
ления, которые слишком рано, и слишком очевидно. Пространство и
время, формы созерцания, Anschauung, в которых все является — сра
зу уже в пространстве и времени; но и пространство и время — иначе
о них не было бы речи — должны были явиться, т. е. они тоже феноме
ны — и сказать, что первофеномены, не очень хорошо, потому что само
первое, сама явленность — тоже феномены.
Здесь, в феноменологии — формальное понятие феномена, всякое
другое будет применением. — Логос. Разум, суждение, понятие, основа
ние, отношение. Логос речь, слово: в конце концов дело слова: сказать?
показать? Т. е . феноменология говорит одно и то же?
Аристотель: άποφαίνεσθαι, суть логоса. Речь дает видеть. Опять рус
ский лучше немецкого. То, о чем речь, должно быть с-казано. Вычерпано
в этом смысле до конца, до того, что оно есть, до своей истины.
Потому что страшно важно — буквально все в феноменологии — за
висит от того, чтобы отделаться от понимания истины как соответствия
чего-то чему-то . Rei et intellectus. Это не первично. Αλήθεια: άληθεύειν ло
госа: сказать вещь, как она есть, истина неутаенность.
Истина суждения: раньше нее истина восприятия. Как зрение, как
слух, так нус, ум, первоначально чутье, просто и прямо вбирает то, что
показывает себя. Надо честно сказать: это как раз то, чему мы меньше
всего доверяем, мы проверяем все, что знаем, уж мы знаем, как-то про
веряем, — пораньше было чистое в-нимание, вбирание. Чем? Но вот мы
сами такие существа, что вбираем. Ложным нус быть не может: но его
можно остановить, запретить.
Λόγος: schlichtes Sehenlassen, Vernehmenlassen * (45,34). Отсюда «осно
вание» (потому что первое увиденное — первое), и другие значения.
Да, феноменология не как биология: φαινόμενα — λέγειν, άποφαί
νεσθαι.
Вот формальный смысл феноменологического исследования. Вот
смысл «Zu den Sachen Selbst!» (Sein und Zeit, 46,34).
Что казать? Конечно: то, что скрыто, а скрыто не сущее — вот оно, —
а бытие.
П.7
22.10.1991
Феноменология: логос о феноменах, сказывание того, что оказывает
ся. Оказывается в полном смысле слова: нам казалось одно, оказыва
ется другое; но оказывается не другое, а само дело: оно о-казывает се
бя, показывает со всех сторон, полностью, и поскольку не предписано,
не предопределено, чтобы при таком оказывании обнаружилось твер
дое непроницаемое ядро, надеяться на то, что вещи, так сказать, раско
лются и дальше смотреть их будет уже нечего, и так все будет ясно, —
это заранее взятое решение о вещах, что они устроены таким распуты
ваемым образом, к феноменологии не имеет отношения, мы не знаем,
что вещи устроены таким образом, и феноменология не дает нам тако
го знания, она зовет только всматриваться и не закрывать вещь, то ока
зывание вещей длится: лозунг феноменологии, «к самим вещам», озна
чает не то, что наконец мы получим их в руки как камни, а что не когда-
то, а уже сейчас, с первого шага мы будем обращены не к своим схемам
и ожиданиям, а к самим вещам, от них, а не от своего напора и активиз
ма ожидая всего. — Феноменология метод, метод значит подход, подход
обычно понимаем как подход субъекта к объекту, как к не дающемуся
устройству надо подобраться, чтобы распутать его — но здесь подход в
том смысле, как мы говорим, что одно подходит к другому, в нашем ло
госе мы подходим к вещам, подходим для вещей, потому что наш логос
(феномено-логия), речь, слово не как наш инструмент, а как наше суще
ство (человек словесное существо), которое сказывается, — в том смыс
ле, как говорим, например, «сказалось утомление», т. е. дало о себе знать:
человек сказывается, дает о себе знать — кому? самому себе; — логос не
инструмент, а то, в чем, чем, через что человек сказывается, сказывает-
себя (я говорю эти вещи по-русски, потому что русский язык позволя
ет делать то же, что немецкий). Человек сказывается в логосе, логос в
том, чтобы сказать: сказать то, что оказывает-ся; речь не окончена и не
остановилась на последнем слове, последнее слово не сказано, человек
говорит каждый раз новое слово, потому что история о-казалась вещью,
размах которой и захват которой больше, чем могло показаться. В исто
рии есть тайна. Оказывается, что в истории есть тайна. Дело феноме-
но-логии открыть тайну. Тайна открывается. Она открывает себя не так,
279
СЕМИНАР II.7
что перестает быть тайной, а так, что она оказывается, показывает себя,
что она тайна. Открыть тайну — сделать так, чтобы она перестала быть
тайной, но открытая тайна тайной же и оказывается: в середине наше
го исторического бытия тайна, тайна и есть то длящееся событие (здесь
можно вспомнить слова Чаадаева, сказанные о человеческой истории,
конкретно — о загадочном сочетании в ней абсолютной необходимости
и абсолютной свободы, Чаадаев назвал это «длящееся чудо»). Длящееся
чудо, длящаяся тайна человеческой истории — единственное, что име
ет смысл в человеческом существовании, оно и есть то бытие, вокруг ко
торого все, о котором все, ради которого все. В сердцевине человеческой
истории оказывается тайна, и сказать тайну не значит обязательно вы
дать и обнаружить ее, потому что, похоже, человек слишком захвачен во
всем, и в своем языке тоже, тайной истории, тайной длящегося события,
чтобы ее раскрыть, — сказать тайну значит собственно показать ее как
тайну, показать какая она: весь логос вокруг вести, той серединной ве
сти, вокруг которой вся человеческая история, — вокруг того главного
события, что тайна не кончается. Тайна на то и тайна, что она не в чело
веческой власти, ах как человек умеет распоряжаться и организовывать,
но не то, что составляет единственный смысл его существования.
Проблема с тайной, с ее событием, т. е . с бытием, т. е. с настоящей
историей человека, не в том, что ее никак не удается разгадать, а пробле
ма другая: что о ней забывают. Бытие не тайно: бытие тайна, но не таит
ся, а забыто.
Отношение истины к тайне: истина Алетейя, буквально непотаенное,
не в смысле лишенное своей тайны, а именно открывшееся в том, что
оно есть: в своей тайне. Разве философия имеет дело с тайной, это ми
стика? Не надо! Человек имеет дело с тайной и ни с чем другим по-на
стоящему не хочет; бытие тайна потому, что его строго говоря не может
быть, мы его видеть не можем, мы тянемся за ним и в руках у нас каж
дый раз оказываются вещи — каждый раз не бытие; но вещи для лого
са оказывают-ся, сказывают себя, и скрытое бытие дает о себе знать в
вещах.
Онто-логия по-настоящему возможна только как феномено-логия:
логос, сказывание оказывающегося. Всякая другая онтология будет кон
струкцией, поделкой ума, который растерян и думает выйти из своей
растерянности организацией себя.
Еще раз: феномено-логия не занимается раскапыванием «рацио
нального зерна» за феноменами. За феноменами, за тем, что оказывает-
280
22 ОКТЯБРЯ 1991
ся, опять то, что сказывается. Наоборот, когда мы увидели, мы увидим
еще больше. Мы увидим много, и чем больше, тем больше мы будем ви
деть и хотеть видеть. Можно вспомнить Аристотеля: видение не способ
ность, которую мы как инструмент применяли бы для чего-то другого,
для того, скажем, чтобы уже не видеть, а действовать, — слепая практи
ка очень частое и несчастное дело, — а видение это энергия, т. е. полно
та действительности, которая не служит другой цели, которая цель в се
бе. Мир мы называем еще «свет», «белый свет». На свете видно. Свет это
то, где видно. Проблема не в том, чтобы от видения перейти к тому, что
уже не видение, не дай Бог нам этого, а в том, чтобы видеть, т. е. видеть
не то, что кажется, а то, что оказывает-ся, но что не видно, потому что
оно ис-кажено, в разных видах искажения: или утаено, что не то же са
мое, что превращено в тайну. Утайка может быть разных видов. Можно
утаить тайну? Да, и может быть то утаивание тайны, которое делает ви
димость, что тайны нет.
Самое частое и опасное — когда то, что оказалось, сокрыто таким об
разом, что искажено. Это сокрытие — искажение
— самое
опасное, по
тому что возможности обмана и дезориентации здесь особенно упор
ные (48, зб). Почти сразу вырождается все оказавшееся и сказанное — из
пространства, где оно увидено, оно переносится в другое пространство,
в систему представлений, привязанную к системе понятий. От насто
ящего до ненастоящего всегда только один шаг. Непосредственность
взгляда, нужная для строгого видения, будет принята — непременно —
за нетехничность, наивность, ненаучность.
Логос феномено-логии, сказывания оказывающегося — как выявле
ние, изъяснение это истолкование, герменевтика. Феномено-логия есть
поэтому герменевтика в исходном значении слова: дело изъяснения, ис
толкование. Как «изъяснить, изъясниться» значит «сказать», так само
слово «герменевтика» в своей истории переплетено с речью как вы-ска -
зыванием, слово исторически того же происхождения — латинское se-
rmo «речь»: как русское «толкование» — это прошедшее через многие
европейские языки ближневосточное, очень древнее, значащее пример
но то же в хеттском языке таргум, в разных вариантах произношения,
в русском «толк», разъяснение смысла. Герменевтика: истолкование,
смысл феномено-логии. Герменевтика бытия — не разъяснение смысла
слова «бытие», не истолкование того, как говорилось о бытии на про
тяжении истории философии: это истолкование того, что оказывает
ся, являет-ся в феномено-логии, т. е. истолкование вещей, которые толь-
281
СЕМИНАР II.7
ко вещи, чтобы увидеть как в только лишь вещах присутствует бытие,
или — иначе
— как в вещах сопровождает вещи и составляет их смысл
тайна их присутствия, — путь к этой герменевтике бытия через то су
щее, которое имеет характер присутствия, человека.
Присутствие с самого начала уже имело дело с бытием, дело для при
сутствия идет о бытии — давно и всегда и повсюду: присутствие, чело
веческое присутствие с самого начала, во всем, что оно делает, делает де
ло бытия как первое и принципиально важное дело. Если хотите, при
сутствие, человеческое присутствие разоблачено Хайдеггером как то,
что — независимо от того, что оно делает и как говорит о себе — по сво
ему существу делает всегда только одно, захвачено всегда только одним.
В отличие от многих других разоблачений последнего времени, марк
систское разоблачение человека как функции и продукта классового ин
тереса, фрейдистское разоблачение человека как существа в своей куль
туре на самом деле сублимирующего сексуальное влечение, либидо, —
в отличие от этих разоблачений хайдеггеровское разоблачение лестное,
оно разоблачает, что человек самое большое из всего, что он говорит и
думает о себе, что человек захвачен не чем-то из сущего — производ
ством экономическим или воспроизводством физиологическим, — а су
щим в его сути, бытием. — И еще: то, чем философ занимался индиви
дуально, на свой страх и риск, сам выясняя бытие или первосущее или
начало начал, Хайдеггер щедро без зависти отдает человеку, всякому
причем человеку, без исключения всякому человеку с улицы: всякий, и в
самом своем повседневном существовании, делает дело философа, име
ет дело и хочет иметь дело с бытием: поучиться у каждого, увидеть, как
он делает то, что он делает. Посмотреть на него. В этом цель аналитики
присутствия: не навязывать человеку, не человеку объяснять, с мнимой
философской высоты поучать его, как он должен понимать бытие, а то
он простой человек и не понимает, а наоборот, самого простого человека
попросить: покажи то, чем ты в своем существе, присутствии, оказыва
ешься: ведешь сам всегда и изначально разговор с бытием. Перевернуто
отношение человека с улицы и философа, запомним это раз навсегда и
сами теперь будем так поступать. Так называемое наше профессиональ
ное знание не имеет никакого отношения к делу, вместе со всем этим
знанием мы не ближе к бытию или даже как бы не были дальше, пото
му что наше знание нам, нашему историческому присутствию, наш вы
бранный нами путь [это путь] отношения к бытию — или наоборот бег
ства от бытия? Эта опасность при нас; когда простой человек с улицы в
282
22 ОКТЯБРЯ 1991
своей тревоге, в своей заботе меньше имеет лазеек уйти от бытия, чем
ученый который пишет исследование о бытии, онтологии. Как — это
мой пример — путь монашества может оказаться успокоением, путь
служения Богу может оказаться уходом от Бога, чего не имеет — этой
защиты самого образа жизни — мирянин, который, если он всерьез и не
отчаиваясь хочет оставаться христианином, через весь кажущийся не
блеск своего существования в своей тревоге, падениях, лишь бы после
них сразу шли вставания, постояннее и теснее имеет отношение к той
реальности, отношение к которой введено в житейскую колею у монаха
и священника. Возможно, мой пример немного неуместен; я подробнее
говорил об этом по поводу Розанова и Леонтьева, их большой перепи
ски в 1891 году, сто лет ровно назад, когда Леонтьев уже стал или считал
ся монахом. Оставим наши дела, вернемся к Хайдеггеру: он в позу по
священного, привилегированного не встает, он не думает что его специ
альные знания и принадлежность к профессии, его профессорство дают
ему преимущества перед человеком с улицы в том, о чем идет речь, — в
отношении к бытию.
Конечно, спрашивать человека он начинает не с пустыми руками, это
было бы смешно, это было бы не лучше продолжений болтовни о жи-
тьи-бытии, которые с охотой ведет человек, как раз когда начинает фи
лософствовать, теоретизировать, т. е . как раз когда его отношение к бы
тию становится сомнительным, когда он скорее всего слабеет для той
задачи, к которой всякий человек призван. Назначение анализа — чело
век в его существе, присутствие, Dasein, это вот бытие, бытие этого вот.
Мы не знаем, что такое присутствие. Мы знаем, что мы есть. Есть что-
то наше, что не сводится к предметности, даже самой сложной, что от
крыто и что мы называем присутствием. Присутствие каждый раз мое.
Присутствие есть и к этому есть, к своему бытию, стоит всегда в отно
шении. Поздняя маргиналия Хайдеггера на полях книги в этом месте:
«Но это бытие есть историческое бытие-в-мире» (56, 41 à). «Сущность»
этого сущего, присутствия (потому что хотя особенное, отмеченное су
щее, оно всегда рядом с сущим, в плотной среде сущего) заключается в
том, — странная сущность! — чтобы быть; и здесь надо опять заметить
исключительную особенность: не «чтобы быть, т. е. как можно надежнее
продолжать свое существование, как бы длить существование того ком
плекса, которое должно быть», — а быть просто, чтобы было бытие. По
тому что «что» об этом исключительном сущем, присутствии, сказать
нельзя, перечислив такой-то комплекс вещей: что определяется этим са-
28з
СЕМИНАР II.7
мым его бытием, экзистенцией. Опять — и на каждом шагу снова и сно
ва будет — риск заблудиться. Экзистенция в истории философии нали-
чествование чего-то, какой-то сущности. Здесь «экзистенция» в другом,
в кергегоровском смысле выхода того, что само по себе чистое присут
ствие, к тому, чтобы быть — быть как сказано в истории и в мире. Такая
важная фраза «Бытия и времени»: курсив, «„сущность" присутствия за
ключается в его экзистенции» (56, 42). Не надо раскладывать сущность
присутствия, сущность человека на свойства такого-то и такого-то на
блюдаемого сущего: посмотрим на сущность человека, разоблачим чело
века, если хотите: это разоблачение наоборот, оно обнаруживает, что че
рез всю ограниченность человека, через все его экономические и физиоло
гические и другие функции проходит как существо человека отношение к
бытию, одним которым человек по-настоящему только и занят. Для де
рева не стоит вопрос о том, чтобы ему, дереву, каждый раз чем-то быть:
оно уже и есть то, что оно есть, дерево. Нашему присутствию постоянно
важно и нужно, чтобы его, если можно так сказать, «сутствие», его бы
тие было при: бытие-вот, буквальный перевод Dasein, означает, что бы
тие должно быть вот, достичь явности, которая предполагается этим
указанием: бытие должно оказаться вот, существование должно ока
заться при, — опять опасность ошибки: не при «мне», а я сам как бытие
должен выйти из отвлечения, выступить, эк-зистировать.
Эк-зистирование сразу предполагает: какое. Оно может быть такое
или другое. Оно может быть. Оно может не быть. В возможностях, кото
рые тем шире, что не будучи сущим в ряду сущего присутствие не огра
ничено и в возможностях, можно ошибиться. Нет предписанного круга
экзистирования, в котором экзистирование было бы подлинное. Каждое
присутствие выбирает и решает тут само.
«Бытие и время» книга о мире: бытие здесь мир, мир не составленный
из частей, а то, в чем всё, как, например, в выражении «всё в мире». Всё в
мире — это «всё вообще», все абсолютно. Отношение присутствия к бы
тию развертывается в мире, оно внутримировое. Но ведь и дерево вну-
тримировое, оно внутри мира. И чемодан внутри мира, как белье вну
три чемодана. Любая вещь в этом смысле включена во что-то и в конеч
ном счете в мир; любую вещь можно определить через то, во что она
включена. Любая вещь соседствует с другой, которая тоже внутри мира,
как в коробке. Для присутствия бытие-в-мире означает что мир ему то,
с чем он имеет дело. Стул в комнате не означает, что стул стоит в отно
шениях с комнатой и ставит себе задачу отношения к ней; стул в комна-
284
22 ОКТЯБРЯ 1991
те, но возможно он имеет отношение сначала к нищете, что от нищеты
кроме стула в комнате ничего нет. Присутствием наоборот, сразу пред
полагается мир — присутствие если при чем-то, то при мире, с самого
начала относится к миру, ориентируется в нем, все отношения присут
ствия к вещам, и у присутствия могут быть отношения ко всем вещам
в мире, обусловлены его — именно его, т. е. захваченной — внутримир-
ностью. Человек не такой, что он есть независимо, независимая точка и
потом обнаруживает, что он в мире: присутствие и есть с самого нача
ла присутствие в мире, нужен мир, чтобы было присутствие в нем, что
раньше сказать нельзя. Из-за того, что мир для присутствия заранее уже
есть, для присутствия готовы — в его возможности
—
все мыслимые от
ношения со всем сущим и не-сущим в мире. Человек может быть захва
чен всем в мире, потому что с самого начала уже охвачен миром.
Мир — целый — открыт присутствию раньше, чем вещи в мире; ве
щи в мире присутствие познает в свете мира — а по -русски мы можем
сказать просто, вещи познает в свете, на свете, на свету, — и как утром
мы видим туман — поле
— лес
— потом
зарю, первое видим смутные
очертания всего этого и нельзя сказать, что видим свет, в котором все
это видим, так на свете — на свету — мы видим массу вещей, но света не
видим, видеть не можем и увидим его только после вещей другим зре
нием.
Присутствие имеет мир. Субъект познает свой объект? Тут субъект,
который близок к объекту как к самому себе и составлен объектом, и
познает, развертывая объект и себя. Ясно, как бесполезны тут эти тер
мины. Их спокойно можно оставить.
Внутримирность присутствия — которое с самого начала такое при
мире и в отношении к миру — это захваченность миром (82, 6ι). Мир
вызывает присутствие на ответ. Захваченное вызовом мира, присут
ствие напрасно старалось бы поэтому вторично, так сказать, увидеть
мир, составляя его картину из большого (или малого, все равно) знания
вещей, которые в мире: уже требовалось, уже было раннее отношение к
миру, из-за которого смогло быть познано то, что в мире.
Мир — черта самого присутствия (87, 64), присутствие имеет харак
тер мира. Не так, что мир — моя воля и представление, а так что я сам,
у кого воля и представление, имею волю и представление потому, что
имею отношение ко всему, в смысле мира. Мир поэтому априория (8γ,
65), но не в смысле кантовских априорий: субъект, у которого формы со
зерцания, если бы он имея форму созерцания пространства сам был по
285
СЕМИНАР II.7
самому своему существу заранее пространством, — но у Канта не так.
Присутствие мирское, или мировое, — если бы было слово, которое сое
диняло бы смысл открытого изначально миру.
В своем отношении к миру присутствие сразу разбрасывается на
то, что ему открывается в мире, в обращении с вещами, в орудовании
ими, манипулировании. Среди занятий человека есть познание мира.
Не нужно принимать это познание мира, которым занимаются профес
сионалы, за чистую монету: познание мира — это тоже то, обеспечен
ное ранним отношением к миру, орудование вещами мира, как заботы
пастуха о стаде или строителя о добывании стройматериалов: только
здесь обращение с вещами «культуры», понятиями, в том числе поня
тием мира, и концепциями, как слесарь обращается со своими инстру
ментами. Обеспечивающее саму возможность такой работы, первич
ное отношение присутствия к миру (в смысле: присутствие относится
к миру, как мы говорим, футбольный мяч относится к игре в футбол).
Присутствие имеет дело с миром. Этим изначальным, забытым делом
все встречающееся в мире заранее для человека делается орудием* то, че
рез что — что бы это ни было — человек проходит к «делу». Тем, что че
ловек мировое существо, он сделан существом, пользующимся оруди
ями — собственно орудие в той или иной мере для человека все. Вещи
по-гречески πράγματα, от «праксис», практика, делание. Вещи включе
ны в дело — всегда, и вещи-понятия, вещи-концепции точно так же как
пилы и молотки включены в дело, на которое вызван человек, миро
вое существо. Орудование орудиями распространяется широко: оруди
ем, средством, собственно, оказываются и такие далекие вещи, как лес
на берегу реки: средство восстановлении процента кислорода в возду
хе, средство удержания воды в почве, средство снабжения поселка дро
вами. Звезда средство знания о галактике, знание о галактике средство
обогащения астрономического знания, астрономическое знание сред
ство ориентации человека во вселенной, научная ориентация во вселен
ной средство обеспечения — как вообще наука — овладения природой,
природа средство поддержания жизнедеятельности человечества, под
держание жизнедеятельности человечества средство его духовного раз
вития, духовное развитие в свою очередь средство, скажем обогащения
культуры: человек имеет дело в мире, и это дело не ограничено, ему не
предписаны нормы. Если нравственные нормы самим себе человеком
предписываются — то и они средство поддержания его человечности,
и так далее.
286
22 ОКТЯБРЯ 1991
Способ бытия средств: они подручные. Не только подручные сред
ства — подручные, но средства (в том широком смысле, как я сказал) в
принципе подручные. Средство в той мере, в какой в нем присутствие
усматривает средство, оказываются и подручными: средство то, за что
можно взяться. Задолго до того, как сделаться средствами совсем до
ступными для орудования, вещи уже включены в высматривание под
ходов для их возможного применения, язык (слова) как имена вещей —
это издалека идущее примеривание к ним, угадывание этих средств для
того дела, которым захвачено присутствие. Простое фиксирование как
наличного — это уже первая прикидка к включению его в подручное.
Пока присутствие так орудует средствами — в широком смысле, ког
да очень сомнительно, что в его занятиях вообще есть что-нибудь кро
ме орудования средствами, когда, например, и его настроения для него
средства для более полного использования средств, когда оно подстраи
вает под то или другое свое настроение занятие теми или другими дела
ми, — для такого орудующего бытия в мире которое вроде бы целиком
поглощено вещами, как дает о себе знать, дает ли о себе знать мир? В не
ожиданном случае, не всегда (средство подводит), не тогда, когда при
сутствие полностью захвачено орудованием подручными средствами
(вы не забываете, что когда я конструирую философскую картину мира,
это тоже орудование подручными средствами), — а случай, когда бли
жайшее подручное средство оказывается неприменимым. Молоток, ко
торый я не глядя привычно брал в руку, вдруг не годится, когда мне надо
забить гвоздь в узком месте, куда молоток не проходит; понятие субъ
екта, которое я вводил в действие с такой же естественностью, бездум
ностью, как «стол», «стул», вдруг не годится, когда мои отношения с дру
гим становятся для меня очень важными: я почему-то не могу думать о
себе и о другом как о двух «субъектах». Вещь молоток, культурная вещь
субъект никуда не делись, они вот в наличии, но я вдруг к ним начинаю
присматриваться, как раньше не делал. Раньше я не замечал молоток, он
был слишком подручный, теперь он не подручный, он как прежде вот
он, в руках, но подручным средством вдруг быть перестал, я в растерян
ности смотрю на него и не получается прежнего привычного движе
ния, цель вот она, так легко раньше я ее достигал этим средством, оно
по-прежнему в руках, а средством быть перестало. Не только он не ра
ботает, но он мне, вот я держу его в руках, досадно мешает: он годился
для работы, теперь он годится чтобы его сердито отбросить: то, что бы
ло подручным средством, теперь мешается под рукой, оно уже не сред-
287
СЕМИНАР II.7
ство, что с ним стало? Я с ним как со средством расстаюсь, оно никуда
не делось, я даже из руки его не выпустил еще, по привычке держу — но
оно ушло, молоток странным образом — с ним что -то случилось — пе
рестал быть тем, чем все время был. Не молоток распался: распалось то,
что его составляло как средство, включенность в структуру моего заня
тия, моей озабоченной деятельности, где до сих пор естественно суще
ствовали направления «для чего», «куда»: вот эти направления, на-зна -
чения средств, которые указывали собой на другие, на то, к чему они, в
одном звене нарушились, — может быть, не только в одном звене. Рань
ше, когда все шло хорошо, не было надобности вглядываться в средство,
молоток, ни в то, на что он сам собой для применяющего указывал, —
указывал на удобность его рукоятки, на точку своего применения. Ког
да средство оказалось негодным, вдруг и оно само, и структура указыва-
ний в которую было включено средство, перестают быть незаметными,
подлежат пересмотру, и в пересмотр включается вся система, внутри ко
торой проходила деятельность обращения со средствами, весь верстак
или вся система понятий, куда входило понятие субъект, вдруг подлежат
пересмотру. В этом обращении внимания на весь круг средств, орудова-
ние с которыми раньше не требовало такого охвата, в моем внимании
впервые появляется целое, куда включено было средство и мое орудо-
вание им: в случае молотка целый набор моих инструментов, в случае с
понятием «субъект» круг общекультурных концепций, может быть весь
полностью; в случае, когда человек, просто входивший в мое окружение,
вдруг перестает быть «одним из», — во всех этих случаях вдруг дает о се
бе знать целое, с которым я имею дело, в конечном счете — целое мира.
Другой пример: молоток пропал; именно когда пропал, он стал заме
тен, как никогда раньше, на его месте пустота, осмотр рабочего места
снова и снова упирается в эту пустоту и впервые молоток явственно,
убедительно показывает себя, свое «для чего» и свое «как»: они так яв
ственно присутствуют, совершенно отчетливо, как никогда, видно, для
чего это средство, молоток, явственно же тоже видно, как его включить
нужно было бы, можно было бы в контекст орудования, но — молот
ка нет, не только как подручного, но и как наличного. — Мир тут дает о
себе знать: он не сумма вещей, а то целое структуры отношений «к че
му» и «для чего», в которое включено, втянуто или только еще издале
ка готовится к включению, втягиванию все, с чем присутствие имеет де
ло в мире. В случае с молотком одновременно мир, пусть маленький мир
строительной заботы в тот самый момент, когда молоток оказался не-
288
22 ОКТЯБРЯ 1991
годным средством, высвечивается как именно мир, как целое связи от
ношений, и одновременно же молоток выпадает из этого мира, стано
вится вдруг неизвестно чем, в нем обнаруживается только наличность.
Чтобы молоток оставался внутри мира, опять же маленького окружаю
щего мира строительной заботы, он должен не подвергаться пересмо
тру, в философском смысле — не должен тематизироватъся. Так поня
тие «субъект», как только оказывается темой, предметом рассмотрения,
выключается из целого, из круга культурных понятий; так человек мо
жет перестать быть одним из, — и сразу, одновременно с этим, целое, в
которое раньше молоток, понятие, человек были включены, становится
заметно, дает о себе знать. Мир, целое не должен давать о себе знать как
целое, чтобы подручное могло оставаться в своей неприметной подруч-
ности, удобности легко применяемого средства.
Черты подручного, подручного средства соответственно вот эти, они
выражаются привативно: неприметность, ненавязчивость, невмеша
тельство. Но и мир в целом имеет такие же черты доверительности, сво
его. Что это означает, что доступность того, что внутри мира, само со
бой разумеется, и помехи здесь мы встречаем как нарушающее течение
вещей? Рано спешить с ответом, надо вглядеться в структуры, которые
здесь открываются. Подручное средство, мы уже видели, создано не сво
ей наличностью, а связью, в которую включено нашим орудованием в
мире. Средство создано своим назначением. Оно включено в структуру
указывания, отсылания. Одно отсылает к другому. Надо вглядеться в фе
номен этого отсылания, указывания. Есть средство, специально служа
щее для отсылания и указывания: знак. Самое всеобщее, универсальное
в знаке: он устанавливает отношение. Указывание — это отнесение . Знак
имеет происхождение не в отношении, — не всякое отношение знак, —
а в том целом, где отношения включены в совокупность того, что име
ет смысл средства. Знак средство, и преимущественное, оно средство для
обращения со средствами, для включения средств в практическое целое.
На автомобилях времен Хайдеггера были только что поставлены крас
ные стрелки, поворотом которых водитель показывал, направо, налево
или прямо он собирается ехать. Поворот стрелки знак поворота маши
ны? Но можно ли сказать, что знак служит для указания поворота ма
шины? Анализ тут не доведен до конца. Знак служит для того, чтобы пе
реход остановился или шел дальше, чтобы другая машина остановилась
или шла дальше. Назначение знака не в том, чтобы описать мир и его
процессы: назначение знака — в характере внутримирового существо-
19-2015
289
СЕМИНАР II.7
вания нашего человеческого присутствия: это присутствие всегда в свя
зи, всегда в отношении, всегда нуждается в ориентировании — и описа
ние мира, указание ему, присутствию, заранее требуется вовсе не для це
лей описания, а для целей ориентирования в том, во что при-сутствие
заранее уже включено. Идея информирования просто для информиро
вания поэтому пуста, знак в своем существе средство не информиро
вания, а направления движения, которое в присутствии как отношении
есть раньше, чем оно ориентировано или информировано. Знак поэто
му средство исключительное, отмеченное: он обо-значает, обозначива-
ет структуру пространства, в котором движется присутствие, т. е . раз
мечает эту структуру. Определение знака: он то подручное сущее (т. е.
имеющее онтический смысл, относится к ряду сущего, а не бытия), кото
рое в качестве определенного средства одновременного функционирует
так, что указывает на онтологическую (т. е. в свете бытия и его смысла)
структуру подручного и его системы, системы отсылок и их совокупно
сти и совокупности мира (но, 82). Этим подручное средство, знак, отме
чено, выделено среди окружающего мира, очерченного смотрением и за
ботой человеческого присутствия: знак выделен тем, что он не просто
средство, а указывающее средство — указывает места другим средствам.
Само по себе средство не потому средство, что оно по своему существу
имеет как наличное в мире свойство средства. В камне ничто само по
себе не говорит, что им можно пользоваться как молотком или как ги
рей на весах, когда нет фабричной гири. Камень должен быть включен в
структуру обращения присутствия с вещами. Это — вещь включенная
в эту структуру как средство — обозначается знаком, но знак не перви
чен: ему предшествует что-то . Что именно.
Назовем пока совсем условно: включенностью. Вещь включена в
структуру — это сделало ее средством, в широком смысле. Структуры
могут быть разных уровней, более подробные и развернутые и пока еще
только едва наметившиеся. Структура структур, имеющая место уже
тогда, когда не произошла разметка каких бы то ни было структур (тут
можно подумать о ребенке, или о человек, появившемся в совершенно
незнакомом мире) — это мир. Включенность в мир опережает и обеспе
чивает — уже этого касались — всякую другую включенность. Благода
ря преданности мира — мира, который не тематизируется, т. е . просто
не замечен, — все, что внутри мира, заранее предоставлено для освое
ния, может быть освоено, — такое, что может быть освоено. То, что вну
три мира, предоставлено для обращения с ним, отдано для того, чтобы
290
22 ОКТЯБРЯ 1991
как-то обходиться с ним. Разница между онтическим и онтологическим:
само включенное в эту структуру сущее оптическое, оно сущее в ряду
сущих; включенность — онтологическая, в ней сказывается бытие, да
ет о себе знать бытие, потому что включенность предопределена харак
тером — сущностным — присутствия, его эк-зистенцией, выступанием
к бытию, или, что то же, мы говорили, его отношением к миру. — Вклю
ченность сущего в дело присутствия, обеспеченная изначально данным
отношением присутствия к миру, предполагает понятость этого суще
го. Понятость предполагает понимание. Пониманием мира все, что в
мире, включено в экзистирование присутствия, в его отношение к бы
тию. Понимание это, опять же, не теоретическое, его параметры — это
«для чего» обращения с вещами и «чем» этого обращения. — Понима
ние, этот феномен открытости мира, так важно, что к нему придется еще
вернуться. Понимание — горизонт внутримировых структур, условие
раскрытия всякого сущего. Раскрытие чему? Присутствию. Но одновре
менно, сразу с этим раскрытием и присутствие ввязано в раскрытие, оно
не царственный распорядитель открывшегося, оно в своем бытии обре
чено — не в мистическом, смысле — на это раскрытие, очерчено им. По
сле того, как присутствие ввязалось в раскрытие мира, оно постепенно
разметит его знаками, в этой разметке — задатки слова и языка. Марги
налия к этому месту, редкая, чуть ли не единственная: резкая. «Неверно,
язык не надстроен, но он есть исходное существо истины как вот, как
данности» (и7, 87 с). Т . е . сначала было сказано, в тексте книги стоит, что
язык зависит от того, как сложится понимание и истолкование вещей
внутри мира у присутствия. Потом приписано: ничего подобного, не за
висит: язык в своем существе и есть тот свет, в котором присутствие на
чинает понимать свой мир, язык то вот, тот просвет, с которого начина
ется всякое видение. Кто прав, автор книги или он же написавший эту
приписку на полях?
Есть язык и есть даже целая языковая политика, государственная,
которая хочет, чтобы язык был фиксацией сложившейся практики, при
нятого обращения с вещами. Об этом языке Хайдеггер прав. — Другое
дело, можно ли называть его языком, не знаковая ли он система. Не су
ществует ли он потому, что слово имеет для себя другое, более надежное
основание, его основание то же, что всего: событие.
Мир событие. Пространство? Да. Пространство вокруг декартовское:
мир? Нет: пространство наше — инструмент овладения миром, сред
ство опять. Оно — эпизод в том пространстве, в которое мы втянуты
19*
291
СЕМИНАР II.7
нашей эк-зистенцией. То пространство, мира — между нашим присут
ствием и полнотой бытия, между бытием и ничто.
Подручное, средство — уже имеет пространственную характеристи
ку: оно вблизи, близко. Понятие античность, ее картина: близко как
то, чем работает историк философии. Он схватывается за него в спо
ре. «Центр» для глубинки: к километрам отношения не имеет, чем даль
ше от центра, тем ближе к нему; а человек, который очень близко к цен
тру, может быть далек — как диссертантка, которая не могла защитить
ся, потому что надо было отнести экземпляр автореферата в ЦК: это
расстояние для москвички оказалось непроходимым.
«Подальше положишь — поближе возьмешь».
II.8
29.10 .1991
Близость и даль. Они измеряются в километрах, в сантиметрах, в све
товых годах внутри декартовского пространства. В пространстве эк
зистенции пространство измеряется, не по эталону, хранящемуся в
подземелье в Париже, а по той «близости» или «далекости», которые
свойственны средству. Средство по своему существу имеет свойство
подручности; подручность предполагает близость, далекое — то, что не
относится к ближайшим средствам или что не относится к средствам
вообще.
Продолжается работа, феномено-логическая работа вглядывания в
то, как составлено, как существует сущее, имеющее исключительное от
ношение к бытию, — присутствие. Два замечания. Первое: ничего по
добного тому, что мы в результате этой работы раскусим что-то вроде
«явления человека», окончательно выясним что он такое и кто он та
кой, — не потому, что философия этого не может, если что-то это и мо
жет, то философия, а потому, что цель философии вовсе не что-то окон
чательно прояснить и встать из-за стола и решительно перейти к делу,
от описания мира перейти к переделке его и к перестройке потом сде
ланного. Все равно конца этой переделке и перестройке не будет, кроме
уничтожения — и уже от нехватки терпения, а главное, от раздражения,
что обещанного никак не удается дать, кто-то уже и готов для уничтоже
ния. Философия не имеет целью что-то окончательно прояснить, пото
му что она не интеллектуальное занятие: она возвращение мира или воз
вращение к миру — вы скажете, какое возвращение к миру, мы уже
там, — нет мы не там, мы заслонены от мира или мир заслонен от нас
картиной и картинами мира, видеть сам мир мы еще только начинаем и
это нам трудно. Мир настоящий вовсе не такой, какой нам кажется, тес
ный, старый, погибающий: мир очень большой и он краев не имеет, не в
смысле дурной бесконечности галактик и метагалактик, а в том смысле,
который открывает философия, розановское понимание, аристотелев
ское видение: они в себе та полнота, которая не средство для целей и не
наметка издали целей. — Каждый шаг феномено-логии, которой занят
Хайдеггер в своей аналитике присутствия, призван не закрыть пробле
му, раз навсегда описав структуру бытия-в -мире, а открыть простран-
293
СЕМИНАР II.8
ство мира — то пространство, внутри которого развертывается эк-зи-
стенция присутствия, т. е. внутри которого присутствие может осуще
ствиться как историческое бытие. Т. е. аналитика эк -зистенциалов и не
полная, и не окончательная; она не система, а путь, или даже много пу
тей, потому что в каждом месте, к которому приступает анализ, намеча
ется один и тот же путь, путь к бытию и к миру. — Второе замечание. Вы
не забудете, что термин «присутствие» для существа человека вдвойне
условный, и потому, что в русском надо было бы иметь целый набор воз
можных соответствий, здесь-бытие, здешнее бытие, бытие-вот, наше бы
тие, человеческое бытие, существование; и во-вторых, даже само немец
кое слово Dasein рабочее, временное пристанище для мысли, это не сло
во того языка, который дом бытия. Dasein не останется ни главным
словом хайдеггеровской мысли, и даже вообще оно перестанет быть его
словом. Это станция на пути, где важно не расположиться навсегда, где
важно, однако, собраться и может быть уложить все по-новому, от чего-
то отказаться, чтобы двигаться дальше. В 1988 г. вышли вторым исправ
ленным изданием в ПСС «Пролегомены к истории понятия времени»,
это курс, прочитанный в Марбурге — еще до приглашения во Фрейбург
занять кафедру Гуссерля — в летний семестр 1925 года. То, что мы с вами
читали в прошлом году, — наброски Бытия и времени; курс, лета 1925 г.,
можно назвать предпоследней редакцией: иногда это уже окончатель
ный вариант. «Бытие и время», в этом движении мысли, — то же, что
стоп-кадр в фильме, он позволяет вглядеться подробно во все детали, но
будет совсем нехорошо, если мы забудем, что стоп-кадр вырван из филь
ма, он теряет тогда смысл. — Что это за ступень, 1926-27 год в этом дви
жении? Хайдеггер весь в языке метафизики — и уже ставит вопрос о ме
тафизике, следующей большой работой после «Бытия и времени» будет
«Кант и проблема метафизики». Он не может расстаться с традицион
ным языком метафизики, он должен еще рассчитаться с ним, не в смыс
ле расправиться, а в смысле отдать ему должное и не уступить его мо
щи, размаху и силе в новом слове, которое он уже слышит, новое слово
мысли, новое слово человеческой истории, которое Хайдеггер скажет,
вернее, которое скажет-ся через него. Эта обязанность отчитаться пе
ред традицией будет выполнена им добросовестно, тщательно, и еще
очень не скоро, никак не с написанием «Бытия и времени», он будет счи
тать эту задачу выполненной. Другу психологу Медарду Боссу рассказы
вает повторяющийся сон: он в гимназии, те же профессора, как и на вы
пускном экзамене, спрашивают его, он должен хорошо ответить. Этот
294
29 ОКТЯБРЯ 1991
повторяющийся сон прошел, когда Хайдеггер наяву сумел осмыслить
бытие в свете события; тогда только кончился экзамен и отчет, тогда
только он мог получить «аттестат зрелости» в мысли. Книга о собы
тии — это 1939 год. Лежала в столе 50 лет, — для Хайдеггера это очень
обычная вещь, — опубликована в 1989 году, посмертно. Теперь: четверть
века, даже больше, после «Бытия и времени», 1953 год, письмо тоже Ме-
дарду Боссу 28.10.1953* «Вы верно догадались, мой мюнхенский доклад
<«Вопрос о технике»> и связанная с ним переписка с Гейзенбергом меня
взяли в крутой оборот... Часто я обнаруживаю, что я сейчас неким об
разом ушел так далеко, что уже начинаю думать правильным образом»
1
.
Через десять лет, в письме к тому же человеку: вся его задача в том, что
бы «разбудить чутье к простоте» (это письмо 6.5 .1963 из Фрейбурга)
2
.
Еще через десять лет, сентябрь 1973 года, семинар — последний, кажется,
хайдеггеровский семинар — в Церингене
3
, это район Фрейбурга, где го
родской дом Хайдеггера. Меньше чем за три года до смерти. Хайдеггер
много говорит о «Бытии и времени», и снова, оказывается, нужно пояс
нять, что такое Dasein. Прочитаю из этого позднего семинара. Это запи
санный, стенографированный участниками текст. В «Бытии и времени»,
вспоминает Хайдеггер, о сознании уже не говорится. Оно просто ото
двинуто в сторону — для Гуссерля это был скандал! Вместо «сознания»
мы находим Dasein, здесь-бытие, бытие вот, присутствие. Потому что со
знание не первично. Сознание по-немецки Be-wußt-sein от wissen знать,
но знать в смысле ведать. Как ведатьу как древнеиндийское Веда, так не
мецкое wissen, как древнегреческое οίδα знаю — происходят от видеть.
Чтобы со-знание, Bewußtsein, возникло и развернулось, нужно, чтобы
была уже оче-видность, открытость того, что можно видеть, ясность.
Она дается не зрением, у собаки есть зрение, но нет сознания; у слепого
нет зрения, но есть сознание. Ясность, «видимость» — от того, что вещи
мне открыты, что я могу достичь вещей, собака видит тарелку и не доби
рается до тарелки как таковой; слепой не видит тарелку, но тарелка как
предмет для него ясна. Есть пространство мира для человека, внутри ко
торого вещи открыты, расположены. Присутствующие на церингенском
семинаре записывают: «Это вот пребывание-в-открытом-просторе и
есть то, что „Бытие и время", совершенно неловко и беспомощно, ganz
1. M. Heidegger, Zollikoner Seminare, hrsg. von Medard Boss, Frankfurt am Main: Kloster
mann, 1987, S. 308,310.
2. Ibid, S. 329.
3. GAy Bd. 15.
295
СЕМИНАР II.8
ungeschickt und unbeholfen, называет Dasein»
1
. И там же: Dasein надо по
нимать как «бытие-просветом», die-Lichtung-sein, Da, вот, как die Lich
tung, просвет. — Я еще прочту из этого последнего церингенского семи
нара, но сначала: к чему в своем немецком языке пробивается Хайдег-
гер, насколько его движение — это возвращение к предельной простоте.
Одно из этимологических объяснений древнеиндийского гЙЗ> [loka] мир,
слово того же корня, что латинское lux свет — c^F это просвет, выру
бленное место в лесу, отсюда мир человека. — Дальше у Хайдеггера: das
Da буквально «вот» — название открытого простора. — Семинар в пят
ницу 7-9-1973 имел тему: какое отношение существует между сознанием,
Bewußtsein, и бытием-вот, присутствием, Dasein. Присутствие здесь —
бытие-в-качестве-Вот-открытого-простора. Сознание связано с Я, оно
имманентно субъекту (не разбираем вопрос, существует ли субъект как
вещь или это культурный конструкт). Сознание, развитое субъектом,
размещает все внутри себя. В «Бытии и времени» «вещь» имеет себе ме
сто уже не в сознании, а в пространстве мира, которое не имманентно
сознанию. Гуссерль никогда не выходит из пространства сознания. Чер
нильница как предмет дана сознанию, как предмет она схвачена катего
риальным созерцанием — тем восприятием, которое до всякого воспри
ятия. «Бытие и время»: никаких «категорий», «материй»: есть мир, есть
вещь, они не в сознании, они, так сказать, «на улице», «снаружи».
Вещь — там снаружи уже есть; мир — он уже есть. Присутствие, Dasein
поэтому своей сущностью имеет эк-зистенцию, выход на улицу, наружу,
не в том смысле, что у человека есть слои, более глубокие и более по
верхностные и надо перейти от одних к другим, а — просто: присут
ствие как просвет и есть открытость для вещей, отношение к вещам и к
миру. Бытие присутствия — это эк -зистенция, выступание из имма
нентности сознания. Та область, в которой мы можем встретиться с ве
щами, — эта область одновременно и возможность для вещи обозна
читься как она есть вовне. Эк-зистенция имеет этот смысл прорыва им-
маненции, круга представлений сознания.
Но, говорит Хайдеггер в Церингене, теперь и об экзистенции он бы
уже не сказал, а о стоянии в просвете, о хранении и вынесении бытия.
Стоя в просвете, человек уже не через посредство представления, а ли
цом к лицу встречается с тем, или с кем, что или кто есть. Отпала про
слойка, подсунутая сознанием. Пример: когда я вспоминаю Рене Шара в
ι. М . Heidegger,Zollikoner Seminare..., S. 380 .
296
29 ОКТЯБРЯ 1991
Ле Бюскла, что мне при этом дано? Сам Рене Шар! А не Бог знает какой
«образ», через который я опосредованно имею к нему отношение. — Но
Рене Шара нет в голове Хайдеггера лично или перед его лицом? Неваж
но! Все равно именно он сам присутствует для него при воспоминании
так, как присутствует, как возможно присутствовать на отдалении, а не
представление. Надо разобраться кто подставил внушил подсунул пред
ставление о том, что мы имеем дело не с вещами, а с представлениями
вещей. Кто поставил загнал нас в этот тупик сознания и его представле
ний — безысходный тупик потому, что если только допустить, что в вос
поминании мы имеем не самого человека, не саму вещь, а образ-пред
ставление, то и при встрече с ним я тоже буду иметь сумму зрительных
впечатлений, т. е. представление, и до человека никогда не доберусь. Кто
иссушил нас, заставил вещи раздвоиться на сами вещи, до которых мы
никогда не доберемся теперь по сути дела, и представления-идеи-обра
зы их в сознании?
Еще из этих последних слов Хайдеггера. Возвращение к такой про
стоте, что в высшей степени трудно дать понять это философски. Вы
браться, выкарабкаться из области сознания и добраться до бытия-вот,
до присутствия. Не перетасовывать еще и еще раз груду содержаний со
знания. Понять, что человек, понятый как Dasein, бытие-в -качестве-вот,
присутствие, т. е. в плане эк-статики (от статики пред-ставления выход
«на улицу»), — человек существует только постольку, поскольку от са
мого себя приходит к чему-то совершенно другому, чем он сам, — к то
му, что называется просветом бытия. — Этот просвет человек не создал,
просвет человека вызвал, послан ему как весть (вещь-весть). Это значит,
что человек стоя в середине просвета бытия, будучи среди присутству
ющих вещей единственным самим по себе присутствием, — все равно
не центральное, его сердцевина — не он. Не было бы человека, если бы
не было вызова мира.
Под рукой у Хайдеггера, в эту пятницу 7-9
л
973> лежал Маркс, он от
крыл «К критике гегелевской философии права» и прочитал из Маркса:
«Быть радикальным — значит схватить вещи в корне <радикал от radix,
кореньх Для человека же корнем является сам человек»
1
. Человек — об
щественный человек — собственно и должен заняться главным обра
зом человеком. Это — философия производства общества обществом.
Тут суть марксизма. Поскольку марксизм мысль о человеке, он совре-
1. Ibid., S. 393·
297
СЕМИНАР II.8
менная мысль, потому что в современности господствует сапомостанов-
ка, самоустановление человека и общества. Смею предположить, сказал
Хайдеггер, что самоустановка, самопроизводство человека производит
опасность саморазрушения.
Вот последнее слово Хайдеггера: человек ощущал себя в броне танка,
перед враждебным и во всяком случае чужим миром — но он не должен
бояться выйти на улицу, наружу, draußen. Доверяй улице, не замыкай се
бя в одиночестве. Выйди на улицу и, собственно, не уходи обратно: по
тому что и твой дом тогда перестанет быть камерой, он станет другим,
открытым.
И еще тогда, в 1973 г. Из-за того, что человек должен построить сам се
бя, и это трудно, дело самопостроения развертывается во времени, появ
ляется навязчивая гонка прогресса. Производства. По-став — это собра
ние всех способов доставления. Сознание царило давно, оно поставило
все перед человеком как представление сознания; оно окончательно тре
бует себе прав и власти теперь, когда то, что раньше было относительно
безобидным предметом представления, теперь должно стать предметом
поставления. Когда-то вещи превратились в предметы представления;
теперь они превращаются в «предметы потребления».
Продолжает читать Маркса \ После слов о «корне человека — челове
ке» у Маркса стоит: «Критика религии завершается тем учением, что че
ловек есть высшее существо для человека». Заметьте странный прыжок
Маркса. В его выкладках не хватает звена. В самом деле: «Быть радикаль
ным значит схватывать вещи в корне. Для человека же корень есть сам
человек». Здесь не хватает промежуточной мысли, для переходя от пер
вой фразе ко второй. Эта мысль подразумевается: человек и есть то, о
чем идет дело. Для Маркса заранее решено, что человек и только чело
век, ничто другое, — главное дело. Откуда это решено? Каким образом
получено решение? С каким правом? От какой власти?
В «Бытии и времени» — возвращение к началу, к тому, что делает че
ловека человеком, — хотя и неловкое возвращение, и, строго говоря,
наивное, путем деструкции т. е. распутывания, разбора всего того, что в
непрерывной череде превращений^ которую видим в истории философии,
предлагает себя как бытие. — Вот что говорил автор о «Бытии и време
ни» позднее.
Ни в коем случае не понимать как новую технику обращения с чело-
1. М . Heidegger,Zollikoner Seminare..., S. 393 ·
298
29 ОКТЯБРЯ 1991
веком, трактовку его отношения к миру. Структура бытия-в-мире — не
описание вещи, как и человек не вещь, присутствие не вещь. Это стан
ция на пути — к миру, к вещам, на том пути, на котором сорвался Со
ловьев, поспешив назвать опыт мира всеединством и поспешив создать
систему, что заставило его потом, в «Теоретической философии», взять
назад из сказанного им раньше больше, чем надо было. — Внутри «Бы
тия и времени» много раз перемещается взгляд, постоянным остается
одно: отношение человеческого присутствия к миру, не в том смысле,
что человек формирует свое отношение к миру, а что он с самого нача
ла относится к миру, в его существо входит исходной, основной чертой
вхождение в мир.
Мы остановились на том, что это исходное отношение к миру растя
гивает между сторонами отношения пространство, не декартовское, по
сле чего все, с чем человек имеет дело внутри мира, располагается вну
три пространства. Особенность расстояний, отстояний внутри этого
пространства вот какая: поскольку они размечены обращением присут
ствия к вещам, каждый раз включаемым в озабоченный обзор их и при
менение их, — по-гречески можно было бы проще сказать, что положе
ние вещей, прагмата, определяется из праксис, практики, как включен
ные в которую прагмата и стали тем, что они есть, прагмата, буквально
то что подлежит практике, — то расстояния до вещей не постоянные,
присутствие не может вращаться среди вещей, не изменяя расстояние
до них. Пример: первый раз дорога до незнакомого места кажется длин
нее, чем второй раз, до уже знакомого, и она каждый раз будет оказы
ваться разной, до тех пор, пока движение не станет механическим, т. е.
как раз выпадет из отношения к бытию, утратит онтологическое изме
рение, в нем останется только онтическая сторона, или, как еще говорит
Хайдеггер, соразмерности с человеческим присутствием уже не будет.
Мир, которым захвачено человеческое бытие (я буду позволять се
бе в разное время все варианты русской передачи Dasein, которые у ме
ня были, — человеческое бытие, существование, наше бытие, данное бы
тие, это-вот-бытие, бытие-вот, но главным образом все-таки присут
ствие), — это только вещи? Нет: как с вещами со-существуют другие
вещи, так с присутствием со-присутствуют другие. В мире человеческо
го присутствия не только средства и вещи, не только то, что подручно, и
то, что налично: другое присутствие — о нем нельзя сказать, ни что оно
подручно, и что оно просто налично: оно тоже присутствует, со-присут-
ствует. В каком-то смысле, если мир отождествляется с внутримировы-
299
СЕМИНАР II.8
ми вещами, то мир — тоже присутствие, Welt ist auch Dasein (158, 118).
Я позволю себе развить это место, уверенный, что я следую мысли Хай-
деггера. Мы помним: присутствие — всегда мое. Здесь не так, что раз оно
принадлежит мне, субъекту, то оно и мое, а так, что присутствие имеет
характер моего, оно задевает меня, кто бы я ни был — сейчас Хайдег-
гер займется разбором, кто такой я. Другие присутствия задевают ме
ня не меньше, чем мое. Мир, который, как здесь сказано, тоже в каком-то
смысле присутствие, поэтому всегда мой, он меня касается; я не в состо
янии, когда, даже когда, мир мне чужой, не принимать эту чужесть, хо
лодность мира как меня касающуюся: что мой мир мне чужой: я не могу,
раз мир стал мне чужим, от него отвернуться. Присутствие всегда мое;
мир присутствие; мир всегда мой.
Вернемся к Хайдеггеру. Мир присутствия, поскольку он разделен
между присутствиями другими, Mitwelt, «со-мир» (i59> 118). Бытие в этом
мире — это со -существование с другими, со-присутствие. То, что Хай-
деггер пытается сказать образованием Mitwelt, и формулой «мир тоже
присутствие», то в русском языке сказано одним из значений слова мир:
раньше, но отчасти и теперь еще тоже, мир значит «общество». Это мож
но понять так: существо человека, присутствие, относится к миру, в
смысле — по-своему включает его в себя. Конечно, ограниченным обра
зом. Эта ограниченность снимается в обществе. Об обществе с большим
правом, возможно, с полным правом можно сказать, что оно мир.
Когда говорится, что присутствие всегда мое, то, вот это важно и здесь
открывается удивительная перспектива, и чтобы ее разобрать, лучше на
чать с того, что кажется: Я кажется владельцем тела, духа и его свойств,
инстанцией, которая принимает решения, поступает или не поступает.
Среди всего этого у Я есть бытие: Я не то же самое, что бытие. Но оказы
вается что Я в самом себе не постоянно: «я стал другой»; «я теперь так
бы не поступил», говорятся эти и еще подобные вещи. Я таким образом
меняется на протяжении одной жизни. Но еще больше: я меняется в за
висимости от того, на кого ориентируется, от того, что в психологии на
зывается референтной группой. Это легко видеть у детей — уже, кото
рые отождествляют себя с родителями, родственниками, другими деть
ми, у подростков, делающих свое Я, у взрослых тоже. Обнаруживается
удивительное дело: существо человека, бытие-вот, всегда состоящее как
было сказано в отношении к миру и в ходе это отношения расклады
вающее вокруг себя структуру своих занятий с внутримировыми веща
ми, и эту вещь, Я, тоже располагает из себя, исходя из завязанных им от-
зоо
29 ОКТЯБРЯ 1991
ношений. Хайдеггер приводит пример из Гумбольдта, который — зна
ток всех главных мировых языковых семейств — описывает языки, где
местоимение Я производно из «здесь», Ты — из «вот», Он — из «там».
«Здесь», «вот» и «там» — не координаты в абстрактном пространстве,
они относятся к исходной пространственности присутствия. К его рас
положению внутри мира, когда «здесь» и «там» обозначают разные сте
пени близости: большую близость присутствия к самому себе и мень
шую близость к нему другого. Не присутствие принадлежит какому-
то штатному Я, а наоборот: Я это один из моментов присутствия, даже
можно сказать — один из приемов его, один из его способов отношения
к миру. Присутствие называет себя Я (возможно, как в случае, который
наблюдал Гумбольдт, исходно понимая под Я «то, что здесь»), чтобы та
ким образом наметить свое отношение к другим. Мое бытие — мое, но
я сам — момент в развертывании этого бытия, вторичное образование
вокруг первичных, исходных бытийных структур. Поэтому Я меняется в
самом себе и обменивается — это бывает гораздо чаще, чем мы замеча
ем — на другие Я и на Я других: потому что вот-это -бытие, присутствие
нуждается в обозначениях для своих от-ношений. Присутствие приме
няет эти обозначения, эти средства — Я, Ты, Он, — а не привязано к
ним. Поэтому вместо Я и Ты может быть и Мы, и Он, и Ты; вместо Ты —
и Вы, и Они; и Он и Ты может быть Я, когда говорят, Ты, Он мой друг,
мое второе Я.
Присутствие всегда со-присутствие — не потому даже, что рядом с
человеком оказываются другие люди: даже если бы не оказались, вся
кое присутствие по существу, ввиду своего отношения к миру — с само
го начала со-присутствие, и отсюда — чувство одиночества у одиноко
го: одиночество — один из модусов, привативный модус соприсутствия,
когда на месте тех, с кем присутствие, пустое, незанятое место. — Во вся
ком случае — как должно было быть известно русскому языку — захва-
ченность присутствия миром как присутствием, захваченность присут
ствия другим присутствием первоначальна, опережает всё то, что кон
струируется, планируется, осуществляется в виде поощрения общения
между людьми, укрепления социальных и внутригосударственных свя
зей и т. д.: крайнее обособление, изоляционизм, индивидуализм может
говорить о крайней интенсивности соприсутствия; наоборот, культи
вирование форм общительности может быть способом укрыться, убе
жать от того слишком прямого, слишком захваченного общения присут
ствий, каким оно с самого начала, ввиду принадлежности присутствия к
301
СЕМИНАР II.8
миру, бывает (во всех трех главных смыслах этого русского слова, кото
рое здесь опять лучше немецких соответствий). Поскольку присутствие
вообще есть, оно при-сутствие: его способ бытия — со-присутствие.
Вызывающее безразличие к другим, готовность и способность обойтись
без них — это подчеркнутые, маркированные виды со-присутствия.
Они остаются стало быть видами со-присутствия. Но они одновре
менно показывают: присутствие не знает себя, уходит или, вернее, си
лится уйти от себя, от своего существа — отношения. То же самое, если
не в большей мере, когда присутствие начинает культивировать коллек
тивизм, общительность, формы тесного и частого контакта с другими.
Опять: это свидетельство, что присутствие не знает себя, не знает, до
какой степени его существом с самого начала уже была связь с други
ми. Или еще: когда присутствие культивирует Я и переносит в форми
руемое Я центр тяжести. Все это — что на самом деле так часто быва
ет, чаще всего и бывает, — говорит о том, что присутствие почти ни
когда, очень редко, — или, сказать по-другому, что присутствию очень
трудно быть собой, отдать себя самому себе. Оно отдает себя — ему это
просто сделать, потому что оно чистое присутствие, не содержание, а ме
сто («вот», просвет), — оно отдает себя, думая, что так себя осущест
вляет, не себе: или, еще вернее, ему крайне трудно прийти к себе, най
ти себя, найти на себя: как с самого начала оно есть то, что оно есть, от
ношение к целому миру и к другим, так же ему и после самого большого
труда [не] удается прийти к этому существу. Не зная настоящей меры
своего со-присутствия, своего отношения к миру, миру который и мир
присутствия, — присутствие оказывается зависимо от мира: как раз по
тому что не замечает меры своей захваченности другими, попадает под
власть других, но только каких других? Так же неузнанных, как присут
ствие не узнало себя. Неузнанные другие, под власть которых попадает
присутствие, — Хайдеггер называет их термином люди, das Man. «Люди»
живут, устраиваются, ездят на метро и такси, пишут и читают газеты,
люди вовсю действуют и преуспевают кругом. У людей как-то все удает
ся, или наоборот, люди живут совершенно неправильно, но и в этохМ слу
чае они норма, все равно так или иначе надо жить как люди-, у неудачни
ка все не как у людей. Кто такие люди? Вот эти десять человек, которые
идут по другой стороне улицы? Мои знакомые? Жители Москвы? Нет:
«люди» неуловимы, на них никогда нельзя написать список, — и из -за
своей неуловимости, нефиксируемости они становятся тем более власт
ными. Надо зарабатывать, как люди зарабатывают; живут же люди, на-
302
29 ОКТЯБРЯ 1991
до же ведь и мне тоже хоть как-то за ними успеть; что люди читают, что
они смотрят, — и люди умеют держаться, люди умеют поставить себя,
люди следят за собой, так и нам тоже надо так же уметь поставить себя.
Мы можем и не говорить себе так, этими словами: «живи, как люди жи
вут»; все равно какие-то «люди» стоят над нами и диктуют нам, как надо
себя вести. Бог знает чем мы тут сидим в этой аудитории занимаемся; а
люди изучают правильную, настоящую философию, или не эту прогнив
шую западную философию, а прекрасную восточную, или что-нибудь
еще люди изучают и делают и у них все получается, как у людей, а мы тут
блуждаем в потемках и пытаемся найти себе какие-то пути, хотя посмо
трите, как у людей всё просто и ясно, а у нас, наоборот, все как-то не как
у людей. И не надо высовываться, надо держаться «золотой середины»,
как люди умеют держаться. Интересно, что равнение на людей распро
страняем мы далеко не только на нас самих; даже наоборот, себя мы еще
не сразу можем взять в руки, еще долго у нас как-то все идет не как у лю
дей, но вот у другого, как только мы замечаем в нем что-то не вписыва
ющееся, мы обращаем на него внимание и самое пристальное. Т. е. мера
как у людей соблюдается нами очень широко, — так сказать, и у людей,
всех, тоже должно быть как у людей.
На людей всегда можно надежно опереться. Жить вообще риско
ванно, но совсем другое дело, если оставаться с людьми. Люди поэто
му эффективно, да собственно полностью снимают с присутствия груз
эк-зистенции: уже не надо на каждом шагу принимать решений, кото
рые всегда рискованные, надо соблюдать другое, не уходить от людей.
Люди — такие — поэтому как бы всегда идут навстречу человеческому
присутствию, и своей способностью всегда выручить — в смысле про
рисовать линию людского поведения — упрочивают свое господство над
присутствием.
Мы подходим к человеку, мы задеты его существом, присутствием, но
оно отдано в распоряжение не себе, а мы не знаем кому, потому что люди
для каждого разные, и то, что люди для нас, — для другого не очевидно,
не видно, для него люди другие, мы в свою очередь не знаем, какие.
Когда я говорю, что люди занимаются философией, а мы тут неведо
мо чем и запутались в каких-то дебрях, то я не задумал говорить это с
иронией и сарказмом, для того, чтобы вы перестали думать о настоящей
философии, которая у людей. Как и вообще понимание хайдеггеровско-
го das Man, людей, в нравственном смысле свержения власти безличного
авторитета, хайдеггеровский как бы анархический и индивидуалистиче-
Зоз
СЕМИНАР II.8
ский морализм, — неверно. На том же примере можно прояснить, поче
му неверно. — Дело в том, что я не могу справиться с этим упреком са
мому себе, что я делаю все не как у людей; я действительно хочу, чтобы
у меня было все так же, как у людей. Я констатирую этим, что моя соб
ственная экзистенция бедная, и я знаю, вижу, что она может быть более
богатой, она более богатая у людей. Этот вот опыт — нищеты собствен
ной экзистенции — наверное, главное, что толкает к людям, посмотреть,
как у людей, и жить, как люди. У них жизнь не нищая. Присутствие —
наше — бежит от мизерабельности собственной в несобственные спо
собы бытия. Здесь один шаг до нравственной оценки: лучше собствен
ная нищета, чем несобственное богатство. Но по-честному я не знаю, что
лучше. Больше того, решать, что лучше, и соответственно поступать, —
дело для меня не первое, это будет еще один срыв, уход от дела, а мое де
ло, независимо, от того, останусь ли я при нем в нищете или нет, — за
метить людей, если я до сих пор их не замечал у себя, в своей мысли, в
своем образе поведения, и всмотреться в них, в их странность, в их неу
ловимость. — Люди: не этот, не этот, не сумма таких-то людей, не сум
ма всех людей, не население Москвы. Люди, я говорю и думаю про себя,
занимаются философией по-настоящему, как люди, но если кто-нибудь
скажет мне, как часто говорят, что в Москве философии нет, я не возра
жу, не смогу возразить: вы совершенно неправы, посмотрите, как люди
умеют, как у людей все правильно! не смогу потому что не сумею ука
зать кто именно. Можно услышать и такое суждение, что сейчас в этом
конце 20 в. в мире философии нет. И опять я не смогу возразить, и опять
мысль, что все-таки следовало бы приблизиться к тому, чтобы все было
как у людей, у меня останется, я ее не выгоню.
Я стало быть по-честному не знаю что лучше, делать все как приня
то у людей или наоборот, я знаю другое: что это не мой вопрос. Что я
должен здесь и теперь, это явно одно: всмотреться в эту удивительную
вещь, люди. И вот если мне теперь скажут: а опять у вас все не как у лю
дей, разве люди останавливаются чтобы задуматься о такой глупости,
всматриваться в что такое люди, они просто действуют, — то я на этот
раз определенно скажу им: ну вот здесь мне совершенно все равно, что
там делают и чего не делают люди, ах неважно, дайте мне смотреть, дайте
мне видеть эту невидимку, кто он. Т. е. раз я понял — не сам, читая Хай-
деггера, — что кто обыденного человеческого существования это люди,
то дайте мне разобраться, кто такие люди? Или: надо этот вопрос кор
ректно поставить, в смысле того, что мы сейчас читаем, хайдеггеровской
304
29 ОКТЯБРЯ 1991
фундаментальной онтологии человеческого присутствия: что произо
шло со мной, какое событие со мной произошло что я сейчас остановил
ся, не спешу как всегда раньше я делал делать как люди и спрашиваю, где
люди
7
. (Попутно вспомним, что Диоген, киник, ходил по людным местам
Афин с фонарем в руках и спрашивал, где человек — он искал человека;
точно так же мы можем ходить по современному городу и везде видеть
людей и нигде не увидеть тех людей, как которые — как люди — хотим
жить.) Какое событие произошло — это может остаться для меня неяс
ным, события не обязательно должны быть ясными и понятными, но в
свете этого события мне еще яснее то, что дело для меня идет о бытии,
я рискую тем, что мое бытие от меня ускользнет, потому что оно мне не
гарантировано и оно всегда мое дело, — и я замечаю что тем же харак
тером ускользания обладают люди; и тем же характером ускользания об
ладает мир. Русский язык тут подает путеводную ниточку: мир в смыс
ле общины, общества, обчества — это и есть люди; и значит, как мир не
видим и не может быть поэтому равен нашим картинам мира, которые
всегда видны, так люди в принципе невидимы и не могут быть никогда
равны нашим представлениям о них; так мое собственное человеческое
существо, присутствие, не имеет содержательных определений и в этом
смысле неуловимо, его сущность — его эк -зистенция, его выступание в
бытие, и это мое дело.
Морализаторское истолкование людей, хайдеггеровского das Man не
верно. Нет никакого бунтарства человека против засилия людей. Когда
случается так, что человек вдруг перестает спешить за людьми, переста
ет тайно ориентироваться на то, как они себя ведут и поступать как лю
ди (как они делают то, это), то это вовсе не значит, что он сбросил с се
бя их власть. Дело философа вообще не в том, чтобы сбрасывать власть,
всякая власть от Бога, говорил апостол Павел. Евангелие учит уваже
нию к начальствам, началам, Αρχαί. Люди это тоже начальство, начало,
или, как еще говорили в традиции, правящие духи, небесная иерархия,
иерархия небесных властей, которых Дионисий Ареопагит насчитыва
ет девять чинов. Вглядывание в людей не отменяет их власти. Хайдег-
гер определяет: люди — это «реальнейший субъект», das realste Subjekt
повседневности (171, 128). Сплошь да рядом, в огромном, невероятном
большинстве случаев люди оказываются в том, кто называет себя субъ
ектом, и в том, что считается коллективным субъектом, настоящей влас
тью, диктуют, направляют. Быть реальнейшим субъектом людям совсем
не мешает их неуловимость. Надо быть реалистами. Всякий может про-
20-2015
305
СЕМИНАР II.8
верить на себе, попробовать не делать, как люди. Даже стараться быть ни
на кого непохожим, индивидуальным, неповторимым человек будет как
люди, — как люди это делают и как им удается сохранять свою индиви
дуальность, независимость и т. д.
Вместо нервных жестов бунта — надо признать: люди — это экзи -
стенциал, т. е . один из основных моментов эк-зистенции, и в качестве
изначального феномена они относятся к позитивной конституции чело
веческого бытия (присутствия). Люди всегда очерчивают, набрасывают
для всякого присутствия ближайшее, исходное истолкование мира. Че
ловек сначала, прежде всего видит мир как люди, понимает его как люди,
говорит как люди; во всех затруднительных ситуациях смотрит прежде
всего, как люди.
Присутствие как оно было определено, подлинное человеческое вот-
бытие оказывается плотно заслонено от нас экзистенцией людей, пото
му что и мы, наш настоящий реальнейший субъект оказывается — лю
ди. Первыми, т. е . ближайшим образом, сначала идут вовсе не Я в смысле
моей собственной самости, а другие в образе людей. Через людей, через
их понимание мира и я себе дан. Прежде всего присутствие — это люди,
их постоянное, неотступное и плотное присутствие, и большей частью
люди так и остаются навсегда единственным лицом присутствия.
Мир как он есть заслонен от нас не миром как обществом, не миром
как собранием людей, а картиной мира. Теперь я скажу то, чего у Хай
деггера нет: люди, которые в своем существе, — и этим объясняется их
реальнейшая реальность, — в своем существе это мир, как говорит для
нас русское слово, и они заслоняют от нас мир не сами по себе, а в том
их образе, в той их содержательной определенности, происхождение ко
торой неизвестно. — Уверенно здесь — на самом деле уже не впервые —
мы можем отойти от Хайдеггера, увидеть в людях не лживый фантом,
а мир, хотя и заслоненный «людьми» в кавычках. — Но, смело отходя
здесь от Хайдеггера, т. е . удваивая не только «мир» — один без кавычек,
другой в кавычках, — но и людей, — одни в кавычках, которые дикту
ют, предписывают, распоряжаются негласно нами, другие без кавычек,
и эти люди — то же самое, что мир, тоже настоящий, тоже без кавычек,
уходя здесь в этом месте от Хайдеггера, мы возвращаемся к нему! По
тому что если бы мы сейчас не ушли, если бы люди, das Man, затвердели
для нас в виде ложного образования и мы пошли бы отсюда говорить,
что «Хайдеггер учит о das Man»: нет, это понятие у него уходит. Мы те
перь понимаем, почему оно должно было уйти: на это намек у Хайдег-
Зоб
29 ОКТЯБРЯ 1991
гера мы прочли: неуловимость людей — та же самая, что неуловимость
мира и неуловимость присутствия. Люди в конечном счете — это мир
(без кавычек). Люди так же заслонены от нас типом, как мир — карти
ной. В лекциях о Ницше, через ю лет, Хайдеггер говорит о человеческом
типе, уже, организующем массы. Это слово Ницше. Das Man, люди, пере
стает быть таким нагруженным термином, уходит у Хайдеггера обрат
но в язык. Мы хорошо сделаем, если тоже отпустим людей. Диоген был
прав, что человека днем с огнем не сыщешь. Но лучше бы он посмотрел
на себя: и его было видно только идущего ищущего человека с фонарем
в руках. Осветить себя и сказать вот он человек он не мог — по-честно
му не мог, а не из скромности; известно, что как раз киники от скромно
сти не страдали, скромность ему никакая ничуть не помешала бы объя
вить единственным искомым человеком себя.
Люди неуловимы, поэтому их нельзя и преодолеть. Хайдеггер гово
рит в конце раздела о das Man: Настоящее, собственное бытие самости
достигается не эмансипацией изолированного субъекта от людей, а эк
зистенциальной модификацией людей как существенного экзистенциа-
ла (i73> 130)· Люди продолжают оставаться экзистенциалом, параметром
подлинной эк-зистенции, они не отбрасываются, наоборот включаются
в экзистенцию — как? Вот я сказал как.
II.9
5.11.1991
Люди — кто они такие? Это очень просто: все люди. Но какие все? Всех
мы не видали, однако о людях говорим со всей определенностью, они
ежечасно, ежеминутно как будто стоят где-то рядом с нами и образуют
то пространство, тот горизонт, внутри которого происходит наше по
ведение, наше общение с другими людьми. На что похоже это свойство
людей?
На свойство мира. Где мир? На этот вопрос мы пожимаем плечами,
как от недоразумения: да вот же он, мир, вокруг! Ничего подобного. Где
мир, сказать оказывается страшно трудно. Мир невидим, он нигде, на
оборот в нем все — «всё в мире» это уже внутри мира, всё, как мы го
ворим, имеет место в мире, а о мире нельзя спросить «где», он сам то
«где», в котором всё. Почему Хайдеггер не говорит о Боге?
Потому что: без мира Бог может быть?
Скажите: Бог может быть без мира. Скажите: Бог не может быть без
мира. В обоих случаях мы чувствуем что-то странное. Прояснение отно
шения Бога к миру обязательно. Кажущееся простое решение: а ладно
Бог с ним с миром, мне до мира дела нет, у меня есть мой Бог и больше я
ничего знать не хочу: мир это творения Бога, а я хочу знать самого Бога,
не из творений. Т. е. Бог вне мира. Хайдеггер тогда — это самое распро
страненное мнение о нем среди конфессиональных авторов, например
католических богословов, что Хайдеггер занят секуляризованным ми
ром, миром обезбоженным, в котором сейчас и живет большинство че
ловечества. Так можно считать: что Хайдеггер просто о другом, чем Бог,
чем «божественное», что принято считать божественным. Но так тоже
сказать нельзя, потому что многое из того, что верующий говорит о Бо
ге, совпадет с тем, что Хайдеггер говорит о бытии и о мире. Тогда под
бытием зашифрован Бог? Так некоторые католические писатели радост
но встретили Хайдеггера как криптотомиста, который только скрывает
свое богословие. Против этого одна реплика Хайдеггера: если бы я зани
мался богословием, то обошелся бы совсем без слова «бытие». Это зна
чит: бытие принадлежит философии, а не богословию. Из всего этого
определенным остается только одно: Хайдеггер не говорит о Боге, вну-
309
СЕМИНАР II.9
три мира среди вещей мира он Бога не числит; и что вне мира есть что-
то, тоже не говорит.
Люди имеют свойство мира. Как мир, люди неуловимы. Как мир, лю
ди присутствуют. Люди — это мир. Русский язык знает это, когда назы
вает общество миром.
Когда присутствие манипулирует с вещами, оно не знает, что вещи
ему открыты его опережающим всякую манипуляцию отношением к
миру (бытие-в -мире). Присутствие может сколько угодно оперировать
с вещами, оно будет стараться их охватить как можно шире, будет ста
раться в пределе охватить их все, но это не поможет ему, наоборот, по
мешает заметить, что все вещи с самого начала уже были по-своему да
ны ему его особенным статусом — тем, что присутствие не сущее среди
прочего сущего. Но каким-то образом принадлежность к миру должна
быть все-таки открыта присутствию? Не проходит же его исключитель
ная особенность совсем мимо него, так чтобы оно вовсе ничего не за
мечало. Присутствие — это всегда то или другое, такое или иное вот,
т. е. открытость, т. е. просвет, т. е . разомкнутость, развернутость особен
ного пространства, которое измеряется не метрами. Как эта разомкну
тость дает о себе знать? Не так, что что-то со стороны проясняет при
сутствию его исключительность: как раз со стороны присутствие может
быть увидено, воспринято, замечено только присутствием же, а иначе
смешается с сущим, даже покажется самым жалким и ничтожным из су
щего, потому что не выдается среди живой и неживой природы ни раз
мерами, ни силой, ни ловкостью, ничем. Его ум проблематичен. Присут
ствие может увидеть себя только изнутри, из себя самого — и не так,
что ему нужна школа, техника вглядывания и т. д ., чтобы увидеть его
существо, а само его существо должно как-то давать о себе знать. Ес
ли присутствие само по себе — открытость (открытость не чего — че
му, а открытость как просвет, освещенное пространство), то это его су
щество должно быть как-то открыто ему самому. Как открыто? Есть два
равнозначных, равноисходных способа, какими присутствию дает о се
бе знать его существо, открытость: само-чувствие и понимание, Befind
lichkeit и Verstehen.
Само-чувствие: вещь прекрасно известная, настроение. Психология
настроений пусть занимается ими, как может, если вообще может; до
того, как она примется за свои описания и обобщения, настроение на
до увидеть как фундаментальный экзистенциал (т. е . не редуцируемый
ни к чему уже более «исходному», только сцепленный с другими фун-
Зю
5 НОЯБРЯ 1991
даментальными экзистенциалами, прежде всего с экзистенциалом лю
ди) — фундаментальный экзистенциал, т. е. за него невозможно загля
нуть, т. е. почему у человека такое настроение, или почему у него «нет
настроения», об этом рассуждать можно, но этому рассуждению всег
да предшествует: «вот так, вот такое настроение», и объяснения: «у ме
ня такое настроение явно потому, что и т. д.», имеют всегда извинитель
ный характер, притянуты чтобы скрыть непрозрачность настроений,
представить себя как держащего контроль над настроениями — именно
потому, что контролю они не поддаются, и такое-то настроение может
быть вытеснено только другим настроением. Настроение — фундамен
тальная данность. Настроением бытие присутствия переводится, выво
дится в его вот, высвечивает себя, дает о себе знать, раскрывается как
высвеченное. Дает о себе знать, между прочим — не то же, что познает
ся. Как раз не познается. Ни в своей причине, ни в своей сути. Настрое
ние просто явно есть. Явно оно что-то значит . Явно буквально сталкива
ет присутствие со своей экзистенцией, выбрасывает присутствие в эк
зистенцию — но именно как в задачу, а не как в программу действий.
Настроением никакая программа действий не диктуется. Но настроение
своим «вот такое настроение» показывает, что присутствие уже втяну
то в эк-зистенцию, уже таким-то образом есть. Уже требует, например,
объяснения: у меня такое настроение сегодня потому-то. Т. е. уже ставит
присутствие в необходимость по-ступка, эк-зистенции. Например —
ставит присутствие в необходимость не поддаваться настроению, ска
жем, тоски. То, что я изо всей силы не поддаюсь настроению тоски (это
не значит, что я обязательно должен не поддаваться; в отношении этого
настроения возможны и другие способы эк-зистирования), вовсе не зна
чит, что тоска, стало быть, не способ, каким дает о себе знать мое бытие:
как раз наоборот, свидетельство, что такое вот и есть мое присутствие.
Такость настроения, не редуцируемая, задним числом с грехом попо
лам рационализируемая, — Хайдеггер называет ее брошеностью этого
сущего, присутствия, в свое вот, в свою открытость (оно первично от
крыто самому себе тем, что находится в таком настроении). Находит
ся в таком-то настроении — надо понимать так, как мы слышим в язы
ке: находит-ся, находит себя в таком-то настроении — в свое бытие этим
настроением брошен. Опять же брошеность, Geworfenheit не надо пони
мать так, что Бог, или общество, или воспитатели, или судьба бросила
человека в его покинутость, а не надо было бросать человека, надо было
сохранить ему обеспеченность, уют и т. п . Брошеность — экзистенциал,
Зп
СЕМИНАР II.9
фундаментальный. Это первичная данность, факт, и рассуждения, кто
кого как и куда бросил — вторичная рационализация, эта рационализа
ция происходит от неготовности принять собственное существо, при
сутствие, таким, какое оно есть. Это факт не такой, как факт наблюдае
мый: он факт, за который, так сказать, нельзя уже заглянуть, — факт, у
которого нет такого, кто его фиксировал бы: должна была бы вроде фик
сировать экзистенция, присутствие, но само присутствие фиксировано,
если можно так сказать, схвачено этим фактом: оно брошено в настрое
ние, которое такое, какое оно есть.
Сущее, имеющее характер присутствия, есть свое собственное вот
таким способом, что оно, замечает это или нет, находит-ся в своей бро-
шености. В этом находит-ся, в настроении, присутствие как бы постав
лено, выставлено перед самим собой, оказалось таким, каким оказалось.
Оно вручено — поскольку брошено — своему бытию, ему препоручено,
но вот что интересно: это оказывает-ся, находит-ся бывает встречено
обычно не в узнавании — «вот я, вот мое бытие» — а наоборот, в бегстве
от него: настроений боятся, брошености пугаются (тем более что броше-
ность не одноразовая, ослабевающая по своей остроте по мере привыка
ния, освоения в ситуации, а каждый раз брошеность новая, так сказать,
резкая, неосваиваемая; устоявшийся образ жизни обеспечивает только
большую вероятность, что завтра будет так же, как вчера); но «наплы-
вание» (как наплывает туман) настроений все равно неподрасчетно, и
сквозь всю привычность образа жизни, «если покопаться», так сказать,
брошеность остается нетронутой — в смысле того, что человек нахо-
дит-себя, или находит-в-себе настроение, от которого он хотя и укло
нился, его преодолел, или до какой-то степени научился вытеснять одно
настроение другим, «все так делают», но себя настоящего, неподдельно
го человек угадывает все-таки в настроении, в которое брошен и кото
рое он по-настоящему не знает, откуда, и не знает, что оно: существо на
строения — он сам, а он сам — это чистое присутствие, чистое присут
ствие, которое дает о себе знать в нередуцируемом факте, в данности, в
открытости ему настроения. — Легенда о том, что душа из своей род
ной запредельной сферы была заброшена за свои прошлые грехи на зем
лю и не помнит, как была заброшена, а очнулась уже там, где она оказа
лась, — эта легенда одновременно и точное осознание брошености, ко
торая названа именно этим словом, этим образом — бросания сюда на
землю откуда-то откуда мы не знаем, так что мы не помним как прохо
дил путь бросания и почему именно мы оказались там где оказались, —
312
5 НОЯБРЯ 1991
и одновременно тут попытка смягчить, сгладить, «заговорить» трудно
выносимую остроту брошености, ввести ее в рамки истории, которая
«со всеми бывает». Очень много делается для того, чтобы закрыть гла
за на остроту брошености, вокруг нее масса знания (допустим, включая
знание о влиянии инопланетян, о сглазе, порче, целый арсенал транк
вилизаторов, которые «успокаивают» в смысле стирают остроту броше
ности). Невероятно много человек говорит себе о том, почему, отчего с
ним «так» — допустим, он настолько сведущий в психологии, в парап
сихологии, в «знании человека», опытен в знании того, «как это быва
ет у людей», вообще «знает людей» — все равно, «это не имеет никакой
силы против оказывающегося факта, что настроением присутствие по
ставлено перед такостью его вот, и в качестве этого вот фактическая
такость с неумолимой загадочностью упорно глядит на него» (ι8ι, 136).
Когда своим многознанием, своей волей или просто — когда отдав себя
целиком людям, которые умеют «снимать» с человека неправильное на
строение и давать ему «установку», которая ему и нужна, и хороша, —
даже если всеми этими средствами и усилиями человек, как это назы
вается, «преодолел себя» и воля в нем доминирует, — все равно раньше
этой воли было и остается, — потому что нового и нового усилия воли
каждый раз требует что-то — что? человек уже совсем не знает, потому
что ему удалось вытеснить, заменить другим, но что? Приходит Фрейд
и говорит: вытеснено вот что, и называет что. Приходит Евгений Ба
рабанов и говорит: почти все то, что называется русской философией в
ее самобытности — результат процесса вытеснения, спрашивает — «вы
теснения чего?»
1
и обещает на этот вопрос ответить, занявшись «психо
анализом русской философии», чтобы с трезвым постоянством в кро
потливой работе, обещает он, перевести незнаемое на язык знания. Мы
получим еще одно объяснение того, что же с нами происходит, — допу
стим, то, что необходимо было в свое время что-то сделать, а мы как раз
этого не сделали, следовательно, надо сделать это сейчас. Двигатель это
го предприятия начинания — опять трудновыносимая брошеность при
сутствия в свое присутствие. Хайдеггер говорит: никакими усилиями ра
ционализации или иррационализации брошеность преодолена не будет,
и как она — главное чем она может быть преодолена? Если она экзи
стенция, один из способов эк-зистенции, выступания в свое бытие су
щества человека, присутствия?
ι. Вопросы фипософииу 8,1991> с. и6.
313
СЕМИНАР II.9
Значит ли это, что надо жить по настроению? Вопрос такой же, как
«надо ли не подчиняться власти людей»? Жить по настроению — спо
соб бегства от настроений, как идти по ветру — способ бегства от ветра.
Начинает казаться, что настроения уже никогда не застигнут человека
внезапным образом, если он заранее уже готов принять все то, что на
вязывает ему настроение. Говорили об изменчивости Гете, который ве
рил каждой минуте жизни. У Гете его изменчивость не имела характе
ра бегства от брошености в настроение, игрой с ним; он встречал на
строение как то, что оно есть: один из способов, каким открыто человеку
его существо. Поступать, жить по настроению — такое правило обыч
но трудно ему следовать, принимать все настроения. Настроение не обя
зательно такое, чтобы по нему можно было жить. Так же часто бывают
настроения, отчетливо подсказывающие, что «так жить больше нельзя».
Настроение вовсе не обязательно должно быть совместимо с жизнью.
Можно вспомнить Розанова: здесь случай — не так уж частый, правда —
неожиданного и безошибочного согласия, мы не ошибемся, если рядом
со 184-й страницей 2-го тома Хайдеггера будем читать 448-ю страницу
розановского «О понимании»
1
*: бывают прихотливые чувства, «но го
раздо чаще настроения бывают чистыми формами духа, которые или
только пробуждаются и укрепляются внешними единичными случаями
(как смерть друга у Лютера), или даже совершенно не нуждаются в та
ких случаях хотя бы для пробуждения. Так Данте никогда не был и не
мог быть веселым человеком, Шиллер никогда не был и не мог быть ци
ничен, Руссо никогда не мог радоваться. Сознание этой беспричинно
сти настроений, или, что то же, их чистоты, как произведений духа, вы
разилось и в языке <вы замечаете, не только мысль та же, что мы толь
ко что читали у Хайдеггера, почти те же формулы, «чистая форма духа»,
«беспричинность», «произведение духа», и Розанов в прошлом веке слы
шит это слово еще во всех его частях, про-из -ведение, выступание духа;
но и примеры из обыденного языка почти те же>... выразилось и в язы
ке» — грустно, светло на душе, настроение чего-то как будто не хва
тает, т. е., мы теперь могли бы сказать, настроение разлуки, носталь
гии, — Хайдеггер скажет, что это основное настроение современности,
или как грустно всё, как жалко всех это уже Розанов, «говорят обыкно
венные люди, когда и у них временно проступают настроения, вообще
присущие только великим характерам. Значение настроений в истории
ι. В. В . Розанов, О понимании^ Москва, ι886.
ЭЙ
5 НОЯБРЯ 1991
нельзя достаточно оценить: все великое в ней произведено ими. Рели
гии и революции, искусство и литература, жизнь и философия одина
ково получают свой особенный характер в настроении тех, кто создает
их. Так чувство безнадежности и отчаяние глубоко отразилось в буддиз
ме, чувство бессилия в борьбе со злом — в учении Зороастра... У поэтов
настроение является всепроникающим чувством, одевающим все обра
зы и звучащим во всей лирике, как у Данте, Шиллера, Байрона и Гейне.
У великих же писателей оно выражается в языке... Настроение также не
остается без влияния и на философию»
1
*. От этой страницы Розанова
можем перейти [... ] (и такой переход возможен не потому, что они гово
рят одно, такие совпадения словесные мало что значат, а потому, что мо
гут говорить и разное, и даже если будут говорить разное, останутся ря
дом, потому что не временно, а на протяжении всей жизни стоят перед
одними и теми же вещами, не отрываясь вглядываются в одно и то же
начало). Настроение влияет на философию — это Розанов, а у Хайдегге-
ра: «Даже самая чистая θεωρία не оставила позади себя всякое настрое
ние; даже ее всматриванию обнаруживается то, что всего лишь налично,
в своем чистом образе <эйдосе> только тогда, когда «феория» допускает
до себя вещи в спокойном пребывании при...» (184,138; хайдеггеровское
многоточие, куда, подразумевается, можно подставить что угодно; это
иероглифическое, если хотите, обозначение произвольного множества
оставалось всегда; еще одно иероглифическое, если хотите, обозначе
ние, $feiq, где перечеркнутое слово должно обозначать, что то, что сказа
но этим словом, не стоит в ряду вещей, как перечеркнутое слово не сто
ит в ряду неперечеркнутых слов; и четыре края этого креста указывают
на четыре области мира, небо и землю, богов и людей). — Хайдеггер на
чинает свою эту фразу с даже, и можно подумать, что здесь маргиналь
ный случай. Но мы в «Чтении философии» уже замечали: ум, по-настоя
щему позволивший себе размах, ушедший в дело, может сейчас не знать,
почему он делает то, что делает, ему может казаться, что он говорит не
по делу, ему может быть вообще не ясно, что он говорит, но — такому
уму уже привычно, свойственно иметь дело с вещами, для «теории» тре
буется спокойное пребывание при..., ραστώνη, говорит Аристотель, «Ме
тафизика» I 2, 982 b 22.'Ραστώνη, покой; покой, pokoj так переводится на
польский русское «мир». Теории, философскому познанию мира, требу
ется для познания мира настроение мира. Даже теории, философскому
ι. Там же, с. 449·
315
СЕМИНАР II.9
познанию мира все-таки требуется настроение мира — или наоборот,
познание мира только потому и становится возможным, что мир сна
чала открыт в настроении мира? У Хайдеггера не оказалось под рукой
этой указательной стрелочки для мысли, русского слова «мир»; поэто
му он неуверенно, как бы наощупь смутно угадывает то, что мы можем
теперь сказать смелее. В настроении присутствие встречает само себя.
В настроении мира в существе человека присутствует мир. Это слиш
ком большая тема, у нее слишком много разветвлений, которые мы да
же еще и не видим, чтобы сейчас ее касаться. Нам достаточно пока заме
тить для себя, что мир подступает к нам чаще и плотнее, чем мы думаем;
может быть, мы даже не заметили еще других случаев, когда мир близок
к нам. Может быть, мир это вопрос вопросов. И не столько мы задаем
вопросы миру, сколько мир вопрос к нам. И мы ответ?
Настроение — один из способов, какими открывается «вот» присут
ствия. Другой — такой же исходный, так же не редуцируемый, — и ско
рее нездоровое раздражение тем, как все в мире подробно... — в едь ти
шина, покой мира не означают, его согласие не означает одного тона, что
вся подробность должна сводиться к чему-то одному, что у присутствия
есть только один способ, настроение. Другой — понимание, Verstehen.
Настроение и понимание, два равноизначальных, переплетены: настро
ение всегда тоже как-то понимается, понимание — всегда настроение,
всегда настроенное, Verstehen ist immer gestimmtes (190,142); этой фразы
нет в книге Розанова «О понимании» — но не потому, что Розанов «не
дошел», «не додумался», а вот немец додумался: слишком само разумеет
ся для Розанова, что понимание, внимание, «каменная задумчивость» —
это настроение, да еще какое, способное перевесить всю человеческую
жизнь. Это фундаментальный экзистенциал (190,143)> т. е . дальше не ре
дуцируется. Как же быть с пониманием как функцией мозга? (Эволю
ция, формирование, высшая форма.) Это — одна из рационализации.
Которая не замечает даже того, что она сама не могла бы появиться без
понимания, которое сначала, которое просто есть, и человек приходит
в этот факт, что понимание у него уже заранее есть. Вовсе не так, что
в развитом и одаренном мозге выше понимание. Понимание — не спо
собность (опять вспомним Розанова: не могу сказать себе — приспосо
блю, применю понимание на то или это), это экзистенциал, это способ,
каким человеческое существо присутствует. Присутствие — всегда при
сутствие в мире; оно указывает на мир; мир, уже говорилось, тем самым
раскрыт, присутствие миру открыто: вот что называется пониманием.
316
5 НОЯБРЯ 1991
«Понимает как разбирается в чем-то»; наоборот, «без понятия». Не в
смысле: что-то знает или не знает, а — умеет быть. Понимание: умение
быть. Не профессионально приобретаемое в Dasein, а то, что возвраща
ясь к своему существу, человеческое присутствие оказывается таким,
что оно умеет или во всяком случае может уметь быть в мире, знает,
что делать с миром или во всяком случае может знать, что с ним делать.
Могу: экзистенциал. Почему такой термин — понимание? Совсем не
само собой разумеется. «Возможность». Но Розанов слышит тоже так:
понимание.
Присутствие: врученная сама себе возможность, брошеная возмож
ность , geworfene Möglichkeit. Брошеная — в смысле: всегда оказавшаяся
там и такой, какой она оказалась.
Оказывается, что присутствие брошено в понимание: оно всегда или
поняло, «как ему быть», или не поняло — и острое «не поняло» значит:
может понять. (Розанов: понимание — тоже непонимание.) Понима
ние — или непонимание
— имеет
характер «вот»: оно открыто, оно и
есть сама открытость присутствия — рядом с настроением.
Структура понимания: то, что условно назовем вот как, в немецком
здесь непереводимое Entwurf: присутствие бросает себя в бытие, не рас
планировав сначала, а гораздо раньше: оно уже бросило себя в бытие,
бросило себя на то или другое внутри мира. Оно по своему существу
возможность, оно брошено в фактическую возможность, и тем самым
само уже бросило себя на тот или другой образ присутствия.
Что раньше — бросание себя, понимание? Они одинаково исходны.
Примитивные. Языки Гумбольдта. Но никогда дети. Но: дети не заме
чают слов. Мы заметили, что между нами и вещами представление, мы в
нем — но дети?
ILIO1
12.11 .1991
Никакой опасности, вы могли уже увидеть, что я изложу Хайдеггера
так, что его понятиями можно будет пользоваться как философским
языком, а его ходами мысли — как готовыми блоками для строитель
ства. Я понимаю, как эффектно выйти говорящим на связном и ясном
философском языке, непрерывно и последовательно, и строить из го
товых блоков систему, которая удобно ложилась бы на историю мыс
ли, на современную философскую проблематику и на действительность.
Я не уверен даже, что я должен мечтать о таком языке и о такой систе
ме. Я не думаю, что философия должна иметь свой профессиональный
язык. Там, где мысль вмешивается в язык, переиначивает значения, она
это делает не для того, чтобы выкроить из существующего материала
термины для своих потребностей, а потому, что замечает хаос и грязь,
расшатанность словоупотребления, и — сама сделать может очень ма
ло, — но парадоксом или провокацией, или просто уточнением, или
указыванием не замеченного — вовсе не заменить язык другим, такое
изобретательство языка — из самых ненужных культурных игр, игра в
смысле убивания времени, — а поработать для своего языка. Я знаю, как
заразителен хайдеггеровский язык 1926 года, язык «Бытия и времени»; и
мало зная, что это период, время, ступенька в работе, смотрят не туда,
куда он шел, — но остановка имеет смысл только как собирание, сборы
для пути. Какой путь? Тот же, что у нас с вами. — Философское откры
тие — можно так говорить? В привычном смысле, как обычно говорят
«открытие» — нельзя; но нам только забитость — мы забиты важными
дискурсами, самозванными авторитетами, которые внушают нам, как
надо говорить, — мешает услышать слово, как оно звучит. Мы имеем
право услышать философское открытие в таком смысле, как открытие
собрания. Открытие собрания: люди на месте уже, но надо слово, объ-
1. Не догматика. Открытие, а не закрытие. Открытие. Философское открытие. Толь
ко от нашего понимания. А по-другому взглянуть? Даже надо. Только позаботьтесь о
том, чтобы ваш взгляд стал событием по крайней мере сравнимого соизмеримого раз
маха, чтобы не намекать просто на «другое». Когда Колумб открыл Америку, можно бы
ло ворчать, мало ли что, я открою что-нибудь побольше. Но другого материка может и
не оказаться.
319
СЕМИНАР 11.10
явление, — не то что готовность руководить, а готовность к тому, чтобы
было, состоялось событие.
Сколько бы нового, неожиданного ни говорил мыслитель, не надо и
надеяться, не надо и допускать, чтобы он заменил нам наше понимание,
вот это которое у нас есть, бедное и растерянное, — какое ни есть, лучше
для замены нашего нищего у нас ничего не будет, лучше привязать ка
мень на шею, чем навязать себе чужой образ мысли, и у Хайдеггера мы
смотрим и видим вот что: как для себя, в своей эк-зистенции он в своем
бытии, увлеченного философией и получившего прекрасную философ
скую школу, вросшего в немецкий язык, давний и надежный язык фило
софствования, внутри плотной и очень давней философской среды —
ничего этого у нас нет, значит положение наше совершенно другое, и мы
должны об этом помнить, — делал, в том своем положении, то самое,
что пытаемся делать мы. Если мы всерьез принимаем то, что мы на фи
лософском факультете университета, — при том что мы знаем, уверены,
что то, что нас захватывает, настоящие вещи и, может быть, даже самые
настоящие вещи, с которыми дано иметь дело человеку, но не знаем, не
уверены, что «философия» здесь безусловно точное слово, — и останем
ся при этой бедности, при искании, при неуверенности, хотя бы повсю
ду очень шумели уверенные речи, русскоязычные и зарубежные, при
глашая нас присоединиться к себе.
Мы не присоединимся, не конформируемся, не отождествим себя ни
с каким энергичным дискурсом — не потому, что уже присоединились,
избрали себе Хайдеггера, стали его «школы». Мы им захвачены, но это
не отнимает у нас права, и даже обязанности глядеть не его глазами —
или скажу точнее, не засыпать в гипнозе. Ах это трудно, потому что Хай-
деггер это огромная мысль, пройти мимо него невозможно. Кто говорит,
что обойдется и без него, тот делает себя смешным — как тот, кто, когда
проложена уже дорога, все еще пробивается вдоль обочины сквозь ку
сты. Самостоятельно мыслить? Да разумеется, а как же иначе. Но ради
самостоятельности прокладывать через овраги еще параллельную до
рогу рядом с готовой широкой — это неправильная самостоятельность;
тем более большой вопрос, хватит ли еще сил.
Теперь: сколько литературы о Хайдеггере. Десятки тысяч названий.
Мы тут перед очень большим присутствием — каким? Определенно
можно сказать только: дружественным. Хайдеггер всегда даету дарит —
хотя, может быть, мы совсем не всегда готовы принять.
Мы остановились на понимании. Феномен понимания: присутствие
320
12 НОЯБРЯ 1991
с самого начала — что значит с самого начала? т. е . раньше, чем оно са
мо это заметит, — уже умеет быть в мире, разбирается в мире. Это имеет
мало отношения к мыслительной способности и к образованию: ребе
нок имеет, как это принято говорить, неразвитые мыслительные способ
ности, образования вообще никакого, но он глядит на взрослых не для
того, чтобы хоть от них научиться, как надо вести себя в мире, а для того,
чтобы и самому тоже [быть], в этом он не сомневается, что он это умеет.
То же так называемые неразвитые, недоразвитые: скорее способности и
образование подтачивают это наивное умение быть в мире и понимать,
что к чему. У детей это знание, для чего мир, готовность как можно ско
рее шагнуть к нему завораживает. С самого раннего возраста.
Присутствие, т. е. человеческое существо, Dasein, смотрит на все вещи,
понимая в этом смысле развернутого или неразвернутого умения иметь
с ними дело — или не понимая, а это привативная форма понимания,
как еще-не или уже-не понимание, в том и другом случае — в поле по
нимания. А вне поля понимания, умения, и его производных — т . е. ис
толкования, в широком смысле, — может присутствие иметь отношение
к чему-нибудь, например пребывать в незаинтересованном эстетиче
ском созерцании? Да но заметьте: такое созерцание считается культур
ной ценностью, оно культивируется, т. е. оно включено в эк -зистенцию
присутствия, и такому созерцанию предшествует решение — выбор —
решение о том, что такие-то объекты должны быть объектами незаинте
ресованного эстетического созерцания: значит эти объекты сначала уже
были предметом, уже успели побывать предметом понимающего, разби
рающегося в мире ориентирования
Вы спросите тогда: ведь понимание — это особенно ясно было вид
но у Розанова, а мы пока вроде бы считаем, что по крайней мере в этих
двух вещах, настроение и понимание, эти две мысли и по существу, и в
подробностях близки. Понимание ничему не служит, оно у Розанова не
способность, а само существо человека. — Но и понимание, о котором
в «Бытии и времени», тоже не способность; оно умение, но не в смысле
умелости в достижении какого-то интереса. Так называемое бескорыст
ное незаинтересованное созерцание, например живописи в Третьяков
ской галерее, — вот оно -то как раз включено в культурную, т. е. в культи
вируемую [жизнь], т. е. в круг сознательного для. А исходное понимание
не для, оно просто есть. Хочется опять посмотреть на ребенка: его захва-
ченность миром одинаково может быть описана и словами «интерес», и
«бескорыстие». Эта захваченность как-то раньше такого разделения. Ис-
21-2015
321
СЕМИНАР 11.10
ходное понимание (еще раз напомню: все примеры с ребенком мои) —
странно соединяет в себе то, что можно было бы назвать даже жадным
схватыванием — и захваченность, при которой это жадное схватывание
не превращается в захват. Это каждый знает по настоящему увлечению
наукой, какой-нибудь, делом, особенно раннее увлечение: с удивляющей
всех быстротой человек схватывает то, чем он захвачен, но так же уди
вительно, что нет того для, той, как говорят, практической цели, в видах
которой действует этот незаинтересованный интерес. Присутствие бро
шено в понимание, оно замечает себя понимающим, — и оно бросает се
бя на понимание, так сказать, одновременно со своей брошеностью в не
го. Брошеность, таким образом, не обуза, не тягость: так настроение в
которое присутствие тоже брошено, — сковывает так, что одновремен
но и освобождает в полноту самостояния. С объяснением экзистенци
альной конституции бытия присутствия с его вот в смысле брошености
и про-екта, бросания, говорит Хайдеггер (i97> 148), бытие присутствия
не становится загадочнее? Да действительно. Но только надо позволить
выйти наружу всей загадочности этого бытия — пусть даже единствен
но для того, чтобы иметь возможность провалиться при попытках «раз
решения» этой загадки — и тогда снова поставить вопрос о существе
этого брошеного — и себя бросающего бытия в мире. Но провалиться в
попытке разгадать загадку присутствия нам еще хорошо если повезет —
для этого надо вести разгадку всерьез, по-настоящему; иначе мы на на
шу беду ее разгадаем и выступим с сенсационным открытием: вот что
такое человек.
Понимание подлежит истолкованию. Именно так, не наоборот: не по
мере истолкования вещей достигается их понимание. Понимание зара
нее уже есть; само по себе понимание — как умение быть в мире, раз
бираться в мире — если можно так сказать, непонятно. Опять мой при
мер: совершенно непонятно, откуда у младенца царственный покой. В
мире, которого он еще совсем не знает, он уже умеет быть уверенно.
Это раннее понимание-умение, непонятное, когда оно замечено, истол
ковывается, чем? — им же самим, которое переходит в развернутую,
в разработанную форму: умение развертывает свои возможности. Но
вот что: когда понимание замечено, оно никогда не замечено сразу же
в своей загадочности, как понимание: а только через понятое. Истолко
вывается не то, почему мир открыт для понимания и почему понима
ние уже бросило себя на раскрытие мира, — а истолковывается уже по
нятый мир.
322
12 НОЯБРЯ 1991
Кстати: такие частые у Хайдеггера, «бытие-в-мире», «бытие-в -каче -
стве-вот», через дефис, легко образуемые в немецком, — Хайдеггер тут
чувствует себя не изобретателем, а уютно в традиции: Аристотель точно
так же образовывал, например, свой такой важный термин, το τι ήν είναι,
и скорее всего Аристотель тоже писал бы его через дефис, но более веро
ятно, что он писал все четыре слова слитно. Русский язык, хотя во мно
гом такой, что Аверинцев не раз говорил, что древнегреческие и свято
отеческие сочинения только на русский, из всех европейских языков,
можно перевести так, чтобы сохранить пластику, музыку, вещественную
осязаемость слова, такого субстантивирования не знает. «Суть бытия»,
в русском переводе туманно. Розанов, в предисловии к своему, и Павла
Дмитриевича Первова, переводу I-V книг «Метафизики», об этом ари
стотелевском: «Определение сущности как το τι ήν είναι, если мы верно
угадали смысл этого буквально не переводимого термина, как „то, что
делает то, в чем оно есть, тем, что оно есть" есть чрезвычайно общее обо
значение для сущности»
1
*. Это выражение Аристотеля Хайдеггер назы
вает «априористическим перфектом» (это выражение я встречал у Юр-
гена Хабермаса, без ссылки на Хайдеггера), в каком смысле? «Бытием-
тем-что-было», чем оказывается вещь, в которую мы всматриваемся, т. е.
чем она заранее всегда уже была, когда казалась нам тем другим третьим,
пока мы не начали всматриваться в нее и не увидели в ней то, что она с
самого начала уже и представляла собой. Перфект, т. е. совершенное, го
ворят грамматики, правильнее было бы говорить совершённое время,
действие, к данному моменту уже успевшее совершиться, — но априори
стический, априорный перфект, потому что мы не видели, или не успели
видеть или вообще как-то способом платоновского «вдруг», «внезапно»,
без подготовки и накопления оказалось, что то, что мы поздно заметили,
уже было. — Один филолог, когда я однажды по поводу какого-то выра
жения из древнегреческой философии употребил это, «априористиче
ский перфект», с гневом уличил меня, что такого перфекта в грамматике
не существует, что я обнаруживаю свое невежество, да еще самоуверен
ное, самоуправское, в греческом языке. — У Аристотеля замечено: пер
вое по природе — последнее для нас. По природе — при греческом пони
мании — «по существу», «со стороны бытия». Существо вещи, существо
дела для нас всегда оказывается в «априористическом перфекте», всегда
ι. Аристотеля Метафизика, перевод с греч. подлинника и объяснения П. Первова и
В. Розанова, вып. первый, кн. I-V. Санкт-Петербург, 1895» с. 6γ.
21*
323
СЕМИНАР НЛО
а-приори, рано, до нашего прихода уже о-существилось. Так настроение;
так равноисходный с настроением другой экзистенциал, понимание: я
уже настроен так как настроен, когда начал замечать свое настроение; я
уже понял так, как я понял, прежде чем начал истолковывать, разверты
вать свое понимание. Одну студентку привело в экстаз, в восторг, когда
она догадалась, в каком смысле пространство и время — формы воспри
ятия, предшествующие опыту: вовсе не в том смысле, что до опыта где-
то в человеческих глазах, или в человеческой голове, или где-то еще ле
жали и были готовы в себя что-то вобрать эти формы: нигде ни до како
го опыта они не лежали, они — априори в смысле не того, что во времени
раньше, а того, что оказывается раньше, в смысле априористического
перфекта: какой бы опыт мы ни имели, оказывается, что каким-то об
разом он уже пред-полагает восприятие пространства и времени; вовсе
не надо силиться над собой и пытаться уловить, выделить чистое доо-
пытное восприятие пространства и времени; слово «предшествующие»
здесь вводит в заблуждение. Никогда ни при каких обстоятельствах мы
не заглянем туда, где успевает произойти раннее; как бы мы ни спешили,
оно уже произошло. В этом смысл гераклитовского πάν έρπετόν πληγή ι
νέμεται, что тот же филолог, который бранил меня за «априористиче
ский перфект», перевел: «всякий гад бичом пасется», буквально верно,
έρπετόν буквально «ползучий», т. е. гад, в старом не бранном смысле это
го слова, змея; но Гераклит имеет здесь в виду то, что мы теперь, особен
но скажем после археологии знания Мишеля Фуко, и после него, у Жа
ка Деррида, например, у Лакана тоже, назвали бы «дискурс», буквально
«пробегание», постепенное разнонаправленное движение — «рас-суж-
дение», способ движения человеческого разума. «Пасется» — в смысле
«кормится», «наделяется тем, что ему пропитание». «Бич» — это прежде
всего бич молнии Бога, огненный Логос, который имеет способ движе
ния, способ действия непостижимый и противоположный «дискур
су», «перебеганию», ступенчатому рассуждению. На каждом шаге сво
его движения наш разум пасется, кормится, питается молнией, внезап
ным светом логоса. — Хайдеггер принадлежит традиции философской
мысли гораздо больше, несравненно больше, чем кажется его исследова
телям, но только не той традиции, которая присутствует в нашем созна
нии и воображении античности, когда «всякий гад бичом пасется», как
раз этой мнимой традиции, с которой мы так сбились, что вроде бы уж
очень хорошо знаем, уж досократиков-то знаем, что их там особенно и
знать, — к этой нашей мнимой традиции философии Хайдеггер, к такой
324
12 НОЯБРЯ 1991
уютной для нас, совсем не принадлежит; он принадлежит к настоящей,
которая от нас за семью замками и путь к которой только через узнава
ние ближнего, вот этой близкой к нам мысли, мысли 20 века, мысли того,
кого Ханна Арендт назвала «тайным королем мысли» 20 века, и еще бо
лее близкой мысли, русской. Говорить, изображать себе какую-то «фило
софию» бесполезно, мы не знаем, что такое философия; мы знаем толь
ко, что она не похожа на вещи, которые мы захватываем, нефть, газ, лес,
инструменты, способности; она похожа на то, что Хайдеггер называет
настроением и пониманием: мы к ним принадлежим раньше, чем успе
ваем заметить. Когда замечаем, начинается истолкование.
Истолкование, я сказал, может уже не заметить, что ему предшеству
ет понимание (умение). Истолкованию кажется, что понимание придет
в итоге, после работы. Исходное понимание присутствует в истолкова
нии как пред-взятие, пред-усмотрение и пред-полагание; и это похоже
на предвзятость, предусмотрительность и предположение, презумпцию,
но нет: предвзятость вещь изобличаемая в других и в себе, вещь кото
рая в принципе может быть опознана и преодолена, как человек вооб
ще психологически очень зоркое существо и, как это называется, «зна
ет людей». Например, истолкователь текста будет преодолевать в себе
предвзятость и преодолеет, занимаясь самоанализом, но в опоре на что?
На объективность, естественно: он будет иметь дело с текстом и толь
ко с текстом без привнесения чего-нибудь от себя. После изгнания та
кой пред-взятости начинает спокойно хозяйничать пред-взятие, потому
что «вот он текст как он есть без привнесения» — это ничто другое, как
само собой разумеющееся, необсуждаемое восприятие его истолковате
лем: в каждом шаге его истолкования, самим занятием его, «я занима
юсь истолкованием текста», уже незаметно для него в решающих нертах
пред-положено, пред-заложено, — пред-взято, пред-усмотрено все глав
ное в тексте. А что именно? Вот это самое: что перед ним текст. Что
текст принадлежит истории философии. Что конкретно в истории фи
лософии текст принадлежит античности, то есть началу философско
го развития. Что автором текста является Парменид, элеату а что такое
элеаты, известно. И так далее: все это пред-взятие, пред-схватывание при
полной психологической непредвзятости. Когда философ писал текст,
он делал как раз все, чтобы текст не был еще одним текстом, — чтобы
выйти наконец к вещам. Скажите объективному, непредвзятому истол
кователю античного философского текста: перед вами вещь. Ему станет
странно. При этом он остается уверенным в своей непредвзятости.
325
СЕМИНАР НЛО
Истолкование имеет дело со смыслом. Что такое смысл, откуда берет
ся смысл? Он не вещь среди вещей: и он не так привешен к вещам, что
одни из них «наделены смыслом», а другие «лишены смысла». Смысл
создается пониманием — исходным умением быть в мире, разбирать
ся в нем. Брошеное в настроение и в понимание, присутствие бросает
себя на то, что заключено в его возможностях (не способностей, а то
го «могу», каким и является понимание). Смысл в своем происхожде
нии поэтому, как понимание, раньше сознания: смысл создан движени
ем присутствия, бросающего себя на одно или другое, на действие или
бездействие. Смысл — экзистенциал присутствия, не свойство, придан
ное сущему, стоящее «за» вещами или где-то в «области смыслов». Поэ
тому когда Хайдеггер спрашивает о смысле бытия, то это не значит дока
пывание, глубокомысленное внимание в то, что стоит за бытием, какой
за ним скрывается смысл, а смысл — это и есть само бытие, насколько
оно втянуто в эк-зистенцию, насколько оно с самого начала, но спосо
бу априористического перфекта, уже есть у присутствия. Смысл — это
истолкование, Auslegung, выкладывание, обнаружение того понимания,
т. е. умения быть с бытием, т. е . того «могу» иметь дело с бытием, кото
рое у присутствия заранее уже есть, — неточно сказано: каким присут
ствие и дает о себе знать, в двух своих исходных эк-зистенциалах, на
строения и понимания.
Вы замечаете, что Хайдеггер здесь просто, с простотой блестящей яс
ности, называет то, о чем я пытался говорить на предыдущей паре ча
сов * : мы не знаем, что мы говорим и делаем, когда говорим и делаем;
настроение, понимание, истолкование, смысл каждый оказывается уже
успели развернуться прежде, чем я начну что-то о них узнавать; и мое
узнавание, начавшееся, вызвано поворотом, опять же ранним и не заме
ченным как таковой, в моей ситуации среди этих экзистенциалов.
Знание идет к тому, к чему оно идет, — оно идет к массе всевозмож
ных вещей, стремясь быть как раз побольше объективным к предме
ту — и оказывается, что очень хорошо, если оно вернется, ему повезет
вернуться к тому исходному пониманию мира, которое у познающего
с самого начала уже было. Это — круг, так называемый и очень много
обсуждаемый «герменевтический круг», который не circulum vitiosum и
не надо из него пытаться вырваться, а наоборот: дай Бог, чтобы нам по
везло в него войти... Потому что иначе мы обречены так никогда и не
узнать, что значит громадная масса знания, которое мы каким образом
узнали. Страница 203 (i53)· «Решающее не в том, чтобы выйти из этого
326
12 НОЯБРЯ 1991
круга, а в том, чтобы правильным образом в него войти. Этот круг по
нимания — не круг, в котором движется какой попало род познания, но
он выражение экзистенциальной структуры опережения, Vor-struktur,
присутствия». Т. е. структуры, непременным и главным моментом ко
торой оказывается опережение, пред-данность, априористический пер
фект. Французский переводчик этого места: structure à préalables, струк
тура с чертами упреждения, предварения. Не надо изображать этот круг
как порочный. В нем таится позитивная возможность познания, пре
дельно близкого к началам, и по-настоящему мы используем эту воз
можность только тогда, когда истолкование поймет, что ее первой, по
стоянной и последней задачей остается — не дать блестящим идеям
или народной мудрости заслонить от себя каждый раз опережающее
пред-взятие, пред-усмотрение, пред-полагание, но сделать темой стро
гой разработки в опоре на сами вещи. Снова, как в случае в «людьми», с
настроением, задача вовсе не в том, как думает [Игорь Ростиславович]
Шафаревич, так он понимает Хайдеггера, чтобы «бороться» против «лю
дей», или «преодолевать» настроения, или наоборот «жить по настрое
нию», а в том чтобы заметить то, что из-за самой структуры, из-за су
щества присутствия в нем всегда уже есть и не сознательным уж во вся
ком случае усилием может быть изменено: что всякому истолкованию
(берется истолкование в самом широком смысле, как узнавание, позна
ние) предшествовало пред-взятие всего истолковываемого в исходном
понимании, умении разбираться в мире.
Всякий взгляд смотрит уже в пространстве смысла, который целым
дан в исходном понимании, расчлененным — в истолковании . Комич
ное представление, что смысл накладывается на вещи языком. Высказы
вание — производное истолкования. Теоретическое высказывание яко
бы объективное на самом деле всего дальше от источника. Пример: «Мо
лоток тяжелый». Констатация объективного факта. Как если бы кто-то
поставил научную цель взвесить все предметы ради описания мира и
дошел до молотка. Теория здесь имеет только одно происхождение: мо
лоток включен в осмотрительное озабоченное обращение с окружени
ем, подручным и наличным, когда это средство, молоток, надо заменить.
«Слишком тяжелый!» или: «Другой молоток!» или просто: «Другой!»
или совсем без слова — «из отсутствия слов нельзя делать заключение
об отсутствии истолкования» (209, 157)· Больше того: основные, реша
ющие истолкования проходят без слов, просто через откладывание мо
лотка, который стал слишком тяжелым, и хватание за другой, удобнее.
327
СЕМИНАР 11.10
«Речь как экзистенциал равноизначальна с настроением и понима
нием» (213, ι6ι). «Настроенная понятность бытия-в-мире высказывает
ся в речи» (214, ι6ι). Понимание всегда настроение, и наоборот, они «рав-
ноизначальны», вместе — и равные. Речь равноизначальна с ними — не
значит что человек всегда говорит и говорит; это значит другое: что его
молчание (какие-то настроения, какая-то мера понимающей захвачен-
ности вообще невозможны без молчания) — говорящее; и его оговор
ки — говорящие; и его глупости — многозначительные; и его неточно
сти — очень точно выдают его. И его чрезмерная говорливость — ничуть
не значит, что он более словесный или больше причастен к настроению
и пониманию; но непомерная говорливость — даже она, так сказать —
тоже говорит: например, она говорит о том, что говорящий боится мол
чания. Молчание, в свою очередь, настолько же говорящее, что, как вы
ражаются, оно может быть красноречивее слов. Лингвистика обречена
никогда не знать человеческой речи, лингвистика обречена быть безна
дежно дальше от языка, чем не-лингвистика, потому что лингвистика —
из-за своей позитивности, объективности, из-за научной необходимо
сти держать в руках предмет, имеет дело с текстами, или, как еще гово
рят, с «звуковыми цепочками». Если текст понять как именно текст, как
сплетенное, то он сплетен, как всякая ткань, из двух поперечных рядов
нитей, одна называется основа, другая уток, челнок потому что утыка
ется в основе, «ткется» огибая основу. Основа речи — молчание, уток —
произносимое; все произносимое нераспутываемо сплетено в каждом
своем моменте с молчанием, многократно, многослойно.
Совершенно смехотворно и другое в лингвистике: язык средство об
щения. На каждом шагу мы только и видим, что язык средство разобще
ния, национального, государственного, семейного, личного, и все равно
говорить: «средство общения». 215 (162): Общение, сообщение — никог
да не перенос каких-то переживаний, например мнений и пожеланий, из
внутреннего мира одного субъекта во внутренний мир другого. Со-при-
сутствие всегда заранее уже дает о себе знать в со-настроенности и в
со-понимании. Co-существование в речи «эксплицитно» со-общено, т. е.
оно уже было, только как раз еще не было настолько раздельным, было
слишком слитным, и только в речи и благодаря речи разделено на сосу
ществующих.
Как обстоит дело с «звуковой цепочкой», с якобы сначала восприяти
ем звуковых колебаний, которые затем опознаются, отождествляются со
словами, после чего слова отождествляются с вещами? Убеждение, буд-
328
12 НОЯБРЯ 1991
то мы сначала слышим колебания воздуха, а потом узнаем в них слово,
так въелось, что даже А. Ф . Лосев в начале книги «Музыка как предмет
логики» называет «колебания воздушных волн» «основанием» музыки,
а восприятия «физиологическим» тоже основанием музыки*; или в на
чале «Философии имени» говорит: «Имя есть прежде всего звук»
2
. Нет:
никакого звука мы не восприняли бы вообще, не только звука слова, а и
вообще звука, если бы звук не был как-то — опять подождем уточнять
как — собран в звук. Греч, «логос», «легейн» — от собирать, логос — со
брание: слово во всяком случае начинается не со звука, а с собрания. Со
брание сначала должно быть открыто* чтобы потом имело место все то,
что будет иметь место в собрании. — Что колебания волн и чувствен
ное восприятие не «прежде всего», показывает феномен вслушивания.
«Прежде всего» мы никогда и ни в каком случае не слышим шумы и зву
ковые комплексы, но резко затормозивший автомобиль, мотоцикл. Слы
шишь марширующую колонну, северный ветер, стук дятла, потрескива
ние огня в печи (217, 163). Что это? — вопрос вовсе не к фактуре зву
ка; и догадавшись: а это поезд отошел от станции, мы вспомнить, какие
именно были звуки этого поезда, едва ли вспомним.
Требуется уже очень искусственная и комплексная установка, чтобы
«услышать» «чистый звук» (217,164). Когда я кратко записывал эту фразу,
я заметил, что слово «искусственный» написал полностью, хоти я давно
уже и привычно сокращаю слово «и-во», так же «и-воведческий», мне не
приходится никогда случайно написать полностью «искусство», наобо
рот, надо делать специальное усилие, чтобы написать слово «искусство»
полностью. А тут когда я спохватился и подумал, что надо было бы со
кратить, как всегда, слово, раз в него входит часть «искусства», но что-то
мешало: сокращение «и-во» было у меня сокращением не звуковой це
почки, а обозначением самой вещи, искусства, художества, а в слове «ис
кусственный» искусства в смысле высокого художества нет, потому мое
сокращение не работало. Так иероглиф — вовсе не обозначение звуча
щего слова, а вещи. Так европейское письмо — и никогда не было фоне
тической записью, а только опирается среди прочего еще и на звучание.
Слова графические обозначают не звуки, а вещи, но с вниманием к исто
рии и этимологии. 217 (164): Что мы прежде всего слышим мотоциклы
и автомобили — феномено-логическое свидетельство того, что присут-
1. А . Ф. Лосев, Из ранних произведений* Москва, ΐ99°> с. 197 ·
2. Там же, с. 27.
329
СЕМИНАР 11.10
ствие как бытие-в-мире каждый раз уже находится среди внутримиро-
вой подручности, а вовсе не в первую очередь при «ощущениях», поток
которых надо было бы сначала оформлять в форму, которая состави
ла бы опору, от которой субъект должен сначала оттолкнуться, чтобы в
конце концов попасть к «миру». Присутствие как сущностно понимаю
щее прежде всего — при понятом.
Слушая речь других, мы переспрашиваем, «что он сказал» — о чем,
какое «что»? Или: послушайте, что я хочу вам сказать — какие слова?
Нет: вещи. Если речь невнятная или иностранная — что мы слышим,
звуки? Как бы не так: слова, только непонятные.
И еще: молчание говорящее. Какими звуками? А среди молчания
мы можем молчание услышать как сильное слово, совершенно отчет
ливо. С другой стороны, постоянное молчание перестает быть говоря
щим. Кто никогда ничего не говорит, тот, когда надо будет промолчать,
не сможет промолчать: он просто будет по-прежнему ничего не говоря
щим. 219 (165): «Только в настоящей речи возможно собственно молча
ние». Не так что настоящая речь может перемежаться настоящим мол
чанием — хотя и это тоже верно, но смысл фразы другой, более богатый:
где по-настоящему может сохранить себя молчание, как говорящее, —
это в речи, которая заслуживает этого названия. Здесь хорошо у фран
цузского переводчика: только внутри речи в ее чистом состоянии воз
можно подлинное молчание.
Греки: человек ζωον λόγον έχον. Животное, которое поднялось до раз
ума? Ну конечно, поднялось, кто спорит; еще бы не поднялось. Что не
ладно в таком понимании?
Что логос опять — способность. Чья, у кого? У живого существа: ему
легче жить, потому что кроме рук и ногтей, еще разум.
Логос: собирание. Поэтому у Гераклита: логос не человеком придуман.
Собирание есть до человека. Маргиналия: Der Mensch als der „Sammler",
Sammlung auf das Seyn (219,165 b).
Слово: высказывание, суждение, приписывание чему чего. Логика
ограничилась этим «логосом». Чего в нем не хватает?
Начинается скандал: никогда уже не удастся вернуться к вещам:
скандал в философии, нельзя доказать существование внешнего мира,
субъект — только имя, Бог знает чего, предикат — только наше суж
дение — о чем? Об имени или не знаем о чем? Это безвыходная пу
таница.
Грамматика, потом лингвистика — на этом понимании «логоса» и
330
12 НОЯБРЯ 1991
«логики». Основано на «онтологии наличного» — о котором не спроше
но, откуда высветилась его наличность.
Онтологически более исходное основание для лингвистики — это де
ло только будущего. Задача освобождения грамматики от логики.
Позитивное понимание априористической структуры речи — т. е.
возвращение в «герменевтический круг», когда сказано то, что с-казано.
Вместо этого — лингвистика занята другим, украшением себя плюма
жем из того, что кажется красивой философией.
Язык весь пучок проблем, которые большей частью лингвистика даже
не замечает. Рост и распад языка — что это такое? Имеем науку лингви
стику — бытие того сущего, которое она изучает, темно.
Надо отказаться от «философии языка»: вернуться к речи можно
только отказавшись от «философии языка», увидев язык внутри фило
софии.
11.11
19.11 .1991
Мы читали, читали Соловьева и вычитали из его идеализма то, что я в
конце весны прошлого года назвал «русским нигилизмом»* — и хотел
эту тему отложить на потом; но уж так получилось с Соловьевым, пото
му что пафос его «Теоретической философии» остается, как в «Оправда
нии добра» — было — смерть, безобразие, немощь и единственный вы
ход крайняя аскеза, почти самосожжение (мы еще мало догадываемся,
сколько дикого, аввакумовского в Соловьеве, сколько ему надо краси
вой мечты, чтобы уравновесить эту бездну, и все равно мало); и как па
фос «Теоретической философии», настоящий — всеохватывающая ил
люзорность, обманчивость, сон, в который все потонуло, и опять же,
какой всплеск идеалистической, платонической устремленности ну
жен, чтобы искупить как бы, уравновесить это дно, и все равно мало.
Это очень русский пейзаж, с огромным размахом и полярностью. Я по
ка обозначить этот пейзаж могу только так, резко и грубо: единствен
ное, что безобманно есть и прежде всего есть, сквозь ужас, смерти и без
образия, и сквозь обман, сна и иллюзии, — это то, чего нет. Я не уверен,
что нам удастся выбраться из этой ямы, в которую нас бросил Соловьев.
Но сейчас нет ничего важнее, чем вглядеться в самих себя, — этого еще
никто не Ьепал, это слишком пугает, протопоп Аввакум слишком стра
шен, это открытый огонь, взятый голыми руками. Но нам некуда девать
ся, мы такие, и непохоже, что если мы в себя не вглядимся, вглядятся и
увидят другие. Я называю поэтому формулу русского нигилизма: един
ственное, что безобманно есть, — это то, чего нет.
Совсем другой пейзаж в книге, которую мы читаем сейчас на второй
паре. Соловьев бежит от эмпирического Я, такое у него годится толь
ко на то, чтобы отбросить его как цепи и прильнуть к настоящему, не
иллюзорному центру — истине . Хайдеггеровское бытие — истина; для
присутствия, человеческого существа ни о чем другом, как о бытии, де
ло и не идет: с самого начала существо человека — было эк-зистенцией в
бытие: то, [что] у Соловьева долг спасения, немедленного бегства от эм
пирии, для Хайдеггера — наоборот, долг остановки, прекращения бег
ства и вглядывание. В чем дело? Прав Евгений Барабанов, что русская
мысль невротична
+
, одержима вытеснением — она вытесняет все то что
333
СЕМИНАР 11.11
не ее фантазии, а в своих фантазиях она слепая? Или этот отчаянный
вывод — тоже только продолжение того жеста аввакумовского, скан
дального, непримиримого? Что с так называемой реальностью нельзя,
ни в коем случае, примириться, принять ее. — Наша страна привыкла
к скандалу, скандал для нас привычное состояние, наш стиль — стиль
скандала, непримиримости; другая сторона этого — мир, тихость, согла
сие, и согласие мира показывает неправоту скандала, а скандал, наобо
рот, показывает, что мир не дается, — и он в принципе не может давать
ся, потому что он не из тех вещей, которые есть.
Потом еще: тот вызов, непримиримый, который мы чувствуем в Со
ловьеве, и в Розанове, вообще как постоянную ноту русской мысли, есть
конечно и в немецкой мысли. И скандал снова и снова разгорается во
круг Хайдеггера, в Германии и во всем мире. Характерным образом кни
га его французского ученика и переводчика Франсуа Федье называется:
«Хайдеггер: анатомия скандала»
1
. Она по поводу новейших, уже теперь
вовсе ни на чем не основанных, совершенно без открытия каких-то не
известных будто бы документов, просто от злостного, довольно грубого
перетолкования уже давно известных обстоятельств, — новейших об
винений, новой волны обличений, — к сожалению, от нашего доверия
ко всякому западному товару, от неумения — какого-то демократиче
ского — отличить уровень, иерархию, изданий, стилей, которые на За
паде очень резко отличаются, как между прочим и социальный уровень,
очень прочный и почти что навсегда, с передачей по наследству, уста
новленный, да и просто из-за не очень хорошего знания иностранных
языков, у нас отчасти наивным и беззащитным образом, отчасти ко
рыстным образом, потому что тогда можно не обязательно читать Хай
деггера, — у нас с комичной серьезностью отнеслись к якобы «новым ра
зоблачениям», когда на Западе отношение серьезного круга было в трех
формах: или пройти мимо этого недоразумения, нечестной книги чи
лийского левого адвоката, который без всякой попытки вникнуть в фи
лософскую мысль старался только о газетном шуме; или обстоятельная
отповедь, расправа с клеветником, как эта книга Франсуа Федье; или —
заново Хайдеггер, который имеет свойство возвращаться, как будто еще
не читаный.
И «Бытие и время»-то мы как читаем? О полноте не может быть и ре
чи, мы только берем какой-то один срез, очень выборочно, кроме то-
1. Fr. Fédier, Heidegger: anatomie d'un scandale, Paris, 1988.
334
19 НОЯБРЯ 1991
го, и стараясь увидеть, выявить такие проходы мысли, которые нам по
могли бы выбраться из нашей растерянности, если не из нашей трудно
сти, конечно; потому что неясно, почему, когда и, главное, для чего нам
должно было бы стать легко. Не нужно ли бояться легкости больше, чем
трудности. —
Поэтому, — чтобы не пройти мимо вызова Хайдеггера, благодарить
напоминание, которое для нас скрывается в скандале вокруг него, что
он задевает, — пусть нам, хотя это постоянно должно казаться в мо
ем неумелом изложении, пусть никогда не кажется, что Хайдеггер ино
гда укладывается головой на подушку и впадает в приятные успокои
тельные иллюзии. Мы уже научились читать Соловьева так, что ког
да он, например, в конце «Теоретической философии», третьей статьи
«Форма разумности и разум истины», рисует неожиданную после край
него скепсиса идиллическую картину, как эмпирическое индивидуаль
ное Я отказывается от себя, бросает себя в великие и спасительные ру
ки самой Большой Истины, то мы уже не пропустим слова о «сверхлич
ном вдохновении»
1
, т. е. о вдохновении, которое не от человека идет, как
и истина — не человека истина, и понимаем, что человеку, собственно,
оставлен скепсис, прожигающий, настолько, что я все не могу успоко
иться, что единственная адекватная формула такого скепсиса, та, кото
рую я сказал, — что рассчитывать на уход от сомнения, на спасение от
обмана могут только вещи, которые не существуют.
У Хайдеггера нам или кому-нибудь тоже могло показаться, что при
сутствие, существо человека, укоренено в истине, все и состоит (консти
туировано) из отношения к бытию-миру, к бытию мира и миру как бы
тию. Но в начале книги было сказано: присутствие самое близкое к нам,
именно поэтому к нему лежит самый далекий путь. Оно как раз — са
мое трудное и редкое. Язык — это «артикулирование» смысла бытия.
Язык: речь, Rede. Это как раз то, что только издалека просвечивает, мо
жет быть, в высокой поэзии; может быть, у Парменида или Гераклита, —
но поверьте, я начал чтение философии с Розанова и Парменида вовсе
не потому, что самый первый курс лекций Хайдеггера, еще приват-до
цента во Фрейбурге, был о Пармениде; я этого не знал, только недав
но узнал, что Хайдеггер начинал с Парменида, курс этот не сохранился,
первый сохранившийся курс, «К определению философии», мы с вами
смотрели, — во всяком случае, может быть, опять самый долгий и труд-
1. В . С . Соловьев, Сочинения в 2-х томах, т. ι, Москва, 1990, с. 822.
335
СЕМИНАР 11.11
ный путь ведет к слову, к речи, к языку, — на каждом шагу мы имеем де
ло исключительно с Gerede, буквально «наговоренное, наговаривание»,
когда произнесение звучащего слова, воспроизведение написанного ста
новится самоценным процессом. Резкий перевод Gerede — болтовня,
французский перевод мягче: on-dit, слухи, сплетни, «люди говорят». До
стоинство этого перевода в том, что говорят в говорении действитель
но «люди», и когда автор статьи в журнале, газете подписывается своим
именем и гордится, что он напечатался, то говорят его голосом все рав
но «люди» (вопрос с так называемой «внутренней цензурой», которая
гораздо сильнее всякой внешней цензуры: если хотите, внешняя цензу
ра — благодеяние, спасение от внутренней, перекладывание ответствен
ности за говорение на другого; не цензура, а запрет в цензуре портит
слово), и даже если он печатает совершенно смелую статью, он смотрит,
как люди бывают смелые, как у людей получается быть страшно смелы
ми и все-таки остаться на плаву, как это делается, какими мудрыми при
емами не выключить себя впредь из числа пишущих, печатающихся.
Gerede, можно перевести условно «разговаривание», чтобы слышалось
«заговаривание», — это вовсе не артикуляция бытия-в-мире, не артику
лированное понимание открытого простора, а как раз наоборот, его за
крытие, замыкание просвета, сокрытие внутримирового сущего. И для
этого вовсе на требуется какого-то намеренного обмана. Разговарива
ние не имеет характера сознательного, намеренного выдавания одного
за другое. Чтобы размыкание, раскрытие превратилось в замыкание, за
крытие, достаточно просто беспочвенного говорения, проговаривания,
переговаривания. Дело вот в чем: просто все сказанное, говоримое всег
да продолжает пониматься в своем существе, как говорящее, открыва
ющее. Так или иначе это ожидание от речи остается, даже когда речь
становится речами. Разговаривание, Gerede поэтому — с самого начала,
просто из-за того, что в разговаривании упущено снова и снова возвра
щаться в началу, к почве, к сути того, о чем говорят, — [становится] за
крытием, ис-кажением . Речь кажет, разговаривание искажает, без наме
рения, просто потому, что забыло быть словом. Разговаривание как буд
то бы такое длящееся для того, чтобы постепенно достичь понимания
того, о чем речь; но наговоренное получает статус, скажем, «литерату
ры по данному вопросу», тема становится литературой, и литература за
крывает тему.
Присутствие раньше, гораздо раньше, чем прийти к самому себе, уже
«разговорено», масса вещей для него уже «сама собой разумеется», или
336
19 НОЯБРЯ 1991
просто «само собой», и вот что: уже никогда присутствие уйти от это
го «само собой разумеется» не сможет, правильное понимание начнет
ся не когда человек «отбросит», и «возвысится», и «очистится», — а вну
три этой прежде всего данной повседневной самопонятности, внутри
этой массы неведомо откуда взявшегося знания, в опоре на эту самопо
нятность и это знание и против такой самопонятности и такого знания.
Все равно ничего, кроме того, что «люди» наговорили, у присутствия в
распоряжении нет и откуда, собственно, взяться? Еще раз: очень важно,
что повседневная закрывающая самопонятность не может быть отодви
нута, чтобы там на чистом месте обнаружилось природное, нетронутое,
подлинное понимание бытия, а и желание отодвинуть, расчистить —
тоже принадлежит усредненному повседневному знанию, и представ
ление о чистом-природном-нетронутом — тоже целиком принадлежит
ему, и желание вырваться наконец на простор чистого-природного-не
тронутого — это желание, приводящее к затаптыванию всего, принад
лежит к одному из главных жестов той самой «само собой разумеющей
ся» повседневности, которая все «разговорила». А как же, разве не надо
уходить от искусственного, к естественному, чистому, природному, не
тронутому? Конечно надо, и так далее. Такое «надо» — само собой раз
умеется! Оно с ходу опрокидывает всякую философскую попытку под
нять голову, чтобы думать. И в восстании против «само собой разумеет
ся» — то же «само собой разумеется», надо восстать! Не бывает, чтобы
присутствие незатронуто, несоблазненно этой разговоренностъю ми
ра поставило себя перед простором мира «самого по себе» и созерца
ло феномены. Господство разговаривания заранее уже распределило все
возможности присутствия, «люди» предопределили, как надо думать и
чувствовать.
Разговаривание — полно понимания мира, оно всё о понимании ми
ра, только не настоящего. Разговаривание не имеет корней в настоя
щем мире, оно парит без опоры, — но именно в этом парении дает о
себе знать то, что присутствие укоренено именно в мире, а не в вещах.
Для другого существа, вписанного в экологию, такое парение речи без
опор было бы невозможно. Таким беспочвенным может быть только
существо, раскрывающееся не в отношении к сущему, и разговарива
ние — вовсе не недоразумение, не провал, а самый каждодневный, са
мый упрямый и убедительный способ того, как существо присутствия,
конечно не понятое, в своей реальности вплотную придвинуто к нему
самому. Загадочное существо: которого среда не природа, а разговари-
22-2015
337
СЕМИНАР 11.11
вание, заведомо безысходное, но удивительное в своем безопорном па
рении.
Любопытство, жажда нового. Повседневное существование, оно
одержимо тенденцией «видеть», что-то новенькое. Это — тоже вырван
ная из корней черта присутствия, его экзистирования в просвете; но
любопытство, жажда нового становится способом непребывания при
ближайшем. Беспокойство, увидели ли мы достаточно нового, и никог
да не увидели, потому что слишком много почему-то старых, уже уви
денных вещей окружают, что делать! Любопытство — это постоянная
возможность разбрасываться. Любопытство — настолько искаженная
форма того удивления, которое начало философии, что наоборот спо
соб ухода от удивления: угашения его, потому что новое обречено стать
старым. Любопытство всё просмотрит, всё прослушает.
Разговаривание и любопытство — жажда нового — два феномена, ко
торыми характеризуется повседневность присутствия, и есть третий:
двусмысленности т. е. в конце концов нерешенность и невозможность
в принципе решить, что же открыто и что нет, что решено и что не ре
шено. Я от себя, в своих соображениях уже несколько раз подходил к
этому — в частности, в отношении Хайдеггера: чем больше мы слышим
разговоры о нем, чем больше мы склонны сказать: А, Хайдеггер! опять
Хайдеггер! — тем меньше мы решили, а это надо решить, конец он фи
лософии, как считают, например, П. П . Гайденко и Р. А. Гальцева, или это
главная мысль XX века, «тайный король современной философии» (Хан
на Арендт). И вот как мне ни хочется перейти к § 37 Бытия и времени (а
всего 8з параграфа), Die Zweideutigkeit: всё выглядит так, словно уже по
нято, схвачено, обговорено — но по сути вовсе нет; или наоборот, вы-
глядит еще совсем не освоенным — однако понято. — Но мне не хочется
далеко отходить от той формулы, о которой я говорил на первой паре * и
которая мне самому кажется очень странной: она касается нет.
«Was ist Metaphysik?», 1929, — сделаем перерыв и забежим вперед, по
тому что меня не отпускает тема.
11.12
26.11 .1991
Двусмысленность, Zweideutigkeit — это то странное состояние, ког
да жадное любопытство, ищущее нового, мгновенно погашается узна
ванием: а да, это вот что; ну да, мы знали, этого и следовало ожидать;
конечно, это носилось в воздухе; это понятно, это мы знаем. Все мгно
венно понято, схвачено, разговорено — и нет! опять не понято, не схва
чено, не договорено! вдруг новый поворот разговора снова сосредото
чивает на себе жадное любопытство, чтобы снова все оказалось легко
узнаваемым. Готовность к двусмысленности, к тому, что все окажется
известным и тем не менее оставит снова ожидать самой последней, са
мой свежей новинки, обеспечивает каждому право быстро, мгновенно
опознавать и обговаривать все встречающееся и случающееся, всякий
уже заранее готов обо всем судить, в том числе и том, что должно быть,
должно сделаться. Настоящие вещи делаются медленно и требуют дол
гого внимания; любопытство схватывает их мгновенно, чтобы снова и
снова к ним возвращаться — но вот что: как к уже старому, «а это уже
было», «то есть конечно что-то тут есть, но все-таки это уже старо».
Вот обычные, повседневные способы того, как присутствие открыва
ет себя себе самому в своем мире: разговаривание, любопытная жаж
да нового и двусмысленность. Бытие присутствия проходит в этом ко
ридоре, вернее, на этой наклонной плоскости: по ней оно скатывается,
проваливается, падает. «Руиной», так называл это раньше Хайдеггер,
мы читали, — неудержимым соскальзыванием, проваливанием при
сутствия в вещи и обстоятельства «мира» (в кавычках), ускоряющим
ся; сейчас он говорит о Verfall, и по сходству с грехопадением думают
о безобразии, пороке, грехе — но нет: не было никакого чистого изна
чального высокого состояния, из которого присутствие провалилось,
его первое состояние и есть обставленное разговариванием, любопыт
ством и двусмысленностью (удобной, всё и всех устраивающей) прова-
ливание, проскальзывание в вещи «мира». Чистота вещь, конечно, хо
рошая, но и вообразить себе чистоту, и сформулировать, и возвращать
себе ее мы можем уже только изнутри той проваленности в вещи ми
ра, раньше которой мы ничего в себе не можем знать. Мы, да, хотим вер
нуться от несобственности присутствия к его чистоте, но не так, буд-
22*
339
СЕМИНАР 11.12
то чистота когда-то раньше до нашей теперешней проваленности была.
Наша «падшесть» — и есть все, что мы можем знать о «непадшести»; или
еще даже так: единственное нам сейчас доступное в принципе прибли
жение к нашей непадшести — это наша теперешняя падшесть; все дру
гое будет — скажем искусственно созданная наконец уже чистая куль
тура — дальше от подлинности, чем та какая есть нечистая. Бытие в ми
ре в своем экзистенциальном модусе, т. е. в истинном модусе, — это и
есть «проваливание», проваленность в вещи мира, и какой еще может
быть другой способ для брошеного бытия. Какой еще другой способ раз
мыкания понимающего бытия в мире, кроме разговаривания. Какой еще
другой способ схватывания мира, кроме жажды нового, любопытства.
Да, все это делает экзистенцию присутствия беспочвенным парением,
на разговаривании, которое в свою очередь держится на разговарива-
нии. Да, из-за двусмысленности — как нормы — всё понятно и ничего не
понятно, присутствие одновременно повсюду и нигде. Но ничего друго
го просто и нет. Все мечты о стабильности — это еще один способ про
валиться, в еще более быстром скольжении, в вещи «мира», еще цепче
схватиться за них и за еще более произвольный набор их. Универсалии^
приведем наш пример, всеединство например, — прекрасная вещь, но
ведь «реально» они бывают где, как? — только в говорящем отдельном
присутствии, Dasein. А что вы хотели другого? Чтобы присутствие — да
какой силой? — оставалось в своей чистоте, не заманенное, не соблаз
ненное миром? Каким образом, если когда еще мир откроется какой он
есть, а для нас он с самого начала, для вот этого моего присутствия, со
блазн, т. е . не имеет черты соблазнительные, а сам весь и есть приманка,
соблазн провалиться в него? «Бытие-в -мире само по себе соблазнитель
но» (235> 177)> мой пример: первое протягивание крошечным младенцем
даже не руки к погремушке, а еще раньше, рта к материнской груди, —
уже проваливание в мир, такой соблазнительный; да и первое дыхание
тоже, а еще раньше — с какого соблазна начинается вообще жизнь?
А раз-говаривающее понимание — оно чем движимо, если не раздви
гающимся миром, который опять же не свойство раздвигаться имеет, а
сам и есть словно раздвигание, простирание простора, — заманиваю
щее возможностями, тем более что господствующее в современном раз
говаривании понимание мира что и делает, как не понимает мир в смыс
ле обещания обеспеченности, развертывания полноты всех возможно
стей бытия, осуществления его подлинной сути? И здесь тоже, хотя и в
другой форме, чем для младенца, мир искуситель, манит ринуться в его
340
26 НОЯБРЯ 1991
вещи, — никаким другим способом, нем таким способом встречи с ма
нящим, соблазнительным, миром, — вернее, который и есть искушение.
И опять же: не так, что мы в эпоху прогресса живем в ложном представ
лении о мире, что он обеспечит обеспеченность, развитие всех возмож
ностей человека, — нет это не ложное представление о мире, а искуша
ющее существо мира тут само дает о себе знать. — Мир искушает, за
манивает ринуться в его вещи, но он же и успокаивает, только не в том
смысле, что со временем это стремление к вещам, внутрь вещей успока
ивается, а в том, что с этой ускоряющейся деятельностью внутри мира
«всё в порядке», так и надо, а что еще надо в мире, как не действовать?
Конца этому затягиванию в мир нет. Чем больше присутствие «осущест
вляет себя» в таком действовании, тем больше отчуждается от себя —
тем, что за активностью его собственная возможность быть от него
скрывается, — его собственная возможность быть тем, чем присутствие
уже и было с самого начала, отношением к миру, от которого, от это
го своего раннего отношения к миру (что оно, как я говорил, относит
ся к миру), присутствие уходит, именно когда проваливается в мир. За
вязывая с миром все более тесные, активные, глубокие отношения, при
сутствие теряет свое раннее отношение к миру, все меньше и меньше
имеет шанс вернуться к нему. — Поразительно, что первичное отноше
ние к миру сохраняется — своей тенью — еще и в том, что не только мир
весь, так сказать, прочесывается без устали, но рядом с миром опять же
идет и присутствие, которое и себя тоже, как мир, прочесывает во вся
кого рода изучении, психологическом, социологическом, характерологи
ческом, типологическом и каком еще, т. е. и тут присутствие разделяет
судьбу мира, и тут они вместе — объект научного исследования, — толь
ко, конечно, как забытые в своем существе. И как в мире запутывается,
так присутствие все больше, в конце концов безнадежно запутывается в
себе же самом.
Феномены искушения, успокоения, отчуждения, самозапутывания —
специфические черты проваливания в мир, и в собственное бытие. При
сутствие обрушивается в себя самого из себя самого, из своего суще
ства — в парящую беспочвенность и ничтожность несобственной эк
зистенции (экзистенции людей), но ему не кажется, что проваливается:
наоборот, все истолковывается как «выход из ограниченности», погру
жение в «конкретную жизнь». Человек встал на ноги, он активен, дея
телен, он имеет в своем распоряжении все средства современной науки,
техники, он если их не имеет, то ими овладеет.
341
СЕМИНАР 11.12
Брошеность не одноразовая: каждый раз присутствие брошено и бро
сает себя на вещи. Присутствие, пока оно есть, существует в этом броске
и закружено как в вихре, снова и снова выброшено в свою несобствен
ную форму.
Как можно было говорить, что для присутствия дело идет о бытии,
если оно в своей повседневности, т. е. значит всегда, потому что никако
го другого, кроме повседневного, существования нет, — провалилось в
вещи и отпало от себя? Так кажется, пока мы представляем себе присут
ствие как изолированный субъект под названием Я. Тогда конечно, да,
получится, что он отпадает от себя, от каких-то своих глубинных или
каких-нибудь еще качеств, от нетронутой жемчужины своей души или
как-нибудь еще. Но такой субъект — конструкт, мимолетное (даже ес
ли существующее 200 лет) образование, образованное в каком-то пово
роте вихря, в котором кружится, закружено провалившееся в мир при
сутствие. Закруженность в вихре брошеного бросания себя как раз и
говорит о том, что только о бытии, а его существо бытие-в-мире, при
сутствие и заботится — даже тогда и несмотря на то что само себя за
было, собой быть не перестает, — вот странность, продолжает быть тем,
чем себя не знает, и ничем другим. С этим странным обстоятельством
мы встречались, когда читали Розанова «О понимании»: в здании нау
ки нет понимания, никто к нему не спешит, оно забыто, — и в здании
науки ничего кроме понимания по существу нет и не может быть, неот
куда взяться. Бытийная конституция присутствия, так сказать, прочнее
его самого, и когда присутствие от себя бежит, оно снова вбегает в себя,
только себя не помня и ничего этого что с ним происходит не замечая.
Философия — о том, чтобы заметить. Только потому присутствие и мо
жет провалиться в мир, что оно — понимающее и настроенное бытие-
в-мире и забыло об этом. И наоборот: его собственная экзистенция не
где-то поодаль от провалившейся в мир повседневности, а в «экзистен
циально модифицированном схватывании» этой самой повседневности,
в ее перемене — которая начинается с того, чтобы ее заметить.
Теперь надо «подытожить» все эти вещи: бытие присутствия есть за
бота, die Sorge. Так существо присутствия схватывается в цепом, сво
дится к единой простоте. Не так, что все сказанное выше будет сумми
ровано: не было исследование объективирующим, и не станет. Но если
присутствие открыто самому себе в понимании-умении и в настроении,
а понимание-умение и настроение переплетены между собой, то нет ли
такого понимающего настроения, которое бы маркированным образом
342
26 НОЯБРЯ 1991
раскрывало существо присутствия? Да, это понимающее настроение за
боты; тем более просто сводящее к одному целому это существо, что су
ществует традиция: человек себя, свое существо понимает как заботу.
Дальше феномено-логическая аналитика присутствия может не идти, с
этой ступени начнется подход к главной теме книги, смыслу бытия —
т. е ., я уже говорил, к бытию как смыслу. С бытием дело обстоит так: оно
не существует. Мы не можем изучать его как вещь, которая стоит где-то
расположена сама по себе и дожидается, когда на нее будет направлено
исследовательское внимание. Среди вещей, которые таким образом за
пасены для мыслителя, чтобы он занялся ими как исследователь, бытия
просто нет. Мы изучаем механизмы, геологию, строение белка, исто
рию культуры, если мы после этого захотим еще изучать бытие, то про
махнемся: предмета не окажется. Еще раз: бытие не существует. «Суще
ствует» в отношении его надо брать в кавычки. Надо еще спросить, как
оно существует. Или мы совсем бессмысленно-случайно говорим «бы
тие» о человеке — или «бытие» человека это единственноеу через что мы
имеем шанс понять бытие: через свое умение быть (умение-понимание).
Мы каким-то образом понимаем быть. Маргиналия: понимаем в смыс
ле слышим (244> 183 а). По-русски можно было бы сказать лучше: пони
мание бытия — в том смысле, что бытие нам внятно, не одной из наших
способностей, а всему нашему существованию: присутствию. И опять
же: традиция сближения бытия и истины — в русском языке, между
прочим, одна из возможных этимологии «истины» сближает ее с «есть»:
истина то, что есть на самом деле, настоящим способом есть, а не так,
как есть вообще все на свете, — какое -то другое, настоящее «есть» слы
шится, похоже, в русском слове «истина».
Так что «забота». Но сначала: из настроений, исходных способов, ка
кими присутствие открыто самому себе, — нельзя ли назвать особым,
маркированным, т. е . и более постоянным, и более влиятельным, тре
вогу? Посмотрим. Присутствие от своей брошености спасается в «лю
дей» — живи как люди — ив организацию своего «мира». Глядя на лю
дей и на «мир» в кавычках («люди» это, по-русски, тоже «мир» в кавыч
ках, мир как общество, как еще до сих пор могут сказать, «возьмемся за
дело всем миром»), — глядя на них, присутствие себя как раз упуска
ет из виду, а зря: и «люди», и «мир» ему ближе, чем оно думает. От себя
присутствие бежит к «людям» и к «миру»: смешно! но это так. С собой
какое оно, присутствие, есть, ему страшно, тревожно: слишком на всех
ветрах. С «людьми», в своем «мире» присутствие успокаивается, мир на
343
СЕМИНАР 11.12
него нисходит. Или не нисходит? Или тревога никуда не девается, тем
более, что присутствие не знает, от чего оно бежит, — от себя бежит, —
когда бежит к «людям» и «своему миру»?
Сначала о жути. Это другое, чем страх. Страшимся, боимся скажем
чего-то злого внутри мира. Жуть, когда не по себе, жутко, до ужаса, ког
да тревога разливается и всё захватывает, — говорят, «иррационально»,
«беспредметно». Но тем более неотразимо. Привычный, мой мир — мы
уже читали в прошлой паре, в «Что такое метафизика?» об этом опы
те*, — с ним происходит что-то неладное, не с его частями, а весь он по
шатывается, не держит, прохудился. Что случилось, откуда тревога до
жути, до ужаса? Не знаем. Ничего собственно в мире не случилось, «бы
вало и хуже», — но стало вдруг «не по себе». Когда «не по себе», жут
ко, прежний «наш мир» оседает, на него надвигается неуловимое, неис
правимое Ничто — только вглядимся: еще рано думать, что «не по себе»
нам от потустороннего; пошатнулся «наш мир», потому что приоткрыл
ся настоящий мир, который совсем не такой подручный, услужливый,
как «наш мир». Мир, настоящий, без кавычек — странное нечто, кото
рое не что, и значит по сравнению со всем, с чем мы имеем дело, — ни
что, т. е. чего нет, но само это нет есть так, с такой полнотой, с такой
яркостью жути, какой никакое что, известное нам прежде, нам не да
вало. Мы встретились, в опыте тревоги до жути и ужаса, с ужасающим
ничто, которое есть так, что вплотную придвинулось к нам и нас тес
нит. Всё! То, что мы считали своим «миром», ни «люди», нам уже не по
мощь, не подкрепляет. Открылся мир как он есть — нечто, ничто (здесь
русский опять лучше немецкого). Мы перед ним — чистая брошеность,
полное одиночество: мы в этом мире, перед присутствием этого не
что — сами тоже присутствие, тоже, вопреки всему, что о себе дума
ли и решили, тоже нечто, — мы как никогда ценим то, что было: уют,
свойскость «нашего мира», с травкой тропинкой ступеньками комна
той любимыми вещами. Вещи впервые нам дороги и близки, как никог
да раньше не были. Так же дороги, близки и драгоценны люди. Это де
лает присутствие настоящего мира, исходного нечто. Мы бежим от «не
по себе» настоящего мира, который нам грозит, в притертый, прояснен
ный, истолкованный мир, который по нам. Вне всего того, что мы можем
знать, — и ближе, теснее. Этот опыт — маркированный: в нем присут
ствие встречается с Ничто, которого нет настолько маркированным, не
выносимым образом, что ничто существующее по интенсивности, пол
ноте не сравнится.
344
26 НОЯБРЯ 1991
Страх — это понимание? Да: понимание принципиальной непонят
ности того нентоу которым выступает чистый, не усвоенный мир. Мой
пример: первый крик человека, как животные при рождении похоже не
кричат — уже от встречи с тем, что слишком, что захватывает и охва
чено быть не может. Умение-понимание в своем самом настоящем, под
линном виде — это понимающее-непонимающее умение встретиться с
таким миром. Присутствие брошено в такой мир и оставлено самому
себе. Вы понимаете, что эта исходная и самая охватывающая возмож
ность присутствия не может не быть упущена — не потому, что присут
ствие на самом деле «мало» для такого неохватно жуткого мира и не мо
жет его вынести, а наоборот, потому что смогло его встретить, и встре
ченный мир как нечто-ничто, непомерный, показал вещи, приблизил к
ним — как я читал прошлый раз из «Что такое метафизика», в сущно
сти развертка § 40 «Бытия и времени», и как говорил сейчас. Мой при
мер: если я не ошибаюсь, именно потому, что чувство мира как неохват
ного нечто еще близко раннему человеку, ребенку, — именно поэтому
он так безоговорочно принимает все то, во что он брошен. Хайдеггер:
бытие «падает» в вещи потому, что, замечая это или нет, бежит от жу
ти, которая большей частью остается латентной. Забота как само бытие
присутствия здесь неизбежна, потому что присутствие всегда оказыва
ется и упустившим встречу с миром без кавычек — и вступившим из-за
этой встречи в отношения с тем, к чему его отослало небытие мира — с
сущим: мир как не существующий не может не быть упущен именно из-
за энергии, с какой он, жуткий, от которого «не по себе», отсылает к то
му, что, в отличие от него, наоборот, чисто сущее и не ничто. Вот так.
Я хотел бы, чтобы вы подумали, насколько этот пейзаж «Бытия и вре
мени» — пейзаж Парменида, с курса о котором не случайно 28-летний
Хайдеггер начал свою приват-доцентуру во Фрейбурге. Мир без кавы
чек, или бытие, это первичное, «первичнейшее», говорит Хайдеггер (248,
187 а), нечто (маргиналия: так что никакого тут «нигилизма»), которое
повертывается лицом ничто, потому что нет никакого что, значит ни
чего нет, — и отсюда всякое «что», всякое сущее впервые проступает,
возникает — благодаря бытию, которое ничто, и Парменид не прочитан,
пока это у него не понято, благодаря ничто, открывшемуся в первичней-
шем нечто, открывается всякое что, всякое сущее как именно оно само.
Мы имели дело со словами, «сущее», «бытие» и определяли, что они та
кое — каким-то образом развертывали. Интересно, каким? Откуда нам
вообще известно «сущее», «бытие», откуда они? После Хайдеггера фан-
345
СЕМИНАР 11.12
тасмагория кончилась, мы знаем бытие и сущее через то, как нам откры
то наше бытие, в — обычно латентной — жути встречи с первичным не
что; в том, как оно бросает нас к тому, с чем нам уютно, по-домашнему,
«по себе». Да, это трудно; да, мы мало получаем здесь, кроме того, что на
чинаем замечать, как странна была наша уверенность, что уж что такое
бытие и сущее, мы должны же знать, самые простые вещи — словно их
нам продиктовал обязательный авторитет с неба. Нет в Библии самих
этих понятий нет. Хайдеггер сказал, что если бы писал богословие, то не
применил бы и самого слова «бытие».
Жуть, латентная, от бездны; уют, драгоценный, желанный, от воз
можности взяться за подручное, наличное сущее, существующее: оно
вот существует, надежно, постоянно, и оттого доверительно. Вот во
что прежде всего брошено наше присутствие; и этим предопределе
на его сущность, забота: о сущем, о латентном, об упущенном. Забота
включает, стало быть, многое, она вовсе не сводит всё к простому точеч
ному началу — ас какой стати, по какой привычке мы думали, что все
имеет простое точечное начало, вроде, скажем, точечного Я, или субъ
екта? По какому временному сочетанию и недомыслия, и предрассудка
у нас возникло ожидание, что всё можно свести к одному простейшему
первопринципу? Страшно и подумать, почему нам хотелось, чтобы так
все вышло. Не хочется и думать.
Я, когда понимаю, что это так, — что с какой стати нам надеяться, что
все вокруг, в мире, в жизни можно свести к одному простому принци
пу в моей голове, — я чувствую разное, и тревогу, как же теперь быть, но
для тревоги вроде бы и так много разных оснований, но тут другая еще
подкладка тревоги: я замечаю, что у меня словно отнято что-то, за что я
держался или что по крайней мере было постоянным в моем хозяйстве.
То же — когда я понял, что зря я думал, что различение бытия и суще
го ясно: снова у меня словно отнято, и первая реакция: отбирают! Та
кое ясное, такое удобное различение, его теперь не стало: как бытие во
прос, до такой степени, что оно и существует, и не существует, — так
то же происходит и с существующим, не может не произойти: оно под
вопросом, если оно высвечивается только в свете (свете или темноте?
«светлой ночи», говорит Хайдеггер) ничто. Мы расстраиваемся, когда у
нас пропадает что-нибудь вещественное, из домашнего хозяйства, — и,
оказывается, мы так же расстраиваемся, когда пропадает что-то из мыс
лительного богатства, не в смысле — когда мы что-то забываем, скажем
стихотворение, а когда от привычного различения, скажем, бытия и су-
346
26 НОЯБРЯ 1991
щего мы отказываемся, хотя это очень редко бывает, мы за наши пред
ставления держимся, похоже, прочнее, чем за вещи домашнего хозяй
ства. — Разве так должно быть? Когда нам навязывают представления,
пусть они, мы не знаем, окажутся хорошими, — мы принимаем не все:
принимаем то, что принимаем. Во всяком случае, это как с приобрете
нием или не приобретением вещей: мы словно обустраиваем свое вну
треннее хозяйство — и я не уверен, что так должно быть, что мы долж
ны иметь систему представлений. Что мы обещали — то обещали, это
святое дело; за что взялись, то не надо бросать — но сохранение систе
мы представлений, всегда довольно сложной, всегда взявшейся мы уже
забыли точно откуда, — ведь, в самом деле, совершенно смешно же ду
мать, что у Парменида должно было быть такое же понимание сущего,
бытия и небытия, как у нас, или что из контекста его текста мы поймем,
что имеется в виду под сущим, бытием и небытием? Мы не можем на
деяться, что из контекста интересного текста, например стихотворения,
даже длинного, поймем, что имеется в виду под тем или этим из ска
занного в нем.— Надо иметь опыт, по крайней мере что-то похожее на
то, что сделало поэта, что сделало поэта поэтом. Как при Пармениде и
Гераклите, так сейчас, ничуть не лучше: мы ходим с целым сложным хо
зяйством доксы, и это хозяйство как всякое, требует заботы — всякое
хозяйство, конечно, требует заботы, но это хозяйство доксы, мнения,
представления, не требует ли оно только одной заботы — чтобы его ра
зобрать, разобрать во всем широком смысле слова, до основания, почти
как если бы правда была то, тот мощный импульс, что старый мир нуж
но разрешить до основания, то в первую очередь и начинать бы надо
было с хозяйства доксы
1
.
Теперь. Мы читали у Хайдеггера, что уже в 1919 г. он говорил об оза
боченности как основном отношении к вещам мира; сейчас мы видели,
как все модусы бытия присутствия, с разной стороны и в разном смыс
ле, оказываются в своей основе заботой.
ι. Вообще философия — что такое? Хайдеггер: не знаю. Не установочное. Возвраще
ние — чего? Вернемся к Хайдеггеру, посмотрим: он как раз сейчас вернется [...]
11.13
3.12 .1991
Хайдеггер обрадовался, когда в 1923 г. набрел в статье Карла Бурдаха
«Фауст и забота» на басню Гигина, где Забота, Cura в задумчивости что-
то такое слепила из глинистой земли, и когда Юпитер вдохнул в это но
вое существо spiritum и существо ожило, оно чуть было не получило се
бе имени тоже «Забота», но потом все-таки победило имя «Человек»,
homo: homo vocetur, quia videtur esse factus ex humo. Но ничего, не беда:
Кура тоже осталась при своем, потому что и prima finxit, ей честь созда
ния, и teneat quamdiu vixerit, будет держать его в своих руках все то вре
мя, как он живет.
Это Гигин, грамматик и баснописец эпохи Августа. У стоиков забо
та, μέριμνα — постоянный термин; и он переходит в Евангелие. У Сене
ки, который считается стоиком, в последнем письме к Луцилию, 124-м,
боги и люди отличаются от прочих тем, что наделены разумом, и одно
го — бога — делает хорошим его природа, другого, человека — забота.
Августин и Аристотель, от них, говорит Хайдеггер в примечании, пыта
ясь понять, прочесть августиновскую антропологию и аристотелевскую
онтологию, он обратил внимание на «заботу». — Гигин, Сенека, Авгу
стин, Аристотель, Хайдеггер — что означает этот ряд? — Только одно:
что мы не «без определенного места жительства», что у нас есть дом, дом
европейской культуры, хорошая большая прочная вещь. Что нам теперь
поэтому продиктовано, как мы должны думать и понимать, отсюда не
следует. Что Хайдеггер принадлежит той или этой, европейской или, как
думают еще, дальневосточной или, как еще думают, античной, или демо
кратической, или внехристианской традиции мысли — это значит толь
ко, что мы еще боремся с призраками. Хайдеггер не «принадлежит», он
событие. Хорошо бы мы могли всерьез мечтать быть событием; а если не
можем, то хоть не быть в стороне от него, как Хайдеггер — не в сторо
не от дома, от события, которое называется европейской культурой, или
европейским чудом.
Перед вторым, чуть меньшим, последним разделом неоконченной
книги «Бытие и время», разделом который называется «Присутствие и
временность», нам остались два больших параграфа 43 и 44» тема пер
вого — реальность, тема второго — истина. Мы помним: присутствие,
349
СЕМИНАР 11.13
Dasein в заботе, основном модусе своего бытия, заботится о проник
новении в то и об охвате, «теоретическом» и «практическом», того, чем
оно с самого начала охвачено — мира. Ширится охват внутримирово-
го сущего, и присутствие в ходе этого расширения своего — падения в
мир — одновременно становится все ближе к своему существу, которое
бытие-в-мире, и одновременно все невозвратимее за-бывает его, все бо
лее склонно считать будущим результатом своей деятельности то вхож
дение в мир, принадлежность к миру, которые раскрыли ему вещи ми
ра. В этом растущем охвате «мира» бытие остается тем, вокруг чего, в
выходе к чему экзистирует присутствие, но «бытие» теперь тоже прихо
дится брать в кавычки. Подлинным бытием начинает считаться реаль
ность, или действительность. Realitas от res, вещь — улавливает как бы
саму вещность вещей, что в вещах действительно вещи, их существен
ность, субстанциальность — так из вещей, из самой сути вещей извле
кая высшее онтологическое понятие, бытия. Бытие должно быть реаль
ное бытие, действительное бытие. Неожиданно однако одновременно с
этой ориентацией, переориентацией на реальное бытие в новоевропей
ской философии возникает проблема реальности: оказывается, что ве
щей, которые, казалось бы, вот они, не достать. Оказывается, что мы с
вещами и хотели бы иметь дело, но вещи заслонены от нас нашим пред
ставлением о них — снова и снова мы имеем данные восприятия вещей
в своем сознании, а к самим вещам как пробиться? Острейшей стано
вится эта проблема — проблема реальности — новоевропейской фило
софии. Внутри этой проблемы несколько вопросов, ι. Вообще существу
ет ли реальность за пределами сознания. 2. Можно ли удовлетворитель
но доказать существование внешнего мира, раз мы имеем дело всегда
и только с данными сознания, Соловьев занят в своей «Теоретической
философии» этим, з· Хорошо, допустим этот скандал, недоказанность
внешнего по отношению к сознанию мира, как-то разрешился, реаль
ность вне нас доказана, — но ведь она имеет слои, и «вещь в себе», со
всем безотносительно к нам, — как ее достичь, познать? 4· В чем вооб
ще смысл этой вещи, реальности, материальна она, или духовна, или как
еще? Эти вопросы связаны. Скажем, материальна реальность или духов
на — связано с проблемой внешнего мира, потому что если материаль
на, то она вне нас, а если духовна — то где-то внутри нас, в глубине на
шего сознания; или, может быть, есть духовность — скорее всего — и
где-то вне нашего сознания. Опять же, как говорить о том, какова реаль
ность без метода ее познания. Реальность познается, она открывается
350
3 ДЕКАБРЯ 1991
познанию, — или, может быть, интуиции, но во всяком случае какому-
то разделу сознания — или подсознательного, которое все равно будет
определено через сознание, не наоборот: как то, что еще не вошло или
уже не входит в сознание, но входило и может войти, в процессе анали
за, рационализации. Так или иначе, познание реальности — дело созна
ния, и вот что интересно: реальность, даже реальность идеализма, т. е.
Бог, должна быть независимой от сознания, это обязательное требова
ние к ней, реальность зависимая от сознания нехороша, ненастоящая.
Но сознание — тоже реальность, тоже действительность? Ах вот это уже
большой вопрос, и не проясненный. Вообще статус сознания не прояс
нен, слабо прояснен. Если сознание — тоже реальность, то проблема ре
альности и выхода к реальности приобретает особый оборот и особую
сложность. Вроде бы как ясно, что ни реальность, ни подступы к ней не
понять без прояснения того, чему она реальность и откуда идет ее по
знание — без прояснения сознания, без ответа хотя бы на вопрос, поче
му сознание так выделилось из реальности, что понадобились мосты. Но
это как раз считается само собой разумеющимся — что сознание обосо
блено, что оно отражает реальность. И заранее само собой разумеет
ся, что сознания (с его подсознанием) для реальности достаточно. Ска
жите мне, может быть я не прав, может быть эти вопросы не повисли, на
них есть ответы, — почему сознание выделилось из реальности, почему
оно отражает реальность, почему оно может отразить реальность.
У Хайдеггера познание имеет фундамент, оно фундировано тем, что
присутствие, познающее, в своем основании — это бытие-в -мире, ис
ходно умеющее быть в мире и потому имеющее доступ к сущему как
внутримировому и только как внутримировому. Раньше познания —
забота, развертывающая, артикулирующая изначально уже имеющее
ся отношение к сущему. Познание — форма экзистенциальной заботы
присутствия, принадлежащего к миру. В этом свете вопрос, есть ли во
обще вне нас мир, какова его реальность — вопрос, который ставит при
сутствие, которое есть по своей сути бытие-в-мире, ему не свойствен
но быть в мире, а оно бытие-в-мире, — в этом свете вопрос о реальности
внешнего мира бессмыслен. Вдвойне бессмыслен потому, что не удосу
жился спросить и о мире: что он, охватывающее целое или сумма, то
плюс это плюс еще то. Мир без кавычек разомкнут, открыт для присут
ствия просто потому, что присутствие есть — открыт для познания и
поведения; «мир» в кавычках — в который падает присутствие — тоже
в возможности, тем самым уже открыт. Еще когда, конечно, будет при-
351
СЕМИНАР 11.13
нято решение, что по-настоящему этот мир есть реальность, с ее слоя
ми, realia, realiora, realissima, реальным, более реальным, реальнейшим —
это высокое, божественное, — но фундамент не только с самого начала
уже заложен, но даже и забыт-, познанию кажется, что оно начинает «без
предпосылок», само из себя, из своей чистой познавательной приро
ды. Мир, феномен мира, к которому исходно относится присутствие, —
вот то, внутри чего только и имеет шанс появиться познание — но нет,
оно начинает словно на пустом месте, с нуля и промахиваясь мимо ми
ра ставит вопрос о «реальности» «внешнего мира». Занимаясь этой про
блемой, познание загоняет себя в неразрешимую путаницу; или оно ста
вит вопрос таким вызывающим образом — есть ли внешний мир, —
для того чтобы хоть так, радикальным способом, выпутаться из своей
путаницы.
Кант в «Критике чистого разума» называет скандалом для филосо
фии и для здравого человеческого рассудка, что до сих пор доказатель
ства «существования вещей вне нас» такого, чтобы был побежден вся
кий скепсис, до сих пор еще нет. Кант такое несомненное доказательство
предлагает. Оно вот какое. Посмотрите: всё меняется, время это такая
вещь, что ничто не остается неизменным. Но: видеть, что все меняет
ся, можно только потому, что есть точка отсчета, не меняющаяся. Где эта
точка? В себе я вижу только смену представлений — но их рамка вре
мя остается постоянной. Не я делаю время, надо думать, наоборот, я во
времени — и вот пожалуйста, при том что все меняющийся поток, вне
его, вне меня время показывает, что по крайней мере одно есть прочное.
Опыт расположения меняющихся представлений в постоянных рамках,
рамках времени, выявляет два разных, но равновеликих, равноизначаль-
ных: меняющееся «во мне» и устойчивое «вне меня» — реальность. Вот.
Доказано. Скандал преодолен. Скандал, считал Кант, в том, что до не
го доказательства реальности внешнего мира не было. Теперь стало. Те
перь надо ходить вооруженным кантовским доказательством, а то без
него опять реальность внешнего мира потеряется. — Или скандал по на
стоящему в другом, не что доказательства реальности внешнего мира до
сих пор нет, а что снова и снова таких доказательств ищут? Сначала са
ми допустили, положили что-то, независимо от чего должен существо
вать «мир», а потом начали искать мостов? Как положили, с какой стати
положили, почему придали ему — сознанию
— свойство быть отраже
нием мира вне мира, со стороны на мир глядящего? (Но совсем не так со
стороны, как в опыте, о котором я читал прошлый раз на паре «Чтение
352
3 ДЕКАБРЯ 1991
философии», когда глядящее извне мира и увидевшее мир странным не
отражало мир и не познавало его, наоборот, мир вдруг плотно закрылся
для познания, без всякой надежды снова к познанию для такого взгля
да со стороны вернуться.) Мир со стороны познающего, которое зара
нее обособлено от мира (отразило его), вроде бы и должен теперь нуж
даться в том, чтобы его как-то вернули тому, что от него обособлено, —
но ведь не об этом надо по-настоящему думать же, конечно, а о том, как
получилось, почему обособление? Не доказательства реальности мира
оказываются недостаточными, а недоопределен способ существования
самого этого доказывающего и добивающегося доказательств сущего.
Кто требует доказательств, кому стало мало доказательств?
Поскольку все доказательства реальности внешнего мира, и кантов-
ское в том числе (доказано время вне меня, но реально ли время?), —
все доказательства как-то хромают, есть выход: просто верой принять
(вспомним опять Соловьева, который весь круг этих рассуждений про
ходит), поверить в реальность внешнего мира. Поверить можно, хотя
Соловьев скажет, что это не то, что надо самоочевидно достоверное до
казательство. Но дело вот в чем: апеллировать к вере — ведь это значит
всё равно, что мост от фактов сознания к внешней действительности
требуется, всё равно, значит, субъект сам по себеУ когда у него еще веры
нет, изолирован. Значит, всё равно: мимо феномена изначального 6ы-
тия-в-мире промахнулись. Вера в реальность «внешнего мира», или су
еверие, доказательство этой реальности, убедительное или ошибочное,
постулирование этого мира — все эти усилия делаются оттого, что зара
нее уже поставлен субъект посреди мира или рядом с миром, но сам без
мира, который какими-то своими операциями обеспечивает себе мир.
Когда он наконец обеспечит, то завяжет отношения с миром, его бытие-
в-мире будет стоять на его концепции, убежденности, рассуждении, на
его вере — а на самом деле и концепция, и убеждение, и рассуждение, и
вера — это уже модусы, производные исходного бытия-в-мире.
Настоящий вопрос не в том, как бы умудриться доказать существова
ние реального внешнего мира, а в том, почему присутствие как бытие-
в-мире имеет тенденцию сначала похоронить внешний мир, отразить
его — ведь чтобы начать зеркально отражать, надо сначала отразить в
смысле оттолкнуть от себя, от себя центрального и единственно досто-
верного, т. е. уронить мир в небытие, — откуда такая тенденция, — а по
том воскрешать этот похороненный, отраженный мир доказательства
ми его реальности. Вот загадка! Почему у него тенденция оставить себе
23-2015
353
СЕМИНАР 11.13
несомненной наличностью только «внутреннее», что это такое «вну
треннее», содержание сознания? Ах на самом деле загадка. Сначала со
крушают исходную принадлежность к миру, остается изолированный
субъект, неразрушимый остаток, а потом из него устанавливают связи с
гипотетическим «миром».
Тонкости, ума, прозрений в этих доказательствах, как мы видели у Со
ловьева например, недостатка нет. Беда в том, что почему-то не задумы
ваются, как, откуда получено то, где база познания, субъект, сознание.
Соловьев с каким-то азартом растаптывает мошенника, декартовского
субъекта, который просовывается туда, где есть только что? — только
чистое сознание с его наличным содержанием! Но как правильно заме
тил кто-то, чем сознание лучше субъекта, откуда эта область изолиро
ванного сознания соткалась? Можно потом сколько угодно усовершен
ствовать концепцию сознания — мало поможет: в принципе откуда взя
лась его область, его пространство? — Субъект, сознание, этот главный
деятель Новоевропейской истории, не хочет ставить себя под вопрос.
Реализм и идеализм — только две руки этого субъекта, сознания, кото
рые кажется движутся разными движениями, но делают для него одно
дело, по-своему и по-разному обеспечивают ему, сознанию, его уникаль
ное, специальное положение в мире, — и материализм лучше и вернее
служит сознанию, чем идеализм, потому что — почему?
Потому что материализм вообще идет на большую игру и ничего со
знательнее сознания не допускает, сознание оказывается просто выс
шей инстанцией, и дело с концом. «Бытие первично сознание вторично»
означает в материализме, что сознанию всегда будет подан его матери
ал для познания и обработки, бытие. Идеализм, так сказать, более со
вестливый, он допускает существование чего-то вроде сознания и не ху
же сознания, но не сознание, а трансцендентально сознанию (для мате
риализма материя не трансцендентна сознанию, она материя, материя и
всё, материал для работы, глина не трансцендентна рабочему на кирпич
ном заводе). — Субъект и объект, субъектом познается объект, — хо
тя кому-то еще может казаться, что как может быть иначе, эта схема по
блекла, совсем прохудилась, еще пройдет не очень много историческо
го времени, и она вовсе перестанет работать, станет казаться странной.
Потому что субъект изображает свою невинность перед объектом, свою
беспредпосылочную гносеологическую чистоту явно с нечистой совес
тью: он что-то забыл такое, что было раньше, чем он, субъект, встал на
ноги; он что-то сделал, какой-то ранний жест, жест отражения, — в ре-
354
3 ДЕКАБРЯ 1991
зультате этого жеста появился объект, которого субъект принялся от
ражать^ только уже в другом смысле, стараясь не задумываться о том,
что без того первого отражения не могло бы быть и второго. А что было,
когда мир еще не был отражен, отброшен?
Реальность в структуре экзистенции присутствия на первичность,
на статус первичного понятия не может претендовать. Она не годится
для характеристики ни мира (без кавычек), ни присутствия. Реальность
производна, она восходит к феномену заботы. Озабоченность бытием
заставляет вводить градацию в степень бытия, и реальность — обозна
чение той степени бытия, которая, казалось бы заботе, по достижении ее
вернула бы присутствию потерянную — оттого и забота — бытийность.
В озабоченности сознания тем, чтобы достичь из себя реальность, по
вторяется то, что составляет само существо присутствия с самого нача
ла: отношение к бытию. Присутствие не создало себе, с развитием фило
софии, которая поставила вопрос о бытии, отношение к бытию, а при
сутствие с самого начала, не исторического, а сущностного, по своему
существу — втянуто в отношение к бытию, бытие, так сказать, нагру
жено на него как задача — но «нагружено» сказать неточно, потому что
самим же отношением к бытию присутствие и создано. Присутствие,
Dasein, насколько можно знать, — т . е . существо человека, — перестает
быть, когда прекращается отношение к бытию, — но и бытие тогда пре
кращается, не в том смысле, что мир проваливается, а в том, что прекра
щается присутствие бытия оптическое^ в сущем, среди сущего и через
сущее, бытие перестает существовать. А что, можно спросить, так уж
ли много оно существует благодаря присутствию, через человеческое
присутствие? Не громоздит ли присутствие человека на земле просто
новые и новые комбинации сущего, и комбинации комбинаций, не про
вален ли замысел присутствия — или, словами Хайдеггера, не провали
лось ли, не пропало ли присутствие, Dasein, в вещах мира, в «мире» в ка
вычках? Может быть. Эк-зистенция, выход к бытию — к «подлинной ре
альности», на языке новоевропейского большого предприятия, — всегда
как-то оборачивается снова и снова операциями с сущим, как это назы
вается, материальным и духовным производством. Но все равно: при
сутствие остается онтической возможностью бытия, и ради этой воз
можности — чтобы бытиё существовало — делает все то, что делает. Че
ловек снова и снова рискует отдать себя тому, что не существует. Раньше
я сказал бы без труда: только человек так рискует. Теперь я так не ска
жу. Мы не знаем, что такое другие живые существа. У них, как у приро-
23*
355
СЕМИНАР 11.13
ды, есть свой закон, которого мы не знаем. Закон человека, без которого
не становится человека, — сохранение бытия как другого сущему; и в но
воевропейской «проблеме реальности», в этом никак не дающемся дока
зательстве существования внешнего мира, продолжается по-своему по
нимание бытия — понимание, которое выдвинуто, выставлено в опыт
ужаса, небытия и непонимания. Поэтому вовсе не всякое разрешение
«проблемы реальности» хорошо. Утрата чутья к ней, объявление ее за
блуждением означало бы конец эк-зистенции присутствия. С прекраще
нием эк-зистенции присутствия, ее выдвинутости в то, теперь я сказал
бы, чего нет, прекратится, конечно, и «независимость» внешнего мира
от сознания, и «вещь в себе», — и понимание, и непонимание ее прекра
тится; но и прекратит сущее внутри мира тоже и скрываться в потаен-
ности, и выходить в открытость; не будет смысла говорить, ни что сущее
существует, ни что сущее не существует. Это сейчас еще, пока понима
ние бытия, пусть в своих далеких производных, сохраняется, — это сей
час только можно сказать, что сущее еще будет существовать, — но тог -
дау когда кончится понимание бытия, не будет и сущего. И лежащее на
земле человеческое существо будет для проходящих через него людей не
лежащим на земле человеческим существом, а только причиной допол
нительного сокращения мышц ноги, чтобы поднять ее выше и не спот
кнуться: и съедобное будет тоже только импульсом для сокращения тех
или других мускулов — и такое может случиться, естественно, чтобы
такое случилось, и неестественно, чтобы человек продолжал рисковать
собой ради того, чего нет. — Один из пока еще безобидных, как кажется,
способов ухода от этого крайнего риска, чтобы не ставить себя так уж
под удар, — сказать: что вы там ни говорите, не зря же все-таки эти сло
ва, «реальность», «субъект», должно же за ними что-то стоять; или «ре
альность», «сознание»; сознание все-таки если не от -ражает, то пости
гает реальность, и так далее; нам теперь не до тонкостей, давайте поль
зоваться тем, чем прекрасно с успехом пользовались поколения. — Нет
может быть только теперь время для различений. Оттого, что мы бу
дем объявлять существом человека устойчивую субстанцию, личность,
субъекта, сознание, человек устойчивее не станет. Субстанция челове
ка — экзистенция, die Substanz des Menschen ist die Existenz (281, 212), по
вторяет еще прямее Хайдеггер формулу, которая уже была: эк-зистен -
ция, ис-ступление.
Вторая тема сегодня: истина. Хайдеггер обрадовался, что его фунда
ментальная онтология начинает восстанавливать старое забытое, как в
356
3 ДЕКАБРЯ 1991
случае с «заботой», и теперь он спрашивает: как же так, бытие и ис
тина с давних пор шли рядом, разве для истины в аналитике присут
ствия нет места? У Парменида ум (понимание), т. е. место истины, — то
же, что бытие. Это фрагмент з по Дильсу. У Аристотеля в начале «Ме
тафизики», где дается краткая история философии, эта история фило
софии, ее ход понимается так, что мыслители, «богословы» («теологи»),
начиная с первых поэтов — «теологов», были как бы вынуждены ид
ти и искать, «само дело», сами вещи, αυτό το πράγμα (вот откуда гуссер-
левское «к самим вещам») их вели, — или, там же в начале «Метафизи
ки», о Пармениде: «вынужденный, силой принужденный следовать фе
номенам», т. е . тому, что оказывает-ся. . ., или еще раз то же слово, там
же в начале: вынужденные, понуждаемые самой истиной — искали пер
вые искатели: и здесь — тоже связь между «самими вещами», «самой
сутью дела», т. е . бытием, и истиной: философы следовали сути дела,
и поневоле приходили к той или иной истине, потому что дело фило
софии истина, — а бытие и истина как бы одно и то же, — дело мыс
ли с-казать об истине, άποφαίνεσθαι περί της αληθείας
1
, в русском пере
воде «говорить»
2
, хотя наш язык позволяет услышать как бы само это
греческое слово άποφαίνεσθαι, вы-сказывать, — потому что философия
это «некая наука об истине», φιλοσοφία — επιστήμη [τις] της αληθείας
3
,
и интересно, что в тексте Аристотеля, ни в разночтениях, этого неопре
деленного местоимения τις «некая наука» нет — значит Хайдеггер ци
тирует, возможно, по памяти и ему слышится здесь «некая», т. е. осо
бая, исключительная наука, наука почти даже не наука, потому что дело
всех других наук какое-то сущее, а дело философии — истина, которая
не вещь среди вещей. — Но дело в том, что для Аристотеля и для всей
почти традиции сближения бытия и истины, говорит Хайдеггер, исти
на почти фатально оказывалась именно вещью среди вещей — особой,
конечно, скажем, даже не вещью, а обстоятельством, но все равно — су
щим в ряду сущего. Тогда фундаментальная аналитика, подчеркнувшая
особый характер того сущего, человека, для которого дело идет о бы
тии, давшая человеку определение не содержательное (живое существо;
обладающее; разумом), а как раз выделяющее его из всего сущего, —
присутствие; бытие-вот; эк-зистенция как его единственная субстан-
1. Аристотель, Метафизика α ι, 993 b 17.
2. Аристотель, Сочинения в 4-х томах, т. ι, Москва, 1975> с. 94 ·
3- Аристотель, Метафизика α ι, 993 b 20.
357
СЕМИНАР 11.13
ция (в самом деле, вдумайтесь: суб-станция, то, что неподвижно долж
но было бы лежать суб, под феноменами, потоком данности, солидный
субъ-ект, — оказывается эк -систенцией, не неподвижным постоянным
устойчивым установившимся как раз, а ew-ступанием), — такая фунда
ментальная онтология должна обратить внимание на особенность «ис
тины»? И обращает.
Традиционное понимание истины: соответствие, чего чему? Ду
ши — «делам», πράγματα, говорит Аристотель; перевод наш Аристоте
ля полдороги приближает его к нам, к нашей современности: где у Ари
стотеля сказано, «состояния, претерпевания, допущения», παθήματα, от
πάθος, которое стало нашим «пафосом», как бы «пафосы» души — это
уподобления вещам-делам, πράγμα, вещь-дело, от πράττω, делаю, справ
ляюсь, — там перевод говорит уже: представления в душе суть подобия
предметам *; а теперь истина определяется: адекватное отражение объ
екта познающим субъектом. Так или иначе: приравнивание, приведе
ние в соответствие — с самими, конечно, вещами, а не с какими попа
ло кажимостями. Истина в том, чтобы это соответствие было — каким?
Не неверным, т. е. истинным же! Определение «истина есть приравнива
ние, соответствие понимания к вещи» пусто, тавтологично, потому что
«приравнивание», «соответствие», «адекватность» уже предполагает, что
из всяких соответствий будет выбрано, оставлено истинное! Все равно,
это пустое определение держалось и держится, — не заменено, что не
ким образом что такое истина уже должно быть заранее известно, что
бы искать среди не-соответствий и неполных соответствий то, которое
нужно, настоящее соответствие, истинное соответствие. — Не замеча
ют пустоты, тавтологичности определения истины через адекватность
не потому, что не зоркие, — не беспокойтесь, еще позорче нас, — а как
всегда: потому, что смотрят не туда: видят очень ясно субъекта и объ
ект и необходимость моста между ними; его можно построить, стремясь
к адекватности одного другому — так давайте строить! Что материал
для этой стройки откуда-то берется, что откуда-то ясно, что будет адек
ватным, а что нет, т. е. что сама адекватность на чем-то стоит — до это
го внимание уже не добирается: если материал откуда-то поступает, не
иссякает — прекрасно, значит тем дружнее возьмемся за дело, мост. Раз
ве мост не нужен?
Но что такое адекватность, спрашивает упрямый Хайдеггер. Adaequa-
tio rei et intellectus, возьмем это определение Фомы (автор статьи «Ис
тина» в ФЭС*, пишущий «адекватное отражение объекта познающим»,
358
3 ДЕКАБРЯ 1991
наверное не догадывался, что пишет по Фоме Аквинскому). Rei et intel-
lectus, но ведь res это реальное, a intellectus идеальное. Реальное в вещах,
идеальное в идеях, в представлениях. Как между ними налаживается со
ответствие, когда можно сказать: ага, вот соответствие? Может быть, ни
когда, потому что идеальное никогда не соответствует реальному? Если
мост между идеальным и реальным никогда не построить полностью,
всегда останется зазор, — об этом говорил, кричал Ницше, — то надо
спросить о чем? Как бы вы тут поступили?
Хайдеггер спрашивает: откуда разделение идеального и реального?
Почему действительность вообще раскололась на эти два слоя? Вы ска
жете: но есть же идеальное и реальное, реальные две коровы, идеаль
ное число 2, — так всегда было, так всегда будет. Реально эти две коро
вы — никогда не «адекватны» тем двум коровам, эти совсем тощие, а
те посмотрите какие ухоженные, но идеально как здесь две коровы, так
и там тоже точно две коровы, не две с половиной (пример мой). Исти
на, что тут две коровы и там две коровы. Да какие же это коровы, это не
коровы, а вообще Бог знает что? Вон там коровы так действительно ко
ровы! — Неважно: две там и именно тоже две здесь. Истинное высказы
вание. Посмотрите: и здесь и там ведь действительно две коровы. Ког
да мы так говорим, такую истину, мы что, видим адекватность тех двух
коров этим двум? Ничего подобного, мы ясно видим их неадекватность:
адекватен, соответствует, приравнен вовсе не их вид, впечатление, кото
рое они производят, а идеальная двойка, число два тут и число два там.
От res, реальных вещей, я тут как раз отвлекаюсь, от состояния моей ду
ши при виде тощих коров и гладких коров — я тоже отвлекаюсь, в чем
же тогда тут «соответствие», что соответствует чему? Узнавание: этих
две соответствует узнаванию: и тех тоже две. Бедное, конечно, узнава
ние, мало я узнал об этих коровах, когда узнал, что их две — но такое
узнавание все равно лежит в основе той истины, что я высказал, что тут
две коровы и там две коровы. В основе того, что тоже две коровы, — то,
что оказалось, что две коровы. Сущее показало себя таким: да, действи
тельно, две коровы. Обеспечено соответствие, адекватность, истинность
тем, что познание стоит в открывающем, обнаруживающем, выявляю
щем отношении к реальному сущему. Соответствие или несоответствие
вторично. Сначала — Ent-decken, буквально снятие закрытости. Что ко
ров две — это наверное небольшое снятие закрытости, но все равно, без
это маленького открытия, «коров две», «и там тоже две», закрытости су
щего было бы больше.
359
СЕМИНАР 11.13
От-крытие сущего как оно есть (в самом деле, коров именно две, так
оно и есть, хотя, конечно, можно в них открыть еще много чего; и хотя,
конечно, в таком простом «их две» заложено на самом деле, может быть,
много слоев открытий).
Высказывание истинно — значит: оно открывает сущее как сущее
есть. Вы-сказывание, άπό-φανσις, от άπο-φαίνω, буквально объ-являть, в
первом и прямом смысле слова, являть, φαίνω, высвечивать, дать све
титься, — то, что говорит и русское тоже слово, вы-сказывание, и чего
не говорит немецкое. Истинность — это, так сказать, открывательность.
Но ведь о раскрытии мира и шла постоянно речь при разговоре о при
сутствии! Присутствие с самого начала — бытие в мире, мир разом
кнут тем, что присутствие такое, что оно умеет быть в мире. Этот фено
мен, бытие-в-мире, — фундамент феномена истины в ее основе, откры
вании.
Снова, в который уже раз, Хайдеггер получает помощь от традиции.
Аристотель, «отец логики» (а единственный его сын, мы помним, Гегель
в «Науке логики», единственный, который понял онтологический смысл,
направленность аристотелевской логики), пользовался, как, понятное
дело, все греки, именем истины αλήθεια, из корня который в словах λήθη
забвение и в глаголе λήθω, λανθάνω, с богатым и даже таинственным зна
чением, скрываться, оставаться втайне, проходить случаться незамет
ным образом, ускользать от внимания, делать скрытно; λανθάνω ποιούν
τι — два значения, или сам не заметил, что делаю — и не заметил, как
оказался на возвышенном месте, — или другое значение, делаю неза
метно для других, так удалось, что никто не обратил внимания. В сред
нем залоге λανθάνομαι — забываю или забываюсь, т. е. опять пропадаю
в тайность, в скрытность. Ах в этом богатом слове такой важный, такой
всем известный опыт, что то и дело из нашего человеческого поля зре
ния что-то исчезает, скрывается из виду. Ά в αλήθεια — так называемое
«альфа привативум», означающее привацию сокрытости, забытости, от
нятие чего-то у «леты» забвения и не замечания.
Говорят: истина просто истина, несокрытость этимология, греки ее
не слышали. Но тогда почему во фрагменте ι Гераклита, который внима
телен к слову, т. е . случайность исключена, — который помнит, что нус
это нюх, чутье, что теперь помнит только русский язык, — ставит про
тив логос, который показывает вещи как они есть, т. е . истину — и про
тивоположное: от тех, кто непричастен к логосу, λανθάνει, тонет в «Ле
те», проходит мимо то, что они делают наяву, словно во сне? Тут исти-
Збо
3 ДЕКАБРЯ 1991
на явно понимается из преодоления «Леты», забвения, сокрытости. Если
сам Гераклит даже забыл тут, что говорит слово его родного языка, то
тем более важно то заложенное в слове, что и независимо от него по
вторяется.
Мистификация языка? Игра с этимологиями? Нет зачем так сразу
скакать: промахнулись. Противоположность «мистификации» не обяза
тельно не замечать язык и пользоваться словами как наклейками на ве
щах — вот уж будет действительно мистификация, раздвоение нашего
мира на вещи и слова. Среднее между крайностями — обратить просто
внимание, наконец, на слово. В слове много; сколько может слово вме
стить, столько оно, будьте спокойны, и вместит — очень много на самом
деле.
Опять: поразительная новизна Хайдеггера не в том, что он оборвал
философию новшествами, а наоборот: вспомнил раннее, первое, что мы
уже забыли. Сколько было протестов против «алетейи»; а чего хотели
протестующие? Хотели просто, снова не обращать внимания — хотели
продолжать просто спокойно заниматься тем делом, каким от Геракли
та и занимались, — не замечали, и забывали (только это не то абсолют
ное, радикальное забывание, которое, по Жаку Деррида, только и могло
бы сделать подарок подарком).
Открывание, а-летейя — один из способов бытия присутствия (и мы
видим, как это слово, Dasein, начинает плавиться в руках Хайдеггера, он
уже хочет вылепить что-то другое: только что вместо Dasein — Mensch,
человек; а теперь вместо Dasein — бытие-в-мире, мы помним: «в» значит
не в частичке мира, а в мире в целом: это уже почти что назвать человека
миром — но ведь его и называют, и называли — микрокосмосом).
Разомкнутость присутствия (открытость) — самый исходный фено
мен (явление) истины. Мы как-то не заметили говоря о бытии-в каче-
стве-вот, что открытие и показывание, в смысле истины, здесь уже при
сутствует. Dasein, присутствие, истинствует, хорошо или плохо.
11.14
io.i2.i99i
Присутствие и истина. Истина есть в такой мере и так долго, пока есть
присутствие.
«Вечные истины» требовали бы вечного присутствия для своего до
казательства. А так они — фантастическое утверждение.
Истина относительна: она отнесена к присутствию, в той мере, в ка
кой присутствие может быть чистым присутствием, дающим в своем
просвете, вот, место вещам, как они есть.
Присутствие стоит в истине — в просвете, — больше ему негде сто
ять. И если оно констатирует «нет правды на земле», то этим только под
тверждает, что может, вправе, вправду это говорит — ему открылось.
Скепсис: истины нет. Предпосылка, что истина есть: истина должна
быть, без этого нет меня как присутствия, как бытия в мире.
Неверно, что истина будет, какая я хочу, «по мне», потому что я сам —
не «по мне», не я устроил, не я решил, что я хочу быть т. е. имею отноше
ние к бытию — и не я обеспечу себе это «быть», это присутствие.
Скептика не надо опровергать: он уже покончил с собой.
Итог: забота, в заботе заключается — заключаются все формы — бытия
присутствия.
Das Dasein ist als verstehendes Seinkönnen* (307, 231).
Его бытие — в умении быть. Но смысл этого бытия? Вернее, бытие как
смысл? Дальше заботы идти нельзя?
Неединство состава и единство целого. Забота — структурное целое
присутствия, она же показывает, что присутствие всегда еще не.
Сущее, чья эссенция — экзистенция, противится, не укладывается в
целое.
Истолковываем смысл — но непохоже, что даже вообще «схватить»
целое удастся. Тогда — провал онтологической интерпретации, такое
сущее ей не поддается.
Тем более — несобственное бытие «людей».
Окончательно для чего, какой смысл, к чему «забота»? Ответ:
смерть. К умению быть, к экзистенции, принадлежит возможность
ЗбЗ
СЕМИНАР 11.14
умереть. Смерть — очерчивает, определяет возможную целость при
сутствия.
Zu-Ende-sein des Daseins im Tode. Маргиналия: Zum-Ende-„sein" (311,
234 а) *.
Смерть — возможность экзистенции, но опыт смерти — дан ли?
Смерть дана только в экзистирующем бытии при смерти, Sein zum
Tode.
Еще раз: постоянная незавершенность экзистенции, неустранимая.
Что-то не закрыто в его возможности быть. Что-то остается не -до. Мо
жет незавершенность полностью закрыться? Что-то прервется тогда: са
мо присутствие. Превратится во что-то присутствующее. Бытие-в -ми-
ре превратится в бытие-внутри-мира.
Смерть — у нее только биологический — или экзистенциально-онто
логический смысл?
Что кончается со смертью? «Расстался» с жизнью — а тот, кто рас
стался, — кто?
Смерть — экзистенциальная возможность. Но другого можно заме
нить, у нас незаменимых нет, за другого можно делать то, что тот мо
жет, — а можно у него отнять смерть? «Умереть за другого» — не значит
отнять у него смерть, смертность. Смерть — особая возможность, осо
бое экзистирование.
Присутствие уходит из мира иначе, чем просто живое. Присутствие
остается как ушедшее, как окончившееся. Или присутствие как такое
именно продолжается?
Конец, полнота — как они возможны? Возможны ли для присутствия?
Мы искали конец, полноту — нашли: смерть. То ли это, что искали?
Все время «пока еще не» — и вдруг конец не стремления, а присут
ствия.
«Остается», остаток — от целого? Целое это — какое? Сумма — ка
кая? Остаток не вне, а «еще-не» принадлежит к самому экзистированию.
Неполная луна. Она будет полная. Зреющий фрукт (сравнение лучше
уже): Dasein [ist] je schon sein Noch-nicht* (324, 244). Но: смерть как со
зревание?
Смерть: конец. Путь кончается, дождь кончается. Путь не отменяет
ся концом, он остается — готовая законченная картина остается. Конец
присутствия — другое. Тут и не окончание, и не простое исчезновение, и
не готовность, и не пригодность для продажи.
Конец — как всегдашнее бытие к концу, бытие при смерти. Еще-не не
364
10 ДЕКАБРЯ 1991
значит: еще не смерть; это значит: еще-не расположено перед окончани
ем. Не целое.
Изучение смерти: но смерть не вне нас, мы уже имеем дело со смер
тью раньше, чем с предметом-смертью (329, 247)·
11.15
17.12.1991
Окончательность, целое — онтологически неприменимы к присутствию:
присутствие по своему существу, его существо мы помним эк-зистиро-
вание, исключает окончательность («окончательное экзистирование»
нонсенс), целость («целое эк-зистирование» — снова нонсенс
— нера
венство себе не может быть целым; оно, правда, можем мы сказать по
поводу этого места у Хайдеггера, может быть полным, в смысле совер
шенным, в смысле совершенства, предельности; как, похоже, можно го
ворить и о полноте присутствия — но, по-видимому, нельзя говорить
об окончательной полноте). Из суммы присутствие не складывается. —
Другое дело, что, недостижимые для присутствия в смысле невозмож
ности окончательного и цельного присутствия, окончательность и цель
ность, они остаются экзистенциалами, т. е. тем, с чем так или иначе, со
знательно или бессознательно, «теоретически» или «практически» имеет
дело присутствие, — но не так опять же, что они определяются откуда-
то извне, и присутствию остается только их осмыслить, понять, а пря
мо наоборот: смысл и окончательности, и окончания, прихода к концу
только и можно извлечь из присутствия, из какого-то поворота его эк-
зистирования, — какое экзистирование ведет, привело к образованию
понятия окончания, конечности, конца жизни.
Да, неотменимая неполнота («всё еще не то, не то») экзистирования —
нецелость его приходит к концу со смертью, но ведь не так, что сразу
наступает целость! Ничего же подобного! Наоборот, та нецелость, не
полнота экзистенциальная кончается, — и становится, так сказать, «еще
хуже»!
В каком же смысле тогда говорят «скончался»? Присутствие, эк-зи
стирование может кончиться еще до того, задолго до того, как скончал
ся. Скончался поэтому говорится не о присутствии. Как и «постигает»,
«скоропостижная» — не о присутствии. С другой стороны, «скончаться»,
«скоропостижно скончаться» даже для присутствия неизбежно. В каком
смысле смерть — экзистенциальная возможность? Смерть необходи
мость. Можно понимать так: жизнь взята в долг и должна быть отдана?
Сначала беру то, что дают, или дарят, а потом расплачиваюсь, отдаю об
ратно, как долг? Нет, не совсем так. Вспомним розановское понимание:
367
СЕМИНАР 11.15
оно не имеет отношения к жизни, может управлять ею, но не зависит
от нее*. Присутствие как «вот», как просвет, как открытость, как чистая
возможность умеет быть в целом мире; среди того, что умеет (понимает
в смысле умеет) — русский язык здесь хорош, потому что в истории сло
ва уму уметь — это ведь одно слово — завязано в одну связь и понима
ние, раз-умение, и возможность, умение, и еще больше:
ум, уметь
ογΜΖ ст.-слав.
4B»t, tA&*k ст. - с ла в.
ovyje лит.
âvih др.- инд.
άΐω, αισθάνομαι греч.
audio лат.
т. е . в этом — в его истории, в том, как оно складывалось, на каком
деле, на какой правде стояло, — это слово «ум» — Хайдеггер словно
возвратил его, своей работой вглядывания в то, что явленность, исти
на, это и основа понимания, понимание как открытость — умение. Так
вот, в круг «просвета», в круг умения быть в мире присутствия — бы-
тия-вот, бытия в качестве вот, — кстати и здесь, понимая Da-sein, вер
нее Da в Dasein как просвет, Хайдеггер в своем немецком языке, кото
рый в этом месте (в других — лучше), в этом месте хуже, так сказать,
русского, потому что вот — это, между прочим, уже составное слово,
с ним случилось то, что с нами, когда мы для доходчивости имеем тен
денцию умножать количество указательных междометий или местои
мений, вместо «вот» — «да вот же оно вот», как предел. Вот — сложное,
из междометного, дейктического (способ грамматиков обозначить, на
звать самое простое: междометие, дейктическое — указательное, дейк-
нюми) о/е, они связаны чередованием, как веду/вода. Вторая полови
на — местоименная, как «то», «тот», «та», «те». Первая — междометное
дейктическое, как в «это», тоже составное слово, но болгарское — е, ко
торое тоже тяготеет к удвоению: егле, é-гле, вот, гляди: э простейший,
первый, что раньше уже ничего нет, способ обозначить, что само вид
но, видать, вот оно, смотрите. Da-sein — значит быть в качестве этого
простейшего вот, быть местом, где Э, в смысле «совершенно явно же»,
что еще говорить, что еще надо для убеждения. Почему перевод здесъ-
бытие не очень хорош. — Теперь: то, что в этой яви, из этой яви, са
мо как προ-явление этой яви существует — здесь присутствие наобо-
368
17 ДЕКАБРЯ 1991
рот хорошо, именно просто присутствует, — это ум, как бы само вби
рание явного, того, что яее, ст. - сл ав, родственник ума, — который так
же непосредственно, как он вот и явно ему это вот, так же непосред
ственно он ум — умеет, т. е. и раз-умеет, развертывает эту явь, и уме
ет. Что открыто такому уму? Но ведь сказано: он — бытие-в-мире, ему
открыт целый мир, в том числе жизнь, не жизнь дает ему возможно
сти, — она дает ему возможность и жизни Каспара Гаузера и Маугли,
почему эту возможность присутствие не использует? — Эта возмож
ность осуществляется, когда присутствие перестает, и это бывает
чаще, чем мы думаем. Присутствие с его просветом, явленностью, ис
тиной — для него слишком явно то, что явно, слишком очевидно то, что
есть, в его просвете, слишком открыто то, что открыто — на глазах, на
виду, — чтобы еще быть чем-то кроме этого захваченным. Ум захвачен
тем, что ему явно (ум — понимание), и отдан этому явному. Среди это
го явного, что открыто в просвете «вот» и потому что присутствие уме
ет, — жизнь, которая смертна, которая не берется, потом отдается
смерти, а берется уже как смертная, которая к смерти, или прм смер
ти. Человек смертный. И вот сейчас, когда в таком контексте, с такой
подготовкой, — то слышим два. Смертный: не обязательно обреченный
на смерть, а такой, который умеет — ему явлено в его «вот» и принято
по-ниманием — умереть. И это тоже умеет. Или еще с другой сторо
ны: смертный — всегда означало, что не бессмертный, но от бессмерт
ных и при бессмертных живущий. Как бы взял на себя смертность, т. е.
еще и смертность. Человек выше ангелов. — Это трудное понимание, я
прошу вас, когда вы будете читать эти места, читать внимательно. Мы
сейчас только еще чуть коснулись той вещи, которая называется смер
тностью, едва.
Но кто присутствие, кто повседневно находятся в вот просвета? Лю
ди. Das Man. Люди совершенно хорошо знают, что они смертные, и вот
для людей не эта вещь, смерть, о которой мало думают, потому что это
философия, а — так называемое реальное. Говорят: ну видите же (оче
видность «людей»), люди умирают, что тут рассуждать. — С этим пред
ставлением «людей» о смерти, печальной реальности («ах, хорошо, что
мы живем, но, к сожалению, будет смерть ведь», «тогда хоть погуляем»,
и т. д., много), — с этим философия пыталась спорить давно. Загадочные
вещи, которые говорили Гераклит и Сократ о смерти, не услышаны. Или
тоже загадочное августиновское: «не знаю, смертная ли это жизнь или
живая смерть».
24-2015
369
СЕМИНАР 11.15
Хайдеггер о ближайших к нему: Дильтей, «Und das Verhältnis end-
lich, welches am tiefsten und allgemeinsten das Gefühl unseres Daseins be-
stimmt — das des Lebens zum Tode; denn die Begrenzung unseres Existenz
durch den Tod ist immer entscheidend für unser Verständnis und unsere
Schätzung des Lebens»*. Дильтей непонятый. Гуссерль перед ним извиня
ющийся. — Особенно Хайдеггер приглашает сравнить с тем, что он даль
ше будет говорить, «Психологию мировоззрений», 1925 — «пограничная
ситуация», ее фундаментальное значение выше всякой типологии «уста
новок» и «образов мира» — Рудольф Унгер, «Новалис и Клейст. Исследо
вания о развитии проблемы смерти в мысли и поэзии от „бури и нати
ска" до романтиков», и «История литературы как проблемная история»
(331, 249)·
Что-то делает сам русский язык. Мы переводим: Der Tod ist eine
Seinsmöglichkeit, die je das Dasein selbst zu übernehmen hat. Смерть бы
тийная возможность, которую каждый раз само присутствие должно
взять на себя (ззЗ> 250). Т . е. особая, исключительная возможность. Воз
можность — также умение, мы имеем право так говорить. Но как толь
ко скажем по-русски, присутствие, или бытие-вот, или наше бытие уме
ет — человеческое
— умирать, как строгость, аккуратность немецкого
ускользает у нас из-под рук: только краешек покажи, а русский язык от
хватит всю руку, он другой, чем немецкий, у,него больше размах, больше
простор — с большей, конечно, опасностью. Прошу не спешить с этим
разбеганием смысла: не надо «садиться» в форму, но и не нужен размах,
когда мы к нему не готовы. Достаточно, если мы будем возвращать все
в круг «просвета», явленности, присутствия, «вот», и «умеет»; удержи
ваться в рамках, границах: «ему открыто».
Многое у Хайдеггера — повторение напоминаний, с которыми фило
софия всегда обращалась к человеку. Смерть не там, мы, наше присут
ствие брошено всегда уже в эту возможность. Похоже, дети опять пол
нее, ближе понимают смерть. Как раз циничного понимания «реально
сти» смерти у них нет. Рассказ: откуда берутся дети? ...Базаровского,
глупого позитивистского — бросят под забор в канаву, вообще гляде
ния на мертвое тело, труп и вычитывания отсюда реальности смерти у
ребенка нет. Но по другому, постоянно мысль или гораздо больше чем
мысль: напрасно браним детей за беготню за шалости, лучше бы мы по
говорили с ними — если мы только умеем, а иначе не надо, будет толь
ко хуже, лучше мы сами бы к ним прислушивались, они умеют это луч
ше нас, как тот мальчик о тюльпанах, — на могиле, — потому что дети
370
17 ДЕКАБРЯ 1991
своим движением борются против смерти как они ее понимают. Ди
ма*... Роман
f
: Думаешь как жить? Живи просто, вот так...
Насколько это место, о смерти, у Хайдеггера всё открыто, в смыс
ле — закрыто, недоговорено, можно видеть вот на каком примере: Tod
ist die Möglichkeit des Nicht-mehr-dasein-könnens (333, 250). Смерть есть
возможность не быть больше присутствием, переводит французский
переводчик. Вы понимаете, что слово пропущено, буквально сказано:
возможность не мочь (не уметь) больше присутствовать. Т . е .: возмож
ность, что присутствовать я уже больше не сумею. Но ведь присутствие
и есть — возможность . Здесь причина, почему французский перевод
чик выбросил это лишнее «уметь». Но и — другая возможность: может
перестать быть. Не в том смысле, что прекратить свое существование,
речь опять о том, что может случиться и без смерти! Снова несовпаде
ние конца жизни и конца присутствия — хотя возможность конца жиз
ни говорит и о возможности конца присутствия! Эта сложная двусмыс
ленность показывает, насколько мы не прояснили дело — и оно такое,
что прояснить можно ли?
Парадокс: страх смерти — чего, собственно, страх? Перед возможнос
тью быть собственной, безотносительной (нельзя делегировать) и кото
рую нельзя преодолеть.
Человек смертен, все люди смертны, Сократ человек и т. д . Он смертен
через людей, раз все люди... т. е. сначала все люди, а потом... Смерть сна
чала смерть тех, людей. Себя и других уговаривают: еще не, еще не ско
ро — говорят «заботливо». Люди заботятся, устраивают так, что в отно
шении смерти постоянно успокаивают. Успокаивая умирающего — успо
каивается и успокаивающий. После этого, если смерть наступает — ну,
уж не знаем, что это такое, — вроде все сделали, такая забота, и вот — на
тебе; такое событие; такое нескладное, почти — нетактичность, от кото
рой надо охранить общество — так в «Смерти Ивана Ильича», «фено
мен потрясения и крушения этого „люди умирают"» (зз7> 254)·
«Люди (das Man) не дают поднять голову мужеству, которое необхо
димо для ужаса перед смертью» (зз7> 254)· (Арзамасский ужас* — кото
рый надо разогнать театром, обедом, вином, но человек почти не замеча
ет, сколько нужно для него мужества. Этот ужас «люди» перевертывают
в страх перед надвигающимся).
Обыденное бытие-при-смерти — это бегство от нее, уклонение, спря
таться, скрыться. «Да, люди смертны, но это когда-то будет».
Не этим ли обеспечивается, что экзистенция никогда не целая? Тем,
24*
371
СЕМИНАР 11.15
что от смерти спрятались? А забота, которая всегда о том, чего еще
нет, — она перед лицом смерти разве не может стоять? Если забота —
основная конституция этого бытия, бытия вот, основной экзистенци-
ал этого сущего, если забота имеет отношение к смерти, а она имеет, да
же совпадает — то целое не только не исключено, а только целое и име
ет право на существование. Только экзистенция, которая целая, грубо
говоря, в том смысле, что не будет остановлена, прервана незавершен
ной с приходом смерти. Бытие-при-смерти как целое, завершенное? За
бегая далеко вперед: только такое целое и сможет быть подлинной, соб
ственной экзистенцией.
Понимание смерти: не бегство. Но и не ускорение, устройство кончи
ны, возможность не присутствия. Этим лишает себя смерти! Той смер
ти, которая развернута для смертного только в его бытии-при-смерти.
«Ближайшая близость бытия к смерти как возможности от реальной
смерти так далека, как это только возможно» (348, 262). Опыт вой
ны. Чем больше понимания этой возможности, тем меньше ожидания
от смерти еще какого-то экзистирования. Смерть не после смерти, а до
смерти.
Надо поэтому отбросить опоры отодвигающие смерть или ее сглажи
вающие, утешающие, и отрешившись от этих иллюзий вырваться к сво
бодному отношению к смерти — т. е. к ужасу смерти; только тогда, толь
ко там начнет проясняться ее лицо (з53> 266).
ULI
19.2.1992
Персонаж Базаров в «Отцах и детях» Тургенева говорит, что умрет и че
рез него будет расти трава. Те, кто занимается авторами — я говорю за
нимается в буквальном смысле, его занимают, как заполняют, авторы,
опять в буквальном смысле, растящие, увеличивающие (они авторы,
потому что дают вырасти, увеличиться пространству, в котором развер
тывается история; Хайдеггер автор, auctor, от augëre, умножать, растить,
взращивать, автор XX века, через него век становится эпохой, XX век —
век Хайдеггера в философии), — те, кто занимается философами, со
ставляют землю, через которую прорастают эти возрастающие семена.
Убегающая минута полна семенами, которые возрастают. Мы, которые
думаем, что мы живые, — на самом деле только земля, чтобы через нас
проросли те семена. Сравнения хромают. Это сравнение только для того,
чтобы показать, каким образом существует настоящее. Настоящее всег
да уже было. Настоящее каким-то образом уже успело быть. Или не обя
зательно так длинно, можно сказать короче: настоящее всегда уже. Оно
в том, что Хайдеггер называет априористическим перфектом, трансцен
дентальным или онтологическим перфектом. Это не грамматический, а
бытийный перфект. Настоящее всегда заранее уже есть. В «настоящей» в
кавычках секунде настоящее каким-то образом всегда уже есть. В смыс
ле времени?
Настоящее — когда оно наступает?
Настоящее — можно думать о «Дон Джованни» Моцарта, или о поэ
ме «Медный всадник», или о том, как пишется удавшаяся живописная
вещь: она как настоящая раньше времени, от развертывания во време
ни, например времени работы художника, настоящее проясняется, во
времени к настоящему возвращаются, надо много времени, чтобы до
биться настоящего, — но вот уж не так, что чем больше времени потра
тишь, то со временем придешь к настоящему: время нужно, чтобы то на
стоящее — которое сразу было, вдруг — извлечь, достать. Настоящее ка
ким-то образом уже.
Попробуем над собой опыт. Наше «занятие», занятие нас философом
принадлежит бегущей минуте. Оно такое, какое оно есть: кое-какое . Оно
«настоящее» в том смысле, что бывают ненастоящие, и мы постараемся,
373
СЕМИНАР III.l
чтобы совсем уж безобразным образом, отвратительным, не занимать
ся. «Настоящим» занятие будет только в том смысле, если мы приложим
честные усилия. Это необходимо. Но достаточно ли, чтобы занятия бы
ли «настоящими»?
Как бы не так! Наше усилие необходимо, но не достаточно. Вот
школьники выбрасывают после окончания учебы тетради, книги, учеб
ники, дневники успеваемости, письменные принадлежности. Выбрасы
вает и отличник. Оттого, что он отличник, его занятия в школе не стали
настоящими, оттого, что он прилагал усилия, старательный ученик да
же скорее и с большим удовольствием выбросит. От кого зависит «на
стоящее»?
От «везения». От таланта. От одаренности. Но, оказывается, и таланта
мало. Сальери талантлив, он, однако, завидует Моцарту и не может по
нять, почему именно Моцарт, что именно такое в Моцарте, разве Мо
царт старательнее или лучше знает музыкальную технику. А Моцарт
знает, что в нем моцартовское? Только в том смысле, что знает, как не де
лать, чтобы это моцартовское ушло. Так Сократ знает только, как не де
лать, чтобы остаться Сократом. А что в Сократе сократовское, исклю
чительное? Оно как-то уже, и Сократ приходит к прорицательнице, что
бы узнать о себе, что же это такое он, в конце концов.
Мы не знаем, что такое настоящее. Наши попытки узнать, обозначить
могут привести к тому, что мы уговорим себя, что знаем. Поэтому зна
ние имеет отношение к настоящему: знание здесь нужно для того, чтобы
знать, что знания здесь недостаточно. Еще шире: наших сил и способно
стей, нашей воли и намерения здесь недостаточно, целая эпоха активиз
ма была построена на том, что настоящее можно создать усилием. Но ни
талантом, ни знанием, ни ловкостью, ни умением мы достать настоящее
не можем. Оно настоящее мы не знаем почему. Это узнавание настоя
щего всегда неожиданно, всегда меняет нас. Перед настоящим мы стано
вимся другими. Нам это может нравиться или не нравиться. Нам может
не нравиться, что — если мы гордились своим знанием — всего этого
знания оказывается — как бы сказать? — оно безотносительно, ирреле-
вантно, или релевантно, но с неожиданной стороны, как знание служеб
ное, при узнавании.
Мы говорим: настоящее время, к настоящему времени, на настоящий
момент. Как понимать здесь «настоящее»?
Иначе сказать то же самое: двузначность русского слова «настоя
щее» — это лингвистическое явление, например, неизбежная много-
374
19 ФЕВРАЛЯ 1992
значность слова, оттого, что вещей много, а слов мало, и одним словом
приходится обозначать несколько? Можно ли оправдать двузначность
слова «настоящее»?
Очень легко сказать, напрашивается сказать, что «настоящее вре
мя» — какое же оно к черту настоящее, если оно бессильно распростра
нить себя на что бы то ни было. В «настоящее» время вроде бы все в этот
момент должно окрашиваться от него в эту характеристику. Но вроде
бы нисколько не окрашивается, наоборот, словно нарочно издеватель
ски время называется «настоящим временем», а легко доказать, и в га
зетах в каждый момент «настоящего времени» доказывается, что все не
настоящее, например, что студенты не настоящие, не настоящий препо
даватель, и не настоящий философский факультет, и весь московский
университет не настоящий — но и государство не настоящее, и филосо
фия в стране не настоящая, и культура не настоящая, и интеллигенты не
настоящие, каждый день эти разоблачения успешно предпринимаются.
Может быть, самое изощренное, коварное разоблачение — это кото
рое получается у нас: сам настоящий момент, текущая секунда — не на
стоящая; ведь того, что секунда на электронных часах выверена по эта
лону времени, явно недостаточно, чтобы сделать, считать ее настоящей.
Все распадается, настоящего ничего не остается. Все сплошь разоблаче
но. Разве я не прав?
После всех разоблачений в ненастоящести мы не можем разрубить и
решить: все, товарищи, хватит умствовать, настоящее — вот, ненастоя
щее — вот. Или: никакого настоящего вообще нет, что мы сделаем, как
распорядимся, так и будет настоящее. Мы не можем изгнать из русско
го языка — правильно опасаемся, что он нам отомстит, что это вооб
ще не нашего ума депо, — двузначность «настоящего». И если загадочная
двузначность остается неизгнанной, если настоящее остается в каком-
то, для нас невидимом смысле, настоящим, то оно все-таки окрашива
ет своей непонятной, невидимой настоящестью и время, и государство,
и то, что в нем происходит, и философский факультет, и преподавателя,
и студентов. Не язык, конечно, это делает, а то удивительное, загадочное,
на что робко-робко, словно коснеющим языком умирающего, намекает
наше слово, если проверить, окажется правдой: да, само время каким-то
образом, тем, что оно вот здесь сейчас, в этом Da, в этом своем присут
ствии, то, что оно настоящее, что оно присутствует — из просто «насто
ящего» оказывается настоящим настоящим, и настоящести у него хва
тает, чтобы окрасить своей настоящестью и совершенно ненастоящее
375
СЕМИНАР ULI
государство, и совершенно ненастоящих студентов, и вот этот наш не
настоящий, Бог знает какой семинар. Опять: это совершается через на
шу голову, так, что мы этого, может быть, не хотим, так что, может быть,
это против всего нашего знания, — которое, может быть, говорит нам,
что мы должны находиться «в это время» совсем в другом времени и со
всем в другом месте. Все равно как электрическая искра, настоящее на
стоящего момента как-то пробивает собой все, и нас в том числе, и окра
шивает в свой цвет, хотя когда мы, спохватившись, начинаем искать
глазами, но где же настоящее, мы не видим, перед глазами опять стены
ненастоящего университета, ненастоящий преподаватель, ненастоящие
учебники, ненастоящие переводы. Или вы хотите мне решительно воз
разить, поставить меня на место?
Вторая часть «Бытия и времени» возвращается к анализу первой части,
включая в тот анализ, который был структурным (структурализм «Бы
тия и времени» настолько настоящий, не игрушечный, схематический,
что его уже мало замечают; для того искусственного, интеллектуального
«структурализма», который начинает со схемы, с «бинарных оппозиций»
и от безмыслия, от философской нищеты бежит в приложение этих схем
к фактам, подхваченным из обезличенного культурного добра, бежит в
этом занятии, в этой игре стеклянных бус от вещей, для этого структу
рализма настоящий структурализм «Бытия и времени» не заметен: ведь
структура там не налагается на изучаемое в виде такой или другой схе
мы из головы исследователя, а сам мир и неотнимаемое от мира присут
ствие в нем человека там структура, в которую включено все, не как ис
следователь включает все в свои схемы, а как все, что есть, есть в мире,
и человеческое бытие, наше бытие с самого начала уже бытие в мире.
В том, что структурализм «Бытия и времени» остается незамеченным,
есть та правда, та логика, что рядом с настоящим структурализм как
система мысли бесследно развеивается, оказывается тем, что он и есть,
фигурой из дыма. Поэтому верно и то и то — никакого ровным счетом
структурализма в «Бытии и времени» нет, если понимать под структу
рализмом «школу мысли», с позволения сказать, XX века, — и другое то
же верно, что единственный настоящий структурализм XX века в «Бы
тии и времени» Хайдеггера. И в тех философских началах «Курса всеоб
щей лингвистики» Фердинанда де Соссюра, где значимость оказывается
социальной значимостью, т. е. реалией человеческого мира, а вовсе не
функцией «структуры». Но в этих своих философских основаниях Фер-
376
19 ФЕВРАЛЯ 1992
динанд де Соссюр еще не прочитан), — анализ «Бытия и времени» был в
первом разделе, условно говоря, структурным, во втором разделе в него
было включено время, но в существенном смысле анализ времени тоже
структурный, время целое, оно для того, чтобы быть целым, развертыва
ется в настоящее, будущее, прошедшее.
Вторая глава второго раздела (в разделе 6 глав, как в первом разделе;
первая глава второго раздела была «Возможная полнота присутствия и
бытие к смерти, бытие при смерти») — вторая глава: «Соразмерное при
сутствию свидетельство собственного умения быть и решимость». «Со
размерное присутствию», Daseinsmäßige: не предметное, а человеческое,
не в аспекте объективных реалий, а в аспекте экзистенции: находящееся
в поле экзистенции. «Собственное умение быть», eigentliches Seinkönnen:
собственное не столько в смысле «принадлежащее собственно ему»,
присутствию, сколько и в первую очередь собственно, настоящее, ему
его существу принадлежащее, а не «людям», размытому das Man, несоб
ственному, неподлинному, кажущемуся. Умение быть, Seinkönnen: при
сутствие и есть с самого начала умение быть в мире, понимание-в -мире,
в смысле «оно понимает в мире», каким-то образом всегда уже разбира
ется в мире, мир ему не предмет изучения-освоения, а еще раньше того:
то, что обеспечивает возможность всякого изучения-освоения, искон
ная открытость мира.
Хайдеггер ищет свидетельства, которое было бы «соразмерно» при
сутствию, Dasein, т. е. внятно ему, и которое ему свидетельствовало о
его «способности быть», быть именно бытием, а не тем-то и тем-то . Бы
тие, мы помним, остается и останется неопределенным: но оно вполне
определенно в том смысле, что именно о бытии идет дело для присут
ствия, присутствие всегда само какое-то бытие, подлежащее проясне
нию, и присутствие не имеет другой более «собственной» задачи, чем
быть; оно само свидетельствует о себе много раз, по-разному, что дело
для него в первую очередь идет о том, чтобы быть, и в немецком в каж
дой фразе почти об этом говорит само слово, означающее присутствие,
человеческое существо: Da-sein, бытие-вот, бытие, которое ставит себе
задачей быть «вот». Впрочем, и в моем «присутствие» то же, чуть смут
нее, видно.
Хайдеггер ищет «свидетельства». Кто кому приносит свидетельство?
Жесткая реальность: кто такое «я», мы не знаем. Это не философский
кунштюк, не педагогическая «сократическая» хитрость: это реальность,
в которую мы ежеминутно, ежесекундно погружены. Когда смотрим на
377
СЕМИНАР III.l
себя в зеркало и видим там кого-то, кто нам может быть совсем не нра
вится; когда вспоминаем «себя» вчера, или год назад, и не узнаем, «это не
я»; когда говорим сейчас одним, потом другим голосом; когда «разгова
риваем с собой», кто разговаривает с кем. Это неопределенность Я, то,
что мы заняты, наше пространство, пространство нашего присутствия
занято «людьми», — ведь нашего присутствия, мы никогда не откажем
ся, что нашего, но вот кто такое мы, какие мы, какие были до разговора
или переменившись после разговора? — Не говорю о том, о чем гово
рить не хочется: когда человек от глубоко спрятанного страха, от расте
рянности надевает маску, скажем маску общительного, или маску дело
вого, или маску преуспевающего, и в этой маске ходит и уверяет всех,
что это не маска, а это вот понимаете ли и есть да поверьте мое лицо, —
об этом случае, о котором не хочется говорить, о прирастании маски,
лучше не говорить, — но что с «я» дело обстоит плохо, что в нас действу
ют «люди» — пожалуйста, вот сейчас опровергните меня!
Оттого, что философские вещи слишком близко, слишком жгутся, от
них отшатываются, их отодвигают в интеллектуальное пространство,
обсуждают проблему «я», «личности», но что ищет, кто ищет «свое я»?
В неоплатонизме эта загроможденность себя называлась «толпой», οι
πολλοί, множество. От него надо вырваться. В христианской мистиче
ской аскетике то же: сам человек — это городская толкающаяся, толпя
щаяся толпа, и надо потерявшемуся в ней Человеку — голова у него кру
жится, пути он не знает, все его толкают — схватиться за Христа и не от
цепляться от подола его платья, пока Христос не выведет. В Библии это
множество, «люди» в человеке называются «народами». «Зачем мятутся
народы, зачем замышляют злое».
355 (267)· «Кто присутствия большей частью не я сам, а люди сами».
Прошу Вас, умоляю Вас, держитесь вещей, хотя вещи шокируют. Всякие
поиски «подлинного я» ведутся как толчея внутри толпы, как продол
жающееся смятение народов. Немножко внимания к себе, «узнай себя»,
или библейское «внемли себе»: нету в нас инстанции, на которую можно
было бы опереться; телевизионный, кинообраз по сделанности ничем не
отличается от скульптуры; подражать Шварценеггеру ничем не отлича
ется от подражать большому Аполлону, который стоит в фойе цветаев
ского музея, — ничем не отличается от надевания на себя маски. Киноо
браз это образ, нарисованный, даже если он нарисован плотью и кровью
живого человека. Образ великого человека, даже когда он сфотографи
рован без ретуши, даже когда он стоит на трибуне — все равно уже об-
378
19 ФЕВРАЛЯ 1992
раз, маска, и он в момент фотографирования в цепкой хватке «людей», и
«люди», которые на него смотрят, тоже смотрят «как люди», и хотят быть
как он, т. е . опять же «как люди». Мы вышли в люди очень рано, мы выш
ли в люди с тот самый момент, когда захотели выйти в люди, и мы кроме
людей, в которые мы хотим выйти, в себе дела ни с чем не имеем, — поэ
тому собственная самость, говорит Хайдеггер, с. 355 (267)' «Собственная
самость определяется как экзистенциальная модификация des Man».
Ни с чем, кроме «людей», не надо иллюзий, пусть жесткая реальность,
мы в себе дела не имеем, и всякое искание самости, собственной само
сти — а Хайдеггер ищет ее «свидетельства» — может идти только путем
модификации нашего первичного, нашего исходного, людей, — какой
модификации? Экзистенциальной. Только экзистирование, опять же,
только эк-зистирование, выход к бытию, бытие, еще бытие, еще бытие,
как только мы умеем, только это — приближает, проясняет и самость, и
я, и самих людей, и бытие, само. Кто «экзистирует»?
Но экзистирует тот, кто может! А может экзистировать — только тот,
кто есть: das Man, люди, конечно, экзистируют, — но если событие бытия
сбывается, если бытие «есть», da, то в его свете проясняется по крайней
мере это обстоятельство, что в нас и вокруг нас загадочные «люди», уже
это хлеб, уже это настоящая проблема, с которой по-настоящему мож
но и нужно иметь дело; так открывается путь, путь в правде к правде.
Еще раз, очень грубо говоря: что имеют люди? Сами они ровным сче
том ничего не имеют. Где они, никто не знает и они сами не знают. Все,
что «люди» делают, возможно делать только потому, что есть присут
ствие как бытие-в -мире, понимающее в мире и умеющее быть в мире.
«Люди» выхватывают то или другое из этих могу. Почему они выхваты
вают одно, другое, третье: они не знают, они, конечно, объясняют, рацио
нализируют, но в конечном счете все упирается в последнее объяснение:
да потому, что так делают, люди так делают. Настоящего выбора лю
ди не знают, то, что они называют «выбором», тайно сводится к оглядке
на людей, что выбрали «люди», то или противоположное (это совсем не
принципиально) должны выбрать и мы. Кто-то выбирает. Он не знает,
кто он, выбирающий, не знает, зачем он выбирает; те «доводы», которы
ми он «руководствуется», он не знает, чьи это доводы, кто их до него до
вел; если он руководствуется «интуицией», он не может сказать, чья это
«интуиция», которому из «я» она принадлежит.
Итак, жесткая реальность: мы имеем дело в самих себе с «людьми».
То, что упрямство в нас говорит: не совсем это так, — то же говорит и
379
СЕМИНАР III.l
Хайдеггер. Не совсем это так. Потому что остается то, что мы замети
ли странности с нашим Я; мы упорствуем, отстаиваем, упрямствуем,
утверждаем себя. Раз утверждаем себя — значит еще не утвердили. Упа
си Господь поспешить скорее «застолбить» себе что-то прочное. Раз мы
попали в такое положение, что надо «утвердить» себя, так, наверное, по
чему-то попали . Что-то упустили — хотя, может быть, не могли не упу
стить, не было никакой возможности не упустить, как нет никакой воз
можности не упустить то «уже», которое всегда о-казывает -ся.
Мы по-русски не зря говорим «выбраться из толпы». Если бы Хайдег
гер говорил по-русски, он обязательно сказал бы это: выбраться из тол
пы значит выбрать-себя из толпы, для этого сначала выбрать себя, вы
брать из тех Я, масок, в которых мы теряемся, собственно себя. От «вы
бора» в кавычках, который якобы делают люди, люди в нас в том числе,
надо вернуться к настоящему выбору, чтобы выбрать-ся из «людей».
«Возобновление собственно выбора означает выбор этого выбора, ре
шимость для умения быть из собственной самости. В выборе выбора
присутствие прежде всего делает возможным для себя свое собственное
умение быть. Поскольку присутствие, однако, затеряно в das Man <no-
русски лучше: затеряться в людях, чем по-немецки, в das Man — не в мо
ем русском лучше, а вообще в русском лучше, как довольно часто быва
ет, хотя немецкий остается далеко в недосягаемости, непревзойденным
в целом для языка философии>, — поскольку присутствие, однако, за
теряно в «людях», оно должно себя сперва найти. Чтобы себя вообще
найти <еще раз: на немецком здесь выкладки такие, какие я вам сейчас
читаю в буквальном переводе, но если бы Хайдеггер говорил по-русски,
он говорил бы не о найти себя и для этого решиться на выбор, а пря
мее, острее: говорил бы о «выбрать-ся из людей» — и не знаю, как бы он
сказал о «выйти в люди» — как вы думаете?> — чтобы себя вообще най
ти, оно должно быть себе в его возможной собственной сути „показано".
Присутствие нуждается в свидетельстве того умения быть собой, каким
оно по своей возможности уже есть» (356, 268).
Свидетельство, свидетельство... Какое же тут может быть свидетель
ство. .. А что такое «голос совести»? О чем он говорит, о чем он «тайный
свидетель» свидетельствует? Одно из гениальных мест у Хайдеггера. Он
говорит: но «голос совести», что это за научное понятие: выслушива
ет возможные возражения. Они такие: сам факт совести оспаривается,
«роль» совести неясна, тем более совершенно неясно, что она там го
ворит, может быть истолковано по-разному, — словом, для строгой на-
38о
19 ФЕВРАЛЯ 1992
учной работы из-за этой непроясненности «совесть» не годится. Наобо
рот, говорит Хайдеггер: что не прояснена, спорна, под вопросом, — зна
чит не интеллектуальный конструкт, значит это исконный, изначальный
феномен. И тогда, если это феномен, т. е. оказывает -ся, — совершенно не
важно, прояснен он психологией или нет. Не хватало еще того, чтобы
философия работала только с понятиями, которые прояснены в науках.
Если наука не может с чем справиться, то значит она имеет дело с чем-
то. Это дело — во всяком случае дело философии.
Совесть, конечно, не предмет. Она, мы говорили выше, из тех вещей,
которые «соразмерны присутствию», Daseinsmäßig.
Страница 357 (269): «Совесть как феномен присутствия — не случаю
щийся и временами наличный факт. Она „есть" только по способу бы
тия присутствия и дает о себе знать как факт всегда только с фактиче
ской экзистенцией и в ней. Требование „индуктивного эмпирического
доказательства" для „фактического характера" совести и правомерности
его „голоса" коренится в онтологическом извращении этого феномена».
Да, голос совести можно понимать по разному. Но вглядываясь в фе
номен, в то, что о-казывается в нем, — «метод» Хайдеггера, почему его
трудно назвать «методом»?
Феноменология, собирание того, что являет-ся. В любом случае со
весть дает что-то понять, она erschließt, размыкает — слово то же, что
русское «ключ», «отпирает» запертое, закрытое. «Размыкает» точно по
жесту, но немецкое erschlißen проще обычнее звучит, ближе к «откры
вает». Я все-таки буду говорить «разомкнуть», но иногда «открыть»,
«раскрыть». Что-то прежде запертое, замкнутое, глухое совесть «размы
кает», но что, как? Ведь это «формальная характеристика», т. е . очерта
ния идеи, существа — не содержания, т. е. предельная характеристика, не
мешающая, не исключающая никакого возможного содержания.
Но присутствие само — бытие-вот, открытость. Совесть входит в от
крытость присутствия, в структуру этого сущего, «которое каждый раз
оказывается нами самими», открытость конституирована настроением,
пониманием, падением (проваливанием в сущее), речью. Более настой
чивый анализ совести раскрывает ее как то, что зовет. Звать — это мо
дус речи.
Совесть окликает. Страница 358 (269): «Окликание совести имеет ха
рактер вызова бытию, его призыва к его собственнейшему умению быть
собой, причем способом призыва к его собственнейшему доту, — Schul
digsein, к тому, что оно должно».
381
СЕМИНАР III.l
Анализ совести начинается с «индифферентного обнаружения» это
го феномена: что что-то в нас что -то нам каким-то образом дает понять.
Присутствие это бытие — вот: к вот относится и голос совести: он не
абстракция, он всегда такой, какой есть.
Но что такое вообще разомкну>тостьу разомкнутость двух — чего
двух?
И присутствия, и того, в чем оно, — мира. Это открытость, это от
крытая возможность. Совесть участвует в размыкании — позволим се
бе отойти от Хайдеггера, в размыкании того глухого камня, из которого
Пирра и Девкалион после потопа сотворили людей. Он разомкнуто, на
строением, пониманием, обрушиванием — увлечением — в мир вещей,
и вот еще голосами.
III.2
26.2.1992
Ужас, совесть, «люди», то, на чем Хайдеггер останавливается для разбо
ра, — мог ли он остановиться па другом? Мы прошлый раз разобрали
«настоящее», разбор подсказан языком. В немецком не подсказан. В ка
кой степени разбор обязательно должен был быть привязан к этим и не
другим экзистенциалам?
Ни в какой. Нет феноменов, которые должен был бы Хайдеггер разо
брать в своей книге о бытии и времени. Но ведь тема диктует свои под
темы, бытие и время предполагают моменты развертывания, которые,
стало быть, обязательны для разбора? Как всякий предмет имеет сторо
ны, аспекты, моменты?
Неужели все-таки нет? В чем дело? Из-за особенности этой темы, бы
тия? Какая же тогда эта особенность, что тема бытия никогда не дикту
ет свои подтемы, аспекты, моменты? Что нельзя «развернуть содержа
ние» этой темы? Ведь должно же быть у всякой темы «содержание», ко
торое надо «развернуть»? А здесь нет? Почему нет у бытия и времени,
у этой темы, содержания, которое надо развернуть? (Бытие — нельзя
пройти мимо...)
Потому что бытие не предмет с содержанием, который можно бы
ло бы развернуть. Бытие это то, о чем для присутствия идет дело. Де
ло идет о бытии. Или еще: бытие дело присутствия. У дела должно одна
ко тоже быть начало, середина, конец, — надо знать, как, с чего браться
за дело, от чего к чему в деле переходить, в строительстве дома от фун
дамента к укладке сруба, а иногда наоборот, сначала сруб, потом под не
го фундамент? Разве в том деле, каким оказывается для присутствия бы
тие, нет структуры? Бывает ли дело без структуры? без предмета?
Пример, который только пример, опять же не аналогия, не парадигма,
чтобы потом знать, как надо вести себя с мыслью. Художник, у него есть
глаза и кисть, кисть в двух смыслах, кисть руки и кисть — тоже руки,
как бы другая кисть руки («когтизм» Татьяны Толстой*). Кисть повто
рена в кисти — и отделена от кисти; поэтому живопись никогда не ког
тизм, никогда не механическое перемещение биоритмов или физиологи
ческих или психических ритмов тела на бумагу или на материю. Анало
гия здесь с мыслью?
383
СЕМИНАР III.2
Мысль исторична, т. е . она всегда из здесь и теперь, из этого вот при
сутствия. Но она никогда не «когтизм», не выливание потока сознания
на бумагу. Выливание потока сознания на бумагу просто грязь, когтизм.
«Моя индивидуальность». Фатально получается, что «моя индивидуаль
ность» оказывается самый пошлым, самым плоским общим местом. Се
годняшняя тема: совесть как окрик, окрик призывающий к долгу, дол
гу — осуществить возможность, возможность собственного бытия.
Есть ли тут аналогия с кистью? Кисть руки ведь больше моя собствен
ная, чем кисть, которой пишу? Почему собственное бытие Сальватора
Дали не выходит, во всех смыслах не выходит, когда он когтями хвата
ет палитру, потом полотно? Почему Сальватор Дали при всех своих па
раноических причудах вот этого одного никогда не делает и не сделает?
Почему всегда возьмет кисть в кисть руки и только после этого на по
лотне, не в его теле, будет собственно сам неповторимый Сальвадор Да
ли, — что случилось с телом, куда делось тело, почему теперь вот мож
но уже и без тела, а Сальвадор Дали, его присутствие есть
7
. Аеслибыне
было у критического параноика этой работы, если бы он впустил — а он
говорил, что никогда не впускал на порог богему, эту бледную немочь на
лягушачьих лапках, — если бы не было этой работы, этой наивной, дет
ской супружеской верности, верности другому, кисти, другому человеку,
то не было бы никакого Сальвадора Дали? Какая тогда аналогия между
кистью и мыслью?
Та, что поток сознания, выплескивание «непосредственно» того, что
подвертывается на язык и «приходит в голову», это когтизм, что мысль
к потоку сознания не имеет отношения, как живопись к когтизму. Или
я не прав?
Я не прав. Потому что мы не знаем, не начнет ли Сальвадор Дали на
носить краску на материал кистью руки. Скульптор, в конце концов, мо
жет оставить свою лопаточку, шпатель или я не знаю, как называется их
инструмент, и работать рукой. Нет приема, которым гарантировался бы
выход из потока сознания. Настолько нет приема, что приемом выхода
из потока сознания может оказаться поток сознания. Но никогда не бы
ло бы никакого Сальвадора Дали, если бы не было раннего его расхож
дения с сюрреализмом, борьбы со школой потока сознания. Рецептов,
т. е ., опять не остается. {Орудие, логические приемы мысли: движение,
которое вычерчивает касание. Один из приемов отказ от приемов: обу-
ченность, опыт...)
Продолжить сравнение. У художника есть кисть, у него есть глаза.
384
26 ФЕВРАЛЯ 1992
Конечно, а как же иначе, художник как мы все умеет видеть трамвай и
узнавать, это трамвай, умеет узнавать, «это человек». Он конечно видит
предметы. Он их еще получше видит, чем мы. Он в них больше замеча
ет, чем мы. Он с такой ясностью видит предметы, которые видим мы,
что не может оторваться: в чем дело, не может оторваться он, как же так,
что все так, и все такое, и не другое, и такое вот именно такое, трам
вай именно так вдвинутый в поле, человек там и человек здесь именно
такой, человеческий? Невыносимо, невозможно вынести, что все имен
но так, разве можно не видеть, что это загадка, что эта такость вещей
показывает что-то, указывает на что-то — и не указывает, сама себя не
знает, не знает, что указывает, и вливается в глаза твои, художника, что
бы ты им самим, вещам, показал, что они показывают так. Просто так,
и именно так. — И когда художник видит этот показ вещей, бросающий
ся в глаза, предельно ясный и требующий немедленно, чтобы его увиде
ли и мало что увидели, показали — кому показали? да этому же показу,
который не знает о себе, — ив этот момент для художника нет ничего
отвратительнее, чем его коллега, который сидит за мольбертом и пере
носит «реалистически» на материю очертания трамвая, очертания чело
века, и провалом всей жизни, предательством хуже всякого, было бы в
такой момент для художника послушаться совета, изобразите нам этот
завод, и рабочих и предпринимателей мирно выходящих из трамвая и
т. д. Художник стоит перед двумя невозможностями, «непосредственно»
перенести свои биоритмы кистью на полотно и «непосредственно» пе
ренести туда предметы, которые поражают его глаз, бросают-ся в глаза .
Кроме того, его не понимают, за нереализм, за отсутствие предмета, те
мы не платят. Это крушение, весь мир оседает. Только отсюда начинает
ся художник. Какая аналогия с мыслью?
Две есть. Он обязан быть несвязанным, обязан быть необвязанным.
Обязан не иметь, с чего начать, что делать в середине и как закончить.
Это похоже на философскую тему, на тему «Бытия и времени»: это не
такая тема, содержание которой можно «развернуть», в смысле расчле
нить на специальные разделы и каждую подтему «проработать». Вторая
аналогия, связанная с первой: именно из-за того, что тема не имеет пред
мета — не странно я говорю? Тема, которая ищет для себя предметы...
Не будет плохо, если мы начнем различать тему и предмет. Тема, то,
что тематизируется, от τίθημι, класть, — что -то положенное . Предмет,
ob-iectum, Gegen-stand тоже «поставленное перед», в каком-то смысле
лежащее перед нами, тоже положенное. Но «положено» имеет два смыс-
25-2015
385
СЕМИНАР III.2
ла: «обязывает» (само), «нами установлено», нами так положено. Θέ μι ς,
«Фемида», — то «положено», которое само обязывает, к чему мы обяза
ны и такужву с самого начала. Мне слышится что-то похожее на эту раз
ницу между «темой» и «предметом». «Тема» — то, что положено, поло
жено не нами, и когда мы берем тему, мы тематизируем, — мы обраща
ем внимание, оказываемся там, где нам положено. В нашем сравнении:
«тема» художника всегда одна, то, при чем ему положено быть, при по
казе вещами того, что они показывают, так, как они показывают, как им
положено показывать; но предмет его обязательной темой стать не мо
жет. Кроме того, тема это дело, даже этимологически. О деле мы и на
чали говорить: «Бытие и время» это дело, но не такое, где бы нам ука
зали: вот начало, вот за что надо браться. В сравнении с художником не
договорили: ему положено, он обязан быть несвязанным (скажем, зада
чей реалистического изображения предметов), но эта обязанность быть
не связанным такая, что и обязанности не быть фотографом тоже нет,
у Дали есть фотографические вставки, т. е . выбор метода (сюрреализм,
например) преломления того, что видишь, тоже не спасает художника.
В работе «Бытие и время» мы читали басню Гигина о «Заботе», мифо
логическое, или традиционалистское включение, которое едкого и сле
пого (сочетание удивительной зоркости и полной слепоты вещь обыч
ная у просвещенных читателей) критика Хайдеггера может навести на
такое разоблачительное откровение: смотрите, Хайдеггер просто пере-
шифровывает общеизвестные вещи не из философии даже, а из каких-
то басен.
Мы в трудном, безвыходном положении, о котором я говорил в са
мом начале этого семинара: но ведь перед нами книга «Бытие и время»
как структура и как предмет, мы разбирали конституциюу т. е. состав
присутствия в его экзистенции, бытие-в-мире, понимание, речь. Дело,
выходит, вроде бы в «трезвом» понимании, как работая на конвейере
берешь деталь, делаешь операцию, перекладываешь, тогда берешь дру
гую. Трезвое понимание «дела», я сказал; но эта трезвость еще на самом
деле — трезвость обыденного понимания дела — пьяная, если не безу
мная. На конвейере жизни мы перебираем наплывающие предметы-де
ла, и надо быть в глубоком пьянстве, в глубоком сне, чтобы не задумать
ся, что же с нами происходит, ведь тем же перебиранием дел-предметов
заняты миллиарды, и скоро жизнь кончится. «Трезвое» понимание де
ла, возьми, начни, выполни, отложи оказывается пьяным, настоящее от
резвление, оно же настоящее дело, начинается, как говорил Хайдеггер в
386
26 ФЕВРАЛЯ 1992
курсе 19-го года о идее (определении) философии, [когда] мы замечаем
проблематичность проблем: их проблематичность в том, что всё пробле
ма (предмет, дело). За работу, товарищи] Много товарищей натворяют
такое, что ранний оптимистический вопрос «Что делать?», указываю
щий, за что браться, звучать начинает совсем по-другому, «Что делать?»,
отчаянное. Всякое дело, однако, будет еще одним, и, стало быть, выхо
да нет: всякая философия будет еще одной системой, — пока не начнет
ся настоящее дело, не начнется с обращения внимания, да что же это мы
делаем.
Дело начинается с обращения внимания, господа, с обращения вни
мания на то, что мы делаем и что мы говорим. Что мы делаем, когда го
ворим «дело»? Что такое «дело», если его услышать всё, а не так как «лю
ди» слышать и не так, чтобы встроиться в учебную программу и полу
чить хорошие отметки и диплом.
Хайдеггер не в том, что вместо скучного субъект-объект предметом
философии должно стать настроение, ужас и совесть. Его дело обра
тить внимание. Пустая случайность, что «дело» кроме занятия зна
чит судебный процесс? Почему могло случиться так, что «дело партии»
могло приобрести зловещий смысл, а начинало с такого оптимистиче
ского активизма? Может ли быть, чтобы всякое дело человека не бы
ло делом в смысле заведенного на него дела? Может ли быть, чтобы не
за всякое свое дело человек дал отчет не на страшном последнем суде,
а сразу же? Хотел бы я посмотреть на человека, который не платит за
то, что он делает. Бывает ли такой человек. Бывал ли когда-нибудь та
кой человек.
Поэтому для того, чтобы по-новому услышать слово «дело», небыва
лым образом понять «дело», нам вовсе не нужно придумывать какое-то
новое дело: достаточно просто обратить внимание, услышать слово «де
ло», наше «дело», по которому нас судят, снова во всех смыслах слова.
В семинарах в Цолликоне 23,26.11.1965 (мне вчера дали перевод*) Хай
деггер цитирует возражения против анализа присутствия в «Бытии и
времени», возражения такие: этот анализ антинаучен; этот анализ анти-
предметен; этот анализ антипонятиен: и хочет ответить на эти возраже
ния? Нет: странным образом, их разъяснить. После разъяснения окажет
ся, что эти «возражения» поясняют, что такое анализ в «Бытии и вре
мени». Он не наука в смысле учета и исчисления действительности как
данности. Он не имеет предмета как содержания, которое обрабатывает
исследователь. Он движется не путем формирования понятий.
25*
387
СЕМИНАР III.2
Вам не хочется спросить: все нет, нет, но что же тогда, в конце концов,
за что же схватиться, за что же держаться?
Мне страшно хочется хоть какой-то определенности, вы поверить
мне не можете. Как человеку после операции хочется пить, а пить нель
зя. И все-таки после операции, несмотря на запрет врача, пить можно,
ставя на карту что? только жизнь, которая все равно зависит от смысла,
и если смысл есть, то жизнь вытянет. Но в философии нельзя гораздо бо
лее жесткое. Нельзя думать, что делаешь и думаешь хорошо, не обратив
внимание. Или другими словами: если имеешь силы хоть на что-то, ска
жем, на стремление к определенности, сначала, не сходя с места, обрати
внимание на это стремление к определенности. Как у Гераклита: мнение,
убеждение хуже падучей болезни; если у тебя есть твердая уверенность,
и кругом пожар (а сейчас кругом пожар), то сначала погаси свое мнение,
потом иди тушить пожар. — Я плохо пересказал, потому что всякое от
клонение от буквы, в данном случае буквы Гераклита, вводит в заблуж
дение, это В 43·
Всякое наше дело становится нашим делом. Я не знаю, не уверен, что
люди, которые выбрали безделье, приносят больше вреда, чем пользы.
Другое дело, что им не на что обратить внимание. Где же наше дело?
О нем говорит совесть, но как? Окрик совести легко, как сквозь воздух,
проходит через все наши знания, мнения, представления: для совести
они как ничто, они ничего не весят, с совестью тягаться они не могут,
страница 363 (273): окрик совести «перешагивает» через то, как понима
ет присутствие само себя и свои отношения к другим. «Окрик совести,
обращенный к собственной самости, ни в малейшей мере не принима
ет всего этого к сведению. Поскольку только самость человека, отданно
го „людям", окликается и призывается к слышанию и послушанию, люди
проваливаются, обрушиваются». Это, что голос совести, как говорится
«слышать ничего не хочет», требует, чтобы его услышали безусловно, —
это известное дело как будто бы показывает на какой-то недостаток со
вести, как Соловьев видел недостаток совести в том, что она не вступа
ет в диалог, не проясняет себя, не объясняется, некоммуникабельна, если
современным языком говорить (но и у Соловьева почти так, мы читали
в прошлом году). Как же так: мы призываем обращать внимание, а од
новременно нужно слушать совесть, которая как раз ни на что не обра
щает внимания. Империализм совести?
Или совесть обращает внимание? В обоих смыслах?
ш.з
431992
То, что совесть не имеет словесной формулировки — мы помним у Со
ловьева: «... что. . . касается совести, то при всем огромном значении это
го нравственного фактора он имеет один коренной недостаток. Дело в
том, что совесть, как было уже кем-то замечено, совершенно подобна то
му демону, которого внушениями руководился Сократ. Как этот демон,
так и совесть говорит нам, чего мы не должны делать, но не указывает
нам того, что мы делать должны, не дает никакой положительной цели
нашей деятельности»
1
.
Хайдеггер: «Отсутствие словесной формулировки того, к чему зовет
<совесть>, не отодвигает этот феномен в неопределенность таинствен
ного голоса, но только показывает, что понимание „зова" не должно
быть привязано к ожиданию какого-то сообщения и подобного» (зб4>
273-274)· Как совесть не слышит доводов рассудка, так она и не выстав
ляет доводов в свою пользу. Неопределенность голоса совести — только
в смысле несформулированности, неоформленности в слова; в смысле
меткости голос совести очень определенный, настолько, что начинать
его оформлять в слова, втягивать во внутренний диалог — значит «из
вратить его в его тенденции к размыканию» (присутствия). Поскольку
человеческое Я принадлежит «людям», совесть звучит, ее голос, тоже об
ращаясь к людям, к самим людям в их самости, но не на языке «людей».
Сами люди — поскольку «люди» неопределенны, окликая самих лю
дей, совесть окликает самость как таковую, т. е. самость присутствия.
Чем несформулированнее голос совести, тем он определеннее, и его
определенность зовет от неопределенных «людей» к тому единствен
ному, что определенно, к присутствию от потерянности в людях. Кого
окликает совесть? Через толпу людей — их самость^ которая только од
на — присутствие. Кто окликает? Присутствие окликает само себя.
Можно ли считать это описанием, тем более полным описанием фе
номена совести?
Нет. Но цель описания здесь и не ставится. Если вы достигнете бо
лее подробного, содержательного или поэтического, или нравственного
ι. В. С. Соловьев, Сочинения в 2-х томаху т. ι, Москва: Мысль, 1988, с. 595 ·
389
СЕМИНАР III.3
описания совести, вы не сможете считать хайдеггеровский анализ опро
вергнутым или преодоленным. Он формальный анализ, он прочерчи
вает только предельные очертания феномена, он подчеркнуто и наме
ренно избегает описания. С точки зрения описания этот анализ бедный.
Прочерчиваются, подчеркиваются только те черты, которые проясняют
присутствие.
В совести присутствие окликает само себя — эта тавтология наме
ренная, подчеркнутая, в форме дефиниции она говорит, что мы не знаем,
что такое совесть — в частности, оставляет место для прояснения, ес
ли кто такого еще сумеет достичь. Так или иначе, «присутствие окликает
само себя» — это требует различения внутри присутствия: зовет «исхо
дное брошеное бытие-в-мире как бездомность», неприютность. Что по
нимается под бездомностью?
Не обстоятельства социального существования. Оставленность бы
тия и оставленность бытием. К тому присутствию, которое растеряло
себя в людях, обращается, зовет его исходное и неотменимое в присут
ствии, его собственное существо. Обыденным «людям» этот голос не
известный, чужой. Он ничего не сообщает, он говорит в жутком моду
се молчания. Откуда берется холодная уверенность окрика совести? От
того уверенность, что присутствие неподменимо, неустранимо, что оно
может быть искажено, но на его месте, самого по себе, ничего другого не
бывает. Отсюда уверенность голоса совести: опять, объяснение это или
описание?
Объяснение (не описание), а именно объяснение уверенности голоса
совести через неподменимость, несменность присутствия для него са
мого. Какого рода эта решенность, о неподменимости присутствия? На
блюдать все или даже многие случаи, из которых можно было бы это
вывести, исследователь не мог. Стало быть, это не научное решение, —
не научное не то же, что ненаучное. Это философская решенность, и от
куда она, как она доказана? У Хайдеггера есть объяснение неподмени
мости присутствия. «Что отнимает у присутствия так радикально воз
можность, во что-нибудь себя перетолковать и обознаться в себе, если
не оставленность в предоставленности самому себе?» (368, 277) Какая
констатация — психология, социологическая статистика, житейская му
дрость, наблюдение людей? Кто, или что говорит в этой фразе, — фразе,
от φράζω, указывать, определять, сообщать?
Говорит, называя себя, сама эта «оставленность в предоставленности
присутствия самому себе», но не в том смысле, что говорит личность
390
4 МАРТА 1992
Хайдеггера, а объ-являет себя опыт вот этого исторического бытия, ко
торое вынесло оставленность в предоставленности самому себе. «Обе
спечено», если можно так сказать, самим собой. Говорит о той самости,
которую не наблюдает, а само самостью являет-ся . (Кстати, русский язык
феноменологичен, стершееся канцелярское «является» это целый коло
дец, в который никто еще не заглядывал.)
Можно ли спросить: а какое нам дело до того единичного опыта еди
ничного человека в единичных обстоятельствах, пусть даже он сложил
ся в целую книгу и книга была напечатана?
Да, это определенный, единственный опыт, который — опыт истори
ческого бытия — говорит о себе, решается на себя, сообщает себя. Т. е.,
это значит, возможен был и другой опыт — да вот нет его, опыта такой
ясности, ясности и для себя и для других, ясности, проясняющей и себя
и все, что так или иначе входит в круг ее простирания, в ее просвет, —
нету больше в 20 в. Оспорить то, что я сейчас сказал, не только не запре
щается, но каждый человек в 20 веке, и только ли в 20 в. вызван в смысле
вызова на поединок, — только надо помнить, что нечестное оспарива
ние гораздо хуже поражения, и философские кладбища 20 века букваль
но усеяны крестами на похороненных, навсегда, «философов», которые
нечестно оспаривали мысль, не обязательно Хайдеггеровскую. Уникаль
ный исторический опыт этого человека, Хайдеггера, и должен быть вы
зовом, потому что он теряет смысл, если ему рабски подражать, — но
отвечая на этот вызов, надо учитывать и возможность быстрого при
знания его победы. Потому что за Хайдеггером, похоже, стоит не толь
ко человек, — тут нет мистики, он сам ведь говорит и повторяет, глав
ное собственно в нем, что человек всегда не только человек, что присут
ствие это не человек, это присутствие, это бытие-вот.
«Совесть оказывается зовом заботы: зовущий — это присутствие,
тревожащееся в брошености... о своем умении быть» (369, 277). Уме
ние быть, так сказать, дело присутствия, бытия-вот: его забота. Все эти
три — Seinkönnen, Sorge, Da-sein — переплетены, определяются друг че
рез друга.
—
К слову «брошеность» в скобках пояснение: Geworfenheit
(Schon-sein-in...). Перевод «заброшенность» придает экзистенциалист
ский оттенок героического одиночества личности или даже психологи
ческий оттенок. Я предпочитаю говорить «брошеность», в этом слове не
обязательно трагический или катастрофический оттенок, так с мячом
еще не случается катастрофы, когда он брошен. Пояснение в скобках все
ставит на место: брошеность — опять формальная характеристика, она
391
СЕМИНАР Ш.З
ничего в данном случае не говорит ни о личной судьбе, ни о нравствен
ной стороне дела, а называет тот феномен, феноменологическое наблю
даемое, что присутствие не может не обнаружить себя каждый раз уже
в... в чем? А, вот это надо присмотреться: оно присмотрится и назовет,
опишет, в чем оно оказалось, но что оно всегда уже оказалось, устранить
это оно не может, это входит в его конституцию.
«Тот, кто окликнут зовом, — то же самое присутствие, призванное к
своему собственнейшему умению быть (возможности быть)» (369,277)·
Из чего присутствие зовет само себя? Из потерянности в людей.
Вина. Совесть говорит о вине. Что такое вина? Что такое провинить
ся? Обычное понимание: мы должны и не выполнили долга. Скажем, мы
виноваты перед другими: они так много сделали для нас, а мы для них
ничего. Нравственная вина объясняется обычно тоже так. Был должен
и не выполнил; было что-то такое, что требовалось, и человек оказал
ся несостоятелен, его состояние, его имущество оказалось недостаточ
ным, он был не в состоянии выплатить, или по какой-то другой причи
не манкировал выплатить. В чем, с точки зрения феноменологии, недо
статок такого отчета?
Ошибка petitio principii, от petitio прошение, и principium, начало (по-
русски иногда «логический круг»): очень частая ошибка, когда то, что
требовалось прояснить, отодвигается к исходному тезису, который как
исходный считается самопонятной аксиомой. Вина это невыполнение
долга, т. е. с самого начала уже аксиома то, что человек должен, — исход
ное положение, principium уже ситуация, когда от человека требуется из
бежать виновности, долг совершить что-то, иначе он будет виновен. Ви
новность уже заложена в исходном положении. — Каким будет вопрос
феноменологии? Почему человек такое существо, что он обязан?
После такого вопроса «почему», скорее всего, то, что под руками у фе
номенолога, ускользнет: общество, Бог, эдипов комплекс, т. е. отношение
к родителям, биологическая цепь, жизнь, которые скорее всего будут на
званы как источник, причина, основание долга, уже не феномены, они не
являются. Ведь общество не является. Бог не является. Они не являют
ся даже в буквальном смысле для обозрения, рассмотрения. Вместо про
яснения феномена долга мы отодвинули его в исходный принцип: он та
кой, что каждый человек окажется с чувством долга.
Я сказал, что это отодвигание объяснения очень частая «логиче
ская» — так считается
— ошибка, порочного круга, petitio principii, да
леко не ограничивается только областью ведения рассуждения, и даже
392
4 МАРТА 1992
не главное здесь. Эта ошибка в любом случае, когда мы говорим: пото
му что. Например: у нас нет демократии, потому что нет демократиче
ских навыков, демократической традиции. Или: я в таком скверном ду
шевном состоянии, потому что я не выспался. Этим закупоривается да
же попытка осмыслить, прояснить то, что я было собирался прояснить:
ведь традицию не изменишь, было то, что было; и если я не выспался,
этого уже не исправишь.
У Хайдеггера нет причинных объяснений. Для прояснения феноме
на вины этот феномен надо видеть сам по себе, без отношения к дол
женствованию и закону. Может быть, вина — от нарушения закона, но
это должно явиться, оказать-ся, быть видно в самом феномене вины, т. е .
причинное объяснение от нас загородит феномен. — И еще: причина,
причинность предполагает прослеживание; прослеживание предпола
гает наблюдение; наблюдение предполагает объект. Каузальное, причин
ное рассмотрение располагается в области объектов — т. е. по определе
нию там ничего подобного присутствию, Dasein не будет, мы выпадаем
из одного измерения в другое, из измерения бытия и экзистирования в
измерение наличного, фиксируемого по способу исчисления.
Надо ли считать, что если мы хотим рассмотреть вину именно как
вину, без оттеснения объяснения к причинам, социальным, нравствен
ным, религиозным, то мы должны и отбросить момент невыполнения,
несоответствия, несостоятельность — момент манкирования, нет в ви
не? Не обязательно. Чертой вины остается это не, только не нужно бе
жать слишком быстро вперед и подкладывать под это не то, чего «не».
Надо вглядеться в само это не, не спеша придать ему содержательное на
полнение. Вина это всегда не, в которое надо еще вглядеться. — Другая
черта «вины» та, которая слышится в слове «виновник», например «ви
новник торжества», «виновник катастрофы»: вина — остережемся ска
зать «причины», потому что каузальность нас опять выбросит в nichda-
seinsmäßiges Seiende, измерение наличного, объективируемого, а скажем
осторожнее: вина всегда «то, из-за чего», почва, на которой... основание,
по которому... Формальная (т. е. не очерчивающая заранее произволь
ным содержанием) дефиниция вины: то, из-за чего есть некое (пока не
определяемое) не. Формальная дефиниция: она не мешает тому, что мы
проясняем, не мешает в двух смыслах: не стесняет его, проясняемое, рам
ками, оставляет ему его рамки, если такие рамки есть; и другое: не меша
ет нам, наоборот, помогает нам видеть.
Можно подумать: что это дает, такое пустое определение вины — она
393
СЕМИНАР Ш.З
есть почва, основание, то, из-за чего есть некое не . Неожиданно много
дает, что?
Позволяет увидеть в вине не обязательно что-то ущербное. Вина то,
из-за чего что -то «не», но ведь для этого сама вина должна быть как раз
не «не»У не ущербной; из-за вины есть «не», привация, но сама вина не
имеет черты этого «не», этой привации. В другой работе Хайдеггер по
ясняет это положение дел примером: рак болезнь, но возбудитель ра
ка не болен, в самом возбудителе рака нет ничего болезненного. Аристо
тель был сыном врача из Стагиры и у него много примеров из медици
ны. Я тоже позволю себе такой пример. Хайдеггер делает хирургический
разрез, который шокирует глаз, но совершенно необходим, чтобы по
мочь телу. Дело идет о, может быть, самой частой, еще чаще, чем пороч
ный круг, ошибке мысли, — смешении . Вина — причина какого-то не, но
не обязательно в самой вине есть не; на нее «нет» того, что из-за нее, не
переносится. В самой вине ущербности нет. Есть ли возражения?
Тогда курсив: «Виновность не результат невыполненного долга, а на
оборот: долгу подлежащий выполнению, возможен только ууна основании"
исходной виноватости» (з77> 2&4)· Как вам это нравится?
Первая догадка — что это психологически верно, что этот философ
ский, феноменологический тезис находит себе подтверждение в множе
стве очень важных фактов. Явление «бессовестных» (действительно ли
у них нет совести — это мы пока не решаем). Долг, подлежащий выпол
нению, у них не только есть, но они его прекрасно знают, — но не толь
ко не выполняют, а вызывающе не выполняют. И наоборот: совестливый
из своей совестливости имеет чувство вины, из него — знание долга и
выполнение долга. Т . е. мы видим на каждом шагу такое, что позволя
ет узнать тезис об исходности вины, производности долга. Но эти при
ложения философского тезиса и не обязательны, и неправильны. Мы ви
дели ошибку невглядывания в феномен вины, перенесения сути дела на
причину, невыполненный долг. Такая же ошибка — вглядевшись, увидеву
видим мы всегда ясное, переносить эту ясность на прикладное примене
ние; нас беспокоят бессовестные и восхищают совестливые, но дело на
ше не доделано, единственное дело мысли бытиеу прояснив настоящее
соотношение между виной и долгом, оно оказалось парадоксальным,
мы обязаны не спешить с практическими приложениями этой внезап
ной ясности, продолжать искать большей ясности. Если возможны ка
кие-то сближения между — любят искать такие сближение — «Хайдег-
гером» в кавычках и православием, личность «Хайдеггер» оказывается
394
4 МАРТА 1992
якобы каким-то образом близка к православию, но надо искать не в фи
лософемах, не в догматике, а в опыте мысли, делания. В православной
аскетике есть угроза «десное крадение» и «шуее крадение». Шуее краде
ние — отвлечение от собранности на постороннее, когда собранность не
удается из-за рассеяния мысли. Десное крадение — срыв собранности
под благовидным предлогом, когда собранность уже достигнута, и до
стижение, достигнутое просветление открывает вдруг множество воз
можностей своего применения «лесного», «правого», на пользу, с выго
дой для душевной икономии. Это — тоже крадение. То же в мысли. Один
срыв — когда собранность не получается, вместо вглядывания в вину
мы фантазируем о причинах вины. Второе — когда удавшаяся ясность
показала, что показала, перестать вглядываться, пуститься в то, что на
зывается «интерпретацией», не в смысле комментирования, истолко
вания, а в смысле перенесения, приложения достигнутого прозрения к
нужным, важным, полезным вещам. И опять: этот срыв, провал мысли
(философии) очень распространен. Так Фихте — интерпретация Канта;
Кьеркегор — интерпретация, спрятанная под полемикой, перенос, при
кладное использование мыслительного прорыва Гегеля для целей эсте
тики, морали, религии. Маркс — политическая интерпретация, приклад
ное использование Гегеля. И так далее. В свою очередь у Маркса есть
интерпретаторы. Жак Деррида — структуралистски-психоаналитиче
ская интерпретация Хайдеггера, как Эмманюэль Левинас — его этиче
ская интерпретация, Андре Глюксман — его политическая и массово -
информативная интерпретация. Еще примеры интерпретации, очевид
ные, бросающиеся в глаза?
Религиозная философия (не христианство, не религия), как она нам
известна, — это церковная или околоцерковная интерпретация той фи
лософии, которую проходили в школе, Платона и в хорошем случае Пло
тина. Может быть еще примеры такого срыва, приложения, прикладного
применения мысли, философии?
Таких примеров полно. Всегда позиция историка — это более или ме
нее примитивизирующая интерпретация «философской системы», ко
торая почему-либо «принята» этим историком. Вся публицистика, жур
налистика — это вторичная, четвертичная интерпретация услышанных
философских схем, от философии хранящая только уверенность, реши
мость — которая, как мы говорили, в философии обеспечена опытом,
историческим опытом говорящего, а в публицистике и журналистике —
ничем.
395
СЕМИНАР Ш.З
Не беспокойтесь: психологическую правду того, что он говорил, Хай-
деггер видел, но у него было дело, неоконченное, дело прояснения бы
тия. — Кстати, здесь на философском факультете, по-моему, я так уве
рен и кажется уже не изменюсь, не место для интерпретаций в смысле
прикладного использования. Кто думает иначе?
Феноменология, вглядывание в то, что оказывает-ся, продолжается. Как
экзистенциально возможно это внезапно открывшееся парадоксаль
ное соотношение между виной и долгом? Еще раз оглянемся, никогда не
лишнее, на пройденное. Бытие присутствия — забота. Она заключает в
себе фактичность (брошеность: факт, factum — сделавшееся, совершив
шееся; забота фактична в смысле ей не надо придумывать, о чем бы по
заботиться: она заранее уже брошена в то, что уже совершилось). В за
боту входит эк-зистенция (про-ект, бросание себя на что-то в смысле,
как мы говорим, «человек бросился заниматься», «бросился в филосо
фию» — Entwurf). Какое отношение между заботой и тем, о чем забота?
Забота раньше того, о чем забота. Почему?
Забота не о чем. Забота о бытии, т. е. о том, в чем присутствие и о чем
для присутствия идет дело. А отношение между тем, на что, во что бро
сает себя человек, и бросанием?
То же: бросание себя во что-то, на что-то исходно, оно то же, что бро
шеность: брошеность опережает то, во что брошено присутствие, —
оно еще разберется только, и когда еще разберется, во что оно броше
но, но что уже всё так, — это раньше прояснения того, во что броше
но. — Снова: не правда ли, все это узнается как то, что действительно
и происходит
7
. Но от интерпретаций, психологических, религиозных бу
дем воздерживаться.
Никогда присутствие в своей экзистенции не в состоянии заглянуть
за свою брошеность, не в состоянии увидеть себя каким бы оно было ес
ли бы не было брошено, — потому что в желание так заглянуть оно уже
брошено, уже так случилось, что присутствие ищет себя. Брошено в ис
кание себя. То же — забота. Присутствие всегда есть в качестве заботы
свой факт. Это опережение заботы означает отставание, постоянное от
ставание присутствия от своих возможностей. Оно никогда не овладе
вает всеми своими возможностями быть. Это «не» входит в экзистен
циальный смысл брошености. И опять: не надо думать, что по штатно
му расписанию в присутствие должны были входить — то -то и то-то,
но пас, их нет. Опять не так, что мы хватились чего-то и констатируем:
396
4 МАРТА 1992
нет. Сначала «нет». Не осуществлены возможности, но они списком за
даны? Нет. Возможностей человека никто не знает. «Не» конституиру
ет бытие сущего, его брошеность. Надеюсь, вы уже не делаете той ошиб
ки, что под бытие подставляете представление, например полнокровная
полноценная жизнь. Мы не знаем заранее, что такое бытие. Дело идет о
бытии — вовсе не как надо заработать деньги, пойти в магазин и купить
блестящую вещь. Дело идет о бытии — которое есть только поскольку
оно проясняется в просвете вот. Нет, ничтожность — одно с бросанием
себя, бросание себя во что-то, на что-то есть ничто, ничтожность и ни
чуть не означает ущерба, «недостоинства», неценности: что бросает се
бя ничто, составляет свободу присутствия для своих экзистенциальных
возможностей. — Снова интерпретация: художник для каждого своего
нового риска снова абсолютно пуст, в нем не накопляется инерции от
того, что он сделал.
Забота поэтому вся сплошь пронизана «нет», ничтожеством. И это
значит: присутствие как таковое — вот основание для нет; если верно
сказанное выше, что вина основание для «нет», а сама не привация, то
присутствие как таковое виновно — только бы удержаться от «в чем».
Вина исходна, она изначальна, она уходит в присутствие и пронизывает
способ его бытия, заботу.
Еще раз: только бы удержаться, а очень хочется от неожиданности от
крывшегося быстро подставить на освободившуюся сцену привычные
декорации: идеал, который остается недостижимым; глядя на него, воз
никает чувство вины. Не надо интерпретаций.
Онтологический смысл этой ничтожности остается еще темным.
Что, проясним его? Займемся? Или что-то упустили?
Да, упустили. Упустили вглядеться в «нет». Сущность «нет», не пси
хологическая, не нравственная, не экономическая, а онтологическая —
в чем?
Да, вот так. Надо вглядеться в «нет» — и надо с самого начала осте
речься такой формы вопроса, «что» такое «нет», потому что мы по
ка не знаем: может быть, «нет» — не что. Метафизика и логика, наобо
рот, считают уж «нет» ясным как день и на нем многое строят. «Нет»,
отрицание. Бытие — небытие, «нет» бытия. Хайдеггер обращает внима
ние, вслушивается в «нет». Так ли уж само собой разумеется, что всякое
«нет» означает негативность в смысле отсутствия? Что такое диалекти
ческое «отрицание», загадочная вещь — тем более «отрицание отрица
ния»? Для диалектики отрицание это переход — от тезиса к антитези-
397
СЕМИНАР III.3
су; от отрицания к отрицанию самого отрицания. Но вот что интересно,
почему всякая диалектика так любит опереться на отрицание, не давая
диалектического обоснования отрицанию, как будто бы само собой из
вестно, что оно такое, даже не ставя проблемы существа отрицания?
Диалектика. Отрицание. Отрицание отрицания.
III.4
11.3 .1992
Хайдеггер смотрит, что оказывает-ся в вине, виновности. Виновность
получает формальное определение: она — основание какого-то «не», со
держание, содержательная характеристика этого «не» подлежит уточне
нию, может быть разной. Сама вина не неполнота. Она — основание не
полноты, то, из-за чего неполнота.
То же со-отношение между заботой, видом бытия (не одним из) при
сутствия, и «не». Забота прошита этим «не», неотрывна от «ничтоже
ства». Так ли обстоит дело, что присутствие измеряет себя, видит свое
ничтожество и начинает заботиться о том, чтобы ничтожества было
меньше? Чтобы увидеть свое ничтожество, уже должна быть забота о
том, чтобы не быть ничтожеством. Забота — основание, на котором ока
зывается то или другое «не» (уточнению подлежащее).
Забота, мы сказали, способ бытия присутствия. — Теперь. Если ви
новность — основание того или другого «не»; и способ бытия присут
ствия — основание подлежащего уточнению «не», — виновность и при
сутствие как таковое — не совпадают? Да, они совпадают. Присутствие
как таковое виновно. Вина исходна, она изначальна, уходит в присут
ствие и сплетена со способом его бытия, заботой. Только бы удержаться
от «в чем» виновно. Мы привыкли думать, что вина следствие невыпол
ненного долга. Отношение между ними обратное: оттого, что есть вина,
есть долг. Долг это «не», которое принимает определенность.
Онтологический смысл этого «не» остается еще темным. Что, прояс
ним его — связь «не» с бытием, его онтологический смысл, — или мы
что-то упустили?
Так и есть, упустили. Упустили вглядеться в «не». Существо «не», нам
кажется, что мы знаем его. Но мы знаем, привычны, каждый раз, к тому
или другому «не». Что такое само по себе «не»? Попробуем определить?
Или мы опять что-то упустили?
Упущение в вопросе. Мы опять задаем вопрос в привычной форме,
«что такое не», и ищем ответа: вот что. Мы не знаем: возможно, «не» —
вообще не «что».
И метафизика, и логика очень многое строят на «не», на отрицании.
В метафизике бытие — небытие, «не» бытия. В логике — А и не-А, его
399
СЕМИНАР III.4
отрицание. В диалектике «не», отрицание чуть ли не главный шаг. Ди
алектическая машина движется шагами «не»: антитезис — отрицание
тезиса, синтез — отрицание отрицания. Диалектика можно сказать по
строена прежде всего на отрицании. Удивительно вот что: пользуясь от
рицанием, опираясь на него, диалектика и не думает задуматься о суще
стве отрицания, как будто бы среди всех вещей уж отрицание-то извест
но, что такое. Проблема существа отрицания в диалектике не ставится.
Онтологический источник «нет»? Какой он? Хайдеггер здесь обрывает,
не развертывает вопрос. Попробуем развернуть его. — ?
Допустим, я предложу вам вот что. Я вам объясню: «не» — вот что
такое. Дайте мне любую вещь. Я ее рассмотрю, скажем школьный учеб
ник. Или изобретение. Или статью. Я ее целиком отрицаю, перечерки
ваю. Вот вам «не». Это отмена, снятие. Итак: нам что-то показывают,
простейшим жестом (руки или мыслительным) мы это «отрицаем». Чем
плох анализ?
Наше отрицание, его поступок, мы считываем с отрицаемой вещи?
Написано ли на самой вещи, что она подлежит небытию? Мой пример:
в случае расстрела — вычитывается ли уничтожение на лице человека,
например написано ли у него на лбу — быть расстрелянным? Отрица
ние не написано на отрицаемом. Отрицание — одна из возможностей
бытия-вот, присутствия. Присутствие может быть отрицанием. Поче
му, кто его научил, откуда на-вык отрицания? Наблюдая что? Можно
ли наблюдать отрицание? Отрицание настолько не поддается наблюде
нию, что не только среди вещей его нельзя увидеть, но даже решитель
ное, сейчас только сделанное отрицание наблюдать не удается. Наш при
мер: при у-ничтожении мы превращения в ничто не видим. — Можно
ли отсюда предположить, что и источник отрицания, то, откуда отрица
ние, тоже наблюдать нельзя? Тогда нельзя и сказать, «что» об источнике
отрицания, нельзя сказать, что оно какое-то что?
Человеческое существо имеет среди своих возможностей отрицание
потому, что человеческое существо выдвинуто в ничто. Ничто нас заде
ло и продолжает задевать. Мы на каждом шагу касаемся ничто. В опыте
пустоты, тоски, отчаяния, ужаса. По-разному, во всех этих случаях нас
обжигает прикосновение Ничто. Что такое Ничто, спросить трудно: по
определению оно нм-что .
В анти-тезисе нет ничего, что делало бы его отрицанием тезиса. От
рицание тезиса в диалектике предшествует антитезису, который вызван
отрицанием для того, чтобы — или, вернее, вызван отрицанием так, как
400
11 МАРТА 1992
и вообще в свете ничто впервые приоткрывается Бытие. Что оно бытие,
а не ничто.
Присутствию не приходится поэтому считывать не с какого-то не вы
полненного им кодекса. Оно само — основание своего не, носит свое не
в себе: как выдвинутость к ничто. Оно раньше знакомо с «не» в его кор
не, в опыте Ничто, чем составители кодекса или декалога или закона или
простого предписания, — эти составители уже на свой страх и риск, по
лагаясь на то, на что они всякий раз полагаются, интуицию, благодать
или опыт, но свое не черпая там же, где источник всякого не, в том, что
Гончаров назвал «обрывом». Обрыв в человеческом существе. Не только
в романе «Обрыв» дает о себе знать этот обрыв, но еще больше — в «Об-
ломове», беда которого в том, что ни он сам, ни его близкие не готовы
признать то, что во всем романе только и происходит, необъяснимый,
неисправимый обрыв человеческого существа не во что-то, а в — ни
что. И Обломову, и всем вокруг Обломова кажется, что обрыва нет, что
есть срыв, что Обломов такой человек, который сорвался, что-то не учел,
не успел, не сделал и поэтому, из-за этого своего промаха, сам виноват
в своем положении, отчаянном положении лежащего. Когда мне прихо
дит в голову этот пример из литературы — пример того, как вина не от
неисполнения долга, — мне этот выход за рамки хайдеггеровского раз
бора не кажется недолжным. Мы имеем право, если только умеем, опи
раться на наш эпос, национальный. Кто-то сказал, что вся философия,
или античная классическая, но этого уже достаточно, уже содержалась в
«Одиссее» Гомера, — в возвращении Одиссея домой. И мы имеем право
сказать, что вся наша философия, если только она будет, уже заранее со
держится в нашем эпосе.
Я говорил уже, что хайдеггеровский анализ имеет смысл не перебо
ра, дефиниции предметов, заданных списком, например, списком учеб
ных предметов на кафедре философии. Этот анализ всегда возвращение,
или, как я говорил обращение внимания, которое может начинаться ото
всюду (как Одиссей оказывается каждый раз в разных местах, в пещере
Полифема, на заколдованном острове Цирцеи), но приходит, возвраща
ется всегда — к чему?
В этом случае разбора совести и вины, ана-лиз (тоже из Одиссеи: за
нятие Пенелопы, которая тоже «анализирует», расплетает ночью ткань,
сотканную днем при женихах, ради того, чтобы встретить возвративше
гося мужа, а не чужого человека, каким бы он ей стал, если бы мужем
ее стал за время отсутствия Одиссея другой) — анализ тут ведет через
26-2015
401
СЕМИНАР III.4
основание всякого «не», а это выдвинутость человеческого существа в
Ничто (в этом анализе оказывается, что виновность это само располо
жение присутствия, захваченное своим расположением между бытием и
ничто полностью, потому что дело для присутствия идет о бытии). Ана
лиз стало быть возвращает нас, анализирующих или просто вникающих
в этот анализ, т. е. и написавшего, и читающих, к нашему собственному
существу. До всякого выбора занятия, до всех жизненных решений мы
сначала там, куда не достают ни правила жизни, ни привычки, ни со
веты, имеем дело прежде всего с бытием и ничто, с опытом тоски, ужа
са—и озарения, захватывающего события, вести. Даже такие как будто
бы теснящие вещи, как недостаток денег, одежда, голод от невозможно
сти купить за десять рублей, отпускаемых на день, просто один хоро
ший обед, не говоря уже об ужине и тем более о вещах, тем более о кни
гах или вещах для роскоши, для развлечения, — они уже после встречи с
бытием и небытием. Что человек должен сначала питаться, а после этого
он сможет иметь дело с философией — может быть, самая злая ложь, по-
настоящему убивающая, хуже голода. Человек существо, рассчитанное
на труд и на трудности, он рожден для труда, как птица для полета (Пе
трарка). Проблема нашего сегодняшнего положения не в том, что труд
но, а в том, что пусто. Трудности не имеют смысла, неясно, зачем они.
Или я не прав?
Эти трудности имеют смысл, но не тот, о котором можно прочитать
в газетах. В газетах все рассуждения ведутся по схеме «если». Если бу
дет больше политической культуры; если народ не выйдет на улицы; ес
ли нам помогут. Но ни при каком «если» не повернется человеческое су
щество, не перестанет быть соседом ничто. Это соседство сейчас поч
ти ничем уже не прикрыто, не защищено — и все равно не замечено. Все
еще кажется, что Ничто можно заслонить каким-нибудь если. Что есть
какой-то жест, который надо сделать, и тогда все встанет на свои места.
Но особенность положения как раз в том, что место обозначилось с та
кой ясностью, как никогда; и на этом месте все давно уже для человека и
у человека стоит. Место человека между бытием и ничто. Идиотские на
дежды засыпать этот обрыв, надежда, что опять он закроется, — они, на
дежды, главное бедствие. Настоящие новости поэтому для нас сейчас не
в газетах, там безвыходное старое топтание на месте и несбыточные на
дежды, — настоящие новости мы слышим от тех, кто имел дело с обры
вом, от нашей литературы (только не из вторых рук, от устроителей иде
ологов), от философии. — Вы скажете: что это дает, что мы заметим, как
402
11 МАРТА 1992
на самом деле расположен человек? Ясность. Это уже смысл. Обдирание
неактивных так называемыми «активными» превращает почти весь на
род в нищих — но на самом деле есть нищета еще больше, паническая
нищета берущих, которые берут много и кажется уже все и возьмут еще
больше, потому что им никак не удается взять то, что они хотят взять от
людей, смысл. В богатстве и власти смысла не оказывается. Тогда начи
нает казаться, что надо еще больше богатства и власти. Это вызывающий
захват. Его настоящий смысл — вызвать народ на ответ. Захватывающи
ми будет принят и даже, даже и ответный захват. Люди ведут себя вызы
вающе. Вот что они вызывают — уже вопрос для них трудный.
Сейчас время философии. Ничего сейчас так не важно, как обраще
ние внимания. Ничего сейчас так не требуется всей стране, как смысл.
В газетах смысла нет — не потому, что свобода слова не нужна, а пото
му, что и в газетах, и не в газетах мало готовности видеть, что в нашей
стране, может быть, в нашей стране больше, чем сейчас где-нибудь в ми
ре, человек показывает свою неразрешимость, или можно сказать — че
ловечество.
Присутствие виновно в своей основе, можно сказать — виновно са
мим собой в этом «не», из-за своей выдвинутости в Ничто. Бессмыслен
но спрашивать, кто какую ошибку сделал, что человек сосед ужаса. Для
человека дело идет о бытии. Этим, что его дело бытие, он поставлен пе
ред лицом ничто. И бессмысленно говорить: зачем же он тогда занял
ся таким трудным делом, бытием, невыполнимым и проводящим обрыв
через его середину. Человек такой; с самого начала все в нем, и его чело
вечество, такое — и все, что он говорит и задумает, и все, о чем он спох
ватится, и как он спохватится, окрашено, об-условлено этой выдвину-
тостью в Ничто. Заглянуть за заботу присутствию не дано. Оно и есть
забота—неотомиэтом,аобытии.
Голос совести, тихий окрик совести поэтому никогда не говорит: сде
лай вот что, и тогда твоя совесть станет спокойна. Голос совести вообще
не предписывает, что сделать — как демон Сократа, Соловьев прав, —
а возвращает, зовет вернуться человека к его подлинному существу: к
подлинной возможности, эта возможность — выдвинутость в ничто.
Совесть зовет вернуться к тому, туда, где присутствие и должно стоять,
между бытием и ничто: т. е . быть виновным в «не».
Мне кажется, я осмелюсь сказать, что этот анализ исходный, в смыс
ле: из него могут исходить психологический анализ, логический анализ
(в той мере — в очень большой мере — в какой логика опирается на от-
26*
403
СЕМИНАР III.4
рицание не: она в очень большой мере опирается на отрицание не, по
тому что в формулировке основного закона формальной логики уже не
определяет: какой основной логический закон? Тут могут быть разные
школы и трактовки, но по существу — и в отношении классической ло
гики, потому что неклассические логики будут иметь более сложные на
чала, требующие разбора. Похоже, что показать центральную позицию
там все того же не не трудно, — например, в так называемой конструк
тивной логике и в конструктивной математике, которая имеет дело не с
единицами, а с отношениями и с алгоритмами. Но в классической логи
ке — ее исходный, основной принцип, основной закон?
Закон, теперь чаще «принцип» исключенного третьего. Формули
ровка и запись. Αν-ιΑ (Αν A). Principium exclusi tertii. Tertium non da-
tur. Озаренный этим озарением философ исполняется гордого сознания
вооруженного инструментом. Потом он обнаруживает, что у Гегеля, тем
более у Хайдеггера «противоречия». Они нарушают главный закон мыс
ли. Следовательно, их мысль неполноценная. Она не философия, и т. д.
Закон выглядит свалившимся с неба. Логика никогда не заглянет в не
го, откуда он. Исключено, т. е . нет третьего — вот это как раз то, что ни
когда не наблюдало никакое наблюдение. Источник этого исключения —
опыт не ненаблюдаемый, опыт выдвинутости человеческого существа в
Ничто, интимный опыт соседства с обрывом. Этот опыт выплескивает
ся, выливается у Аристотеля в эту блестящую логическую формулу — у
Аристотеля, который еще помнит и знает, о чем на самом деле тут идет
дело. Формальная логика этого уже не помнит и не знает, или вы скаже
те другое? Что в конструктивной логике, в других современных логиках
закон исключенного третьего не актуален?
Он имеет там другую форму; не принимаются бесконечности.
К собственному, к собственно присутствию совесть зовет в этом
смысле: не в смысле выбора какого-то «настоящего» из всех Я, которые
бывают в Я, а в смысле возвращения к вынесению стояния над обрывом,
выдвинутым в обрыв. Только из-за своей выдвинутости в бесконеч
ность человек может решать, что он с бесконечностью не будет иметь
дела: он знает, с чем он не будет иметь дела. Животное, наоборот, никог
да не может вернуться к тому, что есть, — оно не может иметь опыта бы
тия и ничто; поэтому не может — сформулировать закон исключенного
третьего. Важно: не так, что у нас есть сознание обрыва и отсюда форму
лировка логического закона. Скорее наоборот: опыт ничто должен быть
тайной, чтобы из него выросло логическое отрицание.
404
11 МАРТА 1992
Наверное, логический основной закон (классический и не толь
ко) — не единственное, где дает о себе знать опыт исходного отрица
ния, опыт Ничто. Что такое решимость, решение? Интересно, что язык
наш сам говорит этим словом другое, чуть ли не противоположное тому,
как мы понимаем решимость. Я вовсе не приглашаю отказаться от то
го, как мы сейчас употребляем это слово и «исходить из этимологии», я
только обращаю внимание на загадочную странность этого положения.
Ent-schließen — что когда-то, наверное в начале Нового времени, когда
слово «решение, решимость» появилось и стало таким важным теперь,
у него оказалось противоположное значение исходному. Калька с ιγ века
латинского resoluntus. Schloß: замок, замок. Слесарь. Entschließen — раз
мыкать. То же — resolvo, распускать, развязывать, распрягать, распуты
вать, расслаблять, изнеживать, ослаблять, разрушать, отменять, уничто
жать (противоположное решимости).
Но и «решить» — развязать, распустить, растворить. Теперь: стать
жестким, твердым. Один из самых интересных исторических переходов.
Интересных — интер-ессе, мы внутри него и сейчас, в этом смысле он
«интересный». И сейчас еще нас захватывает, нами не «развязано» зага
дочное соседство расслабления, распускания и окончательности, опре
деленности.
Хайдеггер слышит рядом: Entschlißen — erschlißen, решение это раз
мыкание. Похоже это на что-то из нашего опыта? Кстати: он слышит это
до этимологии.
Разрешает (как «узы»: высвобождает, выпускает на простор) реши
мость, решение? Если да, то что? Не вернемся ли мы к тому, что гово
рит в своей истории язык, если начнем обращать внимание? Не придет
ся ли — не пожалеем ли мы даже, что раньше не распрощались с абсурд
ным пониманием «решимости» как затвердения жесткой воли, которая
как раз замыкается будто бы от всего. Или разомкнуть — настоящее де
ло «решения»? Разомкнуть тогда что? Как?
Решение как относится к долгу? Я должен принять решение; решить
ся на выполнение долга. Но долг мы теперь видим иначе: он не продик
тован нормой, он в самой основе присутствия, выдвинутого в обрыв в
ничто и имеющего дело с бытием. Этот долг, эта вина, исходная как по
чва, заслонена потерянностью в «людях», das Man. Решимость разреша
ет, развязывает, размыкает то, что бывает не иногда, а по существу: при
надлежность не к присутствию. 404 (305)· собственно смысл решимости
заключается в том, чтобы бросить себя в это виновное бытие, в каче-
405
СЕМИНАР III.4
стве которого есть присутствие, пока оно есть. Решимость тогда — ре
шимость на себя, и она же — размыкание собственно себя.
Полная решимость принимает «себя» (собственное существо) как
такое, которое и есть вина всякого «не»: решимость на себя как выдви
нутого в ничто. «Понимающее бытие к концу» (405, зоб). Vorlaufen in
den Tod. Только внимание: мы на этом шагу не знаем, что такое смерть.
Смерть — это пока здесь наше ничто, наш конец.
III.5
18.3 .1992
Мы пока еще не знаем, я говорил, что такое смерть у Хайдеггера.
«Смерть мы понимаем экзистенциально как характеризованную воз
можность характеризованную — имеющую черты, потом проясним,
какие> невозможности экзистенции, т. е . как безусловное ничтожество
присутствия» (406, зоб). Понимается ли смерть как остановка серд
ца? В чем может не совпасть невозможность экзистенции и остановка
сердца?
Мой пример: пьянство. Экзистенция не становится невозможной, ее
нет у мертвецки пьяного, но она возможна. Она становится все менее
возможной и в светлые минуты сплошного пьянства кажется уже поч
ти невозможной. Боятся в эти светлые минуты не остановки сердца, а
неспособности экзистенции. Насколько этот страх у пьяницы, у тяже
лого больного, у психического больного обоснован, другое дело, речь
не об этом: важно, что под «смертью» понимается не остановка сердца.
В случае самоубийства — опять не будем говорить, насколько обосно
ванно — невозможность жить («не могу больше жить») пугает больше,
чем остановка сердца: наоборот, остановка сердца предпочитается «не
возможности жить», и можно сказать, что остановка сердца применяет
ся для того, чтобы не наступило смерти. Остановка сердца у убивающе
го себя — средство преодолеть смерть, справиться со смертью, — той,
которую Хайдеггер определяет как возможность не возможности экзи
стенции. Т . е. смерть в хайдеггеровском определении совсем другое, чем
остановка сердца, даже если основания опасаться у пьяницы, больного,
самоубийцы неосновательны и остановка сердца на самом деле всегда
совпадает с невозможностью экзистенции. Может быть я что-то здесь в
спешке не учел?
Почему смерть «возможность невозможности экзистенции», а не
просто «невозможность»? Я это не совсем понимаю. Может быть пото
му что мы не знаем, что это невозможность. Я не говорю о загробном су
ществовании, мы о нем в последнюю очередь должны говорить; рань
ше — то, что еще не будет только, а уже есть: всегда при нас возмож
ность невозможности экзистенции, т. е . выступания в бытие. Смерть не
когда-то — как раз смерть тогда, в смерти, перестает, прекращается, — а
407
СЕМИНАР III.5
сейчас. «Смерть не надставляется к присутствию при его „кончине", но в
качестве заботы присутствие есть брошеное (то есть ничтожное) осно
вание своей смерти» (406, зоб). Кто захочет истолковать?
Забота предполагает опасение, что не удастся. Не удастся что? Сделать
возможной ту или эту возможность. Экзистирование не та или другая, а
вся возможность. Забота вся, а не о том или этом, предполагает возмож
ность невозможности самой заботы. Значит экзистенции. Возможность
невозможности экзистенции — смерть. Присутствие в качестве заботы
есть основание своей смерти брошеное, т. е . ничтожное — мы помним,
по той же причине, что оно забота. Забота сама о себе говорит, сама по
себе говорит о брошености и ничтожности.
Совесть зовет к собственному бытию. Это возможно, возвратиться из
потерянности в «людях» («вышли в люди»; совесть не уговорить успе
хом, она «неумолима», как говорится, ее не уговорить), только потому,
что вообще присутствие способно прийти к собственно самому себе, и
имеет эту возможность, поддерживает своей экзистенцией, продлевает
эту возможность прийти, вернуться к себе. Присутствие, которое теперь
в своей заботе брошено и отмечено чертой не, еще не, экзистирует та
ким образом, что оно настает. Оно настающее, а то, что настает, — это
настающее в смысле наступающего, в смысле будущего. Zukunft: от zu
kommen, прийти, настать, наступить, прибыть. Что прибывает? Присут
ствие в своем собственном существе. А вы хотели, чтобы оно — присут
ствие — было вписано в хронологическую сетку? Откуда такая сетка?
Один из проектов, одно из отвлеченных представлений.
Время: от воротиться, вращать. Время то, что возвратит. Мы потеря
ны, ищем себя.
«„Будущее" означает здесь не какое-то Теперь, которое еще не ста
ло действительным, еще только впервые будет быть, но тот приход, в
котором присутствие в своей подлинной возможности быть приходит
к себе» (43i> 3^5)· Собой «станет» в наступающем, настающем присут
ствие — то есть тем, чем уже и было. Смысл этого наступающего в том,
чтобы наступило то, что было. «Лишь только потому, что присутствие
вообще есть как „я есмь-бып", оно с наступлением времени может при
йти к самому себе, со временем вернуться обратно к себе» (43*> 3^6). По
скольку присутствие в собственном смысле, т. е. как собственно оно и
по-настоящему, есть (экзистирует) постольку, поскольку настает, есть
как настающее, — именно постольку, в этой мере оно имеет и свое «уже
408
18 МАРТА 1992
было». Когда Андрей Вознесенский говорит, что он чувствует носталь
гию по «настающему», он хочет сказать, что он настоящий только на
стает, его дом в будущем; но непонятно, почему он одновременно под
черкивает, что это ностальгия именно по настающему, а не по прошло
му. Боюсь, что надобности в таком отмежевании от прошлого не было,
кроме политической. Ностальгия по настающему предполагает носталь
гию по тому, что уже должно настать, т. е. по тому, что Хайдеггер назы
вает удобным словом Ge-wesen, причастие, «бывшее», но в нем звучит,
слышно Wesen, существо. В названии герценовских мемуаров «Былое и
думы» былое в связи с думами оказывается тем, к чему автор, в работе
вос-поминания, приходит. «Забегание вперед в предельнейшую и соб-
ственнейшую возможность есть понимающее < = умеющео возвраще
ние к собственнейшему былому < = всегда заранее уже бывшему суще
ствуй (43Ь 326). Если бы можно было перевести Vor-laufen (забегание
вперед, еще значение: поступательное движение) как «поступание», со
хранив оба смысла: поступка и поступательного движения. Тогда «по
ступание» было бы для того, чтобы настающее стало настоящим и вер
нуло то, чем поступающее с самого начала уже было, возвратило его
«былое». В поступке было бы тогда завязано в одно время. Сейчас раз
вернем эту связь.
В каком смысле Хайдеггер говорит: присутствие может быть, соб
ственно, прошлым (т. е. — име т ь прошлое, быть таким, которое уже бы
ло), постольку, поскольку оно наступает? Что его «былость», его уже за
ранее существующее существо возникает известным образом из буду
щего? Забегающая вперед (если бы можно было сказать: поступающая)
решимость — сделаю тут отступление.
В начале 20-х годов Михаил Михайлович Бахтин, его годы жизни
1895-1975» т. е. на 6 лет родился позже Хайдеггера, на год раньше его умер,
пишет сочинение, несколько десятков страниц от него найдено в архи
ве, «посвященного проблемам нравственной философии»; напечатано в
1986 под названием «Философия поступка»
1
*. Неточно, что это «нрав
ственная философия»: в другом месте Бахтин называет ее «первой фи
лософией». Аристотель? — Вообще отношение между первой филосо
фией, теологией, онтологией и нравственной философией, этикой?
Как бы вы отнеслись к бахтинской двусмысленности, когда он назы-
1. M. M. Бахтин, «К философии поступка» в ежегоднике Философия и социология нау
ки и техники, 1984-19^ Москва, 1986, с. 8ο-ι6ο.
409
СЕМИНАР III.5
вает свою «философию поступка» то нравственной философией, то пер
вой философией?
Это странное смешение имеет историю. В начале, по-моему, «Боль
шой этики» (или «Никомаховой этики»?) есть фраза Аристотеля, к ко
торой комментаторы считают нужным давать пояснение, а то так, без
пояснения, получается вроде бы, что верховная, «архитектоническая»
(тектон, плотник; архитектон «первый плотник», плотник сплачивает)
наука это этика или даже политика. Комментарий обычно звучит так,
что разумеется главная наука у Аристотеля метафизика, а здесь имеет
ся в виду что-то другое. — В 13 в. Данте, поэт, говорит, что в философии
верховное занятие — этика, следом идет метафизика. Некоторые иссле
дователи Данте по этому поводу пишут, что у Данте не было настоящей
философской школы, он слишком был поэт, кроме того, в его жизни бы
ло много превратностей, политических; кроме того, он был обременен
семьей, жена Джемма Донати и дети, — уже конечно после смерти Дан
те Джованни Боккаччо выполнял миссию родного города, Флоренции,
отвез какую-то сумму коммунальных денег дочери Данте, которая бы
ла в монастыре.
Возможно, однако, что Данте что-то понимал в философии, и просто
без комментариев прочитал начало «Никомаховой этики». Там сказа
но: «Надо, видимо, признать <перевод Н. В. Брагинской>, что оно [выс
шее благо] относится к ведению важнейшей [науки, т. е. науки], кото
рая главным образом управляет. А такой представляется наука о госу
дарстве, [или политика]. Она ведь устанавливает, какие науки нужны в
государстве и какие науки и в каком объеме должен изучать каждый.
Мы видим, что наиболее почитаемые умения... подчинены этой [нау
ке]. А поскольку наука о государстве <лучше, точнее: о политии, обще
ственной жизни, «обществоведение», только если бы удалось услышать
это слово без привкуса управления государственного обществом, как в
нашей школе> ...поскольку наука о государстве пользуется остальными
науками как средствами...»
1
— вот
отсюда, наверное, берет свою клас
сификацию философских наук Данте; а Нина Владимировна Брагинская
делает комментарий: «имеются в виду только практические науки». Кто
прав?
Оставим это для себя загадкой. Теперь. В «Письме о гуманизме»
Хайдеггера, это письмо по поводу брошюры Сартра, 1946, написанное
ι. Аристотель, Сочинения в 4-х томах, т. 4> Москва, 1984, с. 55 ·
4Ю
18 МАРТА 1992
Жану Бофре: «Вскоре после появления „Бытия и времени" один моло
дой друг спрашивал меня: „Когда Вы напишете этику?" <т. е . вот новая
онтология, фундаментальная онтология, исследование бытия; теперь
и нравственная философия> ...Желание иметь этику тем настойчи
вее понуждает к своему удовлетворению, что потерянность человека,
будь то очевидная, будь то утаиваемая, разрастается до неизмеримо
сти. Связыванию человека этическими нормами должна быть посвяще
на вся забота, потому что отданный на произвол массовости человек
техники может быть приведен к надежному постоянству только через
соразмерное технике сосредоточение и упорядочение всего его плани
рования и поведения в целом. Кто вправе не замечать этого бедствен
ного положения? Разве не обязаны мы щадить и упрочивать существу
ющие нравственные нормы, пусть даже они лишь кое-как и до поры до
времени удерживают человеческое существо от распада?»
1
* Спраши
вает Хайдеггер сам себя, и отвечает: «Разумеется». Но не пишет этику.
Сразу же его уличают: он индивидуалист, далек от потребностей соци
ума, не знает другого человека, за голосом совести у него стоит кто-то
безличный, темный, чуждый человеку, не вступающий в диалог прин
ципиально.
Где этика, этика где? Нормы дай? Интерсубъективность, интеракция,
диалог где? Ведь это так надо, нормы поведения, нравственность так
нужна.
Вот тут Хайдеггер может раздражить, до криминальных обвинений,
до визга. Ты дай нравственность, этику, что тебе стоит. Нет, он пуска
ется в разбор, «прежде чем мы попытаемся точнее определить отноше
ние между „онтологией" и „этикой", мы должны спросить, что такое са
ми „онтология" и „этика"»
2
. Люди уже на головах ходят, дай, раз ты та
кой авторитет, первый мыслитель 20 века, хоть наскоро хорошую этику,
тебя же будут слушать, миллионы за тобой пойдут. Нет, видите ли надо
сперва прояснить, что такое этика.
«Этика» впервые появляется, рядом с «логикой» и «физикой» (три
раздела философии, главные) в школе Платона. Эти дисциплины возни
кают в эпоху, позволившую мысли превратиться в «философию», фило
софии — в «эпистеме», а науке — в дело школы и школьного обучения.
Проходя через так понятую философию, возникает наука, уходит мысль.
ι. Проблема человека в западной философии^ Москва: Прогресс, 1988, с. 347·
2. Там же.
411
СЕМИНАР III.5
Мыслители до этой эпохи не знают ни какой-то отдельной «логики», ни
какой-то отдельной «этики» или «физики».
Дальше в «Письме о гуманизме», вы помните, история Гераклита, ко
торый принял посетителей на кухне. «Боги присутствуют и здесь тоже»
1
.
Это значит: они близко, ближе, чем мы думаем. Они теснее приблизи
лись к нам, чем мы думаем; мы когда идем их искать в другое место, «не
на кухне», то на самом деле хотим вырваться из их тесной близости. От
них уйти. Не получается ли, что создавая «науку этику» — создает опять
чтобы уйти от тесноты «этоса»? Этос, εθω иметь обыкновение, латин
ское то же (была дигамма) слово suësco приучать, привыкать/Έθος при
вычка, обыкновение, и от него с удлинением первого согласного ήθος,
обычное местопребывание, жилище, стойло, хлев, нрав, обычай, харак
тер, образ мыслей между прочим, — тоже или в первую очередь место
жительство. — Хайдеггер видит одно во фразе Гераклита «не бойтесь,
войдите, и здесь на кухне <а мог бы сказать если бы там был: в хлеву; где
бы человек ни был> боги» — и другое гераклитовское, «этос человеку
Бог», «Местопребывание <обычное> есть человеку открытый простор
для присутствия Бога <чрез-вычайного>». Т . е.: входите, входите, не бой
тесь, и здесь тоже Боги. «Входите». Это уже для вышедших, для путеше
ствующих, для идущих, встречи со знаменитостью, наставления. А на
до было уходить? И здесь тоже боги — ирония Гераклита: не только там,
где вы их ищете, в храмах (а хорошо засвидетельствовано, как думал Ге
раклит о статуях и священных постройках), но и здесь — говорит чело
век, который очень хорошо знает, что только здесь. Что этос человеку
даймон, его привычное местопребывание, его нрав, его образ мысли, его
докса. (Парменид: к алетейе другого доступа, как через доксу, нет.)
Это Хайдеггер о Гераклите. Теперь он о себе, добравшись до исходно
го и остающегося единственно надежным, опорным смысла слова «эти
ка, этос»: «Если же в согласии с основным значением слова ήθος назва
ние „этика" должно означать, что она осмысливает местопребывание
человека, то мысль <имеется в виду в „Бытии и времени">, продумыва
ющая истину бытия в смысле изначальной стихии человека как эк-зи-
стирующего существа, есть сама по себе уже этика в ее истоке. Мысль
эта, вместе с тем <!>, есть также и не только этика, потому что она онто
логия»
2
. Данте невольно вспоминается.
ι. Проблема человека в западной философии..., с. 348 -349 ·
2. Там же, с. 35°.
412
18 МАРТА 1992
И бахтинское смешение (то «нравственная философия», то «первая
философия») уже не кажется оплошностью. Мы как-то поспешили раз
граничить метафизику, онтологию, гносеологию, нравственную филосо
фию. Мы куда-то слишком быстро перескочили. Нам придется вернуть
ся. Бахтинская «Философия поступка» это возвращение. И, между про
чим, Бахтина в связи с Хайдеггером мы прочитать, русские, обязаны.
Это самое близкое, что мы имеем к Хайдеггеру тех лет, начала ю-х
(разработок «Бытия и времени») не только в русской мысли, но может
быть и вообще. «Первую философию» Бахтин понимает как феноме
нологию человеческого поступка в историческом мире. Это хорошая
мысль и хороший язык. (Уже замечено; уже сказано: чего там Хайдеггер,
вот у нас наш Бахтин! Бахтин, однако, может быть единственный, кто
мог бы оценить тогда Хайдеггера, если бы тогда знал, — и оценивший
его в старости. Он имел, не нарушил в себе весы, чтобы взвешивать...)
«Событие свершаемого бытия» в творческом поступке, в поступке
мысли, творчества — это и по мысли, и по слову Хайдеггер. Вместо субъ
екта, субъекта нет, в «Бытии и времени» присутствие, бытие-вот, суще
ство которого экзистенция, вы-ступание (по-русски можно было бы пе
реводить: экзистенция — поступок, или поступание). «Все, даже мысль
и чувство, есть мой поступок». Чей поступок? Субъекта? Нет! На вопрос
«кто поступает», надо отвечать: поступок не чей, а сам «кто». Не посту
пок при субъекте как сказуемое при подлежащем, а человек есть — если
вообще он есть — поступок. Субъект при поступке, строго говоря, на
хлебник. Не я готовлю и произвожу поступок, а поступок как начальное
событие дает мне быть. Жизнь есть «ответственное поступание» (а я ду
мал, что изобретаю словоупотребление!).
«Только изнутри действительного поступка, единственного, целост
ного и единого в своей ответственности, есть подход к единому и един
ственному бытию в его конкретной действительности». «Единственное
бытие-событие... не мыслится, а есть»*.
Бахтин слышит возражение: поступок не может быть «кто», у него
нет глаз, чтобы видеть, ушей, чтобы слышать, рук, чтобы действовать.
(То же самое постоянно слышащееся возражение Хайдеггеру: как же
присутствие «помнит», «понимает», «умеет», когда это не физиологиче
ский, не психологический субъект и т. д.?) Бахтин отвечает, разъясня
ет за Хайдеггера: человек видит не потому что у него есть глаза, слы
шит не потому, что у него есть уши, и действует не потому, что у него
есть руки. Человек будет все просматривать, все прослушивать, двигать-
413
СЕМИНАР III.5
ся и не действовать, пока не шагнет навстречу миру, не отважится на
поступок. Только так он выходит из «бессмыслия», начинает видеть и
слышать. Видит, слышит и действует человек не в своей зоологии, а в
своей биографии, как поступок и благодаря поступку. «Поступок... в . ..
своем свершении как-то знает <!>, как-то имеет единое и единственное
бытие жизни, ориентируется в нем... <Вместо «присутствия» Хайдеггер
в том году тоже говорил «жизнь», отождествляя жизнь с бытием-вот .>
Изнутри поступок видит <!> уже не только единый, но и единственный
конкретный контекст, последний контекст, куда относит и свой смысл,
и свой факт, где он пытается ответственно осуществить единственную
правду и факта и смысла в их единстве конкретном»*. Субъект и созна
ние — тени, которые отбрасывает от себя — и не обязательно — посту
пок как событие, как акт принадлежности к месту всякого смысла, т. е. к
миру в его истории.
Поступок дает видеть и слышать. Тем, что дает выступить (здесь
особенно ясно, что поступок это то же, что хайдеггеровское эк-зисти -
рование) — выступить в мир в его истории. «Безысходно, непоправимо
и невозвратно... в поступке выход из только возможности в единствен
ность раз навсегда»*. Ср. событие, Ereignis, Ereignen: дает быть собствен
но этому вот в его существе, собственном. Другое: озарение, éclair. Сам
сбываясь в захватившем его событии, человек «ясно видит и этих инди
видуальных единственных людей, которых он любит, и небо, и землю,
и эти деревья... и время, вместе с тем ему дана и ценность, конкретно,
действительно утвержденная ценность этих людей, этих предметов, он
интуирует и их внутренние жизни и желания, ему ясен и действитель
ный и должный смысл взаимоотношений между ним и этими людьми и
предметами — правда данного обстояния <язык!> — и его долженство
вание поступочное, не отвлеченный закон поступка, а действительное
конкретное долженствование, обусловленное его единственным местом
в данном контексте события, — и все эти моменты, составляющие собы
тие в его целом, даны и заданы ему в едином свете <!>, едином и един
ственном ответственном сознании, и осуществляются в едином и един
ственном ответственном поступке»*.
Если кто-то захочет прочесть это «К философии поступка», то мы мо
жем посмотреть — это очень интересно — как дальше идет Бахтин и в
этой работе, и в других своих.
Но это было отступление к «поступанию». «Поступающая реши
мость», все больше мне хочется перевести так Vorlaufen, букв, забегание
44
18 МАРТА 1992
вперед. Она размыкает каждый раз «вот эту» ситуацию присутствующе
го вот — для чего? Для того, чтобы присутствие увидело (увидело в по
ступке и благодаря решимости на поступок, скажем так, не боясь сме
шения языка Хайдеггера и Бахтина) наличное и подручное в этой си
туации — как какое? Как присутствующее^ как настоящее. Только в
качестве присутствия в смысле настоящего решимость может быть
тем, что она есть: неискаженным допущением встречи с тем, что она (ре
шимость), поступая, схватывает.
В качестве настающей возвращающаяся к себе, решимость вводит се
бя, делая себя настоящей, в ситуацию. Былое возникает из настающе
го, причем так, что наступление «былого» (уже бывшего существа) вы
пускает из себя настоящее. (Поскольку настающее дает настать, оно да
ет быть и тому, что настанет, к чему вернется: то, что уже (было)). Этот
единый, в качестве уже былого-дающего настоящее-наступающего (ge-
wesend-gegenwärtigende Zukunft), феномен мы называем временностью,
Zeitlichkeit. Лишь поскольку присутствие определено как временность
(определилось как временность), оно само себе позволяет, открывает
возможность быть целым (т. е. вместе с наступающим). Временность
раскрывается как смысл собственно заботы. Как это понять? Смысл: на
правленность.
Вульгарные понятия настоящего, прошлого, будущего надо отодви
нуть. Это производные исходного опыта времени.
Исходное единство структуры заботы заключено во временности.
Самоопережение опирается на будущее. Брошеность, уже-быть-при, да
ет о себе знать в «былом». Бытие-при становится возможным в настоя
щем. Не так что забота развертывается во временности: единство забо
ты, ее структуры, и есть временность.
И опять надо вспомнить Бахтина. Бросание себя («проект») опирает
ся на будущее — но это и есть сущностная черта экзистенциальности.
Ее первичный смысл (направленность) — будущее. Поступание имеет
своим смыслом наступающее. Попробуйте развернуть.
От Бахтина уйти нельзя. Хоть Хайдеггера мы можем, ладно, не знать,
но своих мы должны знать. 65 лет валялись листочки пока их не напе
чатали...
III.6
8.4.1992
412 (311): «Сущее, каким мы каждый раз сами являемся, онтологически са
мое далекое». Онтологически: что это значит?
Онтологически — в том аспекте, в каком сказывается, дает о себе
знать бытие.
Верно ли представление, что человек занят заботами, тем временем
его бытие протекает незаметно для него на глубине? Солдат спит, служ
ба идет?
Мы не знаем. Может быть, бытие протекает на глубине. Мы не знаем.
Мы знаем только, что наше бытие, т. е. наше бытие, то, что делает наше
бытие бытием, оно какое, вокруг чего, для чего? Оно вокруг бытия, для
бытия. Наше бытие для бытия, наше бытие заключается в том, что
бы быть. В этом смысле наше бытие забота — о бытии. Вот такое сущее!
Странное сущее, совсем странное сущее, которому вручено, поручено
бытие, — между прочим, и определение бытия тоже, т. е . все, что касает
ся бытия, начиная с определения, что такое бытие, — это забота такого
исключительного, странного сущего, вот этих нас, которые называемся
присутствием. Забота о бытии включает телесное, физиологическое бы
тие, богатство, достаток, роскошь, карьеру, престиж?
Безусловно. Совсем не обязательно, чтобы присутствие даже знало о
том, что все, чем оно озабочено, это забота о бытии. У него для этого
хватит своих забот, так сказать. Озабоченность окружающими веща
ми «мира» (в кавычках) онтически (т. е. со стороны сущего) заслоняет
собственно бытие присутствия. Вот то бытие, которое все в том, чтобы
было бытие! Которое занято, среди прочего, и прояснением вопроса: что
такое бытие, где бытие, какое бытие и так далее.
По чему считывается «подлинная» экзистенция? Должен же быть
масштаб, или нет, или каждое присутствие само на свой страх и риск ре
шает? Как бы оно ни решало, вести должно экзистенциальное понима
ние; без него какой анализ экзистенциальности? Как это исследовать?
Ведь всякое исследование так или иначе оказывается способом бытия,
«размыкающего бытия», des erschließenden Daseins — ведь никакого дру
гого «размыкания», раскрытия, помимо того, которое тожественно с бы
тием присутствия, все равно нет. Или есть?
27-2015
417
СЕМИНАР III.6
Вы скажете: есть, откровение. Или еще что-нибудь. Традиция. Но и
откровение, и традиция существуют уже только там, где уже разомкнут
«просвет»; размыкание просвета поэтому — то первое и всегдашнее, на
чем, при чем происходит все то, что происходит, в том числе открове
ние, или это не так, а как-то иначе?
Откровение первично, на самом деле, потому что здесь человек всту
пает в отношение к Богу. Но ведь о нем говорится — понимаю, надо
уточнить, в каком смысле, — что оно исторично, т. е . каким-то образом
расположено во времени. Время, со своей стороны, чтобы открыться,
нуждается опять в таком бытии, для которого просто хотя бы есть вре
мя, в бытии бытия, в бытии бытия-вот, этого исключительного сущего,
названного присутствием, дело которого — бытие?
Отчаянная нехватка авторитетного источника. Откуда все это взя
то? Понимание бытия и бытия присутствия взято из него же самого.
Круг. Или порочный круг. Что из двух?
Во-первых. Надо еще раз признать, без условностей согласиться:
мы из этого круга, мы, люди, не выберемся. Или если кто-то думает
выбраться, пожалуйста говорите. Может быть, прагматически — при
нять ту философию, которая дает наилучший эффект? Philosophie en
effet, название серии. Кстати, это тема для исследования: поддается ли
философия оценке с точки зрения эффекта, результата, достигнуто
го ею.
Например, марксистская философия. Для политики.
Или антропософия Рудольфа Штайнера для искусства, например.
При любом подходе, при любой оценке мы увязнем в проблеме, мы
будем решать проблему, когда, как при всяком решении проблемы, мы
окажемся в положении Алисы в стране чудес, которой надо было играть
в крокет, вместо молотков пользуясь шеями живых фламинго или мо
жет быть лебедей, когда она собиралась бить по шару, они непредвиден
но каждый раз изгибали шею. Хорошо, если мы не долго будем занимать
ся этим делом. Потому что такая, рассуждающая, философия — это
провокация. Для «философствующего», в кавычках, из-за его ослепле
ния сразу еще может быть неясно, но для здравого наблюдательного ума
сразу ясно, что к чему и что здесь гиблое дело, люди треплются языком,
и он принимает так называемое волевое решение, в котором исходит —
Сталин, например — уж конечно не из философских основоположений
и рассуждений. Те, та масса, которая до этого занималась в кабинетах,
чувствует тут, что пробил их звездный час, они, наконец, пригодились:
4i8
8 АПРЕЛЯ 1992
они бодро, возмущенно поднимают голос и доказывают, что то волевое
решение было по таким-то и таким -то философским соображениям не
верно. Я имею сейчас в виду государственное предприятие (потому что
это было монопольное государственное предприятие, списанное с орга
низации немецкого государства во время войны, монополизация вла
сти и главной промышленности) Сталина и Ленина, но на самом деле
любое предприятие, экономическое политическое и военное, в мире, да
же самое маленькое, имеет свою «философию», для чего нужна? Не для
того, чтобы смотреть по ней, какое волевое решение принять, а для то
го, чтобы как те критики задним числом критикуют, так тоже задним
числом оправдать. Вообще по исторической сцене идут, бесцеремонно
очень, многое круша и не останавливаясь, быстро, очень рано и почти
невидимо, волевые исторические деятели; после них на ту же сцену, на
ту же часть сцены, выходят публицисты — теперь можно, потому что
самый жар теперь уже в другом месте, как раз там, где публициста нет
ни одного, — и языком подчищают, одно оправдывают, другое осужда
ют, но большей частью подсчитывают и соображают, что было бы, ес
ли бы не было того, что было — или, теперь модная футурология, — что
будет, если будет именно то, что может быть. Мы, обучающиеся, глядя
щие телевизор, не отличившиеся ни свирепой, страшной волей к власти,
ни беглой отточенностью языка, чтобы много говорить и писать и вы
ступать и еще и еще говорить, — мы все, т. е. большинство, приходим на
сцену тогда, когда уже и сделано, и подчищено, и нас водят показывают,
что и как подчищено, и учат, как надо тоже подчищать. Как это называ
ется: рассуждать, размышлять, объяснять, причинно обосновывать. По
ка мы этим занимается, решения принимаются, решительные, быстрые,
крутые, через пятнадцать, пятьдесят, вернее все-таки, через сто и боль
ше лет мы о них узнаем.
А сами философствующие, которые ходят за волевыми деятелями с
одобрениями или упреками, они как живут, по своим рационализаци-
ям? Как бы не так! Они принимают опять волевые решения.
Открытие, что не нормы определяют волю, а воля к мощи определя
ет нормы, было сделано Ницше. Кто-нибудь имеет что возразить Ниц
ше? Что он неправ?
Публицисты возмутились Ницше: как он смеет говорить, что не нор
мы диктуют правила поведения, а подумать только какое безобразие, во
ля к мощи диктует собою все правила поведения! Это невозможно тер
петь, Ницше виноват. Ницше не только не был виноват, что воля к мо-
27*
419
СЕМИНАР III.6
щи ведет, а он почти что уже совсем поздно — едва успел — сказал об
этом. Только он сказал — как нашлись кто показали это, с вызывающим
презрением к нормам люди стали диктовать их.
Мы в конце концов не знаем, действительно ли в основе всего су
щего, природного и человеческого, воля к мощи. Ведь этого проверить,
зафиксировать приборами нельзя. Или у вас другие представления?
В Ницше был вызов: проверить, действительно ли, как мы думали, есть
«законы истории» или «ценности», или «вечные ценности». Как вызов,
Ницше нужно принять. Это был крупный и честный вызов. В Ницше
была великолепная философская Redlichkeit, порядочность, добросо
вестность, честность. Благородство прямой простоты, любящей яс
ность. Вызову это не противоречит. Лучше считать, что воля к мощи
была не столько окончательным диагнозом такого диагноста, Ницше, а
именно вызовом, всем нам. Подумать о том, что нами правит. И Хайдег-
геру тоже. Ответ Хайдеггера: не «да, конечно, воля к мощи», и не «ниче
го подобного, что за вздор, не воля к мощи, а забота, — забота, вот дви
гатель всего в человеке». Вообще Хайдеггер не идет путем выставления
какого-то тезиса, пусть даже в порядке вызова, чтобы его опровергли.
Всякий тезис — тоже уже внутри круга, он имел предпосылки, кото
рые из него вытекают. Хайдеггер обращает внимание на круговой, без
выходный характер тезисов — и дает слово тому, что, собственно про
исходит. Происходит вот это: у всех человеческих тезисов есть пред
посылки, они уходят корнями в решения, которые принимаются как?
из дорассуждающего понимания жизни, понимания бытия; и обо всем
этом, т. е. обо всем этом происходящем, говорит опять то же понима
ние бытия — что же получается? мы ходим по кругу, из этого круга
выбраться не можем, мы живем, как понимаем, чтобы понять это по
нимание, нам это сделать нечем, нечем, кроме как этим же понимани
ем, — что делать, мы в круге? Да, и из него не выйдем, и не надо из него
выходить, г дело в том только, чтобы правильно в него войти, т. е. — не
на том еще слепом витке, где человека за руку схватил Ницше, где ока
залось, что те заоблачные ценности, на которые человек смотрит с бла
гоговением и думает, что живет по ним, а сам их туда вознес, вот уж
действительно темный круг, — а вот на этом, исходном витке, где мы
видим, что наше понимание чего бы то ни было, в том числе понимание
нашего понимания, входит в то понимание бытия, которое у нас всег
да заранее каким-то образом уже есть. Исходим из того, что уже есть, и
приходим к тому же.
420
8 АПРЕЛЯ 1992
Если кому-то кажется, что методом дедуцирования положений из
основоположений мы не будем двигаться по кругу, что есть какие-то ис
ключительные основоположения, которые не мы туда, в основу, положи
ли, а они как-то сами легли, — то скажите, это важно.
Узел так или иначе — узел в логических выводах — будет скоро, ско
рее очень скоро, разрублен волевым решением, которое будет сердито
на гнилую философию, которая безысходно рассуждает. Воля, однако,
ошибется, так рассердившись. Ее ведет тоже понимание, только такое,
в котором она еще не разобралась. Воля, такая торжествующая, такая
сладкая, не знает своей структуры. Того понимания бытия, из которо
го она. — Она и не хочет знать. К существу воли к мощи, говорит Хай-
деггер, принадлежит — и просто к существу всякого волевого решения
принадлежит, — что она не хочет знать своих оснований. И в самом де
ле, зачем выветривать сырую, сильную исходную волю, природную, до
искиваться до ее оснований? Не потеряет ли так человек свою перво
зданную силу, ту самую мощь, разве неправ Дильтей, что разум прихо
дит тогда, когда жизнь уже подорвана, состарилась, обветшала? Зачем
разбавлять природную крепость решимости, скажите, зачем пускаться
в анализ, пускай даже фундаментальный? Что разве у человека недоста
точно настоятельного, прямого дела?
Что неладно с этим образом решительного, волевого, цельного — ска
жем, матроса, революционного? Не рассуждающего?
Жестокость? Безнравственность? Но кто знает, где нравственность!
Более серьезное возражение: этот образ культивируется, настоящая
позиция человека при этом эстетическая. Другой в человеке смотрит со
стороны и культивирует. — Но и это не возражение.
Никакого возражения нет. Волевой, целенаправленный, Шварценег
гер возражений не имеет.
Еще скажу: этот человек — Хайдеггер. Его выступление в 1933 г. не бы
ло случайным. Он в себе слышал ту же масть, ту же мощь, он был мо
жет быть единственным равновесием Гитлера, равномощным.
Почему же тогда он занялся таким делом, философией? Почему не по
литика?
Может быть, мы чего-то не знаем о философии. Может быть, она не
на обочине, не в стороне от исторических решений, а в самой середине.
Может быть, в эпохе «марксистской философии» был урок того места,
которое философия действительно (жизнь государства была постро
ена на марксизме) занимает в обществе. Урок, который был сорван —
421
СЕМИНАР III.6
сорван, между прочим, марксистами, которые не оказались на высо
те положения, не поняли, что у них в руках, очень быстро стали отно
ситься к марксизму как к кабинетной философии, т. е. к академическому
явлению. —
III.7
15.4.1992
Может быть, мы не знаем, философия в самой середине истории Запада.
И, похоже, единственное, что мы можем сделать — это снова сорвать, по
мешать ей быть тем, что она есть. Скажем, вообразив, что уж теперь-то,
когда наступил плюрализм, у нас воля заниматься «системами», такими
кубиками Рубика, такими системами. Т . е ., к сожалению, единственное,
что мы можем здесь сейчас действительно сделать — это сорвать замы
сел философии. Если мы не сорвем, если не сделаем ее прикрытием, что
бы сидеть в тени и в нише, с неприкрытым цинизмом говорят о «социо
логической нише», где хорошо сидеть — нет философия не ниша, самое
незащищенное место, как философ Мамардашвили вдруг попал не ста
раясь об этом в самую середину политических страстей, которые потре
бовали его жизни. Или как Лосев оказался на строительстве канала и
в обсуждениях партийных съездов. Как Бахтин оказался в ссылке. Как
Аверинцев оказался депутатом Верховного совета.
А если мы не сорвем? — То уж не мы будем действовать, или, вер
нее, мы те, которых мы еще не знаем. Где окажется, что чтобы быть с ве
щами, среди вещей, в середине вещей, не надо постараться сделать ка
рьеру и занять положение — что человеческое существо уже в том се
рединном месте, где всё, куда всё выступает. «Что нам делать, сделать с
философией». — Ничего, конечно. Что философия может сделать с на
ми, — а что? может быть вернуть нас самим себе и середине вещей? «Бы
тие и время» разбор, деконструкция, дающая вернуться к себе. Дающая
тем самым философии быть — без нашего специального усилия. Она и
сама может. Может быть, в тихой, неслышной работе мысли больше си
лы, чем во всех шумных и пьяных волевых решениях. Может быть —
по Тойнби — новые цивилизации так же незаметно зарождаются в теле
старых, как новый человек. Захотеть волевым усилием построить новую
цивилизацию, даже с большими затратами средств, как была объявле
на новая социалистическая цивилизация — не очень получится. Но ес
ли тихо слушать...
У меня нет сил и средств, есть ясное знание, что программа в прин
ципе не работает. Программа, собственно, расписание, предписание.
Оттого, что я распишу и предпишу, как все есть или как должно быть,
423
СЕМИНАР III.7
вовсе еще не обязательно не будет наоборот. По-гречески πρόγραμμα
еще «приказ». Но я не думаю, чтобы человек пришел в этот мир для
того, чтобы в той небольшой сфере, где он оказался или поставлен,
распорядиться, расписать. Я не знаю, как надо делать. Я знаю точно,
что надо обратить внимание. Я делаю нищенски мало, поэтому при
зываю вас читать, думать, говорить, спрашивать. Если вы — чем рез
че, тем лучше — мне поставите на вид, что не складно, не славно, я бу
ду доволен.
Лучше помнить о круге (что нам неоткуда взять понимания чего бы
то ни было, как из понимания бытия, нашего, включающего и понима
ние понимания). Скрывать этот круг не надо: надо вскочить в этот круг,
в круговое бытие бытия вот, das zirkelhafte Sein das Daseins.
Внемировое Я: слишком малая предпосылка. Слишком близко смо
трим, если видим жизнь, а потом конец, смерть. Искусственная догма
тика — ограничение якобы строгое теоретическим субъектом, чтобы
потом развернуть гносеологию и этику.
Решимость: ее не бывает без встречи с возможностью невозможно
сти присутствия.
От одного произнесения этих имен — XX век, Хайдеггер, философия,
мысль, русский нигилизм, — я только в своем слепом самомнении куда-
то поднимаюсь, на самом деле первое и еще самое малое, что я привле
каю — позор на свою голову. Презрение, с каким на улице относятся к
философии, очень здоровая вещь, ее надо принимать. «Они не понима
ют» — не их вина, а наша. В философии у нас нет причин думать, что мы
занимаемся не главным делом, потому что если окажется, что не глав
ным, это опять мы виноваты, философия ведь велит главным. А если ни
чего все равно не получается, если то, что как будто бы понял, снова рас
падается, остаешься нищим ни с чем? Нищета зловещая но не злая. Она
из главных вещей, которые обертываются: нищета ведь может быть по
зорная, и она может быть богатством, и со стороны не видишь, а только
сам нищий знает, нищета его блаженная и богатство, или она мерзость
и позор. И вот человеку, как раз свободному, никто не обещал, что он не
будет нищим, от него это не зависит. От него полностью зависит, будет
его нищета — тайным богатством или позором.
И у нищего, конечно, ничего нет чтобы дать, ни у честного нище
го ни у нечестного. Он просит и честный нищий имеет право про
сить на свою нищету, — есть еще большое искусство нуждаться, на
стоящая нужда бывает редко. Нужда в хлебе только вид нужды, даже
424
15 АПРЕЛЯ 1992
двусмысленный, потому что хлебом можно (я имею в виду сытостью)
заесть (богатством) настоящую нужду, острую; Сковорода, предок Со
ловьева, нищий философ, и древние нищие просящие подаяния му
дрецы — их хлеб, которого они просят, только символ постоянной
острой нужды, что их достоинствОу что они ту нужду знают и могут
умеют знать. — Надя Акименко, которая ходит с большим магнито
фоном, хорошо сказала однажды, что у Раджниша, индийского мудре
ца, вокруг него были люди не потому, что у него было много что дать,
а наоборот, потому что он острейшим образом нуждался и не мог без
помощи, вокруг него собирались люди на его нужду — такая откры
тая, не скрытая человеческая нужда, нужда смертного, — такая ред
чайшая и спасительная вещь, ведь даже те редчайшие настоящие не
позорные (скажем от пьянства) нищие, хоть и просят они только не
счастный кусок хлеба, все равно они скорее подарок, они больше дают
чем берут — а настоящая нужда, от нищеты покинутости, оставлен-
ности человека смертного без Бога, его брошености. Но, я говорю, это
вещь редчайшая. О нищете, нужде еще придется говорить в связи с
Хайдеггером. Сторона нищеты есть при заботеу свернутая, — вообще
в этой книге, «Бытие и время», очень многое намечено и не разверну
то. Кстати, вспомним о структуре заботы, во что она встроена и в ка
ких основных чертах построена: Sorge: «Sich-vorweg-schon-sein-in (ei
ner Welt) als Sein-bei (innerweltlich begegnendem Seienden)»*. «Заранее»
быть — не когда-то в прошлом, а так, что когда бы мы ни обратили
внимание, когда бы ни заметили что, задумали, нам не надо входитьу
придумывать для себя место: мы всегда уже там, озираемся и оказы-
ваетсЯу что мы в мире — каким образом, в какой форме мы в мире?
В той элементарной, что у нас в руках вещи, близкие, нам уже что-то
встретилось и нас что-то задело.
Где здесь нужда?
Казалось бы, «заранее уже» указывает на какое-то обладание, мы уже
при мире, целый мир нашу как поется в песнях, как воображают, — но
это особое «заранее уже», оно обращено к нам стороной «еще не» — по
вертывается, обертывается стороной «еще не». И вот, развертываясь,
это еще не через длящуюся неокончательность присутствия указывает
на то, что еще не: никакое содержательное наполнение его не исчер
пывает (грубый пример: миллионер ставит задачу миллиарда, и т. д.), и
окончательность присутствия, единственнаяу из-за его непредписанно-
сти, незапрограммированности, — это его конец. И вот в «Индексе» к
425
СЕМИНАР III.7
«Бытию и времени», Хильдегард Файк \ нет слова «Нужда», но в этом не
ожиданном обороте дела, когда присутствие стремится к полноте и един
ственной доступной ему полнотой оказывается (целостью) его конец —
открывается такой разрыв, раскол, который позднее Хайдеггер назовет
нуждой. Острейшая нужда, нищета — в том, что оказывается стремя
щимся к концу.
Я себя успокаиваю поэтому, что нищета, всякая, незнание, это еще ме
лочь, а худшая нищета беспомощности, растерянности еще не обяза
тельно такое, от чего нужно бежать, лишь бы это не была позорная ни
щета. — И то, что мы размахнулись на проблему, на важные вещи, гово
рим о 20 веке и так далее, о культуре, а на самом деле плаваем в тумане и
решить по существу ничего не можем, — тоже еще не позор, позор был
бы не замечать нашей беспомощности.
В отношении нашей темы, Хайдеггера, остается в силе то, что я сказал
в самом начале, полтора года назад: нет ничего дальше его мысли, чем
излагать ее: только продолжать, но силы для этого есть? В моей попыт
ке, в эксперименте над самим собой, я замечаю, что сил хватает только
издалека догадываться, как могла бы, если бы была удача, просто про
должаться мысль — т. е. этим предполагается, здесь и теперь, по-русски
в этом 1992 году, или, вернее, в этой удивительной, неповторимой ситу
ации, у нас, обещающей много для философии. В целом я и заранее знал,
что опыт 20 века, и наш теперешний (ведь Хайдеггер становился, был
25-летним, как раз в немецкой ситуации, которая очень похожа на нашу,
крушение крепкой власти и образование Веймарской республики, либе
ральных свобод для всего, для партий, — слабая власть, разрастание пар
тий, — для прессы, — небывалая свобода прессы, — для предпринима
телей и особенно для финансистов, так что когда в 1933 году, после 12-ти
примерно лет такой Германии, какая у нас сейчас Россия, произошла на
ционал-социалистическая революция и к власти пришел, выбранный
большинством, Гитлер, то главная аргументация в пользу резких крутых
перемен была: посмотрите, до чего эти продажные политики с их гни
лым либерализмом довели страну; посмотрите, как разбогатели мошен
ники, как еврейский финансовый капитал нас опутал; как нищенствуют
как раз честные, трудящиеся, старые, больные — словом, аргументация
была как раз такая, в 1933 году, какая быстро накапливается у нас сей
час. До деталей: посмотрите, как искромсали Германию, как у нее отня-
1. Н . Feick, Index zu Heideggers «Sein und Zeit», Tübingen: Max Niemeyer, 1961.
426
15 АПРЕЛЯ 1992
ли земли на Западе, Эльзас-Лотарингию, на юге, на Востоке, как мы мо
жем это терпеть, как мы могли терпеть такое правительство, завязшее в
крючкотворстве юридическом, и т. д .) .. . И крайний опыт, и лучшая фи
лософская школа того времени, а потом уже просто такой школы не бы
ло, и своя одаренность сделали эту мысль, Хайдеггера, такой, что охва
тить даже, не то что пойти дальше, мы не можем. — Я поэтому задним
числом изменю название этого семинара, потом превратившегося в
курс, потом — теперь опять семинара, и назову его «Ранний Хайдеггер»,
или «Хайдеггер-2», неизвестный только что открытый философ XX века.
«Бытие и время» — по существу первая из известных его работ, которую
мы взяли, до этого были только что опубликованные ранние лекции —
и в их свете мы могли по-новому читать, «Бытие и время» ищет не поня
тия бытия, а смотрит на человека как на существо, для которого во всем,
что оно делает, дело идет прежде всего и главным образом и исключи
тельно о бытии; чем решать якобы заново проблему бытия, посмотрим
же наконец на это существо, которое ничем другим давно уже, всю свою
историю, и не озабочено, все равно, чем бы оно ни было озабочено. Я не
думаю, что мы разбирали ранние курсы Хайдеггера зря; если бы только
это мы поняли, — что я сказал, — о «Бытии и времени», мы уже поня
ли бы достаточно.
После конца этого семестра, в следующем, я уже не рискну, если буду
еще продолжать говорить, называть свои занятия так просто, «Хайдег
гер». Может быть и имени этого не будет в названии семинара или кур
са, чтобы не вводить в заблуждение, что мы его всего охватили. Нам его
охватить не удалось. Отдельные разборы тем, может быть совсем дру-
гиху чем у Хайдеггера, с подробными — как это называется
—
экскурса
ми в его работы, но может быть и без них, с попыткой распутывать нит
ки (попытки только) свои и самим.
Но сейчас у нас еще примерно сто страничек этой 437-страничной
книги. — Т. е. еще раз: не значит, что мы должны будем теперь выходить
за Хайдеггера, — а наоборот, попытаемся от слепого удивления перед
ним, заставляющего просто брать его читать, попробовать вернуться к
нему, т. е. к его делу, мысли.
Что надо думать — вернемся, как он возвращается в § 64 (а всего в
этой книге 8з параграфа) — о претензиях Я, что оно в себе есть «сложив
шаяся» самость и обеспечивает цельность. Я обеспечено тем, что когда
бы оно ни пришло, ни проснулось, ни сказало я, т. е. ни сделало то, что
оно обычно и делает, для чего оно еще, — всегда оно обнаруживает то,
427
СЕМИНАР III.7
что—очем
— оно
может сказать «мое». Это «его» — Дазайн, присут
ствие. Оно всегда уже дано. В каком смысле дано — подарено? Примерно
в таком смысле, как время. Время нам как-то дано. Что бы мы с ним ни
делали, как бы ни «расходовали» (вспоминается «пускание в расход» —
убивание; недаром и о времени говорится, «убить время») — как бы мы
ни убивали время, оно прибывает, дарится нам. Так и присутствие, т. е.
наше бытие: как-то, почему-то оно всегда уже дано. Я имеет под собой
это обеспечение: принадлежащее ему — но не им созданное! Т. е. ему по
даренное! Удивительно, как быстро оно входит во владение этим подар
ком, приватизация происходит мгновенно. Конечно, иногда Я перехва
тывает, когда говорит, это бывает часто, «Я написал», хотя где-то увидел,
услышал. Тогда его остановят — но когда Я видит этот мир, его никто —
такого свойства подарок — не остановит, не напомнит, не ты сам себе
его показал. Словом, чем владеть у Я всегда найдется. — Помнит ли Я о
своем обеспечении, своей опоре, присутствии? Вот уж нет. Ему кажет
ся, что оно при вещах, например, при своем теле, при своем имуществе.
Честный охранник при своем автомате, он свое Я отождествляет с авто
матом. Могут отождествлять свое Я с частью тела. Я всегда уже при ми
ре, но думает, что при вещах и относит себя к вещам: вот Я, вот мое
владение. В каком-то смысле оно чему попало дает это свое Я. Содержа
ние Я может меняться, но никогда не перестает присутствие, подкладка
Я и его «принадлежность». Кругом присутствия, которое мы помним эк-
зистирует как открытость, возможность, очерчены предельные, Хайдег-
гер (с которым мы прощаемся) сказал бы — формальные границы того,
что в принципе может принадлежать Я, Я вписывает в эти границы то,
что оно вписывает.
Я: забота, озабочено бытием. Я принадлежит людям и тем чаще гово
рит Я, тем проблематичнее для него самого это Я. Что заставляет под
черкивать Я, ячество? Именно забота, которая для Я-людей прежде все
го забота о сущем внутри мира. «У кого что болит», так сказать.
«Забота не нуждается фундирования в какой-то Самости, но экзи-
стенциальностъ как конституент заботы дает онтологическую консти
туцию само-стоятельности присутствия, к которой <к самостоятельно
сти^ соответственно полному структурному содержанию заботы, при
надлежит фактическое падение в несамо-стоятельность» (428,323).
III.8
22.4.1992
Пятая глава второго раздела, предпоследняя глава книги, «Временность
и историчность». Если кто-то придет и нам скажет, что мы находимся
внутри истории, истории нашей страны, которая сама находится внутри
истории, скажем истории Запада, по Д. С. Лихачеву, или истории некоего
особого западно-восточного пространства, по евразийцам — то мы, на
верное, согласимся. Если нам после этого скажут, что следовательно то-
то и то-то, так обстоит дело с нашей ситуацией, и такой долг стоит пе
ред нами, если мы не хотим, например, выпасть из истории, то мы, на
верное, опять же согласимся, мы будем тем самым включены в систему,
большую, сами себя в нее включим, и будем как нерадивые участники
чужого предприятия, кое-как, ни шатко ни валко «удовлетворять требо
ваниям» нашей исторической ситуации — или наоборот, вдохновимся,
загоримся нашей исторической задачей, возьму пример, допустим уве
руем, что мы должны быть, стать патриотами и вести себя соответствен
но как патриоты, а то что же это такое, в конце концов, неужели мы не
патриоты и как это безобразно не быть патриотами своей страны с ее
такой историей. — Мое «если» не гипотеза, я описываю то, что в бо
лее открытом или более прикрытом виде происходит может быть каж
дый день. — Мы уже почувствовали суть хайдеггеровского анализа, ка
ким будет его предварительный, подготовительный разбор этого моего
не гипотетического случая?
И вербующий нас в принадлежность истории страны, части и света и
мира («кафедра истории и теории мировой культуры» тоже имеет отно
шение к такому подключению нас к истории мира, а то мы были не под
ключены), и мы, спохватившиеся, да что же это такое, в самом деле, мы
принадлежим к истории, а сами сидим сложив руки, оба опоздали. Рань
ше надо было думать, как говорится, а теперь уже поздно и нелепо при
нимать меры. В своем существе, присутствии, мы и так с самого нача
ла — а с какого, собственно, начала? «С самого начала» имеет здесь тот
смысл, что когда бы мы ни обратили внимание^ мы уже то или иное при
сутствие, бытие-в-мире, — т . е. мы всегда уже не то что принадлежим к
истории, но наше присутствие исторично, само оно история, и его бы
тие, т. е. то, о чем для нашего присутствия идет дело, это историческое
429
СЕМИНАР III.8
бытие. Хлопоты задним числом по приобщению к истории не только за
поздали, но их единственный смысл в том, чтобы заслонить собой эту
исходную историчность человека.
Зря, если мы не заметим вызывающее в этом подходе. В подходе, ко
торый говорит о равенстве человека и истории. Ведь очевидность дру
гая: очевидность та, что от рождения до смерти человека проходит
столько-то лет, в историческом времени это малый срок, как же не впи
сан срок этот, нашего присутствия в мире, в историю. Да и внутри это
го срока — разве человек держит этот срок в руках? Он хорошо если
держит в руках момент «теперь», когда он с сомнением из этого момен
та теперь смотрит на свое прошлое, и с еще большим сомнением — на
свое будущее. Присутствие как бы перескакивает из момента теперь в
момент теперь, где ему до уловления не то что глобальной «связи вре
мен», но и времени своего. — Богемные, или оригинальные, или ради
кальные, или нигилистические, между прочим, «способы отношения»
(словно человек в состоянии между ними выбирать; словно перед ним
разложены способы отношения к истории, выбирай) — не имеют отно
шения к делу. Выглядывать в окно и спрашивать, какое, милые, там ты
сячелетие на дворе, или отрицать, что вообще была история мира, не
было никаких греков, они придуманы, или взяться делать все наобо
рот, мне говорят одно, я буду делать другое — все эти индивидуалисти
ческие способы вербовки самого себя, пока тебя не завербовали другие,
вербовки в историю, они ничуть не лучше, как правило хуже крупной
скажем государственной вербовки, это интеллектуальные игры, каких
можно придумать разных много, это все как выразился хорошо один
теоретик и радикал, интеллектуальные процедуры, которые как отно
сятся к экзистенции? Как вообще интеллектуальная деятельность отно
сится к присутствию?
Присутствие, в котором мы уже относим-ся к миру, раньше интеллек
туальной деятельности, и очень хорошо, нам очень повезло, если наша
интеллектуальная деятельность — не способ наш спрятаться от собы
тия, события открытия мира и от-ношения мира, к какому событию мы
уже принадлежим.
Замечание о событии. Прошлый раз я коснулся того, чем обеспече
но я, самоутверждающая самость. Она обеспечена тем, что когда бы и
как бы она ни подняла голову, ни возникла, ни начала утверждать се
бя, присутствие уже есть, его событие уже произошло, значит просвет
есть (Lichtung, помните, что оно от Licht свет, но в нем звучит и das Lich-
430
22 АПРЕЛЯ 1992
te, легкость, вынутость открывшимся простором явленности из тяжести
причинно-следственных цепей). И это событие, событие присутствия,
размыкающего мир, которое, говорит Хайдеггер, всегда мое, оно мне
принадлежит? Или оно мое в каком-то другом смысле, не в смысле при
надлежности, которую я мог бы себе присвоить, чтобы на нем строить
свою самость? После этого прошлого занятия мне дали, передали книгу,
новый сборник посвященный Хайдеггеру, где один из авторов, немец
кий, просит не слышать в хайдеггеровском Ereignis «событие» звучание
слова eigen «собственный», откуда Eigentum «собственность». Только из-
за смешения сходно звучащих слов говорит он в это слово подмешалось
лишнее значение, исходное и поднятое Хайдеггером значение то, кото
рое было видно в самом написании слова еще у Лессинга, во второй по
ловине ι8 века: Eräugnis, от Auge, äugen зрение, озарение. С этим словом
в немецком произошло то же, что с нашим «довлеть». Этот немецкий ав
тор говорит: событие не собственность, оно озарение открытости, оно
не годится, не для того, чтобы какое-то я, какая-то самость делала из не
го опору для себя: наоборот, событие-озарение отменяет всякую изоли
рованную самость, разрешает ее и если хотите по-русски можно было
бы сказать порешает ее, растворяет ее в том, в чем уже нет никакого де
ления на твое и мое, есть просвет, впервые открывающий место, где мы
находимся, и между прочим впервые проясняющий вообще, как нужно
было бы понимать «твое», и «мое». — Но я не думаю, что Хайдеггер по
оплошности или от недостатка времени не настаивал на этом исходном,
этимологически верном значении Ereignis, «события». Я не знаю вообще
случаев, когда он просил бы понимать слово таким-то образом и пере
стать понимать его другим образом. Все его просьбы только о несуже
нии слова вульгарным, расхожим смыслом, т. е. наоборот, просьбы вслу
шаться в слово. Если сложилось так, что в немецком Ereignis «событие»
стало слышаться eignen «присвоение» — то оно в нем слышится, мы его
слышим, и никак манипулировать своим слухом, «править» им Парме-
нид запрещал. Да, событие — это присвоение. Только с какой стати, кто
нас заставляет думать, что событие — это звездный час для самости, что
это именно самость (или личность, или Я) должна себе присвоить бо
гатство, открывающееся в озарении? Если она себе это присваивает, это
ее дело, пусть она делает то, что она делает, распускает себя как она счи
тает нужным, но как можно не заметить, что присвоение, возвращение к
собственности должно сначала присвоить просто все самому себе, вер
нуть все задетое, захваченное озарением к своей собственной сути, —
431
СЕМИНАР III.8
почему «собственность» обязательно чье-то право и отталкивание дру
гих, с какой стати и слово «собственный» слышать ограничительно и
не слышать в нем сначала просто возвращение к себе? Ereignis, собы
тие — не только озарение, но и возвращение к «собственному», только
не в смысле подарка самости, еще одного, к самости, которая и так уже
приватизировала все, что могла приватизировать себе и гораздо больше,
чем имела право, — а к «собственности», в собственному смыслу всего,
втянутого в событие.
В историю. А тут, мы сказали, понимание истории как ящика, в боль
шой ящик уложены страны, народы и индивиды, как будто бы само со
бой разумеется. Разве неверно, что присутствие вообще на время, а кон
кретно собственно только отвечая за краткий отрезок своего настояще
го времени (в прошлом оно, может быть, спало, а в будущем его, может
быть, вообще не будет) включается, инкрустируется в историю. Правы
не только вербовщики от крупных исторических общностей, указыва
ющие нам на то, что все равно нам некуда деться, мы так или иначе по
падем, упадем в просторные рамки, — но точно так же правы или, что
то же, так же не правы, это все равно, скажем по-другому, так же весо
мы и те, кто говорит противоположное, как я хочу, как мне будет угодно,
так я и распоряжусь всей этой вашей историей. Эти оригиналы, само
думы, ужасно расстраивают своим произволом людей государственно
го, масштабного ума, — но именно тем, что возмущают и расстраивают,
показывают уязвимость пропагандистов истории: оказывается, что это
крохотное образование, мое присутствие, человеческое существо мо
жет встать поперек глобальным планам. На каком основании? возмуща
ются одни. А вот на таком основании! злорадно говорят другие, на том
основании что меня не достанешь, не хочу я подключаться к твоей го
сударственной или мировой истории, и дело с концом, до свиданья. Те
и другие нужны, чтобы показать друг другу — это вот им всегда удает
ся, потому что самые своевольные индивидуалисты чувствуют угрызе
ния совести, а вдруг государственники по-своему правы, — что ни те ни
другие не знают в чем дело, не могут добраться до того, в чем же и как
человек связан с историей или с ней не связан.
С краткостью человеческой жизни — от рождения до смерти — дело
обстоит как? Не так, что есть шкала, на которой наносится отрезок жиз
ни, а так, что жизнь уже сейчас и всегда такая, что она так или иначе —
замеченным или не замеченным образом — уже смертная, уже такая,
что предполагает, вбирает в себя свои пределы, прошлый и будущий.
432
22 АПРЕЛЯ 1992
Не всегда, конечно, а когда есть решимость для этого, решимость не в
смысле стиснутых челюстей и готовности «ни перед чем не постоять»,
а решимость в настоящем смысле этого слова, решить — как развязать,
решимость как отпущенность в это свое существо, в бытие как оно есть
для присутствия, т. е. в бытие-к-смерти, Zum-Tode-Sein, или можно пе
реводить «бытие-при-смерти». Такое решительное, т. е. разрешившее се
бя и разрешившее в себе быть бытию в его предельной широте, допу
стившее в себе событие и допустив себя до бытия. Такого, чем не мог
ло бы быть захвачено и что не могло бы вместить в себя бытие-в-мире
такой решимости, просто нет. Мы помним, что как «решимость» Хай-
деггер переводит греческое, аристотелевское αρετή, «добродетель», до
блесть, достоинство, значение, по Седаковой — мужество.
Хайдеггер говорит, об этом я уже упоминал, от опыта и об опыте. Он
знает, что через его слово проходит история, не потому что он такой та
лантливый, а по решимости впустить ее. По своему же опыту он зна
ет, нему на самом деле может быть равно присутствие, какой его размах,
широта. Что оно, в решимости, т. е. допущении широты бытия, не мо
жет вместить? Мы не знаем. Мы не можем сказать, у нас нет сведений,
исторической информации, что присутствие не может вместить того-
то. Бесполезность думать и заботиться о том, чтобы человеческий рост
увеличился хотя бы на один метр; не имеет отношения к делу; об уве
личении роста заботится динозавр, а дело человека бытие. О котором
Парменид сказал, что оно не возникло. Проблема с бытием та же, что
с историей: оно не возникло, как человеческая история не возникла. Оно
не возникло и оно не может уничтожиться. Проблема с бытием и с исто
рией та, что их нет. Маркс был прав: история человечества — настоя
щая — еще не началась. Она началась с тех пор, когда возникли марк
систские государства? Вот это под большим вопросом. Бытие, которого
нет, может быть? Оно может быть настолько, что оно уже есть — то, ко
торого нет, — в большей настоящести, чем что бы то ни было есть. Меж
ду этим «есть» и этим «нет» того, что не началось, не возникло, взвешено
всегда всякое человеческое существо, ведь мы по своему опыту, напри
мер, придя на неденежный, нехлебный факультет, знаем, что мы не зна
ем, по каким правилам и нормам жить. Мы привязаны по-настоящему,
по серьезному не к сущему.
«Что такое в конце концов это событие», спросила меня Нина Влади
мировна Брагинская, это что-то поэтическое, наверное. Она права: со
бытие это поэтическое. А, тогда... У нас есть дела, подождите, поэзия мо-
28-2015
433
СЕМИНАР III.8
жет подождать пока. — А, Пушкин, да, Пушкин, поэт, да, забавный, да,
шутник... но у нас слава Богу есть чины, доходы, имения, доля в госу
дарстве, со спокойным вздохом облегчения, а у Пушкина только долги
и скандалы. В высшей степени нам безразлична и неинтересна жизнь
огромного большинства особенно важных и чиновных людей пушкин
ского времени, высветлены несколько десятков, в лучшем случае сотен
и удивительно большей частью через их связь с Пушкиным. — Что такое
нищий чокнутый еврей в Воронеже в зо-е годы, по сравнению с вож
дем народов и величайшим гением человечества Сталиным, но, возмож
но, от всего Сталина через много лет останется только «Мы живем под
собою не чуя страны». Перед глазами у нас, ну вот только что прошло,
не раз, не два показано нам что весит поэзия, что весит должность, зва
ние, ставка и доход — и мы все равно опять: а, это что-то поэтическое. . .
У Хайдеггера что-то поэтическое? Работа со словом? Игра слов? Мы со
временники Платона, которые не знаем об этом.
Не от и до пределы присутствия, а присутствие отмечено тем, что
его пространство уже включает пределы, от ничто до полноты, от воз
никновения до смерти. «В экзистенциальном понимании рождение ни
когда не прошлое в смысле того, чего уже нет в наличии, равно как и
смерть — она существует не по способу бытия какого-то еще не насту
пившего, но приближающегося прекращения. Фактическое бытие экзи-
стирует рожденным образом, и рожденным образом (gebürtig) оно уже
умирает в смысле бытия при смерти» (495» 374)· Эти два, начало и конец,
никогда для присутствия не кончаются, присутствие всегда такое, что
оно присутствие, имевшее начало и конечное. Т . е. оно не расположено
во времени как в чем-то, а его существо временно, — потому что «вот»
присутствия, его просвет уже включает время, время само просвет (от
крытость) и есть — в том смысле, в каком мы говорим, что время «раз
вертывается».
Задача главы, «анализ историчности присутствия пытается показать,
что это сущее не потому „временно", что оно „включено в историю", но
что оно, наоборот, исторично экзистирует и может экзистировать толь
ко потому, что оно в основе своего бытия временно, zeitlich» (в обоих
чтениях, временный и временной, если бы можно было говорить — и
ведь почти можно — с ударением временно) (498,376).
А вульгарное понимание истории как процесса, который где-то там,
иногда совсем рядом, если нам удалось попасть на событие, на боль
шое официальное собрание, тем более на телевизор, мы подключились к
434
22 АПРЕЛЯ 1992
истории, — что Хайдеггер будет делать с этим обычным, привычным по
ниманием истории?
Брезгливо отодвинет, заменит другим пониманием, которому нас на
учит, чтобы мы руководствовались правильным, а не неправильным по
ниманием истории?
Мы уже Хайдеггера достаточно знаем. Нам от «вульгарного» понима
ния истории некуда деться, потому что оно наше, другого у нас поче
му-то нет, оно и то в которое сам Хайдеггер врос в годы своего обуче
ния. Оно наше, поэтому на него надо сначала и прежде всего — что? об
ратить внимание. Вот уж действительно был бы промах, если бы мы не
обратили внимание на наше понимание истории. Вот уж действитель
но загадочный, непонятный был бы образ действий существ, которые
так много говорят об истории и историзме и так страшно много на
вязывают себе этим своим представлением об истории, а на то, какое
у них представление об истории, не обращают внимания. Удивительно,
но это так. История, историческое свершение, принадлежность к исто
рии, история и теория мировой культуры, исторические эпохи, истори
ческая закономерность, говорим мы это и еще очень многое, и не обра
щаем внимания, что говорим.
Что такое история?
Сами события и наука. То, что они называются одним словом — не
значит ли это, что они иногда сливаются? Когда проходил съезд пар
тии, его решения и сам съезд почти сразу или даже заранее назывались
историческими, событие исторической важности и так далее. Говори
ли это не историки, но больше чем историки — люди, лучше историков
знавшие ход истории, ее смысл и так далее. Т . е . съезд и был важнейшим
историческим событием, и одновременно писал историю.
Еще больше: определенная наука истории, показавшая, как движет
ся человечество, куда, почему и для чего, определяла из этого знания,
какие события должны совершаться, направляла ход истории, сегодня
надо свергнуть правительство, завтра передать всю землю крестьянам.
Отношение переворачивается: вовсе не историк вглядывается в собы
тие, еще чего не хватало, такая пассивность, а ученый и руководитель в
одном лице пасет историю, история будет такая, какая он скажет. Или
еще: Россия страна с непредсказуемым прошлым, оно было мрачное, те
перь оказалось при царе светлым; она вообще будет всегда такая какая
понадобится, серия вполне определенных интеллектуальных процедур
представит историю в том или другом свете, историю перепишут, это
28*
435
СЕМИНАР III.8
и неизбежно, потому что разве написана безупречная, окончательная
история. Какую надо историю, такую и напишут. Историки для этого
найдутся, даже с увлечением напишут. Но историческое сознание, тра
диция определяет поведение индивида, поэтому что лидирует, история
в смысле событий или наука? Риторический вопрос. История это что?
объект исторической науки, а с объектом, как известно, можно делать
что хочешь, он объект, мы над ним работаем. —
Да что же это такое, с этим Хайдеггером, все рассыпается, это же тре
вожно в конце концов, ведь есть же святое, история, традиции, мы в кон
це концов не позволим так все разъедать скепсисом. — Я вам скажу: чем
скорее все рассыплется, чем скорее вы расстанетесь с вашими представ
лениями, концепциями, тем лучше. Это сомнительное добро лучше не
держать, оно просто не нужно. Мнения, убеждения, представления, кон
цепции не надо копить и формировать, надо радоваться, когда они ку
да-то деваются, со спокойным облегчением встречать их исчезновение.
А что остается? Разрушенные и разрушаемые памятники, измененный
человеком ландшафт, архивы, на которые с невероятной настойчивос
тью идет нападение, столько попыток уничтожить, растащить, или —
что чаще — закрыть, упрятать, так, чтобы уж никто не видел, не на
шел, не прочел. Остается история, посильная, честно сделанная, не скры
вая человеческой ограниченности, Карамзин, Соловьев, Ключевский.
А главное — остается обращение внимания.
Обыденное понимание истории. История это то, что было. Новейшая
и современная история — это то, что ну вот только что было, но, ко
нечно, уже нет. Мы говорим: о это принадлежит уже истории, т. е. то ли
хорошо, то ли плохо, но — об этом теперь разговор особый. Современ
ность уже другая. Или наоборот: мы говорим, это же наша история, т. е.
продолжает или во всяком случае должно продолжать действовать. Или
можно просто сказать: это история, и услышать в двух совсем разных
смыслах, или что это было и быльем поросло, или что это действует.
В музее древняя посуда, большей частью разбитая. Это посуда «про
шлого», но вот она же сейчас на стеклянных полках лежит, с такой же ре
альностью, как эти полки, которые только что сделали. В каком смысле
та древняя посуда относится к истории, а музейная полка не относится?
Потому что той посудой заинтересовались, нашли ее, она объект ис
следования?
Но ведь надо было, чтобы она — чтобы стать исследованием — что
бы в той посуде что-то историческое уже было. На каком тогда осно-
436
22 АПРЕЛЯ 1992
вании «принадлежит истории», а вот она теперь, сейчас лежит, может
быть, даже не разбитая? Или только кажется, что тот глиняный горшок
здесь, на самом деле он там: ведь горшок чтобы варить, и как естествен
но привычным движением было его сколько-то тысяч лет назад взять и
поставить на огонь, так теперь никому не придет в голову так его упо
требить.
Когда вождь или просто начальник определяет, какой должна быть
история, он показывает, между прочим, какое на самом деле место в
истории занимает присутствие: такое, что и история в нем. — Другое де
ло, с правильного ли он конца берется за историю. Достаточно ли просто
распорядиться, завтра начинаем восстание; весной издаем новый учеб
ник философии; или может быть этого мало, и решив сказать, что сейчас
мы сядем и коллективно напишем новое слово в истории философии —
может быть в философии нужен какой-то совсем другой подход.
Ну в конце концов когда в магазинах совсем не будет посуды, возь
мут, конечно, из музеев. Все равно их то значение не возвратится! Они
какие-то другие?
Нет, они станут вполне нашими. Врастут в наш быт, окажутся хоро
ши на газовой плите. Т. е. они исчезнут как исторические! Новое поко
ление будет думать, что эти горшки сделали предки, скажем недавно. Т . е .
ускользает историческое — не говоря уже об ошибках в атрибуции. —
Что же тогда прошлое? Только одно: мир. Того мира уже нет. А мир, как
его найти, не только тот, на Балканах, в Геок-Тепе 7 тысяч лет назад, но
и современный мир? Он только в экзистенции присутствия. Не потому
экзистенция была другая, что иначе делали посуду, а посуду и все вооб
ще делали иначе, потому что отношение к бытию было другое.
И теперь важно. То отношение было, и было другое. Какое? Прошед
шее? Из которого мы выросли? — Так сказать не удается. То, что его те
перь уже нет, что оно было, не значит что оно дело прошлое! Оно было в
другом смысле — что оно уже (отношение к бытию) было, в этом смыс
ле оно не перестало быть, оно есть. Уже есть у нас так, что отношение
к бытию было. Не vergangen, прошлое, a da-gewesen, «вот было», можете
сказать — вот было. Проверка: оно будущее. Проверка: оно говорит нам,
возможно, не меньше, чем настоящее.
Это присутствие, оно такое. «Ленин и теперь живее всех живых» —
это звучит грозно, живые должны значит отдать себя тому, кто живее их,
живых. Это грозно: значит, ваше живое, то, что вы теперь здесь, мало це
нится, собственно ни в грош не ценится. Никакого преимущества ваше-
437
СЕМИНАР III.8
го в том, что вы теперь живете, нет вовсе. Было то, что есть больше, чем
то, что есть. Так обстоит дело с присутствием: оно сразу. Но присутствие
«первично исторично» (504, 381), значит история такая вещь, где буду
щее, прошлое, настоящее друг перед другом преимуществ не имеют!
Время к истории тогда имеет какое отношение? Все это выдумки. —
Но ведь перед глазами «древняя Русь».
III.9
29.4 .1992
Господа, я хочу сделать заявление. В разборе историчности присутствия,
в разборе хайдеггеровском присутствия, вообще во всей работе Хайдег-
гера нет ничего, ни одной темы, ни одного тезиса, которые или не вос
станавливали старые учения высокой философии, или не были в пол
ном согласии с ними. То, что Хайдеггер был принят за разрушителя, по
казывает настоящую — чудовищную — меру забвения не философии,
она как раз как никогда была у всех на языке, а того, о чем и к чему она.
Но и наоборот тоже верно: как Хайдеггер открыл снова историю фило
софии, философию в ее истории, так и Хайдеггера можно открыть толь
ко из истории мысли, т. е . только если видеть, насколько он с ней согла
сен. — Это не значит, что кому-то будет интересно заняться пересчетом
хайдеггеровских структур экзистенции на аристотелевскую или плато
новскую этику. Это неинтересно как раз потому, что неизбежно удает
ся, здесь нет проблемы, нет трудности, нет задачи. Кроме того, важны не
отдельные соответствия.
Поэтому когда я, прямо наоборот тому, что дает буквальное прочте
ние Хайдеггера, вычитываю у Парменида, Плотина, Аристотеля, Плато
на как раз не метафизическое забвение бытия, а наоборот, возвращение
к бытию, — то я выполняю поручение как бы Хайдеггера, слышу зада
ние заново прочесть философию, это задание содержится в его провока-
тивном пародировании университетской, кафедральной, академической
манеры прочтения философов.
Хайдеггер вспоминает и напоминает в мысли 2θ века о смерти чело
века и смертности — почти неприличие, потому что почти было уже со
всем забыл человек мировоззрения, человек мировых культур, человек
прогресса, человек технический, человек играющий, человек массовый
о своей смерти, смертности, совсем было вырвался на простор — вдруг
ему поставили такую подножку, так его срезали, а ведь в самом деле ни
чего не возразишь. Но признать, увидеть что в теме смерти у Хайдеггера
просто восстанавливается то, что уже слышалось в античности, — вот
это слишком; где же тогда прогресс; к чему же тогда 20-й век, если чело
век так никуда далеко и не ушел.
Чем в более собственном смысле (оба значения: в подлинном смыс-
439
СЕМИНАР III.9
ле; в смысле, касающемся собственно его) присутствие решается, разре
шает себя, т. е . недвусмысленно из своей наиболее собственной (опять те
оба смысла), исключительной (т. е. его отличающей) возможности пони
мает себя в поступании к смерти (этим бахтинским словом условно пе
реведем Vorlaufen in der Tod, буквально «забегание вперед в смерть», или
предвосхищение смерти, имеется в виду бытие-при-смерти, т. е . заранее
уже заведомая очерченность всего предприятия присутствия смертью),
тем недвусмысленнее и неслучайнее избирающее нахождение возмож
ности его экзистенции (507, 384)· Страницей раньше было сказано: На
что присутствие каждый раз фактически решается, это экзистенциаль
ный анализ в принципе не может прояснить. Почему?
Да господи, потому, что на то и о собственной возможности или соб-
ственнейшей возможности идет речь; туда науке доступа нет. С чем в
аристотелевской этике это сопоставить?
С καθ' εκαστον и с τόδε τί, «каждым» и «вот этим»: туда наука не дости
гает, там надо, говорит Аристотель, «чувствовать». Поступание к смер
ти (это надо слышать во всех смыслах, и как поступать, предоставлять
себя) — и только оно изгоняет, вытравляет всякие случайные и «пред
варительные» возможности экзистенции. Только свободное бытие для
смерти дает присутствию цель в прямом, непосредственном смысле и
сталкивает экзистенцию с ее конечностью. Принятая, схваченная и за
хватившая конечность экзистенции вырывается из бесконечного разно
образия всегда подвертывающихся ближайших возможностей уютного
устройства, непринятия всерьез, ускользания, увиливания — и приво
дит присутствие к простоте его судьбы. Но разумеется именем «судьба»,
Schicksal не вводится посторонняя или потусторонняя сила.
507 (384): под судьбой мы понимаем, как судьбу мы обозначаем то за
легающее в собственной решимости исходное, первичное событие (Ge
schehen, aventure, переводит Франсуа Везен) присутствия, в котором оно
себя, свободное для смерти, предоставляет самому себе следуя той или
иной унаследованной, но тем не менее избранной возможности.
Свободное для смерти присутствие — потому что несвободное для
смерти оно будет занято все тем же самым обычным и распространен
ным занятием людей, поглощающим все их время и все их силы, по
пыткой избежать того, чего избежать нельзя, делом, не оставляющим
уже сил ни для чего, не оставляющим уже от присутствия, собствен
но, ничего, кроме разнообразных форм неподлинности, неподлинного
обращения с внутримировым сущим. Об этом будет сказано подроб-
440
29 АПРЕЛЯ 1992
нее: для судьбы человека открывает только решимость, а то судьба на
него не действует, он для судьбы недоступен, и это не достижение, не
счастье, а может быть худший провал, какой может с человеком слу
читься, — и оптимистическая надежда розового христианства на то, что
Учитель, Спаситель мира избавил человека от власти судьбы, к сожале
нию, слишком легко исполнима, — к ужасу, что должно было бы ужа
сать человека.
Судьба есть, если повезет, — когда жизнь не круговая потерянность,
а в «руках судьбы», как это говорится, т. е. принята чем-то таким, что не
сам человек устроил, подстроил. Не сам человек, это поддерживает, —
но и не без человека. В русском «судьба», от «суд», звучит решение и ре
шимость на решение, т. е . то же настроение, что подчеркивает Хайдег-
гер. — Но немецкое das Schicksal говорит больше и подробнее. Русское
«скакать», скок, др.- рус. скокъ прыгун, бол г. скок прыжок, водопад, «ска
кать» значило еще и отчасти теперь значит плясать — то же слово, что
ср.- верх.- н ем. ge-schëhen, др.- в ерх. - н ем . giscëhan, англосаксонское scêon,
оно теперь живет в английском слове scion побег, отпрыск (!), потомок,
наследник, привой, прививка. Исходное значение: спешить, устремлять
ся, прыгать, внезапно повертываться.
Schicken посылать, отправлять. Sich schicken — посылать себя, подхо
дить в смысле годиться, приноравливаться, и как в русском «Бог послал»
sich schicken, букв, посылаться, значило (теперь не употребительно) слу
чаться, происходить, бывать. Слово das Schicksal — только первое сло
во нашего выражения «послано судьбой», в подобного рода словосоче
таниях оба слова нацелены на одну вещь, называют подправляя непро
зрачность одного слова то же самое. Таких примеров много, «живой как
ртуть», — в «судьбе» эта посланность мало слышится, как в «ртуть» жи
вость совсем не слышится, и язык восстанавливает, восполняет связь
понятий, — но в немецком к «судьбе» не надо добавлять «посылание»:
оно уже слышится в Schicksal, посланное, — только надо бы еще слы
шать и «скок» в этом слове, т. е . посланное как устремившееся, прыгнув
шее, вдруг вышедшее наружу, внезапный поворот дела.
Немецкое Geschichte имеет в своем корне тот же «скачок», то же «по
сылание», — и теперь мы можем спокойно вернуться к Хайдеггеру, кото
рый доскажет нам об этом слове. Одно из самых абсурдных, нелепо сле
пых клевет на Хайдеггера — это будто он извлекает свои ходы мысли из
«языка», как это говорится. Попробовали бы те, кто такое говорит, са
ми извлекать свою себе мудрость из «языка». У меня не хватает злости,
441
СЕМИНАР III.9
когда я слышу эту дикую чушь, но потом я понимаю, как бессмысленно
опровергать и объяснять: ведь люди, которые так говорят, просто с удив
лением заметили, открыли у Хайдеггера, а могли бы и у других открыть,
то, чем они сами должны были бы заняться, но не занялись, прежде чем
написать или объявить свое первое слово: прислушаться к этому сло
ву, обратить на него внимание, заметить>у что они говорят, когда гово
рят. Мы читали ранние лекции Хайдеггера, мы заметили там различение
между историей и историей, между событием-историей, тем, как повер
тывается дело, когда бытие, в отношение к которому вступает человече
ское существо, вызывает его, — и другое, история как историография.
Сущностную событийную историю тогда Хайдеггер называл как мы, Hi
storie, а историографию — отдавал ей это богатое слово немецкого язы
ка Geschichte: свое слово казалось слишком обыденным, и для важно
го, бытийного смысла, казалось, годится культурное, греческое Historie.
Потом он заметил, что то, что продумал в понятии бытийной истории,
истории бытия оказывается уже звучит, пусть бледно и смутно, в этом
простом немецком слове, и не он вычитал из этимологии немецкого сло
ва свою концепцию судьбы и истории, а он в 20 веке восстановил, воз
вратил немецкому языку — и не только немецкому — то, что в нем со
всем было уже стерлось и побледнело. Отношение как раз наоборот: не
Хайдеггер «берет» из языка, а Хайдеггер возвращает языку — то} что в
языке каким-то образом уже было, потому что ведь язык не зря, не впу
стую на нем говорят тысячелетия, и не зря Хайдеггер, и Парменид, напо
минают, что для человека всегда дело идет в конечном счете об одном: о
бытии, в языке это не могло не оказаться — больше того, язык с самого
своего начала не другому отдан.
Еще о той фразе, определении судьбы. Оно вкратце такое: Schicksal —
Geschehen, собственно, «фигура этимологика», «поворот дела это пово
рот дела», ведет и направляет весь смысл, скачок, сдвиг в самом челове
ческом существе, — сдвиг, который и есть человеческое существо.
Прав Везен, переводя Geschehen — aventure? Да: выступление, выход
ка. — Нехорошо только если мы будем представлять это как выдумку.
И судьба, и исходное событие в бытии — и решимость — вещи не после
думания, а до думания, которые случаются все равно так или иначе, ду
маем или не думаем.
Так же и опыт смерти. И решимость, они раньше, чем сознание. Жи
вость, бодрость, подвижность детей — их способ встретить смерть, их
решимость на усилие.
442
29 АПРЕЛЯ 1992
Человек экзистирует schicksalhaft — вот таким образом, захваченным
судьбой. Попробуем высокое возвышенное слово «судьбоносно»? Что
такое судьбоносно? Это опять случай, когда язык восполняет нехватку
проявленности в основном слове, в данном случае «судьба»: судьба и есть
несение, как в поговорке, Fata volentem ducunt, nolentem trahant. В «судь
боносности» кто несет? Сама судьба несет? Или судьбу несут, выносят?
Или несут с собой судьбу? Расплывчатость этого высокопарного слова
ему мешает. Как «веление судьбы», как «послано судьбой», так «судьбо
носный» указывает в сторону, развертываемую в хайдеггеровском раз
боре. Человек судьбоносный. Но пока, до прояснения этого искусствен
ного слова, его лучше не брать. Сгущение обстоятельств и происшествий
судьбы еще не дает. Нерешившийся — несвободный для смерти (ах ка
кой ужас, да что же он говорит, освободиться для смерти! что за челове
коненавистничество — надо наоборот противиться смерти, и так далее,
против таких, ясных, прозрачных и трезвых философских напоминаний
восстает, взбаламучивается стихия «людей» — но противьтесь, противь
тесь смерти, может быть, кому-то удастся и не умереть. От бедствий, не
счастий это избавляет?). — Нерешившегося как щепку кидает хуже, чем
решившегося, — но сколько бы ни было бедствий, очень много, «судь
бы» может не оказаться. Для «судьбы» надо, чтобы смерть взяла в опере
жающей решимости всю свою власть, как уже сейчас принятая возмож
ность невозможности присутствия, надо, чтобы вина, совесть, свобода
и очерченность пределом наполнили присутствие, составили его забо
ту, — только тогда ему удастся экзистировать в модусе судьбы, т. е. быть
в основании своей экзистенции историческим.
Есть совсем трудная фраза (510, 386): «Собственное бытие к смерти
собственное в обоих смыслах>, т. е . конечность временности, есть по
таенная почва историчности присутствия». Я думаю, что здесь высказан
опыт писавшего, который нам теперь пока еще недоступен. Под историч
ностью мы должны слышать «посланность», решимость на судьбу. Неу
жели, снова и снова спрашиваю я, только после решимости на смерть от
крывается редкая возможность быть причастным судьбе? Это мне сно
ва и снова кажется слишком жестким; и снова и каждый раз я чувствую,
что только непреодоленная иллюзия говорит мне, что это не так. Понять
это место помогает — у Хайдеггера — Парменид, которого мы читали *:
который зовет отпустить небытие в небытие, разрешить ему не быть,
все равно усмирить его не удастся.
Без этого, без отпускания небытия небытию, что-нибудь сложится,
443
СЕМИНАР III.9
удастся человеку? Похоже что нет. Великое предприятие покорения не
бытия — технически, механически восполнить отсутствие — чем оно
кончилось? Что осталось? Только сопротивление ему. Не только интел
лектуалов — упаси Господь; главное приобретение всех этих лет — на
родный характер и язык, в сопротивлении. Но ничего — от того, что не
решилось отдать себя свободно смерти. Как же, они как раз готовы к
смерти? Странным образом, этим они платят за то, чтобы сейчас жить
как бессмертные, не разрешившие себя смерти. Их решимость другая,
решимость нерешимость, не освобождение допускание себя — наобо
рот недопускание, из-за этого изменилось (из-за их пропаганды, рекла
мы самих себя) само понимание решимости, сверхчеловеки преврати
ли разрешение в окаменение. Похоже да: без разрешения смерти — не
в смысле готовности заплатить своим телом за взятие власти, да и не
сам платишь, а другие пусть попробуют, пусть только попробуют взять
с меня долг, они тоже поплатятся, — а в смысле допущения, что смерть
сейчас уже такая, что ей надо свободно предоставить себя, — опять же
не так, что на жизнь надеятся нечего, будем дожидаться смерти, а так,
что наоборот не надо посвящать себя небытию, усмирению небытия, —
только так человек по крайней мере избегает одного: вытравляется, вы
жимается, по слову Солженицына, что? из возможностей неподлинные,
например всю жизнь слушать, что говорит власть и за что власть гото
ва платить деньги, и приспосабливаться к этому, вполне реальная воз
можность.
510 (386): «Заключающееся в решимости поступающее предоставле
ние себя открытому Вот мгновения мы называем судьбой». В этом опре
делении можно видеть, почему кажущееся этикой предписание, реши
мости, не этика. Этика предполагает моральный выбор, или как?
А здесь присутствие зовут тоже к выбору, да, но не между одной воз
можностью и другой, а его призывают выбрать то, что и так уже есть, че
му оно, присутствие, и так уже принадлежит и другому чего оно при
надлежать не может и все равно не будет. Ведь все равно кроме воту вот
этого, фактического, и кроме мгновения, вот этого, у присутствия ниче
го нет. Вот философский императив, который всегда абсолютная, безу
словная необходимость: пожалуйста, принадлежите тому, чему вы и так
уже принадлежите и чему, даже если очень не захотите, все равно буде
те принадлежать.
Но почему человек почти никогда не там, где он есть? — Спросите у
него.
444
29 АПРЕЛЯ 1992
Это очень интересно. Философия и есть такое спрашивание. Посто
янное, начиная с самого себя: что я делаю, говорю и думаю, когда я все
это делаю, так много всего, говорю и думаю.
Т. е. история и судьба уже есть, в историю мы так или иначе попали, а
судьбы не миновать. Мы слышим это: мы попали в историю; судьбы не
миновать. И начинаем принимать меры: как бы выпутаться; как бы до
казать судьбе, что она надо мной не властна. И начинается — что? — то,
чем занято человечество.
Почему мы потеряны, в чем, почему ищем
7
. Почему всегда имеем де
ло с уже рассеянием?
Бегство от смертиу от этого мы рассеяны.
шло
6.5 .1992
Слово «смерть» кажется слишком жестким в «исторической» предпо
следней главе «Бытия и времени», тон вдруг изменившимся, резко, — и
Хайдеггер знал, заметил, говорил об изменениях вдруг в «Бытии и вре
мени», в курсе лекций о Шеллинге, его трактате «О сущности человече
ской свободы» — когда написан трактат Шеллинга? 1809; курс лекций
года войны, лета 1941» кстати, сняли с преподавания его не французы,
собственно, а уже свои, в конце 1945> послав на земляные работы.
«О том, что в этой книге есть свои провалы, мне кажется, я сам об
этом кое-что знаю. Тут похоже на подъем на гору, до вершины которой
так и не удается добраться. Поскольку она одновременно скалистая и
неизвестная, рискнувший на подъем время от времени встречает об
рыв, пропасть; идущий внезапно сбивается с пути. Иногда даже сры
вается, без того, чтобы читатель это заметил, — потому что пагинация
продолжается, несмотря ни на что»
1
. Введение, как ни странно, оказы
вается нужным — тогда как сама эта книга «введение в конечность» (в
смертность), главное такое введение, какое есть в наши дни
2
—
интерес
но, значит человека еще нужно ввести в смертность, а разве он уже не
там, разве не смертный? Да, смертный, который все или почти все дела
ет только для того, чтобы или не видеть этого, или справиться с этим, —
при том что вообще очень малая, привилегированная часть людей мо
жет вообще поднять голову. Т . е. все дети, конечно, но дети — с ними
очень быстро что-то делается, учителя с ними что-то делают, они их об
разуют, вводят в образ, и уж в этом образе очень ясно указано, что и
как надо делать, чтобы не дать тревоге и «плохому настроению» «раз
рушить жизнь» — слушаться надо папу и маму, хорошо учиться, и тог
да все будет хорошо; или заведи дружбу, погуляй с девочкой, теперь да
же это можно; почитай хорошую книжку; обязательно впрочем готовь
ся в армию, как же без армии, надо защищать отечество. Ребенка так или
ι. Цит. по: Gérard Guest, «Accès — dans Être & temps. Pour situer le lien de l'entrée d'Être
& temps», Genos. Cahiers de philosophie, 1: Heidegger, Lausanne, 1992, p. 31 -55 . Эпиграф из
Хорхе-Луиса Борхеса: «Construire un labyrinthe nest pas nécessaire, quand l'univers, déjà,
en est un».
2. Ibid., p. 31.
447
СЕМИНАР III.10
иначе образуют, как умеют, у учителя есть, наверное, какие-то представ
ления о том, каким должен быть человек — с какой радостью человек
догадывается, к старшим классам когда его уже трудно обмануть, что
все эти представления и даже самые лучшие жизненные примеры в луч
шем случае (в обычном случае годны только на то, чтобы их выбросить
как можно скорее и как можно подальше) — а в лучшем случае все рав
но не работают, и все равно их надо выбросить, а когда образование все-
таки впитано на протяжении десяти самых впитывающих лет, а потом
выброшено как негодное, человек живет как попало, потому что где ему
теперь успеть даже задуматься — оказывается вдруг, что задумывать
ся уже поздно, уже вредно. Остается малый круг, который с презрением
к растительной жизни большинства, с чувством превосходства живет
«духовной жизнью», т. е . изобретает себе какого-то Бога, чтобы, соеди
нившись с ним, вместе с ним выкарабкаться из этой конечной жизни ту
да, где Бог, т. е . где вечность, т. е . занят опять преодолением своей конеч
ности, выбрасыванием себя на берег из потока, где сухо, на берегу. Услы
шали, как литераторы за столом ресторана в доме писателей открывают
душу друг другу, говорят, что помимо текущего, для зарабатывания де
нег, они в стол себе «работают нетленку», т. е., значит, с проблемой ко
нечности, смертности и встретились, и меры приняли, частицу себя вы
кроили, чтобы вдруг получится она закрепилась, откуда-то берется вера
в то, что есть где-то там, и какими-то операциями, написанием таких-
то страниц, человека как-то вынесет туда. Или как один молодой чело
век, литератор, он литератор, потому что он садится и пишет, написал ну
уже совсем большую книгу о том, как все никуда не годится и все обре
чено и как все фатально упирается в тупик, но именно для того все это
и написал, чтобы каким-то образом, какой-то спиралью как раз при по
мощи этой книги о ненужности, тупиковости и бесполезности всего —
как-то взлететь, чтобы родная бесконечность его приняла в свои спаси
тельные объятия. У литераторов есть надежда, потому ли что библиоте
ки есть еще, стоят, не сгорели или по другой причине, что «нет весь я не
умру, душа в заветной лире мой прах переживет и тленья убежит», а как
же, это сказал сам Пушкин, он не может ошибиться. Но голос даже Пуш
кина, а здесь не его голос, а Горация, перекрывается другим, голосом ста
рика Державина, старика потому что ему в I8I6-M 73 года,
Река времен в своем теченьи
Уносит все дела людей
448
6 МАЯ 1992
И топит в пропасти забвенья
Народы, царства и царей.
А если что и остается
Чрез звуки лиры и трубы,
То жерлом вечности пожрется
И общей не уйдет судьбы.
Вечность тут вовсе не родная, принимающая в свои спасительные объя
тия, а та, которая расправится и с тем, что надеется на вечность!
Кто-нибудь скажет: ну что это за вечность, черная, глухая, это непра
вильная концепция вечности, а нужно иметь правильную концепцию,
божественной вечности, где мы все воскреснем. Или не все воскреснем,
а только верующие, а атеисты не воскреснут? А мусульмане воскреснут?
Или воскреснут в аду? Или в аду лучше, чем в раю? У нас на этот счет
неопределенность. Надо что-то делать, чтобы наша вечность не оказа
лась глухой, державинской? Может быть, надо изменить свою концеп
цию вечности? — Во всяком случае, тем или другим способом, измене
нием концепции, или поведением особым, или как-нибудь еще мы хо
тим спасти, переправить какую-то часть из нас, от нас туда, где этого
безобразия, смертности и пожирающей без следа вечности, жуткой, глу
хой, нет, должно же быть такое место, — и Бог знает, чего и сколько мы
делаем по-всякому, чтобы так выброситься из потока, собственно, мо
жет быть, все, что мы делаем, делаем — или почти все
— для этого, —
но не лучше ли знать, как Державин, что не удастся выброситься, что
не удастся смертности, конечности избежать, что река «топит в пропа
сти забвенья народы, царства и царей», «а если что и остается», то тоже
топит, потопит, что лазеек нет, — в этом знании, державинском, толь
ко и достойно человеку быть, в знании правды, апории, в знании сво
ей конечности, в конце концов, смертности — неотыскивании щелочек
для спасения? Только из державинского настроения? Только если про
давлено, прожжено заранее уже смертью все, т. е. как никогда и не быва
ет, остается что-то? Но остается вот уж именно не «нетленка», не веч
ная частица — а что?
Еще раз: не надо ничего придумывать, человек с самого начала смерт
ный, βροτός, только он не там, он занят уходом, или ускользанием, или
уловкой, или отчаянными напропалую прихотливыми жестами, — но
что наоборот надо войти туда где он уже есть, войти в смертность,
вот это не приходит в голову. Поэтому Жерар Гест говорит: самое маги-
29-2015
449
СЕМИНАР ШЛО
стральное введение в конечность, не в смысле предисловия к теме «ко
нечность», а как за руку в-ведение человека туда, где он есть, в смерт
ность. — Значит тема смерти, смертности главная в «Бытии и времени»,
возвращение смертного к смертному, а мы говорили, что тема бытие,
как же искание бытия, добывание бытия, эк-зистирование, выступание
в бытие, с моментами присутствия, бытия в мире, всего о чем говорили,
относится к смертности, разве не второй вопрос — смертность или не
смертность, — все равно, какая там смертность, — если все дело в том,
чтобы выйти к бытию, в заботе, не так ли! Или? Или бытие и смерть
как-то связаны?
Я чувствую, что связаны, уже потому, как, когда я только произно
шу бытие и смерть, как налетают и сгущаются извращения, искажения,
ложь, обман. Загробное бытие. Бытие, побеждающее смерть. Как трудно,
когда прорвало кран, остановить струю воды, особенно под большим
напором, так же трудно, требует постоянного и немалого усилия, что
бы тема не вывернулась, не пролилась у нас буквально из рук, чтобы мы
не сбились опять на бытие, которое надо выручать или в котором надо
спасаться от смерти, преодолевая смерть. Опять преодолевая смерть, а
что, вы хотите смерти, проповедуете смерть, как же ее не преодолевать,
для чего же тогда бытие, если не для преодоления смерти, что это вы
тут подозрительное проповедуете на семинаре «Хайдеггер», надо послу
шать к чему вы зовете молодежь, если уж вы взяли этого, Хайдеггера, то
хоть толкуйте его как принято, что он экзистенциалист, что он ученик
Гуссерля, феноменология, герменевтика, деструкция, проблема нигилиз
ма опять же, связь бытия и времени... Куда это вы въехали в смерть!
И нечего говорить: разумеется бытие противоположно смерти! — И так
далее. Что там вода из прохудившегося крана: тут целый поток, течение,
мы должны идти против течения, это тревожно, гораздо легче и бы
стрее плыть по течению, зачем идти против течения, ну зачем в самом
деле идти против течения, — я произношу эти слова и не иду дальше, не
надо идти дальше, потому что эти самые произносимые мной слова зву
чат и слышатся так, «конечно же надо идти против течения, а как же еще
идти, не хватало еще, чтобы мы повернули и пошли по течению».
Связь тем бытия и смерти не та, что надо, стремясь к бытию, бороть
ся со смертью, а та, что только когда схлынет грязная волна, или возня с
борьбой с вечностью дурной за вечность хорошую, только если беспово
ротно и окончательно установится настроение, которое в державинском
«Жерлом вечности пожрется и общей не уйдет судьбы», когда судьба,
450
6 МАЯ 1992
что суждено, т. е . решено, т. е. на что и надо решиться, надо решиться на
то, что есть. «Мы не пребываем еще достаточным образом там, где мы,
между тем, только и находимся», как сказано в «Der Satz der Identität»
1
.
Только этот Державин имеет шанс встретиться с бытием. Конечно* и так
уже и всегда и в прошлом и в будущем мы имеем дело с бытием, это дело
человека, забота его присутствия, ни с чем в сущности другим, да, — но
вы помните эпиграф «Бытия и времени», вернее, чем книга начинает
ся, греческими словами, из «Софиста» 244 а: δήλον γαρ ώς ύ μεΐς μεν ταϋτα
(τί ποτέ βούλεσθε σημαίνειν οπόταν ον φθέγγησθε) πάλαι γιγνώσκετε, ήμεΐς
δε προ του μέν ώόμεθα, νϋν δ' ήπορήκαμεν . Не так, что «имейте настроение
Державина, и тогда узнаете, наконец, точно, что такое бытие», а иначе: с
другим, непричастным этому настроением нет ровно никаких шансов,
среди постоянного говорения и твердого знания о бытии, не иметь пе
ред собой неразвернутую, спрятанную апорию. Скажите, какая апория
лучше, неэксплицитная или эксплицированная?
Какая яма лучше, яма для мамонта, прикрытая сверху зелеными вет
ками, или открытая, т. е. опять же глубокая что не выбраться, но не та
кая, в которую обязательно уж упадешь?
Не так, что державинское настроение обеспечит знание бытия, а так,
что только оно вводит в амеханию — хайдеггеровское название аме-
хании?
Герменевтический крут.
Платоновское ήμεΐς δε προ του μέν ώόμεθα, νϋν δ' ήπορήκαμεν звучит
смиренно, вот как мы, в отличие от вас, сели в лужу, ну вот только что
знали, что мы обозначаем, когда произносим «сущее», а теперь попали в
апорию, но чье положение лучше, тех кто продолжает уверенно говорить
о бытии и писать книги, проглатывая, включая и это платоновское —
или севший в болото, как Мюнхгаузен, Платон с Сократом, ήπορήκαμεν,
уж засели, что поделаешь, да и как-то плохо, что непохоже выбраться,
потому что если долго было так гладко, и вдруг засели, то уже очень ма
ло надежды, что станет снова гладко. Кому «лучше», кому все еще про
должает быть гладко и кто еще с апорией, непролазностью, которую ни
каким напором не взять, не столкнулся? Гладкому конечно успешному
устремленному «лучше», но это «лучше» само собой садится в кавыч
ки, ему, конечно, «лучше», но... — Ас другой стороны, если ему «лучше»
в кавычках, то Платону разве лучше, в своей апории, без кавычек, вооб-
1. М . Heidegger, Identität una Differenzy Pfullingen: Neske, 1957, S. 21 .
29*
4SI
СЕМИНАР ШЛО
ще можно сказать, что ему «лучше»? Ему не «лучше» вообще ни в каком
смысле, ни в кавычках, ни без кавычек. Он просто не слепой. Не слепому
«лучше» чем слепому? Как сказать, с какой стати ему лучше, мы видим,
как слепые очень даже благополучны, у них лучше все, питание, отдых,
квартиры, связи, деньги, дети здоровее и смелее. А зрячие, как Держа
вин, «жерлом вечности» обдутый, через три или четыре дня после этого
уже обязанный умереть, не повертывается язык сказать, что ему «луч
ше». Что он «введен в конечность», в «смертность» — это да, верно, вве
ден, он зрячий, в этом смысле, но чем ему «лучше», какую «пользу» ему
это приносит? Что ему выгоды, что он в «апории», кроме только той, что
только теперь у него есть шанс встретиться с бытием? И что это, про
сти господи, за шанс, когда добро бы еще пострадай от прозрения сво
ей смертности, от апории, но за то тебе награда, ты увидишь бытие, —
но нет, даже этого нет, а бытие и есть апория. На нем ήπορήκαμεν, вма
зались в апорию, не так, что вот «апория», вот «бытие», а апория и есть
бытие. Так было, так будет, — обещает Аристотель в пророчестве знаме
нитом VI ι, 1028 b 2-4 «Метафизики»: και δη καΐ το πάλαι τε και νυν και άει
ζητούμενον και άει άπορούμενον
—
τι το ον*. Всегда άπορούμενον, не прой
дешь, никакого парома нет, никаким напором не возьмешь.
Когда надежды на выбрасывание какой-то частицы нас на берег веч
ности, на нетленку или на что еще кончатся, когда апория, когда герме
невтический круг понят, что мы сами себе наобещали всегда то, по сле
дам чего идем, — тогда мы «на месте», в апории. В другом месте: перед
лицом ничто не остается ничего, никаких содержаний, только чистое
бытие-вот — не бытие данное, которое вот, а только быть этим «вот»,
присутствием. Не тем, что вот и присутствует это все не наше, и тело не
наше, и сознание неизвестно чье, а чистым вот, вотостью, так сказать,
чистым присутствованием — чего? ах если бы мы точно знали, много
чего, нам до этого почти дела нет, настолько мы не властны над тем, что
происходит в теле и вокруг, но то, что это присутствует — это вот, —
здесь существо человека.
Сознание. Бытие-сознания, когда сознанием называется то, о чем мы
говорим, очень неудачно, потому что и без всякого сознания «вот» и
«присутствие» есть.
Круг, т. е. ситуация, когда оказывается обнаруживается, что все, с чем
мы имеем дело, в чем мы ориентируемся, в том числе «вечность» куда
мы якобы «спасаемся» нами спроецировано, — и значит апория, — вот
куда вводит Хайдеггер, в эту конечность.
452
6 МАЯ 1992
Книга-введение, говорит Жерар Гест. Введение в бытие как апорию.
Как «вот». — Загадочным образом в этой апории, безысходности смер
ти, мы как-то не умираем. Мы знаем где мы: нигде. Мы знаем кто мы: ни
кто. Подольше бы только пробыть в апории, чтобы привыкнуть, стран
но сказать, к ней, чтобы, как «страшно» сказано на с. 508 (з84)> дать стать
смерти в себе (в присутствии) властной, в свободе — в смысле уже не
бегства, а встречи с ней как она есть, как в восьмистишии Державина,
свобода, которая — вся в смерти — от смерти неумираету от апории, я
сказал, не умирает. Разбивается о смерть, пожирается ею — и не умира
ет. Об этом Гегель: заштопанный чулок лучше разорванного, но с созна
нием иначе.
Очень по-гегелевски, с гегелевским принятием того, что есть, место,
509 (385): «Только сущее, которое по-настоящему в своем бытии будущ-
но, так что оно свободно для своей смерти, разбиваясь о нее, способ
но бросить себя обратно в свое фактическое вот, это значит — только
сущее, которое в качестве будущего равноизначально <ни будущее, ни
прошлое ни раньше> есть бывшее-ставшее <gewesend ist; вспомните ге
гелевское Wesen-Gewesen> может... принять собственную брошеность
и быть мгновенно augenblicklich, в мгновении> для „своего времени".
Только собственная временность, которая одновременно конечна, де
лает возможной такую вещь как судьба, т. е. подлинная историчность».
Весь этот абзац, я прочел его целиком, закурсивлен. Разобрать.
Теперь снова я читаю и уже с готовностью хватаюсь за это: «Соб
ственное бытие к смерти, т. е . конечность временности, есть потаенная
почва историчности присутствия» (510, 386).
Конечность временности. Книга называется «Бытие и время». Так
под временем имеется в виду конечность, Endlichkeit? Бытие в гори
зонте смертности, стало быть? И решимость — это то принятие абсо
лютной, безусловной конечности, т. е . временности, т. е. брошености
во время, т. е. невынимаемости из времени — но время, доведенное, в
фактичности, конечности, до крайности в «вот», не могущее из себя вы
йти, оно, говорят критики, особенно богословы, накрепко запирает от
Хайдеггера всякую трансценденцию, — а он хочет эту апорию, она ему
звездный час, он по ней чует приближение истории, бытия, суЪъбы
7
.
Как это так?
Или читали, читали мы эту книгу, а она до сих пор не прочитана, и
судьба ей быть теперь не прочитанной? Давайте спохватимся хотя бы на
последних страницах.
453
СЕМИНАР ШЛО
Жерар Гест цитирует опять из курса о Шеллинге летом 1941: «„Бы
тие и время" как имя для события в самом Бытии». Бытие πέλειν: пово
рот, оборот, вращение *. Обернулось временем? Можем разгадать эту за
гадку?
Geschichte der Welt \ Не по Тойнби. Мир определен формально: то, в
чем «вот», в отношении к чему — присутствие, мы по-русски: при чем
присутствие. Не некое пространство, а то куда выдвинуто фактическое
«вот», как ксенофановская земля. Втянутое в отношение к миру, при
сутствие имеет Geschick, вдвинуто, geschickt, послано, с миссией, можно
сказать, имеем право, от mitto.
537 (406): Das In-der-Welt-sein hat sich schon immer ausgesprochen*, го
ворит языком захвативших и тем самым охваченных вещей внутри ми
ра. Не своим языком, он как-то распался? Что поделаешь, однако! — Тем
самым втянут во время, правило трех t, things take time. Присутствие —
gegenwärtigen, время изначально присутствию известно.
Время и решимость.
Другие.
Говорение. — В какой степени возможно говорение, когда не слы
шим...
Мысль и дело.
III.11
13.5.1992
«Бытие и время», «введение в конечность», так называет эту книгу со
временный парижский философ, хайдеггеровской школы, которая жива
в Париже и, может быть, даже в Германии так не жива (Гадамер: Хайдег-
гер не диалогичен; Гадамер его младший современник, едва ли ученик;
совсем другой склад, не пробивающий скалу, с той же глубиной понима
ния, но настроенный на упорядочение. «Хайдеггер придет, возвратится в
обратном переводе на немецкий». Место хайдеггеровской школы занято
Гадамером, который не его школа). В Германии верные хранители.
«Введение в смертность». Присутствие, т. е. бытие-вот, смерть, вре
мя завязаны узлом, о котором мы с вами здесь на этих семинарах о его
смысле догадались: вовсе не так, что смерть какой-то ключ, тайна, дик
тующая смысл и позитивное содержание чему бы то ни было, а в про
стом, негативном, но и абсолютном смысле: у этого существа, человека,
присутствия, бытия-вот, нет ровно никаких шансов вернуться из лю
дей, das Man, в свое подлинное существование, если оно не дало смер
ти быть, если оно не дало быть тому, что так или иначе будет, не приня
ло то, что сказал Державин, что всё потонет в пропасти. А что же раньше
говорилось о заботе, наличном, подручном, бросании себя на? Смерть
приходит как критик, показывает, в чем цель заботы и проектов: смерть.
Присутствие как отношение к миру кончается. Абсурдные надежды на
то, что наука достигнет бессмертия, или человек выйдет в какое-то чет
вертое изменение, или что бессмертна душа — все эти мифы-лазейки,
все эти божки, к которым человек любит уползать, должны быть, что
бы появилась хотя бы возможность настоящего существования, смете
ны; трезвое отдание себя в полную власть смерти, которая безусловно
и непременно снесет, — такое бытие к смерти, такое отдание себя, сра
зу в решимости и готовности, тому, что и так придет и возьмет, ниче
му не учит, ничего не сообщает, но единственным шансом, условием аб
солютно необходимым, хотя не достаточным, для возвращения к себе,
решимость на смерть остается. Не надо истерической готовности уме
реть каждую минуту, которую в себе взвинчивают люди большой вла
сти или большой воли, в своей слепоте, загороженной от них их видом
решимости, дымом, Rauch. Люди власти из своей смерти что-то дела-
455
СЕМИНАР III.11
ют. То, что они делают, тоже смертно. Достаточно просто решимости на
свою конечность, смертность, державинского знания пожирающего гор
ла вечности. (Согласия на конец присутствия, не моего, а вообще всяко
го. Кстати: убивающие, согласие на них?)
Время тут — то, что не вечность в этом смысле, т. е. не смерть, не ни
что, время тождественно бытию. Введение в бытие — это введение во
время, т. е . опять же в конечность, что кончится всё. Порог.
Почему у экзистенции время всегда, «постоянно» оказывается? По
тому что ее бытие и есть время. Оно с ней. Отпущенное, как говорится,
время — не то что вмещает все, что человеку «на роду написано», но ни
чего другого и нет, кроме времени, конечного, чтобы вместить все отно
шение к бытию. О придуманных других отношениях к времени и бытию
уже говорилось, откуда они возникают: из попыток убежать от смертно
сти, неготовности встретить ее в лицо.
Как создается время? Присутствие озабочено, по причинам, кото
рые ему не ясны, чтобы время было, чтобы за временем следить, что
бы держать его на учете, на учете все более строгом, детальном, мелоч
ном. Забота о времени становится общественной, и время оказывается
всеобщим достоянием. Для его учета, контроля применяются подруч
ные общедоступные средства, скажем электронные часы теперь, когда
по процессам в чем-то судят о времени, измеряют его. Но разве изме
рить длину тени футами, ступнями — принципиально другое, чем слож
нейшие электронные часы? Там тоже следят за процессом.
Начало отсчета — всегда так или иначе «вот», присутствие настоя
щего. Теперь тень такой-то длины. Этим «теперь», моментом настояще
го, могут быть выхвачены, высвечены разные вещи: положение высо
та солнца, движение звезд, протекание воды, перемещение тени. Все мо
жет служить часами — все, что подвертывается присутствию там, куда
оно брошено, в «мире» (в кавычках). Временностью, своей, не замечае
мой, присутствия, брошеного в мир, в сущности все открыто как часы,
изменение живого существа, растения, изменение климата — любое из
менение. И чем меньше присутствие будет обращать внимание на свою
собственную временность, тем больше ему понадобится «часов», в кон
це концов потребуются очень точные часы, и у каждого. Мы вычитыва
ем время из движения стрелки, но где там время, где оно прячется в дви
жении механизма? Наше ожидание его делает, оно снова и снова как бы
заводит пружину часов своим «теперь», теперь, еще не, уже.
Общее, обобществленное время создает «мировое время».
456
13 МАЯ 1992
Движущееся — а часами может стать и становится все
— «онастоя-
щивается» в своем движении «сейчас здесь, сейчас здесь» и т. д. Исчис
ляемое — это моменты «сейчас».
Определение времени, открывающегося в горизонте осмотрительно
го (осматривающегося, высматривающего) берущего время, озабочен
ного применения часов:
Время «есть считаемое, показывающее себя при осовременивающем,
считающем следовании за движущимся указателем, причем так, что
осовременивание временит себя (daß sich das Gegenwärtigen... zeitigt) в
эк-статическом <т. е. выступающем, эк-зистирующем, бросающем себя>
единстве с открытым в качестве горизонта удержанием и ожиданием со
ответственно более раннему и более позднему» (556,421).
Это — не что другое, как экзистенциально-онтологическое истолко
вание аристотелевского определения (Физика IV и, 219 b 1 ел.) τοϋτο γάρ
έστιν ό χρόνος, αριθμός κινήσεως κατά το πρότερον και ύστερον*.
Послушайте, но что же получается, это отношение (вытекание из за
бот) к заботе, к бросанию себя (проекту), отсечено в обычном понима
нии времени, что оно независимо от нас течет? Не только это: отсечено
в нем уже и отношение к тому, наличности, подручности, которая всег
да служила часами, к движению «мира», в которое брошен человек. При
вычное, обыденное понимание времени покрывает собой все это, «ниве
лирует». Это и отношение к бытию, и нет его.
Откуда нивелирование? От «падения», проваливания в вещи — в ко
тором бегство от собственной экзистенции, в погоне за вещами. Соб
ственное существование было бы в забегающей вперед, поступательной
решимости, в решимости поступания (к смерти, во всех смыслах по
ступания, в бахтинском). Забота — это собственно забота о бегстве от
смерти, в отворачивании от конца бытия-в-мире. Это отворачивание,
смотрение в сторону — ничего не дает, оно модус экстатического буду
щего бытия к концу. Неподлинная временность пропавшего (про-пав-
шего) обыденного бытия должна, обязана, глядя в сторону от временно
сти, обознаться в собственном будущем и тем самым в своей временно
сти. У «людей» представление, что есть какое-то время вообще, которое
не кончается. Люди вообще не умирают, умереть они не могут, ни один
из них, поскольку смерть всегда моя, и смерти нет иначе как в решимо
сти поступания. Люди (Man), никогда не умирающие и не понимающие
бытия к концу, умеют объяснить и свое бегство от смерти. Как-то оказы
вается, что все время «еще пока есть время», т. е . время, пока еще можно
457
СЕМИНАР III.И
не принимать решения. Здесь дает о себе знать имение времени в смысле
того, что его еще ничего, можно потерять: а терять не надо, не теряйте
времени, «вот сейчас это, потом то, потом еще то и то», скорее, не теряй
те времени, вместо того чтобы отвлеченно рассуждать. Как будто здесь
ценят время, понимают, что оно кончится, его конечность, — но наобо
рот, забота направлена на то, чтобы от времени, которое все еще прихо
дит откуда-то и «уходит», как можно больше загрести, урвать: как будто
так можно уйти от временности. Публичное время то, откуда все берут
и можно брать, чем больше и лучше возьмешь, тем лучше. Нивелирован
ное время, последовательность «теперь», совершенно не знает о своем
происхождении из временности отдельного присутствия в его повсед
невном «с другими». «Время» как-то идет дальше, когда человека уже
нет — вот почему надо успеть от общего достояния отхватить!
Как при бегстве от смерти она нагоняет и как раз придется ее встре
тить, так простое протекание, безвредное, бесконечное следующее це
пью теперь в удивительной загадочности над присутствием!
Мы ждем, неподлинно экзистируя. Так возникает опыт того что вре
мя уходит. Почему мы не говорим, раз оно уходит, что оно возникает
7
.
Странно.
§ 8з. Вобрано во временность все — весь предыдущий анализ. Но ведь
цель-то книги — бытие. Шли путем аналитики экзистенции. Через эк
зистенцию через временность — экзистенция начало и конец философ
ского вопрошания. Смертность. Но успокоиться на этом. А как с во
просом о бытии? Он цель. Поэтому не «экзистенцфилософия», also nicht
Existenzphilosophie. Только один (маргиналия: не единственный) путь
прояснения онтологического фундаментального вопроса (576, 437 а).
Только пройдя весь путь, можно будет сказать, единственный он или
просто даже вообще правильный. Спор относительно интерпретации
бытия не может быть решен, потому что он еще даже и не разгорелся.
(Не видит других, отклика, ответа). Надо как-то подготовиться. На пути
к такой подготовке это исследование.
Время — горизонт бытия?
Дальше: Was ist das — die Philosophie (пер. Ознобкиной) *.
III.12
20.5.1992
Вопросы нужны> желательны для прояснения, для недопущения темного
говорения. Вопросы всякие обо всем.
Вопрос о смерти, почему ее тема вдруг так выдвинулась во второй ча
сти «Бытия и времени». Неясность вначале. Достаточно ли прояснено?
Смерти должно быть отдано то, что ей принадлежит, «все дела людей»
(Державин), все, на что направлена забота присутствия. Бытие не суще
ствует. В этом смысле оно высветляется, странным светом непохожим
на привычный нам свет (ясность ночи), смертью, которая перечеркива
ет сущее. Человек не умирает от своей смертности, скорее наоборот, он
умирает от своего бессмертия.
Как была скомкана вначале, потом, кажется, прояснена, тема смерти,
так же и конец «Бытия и времени», § 8з> последний. «Экзистенциально-
временная аналитика присутствия и фундаментально-онтологический
вопрос о смысле бытия вообще».
Предыдущие рассмотрения должны были интерпретировать исхо
дное целое фактического присутствия в аспекте возможностей его соб
ственного и несобственного экзистирования, экзистенциально-онтоло -
гически и из его основания. Основанием и бытийным смыслом (направ
лением!) заботы оказалась временность. Анализ, проводившийся до
раскрытия горизонта временности, субсумируется в исходную структу
ру присутствия, временность.
Но: помним, внимание к присутствию, его бытийная конституция
были только путем — путь вел к бытию. Присутствие, бытие-вот было
рассмотрено потому, что это то исключительное сущее, для которого де
ло идет о бытии, оно говорит об этом своим именем, бытие-вот, присут
ствие. Может ли присутствие искать бытие, быть без того, чтобы прояс
нить себе бытие? Для него дело идет о бытии во всем, что оно делает, —
но его дело зависит от прояснения бытия. Круг.
Смертность показала проблематичность бытия, вернее, взорвала, ес
ли у кого-то еще была иллюзия непроблематичности бытия. Философ
ский вопрос, прояснения идеи бытия, уравновесился с фактической эк
зистенцией, философия не может без герменевтики присутствия, пото
му что она включена в экзистенцию, — но с какой стати она будет за
459
СЕМИНАР III.12
анализом экзистенции забывать, о чем идет дело для экзистенции? Мар
гиналия: Also nicht Existenzphilosophie* (576, 436 а). Фундаментальная
онтология.
Контрольный вопрос: зачем же тогда анализ экзистенции, «людей»,
их «заботы»?
Вопрос на вопрос: а как могло случиться, что бытие отвлечено от
обыденного, от экзистенции, как оно вынесено в «предмет», в «абстрак
цию», как его опредмечение произошло? Почему так случилось в исто
рии мысли, что к бытию «подходят», когда похоже им захвачены с го
ловой и для чего подходят, и сам подход уже неприметно обусловлены
отношением к бытию? Почему так происходит, что постоянно делают
ся попытки возврата к конкретности (Гегель, к Я Фихте, к сознанию Гус
серль, к воле Ницше), и все равно опредмечивание берет верх? Может
быть, потому что подходов как-то не хватает, тогда что же это за вещь,
бытие, к которой подойти трудно?
Если только это вывод всей книги — то, может быть, этого мало? На
до было больше? Но больше не получилось. Погоня за результатом вы
шла бы в «делание» — а бытие такая вещь, чтобы что-то с ней сделать?
Первый курс Хайдеггера, не дошедший, был о Пармениде, бытие по Пар-
мениду άσυλον, его невозможно арестовать (συλον арест, захват). Книга
сделала так много, потому что не замахивалась сразу на многое. Вопрос
пока в том, чтобы найти einen Weg
f
к прояснению фундаментального
онтологического вопроса. Маргиналия: nicht «den» einzigen* (576, 437 а)·
Дайте пройти этот путь; потом прояснится, единственный он или во
обще правильный. Дайте подготовить не подход, а подступы к подходу.
«Спор относительно интерпретации бытия не может быть решен, пото
му что он пока еще не разгорелся» ($77> 437)· И хуже: нельзя даже взяться
и вызвать этот спор, «давайте сядем за круглый стол поспорим», нельзя
его и спровоцировать — нужно как-то вооружиться. Как?
Как вообще для человека, присутствия возможно раскрывающее по
нимание бытия? Экзистирование коренится во времени. Принятие вре
менности — если без этого нет выхода в бытие, то как ведет путь от вре
мени, понятого исходно, к смыслу бытия
7
. — Неверно думать, что этот
вопрос в конце «Бытия и времени» риторический. Хайдеггер не знает
на него ответа. Он знает, прояснил себе и нам определенно одно: ина
че, как в «горизонте» времени, временности, смертности к бытию выхо
да нет.
4бо
20 МАЯ 1992
Теперь сегодняшние вопросы. И что не я один был шокирован и едва
справился с шоком смертности, показывает Татьяна Горичева
1
. На вто
рой же странице Хайдеггер. «Даже наиболее глубокие и духовные мыс
лители в современном западном мире <3апад вообще плох, «это и не
способный к страданию нарциссизм, и убегающая от главного эфемер
ность, и диктатура интимности, и антииконный, тусклый свет телеви
дения», с. 150, на 1-й же странице объявлено> не могли подняться над
плоско-горизонтальным уровнем чувства и рефлексии. Пробить окно
в мир трансцендентального, казалось бы, был способен экзистенциа
лизм. Кажутся перспективными его пограничные ситуации, где чело
век рискует потерять или приобрести все <почему только рискуетх
Но присмотримся внимательнее: главная пограничная ситуация у эк
зистенциалистов — смерть. В этом все они солидарны. И психоанали
тики, и философы-этики (Левинас, Янкелевич), и классики экзистенци
ализма (Ясперс, Хайдеггер, Камю, Сартр) — прибегают к смерти как к
единственной „щели" в наглухо замурованной стене западной цивили
зации, как к „лучу света в темном царстве". Смерть — „последняя, наи
более подлинная возможность бытия" — так считает Хайдеггер. Это
всегда „моя смерть" — так думают те, кто озабочен не перепутать „свое"
и „чужое"».
Выход, щель ли смерть у Хайдеггера?
Смерть всегда «моя» — какой смысл? Что чужая смерть не касается
меня или наоборот, что смерть вообще, и чужая тоже, это моя?
«Православному глазу и слуху <! уже глаз и слух православные — та
кие родились? а если родились католическими или мусульманскими?>
эта завороженность смертью почти инстинктивно кажется подозри
тельной.
Смерть не может быть решающим критерием хотя бы потому, что ее
нет. Нет той окончательной физической смерти, о которой нам говорят
философы. Такая смерть — лишь „надрез" на ткани бытия. Вечность на
чинается при этой жизни, некоторые из нас уже сегодня живут в раю,
а некоторое — наоборот (в аду)», поясняет в скобках. Горичевой не по
нравилась смерть, а так все хорошо.
Исключает ли Хайдеггер выход в рай? Не об этом ли последний во
прос книги? Но есть ли шанс такого выхода, если смерти нет?
ι. Т. Горичева, А. Кузнецова, «Письма о любви», религиозно-философский журнал Бе-
ceddy Ленинград-Париж, ю, 199Ь с. 150-224.
4б1
СЕМИНАР III.12
[...] Как говорить, что делать. [.. .] Может быть не говорить. Мы пере
ходим через порог, как порог смерти. Как спастись — заботиться о воз
никновении и уменьшать уничтожение? Или спасение всегда одно — в
том, что спасено, что есть? Все, что мы сделаем, будет запечатано этим
«есть» — но наше дело просто оставить след, или — наше дело само это
есть
7
. Нас удовлетворит что-нибудь другое, чем бытие? Устроит? Когда
мы так говорим, не продолжается ли спор? Было ли когда-нибудь еще на
шим бытие? Не предстоит ли это еще только?
ПРИЛОЖЕНИЕ
ДВА СТИХОТВОРЕНИЯ РАННЕГО ХАЙДЕГГЕРА
Первой публикацией Хайдеггера была, по-видимому, заметка об откры
тии памятника его земляку, проповеднику XVII-XVIII вв. Абрахаму из
Санкта Клары, который родился в Кренхайнштеттене, деревне рядом с
Мескирхом. 15 августа 1909 года Хайдеггер присутствовал на церемонии,
27 августа того же года в мюнхенском политико-культурном еженедель
нике «Альгемайне рундшау» вышла его заметка, выдержанная в жанре
репортажа. О ее стиле легко судить.
Природный, здоровый в своей свежести, иногда грубовато-корен
ной акцент придает этому событию его специфический отпеча
ток. Непритязательная деревня Кренхайнштеттен с ее крепки
ми, себе на уме, своеобычно-оригинальными обитателями лежит
сонная в низкой котловине [...] Создателю памятника, скульпто
ру Мармону (Сигмаринену) на удивление удалась стоявшая перед
ним задача. Гениальная голова (обманчиво напоминающая пожи
лого Гете) позволяет угадать за высоким, пластическим лбом тот
глубокий, неисчерпаемый дух, который сделали действенным не
сгибаемая, закаленная энергия, непрестанно пульсирующий дея
тельный порыв.
Целое наводнение сильных эпитетов, хотя и не штампов. Стиль слов
но кипит изнутри тем же «непрестанно пульсирующим деятельным по
рывом» — разумеется обреченным, потому что так, в пышности слов
«энергия духа» скорее бесславно расточится, чем сбережет себя и до
стигнет действенности. Всё это лексическое наводнение у Хайдегге
ра схлынет, причем очень скоро. Многих слов — природный, здоровый,
энергия, гениальность, высота, глубина, пластика, неисчерпаемость, за
каленность — у него просто никогда уже не будет в словаре. Он полнос
тью вытравил пышную позднеромантическую лексику, в которой двад
цатилетний не хотел никому уступать.
И еще: одержимость здоровьем. В начале уже было: «здоровый в сво
ей свежести акцент». Этого показалось мало, после процитированной
фразы об удаче памятника опять:
30-2015
465
ПРИЛОЖЕНИЕ
Здравие народа, душевное и телесное, вот к чему стремился апо
столический проповедник.
Порыву не хватает слов, и кажется, что надо повторить то «здоровье».
Здесь уже чувствуется страсть автора, его тоска.
Если бы наше время поверхностной культуры и жизненной спеш
ки хоть немножко больше, оглядываясь назад, смотрело вперед
(rückwärtsblickend vorwärtsschaute). Ниспровергающая основы го
рячка обновления, сумасшедшая скачка куда-то прочь поверх глу
бокого душевного содержания жизни и искусства, современное
жизненное чувство, направленное на неизменно сменяющиеся ми
нутные приманки для глаза, нередко удушающе действующий дур
ман, в котором движется нынешнее искусство всякого рода, — вот
моменты, указывающие на декаданс, на печальное отпадение от
здоровья и потусторонней (запредельной) ценности жизни.
И опять мало. В четвертый и пятый раз:
Пусть его писания [...] его дух [...] станут сильно действующим
ферментом для поддержания здоровья и, где нужда о том кричит,
для нового исцеления народной души.
Почти все в этом репортаже — стиль почвенничества, нажим на здо
ровье против декадентства — производит скорее противоположный
замыслу эффект. Не забудем, что автору было ю лет и что требова
лось писать в журналистском жанре, чтобы газета приняла. Что подле
жит преодолению, будет вскоре преодолено. Останется жар, плотность.
Останутся и окрепнут приемы сильного ума, рано догадывающегося,
что нельзя видеть далеко впереди без оглядки назад.
В том же мюнхенском еженедельнике в 1910 и 1911 гг. печатались стихи
Хайдеггера. Их тема — о природе, о себе. О природе:
Wir wollen warten
Vorm Tor zum Frühlingsgarten
wollen wir horchend warten,
bis die Lerchen steigen,
bis Lieder und Geigen,
das Murmeln der Quellen,
die silberhellen
466
ДВА СТИХОТВОРЕНИЯ РАННЕГО ХАЙДЕГГЕРА
Glocken der Herden
zum Weltchoral der Freude werden.
1
Это раннее стихотворение, по тону хрестоматийное, похожее отча
сти на литургическую формулу, можно считать комментарием ко всему
позднейшему Хайдеггеру. Известно его отношение к событию, в кото
ром сбывается мир и человек, заново завязывается история, сбывается
бытие. Устроить событие невозможно, такое не в человеческой власти.
Но это не значит, что тогда нам все равно как себя вести, раз мы не мо
жем создать событие, и пусть, раз оно настолько не подчиняется нам,
оно приходит как хочет и делает с нами что хочет. Нет, не все равно; мы
стоим перед ним и готовимся. Sich vorbereiten, готовиться, вот долж
ное человеческое отношение к событию. Через warten, ожидание в этом
раннем стихотворении, поясняется будущее sich vorbereiten. Ожидание
здесь имеет не тот смысл, что мы нетерпеливо поглядываем на часы и
томимся. Имеется в виду торжественное ожидание, в котором мы ста
новимся другими, сами опережающим образом втягиваемся в еще не
наступившее событие, подтягиваемся до него без надежды его устро
ить. Мы не велим весне прийти, не ускоряем ее приход, но все равно на
ше затаенное ожидание участвует в весне, так что без нас теперь вес
на не полна. Какого события торжественно ждет Хайдеггер? И тут тоже
стихотворение — иллюстрация, картинка к будущему событию собы
тий. Der Weltchoral, согласное звучание, со-гласие мира. В емком рус
ском слове мир оба эти значения присутствуют. Двадцатилетний Хай
деггер ждет, когда мир станет миром, когда целый мир, спокойное со
гласие, сбудется. Как в этом раннем стихотворении, так и до конца: все
присутствие Хайдеггера в мире — это торжественное предпразднич
ное ожидание события, которое всегда сначала событие мира. Все, что
мы слышим о неприятии Хайдеггером современности, о его футур-пас -
сеизме, реакционном романтизме, зен-буддизме, отменяется этим его
вдумчивым ожиданием. Стоит вспомнить замечание одного психолога:
о Хайдеггере, пожалуй, сказано больше несправедливого чем о ком бы
то ни было. Поверим французскому философу, много лет общавшему
ся с ним: ему не удавалось встречать другого настолько же дружествен
ного человека.
ι. Мы будем ждать. Перед воротами в весенний сад будем, прислушиваясь, ждать,
когда поднимутся жаворонки, когда песни и скрипки, журчание ручьев, серебряно-
звонкие колокольчики стад станут всемирным хоралом радости.
30*
467
ПРИЛОЖЕНИЕ
Другое стихотворение, напечатанное в том же мюнхенском ежене
дельнике, было о себе.
Ölbergstunden
ölbergstunden meines Lebens:
im düstern Schein
mutlosen Zagens
habt ihr mich oft geschaut.
Weinend rief ich: nie vergebens.
Mein junges Sein
hat müd des Klägens
dem Engel „Gnade" nur vertraut.
1
Опыт тоски. Вспомним снова более позднего Хайдеггера. Ничто — не
абстракция, не формально-логическое отрицание. Человек имеет опыт
ничто, жуткий не в смысле «ах какая жуть» на фоне остального, все-та
ки вполне еще сносного, а такой, когда все нас покидает. Опыт ничто —
это когда берет тоска и ужас. Тут не нигилизм, а одно из состояний, на
строений, в которых человек встречается с самим собой и с целым
миром, потому что в тоске, ужасе целый мир неким образом поверты
вается к нам прощальным лицом. Тоска — одно из даримых настроений,
когда кончается раскол мира и полнота возвращается, но как провали
вающаяся, оставляющая нас. Нигилизмом будет только испуг от этого
ужаса, когда мы будем принимать против него меры, первые попавши
еся, — панические меры, какие кустарно человек применяет против не
известного. Менее кустарные меры — широко поставленное в человече
стве заговаривание ужаса, религиозное, мировоззренческое, психологи
ческое заговаривание его.
О часах последней оставленности Спасителя в Гефсиманском саду
читаем:
Потом приходит с ними Иисус на место, называемое Гефсимания,
и говорит ученикам: посидите тут, пока Я пойду, помолюсь там.
И взяв с Собою Петра и обоих сыновей Зеведеевых, начал скорбеть
ι. Часы на Масличной горе. Часы моей жизни, часы на Масличной горе: в тусклом
мерцании малодушного колебания вы часто смотрели на меня. В слезах кричал я: толь
ко не напрасно. Мое юное бытие, усталое от рыданий, лишь доверялось ангелу «Благо
дать».
468
ДВА СТИХОТВОРЕНИЯ РАННЕГО ХАЙДЕГГЕРА
и тосковать. Тогда говорит им Иисус: душа моя скорбит смертель
но; побудьте здесь и не спите со мною. И отошед немного, пал на
лице Свое, молился и говорил: Отче Мой! Если возможно, да мину
ет Меня чаша сия: впрочем не как Я хочу, но как Ты. И приходит к
ученикам, и находит их спящими, и говорит Петру: так не могли вы
один час не спать со Мною? (Мф. 26,36-40)
Можно представить все возвышенно и даже красиво: духовная
скорбь, беседа с Богом Отцом. Из Евангелия, однако, вычитывается и
другое: богочеловеку так плохо, такая тоска его берет, что он просит: по
будьте со мной, не спите. Потом даже пробует просить Отца: пусть эта
судьба пройдет мимо меня, я почти уже не могу. Хайдеггер видит совсем
не возвышенную, не театральную сторону покинутости. В сумеречном
состоянии опущенности, малодушного колебания, унылой нерешитель
ности он не хочет вырваться к нормальному течению жизни, не прини
мает мер, простодушно входит в предсмертное состояние, переносит
его — пока оно не выносит его из бездны. Он готов столько терпеть из
матывающую душу оставленность, сколько надо будет. Разрешено пла
кать, молить. О чем? О том, чтобы пустота оставленности не преврати
лась в пустую пустоту, чтобы она не была напрасной, стала в каком-то
смысле полнотой.
Усталый от жалоб и плача, человек принимает оставленность как че
ловеческое состояние. Он и не соглашается опущенно с ним. Принимая
пустоту, не хочет ее. Останавливает ее на себе: на нем, благодаря его тер
пению, пустота прекращается, начинается полнота ожидания. Ожида
ния того, что человек сам устроить не может. Ангел придет или не при
дет, не мы распоряжаемся им. Благодать в этом стихотворении настает
как событие в первом стихотворении о весне.
РАННИЙ ХАЙДЕГГЕР О ДУНСЕ СКОТЕ
Первым не реферативным, не рецензионным, не обзорным сочинени
ем Хайдеггера было «Учение Дунса Скота о категориях и значении»
1
.
Оно посвящено Генриху Риккерту «с благодарнейшим почитанием».
В кратком «Предисловии» к работе, законченной весной 1915» в летний
семестр того же года представленной философскому факультету уни
верситета Фрейбург в Брейсгау для получения звания доцента, напеча
танной по обстоятельствам военного времени лишь в 1916 (Тюбинген),
«философия ценности» в ее мировоззренческом характере названа при
годной для решающего движения мысли вперед. «Введение» обосновы
вает, как говорят у нас, актуальность темы; оно озаглавлено: «Необходи
мость проблемно-исторического рассмотрения схоластики». Мотто из
Гегеля гласит: «[...] в аспекте глубинной сути философии не существует
ни предшественников, ни последователей»
2
. Текст начинается словами:
Историческое исследование целостной культуры Средневековья
стоит сегодня на такой высоте достижений проникновенного по
нимания и объективной оценки, что не приходится удивляться, ес
ли прежние, покоившиеся только на незнании, скороспелые суж
дения исчезают, и вместе с тем неуклонно возрастает научно-исто
рический интерес к той эпохе.
Если мы задумаемся о том, какой движущей силой и стойкой
властью философско-богословская духовная жизнь, основополага
ющая структура которой заключается как раз в трансцендентном
первоотношении души к Богу, обладала во всей жизнедеятельно
сти средневекового человека, то будет нетрудно признать необхо
димость и фундаментальную значимость исторического исследо
вания этой стороны средневековой культуры.
3
Сказано плотно, взвешенно, справедливо. Перед нами начинающий
Хайдеггер. Уже тогда, в свои гб лет, он мало кому уступит из среды уни-
1. М. Heidegger, Gesamtausgabe, Bd. 1, S. 189-411 .
2. Ibid., S. 193.
3. Ibid.
471
ПРИЛОЖЕНИЕ
верситетской философии, он может успешно врасти в философский
establishment, уже принят в него. Он однако не пошел по пути профес
сионализации. Работа о Дунсе Скоте вышла в 1916 году, и ровно ю лет
после этого ничего сколько-нибудь значительного Хайдеггер публико
вать не будет, он только читает лекции и пишет вплоть до 1926 года, от
меченного «Бытием и временем».
Там, спустя десятилетие, уже непредставим Хайдеггер, который го
ворил бы об историческом исследовании культуры, о возрастании на
учно-исторического интереса к схоластике, о трансцендентном пер-
воотношении души к Богу на том профессорском языке, на котором
ученый философ говорит с такой же легкостью, с какой поет птица.
Нам важно знать, что здесь, так сказать, среди профессиональных фи
лософов, Хайдеггер побывал, говорил уверенно и общепринято, но
из этой среды ушел, расставшись с ней за десять лет публичного мол
чания.
Правда, и здесь, когда, в нескольких фразах отдав должное универси
тетскому историко-философскому предприятию, Хайдеггер переходит к
делу, мы видим, как через терминологию и методологию, которые скоро
станут ему тесны, пробиваются его темы. Впечатление такое, как если бы
некий доброжелатель пожелал перевести позднего темного, не всем по
нятного Хайдеггера на принятый академический язык. Мы можем рас
сматривать 240 страниц «Учения Дунса Скота о категориях и значении»
как такой перевод.
Что надо сразу отбросить из старых предрассудков, сразу заявля
ет Хайдеггер: якобы формализм схоластики; ее якобы рабство у Аристо
теля; ее якобы прислужничество богословию. История философии — не
только история. Она меньше история, чем, скажем, история математики.
История математики оказывается историей математики; теперь матема
тика другая чем век назад. История философии — всегда история фило
софии; одна и та же философия была и есть. История философии не сме
на и не уточнение «воззрений»; философия всегда претендует на жиз
ненную ценность, а жизнь в античности, например, не меньше жизнь
чем сейчас. Философия дышит глубиной и жизненной полнотой живой
личности, которая хочет иметь значение, значить. За философией стоит
«личная позиция»,
[...] эту определенность всякой философии субъектом Ницше в
своем неумолимо терпком образе мысли и со своей способностью
472
РАННИЙ ХАЙДЕГГЕР О ДУНСЕ СКОТЕ
пластического выражения свел к известной формуле: «философ
ствующий инстинкт».
1
Хронологию можно таким образом исключить. Человеческая приро
да постоянна. В философии она имеет дело с неизменными вопросами.
История философии не доклад о том, что было, а умение включить бы
лое в «чисто философскую систематику»
2
.
Современную философию отличает глубина (бесстрашие, откры
тость) и острота постановки любых вопросов. Где открытость пробле
мам и дерзание спрашивать в Средние века? Не видать. Вместо сегод
няшнего дерзания там
[...] абсолютная самоотдача и страстное погружение в традицион
ный познавательный материал. Эта радостная отдача себя такому
материалу как бы завораживает субъекта в одной направленности,
отнимает у него внутреннюю возможность и вообще желание сво
бодной подвижности. Предметно-объективная ценность домини
рует над лично-субъективной.
3
Средневековье. Страстное и радостное отдание себя неличному. В са
моотмене субъекта у «позднего Хайдеггера», в отдании его неличному,
бытию, событию видели восточное влияние. То было скорее возвраще
ние к средневековой отданности внеличному делу, объективность, как
приходится поневоле неуклюже переводить, отданность вещи, делу (Sa
che), как еще говорит Хайдеггер, передавая свое впечатление средневе
ковой школы. «Индивидуальность отдельного мыслителя как бы тонет
в полноте материала, подлежащего его овладению, — феномен, кото
рый без насилия вписывается в картину Средневековья с его акцентом
на всеобщем и принципиальном»
4
. В отношении Хайдеггера лучше го
ворить, возможно, не о Востоке, а о возвращении тысячелетнего запад
ного прошлого, чего ждал в «Новом Средневековье» Бердяев.
В Средневековье отсутствует то, что составляет как раз существен
ную черту духа модерна (modernen Geistes): освобождение субъек
та от привязанности к окружению, опора на собственную жизнь.
Средневековый человек не принадлежит в новоевропейском смыс-
1. М. Heidegger, Gesamtausgabe [GA]t Bd. i, S. 196.
2. Ibid.. S . 196-197.
3. Ibid ., S. 198.
4. Ibid.
473
ПРИЛОЖЕНИЕ
ле самому себе — он всегда видит себя в поле метафизического на
пряжения; трансценденция удерживает его от вступления в чисто
человеческое отношение к совокупной действительности. Действи
тельность как действительность, как реальный окружающий мир
для него — связанный феномен, связанный постольку, посколь
ку он сразу же и постоянно предстает зависимыму привязанным к
трансцендентным началам [...] Привязанность означает здесь не
несвободу, рабскую скованность, но одностороннюю ориентиро
ванность жизни духа.
1
Предполагают восточное влияние на хайдеггеровскую «послушность-
принадлежность» (Gehörigkeit) бытию, при том что очевидно не гипоте
тическое, явное, раннее и сильное средневековое воздействие в том же
направлении. Всего труднее, правда, увидеть ближайшее.
В Средние века, конечно, было мало методологии в смысле постоян
ной саморефлексии познания, выверяющего и оттачивающего свои под
ходы к предмету. Но обязательно ли это беда? разве навязчивое обду
мывание и обсуждение пути, по которому надлежит двигаться, вместо
бодрого шага вперед, не слабость, не признак бесплодия? Постоянно за
тачивать нож скучно и утомительно, если нечего резать, цитирует Хай-
деггер Германа Лотце.
Для исследования выбрано учение о категориях. При таком подходе
легче поддерживать живую связь с современной работой мысли. Всего
интенсивнее современная Хайдеггеру логика была занята именно теори
ей категорий. По Виндельбанду, система категорий — ось всей логиче
ской науки со времен Канта. Для Эдуарда Гартмана история философии
вообще определяется развитием учения о категориях. До сих пор схо
ластическая логика казалась силлогистикой и слепком аристотелевской
логики. Если однако посмотреть на нее в свете современной логической
проблематики, пейзаж окажется другим.
Всего проще одернуть здесь Хайдеггера методологическим замечани
ем. Некорректно переносить современную проблематику категорий на
средневековую. Профессиональный историк занят имманентной интер
претацией старых текстов, из них извлекая то, что было злобой дня. Но
историк платит за такой объективизм превращением жизненного инте
реса в деловой. Старые тексты для нас невозвратимо поблекли. Мы уже
ι. GA, Bd. ι, S. 199·
474
РАННИЙ ХАЙДЕГГЕР О ДУНСЕ СКОТЕ
никогда не сможем приобщиться к волнению былой эпохи. Начать ды
шать учащенно оттого, что кто-то 21 июня 1302 года в Париже сказал с
профессорской кафедры ересь и надо дать ему отповедь, мы уже никог
да не сможем. Между тем, если Платон нас уже по-настоящему не заде
вает, то Ницше, в котором мы не узнаем Платона, возможно, именно по
этому кажется новым. Аристотель нам по-настоящему уже мало что го
ворит, и нужен его современный продолжатель, чтобы, не распознав в
нем продолжение тысячелетней мысли, мы через преодоление метафи
зики вернулись к ней.
Часто историко-философская корректность, запрещающая вчиты-
вать в старые тексты современные проблемы, служит способом в оче
редной раз пройти мимо и тех текстов, отодвинув их в музейную даль,
и этих проблем. Философия возникла в захваченности первыми вещами
и ради той захваченности. Хотя мы уже не ощущаем тепла старого ко
стра, согретые новым, жар тогда был таким же, как теперь. Взрывать по
хоронные навыки философской историографии, читать древних и сред
невековых в новом свете Хайдеггер будет всегда. Он рано увидел в том
свой долг. Нужно хранить огонь среди тысяч хранителей старины, кото
рые описывают философские системы прошлого, остерегаясь переноса
туда современного напряжения, к которому они кстати и непричастны.
Надо ли считать достоинством двойную стерильность умов, которые не
отдали себя жестокому спору, который всегда идет, и не наделили своих
подопечных изучаемых этим горением. Человек другой эпохи жил, как и
мы, отчаянием и надеждой, даже когда доказывал свою правоту силло
гизмом и двигался в общепринятой системе мысли.
Иоанн Дуне Скот, т. е . по -видимому шотландец, родился ок. 1266 г.
В возрасте предположительно 15 лет вступил в орден францисканцев,
учился в университетах Англии и Шотландии, 19.3 -1291 рукоположен
во священники в Нортгемптоне, с 1293 г. учится в Париже и в 1302 до
пущен там же толковать «Сентенции» Петра Ломбардского, хотя меж
ду 1297 и 1301, по некоторым сведениям, учит в Кембридже и Оксфор
де, а между 1303 и 1305 из-за конфликта между Филиппом Красивым и
Бонифацием VIII изгнан из Парижа. С конца 1307 Дуне Скот преподает
и 8.11.1308 умирает в Кёльне. 20.3 .1993 он причислен к лику блаженных1
.
Дунса Скота называли doctor subtilis, тонким, или, может быть, ясным,
прямым, простым доктором (не его ли имя стало нарицательным в англ.
ι. См. Блаженный Иоанн Дуне Скот, Трактат о первоначалеуМосква, 20oi,e.V .
475
ПРИЛОЖЕНИЕ
dunce тупой, упрямый
х
). Вильгельм Дильтей уделяет ему много места в
своих средневековых штудиях, замечая, что антиномия интеллекта и во
ли разработана Дунсом Скотом так глубоко и всесторонне, что, перео
смысленная в терминах психологии и теории познания, она звучит со
временно
2
. Собрание его сочинений, изданное Лукой Уоддингом в 12 то
мах in folio, занимает 26 томов современного типографского формата
3
.
Аутентичность некоторых вошедших в эти издания работ теперь по
ставлена под сомнение, в том числе трактат «О способах обозначения»
4
,
на тексты которого во многом (но не исключительно) опирается Хайдег-
гер, теперь приписывается философу из школы Дунса Скота Томасу Эр-
фуртскому.
Хайдеггера привлекают «явные современные черты» в Дунсе Ско
те, который больше предшествовавших ему схоластиков приблизился
к «реальной жизни» в понятии вот-этости, haecceitas
5
. Определения
и описания, исчерпав свои возможности, до сейчас и здесь не доходят;
haecceitas призвана указать на предельно конкретное. В будущем хай-
деггеровском da, вот, и в Dasein, присутствии, которое дано всегда как
это мое сейчасное и теперешнее, есть след haecceitas. Хайдеггер понима
ет haecceitas Дунса Скота как внимание к полноте жизни; впрочем, аб
страктный мир математики так же близок средневековому схоласту, ко
торый чувствует себя как дома и среди «образов жизни», насколько то
было возможно в Средние века, и в «сером на сером фоне» философии.
Незадолго до написания этих строк сам Хайдеггер перешел от слушания
математики и естественных наук во Фрейбургском университете к фи
лософии.
После фраз о разносторонности средневекового схоласта мы читаем
неожиданный абзац из полутора строк:
ι. Блаженный Иоанн Дуне Скот, Избранное, Москва, 2θοι, с. 13, 16 и др.
2. Вильгельм Дильтей, Введение в науки о духе. Опыт полагания основ для изучения
общества и истории, Москва, 2θοο, с. 620.
3. Ioannis Duns Scoti opera omnia, ed. L. Wadding, Lyon, 1639,12 vols.; Ioannis Duns Scoti
opera omnia, editio nova iuxta editionem Waddingi Vives ed., Paris, 1891-1895,26 vols.
4. Beati Joannis Duns Scoti doctori subtilis O. F. M . grammaticae speculativae nova editio
cura et studio P. Fr. Mariani Fernandez Garcia, Quaracclhi, 1902.
5. Этость «та форма, в которой составное целое есть вот это сущее». «Этость не мо
жет пониматься как универсалия; она и не включающая [индивиды] природа вида, ибо
сама по себе этость (haecceitas) есть вот это вот (haec)» (Иоанн Дуне Скот, Избранное...,
с. 436).
476
РАННИЙ ХАЙДЕГГЕР О ДУНСЕ СКОТЕ
Таким образом, у Дунса Скота имелись все предпосылки для раз
работки проблемы категорий.
1
Логическая проблема категорий требует одинаково причастности к ре
альной жизни и к абстрактному миру математики? Категории стало
быть не схемы классификации и систематизации. Они имеют какое-то
отношение к тому, что названо тут полнотой жизни.
Что такое категории? У Аристотеля их десять, они у него перечис
лены и определены
2
. Молодой Хайдеггер хочет поставить вопрос ши
ре. У Аристотеля категории относятся к определенному классу определен
ной области. Конечно, есть и такие категории, но не только. Категории у
Аристотеля именуют, «обличают» (в исходном значении слова κατηγορία
прокурорская жалоба, обличение, осуждение) разные способы существо
вания. Почему способов существования, областей действительности
должно быть именно столько? почему вообще действительность мож
но категоризировать, каталогизировать, обличать ее как такую? Строго
говоря, мы еще не знаем, что в действительности самой по себе, не нами
привнесенные, есть области, причем разные. Придумывать или априор
но дедуцировать их нехорошо, с чего бы нам таким делом заниматься.
Мы стало быть должны как-то встретиться с действительностью и от
нее самой узнать, что она не однородна и что в ней есть области. Это во
прос факта. Факт можно только показать, его нельзя дедуцировать и до
казать именно потому, что он или уже есть или его нет; доказательство
ему только повредит, факт надо видеть, «непосредственно восприни
мать»
3
, он должен «попасть в поле зрения». Только таким прямым обра
зом действительность может быть дана, чтобы в ней нельзя было сомне
ваться, гадать о ней, вычислять ее. Иначе будет уже не действительность,
а конструкт. Действительность не должна иметь ничего между собой и
восприятием, быть simplex apprehensio. Так должно быть, чтобы вообще
имело смысл говорить о действительности, иначе мы останемся только
с нашими соображениями и постройками на руках. Надо чтобы снача
ла что-то было просто видно. А там уж мы посмотрим, вглядываясь, что
именно видно.
ι. GA, Bd. ι, S. 203.
2. Аристотель, Категории 4, ι b 25; Топика I 9> юз b 20 и др.
3. GA, Bd. i,S. 213 .
477
ПРИЛОЖЕНИЕ
И вот, еще не вглядевшись в действительность, тем более не разобрав,
какие у нее есть области — всё пока проблема, всё под вопросом, —
мы непосредственно сталкиваемся с первым и несомненным, а имен
но с фактом, что вообще есть нечто такое, с чем мы сталкиваемся. Это
ob-iectum, предброшенное, пред-мет. Он нам непосредственно предно
сится, и каким бы он потом ни оказался, он всегда и обязательно будет
бытЬу будет существовать, будет сущим. Primum obiectum est ens ut com
mune omnibus, первичный предмет есть сущее (бытие) как общее всем
(вещам).
Это у Дунса Скота, говорит Хайдеггер, почти по-современному зву
чащее замечание. Мы на себе знаем, что когда имеем перед собой пред
мет, то вовсе не обязательно отдаем себе отчет, субстанция он или акци
денция, вещь или случайное состояние. Предметное просто, как тако
вое, никакого категориального определения не имеет. Оно пока есть и
не больше того. Само ли по себе оно есть или через другое существую
щее, кажущимся или несомненным образом есть — это уже второй во
прос. Сначала перед нами предмет, с которым мы сталкиваемся или, что
то же, который для нас существует. Сначала воспринимаем нечто, по
том начнутся всевозможные уточнения. Aliquid indifferens concipimus.
Воспринимаем что-то предшествующее любым категориальным разли
чениям.
Потом, когда начнутся уточнения, первое сущее тоже никуда не де
нется. Оно так и останется сущим, какие бы определения на него ни на
громождались. Поэтому ens, сущее, принадлежит к maxime scibile, преж
де всего и в самой большой мере познаваемому. В самом деле, подроб
нее о нечто мы можем и вообще ничего не узнать, если оно мелькнуло
и пропало, и в последнем счете узнаем не все, не вполне, никогда не ис
черпывающе и не до конца, а вот это первое — что с чем-то столкнулись
и что есть предмет — знаем сразу, вполне и до конца. От познаваемого
как от печки только и можно двигаться во всяком дальнейшем позна
нии предмета. И еще: за сущее не спросишь, почему оно сущее, на каком
основании, для чего. В этом смысле оно тоже предельное познаваемое.
Его ничем другим не высветлишь и не объяснишь. Как перешагивающее
за рамки всех определений сущее неуловимо.
В этом контексте касательно «максимально познаваемого» можно
одинаково говорить о сущем и о существовании. На хорошем философ
ском языке розановского трактата «О понимании» существование есть
настолько же первое определение всего и тождественно с тем, что мы
478
РАННИЙ ХАЙДЕГГЕР О ДУНСЕ СКОТЕ
сейчас в фарватере хайдеггеровской традиции называем бытием. По
добно тому как haecceitas участвует в хайдеггеровском Dasein, ens Дунса
Скота помогло сложиться хайдеггеровскому Sein (Seyn). Сущее (суще
ствование) даже не высший род, разве что о высшем роде мы знали бы
только то, что он сущее; но тогда и о роде вообще мы не должны были
бы ничего знать. Ускользая от категоризации, сущее есть transcendens:
то последнее и крайнее, за которое не заглянешь, но которое само про
глядывает во всем. Высшие роды unum, verum, bonum суть уже состоя
ния, преломления, обращения сущего. (В том же смысле у Николая Ку-
занского passiones trianguli — всевозможные формы, которые он может
принимать, оставаясь тем не менее треугольником \)
Ens, бытие, взаимообратимо с unum, сущим. Хотя ens означает «не
что [существующее] вообще» и больше о нем ничего нельзя сказать,
дело на том не останавливается. Присмотримся: в сущем, в нечто не
сомненно дано это вот одно, & не другое. Не надо, незаконным обра
зом подсовывая под неопределенное сущее, каким оно у Дунса Ско
та и остается, определенность, это его отношение к другому понимать
как если бы сущее своим присутствием задавало счет: поскольку име
ется одно сущее, там дальше есть другое, затем третье. Такое было бы
недолжной подтасовкой. Нет, сущее остается неопределенным. Всякую
попытку примериться к нему с нашим это, одно оно сразу опроки
дывает своим нет, не то, другое. Сущее заряжено (так у Николая Ку-
занского живой треугольник будет заряжен своими состояниями) вви
ду своей живой неопределенности характеристикой вот, одно и не
медленно напрашивающимся возражением нет, другое. Сущее (бытие)
беременно от-ношением одного к другому, инаковением, как перево
дит Андрей Лебедев, heterothesis, как транскрибирует Дуне Скот ари
стотелевское έτεροίωσις
2
. Оно своим чистым присутствием заставля
ет выбирать между вот оно, да, это и невозможностью уточнить, что
именно это. Тем самым оно кладет начало мысли. Только неопредели
мое сущее окончательно определенно и оно же безусловно требует уяс
нения. Все дальнейшие определения под ним будут подлежать неоста
новимому установлению, оставаясь всегда неустранимым образом не-
доопределенными.
ι. Перевод у Дунса Скота passiones через атрибуты склоняет понимать сущее как
сущность.
2. Аристотель, Физика IV % 217 b 26.
479
ПРИЛОЖЕНИЕ
Другое название сущего — res, вещь. Философское применение это
го слова отлично от обыденного, когда мы и дети, признавая стол и дом
вещами, сомневаемся назвать таким же образом дерево. Имея в виду
философское употребление res, можно на всякий случай подставлять
условный перевод: реалия, или, еще лучше, то, о чем идет речь (дело). In
tellect communissimo ens vel res dicitur quodlibet conceptibile, в самом об
щем смысле сущим или вещью называют все что угодно, о чем можно
помыслить (Quodlibet. qu. Ill, n. 23).
Еще раз о важном различении, которое подчеркивает Дуне Скот. Су
щее одно не в том смысле, что оно квантуется на одно, два, три как на од
ну, другую, третью вещь или как ребенок квантует песок формочкой, —
тогда бы мы над сущим получили в качестве чего-то более первичного
число, — а так, что сущее, чтобы существовать, должно быть как мини
мум единым или целым. Даже если представить некое размытое хаоти
ческое бесконечное сущее, оно должно быть единым хотя бы как единый
беспорядок. Unum et esse convertuntur — положение, идущее от Аристо
теля, но известное задолго до него. У Дунса Скота omne quod est tamdiu
est quamdiu unum est, всё, что есть, есть до тех пор, пока оно едино (De
rer. princ. qu. XVII, 593 b et passim). Но сущее, как говорилось, трансцен-
дентно. Едва схваченное в состоянии (passio) единства, оно тут же ука
зывает на другое, расширяется за пределы схватываемого не к еще одно
му сущему, а подрывая, подтачивая единое, так сказать, на корню, изну
три, уличает его в том, что оно еще не всё, в нем схвачена пока только
часть, могло быть и есть другое.
Конечно, в каких-то случаях можно считать одно, два, три сущих. Та
кое одно будет числом. В отличие от числа первичное одно — высший
род, взаимообратимый с бытием. Unum имеет оба смысла: взаимообра
тимость с бытием и начало числа. Далеко не всегда, рассуждая о пифа
гореизме и о числовой структуре бытия, эту двузначность unum учиты
вают. Недостаточно учитывают и двузначность множества. Дуне Скот
говорит об абсолютном множестве, отрешенном от числа: Multitude ab
soluta est in plus quam numerus. Sicut enim unum absolute acceptum (unum
transcendens) est in plus quam unum, quod est prineipium numeri, sic multi
tude absolute accepta est in plus quam multitude, quae est numerus
l
(Quaest.
1. «Абсолютное множество есть более чем число. Как единое, взятое абсолютно
(трансцендентное единое), есть больше чем единое, которое есть начало числа, так мно
жество, взятое абсолютно, есть больше чем множество, которое есть число».
480
РАННИЙ ХАЙДЕГГЕР О ДУНСЕ СКОТЕ
sup. Met. lib. X, qu. XIV, 644 а)· Сюда снова подходит уже использованный
пример. Хаотическое бесконечное множество есть единство не матема
тическое, поскольку объединено не числом, а единым качеством. Оно
множество, потому что при хаотическом характере не состоит из вещей
одного рода, но не числовое, а абсолютное.
Хайдеггер не спрашивает и не считает себя обязанным спросить, поче
му у Дунса Скота primum obiectum, первый предмет, который предлага
ет себя как maxime scibile, наиболее познаваемое в смысле первого по
знаваемого, вполне познаваемого и в каждом случае познаваемого, это
сущее, бытие. Казалось бы, ближе человеку Я, которое занимается по
знанием. Сначала вроде бы должен быть Я, чтобы было кому мыслить.
В таком случае Я окажется наиболее познаваемым. Разве не должно
быть дано сначала то, чему является любой объект? Не окажется ли оно
первым?
Такое у Дунса Скота не предполагается. Первичность субъекта с его
непрестанным сознанием и самосознанием установится уже только в
Новой Европе. Фихте предлагал своим студентам упражнение: имейте
сейчас в сознании какую-то вещь; теперь рефлексируйте о том, что вы
фиксировали в своем сознание наличие той вещи; и так далее. Новоев
ропейского субъекта по праву называют непотопляемым. Когда ему ни
чего не дано, он дан самому себе, и эту свою перводанность может всегда
обновить за счет усиления сознания. Открытым остается вопрос, много
ли стоит и заслуживает ли такое maxime scibile, Я, чтобы его знали. Что
можно сделать из рефлексии, сходящей в дурную бесконечность, как от
ражения в поставленных друг против друга зеркалах?
И все же, почему соображение, в ι8 веке естественное, в 13 веке не
приходит Дунсу Скоту на ум? О причине Хайдеггер уже кратко сказал
во Введении. Средневековый человек настолько отдан самим вещам,
освященному традицией надличному материалу, что забывает о себе, не
успевает или не хочет себя заметить, точнее, не признает себя местом, в
котором открывается первая данность. Он сам весь отдается ей и ничего
из нее себе лично не выкраивает.
Надо ли называть это ошибкой Дунса Скота. Можно ли сказать, что
он просто не заметил обязательность места, в котором имеет место пер
вый объект, ens, сущее в его простейшем качестве существующего (дан
ного). Строго говоря, нет обязательной необходимости, чтобы заранее
было готовое место, в котором появилась бы перводанность. Простей-
1/2 31-2015
481
ПРИЛОЖЕНИЕ
шее сущее, существование, своим явлением может нести с собой и в се
бе свое же место. Так мысль может быть, конечно, и содержанием, под
дающимся поэтапному перечислению, и она же служит хранительни
цей самой себя. Что мысль сама себе может быть вместилищем, было
старым положением классической философии. Интеллигенции, умные
сущности (а максимально познаваемое сущее, ens maxime scibile, интел
лигентно) занимают место так, что сами для себя и одновременно для
другого являются местом. Первая данность высвечивает сама себя и тем
самым несет с собой и сцену — освещенное место, на которой сама же и
развертывается. Каждый раз, когда она сама себя высвечивает, этим са
мосветящим высвечиванием создается место для нее.
Тут предполагается смиренное представление о человеке. Он не при
поднят в центр вещей так, чтобы они проходили перед ним парадом. На
оборот, человек существует не сам от себя, не своими силами, а отчасти
и постольку, от случая к случаю. Он не своими средствами обеспечивает
себе постоянное субъективное существование, в чем никакое усиление
сознания ему помочь не может, а выхватывается время от времени из
темноты тем же лучом ясности, который приходит с бытием в его maxi
me scibile. Механизма, который постоянно и безотказно обеспечивал бы
непрерывность сознания при помощи рефлексии (во мне и у меня ниче
го нет, но зато имеется рефлексия этого состояния, есть рефлексия реф
лексии над моей пустотой и так далее) — у средневекового мыслителя
такого механизма нет. Его не будет и у Хайдеггера.
Соответственно всегдашний свет во тьме у Дунса Скота человеку не
гарантирован. Вполне может никогда вообще никакой ясности и не на
ступить. Для человека возможен невыход из глухого, не просвеченного
никакой рефлексией мрака; или отпадение в такой не обманутый реф
лексией мертвый сон. С бытием начинаю существовать и я; оно меня из
влекает из небытия. С единым, которое взаимообратимо с бытием как
его passio, состояние, в моем мире начинается упорядочение.
С появлением сущего вдруг развертывается далекий порядок вещей.
Оставаясь простым собой, сущее всегда одно целое. Единым предпола
гается однако другое; единым и другим создается многое; многие обу
словливают отношение; отнесение вызывает мысль. И другое разветвле
ние: первое единое — это целое, простая собранность сущего как само
го себя в некой охваченности. Как и первичное другое, целость не второе
к сущему, а льнущее к единству противоположение его своему же соб
ственному, прежде всего — возможному неединству. Но единое как це-
482
РАННИЙ ХАЙДЕГГЕР О ДУНСЕ СКОТЕ
лое опять же вдруг кладет начало счету, оказываясь основой математи
ческого целого и давая возможность числа. Онтологическое другое пре
вращается в математическое второе.
Переход к арифметике происходит не сам собой. Целое еще не чис
ло, и в нем не запрятано числовое. Наивно считают, неосторожно пере
ходя от метафизики и математике, что единое и многое — это один, два.
Чтобы начался счет, должна быть общая мера. Нужно иметь возмож
ность спросить, сколько. О простом целом и ином ему нецелом нельзя
спросить, сколько их, и ответить, два, потому что у них нет общей ме
ры. Прежде чем считать, необходимо провести умственную операция
объединения вещей (сущих) в класс. Математика, даже когда она счи
тает по видимости действительные вещи, оперирует на деле с умствен
ными сущностями. Первым шагом она явно или неявно выносит все, с
чем имеет дело, из природы в свое мысленное пространство, размерен
ное параметрами.
Между единым целым как трансцендентным охватывающим, взаи
мообратимым с бытием, и математической единицей лежит пропасть,
требующая скачка из действительного в воображение1
. Что расположе
но и упорядочено в математическом воображенном пространстве коли
чества, то с природной (в широком смысле бытийной, существующей)
действительностью не смешивается и не пересекается. Чисто мыслен
ная сущность (ens rationis), число не имеет никакой реальности, которая
прибавлялась бы к реальности исчисляемых вещей или стояла в одном
ряду с ней; число схватывает эти вещи в измышленном единстве рассуд
ка. Наоборот, вещи, эта и та, кошка и собака, не могут сами сложиться в
число; я вижу эту и ту, кошку и собаку, но они мне не два вне измышле
ния моего ума. Только в conceptio mentis число хранит свою сущность;
перенесенное оттуда, оно может быть приложено — или не приложе
но—к вещам. Дуне Скот: «Из количества ничего нет вне души, кроме
сплошного количества (nisi quantitas continua), раздельные части кото
рого вне души не могут ни быть объединены числом, ни составить со
вокупное число, но суть лишь это, это, это, не имея никакой единой чис
ловой формы [...] число получает свое единство только от души» (Re-
portata I, dist. XXIV, col. 279 b). В душе, поясняет Хайдеггер, значит не в
переживании, психическом опыте, а в уме, в пространстве счета. Важная
черта числа как рассудочной сущности: у него нет индивидуальности,
ι. GAy Bd. i,S. 235.
1/2 ЗГ
48з
ПРИЛОЖЕНИЕ
число з составлено из таких же точно однородных единиц, как число 2.
Между тем реально существует только индивидуальное.
Individuum per se et primo existit, essentia non nisi per accidens, инди
вид, индивидуальность существует самостоятельно и первичным обра
зом (изначально), (обобщенная) сущность — только привходящим об
разом, в качестве акциденции (Sup. lib . II Anal. post. qu. IV, 329 b). Сущ
ность привходит в первичное существование индивида, поскольку этот
индивид имеет что-то общее с другим, подобно ему реально существу
ющим. Это общее само не существует, но оно случилось при обоих инди
видах, включилось в них и имеет место только таким вторичным акци-
дентальным образом при индивидах.
Индивид тут понятным образом определяется не как представитель
вида и не как один из предметов среди других предметов. Он понима
ется буквально как неделимое, т. е. не собранное из где-то еще отдель
но встречающихся частей, тем более не из воображаемых измышленных
частей; уникальное; выделяющееся своей неповторимостью. Дуне Скот:
«Объясню, что понимаю под индивиду'ацией [...] не неопределенное един
ство в том смысле, в каком любой отдельный представитель вида имену
ется одним по числу, но единство, означенное как вот это, т. е . такое, что
оно есть определенное вот это (haec; Oxon. II, dist. Ill, qu. IV, 33 а, п. з).
Индивид [...] включает существование (актуальное бытие) и время, как
этот существующий человек и этот существующий камень (Quaest. in
Met. lib . VII, qu. X). Природа никогда не порождает двух индивидов одно
го рода, в одинаковой мере и степени причастных к тому же роду (De rer.
princ. qu. XIII501 b). Два яблока на одном и том же дереве никогда не рас
положены одинаково относительно солнца (ibid. 502 а). Здесь и теперь
(hic et nunc) [...] суть условия, принадлежащие существу уникального
(rationem singularis; ibid. 511)»· Среди реально существующих вещей двух
одинаковых нет. Что одинаково и однородно, как единицы числа, того
нет, т. е . существует только в рассудке и воображении.
Таким образом, на вопрос, существует ли, например, такая вещь, как
«четыре дерева», ответ будет отрицательный. Четыре дерева — рассу
дочная сущность, полученная путем гомогенизации деревьев, каждое из
которых как реально существующий индивид уникально и счету само
по себе не поддается. Десять миллионов человек строго говоря не суще
ствуют. Чтобы стать десятью миллионами, люди подверглись унифика
ции, т. е . перестали быть уникальными индивидами, по Дунсу Скоту, пе
рестали существовать действительным бытием, стали акцидентальным
484
РАННИЙ ХАЙДЕГГЕР О ДУНСЕ СКОТЕ
существованием как набор неких признаков. Они entia rationis, рассу
дочные сущности, имеющие место в imaginatio, воображении.
На вопрос, способна ли математика познавать действительность,
нужно ответить нет. Она познает уже не действительность и к бытию
не имеет отношения. Строго говоря, среди реально существующих ве
щей можно встретить только неповторимые индивидуальности и их
бесконечное, абсолютное множество.
Но все же яблоки, пусть каждое без конца разное, по сравнению со
всеми коровами должны выделиться в единый общий вид? Разнообра
зия среди трех яблок меньше чем в обществе, составленном из волка, ко
зы и капусты? Конечно. Существует аналогия. Она позволяет говорить
о бесконечно разнообразных вещах в аспекте их ограниченного, услов
ного тождества. Не так, что в одном аспекте все яблоки тождественны,
в другом все разнообразны. Все яблоки аналогичны — это значит, что
моменты тождества и разнообразия в них сложно переплетены. «Ана
логия означает некую общность, но тем не менее эта общность в раз
ных вещах оказывается разнообразной» (Quaest. sup. lib. elench. qu. XIII,
17 b sq.).
Аналогию можно понять как общее, которое каждый раз видоизменя
ется, индивидуально варьируясь. В аналогии общее присутствует в каж
дом соразмерно каждому. Следует ли в таком случае говорить, что сущее
(существование), primum obiectum, maxime scibile, тоже индивидуально
разнообразно и каждый раз именуется снова и снова сущим только по
аналогии? или сущее абсолютно везде однородно? Этьен Жильсон на
зывает это самым спорным вопросом у Дунса Скота. Пока ens, сущее,
как описывалось в начале, еще не определено, оно одинаково повсюду.
Но оно таково лишь в первый момент своего явления. Если сущее дей
ствительно существует, оно должно оказываться индивидуальным, сле
довательно, многообразным, в каждом здесь и теперь другим, а значит,
лишь по аналогии одинаковым во всех сущих. Всё индивидуальное об
ладает своей сообразной себе действительностью. Абсолютной действи
тельностью, опять же индивидуальной, обладает только Бог.
У Бога настолько полное существование, что оно сливается с его сущ
ностью. В своем существе (сущности) он существует и в своем суще
ствовании существует. В абсолюте, каким является Бог, сущность и су
ществование совпадают. О существовании природных вещей такого
уже не скажешь. На земле уже другое существование, которое только
по аналогии носит такое имя, поскольку оно подобно существованию
31-2015
485
ПРИЛОЖЕНИЕ
Бога. В природе вещи уже не являются самим по себе существовани
ем, они только имеют существование. Индивидуальностями являются
и, значит, действительно существуют и Тот и эти, и Бог и сотворенные
Им вещи, но существуют по-разному. Стало быть, степень их действи
тельности различна? Да, если мерить действительностью Бога, то сте
пень действительности вещей уменьшена. Тогда степень действительно
сти умственных сущностей совсем невелика: ens diminutum, миниатюр
ное сущее, ненастоящее, как игрушки детей.
Внутри сотворенной действительности о действительности реальных
вещей можно говорить тоже только по аналогии. По сути действитель
ность у каждой вещи разная. Каждая вещь лишь в меру сил причастна
полновесному и совершенному бытию Бога — пока она остается инди
видом. Беда математических вещей, делающая их игрушечными сущи
ми, даже не в том, что они entia rationis, — создания рассудочного вооб
ражения, а в том, что они расстались с индивидуальностью, гомогенизи
ровали свои единицы, отняли у них индивидуальность.
Во всем этом параллели между Дунсом Скотом и будущим самосто
ятельным Хайдеггером очевидны. Не будет ошибкой сказать: все, что
Хайдеггер подчеркнул у Дунса Скота, так или иначе вошло в его мысль.
Оттого, что индивидуальности уникальны, существуют конкрет
но здесь и теперь, на них можно достоверно положиться. Они основа
ние истины, fundamentum veritatis. Индивидуальная вещь, говорит Дуне
Скот, прежде всего sui manifestativa, самопроявительна; был бы интел
лект, способный прочесть это самопроявление. Вещь самопроявляется
больше или меньше, и соответственно она сама диктует свое более или
менее полное познание, большую или меньшую познаваемость — в меру
собственной манифестативности. Что есть в таком случае истина? Вещь
истинна в меру своей уникальной индивидуальности, т. е . действитель
ности, т. е. самопроявленности. Что действительно, стало быть индиви
дуально, то и правда. Но нельзя сказать, что вещь есть истина. Вещь —
основание истины. Она сама себя проявляет как действительная. То, что
видит это проявление, т. е. понимание, нужно для истины как ее место.
Вещь являет себя как истинная, но для истины нужно понимание. Вещь
истинна, но всей своей явностью она истину не создаст, не продиктует,
не навяжет: нужен акт понимания, имеющий форму суждения — ответ
ственного, однозначного и необратимого заявления явности. Дуне Скот:
«Истины нет до акта понимания [...] пониманием создается существо
истины» (De anima qu. XX, 607 b).
486
РАННИЙ ХАЙДЕГГЕР О ДУНСЕ СКОТЕ
Действительная вещь не причина поступка суждения. Она только по
вод для того, чтобы судить о ней так или по-другому. Причины сужде
ния надо искать в интеллекте. Они там настолько автономны, что по по
воду вещи интеллект может иметь какую-то свою внутреннюю причину
высказывать такое, чему в вещи нет соответствий, при том что сужде
ние будет оставаться верным. Суждение не слепок с вещи. Современ
ный пример наугад: снег может быть поводом для суждения «Опять мы
не подготовились к зиме», хотя в самом снеге причин для такого суж
дения меньше чем в интеллекте. Т. е. интеллект в своей сфере ходит на
очень длинной привязи с очень большой свободой суждения о вещах,
с простором самостоятельного движения в своем специфическом про
странстве.
Суждение оперирует не реалиями, а субъектами и предикатами, т. е.
рассудочными сущностями. Суждение делает с индивидами, действи
тельно существующими, то же, что число: гомогенизирует, т. е. перево
дит их в другой, урезанный модус существования.
Суждение всегда поступок. Он направлен, имеет интенцию (inten-
tio — направленность, смысл). В жизни человек нацелен на вещи, обсто
ятельства, процессы окружающего мира. Такая целеустремленность на
зывается на языке схоластики prima intentio. Пример первой интенции:
человек идет на охоту. По пути человек может задуматься об этом своем
занятии, о сути, видах, приемах охоты. В этих своих размышлениях он
тоже действует целенаправленно и в определенном смысле тоже охотит
ся (venatio sapientiae, охота за мудростью), хотя и не на зайца. Это secun-
da intentio, вторая интенция. Ее можно условно назвать научной уста
новкой или наукой в широком смысле.
Установка — один из возможных переводов intentio. Суждение во
всяком случае интенционально. Оно выражает нашу нацеленность, ори
ентацию в отношении вещей. По-другому, чем в свете интенций, сужде
ние коснуться вещей не может. В сфере интенциональности мы направ
ляем вещи, как нам надо. Подчиняя их смыслу, мы учитываем, конеч
но, сами вещи, но все равно они тут только повод. Настоящая причина
наших поступков, среди которых суждение, — наша интенция. Отнесе
ние вещи к роду, виду, ее определение и подобное, т. е . введение в катего
рию — тоже интенция, направление ее к такому-то назначению, прида
ние ей такого-то смысла с ее учетом и по ее поводу, но не по ее причине.
Вещи подсказывают, как лучше упорядочить их в суждении, не диктуя
суждение о них.
3V
487
ПРИЛОЖЕНИЕ
Вещи первой интенции, с которыми мы непосредственно имеем де
ло, как в примере с охотой, безусловно разнообразны. Но как математик
смело произносит «четыре дерева», так логик может уверенно сказать,
что зайцы, козы, кабаны это дичь. «Разнообразие вещей первой инстан
ции между собой не мешает тому, чтобы интеллект осмыслил их одним
и тем же способом осмысления; интенции приписываются вещам так,
как они осмысливаются интеллектом, и потому интенции одного и того
же вида могут приписываться различным вещам» (Quaest. in lib. praed.
И, 440 b).
Математика гомогенизирует — и суждение (т. е. логика) делает то же.
Математика отвлекается от чувственной уникальности вещей. То же де
лает судящая, классифицирующая логика, относя зайцев к дичи, хотя
один заяц нервный, другой смелый и т. д. Значит ли это, что матема
тика и логика одно? Хайдеггер отвечает за схоластику: нет, они не со
впадают. Однородность, гомогенность, насаждаемая в вещах математи
кой, прописывает вещи в пространстве количества. Гомогенность, кото
рую навязывает вещам суждение, приписывает вещам направленность,
смысловую принадлежность, т. е . проецирует вещи на плоскость интен-
циональности. Математика и логика отличаются как количество и ин
тенция.
Всякий читатель, знакомый со структурой отсылания и всем ее кон
текстом в хайдеггеровском «Бытии и времени», увидит, насколько мысль,
удивившая 20 век новизной, продолжает многовековую традицию.
Вещи просто есть. Направленность, смысл, интенциональность им
нами примыслены. Можно ли иметь дело с самими вещами, не придавая
им ни обобщающих количественных, ни обобщающих интенциональ-
ных определений? Да, но только не в логике и не в ее категоризирующих
суждениях. С самими вещами имеет дело scientia realis, реальная наука;
она рассматривает индивидуальности, уникальные и своеобразные. Ум
умеет не только считать и судить. Он еще и жизнь в passio mentis realis,
реальном претерпевании, опыте. Опытная жизнь ума умеет иметь дело
прямо с вещами, прикасается к ним. На этой способности ума строится
метафизика, четко отличающаяся от логики именно тем, что вдумывает
ся не в смыслы (интенции), а в сами вещи. Метафизика тут значит то же,
что физика в аристотелевском смысле. В «реальной науке» отношение
действительной, т. е . несущей и являющей свою истину, вещи к пони
манию будет уже не только предоставлением повода для интенциональ-
ных суждений, а чем-то более прямым и императивным.
488
РАННИЙ ХАЙДЕГГЕР О ДУНСЕ СКОТЕ
К реальной науке о вещах однако сначала надо готовиться. Рассмо
трим проекцию вещей на плоскость смыслов, направленностей, класси
фикаций, категорий, т. е . интенций. У Дунса Скота категории суть gene-
ralissima, самые общие определения. Категории создание рассудка. Рас
судок вправе создать их не десять, как у Аристотеля, а сколько пожелает.
Дуне Скот вводит новые категории: небытия, лишения и другие. Хайдег-
гер оправдывает его. Разум не потому может создать другие, что систе
мы категорий лишь игра, а потому что категория имеет слишком пря
мое отношение к суждению, суждение же слишком важный акт, чтобы
можно было успокоиться на какой-то одной системе категорий и не ду
мать о ее обогащении. Именно потому, что до сих пор системы катего
рий строились без этой привязки к поступку суждения, они производят
впечатление мертвенной пустоты. Так не должно быть. Надо пошатнуть,
сдвинуть с места эти одеревенелые схемы, показав в категориях инстру
мент, которым мы напрямую работаем с вещами. Они средства смысло
вого (интенционального) истолкования всего реального и потенциаль
ного опыта. Суждение как акт субъекта, стремящегося овладеть своим
жизненным опытом, — такой должна быть основа проблематики кате
горий, уж во всяком случае не удобство классификации вещей.
Из-за того, что эта насущная задача со всей остротой стоит сейчас,
философ, углубляющийся целиком в изучение ее исторических пери
петий, испытывает душевную тревогу, которая мешает ему пойти про
топтанным путем исследования средневековой логики и теории язы
ка (учения о значении), т. е. известными приемами изучения традиций
средневековой школы с ее грамматиками, рациональными и другими, с
полуграмматической тематикой модусов обозначения, modi significandi.
Живое понимание той эпохи велит разглядеть за всем, что кажется де
лом школьной дисциплины, движение ищущего духа, спешащего к сво
ей цели, которая по сути дела одна в прошлом и теперь.
Такой подход профессиональными историографами обычно с по
рога отметается как не имеющая научной ценности осовремениваю
щая конструкция. Не замечают, что типичное для научной историогра
фии обзорное систематизирующее собирание материала в целях его ис
черпывающего охвата делает историческое прошлое объектом и в свою
очередь оказывается конструкцией совершенно определенного нивели
рующего рода, исключающей пафос единого целенаправленного смыс
ла у прошедшей эпохи. Он всегда захватывает мыслителя, полноцен
но живущего в своей современности. Целенаправленным смыслом бы-
489
ПРИЛОЖЕНИЕ
ла полна деятельность Дунса Скота. Замеченное им — несуществование
абстрактных форм, материальная определенность всякой формы, пре
тендующей быть не только воображаемой, — имеет силу и для мистики
Мейстера Экхарта, позволяя дать ей философское истолкование. Хай-
деггер говорит в примечании, что надеется в другой работе показать это
у Мейстера Экхарта. Такой работы у Хайдеггера не появится. Его иска
ние будет идти уже не косвенным путем через средневековую мысль, а
в прямом обращении к повседневности. Как форма и материал перепле
тены теснее, чем принято думать, так субъект и объект: материал дик
тует или призван диктовать форму; объектом определяется или при
зван определяться субъект; к пониманию этого должна приблизить тема
категорий, если в них видеть наиболее универсальные суждения о бы
тии, самим бытием вынужденные. В конце жизни Хайдеггер скажет, что
главное у Гуссерля, им перенятое, было категориальное созерцание, ви
дение категории нечто.
Тем, кто остается в плоскости логики, скрывающей существо катего
рий, они кажутся классификационной схемой. На таком пути по-насто
ящему интересные вопросы прояснить не удастся. Нужен транслоги
ческий контекст. Философия недолго способна продержаться без своей
исходной оптики, метафизики \ Логика должна быть включена в пре
дельное метафизически-телеологическое истолкование сознания не в
психологическом плане мозговых процессов, а в философском смысле
сознания. Сознания нет без ценностного момента. Хайдеггер говорит,
что надеется в самом скором времени предложить подробное исследо
вание о бытии, ценности и отрицании. Работы с именно такой темати
кой тоже не будет. Хайдеггер увидит, что сознания нет без осмысленного
и смыслообразующего живого поступка, ответственного и необратимо
го, без которого всё тонет в слепой фактичности.
Жизнь, дух, сознание, ценность, абсолют, Бог, мировоззрение — тер
минология раннего Хайдеггера в излагаемой работе. Он может служить
нам здесь своим собственным переводчиком на более привычный нам
философский язык. Логика только один конец, если не тупик, простран
ства философии, которая есть жизнь духа. Даже чисто теоретическая
направленность ума — все равно лишь одна из сторон этого живого ду
ха; другая сторона это прорыв за пределы теоретического знания к ис-
1. Die Philosophie kann ihre eigentliche Optik, die Metaphysik, auf die Dauer nicht entbehren
(курсив Хайдеггера; GA, Bd. ι, S. 406).
490
РАННИЙ ХАЙДЕГГЕР О ДУНСЕ СКОТЕ
тинной действительности и действительной истине (кто говорит, ран
ний Хайдеггер или Бердяев?). Только ориентация на живой дух спасет
теорию познания и логику из тупика структур и схем. Смысл духа не
сводится к тому, чтобы быть гносеологическим субъектом. Познающий
субъект даже не главное в сфере духа, осуществляющегося в истории и
творящего историю в широком смысле этого слова. Настоящее мировоз
зрение не теория. Дух можно понять только во всем размахе его истори
ческого поведения и только увидев, как в своем философском самоочи
щении он поднимается к пониманию абсолюта. История и ее культур-
философское телеологическое истолкование должны быть фоном для
проблемы категорий, если мы действительно хотим создать космос ка
тегорий, чтобы вырваться из скудной категориальной сетки в нынеш
ней логике. Нужно понять, что только от так называемого трансцен
дентного, запредельного, якобы далекого от реальности смысла жизнь
духа наполняется истинной действительностью; все частные и времен
ные смыслы обречены.
Трансценденция не то, что обычно представляют под этим именем.
Она не есть нечто недостижимо далекое от субъекта: она означает соб
ственно незамкнутость субъекта на себе, незапертость его в одном
жестко ему установленном себе задании внутри своей установки. От
крытость трансценденции для субъекта можно сравнить с общени
ем, встречей духовных индивидуальностей, связанных избирательным
сродством.
Настойчивое присутствие такой трансценденции в средневековом
мире с его подчеркнутой телеологией создавало стройную иерархию с
предельным диапазоном ценностей от верха до низа. Для субъекта от
крывалась возможность опыта от рая до ада. Расположение мира в глу
бину и высоту было противоположно теперешнему растеканию его
вширь на плоскости. Быстрое поверхностное скольжение современной
жизни открывает безграничные возможности для потери почвы и дезо
риентации. Наоборот, средневековый человек терял себя в содержатель
ной материальной широте чувственной действительности, не цепляясь
за нее в поисках опоры, но наоборот, ощущая, что эта действительность
нуждается в опоре и давая ей эту опору в трансцендентной цели. Для
духа его единственный источник — метафизический. Философия живо
го духа, деятельной любви, благоговейной богоотданности стоит перед
сверхзадачей принципиального размежевания с могучей по полноте и
глубине, по богатству переживания и понятийного творчества системой
491
ПРИЛОЖЕНИЕ
исторического мировоззрения, вобравшей в себя всю прежнюю фунда
ментальную проблематику, — с Гегелем.
Это говорилось в 1915 году. Еще не наступило время нового торжества
Гегеля в Германии, Италии (Бенедетто Кроне), в России, где еще и в кон
це 1950-х — начале 1960-х гг. новое увлечение так называемым ранним
Марксом было фактически опять гегельянством. Задачу размежевания
с системой Гегеля ставил 2б-летний Хайдеггер. Гораздо позднее он ска
зал, что ни о каком «преодолении» Гегеля не могло быть речи. Но через
6о лет после работы о Дунсе Скоте громада другой, негегельянской мыс
ли все же выросла и без скидок, без натяжек и преувеличений встала ря
дом с гегелевской постройкой, не менее весомая чем та.
После диссертации «Учение Дунса Скота о категориях и значении» не
только не появилось двух обещанных в ней новых работ, но и вообще в
течение десяти лет никаких публикаций Хайдеггера не было. Не были
напечатаны «Замечания к „Психологии мировоззрений" Карла Ясперса»
на 45 страницах (1919-1921) — важная работа, где в размежевании с ран
ним экзистенциализмом Хайдеггер навсегда расставался с ним.
В июне 1921 года машинописная рецензия была послана Карлу Яспер-
су. Хайдеггер в ней по сути дела обращался к другому мыслителю с пред
ложением делать вместе общее дело. Ясперс не прочитал ее целиком и
хайдеггеровскую критику не принял \ «Замечания» были впервые напе
чатаны лишь в 1972 году.
ι. «Душевно на тексты Хайдеггера я не реагировал. Уже его критику моей «Психоло
гии мировоззрений» я так и не дочитал до конца. Она меня не интересовала. Она была
мне скучна» (Karl Jaspers, Notizen zu Martin Heideggery München-Zürich: Piper, 1978, S. 225).
На хайдеггеровской машинописи, не носящей следов прочтения (пометок, подчеркива
ний, маргиналий), осталась запись: «Эти замечания мне прислал тогда Хайдеггер. В то
время я их едва прочитал, этот род критики меня не интересовал. Чтение было затруд
нено плохой пишущей машинкой. Через несколько страниц я бросил. Это не лежало на
пути, на котором я искал и старался. Отсутствие моей реакции, думаю я теперь, должно
было X. тогда задеть. Он не жаловался, ни даже косвенно. Но мне теперь кажется, что с
его стороны началось в ответ какое-то „отчуждение", потому что я не пошел путями его
мысли» (ibid., S. 330» 319)·
ХАЙДЕГГЕР:
ОТ «БЫТИЯ И ВРЕМЕНИ» К «BEITRÄGE»*
ι. Когда Ханна Арендт посетила Хайдеггера во Оренбурге после вой
ны, она была недовольна тем, что дом был полон рукописей, десятки ты
сяч рукописных страниц лежали в единственном экземпляре, и Эльфри-
де Петри не делала ничего, чтобы хоть как-то помочь их сохранению,
даже не позаботилась перепечатать их на машинке. Что бумаг так мно
го, знали однако только такие близкие люди. Чуть подальше начинались
легенды. Другой ребенок Хайдеггера, написавший о нем книгу, Карл Ле
вит как-то заметил в 50-х годах с осуждением, что из-за политической
ошибки Хайдеггера постигло бесплодие: от всех лекций, пяти или шести
лекционных курсов предвоенного и военного времени о Ницше, только
и осталась брошюрка «Слово Ницше „Бог умер"».
Но вскоре после этого в i960 г. вышел большой двухтомник «Ницше»;
сейчас он готовится к изданию в Питере. Уже после смерти Хайдегге
ра начали выходить курсы лекций предвоенного и военного времени о
Гёльдерлине и Ницше; это большой корпус. В 1989 году неожиданно вы
шел том 65 Gesamtausgabe серии III «Неопубликованные работы» (1936-
i938)> 521 страница. Эту книгу сразу назвали вторым главным произведе
нием Хайдеггера. Сейчас ее перевели на русский и ищут издателей. Она
называется «Beiträge zur Philosophie (Vom Ereignis)». Не будем спешить
с переводом названия. Это не курс лекций, а книга, написанная в стол,
когда Хайдеггер, два года как ушедший с ректорства, понял, что ни тако
го курса объявить, ни такой книги напечатать не сможет.
В 1997 году, тоже для многих неожиданно, в той же III серии GA, т. е.
вне лекционных курсов, вышла книга «Besinnung», написанная — ма
шинкой Хайдеггер не пользовался — в стол в 1938-1939 гг.
Дальше больше. В 1998 томом 69 GA появляется неопубликован
ная работа «История бытия (des Seyns)», лежавшая в рукописи с 1938-
1940 гг.
1999· Выходит «Метафизика и нигилизм», та же серия III, писалось в
1938-1939 гг.
В 2004 году ждут — или он уже вышел? — том 70 III серии GA «О на
чале», писано в стол; идет 1941 год, оба сына Хайдеггера скоро будут взя-
493
ПРИЛОЖЕНИЕ
ты в армию и отправлены на восточный фронт, где попадут в русский
плен.
1941-1942: Хайдеггер продолжает читать лекции, но кроме того пишет
себе еще одну книгу, о названии которой даже знатоки слышат с удивле
нием: «Das Ereignis»; не путать с «Vom Ereignis»; ее пока еще только гото
вит для 71 тома GA Фридрих-Вильгельм фон Херманн.
1944: Хайдеггера снимают с преподавания как профессора, не очень
нужного рейху, и посылают рыть окопы; то ли во время последних лек
ций, то ли уже там он пишет «Тропы начала»; сейчас тоже в работе у фон
Херманна как том 72 GA.
Международная общественность взволнована. Forum internatio
nal cTEvora pour la traduction des oeuvres de Martin Heidegger устраивает
международные конференции и переводческие студии. Первая из семи
книг, написанных в стол, уже есть на английском и польском; о русском
сказано выше; на подходе французский, итальянский, японский, порту
гальский. Коллоквиум Форума в конце мая 2004 в Лозанне назывался
«La 2
e
oeuvre principale de Martin Heidegger: Beiträge zur Philosophie (Vom
Ereignis). Interprétation et traduction».
В докладе на коллоквиуме «Как я перевожу Beiträge» Франсуа Федье
обратил внимание на то, что это частое в названиях научных работ сло
во (по-русски вклад или просто к проблеме) есть в письме Гельдерлина
д-ру Эбелю ю.1.1797:
Я верю в настающую революцию настроений и способов представ
ления, которая заставит краснеть от стыда всё, что было до сих пор.
И в нее Германия способна, пожалуй, привнести очень многое.
1
Письмо, до того неизвестное, было впервые опубликовано журна
лом «Euphorion» в 1933 г
· Думая через з года о названии для своей кни
ги, Хайдеггер не помнить о фразе Гельдерлина не мог. Поскольку дело
в «Beiträge» идет явно не о вкладе лично профессора Хайдеггера в фи
лософию, Федье предлагает читать обе части заглавия вместе: «Вклад в
философию от Ereignis». Вся весомость заглавия переходит на послед
нее слово, важное для Хайдеггера; на его экземпляре «Письма о гума
низме», адресованного к Жану Бофре, есть маргиналия: «После 1936, Er
eignis — слово, которое движет мою мысль». Простой перевод для Ereig-
1. «Ich glaube an eine künftige Revolution der Gesinnungen und Vorstellungsarten, die alles
bisherige schamrot machen wird. Und dazu kann Deutschland vielleicht sehr viel beitragen.»
494
ХАЙДЕГГЕР: ОТ «БЫТИЯ И ВРЕМЕНИ» К «BEITRÄGE»
nis — событие. Жан Бофре иногда пользовался словом éclaire, молния,
вспышка, прозрение. Федье теперь предлагает avenance, не зафиксиро
ванное во французском словаре, но легко опознаваемое. Оно родствен
но événement (événement) событие, близко к торжественному avènement
пришествие (мессии), восшествие (на престол), начало (новой эры) и
выглядит как существительное от avenant приятный, изящный и подхо
дящий, уместный. Цель Федье приблизительно указать, в каком направ
лении надо искать Ereignis; он подчеркивает, что Хайдеггер этого перио
да не занимает позицию, он весь в движении.
Ибо мысль Хайдеггера — не событие хотя бы потому, что не спе
шит безрассудно претендовать на то, чтобы быть уникальным Со
бытием. Она уместна, потому что согласна с непрестанным ритмом
начала. И она такова, поскольку поистине сбывается, т. е . распола
гает благодаря мягкой мощи пришествия.
1
2. «Бытие и время» (1926) не обозначает резкого разрыва с тем, что де
лал Хайдеггер раньше. Даже почвенный романтизм прозы и стихов мо
лодого Хайдеггера не мешает проецировать на них основопонятия и
структуру этой книги. Эффект наложения без видимого зазора проис
ходит тут благодаря не раз отмеченной самим Хайдеггером принадлеж
ности «Бытия и времени» к философской традиции и ее языку. Наобо
рот, эффект совпадения не достигается и взаимное наложение структур
не удается между «Бытием и временем» и «Вкладом в философию от со
бытия». Дело идет уже о внесении в философию того, что в ее истории
не закрепилось. Открывается тема другого начала мысли. «Прошлое не
значит ничего, начало — всё», говорит Хайдеггер в лекционном курсе
«Основопроблемы философии» зимнего семестра 1937-1938 гг.
2
,имеяв
виду, что упущенное, не сказанное, не записанное в классическом нача
ле мысли, прежде всего многозначительное невдумывание греков в свое
слово алетейЯу важнее чем записанное и известное; ставя задачу осмыс
лить то, что не было сделано.
Философствование в «Beiträge» утрачивает черты метода. Больше
ι. «Саг la pensée de Heidegger n'est pas un événement, ne serait-ce que parce qu'elle ne sau-
rait prétendre, de façon insensée, être L'Événement unique. Elle est avenante, c'est-à -dire se mo-
dulant sur le rythme incessant de l'avenance. Et elle l'est en tant que bel et bien avenue, c'est-à-
dire appareillante grâce à la douce véhémence de l'avenance.»
2. M . Heidegger, Gesamtausgabe [GA], Bd. 45, S. 123 .
495
ПРИЛОЖЕНИЕ
того, Хайдеггер настаивает, что в той мере, в какой философия все еще
остается пересказом, воспоминанием прежде продуманного и развива
ющим это строительством, она помеха самой себе. Вхождение в колею
доступной общепонятности, когда философию сделалось возможно пе
редавать от каждого каждому, стало ее концом. Для ее провала ока
залось достаточно, чтобы исходная сущность истины, непотаенность,
была упрощена до правильности. В «Бытии и времени» остро чувству
ется и предполагается философская школа; в «Beiträge» она оказыва
ется хуже чем проблемой: тупиком. Хайдеггер вступает на нехоженый
путь.
Внимание к корпусу хайдеггеровских книг, написанных в военные го
ды в стол, понятно при общем ощущении упадка философии в послед
ние десятилетия. Необходимость другого начала сейчас звучит яснее
чем 6о лет назад. Но тема другого начала, развернутая в «Beiträge» и поз
же, не может быть взята привычными приемами исследования. Корпус
нелекционных работ 1936-1944 гг. трудно отнести к какой-то из областей
мысли. Рубрики феноменологии, фундаментальной онтологии к ней не
подходят. Рубрика экзистенциальной аналитики — мы сейчас увидим,
какой с ней происходит поворот. С другой стороны, Хайдеггер говорит
о Боге, последнем Боге, настающем Боге, о божествовании богов, но яс
но, что нет надежды применить ко всему этому принятые богословские
категории. Объявляя невозможными преподавание, передачу философ
ский мысли, научение другому началу, Хайдеггер тем решительнее на
стаивает на школе основательности, дисциплины, настойчивости, тща
тельности; школа таким образом совпадает теперь с собственным делом
философии.
Рассмотрим некоторые подробности произошедшей перемены. «Бы
тие и время» имеет обозримую структуру, что делает ее пригодной для
изложений, комментариев, полемики и дает большую возможность рас
положения, перераспределения, систематизации, даже развития матери
ала; подражания этой книге легки и им нет числа. Подробное оглавление
выделяет моменты методологической подготовки к анализу, его ступен
чатого проведения; отчетливую границу образует переход от анализа
целости сущего (мира) к целости экзистенции (время). Наоборот, ме
трический порядок полностью отсутствует в «Beiträge». В разных частях
его оглавления многократно повторяются одни и те же рубрики. Основ
ное членение (ι. Взгляд вперед. 2 . Отклик, з. Сопровождение. 4- Скачок.
5- Обоснование. 6 . Настающие, γ. Последний Бог. 8 . Бытиё) не позволяет
496
ХАЙДЕГГЕР: ОТ «БЫТИЯ И ВРЕМЕНИ» К «BEITRÄGE»
выявить организующую структуру. Топика новой хайдеггеровской мыс
ли требует отказа от системы понятийных координат, запрещает прое
цировать свои ходы на метрическое пространство. Понятия теперь вы
свечиваются (вспыхивают) по мере разрастания всеопределяющего со
бытия, Ereignis, которое из-за своей сущностной новизны исключает
систему, куда его можно было бы вписать. Всем правит безусловное пер
вое начало. Три главных аспекта Ereignis, а именно озарение (настоящая
этимология, от das Auge), возвращение к своему собственному (народ
ная этимология через das Eigene) и полнота (совершённость события)
тоже не образуют структуры типа гегелевской триады; это троица тоже
ственных, потому что открытие собственно того самого есть вместе оза
рение и полнота.
Вместе с тем отличие стиля «Beiträge» от «Бытия и времени» дает воз
можность посмотреть на более раннее произведение объемно. Выраже
ния экзистенциальный анализ, анализ вот-бытияу присутствия или, как
я иногда перевожу в данной статье, здесь-и-теперь-бытия, die existenzi-
ale Analytik des Daseins, Analytik des Daseins, у всех на языке. Они пони
маются однозначно: анализу подвергается, по-видимому, то, что сложно.
Dasein по общему убеждению имеет структуру. Присутствие есть преж
де всего In-der-Welt-sein, бытие-в-мире; оно всегда Mitsein, бытие с дру
гими (если Левинас этого не заметил, то не все читатели прошли мимо
§§ 25-27 «Бытия и времени»); дальше, Dasein есть забота, die Sorge, и в
этом качестве буквально выплескивает из себя сложнейшие структуры,
бросая себя на подручное и наличное, на что решает растратить себя;
анализ осложняется. — Возможен ли с этого угла зрения неаналитиче
ский подход к Dasein?
Спросим однако, есть ли действительно у Dasein структура?
Не выходя из «Бытия и времени», в тексте этой же книги мы нахо
дим Dasein без структуры, так что всё, принимаемое за его аналитику,
относится только к его падению (Verfall), в котором оно перестало быть
собой. Само по себе присутствие несоставно, как во всей классической
мысли безусловно проста душа. Аналитика собственно присутствия
строго говоря совершенно невозможна.
Ужас как бытийная возможность присутствия вместе с самим в
нем размыкаемым присутствием дает феноменальную почву для
эксплицитного схватывания исходной бытийной целости (!) при
сутствия.
497
ПРИЛОЖЕНИЕ
.. .в о обще внутримирное сущее тут не «релевантно». Ничто из то
го, что подручно или налично внутри мира, не функционирует как
то, перед чем ужасается ужас. Внутримирно раскрытая целость
имения-дела с наличным и подручным как таковая вообще не при
чем. Она вся в себе проседает. Мир имеет характер полной незна
чимости.
Полная незначимость, возвещающая о себе в ничто и нигде, не
означает мироотсутствия, но говорит, что внутримирно сущее са
мо по себе настолько полностью иррелевантно, что на основе этой
незначимости всего внутримирного единственно только мир уже
наседает в своей мирности.
1
Для целого присутствия мир тоже становится целым не за счет упро
щения до какой-то одной части, а за счет освобождения от составности,
которая была наброшена на него интерпретационной сеткой в ходе его
распаковки (удачный термин В. В . Налимова).
Захваченность ужасом размыкает исходно и прямо мир как мир.
Не сначала, скажем через размышление, отвлекаются от внутри-
мирного сущего и мыслят уже только мир, перед которым потом
возникает ужас, но ужасом как модусом расположенности впервые
только и разомкнут мир как мир. Это однако не означает что мир-
ность мира осмысливается.
Полностью перестает осмысливаться и Dasein, становясь чистой воз
можностью.
Ужас обнажает в присутствии бытие к наиболее своей способно
сти быть, т. е . освобожденность для свободы избрания и выбора се
бя самого. Ужас ставит присутствие перед его освобожденностью
для (propensio in...) собственности его бытия как возможности, ка
кая оно всегда уже есть.
То, что известно как аналитика присутствия, относится только к
присутствию, вышедшему в публичность. В своем существе присут
ствие есть чистая возможность, или, переходя к языку «Beiträge», чи
стое начало до его втискивания в какие бы то ни было традиционные
схемы.
ι. Бытие и время, с. 182, i86,187.
498
ХАЙДЕГГЕР: ОТ «БЫТИЯ И ВРЕМЕНИ» К «BEITRÄGE»
Аналитика исходного присутствия невозможна как из-за его просто
ты, так и потому, что на уровне экзистенции присутствие невидимо.
В фактическом ужасе жуть [вовсе не всегда] понята. Повседневный
способ, каким ее не-по -себе понимается присутствием, есть падаю
щее отшатывание, «гасящее» ту не-свойскость. Обыденность этого
бегства феноменально показывает однако: к сущностному устрой
ству присутствующего бытия-в -мире, в качестве экзистенциально
го никогда не наличному, но существующему по себе всегда в мо
дусе фактичного присутствия, т. е. расположения, принадлежит как
основорасположение ужас. Успокоенно-освоившееся бытие в мире
есть модус жути присутствия, не наоборот. Не-по -себе
экзи-
стенциально-онтологически следует принимать за более исходный
феномен.
Эк-зистенция есть выступание из себя, и не существенно, происходит
ли при этом падение вниз присутствия (в безответственность внеисто-
ричности) или вверх (в возвышенный образ мысли). Куда Dasein выпало
из себя, там само оно не наличествует, не наблюдается и не может быть
описано. Хайдеггер не философ экзистенции потому, что его занима
ет существо присутствия; аналитика экзистенции в «Бытии и времени»
только экскурс; важнее то, что до падения присутствия происходит, не
в его исступании из себя, а в его стоянии внутри, Innestehen. Онтологи
ческая разница между падением в бытие сущего и вниманием к Бытию,
которое Хайдеггер пишет через Seyn, составляет всё дело философии.
Падение для Dasein более естественно чем хождение по канату. Акробат
провел всё различение, какое мог провести, тем, что идет по канату, а не
падает. Даже только наблюдая, мы невольно участвуем в его поступке,
по крайней мере сочувствием.
В самом начале «Beiträge», объясняя название книги, Хайдеггер гово
рит о трудном переходе от метафизики к событийной (seynsgeschicht-
liches) мысли. Речь может идти пока только о попытке. Если попытка
удастся, она не будет похожа на «исследование» в прежнем стиле.
Настающая мысль есть мыслящий путь, на каком только и может
быть пройдена до сих пор вообще еще потаенная область осущест
вления Бытия (des Seyns), впервые таким путем прояснена и по
стигнута в своей собственнейшей черте события
1
.
ι. GA,Bd.65,S.з.
499
ПРИЛОЖЕНИЕ
Захотеть и написать книгу так, чтобы в ней произошел переход от ме
тафизики к мысли, не удастся. Для этого надо, чтобы существо Бытия
(Seyns) захватило мысль и потрясло ее. Такое потрясение (Erzitterung)
высвобождает мощь сокровенного смирения, обожествления Бога бо
гов, откуда — из мягкой смиряющей близости поднимающегося боже
ства — исходит подсказка здесь-и -теперь-бытию (Da-sein), указание ему
в сторону Бытия; исходит обоснование истины бытия. Настающее не
расписано.
Читая «Бытие и время» объемно, каждый момент развертывания эк
зистенции можно рассматривать как проекцию начальной простоты
присутствия на вещное множество. Несмотря на подробные хайдегге-
ровские пояснения предлога in, термин бытие-в-мире, особенно в пе
реводе, многим слышится как вхождение одного в другое. В свете без
условной простоты присутствия с геометрической ясностью понятно,
что у него нет частей, чтобы расположиться в чем-то другом; вспомним
классику о точке, которой из-за ее простоты нечем прикоснуться к дру
гой точке, нечем войти в прямую, нечем составить пространство, так
что точка строго говоря оказывается единственной. Отношение присут
ствия к миру, в котором оно, может быть только тожеством. Экзистен-
циал das Man (люди) придется разбирать как аспект исходного в, т. е.
принимая во внимание неотделимость падения присутствия от феноме
на das Man. Падение утратит негативный моральный смысл и сольется с
брошеностью (Geworfenheit), составляющей существо присутствия (Da
sein) в том его начале, где оно еще не вошло в истолкованное простран
ство и, следовательно, не может не искать указаний. Сквозная в «Бытии
и времени» тема собственного (Eigentliches), давшая Теодору Адорно по
вод посмеиваться над «жаргоном непосредственности» (Jargon der Ei
gentlichkeit), окажется шагом к осмыслению события как особствен-
нения (Er-eignis) через явление Бога богов в интимной глубине (Inner
lichkeit).
Всего больше переход от «Бытия и времени» к другому началу под
готовлен развернутым во второй части этой книги понятием мгнове
ния (Augenblick). Казалось бы, человек, падая в бытие сущего, растянул
ся или, как в одной из статей говорит Хайдеггер, раскорячился необра
тимо в пространстве. Пространственно внутримирно подручное (§ 22),
растянуто во времени толкование (§ 32), тонут в пространстве и време
ни отсылание и знак (§ 17). Но после этого на первый взгляд необрати
мого разбрасывания присутствие возвращает себе простоту благодаря
500
ХАЙДЕГГЕР: ОТ «БЫТИЯ И ВРЕМЕНИ» К «BEITRÄGE»
решимости, заступающей за рамки сущего (§ вг). Поток времени размы
кается такой вещью как мгновение. Как присутствие, исходно простое,
растянулось в эк-зистенции, так прошедшее, настоящее, будущее ока
зываются только эк-стазами времени, вторичными на фоне мгновения.
В мгновении время открывает свое лицо; существом прошедшего ока
зывается ставшее, настоящего — подлинное, будущего — настающее.
Ставшее присутствует в мгновении ничуть не в меньшей мере чем на
стоящее (подлинное); то и другое, ставшее и настоящее, сцеплены наста
ющим, которое будет не завтра, а уже есть в это мгновение. Мгновение
всем своим ставшим и настоящим нацелено на настающее.
Мгновение, достигнутое в его простой собранности, становится ме
стом другого начала. Наоборот, история экзистенции, упавшей во вре
мя, когда ставшее расплывается в бесконечное прошлое, настоящее рас-
существилось до неуловимого текущего момента, а настающее потону
ло в неопределенности будущего, даже окончившись, может затянуться
надолго.
Мы должны осмыслить здесь начало европейской мысли и то, что
ею достигнуто и не достигнуто, потому что мы стоим в конце — в
конце этого начала. А это значит: мы стоим перед решением меж
ду этим концом и его затуханием, способным заполнить еще сто
летия, — и другим началом, которое может быть лишь мгновени
ем, чья подготовка однако требует такого терпения, до которого
«оптимисты» так же не доросли, как и «пессимисты».
1
3. Уточним различение между метрикой и топикой (наши термины).
Первая размещает рассматриваемое в системе координат. Во второй
вещь, на которой сосредоточен взгляд, не распределяется внутри гото
вого пространства, а развертывается вглубь так, что втягивает в конеч
ном счете всё. Так дерево, в которое вглядывается Шопенгауэр, переста
ет быть одним из и вмещает в себя целый мир. Траектория историческо
го движения, начатая античностью, подходит к своему концу. Отсюда не
следует, что сама собой начнется другая. Задание нашего исторического
бытия неизвестно, и нам доступно только готовиться к мысли, которая
его откроет; мы его поэты, искатели
2
.
Философия теперь сама другое-,
она не движется в сетке координат, а расплавляет их систему. Расстать-
1. GA> Bd. 45>S. 124.
2. GA, Bd. 65, S. 11-12.
501
ПРИЛОЖЕНИЕ
ся с метрикой трудно. Требуется прыжок в то, чего еще нет. Хайдеггер
открывает в «Beiträge» высшую школу присутствия, или, что то же, выс
шую школу настроения (расположения). Параметры этого настроения, с
одной стороны, немыслимая далекость последнего Бога, а с другой, тай
ная близость далекого. Вера (Glaube) открывает предельную даль и ви
дит, что ближе этой дали человеку ничего нет. Испуг, молчание, стыд
(позор разглашения тайны) — уроки новой школы
1
. В античности с ее
установкой на выправку тела и духа, на задачи полиса в его противо
стоянии свободного меньшинства деспотической массе главной необхо
димостью были добродетель, справедливость и мужество. Нашей совре
менности важнее ощутить нужду в Бытии.
Она заслонена нуждами человечества, ввязавшегося в многообраз
ные отношения с сущим и только с ним. Сложилась ситуация, когда
всем не хватает всего. Необходимость немедленно принять меры про
тив нехватки не оставляет места для нужды другого, забытого рода. Ка
тастрофически иссякают природные ресурсы. Кто сейчас посмеет ска
зать, что не первоочередная нужда питание населения; не философ ли
открыл людям глаза на грубую, но неопровержимую истину: Man ist,
was man ißt.
Кто такие мы? Вот эти, поглощенные своими нуждами? Или просто
«человек» как таковой? Человек есть только как исторический, и когда
он не участвует в истории, то принадлежит ей привативно. Мы тогда на
род? Вопрос, кто такой народ, труднее чем кто такие мы. Ища, кто такие
мы, не надо ходить далеко. Вопрос приглашает возвратиться (die Kehre)
к себе. Ответить «мы предприниматели, рабочие, сторожа, военные, тор
говцы» нельзя
2
. В своих занятиях я бросил себя на овладение сущим; са
моосмысление требует другого, речь идет о Бытии. Когда в отношении
успешного дельца, организованного народа звучат уверенные голоса о
полноте самоосуществления, их надо понимать как самоуверение. Это
однако другое чем самоосмысление. Человек —задача по существу дру
гая, чем успешное функционирование. Существо всего меня не сообща
ет о себе и нигде не описано. На «кто такие мы» нет ответа вне обрете
ния своего собственного, Er-eignis, возвращения к себе как такому, кото
рый есть, т. е. весь . Кто отдал себя такому осмыслению, идет неизбежно
против всей широко развернувшейся деятельности устроения, обеспе-
1. GA, Bd. 65, S. 14.
2. Ibid., S. 49.
502
ХАЙДЕГГЕР: ОТ «БЫТИЯ И ВРЕМЕНИ» К «BEITRÄGE»
чения, удовлетворения нужд
1
. Непосредственного понимания фило
софия никогда не получит; сопротивление она встретит в любом слу
чае, и это лучшее, на что она может рассчитывать; холодное равноду
шие хуже.
Попробуйте однако не задать этот неудобный вопрос, кто мы такие.
Кто нас тогда охранит от готового знания, что мы тело, душа и дух и
должны жить полной жизнью на всех этих уровнях? Что такое тело,
душа и дух, нам объяснят. Что такое личность, гений, культура, народ,
мир, скажет тысячелетняя традиция. Эти ответы освященные, приня
тые веками, и часто незнание правильных ответов на них наказуемо.
Хайдеггер называет ответы, всего громче звучавшие в его время: на
род, раса; марксизм. Оба ответа замахнулись на господство над миром.
Марксизм не имеет отношения ни к иудаизму, ни к русскости; она ма
ло подвержена идеологической заразе; «если где-то еще дремлет нераз
вернутый спиритуализм, то в русском народе». Большевизм есть запад
ная, европейская возможность: восстание масс, промышленность, тех
ника, отмирание христианства, господство рационализма как всеобщее
уравнивание2
.
Страшные решения, страшные ответы. Еще страшнее то, что они от
пугивают современность меньше, чем дело самоосмысления. В предла
гаемых ответах есть хоть привычные ориентиры; здесь их нет. И всё же
к себе прийти мы должны; только через вопрос, кто такие мы, ведет путь
к спасению, т. е . к оправданию Запада.
С этим вопросом связан другой, кто такие боги. Единственные веру
ющие суть спрашивающие о том, кто мы такие, кто мы есть. Хайдеггер
имеет тут в виду не вероисповедание в любой форме, а «существо веры,
понятое из существа истины»
3
. Принято считать, что истина предмет
познания, а не веры; место веры там, куда знание не достает; например,
я верю сообщению, убедиться в истине которого не могу; знание обры
вается на линии сообщения, и его подхватывает вера. Но как возможно
знание истины бытия? Она просвет (Lichtung; можно думать о поляне в
лесу, о сценическом пространстве, о снятии с якорей), где Бытие откры
вается в своем существе как хранительное утаивание себя, Sichverber
gen. В просвете видно только то, что бытие бездонно. Как знать такую
ι. Ibid., S. 53·
2. Ibid., S. 54.
3. Ibid., § 237.
503
ПРИЛОЖЕНИЕ
истину? Только держась в ее бездонности. Видеть в истине тайну значит
верить. Можно конечно решить, что бытие есть просто обобщенное по
нятие существующего; что нет бездны бытия, нет его тайны, на которую
никто не знает ответа. Хайдеггеровский ответ заключается в том, чтобы
услышать в вопросе настоятельную задачу. Спрашивание есть наша ве
ра; перестав держаться на уровне, обозначенном параметрами глубины,
бездны, тайны, свободы, мы теряем веру.
Спрашивающие этого рода суть исконно и собственно верующие,
т. е. те, кто с безусловной серьезностью ищет саму истину, а не толь
ко истинное; кто способен решать, осуществится ли существо ис
тины и захватит ли, поведя за собой, это осуществление нас самих,
знающих, верующих, поступающих, созидающих, короче, истори
ческих.
1
Исходная вера труднее религиозной, которая дает на что опереться: на
священную книгу; на икону; на хлеб, который берут в руку и съедают,
становясь если не по природе, то по благодати божественными. Муже
ство стоять без опоры религиозной вере не нужно. У спрашивающих,
кто такие мы, нет другой опоры кроме надежности тайны,
поскольку спрашивание непосредственно подставляет себя осу
ществлению бытия и по опыту знает необходимость (Notwendig
keit) бездонного.
2
Кто Бог этой веры? Она опирается на неизбежность бездны, чувству
ет, что только в ней мы найдем себя, и уверена, что человека хватит для
такой глубины; так далеко достает человеческая свобода — и здесь рус
ское слово лучше немецкого, потому что напоминает о своём. Кого хва
тило на такой размах, тому начинает не хватать Бога. Это происходит,
когда человек захвачен весь тем, от чего захватывает дух; захватываю
щее глубже и духовности тоже; захвачен свободой и ее бездонной тай
ной. Когда его хватает на бездонную глубину, ему начинает не хватать
Бога — не для опоры в пустоте, а от ощущения, что Бог не может быть
больше нигде как в этом нерез-край. Где выстоял спрашивая о бездне че
ловек, там должен быть и Бог; у веры хватает знания, что более достой
ного места Ему не может быть.
ι. GA, Bd. 65, S. 369.
2. Ibid ., S. 370·
504
ХАЙДЕГГЕР: ОТ «БЫТИЯ И ВРЕМЕНИ» К «BEITRÄGE»
Значит ли это, что человек равен Богу? Без-мерность и безразмер-
ность странного места встречи с Ним исключает сравнения. Предельны
и место события, и бездна свободы, и глубина своего; место встречи не
расписано и тонет в глубоком молчании. С другой стороны, и встреча, и
высшее сущее Бог — начало речи, начало мира.
Из этой пока еще бледной картины пейзажа, где мы оказались, яс
но, что последним Бог назван не во времени, а в глубину. Он последний
по степени захваченности человека своим собственным, ближайшим
и вместе последний как самый далекий, на какого нас в размахе наше
го упорства и настойчивости хватило. Последний он и потому что не
приступный; о нем невозможно говорить, пока он сам не разрешит наше
молчание. В предельной захваченности, говорит вера, человека должно
хватить на такую глубину, когда последний Бог проходит в тишине, где
ничьи голоса не слышны; в неизмеримой глубине. Только окунувшись
сюда, в нетронутую тишину, присутствие впервые находит свой подлин
ный голос, сначала голос молчания, основы речи. Когда она зазвучит на
этой основе, то невозможно различить, говорит ли человек, которого
хватило на Бога, или Бог, которого человеку стало не хватать. Бескрай
ность свободы предполагает, что своё притягивает к себе Бога. Одинако
вая предельность требуется от человека, чтобы его хватило на последне
го Бога, и от безосновной свободы, чтобы Бог разместился в ней.
Вопрос кто такие мы оказывается другой стороной вопроса кто та
кие богиу но не так, чтобы между теми и другими наметилось какое-то
уравнение. Происходит другое, вопросы накладываются друг на дру
га, настойчивее обращаются к нам и не предполагают ответа, наоборот,
скорее исключают его, потому что, понятые по-настоящему, зовут от
всякой готовой речи назад к основе речи, в молчание ранней тишины.
Исторический человек ни в чем не нуждается больше чем в таком
возвращении. Слово нужда звучит негативно, заставляет думать о недо
статках, даже о зле. Благосостояние обеспечивается непрерывным при
током полезных вещей вдобавок к тому, что в какой-то мере уже до
стигнуто и требует теперь по меньшей мере поддержания на прежнем
уровне. О том, чтобы благополучие возрастало, позаботится прогресс.
Открывается ясная перспектива без будущего; все усилия направлены
на еще плюс к тому, что уже есть
1
. А если человек принадлежит не то
му, что уже есть? если наше существо в том, чего еще нет и никогда не
ι. Ibid., S. 112-113 .
32-2015
505
ПРИЛОЖЕНИЕ
было? поспешим ли всеми силами обеспечить себе достигнутый статус?
Нет. Нуждой мы назовем тогда то, что принуждает нас искать и спраши
вать. Она будет вести нас. Мы расстроимся, если однажды, крепко вы
спавшись, проснемся без нее. Мы не будем ждать от прогресса новых
достижений, которые удовлетворят нашу бытийную нужду; скорее нао
борот, она отодвинет в сторону или даже заставит забыть нужду в бла
гополучии. Бытийная нужда требует от нас такого, что мы становимся
другими людьми. Она ведет нас к неизвестному, странному. О житей
ских нуждах редко стыдятся сказать. О бытийной нужде едва ли даст го
ворить тот стыд, о котором упоминалось выше в ряду испуг-молчание -
стыд. Я не признаюсь, что мне нужно другое чем всем среди всеобщей
нужды, потому что боюсь сорвать своим словом то, о чем по-настояще
му умею пока только молчать.
Между нуждой и нуждой нет спокойного сосуществования. Не полу
чится, успокоив одну нужду, заняться на досуге другой. Для Александра
Македонского (наш пример), когда он стоял над Диогеном и его бочкой,
кричащая нужда этого человека бросалась в глаза; на вполне разумную
просьбу о пособии для продолжения философских исследований Алек
сандр легко ответил бы согласием, но услышал просьбу другого рода.
Испуг, молчание, стыд, мешающие говорить о бытийной нужде, не
уживаются с робостью, не мешают Хайдеггеру говорить, что погоня за
вещами происходит от покинутости бытием; не мешает поставить диа
гноз той предельной степени покинутости, когда массе, бешенствующей
в гигантском самоупорядочении, уже не удается осуществить даже свое
тайное желание самоуничтожения. Бытийная нужда берет на себя дер
зость усомниться, что вся вообще «культурная деятельность» еще нуж
на и дерзает сказать, что настоящей необходимости в ней уже нет, что
мы слишком успокоились внутри механизма культуры и нас не хватает
не только на бытие, но и на настоящее культурное дело. Между нуждой
и нуждой настолько нет согласия, что отдать себя опыту молчания вы
глядит среди общей забытости бытия жертвой \
Оставленость бытием сделала так, что кругом мы видим только пред
меты. За ними как тень тянется нужда, потому что их слишком много,
как расстояний, которые надо сократить, или слишком мало, как земель,
которые надо расширить. Нуждой становятся и ненужные предметы, от
которых надо избавиться. Всё повертывается лицом нужды. Когда орга-
1. GA, Bd. 65, S. 114.
506
ХАЙДЕГГЕР: ОТ «БЫТИЯ И ВРЕМЕНИ» К «BEITRÄGE»
низованная масса справится с вещами и упорядочит их, нуждой станет
поддержание системы; ее частью будет и культурная машина. Уверен
ность, что в опоре на науку и технику всеобщее упорядочение возмож
но, требует заранее выявлять нужды, чтобы иметь перед глазами пол
ный фронт работ; уверенность таким образом входит во всеобщий круг
нужды. Для вопроса, кто мы такие, не остается просвета: перед нуждами
мы те, кто с ними справится. Настроенный на дело не нуждается толь
ко в вопросе, тот ли он, за кого себя принимает. Мы, спрашивающие,
кто мы такие, будем помехой; нас попросят рассказать, чем мы заняты,
объяснить, какие народнохозяйственные нужды устраняются нашим за
нятием.
Где знание правильного стоит вне сомнений, направляя всякое
действие и бездействие, что там еще делать вопросу о существе ис
тины (непотаенности)?
А где это знание правильного может кроме того сослаться на де
ла, кто тут захочет бесполезными вопросами о каком-то существе
подставлять себя насмешкам?
Из затемнения существа истины как основания присутствия
в бытии и создания исторического бытия происходит ненуждае
мость [человеческой массы в бытии среди множества ее общепри
знанных нужд].
Не хватает ресурсов и не хватает Бога, нужда в сущем и нужда в
бытии — почему они вообще называются одним словом? они в конеч
ном счете одно и то же, только в одном случае скрытно, в другом откры
то? существо истины есть раскрытие и вместе сокрытие?
4- Немецкое Wahrheit этимологически связано с важной и работающей
в англо-саксонском мире до сих пор идеей верности и торжественного
обещания. В других языках ветвями того же корня считаются лат. verus
и рус. вера. Поскольку религия понималась как закон, ст. -с л ав, вгьра име
ла сильный правовой смысл; он сохранился в верный в смысле надеж
ный. Слепо верящий всему человек назывался в древнегерманском ala-
waari; теперь это слово звучит albern, тупой; ход развития смысла при
мерно такой, как во фр. chrétien, зафиксированном в горных диалектах с
ι8 в. в значении chrétin. Когда мы по-русски говорим верно, верно сказа
но, как бы тут было вернее поступить, то мы ближе к немецкому Wahr
heit, чем когда говорим истина или правда. Все три русских слова высве-
32*
507
ПРИЛОЖЕНИЕ
чивают разные стороны Wahrheit; каждое по-своему подсказывает, что
дело идет о чем-то трудном для достижения. Всего явственнее преграда,
окружающая истину, слышится в греческом αλήθεια; значение истины
создано тут добавлением к корню со значением забывания, ускользания,
сокрытия, незамечания, провала в памяти, провала в сознании отрица
тельной частицы. Алетейя древнее слово; у Гомера, с другим ударением,
оно часто применяется к речи, высказыванию и значит что-то вроде ска
жу без утайки, как если бы всякое говорение своей первой возможнос
тью имело утаивание. Как могли греки за тысячу или более лет примене
ния этого слова не задуматься о его глубине, Хайдеггер не понимает.
Глагол λανθάνω значит ускользнуть от внимания, быть забытым, ча
сто со злым умыслом скрыть, утаить, провести всё так, чтобы никто не
заметил. Замечательная черта этого греческого слова та, что в нем не
прочерчена разница между тем, сам я чего-то не заметил или постарал
ся что-то сделать незаметно. Если вдуматься, то действительно скрыть
что-то от других, не скрываясь сам от себя, я не могу. Λανθάνω ποιούν
τι — в одинаковой мере и сам не замечаю, что делаю и делаю что-то не
заметно. Человек хотел дать что-то другому, но ελαθε αυτόν μη δούναι,
сам за собой не заметил что не дал; нечаянно не дал. В ср. залоге это сло
во значит забыть; и А. Ф. Лосев слышал алетейя как то, что нельзя за
бывать. Правда, для этой идеи греческий пользуется другим синтакси
сом без альфа привативум.
При любом толковании бесспорным в греческом названии истины
остается напоминание о сокрытии, спрятывании, ускользании от вни
мания, провале в беспамятство.
Истина бытия, в которой и в качестве которой таится, обнаружи
ваясь, его осуществление, есть событие. А оно есть вместе осу
ществление истины как таковой. В повороте события осуществле
ние истины оказывается также истиной осуществления. И эта об
ратимость сама принадлежит бытию как таковому.
1
Каким образом от хайдеггеровского текста подобного рода получить
информацию? Ответ жесткий: информация нам вообще не потребует
ся; событие не такая вещь, чтобы его можно было измыслить мыслью.
Оно не мыслимое. Дело идет не о системе взглядов. Зачем тогда прочист
ка леса, создание просвета вокруг тайны, поднятие якорей, отпускание
ι. GА, Bd. 65, S. 258.
508
ХАЙДЕГГЕР: ОТ «БЫТИЯ И ВРЕМЕНИ» К «BEITRÄGE»
судна в плавание, зачем Lichtung? Снова жесткий ответ: ваше зачем на
чем стоит? какую опору имеет? может ли оно иметь другую опору чем
в истине? Но истина есть опыт тайны и прояснение ее как таковой, т. е.
прежде всего и в конечном счете открытие тайны как необходимости,
предельной нужды.
Осуществление бытия разве только его обрастание, окружение су
щим? не будет ли это скорее провалом бытия? Такое осуществление бы
тия, когда оно впервые выступает само в отличие от сущего, непривыч
но для метафизики; в лучшем случае, когда она не считает бытие лишь
абстракцией сущего, она возвращается к античной φύσις, порождающей
природе, источнику сущего. Сущее и здесь тоже остается единственной
опорой, на которой и из которой начинается строительство.
Попробуем полностью перевернуть, да просто смять эту удобную для
метафизики картину. Всё продуманное Хайдеггером до сих пор, преж
де всего в «Бытии и времени», идет тут в дело. Нет никакого сущего, ко
торое развернуто перед нами природой, Богом или бытием, чтобы мы
устраивались посреди него. У нас не больше свободы потянуться рукой
к сущему чем у корней дерева подняться из земли. От начала своего ро
дового и личного существования мы вросли всеми своими корнями в
землю с цепкостью, о которой не подозреваем. В отличие от деревьев мы
выдвинуты кроме того в мир, о котором знаем не больше чем о земле.
Трезвея и просыпаясь, мы и здесь видим у себя мало, а потом и вообще
не больше свободы действия, чем у корней в земле. Мы брошены в то,
что сложилось без нас и до нас. Не другая сила, а та же энергия брошено-
сти бросает нас на то, во что мы брошены. Но разве мы бросаем себя на
сущее, вещи, предметы потому, что все эти готовые вещи уже есть
7
, кто
нам сказал такое? Нас научили, что они есть и как называются, метафи
зика, религия, политика, публицистика. Сказал также здравый смысл?
И вот нет. Здравый смысл близок к тому, чтобы не верить объяснени
ям мира и задуматься о том, как «много тайн, которые нас окружают».
Истина того, во что мы брошены, скрыта прежде всего сообщениями
о ней.
В столкновении цивилизационных расписаний, где одно претенду
ет быть истинным или где истину отдают разным мнениям, филосо
фия другого начала имеет предложить еще одно объяснение? Нет. Она
говорит об опоре, которую ищет, возвращаясь от любых представлений
о сущем к воспоминанию, что мы брошены не помним когда не знаем
во что. В странное, загадочное; загадка и мы сами. Не надо думать, что
509
ПРИЛОЖЕНИЕ
в философии другого начала как в экзистенциализме от человека ждут
решения в пустоте; кто так подумал, промахнулся мимо ближайшего.
Мы брошены и этим вынесены в исключительное отношение ко всему.
Остановиться на уникальности нашего положения, суметь удержаться
в его неопределенности, не спеша с решениями, значит взглянуть в ли
цо тайны. Сущее, уверяет метафизика, существует, т. е. оно неким обра
зом готово. Наоборот, Бытие всегда только осуществляется. Оно сбыва
ется в событии, которое всегда мгновенно, и вспыхивая создает мест«,
Stätte, где проходит и снова ускользает Бог
1
. Если ищут просвета тайны
не чтобы разоблачить, а чтобы открыть ее таинственность, то возмож
на ли опора на сущее? Нет; в дело идет только само осуществление, соз
дание мест, которые никогда не оказываются вне тайны. Раннее понима
ние бытия: прибыль сущего, фюсис. Другое начало готовит осуществле
ние самого по себе бытия в событии.
Как могут участвовать в событии люди, вросшие корнями в землю?
Не уходя от своей ситуации и принимая ее всю. Область, на которую
они бросают себя, есть та самая, куда они брошены, ближайшая и тесня
щая 2
. Не выбирая, на что себя бросить, чистое присутствие поднимает
всю свою брошеность и выносит ее. Беззащитное принятие становит
ся всем его делом. Его стояние в середине (Inmitten) того, что можно те
перь называть сущим, дает ему возможность, не упуская свое укорене
ние, стать просветом (Lichtung) этой плотной среды. Вся она снимает
ся с якоря, взвешивается в безопорности и тем показывает свою истину.
Тайна не вне сущего, понятого как то, во что мы брошены; в просвете
события сущее возвращается из своей объясненности. Шаг делается не
в сторону от тесноты в позицию наблюдателя, а внутрь тяжести. Среди
крайней необеспеченности открывается тот размах человеческой сво
боды, когда человека хватает на то, чтобы найти опору в бездне. Пото
нуть в середине сущего и быть там местом просвета, возвращая сущему
бездонную глубину и служа местом для тайны.
Истина есть [...] бездонная середина, которая сотрясается при
прохождении Бога и таким образом становится вынесенной (aus
gestandene) опорой для основания созидающего присутствия.
3
i.GA,Bd.65,S.26o.
2. Ibid., S.327.
3. Ibid., S. 331.
510
ХАЙДЕГГЕР: ОТ «БЫТИЯ И ВРЕМЕНИ» К «BEITRÄGE»
Разве мысль здесь действует? Нет. Здесь впервые открывается место,
в котором начинается человек. Какой, состоящий из тела, души, духа?
Этого мы пока еще не знаем. Знаем только, что без захваченности свобо
дой (можно понимать Ereignis через свободу как возвращение к своему)
истина не откроется. У мысли здесь не то что мало силы, но дело идет о
том раннем просторе, когда еще никто не установил, что такое мысль.
«Свободу невозможно форсировать напряжением логической мысли,
Ereignis ist nicht denkmäßig zu erzwingen»
1
. События не устроишь мыс
лью, или, вернее, так: мысль вся, начиная с ее собственной возможности,
отдала ответственность за себя безопорному посреди. Точки отсчета в
самой себе она уже не имеет.
В годы написания «Ereignis» Хайдеггер читал Гёльдерлина и не мог не
думать об абсолютной невозможности для поэта обеспечить себе ту бо
жественную диктовку, Dichten, под которую он пишет. Бессилие поэта и
философа здесь одинаково. Соседняя вершина поэзии оказывается со
всем близка.
Бытие скрывается, прячется, бережет себя в неприступности. Мета
физическая традиция на протяжении всей европейской философской
школы склонялась в сторону позитивного понимания истины (але-
тейи), ища в ней подход к тайне. Постоянный спутник философии,
богословие, наоборот, находило себя в негативном понимании боже
ственной истины, непостижимой, неприступной, неименуемой. Но тут
же оказывалось однако, что богословие знает страшно много о том,
что называет непостижимым, причем знает с окончательной догмати
ческой определенностью. Что внутри тайны идет спор, больше того,
что тайна и есть бой, сражение, der Streit в смысле гераклитовской вой
ны, — это вызовет у богослова сначала растерянность, потом он вспом
нит свой догмат и со снисходительной улыбкой поправит нас: ну разу
меется; невидимая война; между Господом и Сатаной. Но ведь Господь
вседержитель, пантократор? значит та война не настоящая, она види
мость, театральное представление войны? — Честный богослов сможет
тут ответить только, что мы затронули вопрос, который обсуждает
ся тысячелетия и еще не решен. Он отошлет нас к библиотеке книг на
эту тему, после чтения которой у нас останутся те же вопросы. Богос
ловие поэтому не исправляет крена в сторону оптимистического по
нимания алетейи. Она потеряла свое альфа-привативум, вернее, фило-
1. Ibid., S. 235·
511
ПРИЛОЖЕНИЕ
софская школа превратила неприступность истины в поле для мысли
тельной работы.
Дело не доходит до вопроса о потаенности и утаивании (тайны),
ее происхождении и основании [...] αλήθεια утрачивает [...] мно
гое от своей исходной глубины и бездонности.
1
Цивилизация увлечена устроением (Machenschaft). Она оказалась
способна многое сделать. В ней теперь почти всё стало сделанным. Раци
ональная мысль (представление) неостановимо развертывает свои воз
можности, чтобы овладеть последними островками непознанного суще
го. Кажется, что она тем самым возвышается над собой, по сути однако
осаживает себя ниже того уровня, на котором исходно она была захва
чена непосредственным восприятием сущего в целом.
Так, опущенный ниже самого себя, разум именно благодаря этому
достигает кажущегося господства (на почве самозанижения). Это
мнимое господство должно однажды разрушиться, и текущие сто
летия осуществляют это разрушение, но неизбежно с подкладкой
возрастания «разумности» как «принципа» всеобщего устроения.
2
В альтернативных проектах цивилизации взамен предлагается опять
устроение, более революционное или радикальное. Предлагается всег
да более рациональное устройство с еще большей уверенностью в силе
разума и еще меньшей готовностью к тому, чтобы встретить в сущем, в
вещах, в материальных, в том числе человеческих ресурсах непосильное
для разума. Тайна в любом случае подлежит разъяснению.
В опоре на что? В конечном счете — на бытие. В бытии ищет опору и
Хайдеггер. В чем разница? Для разума бытие есть; в космосе, в хаосе, в
микрочастицах оно выступает надежной опорой благодаря тому, что су
ществует. Дайте науке одну только эту опору, согласившись, что сущее
существует; на одной такой основе она устроит всё. Так для теоретиче
ский физики постмодерна достаточно, чтобы что-то было; любой мате
матический формализм найдет приложение к действительности, исходя
только из чистого факта бытия. Для Хайдеггера это не бытие; бытие не
это. Оно не существует, а осуществляется настолько, насколько нашего
здесь-и -теперь бытия, Da-sein, хватает на захваченность бездной. То, что
ι. GAy Bd. 65, S. 332.
2. Ibid ., S. 336.
512
ХАЙДЕГГЕР: ОТ «БЫТИЯ И ВРЕМЕНИ» К «BEITRÄGE»
устроители называют бытием, уже подделано под то, чем они заняты, —
под сплошное устроение всего сущего.
5. Конструктивного диалога между тотальными устроителями и мыслью
не получается. Хайдеггер настаивает, что надо, в смысле абсолютной не
обходимости и в порядке первой нужды, сойти с ума.
[...] еще нет понимания единого необходимого и захваченности
им. Само наше присутствие (Dasein) достигается только через
сдвиг (Verrückung) человеческого бытия в целом и, значит, исходя
из осмысления нужды в бытии как таковом и в его истине.
1
Сойти с ума значит перестать стоять и строить на представлениях разу
ма. Никакими своими усилиями разум не сможет устроить событие. Ис
тина не в его суждениях.
Слишком далеко зашло заблуждение. Начинать работу велит тем бо
лее глубокая нужда, что она почти никем не ощущается. Почему было
забыто бытие? разве от недостатка таланта, стиля, остроты ума у мыс
лящих, пишущих, проектирующих, прогнозирующих, устроителей? Во
прос об истине оказался загорожен истинами потому, что мыслители не
сошли с позиций ума.
Осуществление истины самым глубоким и интимным свойством
имеет то, что оно исторично, Geschichtlich.
История истины, вспышки и превращения и обоснования ее суще
ства, состоит лишь из редких и расположенных далеко друг от дру
га мгновений.
Быстро, уже под руками самих искателей, эти мгновения каменеют. Вит
генштейн записывает в дневнике: всё что только вчера еще плавилось
и обещало форму, сегодня с утра снова застылая смесь металла и шла
ка, и расплавлять надо заново. И Хайдеггер американскому аспиранту:
вам не нравится, что на каждом занятии вы кажетесь себе в моей фи
лософии жалким новичком? А я так чувствую себя каждое утро. Вза
мен мгновенной свободы события просачивается тоска в виде «вечных
истин», которые еще и понимаются в смысле многовековой давности.
2500 лет истина понимается как όμοίωσις, adaequatio, соответствие меж
ду разумным понятием и вещью. Как будто кем-то — бытием? Богом? —
ι. Ibid., S. 540-541·
51З
ПРИЛОЖЕНИЕ
всё заранее устроено так, что осталось только составить детали паззла,
кирпичики в уме привести в соответствие с кирпичиками действитель
ности, и истина у нас в руках. Так ведь не всегда было; а что если не всег
да и будет?
Не стоим ли мы в конце такой долгой эпохи ожесточения существа
истины и тогда уже на пороге нового мгновения ее скрытой исто
рии?
1
Но каким может быть это новое мгновение, кроме того, что оно бу
дет тоже скрытым? разве событие снова не ускользнет? Никогда нель
зя будет отступить на шаг от держания истины, от стояния без опо
ры. Истина, как и бытие, не есть, а осуществляется. Только так воз
никает исторически, в мгновенном событии, времепространство (die
Zeit-Raum) истины, застывающее потом в бесконечные время и про
странство.
Вместе с тем, отвердение истины не фатально. На ее стороне, кроме
мгновенной вспышки, есть и другое: неприступная уклончивость, не
предсказуемая медлительность; каждое мгновение истины как невиди
мое зерно в земле, возможно, созревающее. Оно дает прибыль (фюсис),
как понимали бытие древние. Скрытность, отказ, промедление, упрям
ство, молчание нужны тут не меньше чем при событии истины. Отказ
зерна: оно ушло под землю, чтобы дарить потом.
Истина: опора как бездна. Опора не: откуда; но в нем как принад
лежащая истине. Бездна: как времепространство (Zeit-Raum) спо
ра (des Streits); спор как сражение земли и мира, ибо отношение ис
тины к сущему!2
Беспросветная земля, в которой мы всеми корнями, не знает слов.
Мир, в который мы выдвинуты, не может вглядеться в землю и назвать
ее; для него всё при первом приближении пока еще только есть, напри
мер вот это мое тело. Постепенно мир начинает прояснять себя. Если с
его объяснением не поторопились, то чем больше просвета истины, тем
непрогляднее тайна земли и мира. Поиски опоры в земле обманут нас,
закрыв наши глаза на то, что мы сами земля. Чтобы опереться на мир,
следовало бы сначала знать, где он; мы видим только его части. Остается
i.GA,Bd.65,S.342.
2. Ibid., S. 346 .
514
ХАЙДЕГГЕР: ОТ «БЫТИЯ И ВРЕМЕНИ» К «BEITRÄGE»
опора в невидимом. Истина откроется решимости, настроенной стоять
среди безопорности бездны.
Настроение, казалось бы, самое летучее из всего, на что можно опе
реться. Считается, что на нем ничего нельзя построить. Скорее всего, я
не поспешу показывать свое настроение, не стану его разглашать. Вме
сте с тем, именно это качество настроения прежде всего нужно для при
ближения к такой вещи как истина бытия. Затаенность настроения от
вечает ей. Не был ли внутри этой тайны Тот, Кто сказал о себе: «Я есмь
истина?» Хайдеггер здесь, как и обычно, движется вплотную к богосло
вию. Он однако никогда не касается его, не из формального пуризма, а
из нежелания входить в область, которая помимо Откровения слиш
ком широко пользуется знанием неизвестного происхождения. Трезвее
спросить:
Как невелико наше знание о богах и как однако существенно их
осуществление и рассуществление в открытой потаенности при
сутствия, в истине? *
Ответ на вопрос подразумевается. Тогда, т. е . в понимании меры на
шего незнания Богов, продолжает Хайдеггер, что нам скажет опыт осу
ществления истины? На этот вопрос ответ не дается из-за трудности
смолчать, т. е. сделать речь достаточно осторожной. Посеянное не оста
нется в безопасности, если его разгласить. Верно говорить об истине не
легче чем правильно молчать о ней.
Анатолий Ахутин видит в споре (Streit) вокруг истины позитив
ное указание на тяжбу, диалог. Одна из псевдодефиниций Хайдеггера
звучит:
Существо истины есть просвет для ее самоутаивания.
2
Столкновение обнаруживается здесь раньше чем начнется любой диа
лог; оно заложено в сопротивлении одного другому, просвета тайне и
наоборот. Глубоко-спорное существо (das innig-strittige Wesen) начина
ется нашим спором с самими собой вокруг веры в то, что Бытие стоит
вопроса. Перед нами всегда два пути. На одном просвет есть нейтраль
ная полоса, позволяющая с нашей стороны смотреть на противолежа
щую, со стороны субъекта на объект, открытый для понимания и освое-
1. Ibid., § 224, начало.
2. Ibid., S. 348.
515
ПРИЛОЖЕНИЕ
ния. Другой просвет, наоборот, настолько неотделим от тайны, что он и
есть свечение тайны в каждом сущем; здесь мы готовы заметить, встре
тить и принять отказ сущего открыться; тогда оно каждый раз заново
открывает неприступность своей свободы. Мы тогда ведем себя так, как
велит свобода сущего, выжидаем ее открытия, помогаем ей, создаем ее,
охраняем и позволяем действовать самой. Просвет раздвигается вместе
с распространением тайны.
Срастание тайны с просветом достигается только в споре, потому
что совсем рядом расположился и пустой просвет, отгораживающий от
нас сущее, которое нас издали не задевает, в которое мы не вросли или
в которое не верим что вросли. Мы, пожалуй, вдумаемся в него и да
же начнем вчуже переживать, но дальше эстетики переживание не пой
дет. Субъект не позволит завладеть собой, он не раб своего настроения.
Между пустым просветом и другим, где к нам врывается, захватывая
дух, тайна, идет война.
Самосокрытие захлестывает собою весь просвет, и только когда
это происходит, когда «здесь-и -теперь» сплошь захвачено спор
ным в его сокровенности, может посчастливиться выйти из не
определенной и потому размытой области пред-ставления, пе-
ре-живания и сделать попытку настойчивого здесь-и -теперь-
бытия.
Где здесь различие между бытием и сущим, казалось бы, всегда важ
ное для Хайдеггера? Его не видно за бездонной глубиной всякого суще
го. Так композитору удается сделать случайную летучую физику звука
историей. Бытия нет в предмете, рассмотренном по ту сторону пусто
го просвета; оно просвечивает в тайне, куда скрывается истина. Толь
ко когда скрытная тайна бытия начинает просвечивать так, что собира
ет в себе и вокруг себя всё, что мы создаем, творим, делаем, чем жерт
вуем, когда открытость просвета повертывается стороной сокрытия,
вытесняя всё, что замыкалось в мнимой объективности, только тогда из
разрозненных частей поднимается мир и с ним — благодаря «одновре
менности» бытия и сущего — дает о себе знать земля. Мы просыпаемся
историческими существами.
Истина таким образом никогда не только просвет, но осуществля
ется как утаивание равноизначально с просветом. Они, просвет и
утаивание, не пара двух, а осуществление одного, самой истины
516
ХАЙДЕГГЕР: ОТ «БЫТИЯ И ВРЕМЕНИ» К «BEITRÄGE»
[...] Всякий вопрос об истине, не заглядывающий вперед так дале
ко, остается слишком короткой мыслью.
1
Вроде бы для субъекта, который смотрит на сущее со своей стороны
через нейтральное поле пустого просвета, дело тоже идет о выяснении
объективной истины в борьбе с искажениями ее. Высоко понятый субъ
ект полагается при этом даже не на свой, а на божественный ум вселен
ского творца. Но именно вера в надежный ум Творца требует считать,
что сущее сотворено Богом. Необходимостью видеть в сущем сотво
ренное заслонен доступ к тайне самого по себе сущего помимо образа
Творца, о котором богословию оказывается, как уже говорилось, извест
но слишком много. Нетронутой тайной без посредства божественной
благости, справедливости, всемогущества сущее здесь быть не может.
Сотворенность сущего заранее настраивает искать его причины. Загля-
дывание поверх сущего в его причины (истоки, начала) унаследовано и
разными изводами (вариантами) христианства, и наукой, отталкиваю
щейся от религии. Антикреационизм на место божественного творца
ставит эволюцию, которая глуше чем креационизм заслоняет подступ к
сущему помимо представлений о его причине
2
. Тайна самого по себе су
щего там и здесь обрабатывается в видах объяснения; она допускается
только в законодателе Боге или в далеком первоначале. Взгляд отведен
от сущего, он тонет в божественных небесах или в теориях возникнове
ния Вселенной. И если реальность давит на вас как тяжелый неподвиж
ный зверь (Сартр), то это будет названо литературой, или психологией,
или патологией, чему в свою очередь будут найдены причины.
6. Тут два разных проекта: дать шанс тайне скрывающегося бытия — и
отодвинуть в пространстве и времени всё, что не поддается объяснению
через причины. Перспектива причинного объяснения манит, но конча
ется провалом в дурную бесконечность причин. В «Бытии и времени»
еще много отталкивания от истины как правильности представления
и теснит соседство того, от чего отталкиваются. «Beiträge» переходят к
прямой опоре только на то, как осуществляется истина в своей сути.
Для Хайдеггера в бездонности тайны теперь единственная опора. Лишь
бы Ereignis не стало очередным термином философской фабрики, темой
ι. GA, Bd. 65, S. 349·
2. В божественного Творца мы уже не верим, говорит Людвиг Витгенштейн, но его
место плотно и уверенно занял бог-причина, научная, конечно.
517
ПРИЛОЖЕНИЕ
интерпретирующего анализа; лишь бы не перестало служить инстру
ментом единственно необходимого осмысления, вынужденного крайней
нуждой бытийной оставленности.
Просвет утаивания означает не снятие потаенного и его извлече
ние и превращение в непотаенное, но именно основание бездонно
го основания для тайны (медлящего отказа).
В моих прежних попытках набросать это существо истины [...]
когда доходило до определений как: присутствие существует вме
сте в истине и неистине, это положение сразу воспринимали мо-
ралистически-мировоззренчески, не улавливая решающего в фи
лософском осмыслении, неустранимости этого «вместе» как осно
вы существа истины, не улавливая первоначальности неистины в
смысле потаенности (а не какой-то лжи).
1
Теперь главное усилие переносится на держание себя внутри просвета
тайны; это настроение сдержанности становится первоначальной опо
рой. Возвращение к присутствию (здесь-и-теперь-бытию) — не еще
один шаг из тех, каким учит философская школа; всё человеческое су
щество должно сдвинуться, как говорилось выше, т. е. сойдя с ума.
Что это однако значит, что теперь надо отважиться на набросок
существа истины как просвета тайны и готовить сдвиг человека к
при-сутствию?
Сдвиг из того положения, в котором мы находимся: из гигант
ской пустоты и глуши, втиснутые в давно уже неузнаваемую тра
дицию без мерила и главное без воли ставить вопросы к ней, а пу
стыня — тайная оставленность бытием.
2
К истине непременно принадлежит нет (das Nichthafie)y не в том
смысле, что ей чего-то недостает, а в смысле сопротивляющегося усколь
зания, которое в просвете проясняется как неприступность тайны. Все
го легче обойтись без этого прозрения и стоять на установимости исти
ны. Правда, почему-то сразу мы оказываемся тогда не в покое, а внутри
бесконечной работы объяснения, оправдания, обоснования. Поставив
истину на субъекте, мы лихорадочно устраиваемся в своем одиночестве.
Что если мы бросим себя не на этот труд, а на то, во что мы брошены, —
ι. GA, Bd. 65, S. 352.
2. Ibid . S. 356.
518
ХАЙДЕГГЕР: ОТ «БЫТИЯ И ВРЕМЕНИ» К «BEITRÄGE»
на странность и не-нами -устроенность земли и мира. Но если отдать се
бя их ускользающей тайне, то где наша свобода? или свобода есть только
в возвращении к своему, что всегда было моим ближайшим и чего никто
у меня не отнимет? Возникает тесный союз: наше присутствие принад
лежит Бытию, как и Бытие принадлежит нашему здесь-и-теперь; нас на
чинает хватать на то, чтобы вместить предельное, и с ним — последне
го Бога.
ПРИМЕЧАНИЯ1
Семинар «Ранний Хайдеггер» проводился в МГУ с осени 1990 по весну
1992· Текст печатается по авторской рукописи с внесением минимальных
исправлений и сохранением авторской орфографии и пунктуации.
7 * Сохранена авторская нумерация семинаров: под римской цифрой I объ
единены семинары первого и второго семестра (осень 1990 и весна 199*)>
римской цифрой II нумеруются семинары третьего (осень 1991)» рим
ской цифрой III — семинары четвертого семестра (весна 1992).
8 * В семинаре использован, с некоторыми небольшими дополнениями и
изменениями, доклад, подготовленный к конференции 18.10.1989 и на
зывавшийся «Дело Хайдеггера» (первоначальное название «Хайдеггер
в России»). Впоследствии текст «Дело Хайдеггера» был опубликован в
сборнике Философия Мартина Хайдеггера и современность, Москва: На
ука, i99i> с. 166-171.
15 * Ибо вопрошание есть благочестие мысли (М. Хайдеггер, «Вопрос о тех
нике», перевод В. Б . см. в сборнике М. Хайдеггер, Время и бытие: статьи
и выступления* Москва: Республика, 1993> с. 238).
17 * См. курс В. Б. «Чтение философии»: «...Сама вещь, которую Розанов
имел на опыте, опыт внимания, задумчивости, действительно неподвиж
ной, каменной, сковывающей в амехании, которая выключает не только
все механизмы рассуждения, планирования и действия (то, что называ
ется движением), но и буквально дохнуть не дает (так буквально нуж
но понимать слова из „Уединенного" „Я задыхаюсь в мысли"» (Точки* 1-2
(5), 2005, с. 79)·
ι8 * На этом слове машинописный текст первого семинара обрывается;
окончание фразы и ссылка на книгу Вейцзеккера приводится по всту
пительной статье В. Б . к сборнику статей и выступлений М. Хайдеггера
Время и бытие, Москва: Республика, 1993> с. 5-6: «Но в воспоминаниях
Карла Фридриха барона фон Вейцзеккера мы читаем: „Однажды он по
вел меня по лесной дороге, которая сходила на нет и оборвалась посре
ди леса в месте, где из-под густого мха проступала вода. Я сказал: »Доро
га кончается*. Он хитро взглянул на меня: ,Это лесная тропа (Holzweg).
Она ведет к источникам. В книжку я это, конечно, не вписал*"».
ι. Примечания составлены О. Е. Лебедевой, А. В . Ахутиным, А. В . Иванченко, А. В.
Михайловским.
33-2015
521
ПРИМЕЧАНИЯ
19 * В рукописи семинары 1.2-4 представляют собой единый текст, прерыва
ющийся лишь указаниями порядкового номера и даты каждого из семи
наров.
f
Перевод см. М . Хайдеггер, Время и бытие, Москва: Республика, 1993>
С. 192-220.
21 * Первая фраза «Ursprung des Kunstwerkes»: «Ursprung bedeutet hier jenes,
von woher und wodurch eine Sache ist, was sie ist und wie sie ist» (M. Heideg
ger, Gesamtausgabe, Bd. 5, S. 1).
f
Здесь и далее в угловых скобках < > — слова В. Б. внутри цитат.
* Перевод А. В. Михайлова; см. М . Хайдеггер, Работы и размышления раз
ных лету Москва: Гнозис, 1993> с. 51·
23 * Там же, с. 52; В. Б . цитирует более ранний вариант перевода.
25 * Опубликовано также в: М. Хайдеггер, Работы и размышления разных
лет, Москва: Гнозис, 1993» с. ι68. Здесь и далее В. Б. цитирует перевод А. В .
Михайлова работы «Слова Ницше „Бог мертв"» (там же, с. 168-217).
29 * С этого слова в рукописи начинается семинар 1.3 (29.11.1990)·
30 * Мы будем ждать
Перед воротами в весенний сад | будем, прислушиваясь, ждать, | когда
поднимутся жаворонки, | когда песни и скрипки, | журчание ручьев, | се
ребряно-звонкие | колокольчики стад | станут всемирным хоралом ра
дости.
31 * Часы на Масличной горе
Часы моей жизни, часы на Масличной горе: | в тусклом мерцании | ма
лодушного колебания | вы часто смотрели на меня. | В слезах кричал я:
только не напрасно. | Мое юное бытие, | усталое от рыданий, | лишь до
верялось ангелу «Благодать».
f
Вероятнее всего В. Б. имеет в виду Франсуа Федье.
* Медард Босс: «Мартин Хайдеггер оказался наиболее основательно обол
ганным человеком (der am gründichsten verleumdete Mensch), какого
я когда-либо встречал, оплетенным многими из его коллег в сеть лжи;
большинство их, не умея по-честному вникнуть в дело хайдеггеровской
мысли, пытались пронять самого Хайдеггера-человека нападками на его
личность» («Из бесед М. Хайдеггера с М. Боссом», предисловие, Логос, 5,
1994).
37 * «Хотел бы я знать, кто был тот больной или глупый шутник, я дол
жен был бы сказать „сумасшедший", которому первому пришло в го
лову поставить под сомнение реальность внешнего мира и сделать
из этого философский вопрос. Ибо имеет ли этот вопрос какой-либо
смысл?»
f
«У порога этой философии будущего... стоит проблема реальности».
* ... неопровержимые и эпохальные факты науки.
38 * С этого слова в рукописи начинается семинар 1.4 (6.12.1990).
522
ПРИМЕЧАНИЯ
41 * Первая строка стихотворения О. А. Седаковой «Пятые стансы».
45 * ·. .психология навсегда останется в связи с философией.
f
«Мы, однако, можем свести все действия рассудка к суждениям, так что
бы рассудок вообще мог быть представлен как способность судить».
46 * .. .их содержание и их значимость они создают из первичных составных
частей мышления вообще.
* ... проникнуть не способна.
* ...сложнее.
51 * ... «в общем абстрактно примысливаются».
57 * Природа нашего духа столь мало логична, что скорее уж прямо проти
востоит логическому как чему-то чуждому.
59 * См. например запись от 21.2.1972 в кн. В. В. Бибихин, А. Ф . Посев. С . С .
Аверинцев, Москва, 2004, с. 140.
6 5 * Итог критического исследования и обзор чисто логического учения о
суждении.
70 * Суждение есть отношение... значимости... между предметом и содержа
нием определяющего значения.
73 * Тексты этого и следующего семинаров стали основой для написанной
много позднее, в 2002, статьи «Ранний Хайдеггер о Дунсе Скоте» (см.
Приложение, с. 471-492)» опубликованной в журнале Тонки, 1-2 (3), 2003.
Возможно, с этим связано отсутствие нескольких страниц машинопи
си начала этого семинара. Лакуна заполнена частью текста указанной
статьи.
8о * Последнее издание: В. В. Розанов, О понимании, Москва: Институт св.
Фомы, 2оо6.
8ι * έτεροίωσις (Аристотель, Физика IV 9» 217 b 26).
84 * Постоянная участница семинара,
ιοί * ...Заметках к Мартину Хайдеггеру...
102 * Опубликована в 1990: Martin Heidegger, Karl Jaspers, Briefwechsel 1920-1963,
hrsg. von W. Biemel und H. Saner, Frankfurt am Main: Klostermann, 1990; пе
ревод: Мартин Хайдеггер, Карл Ясперс, Переписка (1920-1963)y Москва:
Ad Marginem, 2001.
106 * Ср. рус. пер. Е . Т . Рудневой: И. П . Эккерман, Разговоры с Гете в последние
годы его жизни, Москва-Ленинград: Academia, 1934» с. 750-753·
123 * Курс «Мир» был прочитан в МГУ весной 1989. См. В. В. Бибихин, Мир,
Томск, 1995·
135 * Перевод см. М . Хайдеггер, «Из диалога о языке. Между японцем и спра
шивающим», в сборнике Время и бытие, Москва: Республика, 1993> 273-
302.
144 * Строка из стихотворения Даниила Хармса.
151 * Курс лекций «Phänomenologische Interpretationen zu Aristoteles. Einfüh-
rung in die phänomenologische Forschung» был издан в 1985 году.
33*
523
ПРИМЕЧАНИЯ
f
«Подлинное основание философии — радикальное экзистенциальное
схватывание и временение постановки под вопрос; ставить под вопрос
себя и жизнь и совершенные поступки — основное понятие любого и са
мого радикального прояснения. Понятый таким образом скептицизм —
это начало, а в качестве подлинного начала также и конец философии.
(При этом никакого романтического и трагического самолюбования!)»
152 * Еще острее и осторожнее! Эта дефиниция является формально показы
вающей.
f
Эта ситуация — не обретение твердой почвы под ногами, а прыжок в
раскачивающуюся лодку, и все зависит только от умения управлять па
русами и ловить ветер.
* .. .абсолютная постановка под вопрос.
* ...и вступают в отношения с этим идолом.
152 * Слова одного запойно пившего человека.
* «Познающее отношение к сущему как бытию».
154 * ...показанная (указанная) формальная пустота.
* «упадничество в обертке мифической и теософской метафизики и ми
стики, в фантазиях о занятии благочестием, которые называют религи
озностью».
155 * «В заботе жизнь всякий раз узнает свой мир».
156 * «Удобнее всего, конечно, выйти за пределы мира и жизни и сразу пере
нестись в страну блаженных и Абсолюта. Я только не понимаю, поче
му же тогда вообще все еще философствуют, если люди уже „настолько"
[продвинулись] ».
f
«В заботе жизнь закрывается от самой себя, и именно в этом своем за
крывании не может от себя уйти».
* «Жизнь есть забота, причем в стремлении облегчить-себе-жизнь, в бег
стве. .. Жизнь стремится обеспечить себя, закрывая глаза на саму себя...
Беззаботность — это способ заботы... Так что беззаботность формирует
(развивает) мир».
* «Культурная жизнь как преструктивно организованная склонность вну-
тримирного высвечивания озабоченной жизни».
157 * «Подвижность такова, что будучи движением в себе самой способству
ет самой себе; это подвижность фактической жизни, которая произво
дит ее саму, причем так, что фактическая жизнь, будучи живущей в ми
ре, собственно (!) не сама производит движение, а его производит мир
как „то, где", „то, по поводу чего" и „то, в целях чего" живет жизнь».
f
Пустота...
167 * Записка без подписи: «Мне Хайдеггер кажется очень мрачным мысли
телем. Точнее, его главная интуиция вводит в мрак — но не выводит из
него. Бытие, в которое он постоянно вглядывается, видится черной без
дной, никак не расчлененной, не дифференцированной. Там нет никаких
524
ПРИМЕЧАНИЯ
существ, — нет и Личности, Бога. Спасительно ли, полезно ли духовно,
истинно ли учение Хайдеггера? — Меня это очень занимает».
* Осенью 1989; см. В. В. Бибихин, Язык философии, Москва, 2002, с. 141 -142 .
* См. В. В. Розанов, О понимании, Москва, 2оо6, с. 14.
* .. .Я внутренне не реагировал на сочинения Хайдеггера. Даже его крити
ку своей «Психологии мировоззрений» я так и не прочел до конца, она
была мне не интересна. Она казалась мне скучной.
f
... университетской комиссии...
* ...отзыве . ..
* ...«временно отойти от идеи Университета, с которой в высшей шко
ле соизмеряется все, что имеет духовный уровень, даже если это чуждо
ее либерализму». Воспитание молодежи, утратившей за время фашизма
свою критическую способность, требует обезопасить ее от «всякой воз
можности некритического мышления» (ibid). Мне кажется, недолжное
поведение Хайдеггера в 1933 г. позволяет отказаться от него ради восста
новления Университета. Но то, что у Хайдеггера должна была оставать
ся свобода для его научных занятий, Ясперс считал само собой разумею
щимся...
* Увольнение на пенсию с временным лишением права преподавания.
' ... «Философскую автобиографию»...
* ...поздравительное послание из «далекого близко».
* 33- <1928-1938> Хайдеггеровская философия до сих пор остается безбож
ной и бесполезной... 34- .. .фактически солипсистской... Без любви. От
сюда отталкивающий стиль. Одна только «решимость», не вера, не лю
бовь, не фантазия. Новый позитивизм... Несомненная, но пустая энер
гия...
38. <0 Что такое метафизика> Настоящая филигранная работа. Это
всякий раз [?] чувствуется в каждом абзаце, в каждом новом узле. В сло
весном плане его собственные фразы — удивительным образом — воз
действуют принудительно. Эта форма, прежде всего, как форма есть не
обходимая цель всякого содержательного философствования. Но она не
является предельным критерием и может быть обманчивой.
46. <1948/50> Из современников самый будоражащий мыслитель —
будоражащий пустотой.
49· Строй речи и языка напоминает произведение искусства, — срав
нение с Рильке.
66. «Стиль» — соблазняет загадыванием загадок, держит в напряже
нии, заставляет ждать разгадки, — чего -то чрезвычайного, — соблазня
ет своим отрицанием, а иногда порицанием, — он не только ставит под
вопрос все в современном мире, но и превращает в ничто, — освобожда
ет, но ради него
7
. — на практике это выливается в эстетическое отноше
ние к чему-то совершенно неопределенному.
525
ПРИМЕЧАНИЯ
На кого это воздействует: на литераторов и софистов — на философ
ствующих, которые сами не способны двигаться вперед и не имеют чет
ких ориентиров. [Курсивы здесь принадлежат В. Б.]
f
Ради чего?
* Один из американских учеников Хайдеггера вспоминает: «В ответ на
мои частые просьбы изложить ту или иную путаную терминологию его
работ на более простом немецком он обычно застывал в неподвижно
сти, целиком поглощенный предложенным ему предметом. Я сидел ря
дом с ним за его столом, делая временами записи его разъяснений. Ни
разу не удалось мне предугадать, что сорвется с его уст после таких ми
нут сосредоточенности; мои предположительные интерпретации часто
оказывались на ложном пути. Он сам нередко с горечью замечал, что на
до было бы изложить все иначе. В одном из таких случаев я вдруг вос
кликнул, сам почти не понимая, что говорю: „В вашей философии, герр
Хайдеггер, я всегда ощущаю себя жалким новичком!" На что он отве
тил так же вдруг: „Точно то же я чувствую каждое утро"» (J. G . Gray,
«Heidegger on remembering and remembering Heidegger», Man and world*
X, 1977, n. I, p. 75-76.
186 * 75. <i953/i954> Среди германских профессоров философии нашего вре
мени меня интересовал лишь один: Хайдеггер.
77- Его нельзя назвать демоническим в смысле Гете. Но у него есть ка
кие-то чары, как у гнома, который живет в глубине рудников, под спле
тением корней, на обманчивой почве — болотистой, но сверху покрытой
вроде бы надежным мхом. Вот эта гномья сущность, нечто неосознан
но лживое, коварное, хитрое, вероломное иногда оказывает магическое
воздействие.
Эта сущность просматривается и в его философствовании. Красиво
<имеем право говорить, что человек гном, хитер, коварен, лжив не по-
человечески? — почему не имеем. Риск есть так говорить? Есть. И не
малый. Риск вообще не знать, что такое человек> и соблазнительно, ма
стерски сработано и лживо, многообещающе, но заканчивается н и -
чем, близко земле и пагубно, тревожно, постоянно ускользает, не знает
покоя любви, неприветливо, жалостливо, вкрадчиво, пробуждает со
страдание и жаждет помощи. Упоение чувством власти, после коллап
са беспомощность* потеря достоинства. Постоянная обеспокоенность,
ничего не говорит прямо, все инстинктивно просчитывает, но инстин
ктивно же не замечает себя. [Курсив и разрядка в данном абзаце принад
лежат В. Б .]
f
77· Хайдеггер не знает, что такое свобода.
83. No 55· У Хайдеггера виртуозность формы, — но смиренно-покор
ное настроение — в сущности двусмысленность эстетического поряд
ка — некое насилие, — как будто тебя обманывают, — такой сверх меры
526
ПРИМЕЧАНИЯ
одаренный аферист? разновидность гитлеровского типа? неуловимое,
уклоняющееся от ответов существо?
* Высоко в горах на широком скалистом плато с давних пор сходятся
друг с другом философы своего времени. Оттуда смотрят они на снеж
ные шапки гор, вниз, на обжитые человеком долины, в далекую даль,
куда только достигает взор. Солнце и звезды светят там ярче. Воздух
настолько чист, что поглощает любой мрак, настолько прохладен, что
в нем нет ни следа дымки, настолько прозрачен, что мысль воспаря
ет на необозримую высоту. Попасть туда несложно. Восходящие ту
да многими путями должны лишь иметь решимость время от време
ни оставлять свой приют и, поднимаясь на вершину горы, видеть, что
есть на самом деле. Там философы вступают в поразительную борьбу
без всякого насилия. Ими овладевают силы, и вот они-то и борются
между собой посредством их мыслей, человеческих мыслей. Они гово
рят друг с другом, слушают, спрашивают, общаются в одном простран
стве, которое их объединяет, несмотря на борьбу. Ибо все они пре
дельно серьезны, говоря о важных вещах, которых может касаться че
ловек...
Вроде бы там сегодня никого нет. Но мне показалось, что я, тщет
но пытаясь найти среди вечных спекуляций людей, которые бы относи
лись к ним всерьез, все-таки отыскал одного, а больше никого. Им ока
зался мой вежливый враг. Ведь силы, которым мы служили, были несо
вместимы между собой. Вскоре выяснилось, что мы вообще не могли
говорить друг с другом. Радость обернулась болью, причем болью не
утихающей, как если бы мы упустили возможность, казавшуюся такой
близкой.
Так у меня вышло и с Хайдеггером. Поэтому вся та критика, что вы
пала на его долю, представляется мне совершенно невыносимой, по
скольку никогда не поднималась до той высоты. Поэтому я стремлюсь
к критике, которая бы действительно затрагивала суть мысли, ищу сра
жения, которое бы позволило сойтись несоединимому, ищу солидарно
сти, которая возможна между самыми чуждыми друг другу людьми, ес
ли речь идет о философии.
Возможно, такая критика и такое сражение невозможны. Но я был бы
доволен даже их тенью.
* С этого начался курс «Энергия», проходивший в 1990-1991 гг. параллель
но семинару «Ранний Хайдеггер».
* «Это языческая, Богом не тронутая душа. И как бы заново, на свой поэ
тический страх и риск, открывающая евангелические истины... И в дру
гих... их не видит... даже представить себе не может, как тверд был в
нем (в Декарте) краеугольный камень греко-евангельского единобожия,
вообще не-обходимого в себе и в окружающем мире. Я говорю о Хайдег-
527
ПРИМЕЧАНИЯ
гере. У него дальтонизм на феномен личности. А без последнего разго
вор о свободе берет фальшивую ноту».
200 * Имеется в виду курс «Энергия», лекция от 27.11 .1990· См. раздел «Дей
ствительность» публикации первых трех лекций курса «Энергии»
(2002 г.) в журнале Тонки, \-г (5), 2005, с. 152-164.
201 * Разрядка В. Б .
208 * ...К определению философии.
224 * Речь идет о курсе «Чтение философии» («Первая философия»), прочи
танном в МГУ осенью 1991-весной 1992.
227 * Философский энциклопедический словарь, 2-е изд., Москва, 1989.
257 * «Все, что дает о себе знать, предстает изначально в „интуиции", над
лежит просто принимать... в качестве того, в качестве чего это име
ется».
258 * Сделанный В. Б. реферат: X. Дам, Основные черты русской мысли, Мо
сква: ИНИОН, 1981.
f
В. В. Розанов, О понимании, Москва, 20о6, с. 120.
259 * Там же, с. 142.
2б2 * Номер страницы указан по Gesamtausgabe, Bd. 2, 1977· В тюбингенском
издании «Бытия и времени» (М. Heidegger, Sein und Zeit, Tübingen: Max
Niemeyer, 1967 [1993]) другая нумерация страниц, которой соответству
ет нумерация страниц русского перевода (Москва: Ad Marginem, 1997;
Санкт-Петербург: Наука, 2002; этот, окончательный вариант перевода
существенно отличается от перевода, приведенного в тексте семинара).
Далее ссылки на страницы указанных изданий «Бытия и времени» дают
ся в тексте семинара в скобках через запятую (издание в Gesamtausgabe,
тюбингенское издание).
277 * «Огонёчки, прожекторки», так назвал маленький мальчик посетивших
его дружественных людей, которые уже уехали, вспоминая о только что
бывшем их присутствии.
278 * ...само -по-себе-себя-кажущее.
f
... эмпирическое созерцание.
* ... простое давание видеть, допущение внять.
314 * В. В. Розанов, О понимании, Москва, 200б, с. 368 -369.
315 * Там же, с. 369.
323 * Последнее издание: Аристотель, Метафизика, перевод П. Первова и
В. Розанова, Москва: Институт св. Фомы, 2θθ6, с. 85.
326 * В курсе «Чтение философии»; семинар «Ранний Хайдеггер» проходил
тогда сразу после «Чтения философии».
333 * В курсе «Чтение философии».
f
Ε. В. Барабанов, «Русская философия и кризис идентичности», Вопросы
философии, 8,1991» с. 104.
338 * Формула «русского нигилизма», см. начало этого семинара.
528
ПРИМЕЧАНИЯ
344 * Записей этого чтения в текстах семинара нет. См. работу Хайдеггера
«Was ist Metaphysik?» в сборнике Wegmarken* Frankfurt am Main: Kloster
mann, 1967; перевод: M. Хайдеггер, Время и бытие, Москва: Республика,
1993, с. 16-27.
358 * Аристотель, Об истолковании \6 а 6-9, Собрание сочинений* т. 2, Москва,
1978, с. 93: «...Представления в душе (παθήματα της ψυχής) .. . у всех одни
и те же, точно так же одни и те же и предметы (πράγματα), подобия кото
рых суть представления».
f
Философский энциклопедический словарь* 2-е изд., Москва, 1989, с. 230-
231.
363 * Присутствие есть как понимающая способность быть.
364 * До-конца-бытие присутствия в смерти... „Бытие"-к-концу.
* .. .присутствие [есть] всегда уже свое е щ е - н е .
368 * В. В. Розанов, О понимании* Москва, 2θθ6, с. 584.
370 * ...«И наконец, отношение, всего глубже и универсальнее определяющее
собою чувство нашего существования, — отношение жизни к смерти;
ибо ограниченность нашей экзистенции смертью всегда решающа для
нашего понимания и нашей оценки жизни» (331» 249)·
371 * Сын соседа по даче, тогда семилетний. Когда он узнал о смерти папиного
друга, то несколько дней был особенно подвижен, много и почти демон
стративно бегал, прыгал... «Живость, бодрость, подвижность детей —
их способ встретить смерть, их решимость на усилие» (см. ниже, семи
нар ш.9)·
f
Сын В. Б .; тогда ему было три года.
* Л. Н. Толстой, «Записки сумасшедшего», Полное собрание сочинений*
т. 26, Москва, 1936, с. 469-470; ср. письмо Л. Н . Толстого С. А . Толстой
4 сентября 1869: «Третьего дня в ночь я ночевал в Арзамасе, и со мной
было что-то необыкновенное. Было 2 часа ночи, я устал страшно, хо
телось спать и ничего не болело. Но вдруг на меня напала тоска, страх,
ужас, такие, каких я никогда не испытывал...» (Полное собрание сочине
ний* т. 8з, Москва, 1938, с. 167).
383 * Т. Толстая, «Поэт и муза», в ее кн. Любишь — не любишь* Москва, 1997>
с. 250-251: «Чтобы изготовить свои полотна, Лизавета, как африканский
колдун, должна была привести себя в необузданную ярость, и тогда в ее
тусклых глазах зажигался огонь, и с криками, хрипами, с каким-то гряз
ным гневом она накидывалась и месила кулаками на холсте голубые,
черные, желтые краски и тут же расцарапывала ногтями непросохшую
масляную кашу. Направление называлось — когтизм* страшное было
зрелище».
387 * Перевод О. В. Никифорова (Логос* з (ι), 1992, с. 82-97)·
409 * См. переиздание: M. M. Бахтин, Собрание сочинений* т. ι: Философская
эстетика 1920-х годов, Москва, 2003, с. 7 -8 .
529
ПРИМЕЧАНИЯ
411 * См. ту же работу в сборнике М. Хайдеггер, Время и бытиеу Москва: Ре
спублика, 1993» с. 214 ел.
413 * М. М. Бахтин, Собрание сочинений, т. ι, Москва, 2003, с. 28-29.
414 *Тамже,с.29.
f
Там же.
* Там же, с. 30-31·
425 * .. .забота: уже-бытие-вперед-себя-в (мире) как бытие-при (внутримирно
встречном сущем).
443 * Лекция 6 о Пармениде (17.03.1992) из курса «Чтение философии» опубли
кована в Историко-философском ежегоднике 2005, Москва, 2005, с. 134-
151.
452 * ...И то о чем, издавна и теперь и всегда спрашивают, и что вводит в за
труднение (апорию) — что есть бытие (сущее).
454 * Подробно об этом говорилось на лекции курса «Чтении философии»
14.41992. « .. .Парменид словно демонстративно, нарочно вместо привыч
ного нам бытия говорит вдруг, ставит на место είναι в VI 8 другое слово,
πέλειν, того же корня, что наше слово, происходящее от греческого, „по
люс", то, вокруг чего все вращается, — вращаться, обращаться, бытовать,
существовать, отираться, если хотите, „вращаться в высших сферах", как
мы говорим о заметном общественном бытии. [. ..] Πέλος „ось", πολέυω
двигаюсь вокруг, „обращаюсь", связанные с этим новым словом для „бы
тия", πέλω, — то же слово, что наше „колесо"; и, между прочим, значение
„бытия" из „поворачивания" образуется, хотя и не так четко, как в гре
ческом πέλω, πέλειν, и в нашем „поворачиваться", „оборачиваться", ког
да мы говорим „вот как обернулось", „вот как все повернулось", „вот как
оборачивается дело", или „такой оборот приняло дело" или „поворот";
или когда мы говорим, „живо, поворачивайся", когда живость, жизнь и
поворачивание как-то оказываются одним...»
f
История мира.
* ... Бытие-в -мире себя всегда уже выговорило...
457 * ...именно, время есть считаемое по движению, встречающему в гори
зонте раньше и позже (перевод В. Б., Бытие и время, 421).
458 * Перевод Е. В. Ознобкиной см. в: Вопросы философии, 8,1993> с. 113-123.
4бо * ...Значитнеэкзистенцфилософия.
f
. . .ка кой-то путь...
* .. .не «тот» единственный.
493 * Последняя статья В. Б . (окт. 2004) была написана на основе семинара
«Хайдеггер 1936-1944 гг.», проходившего в Институте философии РАН
осенью 2004- Опубликована в журнале Вопросы философии, 4, 2005.
УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН
Абрахам а Санкта Клара 29,37> 4б5
Аввакум, протопоп 333-334
Августин 125,136,173-174» 349» Зб9
Авенариус Р. 37
Аверинцев С. С. 19, 145» 193» 323» 423
АдорноТ. 500
Александр Македонский 175, 5°6
Ангелус Силезиус 215
АрендтХ. 325,338,493
Аристотель 12,17, 34» 40-41» 45"4б, 49»
55, 59-60, 74» 76, 78, 8i, 91» П7» 131-133»
136-139» 41» 144-145» И7» 155-157» 162-
164, 173-175» 198-201, 204-205, 219-
220, 225, 243, 268, 275-278, 281, 293,
315» 323, 349» 357-358, 360, 394» 404»
409-410, 433» 439-440, 452, 457» 472,
474-475» 477» 479"48о, 488-489
Аристофан 223
Ахутин А. В. 515
Байрон Дж. Г . 315
Барабанов Е. В . 313» 333
Бахтин М. М. 409» 4i3~4i5» 423» 440,
457
Бах И. С. 152
Бейкон Р. юб
Бейкон Ф. 219
Белый А. 136
Беньямин В. 26
Бергсон А. 67,154» 276
Бердяев Н. А. 75» 93» 473» 491
Беркли Дж. з6-37
БоккаччоДж. 410
Больцано Б. 43
Борхес X. Л . 447
Босс М. 107, 294» 295
Бофре Ж. 222, 242, 263-264, 411» 494-
495
Боэций А. М. С. 136
Боэций Датский 136
Брагинская Н. В . 410,433
Брайг К. 35
БрентаноЛ. 57
Брентано Ф. 34» 49» 57~58, 6ι, 65, 139-
141,152,165
Брюнетьер Ф. 37
Булгаков С. Н. 173
Бурдах К. Ф . 349
Вайтхед А. Н. 46
Вебер М. и8,174
Везен Ф. 263,440, 442
Вейцзеккер К. Ф . фон 9» i8
Виндельбанд В. 42, 48,1^ 97» 40, 474
Витгенштейн Л. 19, 5i3» 517
Вознесенский А. А. 409
Вольф Э. 8
Вундт В. 49-51» 6i, 6з, 65
Гадамер Г. -Г . 24, 102-104, i4i» 184» 236,
455
Гайденко П. П . 338
Гальцева Р. А. 338
Гартман Э. 7бу 474
Гегель Г.В. Ф. 35» 37» 44» 73» 94» юб, 137»
141, 194» 198, 200-202, 205, 232-233,
Збо, 395» 404» 453» 4бо, 471» 492, 497
Гейзенберг В. 209, 295
Гейне Г. 315
Гельдерлин И. К. Ф . 34» 41» 175» 493-494»
511
Гераклит 105,202,205,218-219,324» 330,
335» 347» 360-361, 369, 388, 412, 5П
Гест Ж. 447» 449» 453-454
Гёте И. В . 29, юб, 185, 261,314» 4б5
Гигин 349» 386
Гитлер А. 9» ι86, 242,421,426
531
УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН
Глюксман А. 395
Гомер 401, 508
Гончаров И. А. 401
Гораций 44^
Горичева Т. М . 461
Грёбер К. 34
ГулыгаА. В. 8,ι8
Гумбольдт В. 213,301,317
Гуссерль Э. 35» 39"40, 42, 45» 48-49» 56-
57» 6ι, 6з, 92, 97» 100-102, 118-119, 131»
139-141» 149» 152,155» 165» 174» 219, 233"
234» 245» 252, 255-260, 294-296, 357»
370, 450, 4бо, 490
Дали С. з84»386
ДамХ. 258
Данте 314-315» 410, 412
Декарт Р. 183, 219, 222, 274-275» 291» 293»
299» 354
Демокрит 259
Державин Г. Р. 448-453» 455~45б, 459
Деррида Ж. n -i2,15,108,324,361,395
Джеймз В. 140
Дильтей В. 35» 1Ъ юо, 138-141, 154-155»
226,370, 421, 476
Диоген Синопский 305,307» 50б
Дионисий Ареопагит 134» 13б, 305
Достоевский Ф. М . 31» 35» 42, 98
Евагрий Понтийский 134
Евсевий Кесарийский 134
Егунов А. Н. 44
Жильсон Э. 87,485
Иванов В. И . 244
Иисус Христос 33» 215,468-469
Иоанн Дуне Скот 34» 72-74» 77~78, βό
δι, 83-92, 94» 99» 102,125,131,136-137»
139» 207, 471-472, 475~486, 489-490,
492
Иоанн Златоуст 134-135
Иоанн Креститель 132
Иустин Философ 134
Камю А. 461
Кант И. 37» 45» 7^> 120,138-139» ЧЪ 165»
198-201, 220, 232, 274~27б, 278, 285-
286, 294, 352-353» 395» 474
Карамзин Η. Μ. 436
Карнап P. 43
Кергегор С. 35» m» 120, 284,395
Климент Александрийский 134» 154» 223
Ключевский В. О . 436
Коген Г. 42,48,138
Колумб X. 319
Кроче Б. 94» 492
КюльпеО. 37
Лакан Ж.- М. 324
ЛаскЭ. 35
Лебедев А. В. 8ι, 222-223,479
ЛевинасЭ. 395» 46ι, 497
Лёвит К. 493
Лейбниц Г. В. 19, 46, 219
Ленин В. И. 35"38, 419» 437
Леонтьев К. Н . 283
Лессинг Г. Э. 431
Липпс Т. 49» 61-65
Лихачев Д. С . 429
Лосев А. Ф . 22,44-45» 59~6о, 62,97» юо,
241, 243» 329» 423» 508
Лотце Р. Г. 7^> 474
Лютер М. 125,137» 174» 314
Майер Г. 49» 53~5б, 62, 65
Маклюэн Г. М. 207
Мамардашвили М. К. 193» 423
Маркс К. 94» 297-298, 395» 433» 492
МаутнерФ. 19
МахЭ. 37
Меланхтон Ф. 137
Мёллендорф В. фон 8
Микеланджело 152
Михайлов А. В. 17, 25-28
Моцарт В. А. 373 -374
Налимов В. В. 498
Наполеон 238-239» 262
Наторп П. вву 138, 255
Николай Кузанский 8о, 105, 479
Нил Анкирский 134
532
УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН
Ницше Ф. 25, 27, 41-42, 74> 76, 98, ш,
154, 307, 359, 419~420, 460, 472, 475,
493
Ознобкина Е. В . 458
Оккам У. 137
Ориген 134,154
Павел, ап. 136,305
Парменид 105, 221-224, 276, 325, 335,
345, 347, 357, 412, 43Ь 433, 439, 442-
443, 4бо
Пастернак Б. Л. 175
Первов П. Д. 323
Петр, ап. 33» 468,469
Петр Ломбардский ^ 475
Петрарка Ф. 137, 402
Писарев Д. И. зб-37
Пифагор 133, 218-219, 247
Платон 9,17,40,44,47,55"5б, 59,76,105,
136,145,153,155,198-200,219-220,224,
226,233,2б1,274-275,323,395,411,434,
439, 451, 475
Плотин 12,134, 221, 223, 395, 439
Поливанова А. К. 154
Поппер К. Р. ю
Пушкин А. С. 27, 434, 448
Рассел Б. 46,197
РигльА. 56
Риккерт Г. 35, 42, 47~48, 73, 97, и8,140,
154, 237, 471
Рильке Р. М. 35,185
Розанов В. В . 17, 8о, 179, 224, 248, 252,
257-258,28з, 293,34-317,321,323,334"
335, 342, 367, 478
Руссо Ж. Ж. 314
Сальери А. 374
Сартр Ж. П. 4Ю, 461, 517
Седакова О. А. 433
Сенека А. Л. 349
Сковорода Г. С . 245,425
Сократ 105, 45, 153, 205, 369, 371, 374,
389, 403, 451
Солженицын А. И . 444
Соловьев В. С . 6о, 258,299,333-335,350,
353-354, 388-389, 403, 425, 436
Соловьев С. М. 436
Соссюр Ф. М . де 37б, 377
СтайнерДж. 9
Сталин И. В. ι86, 418-419,434
СуаресФ. 273
Татиан 134
Таулер И. 137
ТелленбахХ. 184
Тойнби А. Дж. 423,454
Толстая Т. Н. 383
Толстой Л. Н. 32,371
Томас Эрфуртский 78,476
ТракльГ. 35
Тренделенбург Ф. А . 139-140
Тургенев И. С. 37,373
Унгер Р. 370
УоддингЛ. 77,476
ФайкХ. 426
ФёгеВ. 35
ФеДОрОВ Η. Φ. 221
ФедьеФ. 334,494-495
Финке Г. 47
Фихте И. Г. 8з, 137,232-234,395,4бо, 481
Флоренский П. А. 173
Фома Аквинский 136-137,175,358-359
ФрегеГ. 43
Фрейд 3. 227, 282,313
Фуко М. 324
Хабермас Ю. 323
Херманн Ф.-В . фон 494
Хоружий С. С. 136
Чаадаев П. Я . 28о
Чернышевский Н. Г . зб
Шар Р. 296 -297
Шафаревич И. Р. 327
Шелер М. 97, и8
Шеллинг Ф. В. Й. 35,137, 447, 454
Шиллер И. К . Ф . 314-315
Шлейермахер Ф. 139
Шнейдер А. К . 47
533
УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН
Шопенгауэр А. 172, 501
Шпенглер О. 154,174
Шпет Г. Г. 97, юо
Штайнер Р. 418
ШтифтерА. 34
Эбель И. Г. 494
Экхарт И. Мейстер 92, 94» 490
Энгельс Ф. 57
ЮмД. 37
Янкелевич В. 461
Ясперс К. 95» 97
_
i<>5> 1Q8, 110-113, 115,
117-120,127-131,148» 184» 186,207,209,
215,461, 492
BIBLIOTHECA IGNATIANA
БОГОСЛОВИЕ, ДУХОВНОСТЬ, НАУКА
В. В . Бибихин
Ранний Хайдеггер
Материалы к семинару
Корректор О. Е . Лебедева
Макет и верстка А. В . Иванченко
Издание Института философии, теологии и истории св. Фомы.
Адрес издательства:
105005, г. Москва, ул. Фридриха Энгельса, 46, стр. 4
тел.: 8 (499) 261-01 -46
e-mail: thomas-secr@yandex.ru
Тираж юоо экз.
Заказ No2015
Отпечатано в ППП «Типография «Наука»
121099, Москва, Шубинский пер., 6