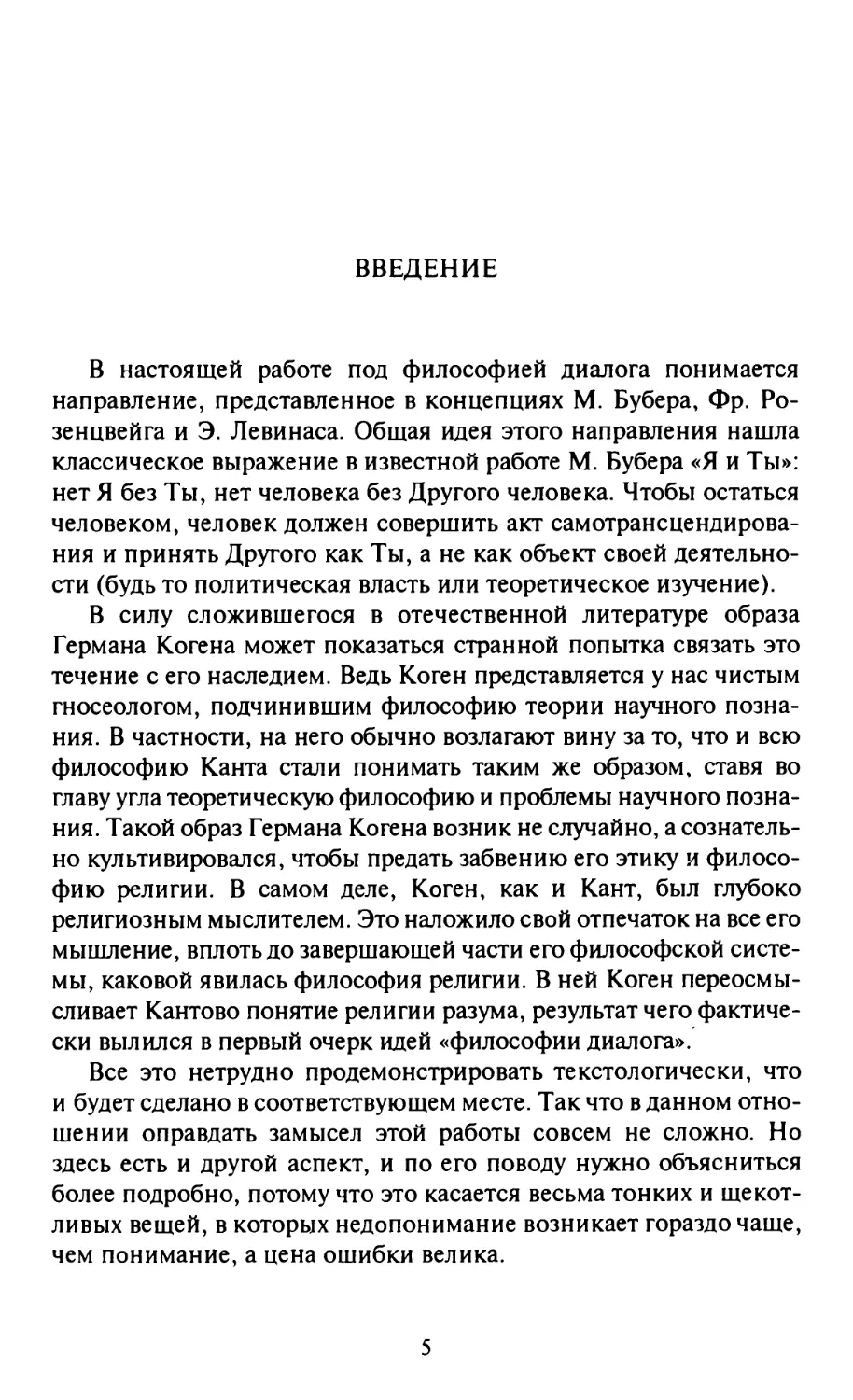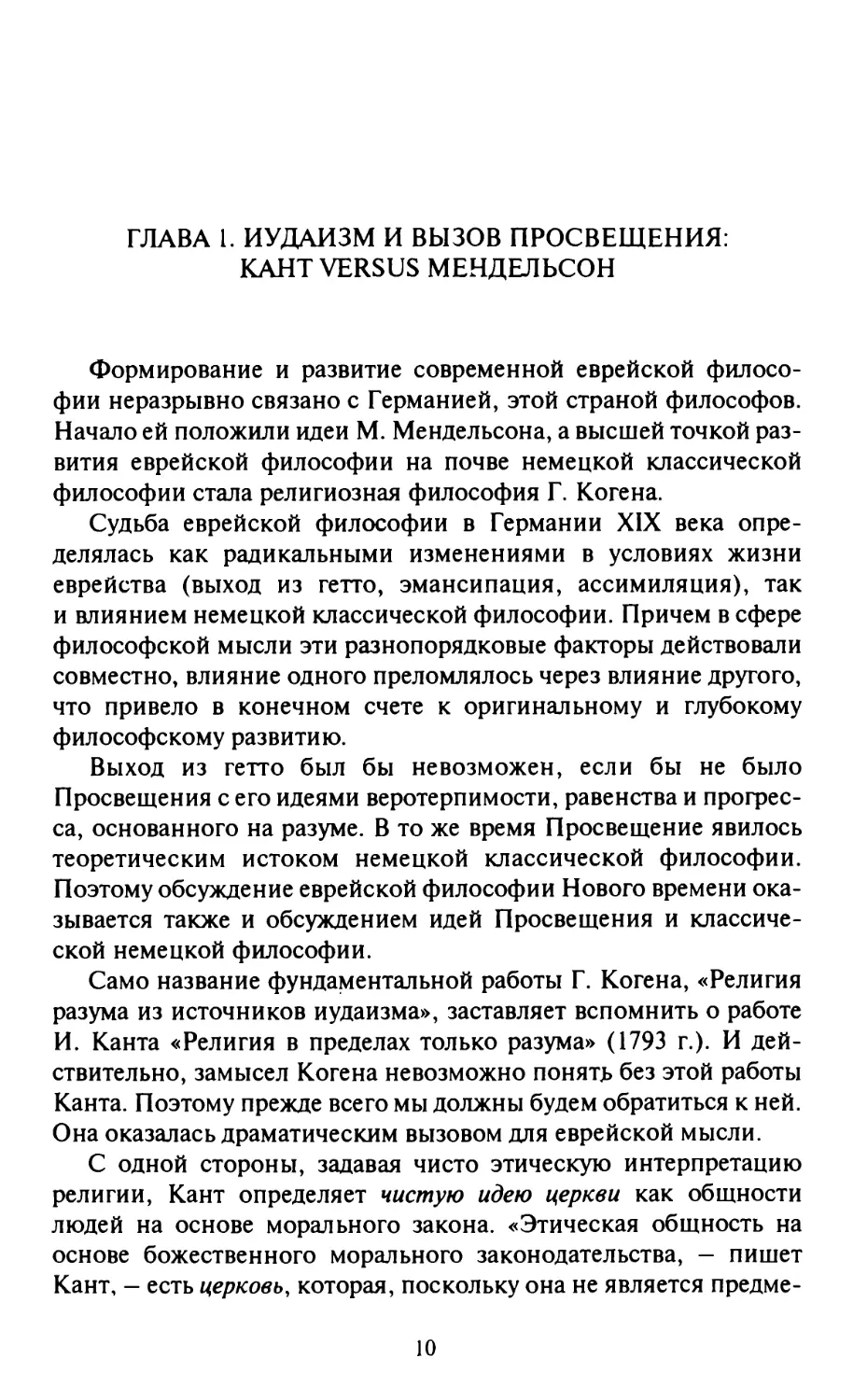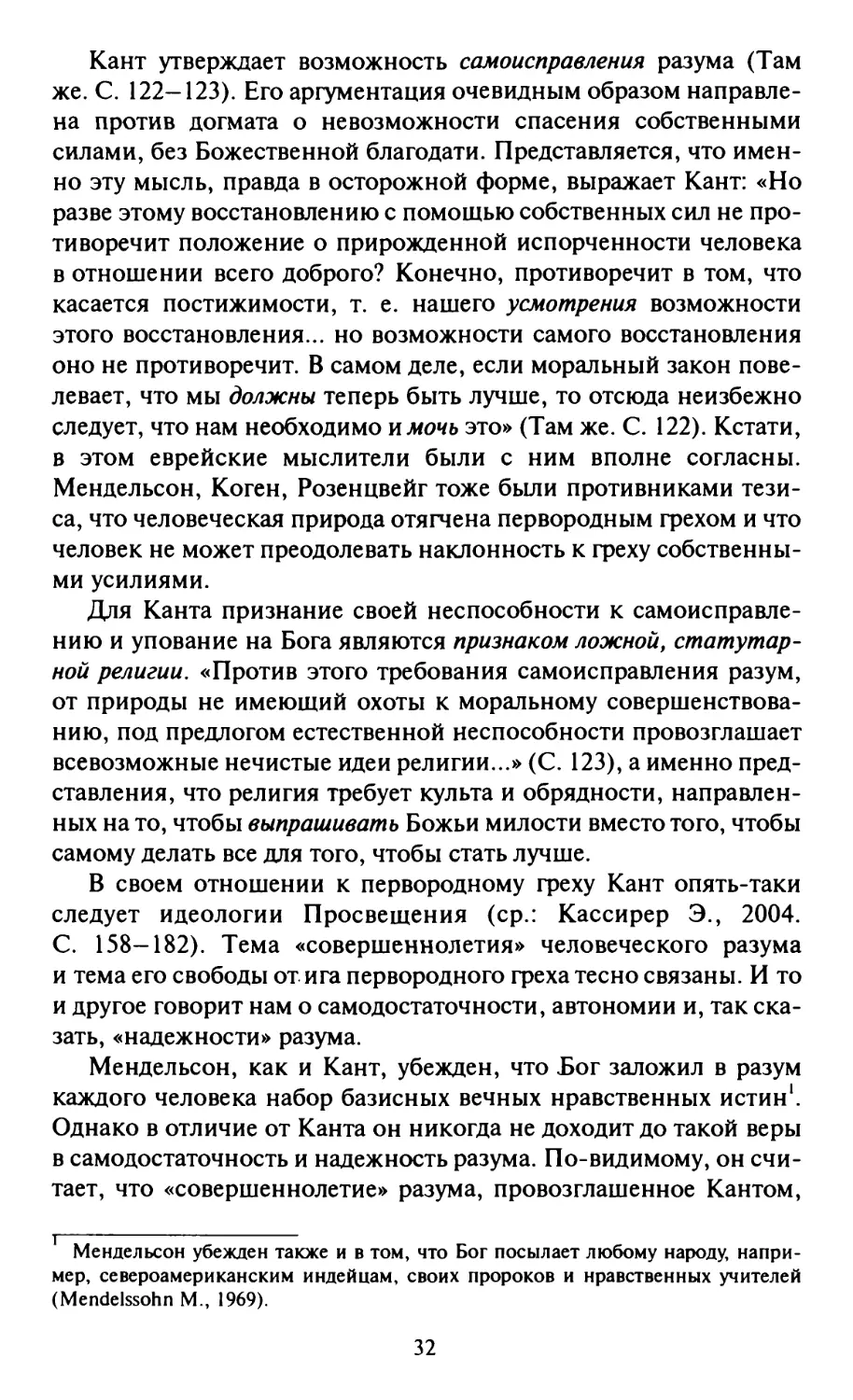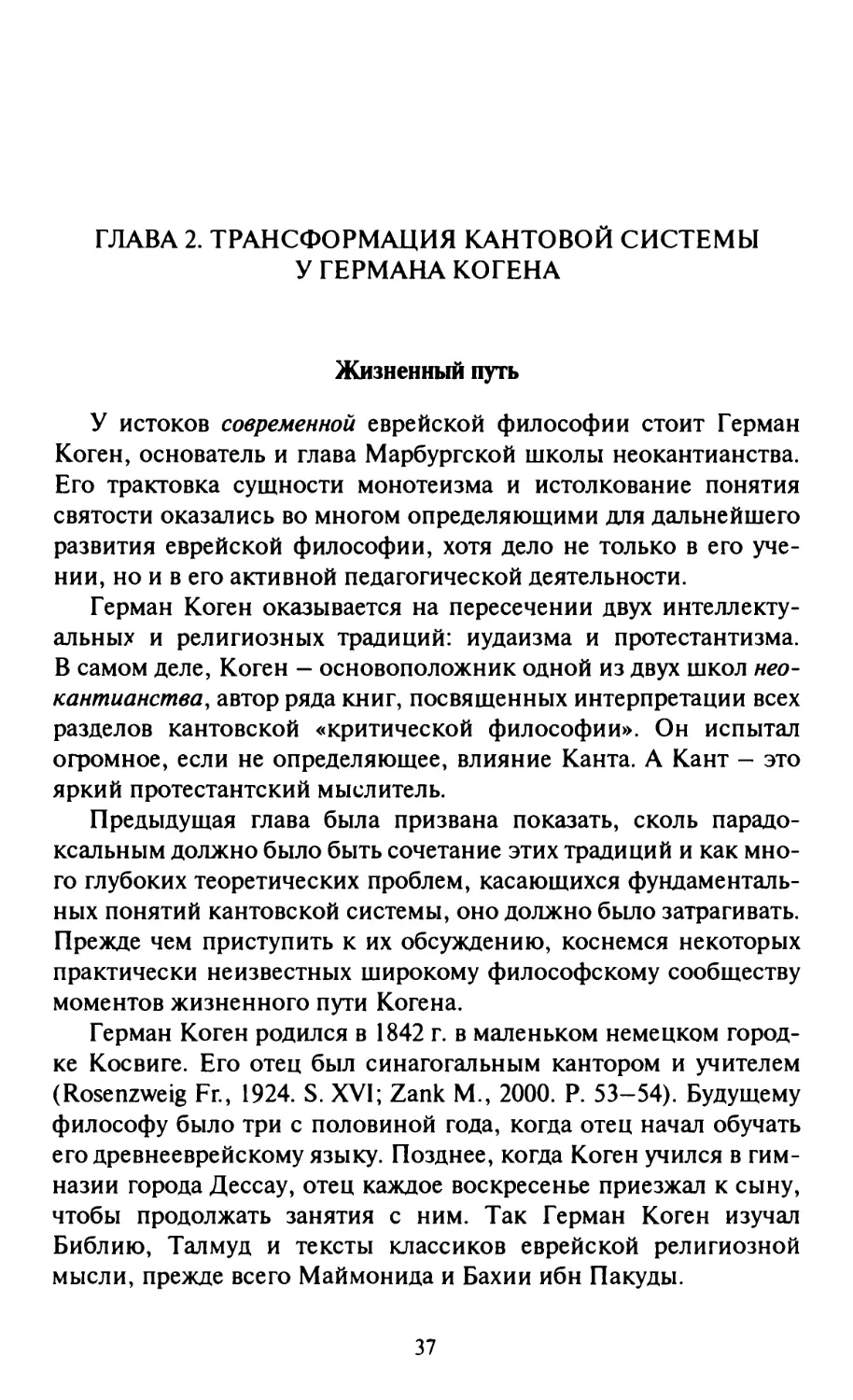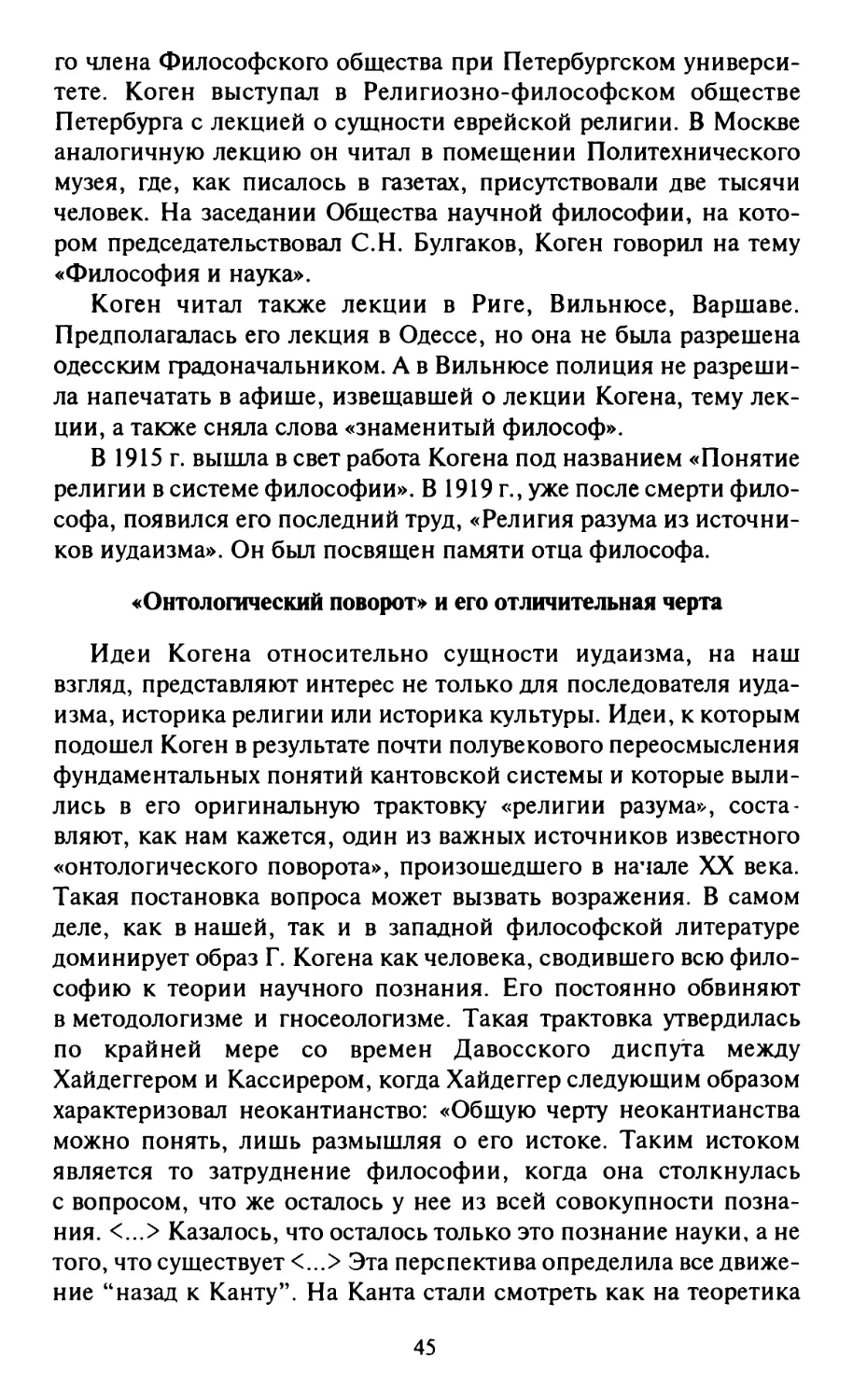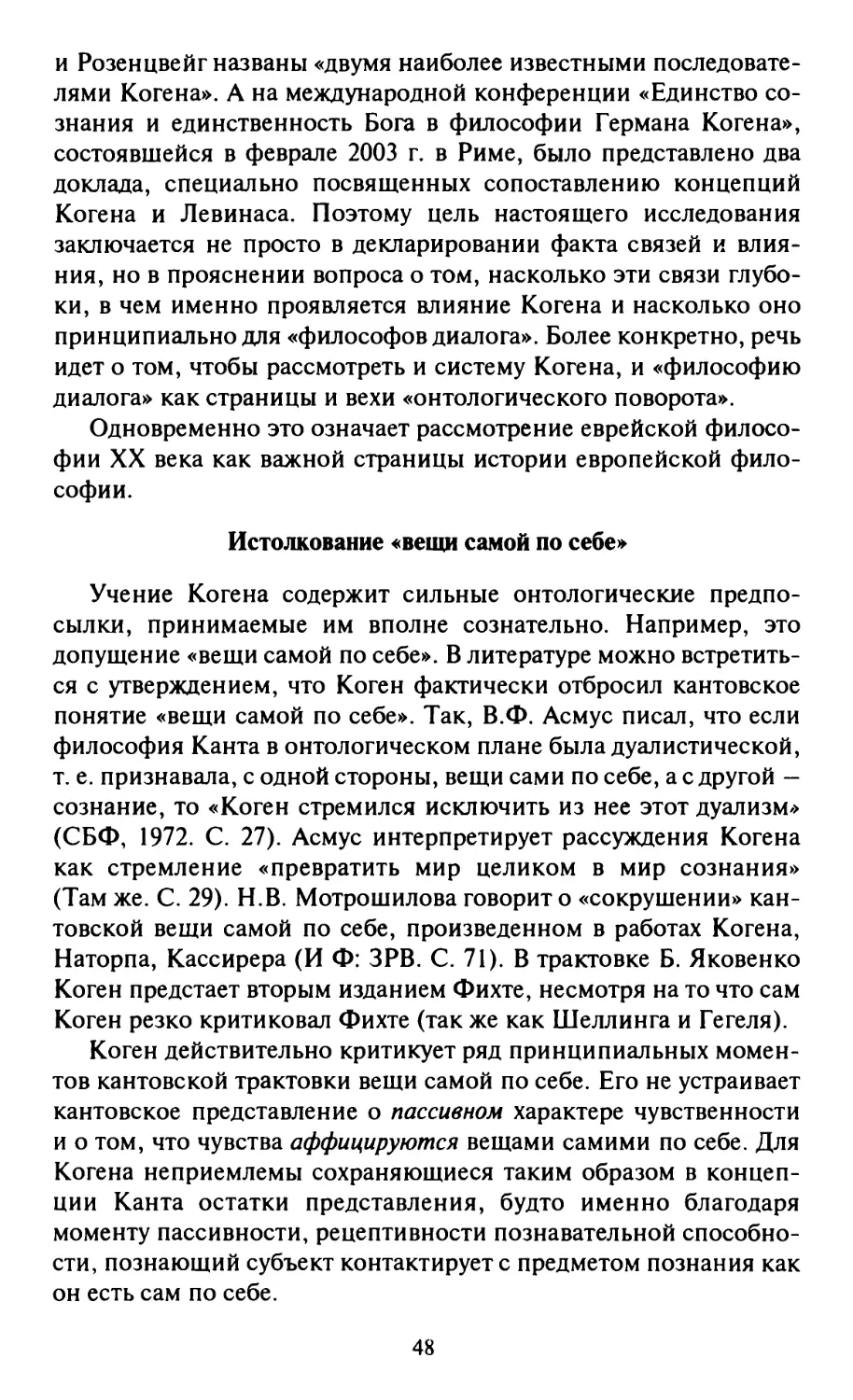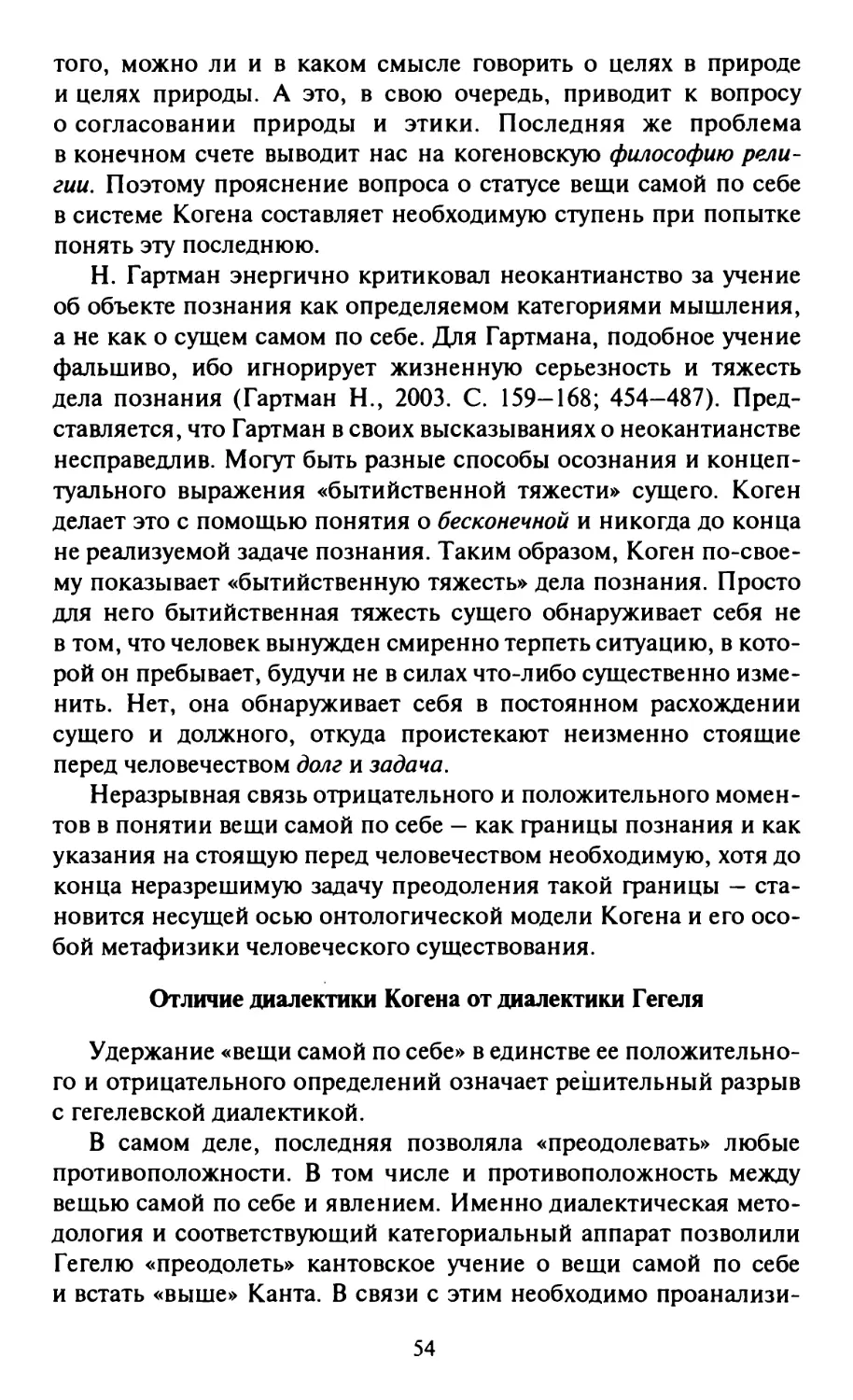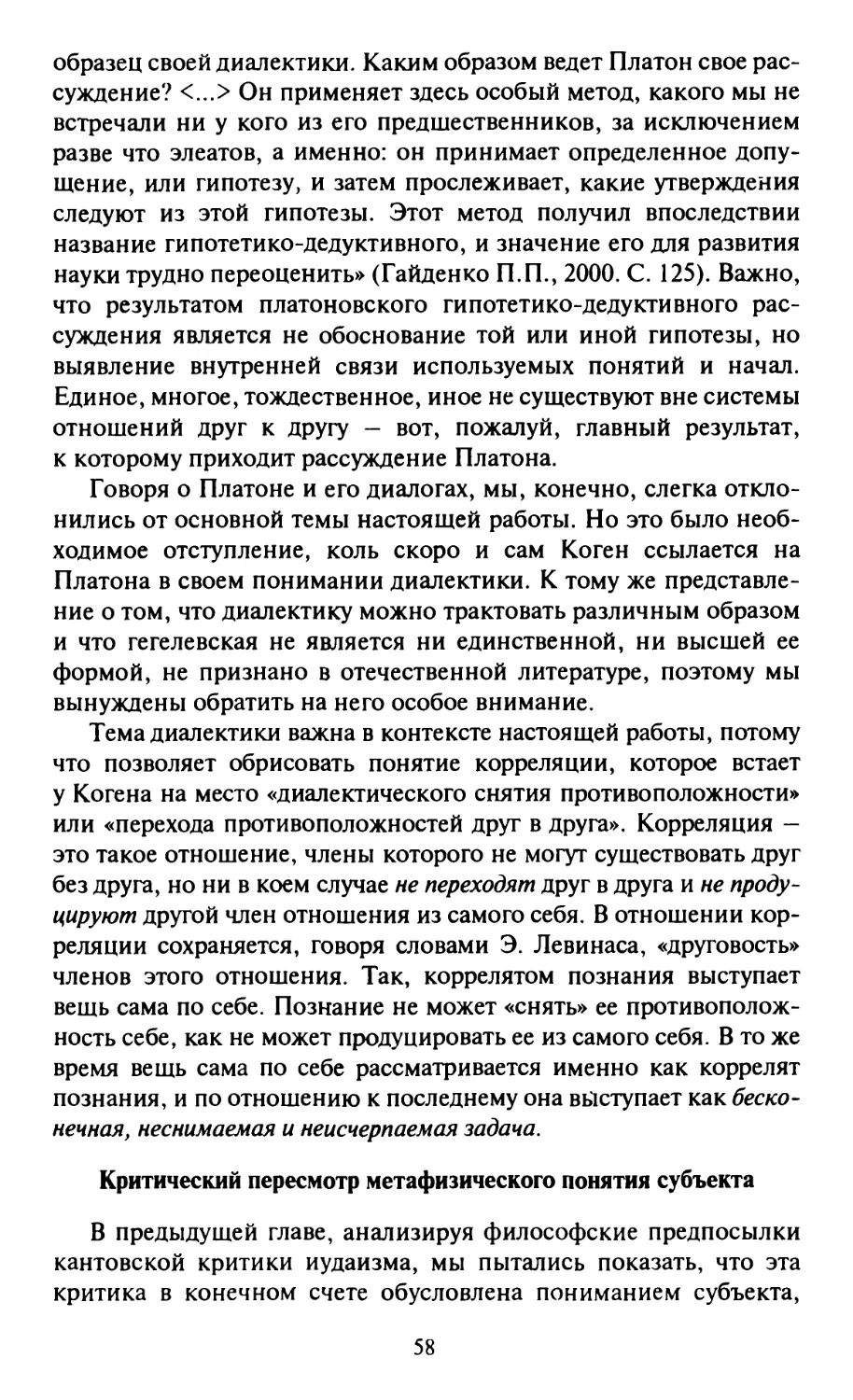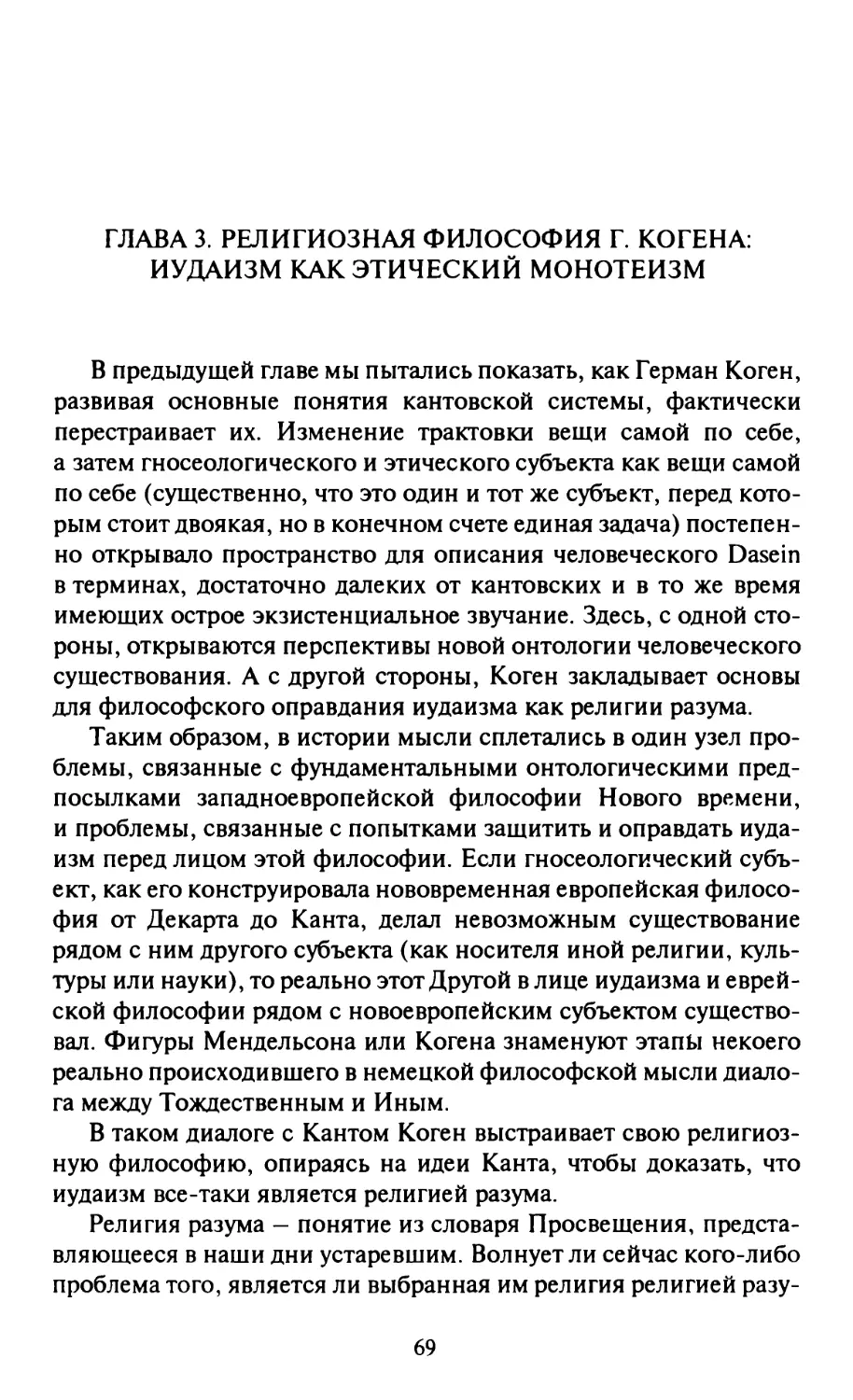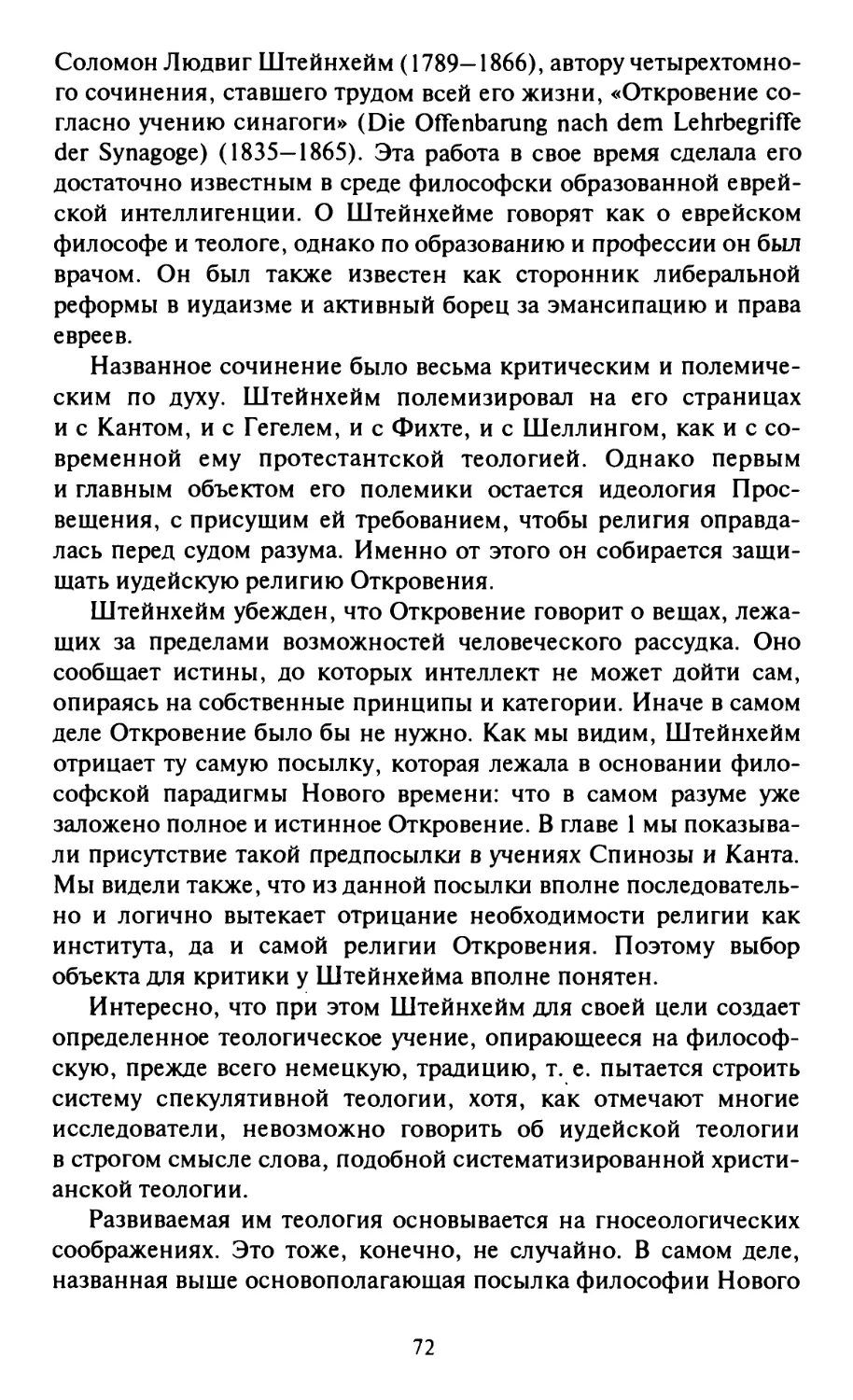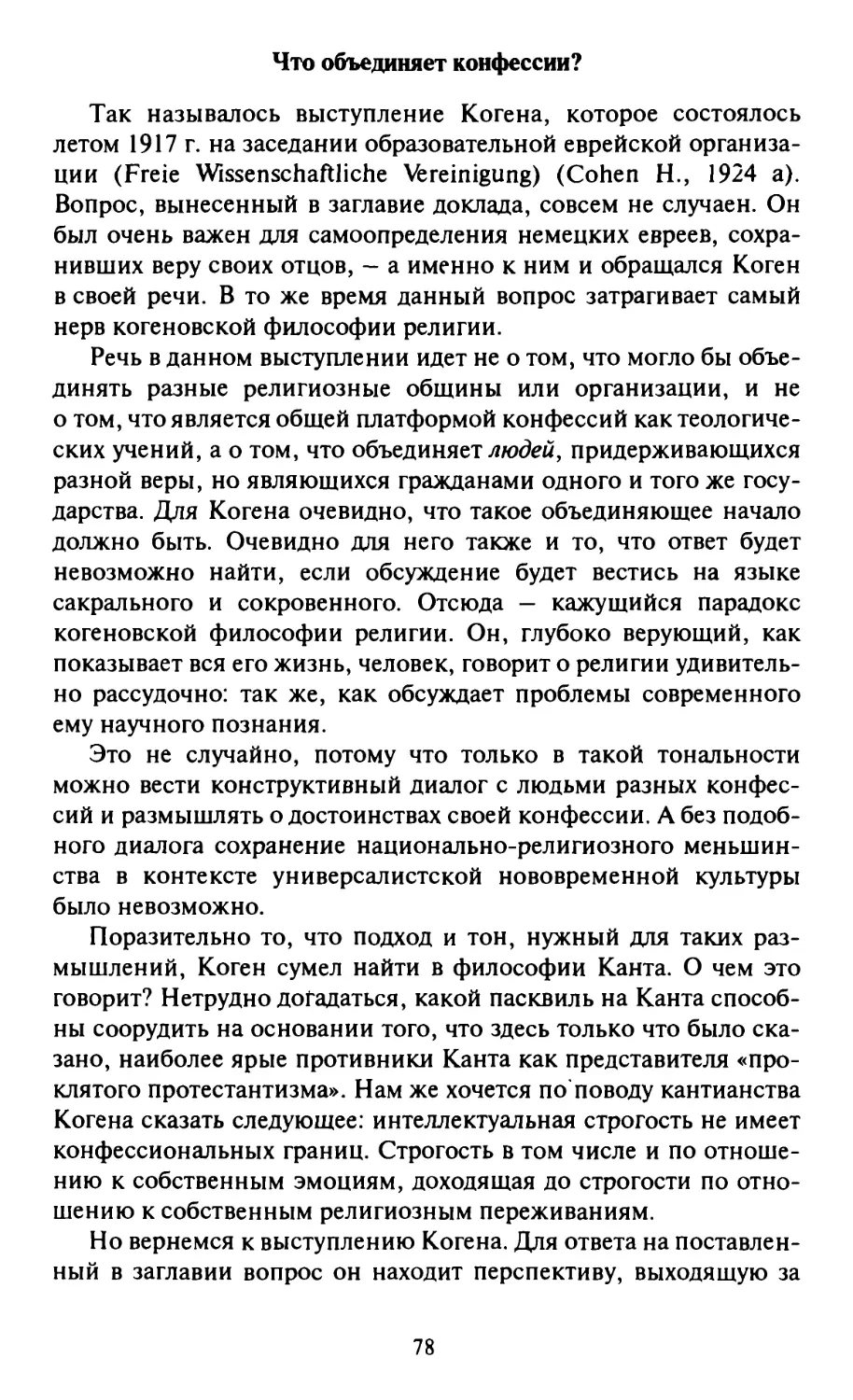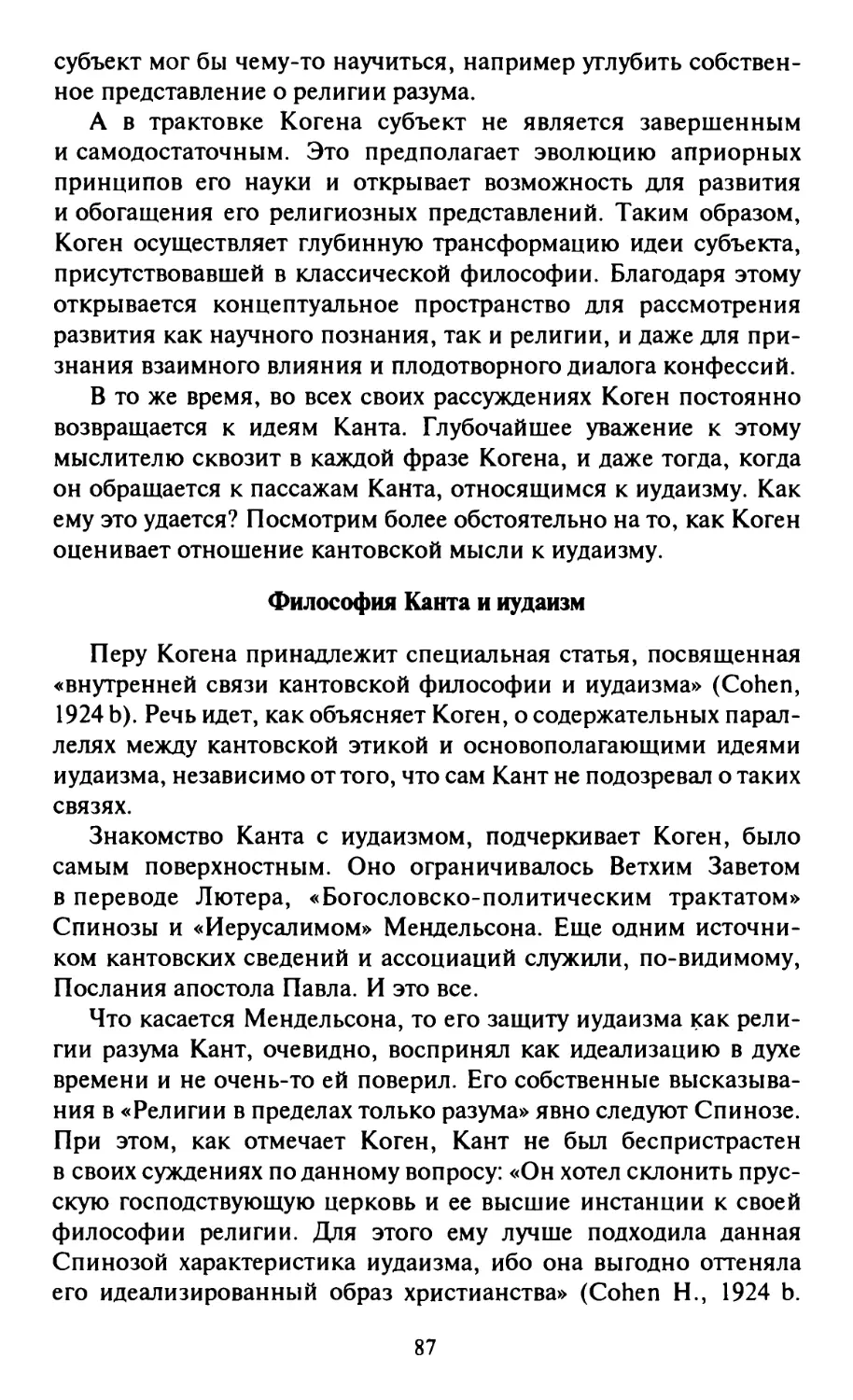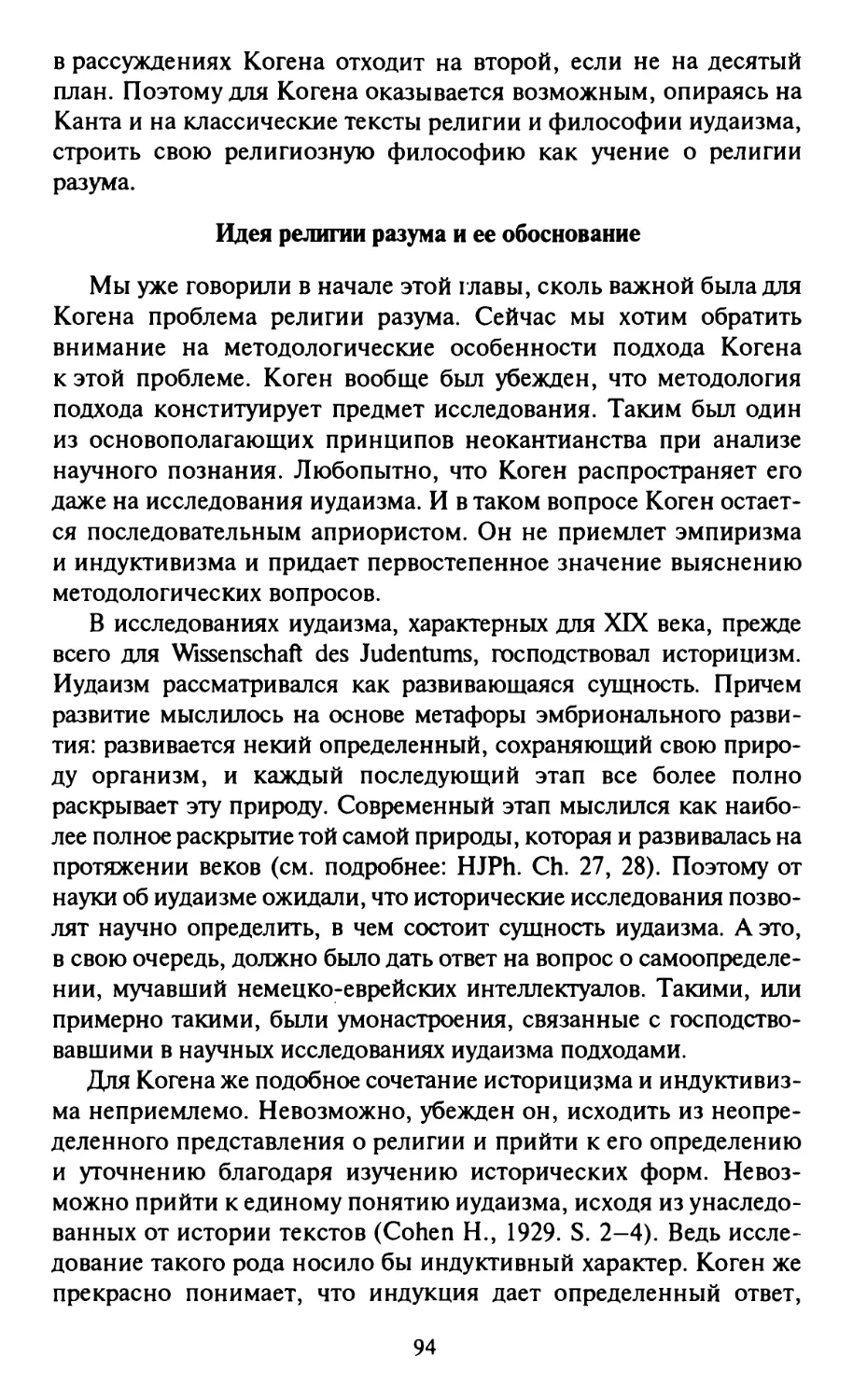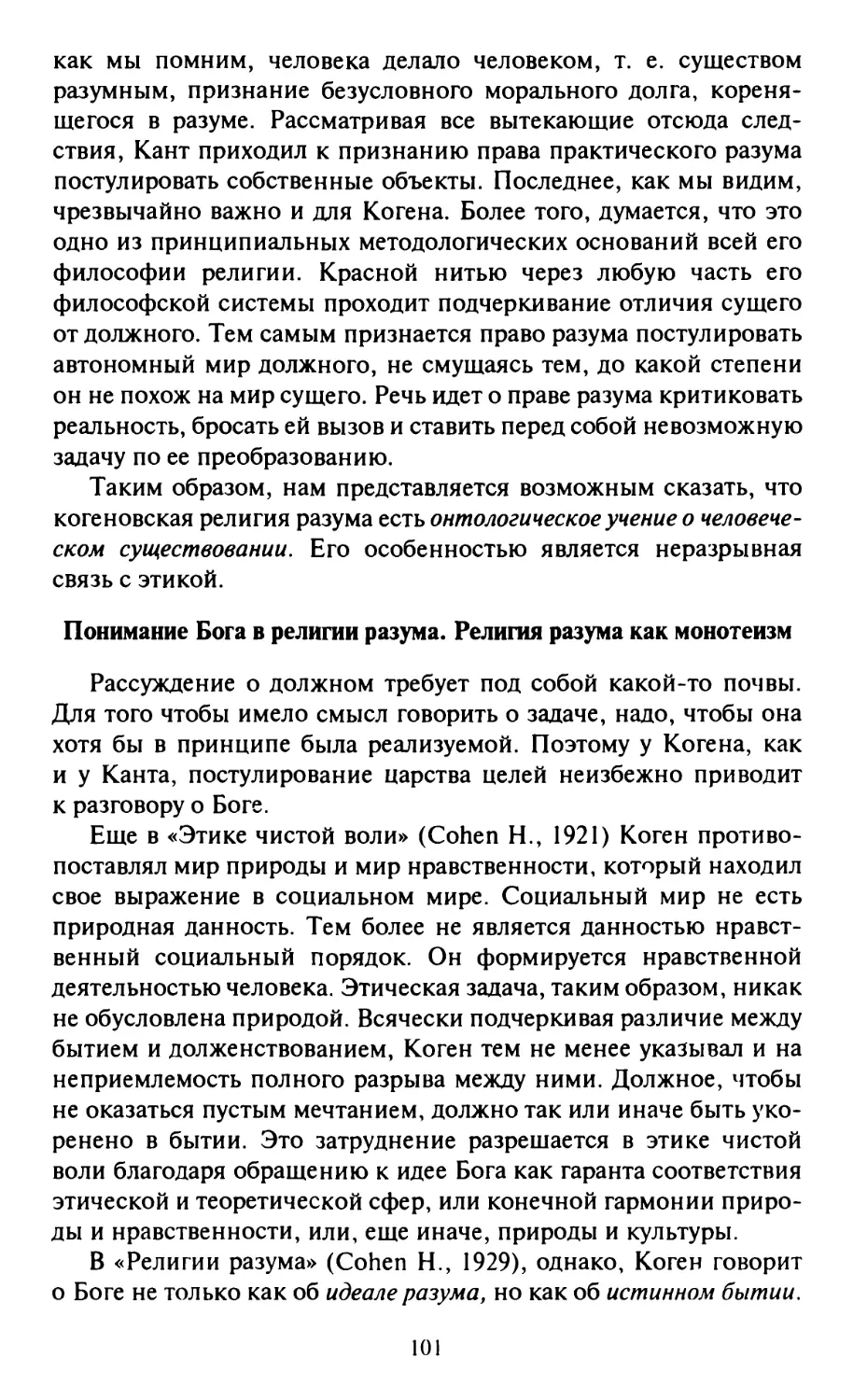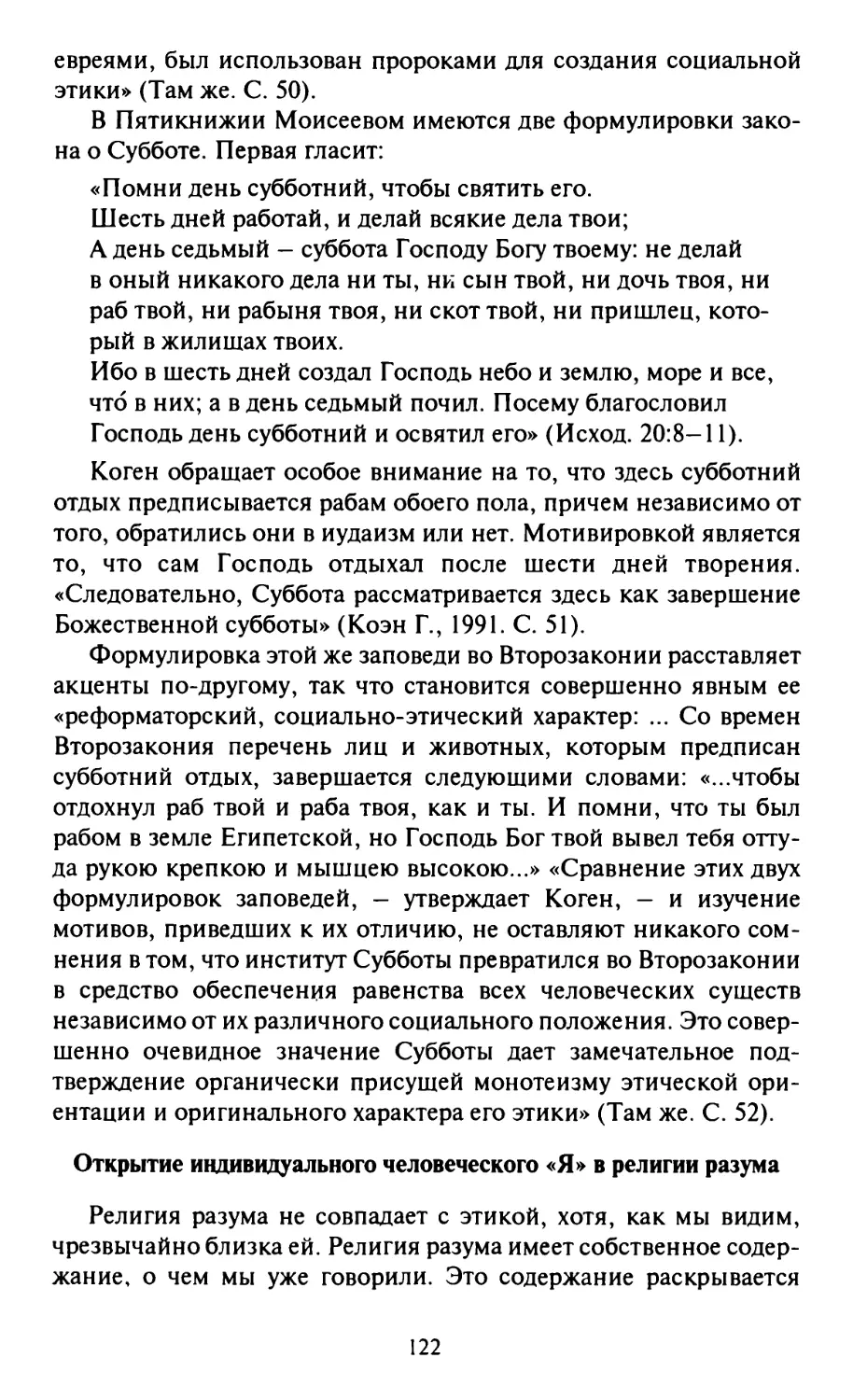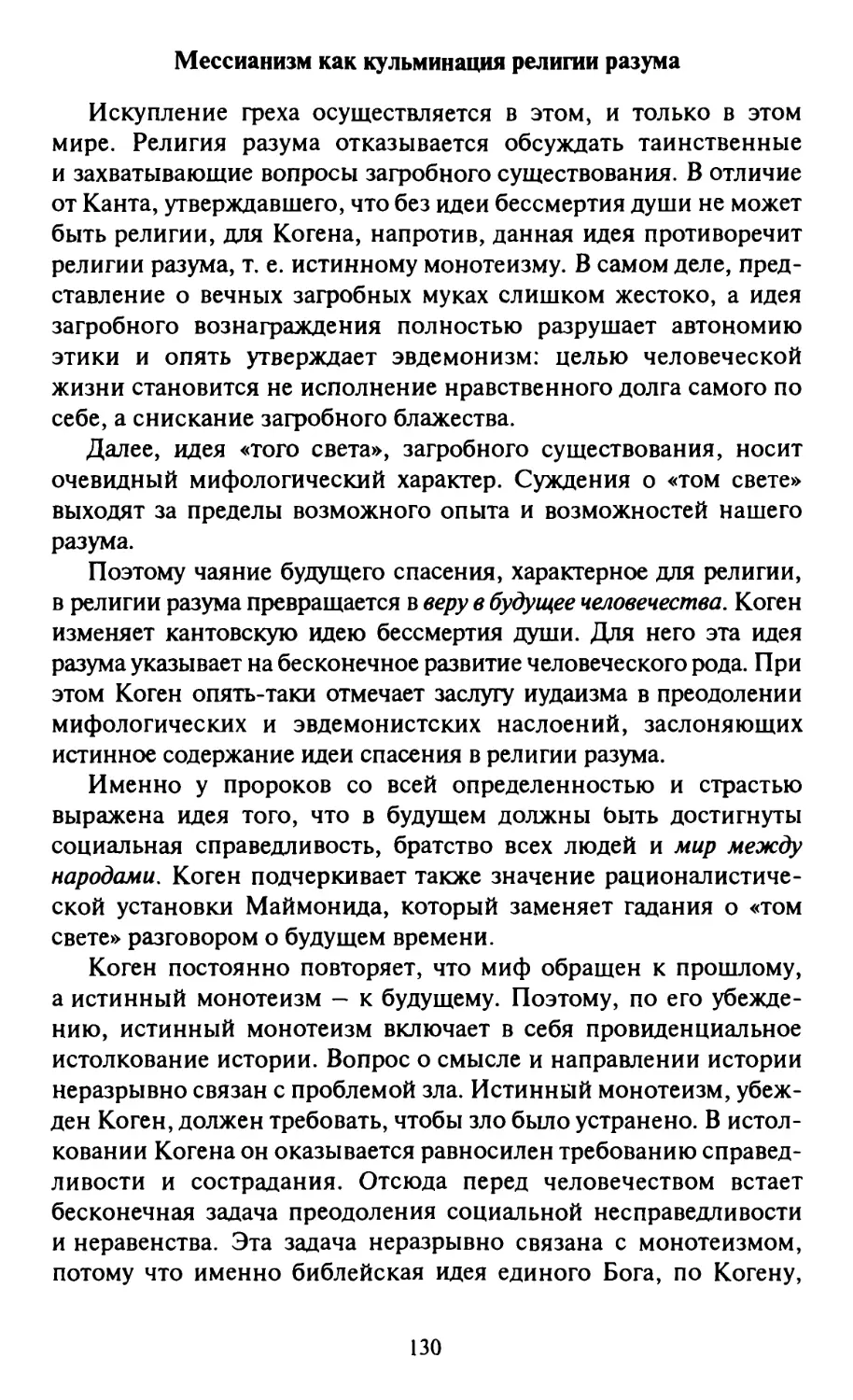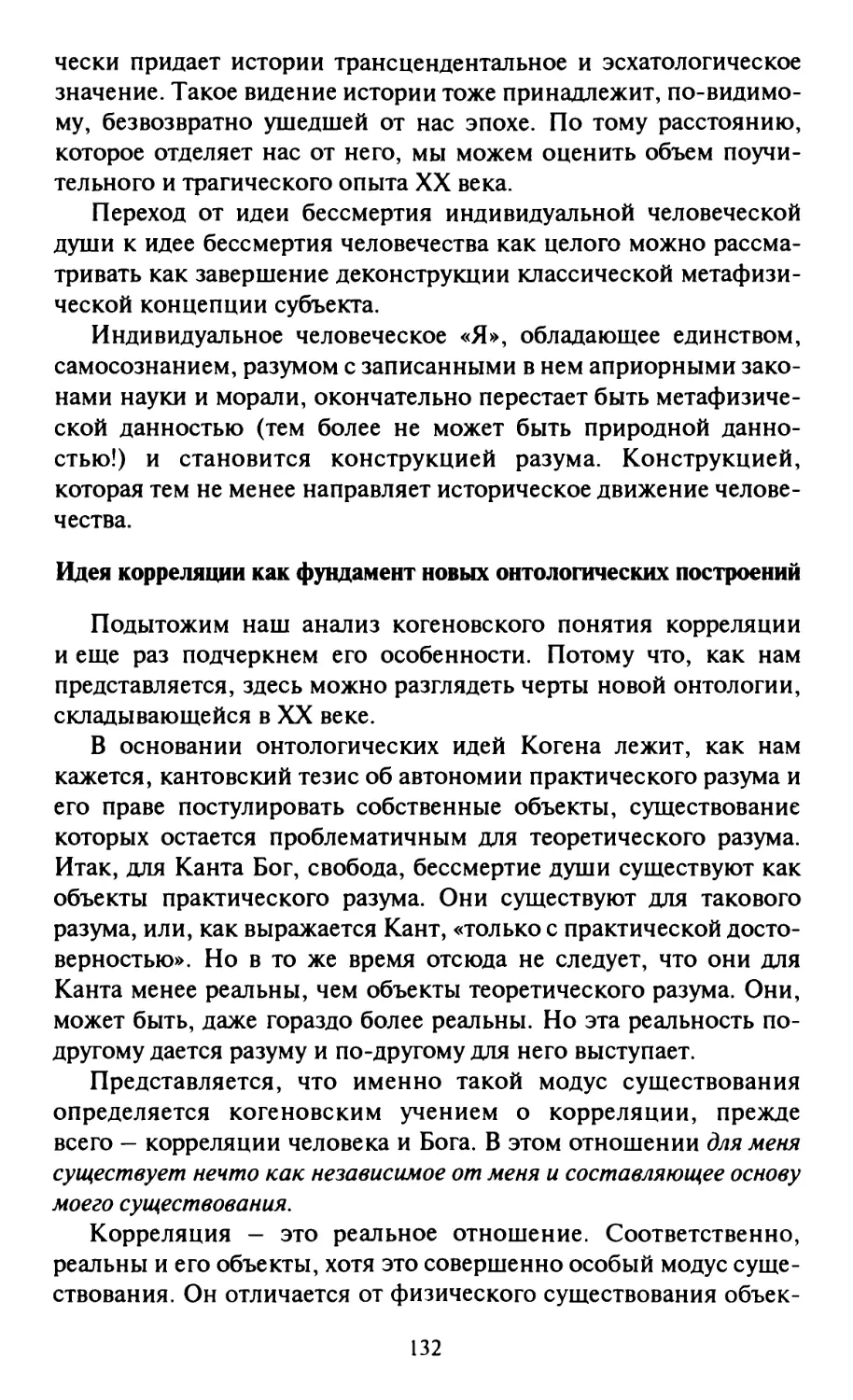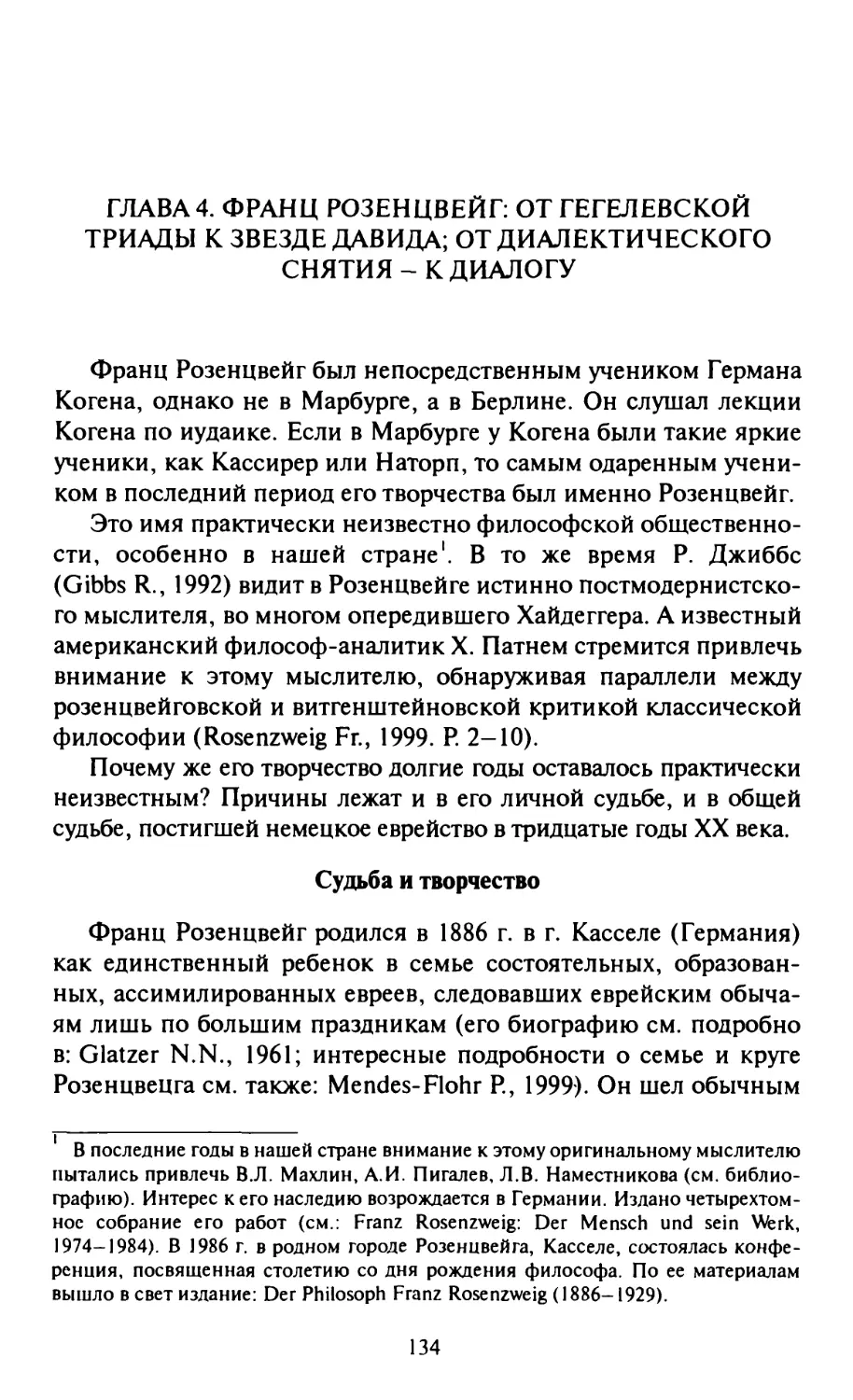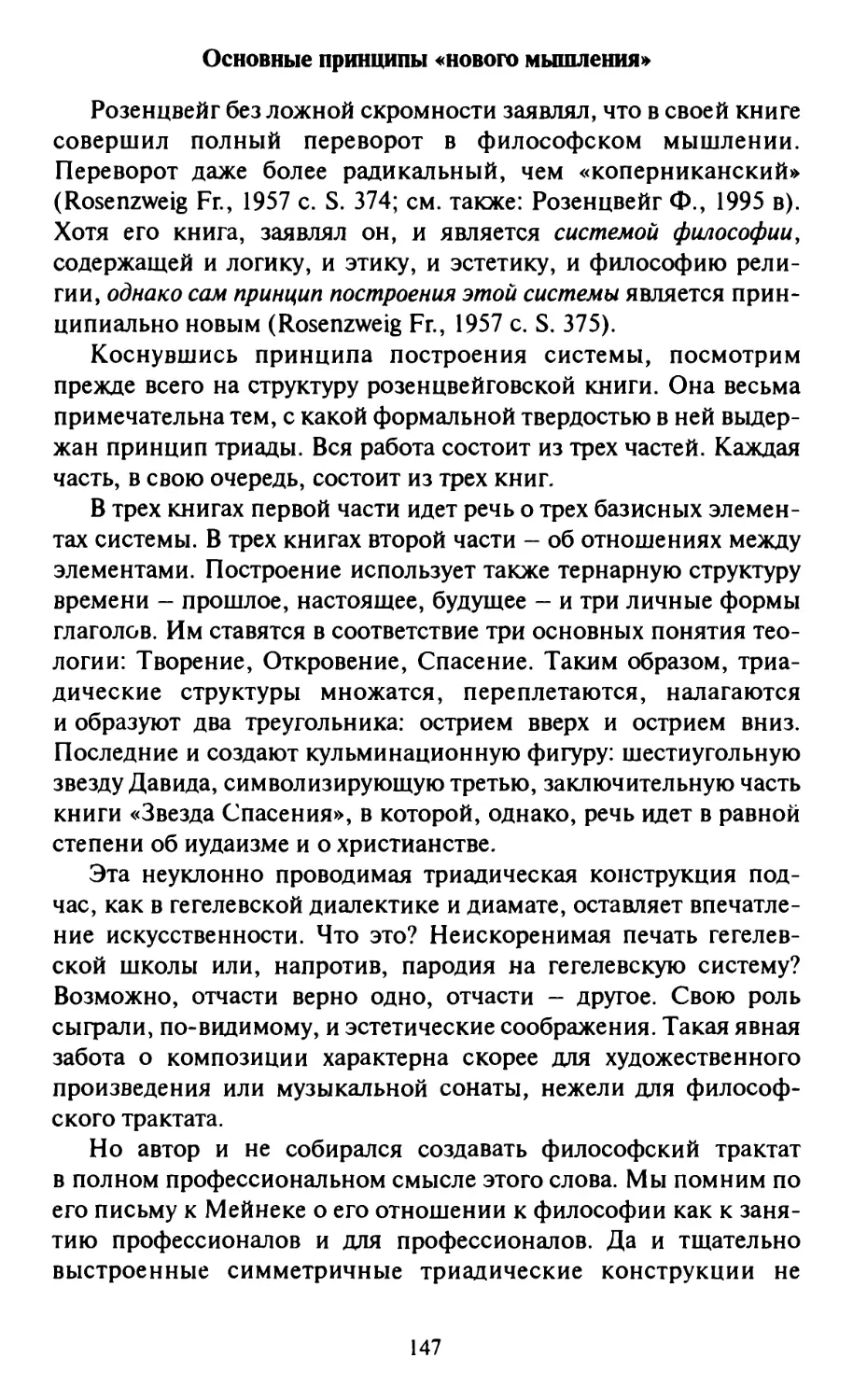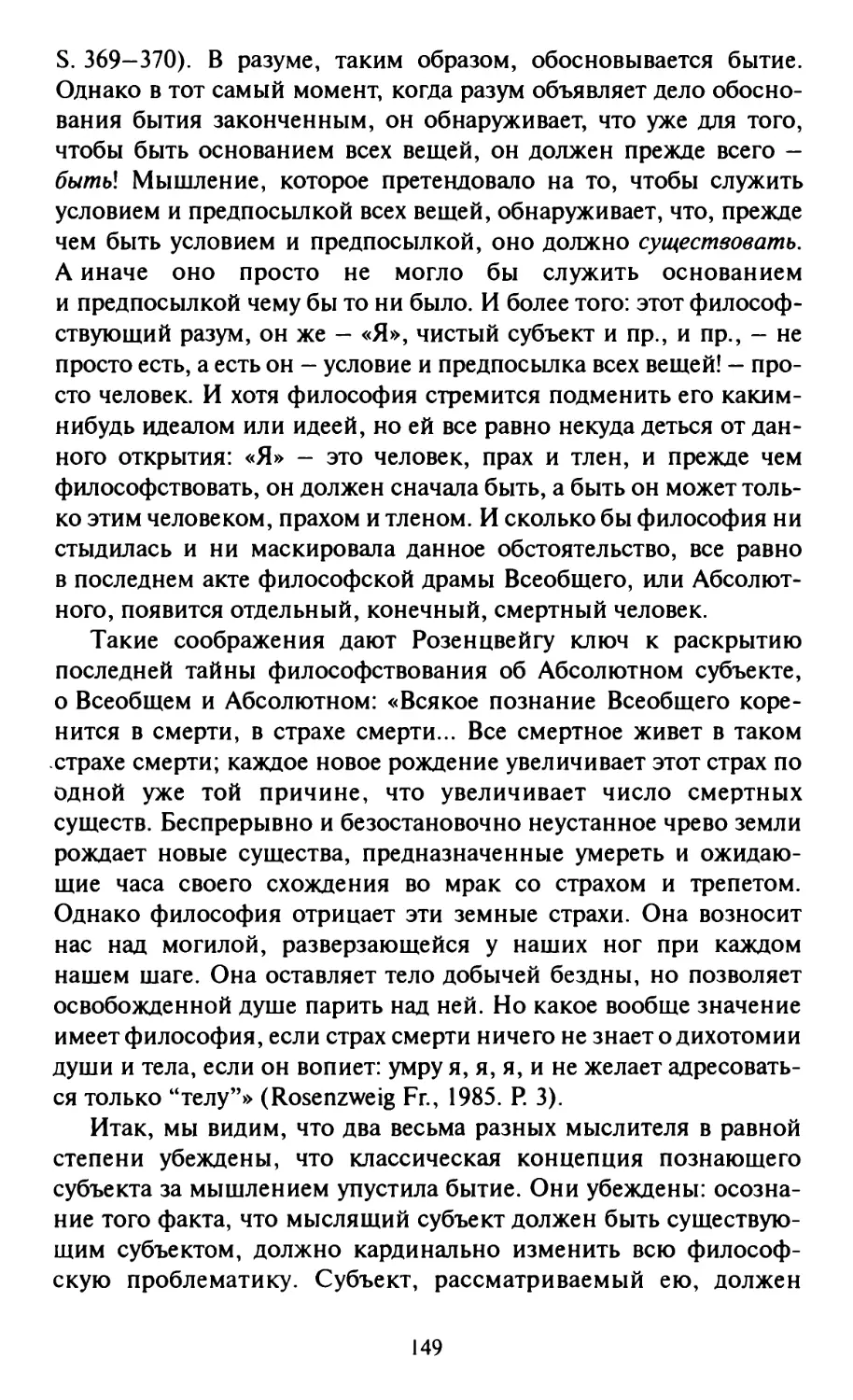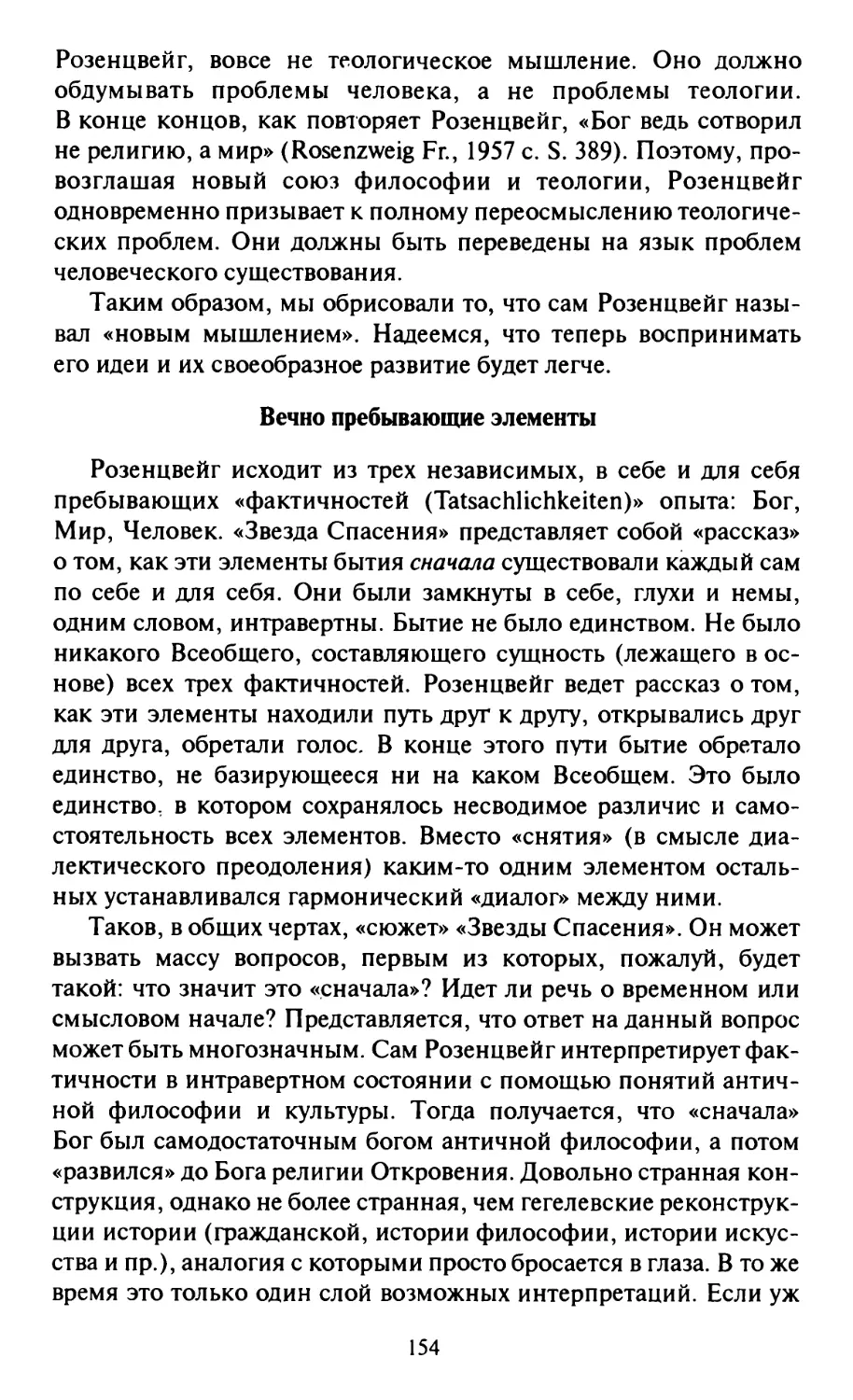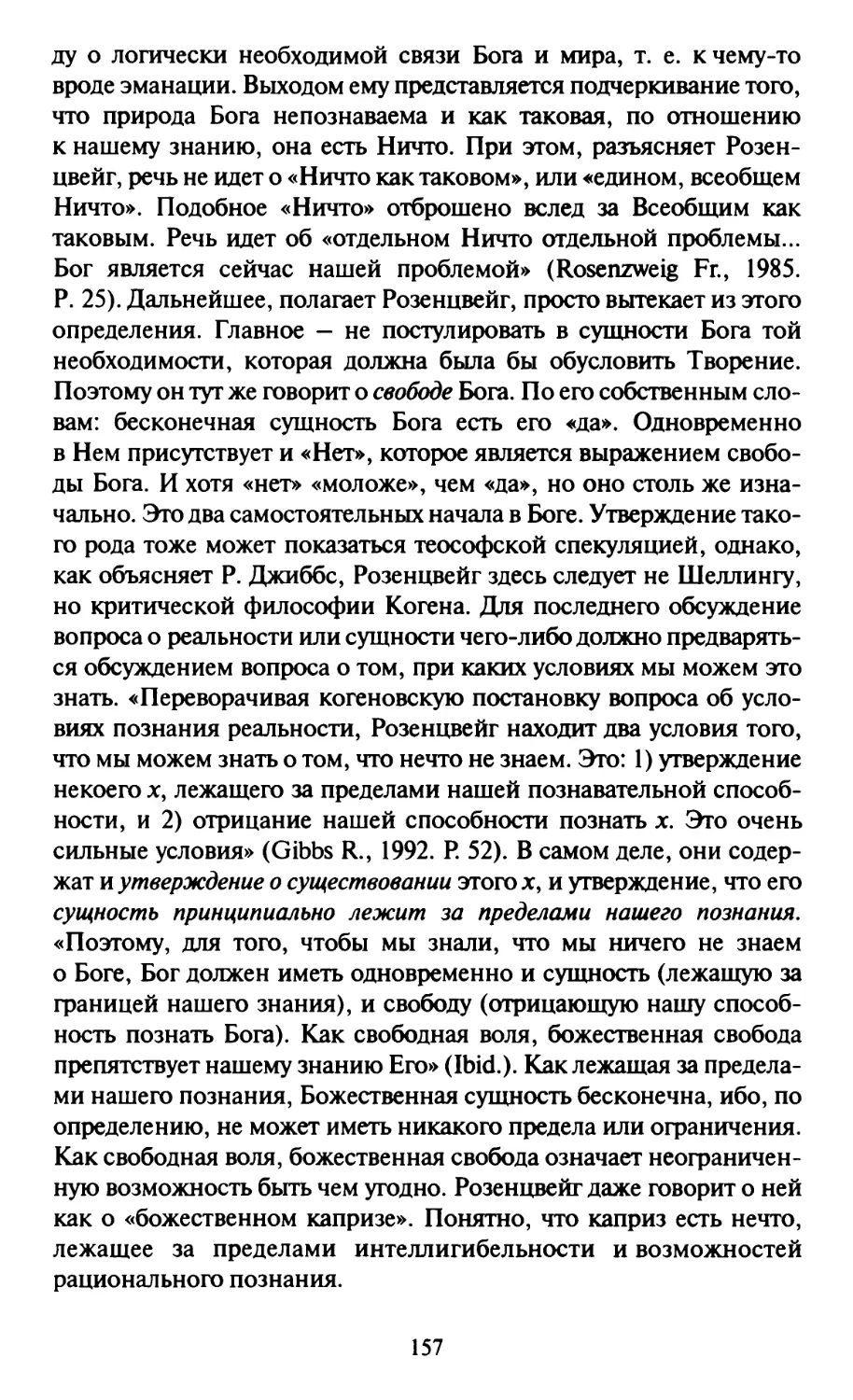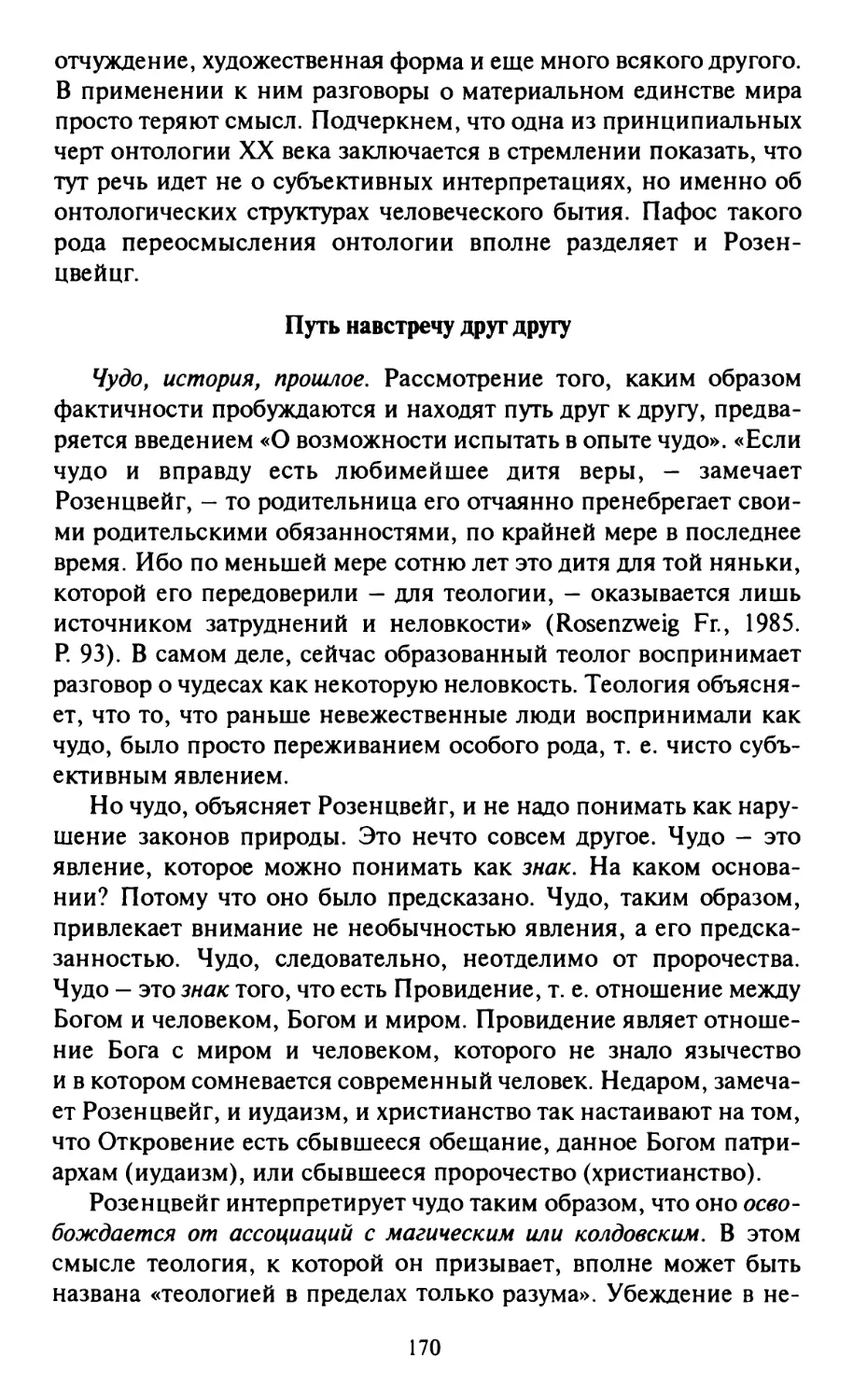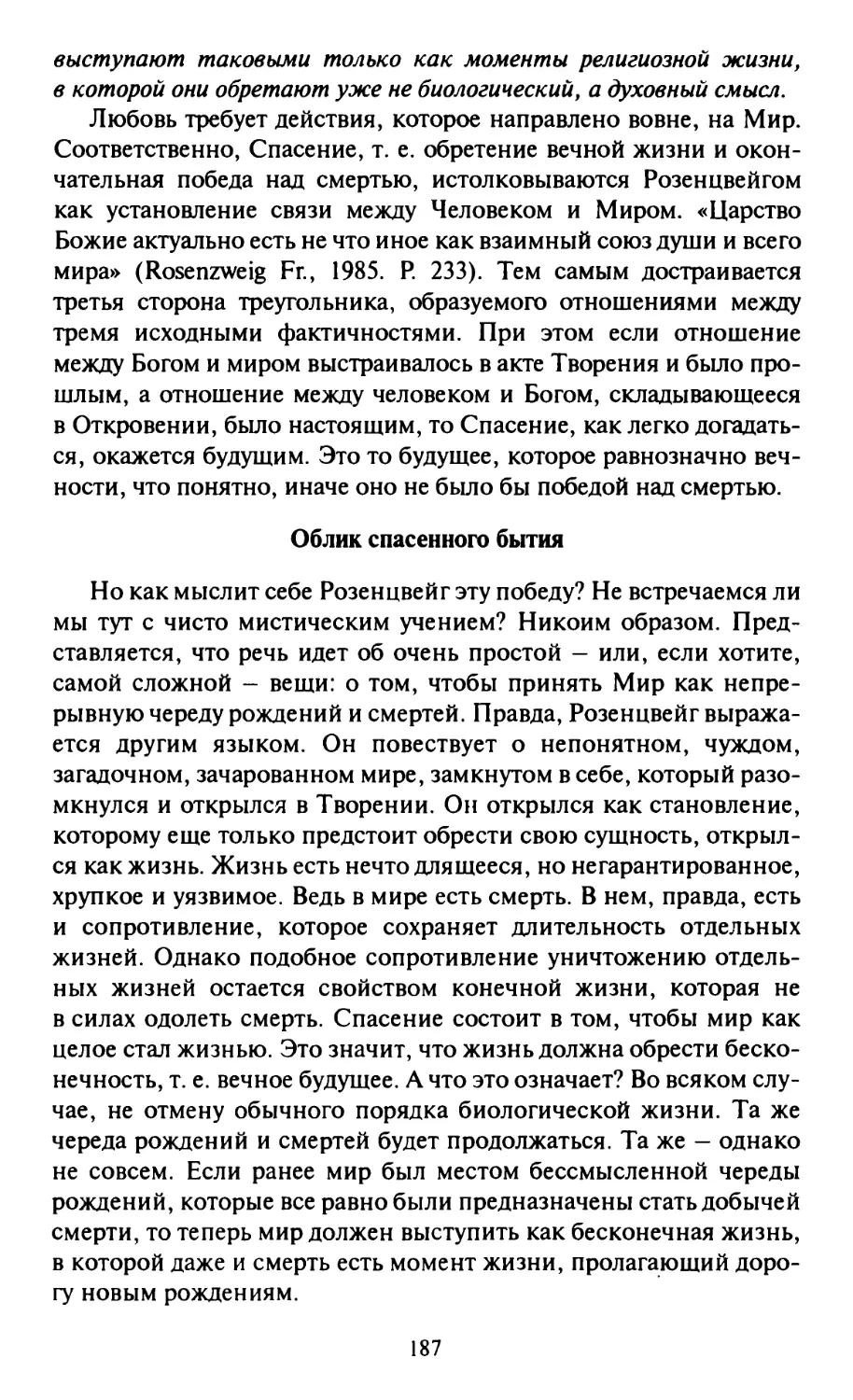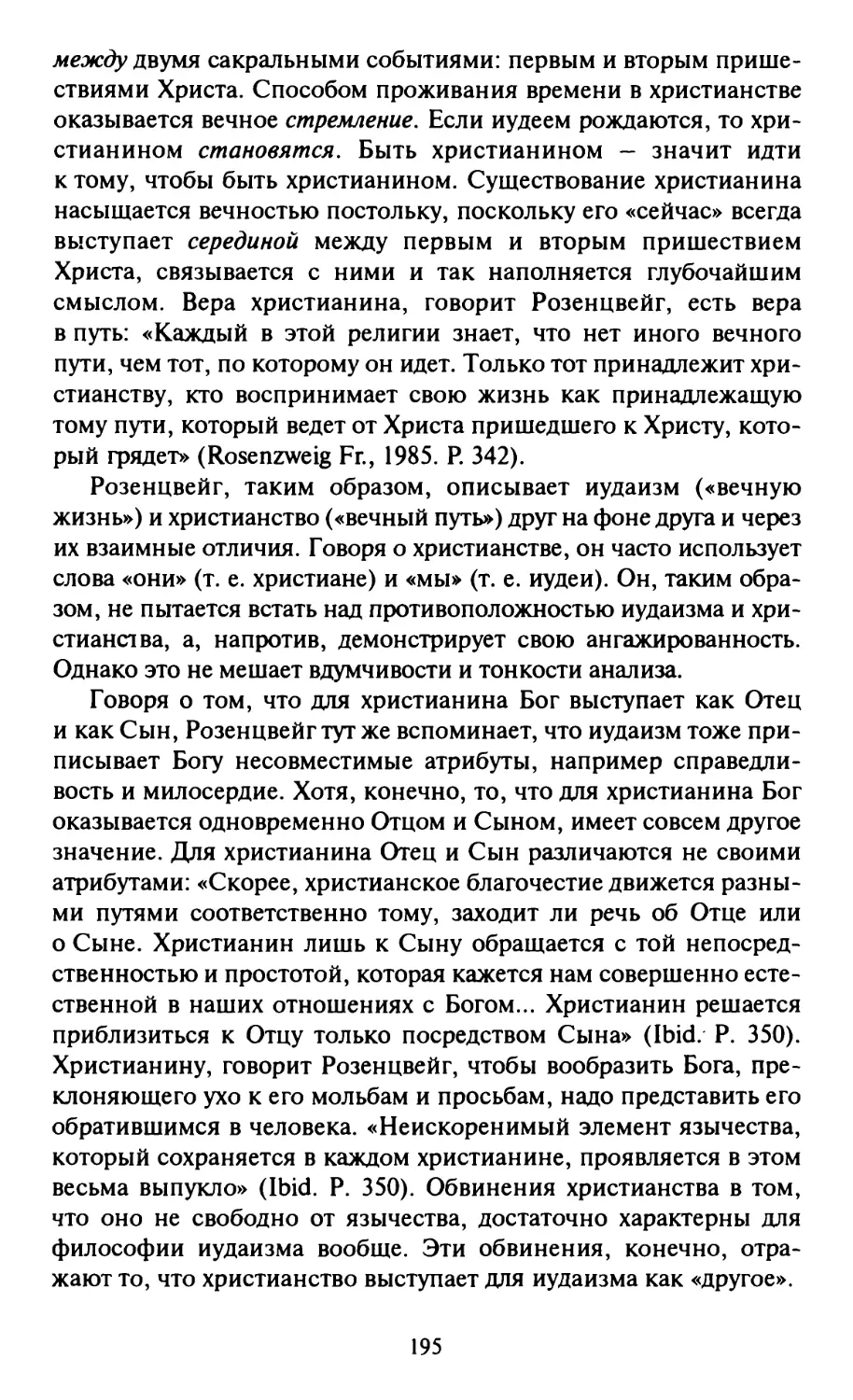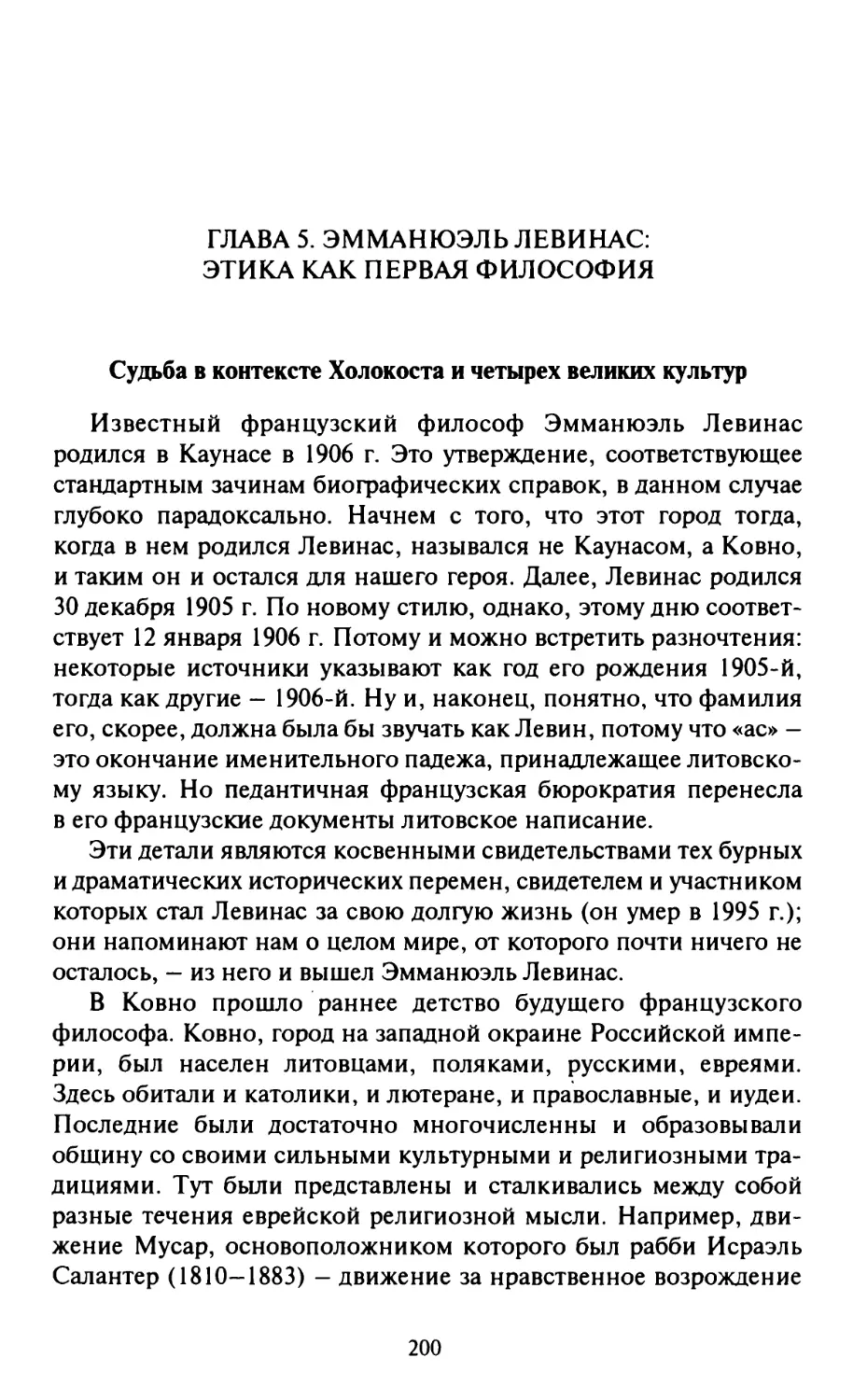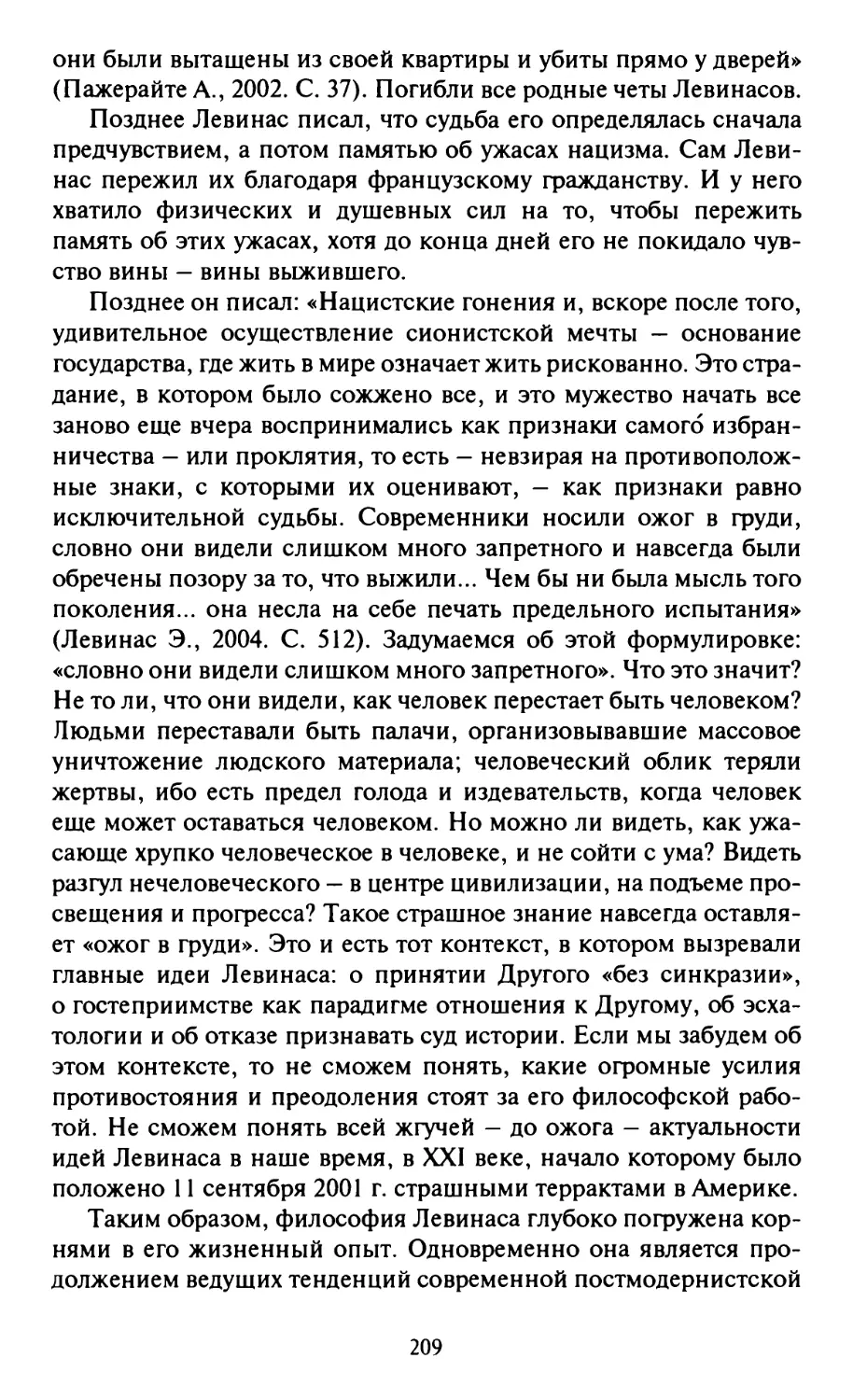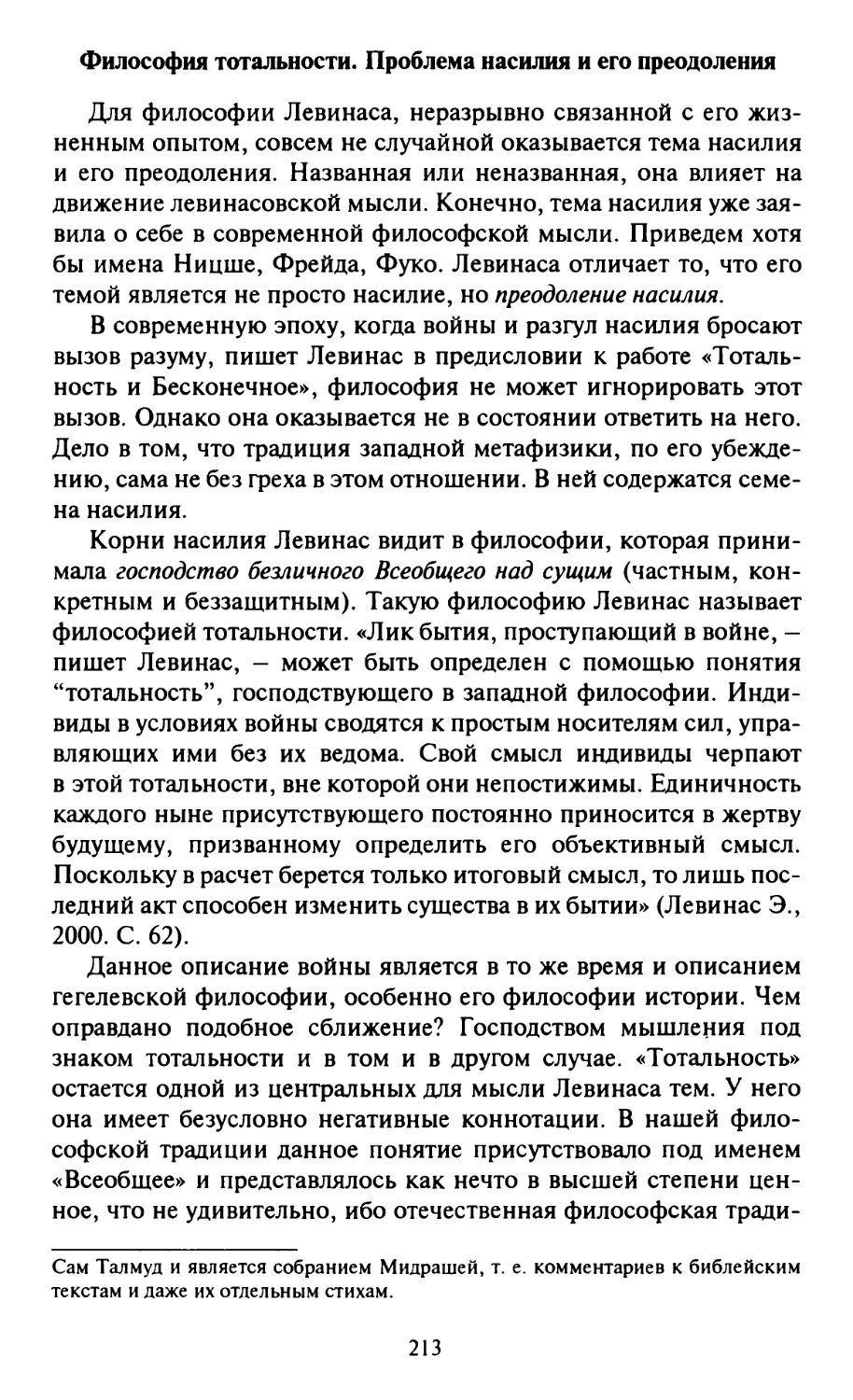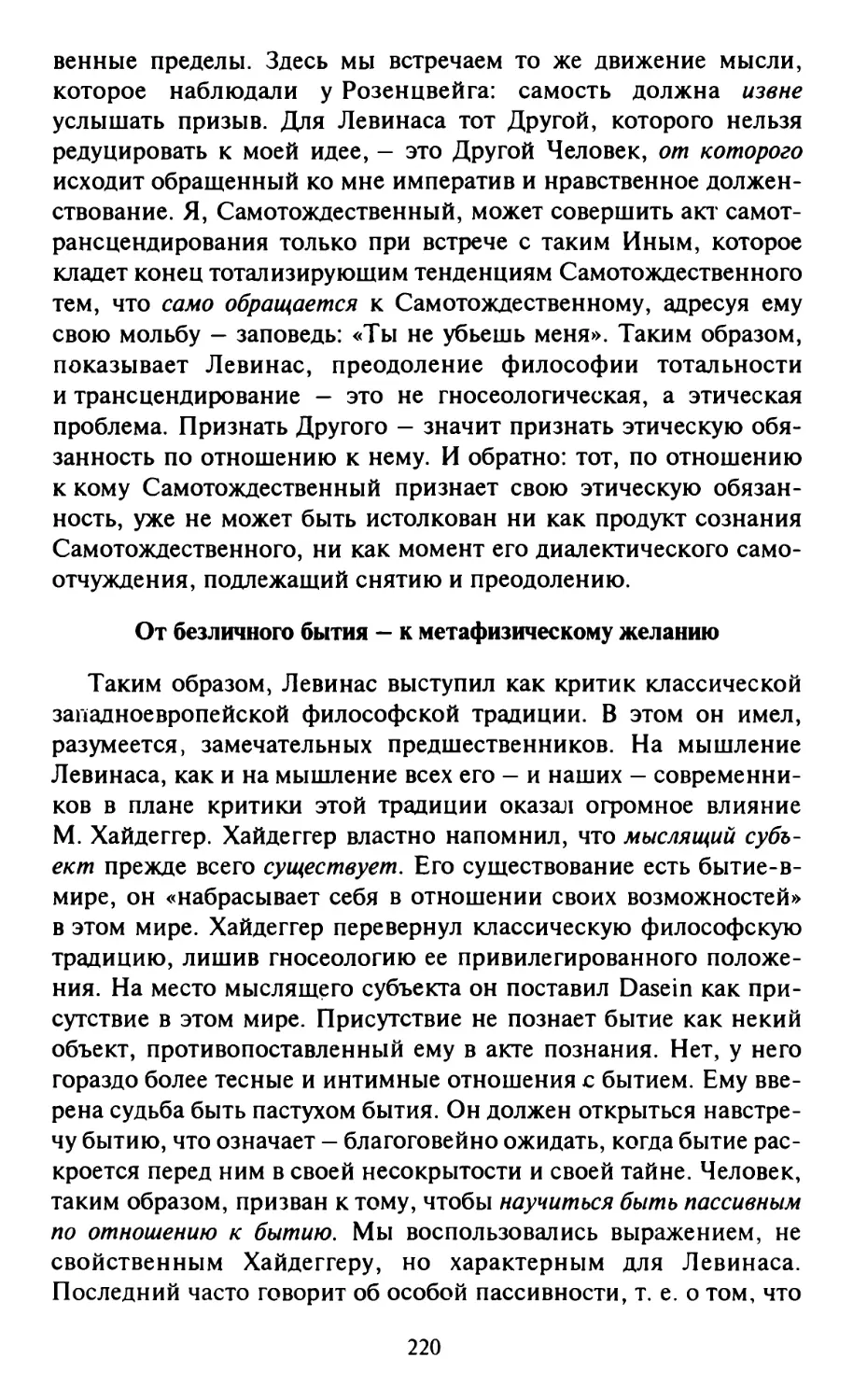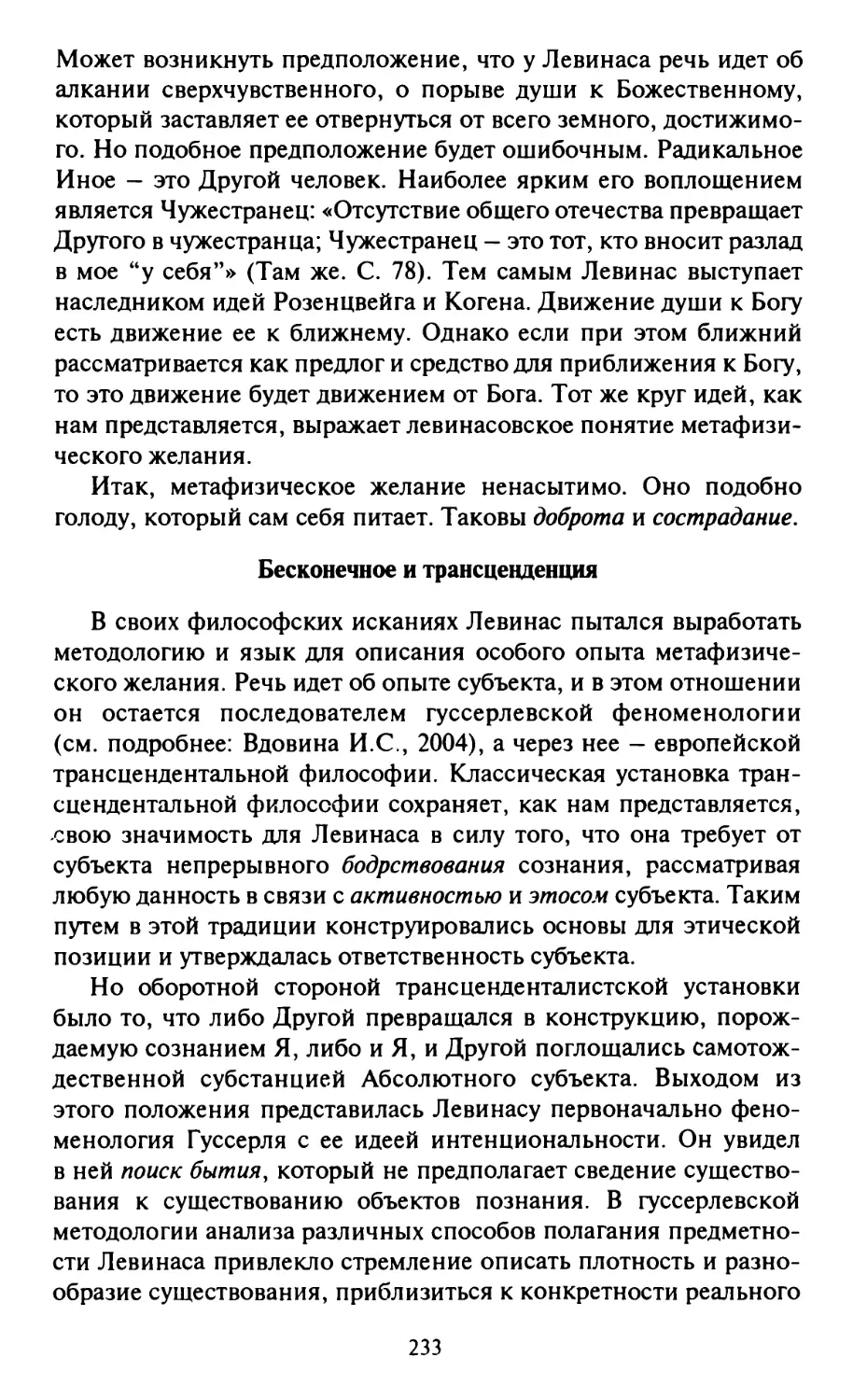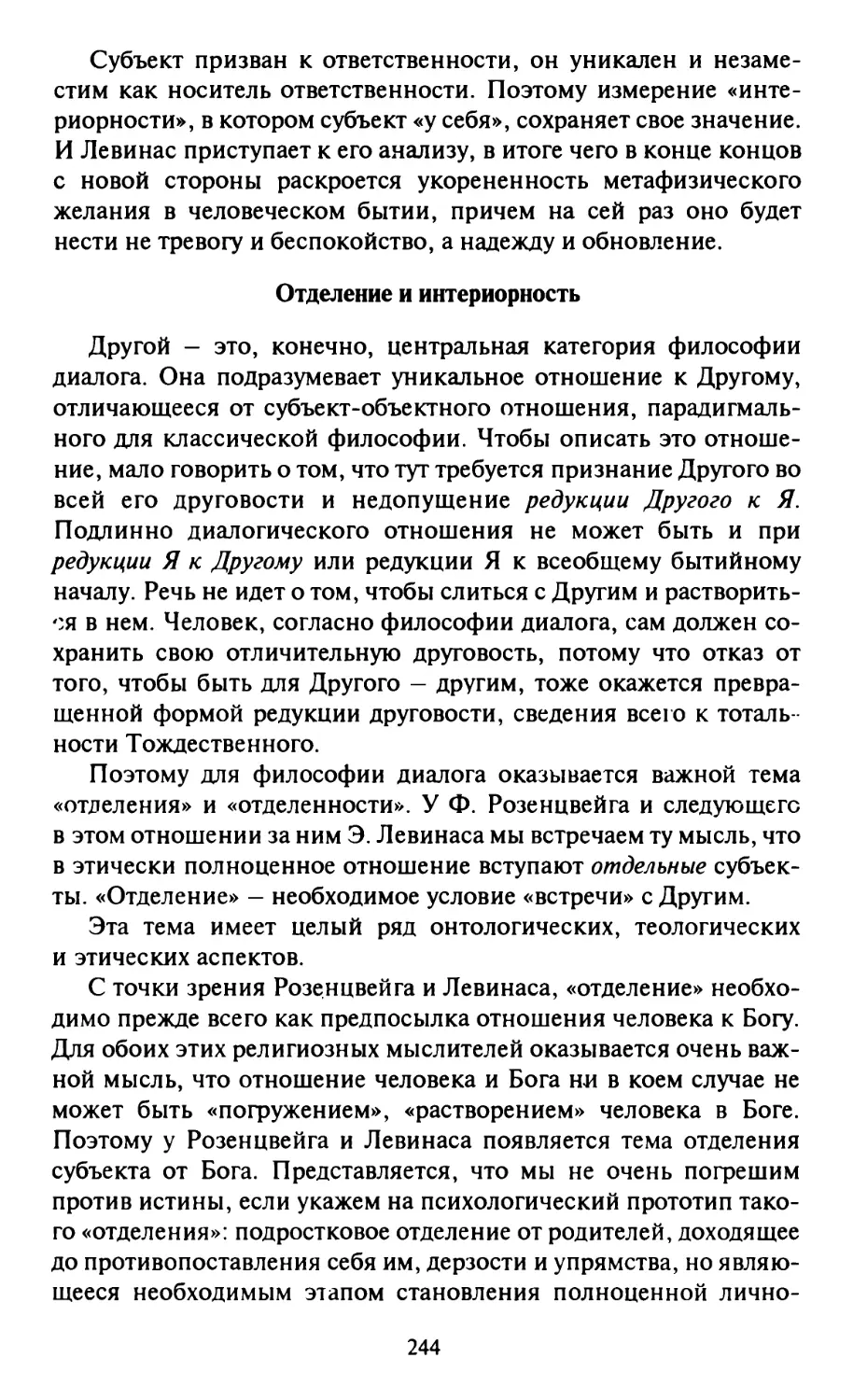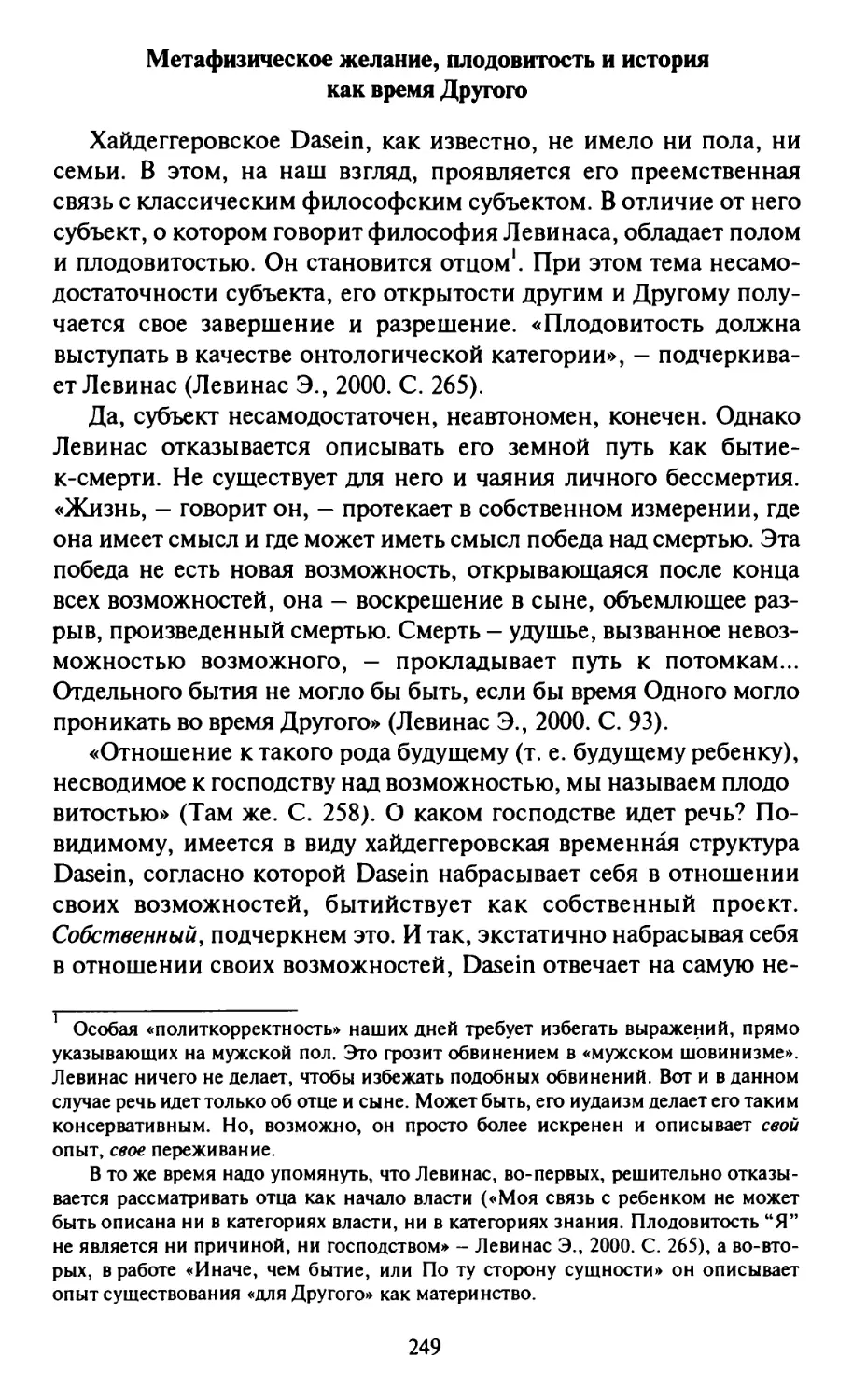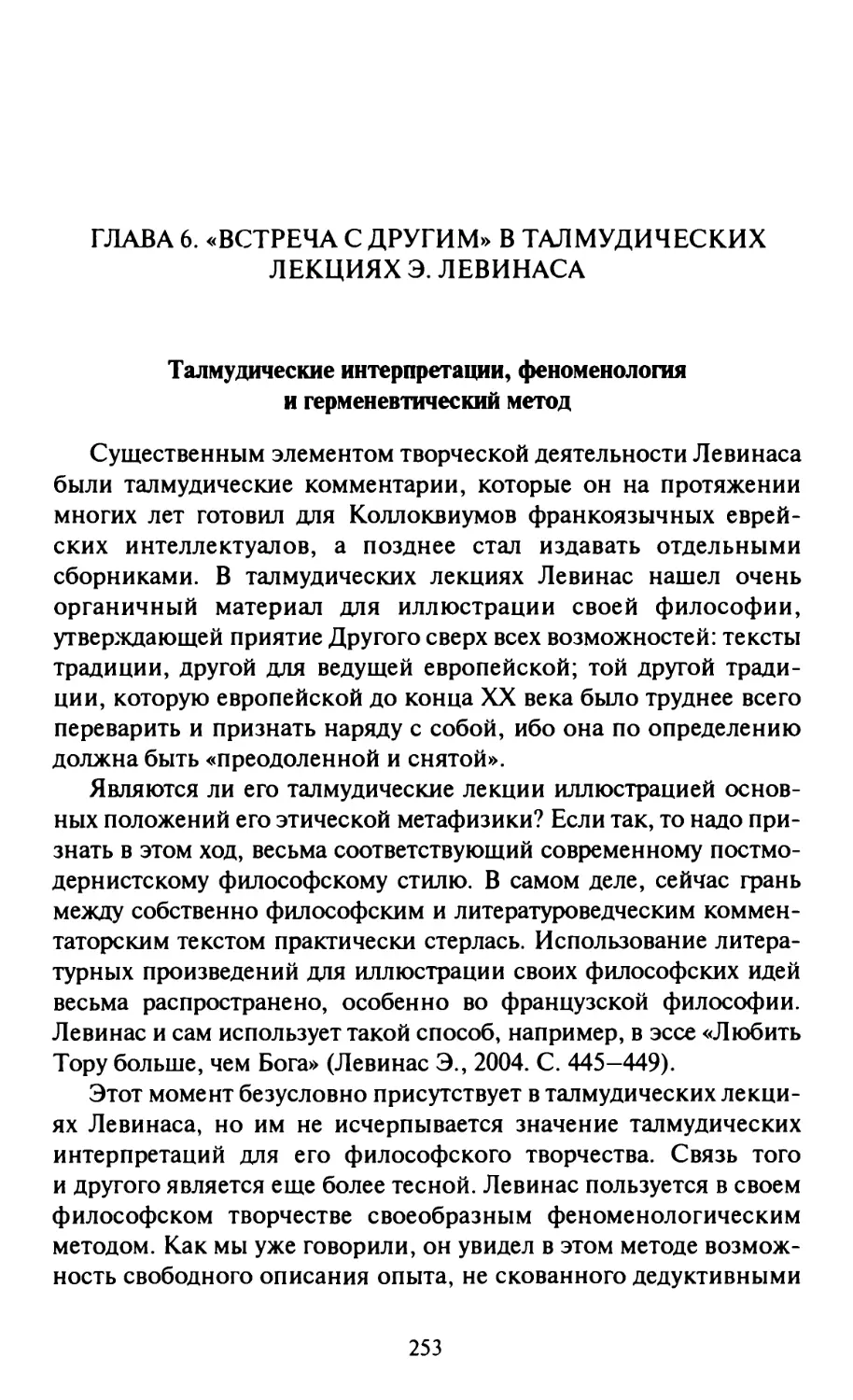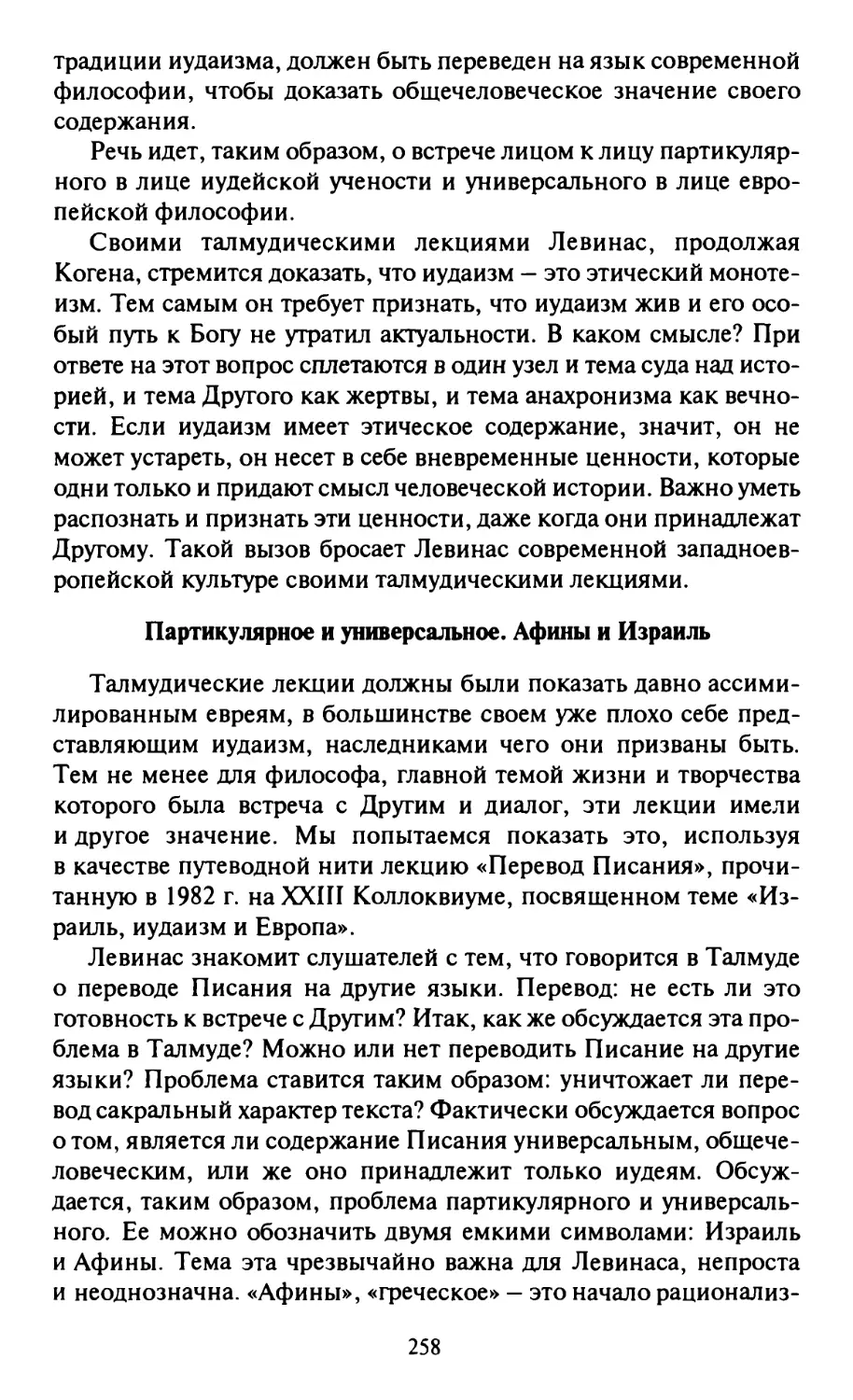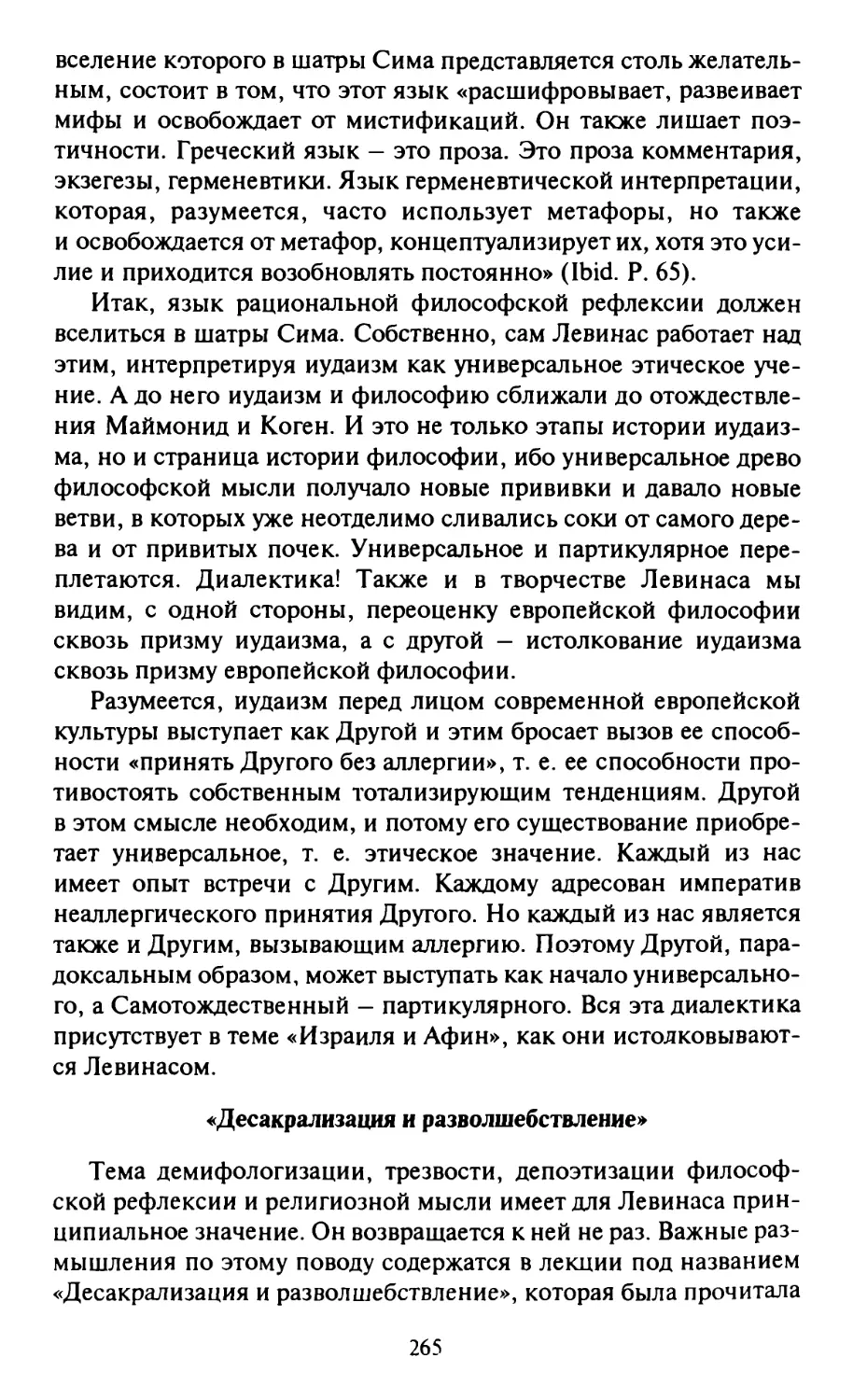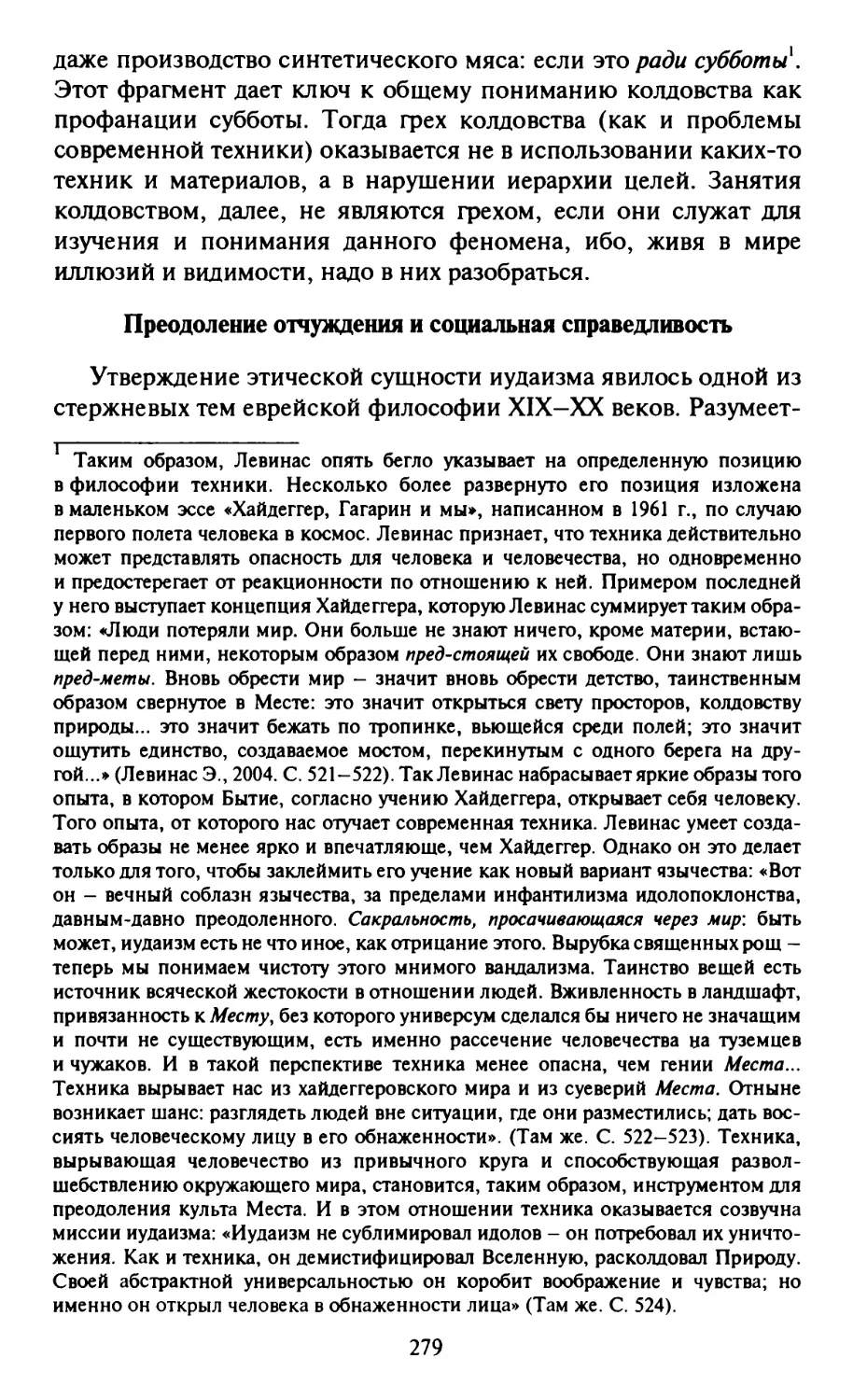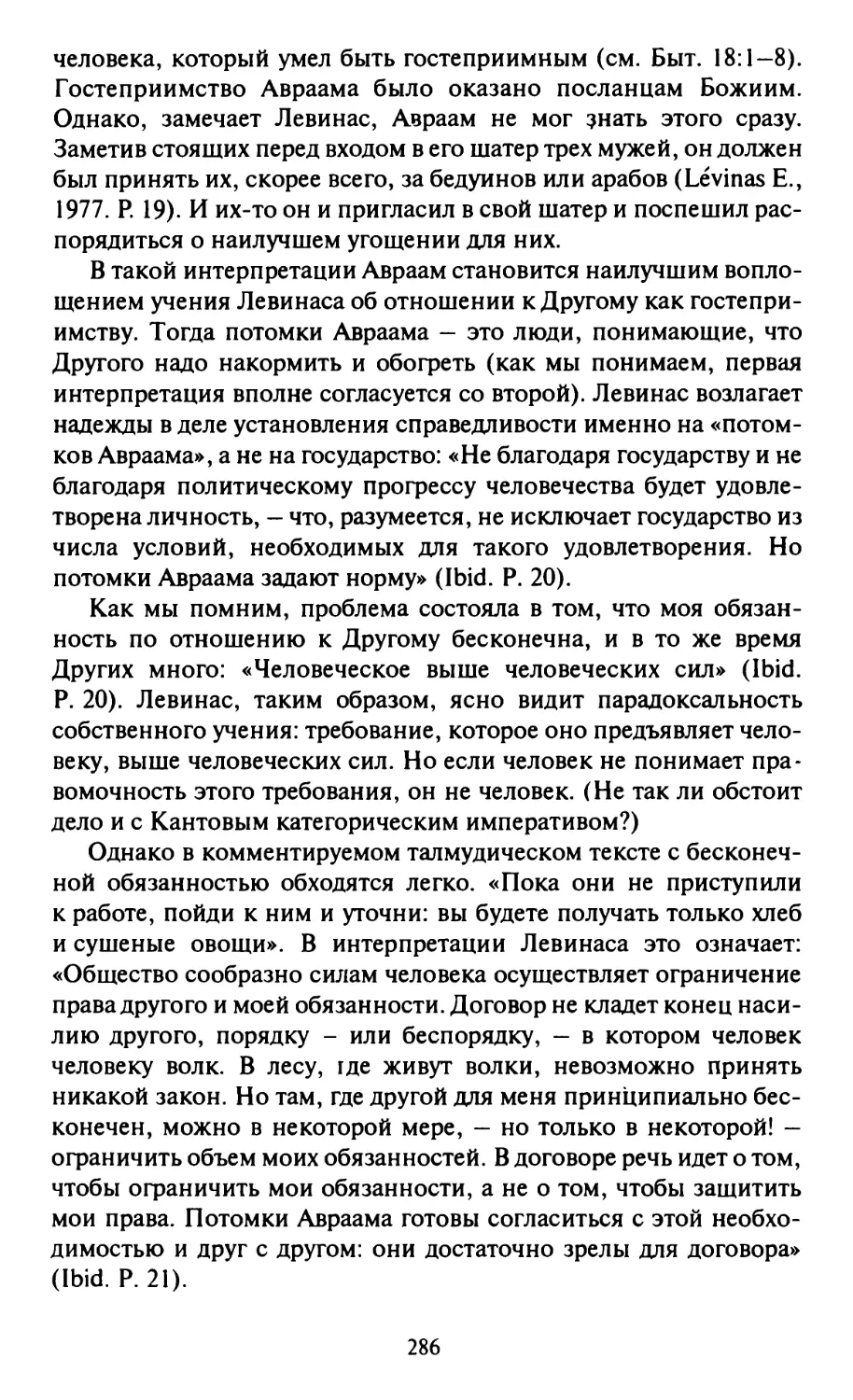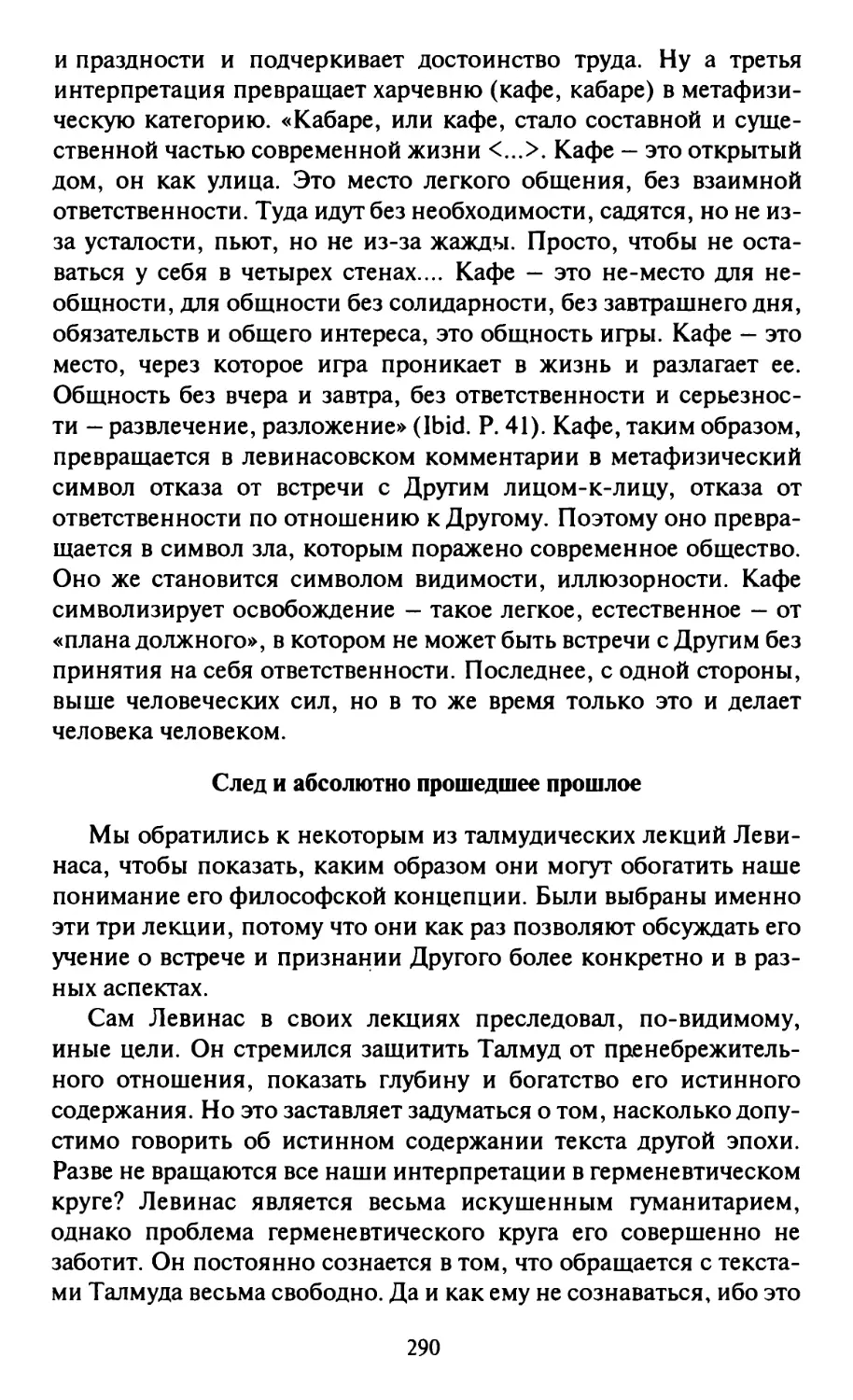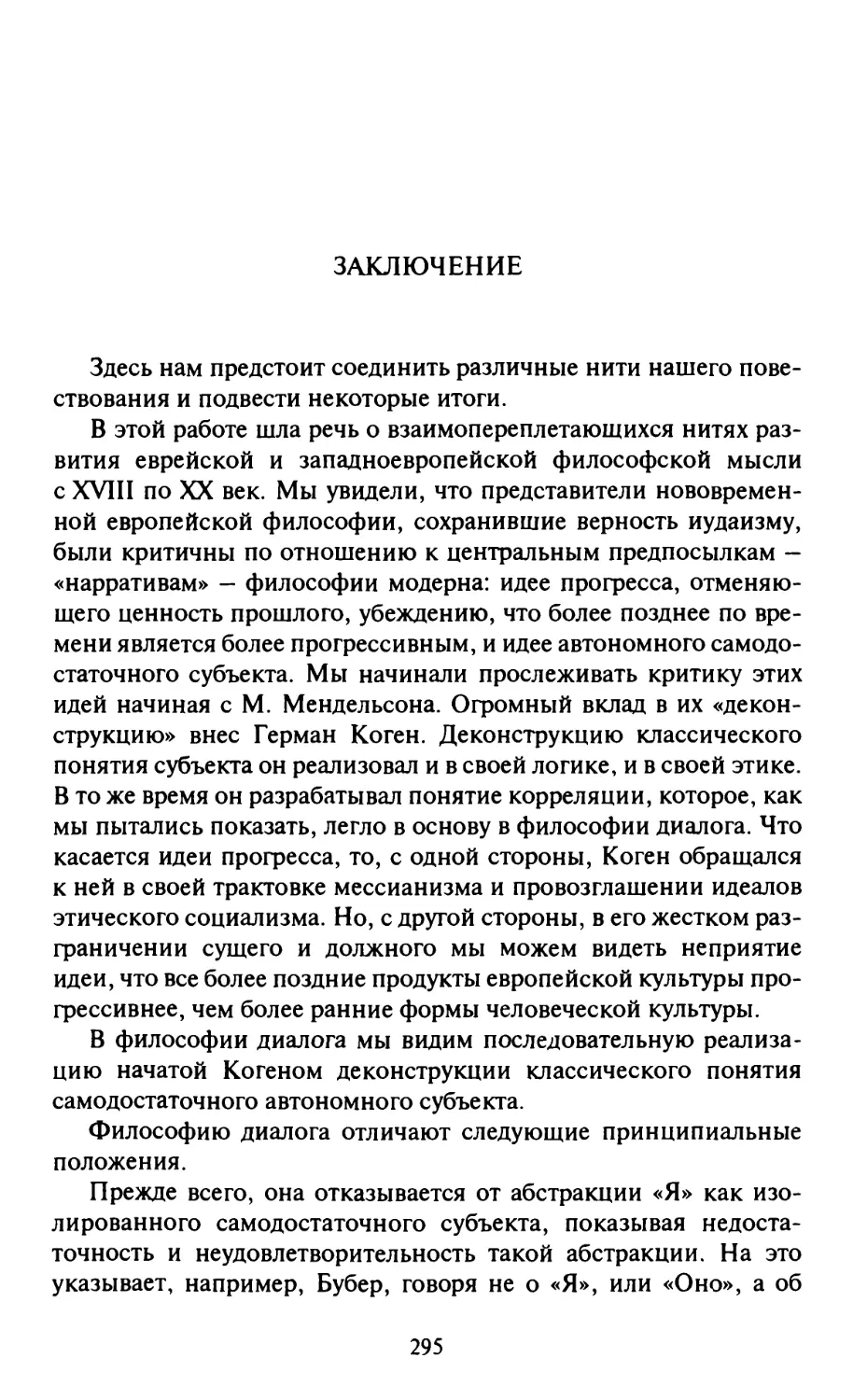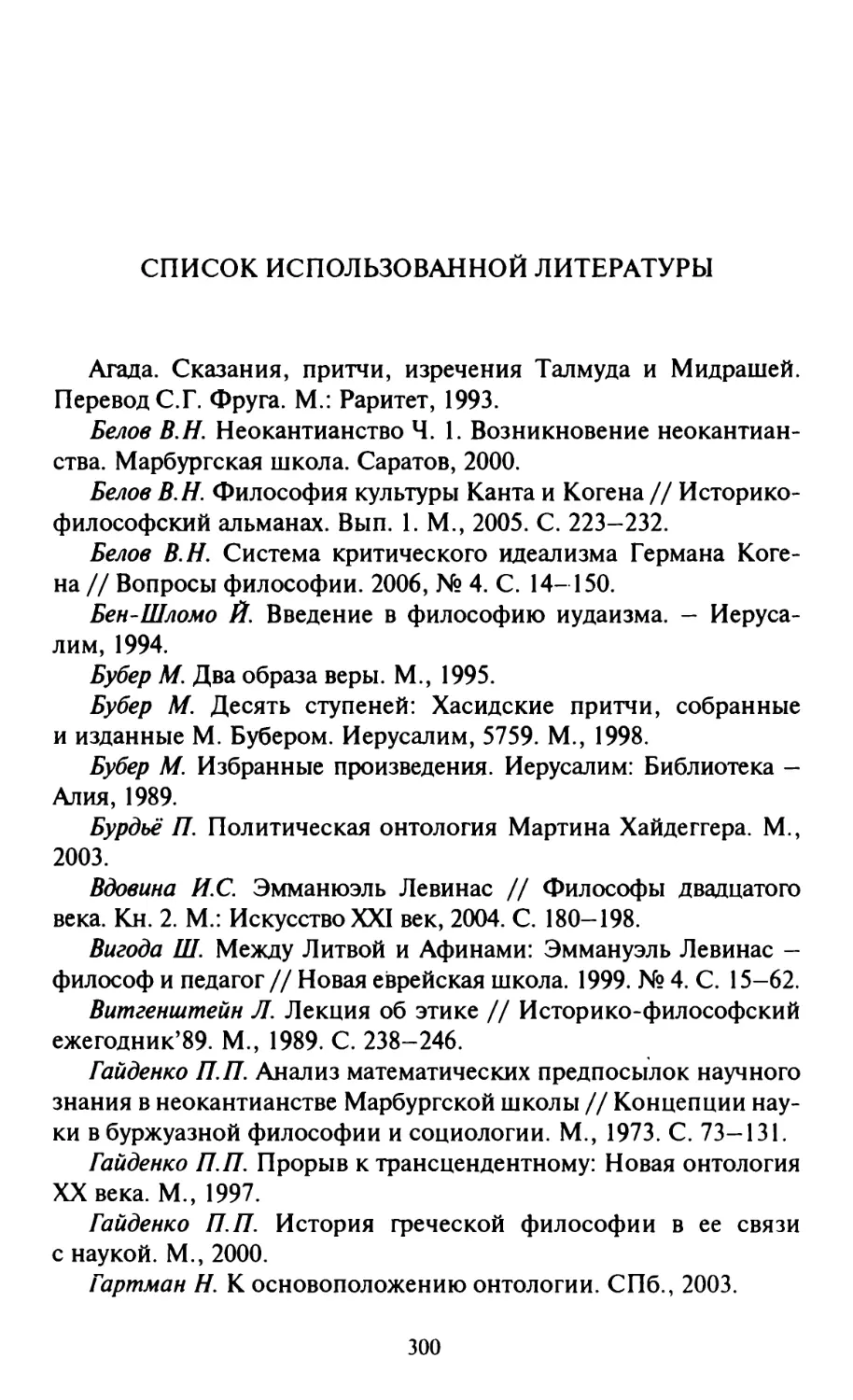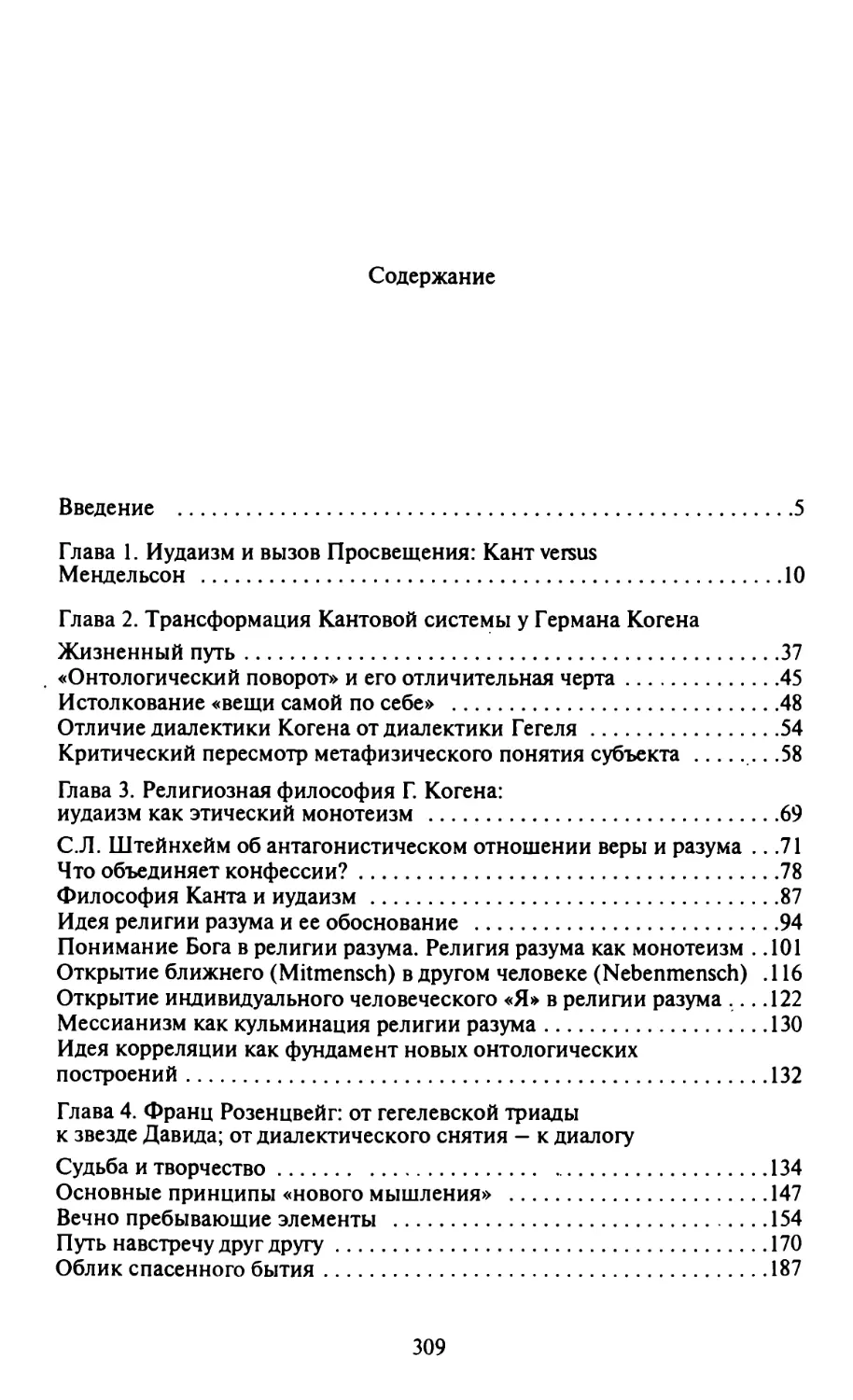Author: Сокулер З.А.
Tags: философские системы и концепции философские науки философия история философии
ISBN: 5-89826-207-5
Year: 2008
Text
«Познание выявляет, дает имена и тем самым
классифицирует. Слово адресуется лицу.
Познание схватывает свой объект, овладевает
им. Обладание отрицает независимость
сущего, не разрушая его: оно отрицает и сохраняет.
Но насилие над лицом невозможно: абсолютно
беззащитные глаза, эта обнаженнейшая часть
человеческого тела, тем не менее оказывают
абсолютное сопротивление овладению.
Абсолютное сопротивление, в котором скрыта
попытка убийства: попытка абсолютного
отрицания. Другой - то единственное существо, по
отношению к которому возможно искушение
убить. Этот соблазн убийства и эта
невозможность убить составляют самую суть видения
лица. Видеть лицо - значит слышать: «Не убий!»
А слышать: «Не убий!» - значит слышать:
«Социальная справедливость». Все то, что я могу
слышать о Боге и от Бога, который невидим,
должно дойти до меня в одном и том же,
едином гласе».
Э. Левинас
Избранное: Трудная свобода. С. 326-327
З.А. Сокулер
ГЕРМАН КОГЕН
И ФИЛОСОФИЯ
ДИАЛОГА
Прогресс-Традиция
Москва
Сокулер ЗА.
Герман Коген и философия диалога. - М.: Прогресс-Традиция, 2008. - 312 с.
ISBN 5-89826-207-5
Для современной философии характерно недоверие к абстрактным концептуальным
построениям и стремление увидеть за ними людей из плоти и крови, а также те жизненные
обстоятельства, которые побуждали их создавать подобные построения. В этой книге
рассматриваются учения философов, которые, в отличие от многих современных еврейских
мыслителей, остались верны иудаизму. Показывается, что начиная со спора Канта и Мендельсона
вопрос о том, является ли иудаизм религией разума, затрагивал основополагающие понятия
нововременной европейской философии, и прежде всего идею субъекта, а также
представления об истории и прогрессе. Само положение еврейской религиозной мысли как «другой» по
отношению к окружающей культуре делало ее особенно чувствительной к допущениям, на
которых покоилась метафизическая концепция субъекта. Новое понимание, согласно
которому субъект определяется в отношениях с другими субъектами, формируется в этике
и поздней религиозной философии Г. Когена. Дальнейшее развитие эти идеи получают
в концепции Фр. Розенцвейга, в философских сочинениях и талмудических комментариях
Э. Левинаса.
Таким образом, темы еврейской философии переплетены с темами и проблемами
европейской философской мысли, а сама еврейская философия становится в XX веке источником
плодотворных идей для всей современной философии.
Книга предназначена для специалистов по истории философии XIX и XX вв. и для всех
интересующихся современной философией.
The typical feature of contemporary philosophy is the lack of trust in the abstract conceptual
constructions and the aspiration to see beyond them real human beings and those living circumstances
which inspired the thinkers to create such constructions. Philosophers, who are under investigation in
this book, have remained devoted to Judaism in contrast to quite a number of modem Jewish thinkers.
The book shows, that starting from the dispute between Kant and Mendelssohn, the question about
Judaism as a religion of reason touched on the basic notions and assumptions of the Modern European
philosophy, first of all the idea of the Subject, and the views of history and progress. The very position
of the Jewish religious thought as «the Other» for the European culture made it especially sensitive to
the assumptions on which metaphysical conception of the Subject had based. The new understanding
of the Subject as defined by his relations with the others, has been forming in the ethic and late
religious philosophy of H. Cohen. These ideas had their further development in the conceptions of Fr.
Rosenzweig, in the philosophical works and Talmudic lectures by E. Levrnas. Thus the themes of the
Jewish philosophy are intertwined with themes and problems of European philosophical thought, and
the Jewish philosophy itself became the source of fruitful ideas for the philosophy of the XX century.
The book is for the specialists in history of philosophy of XIX and XX centuries and for anyone
who is interested in modern and contemporary philosophy.
ББК87
© Сокулер З.А., 2008
ISBN 5-89826-207-5 © Ваншенкина Г. К., оформление, 2008
© Прогресс-Традиция, 2008
ВВЕДЕНИЕ
В настоящей работе под философией диалога понимается
направление, представленное в концепциях М. Бубера, Фр. Ро-
зенцвейга и Э. Левинаса. Общая идея этого направления нашла
классическое выражение в известной работе М. Бубера «Я и Ты»:
нет Я без Ты, нет человека без Другого человека. Чтобы остаться
человеком, человек должен совершить акт самотрансцендирова-
ния и принять Другого как Ты, а не как объект своей
деятельности (будь то политическая власть или теоретическое изучение).
В силу сложившегося в отечественной литературе образа
Германа Когена может показаться странной попытка связать это
течение с его наследием. Ведь Коген представляется у нас чистым
гносеологом, подчинившим философию теории научного
познания. В частности, на него обычно возлагают вину за то, что и всю
философию Канта стали понимать таким же образом, ставя во
главу угла теоретическую философию и проблемы научного
познания. Такой образ Германа Когена возник не случайно, а
сознательно культивировался, чтобы предать забвению его этику и
философию религии. В самом деле, Коген, как и Кант, был глубоко
религиозным мыслителем. Это наложило свой отпечаток на все его
мышление, вплоть до завершающей части его философской
системы, каковой явилась философия религии. В ней Коген
переосмысливает Кантово понятие религии разума, результат чего
фактически вылился в первый очерк идей «философии диалога».
Все это нетрудно продемонстрировать текстологически, что
и будет сделано в соответствующем месте. Так что в данном
отношении оправдать замысел этой работы совсем не сложно. Но
здесь есть и другой аспект, и по его поводу нужно объясниться
более подробно, потому что это касается весьма тонких и
щекотливых вещей, в которых недопонимание возникает гораздо чаще,
чем понимание, а цена ошибки велика.
5
Дело в том, что всех мыслителей, о которых пойдет речь
в настоящей работе - Когена, Розенцвейга, Левинаса, Бубера, -
независимо от результата историко-философского анализа их
концепций, можно объединить в одну группу по
конфессиональному признаку. Да, все они, во-первых, глубоко религиозные
мыслители, а во-вторых, в отличие от большого числа еврейских
мыслителей XIX и XX веков, не приняли христианство, а остались
верны религии своих предков. Более того: они бережно лелеяли
связь с традицией иудаизма, защищали ее перед лицом
классической европейской философской мысли и прилагали большие
усилия к ее возрождению в рамках современной им европейской
культуры.
Писать о них, не объяснив свою собственную позицию
и сверхзадачу, невозможно. В самом деле, об этих мыслителях, их
идеях и их воспитательно-просветительской деятельности можно
писать с разных позиций. Во-первых, можно анализировать идеи
названных мыслителей в русле классических европейских
философских традиций. Во-вторых, на ту же тему могла бы быть
написана и совсем другая книга. Ее был бы вправе написать только
верующий иудей. И адресовал бы он ее, скорее всего,
свободомыслящей и космополитической еврейской интеллигенции для
поучения и наставления.
Но надо иметь внутреннее право на ту или иную позицию.
Последняя должна вырасти из личного опыта исследователя,
чтобы быть подлинной и искренней. Поэтому я пишу с той
позиции, на которую, как мне кажется, я имею право, потому что она
соответствует моему личному опыту и мироощущению, и
стараюсь не выходить за ее пределы, признавая при этом, что
возможны и другие. Я чувствую, что не имею права написать работу
первого или второго названного типа. Потому-то и требуется
данное введение для объяснения и оправдания собственной
позиции. Я выросла в атеистической семье, среди моей родни
есть русские, евреи и немцы, я не соблюдаю никаких
религиозных обрядов и исповедую ту «религию философов», которая
исходит из того, что трансцендентная истина не может быть
адекватно выражена на человеческом языке и в системе человеческих
понятий. Об этом говорили философы разных конфессий,
например, католик Николай Казанский, протестант И. Кант,
а также воспитанный католиком, но не следовавший обрядам
никакой религии, Л. Витгенштейн. Как замечает Витгенштейн,
все конфессии равно пытаются «вырваться за пределы языка», но
6
ни одна не сможет преуспеть в этом более, чем другие. Каждая
конфессия является бесконечно ценным знаком человеческих
усилий помыслить Бога и построить на этом основании
определенный образ жизни, но каждая бесконечно далека от обладания
полной истиной о Боге. Таково мое личное убеждение, за которое
мне и придется ответить в этой и в той жизни.
Поскольку люди обречены выражать трансцендентные
истины на своем языке и сообразно своим понятиям, то
представляется небесполезным занятием анализ языка и его возможностей
в плане выражения понятийных систем. Но при этом надо
учитывать, что понятийные системы существуют не в платоновском
мире идей, а вплетены в реальную человеческую историю. Это
верно даже относительно самых абстрактных и безусловных
понятий, какие только способен сконструировать человеческий ум.
Итак, речь идет вовсе не о том, будто философско-теологиче-
ские концептуальные построения названных мыслителей более
(или менее) соответствуют истине, нежели теологические
построения христианских мыслителей. Нет, речь идет о месте еврейской
философии XIX-XX веков в общем контексте европейской
философии и о глубокой связи идей первой с установками и развитием
последней. Подобный ракурс рассмотрения является для меня
наиболее естественным, хотя я и отдаю себе отчет в том, что
некоторые темы вероучения и ритуала, важные для названных
мыслителей, остались у меня в тени. В этой работе исследуется традиция,
заданная Г. Когеном и продолженная в философии диалога, как
она сложилась и существовала на перекрестке двух столь разных
интеллектуальных традиций - европейской философии, с одной
стороны, иудаизма и еврейской философии - с другой.
Причем существовала не только традиция, но прежде всего
реальные люди. За концептуальными построениями стояли
реальные человеческие судьбы, открытые всем ветрам истории.
Их ободряющее - или обжигающее - дыхание чувствуется в тех
концептуальных новшествах, которые описываемая
философская традиция предложила мировой философской мысли. Ибо,
повторим еще раз, концептуальные системы рождаются в
реальной человеческой истории.
Подчеркивание данного обстоятельства представляет собой
характерную черту современной постмодернистской философии.
Она откровенно не доверяет абстрактным концептуальным
построениям, не верит в их независимое существование в
платоновском мире идей и стремится увидеть за ними людей из плоти
7
и крови, а также те обстоятельства, которые побуждали их
выдвигать и развивать подобные идеи. Настоящее исследование лежит
в русле подобного направления философской рефлексии.
Причем оказывается, что это касается не только философии диалога,
но и таких центральных для «проекта модерна» идей, как
«прогресс», «разум», «человеческая природа». Эти понятия были
тесно увязаны между собой таким образом, что прогресс
мыслился как единое и единственное направление, к которому должны
сходиться все линии общественного и индивидуального
развития, так что все идеи, представления, культуры, конфессии
и общественные институты должны были выстраиваться в
единый ряд менее и более прогрессивных форм. Менее
прогрессивные должны были, разумеется, уступать более прогрессивным.
Отсюда вытекало, что любые проявления разума в разных
культурах, любые представления и социальные институты в ходе
прогрессивного развития истории должны становиться все более
и более единообразными. Следовательно, проект модерна так
или иначе представлял прогресс как установление единообразия.
Он мыслил всеохватывающими и унифицирующими
категориями: разум как таковой, единый и неизменный; соответственно,
для него были едины и неизменны человеческая природа,
религия разума, истина и т. д. Таким образом, всеобщие категории,
в которых разворачивается мышление модерна, становятся
категориями общеобязательного, нормативного. А специфическое,
частное, отдельное приобретает оттенок неправильного,
отклоняющегося от общей линии прогрессивного развития.
Но в то же время - сколь же запутанны и парадоксальны дела
человеческие! - именно в эпоху модерна рождается современный
национализм. Он делает основной единицей человеческой
общности, стремящейся к прогрессу и достигающей его, нацию.
Нация мыслится при этом как квазиорганическая общность,
некий суперорганизм, имеющий естественное, Богом данное
право устранять любые препятствия для своего существования
и благосостояния.
Этот парадокс модерна является фоном, на котором и
развиваются идеи, анализируемые в данной работе. Возможно даже,
что он является одним из ее неназванных персонажей. Не потому,
что я этого хотела, но потому, что так складывалась реальная
история, в том числе и история представлений о «религии разума».
В то же время настоящая работа посвящена именно филиации
и трансформации идей. Она претендует на показ того, что
8
взаимосвязи и развитие идей выходили за рамки как
представлений о единой нормативной линии развития, так и органической
национальной специфики. Ибо здесь пойдет речь о мыслителях,
которые не считали, что именно последняя по времени форма
монотеизма является более прогрессивной и в наибольшей
степени соответствует разуму. Они не считали, что разум вообще
обязывает всех мыслящих людей к одной форме религии. В то же
время герои данной работы являются людьми «двойной
идентичности». Так, о Когене, Розенцвейге и других иногда говорят как
о «еврейско-немецких интеллектуалах». И это наложило
отпечаток на все их творчество, которое можно рассматривать как
синтез традиций еврейской и западноевропейской мысли. Коген
завершает происходившее в XIX веке, прежде всего в Германии,
переосмысление иудаизма. Одним из важнейших теоретических
источников явилась при этом философия Канта, отмеченная
печатью влияния лютеранства.
Таким образом, идеи могут влиять друг на друга,
переплетаться и слагаться в сложные комбинации поверх национальных
и конфессиональных барьеров. Но при этом они живут в мире,
поделенном на национальности и конфессии, и это тоже
определенным образом влияет на характер и развитие философских
идей. Вот об этом, собственно, и пойдет речь в настоящей работе.
Эта книга не смогла бы появиться без помощи и моральной
поддержки моей семьи, и я не могу не выразить благодарность
моим близким - маме и сыну.
Пользуюсь случаем выразить признательность устроителям
Семинара по еврейской мысли для преподавателей философии
стран СНГ и Балтии в Иерусалимском университете (август 2000;
август 2001), особенно за предоставление счастливой
возможности воспользоваться фондами библиотеки этого университета.
ГЛАВА I. ИУДАИЗМ И ВЫЗОВ ПРОСВЕЩЕНИЯ:
КАНТ VERSUS МЕНДЕЛЬСОН
Формирование и развитие современной еврейской
философии неразрывно связано с Германией, этой страной философов.
Начало ей положили идеи М. Мендельсона, а высшей точкой
развития еврейской философии на почве немецкой классической
философии стала религиозная философия Г. Когена.
Судьба еврейской философии в Германии XIX века
определялась как радикальными изменениями в условиях жизни
еврейства (выход из гетто, эмансипация, ассимиляция), так
и влиянием немецкой классической философии. Причем в сфере
философской мысли эти разнопорядковые факторы действовали
совместно, влияние одного преломлялось через влияние другого,
что привело в конечном счете к оригинальному и глубокому
философскому развитию.
Выход из гетто был бы невозможен, если бы не было
Просвещения с его идеями веротерпимости, равенства и
прогресса, основанного на разуме. В то же время Просвещение явилось
теоретическим истоком немецкой классической философии.
Поэтому обсуждение еврейской философии Нового времени
оказывается также и обсуждением идей Просвещения и
классической немецкой философии.
Само название фундаментальной работы Г. Когена, «Религия
разума из источников иудаизма», заставляет вспомнить о работе
И. Канта «Религия в пределах только разума» (1793 г.). И
действительно, замысел Когена невозможно понять без этой работы
Канта. Поэтому прежде всего мы должны будем обратиться к ней.
Она оказалась драматическим вызовом для еврейской мысли.
С одной стороны, задавая чисто этическую интерпретацию
религии, Кант определяет чистую идею церкви как общности
людей на основе морального закона. «Этическая общность на
основе божественного морального законодательства, - пишет
Кант, - есть церковь, которая, поскольку она не является предме-
10
том возможного опыта, называется невидимой церковью
(в качестве только идеи объединения всех честных людей под
властью божественно-непосредственного, но морального миро-
правления - в том виде, как она служит прообразом всякого
подобного человеческого учреждения). Видимая же церковь есть
действительное объединение людей в единое целое,
соответствующее этому идеалу» (Кант И., 1980. С. 170). «Ее существенное
свойство (качество) - т. е. чистота, единение на основе
только моральных, а не каких-либо других побуждений. (Она
очищена от слабоумия суеверия и от безумия фанатизма.)» (Там же.
С. 171) Только такая церковь, по Канту, соответствует религии
разума. Ей не требуются ни культ, ни священники. Все
благомыслящие люди являются служителями такой церкви.
Выдающееся гуманистическое значение этой идеи Канта
заключается в том, что, как можно ожидать, религия разума
призвана объединить всех людей доброй воли независимо от их
конфессиональной или национальной принадлежности. В самом
деле, Кант прямо говорит, следуя традиции, идущей от
Возрождения к Просвещению (ср.: Кассирер Э., 2004. С. 186-191), что
«есть только одна (истинная) религия, но могут быть различные
виды веры. - К этому можно прибавить, что для многих церквей,
отделившихся друг от друга ввиду особенностей их веры, все-таки
может существовать одна и та же истинная религия. Поэтому
уместнее... говорить: этот человек той или иной (иудейской,
магометанской, христианской, католической, лютеранской) веры, чем
говорить, что он исповедует ту или иную религию» (Кант И., 1980.
С. 177).
Немецко-еврейские мыслители XIX века чувствовали, что
учение Канта обладает огромным гуманистическим
потенциалом, ибо утверждает равенство и высочайшее достоинство всех
людей как носителей морального закона и разума. А
специфичность культа, которая всегда в наибольшей степени разделяла
людей, при этом не играет никакой роли. Вспомним, что вторая
формулировка Кантова категорического императива говорит
о человеке как таковом, человеке как члене человечества: «...в
ряду целей человек (а с ним и всякое разумное существо) есть цель
сама по себе, т. е. никогда никем (даже Богом) не может быть
использован только как средство, не будучи при этом вместе с тем
и целью, что, следовательно, само человечество в нашем лице
должно быть для нас святым, так как человек есть субъект
морального закона, стало быть, того, что само по себе свято, ради
11
чего и в согласии с чем нечто вообще может быть названо
святым» (Кант И., 1965 а. С. 465-466). Поэтому не случайно, что
среди последователей учения Канта было так много еврейских
интеллектуалов1.
Но, с другой стороны, в той же самой работе «Религия в
пределах только разума» Кант выражал самое неприязненное
отношение к иудаизму, который, с его точки зрения, не имеет ничего
общего с религией разума.
Истинная религия, религия разума, религия, основанная на
чистой моральной вере (все эти определения для Канта
эквивалентны), не может не быть всеобщей, ибо всеобщ сам разум
и содержащийся в нем моральный закон. Обращаясь к
рассмотрению исторической реализации такой религии, Кант ставит
вопрос о «той церкви, которая с самого начала заключала в себе
зародыш и принципы объективного единства истинной и
всеобщей религиозной веры, к которому она постепенно подходит все
ближе и ближе. - Тогда оказывается прежде всего, что иудейская
вера с той церковной верой, историю которой мы хотим
рассмотреть, в целом и по существу совершенно не имеет никаких точек
соприкосновения, т. е. не стоит ни в каком единстве по
понятиям, хотя она ей непосредственно предшествовала и для
основания этой (христианской) церкви дала физический повод»
(Кант И., 1980. С. 197).
Иудаизм, утверждает Кант, представляет собой только
совокупность обрядов и ритуалов, не имеющих никакого отношения
к разуму и моральному закону. «Иудейская вера, - пишет он, - по
своей первоначальной организации является совокупностью
чисто статутарных законов, на которой было основано
государственное правление; ведь те моральные элементы, которые - или
в самом начале, или уже впоследствии - были в нее привнесены,
безусловно не принадлежат иудейству как таковому» (Там же).
Бог иудаизма, утверждает Кант, «выступает только как светский
регент, не требующий совести и не имеющий к ней никаких
претензий» (Там же. С. 198). Тут можно было бы задать вопрос: если
моральные элементы, как допускает сам Кант, могли быть
«привнесены... в самом начале», то на каком основании Кант
заявляет, что они «не принадлежат иудейству как таковому»? Но Кант
Справедливости ради надо отметить, что среди еврейских философов XIX в.
были и последователи Гегеля. См. Rotenstreich N., 1968. Ch. 5: The Religion of the
Spirit.
12
не дает никакого обоснования, просто перечисляя по пунктам те
обвинения, которые он бросает иудаизму. Обвинения эти
демонстрируют очевидную предвзятость. «Во-первых, - говорит
Кант, - все его заповеди такого рода, что на них можно основать
политический строй, и они возлагаются как принудительные
законы, ибо касаются только внешних действий. И хотя десять
заповедей, если бы даже они и не были даны публично, уже
имеют значение для разума как этические, в этом
законодательстве даны не с требованием морального образа мыслей при их
исполнении (в чем впоследствии христианство полагало свое
главное дело), но внимание направлено только на внешнее их
исполнение» (Там же). Конечно, отрицать этическое значение
десяти заповедей невозможно при всем желании. Но даже и тут,
как мы видим, Кант делает оговорку, что в иудаизме они «даны
без требования морального образа мыслей». Что позволяет Канту
сделать такое сильное утверждение? То, что в Ветхом Завете
награды и наказания за их исполнение или неисполнение
«сводятся только к таким, какие в этом мире могут быть применены
к каждому человеку, но сами по себе не имеют отношения к
этическим понятиям; ведь в обоих случаях последствия должны
затрагивать и потомство, которое ни в этих подвигах, ни в
бесчинствах не принимало никакого практического участия, - что,
если иметь в виду политическое устройство, во всяком случае
может быть только мерой благоразумия для того, чтобы создать
себе последователей, но в этическом отношении противно
всякой справедливости» (Там же).
Продолжая формулировать свои претензии к иудаизму, Кант
утверждает далее: «А так как без веры в будущую жизнь
немыслима никакая религия, то иудейство как таковое, взятое в чистом
виде, отнюдь не заключало в себе никакой религиозной веры»
(Там же). Делая такое заявление, Кант игнорирует то
обстоятельство, что раввинистическая и средневековая иудейская традиция
считали веру в будущую жизнь необходимым элементом
иудейской веры (скорее всего, он ничего не знал об этом). В то же
время Герман Коген впоследствии будет обвинять Канта в том,
что, допуская бессмертие души и высшее благо как идеи
практического разума, тот сделал уступку гетерономной этике,
фактически вернув награду за добродетель, только не в этом, а в загробном
мире. Поэтому сам Коген, а также Розенцвейг и Левинас
действительно не говорят о бессмертии индивидуальной
человеческой души.
13
По ходу своих рассуждений Кант вспоминает и о той защите
иудаизма, которая была предпринята Моисеем Мендельсоном.
Поэтому кантовские формулировки можно понять как ответ
Мендельсону. В самом деле, Мендельсон в своей работе
«Иерусалим, или О религиозной власти и иудаизме» (1783)
(Mendelssohn M., 1969) стремился доказать, что иудаизм как раз и
является религией разума. Этот заочный (потому что Мендельсон
к тому времени уже умер) спор между Кантом и Мендельсоном
представляет интерес не только для исследователей иудаизма,
ибо он самым тесным образом связан с различиями в понимании
сути Просвещения обоими мыслителями. А эти различия
указывают на проблемы и противоречия самой просвещенческой
идеологии, задавшей основные линии философского и
политического развития западноевропейского мира. Фактически здесь
обсуждаются глубокие мировоззренческие основания для
понимания человека, разума и прогресса. И так обстоит дело не
только со спором Канта и Мендельсона по поводу иудаизма, но и со
многими дискуссиями и темами еврейской философии. Именно
это, в наших глазах, является главным обоснованием
актуальности настоящей темы. Но вернемся к работе Мендельсона.
Автор «Иерусалима» оправдывал иудаизм с позиций разума
тем, что иудаизм якобы является не особым учением о Боге, но
лишь особой формой жизни. В плане понимания Бога, как
утверждал Мендельсон, иудаизм не выходит за пределы того
минимума, который содержит в себе всеобщая религия разума:
вера в Бога, Провидение и бессмертие души. Но чем же, в таком
случае, оправдывается следование особому еврейскому закону,
столь отличающемуся от формы жизни европейских народов
Нового времени и столь не соответствующему прогрессу,
который несли с собой Новое время и Просвещение? Дело в том,
отвечает Мендельсон, что прогресс и просвещение несут с собой
определенные издержки! Будучи, безусловно, положительными
явлениями, они в то же время создают новые возможности для
поверхностности, невежества, непонимания и искажения
важнейших книг и учений. В качестве некоего противоядия,
предусмотренного Богом, Мендельсон и рассматривает еврейский
закон, который, будучи не учением, а формой жизни,
предполагает подключение к религиозной традиции не только через
тексты, а путем непосредственного подражания образцам старших,
учителей, т. е. в живой связи поколений, в контексте традиции
и социальности. Здесь учение неразрывно связано с усвоением
14
определенных моделей поведения. Благодаря этому усвоение
знания не остается в отрыве от воспитания, от обучения нормам
нравственного поведения. При этом каждый достигает той
глубины религиозного понимания, на которую он способен, и человек
не перегружается тем, чего он в принципе не может понять и что
он, будь ему это преподнесено в книгах и ученых рассуждениях,
неизбежно бы извратил и исказил (См.: Mendelssohn M., 1969).
Мендельсон в своем «Иерусалиме» обсуждает и теорию
общественного договора. Он, как и подавляющее большинство
просветителей, придерживается основных положений этой теории.
Но в отличие от Гоббса или Локка Мендельсон полагает, что
государству не могут быть безразличны вопросы религиозности
населения, ибо это имеет отношение к выполнению его основной
функции. Ведь государство должно добиваться от граждан
соблюдения законов. Если они не делают этого добровольно,
государство имеет право на насилие. Однако очевидно, что государство
тем совершеннее, а жизнь граждан в нем тем счастливее, чем
менее оно должно прибегать к насилию. Уровень неизбежного
насилия может быть снижен, если граждане будут соблюдать
законы добровольно и сознательно. А это зависит от их
воспитания. Воспитание же Мендельсон рассматривает как дело религии
и религиозной общины, которая не имеет права на насилие.
Поэтому Мендельсон в «Иерусалиме» фактически предлагает
иудаизм в качестве полезного партнера современного
государства, именно благодаря его воспитательной функции.
Итак, Мендельсон подчеркивает воспитательную функцию
религии. Иудаизм в его трактовке оказывается некоей
специфической воспитательной практикой. Мы не знаем, говорит он,
почему Провидение установило именно такой закон и именно
для евреев. Однако, как убежден Мендельсон, можно
непосредственно убедиться в том, что данное установление Провидения
оказывается полезным даже в эпоху Просвещения, ибо - именно
в силу своего специфического отличия от установлений
Провидения для прочих народов - оно может компенсировать
некоторые негативные явления, которым дает жизнь само
Просвещение.
Упомянутые выше рассуждения Канта - это решительная
отповедь попыткам Мендельсона доказать, что иудаизм,
неразрывно связанный с соблюдением жесткого ритуала, является тем
не менее религией разума (Кант И., 1980. С. 238). Кант высказал
свое отношение к этим рассуждениям Мендельсона только после
15
его смерти. Возможно, он не хотел задеть Мендельсона лично.
Однако бережное и дружеское отношение к нему не повлияло на
общую крайне негативную оценку иудаизма и, тем самым, идей,
высказанных им в «Иерусалиме».
Можно понять, сколь болезненную проблему создавали
данные рассуждения Канта для его страстных почитателей из числа
еврейских интеллектуалов. Не случайно завершением и
последним словом философской деятельности ведущего неокантианца
Г. Когена явилось переосмысление кантовского понятия
«религии разума». Не случайно также и то, что утверждение этической
сущности иудаизма явилось одной из стержневых тем еврейской
философии XIX-XX вв.
Но почему же Кант столь непримирим по отношению к
иудаизму? И почему его совсем не убедили воспитательные идеи
Мендельсона? В самом деле, Канта невозможно заподозрить
в расистских предрассудках или религиозном фанатизме. Дело,
по-видимому, не в иудаизме как таковом. Главным противником
и объектом кантовской критики являются «статутарные религии»
вообще. Статутарная религия, по Канту, - это религия
«снискания благосклонности» Бога, для чего употребляются и культ,
и догматика, и обрядность. Все это представляет полную
противоположность истинной, т. е. моральной, религии. «Все
религии, - говорит Кант, - можно разделить на религию снискания
благосклонности (одного лишь культа) и на моральную, т. е.
религию доброго образа жизни. По первой человек или льстит
себя мыслью: Бог может сделать его навеки счастливым без того,
чтобы для этого нужно было стать лучше (с помощью отпущения
его прегрешений); или же, если это кажется ему невозможным,
Бог может сделать его лучше без того, чтобы ему самому надо
было сделать для этого что-то большее, чем попросить об этом»
(Кант И., 1980. С. 123). «Если не соединять религии с
моральностью, то религия обращается в снискание милости» (Кант И.,
1980. С. 499).
Культ, богослужение, обрядность представляются Канту не
чем иным, как проявлениями религии снискания
благосклонности, т. е. внешними действиями, которые призваны избавить
человека от тяжелого и непрестанного труда
самосовершенствования; которые, более того, заслоняют от него эту задачу.
Поэтому статутарная религия - это лжеслужение. И если
истинная религия равнозначна моральному поведению, то следование
ритуалам статутарной религии, с точки зрения Канта, управляет-
16
ся мотивами, противоположными моральному, т. е. себялюбием
и корыстолюбием.
Статутарная религия, далее, - это религия предписаний
и иерархии, что не имеет никакого отношения к моральному
закону. Так, по Канту, истинная церковь «не имеет, собственно,
в соответствии со своими основами, правления, подобного
политическому» (Кант И., 1980. С. 171). Поэтому и все церковные
иерархии относятся только к статутарной, а вовсе не к истинной
религии.
Нетрудно понять, что под определение «статутарной религии»
подпадают и католицизм, и реально существующий современный
Канту протестантизм, и иудаизм. В последнем Кант узрел
характерные черты и первоисток «статутарной религии». Не
исключено, что и рассуждения Мендельсона, сделавшего акцент именно
на обрядовой и ритуальной стороне иудаизма, подтолкнули
Канта к тому же. Ибо мысль Канта заключается в том, что
«религия скрыта внутри и относится к моральному образу мыслей»
(Кант И., 1980. С. 178), а все внешнее - включая обычай,
традицию, ритуал - представляет собой полную противоположность
истинной религии разума и потому не просто отлично от нее, но
ей чуждо и враждебно.
По-видимому, Кант использовал иудаизм как «козла
отпущения», чтобы продемонстрировать современным ему религиозным
и правительственным авторитетам, что статутарная религия есть
вещь нехорошая, и побудить их дистанцироваться от нее и
признать его трактовку истинной религии.
Возможно, впрочем, что и это соображение еще недостаточно
объясняет резкость кантовских высказываний об иудаизме. Как
полагает современный американский исследователь А. Эйзен
(Eisen А, 1998. Р. 24-30, 269), иудаизм для Канта, как это
постоянно происходило в европейской истории, выступил в роли
Другого, вызывающего резко негативную реакцию неприятия,
отторжения именно потому, что от него исходит реальная угроза.
Эта угроза заключается в том, что Другое не настолько чуждо, как
хотелось бы, и что Свое похоже на Другое. Поэтому угроза,
исходящая от Другого, заключается в опасности разоблачения Своего.
Тут происходит вытеснение и перенос на Другое того, что
невозможно признать в Своем. Иудаизм вызывает столь негативную
реакцию, потому что никуда не деться от вопроса: действительно
ли христианство, даже если отождествить его с протестантизмом
как наиболее подлинной и совершенной формой, совпадает
17
с кантовской религией разума, а не является статутарной
религией? Может ли вообще религия не быть статутарной?
Представляется, что соображения Эйзена не лишены
оснований.
Эйзен обращает в связи с этим особое внимание на то место
кантовского сочинения, где Кант прямо называет Мендельсона
и допускает при этом явную передержку. Вот это место: «...людей
принуждают верить, - говорит Кант, - что каждый христианин
должен быть иудеем, Мессия которого пришел, с чем, однако, вовсе
не согласуется то обстоятельство, что он, собственно, не связан
никаким законом иудейства (как статутарным), хотя с верой
должен принимать всю священную книгу этого народа как
божественное откровение для всех людей». И к этой фразе Кант
присовокупляет следующее подстрочное примечание: «Мендельсон
весьма искусно использовал эту слабую сторону обычного
способа представления христианства, чтобы полностью отклонить
любое требование к сыну Израиля в отношении перемены веры.
Ведь, говорит он, иудейская вера, даже по признанию самих
христиан, составляет нижний этаж, на котором, как верхний,
покоится христианство, и данное требование было бы
равносильно требованию сломать нижний этаж, чтобы поселиться в
верхнем. Его настоящая мысль все же проглядывает достаточно ясно.
Он хочет сказать: выбросьте только само иудейство из вашей
религии (в историческом вероучении оно всегда может оставаться
как антикварная древность), и мы подумаем о вашем
предложении (на деле тогда не осталось бы ничего, кроме чисто
моральной, не обремененной статутами религии). Наше бремя после
свержения ига внешней обрядности отнюдь не облегчится, если
вместо него на нас возложат другое, а именно исповедание веры
в священную историю, угнетающее совестливого человека
гораздо более тяжко» (Кант И., 1980. С. 238).
Трудно представить себе, что Кант мог допустить ошибку
в отношении настоящей мысли Мендельсона, если он читал
работу Мендельсона, пассаж из которой он обсуждает. В самом
деле, посмотрим на то, что пишет Мендельсон. Он отвечает на
обращенный к нему призыв некоего критика доказать, что
действительно является философом и почитателем истины. Этот
критик подразумевает, что Мендельсон должен взвесить все
достоинства и преимущества христианства, а поскольку они
очевидны и бесспорны, так как христианство является более
рациональной системой, он должен креститься. «Но, дорогой мой гос-
18
подин, - отвечает Мендельсон, - разве я должен предпринять
этот шаг, не взвесив сначала, действительно ли он выведет меня
из того затруднительного положения, в котором, как вы
полагаете, я нахожусь? Если бы и вправду краеугольный камень моего
дома был столь слаб, что вся постройка грозила бы обрушиться,
то благоразумно ли было бы пытаться спастись, переехав с
нижнего этажа на верхний? Был ли бы я там в большей безопасности?
Христианство, как вы знаете, воздвигнуто на иудаизме, и могло
бы рухнуть вместе с ним. Поэтому, когда вы говорите, что его
заключения подрывают основы иудаизма, и предлагаете мне
спасаться на вашем более высоком этаже, не могу ли я заподозрить,
что вы шутите надо мной?» (Mendelssohn M., 1969. P. 58). Как
видно из приведенной цитаты и из всего текста «Иерусалима»,
мысль Мендельсона выражена ясно, недвусмысленно, и она
противоположна интерпретации, даваемой Кантом. В самом деле,
Мендельсон вовсе не ставит никаких условий христианству,
вовсе не требует, чтобы оно стало еще более либеральным, для
того чтобы философски мыслящий иудей обязательно приходил
к нему. Напротив, его работа посвящена доказательству того, что
философски мыслящий иудей может остаться иудеем, не входя
в противоречие со своей философской совестью, потому что
иудаизм является религией разума. Кстати, после
процитированного метафорического рассуждения о нижнем и верхнем этажах
Мендельсон говорит о том, что христианин, ввиду очевидной
связи и преемственности этих конфессий, не должен был бы
искать изъянов и противоречий в иудаизме, но, напротив, скорее,
совместно со сторонниками иудаизма должен был
способствовать защите и оправданию последнего.
Сопоставление того, что писал Мендельсон, и того, как это
перетолковал Кант, делает еще более правдоподобной мысль
Эйзена о том, что Кант «выплеснул» на иудаизм свои проблемы,
связанные с проблематичностью доказательства того, что
христианство является религией разума в задаваемом им^ смысле.
Однако в то же время кроме всех психологических мотиваций
остаются и концептуальные основания позиции Канта, которые
и будут интересовать нас сейчас более всего.
Еще раз подчеркнув, что Кант является выдающимся
гуманистом, поймем предубеждение Канта против иудаизма как
обусловленное особенностями кантовской трактовки религии, ибо
с этой трактовкой иудаизм не гармонировал. Но Кантово
понимание религии в пределах разума обусловлено всем строем
19
кантовской мысли. И тем самым наше рассуждение подошло
к основам кантовской системы. В них можно видеть дальнейшее
развитие основополагающих идей философии Нового времени
и Просвещения. Прежде всего это идея единого, всегда себе
равного разума. Из этой идеи вытекал целый спектр разнообразных
следствий. Одним из них было признание гражданских прав
евреев; другим - невозможность признать Другого (например,
представителя другой конфессии) в качестве равноправного
представителя того же самого разума. Если един разум, то,
разумеется, религия тоже должна быть единой. Выше мы цитировали
утверждение Канта, что есть только одна истинная религия,
а различаются лишь веры. Но что же такое вера в отличие от
религии? Имеет ли она право на существование? Многообразие
вер остается без оправдания, они начинают выглядеть
суевериями и предрассудками. Принято считать, что Просвещение
двигалось под знаменами веротерпимости. Однако, как мы видим на
примере Канта, ситуация не так проста.
Далее, учение Канта о религии в пределах разума является
естественным продолжением кантовской трансцендентальной
диалектики и этики со всеми ее особенностями и некоторыми
парадоксальными выводами. Спасая свободу воли от господства
закона причинности, которому Кант придал статус априорного
основоположения рассудка и, соответственно, конститутивного
принципа природы, Кант изъял свободу из мира явлений и отнес
к сфере умопостигаемого. В результате человек становится у него
существом двух миров - природного и сверхприродного. Свобода
трансцендентальна, но в то же время любой человек обладает ею.
Любой человек является ноуменом. Для того чтобы убедиться
в этом или чтобы продемонстрировать самому себе (и Богу) свою
умопостигаемую сущность, человек должен действовать исходя
из уважения к моральному закону. Любая другая мотивация, сколь
ни была бы она симпатична сама по себе - например, действия из
сострадания, ради процветания своего края и т. п., - не
разрывает цепь природной причинности и не открывает доступ в царство
трансцендентальной свободы. Кантово учение о
трансцендентальной свободе и о том, что человек является одновременно
и природным объектом, и ноуменом, ставит акцент на мотиве
поступка, а не на поступке как таковом. Отсюда - жесткое
противопоставление морального и легального поступков. Хотя для
общества польза от легального поступка может быть ничуть не
меньше, чем от морального, однако с точки зрения кантовской
20
этики легальный поступок не имеет никакой моральной
ценности. Данные черты кантовской системы тоже, по-видимому,
влияли на его отношение к иудаизму.
И для Канта, и для Мендельсона внешнее поведение, включая
ритуальное, - не то же самое, что и чистое нравственное
побуждение. Однако для Мендельсона внешнее поведение в
определенном случае (например, соблюдение ритуала и традиции в теплом
дружественном общинном кругу, в непосредственном контакте
поколений) может способствовать формированию чисто
внутреннего понимания и мотивации.
Для Канта же дело обстоит принципиально по-другому.
Глубинная причина этого различия между двумя мыслителями
состоит в том, что у Канта индивид как ноумен становится
единственным и самодостаточным носителем разума и нравственного
закона, а поэтому вся аргументация Мендельсона, основанная на
роли традиции и живой социальной практики общинного
существования, должна была представляться ему неубедительной.
По Канту, индивид изначально - от Бога - оснащен всем, что
необходимо для того, чтобы расслышать и правильно понять
голос разума в себе. «Но что же такое религия? - спрашивает,
например, Кант и тут же отвечает: - Религия - это закон,
живущий в нас, насколько он оказывает на нас свое воздействие
благодаря законодателю и Судии, это мораль, обращенная к
познанию Бога» (Кант И., 1980. С. 499). Кант говорит также, что
в отношении чисто моральных законов «каждый с помощью
собственного разума может познать божественную волю в самом
себе как волю, лежащую в основе его религии» (Там же. С. 173).
Инструментом, вполне достаточным для этого, является
изначально присутствующий в каждой душе голос совести. Кант
говорит об этом неоднократно. Дело выглядит так, что голос
совести - неизменно присутствующая в душе константа.
Например, объясняя, почему во всех вероисповеданиях
возможно (и реально существует) аллегорическое истолкование
преданий как чисто моральных поучений, Кант разъясняет: «Задатки
моральной религии задолго до этой последней лежали скрытыми
в человеческом разуме, а первые несовершенные их проявления,
хотя сказались только в богослужебном обряде и послужили,
к его пользе, поводом для мнимых откровений, но даже таким
образом, пусть непреднамеренно, привнесли в эти вымыслы кое-
что от характера своего сверхчувственного происхождения»
(Там же. С. 181).
21
Поскольку каждый человек от Бога оснащен разумом и
присутствующим в нем моральным законом, то неудивительно, что
как историческое развитие человечества, так и индивидуальное
развитие и воспитание ребенка фактически превращаются
у Канта в «развитие задатков» человеческой души. Речь идет не
о формировании, но именно о развитии предзаданных
нравственных задатков1. Позиция Канта здесь заставляет вспомнить
о тезисе, высказываемом Платоном в диалоге «Менон»:
добродетели нельзя научиться, добродетель присутствует в душе
изначально. Рассуждения Канта о моральном воспитании прямо
показывают, что речь для него идет, собственно, о том, чтобы
оживить в душе то, что в ней уже заложено (см., например: там
же. С. 120-121).
Здесь уместно также вспомнить и Спинозу, который
в «Богословеко-политическом трактате» различает два вида
законов: человеческий и божественный. Первый - это «образ жизни,
который служит только для охранения жизни государства», тогда
как второй «имеет целью только высшее благо, т. е. истинное
познание Бога и любовь к нему» (Спиноза Б., 1998. С. 268).
Причем Спиноза разъясняет, что «суть божественного закона
и его главное правило заключаются в том, чтобы любить Бога как
высшее благо... не из страха перед каким-либо взысканием
и наказанием и не из любви к другой вещи, которой мы желаем
наслаждаться» (Там же. С. 269); «высшая награда за
божественный закон есть сам закон, именно: познание Бога и совершенно
свободная, постоянная и от всего сердца любовь к нему;
наказание же состоит в лишении этого блага, в плотском рабстве или
т
«...идею морального закона с неотделимым от нее уважением к нему нельзя
назвать задатками личности; она уже сама личность (идея человечности,
рассматриваемая совершенно интеллектуально). Но субъективное основание того, что
мы принимаем это уважение в качестве мотива в наши максимы, кажется
дополнением к личности и потому заслуживает названия задатков» (Кант И., 1980.
С. 98). Далее Кант говорит, что этот вид задатков «сам по себе коренится в
практическом, т. е. безусловно законодательствующем, разуме» (Там же). Причем все
вообще добрые задатки (касающиеся человека как живого существа, как
разумного существа и как личности) «не только (негативно) добры (не противоречат
моральному закону), но это и задатки добра (содействуют исполнению этого
закона). Они изначальны, так как требуются для возможности человеческой природы.
Человек хотя и может пользоваться первыми двумя против цели, но ни одного из
них он не может уничтожить» (Там же). «Восстановление первоначальных
задатков добра в нас есть, следовательно, не приобретение утраченного побуждения
к добру, ибо это побуждение, состоящее в уважении к моральному закону, мы
никогда потерять не можем, а если бы это было возможно, то мы никогда не
могли бы приобрести его вновь» (Там же. С. 117-118).
22
в душевном непостоянстве и колебании» (Там же. С. 271).
Спиноза формулирует принципы «всеобщей веры»,
относительно которых не может быть никакого разногласия между людьми,
действительно следующими божественному закону (Там же.
С. 392). Почему Спиноза убежден, что тут не может возникнуть
разногласия? Потому что, как он объясняет: «Вечное слово
и договор Бога и истинная религия божественно начертаны
в сердцах людей, т. е. в человеческой душе, и что она есть
истинный подлинник Божий, который Бог скрепил своей печатью, т. е.
идеей о себе как отображением своей божественности» (Там же.
С. 372). При этом Спиноза утверждает, что Писание «содержит
ошибки, пропуски, подделки и не согласно само с собою и что мы
имеем только отрывки из него, и, наконец, что подлинник
договора Божьего, заключенного с иудеями, погиб» (Там же), тогда
как то же слово Божие, начертанное в душе, сохраняется
в аутентичном и неизменном виде.
Утверждения Спинозы демонстрируют нам, в сущности, ту же
констелляцию идей, что и в учении о религии в пределах только
разума у Канта. А именно: основной безусловный закон
нравственности записан в самой душе, в разуме как таковом. Но коль
скоро основные постулаты этой всеобщей разумной веры
присутствуют в разуме любого человека, то «исторические рассказы
и ритуалы», как это именует Спиноза, становятся в лучшем
случае излишними - если их содержание совпадает с Откровением,
записанным в самом разуме. В противном же случае именно
«исторические рассказы и ритуалы» подвергаются
сокрушительной критике за то, что затемняют и искажают Откровение,
записанное в самом разуме. Объектом такой критики у Спинозы
становится иудаизм, что вполне понятно, если вспомнить о личной
судьбе Спинозы и его отлучении.
Но дело не только в личной судьбе. Судьба Канта была
совершенно иной. Ему лично иудаизм ничего не сделал. Дело в том,
что мысль о присутствии в разуме любого человека всеобщих
заповедей «религии разума» лишает права на существование
партикулярную, национальную религию, обладающую к тому же
специфическим жестким набором ритуалов. Если существует
религия разума и если она в незамутненном виде присутствует
в разуме каждого человека, то отдельная национальная религия
начинает выглядеть как посягательство на единую сущность
разума и нравственного закона. На основании таких теоретических
предпосылок иудаизм лишается права быть религией, ибо рели-
23
гия универсальна и обращена в равной мере ко всему
человечеству. Поэтому Спиноза объявляет иудаизм не чем иным как
политическим установлением. Подобным же образом, как мы
видели, его трактует и Кант, который очевидно следует Спинозе
в своей трактовке иудаизма.
Христианство выступает для Канта единственным хорошим
приближением к «религии разума» благодаря его
универсалистскому характеру, соответствующему универсальному характеру
разума. Разум характеризует человека как такового. Для разума, как
и для христианства, «нет ни эллина, ни иудея». Как отмечает
Э. Кассирер, «XVIII столетие проникнуто верой в единство и
неизменность разума. Разум - один и тот же для всех мыслящих
субъектов, для всех наций, эпох и культур» (Кассирер Э., 2004. С. 19).
Сопоставление Канта и Спинозы может, правда, вызвать
серьезные возражения. В самом деле, Канта отличает от Спинозы
(кроме всего прочего) признание радикальной конечности
человеческого существа. На эту черту учения Канта указывает А. Рено
(Рено А., 2002. С. 351-359), подчеркивая, что радикальная
конечность выступает у Канта как сама структура субъективности. Так,
человеческое познание неразрывно связано с чувственностью,
т. е. нуждается в воздействии извне. В сфере морали эта
конечность проявляется в том, что царство целей выступает для нас
как идея, а не как само бытие. Пафос рассуждения Рено
заключается в требовании признать, что классическая философская
традиция включает различные концепции субъекта, что их нельзя
«стричь под одну гребенку».
Все это, конечно, так. Тем не менее в рассуждениях Канта
о религии разума, об иудаизме, да и в ряде других,
обнаруживается, что Кант не всегда рассматривал человеческий разум сквозь
призму радикальной конечности. Так, например, выше мы
задавали вопрос, почему Канта не убедили воспитательные идеи
Мендельсона. Когда мы пытаемся это понять, перед нами встает
уже другой вопрос: а нуждается ли (и если да, то в каком смысле
и в каком отношении) человек в воспитании, если в его разуме
уже записан моральный закон? Представляется, что подобный
вопрос является кардинальным для понимания кантовской идеи
религии разума.
Кантовский «Ответ на вопрос: «Что такое Просвещение?»
показывает, что для Канта разум человека — это по определению
уже совершеннолетний разум. В самом деле, согласно известному
кантовскому определению, «Просвещение — это выход человека из
24
состояния своего несовершеннолетия, в котором он находится по
собственной вине. Несовершеннолетие есть неспособность
пользоваться своим рассудком без руководства со стороны кого-то
другого. Несовершеннолетие по собственной вине - это такое,
причина которого заключается не в недостатке рассудка, а в
недостатке решимости и мужества пользоваться им без руководства со
стороны кого-то другого. Sapere aude! - имей мужество
пользоваться собственным умом! - таков, следовательно, девиз
Просвещения» (Кант И., 1966 в. С. 27). Люди, говорит Кант,
пребывают по большей части в состоянии несовершеннолетия
и панически боятся пользоваться собственным разумом.
«Леность и трусость, - утверждает он, - вот причины того, что
столь большая часть людей, которых природа уже давно
освободила от чужого руководства, ... все же охотно остаются на всю
жизнь несовершеннолетними; по этим же причинам так легко
другие присваивают себе право быть их опекунами. Ведь так
удобно быть несовершеннолетним!» (Там же.) Помимо понятной
человеческой лености Кант в самых язвительных тонах
подчеркивает роль пастырей и духовных лидеров в этом массовом
добровольном несовершеннолетии. «После того как эти опекуны
оглупили свой домашний скот и заботливо оберегли от того,
чтобы эти покорные существа осмелились сделать хоть один шаг
без помочей, на которых их водят, - после всего этого они
указывают таким существам на грозящую им опасность, если они
пытаются ходить самостоятельно. Правда, эта опасность не так
уж велика, ведь после нескольких падений в конце концов они
научились бы ходить; однако такое обстоятельство делает их
нерешительными и отпугивает их, удерживая от дальнейших
попыток» (Там же. С. 28).
Итак, человек - носитель разума, а разум является
совершеннолетним по определению, как объясняет нам Кант, выражая
этим глубинную интенцию просветительского сознания. А
совершеннолетний разум не нуждается в воспитании и в воспитателях.
Он призван к самовоспитанию.
Как известно, Мендельсон, подобно Канту, тоже отвечал на
вопрос о своем понимании Просвещения. Один и тот же
вопрос - но как разительно отличается тональность их ответов!
Интонация кантовского ответа - напористо-оптимистическая.
Для него Просвещение является процессом однозначно
положительным. Да и каким еще оно может быть, если представляет
собой утверждение свободы и автономии разума. А разум -
25
постоянно равная самой себе единообразная целостная
формообразующая сила (ср.: Кассирер Э., 2004. С. 19), составляющая
высшую сущность и достоинство человека.
Интонация Мендельсона лишена всякого оптимизма; в ответе
этого лидера немецкого Просвещения звучит, скорее,
озабоченность, потому что он видит, что в обществе и в истории не
бывает однозначно положительных явлений. И вообще, для него
просвещение - это только одна сторона более широкого понятия
(процесса) образования (Bildung). Второй гранью образования
является культура. Просвещение и культура соотносятся как
теоретическое и практическое, как знание и нравственность, как
критицизм и добродетель (Mendelssohn M., 1997. P. 314). К сфере
культуры принадлежат нравы, навыки, обычаи - т. е. все то, без
чего невозможно функционирование общества, его
благосостояние, невозможны искусства, ремесла, торговля. Все то, что
составляет сферу внешнего поведения, действий и поступков,
которыми фактически пренебрегает Кантова этика. Сфера культуры
должна соответствовать призванию человека как такового, но
также и призванию человека как члена социума. Мендельсон
разделяет эти вещи, отмечая попутно, что между ними возможно
рассогласование. Возможно также рассогласование между
нуждами культуры и нуждами просвещения - хотя и просвещение
составляет необходимое условие самореализации человеческого
существа как такового.
Мендельсону даже не приходит в голову рассматривать
развитие сферы культуры как простое следствие распространения
просвещения. Напротив, он отмечает, что в одних обществах
культура может быть развита более, чем просвещение, в других -
наоборот. Во Франции, полагает он, больше культуры, в Англии
больше просвещения. В Китае культуры значительно больше,
чем просвещения, тогда как древние греки были и культурным,
и просвещенным народом.
Нравы, обычаи, навыки и умения меняются от одного
общества к другому, от класса к классу, от сословия к сословию.
Сфера культуры предъявляет к человеку различные требования
в зависимости от его социального положения и рода занятий.
Просвещение также может предъявлять различные требования
в зависимости от того, идет ли речь о просвещении человека как
такового или гражданина общества, занимающего
определенное социальное положение и имеющего определенный род
занятий.
26
Мендельсона волнует возможность рассогласования между
требованиями культуры и требованиями просвещения, между
необходимостью самореализации человека как такового и
требованиями, предъявляемыми к нему как к гражданину,
занимающему определенное социальное положение. Он размышляет над
ситуацией, когда распространение какой-то истины может
нанести вред принципам религии и этики, и заявляет, что человек
добродетельный и просвещенный будет в подобной ситуации
действовать с большой осторожностью (Ibid. P. 316).
Злоупотребление просвещением, замечает Мендельсон, ослабляет моральное
чувство, ведет к жестокосердию, эгоизму, безверию и анархии.
Злоупотребление культурой порождает лицемерие, предрассудки,
рабство и пр. Нет, таким образом, однозначно плохого и
однозначно хорошего; не может быть универсального решения для
вопроса о приоритете практической или теоретической сфер; не может
быть универсального рецепта в выборе между просвещением
и традицией. И заканчивается текст Мендельсона на самой
пессимистической ноте: нация, достигшая полного расцвета культуры
и просвещения, стоит, скорее всего, на пороге увядания.
Для Канта же приоритеты очевидны и однозначны. Кант
полностью разделяет характерное для философии Нового времени
убеждение в том, что каждый нормальный человек -
«совершеннолетний» в плане возможности использования собственного
разума1. Поэтому, по Канту, главное, что нужно такому
человеку, - это свобода! «... Возможно, и даже почти неизбежно, -
говорит Кант, - что публика сама себя просветит, если только
предоставить ей свободу. Ибо тогда даже среди поставленных над
толпой опекунов найдутся самостоятельно мыслящие, которые,
сбросив с себя иго несовершеннолетия, распространят вокруг дух
разумной оценки собственного достоинства и призвания
каждого человека мыслить самостоятельно» (Кант И., 1966 в. С. 28).
Ниже Кант еще раз повторяет очень важную для него мысль: «Для
этого просвещения требуется только свобода, и притом самая
безобидная, а именно свобода во всех случаях публично
пользоваться собственным разумом» (Там же. С. 29). При этом
«отказаться от просвещения для себя лично и тем более для будущих
Убеждение такого рода лежит в основе всей аргументации теоретиков
«общественного договора». Не случайно Мендельсон, рассматривая эти теории,
чувствует необходимость дополнить их рассмотрением другой формы человеческой
ассоциации - религиозной общины, главной целью которой является воспитание
своих членов, (см.: Mendelssohn M., 1969).
27
поколений означает нарушить и попрать священные права
человечества» (Там же. С. 32).
Понятно, что свобода требуется именно для
совершеннолетнего разума. А разум выступает для Канта как совершеннолетний
разум, ибо он является автономным носителем принципов,
заложенных в него самим Богом. Поэтому, в глазах Канта, нет и не
может быть никаких институтов, будь то церковных или
гражданских, которые могли бы дать человеку больше. Подобное
убеждение является одним из краеугольных камней кантовской
концепции «религии в пределах только разума». Одновременно оно
связано с основополагающими принципами кантовского
понимания человека как ноумена и его свободы как безусловной
автономии разума, т. е. свободы разума определяться исключительно
своей собственной необходимостью. Именно такое понимание
свободы и составляет стержень «Критики практического разума».
Таким образом, мы видим, что идея «совершеннолетнего разума»
тонкими, но прочными концептуальными нитями связана
с основополагающими принципами кантовской системы. В том
числе и с его трактовкой ноумена и трансцендентального
субъекта (все значение этой связи выступит позднее, когда мы перейдем
к анализу воззрений Г. Когена).
Из кантовского истолкования морали как абсолютной
автономии разума закономерным образом вытекает, что в этике (а
религия разума совпадает с этикой) Канта не интересуют никакие
социальные институты, в той или иной мере способствующие
выработке у людей навыков нравственного поведения, - то, что
в первую очередь интересует Мендельсона. Рассуждения
Мендельсона, в согласии со здравым смыслом, предполагают
плавный переход от таковых навыков к чистой моральной
мотивации, тогда как Кант в своей концепции автономной этики
полностью переворачивает подобный способ понимания. Для него
не может быть никаких плавных переходов. Значение имеет не
сам по себе поступок, а его мотивация. Действие морально,
только и если только оно мотивировано исключительно уважением
к моральному закону. Причем достоинство человека как
индивида и человеческого рода вообще, по Канту, неотделимо от
автономии практического разума.
Отсюда закономерно вытекает то, что традиции, обычаи,
верования, авторитеты и социальные институты перед лицом
такого автономного разума выступают только объектами критики
и никак иначе, тогда как для Мендельсона они выступают и как
28
объект критики, и как источник воспитательного воздействия.
В самом деле, Мендельсон много говорит о воспитательном
воздействии религиозной общины вообще, а более конкретно и
подробно - общины, следующей иудейскому закону
(Mendelssohn M., 1969). В то же время он, исходя из своего понимания
религии разума и отношения человека к Богу (Богу ничего не
надо от человека), критикует многие черты современных ему
религиозных общин, требуя от них терпимости и доказывая, что
они не имеют никакого права на насилие по отношению к своим
членам, не вправе притязать на их имущество, изгонять
несогласных и т. д. Таким образом, его представления можно
интерпретировать как признание необходимости, ввиду несовершенства
человека и его институтов, их взаимной критики и исправления,
тогда как у Канта вектор критики и исправления может идти
только в одну сторону.
Важным аспектом теоретического обоснования Кантом
такого представления являлся вопрос о том, насколько человеческая
природа изначально зла, испорченна, несет в себе неустранимо
злое (демоническое) начало. Неслучайно «Религия в переделах
только разума» начинается с подробного исследования вопроса
«О существовании злого принципа наряду с добрым, или Об
изначальном зле в человеческой природе» и размышления «О
борьбе доброго принципа со злым за господство над человеком».
В самом деле, признания того, что в разуме каждого человека уже
запечатлен всеобщий моральный закон, - которому, собственно,
и пытаются по идее научить человека все исторические
религии, - еще не достаточно для обоснования религии в
пределах разума, т. е. религии, не нуждающейся ни в повествованиях
о чудесах, ни в ритуалах, ни во властных авторитетах. Если
признать, что в человеке, наряду с голосом совести и моральным
законом, присутствует и некое злое, порочное, греховное начало,
систематически искажающее звучание голоса совести, то вся
аргументация Канта разрушилась бы.
Учение о первородном грехе в христианской традиции
утверждало именно такое понимание человеческой природы.
Гуманистическая мысль Возрождения и Просвещения восставала
против этого учения. Неприемлемо оно и для Канта, что ясно
усматривается в кантовской трактовке злого начала в
человеческой природе.
Конечно, говорит Кант, наличие зла в человеке очевидно.
Множество вопиющих случаев показывают нам зло в действиях
29
человека (Кант И., 1980. С. 103). «Эту естественную склонность
к злу, поскольку она всегда возникает по собственной вине, мы
можем назвать изначальным (radikales), прирожденным (и тем не
менее нами самими нажитым) злом в человеческой природе»
(Там же.). Однако признание такого зла в человеческой природе
никак не отменяет кантовского фундаментального принципа, что
моральный закон заложен в разуме и очевидным, ясным и
бесспорным образом явлен ему в голосе совести. «Суждение: человек
зол... выражает только то, что человек сознает моральный закон
и тем не менее принимает в свою максиму (случайное)
отступление от него» (Там же. С. 102). Обратим внимание, что Кант
называет отступление человека от морального закона «случайным».
Он имеет в виду, что в человеке нет такого начала, из которого
с необходимостью вытекало бы (постоянное или время от
времени) отклонение от морального закона. Наличие такого начала
в человеке делало бы его «дьявольским существом» (Там же.
С. 106, 108). Но человек таковым не является. Кант убежден в его
высоком достоинстве! В частности, нельзя рассматривать в
качестве подобного дьявольского начала человеческую
чувственность, как это делала церковная традиция. «Причину этого зла
нельзя, во-первых, как это обычно делают, усматривать в
чувственности человека и возникающих отсюда естественных
влечениях. Дело не только в том, что последние не имеют прямого
отношения ко злу (скорее, они дают повод к тому, чтобы показать
моральный образ мыслей во всей его силе, - к добродетели)
и потому мы не должны отвечать за их существование (да и не
можем отвечать, ибо они, как прирожденные, не имеют в нас
своего источника), а в том, что мы должны отвечать за
склонность ко злу, которая, когда она касается морального субъекта,
стало быть, имеется в нем как свободно действующем существе,
обязательно может быть вменена ему в вину как его собственное
прегрешение, несмотря на глубокое укоренение этой склонности
в произволе, ввиду чего должно сказать, что она в человеке от
природы. - Причину этого зла нельзя, во-вторых, усматривать
и в испорченности устанавливающего моральные законы разума,
как будто он в состоянии уничтожить в себе силу самого закона
и отрицать его обязательность, ведь это абсолютно невозможно»
(Там же. С. 105-106).
Таким образом, если зло можно вменять человеку в вину,
значит, в нем нет самостоятельного начала, делающего зло для него
неизбежным. Напротив, неизбежность и необходимость прису-
30
щи пребывающему в разуме моральному закону: «Человек (даже
самый худший), каковы бы ни были его максимы, не отрекается
от морального закона, так сказать, как мятежник (с отказом от
повиновения)1. Скорее, этот закон в силу моральных задатков
человека действует на него неотразимо» (Там же).
Что же, в таком случае, является причиной злых поступков
человека, если в нем нет, так сказать, «постоянной субстанции
зла»? По Канту, это нарушение субординации мотивов. Человек
«в силу своих естественных задатков, в наличии которых он также
не виноват, привязан и к мотивам чувственности и принимает их
(по субъективному принципу себялюбия) в свою максиму. Если
же он принимает их в свою максиму как сами по себе достаточные
для определения произвола, не обращая внимания на моральный
закон (а он все же в нем есть), то он будет морально злым» (Там
же. С. 106-107). Итак, все дело в переворачивании порядка
приоритетов: «...какой из указанных двух мотивов делает он условием
другого» (Там же. С. 107). Заметим, что Кант, говоря о
человеческом зле, обсуждает не поступки, а исключительно мотивы!
Кант не обольщается относительно человеческой природы,
говорит, например, о «коварстве человеческого сердца»: человек
склонен обманывать себя насчет собственных намерений (Там
же. С. 109). Кант не закрывает глаза на то, что склонность
человека отдавать предпочтение мотивам себялюбия перед мотивом
уважения к моральному закону присутствует у человека
постоянно. У Канта находится немало ярких и сильных выражений для
описания того, сколь трудно для человека подавлять импульсы
себялюбия и следовать моральному закону. И тем не менее Кант
оспаривает догмат о первородном грехе и тезис о непоправимой
испорченности человеческой природы (Там же. С. 110-115).
Конечно, делается это в несколько завуалированной форме,
однако позиция Канта достаточно ясна из такого, например,
утверждения: «Каждый злой поступок, если ищут происхождение
его в разуме, надо рассматривать так, как если бы человек дошел
до него непосредственно из состояния невинности» (Там же.
С. 112). Этим Кант преодолевает преследовавшие христианскую
мысль со времен Августина антиномии греха, вины и
надломленной, неспособной самостоятельно сопротивляться соблазнам
человеческой воли.
Такого мятежника в образе Дона Жуана представит позднее «взбунтовавшийся»
против классической немецкой философии и призывающий к возврату к
христианскому мировоззрению С. Кьеркегор.
31
Кант утверждает возможность самоисправления разума (Там
же. С. 122-123). Его аргументация очевидным образом
направлена против догмата о невозможности спасения собственными
силами, без Божественной благодати. Представляется, что
именно эту мысль, правда в осторожной форме, выражает Кант: «Но
разве этому восстановлению с помощью собственных сил не
противоречит положение о прирожденной испорченности человека
в отношении всего доброго? Конечно, противоречит в том, что
касается постижимости, т. е. нашего усмотрения возможности
этого восстановления... но возможности самого восстановления
оно не противоречит. В самом деле, если моральный закон
повелевает, что мы должны теперь быть лучше, то отсюда неизбежно
следует, что нам необходимо и мочь это» (Там же. С. 122). Кстати,
в этом еврейские мыслители были с ним вполне согласны.
Мендельсон, Коген, Розенцвейг тоже были противниками
тезиса, что человеческая природа отягчена первородным грехом и что
человек не может преодолевать наклонность к греху
собственными усилиями.
Для Канта признание своей неспособности к
самоисправлению и упование на Бога являются признаком ложной, статутар-
ной религии. «Против этого требования самоисправления разум,
от природы не имеющий охоты к моральному
совершенствованию, под предлогом естественной неспособности провозглашает
всевозможные нечистые идеи религии...» (С. 123), а именно
представления, что религия требует культа и обрядности,
направленных на то, чтобы выпрашивать Божьи милости вместо того, чтобы
самому делать все для того, чтобы стать лучше.
В своем отношении к первородному греху Кант опять-таки
следует идеологии Просвещения (ср.: Кассирер Э., 2004.
С. 158-182). Тема «совершеннолетия» человеческого разума
и тема его свободы от ига первородного греха тесно связаны. И то
и другое говорит нам о самодостаточности, автономии и, так
сказать, «надежности» разума.
Мендельсон, как и Кант, убежден, что Бог заложил в разум
каждого человека набор базисных вечных нравственных истин1.
Однако в отличие от Канта он никогда не доходит до такой веры
в самодостаточность и надежность разума. По-видимому, он
считает, что «совершеннолетие» разума, провозглашенное Кантом,
Мендельсон убежден также и в том, что Бог посылает любому народу,
например, североамериканским индейцам, своих пророков и нравственных учителей
(Mendelssohn M., 1969).
32
для людей на самом деле недостижимо. Поэтому в изображении
Мендельсона человек выступает укорененным в своей общине,
в неразрывной связи поколений, в теплом, поддерживающем
и в то же время воспитывающем и образовывающем лоне
традиции.
Весьма симптоматичным проявлением противоположности
воззрений Канта и Мендельсона выступает то, что для Канта
среди обязанностей человека на первом месте стоит обязанность
по отношению к самому себе. В самом деле, вторая часть Кантовой
«Метафизики нравов», озаглавленная «Метафизические начала
учения о добродетели», открывается именно рассмотрением
вопроса об обязанностях по отношению к самому себе.
Утверждается, что «Первый принцип долга перед самим собой
содержится в изречении: "Живи сообразно природе"..., т. е.
сохраняй совершенство своей природы; второй же - в положении
"Делай себя более совершенным, чем создала тебя природа"»
(Кант И., 1965 в. С. 356). «Что касается, однако, долга человека
перед самим собой как только перед моральным существом (без
учета его животной природы), то этот долг состоит в формальном
[элементе] соответствия между максимами воли человека
и достоинством человечества в его лице; следовательно, долг
человека перед самим собой состоит в запрещении лишать себя
преимущества морального существа, состоящего в том, чтобы
поступать согласно принципам, т. е. в запрещении лишать себя
внутренней свободы и тем самым делаться игрушкой одних лишь
склонностей, стало быть, вещью» (Там же).
Такое понимание долга у Канта естественным образом
вытекает из того, что каждый индивид выступает для него носителем
автономного нравственного разума, который, в сущности,
полностью вобрал в себя и в каком-то отношении подменил собою
и социум, и традицию. Индивид как ноумен независим и
является полноценным представителем всего человечества. Речь
у Канта идет не о том, что индивид важнее человечества, а о том,
что в известном отношении любой индивид равен всему
человечеству. Прежде всего в том, что индивид как ноумен воспитывает
и совершенствует себя сам, т. е. именно он является автономной
единицей морального совершенствования. На такой вот
предпосылке зиждется гордый гимн человеческому достоинству и
свободе, который сложил Кант. Этот гимн отозвался гулким эхом
в сердцах немецко-еврейских (и русско-еврейских тоже, но это
особая тема) интеллектуалов.
33
Для Мендельсона опять-таки невозможно подобное
представление об индивиде. Для него индивид выступает все же как звено
в системе социальных связей и связей между поколениями,
и отвлечься от этого невозможно.
С глубоким различием во взглядах на человека связано также
различие во взглядах на историю, существовавшее между Кантом
и Мендельсоном. В работе под названием «О поговорке "Может
быть, это и верно в теории, но не годится для практики"» Кант
полемизирует с высказанным в «Иерусалиме» Мендельсона
сомнением в том, «будто бы в совокупности человечество здесь, на
земле, в последовательности времени постоянно движется вперед
и совершенствуется. Мы видим, - говорит он, - что
человеческий род в целом совершает незначительные изменения, и
никогда не делает он нескольких шагов вперед, не возвращаясь сразу
после этого с удвоенной скоростью в свое прежнее состояние...
Человек идет вперед; но человечество постоянно движется то
вверх, то вниз в установленных пределах; однако,
рассматриваемое в целом, оно во все периоды сохраняет приблизительно одну
и ту же ступень нравственности, одну и ту же меру религиозности
и безрелигиозности, добродетели и порока, счастья и несчастья»
(Цит. по: Кант, 1965 с. С. 100). Цитируя высказывание
Мендельсона, суммирующее его позицию, Кант замечает, что свое
воззрение Мендельсон «противопоставляет гипотезе своего друга
Лессинга о божественном воспитании человеческого рода» (Там
же. С. 99). Кант не случайно упоминает в данной связи Лессинга.
Лессинг, как известно, полагал, что история религии,
представленная как последовательность: язычество, иудаизм и
христианство, - является историей воспитания Богом человеческого рода.
Причем каждое последующее Откровение с большей ясностью
и отчетливостью раскрывало внутренний смысл предыдущего.
Наконец, Новый Завет открывает путь к вечному Евангелию,
в котором в максимальной степени раскрывается моральная
сущность человека. Таким образом, у Лессинга понимание
истории как прогресса разума и нравственности включало в себя
в качестве неотъемлемой компоненты представление о том, что
иудаизм есть исторически менее совершенная форма религии,
преодоленная в христианстве как более совершенной и
прогрессивной форме. Идея более и менее «продвинутых» религий была,
конечно, неприемлема для правоверного иудея Мендельсона.
Это явилось, по-видимому, одним из мотивов, повлиявших на
его видение истории. Другой причиной, очевидно, была сама
34
позиция человека, принадлежавшего к неполноправному
меньшинству. С такой позиции достижения и проявления прогресса,
особенно в том, что касается уровня морали и человечности,
выглядят в ином свете. «Я со своей стороны, - говорится
в «Иерусалиме» Мендельсона, - не имею никакого
представления о воспитании человеческого рода, которым уж не знаю какой
историк человечества воспламенил воображение моего
покойного друга Лессинга. Прогресс существует для отдельного человека,
которому Провидение судило пройти часть его вечности здесь на
земле <...> Но чтобы все человечество в этом мире должно было
от эпохи к эпохе всегда идти вперед и совершенствовать себя, -
это не кажется мне целью Провидения...» (цит. по: Кассирер Э.,
2004. С. 215)'.
Ну а что касается Канта, то он убежден: «так как род
человеческий постоянно идет вперед в отношении культуры как своей
естественной цели, то это подразумевает, что он идет к лучшему
и в отношении моральной цели своего существования; и хотя это
движение иногда и прерывается, но никогда не прекратится. Мне
не нужно доказывать это предположение: доказать должен
противник его» (Кант, 1965 с. С. 101). Кант признает, что в целом
факты истории не дают, конечно, полной и однозначной
определенности в этом вопросе. Однако посылку о необратимом
нравственном прогрессе человечества он считал «необходимой
с практической точки зрения» (Там же. С. 102) и периодически
возвращался к вопросу о механизмах такого прогрессивного
движения. Залог того, что такие механизмы существуют, он видел
опять-таки в человеческой природе и в Провидении:
«...продвижение... зависит не только от того, что мы делаем (например, не
от воспитания, которое мы даем юному поколению) и по какому
методу мы поступаем, чтобы осуществить это, сколько от того,
что сделает человеческая природа в нас и с нами, чтобы заставить
нас идти по тому пути, на который нам самим нелегко вступить.
Ведь только от нашей природы или, вернее, от Провидения (так
Процитировав это суждение Мендельсона, Кассирер комментирует его в том
смысле, что тут Мендельсон выступает ярким представителем неисторично
мыслящего Просвещения, тогда как Лессинг уже выходит здесь за пределы
Просвещения. Так пишет Кассирер в 1932 г. Но из перспективы конца XX -
начала XXI века это смотрится совсем по-другому. Отношение Мендельсона к идее
нравственного и духовного прогресса человечества, к идее, будто человечество
становится все более «воспитанным», современному человеку, пожалуй, ближе,
чем Кантово. Мендельсон тут выглядит как вполне постмодернистский
мыслитель.
35
как для достижения этой цели требуется высшая мудрость)
можем мы ожидать такого результата, который отразится на
целом, а через него и на отдельных частях, тогда как, напротив,
люди в своих планах исходят только от частей и дальше их не
идут, а на целое, как слишком для них великое, они могут
распространить, правда, свои идеи, но не свое влияние...» (Там же.
С. 103)
В таком кантовском видении истории можно наблюдать
зародыши и гегелевской «хитрости мирового разума», и его же тезиса,
что «все действительное разумно». С другой стороны, здесь же
можно увидеть источник когеновского противопоставления
факта и идеи, сущего и должного. О дальнейшей эволюции этой
идеи и пойдет речь в следующих главах.
Подытоживая наше рассмотрение, мы можем пока сказать
следующее. Отношение Канта к иудаизму обусловлено его
пониманием человека и разума. Причем в этом его понимании
кульминируют тенденции, заложенные еще Возрождением и
развиваемые далее Просвещением. Из идеи самодостаточного,
саморегулирующегося внеисторического разума, неуклонно
реализующего себя в истории, и из идеи о человеке как носителе
разума и в этом отношении как полномочном представителе
человечества как такового у Канта (как до него у Спинозы)
с логической необходимостью вытекает противопоставление
разума и любой, в том числе религиозной, традиции.
В заочном споре Канта с Мендельсоном речь, как мы видели,
шла о понимании человека, его природы, истории. Эти темы
были и остаются стержневыми для классической европейской
философии. Еще большее значение они приобретают в споре
классической и постмодернистской философии.
В то же время кантовское понимание свободы человека и его
ноуменальной сущности неразрывно связано с
основополагающими понятиями его системы, прежде всего с его концепцией
трансцендентального субъекта. Классическая концепция
субъекта становится в наши дни одним из главных пунктов критики
классической философии. Можно сказать, что это одна из
ключевых «постмодернистских» тем. Таким образом, оказывается,
что история рассмотренного здесь спора по поводу иудаизма
представляет интерес не только для евреев. Она высвечивает
ключевые посылки и допущения классической европейской
философии.
ГЛАВА 2. ТРАНСФОРМАЦИЯ КАНТОВОЙ СИСТЕМЫ
У ГЕРМАНА КОГЕНА
Жизненный путь
У истоков современной еврейской философии стоит Герман
Коген, основатель и глава Марбургской школы неокантианства.
Его трактовка сущности монотеизма и истолкование понятия
святости оказались во многом определяющими для дальнейшего
развития еврейской философии, хотя дело не только в его
учении, но и в его активной педагогической деятельности.
Герман Коген оказывается на пересечении двух
интеллектуальных и религиозных традиций: иудаизма и протестантизма.
В самом деле, Коген - основоположник одной из двух школ
неокантианства, автор ряда книг, посвященных интерпретации всех
разделов кантовской «критической философии». Он испытал
огромное, если не определяющее, влияние Канта. А Кант - это
яркий протестантский мыслитель.
Предыдущая глава была призвана показать, сколь
парадоксальным должно было быть сочетание этих традиций и как
много глубоких теоретических проблем, касающихся
фундаментальных понятий кантовской системы, оно должно было затрагивать.
Прежде чем приступить к их обсуждению, коснемся некоторых
практически неизвестных широкому философскому сообществу
моментов жизненного пути Когена.
Герман Коген родился в 1842 г. в маленьком немецком
городке Косвиге. Его отец был синагогальным кантором и учителем
(Rosenzweig Fr., 1924. S. XVI; Zank M., 2000. P. 53-54). Будущему
философу было три с половиной года, когда отец начал обучать
его древнееврейскому языку. Позднее, когда Коген учился в
гимназии города Дессау, отец каждое воскресенье приезжал к сыну,
чтобы продолжать занятия с ним. Так Герман Коген изучал
Библию, Талмуд и тексты классиков еврейской религиозной
мысли, прежде всего Маймонида и Бахии ибн Пакуды.
37
После окончания гимназии 16-тилетний Коген, в
соответствии с заветным желанием отца, поступил в раввинистическую
семинарию города Бреслау. Этой семинарией руководил
известный раввин Захария Френкель (1801-1875), который был
сторонником либерального направления в иудаизме (или, иначе,
реформированного иудаизма).
Чтобы понять, что подразумевалось под «либеральным
направлением в иудаизме», надо иметь в виду, что между 1820-м
и 1840 гг. в иудейских общинах Германии шла упорная борьба
между реформаторами и ортодоксами. С начала XIX века
некоторые раввины стали отходить от строгих требований еврейского
закона - галахи1. Реформаторы выступали за упрощение
еврейского закона, чтобы образ жизни иудея меньше отличался от
образа жизни его компатриотов - протестантов и чтобы
верующему иудею было легче стать активным и полноправным членом
современного общества. Интересно, что один из наиболее
влиятельных лидеров реформистского движения, раввин Абрахам
Гейгер (1810-1874), обосновывая позицию реформистов, с одной
стороны, опирался на историцизм, господствовавший в
философии и социальной мысли Германии той эпохи, а с другой,
ссылался на пример лютеровской реформации, покончившей со
средневековьем в христианской мысли (см.: HJPh. P. 682-703;
CEU. Р. 225-245).
Эта ссылка не случайна. В реформе действительно можно
увидеть влияние христианства, прежде всего протестантизма. Оно
проявлялось, в частности, в том, что в богослужение начинали
вводить орган, проповедь. Изменялась сама обстановка и стиль
поведения в синагоге, которые начинали напоминать стиль
поведения в протестантском молельном доме. Отказ от заповедей
еврейской традиции проявлялся, в частности, в том, что
реформисты отменяли ритуальную молитву за возобновление
жертвоприношений в Иерусалимском храме, находя
жертвоприношения варварским и устаревшим ритуалом. Подчас дело доходило
до призывов перенести субботу на воскресенье, чтобы иудей мог
совмещать работу или карьеру с религиозными требованиями
иудаизма. Модернизация такого толка опиралась на поиски
«подлинного» иудаизма, под которым понималось его «вечное»
содержание, в отличие от «исторически преходящего».
«Подлинное» содержание, конечно же, должно было оказаться и наи-
Галаха («путь» - ивр.) - предписания и законы, регламентирующие все стороны
жизни ортодоксального иудея.
38
более подходящим для современной эпохи. В то же время для
деятелей реформистского движения это подлинное содержание
мыслилось как универсалистское, гуманистическое и весьма
близкое духу немецкой культуры и философии.
В результате такого переосмысления иудаизм все чаще
трактовался в универсалистских и чисто этических терминах. Яркой
иллюстрацией подобной тенденции может служить резолюция
Лейпцигского синода реформированного иудаизма 1869 г.,
в которой, в частности, утверждалось следующее: «Синод
заявляет, что иудаизм согласуется с принципами современного
общества и государства, как эти принципы провозглашены
Моисеем и развиты в учении пророков, т. е. с принципами
единства человечества, равенства всех перед законом, равенства
прав и обязанностей перед родиной и государством, а также
в плане полной свободы индивида в его религиозных
убеждениях и занятиях. Синод признает развитие и реализацию этих
принципов самой лучшей заботой об иудаизме... в настоящем
и будущем. Синод признает величайшей целью человечества -
мир и взаимное уважение всех религий и конфессий...» (цит. по:
HJPh. P. 697)
Раввинистическая семинария в Бреслау возникла как ответ на
потребность в раввинах нового типа: людях, обладающих
современным научным образованием. Учебные планы, особенно на
старших курсах, были ориентированы на учебные планы
теологических факультетов немецких университетов. Семинария была
тесно связана с деятелями движения «науки об иудаизме»
(Wissenschaft des Judentums). Еврейскую историю в этой
семинарии преподавал крупнейший историк Хайнрих Гретц, автор
одиннадцатитомной истории евреев, бывшей самым серьезным
и авторитетным исследованием этой темы в XIX веке. Идеология
движения «науки об иудаизме» включала ряд высказываемых
и невысказываемых посылок, среди которых было убеждение
в том, что иудаизм имеет «сущность», которая выражается в
исторически изменчивых формах и развивается во времени.
Средством выявления «сущности» считалось только научное
историческое исследование, а не традиционное галахическое
знание, т. е. признавался авторитет разума, а не традиции.
Определение иудаизма мыслилось как дело ученых-историков,
лингвистов и пр., а не раввинов. Научность, в духе немецкой
философии первой половины XIX века, понималась как
цельность, полнота, системность изучения, которая одна только
39
и может воссоздать живое историческое целое. Она должна была
соответствовать духу критического научного исследования.
Герман Коген впоследствии не раз высказывал свое
восхищение Захарией Френкелем, руководителем семинарии в Бреслау.
«Френкель и его несокрушимая приверженность творческому
синтезу веры и науки оказали огромное влияние на Когена»
(Zank M., 2000. P. 61). В те годы большое внимание в среде
немецкого еврейства привлекла к себе полемика Френкеля с
вождем неоортодоксов в иудаизме Самсоном Рафаэлем Хиршем.
Инте-ресно, что в эту полемику вмешался и юный семинарист
Коген. Он подписал (совместно с многими другими
семинаристами) письмо в защиту Френкеля и, не ограничившись такой
формой участия в действиях по поддержке своего руководителя,
послал Хиршу письмо со своими доводами. Впоследствии Хирш
напечатал выдержки из этого письма в своей полемической
статье против семинарии в Бреслау и того духа, который
прививается там молодежи (Zank M., 2000. P. 60; Rosenzweig Fr. Op. cit.
S. XXI).
Таким образом, молодой Коген формировался в атмосфере
бурных дебатов о соотношении веры и науки, уважения к науке,
интенсивных исторических исследований. Коген сохранил
верность установкам либерального иудаизма на всю жизнь. Так,
в своей лекции о «Культурно-историческом значении Шабата»,
написанной в 1869 г., но опубликованной только в 1881-м,
Коген, опираясь на высказанный в Талмуде принцип, что иудей
должен быть хозяином субботы, а не рабом ее, предлагал
передвинуть Шабат на воскресный день европейского календаря. Это,
как утверждал Коген, послужит великим шагом к сближению
немецких граждан иудейского и христианского
вероисповедания, ибо традиционное соблюдение субботы «отделяет нас от
нашего народа» (цит. по: Gay P., 1978. Р. 118). На всю жизнь
сохранилось у Когена и убеждение в единстве веры и разума, в
возможности рационального научного подхода в вопросах веры.
Герман Коген не стал раввином. Его властно позвали к себе
науки и философия, хотя, возможно, интеллектуальные
импульсы, полученные в семинарии, тоже способствовали этому. Он
учился в университетах Бреслау и Берлина, изучал философию
и филологию, в 1865 г. защитил докторскую диссертацию.
С 1873 г. он доцент Марбургского университета, а с 1876 г.,
после смерти Фридриха Альберта Ланге (1828-1875), занимает
кафедру философии этого университета. Вскоре вокруг него
40
складывается школа, получившая название Марбургской школы
неокантианства. Как вспоминал впоследствии выдающийся
отечественный психолог С.Л. Рубинштейн, учившийся в Марбурге,
«личный фактор сыграл далеко не последнюю роль в создании
так называемой Марбургской школы. Она была, по крайней
мере пока жил Коген, не только единством школьной догмы, но
и живым содружеством людей в стиле античной Академии -
содружеством людей, объединенных общим служением
философии. Большую роль в воспитательном влиянии Когена играл его
семинар. <...> Здесь читались и изучались великие классики
философской мысли, главным образом Платон и Декарт,
Лейбниц и Кант; они читались и тут же комментировались
Когеном <...> Всегда в живом и страстном диалоге ставились,
подчас с драматической остротой, основные проблемы, над
разрешением которых работала мысль изучаемого автора <...> Если
мысль есть диалектика - не в гегелевском смысле антиномично-
сти, а в классическом платоновском духе, - если мысль по своей
внутренней природе есть внутренний диалог, то слушатели
и участники когеновского семинара присутствовали при
подлинном акте мысли. Из того же источника исходило главное
очарование его лекций. <...> Большая аудитория, из которой
большая часть, вне всякого сомнения, не понимала очень многого из
того, что он говорил, с живым интересом и неослабевающим
вниманием следила за его лекциями. Он, быть может, не всегда
им был понятен, но даже тогда, когда он не был им совершенно
понятен ... им передавалось если не все содержание его речи, то
внутреннее напряжение, которым всегда так сильно она была
заряжена. И поэтому, даже когда они не вполне понимали, они
переживали вместе с ним его мысль. И сам он тоже ее переживал,
а не только сообщал ее слушателям» (Рубинштейн С.Л., 1994,
С. 256)1.
В качестве исходного пункта всех своих философских
построений Коген берет кантовский трансцендентальный метод.
Коген подчеркивает, что Кант отталкивался от факта
существования наук, содержащих необходимые и всеобщие, т. е., по
мысли Канта, очевидно внеопытные утверждения. Первым
ярким примером таких утверждений была для него математика.
Кант утверждал при этом, что в каждой науке столько науки,
сколько в ней математики. Этот принципиальный для Канта
О влиянии Когена и Марбургской школы на философскую мысль в России
см.: Дмитриева H.A., 2007.
41
тезис подразумевал, властности, что науку делает наукой именно
наличие в ней априорных законов.
Отталкиваясь от понятого таким образом факта
существования науки, Кант и задается вопросом о том, как возможны науки.
Ответ на данный вопрос позволяет Канту выйти из сферы
фактов, из сферы того, что дано в опыте, к утверждениям о
трансцендентальных структурах познающего субъекта, лежащих
в основе опыта и самой возможности наук.
Сохраняя приверженность этому методу, Коген даже более
последовательно и настойчиво, чем Кант, опирается на
математизированное естествознание своего времени. Математика и
точное естествознание становятся отправными пунктами его
исследований. Таким образом: «...анализ неокантианской концепции
науки и ее развития есть прежде всего анализ неокантианской
концепции математики» (Гайденко П.П., 1973. С. 76). При этом
Коген отчетливо видит, что современная наука опирается не на ту
математику, о которой писал Кант. Кант обсуждал арифметику
и евклидову геометрию. Для объяснения их возможности он
и построил свою «трансцендентальную эстетику»: учение об
априорных формах созерцания. Коген же понимает, что
современное естествознание опирается на дифференциальное и
интегральное исчисление. Поэтому вопрос: «Как возможна такая
математика и такое естествознание?» - требует нового ответа. С его
поисков и начинается творческая деятельность Когена,
приведшая в конце концов к построению достаточно оригинальной
системы.
Важной особенностью подхода Когена по сравнению с
учением Канта является то, что научное знание выступает для него как
исторически развивающаяся и изменяющаяся система. В связи
с этим Коген обращает серьезное внимание на историю науки
(см., например: Cohen H., 1883).
Все это вместе приводит его к глубокой трансформации
фундаментальных кантовских понятий, прежде всего понятия о вещи
в себе и представления о трансцендентальном субъекте как
носителе вечных и неизменных трансцендентальных структур.
Основные идеи собственной философской системы Когена
нашли выражение в трех фундаментальных работах: «Логика
чистого познания»; «Этика чистой воли»; «Эстетика чистого чувства».
Параллель между этими работами и тремя кантовскими
«Критиками» заметить несложно. Однако, в нарушение
параллели с работами Канта, система Когена включает и философию
42
религии, получившую окончательную формулировку в
посмертно изданной «Религии разума из источников иудаизма».
Предыдущая глава могла бы создать впечатление, что
трансформация кантовских понятий мотивировалась тем, что Когену
было «за иудаизм обидно». Подобное представление было бы
слишком примитивно. История философских идей, как и история
интеллектуальных поисков их носителей, гораздо сложнее.
Вероятно, здесь действует некий закон «избыточной
детерминации», который вообще имеет широкое поле действия в области
культурных явлений. Вкратце его суть заключается в том, что
заметные события в области истории идей всегда можно объяснить более
чем одним способом. По-видимому, подобные события и
происходят тогда, когда к тому есть сразу много мотивов и поводов,
и всегда несут на себе печать целого ряда детерминаций.
Поэтому подчеркнем еще раз, что творческая эволюция
Когена начинается с переосмысления учения Канта в связи
с проблемами развития науки. Проблемы иудейской теологии
остаются на определенное время в стороне. Однако окружающая
действительность не позволяла Когену забыть, что он еврей и что
это - проблема. Он страдал от антисемитизма на ранних этапах
своей карьеры. Но ему очень помогли в тот период
заступничество и поддержка Ф.А. Ланге. Его дружба с Ланге, тогда уже
маститым ученым, началась в 1871 г., после публикации первой
книги Когена, «Кантова теория опыта» (см.: Cohen H., 1918),
которую Ланге оценил чрезвычайно высоко.
Позднее, будучи одним из влиятельнейших философов
Германии, Коген открыто и резко выступал против
антисемитизма. В 1880 году он публично выступил с ответом Г. Трейчке по
поводу его нападок на иудаизм как на чуждый немецкой
культуре и государственности элемент. Он доказывал тогда, что евреи
должны обладать всеми гражданскими правами, в том числе
и правом следовать своей вере (Gay P., 1978. Р. 119). Более того, он
доказывал, что иудаизм и христианство испытывали в ходе
истории столь сильные взаимные влияния, что сейчас нельзя
утверждать, что они чужды друг другу (см. подробнее: Zank M., 2000.
P. 79-107).
С годами доля работ, посвященных иудаизму, в его творчестве
все возрастала. Постепенно в нем созревало понимание его
задачи - обосновать философскую значимость иудаизма, причем
прежде всего для современной, т. е. нововременной, культуры.
Всю его творческую деятельность пронизывало убеждение в глу-
43
бокой внутренней близости немецкого гуманизма и немецкого
идеализма, воплощавшихся для Когена прежде всего в
величественной фигуре Канта, и иудаизма, воплощением которого
являлся для Когена мессианизм пророков (см.: Cohen H., 1924 а,
1924 b; J. Habermas, 1961; H. Mendes-Flohr, 1999. P. 45-65,
Zank M., 2000).
В 1912 г., в возрасте 70 лет, Коген вышел в отставку и переехал
в Берлин, где начал читать лекции по еврейской религии и
философии в Высшей школе научного изучения иудаизма (Hochschule
für die Wissenschaft des Judentums), основанной движением
«Wissenschaft des Judentums». Вместе с ним в работе этой школы
активно участвовали видные деятели реформистского движения,
многие из которых были его однокашниками в семинарии
Бреслау.
В 1913-1914 гг. лекции Когена посещал Франц Розенцвейг,
неоднократно упоминавший впоследствии о том сильнейшем
впечатлении, которое произвели на него как лекции, так и сама
личность Германа Когена.
В том же 1914 г. Коген с женой совершил поездку в Россию,
чтобы поддержать угнетенных и притесняемых там евреев1. Чета
Когенов приехала в Россию 22 апреля 1914 г. по приглашению
«Еврейского общества поощрения высших знаний». Таким
образом, приезжал Коген для чтения лекций о сущности иудаизма2,
однако вся философская общественность России откликнулась
на приезд знаменитого немецкого философа. Коген и его жена
побывали в Санкт-Петербурге, Вильнюсе, Варшаве, Москве
и Риге. В Петербурге Э.Л. Радлов вручил гостю диплом почетно-
Российские газеты 1914 г., печатавшие отчеты о пребывании Когена в России,
стали мне доступны благодаря любезности саратовского профессора В.Н. Белова,
исследователя творчества Г. Когена (см.: Белов В.Н., 2000) и Марбургской школы
вообще.
«На банкете, устроенном в его честь еврейскими просветительскими
учреждениями и общественными деятелями г. Петербурга, Герман Коген, между прочим,
сказал, что борьба за монотеизм едва только началась, и что в этой борьбе, как
и в вытекающей отсюда задаче - отмежеваться от мифологических пережитков
окружающих нас культур - заключается истинная миссия еврейства, в
возвышенности которой оно может и должно черпать утешение за все перенесенные и
переносимые им страдания. В обосновании и выяснении великого смысла этой
всемирно-исторической борьбы со всеми видами суеверия и идолопоклонства
в науке и морали, искусстве и политике, - борьбы за «чистоту» в духе основ
критического идеализма, - Коген усматривает главное значение своих
научно-философских трудов, с которыми он обращается ко всему культурному человечеству...»
(ГурляндА., 1915. С. III)
44
го члена Философского общества при Петербургском
университете. Коген выступал в Религиозно-философском обществе
Петербурга с лекцией о сущности еврейской религии. В Москве
аналогичную лекцию он читал в помещении Политехнического
музея, где, как писалось в газетах, присутствовали две тысячи
человек. На заседании Общества научной философии, на
котором председательствовал С.Н. Булгаков, Коген говорил на тему
«Философия и наука».
Коген читал также лекции в Риге, Вильнюсе, Варшаве.
Предполагалась его лекция в Одессе, но она не была разрешена
одесским градоначальником. А в Вильнюсе полиция не
разрешила напечатать в афише, извещавшей о лекции Когена, тему
лекции, а также сняла слова «знаменитый философ».
В 1915 г. вышла в свет работа Когена под названием «Понятие
религии в системе философии». В 1919 г., уже после смерти
философа, появился его последний труд, «Религия разума из
источников иудаизма». Он был посвящен памяти отца философа.
«Онтологический поворот» и его отличительная черта
Идеи Когена относительно сущности иудаизма, на наш
взгляд, представляют интерес не только для последователя
иудаизма, историка религии или историка культуры. Идеи, к которым
подошел Коген в результате почти полувекового переосмысления
фундаментальных понятий кантовской системы и которые
вылились в его оригинальную трактовку «религии разума»,
составляют, как нам кажется, один из важных источников известного
«онтологического поворота», произошедшего в начале XX века.
Такая постановка вопроса может вызвать возражения. В самом
деле, как в нашей, так и в западной философской литературе
доминирует образ Г. Когена как человека, сводившего всю
философию к теории научного познания. Его постоянно обвиняют
в методологизме и гносеологизме. Такая трактовка утвердилась
по крайней мере со времен Давосского диспута между
Хайдеггером и Кассирером, когда Хайдеггер следующим образом
характеризовал неокантианство: «Общую черту неокантианства
можно понять, лишь размышляя о его истоке. Таким истоком
является то затруднение философии, когда она столкнулась
с вопросом, что же осталось у нее из всей совокупности
познания. <...> Казалось, что осталось только это познание науки, а не
того, что существует <...> Эта перспектива определила все
движение "назад к Канту". На Канта стали смотреть как на теоретика
45
физико-математической теории познания» (Davoser Disputation,
1974, S. 246, 247).
Однако подобная интерпретация является односторонней.
Она не учитывает архитектуру системы Когена как целого,
которая гораздо метафизичнее, чем принято думать.
Чтобы обосновать наш тезис, следует прежде всего отметить
специфику онтологических учений, рождавшихся начиная
с 20-х гг. XX века, по сравнению с предшествующей
метафизической традицией. Традиционная онтология опиралась в своих
построениях на принцип тождества бытия и мышления. Поэтому
именно чистое внеэмпирическое мышление выступало как путь
к истинному бытию и как свидетельство о нем. Метафизика
претендовала на то, чтобы говорить о мире не так, как он дан
человеческим чувствам, а так, как он «выглядит с точки зрения Бога».
Но Кант продемонстрировал, что мышление, выходящее за
пределы возможного опыта, запутывается в противоречиях и
паралогизмах. Отсюда он сделал вывод, что метафизика возможна лишь
как «критика чистого разума», а не как умозрительное
теоретизирование о сверхчувственной основе чувственного мира. Тем
самым кантовская критика показала, что человеческому
мышлению все равно недоступна «точка зрения Бога». Наше мышление
неразрывно связано с чувственностью, оставаясь всего лишь
человеческим мышлением. Кант постоянно повторяет этот тезис,
подчеркивая отличие человеческой познавательной способности
от «интуитивного интеллекта», созерцающего сущность самих
вещей без посредства чувственности.
Совершившийся в начале XX века «онтологический поворот»
отнюдь не игнорировал кантовскую критику, но, напротив, учел
ее и придал онтологии новый характер и направление. Онтология
стала превращаться в описание мира человеческого
существования, то есть реальности, в которой пребывает человек и так, как
она дана человеку. Онтология становится описанием
метафизических основ человеческого бытия. Соответственно, основные
онтологические свидетельства теперь уже получаются не из
разума, а из того или иного способа переживания мира (ср.
у М. Хайдеггера об опыте ужаса или скуки). Представляется, что
это достаточно очевидно в отношении Хайдеггера. Что касается
Гуссерля, то не требуется особых аргументов, чтобы подтвердить,
что регионы бытия, о которых он говорит, - это бытие,
конституированное субъектом, а вовсе не бытие, которое
представлялось бы Богу. Н. Гартман постоянно говорит о «бытийственной
46
тяжести», о страдании и о претерпевании не зависящих от
субъекта событий и обстоятельств, об опыте «затронутости» человека
жесткой и неумолимой реальностью. Именно это выступает
у него фактически как главнейший критерий сущего (Гарт-
ман Н., 2003. С. 379-452).
Г. Коген еще в первой своей работе, «Кантова теория опыта»
(Cohen H., 1918), подробно комментирует и защищает мысль
Канта о том, что мышление не имеет оправданного применения
за пределами возможного опыта. Соответственно, он защищает
Кантово доказательство невозможности метафизики и, опираясь
на него, резко критикует метафизические системы Фихте,
Шеллинга и Гегеля. Но тем самым он как раз готовит почву,
а вовсе не создает препятствия на пути новой онтологии.
Однако это только первое и предварительное замечание. На
самом деле роль Когена в развитии онтологии является гораздо
более определенной и положительной. Его учение подготовило
основу для одного (оставшегося сравнительно мало изученным)
направления в русле «онтологического поворота» XX века —
философии диалога. Как уже говорилось, под «философией
диалога» здесь понимается направление, связанное с именами
М. Бубера, Фр. Розенцвейга, Э. Левинаса (оно существенно
отличается от «философии диалога», связываемой с именем
М.М. Бахтина1). Перечисленных философов объединяет то, что
для них базисный онтологический опыт связан не с
переживанием смерти и конечности человеческого существования, но
с открытостью для Другого, с этическим долженствованием
и признанием некоей миссии человека на земле.
«Философия диалога» (как, кстати, и система Германа
Когена) не пользуется особым вниманием отечественных
философов, хотя и имеет своих страстных и увлеченных
исследователей (И.С. Вдовина, Т.П. Лифинцева, В.Л. Махлин, Л.В. Намест-
никова, А.И. Пигалев, A.B. Ямпольская). Факт влияния Г. Когена
на «философию диалога», вообще говоря, лежит на поверхности.
Он может показаться неожиданным только вследствие того, что
названные мыслители не очень известны в отечественной
литературе. В зарубежной же литературе эти связи и влияния уже
стали предметом обсуждения. Например, в (HJPh. P. 793) Бубер
Оно составляет определенное и специфическое направление и на фоне
различных появляющихся в последние годы попыток обрисовать (или сформировать)
новое, диалогическое мышление, как это делается, например, в статье: Кух-
та М.С. Диалогические отношения: основы познавательных стратегий //
Философские исследования. - 2004. № 2. - С. 126-132.
47
и Розенцвейг названы «двумя наиболее известными
последователями Когена». А на международной конференции «Единство
сознания и единственность Бога в философии Германа Когена»,
состоявшейся в феврале 2003 г. в Риме, было представлено два
доклада, специально посвященных сопоставлению концепций
Когена и Левинаса. Поэтому цель настоящего исследования
заключается не просто в декларировании факта связей и
влияния, но в прояснении вопроса о том, насколько эти связи
глубоки, в чем именно проявляется влияние Когена и насколько оно
принципиально для «философов диалога». Более конкретно, речь
идет о том, чтобы рассмотреть и систему Когена, и «философию
диалога» как страницы и вехи «онтологического поворота».
Одновременно это означает рассмотрение еврейской
философии XX века как важной страницы истории европейской
философии.
Истолкование «вещи самой по себе»
Учение Когена содержит сильные онтологические
предпосылки, принимаемые им вполне сознательно. Например, это
допущение «вещи самой по себе». В литературе можно
встретиться с утверждением, что Коген фактически отбросил кантовское
понятие «вещи самой по себе». Так, В.Ф. Асмус писал, что если
философия Канта в онтологическом плане была дуалистической,
т. е. признавала, с одной стороны, вещи сами по себе, а с другой -
сознание, то «Коген стремился исключить из нее этот дуализм»
(СБФ, 1972. С. 27). Асмус интерпретирует рассуждения Когена
как стремление «превратить мир целиком в мир сознания»
(Там же. С. 29). Н.В. Мотрошилова говорит о «сокрушении»
кантовской вещи самой по себе, произведенном в работах Когена,
Наторпа, Кассирера (И Ф: ЗРВ. С. 71). В трактовке Б. Яковенко
Коген предстает вторым изданием Фихте, несмотря на то что сам
Коген резко критиковал Фихте (так же как Шеллинга и Гегеля).
Коген действительно критикует ряд принципиальных
моментов кантовской трактовки вещи самой по себе. Его не устраивает
кантовское представление о пассивном характере чувственности
и о том, что чувства аффицируются вещами самими по себе. Для
Когена неприемлемы сохраняющиеся таким образом в
концепции Канта остатки представления, будто именно благодаря
моменту пассивности, рецептивности познавательной
способности, познающий субъект контактируете предметом познания как
он есть сам по себе.
48
Коген подчеркивает, что предмет, на который направлено
познание, нам не дан. Дано нечто, некий X, говорит он, следуя
при этом, впрочем, формулировке самого Канта. Поэтому
в чистой, неотрефлексированной чувственности меньше всего
можно ожидать встречи с объективным содержанием познания,
т. е. с предметом, как он есть сам по себе. Чтобы показать
правомерность позиции Когена, сошлемся, например, на рассуждения
К. Поппера, который также борется с представлениями о
пассивности и рецептивности чувственного познания и доказывает, что
даже в чувственном познании субъект активен. Дело обстоит не
так, что информация просто вливается в него через органы
чувств; субъект активно ищет ее и отбирает в потоке
раздражителей то, что способствует его выживанию. Мысль о том, что
познание начинается не с аффицирования нашей чувственности
внешними вещами, но с наших проблем и априорных ожиданий, после
Поппера представляется уже вполне доказанной. Это позволяет
нам взглянуть новыми глазами и на утверждения Когена,
отказывавшегося признавать, будто познающее мышление начинает
с чего-то предданного, т. е. чего-то такого, что не было бы
конституировано им самим.
Чтобы показать обоснованность позиции Когена, напомним
также, что чувственность, будучи активной целенаправленной
реакцией организма на внешний раздражитель, свидетельствует
не столько о вещи, аффицирующей чувственность, сколько
о состоянии и способе реакции самого организма. Возьмем,
например, человеческое ощущение холода. Человек в известном
эксперименте может ощущать воду в сосуде как холодную одной
рукой и как теплую - другой. Наше восприятие показывает нам,
что качества тепла или холода меняются скачкообразно. Мы
можем ощущать, что предмет А такой же холодный, как и
предмет В, а предмет В так же холоден, как и С, и в то же время
чувствовать, что А теплее С, и т. д. Так можно ли искать
независимую от познания реальность именно «со стороны» чувственного
опыта?! Если мы будем помнить о том, что чистое, свободное от
привнесений со стороны нашей субъективности восприятие есть
миф, то нам покажутся вполне естественными и справедливыми
постоянные напоминания Когена о том, что ощущение есть не
более чем впечатление, которому нельзя приписывать никакой
объективности, что оно определяется и исправляется
мышлением. То реальное, что принято считать объектом ощущения,
конституируется с помощью категорий мышления, или, как говорит
49
Коген, материя ощущения созревает до чистого объекта
познания лишь в содержании чистого мышления.
Отказ Когена рассматривать чувственное познание как чисто
рецептивное проявляется, в частности, в том повышенном
внимании, которое он уделяет кантовским «антиципациям восприятия».
«Принцип их, - говорит Кант, - таков: реальное, составляющее
предмет ощущения, имеет во всех явлениях интенсивную величину,
т. е. степень» (Кант И., 1964. С. 241). Согласно этому принципу,
рассудок априори вносит в восприятие таких чувственных качеств,
как теплое, холодное, яркое, темное и т. д., структуру
непрерывности (гладкости, выражаясь математическим языком),
соответствующую принципам исчисления бесконечно малых. Поэтому
Коген, постоянно указывающий, что основу современного
математизированного естествознания составляют дифференциальное
и интегральное исчисления, уделяет такое внимание этому
принципу. Именно эта априорная структура, воплощающая принцип
непрерывности, конституирует на основе субъективных
впечатлений и ощущений - объект познания, «реальное». По мысли
Когена, чувства дают нам доступ к реальности в той, и только
в той, мере, в какой они организованы подобной априорной
структурой. То, что Кант называл «антиципациями восприятия»,
у Когена превращается в принцип, априори определяющий, что
данная нам в ощущениях реальность описываема на языке
исчисления бесконечно малых. Критикуя «сенсуалистический
предрассудок», Коген пишет, что «лишь благодаря чистому мышлению то
содержание, которое сообщают ощущения, которое они должны
сообщать и которое только они и сообщают, может получить
признание. И именно инфинитезимальная реальность, опять-таки,
придает легитимность сообщениям чувств. Сообщениям чувств
придает реальность не что иное как содержание физики,
поскольку оно отличается от чистой математики. Это физикалистское
содержание ощущений определяется и обосновывается инфините-
зимальной реальностью» (Cohen, 1918. S. 792).
Поэтому он настаивает на том, что нет и не может быть
реальности до и независимо от мышления. Такую установку он
называет идеализмом и подчеркивает, что именно идеализм должен
быть принципом любого исследования материи. Коген говорит
и о том, сколь неоправданно Кантово различениелштерми
познания (как того, что является простой данностью) и формы
познания, привносимой мышлением. Здесь, таким образом, он
выступает как более последовательный критический идеалист, чем
50
Кант, сохранявший остатки представлений о чистой,
независящей от познающего мышления данности в виде допущения
о материи чувственного познания, которая «только
оформляется» априорными структурами познающего субъекта, но сама от
этих структур не зависит.
Когеновская трактовка чувственного опыта уже не может
удивлять после того, как постпозитивистская философия привела
столько аргументов, опровергающих «сенсуалистический
предрассудок о чувственных данных» и показывающих теоретическую
нагруженность последних. Постпозитивисты доказали с
помощью солидного массива примеров из истории науки, что научное
мышление постоянно критикует и исправляет данные
чувственного опыта. Надо только воздать должное Когену, поднявшему
эту тему задолго до постпозитивистов, в эпоху господства
позитивизма, эмпириомонизма, эмпириокритицизма и т. п.
Итак, Коген борется с представлением, будто вещь сама по
себе может каким-либо образом, в каком-либо аспекте или
отношении быть «просто» чистой данностью. Борясь с подобными
идеями, он неустанно доказывает, что объект познания не дается
познающему субъекту, а конструируется им, и потому вещью
самой по себе, естественно, не является. Вообще, пафос его
философствования и суть его метода связаны с показом того, что
нет ничего просто данного. То, что здравый смысл или
философская традиция привыкли считать данностями, будь то объект
познания или даже его субъект, представляют собой наши
конструкции, которые возникают и развиваются в истории
человеческого познания и культуры.
Коген постоянно обращается к истории, будь то история
науки, философской мысли, религии, чтобы показать, как
возникала и развивалась та или иная конструкция. Такие обращения
к истории свидетельствуют, что уроки историчности,
преподанные Гегелем, не прошли для неокантианства даром. Тем не менее
это не снимает глубокого различия между философскими
системами Гегеля и Когена.
В системе Гегеля (или Фихте) любое не-Я целиком, без
остатка продуцируется самим Я. Поэтому вся действительность ставит
перед Я лишь одну задачу - осознать, что все есть Я, преодолеть
противоположность между Я и не-Я, субъектом и объектом,
между мышлением и бытием. В сущности, источником задачи,
стоящей перед мышлением, является само мышление, сам
субъект. Понятно, что больше и некому ставить перед ним задачи,
51
больше некому оказывать ему сопротивление. Поэтому задача
разрешима конечным образом, Я совпадает с самим собой
в системе Фихте или Гегеля.
Такой способ мышления неприемлем для Когена. Для него
всегда остается драматический разрыв между тем, что есть, и тем,
что должно быть, между задачей и ее исполнением. Есть то, что
постоянно ставит перед познающим и этическим субъектом все
новые и новые задачи.
Поэтому-то Коген настаивает на том, что вещь сама по себе
является главной целью познания. Это означает
недвусмысленное признание вещи самой по себе, т. е. бытия, не
продуцируемого познающим субъектом, что и свидетельствует о глубоком
и принципиальном отличии позиции Когена от доктрин Фихте
или Гегеля. В то же время Коген хочет избавиться от стереотипа
мышления, находящегося под властью языка и побуждающего
говорить и думать о вещи самой по себе именно как о вещи, вроде
определенного предмета, только спрятанного за некоей
ширмочкой. Коген хочет приучить нас думать о вещи самой по себе в
других терминах. Потому она и выступает у него как нереализуемое
целое познания, как то, благодаря чему познание представляет
собой великую нескончаемую цепь проблем. Вернее, как основу
единства этого идеального целого познания, и в то же время
причину того, почему это целое никогда не будет достигнуто.
В философии наших дней ведется поиск особого рода
онтологического опыта, который бы взрывал границы имманентного
и давал понять, что есть реальность, не конституированная
субъектом (даже если речь идет об опыте трансцендального субъекта)
(ср. Сафронов П.А., 2007; Сафронов П.А., Фролов A.B., 2007).
Отличительные черты такого опыта могут усматриваться в том,
что это опыт, «озадачивающий» субъекта, т. е. сталкивающий его
с чем-то неожиданным либо «превосходящим» его возможности
схватывания и понимания.
В свете этих поисков, нам, может быть, легче понять Г.
Когена. Вещь сама по себе для него - это не «вещь» в буквальном
смысле слова. В то же время тот факт, что перед человечеством
стоит, неизменно бросая ему вызов, бесконечная, до конца
неразрешимая задача познания, что реальность никогда не может быть
полностью схвачена системой понятий, и означает, что бытие не
имманентно сознанию1.
Как формулирует это положение ученик Когена, психолог С.Л. Рубинштейн,
«отрицанием данности бытия отрицается лишь данность понятия как некоторого
52
Граничное и поначалу чисто отрицательное понятие вещи
самой по себе обретает положительное значение как задача
познания (Cohen, 1918. S. 661). Таким образом, понятие вещи
самой по себе выступает как регулятивная идея цели. Важно, что
данное понятие сохраняет свое значение именно при удержании
обоих его аспектов - как положительного, так и отрицательного.
И пусть нас не смущает, что Коген называет вещь саму по себе
идеей. Ведь термин «идея» он понимает в платоновском смысле,
указывая, что в значение понятия «идея» входит понятие «цели»
(Cohen, 1918. S. 796. См. также: Ibid. S. 730).
Понятие вещи самой по себе играет в его системе важнейшую
роль. Именно оно является основанием для того различения
сущего и должного, которое составляет один из наиболее
характерных моментов его философской системы как целого. В самом
деле, если бы вещи самой по себе не существовало, а вся
реальность была порождением Я, обусловленным необходимостью
природы Я, то, конечно, противопоставление сущего и должного
теряло бы всякую почву. Ведь все сущее при таком подходе
оказывалось бы Я, а должное опять-таки не могло бы быть не чем
иным, как Я! А там, где нет различения сущего и должного, там,
по мнению Когена, невозможно признание свободы, т. е.
лишается почвы под ногами и этика.
Выступая как регулятивная идея цели, вещь сама по себе
служит одновременно «защите науки и оправданию учения о
нравственности» (Cohen, 1918. S. 783). Утверждения, будто Коген
вообще избавлялся от вещи самой по себе и представлял бытие
имманентным мышлению, игнорируют то обстоятельство, что
Коген - вслед за Кантом - делает вещь саму по себе связующим
звеном между учением о познании и учением о нравственности.
Подобно Канту, Коген в своей системе делает переход от
рассмотрения вещи самой по себе как цели познания к проблеме
законченного преднаходимого определения бытия ... Бытие не может быть в них
(т. е. в понятиях или определениях. - З.С.) замкнуто и заключено. Никакой
конечный комплекс не может исчерпать бытие; бытие остается бесконечной
проблемой. И данность признается как проблема. Бытие... есть бесконечное Нечто,
таящее в себе никаким конечным комплексом определений не исчерпаемую
содержательность, которая поэтому полагает бесконечный процесс познания, т. е.
бесконечную систему знания. И так понятое отрицание данности служит не
исключительным интересам рационализма, (но служит выражению) тенденций
реализма, охраняя при этом интересы рациональности: оно означает не
исключительность понятия, а всеобъемлемость бытия, и именно поэтому является
инстанцией критичности для всякого понятия, которое хочет в законченной
определенности установить содержание бытия» (Рубинштейн С.Л., 1994. С. 241).
53
того, можно ли и в каком смысле говорить о целях в природе
и целях природы. А это, в свою очередь, приводит к вопросу
о согласовании природы и этики. Последняя же проблема
в конечном счете выводит нас на когеновскую философию
религии. Поэтому прояснение вопроса о статусе вещи самой по себе
в системе Когена составляет необходимую ступень при попытке
понять эту последнюю.
Н. Гартман энергично критиковал неокантианство за учение
об объекте познания как определяемом категориями мышления,
а не как о сущем самом по себе. Для Гартмана, подобное учение
фальшиво, ибо игнорирует жизненную серьезность и тяжесть
дела познания (Гартман Н., 2003. С. 159-168; 454-487).
Представляется, что Гартман в своих высказываниях о неокантианстве
несправедлив. Могут быть разные способы осознания и
концептуального выражения «бытийственной тяжести» сущего. Коген
делает это с помощью понятия о бесконечной и никогда до конца
не реализуемой задаче познания. Таким образом, Коген
по-своему показывает «бытийственную тяжесть» дела познания. Просто
для него бытийственная тяжесть сущего обнаруживает себя не
в том, что человек вынужден смиренно терпеть ситуацию, в
которой он пребывает, будучи не в силах что-либо существенно
изменить. Нет, она обнаруживает себя в постоянном расхождении
сущего и должного, откуда проистекают неизменно стоящие
перед человечеством долг и задача.
Неразрывная связь отрицательного и положительного
моментов в понятии вещи самой по себе - как фаницы познания и как
указания на стоящую перед человечеством необходимую, хотя до
конца неразрешимую задачу преодоления такой фаницы -
становится несущей осью онтологической модели Когена и его
особой метафизики человеческого существования.
Отличие диалектики Когена от диалектики Гегеля
Удержание «вещи самой по себе» в единстве ее
положительного и отрицательного определений означает решительный разрыв
с гегелевской диалектикой.
В самом деле, последняя позволяла «преодолевать» любые
противоположности. В том числе и противоположность между
вещью самой по себе и явлением. Именно диалектическая
методология и соответствующий категориальный аппарат позволили
Гегелю «преодолеть» кантовское учение о вещи самой по себе
и встать «выше» Канта. В связи с этим необходимо проанализи-
54
ровать отношение Когена к диалектике в послекантовской
немецкой философии.
«Преодолевая» противоположности, эта диалектика устраняла
любые оппозиции, растворяя их в тотальности постулируемого
единого принципа, Абсолюта1. В таком Абсолюте «диалектически
преодолевается» противоположность между сущим и должным,
поскольку все оказывается моментом развития единого
Абсолюта. Нет и не может быть ничего, что не было бы таковым
моментом. Поэтому отсюда естественно вытекает тезис, что все
действительное разумно, а все разумное действительно. Конечно,
данный тезис дополняется уточнением: разумно для
определенного этапа развития Абсолюта. Дальнейшее развитие может
сделать разумное неразумным, т. е. не соответствующим более
развернутому и проявленному бытию Абсолюта. Поэтому при
желании ту же гегелевскую диалектику можно было использовать
и как критическое оружие против наличного социального бытия.
Однако речь все равно могла идти лишь об отдельных временных
несоответствиях нового содержания и отжившей формы. В целом
же диалектика содержала неустранимый момент оправдания
любого наличного состояния как необходимого (даже если
и временного) этапа. Тем самым получала свое оправдание и вся
историческая последовательность этих этапов. Последняя
представала разумной и необходимой, потому что это была
последовательность развития самого Абсолюта. Абсолют как всеобщий
и необходимый разум был гарантией того, что и любое
историческое наличное бытие как этап его саморазвития необходим
и разумен. А поскольку, помимо Всеобщего, или Абсолюта, нет
и не может быть никакого долженствования, то тем самым и
противоположность сущего и должного снимается как
относительная, преходящая и по большому счету мнимая.
Таким образом, по словам Когена, в диалектической системе
снимается и противоположность между Богом и природой.
Подобная трактовка гегелевской диалектики может показаться примитивной.
Нам могут возразить, что противоположности не «растворяются» в Абсолюте, но
Абсолют обогащается и конкретизируется, включая в себя противоположности,
так что они сохраняются, хотя и превращаются в моменты содержания Абсолюта.
Однако возражение такого рода убедительно только для того, кто уже заранее
встал на точку зрения гегелевской диалектики. Например, противоположность
субъекта и объекта преодолевается в гегелевской системе рассмотрением
познания как самопознания. Спору нет - идея Абсолюта при этом конкретизируется.
Однако в высшей степени спорно, что основное содержание идеи познания при
этом удержано. Аргументация Когена призвана показать, что это не так.
55
В самом деле, Абсолют занимает в гегелевской системе место, по
праву принадлежащее только Богу. А поскольку
противоположность Отдельного и Всеобщего должна быть диалектически
преодолена, это и означает, что противоположность между Богом
и сотворенным миром, в силу требований диалектического
метода, «снимается» как мнимая. Поэтому для Когена подобная
диалектика неприемлема. Философские системы Гегеля, Фихте
и Шеллинга он называет «романтическими» и видит в них
языческий пантеизм и идолопоклонство.
Коген противопоставляет гегелевской диалектике свою
трактовку диалектики, которую возводит к Платону. В отечественной
философской литературе существует тенденция сближать
диалектику Платона и гегелевскую диалектику, понимаемую как
эталон диалектики вообще. Подобным образом интерпретирует
Платона А.Ф. Лосев. Коген видит диалектику Платона
по-другому. Его интерпретацию можно понять, исходя из тех объяснений
Платона, согласно которым диалектика - это логический метод
точного разделения понятий по родам и видам. Например, в
диалоге «Политик» Платон говорит: чтобы стать лучшими
диалектиками, «мы должны почитать сам метод, состоящий в том, чтобы
различать по видам и стараться дать объяснение, не считаясь
с длиннотами...» («Политик», 286 е). В таком же духе объясняется
понятие диалектики в диалоге «Теэтет»: «Различать все по родам,
не принимать один и тот же вид за иной и иной за тот же самый -
неужели мы не скажем, что это [предмет] диалектического
знания» («Теэтет», 253 d). Сам Платон дал много образцов
применения такого метода, например, в диалогах «Софист», «Парменид»,
«Филеб» и др. Подобный метод рассуждения совсем не похож на
гегелевский диалектический метод. Может даже возникнуть
вопрос: чего вообще можно достигнуть с помощью такого
прозаического метода? Годится ли он на что-либо более глубокое,
нежели иронический поиск сущности софиста, например?
Однако не будем спешить. Вспомним прежде всего о
фундаментальном для платоновской системы различении чувственного
и умопостигаемого. Далее, в известных фрагментах из диалога
«Государство», связанных с разъяснением понятия диалектики,
Платон выделяет два вида умопостигаемого: «Один раздел
умопостигаемого душа вынуждена искать на основании предпосылок,
пользуясь образами из получившихся у нас тогда отрезков
и устремляясь поэтому не к началу, а к завершению. Между тем
другой раздел душа отыскивает, восходя от предпосылки к нача-
56
лу, такой предпосылки не имеющему. Без образов, какие были
в первом случае, но при помощи самих идей пролагает она себе
путь» («Государство», 510 Ь). Здесь Платон противопоставляет
виды умозрительного познания (которым соответствуют и два
вида бытия). Первый, осуществляющийся на основании
предпосылок, - это познание в геометрии. В самом деле, кто не знает,
что геометрия начинается с аксиом, определений и постулатов.
В известном фрагменте из «Государства» Платон, объясняя,
каким он представляет себе высший метод познания, говорит
сначала о науках: «...речь идет о геометрии и о тех науках,
которые следуют за ней», что им «лишь снится бытие, а наяву им
невозможно его увидеть, пока они, пользуясь своими
предположениями, будут сохранять их незыблемыми и не отдавать себе
в них отчета» («Государство», 533 с), - тогда как путь
диалектического метода «отбрасывая предположения ... подходит к
первоначалу с целью его обосновать». Таким образом, речь идет о том,
чтобы не останавливаться на одном наборе предположений и на
них как на аксиомах строить здание теории, но чтобы
анализировать сами эти предположения и выявлять их понятийные связи и,
соответственно, те предположения, на которые опираются эти
понятийные связи, и т. д. Представляется, что именно это имеет
в виду Платон, когда говорит: «Вторым разделом
умопостигаемого я называю то, что наш разум достигает с помощью
диалектической способности. Свои предположения он не выдает за нечто
изначальное, напротив, они для него только предположения как
таковые, то есть некие подступы и устремления к началу всего,
которое уже не предположительно. Достигнув его и
придерживаясь всего, с чем оно связано, он приходит затем к заключению,
вовсе не пользуясь ничем чувственным, но лишь самими идеями
в их взаимном отношении, и его выводы относятся только к ним»
(«Государство, 511 Ь). Так что неудивительно, что Коген считал
Платона критическим идеалистом в том же смысле, в каком
называл критическим идеализмом свою собственную систему.
В платоновской диалектике он видел метод критического
мышления, в котором только и обосновывается наука.
Образец понимаемого таким образом диалектического метода
Платон демонстрирует в диалоге «Парменид». В самом деле,
здесь Платон последовательно рассматривает серию гипотез
относительно единого и многого и показывает, какие выводы
должны следовать из того или иного допущения. Характеризуя
данный метод, П.П. Гайденко пишет: «В этом диалоге Платон дал
57
образец своей диалектики. Каким образом ведет Платон свое
рассуждение? <...> Он применяет здесь особый метод, какого мы не
встречали ни у кого из его предшественников, за исключением
разве что элеатов, а именно: он принимает определенное
допущение, или гипотезу, и затем прослеживает, какие утверждения
следуют из этой гипотезы. Этот метод получил впоследствии
название гипотетико-дедуктивного, и значение его для развития
науки трудно переоценить» (Гайденко П.П., 2000. С. 125). Важно,
что результатом платоновского гипотетико-дедуктивного
рассуждения является не обоснование той или иной гипотезы, но
выявление внутренней связи используемых понятий и начал.
Единое, многое, тождественное, иное не существуют вне системы
отношений друг к другу - вот, пожалуй, главный результат,
к которому приходит рассуждение Платона.
Говоря о Платоне и его диалогах, мы, конечно, слегка
отклонились от основной темы настоящей работы. Но это было
необходимое отступление, коль скоро и сам Коген ссылается на
Платона в своем понимании диалектики. К тому же
представление о том, что диалектику можно трактовать различным образом
и что гегелевская не является ни единственной, ни высшей ее
формой, не признано в отечественной литературе, поэтому мы
вынуждены обратить на него особое внимание.
Тема диалектики важна в контексте настоящей работы, потому
что позволяет обрисовать понятие корреляции, которое встает
у Когена на место «диалектического снятия противоположности»
или «перехода противоположностей друг в друга». Корреляция -
это такое отношение, члены которого не могут существовать друг
без друга, но ни в коем случае не переходят друг в друга и не
продуцируют другой член отношения из самого себя. В отношении
корреляции сохраняется, говоря словами Э. Левинаса, «друговость»
членов этого отношения. Так, коррелятом познания выступает
вещь сама по себе. Познание не может «снять» ее
противоположность себе, как не может продуцировать ее из самого себя. В то же
время вещь сама по себе рассматривается именно как коррелят
познания, и по отношению к последнему она выступает как
бесконечная, неснимаемая и неисчерпаемая задача.
Критический пересмотр метафизического понятия субъекта
В предыдущей главе, анализируя философские предпосылки
кантовской критики иудаизма, мы пытались показать, что эта
критика в конечном счете обусловлена пониманием субъекта,
58
а оно, в свою очередь, неразрывно связано с духом и основными
посылками философии Нового времени. Речь идет о свободе,
автономии и самодостаточности субъекта. Субъект оказывается
воистину «образом и подобием Божиим». Его интеллект
мыслится как конечное подобие бесконечного божественного
интеллекта. С этим неразрывно связано то обстоятельство, что субъект
классической философии как бы «вбирает в себя» все то, что
можно было бы приписать традиции, социуму. Кант, разумеется,
изменяет классическое метафизическое понимание субъекта,
сформулированное Декартом. Однако многие его
принципиальные черты сохраняются и у Канта, о чем шла речь в гл. 1. Одним
из следствий такого понимания субъекта оказывается и кантов-
ская непримиримая позиция по отношению к иудаизму.
Для Канта субъект - это трансцендентальное «Я». Оно не дано
человеку в актах интроспекции. Это непознаваемая вещь сама по
себе, а вовсе не отдельное эмпирическое «я». Но в то же время
каждый человек, вернее разум каждого человека, является
носителем такого «Я». Каждый человек уже обладает
трансцендентальной свободой. Здесь не место говорить о тех
гносеологических проблемах, которые вытекают из такого понимания
субъекта. Однако отнюдь не случайно, что именно классическое
понимание субъекта становится одним из основных объектов
критики в современной философии.
Коген изменяет Кантову трактовку вещи самой по себе. Она
выступает у него не как данность, а как бесконечная задача. Такая
модификация кантовской системы была обусловлена в конечном
счете гносеологической проблематикой, необходимостью учета
того, что научное знание в своем развитии претерпевает
неизбежные модификации. Кант рассматривает «чистое естествознание»
как законченную систему, а Коген - как открытую и
развивающуюся.
Но изменение трактовки вещи самой по себе касается и
трансцендентального субъекта как вещи самой по себе. То, что для
Канта было от Бога дано каждому отдельному человеческому
разуму, у Когена рассматривается как нечто отнюдь не данное,
а только заданное, как цель и необходимая, но бесконечная
задача развития индивида. А такая постановка вопроса уже влияет
и на трактовку иудаизма. Здесь две линии размышлений Когена
находят точку соприкосновения.
Итак, Коген трансформирует классическое понятие
трансцендентального субъекта. Это понятие было амбивалентным.
59
С одной стороны, оно не обозначало эмпирическое «я»
конкретного познающего субъекта. Но в то же время эмпирическое «я»
подразумевалось как «носитель» трансцендентального «Я».
Однако в концеции Когена уже не остается никакой
амбивалентности в отношениях трансцендентального «Я» с эмпирическим
субъектом, потому что он делает совершенно ясным их
принципиальное различие.
В то же время надо отметить, что модификация Когеном
классической концепции трансцендентального субъекта
мотивировалась также его неприятием того направления, которое приобрело
развитие немецкого идеализма после Канта. Немецкая
философия после Канта была одержима стремлением «снять»,
преодолеть в мысли противоположность «Я» и Бога. Для этого надо было
приписать «Я» способность наделять свои идеи самостоятельным
существованием. Такая задача решалась с помощью особого
диалектического метода, позволявшего «Я» из самого себя
порождать свою противоположность - внешний предмет. Гегель
решительно уподобил трансцендентальное «Я» - Богу. Это было
достигнуто благодаря отбрасыванию вещи самой по себе и
принятию диалектического метода, который позволял «преодолеть»
противоположность бытия и ничто. Особая прелесть и соблазн
подобной интеллектуальной конструкции состояли в том, что
отдельный эмпирический субъект, например философ,
овладевший стилем диалектического рассуждения, вполне мог
осознавать себя манифестацией этого богоподобного «Я».
Для Когена неприемлема гегелевская система, фактически
снимающая различие между Богом и трансцендентальным
субъектом. В собственной философской системе Коген тщательно
исключает возможность обожествления познающего субъекта.
Он восстанавливает вещь саму по себе как необходимую
гарантию от представления, будто познающий субъект всемогущ,
и придает свое толкование диалектике.
Трансформация понятия трансцендентального субъекта
сопровождается в текстах Когена критикой психологизма и
натурализма. Такая критика составляет постоянный аккомпанемент
рассуждений Когена, будь то в теоретической философии, этике
или философии религии. Главный изъян психологизма и
натурализма видится ему в представлении, будто субъект - это
данность, законченность, завершенность.
Оказывается, что и Кант не был свободен от ошибки
подобного рода. В самом деле, для него трансцендентальный субъект
60
в обоих своих обличьях - и как носитель априорных форм
созерцания и трансцендентальных категориальных схем, и как
носитель нравственного закона - есть готовое, безусловно
предшествующее деятельности познания и самоопределению воли,
начало. А если трансцендентальный субъект уже дан и определен,
то вполне правомерно задаться вопросом о том, каким образом
он дан и где существует. Ответ на подобный вопрос неизбежно
будет один: в разуме отдельно существующего эмпирического
индивида. Такой ответ всегда оставляет открытой возможность того,
что трансцендентальные структуры будут подменены
психологическими структурами и особенностями субъекта - что для Когена
недопустимо, поскольку ведет к субъективизму и релятивизму1.
Критикуя психологизм и натурализм, Коген также подверг критике и попытки
«сведения» психики к состояниям организма. Он критиковал так называемую
«психофизику» своего времени, т. е. исследования Фехнера, Вебера и др.
стремившихся к точным количественным эмпирическим исследованиям
соотношения физического (силы раздражения) и психического (интенсивности ощущения)
(Cohen Н., 1883. S. 106-111).
Психофизика, разъясняет Коген, ставит перед собой конкретную научную
задачу; однако не эта задача составляет главный интерес психофизики. На самом
деле речь идет о психофизической проблеме, т. е. о соотношении души и тела.
А Коген видит тут методологическую и концептуальную путаницу. Он
показывает, что и «раздражение», и «ощущение», сила которого измеряется с помощью
силы раздражения, представляют собой не естественные данности, а
теоретические конструкции. Психофизики просто рассматривают ощущения и раздражения
как реальности. Но реальность, не устает подчеркивать Коген, это категория
мышления. Реальность не дана нам в ощущении и наблюдении. Она конслруирует-
ся благодаря организации чувственных данных с помощью категорий мышления.
Поэтому материальная реальность есть продукт работы мышления.
Анализируемые в опытах психофизиков ощущения и раздражения являются элементами
объективной реальности. Это означает, что как первые, так и вторые
конструируются на основании единства сознания. Причем конструируются именно как
элементы объективной материальной реальности. Дело в исходной методологии,
а вовсе не в том, что якобы «на самом деле», «объективно» существует только
материальная субстанция.
С позиции когеновского трансцендентализма «элиминативный
материализм», как сейчас принято благозвучно обозначать подобную позицию, выглядел
бы как крайне наивная и ограниченная точка зрения, потому что сама материя,
к которой пытаются свести сознание, является конструкцией
трансцендентального субъекта. Натурализм, пытающийся избавиться от всех проблем, которые
ставит сознание, с помощью такого рода редукции, некритически отождествляет
принятое в науке определенного периода представление о физиологии нервной
деятельности с реальностью самой по себе. Об этом и говорит Коген. Он
разъясняет, что, когда основоположения и категории мышления направляются на само
психическое, то оно тем самым уже уподобляется материальному, потому что
предмет познания не есть готовая природная данность, но конструируется
методом его рассмотрения.
61
В своем анализе субъективности Коген решительно устраняет
все, что могло бы так или иначе способствовать истолкованию
трансцендентального «Я» и его «аппарата» (трансцендентальный
синтез апперцепции, категориальные схемы, продуктивный
синтез воображения) как «способностей души» отдельного
индивида. Этой цели служит не только его критика психологизма, но
и противопоставление метафизического и трансцендентального
подходов (Cohen H., 1918. S. 742).
Если для метафизического подхода априорные
основоположения и структуры познающего субъекта выступают как способности
души, то для трансцендентального подхода они выступают как
познавательные функции, или категориальные структуры,
присущие науке. Метафизический подход подталкивает к исследованию
«структуры духа», будь она психологической или метафизической.
Не таков, по убеждению Когена, метод трансцендентальной, или
критической философии. Последняя не признает никаких
данностей, не зависящих от метода исследования. И даже само
познающее сознание перестает быть такой данностью. На что же в таком
случае может опереться критическая философия? Определяя ее
метод, Коген пишет, что «критика предполагает факт науки, она
связана с ее действительностью, исходит из этой предпосылки...»
(Ibid. S. 738). «Не "элементы сознания" выступают для нас в
конечном счете как априорные, но фундамент познания и тем самым
научного сознания» (Ibid. S. 742).
Коген следует в этом линии, намеченной самим Кантом.
Недаром Кант исходил из факта существования наук,
формулируя свои трансцендентальные вопросы: Как возможна
математика? Как возможно чистое естествознание? Исходя из факта
существования определенных наук, содержащих синтетические
суждения априори, Кант дедуцирует условия возможности
познания и трансцендентальные структуры познающего субъекта.
Коген развивает кантовский подход, сознавая, что наука
исторична и что ее категориальные структуры развиваются. В таком
случае будут развиваться во времени и трансцендентальные
условия опыта, и основоположения чистого сознания. Они будут не
формами духа, а методами познания. Кто же будет их носителем?
Чем будет трансцендентальное «Я», если его структура - это не
формы духа, а методы познания? Оно будет совокупностью
методов познания, присущих науке определенного исторического
периода. Или, говоря другими словами, оно будет способом
объективации опыта и конструирования предмета познания,
62
свойственным данной науке. Эмпирический субъект
приобщается к подобному трансцендентальному «Я» в обучении и
воспитании, а не носит его в себе как способность своей души или форму
своего духа. В «Кантовской теории опыта» (Cohen H., 1918) Коген
прямо и буквально отождествляет единство самосознания
с трансцендентальным синтезом апперцепции, а этот
последний - с категориальным синтезом, т. е. с объективацией опыта
и конституированием предмета познания (Ibid. S. 398-410). При
этом реальность оказывается коррелятом единства
самосознания. Таким образом, реальность - не независимая от познания
данность, но результат категориального синтеза, т. е.
методологическая конструкция науки, находящейся на определенном этапе
своего развития. А трансцендентальное «Я» - это
методологические основоположения науки. Науки же бывают разными, и их
основоположения формируются исторически. Поэтому, если мы
зададимся вопросом, кто является носителем
трансцендентального «Я», то быстро поймем, что это, во всяком случае, не
индивидуальное сознание, а существующая в истории человеческая
общность. Для Когена это человечество. Единство человечества
выступает для него важнейшей предпосылкой как познания, так
и морали (см. подробнее: Kluback W, 1987; Рота А., 1997).
В своей этике Коген продолжает борьбу с психологизмом.
Главная вина психологизма и натурализма в этике видится ему
в том, что они трактуют моральный субъект как естественную
данность. Коген же показывает, что моральный субъект только
возникает в акте задания закона самому себе. Лишь так, свободно
приняв для самого себя закон, человек становится моральной
личностью.
Коген отмечает, что понятию самосознания зачастую дается
непосредственное истолкование, не учитывающее результатов
критической философии (Cohen H., 1921. Kap. 1, 7. См. также:
Рота А. 1997). Понятие сознания интерпретируют в этих случаях
как другое слово для обозначения отдельной личности, точнее, ее
самопонимания. В рамках же критической философии оно имеет
совсем другое значение. Коген еще и еще раз разъясняет, что «Я»,
способное свободно задать себе закон, ни в коем случае не
является данностью. Понимание морального индивида как
данности - это ошибка, аналогичная той, которую допускает
догматическая философия в сфере познания, или метафизика, которая
рассматривает трансцендентальное «Я» как способность души
или форму духа.
63
По глубокому убеждению Когена, подобной ошибки в сфере
этики не избежал даже Кант, который рассматривал разумного
морального субъекта как вещь саму по себе, т. е. как нечто не
зависящее ни от познания, ни от истории.
Но если моральный субъект не является ни природной
данностью, ни данностью самосознания, то на чем вообще может
основываться философское рассуждение о нем? На какое основание
может опереться этика? В случае этики, как и в случае проблем
познания и познающего субъекта, Коген отталкивается от
культурно-исторического факта: наличия закона и права в
человеческом обществе. Таким образом, и в сфере этического он исходит из
факта - факта существования права и науки о нем, подобно тому
как в сфере логики он и Кант исходили из факта существования
математики и точного математизированного знания о природе.
В самом деле, этический субъект всегда понимается как
обладающий единством, самосознанием, ответственностью. Но
именно этими определениями необходимым образом
характеризуется субъект закона и права - на них основываются понятия
ответственности и вменяемости.
Это не значит, конечно, что любой реальный индивид
в настоящем и прошлом обладает этими качествами. Моральный
индивид не присутствует как данность в каждом эмпирическом
человеке, а формируется в ходе долгой истории человечества.
Этот процесс предполагает наличие права и государства. «В самом
деле, в праве человек фигурирует не как физиологический
организм, врастающий всеми своими тканями в природу и
определяемый в своих проявлениях ее воздействиями, он не есть также
психологический субъект, движимый аффектами и эмоциями
или же в сфере социально-экономической руководящийся
своими интересами. Как юридическое лицо он есть лишь субъект прав
и обязанностей, и в своих деяниях он определяется положениями
обязательными - нормами или законами» (Рубинштейн С.Л.,
1994. С. 247-248). В то же время и этическое имеет форму общих
и обязательных положений, подобно законам права и законам
науки. Это показывает, что «в понятии юридического лица и
правового деяния» юридическая наука дает «наиболее точную,
объективно содержательную формулировку той проблемы,
которую для этики представляет человек в его нравственных
поступках» (Там же. С. 247). Тем самым показывается, что этический
субъект есть конструкция, возникшая и развивающаяся
в истории человечества и во взаимодействии субъекта с другими
64
людьми, с сообществом. Одновременно преодолевается
противопоставление морального и легального, мотива и поступка, столь
характерное для этики Канта.
По утверждению М. Цанка, Коген осуществляет подлинную
«деконструкцию метафизического понятия субъекта» (Zank M.,
2000. P. 256), лишив его статуса субстанции. Еще в своей работе
по логике научного познания Коген переосмысливает понятие
субстанции, ставя на ее место понятия функции и отношения.
В своей этике, развивая тот же метод, он «вместо идеи «Я» (self)
как субстанции вводит «Я» этики как находящееся в корреляции
с другими, как «данное в опыте» правовых отношений» (Ibid.
Р. 134).
Коген изменяет кантовскую трактовку моральной автономии
в самом существенном пункте. Если для Канта она состояла
втом, что этический субъект должен почерпнуть свой закон
исключительно в собственном разуме, а не в каком бы то ни было
внешнем источнике, то для Когена, не признающего, что в
разуме субъекта в готовом виде уже дан моральный закон, автономия
нравственной личности означает, что она сама задает себе закон,
а не то, что она задает себе свой собственный закон.
«Нравственное законодательство не есть продукт или проявление "самости"
(das Selbst); оно впервые определяет содержание этого
последнего. Они тождественны. Этическое содержание закона - оно
и есть этическое содержание субъекта; им и в нем субъект (Selbst)
определяется и конституируется» (Рубинштейн С.Л. С. 249).
Коген считает большой методологической ошибкой
представление, будто бы автономия моральной личности означает
происхождение нравственного закона из самого «Я», будь то из разума
или из нравственного чувства. Ни разум, ни нравственное
чувство, постоянно подчеркивает он, не являются от века данной
«способностью души» или «формой духа». Автономия этики
означает, что субъект на определенной стадии морального
развития признает необходимость следования закону и сам делает себя
ответственным за это. В данном и только в данном смысле
индивид сам задает себе закон. В этом смысле этика должна быть
автономной. Без такой автономии она невозможна. В указанном
смысле этика должна быть автономна даже по отношению
к религии. Но это вовсе не значит, объясняет Коген, что
автономный моральный субъект не может заимствовать содержание
нравственного закона из авторитетных для него источников,
например из Откровения.
65
Далее, Коген решительно отменяет Кантово понимание роли
мотива и действия в этике. Для Канта, как известно, решающим
в определении характера действия был мотив. Нравственным
могло считаться только действие, совершенное исключительно из
уважения к моральному закону, любая другая цель только
«портила» нравственный статус действия. Точно такое же действие, но
совершенное из других побуждений - например, из боязни
нарушить законы государства, из желания лучше выглядеть в глазах
окружающих, да даже из жалости и сострадания к конкретному
ближнему, - будет уже не моральным, а всего лишь легальным,
т. е. не будет иметь статуса этического действия. Такой акцент на
мотиве и недооценка реального действия вытекали из того, каким
образом Кант определяет автономию этики и автономию
моральной личности. Изменяя эти кантовские понятия, Коген изменяет
и оценку деяния. Для него закон и деяние концептуально
связаны, и одно не может определяться в отрыве от другого. Не имеет
смысла рассматривать этический субъект с его мотивацией
в отрыве от деяния, «...этический субъект не есть данность,
наличная до своих этических деяний, и, значит, в этических
деяниях он не просто проявляется и манифестируется <...>. Он в них
возникает и порождается. Лишь в этических деяниях этический
субъект определяется и тем самым осуществляется»
(Рубинштейн С.Л., 1994. С. 250), причем каждое деяние есть начало,
сызнова определяющее и осуществляющее этический субъект.
С идеей конструкции в философии Когена всякий раз
связанна идея бесконечной задачи, стоящей перед человечеством.
Подобно тому как вещь сама по себе, в его интерпретации,
перестала быть тем, что изначально аффицирует нашу чувственность,
и превратилась в цель и задачу бесконечного процесса
человеческого познания, так и этический субъект перестал быть
изначальной данностью, присутствующей в разуме как таковом, и
превратился в бесконечную задачу, стоящую перед человечеством: достичь
этого состояния этического субъекта.
Изменение кантовской концепции этического субъекта как
вещи самой по себе, осуществляемое Когеном, создает также
концептуальное пространство для появления другого человека как
другого, наряду со мной, этического субъекта. В самом деле,
этическое деяние предполагает того, на кого оно направлено. Это, по
мнению Когена, должен быть другой человек как другой
этический субъект. В данном суждении Коген, конечно, отчасти
старомоден: он не рассматривает возможности того, что этическое дей-
66
ствие будет направлено на животное или на окружающую среду.
Однако то, что он, в силу естественной исторической
ограниченности своей позиции, не сказал, не отменяет важности того, что
он сказал.
Правильный метод в философии (который Коген в разные
периоды называл трансцендентальным, критическим или
«методом чистоты») требует преодоления всяких якобы независимых
от познающего субъекта данностей вроде объекта или предмета.
Но не только. Метод чистоты требует, чтобы и такие понятия, как
«субъект», «личность», «сознание», «самосознание», не брались
как готовые, не зависящие от метода рассмотрения данности. Эти
понятия рассматриваются Когеном как продукты исторического
развития мысли. Однако и то, что ими обозначается, тоже
является продуктом исторического развития человечества. Что же
касается автономной нравственной личности в полном смысле
слова, то она представляет собой нравственный идеал, а не
реальность и потому является целью исторического развития
человечества.
Чтобы говорить о результате или цели исторического
развития, надо допустить, что человечество едино и что едина
траектория его развития. Единство человечества - это важнейшая
предпосылка не только философской системы Когена вообще, но
и осуществляемой им трансформации понятия
трансцендентального субъекта.
В системе Когена на место трансцендентального «Я» встает
человечество. Тем самым трансцендентальное «Я» становится
исторически развивающимся. В принципе тут открывается целое
новое измерение для рассмотрения исторических или цивилиза-
ционных типов субъекта. Но Коген постулирует в духе
классического гуманизма и рационализма единство человечества и
единую линию его развития, определяющуюся «бесконечной
задачей». Коген декларирует двуединую познавательную и
этическую задачу, которая стоит перед человечеством. Это задача
достижения Идеала познавательного и этического, т. е.
постижение вещи самой по себе в познавательном плане и достижение
свободы как умопостигаемого принципа в плане этическом, -
свободы как следования добровольно и сознательно принятому
закону. В обоих аспектах вещь сама по себе выступает как цель
и принципиально недостижимый идеал. Почему идеал
принципиально недостижим? Да именно потому, что он является
идеалом. Потому, что сущее и должное принципиально различаются.
67
Потому что, как прекрасно понимает Коген, люди всегда
останутся людьми, т. е. существами греховными и заблуждающимися.
Недостижимость вещи самой по себе остается в системе
Когена гносеологическим коррелятом этих человеческих черт,
а также гарантией того, что трансцендентальное «Я» никогда не
будет обожествлено, как это произошло в гегелевской системе.
Трансцендентальное «Я» у Когена, как и в предшествующей
философской традиции, играет роль посредника между
человеком и Богом. Но в его системе, в отличие от некоторых
обсуждавшихся выше вариантов, посредник не может занять место Бога,
а человек не может отождествить себя с человечеством. Первое
невозможно, как уже говорилось, в силу принципиального
отличия диалектики Когена от гегелевской.
Что касается соотношения отдельного человека и
человечества в системе Когена, то тут есть моменты, требующие
дальнейшего анализа. Коген решительно выступает против понятия
«абсолютного индивида». В то же время в его этике, как и у
Канта, «я» человека выступает как абстрактный представитель
человечества. «Этика, - говорит Коген, - может познать и признать
человека лишь как человечество. <...> Я человека становится
в ней Я человечества» (Cohen H., 1929. S. 15), а «абстракция
человечества реализуется в истории в государстве» (Там же).
Получается, что для этики все «я» одинаковы.
Но Коген чувствует недостаточность этой схемы. Она
нуждается в развитии и дополнении. Концептуальное пространство для
такого развития Коген находит в своей философии религии. Это
выводит его за пределы кантовской этики и кантовской системы,
состоящей из трех «критик». Таким образом, уже в его этике
и логике начинают закладываться основы философии диалога.
Дальнейшее и существенное развитие она получает, однако,
только в когеновской философии религии.
ГЛАВА 3. РЕЛИГИОЗНАЯ ФИЛОСОФИЯ Г. КОГЕНА:
ИУДАИЗМ КАК ЭТИЧЕСКИЙ МОНОТЕИЗМ
В предыдущей главе мы пытались показать, как Герман Коген,
развивая основные понятия кантовской системы, фактически
перестраивает их. Изменение трактовки вещи самой по себе,
а затем гносеологического и этического субъекта как вещи самой
по себе (существенно, что это один и тот же субъект, перед
которым стоит двоякая, но в конечном счете единая задача)
постепенно открывало пространство для описания человеческого Dasein
в терминах, достаточно далеких от кантовских и в то же время
имеющих острое экзистенциальное звучание. Здесь, с одной
стороны, открываются перспективы новой онтологии человеческого
существования. А с другой стороны, Коген закладывает основы
для философского оправдания иудаизма как религии разума.
Таким образом, в истории мысли сплетались в один узел
проблемы, связанные с фундаментальными онтологическими
предпосылками западноевропейской философии Нового времени,
и проблемы, связанные с попытками защитить и оправдать
иудаизм перед лицом этой философии. Если гносеологический
субъект, как его конструировала нововременная европейская
философия от Декарта до Канта, делал невозможным существование
рядом с ним другого субъекта (как носителя иной религии,
культуры или науки), то реально этот Другой в лице иудаизма и
еврейской философии рядом с новоевропейским субъектом
существовал. Фигуры Мендельсона или Когена знаменуют этапы некоего
реально происходившего в немецкой философской мысли
диалога между Тождественным и Иным.
В таком диалоге с Кантом Коген выстраивает свою
религиозную философию, опираясь на идеи Канта, чтобы доказать, что
иудаизм все-таки является религией разума.
Религия разума - понятие из словаря Просвещения,
представляющееся в наши дни устаревшим. Волнует ли сейчас кого-либо
проблема того, является ли выбранная им религия религией разу-
69
ма?! Тем более чужие попытки доказать, что чья-то чужая религия
является религией разума. Скорее, наоборот: от самого термина
веет чем-то сухим, рассудочным и совсем нерелигиозным. Где тут
трепет, тайна, мистика?! Нет, на современный вкус религия
разума - вещь слишком сухая и скучная. Занятие разве что для
педантичного немецкого профессора XIX века.
Осознавая, сколь несовременна в наши дни забота о религии
разума, мы все же попросим читателя не спешить с выводами
и вдуматься в смысл стоящей перед Когеном проблемы. Она на
самом деле как нельзя более актуальна для современной культуры.
Религия разума - это религия, имеющая оправдание в разуме,
исходя из его принципов. Но разве религия нуждается в таком
оправдании?! Сейчас, в отличие от эпохи Просвещения,
распространяется мнение, что, скорее, разум должен искать оправдания
и обоснования в религии, тогда как религия оправдывается
ссылками на собственные авторитет и догматику. Она, таким образом,
сама себя обосновывает и не нуждается во внешнем
обосновании, каковым по отношению к ней будет оправдание разумом.
Подумаем, однако, о тех следствиях, которые вытекают из
подобной установки. Ведь мы живем в многоконфессиональном
мире. Жизнь среди людей и культуры другой конфессии
составляла одну из основополагающих черт экзистенциального опыта
Германа Когена, повлиявшую на его философствование,
и особенно на его философию религии. Если каждая религия
является сама себе обоснованием, то как они могут встретиться
в едином пространстве культуры? А без такой встречи - как их
приверженцы могут стать членами единого гражданского
общества и гражданами одного государства? Как возможно тогда
«мирное сосуществование» конфессий?
Ко ген понимал, что возможность для иудаизма сохраниться
в поле европейской культуры и истории требует встречи их в
универсальном надконфессиональном пространстве. Таковым для него
явилось пространство разума. Поэтому ему было так важно
доказать, что иудаизм действительно является религией разума. Разум -
это то пространство универсальных общечеловеческих законов
и ценностей, где только и возможна встреча, диалог и взаимное
признание конфессий и культур. Представляется, что такой подход
не утратил свою актуальность в наши дни, отмеченные
драматическим столкновением христианской и исламской культур.
Но вернемся к размышлениям Когена. Он был не просто
глубоким знатоком философии Канта. Чувствуется, что он очень
70
привязан к ней, потому что нашел в ней нечто принципиально
важное для себя не только как профессионального философа, но
и как человека. Насколько же парадоксальна эта ситуация, если
учесть все то, о чем говорилось в первой главе!
Есть целый ряд аспектов, в которых кантовское мышление
было близко Когену. Представляется, что одним из таким
моментов была кантовская идея о том, что религия нуждается
в обосновании и что такое обоснование может дать только разум
с содержащимися в нем этическими законами. Поскольку разум
и этика могут дать обоснование религии, это свидетельствует
о том, что автономия разума вполне совместима с религией -
если это религия разума. Далее, для Когена Кант был истинным
учителем идеализма - как человек, показавший необоримую
силу идеала как морального закона, человек, утверждавший силу
идеала и идеального мира. Развивая эти идеи Канта, Коген
и строит свою религиозную философию. В ней он защищает
иудаизм как этический монотеизм. Именно такой, и только
такой, должна, по его мнению, быть религия разума. Любая
религия, которая может доказать, что она является этическим
монотеизмом, является, с его точки зрения, религией разума.
Человеческая история породила разные формы религии разума. Однако
праформой их всех является, как он подчеркивает, ветхозаветная
религия, иудаизм.
С.Л. Штейнхейм об антагонистическом отношении веры и разума
Особенностью подхода Когена к обоснованию иудаизма
является, таким образом, крайний интеллектуализм. Коген, как мы
видим, убежден в гармонии веры и разума до такой степени, что
истинная религия, с его точки зрения, не может не быть
религией разума. В результате иудаизм выступает у него буквально как
философская система. В этом отношении (как и во многих
других) Коген оказывается последователем великого еврейского
философа Моисея Маймонида, который также был
рационалистом и не видел грани между религией и философией.
Таким образом, Коген следует давней и авторитетной
традиции иудаизма. В то же время такая традиция не является в
иудаизме единственной. Достаточно вспомнить о каббалистике.
Интересно, что даже в среде немецко-еврейских интеллектуалов
стремление к тому, чтобы уподобить иудаизм рациональной
философской системе, отнюдь не было всеобщим. Чтобы
подтвердить это, мы уделим некоторое время такому мыслителю, как
71
Соломон Людвиг Штейнхейм (1789-1866), автору
четырехтомного сочинения, ставшего трудом всей его жизни, «Откровение
согласно учению синагоги» (Die Offenbarung nach dem Lehrbegrifle
der Synagoge) (1835-1865). Эта работа в свое время сделала его
достаточно известным в среде философски образованной
еврейской интеллигенции. О Штейнхейме говорят как о еврейском
философе и теологе, однако по образованию и профессии он был
врачом. Он был также известен как сторонник либеральной
реформы в иудаизме и активный борец за эмансипацию и права
евреев.
Названное сочинение было весьма критическим и
полемическим по духу. Штейнхейм полемизировал на его страницах
и с Кантом, и с Гегелем, и с Фихте, и с Шеллингом, как и с
современной ему протестантской теологией. Однако первым
и главным объектом его полемики остается идеология
Просвещения, с присущим ей требованием, чтобы религия
оправдалась перед судом разума. Именно от этого он собирается
защищать иудейскую религию Откровения.
Штейнхейм убежден, что Откровение говорит о вещах,
лежащих за пределами возможностей человеческого рассудка. Оно
сообщает истины, до которых интеллект не может дойти сам,
опираясь на собственные принципы и категории. Иначе в самом
деле Откровение было бы не нужно. Как мы видим, Штейнхейм
отрицает ту самую посылку, которая лежала в основании
философской парадигмы Нового времени: что в самом разуме уже
заложено полное и истинное Откровение. В главе 1 мы
показывали присутствие такой предпосылки в учениях Спинозы и Канта.
Мы видели также, что изданной посылки вполне
последовательно и логично вытекает отрицание необходимости религии как
института, да и самой религии Откровения. Поэтому выбор
объекта для критики у Штейнхейма вполне понятен.
Интересно, что при этом Штейнхейм для своей цели создает
определенное теологическое учение, опирающееся на
философскую, прежде всего немецкую, традицию, т. е. пытается строить
систему спекулятивной теологии, хотя, как отмечают многие
исследователи, невозможно говорить об иудейской теологии
в строгом смысле слова, подобной систематизированной
христианской теологии.
Развиваемая им теология основывается на гносеологических
соображениях. Это тоже, конечно, не случайно. В самом деле,
названная выше основополагающая посылка философии Нового
72
времени была только моментом - или, быть может, логическим
следствием - допущения, что в человеческом разуме заложены
основные принципы построения науки. Поэтому не случайно,
что вопрос о соотношении субъекта и религии был связан
с обсуждением методов человеческого познания и его границ.
Будучи врачом, Штейнхейм неплохо разбирался в естественных
науках. При этом он был убежден, что правильный метод таких
наук описан Фр. Бэконом, - это опыт и индукция. Данное
убеждение он направляет против философии и априорного познания.
Штейнхейм - ярый эмпирист и индуктивист. Он доказывает
тезис о принципиальной ограниченности априорного познания
и его неадекватности для постижения внешней по отношению
к мышлению и независимой от него реальности. Наше
мышление, говорит он, постоянно осуществляет гипостазирование.
Там, где наше мышление сталкивается с лакунами, с отсутствием
ожидаемого, оно конструирует особый фиктивный объект. Так,
например, в математике были сконструированы отрицательные
числа. Но в математике априорное конструирование допустимо,
а в познании действительности - нет.
Априорный разум хочет видеть только необходимые явления
и процессы. Но, по убеждению эмпирика Штейнхейма,
необходимыми являются лишь мыслительные конструкции, например
математические или логические выводы. А в действительности,
как показывает опыт, все случайно и непредсказуемо.
Штейнхейм приводит многочисленные примеры того, как
математические соображения заставляют ожидать одного, а опыт
демонстрирует другое, гораздо менее «гладкое» и более прихотливое течение
природных процессов.
Действительность, утверждает далее Штейнхейм.
непротиворечива. В ней, в отличие оттого, что постулирует немецкий
идеализм, нет никаких противоположностей. Гора, например, не есть
противоположность долины. Гора есть гора сама по себе, и
долина - долина сама по себе. То же относительно всего остального
в природе. Лишь наши категории и описания заставляют нас
видеть в природе антиномичные процессы, ибо наше мышление,
утверждает Штейнхейм, антиномично.
Он ссылается также на примеры многовековых неразрешимых
споров, вроде сформулированных Кантом антиномий чистого
разума: конечен мир или бесконечен, делима материя до
бесконечности или состоит из неделимых. Он добавляет сюда много
и других примеров неразрешимых научных споров. Мораль одна:
73
собственные априорные принципы разума недостаточны.
Познание должно опираться на внешний источник. А данные,
получаемые из этого источника, неизбежно оказываются для
разума неожиданными, непредсказуемыми, удивительными.
Причем реальность, как утверждает Штейнхейм, может быть
как материальной, так и ноуменальной. Однако человеческий
рассудок и его априорные принципы и категории неадекватны
и для первой, и для второй. Потому-то премудрый и всеблагой
Бог послал людям свое Откровение. Божественное Откровение,
по мнению Штейнхейма, - это определенный исторический
факт. Таким образом, и теология, опирающаяся на Откровение,
оказывается у него опытной, фактологической наукой, а вовсе не
развитием априорных принципов, заложенных в разуме. Тут мы
видим, как эмпиризм бэконианского толка становится
основанием для защиты авторитета Откровения от притязаний разума.
Конечно, штейнхеймовский эмпиризм весьма наивен.
Отождествление того, что дано нам в опыте, и самой реальности
не выдерживает критики, особенно в сопоставлении с
аргументацией Канта и неокантианства. Однако нам представляется
любопытной сама попытка защитить авторитет Откровения на основе
определенным образом истолкованной научной методологии!
Доказывая, что религия, данная в Откровении, не есть
человеческая конструкция, Штейнхейм приводит следующие аргументы.
Откровение случилось в определенное время в определенном
месте. В то же время оно сразу получило широкое
распространение. Религия Откровения пришла к людям целиком - в готовом,
завершенном виде. Она не нуждалась в дальнейшем развитии.
С продуктами человеческого разума дело обстоит обычно
по-другому. У них бывает длительный процесс вызревания, так что
невозможно точно сказать, в какой момент появилась данная идея;
область распространения первоначально бывает ограничена
определенным кругом лиц; затем идет длительный процесс
распространения и развития данной идеи или учения. Что касается религии
Откровения, то тут, по убеждению Штейнхейма, может быть
только процесс искажения или извращения, потому что ни в каком
«органическом историческом развитии» она уже не нуждается.
Выстроив такое противопоставление, Штейнхейм полагает
доказанной реальность факта божественного Откровения,
превосходящего человеческие возможности. Однако главным для
него является противопоставление содержания Откровения
философским учениям. Ведь философия принадлежит сфере
74
разума. Она является априорной наукой. Штейнхейм доказывает,
что на априорных принципах разума может вырасти только
язычество. Термин «язычество» он употребляет довольно свободно.
Иногда он подразумевает реальную греческую философию,
иногда - греческую и восточную мифологию, иногда - немецкий
идеализм, особенно гегельянство.
Соответственно, Штейнхейм выражает отрицательное
отношение к попыткам рационально оправдать иудаизм, представив
его содержание как эквивалентное идеалистической
философской системе типа учений Шеллинга или Гегеля. Штейнхейм
против отождествления иудаизма и философии духа (о попытках
такого рода см. подробнее: Rotenstreich N., 1968. Ch. 5).
Философская система, убежден Штейнхейм чужда религии иудаизма.
Гегелевский идеализм есть пантеизм.
Вообще, рассудок, пытаясь ответить на вопрос о
происхождении мира, запутывается в антиномиях. С одной стороны, для него
любая причина должна иметь, в свою очередь, свою причину, что
приводит к вопросу о первопричине всего; с другой - рассудок не
может отказаться от принципа, что из ничего не может ничего
произойти (см.: Steinheims Sal. Ludw., 1930).
А Откровение учит о том, что мир имеет Творца и что
сотворен он из ничего. Это знание, как утверждает Штейнхейм, не
может быть продуктом самого рассудка, потому что оно не
укладывается в его категории и не совместимо с его априорными
принципами. Штейнхейм убежден, что вера есть разновидность
знания. Но только это особое, нерационалистическое знание. Оно
передано человеку от внешнего источника для его наставления.
Это есть теория относительно Бога и его творения. Она
радикально отличается от всего, что разум мог бы продуцировать сам по
себе. Поэтому учение Откровения несовместимо с разумом
и конфликтует с ним.
То соображение, что содержание Откровения могло бы быть
продуктом человеческого творчества, продуктом не рассудка,
а, например, воображения и эмоций, Штейнхеймом не
обсуждается. Он выстраивает свою систему оппозиций между разумом
и верой, философией и религией Откровения.
Разум и философия, по его убеждению, учат об
онтологической близости Бога и мира. Они принимают либо вечность мира
и его имманентных законов, либо пантеизм, либо сводят Бога
к роли демиурга, который может всего лишь оформлять
независимо от него существующую материю. В любом случае мир
75
выступает как пронизанный собственной внутренней
необходимостью (каузальностью).
Штейнхейм твердо убежден в том, что конструкции разума
непременно детерминистичны. Применительно к пониманию
Бога это означает, что Бог философов не может обладать
свободой. Он целиком подчинен необходимости. Творение поэтому
мыслится только как эманация. В языческих философских
системах и мифах необходимость (будь то в лице причинных законов
или судьбы) правит всем: миром, человеком, Богом. А та новая,
неожиданная информация, которую предоставляет Откровение,
составляет принципиально иное учение. Происходит
размыкание рационалистической системы за счет внешнего элемента -
Откровения.
Философия, исходя из априорных принципов разума,
полагает Штейнхейм, неспособна трактовать единство Бога. Оно высту -
пает в философских системах либо как некая абстракция, либо
(в случае пантеизма) как совокупность элементов. Единое
выступает для разума только как порождающий элемент системы
и включено в систему. Разум способен признать только безличное,
абстрактное единство Бога. Получается «плохой монотеизм».
Откровение же учит о личном, конкретном и реальном
единстве. «Единое» веры отличается от единицы, за которой следуют
2, 3,4 и т. д. «Единое» веры отделено от всего остального,
обладает самосознанием, волей и созерцанием. Откровение, таким
образом, утверждает трансцендентность Бога; показывает, что
Творец наделен волей и свободой; что мир имеет Творца и
сотворен из ничего; поэтому он полностью зависит от своего Творца.
Откровение учит о том, что и человек обладает свободой. При
этом утверждении Штейнхейма мало смущает то обстоятельство,
что учение о свободе воли присутствует в Ветхом Завете в весьма
малой степени. Тут Штейнхейм следует сложившейся в иудаизме
традиции соответствующей интерпретации многих мест
Пятикнижия. Благодаря свободе оказывается возможной этика,
потому что без свободы, в мире природной необходимости или
судьбы, невозможна была бы свободная этическая деятельность
человека. Введение принципа свободы разбивает замкнутую
рационалистическую систему. Свобода, ответственность, грех,
этика, рассуждает Штейнхейм, возможны только в сфере
Откровения. А этика, повторяет он вслед за другими еврейскими
философами того времени, и есть центральное содержание
иудаизма. Интересно, что критика Штейнхеймом философских кон-
76
струкций в их отличии от Откровения почти совпадает с
критикой систем Гегеля и Шеллинга у Когена.
Наконец, Откровение учит о бессмертии души. А разве,
спросили бы мы, такой идеи нет в греческой мифологии или
философии?! Штейнхейм полагает, что это не то учение о бессмертии.
В греческой мифологии участь души после смерти так же
предопределена необходимостью и судьбой, как и жизненный путь.
Такую же оценку Штейнхейм дает и лютеранским
представлениям об аде, к которому некоторые люди предопределены
изначально. Для Штейнхейма бессмертие души неразрывно связано со
свободой воли. Поэтому, убежден он, разум сам по себе не может
постичь эту идею или «припомнить» ее на основании собственных
априорных категорий и принципов. Это учение дает только
Откровение, и для разума оно является полной неожиданностью.
Поэтому, считает Штейнхейм, сейчас настало время для того,
чтобы разум вышел из стадии юношеского бунта против
авторитета веры и традиции, достиг стадии зрелости и обрел
способность изучать религию, а не судить ее, подобно тому как
взрослый мужчина трезво изучает и ценит опыт и мудрость своего
отца, против которого он так бунтовал в молодости.
При всей наивности и натяжках, рассуждения Штейнхейма,
на наш взгляд, заслуживают внимания, потому что выпукло
показывают отличие принципов, характерных для философских
систем, и принципов религии. Утверждения Штейнхейма
понадобились нам как фон, на котором более явственно выступают
трудности, связанные с самой концепцией религии разума. Они
показывают, какие проблемы должны были бы встать перед
концепцией Когена.
Обратим внимание на то, что Коген и Штейнхейм
оказываются антиподами не только в подходе к вопросу о соотношении
веры и разума, но и в своих трактовках научного метода.
Штейнхейм - эмпирист и индуктивист, а Коген - защитник
априоризма и тезиса об определяющей роли математики в
научном познании. В каком-то смысле отличие между позициями
этих двух еврейских философов аналогично отличию между
учениями Аристотеля (которого Штейнхейм чтит и на которого
часто ссылается) и Платона (которого Коген чтит не меньше, чем
Канта)1.
В то же время надо помнить, что любая аналогия хромает. Так, в вопросе о
совпадении веры и разума Коген близок средневековым аристотелианцам, прежде
всего Маймониду.
77
Что объединяет конфессии?
Так называлось выступление Когена, которое состоялось
летом 1917 г. на заседании образовательной еврейской
организации (Freie Wissenschaftliche Vereinigung) (Cohen H., 1924 a).
Вопрос, вынесенный в заглавие доклада, совсем не случаен. Он
был очень важен для самоопределения немецких евреев,
сохранивших веру своих отцов, - а именно к ним и обращался Коген
в своей речи. В то же время данный вопрос затрагивает самый
нерв когеновской философии религии.
Речь в данном выступлении идет не о том, что могло бы
объединять разные религиозные общины или организации, и не
о том, что является общей платформой конфессий как
теологических учений, а о том, что объединяет людей, придерживающихся
разной веры, но являющихся гражданами одного и того же
государства. Для Когена очевидно, что такое объединяющее начало
должно быть. Очевидно для него также и то, что ответ будет
невозможно найти, если обсуждение будет вестись на языке
сакрального и сокровенного. Отсюда - кажущийся парадокс
когеновской философии религии. Он, глубоко верующий, как
показывает вся его жизнь, человек, говорит о религии
удивительно рассудочно: так же, как обсуждает проблемы современного
ему научного познания.
Это не случайно, потому что только в такой тональности
можно вести конструктивный диалог с людьми разных
конфессий и размышлять о достоинствах своей конфессии. А без
подобного диалога сохранение национально-религиозного
меньшинства в контексте универсалистской нововременной культуры
было невозможно.
Поразительно то, что подход и тон, нужный для таких
размышлений, Коген сумел найти в философии Канта. О чем это
говорит? Нетрудно догадаться, какой пасквиль на Канта
способны соорудить на основании того, что здесь только что было
сказано, наиболее ярые противники Канта как представителя
«проклятого протестантизма». Нам же хочется по поводу кантианства
Когена сказать следующее: интеллектуальная строгость не имеет
конфессиональных границ. Строгость в том числе и по
отношению к собственным эмоциям, доходящая до строгости по
отношению к собственным религиозным переживаниям.
Но вернемся к выступлению Когена. Для ответа на
поставленный в заглавии вопрос он находит перспективу, выходящую за
78
пределы отдельных конфессий, но жизненно затрагивающую
всех их последователей как отдельных лиц: граждан одного
государства, исповедующих разную религию, объединяет «единство
духовно-нравственной культуры» (Ibid. S. 66). Все верующие
в государстве образуют единое культурное сообщество
(Kulturgemeinschaft), без которого невозможно и единство государства,
его порядка и законов.
Далее, естественно, встает вопрос о том, что способствует
и что препятствует поддержанию такого единства. Идеальная
цель и предназначение государства - быть гарантом этого
единства. В данной связи Коген высказывает немало горьких слов по
поводу государственной политики, в силу которой крестившиеся
евреи находятся в лучшем положении, нежели те, кто сохраняет
верность религии своих отцов. Такая политика, подчеркивает он,
приводит к утрате искренности в делах веры и является
препятствием на пути к достижению единства в обществе.
Идею равенства и взаимного признания всех конфессий
Коген подкрепляет ссылкой на Талмуд. Иудейская религия,
говорит он, развилась до включения в свое учение положения, что
«Праведники народов мира имеют долю в вечной жизни» (Ibid.
S. 68). «Это положение возникает в Талмуде не случайно, но
имеет логическое развитие, вырастающее из понятия "сыновья
Ноя"» (Ibid. S. 68). Сыновья Ноя предшествовали сыновьям
Авраама, и если последние обязаны соблюдать Закон (имеются
в виду ритуальные предписания иудаизма) во всем объеме, то для
сынов Ноя обязательны лишь этические предписания. Поэтому
понятие «сыновья Ноя» естественным образом приводило
к понятию «праведники народов мира». Иудаизм, таким образом,
вовсе не утверждает, будто только следование ему обеспечивает
вечное блаженство. Более того, Коген напоминает о положении,
согласно которому должно осуществляться обращение в иудаизм.
Раввин, к которому обращается иноверец с подобной просьбой,
должен трижды указать ему, что для достижения вечного
блаженства это не обязательно. Должны быть также установлены
чистота намерений лица, желающего обратиться, и отсутствие
посторонних, например материальных, мотивов.
Коген резко противопоставляет иудаизму политику
католической церкви в этом вопросе и довольно осторожно, тщательно
подбирая выражения, - политику доминирующей
протестантской религии. Он говорит, например, о том, каким ему видится
идеальное состояние культурной зрелости евангелической церк-
79
ви; высказывает свои пожелания и претензии по поводу
общественного мнения и того, как оно выражается в печати. Коген
убежден в том, что общественное мнение должно следить за
соблюдением подлинной, а не только декларируемой свободы
совести. При этом тон должны были бы задавать университеты и
представители науки, а не бульварные газеты. В этом заинтересованы
как государство, так и все общество. Высказывая свои
пожелания, Коген ничуть не обольщается относительно реального
положения дел, которое, как нетрудно догадаться, было далеко от
описываемого им идеала.
На какие же течения и явления в сфере духовной культуры
Коген возлагает вину зато, что общественное мнение столь
далеко от осознания своей ответственности за защиту реальной
свободы совести? Прежде всего это «заигрывания с мистикой
и романтикой» (Ibid. S. 72), главными противниками «научной
философии». Еще одним ее противником, связанным, впрочем,
с мистико-романтическим умонастроением, является
философское превознесение силы, как якобы главной движущей силы
истории и общественной жизни. Коген решительно
высказывается также и против философии, которая предпочитает
интуицию научной логике и систематическому мышлению. Подобная
философия бросает вызов уже не только научной философии, но
и рационализму вообще. Такие суждения в устах неокантианца
Когена неудивительны. Мы могли бы счесть их проявлением его
личных вкусов. Однако мысль о последующем развитии духовной
ситуации в Германии, подготовившем почву для фашизма,
заставляет отнестись к этим суждениям Когена, высказанным
в 1917 г., серьезнее. Превознесение интуиции и силы
действительно слишком часто идут рука об руку. А рациональность,
логика, аргументы и обоснования оказываются абсолютно
ненужными, потому что сила отменяет необходимость
критически анализировать основания собственной позиции и
устанавливать диалог с другими позициями.
В то же время мы видим, что, будучи вполне верным себе
и своей родине - Германии, Коген обрушивается на
французскую философию в лице А. Бергсона, который действительно
противопоставлял интуицию интеллекту и доказывал, что
интеллект, господствующий в точном математизированном
естествознании, не в состоянии постичь истинную природу реальности,
которая может только переживаться в интуиции. Самое
уничижительное, что о нем может сказать Коген, это что у него нет сле-
80
дов не только понимания, но вообще знакомства с учением
великого немецкого философа Канта. Более того, Коген в своем
рассуждении противопоставляет французское и немецкое
Просвещение. Для него подлинным носителем принципа
веротерпимости в его положительном значении — как принципа равенства
людей всех убеждений и вероисповеданий и как требования
справедливости по отношению к любому человеку - является именно
немецкое Просвещение, а вовсе не французское. Ибо немецкое
Просвещение сохранило приверженность рационализму и
идеализму, тогда как французское отмечено скептицизмом,
сенсуализмом и материализмом. Идеи немецкого Просвещения
представляют для Когена непреходящую духовную ценность. Именно
в духовной культуре, по его убеждению, коренится истинная
мощь немецкого народа.
Воспевать высокую духовную мощь и этическое значение
идей немецкого идеализма Коген может без конца (но при этом
надо учесть, что он имеет в виду прежде всего философию Канта
и Лейбница, но отнюдь не Гегеля; последнюю, наряду с
системами Шеллинга и Фихте, он относит к «романтизму»). И в то же
время какой неподдельной тревогой веет от других его слов
и насколько он, к сожалению, оказался прозорлив, когда
заметил: «Абсолютную политику силы пусть испробывают другие
народы; но это очень опасный эксперимент - проверять, может
ли она осчастливить немецкий народ...» (Ibid. S. 73) Учтем, что
это сказано во время публичной лекции и в воюющем
государстве!
Основной принцип немецкого Просвещения, как его толкует
Коген, состоит в требовании, чтобы каждый человек
освободился от предрассудков. Каждый должен самостоятельно
пользоваться своим мышлением, волей и чувствами (Ibid. S. 73). Этому
лозунгу, как объясняет Коген, следовал Мендельсон, когда он
отклонил предъявленное ему требование креститься, чтобы
доказать, что он действительно - просвещенный мыслитель; отказ,
который «в те времена представлял известную опасность для
еврейской общины Берлина» (Ibid. S. 74). Именно этим своим
поступком, как убежден Коген, Мендельсон проявил себя
верным сыном немецкого Просвещения и носителем истинного
немецкого духа. Так характеризует Мендельсона Коген, обращая
тем самым против Канта его собственные слова о том, что девиз
Просвещения: «Имей мужество пользоваться собственным
разумом». В интерпретации Когена этот девиз естественным образом
81
дополняется принципом терпимости как принципом равенства
всех людей независимо от вероисповедания. Блестящим
образцом истинной терпимости он считает диалог Николая
Кузанского «О мире или согласии веры», в котором свободно
высказывают свои идеи и защищают свои конфессии грек,
итальянец, индиец, халдей, скиф, галл, перс, сириец, испанец,
турок, немец, татарин, армянин, чех, англичанин и иудей. Вся эта
публика в диалоге Кузанского высказывает свои мнения,
например, о Троице. «Этот платонистический диалог составляет
решающий шаг на пути Просвещения и терпимости, не в смысле
теологической полемики, а в смысле свободного
философствования. И то, что этот шаг сделал один из иерархов церкви,
составляет триумф этой религии» (Ibid. S. 75). В качестве другого, не
менее яркого, примера истинной терпимости Коген приводит
пример диалога французского теоретика государства и права
Жана Бодэна «Разговор семерых о возвышенных тайнах
сокровенных вещей». Боден, замечает Коген, хорошо знал, что такое
религиозная нетерпимость, ибо сам чуть не погиб во время
Варфоломеевской ночи. В его диалоге семь разных лиц,
представляющих разные вероисповедания, свободно и непредвзято
обсуждают любые вопросы христианской догматики, защищая
каждый свою конфессию. Иудаизм представлен в диалоге
фигурой мудреца Соломона. Причем воззрения и аргументация
иудаизма показываются этим христианским автором объективно
и научно, что, в частности, свидетельствует о глубокой
начитанности автора в еврейской религиозной философии и раввинисти-
ческой литературе.
Защищаемая Когеном интерпретация терпимости как
равенства сталкивается с проблемой истинности или ложности
религиозных убеждений. Не является ли очевидным, что хотя и
существуют различные вероисповедания, но истинным может быть
только одно из них? И следовательно, от всех прочих
человечество должно быть избавлено, как от предрассудков? Разве не
в этом, по его же собственным словам, состоит главная идея
Просвещения? Ответ Когена заставляет осознать, что в сфере
религиозных убеждений вообще нет речи о единственной истине
и о предрассудках. Основания для такой позиции можно понять,
если вспомнить Кантово доказательство невозможности
рационального философского учения о Боге. Ниже мы будем говорить
более подробно о том, как преломилось это учение Канта в
религиозной философии Когена. Единственная истина о Боге,
82
доступная людям, состоит в заповеди любви к ближнему (в
другом месте Коген дает более точный, по его мнению, перевод этой
заповеди: «Возлюби Другого, который на самом деле такой же,
как и Ты» (Cohen H., 1924 b. S. 292). То есть единственное
истинное знание о Боге - этическое. А этическое немыслимо без
принципа терпимости в его положительном значении! Последний
и есть истинно этический принцип.
Так Коген раскрывает перед нами глубокое духовное и
нравственное значение немецкого Просвещения. Очевидно, что
Коген чувствует себя связанным тысячами нитей с его наследием.
Он видит свой долг в том, чтобы хранить это наследие и передать
следующим поколениям во всей животворящей силе его идей.
В то же время Коген не может не видеть, что Просвещение,
провозгласившее лозунг терпимости, осталось в этом плане
достаточно ограниченным. Просвещение не поднималось до той
терпимости, образец которой дает названный выше диалог
Кузанского. Основная мысль этого диалога состоит в том, что
существует только одна религия, несмотря на разные ритуалы.
В диалоге Кузанского один из персонажей, немец,
высказывает возражение против тезиса об эквивалентности всех
вероисповеданий по отношению к истине: неужели это можно отнести
и к иудаизму, который обещает своим последователям не
небесное блаженство, а земное благоденствие? Размышляя над
диалогом Кузанца, Коген не упоминает, что такое же обвинение
выдвигал против иудаизма и Кант (см. гл. 1). Но навряд ли Коген
не помнил об этом, когда приводил цитату из диалога,
содержащую ответ другого персонажа - христианина, а не иудея! - на
подобный упрек: иудеи нередко жертвуют жизнью за свою веру.
Значит, «они ожидают вечного блаженства за свою веру, а это
предполагает Христа» (цит. по: Cohen H., 1924 a S. 76).
Комментируя данный пассаж, Коген показывает: этическое усилие,
связанное с тем, чтобы признать право другого на иные убеждения,
порождает ту «высокую энергию», которая выводит человека за
пределы религиозных догм к прозрению, что все религии пусть
по-разному, но пытаются высказать одно и то же. Более того, это,
по мнению Когена, может оказаться прозрением относительно
новых измерений и неведомых ранее глубин под привычными
формулировками затверженных догматов.
Просвещение, провозгласив принцип терпимости, само не
смогло подняться на высоту положительного смысла этого
принципа. Для него, в общем и целом, принцип терпимости означал
83
нечто отрицательное. Подразумевалось, что к иноверцам не
следует применять насилия. Но в то же время предполагалось, что
истина одна, а терпеть чужие предрассудки долго никто не
собирался1. Тогда как терпимость в положительном смысле - это
прежде всего запрет на ненависть к инакомыслящему. Или,
в более современных терминах, - это запрет на агрессию
независимо от того, проявляется ли она в форме грубого физического
насилия или интеллектуальной полемики. Но запрет на
агрессию, понимаемый как положительный, а не только как
негативный принцип, есть не что иное, как библейский принцип любви
к ближнему.
Тема любви к ближнему занимает существенное место в
религиозной философии Германа Когена. И она совсем не случайно
возникает при обсуждении того, что объединяет религии. «Лишь
тогда, когда устранена ненависть, может получить развитие
любовь к человеку. А без любви к человеку религиозное
Просвещение не имеет никакой ценности, а религиозная
терпимость - никакого смысла» (Ibid. S. 78).
Заповедь любви к ближнему действительно представляет
собой то, что объединяет иудаизм и христианство. И в то же
время она становится мощным источником взаимодействия
религий. В самом деле, вернемся к реплике из обсуждаемого
Когеном диалога Кузанского, что иудаизм, оказывается, на
собственный манер предполагает Христа. В этом пассаже Коген
увидел пример мысли, руководимой любовью к ближнему, т. е.
к другому. Эта любовь побуждает думать, что и другой, несмотря
ни на что, причастен к истине2. Пусть не так, как я, но причастен.
Тем самым любовь дает возможность для нового понимания не
Вспомним, например, о вызове, который был брошен Мендельсону: или
публично опровергнуть доводы в защиту христианства (чего, понятное дело,
Мендельсону никогда не позволила бы сделать цензура, и чего он в любом
случае не мог сделать, не навлекая больших неприятностей не только на себя и свою
семью, но и на всю еврейскую общину), или креститься.
Что могли означать для самого Когена слова о том, что иудаизм на свой манер
предполагает Христа? Разумеется, ничего подобного идее Троицы или боговопло-
щения. Для него, как и для Канта, основным содержанием религии является
этика. Этика же основывается на идее моральной автономии индивида, т. е. его
способности самому себе полагать закон. Христианство, как писал Коген еще
в молодости, своим учением о Христе и догматом воплощения предоставило
европейской культуре необходимый фундамент для этой идеи. Позднее он нашел,
что и иудаизм, в писаниях библейских пророков, на свой манер закладывает
фундамент для этой идеи, вводя представления об индивидуальном грехе и
индивидуальной ответственности, раскаянии и искуплении (см.: Zank M., 2000. P. 84-85).
84
только другой, но и своей собственной религии. Следовательно,
неагрессивная встреча конфессий оказывается плодотворной
и стимулирующей. На основании понимаемого таким образом
религиозного Просвещения «требуется терпимость по
отношению к иудаизму не как снисходительность к ошибочному
учению, но как признание положения, ценность которого для
развития религии неисчерпаема» (Ibid. S. 79).
Мы видим, таким образом, что в рассуждениях Когена уже
присутствует определенная концепция иудео-христианского
диалога. Более того, она получает глубокое философское
обоснование, которое в названном докладе, разумеется, не могло быть
изложено основательно и осталось только намеченным. Религии,
замечает Коген, подчиняются «общему культурному закону
развития» (Ibid. S. 79). Взгляд на это развитие с позиций этической
терпимости помогает избавиться от иллюзии, будто каждая
религия существует в изоляции от другой и сама по себе является
неким абсолютом. То же самое относится и к «абсолютному
монотеизму иудаизма» (Ibid. S. 79). «Еврейские философы всегда
учитывали то, что они должны стремиться к историческому
пониманию появления христианства и ислама. Они надеялись
достичь такого понимания посредством идеи, что обе эти более
поздние формы (Nachformen) монотеизма выполняют
историческую функцию распространения монотеизма. В то же время они
не мыслили такое распространение без углубления; ибо они жили
в арабском мире и создавали свою религиозную философию
в теснейшей связи с философией последователей Магомета. Они,
таким образом, развивали свой изначальный (ursprünglichen)
монотеизм рядом с исламским монотеизмом. И обратно:
христианские схоласты в своих теологических учениях не пренебрегали
обращением к философам - систематизаторам догматики
иудаизма; так, например, Кузанский многократно ссылался на
Маймонида. На фоне таких текстологических фактов пропадает
иллюзия абсолютности» (Ibid. S. 79). Историческое развитие
религий, таким образом, заставляет признать их взаимодействие,
как и взаимодействие связанных с ними духовно-нравственных
культур. «Представленные в своих институтах, религии кажутся
застывшими. И однако, они пребывают и дышат в постоянном
течении. В него их погружает то взаимодействие, которому они
подчиняются. Эта базисная сила (Grundkraft) взаимодействия
впервые придает развитию его собственное содержание. Только
благодаря признанию такого взаимодействия как исторической
85
связи религий Просвещение становится фундаментальным
историческим пониманием (geschichtlichen Grunderkenntnis), а его
продукт - терпимость - базисной этической силой» (Ibid. S. 80).
В качестве примера такого развития Коген упоминает обращение
протестантизма к иудейским пророкам. Сейчас, продолжает он,
изучение раввинистической литературы является необходимым
условием научной работы в области теологии.
В целом размышления Когена показывают нам обширные
пласты этического и духовного содержания, которые
действительно объединяют различные конфессии. Центральным среди
них оказывается этика, которая, по глубокому убеждению
Когена, должна развиваться далее в социальную этику, в
требования равенства и социальной справедливости. Этика, и прежде
всего вытекающие из заповеди любви к ближнему требования
справедливости и принцип терпимости, помогают осмыслить
факт реального взаимодействия религий в ходе исторического
развития, признать, что они оказывались друг для друга
стимулирующими партнерами в диалоге.
С этической проблематикой связана и такая забота - которую
Коген, по-видимому, считает общей для монотеистических
религий, - как защита истинного монотеизма от искажений, прежде
всего от пантеизма, постоянно возрождающегося в обличий
модных философских систем.
В то же время нам хочется обратить внимание на то, что
в основе этих рассуждений Когена лежит не только этическая
установка и обостренное чувство справедливости. В главе 2 мы
показали, как Коген изменяет понятие субъекта, ставя на место
кантовского трансцендентального субъекта - развивающееся
человечество. Единство трансцендентального субъекта
превращается у него в единство человечества. Но как совместить
это единство с фактом существования разнообразных
конфессий?
Анализируя кантовскую трактовку субъекта, мы увидели, что
такой субъект самодостаточен и внеисторичен.. В нем уже
присутствуют априорные принципы этики, религии разума, научного
познания. Такой субъект может быть нравственным и
религиозным даже в «абсолютной изолированности». Думается, что это
утверждение не противоречит тому вниманию, которое Кант
уделял воспитанию общительности. В концепцию Канта было бы
трудно включить допущение о том, что, встретившись с какими-
то чуждыми и непонятными религиозными представлениями,
86
субъект мог бы чему-то научиться, например углубить
собственное представление о религии разума.
А в трактовке Когена субъект не является завершенным
и самодостаточным. Это предполагает эволюцию априорных
принципов его науки и открывает возможность для развития
и обогащения его религиозных представлений. Таким образом,
Коген осуществляет глубинную трансформацию идеи субъекта,
присутствовавшей в классической философии. Благодаря этому
открывается концептуальное пространство для рассмотрения
развития как научного познания, так и религии, и даже для
признания взаимного влияния и плодотворного диалога конфессий.
В то же время, во всех своих рассуждениях Коген постоянно
возвращается к идеям Канта. Глубочайшее уважение к этому
мыслителю сквозит в каждой фразе Когена, и даже тогда, когда
он обращается к пассажам Канта, относящимся к иудаизму. Как
ему это удается? Посмотрим более обстоятельно на то, как Коген
оценивает отношение кантовской мысли к иудаизму.
Философия Канта и иудаизм
Перу Когена принадлежит специальная статья, посвященная
«внутренней связи кантовской философии и иудаизма» (Cohen,
1924 b). Речь идет, как объясняет Коген, о содержательных
параллелях между кантовской этикой и основополагающими идеями
иудаизма, независимо оттого, что сам Кант не подозревал о таких
связях.
Знакомство Канта с иудаизмом, подчеркивает Коген, было
самым поверхностным. Оно ограничивалось Ветхим Заветом
в переводе Лютера, «Богословско-политическим трактатом»
Спинозы и «Иерусалимом» Мендельсона. Еще одним
источником кантовских сведений и ассоциаций служили, по-видимому,
Послания апостола Павла. И это все.
Что касается Мендельсона, то его защиту иудаизма как
религии разума Кант, очевидно, воспринял как идеализацию в духе
времени и не очень-то ей поверил. Его собственные
высказывания в «Религии в пределах только разума» явно следуют Спинозе.
При этом, как отмечает Коген, Кант не был беспристрастен
в своих суждениях по данному вопросу: «Он хотел склонить
прусскую господствующую церковь и ее высшие инстанции к своей
философии религии. Для этого ему лучше подходила данная
Спинозой характеристика иудаизма, ибо она выгодно оттеняла
его идеализированный образ христианства» (Cohen H., 1924 b.
87
S. 285). Потому-то Кант и следовал в данном вопросе не
Мендельсону, а исключительно Спинозе, который вообще-то
был ему мало симпатичен (Ibid. S. 285). Хотя в то же время,
полагает Коген, печальную роль тут сыграла и вторая часть
«Иерусалима» Мендельсона, в которой последний разъяснял,
что, хотя иудаизм по содержанию не включает никаких догм,
кроме положений религии разума, но одновременно он является
ритуальным законом, обязательным только для евреев.
Основываясь на этих утверждениях Мендельсона, Кант со спокойной
душой обрисовал иудаизм в самых непривлекательных тонах как
чисто статутарную религию, чтобы церковные авторитеты
почувствовали, как вообще несимпатично быть статутарной религией.
Но, говорит Коген, оставим Кантово личное мнение об иудаизме,
поскольку оно не опиралось на серьезное изучение предмета,
и обратимся лучше к его философии.
Сопоставление учения Канта и иудаизма ограничено
исключительно кантовской этикой, потому что, как объясняет Коген,
иудаизм не создал своей логики или учения о научном познании.
Однако основной принцип кантовского учения закладывается
все-таки в его «Критике чистого разума». Это идея о том, что
основоположения науки содержатся в чистом разуме, а не в
чувственном восприятии либо опыте. Таким образом, Кант
утверждает автономию разума по отношению к чувственности. Именно
в этом лежит общий корень и кантовского учения о научном
познании, и кантовской этики.
На чувственном восприятии, убежден Коген, базируются
всевозможные фантазии вроде спиритуализма, вера в чудеса1 и суе-
Выступая против веры в чудеса, Коген следует рационалистическим
тенденциям, присутствующим (наряду с противоположными) в самом Талмуде. Когда
говорят о рационалистическом характере иудаизма, обычно приводят фрагмент из
Талмуда, в котором как раз утверждается, что чудеса не могут быть
доказательствами в религиозном споре: «Однажды возник большой спор между учеными по
закону о «чистом» и «нечистом». Рабби Элиэзер был одного мнения, прочие
ученые другого. Каких доказательств ни приводил р. Элиэзер, ученые оставались при
своем.
- Слушайте же! - воскликнул р. Элиэзер. - Если мнение мое верно, пусть вон
то рожковое дерево подтвердит мою правоту!
В ту же минуту невидимою силой вырвало с корнем дерево и отбросило его на
сто локтей.
Это, однако, не убедило его противников.
- Чудо с деревом не может служить доказательством, - заявили они.
- Если прав я, - сказал далее р. Элиезер, - пусть ручей подтвердит это!
При этих словах вода в ручье потекла обратно.
- И ручей ничего не доказывает, - настаивали на своем ученые.
88
верия. Из того же источника вырастает и поклонение букве
Священного Писания. Всему этому может противостоять только
разум, ставший критическим. Такой разум «призывает к ответу
даже Священное Писание, не больше не меньше; именно это
и делали наши благочестивые религиозные философы» (Ibid.
S. 288). Еще Саадия Гаон1 полагал, что основания знания и веры
коренятся именно в разуме. Именно к разуму апеллировал при
интерпретации Писания Маймонид. Саадия Гаон утверждал
также, что учение о нравственности содержится не только
в Писании, но и в разуме: надлежит, говорил он, прекратить
всякую дискуссию с человеком, который не соглашается, что
нравственность записана не только в Торе, но и в разуме (Ibid. S. 289).
А Бахия ибн Пакуда (XI в.) говорил о том, что недоверие к разуму
нашептывается злым духом. Таким образом, комментирует
Коген, разум становится для иудейских философов и теологов
контролирующей инстанцией даже по отношению к
Священному Писанию. Коген доказывает, что иудаизм считает разум неис-
- Если я прав, пусть стены этого здания свидетельствуют о моей правоте!
Накренились стены, угрожая обрушиться, но прикрикнул на них р. Иошуа:
«Там, где ученые спор ведут, не вам вмешиваться!» И стены, из уважения
к р. Иошуа, не обрушились, но, из уважения к р. Элиэзеру, и не выпрямились -
так навсегда и остались в наклонном положении.
- Пусть наконец само небо подтвердит мою правоту! - воскликнул
р. Элиэзер.
Раздался Голос с Небес.
- Зачем противитесь вы словам Элиэзера? «Закон всегда на его стороне»
Встал р. Иошуа и говорит:
- Не в небесах Тора. Мы и Голосу с Небес не подчинимся!
Встретился после этого р. Натан с Илией-пророком и спрашивает:
- Как отнеслись на небе к этому спору?
Отвечает Илия:
- Улыбкой озарились уста Всевышнего - и Господь говорил: «Победили
Меня сыны мои, победили Меня!» (Агада, 1993. С. 234). Может быть, этот
фрагмент Талмуда тоже дает пример разума, ставшего критическим и не признающего
никаких оснований и доводов, кроме обусловленных методами самого разума?
Отвергающего попытку подменять аргументацию авторитетом, вплоть до
авторитета «Голоса с Небес»? Последние слова Всевышнего и его довольную улыбку
можно было бы счесть свидетельством того, что в иудаизме присутствует тема
автономии разума, столь характерная для философии Канта и воплощающая
в себе основные интенции Просвещения. (Но не звучат ли в приведенном тексте
и нотки самоиронии?)
Саадия Гаон (882-942 гг.) (гаон - глава талмудической академии Суры) -
большой раввинистический авторитет, оказал существенное влияние на иудаизм. Его
главная работа, написанная по-арабски, «Книга верований и мнений», задала
характерное для средневековой еврейской философии направление на
рациональное доказательство истин веры.
89
порченным и неисчерпаемым источником нравственности -
и тем самым признает автономию разума.
Оценивая эти рассуждения Когена, мы позволим себе
некоторую долю скепсиса. Коген недаром выбирает для обоснования
своего тезиса средневековых еврейских философов,
находившихся под влиянием арабского рационализма и аристотелизма. Это
существенно облегчает его задачу: фактически отождествить
иудаизм и рационалистическую философию (что делал еще
Маймонид). Но как быть при этом с мистическими учениями
в иудаизме, которые восходят по крайней мере к первым векам
н. э. и достигают расцвета на юге Европы, в Испании и Провансе,
т. е. в зоне соприкосновения с христианской культурой.
Возможно, каббалистические учения XIII—XIV веков были
реакцией против рационалистической философии Маймонида
(см.: Idel M., 1988). А в Новое время каббалистические учения
были распространены среди евреев Восточной Европы, куда
еврейское Просвещение - Аскала, - начавшееся в Германии,
пришло гораздо позже. С этим течением мистицизма в
традиционном иудаизме соприкасался еще молодой М. Бубер. В нем
можно найти и пантеизм, и магию, и мистику - т. е. все то, что
так не любит Коген. Для Когена, как и для рационалистически
мыслящих ученых - деятелей движения Wissenschaft des
Judentums, бывших учителями и единомышленниками Когена, -
этого мира как бы не существует. С их точки зрения, все это было
проявлениями невежества и предрассудков1.
Образ иудаизма в религиозной философии Когена является,
скорее всего, односторонним. Коген пишет о том иудаизме,
в котором вырос он сам и который преподавали ему в
просвещенной либеральной семинарии. Но этот образ, разумеется,
коренится в самой традиции иудаизма. Для подтверждения этого
приведем один часто цитируемый фрагмент из талмудического
трактата Шаббот:
«Был такой случай:
Приходит некий иноверец к Шаммаю и говорит:
- Я приму вашу веру, если ты научишь меня всей Торе,
пока я в силах буду стоять на одной ноге.
Рассердился Шаммай и, замахнувшись бывшим у него
в руке локтемером, прогнал иноверца.
Вызов этим ученым бросал М. Бубер, собирая хасидские легенды и притчи.
См.: Бубер М., 1998.
90
Пошел тот к Гиллелю. И Гиллель обратил его, сказав:
- «Не делай ближнему того, чего себе не желаешь». В этом
заключается вся суть Торы. Все остальное есть толкование.
Иди и учись» (Агада, 1993. С. 208)'.
Таким образом, сам Талмуд здесь утверждает, что все
содержание иудаизма является этическим.
В то же время нам важно сейчас подчеркнуть, что обращение
к средневековой еврейской религиозной философии было для
Когена вполне закономерным. С этими текстами он
познакомился раньше, чем с философией Канта. Возможно, они повлияли на
его восприятие кантовской философии. Однако при всем их
рационализме, средневековые религиозные философы смотрели
на человека совсем по-другому, нежели Кант, мыслитель эпохи
Просвещения. Представляется, что такое понимание человека
оказало существенное влияние на философию Когена и в
известной мере обусловило ту трансформацию нововременного
понятия субъекта, которую он осуществил.
Но вернемся к теме параллелей между этической системой
Канта и философией иудаизма. Коген уточняет, что для
еврейских религиозных мыслителей речь шла не столько о
противопоставлении разума и чувств в познании, сколько о том, чтобы
провести различие между разумом и Откровением. Нетрудно понять,
каким образом одна проблема, в глазах Когена, связана с другой:
Откровение обычно трактуется как данность, подобно тому как
эмпиризм трактует чувственный опыт. Различение разума
и Откровения в философии иудаизма, оговаривает Коген, ни
в коем случае не доходит до противопоставления этих двух
источников религии. Разум понимается как источник нравственного
закона, Откровение - закона ритуального. Но оба эти вида
законов не противопоставлялись друг другу, как это произошло
позднее у Спинозы и Канта, а мыслились как «различение
чистого и прикладного учения о нравственности» (Ibid. S. 289).
Откровение включало оба вида учения. В то же время, как уже
говорилось выше, признавалась и самостоятельность
содержащего нравственные принципы разума.
Из признания самостоятельности разума как у Канта, так
и в религиозной философии иудаизма следует отрицание
эвдемонизма - отказ считать достижение счастья этической целью
и признание безусловности морального долга. От Саадии Гаона
Шаммай и Гиллель - два авторитетнейших мудреца талмудической традиции,
которые всегда и во всем были несогласны друг с другом.
91
до Маймонида и далее вплоть до современности магистральная
линия развития еврейской философии была связана с отказом от
понимания счастья и блаженства как этических целей и с
постулированием иных целей. Параллелизм учения Канта и
философии иудаизма тем более показателен, что еврейские
средневековые мыслители, о которых постоянно говорит Коген, отходят
в данном вопросе от Аристотеля, которому следуют в своем
рационализме, но отвергают его эвдемонизм. В этом пункте они
следуют не гению античной мысли, а Писанию. Коген ссылается
в качестве примера на труд Бахии ибн Пакуды «Обязанности
сердца». В нем говорится о том, что единство Бога требует от
человека «единства сердца» и «единства действия». Требуется,
таким образом, чтобы действия человека были едины с любовью
и почитанием Бога, живущими в его сердце. Именно это должно
быть целью человеческой жизни, а вовсе не достижение
блаженства и счастья.
Кант, полагает Коген, размышлял о чем-то подобном
«единству сердца» и стремился обосновать его не психологически,
а объективными законами нравственной воли. Для Канта, как
известно, нравственная воля должна определяться всеобщим
законом, не знающим исключения. Не знающим исключения
в двояком отношении: как субъекта закона (вроде: нравственный
закон обязателен для всех, но я, такой хороший, слабый, бедный
и т. п., имею же право быть исключением), так и его объекта
(вроде: нравственный закон требует уважения к любому
человеческому существу, но ведь не к этому же, такому для меня
непонятному и неприятному).
Понимание этики в терминах непреложного закона, отмечает
Коген, очень близко духу Талмуда и философии иудаизма. Однако
между этикой Канта и иудаизмом остается немаловажное различие.
Для Канта последним основанием нравственного закона является
сам разум. Иудаизм считает, что закон дан Богом. Но от этого он не
перестает быть законом самого разума. Как бы то ни было, в обоих
учениях речь идет об определении этики через всеобщий закон, что
означает отказ от эгоизма, себялюбия, или, иными словами,
преодоление горизонта индивида (Ibid. S. 292). «Речь идет в конечном
счете об изначальной идее (uralte Gedanke) равенства всех людей
перед лицом Бога, которая получает свое методологическое
выражение в понятии всеобщего закона. Это же основополагающее
понятие является корнем основополагающей заповеди любви к
ближнему: "Люби его, он такой же, как и ты"» (Ibid. S. 292).
92
В то же время вопрос об автономии разума в полагании
морального закона заставляет еще раз обратиться к системе
Канта и отметить: и для Канта изначальным источником
нравственного закона, причиной его наличия в разуме является Бог.
И это, в системе Канта, никоим образом не отменяет автономии
разума. В этом отношении, на наш взгляд, Кант остается
протестантским философом и просветителем. Обнаруживая в данном
отношении параллели между учением Канта и иудаизмом, Коген
хочет показать, что иудаизм родствен нововременному
европейскому гуманизму и потому он является важной частью
современной европейской культуры.
В развитии концепции Бога Кант поднялся до понимания его
как идеи разума, что является для Когена высоким философским
достижением и опять-таки сближает его с иудаизмом.
«Монотеизм вообще может быть лишь монотеизмом идеи» (Ibid. S. 293).
Сущность Бога состоит в нравственности, и ни в чем другом,
кроме нравственности: «Такова природа Бога. И никакой иной
природы Бога нет» (Ibid. S. 294). Так, Бог не является ни
природой, ни человеком. Такое понимание Бога представляется Когену
вытекающим и из учения средневековых еврейских философов,
и из концепции Канта1.
Что касается Канта, то мы понимаем обоснованность вывода
Когена. Трактовка Бога как идеи вытекает из кантовского учения
о границах чистого разума. Кант доказал, что правомерное
применение разума ограничено сферой возможного опыта. Разум не
может претендовать на обоснованное теоретическое знание
о сверхчувственном. Соответственно, он должен оставить всякие
попытки рассуждать о бытии и природе Бога или доказывать
бессмертие души. Зато практический разум как определяющий волю
имеет право на выход за пределы теоретического и на
постулирование собственных объектов, составляющих идеальное «царство
целей», - однако лишь с практической, а вовсе не с
теоретической достоверностью.
Итак, мы видим, что для Когена философия Канта и
философия иудаизма вполне сочетаемы. Таким образом, кантовская
этика у Когена интерпретируется как философия религии. Мотив
вызова существующим религиозным традициям и институтам,
присутствовавший в кантовской концепции религии разума,
Например, в другом месте Коген высказывается о Маймониде: «Большую
заслугу Маймонида составляет то ... что он растворяет всякую догматику в
этическом рационализме» (Cohen H., 1929. S. 361).
93
в рассуждениях Когена отходит на второй, если не на десятый
план. Поэтому для Когена оказывается возможным, опираясь на
Канта и на классические тексты религии и философии иудаизма,
строить свою религиозную философию как учение о религии
разума.
Идея религии разума и ее обоснование
Мы уже говорили в начале этой главы, сколь важной была для
Когена проблема религии разума. Сейчас мы хотим обратить
внимание на методологические особенности подхода Когена
к этой проблеме. Коген вообще был убежден, что методология
подхода конституирует предмет исследования. Таким был один
из основополагающих принципов неокантианства при анализе
научного познания. Любопытно, что Коген распространяет его
даже на исследования иудаизма. И в таком вопросе Коген
остается последовательным априористом. Он не приемлет эмпиризма
и индуктивизма и придает первостепенное значение выяснению
методологических вопросов.
В исследованиях иудаизма, характерных для XIX века, прежде
всего для Wissenschaft des Judentums, господствовал историцизм.
Иудаизм рассматривался как развивающаяся сущность. Причем
развитие мыслилось на основе метафоры эмбрионального
развития: развивается некий определенный, сохраняющий свою
природу организм, и каждый последующий этап все более полно
раскрывает эту природу. Современный этап мыслился как
наиболее полное раскрытие той самой природы, которая и развивалась на
протяжении веков (см. подробнее: HJPh. Ch. 27, 28). Поэтому от
науки об иудаизме ожидали, что исторические исследования
позволят научно определить, в чем состоит сущность иудаизма. А это,
в свою очередь, должно было дать ответ на вопрос о
самоопределении, мучавший немецко-еврейских интеллектуалов. Такими, или
примерно такими, были умонастроения, связанные с
господствовавшими в научных исследованиях иудаизма подходами.
Для Когена же подобное сочетание историцизма и
индуктивизма неприемлемо. Невозможно, убежден он, исходить из
неопределенного представления о религии и прийти к его определению
и уточнению благодаря изучению исторических форм.
Невозможно прийти к единому понятию иудаизма, исходя из
унаследованных от истории текстов (Cohen H., 1929. S. 2-4). Ведь
исследование такого рода носило бы индуктивный характер. Коген же
прекрасно понимает, что индукция дает определенный ответ,
94
только если поставлен определенный вопрос, т. е. если приняты
определенные методологические предпосылки.
Поэтому для него естественной оказывается
противоположная методология: начать с конструируемого разумом понятия
«религия разума» и уже на его основе обратиться к исследованию
исторических источников иудаизма. Как ни парадоксален на
первый взгляд подобный подход, он показывает нам Когена как
строгого и честного методолога. Коген свободен от эмпиристских
иллюзий. Ни историческое исследование, ни индуктивное
обобщение не обходятся без предварительной реконструкции
предмета. После постпозитивистской методологии науки это не
нуждается в таком подробном обосновании, какое требовалось во
времена Когена. Поэтому Коген открыто и честно описывает
предпосылки и допущения своего исследования - момент,
который упускают последовательные эмпиристы.
Коген при этом сохраняет определенные моменты историциз-
ма. Он тоже верит в иудаизм как исторически развивающуюся
сущность. Но он убежден, что понятие об этой сущности должно
быть четко определено заранее, и только тогда история
действительно заговорит и позволит понять тенденции своего развития.
Коген, таким образом, не видит противоречия между априорным
и апостериорным в своем исследовании, веря в их полную
и объективную гармонию.
Итак, понятие «религия разума» должно быть определено из
разума, ибо оно не может быть выведено из исторического
изучения реальных религий. Вообще, идея религии разума априорна
и вытекает из разума. А понятие религии должно быть раскрыто
через религию разума (Ibid. S. 5). Религия, полагает рационалист
Коген, связана именно с разумом как тем, что отличает человека
от всех прочих живых существ. Разум не исчерпывается наукой
и философией. Еще одно его важное проявление есть религия
разума. Все народы в своих высших проявлениях вносят вклад
вдело разума и в религию разума. Последняя не может быть
религией какого-то одного народа. Она будет достоянием любого
народа, способного развить науку и философию. Ведь разум
всеобщ. Поэтому хотя философию, скажем, развили греки, но
философия как продукт разума всеобща. То же самое можно сказать
и о религии разума. Она не исчерпывается в сознании ни одного
отдельного народа (Ibid. S. 8).
Оценивая идеи Когена, нельзя не учитывать, что «религией
разума» для него является не только иудаизм. Он высоко оценива-
95
ет христианство, прежде всего, естественно, протестантизм.
Однако для него чрезвычайно важен тот факт, что Писание
и Книги пророков являются первоисточниками (Urquelle) для
любой религии разума. Подобно тому как греческая философия
не является собственностью греков, религия разума принадлежит
всем народам, но евреи - ее первые создатели. Поэтому
исследование текстологических источников иудаизма становится для
Когена исследованием изначальных философских мотивов, из
которых возникла религия разума. Он подчеркивает, что эти
мотивы не были результатом греческого влияния1, но
присутствовали в иудаизме изначально.
Насколько когеновская концепция «религии разума» адекватна
реально существовавшему иудаизму? Представляется, что
реальный иудаизм сложнее и многообразнее. Например, мы уже
упоминали о каббалистической традиции, которая ощутимо выходит за
пределы когеновской религии разума. (Критику рационализма
когеновских построений см., например, в: Гурлянд А., 1915.)
Думается, что в работе Когена мы имеем дело с умственной
конструкцией, которая отражала в первую очередь чаяния немецко-
еврейских интеллектуалов и реформаторов иудаизма конца
XIX века. Их чаяния не осуществились. Поразительное
художественное выражение для этого было найдено в Еврейском музее
в Берлине: центральную ось здания образует анфилада пустых
комнат. Проходить по ним очень страшно. Иудео-христианского
диалога не состоялось. Вместо него произошла Катастрофа.
Однако идея иудео-христианского диалога осталась жива. Ее
развивал далее, например, Левинас. Остались философские идеи,
которые вошли в ткань дальнейшего развития европейской
философии.
Основным содержанием религии разума, утверждает Коген,
должен быть человек. О том, что это так, говорит сам разум. Все
вопросы человеческого существования и становятся вопросами
религии. Тем самым, говорит Коген, раскрывается тесная связь
религии и разума: через разум религия разума участвует в
познании человека.
Обратим внимание на все своеобразие концепции Когена:
религия разума становится философским познанием человека.
Тут могут возникнуть вопросы и возражения. Не является ли
содержанием любой религии, будь она даже и религией разума,
учение о Боге? Но для Когена как последователя Канта не может
Как это утверждал Кант (см. главу 1).
96
быть философского учения о Боге. Поэтому не удивительно, что
религия разума оказывается учением о человеке.
Для нас сейчас философским учением о человеке является
философская антропология. Отсюда мы можем понять замысел
Когена так, что философская антропология уже является
религией, потому что человека нельзя мыслить без связи с Богом:
«Религия разума рассматривает религию как всеобщую функцию
человеческого сознания, сознания как отличительно
человеческого» (Ibid. S. 8).
Коген объясняет свой замысел, раскрывая отличие религии
разума от этики. Ибо для него - в отличие от Канта - религия
разума не совпадает с этикой, но является самостоятельной
сферой разума. В самом деле, этика, замечает Коген, была и у
греческих философов-язычников. Но религии разума, по его
убеждению, у них не было. Из различения этики и религии разума
вытекает, что этика не дает полного учения о человеке и
нуждается в дополнении.
За счет чего же у Когена появляется возможность выделения
еще одной сферы философского знания, так что религия разума
получает собственный предмет? Это происходит благодаря тому,
что, как мы уже показывали в гл. 2, Коген осуществляет
трансформацию классического понятия субъекта. Итог этой
трансформации мы и видим в его трактовке собственного предмета
религии разума в отличие от этики.
Следуя Канту, он утверждает, что этика имеет дело не с
эмпирическим индивидом, но с его всеобщим и универсальным «Я».
Для этики «Я» человека становится «Я» человечества. Этика
может познать и признать человека только как абстрактного
представителя человечества. Для нее все индивиды равны и
одинаковы в своей абстрактности. В этом заключается как сила, так
и слабость этики.
Основой этики, таким образом, является идея единства
человечества. Этика не знает различия между «Ты» и «Он». Идея
множественности человечества и уникальности каждой личности
появляется вместе с открытием «Ты», которое не есть еще один
экземпляр «Я», - иначе «Ты» превратилось бы в «Он». «"Ты"
привносит новую проблему в понятие человека» (Ibid. S. 18).
«Ты» нельзя рассматривать как еще один абстрактный экземпляр
«Я». Именно здесь находится поворотный пункт от этики к
религии. Религия привносит идеи уникальности человеческой
индивидуальности и, соответственно, множественности человечества,
97
дополняя этим метод этики. Лишь через открытие «Ты» я
впервые могу осознать свое «Я». Я есть Я, - замечает Коген, - только
по отношению к Ты. То, что Я значит исключительно по
отношению к самому себе, есть еще не определенность, а лишь
подготовка к ней. Только открыв в другом человеке «Ты», индивид
становится личностью, причем такой же уникальной неповторимой
личностью, как и «Ты».
Таким образом, Коген решительно трансформирует
традиционное философское представление о том, каким образом
эмпирический субъект «участвует» или «становится причастным»
трансцендентальному субъекту. Для философской традиции,
заданной Декартом, это требовало самотрансцендирования
субъекта по отношению к собственному телу, любым материальным
условиям его существования и связанной с этим уникальности
своей личности, т. е. превращения в абстрактный
гносеологический субъект. Однако Коген задает совершенно другое
пространство философской рефлексии, отождествив трансцендентального
субъекта с человечеством и показав, что эмпирический субъект
входит в него как уникальная личность, существующая только
в корреляции с другими уникальными личностями.
Это сразу же меняет отношения между «я» и телом с его
телесными проблемами и страданиями. Организм и материя уже не
могут быть безразличны для «я». Для стоиков, например,
страдание не есть зло, а есть нечто безразличное. Однако мы понимаем,
что на страдания человека, который стал для нас «Ты», нельзя
смотреть безразлично. Возможно, именно тогда, когда мы
сознаем страдания другого, «Он» превращается в «Ты». Страдание же,
как часто повторяет Коген, есть характерная реальность
человеческого Dasein. Признав значение страдания Другого, мы уже
и на собственные страдания не можем смотреть (или делать вид,
что смотрим) как на безразличные.
Страдание со всей определенностью признается злом. Оно
взывает к состраданию. Такие философы, как Спиноза или
Шопенгауэр, стремились устранить подобный аффект, и это
можно понять, поскольку для них Другой в его друговости был,
в сущности, иллюзией, а субъект должен был осознать себя
частью всеохватывающего начала и раствориться в нем. В
системе Когена не может быть и речи о растворении «я» в человечестве
или тем более в Боге.
Философия всегда требовала от эмпирического субъекта
совершить акт самотрансцендирования, чтобы стать чистым
98
философским субъектом. В философии Когена (а вслед за ним
и Левинаса) этот акт самотрансцендирования состоит в том,
чтобы признать «Ты» в человеке иной социальной группы -
в чужаке, пришельце, человеке другой национальности,
вероисповедания или социального слоя.
Признание «Ты» приводит к признанию телесности и
уязвимости человека, что ставит во всей остроте проблему зла. И таким
образом, религия разума не просто привносит в философское
рассмотрение человека тему множественности. Представляется,
что Коген здесь совершает гораздо более радикальный
концептуальный переворот. Он отходит от понимания человека в духе
европейской философии Нового времени и предлагает понимание,
которое по тональности ближе средневековой религиозной
философии. Человек у него предстает уязвимым, конечным,
страдающим, несамодостаточным. Такое понимание
существенно отличается по настрою от трактовки человека у Канта. В
частности, тут, в отличие от кантовского учения, долг перед самим
собой уже не может стоять на первом месте, а заповедь любви
к ближнему приобретает значение системообразующего
философского принципа. И именно благодаря этому открывается
концептуальное пространство для нового учения о человеке
несамодостаточном. Причем учение это является вполне рациональным.
Поэтому оно и составляет религию разума.
Мы хотим еще раз подчеркнуть принципиальную значимость
того, что делает таким образом Коген. Он изменяет сами
основания классической парадигмы философии Нового времени. Вот
что стоит за его на первый взгляд странными рассуждениями,
когда он в педантичной манере, столь подобающей
рационалистическому немецкому профессору, говорит о таких вещах, как
страдание или грех. Если ранее разум исходил как из
самоочевидного из факта собственной автономии и самодостаточности, то
в религиозной философии Когена разум должен исходить из
того, что человек - существо несамодостаточное и уязвимое,
и продумывать вытекающие отсюда следствия.
Тем самым религия разума получает отчетливое
экзистенциальное звучание. Но в то же время мы хотим подчеркнуть, что
образ человека в религиозной философии Когена существенно
отличается от образа человека в философии, например,
М. Хайдеггера или Ж.-П. Сартра. Dasein в концепции Хайдеггера
отнюдь не производит впечатления уязвимого. Когда речь
идет о выборе себя и набрасывании себя в отношении своих воз-
99
можностей, Dasein самодостаточен, и в этом Хайдеггер ближе
классической философии Нового времени, чем рационалист
Коген.
Обратим внимание на еще одну особенность подхода Когена,
без которой понимание человека не привело бы именно к религии
разума. Это различие проще выразить, воспользовавшись
тезисом Ж.-П. Сартра о том, что у человека существование
предшествует сущности. Человек, согласно Сартру, свободно творит
себя и выбирает собственную сущность. Единственная
обязанность, возложенная на человека, - быть аутентичным и нести
тяжесть ответственности за свой выбор, не пытаясь обмануть
себя и представить свой выбор как неизбежное следствие
сложившихся обстоятельств.
Для рационалиста Когена дело обстоит по-другому. Перед
человеком изначально стоит нравственная задача. Человек
вообще определяется только на основании своей связи со Всеобщим
(Cohen H., 1921. S. 8). Отсюда и вытекает то, что быть
человеком - значит иметь перед собой эту задачу. Очень трудную.
Бесконечную. Эта задача не по силам одному человеку. По
масштабу она сопоставима только с человечеством как целым. Без
такого долженствования человечество не было бы человечеством.
«Я», как было сказано, нуждается в «Ты», чтобы стать
личностью. Данное положение должен признать сам разум. Но мало
этого. Разум постигает и то, что обратиться к «Ты» так, чтобы оно
тут же не превратилось в «Оно», не просто. Это возможно только
при условии соблюдения заповеди любви. А такая заповедь, как
писал еще Кант, равноценна этическому долженствованию.
Поэтому несамодостаточное «Я» должно иметь перед собою
этическое долженствование! И в то же время разум вполне способен
отдавать себе отчет в том, как трудно человеку следовать этому
долженствованию. Таким образом, получается, что одним из
важнейших «экзистенциалов» человеческого Dasein является то,
что его бытие не совпадает с должным. Всегда остается зазор,
хотя чаще он вообще превращается в пропасть.
Для экзистенциалистов человеческое бытие было «расколото
Ничто» (Сартр) или «выдвинуто в Ничто» (Хайдеггер). Для
Когена оно оказывается тем, что еще-не-стало-должным.
Данность - это далеко не все! Смысл и человеческое достоинство
человеку придает только стоящая перед ним цель, или задача.
Подобный способ рассмотрения человеческого бытия
восходит, конечно, к основным идеям кантовской этики. Для Канта,
100
как мы помним, человека делало человеком, т. е. существом
разумным, признание безусловного морального долга,
коренящегося в разуме. Рассматривая все вытекающие отсюда
следствия, Кант приходил к признанию права практического разума
постулировать собственные объекты. Последнее, как мы видим,
чрезвычайно важно и для Когена. Более того, думается, что это
одно из принципиальных методологических оснований всей его
философии религии. Красной нитью через любую часть его
философской системы проходит подчеркивание отличия сущего
от должного. Тем самым признается право разума постулировать
автономный мир должного, не смущаясь тем, до какой степени
он не похож на мир сущего. Речь идет о праве разума критиковать
реальность, бросать ей вызов и ставить перед собой невозможную
задачу по ее преобразованию.
Таким образом, нам представляется возможным сказать, что
когеновская религия разума есть онтологическое учение о
человеческом существовании. Его особенностью является неразрывная
связь с этикой.
Понимание Бога в религии разума. Религия разума как монотеизм
Рассуждение о должном требует под собой какой-то почвы.
Для того чтобы имело смысл говорить о задаче, надо, чтобы она
хотя бы в принципе была реализуемой. Поэтому у Когена, как
и у Канта, постулирование царства целей неизбежно приводит
к разговору о Боге.
Еще в «Этике чистой воли» (Cohen H., 1921) Коген
противопоставлял мир природы и мир нравственности, который находил
свое выражение в социальном мире. Социальный мир не есть
природная данность. Тем более не является данностью
нравственный социальный порядок. Он формируется нравственной
деятельностью человека. Этическая задача, таким образом, никак
не обусловлена природой. Всячески подчеркивая различие между
бытием и долженствованием, Коген тем не менее указывал и на
неприемлемость полного разрыва между ними. Должное, чтобы
не оказаться пустым мечтанием, должно так или иначе быть
укоренено в бытии. Это затруднение разрешается в этике чистой
воли благодаря обращению к идее Бога как гаранта соответствия
этической и теоретической сфер, или конечной гармонии
природы и нравственности, или, еще иначе, природы и культуры.
В «Религии разума» (Cohen H., 1929), однако, Коген говорит
о Боге не только как об идеале разума, но как об истинном бытии.
101
Он начинает с утверждения, что монотеизм не исчерпывается
признанием того, что Бог един (Einheit), но требует признания
того, что он исключителен (Einzigkeit) (Ibid. S. 41). В самом деле,
единственность Бога признает и пантеизм, отождествляющий
Бога и природу. Для Когена же пантеизм является сугубо
языческой философией, не имеющей ничего общего с монотеизмом.
«Пантеизм - не религия» (Ibid. S. 47).
Пантеизм делает главной формой отношения к Богу
познавательное, теоретическое. Однако разум является не только
теоретическим, но и практическим. Отношение к Богу в
монотеистической религии разума не может быть лишь познавательным,
потому что для познания его предмет, даже если фактически
единствен, столь же может быть и множествен. Бог выступает как
исключительный только для отношения любви. Одновременно
любовь к Богу удостоверяет его существование. Поэтому в
религии разума, являющейся, по убеждению Когена, истинным
монотеизмом, главной формой отношения к Богу является любовь.
Этим доказывается, что религия разума есть особая духовная
форма, отличающая монотеизм от политеизма и пантеизма.
Вместе с темой любви в учение Когена входит онтологическая
проблематика. В этом пункте данное учение вызывает большие
споры (см.: Poma A. Ch. 9). По мнению некоторых
интерпретаторов, Коген в своей последней работе отходит от основных
принципов критической философии и осуществляет «онтологический
поворот» (таково было, например, мнение Розенцвейга). Другие
исследователи, напротив, упрекают Когена за то, что его
религиозная философия сохраняет формальный и методологический
характер и не выводит за пределы сознания субъекта (см.:
Rotenschtreich N., 1968. Chap. 4).
Нам представляется, однако, что Коген и в своей философии
религии верен принципам критической философии Канта.
Поэтому его суждения о Боге как бытии не следует понимать как
некое метафизическое учение в духе классической метафизики
XVII века. Понять специфический модус онтологического
утверждения о существовании Бога, которое делает Коген,
можно только на основе центрального для его религиозной
философии понятия «корреляции». Данное понятие объяснимо лишь
в контексте всей критической философии Когена. Оно, по
нашему мнению, является дальнейшим развитием идеи Канта о праве
практического разума полагать собственные объекты, но лишь
с практической, а не с теоретической достоверностью. Коген раз-
102
вивает это положение Канта, связывая практический разум
с любовью и состраданием.
В то же время нам представляется несправедливым упрекать
Когена, что он утверждает существование Бога лишь в пределах
сознания субъекта. Речь идет не о сознании, а о существовании
субъекта. Если позволительно употребить совсем не когеновскую
терминологию, то речь идет о Боге как экзистенциале
человеческого существования.
Исключительность Бога, с точки зрения Когена, означает, что
Бог есть Бытие. В то же время иудаизм превращает безличное
бытие в Существующего, в Личность. Бог - это исключительно
Сущий (der einzig Seiende). Такое понимание Бога, конечно,
является противоположностью пантеизма. Бог есть Сущий,
вечный и неизменный. Неопалимая купина, горящая и никогда не
сгорающая, оказывается символом божественного бытия. Ничто
другое не есть Бытие. Политеизм, говорит Коген, противоречит
самому смыслу понятия Бытия. Бог монотеизма трансцендентен,
т. е. не ограничен пространством и временем. Исключительность
Бога означает его несопоставимость с чем бы то ни было. Все
остальное по сравнению с ним есть Ничто.
Коген сопровождает свои рассуждения цитированием
Писания, Талмуда, экскурсами в этимологию слов
древнееврейского языка. На первый взгляд может показаться, что он
повторяет общеизвестные библейские положения. Но присмотримся
внимательнее к особенности его рассуждений. Замена понятия
«единства» Бога на понятие «исключительности» влечет за собой
концептуальный сдвиг кардинальной важности. На первый
взгляд данный предикат относится к Богу самому по себе и
призван всего лишь подчеркнуть Его трансцендентность и величие.
Но парадоксальным образом предикат исключительности как раз
не исключает, а предполагает сопоставление, ибо можно
говорить об исключительности только по отношению к чему-то.
Поэтому не случайно, что Коген обсуждает вопрос о единстве
или исключительности Бога вместе с вопросом о соотношении
Бога и мира. В самом деле, в истории человеческой мысли
истолкование природы Бога и природы мира шли рука об руку. Так,
политеизм и пантеизм представляют собой учения не только
о Боге, но и о мире, о природе. Бога и мир, подчеркивает Коген,
надо истолковывать вместе. Поэтому раскрытие темы
исключительности Бога требует раскрытия его отношения к миру. «Бог не
может оставаться без мира, без человека» (Ibid. S. 52).
103
По отношению к миру Бог выступает как Творец, т. е. как
Бытие, составляющее постоянное условие и основу Становления.
Творение есть изначальный атрибут Бога, тождественный
божественному Бытию. Коген интерпретирует Творение как
постоянное фундирующее отношение между Бытием и Становлением,
а вовсе не как некое мифологическое событие. Становление
нуждается в Бытии; но и Бытие является бытием, лишь будучи
основой Становления. Таким образом, выстраивается логическая,
понятийная конструкция. (Отметим, кстати, что Коген -
противник онтологического доказательства бытия Бога, которое, с его
точки зрения, неоправданно спекулирует понятием сущности
Бога и неправомерно использует предикат существования,
уподобляя тем самым Бога чувственно воспринимаемым вещам.)
Коген постоянно подчеркивает, что Творение вообще не
является загадкой и тайной. В нем нет никакой мистики. Но не
абсурдно ли подобное утверждение? Как же у него хватает
дерзости отрицать, что Творение - загадка и тайна?! Ответ на
подобный вопрос должен еще раз продемонстрировать нам специфику
когеновской религии разума. Она ни в коем случае не является
умозрительным рассуждением о сущности Бога. Тем более в ней
не идет речи о чудесах, сверхъестественных силах и т. п. В религии
разума не идет речи ни о чем мистическом или таинственном — вот
что постоянно объясняет нам Коген. Но о чем же тогда идет речь?
Неужели только об определении понятии бытия и становления?
Нам представляется, что речь в конечном счете идет о том, о чем
только разум может и имеет право судить: о мире как условии
человеческого существования. Утверждается, что с позиций
разума единственно оправданным является понимание мира как
Становления, что можно объяснить только в сопоставлении
с понятием Бытия: т. е. что мир не является законченным,
полным и самостоятельным. Но в то же время с позиции разума
оправданно верить, что для него существует смысл и цель. Как
нам представляется, именно это и означает утверждение, что мир
есть Становление, логически фундированное Бытием.
«Божественное бытие не было бы определением разума, если бы то же
самое мысленное отношение не указывало на становление вещей
природного и человеческого мира ради (für) божественного
бытия» (Ibid. S. 69-70).
Коген критикует интерпретацию Творения как эманации
и защищает постулат о Творении мира Богом из Ничто. Уточняя
этимологию соответствующего древнееврейского слова, Коген
104
поясняет, что речь идет не о Ничто в буквальном смысле слова,
но о некоей бесконечной привативности, т. е. о том, что не
является ни тем, ни тем, ни тем, и т. д. Отсюда ясно, что главный
смысл тезиса о творении мира из Ничто заключается в том, что
мир не сотворен Богом из его собственного Божественного бытия1.
Но мы опять-таки должны понять, что речь при этом идет не
о некоем сверхъестественном событии, а о том, какое понимание
мира является оправданным с точки зрения разума.
Коген упоминает далее присутствующее в Талмуде учение
о том, что Бог обновляет свое творение каждый день (подобное
учение, как известно, есть и в христианстве). Это учение и
позволяет ему окончательно прояснить свою мысль. Творение не
какое-то сверхъестественное событие, а составляющее сущность
Бога и мира отношение между ними. Бог имеет имманентное
отношение к Становлению: быть первопричиной мира - это
и значит быть исключительным Бытием. В то же время,
подчеркивает Коген, речь идет исключительно о логическом отношении
причинения, а не о сверхъестественно-материальном акте,
которым Бог учредил мир. Имеется в виду, что Становление
обязательно должно иметь свое первоначало (Ursprung), т. е. оно
должно объясняться из Бытия, тогда как в сущности Бытия не может
быть никакого становления. Такого рода объяснения, по мнению
Когена, должны исключить какую бы то ни было мифологию или
мистику из религии разума. «И теперь Творение никак не
противоречит разуму» (Cohen H., 1929. S. 73). Как нам представляется,
рассуждения Когена можно интерпретировать как утверждение,
что с позиций разума мир следует рассматривать как наделенный
трансцендентным смыслом.
Поясняя еще раз идею Творения, Коген обращается к учению
о негативных атрибутах Бога. Маймонид воспринял его из
арабской философии и существенно усовершенствовал. Маймонид
утверждал, что, поскольку Бог представляет собою абсолютное
единство, мы не вправе приписывать ему никаких атрибутов.
Однако мы вправе отрицать приписывание ему каких бы то ни
было привативных атрибутов, т. е. атрибутов, указывающих на
лишенность некоего качества. Собственный пример Маймони-
да - суждение «Бог не является бездеятельным». В этом
суждении показывается, что отрицать у Бога деятельность неверно. Но
Коген не ссылается в данном рассуждении на христианских авторов, но
интересно заметить, что Августин интерпретирует данное положение в том же духе.
См.: Августин Бл. Исповедь. Гл. XXVIII. 38.
105
в то же время здесь ничего не утверждается относительно того,
что Богу присуще определение деятельности. Что же в таком
случае утверждается подобным суждением? То, что Бога следует
понимать как источник (Ursprung) всякой активности, движения
и изменения в мире. То есть опять-таки не делается попыток
проникнуть в сверхъестественную сущность Бога, но
выстраиваются логически необходимые предпосылки определенного
понимания мира. Но это-то и является постижением Бога в
религии разума.
Таким образом, сущность Бога раскрывается в корреляции
с миром. Последняя же раскрывается в понятии Творения.
Творение есть изначальный атрибут Бога, тождественный
с божественным бытием, а мир есть мир становления, т. е. мир
сотворенный.
Коген вычитывает это стройное логическое учение в стихах
Книги Бытия, объясняя в то же время, что такое учение не могло
появиться сразу в законченном виде. Оно, конечно, вызревало
постепенно. И Писание сохраняет следы мифологии и
антропоморфизма. Последующее развитие еврейской религии,
талмудические интерпретации и еврейская религиозная фипософия
завершают развитие учения о Боге и Творении. А концепция
религии разума позволяет Когену определенным образом
прочитывать стихи Писания, видя в одних оборотах следы древних
мифологических представлений, а в других - ядро истинного
монотеизма и стремление защитить его от антропоморфизма или
пантеизма.
Коген непрестанно уделяет внимание опровержению панте
изма. Депо в том, что пантеизм, отождествляющий Бога и мир,
делает этику невозможной. Только идея трансцендентного Бога
позволяет различать Божественные предписания и причинные
законы природы. «Подлинный смысл монотеистического
понятия Творения лежит в этике» (Ibid. S. 77). То же самое можно
выразить другими словами, сказав, что Творение в полной мере
реализуется только в сотворении человека и его разума. Для Бога,
таким образом, было необходимо сотворить человека. И это еще
раз показывает нам, что смысловым стержнем религии разума
является корреляция между Творцом и сотворенным.
Говоря о сотворении человека, Коген имеет в виду не только
и не столько стихи Книги Бытия, описывающие это сотворение.
В данном описании, говорит он, сохраняется еще много
мифологических элементов. В качестве главного для религии разума эле-
106
мента он выделяет тот стих, где решающий момент сотворения
человека описывается как «вдыхание» души Богом в человека.
Человек, таким образом, не прах земной. Он есть дух. В то же
время и о Боге говорится, что Он есть дух: «Бог исключителен,
и это означает теперь: Бог есть Дух» (Ibid. S. 103). Далее Коген
будет использовать слова «дух» и «разум» фактически как
синонимы. «Понятие, в котором раскрывается (sich vollzieht)
корреляция, есть понятие разума, которое поэтому должно быть обще
Богу и человеку» (Ibid. S. 103).
Сотворение человека истолковывается прежде всего как
сотворение человеческого разума. А это событие оказывается
связанным с Откровением. Дарование Откровения Коген
и трактует как сотворение человеческого разума, обладающего
нравственными законами и идеей Бога. Акт Откровения
означает, что Бог есть условие разума, подобно тому как Он есть
условие Становления. Однако опять-таки условие должно
пониматься в концептуальном смысле, а не в мифологическом
смысле отдельного сверхъестественного акта. Бытие, объясняет
Коген, столь же имманентно означает Откровение, как
и Творение.
При этом Коген признает, что монотеизм «вырастал из мифа
и национального эпоса... Библия - это не учебник веры ...
а национальная литература» (Ibid. S. 84). Поэтому
мифологическое понимание Откровения как события, конституирующего
народ, было исторически неизбежно. Однако, интерпретируя
стихи Писания и приводя талмудические интерпретации, Коген
стремится показать, что понимание Откровения как
однократного сверхъестественного события, случившегося на горе Синай,
постепенно преодолевается в иудаизме, и вместо него вызревает
понимание Откровения, соответствующее религии разума
и истинному монотеизму. При этом смысл Откровения
смещается от события на горе Синай к содержанию Откровения, которое
является чисто нравственным. Социально-политический аспект,
присутствовавший в этом содержании, тоже трактовался как
этический. «Первоначально не делается никакого различия между
политическим характером законов и теми заповедями, которые
непосредственно направлены на утверждение монотеизма»
(Ibid. S. 92).
Откровение в конечном счете - это не отдельное
мифологическое событие, а факт наличия нравственного закона в разуме
людей. В силу такого истолкования Откровение превращается
107
в категорию, обозначающую отношение Бога и человека. Коген
особо подчеркивает, что «человек, а не народ и не Моисей, но
именно человек как существо разумное является коррелятом
Бога Откровения» (Ibid. S. 92).
Таким образом, сущность Бога в полной мере проявляется
только в отношении между ним и человеком. Коген называет это
отношение «корреляцией». Корреляция есть отношение между
двумя принципиально различными членами, которое в полной
мере сохраняет их различие, одновременно показывая их
необходимую связь. «Исключительность Бога означает его отношение
к разуму человека» (Ibid. S. 95).
В Откровении, повторяет Коген, нет никакой мистики или
тайны. «Бог дает Тору, как он дает жизнь и хлеб, и даже смерть.
Откровение есть доказательство того, что человеческий разум
отличен от животной чувственности, происходит от Бога и
связывает человека с Богом» (Ibid. S. 97). «Вечное как основание для
разума во всех имеющихся в разуме содержаниях евреи называют
Откровением» (Ibid.).
То, что разум конституируется Откровением, не отменяет того
факта, что он должен пройти длительный путь познания. Хотя
все потенции исторического развития рассматриваются в
религии разума как исходящие от Бога, то это не отменяет неибходи-
мости исторического развития.
Бытие Бога становится для человека предпосылкой познания.
При этом важно помнить, что человеческое познание относится
не только к природе, но и к различению добра и зла. Змей
нашептывает людям, что, приобщившись к такому познанию, они
станут тождественными Богу. Змей играет на побуждениях, которые
Коген постоянно приписывает пантеизму. Для пантеизма,
согласно одному из утверждений Когена, Бог в человеке встречает
самого себя, так что человеческое познание Бога есть познание
Богом самого себя. Впрочем, заметим, что относительно
Спинозы и Гегеля это верно. Таким образом, пантеизм скрывает
кардинальное отличие человеческого становления от
Божественного бытия.
То, что нашептывает Змей, является, конечно, ложным.
И философия разума вносит исправление: речь идет не о
тождестве, а о том, что Бог и человек находятся в корреляции, причем,
так сказать, органами этой корреляции являются разум и
нравственность. Именно это объединяет человека и Бога. «Сущность
человека обусловлена знанием нравственности. Разум ведь явля-
108
ется не только теоретическим, но и практическим,
нравственным» (Ibid. S. 101).
В разумном познании человек открывает Бога. Божественное
бытие как бы актуализируется благодаря человеческому
познанию, вследствие чего отношение Бога и человека впервые
становится взаимным. Эти рассуждения Когена можно понять так, что
корреляция требует от человека активности в смысле активной
обращенности к Богу, мысли о Нем, познания Его. Но что
означает данная активность? - можно было бы спросить Когена.
Признает ли он существование Бога независимо от активности
человека? Это, как нам представляется, очень важный вопрос для
понимания религии разума, и путеводной нитью опять-таки,
должна служить Кантова идея относительно права практического
разума постулировать свои объекты. Заметим, что практический
разум постулирует их как объективные, т. е. он определяет себя
по отношению к ним, а не их по отношению к себе.
Аналогично, рассуждения Когена не означают сомнений
в объективном существовании Бога. Речь идет о том, что для
человека реальность Бога открывается в его собственных
душевных усилиях. А если бы люди не помышляли о Боге - разве не
была бы иной его реальность?
Основное понятие религии, в котором выражается
корреляция Бога и человека, - это понятие духа (Cohen H., 1929. S. 103).
Дух есть прежде всего нечто противоположное материи и жизни.
Сначала дух выступает как душа. Однако и Бог понимается как
дух, и благодаря этому политеизм оказывается превзойденным
окончательно: в Боге нет ничего телесного, он не является ни
огнем, ни водой и т. д. В этом смысле исключительность Бога,
разумеется, предполагает, что Он есть дух.
В силу корреляции и человек выступает теперь как дух. Это
утверждение Когена мы поймем так, что человек всегда
определяет, что считать истинно человеческим, исходя из того, как он
понимает Бога. Или, иными словами, сущность человека имеет
основание в исключительности Бога. Дальнейшее развитие
принципа корреляции будет разворачиванием этого исходного
принципа религии разума. Именно через дух осуществляется
корреляция. В то же время Бог есть дух, а человек становится
духом. В человеке дух от Бога, дан Богом.
Корреляция между Богом и человеком, как между бытием духа
и становлением духа, включает отношения познания и любви.
Принцип любви, подчеркивает Коген, не является гетерогенным
109
для разума: «Любовь есть теснейшее выражение корреляции»
(Ibid. S. 105).
В плане познания, признание духовной природы Бога
становится принципом методической организации познания,
заявляет Коген. Это надо понять таким образом, что коль скоро Бог
есть дух, то мир должен иметь смысл и назначение. Поэтому его
познание должно быть организовано регулятивными
принципами, направленными на системность, завершенность и
организацию знания. Следовательно, познание причинных связей
должно быть дополнено телеологическим рассмотрением. Кантова
идея о регулятивной роли принципов разума в познании и его
размышления о телеологическом принципе в познании вошли
в ткань когеновской философской системы. И в своей
последней работе он говорит о том, что человеческое познание не
должно ограничиваться только вопросами «откуда?» и
«почему?», но должно ставить перед собой также и вопросы «куда?»
и «зачем?». Однако не будем забывать, что подразумевается
методически организованная система познания, в которой, как
это было и у Канта, разные разделы имеют разный статус, а
теоретическое применение разума остается ограниченным сферой
возможного опыта. Поэтому вопрос о цели, который в каком-то
смысле является венцом и оправданием всего познания,
требует вовсе не телеологических спекуляций по поводу
целесообразного устройства мира. Этот вопрос, в трактовке Когена,
относится исключительно к этическим целям. Корреляция,
развиваясь и обогащаясь, переходит из теоретического плана в
этический. Вопрос стоит так: связаны ли этические цели человека
с целями Бога?
Мы понимаем, что идея корреляции требует положительного
ответа на такой вопрос. Собственно, концепция корреляции
выстраивается ради этого и вокруг этого. В то же время надо
учесть, что Коген не собирается обсуждать ничего подобного
скрытым, тайным планам Бога в творении. Как мы помним, религия
разума не допускает никакой мистики или мифологии. Поэтому
вопрос о целях Бога может ставиться лишь для прояснения
этических вопросов.
Как известно, Писание приписывает Богу разные действия.
Коген более подробно анализирует фрагмент Книги Исхода,
в котором Бог обращается к Моисею и сам характеризует себя:
«И прошел Господь пред лицем его, и возгласил: Господь,
Господь, Бог человеколюбивый и милосердный, долготер-
110
пеливый и многомилостивый и истинный.
Сохраняющий милость в тысячи родов, прощающий вину и
преступление и грех, но не оставляющий без наказания,
наказывающий вину отцов в детях и в детях детей до
третьего и четвертого рода» (Исход. 34:5-7).
В этом стихе Писания говорится как раз о действиях Бога,
причем все они характеризуются такими понятиями, которые могут
быть применены и к человеческим действиям.
На основании этого текста в Талмуде выделяются тринадцать
качеств Бога. Все они, по мнению Когена, сводятся к двум:
Любви и Справедливости. Рассматривая вопрос об атрибутах
Бога, он опять обращается к концепции Маймонида. Последний,
как мы уже упоминали, учил, что нельзя приписывать Богу
никаких положительных атрибутов. Говоря о нем, можно только
отрицать привативные атрибуты либо говорить об «атрибутах
действия Бога»1. Объясняя глубокий смысл этой концепции, Коген
стремится показать, что рассматривать атрибуты действия Бога
можно, только исходя из корреляции между Богом и человеком.
«Он, Превознесенный, един во всех отношениях, и нет в Нем множественности
и чего-либо добавочного к Его сущности; наличие в Писании многообразных,
выражающих различные понятия атрибутов, которые указывают на Него, да
превознесется Он, связано с множественностью Его деяний, а не с
множественностью в Его сущности. Некоторые же [атрибуты]... призваны указать на Его
совершенство, сообразно с тем, что почитается нами совершенством» (Маймонид,
2000. С. 258). «И все атрибуты, встречающиеся в книгах, данных Божеством, да
превознесется Оно, либо суть атрибуты Его действия, а не Его сущности, либо
указывают на абсолютное совершенство, а не на сущность, совмещающую в себе
различные аспекты» (Там же. С. 261). «Ведай, что господин знающих, учитель наш
Моисей, да пребудет над ним мир, высказал две просьбы и получил ответ на обе
эти просьбы. Одна из них состояла в том, что он просил у Превознесенного
познания Его сущности и истинной реальности, а вторая - высказанная вначале -
в том, чтобы познать Его в Его атрибутах. И Он, Превознесенный, отвечая на эти
две просьбы, обещал даровать ему познание всех Своих атрибутов, а также того,
что все они суть Его деяния, и поведал ему о том, что Его сущность не может быть
постигнута такой, какова она есть» (Там же. С. 266-267). «Таким образом,
постижение содеянного Им [раскрывает] Его атрибуты, посредством которых Он
познается. И доказательством того, что деяния Его, да превознесется Он, и были
предметом, постижение которого Он обещал даровать, служит следующее
обстоятельство: предмет, познание которого дано [Моисею], - это атрибуты, всецело
относящиеся к действию: «жалостливый и милостивый, долготерпеливый...»
Итак, ясно, что «пути», о познании которых он просил и о которых ему было
поведано, суть действия, исходящие от Него, да превознесется Он. Мудрецы же
именуют их «качествами» и употребляют выражение «тринадцать качеств» - это
наименование в их словоупотреблении применяется к нравственным качествам:
«четыре качества [встречаются ] среди дающих милостыню», «четыре качества
[встречаются] среди посещающих дом учения»; подобные примеры многочислен-
111
Божественные действия - это образцы для действий человека.
Атрибуты действий Бога, таким образом, оказываются
этическими нормами, адресованными человеку. Развивая далее учение
Маймонида об атрибутах Бога, Коген утверждает, что истинный
монотеизм отказывается от повествований о сущности, природе,
истории, генеалогии Бога. Остается Бог корреляции, т. е. Бог,
святость которого является выражением нравственного идеала.
На основе такой интерпретации монотеизма Коген
противопоставляет религию разума и миф. Последний, так сказать, более
метафизичен в том смысле, что является повествованием о Боге,
его свойствах, деяниях и т. п., тогда как истинный монотеизм, не
ударяясь в эти спекуляции, говорит об отношении между
человеком и Богом, т. е. о нравственности, сострадании и социальной
справедливости.
Слово «святость» - как разъясняет Коген - исходно означало
отделение, обособление. В мифологии и политеизме отделяются,
обособляются отдельные места, строения, предметы или
животные, и даже люди для особого употребления. В политеизме,
таким образом, святыми остаются отдельные предметы. И когда
говорилось о том, что боги святы, это означало, что у них есть
некое выделенное место, например свой храм. Но монотеизм
приносит в мир совершенно новую весть: «святы будьте, ибо свят
Я Господь, Бог ваш» (Левит 19:2). Таким образом, оказывается,
что святость Бога обязывает человека. Следовательно, она
связывает Бога и человека, и «только через это объединяющее Бога
и человека отношение становится мыслима святость Бога
(Cohen H., 1929 S. 111). Конечно, признает Коген, впервые понятие
святости возникает в связи с практикой жертвоприношений. Но
развитие монотеизма приводит к высвобождению идеи святости
ны. Смысл этого [слова] здесь не в том, что Он обладает нравственными
качествами, а в том, что Он совершает действия, подобные тем действиям, которые
исходят от нас в силу наших нравственных качеств, то есть душевных располо-
женностей; при этом Ему, Превознесенному, душевные расположенности не
присущи» (Там же. С. 270-271). Например, разъясняет Маймонид, действия Бога
по отношению к людям подобны действиям родителей по отношению к своему
ребенку. У родителей они связаны с аффектами сострадания и жалости. У Бога
нет аффектов. Но, поскольку следствия его действий подобны следствиям тех
действий людей, которые обусловлены подобными аффектами, о Боге и
говорится таким образом То есть все обсуждение вопроса об «атрибутах действия» Бога
опирается у Маймонида на аналогию между действиями Бога и человека. При
этом, объясняет Маймонид, «предел человеческого совершенства состоит в том,
чтобы уподобиться Ему, да превознесется Он, насколько это в силах человека, то
есть уподобить наши деяния Его деяниям ...» (Гам же. С. 279).
112
из подобной связи, и новое, этическое истолкование данного
понятия делает жертвоприношения излишними. Развитие
монотеизма до этого состояния, конечно, явилось длительным и
сложным процессом. Требовать от ветхозаветного текста полной
ясности и однозначности в трактовке понятия святости было бы,
замечает Коген, совершенно неисторично. Принципиально
важно, однако, то, что эволюция в данном направлении
действительно происходит. Новый смысл понятия святости отчетливо
звучит, например, у пророка Исайи:
«К чему мне множество жертв ваших? Говорит Господь.
Я пресыщен всесожжениями овнов и туком откормленного
скота; и крови тельцов, и агнцев, и козлов не хочу.
Когда вы приходите являться пред лице Мое, - кто требует
от вас, чтобы вы топтали дворы Мои?
Не носите больше даров тщетных; курение отвратительно
для Меня; ...
Омойтесь, очиститесь; удалите злые деяния ваши от очей
Моих; перестаньте делать зло;
Научитесь делать добро; ищите правды; спасайте
угнетенного; защищайте сироту; вступайтесь за вдову.
Тогда придите, и рассудим, говорит Господь...» (Исайя 1:
11-13; 16-18).
Так «корреляция вступает в действие, а с ней устраняются
мифология и политеизм. Святость становится нравственностью»
(Cohen Н., 1929. S. 111).
В то же время Бог обладает святостью; а для человека она
выступает как бесконечная нравственная задача. Бог в своей
святости дает человеку закон, который должен определять
становление человека как человека. Это и есть Откровение. Оно
адресовано человечеству, а не отдельному индивиду, в том смысле, что
отдельный существовавший в истории индивид никогда не мог
вместить все его содержание. Индивида невозможно мыслить как
законченного носителя истин Откровения. Оно предстоит как
задача человечеству в бесконечной череде поколений.
Анализируя понятие святости, Коген, как мы видим,
стремится освободить его от всякой связи с магическим, чудесным,
сверхъестественным, и интерпретировать исключительно в
терминах нравственности. Здесь Коген выступает как верный
последователь и Маймонида, и Канта. В самом деле, ведь Кант
утверждал, что «полное соответствие воли с моральным законом есть
113
святость - совершенство, недоступное ни одному разумному
существу в чувственно воспринимаемом мире ни в какой момент
его существования» (Кант И. 1965 а. С. 455-456).
Идею Когена, что понятие святости неразрывно связано
с понятием корреляции, можно, на наш взгляд, истолковать так:
имеет смысл представление об идеале человека. Человек не то, что он
есть, а то, чем он должен быть. Это, решимся сказать, есть главный
«экзистенциал» человеческого существования; потому-то Коген
и называет Dasein человека становлением. И в этом смысле его
религия разума является учением о человеке, т. е. о
принципиальных характеристиках его существования. Человек не то, чем он
должен быть; однако само понятие должного обрело свою
определенность благодаря развитию монотеизма. «Все характеристики
человека в монотеизме исходят от Бога» (Cohen H., 1929. S. 116).
Речь идет о том, что целью человека должно быть не достижение
блаженства (как это мыслилось язычеством). Истинно
человеческая, и вообще единственно человеческая, цель в
монотеистической традиции мыслится как относящаяся к духу. Возникает
понятие святого духа. В нем кульминирует идея корреляции. Поясним
эту мысль Когена своими словами.
Корреляция подразумевает, что Бог выступает в плане того,
что и как он значит для человека, и в то же время человек
определяет себя по отношению к Богу. Если человек понимает себя как
дух, это значит, что он постулирует главным и определяющим для
себя не чувственную, а некую иную, высшую природу. На каком
основании? Человек может понимать себя как дух, потому что
для него Бог есть дух. В понятии духа для религии разума
объединяются человек и Бог. Что их объединяет? Разумеется, речь не
идет о спекуляциях относительно сверхъестественных сил Бога
и о том, что человек какими-то манипуляциями может получить
к ним доступ или оказаться причастным. Такой подход
характерен для мистики, а не для религии разума. Для последней таким
объединяющим началом не может быть ничто иное, кроме этики.
Поэтому понятия духа и святости естественным образом
связываются в идее святого духа. Это понятие, как подчеркивает Коген,
относится только к нравственности, а вовсе не к
сверхъестественной силе. В этом он видит квинтэссенцию иудаизма. И в то же
время именно в трактовке святости наиболее очевидно влияние
Канта на религию разума Когена. Идеи зачастую не имеют
национальности или способны к сочетаниям, пересекающим
национальные и конфессиональные барьеры.
114
Тем не менее, при всей несомненности влияния Канта, в
трактовке святого духа мы видим и очевидные конфессиональные
корни учения Когена. Это проявляется в том моменте, который
выступает как необходимое следствие его понятия корреляции.
В учении Когена, святой дух выступает как кульминационный
момент корреляции между Богом и человеком. Это то, что
объединяет Бога и человека и фиксирует отношение между ними как
между Бытием и Становлением: «...освящайтесь и будьте святы,
ибо Я свят...» (Левит 11:44, 45). «Не бесчестите святого имени
Моего, чтоб Я был святым среди сынов Израилевых. Я Господь,
освящающий вас» (Левит 22:32). Поэтому превращение святого
духа в самостоятельное начало разрушило бы все концептуальное
построение корреляции. Как подчеркивает Коген, корреляция
требует, чтобы ее члены соотносились друг с другом безо всякого
посредника. Святой дух оказывается в такой трактовке не
посредником, а тем, чем обладают и Бог, и человек. Святой дух не может
принадлежать только Богу или только человеку. Причем, как
отмечает Коген, в иудаизме утверждения о святом духе, как
правило, делаются именно в связи с человеком или непосредственно
о человеке. Бог вкладывает в человека (любого человека, а не
только пророка!) дух; и это есть святой дух, т. е. дух
нравственности. «Посредством духа каждый человек призван к святости»
(Ibid. S. 119), что, как нам кажется, означает: есть масштаб,
который надлежит примерять к человеку, независимо от того, как
обстоят дела с моральным уровнем эпохи. Реальное не имеет
силы сделать ничтожным должное. Именно это и представляется
нам значением когеновского учения о корреляции.
Разговор о святости как нравственном идеале естественным
образом превращается в обсуждение темы греховности человека.
И здесь Коген обращает внимание на тему того, что любой грех
по отношению к другому человеку выступает как грех перед
Богом: «Тебе, Тебе единому согрешил я, и лукавое пред очами
Твоими сделал, так что Ты праведен в приговоре Твоем и чист
в суде Твоем» (Псалтырь 50:6). Это означает, разумеется, что
этические нормы, определяющие отношение к другому человеку,
имеют Божественную санкцию. Более того: почитание Бога и
есть соблюдение нравственных норм. Но важность учения о том,
что грех по отношению к другому есть грех перед Богом, этим не
исчерпывается. Ибо Бог может не только карать, но и очищать от
греха. Таким образом, данное положение монотеизма открывает
перспективу очищения, освобождения от греха через обновление
115
духа человеческого: «Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух
правый обнови внутри меня» (Псалом 50:12). Однако
освобождение от греха мыслится опять-таки не как магическое действие,
обусловленное сверхъестественным могуществом Бога. В силу
корреляции это обновляющее душу действие Бога должно быть
усилием самого человека. К теме греха, занимающей важное
место в концепции Когена, мы вернемся позже.
Открытие ближнего (Mitmensch) в другом человеке (Nebenmensch)
Важным моментом того переосмысления кантовской идеи
религии разума, которое осуществляет Коген, становится
доказательство того, что иудаизм не просто является религией разума,
но составляет первоисточник (Urquelle) для всех других
исторических форм религии разума. Доказательством этого служит
обоснование тезиса о том, что заповедь любви к ближнему
составляет неотъемлемую часть иудаизма как истинного монотеизма.
В самом деле, монотеизм рассматривает человека как творение
единственного Бога. Человек - носитель духа, который вдохнул
в него Бог. Бог есть дух, и человек - это не просто тело, но
прежде всего дух. Для этического монотеизма все люди являются
носителями духа, ибо такими сотворил их единственный Бог.
Перед всеми стоит единая нравственная задача. Поэтому для
истинного монотеизма все люди должны быть равны и все
должны быть братьями. Отсюда вытекает заповедь любви к ближнему,
которая не могла бы появиться в результате каких-либо
националистических или политических идей, утверждает Коген.
Но сколь же нелегок и долог исторический путь осознания
того, что все люди - братья! Пятикнижие Моисеево выступает
для Когена свидетельством постепенного обретения
человечеством идеи истинного монотеизма, неотъемлемым, сущностным
моментом которого должна быть универсальная заповедь любви
к ближнему. Человек, живущий рядом, должен предстать именно
ближним, т. е. таким же, как и ты сам, тогда как в силу
естественных, природой установленных человеческих склонностей он
может предстать и дальним, безразличным, просто живущим по
соседству либо, что тоже весьма вероятно, врагом и соперником.
Узрение в другом человеке ближнего Коген описывает как
поворотное событие мировой истории (превращение
Nebenmensch в Mitmensch). Оно, конечно, не могло не быть
длительным процессом. Но главное - эта идея вызревала, что
показывается текстами Пятикнижия Моисеева. Это утверждение Когена
116
многие подвергли бы критике. В самом деле, разве не
присутствуют на страницах Пятикнижия в большом количестве
требования истребить тот или иной живущий по соседству народ?
Разве сама заповедь любви к ближнему не ограничена
в Пятикнижии только соплеменниками: «Не мсти и не имей
злобы на сынов народа твоего; но люби ближнего твоего, как
самого себя. Я Господь» (Левит 19:18). Однако Коген объясняет,
что эту заповедь надо понимать в определенном контексте.
В самом деле, согласно Писанию, Бог заключал завет и давал
заповеди не только Моисею, но и Аврааму, и Ною.
Соответственно, в раввинистической литературе существуют понятия
«детей Ноя» и «детей Авраама». Однако смыслы,
соответствующие этим понятиям, как утверждает Коген, складываются в
иудаизме раньше и получают свое выражение в самом Пятикнижии.
Ной, как повествует Книга Бытия, «был человек праведный
и непорочный в роде своем; Ной ходил пред Богом» (Быт. 6:9).
Поэтому Ной, а через него род людской и вообще все живое не
было истреблено. Бог предусматривает меры спасения от потопа
самого Ноя, его жены, его сыновей и их жен, а также по паре от
всей живности, составлявшей фауну на земле, для, так сказать,
сохранения генофонда жизни. Благодаря этому после потопа
жизнь возобновляется. Бог заключает завет с Ноем. Но в лице
Ноя Бог заключает завет со всем живым: «...завет Мой, который
между Мною и между вами, и между всякою душою живою во
всякой плоти; и не будет более вода потопом на истребление
всякой плоти» (Быт. 9:15). В качестве знамения этого завета Бог
положил радугу:
«Я полагаю радугу Мою в облаке, чтоб она была знамением
завета между Мною и между землею. И будет, когда Я
наведу облако на землю, то явится радуга в облаке...
И будет радуга в облаке, и Я увижу ее, и вспомню завет
вечный между Богом и между всякою душею живою во всякой
плоти, которая на земле» (Быт. 9:13, 14, 16).
Получается так, что жизнь на земле сохраняется благодаря
праведности Ноя. Заключая завет, Бог дает Ною, а через него -
и всему человечеству, которое произойдет от его сынов,
заповеди. Они касаются жизни. Жизнь заповедана и неприкосновенна.
Правда, все животное царство отдано человеку для пропитания.
Однако при этом, поедая плоть, человек не должен поедать душу,
а она, по представлениям древних иудеев, обитала в крови.
Поэтому заповеди таковы:
117
«Все движущееся, что живет, будет вам в пищу; как зелень
травную даю вам все.
Только плоти с душею ее, с кровию ее, не ешьте.
Я взыщу и вашу кровь, в которой жизнь ваша, взыщу ее от
всякого зверя, взыщу также душу человека от руки человека,
от руки брата его.
Кто прольет кровь человеческую, того кровь прольется
рукою человека: ибо человек создан по образу Божию»
(Быт. 9:3-6).
Здесь мы видим, как со всей четкостью и определенностью
сказано: другой для человека есть брат его. Любой человек назван
братом, независимо от его национальной принадлежности.
Основанием является то, что каждый человек сотворен Богом по
своему образу и подобию. Итак, подчеркивает Коген, именно
монотеизм и только монотеизм привел человечество к идее, что
все люди - братья. Единое человечество, как не устает повторять
Коген, есть коррелят единственности Бога.
Всем детям Ноя дана чисто нравственная заповедь «Не убий».
Никакими ритуальными заповедями при этом человечество не
связано. Заповедь ритуального характера, выделившая один
народ, сопровождает завет, который Бог заключил с Авраамом,
и в его лице — со всем его потомством, со всеми «детьми
Авраама»: «...Я буду Богом твоим и потомков твоих после тебя ... ты
же соблюди завет Мой, ты и потомки твои после тебя в роды их»
(Быт. 17:7, 9). Этот отдельный завет состоялся после того, как
люди были рассеяны по всей земле и появились отдельные
языки, а единый язык человечества был утрачен (Быт. 11:1—9).
В такой-то ситуации и состоялся завет, который уже обращен
исключительно к детям Авраама и связывает их заповедью
обрезания как знака этого завета.
В то же время, как показывает Коген, и этот завет Бога с
человеком не замыкается в узких рамках национальной
исключительности, ибо в Аврааме будут благословенны все народы земли]
«И сказал Господь: утаю ли Я от Авраама, что хочу делать!
От Авраама точно произойдет народ великий и сильный, и
благословятся в нем все народы земли.
Ибо Я избрал его для того, чтобы он заповедал сынам своим
и дому своему после себя, ходить путем Господним, творя
правду и суд; и исполнит Господь над Авраамом, что сказал
о нем» (Быт. 18:17-19).
118
Коген подчеркивает: Авраам ходит путем Господним
постольку, поскольку он творит правду и суд, т. е. следует
справедливости. Именно в этом, в стремлении следовать заповедям
справедливости, лежит объяснение того, почему благодаря Аврааму будут
благословенны все народы земли.
Тема суда, как и тема того, что благодаря Аврааму, который
ходил путем Господа, будут благословенны все народы, получает
немедленное развитие в следующем стихе Писания: «И сказал
Господь: вопль Содомский и Гоморрский, велик он, и грех их,
тяжел он весьма» (Быт. 18:20). После того как Бог произносит эту
речь, ангелы, посланцы Бога, отправляются в Содом, чтобы на
месте разобраться относительно его жителей: «...точно ли они
поступают так, каков вопль на них, восходящий ко Мне, или
нет...» (Быт. 18:21). А Авраам? Как повествуется в Писании:
«...Авраам же еще стоял пред лицем Господа. И подошел Авраам,
и сказал: неужели Ты погубишь праведного с нечестивым?» (Быт.
18:22-23). Таким образом, слова о том, что Авраам избран, чтобы
заповедать всем своим потомкам творить правду и суд, т. е.
творить суд справедливый, подтверждаются: Аврааму действительно
присуще чувство справедливости, и он немедленно начинает
оценивать намерения самого Бога. Бог, который требует от человека
творить справедливый суд, сам должен быть справедливым
судьей. Понимание справедливости придает Аврааму смелости,
и он указывает Богу на несправедливость его намерения: карая
Содом как целый город, можно вместе с нечестивыми покарать
и праведников. Поэтому Авраам спрашивает Бога:
«Может быть, есть в этом городе пятьдесят праведников?
Неужели Ты погубишь, и не пощадишь места сего ради
пятидесяти праведников в нем?
Не может быть, чтобы Ты поступил так, чтобы Ты погубил
праведного с нечестивым, чтобы то же было с праведником,
что с нечестивым; не может быть от Тебя! Судия всей земли
поступит ли неправосудно?» (Быт. 18:24-25)
После такого обращения Бог, что называется, приперт к
стенке. Каким ярким воплощением корреляции между Богом и
человеком, между этическими нормами, обращенными к человеку,
и Богом как их гарантом является весь этот фрагмент Писания!
Единственное, что Бог может ответить на такое обращение
Авраама, это обещание пощадить Содом, если в нем найдется
пятьдесят праведников: ради них будет пощажено это место. Но
Авраам не сдается. Он смел, очень смел: «...вот, я решился гово-
119
рить Владыке, я, прах и пепел» (Быт. 18:27). Авраам доказывает,
что, даже если число праведников в этом городе будет несколько
меньше, чем пятьдесят, все равно несправедливо покарать весь
город. Далее начинается настоящая торговля за условие, при
котором Содом не будет истреблен. Этот торг останавливается на
числе «десять»: «Авраам сказал: да не прогневается Владыка, что
я скажу еще однажды: может быть, найдется там десять? Он
сказал: не истреблю ради десяти. И пошел Господь, перестав
говорить с Авраамом; Авраам же возвратился в свое место»
(Быт. 18:32-33).
Осознаем при этом, что жители Содома не связаны заповедью
обрезания, как род Авраама. Они Аврааму не соплеменники и не
единоверцы. Конечно, племянник Авраама Лот живет в
окрестностях Содома, однако Авраам ведь не просит за своего
племянника! Он просит за весь город. Чувство справедливости,
присущее человеку, который ходит путем Господа, как подчеркивает
Коген, распространяется на всех людей без исключения. Так же,
как на всех людей без исключения, независимо от того, связаны
ли они религиозными заповедями иудаизма, распространяется
понятие праведника. Это вытекает, по убеждению Когена, из
самой сути монотеизма.
Только учтя все это, мы можем, как убежден Коген, правильно
понять суть заповеди любви к ближнему, данной Моисею при
заключении третьего по счету завета Бога с людьми,
описываемого в Писании. Коген полагает, что стих (Левит 19:18): «Не мсти
и не имей злобы на сынов народа твоего; но люби ближнего
твоего, как самого себя. Я Господь» - неправильно понимать как
выражение любви именно к соплеменнику. Скорее, наоборот:
мотивацией требования «Не мсти и не имей злобы на сынов
народа твоего» выступает более общее требование: «Люби ближнего,
как самого себя». Последнее подкреплено словами «Я Господь»,
что делает понятным тот факт, что данное общее требование
непосредственно вытекает из самой природы монотеизма, из того,
что идее единого Бога соответствует идея единого человечества.
Поэтому «ближний», о котором идет речь в данной заповеди, -
это человек вообще. Понятие «сына народа твоего», с которым
связываются нравственные требования, необходимо
предполагает, по утверждению Когена, всеобщее понятие человека, тогда как
сама по себе идея соплеменника как некоторой данности еще не
предполагает нравственного прочтения и нравственной
обязанности. Чтобы еще раз продемонстрировать, что заповедь любви
120
к ближнему в Ветхом Завете отнюдь не ограничена
соплеменниками, Коген настаивает, чтобы стих Левит 19:18 истолковывался
вместе со стихами 33 и 34 той же главы 19: «Когда поселится
пришлец в земле вашей, не притесняйте его. Пришлец,
поселившийся у вас, да будет для вас то же, что туземец ваш; люби его, как
себя; ибо и вы были пришельцами в земле Египетской. Я Господь,
Бог ваш». Коген цитирует многочисленные фрагменты Писания,
где формулируется требование судить пришельца теми же
законами, что и соплеменника, и не притеснять его.
Встречающиеся в Ветхом Завете призывы предавать смерти
другие народы, мотивированы, как разъясняет Коген, не
ненавистью к иноплеменникам, но ревностью к единственному Богу:
они касаются только идолопоклонников. А в том, что касается
греха идолопоклонства, ветхозаветные законы по отношению
к иудею, соплеменнику, не менее жестоки и непреклонны, чем
по отношению к иноплеменным народам.
Формирование идеи, что Другой - это Ближний твой, имеет
и еще один важный аспект: преодоление неприязни,
обусловленной имущественными и сословными различиями. Причем не
просто преодоление неприязни, но признание того, что
социально Другой имеет свои права и Ты должен следить за их
соблюдением так же, как за соблюдением своих собственных! Как
важнейший этап вызревания этой идеи Коген рассматривает
заповедь соблюдения Субботы и ее мотивировку в Писании.
«Монотеизм создал целый ряд специфически еврейских
установлений, - пишет он, - первоначально возникших как способ
защитить бедных мира, но распространившихся затем на все
этические и юридические отношения между людьми. Но более всего
монотеизм выразил любовь Бога к человеку в том великом
законе, который стал фундаментальным институтом европейских
наций. Христианство сохранило этот институт, изменив, однако,
его содержание, с целью подчеркнуть разрыв со своими
иудейскими социальными корнями» (Коэн Г., 1991. С. 49). Под этим
великим законом, или институтом, Коген подразумевает день
отдыха от трудов.
Было показано, отмечает Коген, что и в Вавилонии
существовала семидневная неделя и один из семи дней был праздничным.
Исследователи объясняют это календарем, привязанным к
движению семи планет. «Но, - подчеркивает Коген, - этот
календарь еще не является монотеистическим. Он стал таковым лишь
тогда, когда вавилонский недельный цикл, заимствованный
121
евреями, был использован пророками для создания социальной
этики» (Там же. С. 50).
В Пятикнижии Моисеевом имеются две формулировки
закона о Субботе. Первая гласит:
«Помни день субботний, чтобы святить его.
Шесть дней работай, и делай всякие дела твои;
А день седьмый - суббота Господу Богу твоему: не делай
в оный никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни
раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришлец,
который в жилищах твоих.
Ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, море и все,
что в них; а в день седьмый почил. Посему благословил
Господь день субботний и освятил его» (Исход. 20:8-11).
Коген обращает особое внимание на то, что здесь субботний
отдых предписывается рабам обоего пола, причем независимо от
того, обратились они в иудаизм или нет. Мотивировкой является
то, что сам Господь отдыхал после шести дней творения.
«Следовательно, Суббота рассматривается здесь как завершение
Божественной субботы» (Коэн Г., 1991. С. 51).
Формулировка этой же заповеди во Второзаконии расставляет
акценты по-другому, так что становится совершенно явным ее
«реформаторский, социально-этический характер: ... Со времен
Второзакония перечень лиц и животных, которым предписан
субботний отдых, завершается следующими словами: «...чтобы
отдохнул раб твой и раба твоя, как и ты. И помни, что ты был
рабом в земле Египетской, но Господь Бог твой вывел тебя
оттуда рукою крепкою и мышцею высокою...» «Сравнение этих двух
формулировок заповедей, - утверждает Коген, - и изучение
мотивов, приведших к их отличию, не оставляют никакого
сомнения втом, что институт Субботы превратился во Второзаконии
в средство обеспечения равенства всех человеческих существ
независимо от их различного социального положения. Это
совершенно очевидное значение Субботы дает замечательное
подтверждение органически присущей монотеизму этической
ориентации и оригинального характера его этики» (Там же. С. 52).
Открытие индивидуального человеческого «Я» в религии разума
Религия разума не совпадает с этикой, хотя, как мы видим,
чрезвычайно близка ей. Религия разума имеет собственное
содержание, о чем мы уже говорили. Это содержание раскрывается
122
далее, когда мы приходим к анализу становления идеи
уникальной человеческой личности, индивида как «Я». В самом деле,
индивид, «Я» - это, разумеется, не природная данность, не
отдельное человеческое тело. Это сложный и совсем неочевидный
способ понимания человеком самого себя, являющийся
продуктом длительного исторического развития. Мы привыкли считать,
что идея «Я» создана европейской философией Нового времени,
однако Коген стремится показать, что понимание индивида как
«Я» составляет необходимый момент религии разума и
появляется у ветхозаветных пророков. Открытие «Ты» и исполнение
заповеди любви к ближнему являются необходимыми условиями
для становления «Я», но недостаточными. Заповедь любви
к ближнему, в трактовке Когена, является социально-этической.
При всем ее огромном значении она еще не решает проблему
индивидуальности. Последняя выступает как особая проблема,
определяющая специфику религии по сравнению с этикой.
Становление идеи человеческой индивидуальности Коген
связывает с появлением идеи личной, индивидуальной
виновности и ответственности за совершенный грех. «...Грех - это
методологическое средство для открытия Я...» (Cohen H., 1929. S. 210),
поскольку в религии разума именно индивид выступает как
автономный источник греха. Этот шаг, по мнению Когена,
совершает пророк Иезекииль, тогда как других пророков он
характеризует как «социальных пророков». Их волнуют общественные язвы,
индивид же у них еще не проблематизирован и не выделен.
Для религии разума злом являются не смерть или болезни,
приносящие плоти страдания, но составляющие неотъемлемый
элемент устройства мира. С точки зрения Когена, злом для
религии разума является не что иное, как несправедливость,
причиняемая одним человеком другому человеку. Язычество, говорит
Коген, видит главное зло в смерти и отступает перед злом как
непреодолимой силой. Для религии разума, которая не атакует
попусту миропорядок, источником зла, понимаемого как
несправедливость, выступает свободная человеческая воля, и потому тут
встает вопрос о преодолении зла.
Мифология знает тему вины, а не греха. Для
мифологического сознания вина обусловлена судьбой и происхождением. К тому
же, поскольку богов множество и каждый из них имеет личные
пристрастия и антипатии, невозможно четкое
противопоставление добра и зла. Эту невозможность легко увидеть на примере
гибели Ипполита, которого покарала Афродита, обиженная на
123
него за его нравственный поступок (отказ ответить на страсть
влюбленной в него мачехи Федры)! Если вина восходит к судьбе,
к роду и предопределена еще до рождения индивида, то индивид
«тонет» в лоне рода.
Идею «Я» как вершителя собственной судьбы и единственной
причины собственных грехов Коген связывает с формированием
в Писании идеи индивидуального греха и индивидуальной
ответственности за него. В гл. 18 Книги пророка Иезекииля отвергается
встречающееся в Пятикнижии утверждение, что Бог карает за вину
отцов потомков до третьего и четвертого колена. Здесь
утверждается, что каждый отвечает только за то зло, которое совершил он сам,
независимо от того, что творили его отцы и дети: «Душа
согрешающая, она умрет; сын не понесет вины отца и отец не понесет
вины сына, правда праведного при нем и останется, и беззаконие
беззаконного при нем и остается» (Иезекииль 18:20).
В то же время тема греха ставит новые проблемы перед
концепцией корреляции. В самом деле, корреляция предполагала,
что «посредством духа каждый человек призван к святости»
(Cohen H., 1929. S. 119). Но если предположить, что природа
человека греховна, т. е. в ней заложен непреодолимый фактор,
парализующий действие «духа святости», то, разумеется,
корреляция будет разрушена. При этом невозможно не признать
склонность человека к греху - иначе религия разума выродится
в прекраснодушное мечтание. В силу этого религия разума
признает в человеке источник ipexa, видя его в свободной воле
индивида, однако отрицает понятие «первородного греха». Последнее
понятие, с точки зрения Когена, является наследием
мифологического сознания, для которого источником вины является
происхождение. Коген даже дает определенные филологические
пояснения, доказывая, что идея «первородного греха» родилась
из неточного перевода фрагмента Книги Бытия (8:21):
«...помышление сердца человеческого - зло от юности его». Коген
доказывает, что более правильным был бы перевод «результаты
действий», а не «помышления». Таким образом, в Писании
утверждается, что действия человеческого сердца всегда дурны, что,
однако, не отменяет того, что в сердце присутствует и другая
побудительная мотивация, к которой должен прислушиваться
человек - дух божественной святости (Ibid. S. 212).
В главе I мы показывали, что Кант в своей «религии в пределах
только разума» фактически отбрасывает понятие первородного
греха. Теперь мы видим, что Коген отказывается от этого понятия
124
в открытую и со всей определенностью, не находя ему места
в религии разума. В то же время концепция человека в религии
разума отнюдь не окрашена в розовые тона: «Действия сердца
человеческого злы от юности его». Разум, таким образом, не
склонен обольщаться насчет того, что человек по природе добр,
хотя и не признает, будто человек по природе зол. Не склонен
разум и к бездумному историческому оптимизму, подчеркивает
Коген. Однако, несмотря на это, его система завершается все-
таки в тональности исторического оптимизма: история выступает
как процесс бесконечного совершенствования человечества,
в ходе которого люди и обретают «дух святости», т. е. становятся
ответственными моральными личностями. Видение истории
у Когена, таким образом, гораздо ближе кантовскому, нежели
Мендельсону.
В главе 1 мы пытались показать, что фактический отказ Канта
от признания первородного греха является условием для его
трактовки субъекта. У Когена мы видим прямую полемику с идеей
первородного греха, тем не менее, как нам представляется, в его
истолковании индивид бытийственно связан с греховностью
более существенным образом, нежели в трактовке Канта. И
потому, несмотря на отрицание первородного греха и несмотря на то,
что индивида конституирует не только фех, но и возможность
раскаяния и обновления, это не становится основой для
трактовки субъекта, подобной кантовской. Индивид в религии разума
Когена оказывается воистину «радикально конечным». Он не
оснащен готовым набором априорных нравственных законов
и через ошибки и падения должен только еще идти к подлинному
овладению Откровением. При этом человек остается в пределах
неизбежных исторических офаничений. Поэтому индивид тут не
может выступать как представитель всего человечества.
Сохраняется уникальность и неповторимость каждого
отдельного человеческого «Я» и «Ты», сохраняется неразрывная связь
индивида с другими людьми.
Нам представляется также, что концептуализация индивида
на основе понятия феха служит гарантией против искуса
самообожествления и надежным средством для сохранения дистации
между Богом и человеком. Эту дистанцию нельзя преодолеть ни
мистическим экстазом, ни диалектикой. Система, в которой
философское «Я» выступает творцом мира, источником «не-Я»,
становится невозможной, если методическим средством для
открытия «Я» оказывается грех.
125
Хочется также обратить внимание на удивительную
актуальность развиваемой Когеном идеи «Я». Ведь у него субъект, «Я»,
индивидуализируется через его ответственность перед другими
людьми. Тема ответственности как основы для идентификации
субъекта активно обсуждается в современной литературе
(ср.: Щитцова Т.В., 2006; Рено А., 2002). Подход Когена кажется
нам более глубоким, поскольку он не просто декларирует
ответственность как определяющую характеристику субъекта, но
и учитывает при этом его греховную, эгоистическую,
недальновидную природу.
Исходя из того, что для религии разума источником греха
является свободная человеческая воля, Коген критикует
объяснение безнравственных человеческих поступков влиянием среды
и вообще подвергает критике объяснения, предлагаемые
историческим материализмом, потому что они игнорируют
человеческую свободу.
Идея индивида как «Я» выступает продуктом и необходимым
моментом религии разума, потому что без этой идеи лишаются
смысла представления о свободе воли и нравственном
долженствовании и ответственности. Этапы становления этой идеи
Коген видит в борьбе пророков против жертвоприношений
животных и в их требовании раскаяния как единственного
способа искупления. Идея жертвоприношений, в самом деле, сильно
отдает язычеством, и пророки, по утверждению Когена, это
прекрасно чувствуют. Их борьба с жертвоприношениями
доходит до подлинной борьбы с культом во имя чистой
нравственности.
Тем не менее в религии разума Когена находится место и для
культа. Этим его религия разума принципиально отличается от
кантовского понимания религии в пределах только разума. Уже
говорилось, что для Канта религия разума совпадает этикой, -
у Когена же она имеет собственную сферу. Сейчас мы достигли
момента, когда эта сфера выступит перед нами во всей
определенности.
Этика не знает понятий раскаяния и искупления. Но означает
ли это, что «Я» остается навеки безысходно грешным и
виновным? Нет. Религия разума, в отличие от этики, говорит человеку
о возможности прощения и спасения. Бог - тот, кто может дать
искупление. Недаром выше говорилось о том, что Бог дает
человеку «новый дух и новое сердце», т. е. возможность начать
сначала. Раскаяние открывает человеку возможность примирения
126
с Богом, что - как отмечает Коген с большой, на наш взгляд,
тонкостью - равносильно примирению с самим собой.
Заметим в то же время, что выражение «Бог дает» (новый дух,
новое сердце) применительно к когеновской концепции надо
понимать, скорее, как метафору, потому что в религии разума не
идет речь ни о чем подобном христианскому учению о благодати.
Ниспослание благодати, в самом деле, разрушило бы
корреляцию. Поэтому здесь речь может идти только о том, что человек,
раскаявшись, своими силами начинает снова и пытается
избавиться от греха.
В то же время религия разума учит о том, что индивид как «Я»
обращается к единственному, исключительному, Богу как
источнику поддержки и прощения. Но что значит искупление? Не
противоречит ли эта идея этике? Не противоречит в той мере, в какой
искупление мыслится только как результат раскаяния человека
и его личных усилий по исправлению. Так сказать, «активную
роль» здесь должен играть сам человек. Коген опять настаивает на
том, что корреляция не допускает посредников между человеком
и Богом. Человек сам и только сам, собственными усилиями
«добивается» искупления своего греха. Возможность искупления
означает возможность обновления человеческого духа, даруемую Богом1.
Воплощением этих идей личной вины, уникальной,
личностной связи человека с Богом, прощения и обновления
человеческого духа Когену представляется важнейший религиозный праздник
иудаизма Йом Кипур, или День Искупления. Дело в том, что
раскаяние и искупление не могут быть только личным делом
человека. Он не может «сам себя простить». Отсюда раскрывается
значение религиозного ритуала и религиозной общины.
Коген предпринимает экскурсы в историю евреев,
анализирует роль священника и жертвоприношения в иудаизме периода
вавилонского пленения и Второго Храма. Он стремится показать:
к роли ритуала в религии надо подходить
конкретно-исторически. Заметим, насколько существенно его позиция в этом
вопросе отличается от позиции Канта. Коген стремится показать, что
ритуал жертвоприношения в иудаизме постепенно приобрел
значение публичного акта раскаяния и без такового не имел никакой
По мнению М. Цанка, идея искупления является центром тяжести всей
когеновской философии религии, создавая основу для концептуализации
нравственной автономии личности, без которой нет этики. Поэтому он посвятил этой
концепции Когена, ее генезису и связи с другими частями когеновской системы,
отдельное исследование (Zank M., 2000).
127
ценности. Таким образом, в контексте проблемы греха и
раскаяния восстанавливается значение ритуала как выработанного
культурой института признания вины. Признание вины и
раскаяние предполагают религиозное сообщество, и богослужение
выступает как ненасильственный способ его организации и
поддержания его единства.
Ко ген утверждает также, что жесткая регламентация обряда
как раз способствовала тому, чтобы священник, разделывавший
жертвенное животное, не воспринимался как заместитель Бога.
Простить и отпустить грех может только Бог, и для этого
необходима внутренняя работа раскаяния.
Обсуждая тему отпущения греха, нельзя не вспомнить
упоминаемый в Библии ритуал «козла отпущения», как кажется,
напрочь лишенный этического содержания: вместо кающегося
грешника наказывается ни в чем не повинное животное. Однако
под пером Г. Когена данный ритуал становится источником
достаточно оригинального концептуального построения. Дело
в том, что, как он разъясняет, данный ритуал можно было
применять только в случае «шегага», т. е. нечаянной,
непреднамеренной вины, короче - греха, совершенного по незнанию. Мы могли
бы подумать, что шегага - слишком частный и нехарактерный
пример греха, потому что, как мы прекрасно знаем, по большей
части люди причиняют зло ближним вполне сознательно и
намеренно. Однако это ставит перед религией разума серьезную
проблему - может ли вообще вина быть искуплена? Может ли
человек очиститься от греха? Этично ли это? И Коген начинает
говорить, что, по большому счету, каждый грех есть шегага, т. е.
каждый грех проистекает из незнания. При этом он ссылается на
известную позицию Сократа, согласно которой добродетель есть
знание добра (см. также Zank M., 2000).
Как отнестись к рассуждениям Когена? Легко ли согласиться
с тем, что всякое зло сотворено по незнанию? Тогда что такое
«знать»? Наверное, практически все люди в современном
обществе «проинформированы», что нельзя грабить и убивать. И в то
же время большинство людей современного общества не знают
чего-то чрезвычайно важного о человеческой жизни и ее
ценности. Не знают - в смысле «не понимают», «не пережили
экзистенциально». В то же время если грех проистекает из незнания,
то он может быть прощен и искуплен. Но всякий ли грех может
быть искуплен? Геноцид? Захват в заложники невинных детей
и их мучения? Вопросы можно задавать и задавать, и окончатель-
128
ного ответа на них, скорее всего, не может быть. Окончательный
ответ знает только Бог, непостижимым для человека образом
сочетающий справедливость и милосердие.
Мы же сейчас хотим обратить внимание на следующее. В
современной философии критикуется классическая
метафизическая концепция субъекта. В наши дни «классический субъект»
обвиняется в том, что в нем заложены тотализаторские и гегемо-
нистские тенденции, и даже ориентация на насилие по
отношению к Другому. Как мы пытались показать в главе 1, подобная
критика не лишена оснований. Названные черты классической
концепции субъекта оказались более явными для еврейской
философии, которая сама находилась в позиции Другого, задолго
до возникновения постмодернистской философии,
озвучивающей позицию многообразных Других современного общества.
Сейчас в философии идет работа над понятием субъекта,
учитывающим его «радикальную конечность». Поэтому нам хочется
обратить внимание на то, что субъект, выстраиваемый Когеном
с помощью понятий греха и очищения и с помощью идеи, что
грех есть результат незнания, воистину «радикально конечен».
Каждый человек грешен, следовательно, каждый не обладает
знанием. Здесь мы видим у Когена решительный разрыв с
классической традицией, для которой субъект как раз характеризовался
через обладание знанием - основоположениями науки и морали.
Этот разрыв очень глубок. В то же время его глубина умеряется
тем обстоятельством, что Коген не сомневается - или не
позволяет себе усомниться - в том, что человечество движется к
такому знанию, которое стоит перед человечеством как бесконечная,
до конца нереализуемая задача. Речь, таким образом, идет о
бесконечном историческом движении. При этом субъект становится
историчным, что означает, в частности, исторически
ограниченным.
Классический метафизический субъект не имел временного
измерения. Поэтому невозможно было бы мыслить его смерть.
Недаром он был наследником христианского понятия души.
И даже Кант постулирует в своей этике «продолжающееся до
бесконечности существование и личность разумного существа»
(Кант И., 1965 а. С. 455), т. е. придает субъекту перспективу
бесконечного развития. Субъект, определяемый концепцией
Когена, радикально конечен и в самом буквальном смысле слова.
Он смертен.
129
Мессианизм как кульминация религии разума
Искупление греха осуществляется в этом, и только в этом
мире. Религия разума отказывается обсуждать таинственные
и захватывающие вопросы загробного существования. В отличие
от Канта, утверждавшего, что без идеи бессмертия души не может
быть религии, для Когена, напротив, данная идея противоречит
религии разума, т. е. истинному монотеизму. В самом деле,
представление о вечных загробных муках слишком жестоко, а идея
загробного вознаграждения полностью разрушает автономию
этики и опять утверждает эвдемонизм: целью человеческой
жизни становится не исполнение нравственного долга самого по
себе, а снискание загробного блажества.
Далее, идея «того света», загробного существования, носит
очевидный мифологический характер. Суждения о «том свете»
выходят за пределы возможного опыта и возможностей нашего
разума.
Поэтому чаяние будущего спасения, характерное для религии,
в религии разума превращается в веру в будущее человечества. Коген
изменяет кантовскую идею бессмертия души. Для него эта идея
разума указывает на бесконечное развитие человеческого рода. При
этом Коген опять-таки отмечает заслугу иудаизма в преодолении
мифологических и эвдемонистских наслоений, заслоняющих
истинное содержание идеи спасения в религии разума.
Именно у пророков со всей определенностью и страстью
выражена идея того, что в будущем должны оыть достигнуты
социальная справедливость, братство всех людей и мир между
народами. Коген подчеркивает также значение
рационалистической установки Маймонида, который заменяет гадания о «том
свете» разговором о будущем времени.
Коген постоянно повторяет, что миф обращен к прошлому,
а истинный монотеизм - к будущему. Поэтому, по его
убеждению, истинный монотеизм включает в себя провиденциальное
истолкование истории. Вопрос о смысле и направлении истории
неразрывно связан с проблемой зла. Истинный монотеизм,
убежден Коген, должен требовать, чтобы зло было устранено. В
истолковании Когена он оказывается равносилен требованию
справедливости и сострадания. Отсюда перед человечеством встает
бесконечная задача преодоления социальной несправедливости
и неравенства. Эта задача неразрывно связана с монотеизмом,
потому что именно библейская идея единого Бога, по Когену,
130
явилась источником представления о едином человечестве
и о том, что каждый, даже иноплеменник, чужестранец,
заслуживает любви и сострадания. Коген находит такое понимание
истории главным образом в книгах библейских пророков. Для его
раскрытия ключевое значение имеют образы чужестранца, вдовы
и сироты, ибо сутью монотеизма для Когена является признание
в «Другом» - поистине «Ближнего». Иудейские пророки
провозгласили универсалистское понимание человечества, истории
и будущего. Они говорили о наступлении эры мира и
справедливости для всех народов.
Мессианизм выступает как кульминация монотеизма. Иудаизм,
как считает Коген, принес человечеству ту мысль, что история
имеет будущее, т. е. что она имеет моральное и духовное значение.
Само понятие истории есть идея ветхозаветных пророков. Идея
истории - это то, к чему не смогла прийти греческая мысль. Для
греков история понималась как знание прошлого, тогда как у
пророков она выступила как устремленность к будущему.
Жить в истории, полагает Коген, - значит обладать чувством
долга и чувством справедливости, быть способным к состраданию
и сопереживанию (вопреки античному идеалу бесстрастности).
Однако голое требование оставалось бы бессильным, если бы Бог
не был гарантом его исполнимости. Поэтому провиденциальное
истолкование истории в духе этического социализма составляет
неотъемлемую часть когеновской «религии разума».
«Корреляция Бога и человека обосновывает царство
нравственности, Царство Божие на Земле. Милость Божия в виде
прощения грехов является знаком нравственного мира, в той мере,
в какой его членами являются индивиды, а не только люди -
члены социума, чьими действиями управляет идеал святости.
В мире целей сочетаются святость и милосердие,
множественность людей и индивидуальность человека. Человечество в своем
единстве, являющемся аналогом божественного единства,
объединяет оба элемента» (Cohen H., 1929. S. 251). Таким образом,
религия разума требует веры в единство и прогресс человечества,
прогресс социальный и нравственный.
Оценивая когеновское учение о «корреляции», надо еще раз
подчеркнуть, что оно с необходимостью предполагает провиден-
циалистскую концепцию истории. Именно история, выступая
как бесконечное движение к заданной цели - достижению
социальной справедливости, - оказывается бесконечным
подтверждением реальности Бога, Творения и Откровения. Коген факти-
131
чески придает истории трансцендентальное и эсхатологическое
значение. Такое видение истории тоже принадлежит,
по-видимому, безвозвратно ушедшей от нас эпохе. По тому расстоянию,
которое отделяет нас от него, мы можем оценить объем
поучительного и трагического опыта XX века.
Переход от идеи бессмертия индивидуальной человеческой
души к идее бессмертия человечества как целого можно
рассматривать как завершение деконструкции классической
метафизической концепции субъекта.
Индивидуальное человеческое «Я», обладающее единством,
самосознанием, разумом с записанными в нем априорными
законами науки и морали, окончательно перестает быть
метафизической данностью (тем более не может быть природной
данностью!) и становится конструкцией разума. Конструкцией,
которая тем не менее направляет историческое движение
человечества.
Идея корреляции как фундамент новых онтологических построений
Подытожим наш анализ когеновского понятия корреляции
и еще раз подчеркнем его особенности. Потому что, как нам
представляется, здесь можно разглядеть черты новой онтологии,
складывающейся в XX веке.
В основании онтологических идей Когена лежит, как нам
кажется, кантовский тезис об автономии практического разума и
его праве постулировать собственные объекты, существование
которых остается проблематичным для теоретического разума.
Итак, для Канта Бог, свобода, бессмертие души существуют как
объекты практического разума. Они существуют для такового
разума, или, как выражается Кант, «только с практической
достоверностью». Но в то же время отсюда не следует, что они для
Канта менее реальны, чем объекты теоретического разума. Они,
может быть, даже гораздо более реальны. Но эта реальность по-
другому дается разуму и по-другому для него выступает.
Представляется, что именно такой модус существования
определяется когеновским учением о корреляции, прежде
всего - корреляции человека и Бога. В этом отношении для меня
существует нечто как независимое от меня и составляющее основу
моего существования.
Корреляция - это реальное отношение. Соответственно,
реальны и его объекты, хотя это совершенно особый модус
существования. Он отличается от физического существования объек-
132
тов в пространстве и времени. Его нельзя мыслить как
существование в особом метафизическом, но все равно «объективном»
измерении. Его в то же время ни в коем случае не следует
мыслить как «заключающееся только в сознании человека». Это
существование не сводится к сознанию, подобно тому как,
например, экзистенциалы не сводимы к представлениям в
сознании. Этот сложный, трудно описываемый модус существования
позволяет нам утверждать, что мысль Когена перекликается
с онтологическими исканиями Э. Гуссерля или Н. Гартмана.
Анализируя понятие корреляции, мы и начинаем понимать,
что Коген действительно дает очень многое современной
онтологии. В то же время, как мы увидим далее, он закладывает
концептуальную основу и намечает основные темы философии диалога.
При этом он остается верен духу философии критического
идеализма. На наш взгляд, следует согласиться со словами
авторитетного исследователя его творчества, А. Помы: «Мнение
Розенцвейга, что религиозная философия Когена на ее
последнем этапе была отказом от идеализма и обращением к
экзистенциальной философии... опирается на выделение и
подчеркивание в рассуждениях Когена темы индивида и на интерпретации
когеновского понятия корреляции в связи с этой темой. Но мне
представляется, что более правильным и верным Когену будет
прямо противоположное: надо включить тему индивида в
контекст принадлежащего критической философии понятия
корреляции и осмыслить его новое развитие в поздней религиозной
философии Когена. Как мы видели, учение о корреляции Бога
и человека, в общем виде раскрывающееся в понятии святого
духа, должно пониматься не как отход Когена от критической
философии, но как последнее необходимое распространение
критической рефлексии в направлении ее предела...» (Рота А,
1997)
ГЛАВА 4. ФРАНЦ РОЗЕНЦВЕЙГ: ОТ ГЕГЕЛЕВСКОЙ
ТРИАДЫ К ЗВЕЗДЕ ДАВИДА; ОТ ДИАЛЕКТИЧЕСКОГО
СНЯТИЯ - К ДИАЛОГУ
Франц Розенцвейг был непосредственным учеником Германа
Когена, однако не в Марбурге, а в Берлине. Он слушал лекции
Когена по иудаике. Если в Марбурге у Когена были такие яркие
ученики, как Кассирер или Наторп, то самым одаренным
учеником в последний период его творчества был именно Розенцвейг.
Это имя практически неизвестно философской
общественности, особенно в нашей стране1. В то же время Р. Джиббс
(Gibbs R., 1992) видит в Розенцвейге истинно
постмодернистского мыслителя, во многом опередившего Хайдеггера. А известный
американский философ-аналитик X. Патнем стремится привлечь
внимание к этому мыслителю, обнаруживая параллели между
розенцвейговской и витгенштейновской критикой классической
философии (Rosenzweig Fr., 1999. P. 2-10).
Почему же его творчество долгие годы оставалось практически
неизвестным? Причины лежат и в его личной судьбе, и в общей
судьбе, постигшей немецкое еврейство в тридцатые годы XX века.
Судьба и творчество
Франц Розенцвейг родился в 1886 г. в г. Касселе (Германия)
как единственный ребенок в семье состоятельных,
образованных, ассимилированных евреев, следовавших еврейским
обычаям лишь по большим праздникам (его биографию см. подробно
в: Glatzer N.N., 1961; интересные подробности о семье и круге
Розенцвецга см. также: Mendes-Flohr P., 1999). Он шел обычным
В последние годы в нашей стране внимание к этому оригинальному мыслителю
пытались привлечь В.Л. Махлин, А.И. Пигалев, Л.В. Наместникова (см.
библиографию). Интерес к его наследию возрождается в Германии. Издано
четырехтомное собрание его работ (см.: Franz Rosenzweig: Der Mensch und sein \\ferk,
1974-1984). В 1986 г. в родном городе Розенцвейга, Касселе, состоялась
конференция, посвященная столетию со дня рождения философа. По ее материалам
вышло в свет издание: Der Philosoph Franz Rosenzweig (1886-1929).
134
для детей из таких семей путем: гимназия, потом университет.
Правда, в гимназические годы он попросил родителей взять для
него учителя еврейского языка. Он учился в университетах
Берлина, Фрайбурга и Лейпцига. В 1905-1907 гг. Розенцвейг
изучал медицину, но потом ненасытный интерес к истории культуры
взял верх над всеми другими планами. Несмотря на
сопротивление отца и при поддержке матери он стал заниматься
современной историей и философией. В годы учебы он испытал влияние
Баденской школы неокантианства с ее глубоким вниманием
к проблемам развития культуры. Его научным руководителем
стал известный историк Фридрих Мейнеке. Под его
руководством Розенцвейг в 1910 г. начал изучать эволюцию
политических идей Гегеля в контексте его биографии. В 1912 г. один из
разделов этой работы Розенцвейг защитил как свою докторскую
диссертацию. Исследование было завершено в 1914 г. и
опубликовано как двухтомный труд «Hegel und der Staat» («Гегель
и государство») в 1920 г. «В этой работе Розенцвейг, на основе
биографического подхода, прослеживает драматическое развитие
гегелевской философии истории и политической философии,
философии, в значительной мере обусловленной собственной
судьбой Гегеля» (Glatzer N.N., 1985. Р. х). Названная работа
получила благоприятный прием у специалистов и открыла для
Розенцвейга перспективы престижной академической карьеры:
ему была предложена доцентура в Берлинском университете.
Однако Розенцвейг отклонил это предложение. В письме к
своему учителю Мейнеке, пытаясь объяснить мотивы отказа, он
пишет и о своем растущем разочаровании в академической
философии. Он говорит, что боится быть «представителем
определенной дисциплины». Профессиональная философия
представляется ему фантомом или ненасытным вампиром, высасывающим из
человека, который достался ей в полное владение, все
человеческое. Вопросы, задаваемые такой философией, признавался
Розенцвейг, теперь представляются ему бессмысленными. А вот
вопросы, которые человек задает, потому что они важны для его
жизни, - полными глубокого смысла.
Такими примерно словами Розенцвейг пытался объяснить
своему бывшему учителю глубокое разочарование в философии
классического немецкого идеализма, которая, заметим сразу, для
него выступала преимущественно в облике гегелевской системы
с ее претензией на снятие всех противоречий, всеохватность
и достижение абсолютной истины.
135
Но это было еще не все. В письме Розенцвейг упоминал также
о глубоком личном кризисе, который он пережил в 1913 году. Он
писал, что именно тогда пришло к нему осознание того, что его
путь до того пролегал среди фантомов и призраков; что изучение
истории служило всего лишь удовлетворению его «жажды форм,
ненасытной восприимчивости» (цит по: Glatzer N.N., 1985. Р. х).
Тогда он стал искать самого себя и в глубине своего существа
нашел то, что давало ему «право жить». Он нашел то, что
унаследовал от своих предков, что, таким образом, было действительно
его собственным. «Моя жизнь подпала под действие того
"темного порыва" (выражение, которое Мейнеке использовал в своем
письме к Розенцвейгу. - З.С.), который, я уверен, можно
обозначить, только назвав его "моим иудаизмом"» (Ibid.).
Что же произошло с нашим героем в 1913 г.? Вообще, его
волновали не только проблемы философии, но и вопрос об
отношении к религии. Розенцвейг много обсуждал этот вопрос со
своими ближайшими друзьями, кузенами Хансом и Рудольфом
Эренбергами1 и Ойгеном Розенштоком-Хюсси, чьи лекции
о средневековом праве он как раз тогда посещал с большим
удовольствием, повинуясь своему глубокому интересу к истории
и «ненасытной жажде форм». Его кузены, в отличие от него
самого, приняли христианство. Розеншток-Хюсси, также еврей и
христианин, даже характеризуется в некоторых источниках как
«протестантский теолог». Позиция Розенштока-Хюсси,
интеллектуала и убежденного верующего, производила большое
впечатление на Розенцвейга и казалась единственным выходом из
исторического релятивизма. К тому же Розенцвейг соглашался
с друзьями, что иудаизм в современном обществе является
анахронизмом. Однажды, июльской ночью 1913 г., под давлением
Розен штока-Хюсс и, Розенцвейг согласился, что уже пора
сменить свою релятивистскую позицию на безусловную. Имелось
в виду, что надо сделать решительный шаг в сторону веры, т. е.
креститься.
Правда, Розенцвейг в споре с друзьями оговорил свое решение
одним личным условием: он считал, что должен прийти к
христианству не как язычник, а как иудей. Его друзья, припомнив
Тесное переплетение судеб немцев и евреев в Германии примечательным
образом отразилось в происхождении кузена Розенцвейга - Рудольфа Эренберга: по
отцовской линии он был потомком знаменитого талмудиста и каббалиста
Махараля из Праги, по материнской - потомком Мартина Лютера (см. Mendes-
FlohrP, 1999. P. 70).
136
раннее христианство, вполне одобрили это решение. Поэтому
крещение было временно отложено: Розенцвейгу предстояло
погрузиться в иудаизм, чтобы затем оттуда прийти к
христианству.
На первый взгляд это условие может показаться проявлением
непоследовательности и, может быть, даже неестественности:
некий «выверт» интеллектуала, привыкшего играть
историческими и культурными формами. Однако нам представляется, что
в данном случае не следовало бы спешить с оценками. Если
принять ту посылку, что христианство представляет собой
исторически более высокую форму религии, чем иудаизм, то решение
Розенцвейга воспроизвести в собственной жизни данное
прогрессивное историческое развитие - в своем онтогенезе
повторить филогенез - понятно. В то же время оно, несомненно,
демонстрирует нам глубину и своеобразие его исторического
чувства и его «ненасытной жажды форм». Дело выглядит так, что
Розенцвейг хотел непосредственно пережить и собственным
своим духовным развитием воспроизвести - подтвердить? -
«диалектическое снятие» иудаизма в христианстве. Таким
образом данное экстравагантное решение Розенцвейга
свидетельствует о том, сколь неслучайным было его обращение к философии
Гегеля с ее своеобразным историзмом.
В октябре 1913 г., накануне праздника Йом-Кипур1,
Розенцвейг приехал в родной город, чтобы провести праздник
вместе с матерью. Однако она, поняв, что он собирается порвать
с иудаизмом, выразила глубокое недовольство и отказалась идти
вместе с сыном в синагогу. Ему пришлось ретироваться, и так
получилось, что на праздник он пошел один, в первую
попавшуюся синагогу. Это была маленькая ортодоксальная синагога
в Берлине. То, что произошло с ним на этом богослужении,
многие его биографы описывают как мистическое переживание
бесспорной реальности Бога и близости души к Нему.
Йом-Кипур, Судный день, или День Искупления - один из важнейших для
иудаизма праздников. Это последний из так называемых Десяти Дней трепета, или Дней
покаяния. В этот день завершается Божий суд над всем сущим и выносится
приговор на следующий год. Сам Розенцвейг позднее описывал его так: «День
Искупления, являющийся высшей точкой десятидневного периода, посвященного
празднованию спасения, совершенно правильно называют субботой суббот.
Община возвышается до переживания близости Бога... особенно в тот момент,
когда священнослужитель, единственный раз в году, произносит невыразимое имя
Бога, что запрещено во всех других случаях, и все собравшиеся падают на колени.
И община непосредственно участвует в переживании близости Бога, когда
произносит молитву, обращенную к будущему...» ( Rosenzweig Fr, 1985. P. 324).
137
Был ли обращен к Розенцвейгу в ту ночь мистический «зов» -
не нам судить. Ведь речь у нас идет о философских идеях этого
автора. Но говорить о них, не сказав ничего о его судьбе,
невозможно, потому что он, подобно Кьеркегору, искал философии,
с которой человек мог бы жить, а не только излагать ее в
собрании профессионалов-специалистов. Он ушел от гегелевской
диалектики, потому что, как и Кьеркегор до него, почувствовал
обман: по этой философии можно читать лекции, но с ней
нельзя жить.
Описывая событие, произошедшее с Розенцвейгом в ночь
11 октября 1913г., вполне можно остаться в рамках
общедоступного рационального опыта, если говорить о случившемся тогда
«переживании» и вызванном им решении. «Переживание» стало
одним из важнейших понятий в философских рассуждениях
Розенцвейга. Что, впрочем, неудивительно, если вспомнить
о влиятельности философии жизни в Германии тех лет. Что же
касается содержания этого переживания, то спустя некоторое
время, рационализировав его в теологических терминах, он
объяснял Эренбергам, что то было переживание близости к Богу,
не нуждающейся в посреднике. Отныне он не согласен с
утверждением, что христианство обладает всей истиной и что иудаизм
уже выполнил свою историческую миссию.
Заметим, что гегелевская философия существенным образом
построена на «опосредованиях». Поэтому религиозные
переживания Розенцвейга имеют самое прямое отношение к той
установке, которую он принял относительно философии, и к тому
концептуальному пути, по которому он пошел, стремясь
преодолеть влияние гегелевской мысли. И здесь мы еще раз можем
убедиться в том, что еврейская философия, рождавшаяся из встречи
европейской философской традиции и религии иудаизма,
содержит проблемы и решения, представляющие интерес не только
для еврейской религии, но и для европейской философии.
Ниже мы будем говорить об этом подробнее, а сейчас
вернемся к Францу Розенцвейгу, которого мы оставили поздней осенью
1913 г. осмысливающим свое «переживание».
Осенне-зимний семестр 1913/14 г. он посвятил изучению
классических источников иудаизма. В это время он слушает лекции
Германа Когена в Lehranstall für die Wissenschaft des Judentums
(приблизительно можно перевести это название как: Академия
научного изучения иудаизма). Между ними завязываются
близкие, дружеские отношения. В то же время надо признать, что
138
в лице Розенцвейга Коген получил совсем не подходящего себе по
темпераменту ученика. Розенцвейгу был далек его рационализм.
Да и с философской системой Когена он, похоже, был знаком не
слишком хорошо. Первую и основополагающую книгу когенов-
ской системы, «Логика чистого познания», он начал читать
только в середине 1918 г. и в письме к матери жаловался, до чего
тяжело она написана, и как трудно дается ее чтение (Gibbs R., 1992.
Р. 47). В 1929 г. он писал по поводу судьбы трудов Когена: «...его
собственная система за пределами узкой школы осталась
практически незамеченной и так и пребывает в тени его более ранних
интерпретаторских сочинений» (Rosenzweig Fr., 1957 a. S. 355).
И безжалостно добавлял, что эта система была плодом
уединенных размышлений очень волнуемого временем, но очень чуждого
этому времени духа. Ученик считает, что его учитель со своим
строгим рационализмом остался слеп и глух по отношению к
важнейшим тенденциям и запросам эпохи. Для Розенцвейга эти
новые, насущные тенденции воплощает преемник Когена на
кафедре Марбургского университета М. Хайдеггер. Характерная
деталь: в заметке, посвященной давосскому диспуту между
Хайдеггером и Кассирером, на котором Кассирер защищал коге-
новскую интепретацию философии Канта, Розенцвейг
утверждает, что именно Хайдеггер, а не Кассирер «занимает философскую
позицию [eine philosophische Haltung]... которая полностью лежит
в русле, выходящем из идей "позднего Когена"» (Rosenzweig Fr.,
1957 a. S. 356). Розенцвейг имеет в виду защиту Хайдеггером идеи
человека как конечного существа и его связи с Ничто. Такие
экзистенциальные мотивы, указывающие на особенность
человеческого Dasein по сравнению со всем прочим сущим, как считает
Розенцвейг, появились в поздней, религиозной философии
Когена, которая представляется Розенцвейгу принципиальным
разрывом со всем предшествующим идеализмом, в том числе
и с критическим идеализмом самого Когена.
Здесь мы видим проявление принципиальной установки
Розенцвейга: он убежден, что философия не может
ограничиваться только разумом, если она действительно хочет отвечать на
экзистенциальные вопросы живого человека. Философия должна
признать право голоса за различными видами опыта. Позиция
Хайдеггера симпатична ему выходом за пределы чистого разума
и использованием особого метода и вида опыта -
проинтерпретированного в духе феноменологической школы переживания
страха смерти и Ничто. Сам Розенцвейг в своих философских
139
построениях, как мы увидим ниже, апеллировал и к такому
опыту, и к религиозному опыту, и к языку. Он не только не
заботился об оправдании этих источников перед лицом разума -
напротив, самый стиль его изложения демонстрировал дерзкий
вызов и полное неприятие подобного требования об оправдании.
Коген, заявляет Розенцвейг, оказывается на голову выше всей
Марбургской школы, когда в своей религиозной философии
рассматривает разум как «сотворенный», а не «творящий» (Ibid.
S. 356). Данное замечание красноречиво говорит о том, каким
образом Розенцвейг воспринимал идеи Когена и что он вынес из
своего обучения у него.
Подобная принципиальная апелляция к религиозному опыту,
и особенно к стилю и настрою религиозной жизни иудаизма,
конечно, противопоставляла Розенцвейга профессиональной,
дисциплинарной философии - если, как уточняет Джиббс,
подразумевать философию модерна. Ибо та же самая установка
использования разнообразных источников и критическое
дистанцирование по отношению к классической философии разума делают
Розенцвейга как раз полноправным представителем философии,
но только постмодернистской (Gibbs R., 1992. Р. 20-21).
Нам представляется, что с этим суждением нельзя не
согласиться. В то же время такая констатация может вызвать вполне
справедливый вопрос: а является ли подобный
«постмодернистский» стиль вообще философским? В самом деле, при всей
склонности к постмодернистскому свободному стилю мы
согласны с теми, кто продолжает считать, что философия все-таки
остается полем рациональных дискуссий. Здесь должна сохраняться
возможность обмена аргументами и движения к
взаимопониманию позиций. А что можно обсуждать, о чем дискутировать, если
рассуждение базируется, скажем, на мистическом опыте?
Отметим, кстати, что, хотя М. Хайдеггер не апеллирует
к мистическому опыту, стилистика его текстов такова, что
подобное рациональное обсуждение тоже оказывается невозможным
(по меньшей мере неуместным). Не случайно П-П. Гайденко
указывает на истоки хайдеггеровского учения о бытии в немецкой
мистике (Гайденко П.П., 1997. С. 360-363).
Относительно Розенцвейга мы опять упираемся в вопрос о его
мистическом опыте и о характере его философии, которую
подчас определяют как мистическую. Например, рецензия
С.Л. Франка на главный труд Розенцвейга так и называлась:
«Мистическая философия Розенцвейга» (Франк С, 1992).
140
Однако нам представляется, что концепцию Розенцвейга
можно рассматривать и без апелляций к мистическому опыту.
Это позволяют сделать когеновское понятие корреляции и
вырастающая на его основе своеобразная онтология.
В то же время эта концепция, конечно, опирается на особое
розенцвейговское мирочувствование. Однако то же самое можно
сказать о любой философской системе. Разве метафизическая
система Спинозы не является выражением его мирочувствова-
ния? А дуализм Декарта? Тем не менее для классической
философии данное обстоятельство было «побочным» и не имело статуса
допустимого источника конструирования философских систем.
Официально в качестве такового признавались только
самоочевидные принципы разума.
Хайдеггер смело представил философскую систему,
являющуюся выражением определенного чувствования, и дал понять,
что другой она и не может быть. Но надо указать, что за
несколько лет до него это сделал Розенцвейг. Конечно, их общими
предшественниками на этом пути были Кьеркегор и Ницше. В то же
время интересно отметить, что Хайдеггер использовал
своеобразно истолкованный феноменологический метод, а Розенцвейг -
своеобразно понятый когеновский принцип корреляции.
Пытаясь подобрать какое-то обозначение или ключик к тому
мирочувствованию, которым, как нам кажется, веет от страниц его
работы, мы решились бы на такую формулировку: это
переживание «быть любимым». Так, он замечает в «Звезде Спасения», что
мы имеем непосредственный опыт существования Бога только
в силу того факта, что он нас любит... (Rosenzweig Fr., 1985. P. 381)
И тут выступает глубокое различие между Розенцвейгом и Ко-
геном, у которого основу корреляции между человеком и Богом
составлял опыт «быть должным». Здесь можно усмотреть и корень
глубокого различия философии Розенцвейга и Хайдеггера.
Следует еще раз повторить, что мы осознаем всю субъективность
подобных формул, слишком броских и сжатых. Простые
объяснения, конечно, всегда привлекательны, но тем-то они и опасны.
Но если и признать, что в основе религиозного
мироощущения Розенцвейга в самом деле было что-то подобное тому, о чем
мы сказали, то дальнейшая судьба преподнесла ему такое
испытание, как немногим, что, однако, только углубило, а не
подорвало его религиозные убеждения.
Изучение иудаики, в которое страстно окунулся Розенцвейг,
было прервано Первой мировой войной. Он вступил в армию в на-
141
чале 1915 г. Сначала служил санитаром, а с весны 1916 г. - в
противовоздушном соединении на Балканах. Войну он прошел до самого
конца, имел ранения, но именно «во время этих военных лет его
интеллектуальная позиция достигла зрелости и стала готова
к письменному выражению» (Glatzer N.N., 1985. P. xiii).
Пребывание на Восточном фронте предоставило Розенцвейгу
возможность наблюдать мир евреев Восточной Европы: польских
ашкенази и балканских сефардов. Это был тот консервативный,
ортодоксальный мир, который казался либеральному
германскому иудаизму темным и невежественным. Однако на Розенцвейга
он произвел весьма положительное впечатление. С 1916 г. он,
продолжая находиться в действующей армии, собирает информа •
цию о еврейском религиозном образовании в Германии и пишет
проекты его реформирования, чтобы придать ему ориентацию не
на высокий научный уровень исследований, а на
экзистенциальные нужды отдельных людей (Розенцвейг Ф., 2001. См. также:
НаместниковаЛ., 2001).
В 1916 г. О. Розеншток-Хюсси прислал Розенцвейгу свой текст
под названием «Прикладное познание души» (Angewandte
Seelenkunde) (см. Розеншток-Хюсси О., 1998; см. также:
Bienenstock M., 1999). Высказывается мнение, что именно этот текст
послужил толчком, побудившим Розенцвейга взяться за
написание собственной работы. Данный текст Розенштока-Хюсси был
посвящен критике философии духа во всех ее формах и попытке
ее замещения определенным учением о душе, которое было бы не
только психологическим, но и социальным. В самом деле, полагал
Розеншток-Хюсси, сводить душу к «духу» - значит заранее
исключить саму возможность понимания подлинной природы
человеческого сообщества. Ошибка философии духа, как ее видит
Розеншток-Хюсси, состоит в том, что она игнорирует грамматику.
При рассмотрении индивида она исходит из первого лица, из «Я»,
и на первом же лице и останавливается, тогда как в грамматике
души на первом месте стоит второе лицо, «Ты». «Я» возникает
в ответ на «призыв». Самым первым личностным опытом ребенка
является осознание того, что он есть «Ты» для Другого, что к нему
обращают слово, его зовут. «Я» формируется как томление по
призыву, как жажда услышать обращенное к нему «Ты». Душу,
таким образом, надо понимать, исходя из диалога, а не монолога,
как это делала идеалистическая философия.
По мнению некоторых исследователей, это понятие «призыва»
легло в основу того истолкования, которое Розенцвейг дает поня-
142
тию Откровения. Он проясняет для себя это понятие осенью
1917 г., а в ноябре пишет Р. Эренбергу письмо, которое сам
позднее называет «зародышем» (или «первоклеткой» - «Urzelle» своей
книги; см.: Rosenzweig Fr., 1957 b, a также: Махлин В.Л., 1995 а).
Здесь он объявляет, что нашел наконец архимедову точку опоры
для своей мысли. В течение многих лет он пытался найти
философское определение Откровения, т. е. такого знания, которое
имеет источник не в самом человеке. Можно было бы подумать,
что это чисто теологическая тема, требующая специальной
компетенции и права ее обсуждать. Однако заметим, что Розенцвейг
мыслит и обсуждает ее как чисто философскую, понятийную
проблему. Более того, влияние Гегеля с его понятийным
выстраиванием-порождением ощущается в этом (неформальном,
написанном для близкого и понимающего с полуслова человека) тексте
весьма сильно. Розенцвейг не прибегает к религиозным
авторитетам и не ссылается на какой-либо особый «опыт». Тут нет ни
мистики, ни религиозной догматики, а есть очень рациональное
понятийное построение и и фа культурными и
историко-философскими ассоциациями. Поэтому мы находим здесь
подтверждение нашего права рассматривать концепцию Розенцвейга как
явление истории философской мысли, не смущаясь отсутствием
собственного мистического опыта и теологической эрудиции.
Подчеркнем далее, что это явление европейской философской
мысли, не ограниченное конфессиональными рамками и потому
представляющее общий интерес. Наиболее важным в этом письме
нам представляется то, что здесь четко ставится вопрос о бытии:
речь идет не только о разуме, но и о бытии самого разума, которое
не сводится, не заменяется обоснованием бытия в разуме.
Аналогично, бытие Бога несводимо и невыразимо через его
понятие. Это различение, собственно, и обеспечивает концептуальное
пространство для философского истолкования Откровения,
которое Розенцвейг основывает на необходимой связи «Я» и «Ты»:
связи, необходимой для становления самого «Я».
В августе 1918 г., еще будучи в армии на Балканах, Розенцвейг
начинает писать текст своей книги «Звезда Спасения».
Отечественный исследователь творчества Розенцвейга В.Л.
Махлин отмечает, что «как мыслитель, Розенцвейг - автор одной
книги. "Звезда Спасения"... в качестве
систематически-программного опыта преобразования фундамента западноевропейского
философского разума «от ионийцев до Иены» (т. е. от Фалеса до
Гегеля) стоит в одном ряду с аналогичными по замыслу и одно-
143
временными по осуществлению... "Архитектоника
ответственности" молодого Бахтина (1919-1923) и "Бытие и время" Хайдеггера
(1926). Стилистически-интонационный строй "Звезды",
сознательно-полемически ориентированный на отказ от цеховой
ограниченности и научно-безличной общезначимости,
полагающийся, скорее, на доверительный разговор в кругу друзей, еще
и сегодня оставляет как бы в свернутом виде необычайное
смысловое богатство и самую философскую архитектонику книги,
делая ее трудной для понимания» (Махлин В., 1998. С. 173).
Он писал очень быстро, на одном дыхании. Фрагменты,
созданные в походных условиях, он записывал на армейских
почтовых открытках, которые отсылал домой. Но основная часть
книги, разумеется, была написана уже после окончания войны
и возвращения в родной Кассель. Последний раздел
дописывался в феврале 1919 г. Книга вышла в свет в 1920 г.
«Работа есть торжествующее утверждение "нового мышлени"»:
мышления, которое ставит на место абстрактного
философствования и понятийных конструкций - здравый смысл; утверждает
ценность конкретного, отдельного человеческого существа по
отношению к "человечеству" как таковому; мышления, которое
всерьез принимает время; соединяет философию и теологию;
приписывает как иудаизму, так и христианству различные, но
в равной степени важные роли в духовной структуре мира; которое
считает обе библейские религии попытками постижения
реальности» (N.N. Glatzer, 1985. P. xiii). «..."Звезда Спасения" есть самая
значительная работа современной еврейской мысли, однако
одновременно она является самой трудной для чтения и потому не
выполняет функции опубликованного текста. Вопрос о влиянии
"Звезды Спасения" на последующую мысль значительно более
сложен, потому что слишком мало людей на самом деле поняли
книгу. Однако в кружке еврейских интеллектуалов она повлияла
на таких мыслителей, как Гершом Шолем, Вальтер Беньямин,
Эмиль Факенхайм, Лео Штраус, Андре Неер и, разумеется,
Левинас... а попытка оправдать одновременно и иудаизм, и
христианство вдохновляла многих людей, вовлеченных в диалог
между конфессиями» (Gibbs R., 1992. Р. 10).
Сам Розенцвейг считал свою книгу трудом по философии, а не
«книгой для евреев»: «Это вообще никакая не "еврейская книга";
по крайней мере, не то, что понимают под "еврейской книгой"
столь рассердившиеся на меня покупатели; в ней, конечно, идет
речь об иудаизме, но не больше, чем о христианстве, и лишь
144
немногим больше, чем об исламе. Она даже не претендует на то,
чтобы быть книгой по религиозной философии - да и как она
могла бы, если слово "религия" в ней даже не встречается! Это
просто система философии» (Rosenzweig Fr, 1957 с. S. 374). Ниже
мы попытаемся показать, что это сочинение действительно
содержит принципиальные и оригинальные философские идеи,
имеющие значение для развития европейской философской мысли.
В том же 1920 г. Розенцвейг женился, отказался от доцентуры
в Берлинском университете (о чем мы уже говорили выше)
и стал руководителем основанного им Свободного еврейского
дома учения (Freies Judisches Lehrhaus) во Франкфурте-на-
Майне. Он продолжает изучать Талмуд и сам ведет занятия
в доме учения. Последний представлял собой образовательный
центр для взрослых, предназначенный для свободного обучения
и дискуссий. «Свободный дом учения был частью усилий
Розенцвейга по обновлению сообщества немецких евреев, дав
возможность хорошо образованным еврейским интеллектуалам
услышать голос традиционных еврейских текстов. Розенцвейг
верил, что эти, в значительной степени остающиеся
незнакомыми, тексты могут повлиять на жизнь современных евреев.
Свободный дом учения стал образцом для организации
еврейской интеллектуальной жизни в Европе и Америке, а его
ученики и учителя составили круг плодотворно работавших еврейских
мыслителей двадцатого века: сам Розенцвейг, М. Бубер,
Г. Шолем, Ш.Й. Агнон, Э. Фромм, Лео Штраус, Эрнст Симон
и Нахум Глэтцер» (Gibbs R., 1992. Р. 6).
В 1921 г. Розенцвейг сделал попытку написать небольшое
и доступное сочинение, позволяющее публике воспринять
основные идеи «Звезды Спасения». Он озаглавил его «Книжечка
о здравом и больном рассудке» (см.: Rosenzweig Fr., 1999). Для
него Розенцвейг придумал следующий сюжет: пациент
парализован философией. «Его руки не могут ничего взять - они ждут
обоснования, чтобы действовать. Его ноги отказываются
двигаться - как они могут быть уверены, что под ними твердая
почва? Его глаза отказываются видеть - ведь не доказано, что все
увиденное не есть сновидение. Его уши отказываются слушать -
кого, в самом деле, они будут слушать? А его рот закрылся в
молчании: ведь какой смысл говорить в пустоту?» (Ibid. P. 43)
В результате терапевтических процедур, состоящих в
размышлениях и обсуждениях, пациент приходит к здравому пониманию
Мира, Человека, Бога и их взаимоотношений. Он научается при-
145
нимать жизнь и не бояться ее, ибо человек, принимающий
жизнь, принимает и смерть, и благодаря этому не боится смерти
и не боится жизни. (Впрочем, Розенцвейг остался недоволен
этим текстом и отказался от его публикации. Манускрипт был
впервые издан на английском языке в 1953 г.)
А самого Розенцвейга с его рецептом здравого отношения
к жизни, излечивающего от философского паралича, судьба
вскоре подвергла самому суровому испытанию. В 1922 г., когда
ему было 36 лет, у него проявился рассеянный склероз (болезнь
Лу Герига). Когда родился его первый и единственный ребенок,
врачи предсказали Францу Розенцвейгу полный паралич и
давали ему не более года жизни.
В этой ситуации Розенцвейг продолжал активную
интеллектуальную и организационную деятельность. Он остался лидером
и вдохновителем Дома учения, вместе с М. Бубером работал над
новым немецким переводом Писания, переводил религиозную
поэзию Иегуды Галеви, писал статьи. Так, в 1925 году была
написана статья «Новое мышление», посвященная разъяснению
и развитию идей «Звезды Спасения» (Rosenzweig Fr., 1957 с;
см. также: Махлин В.Л., 1997).
И это при том, что в конце 1922 г. он уже не мог держать в руке
перо. Какое-то время он пользовался специально для него
сконструированной электрической пишущей машинкой, в которой не
надо было попадать пальцами на разные клавиши, а достаточно
было слегка сдвигать один и тот же рычажок. Но вскоре
развивающийся паралич лишил его и этой возможности. Говорить
тоже становилось все труднее. Долгое время его жене удавалось
угадывать, какие звуки он хочет произнести посредством своей
почти парализованной и неповинующейся гортани. В конце
концов стало невозможным и это. Работа происходила таким
образом: долгими бессонными ночами (бессонными - потому что
парализованное тело не могло само повернуться, принять
удобное положение, а будить близких он не хотел) Розенцвейг
продумывал свои статьи. А днем жена «писала под его диктовку», т. е.
она называла буквы и слова, а он миганием век показывал,
угадала она или нет.
Франц Розенцвейг умер в 1929 г. Его болезнь и ранняя смерть,
последовавшая вскоре гибель еврейской жизни в Германии,
сложность стиля его работы - все это стало причинами того, что
главный труд его жизни остался малоизвестным.
146
Основные принципы «нового мышления»
Розенцвейг без ложной скромности заявлял, что в своей книге
совершил полный переворот в философском мышлении.
Переворот даже более радикальный, чем «коперниканский»
(Rosenzweig Fr., 1957 с. S. 374; см. также: Розенцвейг Ф., 1995 в).
Хотя его книга, заявлял он, и является системой философии,
содержащей и логику, и этику, и эстетику, и философию
религии, однако сам принцип построения этой системы является
принципиально новым (Rosenzweig Fr., 1957 с. S. 375).
Коснувшись принципа построения системы, посмотрим
прежде всего на структуру розенцвейговской книги. Она весьма
примечательна тем, с какой формальной твердостью в ней
выдержан принцип триады. Вся работа состоит из трех частей. Каждая
часть, в свою очередь, состоит из трех книг.
В трех книгах первой части идет речь о трех базисных
элементах системы. В трех книгах второй части - об отношениях между
элементами. Построение использует также тернарную структуру
времени - прошлое, настоящее, будущее - и три личные формы
глаголов. Им ставятся в соответствие три основных понятия
теологии: Творение, Откровение, Спасение. Таким образом, триа-
дические структуры множатся, переплетаются, налагаются
и образуют два треугольника: острием вверх и острием вниз.
Последние и создают кульминационную фигуру: шестиугольную
звезду Давида, символизирующую третью, заключительную часть
книги «Звезда Спасения», в которой, однако, речь идет в равной
степени об иудаизме и о христианстве.
Эта неуклонно проводимая триадическая конструкция
подчас, как в гегелевской диалектике и диамате, оставляет
впечатление искусственности. Что это? Неискоренимая печать
гегелевской школы или, напротив, пародия на гегелевскую систему?
Возможно, отчасти верно одно, отчасти - другое. Свою роль
сыграли, по-видимому, и эстетические соображения. Такая явная
забота о композиции характерна скорее для художественного
произведения или музыкальной сонаты, нежели для
философского трактата.
Но автор и не собирался создавать философский трактат
в полном профессиональном смысле этого слова. Мы помним по
его письму к Мейнеке о его отношении к философии как к
занятию профессионалов и для профессионалов. Да и тщательно
выстроенные симметричные триадические конструкции не
147
должны вводить нас в заблуждение. Метод философствования у
Розенцвейга отличается от гегелевского в самом кардинальном
пункте. У Гегеля, диалектический метод служит снятию
различий. Его система начинается с Всеобщего и заканчивается им же.
А все различия, которые выявляются по мере развития и
обогащения системы, преодолеваются, растворяясь во Всеобщем.
Различия между субъектом, Богом, миром выявляют свою
относительность и «снимаются» в диалектическом движении
системы. Всё, в конечном счете оказывается самим Абсолютным
субъектом, т. е. Мышлением.
Эта философия Всеобщего для Розенцвейга так же
неприемлема, как и для Когена. Пафос его философствования - не
снятие различий, а, напротив, развитие такого мышления, которое
способно уважать их и признавать их жизненную серьезность
и весомость. Именно этому служит «новое мышление», о
котором он заявил как об основном методе своей работы. При этом он
называл ряд современных ему мыслителей, двигающихся в этом
направлении, среди них - М. Бубера. Моменты близости к идеям
Бубера мы еще отметим. «Новое мышление» безусловно
отмечено печатью ряда философских влияний, прежде всего Кьерке-
гора, Ницше, Когена. Однако мы хотим подчеркнуть, что «новое
мышление» Розенцвейга в его целостности является глубоко
оригинальным явлением и заслуживает внимания людей,
серьезно размышляющих над тенденциями развития философии
в XX веке.
Одна из ведущих тем розенцвейговского «нового мышления»
звучит в тональности экзистенциальной философии и заставляет
вспомнить о Хайдеггере, хотя розенцвейговская «Звезда
Спасения» вышла на несколько лет раньше, чем «Бытие и время».
М. Хайдеггер уже во «Введении» к «Бытию и времени»
заявляет о «существенном упущении» классической философии,
которая, в лице Декарта, заявила, что только субъект и его мышление
являются надежным основанием для философии, однако при
этом упустила из виду «способ бытия "мыслящей вещи", res cogi-
tans, точнее, бытийный смысл своего "sum"» (Хайдеггер М., 1997.
С. 24).
Франц Розенцвейгтоже говорил о том, что классическая
философия, рассуждая о мышлении, забывала про существование
мыслящего субъекта. Он иронически описывал
философствующий разум и его претензию на то, что в нем содержатся
и получают свое обоснование все вещи (Rosenzweig Fr., 1957 с.
148
S. 369-370). В разуме, таким образом, обосновывается бытие.
Однако в тот самый момент, когда разум объявляет дело
обоснования бытия законченным, он обнаруживает, что уже для того,
чтобы быть основанием всех вещей, он должен прежде всего -
быть\ Мышление, которое претендовало на то, чтобы служить
условием и предпосылкой всех вещей, обнаруживает, что, прежде
чем быть условием и предпосылкой, оно должно существовать.
А иначе оно просто не могло бы служить основанием
и предпосылкой чему бы то ни было. И более того: этот
философствующий разум, он же - «Я», чистый субъект и пр., и пр., - не
просто есть, а есть он - условие и предпосылка всех вещей! -
просто человек. И хотя философия стремится подменить его каким-
нибудь идеалом или идеей, но ей все равно некуда деться от
данного открытия: «Я» - это человек, прах и тлен, и прежде чем
философствовать, он должен сначала быть, а быть он может
только этим человеком, прахом и тленом. И сколько бы философия ни
стыдилась и ни маскировала данное обстоятельство, все равно
в последнем акте философской драмы Всеобщего, или
Абсолютного, появится отдельный, конечный, смертный человек.
Такие соображения дают Розенцвейгу ключ к раскрытию
последней тайны философствования об Абсолютном субъекте,
о Всеобщем и Абсолютном: «Всякое познание Всеобщего
коренится в смерти, в страхе смерти... Все смертное живет в таком
страхе смерти; каждое новое рождение увеличивает этот страх по
одной уже той причине, что увеличивает число смертных
существ. Беспрерывно и безостановочно неустанное чрево земли
рождает новые существа, предназначенные умереть и
ожидающие часа своего схождения во мрак со страхом и трепетом.
Однако философия отрицает эти земные страхи. Она возносит
нас над могилой, разверзающейся у наших ног при каждом
нашем шаге. Она оставляет тело добычей бездны, но позволяет
освобожденной душе парить над ней. Но какое вообще значение
имеет философия, если страх смерти ничего не знает о дихотомии
души и тела, если он вопиет: умру я, я, я, и не желает
адресоваться только "телу"» (Rosenzweig Fr., 1985. P. 3).
Итак, мы видим, что два весьма разных мыслителя в равной
степени убеждены, что классическая концепция познающего
субъекта за мышлением упустила бытие. Они убеждены:
осознание того факта, что мыслящий субъект должен быть
существующим субъектом, должно кардинально изменить всю
философскую проблематику. Субъект, рассматриваемый ею, должен
149
взглянуть в лицо своей смертности. Выводы, которые он отсюда
сделает, и станут поворотным пунктом для нового типа
философствования. У Хайдеггера, как известно, речь идет о том, что
европейская мысль в своем развитии вообще упустила из виду бытие.
Оно было заслонено отдельными сущими и сущностями. Мысль
Розенцвейга, как впоследствии и Левинаса, движется в
принципиально ином направлении.
Мы сейчас не будем углубляться в анализ воззрений
Хайдеггера. Для нас важно было напомнить это сделанное столь
разными мыслителями утверждение: в классической философии
«мышление» заслонило «бытие». Хайдеггер говорит о Декарте.
Розенцвейг имеет в виду в первую очередь Гегеля и гегельянство.
Однако те черты философии, на которые он указывает, восходят
также и к декартовскому «cogito ergo sum». Речь идет об
установке, согласно которой бытие получает свое обоснование в разуме.
Тем самым оно становится зависимым от разума. Бросая вызов
этой классической установке, Розенцвейг подчеркивает, что
бытие - это вовсе не то же самое, что мышление о бытии.
Самообоснование разума должно включать обоснование его
бытия, причем последнее не зависит от разума. Философское
мышление оперирует вечными и вневременными формами,
а бытие свое имеет в единичных, смертных существах -
философствующих людях.
Итак, мужественное и честное признание того, что мыслящий
субъект - это конечный смертный человек, а не чистое
самодостаточное мышление, заставляет, по убеждению Розенцвейга,
отказаться от многих философских претензий. Прежде всего от
претензии на то, что философия, в отличие от любого другого
вида познания, специализируется на познании «сущностей» всех
вещей и явлений. При этом сущность понимается как нечто,
отличающееся от всех ее проявлений. Проявления различны,
многообразны, несводимы к общему знаменателю и доступны
даже не философам. Философское же мышление обнаруживает
«за» этим многообразием единое умопостигаемое начало. Оно
претендует на то, что «видит глубже», чем здравый смысл,
именно потому, что видит единое всеобщее начало там, где здравый
смысл останавливается на различии. При этом, как любой
нормальный человек, в своей частной жизни философ имеет дело
с единичным и непрерывно меняющимся во времени. Покупая
масло или ухаживая за девушкой, философ прекрасно обходится
без всеобщих вневременных сущностей. Ни масло, ни девушка
150
к таковым никакого отношения не имеют. Но как специалист по
философии, т. е. член цеха мыслителей, он просто обязан искать
за многообразием явлений, данных в обыденном опыте, единую
вневременную сущность (Rosenzweig Fr., 1999).
Эти рассуждения Розенцвейга, особенно приземленные
бытовые примеры, могут оставить впечатление, будто он просто
защищает здравый смысл против мудрствований философов. Но это
далеко не так. Во-первых, его аргументы направлены против
вполне определенного типа философии. При этом, поскольку
гегельянские стереотипы мышления через диамат глубоко
пропитали стиль отечественного философского мышления, то
розенцвейговская аргументация заслуживает особого внимания.
Розенцвейг разоблачает данную цеховую философскую
установку, вскрывая ее бессознательную мотивацию: стремление забыть
об изменчивом и преходящем и отождествиться с Всеобщим,
Абсолютным, которое, разумеется, бессмертно. Философия,
пишет он, со снисходительной усмешкой наблюдает за тем, как
трепещут все живые существа перед угрозой этого немыслимого
полного уничтожения. Она-то устремлена «за» пределы земного
существования, к чему-то вечному и безусловному, о котором
она, сказать по правде, ничего определенного не знает. Но тянет
ее именно туда, «ибо человек на самом деле не хочет избавиться
от этих оков; ...он хочет остаться; он хочет - жить»
(Rosenzweig Fr., 1985. P. 3). Думается, что опыт пребывания на фронте
мировой войны, среди тысяч смертей других и ежеминутной
угрозы для себя, предоставил этому успешному молодому
специалисту по Гегелю совершенно новый ракурс осмысления
философских систем. По-видимому, под артобстрелом уже не
срабатывает отождествление себя с Абсолютным субъектом.
Хотя М. Хайдеггер, в отличие от Фр. Розенцвейга, не был на
войне, тема смерти является ключевой и для его
экзистенциальной философии. Может быть, воевавшие ровесники Хайдеггера
внесли ее в духовный климат и мироощущение культуры. Как
знать, не отсутствие ли собственного военного опыта у
Хайдеггера обусловило то, что у него, в отличие от Розенцвейга, тема
смерти остается, не переходя в такое ликующее жизнеутвержде-
ние, которым пронизана «Звезда Спасения».
Смерть и жизнь неотделимы, подчеркивает Розенцвейг. От
смерти не спасает никакое учение, никакая мудрость, не спасает
даже здоровье (Rosenzweig Fr., 1999. P. 102-103). Поэтому страх
смерти означает страх перед жизнью, и наоборот. Розенцвейг
151
ратует за философию, которая обращает человека к жизни, учит
принимать жизнь. Что означает — принимать также и смерть.
Отметим, как все это не похоже на мистику! Какая здравая и
честная постановка вопроса. Она и составляет ядро «нового
мышления», которое пытается описать Розенцвейг.
Такая философия не дается сразу, сама собой. Чтобы прийти
к ней, человеку необходимо подвергнуть критической рефлексии
сложившиеся мыслительные стереотипы. Каждый человек,
говорит Розенцвейг, когда-то должен начать философствовать. Но
философствование не является самоцелью. Целью остается
все-таки сама жизнь. Данное убеждение было, как мы видели,
ведущим мотивом поведения Розенцвейга, когда он отказался от
академической философской карьеры и связал свою жизнь с
просветительской работой в еврейской общине. Такой философией,
целью которой является не она сама, а обращение к жизни,
Розенцвейг и считает свою диалогическую философию.
Диалогическая философия принимает время всерьез. Поэтому
она определенным образом выстраивается: не как система, а как
рассказ. Система хороша для реконструкции вневременных
сущностей. А для того, что происходит во времени, самой
подходящей формой является рассказ, утверждает Розенцвейг. Таким
образом, он еще до Хайде ггера помещает время в сердцевину
нового типа философствования. Однако в рассмотрении
функций времени и его связи с существованием человека, между
этими мыслителями существуют глубокие различия.
В связи с розенцвейговской критикой философии Всеобщего
может возникнуть одно возражение. Философская традиция
приучила нас, что самое достойное в человеке связано именно со
Всеобщим. Не о том ли говорил Кант, формулируя
категорический императив? Г. Коген в своей «Этике» подробно
рассматривает историю философских попыток понять, что есть человек,
и показывает, что человек - нечто большее, чем биологический
индивид, именно потому, что он может вступать в связь со
Всеобщим (All) и определять себя через него (см: Cohen H., 1921.
S. 5). Без такой связи индивида со Всеобщим невозможна этика,
убежден Коген. Тем не менее розенцвейговское «новое
мышление» является не отрицанием философских установок Когена,
но, напротив, развитием когеновского понятия «корреляции».
В самом деле, говоря о необходимом отношении человека ко
Всеобщему, Коген в то же время показывает, что это отношение
не должно пониматься как отождествление. Основная идея уче-
152
ния о корреляции заключается в том, что последняя, в отличие от
диалектического взаимоперехода, предполагает, что члены
отношения сохраняют свою специфику, не сливаясь и не
отождествляясь друг с другом. Они должны остаться отдельными, чтобы быть
в состоянии вступить в отношение. Иначе любое отношение
превратилось бы в видимость.
В сущности, аналогичную идею высказывает Розенцвейг, да
и вся «философия диалога». Она говорит о том, что человек
должен вступать в подлинное отношение с чему-то иным, чем он
сам. Чтобы отношение было подлинным, другое - или Другой -
должен оставаться именно Другим. Недаром и Бубер, и
Розенцвейг, и Левинас выступают против мистицизма, который грезит
об отождествлении индивида с высшим, Божественным началом.
Речь, таким образом, идет о подлинно диалогическом
отношении1. Поэтому «новое мышление» обращается к речи, а
Розенцвейг иногда называет это мышление «грамматическим». Для
«иудейского экзистенциализма», к которому относят иногда
Бубера, Розенцвейга и Левинаса, характерно большое внимание
к речи, без которой нет общения. Поэтому именно речь
становится моделью для рассмотрения отношения вообще.
Такой подход принципиально отличается от обращения
к языку в аналитической философии. Рассматривается именно
речь как протекающее во времени общение, а не язык как
статичная вневременная реальность. Идеалистическая диалектика для
Розенцвейга - логика мышления, забывшая о речи и диалоге.
«Новое мышление», в отличие от традиционной философии,
должно иметь дело с логикой речи, а не мышления, ибо
последнее, согласно той же самой традиции, монологично по своей
природе.
И наконец, отличительной чертой «нового мышления», как
мы уже указывали в ходе повествования о судьбе Розенцвейга,
было то, что философская мысль получала право черпать из
источника теологии. Но имелась в виду не теология в
традиционном понимании. Да и «новое мышление», как подчеркивал
Согласно Буберу, «диалог между людьми, хотя он обычно находит свое
выражение в звуке и слове... Может... вестись и без знаков, правда, не в объективно
постигаемой форме. К его сущности относится как будто еще некий внутренний
элемент общения. В свои высшие моменты диалог выходит и за эти границы. Он
совершается вне сообщаемого или доступного сообщению содержания, даже
самого личного по своему характеру, и все-таки не в виде «мистического», а в
полном смысле фактического, пребывающего в общем мире людей и в конкретной
временной последовательности событий» (Бубер М., 1995. С. 96).
153
Розенцвейг, вовсе не теологическое мышление. Оно должно
обдумывать проблемы человека, а не проблемы теологии.
В конце концов, как повторяет Розенцвейг, «Бог ведь сотворил
не религию, а мир» (Rosenzweig Fr., 1957 с. S. 389). Поэтому,
провозглашая новый союз философии и теологии, Розенцвейг
одновременно призывает к полному переосмыслению
теологических проблем. Они должны быть переведены на язык проблем
человеческого существования.
Таким образом, мы обрисовали то, что сам Розенцвейг
называл «новым мышлением». Надеемся, что теперь воспринимать
его идеи и их своеобразное развитие будет легче.
Вечно пребывающие элементы
Розенцвейг исходит из трех независимых, в себе и для себя
пребывающих «фактичностей (Tatsachlichkeiten)» опыта: Бог,
Мир, Человек. «Звезда Спасения» представляет собой «рассказ»
о том, как эти элементы бытия сначала существовали каждый сам
по себе и для себя. Они были замкнуты в себе, глухи и немы,
одним словом, интравертны. Бытие не было единством. Не было
никакого Всеобщего, составляющего сущность (лежащего в
основе) всех трех фактичностей. Розенцвейг ведет рассказ о том,
как эти элементы находили путь друг к другу, открывались друг
для друга, обретали голос. В конце этого пути бытие обретало
единство, не базирующееся ни на каком Всеобщем. Это было
единство, в котором сохранялось несводимое различие и
самостоятельность всех элементов. Вместо «снятия» (в смысле
диалектического преодоления) каким-то одним элементом
остальных устанавливался гармонический «диалог» между ними.
Таков, в общих чертах, «сюжет» «Звезды Спасения». Он может
вызвать массу вопросов, первым из которых, пожалуй, будет
такой: что значит это «сначала»? Идет ли речь о временном или
смысловом начале? Представляется, что ответ на данный вопрос
может быть многозначным. Сам Розенцвейг интерпретирует
фактичности в интравертном состоянии с помощью понятий
античной философии и культуры. Тогда получается, что «сначала»
Бог был самодостаточным богом античной философии, а потом
«развился» до Бога религии Откровения. Довольно странная
конструкция, однако не более странная, чем гегелевские
реконструкции истории (гражданской, истории философии, истории
искусства и пр.), аналогия с которыми просто бросается в глаза. В то же
время это только один слой возможных интерпретаций. Если уж
154
вспоминать о Гегеле, то, скорее, саедует вспомнить его
«Феноменологию духа», и тогда «Звезду Спасения» можно истолковать
как феноменологию сознания современного Розенцвейгу
человека (не является ли его повествование в какой-то мере
автобиографичным?). Его опыт состоит из несоединимых частей. Опыт
самого себя не интегрирован с опытом мира. И решения своих
проблем он ищет без связи с проблемами мира. При этом, в силу
общего образования, он имеет представление о Боге, но
совершенно не знает, что с ним делать, потому что оно не связывается
с его опытом мира и самого себя.
Интересно, что Розенцвейг называет эти «фактичности»
«вечно длящимися». Думается, это можно понять в том смысле,
что исходная разорванность и интравертность сознания, которое
не может открыться навстречу миру, всегда существует как
проблема и всегда нужна «терапия», которая делала бы сознание
здравым.
Имея в виду эти возможные интерпретации, познакомимся
с деталями предложенной «истории». Прежде всего рассмотрим
характеристики каждой их трех «фактичностей».
Учение о Боге и его бытии является метафизикой. Текст Розен-
цвейга в этом разделе чрезвычайно сложен. (Как отмечает
Джиббс, Розенцвейг писал языком, который был понятен и
принят в узком кругу его друзей, но с большим трудом
воспринимался за его пределами.)
Речь идет о Боге в его собственной сущности, Боге до
Творения. Розенцвейг отвергает негативную теологию на том
основании, что мы ищем Бога в его позитивности, значит, мы
что-то знаем о Боге, по крайней мере, имеем понятие о том, что
ищем. Розенцвейг рассуждает о том, что Бог бесконечен, что
в нем есть полнота бытия и свободы, покоя и движения, но что
в этом своем качестве он есть покоящаяся в себе жизнь, из
которой ничто не выходит наружу.
Как понимать рассуждения такого рода? Откуда берет
Розенцвейг смелость рассуждать о непроявленной сущности
Бога, о Боге до Творения? Не имеем ли мы здесь дело с
мистическими озарениями?! Текст и в самом деле достаточно темен.
К тому же Розенцвейг, объясняя свои идеи, ссылался на
«гениальную книгу Шеллинга "Мировые эпохи"» (Rosenzweig Fr.,
1957 с. S. 383) и даже упоминал о лурианской каббале
(Rosenzweig Fr., 1957 b. S. 360; см. также: Gibbs R., 1992. P. 40-52). Тем не
менее нам представляется, что ничего мистического в его рассуж-
155
дениях нет. По-видимому, он ссылается на то учение лурианской
каббалы, согласно которому Бог, чтобы начать творение,
совершает «цимцум», т. е. «сжимается», вбирает себя в самого себя,
чтобы освободить место для мира. Розенцвейг использует
(походя, впрочем) этот мистический образ, чтобы объяснить идею
диалогической философии. Бог не является ни сущностью мира, ни
абсолютным субъектом. Мир — это другое по отношению к нему.
Мир не «вытекает» из Бога посредством диалектического
отрицания, как это происходит в гегелевской диалектике или неоплато-
нистической теории эманации. Мы видим, что Розенцвейг тут
продолжает когеновскую линию критики гегелевской системы.
Оба они отвергают эту систему (равно как и диалектический
метод, посредством которого она выстраивается), потому что
в ней оказывается, что все существующее имеет одну и ту же
сущность, и именно ею, т. е. Всеобщим, и должна заниматься
философия. В такой системе Бог оказывается сущностью мира, т. е.
Бог и мир имеют одну и ту же сущность.
Розенцвейг рассуждает о том, что Всеобщее должно
отличаться от любой определенной данности. Следовательно, оно не
может иметь никаких определений. Оно в буквальном смысле
ничто. Когда идеалистическая философия делает Бога подобным
Всеобщим, она превращает его в ничто и это ничто пытается
объявить сущностью мира. Но Бог, пишет Розенцвейг, это
определенное Нечто. Такими же определенными Нечто являются
и мир, и человек. Чтобы быть определенным Нечто, каждый из
трех элементов должен быть отдельным, самостоятельным.
Мы убеждены, что такие рассуждения даются не мистическим
проникновением в сущность Бога, но размышлениями над
сущностью мира, в котором человек должен пройти жизненный путь
и найти смысл своей жизни. Речь идет, фактически, о достаточно
простой вещи: в системе, в которой мир дедуцируется из
сущности Абсолюта, человеку не требуется ничего искать и от его
выбора ничего не зависит. Есть от чего впасть в паралич, который
Розенцвейг описывал в «книжечке о здравом и больном рассудке»
(Rosenzweig Fr., 1999). Представляется, что Розенцвейг здесь
вдохновлялся идеями, достаточно близкими к тем, из которых
исходил Кьеркегор в своей критике гегелевской системы.
Нам кажется, что туманные «мистические» рассуждения
Розенцвейга сводятся, в сущности, к достаточно простым вещам,
в которых нет ни фана теософии. Розенцвейг стремится не
допустить такого философствования о Боге, которое приводит к выво-
156
ду о логически необходимой связи Бога и мира, т. е. к чему-то
вроде эманации. Выходом ему представляется подчеркивание того,
что природа Бога непознаваема и как таковая, по отношению
к нашему знанию, она есть Ничто. При этом, разъясняет Розен-
цвейг, речь не идет о «Ничто как таковом», или «едином, всеобщем
Ничто». Подобное «Ничто» отброшено вслед за Всеобщим как
таковым. Речь идет об «отдельном Ничто отдельной проблемы...
Бог является сейчас нашей проблемой» (Rosenzweig Fr., 1985.
P. 25). Дальнейшее, полагает Розенцвейг, просто вытекает из этого
определения. Главное — не постулировать в сущности Бога той
необходимости, которая должна была бы обусловить Творение.
Поэтому он тут же говорит о свободе Бога. По его собственным
словам: бесконечная сущность Бога есть его «да». Одновременно
в Нем присутствует и «Нет», которое является выражением
свободы Бога. И хотя «нет» «моложе», чем «да», но оно столь же
изначально. Это два самостоятельных начала в Боге. Утверждение
такого рода тоже может показаться теософской спекуляцией, однако,
как объясняет Р. Джиббс, Розенцвейг здесь следует не Шеллингу,
но критической философии Когена. Для последнего обсуждение
вопроса о реальности или сущности чего-либо должно
предваряться обсуждением вопроса о том, при каких условиях мы можем это
знать. «Переворачивая когеновскую постановку вопроса об
условиях познания реальности, Розенцвейг находит два условия того,
что мы можем знать о том, что нечто не знаем. Это: 1) утверждение
некоего х, лежащего за пределами нашей познавательной
способности, и 2) отрицание нашей способности познать х. Это очень
сильные условия» (Gibbs R., 1992. Р. 52). В самом деле, они
содержат и утверждение о существовании этого дс, и утверждение, что его
сущность принципиально лежит за пределами нашего познания.
«Поэтому, для того, чтобы мы знали, что мы ничего не знаем
о Боге, Бог должен иметь одновременно и сущность (лежащую за
границей нашего знания), и свободу (отрицающую нашу
способность познать Бога). Как свободная воля, божественная свобода
препятствует нашему знанию Его» (Ibid.). Как лежащая за
пределами нашего познания, Божественная сущность бесконечна, ибо, по
определению, не может иметь никакого предела или ограничения.
Как свободная воля, божественная свобода означает
неограниченную возможность быть чем угодно. Розенцвейг даже говорит о ней
как о «божественном капризе». Понятно, что каприз есть нечто,
лежащее за пределами интеллигибельности и возможностей
рационального познания.
157
Розенцвейг находит для выражения этих идей весьма
своеобразные формулы. Пребывающая замкнутой в самой себе, ни с чем
не связанная Божественная сущность обозначается им
символом А, тогда как для Божественной свободы он выбирает символ
А=. Именно такая, неоконченная открытая формула и
становится обозначением безграничной Божественной свободы. Это
значит, что Божественная свобода ищет свою природу, тогда как
божественная сущность пребывает в себе и ничего не ищет.
Ну а формула А=А становится исполненным нетривиального
значения выражением соединения в Боге сущности И свободы.
Словечко «И» (которое Розенцвейг вообще очень любит)
выражает ту идею, что сущность и свобода сосуществуют (равно
изначальны), и ни одно определение не сводится к другому и не
выводится из него. Более того, они находятся в отношении обратной
пропорциональности: ведь сущность как определенность и как
необходимость быть самой собой оказывается отрицанием
свободы; ну а свобода как каприз - отрицанием сущности. Но в Боге
как лежащем за пределами нашего знания должно соединяться
и то, и другое. Это соединение Розенцвейг описывает такими
словами: «Божественная сущность содержит бесконечное
молчание чистого существования, безгласную действительность. Она
существует. Каприз, как кажется, способен припасть к сущности,
но остаться при этом не поглощенным и не преодоленным ею...
Однако, приближаясь к сущности, каприз в конце концов
попадает в магический круг ее инертного существования... Мы
обозначим эту точку как божественную необходимость и судьбу»
(Rosenzweig Fr., 1985. P. 31).
Свобода, судьба являются свидетельствами того, что речь идет
о живом Боге.
Но в то же время этот Бог остается пребывающим внутри
собственной сущности. Р. Джиббс предлагает для иллюстрации
рассуждений Розенцвейга образ черной дыры. Последняя, как учит
современная физика, представляет собой столь мощный
источник тяготения, что из него не выходит никакое излучение.
Данный образ замкнутости в самом себе действительно хорошо
передает мысль, которую пытается выразить Розенцвейг, говоря
о молчании Божественной сущности. Этот Бог, недоступный
нашему познанию и вообще никакому опыту, остается «черной
дырой». Таков «Бог до Творения». Замкнутый в своей природе,
недоступный познанию, не открытый никакому опыту, он
остается метафизичным.
158
Философская мысль пыталась выстроить концептуальный
переход от Бога до Творения к Творящему Богу. Мистика и
теософия претендовали на обладание сокровенным положительным
знанием о сущности Бога, обусловившей Творение. В системе
Гегеля механизмом концептуального перехода была диалектика:
полагание своей противоположности, заострение ее до
противоречия и затем снятие противоположности в конечном единстве.
Поздний Шеллинг в «Мировых эпохах», сознательно стремясь
избавиться от подобных конструкций, постулировал в сущности
Бога dunkles Grund, т. е. темную первооснову, которая
драматическим образом обуславливает дальнейшую «судьбу» Бога, делая
для Него Творение неизбежным.
А какой же механизм необходимого перехода предлагает
Розенцвейг? Никакого. Это принципиальный момент его
построения, представляющего собой извлечение всех следствий из
факта нашего незнания. Поэтому, когда в его книге зазвучит тема
Творения, оно не будет ниоткуда и никаким образом
дедуцировано. О нем будет просто рассказано.
Пока же речь идет о Боге до Творения, Боге живом, но не
дарующем жизни. Далее следует культурологическая
реминисценция. Таковы боги античности. Они, конечно, сами живые.
Однако их отношение к жизни исчерпывается тем, что смерть не
смеет приближаться к ним; из их бессмертия ничего не следует
для мира. Они самодостаточны и поглощены собой. Античные
боги, конечно, вмешиваются в события мира, но они не царят
в мире. Последний идет своим путем независимо от них.
Мифологическим богам соответствует мифологическое
понимание жизни как всецело подчиняющейся капризу и судьбе,
причем немотивированным остается и то и другое. Это жизнь,
которая не побеждает смерть и даже не помышляет ни о чем
подобном.
Что касается богов древней Индии и древнего Китая, то их
Розенцвейг оценивает гораздо ниже, чем богов Античности, ибо
они не обладают свободой и не являются живыми. В его
интерпретации они представляют собой всеохватывающее Ничто.
В себе и для себя существующий мир металогичен. Это означает,
что логос не полностью пронизывает его и не создает его
единства. Обсуждение мира тоже начинается с посылки, что мы
ничего не знаем о мире. Однако с миром дело обстоит не так, как
с Богом. Мир ведь для нас очевиден. Он нас окружает, мы им
дышим, более того, составляем его часть.
159
Однако, напоминает Розенцвейг, философия ставит под
вопрос очевидность мира до такой степени, что впору создавать
(по аналогии с негативной теологией) негативную космологию.
Декарт предлагает подвергнуть сомнению любую очевидность,
относящуюся к миру. Тем самым Декартово сомнение
предполагает мир как нечто единое (иначе его призыв усомниться во всем
оказался бы беспочвенным). Розенцвейг же стремится
избавиться от подобной предпосылки. Благодаря этому сомнение станет
частным, определенным и будет играть конструктивную роль.
Рассуждая о мире, философия постоянно стремится свести его
к какой-то единой сущности - то к «Я», то к Богу. От самого мира
в этом случае остается ничто или, в лучшем случае, вещь в себе.
Но, опять повторяет Розенцвейг, мир для нас очевиден, а это
ничто - гипотетично.
Он собирается бороться с философией, сводящей мир
к Ничто, ее же оружием. Если перед нами мир, о котором мы
ничего не знаем, то надо исследовать, что отсюда вытекает.
О мире мы ничего не знаем? Но «ничто» нашего познания - это
опять-таки вполне конкретное ничто. Если мы не знаем ничего
о сущности мира, это означает, что мы не можем приписывать
миру единую умопостигаемую сущность.
Мы видим, что к миру всегда применимо рациональное
рассуждение: мы видим в нем порядок и логику Но мы не вправе
приписывать эти черты самому миру и полагать в них основу его
единства. В этом смысле мир металогичен. У него есть Логос, есть
порядок, есть, как выражается Розенцвейг, «Мировая душа». Тем
не менее мир не есть порождение Логоса. Иначе он был бы до
конца «прозрачным» для рационального познания. Но наша
исходная посылка, как мы помним, не такова. Каким же должен
быть мир, чтобы оставаться непознаваемым, никогда до конца не
умещаясь ни в какую рациональную схему? Объясняя это,
Розенцвейг «накладывает» на изображение мира как порядка
и Логоса совершенно иной образ, который, как нам
представляется, соответствует по тональности романтизму и философии
жизни.
Мир есть бытие. Его сущность бесконечна, но, в отличие от
сущности Бога, она не статична, а динамична. Мир как природа
есть беспрестанное рождение нового, неожиданного,
непредсказуемого. Чрево мира беспрестанно зачинает и производит новые
жизни или новые гештальты. Природа творит бесцельно, безо-
сновно и безостановочно. Творит, обновляет, устраняет свои тво-
160
рения; их уделом является смерть, но вместо одних постоянно
рождаются новые существа.
Рождающееся новое непредсказуемо и незаключаемо в
единую рациональную схему, ибо индивидуально. Мир в изображении
Розенцвейга предстает как полнота, как пенящийся,
переливающийся через край избыток единичного. В недрах бесконечной
витальности бытия мира (или, как выражается Розенцвейг, «да»
мира) пребывают и логические формы. Таковые формы - это
общее. Философская традиция противопоставляла общее -
«данному», феномену; сущность - явлению и т. д. «Феномен всегда
был камнем преткновения для идеализма, - замечает
Розенцвейг, - и, таким образом, для философии как целого от
Парменида до Гегеля. Идеализм не способен понять
спонтанность феномена, ибо это означало бы отказ от всемогущества
Логоса» (Rosenzweig Fr., 1985. P. 47).
Единичное, заявляет Розенцвейг, — это не «данное».
«Данными», напротив, являются формы, логика, общее. А единичное,
феномен не данность, а, напротив, полная неожиданность. Не
данность, а сюрприз. Ибо любая неожиданность спонтанна,
несводима к Логосу и представляет сама себя, а не общую
логическую форму.
Логос, пронизывающий мир, выступает как его «да», его
сущность, а непредсказуемые - не порождаемые логосом! -
единичности - как его «нет».
Мир предстает у Розенцвейга как живое мировое тело. Но это
бесцельная, слепая и глухая жизнь. И поэтому в плотном и сильном
тексте Розенцвейга, посвященном бытию жизни, явственно
слышится тема смерти. Рождающимся единичностям присуща
«слепая, мертвая тяжесть существования». Почему слепая? Потому что
каждая единичность просто существует, оставаясь от рождения
«слепой и глухой» к тому, что не есть она сама. Они все - сами для
себя, и потому они бесцельны, а каждое новое рождение
напоминает о том, что все рождающееся предназначено к смерти.
Мир в целом есть «Всеобщее». Однако это не Всеобщее как
таковое, не das All, a ein All, т. е. Всеобщее с неопределенным
артиклем, что, как нам представляется, можно понять как
случайно реализовавшееся Всеобщее, одно из возможных Всеобщих,
где Всеобщее оказывается просто все включившим в себя
множеством. Это означает также, что Логос не является творцом мира.
Он всего лишь «Мировая душа» (а мир, обладающий душой,
является живым телом).
161
Это кардинально отличается от Всеобщего гегелевской
диалектики как порождающего принципа, из которого исходило и от
которого зависело все индивидуальное. Такая диалектика создает,
как выражается Розенцвейг, «одномерную» картину мира,
в которой каждое явление полностью определяется его местом
в нисходящем ряду развития и конкретизации всеобщего. Так,
«общество» полностью определяется своим местом в системе
логического развития идеи: «ниже» государства и «выше» семьи.
По-другому и не может быть в системе, где единичное
рассматривается как порождение общего.
Розенцвейг хочет открыть перед нами совершенно иную
картину реальности и иной способ мышления о ней. Он ищет
средств выражения для этого способа мышления. Его мысль
и слово смело движутся в потоке новых образов, символов,
ассоциаций, у которых еще не было времени стать философскими
понятиями. Он постоянно противопоставляет идею логического
порождения единичного из общего реальному рождению нового
индивида в роде. Как случайна и непредсказуема уникальная
единичность любого новорожденного!
В то же время, как уже отмечалось выше, Розенцвейг
признает наличие в мире общего. В самом деле, иначе к нему вообще не
было бы применимо никакое рассуждение. Но Розенцвейг хочет
пересмотреть отношение между единичным и общим. В его
изображении, активным началом становятся именно единичности.
Общее - это пассивное начало. Каждая единичность существует
сама по себе и для себя. Однако общее стремится быть
приложено к чему-либо, и в силу этого создается тяготение, которое
притягивает единичное. Тем не менее единичное притягивается
к нему в силу своей собственной тяжести. В этом движении
единичное как бы «прозревает»: у него открываются глаза на
собственную природу, и оно устремляется к общему все более
сознательно. Единичность становится индивидом, несущим на себе
печать своего рода.
Тут можно было бы спросить: если речь идет о
«притягивающей силе», разве можно считать общее пассивным? Чтобы
объяснить это, вспомним, что тяготение можно понимать по-разному.
Если, согласно ньютоновской механике, камень тяготеет к
Земле, потому что превосходящая масса Земли притягивает его, т. е.
действующая сила принадлежит все-таки Земле, то в аристотели-
анской физике камень тяготел к Земле, потому что такова была
его природа, т. е. побуждение к движению исходило от камня,
162
а не от Земли. Розенцвейг имеет в виду что-то подобное. Причем
мы не случайно упомянули Аристотеля: ведь ближайшей
реализацией такого металогического мира является, как утверждает
Розенцвейг, именно античный Космос.
В самом деле, ни для Аристотеля, ни для Платона отдельные
единичные вещи не были порождением идей или форм, но
возникали спонтанно и непредсказуемо и сами стремились к идеям
и формам как к своей цели (у Аристотеля - материя как бы
домогается форм, стремится обрести их). Активность, таким образом,
лежала со стороны единичного. Таков живой космос Античности.
В нем, как его описывает Розенцвейг, любая единичность
проникается общим, несет на себе его след. Не любого, однако,
общего, но лишь определенного, «своего» - своего рода. В то же
время общее также является отдельным, единичным общим.
Таковы нация, государство, общество. Вообще, о чистом
индивиде имеет смысл говорить лишь по отношению к соответствующей
категории.
Таким образом, мир состоит из индивидов и видов, точнее,
движений, увлекающих индивидов в объятия видов. Из этих
движений и слагается мир как живое целое. Эти движения
сплетаются в «многомерный», а не «одномерный», как у Гегеля, рисунок
мира. Гештальт мира образуют не общие логические формы, а эти
движения, погружающие единичное в лоно общего. Мир состоит из
того И другого. Слово «И» здесь выделено недаром. Оно очень
важно для Розенцвейга, потому что всякий раз указывает на
несводимость сущего к единому началу. Общие формы,
категории даны в мире. Но они не обладают онтологической
первичностью и не могут перевесить чуда индивидуальности. В качестве
символической формулы такого мира Розенцвейг предлагает
запись: «В=А» (движение идет от единичного к общему;
единичное входит в общее), настаивая, что это ни в коем случае не
эквивалентно «А=В» (где движение идет от общего к единичному
и общее порождает единичное).
Таков металогический мир. Это пластический мир, нашедший
свое воплощение в античном искусстве (миры индийской
и китайской мысли, по мнению Розенцвейга, стоят гораздо ниже,
потому что там все единичное растворяется во Всеобщим и
обращается в конечном счете в ничто. Восточная мысль не знает
никакого «И», утверждает Розенцвейг, она видит только
всеобщее безличное начало. Не случайно, замечает он, в восточном
обществе жизнь индивида не имеет особой ценности).
163
Металогический мир есть самодостаточное, в себе покоящееся
целое, ни к чему не стремящееся и не имеющее никакого
отношения. Поэтому понятно, что такой мир конечен. В то же время
он не является сотворенным. Боги существуют вне его, и ему,
в сущности, нет до них дела, как и им - до него. Например,
замечает Розенцвейг, аристотелевское божественное мышление,
которое мыслит самого себя и ничего кроме, просто не может
быть объяснительным принципом мира. Конечно, по поводу
Аристотеля и роли Нуса в его космологии Розенцвейгу можно
было бы кое-что возразить (см. подробнее: Гайденко П.П., 2000.
Гл. 6). Но силу того, что мир, по Аристотелю, вечен и что в нем
происходит много движений, которые Аристотель объясняет
недостаточной близостью к божественному перводвигателю
и вытекающей отсюда утратой правильности и совершенства, то
можно признать, что, в известном смысле, он не является
объясняющим принципом мира.
Что, однако, отсюда следует? Разве это само по себе так плохо?
Розенцвейг хочет связать конечность и несотворенность мира
с тем, что и мир как целое, и любая единичность в нем
самодостаточны. Поэтому в нем не может идти речь о победе над
смертью. В таком мире, далее, отношение между индивидом и
обществом ограничивается и полностью исчерпывается отношением
между частью и целым (полностью ознакомившись с системой
Розенцвейга, мы поймем, каким образом для него два последних
обстоятельства оказываются связанными). Поэтому общество тут
противостоит индивиду как данность и как целое. Индивиду
остается только одно: полностью потеряться в полисе.
Эти утверждения Розенцвейга станут более ясными в свете
рассмотрения третьей из извечных фактичностей бытия: человека.
Человек есть метаэтинеская самость. К такому утверждению
мы приходим, следуя той же методологии, которая
использовалась до сих пор при выяснении природы Бога и Мира. В самом
деле, в начале XIX века философия в лице Канта подвергла
сомнению самоочевидность и данность для сознания его
собственного «Я». Отсюда можно сформулировать некую «негативную
психологию»: мы ничего не можем знать о человеке. Из аналогичной
посылки, как мы видели, Розенцвейг исходил в своих
рассуждениях о Боге и о Мире. Метод Розенцвейга заключался в том,
чтобы из «ничто» нашего знания (мы не знаем ничего = знаем
ничто) вывести положительное знание о данной фактичности.
Здесь опять-таки постулируется сущность человека, причем
164
такая, что она-то и объясняет невозможность представления
человека в системе рационального философского знания.
Сущностью человеческого существования оказываются преходя-
щесть, эфемерность и опытность. Первое «да» человеческого
существования становится утверждением его отличности от всего
и вся. Отличность - это и есть сущность человека. Человек,
таким образом, описывается Розенцвейгом как бесцельная,
абсолютная отличность. Она составляет характер человека. В самом
деле, разве, говоря о достоинстве человека и
неприкосновенности человеческой жизни, мы не начинаем тут же говорить об
уникальности и неповторимости каждой человеческой жизни?
Значит, «быть человеком» для нас неразрывно связано со
свойством «быть уникальным, особенным, именно этим, и никаким
другим человеком»?! Ну а эта уникальность понимается нами,
конечно, не в связи с неповторимостью его ДНК, места и
времени рождения и пр., но только с чем-то, что - «внутри» человека
и что придает его уникальности целостность. А это и есть не что
другое, как характер человека.
Таков человеческий индивид. «Он индивид, но его
индивидуальность не такова, как индивидуальности в мире, мелькающие
в непрерывной цепи индивидов. Скорее, он выступает
индивидом в безфаничной пустоте пространства, его индивидуальность
ничего не знает о других индивидуальностях, помимо него, она
вообще ничего не знает ни о каком «помимо него», потому что он
«повсюду», потому что его индивидуальность - это не действие
или событие, а неизменно длящаяся сущность» (Rosenzweig Fr.,
1985. P. 64). Символом этой отличительной сущности Розенцвейг
выбирает знак В. Человек не хочет быть ничем, кроме самого
себя. Он существует в пустоте, потому что не знает и не хочет
никаких связей. В - это «Нет», сказанное всему тому, что не есть
он сам. «Самость, в конце концов, не знает ничего вне себя; она
внутренне одинока» (Ibid. P. 77) (хотя в то же время Розенцвейг
замечает, что возможна и коллективная самость: народ, для
которого все остальные народы - это просто варвары, с которыми
у него нет ничего общего).
Поэтому тут, в отличие от индивидов, из которых слагалось
живое тело Мира, нет и речи о том, чтобы это В устремлялось
к чему-то помимо него. Поэтому «уравнение» «В = А», которым
передавалась сущность Мира, здесь невозможно.
«Ничто» нашего знания о человеке, как в случае знания
о Боге, раскрывается через свободу. «Самость» человека — это его
165
существование И его свобода. Но в случае Бога свобода
понимается как могущество, т. е. безусловная, безграничная свобода
действия. А в случае человека речь идет о безусловной, безграничной
свободе желания. Однако у существа, не имеющего никаких иных
целей, кроме собственной уникальности, и никакого отношения
к чему-либо помимо самого себя, свободная воля неизбежно
становится произволом - утверждением собственной отличности
любой ценой. Упрямство, строптивость, вызов у человеческой
самости оказываются тем же, чем является могущество у Бога.
Это символизируется формулой «В = В», т. е. самость утверждает
саму себя и ничего другого.
Жизненный путь самости - это отрезок между двумя неиз-
вестностями: моментом естественного рождения, когда индивид
выделяется из лона рода, и моментом естественной смерти.
В мире индивид прекращает свое существование, но род продол
жает существовать в других индивидах. Не так с человеческой
самостью.
Для нее день ее естественного рождения утопает во мраке.
«У самости характер имеет собственный день рождения: в один
прекрасный день он появляется на свет. Неверно, будто характер
«становится», «формируется». Однажды он нападает на человека,
как вооруженный налетчик, и завладевает им. И это всегда
какой-то определенный день, даже если человек потом этого не
помнит» (Ibid. P. 71). Для описания самости хорошо подходит
греческое представление о «даймонии» - том самом, о котором
Гераклит сказал: «Даймонии есть для человека его этос». Хочется
отметить, что данное описание приобрело бы довольно
любопытное звучание, если приложить его к коллективной самости -
нации, этносу! Но Розенцвейг тут рассуждает именно о
человеческом индивиде. Всякого рода общности - род, социум, нация,
государство, мир всеобщих этических законов - остаются для
самости на уровне простых предпосылок ее существования. «Все
это выступает для самости как нечто такое, чем она просто
обладает, но не как атмосфера ее существования. Самость, в отличие
отличности, не живет этим. Единственной атмосферой ее
существования является она сама» (Ibid. P. 73). В законах социума или
нравственных законах самость не видит свои законы. Она живет
ведь только своим этосом, а все остальное остается для нее «по ту
сторону» как чисто внешнее. Поэтому такой человек метаэтичен.
«Этот безмолвный, слепой, интравертный даймонии нападает
на человека сначала в облике Эроса, а затем сопровождает его на
166
протяжении всей его жизни вплоть до момента, когда он
сбрасывает свою маску и открывается человеку как Танатос. Это второе,
и, если хотите, самое сокровенное рождение самости» (Ibid.).
Индивид в этот момент возвращается в лоно рода, а то, чем не
завладел род, попадает к сверхродовой целостности самой
природы. «Тогда как индивид в этот момент сбрасывает последние
остатки своей индивидуальности и возвращается туда, откуда он
пришел, самость пробуждается к своей предельной индивидуа-
ции и одиночеству: нет большего одиночества, чем в глазах
умирающего человека, и нет более вызывающего, гордого
отъединения, чем то, что появляется в застывающих чертах лица
умирающего» (Ibid. P. 71-72).
Такой образ интравертированной человеческой самости
рисует Розенцвейг. Он соответствует образам Бога-интраверта и
Мира-интраверта. Но если два последних и производят впечатление
объектов смелого философского конструирования, то описание
человеческой самости, напротив, впечатляет какой-то
беспощадной пугающей реалистичностью. Самость не только интравертна,
она попросту аутична. Где взял Розенцвейг «материал» для
такого персонажа? Как и в случае Бога и Мира, он находит
наилучшую «интерпретацию» для своей «модели» в Ан-тичности.
Самость, говорит Розенцвейг, это герой античной трагедии. Не
случайно такой герой всегда безмолвен, как это имеет место
в трагедиях Эсхила. Тем-то и отличается античная трагедия от
современной драмы, что там невозможно событие объяснения
или переубеждения, которое составляет центральный момент
современной психологической драмы. Античная трагедия не
знает пути от воли одного персонажа к воле другого, замечает
Розенцвейг, напоминая о судьбе Федры.
Но нам представляется, что именно в связи с характеристикой
самости следовало бы вспомнить проект гегелевской
«Феноменологии духа» и, возможно даже, задуматься о «феноменологии
современного духа». Думается, что описанный тип соответствует
юности как стадии развития человеческой индивидуальности.
Возможно также, что люди, прошедшие войну, стали средой,
в которой с особой силой проявился такой тип.
Тема одиночества самости, кульминирующего в момент ее
смерти, заставляет вспомнить хайдеггеровское учение о
человеческом существовании как бытии-к-смерти и о смерти как
«самой своей» не-обходимой возможности. Подлинное
существование Dasein так же невозможно описать без обращения
167
к теме смерти, как и розенцвейговскую «самость». Однако
обратим внимание на существенное различие между ходом мысли
этих экзистенциальных философов. У Хайдеггера столкновение
с этой «самой своей» возможностью служит средством для
обретения человеком самого себя1, что весьма похоже на становление
его именно такой самостью, какую описывает Розенцвейг. Тем
самым смерть получает важную функцию и даже романтический
ореол. Ничего подобного нет у Розенцвейга. Он ведь говорит не
про «напоминание о неизбежности смерти», а просто про неё
саму. Потому его текст в этом месте звучит жестче и лишен
романтических ноток.
Самость, как и природный индивид, «рождается сама собой»
и просто не может перестать быть ею, забыть себя. А смерть, для
Розенцвейга, не является ни средством, ни мостом к чему бы то ни
было. Что касается перспективы бессмертия, то, как замечает
Розенцвейг, индивиду не нужно бессмертие, потому что он
уходит в лоно рода; личность не нуждается в бессмертии, потому что
находит удовлетворение в вечности тех отношений, в которые
она вступает. Бессмертия может жаждать только самость, потому
что для нее нет ничего помимо и выше нее самой. Она чувствует,
что для нее невозможно умереть, потому что она не может
никуда уйти, ни в чем раствориться. Так рождается представление
о душе как бессмертной по своей природе. Однако для
Розенцвейга вера в бессмертие не является решением проблемы
жизни и смерти. Ведь душа - это не вся человеческая
индивидуальность, а только ее часть. Да и то, что душа по своей природе не
способна разрушиться и потому с ней должно что-то происходить
после смерти тела, само по себе еще не может преодолеть тревогу
самости. Например, учение о переселении души после смерти
тела настолько отрывает душу от самости данного человека, что
ее бессмертие для этой конкретной самости оказывается
совершенно бесполезным.
Жажда индивидуального бессмертия для Розенцвейга
является стремлением неограниченно продолжать существование
самости, для которой нет иного интереса и цели, кроме себя самой. Ей
нечему отдаться и не в чем раствориться. Именно такова интра-
вертная самость. Поэтому ее существование кульминирует
в смерти. Интравертен и Мир. Поэтому в нем не может быть
и речи о победе над смертью. Интравертен и Бог, и он является
Подробнее о роли смерти в самоопределении Dasein у Хайдеггера см.: Щитцо-
ва Т.В., 2006. Гл. 1,§3.
168
хотя и живым Богом, но не Богом жизни. Таким образом,
в состоянии самозамкнутости господствует неправильное
отношение к жизни и к смерти.
Поэтому скрытые в себе, остающиеся друг для друга чисто
гипотетичными, эти фактичности должны прозреть, обрести
голос и обрести друг друга. Они должны перестать быть скрытой
в себе тайной. Должно произойти чудо их появления друг для
друга.
Но, прежде чем обратиться к повествованию об этой истории,
сделаем небольшое отступление, чтобы обсудить, какого типа
онтологию предлагает нам Розенцвейг. Она плюралистична.
Отметим, что в начале XX века был еще один философ, не
имеющий никакого отношения к иудаизму и его проблемам, который
почувствовал необходимость противопоставить плюрализм
монизму гегелевского типа. Это был Бертран Рассел. Борясь
против британского неогегельянства, он выдвинул своеобразную
онтологическую концепцию логического атомизма, в которой
признавалось независимое существование бесконечного
множества отдельных сущностей - партикулярий и индивидуалий.
Концепция Розенцвейга вызовет, возможно, у кого-то из
читателей вопрос: не означает ли философия диалога отказ от
учения о единстве мира? И если да, то не слишком ли высокой
оказывается цена «диалога»? Попробуем ответить на подобное
возражение. В свое время признание единства Вселенной
явилось одним из важнейших научных и мировоззренческих
достижений научной революции XVII века. С тех пор тема
материального единства мира хранила в себе этот пафос победы научного
разума над представлениями о Вселенной, «разгороженной» на
качественно неоднородные области, обладающие разным
достоинством и в разной степени доступные человеческому
познанию. Ни в коей мере не отрицая этот высокий пафос, мы
хотим подчеркнуть, что онтология не обязана быть ни
обобщением физики и космологии, ни сверхфизическим учением о
сущности мира как он есть сам по себе. В XX веке понятие онтологии
подвергается переосмыслению и начинает пониматься как
учение о мире человеческого существования. В таком случае
онтология имеет право на собственный взгляд на вещи, не связанный
с физической или космологической картиной мира. Есть много
объектов и явлений, которые не входят в теории физики и
космологии и тем не менее существуют. Доброта, вероломство,
бестактность, смысл или, напротив, абсурдность истории, одиночество,
169
отчуждение, художественная форма и еще много всякого другого.
В применении к ним разговоры о материальном единстве мира
просто теряют смысл. Подчеркнем, что одна из принципиальных
черт онтологии XX века заключается в стремлении показать, что
тут речь идет не о субъективных интерпретациях, но именно об
онтологических структурах человеческого бытия. Пафос такого
рода переосмысления онтологии вполне разделяет и Розен-
цвейцг.
Путь навстречу друг другу
Чудо, история, прошлое. Рассмотрение того, каким образом
фактичности пробуждаются и находят путь друг к другу,
предваряется введением «О возможности испытать в опыте чудо». «Если
чудо и вправду есть любимейшее дитя веры, - замечает
Розенцвейг, - то родительница его отчаянно пренебрегает
своими родительскими обязанностями, по крайней мере в последнее
время. Ибо по меньшей мере сотню лет это дитя для той няньки,
которой его передоверили - для теологии, - оказывается лишь
источником затруднений и неловкости» (Rosenzweig Fr., 1985.
P. 93). В самом деле, сейчас образованный теолог воспринимает
разговор о чудесах как некоторую неловкость. Теология
объясняет, что то, что раньше невежественные люди воспринимали как
чудо, было просто переживанием особого рода, т. е. чисто
субъективным явлением.
Но чудо, объясняет Розенцвейг, и не надо понимать как
нарушение законов природы. Это нечто совсем другое. Чудо - это
явление, которое можно понимать как знак. На каком
основании? Потому что оно было предсказано. Чудо, таким образом,
привлекает внимание не необычностью явления, а его предска-
занностью. Чудо, следовательно, неотделимо от пророчества.
Чудо - это знак того, что есть Провидение, т. е. отношение между
Богом и человеком, Богом и миром. Провидение являет
отношение Бога с миром и человеком, которого не знало язычество
и в котором сомневается современный человек. Недаром,
замечает Розенцвейг, и иудаизм, и христианство так настаивают на том,
что Откровение есть сбывшееся обещание, данное Богом
патриархам (иудаизм), или сбывшееся пророчество (христианство).
Розенцвейг интерпретирует чудо таким образом, что оно
освобождается от ассоциаций с магическим или колдовским. В этом
смысле теология, к которой он призывает, вполне может быть
названа «теологией в пределах только разума». Убеждение в не-
170
преложности законов природы не мешает и не способствует вере
в чудо, интерпретированное как знак. К тому же, замечает
Розенцвейг, речь вообще идет не о «декоративных чудесах»,
а о главном чуде - Откровении. Собственно, защита чуда Розен-
цвейгом состоит в особой интерпретации Откровения, о которой
и пойдет речь ниже.
Причина утраты веры в чудо, как принято считать, лежит
в прогрессе науки и распространении просвещения. Однако
прогресс научных знаний сам по себе не может повлиять на веру
в чудо в разъясненном смысле. К тому же скепсис в этом вопросе
существовал всегда, и поэтому сообщения о чуде нуждались
в свидетельствах. Например, рассказ о чуде дарования
Откровения подкреплялся ссылкой на то, что шестьсот тысяч человек
были его свидетелями. В то же время важнейшим основанием для
того, чтобы принять свидетельство о чуде, признавалась
готовность свидетельствовать о нем даже под пытками, принять во имя
свидетельства о чуде мученическую смерть.
На протяжении всего XVIII века велась полемика о чудесах.
Под огонь критики попала традиция, передающая сообщения об
определенных чудесах, и свидетельства, приводимые в
подтверждение того, что такое-то чудо действительно имело место. При
этом, утверждает Розенцвейг, доказательство того, что чудо как
таковое в принципе невозможно, не было предъявлено, да
и вообще вопрос в такой плоскости не ставился. Результатом
этой полемики явилось недоверие к историческому свидетельству
как таковому. Дальнейшее идейное развитие добавило к этому
багажу исторической критики исторический релятивизм, с одной
стороны, и идеи эволюции и прогресса - с другой. Первый делал
прошлое недостоверным и субъективным. Последние
обесценивали его во имя будущего. В результате, на прошлое стали
смотреть с недоверием, и эта установка, как отмечает Розенцвейг,
утвердилась даже в теологии. Для современной теологии,
утверждает он, основанием веры становится один только
непосредственный внутренний опыт и настоящее, устремленное в будущее
(будущее Спасение, будущее торжество добродетели).
Таким образом, в современной культуре оказалась утрачена
связь между прошлым и будущим, и даже теология не
предпринимает ничего для преодоления этого разрыва. Розенцвейг же
убежден, что прошлое должно остаться с нами. Только так будет
восстановлена нормальная структура времени, без которой
невозможна победа над смертью, т. е. Спасение.
171
Мысль Розенцвейга о том, что принижение или отбрасывание
прошлого во имя будущего приводит к утрате настоящего,
представляется нам заслуживающей серьезного размышления.
Позволяя себе верить, что люди в прошлом принимали
мученическую смерть из-за невежества и глупости, мы теряем прошлое,
и тогда ненадежным и случайным начинает выглядеть само
будущее, в которое мы устремлены. Но можно ли преодолеть этот
разрыв волевым решением о возвращении к «наивной вере
предков»9 От современного человека, конечно, потребуется немалая
интеллектуальная изощренность, чтобы поверить в то, во что
верили его предки в Средние века. Но, как нам представляется,
Розенцвейг не требует именно этого, понимая, что на таком пути
возникнет неестественность и фальшь. Он размышляет, как нам
кажется, о признании того, что если люди в прошлом готовы
были принять мученическую смерть ради своей веры, значит,
у них были серьезные основания для этого. Например,
необходимость для человека иметь ценности, которые он ставит выше
собственных страданий и собственной жизни. Или потребность
в вере в те ценности, которыми жили его отцы. Или, наконец,
потребность общества, ради его выживания и сохранения, в
ценностях, которые (по крайней мере, некоторые) его члены ставят
выше собственной жизни и которые они стремятся передать
следующим поколениям. В общем, речь идет об определенном
выстраивании отношений с прошлым и со своей национально-
религиозной традицией, чтобы история наполнилась смыслом
и восстановилась связь времен. Ибо, как убежден Розенцвейг,
жизнь утверждается только в связи прошлого и будущего,
материализующейся в связи поколений.
В таком истолковании, как мы увидим ниже, тема чуда
становится узлом целого комплекса социологических вопросов.
Имеется в виду формирование новой формы жизни для
образованного современного человека, в которой акцент ставится не на
достоверность внутреннего опыта, а на открытое вовне
существование в своей религиозной общине.
Думается, что, если бы не приход нацистов к власти и не
болезнь, Розенцвейг мог бы стать видным
политико-религиозным деятелем. Заметим, что его мысли о восстановлении связи
времен и доверия к прошлому вполне вписывались в контекст
веймарской культуры, существенным элементом которой были
немецкие романтические и националистические движения
(подробнее см., например: Бурдьё П., 2003). Но в определенном отно-
172
шении идеи Розенцвейга опередили свое время. В самом деле, он
был теоретиком и организатором религиозно-национального
возрождения, восстановления общинно-религиозной жизни
в рамках государства, где доминировала другая конфессия
и религия. Такие идеи обретают популярность в наши дни, когда
национальное возрождение уже не связывается однозначно
с обретением собственной государственности.
Обновляя философию и теологию, давая новую
интерпретацию чуда, Розенцвейг, как он полагает, закладывает основы для
нового отношения (нового союза, если угодно) философии и
теологии. Но это должна быть философия, отказавшаяся от
претензий на познание Всеобщего и на рациональную дедукцию
истинного содержания веры. Со своей стороны, теология тоже должна
претерпеть существенную перестройку. Ее проблемы должны
явным образом стать проблемами человеческого существования
(заметим, что в таком случае она окажется близка к тому, что
Герман Коген называл религией разума, имея в виду учение
о человеке). Непосредственным проявлением этого должна стать
новая трактовка Творения, Откровения и Спасения. Творение
должно быть понято так, чтобы в нем уже содержалось
пророчество об Откровении, а Откровение - чтобы в нем уже
содержалось пророчество о Спасении. Тогда Творение станет знаком
будущего Откровения и Спасения. Откровение будет чудом,
потому что выступит как исполнение обещания, содержащегося
в Творении.
Мы видим, что Розенцвейг изменяет саму проблематику
Творения. При этом, конечно, и почва для конфронтации
сданными наук исчезает. Розенцвейг помещает «историю» Творения,
Откровения и Спасения в иную плоскость, а также и в иное время.
Он, решусь сказать, «обыгрывает» этимологию слова «религия»,
говоря, что религия - это установление связей (между Богом,
Миром и Человеком), тогда как языческая, или, что оказывается
равнозначным, научная, точка зрения рассматривает каждую из
названных фактичностей в изоляции.
Творение интерпретируется Розенцвейгом как событие
выхода Бога из состояния сокрытости, или переход от «интравертно-
сти» к «экстравертности», в котором Бог «обращается» к Миру,
а Мир - к Богу. Они перестанут быть «немыми и глухими»,
встретятся и обретут друг друга. Как осуществляется такого рода
событие? При помощи языка. А все это философско-теологическое
построение Розенцвейга будет требовать нового учения о языке -
173
но не о знаках как таковых, а об актах речевого общения. Он
использует для таких рассуждений термин «грамматика».
Но как же Розенцвейгу вообще удается говорить о Творении,
если Мир и Человек в его конструкции уже были независимыми
фактичностями наряду с Богом? Именно в этом моменте,
пожалуй, наиболее выпукло проявляется суть его своеобразной
концепции и метода. Речь идет о преодолении гегелевской
философии, сводящей все различия к Всеобщему. В самом деле: такая
философия тоже ведь дает философское решение вопросу о связи
Бога, Мира и Человека. Это решение состоит в том, что и мир,
и человек оказываются этапами диалектического развития
Всеобщего, т. е. Бога. Метод Розенцвейга направлен на
преодоление метода гегелевской диалектики, которая «выводит»
особенное из Всеобщего. Розенцвейг постоянно подчеркивает, что
концепция диалектического развития фактически равнозначна
неоплатонистическому учению об эманации. Но подобное
учение, повторяет Розенцвейг, чуждо языку и чуждо человеку,
поскольку сводит все к Единому, для которого, тем самым, нет
партнера-собеседника. «Философия выманивает из рая
непосредственного доверия к языку» (Rosenzweig Fr., 1985. P. 146) тем,
что постулирует Абсолютное Я, не признавая никакого Ты.
Розенцвейг критикует подобное также и за то, что, поскольку
тут Творение не является пророчеством об Откровении, т. е.
в Творении не содержится никакого обещания, соответственно,
никакого обращения к сотворенному. И это не случайно. В такой
системе не может быть и речи об обращении, потому что здесь
отдельное полностью подчинено Всеобщему. Думается, что
именно последний из названных моментов (которые, однако, все
взаимосвязаны) составляет глубинный мотив розенцвейговской
критики диалектики Гегеля. Можно понять, каким образом
данный мотив связан с личным опытом «двойной идентичности»
и с положением еврея, т. е. представителя национального
меньшинства, в современном европейском государстве (см.: Пига-
лев А.И., 2002). В то же время мы убеждены, что это не лишает
философию диалога возможности внести конструктивный вклад
в развитие европейской философии. В конце концов, любая
философская позиция мотивирована личным опытом и
пристрастиями. За каждой стоит личность защищающего ее философа,
независимо от того, принадлежит ли он к национальному
меньшинству или большинству, является ли мужчиной или
женщиной. При этом как личный опыт и пристрастия, так и философ-
174
ские позиции в разных условиях могут играть различную роль, от
творческого импульса до шор и тормозов. Поэтому мы
продолжаем исходить из убеждения (также мотивированного
упомянутыми выше факторами), что диалог различных философских
позиций необходим и плодотворен.
Розенцвейг видит недостаток диалектической концепции
Творения также и в том, что в ней не выдержано должное
расстояние между Богом и Миром: Мир оказывается эманацией
Бога, т. е. имеет в конечном счете Божественную сущность. В
таком случае Бог, трактуемый как Абсолютная Идея, уже не может
выступать как Ты1, как тот, к кому можно обращаться.
Абсолютная Идея - это «Оно». Но и все Творение лишается смысла, если
оно не дает существования чему-то нередуцируемо особенному,
с чем можно вступить в общение. Бог в конце концов становится
в подобных системах чистым субъектом познания, а Мир и
Человек - его объектами; и никто из них не обладает свободой - ни
Бог, ни Человек.
Потому-то Розенцвейг и создает столь оригинальную
«метафизическую поэму», в которой ни Мир, ни Человек ни из чего не
выводятся и ни к чему не сводятся. Они, следовательно,
признаются как таковые, во всем их своеобразии. Особая диалектика
самостоятельных сущностей, конструируемая им, в отличие
гегелевской диалектики, с помощью «грамматических» рассуждений,
состоит в том, что они осознают нужду друг в друге и вступают
в общение.
Фактичности перестают быть друг для друга чисто
гипотетическими конструкциями и обретают реальность только в корреляции
друг с другом. И здесь, как нам представляется, очевидно, что
Розенцвейг является учеником Германа Когена. При этом важная для
Когена мысль, что члены корреляции должны сохранять свою
самостоятельность, для того чтобы могло существовать само
отношение, получает у Розенцвейга оригинальное развитие, превращаясь
в учение об описанных выше трех «интравертных» фактичностях.
Чем же является Творение для Бога? Представление, будто
Бог творит по необходимости собственной природы,
неприемлемо для Розенцвейга, потому что из него следует, что Мир лишен
собственной природы. При этом и Бог, и Мир также лишены
свободы. (Творение, замечает Розенцвейг, не надо понимать по
аналогии с автобиографической поэмой, которую поэт просто не мог
не создать!)
Ср. понимание Бога как «Вечного Ты» у Бубера (Бубер Л/., 1995. С. 57-84).
175
Однако еще менее приемлемыми оказываются и
противоположные учения, согласно которым Творение есть не более чем
«каприз» Бога, не связанный с его сущностью. Ведь в такой
интерпретации Бог остается бесконечно отделенным от Мира
и чуждым ему. Бог, для которого сотворение мира представляет
действие, не имеющее особого значения, остается одиноким и,
в сущности, языческим Богом. В исламе, утверждает Розенцвейг,
Творение трактуется как каприз, и это лишает Мир ценности
и значения. Акт Творения рассматривается как мгновение, не
налагающее, так сказать, никаких обязательств на Творца. Но
подобный акт Творения, полагает Розенцвейг, был бы просто
самоотрицанием Творца. Не случайно поэтому, отмечает он,
Маймонид, в большинстве случаев следующий арабской
философии, в трактовке Творения отходит от нее и рассматривает
творящую производительность как существенный атрибут Бога.
Чтобы избежать обеих этих равно неприемлемых крайностей,
Розенцвейг продуцирует следующую понятийную конструкцию:
Творению предшествовал «пламенный каприз», не вынуждаемый
самою сущностью Бога. Однако Божественная сущность
превращает его в судьбоносную необходимость.
Представим себе вольную интерпретацию того синтеза идей
«каприза» и «необходимости», которую пытается выстроить
Розенцвейг. Пусть она останется на нашей совести. Вообразим
современную пару, решающую, стоит ли ей заводить ребенка.
Они вовсе не считают, что союз двоих предназначен для
продолжения рода. Поэтому решение завести ребенка для них будет
«капризом», а не необходимостью. Их ничто не вынуждает
к этому, они совершенно свободно и спонтанно принимают
решение. Однако «после» этой свободы их собственная природа,
может быть, даже к удивлению для них самих, показывает себя
как производящая и любящая. И это превращает решение,
бывшее изначально капризом, в судьбоносное. Рождение ребенка
тем самым оказывается и обещанием любить его и отдать себя
целиком.
Подобным образом, насколько мы можем понять Розенцвей-
га, Творение Мира Богом означает одновременно пророчество
о будущем Откровении и Спасении. Акт Творения необходимым
образом связывает Бога обещанием, данным Миру и Человеку.
Но все-таки о каком Творении идет речь, если Мир есть
предвечная самостоятельная фактичность? В самом деле, признает
Розенцвейг, Мир был сотворен после того, как он уже был. Для
176
Бога акт Творения означает утверждение Мира. Именно это
утверждение, или принятие Мира, делает Бога Творцом.
Соответственно, во всем концептуальном построении
Розенцвейга такое метафизическое значение приобретает язык.
Мир и человек, как и Бог, вначале были немы. Им, правда,
придавались изначальные слова «да» и «нет». Но это, в сущности,
даже еще не слова, а условия для таковых. Они еще не были
слышны, оставаясь в недрах соответствующей безгласной
сущности. Изначальным фактичностям ставились в соответствие
только математические символы и уравнения. Это не случайно, ибо
подобные символы, в отличие от речи, не обращены ни к какому
собеседнику, монологичны, а не диалогичны. Лишь при
обращении друг к другу изначальные фактичности обретают язык.
Поэтому теперь настал момент, когда «наука живых звуков
должна занять место науки о ни к кому не обращенных знаках;
математика должна быть заменена морфологией слов, грамматикой»
(Rosenzweig Fr., 1985. P. 125). Такая грамматика и становится
стержневой темой в разделах, посвященных Творению и
Откровению. Розенцвейг ищет некие «первослова» - корневые слова,
из которых возникает вся речь. Корневое слово, образующее
язык, не может быть существительным либо предложением.
Совершенно простое и недвусмысленное, оно поэтому должно
быть прилагательным. Далее, оно должно быть утверждением, ибо
это слово Творения, т. е. движения Бога навстречу Миру.
Свободно и раскованно интерпретируя текст Писания,
Розенцвейг находит такое корневое первослово: «Хорошо!»
(«И увидел Бог, что это хорошо»). Таким образом, в системе
Розенцвейга изначальным первословом становится признание
Мира как Другого во всей его инаковости. Не удивительно, что
это корневое слово, начало общения Бога с Миром.
Бог творит Мир, говорит Розенцвейг, раз и навсегда, и для
него этот акт представляет собой прошлое. Некое глубинное,
изначальное прошлое. Для Мира же этот акт представляет собой нечто
длящееся, которое может быть и настоящим. Мир становится
сотворенным, осознавая, что он существует не сам по себе,
а зависит от Бога. Тем самым Мир осознает, что он не одинок.
Мир, как выражается Розенцвейг, «открывает глаза» на свою
сотворенность; теперь он и проявляет себя как сотворенный.
Мир осознает свою зависимость, одновременно осознавая в себе
постоянно присутствующее Провидение Божие. Итак, Мир
сначала просто был, а потом стал сотворенным, что представляет,
177
очевидно, более высокую ступень его развития. Теперь он
взирает на несотворенный металогический Мир как на самое
настоящее Ничто. Мир осознает себя как Становление, ежечасно
нуждающееся в Бытии. Ведь Мир - это лоно, непрестанно
рождающее новое и особенное. Он поэтому беспрестанно
обновляется, и только таким образом сохраняет свое существование.
Обновление означает, что Мир постоянно дает и отнимает
существование у отдельных существ. Эти существа, как мы помним,
«алкали» общего, рода. Но сами универсалии и категории ничего
не порождали. Они «применялись» к существующему
отдельному, но были безразличны к тому или иному налично
существующему отдельному. Попросту говоря, никакая универсалия не
гарантировала конкретному особенному его существования.
Оно, в отличие от универсалий, всегда пребывало под угрозой
небытия. А оно ведь тоже хотело стабильности и гарантированно-
сти! Поэтому Становление постоянно нуждается в Бытии. Эта
нужда, говорит Розенцвейг, и есть существование. При этом
Розенцвейг (как и Коген в данной связи) вспоминает
талмудическое положение, что Бог обновляет свое творение каждый день.
Если мы позволим себе такую же раскованную
интерпретацию, как и розенцвейговская интерпретация Писания, то
решимся суммировать его повествование о Творении следующим
образом. Мир был совокупностью существ, каждое из которых было
предназначено смерти и в одиночку, как могло, боролось за
существование. Существование было столь же бесцельно, сколь
и исчезновение. Можно ли сказать, что это - «языческий» мир?
А каков тогда тот мир, в котором живем мы с вами и в котором
любая жизнь, будь то растение, животное и даже человек - да что
там человек, даже целый этнос! - стремительно теряет цену?
И это воспринимается уже безо всяких эмоций и
восклицательных знаков, как простая извечная данность. Тогда Творение, как
его описывает Розенцвейг, просто означает осознание того, что
тут что-то не так. Существование любой былинки должно иметь
какой-то смысл. Нехорошо, чтобы исчезновение любого
существа в мире было такой же не предполагающей никаких оценок
данностью, как смена дня и ночи. Вспомнив Когена, можно
будет, как нам представляется, сказать: произошло осознание
того, что имеет смысл думать не только о том, что есть, но и о том,
что должно быть. Решимся утверждать, что Творение означает
у Розенцвейга возникновение у Мира измерения должного.
Осознается, что Мир не таков, как он должен быть. Это осозна-
178
ние не постигнет фрустрация, потому что в самом факте
осознания содержится обещание того, что что-то произойдет. Но что же
именно?
Творение, согласно Книге Бытия, завершается сотворением
человека. «Сотворим человека» - стоит в тексте Писания, тогда
как до того повторялась только формула «Да будет». В форме
«сотворим» явственно звучит личное местоимение «Мы» - как
усиленное, могущественное «Я». Значит, Бог в этом акте
творения обретет личность. Он творит не человека как такового,
а определенного, этого человека, человека с определенным
именем, тогда как все прочие существа были сотворены «по родам
своим». Адам «наделен тем, в чем Создатель отказал даже
сияющим небесам: подобием Богу, личностью, не опосредованной
общей категорией и не вынуждаемой к тому, чтобы существовать
во множестве экземпляров, самостью» (Rosenzweig Fr., 1985.
P. 155). И вот «в последний раз Бог смотрит на то, что он
сотворил. И на этот раз оно оказывается «хорошо весьма». Корневое
слово творения... остается прилагательным, остается в пределах
собственной сущности. Но оно уже не обозначает простой,
единичный, несопоставимый атрибут. Оно становится
сравнительным; оно сравнивает. Внутри общего «Да» Творения...
выделяется отдельная сфера, которая утверждается по-особому, которая
«весьма» утверждается. Она, таким образом, в отличие от всего
остального сотворенного, указывает на нечто по ту сторону
творения. <...> нечто внутри мира, но выходящее за пределы мира,
нечто иное, чем жизнь, однако же принадлежащее жизни и
только жизни, что было сотворено вместе с жизнью как ее предел,
который придает жизни завершенность, выходящую за пределы
жизни: это «весьма» есть смерть. Сотворенная смерть тварных
существ предвещает откровение жизни, которая превыше твар-
ного уровня. Для каждой сотворенной вещи смерть есть
подлинный апофеоз ее материальности. Она незаметно перемещает
сотворенное в прошлое и таким образом превращает его в
невысказанное словами постоянное предсказание чуда возрождения»
(Ibid. P. 155). В подобной интерпретации библейского «хорошо
весьма», сказанного Богом относительно сотворенного мира как
целого (Быт. 1:31), Розенцвейг ссылается на талмудических
мудрецов (Rosenzweig Fr., 1985. P. 155).
Итог розенцвейговского рассмотрения Творения звучит
поразительно: Творение венчается смертью. Но смерть
рассматривается здесь как указание на грядущую борьбу и победу над ней.
179
В силу этого Розенцвейг и интерпретирует смерть как предвестие
Откровения.
Сейчас мы вместе с Розенцвейгом достигли такого этапа
повествования, когда в акте Творения выстроилось отношение Бога
и Мира. Мир перестал быть немым, безгласным, чужим и
чуждым миром язычников или миром науки. Мир обрел голос. Но
среди этих голосов есть и крик ужаса перед смертью.
Что же может победить смерть? Ответ известен: любовь.
Розенцвейг уже объяснил нам, что творящая сущность Бога
превращает акт творения в Его судьбу. «Для Бога Творение - это не
просто сотворение мира; оно меняет что-то внутри Него самого
как Бога сокрытого» (Rosenzweig Fr., 1985. P. 159). Это означает,
что Бог уже не может оставить творение на произвол судьбы. Он
обращает к нему свою любовь. И сокрытость более невыносима
для Бога. Он не желает дальше оставаться простым истоком всех
вещей. Любящий Бог открывает себя. Бог явленный, в отличие
от Бога скрытого, безмолвного, - это Бог любви.
Если Творение - это вечно длящееся метафизическое
прошлое, то предвозвещенное Им Откровение, означающее явление
Бога человеку, возвещение Им своей любви, есть по самой своей
сути настоящее. Откровение как весть о божественной любви
избавляет сотворенное от страха быть вновь погруженным
в небытие.
Итак, в разделе, посвященном Откровению, речь идет
о любви. Событие, состоящее в том, что Бог обращает к
человеческой самости свою любовь, а она возрождается в лучах этой
любви, и составляет сущность Откровения. Поэтому в качестве
«великого исторического свидетельства об Откровении,
сущность которого непосредственно удостоверяет наш опыт»
(Rosenzweig Fr., 1985. P. 198), здесь рассматривается библейская
Песнь песней.
Существует длительная традиция ее аллегорического
истолкования, ибо наличие среди книг Писания эротической лирики
действительно способно смутить. Но только не Розенцвейга.
«Любовные аналогии, - говорит он, - пронизывают любое
откровение. У пророков это постоянно повторяющаяся аналогия.
Но она предназначена быть более чем аналогией. <...> Именно
это мы и видим в Песни песней. Здесь уже невозможно говорить,
что подобие «только подобно». Кажется, что читатель
оказывается в этом случае перед выбором: либо принять чисто
человеческий, чисто чувственный, смысл и тогда спрашивать себя,
180
в результате какой странной ошибки эти страницы вкрались
в слова Бога, либо признать, что более глубокий смысл заложен
именно здесь, в его прямом, чисто чувственном смысле, а не
только по аналогии» (Ibid. P. 199). Это можно понять так: для
Розенцвейга опыт чувственной земной любви выступает как то,
что пробуждает и перерождает строптивую одинокую самость.
Дар земной любви значит так много, что человек начинает
понимать: если такое чудо в мире вообще возможно, значит, он любим
самим Богом. Считать ли это мистикой? Нам кажется, что тут мы
имеем дело с чем-то иным. В то же время у нас появляются все
новые основания для того, чтобы счесть розенцвейговское
повествование не интерпретацией Писания, а феноменологией духа
или, быть может, автобиографическим повествованием.
(Впрочем, одно не исключает другое.)
Таким образом, в истолковании Откровения идет речь
о любви. Активной стороной в любовных отношениях является
именно Бог. Любовь - это его свободный дар. Поэтому и для Бога
она составляет не атрибут его, но событие в его судьбе. Чистое
событие настоящего времени: можно сказать, чистое настоящее
время. Поскольку любовь не атрибут, то невозможно и говорить
о ней как об атрибуте, например описывать ее как бесконечную,
всеохватывающую и т. п. «Божественная любовь всегда
полностью принадлежит моменту и той точке, на которую она
направлена, и лишь в бесконечности времени она достигает одной точки
за другой, шаг за шагом и охватывает Всеобщее. Божественная
любовь любит там и того, кого любит. Никакой вопрос не имеет
права быть обращенным к ней, ибо на любой вопрос будет
однажды дан ответ, когда Бог дарует свою любовь и этому
вопрошающему, хотя бы он и чувствовал себя обойденным божественной
любовью. Бог всегда любит того и то, что он любит, однако его
любовь отличается от «всеохватывающей любви» только из-за
«пока еще не»: помимо тех, кого Бог уже любит, Он любит всё, но
не «уже сейчас». Его любовь странствует по миру в вечно новом
порыве. Она всегда и полностью принадлежит настоящему, но
все мертвое прошлое и все будущее будут однажды поглощены
этим победоносным настоящим. Эта любовь есть вечная победа
над смертью» (Rosenzweig Fr., 1985. P. 164). Божественная любовь
не нуждается ни в основаниях, ни в оправданиях: «Бог веры
может сказать в лицо своим приверженцам, что он избрал их
перед всеми со всеми их грехами и для того, чтобы они осознали
свои грехи» (Ibid. P 166).
181
Любовь изливается на человека. Однако метаэтическая
самость еще не готова к ее принятию. Розенцвейг описывает
человека, вернее его пробуждающуюся душу как безмолвную,
сопротивляющуюся, упрямую, недоверчивую самость. У нее есть
только слово «Я», представляющее собой не что иное, как
звучащее «Нет». Однако в ответ на любовь Бога в ней пробуждается
способность любви. Самость начинает постепенно раскрываться
изнутри вовне и при этом преображаться. Присущие ей вызов
и упрямство преображаются в спокойное чувство собственного
достоинства. Последнее как прямая противоположность вызову
есть на самом деле смирение. Оно является осознанием того, что
ты есть то, что ты есть, только благодаря милости чего-то
высшего. Это означает, что ты можешь обрести поддержку.
Предощущение ее и вера в нее уже означают возникновение ответной
любви у возлюбленного. Любит душа. Это ее природа - быть
любимой. «Только в любви Бога расцветает цветок души на
скалистой почве самости» (Rosenzweig Fr., 1985. P. 169). Ответная
любовь души, обращенная к Богу, описывается как ее верность.
Она дает душе силу, спокойствие и устойчивость. «Спокойствие
души в верности, родившейся из ночи вызова, есть великий
секрет веры» (Ibid. P. 171). Это безмятежное спокойствие есть
уверенность души в том, что Бог ее не разлюбит. Продолжая и далее
описывать отношения Бога и души по аналогии с отношениями
любящего и возлюбленной, Розенцвейг ведет повествование
о том, как родившаяся уверенность души закрепляет любовь
Бога, обращенную к ней. Любящий возрождается в любви
возлюбленной - и на этот раз навеки. Однако описанная
Розенцвейгом история становления души, отталкивающаяся
и свободно воспаряющая над текстами Писания, на этом еще не
завершается.
Розенцвейг пишет о «Я», субъекте как извечном
противопоставлении. «"Я" - это всегда ставшее слышимым "Нет"... "Я"
всегда значит "Я, а не..." <...> "Я" определяет себя,
противопоставляя всему. "Я" никогда не может быть только объектом,
только пассивным. "Я" - это всегда субъект». (Даже во фразе «Он
меня бьет», замечает Розенцвейг, субъектом является вовсе не
«Он», а неизменно «Я») (Rosenzweig Fr., 1985. P. 173).
В таком понимании «Я» совпадает с самостью. «Я»
оказывается одиноким по определению. Оно остается в себе, его «не
слышно». Но разве не таково, в самом деле, его философское
определение? А фраза Розенцвейга о том, что «Я» не слышно,
182
подтверждается возможностью философских сомнений
относительно того, является ли другой человек «Я», субъектом, как
и я сам. Ведь другого «Я» «не слышно», оно остается скрытым
в себе.
Розенцвейг описывает замкнутую в самой себе самость как
«метаэтическую». Она находится «по ту сторону» этики, ибо для
нее главной проблемой является она сама, и если она и видит для
себя какую-то обязанность, то исключительно перед самой
собой. Решимся утверждать, что таково же и философское «Я»,
субъект классической философии. Поэтому, исходя из такого
субъекта, трудно построить учение о жизни социума, основанной
на справедливости. Далее, исходя из такого понимания субъекта,
трудно прийти к идее смысла и направления истории. Скорее,
история тут должна выглядеть, в вечной череде рождений и
смертей, как лишенное всякого смысла вечное возвращение одного
и того же, то есть новых рождений существ, предназначенных
к смерти. И наконец, решимся высказать предположение, что,
исходя из подобного субъекта, невозможно построить даже
теорию познания, несмотря на то что это субъект классической
гносеологии. Не случайно, в самом деле, проблема солипсизма
и сомнения в существовании других сознаний сопровождали
классическую гносеологию на всем ее пути. Поэтому мы можем
понять неудовлетворенность Розенцвейга таким «одиноким, не
имеющим голоса» «Я». Посмотрим же, каким образом он ищет
способ его преодоления.
«Лишь когда Я признаю Ты как внешнее по отношению ко мне,
т. е. лишь тогда, когда происходит переход от монолога к
подлинному диалогу, лишь тогда «Я» с его изначальным «Нет» становится
слышимым» (Rosenzweig Fr., 1985. P. 174). Таким образом,
невозможно «Я» без «Ты». Об этом говорит грамматика, которая
оказывается в то же время грамматикой Эроса - именно потому, что
и грамматика, и Эрос убеждают нас, что нет «Я» без «Ты».
Недаром раздается вопрос Бога: «Где Ты?» Любое «Я», чтобы
стать «Я», ищет свое «Ты». Ищет, как мы видим, даже Бог.
Вопрос «Где?» свидетельствует о признании существования «Ты»
отдельно и независимо от «Я». «Ты» нередуцируемо к «Я»,
потому что иначе подлинный диалог был бы невозможен и
происходил бы только монолог. «Самим актом спрашивания о "Ты",
самим "Где" этого вопроса, удостоверяющим веру в
существование этого "Ты", даже если "Ты" не откликается, "Я" зовет и
выражает себя как "Я"» (Ibid. P. 175).
183
Бог зовет, а человек остается молчаливой, упрямой самостью.
Он отпирается и лукавит. Чтобы победить самость, используются
более эффективные средства, имеющиеся в языке. Это прежде
всего собственное имя и окликание по имени. И, наконец, это
такая форма зова, как заповедь: «Люби Господа твоего всем
сердцем и всей душой». Кант утверждал в свое время, что обращаться
с требованием любви бессмысленно, потому что любовь - это
чувство и как таковое оно не подчиняется разуму. «Любовь к Богу
как склонность (патологическая любовь) невозможна, так как
Бог не предмет (внешних) чувств» (Кант И , 1965 а. С. 409).
Можно требовать только исполнения нравственного долга:
«Такая любовь к людям хотя и возможна, но не может быть нам
предписана как заповедь, так как ни один человек не может
любить по приказанию... В этом смысле любить Бога - значит
охотно исполнять его заповеди; любить ближнего - значит
охотно исполнять по отношению к нему всякий долг» (Там же). Но
Розенцвейг не согласен с этим. Требование любви осмысленно -
но только если оно исходит от любящего. Один лишь любящий
может обращать к возлюбленной подобное требование: «Люби
меня!» Именно это требование в конечном счете и размыкает
замкнутую в самости душу. «Люби меня» подразумевает: «Люби
меня теперь». «Все Откровение подводится под это великое
"теперь"» (Rosenzweig Fr., 1985. P. 177), ибо Откровение, как уже
говорилось, символизирует жизнь в настоящем.
В прихотливом движении розенцвейговских рассуждений
обращает на себя внимание то, до какой степени он доверяет
языку и полагается на него. Грамматические формы, такие, как
личные местоимения, собственные имена, повелительная форма
глаголов, становятся для него моделями при описании и
обосновании того уникального отношения с Другим, которое он
именует диалогом. Представляется возможным провести параллель
с Хайдеггером, для которого язык выступал «домом бытия».
Таков же он и для Розенцвейга, с тою только разницей, что он
играет не с этимологией, а с грамматическими формами,
подразумевающими общение с другим лицом.
Описывая реакцию души на обращенное к ней повеление
Бога, Розенцвейг опять обращается к психологии любовных
отношений: в душе пробуждается стыд как память о том времени,
когда она не была любима. В применении к отношениям души
и Бога это означает, что откликом на Божественную заповедь
является пробуждающееся чувство раскаяния за свою прежнюю
184
самость. На требование Бога душа отвечает признанием: «Я
грешна». И это сознание уже означает «признание души в любви
к Богу». Душа осознает необходимость в очищении. Она
обращается к Божественной любви как источнику своего очищения. Так
душа научается молиться, т. е. обращаться к Богу, прося его
о Царстве Божием. При этом опыт любви к Богу становится для
души доказательством Его существования. Вспомним, что
аналогичная мысль есть и в когеновской религии разума. Бог открыл
себя человеку, а человек ответным душевным движением
признал Его существование. Причем, как подчеркивает Розенцвейг
(ссылаясь также на каббалистическое учение), Богу необходимо
это признание человека. Бог и человек оказываются необходимы
друг для друга. Они принадлежат друг другу. Не это ли являлось
одной из основных идей также и когеновской религии разума?
Можно ли сказать на основании проанализированного текста,
что Розенцвейг описывает мистический опыт любовной близости
к Богу? Нам представляется, что нет. Обратим внимание в связи
с этим, что сам Розенцвейг предостерегает от опасности мистики.
Он указывает, что в описанных им любовных отношениях,
установившихся благодаря Откровению между Богом и душой,
таится определенная опасность. Душа, охваченная своим чувством,
может устремиться к изоляции от мира, чтобы раствориться
в Боге. Таков путь мистика. Вся его жизнь есть ожидание опыта
экстаза, опыта слияния с Богом. А от мира мистик отрешается,
как будто тот - творение дьявола. Однако путь мистика - это
ложный путь. Розенцвейг, подобно Когену, Буберу, Левинасу,
отвергает мистику как уход от мира и ответственности перед ним.
Он подчеркивает, что позиция мистика означает утерю
достигнутого в акте Откровения отношения между Богом и человеком.
Ведь мистик стремится избавиться от своей индивидуальности и
определенности, чтобы раствориться в Боге. Мистик, говорит
Розенцвейг, - это не человеческое, не вполне человеческое
существо. Ведь он стремится сбросить с себя все то, что составляет
существо человека. От него в пределе остается лишь пустая
емкость для вмещения опыта экстаза.
Такая критика мистицизма указывает нам на два
принципиальных и взаимосвязанных положения философии диалога:
с одной стороны, в ней подчеркивается несамодостаточность Я,
нуждающегося в партнере по диалогу, в Ты; с другой стороны, это
несамодостаточное Я должно сохранить свою отделенность,
сохранить за собой роль активного партнера в диалоге. В самом
185
деле, диалог вырождается в монолог, если нарушается хотя бы
одно из этих условий.
А сутью религии, для Розенцвейга, как и для Бубера
и Левинаса, является подлинно диалогическое отношение. Это
предполагает, что человек должен остаться вполне земным
человеком, с полной серьезностью и ответственностью воспринять
все земные человеческие дела и обязанности. Данный момент
придает теме любви, под знаком которой развивалось учение об
Откровении, слегка неожиданное в данном контексте, хотя,
в сущности, закономерное развитие. Речь идет о том, что в душе,
уверившейся в любви Бога, молящейся об обретении его царства,
только что обретенное умиротворение сменяется новым
беспокойством. В душе растет понимание того, что исполнение
Божественного завета, как и исполнение ее молитв, требуют чего-то
внешнего. Дар Божественной любви должен быть обращен ею
вовне. И тут возникает тема брака. «Брак есть нечто большее, чем
любовь» (Rosenzweig Fr., 1985. P. 204). Это связано с тем, что брак
является исполнением и завершением любви. Именно через его
посредство индивид вступает в отношение с вечностью. В то же
время брак касается третьих лиц, ибо представляет собой
социальное действие.
Вот куда должна устремиться душа, омывшаяся в лучах
Божественной любви. Она должна понять, что заповедь любви
к Богу раскрывается как заповедь «Возлюби ближнего своего».
Любовь к Богу должна проявляться как любовь к ближнему, под
которым понимается любой человек, который сейчас оказался
рядом, любой, на которого может быть в данный момент
направлена любовь. О чем же идет речь: о браке как социальном
закреплении отношений с возлюбленной или о социально
воплощенной любви к ближнему? Эти вещи оказываются у Розенцвейга
тесно связаны, и скоро мы увидим, каким образом.
Земная любовь, кульминирующая в браке и рождении детей,
преодолевает смерть тем, что жизнь, исполненная смысла,
избавляет от страха смерти. Любовь оживляет мир и наделяет его
душой. Весь мир несет в себе закон роста жизни; любовь же дает
ему одушевление и вечность. Земной путь становится уже не
неотвратимым приближением к смерти, а радостным
предвкушением и созерцанием того, как сбываются эти предвкушения, -
роста детей, рождения их детей, и т. д. Главное - знание того, что
это «далее» сбудется. Поэтому брак и кровные связи становятся
у Розенцвейга необходимыми элементами Спасения. Однако они
186
выступают таковыми только как моменты религиозной жизни,
в которой они обретают уже не биологический, а духовный смысл.
Любовь требует действия, которое направлено вовне, на Мир.
Соответственно, Спасение, т. е. обретение вечной жизни и
окончательная победа над смертью, истолковываются Розенцвейгом
как установление связи между Человеком и Миром. «Царство
Божие актуально есть не что иное как взаимный союз души и всего
мира» (Rosenzweig Fr., 1985. P. 233). Тем самым достраивается
третья сторона треугольника, образуемого отношениями между
тремя исходными фактичностями. При этом если отношение
между Богом и миром выстраивалось в акте Творения и было
прошлым, а отношение между человеком и Богом, складывающееся
в Откровении, было настоящим, то Спасение, как легко
догадаться, окажется будущим. Это то будущее, которое равнозначно
вечности, что понятно, иначе оно не было бы победой над смертью.
Облик спасенного бытия
Но как мыслит себе Розенцвейг эту победу? Не встречаемся ли
мы тут с чисто мистическим учением? Никоим образом.
Представляется, что речь идет об очень простой - или, если хотите,
самой сложной - вещи: о том, чтобы принять Мир как
непрерывную череду рождений и смертей. Правда, Розенцвейг
выражается другим языком. Он повествует о непонятном, чуждом,
загадочном, зачарованном мире, замкнутом в себе, который
разомкнулся и открылся в Творении. Он открылся как становление,
которому еще только предстоит обрести свою сущность,
открылся как жизнь. Жизнь есть нечто длящееся, но негарантированное,
хрупкое и уязвимое. Ведь в мире есть смерть. В нем, правда, есть
и сопротивление, которое сохраняет длительность отдельных
жизней. Однако подобное сопротивление уничтожению
отдельных жизней остается свойством конечной жизни, которая не
в силах одолеть смерть. Спасение состоит в том, чтобы мир как
целое стал жизнью. Это значит, что жизнь должна обрести
бесконечность, т. е. вечное будущее. А что это означает? Во всяком
случае, не отмену обычного порядка биологической жизни. Та же
череда рождений и смертей будет продолжаться. Та же - однако
не совсем. Если ранее мир был местом бессмысленной череды
рождений, которые все равно были предназначены стать добычей
смерти, то теперь мир должен выступить как бесконечная жизнь,
в которой даже и смерть есть момент жизни, пролагающий
дорогу новым рождениям.
187
Ведь вечность, как объясняет Розенцвейг, есть
присутствующее в настоящем будущее. Поэтому речь идет о том, чтобы
настоящее было понято как пронизанное будущим. То есть все-таки
в конечном счете речь идет о том, что смерть преодолевается через
рождение новой жизни и что, таким образом, существование
каждой живой былинки имеет смысл, потому что открывает
возможность новых рождений. Потому что даже она, самая малая
былинка, длит и передает как эстафету жизнь своего рода.
Только так мы и можем понять слова Розенцвейга о том, что
жизнь должна стать бессмертной и что сделать это должен
человек. То есть повторим еще раз, по нашему разумению, это
означает, что человек должен принять этот мир как арену господства
жизни, а не смерти. Никаких сверхъестественных чудес, как мы
видим, при этом не происходит.
Человек спасает мир в том смысле, что начинает видеть
осмысленность земного существования. Тем самым человек
спасает и себя. Но более того: он, его усилия спасают Бога, делая его
Творение правильным и осмысленным. Происходит следующее:
любовь исходит от Бога. Человек в ответ любит ближнего своего
как Божье творение. Тогда и сам он чувствует себя любимым
Богом, ибо и сам он такой же, как этот ближний. Так дом вечной
жизни строится на временном пересечении любви к Богу и любви
к ближнему.
Хотя Розенцвейг много говорит в этом контексте о браке, про-
креации, кровных и этнических узах, но значение любви в его
концепции этим не ограничивается. Недаром прологом к
повествованию о Спасении была тема заповеди любви к ближнему.
Ближний - это любой человек, который, так сказать, «оказался
в пределах досягаемости» твоей любви. Поэтому необходимым
элементом и условием Спасения оказывается правильная
организация социума. То есть должно возникнуть «Мы». Это
происходит, говоря словами Розенцвейга, когда человек и мир
соединяются в хвалебном гимне Богу. Поэтому, если Откровению
соответствовал «грамматический анализ» Песни песней, то
Спасению - «грамматический анализ» Псалмов. «Жизнь стала
бессмертной в вечном гимне Спасения и хвалы» (Ibid. P. 253).
«Мы» и есть ключевое слово Спасения. Событие Спасения
состоит в обретении этого «Мы». Только «Мы» бессмертно. Без
обретения «Мы» невозможно обретение будущего и вечности. Но
его еще надо обрести. Ведь это должна быть такая общность,
в которой свободная индивидуальность каждого не «преодолева-
188
ется», не «снимается», но, напротив, приходит к своему
завершению. Только отдавая себя такой общности, человеческая
индивидуальность становится личностью. Таким образом, истинная
общность может существовать лишь на основе заповеди любви
к ближнему.
Общество, построенное на заповеди любви к ближнему, - это
и есть Царство Божие. Обратим внимание на постановку
вопроса, характерную для еврейской религиозной философии, - речь
идет не о спасении индивидуальной души и не о загробном мире,
а о социальной организации этого мира, соответствующей
библейским заповедям.
Более обстоятельному рассмотрению принципов этой
организации предпослано введение, озаглавленное «О возможности
вымолить Царство». Здесь Розенцвейг замечает прежде всего,
что, поскольку Бог и человек обладают свободой, они могут
искушать друг друга. Например, человек может искушать Бога своей
молитвой. Религиозные традиции поэтому обычно различают
правильную и неправильную молитву. Подход Розенцвейга
к этому вопросу достаточно оригинален: отталкиваясь от тем
и идей философии жизни, он приходит к развитию концепции
времени. Прежде всего Розенцвейг заявляет, что для
правильности молитвы ее содержание не имеет значения, важно только,
чтобы она была своевременной. Например, если злой человек
молится о смерти своего врага, то ведь то, о чем он просит,
обязательно исполнится. Дурно то, что он просит об этом сейчас.
Молитва о скорейшем пришествии Царства Божьего тоже
является несвоевременной. Оно должно прийти в назначенный ему
срок. Поэтому молитвы нетерпеливых фанатиков, по убеждению
Розенцвейга, так же отдаляют пришествие Царства, как и
молитвы злодеев.
Но какая же молитва является в таком случае своевременной?
Парадигмой такой молитвы становятся, в рассуждениях
Розенцвейга, слова Гёте, человека, которого можно назвать и великим
язычником, и великим христианином и который в молодости
воззвал к своей судьбе, моля ее благословить плоды его трудов.
Молитва о своей судьбе всегда своевременна. Она не может
быть преждевременной или запоздалой. Она обращена к
будущему, пронизана надеждой. Модусы времени у Розенцвейга, таким
образом, имеют смысл не только теологический, но и
экзистенциальный. Настоящее время связано с любовью, прошлое -
с верой, будущее - с надеждой. Надежда есть атрибут жизни,
189
а жизнь больше, чем тело, и больше, чем дух. Она является их
единством. К судьбе, таким образом, взывает цельный человек.
В надежде и судьбе из тела и души сотворяется целое и молится
о том, чем уже обладает, - о своей судьбе. А судьба
осуществляется в мире. И таким образом жизнь воссоединяется с целым
мира. Ведь человек, взывающий к своей судьбе, чувствует
неразрывную связь между собой и миром. Для него разрыв между
Я и миром как не-Я преодолен, и мир является для него жизнью
Вот в каком смысле молитва о судьбе всегда своевременна. Она
несет в себе, самим фактом того, что человек творит такую
молитву, связь между человеком и миром и утверждение мира как
жизни. Именно потому такая молитва всегда своевременна
и не отдаляет пришествия Царства, но, напротив, начинает
работу по его установлению (ведь, как было сказано выше, Спасение
истолковывается Розенцвейгом как установление связи между
Человеком и Миром). Обратим также внимание на то, что
целостность человеческой личности в концепции Розенцвейга
оказывается связанной с определенной позицией по отношению
к времени.
Тема отношений между человеком и миром, их разрыва и
восстановления выливается в краткий очерк истории христианских
церквей. «Церковь Петра» (католичество) устанавливала эту
связь, стремясь сделать мир христианским, т. е. борясь с
язычеством в душе и во внешнем мире. Однако чем более она
искореняла язычество во внешнем мире, тем более необоримым
становился внутренний язычник. В «Церкви Павла» (протестантизм)
произошел разрыв между миром и душой. Душа отвернулась от
тела мира, будучи не в силах преодолеть его язычества, и стала
спасать только самое себя.
Так сформировалась современная культура и современный
человек. Мир «снаружи» христианский, а человек «внутри» -
язычник, потому что живет в состоянии раскола: между Я
и миром, душой и телом.
Но Розенцвейг выражает надежду, что христианская церковь
стоит на пороге нового, высшего этапа своей эволюции. Он
называет его «церковью Иоанна» по имени Иоанна-предтечи, в чьем
именовании уже воплощены надежда и обращенность к
будущему. Поэтому Розенцвейг выбирает его имя, чтобы описать
грядущее христианство, в котором будет преодолен разрыв между
телом и душой, признаны жизнь и мир в их целостности. В то же
время Розенцвейг разъясняет, что речь не идет о новой институ-
190
циональной форме. Эта «церковь» будет аморфной и будет
существовать в рамках имеющихся церквей. Таким образом, как мы
можем понять Розенцвейга, речь у него идет о новом духе, а не
о новых формах христианских церквей. В «церкви Иоанна»
воссоединятся русское православие и западное христианство.
Русская церковь видится Розенцвейгу сквозь образ Алеши
Карамазова. Православие станет для западного христианства великой
школой веры и надежды. Другими учителями по части надежды
станут для западного христианства евреи, «ибо надежда, которую
любовь склонна забывать и без которой вера полагает
возможным обойтись, в крови у евреев и передается у них по наследству»
(Rosenzweig Fr., 1985. P. 285). Так, с помощью православия и
иудаизма западное христианство сможет в конце концов победить
язычника в себе самом. Все условия для этого уже сложились.
Наконец, важными знаками приближения Царства Божьего
являются свобода, равенство и братство, которые уже
провозглашены и начинают осуществляться. Таким образом, Розенцвейг
оценивает свое время как эпоху, когда все уже созрело, все
готово для пришествия Царства. Представляется, что эта
характеристика добавляет новые краски в общую палитру Веймарской
культуры, которой принадлежит работа Розенцвейга.
Во всяком случае, «...вечность не может прийти до срока.
Жизнь, и вся жизнь, должна стать сначала полностью временной,
полностью живой, прежде чем она станет вечной жизнью»
(Rosenzweig Fr., 1985. P. 288). Но именно в той послевоенной
ситуации, как представлялось Розенцвейгу, это условие начало
выполняться, и потому теперь вечность можно и поторопить.
Молитва, подобная гетевской, характеризуется Розенцвейгом как
молитва язычника или неверующего. Она прекрасна, ибо
свидетельствует о цельности, об обращенности к будущему. Но есть
нечто более прекрасное: молитва, способная «поторопить»
вечность.
Может показаться, что Розенцвейг тут противоречит сам себе.
Не он ли чуть ранее утверждал, что молитва о скорейшем
пришествии Царства есть молитва фанатика и только отдаляет это
событие? Противоречия нет благодаря особой трактовке
времени. Молитва верующего выступает у Розенцвейга как действие,
создающее и поддерживающее особую структуру времени, а не
как требование, чтобы Царство наступило в ближайший момент
того же самого линейного времени. Говоря словами Розенцвейга,
молитва верующего способна воссоздавать Сегодня в Вечности
191
и тем самым превращать Вечность в Сегодня. Но каким же
образом? Конечно, «насыщение» настоящего вечностью можно
понимать по-разному. Особенностью мышления Розенцвейга, как
нам представляется, является ориентация на земное, а вовсе не
мистическое. Речь у него не идет об аскетическом отрешении от
нужд и забот повседневной жизни, напротив. Но как же в таком
случае можно насытить временной момент вечностью? Сделав
так, чтобы любой момент был насыщен бесчисленной вереницей
других моментов, прошлых и будущих. Для этого, по мнению
Розенцвейга, нужно, чтобы во времени конец совпал с началом,
т. е. чтобы время возвращалось. Тогда, скажем, конец лета станет
возвращением осени, и в определенном конце лета такого-то года
будут резонировать все бывшие осени и таиться, ожидая своей
очереди, зародыши всех будущих осеней.
Заметим, что такую счастливую возможность обеспечивает
календарь. Календари, как известно, основаны на периодической
повторяемости явлений природы. Однако, в трактовке
Розенцвейга, календарь все более освобождается от природных
детерминаций и насыщается культурными смыслами. Например, час,
неделя являются чисто человеческими установлениями.
Неделя - это чередование труда и отдыха, деятельности и созерцания.
В интерпретации Розенцвейга неделя предстает как закон
цивилизации и культуры и подлинный символ человеческой свободы.
Ведь она указывает на то, что человек сам устанавливает порядок
своей деятельности и освобождения от нее. Далее, неделя с ее
ритмической сменой труда и отдыха превращается в модель
вечности, ибо в ней конец совпадает с началом благодаря
непрестанно возобновляющемуся настоящему.
Акцент на культурных, а не природных или астрономических
смыслах календарного членения времени имеет в концепции
Розенцвейга принципиальное значение, ибо культурные смыслы
по своей сути социальны и в то же время связаны с культом.
Членение времени теснейшим образом связано с культом, в силу
чего культ оказывается, в трактовке Розенцвейга, главным
инструментом структурирования времени, благодаря которому
оно обретает циклическую структуру, и появляется возможность
«заманивать» вечность в момент настоящего.
Однако это опять-таки не означает, что Розенцвейг
приписывает культу какую-то магическую силу. Культ обладает особой
действенностью потому, что носит социальную природу. Он
организует время постольку, поскольку организует жизнь общи-
192
ны. Именно здесь, в измерении социального, по мнению
Розенцвейга, проходит, грань, отделяющая язычника от
верующего. Язычник молит о судьбе в одиночку, а молитва верующего
неразрывно связана с жизнью его религиозной общины. Только
община способна «пригласить» вечность в настоящее столь
настоятельно, что вечность уже не сможет не принять
приглашение. Община молится уже за труды наших рук. Если я не могу
завершить эти труды, то их завершишь ты или он. Тем самым
молитва общины обращена к Всеобщему и способна превратить
отдельную человеческую жизнь в искру вечной жизни. Молитве,
таким образом, приписывается огромная сила и действенность.
Однако обратим внимание, что молитва понимается в данных
рассуждениях не так, как в протестантизме или православии: не
как событие внутренней жизни, а, напротив, как совместное
действие общины, организующее и придающее смысл социальной
жизни. Молитва творит прежде всего определенную социальную
структуру, которую Розенцвейг и описывает как причастную
вечности и несущую в себе Царство Божие. Обращает на себя
внимание также и то, что в рассуждениях Розенцвейга о молитве
и ритуале речь идет об организации социума, которая не связана
с государственными институтами и является подлинной
самоорганизацией. Хотя спасенная жизнь - это для Розенцвейга
обычная земная, а не потусторонняя жизнь, тем не менее земная
жизнь может стать спасенным бытием не в своей биологической
данности, но будучи пронизана духовным светом, в лучах
которого каждый момент земного существования насыщается
антиципацией вечности и обретает смысл.
Вообще, раздел, посвященный бытию, обретшему Спасение,
в общей архитектонике книги Розенцвейга должен
соответствовать двум наложившимся треугольникам, т. е. шестиугольной
звезде Давида. Однако при этом спасенное бытие
рассматривается им как существование в иудаизме и существование в
христианстве. Это две формы существования, равно основанные
на заповеди любви к ближнему. Иудаизм описывается при этом
как «Огонь, или вечная жизнь», а христианство как «Луч, или
вечный путь».
Изложение начинает походить на сравнительный
культурологический анализ, а эти две конфессии оказываются двумя
разными способами обращения со временем, т. е. насыщения
настоящего времени - будущим. Но подчеркнем в то же время, что
193
формы обращения со временем и насыщения настоящего
будущим являются именно религиями.
Розенцвейг описывает еврейскую судьбу как неразрывную
связь с вечностью. Для еврейского народа вечность составляет
постоянную и неотъемлемую часть его существования. Он
постоянно несет свою вечность с собой. В то же время Розенцвейг
рассуждает об этом как человек «двойной идентичности», для
которого бесспорным и очевидным местом жительства являлась
Германия. Поэтому он описывает «вечный народ» как живущий
без связи с почвой, как чужестранца и пришельца в любом краю,
где бы он ни был. Другого существования для евреев он не
представляет. Но зато они имеют связь со Святой землей. Этот народ
не имеет своего языка, он пользуется языками других народов,
зато обладает языком, который не может умереть, потому что это
вечный и святой язык. Этот народ не имеет своих законов, по
которым бы он жил и которые бы эволюционировали в ходе
истории, зато имеет вечный закон. Все это свидетельствует, что форма
жизни данного народа - вне времени. Или, лучше сказать, в
вечном настоящем, пронизанном будущим. Его судьба есть вечное
ожидание, но тайна его в том, что вечно чаемое - уже здесь. Для
дальнейшей иллюстрации своей мысли Розенцвейг анализирует
структуру еврейского литургического года, объясняет смысл всех
его праздников, показывая, как они выстраивают время в
неразрывной связи настоящего и вечного. Анализ Розенцвейга имеет
при этом определенную социологическую окраску, вскрывая
в ритуале способы организации человеческого существования.
Он обращает внимание, например, на то, как важен для
религиозных праздников и ритуалов иудаизма домашний круг и
обращение к самым старшим или самым младшим в семье. Это тоже
форма обращения со временем.
Емкую формулировку идей Розенцвейга дает Э. Левинас:
«В разнообразных праздниках иудейского года повторяются
различные моменты Космического Дня: его утро, полдень, вечер -
Творение, Откровение, Спасение. Это опыт времени, которое,
с точки зрения Розенцвейга, так же фундаментально, как и время
башенных часов или политической истории, и которое нельзя
истолковывать, исходя из вот этого времени» (Левинас 2004.
С. 488).
Христианство, напротив, описывается им как основанное на
разделении и противопоставлении настоящего и чаемого
будущего. Христианин, в каком бы веке он ни жил, всегда существует
194
между двумя сакральными событиями: первым и вторым
пришествиями Христа. Способом проживания времени в христианстве
оказывается вечное стремление. Если иудеем рождаются, то
христианином становятся. Быть христианином - значит идти
к тому, чтобы быть христианином. Существование христианина
насыщается вечностью постольку, поскольку его «сейчас» всегда
выступает серединой между первым и вторым пришествием
Христа, связывается с ними и так наполняется глубочайшим
смыслом. Вера христианина, говорит Розенцвейг, есть вера
в путь: «Каждый в этой религии знает, что нет иного вечного
пути, чем тот, по которому он идет. Только тот принадлежит
христианству, кто воспринимает свою жизнь как принадлежащую
тому пути, который ведет от Христа пришедшего к Христу,
который грядет» (Rosenzweig Fr., 1985. P. 342).
Розенцвейг, таким образом, описывает иудаизм («вечную
жизнь») и христианство («вечный путь») друг на фоне друга и через
их взаимные отличия. Говоря о христианстве, он часто использует
слова «они» (т. е. христиане) и «мы» (т. е. иудеи). Он, таким
образом, не пытается встать над противоположностью иудаизма и
христиане! ва, а, напротив, демонстрирует свою ангажированность.
Однако это не мешает вдумчивости и тонкости анализа.
Говоря о том, что для христианина Бог выступает как Отец
и как Сын, Розенцвейг тут же вспоминает, что иудаизм тоже
приписывает Богу несовместимые атрибуты, например
справедливость и милосердие. Хотя, конечно, то, что для христианина Бог
оказывается одновременно Отцом и Сыном, имеет совсем другое
значение. Для христианина Отец и Сын различаются не своими
атрибутами: «Скорее, христианское благочестие движется
разными путями соответственно тому, заходит ли речь об Отце или
о Сыне. Христианин лишь к Сыну обращается с той
непосредственностью и простотой, которая кажется нам совершенно
естественной в наших отношениях с Богом... Христианин решается
приблизиться к Отцу только посредством Сына» (Ibid. P. 350).
Христианину, говорит Розенцвейг, чтобы вообразить Бога,
преклоняющего ухо к его мольбам и просьбам, надо представить его
обратившимся в человека. «Неискоренимый элемент язычества,
который сохраняется в каждом христианине, проявляется в этом
весьма выпукло» (Ibid. P. 350). Обвинения христианства в том,
что оно не свободно от язычества, достаточно характерны для
философии иудаизма вообще. Эти обвинения, конечно,
отражают то, что христианство выступает для иудаизма как «другое».
195
Но в то же время интонация розенцвейговского текста полна
глубокого интереса и уважения к христианской религии, хотя он
и не забывает, что это не его религия. Не его, «другая». Однако
«другое» не выступает для него как опасное или враждебное.
Розенцвейг всматривается в другую религию со спокойным
вниманием и уважением. Как редко встречается подобная установка
по отношению к другим системам убеждений! Все чаще в наше
время приходится сталкиваться с представлением, что вера
означает верность своей религии и в силу этого - неприязнь и
враждебность к любой другой вере. Верность своей вере, как считают,
не допускает интереса и попыток понять другую религию.
А плохо известное и непонятное представляется вдвойне
враждебным и опасным. Но не является ли страх перед тем, чтобы
знать и понимать другую религию, неосознанным проявлением
неуверенности в крепости собственной веры?
Розенцвейг, как мы помним, был одно время,близок к тому,
чтобы креститься. Он изучал христианство и много размышлял
над ним. В конце концов он остался иудеем. Он понимает
христианство, но понимает и основания собственного выбора. И все
это дает ему спокойное и мудрое приятие того факта, что мир
устроен сложно, что в нем существуют разные религии,
несводимые к общему знаменателю. Спокойное приятие другого, без
страха и агрессии, составляет отличительную черту философии
диалога.
Но как быть с сакраментальным вопросом: какая конфессия
имеет истинное представление о Боге? Истина же только одна!
Значит, есть только одна истинная религия, а остальные ложны,
и с ними надо вести борьбу. Подобное рассуждение на первый
взгляд представляется таким убедительным! Но что имеется
в виду под истиной и каким образом религия обладает ею?
Подразумевается знание сущности Бога. Этой теме посвящено
немало тонких рассуждений метафизиков и темных писаний
мистиков. Тема, эзотерическая по своей сути, имеет тем не менее
насущное практическое и политическое значение. Ибо вопрос
о том, какое представление о сущности Бога истинно,
затрагивает самые болезненные и взрывоопасные точки человеческого
существования в современном поликультурном и
многоконфессиональном мире.
Кант в свое время доказывал, что познание Бога лежит за
пределами возможностей спекулятивного разума. В главе 3 мы
видели, как эта позиция получила свое развитие в философии рели-
196
гии у Г. Когена. Эту же мысль защищает и Розенцвейг,
используя, однако, иную, не столь рационалистическую, аргументацию.
Смысл ее заключается в том, что человек знает Бога,
открывшегося ему в своей любви. Следовательно, человек знает Бога
только в его действиях, но не в том, что Он есть сам по себе.
«Сущность остается скрытой. Она скрыта именно тем, что
открывается» (Rosenzweig Fr., 1985. P. 381). Когда говорят, что Бог есть
жизнь, что Он есть любовь, что Он есть истина, то говорят как раз
о том, как Бог открывается человеку. Говорить же, например,
о том, что Бог есть жизнь по своей сути, наверное, не имеет
смысла, потому что, по убеждению Розенцвейга, Он выше
противоположности живого и мертвого. Атрибут любви относится к Богу
Откровения, но совершенно непонятны основания, по которым
его можно или нельзя было бы отнести к Богу до Творения,
пребывающему в своей скрытой сущности. «То, чем Бог, истинный
Бог, мог быть до творения, превосходит наше воображение» (Ibid.
Р. 383).
Розенцвейг готов принять утверждение, что Бог есть истина,
однако при этом он готов понимать истину только
экзистенциально, как то, что удостоверено жизнью и личным опытом
человека, что пережито им. Можно, как нам представляется,
согласиться с тем, что знание о Боге может быть только
экзистенциальным. Тогда отсюда и будет следовать тезис, который
стремится обосновать Розенцвейг, - о том, что знание о Боге не
может не быть личностным. Оно всегда есть знание вот этого
конкретного человека, в его Здесь и Сейчас.
Тем самым лишаются почвы метафизические спекуляции на
тему Бога до Творения или Бога после завершения работы
Спасения, тему сущности Бога как он есть сам по себе. Таким
образом, Розенцвейг заканчивает на том же, с чего он начинал
свое повествование: на Ничто нашего знания о Боге.
Отсюда и вытекает, что беспредметен спор о том, какая
религия - самая истинная. На претензии в этом споре Розенцвейг
отвечает такими словами, которые, как нам представляется,
соответствуют истории его собственных религиозных исканий:
каждый человек рождается в определенном месте и времени
и вследствие этого получает в свое распоряжение определенную
часть истины. Причастность человека истине, участие в ней
означают, что он, в силу своей судьбы, получил ее определенную
часть. По-другому и быть не может, иначе это не была бы его
истина, удостоверяемая его жизнью. То, что это только часть, его,
197
в общем, не касается, потому что целая истина пребывает только
в Боге. А Бога «никто не может узреть и остаться в живых».
«Религия, - как пишет Левинас, - непременно должна,
согласно Розенцвейгу, проявиться через иудаизм и через
христианство, причем непременно через то и другое. Истина бытия
структурирована таким образом, что частичная истина христианства
предполагает частичную истину иудаизма, но каждая из этих
истин должна переживаться в своей целостности как абсолютная.
Их диалог не может, не извратив абсолютной истины, преодолеть
в людях сущностную диалогическую разделенность. <...> Просто
истина, в которой соединяются иудаизм и христианство,
пребывает в Боге. Способ, каким человек обладает истиной, состоит не
в том, чтобы созерцать ее в Боге, но в том, чтобы поверять ее
собственной жизнью. Человеческая истина, иудейская и
христианская, есть поверка. Она заключается в том, чтобы рисковать
собственной жизнью, переживать ее, отвечая на Откровение, т. е. на
Любовь Бога. Но человеческим ответом на эту любовь может
быть только вечная жизнь, как у иудея, или вечный путь, как
у христианина. Есть только эти два способа, и оба необходимы.
Только каждый должен жить подлинной жизнью по-своему»
(Левинас Э., 2004. С. 488-489).
Объясняя, почему есть два и только два способа причастности
к истине, Розенцвейг опять-таки выстраивает прихотливую
конструкцию, которая нам кажется искусственной. Речь идет о том,
что человек получает истину Здесь и Теперь и может ответить на
нее из своего Здесь, и тогда получается иудаизм, или из своего
Теперь - чем определяется христианство. Думается, что можно
согласиться с американским философом-аналитиком X. Патне-
мом, который упрекает Розенцвейга в предвзятости и в том, что
тот сам оказался не на высоте защищаемого им же
диалогического принципа. Почему, в самом деле, только две религии?
Однако с дальнейшим выводом рассуждений Розенцвейга, как
нам кажется, надо согласиться. Задача человека состоит в том,
чтобы делать то, что он должен делать в силу этой полученной им
части истины. А это очень простая, но в то же время бесконечно
сложная вещь: «О, человек! Сказано тебе, что - добро и чего
требует от тебя Господь: действовать справедливо, любить дела
милосердия и смиренномудро ходить пред Богом твоим» (Михей
6:8). Эта заповедь безусловна, свободна от сомнения, вечна, как
жизнь. Эти слова написаны на вратах святилища. Внутрь
святилища человек не может войти и остаться в живых. Однако откры-
198
ваются эти врата, говорит Розенцвейг, - в жизнь. Этим словом -
«жизнь» - и кончается труд Розенцвейга, который начинался,
как мы помним, с разоблачения философов: их претензия на
познание Всеобщего мотивируется страхом смерти.
Наиболее важной чертой розенцвейговского анализа нам
представляется то, что здесь даже не может быть вопроса о
«единственно правильном» способе жить в пространстве и времени или
устанавливать свои отношения с вечностью. Тут совершенно
неприменим образ «более высокоразвитой формы»,
«преодолевающей», «диалектически снимающей» более низкую. Розенцвейг
так естественно рассматривает разные формы религиозной
жизни, как это и должно быть у философа диалога. В самом деле,
речь ведь идет об утверждении жизни. Но не означает ли это
приятия разнообразных форм, подобно тому как биологическая
жизнь сохраняется и поддерживается только как разнообразие
форм с различными функциями, так что исчезновение какого-то
одного вида представляет собой угрозу жизни в целом?
Речь у Розенцвейга идет о том, чтобы наполнить смыслом
факт совместного существования разных конфессиональных
и этнических сообществ. И в этом, как нам представляется,
лежит залог возрастающей актуальности идей Розенцвейга для
нашего времени.
Основные темы Розенцвейга - диалог, Другой, исходная
обособленность как условие для возможности признать инаковость
Другого, отказ от попыток свести любую инаковость к
Всеобщему, религиозность как жизнь навстречу другому человеку -
развивает дальше Э. Левинас. Однако дальнейшее развитие этих
идей проходит в совсем других, гораздо более драматических
условиях, до которых не дожил Розенцвейг.
ГЛАВА 5. ЭММАНЮЭЛЬ ЛЕВИНАС:
ЭТИКА КАК ПЕРВАЯ ФИЛОСОФИЯ
Судьба в контексте Холокоста и четырех великих культур
Известный французский философ Эмманюэль Левинас
родился в Каунасе в 1906 г. Это утверждение, соответствующее
стандартным зачинам биографических справок, в данном случае
глубоко парадоксально. Начнем с того, что этот город тогда,
когда в нем родился Левинас, назывался не Каунасом, а Ковно,
и таким он и остался для нашего героя. Далее, Левинас родился
30 декабря 1905 г. По новому стилю, однако, этому дню
соответствует 12 января 1906 г. Потому и можно встретить разночтения:
некоторые источники указывают как год его рождения 1905-й,
тогда как другие - 1906-й. Ну и, наконец, понятно, что фамилия
его, скорее, должна была бы звучать как Левин, потому что «ас» -
это окончание именительного падежа, принадлежащее
литовскому языку. Но педантичная французская бюрократия перенесла
в его французские документы литовское написание.
Эти детали являются косвенными свидетельствами тех бурных
и драматических исторических перемен, свидетелем и участником
которых стал Левинас за свою долгую жизнь (он умер в 1995 г.);
они напоминают нам о целом мире, от которого почти ничего не
осталось, - из него и вышел Эмманюэль Левинас.
В Ковно прошло раннее детство будущего французского
философа. Ковно, город на западной окраине Российской
империи, был населен литовцами, поляками, русскими, евреями.
Здесь обитали и католики, и лютеране, и православные, и иудеи.
Последние были достаточно многочисленны и образовывали
общину со своими сильными культурными и религиозными
традициями. Тут были представлены и сталкивались между собой
разные течения еврейской религиозной мысли. Например,
движение Мусар, основоположником которого был рабби Исраэль
Салантер (1810-1883) - движение за нравственное возрождение
200
и обновление. Салантер призывал при изучении классических
текстов иудаизма делать акцент на нравственных аспектах
преимущественно перед ритуальными, а в самой религиозности
подчеркивал значение внутренней мотивации и состояния души,
придавал первостепенное значение стремлению к нравственному
совершенствованию. Зрелый Левинас любил цитировать
высказывание Салантера: «Материальные нужды другого - это мои
духовные нужды».
На рубеже XIX-XX веков к религиозным направлениям в
духовной жизни еврейской общины добавились течения
социально-политические: появились сторонники Бунда1, сионистов,
вообще сторонники социализма. Как отмечает биограф Левина-
са, в начале XX века в этой среде были сильны и
космополитические настроения (Lescourret M.-A, 1994).
Левинас принадлежал к сравнительно обеспеченной и
образованной еврейской семье (Lescourret M.-A, 1994). Его отец держал
книжный и писчебумажный магазин. В магазине было много книг
на русском языке, а клиентуру его составляла городская
интеллигенция. Сестра отца содержала общественную русскую библиотеку
Ковно, и многие книги, открывшие Эмманюэлю мир русской
литературы, брались именно из этой библиотеки. Русский и
еврейский были для него родными языками. Русская литература, -
Пушкин, Толстой, Достоевский, - сопровождала его всю жизнь.
Мать наизусть читала детям «Евгения Онегина». Вообще,
родители, стремясь подготовить детей к гимназии, говорили с ними по-
русски, хотя между собою разговаривали на идише. Но в то же
время, как и положено еврейскому ребенку, с шести лет Эмма-
нюэль приступает к изучению иврита и Писания. Так что Левинас
вырос на перекрестии двух культур - еврейской и русской. Может
быть, не случайно, что позднее он оказался также и на перекрестии
немецкой и французской философской культуры и выступил
посредником между немецкой и французской мыслью.
В то же время, как подчеркивает его биограф (Lescourret M.-A,
1994), с самого детства у Левинаса сложилось полное и
однозначное осознание своей принадлежности к еврейскому народу и его
судьбе, к иудаизму. И здесь стоит, пожалуй, сказать, что Литва,
в которой прошло детство Эмманюэля, была одним из важных
центров еврейской духовной жизни и учености. Здесь сложилась
собственная школа талмудических штудий с особым стилем
Бунд - социал-демократическая организация «Всероссийский еврейский
рабочий союз в Литве, Польше и России».
201
и приемами истолкования священных текстов. Знаменитым
центром изучения Талмуда в Литве стала Воложинская йешива.
Позднее Левинас написал предисловие к переводу на
французский язык главного труда основателя этой школы, Хаима
Воложинского, «Душа жизни» (см: Levinas E., 1982; Moses St.,
1989). Конечно, Левинас был еще слишком юн в каунасскую пору
своей жизни, чтобы приобщиться к этой учености. К тому же его
еврейское образование, полученное благодаря родителям, как
специально подчеркивает его биограф (Ibid.), включало изучение
языка и Библии, но не Талмуда. В то же время возможно, что
общий стиль, характерный для литовского талмудиста - «литва-
ка», как его называли, - успел повлиять на Левинаса. Этот стиль
отличался рационализмом, особым вкусом к логическому
конструированию понятий и различений, строгостью и даже
некоторой сухостью. Много лет спустя, характеризуя литовский иуда
изм, Левинас отмечал присущую ему «демифологизацию текста,
при одновременном поиске стимула для мысли в самом тексте,
вплоть до его буквы. Вот что наиболее существенно для их чтения
текста. <...> Как будто библейские стихи непрестанно взывают:
«Истолкуй меня». <...> Это, разумеется, еще не представляет
собой философского чтения, но, возможно, является обретением
одно-го из достоинств последнего» (цит. по: Lescourrer M.-A,
1994. Р. 40). Левинас высоко ценил такую черту мышления
литвакских талмудистов, как сдержанность и осторожное
избегание какого бы то ни было «опьянения мысли». Отсутствие
экзальтации, сдержанность и в то же время свобода и
раскованность - не таков ли стиль собственных талмудических
интерпретаций Левинаса? И разве установка на непрестанный поиск
скрытого смысла под покровом смысла явного не близка ему —
будучи преломлена сквозь призму феноменологических методов
и тем усилена? Отметим, кстати, что Левинас впоследствии
занимался также интерпретацией и произведений художественной
литературы (см.: Левинас Э., 2004. С. 445-448).
Семья покинула Литву в 1914 г., спасаясь от наступающих
немецких войск. Левинасы искали для себя пристанища то
в одном, то в другом местечке в зоне оседлости - и так оказались
на Украине. Но в любом месте, куда забрасывала их судьба,
родители первым делом беспокоились о самом необходимом для
своих сыновей, т. е. об учителе еврейского языка. Поселиться
в Киеве еврейская семья по существовавшим тогда законам не
имела права, но можно было поселиться в Харькове, где они
202
и обосновались. Там же в 1916 году Эмманюэль поступил в
гимназию, что было совсем не легко из-за существовавшей в царской
России процентной нормы, очень жестко ограничивавшей
численность еврейских учеников. Регулярные занятия еврейским
языком и Писанием продолжались все это время.
В 1920 году семье Левинасов удалось вырваться с Украины,
которая к тому времени стала большевистской, и вернуться в
разрушенный войною Каунас, оказавшийся к тому времени городом
суверенного литовского государства. В Каунасе Эмманюэль
учился в еврейской гимназии, усиленно занимался немецким
языком, подолгу размышлял над классической русской
литературой, - Пушкин, Достоевский, Гоголь. Во многом именно она
стала для юного Левинаса школой метафизического вопрошания
о смысле человеческого бытия. Пушкин открывал ему дух
Просвещения: рациональность без мистики и экзальтации,
гуманизм без сентиментальности. Достоевский же открывал ему
тайны и подполья души, которая терзается, потому что «слишком
широка» и потому что слишком перемешаны в ней добро и зло.
«Неизгладимое впечатление на него произвели идеи
Достоевского, и прежде всего этическая позиция писателя, выраженная
словами: мы все виноваты за все и перед всеми, и я виновен более
других» (Вдовина И.С, 2004).
После окончания гимназии встает вопрос о дальнейшем
образовании. Семья Левинаса, как и множество других образованных
еврейских семейств маленького литовского государства, желает,
чтобы их сын получал образование в Европе. Мать особенно
мечтает о каком-нибудь известном немецком университете. Однако
немецкие университеты отказывают Эмманюэлю в приеме: им не
внушает доверия диплом какой-то еврейской литовской
гимназии. И тогда появляется идея Страсбурского университета: в те
годы он являлся французским, однако в нем сохранялись старые
немецкие традиции.
В 1923 г. Левинас, почти не зная французского языка,
отправляется учиться во Францию, в Страсбургский университет, где
в 1924-1929 гг. изучает философию. В студенческие годы
начинается его дружба с Морисом Бланшо. Тогда же он открывает для
себя А. Бергсона, мысли которого о времени и работа которого
«Два источника морали и религии» существенно повлияли на
собственные размышления Левинаса о времени.
В 1928-1929 гг. он стажировался во Фрайбурге (Германия),
учился у Гуссерля и посещал лекции Хайдеггера. С Гуссерлем
203
установились довольно близкие отношения. Гуссерль открыл для
него свой дом и даже, как написал потом сам Левинас, «во время
двух семестров (его) пребывания во Фрайбурге... госпожа
Гуссерль, ссылаясь на свою предстоящую поездку в Париж, брала
у меня уроки "совершенствования французского языка". Их
целью была скорее прибавка к стипендии студента, чем
обогащение словаря именитой ученицы. Эти скрытые проявления
доброты не были редкостью в доме Гуссерля, и ими, как известно, часто
пользовались» (Левинас Э., 2004. С. 313). Впоследствии Левинас
вспоминал «царящие в его доме простодушие, гостеприимство
и явное дружелюбие» (Левинас Э., 2004. С. 273). Хайдеггер был
далеко не так открыт и досягаем, как Гуссерль, однако он принял
Левинаса, записавшегося на его курс лекций. Эти лекции
произвели на Левинаса, который еще в Страсбурге прочитал его работу
«Время и бытие», сильнейшее впечатление. Молодой Левинас
полностью подпал под его обаяние. Вслед за Хайдеггером
Левинас весной 1929 г. отправился в Давос на очередной
коллоквиум французских и немецких профессоров и студентов (таковые
коллоквиумы были призваны символизировать и закрепить
примирение между Францией и Германией). В знаменитой полемике
между Кассирером и Хайдеггером о метафизическом смысле
наследия Канта - полемике, в которой Кассирер пытался
защищать и продолжать дело Г. Когена и защищать его понимание
гуманистичности мысли Канта, - симпатии Левинаса в тот
момент были на стороне Хайдеггера1.
Хотя в то время, когда Левинас учился в Страсбургском
университете, там уже появлялись последователи Гуссерля, однако
можно сказать, что в целом о нем и о современной немецкой
мысли имелось скорее смутное и поверхностное впечатление.
Так что именно он, приезжий студент с восточной окраины
Европы, одним из первых во Франции открыл - для себя и для
всего французского философского сообщества - современную
немецкую философию. С 1929 г. он начинает переводить на
французский язык «Картезианские размышления» Гуссерля,
которые были опубликованы в 1931 г. Эта публикация привлекла
к нему внимание А. Койре и Л. Брюнсвика. Его диссертация,
защищенная по окончании университета в 1930 г., называлась
«Теория интуиции в феноменологии Гуссерля» (см. Левинас Э.,
Как и симпатии Розенцвейга, впрочем. В глазах большинства собравшихся
победителем стал Хайдеггер. М. Цанк называет Давосский диспут
«символическим событием, обозначающим закат Марбургской школы» (Zank M., 2000. P. 173
fn). Подробный анализ полемики см.: Рено А., 2002. С. 351-359.
204
2004. С. 7-161). Он увидел в феноменологии новые возможности
мыслить о том, что представлялось ему важным, новые способы
переходить от одной мысли от другой - способы, отличающиеся
от дедуцирования положений из принятых аксиом, с одной
стороны, и полного произвола и субъективизма - с другой. Метод
открытого, свободного движения мысли - вот чего всегда искал
Левинас. В молодости он увидел такой метод в феноменологии
Гуссерля. Позднее он напишет о феноменологии: «Как и любая
философия, феноменология учит, что непосредственное
присутствие рядом с вещами еще не постигает смысла вещей и,
следовательно, не заменяет истину. Но тому способу, каким Гуссерль
предлагает нам превзойти непосредственное, мы обязаны
новыми возможностями философствования. <...> Обновление самого
понятия «трансцендентальное», которое, может быть, скрывает
обращение к термину «конституирование», представляется нам
существенной заслугой феноменологии. Отсюда новый способ
переходить от одной идеи к другой в том плане, который можно
было бы назвать «философским рассуждением». Отсюда
изменение самого концепта философии. <...> Наконец, в более общем
плане, это новый стиль в философии. Философия не стала
строгой наукой в качестве универсально предписываемого корпуса
доктрин. Но феноменология утвердила анализ сознания, при
котором наибольшее внимание уделено структуре, тому способу,
каким одно душевное движение сливается с другим, строится,
надстраивается и устанавливается в целостности феномена»
(Левинас Э., 2004. С. 275-276).
«Феноменология объединяет философов, - хотя и не тем
способом, которым кантианство объединяло кантианцев, а
спинозизм - спинозистов. Феноменологи не присоединяются к
формально провозглашенным Гуссерлем тезисам, не посвящают себя
исключительно истолкованию или описанию истории его трудов.
Их объединяет способ действий. Они объединены скорее
определенным подходом к вопросам, нежели принятием определенного
числа устоявшихся предположений (Там же. С. 261).
В 1930 г. Левинас получил французское гражданство. Однако
каждый год на каникулы он возвращался в Литву, и даже
женился он на девушке, жившей по соседству в Каунасе. В то время,
когда Левинас учился во Франции, она училась музыке в
Австрии, а после замужества стала учиться в Парижской
консерватории: она была пианисткой. До конца своих дней они с женой
Раисой говорили дома не только по-французски, но и по-русски.
205
В семье было двое детей - сын и дочь. Дочь родилась до войны,
сын - после, в 1949 г. Дочь Симона стала врачом, а сын Левинаса
Михаэль является пианистом и композитором.
Итак, Левинас получил философское образование и
французское гражданство, однако его карьера и сфера деятельности не
соответствовали стандартной стезе профессионального
французского философа. Он, в отличие, например, от Сартра и других
известных французских философов, никогда не учился в «агре-
гасьон» (нечто вроде аспирантуры). Банальные материальные
заботы заставляли его думать о хлебе насущном для семьи,
и с 1931 г. Левинас работает в Еврейском педагогическом
институте (Ecole Normale Israélite Orientale), созданном Всемирным
израильским альянсом (Universal Israeli Alliance) и призванном
готовить учителей для еврейских школ стран
Средиземноморского бассейна. Левинас выполнял там административные
функции, являясь кем-то вроде заведующего учебной частью, а также
читал для студентов этого института курс философии. Такая
работа давала ему возможность жить в Париже и посещать
лекции Брюнсвика и Валя в Сорбонне.
Таким образом, жизнь и деятельность Левинаса имела два
центра активности, что эбеспечивало ему разнообразие
философского опыта, а также свободу и независимость; позволяло
кормить семью и сохраняло живую непосредственную связь
с религией и культурой иудаизма.
Это течение жизни было нарушено войной. Левинас ушел
в армию в 1939 г., воевать ему пришлось недолго. Как и огромное
количество французских военнослужащих, он попал в плен
в начале войны. Далее - в концлагерь для военнопленных солдат.
Как он сам говорил впоследствии, французская военная форма
спасла ему жизнь. Эта форма гарантировала, что относительно
него будут соблюдены конвенции о военнопленных,
соответственно, к нему не был применен общий подход фашистов к евреям
в духе «окончательного решения». Да, это дало шанс на жизнь - но
какую жизнь! Тяжелая изнурительная работа: лесоповал.
Унижение. Ничем не замаскированная страшная реальность насилия:
человек перестает быть человеком для другого человека. Он
становится просто номером, лишаясь статуса и состояния
человеческого существа. Не имя, а номер: не это ли страшная реальность
безличного бытия, которая пострашнее смерти?
Позднее Левинас назвал «последним кантианцем нацистской
Германии» (Левинас, 2004. С. 455) бездомного пса, который при-
206
бился к конвоируемым на работу заключенным. В этом псе он
увидел воплощение кантовского морального императива, потому
что «для него - это неоспоримо! - мы были людьми». Для него -
но не для нацистов (охранники вскоре пристрелили собаку).
Концлагерь явился, однако, и местом особого человеческого
опыта. В лагере ИВ в Германии, куда попал Левинас,
содержались евреи и католические священники. До того Левинас не имел
контактов в этой среде. Там, где прошло его детство, иудеи
и католики образовывали раздельные миры. Здесь же, в лагере,
на грани человеческого выживания, человечность оказывалась
выше конфессиональных различий. Левинас вспоминал
впоследствии о чувстве, «которое ... пережил в лагере для военнопленных
в Германии, когда над могилой товарища-еврея, зарытого
нацистами как собака, католический священник отец Шене прочитал
молитвы - семитские молитвы в абсолютном смысле слова»
(Левинас, 2004. С. 330).
Впоследствии друзья четы Левинасов, остававшиеся во
Франции, сумели наладить связь с Левинасом и сообщить ему
о жене и дочери (он имел право получать в плену письма,
посылки и книги). Но судьба родных в Литве оставалась неизвестной.
Это было очень тревожно, однако ни сам Левинас, ни другие не
представляли масштабов совершающейся катастрофы. Мысль
о газовых печах не могла прийти в голову нормальному человеку.
Только по мере того, как войска союзников продвигались по
Германии, стала открываться кошмарная правда.1
Чтобы напомнить о ней, позволим себе привести обширную цитату из романа
Леона Юриса «Исход». В ней речь идет о девушке Карен, которую еще ребенком
удалось в 1938 году вывести из Германии в Данию и которая после окончания
войны пытается узнать о судьбе своих оставшихся в Германии родных. На нее
обрушиваются страшные вести: «Геноцид! Танец смерти, охвативший шесть
миллионов человек! <...> Геноцид проводился в жизнь с точностью безупречной
машины. Сначала... действовали неуклюже: просто расстреливали. Это выходило
чересчур медленно. Они мобилизовали ученых для организации дела на широкую
ногу. Были придуманы душегубки, в которых людей умерщвляли газом по пути на
кладбище. Но и душегубки действовали слишком медленно. Тогда были
построены печи и газовые камеры производительностью в две тысячи трупов за полчаса;
в лагерях побольше производительность нередко доходила до десяти тысяч.
Организация массового истребления стала безупречной, и машина геноцида
заработала полным ходом.
Карен слышала о тысячах заключенных, которые, чтобы избежать газовых
камер, бросались на колючую проволоку, через которую шел ток.
Карен слышала о сотнях тысяч людей, не выдержавших болезней и голода,
чьи трупы бросали в ямы вперемешку с дровами, обливали бензином и сжигали.
207
В это время его семья, оставшаяся без него в Париже, - жена,
маленькая дочь, теща - подвергалась большой опасности. Когда
оккупационные власти вывесили приказ о том, чтобы все
еврейское население явилось на регистрацию, теща законопослушно
отправилась в комендатуру, после чего ее никогда больше не
видели. Чувство вины за судьбу матери, страх за жизнь дочери
и свою жизнь стали главными доминантами существования жены
Левинаса Раисы. Ее и дочь прятали бывшие соученики Левинаса
по Страсбургу, в том числе и Морис Бланшо. Потом последний
сумел отправить девочку в монастырь в окрестностях Орлеана.
Позднее туда же перебралась и Раиса. Отважные монахини не
только прятали на протяжении всей войны евреев - монастырь
был также явкой подпольщиков Сопротивления.
А остававшиеся в Каунасе отец, мать, два младших брата
разделили «трагическую участь евреев Литвы. В самом начале войны
Карен слышала о трюках, применяемых к матерям, чтобы отнять у них детей
под предлогом переселения из барака в барак. Она слышала об эшелонах, до
отказа набитых стариками и больными, о дезкамерах, где перед входом заключенным
давали в руки кусочки мыла. Эти помещения были в действительности газовыми
камерами, а кусочки мыла - всего лишь камешками.
Карен слышала о матерях, хоторые, прежде чем войти в газовую камеру,
прятали своих детей в одежде, оставленной на вешалке. Немцы хорошо знали эти
хитрости, и детей всегда находили.
Карен слышала о тысячах раздетых догола людей, поставленных на колени на
краю тми самими вырытых могил. Об отцах, прикрывавших ладонями глаза своих
детей, когда немецкие пистолеты стреляли им в затылок. <...> Карен содрогалась
от ужаса. Ее преследовали кошмары. Она не могла ~.пать пс ночам,
географические названия обжигали ее мозг. Попали ее отец, мать и братья в Бухенвальд или
погибли среди ужасов Дахау? Может быть, они сгинули в Хелмно вместе с
миллионами других жертв или в Майданеке - вместе с 750 тысячами? Или в Бельзеце,
в душегубках Треблинки, в Собиборе... А Карен слышала еще и еще названия:
Данагиен, Эйвари, Гольдпильц, Виевара, Порткунде ... Она уже не могла ни есть,
ни спать... Кивиоли, Варва, Магдебург, Плашов, Щебнье, Маутхаузен, Заксенхау-
зен, Ораниенбург, Ландсберг, Берген-Бельцен, Рейнсдорф, Близины.
Геноцид! Фоссенберг! Равенсбрюк! Найвейлер! Однако все это бледнело перед
самым зловещим словом - Освенцим!
Освенцим с тремя миллионами убитых! Освенцим со складами, набитыми
очками. Освенцим со складами, набитыми обувью, одеждой, жалкими
тряпичными куклами. Освенцим со складами человеческих волос для набивки тюфяков!
Освенцим, где тщательно собирали и переплавляли для отправки в научный
институт Гиммлера золотые коронки. Освенцим, где черепа особо красивой
формы сохраняли в качестве пресс-папье! <...> Освенцим, где над главными
воротами красовалась надпись: "Труд освобождает"» {Юрис Л. Исход. Москва :Текст,
1998; Иерусалим :Гешарим, 5758. С. 77-79). Еще раз извиняюсь перед читателем
за столь длинную цитату и ее мучительное содержание. Но она необходима здесь
как контекст левинасовского учения о принятии Другого.
208
они были вытащены из своей квартиры и убиты прямо у дверей»
(Пажерайте А., 2002. С. 37). Погибли все родные четы Левинасов.
Позднее Левинас писал, что судьба его определялась сначала
предчувствием, а потом памятью об ужасах нацизма. Сам
Левинас пережил их благодаря французскому гражданству. И у него
хватило физических и душевных сил на то, чтобы пережить
память об этих ужасах, хотя до конца дней его не покидало
чувство вины - вины выжившего.
Позднее он писал: «Нацистские гонения и, вскоре после того,
удивительное осуществление сионистской мечты - основание
государства, где жить в мире означает жить рискованно. Это
страдание, в котором было сожжено все, и это мужество начать все
заново еще вчера воспринимались как признаки самого
избранничества - или проклятия, то есть - невзирая на
противоположные знаки, с которыми их оценивают, - как признаки равно
исключительной судьбы. Современники носили ожог в груди,
словно они видели слишком много запретного и навсегда были
обречены позору за то, что выжили... Чем бы ни была мысль того
поколения... она несла на себе печать предельного испытания»
(Левинас Э., 2004. С. 512). Задумаемся об этой формулировке:
«словно они видели слишком много запретного». Что это значит?
Не то ли, что они видели, как человек перестает быть человеком?
Людьми переставали быть палачи, организовывавшие массовое
уничтожение людского материала; человеческий облик теряли
жертвы, ибо есть предел голода и издевательств, когда человек
еще может оставаться человеком. Но можно ли видеть, как
ужасающе хрупко человеческое в человеке, и не сойти с ума? Видеть
разгул нечеловеческого - в центре цивилизации, на подъеме
просвещения и прогресса? Такое страшное знание навсегда
оставляет «ожог в груди». Это и есть тот контекст, в котором вызревали
главные идеи Левинаса: о принятии Другого «без синкразии»,
о гостеприимстве как парадигме отношения к Другому, об
эсхатологии и об отказе признавать суд истории. Если мы забудем об
этом контексте, то не сможем понять, какие огромные усилия
противостояния и преодоления стоят за его философской
работой. Не сможем понять всей жгучей - до ожога - актуальности
идей Левинаса в наше время, в XXI веке, начало которому было
положено 11 сентября 2001 г. страшными террактами в Америке.
Таким образом, философия Левинаса глубоко погружена
корнями в его жизненный опыт. Одновременно она является
продолжением ведущих тенденций современной постмодернистской
209
философии, связанных с деконструкцией классического
философского понимания субъекта - автономного,
самодостаточного, разумного. Но об этом речь пойдет ниже.
Жизненный опыт Левинаса включал и усилия начать жизнь
снова, хотя это было трудно и, может быть, еще труднее оттого,
что родившаяся в семье Левинасов после войны девочка -
начало и залог новой, мирной жизни -умерла в возрасте нескольких
месяцев. Тем не менее надо было жить - с чувством вины за то,
что остался жить, и с памятью о гибели своих близких, своего
мира, с памятью о нечеловеческом в человеке.
После войны Левинас нашел работу и кров для своей семьи,
получив от Всемирного израильского альянса приглашение снова
начать работу в Еврейском педагогическом институте, на сей раз
в должности его директора. Жизнь налаживалась и обретала
устойчивое русло. Левинас бессменно занимал эту должность до
1985 г.: почти 30 лет напряженного труда, посвященного
возрождению и сохранению еврейской культуры.
Служебная квартира, которую получил, вступая в должность,
Левинас, находилась на верхнем этаже помещения Института.
Таким образом, семья Левинасов жила бок о бок со студентами,
по большей части приезжими из Марокко, Алжира и других
средиземноморских стран. В круг забот Левинаса входило всё: и
обучение, и питание. Последнее зачастую бывало весьма скромным:
ведь учебное заведение существовало на средства
благотворительных фондов. Заботами мелочной повседневной экономии
и поддержки студентов оказалась занята и жизнь жены
философа. Вместе со студентами изо дня в день Левинас молился,
отправлял религиозные ритуалы, соблюдал все предписания иудаизма.
Вместе с ними справлял шабат, религиозные праздники
(воспоминания одного из учеников Левинаса см. в: Atlan H., 2007).
Каждую субботу на протяжении тридцати с лишним лет Левинас
давал урок, посвященный комментариям на раздел Писания,
который надлежало читать в течение данной недели. Эти
талмудические занятия постепенно приобретали известность; их
посещали друзья и знакомые Левинаса, причем не только иудеи, но
и христиане, и атеисты.
Важной гранью этой деятельности было также изучение
Талмуда, особенно его аггадической части, к которому активно
приступил Левинас после возвращения из концлагеря. Не дать
фашизму одержать посмертную победу, т. е. не позволить, чтобы
этот главнейший памятник еврейской религии и культуры остал-
210
ся оклеветанным и был предан забвению! Его преподавателем
в течение трех лет был очень яркий и своеобразный человек по
имени Шушани. Когда впоследствии Левинас писал о евреях,
ожесточенно критиковавших иудаизм или доказывавших его
«отсталость» по сравнению с христианством, он постоянно
замечал: «Им не повезло с учителями Талмуда» («...может быть,
Спиноза в своих еврейских штудиях просто не имел достойных
учителей? Увы! Гебраистика в наше время - наука столь же
редкая, сколь и в высшей степени случайная и сомнительная». -
Левинас Э., 2004. С. 416). О принципах истолкования Талмуда,
усвоенных под руководством Шушани, Левинас выражался,
например, так: «Мой учитель говорил, что нужно почитать
Талмуд, когда он лежит закрытым, но быть шалуном, как только
его раскроешь» (цит. по: Lescourret M.-A, 1994. С. 172). Еще один
важнейший принцип: «Я усвоил от выдающегося учителя:
каждый раз, когда в Талмуде говорится об Израиле, мы, разумеется,
вправе понимать под этим отдельную этническую группу,
которой, возможно, и в самом деле уготована особая судьба; но тогда
мы утратим общность идеи, высказанной в талмудическом
пассаже, забудем, что Израиль обозначает народ, получивший Закон,
и тем самым - человечество, достигшее полноты своей
ответственности и самосознания» (Levinas E., 1977. Р. 18).
Думается, не случайно, что «литвак» Левинас занимается
интерпретацией именно Талмуда, тогда как Коген и Розенцвейг,
выросшие в немецкой протестантской атмосфере, обращались
преимущественно к текстам Пятикнижия Моисеева, псалмов
и пророков.
Одновременно с интенсивной деятельностью на ниве
еврейской культуры и религиозной мысли, Левинас активно участвует
в философской жизни французской столицы, публикуется,
делает доклады. В 1947 г. выходят в свет его работы «От
существования к существующему» и «Открывая существование с
Гуссерлем и Хайдеггером». В 1961 г. - «Тотальность и бесконечное».
В 1974-м - «Иначе, чем бытие, или По ту сторону сущности».
Очень медленно и постепенно, однако к Левинасу приходят
признание и известность. С 1963 г. началась университетская
карьера Левинаса (при том, что он оставался директором Еврейского
педагогического института): сначала в провинции, в
университете Пуатье, затем поближе к Парижу, в университете Нантерра,
наконец, в 1973 г. он стал профессором Сорбонны. Однако уже
в 1976 г. он по возрасту должен был уйти в отставку.
211
Таким образом, и после войны жизнь Левинаса
разворачивалась в двух разных интеллектуальных пространствах, в каждом из
которых он был очень деятелен, успешен, много писал и
публиковался, приобретал все большее влияние.
В то же время не прерывалась и некая внутренняя связь с
русской культурой, вывод о чем можно, пожалуй, сделать из того,
что именно Левинас писал рецензии на книгу Шестова о Кьер-
кегоре и на книгу Василия Гроссмана «Жизнь и судьба» (см.:
Dennes M., 2000).
Левинас встречался с Александром Койре и Кожевом (оба
евреи и эммигранты из России); дружил с Яковом Гординым;
общался с Г. Марселем, Николаем Бердяевым, Жаком и Раисой
Маритенами. Он несколько раз посещал Израиль. Он был
глубоко взволнован, увидев в некоторых кварталах Иерусалима тот
Ковно, который покинул много лет назад и которого уже не
существовало. Однако он остался жить в Европе.
В 1980 г. встречался с Папой Иоанном Павлом II.
С 1993 г. принимал участие в деятельности Amnesty International.
Левинас являлся также одним из организаторов и активных
участников ежегодных Коллоквиумов франкоязычных еврейских
интеллектуалов. Эти коллоквиумы были организованы
французским отделением Всемирного еврейского конгресса. Левинас
участвовал в этой работе начиная с Первого коллоквиума (1957 г.)
и вплоть до 1991 г., когда возраст неумолимо давал себя знать
и накладывал ограничения на его активность. Тема очередного
коллоквиума всякий раз определялась «злобой дня» и посвящалась
осмыслению отношения иудаизма к проблемам революции;
политики и насилия; молодежи; европейской культуры и т. д. На первом
коллоквиуме Левинас вводил своих слушателей в мир идей
Розенцвейга. Вскоре же определился его неповторимый жанр
выступлений. На каждом из коллоквиумов Левинас выступал с
лекцией, посвященной интерпретации какого-то фрагмента из Талмуда,
предлагая свое прочтение и стремясь именно в тексте Талмуда
найти путь к пониманию того, что делать с этой «злобой дня».
Подход, намеренно грешащий анахронизмом. Но, как однажды заметил
Левинас, сам Мидраш1 есть «учитель анахронизма, т. е. вечности».
«Мидраш - толкование, комментарий к Библии. Мидраш - особый способ
творчества. Между творцом и жизнью встает текст (Священный Текст), и жизнь
осмысляется через текст» (Ковельман А.Б., 1996. С. 6). «Страшная степень
свободы есть в Мидраше, который, казалось бы, привязан и связан Библией. И через
эту свободу раскрываются уникальные личности мудрецов» (Там же. С. 7).
212
Философия тотальности. Проблема насилия и его преодоления
Для философии Левинаса, неразрывно связанной с его
жизненным опытом, совсем не случайной оказывается тема насилия
и его преодоления. Названная или неназванная, она влияет на
движение левинасовской мысли. Конечно, тема насилия уже
заявила о себе в современной философской мысли. Приведем хотя
бы имена Ницше, Фрейда, Фуко. Левинаса отличает то, что его
темой является не просто насилие, но преодоление насилия.
В современную эпоху, когда войны и разгул насилия бросают
вызов разуму, пишет Левинас в предисловии к работе
«Тотальность и Бесконечное», философия не может игнорировать этот
вызов. Однако она оказывается не в состоянии ответить на него.
Дело в том, что традиция западной метафизики, по его
убеждению, сама не без греха в этом отношении. В ней содержатся
семена насилия.
Корни насилия Левинас видит в философии, которая
принимала господство безличного Всеобщего над сущим (частным,
конкретным и беззащитным). Такую философию Левинас называет
философией тотальности. «Лик бытия, проступающий в войне, -
пишет Левинас, - может быть определен с помощью понятия
"тотальность", господствующего в западной философии.
Индивиды в условиях войны сводятся к простым носителям сил,
управляющих ими без их ведома. Свой смысл индивиды черпают
в этой тотальности, вне которой они непостижимы. Единичность
каждого ныне присутствующего постоянно приносится в жертву
будущему, призванному определить его объективный смысл.
Поскольку в расчет берется только итоговый смысл, то лишь
последний акт способен изменить существа в их бытии» (Левинас Э.,
2000. С. 62).
Данное описание войны является в то же время и описанием
гегелевской философии, особенно его философии истории. Чем
оправдано подобное сближение? Господством мышления под
знаком тотальности и в том и в другом случае. «Тотальность»
остается одной из центральных для мысли Левинаса тем. У него
она имеет безусловно негативные коннотации. В нашей
философской традиции данное понятие присутствовало под именем
«Всеобщее» и представлялось как нечто в высшей степени
ценное, что не удивительно, ибо отечественная философская тради-
Сам Талмуд и является собранием Мидрашей, т. е. комментариев к библейским
текстам и даже их отдельным стихам.
213
ция почти всего прошлого века определялась влиянием
гегельянства. Возьмем, например, определение из «Философского
энциклопедического словаря» (М., 1983. С. 447): «Общее, всеобщее,
принцип бытия всех единичных вещей, явлений, процессов;
закономерная форма их взаимосвязи в составе целого. Общее
выражает определенное свойство или отношение... а также закон
существования и развития всех единичных форм бытия
материальных и духовных явлений». Мы видим здесь характерное
выражение не только гегельянской, а вообще классической
философской позиции, согласно которой Всеобщее (Тотальность) есть
основа и принцип бытия всех единичных вещей. В таком случае
единичное оказывается зависимым, нуждающимся в основе,
каковой может быть только Всеобщее. Логичным развитием данного
представления является идея гегельянской диалектики, что
единичное и отдельное снимаются, преодолеваются в ходе развития,
возвращаясь в лоно Всеобщего. Оно является началом и концом
системы.
В главе 4 мы уже видели, как подобную идею Всеобщего
критикует Розенцвейг, для которого были неприемлемы как подчинение
индивида Всеобщему, так и снятие индивидуального и
особенного. В самом деле, понятие снятия делает бессмысленной саму идею
диалога. Всеобщему, или Тотальности, не с кем вступать в диалог.
Вместо этого Всеобщее просто - или диалектически - вбирает
в себя, всасывает и переваривает все индивидуальное.
Розенцвейговскую критику развивает далее Левинас Для него
очень важны следствия, вытекающие из идеи Тотальности для
философии истории, государства и политики.
Напомним вкратце некоторые положения гегелевской
философии. Гегель утверждает первичность государства по
отношению к обществу, семье, индивиду - именно потому, что
государство есть носитель всеобщего, а всеобщее первично по
отношению к единичному и особенному. Государство
определяется Гегелем как этическая всеобщность, как действительность
нравственной идеи. Это означает, что для него нравственные
проблемы переносятся в политическую сферу и должны
решаться политическими методами. В противном случае мораль
«недействительна», представляет собой не более чем субъективное
прекраснодушное мечтание. История выступает как реализация
разумного плана, где зло, насилие, гибель, войны составляют
необходимые моменты диалектического развития, в котором Дух
возвышается и преображается. «Ведь всемирная история, - гово-
214
рит Гегель, — совершается в более высокой сфере, чем та, к
которой приурочена моральность, чем та сфера, которую составляют
образ мыслей частных лиц, совесть индивидуумов, их
собственная воля и образ действий ... То, чего требует и что совершает
в себе и для себя сущая конечная цель духа, то, что творит
Провидение, стоит выше обязанностей, вменяемости и
требований, которые выпадают на долю индивидуальности по
отношению к ее нравственности... Всемирная история вообще могла бы
совершенно отрешиться от того круга, к которому относится
моральность, и так часто рассматривающееся различие между
моралью и политикой...» (Гегель Г.В.Ф., 1993. С. 115). Всемирная
история, по мнению Гегеля, может вообще освободиться от
моральной проблематики, располагающейся на уровне
индивидов, ибо историю творят не они.
Историческое развитие воплощают собой отдельные народы,
причем не всякие, а определенные, которые в силу своей роли
являются всемирно-историческими народами. При этом «во
всемирной истории может быть речь только о таких народах,
которые образуют государство. Ведь нужно знать, что государство
является осуществлением свободы, т. е. абсолютно конечной
цели, что оно существует для самого себя; далее, нужно знать, что
вся ценность человека, вся его духовная действительность
существует исключительно благодаря государству» (Гегель Г.В.Ф.,
1993. С. 90).
Всемирно-исторический народ играет свою
всемирно-историческую роль на определенном этапе истории. В нем Мировой
Дух проходит некоторую стадию своего развития, после чего
отбрасывает его, как шелуху или как обувь, из которой вырос
ребенок. После этого данный народ больше не играет роли в истории,
не говоря уже о народах, которые не имели или лишились своей
государственности. Причем то, что некоторые народы
вытесняются на обочину хода истории или же изначально там
прозябают, является результатом не случайности, а объективной
исторической необходимости, не подлежащей исправлению. Тут сама
история выносит свой приговор, ранжируя народы и государства.
Этот приговор неоспорим. Сие есть высший суд.
Теперь нам становится понятным утверждение Левинаса, что
«лик бытия, проступающий в войне, может быть определен
с помощью понятия "тотальность"». Гегель формулировал свое
понимание истории и государства в те времена, когда еще не
получил распространения геноцид и когда современный национализм
215
еще только формировался. Гегель, конечно, не несет
ответственности за всю ту кровь, которая была пролита во имя идеи, что
нация должна иметь свою государственность, иначе она остается
неполноценной со всемирно-исторической точки зрения.
Однако идеи Гегеля имеют собственную судьбу и собственную
историю. И они обретают особое звучание в контексте проблем
современности. Позиция Левинаса относительно Тотальности -
это не результат беспристрастной интерпретаторской
деятельности. Она может быть понята только внутри этого контекста.
Вообще, говоря о тотальности, Левинас имеет в виду не
только Гегеля, но «тотализирующее мышление вообще». Гегель
является тут наиболее ярким примером, но речь идет не только о нем.
Стереотипы тотализирующего мышления или его составляющих
доминировали в традиции европейской философской мысли -
такова мысль Левинаса.
Для этого мышления не существует диалога. Оно не способно
«услышать» Другого, ибо видит в Другом только негативный
момент, подлежащий преодолению. Причем это верно и
относительно учений, которые не отождествляют субъект с Абсолютным
Духом. Ибо даже в них субъект, Я, остается абсолютом в том
смысле, что для Я всё выступает его объектами, которые и
существуют как объекты для данного субъекта и которые, так или
иначе, сводимы к содержаниям его сознания. Поэтому Я
занимает место Тотальности. Для него тоже не может быть диалога,
потому что не существует реального партнера, реального Другого.
Философское Я самотождественно по определению. Поэтому
Левинас часто использует для философского Я понятие
«Самотождественный»: «Я - это бытие, существование которого
заключается в самоидентификации, в обретении своей
идентичности при любых обстоятельствах. Я - это по существу своему
самоидентичность, исконный результат процесса
самоидентификации. Я идентично себе даже в своих изменениях. Оно
осведомлено о них, оно мыслит о них. Универсальная самоидентичность,
способная включать в себя чужеродное, имеет костяк субъекта,
первого лица. Универсальное мышление - это "я мыслю"»
(Левинас Э., 2000. С. 76).
«В философской традиции, - говорит Левинас, - конфликты
между Самотождественным и Другим разрешаются
теоретически, когда Другой сводится к Самотождественному, или,
конкретно... с помощью Государства...» (Левинас Э., 2000, С. 85). Тем
самым он еще раз ставит на одну доску философские концепции
216
и осуществляемое государством насилие. Теоретическое
разрешение конфликта между Самотождественным и Другим - это
сведение Другого к тому, что существует для, по отношению к,
в Я, Самотождественном. Такая структура мышления, убежден
Левинас, несет ответственность за реальное насилие тем, что
является теоретической формой неприятия Другого. Философия,
говорящая о «Я», рассматривающая одного действующего
субъекта - некое безличное абсолютное Я, - является выражением
стремления к насилию по отношению к другим людям и
способствует тому, что насилие продолжает существовать в обществе,
в отношениях между людьми.
Философия, рассуждая о субъекте, не вправе забывать, и,
самое главное, она не должна создавать таких условий и таких
мыслительных стереотипов, при которых было бы легко забыть,
что помимо Я существуют и другие субъекты - третьи лица, как
говорит Левинас, - которые могут быть голодными,
неуверенными в завтрашнем дне, могут страдать от жажды, унижения, даже
пыток. Подлинная духовность, как не устает напоминать
Левинас, требует не забывать, что Другой - не чистое сознание
и не объект познания, а незащищенный человек, способный
испытывать страдание. Всякое другое мировоззрение будет
замаскированной формой насилия.
Одну из характерных форм философского воплощения
насилия Левинас обнаруживает в трактовке познания, которое
философия представляет как действие активного субъекта на пассивный
объект. В такой трактовке познание начинает выступать как
ассимиляция объекта субъектом. Субъект не видит в нем ничего, кроме
собственной мысли (или собственного представления).
Тут можно было бы возразить, что последнее утверждение
некорректно. В самом деле, не является ли сама установка
познания признанием того, что субъект встречается с Иным? Не
полагает ли чисто теоретическое отношение -
незаинтересованное постижение объекта - предел империализма
Самотождественного тем, что признает объект, непознанный субъектом?
Разумеется, это так. Не случайно гносеология была центром
тяжести классической европейской философии. В то же время
ситуация познания оказывалась в европейской философской
традиции гораздо более сложной и парадоксальной. С одной
стороны, познавать - значит признавать, что есть нечто за
пределами Самотождественного. С другой - одной из определяющих
линий философской традиции являлось представление о бытии
217
как познаваемом, т. е. открытом для разума, однородном разуму.
Бытие, пронизанное светом разума, прозрачное для разума, не
может выступать как Иное по отношению к нему. Указывая на
эту двойственность, Левинас подчеркивает: «Знание или теория
означает прежде всего такое отношение к бытию, при котором
познающее бытие дает возможность бытию познаваемому
проявлять себя, сохраняя свою инаковость и - ни при каких
условиях - не определяя его исключительно через это отношение
познания. <...> Однако теория означает вместе с тем и
разумность - logos бытия, - иными словами, такой способ подступа
к познаваемому бытию, при котором исчезает инаковость
последнего по отношению к бытию познающему. На этой стадии
процесс познания совпадает со свободой познающего бытия, не
встречая на своем пути ничего, что, будучи по отношению к нему
другим, могло бы его ограничить» (Левинас Э., 2000. С. 81).
Недаром в гегелевской системе акт познания превращался
в акт самопознания. Познание приводит Субъект к осознанию
того, что никакого Другого для него не существует, что любое
Другое - это его «свое Другое», и «другого Другого» не бывает.
Конечно, в философии всегда была жива тема трансценден-
ции. Можно даже сказать: философия жила темой трансценден-
ции. В этом отношении Эмманюэль Левинас является ее
законным наследником и продолжателем; он не разрывает, как нам
представляется, с этой традицией, но ищет для нее новые пути,
полагая, что она находится в тупике.
Для классической философии выход к Иному мыслился как
акт трансцендирования, в котором самотождественное Я,
оставаясь самим собой и, так сказать, «внутри» самого себя, тем не
менее «вырывалось» вовне, достигая того, что лежит за его
пределами, будь то Бог или реальность сама по себе. Эта, несколько
отличная от гегелевской, условно говоря, «картезианская» линия,
все равно рассматривает познание как акт свободы субъекта
(Левинас Э., 2000. С. 292). Тут «поиск истины становится самим
дыханием свободного существа, открытого внешним реалиям,
которые и защищают эту свободу, и, одновременно, угрожают ей.
Благодаря истине я объемлю эти реалии, чьей игрушкой я рискую
стать. Таким образом, свободу продвигают "я мыслю",
мышление от первого лица, беседующая с собой душа... Свобода
победит, когда монолог души станет всеобщим, вберет в себя бытие
в целом, вплоть до одушевленного индивида, в котором живет
мысль. Любой опыт мира - стихии и объекты - подчинены диа-
218
лектике беседующей с собой души, входят в нее, принадлежат ей.
Вещи станут идеями; в ходе экономической и политической
истории, где развертывается мышление, они будут завоеваны,
подчинены, покорены. Именно поэтому Декарт скажет, что душа
могла бы быть источником идей, относящихся к внешним вещам,
и давать ответ о реальном. Итак, сущность истины состоит не
в гетерогенной связи с неизвестным Богом, но в уже известном,
которое следует обнаружить или свободно изобрести самому;
в него вливается все неизвестное» (Левинас Э., 2000. С. 294).
Гносеология была центральной частью классической
философии, потому что именно от нее ожидалось решение проблемы
трансцендирования, т. е. выхода к радикально иному. Однако
именно в классической гносеологии данная проблема упорно не
решалась, ибо взгляд субъекта, подобно взгляду Медузы,
превращал познаваемое в продукт деятельности субъекта: идею,
представление, теорию. Эта проблема от Декарта и до современной
философии науки не приблизилась к своему разрешению (ср.
концепцию П. Фейерабенда). Поэтому мы можем
констатировать, что попытка трансцендирования на этом пути оказывается
недостижимой.
И это побуждает нас внимательнее прислушаться к словам
Левинаса, который видит в универсальности познавательного
отношения еще одну маскировку для насилия. Связь темы
познания и темы насилия уже достаточно широко разрабатывается
в современной философии. Вспомним прежде всего Ницше,
объяснявшего чистый познавательный интерес как одно из
проявлений воли к власти, или трактовку наук о человеческой
психике и человеческой сексуальности у М. Фуко1.
Левинас делает радикальный вывод из провала попыток
трансцендирования, неизменно постигавших гносеологию. Он
заявляет, что трансцендирование неосуществимо на том пути,
который избрала для себя классическая философия, ибо это
вообще не гносеологическая проблема. Для трансцендирования
требуется встреча с таким Иным, которое само обращается к
Самотождественному, от которого исходит зов, заповедь,
долженствование. Только это, полагает Левинас, и может явиться
подлинным опытом, т. е. выходом Самотождественного за собст-
Хотя, как отмечает С. Хандельман «До того как Фуко стал обсуждать отношения
знания и власти, и раньше, чем Деррида, стал осуществлять "деконструкцию
метафизики", Левинас в 1961 г. написал...: "онтология как первая философия есть
философия силы"» (Handelman S.A, 1991. Р. 189).
219
венные пределы. Здесь мы встречаем то же движение мысли,
которое наблюдали у Розенцвейга: самость должна извне
услышать призыв. Для Левинаса тот Другой, которого нельзя
редуцировать к моей идее, — это Другой Человек, от которого
исходит обращенный ко мне императив и нравственное
долженствование. Я, Самотождественный, может совершить акт самот-
рансцендирования только при встрече с таким Иным, которое
кладет конец тотализируюшим тенденциям Самотождественного
тем, что само обращается к Самотождественному, адресуя ему
свою мольбу - заповедь: «Ты не убьешь меня». Таким образом,
показывает Левинас, преодоление философии тотальности
и трансцендирование - это не гносеологическая, а этическая
проблема. Признать Другого - значит признать этическую
обязанность по отношению к нему. И обратно: тот, по отношению
к кому Самотождественный признает свою этическую
обязанность, уже не может быть истолкован ни как продукт сознания
Самотождественного, ни как момент его диалектического
самоотчуждения, подлежащий снятию и преодолению.
От безличного бытия - к метафизическому желанию
Таким образом, Левинас выступил как критик классической
западноевропейской философской традиции. В этом он имел,
разумеется, замечательных предшественников. На мышление
Левинаса, как и на мышление всех его - и наших -
современников в плане критики этой традиции оказал огромное влияние
М. Хайдеггер. Хайдеггер властно напомнил, что мыслящий
субъект прежде всего существует. Его существование есть бытие-в-
мире, он «набрасывает себя в отношении своих возможностей»
в этом мире. Хайдеггер перевернул классическую философскую
традицию, лишив гносеологию ее привилегированного
положения. На место мыслящего субъекта он поставил Dasein как
присутствие в этом мире. Присутствие не познает бытие как некий
объект, противопоставленный ему в акте познания. Нет, у него
гораздо более тесные и интимные отношения с бытием. Ему
вверена судьба быть пастухом бытия. Он должен открыться
навстречу бытию, что означает - благоговейно ожидать, когда бытие
раскроется перед ним в своей несокрытости и своей тайне. Человек,
таким образом, призван к тому, чтобы научиться быть пассивным
по отношению к бытию. Мы воспользовались выражением, не
свойственным Хайдеггеру, но характерным для Левинаса.
Последний часто говорит об особой пассивности, т. е. о том, что
220
ситуация встречи с Другим требует от Самотождественного
пассивности, что означает: отрешения от установки на то, что он -
единственный источник активности и смыслов. Но не того ли
требует от современного человека философия Хайдеггера как
условия обретения бытия?
Как известно, для Хайдеггера истина не связана с
достоверностью познания для субъекта. То есть он рассматривает истину без
какой бы то ни было связи с процедурами ее обнаружения,
проверки и обоснования субъектом. Его трактовка истины, таким
образом, разрывает с классической нововременной
гносеологической традицией. На то у Хайдеггера есть веские основания.
Дело в том, что названная традиция, как постоянно
подчеркивает Хайдеггер, связала истину с субъектом. Субъект выступает
в ней как единственное активное начало: он добывает истину
о бытии. Бытие тем самым предстает как объект его
деятельности, будь то познание или покорение природы с помощью
современной техники. При этом субъект должен удостовериться в том,
что найденное знание есть истина. Но любые процедуры
удостоверения опять-таки связаны только с субъектом - речь идет
о достоверности для него.
Таким образом, изначальная парадоксальность ситуации, как
постоянно дает понять Хайдеггер, связана с тем, что объективная
истина определяется как то, что производится и удостоверяется
субъектом. Поэтому он провозглашает необходимость
принципиально иной метафизики. Такая метафизика призвана бытие
«высвободить из отнесенности к субъекту и отпустить в его
собственное существо» (Хайдеггер М., 1993. С. 389). Событие
истины совершается тогда, когда человек подходит к бытию не как
к объекту, открытому и предназначенному для познания и
использования, а тогда, когда бытие само открывает человеку свою
тайну. Истина - это непотаенность самого бытия. Человек же
в своей экзистенции внимает открытости бытия и высказывает
то, что бытие ему открыло. В событии истины человек призван
выйти из магического круга своей субъективности, своих
интерпретаций и т. п. Но возможно ли это вообще? Что для этого
нужно? Нужна готовность внимать и признать право бытия на
тайну. Поэтому Хайдеггер связывает истину не только с непота-
енностью, но и с укрыванием и сокрытостью. Слово Wahrheit
(истина) Хайдеггер считает происходящим от древнегерманского
war, что значит «охрана», «защита». Истина, таким образом,
хранит в себе бытие, а хранить - значит одновременно и являть,
221
и таить хранимое. Поэтому раскрытие самого бытия невозможно
без тайны. Иначе, если мы не признаем за бытием права на тайну,
истина опять окажется продуктом субъекта.
Призывая субъекта смирить гордыню, утихнуть и вслушаться
в голос бытия, Хайдеггер ломает классическую
субъект-объектную схему. Так он пресекает тотализирующие поползновения
новоевропейского субъекта. Субъект не может поглотить бытие,
поскольку сам он не есть одно только Cogita
Благодаря словам Хайдеггера о непотаенности и сокрытости
бытия новое звучание должна обрести тема трансценденции.
Заметим, что Хайдеггер выступает смелым новатором,
преодолевающим ведущую философскую традицию и еще в одном
отношении: он отказывается от тождества бытия и мышления. Бытие
уже не прозрачно для мышления: у Хайдеггера не допускается это
насилие прозрачности, которое страшит Левинаса. Мышление
теряет статус основного онтологического инструментария. Не его
категории открывают доступ к бытию, но бытие само
открывается человеку. Хайдеггер ищет и описывает виды опыта, в которых
это происходит: особый опыт непосредственного
соприкосновения с бытием. Человек обладает опытом такого рода именно как
существующее. Это может быть опыт скуки, ужаса или
переживание, навеянное произведением искусства, - например,
созерцание греческого храма, стоящего в уединенном месте. Заметим,
что речь идет об опыте, который получает человек как
существующий в мире: он не просто мыслит о бытии, но живет им,
имея перед собой самую свою и самую необходимую
возможность смерти, т. е. утраты бытия.
Однако, несмотря на всю радикальность разрыва Хайдеггера
с предшествующей метафизической традицией, с точки зрения
Левинаса, Хайдеггер вполне остается в русле этой традиции
в том, что касается присущего ей замаскированного
философского насилия, выражающегося в концептуальном устранении
Другого. Хайдеггер, как и названная традиция, устраняет
Другого, растворяя его в нейтральном «среднем термине», -
утверждает Левинас. Различие в том, что если некогда для этого
использовались понятия «идея», «представление» и пр., то
Хайдеггер использует для этого свое понятие бытия. Поэтому
Левинас, критикуя Хайдеггера, пытается перевернуть сами
основания его «фундаментальной онтологии».
Как известно, Хайдеггер различает бытие и сущее (бытие как
таковое и определенные «бытийствующие» вещи). Он смело
222
провозгласил тезис, идущий вразрез с очевидностями здравого
смысла, но будоражащий философскую мысль неожиданными
перспективами: Бытие скрывается за сущими, а нам надо
ухватить его самое. Слова Хайдеггера открывают, как кажется, путь
к возрождению переживания, утерянного в эпоху секуляризации,
рационализации и «разволшебствления», переживания бытия как
чудесного дара, а отсюда - к восстановлению всего того, что
европейская цивилизация утратила при становлении
современной научно-технической цивилизации, но к чему все сильнее
влечет некое ностальгическое чувство.
Это ностальгическое чувство еще сильнее оттого, что событие
утраты бытия, составляющее судьбу европейской цивилизации,
выступает как нечто необусловленное и необъяснимое. Несмотря
на хайдеггеровскую критику греческой классики или Декарта, по
большому счету в этом никто не виноват. В сущности, здесь перед
нами выступает сама судьба1. Судьба бытия, которая увлекает за
собой судьбы человечества, в том числе и наши с вами. Эта тема
судьбы, которую тоже можно услышать в хайдеггеровских
текстах, несет в себе особое очарование, говоря что-то глубокое
нашему ностальгическому чувству.
Однако Левинас остается постоянным критиком учения
Хайдеггера. Он преодолевает обаяние Хайдеггера, в том числе
и в самом себе, и критически переосмысливает его трактовку
бытия и понимание того, каким образом человек приходит к
подлинности своего существования. Прежде всего Левинас
напоминает, что бытие и сущее нерасторжимо связаны.
«Трудность отделения бытия от "сущего" и тенденция
полагать одно в другом, разумеется, вовсе не случайны... "Сущее" уже
заключило контракт с бытием; его невозможно изолировать. Оно
есть. Оно так же доминирует над бытием, как подлежащее над
определением» (Левинас Э., 2000. С. 7-8).
Он ставит перед собой непростую задачу: защитить позицию,
которая стала выглядеть столь нефилософичной и неглубокой
после завораживающего прозрения Хайдеггера о различении
бытия и сущего. Однако, не склоняясь перед авторитетом
Хайдеггера, Левинас напоминает очевидное: мы бытийствуем как
конкретные сущие, и вообще бытие дано нам через сущие,
Интересно, что она подчиняется диалектическому ритму: бытие; забвение
бытия, т. е. его самоотчуждение, и, наконец, новое восстановление, которое
должно наступить. Хайдеггер цитирует Гёльдерлина: «Но где опасность, там
вырастает и спасительное» (Хайдеггер М., 1993. С. 234), и это заставляет думать о
какой-либо версии закона отрицания отрицания.
223
абстрагировано от них. Так вправе ли мы ставить бытие как
таковое выше конкретного сущего? Правда ли, что сущие только
заслоняют бытие? Далее, само бытие, бытие как таковое, и его
воздействие на человека описывается Левинасом совсем в ином
ключе: «Вопрос о бытии есть сам опыт бытия с его странностью.
Итак, это способ взять его на себя. Вот почему на бытийный
вопрос Что такое бытие? никогда не было ответа. Бытие
безответно. Совершенно невозможно представить себе, в каком
направлении следовало бы искать этот ответ. Сам вопрос - это
проявление связи с бытием. Бытие глубинно чуждо, оно нас
ушибает. Мы терпим его объятия, удушающие, подобно ночи, но оно
не отвечает. Это злобытие. Если философия является вопросом
о бытии, она тем самым берет на себя бремя бытия. И если она
больше, чем этот вопрос, значит, она позволяет себе превзойти
вопрос, но не ответить на него. Больше вопроса о бытии может
быть не истина, а благо» (Левинас Э., 2000. С. 11).
Это последнее утверждение указывает на следующий важный
момент, в котором мысль Левинаса противопоставляет себя
хайде ггеровской рефлексии. Ведь Хайде ггер не говорит о благе. Для
него вопрос о бытии остается предельным философским
вопросом. Хайдеггер как раз ограничивает тотализирующие
притязания новоевропейского субъекта, внушая ему, что бытие - это
предельная реальность и предельный источник смыслов, целей,
ценностей. Человек должен стоять в просвете бытия и пребывать
в чутком ожидании того, когда само бытие откроет ему себя.
Здесь не может быть и речи о чем-то, подобном оценке бытия.
Напротив, Хайдеггер хочет избавить мышление от подобной
установки по отношению к бытию, видя в ней возврат к
субъективизму классической новоевропейской философии. Поэтому он
не устает показывать, что выше бытия ничего не может быть.
В философии Хайдеггера относительно самого бытия просто
невозможно помыслить различение сущего и должного (хотя в то
же время для Хайдеггера недолжное, т. е. неистинное,
отчужденное существование справляет свой триумф в современной
европейской культуре и образе жизни).
Левинас же видит в трепетном преклонении перед бытием,
которому учит Хайдеггер, проявление язычества. Тем же самым
для него является благоговение перед почвой, пейзажем, вещью,
произведением искусства, которому учит Хайдеггер1.
«Онтология Хайдеггера подчиняет связь с Другим отношению с Нейтральным,
каковым является Бытие, и тем самым продолжает прославлять волю к власти,
224
Заметим, что при всей своей критичности по отношению
к традициям европейской философии, в данном моменте,
являющемся ключевым для Левинаса, он ссылается на Платона,
учившего о трансцендентности Блага (а также на учение Плотина
о Едином)1.
чью легитимность может пошатнуть, а спокойную совесть смутить только Другой.
Когда Хайдеггер указывает на забвение Бытия, скрытого освещаемыми им
различными реалиями, забвение, в котором повинна идущая от Сократа философия;
когда Хайдеггер сожалеет об ориентации рассудка на технику, он поддерживает
более бесчеловечный, чем машинность, силовой режим, имеющий, быть может,
иной источник. (Возможно, национал-социализм происходит не из
механистической реификации людей, но основывается на крестьянских корнях и феодальном
поклонении порабощенных людей управляющим ими господам и властителям.)
Речь идет о существовании, принимающем себя как естественное, для которого
место под солнцем, почва, свое местоположение - ориентиры всех значений. Речь
идет о языческом существовать. Бытие располагает строителей и земледельцев
в знакомом пейзаже, на родной земле. Анонимное, нейтральное, оно нравственно
безразлично управляет как бы героической свободой, не знающей чувства вины по
отношению к Другому. <...> Хайдеггеровские исследования мира, исходившие
в «Бытии и времени» из подручности сработанных вещей, вдохновляются в его
поздней философии возвышенными пейзажами Природы - безличным
плодородием, матрицей частных существ, неисчерпаемым материалом вещей.
Хайдеггер не только подводит итог эволюции западной философии в целом.
Он самым патетическим образом восхваляет ее антирелигиозную сущность,
ставшую религией навыворот. <...> Атеизм у Хайдеггера - это язычество,
демократические тексты - анти-Писание. Хайдеггер показывает степень опьянения трезвой
строгости философов.
В итоге известные тексты хайдеггеровской философии - примат Бытия над
сущим, онтологии над метафизикой - окончательно утверждают традицию
доминирования Самотождественного над Другим, где свобода... предшествует
справедливости» (Левинас Э., 2000. С. 296-297).
«Один из путей греческой метафизики вел к утраченному Единству, к слиянию
с ним. Но греческая метафизика понимала Благо как отдельное от тотальной
сущности и тем самым предвидела (здесь не было никакого вклада со стороны так
называемой восточной философии) такую структуру, при которой тотальность
допускала запредельное. Благо - это Благо в себе, а не по отношению к нужде, где
его не хватает» (Левинас Э., 2000. С. 130). «...характеризуемая через
имманентность трансценденция бытия - не единственная трансценденция, о которой
говорят сами философы. Философы доносят до нас и таинственное послание из
потустороннего Бытию. Трансценденция Блага относительно Бытия <...>.
Плотиновское Единое утверждается по ту сторону Бытия... Единое - по ту
сторону бытия не потому, что оно сокрыто, темно. Оно сокрыто, потому что оно - по ту
сторону бытия, совсем иное, нежели бытие. Тогда в каком смысле абсолютно иное
касается меня? Следует ли отказаться от философии при немыслимом на первый
взгляд соприкосновении с трансценденцией и инаковостью? Быть может,
трансценденция доступна лишь абсолютно слепому касанию? <...> Или, напротив,
если платоновская гипотеза Единого как Единого над бытием и познанием не
является развитием софизма, не исходит ли она из опыта, отличного от того, при
котором Другой превращается в Тождественного?» (Левинас Э., 2000. С. 311)
225
Отбрасывая основные постулаты хайдеггеровской
фундаментальной онтологии, Левинас страстно защищает то, что «по ту
сторону» бытия, трансцендентно бытию. Он напоминает о том,
что человек не просто пребывает в бытии. «Отважимся наконец
задать ряд вопросов в связи с Хайдеггером. Верно ли, что
чуждость человека бытию восходит к процессам, начавшимся при
досократиках <...>. Мы, люди Запада, от Калифорнии до Урала,
взращенные на Библии ничуть не менее, чем на досократиках, -
не чужды ли мы миру? Причем так, что эта чуждость ничем не
обязана достоверности картезианского cogito, выражающего,
согласно Декарту, бытие сущего? Эта чуждость миру не рассеивается
даже с концом метафизики. Не присутствуем ли мы при
проникновении абсурда в мир, где до сих пор человек был не только
пастырем бытия, но и избранником ради самого себя? Или же
странное поражение или измена только подтверждает
избранничество человека <...> Библейские стихи здесь приводятся не
в качестве доказательства, но как свидетельствование от имени
определенного опыта и традиции: ведь в своем праве быть
процитированными они нисколько не уступают Гельдерлину или
Траклю... В псалме 119 читаем: "Странник я на земле; не скрывай
от меня заповедей Твоих"» (Левинас Э., 2004. С. 652-653).
Удел странника на земле — это, заметим, непрерывное само-
трансцендирование. Недаром Левинас постоянно
противопоставляет две фигуры: Одиссея, который после долгих странствий
возвращается обратно, и Авраама, который движется в новые
края и даже запрещает слуге приводить своего сына туда, откуда
он сам вышел.
Итак, для Левинаса неприемлема философия, определяющая
человеческое существование только по отношению к безличному
бытию, которое человек призван выслушивать, быть его
«пастухом» или, скорее, проводником и медиатором. Отношение
Левинаса к такой онтологии позволительно сравнить с
отношением Когена к метафизике Гегеля, в которой всеобщность Идеи
поглощала различие между сущим и должным. Как нам
представляется, примерно в том же направлении надо искать мотивы, по
которым Левинас отказывается от хайдеггеровского учения
о бытии и от тезиса о примате бытия над конкретными сущими.
Из-за отсутствия измерения должного, трансцендентного
бытию, измерения Блага, в учении Хайдеггера Другой, согласно
интуиции Левинаса, растворен в бытии, т. е. утрачивает все то,
что связано с его друговостью и что может смущать и тревожить
226
Самотождественного1. Это, как показывает приведенная выше
цитата, выступает для Левинаса важным признаком
неудовлетворительности данного учения.
Поскольку хайдеггеровская онтология - причем как эпохи
«Бытия и времени», так и поздняя - не признавала ничего выше
бытия, то основным видом метафизического зла оказывается
недостаточность бытия. Так, главным содержанием
фундаментальной онтологии становится конечность бытия человека.
«Самая своя возможность» - это смерть. Она пробуждает
человека к самому себе и заставляет вернуться к подлинности своего
существования. Источник проблем, озабоченности, ужаса для
Хайдеггера состоит только в неизбежности моей смерти. Выход -
гордо взглянуть в лицо этому факту и ухватить, пока можно,
максимальную порцию бытия, т. е. сбыться, осуществить себя.
Что человек должен сделать для этого? По Хайдеггеру, прежде
всего осознать, что он никому ничего не должен, а должен
только сам себе. Он должен сбыться, т. е. возместить ограниченность
своего существования во времени, завладев более интенсивной,
концентрированной порцией «подлинно своего» бытия.
В предыдущей главе мы имели возможность сопоставить
позиции Хайдеггера и Розенцвейга. Хотя Розенцвейг начинает
путь к своей диалогической онтологии с констатации конечности
и смертности субъекта, однако факт человеческой смертности не
играет в его учении такую конструктивную роль, как у
Хайдеггера. Страх смерти преодолевается, по Розенцвейгу, в жизни, где не
прервалась связь времен и поколений, что, собственно, и
составляет Спасение. Человек может сбыться и осуществить себя,
когда он живет ради других, понимая свою жизнь как щедрый
дар, который он получил в любви и в любви должен передать
далее. В учении Левинаса мы увидим дальнейшее развитие этих
идей. Во всяком случае, временная ограниченность человеческо-
Другой в его друговости нейтрализуется также и тогда, когда он представлен как
объект заботы. Этому моменту большое внимание уделяет М. Бубер в своей
критике Хайдеггера. «Хайдеггерово "наличное бытие", - замечает он, - это
монологическое бытие» (Бубер, 1995. С. 201). «Человек "действительного" наличного
бытия в хайдеггеровском смысле, т. е. человек само-бытия, который, по Хайдеггеру,
есть цель экзистенции, - это не тот человек, который действительно живет с
другим человеком, а, наоборот, неспособный к такой жизни, т. е. человек, для
которого действительная жизнь существует лишь в общении с самим собой. Но это
только видимость действительной жизни, утонченная и пагубная игра духа» (Там
же. С. 202). «Хайдеггерова "открытость" бытия самому себе есть на самом деле его
окончательная (хотя и проявляющаяся в гуманных формах) закрытость для
всякой настоящей связи с другим и со всякой инаковостью» (Там же. С. 205).
227
го существования вовсе не является в его учении злом, так же как
бытие не является безусловным благом.
Решительно сворачивая с пути, проложенного Хайдеггером,
Левинас ставит вопрос: «Не обременено ли бытие другими
пороками, кроме своей ограниченности и ничто? Не таится ли в самой
его позитивности некое изначальное зло? Не является ли страх
бытия - ужас бытия - столь же изначальным, как и страх смерти?
Страх быть - столь же изначальным, как боязнь за бытие? <...>
Страх небытия соизмерим лишь с нашей вовлеченностью
в бытие. Существование трагично само по себе, а не из-за своей
конечности. Смерть - не разрешение трагизма» (Левинас Э.,
2000. С. 9-10).
Бывший узник концлагеря, он знает, что и смерть может быть
не самым страшным. Может быть существование более страшное,
чем смерть: узник концлагеря, сведенный к абсолютно безличному,—
не имеющий никаких человеческих прав, имеющий лишь номер.
Ужас безличного анонимного существования открывает нам, что
не только прекращение существования, но и само бытие может
внушать ужас. (Заметим в скобках, что такое безличное
существование - вовсе не то же, что пребывание в анонимном man по
Хайдеггеру. Ведь субъект не сам выбирает его, и он может
находиться в таком положении, даже когда слышит голос собственной
совести и знает, что умереть должен именно он и что никто не
сделает это за него, хотя очень многие сделают это вместе с ним.)
Но помимо ужаса существования в качестве лишенного
человеческого достоинства номера, опыт Левинаса включал и ужас
существования человека, потерявшего самых близких людей.
Левинас неоднократно высказывал утверждение, стоившее
больших усилий интерпретаторам, что Я - заложник за Другого.
Не означает ли это, помимо других значений и смыслов, что
выживший остается в заложниках у бытия? Он должен взять на
себя его тяжесть, чтобы не дать восторжествовать тотальному
уничтожению.
Понятие «безличного бытия», для которого Левинас
использует безличный оборот Ну а (имеется, существует; в отличие от
безличного местоимения man, используемого Хайдеггером,
относится не только к человеку, но к любому объекту)1, выражает
отношение Левинаса к хайдеггеровской идее бытия как такового,
Более подробно о значениях этого понятия у Левинаса см. указатель,
составленный И.С. Вдовиной, «Ключевые понятия философии Э. Левинаса» (Левинас Э.,
2004. С. 738).
228
которое надо научиться мыслить независимо от бытия
конкретных сущих. Он говорит об ужасе безличного // у а, «ночи среди
бела дня». Об ужасе как одном из фундаментальных видов
метафизически значимого опыта говорит и Хайдеггер (ср.:
Хайдеггер М., 1993. С. 20-21). Но за этим стоит совсем другая идея.
Хайдеггер говорит об ужасе, в котором нам открывается Ничто,
пронизывающее наше существование. Левинас же утверждает,
что само бытие как таковое может казать свой ужасающий
неумолимый лик: «ужас ночи как опыта il y a не открывает нам угрозы
смерти или хотя бы боли. Это основной момент всего нашего
анализа. Чистое небытие хайдеггеровского ужаса не составляет Ну а.
Ужас бытия, противопоставленный страху небытия; страх быть,
а вовсе не страх перед бытием; быть во власти, быть отданным
чему-то, не являющемуся «чем-то». Когда первый луч солнца
рассеивает ночь, ужас ночи уже неопределим. «Что-то»
представляется «ничем». Ужас приводит в исполнение приговор к вечной
реальности, «безвыходности» существования» (Левинас Э., 2000.
С. 38). Ужас вызывает существование во власти безличного и
неуловимого. Недаром античная культура знала также ужас
бессмертия: «Ужас бессмертия, вечность драмы существования,
необходимость навсегда взять на себя ее бремя» (Там же). Показательно
при этом, что безличное бытие определяется Левинасом
посредством метафоры ночи, которая лишена света разума и добра.
В эссе «От существования к существующему», откуда взята
данная цитата, Левинас подробно говорит также о том, что
существование есть вообще тяжесть, бремя. Он делает предметом
своего анализа опыт усталости и лени. Как и Хайдеггер, он кладет
в основу своей онтологии особый опыт непосредственного
соприкосновения с бытием, таким образом получая
онтологическое значение опыта усталости и лени. С философской точки
зрения данный опыт свидетельствует о бессильном неприятии
существования. Возможно утомление от существования, и прежде
всего от самого себя. Лень - это одна из установок по отношению
к действию: невозможность начать. Существование при этом
заторможенно проживается заранее, до всякого действия. Лень
понимается как лень существовать. И тот и другой вид опыта
свидетельствуют, что существование как таковое - это груз, который
надо тащить за собой. Существующий, человек, существует, беря
на себя бремя существования, которое включает труд, усилие,
усталость, горе, страдание, несправедливость и все остальное,
чем был так богат истекший век.
229
Бытие как таковое являлось предметом философской
дисциплины онтологии. Онтология обычно считается базисной
философской дисциплиной и в этом смысле «первой философией».
Онтология определяется теоретическим отношением к бытию.
Теоретическое отношение, как уже говорилось, предполагает
дистанцию между познающим и познаваемым или, иными
словами, оно есть такое отношение к бытию, при котором познающее
бытие дает возможность бытию познаваемому проявлять себя,
сохраняя свою инаковость и при этом не определяя его
исключительно через отношение к познающему. Однако онтология тут же
предает эту теоретическую установку тем, что так или иначе
постулирует интеллигибельность бытия либо, как в случае учения
Хайдеггера, делает безличное бытие условием и нтелл и
гибельности любых сущих. Онтология, по глубокому убеждению
Левинаса, направлена на то, чтобы лишить познаваемое бытие
его инаковости. Она представляет собой попытку снять шок от
столкновения с инаковостью и редуцирует Другого к
Самотождественному. «Познать онтологически - это заметить в сущем то,
благодаря чему оно себя в некотором роде выдает, отдает себя
горизонту, где теряет себя, и, позволяя завладеть собой, вновь
становится понятием. Познать бытие - значит... лишить его
инаковости. <...> Высветить... значит лишить бытие
сопротивляемости, поскольку свет... "выдает бытие..."» (Там же. С. 82).
Этой познавательной установке, определяющей собой всю
европейскую традицию и современность и направленной на
преодоление инаковости объекта, Левинас противопоставляет свое
учение о метафизическом желании. «Метафизическое желание
направлено на совсем иное, на абсолютно другое» (Левинас Э.,
2000. С. 74). Метафизика, как образно говорит Левинас,
обращена к «другому месту», на «другое». Она представляет собою
«движение, идущее от привычного нам мира,... уводящее от этого
"у себя", в котором мы живем, к чужому "вне-себя", к "там"»
(Там же. С. 73).
«Метафизически желаемое Иное - это не то «иное», какими
являются хлеб, который мы едим, страна, в которой мы живем,
пейзаж, которым любуемся, отношение «Я» к самому себе, «я»
как другое. Всеми этими вещами я могу сверх меры «насытиться»,
удовлетвориться, как если бы мне их просто ранее не хватало. Тем
самым их инаковость растворяется в моей идентичности...» (Там
же. С. 73). Метафизическое желание - это желание того, чем
я никогда не смогу обладать, что невозможно «ассимилировать».
230
Здесь отделенность от меня, дистанция входят в сам способ
существования желаемого. «Метафизик и иное не могут вместе
составить тотальность. Метафизик отделен радикальным образом»
(Там же. С. 75). Поэтому метафизическое желание неудовлетво-
римо по определению. Это «желание, которое буквально своей
кожей ощущает удаленность Другого, его инаковость и
пребывание вовне...» (Там же. С. 74).
Чтобы подчеркнуть эту особенность желания, Левинас
отличает его от потребности. Потребность направлена на
удовлетворение и исчерпывается удовлетворением. Желание имеет
принципиально иную природу. Оно направлено на то, что не может
его удовлетворить, а напротив - может только разжечь его жажду.
«Метафизика желает Иного по ту сторону голода, который можно
унять, жажды, которую можно утолить, смысла, который дал бы
успокоение, словом, по ту сторону любого удовлетворения...»
(Там же).
Все сказанное и суммируется в емкой формуле:
метафизическое желание есть желание радикально иного. Мы, наверное,
склонны были бы согласиться, что в противоречивой и
парадоксальной человеческой природе сидит что-то эдакое: желание
недосягаемого. Именно потому, что оно недосягаемо. И если
желаемое окажется досягаемым, то это наполнит сердце человека
не радостью, а горечью: предмет желания обманул его, это было
не настоящее недосягаемое... Оно было желаемо только в той
мере, в какой было недосягаемо...
Об этой ли парадоксальной черте человеческой природы
говорит Левинас? Отчасти - может быть. Однако признание этой
черты может послужить для нас только начальной ступенькой на
пути к разгадыванию мысли Левинаса. Обратим внимание на то,
что гегелевский субъект-субстанция не мог(ла) иметь
подлинного метафизического желания. Она была направлена на самое себя
и на то, чтобы в Другом увидеть «свое Другое» и в конечном счете
самое себя. Следовательно, описывая метафизическое желание,
Левинас тем самым описывает принципиально иного субъекта:
несамодостаточного, открытого, конечного. Метафизическое
желание обнаруживает эти характеристики его бытия. Можно
было бы сказать о том же иначе: субъект не может быть
субстанцией.
Левинас, как говорилось выше, противопоставляет образы
Одиссея, который в результате долгих странствий вернулся к себе
домой, и Авраама, который ушел в новые земли. В этой паре геге-
231
левская абсолютная идея будет представлена, конечно, Одиссеем:
она возвращается - хоть и на новой уровне, обогащенная
самопознанием, - к себе самой. Для нас стало привычным выражение
«одиссея духа», подразумевающее, что любое странствие духа
есть возвращение к самому себе после того, как дух удовлетворил
свою потребность в познании. Не постулируется ли тем самым,
что для духа, в силу его универсальности, не может существовать
«другого места»? Принципиально другое понимание пытается
сообщить нам Левинас своей идеей метафизического желания
как желания радикально иного.
Метафизическое желание знаменует разрыв с тотализирую-
щими претензиями субъекта. Одновременно происходит разрыв
и с хайдеггеровской онтологией, для которой нет ничего, кроме
бытия, в чьем круге пребывают земля и мир, смертные и
бессмертные. Тут, как нам представляется, не имело бы смысла
желание радикально иного. Конечно, бытие, в учении Хайдег-
гера, вступает с человеком в сложные отношения, оно то
открывает себя ему, то закрывается от него. Тем не менее между ними
остается глубочайшее внутреннее родство, ибо судьба бытия
вверена человеку и через него в конечном счете бытие раскрывает
себя.
Образ «странника на земле», предлагаемый Левинасом,
предполагает не постоянные перемещения из одного места в другое,
лежащее, так сказать, «в той же плоскости». Речь идет о
стремлении в «радикально иное» место. Поэтому тут естественным
образом появляется тема «выси»: «Именно благодаря
метафизическому Желанию зарождается ощущение выси. То, что эта высь уже
не небеса, а Невидимое, свидетельствует о возвышении самой
выси, о ее благородстве» (Левинас Э., 2000. С. 74-75).
Анализируя смысл левинасовского противопоставления
метафизики и онтологии, уместно, на наш взгляд, вспомнить
традиционное смысловое различие между данными понятиями. Если
онтология - наука о бытии как таковом, то метафизика - наука
о сверхчувственных принципах и началах бытия. Так понимал
метафизику еще Аристотель. Хайдеггеровское учение о бытии
будет в этом смысле онтологией, поскольку нет ничего помимо
и сверх бытия. Любые основы, если таковые и имеются,
замкнуты в круге бытия и только из него и могут быть поняты.
Противопоставление хайдеггеровской онтологии является
неким подтекстом учения Левинаса о желании. Оно может
указать нам, в каком смысле желание является метафизическим.
232
Может возникнуть предположение, что у Левинаса речь идет об
алкании сверхчувственного, о порыве души к Божественному,
который заставляет ее отвернуться от всего земного,
достижимого. Но подобное предположение будет ошибочным. Радикальное
Иное - это Другой человек. Наиболее ярким его воплощением
является Чужестранец: «Отсутствие общего отечества превращает
Другого в чужестранца; Чужестранец - это тот, кто вносит разлад
в мое "у себя"» (Там же. С. 78). Тем самым Левинас выступает
наследником идей Розенцвейга и Когена. Движение души к Богу
есть движение ее к ближнему. Однако если при этом ближний
рассматривается как предлог и средство для приближения к Богу,
то это движение будет движением от Бога. Тот же круг идей, как
нам представляется, выражает левинасовское понятие
метафизического желания.
Итак, метафизическое желание ненасытимо. Оно подобно
голоду, который сам себя питает. Таковы доброта и сострадание.
Бесконечное и трансценденция
В своих философских исканиях Левинас пытался выработать
методологию и язык для описания особого опыта
метафизического желания. Речь идет об опыте субъекта, и в этом отношении
он остается последователем гуссерлевской феноменологии
(см. подробнее: Вдовина И.С, 2004), а через нее - европейской
трансцендентальной философии. Классическая установка
трансцендентальной философии сохраняет, как нам представляется,
свою значимость для Левинаса в силу того, что она требует от
субъекта непрерывного бодрствования сознания, рассматривая
любую данность в связи с активностью и этосом субъекта. Таким
путем в этой традиции конструировались основы для этической
позиции и утверждалась ответственность субъекта.
Но оборотной стороной трансценденталистской установки
было то, что либо Другой превращался в конструкцию,
порождаемую сознанием Я, либо и Я, и Другой поглощались
самотождественной субстанцией Абсолютного субъекта. Выходом из
этого положения представилась Левинасу первоначально
феноменология Гуссерля с ее идеей интенциональности. Он увидел
в ней поиск бытия, который не предполагает сведение
существования к существованию объектов познания. В гуссерлевской
методологии анализа различных способов полагания
предметности Левинаса привлекло стремление описать плотность и
разнообразие существования, приблизиться к конкретности реального
233
мира. Для него феноменология выступала исследованием того,
как субъект переживает эту плотную ткань опыта и данностей
бытия.
Однако у Гуссерля исследование интенциональности
сознания превращалось в исследование способов конституирования
объектов сознанием субъекта. Плотная ткань бытия испарялась,
и оставалось только бытие объекта, положенного субъектом.
Левинас напряженно ищет истоки этого провала гуссерлев-
ского проекта. Направление поиска ему помогла определить
работа Розенцвейга. Недаром в предисловии к книге
«Тотальность и Бесконечное» Левинас ссылается на Розенцвейга и
говорит: «На нас произвело большое впечатление неприятие идеи
тотальности в работе Франца Розенцвейга "Звезда Спасения", -
работе, которая слишком существенно присутствует на
страницах нашей книги, чтобы можно было дать конкретные отсылки»
(цит. по: Cohen R.A. Р. 117). P.A. Коэн обращает внимание на то,
что подобное признание влияния Розенцвейга вклинивается
между рассуждениями, в которых Левинас показывает свою
неудовлетворенность феноменологическим методом (Ibid.).
«Феноменология, - говорит Левинас непосредственно перед
упоминанием Розенцвейга, - это философский метод, но она,
будучи пониманием, осуществляемым с помощью прояснения,
не конституирует высшего события самого бытия. Отношение
между Тождественным и Иным не сводится ни к познанию
Иного Тождественным, ни даже к явлению Иного
Тождественному...» (Левинас Э., 2000. С. 71-72). Ссылка на Розенцвейга дает
возможность понять смысл этого «но», высказанного по адресу
феноменологического метода. Ведь именно Розенцвейг построил
систему, в которой нет субъекта как единственного центра
активности, конституирующего все остальное как свои объекты, но
есть изначально независимые «фактичности», которые
налаживают диалог друг с другом. После упоминания Розенцвейга
Левинас говорит о том, что его собственная работа «восходит
к феноменологическому методу» (Там же. С. 72), но тут же
объясняет отличие принимаемых им предпосылок от гуссерлевских:
«Понятие, взятое так, как его непосредственно определяет
мышление, оказывается, без ведома этого наивного мышления,
включенным в горизонты, о которых мышление и не подозревает; эти
горизонты и придают ему смысл - таков главный урок Гуссерля.
Неважно, что в феноменологии Гуссерля, понимаемой
буквально, эти неожиданные горизонты сами интерпретируются как
234
мышление, нацеленное на объекты! Главное - это идея превос-
хождения объективирующего мышления забытым опытом1,
которым оно живет» (Там же. С. 72). И далее он говорит об этическом
отношении как о трансцендирующей интенциональности, тем
самым уже существенно выходя за пределы
феноменологического метода (см. подробнее: Ямпольская А., 2004; Cohen R.A, 2007.
Р. 99). Трансценденция - это и есть действие, производимое
метафизическим желанием. Метафизическое желание, таким
образом, может реализовывать себя только как этическое
отношение, как доброта и сострадание. Любые другие пути, как
стремится показать Левинас, являются иллюзорными.
Для классической, как и для современной философии объект
познания существует не сам по себе, а только сквозь призму моих
интерпретаций. Это порождает неразрешимый вопрос об
объективности существования объектов моего опыта. Левинас же ставит
вопрос о бытии, не редуцируемом к перцепции. Он ищет бытие, не
зависящее от моего восприятия и способа концептуализации.
Вообще, другие люди придерживаются мнения, что они
существуют независимо от моего «Я» и от того, каким образом они
даны моему сознанию. Однако традиция, заданная Декартом,
Беркли и усиленная классическим немецким идеализмом,
игнорирует это мнение именно как мнение, которому нет хода в сферу
трансцендентальной философии. В чистых актах
интеллектуального созерцания Декарт смог узреть только несомненное
существование «Я» и Бога. Сомнение во всем остальном, включая
существование других людей с их мнениями, явилось условием
возможности такого созерцания и такой встречи с Другим в лице
Бога. Данное условие характеризует тип рациональности, в
котором рождалась классическая концепция познающего субъекта.
Однако у Декарта Левинас обнаруживает и путь к
преодолению подобной концепции субъекта. Он ссылается на текст
Декарта, показывающий, как «Я» обнаруживает в своем сознании
идею бесконечного благодаря тому, что осознает свою
конечность и понимает, что идея бесконечности (точнее, бесконечного
совершенства. - З.С.) не может быть его собственным
порождением. Поэтому осознание присутствия в своем мышлении этой
идеи превращается в акт встречи «Я» с абсолютно Другим -
с Богом. Текст Декарта доносит до нас переживание безусловной
реальности этого Другого.
Ключ к пониманию того, что за «забытый опыт» имеется в виду, дает учение
Левинаса об «абсолютном прошлом». См. последний параграф гл. 6.
235
Анализируя Декартово описание опыта бесконечного,
Левинас пишет, что тут как раз речь идет о ситуации, когда
«тотальность рушится»: «Такого рода ситуация — молниеносная
вспышка экстериорности1, или трансценденции, в лице другого.
<...> Разумеется, отношение к бесконечному не может быть
выражено в понятиях опыта, поскольку бесконечное выходит за
пределы мышления, которое его мыслит. В этом переливании
через край как раз и производится сама его бесконечность, так что
об отношении к бесконечному следует говорить, оставив в
стороне понятия объективного опыта. Но если опыт означает связь
с абсолютно иным - то есть с тем, что постоянно выходит за
пределы мышления, - то связь с бесконечным есть
преимущественно опыт» (Левинас Э., 2000. С. 69, 70). Если для познания любой
объект существует только как объект мышления, то бесконечное
взрывает рамки мыслимого содержания. «Избыточность бытия
по отношению к мышлению - это чудо идеи бесконечного»
(Левинас Э., 2000. С. 71). Идея бесконечного, таким образом,
оказывается синонимом трансценденции. «Эта идея рождается в
том невероятном событии, когда отдельное бытие, взятое в его
самоидентичности, Самотождественное Я, содержит в себе тем
не менее то, что оно не может ни содержать в себе, ни получать
извне в силу одной лишь самоидентичности» (Там же. С. 70).
Однако Левинас не пытается реанимировать при этом
картезианское представление о несовершенстве субъекта и о его
встрече с Богом. Он принадлежит другой философской и религиозной
традиции, живет в другую эпоху. Поэтому он осуществляет
невероятный шаг, объявляя опытом бесконечного опыт самотранс-
цендирования, состоящий в принятии Другого человека как
другого, или, как выражается Левинас, Другого во всей его друго-
вости. Признание Другого как другого человека, подобного мне,
а не как объекта моего познания или моих действий,
осуществляется, когда в лице, в глазах другого человека мы читаем заповедь
«Не убий!». Эту заповедь невозможно представить себе как «мой
способ видения» факта, в котором самом по себе нет никакой
ценности. Ибо «не убий» и выражает высшую ценность. Левинас
озабочен тем, что в современном мире происходит забвение этой
заповеди, причем философия и некоторые формы так
называемой духовности вносят в это свой вклад.
Экстериорность - одно из важнейших понятий концепции Левинаса.
Относится к тому, что существует «за пределами» и независимо от первого лица,
т. е. философского «Я».
236
В то же время, своим учением Левинас разрабатывает не
только этическую проблему, но и онтологические открытия
Розенцвейга. В опыте этического отношения Левинас
обнаруживает бытие, которое разрывает границы моего опыта, потому что
само свидетельствует о своей экстериорности и независимости.
Это бытие, которое «Я» никак не могло само конституировать,
ибо «Я» несет ответственность перед ним. «Это оспаривание моей
спонтанности самим фактом присутствия Другого зовется
этикой» (Левинас Э., 2000. С. 81). Бытие Другого не зависит от меня
и превосходит меня, потому что Другой есть бытие, диктующее
мне этический закон. Он требует от меня обуздания моей
естественной агрессивности и склонности к насилию, потому что он
вправе требовать этого. В его лице читается это мягкое, но
неумолимое насилие над моей волей: императив «Не убий!».
Исходящий от Другого императив наносит глубочайшую
травму эгоизму Самотождественного, ограничивая его произвол
и ставя под вопрос его свободу. Этот императив вырывает
Самодостаточного из его интериорности, самодостаточности
и наслаждения собственным бытием, побуждая к нечеловечески
трудному делу трансценденции.
Глубина нанесенной травмы неопровержимо доказывает
Самотождественному, что Другой не конституирован его
субъективностью, а воистину независим он него и свободен. На этом
пути формируется новое понимание субъективности. Последняя
не только действует, но и испытывает воздействие. Ее свобода не
абсолютна, но ограничена Другим; она несамодостаточна
и открыта. Таким образом, становится понятно, в каком смысле
роль первой философии, или метафизики, должна и может
сыграть этика.
При этом надо подчеркнуть, что Левинас вовсе не наивен,
когда он рассуждает о бесконечной обязанности «Я» перед
Другим. Уж у него-то в жизни была возможность понять, сколь
агрессивным существом является человек. Не забудем, что он
пережил две мировые войны, революцию, гибель почти всех своих
родных и концлагерь! Именно поэтому для него так важна идея
беззащитного бытия, которое взывает к ненасилию. Он пишет не
о сущем, а о должном. И, вполне в духе Когена, он сохраняет
убеждение в том, что должное не может быть судимо сущим, но,
наоборот, сущее должно предстать перед судом должного.
Левинас говорит о том отношении к Другому, которое
является должным. Реализовать его не так-то просто. Оно потребует от
237
человека запредельных усилий, оно потребует от него самотранс-
цендирования (см. также Derrida J., 1997; Cohen R.A., 2007).
Признание Другого - ответ на исторический факт существования
лагерей массового уничтожения других людей, например
инакомыслящих или людей других национальностей.
Описывая опыт встречи с Другим, Левинас говорит, что
Другой является нам как Лицо. Это нетрудно понять, если
вспомнить, что лицо - самая социальная часть тела. Именно с ним
ассоциируется индивид как член общества; как со-член
общества. Но это далеко не все значение того обстоятельства, что
Другой предстает мне как лицо. Во французском языке здесь есть
известная игра слов: «Je vis le visage». Она указывает на важность
отношения видения. В классической философской традиции
видение выступало как модель или парадигма постижения. При
этом тот, кто видит - субъект; видимое - его объекты. Субъект
выступает также как источник света разума, в лучах которого
раскрываются объекты. Левинас пытается перестроить стереотипы,
согласно которым источник света, видения может быть только
один, как лампа в кабинете следователя. Не только я вижу Лицо,
но и оно видит меня. «Лик - это не просто лицо, внешность <...>
Это не просто то, что видимо, так как обнажено. Это также то, что
видит. Не столько то, что видит вещи - теоретическое
отношение, - но то, что обменивается взглядом. Лицо есть лик только
внутри ситуации лицом к лицу».
Ситуация «лицом к лицу» полностью разрушает субъект-
объектную схему классической западноевропейской традиции
Эта традиция допускала только одного субъекта, способного
видеть. И все, чего касался его взгляд, было для него объектом.
Его взгляд «объективировал». Встретиться с другим взглядом, при
такой установке, совершенно немыслимо. Это означает -
окаменеть, превратиться в объект. Подобное понимание ситуации
«лицом к лицу» представлено в пьесе Ж.-П. Сартра «За
закрытыми дверями». Сартр убежден в том, что глаза другого лишают
меня моей свободы, превращают в вещь. Все человеческие
отношения, даже любовь, подчиняются стремлению превратить
в объект другого, пока он не превратил в объект меня. Недаром
эта пьеса заканчивается криком-стоном: «Так вот что такое ад!
Ад - это другие» (см.: Handelman S.A, 1991. Р. 208-214).
Субъект-объектная схема делает подобный финал
столкновения с другими людьми неизбежным, коль скоро она исходит из
наличия единственного центра активности, т. е. субъекта.
238
Другие могут быть для него в лучшем случае объектами его
заботы. Продумывая эту проблему, мы поймем, почему Левинас
много пишет об отношении, в котором Я пассивен*. Вопреки
всем философским и нефилософским ассоциациям, которыми
нагружена для нас альтернатива активности/пассивности, он
настаивает на этическом и онтологическом значении
пассивности1 - что, думается, тоже требует мужества и независимости
мысли. Пассивность необходима, чтобы состоялось событие
встречи, чтобы я увидел Лицо Другого и принял Другого во всей
его друговости. Впрочем, тут надо вспомнить, что важность
пассивности для онтологически значимого опыта в современной
философии первым подчеркнул (не употребляя самого этого
слова) Хайдеггер.
Пафос левинасовской речи, когда он пишет о Лице Другого,
подсказывает переводчикам использовать тут слово Лик.
Впрочем, это последнее само подсказывается контекстом, когда
мы встречаем у него оборот «эпифания лика», подразумевающий
встречу с Лицом Другого. Выражение весьма вольное, если не
эпатирующее. Почему богоявлением называется явление
человеческого лица, а не Бога? Не грешит ли тут Левинас обожествлением
тварного существа, т. е. идолопоклонством? Парадоксальным
образом, но позиция Левинаса обусловлена традицией, для
которой как раз очень важно соблюсти в неприкосновенности грань
между человеческим и Божественным. Это есть выражение
характерной позиции иудаизма,2 и в то же время дальнейшее развитие
идей Когена и Розенцвейга: «Отношение с божественным
осуществляется через отношение с людьми и совпадает с социальной
справедливостью...» (Левинас Э., 2004. С. 337) И иначе, как через
отношение с людьми, человек не может вступить в отношение
с Божественным. Данная мысль представляет общее и наиболее
существенное содержание философии диалога. Последняя
решительно отвергает «прямой опыт» общения с Абсолютом,
воспарение, слияние, растворение и т.п. опьяняющие и наполняющие
гордыней идеи. Бог открывается людям, не открывая для
созерцания (избранным) свою сущность, а устанавливая для всех суровый
и требовательный нравственный закон, говорящий о долге по
отношению к ближнему, т. е. Другому.
См.: «Ключевые понятия философии Э. Левинаса» / Сост. И.С. Вдовина //
Левинас Э., 2004, с. 738.
«И сказал Господь... лица Моего не можно тебе видеть; потому что человек не
может увидеть Меня и остаться в живых» (Исход 33:19, 20).
239
При этом очень важно понять, что Другой самоценен. Его
нельзя рассматривать как предлог или средство для воспарения
к Богу. Подобное «использование Другого» все равно остается
эгоизмом, а в теоретическом плане означает замыкание в инте-
риорности, когда Другой низводится до статуса инструмента для
достижения определенного опыта. Чтобы показать, сколь
самоценен Другой, какого трепетного и сострадательного отношения
он заслуживает, Левинас и говорит о богоявленности Лица
Другого.
Встретить Другого лицом-к-лицу - значит услышать призыв,
исходящий от него. Левинас, как и Розенцвейг, раскрывает
онтологическую значимость подлинно диалогической ситуации. Лицо
обращается к тебе, говорит, и ты отвечаешь ему. Таким образом,
все то, что мыслится в образе Лица, раскрывается далее в понятии
речи. Поскольку речь предполагает собеседника, то тем самым
она выступает моделью отношения к Другому, при котором он не
поглощается Самотождественным.
В предыдущей главе мы видели, как Розенцвейг показывал
значение речи для того, чтобы интравертная упрямая самость
превратилась в личность. Это происходит в ответ на исходящий
от Бога призыв, обращенный к самости. Левинас также
подчеркивает значение речи: «Стремление найти доступ к Иному, постичь
его, реализуется в отношении к другому, протекающему в
отношении, свойственном языку, отношении, сущностью которого
является обращенность к кому-либо, призывность. Другой
утверждает и подтверждает себя в своей инаковости тотчас же,
как только к нему обращаются с запросом, хотя бы даже с целью
сообщить ему, что не могут с ним говорить, или что он болен, или
что осужден на смерть; он «уважаем», даже если схвачен, ранен,
подвергнут насилию. Тот, к кому обращаются, - это не то, что
я «разумею», он не подпадает ни под какую категорию. Он тот,
к кому я обращаюсь со словами, - он соотносится только с самим
собой, он не есть некто» (Левинас Э., 2000. С. 103). И в этом
смысле Левинас заявляет: «Прямое обращение в речи мы
называем справедливостью» (Там же. С. 104).
Однако в отличие от Розенцвейга Левинас отмечает и
опасность, исходящую от речи. Хотя в ней подразумевается неявное
признание Другого как Другого, она может служить для
использования этого Другого. Такое использование речи он называет
риторикой. Последняя «стремится приблизиться к Другому не прямо,
а окольным путем; конечно, не как к вещи - поскольку риторика
240
остается речью, и, при всех своих уловках, идет к Другому,
добиваясь его согласия. Однако специфическая природа риторики
(пропаганды, лести, дипломатии и т. п.) заключается в том, что
она коррумпирует эту свободу. Именно поэтому она и является
насилием par excellence, т. е. несправедливостью» (Там же).
Справедливостью, таким образом, является не всякое обращение
в речи, но только прямое обращение, которое дает Другому
возможность высказать себя, явить в своей свободе всю свою друго-
вость.
Другой, который взывает к тебе, который смотрит в твои
глаза, - это, конечно, любой другой человек. Но есть Другой по
преимуществу. Можно сказать, парадигма Другого. Это те
«пришелец, вдова, сирота», о которых говорил Г. Коген, обосновывая
тезис, что иудаизм есть этический монотеизм. Другой - это
прежде всего невинная жертва. Нетрудно, увы, понять, почему это так:
нам проще отождествить себя с сильным и удачливым, чем
признать ближнего в жертве! Как не хочется допустить что-либо
общее между собой и ею. Известный и понятный феномен. Идя
наперекор ему, Левинас описывает лицо как абсолютную
беззащитность и наготу; говорит о бесконечной обязанности перед
Другим и подчеркивает онтологический приоритет нужд Другого.
В то же время «Лицо всегда остается загадкой, а не
феноменом, и его просьба всегда остается неисполненной, требования
морали никогда не осуществляются полностью, - всегда "еще
не"» (Cohen R.A, 2007. Р. 100). Лицо, таким образом, это не
«феномен» феноменологической традиции. С ним связан
совершенно особый опыт метафизического желания и трансценден-
ции. Но этот взрывающий рамки феноменологического подхода
опыт Левинас описывает феноменологически.
В его описаниях действительно отчетливо звучит тема того,
что просьба, требование остаются неисполненными. И дело тут
не в том тривиальном факте, что требования морали невозможно
исполнить до конца, ибо «слаб человек». Левинас формулирует
эти требования так, что они не могут не остаться
неисполненными: он настойчиво повторяет, что мои обязанность и
ответственность по отношению к Другому бесконечы.
Это связано с тем, что Другой в изображении Левинаса
предстает как беззащитный, нагой, изгнанник. Он - отвергнутый,
покинутый, страдающий. Во всей своей беззащитности и
уязвимости он стоит передо мной лицом-к-лицу как наваждение
(Левинас Э., 2000. С. 344-345), взывая ко мне. Снова и снова
241
Левинас подчеркивает асимметрию отношения Я и Другого. Речь
может идти только о моей обязанности по отношению к нему -
бесконечной, превышающей все мои возможности, но вовсе не
о том, что я тоже могу претендовать на соответствующее
отношение со стороны Другого.
С одной стороны, такое описание акцентирует необходимые
черты этического отношения1. Но в то же время трудно
избавиться от ощущения, что в словах Лезинаса присутствует какая-то
чрезмерность. Нам даже кажется, что все интерпретаторы так или
иначе ощущают ее. В самом деле, Левинас говорит о том, что «Я»
уже виновно, судимо, оно уже не выполнило своей обязанности
по отношению к Другому, «Я» испытывает из-за этого тревогу,
беспокойство, чувствует постоянную необходимость
оправдываться, но никакие оправдания не умеряют его виновности.
Асимметрия отношения «Я-Другой» и коренится в том, что «Я»
уже виновно и судимо.
Нам представляется, что постоянное чувство вины не
является необходимым моментом этического отношения к Другому.
Позволим себе высказать предположение, что описания
Левинаса относятся не к этической ситуации, а к трагическому
опыту утраты Другого. Вина, о которой постоянно говорит
Левинас - это вина выжившего. Травма, причиненная смертью
родных, погибших вместе с шестью миллионами евреев, заявляет
о себе в его словах. Дело не в том, что просьба Другого «еще не»
исполнена, а в том, что она уже не может быть исполнена.
Погибшие навеки остались страдающими невинными жертвами.
«Я» навсегда упускает возможность помочь, спасти, обогреть,
накормить. Слова о заложничестве также становятся понятнее,
если допустить, что их породило чувство вины перед погибшими
и бессильное сожаление: почему я не смог спасти их, встав на их
место. Асимметрия отношения «Я-Другой» становится
объяснимой, если Другой видится стоящим на краю гибели или с мольбой
глядящим сквозь колючую проволоку концлагеря, и речь идет
о том, чтобы успеть спасти его, если это еще возможно.
Тема утраты, как нам кажется, звучит и в словах Левинаса о том,
что «Я» всегда запаздывает на встречу с Другим. В самом деле, не
подразумевает ли это, что «Я» обречено потерять его и мои протя-
«Когда я пропускаю другого вперед и когда другой пропускает меня вперед -
смысл этих поступков принципиально различен. Конечно, я являюсь другим для
другого и знаю об этом, но эта симметрия не играет роли в этическом отношении»
(Ямпольская А., 2004. С. 91).
242
нутые руки бессильно хватают пустоту. На то же указывают и слова
об отсутствии, которым является присутствие Другого.
Те же ноты различимы и в левинасовском анализе ласки.
Ласка - это непосредственное прикосновение, самый опыт
присутствия. Так почему же этот опыт указывает на отсутствие,
небытие?1 Не потому ли, что, отсылая к тому, чего «еще нет»,
к будущему ребенку, ласка тем самым обнаруживает конечность
бытия самой возлюбленной, указывает на ее смертность?
Опыт травмы, которую причиняет гибель близких,
обнаруживает радикальную конечность субъекта самым радикальным
образом. Возможно, этот способ оказывается самым
радикальным из всех способов обнаружения такой конечности.
Самодостаточность субъекта оказывается иллюзией.
Если, по Хайдеггеру, голос совести напоминает Dasein о его
смертности и тем самым направляет его к подлинности
собственного бытия, то травма утраты Другого открывает его во всей его
друговости.
Как нам представляется, из подобного опыта в результате
философской рефлексии вырастает учение Левинаса о
метафизическом желании и трансценденции. Причем в этом учении речь
уже идет о Другом в объясненном выше смысле, а не о (не
только о) дорогом для меня человеке. Каждый человек уникален,
неповторим и в то же время хрупок и уязвим. Каждый вызывает
сострадание.
Таким образом, в учении Левинаса радикальная конечность
субъекта не освобождает, но, напротив, призывает субъекта
к ответственности. Думается, это связано с травмирующим
характером опыта, открывшего для субъекта его
несамодостаточность, ибо он выявляет абсолютную противоположность добра
и зла. Левинас, утверждающий, что эта противоположность
абсолютна и неотменима, занимает особое место в современной
философии.
«Ласка - единство приближения и близости. Что такое нежность ласкаемой
кожи, как не разрыв между представлением и присутствием? Таким образом,
в присутствии ближнего затронуто отсутствие, в силу которого близость - не
просто сосуществование и покой, но сам не-покой, беспокойство. <...> Бесконечное
не может конкретизироваться в слове, оно оспаривает собственное присутствие.
В своей несравнимой превосходной степени оно - отсутствие на краю ничто. Оно
всегда убегает. Но оставляет пустоту, ночь, след, где его видимая невидимость -
лик Ближнего» (Левинас Э., 2000. С. 342). «Ласка не обращена ни к личности, ни
к вещи. Она расточает себя в чем-то, что как бы развеивается в безличной мечте,
без воли и даже без сопротивления: это пассивность, анонимность, почти
животная или ребяческая, уже полностью относящаяся к смерти» (Там же. С. 251).
243
Субъект призван к ответственности, он уникален и
незаместим как носитель ответственности. Поэтому измерение «инте-
риорности», в котором субъект «у себя», сохраняет свое значение.
И Левинас приступает к его анализу, в итоге чего в конце концов
с новой стороны раскроется укорененность метафизического
желания в человеческом бытии, причем на сей раз оно будет
нести не тревогу и беспокойство, а надежду и обновление.
Отделение и интериорность
Другой - это, конечно, центральная категория философии
диалога. Она подразумевает уникальное отношение к Другому,
отличающееся от субъект-объектного отношения, парадигмаль-
ного для классической философии. Чтобы описать это
отношение, мало говорить о том, что тут требуется признание Другого во
всей его друговости и недопущение редукции Другого к Я.
Подлинно диалогического отношения не может быть и при
редукции Я к Другому или редукции Я к всеобщему бытийному
началу. Речь не идет о том, чтобы слиться с Другим и
раствориться в нем. Человек, согласно философии диалога, сам должен
сохранить свою отличительную друговость, потому что отказ от
того, чтобы быть для Другого - другим, тоже окажется
превращенной формой редукции друговости, сведения всего к
тотальности Тождественного.
Поэтому для философии диалога оказывается важной тема
«отделения» и «отделенности». У Ф. Розенцвейга и следующего
в этом отношении за ним Э. Левинаса мы встречаем ту мысль, что
в этически полноценное отношение вступают отдельные
субъекты. «Отделение» - необходимое условие «встречи» с Другим.
Эта тема имеет целый ряд онтологических, теологических
и этических аспектов.
С точки зрения Розенцвейга и Левинаса, «отделение»
необходимо прежде всего как предпосылка отношения человека к Богу.
Для обоих этих религиозных мыслителей оказывается очень
важной мысль, что отношение человека и Бога ни в коем случае не
может быть «погружением», «растворением» человека в Боге.
Поэтому у Розенцвейга и Левинаса появляется тема отделения
субъекта от Бога. Представляется, что мы не очень погрешим
против истины, если укажем на психологический прототип
такого «отделения»: подростковое отделение от родителей, доходящее
до противопоставления себя им, дерзости и упрямства, но
являющееся необходимым этапом становления полноценной лично-
244
сти. «Можно было бы назвать атеизмом это отделение, -
заявляет Левинас, - столь полное, что отделившееся бытие остается
совершенно одиноким в своем существовании, непричастным
Бытию, от которого оно отделилось, способным, в каких-то
случаях, приобщиться к нему с помощью веры. Разрыв с
причастностью уже содержится в этой способности. <...> Душа, будучи
свойством психики и завершением отделения, атеистична по
своей природе... Разумеется, величайшее достижение творца -
дать жизнь существу, способному на атеизм, существу, которое,
не являясь causa sui, независимо во взглядах и речах, и оно -
у себя» (Левинас Э., 2000. С. 94). «...Вера, освобожденная от
мифов, монотеистическая вера, - опять повторяет он свою мысль, -
сама предполагает существование метафизического атеизма.
Откровение - это дискурс. Чтобы принять Откровение, нужно
бытие, способное играть роль собеседника, отдельное бытие.
Атеизм обуславливает подлинное отношение с подлинным
Богом...» (Левинас Э., 2000. С. 110).
Для Левинаса фаза отделения, доходящая до бунта и атеизма,
является необходимым условием становления «взрослой»
религиозности: «На пути, ведущем к единому Богу, есть
промежуточная станция, где Бога нет. Истинный монотеизм должен отвечать
на законные требования атеизма. Бог взрослого человека являет
себя именно пустотой неба детства» (Левинас Э., 2004. С. 447).
Небо детства - обиталище Бога, который раздает награды и
наказания, направляя каждый шаг человека. Это небо пустеет, когда
человек воочию видит насилие и несправедливость,
торжествующие в мире. Под опустевшим небом человек осознает свое
одиночество и свою ответственность, которую ему не на кого
переложить. «Отделение» в философии диалога не снимается и не
преодолевается, даже и Откровением.
Левинас, вслед за Розенцвейгом, строит онтологию, в которой
отдельное уже не выступает как отпадения от всеобщего. Его
онтология бросает вызов и гегелевской, и неоплатойистической,
и шеллингианской метафизике. Все эти системы постулировали
внутреннюю дифференциацию Единого, которая в конце концов
преодолевается, т. е. диалектически снимается возвращением
к первоначальному единству. Момент дифференциации в любом
случае оказывается моментом отчуждения, деградации, иначе
говоря - грехопадения. Поэтому необходимо его конечное
снятие. Левинас же выстраивает онтологию, в которой «...следует
отказаться от толкования отделения как простого сокращения
245
Бесконечного, как деградации». «Бесконечность проявляется,
противостоя вторжению тотальности туда, где происходит
сжатие, оставляющее место отделившемуся бытию. Бесконечное,
которое не замыкается в себе, двигаясь по кругу, а устремляется
из онтологического пространства, чтобы освободить место для
отделившегося бытия, существует божественным образом»
(Левинас Э., 2000. С. 131). Говоря о «сжатии» и «освобождении
места для отделившегося бытия», Левинас играет образами из
лурианской каббалы, согласно которой Бог, приступая к
творению, сжимается и вбирает себя внутрь себя, чтобы освободить
место для сотворенного мира. К этому же образу прибегал
и Ф. Розенцвейг, чтобы подчеркнуть важнейшую для него мысль
о том, что человек и мир, как диалогические партнеры Бога - это
отдельные, самостоятельные сущности.
Выше мы комментировали левинасовское выражение «бого-
явленность Лица», пытаясь объяснить, почему речь идет о
богоявлении Лица Другого человека, а не Бога. Определенным
образом это связано и с кругом идей, раскрывающихся в понятии
«отделения». Человек остается «отделенным», т. е.
самостоятельным и свободным существом. Бог не уничтожает эту его свободу
и самостоятельность, явившись ему непосредственно во всем
своем величии и как бы «раздавив» его этим.
Поскольку без отделения невозможна ответственность, то, как
объясняет Левинас, отделение с необходимостью возникает из
морального опыта: то, чего я требую от себя, несопоставимо с тем,
чего я вправе требовать от другого. Тем самым «интериорное»
оказывается необходимым условием встречи и признания «экстериор-
ного». Более подробное раскрытие плана интериорности в учении
Левинаса сначала заставляет думать о возвращении к
традиционной трактовке субъекта. «Отделение Самотождественного
происходит в виде внутренней жизни, психики» (Левинас Э., 2000. С. 90).
Отделение осуществляется мышлением, которое постулирует свою
автономию: «cogito, несмотря на поддержку, которую оно пост
фактум обретает в превосходящем его абсолюте, удерживает в
одиночестве, своими силами - хотя бы и на мгновения - пространство
cogito» (Там же. С. 91). Итак, субъект классической философии
появляется - но только на мгновение. Если декартовское cogito было
чистым мышлением, независимым от материи, то исследование
интериорности у Левинаса превращается в феноменологию
телесного, материального бытия человека. Тем самым делается еще один
важный шаг в преодолении классической концепции субъекта.
246
Субъект живет пищей, воздухом, работой и другим
необходимым для человека. Он нуждается в пище и крове и живет,
наслаждаясь всем этим и жизнью: «Отделение, или самость, изначально
возникает в наслаждении счастьем... в этом наслаждении
отдельное бытие утверждает свою независимость, которая ни
диалектически, ни логически ничем не обязана Другому...» (Там же. С. 95)
«Мы дышим, чтобы дышать; едим и пьем, чтобы есть и пить;
учимся, чтобы удовлетворить наше любопытство; гуляем, чтобы
гулять. Все это - не для того, чтобы жить. Все это и значит жить.
Жить - это откровенность. Мир - в противоположность тому,
что миром не является, - это мир, где мы живем, гуляем, обедаем
и ужинаем, ходим в гости, посещаем школу, беседуем, ставим
опыты и занимаемся исследованиями, пишем и читаем книги
<...>. Быть в мире значит... откровенно идти к желаемому,
принимая его за то, что оно есть» (Левинас Э., 2000. С. 25-26).
Отношение к Другому - это доброта и дарение; это
гостеприимство. Но чтобы иметь, что дарить, «Я» должно само
обустроиться в мире. Иметь жилище, иметь, где быть «у себя». Иначе
как «Я» могло бы оказать гостеприимство Другому? Значимость
жилища для человеческого существования становится у Левинаса
одной из важнейших тем его феноменологического описания
человеческого бытия: «Не все, данное в мире - инструмент, -
пишет он, и мы опять можем расслышать тут полемику с Хайдегге-
ром. - Для интендантской службы пища - это довольствие; дома,
укрытие - "казарма". Для солдата хлеб, гимнастерка, койка - не
материальная часть. Они не с "целью", но цели. Формулировка
"дом - средство жительства" совершенно неправильна; во
всяком случае, она не учитывает того исключительного места,
которое ощущение "у себя дома" занимает в жизни человека,
принадлежащего к оседлой цивилизации, того, что всяк хозяин в своем
доме...» (Левинас Э., 2000. С. 24-25).
Очень важно понять, что описание телесного существования
человека не есть новый вариант философии здравого смысла.
Напротив, Левинас ищет тут новые виды опыта и способы пола-
гания предметности, развивая при этом феноменологический
подход. Он разрабатывает феноменологию опыта, которая
в самом этом опыте обнаруживает свидетельства
несамодостаточности субъекта. Опыт телесности в ее разнообразных
проявлениях постоянно указывает на другое. Возьмем хотя бы пищу,
в которой человек нуждается и которая поэтому никак не может
быть лишь его представлением. Пища должна быть экстериор-
247
ной, чтобы у человека была потребность в ней. Не является ли
тема пищи в феноменологии Левинаса некоторым
приземленным (зато и более очевидным) аналогом речи как того, что
приходит извне и взывает к субъекту?
Недаром Левинас подчеркивает, что интенциональность
наслаждения противоположна интенциональности
представления. Здесь движение конституирования меняет свое
направление. Если объект представления может рассматриваться как
конституированный актом представления, то объект
наслаждения, напротив, и полагается не как конституированный, а как
внешний, экстериорный по отношению к субъекту. Субъект
живет пищей, и она становится условием его существования.
Интенциональность наслаждения связана с полаганием тела как
центра наслаждения. А полагание тела - не есть ли
одновременно полагание границы моего «Я» и того, что экстериорно по
отношению ко мне? И одновременно - полагание неразрывной связи
моей интериорности с экстериорностью? Поэтому возможность
наслаждаться пищей, уютом своего жилья, интересной работой,
отдыхом и всем другим, что составляет нашу жизнь, с одной
стороны, задает сферу интериорности субъекта, его «у себя», но она
же, с другой стороны, указывает на размыкание этой сферы, на
мир, окружающий субъекта и включающий его в себя.
Рассмотрение субъективности в аспекте ее телесности
представляет одно из открытий постмодернистской философии. Тем
самым она осуществляет детрансцендентализацию субъекта.
Именно это делает и Левинас. У него не может быть и речи о
дуализме души и тела. Субъект един и неразделен со своим телом.
Благодаря этому идея радикальной конечности субъекта обретает
новые грани, коль скоро субъект нуждается в пище и крыше над
головой. Говоря о Левинасе, хочется обратить внимание на ясную
и теплую тональность его феноменологии телесного бытия. Здесь
нет ни морализаторства, ни признаков неловкости за телесную
приземленность субъекта. Нет также нервозности и
беспокойства, хотя тема сексуальности тоже не осталась без внимания.
Впрочем, Левинас предпочитает говорить не о сексе, а об эросе
(см.: Левинас Э., 2000. С. 246-266). Феноменологический анализ
эроса знаменует новое развитие понятия субъекта, связанное
с введением понятия «плодовитости».
248
Метафизическое желание, плодовитость и история
как время Другого
Хайдеггеровское Dasein, как известно, не имело ни пола, ни
семьи. В этом, на наш взгляд, проявляется его преемственная
связь с классическим философским субъектом. В отличие от него
субъект, о котором говорит философия Левинаса, обладает полом
и плодовитостью. Он становится отцом1. При этом тема
несамодостаточности субъекта, его открытости другим и Другому
получается свое завершение и разрешение. «Плодовитость должна
выступать в качестве онтологической категории», -
подчеркивает Левинас (Левинас Э., 2000. С. 265).
Да, субъект несамодостаточен, неавтономен, конечен. Однако
Левинас отказывается описывать его земной путь как бытие-
к-смерти. Не существует для него и чаяния личного бессмертия.
«Жизнь, - говорит он, - протекает в собственном измерении, где
она имеет смысл и где может иметь смысл победа над смертью. Эта
победа не есть новая возможность, открывающаяся после конца
всех возможностей, она - воскрешение в сыне, объемлющее
разрыв, произведенный смертью. Смерть - удушье, вызванное
невозможностью возможного, - прокладывает путь к потомкам...
Отдельного бытия не могло бы быть, если бы время Одного могло
проникать во время Другого» (Левинас Э., 2000. С. 93).
«Отношение к такого рода будущему (т. е. будущему ребенку),
несводимое к господству над возможностью, мы называем плодо
витостью» (Там же. С. 258). О каком господстве идет речь? По-
видимому, имеется в виду хайдеггеровская временная структура
Dasein, согласно которой Dasein набрасывает себя в отношении
своих возможностей, бытийствует как собственный проект.
Собственный, подчеркнем это. И так, экстатично набрасывая себя
в отношении своих возможностей, Dasein отвечает на самую не-
Особая «политкорректность» наших дней требует избегать выражений, прямо
указывающих на мужской пол. Это грозит обвинением в «мужском шовинизме».
Левинас ничего не делает, чтобы избежать подобных обвинений. Вот и в данном
случае речь идет только об отце и сыне. Может быть, его иудаизм делает его таким
консервативным. Но, возможно, он просто более искренен и описывает свой
опыт, свое переживание.
В то же время надо упомянуть, что Левинас, во-первых, решительно
отказывается рассматривать отца как начало власти («Моя связь с ребенком не может
быть описана ни в категориях власти, ни в категориях знания. Плодовитость "Я"
не является ни причиной, ни господством» - Левинас Э., 2000. С. 265), а
во-вторых, в работе «Иначе, чем бытие, или По ту сторону сущности» он описывает
опыт существования «для Другого» как материнство.
249
обходимую и свою возможность смерти: перед ее лицом он
утверждает себя, утверждая свою власть над временем в
возможности быть проектом, т. е. быть большим, чем он есть.
Левинас же предлагает совершенно иное понимание связи
человеческого бытия со временем. В ситуации отцовства
возвращение «Я» к себе самому, соответствующее классической
концепции самотождественного субъекта, модифицируется. Субъект
не возвращается к себе: он продолжается в своем ребенке.
«Отцовство есть отношение с чужим, который, будучи другим...
есть я... В этом "я есть" бытие не является более единством,
о котором говорят элеаты. В самом существовании заключены
множественность и трансценденция. Трансцендируя, я не
выхожу за собственные пределы, поскольку сын - это не я; и в то же
время я есмь мой сын. Плодовитость "Я" - это сама его транс •
ценденция» (Там же. С. 265-266)1.
Плодовитость выступает при этом как полное выражение
и осуществление метафизического желания. «Трансценденция -
это время, она движется по направлению к Другому. Но Другой не
является ее завершением: он не останавливает движение
Желания. Другой, которого желает Желание, он тоже - Желание;
трансценденция трансцендирует по направлению к тому, кто
трансцендирует, - таково настоящее событие отцовства в
транссубстанциальности, позволяющее превзойти простое обновление
возможного при неизбежном старении субъекта. <...>
Плодовитость, порождая плодовитость, осуществляет доброту, - по ту
сторону жертвы, предполагающей дар... Здесь осуществляется
Желание, которое мы... противопоставили потребности,
Желание, не являющееся нехваткой, Желание, которое есть
независимость отдельного бытия и его трансценденция...» (Там же. С. 260)
Здесь, возможно, потребуется комментарий. Ведь выше речь
шла о том, что метафизическое желание обращено на радикально
Иное. И вдруг все кончается на собственном потомстве! Выше
говорилось о том, что Другой - это Чужестранец, а теперь им
оказывается собственный сын. Не обманул ли Левинас наших
ожиданий, начав говорить о этической обязанности принятия
Другого во всей его друговости и закончив событием отцовства?
Левинас опять дает повод для феминистской критики. Почему сын, а не дочь?
Т.В. Щитцова справедливо замечает, что описание отношения «отец-дочь»
вносило бы ненужное усложнение, отвлекающее от главной мысли (Щитцова Т.В.,
2006. С. 315-316). Но в то же время не упустим из виду, что отец обучает сына,
тогда как дочь по большей части учится у матери.
250
Нет. Если собственный сын оказывается Другим, то отсюда не
следует, что Другой, которого надо принять во всей его друговос-
ти, - это ближайший родственник. Тексты Левинаса говорят об
этом самым недвусмысленным образом, и ниже мы будет
анализировать некоторые из них.
Однако собственный сын - это тоже Другой, принять которого
во всей его друговости ох как нелегко! Иногда даже труднее, чем
чужестранца. При этом тема Сына как Другого открывает
важнейшую грань человеческого бытия и его связи со временем. Она
одновременно указывает на ограниченность и конечность
субъекта и открывает измерение будущего обновления. Будущее, т. е.
время потомков, не было бы подлинным будущим, если бы оно не
было другим по отношению к настоящему, т. е. моему времени.
Рождение новых поколений открывает возможность
обновления, т. е. свободы и прощения: «Парадокс прощения греха
отсылает к прощению как к тому, что конституирует само время» (Там
же. С. 269). Парадокс прощения состоит в том, что, с одной
стороны, простить грех невозможно. Нельзя простить страдание
невинной жертвы; этого не может даже Бог. Однако, благодаря
тому, что время прерывно, что за временем одного поколения
приходит время другого, во времени и истории есть обновление.
Левинас, говоря о бесконечности времени как о времени, в
котором жизнь отца продолжается в жизни сына, прямо говорит, что
«новизна весен, расцветающих в лоне мгновения ... уже
отягощена всеми прожитыми в прошлом веснами. Подспудная работа
времени освобождает от этого прошлого, осуществляющегося в
субъекте, когда тот порывает со своим отцом» (Левинас Э., 2000.
С. 270). Сын порывает с прошлым в силу собственной самости:
«Специфика такого возобновления непрерывности проявляется
в бунте или перманентной революции, лежащей в основании
самости» (Там же. С. 266). Только так история может
продолжаться, не погребенная под чудовищным грузом вины и страданий.
Человеческое Я, в отличие от классического философского
субъекта и хайде ггеровского Dasein, имеет свое продолжение
в следующих поколениях. Такова структура истории, которая
непосредственно коренится в фундаментальных условиях
человеческого существования. «Человеческая личность - это сама
потребность во времени как чудесной плодотворности в то самое
мгновение, когда оно возобновляется как другое» (Там же. С. 58).
Благодаря этому для человека имеет смысл то, что будет после
его смерти. Он бытийствует не к-своей-смерти, а к тому, что
251
будет после нее: «Будущее, ради которого свершается деяние,
должно заранее полагаться как безразличное к моей смерти.
Деяние, отличающееся от игры и расчета одновременно, это
бытие-к-по-ту-сторону-моей-смерти. Терпение заключается для
действующего лица не в том, чтобы обмануть щедрость, обретая
время личного бессмертия. Отказаться быть свидетелем триумфа
своего творения значит одержать эту победу во времени без меня,
быть направленным на этот мир без меня, на время за горизонтом
моего времени. Эсхатология без надежды для себя, или
освобождение от моего времени. Бытие для времени без меня, бытие для
времени после моего времени, для будущего по ту сторону
знаменитого «бытия-к-смерти», бытие-к-после-моей-смерти .... Это ...
переход к времени Другого. Следует ли называть вечностью то,
что делает такой переход возможным?» (Левинас Э., 2000. С. 313).
Таким образом, будущее существует для конечного, «детран-
цендентализированного» субъекта, т. е. человека как телесного
существа. Однако надо подчеркнуть, что описанную Левинасом
диалектику «я» и «не я» («сын - это не я; и в то же время я есть
мой сын») делает возможной не биологическая связь отца с
сыном. В самом деле, сколь часто диктуемое животным эгоизмом
стремление человека сделать свое дитя своим повторением
приводило к фрустрации. Субъект находит продолжение в ребенке
в той мере, в какой он способен освободиться от власти слепого
эгоизма и услышать зов метафизического желания. Но и ребенок
является продолжением родителя, поскольку перед ним стоит та
же задача транценсденции. Таким образом, их объединяет не
генетика. Левинас, как и Розенцвейг, говорит не о простых
биологических отношениях воспроизводства. Продолжение рода
становится условием причастности настоящего к вечности
только тогда, когда отец имеет, что передать сыну: сокровищницу
этики, традиции, культуры, которые утверждают это измерение
должного. Только в нем, собственно, и происходит то, что «Я»
отца обновляется и продолжается в сыне, а история получает
возможность обновления и даже прощения. Речь идет о том, чтобы
в обновлении поколений сохранялся, а не стирался «след
Абсолютного».
ГЛАВА 6. «ВСТРЕЧА С ДРУГИМ» В ТАЛМУДИЧЕСКИХ
ЛЕКЦИЯХ Э. ЛЕВИНАСА
Талмудические интерпретации, феноменология
и герменевтический метод
Существенным элементом творческой деятельности Левинаса
были талмудические комментарии, которые он на протяжении
многих лет готовил для Коллоквиумов франкоязычных
еврейских интеллектуалов, а позднее стал издавать отдельными
сборниками. В талмудических лекциях Левинас нашел очень
органичный материал для иллюстрации своей философии,
утверждающей приятие Другого сверх всех возможностей: тексты
традиции, другой для ведущей европейской; той другой
традиции, которую европейской до конца XX века было труднее всего
переварить и признать наряду с собой, ибо она по определению
должна быть «преодоленной и снятой».
Являются ли его талмудические лекции иллюстрацией
основных положений его этической метафизики? Если так, то надо
признать в этом ход, весьма соответствующий современному
постмодернистскому философскому стилю. В самом деле, сейчас фань
между собственно философским и литературоведческим
комментаторским текстом практически стерлась. Использование
литературных произведений для иллюстрации своих философских идей
весьма распространено, особенно во французской философии.
Левинас и сам использует такой способ, например, в эссе «Любить
Тору больше, чем Бога» (Левинас Э., 2004. С. 445-449).
Этот момент безусловно присутствует в талмудических
лекциях Левинаса, но им не исчерпывается значение талмудических
интерпретаций для его философского творчества. Связь того
и другого является еще более тесной. Левинас пользуется в своем
философском творчестве своеобразным феноменологическим
методом. Как мы уже говорили, он увидел в этом методе
возможность свободного описания опыта, не скованного дедуктивными
253
схемами перехода от одной мысли к другой. Не эту ли свободу он
так ценит в Мидрашах? Свободный и раскованный, Мидраш
уберегает от абстрактных конструкций «с их всегда преждевременной
жесткостью и ясностью» (Левинас Э., 2004. С. 411); зато когда
мысль уплотняется в примеры, сохраняются те возможности,
которые утрачивает понятие (Левинас Э., 2004. С. 345).
«Свободная форма Талмуда - отнюдь не проявление беспорядочной
хаотичности, присущей компиляциям, как часто думают склонные
к поспешным суждениям профаны. То непрестанное кипение,
в какое погружается читатель Талмуда, есть выражение способа
мышления, не поддающегося схематизации - всегда
преждевременной - своего объекта. Раввинистический комментарий в
конечном счете разбивает и распыляет то, что еще в начале дискуссии
казалось прочным и устойчивым. Разум, которому не дает покоя
невыявленное, прослеживает реальность во множестве подходов,
удерживая неисчислимые аспекты мира. Никакой простой
диалектический ритм не способен промерить эту разбухающую
множественность, играющую пространством, временем, историческими
перспективами. Более того, эти тексты невозможно отделить от
живого исследования, в котором отзывается и резонирует этот
обескураживающий динамизм» (Левинас Э., 2004. С. 579).
Мысль Левинаса ищет все большей свободы выражения,
потому что содержание, которое он хочет передать, никак не
вмещается в философские понятия. И даже феноменологический
язык и метод, как говорилось выше, в самом принципиальном
пункте становятся неадекватными1. Зато когда Левинас
обращается к талмудическим текстам, все оказывается просто и даже
буднично. Наверное, это не случайно. В самом деле, не
выражается ли приятие Другого в простых и будничных вещах? Такие
вещи и обсуждают талмудические мудрецы. Когда Левинас
следует за их рассуждениями, его язык становится конкретным, у него
находятся поводы высказаться по актуальным проблемам
современности, подчас достаточно язвительно.
В Талмуде Левинас ценит постоянные усилия интерпретации.
Они представляют собой очень важный духовный опыт,
заслуживающий внимания философии. В самом деле, что такое герме-
«Левинас предлагает мыслить отношение к Другому как «близость». <...> Это
отношение должно быть совершенно непосредственным... Насколько описание -
тематизация - такого отношения может быть задачей философии? Особая
сложность этой задачи и обуславливает тот особо тяжелый язык, близкий к языку апо-
фатического богословия, которым Левинас пользуется в своих поздних работах»
(Ямпольская А., 2004. С. 96).
254
невтическая деятельность, как не встреча с Другим? Не является
ли опыт герменевтических усилий опытом переживания того
«мягкого насилия», которое исходит от Другого и заставляет
принять его «во всей его друговости»? Об опыте, рождающемся в
герменевтических усилиях, размышлял Гадамер. Он показывал, что
интерпретатор, понимающий текст, сам принадлежит
определенной традиции и занимает определенное место в истории.
Поэтому он не может быть свободен от предвзятости.
Следовательно, претензия на достижение полноты понимания является
иллюзией. Герменевтические усилия, по Гадамеру, должны
сделать человека опытным, в смысле: понимающим офаниченность
их результата.
Однако ни талмудические мудрецы, ни Левинас в своих
истолкованиях не озабочиваются проблемой герменевтического
круга, который требует долгого «челночного» движения от части
текста к целому и от него обратно к частям текста.
Для Левинаса, похоже, этого круга не существует, как и
проблемы его собственной исторически обусловленной
предвзятости. Дело в том, что он уже живет в данной традиции и заранее
знает, что смысл текста является этическим,
универсально-общечеловеческим и в силу этого применимым для осмысления
проблем, мучающих современного человека. Отсутствие
озабоченности герменевтическими проблемами указывает на то, что
он выступает не как интерпретатор древних текстов, а как
человек, принявший на себя дело продолжения их традиции. Если
традиция живет, то ее содержание обогащается и
модифицируется. Левинас ищет не аутентичности интерпретации, а
подлинности жизни традиции.
Метод интерпретации, используемый Левинасом, состоит
в следующем: он исходит из того, что основное содержание
Талмуда - это извечное этическое содержание. Оно
разворачивается во «множестве подходов, удерживая неисчислимые аспекты
мира», но при этом остается все тем же. Выше мы уже приводили
слова Левинаса о том, что анахронизм есть учитель вечности.
Отражая это вечное содержание, талмудические тексты не могут
не быть актуальными для понимания любых современных
проблем. Заметим, что, пытаясь вычитать в текстах Талмуда ответы
на животрепещущие вопросы современности, Левинас поступает
вполне в духе раввинистической традиции.
Извечное этическое содержание, разумеется, является
достоянием всего человечества, и претензия на какие-то особые отно-
255
шения с ним может вызвать у читателя понятную реакцию
отторжения. Попробуем сказать несколько слов в оправдание
убеждения Левинаса, что иудаизм имеет нечто уникальное, что он может
сообщить человечеству. Евреи на протяжении веков были
народом, не имеющим государственности и территории,
соответственно, лишенным возможности решать свои проблемы
«с позиции силы», живя в окружении других народов. Они были
слабыми. Быть в роли слабого, конечно, непрестижно, однако,
по убеждению Левинаса, в этом есть безусловное этическое
преимущество: лучше быть слабым, чем насильником. (В частности,
Левинас видит в традиции иудаизма противопоставление морали
и политики, тогда как европейская мысль, по его убеждению,
склонна смешивать эти вещи и тем самым релятивизировать
безусловность этического.) Поэтому в иудаизме самой историей
вырабатывался опыт ненасильственного отношения к Другому
и рефлексия по этому поводу. Этот опыт, при всей его партику-
лярности, имеет универсальное, общечеловеческое значение. Он
необходим современной культуре, что доказывает Холокост,
а также, добавим от себя, другие современные примеры геноцида
и терроризм. Думая об этическом значении иудаизма, Левинас не
мог уйти от памяти о Холокосте. Опыт Холокоста - точка зрения
жертвы. Жертвы, но не палача!
И если современному непредвзятому читателю покажется, что
Левинас пристрастен, что он как философ должен бы выступать
более критично по отношению к собственной традиции, то не
будем забывать, что историческая ситуация не оставила ему выбо
ра. Иначе он заговорил бы в унисон с палачами своего народа.
Обращаясь к современной европейской культуре, Левинас
обращается, разумеется, к философии. Ведь именно она -
квинтэссенция культуры и ее язык. В главе 5 уже говорилось о левина-
совской критике нововременной европейской философии. Из
этой критики следует, что ей тоже нужен некий урок того
содержания, которое Левинас находит в Талмуде.
Объясняя собственный подход к талмудическим текстам,
отвечая на вопрос, является ли он комментарием или
интерпретацией, он отвечает: «Перед нами текст, который напрасно
считают средневековым. Мишна была записана к концу второго
века. <...> Один из виднейших философов нашего времени
уверял меня однажды, что к концу второго века общей эры все вещи
уже были продуманы. Остается лишь доводка деталей» (Lévi-
nas E., 1977. Р. 15). «Нам было важно в этих лекциях показать
256
катарсис и демифологизацию религиозного, совершаемые
еврейской мыслью <...>. Устная Тора1 говорит «в духе и в истине», даже
когда кажется, что она измельчает (triturer) и принижает стихи
и буквы Торы письменной. Она извлекает из них этический
смысл как последнее основание интеллигибельности
человеческого и даже космического» (Lévinas E., 1977. Р. 10).
Комментируя слова одного талмудического мудреца о
мессианских временах и той награде, которую они несут праведникам:
«Это вино, сохраняющееся в виноградных гроздьях с шестого дня
творения», Левинас объясняет: «"вино" по-еврейски называется
яин, а числовое значение этих трех букв равно 70, как и тех букв,
которые составляют слово сод - «таинство». <...> Но слово сод
в талмудической символике обозначает последний смысл
Писания - тот, к которому приходят после рассмотрения
буквального смысла (пшат), восхождения к аллюзивному смыслу
(ремез) и достижения символического смысла (драш). Но вот что
удивительно: истинное таинство содержится в изначальной
простоте, более простой, чем буквальный смысл. Только
изначальный смысл, в его нетронутой простоте, вверится праведникам
в будущем мире, когда минует история. Значит, для этого нужно
время и нужна история. Первичный, «старше» первого, смысл
есть будущий смысл. Нужно пройти через толкование, чтобы
обходиться без толкований» (Левинас Э., 2004. С. 378).
Итак, самый глубокий смысл прост. Не есть ли это урок для
философии, не должна ли она, в конце концов, говорить об очень
простых вещах? В то же время философия не может начать с того,
чтобы говорить о них. Простота приходит как итог. И философия
должна была стать трансцендентальной, потом приняться за
«детрансцендентализацию субъекта», найти язык для выражения
его конечности, смертности, открытости Другому. Тем самым
Талмуд в изображении Левинаса несет в себе задачу для
современной философии: найти язык для выражения его
универсального содержания.
В то же время интерпретаторская деятельность Левинаса
свидетельствует о том, что и Талмуд, для поддержания жизненности
Согласно еврейской традиции, на горе Синай Бог через Моисея дал
Откровение в письменной форме (Письменная Тора, т. е. Пятикнижие Моисеево) и в
устной (Устная Тора). В иудаизме утверждается, что талмудические интерпретации
опираются на это переданное через поколения устное учение. Поэтому, говоря об
Устной Торе, Левинас подразумевает Талмуд.
Мишна (букв, «повторение») - свод комментариев к Письменной Торе,
записанный в III веке н. э. и составивший основу Талмуда.
257
традиции иудаизма, должен быть переведен на язык современной
философии, чтобы доказать общечеловеческое значение своего
содержания.
Речь идет, таким образом, о встрече лицом к лицу
партикулярного в лице иудейской учености и универсального в лице
европейской философии.
Своими талмудическими лекциями Левинас, продолжая
Когена, стремится доказать, что иудаизм - это этический
монотеизм. Тем самым он требует признать, что иудаизм жив и его
особый путь к Богу не утратил актуальности. В каком смысле? При
ответе на этот вопрос сплетаются в один узел и тема суда над
историей, и тема Другого как жертвы, и тема анахронизма как
вечности. Если иудаизм имеет этическое содержание, значит, он не
может устареть, он несет в себе вневременные ценности, которые
одни только и придают смысл человеческой истории. Важно уметь
распознать и признать эти ценности, даже когда они принадлежат
Другому. Такой вызов бросает Левинас современной
западноевропейской культуре своими талмудическими лекциями.
Партикулярное и универсальное. Афины и Израиль
Талмудические лекции должны были показать давно
ассимилированным евреям, в большинстве своем уже плохо себе
представляющим иудаизм, наследниками чего они призваны быть.
Тем не менее для философа, главной темой жизни и творчества
которого была встреча с Другим и диалог, эти лекции имели
и другое значение. Мы попытаемся показать это, используя
в качестве путеводной нити лекцию «Перевод Писания»,
прочитанную в 1982 г. на XXIII Коллоквиуме, посвященном теме
«Израиль, иудаизм и Европа».
Левинас знакомит слушателей с тем, что говорится в Талмуде
о переводе Писания на другие языки. Перевод: не есть ли это
готовность к встрече с Другим? Итак, как же обсуждается эта
проблема в Талмуде? Можно или нет переводить Писание на другие
языки? Проблема ставится таким образом: уничтожает ли
перевод сакральный характер текста? Фактически обсуждается вопрос
о том, является ли содержание Писания универсальным,
общечеловеческим, или же оно принадлежит только иудеям.
Обсуждается, таким образом, проблема партикулярного и
универсального. Ее можно обозначить двумя емкими символами: Израиль
и Афины. Тема эта чрезвычайно важна для Левинаса, непроста
и неоднозначна. «Афины», «греческое» — это начало рационализ-
258
ма и универсализма. Оно воплотилось в европейской
философии, в идеалах Просвещения и вообще во всем том, что часто
собирательно называют «Европа», «Запад». Левинас сам подчас
жестко противопоставляет Израиль и Афины (или Европу) и
адресует последним немало резких слов. Нередко он использует эти
слова-символы, «западное», «греческое»,1 для обозначения того,
что он не принимает — философии тотальности, отождествления
политики и справедливости и т. п. И Деррида не случайно
говорит, что «мысль (Левинаса) призывает нас к размещению
(разрушению места), разъятию греческого логоса; к перемещению
нашей идентичности и идентичности вообще; эта мысль
призывает нас уйти из греческой местности и, может быть, из места
вообще, уйти к тому, что уже не есть более ни источник, ни
местность... уйти к дыханию, к дуновению пророческого слова,
звучавшего не только прежде Платона, не только прежде досократи-
ков, но и вне всего греческого...» (Левинас Э., 2000. С. 371).
Но тут может возникнуть вопрос, не означает ли это, что
Левинас тоже конструирует для себя Другого - Запад, вкладывая
в него все то, что для него нежелательно, и отнюдь не собирается
принимать этого Другого «во всей его друговости»? Для того
чтобы ответить на подобный вопрос, мы и хотим остановиться на
том, как интерпретируется Левинасом тема «перевода».
Текст любой талмудической лекции Левинаса начинается
с подборки фрагментов Талмуда, касающихся выбранного им
вопроса. Всякий раз в этой подборке мы видим дискуссию,
повороты и аргументы которой представляются на первый взгляд
весьма причудливыми и рационально необъяснимыми. Что
касается проблемы перевода, и тут мы видим разнообразие мнений.
Левинас цитирует Мишну (более древняя часть Талмуда), где
говорится: «Между (священными) книгами и тфилин и мезузот2
есть только одна разница: книги пишутся на всех языках, тогда
Ср., например: «Но судьба философии и логики Запада именно в том, чтобы
осознать себя условием политики - яо такой степени, что полнота выражения
истины и полнота утверждения (через войны и революции) универсального
государства совпадают» (Левинас Э., 2004. С. 404). Или: «Западная философия
тождественна раскрытию Другого, при котором Другой, проявляясь в качестве бытия,
утрачивает инаковость. Начиная с истоков, философия охвачена ужасом,
непреодолимой аллергией по отношению к Другому, остающемуся Другим» (Левинас Э.,
2000. С. 310).
Мезуза - заключенные в футляр фрагменты Писания - Второзаконие 6:4-9
и 11:13-21, - которые прикрепляют к косякам дверей; тфилин - две черные
коробочки, содержащие внутри фрагменты Писания - названные места из
259
кактфилин и мезузот только "по ассирийски" (на иврите). Рабби
Шимон бен Гамлиэль говорит: но и для (священных) книг, они
(учителя) разрешали (перевод) только на греческий». Левинас
приводит также содержащиеся в Талмуде (Гемара) комментарии
на этот пассаж, пытающиеся примирить данное противоречие
и выяснить: так на все языки или только на греческий можно
переводить Писание? При этом выясняется, что существует
мнение, также освященное традицией, что перевод невозможен,
поскольку в сакральном тексте нельзя изменять даже буквы. Даже
то, что написано на арамейском, должно остаться на арамейском,
а то, что написано на классическом иврите, должно остаться
написанным на этом языке.
Комментарий Левинаса следует за этим обсуждением. Он
построен в свободной манере, которая, не принуждая Левинаса
к тому, чтобы выбрать какую-то одну позицию, позволяет из
каждой извлекать некий урок. Лекция как целое окажется, таким
образом, набором неких уроков. Соединяются ли они в какое-то
концептуальное единство? В единство - да, только оно
оказывается не концептуальным, а экзистенциальным. В самом деле: два
логически несовместимых высказывания нельзя объединить
в одно концептуальное целое. Но два несовместимых поучения
(например: «При общении с ребенком надо добиваться
выполнения своих требований последовательно и настойчиво» и «При
общении с ребенком необходима гибкость и незацикленность»)
объединяет в одно целое то, что жизнь постоянно требует учета
как одного, так и другого.
Комментарий Левинаса к данным фрагментам Талмуда
показывает, что он серьезно прислушивается к мнениям, так или
иначе ограничивающим возможность перевода священного
текста, и хочет преподать слушателям уроки, которые он из них
извлекает. Одно из высказанных в комментируемом тексте
мнений гласит, что запрет на перевод касается только предметов
культа: тфилин и мезузот. Именно они должны оставаться всегда
неизменными. Такова связанная с ними заповедь. Поэтому
перевод уничтожит их в качестве священного текста. Левинас видит
в этих рассуждениях «хороший повод провести различение
культа и культуры. Книги сохраняют свое значение на всех языках.
Нужно отличать их от сферы неизменяемого, предельного,
интимного. Нужен неизменяемый иудаизм Синагоги наряду
Второзакония и Исход 13:1-10 и 13:11-16, - которые полагается определенным
образом повязывать на левую руку и на лоб для утренней молитвы.
260
с духовной культурой, открытой всем языкам, наряду с еврейской
литературой. Неизменяемый иудаизм культа и иудаизм, открытый
современности» (Lévinas E., 1988. Р. 54-55). Из этого пассажа
можно заключить, что для Левинаса, как и, например, для
Мендельсона, есть общечеловеческое нравственное содержание
иудаизма, но есть и культ, составляющий специфическую
обязанность иудеев. Одна сторона и другая сторона: но как они связаны
между собой? Вопрос стоит, как мы показывали выше, со времен
Спинозы и Мендельсона. Вопрос, ответ на который так или иначе
предполагал определенную концепцию истории и прогресса. Для
Левинаса, две стороны медали - универсализм и партикуляризм -
связаны сущностным образом, поскольку культ есть принятая на
себя обязанность. Левинас смотрит на ритуалы иудаизма как на
обязанность, требующую большой внутренней дисциплины. А без
умения брать на себя обязанность, без понимания, что свою
обязанность нельзя переложить ни на кого другого, не может быть
и универсального духовного содержания1.
Впрочем, обсуждение не останавливается на этом как на
последнем слове. Тема непереводимого содержания иудаизма
немедленно получает продолжение. Встает вопрос о том, что
в тфилин и мезузот нет вообще никаких арамейских слов.
Значит, когда утверждалось, что нельзя заменить арамейские
буквы на буквы ивритские и наоборот, не нарушив святости
текста, то имелось в виду что-то иное. Поэтому в Талмуде
высказывается следующее предположение: нельзя переводить книгу
Эсфири, ибо именно в ней среди текста вставлено несколько
арамейских выражений. А все остальные книги Писания переводить
можно. Но каков смысл такого ограничения? Левинас дает
следующее объяснение: «Я, с моей стороны, думаю, что Книга
Отвечает ли это на вопрос, на который пытался ответить Мендельсон: зачем
все-таки эти древние и предписанные одному народу ритуалы? Левинас тоже
задается по этому поводу риторическим вопросом: «Такая свобода - и такие
дремучие обычаи! Так много свободы - и так мало "духовности". Какой
чудовищный, ископаемый анахронизм!.. Но израильские мудрецы сознавали этот
парадокс, настаивали на нем. Выходя из Египта, повествует один мидраш,
израильтяне несли в ковчеге через пустыню останки Иосифа рядом с ковчегом Того, Кто
жив вечно. Прохожие удивлялись: что значат эти два ковчега в пустыне? <...>
"зачем нести фоб покойника рядом с ковчегом Того, Кто жив вечно?" И вот что
им отвечали: "Тот, кто покоится во фобе, исполнил всё, записанное на Таблицах,
которые покоятся в ковчеге Того, Кто жив вечно". Вы понимаете, что это значит?
Живой Бог может быть со свободными людьми, идущими через пустыню, лишь
при условии, что мумия того, кто неуклонно повиновался, находится рядом
с ним» (Левинас Э., 2004. С. 369).
261
Эсфири является единственной книгой Библии, уникальной тем,
что драма, о которой она повествует, разыгрывается в рассеянии
среди народов; это единственная книга диаспоры. Среди
народов! А не в интимной связи между Богом и Израилем... Книга
Эсфири, книга о преследовании, об антисемитизме, <...>
Страдания преследований и антисемитизма могут быть
рассказаны только на языке жертвы....» (Ibid. P. 56). «В мезузот и тфи-
лин - прибежище Синагоги. Здесь, в Книге Эсфири, -
преследование. Это непереводимо на другие языки. Не является ли само
слово "Холокост" слишком греческим, чтобы выразить Страсти?
Имя Божие не произносится в книге Эсфири. Но именно здесь
его присутствие выражается в Его отсутствии, помимо всякого
именования» (Ibid. P. 57).
Но и это не становится последним словом в обсуждении темы
перевода священных книг иудаизма. Левинас только замечает,
что такая попытка примирить разные утверждения,
унаследованные от традиции, в Талмуде не отвергается, но и не утверждается.
Рассуждение движется дальше. Левинас комментирует
фрагменты, посвященные тезису, что Писание можно переводить только
на греческий язык, и извлекает из них вопрос: каково то особое,
исключительное отношение между библейской и греческой
мудростью?
Отправной точкой для обсуждения этого поворота темы
становится фрагмент Талмуда, в котором повествуется о том, как
царь Птолемей собрал семьдесят два древних мудреца,
изолировал их друг от друга и затем посетил каждого, сказав: «Переведите
мне Тору Моисея, учителя вашего». Тогда Господь вдохновил их,
и они, хоть и не могли общаться друг с другом, все внесли в свои
переводы одинаковые коррективы, например написав: «И он
закончил в шестой день и отдыхал на седьмой» (а не «И он
закончил на седьмой день» (ср.: Быт. 2:2). Комментируя это предание,
Левинас обращает внимание но то, что, хотя в талмудическом
тексте перечисляется шестнадцать правок, но в реальной
Септуагинте обнаруживаются только четыре. Среди очевидных
мотивов перечисляемых изменений текста присутствует, прежде
всего стремление элиминировать все, что могло бы навести на
мысль о множественности Божественного начала; ряд изменений
был продиктован соображениями политкорректности.
Очевидно, что, отходя от буквального значения текста,
семьдесят два мудреца стремились передать то, что, по их убеждению,
и было точным смыслом текста. Они убирали то, что могло бы
262
породить у читателя, не знакомого с традицией, неверное
понимание. То, что их вдохновил на корректуру сам Господь,
означает, очевидно, легитимацию права переводчика на свободное
обращение с буквой текста ради более адекватной передачи его
смысла. Заметим, что изданной притчи следует, что Господь учел
аудиторию, которой предназначался перевод, и тем самым
показал, что понятие «адекватного перевода» должно определяться
относительно аудитории, которая будет понимать смысл
переведенного текста.
Левинас извлекает из этой притчи ту мораль, что и в
Пятикнижии не все переводимо, ибо понимание текста недостижимо без
приобщения к традиции его истолкования. Эту традицию задает
Талмуд и развивается дальнейшая раввинистическая литература.
Снова мы наталкиваемся на ограничения! Снова
партикуляризм! Но не будем спешить. Ибо из того же эпизода Левинас
извлекает и следующую мораль: «Библию можно переводить
только на греческий; и, может быть, на греческий ее надо
переводить» (Ibid. P. 63). Итак, Пятикнижие Моисеево надо переводить
на греческий язык. Священная книга иудаизма нуждается в этом.
«Представить Писание греческому читателю, чья философия
и чей язык открывают нам, помимо своего словаря и грамматики,
другое чудо духа: язык рациональности (intelligence) и
непредвзятого рационализма (intelligibilité), становится для Торы
необходимым испытанием. Оно принадлежит самому приключению Духа,
чтобы ему не утратить ни одного из его сущностных
призваний» (Ibid. P. 62). Почему? Несколькими строками выше Левинас
говорил, что чтение Писания в иудаизме, является, конечно,
предвзятым: оно предполагает определенную традицию
интерпретации - «Устную Тору». В этой предвзятости проявляется не
какая-нибудь историческая случайность, но «сущностная
возможность Духа, одно из его призваний. <...> причем предвзятое
чтение означает здесь не стерильность догматических
предрассудков, но шансы и риски мысли, трансцендирующей данность»
(Ibid. P. 62). В этой «предвзятости» Левинас видит след,
оставленный Откровением в мысли. И тем не менее, оказывается, такое
прочтение нуждается в том, чтобы быть «переведенным на
греческий», на язык непредвзятой рациональности.
Думается, здесь Левинас обозначил не только свое понимание
иудаизма, но и ту проблему, которая стояла перед ним как
верующим иудеем и одновременно европейским философом.
Пятикнижие Моисеево нуждается в «переводе на греческий».
263
Иудаизм нуждается в том, чтобы быть явленным европейскому
духу. Встреча и диалог должны состояться. Это принадлежит
самому духовному развитию. Поэтому мы не можем согласиться
с Деррида, что «эта мысль (т. е. мысль Левинаса) призывает нас
уйти из греческой местности» (Левинас Э., 2000. С. 371).
Рефлексия Левинаса следует далее за талмудическим
обсуждением стиха Писания: «Да распространит Бог Иафета; и да
вселится он в шатрах Симовых» (Быт. 9:27). Этот стих приводился
мудрецами Талмуда в подтверждение тезиса, что Писание можно
переводить только на греческий. «И да вселится он» они
интерпретировали как «И да вселится язык Иафета». Но откуда
следует, что под «языком Иафета» надо понимать именно греческий?
Талмуд обосновывает это этимологически, связывая
употребленный в Писании глагол с корнем слова, обозначающего красоту.
А самое красивое в потомстве Иафета, говорится в Талмуде, это
греческий. Поэтому данный стих Писания истолковывается как:
«И да вселится греческий язык в шатрах Симовых». Тем самым,
подытоживает Левинас, здесь безусловно признается
достоинство греческого гения и значение греческой ясности, т. е.
красоты, для мудрости Сима.
Однако разве Талмуд всегда так безусловно признает
греческий гений? Разве не сказано в Талмуде: «Проклят будь человек,
который выучил своего сына греческой мудрости»? Но в Талмуде,
объясняет Левинас, делается и возражение против данного
проклятия. Там приводятся слова весьма авторитетного учителя,
говорившего: «Пусть на земле Израиля будет либо иврит, либо
греческий». Как же тогда нам все это понимать? Как же
относится Израиль к Афинам? В Талмуде дается такое объяснение:
«Нужно различать греческий язык и греческую мудрость». Это -
ключ к пониманию того урока, который хотел преподать своим
слушателям Левинас. В данном тексте он не объясняет, что
подразумевается под «греческой мудростью», но ответ достаточно
ясен. Это и есть та самая постоянно критикуемая им
философская традиция, для которой Иное - всего лишь деградация
Единого, подлежащая преодолению. Что же такое тогда
«греческий язык»? Это для Левинаса «порядок, ясность, метод, забота
о продвижении от простого к сложному, рациональность
(intelligibilité) и в особенности непредвзятость европейского языка, или,
по крайней мере, университетского языка, каким он должен
быть...» (Ibid. P. 64). Совокупность этих характеристик
раскрывается Левинасом и в другом ряде понятий. Красота этого языка,
264
вселение которого в шатры Сима представляется столь
желательным, состоит в том, что этот язык «расшифровывает, развеивает
мифы и освобождает от мистификаций. Он также лишает
поэтичности. Греческий язык - это проза. Это проза комментария,
экзегезы, герменевтики. Язык герменевтической интерпретации,
которая, разумеется, часто использует метафоры, но также
и освобождается от метафор, концептуализирует их, хотя это
усилие и приходится возобновлять постоянно» (Ibid. P. 65).
Итак, язык рациональной философской рефлексии должен
вселиться в шатры Сима. Собственно, сам Левинас работает над
этим, интерпретируя иудаизм как универсальное этическое
учение. А до него иудаизм и философию сближали до
отождествления Маймонид и Коген. И это не только этапы истории
иудаизма, но и страница истории философии, ибо универсальное древо
философской мысли получало новые прививки и давало новые
ветви, в которых уже неотделимо сливались соки от самого
дерева и от привитых почек. Универсальное и партикулярное
переплетаются. Диалектика! Также и в творчестве Левинаса мы
видим, с одной стороны, переоценку европейской философии
сквозь призму иудаизма, а с другой - истолкование иудаизма
сквозь призму европейской философии.
Разумеется, иудаизм перед лицом современной европейской
культуры выступает как Другой и этим бросает вызов ее
способности «принять Другого без аллергии», т. е. ее способности
противостоять собственным тотализирующим тенденциям. Другой
в этом смысле необходим, и потому его существование
приобретает универсальное, т. е. этическое значение. Каждый из нас
имеет опыт встречи с Другим. Каждому адресован императив
неаллергического принятия Другого. Но каждый из нас является
также и Другим, вызывающим аллергию. Поэтому Другой,
парадоксальным образом, может выступать как начало
универсального, а Самотождественный - партикулярного. Вся эта диалектика
присутствует в теме «Израиля и Афин», как они
истолковываются Левинасом.
«Десакрализация и разволшебствление»
Тема демифологизации, трезвости, депоэтизации
философской рефлексии и религиозной мысли имеет для Левинаса
принципиальное значение. Он возвращается к ней не раз. Важные
размышления по этому поводу содержатся в лекции под названием
«Десакрализация и разволшебствление», которая была прочитала
265
в 1971 г. на Коллоквиуме «Евреи в десакрализованном мире». Эта
лекция была опубликована в сборнике под названием «От
сакрального к святому» (Lévinas E., 1977. Р. 82-121). Смысл
такого названия раскрывается как раз в названной лекции.
Левинас (подобно Г. Когену) защищал этическое
истолкование святости, полагая при этом, что оно составляет душу
иудаизма. Г. Коген, как мы показывали в главе 3, сводит святость
исключительно к этическому содержанию, следуя при этом
Канту и объявляя такое понимание сущностью иудаизма.
Благодаря этому, как подчеркивает Коген, устраняется
мифология. Это значит, что истинный монотеизм отказывается от
повествований о сущности, природе, истории, генеалогии Бога.
Остается Бог корреляции, то есть Бог, святость которого есть
выражение нравственного идеала. Тем самым для рационалиста
Когена, в истинном монотеизме не может быть никаких чудес,
мистики, тайных и могущественных влияний и пр., на что так
падка современная публика, считая это религиозностью.
Продолжение и развитие этих идей мы и видим у Левинаса.
Тональность его рассуждений на данные темы часто заставляет
вспомнить Кантовы «Религию в пределах только разума» и
«Критику практического разума», в которых отвергается мистика,
экзальтация и т. п. как то, что уводит от истинного, этического
содержания религии. Этический долг постигается с помощью
разума и голоса совести, без всякой экзальтации. Но в отличие от
Канта Левинас относится к факторам, затемняющим истинное
содержание религии не как к исторически обусловленным
обстоятельствам, которые могут постепенно преодолеваться
с просвещением. Для Левинаса эти факторы принадлежат
к извечным, в сущности константным, обстоятельствам
человеческого существования. Факторы эти, сплетающие плотный
покров иллюзий и видимостей, действовали в древности и не
менее действенны в современной культуре. Поэтому
талмудические мудрецы успели продумать самое существенное
относительно них. Возможно, в глазах Левинаса, они понимали в таких
вещах лучше философов Нового и Новейшего времени,
находившихся под властью «нарративов модерна», и поэтому у них есть
чему поучиться.
Святость, о которой говорит иудаизм, утверждает Левинас,
может существовать лишь в десакрализованном, разволшебств-
ленном мире. Тема «разволшебствления» заставляет нас
вспомнить о М. Вебере, хотя Левинас и не упоминает в этой лекции его
266
имя. Именно Вебер говорил о современном мире, мире
инструментальной рациональности как о «разводшебствленном». А
после Вебера масса философов, культурологов, писателей оплакали
вместе с прочими последствиями научно-технического прогресса
также и десакрализацию и разволшебствление. Из-за
рационализации общественных отношений, развития производства и
современной науки мир лишился таинственности, загадочного
очарования и всего прочего, чего жаждет душа человека, страдающая
из-за того, что мир стал слишком сухим и рациональным.
Левинас решительно занимает в этом вопросе
противоположную позицию. Сакральное, заявляет он, это сумерки, под
покровом которых расцветает колдовство, всегда внушавшее ужас
Израилю. Пусть сакрализация придает миру таинственность
и очарование, делает его манящим и волшебным. Для Левинаса
она означает допущение сил и влияний, которые не считаются со
свободой человека. Следовательно, в таком сакрализованном
и волшебном мире человек не является этически ответственным
существом.
Потому-то Левинас так настаивает на строгом разделении
понятий «сакральное» и «святое», тогда как в современной
культуре они выступают синонимами и при этом являются объектами
повышенного внимания. Издания, касающиеся сакрального
и святого, являются сейчас, можно сказать, предметами
престижного потребления.
В «Философском энциклопедическом словаре» (М., 1983),
в статье «Сакрализация», слова «сакральное» и «святое»
употребляются как синонимы. Здесь этим понятиям дается такое
толкование: «Сакрализация (от лат. Sacrum - священное), наделение
предметов, вещей, явлений, людей «священным» (в религиозном
понимании) содержанием. <...> С. в теологии означает
подчинение Богу. Символом этого выступает освящение, т. е. такая
церемония, в результате которой обыденная мирская процедура
приобретает трансцендентный, божественный смысл» (С. 589).
Обратим внимание на то, что, согласно данному определению,
сакрализация может касаться и предметов, и явлений.
Следовательно, «сакральность» не связана с этическим идеалом.
Поэтому понятно, что Левинас строго различает понятия
сакрального и святого, несмотря на формальные или
структурные аналогии между ними, которые обсуждали участники
Коллоквиума, сожалея, как водится, об утрате сакральности
в современном мире (см.: Lévinas E., 1977. Р. 89).
267
В лекции «Десакрализация и разволшебствление» Левинас
рассматривает фрагменты талмудического трактата «Санхедрин»,
в которых мудрецы обсуждают вопрос, какому наказанию
надлежит подвергать колдуний, заклинателей духов и пр. Галахическое1
обсуждение перемежается Аггадой: живописнейшими историями,
приключавшимися с мудрецами и связанными с колдовством.
Цитируемые тексты Талмуда чрезвычайно занимательны. Но не
эта занимательность является причиной интереса к ним со
стороны Левинаса. Колдовство и магия для него выступают низшей
степенью сакрального (и показывают, чем чревато сакральное).
«Колдовство, ближайшая родня сакрального, - родня, конечно,
падшая, но пользующаяся, однако, родственными связями
и потому принятая в лучшем обществе, - есть искусство
видимости. В действительно десакрализованном обществе прекращаются
эти нечистые уловки колдовства, рассеянного повсюду, которые
скорее питают, чем отчуждают сакральное. Настоящая
десакрализация должна была бы как раз стремиться отделить истинное от
видимости, может быть, даже и от видимости, существенным
образом примешанной к истинному» (Ibid. P. 90)
Когда мудрецы Талмуда, оперируя цитатами из Писания,
обсуждают вопрос, надлежит ли побивать колдунью камнями или
закалывать мечом, то не надо понимать это как выражение
кровожадности или жестокости талмудистов-законников, объясняет
Левинас. Смертные приговоры выносились Санхедрином
исключительно редко (Ibid. P. 94). Поэтому смысл данного обсуждения
состоит в выяснении того, к какому роду прегрешений относится
колдовство. Соответственно, к какому роду отнесено колдовство,
такова и кара. Таким образом выясняется метафизическая
природа колдовства, общения с духами и пр.
В связи с темой видимости, существенной для левинасовского
обсуждения колдовства, интересен комментарий Левинаса
к следующему фрагменту: «Есть брайта: всегда говорят
"ворожея", будь то мужчина или женщина, потому что большинство
женщин ворожат». Почему идея колдовства связывается именно
с женским? Потому что женское связано со своего рода
двусмысленностью; женское обаяние — с видимостью. В самом деле,
разве женщина не «наводит красоту», не пользуется макияжем?
Тем самым: разве не присутствует видимость в самой сердцевине
Галаха (букв, «путь») - предписания и законы, регламентирующие жизнь
религиозного еврея; Аггада («сказание») - притчи и легенды, прежде всего в Талмуде,
касающиеся жизни мудрецов-талмудистов или библейских персонажей.
268
женственности? Левинас благоразумно оговаривается, что речь
не идет о женском начале, как оно есть само по себе (féminin en
soi); однако «повсюду, где в обществе доминируют мужчины,
общечеловеческое начало в женщине сопровождается некой
двусмысленностью, которая особо провоцирует сексуальность
и эротизм, удваивая (doublant) каким-то образом человеческое
начало в ней двусмысленностью - или загадкой -
возвышенности и глубины, скромности и непристойности» (Ibid. P. 92).
Тексты Левинаса, нельзя не признать, дают феминисткам
повод для негодования. Здесь очевиден мужской взгляд на
женщину. Такой незамаскированно мужской взгляд, не
поддающийся моде на феминизм, вполне естествен для защитника
традиционного иудаизма, каким предстает здесь Левинас. Впрочем,
мне не кажется, что здесь есть что-то оскорбительное для
женщины. Может быть, как раз наоборот.
Однако данные рассуждения существенны и для понимания
основных идей философии Левинаса. В частности, очень важно
понять, что чувственная любовь, отношение Любящего к
Возлюбленной, не является моделью для описываемого им
метафизического Желания. «Метафизическое событие трансценден-
ции - приятие Другого и гостеприимство, Желание и язык - не
совершается как любовь» (Левинас Э., 2000. С. 248). Левинас
специально говорит об этом в главе «Феноменология эроса» в работе
«Тотальность и Бесконечное». Эротика и указывает на пределы
Самотождественного, «выводит за пределы имманентности»,
и одновременно позволяет превращать другого в потребность,
делать его своим Другим. «Возможность Другого представать
в качестве объекта потребности, сохраняя при этом свою инако-
вость, или возможность иметь в своем распоряжении Другого ...
эта одновременность потребности и желания, вожделения
и трансценденции, соприкосновение благовидного и
постыдного составляют самобытность эротики, в этом отношении
преимущественно двусмысленной» (Там же. С. 249). Эта двусмысленность
не позволяет описать отношение Любящего к Возлюбленной
в чисто этических терминах, хотя, разумеется, включает и
ответственность за любимую, и сострадание, питающееся ее
хрупкостью и незащищенностью. В лице любимой читается гораздо,
гораздо больше, нежели в Лике Другого, в котором читается
призыв «Не убий». «Эрос, таким образом, выходит за пределы лица»
(Там же. С. 256). Любовные отношения погружают в бездну,
в которой переплетены загадки жизни и смерти. Тайна их, как
269
она видится Левинасу, в том, что они выводят обоих любящих за
пределы наличного сущего, в том числе и их собственного
существования, к появлению новой жизни, которая будет не только
продолжением, но и отрицанием их собственных.
Поняв, в чем любовное отношение принципиально
отличается от отношения Я к Другому, мы лучше поймем, что имеет к виду
Левинас, говоря о «принятии Другого». «Любовь не ведет ни
прямыми, ни окольными путями к Ты. Она идет в другом
направлении, не в том, где можно встречать Ты. <...> Отношение,
устанавливающееся между возлюбленными, в чувственном
наслаждении, не поддающееся обобщению, в корне противоположно
социальному отношению. Оно исключает третьего, оно - сама
интимность, одиночество двоих, закрытый, по существу своему
не-публичный союз. Женское начало - это Другой, чуждый
социальности, член сообщества двоих, общества сокровенного,
не прибегающего к помощи языка» (Там же. С. 256).
Левинасовская феноменология Эроса позволяет нам лучше
понять, почему, как он полагает, женственное может
вырождаться в колдовское, почему за очарованием женского личика может
проглядывать оскал ведьмы (Lévinas E., 1977. Р. 92, 93).
Разумеется, это чисто мужской взгляд на женское начало, полагающий
себя при этом абсолютной точкой зрения. Взгляд на женщину как
на святую и как на ведьму, уже проанализированный в
литературе. В рассматриваемом тексте все это выступает как одна из
возможных граней экзальтации по поводу сакрального, когда
действие морального закона представляется уже ненужным,
мелочным либо несоразмерно прозаическим.
Впрочем, и облики сакрального многообразны. Ведь
реальность человеческого существования очень сложна.
Двусмысленность и видимость присутствуют в ней, имея самые разные
проявления. Они вскрываются по мере того, как комментарий
Левинаса продвигается за талмудическим обсуждением галахиче-
ской проблемы: как надлежит наказывать за колдовство? Как уже
объяснил нам Левинас, смысл этого обсуждения состоит в
выяснении метафизической сущности данного вида зла. Опять-таки,
Левинас показывает нам ситуацию спора, диалектическое
движение мысли талмудических мудрецов. Оно не приходит к одному
определенному ответу. Да это и не нужно - Левинасу по крайней
мере. Потому что слушатели, проследовав за этим
диалектическим движением, должны в итоге удержать все грани и извлечь
уроки из всех позиций. Различные позиции талмудических
270
мудрецов в своей совокупности раскрывают множественные
личины зла и язвы общества, в том числе, по убеждению Леви-
наса, и современного, которое пронизано видимостью в самых
разнообразных проявлениях: создаваемой рекламой, бизнесом,
финансовой деятельностью и техническим прогрессом.
Итак, обсуждается вопрос:
«Как надо их наказывать?
Рабби Йоси Галилеянин сказал: Здесь написано: (Исход
22:18) «Ворожеи не оставляй в живых» и сказано также
(Второзак. 20:16) «не оставляй в живых ни одной души».
Как там - мечом, так и тут мечом.
Рабби Акива сказал: Здесь написано (Исход 22:18):
«Ворожеи не оставляй в живых», а там (Исход 19:13) написано:
«пусть побьют его камнями... скот ли то или человек, да не
останется в живых». Как там побивание камнями, так
и тут - побиванием камнями.
Рабби Йоси сказал ему: Я строю свой довод на основе
совпадения оборота «ты не оставишь в живых», а ты - на
основании слов « не оставляй в живых» и «не останется в живых»
(а это не равные выражения).
Рабби Акива ответил: Я строю довод относительно израэли-
та из израэлитов, для которого Писание предусматривает
разные виды казни. Ты же строишь свой довод
относительно израэлита из идолопоклонников, для которых Писание
предусматривает только одну форму казни» (цит. по: Lévi-
nasE., 1977. P. 83).
В этой полемике, как разъясняет Левинас, ключевым является
контекст библейского стиха, на который ссылается тот или иной
ученый рабби в подтверждение своей версии должного наказания
за колдовство. Во Второзаконии 20:16 речь идет о языческих
народах. Их не следует оставлять в живых, «дабы они не научили
вас делать такие же мерзости, какие они делали для богов своих,
и дабы вы не грешили пред Господом, Богом вашим» (Второзак.
20:18). Процитированное место смущает современного человека.
Оно дает очевидные основания говорить о жестокости
ветхозаветной морали. А что же говорит по этому поводу Левинас? То,
что эти слова скорее есть свидетельство морального негодования
по поводу испорченности названных народов, нежели
историческое свидетельство. «Эти жестокости... отныне становятся всего
лишь языком, необходимым, чтобы сохранить
противоположность Добра и Зла и отличать одно Зло от другого Зла» (Ibid.
271
P. 94). To есть, утверждая, что колдунов и колдуний надлежит
истреблять мечом, этот ученый рабби фактически предложил
определенное объяснение природы данного явления: колдовство
есть извращения испорченных языческих народов.
Тогда возражения рабби Акивы Левинас интерпретирует как
утверждение, что колдовство - это не языческое извращение,
а извращение самого святого народа. Это показывает контекст
того стиха Писания, на который ссылается рабби Акива:
«И сказал Господь Моисею: пойди к народу, и освяти его
сегодня и завтра; пусть вымоют одежды свои.
Чтоб быть готовыми к третьему дню: ибо в третий день
сойдет Господь пред глазами всего народа на гору Синай.
И проведи для народа черту со всех сторон, и скажи:
берегитесь восходить на гору и прикасаться к подошве ее; всякий,
кто прикоснется к горе, предан будет смерти» (Исход
19:10-12).
Если кара за колдовство должна быть такой же, как и за
нарушение этого приказа Господа, значит, колдовство
рассматривается Акивой не как чужеземный разврат, а как искушение самого
Израиля, призванного услышать Откровение. Колдовство
выступает как нарушение границы, отсутствия трепета или почтения
перед священным. Отталкиваясь от этой интерпретации,
предложенной рабби Акивой, Левинас предлагает нам увидеть
в сакральном желание заглянуть туда, куда нельзя заглядывать;
бесцеремонное любопытство по отношению к Божественному,
отсутствие уважения к тайне. До какой степени он угадал
пружины, движущие современными почитателями сакрального во всех
его формах и обличьях? Они, конечно, ни за что не захотят узнать
себя в портрете, который набросал Левинас. Последний же, еще
более осовременивая свою интерпретацию и ни в малейшей
степени не опасаясь показаться ретроградом, задается вопросом, не
относятся ли к этому виду извращения «некоторые формы
"фрейдизма", а также известные требования сексуального
образования, не учитывающие, какого непристойного языка
потребует такое образование, наконец, некоторые формы самой
сексуальной жизни; а также, может быть, некоторые требования
"науки для всех"» (Ibid. P. 96). Мы вправе принять этот список
или вместо него предложить другой. Важно то, чтобы мы
осознали: «корень зла» надо искать не во внешних влияниях, а в
драматической диалектике самой истины. Она требует благоговения
и чувства границы, поэтому именно там, где присутствует стрем-
272
ление к истине (т. е. уважение к ней!), в наибольшей степени
присутствует опасность ее извращения: «Колдовство не проистекает
из дурных влияний; оно представляет собой нарушение меры
в самом знании, желание добыть больше истины, чем можно
вынести; это иллюзия, порождаемая невыносимой истиной,
иллюзия, искушающая из глубины самой истины ... т. е. это
искушение тех, кто может подняться к истине, всех тех, кто собрался
у подножия Синая» (Ibid. P. 96-97).
Впрочем, данный пассаж вовсе не претендует на
окончательное раскрытие сущности колдовства. Нам просто дали новую
перспективу для осмысления черт современной жизни, с
которыми мы постоянно сталкиваемся, чтобы мы могли извлечь отсюда
определенные уроки, а интерпретация Левинаса движется
дальше.
«Бен Азай сказал: Сказано "Ворожеи не оставляй в живых"
(Исход 22:18) и сразу после этого: "Всякий скотоложник да будет
предан смерти" (Исход 22:19). Два прегрешения сближены.
А скотоложника следует побивать камнями; значит, и ворожею
тоже» (Ibid. P. 83). Левинас объясняет суть этой позиции:
колдовство коренится в порочности человеческой натуры. В самом деле,
замечает он, порочность есть неизменный и непреодолимый
фактор человеческой природы, о который разбиваются все
программы реализации социального идеала и универсальные
решения социальных проблем. И можно ли ожидать разрешения этой
проблемы от какой бы то ни было социальной революции?
По мере того как лекция Левинаса следует за поворотами
талмудического обсуждения, истолкования колдовства становятся
все разнообразнее, но, в подлинно постмодернистском ключе,
осуществляется свободный переход от одного истолкования
к другому, без попыток свести их к общему знаменателю.
Одно из истолкований заключается в том, что колдовство есть
вызов высшему порядку. Это люциферианское «нет»,
адресованное божественному Абсолюту. Но откуда берется это «нет»? Не
свидетельствует ли оно о некой трещине небытия в самом
Абсолюте? На подобный вопрос Левинас уверенно отвечает, что
ни в коем случае. Источником небытия являются идеи в
человеческой голове. Для человека или культуры, обратившихся
к истинно святому, колдовские чары действительно
представляют собой ничто. (Для иллюстрации приводится история,
произошедшая с рабби Яниной. Он увидел женщину, собиравшую
пыль из-под его ног, что, очевидно, должно было служить для
273
того, чтобы навести на него какие-то кодлдовские чары. Но он
спокойно сказал: «Если можешь, давай, делай это. Ибо написано:
"Только Господь есть Бог, и нет никого кроме Него"». Однако,
поясняет талмудический текст, у рабби Янины было много
заслуг). Таким образом, колдовство есть ничто для человека,
живущего в состоянии непрерывного бодрствования и усилий
души. Если усилия ослабляются, то открывается пространство,
в котором вызов высшему порядку становится вполне
действенным, и открывается пространство для небытия и иллюзий. «Не
Бог покинул мир, а человек закрылся от Бога» (Ibid. P. 101),
и потому Ничто колдовства проникает в реальный мир.
Еще одна реплика талмудического мудреца содержит
различение колдовства, связанного с определенным материалом (оно
называется делом демонов), и колдовства, не привязанного ни
к какому материалу. Это тонкое различение дает Левинасу повод
для размышлений над проблемами современной культуры и
современного общества. В самом деле, ворожба, связанная с
определенным материалом, представляет собой определенную технику
достижения результата. Не указывает ли это на «сакральное,
выродившееся в престиж техники? Наряду с разумной, трезвой
техникой, поставленной на службу человеческим целям,
существует техника как источник иллюзий ... техника извлечения
прибылей из биржевых спекуляций» (Ibid. P. 103).
Вообще, тема видимости и иллюзий возникает в данном
тексте постоянно. Вот талмудические мудрецы припоминают разные
истории, приключавшиеся из-за колдовства. Например, некто
пошел в Александрию Египетскую и купил там осла. Но стоило
ему напоить осла водой, как колдовские чары рассеялись, и он
обнаружил себя сидящим верхом на палке! В интерпретации
Левинаса эта история предстает весьма поучительной. Ведь
Александрия - столичный город, центр развитой цивилизации.
Поэтому она вполне годится на роль символа современной
цивилизации, в которой ни одна вещь и ни один человек уже не
являются сами собой и ни одно слово не означает то, что оно
означает. Против этого морока иллюзий может помочь вода,
особенно холодная вода трезвых доводов рассудка, иронично
замечает Левинас (Ibid. P. 107).
Вспомним теперь, что был выделен и второй вид магических
манипуляций - тот, что не связан с определенным материалом.
В интерпретации Левинаса магия такого рода превращается
в фетишизацию «внутреннего», «чисто духовного». Как будто бы
274
можно преодолеть любой конфликт и разрешить любую
проблему, «интериоризировав» их! Как будто любое преступление
искупается «благими намерениями», а намерения вообще важнее, чем
реальный поступок: «Магия внутреннего обладает бесконечными
возможностями; все дозволено во внутренней жизни; все, вплоть
до преступления. Отмена законов во имя любви; возможность
служить человеку, ничего не делая для человека; отменить
субботу под предлогом того, что не человек во имя субботы, а суббота
во имя человека» (Ibid. P. 103).
Критика идеи о том, что «внутреннее» важнее внешнего,
представляет важный момент концепции Левинаса. Так, его
требование «принять Другого без аллергии» не может остаться на уровне
только внутреннего мотива, не выливающегося во внешнее
действие. В самом деле, ведь Другому от такого, остающегося только
внутренним, мотива, как говорится, не холодно и не жарко.
Левинас не случайно выбирает для описания должной
установки по отношению к Другому термин «гостеприимство»,
который, с одной стороны, указывает на единство интенции
и выраженного вовне поведения и, во-вторых, носит оттенок
будничного, приземленного. Последнее, как представляется, не
менее существенно для характеристики учения Левинаса, нежели
первое.
В самом деле, это учение напоминает о конечности и
уязвимости Другого (так же, как и Я). Другой - это не бесплотный дух,
а слабый, уязвимый, открытый страданиям человек. И потому,
как выразился однажды Левинас, истинная духовность состоит
в том, чтобы помнить о телесных нуждах Другого. Относиться
к Другому как к чистому Cogito было бы особого рода
безжалостностью.
Два типа колдовства предстали в интерпретации Левинаса как
две грани современной культуры. Социальная реальность симу-
лякров и спекуляций (от биржевых до философских), с одной
стороны, и зацикливание на «внутреннем мире», с другой. Дзе
стороны одной медали?
В выпаде Левинаса против переоценки значимости
внутренних побуждений можно увидеть и критику кантовской этики
и философии религии. Кант делал акцент на внутреннем мотиве
и давал суровую оценку иудаизма как религии внешнего
действия, а не морального образа мыслей. Когда Левинас
начинает говорить о святости, в отличии от сакральности, то эта тема
задается через образ Субботы и неуклонного соблюдения Закона.
275
Имеются в виду, разумеется, заповеди иудаизма. Они в
значительной мере касаются различения «чистого» и «нечистого».
Здесь, вообще-то, тоже можно увидеть сакрализацию
определенных предметов и действий. Однако Левинас придает соблюдению
ритуальных требований и серьезной заботе о ритуальной чистоте
совсем другое истолкование. Да, подчеркивает он, речь идет
о ритуальной чистоте, которая, разумеется, определяется
внешними критериями. Он упоминает о знаменитом споре
талмудических ученых относительно чистоты и нечистоты. Контакт
с мертвым телом является источником нечистоты. Упоминаемый
спор касается того, переносится ли свойство нечистоты от
присутствия мертвого тела на жаровню (являющуюся открытой
емкостью). Пример демонстративный, и Левинас прекрасно
понимает, как подобные вещи воспринимаются современными
слушателями. Спор талмудических мудрецов по данному вопросу
отличался необычайной остротой1 и привел к драматическим
последствиям. Левинас подробно комментирует для своих
слушателей продолжение данного текста, в котором говорится
о последних часах жизни самого видного участника этой
полемики. Навестить его на одре болезни приходят его ученики
и пользуются этим случаем, чтобы еще раз поучиться у него.
И талмудический ученый начинает объяснять, воспримут или
нет ритуальную нечистоту различные предметы, находящиеся
рядом с ним в комнате. На словах «...остается чистой» «душа его
вышла в чистоте». Какие мысли в последние минуты жизни!
Какая зацикленность на внешнем! В интерпретации Левинаса,
однако, она предстает символом неуклонного следования долгу.
Понять, в чем состоит этот долг, понять и истолковать заповедь,
предписанную Богом, оказывается важнее, чем мысли о
собственной смерти. Вот почему, в изображении Левинаса, этот
пример становится примером жизни, обращенной к подлинной
чистоте.
И в этом смысле интерпретация иудаизма у Левинаса
обнаруживает внутреннее родство с Кантовой философией религии.
Ибо для Канта истинная религиозность состоит не в вере в
чудеса и не в вымаливании для себя милостей Божьих, а в суровой
самодисциплине и неуклонном следовании долгу.
Но «забота о внешнем», которую так настойчиво
подчеркивает в данной лекции Левинас, знаменует, конечно, его
принципиальный отход от позиции Канта. Мотивация Левинаса, как нам
Именно о данном споре идет речь в примеч. на с. 88-89.
276
представляется, связана не просто с его реакцией на Кантово
неприятие иудаизма. Как мы пытались показать в гл. 1, позиция
Канта опиралась на весьма сильные допущения, составлявшие
ядро классической нововременной концепции субъекта. Субъект
рассматривался Кантом как автономный носитель нравственного
регулятива в виде голоса совести. Однако история XX века дала
слишком весомые основания для того, чтобы усомниться в
достаточной нравственной оснащенности автономного субъекта.
Философская рефлексия Левинаса выстраивается в полном
осознании импульса к насилию как составляющей человеческого
существования, - импульса, использующего для маскировки
и легитимации любые обличия, в том числе и гуманистические.
«Внутренней» чистоты, предупреждает Левинас, слишком легко
достичь; ее слишком легко обосновать. Вспомним, что, согласно
Левинасу, именно в измерении интериорного произрастают тота-
лизаторские поползновения. Внимание исключительно к
внутреннему «спиритуализируя чистоту, затягивает нас в
нигилистические бездны внутреннего, где смешиваются чистое и нечистое.
Талмудические знатоки Закона обсуждают ритуальную чистоту,
определяемую внешними критериями. Нужны правила внешнего
поведения, чтобы внутренняя чистота не оставалась только
вербальной» (Ibid. P. 110). Из этого пассажа можно заключить, что
законы ритуальной чистоты выступают здесь для Левинаса
символом нравственного закона, сутью которого является принятие
Другого, т. е. действие подлинно экстериорное.
Но почему же именно религиозные заповеди иудаизма
выступают для него символом нравственного закона, если
нравственный закон универсален, а заповеди иудаизма обращены только
к отдельному народу? Потому что верность иудаизму для него,
пережившего Холокост, равнозначна абсолютной
невозможности стать на точку зрения палача. Левинас живет в иную эпоху,
нежели Кант, с иным историческим опытом и видением
человека, в эпоху крушения просвещенческих иллюзий. В эссе под
названием «Любить Тору больше, чем Бога» Левинас говорит
о том, что «Бог, закрывающий свой лик - не теологическая
абстракция и не поэтический образ. Это час, когда справедливый
человек не находит никакой внешней опоры, когда его не
защищает никакая институция, когда утешение божественным
присутствием в детском религиозном чувстве тоже становится
невозможным, и человек способен восторжествовать только
в собственной совести, т. е. - с необходимостью - в страдании.
277
Это специфически иудейский смысл страдания, которое ни на
мгновение не становится мистическим искуплением грехов мира.
Положение жертв в разлаженном мире, то есть в таком мире, где
добро в конечном счете не торжествует, - это страдание. В нем
открывается Бог, который, отказываясь являть себя в виде
помощи, требует полной зрелости всецело ответственного человека»
(Левинас Э., 2004. С. 447). Зрелый и всецело ответственный
человек, по Левинасу, никогда не примет известного тезиса Ивана
Карамазова: «Раз Бога нет, то все дозволено». Для такого
человека ситуация вседозволенности немыслима, потому что причинять
страдание Другому недопустимо никогда. В ситуации, когда Бог
закрывает свой лик, это остается единственным, на что можно
надеяться: таков смысл названия данного эссе.
Таким образом, для Левинаса важна не оппозиция «внешнее
ритуальное поведение / внутренняя религиозность» как это было
во времена Спинозы или Канта, а важно нечто другое.
Рассматривая его защиту традиционного иудаизма, надо иметь
это в виду. Для него религиозная традиция выступает как
институт проверенного временем, сбалансированного воспитания
самодисциплины. Он прекрасно понимает, что любая
институция имеет свои плюсы и минусы. Однако само ее существование
на протяжении тысячелетий является гарантией того, что
важнейшие проблемы и трудности, которые она сама способна
породить, учтены и сбалансированы.
Но в то же время отношение к традиции, как и к любому
социальному институту, требует гибкости и учета всех обстоятельств.
В той же лекции «Десакрализация и разволшебствление»
обсуждается и истолкование колдовства как вызывания духов и
заклинания мертвых. Левинас дает по этому поводу следующий
комментарий: «Новая форма деградации сакрального: сакрализация
неприкосновенного прошлого» (Lévinas E., 1977. Р. 98).
Сакрализация прошлого делает человека рабом традиции, что только
уводит от истины.
После того как различие между сакральным и священным
вполне выяснено, объясняет в заключении Левинас, становятся
вполне объяснимыми многочисленные примеры того, как сами
рабби занимаются колдовством. Например, в обсуждаемом
фрагменте Талмуда содержится пассаж о двух рабби, накануне
субботы магическими процедурами сотворивших, а потом
и потребивших молодого теленка. Левинас разъясняет, что это
дозволено, как и многие технические достижения человечества,
278
даже производство синтетического мяса: если это ради субботы1.
Этот фрагмент дает ключ к общему пониманию колдовства как
профанации субботы. Тогда грех колдовства (как и проблемы
современной техники) оказывается не в использовании каких-то
техник и материалов, а в нарушении иерархии целей. Занятия
колдовством, далее, не являются грехом, если они служат для
изучения и понимания данного феномена, ибо, живя в мире
иллюзий и видимости, надо в них разобраться.
Преодоление отчуждения и социальная справедливость
Утверждение этической сущности иудаизма явилось одной из
стержневых тем еврейской философии XIX-XX веков. Разумеет-
Таким образом, Левинас опять бегло указывает на определенную позицию
в философии техники. Несколько более развернуто его позиция изложена
в маленьком эссе «Хайдеггер, Гагарин и мы», написанном в 1961 г., по случаю
первого полета человека в космос. Левинас признает, что техника действительно
может представлять опасность для человека и человечества, но одновременно
и предостерегает от реакционности по отношению к ней. Примером последней
у него выступает концепция Хайдеггера, которую Левинас суммирует таким
образом: «Люди потеряли мир. Они больше не знают ничего, кроме материи,
встающей перед ними, некоторым образом пред-стоящей их свободе. Они знают лишь
пред-меты. Вновь обрести мир - значит вновь обрести детство, таинственным
образом свернутое в Месте: это значит открыться свету просторов, колдовству
природы... это значит бежать по тропинке, вьющейся среди полей; это значит
ощутить единство, создаваемое мостом, перекинутым с одного берега на
другой...» (Левинас Э., 2004. С. 521-522). Так Левинас набрасывает яркие образы того
опыта, в котором Бытие, согласно учению Хайдеггера, открывает себя человеку.
Того опыта, от которого нас отучает современная техника. Левинас умеет
создавать образы не менее ярко и впечатляюще, чем Хайдеггер. Однако он это делает
только для того, чтобы заклеймить его учение как новый вариант язычества: «Вот
он - вечный соблазн язычества, за пределами инфантилизма идолопоклонства,
давным-давно преодоленного. Сакральность, просачивающаяся через мир: быть
может, иудаизм есть не что иное, как отрицание этого. Вырубка священных рощ -
теперь мы понимаем чистоту этого мнимого вандализма. Таинство вещей есть
источник всяческой жестокости в отношении людей. Вживленность в ландшафт,
привязанность к Месту, без которого универсум сделался бы ничего не значащим
и почти не существующим, есть именно рассечение человечества на туземцев
и чужаков. И в такой перспективе техника менее опасна, чем гении Места...
Техника вырывает нас из хайдеггеровского мира и из суеверий Места. Отныне
возникает шанс: разглядеть людей вне ситуации, где они разместились; дать
воссиять человеческому лицу в его обнаженности». (Там же. С. 522-523). Техника,
вырывающая человечество из привычного круга и способствующая раз вол-
шебствлению окружающего мира, становится, таким образом, инструментом для
преодоления культа Места. И в этом отношении техника оказывается созвучна
миссии иудаизма: «Иудаизм не сублимировал идолов - он потребовал их
уничтожения. Как и техника, он демистифицировал Вселенную, расколдовал Природу.
Своей абстрактной универсальностью он коробит воображение и чувства; но
именно он открыл человека в обнаженности лица» (Там же. С. 524).
279
ся, об этической сущности своей религии говорят в наше время
представители всех вероисповеданий. В настоящем
исследовании нам представляется важным подчеркнуть следующие
моменты. Во-первых, то, что в философском плане искания еврейской
философии так или иначе отражают влияние Канта. В этом нам
видится указание на то, как все переплетено в человеческой
культуре, насколько пути развития идей сложнее, чем проведенные
нами и привычные разграничения. Во-вторых, несмотря на
кажущееся нам очевидным влияние Канта на еврейскую
философскую мысль, не упустим из вида оригинальность концепции
Левинаса, который в понимании этического ставит решительный
акцент на экстериорности.
В такой интерпретации этика приобретает социальное
звучание. Мы можем увидеть это, например, в лекции «Иудаизм
и революция» (Lévinas E., 1977. Р. 11-53), где Левинас
комментирует фрагменты Талмуда, посвященные вопросам найма
работников, их кормления, продолжительности их рабочего дня. Ядром
дискуссии мудрецов Талмуда, которую выбрал для своего
комментария Левинас, являются следующие поучения из Мишны:
«Тому, кто нанимает работников и говорит им начинать рано
и заканчивать поздно, не следовало бы их к этому
принуждать, если только это не в обычаях данной местности.
Там, где обычай требует, чтобы работников кормили, он
обязан их кормить; там, где обычай требует, чтобы им
давали десерт, он должен давать им десерт. Все это согласно
обычаям данной местности.
Однажды Рабби Йоханан бен Матия сказал своему сыну:
"Пойди найми работников". Сын включил кормление в
условия договора. Когда он вернулся, отец сказал ему: "Сын
мой, даже если бы ты приготовил им пищу, подобную той,
какую подавали царю Соломону, ты все равно не
расквитался бы с ними, ведь это потомки Авраама, Исаака и Иакова.
Пока они не приступили к работе, пойди к ним и уточни:
вы будете получать только хлеб и сушеные овощи".
Раббан Шимон бен Гамлиель сказал: "Ему и не нужно было
этого говорить, потому что, в любом случае, все определяется
обычаем местности"» (цит. по: Lévinas E., 1977. Р. 11).
Названная лекция Левинаса была прочитана весной 1969 г.,
т. е. вскоре после бурных событий весны 1968 г. Коллоквиум, на
котором выступал тогда Левинас, был, как всегда, посвящен
осмыслению отношения иудаизма к актуальной проблеме совре-
280
менности. Поэтому его тема в 1969 г. была обозначена как
«Иудаизм и революция». Подобная тема прямо-таки заставляет
обратиться к обсуждению марксизма. Левинас же поступает по-
другому. Верный себе, он предлагает слушателям свою
интерпретацию рассуждений талмудических мудрецов, в которой он
пытается выйти из заданного марксизмом и ставшего привычным для
многочисленных французских (а также, заметим в скобках,
и российских) интеллектуалов объяснения причин и способов
преодоления отчуждения.
В обсуждаемом фрагменте Талмуда, как мы видим, предметом
рассмотрения являются отношения наемного работника и
работодателя. Они имеют принципиальное значение для
марксистского учения о социальной несправедливости и о социальной
революции как условии достижения социальной справедливости.
Левинас доказывает, что соответствующие фрагменты
Талмуда, проникнутые глубоким религиозным чувством, исходят
из признания того, что Другой - работник - имеет права. Путь
к преодолению отчуждения, говорит Левинас, будет открыт не
борьбой за свои права, а соблюдением прав Другого, даже если,
и особенно тогда, когда этот другой находится в столь
невыгодном и зависимом положении, как положение наемного рабочего.
Как нам представляется, в этом данная лекция Левинаса
перекликается с трактовкой субботы у Когена (см. главу 3), в которой
также подчеркивалась забота об отдыхе другого - слуги, раба.
Текст Талмуда является весьма приземленным. Никакого
гуманистического пафоса, просто регламентация вопросов сна
и питания. Какой материализм! Возвышенный материализм,
говорит Левинас, цитируя рабби Исраэля Салантера:
«Материальные нужды моего ближнего являются духовными нуждами для
меня» (Ibid. P. 16). В данном талмудическом тексте, как
разъясняет Левинас, речь идет о задании границы экономического
отчуждения. Ее образует право человека на то, что составляет
условия человеческого существования. Такую границу, по
Талмуду, фиксируют обычаи местности. Хотя человек свободен
продавать свой труд на самых унизительных и нечеловеческих
условиях, обычай ставит предел этой свободе - во имя свободы
человека. И в самой заботе о том, чтобы зафиксировать такой
предел, ограничить произвол и насилие по отношению к тому,
кто находится в зависимом положении, Левинас видит
принципиальное условие преодоления экономического отчуждения. Тем
самым он предстает перед нами законченным «идеалистом» не
281
признающим первичности и определяющей роли
экономического базиса.
В тексте Талмуда, который комментирует Левинас, планка
предела эксплуатации зафиксирована очень низко: работать с рассвета
дотемна, питаться хлебом и сушеными овощами. Современный
человек может и не согласиться с тем, что данный текст пронизан
заботой о правах наемного работника. Но, взирая на историческую
ограниченность этого текста, мы, подчеркивает Левинас, не
должны упустить из виду сам факт признания, что в любой ситуации
наемный работник имеет свои неотчуждаемые права.
Итак, талмудический текст, в интерпретации Левинаса,
утверждает право другого человека. «Это право практически
бесконечно. Даже если бы я обладал сокровищами царя Соломона,
я не смог бы выполнить свои обязательства» (Ibid. P. 18).
Комментируя древний текст, Левинас повторяет основные
положения своего учения: о бесконечной обязанности перед Другим
и об асимметрии отношения Я—Другой. Но он повторяет их
в более конкретном и определенном контексте. Поэтому, как нам
представляется, текст этой лекции позволяет получить более
конкретные ответы на вопросы, которые часто возникают по поводу
учения Левинаса: кто именно этот Другой? Почему моя
обязанность по отношению к нему бесконечна? И почему ничего не
говорится о его обязанности по отношению ко мне? Жанр
комментария обнаруживает при этом свое преимущество еще и тем,
что предлагает образы и пояснения, не претендующие на то,
чтобы быть исчерпывающими. Да, Другой - это и наемный
работник, которого мне выгодно нанять подешевле и заставить
работать подольше. Например, гастарбайтер. А в иных ситуациях
этим Другим может быть иноверец, сосед, собственный ученик
или собственный ребенок.
Однако в комментируемом тексте Талмуда речь идет все-таки
о «потомках Авраама, Исаака и Иакова». Как объясняет Левинас,
в талмудических текстах «Израиль означает народ, получивший
закон, и, следовательно, человечество, пришедшее к полному
осознанию своей ответственности и полному самосознанию.
Потомки Авраама, Исаака и Иакова - это человечество, которое
перестало быть инфантильным. Перед лицом человечества,
обладающего самосознанием, уже воспитавшимся, наши обязанности
безграничны» (Ibid. P. 18). После этого разъяснения снимаются
некоторые недоумения по поводу учения Левинаса. Речь у него
вовсе не идет о том, чтобы, например, принять наркомана во всей
282
его друговости. Это разъяснение помогает понять, почему
Левинаса не беспокоит проблема того, как бы мое
безоговорочное признание бесконечной обязанности перед Другим без
предъявления этому Другому встречных обязательств не
развратило последнего и не спровоцировало его на злоупотребление
моим чувством ответственности. Потому что речь у него идет
о человеке, который является человеком в полном смысле слова.
Правда, тут может возникнуть новый вопрос: а встречаемся ли
мы реально с таким Другим? Свободным от инфантилизма, не
нуждающимся в воспитании, пришедшим к полному осознанию
своей ответственности? Боюсь, что такие встречи, мягко говоря,
нетипичны. Может быть, речь идет о том, чтобы признавать
в Другом возможность воплощения такого идеала человечества?
Тогда Левинаса следовало бы понять так: Другой, будь он даже
гастарбайтером, должен рассматриваться как воплощение - или
как возможность - человечества в этом смысле. Или, во всяком
случае, он не в меньшей степени является воплощением такого
человечества, чем я сам(а). Понятое таким образом, рассуждение
Левинаса позволяет, как нам кажется, вспомнить знаменитую
формулировку Канта: «...в ряду целей человек... есть цель сама по
себе, т. е. никогда никем (даже Богом) не может быть использован
только как средство, не будучи при этом вместе с тем и целью...»
(Кант И., 1965 а. С. 465). Вспомнить о кантовской формулировке
тем более уместно, что для Левинаса Другой - это не интимно
близкий человек, а любой другой. Можно сказать также, что
это - «ближний» в смысле библейской заповеди. Недаром
Левинас, в отличие от М. Бубера, объяснял, что Другой - это не
«Ты», а, скорее, «Вы». Он же постоянно говорил о «третьем
лице», которое не включается в интимный союз «Я-Ты». Третий
остается абстрактным представителем человечества как такового.
Именно в этом своем качестве он должен быть встречен лицом-
к-лицу, принят во всей его друговости, именно по отношению
к нему субъект несет бесконечную обязанность.
В то же время в учении Левинаса о встрече Другого лицом-
к-лицу есть мотивы, которых мы не расслышим в кантовской
формулировке. Кант говорит об уважении к любому человеку
и к человечеству в его лице, и слова его звучат гордостью за
человечество. Кантовский гуманизм не может оставить
равнодушным. Однако, как нам представляется, трагический опыт XX века
и кошмары терроризма века начинающегося не дают особых
оснований для гордости за человечество. Когда Левинас говорит
283
о человечестве, пришедшем к полному осознанию своей
ответственности и к полному самосознанию, это звучит в тональности
Канта. Но как быть с человечеством, которое никак не придет
к осознанию?
В текстах Левинаса часто звучит мотив, которого мы не
найдем у Канта: сострадание. Он говорит о слабости, уязвимости,
наготе, незащищенности Другого. Все это он собирает в
пронзительном образе обнаженного человеческого лица. Так он
указывает на фундаментальные характеристики человеческого
существования, ответом на которые и должна быть бесконечная,
неисчерпаемая обязанность по отношению к Другому:
накормить, согреть, защитить, т. е. принять во всей его друговости
гостеприимно.
Если вспомнить приведенный выше пример с наркоманом, то
обязанность принять Другого гостеприимно по отношению
к нему будет означать вовсе не оправдание его слабости, тем
более не уподобление ему, но принятие на себя ответственности
за то, чем он стал.
Однако вернемся к талмудическому тексту и левинасовскому
комментарию. В нем проблема бесконечной ответственности
разрешается весьма просто: рабочих предупреждают, что получат
они всего лишь хлеб и сушеные овощи, даже если как
полноправные представители человечества они заслуживают королевского
угощения. Комментарий Левинаса к этому пассажу поднимает
тему общественного договора. Эта тема весьма важна для его
учения. В самом деле, ведь субъект имеет бесконечную обязанность
перед любым Другим. У меня есть обязанность все отдать и сделать
для этого Другого - но также и для того, и для третьего, и для
четвертого. Как же реально быть в такой ситуации? Данное
затруднение неизбежно вытекает из того, что Левинас описывает
отношение к Другому как асимметричное. Такое отношение не
предполагает заботу о взаимности. Мысль Левинаса поясним на
таком примере: если вы случайно окажетесь свидетелем какого-
то ЧП, то попытаетесь, как можете, помочь пострадавшим. Это
естественная и необходимая человеческая реакция. При этом
у вас в чрезвычайной обстановке, скорее всего, даже не будет
мыслей о том, хорош или плох человек, спасать которого вы
помогаете, и стал ли бы он спасать вас, если бы вы оказались на
его месте, а он - на вашем.
Однако, если у субъекта есть неограниченная обязанность по
отношению к неограниченному числу людей, то, что бы он ни
284
сделал для одного, это будет означать, что он чего-то не сделал
для второго. Поэтому высокий пафос темы бесконечной
обязанности перед Другим должен быть дополнен сюжетами более
прозаическими, но не менее важными. Речь должна пойти о расчете
и распределении моих обязанностей по отношению к Другим.
Без этого, на одном пафосе, человеческая общность не
просуществует. Так в контексте социальности встает вопрос о разуме
и рациональности.
Вообще Левинас, как и философы-постмодернисты, не
признает за рациональностью фундирующей роли, не включает ее
в число основополагающих характеристик субъекта. Для него
субъект конституируется этическим долженствованием, которое
первично по отношению к рациональности. Несмотря на это,
Левинас, в отличие от постмодернистов, высоко оценивает разум
и рациональность. Они выступают у него условиями
социальности, условиями выполнения долженствования по отношению
к Другому. Подчеркнем, что расчет, о котором идет речь, не
имеет ничего общего с соображениями собственной выгоды,
с эгоистическим использованием других в собственных
интересах или с так называемой «политической целесообразностью».
Нет, речь идет о расчете, который определяется соображениями
справедливости. Он необходим для осуществления этического
долженствования в обществе. В связи с этим оказываются
необходимыми разум и рациональность.
В контексте названной проблемы расчета и распределения
долженствований Левинас обсуждает также тему государства.
Возможно ли институциональное осуществление справедливости?
Может ли политика быть поставлена на службу этике? Левинас
в этом сильно сомневался и по большей части жестко
противопоставлял политику и этику1, что он делает и в данной лекции.
Комментируя далее понятие «дети Авраама», Левинас
предлагает для него еще и следующую интерпретацию: это потомки
Может быть, с этим связано то, что Левинас, в отличие от многих современных
ему французских философов, не проявлял политической активности (см.:
Lescourret M.-А, 1994. Р. 339 и след.), хотя и питал к политике неизменный
интерес. Он постоянно следил за событиями в СССР (затем в России и СНГ),
Израиле, Восточной Европе.
Левинас высказывался с неизменной симпатией о государстве Израиль, хотя
сам не последовал сионистским призывам и остался жить в диаспоре. В этом
государстве он видел попытку реализации идеалов социальной справедливости:
идеалы этического социализма всегда были близки ему. Но при этом Израиль
оставался для него государством, т. е. тем, что лежит в сфере политики, а не этики.
Левинас не рассматривал его как осуществление мессианистских чаяний.
285
человека, который умел быть гостеприимным (см. Быт. 18:1—8).
Гостеприимство Авраама было оказано посланцам Божиим.
Однако, замечает Левинас, Авраам не мог знать этого сразу.
Заметив стоящих перед входом в его шатер трех мужей, он должен
был принять их, скорее всего, за бедуинов или арабов (Lévinas E.,
1977. Р. 19). И их-то он и пригласил в свой шатер и поспешил
распорядиться о наилучшем угощении для них.
В такой интерпретации Авраам становится наилучшим
воплощением учения Левинаса об отношении к Другому как
гостеприимству. Тогда потомки Авраама - это люди, понимающие, что
Другого надо накормить и обогреть (как мы понимаем, первая
интерпретация вполне согласуется со второй). Левинас возлагает
надежды в деле установления справедливости именно на
«потомков Авраама», а не на государство: «Не благодаря государству и не
благодаря политическому прогрессу человечества будет
удовлетворена личность, - что, разумеется, не исключает государство из
числа условий, необходимых для такого удовлетворения. Но
потомки Авраама задают норму» (Ibid. P. 20).
Как мы помним, проблема состояла в том, что моя
обязанность по отношению к Другому бесконечна, и в то же время
Других много: «Человеческое выше человеческих сил» (Ibid.
Р. 20). Левинас, таким образом, ясно видит парадоксальность
собственного учения: требование, которое оно предъявляет
человеку, выше человеческих сил. Но если человек не понимает
правомочность этого требования, он не человек. (Не так ли обстоит
дело и с Кантовым категорическим императивом?)
Однако в комментируемом талмудическом тексте с
бесконечной обязанностью обходятся легко. «Пока они не приступили
к работе, пойди к ним и уточни: вы будете получать только хлеб
и сушеные овощи». В интерпретации Левинаса это означает:
«Общество сообразно силам человека осуществляет ограничение
права другого и моей обязанности. Договор не кладет конец
насилию другого, порядку - или беспорядку, - в котором человек
человеку волк. В лесу, где живут волки, невозможно принять
никакой закон. Но там, где другой для меня принципиально
бесконечен, можно в некоторой мере, - но только в некоторой! -
ограничить объем моих обязанностей. В договоре речь идет о том,
чтобы ограничить мои обязанности, а не о том, чтобы защитить
мои права. Потомки Авраама готовы согласиться с этой
необходимостью и друг с другом: они достаточно зрелы для договора»
(Ibid. P. 21).
286
Как мы видим, Левинас в данном пассаже отвергает теорию
общественного договора в вариантах Гоббса или Спинозы.
Обязанность по отношению к Другому не возникает из
общественного договора. Она изначальна и имеет иное, высшее
происхождение. То, что человек изначально имеет бесконечную
обязанность по отношению к другому человеку, и означает, что
Бог есть. Если бы это было иначе, убежден Левинас, общество
и любой общественный договор были бы невозможны.
В комментируемом тексте договор заключен: «Вы будете
получать только хлеб и сушеные овощи». Меню скудное, нельзя не
признать. Но и в этой скудости, обращает внимание Левинас,
сохранен принцип разнообразия: вы будете получать то и это.
Потому что это человеческая еда, а не смазка человеческой
машины.
Все сказанное, убежден Левинас, имеет самое
непосредственное отношение к теме революции, поскольку ее надо определять
не формально, через насилие или смену политического порядка,
а содержательно: «Революция происходит тогда, когда
происходит освобождение человека, когда он вырывается из тисков
экономического детерминизма» (Ibid. P. 24).
Комментарий Левинаса движется далее, свободный и
многоплановый, как и интерпретируемый текст. Вот мудрецы Талмуда
обсуждают вопрос о том, засчитывается ли время, потребное
работнику, чтобы добраться до места работы, в
продолжительность рабочего дня.
«Реш Лакиш сказал: Нанятый работник на путь домой
расходует свое время; а на путь на работу он использует время
нанимателя; ибо написано (Псалом 104:22-23): "Восходит
солнце, и они (дикие звери. - З.С.) собираются и ложатся
в свои логова. Выходит человек на дело свое и на работу
свою до вечера"» (Lévinas E., 1977. Р. 12).
Таким образом, вопросы трудового соглашения решаются
ссылкой на псалмы. Какая связь между псалмом и
продолжительностью рабочего дня? Конечно, время начала и конца рабочего
дня человека в нем действительно зафиксировано: от восхода
солнца до вечера. Но разве в этом была цель псалмопевца? Разве
псалмы не служат для того, чтобы выразить воспарение души
навстречу Богу, быть излиянием души в ее любви к Богу? «Хотя, -
говорит Левинас, - я никогда хорошенько не понимал, что в
точности значит излияние души (répanchement de l'âme) в ее любви
к Богу, я тем не менее спрашиваю себя, нет ли в самом деле связи
287
между определением продолжительности труда рабочего
и любовью к Богу - с излияниями или без оных. Я даже склонен
думать, что не так много способов по-другому любить Бога и что
нет более настоятельного (urgente) способа любить Бога, чем тот,
который состоит в правильном определении продолжительности
рабочего дня» (Ibid. P. 26).
В то же время, чтобы адекватно понять мысль талмудиста,
подчеркивает Левинас, надо учесть, что никакая ссылка на Писание не
бывает случайной. Талмудист не выхватывает любые строки,
подтверждающие его мысль. Он всегда выбирает вполне
определенные строки из текста, без знания которого нельзя понять его
мысль. «Псалом 104 воздает хвалу Господу, однако делает это
в манере не совсем обычной, - замечает Левинас. - Что творение
восхваляет своего Творца, это, разумеется, старая благочестивая
идея. Однако фактически творение восхваляет Предвечного по
большей части тогда, когда не замечает творения в целом. Когда
идут по берегу моря, или в горах, или когда есть время созерцать
звездное небо. Когда же творение не имеет отпуска или средств,
чтобы отправиться отдыхать, оно воздает хвалу Создателю гораздо
реже. А псалом 104 воспевает глубокую гармонию, царящую в
творении - как во время отпуска, так и во время трудовых будней»
(Ibid. P. 27). В этом столь гармонично устроенном мире
чередуются день и ночь. Ночь - время хищных зверей. Но когда восходит
солнце, их время кончается, они уползают в свои логовища.
Приходит время человека - начинается его трудовой день. Труд
принадлежит порядку дня, света, разума, добра. «Труд, согласно
этому псалму, не является злом, проклятием, бессмыслицей.
Псалом упоминает о труде человека при перечислении достоинств
сотворенного мира. <...> Труд принадлежит порядку света и
разума» (Ibid. P. 28). Труд, таким образом, вписан в гармоничную
структуру мира, что придает ему смысл и достоинство, и поэтому
рабочее время не является временем отчуждения.
Итак, для талмудистов, в интерпретации Левинаса,
обоснованием достоинства труда и прав трудящихся является в конечном
счете установленный Творцом гармоничный порядок мира
и установленный Им закон. К последнему надо апеллировать
в случае, когда, например, дело происходит в новом городе,
население которого собралось из разных мест (потому апелляция
к обычаю местности тут не проходит). Мудрецы Талмуда,
подчеркивает Левинас, предусмотрели и такую возможность,
ставшую характерной реальностью эпохи индустриализации.
288
Однако талмудическое обсуждение не останавливается на
этом, и наряду с образом гармонии мира, дня, ясного света
солнца, при котором уползает в норы всякая нечисть, в
комментируемом тексте тут же задается и иная тема. Приводятся слова
другого рабби, который цитирует очень похожие строки, однако они
принадлежат уже псалму 10. В нем, в отличие от псалма 104,
оплакивается мир, в котором не видно Бога. Этим задается тема
«ночи», зла, затмения Бога. Они очень важны для понимания
учения Левинаса. Нам хочется подчеркнуть это еще раз, чтобы не
возникало впечатления, будто его учение - сплошной розовый
сироп из гостеприимства, дарения, принятия и прочих приятных,
но с реальной жизнью мало связанных вещей. Дело обстоит
совсем не так. Левинас, как нам кажется, никогда не забывает, что
его слова о первичности этики звучат в ситуации, когда в мире
царит ночь и Бог отвернул от него свое лицо. Именно это и
придает им глубину.
То, что говорит Левинас, относится к порядку должного, а не
сущего. Он учит о встрече с Другим лицом-к-лицу, зная, что наша
жизнь по большей части это упущенная возможность или прямое
бегство от такой встречи. В комментируемом им тексте имеется
такой пассаж:
«Однажды Рабби Элазар Бен Рабби Шимон встретил
должностное лицо, обязанное ловить воров. Он сказал ему: как
ты можешь справиться с ними, не подобны ли они зверям
лесным? <...> А если ты схватишь праведного и упустишь
злодея? Должностное лицо ответило: "Что я могу тут
поделать, это приказ короля". Тогда Рабби Элазар продолжил:
"Давай я научу тебя, как поступать. Зайди в районе четырех
часов (десять часов) в харчевню; если увидишь там пьющего
вино, который держит кубок в руке и дремлет, то разузнай,
не ученый ли это, который поднялся на рассвете, чтобы
продолжить ученые занятия, не поденщик ли это, который
поднялся на рассвете, чтобы идти на работу; не ночной ли
это рабочий... если же он не относится ни к одному из этих
типов, то это вор и ты можешь его арестовать"».
Комментарий Левинаса к этому фрагменту предлагает три
интерпретации, последовательность которых постепенно
набирает метафизическую глубину. Прежде всего можно сказать, что
рабби Элазар предвидел практику современных полицейских,
которые устраивают облавы именно в злачных заведениях
и в ночные часы. Следующая интерпретация отмечает связь зла
289
и праздности и подчеркивает достоинство труда. Ну а третья
интерпретация превращает харчевню (кафе, кабаре) в
метафизическую категорию. «Кабаре, или кафе, стало составной и
существенной частью современной жизни <...>. Кафе - это открытый
дом, он как улица. Это место легкого общения, без взаимной
ответственности. Туда идут без необходимости, садятся, но не из-
за усталости, пьют, но не из-за жажды. Просто, чтобы не
оставаться у себя в четырех стенах.... Кафе - это не-место для
необщности, для общности без солидарности, без завтрашнего дня,
обязательств и общего интереса, это общность игры. Кафе - это
место, через которое игра проникает в жизнь и разлагает ее.
Общность без вчера и завтра, без ответственности и
серьезности - развлечение, разложение» (Ibid. P. 41). Кафе, таким образом,
превращается в левинасовском комментарии в метафизический
символ отказа от встречи с Другим лицом-к-лицу, отказа от
ответственности по отношению к Другому. Поэтому оно
превращается в символ зла, которым поражено современное общество.
Оно же становится символом видимости, иллюзорности. Кафе
символизирует освобождение - такое легкое, естественное - от
«плана должного», в котором не может быть встречи с Другим без
принятия на себя ответственности. Последнее, с одной стороны,
выше человеческих сил, но в то же время только это и делает
человека человеком.
След и абсолютно прошедшее прошлое
Мы обратились к некоторым из талмудических лекций Леви-
наса, чтобы показать, каким образом они могут обогатить наше
понимание его философской концепции. Были выбраны именно
эти три лекции, потому что они как раз позволяют обсуждать его
учение о встрече и признании Другого более конкретно и в
разных аспектах.
Сам Левинас в своих лекциях преследовал, по-видимому,
иные цели. Он стремился защитить Талмуд от
пренебрежительного отношения, показать глубину и богатство его истинного
содержания. Но это заставляет задуматься о том, насколько
допустимо говорить об истинном содержании текста другой эпохи.
Разве не вращаются все наши интерпретации в герменевтическом
круге? Левинас является весьма искушенным гуманитарием,
однако проблема герменевтического круга его совершенно не
заботит. Он постоянно сознается в том, что обращается с
текстами Талмуда весьма свободно. Да и как ему не сознаваться, ибо это
290
видно невооруженным глазом. Исторические обстоятельства
формирования этого корпуса текстов представляются ему
нерелевантными для их интерпретации. Он работает с
талмудическими текстами не как филолог, объясняет он. Но тут же добавляет,
что выстраиваемые им интерпретации не являются
произвольными. Они обусловлены текстом (Lévinas Е., 1977. Р. 15). Левинас
уверен в этом, хотя вся методология гуманитарного познания и
вся постмодернистская мысль, напротив, озабочены тем, что от
субъективности интерпретатора избавиться невозможно.
Смелость, с какой он манипулирует древними текстами,
можно, конечно, объяснить тем, что он сам является носителем
той традиции, к которой принадлежат комментируемые им
тексты. Однако искушенный гуманитарий должен был бы понимать,
что данное обстоятельство оказывается, скорее, ловушкой для
интерпретатора, ибо усыпляет его бдительность и побуждает
забывать, что интерпретатора и интерпретируемый текст
разделяют более чем полтора тысячелетия. Почему же Левинаса это не
беспокоит? Чтобы ответить на данный вопрос, нужно еще раз
обратиться к его пониманию истории и времени.
Хотя история и разворачивается во времени, двигаясь в нем от
прошлого к будущему, однако для этого движения существует как
его предпосылка некое абсолютно прошедшее, абсолютно
завершенное прошлое. Оно абсолютно необратимо.
Время просто прошедшее и время абсолютно прошедшее. Как
нам представляется, пониманию мысли Левинаса может служить
сопоставление с идеями Розенцвейга. Последний писал, что акт
творения мира для Бога является прошлым, но это прошлое
особого рода: глубинное, изначальное прошлое, тогда как для мира
акт Божественного творения представляет собой нечто длящееся
и присутствующее в настоящем. Глубинное прошлое обладает
особым качеством постоянного присутствия в настоящем,
которое фундирует это настоящее подобно тому, как бытие
фундирует становление.
Таким образом, можно почувствовать, что время просто
прошедшее и время абсолютно прошедшее лежат в разных
измерениях. Это позволит абсолютно прошедшему и необратимому
времени, в отличие от просто прошлого, сопровождать любое
настоящее, оставаясь при этом абсолютно необратимым, т. е. не
испытывающим воздействия со стороны настоящего. Настоящее
не может поставить его под вопрос. Напротив, это оно
обеспечивает позицию для суда над настоящим и над историей.
291
Это «абсолютно прошедшее, объединяющее все времена»,
в котором «вырисовывается вечность» (Левинас Э., 2000. С. 321).
В самом деле, время, которое необратимо и постоянно
сопровождает настоящее, - не есть ли это вечность? Для Левинаса именно
из этого измерения времени говорит Талмуд, и сам он
обращается к нему же. Поэтому временная дистанция никак не служит
препятствием для его интерпретаций, и он считает естественным
искать в Талмуде ключи к осмыслению проблем современной
культуры и экономики.
«Кто-то прошел. Его след не означает его прошлого, как не
означает и его труда или наслаждения в мире: это сам сдвиг,
отпечатавшийся с неизгладимой серьезностью» (Там же). Кто
прошел? Ответ может быть многослойным, но в конечном счете он
опирается на эпизод из главы 33 «Исхода» (эпизода, который, как
мы помним, вслед за Маймонидом комментировал и Г. Коген,
см. главу 3). Господь проходит мимо Моисея. Моисею нельзя
увидеть лица его. Господь проходит. Но остается след этого
прохождения.
Таким следом является не образ Бога в сознании Моисея,
поскольку Моисей не видел его. И Коген, и Левинас,
отталкиваясь от этого библейского эпизода, отвергают идею познания Бога
как высшей цели человека. Левинас в этом контексте отвергает
также хайдеггеровскую идею, что человек возвращается к
подлинности своего существования, вслушиваясь и всматриваясь
в трансцендентное бытие, которое ведет с ним сложную игру
раскрытия-сокрытия. «Явленный Бог иудео-христианской
духовности сохраняет в личностном порядке всю бесконечность своего
отсутствия» (Левинас Э., 2000. С. 321). Это, как нам
представляется, надо понять так, что бытие всегда «тут», всегда позитивно,
хоть и забывает самого себя. С Богом гораздо сложнее, ибо в нем
воплощается не только порядок сущего, но и порядок должного.
Бог не раскрывает, но и не скрывает себя. «Он показывается
только через след, как в главе 33 "Исхода"» (Там же).
Понятие следа призвано выразить очень сложный смысл.
С одной стороны, след указывает на того, кто его оставил,
и в этом смысле след подобен знаку. С другой стороны, след,
в отличие от знака, будучи однажды оставлен, обретает автономию
относительно того, кто его оставил, способен на самодостаточное
существование. След значим вне всякого намерения означать.
След оставлен «непроизвольно» в том смысле, что он не был
оставлен специально для того, чтобы обозначать того, кто его
292
оставил. И он отнюдь не предназначен и не может быть
использован для того, чтобы по нему прийти к постижению того, кто
оставил этот след.
Интересно, что, объясняя свою идею «следа», Левинас
ссылается не только на Писание, но и на греческую философию.
Он цитирует Плотина: «...след Единого порождает здесь
сущность, и бытие - лишь след Единого» (цит. по: Левинас Э., 2000.
С. 320). Не является ли это очередным свидетельством того, как
связаны и переплетены в его мысли «греческое» и «иудейское»
(на что указывают многие авторы, например, Деррида (Дерри-
да Ж., 2000) и Джиббс (Gibbs R., 1992).
Левинас использует понятие следа, чтобы объяснить еще раз
почему он говорит о богоявлении Лица.
Человеческое лицо, во всей его наготе и незащищенности
обращающееся ко мне: «Ты не убьешь меня» - это след Бога. То,
что лицо Другого способно предъявить мне такое требование
и я не могу уклониться от него, есть след Бога. Но это никак не
значит, что оно всего лишь знак, который надо использовать,
чтобы в нем расшифровать сущность Бога и далее уже
помышлять только об этой сущности. Тем более нелепо и
недобросовестно истолковывать Левинаса так, что якобы Другой - это
средство для того, чтобы «выслужиться» перед Богом. Не будем
забывать, что для Левинаса, как и для Розенцвейга, а до них -
Г. Ко гена, не существует понятия личного бессмертия и,
соответственно, идеи посмертного воздаяния.
Лицо, в котором сохраняется след Бога, самодостаточно. Это,
пожалуй, самая важная и сложная черта учения Левинаса.
Недаром Левинас говорит, что Лицо - это и феномен, и тран-
сценденция одновременно (Там же. С. 321).
Бог прошел, а след остался. И даже если Бога нет и мы живем
в эпоху затмения Бога, все равно не все дозволено.
Левинас, вслед за Розенцвейгом и Когеном, отказывается от
идей постижения Бога, слияния с ним или его обретения в
непосредственном внутреннем опыте или в посмертном блаженстве.
И тогда главным содержанием религиозности оказывается
чаяние социальной справедливости. Так в учениях названных
философов сохраняется традиция иудейского мессианизма.
Левинас провозглашает идеи «суда над историей», который
вершится от имени эсхатологического, или месссианского,
времени. Нам представляется, что эта идея Левинаса является
продолжением идеи Г. Когена о противопоставлении сущего и долж-
293
ного. Эсхатологическое время - время должного. Время этики,
метафизической трансценденции, время, когда осуществляется
социальная справедливость, а отношением к Другому воистину
становится гостеприимство.
Однако Коген представлял себе мессианское время как
бесконечно удаленную точку, являющуюся, тем не менее точкой,
к которой направлено реальное историческое развитие
человечества. Она лежит в том же ряду, что и реальные временные
точки, - только бесконечно далеко. В онтологии корреляции
у Когена Бог выступал гарантом того, что история имеет
направление и смысл; что субъектом истории является человечество как
целое и что история движется к преодолению разрыва между
должным и сущим.
Левинас живет в другую историческую эпоху, гораздо более
драматическую. И для него эсхатологическое время оказывается
пребывающим в другом ряду, чем реальное историческое время.
«Эсхатологическое как пребывающее "по ту сторону" истории, -
говорит он, - вырывает людей из их подчиненности истории
и будущему, оно призывает, побуждает их к полноте
ответственности. Подвергая суду историю в целом, будучи внешним по
отношению к войнам, указывающим на конец истории, оно
в каждое мгновение восстанавливает свое полное значение,
какое имеет именно в это мгновение: все основания готовы
к тому, чтобы их можно было постичь» (Левинас Э., 2000. С. 68).
В то же время, чтобы правильно постичь мысль Левинаса,
надо учесть, что для него, как и для Когена, измерение
должного - это не греза, не замок, построенный на песке.
Вневременное измерение эсхатологии пронизывает настоящее.
И если история уже не внушает оптимизма и не дает оснований
для веры в то, что она направляется самим Провидением к
определенной и возвышенной цели, если мы оказались в ситуации
«затмения Бога», все равно не все потеряно, потому что с нами
остался след. Это - лицо Другого, говорящее «Ты не убьешь»
с мягким насилием беззащитности. То есть даже в ситуации
«затмения Бога» не все дозволено. Это - единственное основание
для надежды.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Здесь нам предстоит соединить различные нити нашего
повествования и подвести некоторые итоги.
В этой работе шла речь о взаимопереплетающихся нитях
развития еврейской и западноевропейской философской мысли
с XVIII по XX век. Мы увидели, что представители
нововременной европейской философии, сохранившие верность иудаизму,
были критичны по отношению к центральным предпосылкам -
«нарративам» - философии модерна: идее прогресса,
отменяющего ценность прошлого, убеждению, что более позднее по
времени является более прогрессивным, и идее автономного
самодостаточного субъекта. Мы начинали прослеживать критику этих
идей начиная с М. Мендельсона. Огромный вклад в их
«деконструкцию» внес Герман Коген. Деконструкцию классического
понятия субъекта он реализовал и в своей логике, и в своей этике.
В то же время он разрабатывал понятие корреляции, которое, как
мы пытались показать, легло в основу в философии диалога. Что
касается идеи прогресса, то, с одной стороны, Коген обращался
к ней в своей трактовке мессианизма и провозглашении идеалов
этического социализма. Но, с другой стороны, в его жестком
разграничении сущего и должного мы можем видеть неприятие
идеи, что все более поздние продукты европейской культуры
прогрессивнее, чем более ранние формы человеческой культуры.
В философии диалога мы видим последовательную
реализацию начатой Когеном деконструкции классического понятия
самодостаточного автономного субъекта.
Философию диалога отличают следующие принципиальные
положения.
Прежде всего, она отказывается от абстракции «Я» как
изолированного самодостаточного субъекта, показывая
недостаточность и неудовлетворительность такой абстракции. На это
указывает, например, Бубер, говоря не о «Я», или «Оно», а об
295
«основных словах», каковые являются указаниями на отношения
«Я-Ты» или «Я-Оно». Такая абстракция отвергалась Когеном
и Розенцвейгом. На ее неудовлетворительность указывал и Ле-
винас в своем учении о «метафизическом желании», экстериор-
ности, плодовитости. Розенцвейг и Левинас показывали, что
такое состояние изолированности и самодостаточности -
фактичность самости (по Розенцвейгу), интериорность (по Левина-
су) - должно быть преодолено индивидом, и в этом - ключ
к решению его экзистенциальных проблем. Левинас указывал
также, что без такого преодоления, без того, чтобы индивид
вышел из своей «интериорности», невозможно даже объяснить
объективность и рациональность познания (Левинас Э., 2000.
С. 103), хотя классическая западноевропейская философия
предназначала свою абстракцию гносеологического субъекта именно
для этого.
Отношение к Другому описывается как то, что не
укладывается в рамки классических моделей западноевропейской
философии, в понятийном аппарате которой центральное место
занимают субъект-объектное отношение и отношение общего
и частного. Поскольку рассмотренные в этой работе философы,
начиная с Германа Когена, пытаются положить в основу своей
рефлексии над основаниями человеческого бытия иной тип
отношения, который «просмотрела» западноевропейская
традиция, то им приходится искать для него новые способы описания.
Отсюда - своеобразие языка Бубера, Розенцвейга или Левинаса.
При этом названные философы убеждены, что, описывая
уникальность и исключительность этого отношения, они описывают
фундаментальную характеристику человеческого бытия, а не
специфическое психологическое состояние.
Тексты Бубера, Розенцвейга или Левинаса - это не
экзальтированность или сентиментальность, а именно попытка
построения новой онтологии. И как таковая она вполне вписывается
в контекст онтологических исканий XX века.
Философия диалога к настоящему времени представлена по
преимуществу религиозными философами. Отношение Я-Ты
или отношение Я-Другой описывается, по существу, как
фундаментальный религиозный опыт. Но обратим внимание на
особенность такой религиозности. В ней нет ни грана мистического.
Она выдержана в духе кантовской «религии в пределах только
разума» и ее дальнейшей интерпретации Когеном, согласно
которой религия разума - это философское учение о человеке. Ее
296
содержание фактически сводится к нравственности. Однако в
отличие от Канта идея нравственности связывается здесь с идеями
социальности, традиции, размышлениями над смыслом истории,
над значением «суда истории» и возможностью «суда над
историей».
Отношение между человеком и Богом рассматривается
названными философами только как продолжение отношения
к Другому человеку, - отношения, пронизанного
ответственностью и заботой о справедливости. Все мыслители, о которых шла
речь в этой работе, критикуют идею, что возможен опыт встречи
с Богом или форма служения Богу, уводящая от встречи с Другим
человеком и от выполнения долга человечности и
справедливости по отношению к нему. И в этом пункте философия диалога,
ведущие представители которой являются верующими иудеями,
выступает продолжением и развитием идей кантовской этики
и религии разума.
Несмотря на то что «Я» видится фундаментально
несамодостаточным (в нем звучит «метафизическое желание» радикально
Иного), тем не менее оно рассматривается как отдельное,
самостоятельное, уникальное существо, не редуцируемое ни к какому
Абсолюту. Редукция «Я» к Абсолютному субъекту давала бы
человеческому «я» с маленькой буквы некое иллюзорное
удовлетворение и даже мотив для тщеславия (опять-таки иллюзорного,
потому что это «я» не тождественно абсолютному «Я»), но лишала бы
его уникальности и неповторимости. Не менее важно, что такая
редукция избавляла бы субъекта от его уникальной личной
ответственности.
Для философии диалога характерна попытка выразить свою
онтологию с помощью определенного ряда языковых метафор,
в первую очередь с помощью противопоставления языка и речи.
Если язык монологичен, то речь диалогична по своей сути. Речь
означает возможность обратиться к Другому или услышать
обращение ко мне. Диалог имеет место там и только там, где не
осуществляется редукция всякого особенного к Всеобщему, к
Абсолютному субъекту. Признается множественность уникальных
личностей, которым есть почему и для чего обращаться друг
к другу.
Вместе с социальностью выступает и измерение истории.
Обращение, которое слышит индивид и которое делает его
в конце концов личностью, предполагает определенные условия
своей возможности. Индивид должен осознать свое место в цепи
297
поколений. Речь идет не о простом продолжении биологической,
родовой жизни, но о том, чтобы сохранялась живая связь с
историей и с традицией. Именно благодаря этому устанавливается
связь «настоящего и вечности».
Философы диалога сами осуществляют диалог, будучи так или
иначе активными сторонниками и участниками
иудео-христианского диалога. Смысл и ценность традиции оказывается для них
не в том, что это «своя» традиция, а в том, что она имеет
общечеловеческое, нравственное содержание. Поэтому истолкование
иудаизма как этического социализма оказывается важным
элементом данной мыслительной конструкции. Именно оно
образует вневременной, вечный смысл традиции; в то же время
именно так открывается пространство для иудео-христианского
диалога.
Философия диалога, как нам представляется, ставит
проблемы, очень актуальные для современной исторической ситуации.
В этом она, разумеется, не одинока, ибо в наши дни о
необходимости диалога говорят самые разные философские,
социологические, культурологические направления. Сейчас становится
понятно, что без диалога разных культур и религий человечество
на нашей планете не выживет.
Слово «диалог» становится в современной литературе
расхожим и даже «дежурным». Но, как бы легко ни слетало с уст и
кончиков пера слово «диалог», его поддержание не становится легче.
Ведь то, чего требует от нас философия диалога, противно
глубинным психологическим механизмам нашей природы. Речь
идет не только о нашем естественном эгоизме. Против него
в достаточно многих ситуациях применимо противоядие
«разумного эгоизма», подсказывающего, что надо считаться с другими,
чтобы они считались с тобой. Но наряду с эгоизмом в
человеческой психике действуют мощные механизмы проекции и
самооправдания. И они придают неизменную убедительность
объяснению всех собственных проблем происками других, потому что
мы - хорошие, а другие - плохие. В том же направлении
работает и инфантильное стремление уходить от ответственности за
свою жизнь и свои поступки, возлагая ответственность за
собственные действия и проблемы на других. Современная жизнь
становится все сложнее и сложнее, человеческой психике все
сложнее приспосабливаться к ее вызовам. К сожалению, чем
критичнее становится ситуация, тем более человек поддается
соблазну инфантильных объяснений и механизмов проекции. Все это,
298
как нам представляется, свидетельствует о важности идей
философии диалога.
Классическая европейская философия Нового времени,
развивая учение об автономном самодостаточном субъекте, тем
самым укрепляла в личности механизмы самосознания и
ответственности. Философия диалога, критикуя это учение, в то же
время продолжает начатое им дело воспитания ответственного,
сознающего и контролирующего себя Я.
Мыслители, которым посвящена эта работа, конечно, не
столько выявляют философской рефлексией вневременную
сущность иудаизма, сколько «вливают новое вино в старые меха».
Однако при этом совершается концептуальное развитие, которое
затрагивает центральные проблемы классической европейской
философии и открывает перспективы новых онтологических
конструкций. Размышления этих мыслителей вплетаются
в общую ткань постмодернистской философии, во многом
предвосхищают ее, но в любом случае затрагивают центральные
и наиболее проблемные точки и темы нововременной
европейской философии. В духовных исканиях философов диалога, как
и в их личных судьбах, отразилась, таким образом, судьба
«проекта модерна». Поэтому они представляют благодатный материал
для философской рефлексии, которая, вскрывая связь идей
и судеб в истории, обнажая переплетение и взаимовлияние того,
что обыденное сознание привыкло противопоставлять, сама
оказывается постмодернистской по духу
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Агада. Сказания, притчи, изречения Талмуда и Мидрашей.
Перевод С.Г. Фруга. М.: Раритет, 1993.
Белов В.Н. Неокантианство Ч. 1. Возникновение
неокантианства. Марбургская школа. Саратов, 2000.
Белое В.Н. Философия культуры Канта и Когена // Историко-
философский альманах. Вып. 1. М., 2005. С. 223-232.
Белое В.Н. Система критического идеализма Германа
Когена // Вопросы философии. 2006, № 4. С. 14-150.
Бен-Шломо Й. Введение в философию иудаизма. -
Иерусалим, 1994.
Бубер М. Два образа веры. М., 1995.
Бубер М. Десять ступеней: Хасидские притчи, собранные
и изданные М. Бубером. Иерусалим, 5759. М., 1998.
Бубер М. Избранные произведения. Иерусалим: Библиотека -
Алия, 1989.
Бурдьё П. Политическая онтология Мартина Хайдеггера. М.,
2003.
Вдоеина И.С. Эмманюэль Левинас // Философы двадцатого
века. Кн. 2. М.: Искусство XXI век, 2004. С. 180-198.
Выгода Ш. Между Литвой и Афинами: Эммануэль Левинас -
философ и педагог// Новая еврейская школа. 1999. № 4. С. 15-62.
Витгенштейн Л. Лекция об этике // Историко-философский
ежегодник'89. М., 1989. С. 238-246.
Гайденко П. П. Анализ математических предпосылок научного
знания в неокантианстве Марбургской школы // Концепции
науки в буржуазной философии и социологии. М., 1973. С. 73-131.
Гайденко П. П. Прорыв к трансцендентному: Новая онтология
XX века. М., 1997.
Гайденко П.П. История греческой философии в ее связи
с наукой. М., 2000.
Гартман Н. К основоположению онтологии. СПб., 2003.
300
Гегель Г.В.Ф. Лекции по философии истории. - СПб., 1993.
Гурлянд А. Герман Коген и его философское обоснование
еврейства: Критический очерк. Петроград, 1915.
(Деррида Ж., 2000) Деррида Ж. Насилие и метафизика // Леви-
нас Э. Избранное: Тотальность и бесконечное. М, 2000, С. 367-403;
Левинас Э. Избранное: Трудная свобода, М., 2004. С. 663-732.
Дмитриева H.A. Русское неокантианство: «Марбурп> в
России. Историко-философские очерки. М., 2007.
Жучков В.А. Система кантовской философии и ее
трансформация в неокантианстве // Кант и кантианцы: Критические
очерки одной философской традиции. М., 1978. С. 10-96.
(ИФ: ЗРВ, 1998) История философии: Запад - Россия -
Восток. Кн. 3. М., 1998.
Йошпе Р. Что такое еврейская философия. М.: Мосты
культуры, 2003; Иерусалим: Гешарим, 5763.
Кант И. Критика чистого разума // Кант И. Соч. в 6 т. Т. 3. М,
1964.
Кант И. Религия в пределах одного только разума // Кант И.
Трактаты и письма. М., 1980.
(Кант, 1965 а) Кант И. Критика практического разума //
Кант И. Соч. в 6 т. Т. 4. Ч. 1. М., 1965.
(Кант, 1965 в) Кант И. Метафизика нравов в двух частях //
Кант И. Соч. в 6 т. Т. 4. Ч. 2. М., 1965. С. 107-438.
(Кант, 1965 с). Кант И. О поговорке «Может быть, это и верно
в теории, но не годится для практики» // Кант И. Соч. в 6 т. Т. 4.
Ч. 2. М., 1965. С. 59-106.
(Кант, 1966 а) Кант И. Идея всеобщей истории во всемирно-
гражданском плане // Кант И. Соч. в 6 т. Т. 6. М., 1966. С. 5-24.
(Кант, 1966 в) Кант И. Ответ на вопрос: Что такое
Просвещение? // Кант И. Соч. в 6 т. Т. 6. М., 1966. С. 25-35.
Кассирер Э. Философия Просвещения. М., 2004.
Ковельман А. Б. Толпа и мудрецы Талмуда. М., 1996;
Иерусалим, 5756.
Коэн Г. Суббота. // Евреи и еврейство: Сб.
историко-философских эссе. Иерусалим, 1991. С. 49-55.
Левинас Э. Избранное. Тотальность и бесконечность. М. СПб.,
2000.
Левинас Э. Язык веры и страх божий: урок Гемары. Брахот //
Новая еврейская школа. 1999. № 4. С. 81-98.
Левинас Э. Три статьи о еврейском образовании // Новая
еврейская школа. 1999. № 4. С. 63-80.
301
Левинас Э. Избранное: Трудная свобода. М., 2004.
Лифинцева Т.П. Философия диалога Мартина Бубера. М.,
1999.
Лифинцева Т.П. Мартин Бубер // Философы двадцатого
века. Кн. 2. М.: Искусство XXI век. С. 64-84.
Махлин В.Л. Я и Другой: истоки философии «диалога» в XX в.:
Материалы к спецкурсу. СПб.: РХГИ, 1995.
(Махлин, 1995 а) Махлин В.Л. «Первоклетка» диалогизма //
Философские науки. 1995. № 1. С. 131-136.
Махлин В.Л. Я и Другой: К истории диалогического принципа
в философии XX в. М.: Лабиринт, 1997.
Махлин В.Л. Розенцвейг // Культурология. XX век.
Энциклопедия. Т. 2. М., 1998. С. 173-175.
Меир Р. Франц Розенцвейг - философ, возвратившийся к
вере: Фрагменты из книги «Звезда Якова» // Еврейская школа.
СПб., 1995. №2/3. С. 31-41.
Наместникова Л.В. Проблема веры и знания в диалогической
философии Франца Розенцвейга / Дисс. ... канд. филос. наук.
Волгоград, 2001.
Наместникова Л. Франц Розенцвейг и его философия
образования // Еврейское образование. Москва; Иерусалим. 2001. № 2.
С. 65-80.
Пажерайте А. Найденные документы в архиве Каунасского
округа о семье Э. Левинаса // Материалы Девятой ежегодной
Международной междисциплинарной конференции по иудаике.
Тезисы. М., 2002. С. 36-37.
ПеруцЛ. Мастер Страшного Суда. СПб.: Кристалл, 2000.
Пигалев А. И. Диалог и философия диалога в современной
культуре: усмотрение оснований // Диалоги культура
современного общества. Волгоград, 2001. С. 5-31.
Пигалев А.И. Философия диалога между Востоком и
Западом // Бахтинский сборник. Вып. 3. М., 1997. С. 341-347.
Пигалев А.И. Проблема целого и части в философии Франца
Розенцвейга // Вестник Еврейского университета в Москве. 2002.
№ 7 (25).
Платон. Государство// Платон. Соч. в 3 т. Т. 3. Ч. 1. М., 1971.
Поляков Л. История антисемитизма: Эпоха знаний. Москва,
1998; Иерусалим, 5758.
Рено А. Эра индивида: к истории субъективности. СПб., 2002.
Решетников М.М. Социальный активизм и терроризм в
Европе // Философские науки. 2006. № 4. С. 5-16.
302
Розенцвейг Ф. Об одном месте из диссертации М. Бубера //
Философские науки. 1995. № 1. С. 136-139.
Розенцвейг Ф. Новое мышление // Махлин В.Л. Я и Другой:
истоки философии «диалога» XX века. СПб., 1995.
Розенцвейг Ф. Страх смерти и философское мировоззрение (из
кн.: «Звезда Спасения») // Философские науки. 1993. № 4-6.
Розенцвейг Ф. «Время... действовать». Размышления о
проблеме современного еврейского образования // Еврейское
образование. Москва; Иерусалим. 2001. № 2. С. 81-116.
Розеншток-Хюсси Ой. Язык рода человеческого. М; СПб., 2000.
Розеншток-Хюсси Ой. Тебя и Меня (Учение или Мода?) //
Розеншток-Хюсси Ой. Бог заставляет нас говорить. М., 1998.
С. 119-133.
Рубинштейн С.Л. О философской системе Г. Когена //
Историко-философский ежегодник 92. М., 1994. С. 230-259.
Сафронов П.А. Онтология феномена. М., 2007.
Сафронов П.А., Фролов A.B. Сознание мира и онтологический
опыт // Вестник МГУ. Серия 7. Философия. 2007. № 3.
Смирнов А. Возможно ли понимание еврейской философии
как единой традиции? // (Йошпе Р., 2003) С. 118-125.
(СБФ, 1972) Современная буржуазная философия. / Под ред.
A.C. Богомолова, Ю.К. Мельвиля, И.С. Нарского. - М., 1972.
Спиноза Б. Богословско-политический трактат // Спиноза Б.
Об усовершенствовании разума. М.; Харьков, 1998. С. 209-486.
Факенхайм Э. Освенцим как вызов философии и теологии //
Еврейское образование. Москва; Иерусалим. 2001. № 2. С. 245-262.
Флуссер Д. «Люби людей!»: У истоков еврейского
гуманизма//Вестник Еврейского университета. М., 1999. Иерусалим,
5759. № 1 (19). С. 194-201.
Франк С. Мистическая философия Розенцвейга // Путь:
Орган русской религиозной мысли. Кн. 1 (I—VI). М.: Информ-Про-
гресс, 1992. С. 252-259.
Хайдеггер М. Время и бытие: Статьи и выступления / Сост.
и пер. В.В. Бибихина. М., 1993.
Хайдеггер М. Бытие и время / Пер. В.В. Бибихина. М., 1997.
Щитцова Т. В. Memento nasci: Сообщество и генеративный
опыт (Штудии по экзистенциональной антропологии). Вильнюс,
2006.
Эмманюэль Левинас: Путь к Другому. Сб. статей и переводов,
посвященный 100-летию со дня рождения Э. Левинаса. - СПб.,
2006.
303
Яковенко Б. В. О теоретической философии Германа Когена //
Яковенко Б.В. Мощь философии. СПб., 2000. С. 424-472.
Ямпольская А. Вклад Левинаса в феноменологию и в
деконструкцию феноменологии //Логос. 2004. № 1 (41). С. 88-104.
Atlan H. Entretien avec Henri Atlan // Cahiers d'Etudes
Lévinassiennes. - Arcueil - Jérusalem, 2007. № 6. P. 137-160.
L'Autre: Etudes réunis pour Alfred Grosser/ Sous la direction de
Bertrand Badie et Marc Sadoun. P.: Presses des sciences politiques, 1996.
BaînitzJky L. Idolatry and representation: The philosophy of Franz
Rozenzweig reconcidered. Princeton, 2000.
Bauer J. E. A note concerning Rosenzweig and Levinas on Totality //
Jewish philosophy and the Academy / Ed. by Fackenheim E.L. a
Jospe R. Madison etc., Associated univ. press. P. 136-139.
Bienenstock M. Franz Rosenzweig et sa critique des philosophies de
l'esprit // Revue de métaphysique et de morale. P., 1999. № 3.
P. 291-312.
(CEU): Ritual and commandment in Jewish thought and in the
modern period. Reading for the participants of the CEU Summer
University, 10-28 July 2000, Budapest.
Cohen H. Kant's Theorie der Erfahrung. Dritte Aufl. В., 1918.
Cohen H. Ethik des reinen Willens. Dritte Aufl. В., 1921.
Cohen H. Das Princip der Infinitesimal-Methode und seine
Geschichte. В., 1883.
(Cohen H, 1924 a) Cohen H. Was einigt die Konfessionen? //
Hermann Cohens Judische Schriften. В., 1924. Bd. 3. S. 66-86.
(Cohen H, 1924 b) Cohen H. Innere Beziehungen der Kantischen
Philosophie zum Judentum // Hermann Cohens Judische Schriften.
В., 1924. Bd. l.S. 284-305.
(Cohen H, 1924 c) Cohen H. Characterise der Ethik Maimuns //
Hermann Cohens Judische Schriften. В., 1924. Bd. 3. S. 221-289.
Cohen H. Religion der Vernunf aus den Quellen des Judentums.
Frankfurt am Main, 1929.
Cohen R.A. What good is the Holocaust? On suffering and evil //
Philosophy today Chicago, 1999. Vol. 43. № 2. P. 176-183.
Cohen R.A. Levinas, Rosenzweig, and the phénoménologies of
Husserl and Heidegger // Jewish philosophy and the Academy / Ed. by
Fackenheim E.L. a Jospe R. - Madison etc., Associated univ. press.
P. 117-135.
Cohen R.A. Uncovering the «Difficult universality "of the Face-To-
Face» // Cahiers d'Etudes Lévinassiennes. Arcueil; Jérusalem, 2007.
№6. P. 93-115.
304
Contemporary Jewish religious thought / A A Cohen, P. Mendes-
Flohreds. N.Y. etc., 1972.
Davoser Disputation zwischen Ernst Cassirer und Martin
Heidegger// Heidegger M. Kant und das Problem der Metaphysik.
Frankfurt am Main, 1973. S. 246-268.
Dennes M. Emmanuel Levinas en France. La place de la
Russie //Евреи России - иммигранты Франции (Les juifs russes -
immigrants en France). Париж; Иерусалим, 2000. С. 69-98.
Derrida J. Adieu a Emmanuel Lévinas. P., 1997.
Deuber-Mankowsky A. Der frühe Walter Benjamin und Hermann
Cohen: Jüdische Werte, kritische Philosophie, vergängliche
Erfahrung. В., 2000.
Dussel E. «Sensibility» and «otherness» in Emmanuel Levinas //
Philosophy today. Chicago, 1999. Vol. 43. № 2. R 127-134.
Eisen A.M. Rethinking modern Judaism: Ritual, Commandment,
Community. Chicago; L., 1998.
Fackenheim E. Philosophical considerations and the teaching of the
Holocaust // Jewish philosophy and the Academy / Ed. by
Fackenheim E.L. a Jospe R. - Madison etc., Associated univ. press.
P. 191-203.
Friedman M. Martin Buber's life and work. Detroit, 1983.
Gay P. Freud, Jews & other Germans. N.Y: Oxford univ. press,
1978.
Gibbs R. Correlations in Rosenzweig and Levinas. Princeton, New
Jersey, 1992.
Glatzer N.N. Rosenzweig Franz: his life and thought. N.Y, 1961.
Glatzer NN. Foreword // Rosenzweig Fr. The Star of Redemption.
Notre Dame, L., 1985. P. ix-xvii.
Goldstein W.S. Messianism and Marxism: Walter Benjamin and
Ernst Bloch 's dialectical theories of secularization // Critical sociology.
2001. Vol. 27. №2. P. 246-281.
Greenberg G. Nineteenth-century Jewish thought as Shevirat ha-
kelim (Shattering of the Vessels) // Jewish philosophy and the
Academy/ Ed. by Fackenheim E.L. a Jospe R. - Madison etc., Associated
univ. press. P. 100-114.
Guttmann J. Philosophies of Judaism: The history of Jewish
philosophy from Biblical times to Franz Rosenzweig. N.Y; Chicago; San
Francisco, 1964.
Habermas J. Der deutsche Idealismus der jüdischen Philosophen//
Porträts deutsch-jüdischer Geistesgeschichte. Hrg. von Th. Koch.
Köln, 1961. S. 99-125.
305
Handelman S. A Fragments of redemption: Jewish thought and
literary theory in Benjamin, Scholem, and Levinas. Bloomington,
Indianapolis, 1991.
Hansel G Emmanuel Lévinas (1906-1995) // Philosophy today.
Chicago, 1999. Vol. 43. № 2. P. 121-125.
Harris J.M. How do we know this? Midrash and the fragmentation
of the modern Judaism. N.Y., 1995. P. 103-137.
(HJPh): History of Jewish philosophy. L.: Routledge etc., 1997.
/del M. New perspectives on Kabbalah. New Haven; L.: Yale univ.
press, 1988.
In Verantwortung vor der Geschichte; Besinnung auf die jüdischen
Wurzeln des Christentums / Eingel. u. hrsg. \bn Hover G.; Mit Beitr.
Von Moses S. Et al. Bonn: Borengässer, 1999.
Kluback W. The idea of Humanity: Hermann Cohen's legacy to
philosophy and theology. Lanham; N.Y.; L., 1987.
Larochelle G Lévinas and the Holocaust: The responsibility of the
victim // Philosophy today. Chicago, 1999. Vol. 43. № 2. P. 184-194.
Lescourret M.-A. Emmanuel Lévinas. P.: Flammarion, 1994.
Lévinas E. A l'heure des nations. P., 1988.
Lévinas E. «A l'image de Dieu» d'après Rabbi Haim Voloziner //
Au-delà du verset. P.: Minuit, 1982. P. 182-200.
Lévinas E. Du sacré au saint: Cinq nouvellles lectures talmudiques.
P., 1977.
Lohmann I. Über die Anfänge bürgerlicher Gesprächskultur -
Moses Mendelssohn (1729-1786) und die Berliner Aufklärung //
Pädagogische Rundschau, 1992. Bd. 46/ № 1. S. 35-49.
Meir E. Lévinas's thinking on religion as beyond the pathetic:
reflections on the first part of Difficult freedom // Jewish philosophy and the
Academy / Ed. by Fackenheim E.L. a Jospe R. Madison etc.,
Associated univ. press. P. 142-163.
Mendelssohn M. Jerusalem or On the religious power and Judaism //
Jerusalem and the other Jewish writings by Moses Mendelssohn. /
Transi, and ed. by A Jospe. N.Y., 1969. P. 11-109.
Mendelssohn M. Philosophical writings. Cambridge, 1997.
Mendes-Flohr P. German Jews: a dual identity. New Haven; L.: Yale
univ. Press, 1999.
Mosés St. L'idée de l'infini en nous // Répondre d'autrui Emmanuel
Lévinas/Textes réunis par J.- Ch. Aeschlimann. Boudry; Neuchâtel. P. 41-51.
Motzkin G. The problem of knowledge in Hermann Cohen's
philosophy of religion // Hermann Cohen's philosophy of religion / Ed. by
St. Moses and H. Wiedelbach. Hidelheim etc., 1997. P. 145-160.
306
Ohne Angst verschieden sein: Muslime, Juden u. Christen in
Deutschland begegnen sich: Dokumentation der ökumenischen Sommeruniv. In
der Evangelischen Akad. Loccum vom 15 bis 24 Juli 1997 / Hrsg.: An-
helm FE., Fritsch-Oppermann S. Loccum, 1997.
Der Philosoph Franz Rosenzweig (1886-1929) / Hrg. Wolfdietrich
Schmied-Kowarzik. Munich: Verl. Karl Albert, 1988.
The philosophy of Franz Rosenzweig / Ed. by P. Mendes-Flohr. -
Hanover and London: Univ. press of New England for Brandeis univ.
press, 1988.
Рота A. The critical philosophy of Hermann Cohen. Albany, N.Y.,
1997.
Poma A. Yearning for Form and other Essays on Hermann Cohen's
Thought. Dordrecht, 2006.
Putnam H. Introduction // Rosenzweig Fr. Understanding the sick
and the healthy: A view of world, man and God. Cambridge, London.
1999.
Rose G. Hermann Cohen - Kant among the Prophets // Judaism
and Modernity: Philosophical essays. Oxford; Cambridge, 1993. -
P. 111-126.
(Rosenzweig Fr., 1957 a) Rosenzweig Fr. Vertauschte Fronten //
Rosenzweig Fr. Kleinere Schriften. 1957. S. 354-356.
(Rosenzweig Fr., 1957 b) Rosenzweig Fr. «Urzelle» des Stern der
Erlösung// Ibid. S. 357-372/
(Rosenzweig Fr., 1957 c) Rosenzweig Fr. Das neue Denken // Ibid.
S. 373-398.
Rosenzweig Fr. Einleitung // Hermann Cohens Judische
Schriften. В., 1924. Bd. 1. S. XIII-LXIV
Rosenzweig Fr. The Star of Redemption. Notre Dame, L., 1985.
Rosenzweig Fr. Der Mensch und sein Werk: Gesammelte Schriften.
The Hague: Martinus NijhofT. 1974-1984.
Rosenzweig Fr. Understanding the sick and the healthy: A view of
world, man and God // with a new introduction by Hilary Putnam.
Cambridge; London. 1999. (перевод на англ. работы: Das Büchlein
vom gesunden und kranken Menschenverstand).
Rotenstreich N. Jewish philosophy in Modern Times: From
Mendelsohn to Rosenzweig. N.Y., Chicago, San Francisco, 1968.
Sikka S. How not to read the other: «All the rest can be
translated» // Philosophy today. Chicago, 1999. Vol. 43. № 2. P. 195-206.
Sal. Ludw. Steinheims «Offenbarung nach dem Lehrbegriff der
Synagoge». ITeil: Das Steinheimsche System der Offenbarungskritik.
Berlin, 1930.
307
Torah - Nomos - Jus: Abendlandischer Antinomismus und Traum
von herrschaftsfreien Raum. В., 1999.
Waite G On esotericism. Heidegger and/ or Cassirer at Davos //
Political theory. 1998. \Ы. 26. № 5. P. 603-651.
Wijnans E.P. What is Enlightenment, and Counter
Enlightenment? // Esoteric and science news, 2003. March 6.
Zac S. La philosophie religieuse de Hermann Cohen / Avant-prop.
de Ricoeur P. - P., 1984.
Zank M. The idea of Atonment in the philosophy of Hermann
Cohen. Providence, 2000.
Содержание
Введение 5
Глава 1. Иудаизм и вызов Просвещения: Кант versus
Мендельсон 10
Глава 2. Трансформация Кантовой системы у Германа Когена
Жизненный путь 37
«Онтологический поворот» и его отличительная черта 45
Истолкование «вещи самой по себе» 48
Отличие диалектики Когена от диалектики Гегеля 54
Критический пересмотр метафизического понятия субъекта . .58
Глава 3. Религиозная философия Г. Когена:
иудаизм как этический монотеизм 69
С.Л. Штейнхейм об антагонистическом отношении веры и разума .. .71
Что объединяет конфессии? 78
Философия Канта и иудаизм 87
Идея религии разума и ее обоснование 94
Понимание Бога в религии разума. Религия разума как монотеизм . .101
Открытие ближнего (Mitmensch) в другом человеке (Nebenmensch) . 116
Открытие индивидуального человеческого «Я» в религии разума ... .122
Мессианизм как кульминация религии разума 130
Идея корреляции как фундамент новых онтологических
построений 132
Глава 4. Франц Розенцвейг: от гегелевской триады
к звезде Давида; от диалектического снятия - к диалогу
Судьба и творчество 134
Основные принципы «нового мышления» 147
Вечно пребывающие элементы 154
Путь навстречу друг другу 170
Облик спасенного бытия 187
309
Глава 5. Эмманюэль Левинас: этика как первая философия
Судьба в контексте Холокоста и четырех великих культур 200
Философия тотальности. Проблема насилия и его преодоления 213
От безличного бытия — к метафизическому желанию 220
Бесконечное и трансценденция 233
Отделение и интериорность 244
Метафизическое желание, плодовитость и история как время
Другого 249
Глава 6. «Встреча с Другим» в талмудических лекциях Э. Левинаса
Талмудические интерпретации, феноменология и
герменевтический метод 253
Партикулярное и универсальное. Афины и Израиль 258
«Десакрализация и разводшебствление» 265
Преодоление отчуждения и социальная справедливость 279
След и абсолютно прошедшее прошлое 290
Заключение 295
Список использованной литературы
300
Сокулер Зинаида Александровна
Герман Коген и философия диалога