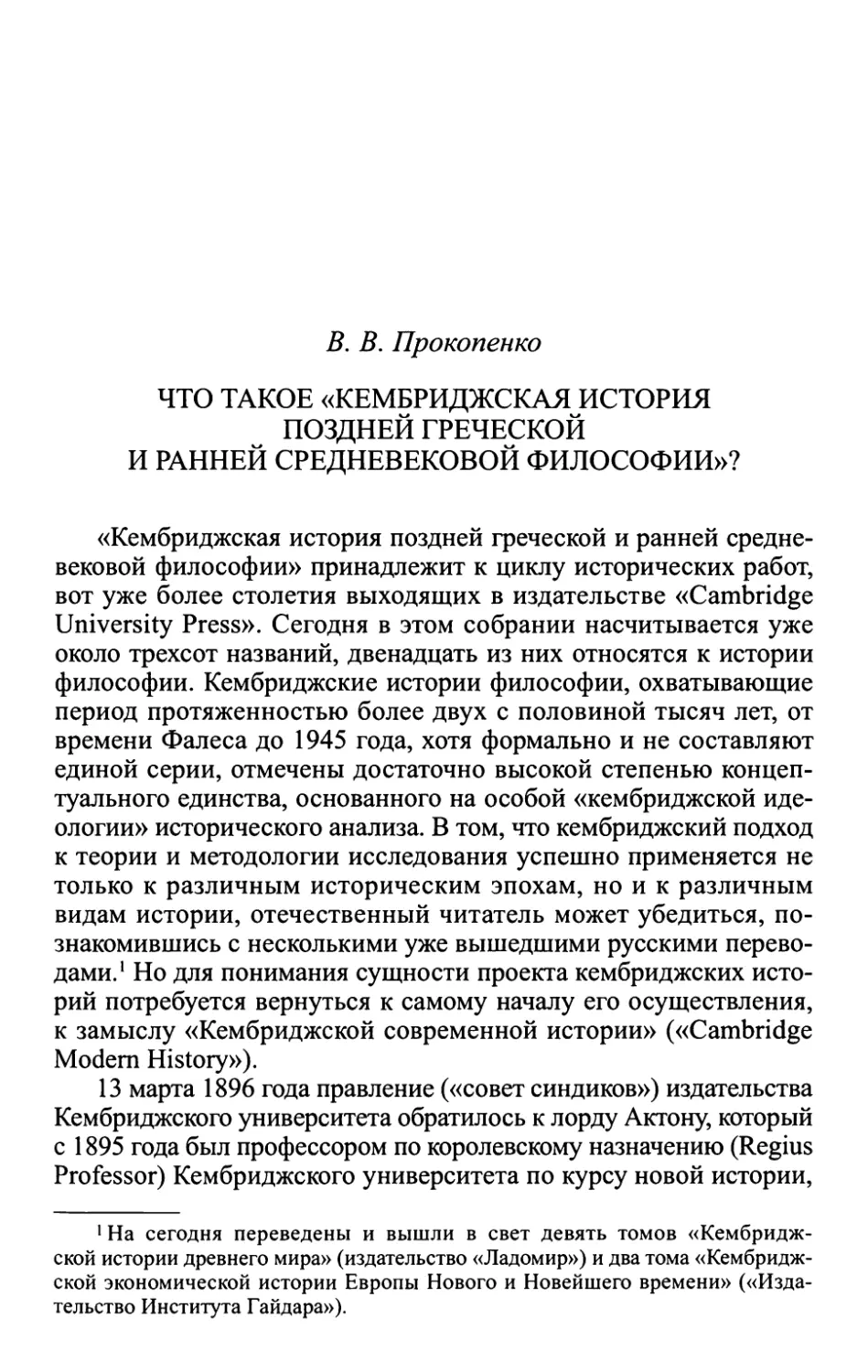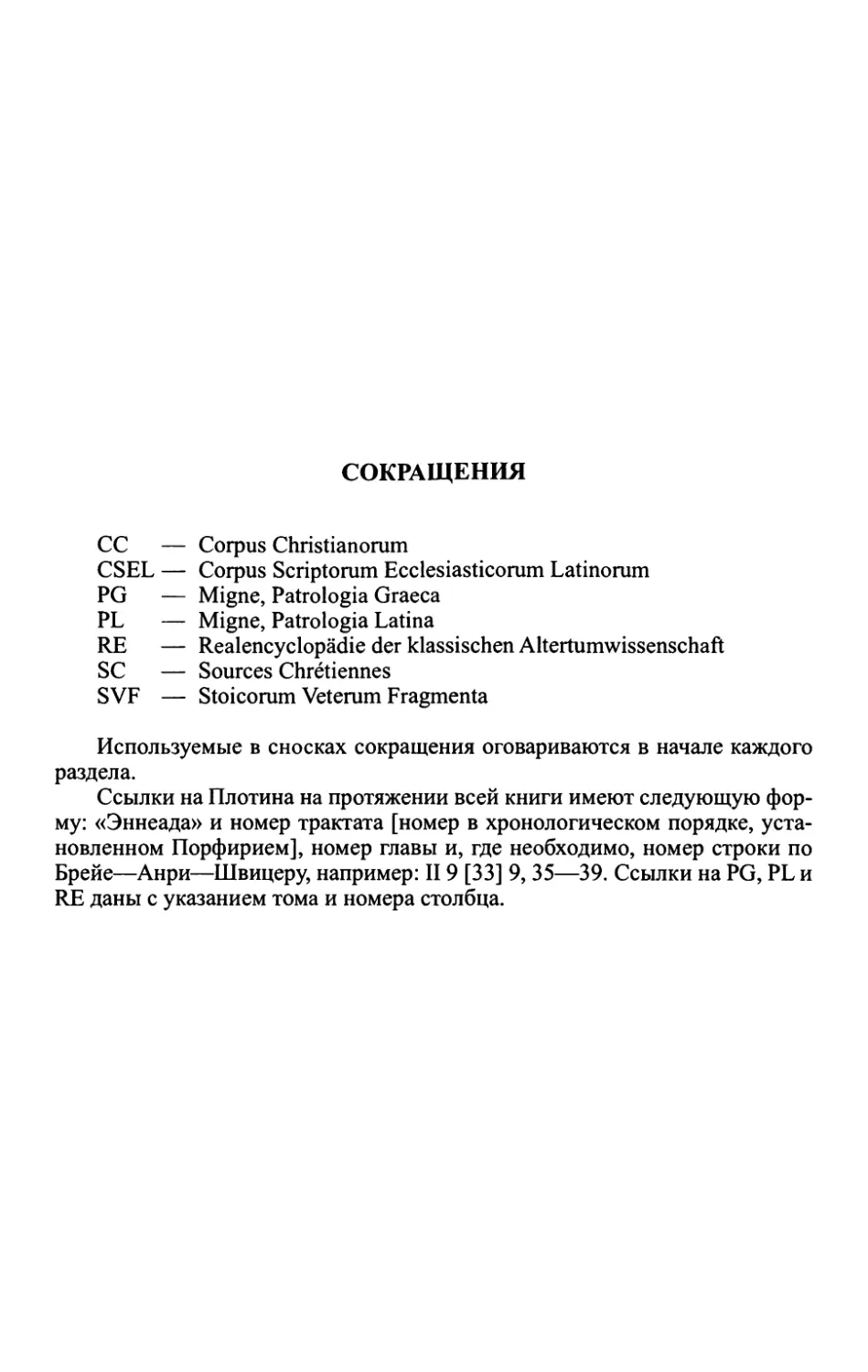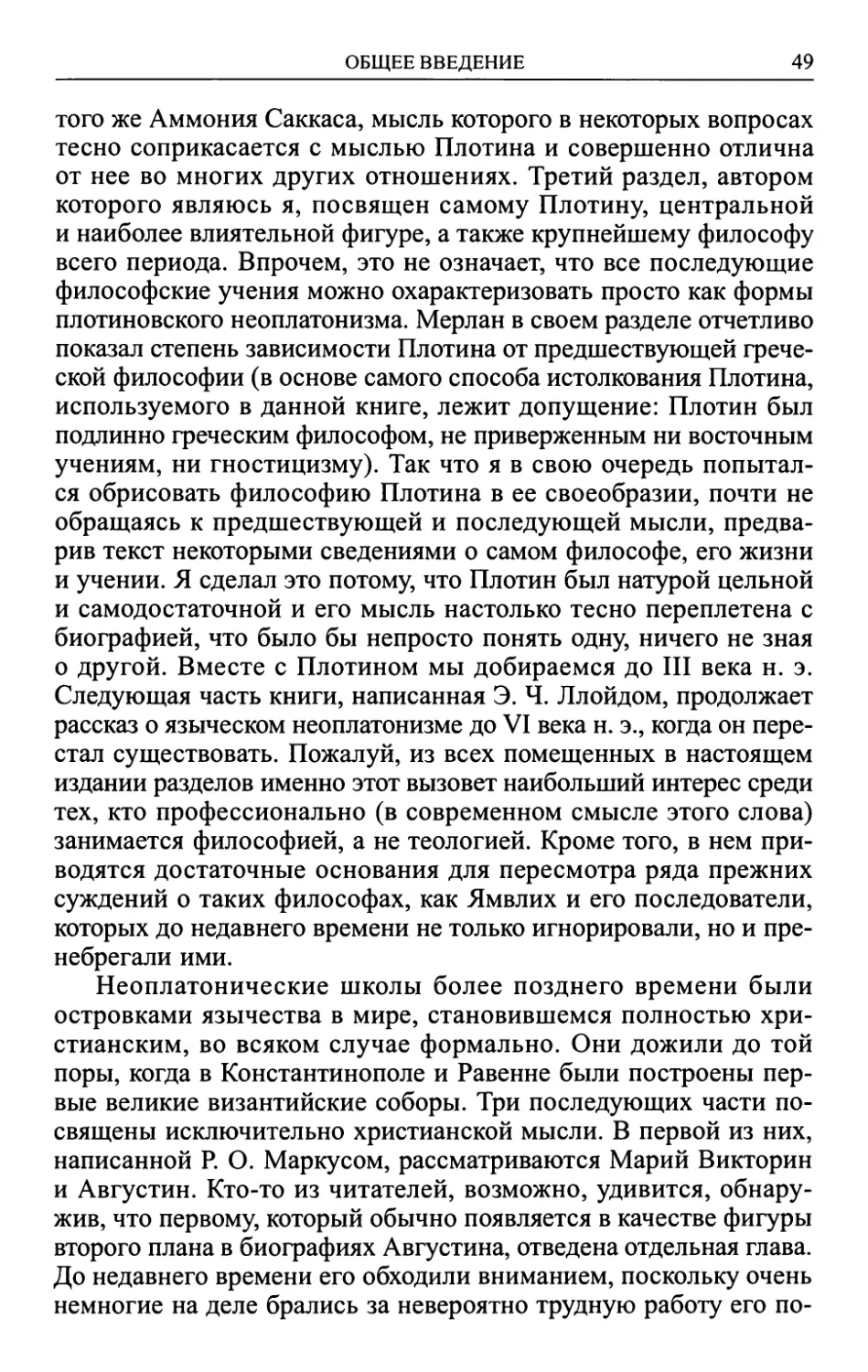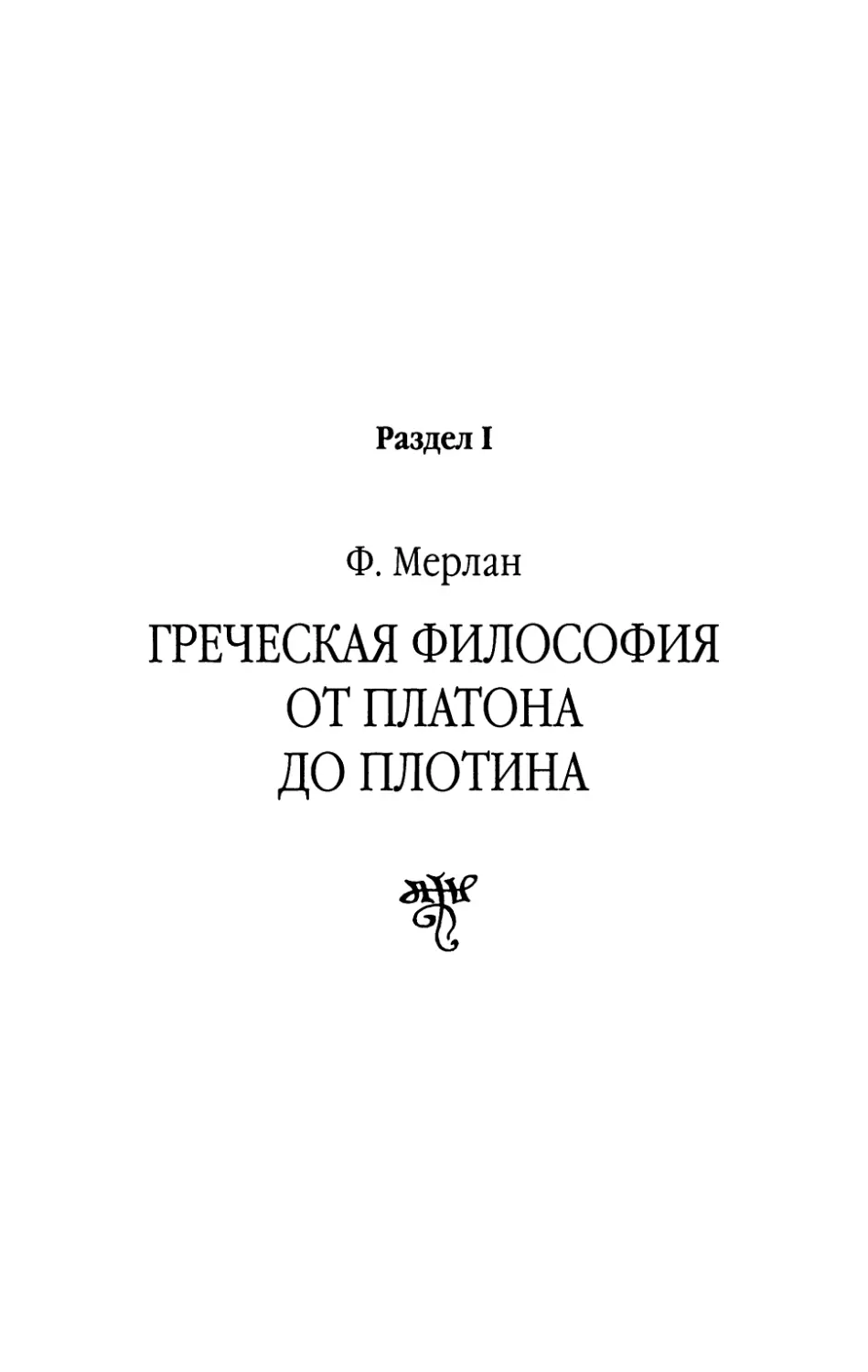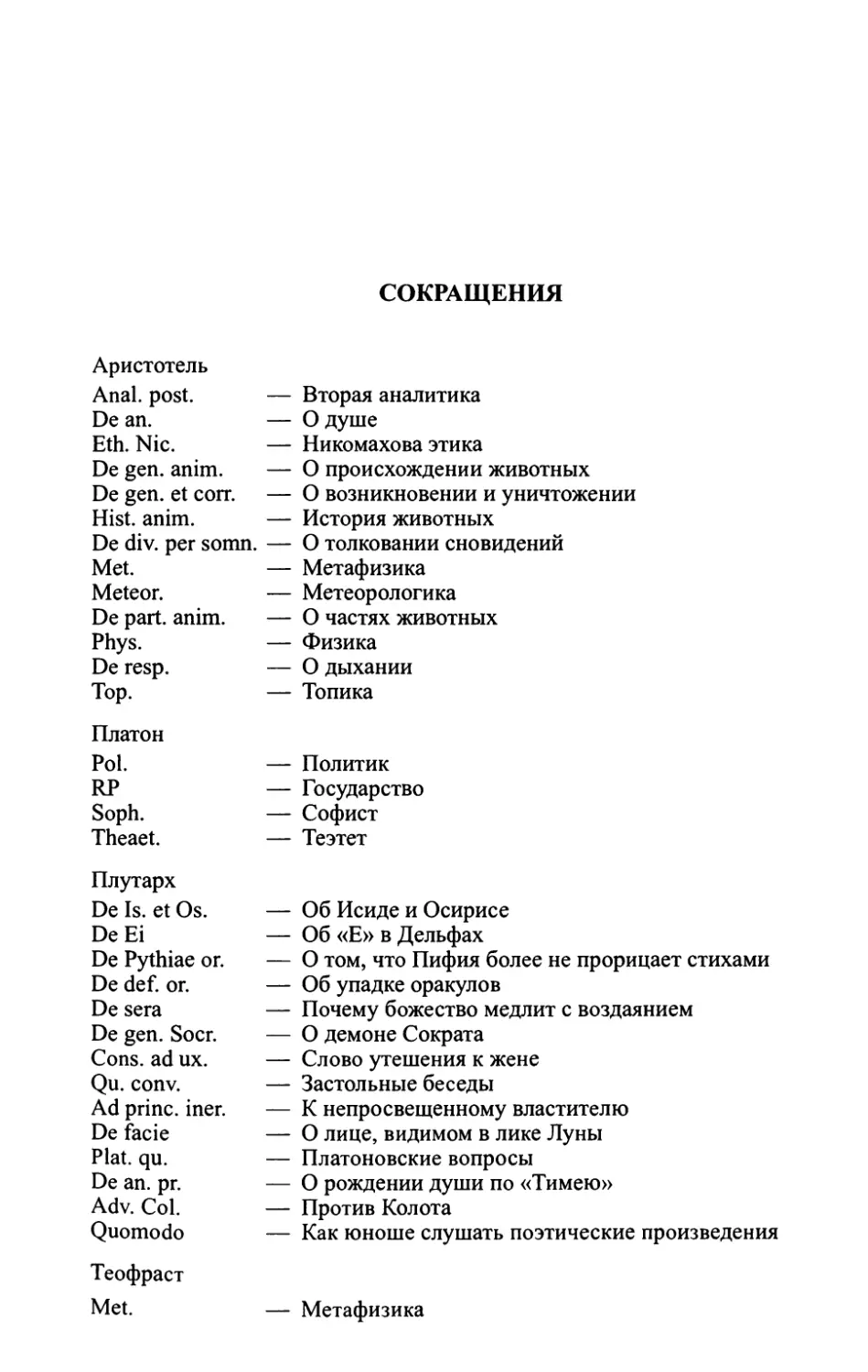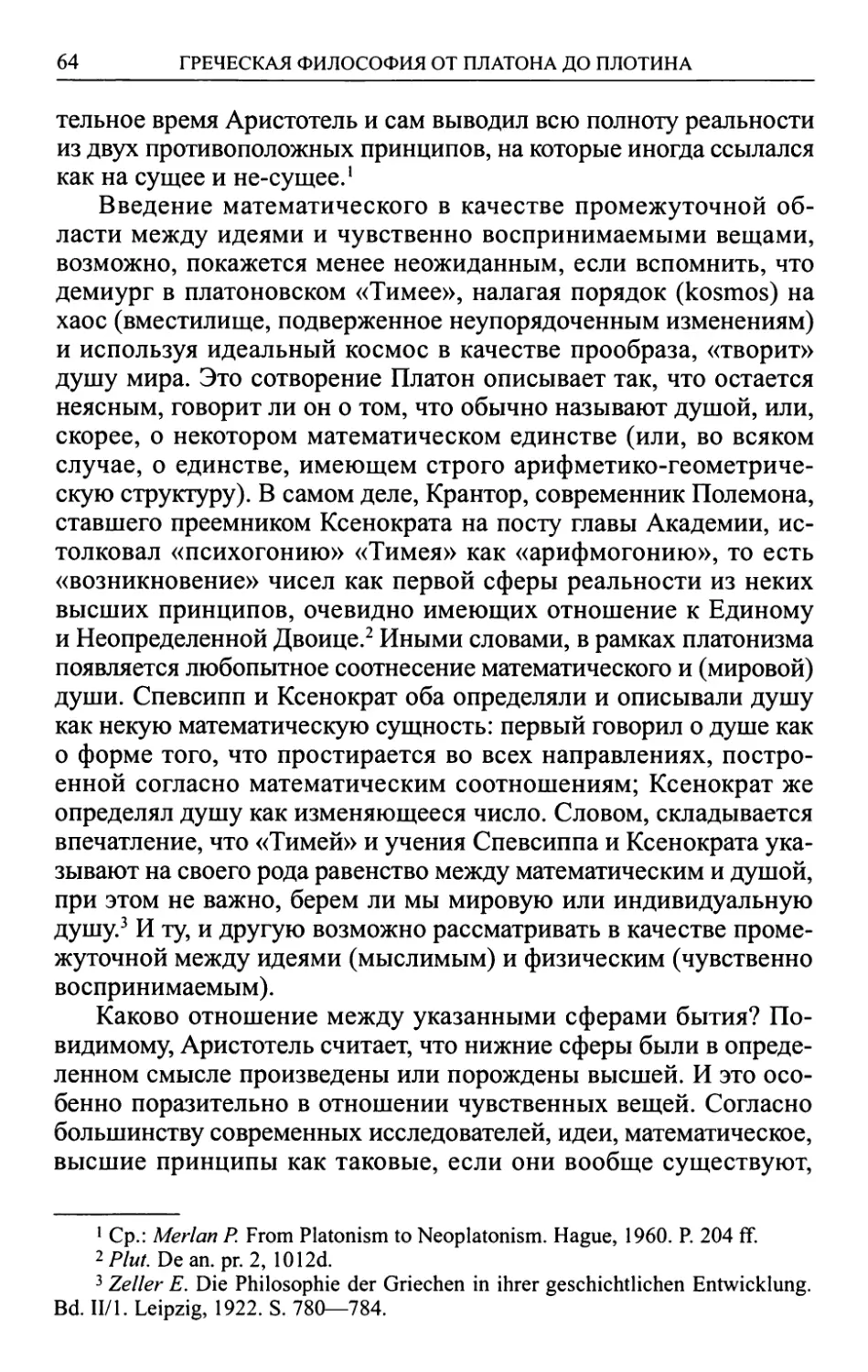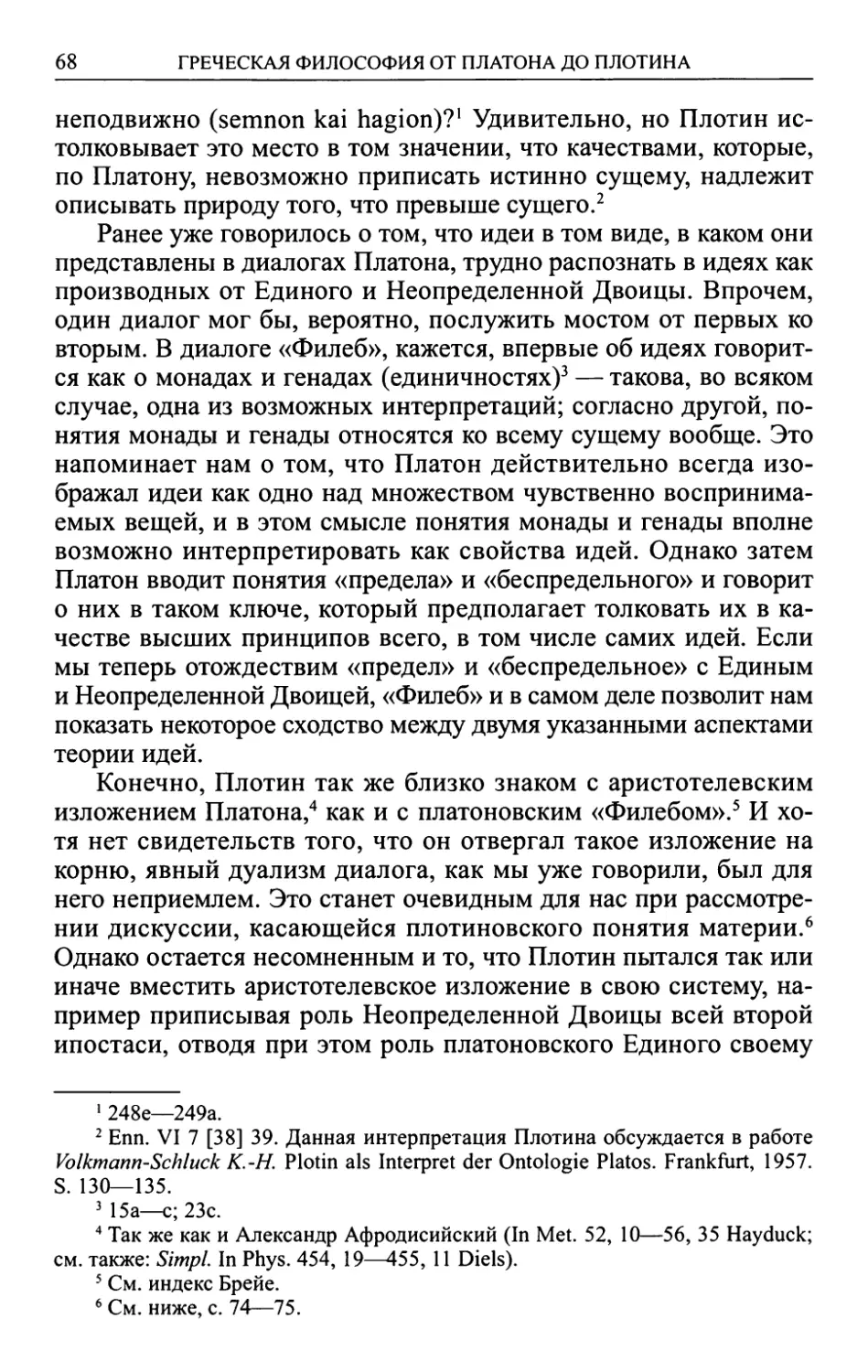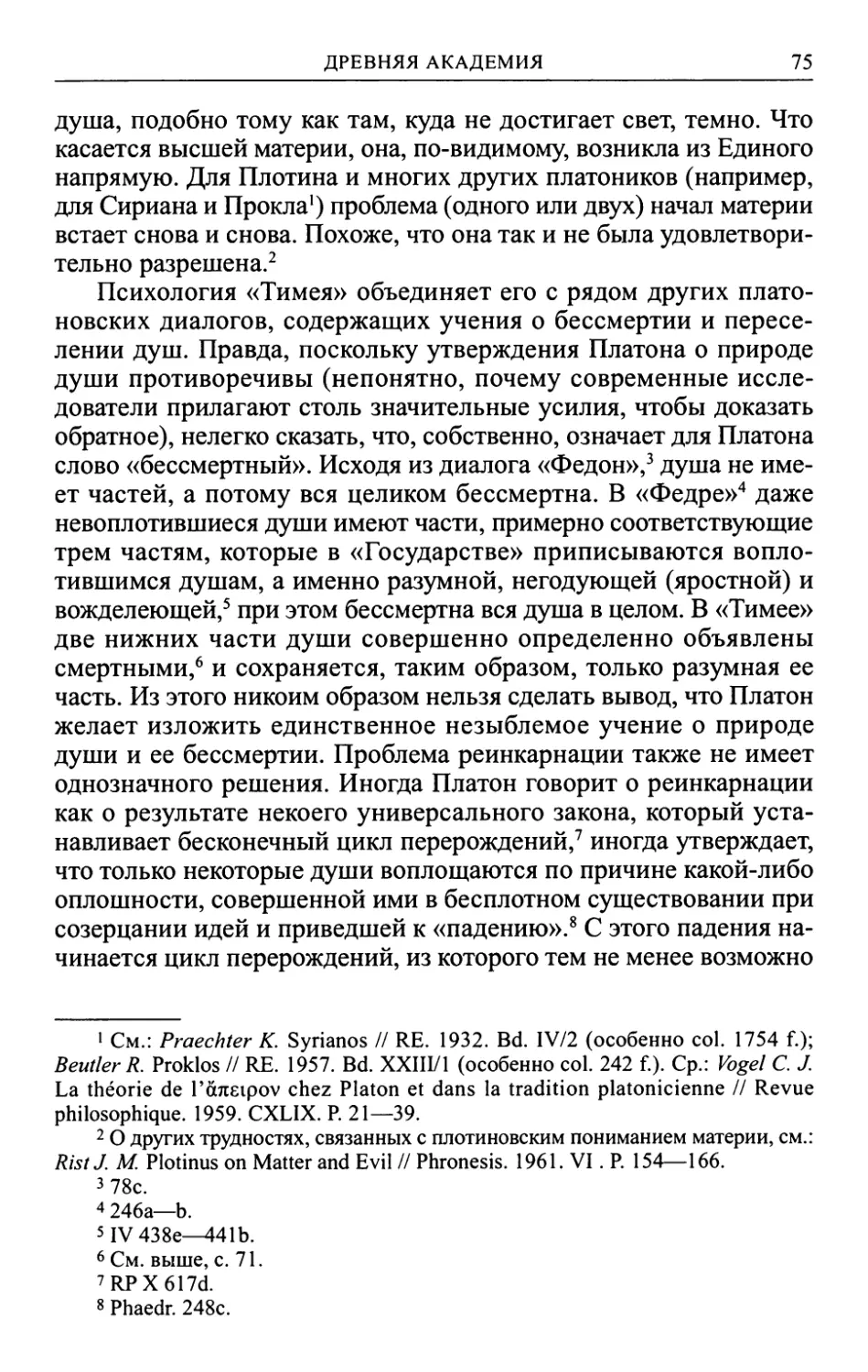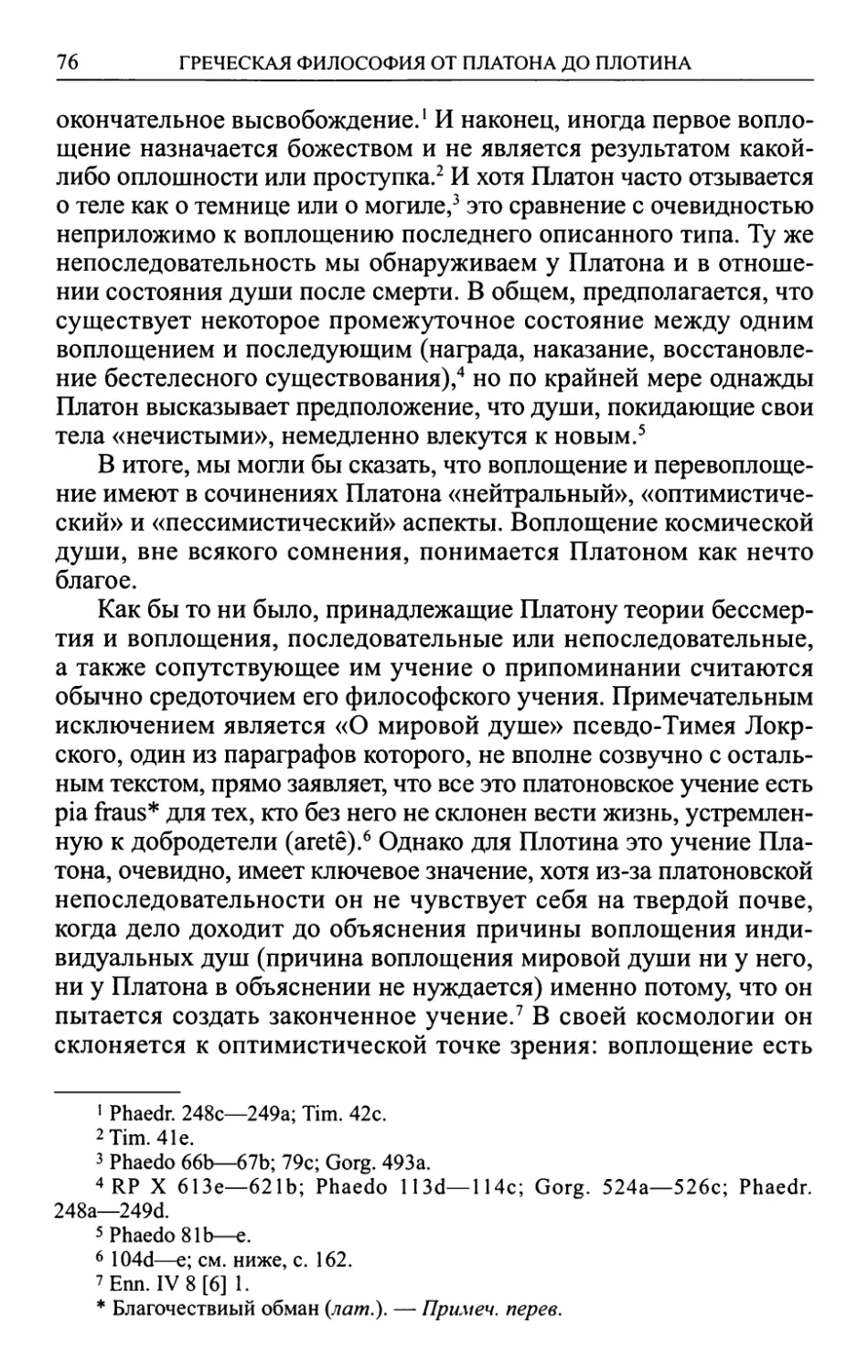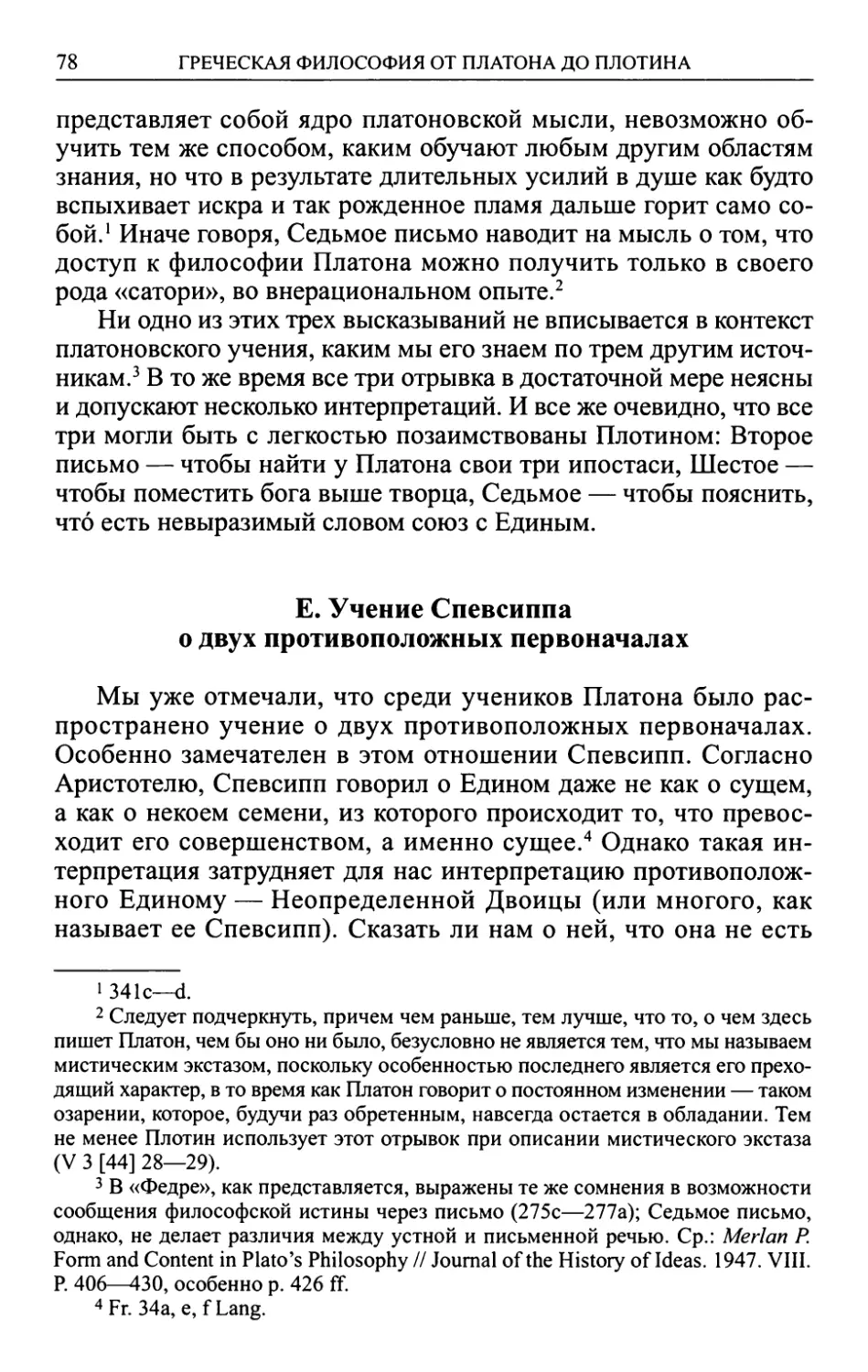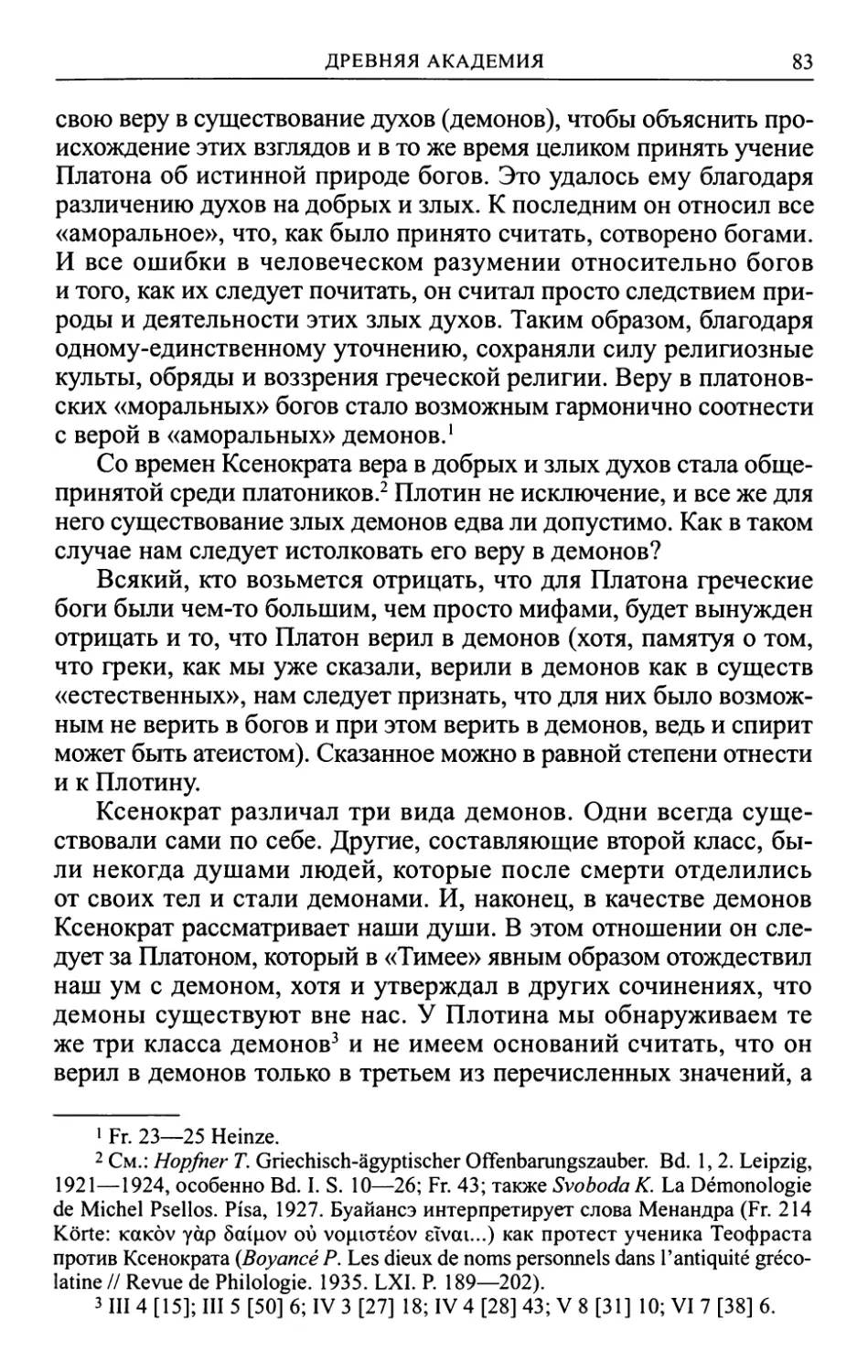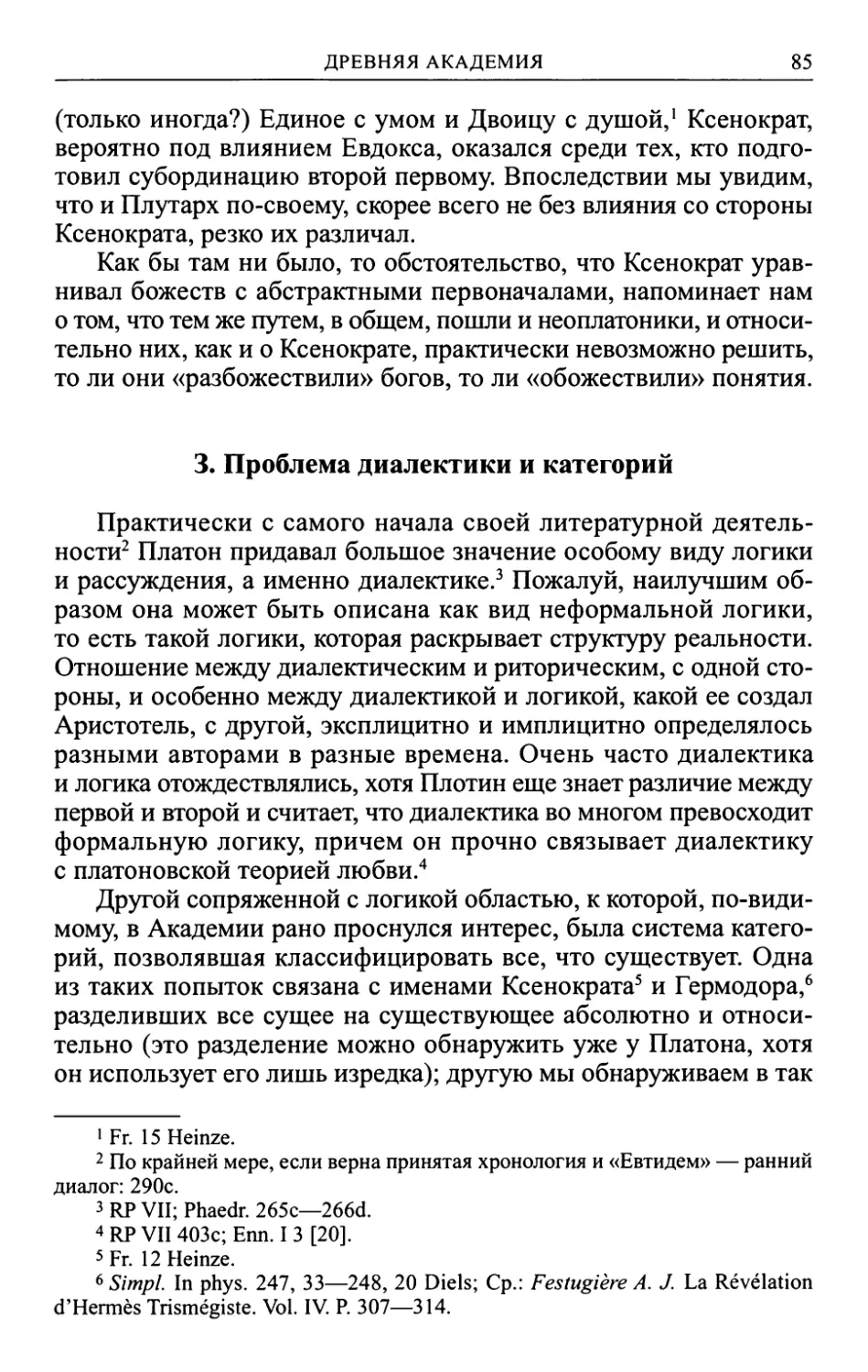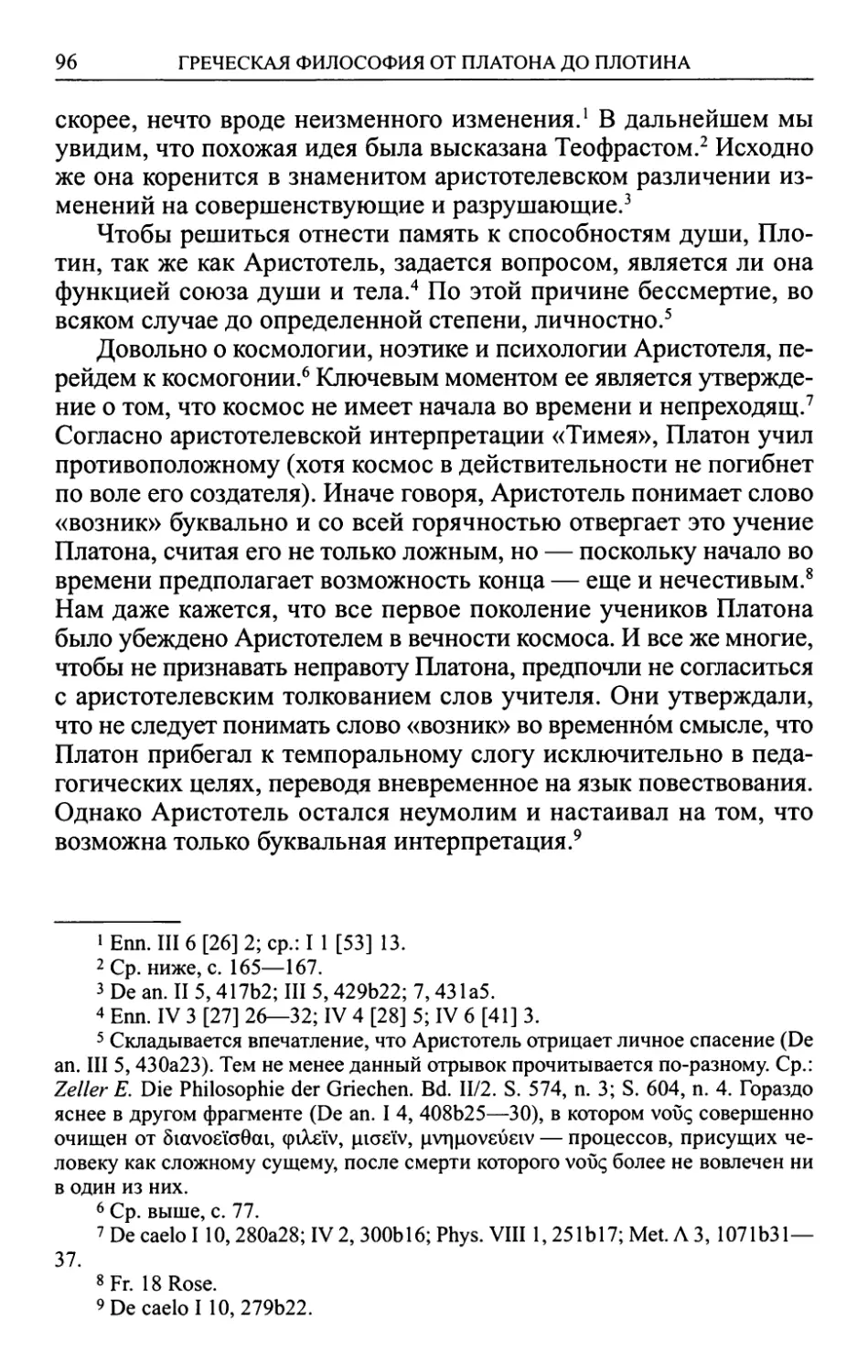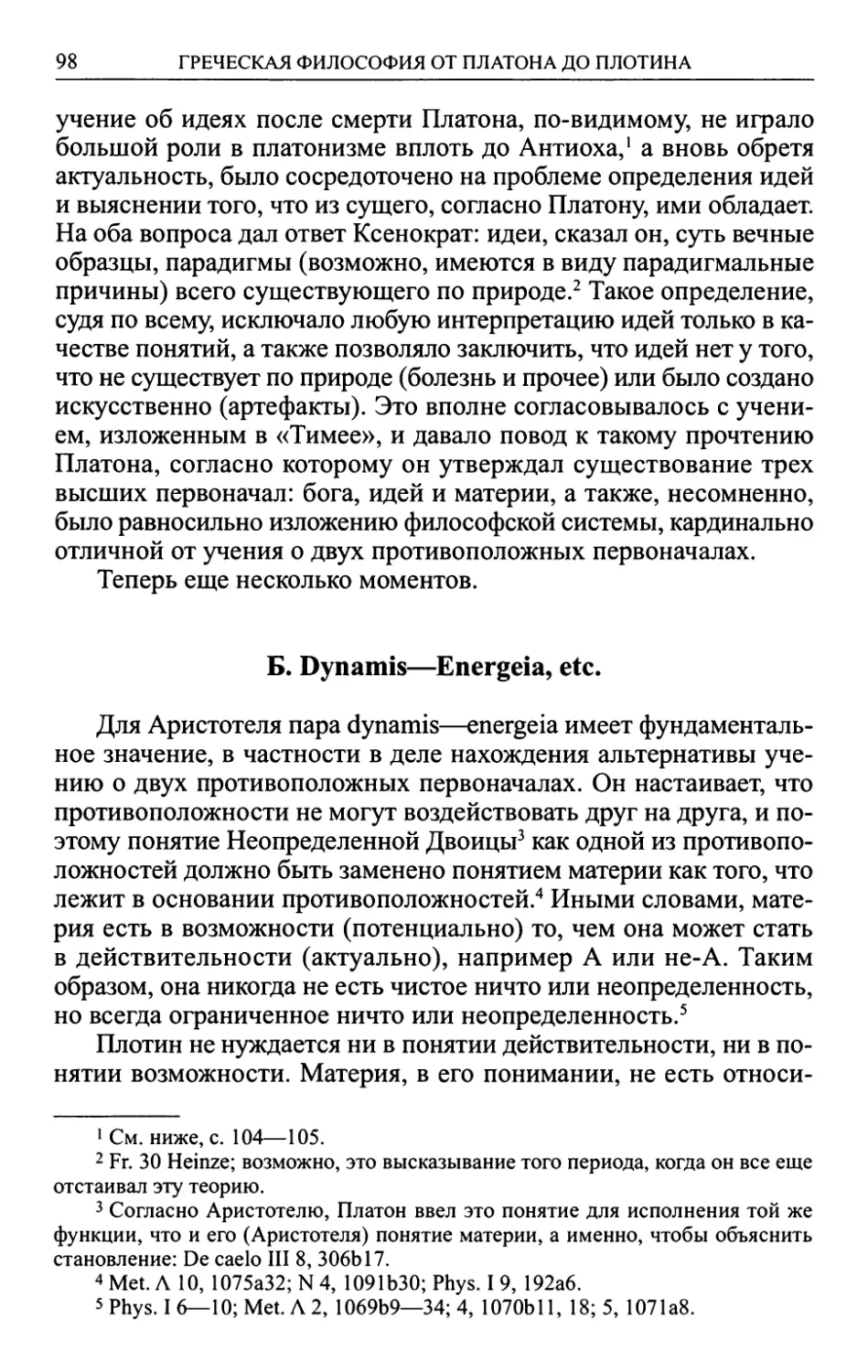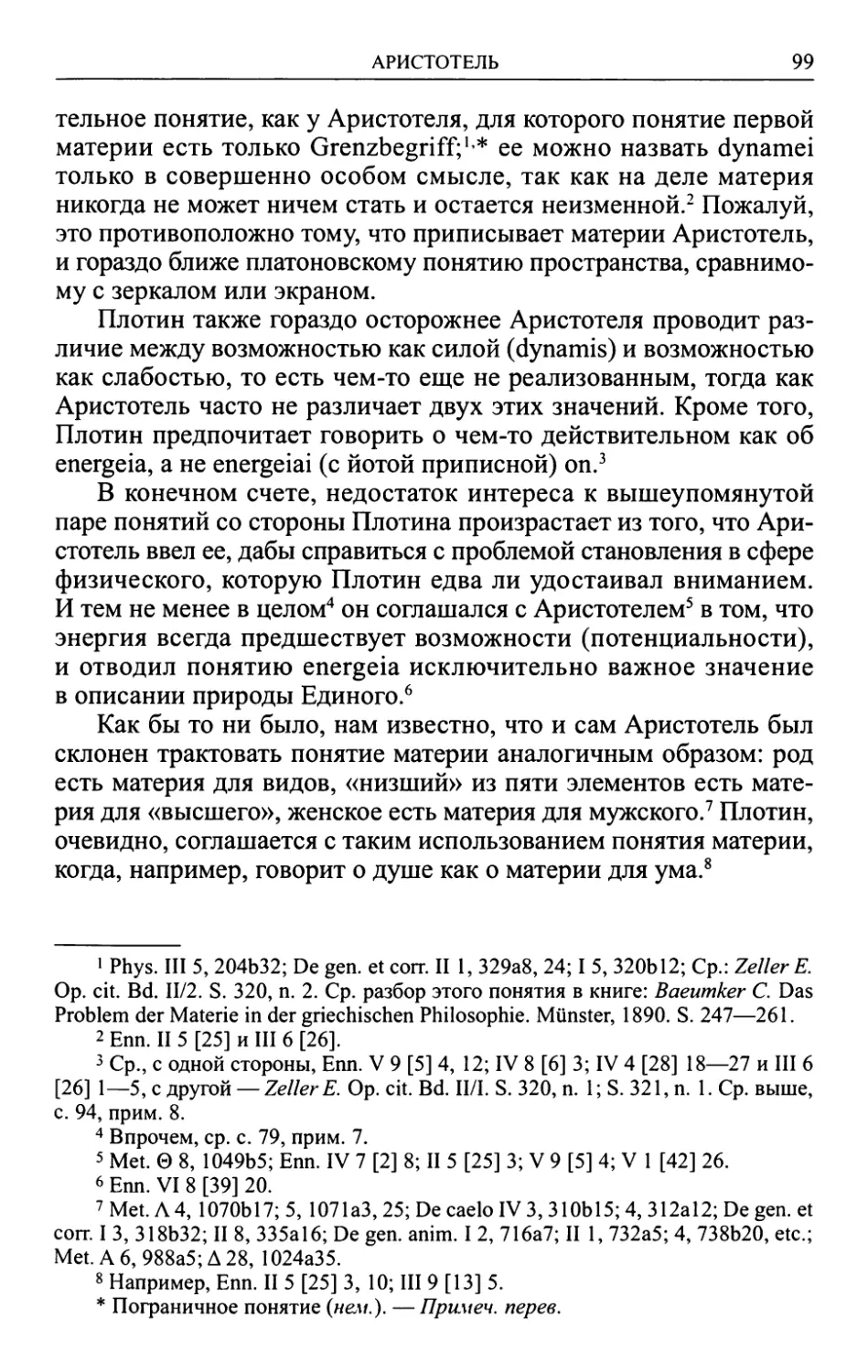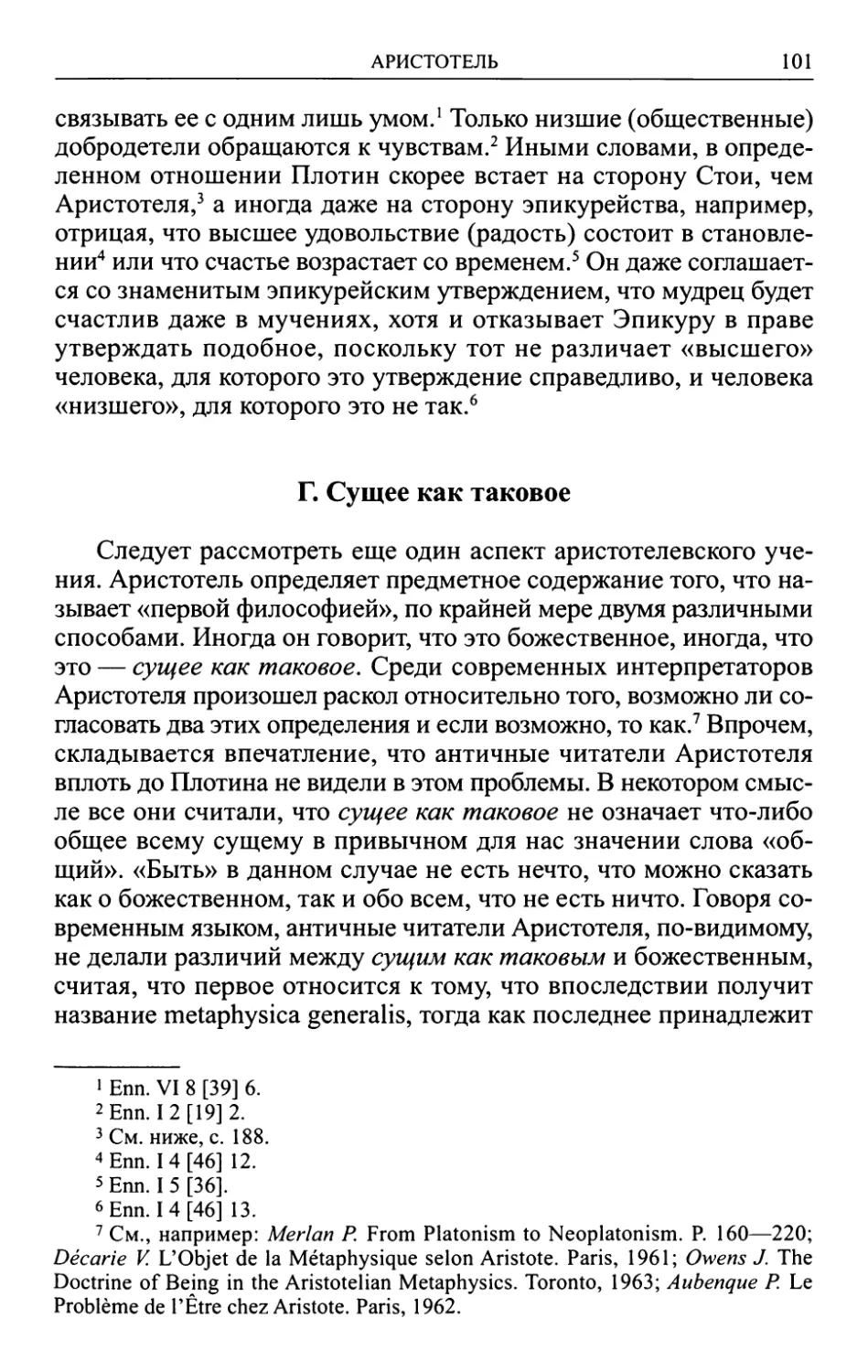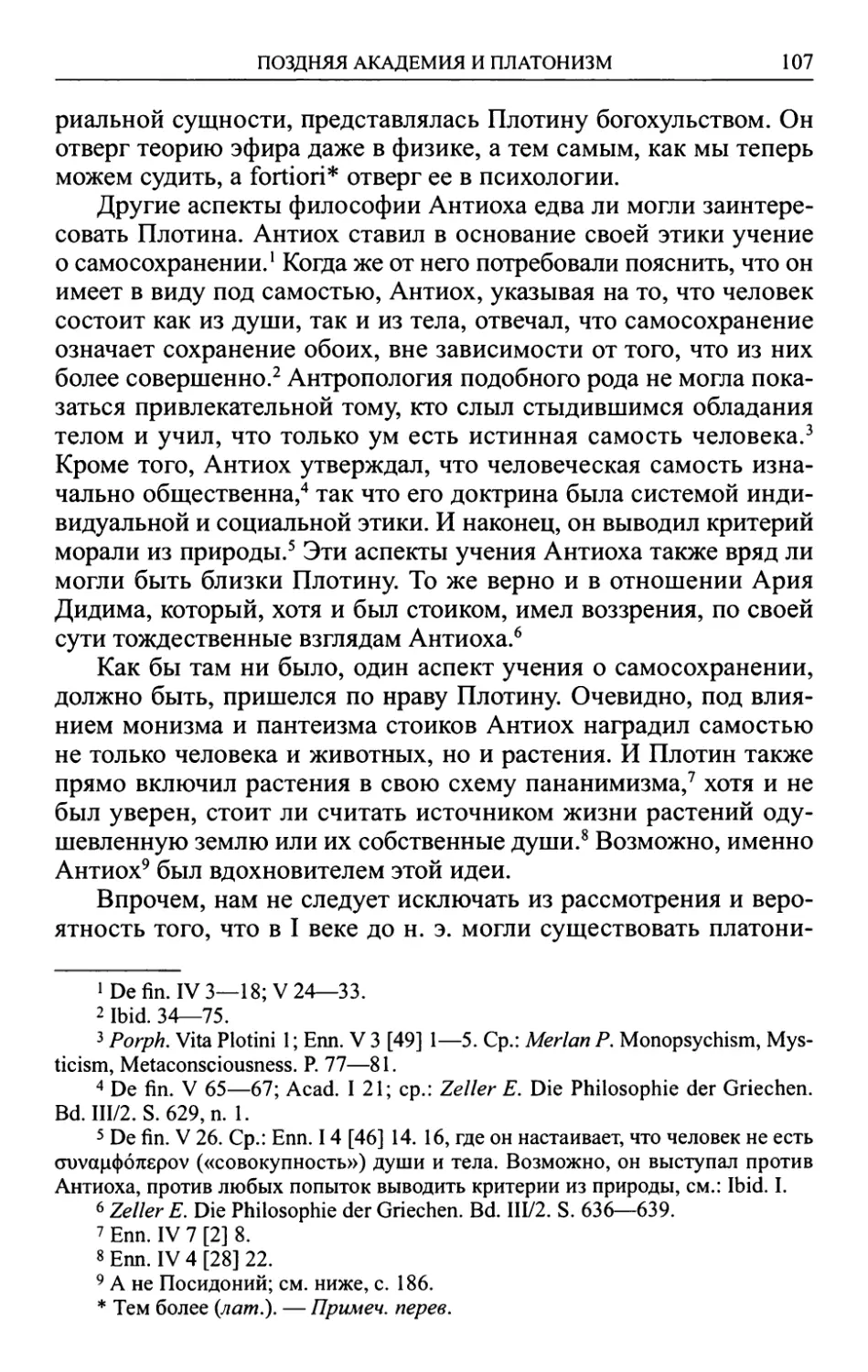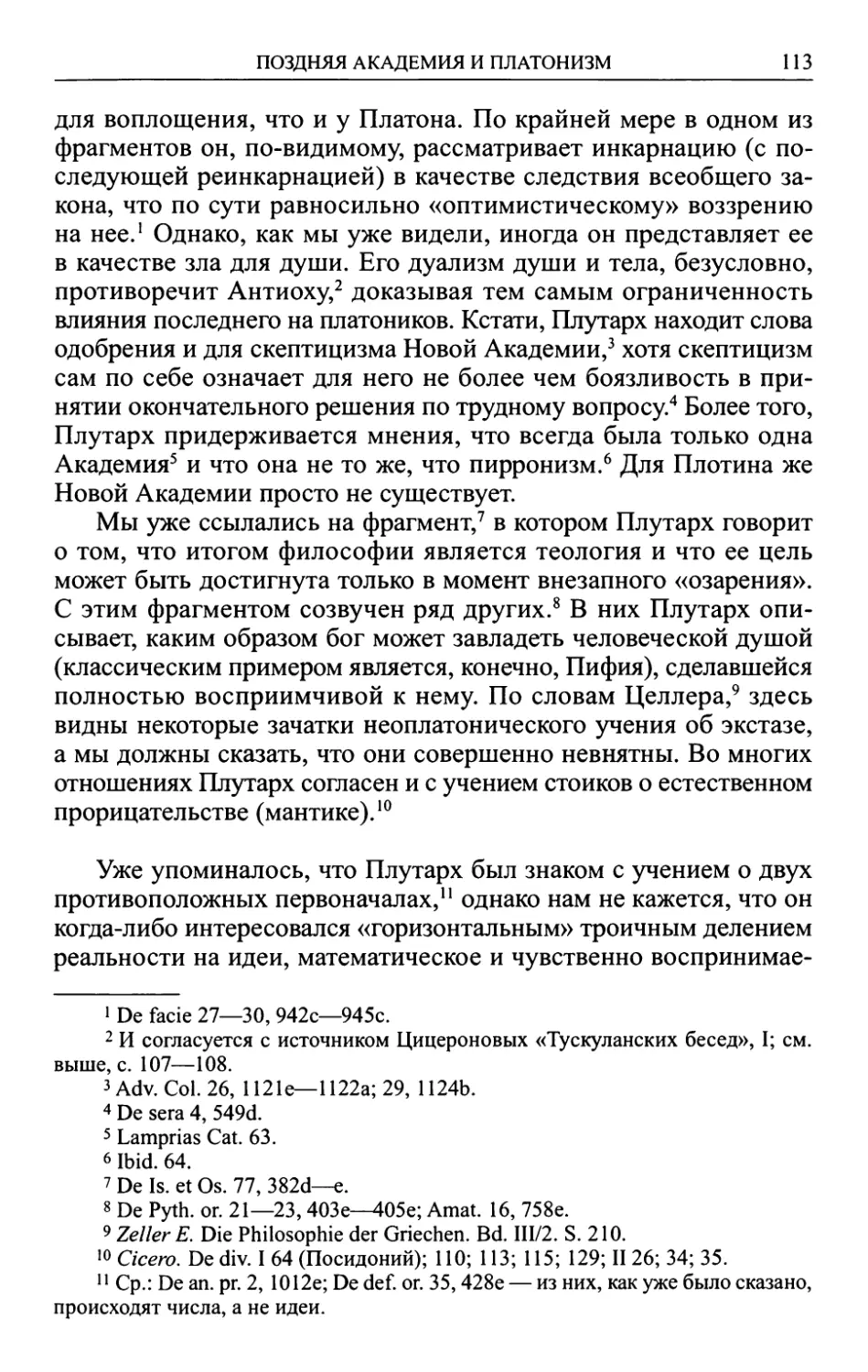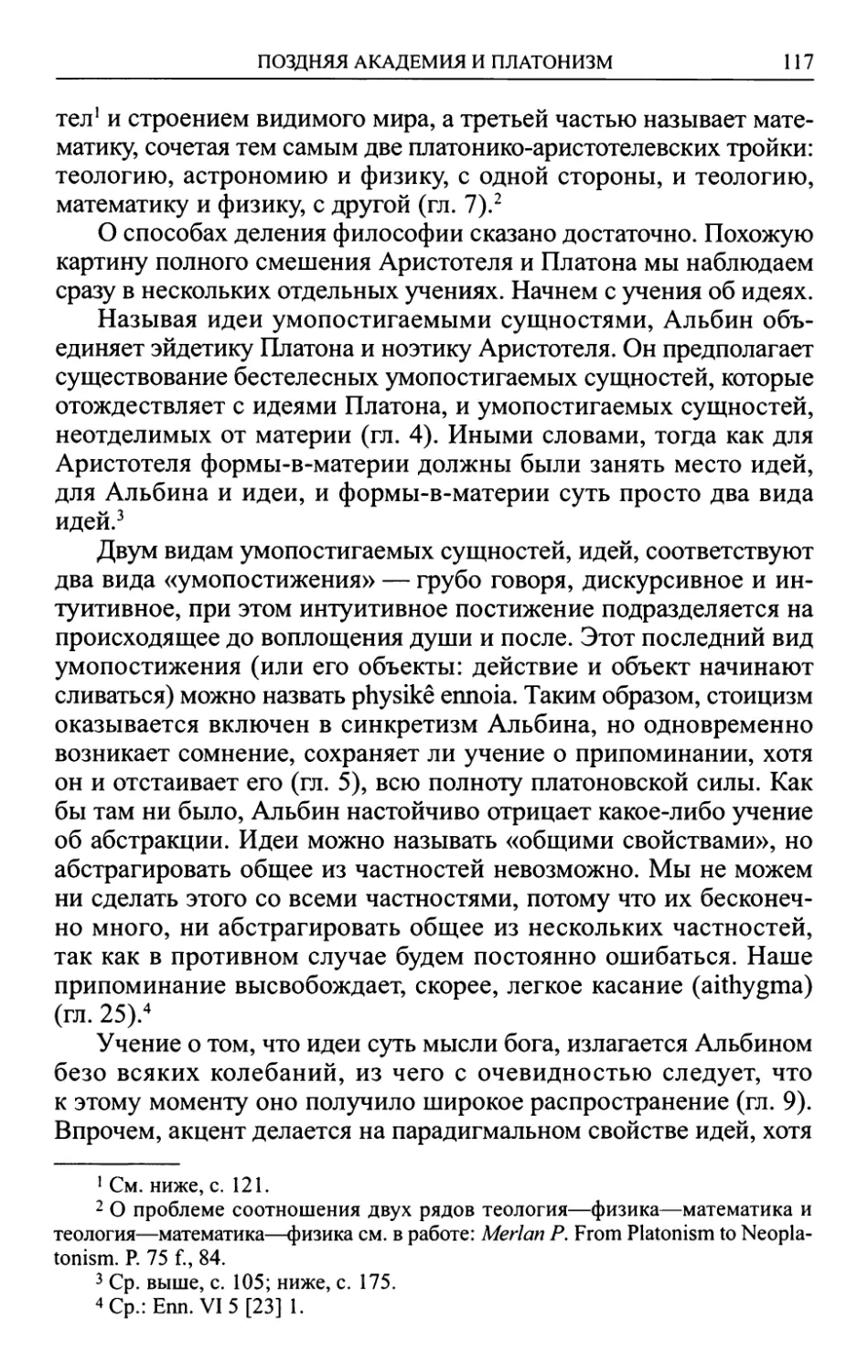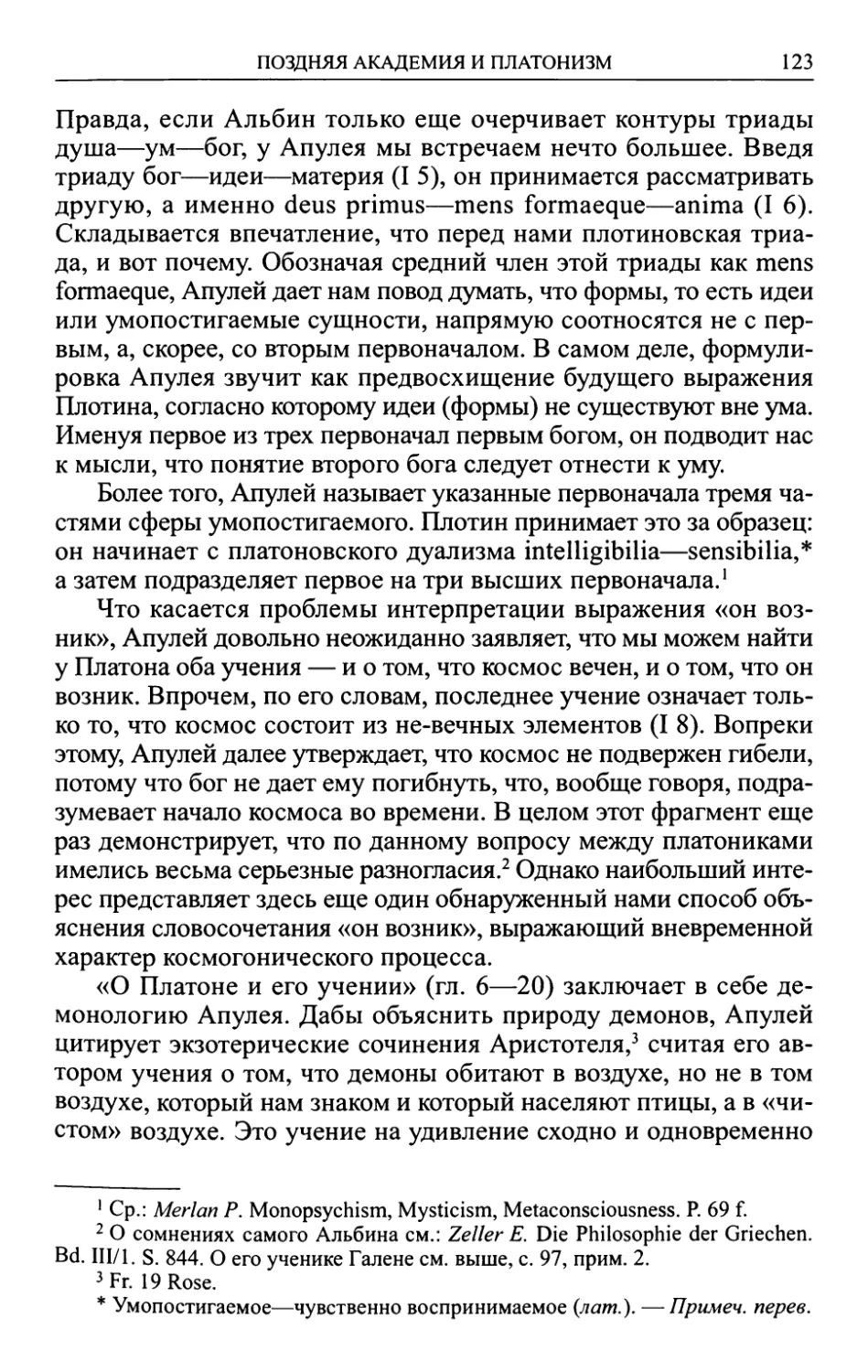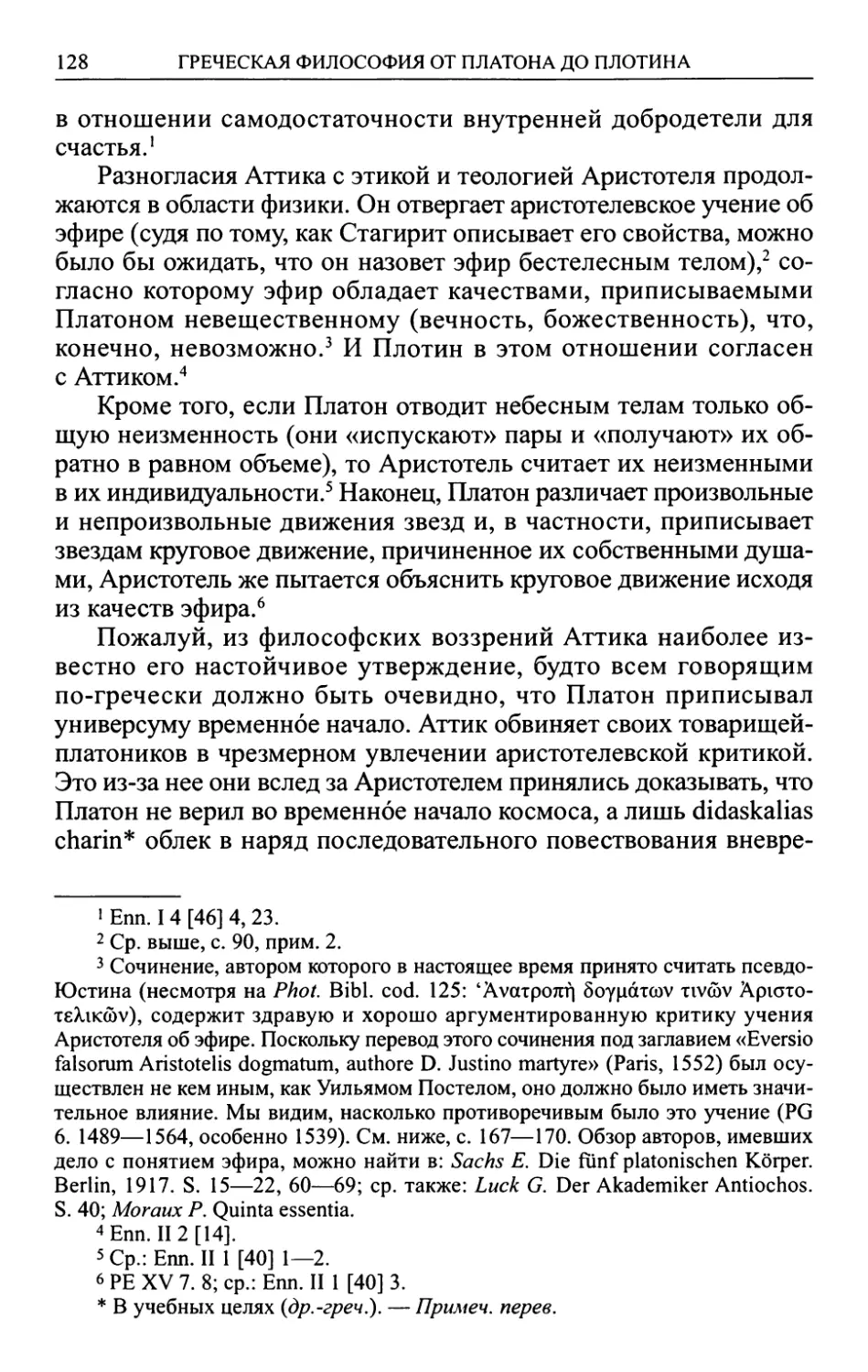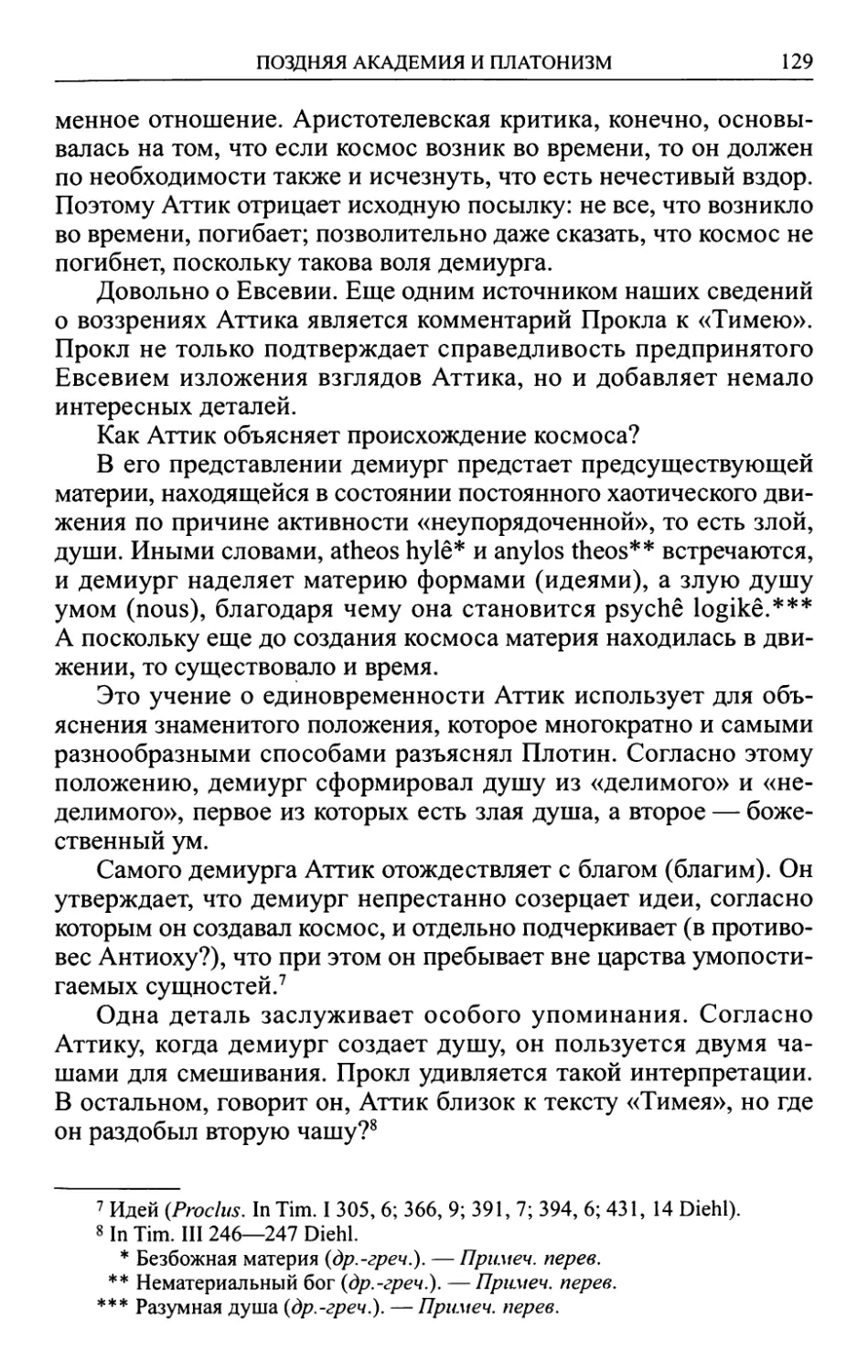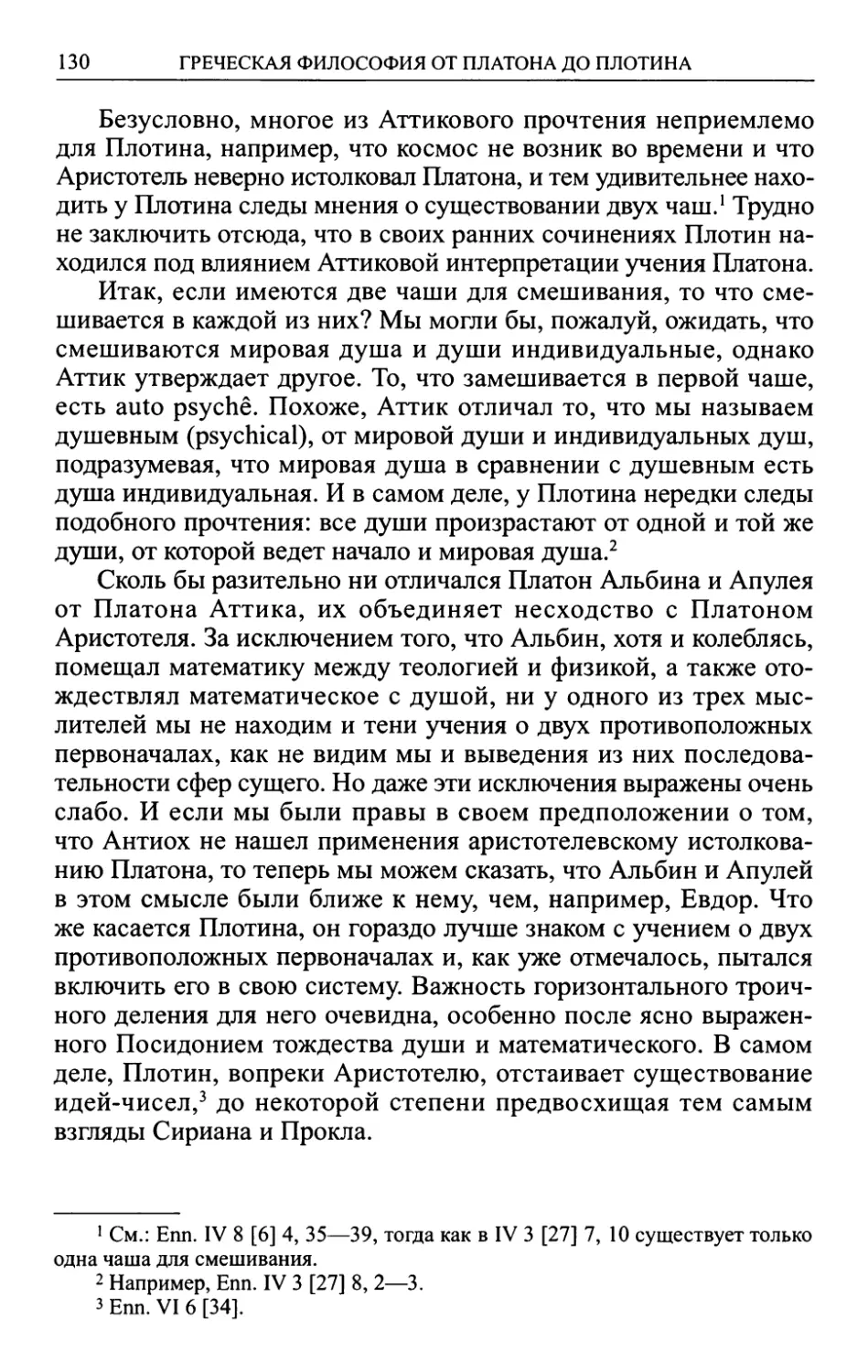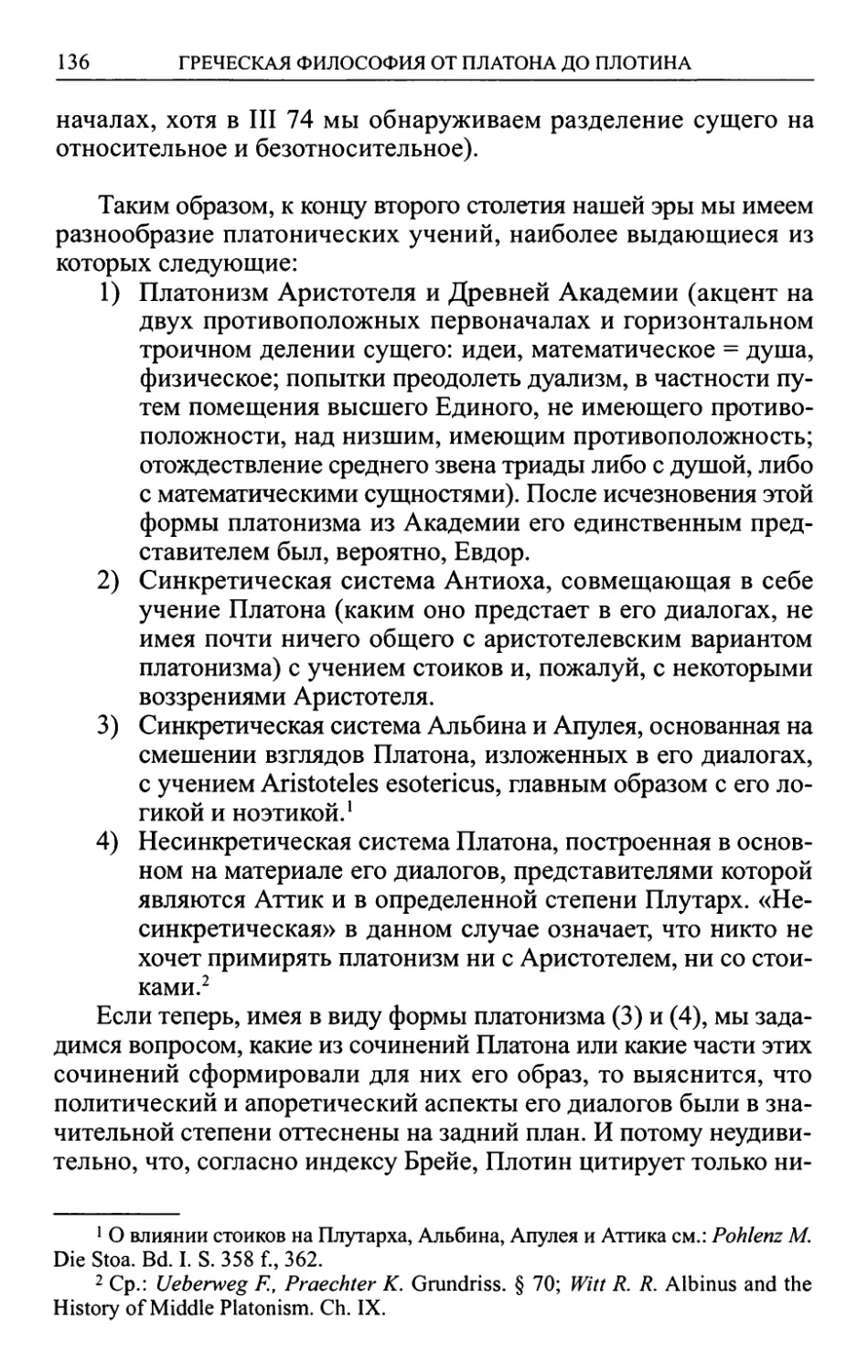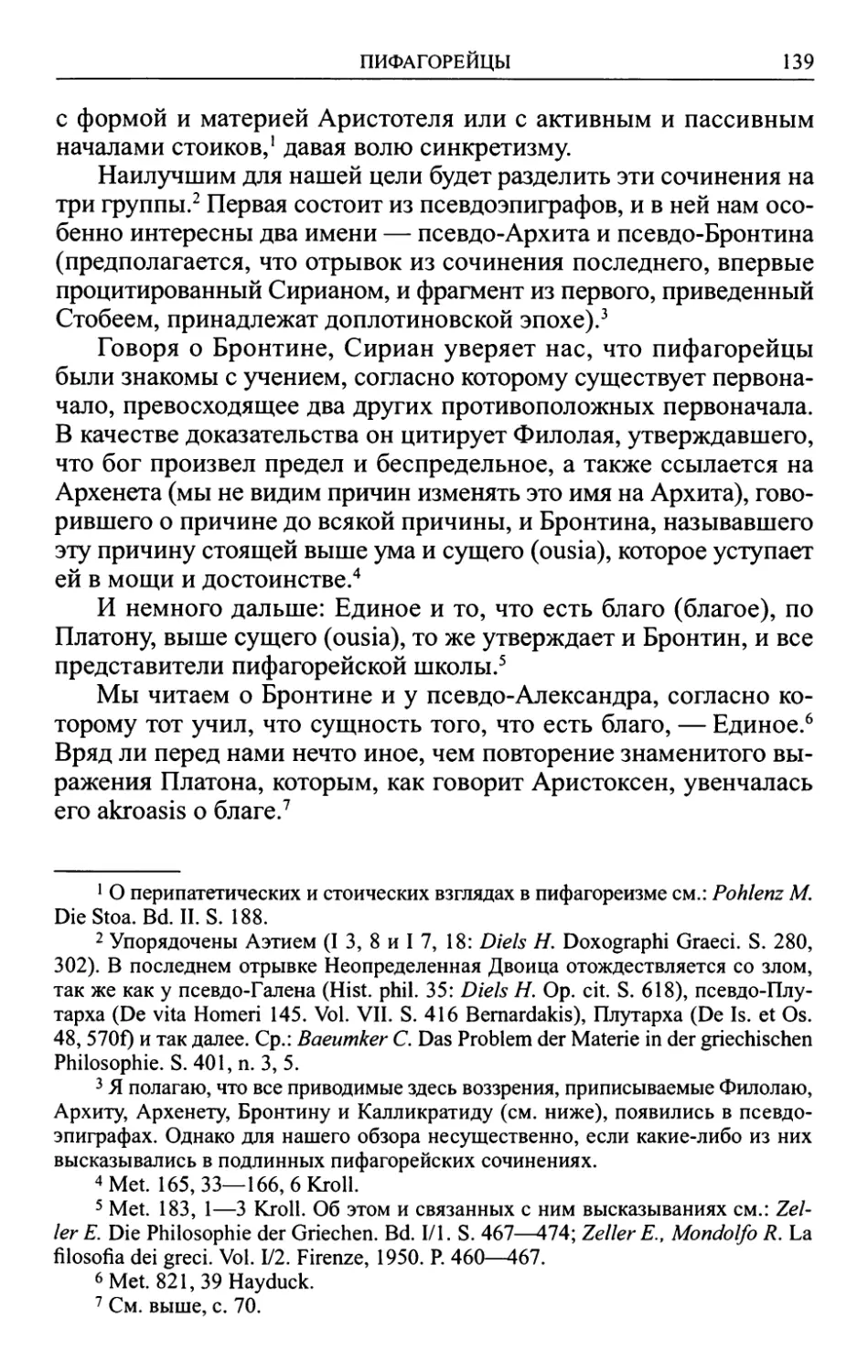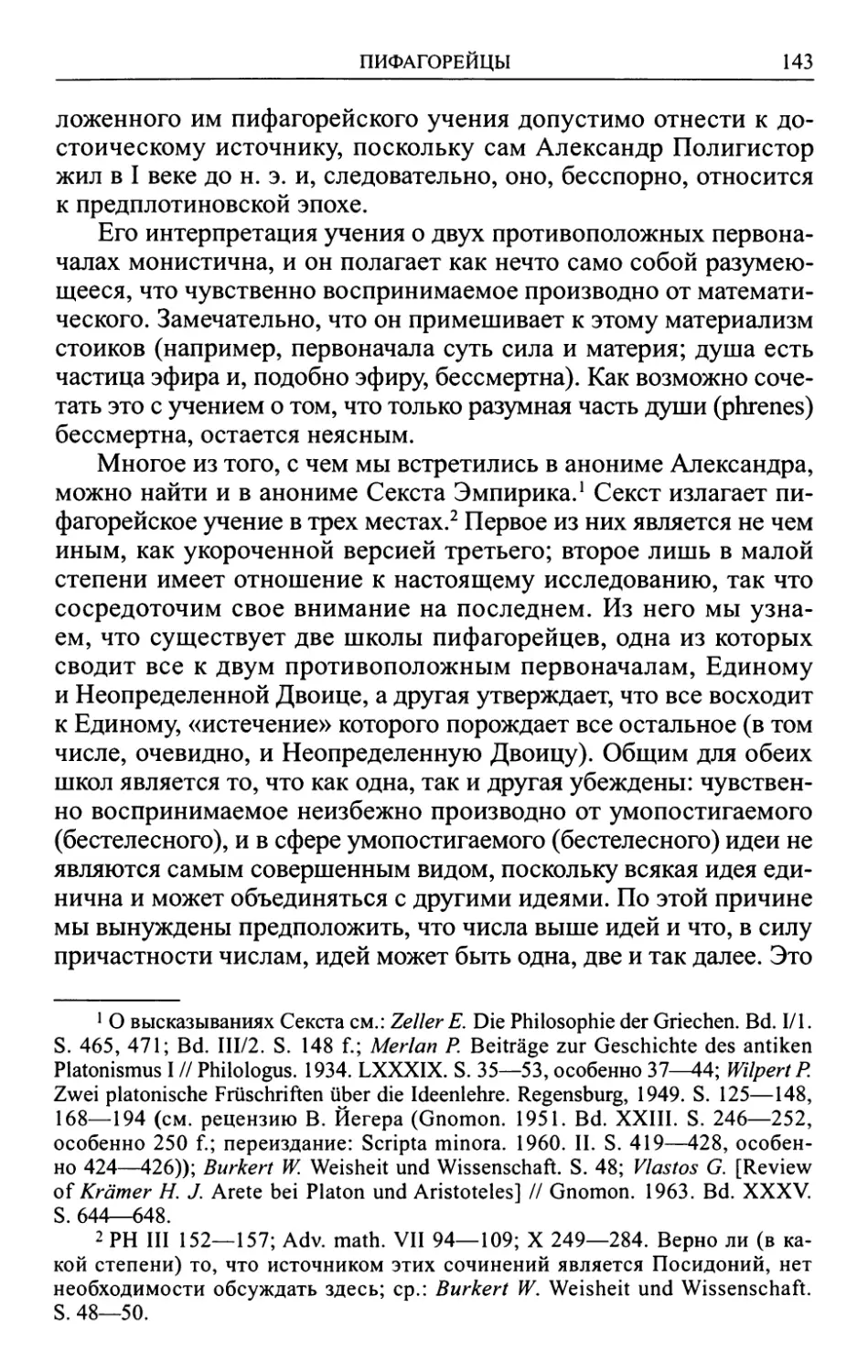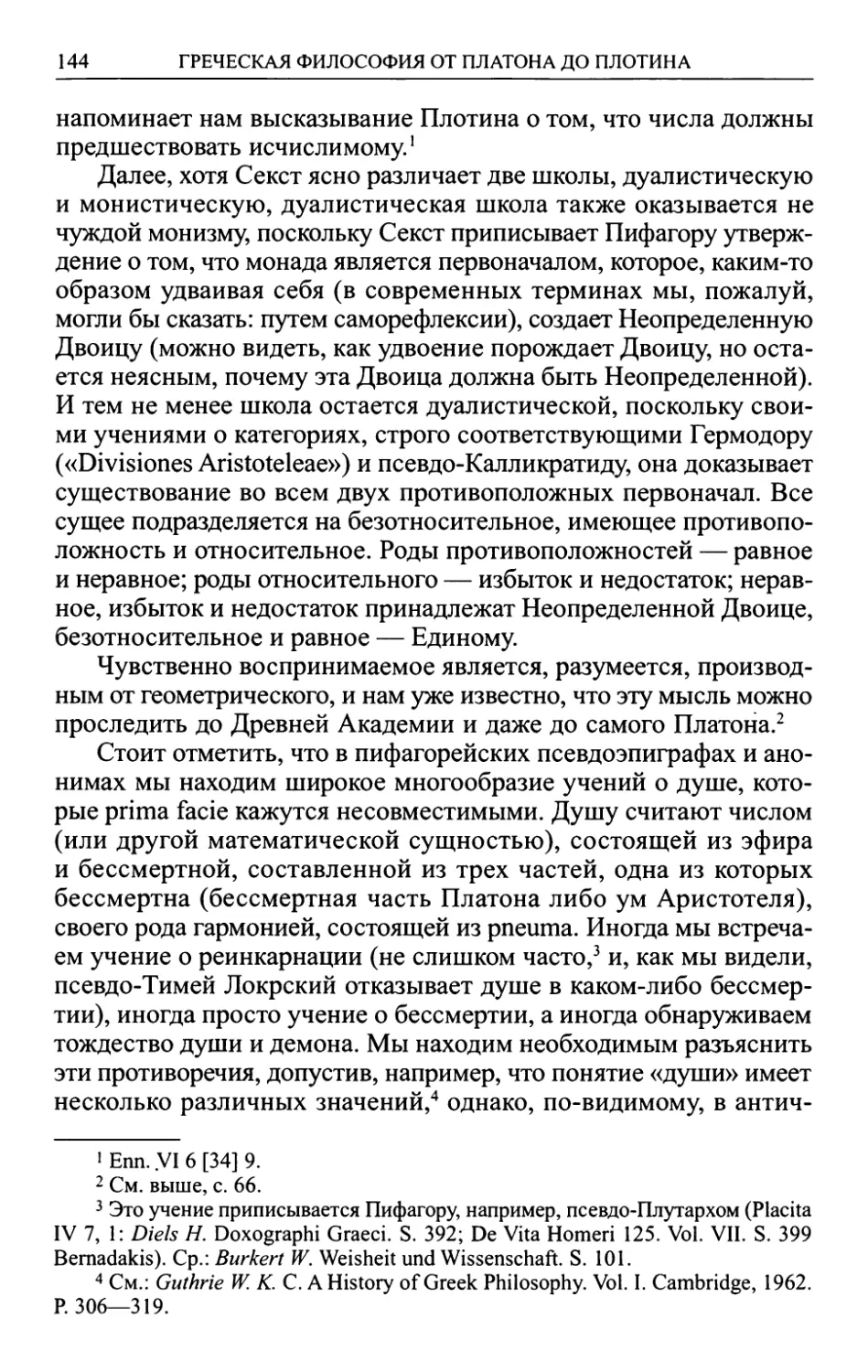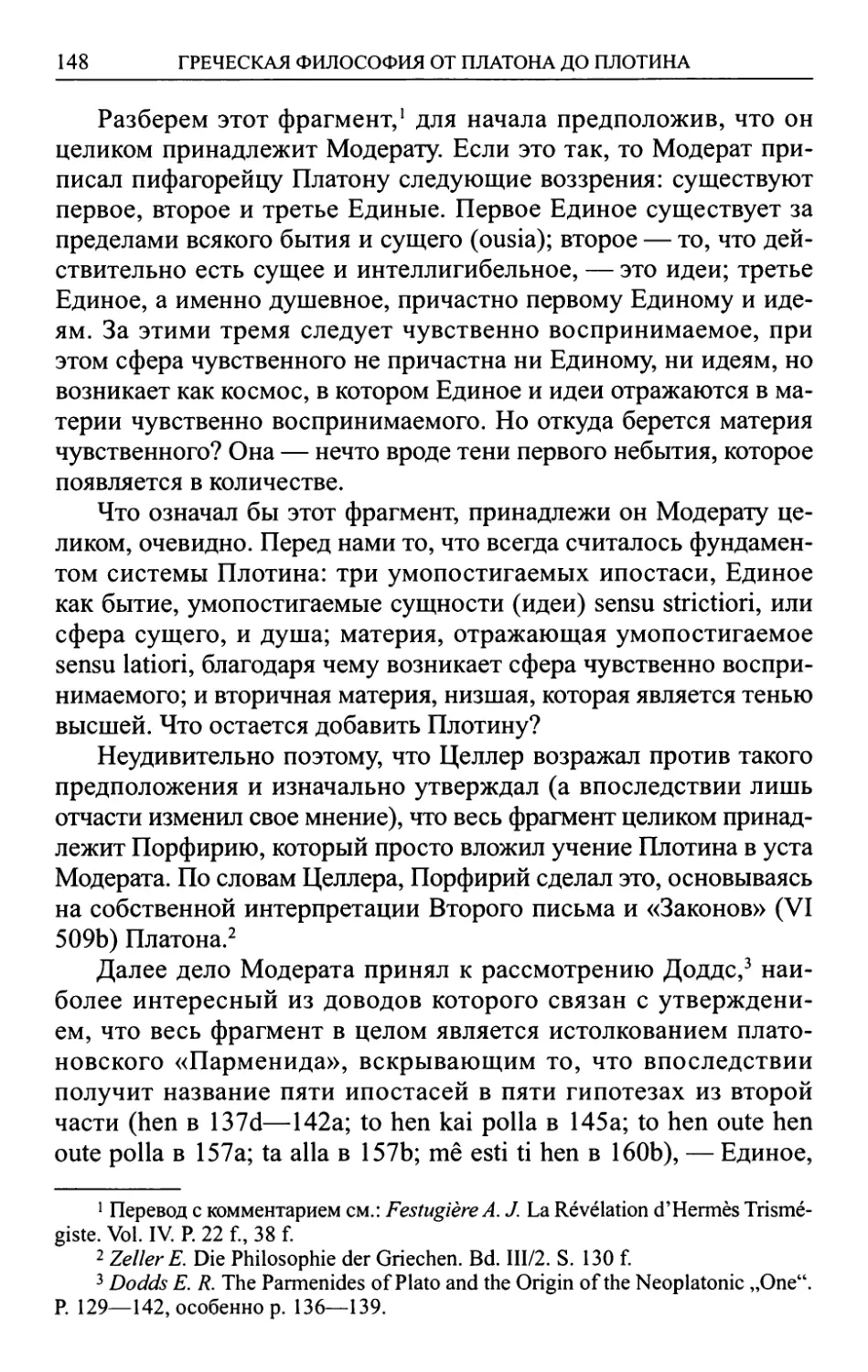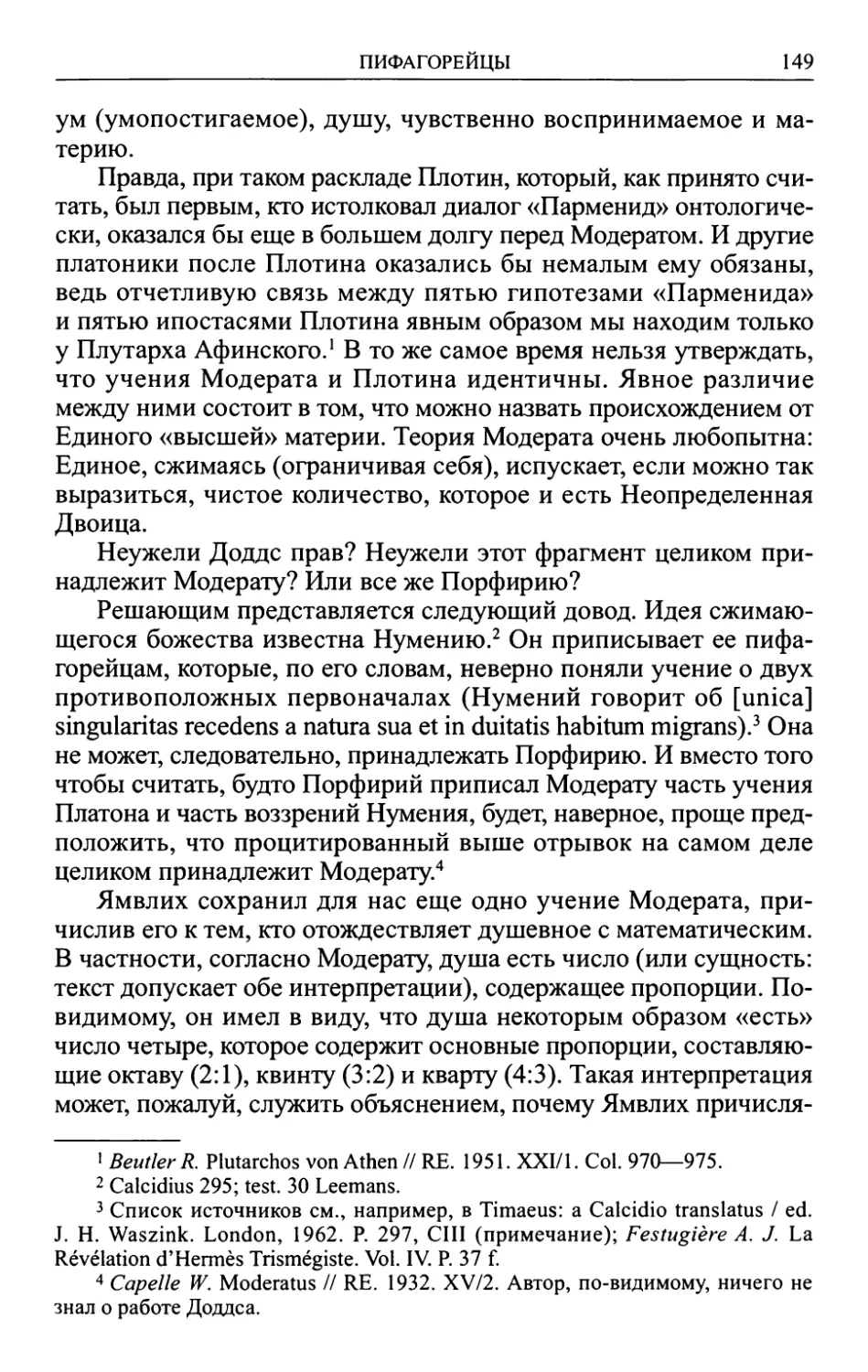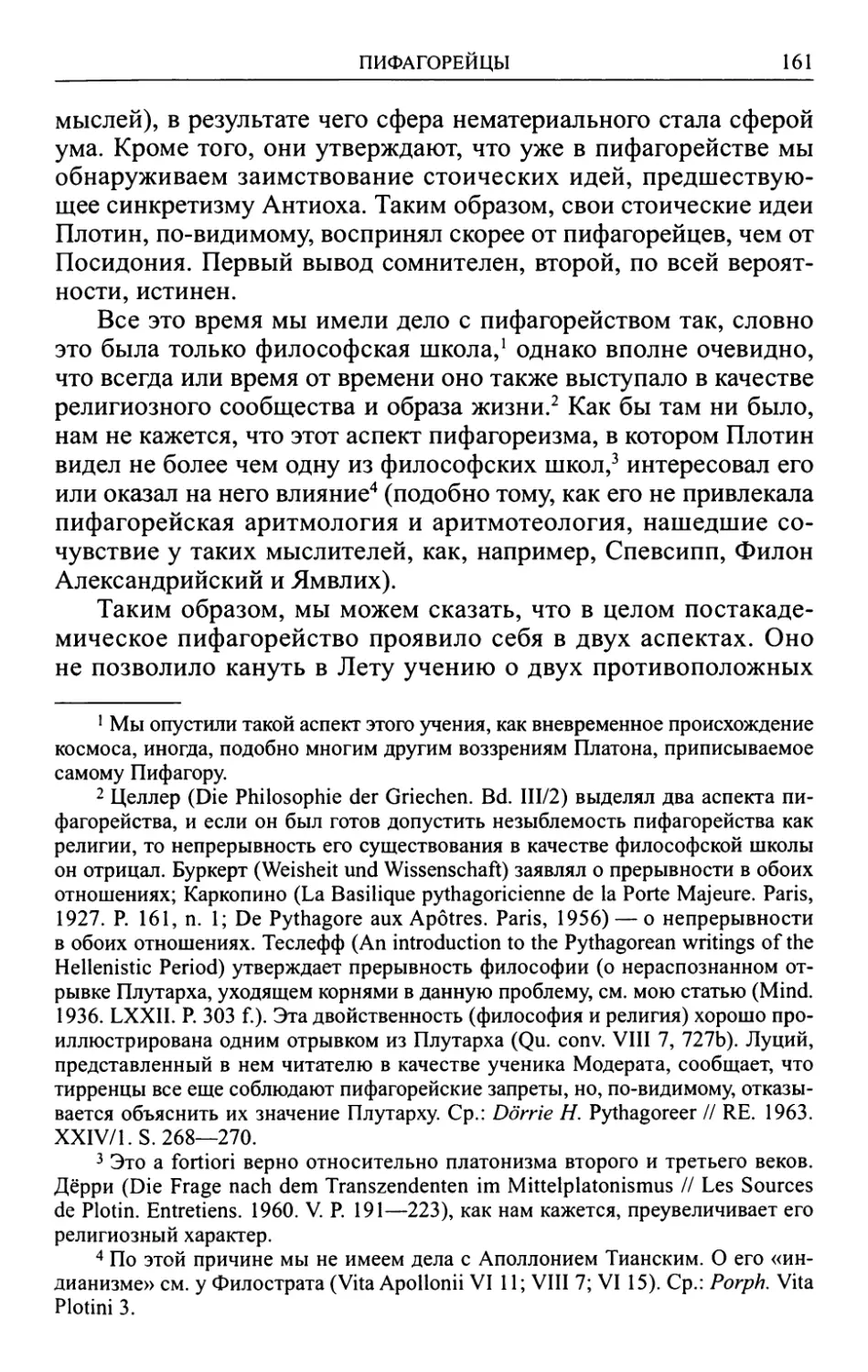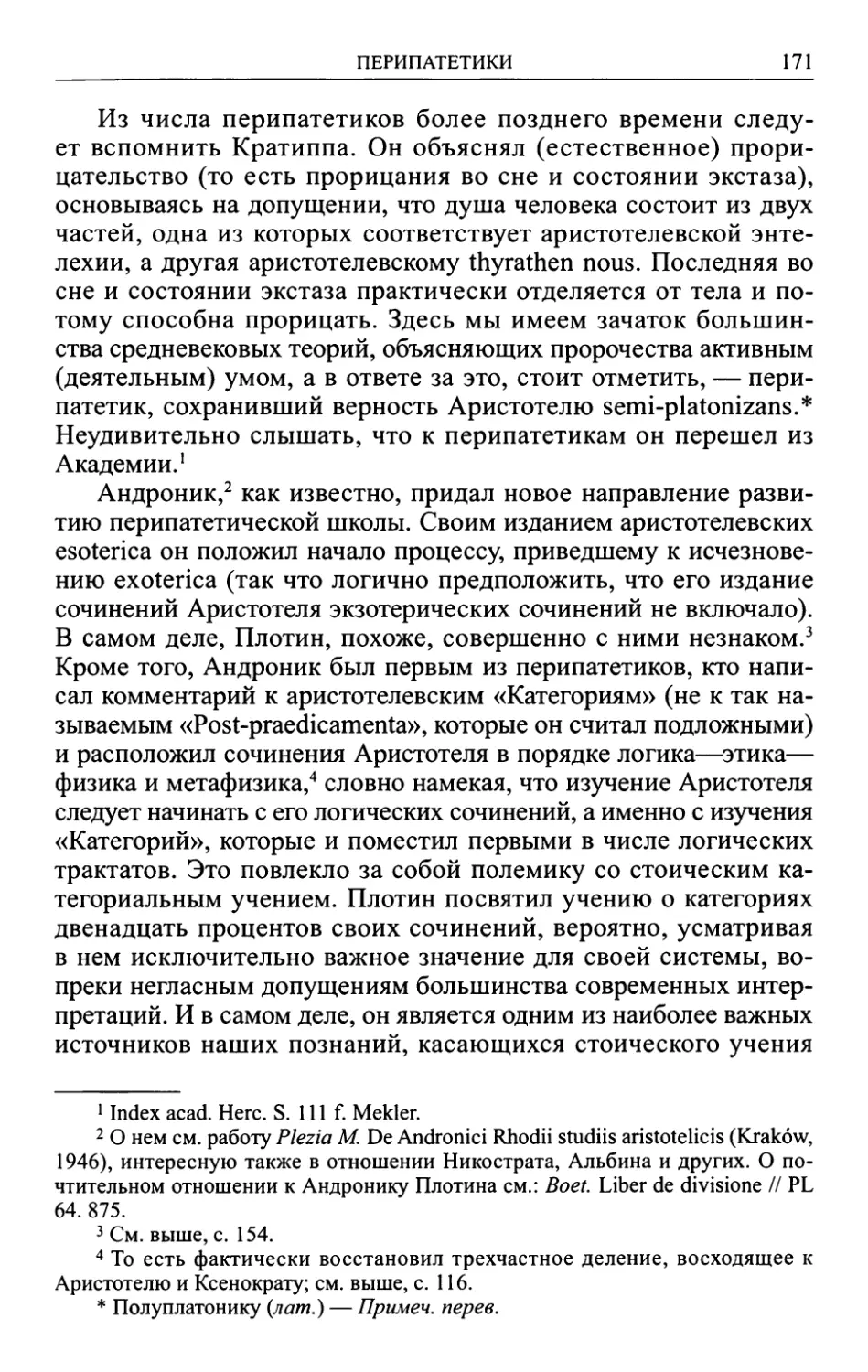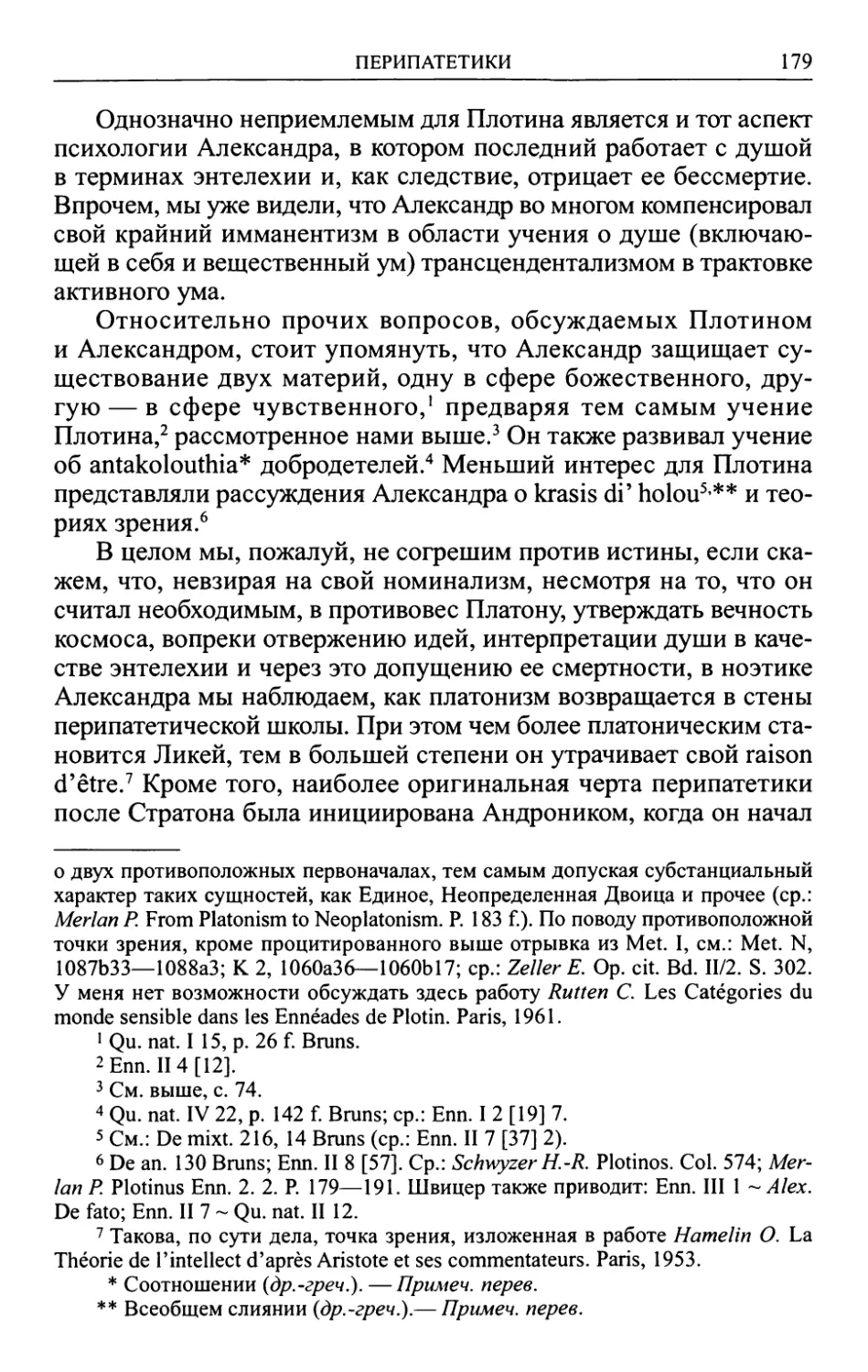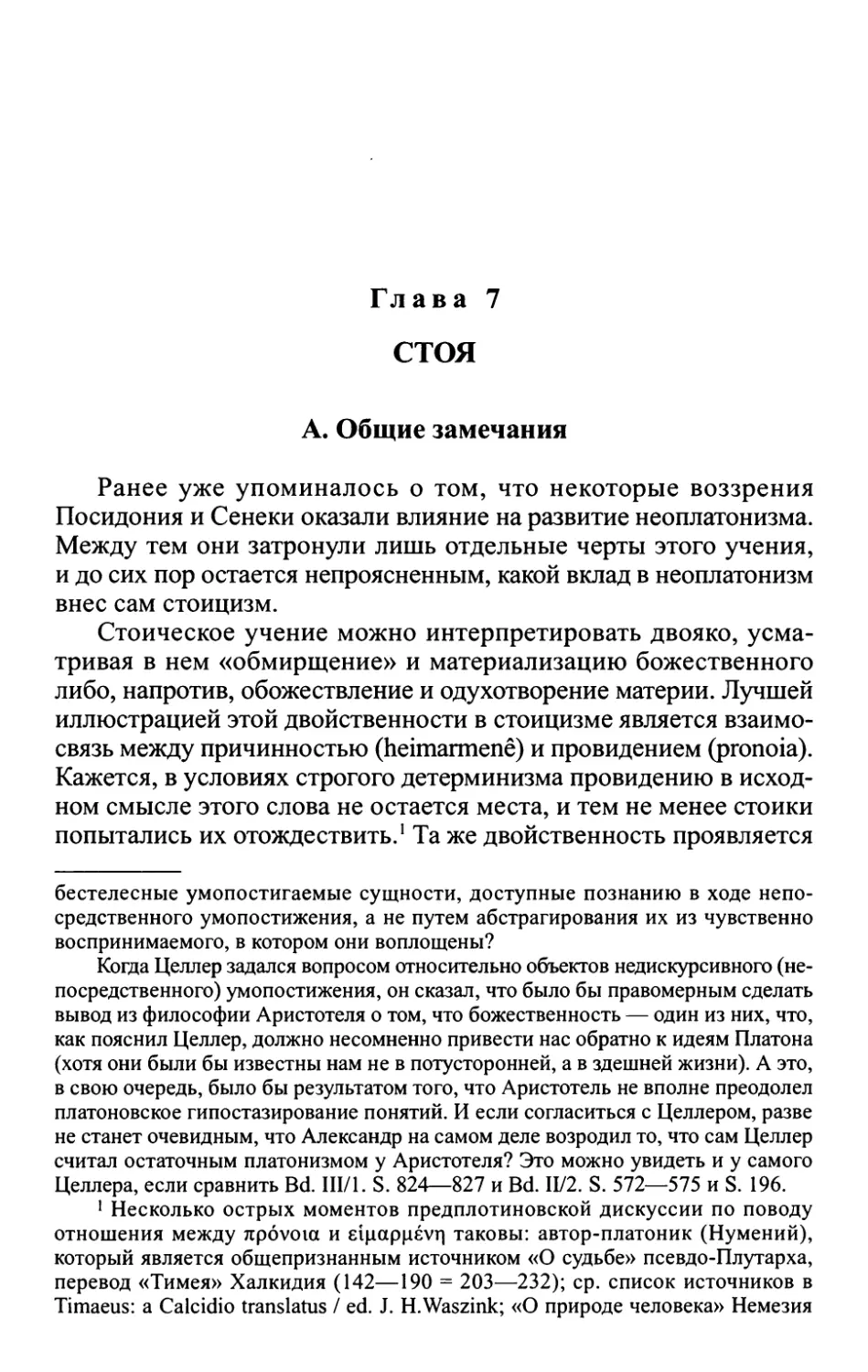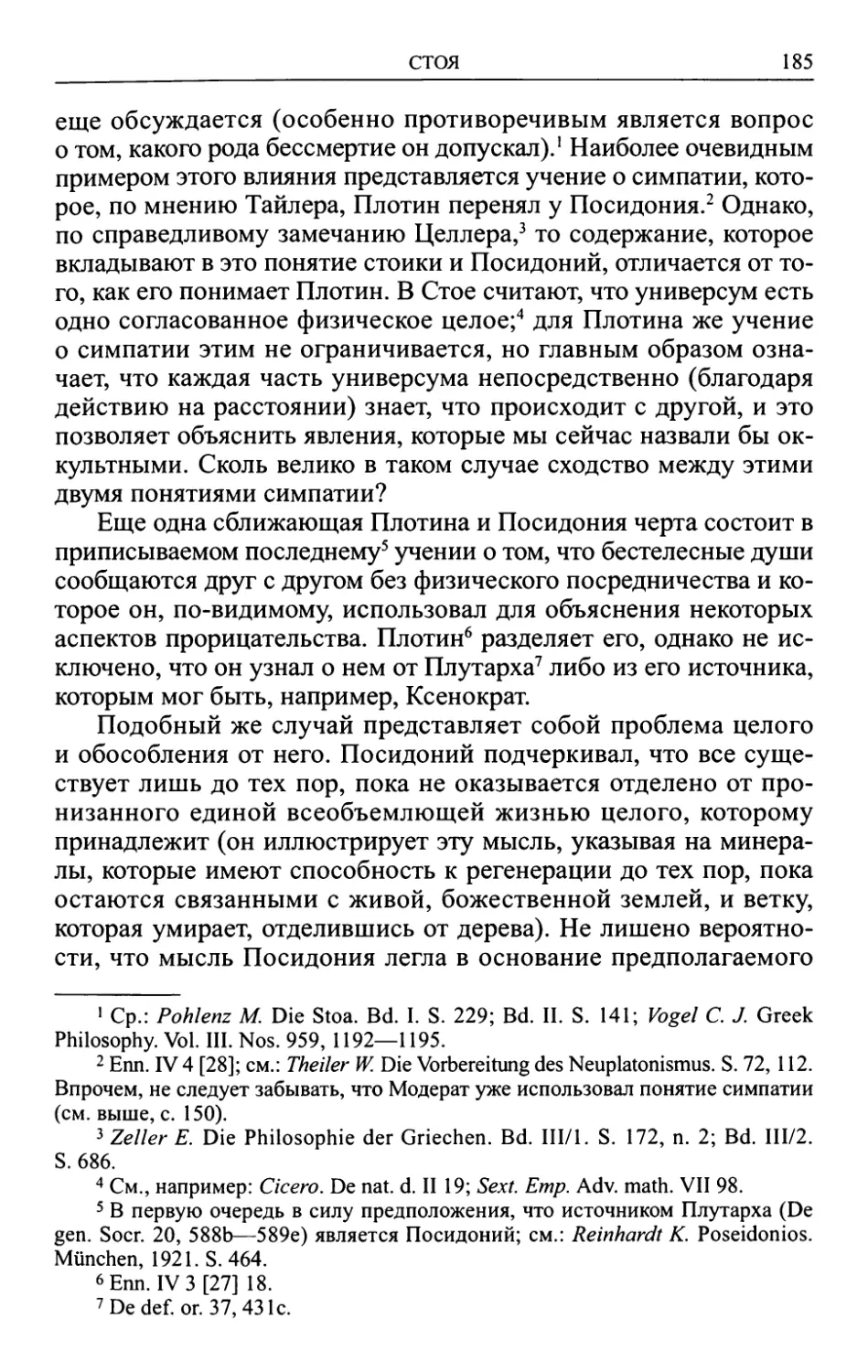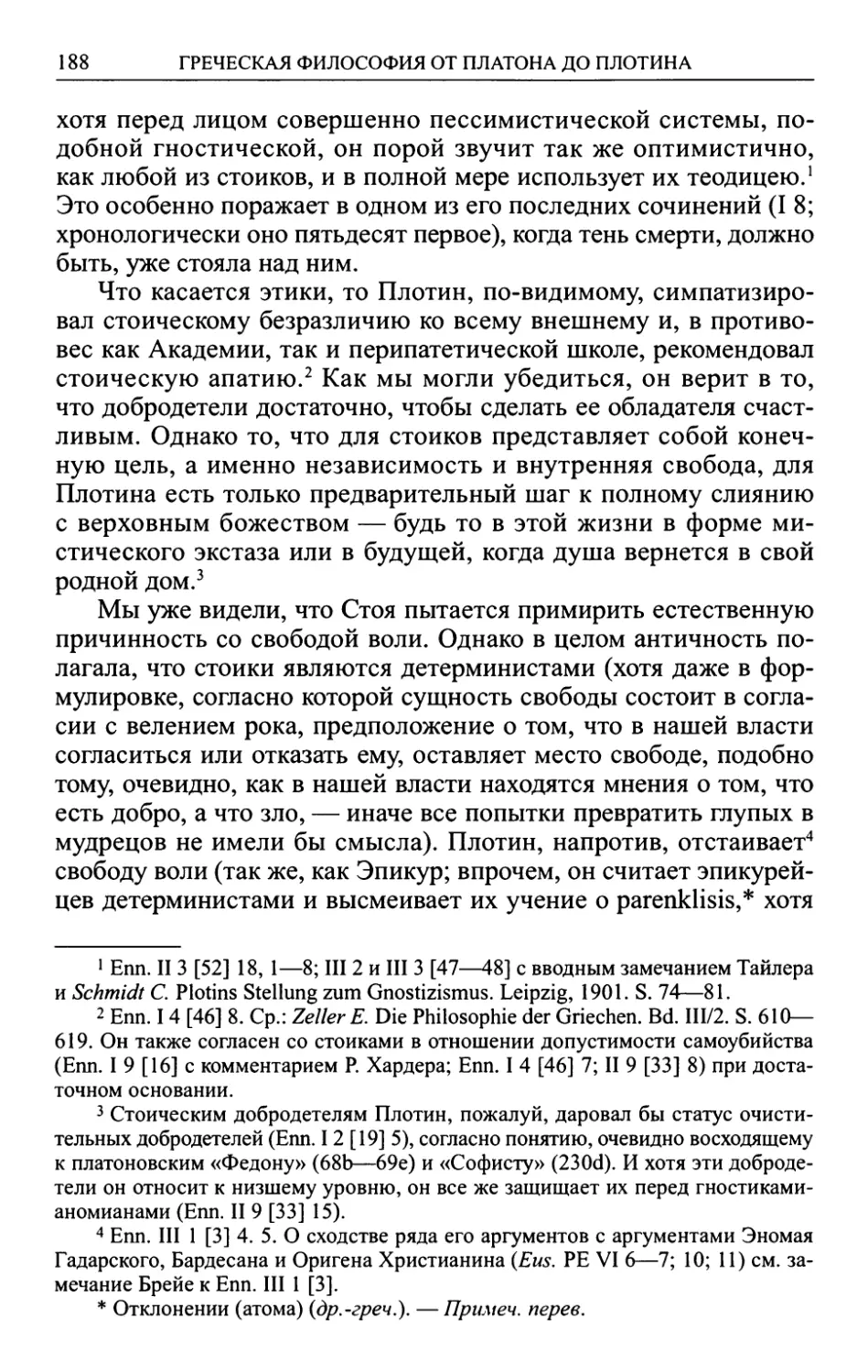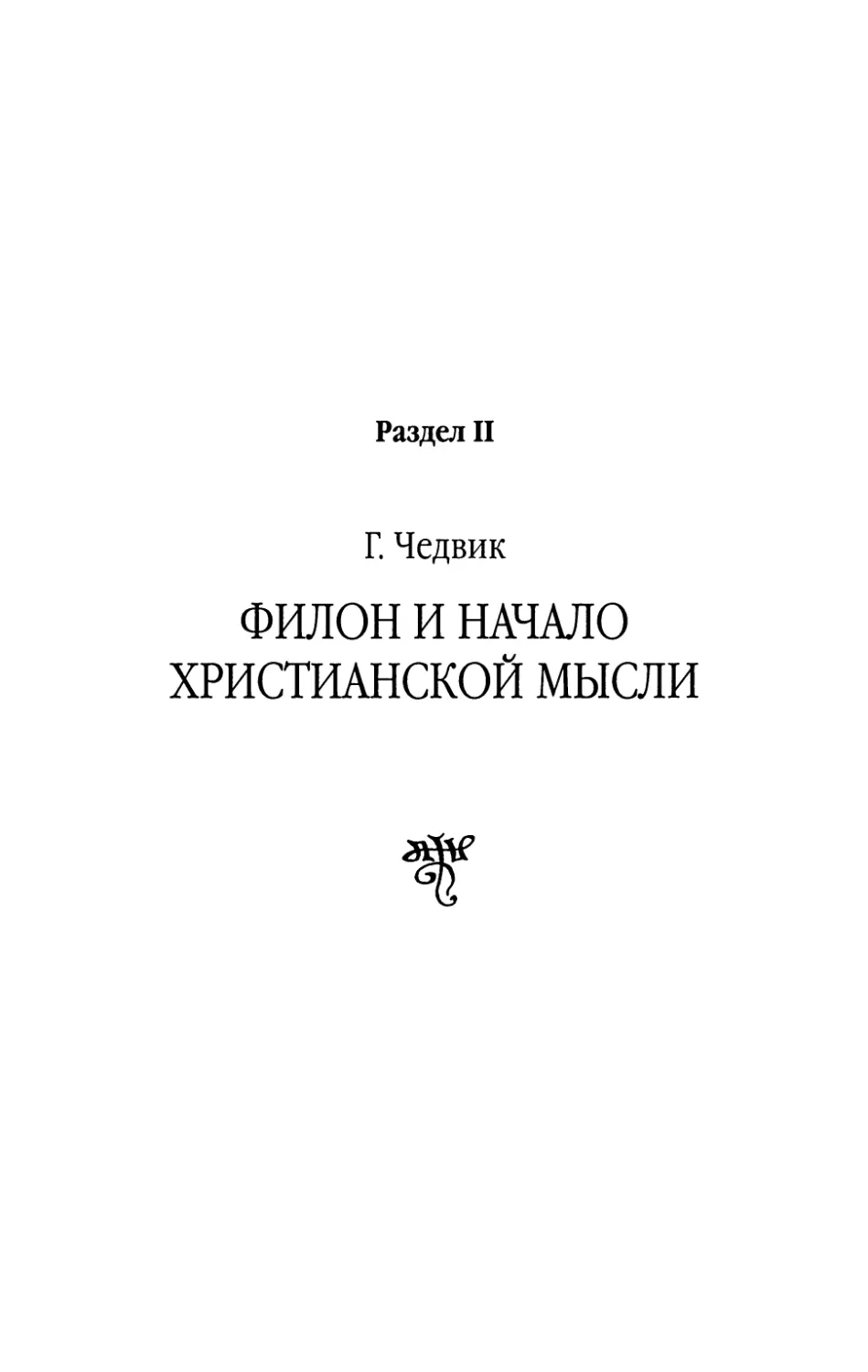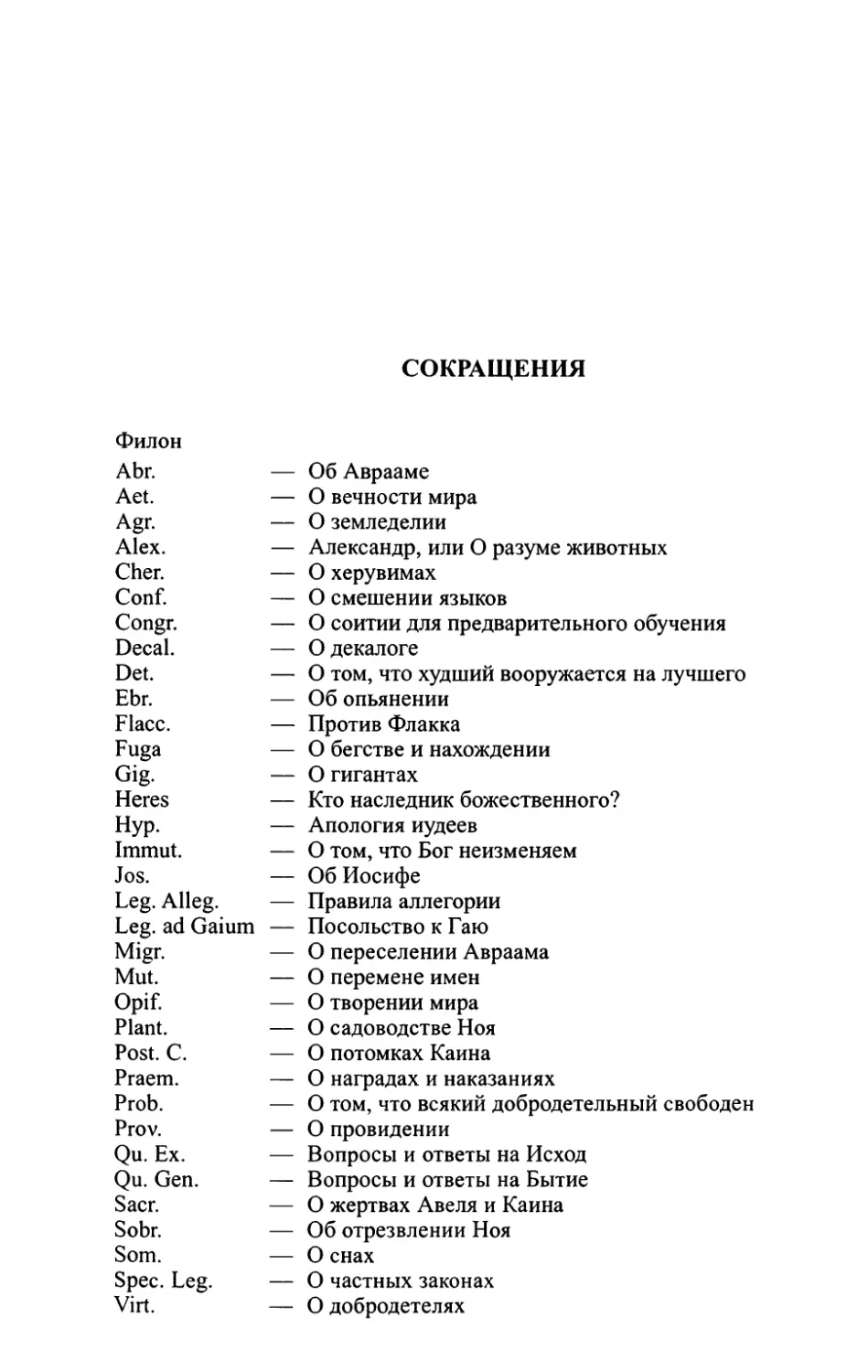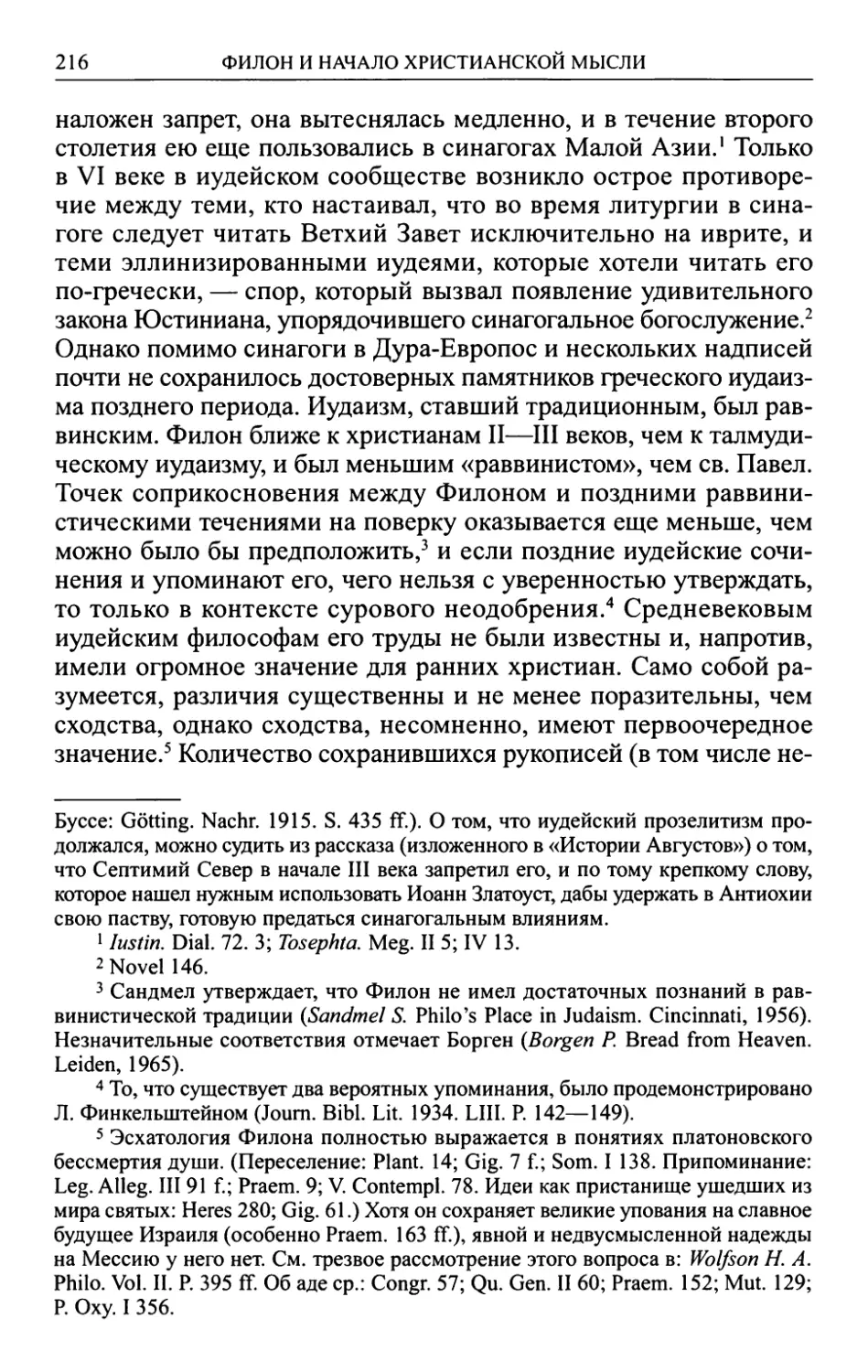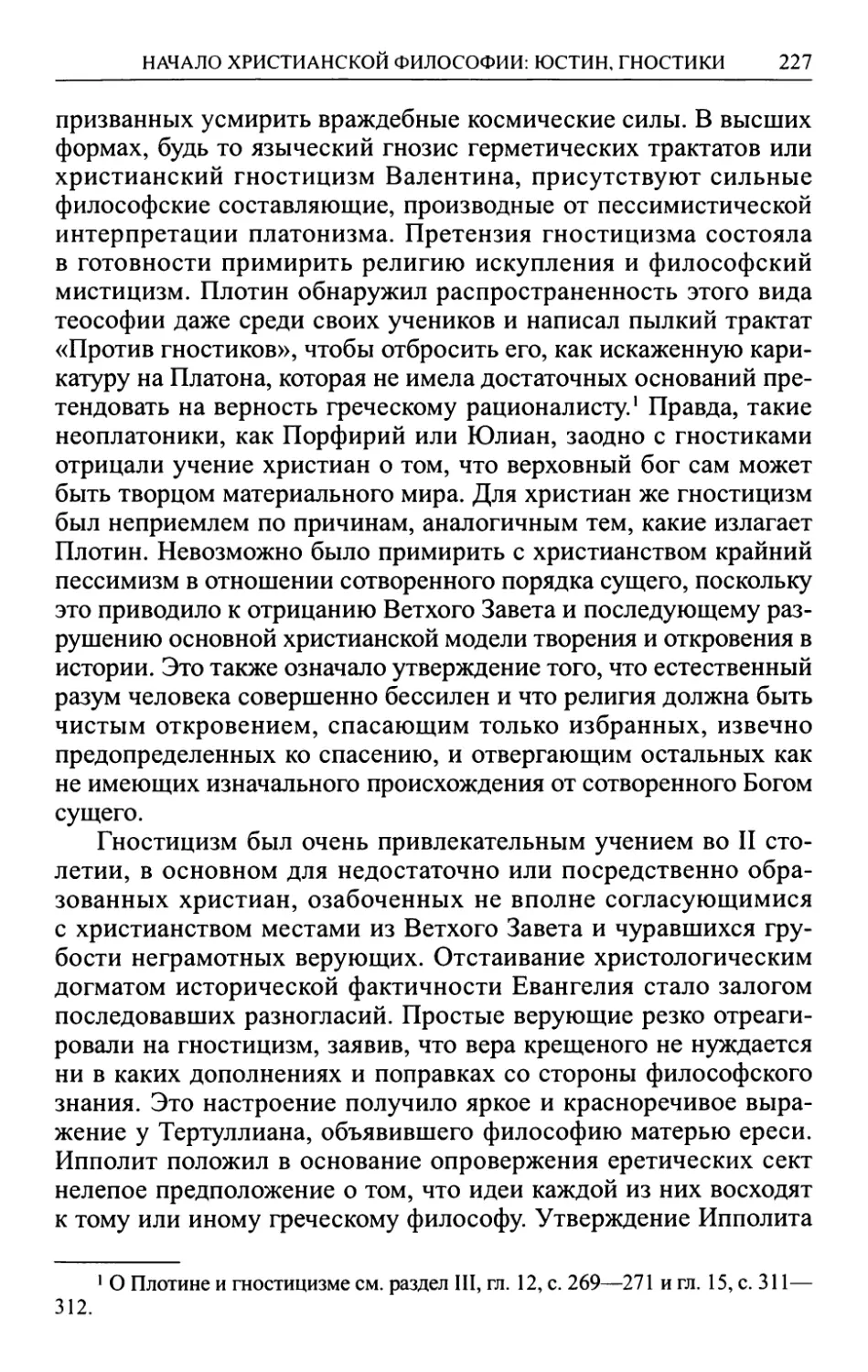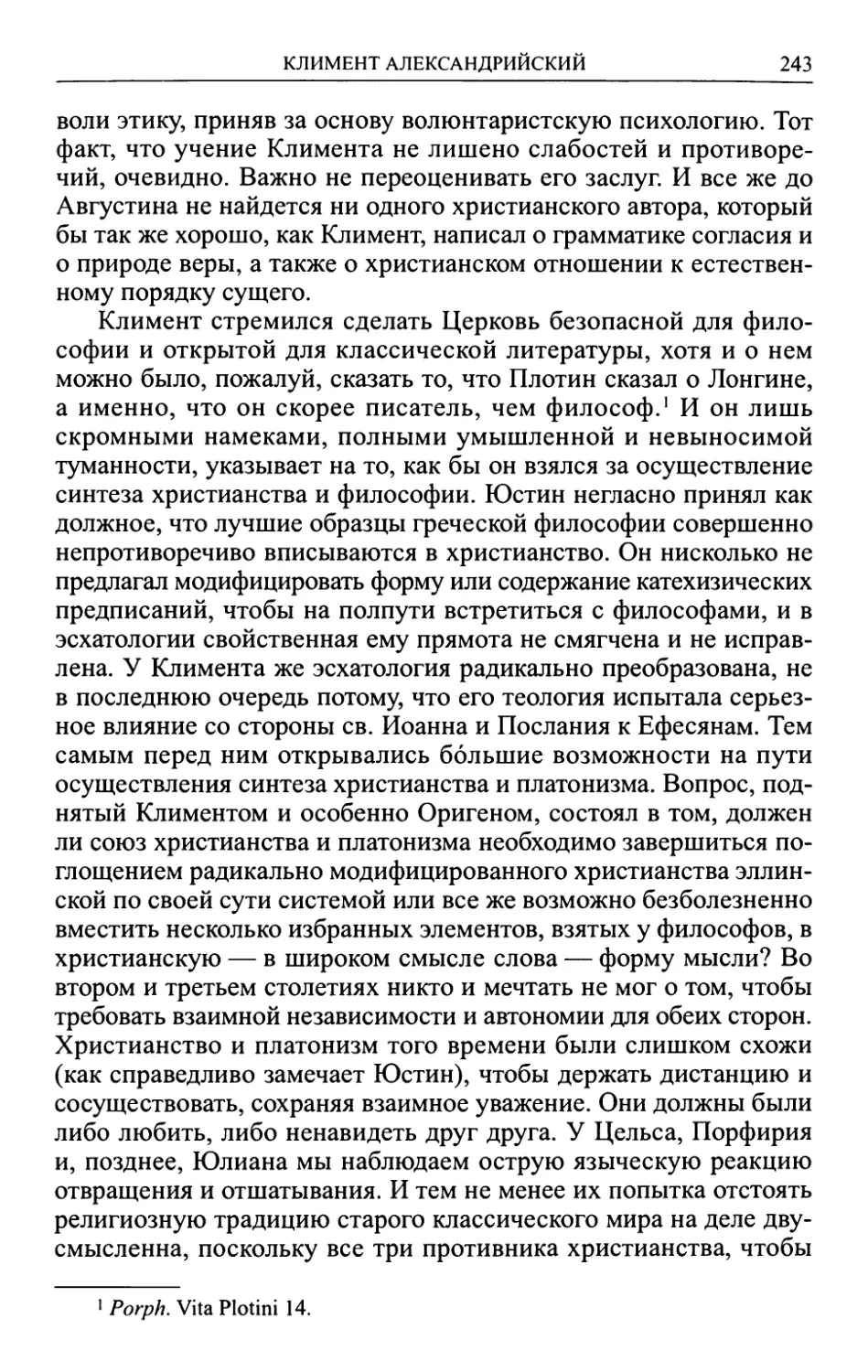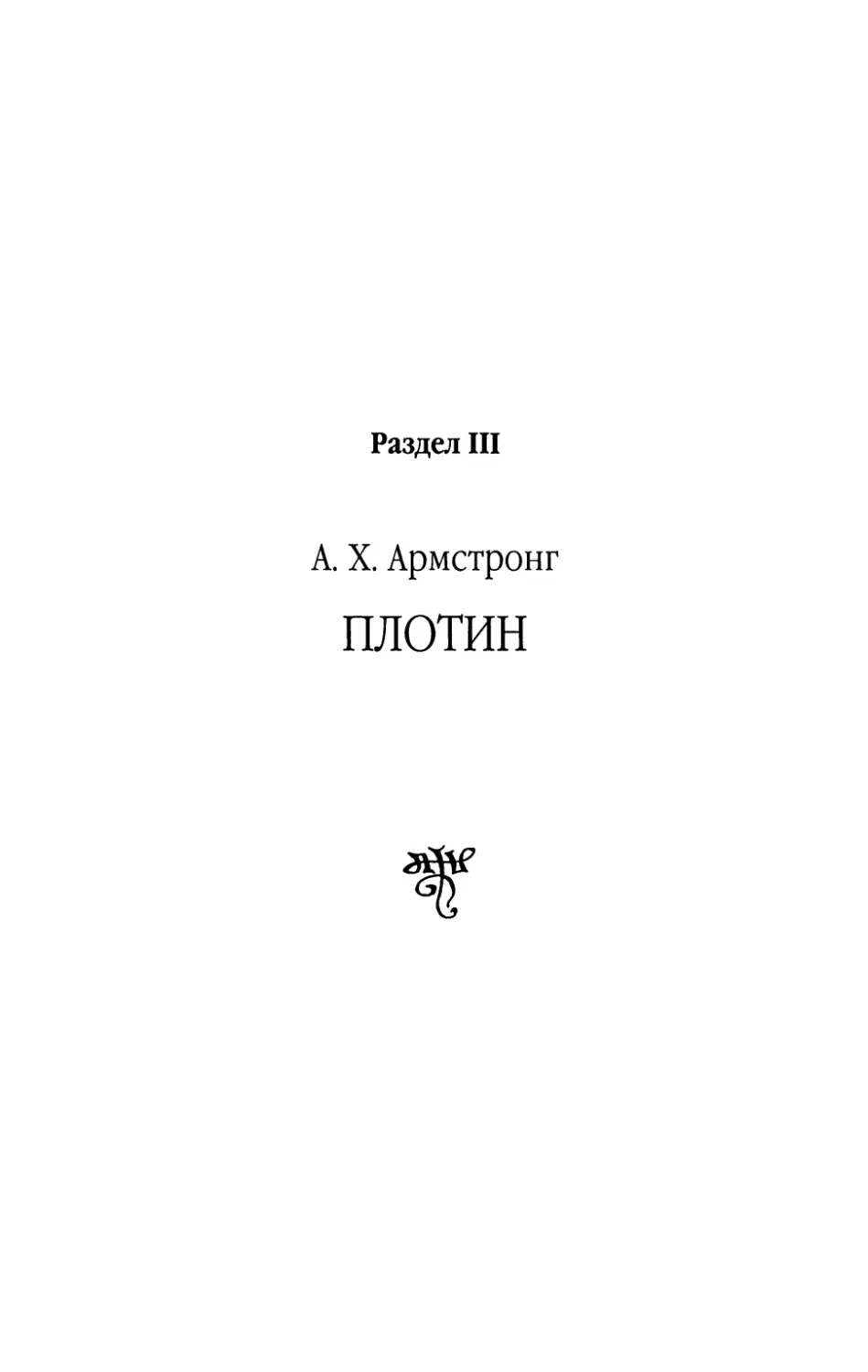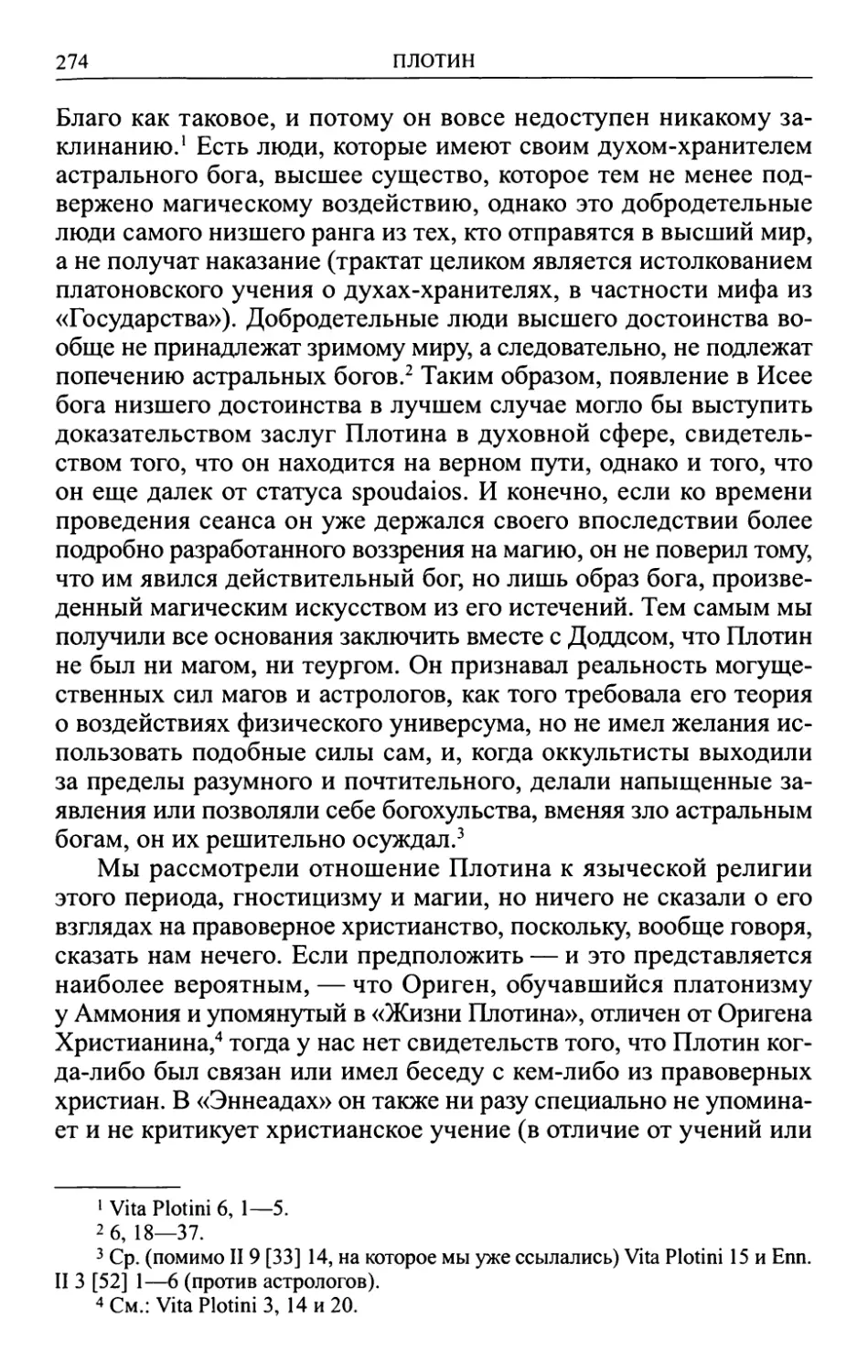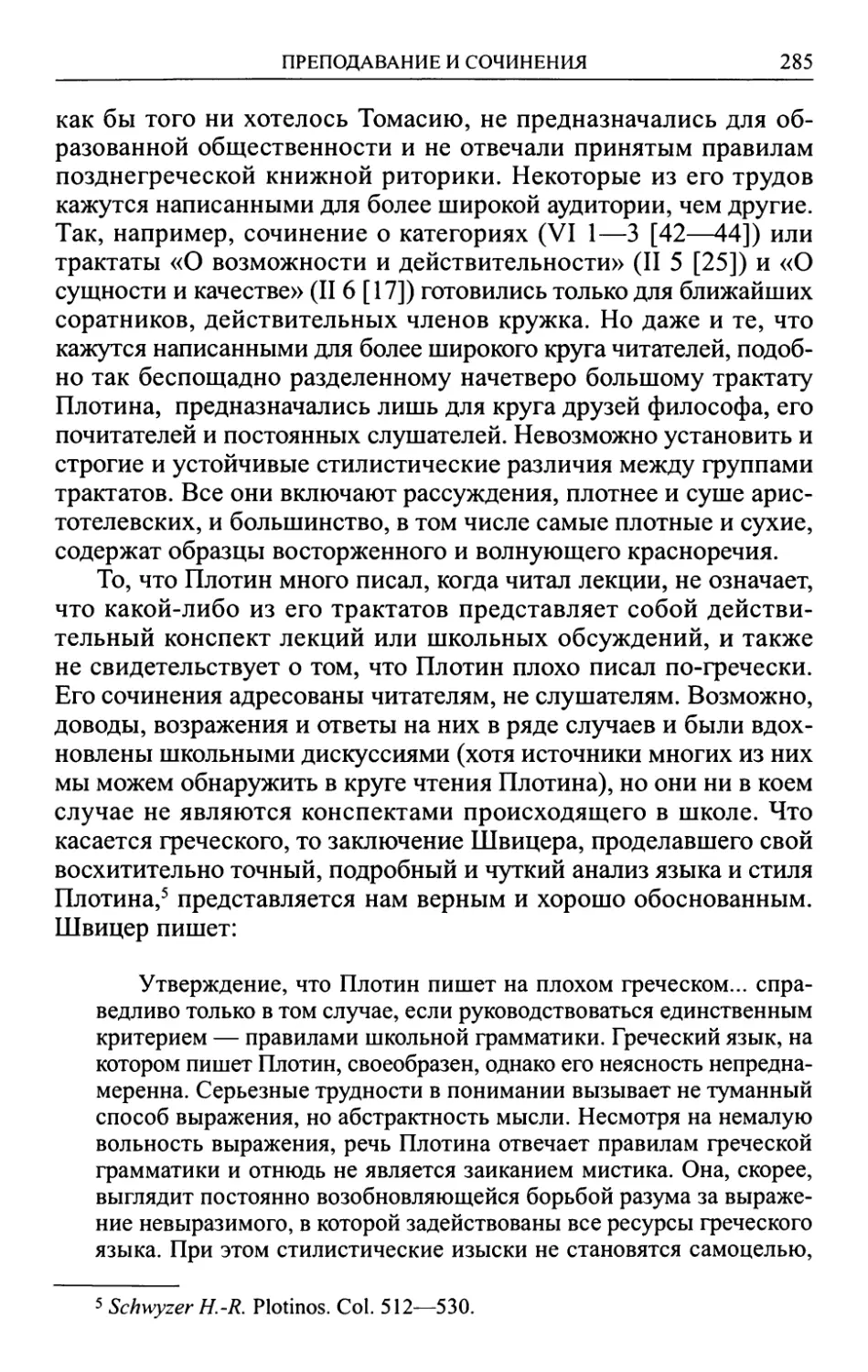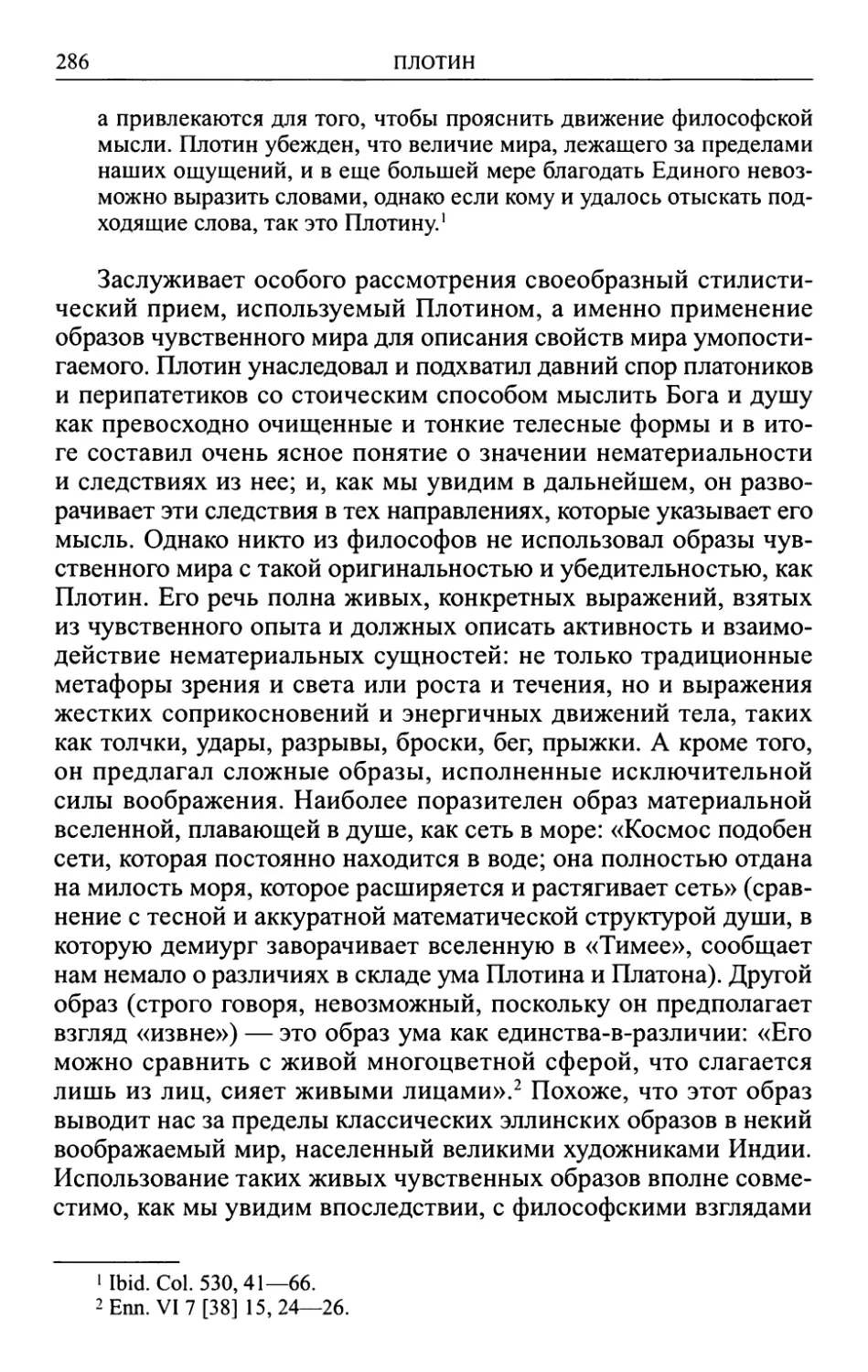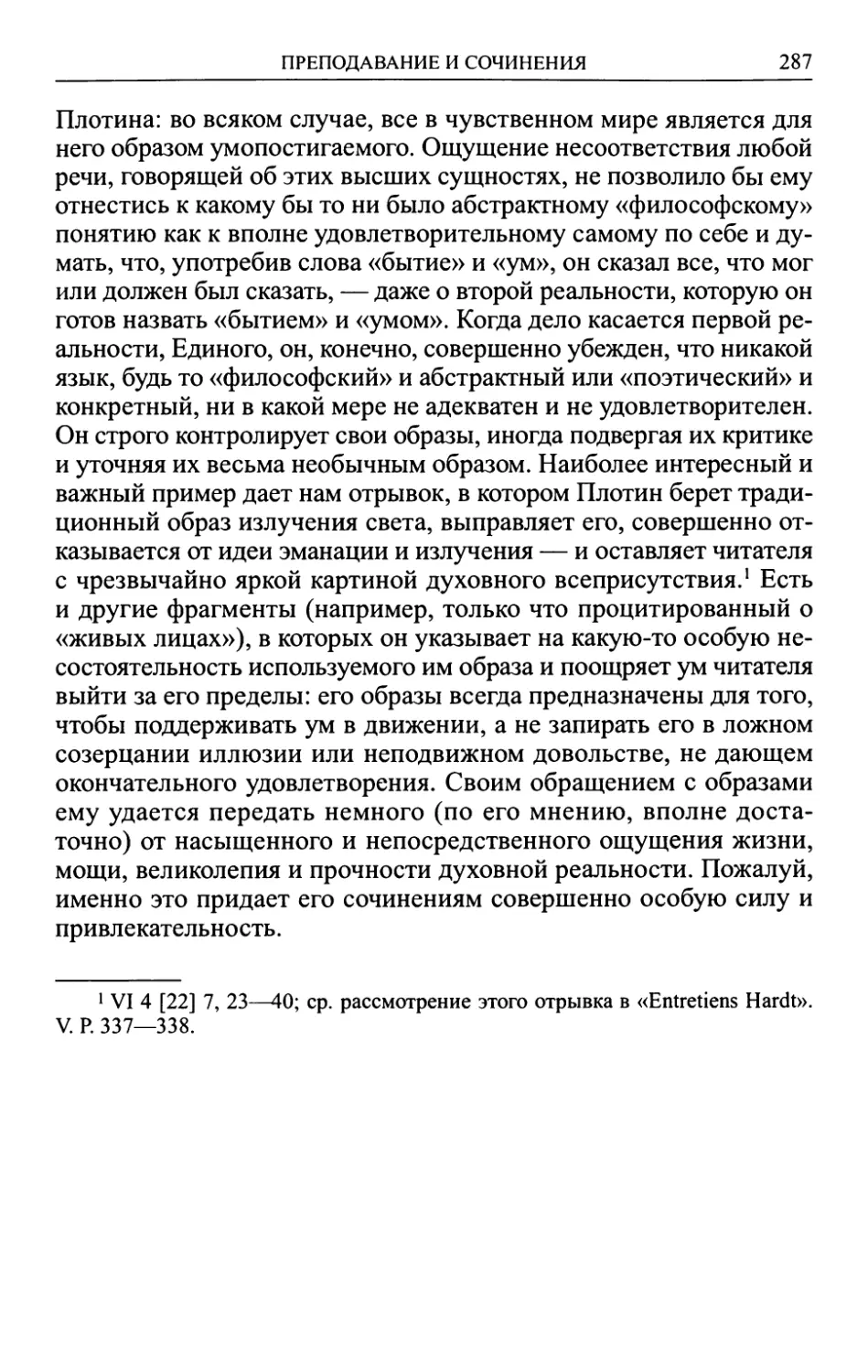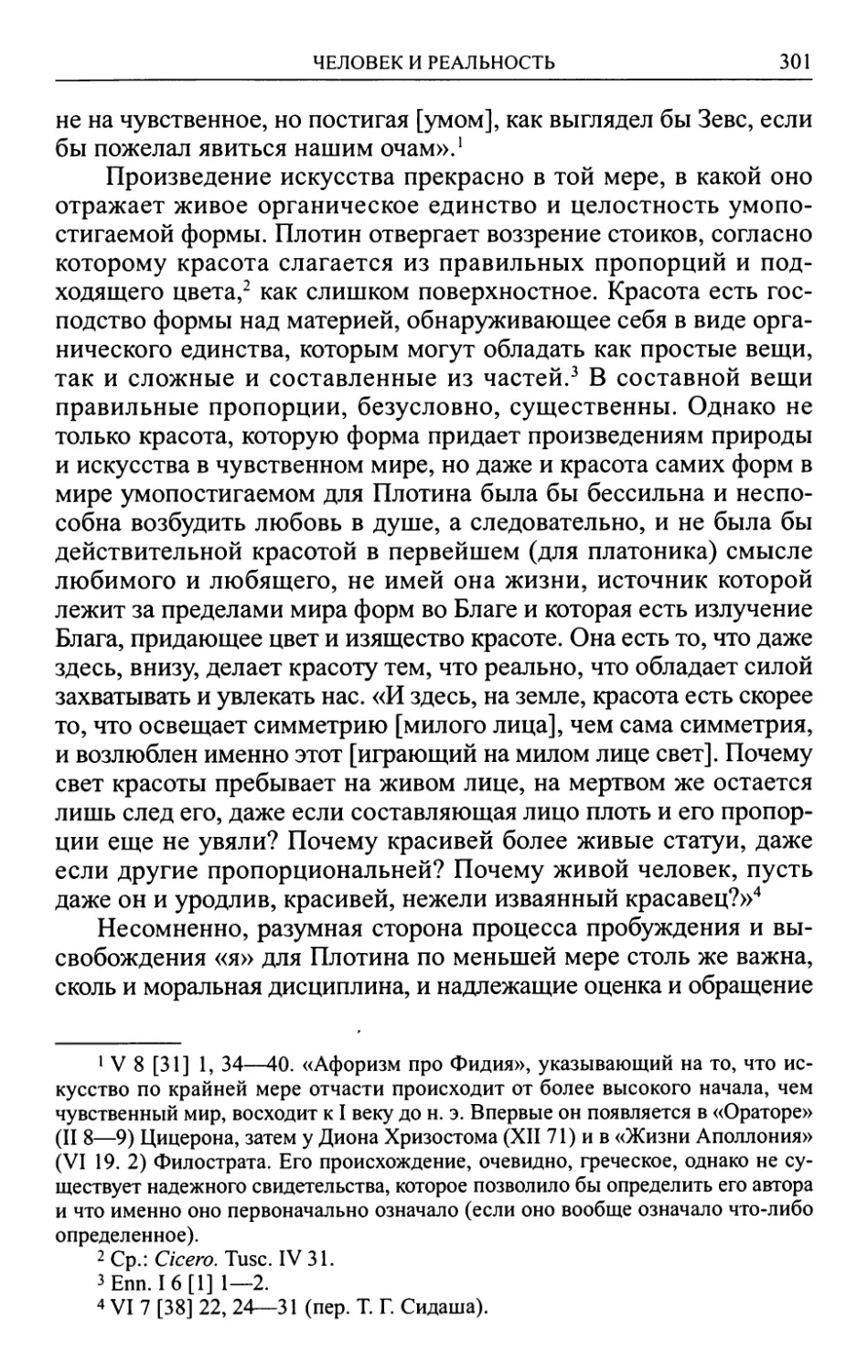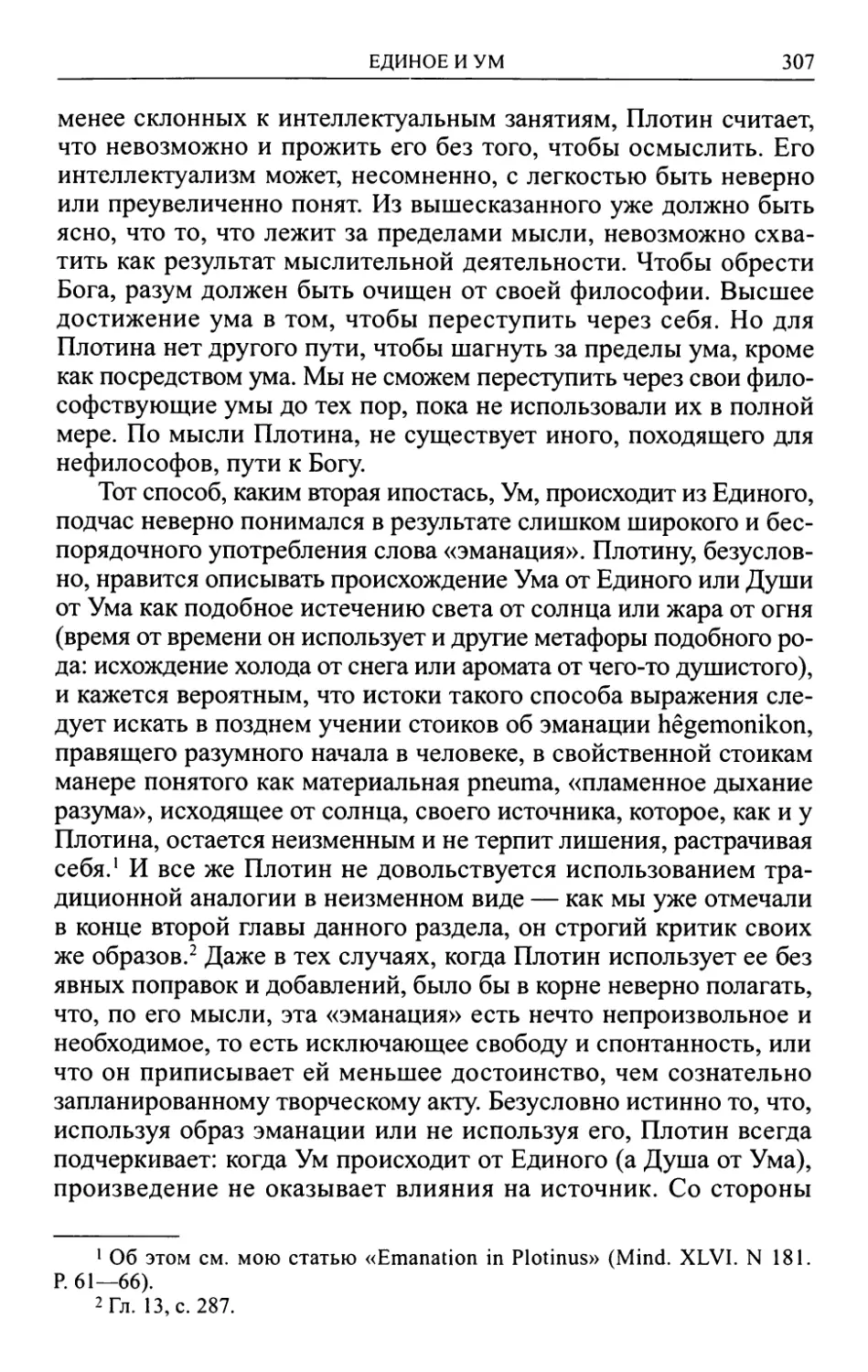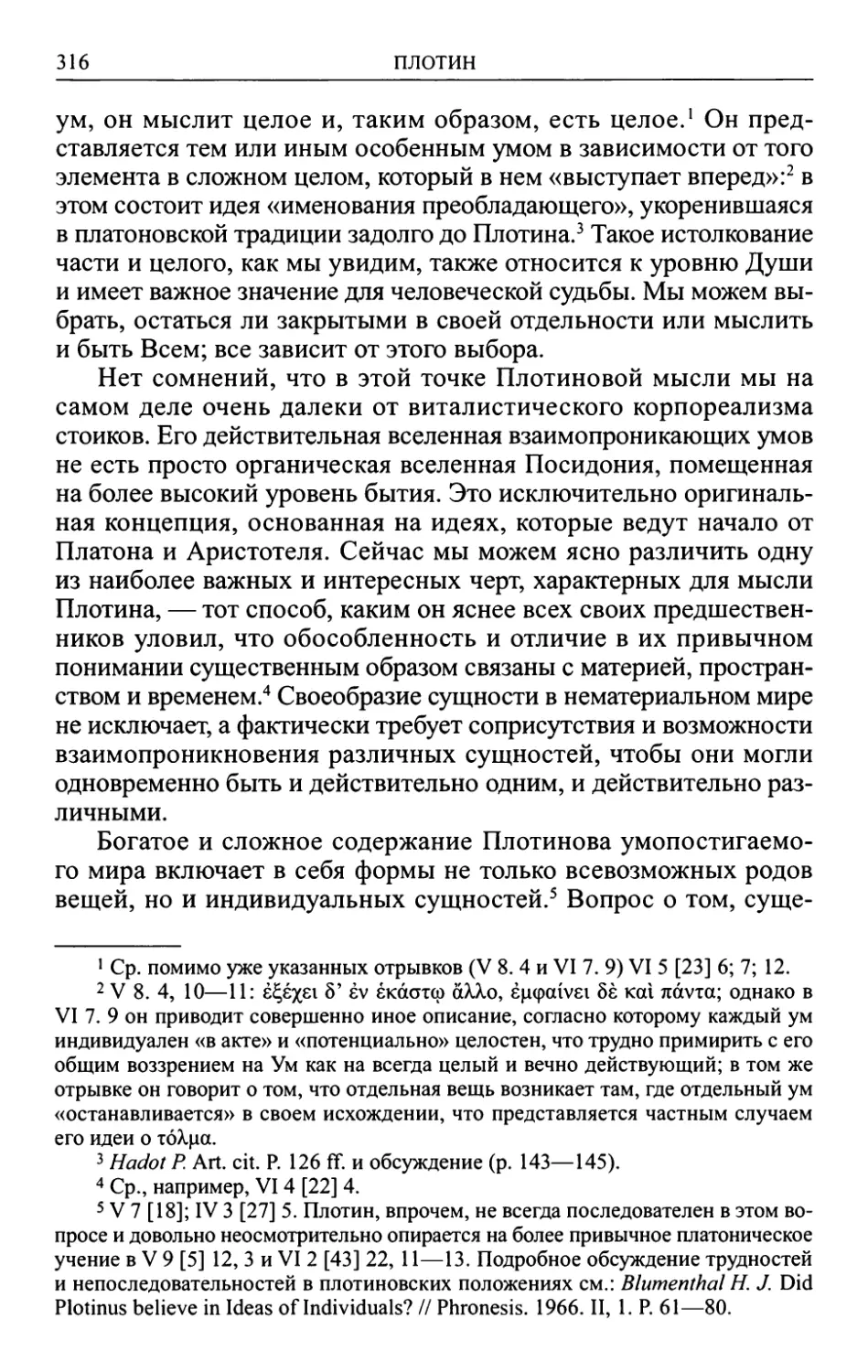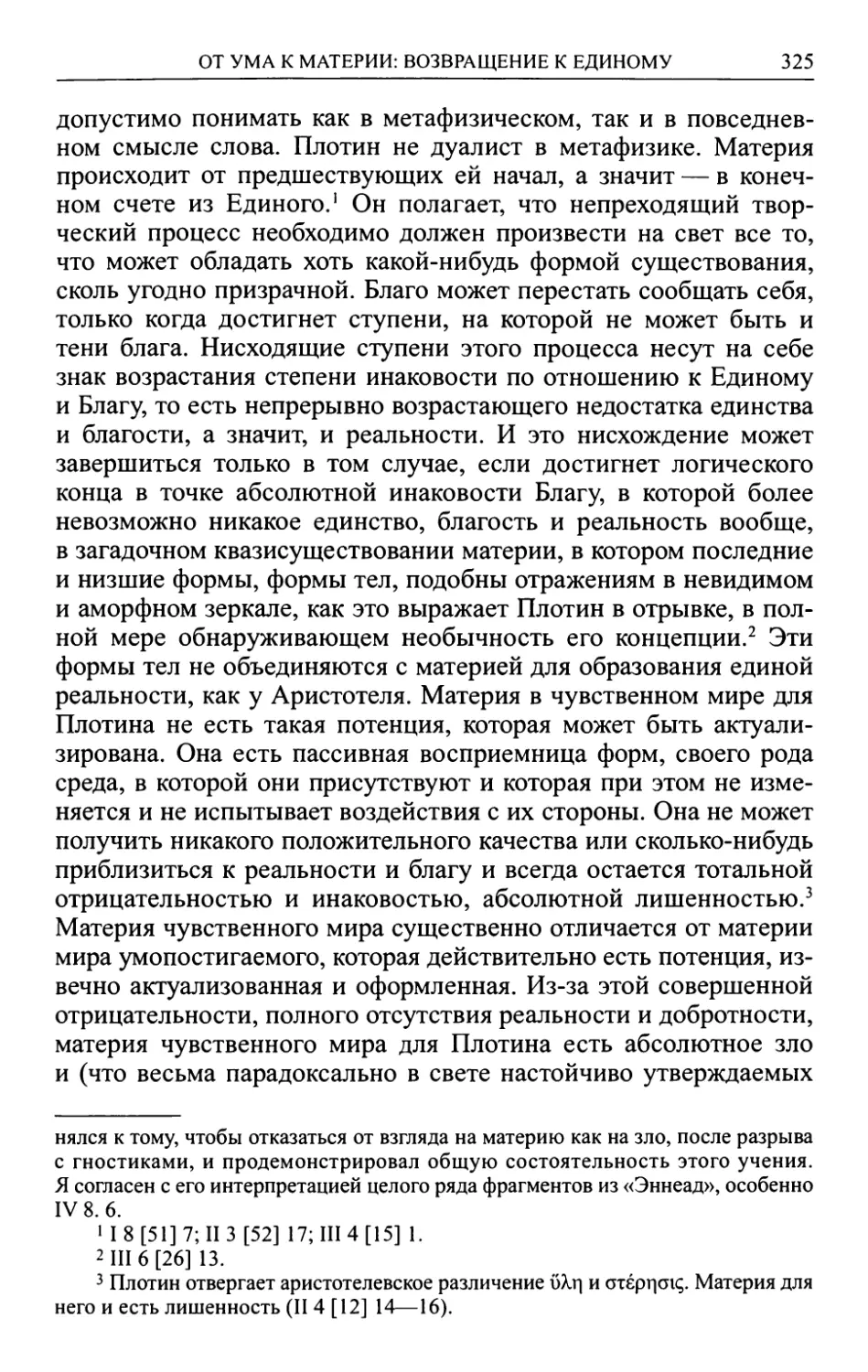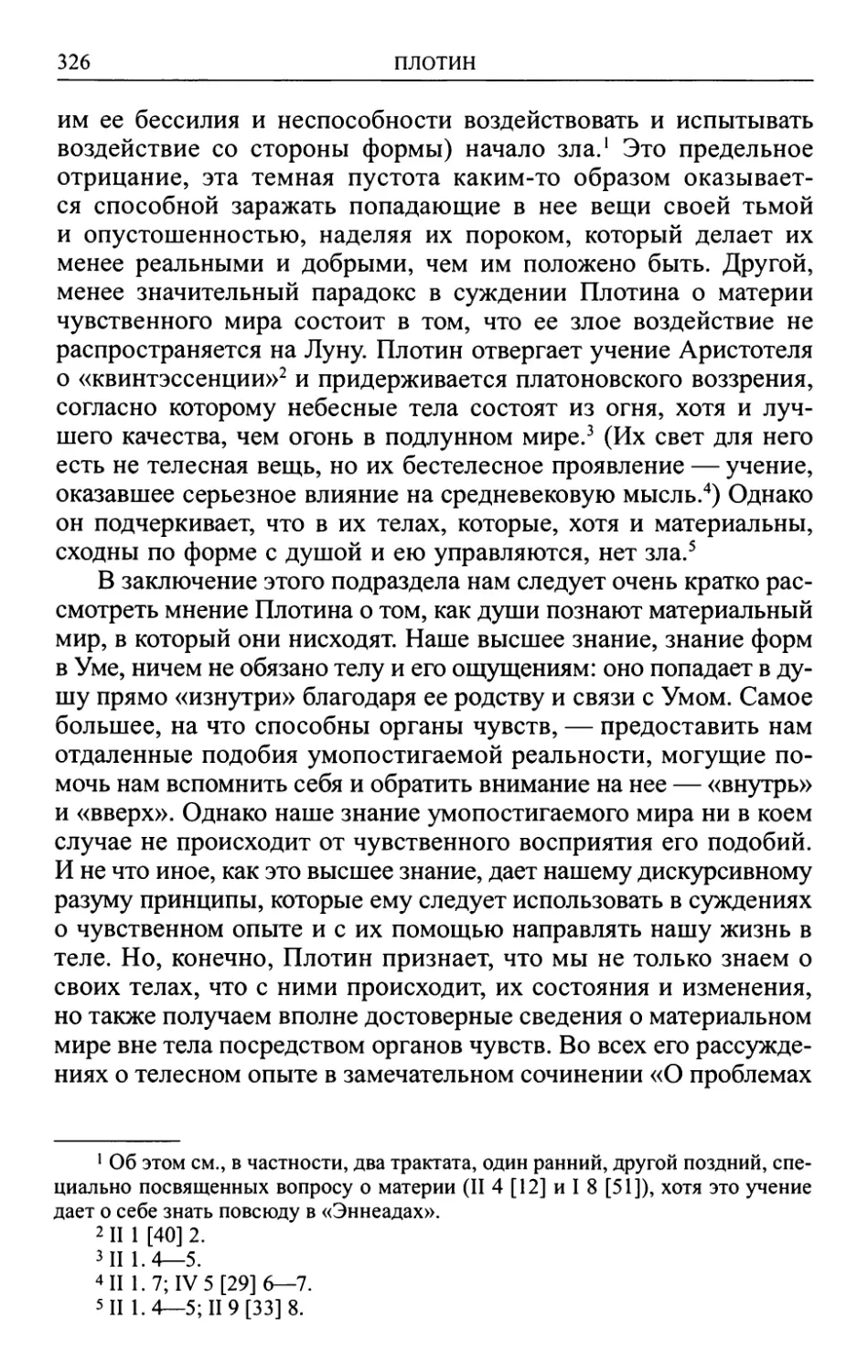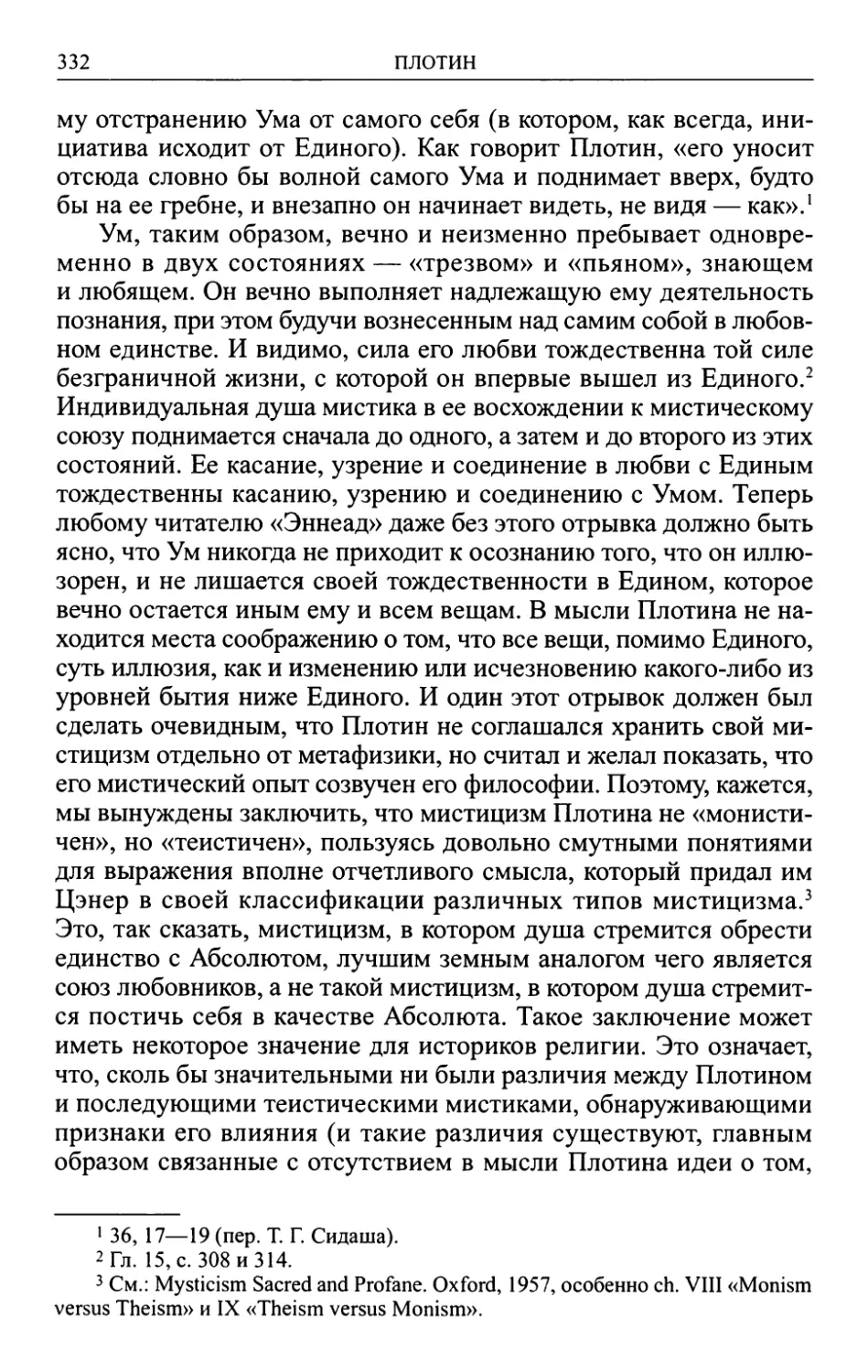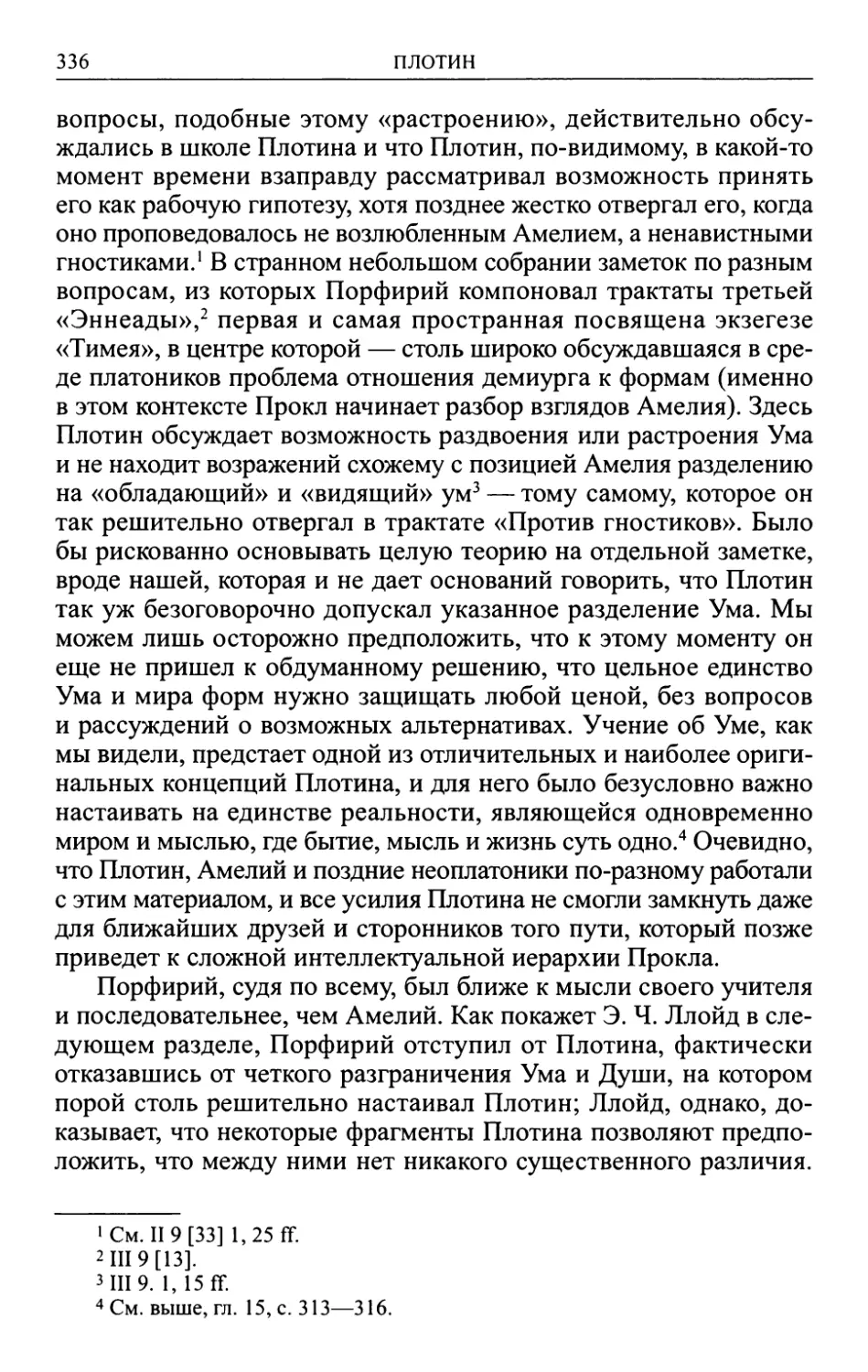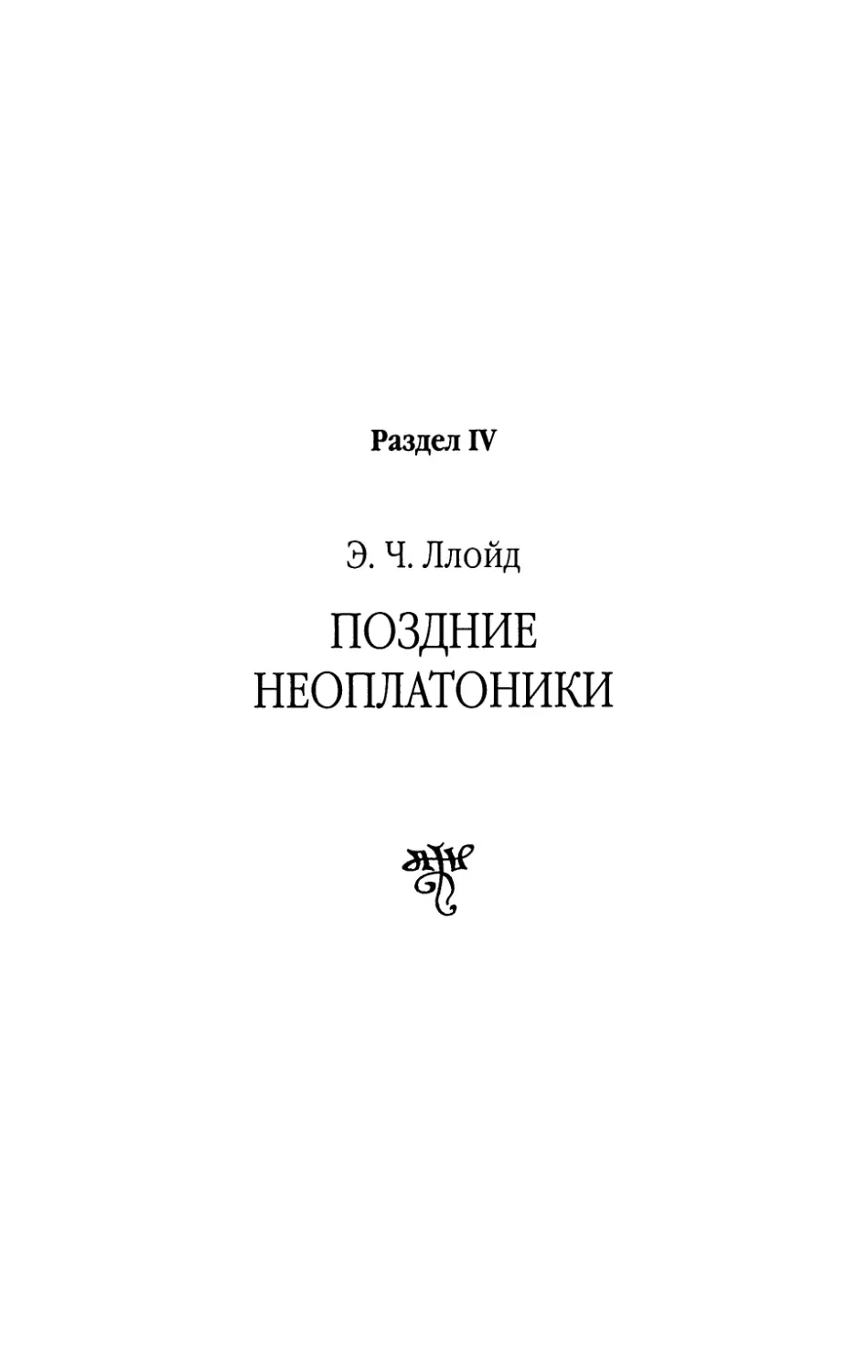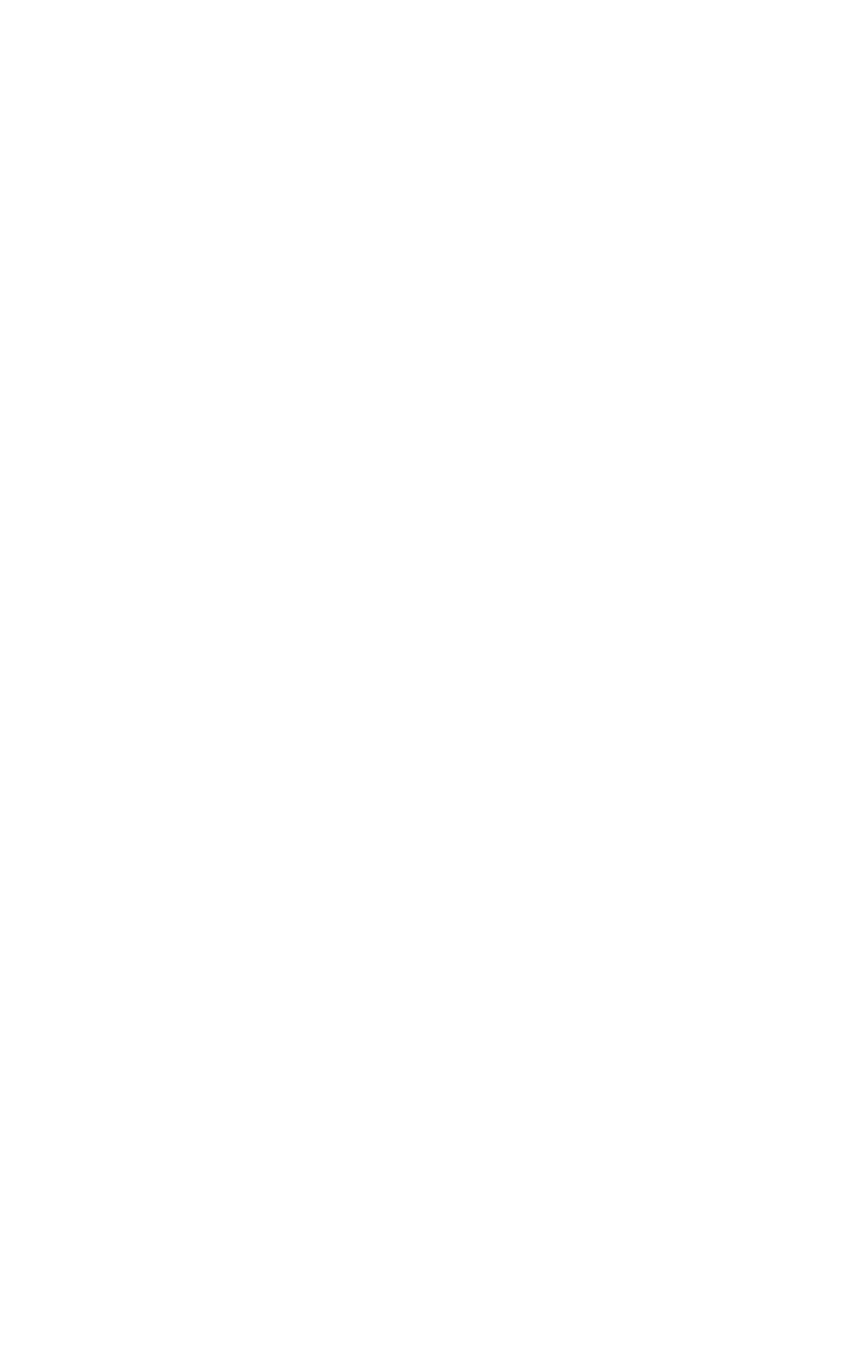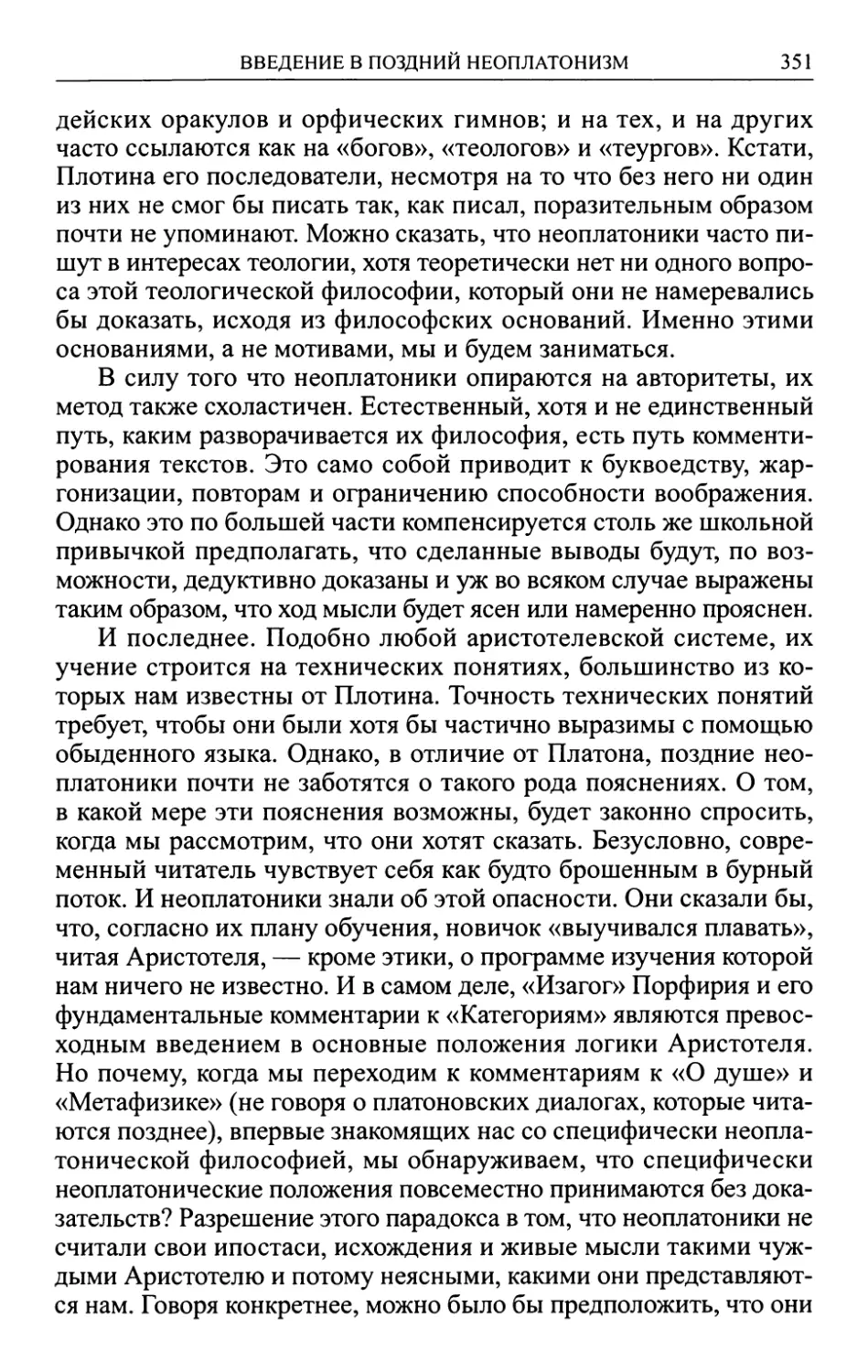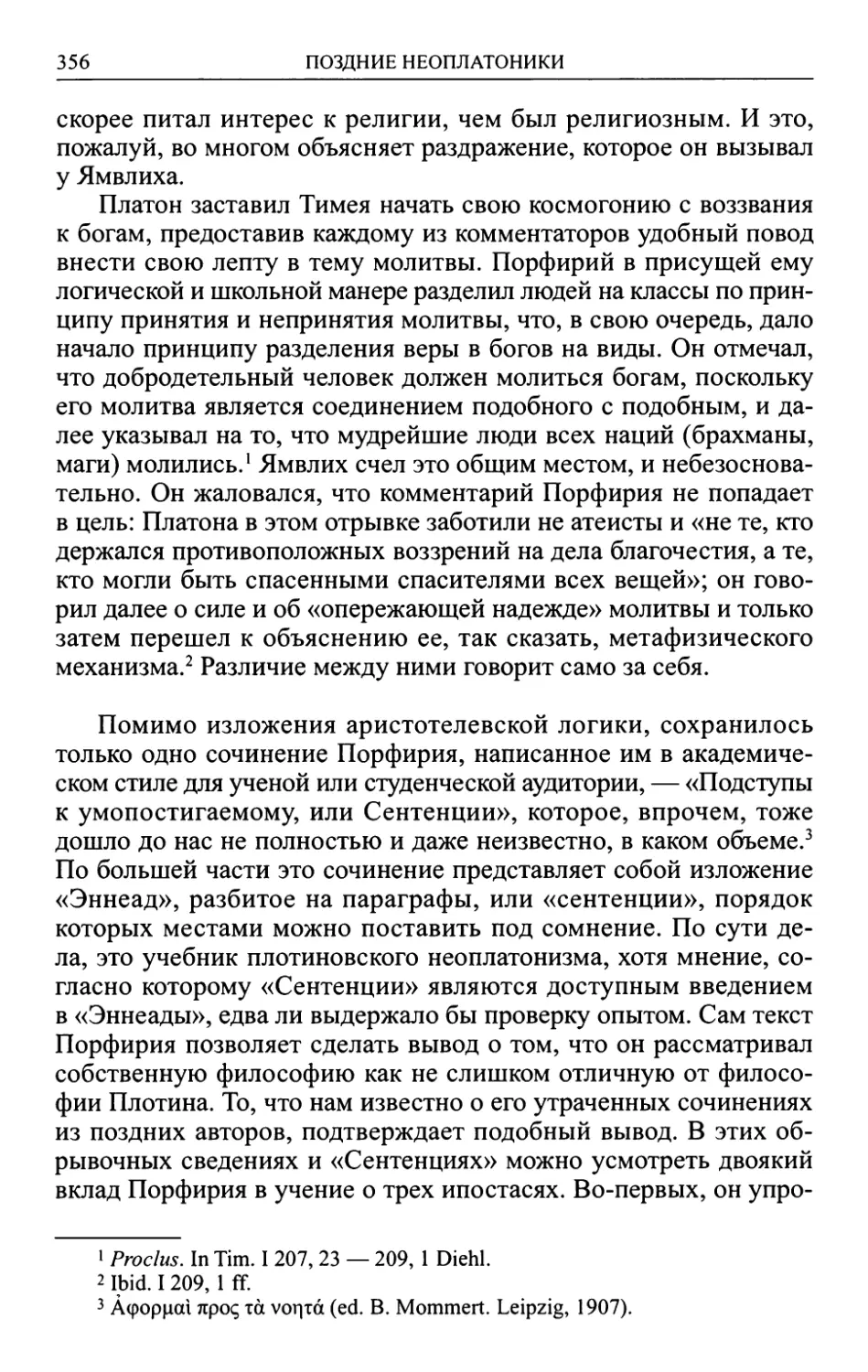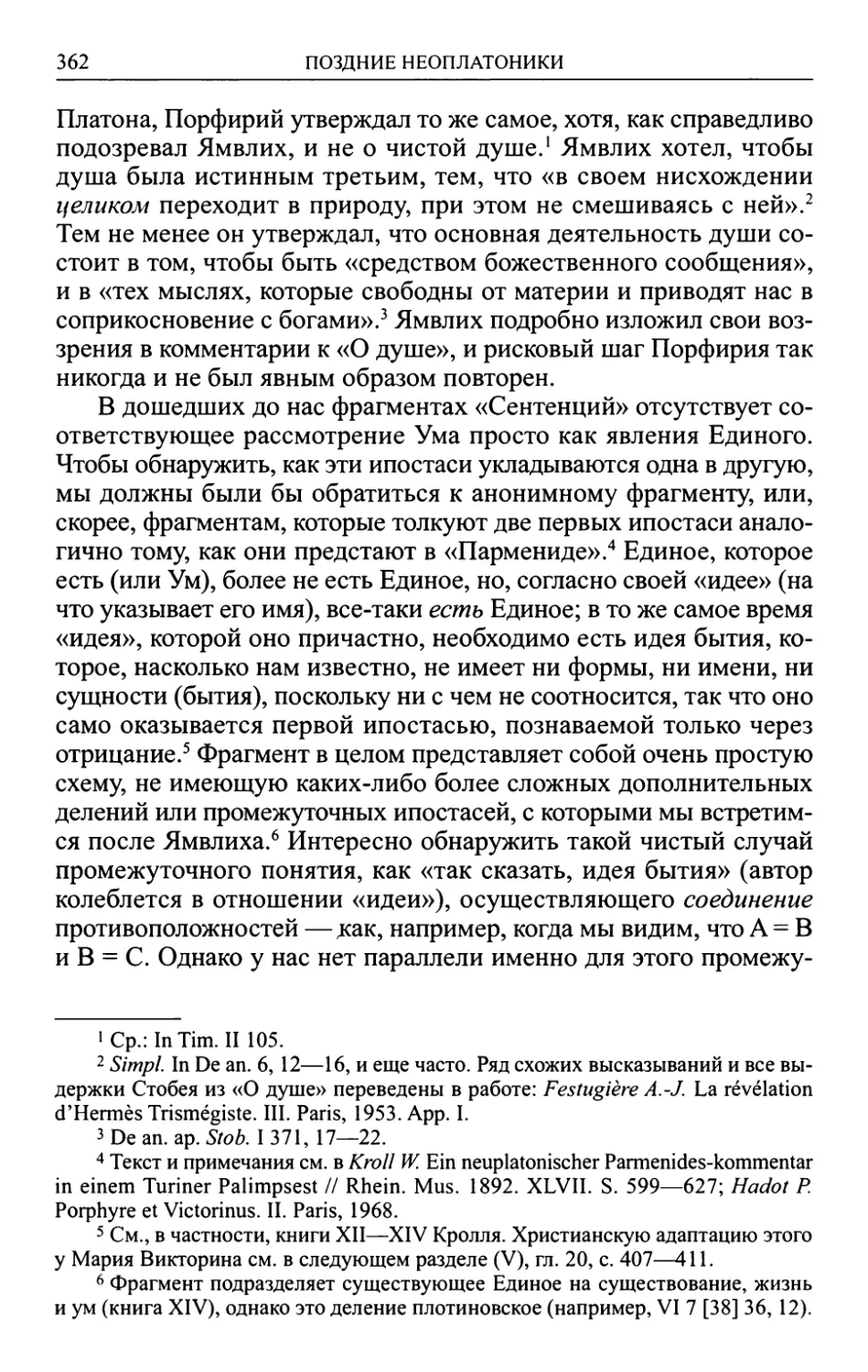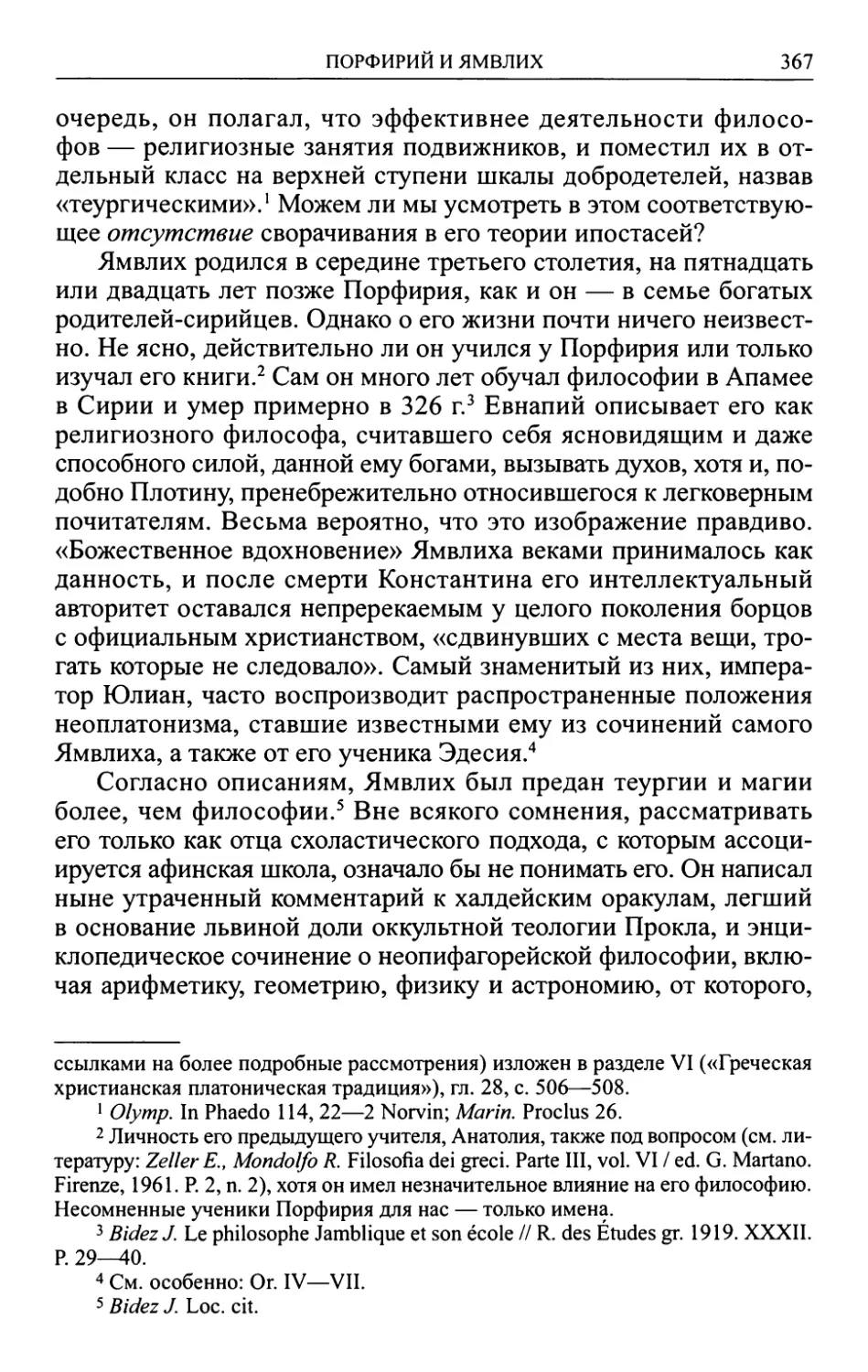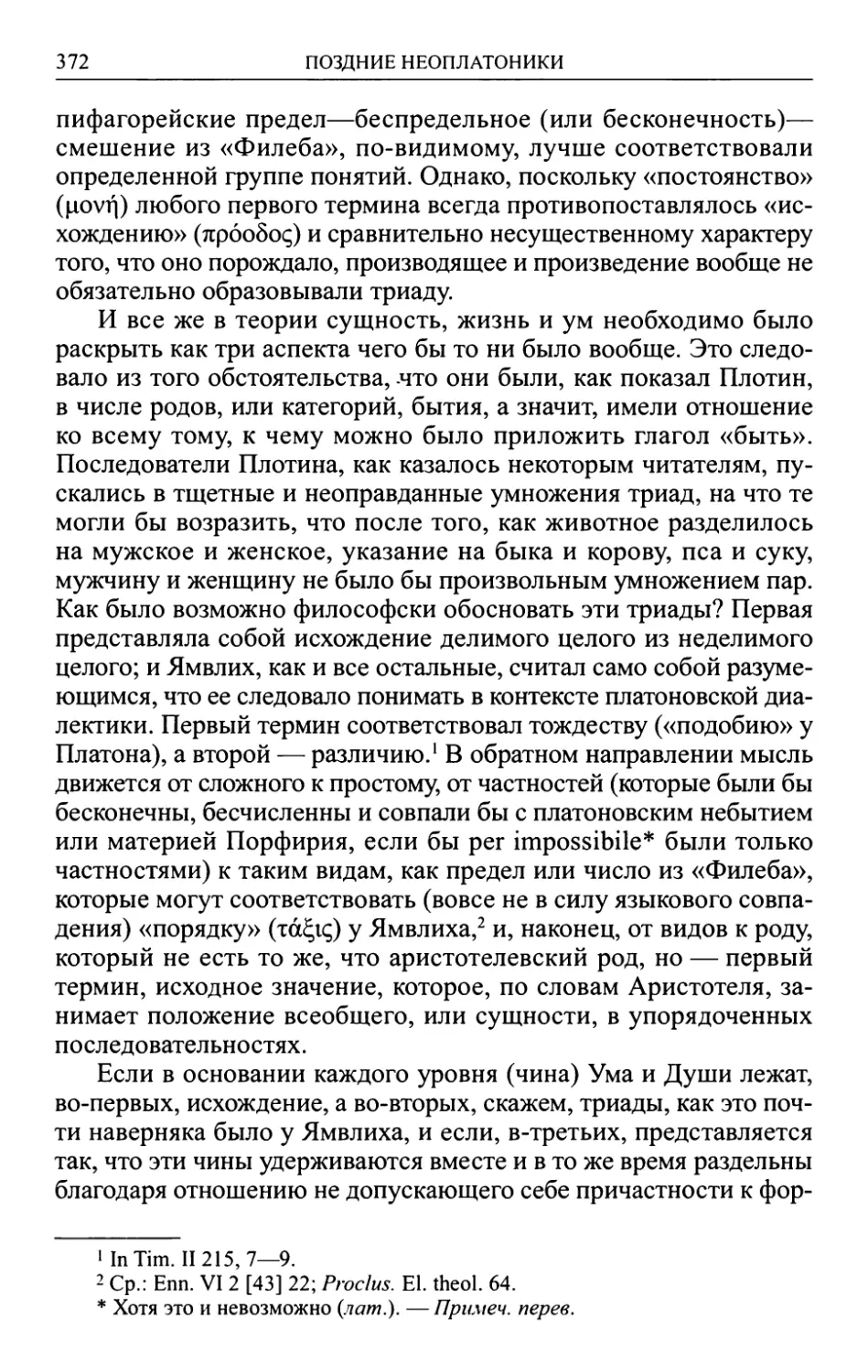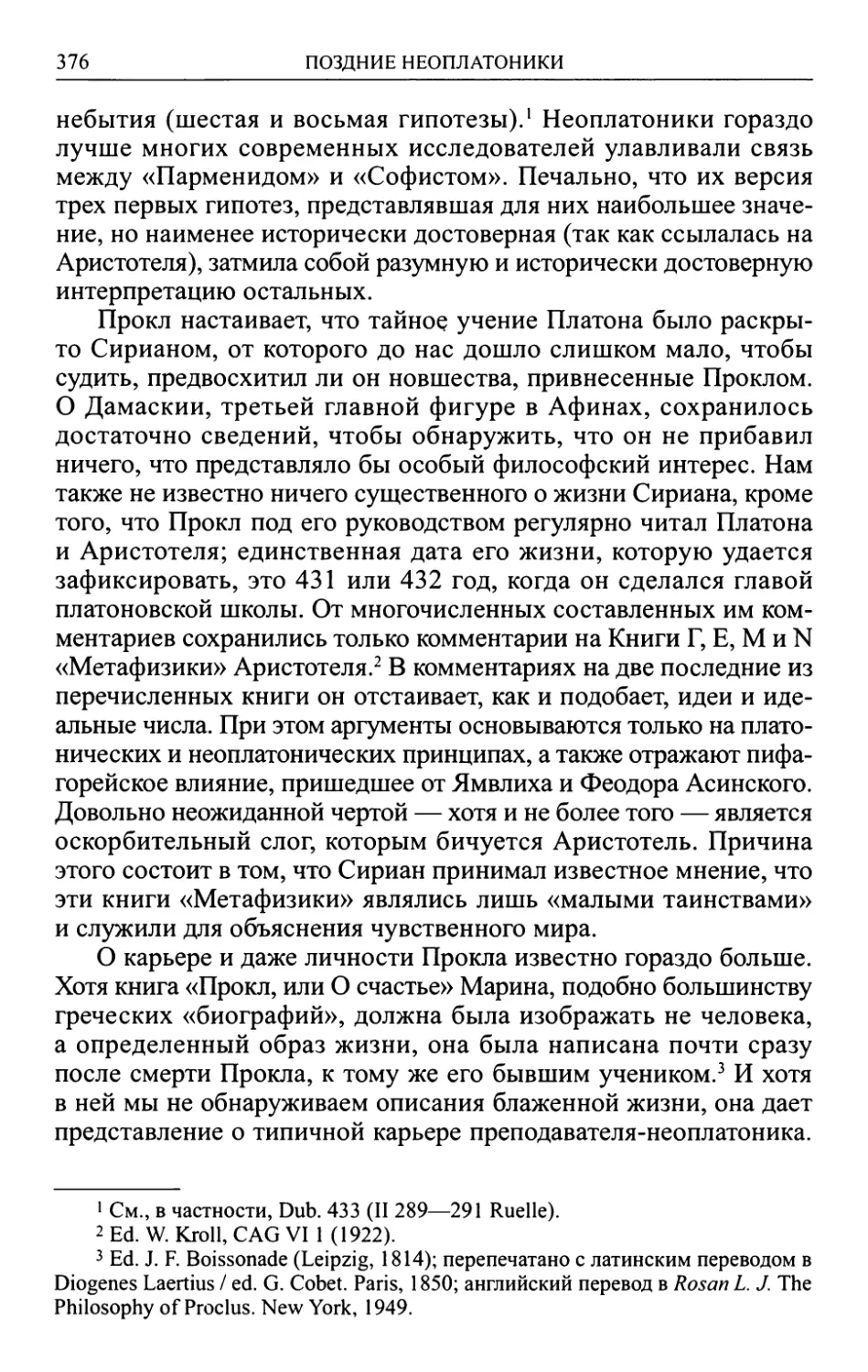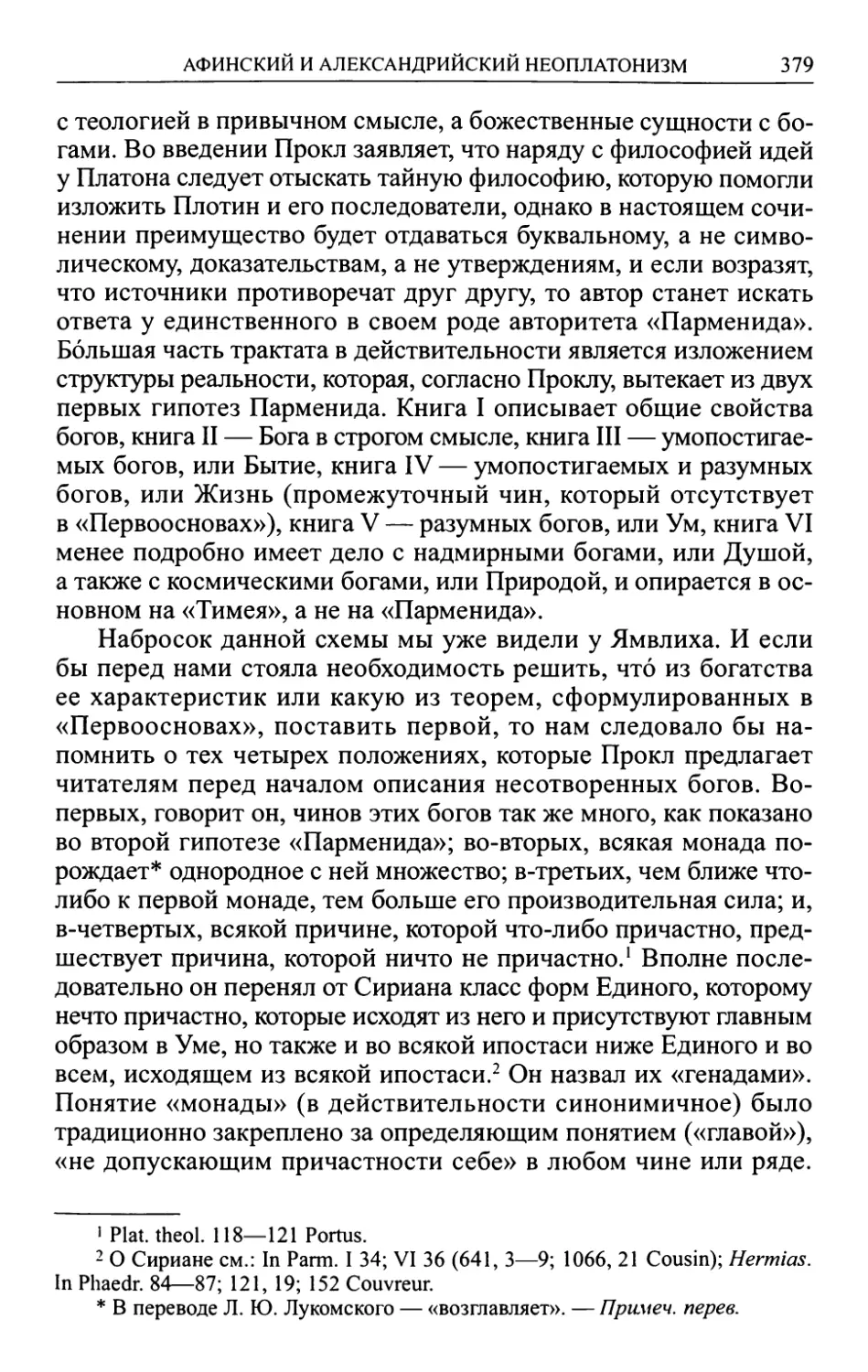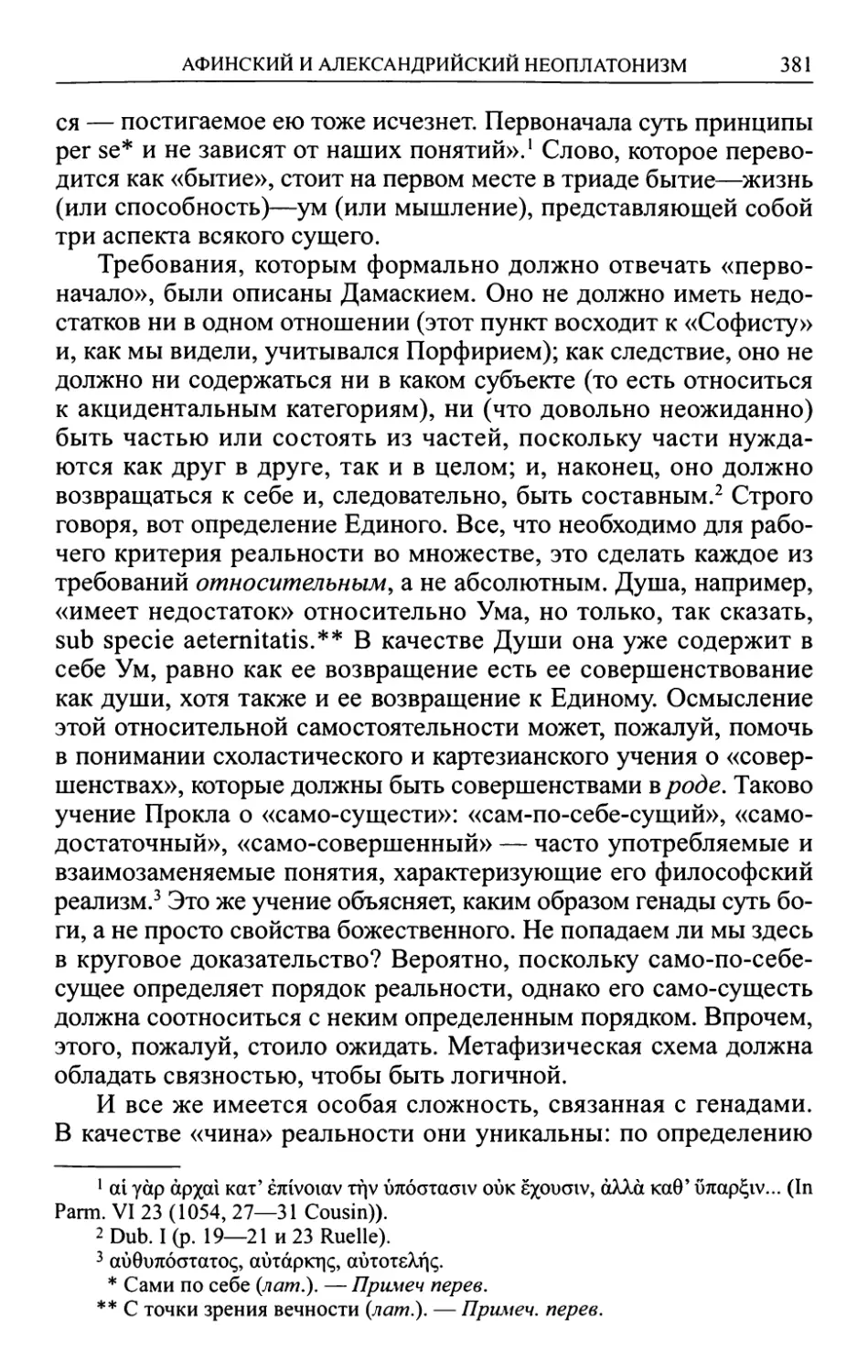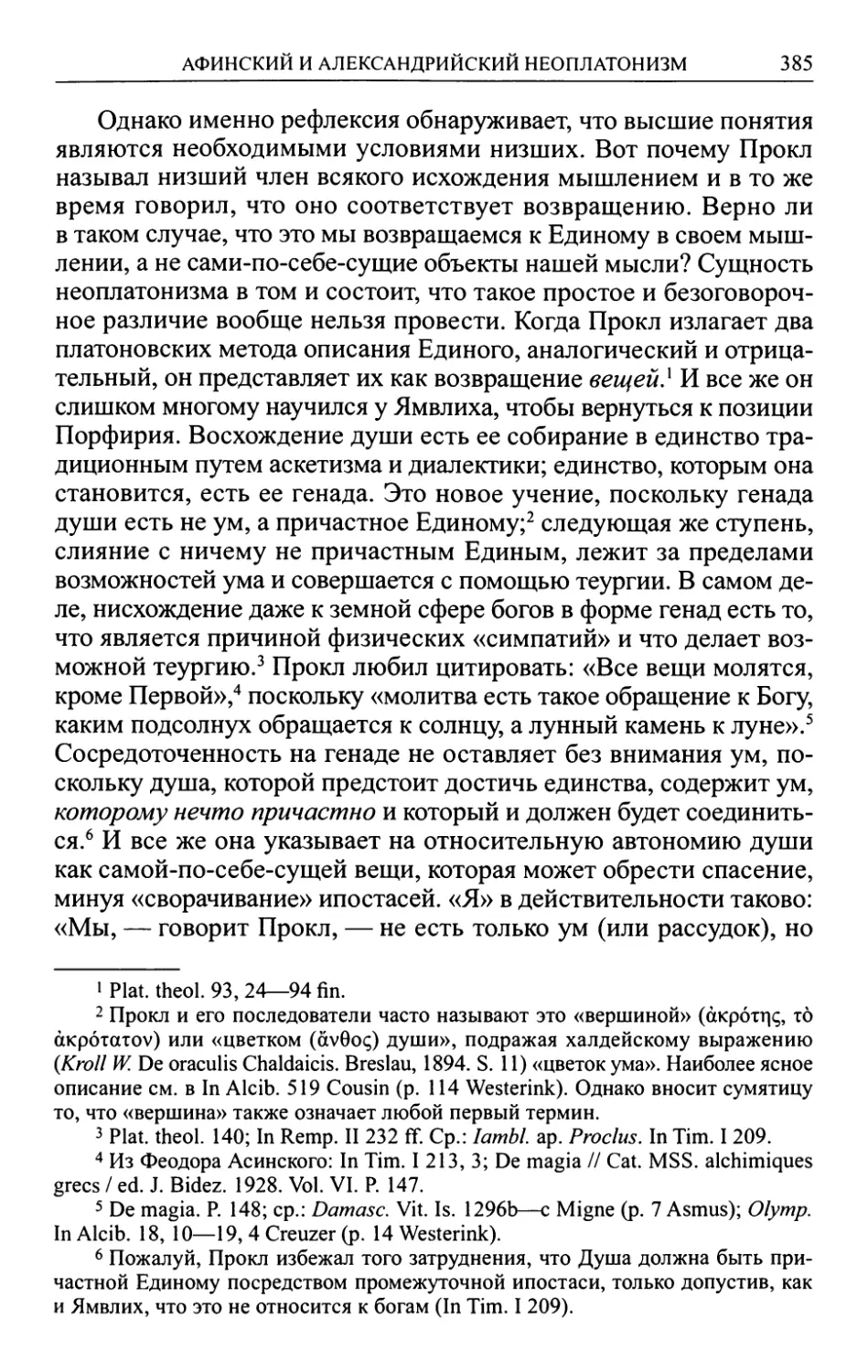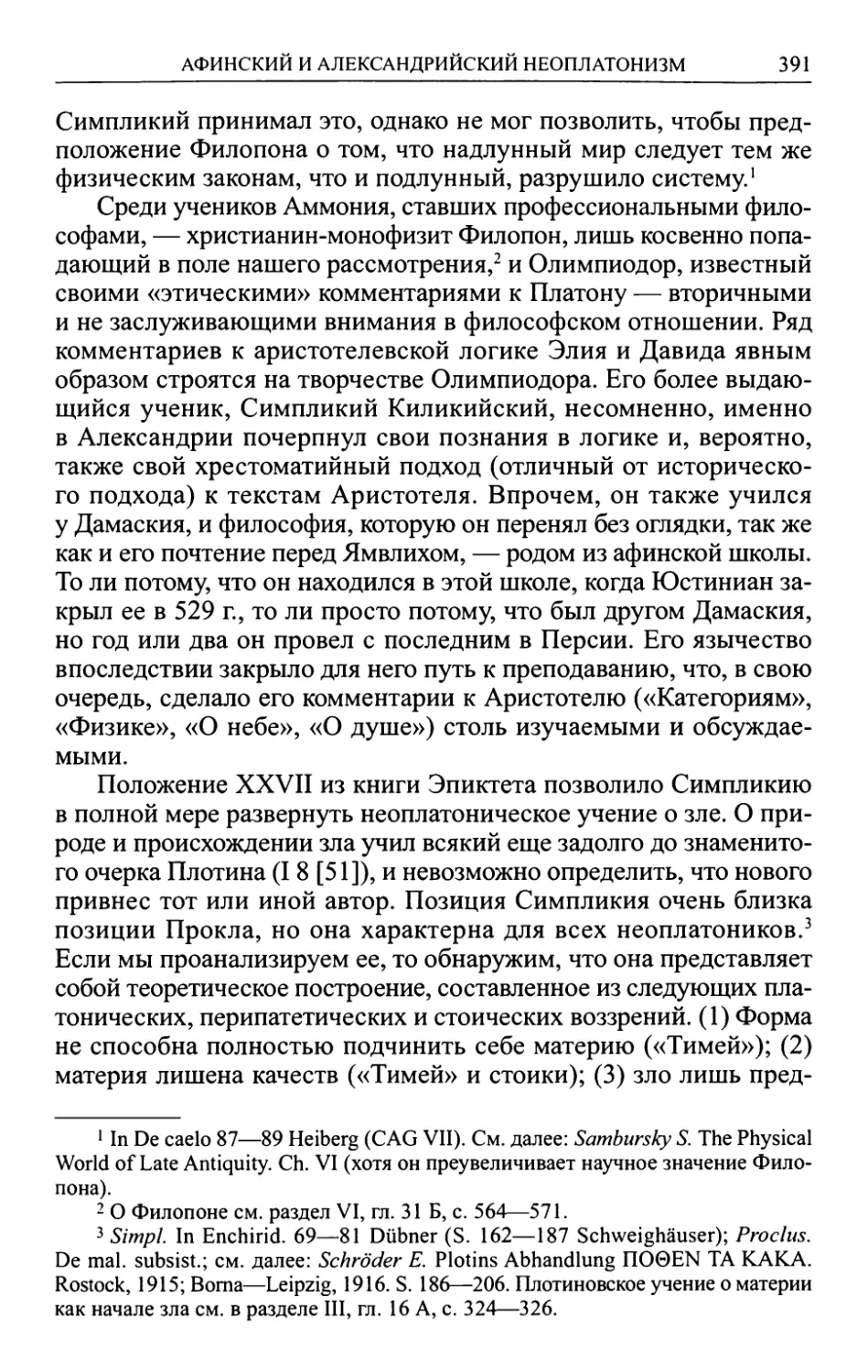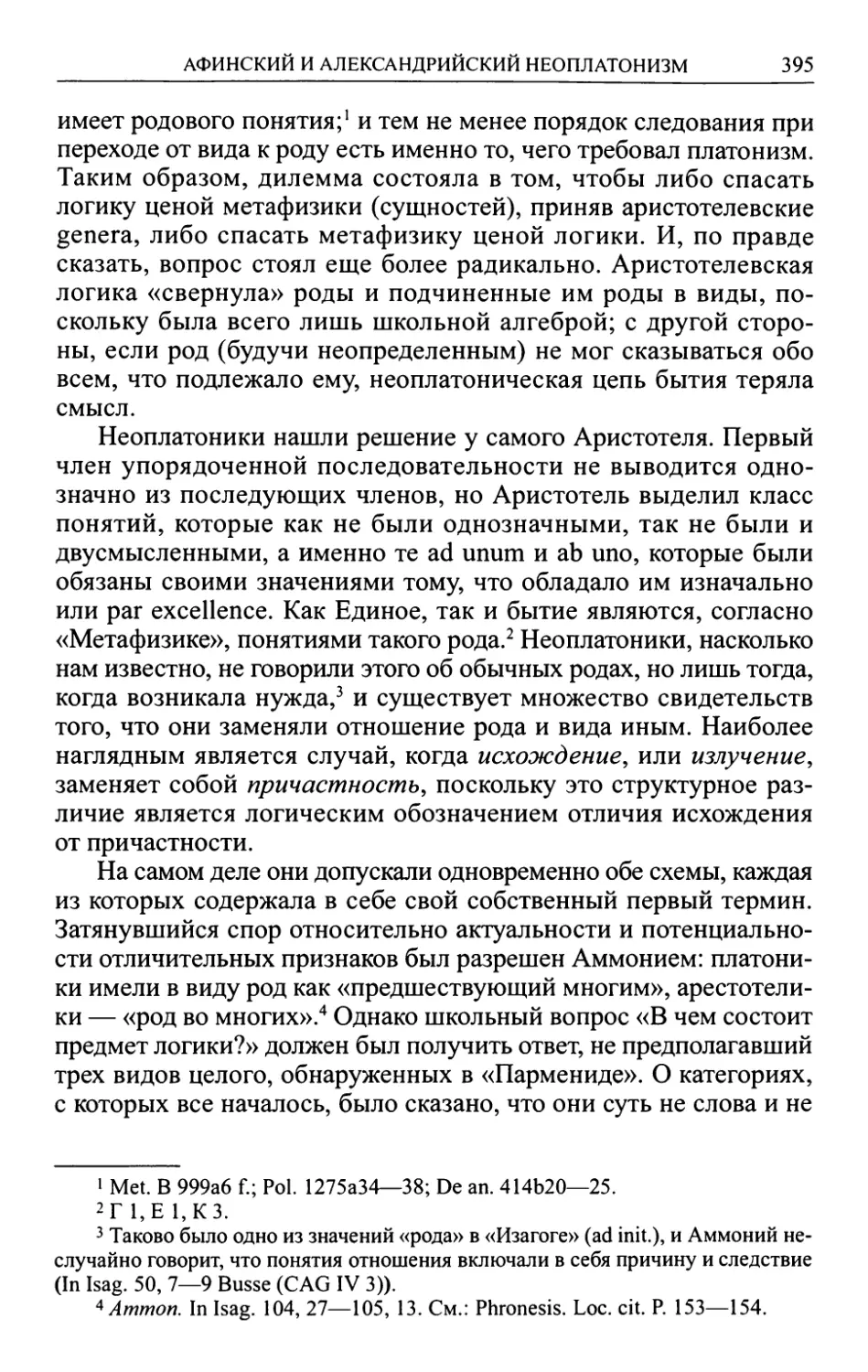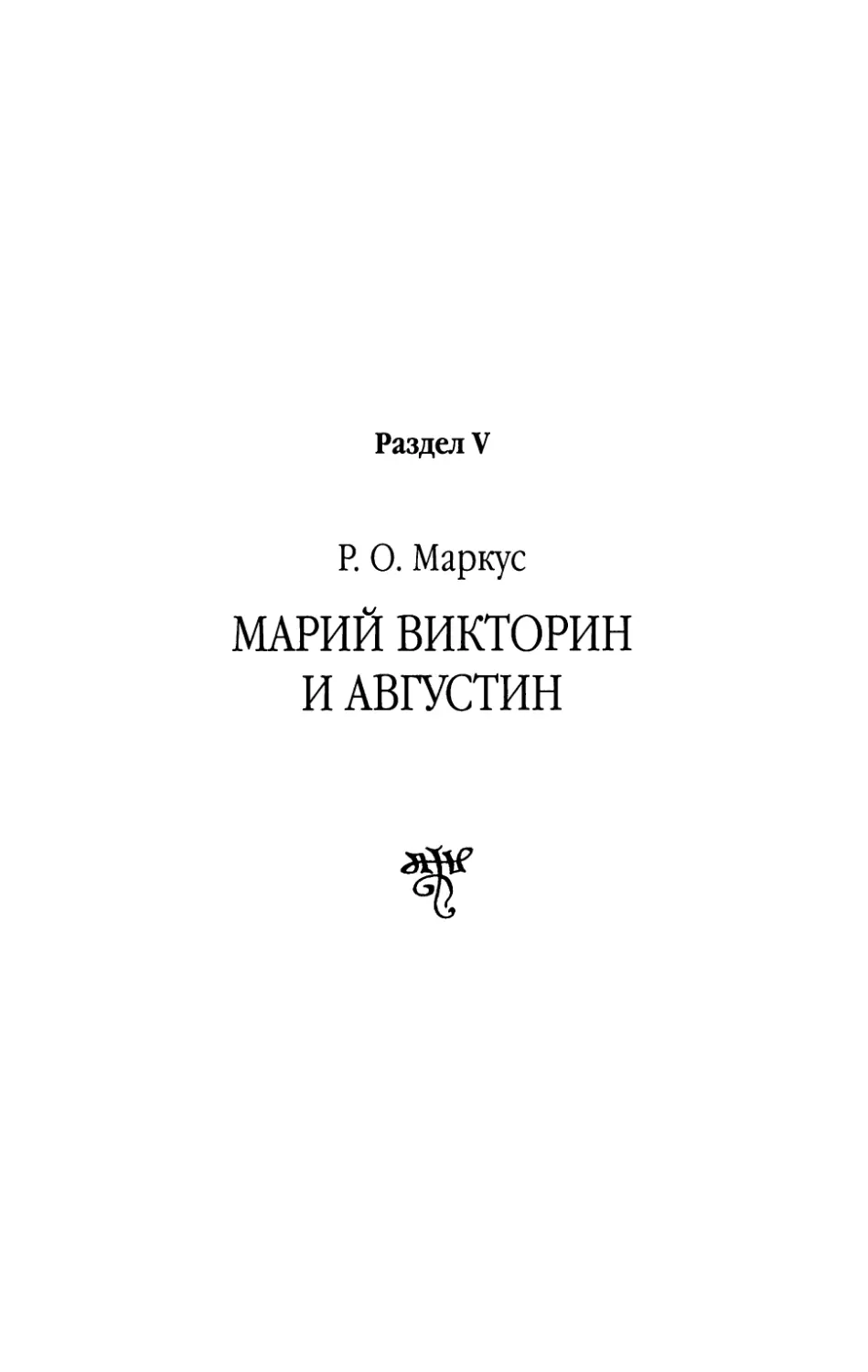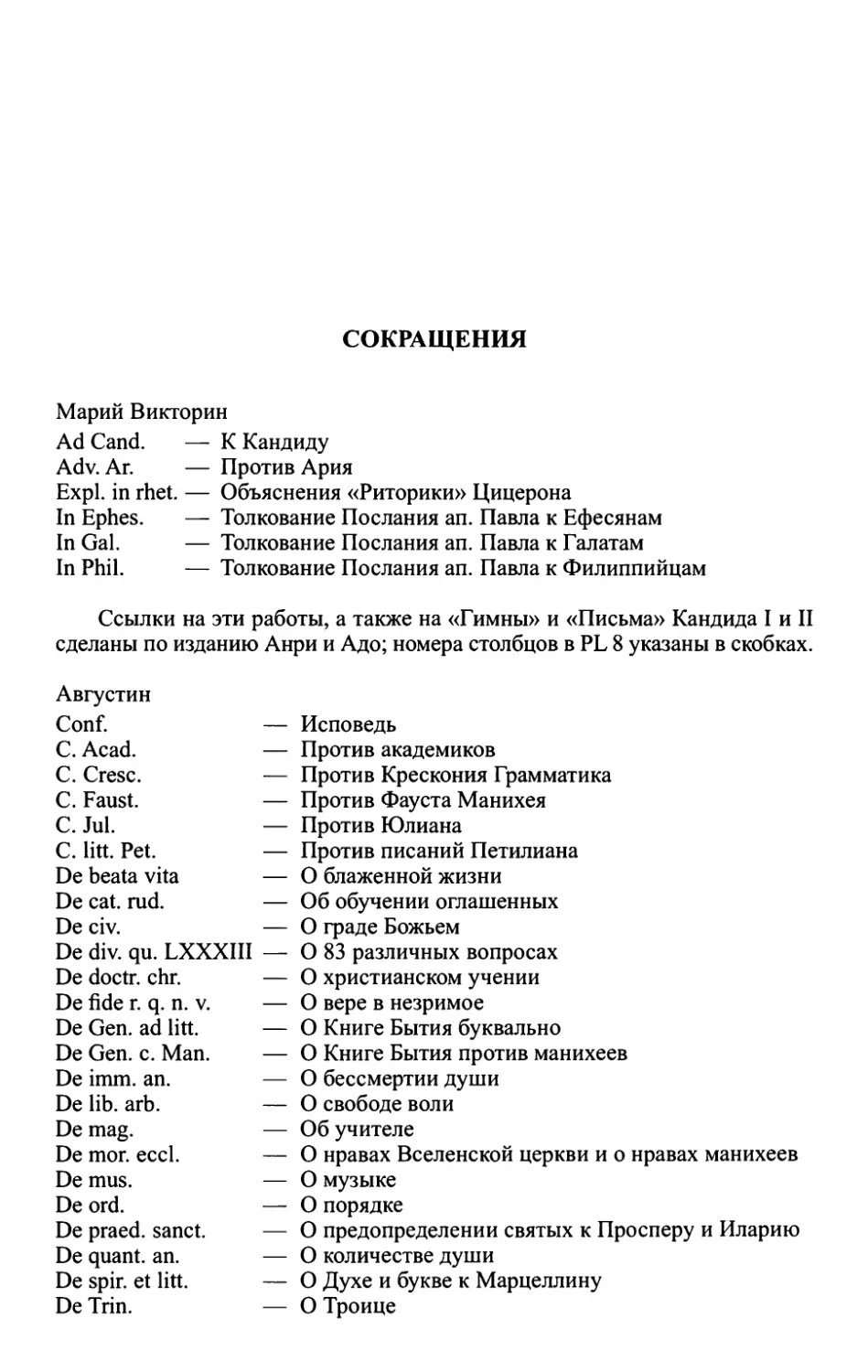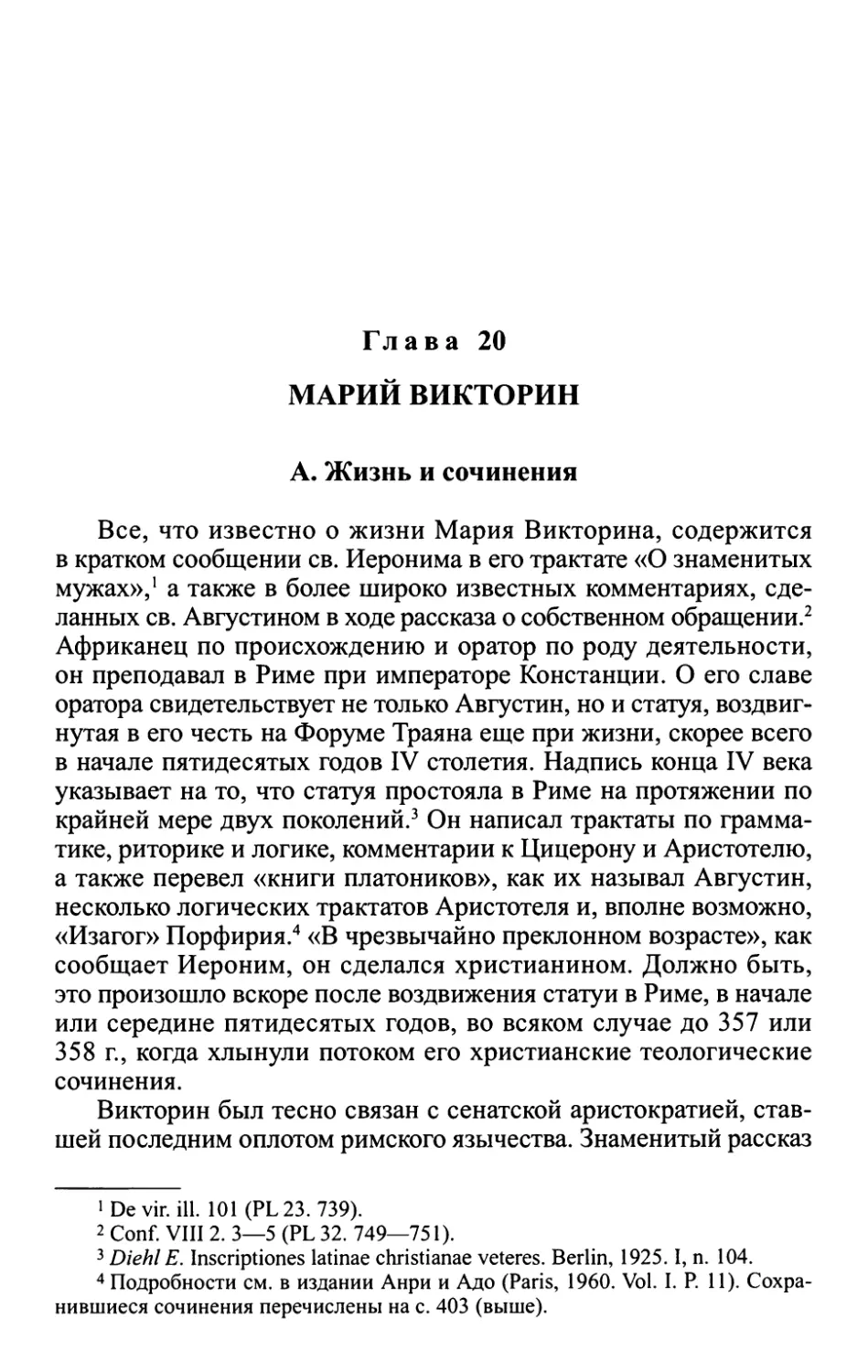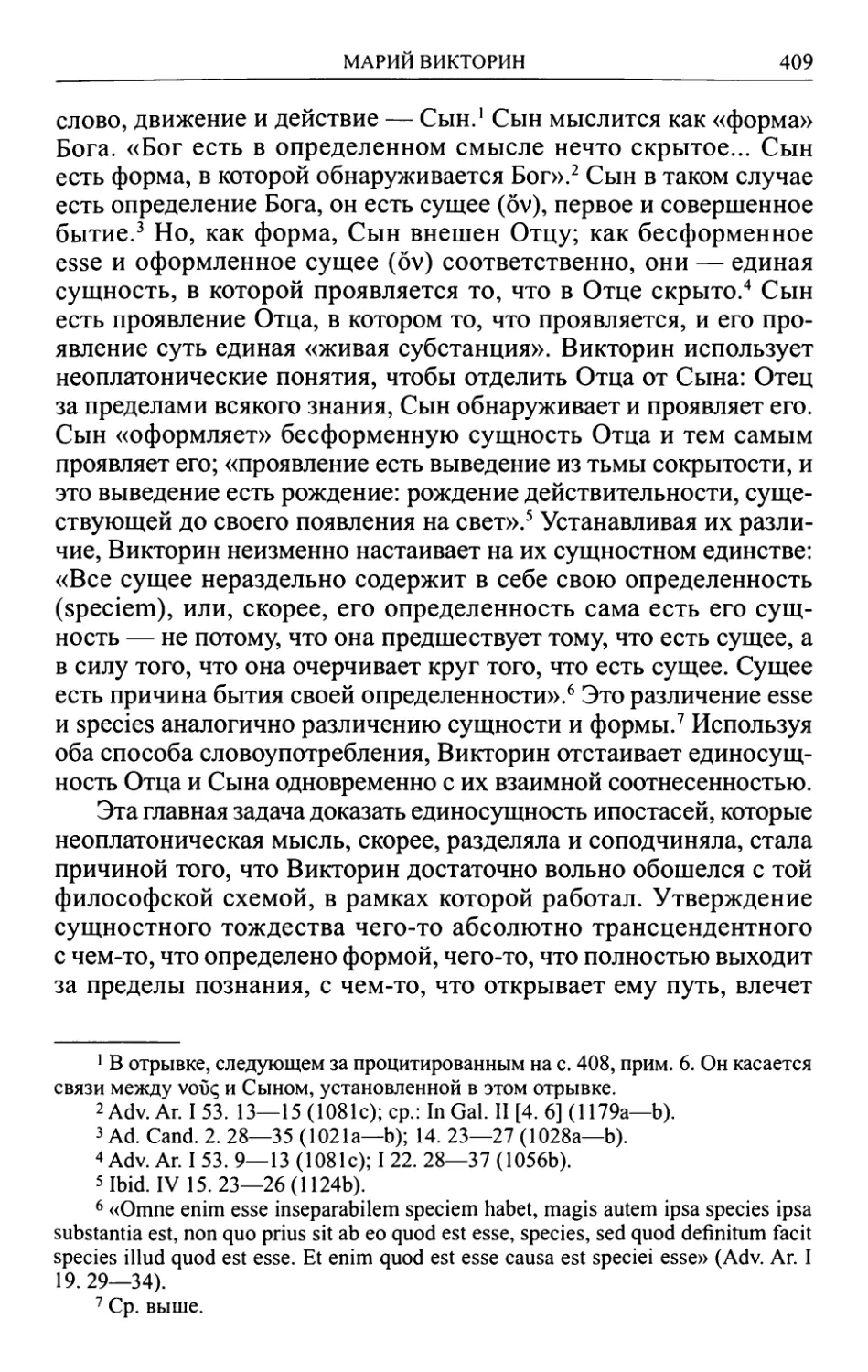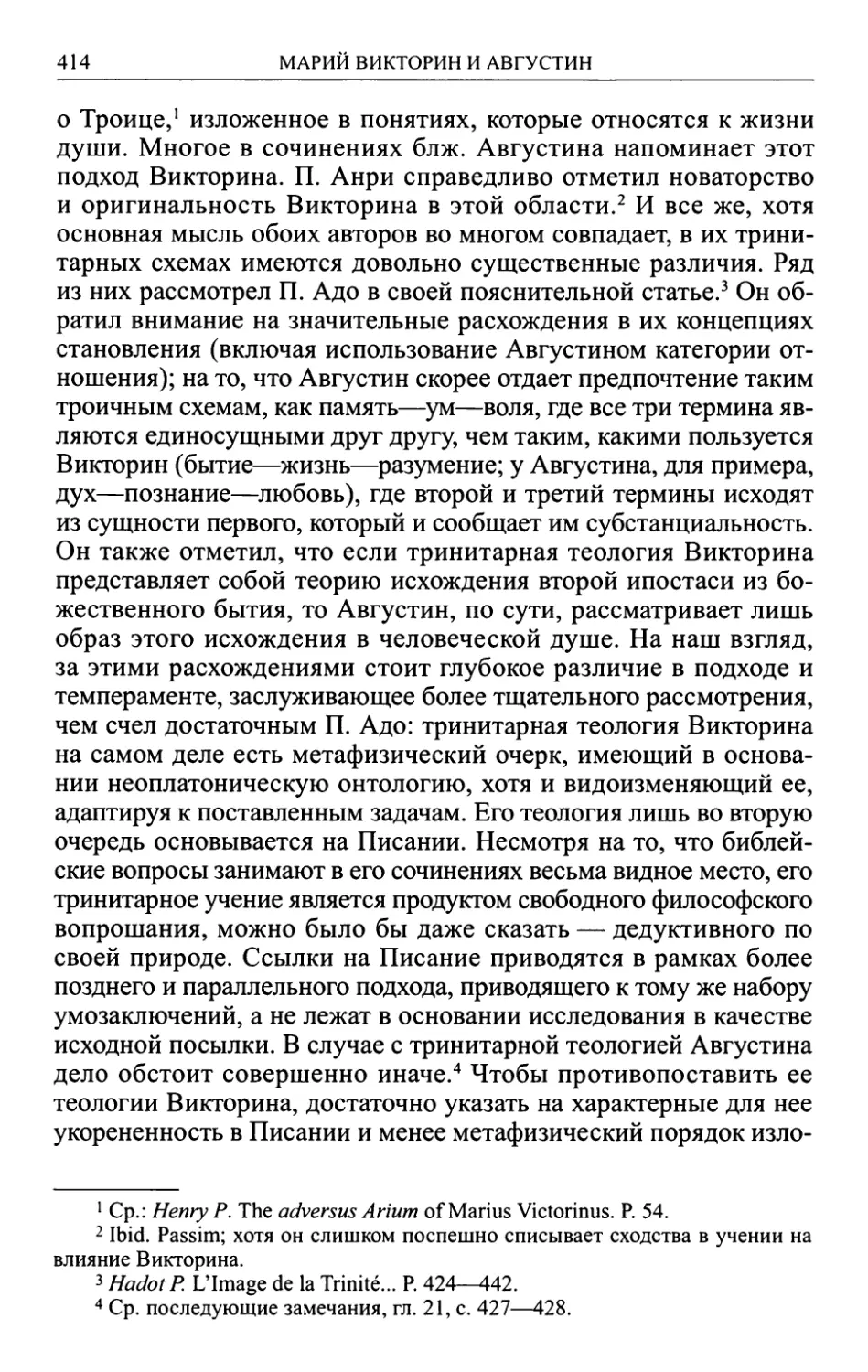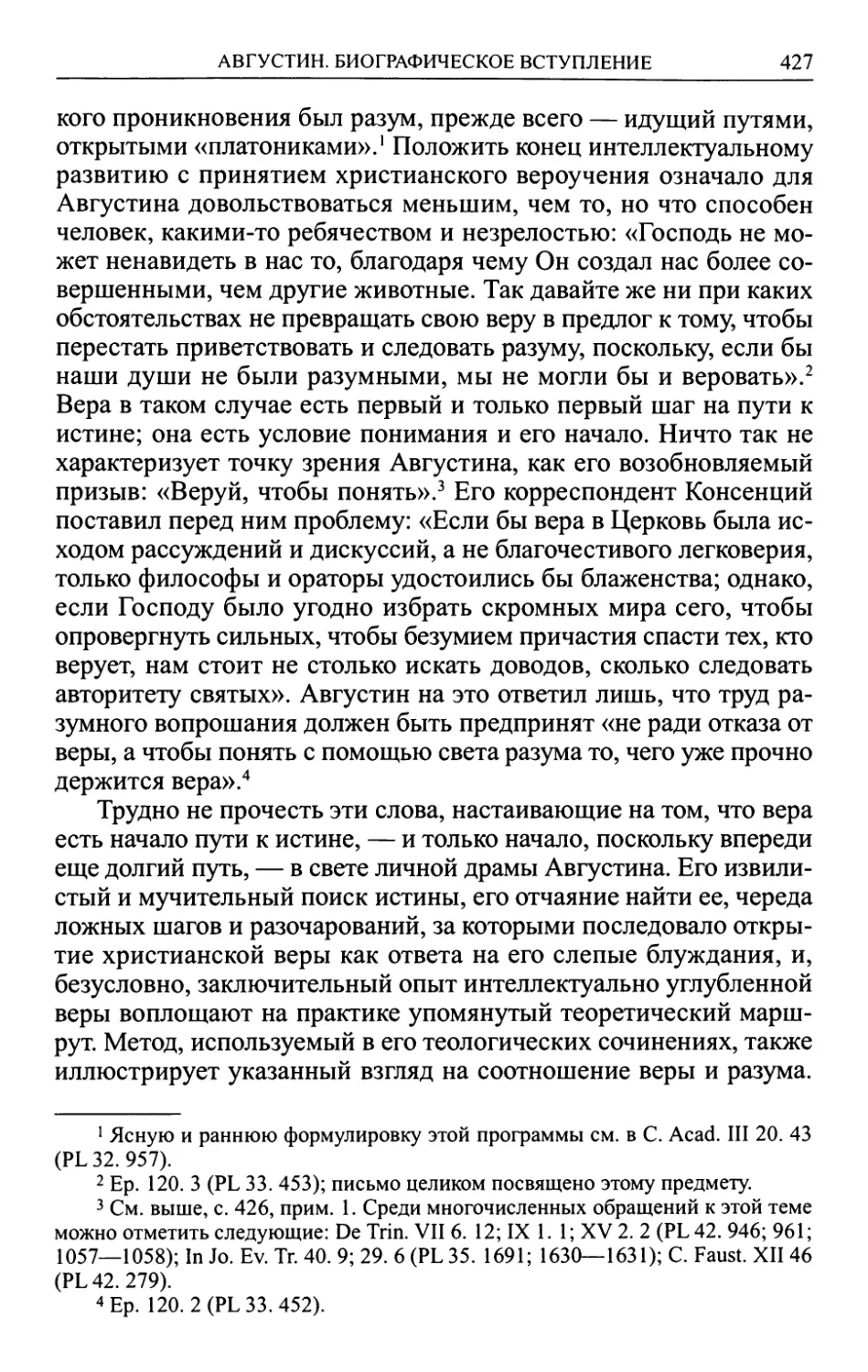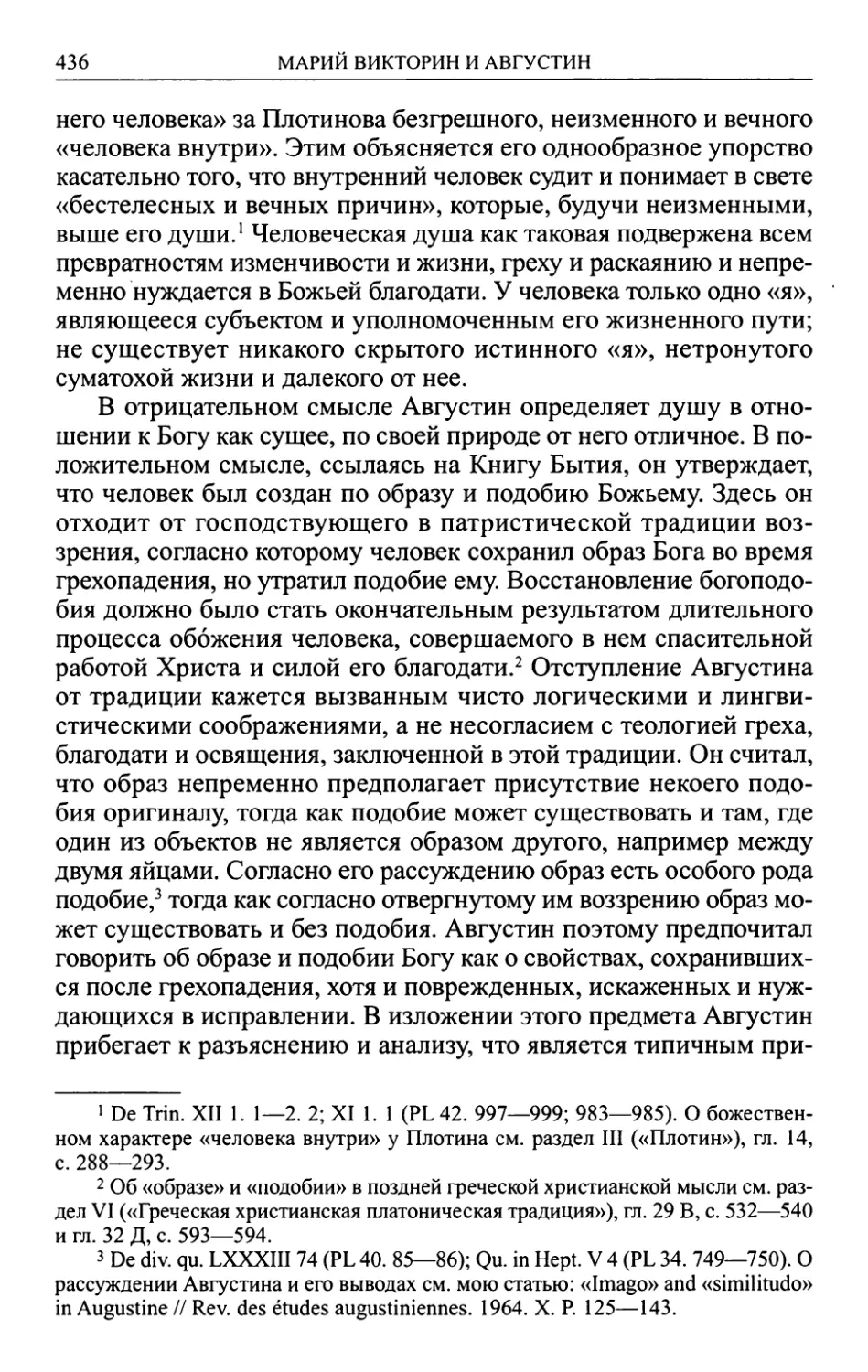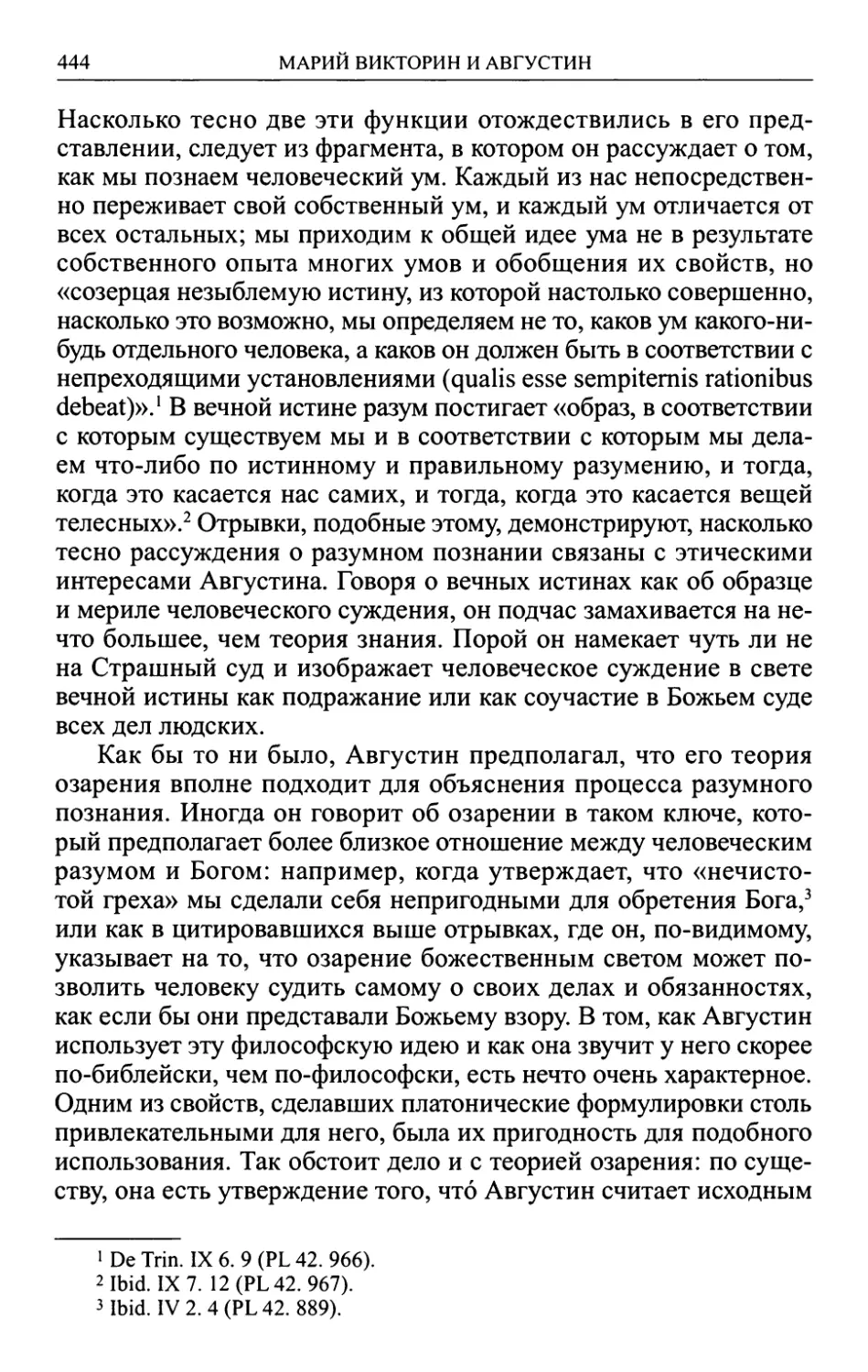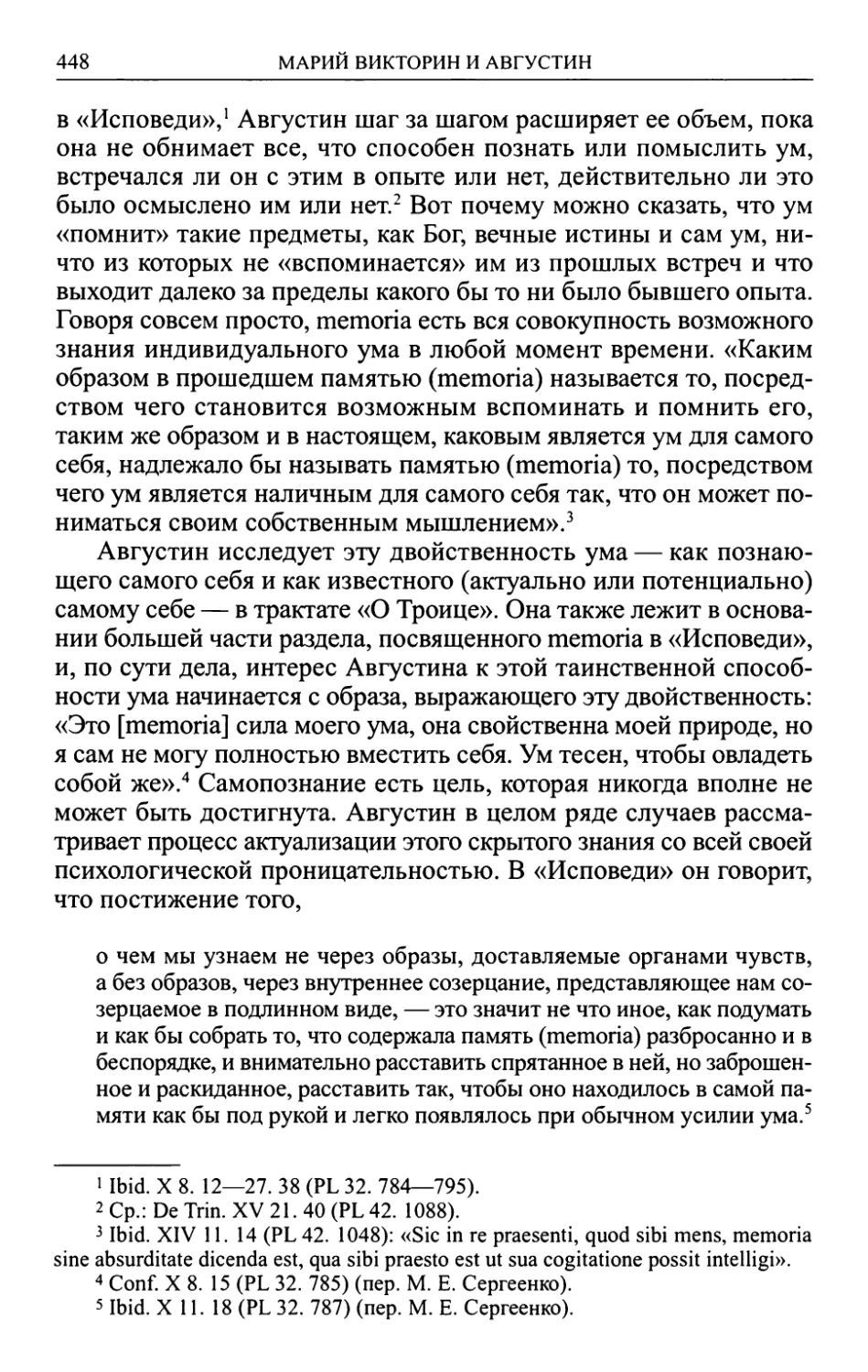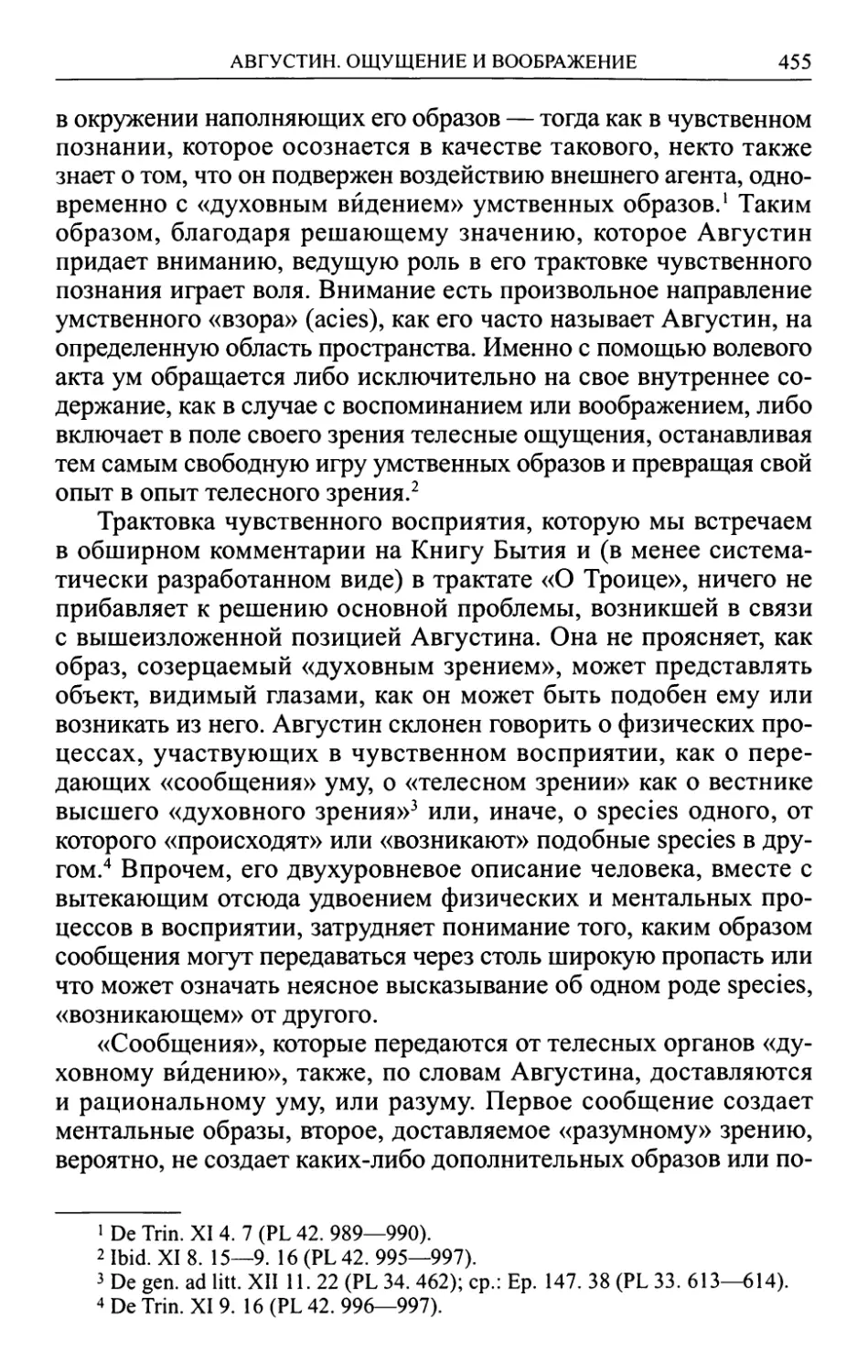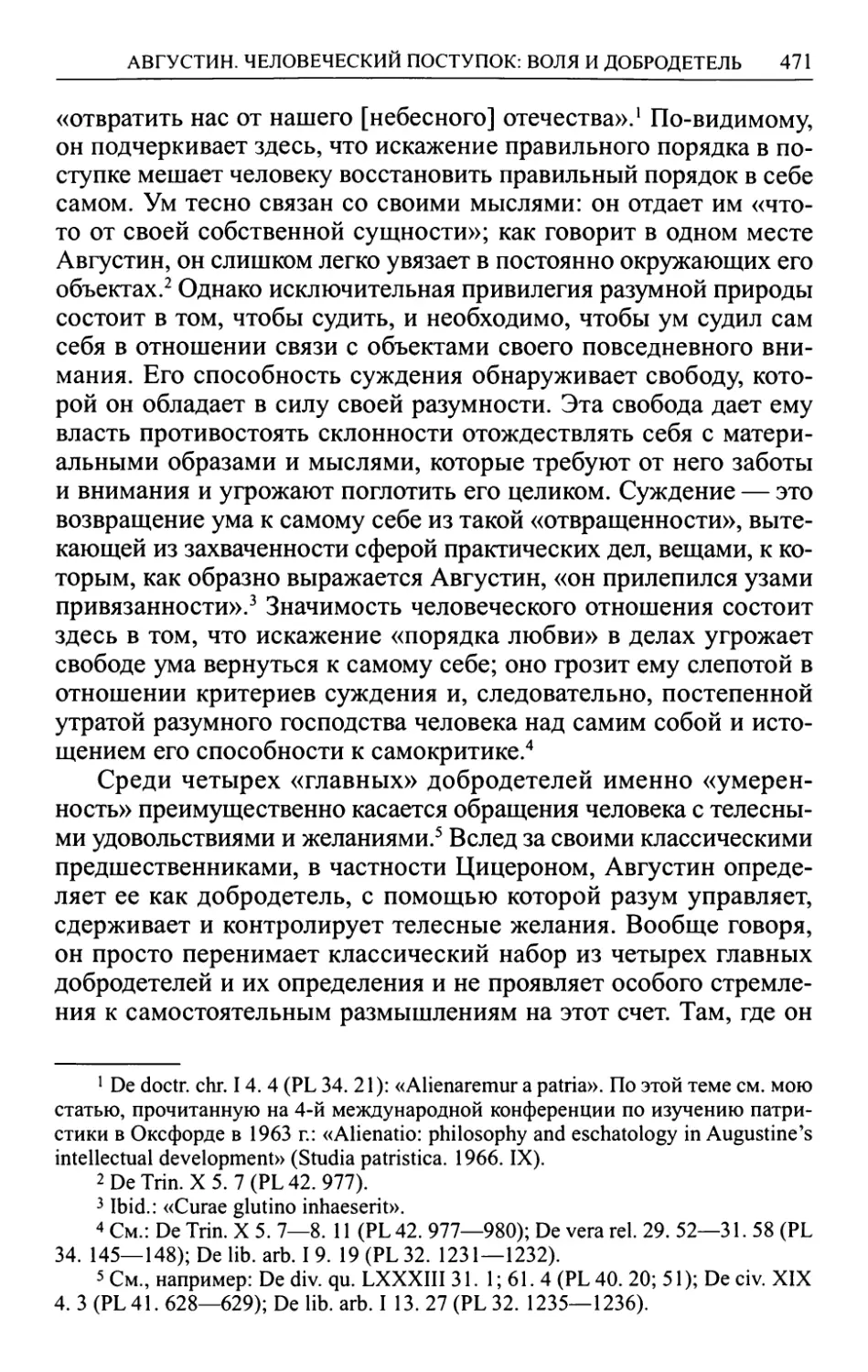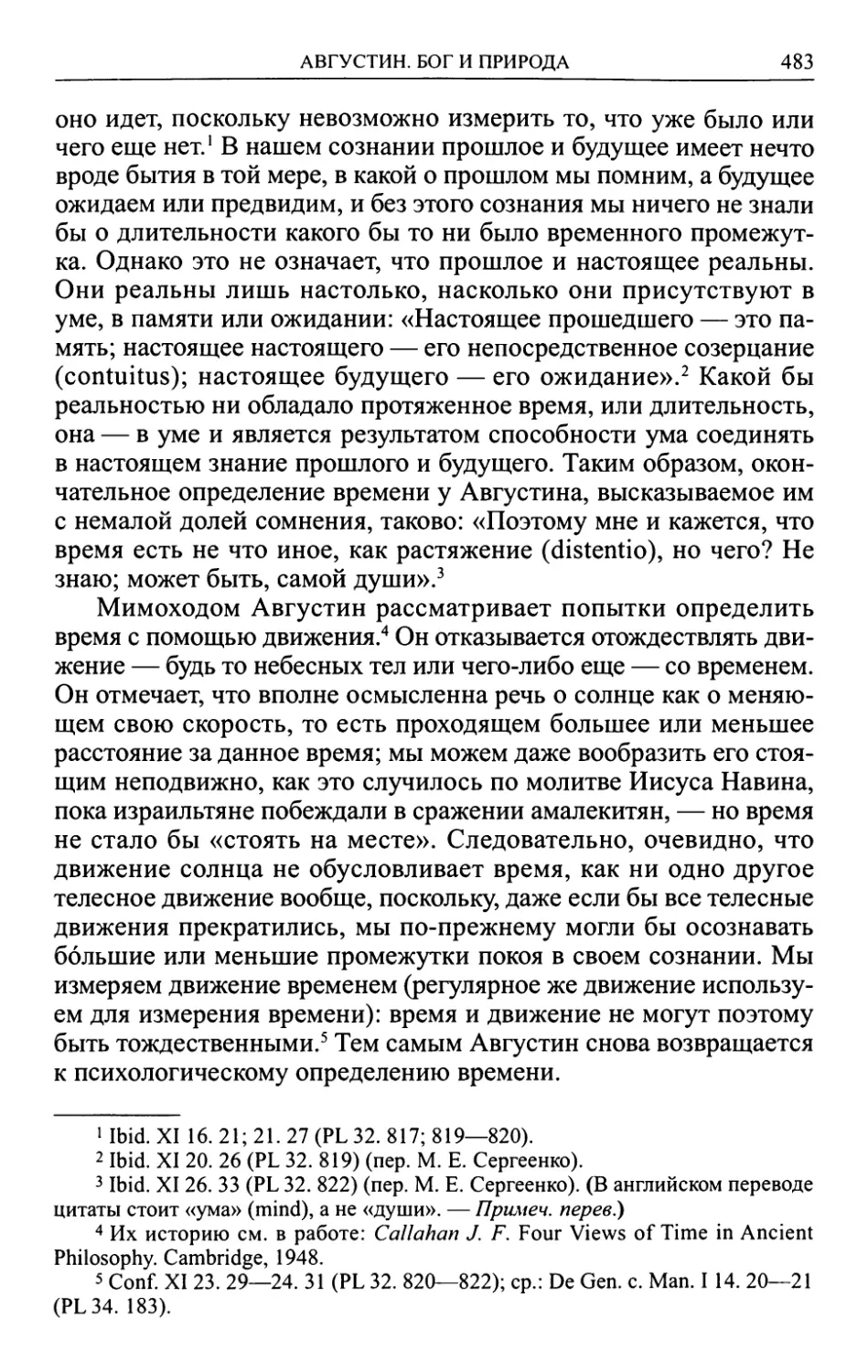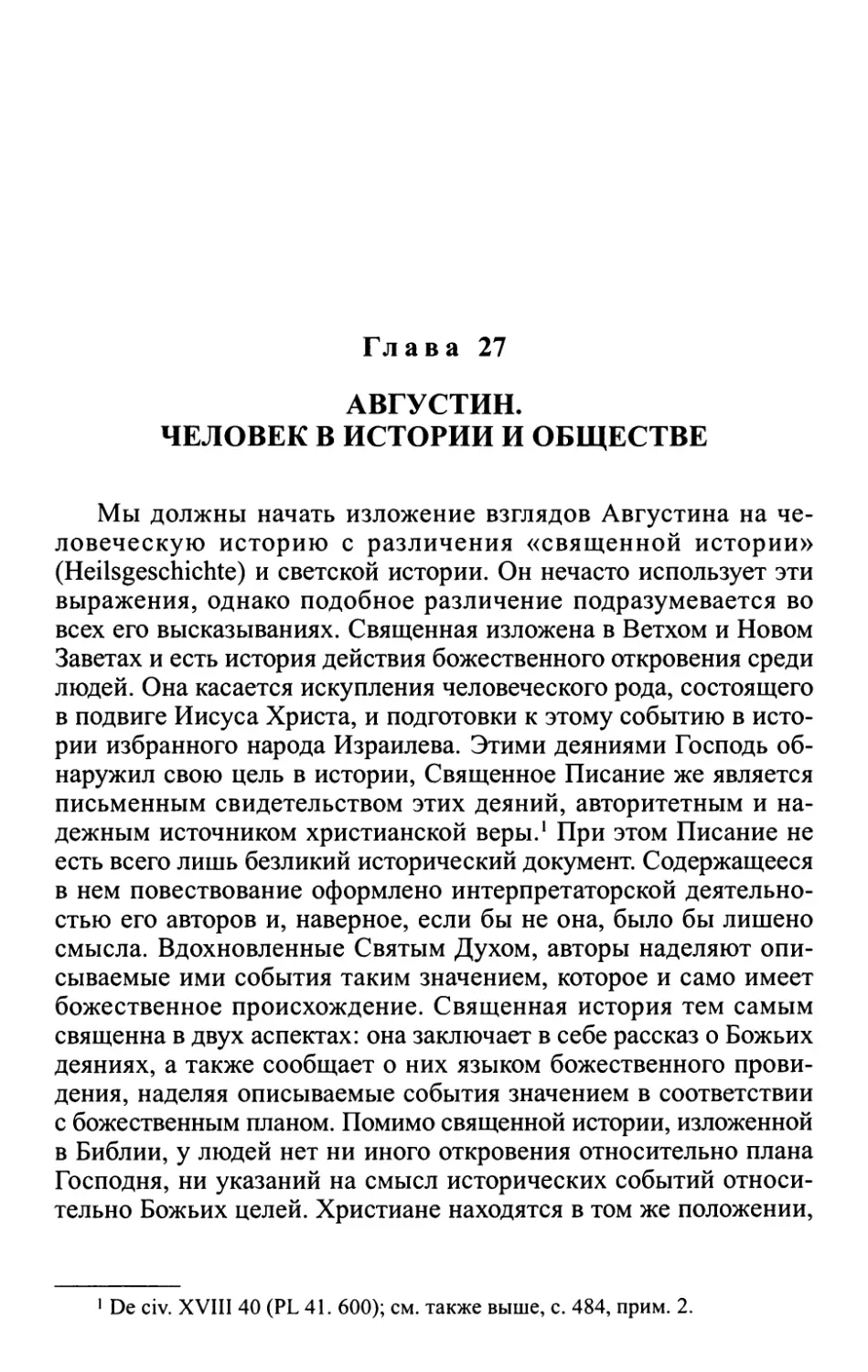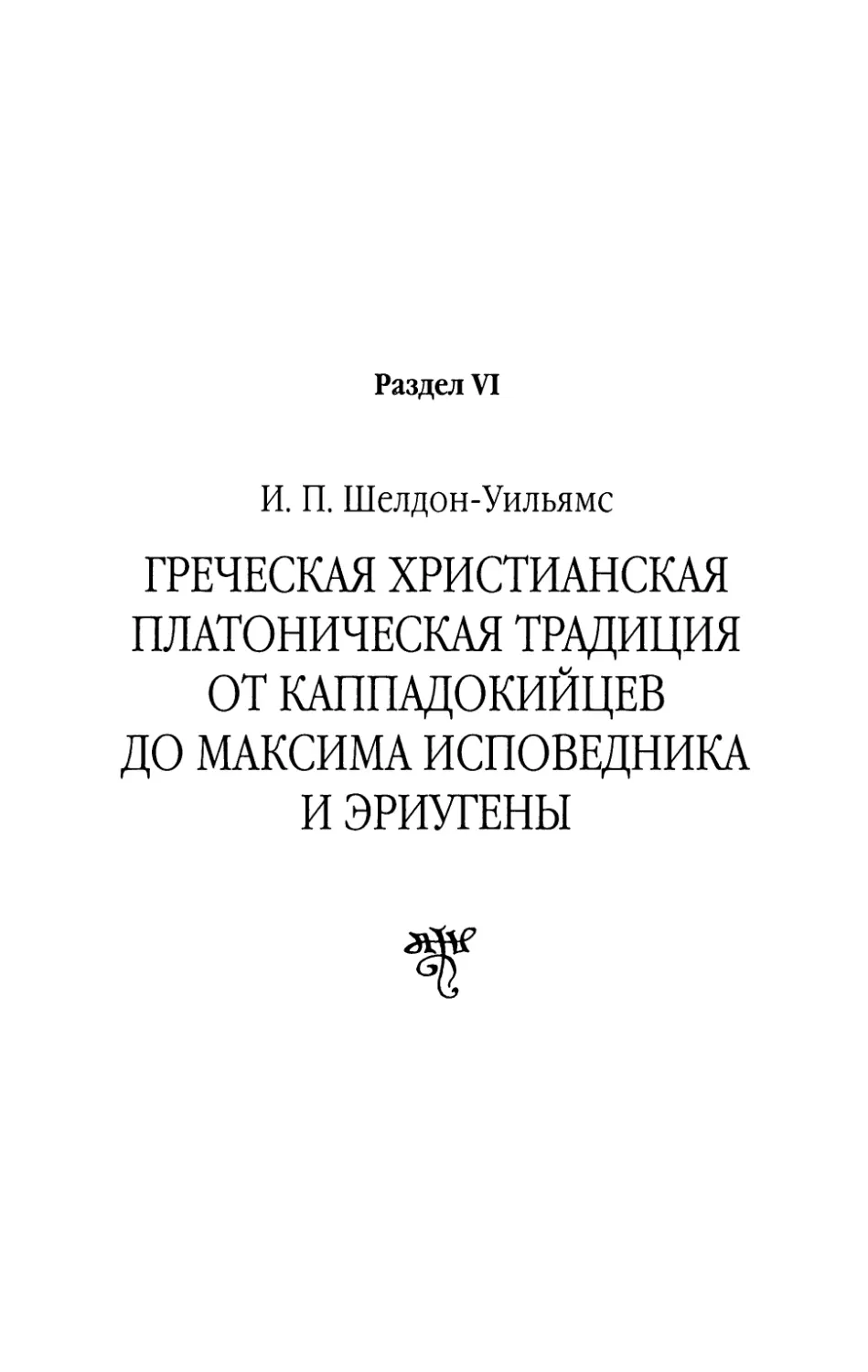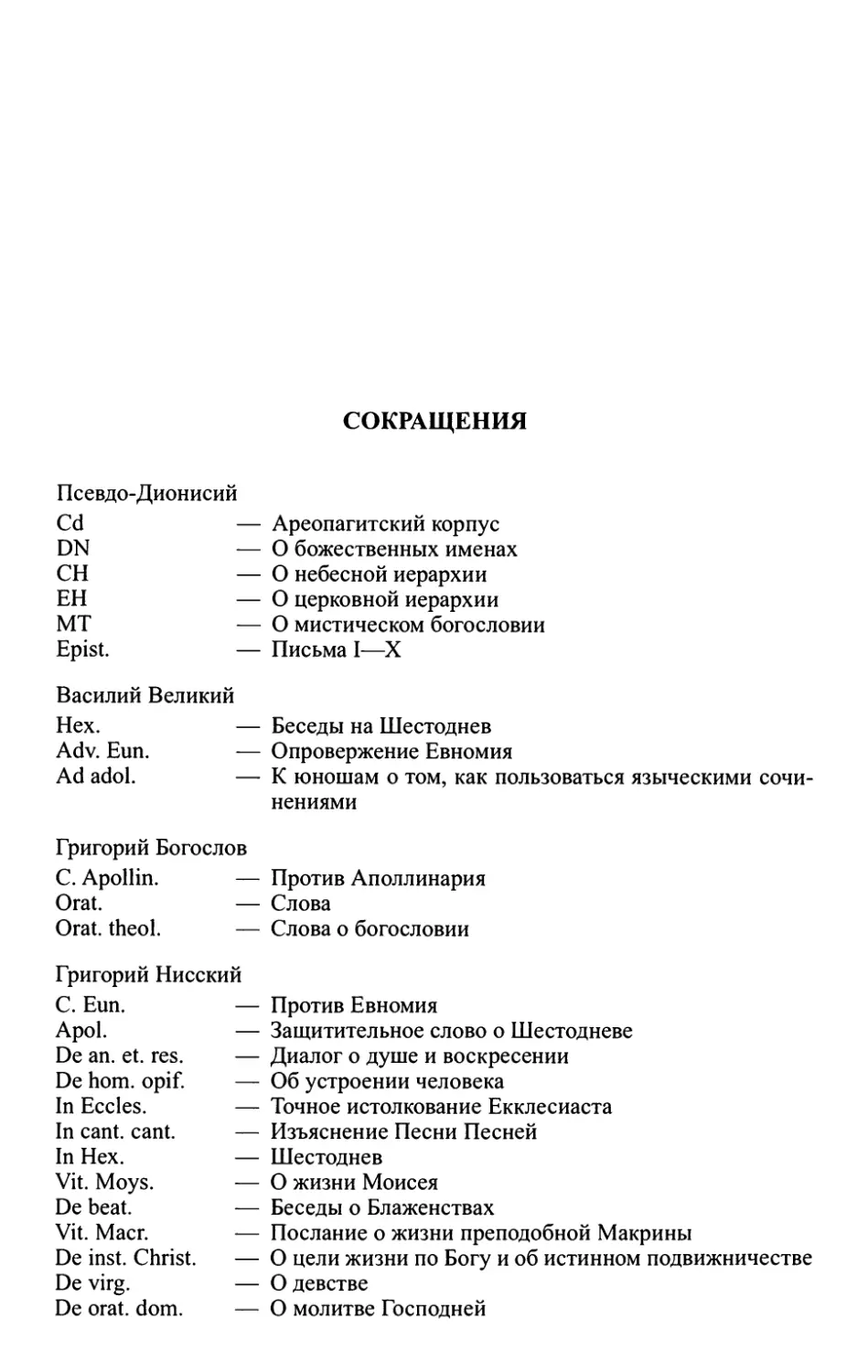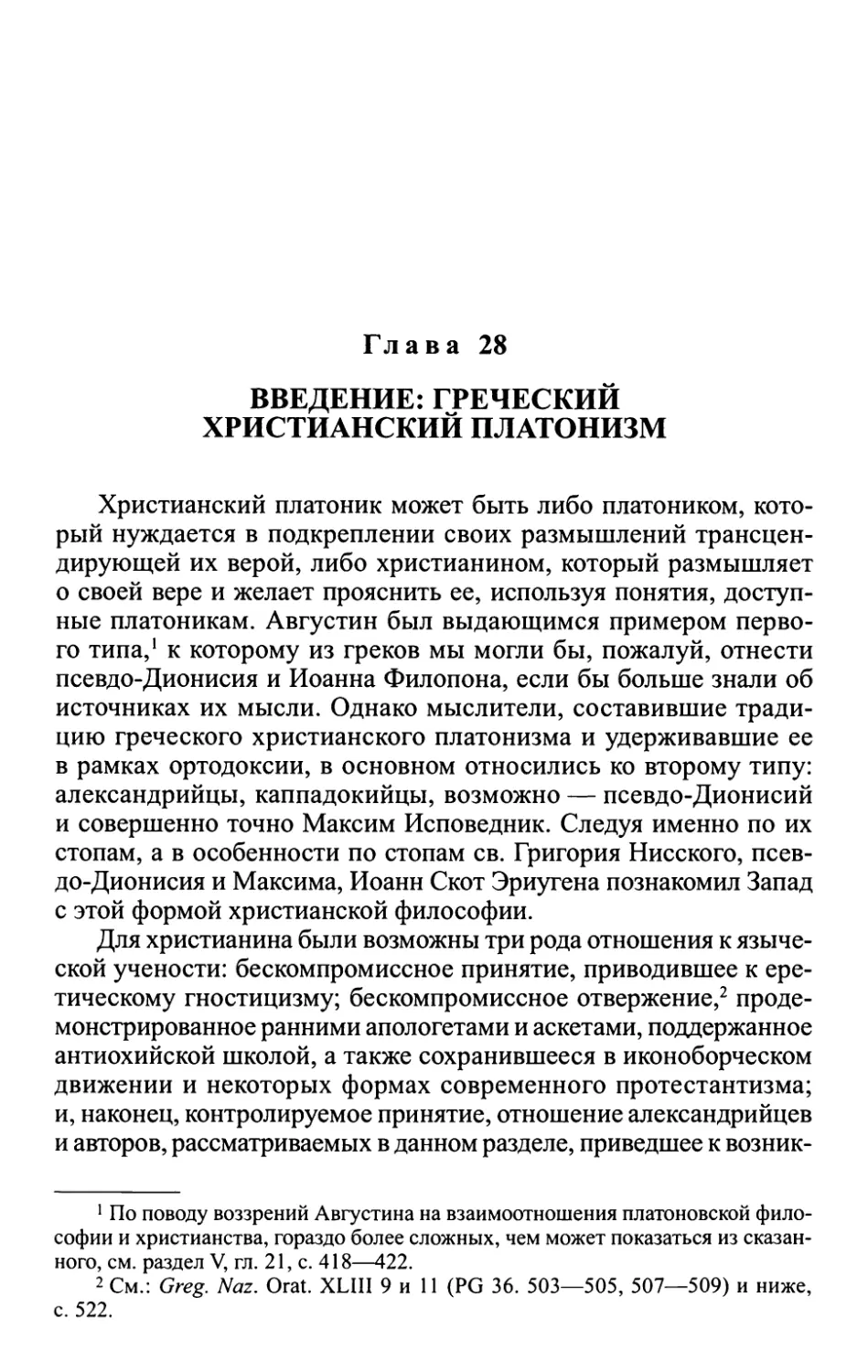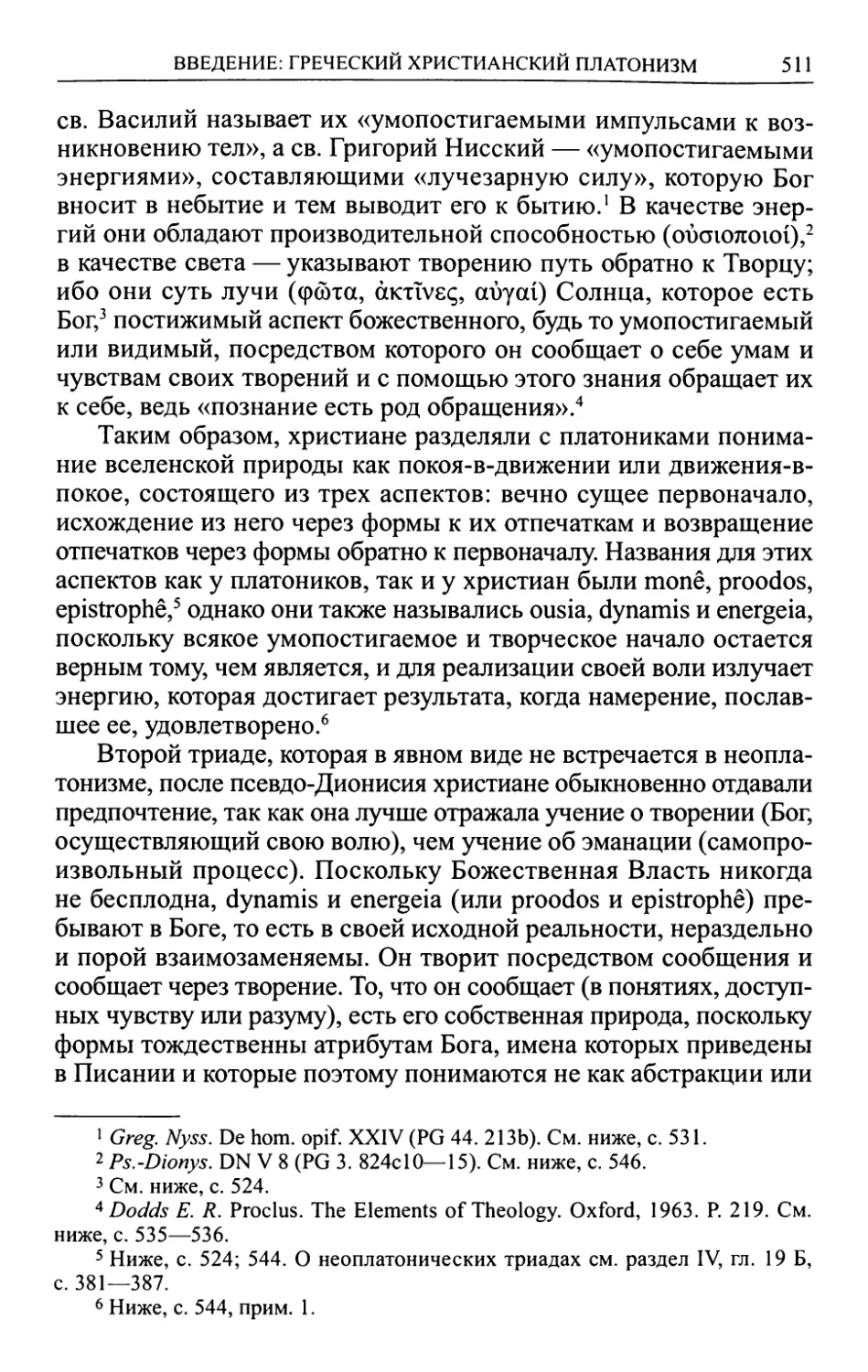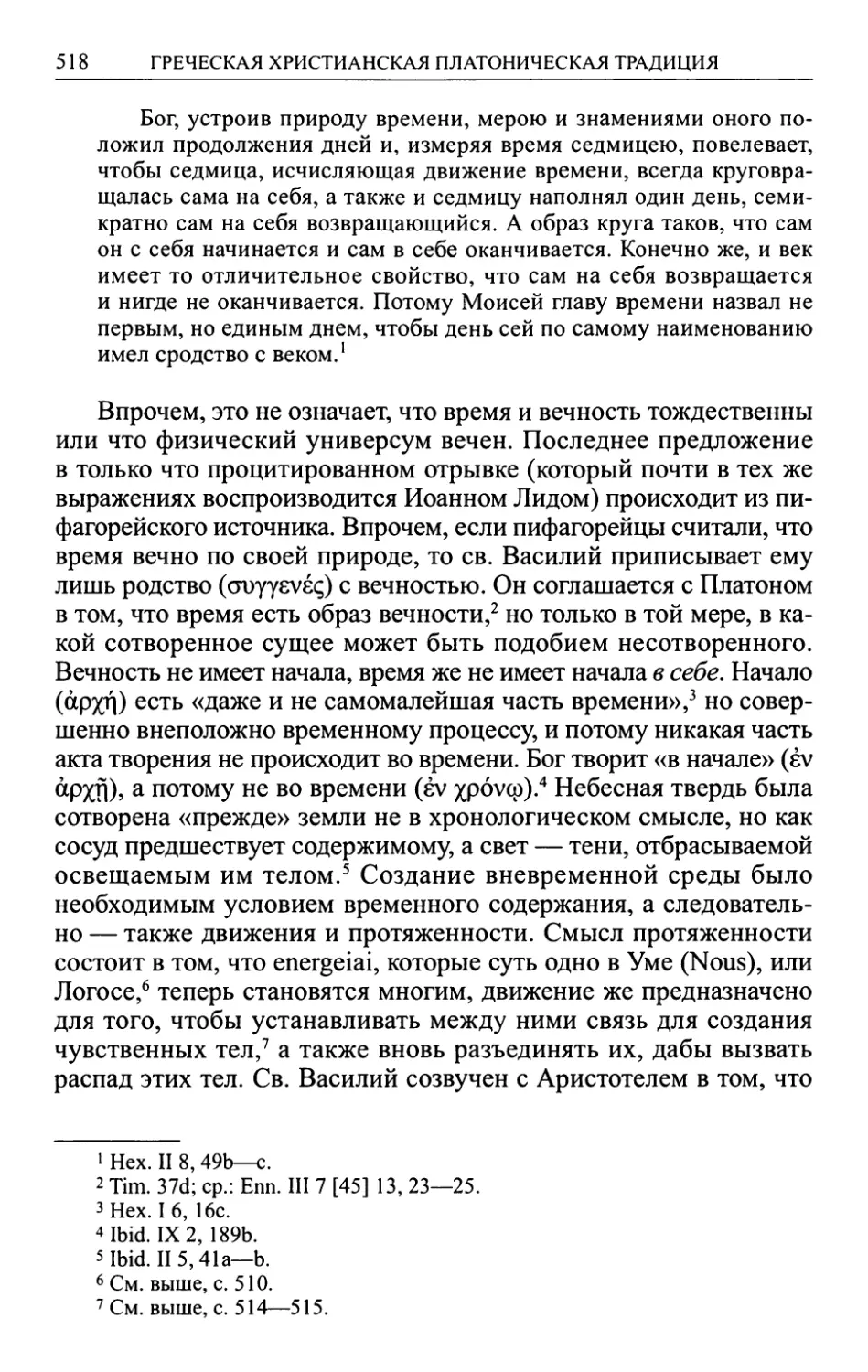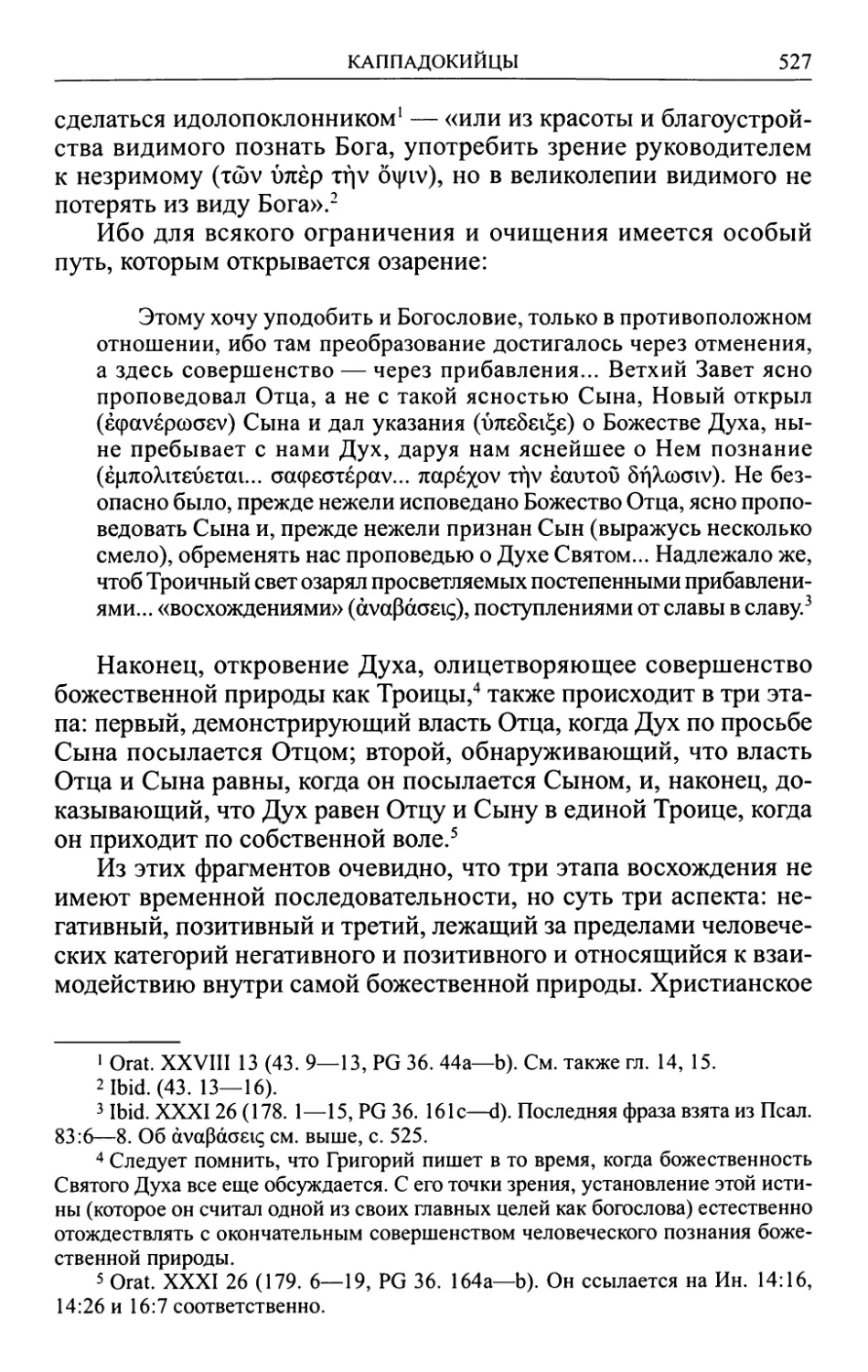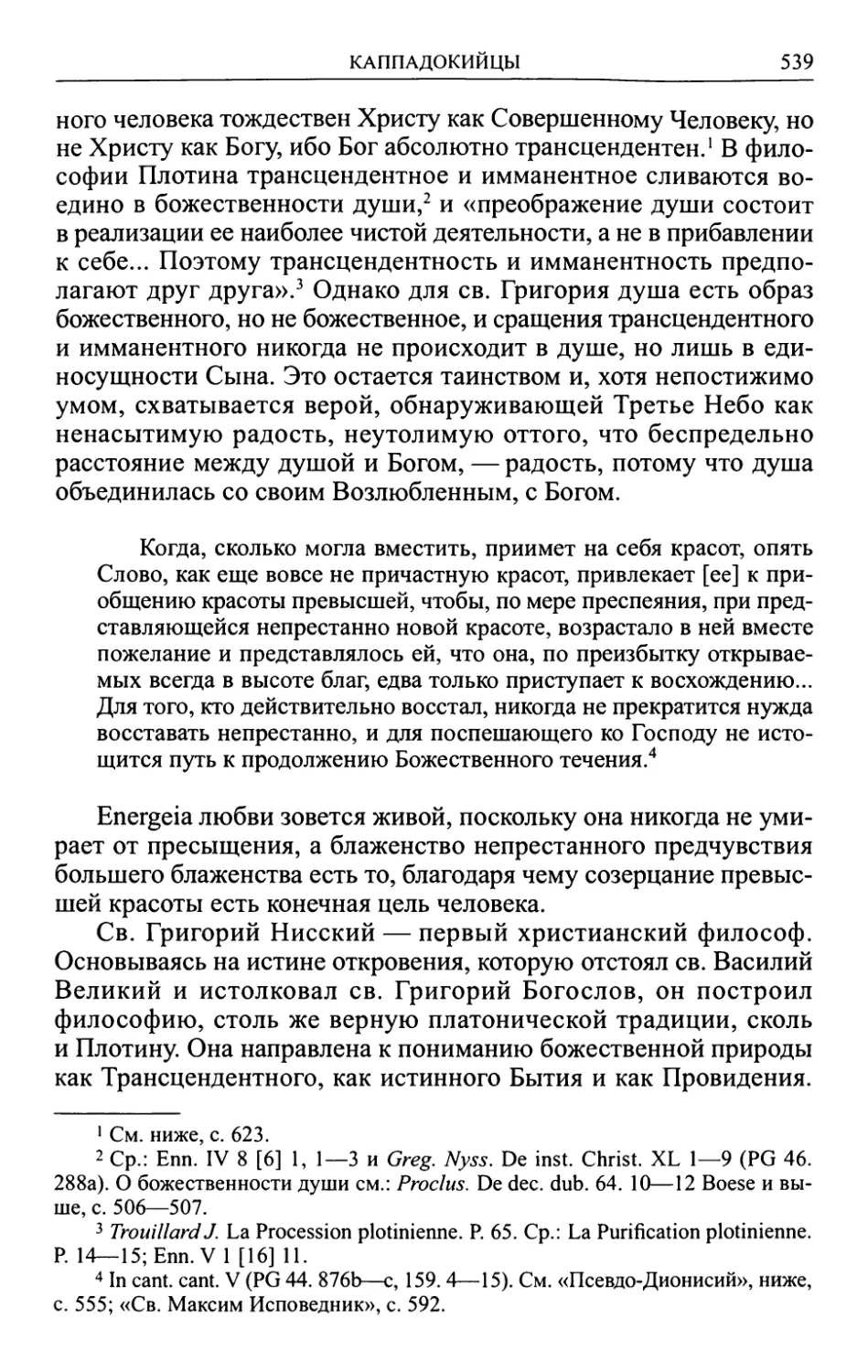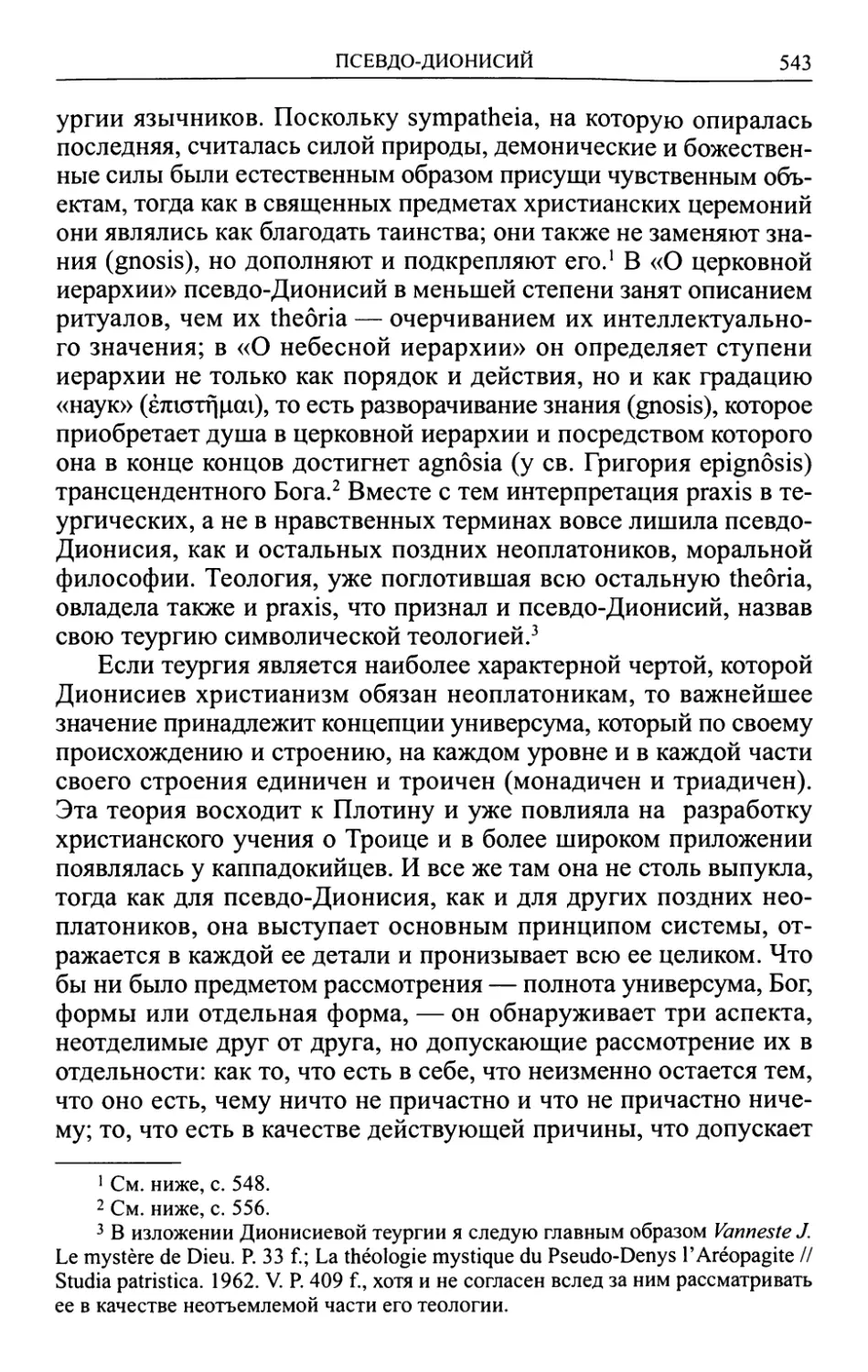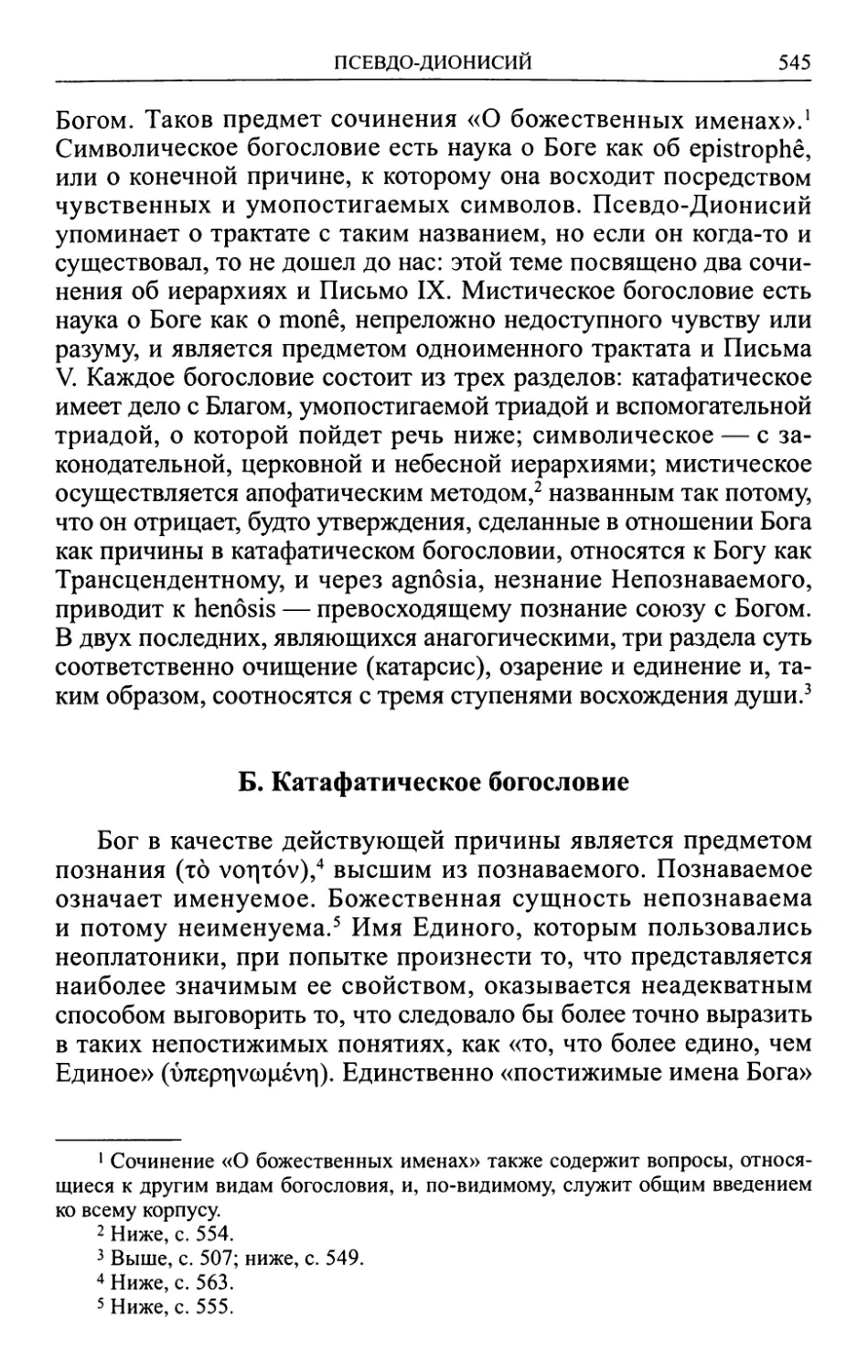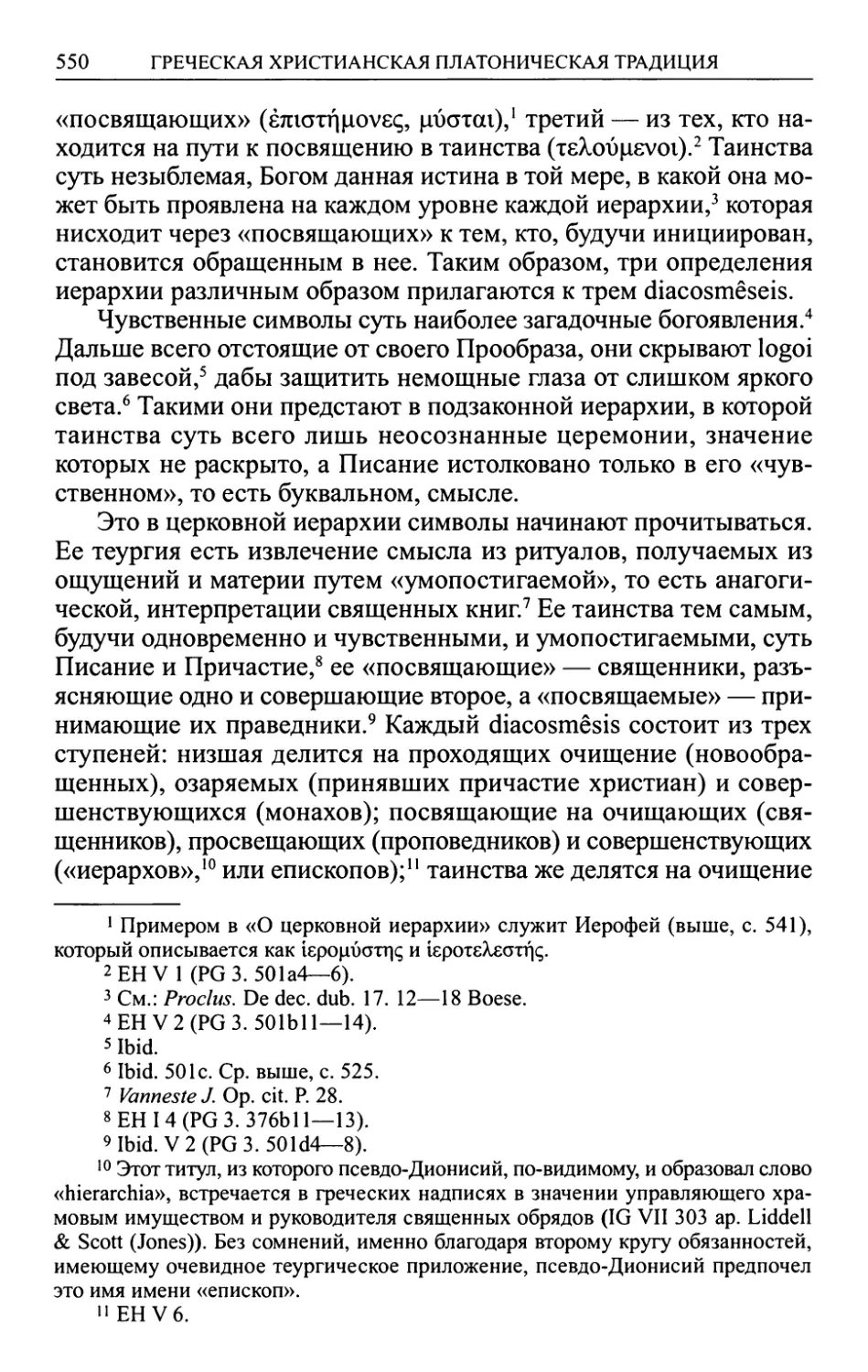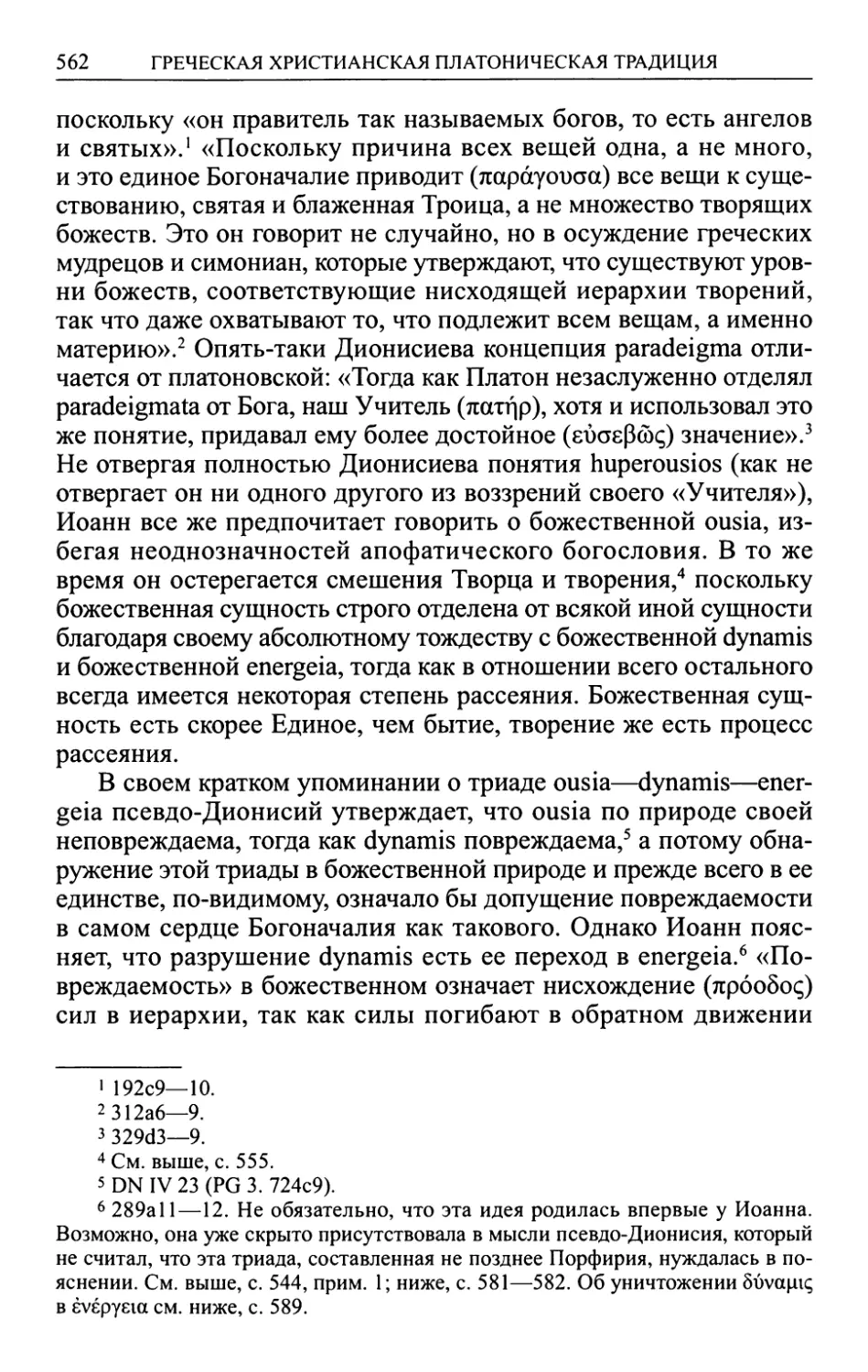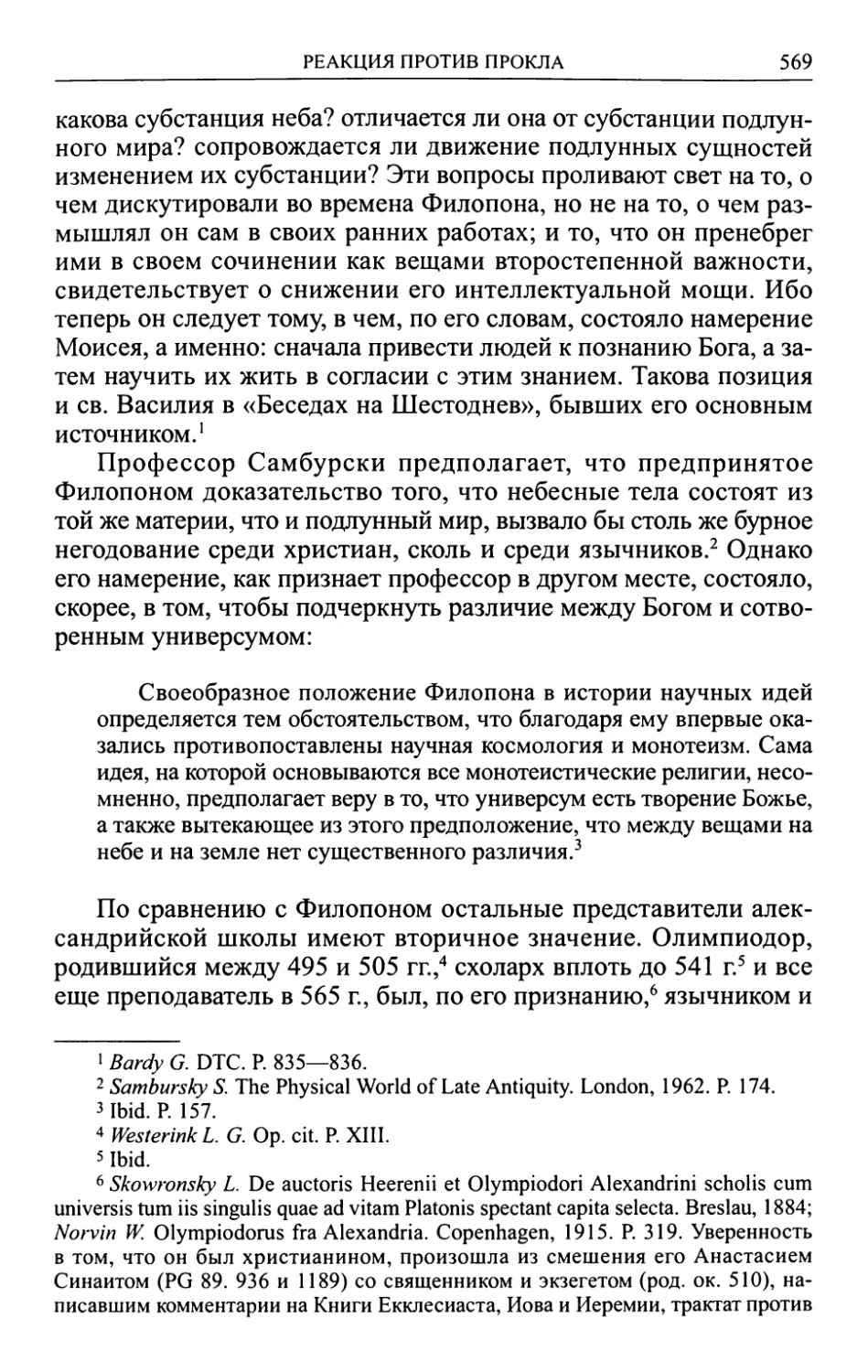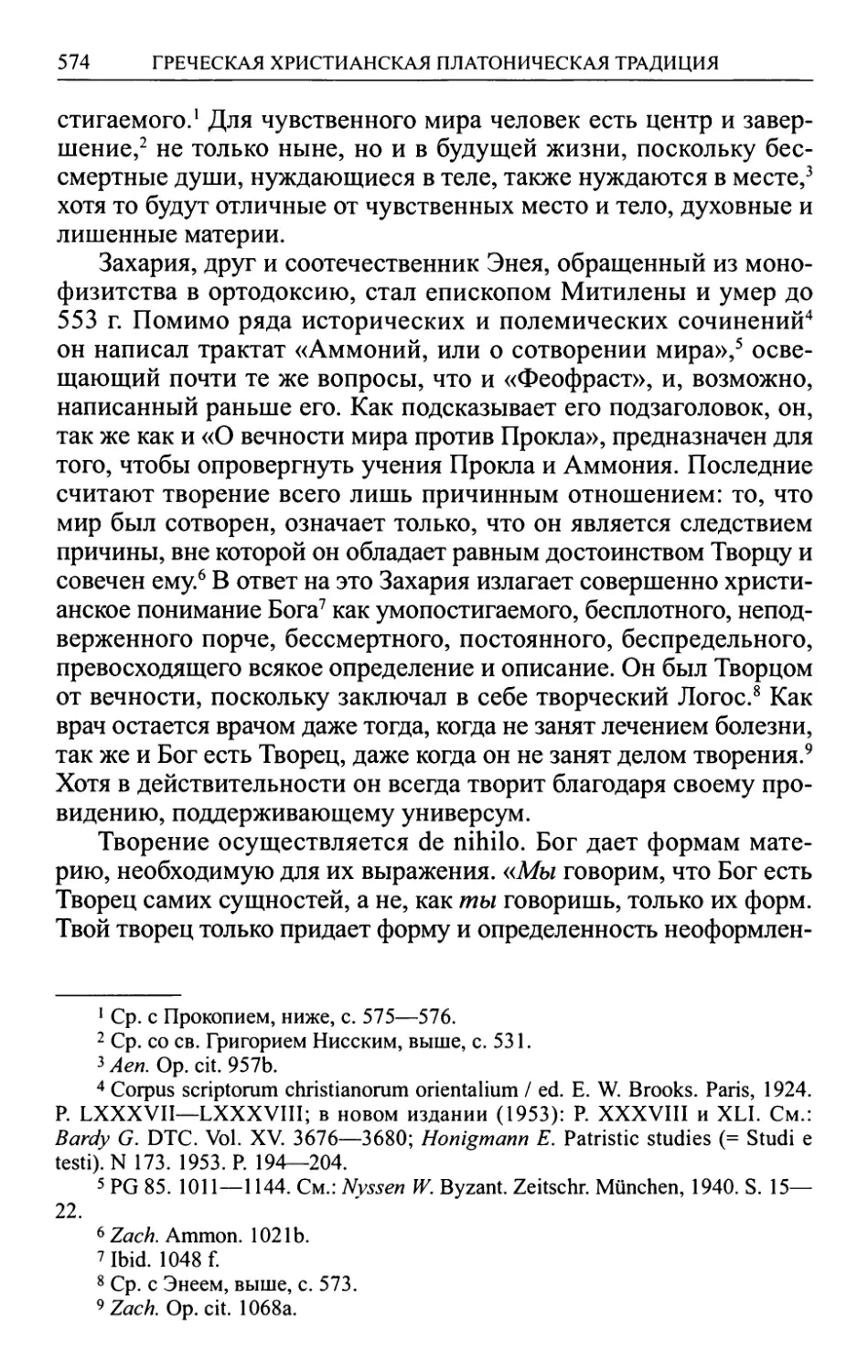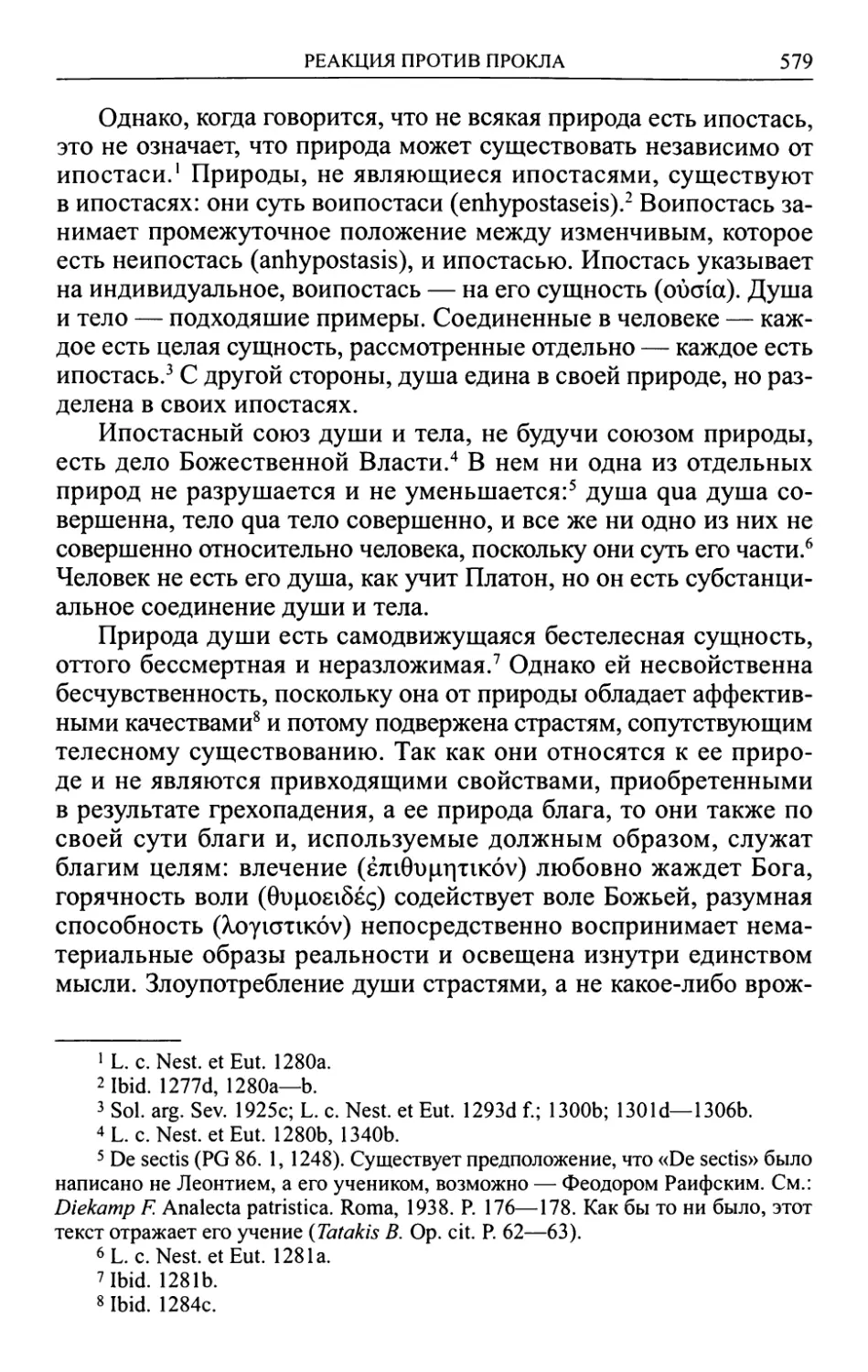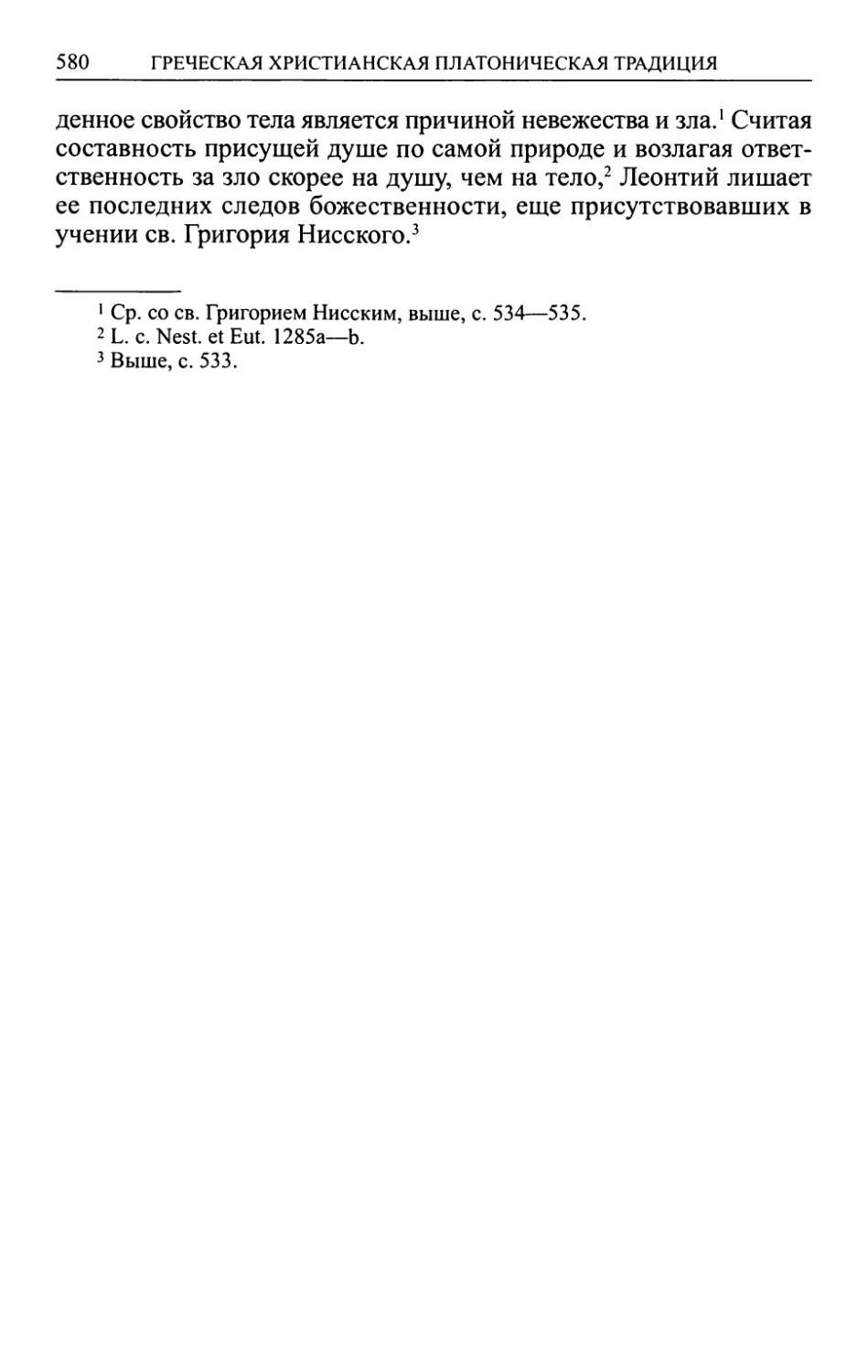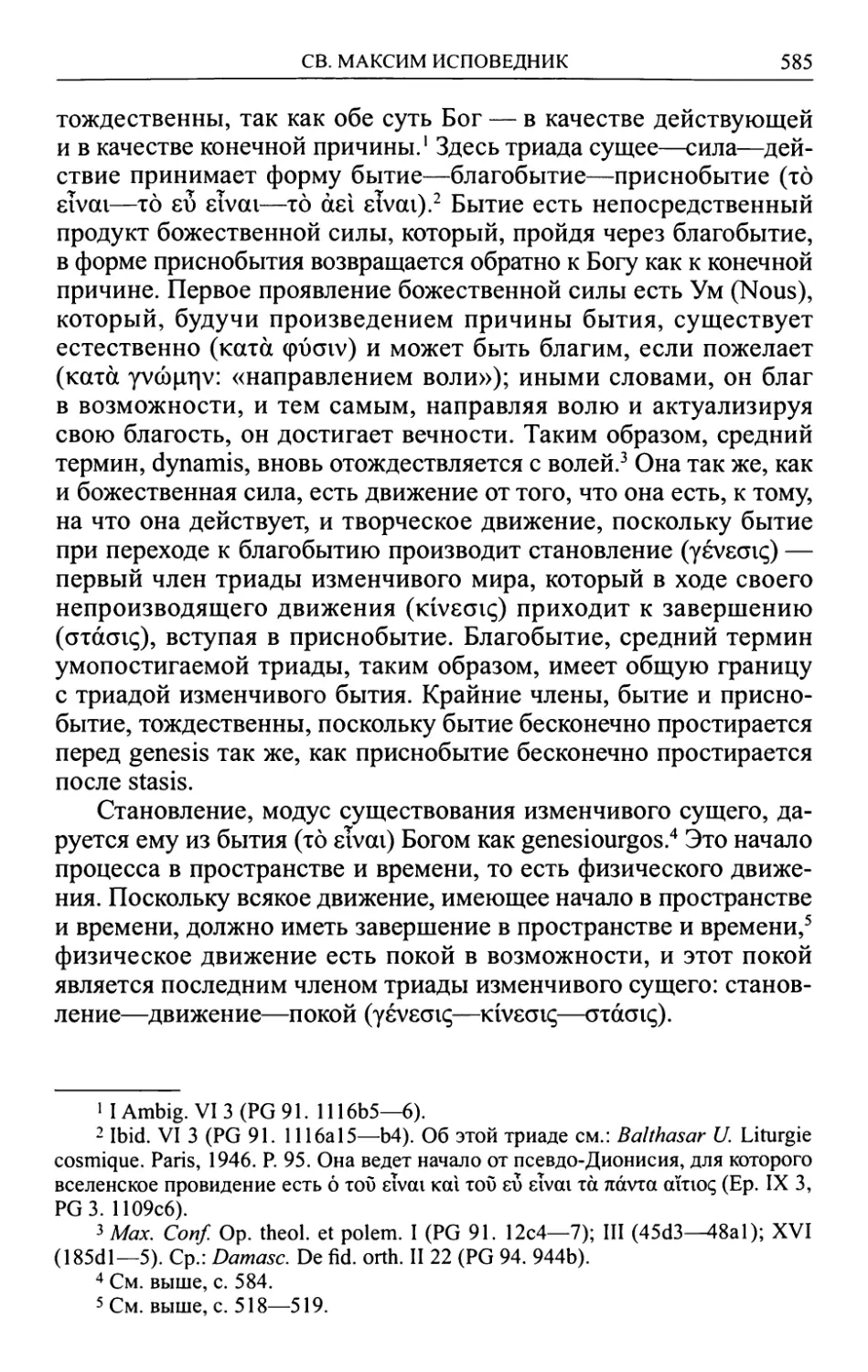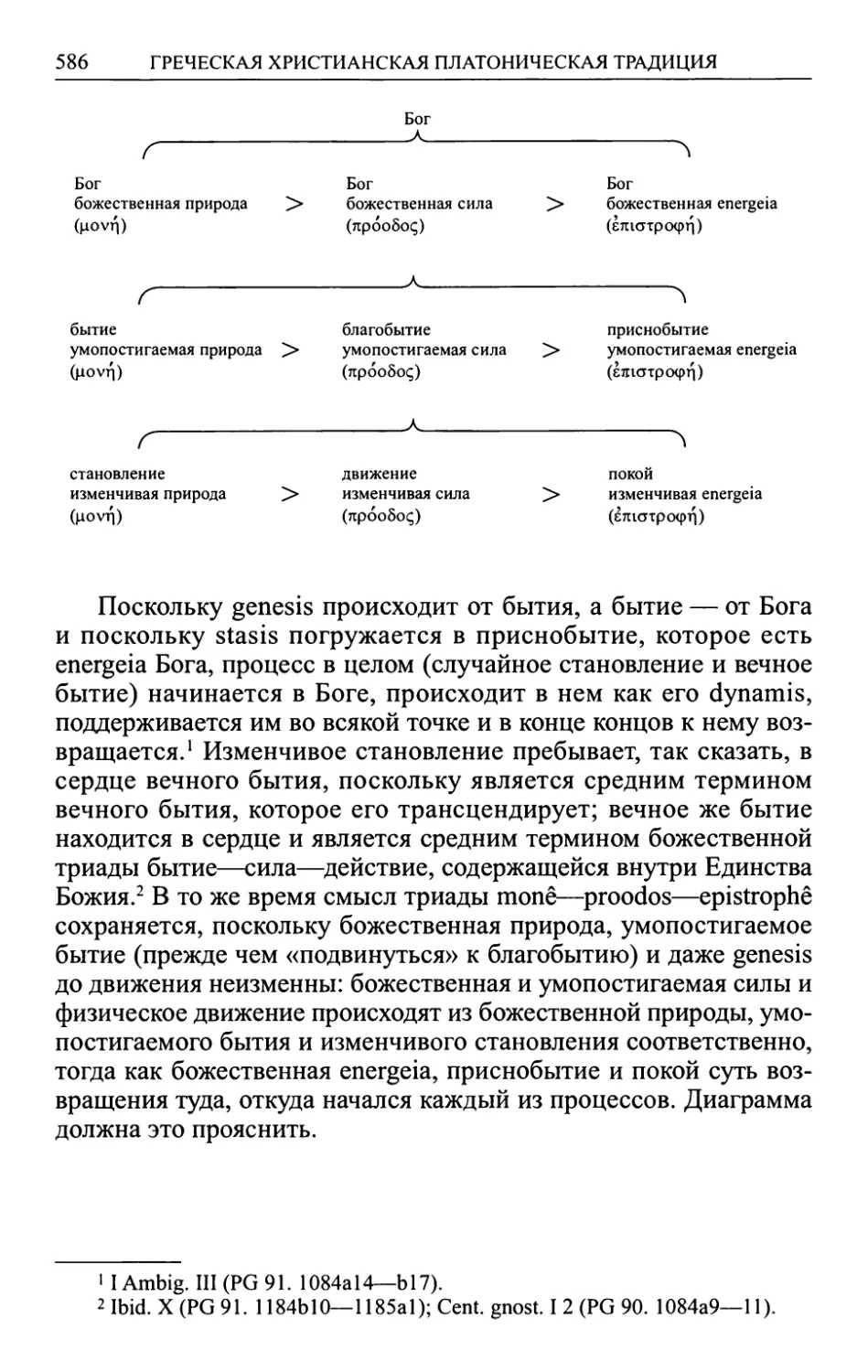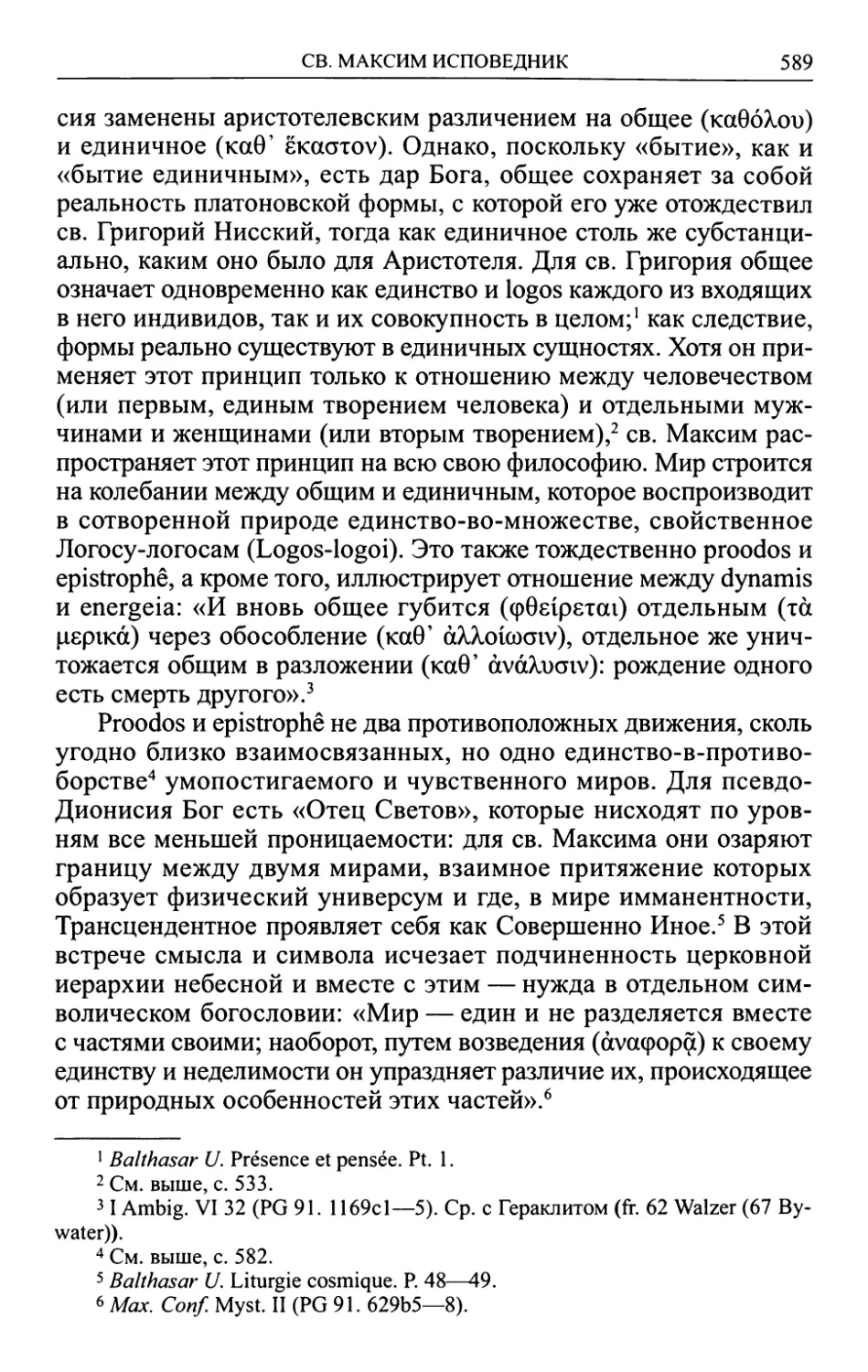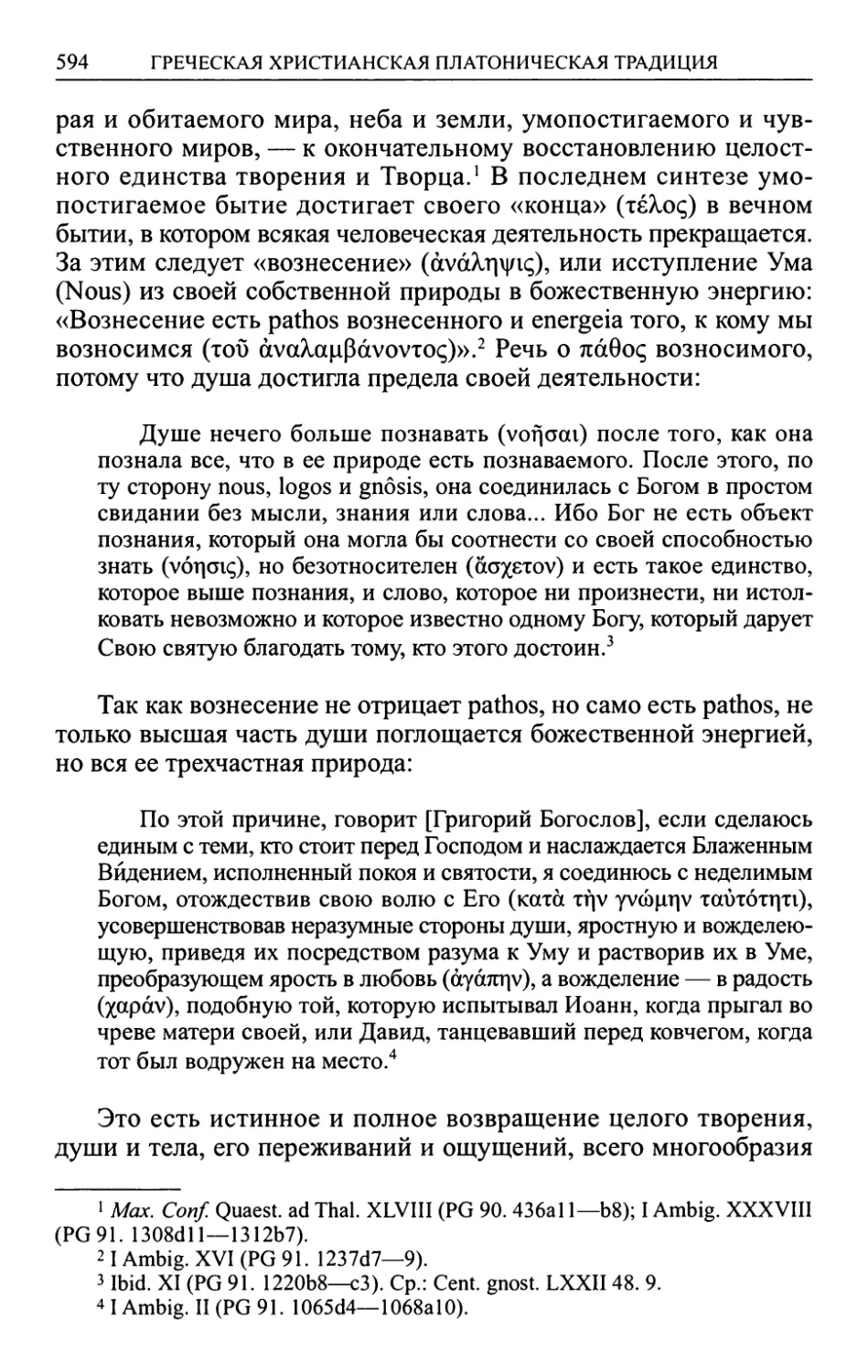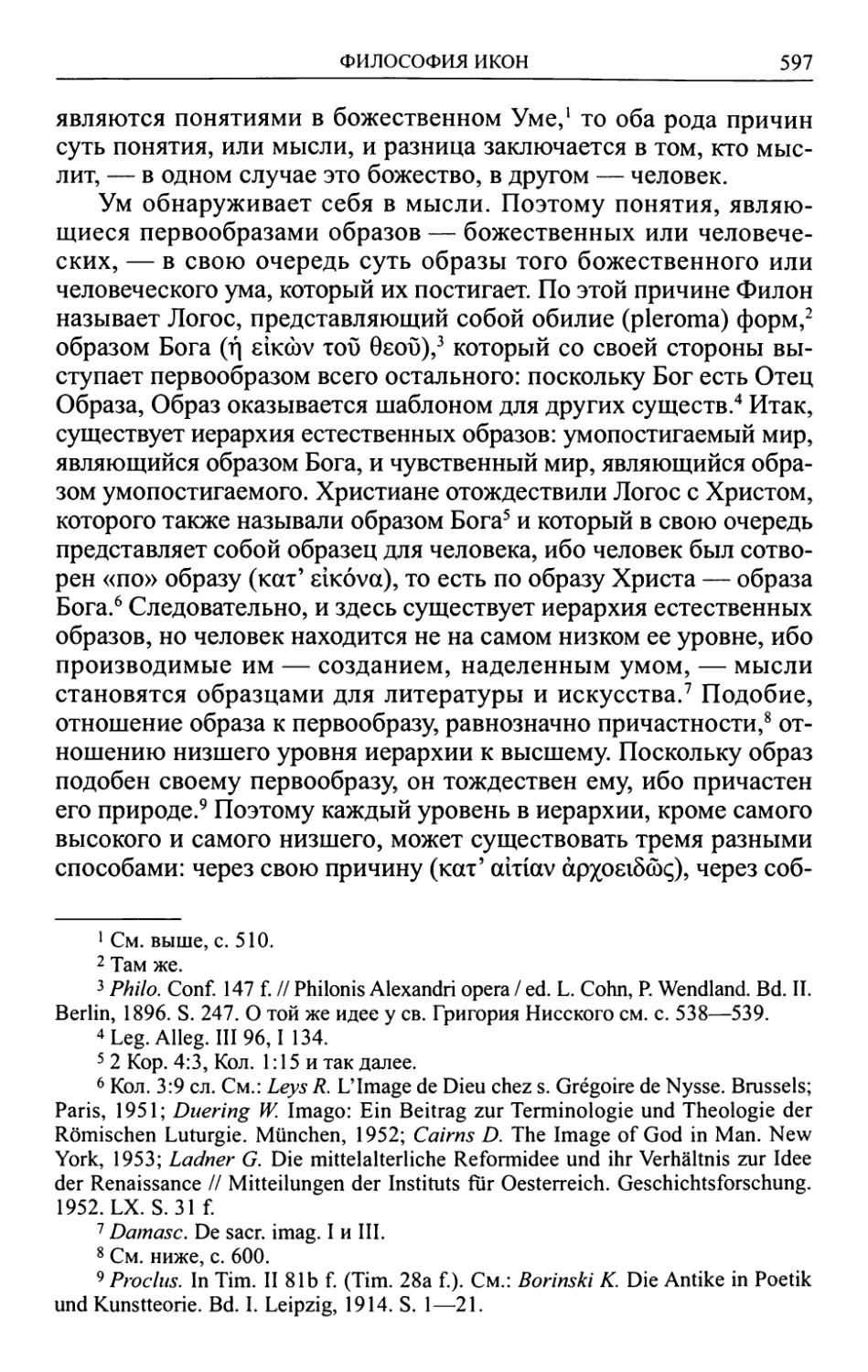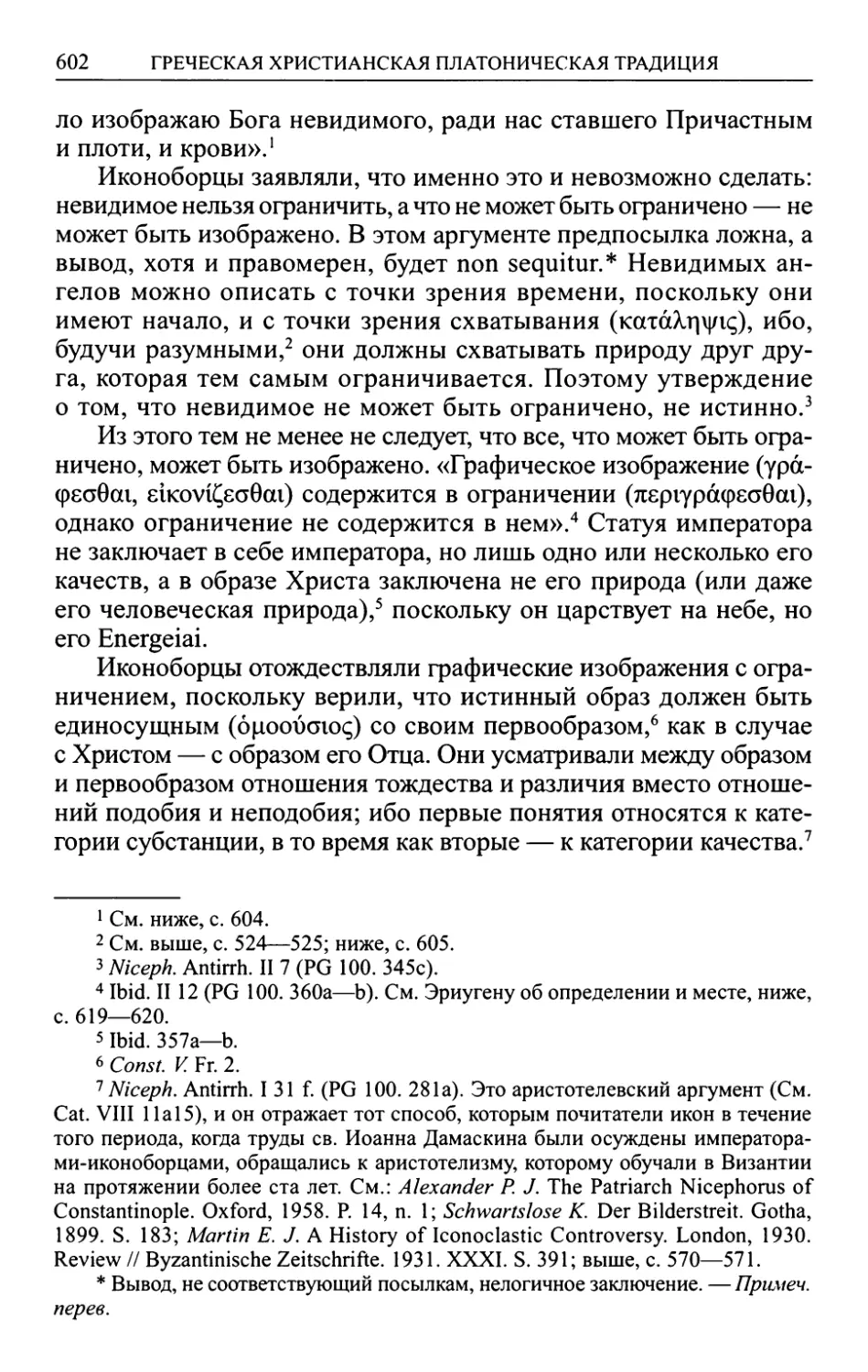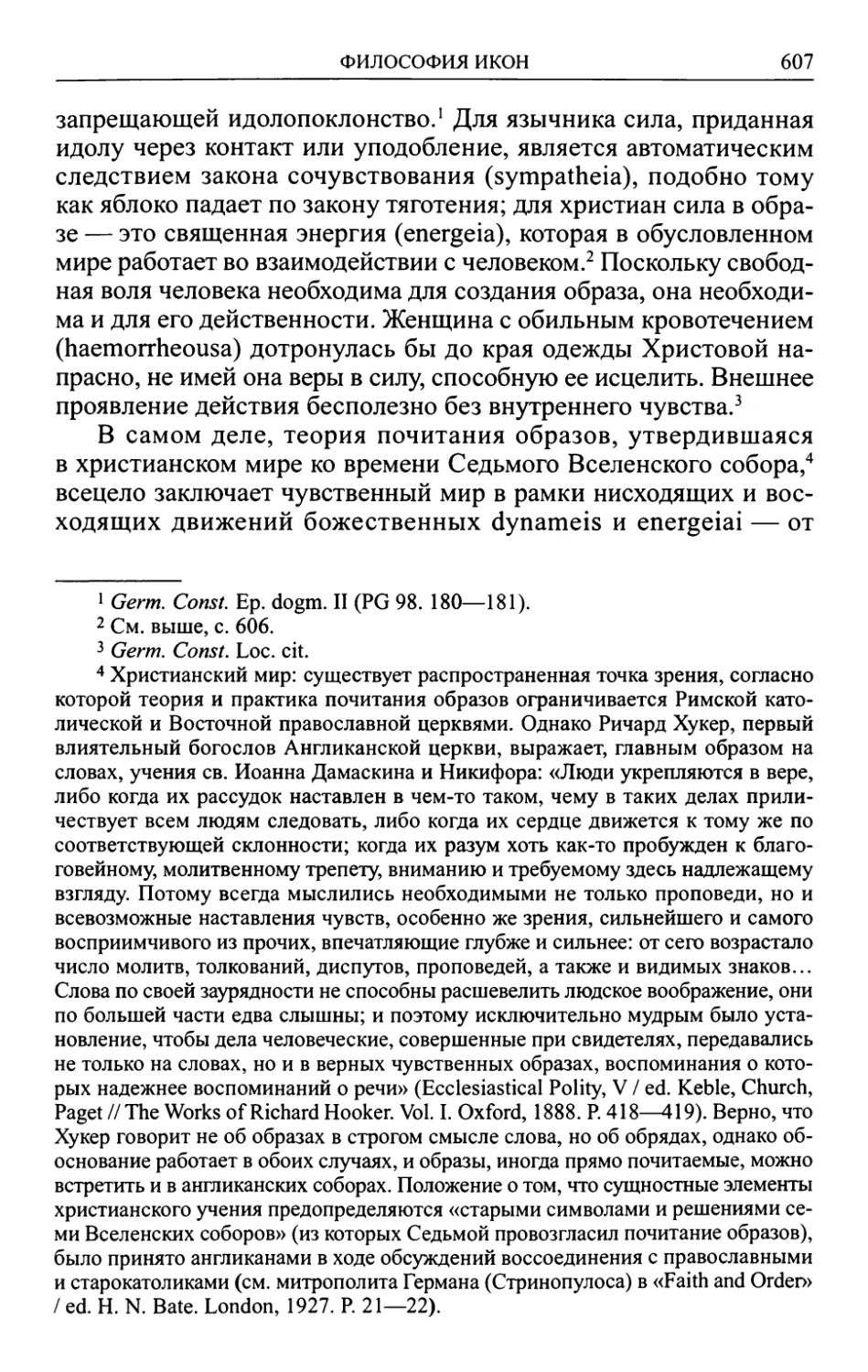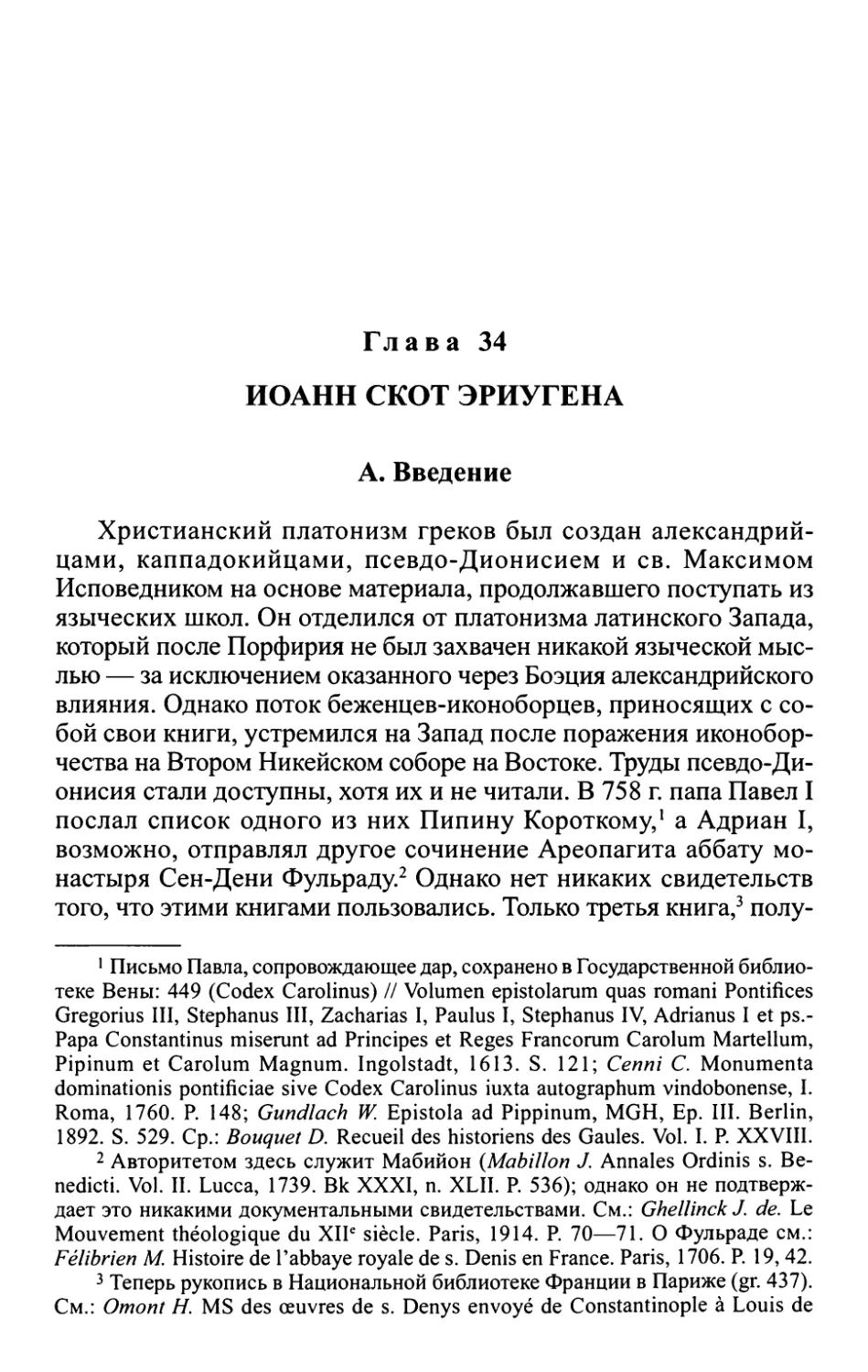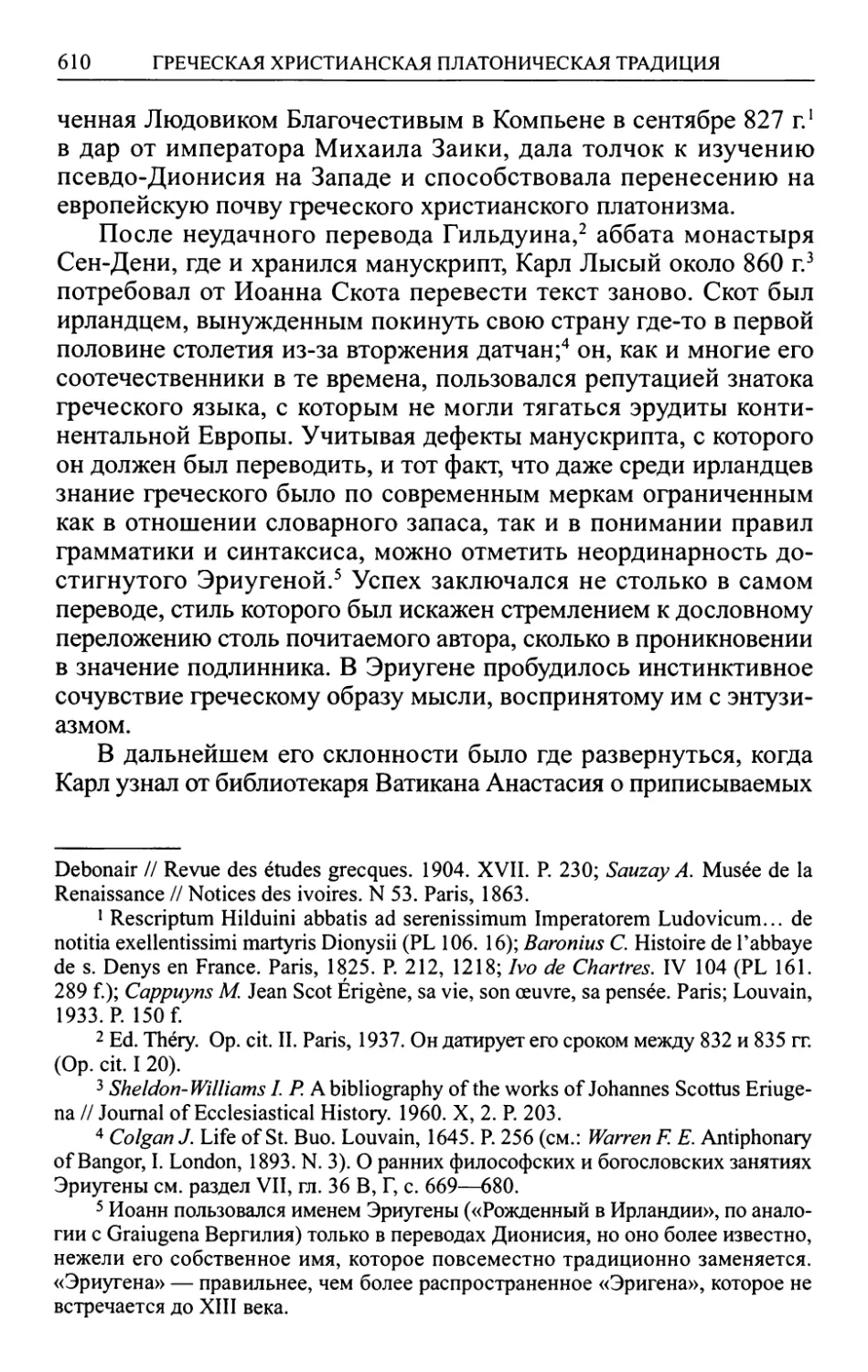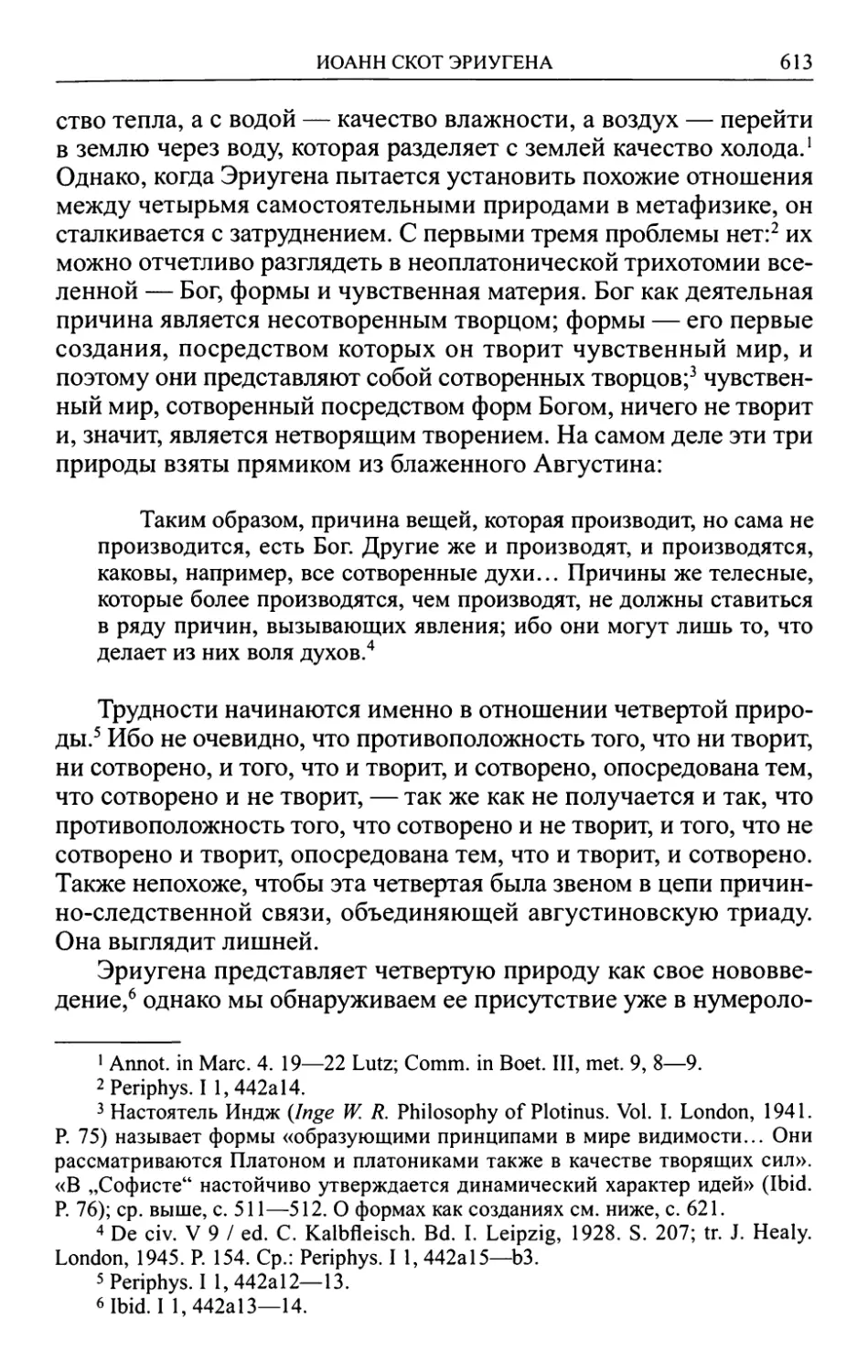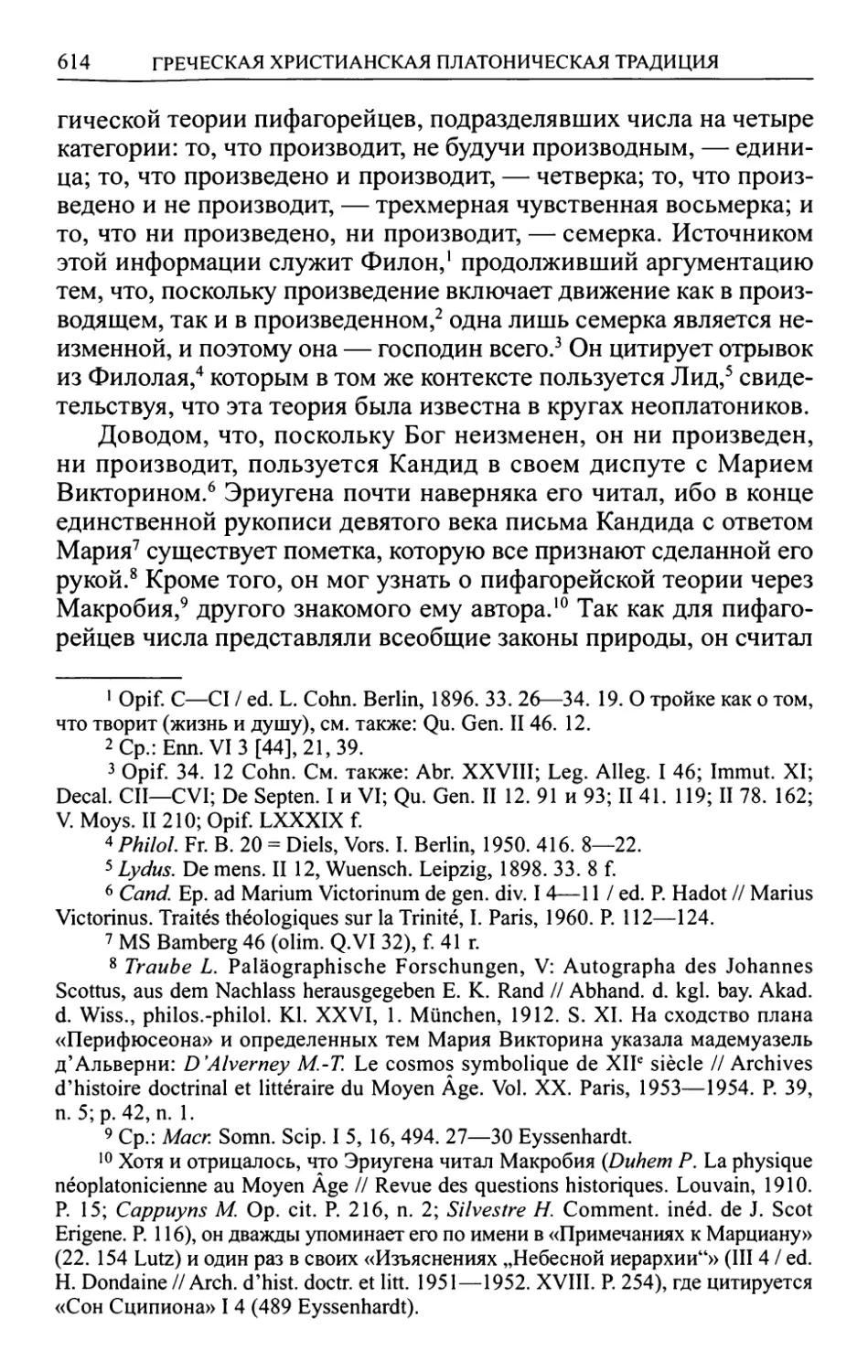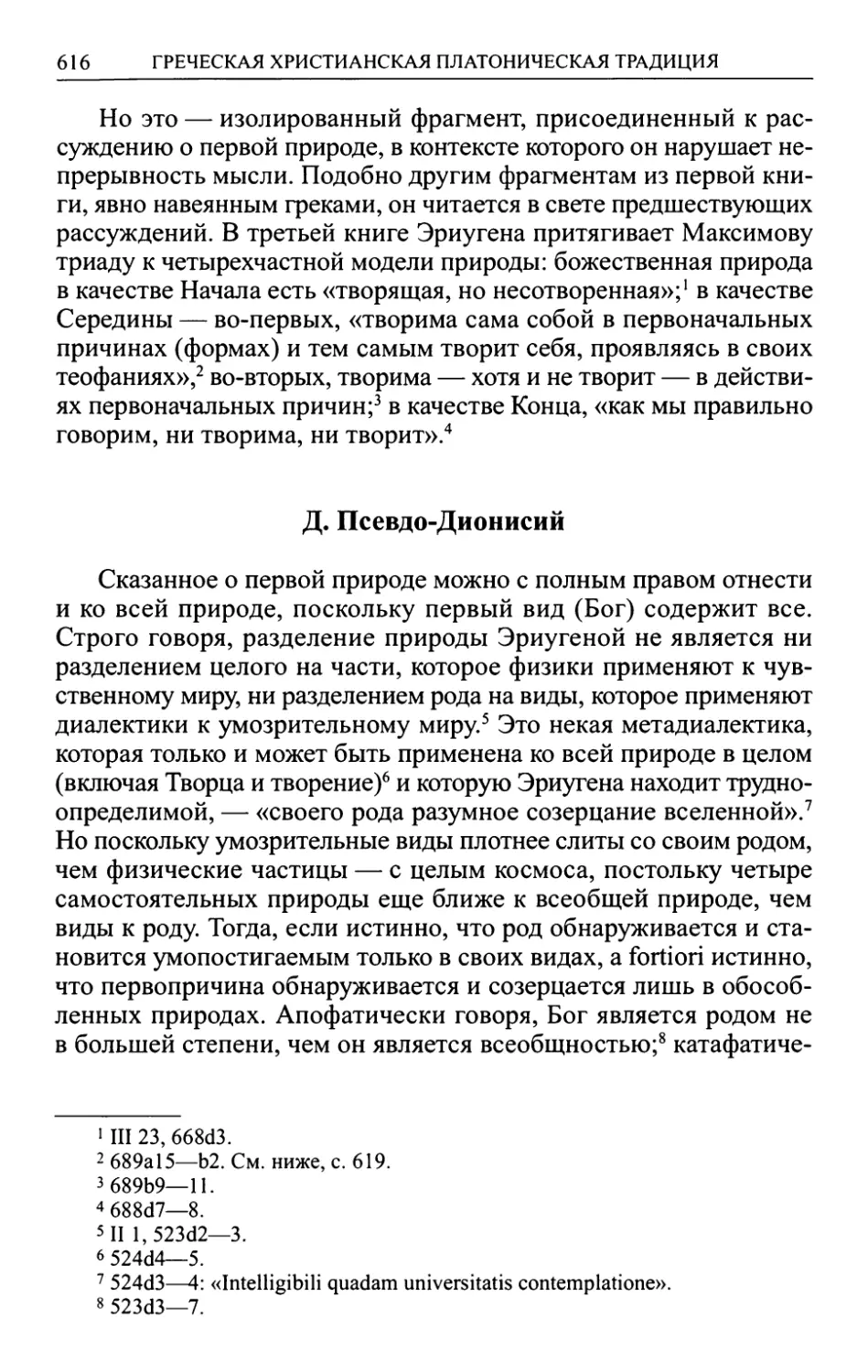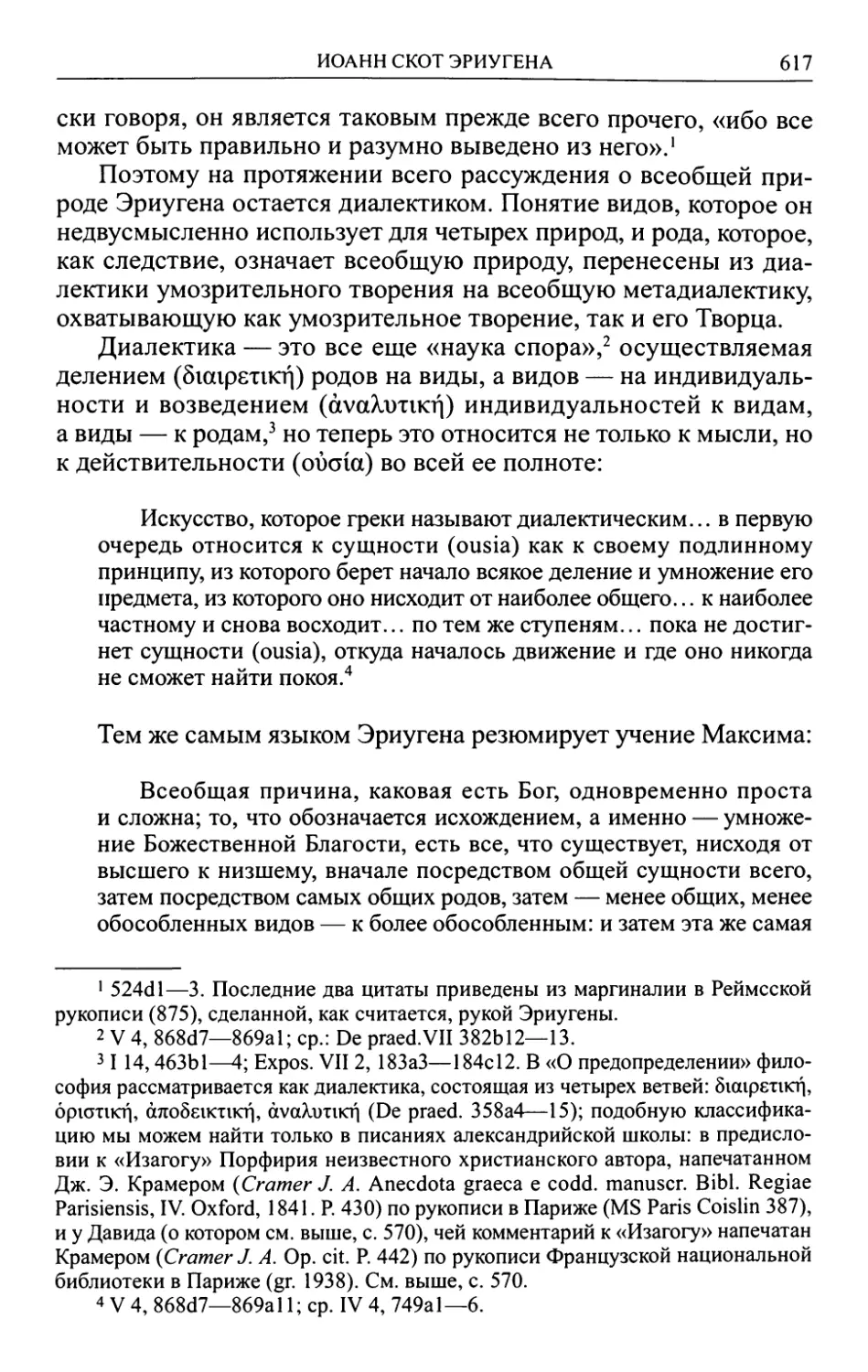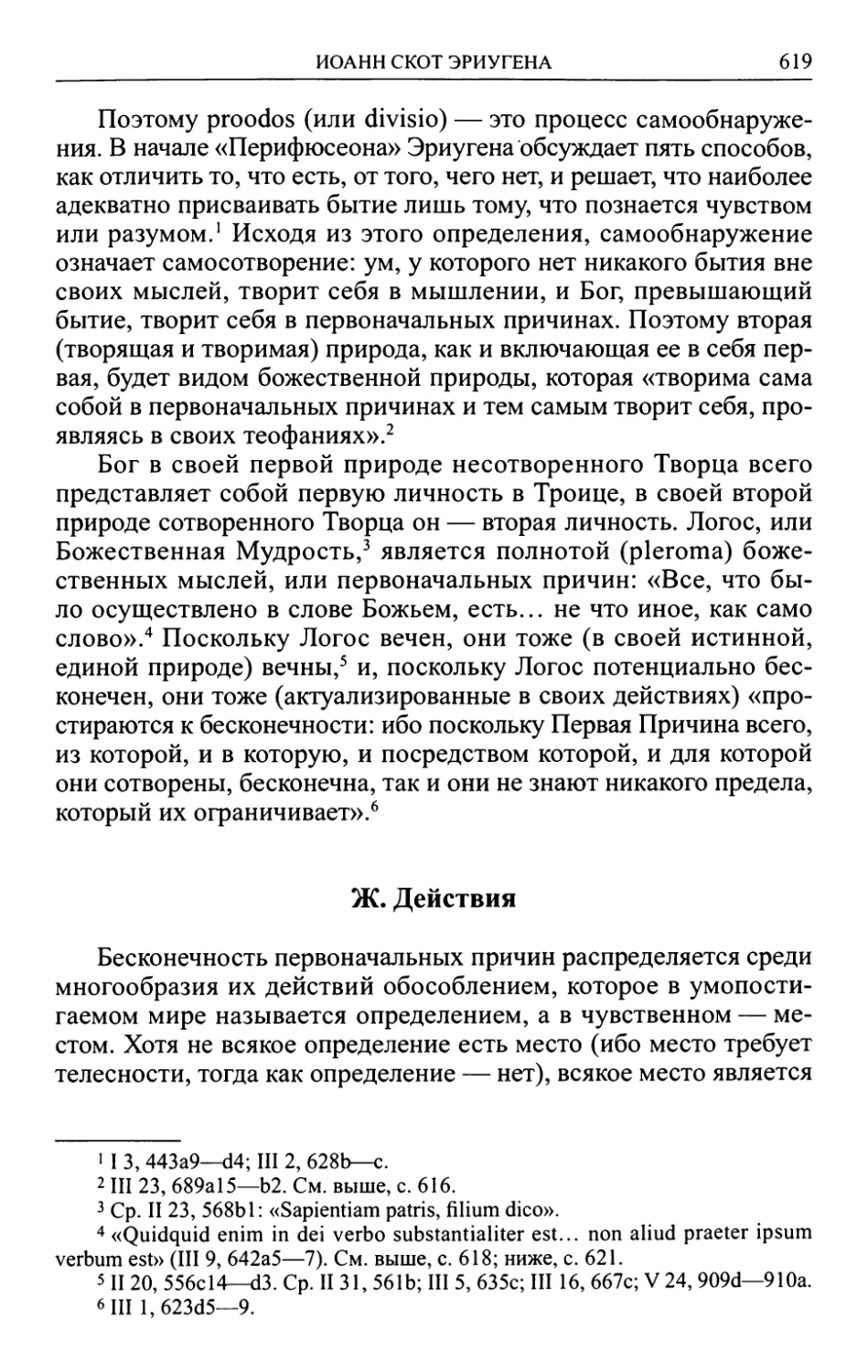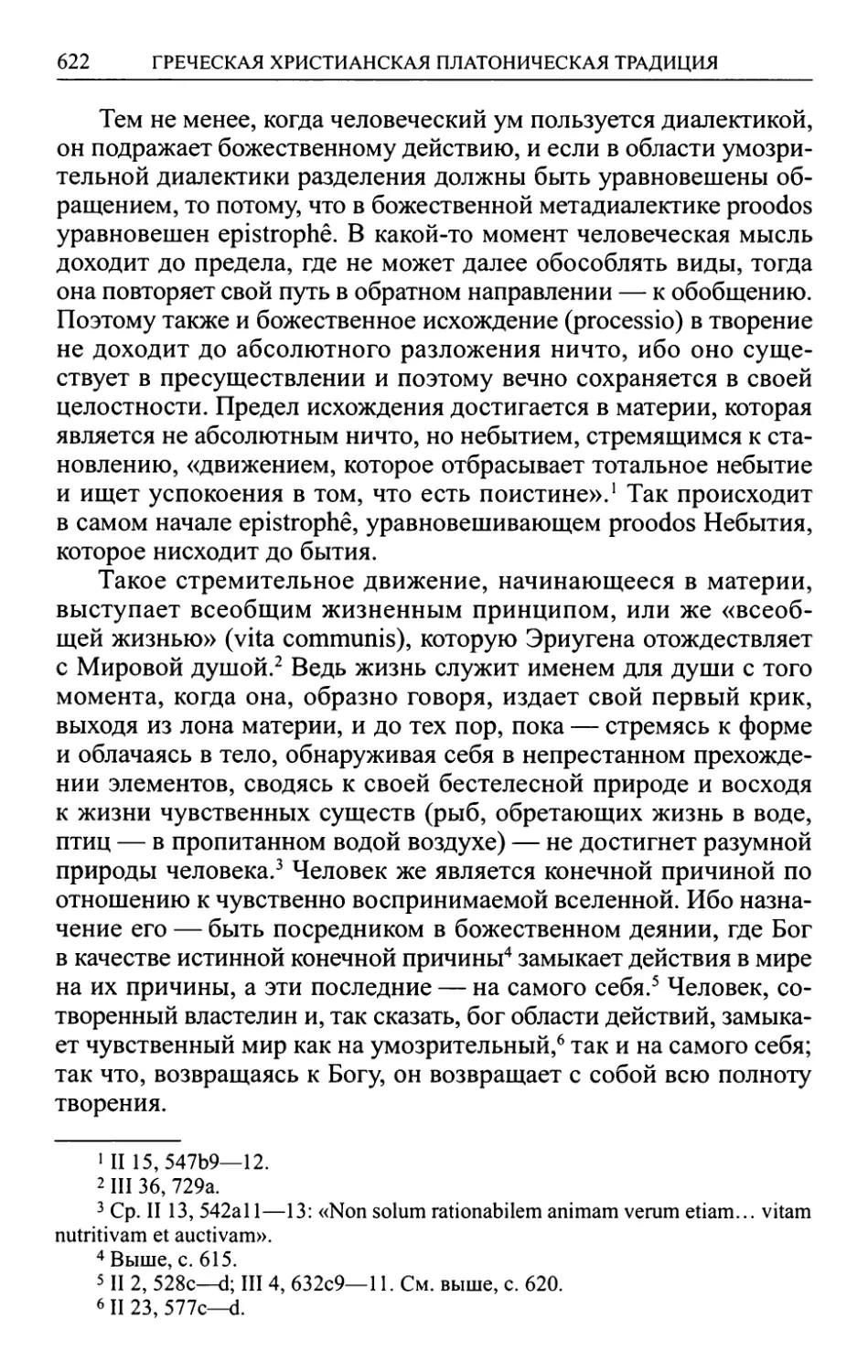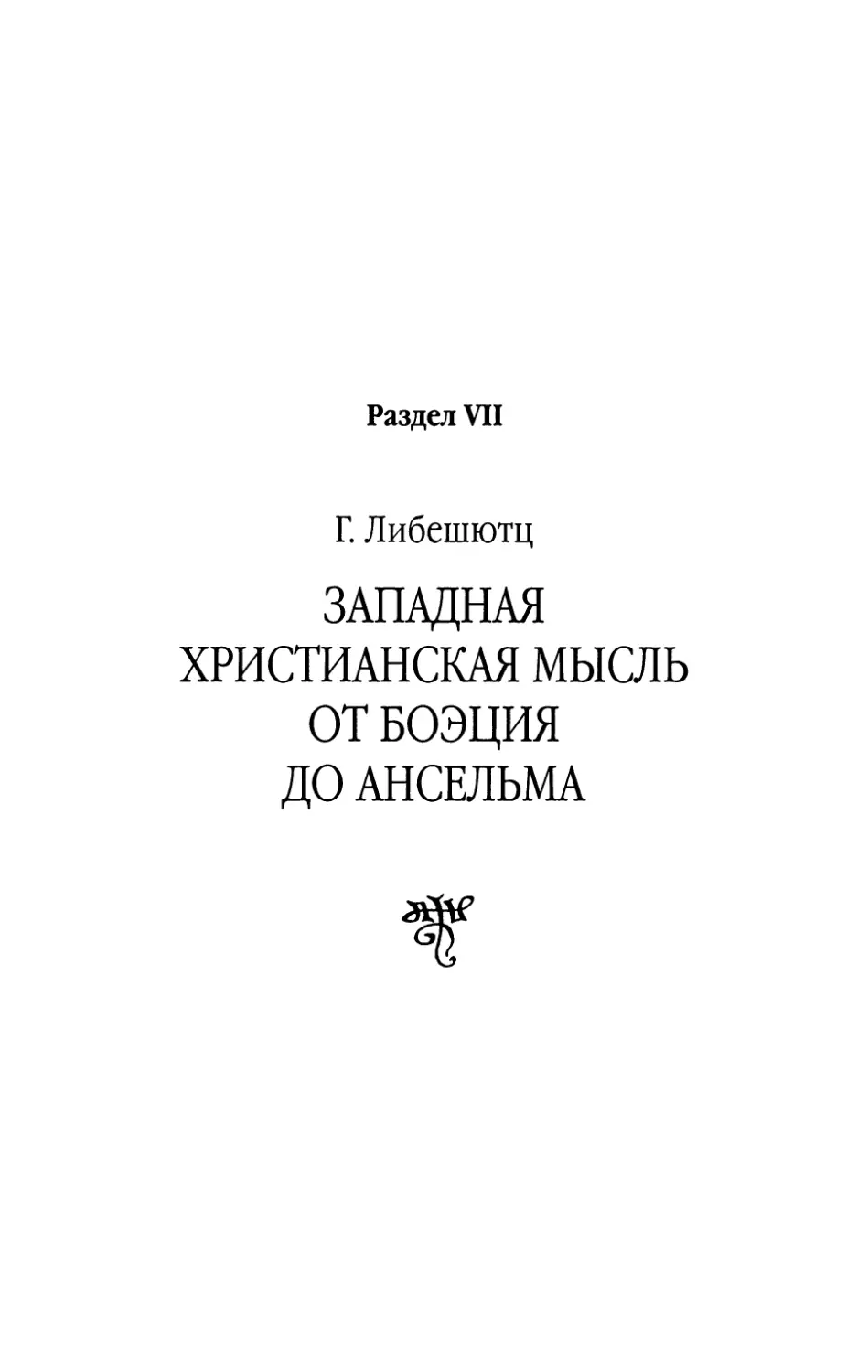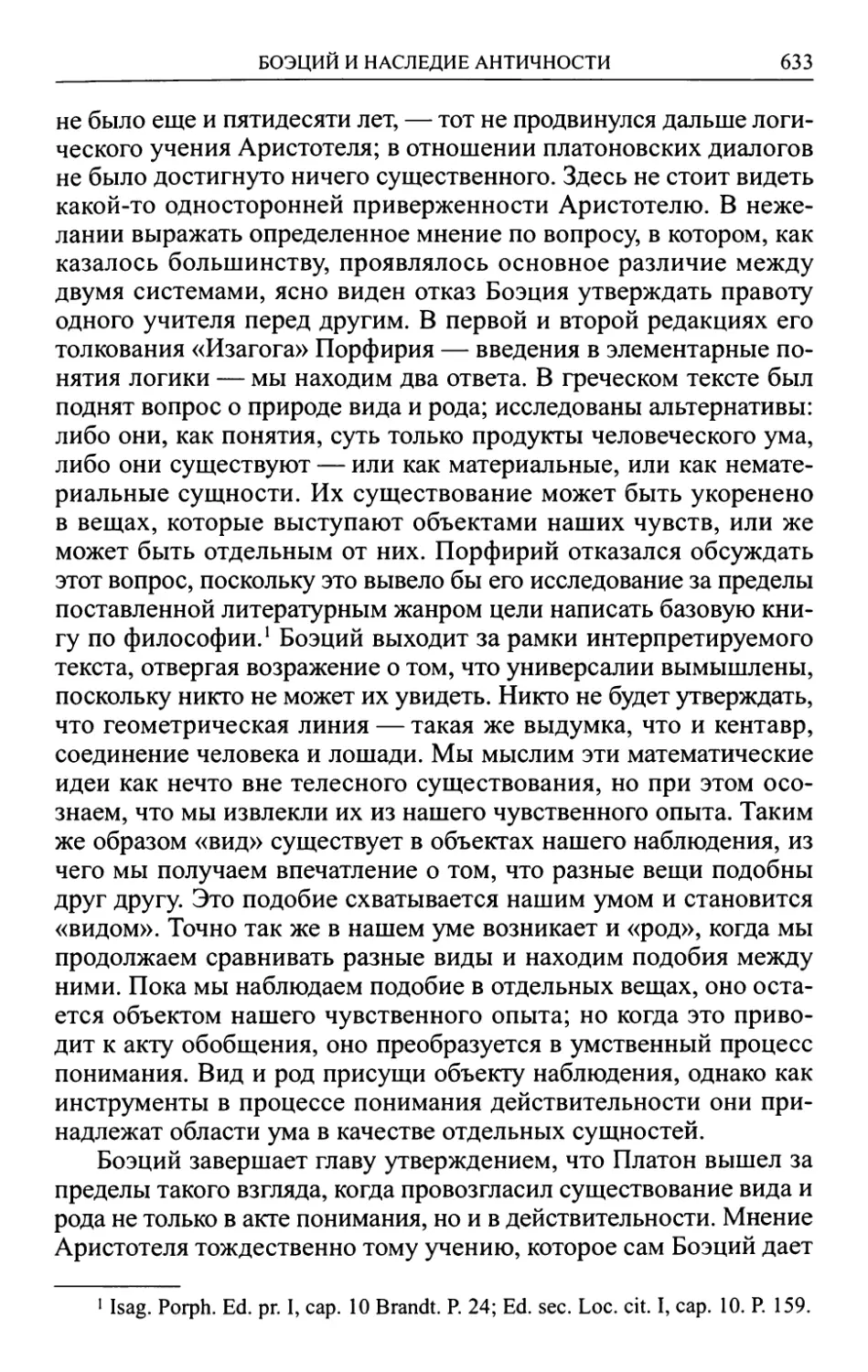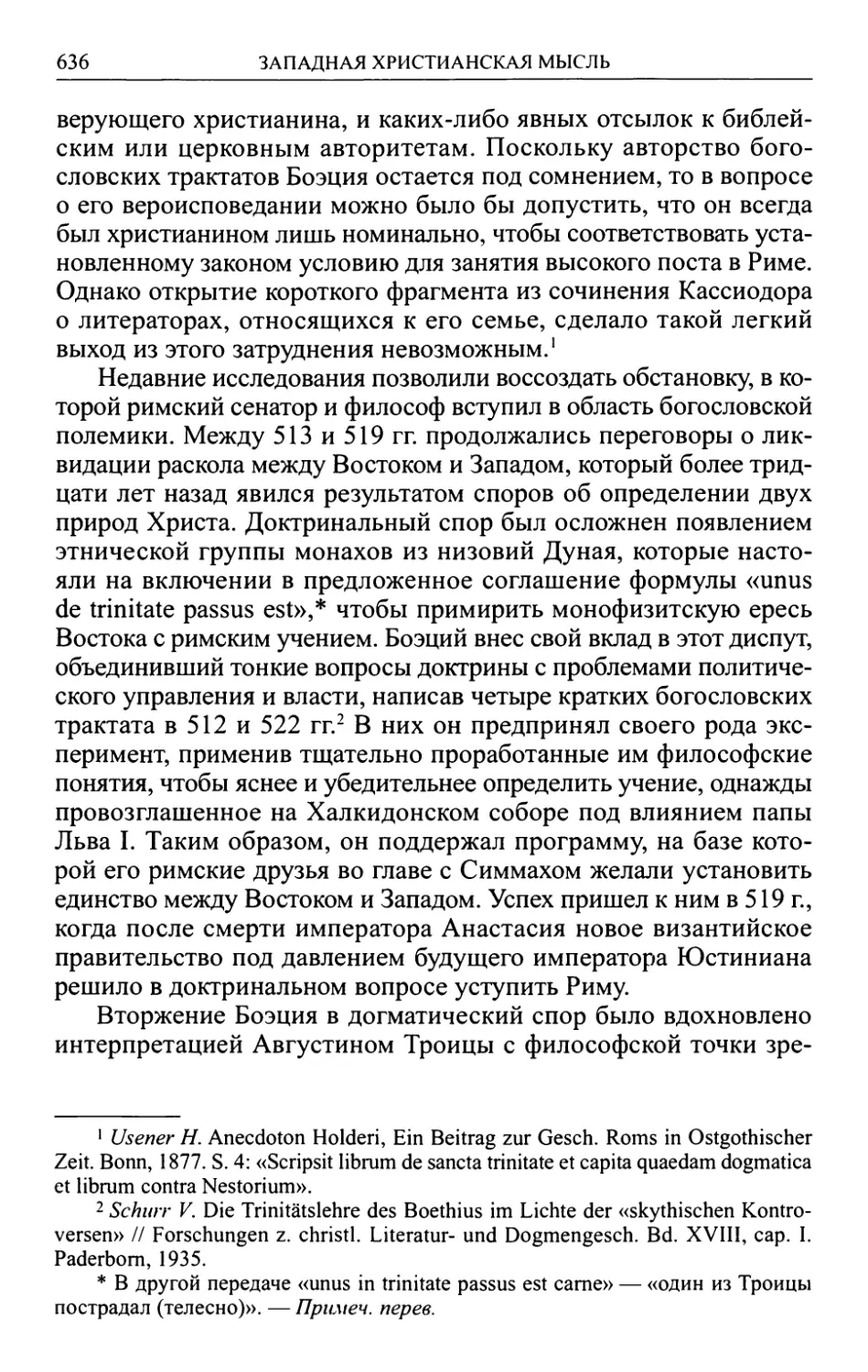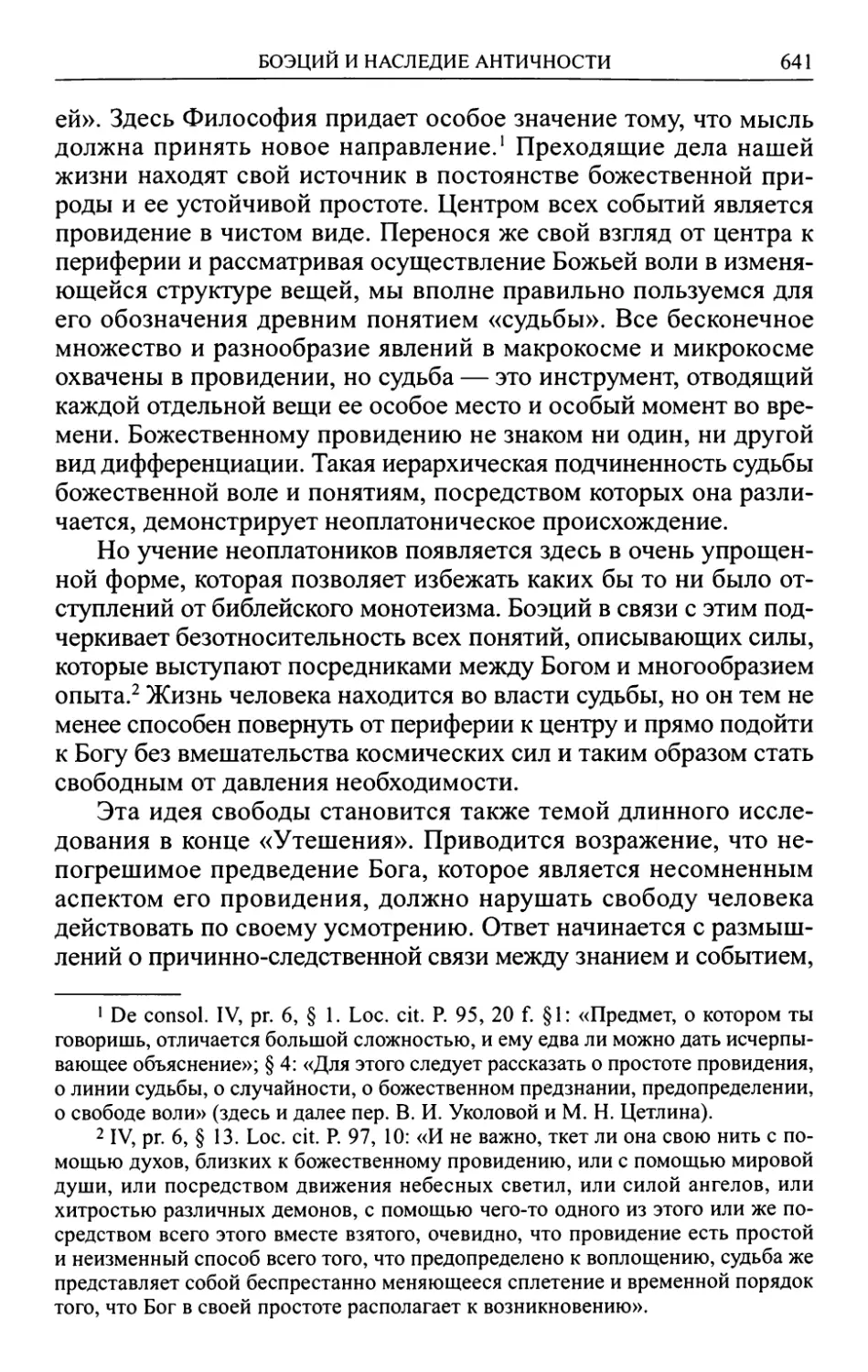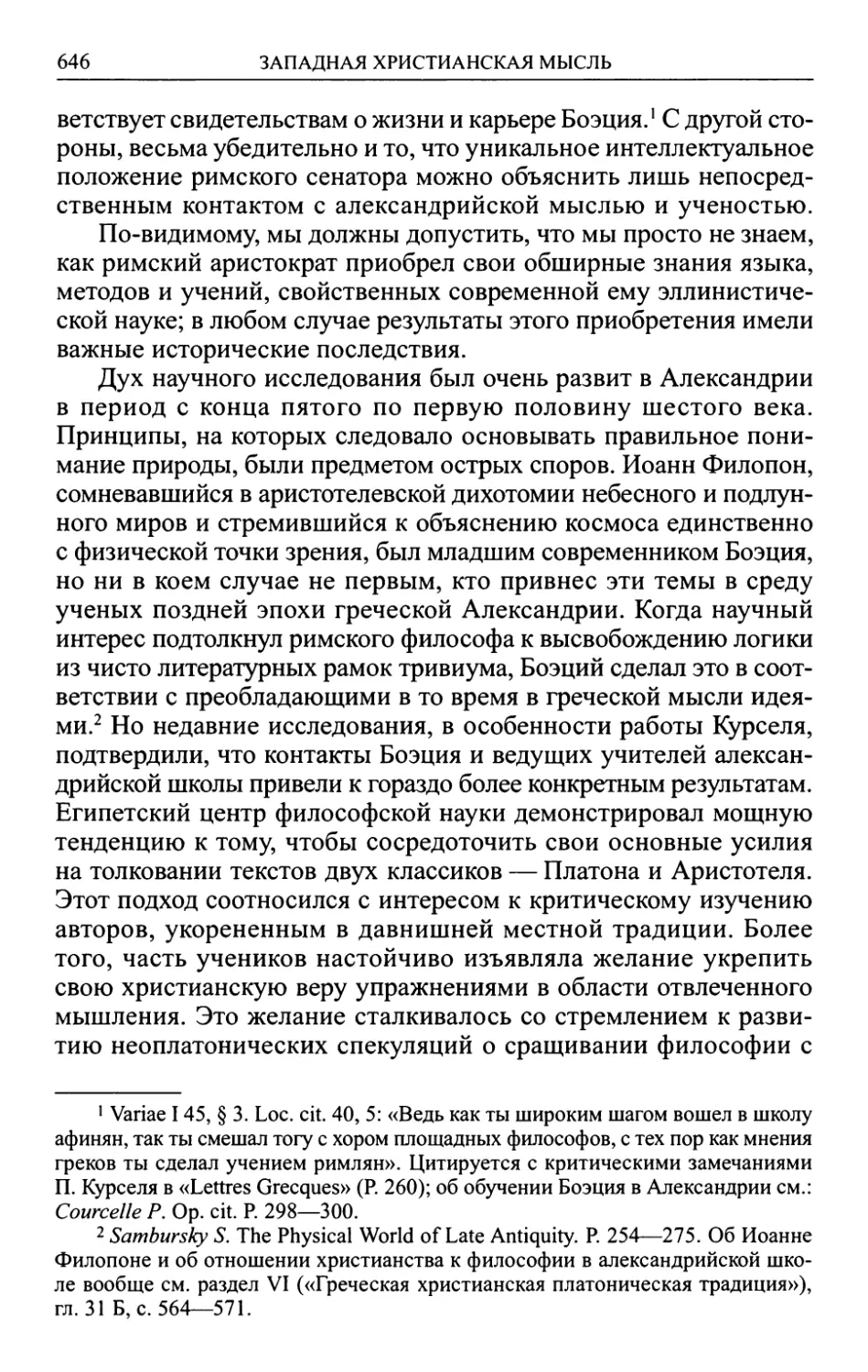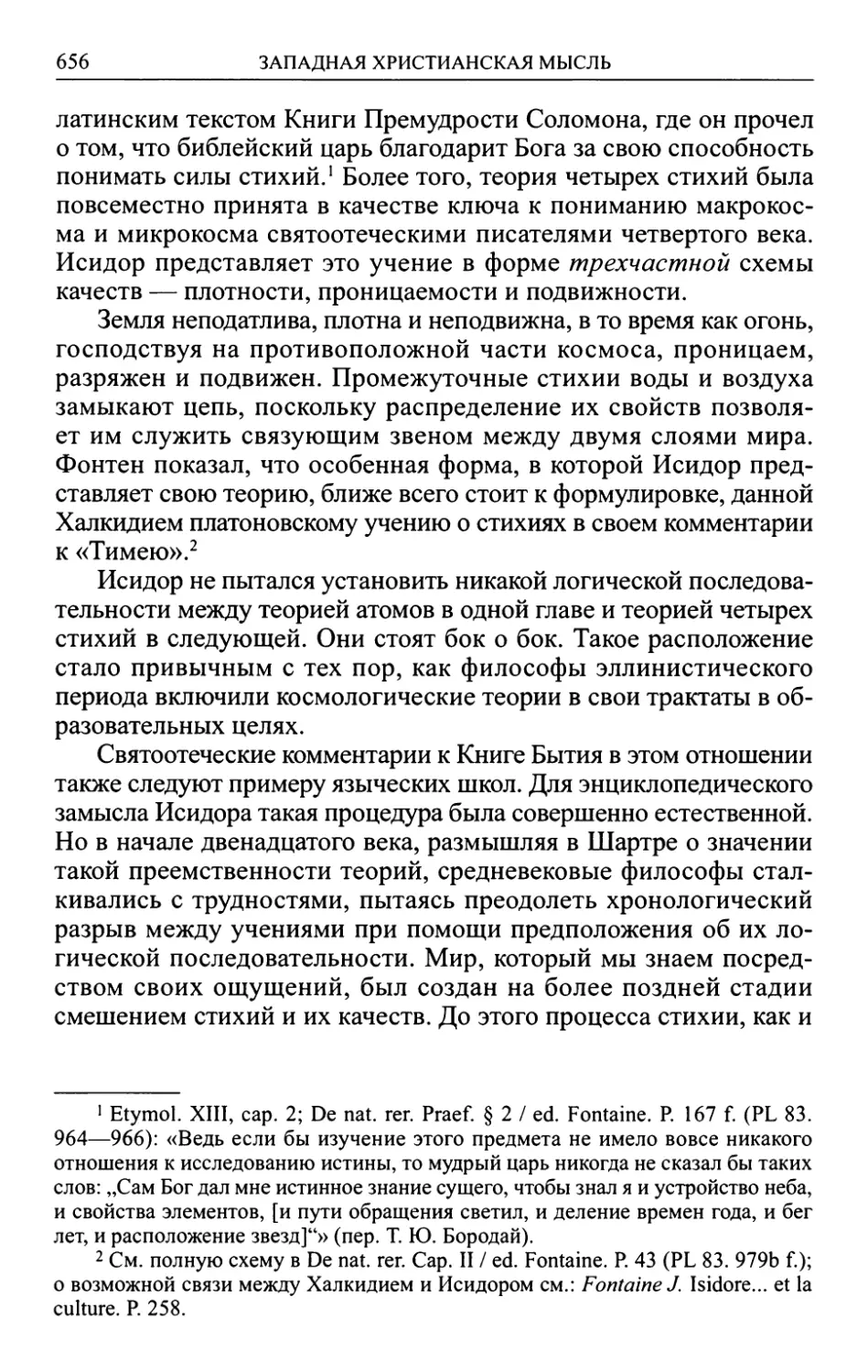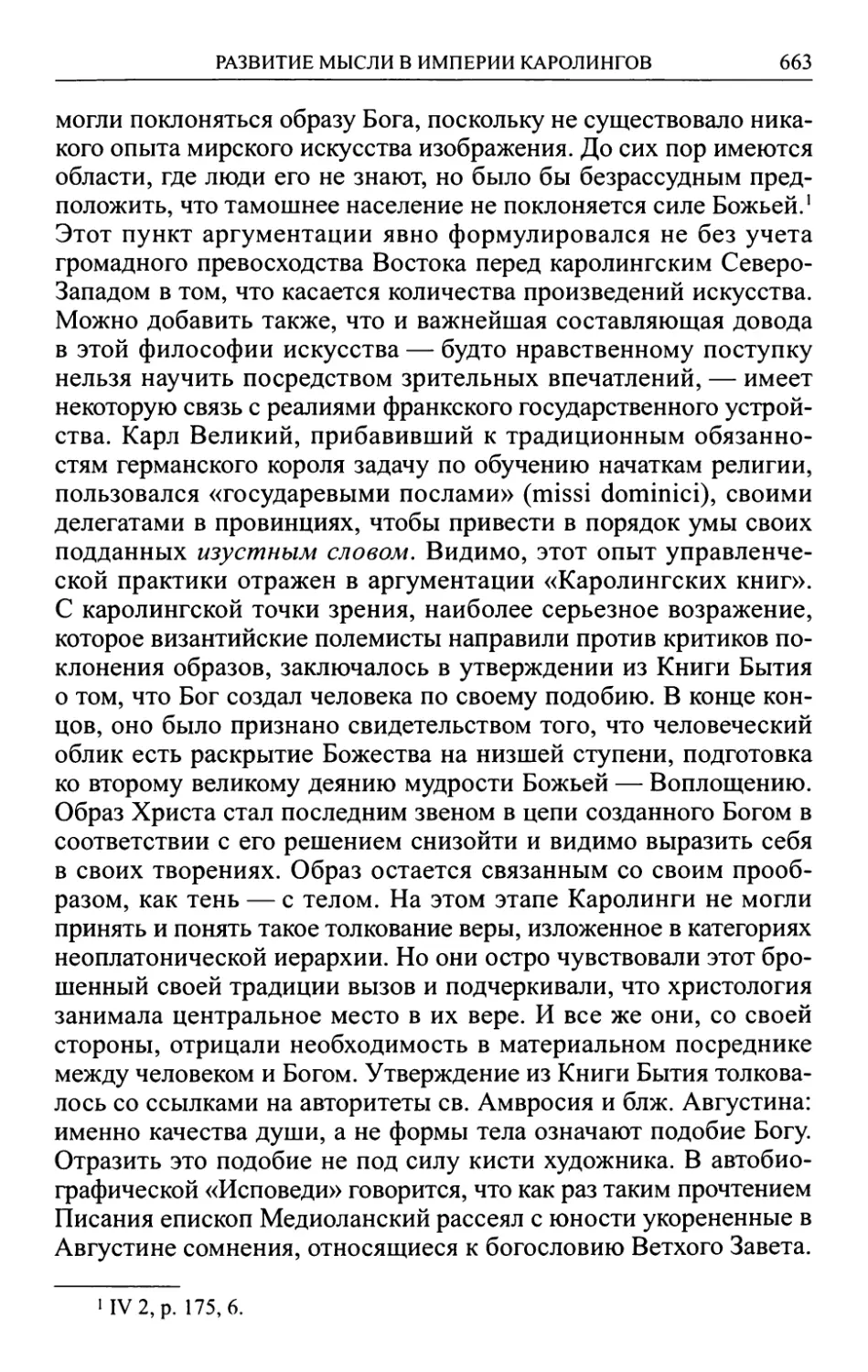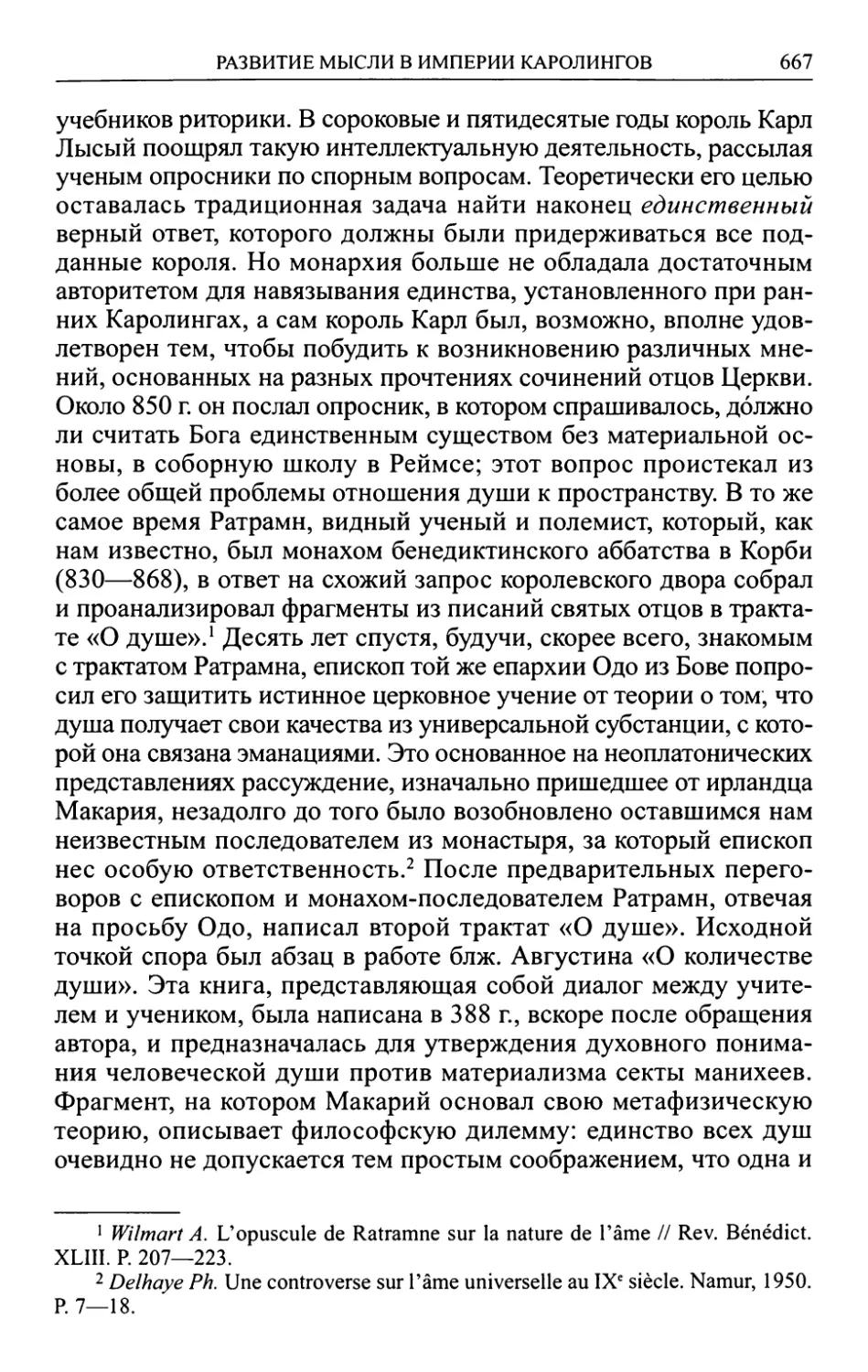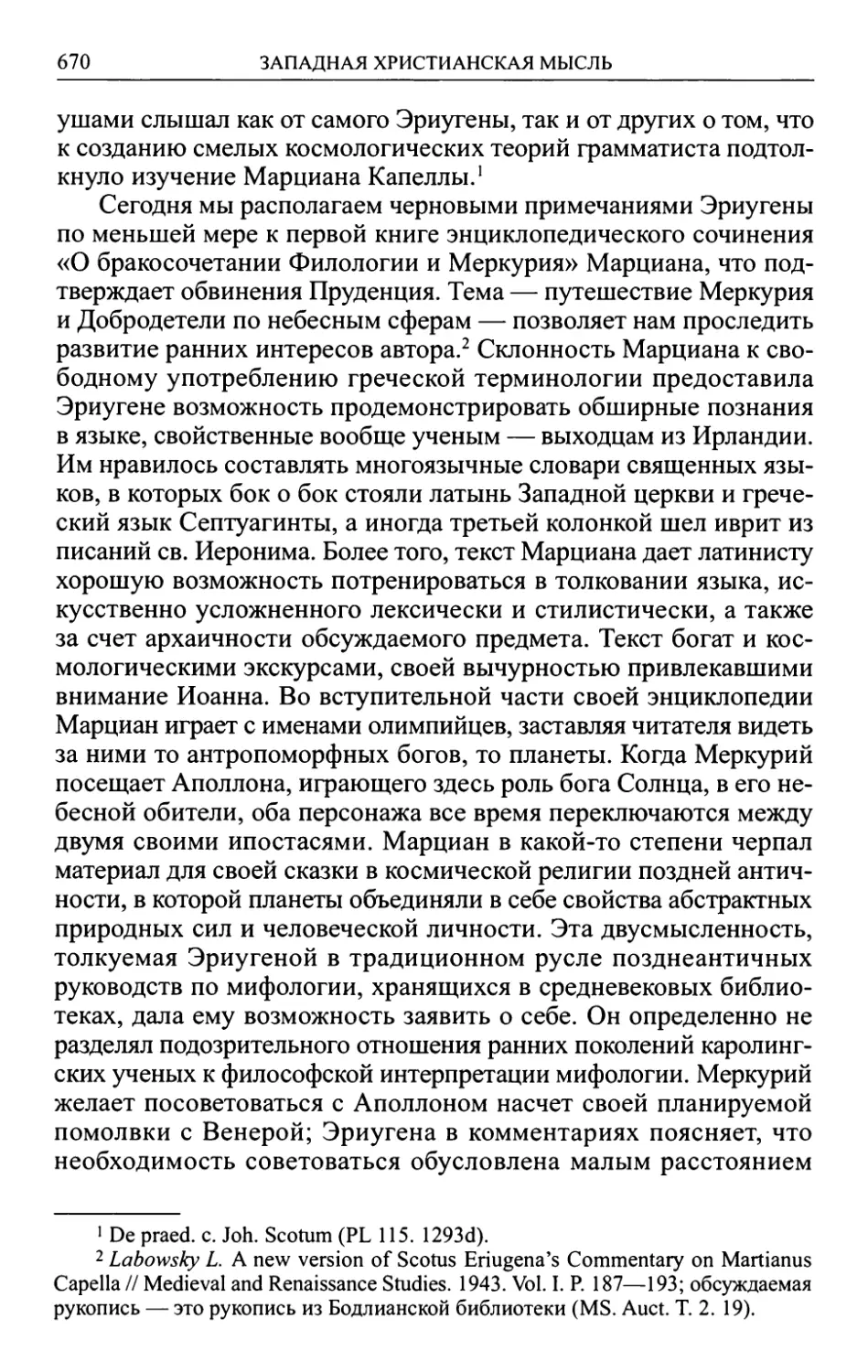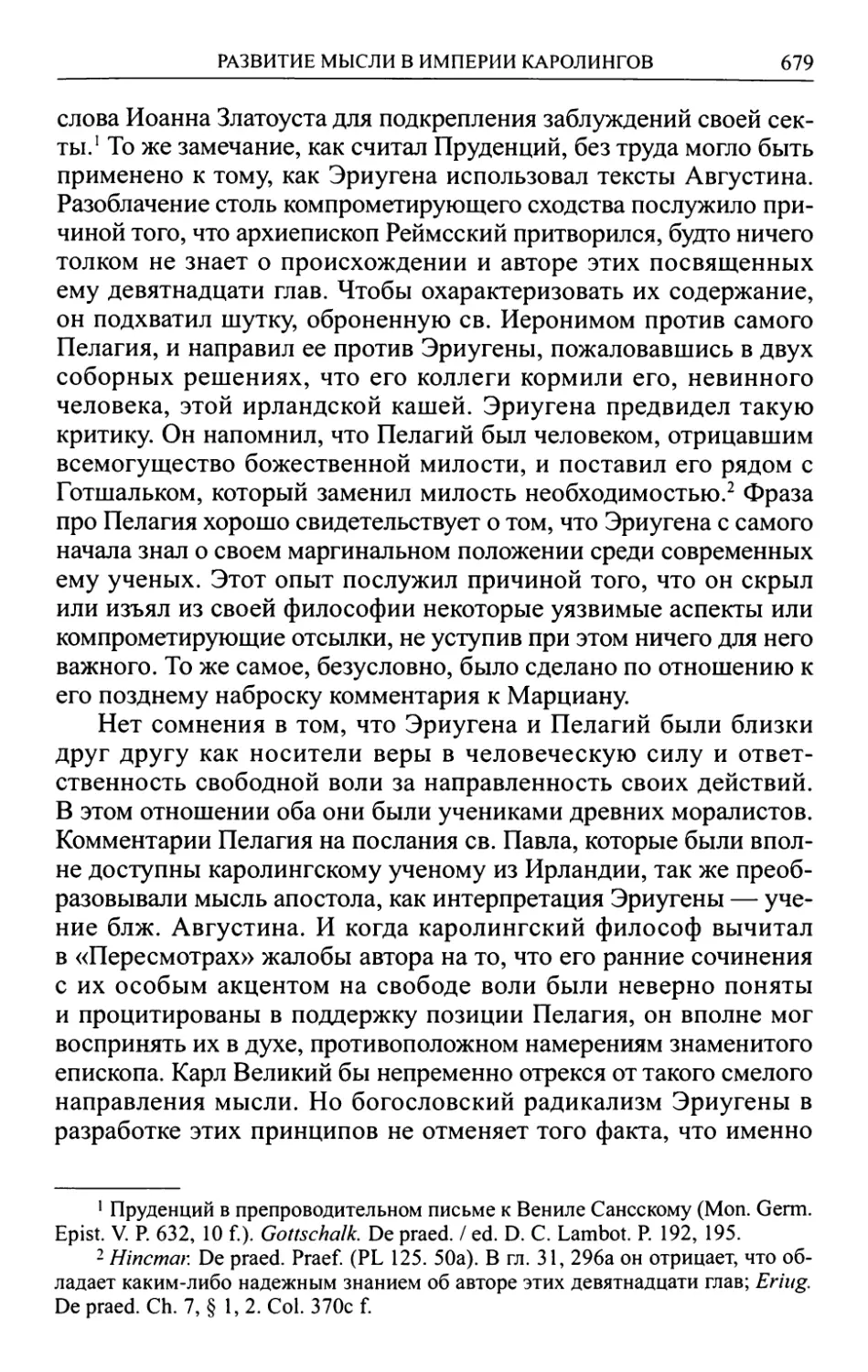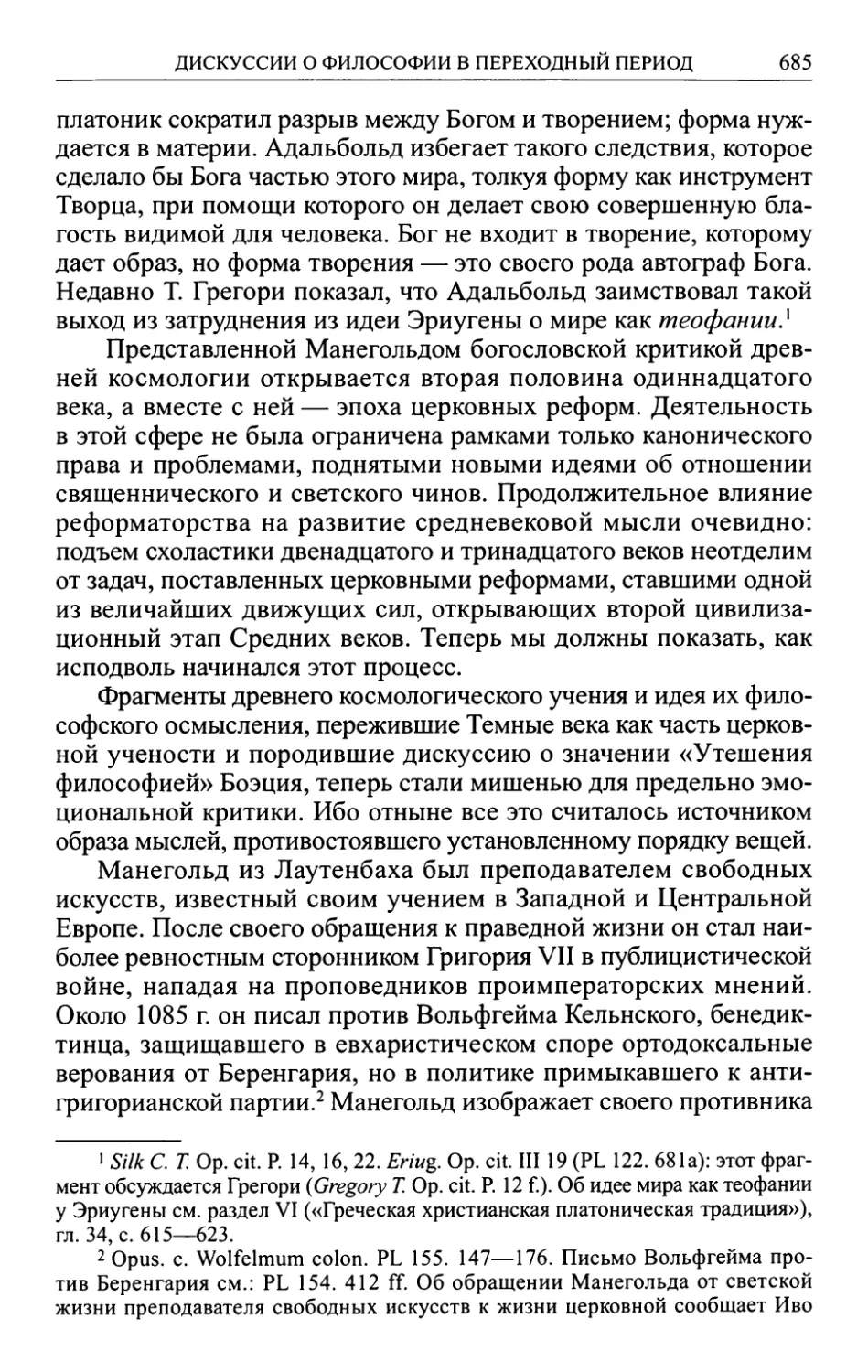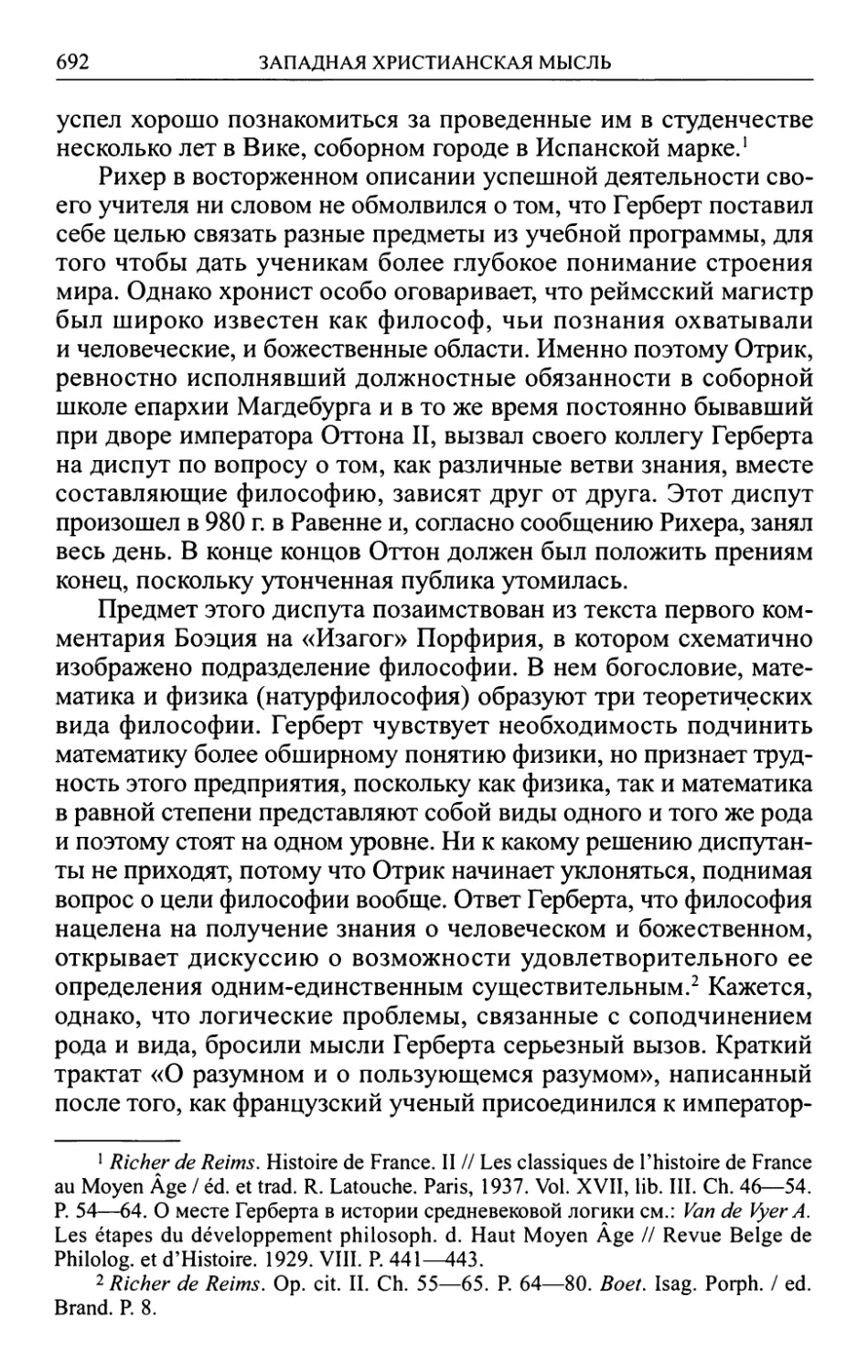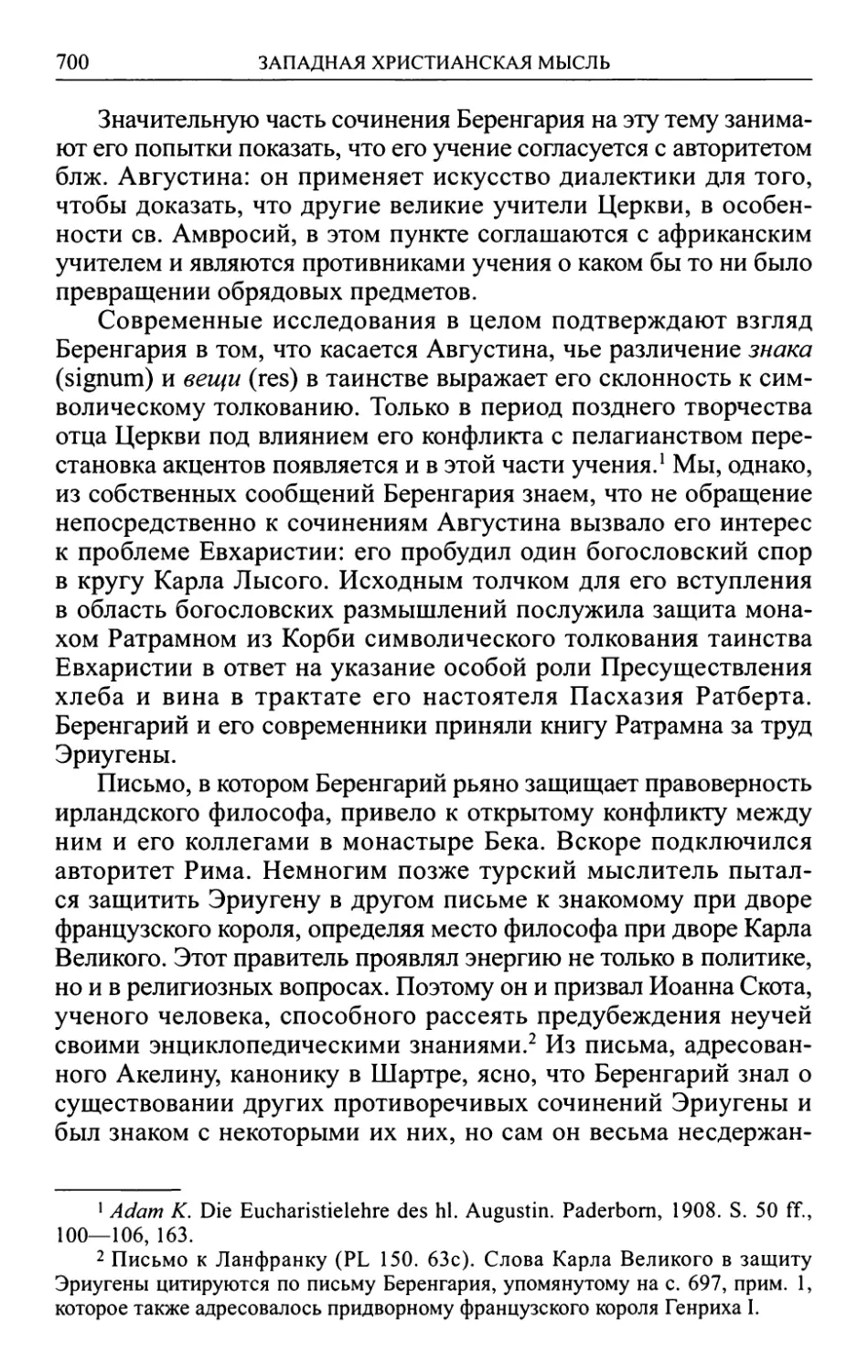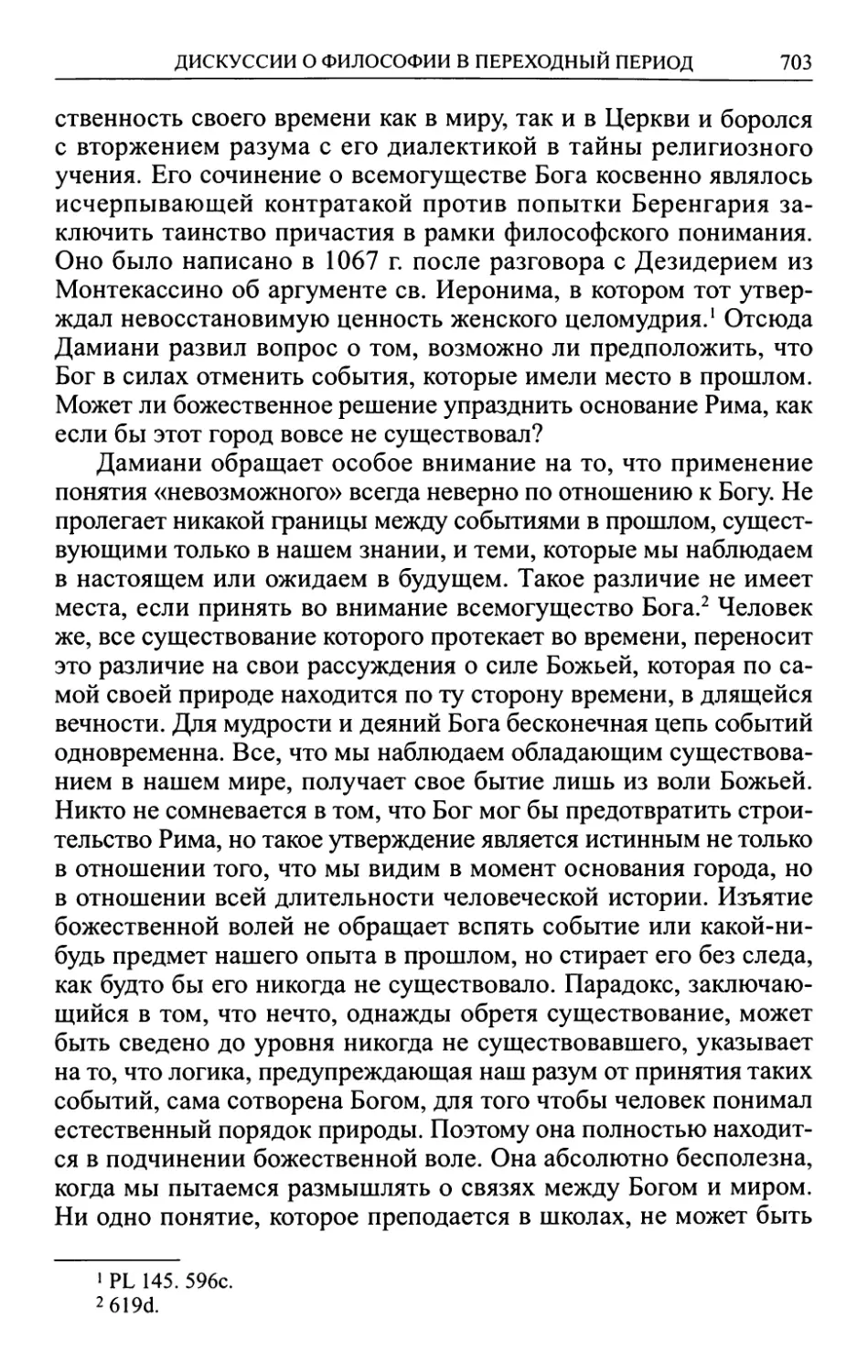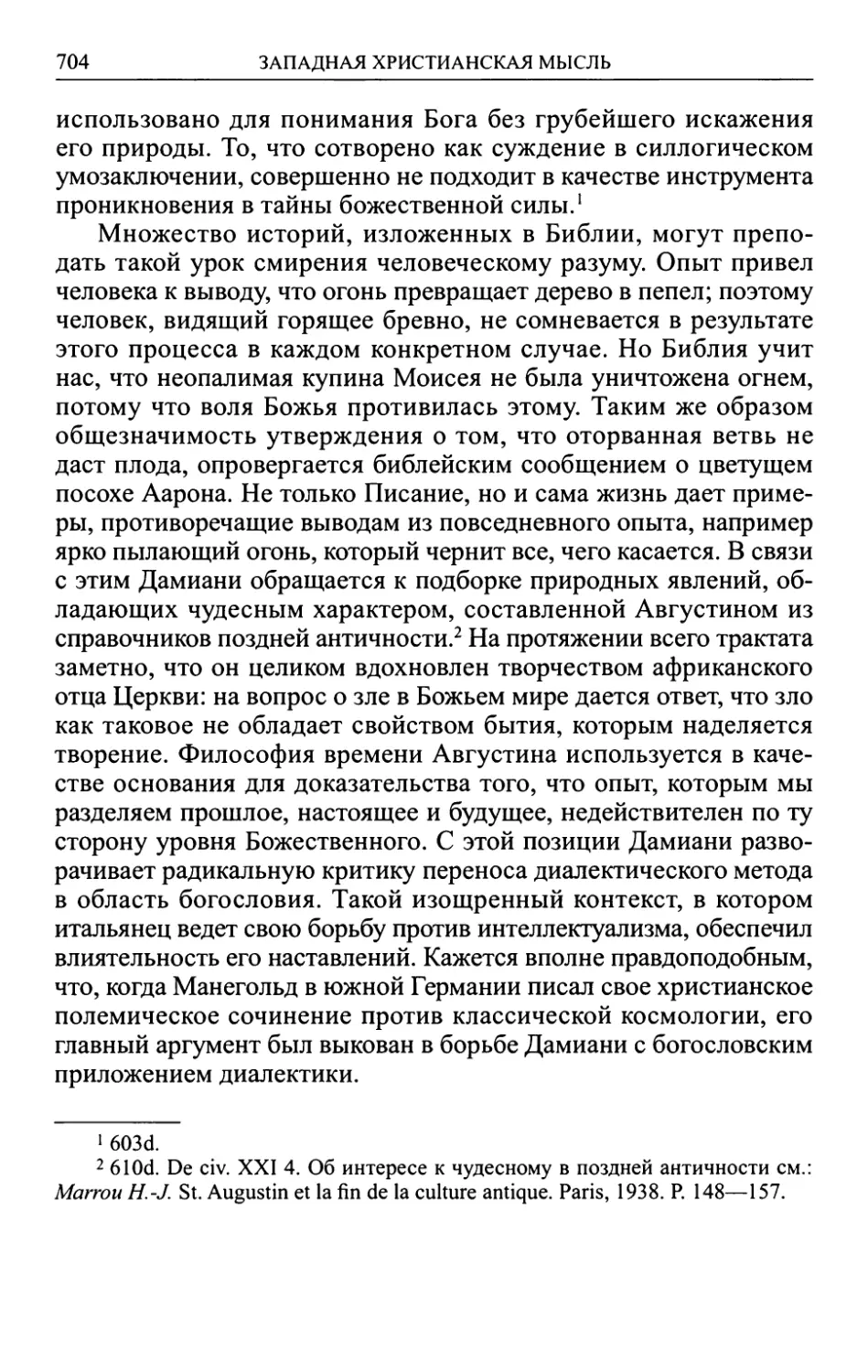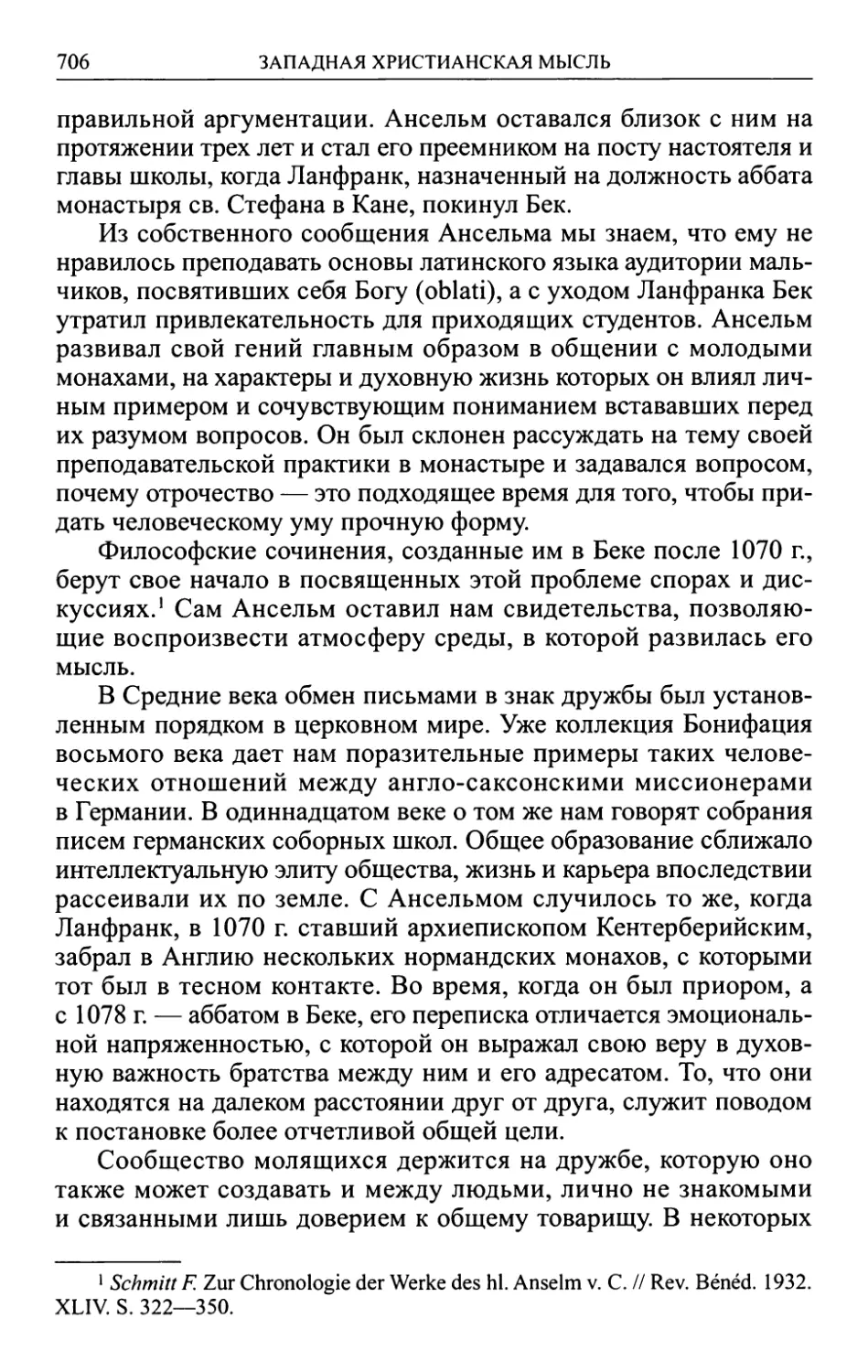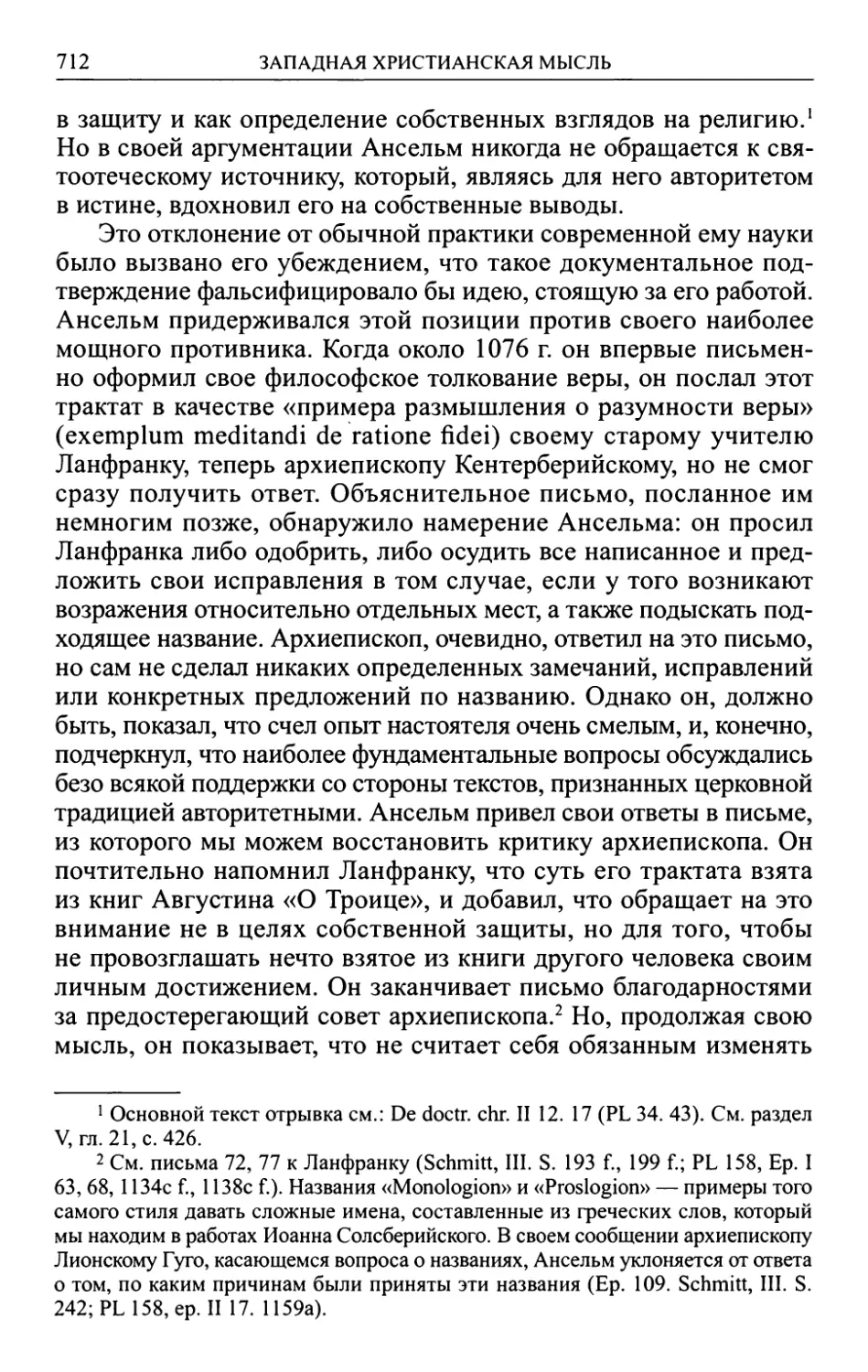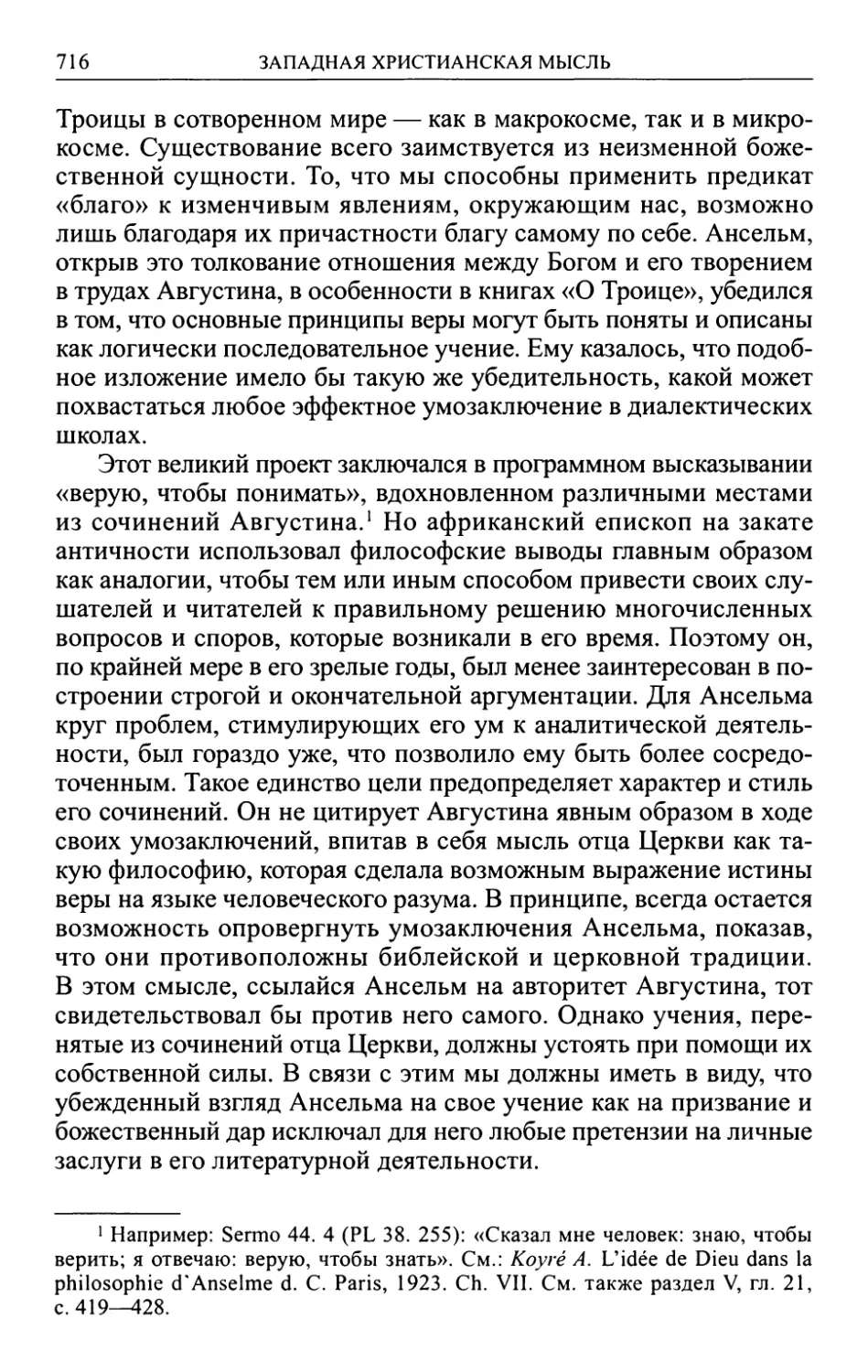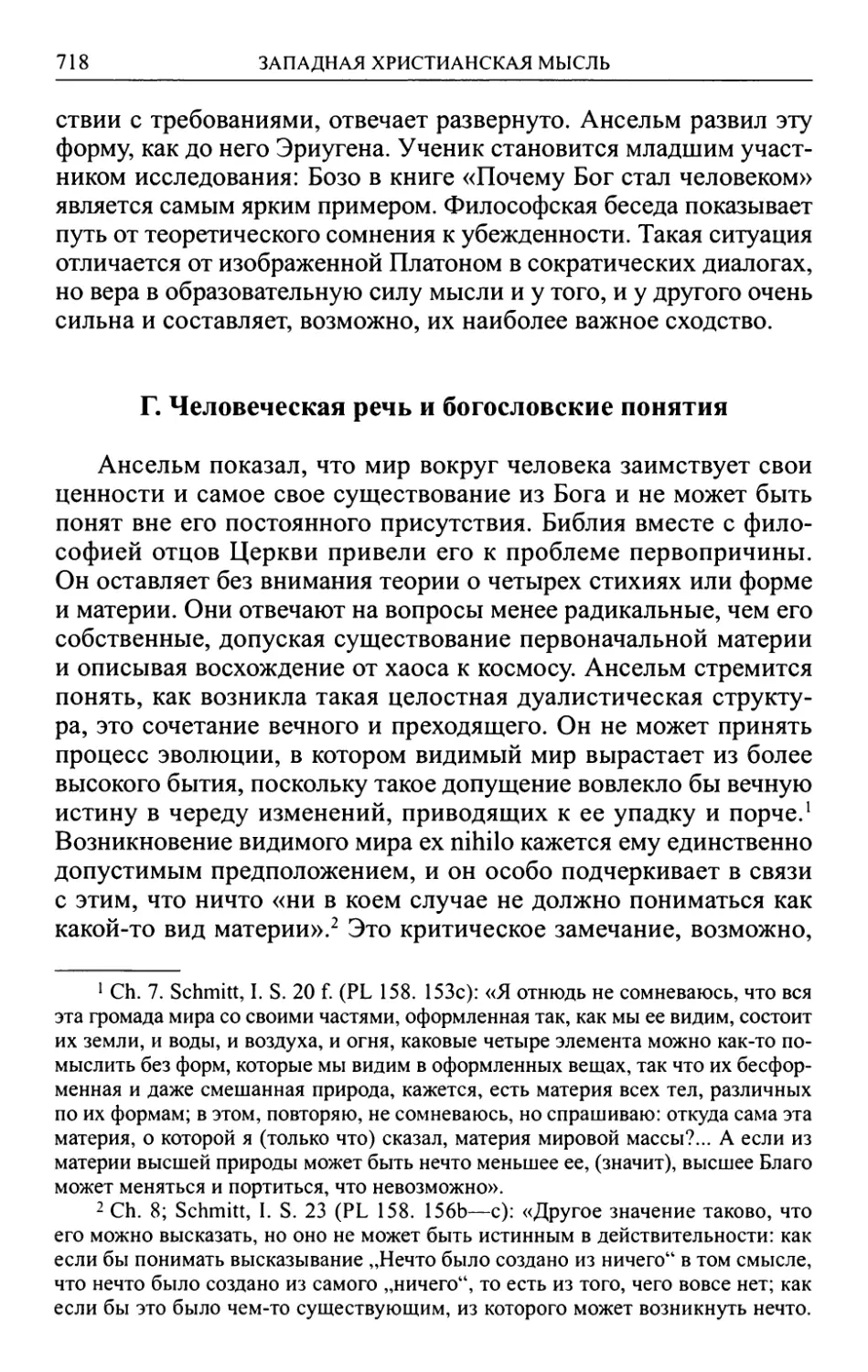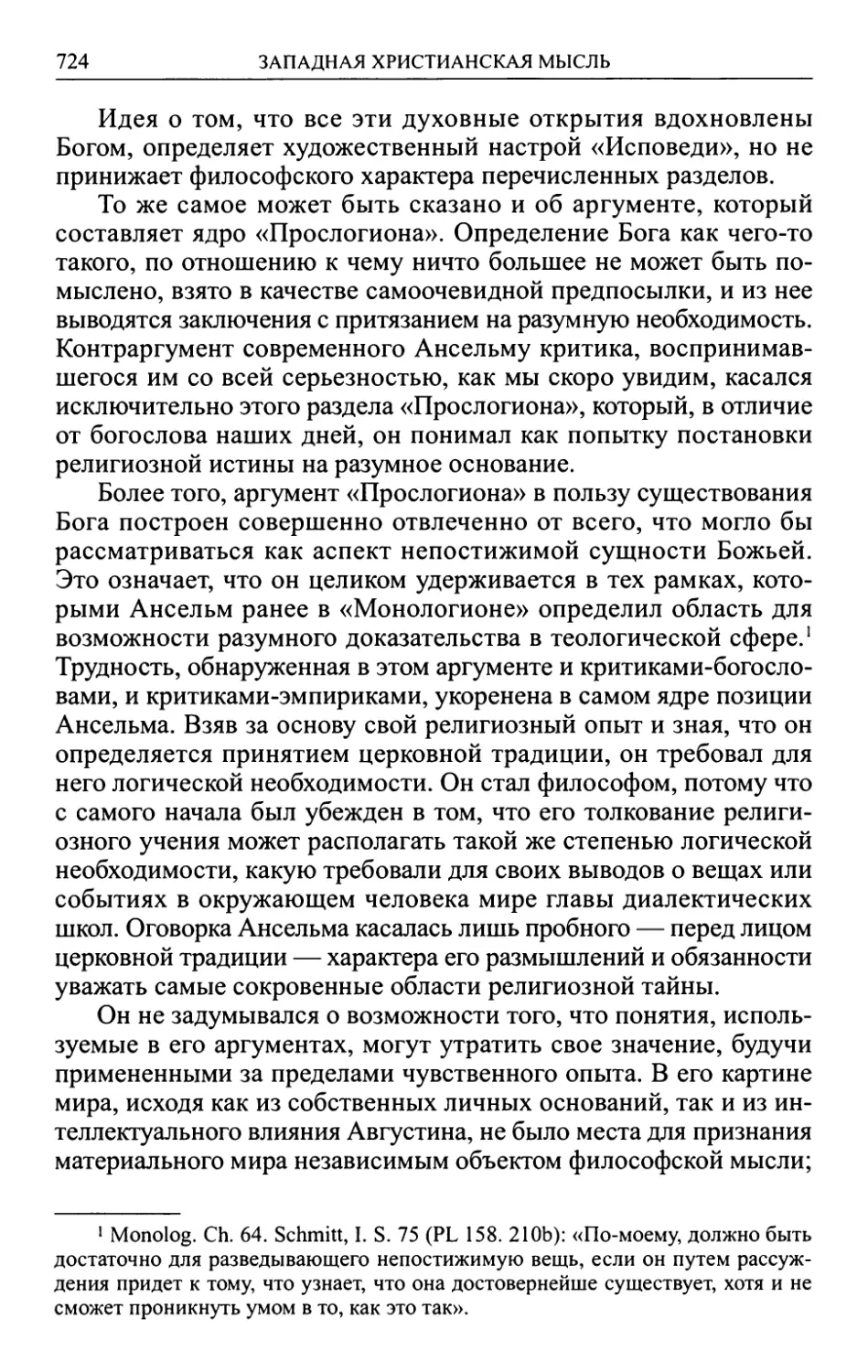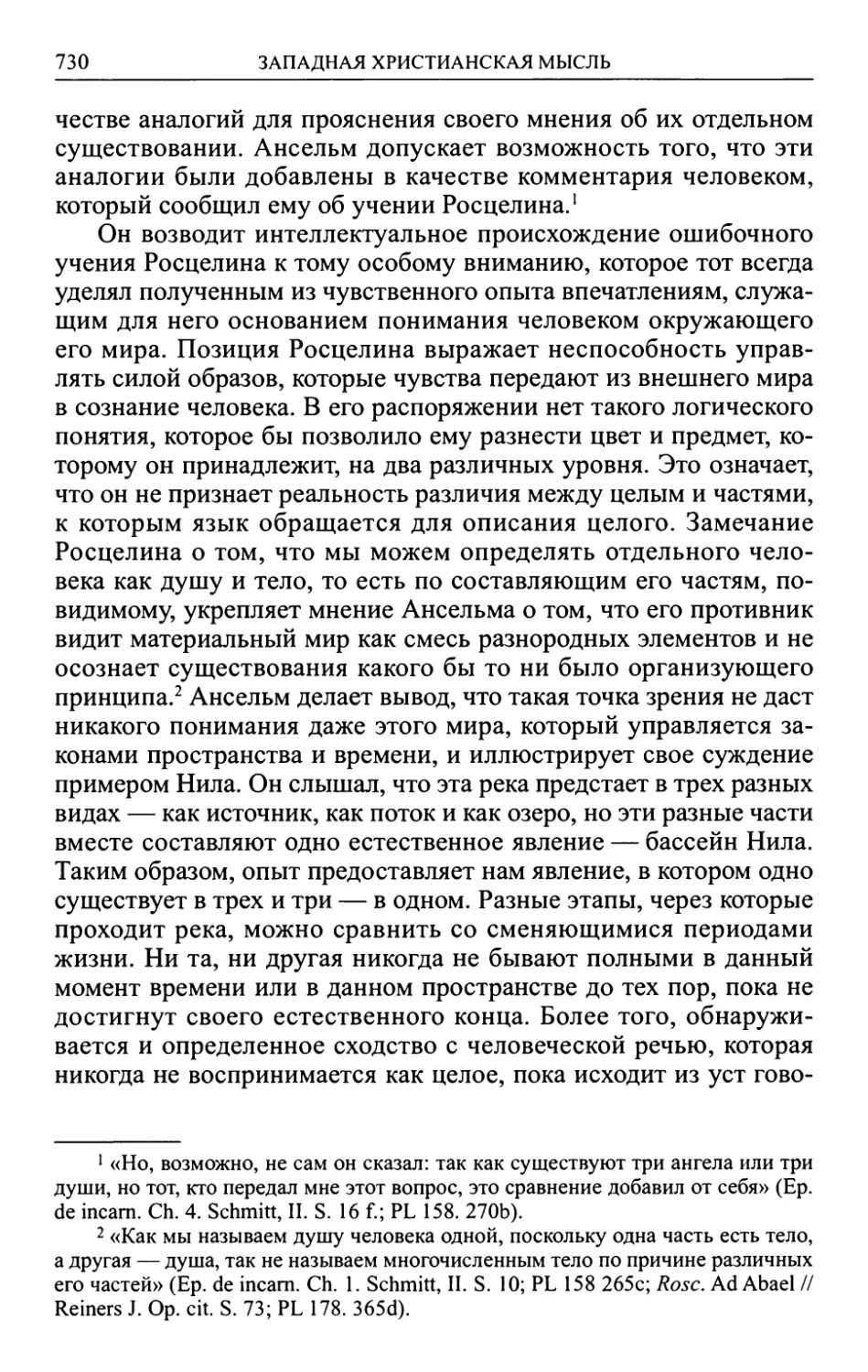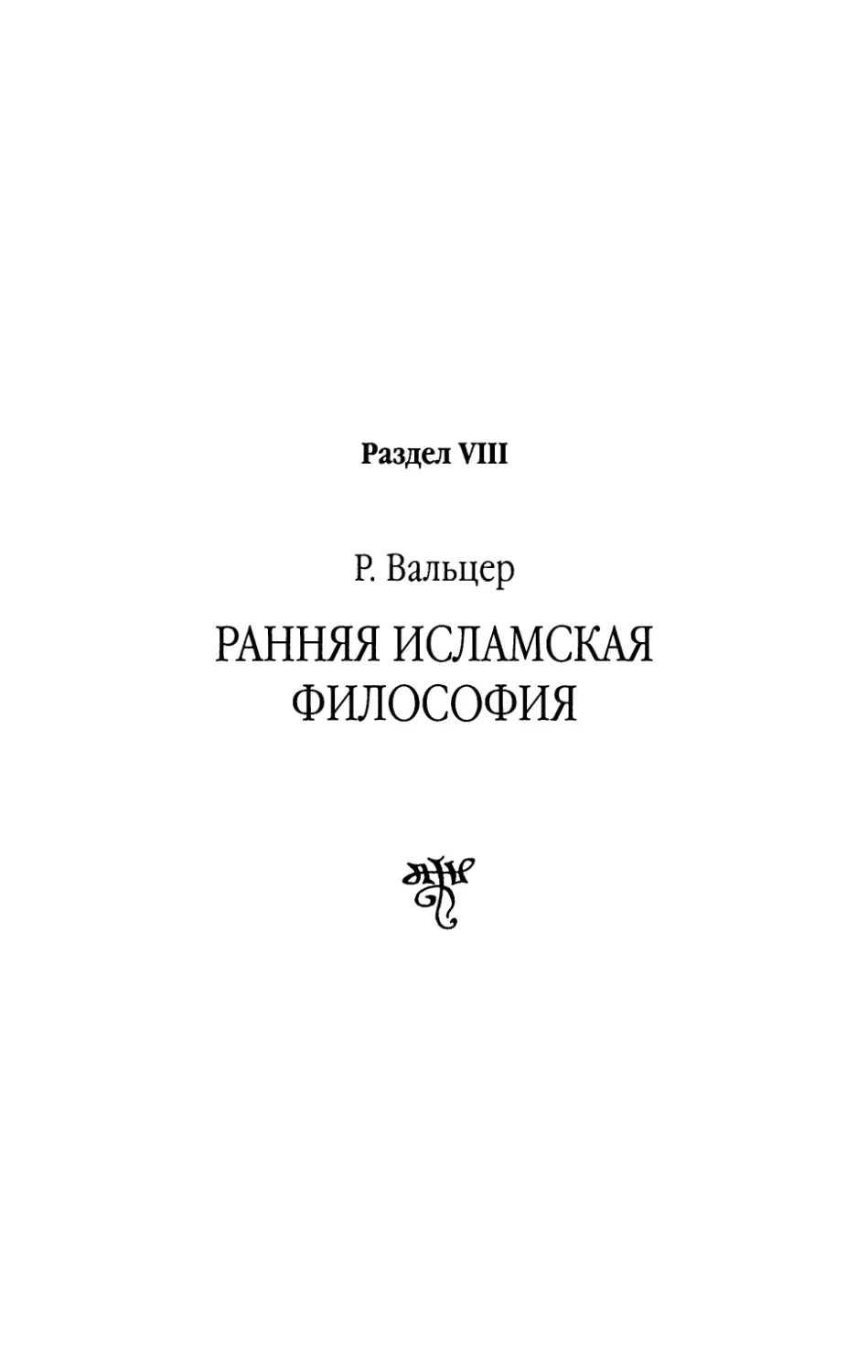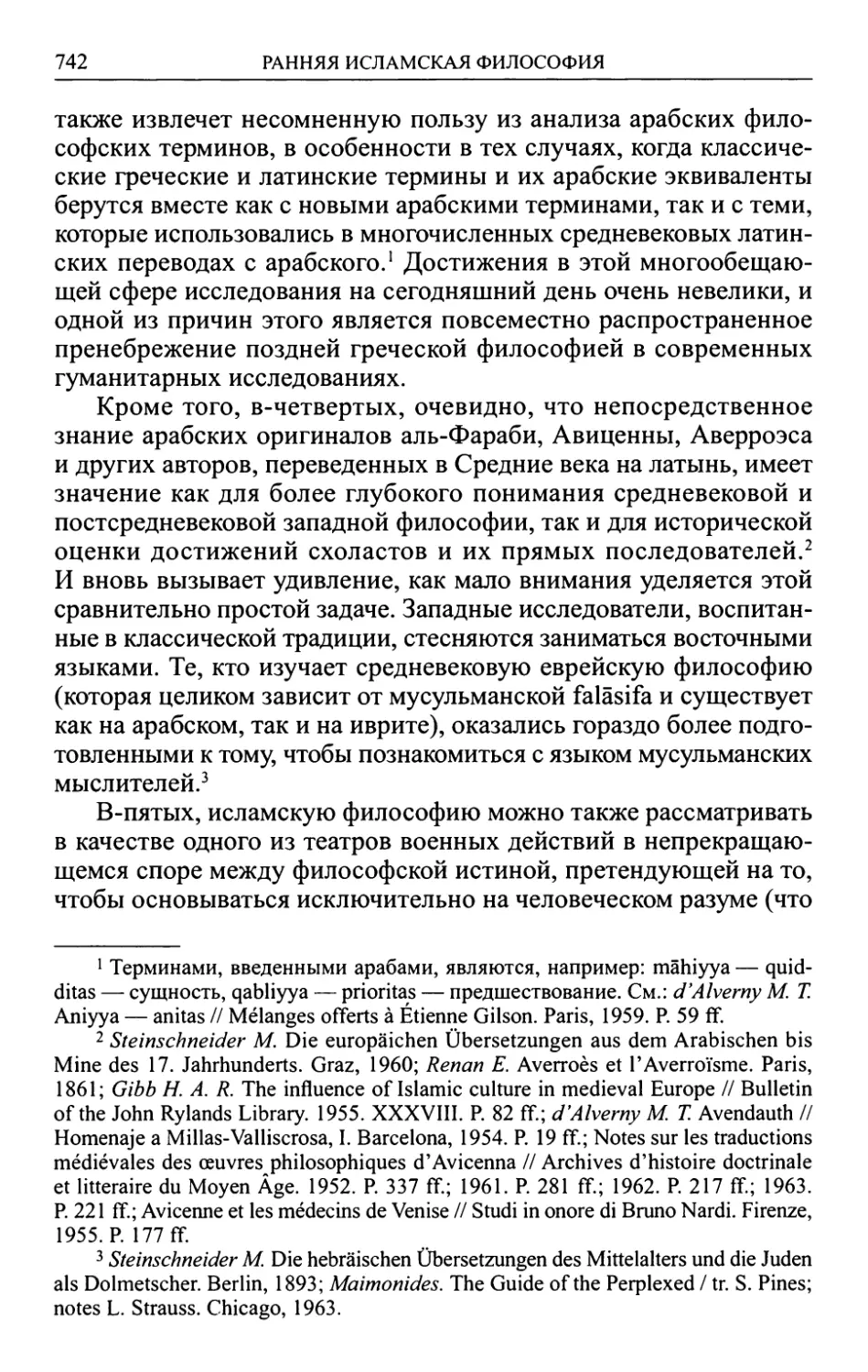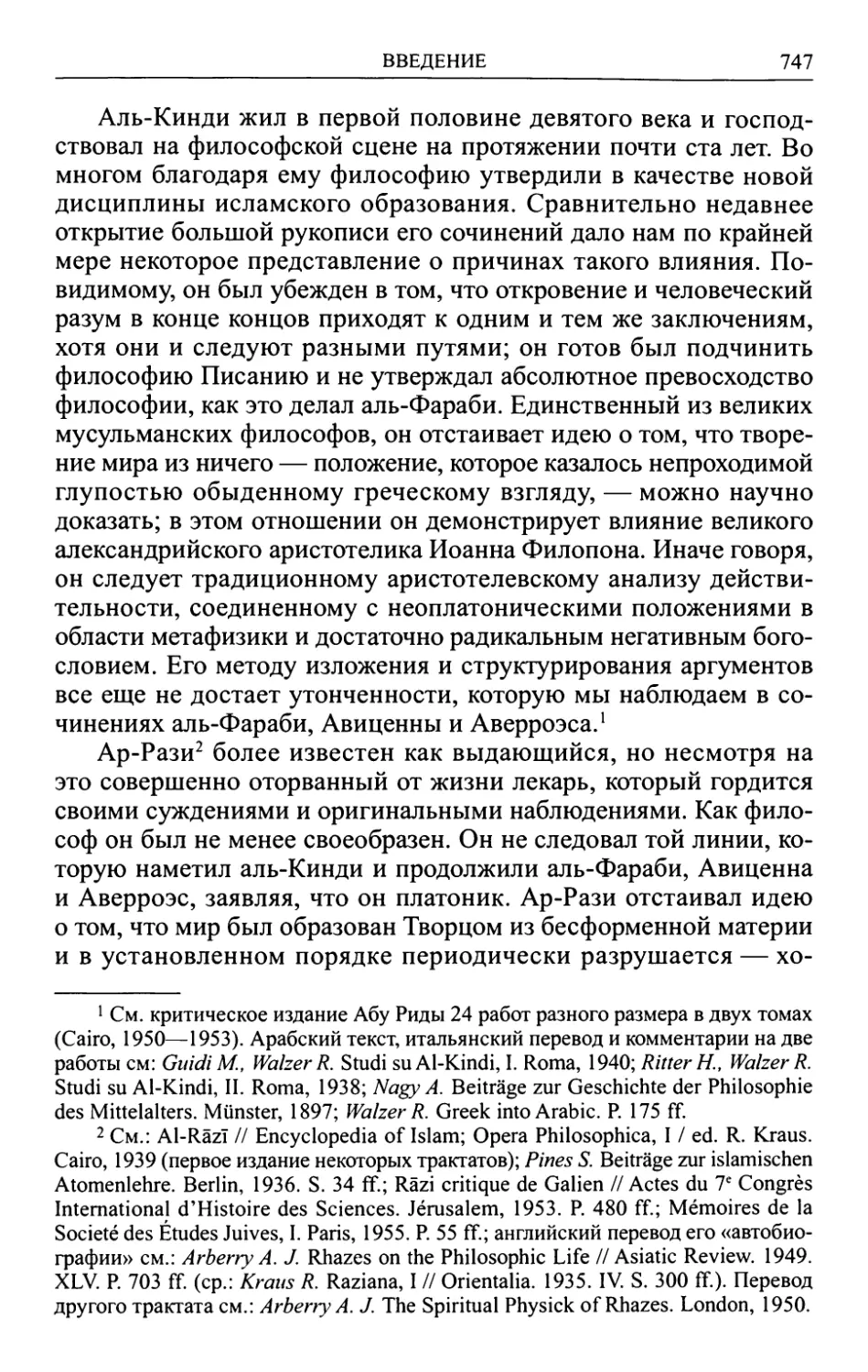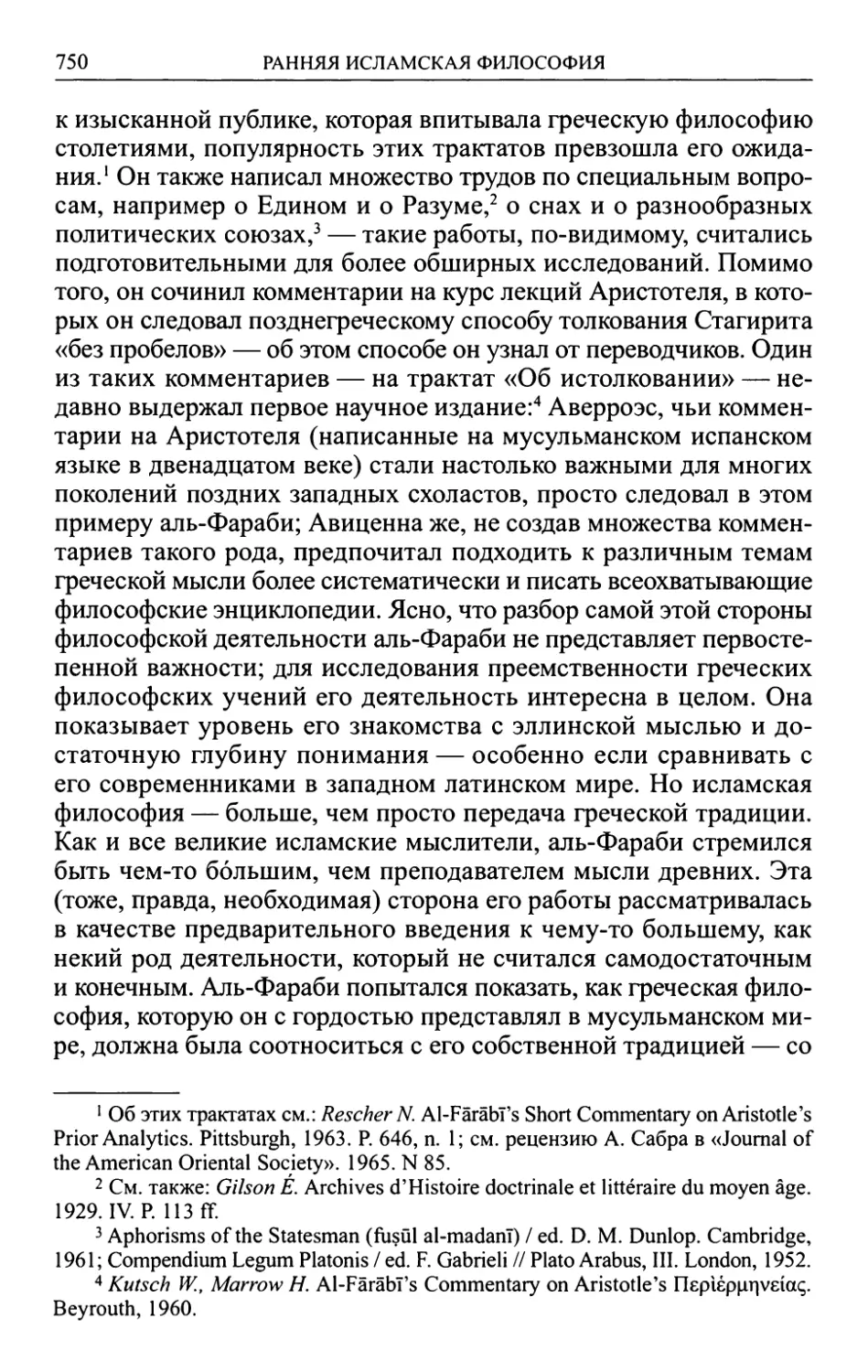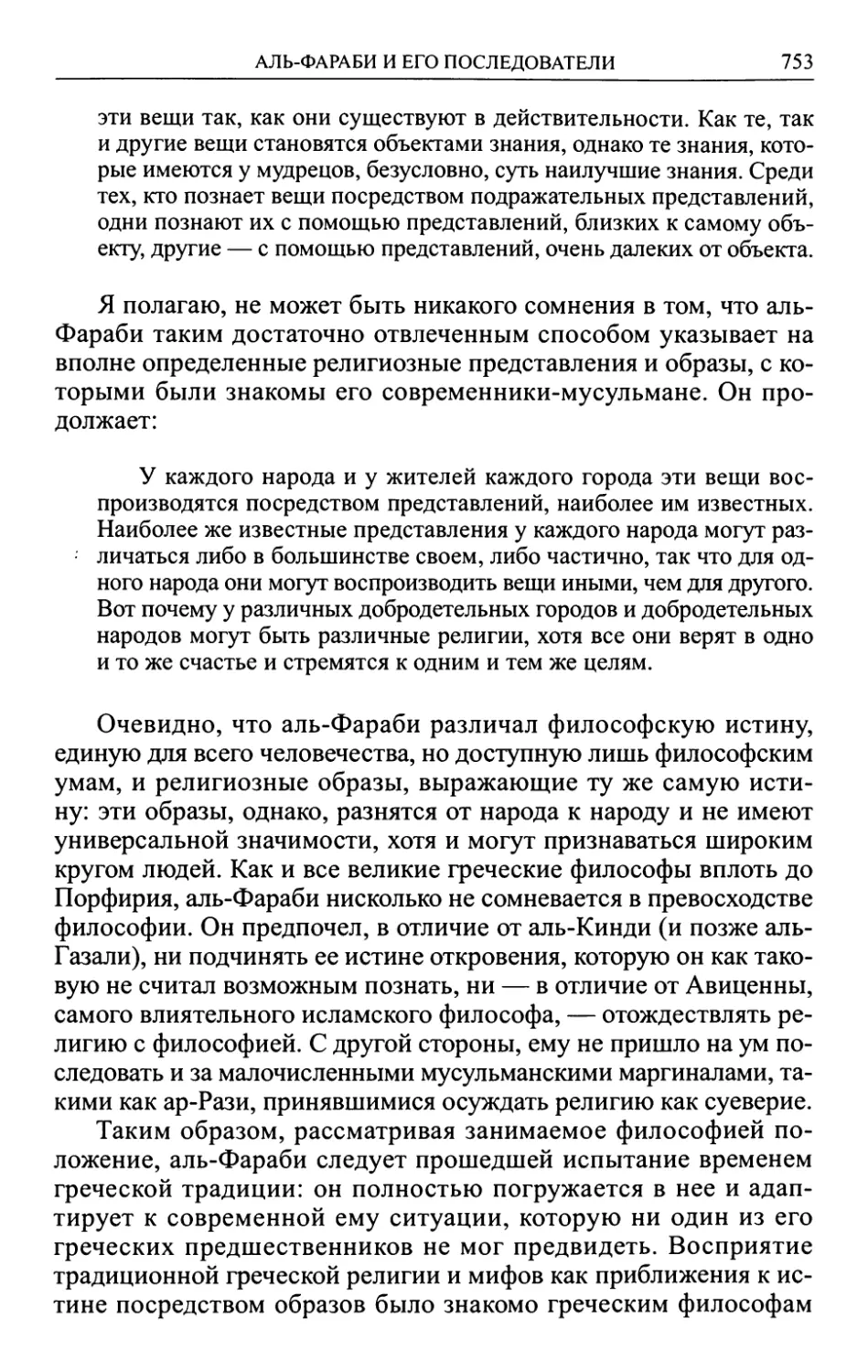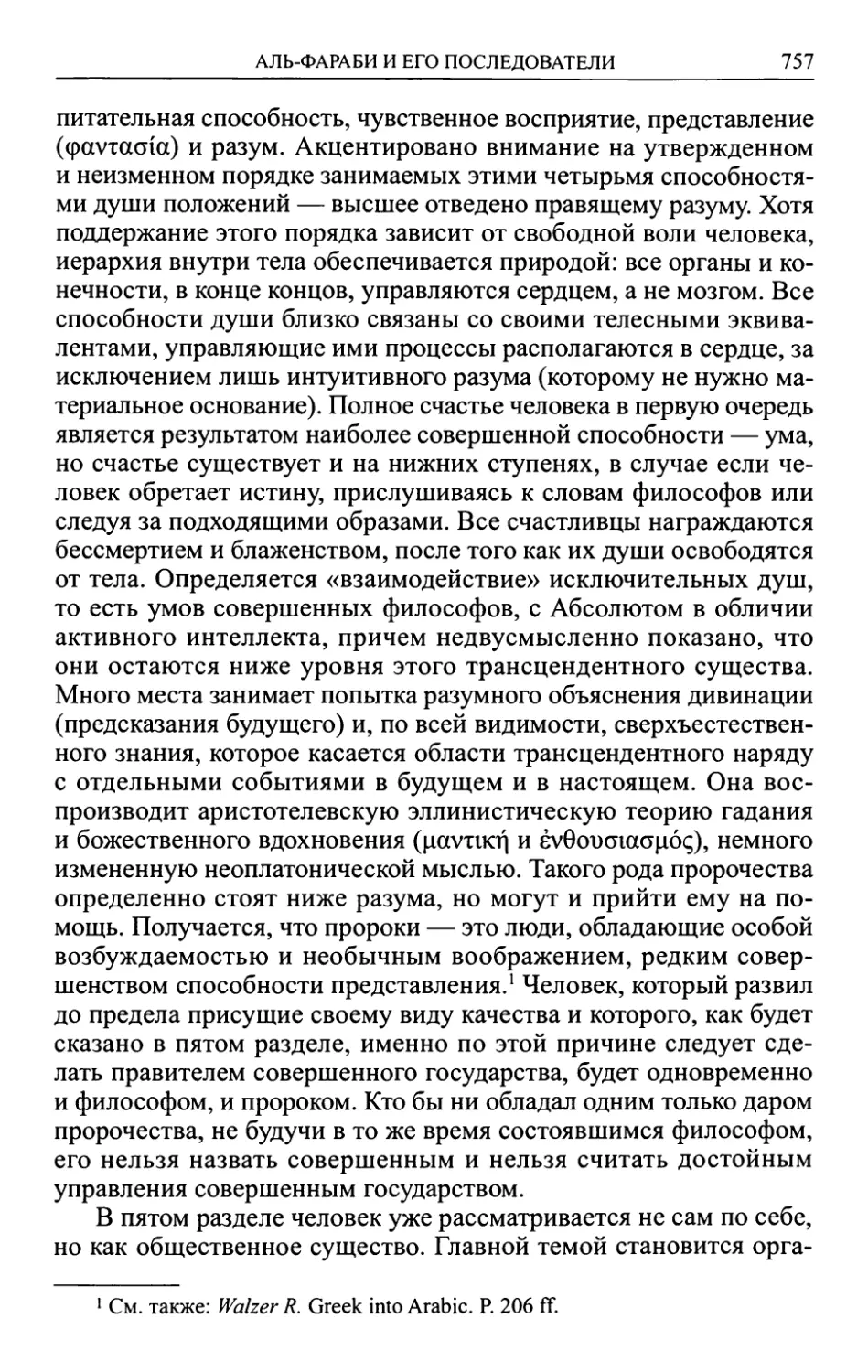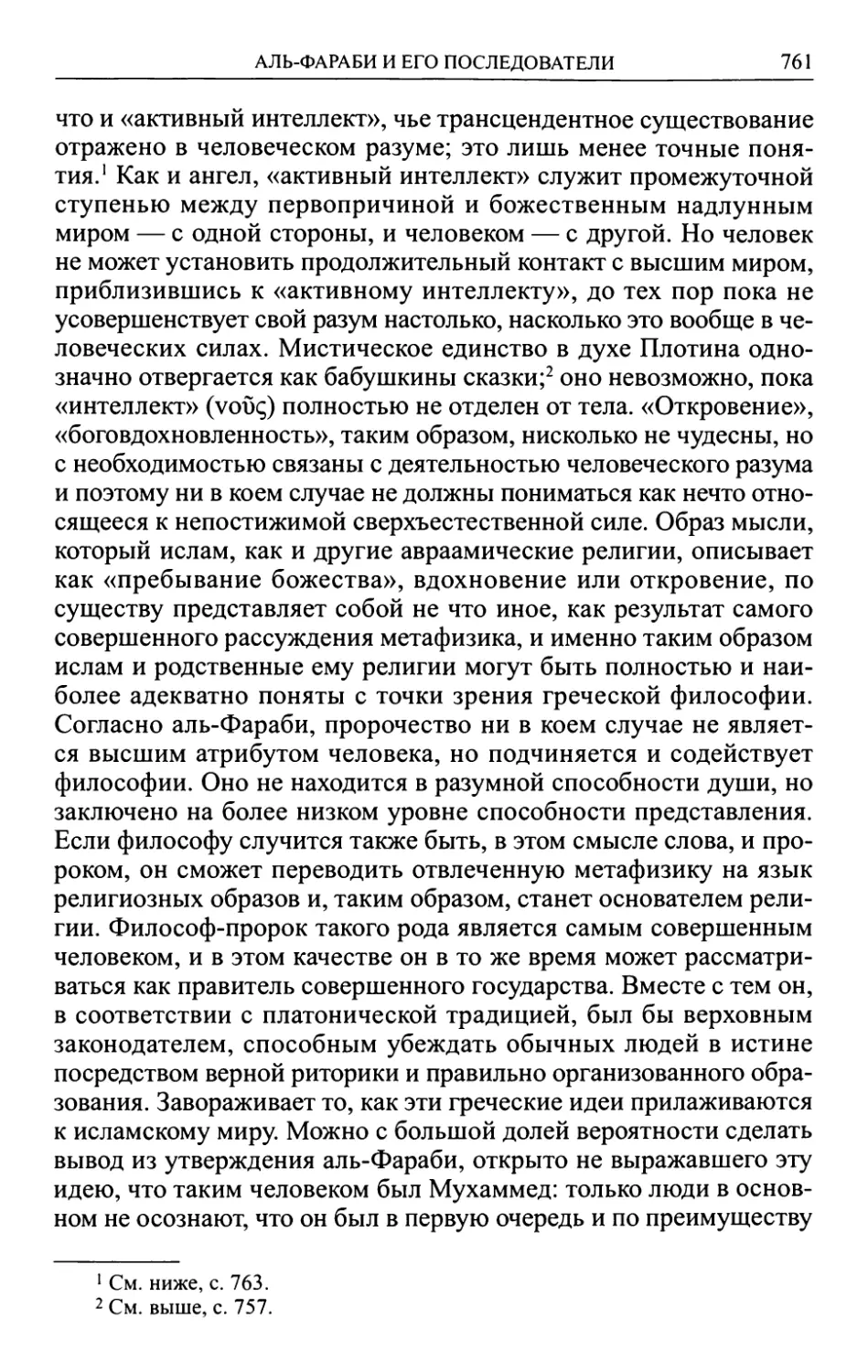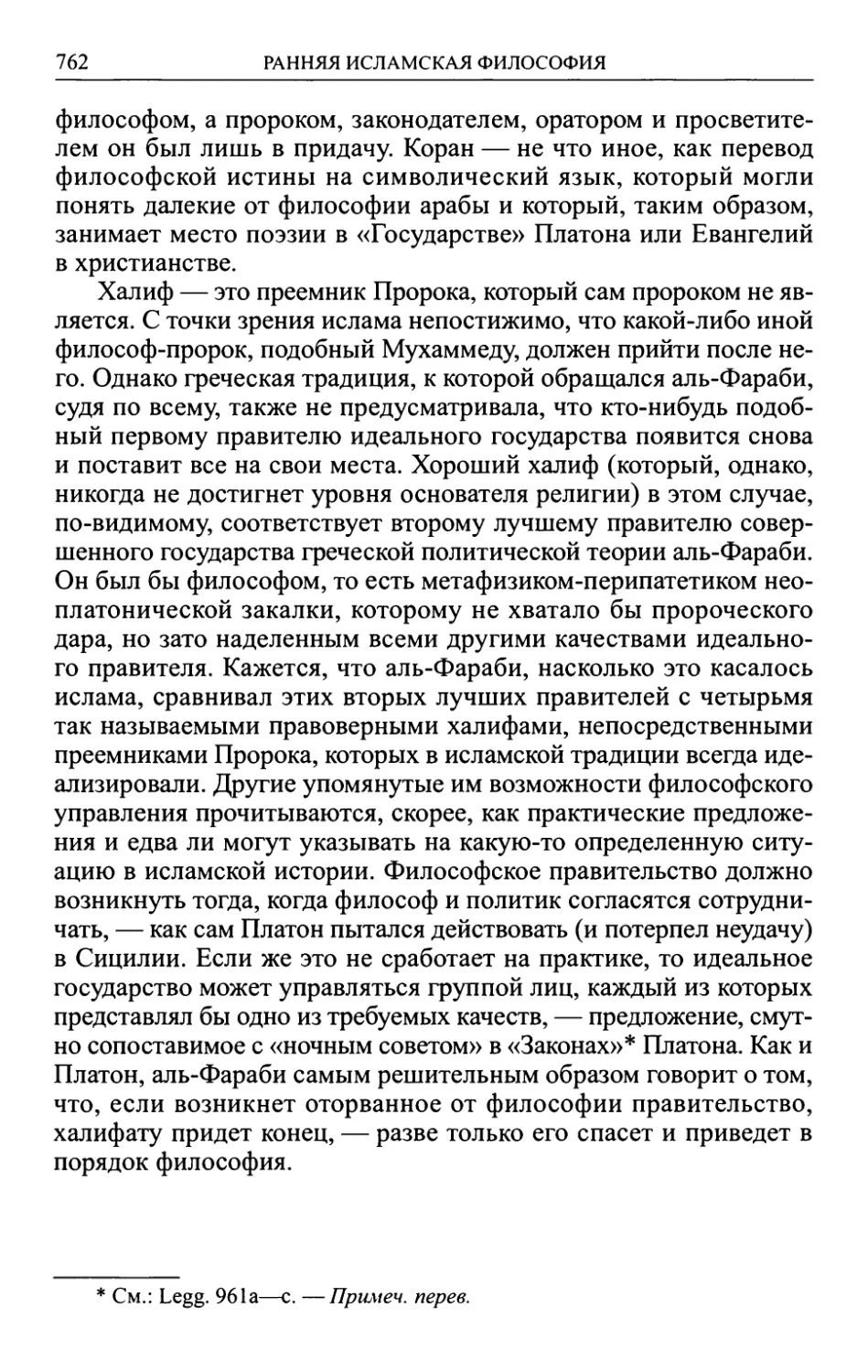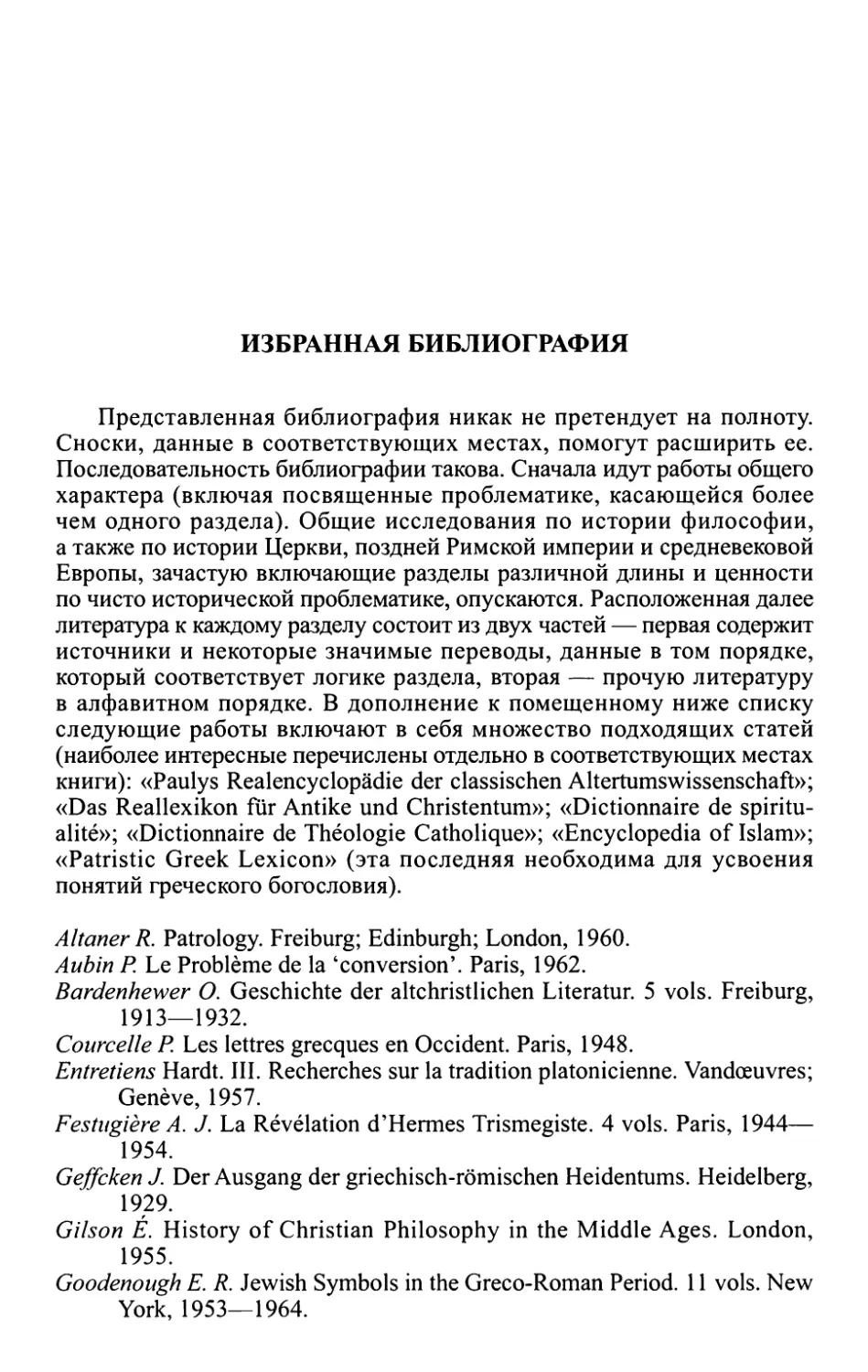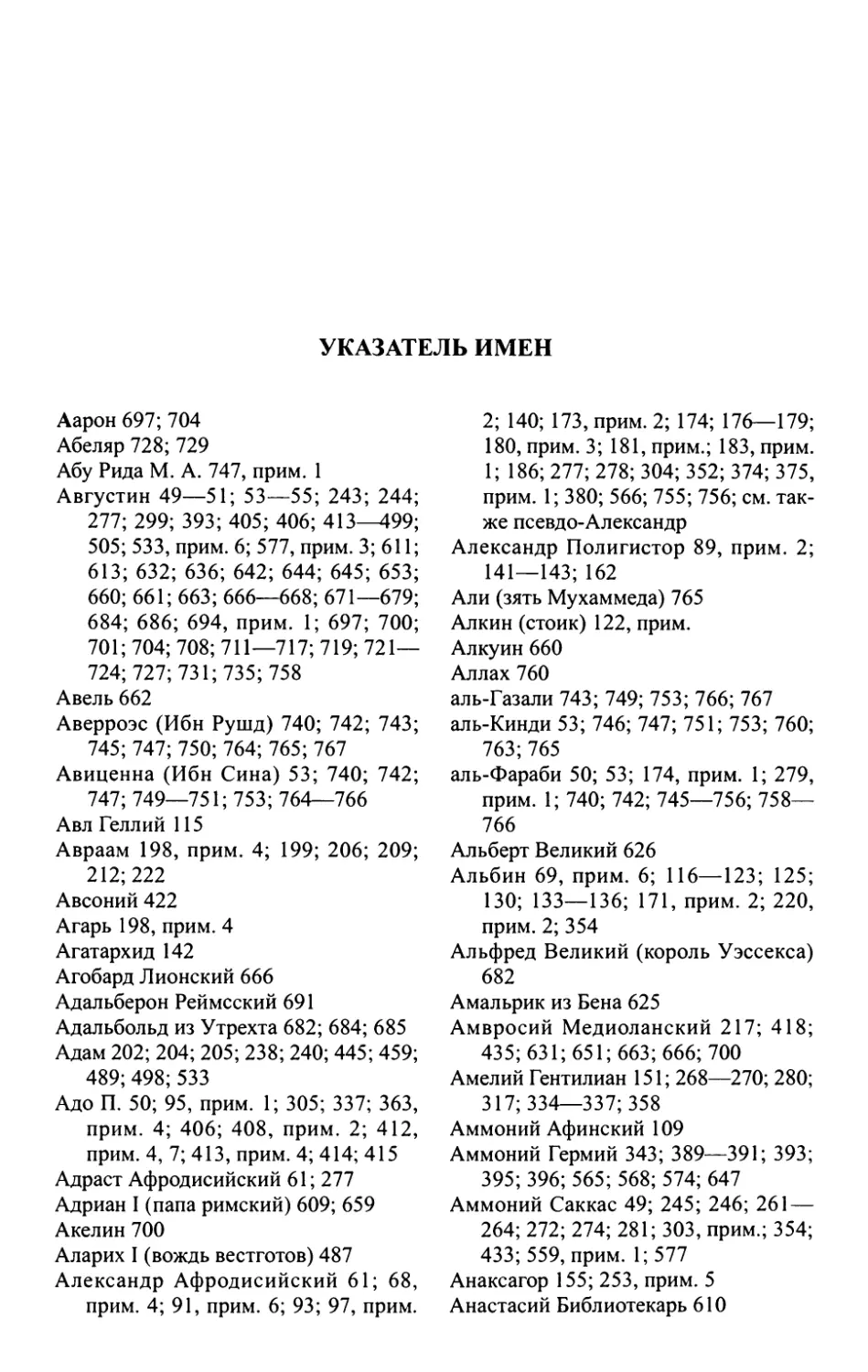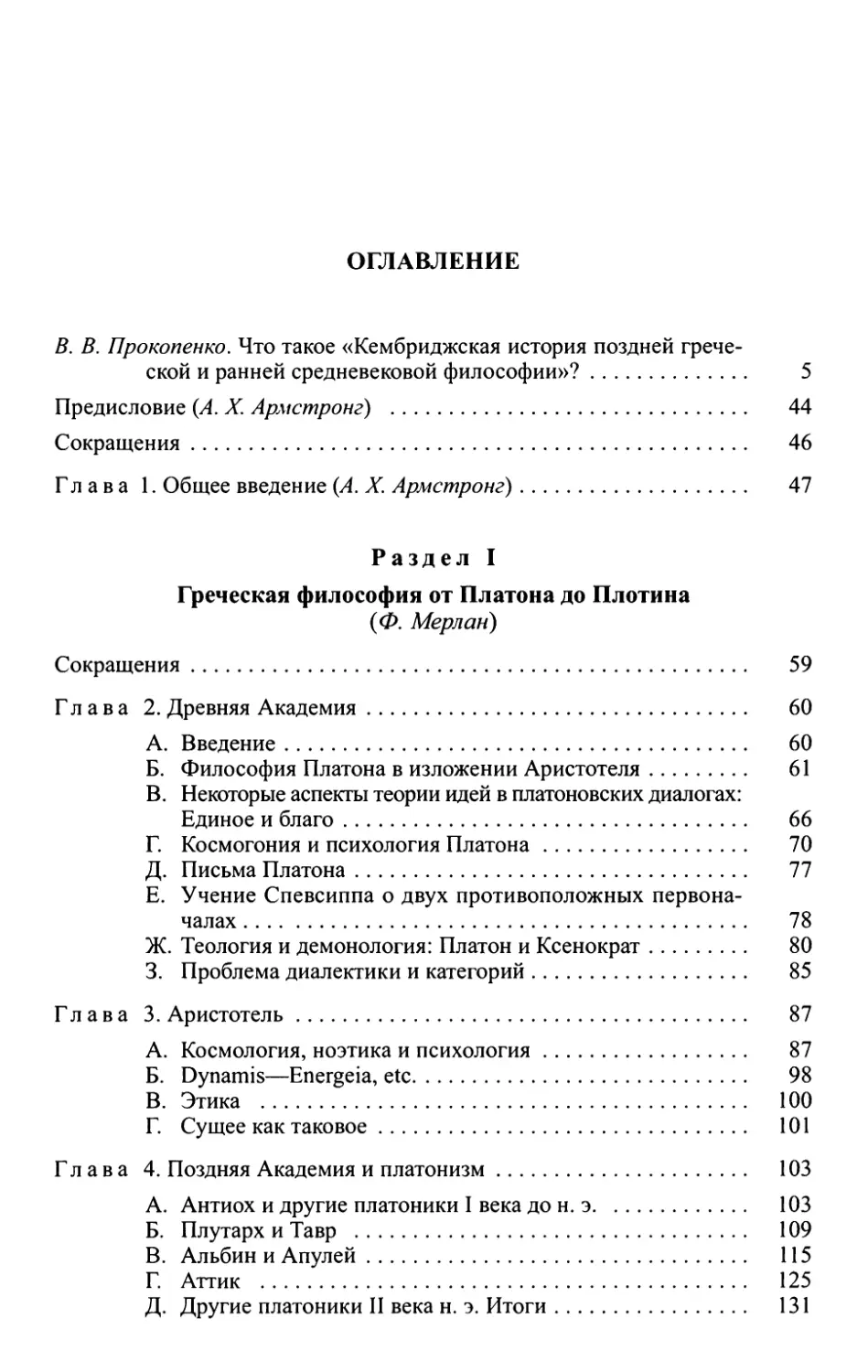Author: Армстронг А.Х.
Tags: философские системы и концепции история философии философия греческая философия средневековая философия кембриджская история философии
ISBN: 978-5-93615-277-1
Text
Том 127
THE CAMBRIDGE HISTORY OF LATER GREEK AND EARLY MEDIEVAL PHILOSOPHY
Edited by A. H. Armstrong
КЕМБРИДЖСКАЯ
ИСТОРИЯ
ПОЗДНЕЙ ГРЕЧЕСКОЙ И РАННЕЙ СРЕДНЕВЕКОВОЙ ФИЛОСОФИИ
Под редакцией А. X. Армстронга
Санкт- Петербург «Владимир Даль» 2021
УДК 14 ББК 87.3 К35
t
Серия основана в 1992 году
Редакционная коллегия серии «Слово о сущем»
В. Μ. КАМНЕВ, Ю. В. ПЕРОВ (председатель),
К. А. СЕРГЕЕВ, Я. А. СЛИНИН, Ю. Н. СОЛОНИН
Издано при финансовой поддержке Фонда реализации общественных проектов «Время» и О. А. Матвейчева
© Издательство «Владимир Даль», 2021 © Cambridge University Press, 1967,1970 © Шапошникова Ю. В., перевод с английского (предисловие, главы 1-32), 2021
© Львов А. А., перевод с английского (главы 33-40), 2021 © Прокопенко В. В., статья, 2021 © Палей П., оформление, 2021 © Редакционная коллегия серии «Слово о сущем» (разработка, оформление), 1992 (год основания), 2021
ISBN 978-5-93615-277-1
В. В. Прокопенко
ЧТО ТАКОЕ «КЕМБРИДЖСКАЯ ИСТОРИЯ ПОЗДНЕЙ ГРЕЧЕСКОЙ
И РАННЕЙ СРЕДНЕВЕКОВОЙ ФИЛОСОФИИ»?
«Кембриджская история поздней греческой и ранней средневековой философии» принадлежит к циклу исторических работ, вот уже более столетия выходящих в издательстве «Cambridge University Press». Сегодня в этом собрании насчитывается уже около трехсот названий, двенадцать из них относятся к истории философии. Кембриджские истории философии, охватывающие период протяженностью более двух с половиной тысяч лет, от времени Фалеса до 1945 года, хотя формально и не составляют единой серии, отмечены достаточно высокой степенью концептуального единства, основанного на особой «кембриджской идеологии» исторического анализа. В том, что кембриджский подход к теории и методологии исследования успешно применяется не только к различным историческим эпохам, но и к различным видам истории, отечественный читатель может убедиться, познакомившись с несколькими уже вышедшими русскими переводами.1 Но для понимания сущности проекта кембриджских историй потребуется вернуться к самому началу его осуществления, к замыслу «Кембриджской современной истории» («Cambridge Modem History»).
13 марта 1896 года правление («совет синдиков») издательства Кембриджского университета обратилось к лорду Актону, который с 1895 года был профессором по королевскому назначению (Regius Professor) Кембриджского университета по курсу новой истории,
1 На сегодня переведены и вышли в свет девять томов «Кембриджской истории древнего мира» (издательство «Ладомир») и два тома «Кембриджской экономической истории Европы Нового и Новейшего времени» («Издательство Института Гайдара»).
6
В. В. ПРОКОПЕНКО
с предложением возглавить работу над изданием всеобщей истории Нового времени. В том, что издатели обратились именно к нему, заключен глубокий смысл — лорд Актон был последовательным сторонником максимально объективного взгляда на историю, независимого от индивидуальных пристрастий и политических симпатий, глубоко чувствовавшим внутреннее единство исторического процесса, сторонником исторического прогресса и решительным апологетом свободы. Эти же черты должны были быть присущи и кембриджскому историческому проекту в целом. Конечно, Джон Эмерих Эдвард Дальберг-Актон, 1-й барон Актон, сам по себе был чрезвычайно своеобразной и интересной личностью, но пока нам придется ограничиться рассказом о его роли в создании кембриджского проекта.1 С самого начала работы над изданием на первый план вышла проблема подбора авторов и решение вопроса о координации их усилий, поэтому лорду Актону пришлось стать организатором: исторический материал, который требовалось исследовать, обобщить и изложить, был настолько обширен, что потребовал участия большого числа авторов (их количество к окончанию издания превысило двести человек), которых необходимо было объединить общей идеологией для достижения поставленной цели создания всесторонней объективной истории Нового времени. Разработанный лордом Актоном план работы над «Кембриджской современной историей» предполагал, что каждый раздел должен быть написан отдельным автором, специалистом в данной теме, а ответственность за сохранение внутреннего единства издания возлагалась на редакторов. Издание должно было быть доступным широкому кругу читателей, в соот¬
1 Представляем характеристику, данную лорду Актону историком Оуэном Чедвиком (братом Генри Чедвика, одного из авторов «Кембриджской истории поздней греческой и ранней средневековой философии»): «Знаменитый историк, не написавший ни одной книги; политический философ-либерал, большую часть своей жизни бывший членом британского парламента, но едва ли когда-либо присутствовавший на его заседаниях и не имевший никакого веса в его дебатах; прославленный католик, взбунтовавшийся против папы; автор, настойчиво твердивший в своих сочинениях о необходимости беспристрастия и непредвзятости в истории, — и вместе с тем не только видевший историю глазами необычного для той поры католического либерального демократа, но и прямо подчас отходивший, как об этом можно теперь с уверенностью сказать, от им же самим проповедовавшихся принципов беспристрастия; наконец, знаменитый моралист, не особенно интересовавшийся учением писавших о нравственности философов» (Актон Дж. Очерки становления свободы. Лондон, 1992. С. 1 (предисловие О. Чедвика)).
ЧТО ТАКОЕ «КЕМБРИДЖСКАЯ ИСТОРИЯ...»?
7
ветствии с этим требованием все ссылки и цитаты переводились на английский язык.
Этих принципов, с большей или меньшей строгостью, придерживались издатели и всех последующих «Кембриджских историй», однако ошибкой было бы свести кембриджскую идеологию к одной только методике организации коллективной работы. Лорд Актон выдвинул и положил в основание кембриджского проекта свое четкое видение истории, представление о сути и цели исторической науки, о роли историка как исследователя и как учителя. Эти идеи были оформлены лордом Актоном в виде ряда принципиальных тезисов и разосланы будущим авторам «Кембриджской современной истории» в письме от 12 марта 1898 года. В нем он говорит о стремлении создать историю, лучшую, чем все имеющиеся, но не тем путем, которым историки шли до сих пор, то есть открытием новых источников: по сути, все необходимые источники новой истории уже открыты. Введению их в научный оборот мешает отсутствие общего взгляда на историю как на всеобщую историю: «Под всеобщей историей я подразумеваю историю, отличную от собирательной истории отдельных стран. Это не иллюзия, но непрерывное развитие, не нагрузка на память, но озарение души. История разворачивается с определенной последовательностью, по отношению к которой нации являются чем-то вспомогательным. Их история будет рассказана, но не ради них самих, а лишь в связи с величинами более высокого порядка, в соответствии с тем временем, когда они внесли свой вклад в общую судьбу человечества, и размером этого вклада».1 Изложение всеобщей истории должно быть полным в том смысле, что оно должно охватывать все имеющиеся источники информации и не противоречить им.
Важнейшим принципом, которым должны руководствоваться авторы будущего издания, является беспристрастность, потому, говорит лорд Актон, «наш план предполагает, что ничто не будет указывать на страну происхождения, религию или партийную принадлежность автора»,1 2 а «все авторы должны понимать, что они находятся не на Гринвичском меридиане, а на 30° долготы земного шара; и что их описание Ватерлоо должно быть таким, чтобы оно удовлетворило равно французов и англичан, немцев и голландцев; и чтобы никто не мог сказать, не сверившись со списком авторов,
1 Dalberg-Acton J. Е. Е. Lectures on modem history. London, 1906. P. 317.
2 Ibid. P. 316.
8
В. В. ПРОКОПЕНКО
где отложил перо епископ Оксфордский и приступил к рассказу Фэрбэрн, Гаске, Либерманн или Гаррисон».1
Еще одно категорическое требование к авторам состояло в том, что результаты их работы должны быть максимально доступны для всех, кто стремится изучать историю: «Изложение должно быть таким, чтобы служить всем читателям, оно должно быть без примечаний и без цитат на иностранных языках. Для того чтобы подтвердить подлинность текста и помочь в дальнейшем исследовании, предлагается, чтобы список оригинальных и вспомогательных источников был представлен в каждом томе, для каждой главы или группы глав, посвященных одному предмету».1 2 Авторы должны помнить, что их целью является не увеличение неиспользуемого массива знаний в исторических архивах, а реальный вклад в историческое образование: «Объем нового материала, появившегося за последние 40 лет, составляет тысячи и тысячи томов. Честный студент постоянно ощущает себя покинутым, отставшим, сбитым с толку классическими работами по истории и вынужден прокладывать свой собственный путь, продираясь сквозь многочисленные труды, периодические издания, публикации официальных документов, часто теряя горизонт и способность подняться над материалом. Прибегнув к принципу разделения труда, мы сможем преодолеть эту ситуацию и познакомить любого желающего с самыми последними документами, самыми зрелыми выводами и самыми последними достижениями международных исследований».3
Третий тезис лорда Актона указывает на главную, хотя и отдаленную цель, которая определяет весь характер проекта всеобщей истории: историческое образование является фундаментом гражданского образования. Воспитание гражданина как свободного человека предполагает знание истории, потому что именно оно дает возможность понимания современности: «Недавнее прошлое содержит ключ к пониманию настоящего. Все формы мышления, которые оказывают влияние на настоящее, чередой проходят перед нами, и мы должны описать господствующие течения и истолковать те силы, которые все еще правят миром и разделяют его».4 Так, в конечном итоге историческое образование служит той цели, которой подчинена всемирная история как
1 Ibid. Р. 318.
2 Ibid. Р. 316.
3 Ibid. Р. 316—317.
4 Ibid. Р. 317.
ЧТО ТАКОЕ «КЕМБРИДЖСКАЯ ИСТОРИЯ...»?
9
таковая, — осуществлению понятия свободы. В своей лекции, прочитанной в 1877 году в Бриджнортском институте, лорд Актон утверждает: «Свобода — это не средство достижения какой-то высшей политической цели. Она сама есть высшая политическая цель. И она необходима не ради того, чтобы было хорошим государственное управление, но как гарантия безопасности в поиске высших целей гражданского общества, а также частной жизни. Увеличение объема свободы в государстве может иногда поощрять посредственность и оживлять предрассудки; оно может даже замедлить введение полезных новшеств в области права, ослабить обороноспособность и сузить границы империи. Можно вполне убедительно доказать, что, установись в Англии или Ирландии разумный деспотизм, там многое бы ухудшилось, но кое-что все- таки бы улучшилось и что римское правительство при Августе и Антонине было более просвещенным, чем в годы правления сената при Марии или Помпее. Благородный дух предпочитает, чтобы его страна была бедной, слабой и не имеющей политического веса, но свободной, а не мощной, процветающей, но порабощенной. Лучше быть гражданином скромной республики в Альпах, лишенной перспективы широкого влияния, чем подданным помпезного самодержавия, окутавшего половину Азии и Европы».1
Лорд Актон, умерший в 1902 году, не увидел воплощения своего проекта и того продолжения, которое он получил с течением времени. Но принципы, провозглашенные основателем кембриджского исторического проекта, соблюдались и в дальнейшем, в том числе и в «Кембриджской истории поздней греческой и ранней средневековой философии», первой в ряду Кембриджских историй философии.
Традиционно высокой и ответственной в «Кембриджских историях» является роль редактора, который, в соответствии с требованиями кембриджского подхода, должен совмещать в себе множество качеств, обычно редко встречающихся в одном человеке: он должен быть признанным специалистом в соответствующей области истории, иметь склонность к коллективной научной работе, в том числе в качестве руководителя и координатора исследований,
1 Acton J. Е. Е. The history of freedom in Antiquity // The history of freedom and other essays. London, 1907. P. 22—23 (цитируется перевод M. А. Абрамова, И. В. Борисовой, Л. А. Галкиной). Упоминание о «помпезном самодержавии» наверняка связано с воспоминаниями о присутствии 22-летнего лорда Актона на коронации российского императора Александра II.
10
В. В. ПРОКОПЕНКО
опыт преподавательской работы и изложения сложных научных проблем и теорий в доступной форме. Издателям «Кембриджской истории поздней греческой и ранней средневековой философии» удалось найти человека, который более, чем кто-либо другой, соответствовал этим требованиям, — Артура Армстронга, профессора Ливерпульского университета. К середине 1960-х годов это имя было уже широко известно в англоязычном научном мире, а авторитет Армстронга был настолько высок, что по степени влияния в британском антиковедении его сравнивали с Э. Доддсом. Влияние Армстронга сказывается до сих пор, особенно в исследованиях философии Плотина и всей неоплатонической традиции. К сожалению, отечественный читатель не так много знает об Армстронге, хотя, конечно, с его работами давно знакомы специалисты в области истории античной философии: книги и статьи Армстронга упоминались и анализировались в нашей научной литературе. А. Ф. Лосев, который в одном только шестом томе «Истории античной эстетики», посвященном Плотину, почти сто раз ссылается на Армстронга, иногда соглашаясь, а чаще споря с ним, называет его «одним из самых серьезных и глубоких историков философии».1
Артур Хилари Армстронг родился 13 августа 1909 года в городе Хоув в графстве Сассекс и был младшим из четверых детей в семье священника англиканской церкви.1 2 Священником также был и его дядя по линии матери, Артур Ширли Криппс, ставший впоследствии известным проповедником в Африке. В семье Армстронгов были приняты строгие консервативные обычаи, а дети воспитывались в религиозном духе, так что Артур рано познакомился с христианским вероучением, история которого будет занимать его в будущем уже как ученого. Впрочем, люди, знавшие Армстронга, отмечали, что он уже с юного возраста проявлял склонность к независимости, в том числе и в вопросах веры. Так, он самостоятельно сделал свой конфессиональный выбор в пользу католицизма, и вряд ли его отец, человек ортодоксальный и властный, легко принял решение своего сына.3 Артур Армстронг
1 Лосев А. Ф. История античной эстетики. Итоги тысячелетнего развития: В 2 кн. Кн. 1. Харьков, 2000. С. 105.
2 При освещении биографии Армстронга мы опираемся на статью Long А. А. Arthur Hilary Armstrong, 1909—1997 // Proceedings of the British Academy. Vol. 120. Biographical Memoirs of Fellows, II. New York, 2003. P. 3—21.
3 Позднее, в зрелом возрасте, Армстронг возвратился в лоно англиканской церкви — его антидогматическому темпераменту были чужды догматизм и иерархичность католицизма. Э. Лонг, который в своем очерке пристальное внима-
ЧТО ТАКОЕ «КЕМБРИДЖСКАЯ ИСТОРИЯ...»?
11
поступил в Колледж Иисуса в Кембриджском университете, который с отличием закончил в 1932 году, после чего провел один год в Венском университете. После возвращения в Кембридж Армстронг был принят на должность библиотекаря нового отделения библиотеки «Camdridge Classical Faculty» в Милл Лейн. Эта должность дала ему возможность заняться исследовательской деятельностью, и Армстронг приступает к работе над своей первой книгой, посвященной философии Плотина, которая выходит в 1940 году.1 Профессиональные интересы Армстронга разделяют и некоторые из его друзей: так, одним из ближайших друзей Армстронга в это время становится преподаватель Кембриджского Колледжа Христа Артур Лесли Пек, также специализировавшийся в области истории античной философии и впоследствии получивший известность как переводчик трудов Аристотеля.
В 1936 году Армстронг покидает Кембридж и переезжает в Уэльс, где становится преподавателем (assistant lecturer) Университетского Колледжа Суонси. Начало преподавательской деятельности Армстронга сопровождается ростом его известности как исследователя неоплатонизма: он публикует статьи о Плотине в авторитетных научных журналах «The Classical Quorterly» и «Mind».* 1 2 Профессором Армстронг становится в Королевском университете Мальты, куда его приглашают в 1939 году для чтения курсов латинской литературы и древнегреческого языка. Семье Армстронгов (в это время у Артура Армстронга и его жены Деборы было уже трое детей) пришлось пережить драматические события, когда в 1942 году итальянская авиация начала бомбежки острова. Жена и дети Армстронга были спешно эвакуированы на военном самолете, сам же он вернулся в Англию позже, в 1943 году, сразу же приступив к преподаванию в иезуитском Колледже Бьюмонт.
В этом же году им была прочитана серия лекций об античной философии в лондонской штаб-квартире ассоциации выпускников католических университетов («Ассоциация Ньюмена»). На основании этих лекций Армстронг пишет книгу, которая стала, пожалуй,
ние уделяет религиозным взглядам Армстронга, утверждает, что мировоззрение Армстронга, при всей его религиозности, никогда не было ортодоксальным и лучше всего было бы назвать его «свободомыслящим христианским платоником» (Long A. A. Op. cit. Р. 3).
1 Armstrong А. Н. The Architecture of the Intelligible Universe in the Philosophy of Plotinus. An Analytical and Historical Study. Cambridge, 1940.
2 Armstrong A. H. Plotinus and India I I The Classical Quarterly. 1936. Vol. 30. N 1. P. 22—28; Emanation in Plotinus // Mind. 1937. Vol. 46. N 181. P. 61—66.
12
В. В. ПРОКОПЕНКО
наиболее популярной его работой, — «Введение в античную философию» (опубликована в 1947 году).1 Благодаря ясности и доступности изложения книга Армстронга была с энтузиазмом принята широким кругом читателей, она неоднократно переиздавалась в Великобритании и США, была переведена на множество языков: арабский, итальянский, испанский, японский. В 2003 году труд Армстронга был издан и на русском языке под названием «Истоки христианского богословия. Введение в античную философию».1 2
Именно в этой книге Армстронг впервые представил тот замысел, который впоследствии будет широко развернут в масштабной «Кембриджской истории поздней греческой и ранней средневековой философии». В предисловии к «Введению...» автор пишет, что рассматривает свою работу «прежде всего и более всего как историческое введение к Philosophia Perennis. По этой причине я предпочел остановиться на блж. Августине, потому что его мысль является основной точкой связи между эллинской философией и философией латинских Средних веков и именно он сделал больше, чем кто-либо, для проведения грандиозной работы по преобразованию платоновско-аристотелевской метафизики в систему мысли, соответствующую христианскому Откровению». Здесь Армстронг особенно выделяет те линии развития в греческой философской традиции, «что привели к знаменитым синтезам блж. Августина и св. Фомы», заявляя тем самым о сознательном выборе методологии своеобразного перспективизма, когда в греческом философском наследии выбираются те персоналии и школы, учение которых оказало максимальное влияние на будущую философию христианского Средневековья. Вместе с тем Армстронг утверждает, что подобное отношение к грекам не нарушает требований исторической беспристрастности: «Даже читателям, которые не очень интересуются схоластической философией, эта книга может принести определенную пользу. В конце концов, это история, а не пропагандистский трактат по доказательству превосходства философии, в которую я верю. Я сделал все возможное для того, чтобы показать, что в действительности говорили греческие философы по вопросам, которые они обсуждали, насколько это может быть точно известно или понятно, а не то, как я думаю, они должны были бы говорить в соответствии с некой предустановлен¬
1 Armstrong А. Н. An introduction to ancient philosophy. London, 1947.
2 Армстронг A. X. Истоки христианского богословия. Введение в античную философию / Пер. с англ. В. А. Самойлова. СПб., 2003. В 2006 году вышло второе, исправленное издание.
ЧТО ТАКОЕ «КЕМБРИДЖСКАЯ ИСТОРИЯ...»?
13
ной идеей. К тому же вопрос об отношении греческой философии к христианской весьма важен для истории философии, с каких бы позиций она ни изучалась».1
Труд Армстронга был высоко оценен научным сообществом, в многочисленных рецензиях неизменно отмечались широкая эрудиция автора, его смелость и четкость позиции в исследовании столь богатого, длительного и чрезвычайно сложного периода в истории европейской мысли. При этом большинство рецензентов отмечает, что Армстронгу особенно удались главы, посвященные Плотину и Августину, тогда как изложения учений досократиков и Сократа выглядят на этом фоне слабее. Д. Таррант видит объяснение этому факту в том, что именно фигуры неоплатоников и Августина особенно важны для Армстронга, исследование которого имеет перед собой ясную цель: «Эта цель определена — не только представить античную философию как основание средневековой философии и систем Нового времени, но, в частности, раскрыть отношение греческого мышления к схоластической философии католической церкви».1 2 Дж. Моррисон замечает: «Мистер Армстронг пишет как римо-католик для римо-католи- ков», но его работа несет на себе отпечаток и других влияний (например, Ф. Корнфорда), и в результате создается интересная комбинация взглядов, а созданная Армстронгом книга не является «эзотерической».3
После своего возвращения к деятельности университетского преподавателя в 1946 году Армстронг некоторое время работает в Университетском Колледже в Кардиффе, а в 1950 году его приглашают занять академическую должность Гладстонского профессора в Ливерпульском университете. Ливерпульский университет оставался основным местом работы Армстронга на протяжении более двадцати лет. Здесь, несмотря на некоторую разобщенность трех университетских кафедр, занимавшихся исследованиями античности, сложился круг специалистов, скрепленный тесными дружескими отношениями. Армстронг сближается с профессором философии Э. Ллойдом и медиевистом Р. Маркусом. Впоследствии они, вместе с Г. Либешютцем, также медиевистом из Ливерпуля, составили основу авторского коллектива «Кембриджской истории
1 Там же. С. 6.
2 A New Survey of Ancient Philosophy. An Introduction to Ancient Philosophy by A. H. Armstrong. Review by D. Tarrant // The Classical Review. Dec., 1948. Vol. 62. N3/4. P. 128—129.
3 An Introduction to Ancient Philosophy by A. H. Armstrong. Review by J. S. Morrison // The Journal of Hellenic Studies. 1949. Vol. 69. P. 82—83.
14
В. В. ПРОКОПЕНКО
поздней греческой и ранней средневековой философии», которая, замечает Э. Лонг, вполне может считаться «ливерпульским изданием».1
Общая редакция книги осуществлялась Армстронгом, который очень серьезно и обдуманно подошел не только к подбору авторского коллектива, но и к разработке общей стратегии исследования. Ему пришлось сделать непростой выбор между личными исследовательскими пристрастиями и требованиями традиционного кембриджского подхода. Армстронг к этому времени уже не просто признанный специалист в области истории античной философии, что он доказал своим «Введением в античную философию», но и виднейший исследователь и переводчик трудов Плотина: в 1953 году он публикует монографию, в которой представлены избранные переводы из «Эннеад»,1 2 работает над полным переводом трудов Плотина, который должен был заменить устаревший к тому времени перевод С. Маккенны.3 И вполне естественно, что для Армстронга именно Плотин представлялся даже не просто самой важной, а исключительной фигурой в позднеантичной философии. Не следует сбрасывать со счетов и то обстоятельство, что как раз в это время британская историко- философская наука открывает для себя нового Плотина: на смену представлению о Плотине как о всего лишь туманно мыслящем мистике приходит новый образ глубокого метафизика, систематического мыслителя и тончайшего диалектика, вклад которого в философию вполне сопоставим с вкладом Платона и Аристотеля.4 И одним из главных инициаторов этого поворота был именно Армстронг, так что его энтузиазм и ангажированность неоплатониками в роли главного редактора «Кембриджской истории поздней греческой и ранней средневековой философии» вполне могли превратить исследование в книгу исключительно о Плотине и о его роли в передаче христианскому католическому Средневековью античного философского наследия. К тому же в таком вытеснении
1 Long A. A. Op. cit. Р. 8.
2 Armstrong А. Н. Plotinus. London, 1953.
3 Первый том этого ставшего впоследствии классическим перевода (Plotinus. 7 volumes. Greek text with English translation by A. H. Armstrong. Cambridge, 1968—1988) вышел в свет за год до появления «Кембриджской истории поздней греческой и ранней средневековой философии», так что Армстронг работал над обоими изданиями одновременно. Правда, дальнейшая работа над переводом Плотина заняла у Армстронга долгие годы и была завершена только к 1988 году.
4 Позиция, хорошо знакомая отечественному читателю по работам А. Ф. Лосева, называвшего неоплатонизм «высшим синтезом античной философии».
ЧТО ТАКОЕ «КЕМБРИДЖСКАЯ ИСТОРИЯ...»?
15
Плотином и неоплатониками в целом представителей всех прочих философских направлений на обочину исследования не было бы какого-то уж совсем немыслимого преувеличения. В том, что этого не случилось, важную роль сыграл сам строй личности Артура Армстронга, которого коллеги характеризуют как великого мастера общения («great communicator»), привносившего в непростые отношения внутри научного сообщества качества здравомыслия, интеллектуальной щедрости и терпимости.1 Армстронг в воспоминаниях своих коллег предстает человеком чрезвычайно гармоничным, который умел сочетать напряженную профессиональную деятельность со счастливой семейной жизнью (Артур и Дебора Армстронг стали родителями пятерых детей), увлечением ботаникой, садоводством и старинными английскими танцами. Похоже, что известный художник-сюрреалист Джон Армстронг, создавая своего шокирующего «Философа», вовсе не имел в виду своего младшего брата Артура.
Во многом именно благодаря этим качествам Армстронга издателям удалось успешно разрешить традиционную для всех «Кембриджских историй» проблему согласования общего замысла работы и индивидуальных особенностей вйдения своей задачи отдельными авторами. Основой успеха проекта «Кембриджской истории поздней греческой и ранней средневековой философии» стало наличие у Армстронга характерного для него ясного и четкого вйдения цели будущей работы. Эта цель в общем совпадает с той, что была ранее заявлена в его «Введении в античную философию»: показать трансформации греческой философии, которые позволили ассимилировать ее христианской, мусульманской и иудейской мыслью в эпоху поздней античности и раннего Средневековья и обеспечили участие античных идей в формировании философии, какой ее знает современная Европа.
Однако в замысле нового проекта был ряд существенных отличий от книги 1947 года, которые придавали исследованию совершенно иной характер. В первую очередь это касается изменения хронологических границ: если «Введение в античную философию» завершалось изложением учения Августина, то новая работа получила значительное расширение в пределы собственно средневековой философии и теологии. Отдельные разделы были предназначены для освещения греческой традиции
1 O'Connell R. J. Eros and Philia in Plato's Moral Cosmos // Neoplatonism and Early Christian Thought: Essays in Honour of A. H. Armstrong / Ed. H. J. Blumenthal, R. A. Markus. London, 1981. P. 3.
16
В. В. ПРОКОПЕНКО
христианизированного платонизма, от отцов-каппадокийцев до Иоанна Скота Эриугены включительно, с изложением учений псевдо-Дионисия Ареопагита и византийских неоплатоников, а также западной религиозно-философской традиции от Боэция до Ансельма Кентерберийского и ранней исламской философии (аль-Кинди, ар-Рази и аль-Фараби). Это привело и к расширению круга авторов: над масштабным первым разделом, охватывавшим классическую традицию греческой философии, работал Филип Мерлан из калифорнийского Клермонта, ливерпульский профессор Энтони Чарльз Ллойд — над разделом о поздних неоплатониках; помимо Ганса Либешютца, принявшегося за изложение раннесредневековой западной философии, был приглашен Инглис Патрик Шелдон-Уильямс, которому была поручена работа над разделом о греческих платониках-христианах, и Ричард Рудольф Вальцер из Оксфорда, специалист по истории греческой, еврейской и исламской философии. Генри Чедвик, также из Оксфорда, написал раздел, посвященный Филону, Клименту Александрийскому и Оригену. Сам Армстронг взялся за написание раздела о Плотине. Таким образом, в силу сложности и размаха проекта, первоначальный замысел, который предполагал возможным достижение поставленной цели усилиями одного автора, был оставлен, и Армстронг, как он сам пишет в предисловии, решил «вернуться к старому кембриджскому способу повествования, к истории из нескольких уст».1
Вместе с повышением верхней хронологической границы исследования была передвинута и нижняя хронологическая граница: Армстронг решил, в полном соответствии с названием работы, исключить из рассмотрения всю раннюю греческую философию, однако частично охватить классический период, начав изложение с Древней Академии. Это решение имело ряд следствий, одним из которых было то, что материал «Кембриджской истории» частично пересекался с материалом «Истории греческой философии» У. К. Ч. Гатри1 2 — книги, с которой коллективный кембриджский проект связывали особые отношения. Армстронг признавал, что «Кембриджская история поздней греческой и ранней средневековой философии» первоначально замышлялась как продолжение работы Гатри. Из этих слов легко сделать заключение о зависимости нового исследования от книги Гатри, и во многих рецензиях на
1 См. ниже, с. 44.
2 Guthrie W. К. С. A History of Greek Philosophy. Vol. I—VI. Cambridge, 1962—1981.
ЧТО ТАКОЕ «КЕМБРИДЖСКАЯ ИСТОРИЯ...»?
17
«Кембриджскую историю» встречается такое мнение. При этом, однако, упускается из виду то обстоятельство, что к 1967 году Гатри выпустил только I и II тома своей «Истории греческой философии», а V и VI тома, где указанное пересечение и имело место, появились значительно позднее, в 1975 и 1978 годах. Кроме того, сам Армстронг указывает, что «начало книги во многом хронологически, но отнюдь не содержательно пересекается с работой проф. Гатри».1
Если взглянуть на то, каким образом рассматривается философия Платона, Древней Академии и Аристотеля у Гатри, то мы увидим, что в целом он следует тому образцу, который сложился в немецком антиковедении конца XIX века, где учения философов излагаются в максимальном, насколько это возможно, соответствии с их собственными взглядами. Структурно это выражается в последовательном разборе текстов философов с целью наиболее полной и целостной реконструкции их учений. В «Кембриджской истории поздней греческой и ранней средневековой философии» мы наблюдаем иной подход — при рассмотрении греческой философской классики преимущественное внимание обращается на те идеи, которые получили свое развитие позже, в эпоху эллинизма и поздней античности, повлияв на учение Плотина и других неоплатоников. В свете так поставленной исследовательской задачи логичным выглядит приглашение для написания раздела о классической греческой традиции Филипа Мерлана из колледжа Скриппс в Клермонте. Профессор Мерлан оказался единственным «небританским» автором в составе коллектива,1 2 но для его приглашения были весомые причины: начиная со своих первых публикаций в европейских философских журналах и вплоть до получившей широкую известность работы «От платонизма к неоплатонизму»,3 Ф. Мерлан демонстрировал склонность к исследованию именно в том ключе, который соответствовал замыслу Армстронга. Еще в 1953 году Ф. Мерлан сформулировал принцип, согласно которому мы сможем более глубоко понять историческое движение философии, если будем больше внимания обращать не на то, насколько адекватны были интерпретации философами
1 См. ниже, с. 44—45.
2 То есть работавшим в это время не в британском университете. Впрочем, вряд ли можно без оговорок считать Ф. Мерлана и американцем — родился он в австрийской Галиции (г. Коломыя, сейчас Украина), учился в Венском университете, где слушал лекции Генриха Гомперца, там же в 1924 году получил степень доктора философии, в США эмигрировал в 1940 году.
3 Merlan Р. From Platonism to Neoplatonism. The Hague, 1953; 1975.
18
В. В. ПРОКОПЕНКО
учений их предшественников, а на то, насколько глубоко эти интерпретации повлияли на последующую философию. Говоря о формировании неоплатонического учения, Мерлан напоминает о том, что еще в начале XIX века Плотина считали не более чем интерпретатором учения Платона, затем эта точка зрения была признана ошибочной и на первый план выступили различия между Плотином и Платоном. Для преодоления образовавшегося разрыва в платонической традиции необходимо, считает он, обратить внимание на те учения и на тех философов, которые выполняли функции посредников в передаче идей, даже если они и передавали их в искаженном виде: средние платоники, стоик Посидоний и другие, менее оригинальные и значимые фигуры, вроде Модерата или Агатархида. Важнейшую роль в этом процессе поддержания платонической традиции, конечно, сыграл Аристотель, относительно которого Ф. Мерлан заявляет, что он «будет уделять очень мало внимания проблеме объективности или правильности в представлении Аристотелем системы Платона или источникам, на которые он опирается; в любом случае это представление будет приниматься как должное».1
Подобная методологическая установка оказалась чрезвычайно близкой Армстронгу, также склонному, как мы заметили ранее, к историко-философскому перспективизму. Главный редактор не ограничивал самостоятельность авторов даже в тех случаях, когда их взгляды отличались от взглядов самого Армстронга: «Мы и не думали требовать от авторов какого-либо единства воззрений или строгого единообразия в изложении материала».1 2 Ф. Мерлан получил широкие возможности для представления своих концепций: текст его раздела составляет почти пятую часть всего объема книги. Главные идеи, представленные в нем, разделялись Армстронгом, и именно они в конечном счете определили основные направления и приоритеты всего исследования.
Прежде всего, речь идет о том, что, несмотря на постоянно подчеркиваемую Армстронгом сложность и многофакторность трансформаций философии в эпоху поздней античности, все-таки именно традиция платонизма рассматривается авторами книги как магистральное направление в историческом процессе передачи идей от греческой философской классики к многообразным школам и направлениям христианского, исламского и иудейского Средневековья. Поэтому в книге такое значимое место уделено
1 Ibid. (1975). Р.З.
2 См. ниже, с. 48.
ЧТО ТАКОЕ «КЕМБРИДЖСКАЯ ИСТОРИЯ...»?
19
рассмотрению формирования неоплатонизма и христианского платонизма, участия в нем представителей множества философских и религиозных школ, таких как неопифагорейцы, гностики, западные и восточные теологи и мистики. Поскольку многие из них опирались на Аристотеля и его интерпретации Платона, то анализ и оценка вклада Аристотеля в формирование нового образа платонизма становится для авторов важнейшей задачей, как это прямо признает Армстронг: «В неоплатонизме присутствует сильный аристотелевский элемент, хотя Плотин часто сурово критикует Аристотеля. В разделах, посвященных христианской и исламской мысли, мы будем снова и снова на деле обнаруживать прямое или косвенное влияние Аристотеля. В сущности, взаимодействие платонизма и аристотелизма является одной из главных тем настоящей книги».1
Такая установка, без сомнения, сообщила высокую степень единства всему многообразному материалу, изложенному в книге, хотя далеко не все специалисты приняли ее без оговорок. Так, Дж. Керферд, признавая, что выход книги стал «настоящим событием», считает, что за достигнутое концептуальное единство была уплачена слишком высокая цена: «То, что мы получили, не является историей поздней греческой философии, это — история традиции платонизма в этой истории».1 2 Некоторые другие рецензенты, впрочем, полагают, что Ф. Мерлан проявил большую самостоятельность и его «проплатоническая» позиция является более радикальной, чем позиция Армстронга: «В пятой части работы греческая философия рассматривается как приготовление к Плотину, а не к Плотину и другим философам, представленным в книге. Это выглядит неожиданным в свете утверждения редактора о том, что влияние пифагорейцев и средних платоников, прямое или косвенное, было, пожалуй, значительнее, чем влияние самого Плотина».3
Все-таки вероятные расхождения между Мерланом и Армстронгом не могли иметь принципиального характера, а консо- лидированность их позиции становится очевидной, когда мы сравниваем ее с подходом Гатри. «История греческой философии» заканчивается томом, посвященным Аристотелю, отчего труд
1 См. ниже, с. 56.
2 The Cambridge History... Review by G. B. Kerferd // The Philosophical Quarterly. 1968. Vol. 18. N73. P.363.
3 The Cambridge History... Review by J. O’Meara // The Journal of Roman Studies. 1968. Vol. 58, p. 1. P.276.
20
В. В. ПРОКОПЕНКО
Гатри выглядит незавершенным. Безусловно, работа была оборвана болезнью и смертью автора, последовавшей 17 мая 1981 года, и, по некоторым сведениям, он все-таки планировал включить в свой труд очерк эллинистической философии. Но уже во введении к первому тому своего труда Гатри заявлял: «Настоящая работа будет ограничена нехристианским миром, а поскольку это так, я полагаю, лучше всего закончить ее до неоплатоников, нежели пытаться включить их в повествование. Плотин и его последователи, а также их христианские современники, похоже, принесли новый религиозный дух, который не был в своей основе греческим».1 Гатри, таким образом, вычеркивает Плотина из греческого мира: для него египтянин Плотин есть фигура, разделяющая две эпохи, причем сам Плотин, как и его ученик, сириец Порфирий, «обращен скорее в будущее как преддверие средневековой философии, чем в античное прошлое».1 2 Такое же отношение к неоплатоникам Гатри высказывал и в других своих работах. А вот в «Кембриджской истории поздней греческой и ранней средневековой философии» Армстронг начинает свой раздел характеристикой Плотина как подлинно греческого мыслителя, принадлежащего традиции, которая не разделяет, а связывает две эпохи. При этом Армстронг недвусмысленно указывает на то, что опирается на исследование Ф. Мерлана: «В основе самого способа истолкования Плотина, используемого в данной книге, лежит допущение: Плотин был подлинно греческим философом, не приверженным ни восточным учениям, ни гностицизму... Плотин начинает новый этап в истории греческой философии, однако то, что было им достигнуто, нельзя назвать ни возрождением, ни революцией. Как обнаружилось в первом разделе, платонизм II—начала III веков был весьма жизнеспособным учением, ни в коем случае не шаблонным и поверхностным, и мысль Плотина во многих отношениях следует путями, проложенными его предшественниками».3
Такое выдвижение авторами «Кембриджской истории» Плотина и всей платонической традиции на первое место по их роли в трансформации поздней античной философии привело к тому, что греческим философским школам было уделено в работе далеко не равное внимание. Оно распределилось пропорциональ¬
1 Гатри У К. Ч. История греческой философии: В 6 томах. Том 1. Ранние досократики и пифагорейцы. СПб., 2015. С. 107.
2 Там же.
3 См. ниже, с. 49, 259.
ЧТО ТАКОЕ «КЕМБРИДЖСКАЯ ИСТОРИЯ...»?
21
но тому влиянию, которое эти школы оказали на неоплатоников. Известность и распространенность учений этих школ в рассматриваемый период авторы не считают важным обстоятельством. Скептики практически полностью исключены из рассмотрения (разве что академическим скептикам посвящено несколько строк), имена Пиррона, Агриппы или Энесидема даже не упоминаются, а Секст фигурирует в книге только как автор сведений о пифагорейцах. В отличие от скептиков, Эпикур и эпикурейцы достаточно часто упоминаются в первом разделе «Кембриджской истории», однако исключительно в качестве предмета критики и насмешек со стороны Аттика, Кальвизия Тавра, Плотина и Плутарха. История стоицизма начинает излагаться Мерланом сразу со Средней Стой, в тексте отсутствуют даже имена классиков Древней Стой Зенона и Хрисиппа. Центральной фигурой в стоицизме оказывается Посидоний, что легко объяснимо, поскольку именно Посидоний был тем автором, усилиями которого был создан своеобразный сплав элементов стоицизма и платонизма, за что В. Йегер назвал его не только «исповедующим Платона», но и «первым неоплатоником».1 Это позволяет авторам «Кембриджской истории» рассматривать Посидония как звено в платонической традиции, вместе с поздними римскими стоиками, на которых он оказал влияние. Такое изложение стоицизма (надо заметить, весьма краткое) хорошо коррелирует с взглядами Мерлана и Армстронга на пути трансформации классической греческой философии. Можно возразить, что отсутствие в «Кембриджской истории» ранних стоиков продиктовано хронологическими рамками исследования, однако мы знаем, что эти рамки не помешали присутствию в работе имен Спевсиппа и Ксенократа.
Исходя из этих наблюдений, мы могли бы подумать, что авторам «Кембриджской истории поздней греческой и ранней средневековой философии» все же не удалось избежать опасности превращения истории поздней античной философии в историю Плотина и его последователей, о которой говорилось выше. Однако дальнейшее знакомство с книгой показывает, что это не так. Уже следующий раздел, написанный Г. Чедвиком, предлагает читателю достаточно убедительные доводы в пользу того, чтобы не рассматривать Плотина в качестве единственного передаточного звена в цепи трансформаций философии, соединившей классическую Грецию с христианским и исламским миром.
1 Jaeger W. Nemesios von Emesa. Quellenforschungen zum Neuplatonismus und seinen Anfangen bei Poseidonios. Berlin, 1914. S. 2, 69.
22
В. В. ПРОКОПЕНКО
Чедвик пишет об основателях христианской философии: Филоне, гностиках, Клименте Александрийском, Оригене. Благодаря ему в книге появляется более объемное представление о процессах, изменивших греческую философию в период поздней античности (Г. Чедвик, англиканский священник, скорее, назвал бы это время раннехристианским). В своей книге «Раннее христианское мышление и классическая традиция», вышедшей в свет на один год раньше «Кембриджской истории», Чедвик говорил о том, что история непростых взаимоотношений языческой философии и христианского мировоззрения началась с глубоко символического события — приезда апостола Павла в Афины. Диалог между языческими философами и христианскими мыслителями часто напоминал войну и был разрешен, вопреки антифилософскому обструкционизму апологетов, усилиями отцов церкви, которые осуществили «христианскую разработку метафизической теории спасения, отчасти при опоре на греческую классическую философию, отчасти через критику этой философии».1 В «Кембриджской истории» Чедвик приходит к заключению, что поиски отголосков классической греческой философии в евангельские времена были бы мало полезны, и начинает сразу с Филона, хотя по-настоящему «первые серьезные начатки христианской философии появляются у Юстина Мученика в середине II века».1 2
Весьма тщательно рассмотрев вклад Филона, Юстина и Климента в становление христианской философии, Чедвик значительно меньше внимания уделил Оригену, ограничившись кратким очерком о нем и его учении. Это довольно неожиданно, поскольку именно к Оригену Чедвик ранее проявлял постоянный интерес, писал о нем и переводил его сочинения («О молитве», «Увещание к мученичеству», «Диалог с Гераклидом», «Против Цельса»).3 Возможно, эта странность вызвана уверенностью Чедвика в том, что именно в контексте заданного общего направления работы изложение позиции Оригена принесет не очень много нового:
1 Chadwick Н. Early Christian Thought and The Classical Tradition: Studies in Justin, Clement, and Origen. Oxford, 1966. P. 5.
2 См. ниже, c. 220.
3 Chadwick H. Origen, Celsus, and the Stoa // Journal of Theological Studies. 1947. Vol. 48. P. 34—49; Origen, Celsus, and the Resurrection of the Body // Harvard Theological Review. 1948. Vol. 41. P. 83—102; Origen. Contra Celsum / Translated with an Introduction and Notes by Henry Chadwick. Cambridge, 1953; Alexandrian Christianity. Selected Translations of Clement and Origen with Introductions and Notes by John Ernest Leonard Oulton and Henry Chadwick. Philadelphia, 1954.
ЧТО ТАКОЕ «КЕМБРИДЖСКАЯ ИСТОРИЯ...»?
23
«В отношении Оригена к философии, когда дело доходит до частностей, удается найти совсем немного такого, с чем бы мы раньше не встретились у Филона, Юстина или Климента».1 Еще одна особенность раздела, которая сразу обращает на себя внимание: несмотря на название главы 9 «Начало христианской философии: Юстин, гностики», о гностиках Чедвик почти ничего не говорит, а их характеристика занимает у него всего полторы страницы, хотя многие рецензенты полагают, что было бы справедливым посвятить им отдельную главу. Причины этого не ясны, но можно предположить, что такова была отрицательная реакция Чедвика на решение редактора, о котором сам Армстронг пишет: «Мы договорились, что Мерлан осветит только греческие предпосылки мысли Плотина, не касаясь Филона Иудея и гностиков, влияние которых на неоплатонизм порой считают заслуживающим особого внимания. Речь о Филоне и гностиках идет в разделе проф. Чедвика, в который, как мне показалось, эти фигуры впишутся лучше, а кроме того, вопрос о взаимоотношении гностицизма и философии Плотина попутно затрагивается в разделе, написанном мною самим. Решение поступить именно так было, пожалуй, наиболее спорным из множества принятых мною решений относительно того, что куда включить и от чего избавиться, и всю редакторскую ответственность за содеянное я беру на себя (мое решение было, конечно, продиктовано тем, что я не считаю влияние гностиков или Филона на Плотина слишком существенным)».1 2 Дж. Рист предположил, что, «поскольку многие положения гностиков для христианина Чедвика были отвратительны и неприемлемы, он счел за лучшее их попросту игнорировать».3
При всей неоднозначности расставленных им исследовательских акцентов, Чедвик уверенно и последовательно проводит в тексте своего раздела одну идею, чрезвычайно важную для понимания сложного процесса перехода от языческой к христианской философии, — он настаивает на том, что христианские мыслители не были пассивными реципиентами влияния Плотина, они еще до Плотина самостоятельно и активно осваивали греческую философскую мысль, поэтому их можно считать полноправными соавторами создания христианского платонизма. К этому выводу присоединяется и Армстронг: «В этом разделе мы обнаружим,
1 См. ниже, с. 247.
2 См. ниже, с. 45.
3 The Cambridge History... Review by J. M. Rist // The Journal of Hellenic Studies. 1968. Vol. 88. P.205.
24
В. В. ПРОКОПЕНКО
каким образом иудеи и христиане восприняли греческие идеи и приспособили их к собственным целям и путям мышления задолго до Плотина».1
Раздел, написанный самим Армстронгом, называется просто и коротко: «Плотин». Учитывая то, что уже говорилось об исключительной роли Плотина в приведении греческой философии к тому состоянию, в котором она досталась христианам, иудеям и арабам, читатель вправе ожидать от Армстронга развернутого анализа философии Плотина именно как звена в цепи этих преобразований философии. Но здесь нас встречает весьма неожиданный авторский ход: возможно, посчитав, что о Плотине в составе платонической и неоплатонической традиции сказано уже достаточно, Армстронг настойчиво подчеркивает самобытность, даже уникальность философии Плотина. Следует, впрочем, заметить, что неожиданным такой ход выглядит только в свете целей, стоявших перед авторами «Кембриджской истории», а в контексте ситуации, сложившейся в плотиноведении к середине XX века, он вполне логичен и подготовлен предыдущими исследователями. Дж. Рист, автор выдающейся работы «Плотин. Путь к реальности», вышедшей в свет в том же самом 1967 году, говорит, что в результате обостренного внимания к источникам философии Плотина исследователи начали терять самого Плотина: «Плотин растворяется в источниках своей философии, т. е. испытывает ту же судьбу, что и философия Цицерона... и современные критики Плотина более сосредоточиваются на его „сырье“, его подоплеке, чем на его собственной философской позиции. И в процессе исследования его философские позиции могут начать казаться совершенно неоригинальными».1 2 Дж. Рист отстаивает самобытность Плотина, посвящая в своей книге этому доказательству отдельную главу «Оригинальность Плотина».
С самого начала Армстронг утверждает: «И все же он был самобытным философским гением, единственным философом в истории поздней греческой мысли уровня Платона и Аристотеля, побуждаемым личным мистическим опытом, подобного которому греческая философская религия не знала. Поэтому результатом критического переосмысления унаследованной им долгой и сложной традиции была самобытная философия, гораздо более связная и живая, чем средний платонизм, и мощно повлиявшая на
1 См. ниже, с. 48.
2 Рист Дж. М. Плотин. Путь к реальности / Пер. с англ. Е. В. Афонасина, И. В. Берестова. СПб., 2005. С. 191.
ЧТО ТАКОЕ «КЕМБРИДЖСКАЯ ИСТОРИЯ...»?
25
последующую европейскую мысль».1 Такой взгляд на Плотина, подчеркивание его оригинальности, обусловливает большее чем обычно внимание Армстронга к мотивам и обстоятельствам пло- тиновского творчества, к его личной гениальности, особенностям психологии философа, истории его индивидуального формирования и развития. Неудивительно поэтому, что большую часть раздела о Плотине занимает изложение его биографии: главы 12 и 13 («Жизнь: Плотин и религия, суеверия его времени» и «Преподавание и сочинения») занимают около трети объема всего текста. Кроме того, и в других главах, в которых излагается учение Плотина, Армстронг постоянно обращается к рассмотрению различных сторон личности Плотина, обсуждению его субъективных целей и намерений, находя в них указание на пути к пониманию плотиновской философии. Много внимания Армстронг уделяет историческим обстоятельствам, в которых проходили жизнь и творчество Плотина. В этом отношении раздел Армстронга резко контрастирует с некоторыми другими частями этой же книги, особенно это касается раздела Мерлана, подход которого Дж. Керферд определил как «аналитический и интерпретативный», заметив, что для большей части его изложения характерно сведение к минимуму того, что Э. Целлер называл «внешней историей».1 2
Армстронг постоянно подчеркивает значение педагогической деятельности Плотина для понимания его философии. По его словам, рассказ Порфирия о преподавании в школе Плотина относится к числу наиболее интересных и полезных мест в сочинении Порфирия. Важно, что Плотин был мыслителем последовательным и систематическим, даже догматическим, «не имевшим сомнений в том, что он знает верные ответы на все рассматриваемые им великие философские вопросы»,3 но, с другой стороны, он был открыт для возражений и дискуссий. Известный рассказ Порфирия о неком Томасии приводится Армстронгом в качестве подтверждения тезиса о принципиальной важности для понимания философии Плотина обстановки споров, утверждений и опровержений, в которых жила мысль Плотина. Конечно, замечает Армстронг, обстановка в школе Плотина была неформальной настолько, что некоторые считали ее беспорядочной, но, возможно, эта неформальность и представляла собой то, что Порфирий назвал весь¬
1 См. ниже, с. 259.
2 The Cambridge History... Review by G. B. Kerferd. R 363.
3 См. ниже, c. 276.
26
В. В. ПРОКОПЕНКО
ма туманно «умом Аммония». Аммоний Саккас, к которому в молодости пришел после других учителей Плотин, безусловно, оказал на него сильное влияние, которое трудно анализировать хотя бы в силу того, что нам неизвестно, в чем именно состояло учение Аммония (если не считать две довольно неоригинальные мысли о нематериальное™ души и о непротиворечии Платона и Аристотеля). Армстронг тем не менее уделяет внимание этой фигуре, несмотря на то что единственное, что можно о нем сказать, состоит в предположении о том, что «учитель, настолько удовлетворивший интерес Плотина, должен был быть выдающимся философом, скорее всего внесшим значительный вклад в становление неоплатонизма Плотина».1 Армстронг усматривает влияние Аммония на Плотина в самом способе обучения философии, который в те времена еще не деградировал до передачи сведений о заранее установленной системе знаний: «Нам не следует забывать, что Плотин и не считал, что он всерьез следовал мысли своего учителя. Пожалуй, наиболее оригинальная черта учения Аммония, которая прежде всего и привлекла Плотина, состояла в том, что вместо того, чтобы излагать сухое догматическое учение, он давал понять, насколько трудна философия, приветствовал дискуссии и оставлял некоторые вопросы открытыми ценой неясности, неопределенности и даже порой непоследовательности. В главах 13 и 14 „Жизни Плотина44 Порфирий описывает метод обучения, применявшийся Плотином, подчеркивая его открытость обсуждениям, терпение к возражениям и отказ принимать какое-либо философское учение в его исходном виде, а затем довольно загадочно отмечает, что Плотин в спорах пускал в ход „ум Аммония44. Быть может, отличительной чертой ума Аммония было то, что это был сравнительно открытый ум?»1 2
Собственно, это сочетание систематичности и открытости, доктрины и незавершенности и делает учение Плотина самобытным, по этой же причине философия Плотина никак не умещается в рамках какой-то одной статичной интерпретации. Армстронг замечает, что тот, кто хочет проникнуть в мысль Плотина, должен сначала понять то, в чем сам философ видел свою главную цель, чему подчинено все его философствование. Плотин был убежден в неразрывности философии и жизни в процессе философствования, для него философия всегда была чем-то большим, чем теоретическое знание, и Армстронг считает это обстоятельство
1 См. ниже, с. 261.
2 См. ниже, с. 264.
ЧТО ТАКОЕ «КЕМБРИДЖСКАЯ ИСТОРИЯ...»?
27
принципиально важным: «Для Плотина человек в некотором смысле божествен, и жизненная задача философа состоит в том, чтобы понять эту божественность и восстановить надлежащую взаимосвязь (никогда, как мы увидим, не утраченную полностью) с божественной вселенной и в этой вселенной вступить в союз с ее трансцендентным источником, Единым, или Благом».1 Сосредоточившись на одном только логическом или филологическом анализе текстов Плотина, исследователь, скорее всего, потерял бы видение этой задачи философии, которая для Плотина была главной. Армстронг, помещая в центр внимания указанную идею возвращения души к Единому, усматривает в ней основания не только философской антропологии Плотина, но и его метафизики, а также того, что называют мистицизмом Плотина. Показательно, что и весь раздел Армстронга о Плотине завершается очерком «Возвращение: Религия Плотина».
Относительно раздела Э. Ллойда «Поздние неоплатоники» мы встречаем в редакторском предисловии Армстронга предуведомление: «Из всех помещенных в настоящем издании разделов именно этот вызовет наибольший интерес среди тех, кто профессионально (в современном смысле этого слова) занимается философией, а не теологией».1 2 И действительно, позиция Э. Ллойда несколько отличается от позиций других авторов «Кембриджской истории» — некоторые из них были весьма религиозны, как Армстронг, а Г. Чедвик, к примеру, был священником довольно высокого ранга. Ллойд, который с 1957 года занимал кафедру философии в Ливерпульском университете, сам был философом, а не теологом и, разделяя страсть своего коллеги Армстронга к неоплатоникам, не разделял его религиозных убеждений. Э. Лонг говорит, что профессор Ллойд был неверующим, «жестким агностиком». Известный британский политик Дж. Пью, который под руководством профессора Ллойда изучал философию в Ливерпульском университете, вспоминает, что Ллойд придерживался «старомодного» убеждения о том, что не следует ничего публиковать, пока тебе нечего сказать, так что в результате «его наследие невелико по количеству, но высоко по качеству, хотя по меркам сегодняшней количественной системы оценки научный уровень доктора Ллойда и был бы признан совершенно неудовлетворительным».3 С этим
1 См. ниже, с. 288.
2 См. ниже, с. 49.
3 Pugh J. Liverpool’s cuts have not been thought through 11 The Guardian. Wednesday 11, March 2009.
28
В. В. ПРОКОПЕНКО
же требованием принципиальной новизны Ллойд обращается и к тем древним авторам, о которых он пишет в своем разделе: «Подход, который показался нам более уместным (хотя, возможно, это тот же метод, но с меньшей претензией на научность), состоит в том, чтобы на каждом этапе выделять два рода нововведений: то, что, по всей вероятности, представляет философский интерес в некотором общепринятом значении слова „философия44, и то, что делает философски более зримыми характерные черты неоплатонизма».1
Ллойд настойчиво ищет элементы чисто философского характера в корпусе чрезвычайно сложных по составу поздних неоплатонических учений, выделяет их и представляет в качестве своего рода традиции, коллективной работы по созданию неоплатонической метафизики, обладающей целостной логической структурой: у Порфирия он обнаруживает тенденцию к монизму, признаки которого Порфирий будто бы искал уже у Плотина, Ямвлиха он рассматривает в качестве поворотного пункта в истории неоплатонизма, соавтора Хрисиппа в создании его школы, при этом отвергает традиционный интерес исследователей к теургии Ямвлиха. Завершает становление неоплатонической метафизики, разумеется, Прокл.
Видимая формальность и схематичность подхода Ллойда может вызвать тревогу, которая отчасти подтверждается в процессе чтения — многие отмечали, что Ллойду пришлось сильно сжать материал, чтобы добиться цельности изложения. Однако широкая эрудиция автора и тонкое чувство историзма позволяют ему при этом избежать сколько-нибудь серьезных искажений. Кроме того, Ллойд убежден в том, что подобное подчеркивание философского, метафизического содержания неоплатонических учений соответствует скрытым намерениям самих неоплатоников. И сколько бы неоплатоники ни говорили о важности теологии, все проблемы, стоявшие перед теологией, они пытались разрешить чисто философскими способами. Таким образом, в тексте Ллойда мы можем наблюдать в действии подход, отличающийся телеологизмом и концентрацией на внутренней логике развития. Сторонники такого подхода не очень часто встречаются среди британских историков философии, но Ллойд, вообще говоря, по своим теоретическим ориентациям был не очень похож на типичного английского профессора философии. Вспоминают, что Ллойд «наслаждался чтением Гегеля, так же как другие могут наслаждаться чтением
1 См. ниже, с. 343.
ЧТО ТАКОЕ «КЕМБРИДЖСКАЯ ИСТОРИЯ...»?
29
поэзии, интересовался он также Сартром и экзистенциализмом».1 Ллойд придерживается принципов, близких гегелевской «философской истории философии», о чем и свидетельствует его заявление: «Всегда существует такое внутреннее развитие философских идей, которое лишь очень косвенно зависит от внешних условий и которым главным образом и занимается история философии».1 2
Роберт Остин Маркус, автор следующего раздела, посвященного Марию Викторину и Августину, был одним из тех, с кем Армстронг сблизился в Ливерпульском университете. Так же как и некоторые другие авторы «Кембриджской истории поздней греческой и ранней средневековой философии» (например, Ф. Мерлан), Маркус был выходцем из Восточной Европы. Он родился в 1924 году в Будапеште. К работе в Ливерпульском университете он приступил позже Армстронга, в 1959 году, преподавал средневековую историю. История стала делом всей жизни Маркуса, и в будущем о нем скажут: «Он служил преданно, щедро и строго двум дисциплинам: истории и теологии».3 Большинство авторов «Кембриджской истории» в своих исследованиях близких исторических эпох и зачастую пересекающихся школ и мыслителей сами выступали то как философы (Ллойд), то как богословы (Чедвик). Маркус же всегда считал себя историком, с соответствующим взглядом на предмет. Несмотря на это, круг исторических интересов Маркуса был таков, что объективно он не смог избежать ни философии, ни богословия. Любопытно, что еще во времена учебы в университете Манчестера Маркус подружился с Г. Маккейбом, который впоследствии стал известным теологом, священником-доминиканцем, и с А. Макинтайром, будущим выдающимся философом.
С самого начала занятий наукой его особенно привлекали фигуры Григория Великого и Августина, что закономерно вылилось в совместную работу с А. Армстронгом, результатом которой стали опубликованная ими в соавторстве книга «Христианская вера и греческая философия»4 и привлечение Р. Маркуса к участию в «Кембриджской истории поздней греческой и ранней средневековой философии». Раздел Маркуса «Марий Викторин
1 Sorabjy R. Tony Lloyd // Proceedings of the British Academy. Vol. 97. Lectures and Memoirs. New York, 1998. P. 349.
2 См. ниже, c. 352.
3 Nelson J. Robert Markus obituary. Medieval history scholar who helped establish the idea of Late Antiquity // The Guardian. Sunday 9, January 2011.
4 Armstrong A. H., Markus R. A. Christian faith and Greek philosophy. London, 1964.
30
В. В. ПРОКОПЕНКО
и Августин» еще за пару десятилетий до его написания мог бы вызвать сильное недоумение самим названием, в котором помещены рядом имена авторов, совершенно несопоставимых по своей величине. Когда в 1946 году Пьер Адо, движимый интересом к мистицизму Плотина, обратился, по совету Поля Анри, к исследованию Викторина, тот воспринимался как всего лишь малоизвестный теолог и переводчик Плотина, «загадочный латинский автор».1 Но во многом именно благодаря усилиям Адо и Анри, которые в 1960 году выпустили комментированный перевод теологических трактатов Мария Викторина,1 2 отношение к оценке Викторина начало меняться. Шагом на пути к этому повороту (который окончательно совершился только после опубликования двух фундаментальных монографий Адо3) следует считать и очерк Маркуса, в котором Марию Викторину посвящена отдельная глава.
Марий Викторин представлен Маркусом не просто как переводчик Плотина, но и как мыслитель вполне оригинальный, многие идеи которого стали широко известными в трудах других, более поздних авторов. Маркус выделяет тринитарное учение (особенно тринитарную психологию) Викторина, судьба которого представляет пример такого влияния, в частности, на Августина: «Почти за пятьдесят лет до Августина, мы имеем перед собой „психологическое учение“ о Троице, изложенное в понятиях, которые относятся к жизни души. Многое в сочинениях блж. Августина напоминает этот подход Викторина. П. Анри справедливо отметил новаторство и оригинальность Викторина в этой области».4 Конечно, в трактате Августина «О Троице» тринитарная психология получает дальнейшую разработку, усложняется и обогащается, приобретая новое содержание, но это не отменяет роли Викторина, в первую очередь как звена в процессе творческой разработки и передачи философских идей от греческого мира к латинскому, от Плотина к Августину. Завершая главу о Викторине, Маркус констатирует: «Викторин, несомненно, был первопроходцем, и своими переводами „книг платоников44 он снабдил Августина средствами для выражения их общей фило¬
1 Адо П. Философия как способ жить: Беседы с Жанни Карлие и Арнольдом И. Дэвидсоном / Пер. с фр. В. А. Воробьева. М.; СПб., 2005. С. 44.
2 Marius Victorinus. Traites theologiques sur la Trinite / Texte etabli par P. Henry, introduction, traduction et notes par P. Hadot. 2 vol. (Sources chretiennes. N 68—69). Paris, 1960.
3 Hadot P. Porphyre et Victorinus. 2 vol. Paris, 1968; Marius Victorinus. Recher- ches sur sa vie et ses oeuvres. Paris, 1971.
4 См. ниже, c. 413—414.
ЧТО ТАКОЕ «КЕМБРИДЖСКАЯ ИСТОРИЯ...»?
31
софской позиции. И все же именно Августин „на целые столетия установил стандарт западной доктрины о Троице44».1
Главы 22—27 посвящены Августину и представляют собой весьма полное и настолько цельное изложение основных идей Августина, что выглядят как небольшая по объему монография. В рецензиях отмечалось, что здесь перед Маркусом стояла особенно трудная задача, учитывая, что по масштабу фигура Августина, без сомнения, превышает все остальные, представленные в книге, а объем литературы, посвященной Августину, не упрощает, а, как это часто бывает, усложняет написание четкой и определенной работы с уверенными выводами. Кстати, Маркус предсказуемо получил свою порцию критики и возражений: его, в частности, упрекали в том, что он слишком радикально разделяет философское и богословское содержание в учении Августина (Дж. Рист), некоторые не соглашались с его трактовкой доктрины предопределения (П. Кристеллер, Р. Уоллис). Тем не менее, по мнению того же Дж. Риста, Маркус так блестяще справился со своей работой, что его раздел можно назвать «кульминацией всей книги», а изложение им учения Августина является, как утверждает Рист, «лучшим в своем роде из всего того, что я видел».1 2
Следующие два раздела написаны авторами, решительно непохожими друг на друга. И. П. Шелдон-Уильямс («Греческая христианская платоническая традиция от каппадокийцев до Максима Исповедника и Эриугены») представлен в книге не как университетский профессор или богослов, но как бывший сотрудник Британского Совета в Греции. Действительно, Шелдон-Уильямс формально не принадлежал к профессиональному академическому сообществу, но тем более впечатляют его научные достижения. Он первым в Новейшее время решился на перевод и критическое издание одного из наиболее важных памятников средневековой мысли, трактата Иоанна Скота Эриугены «О разделении природы» («Перифюсеон»).3 Эта работа выдвинула Шелдона-Уильямса в ряд наиболее признанных, наряду с Дж. О'Марой и Э. Жоно, знатоков и исследователей текстов Эриугены. А. Армстронг сказал о нем: «Шелдон-Уильямс был одним из тех ученых, которым удавалось, не занимая никакой академической должности, создавать
1 См. ниже, с. 415.
2 The Cambridge History... Review by J. M. Rist. R 206
3 Joharmis Scotti Eriugenae. Periphyseon (De divisione naturae). Vols. I—III / Ed. I. P. Sheldon-Williams. Scriptores Latini Hibemiae 7, 9, 11. Dublin, 1968—1981. Шелдон-Уильямс не дожил до завершения проекта — третий том издания вышел уже после его смерти и был подготовлен к печати Дж. О'Марой.
32
В. В. ПРОКОПЕНКО
работы высочайшего качества. Он достиг большего, чем многие профессиональные ученые, без ресурсов для проведения исследований, без ежедневной поддержки и без стимула продолжать их, которыми пользуется даже самый насилу работающий преподаватель университета. Первое признание его глубокого знания и понимания греческой христианской мысли, ее интерпретации Эриугеной на Западе пришло к Шелдону-Уильямсу в конце жизни, с публикацией его раздела в „Кембриджской истории поздней греческой и ранней средневековой философии44 в 1970 году, которому, судя по всему, суждено на долгое время оставаться лучшим изложением этой темы на английском языке. В нем сочетается тщательная и независимая ученость с живым пониманием и симпатией к греческой православной традиции, к которым Шелдон-Уильямс пришел во время своей службы в Британском Совете в Греции».1
Г. Либешютц родился в 1893 году в Гамбурге, в 1912 году поступил в Берлинский университет, однако его учеба была прервана начавшейся вскоре Первой мировой войной — Ганс Либешютц был призван в действующую армию и отправлен на Западный фронт. В 1916 году он возвращается в университет, но, отказавшись от прежних намерений стать раввином, под влиянием лекций У. Виламовица и Э. Мейера увлекается классической филологией, а позднее, в 1918 году, уже в Гейдельберге, начинает специализироваться в области средневековой истории. После окончания университета и защиты диссертации по медиевистике Либешютц возвращается в Гамбург, где начинается его преподавательская карьера. Одновременно он активно участвует в еврейском культурном движении, после 1933 года подвергается репрессиям, его увольняют с государственной службы. В 1938 году, после ноябрьского еврейского погрома (так называемой «Хрустальной ночи»), Либешютц был заключен в концентрационный лагерь Заксенхаузен-Ораниенбург. После освобождения в марте 1939 года он воссоединяется в Англии со своей семьей, которая эмигрировала туда годом ранее. Сын Ганса Либешютца, Вольф, ставший также известным историком, вспоминает, что «отец никогда не говорил об опыте, пережитом в лагере».1 2 После нескольких лет весьма непростой адаптации в Британии (в статусе «враждебного иностранца» он был интернирован и провел пол года в лагере на
1 Periphyseon / Ed. I. Р. Sheldon-Williams. Review by A. H. Armstrong // The Journal of Theological Studies. New Series. Vol. 25. N 2 (October 1974). P. 536—537.
2 Liebeschuetz W. East and West in Late Antiquity. Invasion, Settlement, Ethno- genesis and Conflicts of Religion. Leiden, 2015. P. X.
ЧТО ТАКОЕ «КЕМБРИДЖСКАЯ ИСТОРИЯ...»?
33
острове Мэн) Либешютц начинает преподавать в различных школах, а с 1946 года — в Ливерпульском университете. К моменту начала работы в составе авторского коллектива «Кембриджской истории поздней греческой и ранней средневековой философии» Г. Либешютц уже вышел на пенсию, сосредоточившись на научной работе, иногда выступая с лекциями в качестве экстраординарного профессора в Ливерпуле и Гамбурге.
Задачи, поставленные авторами разделов о западной и восточной патристике, достаточно ясно сформулированы в редакторском предисловии Армстронга: как Шелдон-Уильямс, так и Либешютц показывают становление нового способа мышления, где это возможно, вне мощнейшего влияния Августина, которое уже достаточно было освещено в разделе Маркуса. Что касается греческого платонизма, то такой подход с очевидностью диктовался самой исторической ситуацией: «Влияние Августина было огромным, однако не достигло христианского Востока, с которым он почти не имел связи и который начиная с IV века следовал по пути спекулятивной теологии, удаляясь все дальше от путей Запада».1 Для того чтобы раскрыть содержание восточной традиции, Шелдону-Уильямсу потребовалось привлечь значительное количество исторического материала, который за пределами узкого круга специалистов был мало известен англоязычному читателю.1 2 Это повлекло за собой серьезные осложнения в восприятии текста раздела, касающиеся в первую очередь избыточного присутствия непонятных терминов, которые автор часто оставляет без разъяснения. Условие, которое в свое время издатели поставили перед Гатри, — сделать книгу понятной читателю, не владеющему греческим языком, — никак не могло быть исполнено в очерке Шелдона-Уильямса. Это обстоятельство отмечалось в большинстве рецензий на книгу, и, наверное, следует согласиться с суждением Дж. Риста: «Шелдон-Уильямс развернул перед нами этот мир, но не объяснил его».3 Несмотря на эту трудность восприятия, очерк Шелдона-Уильямса сумел вызвать читательский интерес и открыть для англоязычной публики, например, философию икон. Довольно неожиданным, но продуктивным оказалось предложение Шелдона-Уильямса рассматривать учение Эриугены не
1 См. ниже, с. 50.
2 Русский читатель, благодаря богатой отечественной исторической, философской и богословской традиции исследований греческой патристики, находится, несмотря ни на что, в значительно более выгодном положении.
3 The Cambridge History... Review by J. M. Rist. P. 206.
34
В. В. ПРОКОПЕНКО
просто в контексте греческого влияния, но как часть греческой, византийской традиции.
Латинская патристика, о которой идет речь в разделе Г. Ли- бешютца, напротив, была хорошо знакома английскому читателю, возможно поэтому Либешютц не проявляет стремления к максимально подробному изложению, и вряд ли можно это считать серьезным недостатком.1 Он приводит читателя к заключению, ранее высказанному в предисловии Армстронга: «Даже на Западе, где над всеми возвышался Августин и где его влияние было глубже и шире влияния любого из греческих христианских мыслителей, нельзя сказать, что он полностью завладел мыслью латинского христианского мира».1 2 Своим подходом Либешютц ближе к Маркусу, чем к большинству других авторов «Кембриджской истории поздней греческой и ранней средневековой философии»: он историк, и в его изложении большее внимание уделяется исследованию обстоятельств передачи идей от одного философа и теолога к другому, чем анализу внутренней логики учений. Особенно ярко это проявляется в главе, посвященной Боэцию, но и другие части раздела скорее похожи на очерк в духе «истории идей», чем на привычное для англо-американской историко-философской науки аналитическое исследование.
Последний раздел книги, являющийся введением в исламскую философию, написан Ричардом Рудольфом Вальцером, еще одним из авторов «Кембриджской истории», влившимся в британское научное сообщество благодаря драматическим коллизиям в жизни континентальной Европы 1930-х годов прошлого века. Родился Р. Вальцер в 1902 году в Берлине, в семье крупного еврейского коммерсанта.3 В 1918 году он поступает в Берлинский университет для изучения медицины, но затем, также под влиянием Вила- мовица, обращается к классической филологии. Изучение греческого языка, вместе с уже хорошо известным Вальцеру ивритом, впоследствии повлияло на выбор им предмета исследовательской
1 Г. Г. Майоров упрекает «фундаментальную кембриджскую историю поздней греческой и ранней средневековой философии» в том, что в ней «латинская патристика представлена лишь самыми крупными ее идеологами (Августин, Боэций)» (Майоров Г. Г. Формирование средневековой философии. Латинская патристика. М., 1979. С. 22).
2 См. ниже, с. 54—55.
3 Излагая биографические сведения о Вальцере, которые в разных источниках часто противоречат друг другу, мы использовали в качестве основного источника статью Д. Рассела: Russel D. A. Richard Rudolf Walzer. 1902—1975 // Proceedings of the British Academy. Vol. 73. New York, 1987. P. 705—710.
ЧТО ТАКОЕ «КЕМБРИДЖСКАЯ ИСТОРИЯ...»?
35
деятельности. Но тема докторской диссертации Вальцера пока еще была далека от вопроса о греческо-восточных связях: воодушевленный лекцией В. Йегера о «Никомаховой этике», он предпринимает исследование вопроса об аутентичности аристотелевской «Большой этики», завершившееся в 1929 году написанием и защитой докторской диссертации. В этом же году он приступает к преподаванию в Берлинском университете. В это время и начинает формироваться интерес Вальцера к проблеме греческо-иудейских и греческо-арабских влияний: он знакомится с работами выдающегося семитолога П. Бергштрассера, в которых часто подметаются греческие следы в восточной философско-богословской литературе. Вальцер некоторое время сотрудничает с Бергштрассером, к тому времени возвратившимся из Константинополя в Мюнхенский университет. Вероятно, именно Бергштрассер привлек внимание Вальцера к фигуре Галена, множество текстов которого дошло до нас только в арабских и сирийских переводах. Вальцер также работает вместе с X. Риттером, изучая арабские рукописи в Стамбульской библиотеке. В 1934 году они опубликовали полученные результаты,1 многие из которых имели важное значение: так, Вальцер и Риттер открыли арабский перевод трактата Галена «О частях медицинского искусства», который до этого был известен только в значительно более позднем латинском переводе Николая Регийского. Несколько ранее, в 1932 году, Вальцер представил свое сочинение, посвященное трактату Галена «О медицинском искусстве», в качестве хабилитационной работы. Хабилитация открывала перед ним перспективу дальнейшей академической карьеры, но приход к власти в Германии нацистов, принятие законов, подвергавших евреев дискриминации, сделали для молодого ученого дальнейшую работу и саму жизнь в Германии небезопасной, к тому же Вальцер в начале 1920-х годов недолго, но активно участвовал в сионистском движении. Учитывая сложившуюся ситуацию и заботясь о безопасности своей семьи (Р. Вальцер женился в 1927 году на Софии Кассирер, дочери издателя Бруно Кассирера, двоюродной племяннице Эрнста Кассирера), он принимает решение покинуть Германию. В 1933 году Р. Вальцер переезжает в Италию и становится преподавателем Римского университета. Здесь он встречает теплый прием и поддержку со стороны Дж. Джентиле, печатается в итальянских жур¬
1 Ritter Н., Walzer R. Arabische Obersetzungen griechischer Arzte in Stambuler Bibliotheken. Berlin, 1934.
36
В. В. ПРОКОПЕНКО
налах, издает фрагменты аристотелевских диалогов и Гераклита.1 Однако с началом Второй мировой войны ситуация вновь становится для него небезопасной, и Вальцер уезжает в Британию, где в 1942 году при поддержке Д. Росса становится преподавателем Ориель-колледжа в Оксфорде и читает различные философские курсы, замещая Э. Доддса, на время уехавшего в Китай. Со временем Вальцер все больше погружается в исследования исламской и иудейской философии. В 1940-х годах он публикует новые работы, в которых его интерес к греческо-восточным связям эпохи поздней античности и раннего Средневековья дает результаты, получившие высокую оценку и общее признание.1 2 Вальцер становится лектором средневековой философии, и в 1950 году специально для него создается кафедра арабской и греческой философии, а через шесть лет его избирают членом Британской Академии. Вальцер много работает с арабскими философскими и богословскими текстами, особенно увлекаясь темой «арабского Аристотеля». Здесь Вальцер находит идеальный материал для научной работы в своем стиле, характеризующемся строгой тщательностью и особенной скрупулезностью текстологического анализа. Так, путем сравнения арабских переводов «Метафизики» он обнаружил, что переводчики пользовались различными вариантами исходного греческого текста. Интерес Вальцера к апперцепции Аристотеля в исламском мире определил его устойчивое внимание к арабским перипатетикам аль-Кинди и аль-Фараби, которыми он серьезно занялся еще до эмиграции. Именно аль-Фараби стал для Вальцера ключевой фигурой в его исследованиях начиная с 1950-х годов и до конца жизни. Завершением этих трудов стал его комментированный перевод «Трактата о взглядах жителей добродетельного города»,3 который был опубликован в 1985 году, уже после смерти Вальцера.
В разделе, написанном Вальцером для «Кембриджской истории поздней греческой и ранней средневековой философии», аль- Фараби также занимает исключительное место: ему посвящена вся глава 40, составляющая две трети от общего объема текста
1 Aristotelis dialogorum fragmenta in usum scholarum selegit Ricardus Walzer. Firenze, 1934; Walzer R. Eraclito. Raccolta dei frammenti e traduzione italiana. Firenze, 1934 (Testi della Scuola Normale Superiore di Pisa. Vol. IV).
2 Walzer R. Arabic Transmission of Greek Thought to Medieval Europe. Manchester, 1945; Galen on Jews and Christians. London, 1949; Greek into Arabic: Essays on Islamic Philosophy. Oxford, 1962.
3 Walzer R. Al-Farabi on the Perfect State: Abu Nasr al-Farabl’s Mabadi’ ara ahi al-madlna al-fadila: A revised text with introduction, translation and commentary. Oxford, 1985.
ЧТО ТАКОЕ «КЕМБРИДЖСКАЯ ИСТОРИЯ...»?
37
раздела. Если учесть, что аль-Кинди и ар-Рази отведены всего четыре страницы, еще более сжато описаны Ибн Сина, Ибн Рушд и аль-Газали, то само название раздела «Ранняя исламская философия» может показаться неоправданно широким. Однако следует принять во внимание разъяснение Вальцером своей позиции в начале главы 39, где говорится, что в настоящее время состояние источников и степень изученности исламской философии не позволяют вынести о ней достаточно обоснованные общие заключения. Вальцер выделяет шесть основных особенностей исламской философии, которые на сегоднящний день делают возможным только предварительное ее изложение. Поэтому он предлагает сосредоточиться на учении одного только аль-Фараби, чтобы на его примере дать ответ на самый важный вопрос: почему философия в исламском мире не смогла занять то место, которое она занимала в античности?
Такая постановка вопроса отчетливо маркирует позицию, которая долгое время доминировала в западной историко-философской науке: греческая философская традиция представляет собой некий идеальный тип, а все многообразие иных культурно-исторических форм философствования возникает в процессе усвоения философии греков другими народами и в другие исторические эпохи. Еще в 1956 году Вальцер писал, что «исламская философия — это греческая философия, но это не та философия, которая изучается ради удовлетворения научных интересов или исследовательского любопытства, она призвана прежде всего служить интересам новой религии, ислама».4 Этой точки зрения он в целом придерживается и в «Кембриджской истории», описывая развитие исламской философии как процесс усвоения античного философского наследия мусульманским миром. Но принципиальная позиция не переходит у него в доктринерство, и именно Вальцер много сделал для преодоления одностороннего европоцентризма в подходе к исламской философии. Говоря об аль-Фараби, он замечает: «Но исламская философия — больше, чем просто передача греческой традиции. Как и все великие исламские мыслители, аль-Фараби стремился быть чем-то большим, чем преподавателем мысли древних».5
Учение аль-Фараби излагается Вальцером вполне традиционно, хотя непривычно много внимания он уделяет политической
4 WalzerR. On the Legacy of the Classics in the Islamic World // Festschrift, Bruno Snell zum 60. Geburtstag am 18. Juni 1956 von Freunden und Schulem iiberreicht. Munchen, 1956. S. 195.
5 См. ниже, c. 750.
38
В. В. ПРОКОПЕНКО
мысли исламского философа, представляющей собой причудливый синтез разнообразных греческих элементов (особенно неоплатонического и аристотелевского) и собственного творчества.1 Валыдер высказывает предположение, что на этом пути аль-Фараби имел греческих предшественников и опирался на «позднюю греческую традицию интерпретации „Государства44 и „Законов44, известную нам исключительно из его сочинений».1 2 Однако и здесь отмечен оригинальный вклад самого аль-Фараби, как, например, положение о том, что совершенный правитель должен быть не только философом, но и пророком, — тезис, который он просто не мог позаимствовать у греков. Аль-Фараби и его последователям удалось путем таких ухищрений достичь некоего перемирия между философией и исламской теологией, но это перемирие не могло быть устойчивым и вскоре было нарушено исламскими ортодоксами во главе с аль-Газали — но об этом Вальцер пишет уже очень кратко в последней части своего раздела.
Выход из печати в 1967 году «Кембриджской истории поздней греческой и ранней средневековой философии» вызвал живую реакцию ученого сообщества, появились отзывы таких видных специалистов, как Л. Вестеринк, Дж. Керферд, Дж. О'Мара. Общую оценку хорошо выразил Дж. Оуэнс: «Эта книга в целом больше, чем просто источник философской информации. Это — событие».3 Одобрение научным сообществом в данном случае было предопределено целым рядом обстоятельств: практически все авторы «Кембриджской истории» к этому времени уже были признанными специалистами в своей области; затем, к середине XX века большинство историков философии уже готовы были отказаться
1 Довольно странно звучат слова Армстронга в редакторском предисловии, где он называет аль-Фараби «великим, но забытым философом X века». Даже если учесть, что широкая популярность пришла к аль-Фараби позже, в 1970-е годы, и географический центр этого интереса располагался в тогдашнем СССР, а позднее — в Казахстане и Узбекистане, а не в Европе, то все равно эти слова являются сильным преувеличением. Даже за пределами узкого круга востоковедов это имя было хорошо известно: достаточно вспомнить работы Лео Штрауса.
2 См. ниже, с. 755. Трудно понять, о какой именно традиции идет речь, но похоже, что Вальцер имеет в виду многочисленные попытки реализовать принятый в неоплатонических школах принцип «симфонии» Аристотеля и Платона и примирить перипатетическую интерпретацию физического мира с платоновской картиной социума.
3 The Cambridge History... Review by J. Owens // Phoenix. 1968. Vol. 22. N 2. P. 180.
ЧТО ТАКОЕ «КЕМБРИДЖСКАЯ ИСТОРИЯ...»?
39
от явно устаревших представлений об эпохе эллинизма и поздней античности как о периоде всеобщего упадка, декаданса и эклектики в философии; наконец, авторы «Кембриджской истории поздней греческой и ранней средневековой философии», стараясь преодолеть разрыв между исследованиями в области истории философии, истории религии и истории культуры, предложили весьма впечатляющую и вдохновляющую модель комплексного исследования, к тому же примененного к чрезвычайно сложной исторической эпохе, долгое время находившейся на периферии исследовательского внимания. Можно без преувеличения утверждать, что именно Армстронг и его коллеги, преодолевая традиционное, освященное именем Эдуарда Целлера представление об истории послеаристотелевской греческой философии как периоде упадка, декаданса и эклектики, по-настоящему открыли историкам философии мир поздней античности. Конечно, авторы «Кембриджской истории» видят этот мир еще как «позднюю греческую классику» и «раннее Средневековье», а «Брауновская революция» случилась несколькими годами позже.1 Но этот мир представлен в книге уже не как тупик античной философии, а как период ее трансформации и перехода к новой жизни в теле иудейской, мусульманской и христианской культуры. Результаты оправдывают выбор платонической традиции в качестве центральной темы книги, поскольку именно платонизм оказался главным руслом этих трансформаций, он воплощал в себе будущую эпоху даже тогда, когда интерес современников к нему отступал на второй план (Армстронг замечает, что Плотин вовсе не был властителем дум своей эпохи1 2), — Л. Вестеринк говорит, что «великой заслугой книги является радикальное смещение точки зрения, когда неоплатонизм предстает перед нами как начало новой эпохи, а не как последняя ступень умирающей цивилизации».3
Дополнительным обстоятельством, вызвавшим оживленное внимание и благожелательное отношение к книге в англоязычном научном мире, стало то, что она, наряду с трудом Гатри, многими была воспринята как своего рода «британский ответ» вековому
1 Концепция поздней античности, то есть понимание поздней античности как самостоятельной исторической эпохи, стала результатом усилий множества специалистов из разных областей исторической науки и получила общее признание после выхода монографии П. Брауна {Brown Р. The world of Late AAtiquity. From Marcus Aurelius to Muhammad. London, 1971).
2 См. ниже, c. 281.
3 The Cambridge History... Review by L. G. Westerink // Mnemosyne. Fourth Series. 1969. Vol. 22. Fasc. 4. P. 447.
40
В. В. ПРОКОПЕНКО
господству континентальной (прежде всего германской) науки об античности в жанре панорамных историко-философских работ.1
Высочайший уровень книги, сразу и решительно признанный научным сообществом и широким кругом читателей, не освободил ее от критических замечаний, наиболее типичные из которых нами уже приводились выше. Большинство из них касаются отдельных разделов и связаны с расстановкой авторских акцентов, выбранной методологией, отбором персоналий, школ и концепций для изложения, но почти всегда ответы на эти замечания находятся при обращении к предыдущим работам авторов «Кембриджской истории». Остается, однако, вопрос о том, насколько состоялась книга как единое целое — ведь, кажется, не было ни одного тома в «Кембриджских историях», который не вызвал бы обвинений в отсутствии целостности. «Кембриджскую историю поздней греческой и ранней средневековой философии» тоже иногда упрекали в том, что она больше напоминает собрание разнородных очерков, чем целостное исследование. Отечественному читателю давно известна именно такая характеристика книги: «Написанная специалистами весьма различной философской ориентации, она, кроме того, лишена необходимого единства позиции».1 2
Многое объясняется тем, что «Кембриджская история» относится к тому типу работ, который не так часто встречается в отечественной историко-философской литературе: в отзывах о ней говорят как о «стандартной» («standard work») или «справочной» работе («work of reference») для изучающих историю, философию и теологию. Так называют работы, которые представляют современный уровень исследований в своей области, причем представляют одновременно и научному сообществу, и широкому кругу читателей — всем интересующимся темой. Характерный признак такой книги: она может быть безусловно, без оговорок и разъяснений рекомендована студентам, специализирующимся в данной области, что, конечно, не делает ее учебником в привычном для нас понимании — стандартная работа всегда является образцом научного исследования высокого уровня. Важнейшая функция ее состоит в том, чтобы быть источником надежной и проверенной информации, поэтому для стандартной работы обязательным является наличие библиографии и справочного аппарата, причем отбор
1 Хотя здесь уже, наверное, не следует делать слишком большой акцент на определении «британский», принимая во внимание участие в работе Ф. Мерлана, Г. Либешютца, Р. Вальцера — ученых германской выучки.
2 Майоров Г. Г. Формирование средневековой философии. С. 22.
ЧТО ТАКОЕ «КЕМБРИДЖСКАЯ ИСТОРИЯ...»?
41
литературы и справочных сведений подкреплен авторитетом составителей, а ссылка на стандартную работу признается научным сообществом в качестве аргумента и достаточного основания. Что же касается единства позиции, то часто бывает так, что именно акцентированная авторская позиция не позволяет пользоваться книгой, пусть даже и выдающейся, в качестве стандартной работы.1
В апреле 2017 года исполнилось ровно 50 лет со дня выхода в свет «Кембриджской истории поздней греческой и ранней средневековой философии», и закономерно, что может возникнуть сомнение в целесообразности перевода и издания на русском языке работы, которая за прошедшие полвека, наверное, должна была бы устареть. Это сомнение подкрепляется еще и тем, что за это время «Cambridge University Press» опубликовало еще две работы в серии «Кембриджских историй», близких по хронологии и тематике к книге под редакцией Армстронга: в 1999 году вышла «Кембриджская история эллинистической философии», а в 2010 — «Кембриджская история философии поздней античности».1 2 Если первая из них почти не пересекается с работой Армстронга и его коллег, то вторая явно задумывалась как новое издание «Кембриджской истории» 1967 года с новыми исполнителями и с учетом нового уровня знаний о философии поздней античности. Об этом прямо сказано в редакторском предисловии Л. Джерсона, который отмечает, что возвращение к теме обусловлено тем, что за прошедшее время появилось огромное количество исследований, переводов, комментариев и материальных свидетельств об эпохе поздней античности, сформировалось новое понимание этой эпохи, что нашло свое отражение и в названии новой книги. Джерсон замечает, что теперь для изложения потребовался значительно больший объем текста, авторский коллектив расширился до пятидесяти авторов, среди которых подавляющее большинство составили философы, а не историки или теологи (у Армстронга в коллективе, напоминает Джерсон, был только один профессор философии). Казалось бы, всего этого достаточно для того, чтобы, вытеснив «Кембриджскую историю поздней греческой и ранней средневековой философии», занять ее место, но Л. Джерсон настаивает на том, что «Кембриджская история»
1 Как об этом свидетельствуют неудачные попытки читать величественную «Историю античной эстетики» А. Ф. Лосева именно как «всестороннюю справочную работу».
2 The Cambridge History of Hellenistic Philosophy / Ed. K. Algra, J. Barnes, J. Mansfeld, M. Schofield. Cambridge, 1999; The Cambridge History of Philosophy in Late Antiquity / Ed. L. P. Gerson. Vol. 1—2. Cambridge, 2010.
42
В. В. ПРОКОПЕНКО
1967 года не утратит своего значения и в будущем: «Хотя эти более чем сорок лет труда, кажется, достаточно оправдывают появление нового исследования этого периода, не следует думать, что все или даже большинство оценок, сделанных в более ранней работе, были в целом признаны недействительными. Следовательно, в этом смысле то, что настоящая работа является „преемником44 более ранней работы, не означает, что она является заменой ей. Изучающие эту эпоху, несомненно, будут продолжать получать пользу от обращений к этой работе, которая заслуживает того, чтобы быть признанной новаторской».1
Эта оценка особенно значима для отечественного читателя, который, прямо скажем, не избалован качественными историко- философскими работами признанного мирового уровня об этом периоде. В последние годы у нас наблюдается явный рост интереса к философии и богословию поздней античности, и это уже дает свои результаты в виде появляющихся новых переводов философских текстов этой эпохи, однако тем более очевидной становится потребность в возможно большем количестве соответствующих серьезных академических исследований. В противном случае те, кто интересуется историей и философией одного из сложнейших периодов духовной истории человечества, окажутся перед лицом опасности, о которой говорил А. Армстронг: «Одна из целей книги состояла в том, чтобы затруднить обобщения в отношении мысли рассматриваемого периода, поскольку, пожалуй, ни о какой другой эпохе не было сделано столько пространных и плохо обоснованных обобщений».1 2 В 1967 году, когда были написаны эти слова, для того, чтобы совершить необоснованные обобщения в истории или философии и сообщить о них миру, требовалось все-таки преодолеть определенные квалификационные барьеры, которые чаще всего позволяли произвести отсев очевидных глупостей. Спустя полвека мы живем в чрезвычайно богатом и демократичном информационном пространстве практически без барьеров, в котором произведения в жанре фейковых философии, истории, богословия количественно уже, кажется, превышают серьезные научные работы. То, что русский читатель получает в свое распоряжение перевод еще одной, по-настоящему классической работы, — событие, вызывающее оптимизм и надежду на изменения к лучшему. Чуть ранее таким же событием стала публикация в 2015 году издательством «Владимир Даль» первого тома знаменитой работы
1 The Cambridge History of Philosophy in Late Antiquity. Vol. 1. P. 1.
2 См. ниже, c. 48.
ЧТО ТАКОЕ «КЕМБРИДЖСКАЯ ИСТОРИЯ...»?
43
У. Гатри, во вступительной статье к которому Л. Я. Жмудь с иронией заметил: в том, что русский читатель получает выдающиеся произведения мировой научной мысли с опозданием в десятилетия, можно усмотреть и его преимущество — он получает в свое распоряжение работы, уже прошедшие проверку временем.1 Работа Армстронга и его коллег дошла до русского читателя через полстолетия — время, достаточное для того, чтобы получить выдержанный продукт высшего качества.
1 Гатри У К. Ч. История греческой философии. Τ. 1. С. 7—8.
ПРЕДИСЛОВИЕ
Изначально планировалось, что «Кембриджская история поздней греческой и ранней средневековой философии» будет связана с «Историей греческой философии» У. К. Ч. Гатри, однако пути ее развития оказались иными, и ее не стоит рассматривать как прямое продолжение упомянутой работы. Это независимое исследование, цель которого — показать, как греческая философия обрела ту форму, в которой ее знали и влияние которой испытали на себе иудеи, западные и восточные христиане и мусульмане, а также то, как эти наследники греческой мысли распоряжались своим наследством на протяжении почти всего первого тысячелетия от Рождества Христова. Длина временного отрезка, а также исключительное многообразие и сложность предметного содержания сделали невозможным для одного человека адекватно охватить его целиком, и потому было решено вернуться к старому кембриджскому способу повествования, к истории из нескольких уст. Я же по просьбе синдиков* разработал план, отредактировал работу целиком и написал главу о Плотине.
Охватываемый период простирается от IV века до н. э. до начала XII века н. э., от Древней Академии до св. Ансельма. И хотя всякое деление истории философии на периоды достаточно произвольно, нам все же кажется, что мысль, рассмотрению которой посвящено настоящее издание и которую мы более обстоятельно скажем во вводной главе, не лишена единства, а те вопросы, которым мы решили посвятить заключительные разделы книги, и сами по себе оказались подходящим завершением нашего повествования. Мы надеемся, что философия XIII столетия и позднего Средневековья на Западе, а также последующие иудейские, мусульманские и византийские пути ее развития в один прекрасный день составят содержание еще одного кембриджского тома. Начало книги во многом хронологически, но отнюдь не
* Члены сената университета. — Примеч. перев.
ПРЕДИСЛОВИЕ
45
содержательно пересекается с работой проф. Гатри. Чтобы объяснить происхождение плотиновского неоплатонизма, главной и наиболее влиятельной формы греческой философии рассматриваемого периода, возникла необходимость вернуться обратно к Платону. Однако главы проф. Мерлана покажут, что, обращаясь к Платону, Древней Академии, Аристотелю и стоикам, он сосредоточил внимание исключительно на том влиянии, какое они оказали на мысль Плотина, и только в этом контексте рассматривал связанные с данными учениями вопросы. Мы договорились, что Мерлан осветит только греческие предпосылки мысли Плотина, не касаясь Филона Иудея и гностиков, влияние которых на неоплатонизм порой считают заслуживающим особого внимания. Речь о Филоне и гностиках идет в разделе проф. Чедвика, в который, как мне показалось, эти фигуры впишутся лучше, а кроме того, вопрос о взаимоотношении гностицизма и философии Плотина попутно затрагивается в разделе, написанном мною самим. Решение поступить именно так было, пожалуй, наиболее спорным из множества принятых мною решений относительно того, что куда включить и от чего избавиться, и всю редакторскую ответственность за содеянное я беру на себя (мое решение было, конечно, продиктовано тем, что я не считаю влияние гностиков или Филона на Плотина слишком существенным).
В совместной работе подобного рода все зависит от уровня взаимодействия и понимания, которые могут возникнуть между сотрудниками. Нет такого редактора, которому довелось бы иметь дело с более усердными и более образованными сослуживцами, чем те, которые трудились со мной над этой книгой. Ее достоинства в основном на их счету, а за недостатки, которых, я уверен, немало, ответствен я сам. Я испытываю огромную благодарность к сотрудникам издательства «Cambridge University Press» и особенно к г. А. Л. Кингсфорду за их поддержку в течение всего процесса подготовки данной книги к печати. Они сделали работу неопытного и по природе своей бездарного редактора легче, чем я ожидал. Я благодарен настоятелю и общине аббатства Даунсайд, позволившим мне осуществить большую часть моей редакторской работы в их прекрасной теологической библиотеке. Я также сердечно признателен штату секретарей классического отделения Ливерпульского университета за помощь в наборе текста и ведение корреспонденции.
А. X Армстронг Ливерпуль, 1965
СОКРАЩЕНИЯ
сс —
CSEL — PG — PL — RE — SC — SVF —
Corpus Christianorum
Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum Latinorum Migne, Patrologia Graeca Migne, Patrologia Latina
Realencyclopadie der klassischen Altertumwissenschaft Sources Chretiennes Stoicorum Veterum Fragmenta
Используемые в сносках сокращения оговариваются в начале каждого раздела.
Ссылки на Плотина на протяжении всей книги имеют следующую форму: «Эннеада» и номер трактата [номер в хронологическом порядке, установленном Порфирием], номер главы и, где необходимо, номер строки по Брейе—Анри—Швицеру, например: II9 [33] 9, 35—39. Ссылки на PG, PL и RJE даны с указанием тома и номера столбца.
Глава 1
ОБЩЕЕ ВВЕДЕНИЕ
В предлагаемой книге мы стремились дать разностороннее и достаточно подробное исследование философии того периода, когда в Средиземноморском регионе, а позднее и в Европе, к северу от Альп, обретала форму мысль, имевшая по меньшей мере вплоть до семнадцатого столетия — а в некоторой степени и ряде областей и до настоящего времени — значительное влияние на нашу литературу, искусство, социальное поведение и общественное устройство. Мы намеревались показать, каким путем греческая философия пришла к заключительной и, пожалуй, наиболее плодотворной ступени своего развития, называемой современными историками античной философии неоплатонизмом, а также то, как она была воспринята и многообразно приспособлена к собственным целям иудеями, христианами и мусульманами. Каким бы ни было отношение этого позднего платонизма к подлинной мысли Платона (по этому поводу у Мерлана в первой главе написанного им раздела есть несколько интересных предположений), несомненно, что именно с ним, а не платонизмом диалогов, как их сегодня читают специалисты, мы встречаемся всякий раз, когда встает вопрос о влиянии Платона на искусство, литературу, теологию или философию до XIX столетия, а иногда и позднее. Поэтому поздний платонизм и его различные теологические видоизменения представляются достойными исследования и последние несколько лет усердно штудируются. Происходит столь многое, особенно в сфере изучения неоплатонизма и патристики, что к моменту публикации добрая половина данной книги неизбежно устареет. И все же предпринять попытку всестороннего обзора стоит, поскольку, во-первых, большая часть научного материала доступна разве что отдельным специалистам, а во-вторых, потому, что изучение данного периода, лежащего на пересечении границ столь
48
А. X. АРМСТРОНГ
многих дисциплин, больше других пострадало от академической специализации.
Одна из целей книги состояла в том, чтобы затруднить обобщения в отношении мысли рассматриваемого периода, поскольку, пожалуй, ни о какой другой эпохе не было сделано столько пространных и плохо обоснованных обобщений. По этой причине мы попытались изложить философские и теологические учения данного периода во всем их многообразии и сложности, в частности для того, чтобы дать некоторое представление о том, сколько различных значений могут иметь слова «платонизм» или «христианский платонизм». Мы и не думали требовать от авторов какого-либо единства воззрений или строгого единообразия в изложении материала, весьма разношерстного по своему содержанию и меняющегося от главы к главе. Неизбежным было и то, что в различных разделах книги освещены одни и те же или близкие друг другу темы, правда по-разному и с разных точек зрения. Где такое случалось, а также в тех местах, где, как мне показалось, читателю по той или иной причине было бы интересно и полезно сравнить фрагменты из разных разделов, я внес в примечания редакторские перекрестные ссылки. Этот умышленный отказ от чрезмерного упрощения и внешнего лоска изложения значительно усложнил задачу написания вводной главы. Далее я лишь попытаюсь набросать нечто вроде схемы содержания книги и указать на основные предпосылки и предпочтения философов и теологов разбираемого периода, а также на самые интересные соприкосновения и расхождения в их мысли. И если в ходе изложения я допущу обобщения, подобные тем, которые должна искоренять наша книга, то мои слишком общие утверждения поправят авторы следующих за ними глав.
Первый раздел, написанный Ф. Мерланом, рассказывает о сложном пути развития греческой философии, идущего от Платона и Аристотеля к Плотину. Он дает полный отчет о среднем платонизме и позднем пифагорействе — философских учениях, прямое и косвенное влияние которых было, пожалуй, даже обширнее влияния Плотина. Это влияние отчасти заметно уже в следующем разделе, посвященном Филону и началу христианской мысли, принадлежащем Г. Чедвику. В этом разделе мы обнаружим, каким образом иудеи и христиане восприняли греческие идеи и приспособили их к собственным целям и путям мышления задолго до Плотина. Данный раздел заканчивается изложением учения старшего современника великого языческого философа, Оригена Христианина, по всей вероятности ученика
ОБЩЕЕ ВВЕДЕНИЕ
49
того же Аммония Саккаса, мысль которого в некоторых вопросах тесно соприкасается с мыслью Плотина и совершенно отлична от нее во многих других отношениях. Третий раздел, автором которого являюсь я, посвящен самому Плотину, центральной и наиболее влиятельной фигуре, а также крупнейшему философу всего периода. Впрочем, это не означает, что все последующие философские учения можно охарактеризовать просто как формы плотиновского неоплатонизма. Мерлан в своем разделе отчетливо показал степень зависимости Плотина от предшествующей греческой философии (в основе самого способа истолкования Плотина, используемого в данной книге, лежит допущение: Плотин был подлинно греческим философом, не приверженным ни восточным учениям, ни гностицизму). Так что я в свою очередь попытался обрисовать философию Плотина в ее своеобразии, почти не обращаясь к предшествующей и последующей мысли, предварив текст некоторыми сведениями о самом философе, его жизни и учении. Я сделал это потому, что Плотин был натурой цельной и самодостаточной и его мысль настолько тесно переплетена с биографией, что было бы непросто понять одну, ничего не зная о другой. Вместе с Плотином мы добираемся до III века н. э. Следующая часть книги, написанная Э. Ч. Ллойдом, продолжает рассказ о языческом неоплатонизме до VI века н. э., когда он перестал существовать. Пожалуй, из всех помещенных в настоящем издании разделов именно этот вызовет наибольший интерес среди тех, кто профессионально (в современном смысле этого слова) занимается философией, а не теологией. Кроме того, в нем приводятся достаточные основания для пересмотра ряда прежних суждений о таких философах, как Ямвлих и его последователи, которых до недавнего времени не только игнорировали, но и пренебрегали ими.
Неоплатонические школы более позднего времени были островками язычества в мире, становившемся полностью христианским, во всяком случае формально. Они дожили до той поры, когда в Константинополе и Равенне были построены первые великие византийские соборы. Три последующих части посвящены исключительно христианской мысли. В первой из них, написанной Р. О. Маркусом, рассматриваются Марий Викторин и Августин. Кто-то из читателей, возможно, удивится, обнаружив, что первому, который обычно появляется в качестве фигуры второго плана в биографиях Августина, отведена отдельная глава. До недавнего времени его обходили вниманием, поскольку очень немногие на деле брались за невероятно трудную работу его по-
50
А. X. АРМСТРОНГ
нимания. Однако в замечательном издании Анри и Адо1 он был впервые открыт как один из интереснейших и оригинальнейших философствующих теологов, приспособивший размышления неоплатоников к целям христианства. То обстоятельство, что в настоящей работе особое место было отведено Августину, не требует, разумеется, ни объяснений, ни оправданий, и, хотя в посвященных ему главах специально не ставилась задача отделить его «философию» от его «теологии», внимание все же было сосредоточено на тех аспектах его масштабной и многогранной мысли, которые, по всей вероятности, могли бы заинтересовать философов. Влияние Августина было огромным, однако не достигло христианского Востока, с которым он почти не имел связи и который начиная с IV века следовал по пути спекулятивной теологии, удаляясь все дальше от путей Запада. Следующий раздел, написанный И. П. Шелдоном-Уильямсом, повествует о греческом христианском платонизме IV—IX веков. Большая часть содержания этой главы будет неизвестна читателю, если он не относится к группе узких специалистов, особенно в области тех событий, что последовали за открытием и распространением трудов псевдо-Дионисия. В последней главе этого раздела появляется одинокая и таинственная фигура эпохи Каролингов — Иоанн Скот Эриугена, представленный в наиболее подходящем для него контексте постдионисийской христианской теологии, во многом лишающем его упомянутой таинственности. Латинскому прошлому Эриугены, а также его вкладу в сугубо западную полемику принадлежит последний из трех разделов, посвященных христианской мысли. В этом разделе, написанном Г. Либешютцем, проследившим историю христианской философии от Боэция до Ансельма, читатели встанут на более знакомую почву, чем в предыдущем разделе, по крайней мере отчасти, и все же найдется немного столь осведомленных, чье понимание Каролингского и следующего за ним периодов не расширится после его прочтения. И наконец, раздел VIII представляет собой очерк ранней исламской философии, автор которой, Р. Вальцер, разъясняет, по каким причинам осуществимо лишь предварительное исследование этой темы. В фокусе его внимания оказался великий, но забытый философ X века аль-Фараби, которого ему удается представить мыслителем исключительно важным и интересным, не в последнюю очередь
1 Marius Victorinus. Traites Th0ologiques sur la Trinit0. Texte etabli par P. Henry. Introduction, traducion et notes par P. Hadot (Sources Chretiennes. 68—69). Paris,
1960.
ОБЩЕЕ ВВЕДЕНИЕ
51
потому, что тот развил и приспособил к условиям исламского мира своего времени неизвестную нам из других источников позднюю греческую традицию политической философии, основанную на «Государстве» и «Законах» Платона. Плотин и другие неоплатоники, известные нам в первоисточниках, очень мало интересуются политической и социальной мыслью своего великого учителя. По этой причине изучение исламской философии в этом и других вопросах важно не только ради нее самой и в горизонте ее влияния на последующие эпохи, но и как средство углубления нашего понимания греческой мысли, которой она обязана своим происхождением.
Пожалуй, в качестве отправной точки для выявления общих черт мысли (если они вообще имеются) этих многочисленных и своеобразных философов и теологов было бы полезно рассмотреть, что все они понимали под философией. Наверное, и сейчас порой обычный человек в глубине души ожидает от философов наставничества прежних времен и оказывается раздражен и растерян, когда они, с их точки зрения вполне оправданно, говорят ему, что это не их ума дело, а затем идет искать желаемого туда, где сможет найти — на Восток или на Запад, — иногда в очень причудливые и неакадемические сферы. В отличие от того, что современные философы считают своими профессиональными обязанностями, для большинства мыслителей античности, во всяком случае после Платона, и, безусловно, для мыслителей рассматриваемого нами периода философия, как формулирует это Маркус, говоря об Августине, есть «всеохватная деятельность, озабоченная всем, что касается осуществления конечной цели человеческой жизни».1 В этом высказывании присутствует сильный этический акцент и приводящая современный ум в замешательство тесная связь между философией и религией, которую мы обнаруживаем почти у всех мыслителей данного периода, как у язычников-греков, так и у приверженцев религий откровения. Эта связь, несомненно, допускает огромное многообразие отношений к религиозным откровениям и религиозным практикам, так что обобщения здесь особенно рискованы. Нельзя, как это все еще часто делается, прибегнув к паре общих замечаний относительно суеверия и упадка рационализма, оставить без внимания даже таких поздних неоплатоников, как Ямвлих и его последователи. Замечания Ллойда, касающиеся отношения философии и религии у последних и принадлежащие к наиболее поучительным страницам книги по данному
1 См. ниже, раздел V, гл. 21, с. 419.
52
А. X. АРМСТРОНГ
вопросу, проясняют дело.1 А устойчивый моральный и религиозный интерес большинства философов данного периода позволяет понять, например, почему христиане считали то, что следует назвать теологией, более высокой формой философии и почему, как следствие, было совершенно невозможно построить данное издание так, чтобы, аккуратно отделив философию от теологии, избавиться от последней. Всего однажды и в одном единственном месте, в городах Ломбардской равнины в начале Средних веков, мы находим, по причинам, указанным Либешютцем,1 2 логиков, отношение которых к своим исследованиям было сугубо мирским и в трудах которых, по его словам, «вопросы религии и богословия предстают задвинутыми в дальний угол дискуссии». Эта местная позиция, имевшая, как показывает Либешютц, важное значение для последующего направления западной средневековой мысли, совершенно отлична от того отношения к аристотелевской логике, согласно которому многие философы и теологи более раннего времени, как языческие, так и христианские, считали ее нейтральным, подготовительным курсом к религиозному размышлению, хотя она в конечном счете производна от последнего.
Тесная связь между философией и религией в интересующий нас период естественным образом приводит к рассмотрению еще одного аспекта мышления, обычно неверно понимаемого, — отношения к авторитету. На первый взгляд, рассматриваемая эпоха представляется временем раболепного поклонения авторитетам как у язычников, так и у христиан. Каким бы ни было их отношение к религиозным откровениям, языческие философы взирали на великих людей прошлого и прежде всего на Платона с бесконечным благоговением. Они не одобряли оригинальности и посвящали свои жизни разъяснению того, что им представлялось подлинным учением античных мастеров, а также составлению комментариев к их трудам. Иудеи же и христиане, безусловно, находились под воздействием полученного ими религиозного откровения, хотя и здесь мы вновь обнаруживаем исключение из сделанного нами обобщения в эпоху раннего Средневековья на Западе в виде состязания доводов разума и авторитета у Беренгария Турского.3 Складывается впечатление, что христианский Запад гораздо яснее христианского Востока понимал, что отношение разума и религиозного авторитета проблематично. Захваченность
1 См. ниже, раздел IV, гл. 17, 18 В.
2 См. ниже, раздел VII, гл. 37 Б, с. 690.
3 См. ниже, раздел VII, гл. 37 В.
ОБЩЕЕ ВВЕДЕНИЕ
53
этой проблемой началась при Августине,1 и в конце данного периода Ансельм еще в значительной степени занят ею.1 2 И все же на мусульманском Востоке проблема виделась еще яснее,3 и философы предлагали целый ряд нетривиальных способов ее решения. Подчинение философии откровению у аль-Кинди следует уже знакомой схеме, а их отождествление, предлагаемое Авиценной, пожалуй, не слишком отличается от позиции Филона. Параллели у иудеев и христиан было бы трудно отыскать для аль-Рази, решительно отрицающего религиозное откровение как суеверие, или для наиболее оригинального решения аль-Фараби, который внес в собственный весьма своеобразный мир отношение греческих философов к традиционным культам и мифам, интерпретировав различные религиозные учения своего времени, включая ислам, как более или менее несовершенные символические отображения философской истины.
Но стоит нам поближе взглянуть на мыслителей нашего периода, как мы обнаружим, что им в действительности удалось объединить великую свободу мышления и уважение к авторитету. Даже среди поздних неоплатоников на удивление мало школярства и подражательного повторения священных формул без последующего осмысления. Одна из причин такого положения дел, на первых порах сбивающего с толку современного исследователя, заключалась в их совершенно нешкольном и неисторическом обращении с документами, считавшимися авторитетными. То, как Плотин использовал Платона, и Филонова экзегеза иудейских писаний — надежные тому примеры.4 Другая причина состояла в невообразимо бессистемном характере самих авторитетных документов — диалогов Платона, иудейских и христианских священных текстов, не говоря уже о халдейских оракулах, которые, выражаясь мягче, чем они того заслуживают, совершенно загадочны (oracular). На протяжении всего рассматриваемого нами периода господствует определенный вид философии, а именно поздний платонизм (главы профессора Мерлана показывают взаимосвязь среднего платонизма и позднего пифагореизма, а также неотделимость неоплатонизма от обоих). Однако в некоторых вопросах мы обнаруживаем голый конформизм учеников, просто воспроизводящих мысли своего учителя. Поздние языческие неоплатоники
1 См. ниже, раздел V, гл. 21.
2 См. ниже, раздел VII, гл. 38.
3 См. ниже, раздел VIII, гл. 39.
4 См. ниже, раздел III, гл. 13, с. 278—280 и раздел II, гл. 8, с. 195—197.
54
А. X. АРМСТРОНГ
были, пожалуй, самыми отъявленными конформистами. И, как показывает Ллойд,1 они в гораздо большей степени зависели от Плотина, чем считают некоторые ученые. И тем не менее Плотин не был для них авторитетом — не в такой степени, как Ямвлих. Эта книга делает очевидными ключевое значение его философии и обширное влияние, которое он оказал на мысль всего периода в целом, хотя его престиж и репутация в последующие столетия (где и когда о нем вообще помнили) были довольно умеренными. Своим влиянием Плотин обязан не просто новизне учения, да и едва ли можно сказать, что он придал философии кардинально новое направление. Главы профессора Мерлана демонстрируют тесную связь его мысли с мыслью предшественников. Безусловно, свою роль сыграли превосходные ясность и последовательность, отличавшие его философию. И все же возможно, что в еще большей степени своим влиянием он обязан тому многоцветию и страсти, которые он привнес в платонизм, осмыслив его в свете собственного опыта — не только опыта союза с Единым, но и не менее интенсивного, преобразившего все его понимание умопостигаемого мира опыта трансцендентного «я» в единстве с первореальностью всех вещей. Именно этот двойной опыт и придает Плотину уникальное значение в европейской мысли и в некоторых вопросах сближает его с мыслью Индии, хотя убедительных доказательств какого-либо индийского влияния на его философию у нас нет.
Обращаясь к иудеям и христианам в рассматриваемый нами период, мы обнаруживаем новый источник оригинальности — напряжение между философией Платона и религией откровения. Несколько удачных примеров того, как оно проявлялось, можно встретить в главах Чедвика о Филоне, Маркуса о Марии Викторине и Шелдона-Уильямса о греческом христианском платонизме.1 2 Этим напряжением главным образом объясняется невероятное многообразие форм того, что обобщенно называют «христианским платонизмом», широко представленным в настоящем издании. Размежевания и разногласия порой весьма значительны. Одним из наиболее интересных и не слишком широко известных было описанное Шелдоном-Уильямсом сопротивление влиянию Прокла на христианском Востоке.3 Греческий христианский платонизм пестрее латинского. В нем нет какой-либо одной господствующей фигуры. Но даже на Западе, где над всеми возвышался Августин
1 См. ниже, раздел IV, гл. 17.
2 См. ниже, раздел II, гл. 8; раздел V, гл. 20; раздел VI, гл. 28.
3 См. ниже, раздел VI, гл. 31.
ОБЩЕЕ ВВЕДЕНИЕ
55
и где его влияние было глубже и шире влияния любого из греческих христианских мыслителей, нельзя сказать, что он полностью завладел мыслью латинского христианского мира. Рассказ Либешютца о Боэции раскрывает нам еще одну, совершенно оригинальную и очень влиятельную форму западного христианского платонизма.
В этом контексте особого упоминания заслуживает одно крайне любопытное разногласие, приводящее к целому ряду самобытных размышлений и проистекающее из глубоких и давних противоречий как платонической, так и христианской традиций. Это разногласие дает о себе знать в нескольких местах нашей книги и состоит в склонности, с одной стороны, строго различать «дух» и «материю», или «душу» и «тело», и, с другой, в заботе о том, чтобы придать телу, материальному миру, времени, изменению и истории действительную религиозную и моральную ценность. Обобщение здесь особенно трудно и опасно. В пользу обеих сторон можно процитировать Августина, но целиком он не укладывается ни в эту, ни в какую другую схему классификации, хотя в общем наибольшее влияние на Западе он оказал на дуализм. Из греков каппадокийцы, как правило, очень остро противопоставляли духовное и материальное, однако после Дионисия греческие мыслители, и прежде всего св. Максим, предприняли наиболее продолжительное и заметное на всем протяжении рассматриваемого нами периода усилие, чтобы найти место для тела, физического движения и времени в обращении к Богу и доказать их священный характер. Это усилие было, по-видимому, тесно сопряжено с необходимостью ясно показать то, что они считали следствием доктрины о сотворении мира, а именно, что вещи не обладают реальностью, отдельной от Бога, и все их существование есть участие в его бытии. Наследник этой традиции Эриугена даже утверждал, что Бог творит самого себя, когда творит вещи.1 В изложении Либешютцем «Libri Carolini»1 2 мы можем наблюдать, как сталкиваются между собой теологи, испытавшие влияние этих двух тенденций, политическую и социальную основу их деятельности, а также результаты полемики, которые послужат изучению вопроса, минуя обобщения. На одной — византийской — стороне мы имеем идею священного космоса образов и личное присутствие Бога в человеческих поступках и трудах; на другой — ка¬
1 См. ниже, раздел VI, гл. 32, 34.
2 См. ниже, раздел VII, гл. 36 А. Эту главу следует сравнить с главой Шелдона-Уильямса, посвященной «философии икон» (раздел VI, гл. 33).
56
А. X. АРМСТРОНГ
ролингской — перед нами сверхупрощенное августинианство, четко разделяющее тело и душу и дающее начало на удивление современному учению о лишенном святости материальном мире, который, по выражению Либешютца, есть «сцена для игры одних лишь человеческих сил».
Греческие мыслители после Дионисия в создании своего более позитивного вйдения материального мира во многом опирались на Аристотеля. Это приводит нас к нашему последнему соображению относительно мысли рассматриваемого периода, высказать которое необходимо, если мы хотим избежать исключительно поверхностного и обманчивого обобщения, одно время очень модного в определенных кругах и противопоставляющего «христианский аристотелизм» XIII столетия «платонизму» ранних христианских мыслителей. Главы профессора Мерлана демонстрируют, насколько тесным, если вообще различимым, с самого начала было взаимоотношение между платонизмом и аристотелизмом. В неоплатонизме присутствует сильный аристотелевский элемент, хотя Плотин часто сурово критикует Аристотеля. В разделах, посвященных христианской и исламской мысли, мы будем снова и снова на деле обнаруживать прямое или косвенное влияние Аристотеля. В сущности, взаимодействие платонизма и аристотелизма является одной из главных тем настоящей книги.
Раздел I
Ф. Мерлан
ГРЕЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ ОТ ПЛАТОНА ДО ПЛОТИНА
СОКРАЩЕНИЯ
Аристотель
Anal. post.
— Вторая аналитика
De an.
— О душе
Eth. Nic.
— Никомахова этика
De gen. anim.
— О происхождении животных
De gen. et corr.
— О возникновении и уничтожении
Hist. anim.
— История животных
De div. per somn.
— О толковании сновидений
Met.
— Метафизика
Meteor.
— Метеорологика
De part. anim.
— О частях животных
Phys.
— Физика
De resp.
— О дыхании
Top.
— Топика
Платон
Pol.
— Политик
RP
— Государство
Soph.
— Софист
Theaet.
Плутарх
— Теэтет
De Is. et Os. —
De Ei —
De Pythiae or. —
De def. or. —
De sera —
De gen. Socr. —
Cons, ad ux. —
Qu. conv. —
Ad princ. iner. —
De facie —
Plat. qu. —
De an. pr. —
Adv. Col. —
Quomodo —
Теофраст Met. — Метафизика
Об Исиде и Осирисе Об «Е» в Дельфах
О том, что Пифия более не прорицает стихами
Об упадке оракулов
Почему божество медлит с воздаянием
О демоне Сократа
Слово утешения к жене
Застольные беседы
К непросвещенному властителю
О лице, видимом в лике Луны
Платоновские вопросы
О рождении души по «Тимею»
Против Колота
Как юноше слушать поэтические произведения
Глава 2
ДРЕВНЯЯ АКАДЕМИЯ
А. Введение
Неоплатонизм — это термин, которым принято обозначать философию Платона, переосмысленную Плотином и последующими платониками. Он несколько сбивает с толку,1 потому что, во-первых, может позволить счесть различие между философскими учениями Платона и Плотина более радикальным, чем на то есть основания, во-вторых, тем, что не склонен учитывать, сколь многим обязан Плотин своим предшественникам, особенно платоникам Древней Академии и платонизму V—I веков до н. э. (сегодня этот период часто называют пред-неоплатонизмом или средним платонизмом), и, наконец, тем, что дает повод предполагать, что вся платоновская традиция после Плотина несет на себе печать его философии, тогда как во многих отношениях его влияние на других платоников было весьма скромным.1 2
Как бы то ни было, в дальнейшем мы ограничимся рассмотрением тех философских учений Платона и его последователей, которые со всей определенностью представлялись наиболее значимыми для самого Плотина и знание которых позволит нам поместить его философию в исторический контекст. Мы не станем пытаться устанавливать подлинность источников этих учений или реконструировать системы, от которых до нас дошли только фрагменты; нам также незачем состязаться с apparatus fontium.*
1 Во всяком случае, это современный термин. Сам Плотин считал себя правоверным платоником (Επη. V 1 [10] 8; VI 2 [43]; VI 3 [44] 5), и на протяжении столетий это притязание никто не оспаривал.
2 Ср.: Ueberweg Е, Praechter К. Grundriss der Geschichte der Philosophic. Berlin, 1926. S. 601.
* Список источников {лат.). — Примеч. перев.
ДРЕВНЯЯ АКАДЕМИЯ
61
Мы представим только те философские учения, которые находятся в нашем распоряжении в завершенном виде и с которыми был или скорее всего был знаком Плотин. Каркасом для нашего изложения послужат четыре отрывка из «Жизни Плотина» Порфирия. В первом он говорит, что сочинения Плотина содержат учения стоиков и перипатетиков и что в них в сжатом виде присутствует вся «Метафизика» Аристотеля. Во втором Порфирий утверждает, что в школе Плотина читали Севера, Крония, Нумения, которых мы назовем платониками или пифагорейцами, Гая и Аттика, которых мы будем именовать платониками, и перипатетиков Аспасия, Александра (очевидно, Александра Афродисийского) и Адраста.1 В третьем Порфирий цитирует мнение Лонгина о Плотине, согласно которому тот был лучшим толкователем платоновского и пифагорейского учений, превзошедшим Нумения, Крония, Модерата и Трасилла.1 2 В четвертом он говорит нам, что Плотин часто выступал с опровержением гностицизма.3
Б. Философия Платона в изложении Аристотеля
Наилучшим образом выявить основные аспекты платонизма, приведшие к возникновению системы Плотина, возможно исходя из того, что выделяет в качестве главных черт философии Платона Аристотель.4 Согласно его толкованию, вместо дихотомии чувственно воспринимаемое—умопостигаемое (идеи), которой соответствует дихотомия двух способов познания — ощущения, результатом которого является только мнение, и noein, итог которого есть истина, — дихотомии, которую полностью принимает Плотин и которая, похоже, лежит в основании большинства платоновских диалогов, — Платон различает три сферы реальности: идеи (умопостигаемое), математическое и физическое (чувственно
1 Vita Plotini 14.
2 Ibid. 20. К несчастью, мы почти ничего не знаем о философских воззрениях Гая, Аспасия и Трасилла (о жизни последнего см.: Cramer F. Н. Astrology in Roman Law and Politics. Philadelphia, 1954. P. 92—108).
3 Ibid. 16 (о Плотине и гностицизме см. ниже, раздел III, гл. 12, с. 269—271; гл. 15, с. 311—312).
4 Большинство фрагментов собраны в работе Gaiser К. Platons ungeschriebene Lehre. Stuttgart, 1963. Как и Кремер {Kramer Н. J. Arete bei Platon und Aristoteles. Heidelberg, 1967), Гайзер строит свою интерпретацию, основываясь на изложении Платона Аристотелем.
62
ГРЕЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ ОТ ПЛАТОНА ДО ПЛОТИНА
воспринимаемое). Это «горизонтальное» троичное деление дополняется «вертикальным» дуализмом высших принципов — Единого и Неопределенной Двоицы. Взаимодействие этих первоначал «производит» идеи (некоторым образом получившие название чисел), а поскольку идеи являются причинами всего остального, два этих первоначала становятся всеобщими причинами.1 В собственном учении Аристотель уподобляет их формальной и материальной причинам,1 2 а также в определенном смысле отождествляет их с началами добра и зла.3
Уже не излагая, а, скорее, критикуя Платона, Аристотель поясняет, что допущение этих двух первоначал казалось Платону и его приверженцам необходимым для объяснения множественности, а именно, они полагали, что без допущения Неопределенной Двоицы в качестве высшего первоначала все сущее застыло бы в Едином Парменида.4 Плотин ясно осознает, что происхождение множественности является старой и фундаментальной проблемой.5
Порядок идеи—математическое—физическое ни в коем случае не произволен. Математическое опосредует первые и последнее таким образом, что от первых оно получает неизменность, а от последнего множественность. Поскольку и сами идеи именуются числами, такие числа должны отличаться от чисел из средней области математического. Термин идеи-числа, или идеальные числа, вероятно, и указывает на различие.6 Одно из характерных свойств идеальных чисел состоит, по-видимому, в том, что каждое уникально и не состоит из единиц, так что идеальные числа являются скорее качественными, нежели количественными сущностями и потому не подлежат сложению.
Каковы бы ни были истоки аристотелевского способа изложения философии Платона, никто в доплотиновой античности не сомневался в его правильности. Никогда не подвергалось сомнению и то, что он (как и Теофраст) верно приписывал эти учения не только Платону, но и Спевсиппу, Ксенократу, Гестию и другим
1 Met. А 6, 987Ы4—29; Z 2, 1028Ы8—32.
2 Параллельные отрывки перечислены в работе: Ross W. D. Aristotle’s Metaphysics. Oxford, 1924 (до 987b 14).
3 Met. A 6, 988a7—15; Λ 10, 1075a35—36; N 4, 1091b32; cp. ниже, c. 73.
4 Met. N 2, 1088b35—1089a6; Неопределенная Двоица называется здесь не-сущим.
5 Επη. VI 3 [44] 3.
6 Met. Μ 9, 1086a5; N 2, 1088b34; 3, 1090b35; M 7, 1081 a21; 8, 1083b3; N 3, 1090b33; A 8, 990a30; M 6, 1080b22; 8, 1083a31;N4.
ДРЕВНЯЯ АКАДЕМИЯ
63
платоникам, оставшимся безымянными. Наконец, предполагалось, что главным источником аристотелевского изложения были akroasis,1 synousia,1 2 agraphoi synousiai,3 то есть лекция или курс лекций Платона под названием «Благо», или «О благе», текст которых был отредактирован самим Аристотелем, Спевсиппом, Ксенократом, Гестием, Гераклидом и другими платониками.4 Не все из них придерживались сходных взглядов. Они расходились, например, в объяснении отношения между сферой идей и сферой математического, кроме того, терминология, касающаяся двух высших принципов, практически у каждого автора своя. И все же их объединяло допущение области бытия, занимающей срединное положение между тем, что они считали высшей бытийной сферой (идеи или математическое, причем как в смысле идеальных математических сущностей, так и в обычном значении предметов математики, и, наконец, как идеи, тождественные математическим предметам), и тем, что воспринимается чувствами. Интересную разновидность этого троичного деления предлагает сам Аристотель, когда делит реальность на области неизменного, астрономического и чувственно воспринимаемого.5 Кроме того, эти платоники вместе допускали в качестве высших принципов Единое и Неопределенную Двоицу (говоря аристотелевским языком — материю, у других известную под иными именами), хотя вскоре обозначились разногласия относительно того, равноправны ли первое и вторая в абсолютном смысле.6 Довольно продолжи-
1 Aristoxenus. Harmonics / А сига di R. da Rios. Roma, 1954. R 39; Simpl. In Phys. 151, 10 Diels.
2 Simpl. In Phys. 454, 18 Diels; De an. 28, 7 Hayduck.
3 Simpl In Phys. 542, 11 f.; 545, 23 f. Diels; Philop. In Phys. 521, 10. 14 Vitelli; De an. 75, 34 ff. Hayduck.
4 Alexander Aphrodisias. In Met. 56, 33 Hayduck; Simpl. In Phys. 151, 6; 453, 28; 454, 19; 247, 30—248, 15 Diels; cp.: Speus. Fr. 33a. 51 Lang; Teophr. Met. 11; Скорее всего, на эту самую лекцию позднее ссылается и Плотин в Enn. V 1 [10]
5 и V [7] 2.
5 Met. L 1, 1069а30—36. Cp.: Merlan Р. Aristotle’s Unmoved Movers // Traditio. 1946. IV. P. 1—30, особенно p. 4 ff. В сущности, это троякое деление принадлежит Ксенократу (Fr. 4 Heinze), заменившему эпистемологический дуализм Платона αϊσθηςις—νόησις трояким αϊσθηςις, δόξα, νόησις (Fr. 5 Heinze).
6 Гермодор был, пожалуй, первым тому свидетелем (Simpl. In Phys. 247, 31—248, 15 Diels); См. FestugiereA. J. La R0v0lation d’Hermes Trism0giste. Vol. IV. Paris, 1954. P. 307—314. Важно понимать, что монистическая интерпретация учения о принципе двух противоположностей оказывается практически невозможной, если Неопределенная Двоица отождествляется со злом. Cp.: Merlan Р. Monismus und Dualismus bei einigen Platonikem // Parusia. Frankfurt, 1965. S. 143—154.
64
ГРЕЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ ОТ ПЛАТОНА ДО ПЛОТИНА
тельное время Аристотель и сам выводил всю полноту реальности из двух противоположных принципов, на которые иногда ссылался как на сущее и не-сущее.1
Введение математического в качестве промежуточной области между идеями и чувственно воспринимаемыми вещами, возможно, покажется менее неожиданным, если вспомнить, что демиург в платоновском «Тимее», налагая порядок (kosmos) на хаос (вместилище, подверженное неупорядоченным изменениям) и используя идеальный космос в качестве прообраза, «творит» душу мира. Это сотворение Платон описывает так, что остается неясным, говорит ли он о том, что обычно называют душой, или, скорее, о некотором математическом единстве (или, во всяком случае, о единстве, имеющем строго арифметико-геометрическую структуру). В самом деле, Крантор, современник Полемона, ставшего преемником Ксенократа на посту главы Академии, истолковал «психогонию» «Тимея» как «арифмогонию», то есть «возникновение» чисел как первой сферы реальности из неких высших принципов, очевидно имеющих отношение к Единому и Неопределенной Двоице.1 2 Иными словами, в рамках платонизма появляется любопытное соотнесение математического и (мировой) души. Спевсипп и Ксенократ оба определяли и описывали душу как некую математическую сущность: первый говорил о душе как о форме того, что простирается во всех направлениях, построенной согласно математическим соотношениям; Ксенократ же определял душу как изменяющееся число. Словом, складывается впечатление, что «Тимей» и учения Спевсиппа и Ксенократа указывают на своего рода равенство между математическим и душой, при этом не важно, берем ли мы мировую или индивидуальную душу.3 И ту, и другую возможно рассматривать в качестве промежуточной между идеями (мыслимым) и физическим (чувственно воспринимаемым).
Каково отношение между указанными сферами бытия? По- видимому, Аристотель считает, что нижние сферы были в определенном смысле произведены или порождены высшей. И это особенно поразительно в отношении чувственных вещей. Согласно большинству современных исследователей, идеи, математическое, высшие принципы как таковые, если они вообще существуют,
1 Ср.: Merlan Р From Platonism to Neoplatonism. Hague, 1960. P. 204 ff.
2 Plut. De an. pr. 2, 1012d.
3 Zeller E. Die Philosophic der Griechen in ihrer geschichtlichen Entwicklung. Bd. II/l. Leipzig, 1922. S. 780—784.
ДРЕВНЯЯ АКАДЕМИЯ
65
обладают только идеальным существованием и потому не могут привести что бы то ни было к пространственно-временному существованию (в этом смысле большинство наших современников являются аристотеликами, поскольку вместо идеальных начал и причин или в дополнение к ним требуют движущей причины, без которой, сколько ни напрягай воображение, «действительное», то есть существующее в пространстве и времени, произойти не могло). И все же невозможно избежать впечатления, что сложившееся в Академии систематическое учение о «порождении» некоторым образом должно было объяснить вступление в бытие всего, включая пространственно-временное сущее, без вмешательства приводящей в движение причины.1 Теофраст упрекает тех платоников, кому не удалось показать это порождение в подробностях, и, напротив, восхваляет Платона и Гестия за предпринятую ими попытку это сделать.1 2
Кажется очевидным, что это академическое систематическое учение о порождении во многих отношениях сходно с плоти- новским учением об эманации.3 Отметим два наиболее важных различия. Во-первых, ясно, что в академическом учении Единое, хотя и является высшим принципом, все же не есть единственный высший принцип, поскольку о нем всегда говорят в связи с Неопределенной Двоицей, как бы ни рассматривалось их соотношение. Во-вторых, несмотря на то, что высшая сфера бытия (идеи, идеальные числа, умопостигаемое) приблизительно соответствует плотиновской второй ипостаси, то есть уму,4 а сфера чувственно воспринимаемого — соответствующей ипостаси в его системе, для Плотина средняя ипостась есть ипостась души и ни в коем случае не математического.*
1 Merlan Р. From Platonism to Neoplatonism. P. 197—201. См., например: Met. Z 2, 1028Ы8—27; De caelo III 299a2—300al9; Theophr. Met. 12—13.
2 Met. 11.
3 Robin L. La th0orie platonicienne des Id0es et des Nombres d’apres Aristote. Paris, 1908. P. 600.
4 «Умопостигаемое» (intelligence) — таким образом мы будем переводить здесь слово νους. Соответственно, νοειν мы будем переводить как «постигать умом» (intelligize).
* См.: Merlan Р Zur zahlenlehre im Platonismus (Neuplatonismus) und in Sefer Yezira // Journal of the History of Philosophy. 1965. III. P. 167—181. — Примеч. A. X. Армстронга к изданию 1970 г.
66
ГРЕЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ ОТ ПЛАТОНА ДО ПЛОТИНА
В. Некоторые аспекты теории идей в платоновских диалогах: Единое и благо
Нелегко распознать идеи, как они рассматриваются в диалогах Платона (вечносущие образцы, которые созерцала душа до своего воплощения), в аристотелевском изложении, согласно которому идеи суть производные от двух высших первоначал и тем самым содержат в себе Неопределенную Двоицу (материю) и так далее. Идеи, согласно Платону, не только не имеют над собой никакого более совершенного начала, но и не выказывают никакого порядка или иерархии, за одним исключением: в «Государстве» идея блага помещена Платоном выше других идей.1 И один аспект этого превосходства выражен в формуле, согласно которой высшая идея находится «за пределами» сферы сущего (ousia) (или «превыше» ее). Это высказывание поразительно, потому что в целом в платоновских диалогах идеи представляют собой истинно сущее в противоположность вещам, относящимся к сфере чувственно воспринимаемого. И хотя этот отрывок в творчестве Платона стоит особняком, для Плотина он, несомненно, имеет первостепенную значимость. Плотин отождествляет свое Единое с благом и помещает его над сущим.
Чуждым мысли Платона представляется и выведение чувственно воспринимаемого из умопостигаемого, но снова за одним исключением. В «Законах» читаем любопытное описание процесса становления (возникновения). «Ясно, что это бывает тогда, когда первоначало, приняв приращение, переходит ко второй ступени, а от нее к ближайшей следующей; дойдя до этой третьей, оно становится ощутимым для тех, кто способен ощущать. Так вот, путем таких переходов и перемещений и возникает все».1 2 Складывается впечатление, что Платон действительно выводит чувственно воспринимаемое из математического и полагает это, что странно, чем-то само собой разумеющимся. Однако при этом данный отрывок стоит особняком в письменном наследии Платона и, насколько нам известно, ни разу не упоминается Плотином.3
1 VI 509с.
2 X 894а (пер. А. Н. Егунова).
3 Этот отрывок обсуждается, например, в работе: Cornford F. М. Plato and Parmenides. London, 1939. P. 14 f., 198. Пожалуй, сочувствующие бергсонизму философы воспримут с симпатией и принцип происхождения; материя (материальное, пространственно-временная реальность) есть результат утраты духом своего ё1ап — «жизненного порыва».
ДРЕВНЯЯ АКАДЕМИЯ
67
Когда Платон говорит, что идеи суть истинное бытие,* он всегда подразумевает, что они неизменны (неподвижны), но и здесь имеется исключение, а именно в диалоге «Софист». В нем протагонист внезапно обращается против тех, кто полагает идеи лишенными ума (nous), изменчивости (движения) и жизни.1 Опять- таки этот отрывок стоит в трудах Платона особняком, и многие современные исследователи силятся заслониться от его поразительного характера, утверждая, будто на самом деле данный отрывок означает следующее: изменение (движение) должно принадлежать сфере существования, включающей в себя как идеи, так и чувственно воспринимаемую реальность.1 2 Для Плотина (и для большинства его последователей) этот отрывок в высшей степени важен. Тремя фундаментальными качествами второй ипостаси становятся бытие (идеи), постижение умом (noein, то есть недискурсивное, или интуитивное, мышление) и жизнь3 — триада, которую возможно, кстати, также вывести из высказывания Аристотеля «деятельность ума есть жизнь»,4 если помнить о том, что для Стагирита ум в своей постигающей деятельности тождествен умопостигаемому, а для Плотина умопостигаемое тождественно идеям, то есть тому, что есть.5
Приписав движение, мышление и жизнь истинно сущему, Платон перечисляет пять основных качеств, конституирующих идеи, а именно бытие, движение, покой, тождественность и инако- вость.6 Этими пятью «категориями» Плотин предлагает заменить десять аристотелевских в качестве основополагающих для сферы умопостигаемого sensu latiori.7 **
Еще один отрывок из «Софиста» довольно важен для Плотина. Чтобы ввести жизнь, мышление и движение в сферу истинно сущего, Платон задает риторический вопрос: можно ли предположить, что истинно сущее безжизненно, не мыслит и торжественно
1 248е—249Ь.
2 См., например: Cornford F. М. Plato’s Theory of Knowledge. London, 1935. P. 244—247. Cp.: Vogel C. J. Platon-a-t-il ou n’a-t-il pas introduit le mouvement dans son monde intelligible? // Actes du XI Congres International de Philosophie. 1953. XII. P. 61—67.
3 Например: Enn. I 6 [I] 7; III 6 [26] 6; V 4 [7] 2; V 6 [24] 6.
4 Met. Λ 7, 1072b27.
5 Cm.: Hadot P. Etre, Vie, Pens0e, chez Plotin et avant Plotin // Les Sources de Plotin. 1960. Vol. V. P. 107—157.
6 254b—255e.
7 Cm.: Enn. VI 2 [43] 7—8.
* В пер. С. А. Ананьина — «совершенное бытие». — Пргшеч. перев.
** В более широком смысле {лат.). — Примеч. перев.
68
ГРЕЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ ОТ ПЛАТОНА ДО ПЛОТИНА
неподвижно (semnon kai hagion)?1 Удивительно, но Плотин истолковывает это место в том значении, что качествами, которые, по Платону, невозможно приписать истинно сущему, надлежит описывать природу того, что превыше сущего.1 2
Ранее уже говорилось о том, что идеи в том виде, в каком они представлены в диалогах Платона, трудно распознать в идеях как производных от Единого и Неопределенной Двоицы. Впрочем, один диалог мог бы, вероятно, послужить мостом от первых ко вторым. В диалоге «Филеб», кажется, впервые об идеях говорится как о монадах и генадах (единичностях)3 — такова, во всяком случае, одна из возможных интерпретаций; согласно другой, понятия монады и генады относятся ко всему сущему вообще. Это напоминает нам о том, что Платон действительно всегда изображал идеи как одно над множеством чувственно воспринимаемых вещей, и в этом смысле понятия монады и генады вполне возможно интерпретировать как свойства идей. Однако затем Платон вводит понятия «предела» и «беспредельного» и говорит о них в таком ключе, который предполагает толковать их в качестве высших принципов всего, в том числе самих идей. Если мы теперь отождествим «предел» и «беспредельное» с Единым и Неопределенной Двоицей, «Филеб» и в самом деле позволит нам показать некоторое сходство между двумя указанными аспектами теории идей.
Конечно, Плотин так же близко знаком с аристотелевским изложением Платона,4 как и с платоновским «Филебом».5 И хотя нет свидетельств того, что он отвергал такое изложение на корню, явный дуализм диалога, как мы уже говорили, был для него неприемлем. Это станет очевидным для нас при рассмотрении дискуссии, касающейся плотиновского понятия материи.6 Однако остается несомненным и то, что Плотин пытался так или иначе вместить аристотелевское изложение в свою систему, например приписывая роль Неопределенной Двоицы всей второй ипостаси, отводя при этом роль платоновского Единого своему
1 248е—249а.
2 Enn. VI 7 [38] 39. Данная интерпретация Плотина обсуждается в работе Volkmann-Schluck К.-Н. Plotin als Interpret der Ontologie Platos. Frankfurt, 1957. S. 130—135.
3 15a—c; 23c.
4 Так же как и Александр Афродисийский (In Met. 52, 10—56, 35 Hayduck; см. также: Simpl. In Phys. 454, 19—455, 11 Diels).
5 См. индекс Брейе.
6 См. ниже, с. 74—75.
ДРЕВНЯЯ АКАДЕМИЯ
69
Единому.1 Таким образом, он на свой лад переосмысливает платоновский дуализм. В дальнейшем мы увидим, что в этом он не был первым.1 2
Понятие Единого встречается также в «Законах»3 и «После- законии» (в настоящем контексте вопрос о подлинности последнего не представляет интереса: многие в период между Платоном и Плотином считали это сочинение аутентичным; другие не без основания видели в нем труд Филиппа Опунтского). Не вполне ясно, относится ли это понятие к единству идеи в противовес множественности чувственно воспринимаемых вещей или оно означает некое единство (Единое), превосходящее идеи. Когда «Послезаконие» предписывает нам искать Единое во всех изучаемых предметах и обещает нам, что как только мы сами станем едиными, то сможем узреть Единое и этим исполним высшее предназначение человека,4 создается впечатление, что понятие Единого играет ведущую роль в философии Платона, не сводимую к роли идей, противоположных чувственно воспринимаемым вещам.
В «Пармениде» понятие Единого занимает несомненно центральное место. В этом диалоге доказывается следующее: что бы мы ни стали утверждать (или отрицать) относительно Единого, мы обнаружим себя запутавшимися в парадоксах и противоречиях. Один из таких парадоксов заключается в том, что Единое, если оно существует, никаким способом не может быть названо или познано, а следовательно, вынуждены мы предположить, оно невозможно. Как бы то ни было, спор о Едином ведется в «Пармениде» таким удивительным образом, что в целом его можно счесть всего лишь упражнением в эристике, оперирующим скорее пустыми понятиями, чем какими-либо действительными сущностями. Плотин был первым,5 кто интерпретировал «Парменида» в качестве серьезного изложения учения о Едином как высшей реальности.6 Таким образом, вышеупомянутое утверждение относительно непо¬
1 Επη. V 4 [7] 2. Он также выводит числа и идеи из Единого и Неопределенной Двоицы (там же).
2 А выше (с. 64) только указывали на это.
3 XII 962е—965е.
4 986d; 991 е—992Ь. Этот фрагмент цитируется Плотином: Enn.VI 9 [9] 3. Другая цитата из «Послезакония»: VI 7 [38], I 1 (Schwyzer H.-R. Plotinos // RE. 1951. Bd. XXI/1. Col. 551).
5 Одним из первых — см. ниже, с. 148—149.
6 Альбин все еще расценивает этот диалог в качестве предшествующего собственно философскому учению (Isag. 3; Didasc. 4).
70
ГРЕЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ ОТ ПЛАТОНА ДО ПЛОТИНА
знаваемости Единого могло бы выразить подлинный агностицизм, отвечающий самой природе Единого.1
In summa мы могли бы сказать, что Единое появляется в диалогах Платона, но это появление весьма призрачно.1 2 Плотин вдыхает в призрак жизнь, и отвергать его действие как абсолютно незаконное не представляется возможным.
«Парменид» для Плотина исключительно важен еще и в том отношении, что в этом диалоге вводится понятие (и проблема) нераздельного присутствия идеи во множественном.3
Akroasis Платона о благе уже упоминалась.4 Следует рассмотреть еще один кульминационный или заключительный отрывок. Как именно он связан с учением о принципе двух противоположностей, сказать сложно. Ближе к концу лекции (чтобы, возможно, подвести общий итог5) Платон провозглашает благо (благое) Единым.6 И здесь вновь понятие Единого появляется не случайно. Поговорим об этом фрагменте позднее.
Г. Космогония и психология Платона
Теперь обратимся к некоторым другим учениям платоновских диалогов. Из всех них только «Тимей» целиком посвящен одной из главных тем философов-досократиков, а именно космогонии. Согласно «Тимею», мировой порядок (или наш упорядоченный мир) является произведением бога, которого Платон называет демиургом. Он назван благим, и о нем сказано, что, сотворяя миропорядок, он взирает на идеальный образец, называемый живым и одушевленным сущим, содержащим в себе идеи (и в этом акте взирания о нем говорят как об уме), и тогда приступает к созданию его образа из до-сущего хаоса, называемого им пространством, кормилицей, вместилищем.7 А поскольку образ тоже должен быть одушевлен и умозрим и так как умозрение не может существовать нигде, кроме как в душе, демиург создает мировую душу из вещества, составленного из «неделимого» и «того, что претерпевает разделение в телах», «тождественного» и «иного». Тогда он творит
1 См., например: Enn. VI 7 [38] 32.
2 Но ср.: Kramer Я. J. Arete bei Platon und Aristoteles. S. 487—505.
3 Parm. 131b; cp.: Enn. VI4, 5.
4 См. выше, c. 63.
5 См. ниже, c. 158.
6 Aristoxenus. Harmonics. P. 39 f.
7 28c—30d; 39e.
ДРЕВНЯЯ АКАДЕМИЯ
71
элементы наложением геометрических форм на уже присутствующие в хаосе зачатки этих форм, строит из них тело мира, обернув его мировой душой, создает упорядоченный мир, который есть одушевленное сущее.1
По мере того как он переходит к творению всех родов сущего, которые будут населять космос, он, в частности, создает индивидуальные души, причем из того же вещества, из которого до этого была создана мировая душа, хотя смесь, составляющая материал индивидуальных душ, менее совершенна, чем та, что лежит в основе космической души.1 2 В надлежащее время он приказывает нижестоящим богам добавить к индивидуальным душам, сотворенным им бессмертными, другие, смертные части.3 По окончании первого воплощения все человеческие души будут подвержены переселению в тела других людей или зверей.4
Все эти учения (мировая душа и индивидуальные души; их бестелесность и бессмертие, то есть предначальное и последующее существование индивидуальных душ; реинкарнация, включая переселение душ в тела зверей, Плотин добавляет — растений) с некоторыми видоизменениями появляются в системе Плотина. Одно из них подчеркивается особо и состоит в следующем: хотя души и различны, все они суть одна душа. Впрочем, Платон в определенной степени предвосхитил это учение, утверждая в «Тимее», что мировая душа и индивидуальные души составлены из одного и того же исходного «вещества», что души являются производными души мира, или отрицая, по Плотину, существование индивидуальных душ и оставляя только одну мировую душу.5 Среди интерпретаций этих отрывков из текстов Платона Плотин отвергает те, по которым наши души являются частями души мира; мировая и индивидуальные души суть одно.6 И это учение о единой природе душ играет очень важную роль в философии Плотина. Оно обеспечивает единство космоса и объясняет, почему все его части пребывают в симпатии друг с другом, что в свою очередь проясняет то, что мы сейчас назвали бы оккультными феноменами, например действия на расстоянии, магию, результативность молитв (несмотря на тот факт, что боги не «слушают» человека и не осуществляют никаких произвольных действий).
1 34Ь—35а.
2 31 d—е.
3 41 с—d.
4 41е—42е.
5 Phaedr. 246b; ср.: Enn. IV 3[27] 1 7.
6 Enn. IV [27] 1—8; IV 9 [8].
72
ГРЕЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ ОТ ПЛАТОНА ДО ПЛОТИНА
В высшей степени загадочным является описание вещества, из которого образована душа.1 Это смесь, назначение которой, очевидно, в том, чтобы отвести душе промежуточное место между сферами неизменного и меняющегося. Однако, притом что сама идея промежуточности души ясна, не ясен смысл понятий, описывающих составные части «вещества» души (ключевыми являются понятия «неделимое», «делимое», «тождественное», «иное»). Начиная с Крантора, написавшего первый комментарий к «Тимею»,1 2 снова и снова предпринимаются попытки дать определение вышеупомянутых понятий.3 Несколько интерпретаций всего этого отрывка из «Тимея» предлагает и Плотин.4 Однако здесь налицо изменение перспективы, поскольку, хотя и можно сказать, что в философии Плотина душа занимает промежуточное положение между сферой умозримого и сферой чувственно воспринимаемого, она все же гораздо ближе к первой, чем ко второй.
В дополнение к своему промежуточному положению душа в философии Платона должна выполнять еще одну исключительно важную функцию: движимая самой собою (или, лучше сказать, будучи само-движением),5 она является источником всякого движения (изменения) в универсуме. Эта теория души связана с еще одной важной проблемой — проблемой происхождения зла.
Аристотель утверждает, что Неопределенная Двоица является также источником зла.6 Но найдется ли в диалогах Платона какое-либо сущее, которое, с одной стороны, было бы сравнимо с Неопределенной Двоицей, а с другой, понималось бы как первопричина зла?
В своих диалогах Платон не раз признает, что упорядоченным движениям в универсуме противостоят беспорядочные. Но где начало беспорядка? Вопрос усложняется вышеупомянутым учением Платона о душе как единственном источнике движения. Похоже, нам не остается ничего другого, как допустить, что существует «злая» душа или «злые» души, ответственные за беспорядок. И действительно, в «Законах» и «Послезаконии» изложена такая точка зрения.7 С другой стороны, поскольку в «Тимее» Платон
1 Tim. 35а.
2 Proclus. In Tim. Vol. I. S. 277, 8 Diehl.
3 Исследование основных решений этой задачи можно найти в Plut. De an. pr.
4 Enn. Ill 4 [15] 6; IV I [21]; IV 2 [4] 1; IV 3 [27] 19; IV 9 [8] 3.
5 Legg. X 896a.
6 Met. A 6, 988al4—15; A 10, 1075a32—6; M 8, 1084a35; N 4, 1091ЫЗ— 1092a3; cp.: Eud. Fr. 49 Wehrli.
7 Legg. 896c; 898c; 904a; Epin. 988d—e.
ДРЕВНЯЯ АКАДЕМИЯ
73
говорит о беспорядочном движении «восприемницы», можно утверждать, что эта «восприемница», по сути, тождественна тому, что в философии Аристотеля именуется материей и что неупорядоченное движение есть ее неотъемлемое свойство или, иначе говоря, что материя есть первоисточник зла.1 Таким образом, можно с уверенностью заявить, что Неопределенную Двоицу, злую душу и беспорядочно возбуждаемую самой собою восприемницу Платон считал началом зла.1 2
Для Плотина учение о злой мировой душе совершенно неприемлемо, ибо душа, как уже говорилось ранее, слишком близка к сфере ума. Но поскольку Плотин, подобно Платону, тем не менее допускает существование зла, ему остается выбирать из двух: Неопределенной Двоицы и восприемницы.
Аристотель, несомненно, отождествлял одну и другую с тем, что в его собственной системе называется материей, хотя его материя существенно отличается от обеих. В отличие от первой, материя не имеет своей противоположности, но, скорее, есть то, что подлежит разделению на противоположности; от второй она отличается тем, что она есть то, из чего, а не то, во что образован чувственно воспринимаемый мир. Кроме того, с материей, как правило, обращаются как с совершенно относительным понятием. Будучи тем или этим всегда только в возможности, а в действительности всегда чем-то иным, существует только некая ближайшая материя, в то время как первичная или исходная3 материя есть очень сомнительное, в лучшем случае пограничное понятие.
1 См.: Met. А 6, 988а14; Phys. I 9, 192а 14; см. выше, с. 62.
2 Кроме того, в диалоге «Политик» (269с—270а) говорится о чередовании этапов космоса и хаоса в силу своего рода врожденной инерции универсума, под воздействием которой, не будучи «направляемым» учредителем порядка, универсум впадает в беспорядок. Это учение (миф) будет использовано Плутархом и Севером для объяснения периодичного разрушения и восстановления космоса — учения, принятого пифагорейцами, стоиками {Zeller Е. Die Philosophic der Griechen. Bd. III/I. Leipzig, 1909. S. 157, n. 2) и Плотином (Επη. V 7 [38] 1—3; IV 3 [27] 12); см. ниже, с. 132. Другие отрывки, указывающие на элемент противостояния порядку: Tim. 48а; 56с (ср.: Theophr Met. 33). О том, что зла в универсуме больше, чем блага: RPII 379с; Pol. 273d; Theaet. 176а. Ср.: Zeller Е. Die Philosophic der Griechen. Bd. II/I. S. 765, n. 5.
3 См., например: Zeller E. Die Philosophic der Griechen. Bd. II/2. Leipzig, 1921. S. 320, n. 2; Wieland W. Die aristotelische Physik. Gottingen, 1962. S. 209—211; Cencillo L. Hyle. Madrid, 1958. P. 39. Плотин говорит ο άπλως ύλη (Enn. II4 [12] 11, 24). Cp.: King Η. R. Aristotle without Prima Materia // Journal of the History of Ideas. 1956. XVII. P. 370—389; Solmsen E Aristotle and Prime Matter // Ibid. 1958. XIX. P. 243—252; Merlan P. Zwei Bemerkungen zum Aristotelischen Plato // Rheinisches Museum. 1968. CXI. S. 1—15. Ср. ниже, c. 74, прим. 6.
74
ГРЕЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ ОТ ПЛАТОНА ДО ПЛОТИНА
И, наконец, материя Аристотеля в целом нейтральна и потому источником зла не является (существование зла Аристотель вообще сводит к минимуму, предпочитая учение о несовершенстве).1
Плотин, как и подавляющее большинство платоников и стоиков, позаимствовал у Аристотеля понятие «материи» и, в общем, также отождествил его как с Неопределенной Двоицей, так и с восприемницей Платона.1 2 Тем не менее принять аристотелевское учение о нейтральной материи он не смог, поскольку в противном случае лишился бы возможности объяснять зло. Таким образом, первопричиной зла для него стала материя.3
И все же это допущение ввергло Плотина в серьезное затруднение. Аристотель отождествлял свою материю с Неопределенной Двоицей, но Неопределенная Двоица была одной из составляющих идей (умопостигаемого).4 Оказывалось, что зло присутствует в идеях как таковых, или, согласно системе Плотина, в сфере ума. Плотин пытался выбраться из этого затруднения, допустив существование двух материй,5 одна из которых соответствует Неопределенной Двоице и тем самым присутствует в идеях,6 в то время как другая — только в чувственно воспринимаемом. Предполагалось, что источником зла является только вторая.7 Однако, поступив таким образом, Плотин создал для себя новую трудность: как соотнести две эти материи? Плотин представил первую в качестве идеального образца второй,8 отчего сделалось еще менее понятным, почему низшая материя могла бы стать источником зла. Более того, допущение двух материй вынудило его допустить и два начала материи. Низшая материя появлялась только в конце процесса эманации либо как производное души, либо как такая сфера, которая начинается там, где заканчивается
1 Впрочем, сам Аристотель говорит о κακοποιόν материи (Phys. I 9, 192а15). Ср.: Zeller Е. Die Philosophic der Griechen. Bd. II/2. Leipzig, 1921. S. 331; 427—436.
2 Enn. II 4 [12] 7; III 6 [26] 16—18.
3 Enn. I 6 [1] 5; I 8 [51] 3, 35^0; I 4, 10—14; II4 [12] 16.
4 Эта проблема хорошо известна интерпретаторам Платона: был ли прав Аристотель, когда утверждал, что для Платона материя, присутствующая в чувственно воспринимаемом (обозначенная как Неопределенная Двоица), и материя в идеях одна и та же (Phys. Ill 4, 203а9—10; IV 2, 209b33; Met. А 6, 988а7—14; ср.: Zeller Е. Die Philosophic der Griechen. Bd. II/I. S. 750—760)?
5 Enn. II 4 [12].
6 Осуществить это ему во многом позволило аристотелевское понятие умопостигаемой материи. Однако Аристотель использовал соответствующее этому понятию учение в целях, совершенно отличных от Плотиновых.
7 Enn. 18 [51] 3,8.
8 Enn. II 4 [12] 3.
ДРЕВНЯЯ АКАДЕМИЯ
75
душа, подобно тому как там, куда не достигает свет, темно. Что касается высшей материи, она, по-видимому, возникла из Единого напрямую. Для Плотина и многих других платоников (например, для Сириана и Прокла1) проблема (одного или двух) начал материи встает снова и снова. Похоже, что она так и не была удовлетворительно разрешена.1 2
Психология «Тимея» объединяет его с рядом других платоновских диалогов, содержащих учения о бессмертии и переселении душ. Правда, поскольку утверждения Платона о природе души противоречивы (непонятно, почему современные исследователи прилагают столь значительные усилия, чтобы доказать обратное), нелегко сказать, что, собственно, означает для Платона слово «бессмертный». Исходя из диалога «Федон»,3 душа не имеет частей, а потому вся целиком бессмертна. В «Федре»4 даже невоплотившиеся души имеют части, примерно соответствующие трем частям, которые в «Государстве» приписываются воплотившимся душам, а именно разумной, негодующей (яростной) и вожделеющей,5 при этом бессмертна вся душа в целом. В «Тимее» две нижних части души совершенно определенно объявлены смертными,6 и сохраняется, таким образом, только разумная ее часть. Из этого никоим образом нельзя сделать вывод, что Платон желает изложить единственное незыблемое учение о природе души и ее бессмертии. Проблема реинкарнации также не имеет однозначного решения. Иногда Платон говорит о реинкарнации как о результате некоего универсального закона, который устанавливает бесконечный цикл перерождений,7 иногда утверждает, что только некоторые души воплощаются по причине какой-либо оплошности, совершенной ими в бесплотном существовании при созерцании идей и приведшей к «падению».8 С этого падения начинается цикл перерождений, из которого тем не менее возможно
1 См.: Praechter К. Syrianos // RE. 1932. Bd. IV/2 (особенно col. 1754 f.); Beutler R. Proklos // RE. 1957. Bd. XXIII/1 (особенно col. 242 f.). Cp.: Vogel C. J. La th0orie de Γάπειρον chez Platon et dans la tradition platonicienne // Revue philosophique. 1959. CXLIX. P. 21—39.
2 О других трудностях, связанных с плотиновским пониманием материи, см.: RistJ. М. Plotinus on Matter and Evil // Phronesis. 1961. VI. P. 154—166.
3 78c.
4 246a—b.
5IV 438e—441b.
6 См. выше, c. 71.
7 RP X 617d.
8 Phaedr. 248c.
76
ГРЕЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ ОТ ПЛАТОНА ДО ПЛОТИНА
окончательное высвобождение.1 И наконец, иногда первое воплощение назначается божеством и не является результатом какой- либо оплошности или проступка.1 2 И хотя Платон часто отзывается о теле как о темнице или о могиле,3 это сравнение с очевидностью неприложимо к воплощению последнего описанного типа. Ту же непоследовательность мы обнаруживаем у Платона и в отношении состояния души после смерти. В общем, предполагается, что существует некоторое промежуточное состояние между одним воплощением и последующим (награда, наказание, восстановление бестелесного существования),4 но по крайней мере однажды Платон высказывает предположение, что души, покидающие свои тела «нечистыми», немедленно влекутся к новым.5
В итоге, мы могли бы сказать, что воплощение и перевоплощение имеют в сочинениях Платона «нейтральный», «оптимистический» и «пессимистический» аспекты. Воплощение космической души, вне всякого сомнения, понимается Платоном как нечто благое.
Как бы то ни было, принадлежащие Платону теории бессмертия и воплощения, последовательные или непоследовательные, а также сопутствующее им учение о припоминании считаются обычно средоточием его философского учения. Примечательным исключением является «О мировой душе» псевдо-Тимея Локр- ского, один из параграфов которого, не вполне созвучно с остальным текстом, прямо заявляет, что все это платоновское учение есть pia fraus* для тех, кто без него не склонен вести жизнь, устремленную к добродетели (arete).6 Однако для Плотина это учение Платона, очевидно, имеет ключевое значение, хотя из-за платоновской непоследовательности он не чувствует себя на твердой почве, когда дело доходит до объяснения причины воплощения индивидуальных душ (причина воплощения мировой души ни у него, ни у Платона в объяснении не нуждается) именно потому, что он пытается создать законченное учение.7 В своей космологии он склоняется к оптимистической точке зрения: воплощение есть
1 Phaedr. 248с—249а; Tim. 42с.
2 Tim. 41е.
3 Phaedo 66b—67b; 79с; Gorg. 493а.
4 RP X 613е—621b; Phaedo 113d—114c; Gorg. 524a—526c; Phaedr. 248a—249d.
5 Phaedo 81b—e.
6 104d—e; см. ниже, c. 162.
7Enn. IV 8 [6] 1.
* Благочествиый обман {лат.). — Примеч. перев.
ДРЕВНЯЯ АКАДЕМИЯ
77
«естественное» событие, и потому никого не следует винить; в этическом же контексте он пессимист и в воплощении видит одно из несчастий души. В конце концов, по его же словам, он разрабатывает собственное оригинальное учение: душа в действительности не является падшей и даже в нас продолжает жить жизнью более высокого уровня, жизнью ума, только мы этого не осознаем.1 Более того, бессмертие для него означает также бессмертие душ растений,1 2 между тем как Ксенократ и Спевсипп ограничивали бессмертие душами животных.3
Теперь мы можем вернуться к платоновской космогонии.
Описание космогонического процесса предваряется вопросом: существовал ли космос извечно или он возник? А ответ таков: он возник.4
Об этом аспекте платоновского учения мы поговорим позднее.5
Д. Письма Платона
До сих пор мы обсуждали три основных источника нашего знания о платонизме: изложение Аристотеля, диалоги и конспекты akroasis о благе (о благом). Остался еще один — письма Платона, особенно Второе, Шестое и Седьмое.6 Второе содержит что-то вроде шифровки, назначением которой было передать некий очень важный аспект платоновской мысли. Согласно ему, «все тяготеет к царю всего и все совершается ради него, он — причина всего прекрасного; ко второму тяготеет второе, к третьему — третье».7 Шестое письмо содержит ссылку на бога, управляющего универсумом, и на другого, его отца, очевидно стоящего выше него.8 Седьмое письмо сообщает нам, что тому, что с очевидностью
1 IV 8 [6] 8. В вопросе о том, пала ли душа в действительности или нет, последователи Плотина разделились (см., например, мнение Ямвлиха в Simpl. De an. 5, 38—6, 17 Hayduck).
2 Επη. IV 7 [2] 14.
3 Olymp. In Phaedo / ed. W. Norvin. Leipzig, 1913. S. 124, 16 (раздел D).
4 Tim. 28d.
5 См. ниже, c. 96.
6 Во времена Плотина никто не сомневался в их подлинности. Плотин цитирует Второе (I 8 [51] 2; III 5 [50] 8; V I [10] 8; V 3 [44] 17; VI 7 [38] 42), Шестое (VI I [42] 8) и Седьмое (V 3 [44] 17; VI 9 [9] 4; II 6 [17] 1). См.: Schwyzer H.-R. Plotinos // RE. 1951. XXI/I. Col. 551.
7 312e (пер. С. П. Кондратьева).
8 323d.
78
ГРЕЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ ОТ ПЛАТОНА ДО ПЛОТИНА
представляет собой ядро платоновской мысли, невозможно обучить тем же способом, каким обучают любым другим областям знания, но что в результате длительных усилий в душе как будто вспыхивает искра и так рожденное пламя дальше горит само собой.1 Иначе говоря, Седьмое письмо наводит на мысль о том, что доступ к философии Платона можно получить только в своего рода «сатори», во внерациональном опыте.1 2
Ни одно из этих трех высказываний не вписывается в контекст платоновского учения, каким мы его знаем по трем другим источникам.3 В то же время все три отрывка в достаточной мере неясны и допускают несколько интерпретаций. И все же очевидно, что все три могли быть с легкостью позаимствованы Плотином: Второе письмо — чтобы найти у Платона свои три ипостаси, Шестое — чтобы поместить бога выше творца, Седьмое — чтобы пояснить, что есть невыразимый словом союз с Единым.
Е. Учение Спевсиппа о двух противоположных первоначалах
Мы уже отмечали, что среди учеников Платона было распространено учение о двух противоположных первоначалах. Особенно замечателен в этом отношении Спевсипп. Согласно Аристотелю, Спевсипп говорил о Едином даже не как о сущем, а как о некоем семени, из которого происходит то, что превосходит его совершенством, а именно сущее.4 Однако такая интерпретация затрудняет для нас интерпретацию противоположного Единому — Неопределенной Двоицы (или многого, как называет ее Спевсипп). Сказать ли нам о ней, что она не есть
1 341с—d.
2 Следует подчеркнуть, причем чем раньше, тем лучше, что то, о чем здесь пишет Платон, чем бы оно ни было, безусловно не является тем, что мы называем мистическим экстазом, поскольку особенностью последнего является его преходящий характер, в то время как Платон говорит о постоянном изменении — таком озарении, которое, будучи раз обретенным, навсегда остается в обладании. Тем не менее Плотин использует этот отрывок при описании мистического экстаза (V 3 [44] 28—29).
3 В «Федре», как представляется, выражены те же сомнения в возможности сообщения философской истины через письмо (275с—277а); Седьмое письмо, однако, не делает различия между устной и письменной речью. Ср.: Merlan Р Form and Content in Plato’s Philosophy 11 Journal of the History of Ideas. 1947. VIII. P. 406—430, особенно p. 426 ff.
4 Fr. 34a, e, f Lang.
ДРЕВНЯЯ АКАДЕМИЯ
79
даже и не-сущее? Далее, по Аристотелю, из высших первоначал Спевсипп вывел вначале математические сущности, затем душу.1 Математические сущности тем самым заняли место платоновских идей.1 2 Очевидно, что за математическими следуют сущности более низкого порядка — и так вплоть до чувственно воспринимаемых. Трудно представить, чтобы Спевсипп понимал переход от Единого к математическим сущностям как восхождение, а переход от математических сущностей ко всему остальному сущему как нисхождение. И потому кажется, что Аристотель выразился двусмысленно и Единое как не-сущее у Спевсиппа должно было означать нечто лучшее, высшее, чем сущее. Поскольку у Платона мы уже встречали фразу «за пределами сущего (над сущим)», нетрудно допустить, что эта идея была реализована и Спевсиппом в его версии учения о двух противоположных первоначалах. Такое предположение, в частности, подтверждается цитатой из Спевсиппа, недавно обнаруженной в утраченной части комментария Прокла к «Пармениду» Платона.3 Согласно этой цитате, Спевсипп поместил Единое однозначно над сущим и рассматривал его в качестве сверх-первоначала, подчеркивая тем самым его абсолютно трансцендентный характер. Более того, похоже, что одна из глав «Общей математики» Ямвлиха является своего рода выдержкой из Спевсиппа и что в этой главе ясно изложено учение о Едином как о превосходящем сущее.4 По всей видимости, так нам и следует трактовать учение Спевсиппа о Едином. Очевидно, что это учение тесно связяно с учением Плотина.5 Более того, представляется несомненным, что Плотин, который нашел свое Единое у Платона, а свое учение о том, что интеллектуальные сущности содержатся внутри ума, у Парменида,6 должен был толковать аристотелевское изложение Единого у Спесиппа именно в указанном смысле.7
1 Fr. ЗЗе, 42g Lang.
2 Спевсипп пришел к отрицанию их существования: Fr. 42а, с—е Lang.
3 Klibansky R., Labowsky C. Procli Commentarium in Platonis Parmenidem. London, 1953. P. 38, 33—41, 10.
4 Cm.: Merlan P. From Platonism to Neoplatonism. Hague, 1960. P. 96—140.
5 Cp.: Dodds E. R. The Parmenides of Plato and the Origin of the Neoplatonic ,,One“ // Classical Quarterly. 1928. XXII. P. 129—142, особенно p. 140, n. 5.
6 Fr. 5 Diels; Enn. V 1 [10] 8; V 9 [5] 5; etc.
7 Впрочем, можно было бы согласиться, что Плотин признавал справедливость трактовки Аристотеля, согласно которой Спевсипп понимал Единое как семя или сперму, указав на то, что сам Плотин, обычно разделявший точку зрения Аристотеля о том, что действительность (совершенство) предшествует возможности (несовершенству), иногда все же говорил о Едином как о семени
80
ГРЕЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ ОТ ПЛАТОНА ДО ПЛОТИНА
Это Единое Спевсипп отличал как от блага,1 так и от ума.* 1 2 Второе делает и Плотин; что же касается первого, то он в целом вслед за Платоном называет свое высшее первоначало благим или благом (благостью), но иногда предупреждает нас, что Единое есть скорее источник всякого блага, чем благо само по себе. С другой стороны, в то время как Спевсипп отказывался отождествлять второе первоначало со злом, способствуя тем самым монистической интерпретации учения о двух противоположных первоначалах,3 Плотин делал это, но только с тем условием, что второе первоначало тождественно также материи чувственно воспринимаемого.4
Спевсипп был одним из первых, кто различил две стороны Единого — высшее и низшее (определяемое числом).5 Это подготавливает нас к постижению понятия Плотина об абсолютно трансцендентном Едином.
Ж. Теология и демонология: Платон и Ксенократ
Мы уже говорили о том, как трудно перебросить мост от учения о двух противоположных первоначалах к учению об идеях, развернутому Платоном в его диалогах, однако сопоставление этих двух учений вскрывает одно еще глубже лежащее затруднение. Можно с уверенностью сказать, что на протяжении всей литературной деятельности Платона важная роль в большинстве его диалогов была отведена богам, причем богам, обладающим личностью. Но каково место богов, бога или даже Бога в системе, где в качестве первоначал, из которых все произошло, рассматриваются Единое и Неопределенная Двоица? Возможны три варианта. Либо платоновские боги в том виде, в каком они появляются в диалогах, — чистый миф (да и кому не придет в голову счесть Зевса из «Политика» или вереницу богов из «Федра» мифом или встать на сторону ученых, которые видят в демиурге «Тимея», по сути тождественном идеям, только литературный прием?6); либо
(Enn. III 3 [48] 7; IV 8 [6] 5, 6; V 9 [5] 6). Ср.: Armstrong А. Н. The Architecture of the Intelligible Universe in the Philosophy of Plotinus. Cambridge, 1940. P. 61—64.
1 Fr. 35a, b, d, e Lang.
2 Fr. 38 Lang.
3 См. ниже, c. 84.
4 См. ниже, c. 187.
5 Fr. 42d Lang.
6 См., например: Zeller E. Die Philosophic der Griechen. Bd. II/l. S. 710, 926—934.
ДРЕВНЯЯ АКАДЕМИЯ
81
они каким-то образом «происходят» от этих двух первоначал; либо эти первоначала и все, что от них происходит (главным образом числа), должны быть «теологизированы», то есть превращены из абстрактных принципов в личности. Нам представляется, что у всех неоплатоников мы обнаруживаем что-то вроде сочетания второго и третьего вариантов. И действительно, у Плотина мы сталкиваемся со странным устройством второй ипостаси: в ее составе идеи, умы и боги — иными словами, абстрактные принципы, полуличности и личности.
И все же каким бы путем мы ни последовали, остается неразрешенным одно серьезное затруднение: если боги (или бог) не обладают личностью, то как быть с провидением?
Значительную часть диалога «Законы»7 Платон посвятил проблемам теологии и, в частности, провидению. В свете вышесказанного этот раздел может быть прочитан либо как популярное изложение философской точки зрения, согласно которой провидение просто идентично разумному устройству вселенной, либо боги действительно обладают некоторого рода личным провидением. Что касается Плотина, то его упорство в отношении эманации как непроизвольного и непредумышленного процесса исключает личное провидение,8 и действительно, для него провидение совпадает с естественным порядком вещей (это касается в том числе неизбежности несовершенства и морального зла, хотя страдание на самом деле не есть зло для истинно мудрого человека). Впрочем, и это не дает нам однозначного ответа на вопрос, что такое боги Платона и Плотина — личности, мифы или абстрактные первоначала. Чтобы найти ответ, нам следует перейти от темы богов к теме демонов.
Демонология — это учение о сущностях (демонах, духах, ангелах, дьяволах, джиннах и так далее), которые в определенном смысле превосходят человека, но богами не являются. Нам следовало бы назвать их сверхъестественными, но для платоников, как и для многих других греков, понятие естественного (природы) было гораздо шире нашего и запросто включало в себя подобных существ. Нельзя забывать, что в философии Демокрита и Эпикура даже боги рассматриваются как «естественные» сущности и являются просто созданиями природы. Для Платона и Академии, включая Аристотеля,9 демоны всегда представляли
7 X 899d—905d.
8 Enn. IV 4 [28] 6; IV 4, 39; VI 7 [38] 1, 31; III 2 [47] 1; VI 8 [39] 17.
9 И правда, в трактате «О происхождении животных» Аристотель приводит нам прекрасный пример того, что может быть названо «натуральной» демоно-
82
ГРЕЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ ОТ ПЛАТОНА ДО ПЛОТИНА
интерес. Хорошо известно, что платоновская «Апология» в значительной степени основывается на предположении, что Сократ имел какую-то особую связь с сущностью (или качеством), которую он называл «демонической»,1 и, когда Платон изображает Диотиму в качестве учителя Сократа, он приписывает ей совершенное знание демонологии.* 1 2 «Послезаконие», кто бы ни был его автором,3 представляет собой другую хорошо проработанную систему демонологии.4
Тот же Платон, который как нечто само собой разумеющееся допускал существование демонов (духов, ангелов), жестоко критиковал ложные мнения о природе богов. Особенно нечестивым он считал приписывание им любого рода изменчивости (то есть изображение их в несвойственном для них облике), в частности взгляд на них как на инициаторов зла. Очевидно, что тем самым он отрицал истину общепринятых религиозных взглядов, хотя были ли эти взгляды столь уж беспочвенны? Ксенократ использовал
логией. Поставив в соответствие растения, рыб и «имеющих ноги» животных, а именно птиц и наземных животных, элементам земли, воды и воздуха, он утверждает, что должен быть и четвертый вид живых существ, живущих в огне. Правда, это должен быть не земной огонь (который здесь на Земле не существует в чистом виде, а является лишь неистинным образом — горит что-то, а не сам огонь; ту же проблему рассматривает Теофраст (Fr. Ill 1 Wimmer)), но чистый огонь, каким он существует только на Луне (III 11, 761Ь8—23). Что иное назвал бы Аристотель такими живыми существами, если не демонов (ср.: Επη. II 2 [14] 6). Не может не броситься в глаза, что Аристотель делает натяжку в своей классификации животных, для того чтобы найти для демонов «природное» место. Он относит не только птиц, но всех «имеющих ноги» животных к стихии воздуха, чтобы не остаться без элемента (пятый элемент, эфир, является, безусловно, вместилищем небесных тел, божественных сущностей), а в «О толковании сновидений» (463Ы2—15), отрицая исхождение снов от богов, заявляет, что они посылаются демонами. Нам также не кажется правомерным затушевывать слова «природа, хотя и не божественна, — демонична», словно бы это не означало «полна демонов». По этому поводу см.: Lameere W. Au temps ой F. Cumont s’interrogeait sur Aristote //Antiquite Classique. 1949. XVIII. P. 279—324; Detienne M. La notion de Daimon dans le Pythagorisme ancien. Paris, 1963. P. 140—168. Ср. ниже, c. 87; Zeller E. Die Philosophic der Griechen. Bd. П/2. S. 553. Различение двух видов огня также встречается в Стое и у Плотина (Enn. II I [40] 7); ср.: Zeller Е. Die Philosophic der Griechen. Bd. III/l. S. 188 f.; ниже, c. 123—124.
1 Одна из причин продолжительного интереса к Сократу со стороны платоников как раз и состояла в том, что у него был ангел-хранитель (демон), о чем нам напоминают Плутарх (De gen. Socr.) и Максим Тирский (Or. XV 7). Значение Сократа-апоретика в платонизме, вновь обретшем догматическую форму, было крайне невелико.
2 Conv. 202е—203а.
3 Плотин ссылался на него как на произведение Платона: Enn. VI 7 [38] 11.
4 984е—985с; Moraux Р. Quinta essentia // RE. 1963. XXIV/1. Col. 1188 f.
ДРЕВНЯЯ АКАДЕМИЯ
83
свою веру в существование духов (демонов), чтобы объяснить происхождение этих взглядов и в то же время целиком принять учение Платона об истинной природе богов. Это удалось ему благодаря различению духов на добрых и злых. К последним он относил все «аморальное», что, как было принято считать, сотворено богами. И все ошибки в человеческом разумении относительно богов и того, как их следует почитать, он считал просто следствием природы и деятельности этих злых духов. Таким образом, благодаря одному-единственному уточнению, сохраняли силу религиозные культы, обряды и воззрения греческой религии. Веру в платоновских «моральных» богов стало возможным гармонично соотнести с верой в «аморальных» демонов.1
Со времен Ксенократа вера в добрых и злых духов стала общепринятой среди платоников.1 2 Плотин не исключение, и все же для него существование злых демонов едва ли допустимо. Как в таком случае нам следует истолковать его веру в демонов?
Всякий, кто возьмется отрицать, что для Платона греческие боги были чем-то большим, чем просто мифами, будет вынужден отрицать и то, что Платон верил в демонов (хотя, памятуя о том, что греки, как мы уже сказали, верили в демонов как в существ «естественных», нам следует признать, что для них было возможным не верить в богов и при этом верить в демонов, ведь и спирит может быть атеистом). Сказанное можно в равной степени отнести и к Плотину.
Ксенократ различал три вида демонов. Одни всегда существовали сами по себе. Другие, составляющие второй класс, были некогда душами людей, которые после смерти отделились от своих тел и стали демонами. И, наконец, в качестве демонов Ксенократ рассматривает наши души. В этом отношении он следует за Платоном, который в «Тимее» явным образом отождествил наш ум с демоном, хотя и утверждал в других сочинениях, что демоны существуют вне нас. У Плотина мы обнаруживаем те же три класса демонов3 и не имеем оснований считать, что он верил в демонов только в третьем из перечисленных значений, а
1 Fr. 23—25 Heinze.
2 См.: Hopfner Т. Griechisch-agyptischer Offenbarungszauber. Bd. 1, 2. Leipzig, 1921—1924, особенно Bd. I. S. 10—26; Fr. 43; также SvobodaK. La Demonologie de Michel Psellos. Pisa, 1927. Буайансэ интерпретирует слова Менандра (Fr. 214 Korte: κακόν γάρ δαίμον ού νομιστέον είναι...) как протест ученика Теофраста против Ксенократа (Воуапсе Р. Les dieux de noms personnels dans l’antiquit0 greco- latine 11 Revue de Philologie. 1935. LXI. P. 189—202).
3 III 4 [15]; III 5 [50] 6; IV 3 [27] 18; IV 4 [28] 43; V 8 [31] 10; VI 7 [38] 6.
84
ГРЕЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ ОТ ПЛАТОНА ДО ПЛОТИНА
два других считал не более чем мифом, поскольку то, что нам известно о его жизни, должно склонить нас к выводу, что он верил в существование демонов не иначе, как в буквальном смысле слова.1
Религиозные интересы Ксенократа не ограничивались демонологией. Он отождествлял понятийные сущности, которые мы бы назвали абстрактными понятиями, с божественным, в частности — приняв учение о двух противоположных первоначалах1 2 — Единое с Зевсом и умом, а Двоицу,3 что особенно любопытно, с матерью богов и мировой душой.4 Не совсем ясно, пытался ли он тем самым «теологизировать» понятия или «концептуализировать» богов. Поражает и то, что он каким-то образом связывал части и элементы мироздания с олимпийскими богами.5 Кажется, Ксенократ пытался на свой лад смягчить дуализм двух противоположных первоначал, отождествив одно из них с умом, а другое, подчиненное ему, с мировой душой. В результате он, по всей вероятности, характеризовал Неопределенную Двоицу скорее как чистую восприимчивость (женское начало), чем как принцип зла. Довольно странно, что в «Исиде и Осирисе» Плутарха мы обнаруживаем египетский миф, который, по его словам, также получил истолкование Евдокса.6 Согласно этому мифу, тремя первоначалами являются Осирис, Исида (чистая восприимчивость) и Тифон, воплощение зла. Можно только догадываться, участвовал ли Евдокс во внутришкольных обсуждениях того, как соотносятся два первоначала и как разрешить проблему всеприсутствия зла, если зло тождественно Неопределенной Двоице. Поскольку Евдокс в Академии был, по всей видимости, основным носителем знаний в области египетской религии и зороастризма, логично предположить, что он сравнивал дуализм двух первоначал Платона с религиозным дуализмом Персии,7 а также с египетской религией. Во всяком случае, отождествляя
1 Ср.: Enn. II 1 [40] 6; Merlan Р. Plotinus and Magic // Isis. 1953. XLIV. P. 341—
348.
2 Fr. 15; 28; 34 Heinze.
3 Fr. 15 Heinze.
4 Мы предполагаем, что эта Двоица в действительности тождественна тому, что Ксенократ называет Неопределенной Двоицей. Противоположную точку зрения см.: Heinze R. Xenokrates. Leipzig, 1892. S. 35, η. 1, и из нового в особенности Kramer Н. J. Der Ursprung der Geistmetaphysik. Amsterdam, 1967. S. 39—41.
5 Fr. 15 Heinze.
6 De Is et Os. 45—60, 369a—375d.
7 Аристотель сделал это как нечто само собой разумеющееся: Met. N 4, 1091b 10. Ср.: Diog. Laert. Pr. 8 (Fr. 6 Rose) и Eudem. Fr. 150 Wehrli.
ДРЕВНЯЯ АКАДЕМИЯ
85
(только иногда?) Единое с умом и Двоицу с душой,1 Ксенократ, вероятно под влиянием Евдокса, оказался среди тех, кто подготовил субординацию второй первому. Впоследствии мы увидим, что и Плутарх по-своему, скорее всего не без влияния со стороны Ксенократа, резко их различал.
Как бы там ни было, то обстоятельство, что Ксенократ уравнивал божеств с абстрактными первоначалами, напоминает нам о том, что тем же путем, в общем, пошли и неоплатоники, и относительно них, как и о Ксенократе, практически невозможно решить, то ли они «разбожествили» богов, то ли «обожествили» понятия.
3. Проблема диалектики и категорий
Практически с самого начала своей литературной деятельности1 2 Платон придавал большое значение особому виду логики и рассуждения, а именно диалектике.3 Пожалуй, наилучшим образом она может быть описана как вид неформальной логики, то есть такой логики, которая раскрывает структуру реальности. Отношение между диалектическим и риторическим, с одной стороны, и особенно между диалектикой и логикой, какой ее создал Аристотель, с другой, эксплицитно и имплицитно определялось разными авторами в разные времена. Очень часто диалектика и логика отождествлялись, хотя Плотин еще знает различие между первой и второй и считает, что диалектика во многом превосходит формальную логику, причем он прочно связывает диалектику с платоновской теорией любви.4
Другой сопряженной с логикой областью, к которой, по-види- мому, в Академии рано проснулся интерес, была система категорий, позволявшая классифицировать все, что существует. Одна из таких попыток связана с именами Ксенократа5 и Гермодора,6 разделивших все сущее на существующее абсолютно и относительно (это разделение можно обнаружить уже у Платона, хотя он использует его лишь изредка); другую мы обнаруживаем в так
1 Fr. 15 Heinze.
2 По крайней мере, если верна принятая хронология и «Евтидем» — ранний диалог: 290с.
3 RP VII; Phaedr. 265с—266d.
4 RP VII 403с; Επη. I 3 [20].
5 Fr. 12 Heinze.
6 Simpl. In phys. 247, 33—248, 20 Diels; Cp.: Festugiere A. J. La Rivelation d’Hermes Trism0giste. Vol. IV. P. 307—314.
86
ГРЕЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ ОТ ПЛАТОНА ДО ПЛОТИНА
называемых «Divisiones Aristoteleae». В обоих случаях следующим шагом является подразделение категории относительно существующего. Спевсипп подошел к проблеме категорий иначе, подразделив понятия, а не их объекты, используя термины «омонимы» и «синонимы».1 В «Категориях» Аристотеля (подлинность первой части этого сочинения опять-таки не вызывала сомнений в рассматриваемый нами период) используются оба подхода. Хотя категория отношения (pros ti) рядоположена девяти другим категориям, очевидно, что все они противопоставлены одной — категории субстанции (сущности, ousia),1 2 которая в значении первой или второй субстанции единственная существует без-относительно, тогда как остальные девять категорий находятся «в» субстанциях, «между» субстанциями, суть «действия» или «претерпевания» субстанций. Иными словами, эти девять категорий можно подвести под общий вид относительного бытия, для которого категория отношения является лишь частным случаем. С другой стороны, Аристотель использует в точности те же понятия, что и Спевсипп, а именно понятия омонимии и синонимии (совпадают ли при этом значения данных понятий, нас в данном случае не интересует3). Таким образом, с точки зрения содержания учение о категориях лежит на границе Академии и перипатетической школы. И что бы ни было тому причиной, маленький аристотелевский трактат вскоре вытеснил все остальные академические изложения и стал считаться чуть ли не единственным в своем роде. Плотин отказался принять какое-либо учение о категориях, которое бы прилагало одни и те же понятия к миру умопостигаемого и миру чувственно воспринимаемого. В собственном логическом учении он отнес категории Аристотеля только к сфере чувственно воспринимаемого, а в качестве категорий для умопостигаемого использовал пять родов сущего из «Софиста».4 Порфирий в этом не последовал за Плотином, как не сделали этого и другие платоники. В дальнейшем мы еще увидим, насколько обширную полемику среди предшественников Плотина вызвали аристотелевские категории.5
1 Fr. 32а Lang.
2 Anal. post. I 22, 83Ы1; Phys. I 7, 190a34.
3 По этому вопросу см.: Merlan P Beitrage zur Geschichte des antiken Plato- nismus. 111 Philologus. 1934. LXXXIX. S. 35—53.
4 Enn. VI 1—3 [42—44].
5 В Enn. VI 7 [38] 4 мы находим возражения в отношении других аспектов аристотелевской логики (определения). Стоит отметить, что платоновской философией έρως^ (как сугубо личного переживания сексуальной природы) Плотин совершенно пренебрегает, несмотря на следующие фрагменты: Enn. VI 7 [38]
Глава 3
АРИСТОТЕЛЬ
А. Космология, ноэтика и психология
Рассмотрев сочинение, которое в равной степени могло принадлежать и Аристотелю, и кому-то из академиков, перейдем теперь к однозначно аристотелевским воззрениям. Главным образом сосредоточимся на тех из них, которые стали предметом острой полемики между предплотиновскими платониками и аристоте- ликами, выделим шесть, касающихся психологии, космологии, ноэтики, космогонии, идей и материи, добавим пару слов об этике и сделаем еще несколько частных замечаний.
Аристотель отрицал, хотя, вероятно, и не с самого начала, субстанциальный характер души, а потому отвергал ее пред- и пост-существование, какое-либо воплощение и перевоплощение (переселение). Он также выступал против всякого рода астральной психологии, то есть любого учения, заявлявшего о существовании мировой души1 или одушевленности небесных тел. Тем, кто утверждал последнюю, он насмешливо отвечал, что судьба души, вызывающей круговое движение небесного тела своим присутствием в нем, напоминает ему судьбу Иксиона.* 1 2 Чем в таком случае он объяснял эти движения? В сочинениях Аристотеля возможно найти три ответа, обсуждение состоятельности которых мы оставим до другого раза.3 Первый из них состоит в том, что
33, 20—30 или Enn. III 5 [50] (об Эросе). Ср.: Theiler W. Plotin zwischen Plato und Stoa // Les sources de Plotin. Entretiens. V. 1960. P. 63—86 и вклад P. Хардера в дискуссию (р. 90, 92). Плотин часто использует образы восхождения из «Пира» Платона (Enn. I 6 [1]; I 3 [20]).
1 De an. I 3, 406b25; Met. A 6, 1071b37.
2 De caelo II l,284a35.
3 Cp.: Merlan P. Ein Simplikios-Zitat bei Pseudo-Alexander und ein Plotinos-Zitat bei Simplikios // Rheinische Museum. 1935. LXXXIV. S. 154—160; Philologische
88
ГРЕЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ ОТ ПЛАТОНА ДО ПЛОТИНА
круговое движение небесных тел вызвано их влечением к сущности (или, если имеется несколько независимых движений, к сущностям), которую Аристотель называет неподвижным двигателем (или неподвижными двигателями), и представляет собой способ удовлетворения этого влечения.1 Во-вторых, он приписывал круговое движение природе эфира* 1 2 — вещества, из которого состоят небесные тела и естественное (физическое) движение которого, в отличие от других элементов, движущихся по природе вверх и вниз, есть движение по кругу.3 Третье данное Аристотелем объяснение, согласно которому небесные тела следует считать одушевленными,4 странно диссонирует с его критическим отношением к мнению Платона по этому вопросу.
Теория эфира имеет первостепенное значение в космологии Аристотеля5 — эфир составляет надлунную сферу божественно неподвижного.6 Однако нам не следует забывать и о том, что он, вероятно, играл важную роль также в аристотелевской психологии и ноэтике. Существуют свидетельства, что, согласно Аристотелю, astra mentesque* состоят из эфира,7 а это уже фактически означает тождество высшего неба и бога.8 Представляется весьма вероятным, что Аристотель некогда называл душу endelecheia, а не entelecheia, поскольку эфирный состав души позволял беспрепятственно объяснить непрерывность ее движения. Другими словами, теория эфира представляла собой нечто вроде материалистической (или, принимая во внимание особый характер аристотелевского
Wochenschrift 1938. LVIII. S. 65—69, особенно S. 68 f.; Guthrie W. К. С. Aristotle’s ‘De Caelo’. London, 1939. P. XXXI—XXXVI; Cherniss H. Aristotle’s Criticism of Plato. Baltimore, 1944. Vol. I. P. 540—545; Wolfson H. A. The Problem of the Souls of the Spheres from the Byzantine Commentaries on Aristotle through the Arabs and St. Thomas to Kepler // Dumbarton Oaks Papers. 1962. XVI. P. 64—93; Moraux P Quinta essentia. Col. 1198—1204; 1208 f.
1 Мет. A 7, 1072a30.
2 Хотя это слово появляется в «Послезаконии» (981с; 984Ь), там эфир помещен между огнем и воздухом и не имеет ни одного из качеств, которые приписывает ему Аристотель. Однако Ксенократ (Fr. 53 Heinze) перечисляет пять элементов в таком порядке (эфир первым, огонь вторым), что позволяет думать, что он понимает эфир в аристотелевском смысле. Ср.: Moraux Р. Quinta essentia. Col. 1187 f., 1191 f.
3 De caelo I 2, 269b 18.
4 Cicero. De nat. d. II 44; Arist. De caelo II 1, 285a29; 12, 292al8.
5 Moraux P Quinta essentia. Col. 1196—1231.
6 De caelo I 3, 269bl8—270a35; Meteor. I 3, 339bl6—30.
7 Cicero. Acad. I 26; 39; Tusc. I 22. 41 65—67; De nat. d. I 33; cp.: De fin. IV 12.
8 Cicero. Somnium VI 17.
* Звезды и умы (лат.). — Примеч. перев.
АРИСТОТЕЛЬ
89
эфира, полуматериалистической) тенденции в учении Аристотеля.1 Такая концепция, несомненно, позволяла поставить эфир на место астральной души, а также делала его единственной причиной кругового движения небесных тел. Кроме того, у нас есть основания предполагать, что, по крайней мере временами, понятие эфира заменяло (или объясняло) сущность человеческой души.1 2 Таким
1 Обычно считают, что наибольшая уступка материализму в психологии Аристотеля состоит в его учении о πνεύμα. При этом считается, что πνεύμα означает особый вид тела (аналогичный эфиру), в котором душа пребывает постоянно или который является органом души (De gen. anim. II 3, 736b29—737а 12; III 2, 762а18; ср.: Zeller Е. Die Philosophie der Griechen. Bd. II/2. S. 483, n. 4; S. 569, n. 3; Peck A. L. Aristotle, De gen. anim. London, 1943. App. В; Moraux P. Quinta essentia. Col. 1205). Однако не следует пренебрегать и вероятностью того, что на определенном этапе своей философской карьеры Аристотель отождествлял душу и эфир, тем самым объясняя, почему она находится в постоянном движении (ένδελέχεια). В частности, в работе Arnim Η. V. Entstehung der Gotteslehre des Aristoteles (Wien; Leipzig, 1931) утверждается (S. 12), что в аристотелевской психологии был материалистический этап. Примерно то же до него утверждал Ф. Ф. Кампе в «Die Erkenntnistheorie des Aristoteles» (Leipzig, 1878. S. 12—49): тождество пневмы, эфира, души. Э. Биньоне в работе «L’Aristotele perduto е la formazione filosofica di Epicuro» (Firenze, 1936. Vol. 1. P. 195—197; 227—272) склонен согласиться с этой теорией; согласился с ней и У. Гатри, переменив свое прежнее мнение, как следует из его издания «Aristotle, De caelo» (London, 1939. P. XXXII). Другие полностью отвергают данную теорию (см., например: Nuyens F. L’Evolution de la Psychologie d’Aristote. Paris, 1948. P. XII—XIV; Berti E. La filosofia di primo Aristotele. Padova, 1962. P. 392—401; Easterling H. Quinta Natura // Museum Helveticum. 1964. XXI. P. 73—85; Moraux P Op. cit. Col. 1195, 1213—1231). Многое в истории перипатетической школы возможно лучше понять, если вслед за Кампе и Арнимом принять во внимание то обстоятельство, что материалистическая интерпретация Аристотеля в античности была широко распространена и впервые возникла очень давно. Ср.: Jaeger W. Das Pneuma im Lykeion // Scripta minora. 1960. Vol. 1. S. 83 f.; Moraux P Op. cit. Col. 1206; 1213—1226; 1233 f., 1245 f.; 1248. Как бы то ни было, доказательство в пользу этой интерпретации невозможно представить здесь. Ср.: Luck G. Der Akademiker Antiochos. Bern; Stuttgart, 1953. S. 37—40.
2 Мы не можем пренебречь психологическим материализмом пифагорейцев Александра Полигистора (Diog. Laert. VIII 28; см. ниже, с. 142—143). Очень поучительно обсуждение другого аспекта аристотелевского «материализма» (кровь как определяющее ума, чувствительности и характера человека согласно De part. anim. II 2, 648аЗ—13) в работе Solmsen F. Tissues and the Soul // The Philosophical Review. 1950. LXIX. P. 435—468, особенно p. 466—468. Сольмсен противопоставляет Аристотеля Платону, но разве он не забывает Tim. 86b—87b и приведенную там удивительно материалистическую интерпретацию выражения «никто не порочен по доброй воле»? Стоит прочесть обсуждение этого выражения в книге Taylor А. Е. A Commentary on Plato’s Timaeus (Oxford, 1928) и попытку последнего оправдать Платона, якобы излагающего доктрину пифагорейцев. Я не вполне уверен, что Корнфорду (Plato’s Cosmology. London, 1937) удалось
90
ГРЕЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ ОТ ПЛАТОНА ДО ПЛОТИНА
образом, принятие теории эфира или отказ от нее имели далеко идущие последствия. Плотин отверг ее, и в дальнейшем мы увидим, что в этом у него были предшественники как среди платоников, так и среди аристотеликов, хотя были и ее сторонники. И это, безусловно, обязало его дать собственное объяснение того, каким образом небесные сущности, составленные из душ и тел, могут пребывать вечно.1 Во всяком случае, проблема эфира оставалась актуальной, и не только в физике.* 1 2
Материализм или полуматериализм Аристотеля покажется менее удивительным, если вспомнить, что Геракл ид (которого иногда называют учеником Аристотеля, и во всяком случае приближенный к нему в качестве одного из «доверенных» последователей Спевсиппа) также, кажется, как минимум заигрывал с идеей телесной души. Он определял ее как обладающее природой света эфирное тело.3 Он даже говорил о душе как только о качестве тела.4 С этим, конечно, Плотин не согласился бы, хотя, возможно, и допустил бы в качестве описания астрального тела души.5
Как бы то ни было, в дополнение или вместо эфира Аристотель ввел понятие неподвижного двигателя как первоисточника всякого
опровергнуть материалистический характер этого выражения. Поэтому in summa можно было бы сказать: материализм выступает как возможность в пределах как платонизма, так и аристотелизма. Однако в целом данное выражение из «Тимея» стоит особняком в corpus Platonicum, а также в платонизме более позднего времени. С другой стороны, Сольмсен не обращает внимания на дискуссию в книге Целлера (Bd. ΙΙ/2. S. 489, п. 2) со ссылками на другие «материалистические» фрагменты у Аристотеля (De gen. anim. II 6, 744а30; De part. anim. II 4, 65lal2; IV 10, 686b22; De resp. 13, 477al6; De an. II 9, 421a22). Целлер пытается выйти за пределы противопоставления материалистический—нематериалистический. Ср.: MorauxP Quinta essentia. Col. 1212 f.
1 Enn. II 2 [14] 2,3.
2 Будучи хорошо осведомленным о ее парадоксальном характере, Плотин отстаивает собственную интерпретацию квазиматерии (умопостигаемой материи), присутствующей в сфере умопостигаемого, сравнивая ее с аристотелевским учением об эфире как σώμα αυλόν (Enn. II 5 [25] 3, 18).
3 Fr. 98a—100 Wehrli.
4 Fr. 72 Wehrli. Мы видим, что здесь обнаруживается та же проблема, что возникла в связи с соотношением πνεύμα, или эфира, и души у Аристотеля. То, что Гераклид мог быть материалистом, представлялось настолько невероятным, что многие утверждали даже, что работа, из которой это следовало (περί των έν Άιδου), ему не принадлежит. У. фон Виламовиц допускает возможность, что это был диалог, в котором материалистическая точка зрения, высказываемая одним из персонажей, в конечном итоге опровергалась Гераклидом (Wilamowitz U von. Der Glaube der Hellenen. Basel, 1956. Vol. II. S. 525, η. 1). Ср. комментарий Веерли (ad loc.); MorauxP. Quinta essentia. Col. 1194.
5 Enn. IV 3 [27] 15.
АРИСТОТЕЛЬ
91
движения и дал ему название ума. Движения, причинами которых выступал ум, исходно были небесными движениями, а поскольку Аристотель изначально предполагал существование нескольких независимых небесных движений, он относил их к нескольким неподвижным двигателям.1 И хотя сам Стагирит этого не делает, нам все же кажется допустимым называть все эти двигатели умами.
Итак, понятие ума играет первостепенную роль в философии Аристотеля.1 2 Оно выступает главным образом в двух контекстах, один из которых мы назовем психологическим, а другой — теолого-астрономическим.
Довольно необычно, что, опровергнув трансцендентный характер идей и субстанциальность души и предложив взамен понятие души как имманентной формы живого тела (энтелехия), Аристотель в своей психологии представил ум в терминах, ясно свидетельствующих о его трансцендентности по отношению к душе, а значит, и к человеку.3 Не менее поразительно, что за утверждением смертности души следует утверждение бессмертия ума.4 К несчастью, его описание природы и деятельности ума настолько кратко, что почти совсем темно. Он ожидает, что мы приложим к нему безотказные понятия потенциальности и актуальности5 и таким образом отличим ум, всем становящийся (всему соответствующий), от действующего или приводящего все в действие (назовем их пассивным умом и умом активным). Об этом последнем он говорит как об активном постоянно,6 причем эта активность не нуждается в телесном органе; оттого он не связан с телом, бессмертен и входит в человека извне.
Какой бы важной ни была роль ума в контексте аристотелевской психологии, она еще значительнее в контексте его теоло¬
1 Трудности, связанные с допущением одного или множества перводвига- телей, обсуждались Теофрастом (Met. 4—7; см. ниже, с. 165). Неизменный(е) производящий(е) изменения — неподвижный(е) двигатель(и).
2 Кранц (Platonica // Philologus. 1958. СИ. S. 74—83) напоминает нам о стихе из Anthologia Palatina (Appendix Planudea) XVI 330: νους και Αριστοτέλους ψυχή, τύπος άμφοτέρων εις.
3 Впервые появляется в De an. 14,408b25—30; затем в II2,413b24—26; cp.: Enn. IV 7 [2] 8, 15.
4 De an. Ill 5, 430a23.
5 Zeller E. Die Philosophic der Griechen. Bd. II/2. S. 324 f.
6 De an. Ill 5, 430a22. Здесь не место обсуждать позднейшие попытки отмежевать этот фрагмент от общего учения «О душе». Ср. комментарии на «О душе» А. Тренделенбурга (1877), Р. Д. Хикса (1907), Г. Родье (1900) и У. Д. Росса (1961). Александр Афродисийский, как известно, отождествлял νους Ούραΰεν с активным умом и богом.
92
ГРЕЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ ОТ ПЛАТОНА ДО ПЛОТИНА
гии-астрономии, поскольку неподвижный двигатель, о котором шла речь выше, есть первопринцип универсума, или, выражаясь проще, бог. Единственным объектом его деятельности (умопостижения) является он сам; он есть ум, постигающий сам себя.
Идея ума, имеющего себя своим объектом, не чужда другим разделам аристотелевской эпистемологии. Он неоднократно высказывает принцип, согласно которому для нематериальных объектов акт познания тождествен им самим.1
Как уже отмечалось, некоторые аспекты ноэтики Аристотеля с трудом согласуются с рядом других аспектов его психологии. То же верно и в отношении аристотелевской онтологии (или метафизики). Существует пара понятий, исполненных для Аристотеля фундаментального значения, а именно пара форма—материя, и, как он обычно говорит, оба понятия полностью взаимосоотно- сятся: нет материи без формы, и нет формы без материи. Поражают две вещи. Во-первых, говоря о высшем божестве (неподвижном двигателе), Аристотель называет его чистой (нематериальной) формой. Но что такое форма, которая не есть форма чего-либо? Во- вторых, говоря, что ум «отделим» от остальной души и человека с его телом, Аристотель вновь оставляет нас наедине с сущностью, никак не обеспеченной рамками его учения, — нематериальной сущностью. Стоило ли отрицать «отдельное» существование идей только для того, чтобы допустить «отдельное» (или «отделимое») существование ума?
Иными словами, почти во всех отношениях ноэтика Аристотеля нарушает единство его философии и тем самым prima facie* ставит вопрос о возможности их согласования. И вне зависимости от того, в силах ли мы разрешить этот вопрос и каким будет способ его разрешения, любому из читателей Аристотеля следует остановить на нем свое внимание.1 2 Недаром многих платоников привлекала ноэтика Аристотеля именно благодаря ее платоническому привкусу.3
1 De an. III 4, 430а3—5; Met. А 7, 1075а2—5.
2 Проще всего, конечно, будет сказать, что в текстах Аристотеля, в том виде, в каком мы их читаем сегодня, платонические и антиплатонические пассажи соседствуют бок о бок — что может быть как остаточным следом его изначальной приверженности учению Платона, так и ее возрождением. Ср.: Zeller Е. Die Philosophic der Griechen. Bd. II/2. S. 175 ff. Другое объяснение см. в Ivdnka Е. von. Zur Problematik der aristotelischen Seelenlehre //Autour d’Aristote. Louvain, 1955. P. 245—253.
3 Cp.: Zeller E. Op. cit. S. 196.
* На первый взгляд {лат.). — Примеч. перев.
АРИСТОТЕЛЬ
93
Но есть еще одна проблема, которую ставит перед нами аристотелевская ноэтика: тождествен ли ум аристотелевской психологии тому уму, который он описывает как высшее божество, или же ум, некоторым образом присутствующий в человеке и сохраняющийся после его смерти, только родствен богу-уму? Этот вопрос, на который и по сей день не найдено однозначного ответа, стал предметом дискуссии еще до Плотина. Впоследствии, обсуждая Аристокла и Александра Афродисийского, мы сможем в этом убедиться.
Психология Аристотеля, в которой нашли себе место две несопоставимые сущности — душа как энтелехия тела и ум, входящий в тело извне и отделимый от него, — рождает серьезные затруднения. Отвергнув идею о том, что сомодвижущаяся душа является причиной движения,1 Аристотель утверждает, что она, как форма, неподвижна.1 2 Однако если душа неподвижна, то есть неизменна, то как возможно объяснить ощущение, ясно свидетельствующее о восприимчивости души?3
Трудности возрастают, когда Аристотель пытается объяснить, каким образом ум участвует в психической жизни человека, поскольку ум определенно не восприимчив и его деятельность не связана с телом, как связана с ним душа.4 Но как в таком случае объяснить, что есть умопостижение, или интуитивное мышление, или как бы еще мы ни назвали деятельность ума? Относительно таких видов деятельности, как любовь и ненависть, память и дискурсивное мышление, Аристотель утверждает, что они не являются действиями ума, но суть действия человека, составленного из ума, души и тела.5 В наименьшей степени можно отнести к уму желание, поскольку желание вызывается фантазиями, а фантазия есть деятельность, предполагающая тело. До некоторой степени это затруднение преодолевается допущением двойного ума, низшую часть которого — «воспринимающий» («пассивный») ум — Аристотель считает изменчивым, обладающим памятью и так далее.6 Но если так, то в чем состоит его сходство с высшим, «деятельным» («активным») умом?
1 De an. I 3, 404а21; 4, 408а30; 5, 409Ы9; 3, 406Ы5; 2,403Ь28.
2 Как известно, согласно Аристотелю источником всякого движения является то, что неподвижно: Met. Λ 6, 1071b4.
3 Zeller Е. Op. cit. S. 596 f.
4 De an. Ill 4, 429a 18—29.
5 De an. I 4, 408a30—b24; Phys. VII 3, 247Ы; 248a28.
6 De an. Ill 5, 430a23.
94
ГРЕЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ ОТ ПЛАТОНА ДО ПЛОТИНА
Более того, ясно, что Аристотель не индивидуализирует «активный» ум, хотя, с другой стороны, и утверждает, что ум есть подлинная самость человека.1 Трудность особого рода возникает в связи с памятью. Помнит ли ум? Явным образом Аристотель это отрицает,1 2 однако, если это так, сохранение ума, очевидно, не подразумевает сохранение памяти предыдущей жизни.
Можно с уверенностью сказать, что ни одна из частей аристотелевской системы не привлекала Плотина больше, чем ноэтика во всех ее аспектах.3 Выражаясь несколько упрощенно, Плотин приложил к своей второй ипостаси ряд понятий, взятых у Аристотеля. Особое значение имеет учение о том, что нематериальные сущности (умопостигаемые сущности Аристотеля, которые Плотин отождествил с идеями, хотя кроме них в его системе есть и другие умопостигаемые сущности) тождественны актам их познания,4 которое у Плотина превратилось в тезис: идеи не существуют вне ума.5 Плотин также отождествлял аристотелевского бога, сосредоточенный на себе ум, со второй из своих ипостасей и очень часто — с платоновским демиургом.6 Два этих тождества позволили ему оставить три ипостаси и тем самым сохранить верность «троичности» из Второго письма Платона. А поскольку для Плотина нет сомнений, что ум, составляющий вторую ипостась, и человеческий ум — одно и то же,7 психологический и теологический аспекты аристотелевской ноэтики для него не различены.8 Тем не менее, оказавшись таким образом перед необходимостью примирить утверждение Аристотеля о том, что активный (бо¬
1 Eth. Nic. 1X4, 1166а16—22; X 7, 1178а7; 8, 1178b28; ср.: Enn. V 3 [49] 3.
2 De an. III 5, 430а23.
3 Среди них эпистемологический аспект (см.: Anal. post. II 19, 100Ь8), который, впрочем, интересовал Плотина меньше остальных.
4 De an. III 4, 430а 19; 5, 430а 19; 7, 431al; Met. А 7, 1072Ь21; 9, 1075а2.
5 Enn. V 3 [49] 5; V 5 [32] 1. Он цитирует учение Аристотеля: II 5 [25] 3, 25— 6; V 9 [5] 2,22; VI 6 [34] 6,20; VI 7 [38] 37, 3—5; VI 9 [9] 7—8. Ср.: Schwyzer H.-R. Plotinos. Col. 555; Merlan P. Monopsychism, Mysticism, Metaconsciousness. Hague, 1963. P. 7—16; Armstrong A. H. The Architecture of the Intelligible Universe in the Philosophy of Plotinus. P. 39 f.; The Background of the Doctrine that the Intelligibles are not outside the Intellect // Les Sources de Plotin. Entretiens. 1960. V. P. 391—413, особенно p. 406—413.
6 Enn. II 2 [14] 3; II 9 [33] 1; V 9 [5] 5; V 9 [5] 3.
7 Enn. IV 7 [2] 85, 15.
8 Отрицая в отношении Единого, что оно есть ум, или что оно умопостигает (например: Enn. V 6 [24] 2. 4. 5), или что оно есть νοΰ ένέργεια (V 6 [24] 6), он вместе с тем прилагает к нему аристотелевские категории εις δ πάντα άνήρτηται и ού πάντα έφίεται (I 7 [54] 1; I 8 [51] 2; VI 7 [38] 34; VI 5 [23] 10).
АРИСТОТЕЛЬ
95
жественный) ум действует непрерывно (утверждение, которое Плотин, по-видимому, принимает), и то обстоятельство, что в отношении человеческого ума это неверно, Плотин вводит понятие бессознательного: даже в нас ум продолжает свою непрестанную деятельность, только мы ее не осознаем.1 Так уже во второй раз появляется понятие бессознательного,1 2 здесь — чтобы преодолеть аристотелевское затруднение.
Но психология Стагирита заключала в себе еще несколько противоречий, с которыми Плотину пришлось столкнуться, хотя его подход отличался от аристотелевского. Причиной тому два обстоятельства. Во-первых, Плотин полностью отрицает идею души как энтелехии и в то же время, правда с гораздо большей горячностью, чем Аристотель, отрицает идею восприимчивости души,3 поскольку для него, как уже упоминалось ранее, даже в большей степени, чем для Платона, она принадлежит сфере ума, то есть сфере неизменного. Он пытается выпутаться из этого затруднения, иногда предполагая существование высшей и низшей душ, из которых изменчива только последняя,4 иногда утверждая, что то, что действительно наличествует в теле, не есть душа как таковая, но только образ или отпечаток ее.5 Во-вторых, тогда как у Аристотеля, как мы уже отмечали, не совсем ясно, является ли ум, о котором он говорит в «О душе», тем же, что и в «Метафизике», для Плотина очевидно, что ум, действующий в нас, тождествен уму как второй ипостаси.6 И конечно, в таком случае просто невозможно допустить, чтобы ум в нас был изменчив. Но как ум участвует в психической жизни человека? Один из ответов, предлагаемых Плотином, состоит в том, что все изменения, происходящие в процессах ощущения, желания и так далее, в действительности являются изменениями в теле, которые ум просто «подмечает».7 Но даже это «подмечание» не есть какое-либо изменение в уме, но,
1 Enn. V 1 [10] 11. Ср.: MerlanP. Monopsychism, Mysticism, Metaconsciousness. P. 4—84; Schwyzer H.-R. ,,Bewusst“ und ,,unbewusst“ bei Plotin // Sources de Plotin. Entretiens. 1960. V. P. 341—378 с обсуждением (Армстронг, Хардер, Тайлер, Дёрри, Доддс, Адо, Анри, Чиленто).
2 См. выше, с. 77.
3 Enn. Ill 6 [26] 1—5.
4 Но даже у Аристотеля эти трудности присутствуют; Zeller Е. Die Philosophic der Griechen. Bd. II/2. S. 600.
5 Enn. I 1 [53] 7—8; VI 2 [43] 22; VI 4 [22] 15.
6 Enn. I 2 [19] 4; V 3 [49] 3; VI 2 [43] 20. 22; VI 7 [38] 13.
7 Enn. I 1 [53] 6. 7; III 6 [26] 1. 2; IV 4 [28] 18. 19. 23. Cp.: Zeller E. Op. cit. Bd. III/2. S. 636—640.
96
ГРЕЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ ОТ ПЛАТОНА ДО ПЛОТИНА
скорее, нечто вроде неизменного изменения.1 В дальнейшем мы увидим, что похожая идея была высказана Теофрастом.1 2 Исходно же она коренится в знаменитом аристотелевском различении изменений на совершенствующие и разрушающие.3
Чтобы решиться отнести память к способностям души, Плотин, так же как Аристотель, задается вопросом, является ли она функцией союза души и тела.4 По этой причине бессмертие, во всяком случае до определенной степени, личностно.5
Довольно о космологии, ноэтике и психологии Аристотеля, перейдем к космогонии.6 Ключевым моментом ее является утверждение о том, что космос не имеет начала во времени и непреходящ.7 Согласно аристотелевской интерпретации «Тимея», Платон учил противоположному (хотя космос в действительности не погибнет по воле его создателя). Иначе говоря, Аристотель понимает слово «возник» буквально и со всей горячностью отвергает это учение Платона, считая его не только ложным, но — поскольку начало во времени предполагает возможность конца — еще и нечестивым.8 Нам даже кажется, что все первое поколение учеников Платона было убеждено Аристотелем в вечности космоса. И все же многие, чтобы не признавать неправоту Платона, предпочли не согласиться с аристотелевским толкованием слов учителя. Они утверждали, что не следует понимать слово «возник» во временном смысле, что Платон прибегал к темпоральному слогу исключительно в педагогических целях, переводя вневременное на язык повествования. Однако Аристотель остался неумолим и настаивал на том, что возможна только буквальная интерпретация.9
1 Enn. III 6 [26] 2; ср.: I 1 [53] 13.
2 Ср. ниже, с. 165—167.
3 De an. II 5,417b2; III 5,429Ь22; 7,431а5.
4 Enn. IV 3 [27] 26—32; IV 4 [28] 5; IV 6 [41] 3.
5 Складывается впечатление, что Аристотель отрицает личное спасение (De an. III 5,430а23). Тем не менее данный отрывок прочитывается по-разному. Ср.: Zeller Е. Die Philosophic der Griechen. Bd. II/2. S. 574, n. 3; S. 604, n. 4. Гораздо яснее в другом фрагменте (De an. I 4, 408b25—30), в котором νους совершенно очищен от διανοεϊσθαι, φιλεϊν, μισεϊν, μνημονεύειν — процессов, присущих человеку как сложному сущему, после смерти которого νους более не вовлечен ни в один из них.
6 Ср. выше, с. 77.
1 De caelo I 10,280а28; IV2, 300b 16; Phys. VIII 1,251Ы7; Met. A3, 1071b31— 37.
8 Fr. 18 Rose.
*De caelo I 10, 279b22.
АРИСТОТЕЛЬ
97
Как вскоре станет ясно, большинство платоников1 либо приняли эту или подобную ей трактовку Платона, либо провозгласили космос вечным, исходя из собственного учения.1 2 Тем самым они утвердили понятие вневременного «процесса», которое Плотину было легко адаптировать к собственной интерпретации процесса образования ипостасей, в конечном счете даже ипостаси чувственного мира. Далее мы увидим, что существовал и ряд других прочтений, схожих в отрицании того, что Платон использовал слово «gegone» («он возник») буквально.
Поразительно, но Аристотель отказался признать даже и то, что пифагорейцы и платоники говорили о происхождении чисел (математических сущностей) из высших первоначал только didaskalias charin (или theoresai heneken). Он настаивал, что они не могли иметь в виду ничего иного, чем возникновение в темпоральном смысле слова, поскольку они как-никак говорили о происхождении космоса, причем как физики.3
Аристотель оказал влияние на многих платоников не только в том, что касается космогонии, но и в отношении учения об идеях. Хотя Платон продолжительное время отстаивал его,4 Спевсипп от него отказался.5 При этом платоники заменили идеи математическими сущностями (или отождествили те и другие), Аристотель же поставил на их место имманентные формы. Во всяком случае,
1 Среди них Плотин: Enn. II 1 [40] 1—4; II 9 [33] 3; III 2 [47] 1; IV 3 [27] 9; VI 7 [38].
2 Ксенократ (Fr. 54. 68 Heinze; ср. S. 71, η. 2 его введения); Крантор и Евдор (Plut. De an. pr. 3, 1013a—b); Тавр (Philop. De aet. m. VI 8. 21. 27. S. 145—147, 186—189, 223 Rabe). Теофраст рассуждал о такой интерпретации Платона, но отверг ее (Fr. 28. 29 Wimmer); сам же он провозглашал вечность космоса. Такова была позиция Александра Афродисийского в Philop. De aet. m. VI 27. S. 213—216 Rabe; Plut. De an. pr. 3—10, 1013a—1022e (см. ниже, с. 110), а Аттик {Eus. PE XV 6) настаивал на буквальной интерпретации; в то же время в качестве собственного учения они утверждали временное начало космоса. Заодно с ними был Гален (Compendium Timaei Platonis / ed. P. Kraus, R. Walzer. London, 1951). Cp.: Baeumker C. Die Ewigkeit der Welt bei Plato // Philosophische Monatshefte. 1887. XXIII. S. 513—529; Festugiere A-J. Le Compendium Timaei de Galien // Revue des Etudes grecques. 1952. LXV. P. 97—116, особенно p. 101—103. Исследование современной интерпретации см. в работе Spoerri W. Encore Platon et TOrient // Revue de Philologie. 1957. XXXI . P. 209—233, особенно p. 225, n. 44.
3 Met. М3, 109 lal 2; De caelo I 10, 279b32; Cp.: Lang P. De Speusippi Acade- mici scriptis. Bonn, 1911. S. 30—32.
4 Cp.: Merlan P. Form and Content in Plato’s Philosophy // Journal of the History of Ideas. 1947. VIII. P. 406-^30, особенно p. 412, n. 24.
5 Fr. 42e Lang. Причины этого обстоятельства нет необходимости здесь анализировать.
98
ГРЕЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ ОТ ПЛАТОНА ДО ПЛОТИНА
учение об идеях после смерти Платона, по-видимому, не играло большой роли в платонизме вплоть до Антиоха,1 а вновь обретя актуальность, было сосредоточено на проблеме определения идей и выяснении того, что из сущего, согласно Платону, ими обладает. На оба вопроса дал ответ Ксенократ: идеи, сказал он, суть вечные образцы, парадигмы (возможно, имеются в виду парадигмальные причины) всего существующего по природе.1 2 Такое определение, судя по всему, исключало любую интерпретацию идей только в качестве понятий, а также позволяло заключить, что идей нет у того, что не существует по природе (болезнь и прочее) или было создано искусственно (артефакты). Это вполне согласовывалось с учением, изложенным в «Тимее», и давало повод к такому прочтению Платона, согласно которому он утверждал существование трех высших первоначал: бога, идей и материи, а также, несомненно, было равносильно изложению философской системы, кардинально отличной от учения о двух противоположных первоначалах.
Теперь еще несколько моментов.
Б. Dynamis—Energeia, etc.
Для Аристотеля пара dynamis—energeia имеет фундаментальное значение, в частности в деле нахождения альтернативы учению о двух противоположных первоначалах. Он настаивает, что противоположности не могут воздействовать друг на друга, и поэтому понятие Неопределенной Двоицы3 как одной из противоположностей должно быть заменено понятием материи как того, что лежит в основании противоположностей.4 Иными словами, материя есть в возможности (потенциально) то, чем она может стать в действительности (актуально), например А или не-А. Таким образом, она никогда не есть чистое ничто или неопределенность, но всегда ограниченное ничто или неопределенность.5
Плотин не нуждается ни в понятии действительности, ни в понятии возможности. Материя, в его понимании, не есть относи¬
1 См. ниже, с. 104—105.
2 Fr. 30 Heinze; возможно, это высказывание того периода, когда он все еще отстаивал эту теорию.
3 Согласно Аристотелю, Платон ввел это понятие для исполнения той же функции, что и его (Аристотеля) понятие материи, а именно, чтобы объяснить становление: De caelo III 8, 306b 17.
4 Met. A 10, 1075a32; N 4, 1091b30; Phys. I 9, 192a6.
5Phys. 16—10; Met. A 2, 1069b9—34; 4, 1070Ы1, 18; 5, 1071a8.
АРИСТОТЕЛЬ
99
тельное понятие, как у Аристотеля, для которого понятие первой материи есть только Grenzbegriff;1* ее можно назвать dynamei только в совершенно особом смысле, так как на деле материя никогда не может ничем стать и остается неизменной.1 2 Пожалуй, это противоположно тому, что приписывает материи Аристотель, и гораздо ближе платоновскому понятию пространства, сравнимому с зеркалом или экраном.
Плотин также гораздо осторожнее Аристотеля проводит различие между возможностью как силой (dynamis) и возможностью как слабостью, то есть чем-то еще не реализованным, тогда как Аристотель часто не различает двух этих значений. Кроме того, Плотин предпочитает говорить о чем-то действительном как об energeia, а не energeiai (с йотой приписной) on.3
В конечном счете, недостаток интереса к вышеупомянутой паре понятий со стороны Плотина произрастает из того, что Аристотель ввел ее, дабы справиться с проблемой становления в сфере физического, которую Плотин едва ли удостаивал вниманием. И тем не менее в целом4 он соглашался с Аристотелем5 в том, что энергия всегда предшествует возможности (потенциальности), и отводил понятию energeia исключительно важное значение в описании природы Единого.6
Как бы то ни было, нам известно, что и сам Аристотель был склонен трактовать понятие материи аналогичным образом: род есть материя для видов, «низший» из пяти элементов есть материя для «высшего», женское есть материя для мужского.7 Плотин, очевидно, соглашается с таким использованием понятия материи, когда, например, говорит о душе как о материи для ума.8
1 Phys. Ill 5, 204b32; De gen. et corr. II 1, 329a8, 24; I 5, 320Ы2; Cp.: Zeller E. Op. cit. Bd. II/2. S. 320, n. 2. Cp. разбор этого понятия в книге: Baeumker С. Das Problem der Materie in der griechischen Philosophic. Munster, 1890. S. 247—261.
2 Enn. II 5 [25] и III 6 [26].
3 Cp., с одной стороны, Enn. V 9 [5] 4, 12; IV 8 [6] 3; IV 4 [28] 18—27 и III 6 [26] 1—5, с другой — Zeller E. Op. cit. Bd. II/I. S. 320, η. 1; S. 321, η. 1. Cp. выше, c. 94, прим. 8.
4 Впрочем, cp. c. 79, прим. 7.
5 Met. Θ 8, 1049b5; Enn. IV 7 [2] 8; II 5 [25] 3; V 9 [5] 4; V 1 [42] 26.
6 Enn. VI 8 [39] 20.
7 Met. Λ 4, 1070b 17; 5, 1071a3, 25; De caelo IV 3, 310b 15; 4, 312a 12; De gen. et corr. I 3, 318Ь32; II 8, 335al6; De gen. anim. I 2, 716a7; II 1,732a5; 4, 738b20, etc.; Met. A 6, 988a5; Δ 28, 1024a35.
8 Например, Enn. II 5 [25] 3, 10; III 9 [13] 5.
* Пограничное понятие {нем.). —Примеч. nepee.
100
ГРЕЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ ОТ ПЛАТОНА ДО ПЛОТИНА
Возможность и действительность в философии Аристотеля часто отождествляются с формой и материей, и эту последнюю пару понятий Плотин использует постоянно и без колебаний.1
Из других метафизических воззрений Аристотеля особое значение для Плотина, когда он пытается описать природу Единого,1 2 имеет то, согласно которому есть сущие, сущность и бытие которых совпадают.3
В. Этика
Этика Аристотеля имеет три основных аспекта. В ней различаются добродетели воли (этические добродетели), состоящие в подчинении неразумной части души (чувств) господству разума, и добродетели ума,4 высшей задачей которых является созерцание5 истины или бога,6 сопровождаемое удовольствием (радостью), как это бывает при любом беспрепятственном осуществлении природной способности (в данном случае — ума). Однако, хотя счастье в существе своем и зависит от добродетели, в некоторой степени важны и внешние блага.7
Для Плотина добродетель есть прежде всего средство очищения (то есть отлучения души от тела), конечная цель которого состоит в том, чтобы человек сделался богоподобным, или, как говорит Плотин, богом.8 Счастьем для него будет разумная жизнь, которая и есть жизнь совершенная и исполненная удовольствия (радости) sui generis (hedy, hileon). В разумной жизни заключается сама сущность человека, потому что истинный («высший») человек есть его разум.9 До сих пор Плотин согласен с Аристотелем, хотя и отвергает его утверждение о том, что счастье зависит от внешних благ.10 Кроме того, он критикует понятие добродетели, включающей в себя (подчиненное разуму) чувство, и предпочитает
1 По поводу всего раздела см.: Rutten С. La doctrine de deux actes dans la philosophic de Plotin 11 Revue Philosophique. 1956. LXXXI. P. 100—106.
2 Enn. VI 8 [39] 14.
3 Met. Z 6, 1031a32. Cp.: Enn. I 1 [53] 2, 12.
4 Дианоэтические добродетели (έρετάι): Eth. Nic. II 1, 1103a 14—b2.
5 Eth. Nic. X 7, 1177a 12— 1178a8.
6 Божественное: Eth. Nic. VI 7, 1141al8—b3.
7 Eth. Nic. X 8, 117a23—24.
8 Enn. I 1 [53] 2.3.6. 7; I 6 [1] 6.
9 Enn. I 4 [46] 4. 9.
Enn. I 4 [46] 6.
АРИСТОТЕЛЬ
101
связывать ее с одним лишь умом.1 Только низшие (общественные) добродетели обращаются к чувствам.1 2 Иными словами, в определенном отношении Плотин скорее встает на сторону Стой, чем Аристотеля,3 а иногда даже на сторону эпикурейства, например, отрицая, что высшее удовольствие (радость) состоит в становлении4 или что счастье возрастает со временем.5 Он даже соглашается со знаменитым эпикурейским утверждением, что мудрец будет счастлив даже в мучениях, хотя и отказывает Эпикуру в праве утверждать подобное, поскольку тот не различает «высшего» человека, для которого это утверждение справедливо, и человека «низшего», для которого это не так.6
Г. Сущее как таковое
Следует рассмотреть еще один аспект аристотелевского учения. Аристотель определяет предметное содержание того, что называет «первой философией», по крайней мере двумя различными способами. Иногда он говорит, что это божественное, иногда, что это — сущее как таковое. Среди современных интерпретаторов Аристотеля произошел раскол относительно того, возможно ли согласовать два этих определения и если возможно, то как.7 Впрочем, складывается впечатление, что античные читатели Аристотеля вплоть до Плотина не видели в этом проблемы. В некотором смысле все они считали, что сущее как таковое не означает что-либо общее всему сущему в привычном для нас значении слова «общий». «Быть» в данном случае не есть нечто, что можно сказать как о божественном, так и обо всем, что не есть ничто. Говоря современным языком, античные читатели Аристотеля, по-видимому, не делали различий между сущим как таковым и божественным, считая, что первое относится к тому, что впоследствии получит название metaphysica generalis, тогда как последнее принадлежит
1 Enn. VI 8 [39] 6.
2 Enn. I 2 [19] 2.
3 См. ниже, с. 188.
4 Enn. 14 [46] 12.
5 Enn. I 5 [36].
6 Enn. I 4 [46] 13.
7 См., например: Merlan Р From Platonism to Neoplatonism. P. 160—220; Decarie V. L’Objet de la M0taphysique selon Aristote. Paris, 1961; Owens J. The Doctrine of Being in the Aristotelian Metaphysics. Toronto, 1963; Aubenque P Le Probleme de l’Etre chez Aristote. Paris, 1962.
102
ГРЕЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ ОТ ПЛАТОНА ДО ПЛОТИНА
к metaphysica specialis (тому, что имеет дело с богом, но не со всем сущим). Таким образом, когда Аристотель говорит о сущем как таковом, античные читатели вплоть до Плотина, скорее всего, понимают под этим следующее: только о боге возможно сказать, что он есть, тогда как все остальное не только существует, но и становится. Так это или нет, но выражение сущее как таковое для них, по всей вероятности, служит одним из определений божественного,1 а потому они не видят сколько-нибудь существенного различия между Платоном и Аристотелем в этом вопросе.
Мы видим, что Плотин перенял от Аристотеля ряд важных идей, но в целом остался критически настроен по отношению к нему.1 2
1 Это в особенности становится очевидным у Syrianus. In Met. 5, 9—27; 54, 2А—55, 33 Kroll; Asclepius. In Met. 361, 28—32 Hayduck. Cm.: Kremer K. Der Metaphysikbegriff in den Aristoteles-Kommentaren der Ammonius-Schule. Munster, 1961. S. 211 f.
2 Cp.: Steinhart К. A. H. Meletemata Plotiniana. Halle (Saale), 1840. P. 2A—35 («Plotinus Aristotelis et interpres et adversaries»). Штейнгарт обращает особое внимание на Enn. VI I [42] 3 (против учения о категориях), IV 5 [29] (об аристотелевской теории зрения), IV 6 [41] (об аристотелевском учении о памяти), III 7 [45] (об аристотелевской «субъективистской» теории времени) и I 4 [46] (о счастье). Согласно списку Брейе, Плотин цитирует «Категории», «О душе», «Физику», «Метафизику», «Никомахову этику», «О возникновении и уничтожении», «Метеорологику», «О частях животных»; Х.-Р. Швицер добавляет «О небе» (Plotinos. Col. 572).
Глава 4
ПОЗДНЯЯ АКАДЕМИЯ И ПЛАТОНИЗМ
А. Антиох и другие платоники I века до н. э.
Академию поочередно возглавляли Спевсипп, Ксенократ, Полемон и Кратет. Преемник Кратета Аркесилай (IV—III века), по-видимому, полностью изменил ее характер, обучая какому-то неканоническому, сократическому и в некотором смысле скептическому платонизму.1 Этот скептический этап, который продолжился под руководством Карнеада и Филона из Лариссы (I век до н. э.), имел, вероятно, очень незначительное влияние на поздних платоников. Возвращение к каноническому платонизму, с пути которого с тех пор платоники уже не сбивались,1 2 было инициировано преемником Филона и одним из учителей Цицерона3 Антиохом из Аскалона (р. ок. 130—120, ум. ок. 68). Убежденный,
1 Есть ряд свидетельств (например: Cicero. Lucullus 60) того, что философия Аркесилая есть нечто большее, чем скептицизм (см., например: Gigon О. Zur Geschichte der sogenannten Neuen Akademi // Museum Helveticum. 1944. Bd. I. S. 47—64), и все же эти признаки (самый странный из них — классификация богов, которую приписывают Аркесилаю, сопоставляя ее с классификацией Ксенократа: Tertullian. Ad nat. II 2. Р. 97 Wiss; ср.: Heinze R. Xenokrates. S. 115 f.) слишком легковесны, чтобы убедить нас, будто скептицизм Аркесилая в конечном счете был поставлен на службу каноническому платонизму.
2 Хотя такой полуплатоник, как Филон Александрийский, иногда прибегает к аргументам скептиков (Ebr. 41—49, 166—205), говоря о пользе έποχή.
3 В целом о нем см.: Lueder A. Die philosophische Personlichkeit des Antiochos von Askalon. Gottingen, 1940; Luck G. Der Akademiker Antiochos (с собранием фрагментов); Reinhardt К. Posidonios // RE. 1953. XXII/1. Col. 618—620, 820 f.; Pohlenz M. Die Stoa. Gottingen, 1955. Bd. I. S. 208—238; Bd. II. S. 104— 122. О нем как о предвестнике неоплатонизма: Theiler W. Die Vorbereitung des Neuplatonismus. Berlin, 1930. S. 34—55; Pohlenz M. Op. cit. Bd. I. S. 391 f.; Bd. II. S. 190.
104
ГРЕЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ ОТ ПЛАТОНА ДО ПЛОТИНА
что стоическая философия, какой мы ее знаем, вышла из Древней Академии, что Аристотель, во всяком случае на одном из этапов своего творчества, был платоником и что перипатетическая школа (которая, по его уверению, возникла только после смерти Спевсиппа), хотя и модифицировала платоновскую этику, есть по сути та же Академия,1 Антиох включил в свою собственную систему немало стоических и перипатетических воззрений, и этот эклектизм, согласно ряду исследователей, вымостил путь неоплатонизму. И все же применения платоновскому учению о двух противоположных первоначалах, как видно, он не нашел. Иными словами, возвращение Антиоха к платонизму еще не означало, что он восстановил все доктрины Академии.
Как он относится к теории идей? Спевсипп, а также отчасти Ксенократ и Аристотель на том или ином этапе своей карьеры отказались от нее. Антиох же, упрекая Аристотеля в «ослаблении»1 2 этого учения, сам, скорее всего, был его сторонником,3 хотя и совершил в нем ряд существенных преобразований. Прежде всего, поскольку он отрицал, что между умом и чувствами существует сколько-нибудь серьезное различие,4 идеи, очевидно, не могли сохранить для него ни своего первостепенного значения,5 ни статуса трансцендентности, хотя их познание по-прежнему оставалось прерогативой ума. Возможно, Антиох отождествлял их с общими понятиями стоиков,6 находя опору в известной двойственности последних. «Общие понятия» понимались либо как врожденные понятия (в таком значении это выражение использовал Цицерон, считавший, что все люди рождаются с единообразными представлениями о божественном и образцах морали), либо как понятия, которые все люди по необходимости формируют на основании чувственного опыта. И скорее всего, идеи Антиоха некоторым образом соединяли в себе черты обоих прочтений. Это, несомненно, существенно уменьшало значение припоминания: либо каждый постепенно приобретает знание идей, либо он должен вспомнить
1 Cicero. Acad. I 17. 22; Lucullus 15. 136; De fin. V 7 14. 21; IV 5; De leg. I 38 f.
2 Acad. 133.
3 Acad. I 30. Так у Luck (S. 28), Theiler (S. 40 f.). Противоположную точку зрения см. в Vogel С. J. Greek Philosophy. Vol. III. Leiden, 1964. P. 1200 (с примечаниями).
4 Несмотря на Lucullus 30—31, где утверждается, что только mens есть rerum index, потому что только mens способен воспринимать идеи.
5 Cicero. De fin. IV 42.
6 Strache H. Der Eklektizmus des Antiochos von Ascalon. Berlin, 1921. S. 12 ff.; Theiler W. Die Vorbereitung des Neuplatonismus. S. 41. Идеи = мысли: SVF I 65.
ПОЗДНЯЯ АКАДЕМИЯ И ПЛАТОНИЗМ
105
их в смысле простого вспоминания того, что знал при рождении, а потом забыл.1
К этому преобразованию Антиох, вероятно, добавил еще одно. По-видимому, он пытался примирить аристотелевское учение об имманентных формах с платоновским учением о трансцендентных идеях. Поразительно, что в одном параграфе и сам Аристотель, перечисляя четыре причины, добавляет пятую, парадигмальную (образцовую) причину, словно он никогда и не критиковал платоновского учения об идеях.1 2 Таким образом, формальная причина, которая со всей очевидностью должна была встать на место платоновской идеи, оказалась рядоположена ей. Поздние платоники3 будут оперировать комплектом из пяти первопричин без всяких колебаний, тем самым примиряя Платона с Аристотелем даже в отношении теории идей. И каковы бы ни были основания для такой интерпретации, вполне вероятно, что начало этому примирению положил Антиох.4 Наиболее же отчетливое выражение оно получило у Сенеки, который, чтобы разъяснить понятие идеи (которую он определяет в терминах Ксенократа5), говорит, что форма статуи вначале существует в уме мастера, а затем в материи статуи,6 и предлагает называть первую идеей, а вторую — eidos.
Подобный способ объяснения того, что следует понимать под идеей, одновременно обращает наше внимание на то, что здесь перед нами третье преобразование учения об идеях, согласно которому идеи существуют в уме мастера. В примере Сенеки мастер — человек, хотя тот же Сенека утверждает, что идеи суть образцы всего и что они содержатся в мыслях бога.7 Таким образом, Антиох, возможно, был родоначальником учения об идеях как мыслях бога.
Более сильное доказательство того, что Антиох первым свел идеи к (божественным) мыслям, представляет собой Цицероново
1 Ср.: Lucullus 21 f. в противоположность Tusc. I 57.
2 Phys. ИЗ, 194Ь23.
3 Например, Альбин — см. ниже, с. 117.
4 О корнях этого примирения у Платона см.: Theiler W. Die Vorbereitung des Neuplatonismus. S. 11.
5 Fr. 30 Heinze.
6 Ep. 58, 21; Cp.: Ep. 65, 7.
7 Ep. 65, 7. Об этих двух письмах см. Bickel Е. Seneca’s Briefe 58 und 65 // Rheinisches Museum. 1960. CIII. S. 1—20. Впрочем, он утверждает, что источником для Сенеки был Посидоний через Аннея Амиция (Ер. 58, 8 — здесь следует читать «Amicus», не «amicus»; 77, 6), который работал с Посидонием. Тем самым он оспаривает Тайлера (Die Vorbereitung des Neuplatonismus. S. 15—55, особенно S. 36). Cp. также: Norden E. Agnostos Theos. Leipzig, 1913. S. 348.
106
ГРЕЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ ОТ ПЛАТОНА ДО ПЛОТИНА
толкование различия между идеально и актуально риторическим, в ходе которого утверждается, что в уме мастера (mens artifex) присутствует species pulchritudinis,* которое лишь несовершенным образом получает выражение в действительном произведении искусства.1 Трудно поверить, что создателем подобной неплатонической теории искусства был сам Цицерон, и, возможно, хотя этого и нельзя утверждать наверняка, она восходит к Антиоху.1 2
Для Плотина учение об идеях играет гораздо менее значимую роль, чем для Платона. Ex professo** он обращается к нему главным образом в двух аспектах: с целью опровержения того, что идеи существуют вне ума,3 и дабы доказать существование идей единичных вещей.4 По-видимому, соответствующее основание для первого заложил Антиох, второе же целиком принадлежит Плотину.5 Характерно, что в этом контексте Плотин заимствует учение стоиков о периодическом разрушении космоса. Что касается учения о припоминании, то его он фактически отрицает в пользу теории бессознательного.6
Верил ли Антиох в существование эфира? Считал ли он эфир веществом, из которого составлены не только звезды, но и души (умы)? В текстах однозначного ответа не найти. Без каких-либо критических комментариев Антиох замечает, что Аристотель утверждал существование эфира,7 а стоики его отвергали8 и что по этому вопросу много спорят.9 Очевидно, что любая теория, изображающая душу (или ум) в качестве материальной или полумате¬
1 Orat. 7; ср. 101. Ср.: Birmelin Е. Die kunsttheoretischen Gedanken in Philostrats Apollonios // Philologus. 1933. LXXXVIII (N. F. XLII). S. 149—180, 392—414, особенно S. 402—406; Theiler W. Die Vorbereitung des Neuplatonismus. S. 17; Panofsky E. Idea. Berlin, 1960. S. 10 f.
2 Похоже, что Варрон интерпретировал рождение Афины = понимания (insight) из головы Зевса в этом смысле (Fr. XV 4, р. 188 Agahd = Aug. De civ. VII 28); cp. Theiler (S. 19), но и Pohlenz M. Die Stoa. Bd. II. S. 132. Cp.: RistJ. M. Eros and Psyche. London, 1964. P. 61—66; WaszinkJ. H. Bemerkungen zum Einfluss des Platonismus im friihen Christentum // Vigiliae Christianae. 1965. XIX. S. 129—162, особенно S. 139, n. 21.
3 Enn. V 5 [32].
4 Enn. V 7 [18], несмотря на V 9 [5] 12, 3.
5 См., однако, ниже об Альбине.
6 Enn. I 2 [19] 4, 18—27; IV 3 [27] 25, 30—45; хотя V 9 [9] 5.
7 Cicero. Acad. I 26.
8 Ibid. 39.
9 Cicero. De fin. IV 12.
* Видение красоты {лат.). — Примеч. перев.
** Открыто, явно {лат.). — Примеч. перев.
ПОЗДНЯЯ АКАДЕМИЯ И ПЛАТОНИЗМ
107
риальной сущности, представлялась Плотину богохульством. Он отверг теорию эфира даже в физике, а тем самым, как мы теперь можем судить, a fortiori* отверг ее в психологии.
Другие аспекты философии Антиоха едва ли могли заинтересовать Плотина. Антиох ставил в основание своей этики учение о самосохранении.1 Когда же от него потребовали пояснить, что он имеет в виду под самостью, Антиох, указывая на то, что человек состоит как из души, так и из тела, отвечал, что самосохранение означает сохранение обоих, вне зависимости от того, что из них более совершенно.1 2 Антропология подобного рода не могла показаться привлекательной тому, кто слыл стыдившимся обладания телом и учил, что только ум есть истинная самость человека.3 Кроме того, Антиох утверждал, что человеческая самость изначально общественна,4 так что его доктрина была системой индивидуальной и социальной этики. И наконец, он выводил критерий морали из природы.5 Эти аспекты учения Антиоха также вряд ли могли быть близки Плотину. То же верно и в отношении Ария Дидима, который, хотя и был стоиком, имел воззрения, по своей сути тождественные взглядам Антиоха.6
Как бы там ни было, один аспект учения о самосохранении, должно быть, пришелся по нраву Плотину. Очевидно, под влиянием монизма и пантеизма стоиков Антиох наградил самостью не только человека и животных, но и растения. И Плотин также прямо включил растения в свою схему пананимизма,7 хотя и не был уверен, стоит ли считать источником жизни растений одушевленную землю или их собственные души.8 Возможно, именно Антиох9 был вдохновителем этой идеи.
Впрочем, нам не следует исключать из рассмотрения и вероятность того, что в I веке до н. э. могли существовать платони¬
1 De fin. IV 3—18; V 24—33.
2 Ibid. 34—75.
3 Porph. Vita Plotini 1; Enn. V 3 [49] 1—5. Cp.: Merlan P. Monopsychism, Mysticism, Metaconsciousness. P. 77—81.
4 De fin. V 65—67; Acad. 121; cp.: Zeller E. Die Philosophic der Griechen. Bd. III/2. S. 629, η. 1.
5 De fin. V 26. Cp.: Enn. 14 [46] 14. 16, где он настаивает, что человек не есть συναμφόπερον («совокупность») души и тела. Возможно, он выступал против Антиоха, против любых попыток выводить критерии из природы, см.: Ibid. I.
6 Zeller Е. Die Philosophic der Griechen. Bd. III/2. S. 636—639.
7 Enn. IV 7 [2] 8.
8 Enn. IV 4 [28] 22.
9 А не Посидоний; см. ниже, с. 186.
* Тем более {лат.). — Примеч. перев.
108
ГРЕЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ ОТ ПЛАТОНА ДО ПЛОТИНА
ки, не согласные в своих воззрениях ни с Новой Академией, ни с Антиохом. Такой платонизм, по-видимому, нашел выражение в источнике Цицероновых «Тускуланских бесед» (книга I).1 В целом, этот платонизм строго дуалистичен (51), и познание с помощью чувств в нем совершенно обесценено (46). Философия есть приуготовление к смерти (74 и сл.); смерти не следует бояться, если душа бессмертна или по причине того, что она бессмертна (41; 51; 21; 25). Мысль о бессмертии, а именно бессмертии одного лишь ума (mens) (20; 80), впервые пришедшая в голову Ферекиду и его ученику Пифагору (38), является одной из отличительных черт философии Платона, в сравнении с которой все остальные системы не имеют будущего (55; 79). Цицерон также является большим почитателем Аристотеля (22), причем, по всей видимости, Аристотеля exotericus (94; 114), отчего он остается безразличным к вопросу о том, состоит ли душа из эфира или пневмы или она нематериальна (60; 65; 70), имеет ли космос начало во времени или нет, а также что есть бог для космоса — творец или только судья.1 2 В такого рода платонизме есть немало того, что могло бы вызвать сильнейший интерес у Плотина. И если перед нами не плод фантазии Цицерона, а действительно некий неизвестный платоник, то здесь нам представляется случай напомнить себе о том, что многое в истории платонизма, вероятно, утрачено и рассчитывать на воссоздание целостной картины платонизма доплотиновского периода мы не можем.3
1 В ученых кругах вопрос о том, кто был этим источником — Посидоний или Антиох, является предметом широкой полемики. Я уверен, что из проделанного мною обзора содержания данного текста будет понятно, почему я не могу принять ни одной из этих двух гипотез. Для первой в тексте слишком много высокомерия по отношению к Стое (55. 79 f.); для второй он слишком дуалистичен и аскетичен. Остается предположить, что некоторые идеи были взяты у Антиоха (например, исключительная похвала памяти (57); см. выше, с. 104—105), другие у Посидония (например, история цивилизации (62)). Значительный вклад, наверное, также внес Крантор, сочинение которого «О печали» послужило образцом для Цицеронова «Утешения». Ср.: Gigon О. Die Emeuerung der Philosophic in der Zeit Ciceros // Recherches sur la tradition Platonicienne. Entretiens Hardt. III. P. 23—59, особенно p. 51 ff.
2 Он приравнивает ум к эфиру и еще раз использует термин ένδελέχεια (continuata motio et perennis); души и боги опять-таки состоят из эфира (41. 56); особую задачу ставит формула sensus communis (46), примененная к уму (mens). Могла ли она относиться к аристотелевскому учению о единстве ума, а не к κοινόν αισθητήριον из «О душе»?
3 В данном контексте уместно отметить, что Цицерон является первым автором, который упоминает платоновские письма, а также то, что он к тому же знаком и с Аристотелем-экзотериком, причем даже в большей степени, чем
ПОЗДНЯЯ АКАДЕМИЯ И ПЛАТОНИЗМ
109
Еще одно сочинение Цицерона, заслуживающее особого упоминания, это «Сон Сципиона». Высказывались серьезные аргументы в пользу того, что источником этого сочинения является Антиох.1 В частности, об Антиохе нам напоминает превознесение деятельной жизни, то есть искусства государственного управления, которое гарантирует политику такое же бессмертие, какое обещает созерцательная жизнь. Другие фрагменты — к примеру, формула «наша жизнь в действительности есть смерть», обесценение славы, подчеркнутое небрежение землей — кажутся многим ученым отходом от влияния Посидония. Скорее всего, мы имеем перед собой довольно своеобразное сочетание Антиоха, Посидония, Крантора и Цицерона, к большей части идей которых Плотин, по-видимому, был безразличен.
Б. Плутарх и Тавр
О последователях Антиоха вплоть до схолархата (Арист, Феомнест) нам почти ничего не известно. Но имя схоларха времен Нерона и Веспасиана, египтянина (!) Аммония Афинского бессмертно благодаря его ученику Плутарху из Херонеи (ок. 50—120 или позднее). Он явно симпатизировал «ориентализирующим» и особенно «египтизирующим» тенденциям Древней Академии. Под его влиянием Плутарх написал «Об Исиде и Осирисе», посвятив этот труд интерпретации египетских мифов и культов, намереваясь отыскать в них обилие философской мудрости и в том числе основные черты философии Платона, а также изобразив Пифагора, Платона и Евдокса учениками «варварской» мудрости.* 1 2
Если же мы предположим теперь, что сочинения Плутарха, по крайней мере отчасти, не только выражают его собственные взгляды, но и отражают интересы Академии, мы обнаружим несколько моментов, заслуживающих нашего внимания.
Плутарх знаком как с Аристотелем esotericus, так и с exotericus. По всей вероятности, это он написал комментарии к «Категориям»
с эзотериком (в самом деле, не вызывает сомнений, что его «Гортензий» создан по образцу аристотелевского «Протрептика»).
1 Luck G. Studia divina in vita humana. On Cicero’s Dream of Scipio 11 Graeco- Roman Philosophy Harvard Theological Review. 1956. XLIX. P. 207—218.
2 De Is. et Os. 10, 354e—f. Это напоминает признание Плотином мудрости иероглифического письма: Επη. V 8 [31] 6.
110
ГРЕЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ ОТ ПЛАТОНА ДО ПЛОТИНА
и «Топике».1 Он спорит с «О небе», встретив в нем учение об уникальности космоса;1 2 с другой стороны, во всяком случае временами, он признает существование эфира как пятого, а не тождественного огню элемента3 и даже посвящает этому отдельное сочинение.4 Кроме того, он ссылается на аристотелевского самодовлеющего бога «Метафизики» (книга А)5 и высказывает неодобрение на его счет. Ему также известно, что в ряде сочинений Аристотель критиковал учение об идеях,6 как и то, что поначалу Стагирит разделял его.7 Когда же дело доходит до описания конечной цели философии,8 Плутарх цитирует как Платона, так и Аристотеля в подтверждение того, что эта цель достигается в своего рода внезапном озарении, или «касании» божественного, сравнимом с тем, что бывает с посвященными в мистические религии,9 при этом он ссылается на какие-то экзотерические сочинения Аристотеля. В противовес аристотелевской интерпретации платоновской космогонии10 11 он дает такое истолкование Платона, согласно которому космос имеет начало во времени, при этом очевидно, что Плутарх не считает это воззрение Платона ложным.11 Он называет восприемницу материей, возбужденной злой душой;12 саму по себе материю вместе с Аристотелем13 он считает нейтральной,14 но в то же время желающей блага,15 а иногда и злой,16 обращаясь
1 Образец он нашел у Платона, Tim. 37а (De ап. рг. 23); второй см. в Lam- prias Cat. 192. 156.
2 De def. or. 24—30,423c—426e.
3 Ibid. 31—34, 426f—428c; 37, 430c—d; De Ei 11, 389f—390a.
4 Lamprias Cat. 44.
5 De def. or. 30, 426c.
6 Adv. Col. 14, 1115a.
7 De virtute morali 7, 448a; 3, 442b; cp.: Verbeke G. Plutarch and the Development of Aristotle I I Aristotle and Plato in the Mid-Fourth Century. Goteborg, 1960. P. 236—247.
8 Которая, по его мнению, есть теология: De def. or. 2, 410b.
9 De Is. et Os. 77, 382d—e.
10 «О рождении души по ,,Тимею“».
11 De an. pr. 4—10, 1013d—1023d; Plat. qu. IV 1003a.
12 De Is. et Os. 46—49, 369e—371e; De an. pr. 7, 1015d—e; cp.: 5, 1014b; 6, 1014d; 9, 1016c, 1017a—b. Это та злая душа, которую Плутарх отождествляет с одной из составляющих мировой души, а именно с делимой (5, 1014d). Плотин (Enn. IV 2 [4]) отождествляет неделимое с умопостигаемым, делимое с чувственно воспринимаемым.
13 Met. Λ 10, 1075а34.
14 De an. pr. 6, 1014f.
15 De Is. et Os. 53, 372e; 57, 374d.
16 De def. or. 9,414d.
ПОЗДНЯЯ АКАДЕМИЯ И ПЛАТОНИЗМ
111
за подтверждением все к тому же Аристотелю.1 Он вообще относится к Аристотелю с симпатией и обильно цитирует его, не прилагая при этом усилий к примирению его с Платоном. В целом таково же отношение и Плотина, несмотря на его гораздо большую, чем у Плутарха, склонность возражать Аристотелю.1 2
Плутарх пытается возвысить бога над всем остальным, утверждая, что только он поистине есть и есть истинно Единое, тогда как все остальное скорее становится, чем есть, и есть скорее многое, чем Единое. Бог прост, свободен от какой-либо инаковости.3 И все же бог Плутарха4 осуществляет провидение5 (по причине чего Плутарх6 не приемлет аристотелевского самодовлеющего бога) и есть поэтому нечто совершенно иное, чем первое и второе божества Плотина. Правда, в некоторых фрагментах, подобно стоикам, он говорит о космосе и мировой душе как о частях бога,7 хотя в других местах возражает стоическому пантеизму.8
Между богами и людьми пребывают демоны, и в своей демонологии Плутарх в общем следует за Платоном и Ксенократом с их тремя классами демонов.9 Согласно Плутарху, среди демонов одни были ими всегда, другие суть души умерших людей, а иногда он говорит так, словно «демон» тождествен нашему уму. Правда, если Платон, совершая то же отождествление, отрицает существование демонов как независимых сущностей,10 11 Плутарх убежден, что ум в действительности не принадлежит человеку, но есть демон.11 При этом некоторые демоны добры, другие — злы. Все это, кроме
1 Phys. I 9, 192а 15; Met. А 9, 1051а20; ср.: Zeller Е. Die Philosophic der Grie- chen. Bd. II/2. S. 338, η. 1.
2 В «О нравственных доблестях» Плутарх следует Аристотелю до такой степени, что даже принимает платоническое разделение души на разумную и неразумную части (по этой причине он отрицает интеллектуализм стоиков). Однако именно в этом сочинении Плутарх указывает на то, что Аристотель изменил свои воззрения (см. выше, с. ПО). Вопрос о том, кто послужил для Плутарха источником — Посидоний, Андроник или Ксенократ, невозможно рассмотреть здесь; см. об этом: Ziegler К. Plutarchos // RE. 1951. XXI/1. Col. 769 f.; Pohlenz M. Die Stoa. Bd. I. S. 255—358; Bd. II. S. 132, 175.
3 De Ei 17, 39 le; 19, 392e; De Is. et Os. 77, 382c.
4 Или боги: в De def. or. 24, 423c—d он даже указывает на необходимость того, чтобы их было больше одного.
5 De Is. et Os. 67, 377f.
6 De def. or. 30, 426c.
7 Plat. qu. II 1.2, 1001a—c.
8 De def. or. 29, 426b; Ad. princ. iner. 5, 78If.
9 См. ниже, c. 124.
ю Tim. 90a.
11 De gen. Socr. 22, 59le.
112
ГРЕЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ ОТ ПЛАТОНА ДО ПЛОТИНА
последнего пункта, включая колебания между «внутренней» и «внешней» интерпретациями демонов, мы находим у Плотина.1
Из других аспектов философии Платона Плутарх знаком с учением о двух противоположных первоначалах, хотя странным образом ссылается на него в его пифагорейской, а не платонической форме, благодаря чему и выводит из этих первоначал не идеи, а числа.1 2 Очевидно, он предпочитает интерпретировать Платона в терминах триады демиург—идеи—материя3 и охотно относит к материи не только аристотелевский термин hyle, платоновские hypodoche, tithene и так далее, но и пифагорейскую диаду.4
Примечательно и его отношение к Сократу. Он осведомлен о существующем трении между «сократиками» и «пифагорейцами»5 и вводит в «О демоне Сократа» (9) персонажа, который выступает против невероятных разглагольствований пифагорейцев и, наоборот, хвалит рассудительность Сократа.6 Пифагорейцы Луммий и Теанор решают дело: Сократ им по душе. И можно с уверенностью сказать, что только пифагорейский Сократ мог заинтересовать Плотина.7
Мы уже говорили о том, что Плутарх склонен четко различать ум и душу.8 Он даже забавляется с идеей того, что ум постоянно пребывает вне тела.9 И эта идея, вероятно, пришлась бы по нраву Плотину, как и Плутархов дуализм души и тела, согласно которому душа загрязняется продолжительной связью с телом.10 11
Плутарх заимствует идею реинкарнации11 как нечто само собой разумеющееся, и все же мы обнаруживаем у него ряд тех же противоречий относительно судьбы души после смерти и причин
1 См. выше, с. 83. Следует упомянуть еще об одном отрывке, посвященном демонам, в котором утверждается, что некоторые демоны и боги одноименны: De def. or. 21,42le. Cp.: Enn. VI 7 [38] 6.
2 De def. or. 35, 428e.
3 Qu. conv. VIII 2. 4, 720b.
4De Is. et Os. 48, 370e; De an. pr. 5, 1014d; 6, 1014e; 7, 1015d; 24, 1024c и другие фрагменты.
5 Из числа которых первым глашатаем, похоже, был Эсхин из Сфетта. Ср.: Dittmar Н. Aeschines von Sphettos. Berlin, 1912. S. 213.
6 579f.
7 См. ниже, c. 153.
8 De facie 28, 942e.
9 Как это ни странно, в одном месте у него мы обнаруживаем ряд монада— ум—фюзис (De gen. Socr. 22, 591b). Cp.: Dorrie H. Zum Ursprung der neuplato- nischen Hypostasenlehre 11 Hermes. 1954. LXXXII. S. 331— 342, особенно S. 332.
10 Cons, ad ux. 10, 61 le—f; cp.: Περί ψυχής 6, Vol. VII, 21—27 Bernard.
11 В том числе и в животных: De sera 32, 567e.
ПОЗДНЯЯ АКАДЕМИЯ И ПЛАТОНИЗМ
113
для воплощения, что и у Платона. По крайней мере в одном из фрагментов он, по-видимому, рассматривает инкарнацию (с последующей реинкарнацией) в качестве следствия всеобщего закона, что по сути равносильно «оптимистическому» воззрению на нее.1 Однако, как мы уже видели, иногда он представляет ее в качестве зла для души. Его дуализм души и тела, безусловно, противоречит Антиоху,1 2 доказывая тем самым ограниченность влияния последнего на платоников. Кстати, Плутарх находит слова одобрения и для скептицизма Новой Академии,3 хотя скептицизм сам по себе означает для него не более чем боязливость в принятии окончательного решения по трудному вопросу.4 Более того, Плутарх придерживается мнения, что всегда была только одна Академия5 и что она не то же, что пирронизм.6 Для Плотина же Новой Академии просто не существует.
Мы уже ссылались на фрагмент,7 в котором Плутарх говорит о том, что итогом философии является теология и что ее цель может быть достигнута только в момент внезапного «озарения». С этим фрагментом созвучен ряд других.8 В них Плутарх описывает, каким образом бог может завладеть человеческой душой (классическим примером является, конечно, Пифия), сделавшейся полностью восприимчивой к нему. По словам Целлера,9 здесь видны некоторые зачатки неоплатонического учения об экстазе, а мы должны сказать, что они совершенно невнятны. Во многих отношениях Плутарх согласен и с учением стоиков о естественном прорицательстве (мантике).10 11Уже упоминалось, что Плутарх был знаком с учением о двух противоположных первоначалах,11 однако нам не кажется, что он когда-либо интересовался «горизонтальным» троичным делением реальности на идеи, математическое и чувственно воспринимае¬
1 De facie 27—30, 942с—945с.
2 И согласуется с источником Цицероновых «Тускуланских бесед», I; см. выше, с. 107—108.
3 Adv. Col. 26, 112le—1122а; 29, 1124b.
4 De sera 4, 549d.
5 Lamprias Cat. 63.
6 Ibid. 64.
7 De Is. et Os. 77, 382d—e.
8 De Pyth. or. 21—23, 403e—405e; Amat. 16, 758e.
9 Zeller E. Die Philosophic der Griechen. Bd. III/2. S. 210.
10 Cicero. Dediv. I 64 (Посидоний); 110; 113; 115; 129; 1126; 34; 35.
11 Cp.: De an. pr. 2, 1012e; De def. or. 35,428e — из них, как уже было сказано, происходят числа, а не идеи.
114
ГРЕЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ ОТ ПЛАТОНА ДО ПЛОТИНА
мое. И все же он сохранил для нас Посидониеву интерпретацию «Тимея», в которой это трехчастное деление представляется крайне важным. Роль Посидония как предтечи Плотина спорна, но в одном мы можем быть уверены: данная интерпретация горизонтального трехчастного деления играет роль строительных лесов для системы неоплатонизма. Согласно Посидонию, отрывок из «Тимея», в котором Платон отводит душе срединное положение между сферами умопостигаемого и чувственно воспринимаемого, по сути тождествен аристотелевскому изложению философии Платона как учения о трех сферах: идей, математического и чувственного, поскольку, по уверению Посидония, душа тождественна математическому.1 Нетрудно заметить, что проступающее здесь троичное деление (идеи, душа, чувственно воспринимаемое) во многом сходно с известной троичностью у Плотина.1 2
Целый ряд сочинений Плутарха движим религиозным интересом. Чем объяснить отсрочку божественного наказания? Почему пророчества более не даются в метрической форме? Что имел в виду Сократ, говоря о даймоне? Почему оракулы пришли в упадок? Ответ на все эти вопросы предполагает деятельность духов (демонов). Можно сказать, что благодаря Плутарху демонология продолжает играть заметную роль в платонизме.
В ряде сочинений Плутарх подверг критике не только эпикурейцев,3 но и стоиков. Другими словами, он определенно не
1 Плутарх, служащий для нас источником интерпретации Посидония, с этим тождеством не согласен: De ап. рг. 23, 1023d.
2 Ср.: Merlan Р. From Platonism to Neoplatonism. P. 34—39.
3 Стоит напомнить, что Антиох (De fin. V 45) не решился стать выразителем антиэпикурейской позиции в вопросе о том, принадлежит ли удовольствие (ήδονή) к тем благам, овладения (οικειοΰσθαι) которыми хочет от нас природа. И все же в целом его синкретизм не включает в себя эпикурейства. Дело обстоит иначе с Сенекой, многие сочинения которого имеют отчетливо эпикурейский привкус. Среди платонических сочинений «К Марцелле» Порфирия включает в себя ряд этических воззрений Эпикура. Что касается Плотина, хотя он не принимает ничего из теоретической философии эпикурейцев, одно положение их практической философии все же составляет исключение, а именно положение о том, что счастье не прибывает со временем. Конечно, Плотин еще должен видоизменить это высказывание, избавив его от гедонизма Эпикура, но если вместо ήδονή в качестве цели человеческой жизни принять добродетель, то Плотин, несомненно, согласился бы с ним (Enn. I 5 [36]). Как бы то ни было, в этом же сочинении Плотин также отвергает учение о памяти как составляющей счастья. Communis opinio (общее мнение), согласно которому поздний греческий синкретизм не включает в себя эпикурейства, нуждается в некотором уточнении.
ПОЗДНЯЯ АКАДЕМИЯ И ПЛАТОНИЗМ
115
сделал ничего, чтобы сознательно содействовать синкретизму (эклектизму).1 Мы уже упоминали о том, что он был исчерпывающе осведомлен о разногласии между Аристотелем и Платоном (и не только в отношении учения об идеях, но и касательно проблемы множественности kosmoi, саму возможность которой Аристотель, в отличие от Платона, как известно, отвергал). Сходное антиэклектическое отношение мы можем видеть и у Кальвизия Тавра, ученика и младшего друга Плутарха,1 2 учителя Герода Аттика и Авла Геллия и, весьма вероятно, схо- ларха афинской Академии. Он также критиковал эпикурейцев и Стою и, похоже, возражал тем, кто пытался согласовать Платона с Аристотелем.3 С другой стороны, его учитель, видимо, не убедил его в том, что, согласно Платону, космос имеет начало во времени;4 отверг он и аристотелевское учение об эфире.5 Так мы еще раз убеждаемся, что влияние Антиоха на Академию было ограниченным.
Плутарх и Тавр не согласны и в отношении воплощения души. Плутарх временами склонялся к «пессимистической» точке зрения на воплощение как на зло для души,6 Тавр, напротив, предпочитал «оптимистическую» интерпретацию.7
В дальнейшем мы будем говорить об Аттике, которого некоторые ученые считают преемником Тавра на посту схоларха Академии. В преддверии подробного рассмотрения можно сказать, что Аттик отчасти солидарен с Тавром, отрицающим взаимную согласованность учений Платона и Аристотеля, отчасти разделяет воззрения Плутарха, постулирующего происхождение мира во времени и существование злой мировой души.
В. Альбин и Апулей
Во втором столетии мы обнаруживаем платонизм, отличный от платонизма Плутарха или Кальвизия Тавра, также и вне Академии.
1 О том, чему он возражает, а также чему обязан в отношении этики стоиков, см.: Zeller Е. Die Philosophic der Griechen. Bd. III/2. S. 201—204; cp.: Jones R. M. The Platonism of Plutarch. Wisconsin, 1916. P. 9, 21.
2 Gellius. N. A. I 26. 4. О нем см.: Praechter К. Taurus // RE. 1934. V/l.
3 N. A. IX 5, 8; XII 5, 5; Tauros // Suda.
4 Philop. De act. m. VI 21. S. 186, 17 Rabe.
5 Ibid. XIII 15. S. 520, 4 Rabe.
6 См. выше, c. 75—76.
7 Iambi ap. Stob. Eel. I 39. Vol. I. S. 378, 25 Wachsmuth.
116
ГРЕЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ ОТ ПЛАТОНА ДО ПЛОТИНА
В силу обстоятельств мы особенно хорошо осведомлены о платонизме Альбина.1
Учение Альбина представляет собой всецело синкретический платонизм. Он широко использует воззрения Аристотеля и стоиков, причем очевидно, что Аристотель для него только платоник, а стоицизм — ветвь платонизма.1 2 По Альбину, философия состоит из физики, этики и логики.3 Это деление обычно возводят к Ксенократу, хотя его можно найти и у Аристотеля4 и, позднее, в учении Стой. Впрочем, порядок этих трех частей различными авторами устанавливается по-разному, а логика иногда именуется диалектикой. Физика в данном случае включает в себя теологию, хотя время от времени Альбин говорит так, будто различает физику, с одной стороны, и этику, политику и экономику, с другой,5 — что можно поставить в соответствие с аристотелевским делением философии на теоретическую и практическую части (хотя Альбин и избегает поэтики, третьей части аристотелевского деления).6 Кроме того, в теоретической части Альбин выделяет, во-первых, теологию, на аристотелевский лад определяя ее как исследование неподвижного, первоначал и божественного; вторую часть, физику, он описывает как то, что имеет дело с движениями небесных
1 В 151—152 гг. он обучал Галена в Смирне. О его учении — в дополнение к списку более ранней литературы, приведенном в Ueberweg К, Praechter К. Grundriss, — см.: Theiler W. Die Vorbereitung des Neuplatonismus; Witt R. E. Albinus and the History of Middle Platonism. Cambridge, 1937; Loenen J. H. Albinus’ Metaphysics // Mnemosyne. 1956. Ser. 4. Vol. IX. P. 296—319; 1957. Vol. X. P. 35— 56; Merlan P. Monopsychism, Mysticism, Metaconsciousness. P. 62—76. О его авторстве см. ниже, с. 122, прим. Следующие цитаты без заглавия относятся к его «Учебнику платоновских воззрений» («Дидаскаликос»), а озаглавленные — к «Изагогу». Текст обоих см. в шестом томе сочинений Платона, изданных К. Ф. Херманном, или в третьем томе сочинений Платона, изданных Дидо (перевод Г. Бёрджеса в шестом томе перевода произведений Платона в «Bohn Library»). Текст «Изагога» можно также найти в книге Freudenthal J. Der Platoniker Albinos und der falsche Alkinoos. Berlin, 1879; французский перевод P. ле Koppe см. в «Revue Philosophique» (1956. LXXXI. P. 28—38). Стандартное издание «Дидаскаликоса» (с французским переводом) см. в Louis Р Albinos, Epitome. Paris, 1945.
2 Didasc. 12 в сущности идентична с Арием Дидимом в тексте Евсевия (РЕ XI 23) и Стобея (Eel. I 12. Vol. I. S. 135, 20 Wachsmuth); ср.: Diels Н. Doxographi graeci. Berlin, 1929. S. 76 f., 447.
3 Isag. 3.
4 Top. I 14, 105b 19.
5 Isag. 6.
6 Тем не менее в другом контексте он говорит о риторике как о дисциплине, смежной с логикой (гл. 6).
ПОЗДНЯЯ АКАДЕМИЯ И ПЛАТОНИЗМ
117
тел1 и строением видимого мира, а третьей частью называет математику, сочетая тем самым две платонико-аристотелевских тройки: теологию, астрономию и физику, с одной стороны, и теологию, математику и физику, с другой (гл. 7).1 2
0 способах деления философии сказано достаточно. Похожую картину полного смешения Аристотеля и Платона мы наблюдаем сразу в нескольких отдельных учениях. Начнем с учения об идеях.
Называя идеи умопостигаемыми сущностями, Альбин объединяет эйдетику Платона и ноэтику Аристотеля. Он предполагает существование бестелесных умопостигаемых сущностей, которые отождествляет с идеями Платона, и умопостигаемых сущностей, неотделимых от материи (гл. 4). Иными словами, тогда как для Аристотеля формы-в-материи должны были занять место идей, для Альбина и идеи, и формы-в-материи суть просто два вида идей.3
Двум видам умопостигаемых сущностей, идей, соответствуют два вида «умопостижения» — грубо говоря, дискурсивное и интуитивное, при этом интуитивное постижение подразделяется на происходящее до воплощения души и после. Этот последний вид умопостижения (или его объекты: действие и объект начинают сливаться) можно назвать physike ennoia. Таким образом, стоицизм оказывается включен в синкретизм Альбина, но одновременно возникает сомнение, сохраняет ли учение о припоминании, хотя он и отстаивает его (гл. 5), всю полноту платоновской силы. Как бы там ни было, Альбин настойчиво отрицает какое-либо учение об абстракции. Идеи можно называть «общими свойствами», но абстрагировать общее из частностей невозможно. Мы не можем ни сделать этого со всеми частностями, потому что их бесконечно много, ни абстрагировать общее из нескольких частностей, так как в противном случае будем постоянно ошибаться. Наше припоминание высвобождает, скорее, легкое касание (aithygma) (гл. 25).4
Учение о том, что идеи суть мысли бога, излагается Альбином безо всяких колебаний, из чего с очевидностью следует, что к этому моменту оно получило широкое распространение (гл. 9). Впрочем, акцент делается на парадигмальном свойстве идей, хотя
1 См. ниже, с. 121.
2 О проблеме соотношения двух рядов теология—физика—математика и теология—математика—физика см. в работе: Merlan Р. From Platonism to Neoplatonism. P. 75 f., 84.
3 Cp. выше, c. 105; ниже, c. 175.
4 Cp.: Enn. VI 5 [23] 1.
118
ГРЕЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ ОТ ПЛАТОНА ДО ПЛОТИНА
и не вполне ясно, являются ли идеи образцами в том смысле, что бог смотрит на них, когда создает космос, или они действительно обладают собственной причинностью. В любом случае, высшими первоначалами Платона он считает бога, идеи и материю.
Принимая определение идей, данное Ксенократом,1 Альбин отвергает существование идей искусственно созданных предметов, никчемных вещей и отдельных людей. Мы вынуждены предположить некую дискуссию о существовании идей в платонизме, предшествовавшем Альбину, поскольку последний недвусмысленно говорит о том, что в своем отрицании он следует большинству платоников. Иначе говоря, когда Плотин решает доказать, что идеи отдельных людей существуют,1 2 он занимает некоторую позицию в рамках уже имевшего место обсуждения (гл. 9, ср. гл. 12).
Из аристотелевской ноэтики Альбин заимствует не только учение об умопостигаемых сущностях, но и ряд наиболее характерных взглядов на природу ума. Прежде всего, он различает потенциальный и актуальный умы и описывает последний как умопостигающий непрерывно и одновременно (гл. 10). Иногда он отождествляет актуальный ум с верховным богом, а иногда выделяет бога, являющегося причиной ума, и вместо триады бог—идеи—материя или наряду с ней устанавливает другую: первый бог—ум—душа. Это, конечно, в полной мере предваряет триаду Плотина. Однако стоило Альбину сказать, что его первый бог является причиной активного ума (или непрерывной активности ума: гл. 10), как он уже снова называет его умом (ср. гл. 27). Иными словами, Альбин стремится возвысить верховного бога над умом, но останавливается, не достигнув цели. Кроме того, описывая верховного бога как невыразимого (arretos; aleptos; не имеющего предикатов, ни poios, ни apoios: гл. 4, 10), он оказывается ближе к Единому Плотина, чем к уму Аристотеля. Безусловно, Плотин (но не Платон) подписался бы под его утверждением, что верховного бога не следует называть даже и благим, поскольку это означало бы, что он соучаствует в благе (гл. 10). Однако Альбин легко и просто описывает этого невыразимого бога как умопостигающего самого себя и сущности, постижение которых есть идея. Здесь уже почти угадывается плотиновское «умопостигаемые сущности не являются внешними уму».3
1 В качестве парадигмальных причин естественных родов: Fr. 30 Heinze; Sen. Ер. 58, 19.
2Enn. V 7 [18].
з Enn. V 5 [32].
ПОЗДНЯЯ АКАДЕМИЯ И ПЛАТОНИЗМ
119
В вопросе о воплощении и перевоплощении (инкарнации и реинкарнации), включая переселение в тела животных, у Альбина мы не находим и следа аристотелевского учения об энтелехии. Души воплощаются, соединяясь с податливой природой эмбриона (гл. 25). Но почему вообще происходит воплощение? Альбин предлагает нам выбрать из нескольких причин (некоторые из них особенно замечательны). Воплощение есть следствие либо божественной воли, либо распутства, либо телесной любви.1 Мы не можем винить платоника за то, что он не желает принять окончательного решения, какую из данных причин избрать, поскольку, как мы могли убедиться, сам Платон оставляет нам этот выбор. Что же касается спектра воплощений, то Альбин согласен с платониками, полагающими, что переселение распространяется и на животных.
Следует упомянуть еще два момента. Во-первых, Альбин не только перенимает целиком аристотелевскую силлогистику, но и открыто приписывает заслугу создания учения о десяти категориях Платону.1 2 Это, конечно, означает, что в данном вопросе ему нечего возразить Аристотелю. Во-вторых, он полностью принимает формулировку, согласно которой цель философа состоит в уподоблении богу (в этом контексте он вновь различает небесного и наднебесного богов, последний из которых превосходит всякое совершенство).3 Мы еще встретимся с ней у Евдора.4
Как уже отмечалось, Плутарх настаивал на том, что космогонические процессы, изложенные в платоновском «Тимее», следует понимать темпорально: космос возник во времени. Кроме того, источник зла он усматривал в злой душе, тогда как материю считал нейтральной в отношении зла и блага или даже в какой-то мере благой в силу ее стремления к «оформленности». Отношение Альбина совершенно иное. Он примыкает к ученикам Платона первого поколения (Ксенократу и Крантору), утверждая, что, согласно Платону, космос не имеет начала во времени, и предлагает два толкования платоновскому «он возник». Это выражение оз¬
1 Еще одна возможная причина, упомянутая Альбином, такова: души оказываются воплощенными άριθμούς μενούσας. Ни поправка Фрейденталя {Freudenthal J. Der Platoniker Albinos und der falsche Alkinoos: άριθμούς ισαρίθμους μενούσας), ни трактовка Дёрри (Dorrie Н. Kontroversen urn die Seelenwanderung im kaiserzeitlichen Platonismus // Hermes. 1957. LXXXV. S. 414—435, особенно S. 418 f., 422: «Души остаются числами») не являются удовлетворительными. Возможно, άριθμούς μέν ούσας — «они бессмертны, так как суть числа».
2 См. ниже, с. 120.
3 Гл. 28; Isag. 6.
4 См. ниже, с. 135.
120
ГРЕЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ ОТ ПЛАТОНА ДО ПЛОТИНА
начает либо «он всегда находился в процессе становления», либо «он зависит от какого-то высшего начала как причины» (гл. 14). Эта схема (зависимость от причины) используется Плотином для объяснения того, в каком смысле материя вечна и тем не менее geneton («порождена»).1
Что касается «этического» характера материи, то Альбин не высказывает своего мнения на этот счет, однако подчеркивает, что материя полностью лишена качеств, ни телесна, ни бестелесна (гл. 8). И Плотин с этим согласен.1 2
Мы уже говорили о том, что Альбин открыто включает аристотелевскую логику в систему Платона (гл. 4—-6). В качестве оправдания он указывает на то, что Платон в ряде диалогов фактически использует все фигуры силлогизма и что в «Пармениде» мы находим десять категорий (гл. 6). Для Альбина все это вопросы диалектики (гл. 3). Диалектика же есть дисциплина, которая предшествует трем разделам теоретической философии (теологии, физике, математике — именно в таком порядке). Иначе говоря, Альбин сообщает нам следующее: логика, которую он называет диалектикой, а мы сегодня именуем формальной логикой, есть органон, предваряющий собственно философские дисциплины. Альбину неизвестно, что платоновскую диалектику можно было бы истолковать в качестве «содержательной» логики, некоторым образом отражающей структуру реальности, а не являющейся сводом правил искусства мыслить. Так или иначе, в философии Альбина заметны отчетливые следы различения логики на диалектическую и формальную. Диалектика, говорит он в другом контексте, занимается божественным и неизменным (bebaion) и потому превосходит математику (гл. 7). Подразумевается, конечно, что она также превосходит и силлогистику, и формальную логику вообще. Плотин тоже примет это различение и поставит диалектику выше (формальной) логики.3
Мы уже упоминали о том, что Альбин перечисляет три части теоретической философии в особом порядке: теология, физика, математика. Правда, как только дело доходит до более или менее подробного описания трех этих частей, он меняет указанный порядок на следующий: теология, математика, физика, так что математика оказывается посередине. Такая последовательность тут же приводит на ум аристотелевский способ изложения философии Платона, а также Посидониево отождествление душ и математи¬
1 См.: Enn. II 4 [12] 4.
2 Например: Enn. II 4 [12] 5.
3 Enn. I 3 [20].
ПОЗДНЯЯ АКАДЕМИЯ И ПЛАТОНИЗМ
121
ческих сущностей. Но если Альбин принадлежит традиции подобного отождествления, он должен тем или иным образом связать математическое с тем, что в философии Платона считается отличительным свойством души, а именно с движением (как в смысле само-движения, так и в качестве источника всякого движения). И мы действительно обнаруживаем такую связку (гл. 7). Задача математики, говорит Альбин, состоит в исследовании движения и перемещения. Поскольку Аристотель утверждает, что математическому свойственна как раз неизменность, мы, безусловно, имеем дело с таким переосмыслением математического, которое делает возможным отождествление математических сущностей с душой. Иными словами, переход от аристотелевского троичного деления (идеи, математическое, физическое) к плотиновскому (умопостигаемое, душа, физическое) стал еще легче. Не только душа становится математизированной, но и математические сущности делаются «одушевленными».
Представляет интерес и еще один момент, способствующий установлению связи между Альбином и Плотином. Сформулировав различие между «отцом», «небесным умом» и космической душой, Альбин говорит, что отец вселяет ум в душу, а затем (это «затем» взято во вневременном значении) обращает душу на себя, чтобы она могла созерцать умопостигаемое и наполняться идеями и формами (гл. 10). Это напоминает о принципе epistrophe Плотина — (вневременном) событии, в ходе которого возникают ипостаси.1
Особый раздел практической части философии составляет учение о добродетелях (достоинствах). Альбин держится платоновских добродетелей (заменив понятие sophia на phronesis (гл. 29) и в остальном также используя этические категории стоиков), но вводит понятие шкалы добродетелей. Достоинства бывают «природными» (euphyiai) и высшими. Однако если последние обязательно следуют друг за другом, то относительно первых это не всегда так, и в этом состоит их важное различие (гл. 29—30).1 2 Похожее учение мы находим и у Плотина.3
1 Enn. V 2 [11] 1, 10 (с комментариями Хардера к этому месту).
2 Альбин отвергает какую-либо интеллектуалисте кую интепретацию πάθη, некоторые он защищает как ήμερα и естественные, а другие отвергает как неестественные. Тем самым он не соглашается с Древней Стоей по важным пунктам (он не соглашается и с перипатетиками, утверждающими, что для счастья достаточно внутренней добродетели: гл. 27). Впрочем, άντακολουθία των άρετών — выражение стоиков, хотя и подготовленное платоновским «Протагором» (348с—ЗбОе).
3 Enn. 12 [19] 7.
122
ГРЕЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ ОТ ПЛАТОНА ДО ПЛОТИНА
Изложение философии Платона Апулеем в его «О Платоне и его учении» в ряде аспектов сходно с изложением Альбина.1
1 Начиная с Т. Синко (Sinko Т. De Apulei et Albini doctrinae Platonicae adum- bratione. Krakow, 1905), считается, что сочинения обоих выражают воззрения Гая, которого, насколько нам известно, читали в школе Плотина. Впрочем, с другой стороны, заключение Фрейденталя (Op. cit.) о том, что автором «Дидаскаликоса» является Альбин, а не некто Алкин, которому оно приписывается в наших рукописях, принимается большинством, но не всеми учеными. Самую недавнюю попытку вернуть его Алкину (который, вероятно, был стоиком, упоминаемым Филостратом) мы находим в Giusta Μ Άλβίνου Επιτομή е Αλκινόου Διδασκαλικός? // Atti della Accademia delle Scienze di Torino. Classe di Scienze morali. 1960—1961. XCV. P. 167—194. Джуста незнаком с работой Orth Е. Les oeuvres d’Albinos le Platonicien // L’Antiquite Classique. 1947. XVI. P. 113 f. Орт на основании фрагмента из Ефрема Сирийца, в котором тот говорит об Альбине как об авторе сочинения Ότι αί ποιότητες άσώματοι, и того факта, что гл. 11 «Дидаскаликоса» посвящена доказательству именно этого обстоятельства, сделал вывод, что «Дидаскаликос» действительно является работой Альбина и что ему же принадлежит дошедшее до нас одноименное сочинение Галена (Vol. 19 Kiihn). И тем не менее, поскольку никто не отрицает, что «Дидаскаликос» и «О Платоне и его учении» доплотиновские, нам не обязательно выбирать сторону в этом споре, как и безоговорочно соглашаться с тезисом Синко. В частности, мы не пытаемся реконструировать учение Гая. Упомянем только одну деталь. К. Прехтер пытался доказать, что Гай, в этом отношении напоминающий нам автора анонимного комментария к «Теэтету» {Diels Н., Schubart W. Anonymer Kommentar zu Platons Theatet. Berlin, 1905. S. XXIV—XXXVII; 5—7, 20,24—27), отрицал утверждение стоиков о том, что οικείωσις и самосохранение могут служить основой личной и общественной этики, и пытался доказать, что только «становление богоподобным» может выступать в этом качестве. Если бы он или кто-либо еще из платоников заявил подобное, мы имели бы перед собой полное опровержение Антиоха. Как бы то ни было, следует также обратить внимание на то, что Прехтер, вероятно, совершает ошибку, используя De dogm. II 2 Апулея, когда берется прояснить понятие οικείωσις и его ступени и не отдает себе отчета в том, что перед нами перевод Девятого письма Платона, 358а {Praechter К. Zum Platoniker Gaios // Hermes. 1916. LI. S. 510—529).
...et ilium quidem qui natura imbutus est ad sequendum bonum, non modo [sibi intimatum] <sibimet ipsi natum> putat sed omnibus etiam hominibus, nec pari aut simili modo verum [etiam unumquemque acceptum], <civitati unumquemque assertum> esse, dehinc proximis et mox ceteris qui familiari usu vel notitia iunguntur.
άλλα κάκεΐνο δει σε ένθυμεΐσθαι, ότι έκαστος ημών ούχ αύτω μόνον γέγονεν, άλλα τής γενέσεως ήμών τό μέν τι ή πατρίς μερίζεται, τό δέ τι οί γεννησαντες τό δέ οί λοιποί φίλοι.
Подлинность «О Платоне и его учении» Апулея вне подозрений, хотя в данном контексте это несущественно, поскольку нет причины полагать, что это сочинение предшествует Плотину.
ПОЗДНЯЯ АКАДЕМИЯ И ПЛАТОНИЗМ
123
Правда, если Альбин только еще очерчивает контуры триады душа—ум—бог, у Апулея мы встречаем нечто большее. Введя триаду бог—идеи—материя (I 5), он принимается рассматривать другую, а именно deus primus—mens formaeque—anima (I 6). Складывается впечатление, что перед нами плотиновская триада, и вот почему. Обозначая средний член этой триады как mens formaeque, Апулей дает нам повод думать, что формы, то есть идеи или умопостигаемые сущности, напрямую соотносятся не с первым, а, скорее, со вторым первоначалом. В самом деле, формулировка Апулея звучит как предвосхищение будущего выражения Плотина, согласно которому идеи (формы) не существуют вне ума. Именуя первое из трех первоначал первым богом, он подводит нас к мысли, что понятие второго бога следует отнести к уму.
Более того, Апулей называет указанные первоначала тремя частями сферы умопостигаемого. Плотин принимает это за образец: он начинает с платоновского дуализма intelligibilia—sensibilia,* а затем подразделяет первое на три высших первоначала.1
Что касается проблемы интерпретации выражения «он возник», Апулей довольно неожиданно заявляет, что мы можем найти у Платона оба учения — и о том, что космос вечен, и о том, что он возник. Впрочем, по его словам, последнее учение означает только то, что космос состоит из не-вечных элементов (I 8). Вопреки этому, Апулей далее утверждает, что космос не подвержен гибели, потому что бог не дает ему погибнуть, что, вообще говоря, подразумевает начало космоса во времени. В целом этот фрагмент еще раз демонстрирует, что по данному вопросу между платониками имелись весьма серьезные разногласия.1 2 Однако наибольший интерес представляет здесь еще один обнаруженный нами способ объяснения словосочетания «он возник», выражающий вневременной характер космогонического процесса.
«О Платоне и его учении» (гл. 6—20) заключает в себе демонологию Апулея. Дабы объяснить природу демонов, Апулей цитирует экзотерические сочинения Аристотеля,3 считая его автором учения о том, что демоны обитают в воздухе, но не в том воздухе, который нам знаком и который населяют птицы, а в «чистом» воздухе. Это учение на удивление сходно и одновременно
1 Ср.: Merlan Р. Monopsychism, Mysticism, Metaconsciousness. R 69 f.
2 О сомнениях самого Альбина см.: Zeller Е. Die Philosophic der Griechen. Bd. III/1. S. 844. О его ученике Галене см. выше, с. 97, прим. 2.
3 Fr. 19 Rose.
* Умопостигаемое—чувственно воспринимаемое {лат.). — Примеч. перев.
124
ГРЕЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ ОТ ПЛАТОНА ДО ПЛОТИНА
отлично от изложенного в трактате «О происхождении животных» Аристотеля.1 У Апулея и в «О происхождении животных» мы встречаем один и тот же аргумент: если три элемента населены живыми существами, а именно растениями, рыбами и «имеющими ноги» животными (включая птиц), то невозможно предположить, чтобы четвертый был их лишен. Однако у Аристотеля четвертому виду живых существ отводится огонь, а не воздух, поскольку три остальных элемента уже заняты, хотя, как мы уже убедились, это «чистый» лунный огонь, отличный от известного нам огня. Апулей распределяет живые существа иначе: очевидно, что вода достается рыбам, земля — «имеющим ноги» животным, огонь — светлячкам и им подобным.1 2 Таким образом, у него остается только воздух, и он различает два вида воздуха, подобно тому как Аристотель различил два вида огня. А что же с эфиром? Согласно Аристотелю, эфир есть обитель звезд.3 И хотя Аристотель в действительности ни разу не сказал о лунных животных, что они являются демонами,4 трудно не прийти к заключению, что он имел в виду именно это, и, скорее всего, Апулей так его и истолковал.
В остальном демонология Апулея сходна с демонологией Ксенократа. Существует три класса демонов: неизменно бестелесные, к которым принадлежал демон Сократа, души умерших и душа в нас. В этом контексте еще раз цитируется Аристотель, утверждающий, что каждый может «видеть» своего демона (духа- хранителя).5 Апулей явно отказывается считать злыми демонов первого вида, которые сопровождают человека туда, где после смерти над ним свершится суд. Во всех указанных отношениях учение Апулея очень близко демонологии Плотина.
Непреложным существование демонов делает теология, поскольку, согласно учению Апулея, верховный бог и все остальные боги абсолютно трансцендентны и никакая связь между ними и человеком невозможна. Таким образом, наши молитвы в действительности восходят к демонам. Заслуживает упоминания и то,
1 III 11, 761Ы4—23 (см. выше, с. 81, прим. 3).
2 Не следует забывать, что Аристотель (De gen. anim. II 3, 737а 1; ср.: De gen. et corr. II 3, 330b29; Meteor. IV 4, 382a7) отрицал, что кто-либо из животных мог бы жить в огне, тогда как в «Истории животных» (V 19, 552Ы0—15) он утверждал обратное.
3 У Апулея — обитель видимых богов (Fr. 23 Rose), см.: De deo Socr. 2.
4 Ср. выше, с. 81, прим. 3.
5 Не стоит забывать о том, что, по утверждению Апулея, это он первым перевел δαίμων на латынь как genius, если речь идет о душе человека, и словами Lar, Lemur, Larva, Manes, когда подразумеваются души умерших (De deo Socr. 15).
ПОЗДНЯЯ АКАДЕМИЯ И ПЛАТОНИЗМ
125
что, описывая верховного и невыразимого бога, Апулей говорит о нем как о лишенном не только nexus patiendi,* что отражает платоновское воззрение, но и nexus gerendi.1** Бог Апулея почти тождествен первому бездействующему богу Нумения, и его следует отличать от демиурга. В этом смысле кажется, что бог «О Платоне и его учении» не имеет ни малейшего сходства с богом «О божестве Сократа». С другой стороны, этот верховный бездействующий бог не имеет ничего общего и с аристотелевским неподвижным движителем, поскольку Апулей решительно подчеркивает, что никто из богов — ни верховный бог, ни невидимые, ни видимые боги, или звезды, — не подвержены ни боли, ни наслаждению, тогда как аристотелевский бог наслаждается непрерывным hedone. Плотин согласен с этим взглядом Апулея.1 2
Г. Аттик
Тогда как Альбин и Апулей осуществляют почти полное сращение учений Платона и Аристотеля, Аттик3 достигает обратной крайности. Он решительно возражает платоникам, которые считают, что аристотелевские воззрения полезны в преподавании платонизма. Он не только не приемлет никакого эклектизма или синкретизма, но и возражает против того, что в более позднем платонизме станет общим местом, а именно против обращения с философией Аристотеля как со своего рода введением в философию Платона. Согласно Аттику, взгляды Аристотеля противоречат платоновским и являются ложными.
Опираясь на Евсевия, изложим несколько аспектов учения Аттика.4 По его мнению, средоточием философии Платона является «психология». На учении о природе и особенно о бессмертии
1 De deo Socr. 3.
2 Enn. V 6 [24] 6. Если автором так называемой Третьей книги «О Платоне и его учении» является Апулей, то это означает, что он ничуть не меньше, чем Альбин, чувствовал необходимость изобразить аристотелевскую логику как платоническую.
3 См. выше, с. 115.
4 Поскольку собрание фрагментов Аттика, составленное Ж. Бодри (1931), как нам представляется, книга редкая, мы будем цитировать их непосредственно из источников: Eus. РЕ XI 1—2 (PG 21. 845—847); XV 4—9; 11—13 (PG 21. 1303—1332; 1335—1342) и Proclus. In Tim. (см. индекс s. v.).
* Поддерживающей связи {лат.). — Примеч. перев.
** Порождающей связи {лат.). — Примеч. перев.
126
ГРЕЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ ОТ ПЛАТОНА ДО ПЛОТИНА
души держатся этика и эпистемология (учение о припоминании). Что же касается мировой души, то она «главенствует» над универсумом.
Ни к одному из этих учений философским воззрениям Аристотеля прибавить нечего. Во-первых, его учение о душе (очевидно, Аттик имеет в виду учение об энтелехии1) лишает душу свойств субстанциальности и бестелесности. В итоге Аристотель отрицает даже и то, что мышление, воление и припоминание являются «движениями» души, но считает их действиями человека, а душу — неподвижной; и Дикеарх, покончивший с душой как с самостоятельной сущностью, всего лишь сделал верные заключения из сказанного.2
Безусловно, поскольку Аристотель фактически отрицает существование души, искать в нем сторонника платоновского учения о бессмертии бессмысленно. Но без учения о бессмертии этика теряет прочность.
Что же касается мировой души, то, по утверждению Платона, она всем «правит». Иными словами, он отождествляет physis и psyche, так что для него выражения kata physin* * и kata pronoian** имеют одно и то же значение. Учение Аристотеля совершенно иное. Он полагает, что сферой небесных тел управляет heimar- шепё,*** подлунным миром — physis, миром человека — phrone- sis, pronoia и psyche. Но если все три сферы управляются разными первоначалами, как быть с единством универсума?
Аристотель, правда, выводит все kinesis из одного первоначала, но при этом отрицает, что этим первоначалом является душа, вопреки утверждению Платона. Что в таком случае позволяет ему говорить, что природа ничего не делает напрасно?
Кто-то мог бы заявить, что, хотя Аристотель и отказывает душе в бессмертии, он наделяет им nous и в этом смысле выказывает себя сторонником платонизма. Однако, возражает Аттик, Аристотель оставляет природу nous совершенно непроясненной.
1 Евсевий прерывает цитату из Аттика, чтобы вставить (XV 10) фрагмент из Плотина (об этом еще будет сказано) и «Против Боэта» Порфирия (XV 11). Я полагаю, что фрагмент из Порфирия ограничивается первыми тремя параграфами из XV 11, а словами τά μέν οΰν άλλα исчерпывается заимствование из Аттика. Выражение «стыдно определять душу как энтелехию» не соответствует стилю Порфирия, но вполне — стилю Аттика.
2 РЕ XV 9.
* По природе (др.-греч.). —Примеч. перев.
** По промышлению {др.-греч.). —Примеч. перев.
*** Рок, судьба {др.-греч.). — Примеч. перев.
ПОЗДНЯЯ АКАДЕМИЯ И ПЛАТОНИЗМ
127
Не сообщает он и того, откуда nous взялся и ради чего существует. Так или иначе, он не согласен с Платоном, который утверждает, что nous не может существовать независимо от души.
Сходным образом Аттик критикует аристотелевскую «теологию». Она, как оказывается, даже хуже теологии Эпикура, который по крайней мере понимал, что если бы боги делили мир с людьми, то они не могли бы, обладая провидением, не вмешиваться в людские дела, отчего он и отправил их в intermundia.* Но каков характер богов Аристотеля, если они, будучи некоторым образом связаны с космосом, не обращают на него ни малейшего внимания? Его учение есть то, чем многие считают воззрения Эпикура, — скрытый атеизм.
Отрицание бессмертия души, уклоняющийся от дел бог, отсутствие единой pronoia — неудивительно, что этические воззрения Аристотеля совершенно ошибочны. В отличие от Платона, он не признает, что упражнения в добродетели достаточно для счастья, но утверждает, что свою непреложную лепту должна внести удача. Если Платоново «наиболее счастлив справедливейший» возвышает душу до божественного, то ожидать подобного от аристотелевских моральных учений не следует. Три его этики слабы и заурядны в понимании добродетели души.
Прервем на мгновение наше изложение рассказа Евсевия об Аттике. Примечательно, что, рассмотрев возражения последнего относительно психологии Аристотеля, Евсевий принимается цитировать Плотина.1 Безусловно, Евсевий верно уловил сходство во взглядах Аттика и Плотина, которое выражается в том числе в настойчивом утверждении Аттика, что не человек, но сама душа мыслит, желает и так далее. Этот вопрос чрезвычайно важен в связи с вопросом о бессмертии, поскольку если мыслит не душа, то непонятно, что происходит с мышлением после того, как душа отделяется от тела. Плотина особенно интересовала проблема памяти.1 2 Он приходит к выводу, что память является деятельностью души и поэтому душа каким-то образом помнит и после смерти. Вполне очевидно, что аристотелевскому учению о nous, как уже упоминалось,3 здесь нет места. Это поистине животрепещущая тема во втором столетии, и, конечно, Плотин солидарен с Аттиком
1 Enn. IV 7 [2] 8, 1—50.
2 Enn. IV 3—4 [27—28].
3 См. выше, с. 94.
* Междумирие {лат.). — Примеч. перев.
128
ГРЕЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ ОТ ПЛАТОНА ДО ПЛОТИНА
в отношении самодостаточности внутренней добродетели для счастья.1
Разногласия Аттика с этикой и теологией Аристотеля продолжаются в области физики. Он отвергает аристотелевское учение об эфире (судя по тому, как Стагирит описывает его свойства, можно было бы ожидать, что он назовет эфир бестелесным телом),1 2 согласно которому эфир обладает качествами, приписываемыми Платоном невещественному (вечность, божественность), что, конечно, невозможно.3 И Плотин в этом отношении согласен с Аттиком.4
Кроме того, если Платон отводит небесным телам только общую неизменность (они «испускают» пары и «получают» их обратно в равном объеме), то Аристотель считает их неизменными в их индивидуальности.5 Наконец, Платон различает произвольные и непроизвольные движения звезд и, в частности, приписывает звездам круговое движение, причиненное их собственными душами, Аристотель же пытается объяснить круговое движение исходя из качеств эфира.6
Пожалуй, из философских воззрений Аттика наиболее известно его настойчивое утверждение, будто всем говорящим по-гречески должно быть очевидно, что Платон приписывал универсуму временное начало. Аттик обвиняет своих товарищей- платоников в чрезмерном увлечении аристотелевской критикой. Это из-за нее они вслед за Аристотелем принялись доказывать, что Платон не верил во временное начало космоса, а лишь didaskalias charin* облек в наряд последовательного повествования вневре¬
1 Enn. I 4 [46] 4, 23.
2 Ср. выше, с. 90, прим. 2.
3 Сочинение, автором которого в настоящее время принято считать псевдо- Юстина (несмотря на Phot. Bibl. cod. 125: ‘Ανατροπή δογμάτων τινών Αριστοτελικών), содержит здравую и хорошо аргументированную критику учения Аристотеля об эфире. Поскольку перевод этого сочинения под заглавием «Eversio falsorum Aristotelis dogmatum, authore D. Justino martyre» (Paris, 1552) был осуществлен не кем иным, как Уильямом Постелом, оно должно было иметь значительное влияние. Мы видим, насколько противоречивым было это учение (PG 6. 1489—1564, особенно 1539). См. ниже, с. 167—170. Обзор авторов, имевших дело с понятием эфира, можно найти в: Sachs Е. Die fiinf platonischen Korper. Berlin, 1917. S. 15—22, 60—69; ср. также: Luck G. Der Akademiker Antiochos. S. 40; Moraux P. Quinta essentia.
4 Enn. II 2 [14].
5 Cp.: Enn. II 1 [40] 1—2.
6 PE XV 7. 8; cp.: Enn. II 1 [40] 3.
* В учебных целях (др.-греч.). — Примеч. перев.
ПОЗДНЯЯ АКАДЕМИЯ И ПЛАТОНИЗМ
129
менное отношение. Аристотелевская критика, конечно, основывалась на том, что если космос возник во времени, то он должен по необходимости также и исчезнуть, что есть нечестивый вздор. Поэтому Аттик отрицает исходную посылку: не все, что возникло во времени, погибает; позволительно даже сказать, что космос не погибнет, поскольку такова воля демиурга.
Довольно о Евсевии. Еще одним источником наших сведений о воззрениях Аттика является комментарий Прокла к «Тимею». Прокл не только подтверждает справедливость предпринятого Евсевием изложения взглядов Аттика, но и добавляет немало интересных деталей.
Как Аттик объясняет происхождение космоса?
В его представлении демиург предстает предсуществующей материи, находящейся в состоянии постоянного хаотического движения по причине активности «неупорядоченной», то есть злой, души. Иными словами, atheos hyle* * и anylos theos** встречаются, и демиург наделяет материю формами (идеями), а злую душу умом (nous), благодаря чему она становится psyche logike.*** А поскольку еще до создания космоса материя находилась в движении, то существовало и время.
Это учение о единовременности Аттик использует для объяснения знаменитого положения, которое многократно и самыми разнообразными способами разъяснял Плотин. Согласно этому положению, демиург сформировал душу из «делимого» и «неделимого», первое из которых есть злая душа, а второе — божественный ум.
Самого демиурга Аттик отождествляет с благом (благим). Он утверждает, что демиург непрестанно созерцает идеи, согласно которым он создавал космос, и отдельно подчеркивает (в противовес Антиоху?), что при этом он пребывает вне царства умопостигаемых сущностей.7
Одна деталь заслуживает особого упоминания. Согласно Аттику, когда демиург создает душу, он пользуется двумя чашами для смешивания. Прокл удивляется такой интерпретации. В остальном, говорит он, Аттик близок к тексту «Тимея», но где он раздобыл вторую чашу?8
7 Идей {Proclus. In Tim. I 305, 6; 366, 9; 391, 7; 394, 6; 431, 14 Diehl).
8 In Tim. Ill 246—247 Diehl.
* Безбожная материя (др.-греч.). — Примеч. перев.
** Нематериальный бог {др.-греч.). — Примеч. перев.
*** Разумная душа {др.-греч.). — Примеч. перев.
130
ГРЕЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ ОТ ПЛАТОНА ДО ПЛОТИНА
Безусловно, многое из Аттикового прочтения неприемлемо для Плотина, например, что космос не возник во времени и что Аристотель неверно истолковал Платона, и тем удивительнее находить у Плотина следы мнения о существовании двух чаш.1 Трудно не заключить отсюда, что в своих ранних сочинениях Плотин находился под влиянием Аттиковой интерпретации учения Платона.
Итак, если имеются две чаши для смешивания, то что смешивается в каждой из них? Мы могли бы, пожалуй, ожидать, что смешиваются мировая душа и души индивидуальные, однако Аттик утверждает другое. То, что замешивается в первой чаше, есть auto psyche. Похоже, Аттик отличал то, что мы называем душевным (psychical), от мировой души и индивидуальных душ, подразумевая, что мировая душа в сравнении с душевным есть душа индивидуальная. И в самом деле, у Плотина нередки следы подобного прочтения: все души произрастают от одной и той же души, от которой ведет начало и мировая душа.1 2
Сколь бы разительно ни отличался Платон Альбина и Апулея от Платона Аттика, их объединяет несходство с Платоном Аристотеля. За исключением того, что Альбин, хотя и колеблясь, помещал математику между теологией и физикой, а также отождествлял математическое с душой, ни у одного из трех мыслителей мы не находим и тени учения о двух противоположных первоначалах, как не видим мы и выведения из них последовательности сфер сущего. Но даже эти исключения выражены очень слабо. И если мы были правы в своем предположении о том, что Антиох не нашел применения аристотелевскому истолкованию Платона, то теперь мы можем сказать, что Альбин и Апулей в этом смысле были ближе к нему, чем, например, Евдор. Что же касается Плотина, он гораздо лучше знаком с учением о двух противоположных первоначалах и, как уже отмечалось, пытался включить его в свою систему. Важность горизонтального троичного деления для него очевидна, особенно после ясно выраженного Посидонием тождества души и математического. В самом деле, Плотин, вопреки Аристотелю, отстаивает существование идей-чисел,3 до некоторой степени предвосхищая тем самым взгляды Сириана и Прокла.
1 См.: Enn. IV 8 [6] 4, 35—39, тогда как в IV 3 [27] 7, 10 существует только одна чаша для смешивания.
2 Например, Enn. IV 3 [27] 8, 2—3.
3 Enn. VI 6 [34].
ПОЗДНЯЯ АКАДЕМИЯ И ПЛАТОНИЗМ
131
Какова позиция Плотина в этом споре о совместимости Аристотеля и Платона? С некоторым упрощением мы могли бы сказать, что Плотин видит Аристотеля звеном той же цепи, к которой принадлежит он сам: Ферекид, Пифагор, Эмпедокл, Гераклит, Платон.1 Однако по существу он перенимает от Аристотеля только его ноэтику, хотя и этого немало, поскольку на ней строится вся структура второй ипостаси. И все-таки это лишь частичное заимствование, поскольку даже в том, что касается ноэтики, Плотин осуждает Аристотеля за то, что тот считает ум высшим первоначалом, вводит множество неподвижных двигателей в сферу умопостигаемого и тому подобное.1 2 Во многих отношениях он либо полностью отрицает воззрения Аристотеля (например, его понятие энтелехии), либо отводит им второстепенное место (так обстоит дело с логикой, которая для него стоит на ступень ниже платоновской диалектики, и с учением о категориях, которое, по его мнению, действительно только для чувственно воспринимаемого мира).
Д. Другие платоники II века и. э. Итоги
По всей вероятности, ко второму столетию относится Север,3 интересующий нас тем, что он в числе прочих отождествлял душу и математическое.4 Неделимое и делимое из диалога «Тимей» он интерпретировал как геометрическую точку и протяженность,5 заменив тем самым найденное Ксенократом «арифметическое» определение души «геометрическим». В этом отношении его предшественником был Спевсипп,6 а также один из источников Диогена Лаэртского (III 67)7 — впрочем, последний, возможно, был как раз его последователем. Заслуживает внимания и учение
1 Enn. V 1 [10] 8.
2 Enn. V 1 [10] 9.
3 О нем см.: Praechter К. Severos // RE. 1923. IIА/2.
4 Как и источник Диогена Лаэртского (Diog. Laert. Ill 67): согласно Платону, душа имеет арифметическое начало, а тело — геометрическое. Правда, далее Диоген определяет душу как ιδέα του πάντη διεστώτος πνεύματος, при этом последнее слово явным образом является его глоссой, а все определение в целом — фрагментом из источника, отличного от цитируемого им в предыдущем предложении.
5 Iambi ар. Stob. Eel. I. S. 364, 2 Wachsmuth; Proclus. In Tim. II 152, 27; 153, 21 Diehl.
6 См. выше, c. 64.
7 См. выше, прим. 4.
132
ГРЕЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ ОТ ПЛАТОНА ДО ПЛОТИНА
Севера о том, что, хотя космос не имеет начала во времени, он тем не менее периодически разрушается и отстраивается заново.1 Иными словами, используя диалог «Политик»,1 2 Север пытался примирить интерпретации «Тимея», данные, с одной стороны, Аристотелем, с другой — ранними платониками.3 В споре об идеях индивидуумов Плотин разделяет представление Севера о периодическом разрушении.4
Несколько в ином контексте Север возражал против учения о том, что человеческая душа состоит из преходящей и непреходящей частей. Это, говорил он, лишило бы душу бессмертия.5 Мы не знаем наверняка, как ему удалось согласовать свое возражение с недвусмысленным утверждением из «Тимея», нам известно лишь, что Плотин также обнаруживал трудность в объяснении того, что именно в душе не подвержено тлению.6
Наконец, Север, по-видимому, стремился выработать свой вариант категорий, полагая, что существует одна высшая категория — категория «нечто», которой подчиняются категории бытия и становления.7 Здесь очевидно влияние стоиков, а также намерение, во-первых, преодолеть учение о двух противоположных первоначалах, а во-вторых, связать учение о категориях с онтологией, вместо того чтобы обращаться с ним как с сугубо формальной дисциплиной.
Эта попытка переформулировать учение Аристотеля о категориях еще раз указывает нам на то, предметом сколь острой полемики оно выступало. В дальнейшем мы еще будем говорить о таких критиках Аристотеля, как Андроник и Евдор, а также о Никострате,8 который отрицал ровно то, что утверждал Север, а именно, что сферы умопостигаемого и чувственного можно отнести к одному виду. Плотин еще разделяет это антиаристотелев- ское настроение, но вслед за Порфирием большинство платоников решилось принять учение Аристотеля о категориях и сделать его вспомогательным для изучения Платона. Для Плотина вариант
1 Proclus. In Tim. I 289, 7; II 95, 27 Diehl.
2 См. выше, c. 73, прим. 2.
3 В остальных вопросах он также принимал аристотелевскую интерпретацию Платона: Syrianus. In Met. 84, 23 Kroll.
4 Enn. V 7 [18].
5Eus. PE XIII 17.
6 Enn. I 1 [53] 12; однако cp. IV 7 [2] 13—14.
7 Proclus. In Tim. I 227, 15 Diehl.
8 Simpl. In Cat. 1, 19; 73, 15; 76, 14 Kalbfleisch; Praechter K. Nikostratos der Platoniker//Hermes. 1922. LVII. S. 481—517.
ПОЗДНЯЯ АКАДЕМИЯ И ПЛАТОНИЗМ
133
монизма Севера, вне всякого сомнения, неприемлем,1 а его собственная позиция близка воззрениям Никострата.
Учения других платоников первых двух столетий от Рождества Христова весьма разнообразны. Теон из Смирны (I век н. э.) известен нам главным образом как математик,1 2 однако у него мы находим различение Единого на высшее и низшее. Он также сообщает нам, что для осуществления этого различения использовались понятия «единицы» и «монады», причем и одно, и другое понятие прилагались как к высшему Единому, так и к низшему различными философами.3 В этом контексте Теон цитирует диалог «Филеб» (15а) и отождествляет высшее Единое с определенным и пределом, тогда как низших Единых он предполагает бесчисленное множество.4 По-видимому, таким способом различения он обязан Модерату.5
Платонизм Цельса (II век н. э.) целиком подчинен его анти- иудейской и антихристианской полемике. Его учение о боге в целом очень близко учению Альбина, однако он, в отличие от последнего, гораздо решительнее помещает верховного бога над умом, тем самым непосредственно предвосхищая Плотина.6 Цельс от¬
1 Enn. VI 1 [42] 1—2; ср. II 6 [17].
2 Теон сопоставлял пять последовательных ступеней в учении Платона (математические дисциплины / логика, политика (то есть, конечно, этика), физика / изучение идей / способность наставлять других / становление богоподобным) с пятью шагами инициации в мистическую религию (очищение / τελετής παράδοσις / έποπτεία / τέλος τής έποπτείας / εύδαιμονία (таинство посвящения / созерцание / цель созерцания / блаженство)). Существует едва заметное сходство между этими пятью ступенями и пятью ступенями, предложенными Альбином для изучения Платона в «Изагоге» (гл. 6). Возникает вопрос, не коренятся ли эти поступенчатые деления в желании внести в сочинения Платона какой-либо более совершенный порядок, чем биографический порядок Деркиллида и Трасилла (см. «Изагог», гл. 4), не уступающий систематическому порядку издания Аристотеля, предпринятого Андроником, который, как известно, сгруппировал разрозненные πραγματεΐαι (сочинения) по темам (Porph. Vita Plotini 24). О сравнении философии с мистериями см.: Воуапсе R Sur les mysteres d’Eleusis // Revue des Etudes grecques. 1961. LXXV. P. 460^173.
3 Expos. S. 19, 12—21, 19 Hiller.
4 Ibid. S. 21 f., 18 f. Hiller.
5 Об использовании Теоном перипатетических и пифагорейских учений см.: Zeller Е. Die Philosophic der Griechen. Bd. III/1. S. 840 f.; Bd. III/2. S. 228.
6 Его оппонент Ориген соглашается. Он говорит: νουν τοίνυν, ή έπέκεινα νοΰ και ουσίας, λέγοντες είναι άπλοΰν, και άόρατον, καί άσώματον τον των όλων θεόν (Contra Celsum VII 38), тогда как Цельс сказал: όπερ έν τοΐς όρατοΐς ήλιος... τούτο έν τοΐς νοητοΐς έκεΐνος, όσπερ ούτε νους, ούτε νόησις, ούτ’ έπιστήμη, άλλα νω τε τού νοεΐν αίτιος... καί αυτή ουσία τού είναι- πάντων έπέκεινα ών, άρρήτω τινί δυνάμει νοητός (VII 45); и ουδέ ουσίας μετέχει ό θεός (VI 64). К настоящему моменту
134
ГРЕЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ ОТ ПЛАТОНА ДО ПЛОТИНА
личается от Альбина еще и тем, что описывает материю в качестве источника зла,1 а также использует понятие народных демонов. Он был первым последователем Платона, резко воспротивившимся христианству и увлекшим за собой по крайней мере одно крыло платоников, к которому принадлежал и Плотин. Его аргумент в пользу политеизма (истинное благочестие почитает божественное во всей полноте его множественности) вновь зазвучит у Плотина.* 1 2
Отличается своеобразием и учение Максима Тирского (ок. 180 г. н. э.), гораздо в большей степени оратора, чем философа, позволяющее потому судить о том, какие философские идеи приобрели широкую известность. Одна из его речей носит название «Бог по Платону», однако, описывая этого бога (он настолько возвышен, что необходимы вторичные боги и демоны), Максим на удивление широко пользуется аристотелевской ноэтикой, употребляя даже такие технические термины, как активный и потенциальный умы, и не забывая упомянуть, что первый действует непрерывно.3 Объясняя природу зла (причина которого в материи, а значит, и в psyches exousia), он подчеркивает, что благо должно было быть сотворено (Or. XLI 4), — аргумент, который мы также находим у стоиков4 и у Плотина.5
Мы уже говорили о том, что, по-видимому, после распада Древней Академии учение о двух противоположных первоначалах оказалось вне поля внимания платоников, хотя и не было забыто совсем. Непохоже, чтобы этим учением интересовался Антиох, а вот Евдор из Александрии (ок. 25 г. до н. э.) определенно испытывал к нему интерес.6 Анализируя высказывание Аристотеля, в котором он приписывает Платону учение о том, что Единое «является причиной» идей, а эти идеи «являются причиной» всех остальных вещей,7 Евдор исправляет (или, что
должно было, пожалуй, стать очевидным, что возвышение верховного бога над умом и сопутствующее ему учение о том, что он достижим только благодаря некоторому надрациональному акту, было довольно широко распространено ко времени Плотина. О Цельсе см.: Merlan R Celsus // RAC. 1954; Andersen С. Celsus // RGG. 1957.
1 Orig. Contra Celsum IV 65.
2 Enn. II 9 [33] 9.
3 Or. XVII 8.
4 SVF II 1169.
5 Enn. Ill 3 [48] 7, 2.
6 О нем см.: Dorrie H. Der Platoniker Eudorus von Alexandria 11 Hermes. 1944. LXXIX. S. 25—39. Как бы то ни было, мы не можем быть уверены, что он был учеником Антиоха.
7 Met. А 6, 988а10—11.
ПОЗДНЯЯ АКАДЕМИЯ И ПЛАТОНИЗМ
135
представляется более правдоподобным, искажает) текст следующим образом: Единое «является причиной» всех вещей, включая даже материю, о чем знают посвященные.1 Он также различает первое и второе Единое.1 2 Как выведение материи из Единого, так и различение двух его родов проложило путь монизму Плотина. Таким образом, в лице Евдора платонизм в очередной раз начинает сливаться с пифагореизмом.3 Еще более характерным является то, что Евдор не только составил замечания к «Тимею» (возможно, даже написал комментарий к нему),4 но и комментировал сочинения Аристотеля.5 Впрочем, это еще не делает его последователем Аристотеля, поскольку учение последнего о категориях он критиковал.6 По-видимому, рано началось влияние Андроника.7
Евдор важен для истории неоплатонизма еще в одном отношении. В своем исследовании этических систем8 он приписал Платону учение о том, что цель философии состоит в уподоблении богам,9 и эта формула была принята буквально всеми платониками, включая Плотина.10 11Другие платоники, имеющие воззрения, сходные со взглядами Альбина, таковы: анонимный автор комментария к «Теэтету»11 (он оспаривает учение стоиков о том, что индивидуальная и общественная этика могут быть выведены из принципа oikeiosis, и, напротив, отстаивает формулу homoiosis theoi) и Диоген Лаэртский (III 41; здесь нет и следа учения о двух противоположных перво¬
1 Alex. In Met. 59, 1 Hayduck.
2 Simpl. In Phys. 181, 10 Diels.
3 О влиянии на него стоиков см.: Pohlenz М. Die Stoa. Bd. I. S. 357.
4 Plut. De an. pr. 3, 1013b; 16, 1019e; 1020c. В нем он пытался примирить литературное и «дидактическое» толкования выражения «он возник»: Zeller Е. Die Philosophic der Griechen. Bd. III/1. S. 612, η. 1.
5 Alex. In Met. 59, 7 Hayduck; Simpl. In Cat. 159, 32 Kalbfleisch.
6 Simpl. In Phys. 187, 10 Diehls; cp.: Praechter K. Nikostratos der Platoniker. S. 481—517, особенно 510.
7 См. ниже, c. 171.
8 Stob. Eel. II 7. Vol. II. S. 42, 7—57, 12 Wachsmuth; cp.: Zeller E. Op. cit. S. 634, n. 3.
9 Cp.: Theaet. 176b.
10 Enn. I 2 [19]. Cp.: Harder R. Ad loc. Согласно Тайлеру (Op. cit. P. 53), эта формула восходит к Антиоху. Однако с этим трудно согласиться, поскольку Антиох основывал этику на принципе жизни согласно природе.
11 Anonymer Kommentar zu Platons Theatet / hrsg. von H. Diels, W. Schubart. Berlin, 1905.
136
ГРЕЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ ОТ ПЛАТОНА ДО ПЛОТИНА
началах, хотя в III 74 мы обнаруживаем разделение сущего на относительное и безотносительное).
Таким образом, к концу второго столетия нашей эры мы имеем разнообразие платонических учений, наиболее выдающиеся из которых следующие:
1) Платонизм Аристотеля и Древней Академии (акцент на двух противоположных первоначалах и горизонтальном троичном делении сущего: идеи, математическое = душа, физическое; попытки преодолеть дуализм, в частности путем помещения высшего Единого, не имеющего противоположности, над низшим, имеющим противоположность; отождествление среднего звена триады либо с душой, либо с математическими сущностями). После исчезновения этой формы платонизма из Академии его единственным представителем был, вероятно, Евдор.
2) Синкретическая система Антиоха, совмещающая в себе учение Платона (каким оно предстает в его диалогах, не имея почти ничего общего с аристотелевским вариантом платонизма) с учением стоиков и, пожалуй, с некоторыми воззрениями Аристотеля.
3) Синкретическая система Альбина и Апулея, основанная на смешении взглядов Платона, изложенных в его диалогах, с учением Aristoteles esotericus, главным образом с его логикой и ноэтикой.1
4) Несинкретическая система Платона, построенная в основном на материале его диалогов, представителями которой являются Аттик и в определенной степени Плутарх. «Несинкретическая» в данном случае означает, что никто не хочет примирять платонизм ни с Аристотелем, ни со стоиками.1 2
Если теперь, имея в виду формы платонизма (3) и (4), мы зададимся вопросом, какие из сочинений Платона или какие части этих сочинений сформировали для них его образ, то выяснится, что политический и апоретический аспекты его диалогов были в значительной степени оттеснены на задний план. И потому неудивительно, что, согласно индексу Брейе, Плотин цитирует только ни¬
1 О влиянии стоиков на Плутарха, Альбина, Апулея и Аттика см.: Pohlenz М. Die Stoa. Bd. I. S. 358 f., 362.
2 Cp.: Ueberweg F, Praechter K. Grundriss. § 70; Witt R. R. Albinus and the History of Middle Platonism. Ch. IX.
ПОЗДНЯЯ АКАДЕМИЯ И ПЛАТОНИЗМ
137
жеследующие сочинения Платона: «Тимей», «Парменид», «Федр», «Пир», «Государство» (главным образом X книгу), «Софист», «Филеб», «Федон», «Алкивиад I», письма, «Законы», «Гиппий меньший», «Теэтет», «Горгий», «Политик», «Послезаконие» (в примерном порядке снижения частоты цитирования), тогда как Швицер добавляет диалоги «Кратил» и «Критий».
Что касается платонического учения (1), то в целом можно сказать, что, поскольку для Плотина наиболее важно трехчастное деление, его попытки сохранить тождество души и математического, сблизить математическое и ум или найти подходящее место в системе для Неопределенной Двоицы приводят к двусмысленным и неудовлетворительным утверждениям. Иногда он называет числом душу,1 иногда ум;1 2 Неопределенной Двоицей или содержащей неопределенность он именует всю сферу ума,3 однако прилагает то же самое понятие и к материи, будь она умопостигаемой или низшей.4
1 Enn. V 1 [10] 5; VI 5 [23] 9.
2V1 [10] 5.
3 V 4 [7] 2.
4 Под наименованием «великое-и-малое» (Enn. II 4 [12] 11, 34), что является только иным названием для Неопределенной Двоицы.
Глава 5
ПИФАГОРЕЙЦЫ1
А. Псевдоэпиграфы
В период между Древней Академией и Евдором мы не знаем ни одного платоника, который интересовался бы учением о двух противоположных первоначалах и сопричастным ему горизонтальным делением, приписываемыми Аристотелем Платону. Плутарху, цитирующему Евдора по другому поводу, известно это учение, но он не уделяет ему достаточного внимания, и все же из этого не следует, что вышеназванное учение было предано забвению вплоть до Евдора. Вернее было бы сказать, что, лишившись приюта в Академии (или будучи задвинутым в какой-то дальний угол), оно нашло пристанище в сочинениях постплатоновских пифагорейцев,1 2 хотя они часто отождествляют два первоначала
1 В качестве эпиграфа к этому разделу подошли бы слова «On ne relegue pas indument les pythagoriciens sans enrichir indument Platon» («Нельзя умалить значения пифагорейцев, не завысив значения Платона»; см.: Воуапсе Р Le dieu cosmique // Revue des Etudes grecques. 1951. LXIV. P. 300—313, особенно p. 303). На место имени Платона мы могли бы поставить имя Плотина. Но, конечно, вопрос о том, сколько в позднем пифагорействе платонизма или сколько в Платоне и Древней Академии пифагореизма, не относится к обсуждаемой нами проблеме. Для изучения различных ответов на эти вопросы см.: Burkert W. Weisheit und Wissenschaft. Ntimberg, 1962. S. 1—9; cp. S. 73.
2 Я говорю о сочинениях пифагорейцев, а не о пифагорейцах, дабы избежать вопроса о подлинности этих сочинений: возможно, они — просто литературная выдумка, ни на что особо не претендующая, или же действительно написаны пифагорейцами и bona fide (по праву) приписываются знаменитым ученикам этой школы. Первого мнения придерживается Буркерт (.Burkert W. Hellenistische Pseudopythagorica // Philologus. 1961. CV. S. 16—43, 226—246; второго — Теслефф (ThesleffH. An Introduction to the Pythagorean Writings of the Hellenistic Period. Abo, 1961). В наши задачи не входит разрешение этого вопроса. Нам достаточно уверенности в том, что эти сочинения возникли до Плотина и считались подлинными.
ПИФАГОРЕЙЦЫ
139
с формой и материей Аристотеля или с активным и пассивным началами стоиков,1 давая волю синкретизму.
Наилучшим для нашей цели будет разделить эти сочинения на три группы.1 2 Первая состоит из псевдоэпиграфов, и в ней нам особенно интересны два имени — псевдо-Архита и псевдо-Бронтина (предполагается, что отрывок из сочинения последнего, впервые процитированный Сирианом, и фрагмент из первого, приведенный Стобеем, принадлежат доплотиновской эпохе).3
Говоря о Бронтине, Сириан уверяет нас, что пифагорейцы были знакомы с учением, согласно которому существует первоначало, превосходящее два других противоположных первоначала. В качестве доказательства он цитирует Филолая, утверждавшего, что бог произвел предел и беспредельное, а также ссылается на Архенета (мы не видим причин изменять это имя на Архита), говорившего о причине до всякой причины, и Бронтина, называвшего эту причину стоящей выше ума и сущего (ousia), которое уступает ей в мощи и достоинстве.4
И немного дальше: Единое и то, что есть благо (благое), по Платону, выше сущего (ousia), то же утверждает и Бронтин, и все представители пифагорейской школы.5
Мы читаем о Бронтине и у псевдо-Александра, согласно которому тот учил, что сущность того, что есть благо, — Единое.6 Вряд ли перед нами нечто иное, чем повторение знаменитого выражения Платона, которым, как говорит Аристоксен, увенчалась его akroasis о благе.7
1 О перипатетических и стоических взглядах в пифагореизме см.: Pohlenz М. Die Stoa. Bd. II. S. 188.
2 Упорядочены Аэтием (I 3, 8 и I 7, 18: Diels Я. Doxographi Graeci. S. 280, 302). В последнем отрывке Неопределенная Двоица отождествляется со злом, так же как у псевдо-Галена (Hist. phil. 35: Diels Я. Op. cit. S. 618), псевдо-Плутарха (De vita Homeri 145. Vol. VII. S. 416 Bemardakis), Плутарха (De Is. et Os. 48, 570f) и так далее. Cp.: Baeumker C. Das Problem der Materie in der griechischen Philosophic. S. 401, n. 3, 5.
3 Я полагаю, что все приводимые здесь воззрения, приписываемые Филолаю, Архиту, Архенету, Бронтину и Калликратиду (см. ниже), появились в псевдоэпиграфах. Однако для нашего обзора несущественно, если какие-либо из них высказывались в подлинных пифагорейских сочинениях.
4 Met. 165, 33—166,6 Kroll.
5 Met. 183, 1—3 Kroll. Об этом и связанных с ним высказываниях см.: Zeller Е. Die Philosophic der Griechen. Bd. 1/1. S. 467—474; Zeller E., Mondolfo R. La filosofia dei greci. Vol. 1/2. Firenze, 1950. P. 460—467.
6 Met. 821, 39 Hayduck.
7 См. выше, c. 70.
140
ГРЕЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ ОТ ПЛАТОНА ДО ПЛОТИНА
Стобей сохранил для нас интересный в данном контексте отрывок из псевдо-Архита. Он начинается с того, что псевдо-Архит в качестве двух противоположных первоначал вводит материю, которую он также называет ousia, и форму (morphe), а затем утверждает, что должно существовать и третье самодвижущее первоначало, которое соединило бы первые два. Таким образом, мы имеем три первоначала, причем это третье, по-видимому, не есть просто ум, но нечто превосходящее его, а именно — то, что мы называем богом.1
Трудно вообразить себе более синкретичное высказывание на столь малом пространстве. Два первоначала — форма и материя — аристотелевские, обозначение последней словом ousia — стоическое, мысль о том, что форма и материя должны быть собраны вместе еще одним первоначалом — снова аристотелевская, именование же этого первоначала превосходящим ум — платоновское (или протоплотиновское), если не сказать также аристотелевское, поскольку в «О молитве» Аристотель говорит: бог — либо ум, либо нечто выше ума,1 2 а в «Евдемовой этике» утверждает, что существует только одно, что превосходит знание и ум, — это бог.3
Предположив, что Сириан, псевдо-Александр (или его источник, и не исключено, что им был сам Александр) и Стобей цитировали доплотиновские псевдоэпиграфы, мы можем сказать, что в некоторых из них утверждалось пифагорейское происхождение учения о двух противоположных первоначалах,4 в других делалась попытка преодолеть двойственность этого учения; и, наконец, в третьих первоначало, лежащее вне противоположностей, описывалось в выражениях, весьма сходных с теми, которые использовал Плотин, говоря о Едином, в частности, что оно превосходит ум. Можно также добавить, что такие первоначала, как предел и беспредельное, которые Аристотель явно приписывал доплатонов- ским пифагорейцам, в этих сочинениях просто отождествлялись с Единым Платона и Неопределенной Двоицей, несмотря на то что последняя, согласно Аристотелю, была нововведением Платона.5 Однажды Аристотель сказал, что Платон заимствовал некоторые из своих фундаментальных воззрений у пифагорейцев, и это, как
1 Eel. I 41. Vol. I. S. 278, 18—281, 3 Wachsmuth.
2 Fr. 49 Rose.
3 VII 2, 1248a27—29.
4 Здесь свою роль сыграло в том числе «пифагорействование» Спевсиппа.
5 Met. I 6, 987Ь25—27.
ПИФАГОРЕЙЦЫ
141
мы видим, открыло возможность приписывать пифагорейцам любое высказывание Платона. К тому же, поскольку Платон решил вложить повествование своего самого известного диалога в уста Тимея (что для всех, хотя автор нигде не обмолвился о пифагореизме своего персонажа, указывало на Тимея Локрского), стало возможным и даже bona fide просто поставить знак равенства между Платоном и пифагорейством, особенно в том, что касается учения о двух противоположных первоначалах.
Заслуживает внимания еще один автор псевдоэпиграфа — псевдо-Калликратид. В отрывке, сбереженном Стобеем, мы вновь встречаемся с учением о двух противоположных первоначалах, переформулированном на новый лад, так что первоначала соответствуют понятиям безотносительного и относительного,1 с чем мы уже встречались у Гермодора.1 2
Б. Анонимы Фотия, Александра,
Секста, etc.
О псевдоэпиграфах нами было сказано достаточно. Вторую группу пифагорейских сочинений представляют анонимы Фотия, Александра Полигистора и Секста Эмпирика. Все они излагают пифагорейское учение, однако нам не известно, основываются ли эти изложения на псевдоэпиграфах или каком-то другом источнике.
Начнем с анонима Фотия.3 У него мы обнаруживаем не только учение о двух противоположных первоначалах и монистическую интерпретацию этих первоначал, возвышающую монаду до уровня высшего первоначала, но и принцип происхождения, в том числе чувственно воспринимаемого (soma) из умопостигаемого. Этот вариант учения о происхождении своеобразен в двух отношениях. Во-первых, он выводит геометрические сущности, которые не суть ни числа, ни математические сущности, из монады; во-вторых, он не считает душу ни причастной к сфере произведенного, ни тождественной геометрической сущности, математической сущности
1 Flor. 70, 101. Vol. IV, 534, 10—536, 5 Hense.
2 Аристотелевское учение о десяти категориях иногда также приписывают псевдо-Архиту (ср.: Zeller Е. Die Philosophic der Griechen. Bd. III/2. S. 119, η. 1; S. 144, n. 2), хотя у него нет ни связи онтологии с категориями, ни редукции десяти категорий к двум (см. выше, с. 85—86).
3 Phot. Bibl. cod. 249.
142
ГРЕЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ ОТ ПЛАТОНА ДО ПЛОТИНА
или числу, хотя, очевидно, различает геометрическую трехмерность и трехмерность того, что называется телом.1
В отношении псевдоэпиграфов мы могли быть вполне уверены, что они предшествовали Плотину, а как быть с анонимом Фотия? Это очень спорный вопрос. Иммиш считал анонимом Агатархида, «читателя» Гераклида Лемба, что позволяло отнести его к II веку до н. э. Это и тот факт, что Гераклид Лемб уже был знаком с псевдопифагорейскими сочинениями, могло бы служить подтверждением тому, что движение, которое называют неопи- фагореизмом, зародилось гораздо раньше, чем принято считать. Однако Иммишу возражает Прехтер, по всей видимости склонный связывать указанного анонима с постплотиновской эпохой.1 2
В данный момент нас не интересует, действительно ли Агатар- хид и аноним — одно лицо, но важно решить, вправе ли мы поместить указанного анонима после Плотина (если Прехтер имел в виду это), и похоже, что в этом отношении аргументация Прехтера не слишком сильна. Однако если аноним Фотия действительно является предшественником Плотина, то нам остается лишь удивляться тому, как легко предплотиновский пифагореизм вобрал в себя Платона и Аристотеля.
От анонима Фотия мы переходим к анониму Александра Полигистора.3 И здесь нас вновь не интересует, какую часть из¬
1 Loc. cit. (PG 103. 1579—1588, особенно 1580 f.). Аноним отождествляет неподвижные двигатели Аристотеля и идеи Платона. Более того, он приписывает обоим философам учение о бессмертии души, хотя и признает, что есть и те, кто отрицает, будто Аристотель верил в него. Почему в таком случае он все же приписывает Аристотелю это учение? В тексте нет ответа, но, очевидно, причины две: либо аноним просто отнес к душе то, что Аристотель приписывал лишь уму, либо он ссылался на какое-то сочинение Aristoteles exotericus. И действительно, довольно трудно предположить, что ему не был знаком тот другой Аристотель, ибо он не только называет Платона девятым в линии преемства от Пифагора, но и считает Аристотеля десятым. Таким образом, если аноним размышлял о теории бессмертия ума Аристотеля, он должен был знать «О душе». Но в «О душе» Аристотель настолько явно выступает противником пифагорейства, так остро высмеивает пифагорейское учение о душе (и ее переселении), что, дабы сделать его пифагорейцем, аноним должен был быть знаком с такими его сочинениями, в которых тот высказывал бы воззрения, совместимые с учением о бессмертии души (и, возможно, даже ее переселении) и несовместимые с «О душе».
2 Immisch О. Agatharchidea. Heidelberg, 1919; Ueberweg К, Praechter К. Grundriss. S. 518, 157. Дополнительные доводы в пользу Иммиша см. в работе: Burkert W. Weisheit und Wissenschaft. S. 49.
3 Diog. Laert. VIII 1. Cp.: Zeller E. Die Philosophic der Griechen. Bd. III/2. S. 103—108. О нем существует масса литературы, но, поскольку она главным образом посвящена вопросу, в какой мере его можно считать предшественником Платона (то есть подлинным пифагорейцем), здесь она нам не интересна.
ПИФАГОРЕЙЦЫ
143
ложенного им пифагорейского учения допустимо отнести к до- стоическому источнику, поскольку сам Александр Полигистор жил в I веке до н. э. и, следовательно, оно, бесспорно, относится к предплотиновской эпохе.
Его интерпретация учения о двух противоположных первоначалах монистична, и он полагает как нечто само собой разумеющееся, что чувственно воспринимаемое производно от математического. Замечательно, что он примешивает к этому материализм стоиков (например, первоначала суть сила и материя; душа есть частица эфира и, подобно эфиру, бессмертна). Как возможно сочетать это с учением о том, что только разумная часть души (phrenes) бессмертна, остается неясным.
Многое из того, с чем мы встретились в анониме Александра, можно найти и в анониме Секста Эмпирика.1 Секст излагает пифагорейское учение в трех местах.1 2 Первое из них является не чем иным, как укороченной версией третьего; второе лишь в малой степени имеет отношение к настоящему исследованию, так что сосредоточим свое внимание на последнем. Из него мы узнаем, что существует две школы пифагорейцев, одна из которых сводит все к двум противоположным первоначалам, Единому и Неопределенной Двоице, а другая утверждает, что все восходит к Единому, «истечение» которого порождает все остальное (в том числе, очевидно, и Неопределенную Двоицу). Общим для обеих школ является то, что как одна, так и другая убеждены: чувственно воспринимаемое неизбежно производно от умопостигаемого (бестелесного), и в сфере умопостигаемого (бестелесного) идеи не являются самым совершенным видом, поскольку всякая идея единична и может объединяться с другими идеями. По этой причине мы вынуждены предположить, что числа выше идей и что, в силу причастности числам, идей может быть одна, две и так далее. Это
1 О высказываниях Секста см.: Zeller Е. Die Philosophic der Griechen. Bd. 1/1. S. 465, 471; Bd. ΙΙΙ/2. S. 148 f.; Merlart P Beitrage zur Geschichte des antiken Platonismus I // Philologus. 1934. LXXXIX. S. 35—53, особенно 37—44; Wilpert R Zwei platonische Fruschriften iiber die Ideenlehre. Regensburg, 1949. S. 125—148, 168—194 (см. рецензию В. Йегера (Gnomon. 1951. Bd. XXIII. S. 246—252, особенно 250 f.; переиздание: Scripta minora. 1960. II. S. 419—428, особенно 424—426)); Burkert W. Weisheit und Wissenschaft. S. 48; Vlastos G. [Review of Kramer H. J. Arete bei Platon und Aristoteles] // Gnomon. 1963. Bd. XXXV. S. 644—648.
2 PH III 152—157; Adv. math. VII 94—109; X 249—284. Верно ли (в какой степени) то, что источником этих сочинений является Посидоний, нет необходимости обсуждать здесь; ср.: Burkert W. Weisheit und Wissenschaft. S. 48—50.
144
ГРЕЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ ОТ ПЛАТОНА ДО ПЛОТИНА
напоминает нам высказывание Плотина о том, что числа должны предшествовать исчислимому.1
Далее, хотя Секст ясно различает две школы, дуалистическую и монистическую, дуалистическая школа также оказывается не чуждой монизму, поскольку Секст приписывает Пифагору утверждение о том, что монада является первоначалом, которое, каким-то образом удваивая себя (в современных терминах мы, пожалуй, могли бы сказать: путем саморефлексии), создает Неопределенную Двоицу (можно видеть, как удвоение порождает Двоицу, но остается неясным, почему эта Двоица должна быть Неопределенной). И тем не менее школа остается дуалистической, поскольку своими учениями о категориях, строго соответствующими Гермодору («Divisiones Aristoteleae») и псевдо-Калликратиду, она доказывает существование во всем двух противоположных первоначал. Все сущее подразделяется на безотносительное, имеющее противоположность и относительное. Роды противоположностей — равное и неравное; роды относительного — избыток и недостаток; неравное, избыток и недостаток принадлежат Неопределенной Двоице, безотносительное и равное — Единому.
Чувственно воспринимаемое является, разумеется, производным от геометрического, и нам уже известно, что эту мысль можно проследить до Древней Академии и даже до самого Платона.1 2
Стоит отметить, что в пифагорейских псевдоэпиграфах и анонимах мы находим широкое многообразие учений о душе, которые prima facie кажутся несовместимыми. Душу считают числом (или другой математической сущностью), состоящей из эфира и бессмертной, составленной из трех частей, одна из которых бессмертна (бессмертная часть Платона либо ум Аристотеля), своего рода гармонией, состоящей из pneuma. Иногда мы встречаем учение о реинкарнации (не слишком часто,3 и, как мы видели, псевдо-Тимей Локрский отказывает душе в каком-либо бессмертии), иногда просто учение о бессмертии, а иногда обнаруживаем тождество души и демона. Мы находим необходимым разъяснить эти противоречия, допустив, например, что понятие «души» имеет несколько различных значений,4 однако, по-видимому, в антич¬
1 Επη. VI 6 [34] 9.
2 См. выше, с. 66.
3 Это учение приписывается Пифагору, например, псевдо-Плутархом (Placita IV 7, 1: Diels Я. Doxographi Graeci. S. 392; De Vita Homeri 125. Vol. VII. S. 399 Bemadakis). Cp.: Burkert W. Weisheit und Wissenschaft. S. 101.
4 Cm.: Guthrie W. К. C. A History of Greek Philosophy. Vol. I. Cambridge, 1962. P.306—319.
ПИФАГОРЕЙЦЫ
145
ности вопрос о согласованности пифагорейского учения вообще не поднимался.1 Похоже, Платон был одним из весьма немногих, кто был убежден, что учение о душе как гармонии несовместимо с верой в ее бессмертие.1 2 Любое учение, согласно которому душа материальна (эфирна или пневматична), Плотин отвергает, но допускает, что после смерти душа населяет сферическое тело, а значит, она никогда не бестелесна полностью.3
В. Модерат и Никомах
Третий класс пифагорейских сочинений (не псевдоэпиграфы и не анонимы) представлен трудами Модерата из Гадеса,4 Никомаха из Герасы (активного ок. 140—150 гг. н. э.) и Нумения из Апамеи (II век н. э.), пифагореизм которых отличается от того, каким его изобразили два других класса.5
Модерат поднимает особенно сложный вопрос. Он вообще являет собой новый тип пифагорейства, который мы бы назвали агрессивным. Ему недостаточно, как когда-то анониму Фотия, просто видеть в Платоне и Аристотеле пифагорейцев. Он утверждает, что эти двое (вместе со Спевсиппом, Ксенократом и Аристоксеном) украли у пифагорейцев все существенные положения и выдали их за свои. Они цитировали некоторые пифагорейские воззрения (скрывая тем самым свое воровство), но лишь поверхностные и легко доступные для понимания. Своими действиями они подвергли пифагорейское учение осмеянию. Этим
1 Считается, что Экфант был первым, кто отождествил числа с телами, а псев- до-Феано, по-видимому, опротестовала этот материализм, настойчиво указывая на то, что Пифагор не говорил, будто все состоит из чисел, но лишь то, что все упорядочено согласно числу Ср.: Zeller Е. Die Philosophic der Griechen. Bd. ΙΙΙ/2. S. 152—155; Stob. Eel. I 10. Vol. I. S. 127, 16—18; S. 125, 19—126, 5 Wachsmuth.
2 Phaedo 86b.
3 Επη. IV 4 [28] 5. Одно из наиболее замечательных высказываний относительно путешествия души по небесным сферам и следующего за этим растяжения ее мы находим у Аристида Квинтилиана (De musica II 17, р. 63, 8—64, 5 Jahn, р. 86, 24—88, 6 Winnington—Ingram). По поводу дискуссионного вопроса, является ли это сочинение пред- или постплотиновским, см.: Festugiere A. J. L’Ame et la Musique d’apres Aristide Quintilien // Transactions and Proceedings of the American Philological Association. 1954. LXXXV. P. 55—78. Ср. ниже, c. 180, прим. 1.
4 I век h. э.; упоминается Плутархом (Qu conv. VIII 7, 727b).
5 Об этом различии и его причине см.: Burkert W Hellenistische Pseudo- pythagorica. S. 16—43, 226—246, особенно S. 235.
146
ГРЕЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ ОТ ПЛАТОНА ДО ПЛОТИНА
объясняется вырождение пифагорейства, а кроме того, тем, что среди авторов сочинений, признанных пифагорейскими, не было пифагорейцев как таковых.1 Модерат, следовательно, видит своей обязанностью приписать все высказывания Платона, Аристотеля, Спевсиппа Пифагору и его «подлинным» ученикам.1 2
Впрочем, есть и другой, гораздо более важный фрагмент, содержащий воззрения Модерата. Его цитирует Симпликий, в свою очередь ссылаясь на Порфирия, и поскольку, читая Симпликия, мы не можем быть до конца уверены, где кончается цитата из Модерата и где начинаются слова Порфирия, совершенно необходимо привести указанный фрагмент целиком.
Похоже, что первыми среди греков, кто придерживался такого мнения о материи, как нам сообщает Модерат, были пифагорейцы, а вслед за ними Платон. Он, как и пифагорейцы, утверждает, что первое Единое превосходит бытие и всякое сущее, второе Единое (которое есть истинно сущее и постижимо умом) есть идеи, а третье (которое есть сфера души) причастно Единому и идеям, что от него производна последняя природа (то есть природа чувственно воспринимаемого), которая даже не причастна остальным, а, скорее, выстраивается как их отражение, и что материя в них есть тень, отбрасываемая первоначальным небытием, присутствующим в количестве, но находится еще ниже и производна от него.
Во второй книге «О Материи» Порфирий, цитируя Модерата, пишет также, что Единый Логос, как однажды сказал Платон, вознамерившись произвести из себя начало сущего, ограничил себя и тем самым отвел место количеству, лишив его всех своих соотношений и идей. Он называл это количество бесформенным, неразличенным, безобразным, но восприимчивым к форме, образу, различению, качеству и так далее. Видимо, это то же количество, к которому Платон относит различные предикаты, говоря о «все-преемнице», о том, что лишено видов, «невидимо» и «менее всего способно быть причастным умопостигаемому», «едва ли схватываемо псевдорас¬
1 Porph. Vita Pyth. 53, S. 46 Nauck.
2 Похоже, что Ямвлих понял это буквально. От его работы, состоящей из десяти частей и посвященной изложению пифагорейства, до нас дошли только четыре. Из них мы выделяем его «Протрептик» и «Общую математику» (оставляя в стороне «Жизнь Пифагора» и «Арифметическую теологию»). Совершенно поразительно, что в этих двух сочинениях, претендующих на то, чтобы представить пифагорейское учение, мы находим прямые цитаты из Платона и Аристотеля (а также других авторов, которых нам и в голову не пришло бы назвать пифагорейцами). Если Ямвлих согласился с теорией Модерата, он мог сделать это bona fide.
ПИФАГОРЕЙЦЫ
147
суждением» и тому подобное. Это количество, говорит он, и этот вид, мыслимый как ограничение Единого Логоса, содержащего в себе все пропорции сущего, являются образцами материи тел, которую пифагорейцы и Платон также называли количеством, но не в смысле идеи количества, а в значении ограничения, лишения, рассеяния и отделения, кроме того по причине ее отклонения от того, что есть: материя потому и кажется дурной, что удаляется от того, что есть благо.
И оно схватывает эту материю и не позволяет ей преступать своих границ, так что рассеяние получает пропорцию идеальной величины и упорядочивается ею, а отделение благодаря числовой определенности делается эйдетическим.
Таким образом, согласно этому изложению, материя есть не что иное, как отклонение чувственно воспринимаемых видов от умопостигаемых, поскольку первые отворачиваются от последних и устремляются к небытию.1 1 * * * 5 * * * * 10 * * * * 15 * * * * 20 * * * * 251 Simpl. In Phys. 230, 34—231, 27 Diels:
Ταύτην δέ περί της ύλης την ύπόνοιαν έοίκασιν έσχηκέναι πρώτοι 35 μέν των Ελλήνων οί Πυθαγόρειοι, μετά δ’έκείους ό Πλάτων, ώς και
Μοδέρατος ιστορεί, οΰτος γάρ κατά τούς Πυθαγορείους τό μέν πρώτον έν ύπέρ τό είναι και πάσαν ούσίαν άποφαίνεται, τό δέ δεύτερον έν, δπερ έστί 231 τό όντως όν και νοητόν, τά είδη φησιν είναι, τό δέ τρίτον, δπερ έστι τό ψυχικόν, μετέχειν τού ένό^και τών ειδών, την δέ άπό τούτου τελευταίαν φύσιν την τών αισθητών ουσαν μηδέ μετέχειν, άλλά κατ’ έμφασιν έκεί-
νων κεκοσμήσθαι, τής έν αύτοΐς ύλης τού μη δντος πρώτως έν τώ ποσώ
5 δντος οΰσης σκίασμα καί έτι μάλλον ύποβεβηκυίας καί άπό τούτου, καί
ταΰτα δέ ό Πορφύριος έν τώ δευτέρω Περί ύλης τά τού Μοδεράτου παρα¬
τιθέμενος γέγραφεν δτι βουληθείς ό ένιαιος λόγος, ώς πού φησιν ό Πλάτων,
την γένεσιν άφ’ έαυτοΰ τών δντων συστήσασθαι, κατά στέρησιν αύτοΰ
έχώρησε την ποσότητα πάντων αύτήν στερήσας τών αύτοΰ λόγων καί εί-
10 δών. τούτο δέ ποσότητα έκάλεσεν άμορφον καί άδιαίρετον καί άσχημά-
τιστον, έπιδεχομένην μέντοι μορφήν σχήμα διαίρεσιν ποιότητα πάν τό
τοιοϋτον. έπί ταύτης έοικε, φησί, τής ποσότητος ό Πλάτων τά πλείω ονό¬
ματα κατηγορήσαι ,,πανδεχή“ καί άνείδεον λέγων καί ,,άόρατον“ καί ,,άπο-
ρώτατα τού νοητού μετειληφέναι“ αύτήν καί ,,λογισμώ νόθω μόλις ληπτήν“
15 καί πάν τό τούτοις έμφερές. αυτή δέ ή ποσότης, φησί, καί τούτο τό
είδος τό κατά στέρησιν τού ένιαίου λόγου νοούμενον τού πάντας τούς λό¬
γους τών δντων έν έαυτώ περιειληφότος παραδείγματά έστι τής τών σω¬
μάτων ύλης, ήν καί αύτήν ποσόν καί τούς Πυθαγορείους καί τον Πλάτωνα
καλεΐν έλεγεν? ού τό ώς είδος ποσόν, άλλά τό κατά στέρησιν καί παρά-
20 λυσιν καί έκταασιν καί διασπασμόν καί διά τήν άπό τού δντος παράλλαξιν,
δΓ ά καί κακόν δοκεΐ ή ύλη ώς τό άγαθόν άποφεύγουσα. καί κατα¬
λαμβάνεται ύπ’ αύτού καί έξελθεΐν τών όρων ού συγχωρεΐται, τής μέν
έκτάσεως τον τού ειδητικού μεγέθους λόγον έπιδεχομένης καί τούτφ όριζο-
μένης, τού δέ διασπασμοΰ τή άριθμητική διακρίσει ειδοποιούμένου. έστιν
25 ούν ή ύλη κατά τούτον τον λόγον ούδέν άλλο ή ή τών αισθητών ειδών
προς τά νοητά παράλλαξις παρατραπέντων έκεΐθεν καί προς τό μή όν ύπο- φερομένων.
148
ГРЕЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ ОТ ПЛАТОНА ДО ПЛОТИНА
Разберем этот фрагмент,1 для начала предположив, что он целиком принадлежит Модерату. Если это так, то Модерат приписал пифагорейцу Платону следующие воззрения: существуют первое, второе и третье Единые. Первое Единое существует за пределами всякого бытия и сущего (ousia); второе — то, что действительно есть сущее и интеллигибельное, — это идеи; третье Единое, а именно душевное, причастно первому Единому и идеям. За этими тремя следует чувственно воспринимаемое, при этом сфера чувственного не причастна ни Единому, ни идеям, но возникает как космос, в котором Единое и идеи отражаются в материи чувственно воспринимаемого. Но откуда берется материя чувственного? Она — нечто вроде тени первого небытия, которое появляется в количестве.
Что означал бы этот фрагмент, принадлежи он Модерату целиком, очевидно. Перед нами то, что всегда считалось фундаментом системы Плотина: три умопостигаемых ипостаси, Единое как бытие, умопостигаемые сущности (идеи) sensu strictiori, или сфера сущего, и душа; материя, отражающая умопостигаемое sensu latiori, благодаря чему возникает сфера чувственно воспринимаемого; и вторичная материя, низшая, которая является тенью высшей. Что остается добавить Плотину?
Неудивительно поэтому, что Целлер возражал против такого предположения и изначально утверждал (а впоследствии лишь отчасти изменил свое мнение), что весь фрагмент целиком принадлежит Порфирию, который просто вложил учение Плотина в уста Модерата. По словам Целлера, Порфирий сделал это, основываясь на собственной интерпретации Второго письма и «Законов» (VI 509Ь) Платона.1 2
Далее дело Модерата принял к рассмотрению Доддс,3 наиболее интересный из доводов которого связан с утверждением, что весь фрагмент в целом является истолкованием платоновского «Парменида», вскрывающим то, что впоследствии получит название пяти ипостасей в пяти гипотезах из второй части (hen в 137d—142а; to hen kai polla в 145a; to hen oute hen oute polla в 157a; ta alia в 157b; me esti ti hen в 160b), — Единое,
1 Перевод с комментарием см.: FestugiereA. J. La Riv01ation d’Hermes Trisrrre- giste. Vol. IV. P. 22 f., 38 f.
2 Zeller E. Die Philosophic der Griechen. Bd. III/2. S. 130 f.
3 Dodds E. R. The Parmenides of Plato and the Origin of the Neoplatonic „One“. P. 129—142, особенно p. 136—139.
ПИФАГОРЕЙЦЫ
149
ум (умопостигаемое), душу, чувственно воспринимаемое и материю.
Правда, при таком раскладе Плотин, который, как принято считать, был первым, кто истолковал диалог «Парменид» онтологически, оказался бы еще в большем долгу перед Модератом. И другие платоники после Плотина оказались бы немалым ему обязаны, ведь отчетливую связь между пятью гипотезами «Парменида» и пятью ипостасями Плотина явным образом мы находим только у Плутарха Афинского.1 В то же самое время нельзя утверждать, что учения Модерата и Плотина идентичны. Явное различие между ними состоит в том, что можно назвать происхождением от Единого «высшей» материи. Теория Модерата очень любопытна: Единое, сжимаясь (ограничивая себя), испускает, если можно так выразиться, чистое количество, которое и есть Неопределенная Двоица.
Неужели Доддс прав? Неужели этот фрагмент целиком принадлежит Модерату? Или все же Порфирию?
Решающим представляется следующий довод. Идея сжимающегося божества известна Нумению.1 2 Он приписывает ее пифагорейцам, которые, по его словам, неверно поняли учение о двух противоположных первоначалах (Нумений говорит об [unica] singularitas recedens a natura sua et in duitatis habitum migrans).3 Она не может, следовательно, принадлежать Порфирию. И вместо того чтобы считать, будто Порфирий приписал Модерату часть учения Платона и часть воззрений Нумения, будет, наверное, проще предположить, что процитированный выше отрывок на самом деле целиком принадлежит Модерату.4
Ямвлих сохранил для нас еще одно учение Модерата, причислив его к тем, кто отождествляет душевное с математическим. В частности, согласно Модерату, душа есть число (или сущность: текст допускает обе интерпретации), содержащее пропорции. По- видимому, он имел в виду, что душа некоторым образом «есть» число четыре, которое содержит основные пропорции, составляющие октаву (2:1), квинту (3:2) и кварту (4:3). Такая интерпретация может, пожалуй, служить объяснением, почему Ямвлих причисля¬
1 BeutlerR. Plutarchos von Athen // RE. 1951. XXI/1. Col. 970—975.
2 Calcidius 295; test. 30 Leemans.
3 Список источников см., например, в Timaeus: a Calcidio translatus / ed. J. H. Waszink. London, 1962. P. 297, CIII (примечание); Festugiere A. J. La R0v01ation d’Hermes Trism0giste. Vol. IV. P. 37 f.
4 Capelle W. Moderatus 11 RE. 1932. XV/2. Автор, по-видимому, ничего не знал о работе Доддса.
150
ГРЕЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ ОТ ПЛАТОНА ДО ПЛОТИНА
ет Модерата к тем, кто прилагает к душе понятие гармонии.1 Мы уже видели, насколько важно отождествление души и математического.1 2
Упомянем еще о двух аспектах учения Модерата. Как мы уже отмечали, он, подобно многим другим,3 отличает первое Единое от второго4 и считает высшее Единое причиной того, что все мироздание пронизано единым дыханием, что все его части находятся в «симпатии» друг с другом и что в универсуме сохраняется устойчивость.5 Здесь перед нами учение о Едином, смешанное со стоицизмом и характерным для него пониманием Единого. Важность этого смешения для Плотина мы еще обсудим.6
Никомах главным образом известен нам как автор «Введения в арифметику» и «Арифметической теологии»,7 выдающегося примера «теологизирования» понятий, в данном случае — чисел. Каждое число он отождествляет с числом богов, греческих и негреческих, что является странным способом согласовать политеизм и математику. Едва ли возможно однозначно решить, в каком направлении следует читать это тождество: то ли Никомах хочет сказать, что, когда люди говорят о богах, они в действительности имеют в виду числа, то ли, напротив, сообщает математику, что тот, говоря о числах, осознанно или бессознательно говорит о богах. Во всяком случае, мы имеем перед собой неожиданно своеобразный подход к политеизму. Для Плотина обожествление чисел не играет заметной роли, но оно будет иметь особое значение для Прокла, считавшего себя новым воплощением Никомаха и целиком включившего в свое учение его исходный принцип.
Отождествив числа с богами, Никомах объясняет, что они, то есть числа-боги, суть причины бытия сущего. Это напоминает нам Плотина, который поместил (идеальные) числа между бытием
1 Iambi ар. Stob. Eel. I 32^*3. Vol. I. S. 362, 24—385, 10 Wachsmuth. Об этом отрывке см.: Merlan Р. Oberflussige Textanderungen // Philologische Wochenschrift. 1936. LVI. S. 912; Die Hermetische Pyramide und Sextus 11 Museum Helveticum. 1951. VIII. S. 100—105. Он переведен с комментарием в книге: Festugiere A. J. La Riv01ation d’Herm0s Trisntegiste. Vol. III. Paris, 1953. P. 177—248. Тот факт, что душа «содержит» все соотношения, имеющие фундаментальное значение в музыке, объясняет терапевтический эффект, который оказывает на душу музыка: она помогает вос-становить нарушенные гармониии.
2 См. выше, с. 114.
3 Ср.: Festugiere A. J. La Riv01ation d’Hermes Trism0giste. Vol. IV. P. 23 f.
4 Stob. Eel. I 8. Vol. I. S. 21, 8—16 Wachsmuth.
5 Porph. Vita Pyth. 49. S. 44 Nauck.
6 См. ниже, c. 185.
7 Отрывки см. в Phot. Bibl. cod. 187.
ПИФАГОРЕЙЦЫ
151
и сущим,1 а также Прокла, неоднократно подчеркивавшего, что идеальные числа суть универсальные причины.1 2
К тому же в своем «Введении в арифметику» Никомах говорит о числах как о предсуществующих в уме бога. Иными словами, он, очевидно, заимствует взгляды, ведущие начало из Академии (идеи как мысли бога), причем может делать это bona fide, поскольку и сам Платон, и ряд его учеников отождествляли идеи и числа. Как бы то ни было, Никомах, несмотря на указанную двойственность, предлагает монистическую интерпретацию учения о двух противоположных первоначалах.3
Г. Нумений
Плотина обвиняли (по-видимому, афинские платоники) в том, что он выдавал за свои взгляды Нумения, а стоик и платоник Трифон сообщил об этом Амелию. Тогда Амелий написал книжку (посвятив ее Порфирию), в которой провел различие между учениями обоих. Эта история, рассказанная Порфирием,4 невольно вызывает интерес. Какие из воззрений Нумения мы можем установить с достоверностью?5
Кое-что нам известно о его сочинении, посвященном различию между Платоном и его последователями вплоть до Антиоха,6 в котором он обвиняет их в неверности учителю, хотя Спевсипп, Ксенократ и Полемон, не будучи скептиками, сохранили часть платоновского наследия. Поскольку Нумений распространяет свое обвинение также и на Антиоха (он говорит, что философия послед¬
1 Enn. VI 6 [34].
2 Стоит, пожалуй, упомянуть о том, что природа чисел-богов, как их описывает Никомах, становится совершенно двойственной. Единое есть мужское—женское, тем самым — некоторым образом материя; Двоица есть «дерзость» (τόλμα), но некоторым образом также и благо. Нам не кажется, что этот аспект учения Никомаха представлялся сколько-нибудь важным Плотину. О τόλμα у Плотина см. раздел III, гл. 15, с. 309—312.
31 4, 6. Ср.: Zeller Е. Die Philosophic der Griechen. Bd. ΙΙΙ/2. S. 135—141; D’Ooge M. L., Robbins F E., Karpinski L. C. Nicomachus of Gerasa. Introduction to Mathematics. New York, 1938. P. 95 f. (об элементах стоицизма в философии Никомаха; ср. р. 98, 110); Phot. Bibliotheque. Vol. Ill / ed. P. Henry. Paris, 1962.
4 Porph. Vita Plotini 17.
5 Последующие цитаты взяты из работы: Leeman Е. A. Studie over den wijsgeer Numenius van Apamea. Bruxelles, 1937. О Нумении см.: Beutler R. Numenios // RE. 1940. Suppl. VII; введение и список источников см. в Timaeus: a Calcidio translates. Р. XXXVIII—LXXXII.
6 Fr. 1—8 L.
152
ГРЕЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ ОТ ПЛАТОНА ДО ПЛОТИНА
него содержит ряд положений, совершенно чуждых Платону), он косвенно указывает нам и на то, что не следует видеть в Антиохе значимый источник неоплатонизма. С другой стороны, он явно разделяет мнение Антиоха о том, что философия Зенона ведет начало от Ксенократа и Полемона, но отрицает, что философия Аристотеля имеет какое-либо отношение к Платону.
Платон Нумения — просто пифагореец, как, кстати, и Сократ. Он утверждает, что, хотя Платон и не превосходит Пифагора, он равен ему и является связующим звеном между возвышенным Пифагором и обыденным Сократом.
Об общем характере его истории Академии сказано довольно. Теперь несколько деталей.
Платон не был первым философом, чьи взгляды были восприняты учениками самым различным образом, что положило начало различным школам. То же случилось и с Сократом: Аристипп, Антисфен, мегарцы, эретрийцы — все они поняли его по-своему. Почему? Потому что Сократ утверждал существование трех богов и говорил о них в соответствующих каждому понятиях, но его ученики не видели этого и считали учение Сократа непоследовательным.
Где Нумений нашел, что Сократ заявлял о существовании трех богов? Обычно в этом утверждении усматривают один из его собственных характерных взглядов. Чуть позже мы увидим, что это, вероятно, ошибочное мнение, но, даже если и так, нам следует доискаться основания, по которому Нумений приписывает Сократу подобное утверждение. Второе письмо Платона содержит два совершенно поразительных высказывания: в одном, уже упоминавшемся ранее,1 действительно говорится о чем-то таком, что можно с легкостью назвать учением о трех богах; в другом Платон заявляет, что о некоторых вещах (а он, несомненно, придает им ключевое значение) он никогда ничего не писал. А теперь сам текст: ta de nyn legomena принадлежит Сократу.
Никто из прочитавших не станет сомневаться, что эти слова следует перевести так: «То, что ныне считается сочинениями Платона, в действительности является сочинениями Сократа». Однако вполне очевидно, что Нумений счел эти слова началом нового параграфа и относящимися ко всей предшествующей части письма. Таким образом, согласно Платону в прочтении Нумения, учение о трех богах принадлежит Сократу.1 2
1 См. выше, с. 77.
2 См.: Merlan Р. Drei Anmerkungen zu Numenios // Philologus. 1962. CVI. S. 137—145, особенно S. 138.
ПИФАГОРЕЙЦЫ
153
Прервем наше изложение взглядов Нумения и попытаемся соотнести то, что к настоящему моменту нам о нем известно, с Плотином. Последний, несомненно, соглашался с интерпретацией Платона как догматика, поскольку Платон-апоретик не представлял для него никакого интереса, так же как и Сократ, каким он изображался в апорийных диалогах. Он праздновал дни рождения обоих, но, по всей вероятности, был и вправду убежден Нумением (или пришел к сходному заключению самостоятельно), что Сократ был пифагорейцем. Во всяком случае, он цитировал отрывок из Второго письма о троебожии с целью доказать, что его учение о трех ипостасях уже присутствовало у Платона.1 Иными словами, он относился ко Второму письму совсем как Нумений. Евсевий, сохранивший для нас высказывания Нумения о Сократе, цитировал их в связи с отрывком, где Плотин ссылается на него. По-видимому, он заметил сходство в использовании письма обоими. Более того, Плотин цитирует Пифагора как одного из своих предшественников в теории о трех ипостасях, тем самым открыто признавая свою преемственность от него.
Одна подробность истории Академии Нумения заслуживает особого упоминания. Он обращается к критике Аристотеля Кефисодором и высмеивает ее, поскольку Аристотель предстает в ней приверженцем учения об идеях. Кефисодор, по словам Нумения, просто не знал Аристотеля.
И здесь он почти повторяет Плутарха, критикующего Колота. Что за невежда был этот Колот, удивляется Плутарх,1 2 если рассматривал Аристотеля в качестве сторонника теории идей? Разве он не знал, что в целом ряде своих сочинений Аристотель выступал против нее?
По всей вероятности, Йегер и Биньоне правы, когда говорят, что Плутарх и Нумений ошибаются, считая Колота и Кефисодора совершенно несведущими, и ясно видят в обсуждаемых фрагментах доказательство того, что в некоторых сочинениях Аристотель отстаивал учение об идеях.3 Впрочем, с другой стороны, эти фрагменты также доказывают, что даже для Плутарха, знакомого с недошедшими до нас сочинениями Аристотеля, истинным Аристотелем в отношении учения об идеях был эзотерик, а не
1 См. выше, с. 152.
2 Adv. Col. 14, 1115а—с.
3 Jaeger W. Aristoteles. Berlin, 1955. S. 436 f.; Bignone E. L’Axistotele perduto e la formazione filosofica di Epicuro. Firenze, 1936. Vol. I. P. 58—65; Vol. II. P. 107 f. (см. выше, c. 110).
154
ГРЕЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ ОТ ПЛАТОНА ДО ПЛОТИНА
экзотерик. Нумений же, по-видимому, был знаком исключительно с эзотерическим Аристотелем. Наверное, это справедливо и для Плотина, который разве что «Евдема»1 цитирует один или два раза.1 2 К другому Аристотелю вновь обратится только Ямвлих.
Еще одна работа Нумения, которой мы обладаем в достаточном объеме, носит название «О благе».3 В первой ее книге Нумений заявляет, что собирается прибегнуть для раскрытия своей темы к Платону и Аристотелю, а также привлечь учения знаменитых народов, которые находятся в согласии с Платоном, особенно учения брахманов, иудеев, персов и египтян.4 Это классическое высказывание, цитируемое теми учеными, кто видит в Нумении представителя «ориентализма». И поскольку многие считают, что «ориентализм» Нумения предварил таковой Плотина, мы должны рассмотреть это высказывание более подробно.
Почему Нумений так симпатизировал этим «народам»? На основании фрагмента, сохраненного Оригеном,5 можно предположить, что причиной тому была их вера в бестелесного бога. К тому же, когда Нумений принимается говорить о Моисее,6 он обращается к нему как к пророку и представляет его более великим магом, чем его соперники Ианний7 и Иамврий, хотя им удалось повторить некоторые из его малых чудес, так как его молитвы были более могущественными, чем их (возможно, здесь мы имеем дело с магической интерпретацией молитв, какую находим и у Плотина).8
Разве это доказывает существование ориентализирующей и иудеизирующей тенденций, если понимать под этим признание превосходства или изначальности Востока? Едва ли. Здесь нет ни малейшего намека на то, что он считал «варварскую», в частности иудейскую, мудрость выше Платоновой или ее источником. Его отношение к Востоку можно сравнить с отношением Плутарха, которому нравилось обращаться к персидской и египетской религиям,9 или Диогена Лаэртского. Последний, насколько нам известно, настаивал на автохтонном характере греческой философии, но не
1 Fr. 9 Ross.
2 Enn. Ill 6 [26] 4; IV 7 [2] 84.
3 Fr. 9—29 L.
4 Fr. 9a L.
5 Fr. 9b L.
6 Fr. 18, 19 L.
7 В этом качестве он также известен Апулею (De magia 90).
8 Enn. II 9 [33] 14; IV 4 [28] 26. 38.
9 De def. or. 10, 415a; 36, 429f; De Is. et Os. 46—47, 369e—370c.
ПИФАГОРЕЙЦЫ
155
отрицал также существования «варварской» мудрости.1 Нумений, вероятно, испытывал несколько большее благоговение к Востоку, но в конечном итоге Аристотель уже отдал должное египетским жрецам, первым подавшим пример созерцательной жизни,1 2 и без колебаний цитировал магов наравне с Эмпедоклом и Анаксагором.3 Непохоже, чтобы «ориентализм» Нумения пошел дальше аристотелевского.4
Однако существует, конечно, и знаменитая фраза Нумения о том, что Платон был Моисеем, говорящим по-гречески.5 И если вспомнить, что Цельс, фактически современник Нумения, считал Моисея не более чем мятежным шарлатаном, а также всецело враждебное отношение к нему Порфирия, то это действительно очень высокая оценка. И если мы теперь спросим себя, какой аспект философии Платона имел в виду Нумений, сравнивая его с Моисеем, то, наверное, будет справедливым предположить, что это, с одной стороны, тот способ, каким Платон, впервые заводя речь о демиурге, использовал выражение to on aei, а с другой — фраза «Я есть сущий», которую мы читаем в Септуагинте.* И даже при этом похвала Моисею очень высока, хотя и сведена к одной детали. Нумений удостоил вниманием еще одну фразу из Книги Бытия («И дух носился над водами»), которую он истолковал в том смысле, что вода содержит божий дух. И все же, хотя он, вполне возможно, высказывался в хвалебной манере и о других местах Ветхого Завета, у нас нет подтверждений тому, что он считал это учение превосходящим греческую философию. Не может служить доказательством и то, что в одном из фрагментов он сочувственно отозвался об Иисусе.6
Теперь, подходя к самой сердцевине сочинения Нумения, мы обнаруживаем новые черты ориентализма.
Основные его воззрения таковы: существует высший бог, которого можно также назвать благом (tagathon), первым умом, не-вещественностью, тем Единым,7 что есть, или сущим (on или
1 Proemium 1—3.
2 Met. А 1, 981Ь23—25.
3 См. выше, с. 84, прим. 7.
4 Или «ориентализма» Евдокса; см. выше, с. 84.
5 Fr. 10 L.
6 Fr. 19 L.
7 Calcidius. 294—297.
* Септуагинта («Перевод семидесяти толковников») — собрание переводов ветхозаветных текстов на древнегреческий язык, выполненных в III—I веках до н. э. в Александрии. Считается наиболее старым из известных переводов Ветхого Завета. — Примеч. перев.
156
ГРЕЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ ОТ ПЛАТОНА ДО ПЛОТИНА
ousia). Он обитает в aion, которую также можно охарактеризовать как nunc stans. Этот первый бог есть идея (в платоновском значении этого слова) второго бога, или, как его еще именуют, второго ума или демиурга, который благ, будучи причастным благу. Вместо того чтобы говорить о третьем боге, Нумений предпочитает сказать, что второй бог двойствен.1 Отчасти он занимается созерцанием первого или умопостигаемых сущностей, отчасти творит и, взирая на идеи как на образцы, управляет видимым миром. В этом последнем занятии он встречается с опасностью уделить слишком много внимания материи, из которой он творит мир, и заботам этого мира. Основное различие между первым и вторым богами состоит в том, что первый непрерывно блаженно бездействует. Иными словами, космос является не его произведением, но произведением второго бога, демиурга. Два бога главенствуют над сферами бытия и становления соответственно. О первом боге можно сказать, что он воздвиг сущее или что он является первоначалом сущего.
Сходства и различия между Нумением и Плотином бросаются в глаза. Мы видим, почему кто-то мог упрекнуть Плотина в том, что он приписал себе труды Нумения, тогда как иные с достаточным основанием могли это отрицать. Различение между первым богом и демиургом, которого Нумений называет умом, является точкой теснейшего соприкосновения двух философов. Иногда Нумений приходит к мысли, что этот первый бог превыше бытия, и тогда мы вновь чувствуем близость Плотина. Однако, когда он описывает своего первого бога в качестве ума, Плотин, пожалуй, видит в этом ту же ошибку, какую совершил Аристотель. Кроме того, то, что Нумений изображает в виде опасности для второго бога, а именно слишком глубокую вовлеченность в управление космосом, согласно Плотину могло быть опасным только для третьей ипостаси (и опять-таки только для тех душ, которые управляют смертными телами).1 2 С другой стороны, Нумений часто говорит о втором боге так, словно он в качестве демиурга является мировой душой (или, во всяком случае, тесно сопряжен с нею). С этим Плотин, пожалуй, согласился бы, и, возможно, те, кто обвинил Плотина в плагиате, просто сказали бы, что, тогда как Плотин строго различал ум и душу, Нумений видел в уме и душе только два аспекта второго бога. Не следует, впрочем, пренебре¬
1 Но, возможно, он говорил, что если считать мир, произведение второго божества, еще одним богом, тогда мы имеем трех богов.
2 Επη. IV 8 [6] 4; ср.: I 8 [51] 14.
ПИФАГОРЕЙЦЫ
157
гать и тем обстоятельством, что Плотин не слишком последователен, когда говорит о демиурге: в основном он отождествляет его со второй ипостасью,1 но иногда и с третьей.1 2 И, как известно, Порфирий позаимствовал эту вторую точку зрения.3 Таким образом, сходства и различия между Нумением и Плотином почти равновелики.
В указанной работе Нумений также описывает, как можно распознать первого бога.4 Чтобы достичь этого, нужно действовать так же, как поступает тот, кто желает заметить со сторожевой башни маленькую лодку среди волн. Он напрягает глаза, а потом разом видит ее. Это и есть путь: отделить себя от всего чувственного и постараться совместить себя «единого с единым». Тот, кто это сделает, увидит бога в его благодатной недвижности. Этот путь непрост, и лучший способ приуготовить себя к нему — со всем усердием заниматься математикой и мыслить согласно тому, что есть.
Этот фрагмент сильно напоминает описываемое Плотином воспарение «единого к единому»,5 хотя и сомнительно, чтобы Нумений имел в виду нечто сродни мистическому экстазу, а изучение математики в качестве приуготовления к усмотрению блага не в характере Плотина.
Наибольшее же отличие между двумя философами мы сможем обнаружить, если сравним их соображения по поводу того, как соотносятся материя (Нумений называет ее Двоицей, тогда как бога — Единицей) и то, что, согласно им обоим, превосходит материю, а именно ум, по Нумению, и душа, по Плотину. Нумений допускает некоторого рода влияние материи на ум (она делит ум надвое, поскольку природа материи двойственна). Для Плотина, напротив, недопустимо, чтобы низшее оказывало влияние на высшее. С этим различием связано и еще одно: согласно Нумению, высшее действует, используя низшее, то есть ум использует чувственность, а это опять-таки неприемлемо для Плотина.
В равной степени для него было бы невозможным предположение Нумения о злой мировой душе, связанной с материей, или интерпретация материи как совечной богу (разве что в том смысле, что все ипостаси совечны). Согласно Плотину, материя, а не душа, является источником (или стихией) зла.
1 Епп. IV 4 [28] 10.
2 Enn. III 9 [13] 1; IV 3 [27] 6.
3 Proclus. In Tim. I 306; 322, 1; 431, 1 Diehl.
4 Fr. 11 L.
5 Enn. VI 9 [9] 11; cp.: I 6 [1] 7, 9; 9, 24.
158
ГРЕЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ ОТ ПЛАТОНА ДО ПЛОТИНА
Еще одно воззрение, которое мы находим у Нумения, — это учение о неубывающем воздаянии.1 Это учение имеет ключевое значение в системе Плотина1 2 и лежит в основании того, что называется динамическим пантеизмом:3 высшее присутствует в низшем только через воздействия, а не субстанциально. При этом, оказывая эти воздействия, высшее не страдает от умаления. Нумений иллюстрирует это утверждение классически: как факел, освящающий другой предмет, нисколько не утрачивает собственного света, так и знание учителя не убывает оттого, что он передает его ученику.4
Говоря о боге, Нумений среди прочего называет его to agathon hoti estin hen.5 Для этого он цитирует Платона. Но какой именно отрывок имеется в виду? Очевидно, тот же, на который ссылался Аристоксен, а именно заключительный отрывок из платоновского alomsis «О благе».6 И если Плотин не узнал об этом отрывке из другого источника, то он мог прочесть о нем у Нумения и тем самым получить подтверждение своему мнению, согласно которому Платон говорил о высшем боге как о Едином.7
Мы пытались минимизировать ориентализм Нумения,8 но существует, пожалуй, одна доктрина, которая, по мнению некоторых ученых, свидетельствует о нем со всей определенностью. Нумений говорил не только о двух мировых душах (благая, по сути, тождественна второму богу), но о двух душах в человеке.9 Это не по-гречески, замечают некоторые ученые.10 Единственным греческим автором из предшественников Нумения, кто высказывал
1 Fr. 23 L.
2 См., например, Enn. V 1 [10] 3; V 1 9 [9] 9; VI 3 [44] 3.
3 См. ниже, с. 189.
4 Ср.: Enn. VI 5 [23] 32; IV 9 [8].
3 Fr. 28 L.
6 Ср. выше, с. 70. Другую интерпретацию этого отрывка см., например, в книге: Gaiser К. Platons ungeschriebene Lehre. S. 452 f.
7 Об этом см.: Merlan Р Drei Anmerkungen zu Numenios. S. 137—145, особенно S. 143—145.
8 Поступая так, мы противоречим, например, работе: Puech Н. С. Numenius сРАратёе et les theologies orientales au second siecle 11 M61anges Bidez. 1934. II. P. 746—778.
9 Fr. 36 L.
10 Таково, в частности, мнение Доддса {Dodds Е. R. Numenius and Ammonius // Les Sources de Plotin. Entretiens. 1960. V. P. 3—32 с разъяснением на 33—61). В этом вопросе он особенно резко расходится с П. Буайансэ {Воуапсе Р Les deux d6mons personnels dans l’antiquit6 greco-latine 11 Revue de Philologie. 1935. LXI. P. 189—202), который видит в учении о двух душах не более чем вариант истинно греческого учения о двух духах-стражах, добром и злом.
ПИФАГОРЕЙЦЫ
159
подобное воззрение, был Ксенофонт, вложивший его в уста перса. Предположим, что это возможный аргумент в пользу «ориенталистов». Для Плотина злая душа есть нечто недопустимое, но он тем не менее подходит вплотную к разделению души человека на высшую и низшую.1 Иногда даже складывается впечатление, что он считает, будто низшая душа приобретается высшей во время ее нисхождения,1 2 хотя во всяком ином случае он возражает против «пространственных» объяснений природы души. Согласно учению Нумения, душа во время своего нисхождения собирает пневму с планет,3 и это, возможно, еще одна «восточная» идея.
Таким образом, если под ориентализмом мы понимаем знание восточной мудрости или сочувствие ей, то Нумений был «ориенталистом»; если же мы имеем в виду нахождение под влиянием восточных доктрин до такой степени, чтобы пытаться включить их в греческую философию или интерпретировать греческую философию в свете этих восточных учений, то тогда и у Нумения, и у Плотина присутствуют лишь несколько намеков на ориентализм.
Нумений исповедует учение о воплощении и перевоплощении. Он считает воплощение злом и следствием того или иного проступка. Мы уже знакомы с полемикой «оптимистов» и «пессимистов» по этому вопросу, знаем также и то, как Плотин пытался преодолеть данное затруднение. Душа в действительности не спускалась вниз. Пока она в нас, она продолжает свою «высшую» жизнь, хотя мы и не осознаем ее. Кто-то мог бы сказать: бескомпромиссно пессимистическая интерпретация нисхождения души Нумения была неприемлема для оптимистической тенденции Плотина и, должно быть, подвигала его к созданию теории, которая бы доказывала несостоятельность этого пессимизма.
Душу (скорее всего, всякую душу) Нумений также называл числом, множителями которого являются Единое и Неопределенная Двоица. Это воззрение, очевидно, разделял и Плотин.4
Наконец, если верить Ямвлиху, Нумений сформулировал принцип en pasin... panta, oikeios mentoi kata auton ousian en hekastois
1 Enn. VI 7 [38] 5, то есть не просто допуская высшую и низшую части одной души. И все же нам не следует забывать, что это разделение есть результат трудности, имманентно присущей системе Плотина и состоящей в том, чтобы примирить возвышенное положение души с ее присутствием в материи или влиянием на нее.
2 Enn. IV 3 [27] 25, 27, 31, 32; III 5 [50] 3, 4.
3 Fr. 47 L.
4 Enn. VI 5 [23] 9.
160
ГРЕЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ ОТ ПЛАТОНА ДО ПЛОТИНА
(omnia in omnibus sed secundum modum recipientis),1 который некоторым образом резюмирует все учение об эманации Плотина и его последователей в целом. Таким образом, хотя никакого плагиата здесь нет, сходство очевидно, а влияние возможно.
Как относился к обвинениям в плагиате Порфирий? Похоже, он не возражал, что между Нумением и Плотином есть сходство, однако отрицал, что его следует объяснять плагиатом. Он перефразировал часть суждения Лонгина: «Относительно воззрений Нумения Лонгин не утверждает, что Плотин выдавал их за свои и как таковые отстаивал,1 2 но что он сам решился развивать пифагорейское учение...»3
Исследование других аспектов анонимного и псевдонимного пифагорейства предприняли Бикель и Бемер,4 основные выводы которых сводятся к тому, что эти пифагорейцы были первыми, кто интерпретировал идеи в качестве мыслей (а не объектов
1 «Все во всем, но в каждом в соответствии с его сущностью» (Fr. 33 L).
2 Я использую слово «отстаивать» (honour) в том же значении, в каком оно используется в выражении «оплатить счет» (honour a cheque) («ответить за него»). Мы также могли бы перевести «и распространял (heralded) их».
3 ...τά νουμηνίου δέ ούχ δτι ύποβάλλεσθαι και τά έκείνου πρεσβεύειν (ο πρεσβεύειν в этом смысле см.: Eus. РЕ XI 17. Fr. 20 L) δόγματα, άλλά τά των Πυθαγορείων αυτού... έλομένου μετιέναι δόγματα (Vita Plotini 21). Иными словами, сходство между Нумением и Плотином следует объяснять тем обстоятельством, что оба они были пифагорейцами. Однажды Плотин даже, кажется, цитирует Нумения: Enn. III 5 [50] 6, 18.
Остается немного сказать об ученике Нумения, Кронии. Гарпократион, ученик Аттика, достигнув согласия с Кронием, стал последователем Нумения в отношении учения о двух богах (Proclus. In Tim. I 304, 22 Diehl). Подобно Нумению, он интерпретировал воплощение «пессимистично» {Iambi, ар Stob. Eel. 149. Vol. I. S. 375; 378 Wachsmuth), причем распространял его и на животных (Aen. Gaza. Theophrastus. Р. 16 Barth, 12, 6 Col.).
Отдельную проблему создает вопрос о том, находился ли Нумений под влиянием халдейских оракулов (в большей или меньшей степени таковым было до сих пор communis opinio) или нет. Как бы там ни было, замечательно, что мы находим у этих оракулов учение, сходное с учением о тождестве ума и умопостигаемого: нет ума без умопостигаемого, нет умопостигаемого без ума (Fr. 11 Kroll), и различение между первым и вторым умом. Однако, поскольку Плотин, по-видимому, никогда не пользовался оракулами, а вопрос о первенстве Нумения не был однозначно разрешен, этого короткого замечания должно быть достаточно. Ср.: Lewy Н. Chaldean Oracles and Theurgy. Cairo, 1956; Dodds E. R. New Light on the „Chaldean Oracles44 // Harvard Theological Review. 1961. LIV. P. 263—273.
4 В частности, см.: Bickel E. Neupythagoreische Kosmologie bei den Romem // Philologus. 192. LXXIX. S. 335—369; BomerF. Der lateinische Neuplatonismus und Neupythagoreismus und Claudianus Mamertus in Sprache und Philosophic. Leipzig, 1936. S. 117.
ПИФАГОРЕЙЦЫ
161
мыслей), в результате чего сфера нематериального стала сферой ума. Кроме того, они утверждают, что уже в пифагорействе мы обнаруживаем заимствование стоических идей, предшествующее синкретизму Антиоха. Таким образом, свои стоические идеи Плотин, по-видимому, воспринял скорее от пифагорейцев, чем от Посидония. Первый вывод сомнителен, второй, по всей вероятности, истинен.
Все это время мы имели дело с пифагорейством так, словно это была только философская школа,1 однако вполне очевидно, что всегда или время от времени оно также выступало в качестве религиозного сообщества и образа жизни.1 2 Как бы там ни было, нам не кажется, что этот аспект пифагореизма, в котором Плотин видел не более чем одну из философских школ,3 интересовал его или оказал на него влияние4 (подобно тому, как его не привлекала пифагорейская аритмология и аритмотеология, нашедшие сочувствие у таких мыслителей, как, например, Спевсипп, Филон Александрийский и Ямвлих).
Таким образом, мы можем сказать, что в целом постакадемическое пифагорейство проявило себя в двух аспектах. Оно не позволило кануть в Лету учению о двух противоположных
1 Мы опустили такой аспект этого учения, как вневременное происхождение космоса, иногда, подобно многим другим воззрениям Платона, приписываемое самому Пифагору.
2 Целлер (Die Philosophic der Griechen. Bd. III/2) выделял два аспекта пифагорейства, и если он был готов допустить незыблемость пифагорейства как религии, то непрерывность его существования в качестве философской школы он отрицал. Буркерт (Weisheit und Wissenschaft) заявлял о прерывности в обоих отношениях; Каркопино (La Basilique pythagoricienne de la Porte Majeure. Paris, 1927. P. 161, η. 1; De Pythagore aux Apotres. Paris, 1956) — о непрерывности в обоих отношениях. Теслефф (An introduction to the Pythagorean writings of the Hellenistic Period) утверждает прерывность философии (о нераспознанном отрывке Плутарха, уходящем корнями в данную проблему, см. мою статью (Mind. 1936. LXXII. Р. 303 Г). Эта двойственность (философия и религия) хорошо проиллюстрирована одним отрывком из Плутарха (Qu. conv. VIII 7, 727b). Луций, представленный в нем читателю в качестве ученика Модерата, сообщает, что тирренцы все еще соблюдают пифагорейские запреты, но, по-видимому, отказывается объяснить их значение Плутарху Ср.: Dorrie Н. Pythagoreer // RE. 1963. XXIV/l.S. 268—270.
3 Это a fortiori верно относительно платонизма второго и третьего веков. Дёрри (Die Frage nach dem Transzendenten im Mittelplatonismus // Les Sources de Plotin. Entretiens. 1960. V. P. 191—223), как нам кажется, преувеличивает его религиозный характер.
4 По этой причине мы не имеем дела с Аполлонием Тианским. О его «ин- дианизме» см. у Филострата (Vita Apollonii VI 11; VIII 7; VI 15). Ср.: Porph. Vita Plotini 3.
162
ГРЕЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ ОТ ПЛАТОНА ДО ПЛОТИНА
первоначалах,1 а также продемонстрировало, до какой степени происхождение реальности из не-чувственных первоначал было живой философской альтернативой. Кроме того, оно указало на постоянное напряжение между монистической и дуалистической интерпретациями этих первоначал, которое подчас разрешалось путем допущения как низшего, так и трансцендентного Единого.1 2 В лице Никомаха, Модерата и Нумения мы также имеем претензию на то, что вся философия Платона является пифагореизмом и что многие воззрения двух из упомянутых мыслителей иногда неотличимы от учения Плотина. Наконец, оно включает в себя взгляды перипатетиков и стоиков, подготавливая тем самым синкретизм Плотина.3
1 Ср.: Zeller Е. Die Philosophic der Griechen. Bd. III/2. S. 369 f.
2 Поддержано Плотином (Enn. VI [10] 5). Cp.: Festugiere A. J. La Riv01ation d’Herm0s Trisntegiste. Vol. IV. P. 18—25; 30 f.
3 Политические интересы пифагорейства произвели на свет сравнительно большое количество псевдоэпиграфов (наиболее известные — Харонд, Экфант, Диотоген, Сфенид, Залевк), посвященных вопросам царской власти и им подобным. После Плотина такие платоники, как Ямвлих и Сопатр, своими сочинениями и действиями участвуют в политической жизни (Stob. Flor. XLVI; Eel. IV 5, 51—60, 62. Vol II. S. 212—219 Hense). Следует отметить, что, согласно Делатту (DelatteA. La Constitution des Etats-Unis et les Pythagoriciens. Paris, 1948), их политические воззрения имели в своем основании учение о двух противоположных первоначалах. Что касается Плотина, то, каким бы ни было его участие в политических делах на частном уровне (его политическая значимость доказывается тем фактом, что после убийства Гордиана он был вынуждет покинуть родину; кроме того, придворные Галлиена вряд ли стали бы беспокоиться о том, чтобы расстроить его намерение основать город, если бы не придерживались мнения, что этот план преследовал политическую цель; ср.: Porph. Vita Plotini 3, 12), в его сочинениях нет и следа политического интереса; с другой стороны, политическая заинтересованность Лонгина, советника Зенобии, очевидна.
Пифагорейские псевдоэпиграфы и анонимные сочинения Александра и Фотия теперь изданы Теслеффом (Thesleff Н. Pythagorean Texts of the Hellenistic Period. Abo, 1965).
Моя интерпретация Модерата (см. выше, с. 148—150) теперь опровергнута Тайлером (Theiler W. Diotima neuplatonisch //Archiv fur Geschichte der Philosophic. 1968. L. S.29—47).
Глава 6 ПЕРИПАТЕТИКИ
А. Перипатетическая школа от Теофраста до Андроника и Боэта
В развитии перипатетической школы вплоть до Стратона можно отметить два важных момента. Во-первых, философско-спекулятивный интерес по большей части сменяется интересом ко всякого рода специальным и эмпирическим знаниям, конечным и потому не способным более служить основанием для чего-то высшего. Во-вторых, в той мере, в какой философский интерес все же сохраняется, он часто находит удовлетворение в нетеологических, натуралистических или даже материалистических учениях.1 Для нас имеет значение только второй момент, поскольку интерес Плотина к эмпирическим наукам ничтожен.
Тем не менее Клеарх, по-видимому, отказывается последовать за Аристотелем в отрицании субстанциального характера души и в одном из диалогов изображает учителя пришедшим к убеждению, что душа может покидать тело и возвращаться в него путем, как мы бы сейчас сказали, телепатического опыта.1 2 Тем самым он выражает исходный платонизм Аристотеля.
1 Ср.: Zeller Е. Die Philosophic der Griechen. Bd. II/2. S. 805 f.; Brink K. O. Peripatos // RE. 1940. Suppl. VII. Col. 914—923; 926—949; Wehrli F. Die Schule des Aristoteles. Basel, 1959. S. 96—128.
2 Fr. 7 Wehrli. Впрочем, не исключено, что диалог Клеарха относится к периоду, когда сам Аристотель еще отстаивал субстанциальную природу души, и в таком случае он не может выражать несогласие Клеарха с учителем. Как бы там ни было, ничто не указывает на то, что он когда-либо изменил своему «платонизму».
164
ГРЕЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ ОТ ПЛАТОНА ДО ПЛОТИНА
Что касается Теофраста, то его так называемый метафизический фрагмент1 ясно доказывает, что он остался верен спекулятивным и теологическим интересам Аристотеля. В частности, нет и намека на то, что он вообще представлял себе первую философию как-то иначе, чем в качестве теологии. Фрагмент в целом замечателен, на наш взгляд, по трем причинам. Во-первых, он показывает, что Теофраст связывал воедино задачи аристотелевской «Метафизики» и проблемы учения о двух противоположных первоначалах, включая вопрос о происхождении из них всего сущего и вопрос об отношении между ними и злом.1 2 Во-вторых, он делает очевидным, что Теофраст исходит из убеждения, согласно которому вся реальность в своем основании разделена на сферы умопостигаемого и чувственно воспринимаемого, первая из которых либо включает в себя математические сущности, либо состоит из них.3 В-третьих, он дает понять, что для Теофраста очевидно, что знание первоначал есть знание особого рода. Оно недискурсивно и в лучшем случае может быть описано как своего рода касание, так что можно не иметь понятия об этих первоначалах, но и не ошибаться в отношении них (26). В этом, как известно, состоит учение Аристотеля.4 Пожалуй, наиболее загадочным свойством этого учения является то, что оно ставит в соответствие с высшими первоначалами, которые мы также могли бы назвать божественными, совершенно особую форму знания. И конечно, неслучайно, что Плотин, описывая экстатический союз с Единым, использует те же выражения,5 какие мы находим у Аристотеля и Теофраста. Подводя итоги, можно сказать, что указанный фрагмент представляет собой некую смесь аристотелизма и платонизма.
Подобно Аристотелю, Теофраст пытается снизить важность математических сущностей, а в одном месте (30) к тому же рассматривает возможность замены понятия трансцендентного бо¬
1 Ross W. D., Fobes К Я. Theophrastus. Metaphysics. Oxford, 1929; Reale J. Teoifasto e la sua aporetica metafisica. Brescia, 1964. См. также: Merlan P. Aristotle’s Unmoved Movers. P. 1—30, особенно p. 29 f.; From Platonism to Neoplatonism. P. 186—188; 208 f.; Theiler W. Die Entstehung der Metaphysik des Aristoteles mit einem Anhang liber Theophrasts Metaphysik // Museum Helveticum. 1958. XV. S. 55—105.
2 5—8; 11—13; 18; 32—33.
3 1; 3; 8; 13; 22; 25; 34; cp.: Fr. 27 Wimmer.
4 Met. 0 10, 1051Ь24. (Другую интерпретацию см.: Oehler К. Die Lehre vom noetischen und dianoetischen Denken bei Platon und Aristoteles. Miinchen, 1962. S. 170—244. — Примеч. A. X. Армстронга к изданию 1970 г.)
5 «Thigein», «thixis»: Enn. V 3 [49] 10, 42; VI 9 [9] 4, 27.
ПЕРИПАТЕТИКИ
165
жества понятием природы. Иными словами, он подготавливает нас к имманентизму стоиков и натурализму Стратона.1 Впрочем, Аристотель и сам иногда говорит о природе как о боге.1 2
Мы уже упоминали о том, что Теофраст высказывал некоторые сомнения в отношении аристотелевской небесной теологии.3 Очевидно вдохновленный ими, Плотин представил собственную критику Аристотеля.4
О метафизическом фрагменте сказано достаточно. Что касается психологии, то в ней Теофраст, вероятно, встретился с теми же трудностями, что и Аристотель. Во всяком случае, он отрицал, что все изменения в психической жизни человека только соматические. Он допускал это в отношении желания и гнева, но не теоретической деятельности, которая, по его мнению, происходит исключительно в душе.5 Относительно ума6 он спрашивал, как возможны ошибки7 и забывчивость, которые случаются с ним, и почему в человеке деятельность ума не непрерывна и безначальна (euthys и aei), ведь ум был присовокуплен нам от начала существования. Теофраст указывает на то, что эти «несовершенства» наилучшим образом объяснимы тем обстоятельством, что приобретенный ум связан (dia ten mixin) с телом или пассивным умом. Истинное значение такого объяснения, видимо, состоит в том, что все эти состояния, в сущности, являются состояниями тела.8 Сходным образом Аристотель разъяснил, что состояния, подобные старческой дальнозоркости, не являются состояниями ума и, если бы ум мог обрести новый телесный орган, он стал
1 Ср.: Grumach Е. Physis und Agathon in der alten Stoa. Berlin, 1932. S. 49, n. 64; Regenbogen O. Theophrastos // RE. 1940. Suppl. VII. Col. 1393; 1395; 1496; 1547 f.
2 Кажется, достаточно одного маленького шага, и от высказывания «бог и природа ничего не совершают напрасно» (De caelo I 4, 271а35) мы перейдем к отождествлению бога и природы. Ср.: Zeller Е. Die Philosophic der Griechen. Bd. II/2. S. 387 f.; 422—427; 803; Solmsen F. Aristotle’s System of the Physical World. New York, 1960. P. 97—102; 272; 448 f.
3 Например, по поводу предположения множественности неподвижных двигателей (4; 7).
4 Enn. V 1 [10] 9.
5 Fr. 53 Wimmer; Simpl. In Phys. 964, 31—965, 5 Diels; cp.: De an. 14,408b24— 29.
6 Cp.: Barbotin E. La ТЬёопе aristot01icienne de l’intellect d’apres Theophraste. Paris, 1954.
7 Cp.: De an. Ill 10, 433a26: νους... πας ορθός. Плотин утверждает, что душа как раз не совершает ошибок; ошибки случаются только в сочетании души и тела (Enn. I 1 [53] 9).
8 Fr. 53 Wimmer; но ср.: Eth. Nic. X 2, 1173b 10.
166
ГРЕЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ ОТ ПЛАТОНА ДО ПЛОТИНА
бы снова хорошо видеть.1 Оказавшись перед вопросом, предполагают ли процессы умопостижения и чувственного восприятия восприимчивость ума и души, он развел оба этих процесса, заявив, что первый имеет источником себя самого (объекты умопостижения тождественны тем актам умопостижения, объектами которых они являются), тогда как чувственные восприятия берут начало извне. Таким образом, умопостижение в действительности не является страданием (претерпеванием), поскольку ничто не может воздействовать на самого себя.1 2
Теофраст также попытался примирить невосприимчивость ума с воззрением, согласно которому причиной деятельности ума являются умопостигаемые сущности, из чего, по-видимому, следует, что они оказывают воздействие на ум и тем самым изменяют его. Это ему удается благодаря использованию аристотелевского различения двух видов изменения, один из которых имеет результатом деформацию (разрушение), а другой приводит к совершенствованию (сохранению) субъекта изменения.3 В таком случае, когда умопостигаемые сущности воздействуют на ум, происходит как раз изменение второго вида.4 Иными словами, учение о восприимчивости приложимо к уму только особым образом. В самом деле, сомнительно, что изменение, происходящее в органе восприятия, действительно разрушает его.5
В какой-то мере все указанные вопросы восходят, или сводятся, к следующему: что именно — тело, душа или сочетание обоих — испытывает привязанности, мыслит и так далее? Этот вопрос неизменно актуален как среди платоников, так и среди перипатетиков.6 О нем, как и о прочих вышеупомянутых вопросах, также пространно размышляет Плотин.7 Он не желает признавать,
1 De ап. 14, 408Ы8.
2 Fr. 53b Wimmer; Themist. De an. 107, 30—109, 3 Heinze.
2 De an. II 5, 417b2; III 5, 429b22—31; 7, 431a5; cp.: De an. I 3, 407a33; Phys. VII 3, 248a28; 247b 1.
4 Themist. De an. 107, 30 Heinze; Prise. Metaphr. 28, 21—23 Bywater (Fr. IV Hicks).
5 De sens. 31; cp. 2,49. Теофраст рассматривал и другие трудности, связанные с понятиями активного (действующего) и пассивного ума, однако непохоже, чтобы его соображения по данному вопросу оставили след в философии Плотина. Cp.: Barbotin Е. Op. cit.; Regenbogen О. Op. cit. Col. 1398.
6 Cp. также: Ps.-Plut. De lib. et aegr., имеющее дело с этой же проблемой (см. выше, с. 165). Впрочем, есть вероятность, что это сочинение является пост- плотиновским; см.: Pohlenz М. Die Stoa. Bd. II. S. 175; Ziegler К. Plutarchos // RE. 1951. XXI/1. Col. 751.
7 Enn. I 1 [53]; V 3 [49], однако см. выше, с. 95—96.
ПЕРИПАТЕТИКИ
167
что процесс чувственного восприятия предполагает восприимчивость души, говоря: чувственное восприятие есть energeia, а не pathos. На самом деле он стоит на пороге утверждения, что чувственное восприятие коренится в душе. И это a fortiori верно относительно умопостижения, поскольку ум всегда движим ap’autou, а не ap’ekeinou.1
Что касается религии, то Теофраст, во всяком случае время от времени, выглядит «благочестивее» своего учителя.1 2 Он не только настойчиво утверждает, что вера в существование богов едина для всех людей, но и указывает на одно известное исключение — граждан города Акрофои, которые за свое безбожие были наказаны посланным богами и истребившим их землетрясением.3 Теофраст пишет здесь совершенно в стиле Гераклида,4 что удивительно, поскольку он также составил натуралистическое объяснение землетрясениям5 в духе своего учителя6 и Стратона. Хотелось бы знать, участвовал ли он в дискуссии относительно землетрясений в Телике и Буре. Аристотель дал им природное объяснение; Геракл ид видел в них божью кару. На чьей стороне был Теофраст? Дать точный ответ мы не можем, но сама возможность такого вопроса доказывает соприсутствие естественных и сверхъестественных тенденций у Теофраста, а возможно, и у его учителя. Во всяком случае, нас не удивляет, что Порфирий широко использовал его «О благочестии». Но, с другой стороны, нас не должно удивлять и то, что в ряде фрагментов Теофраста проглядывают натуралистические или даже материалистические тенденции.7 По крайней мере иногда он отождествляет бога и пневму,8 а после того, что мы сказали о понятии пневмы у Аристотеля (особенно о его близости другому материалистическому или полума- териалистическому пониманию божественного — теории эфира9),
1 Enn. IV 6 [41] 2.
2 Ср.: Zeller Е. Die Philosophic der Griechen. Bd. II/2. S. 828, 866, в некоторой степени опровергаемое S. 867; Regenbogen О. Op. cit. Col. 1557.
3 Porph. De abst. II 7 f.; Simpl. ap Epict. Ench. S. 95 Diibner.
4 См. выше, c. 90.
5 Sen. Qu. nat. VI 13, 1.
6 Meteor. II 7—8, 365al4—369a9.
7 Cp.: Zeller E. Die Philosophic der Griechen. Bd. III/2. S. 850 f.
8 Fr. 14 Wimmer; см. выше, c. 89, прим. 1.
9 В существовании которого был убежден и Теофраст (Fr. 35 Wimmer). Его критиковали за то, что он отождествляет бога то с умом, то с caelum, то с небесными телами (Cicero. De nat. d. I 35), то c πνεύμα (Clemens. Protr. 5, 44). Целлер (Bd. II/2. S. 827) защищает его, но эта защита строится на допущении, что в теологии самого Аристотеля не было следов материализма.
168
ГРЕЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ ОТ ПЛАТОНА ДО ПЛОТИНА
трудно избавиться от подозрения, что Теофраст также предпринимал попытки дать натуралистическую интерпретацию божественного — не под влиянием стоиков и их понятия pneu- ma, а, скорее, в продолжение некоторых путей, намеченных Аристотелем.
Примечательным в данном контексте является краткое упоминание Ямвлиха1 о том, что Теофраст иногда (en eniois), подобно Аристотелю, называл душу endelecheia, очевидно по причине ее эфирной природы.1 2
Самое простое объяснение подобных материалистических тенденций у Теофраста состоит в том, что он, как и другие перипатетики, просто развил некоторые аспекты аристотелевского учения либо неверно его понял.3
В сравнении с платонизмом Клеарха и (временным или частичным) платонизмом Теофраста,4 Дикеарх, Аристоксен (и Стратон) представляют собой другой вид аристотелизма. В психологии все трое являются материалистами: душа не есть даже энтелехия, но лишь продолжение тела.5 У Стратона натуралистические и материалистические тенденции перипатетиков достигают своего апогея. Один из самых сильных доводов, подтверждавших коренное различие между чувственно воспринимаемым и умопостигаемым как для Платона, так и для Аристотеля, состоял в том, что мышление (умопостижение, интуитивное или дискурсивное) совершенно отлично от чувственного восприятия. Стратон же отрицает существование какого-либо значимого отличия первого от второго: даже мышление связано с телом,6 что, конечно, подразумевает недопущение и какого-либо бессмертия. Относительно космоса
1 Stob. Eel. I 49, 32. Vol. I. S. 367 Wachsmuth.
2 He έντελέχεια, как поправил Ваксмут. Ср. мою статью (Gnomon. 1941. XVI. S. 34, η. 3); FestugiereA. J. La Riv01ation d’Hermes Trisnregiste. Vol. III. P. 188, n. 6; см. выше, c. 88.
3 См., например: MorauxP. Quinta essentia. Col. 1206; 1229 f.
4 To же верно и в отношении Евдема, понимание первой философии которым представляется нам сходным с пониманием Теофраста (Fr. 32; 34 Wehrli; ср.: Merlan Р. From Platonism to Neoplatonism. P. 208 f.). Пожалуй, заслуживает упоминания и то, что Евдем обращался к пифагорейскому учению о вечном возвращении (Fr. 88 Wehrli), которое Плотин принимал по крайней мере в качестве предположения (Enn. V 7 [18] 1, 12; 2, 20).
5 Дикеарх (Fr. 7—12 Wehrli); Аристоксен (Fr. 118—121 Wehrli). О зачатках этой теории у Аристотеля см.: Zeller Е. Die Philosophic der Griechen. Bd. II/2. S. 489, n. 2. О проблеме приложимости к душе как гармонии идеи бессмертия см.: Zeller Е., Mondolfo R. La filosofia dei greci. Vol. 1/2. P. 560—563.
6Fr. 74; 107—131 Wehrli.
ПЕРИПАТЕТИКИ
169
Стратой утверждал, что тот не имеет жизни и что им правят исключительно слепые телесные силы (качества).1
Аристоксен также важен для истории перипатетической школы, именно в том отношении, что он, несмотря на свое противостояние неэмпирической музыкальной теории пифагорейцев, пытался достичь некоторого синтеза перипатетизма и пифагореизма. Он не только утверждал, что этика Платона и этика Аристотеля по своей сути пифагорейские, но и считал пифагорейской ключевую идею своей собственной этической системы1 2 — идею свободы от страстей как высшей цели человека. И конечно, он считал пифагорейцев материалистами, по крайней мере в отношении того, что касается их учения о душе. Если пифагорейцы Платона в лице Симмия и Кебета были обращены Сократом в новую веру в субстанциальную и бессмертную душу, то с пифагорейцами Аристоксена этого не произошло.
Стоит, пожалуй, добавить, что ни Аристоксен, ни Дикеарх, ни Стратон не отрицали существования мантики, но, скорее всего, интерпретировали ее натуралистически.3 Во всяком случае, пифагорейцы Аристоксена приписывали удачу и неудачу демоническому влиянию,4 а Дикеарх считал, что душа причастна чему-то божественному.5 Трудно понять, как это соотносится с учением о том, что душа есть только гармония тела.6 Перед нами странная смесь естественного (натурализма) и сверхъестественного подходов.
Критолай также, по-видимому, относится к числу перипатети- ков-материалистов. Душа и ум, по его мнению, состоят из эфира,7 душу он называет endelecheia.8 В то же время он отождествляет пифагорейство и перипатетическую философию.9 Возможно, «О всей природе» псевдо-Окелла отражает эту тенденцию Критолая,10 однако псевдо-Окелл не только на аристотелевский манер учит, что космос вечен, но и неявно цитирует «О возникновении и унич¬
1 Стратон отвергал учение об эфире (Fr. 84 Wehrli) потому, вероятно, что считал эфир в слишком малой степени телом, тогда как другие отвергали его, должно быть, по прямо противоположной причине (см. выше об Аттике).
2 Fr. 35—41 Wehrli.
3 См. особенно Аристоксена (Fr. 13—16 Wehrli с комментарием).
4 Fr. 41 Wehrli.
5 Fr. 13 Wehrli.
6 См. комментарий Веерли к этому месту.
7 Fr. 17—18 Wehrli.
8 Fr. 15 Wehrli.
9 Ibid.
10 Как и Овидий (Metham. 15).
170
ГРЕЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ ОТ ПЛАТОНА ДО ПЛОТИНА
тожении». Кроме того, он верит в переселение душ и потому проповедует вегетарианство. В этом синтезе (или, лучше, пожалуй, сказать, соприкосновении) пифагореизма и аристотелизма про- пифагорейские тенденции Аристоксена достигают кульминации.1
Ученик Критолая Диодор Тирский, хотя, по-видимому, унаследовал материализм1 2 учителя, выделял разумную и неразумную части души,3 а также наряду с Теофрастом проводил различие между pathe в истинном смысле слова (предполагающим изменение) и pathe разумной части души, к которой этот термин применим лишь по аналогии. Таким образом, Диодор в полной мере осознавал, насколько затруднительно совместить нахождение души (или ее части) за пределами сферы изменчивого и ее причастность действиям, вызывающим изменения.
Если автором «Magicus» псевдо-Аристотеля4 был в действительности Антисфен Родосский, то его можно считать выразителем жизнеспособности ориентализирующих тенденций (Восток как источник, предшественник или просто рядоположное греческой философии явление) в перипатетической школе.5
Заслуживает упоминания и Ксенарх, отвергший учение об эфире.6
1 О Критолае и псевдо-Окелле см. издание «О природе» Р. Хардера (Berlin, 1926) и рецензию Тайлера на него (Gnomon. 1926. II. S. 595—597, особенно S. 595 f.); Beutler R. Ocellus // RE. 1937. XVII/2; Zeller E. Die Philosophic der Griechen. Bd. III/2. S. 147 f., 149—151. Относительно учения о том, что вечность космоса означает вечность живых существ (species), см.: Enn. II 1 [40] 1 с замечанием Брейе.
2 Stob. Eel. I 1. Vol. I. S. 35, 5 Wachsmuth; Tertullian. De an. 5.
3 Ps.-Plut. De lib. et aegr. 6, S. 44, 12 Pohlenz—Ziegler, если вместе с Целлером мы станем читать «Диодор» вместо «Диодот» или предположим, что Диодот есть просто еще одна форма для имени Диодор.
4 Fr. 32—36 Rose.
5 Ср.: Spoerri W. Spathellenistische Berichte liber Welt, Kultur und Gotten Basel, 1959. S. 64—69. О Диодоре Тирском и Антисфене Родосском см.: Zeller Е. Die Philosophic der Griechen. Bd. II/2. S. 933, 84, η. 1; кроме того, FGrH 508. Тем не менее об аристотелевском Fr. 34 Rose см.: Jaeger W. Aristoteles. S. 136, η. 1. Стоит упомянуть, что Диодор отчасти сочувствовал эпикурейству, так же как Антиох, Сенека и Порфирий. Очевидно его стремление к эклектизму. В частности, Диодор поддерживал учение о vacuitas doloris (свободе от страданий) как проявлении высшего блага.
6 О нем см.: Duhem Р. Le Systeme du monde. Vol. II. Paris, 1914. P. 61—66; Vol. IV. Paris, 1916. P. 134; Merlan P. Plotinus Enn. 2. 2 // Transactions of the American Philological Association. 193. LXXIV. P. 179—191; Sambursky S. The Physical World of Late Antiquity. London, 1962. P. 122—132; MorauxP. Xenarchos 5 // RE. 1967. IXA.
ПЕРИПАТЕТИКИ
171
Из числа перипатетиков более позднего времени следует вспомнить Кратиппа. Он объяснял (естественное) прорицательство (то есть прорицания во сне и состоянии экстаза), основываясь на допущении, что душа человека состоит из двух частей, одна из которых соответствует аристотелевской энтелехии, а другая аристотелевскому thyrathen nous. Последняя во сне и состоянии экстаза практически отделяется от тела и потому способна прорицать. Здесь мы имеем зачаток большинства средневековых теорий, объясняющих пророчества активным (деятельным) умом, а в ответе за это, стоит отметить, — перипатетик, сохранивший верность Аристотелю semi-platonizans.* Неудивительно слышать, что к перипатетикам он перешел из Академии.1
Андроник,1 2 как известно, придал новое направление развитию перипатетической школы. Своим изданием аристотелевских esoterica он положил начало процессу, приведшему к исчезновению exoterica (так что логично предположить, что его издание сочинений Аристотеля экзотерических сочинений не включало). В самом деле, Плотин, похоже, совершенно с ними незнаком.3 Кроме того, Андроник был первым из перипатетиков, кто написал комментарий к аристотелевским «Категориям» (не к так называемым «Post-praedicamenta», которые он считал подложными) и расположил сочинения Аристотеля в порядке логика—этика— физика и метафизика,4 словно намекая, что изучение Аристотеля следует начинать с его логических сочинений, а именно с изучения «Категорий», которые и поместил первыми в числе логических трактатов. Это повлекло за собой полемику со стоическим категориальным учением. Плотин посвятил учению о категориях двенадцать процентов своих сочинений, вероятно, усматривая в нем исключительно важное значение для своей системы, вопреки негласным допущениям большинства современных интерпретаций. И в самом деле, он является одним из наиболее важных источников наших познаний, касающихся стоического учения
1 Index acad. Here. S. 111 f. Mekler.
2 О нем см. работу Plezia М. De Andronici Rhodii studiis aristotelicis (Krakow, 1946), интересную также в отношении Никострата, Альбина и других. О почтительном отношении к Андронику Плотина см.: Boet. Liber de divisione // PL 64. 875.
3 См. выше, c. 154.
4 To есть фактически восстановил трехчастное деление, восходящее к Аристотелю и Ксенократу; см. выше, с. 116.
* Полуплатонику {лат.) — Примем, перев.
172
ГРЕЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ ОТ ПЛАТОНА ДО ПЛОТИНА
о категориях.1 Некоторые из возражений Плотина совпадают с возражениями Никострата.1 2
Интерпретируя аристотелевские категории, Андроник без смущения критикует и исправляет их, так же поступает и Плотин,3 и только Порфирий сосредоточится на защите их от любого рода критики. В действительности Андронику удается совместить аристотелевские категории с академической версией этого учения, то есть с делением сущего на безотносительное и относительное.4 Однако в области психологии он присоединяется к материалистам среди перипатетиков, объявляя душу (возможно, только неразумную ее часть) произведением тела.5 Определение, данное душе Ксенократом, он истолковал таким образом, что душа задает соотношения, в которых смешиваются элементы телесного,6 хотя и остается непроясненным, согласен ли он с Ксенократом в этом вопросе. Как бы то ни было, Андроник является представителем смешения академического и перипатетического учений.7
Боэт продолжает работу Андроника по написанию комментариев к Аристотелевым esoterica. Мы также обязаны ему фрагментами Спевсиппа о категориях (по-видимому, и для него Древняя Академия имела немаловажное значение). Бессмертие души он отвергал;8 согласно же Сириану,9 отождествлял идеи Платона и genika Аристотеля. Рассуждая о времени, он спрашивал, существовало бы оно, не будь души с ее способностью исчислять.10 Тем самым он напоминает нам о двух сложившихся подходах ко времени: согласно первому, время по своей сути есть продукт души, согласно второму, оно субстанциально. В соответствии с первым подходом, который разделял Плотин, душа не способна схватить содержание ума единым неделимым актом, но вынуждена рассматривать его аспекты один за другим. Поступая так, она порождает время и, как следствие, дает начало чувственно воспринимаемому
1 Enn. VI 1 [42] 25—30.
2 См. выше, с. 132—133; Pohlenz М. Die Stoa. Bd. II. S. 124 f.; 64; 875 f.; 143 (об Афинодоре и Корнуте в качестве критиков аристотелевских категорий).
3 Enn. VI 1 [42] 2—24.
4 Simpl. In Cat. 63, 22 Kalbfleisch; cp.: Zeller E. Die Philosophic der Griechen. Bd. III/1. S. 645, η. 1; выше, c. 85—86.
5 Galen. Quod animi mor. 4. Vol. IV. S. 782 Klihn.
6 Themist. De an. 32, 22 Heinze.
7 Об источнике Plut. De virtute morali см. выше, c. Ill, прим. 2.
8 За что его осуждал Порфирий: Eus. РЕ XI 28, 1; XIV 10, 3.
9 In Met. 106, 5 Kroll.
10 Themist. Phys. 160,26; 163,6 Schenkl; Simpl. In Phys. 159,18; 766,18 Diels; cp.: Arist. Phys. IV 14,223al6 и Zeller E. Die Philosophic der Griechen. Bd. II/2. S. 402 f.
ПЕРИПАТЕТИКИ
173
как временному.1 Вторую точку зрения в неоплатонизме представляет Ямвлих,1 2 хотя и одна и другая, конечно, неоплатонизму предшествуют.3
Б. Аристокл и Александр Афродисийский
Первым из последователей Аристотеля, сочинения которого позволяют нам со всей уверенностью определить отношение перипатетиков к Платону в постхристианскую эпоху, является Аристокл (вторая половина II века).4 Довольно неожиданно он, с одной стороны, говорит с большим почтением о Платоне,5 с другой — называет свою школу перипатетической,6 отрицая тем самым, как нам кажется, какое-либо существенное различие между нею и Академией. Возможно, он даже написал комментарий к «Тимею» Платона,7 при этом нам не известно, действительно ли он сделал это под влиянием Антиоха8 или нет. В любом случае, мы видим, что синтез платонизма и аристотелизма свойствен не одним только платоникам и неоплатоникам.
Аристокл симпатизирует не только Платону, но и Сократу,9 причем, что поразительно, видит в нем первого сторонника учения об идеях. Должно быть, он каким-то образом убедил себя, что даже в отношении учения об идеях между Платоном и Аристотелем нет существенного различия. Кроме того, он, по-видимому, сочувствовал воззрению, согласно которому, чтобы познать человека, нужно прежде познать бога и которое он приписывал Платону.10 Со всей очевидностью, оно относится к «Алкивиаду I» (133с). И поскольку
1 Enn. III 7 [45].
2 Ср.: Levi А. И concetto del tempo nella filosofia delFeta romana 11 Rivista Cri- tica di Storia della Filosofia. 1952. VII. R 173—200. Один из наиболее ярких образов выражения субъективности времени принадлежит Александру Афродисийскому, согласно которому человек есть ποιητής времени (Themist. De an. 120, 17 Heinze).
3 О полемике Боэта с интеллектуализмом стоиков см.: Pohlenz М. Die Stoa. Bd. II. S. 174 f.
4 О нем см.: HeilandH. Aristoclis Messenii reliquiae. Giessen, 1925; Moraux P. Alexandre d’Aphrodise. Liege, 1942. R 143—149; Trabucco F. II problema del ,,de philosophia“ di Aristocle di Messene e la sua dottrina //Acme. 1958. XI. R 97—150.
5 Fr. 1 Heiland.
6 Fr. 2 Heiland.
7 Vestigium V Heiland.
8 Как утверждает Хайланд (Op. cit. S. 35).
9 Fr. 1 Heiland.
10 Ibid.
174
ГРЕЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ ОТ ПЛАТОНА ДО ПЛОТИНА
ряд ученых считает высокую оценку этого диалога одной из отличительных черт неоплатонизма, Аристокла следовало бы причислить к его предтечам. Однако нам не следует забывать о том, что немало платоников до Плотина начинали обучение философии Платона с чтения «Алкивиада».1
Аристокл критикует скептиков, релятивистов и сенсуалистов, черпая в философии Платона как способ изложения этих учений, так и свою аргументацию. Однако, хотя он и утверждает, что именно logos есть божественное в нас, он тем не менее подчеркивает, что logos нуждается в чувственном восприятии, которое и само есть род познания. Подобное примирение logos и sensus однажды уже предпринял Спевсипп, введя понятие epistemonike aisthesis.1 2 * В век Аристокла оно, по-видимому, легло в основание утверждения Нумения3 о том, что высшие умственные способности некоторым образом используют низшие. И здесь, безусловно, путь Аристокла и Нумения и путь Плотина расходятся.
Вероятно, Аристоклу в какой-то мере также удалось примирить аристотелизм со стоицизмом. Интерпретируя учение Аристотеля о действующем (активном) уме, он полагал, что этот деятельный ум вездесущ, но проявляет себя различными способами secundum modum recipientis.** Человек так устроен, что деятельный ум в нем реализует себя в качестве способности умопостижения. Такое устроение есть просто особая телесная «смесь», и, согласно Аристоклу, именно эту смесь Аристотель называет воспринимающим (пассивным) умом. Излагая это воззрение, ученик Аристокла Александр Афродисийский характеризует его как стоическое, поскольку оно подразумевает присутствие божественного во всем, включая и отвратительное.4
Похоже, что на фоне Аристокловой интерпретации ноэтики Аристотеля Александр5 предпринял свою собственную. Как известно, он без колебаний отождествил ум из «Метафизики» (А)
1 Albinus. Isag. 5; источник представлений аль-Фараби о Платоне. Ср.: Alfa- rabius De Platonis philosophia / ed. F Rosental, R. Walzer. London, 1943; Al-Farabi. Philosophy of Plato and Aristotle / ed. M. Mahdi. New York, 1962. P. 54.
2 Fr. 29 Lang. Это схоже с позицией Стратона (Fr. 112 Wehrli).
3 См. выше, с. 157.
4 Vestigium IV Heiland.
5 Он заслуживает, но до сих пор не получил отдельного монографического рассмотрения.
* Чувственное восприятие (др.-греч.) — Примеч. перев.
** В каждом в соответствии с его сущностью (лат.). —Примеч. перев.
ПЕРИПАТЕТИКИ
175
с умом из «О душе» (III), что вслед за ним также проделал Плотин. В своем толковании деятельности ума он строил аргументацию на коренном различии двух видов умопостигаемого1 — имманентного и трансцендентного.1 2 Правда, он настаивал на том, что только единичное существует в собственном смысле слова, и потому считал трансцендентные умопостигаемые сущности единичностями, подобно Аристотелю, отвергая идеи на том самом основании, что считал их всеобщими. Однако, допустив существование двух видов реальности, чувственной и умопостигаемой, он вернулся к тому виду аристотелизма, который отверг Стратон.
Двум видам умопостигаемого соответствуют два вида познания. Умопостигаемые сущности, заключенные в материю (то есть аристотелевские формы), как таковые существуют только в акте ума, который и высвобождает их из их «матрицы».3 Иными словами, в качестве умопостигаемых сущностей они существуют исключительно в акте их умопостижения и благодаря ему.4 Иначе обстоит дело с трансцендентным умопостигаемым. В этом случае имеет место нечто вроде прямой интуиции, но интуиции особого рода: вне нее умопостигаемые сущности лишены всякого существования.5 Если в случае с воплощенными умопостигаемыми сущностями тождество акта и объекта имеет место только в момент самого акта умопостижения, то для трансцендентного умопостигаемого подобное тождество является постоянным условием. Оно «познается» постоянно, и, конечно, познающий его ум не является человеческим, если под «человеческим» мы понимаем нечто, принадлежащее человеку, но, скорее, есть нечто, что входит в человека или его душу извне. Деятельность этого «божественного» ума непрерывна и вечна a parte ante* и a parte post.6 **
Что касается познания имманентного умопостигаемого, то первым шагом к нему является чувственное восприятие. Следующий шаг, предваряемый «воображением» объекта,7 состоит в отделении (или абстрагировании) умопостигаемого от его матрицы. Далее, что касается познания трансцендентных умопостигаемых сущ¬
1 См. выше, с. 117.
2 См., например: De ап. 87, 5—32 Bruns.
3 De an. 87, 24—88, 3.
4 Ibid. 90, 2—9; 84, 19—21.
5 Ibid. 90, 11—13.
6 Ibid. 90, 11—14; 19—20.
7 Ibid. 83, 2—3.
* Бесконечно до {лат.). — Примем, перев.
** Бесконечно после {лат.). — Примем, перев.
176
ГРЕЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ ОТ ПЛАТОНА ДО ПЛОТИНА
ностей сверхчеловеческим (божественным, потусторонним) умом, нетрудно предположить, что потусторонний ум обладает особым познанием, каким-то «касанием». Но как возможно, что человек (его душа или ум) постигает трансцендентное умопостигаемое после того, как этот потусторонний ум каким-то образом оказывается соединенным с остальной частью человеческой души? Ответ Александра не вполне ясен. Похоже, что человеческий ум как-то способен растворяться в божественном уме или отождествляться с ним и в этом состоянии постигать то, что божественный ум постигал всегда. Как происходит такое растворение или превращение, остается у Александра непроясненным. И все же он очень близок к утверждению, что в момент подобного растворения человеческий ум «делается божественным».1
Очевидно, что в отношении строгого различения двух видов умопостигаемого, отождествления внешнего (потустороннего) ума с богом (божественным), а также учения, согласно которому в момент растворения в божественном человеческий ум и сам становится божественным, Александр очень близок Аристотелю platonizans и semi-platonizans. У Александра нет и намека на то, что он отрицал аристотелевскую астральную теологию; не находим мы доказательств и тому, что он считал теологию согласованной либо подчиненной другой ветви теоретической философии, предмет которой, так называемый on hei on,* не есть божественное. Что же до теологии и ноэтики, то в сравнении со Стратоном Александр ни натуралист, ни материалист. И тогда как ряд перипатетиков привлекала идея тождества души (или даже ума) с эфиром, Александру удалось совместить все три аспекта аристотелевской кинетики, постулировав, что и эфир, и небесные души ответственны за движение небесных тел и что душа одной с ними природы.1 2
1 De ап. 59, 21—22; 91, 5—6. Мы не можем рассмотреть здесь теорию, согласно которой раздел Александровой «О душе» под названием «Ум» (Περί νοΰ) не принадлежит Александру (см.: Moraux Р. Alexandre d’Aphrodise). Поскольку даже Моро признает, что между этим разделом и остальным текстом «О душе» существует ряд сходств, мы ограничимся моментами, общими для первого и второго (единство и трансцендентность активного ума, его равенство божественному, бессмертие человека, состоящее в бессмертии активного ума, с которым человеческий ум может иногда отождествляться). Во всяком случае, в этом разделе ничто не указывает на его постплотиновское происхождение.
2 См.: Merlan Р. Ein Simplikios-Zitat bei Pseudo-Alexandros und ein Plotinos- Zaitat bei Simplikios. S. 154—160; Plotinus Enn. 2. 2. P. 179—191.
* Сущее как сущее (др.-греч.). — Примеч. перев.
ПЕРИПАТЕТИКИ
177
Гораздо отчетливее Аристотеля Александр различал пассивный и активный умы, называя первый вещественным и несомненно считая его частью человеческой души, из чего следовало, что его деятельность связана с телом и потому он смертен. Таким образом, учение о воплощенных формах и вещественном уме составляет натурализм (или материализм) Александра, тогда как учение о внешнем уме и бестелесных умопостигаемых сущностях являет собой его метафизику.
На свой лад Александр также утверждал отсутствующий характер божественного (или высшего божества). Признавая существование провидения, он в то же время настаивал, что оно осуществляется не modo directo,* как если бы бог лично принимал участие во вселенной, но modo obliquo:** будучи полностью обращенным на себя, бог «управляет» вселенной самим своим существованием.1 Во многих отношениях это напоминает нам рассуждение в «Эннеадах» (III 2 и III З).1 2
Все указанные воззрения наверняка имели очень важное значение для Плотина. В самом деле, настаивая на одушевленности небесных тел, он полагал, что должен опровергнуть аристотелевское утверждение, согласно которому, если бы душа приводило тело в движение, она была бы отягощена этой задачей и потому не могла бы считаться живущей благодатной жизнью. Его возражение, в сущности, сводилось к тому, что небесные тела не оказывают душе сопротивления, поскольку их природа возвышенна.3 Это не более, чем адаптация учения Александра о взаимодействии эфирного тела и души, приводящем в движение небесные тела. Плотин отвергал понятие эфира, однако позаимствовал связанные с ним взгляды Александра.4
Однако из всех аспектов ноэтики Александра в наибольшей степени Плотину пришлось по вкусу предпринятое им радикальное переосмысление аристотелевского учения о бестелесных
1 Qu. nat. II 21, р. 66, 17; 70, 24 Bruns.
2 Ср.: Thillet Р. Un traite inconnu d’Alexandre d’Aphrodise sur la Providence dans une version arabe indite I I Actes du Premier Congres International de Philosophie Medi0vale: L’Homme st son Destin. Louvain, 1960. P. 313—324.
3 Arist. De an. I 3, 407Ы—12; De caelo II 1, 284al3—284b6; Enn. IV 8 [6] 2.
4 О связи этого учения с учениями Ксенарха (который отрицал существование эфира) и Термина (который приписывал небесное движение душе, а не неподвижному двигателю), с одной стороны, и Плотина (Enn. II 2 [14]), с другой, см.: Merlan Р. Plotinus Enn. 2. 2. Р. 179—191.
* Прямо {лат.). — Примеч. перев.
** Косвенно {лат.). — Примеч. перев.
178
ГРЕЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ ОТ ПЛАТОНА ДО ПЛОТИНА
(трансцендентных, умопостигаемых) сущностях, согласно которому нет различия между этими сущностями и актом их умопостижения. Плотин воспроизвел это учение целиком, резюмировав его таким образом: умопостигаемые сущности (идеи) не существуют вне ума.1
Александр перенял номиналистические тенденции Аристотеля и потому, как мы уже говорили, отверг идеи, полагая их всеобщими сущностями (универсалиями). Нам представляется, что Плотин никогда не мыслил идеи таким образом, и если вспомнить его утверждение о том, что вторая ипостась (сфера ума) помимо идей содержит индивидуальные души1 2 и единичные сущности,3 то трудно не прийти к заключению, что он понимал под идеями единичности. И чем еще могли быть эти идеи, как не единичностями как таковыми?
Конечно, некоторые аспекты номинализма Аристотеля и Александра в других отношениях были для Плотина неприемлемыми. Он перестраивает основания того, что мы, пользуясь современным языком, называем концептуальным реализмом, при рассмотрении вопроса о том, обладают ли числа субстанциальным бытием.4 Плотин не только дает положительный ответ, но и утверждает то же о «Едином» и «бытии» — понятиях, которым Аристотель напрочь отказывал в субстанциальности.5
1 Ср.: Armstrong А. Н. The Background of the Doctrine «That the Intelligibles are not Outside the Intellect» // Les Sources de Plotin. Entretiens. 1960. V. P. 391—413, особенно p. 405—413; Merlan P. Monopsychism, Mysticism, Metaconsciousness. P. 9. To, что учение о тождестве ума, акта умопостижения и объекта умопостижения представлялось чрезвычайно важным Филону Александрийскому, утверждается также в Wolfson Н. A. Philo. Cambridge, 1948. Vol. I. P. 229 f., 249 f. Попытки приписать его Ксенократу: Witt R. E. Albinus and the History of Middle Platonism. P. 71; Kramer H. J. Der Ursprung der Geistmetaphysik. S. 120—124, — главным образом на основании Fr. 15, 16 Heinze, и его интерпретация, предпринятая Вольфсоном (Wolfson Н. A. Religious Philosophy. Cambridge, 1961. Р. 27—69), не могут быть рассмотрены здесь.
2 Ср.: Armstrong А. Н. The Architecture of the Intelligible Universe in the Philosophy of Plotinus. P. 79 f. Некоторые ученые склонны возводить это воззрение Плотина к стоическому понятию ιδίως ποιον, но нам эта связь представляется сомнительной.
3 См. выше, с. 106.
4 Enn. VI 6 [34] 12—14.
5 Met. I 2, 1053Ь9—1054а 19. Нам не следует забывать, что в «Категориях» (подлинность первой части этого сочинения в античности не оспаривали) допускается полусубстанциальное бытие не-индивидуальностей (вторых сущностей) (ср.: Zeller Е. Die Philosophic der Griechen. Bd. II/2. S. 68), а также что в нескольких местах «Метафизики» Аристотель выступает на стороне учения
ПЕРИПАТЕТИКИ
179
Однозначно неприемлемым для Плотина является и тот аспект психологии Александра, в котором последний работает с душой в терминах энтелехии и, как следствие, отрицает ее бессмертие. Впрочем, мы уже видели, что Александр во многом компенсировал свой крайний имманентизм в области учения о душе (включающей в себя и вещественный ум) трансцендентализмом в трактовке активного ума.
Относительно прочих вопросов, обсуждаемых Плотином и Александром, стоит упомянуть, что Александр защищает существование двух материй, одну в сфере божественного, другую— в сфере чувственного,1 предваряя тем самым учение Плотина,* 1 2 рассмотренное нами выше.3 Он также развивал учение об antakolouthia* добродетелей.4 Меньший интерес для Плотина представляли рассуждения Александра о krasis di’ holou5 ** и теориях зрения.6
В целом мы, пожалуй, не согрешим против истины, если скажем, что, невзирая на свой номинализм, несмотря на то, что он считал необходимым, в противовес Платону, утверждать вечность космоса, вопреки отвержению идей, интерпретации души в качестве энтелехии и через это допущению ее смертности, в ноэтике Александра мы наблюдаем, как платонизм возвращается в стены перипатетической школы. При этом чем более платоническим становится Ликей, тем в большей степени он утрачивает свой raison d’etre.7 Кроме того, наиболее оригинальная черта перипатетики после Стратона была инициирована Андроником, когда он начал
о двух противоположных первоначалах, тем самым допуская субстанциальный характер таких сущностей, как Единое, Неопределенная Двоица и прочее (ср.: Merlan Р. From Platonism to Neoplatonism. P. 183 f.). По поводу противоположной точки зрения, кроме процитированного выше отрывка из Met. I, см.: Met. N, 1087ЬЗЗ—1088аЗ; К 2, ЮбОаЗб—1060b 17; ср.: Zeller Е. Op. cit. Bd. II/2. S. 302. У меня нет возможности обсуждать здесь работу Rutten С. Les Categories du monde sensible dans les Enn0ades de Plotin. Paris, 1961.
1 Qu. nat. I 15, p. 26 f. Bruns.
2 Enn. II 4 [12].
3 См. выше, c. 74.
4 Qu. nat. IV 22, p. 142 f. Bruns; cp.: Enn. I 2 [19] 7.
5 Cm.: De mixt. 216, 14 Bruns (cp.: Enn. II 7 [37] 2).
6 De an. 130 Bruns; Enn. II 8 [57]. Cp.: Schwyzer H.-R. Plotinos. Col. 574; Merlan P Plotinus Enn. 2. 2. P. 179—191. Швицер также приводит: Enn. Ill 1 - Alex. De fato; Enn. II 7 ~ Qu. nat. II 12.
7 Такова, по сути дела, точка зрения, изложенная в работе Hamelin О. La Theorie de Г intellect d’apres Aristote et ses commentateurs. Paris, 1953.
* Соотношении (др.-греч.). — Примеч. перев.
** Всеобщем слиянии {др.-греч.).— Примеч. перев.
180
ГРЕЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ ОТ ПЛАТОНА ДО ПЛОТИНА
писать формальные комментарии к esoterica Аристотеля, а, начиная с Порфирия, изучение Аристотеля и написание комментариев к его esoterica стало неотъемлемой частью платонизма. Таким образом, перипатетики остались почти без дела. История перипатетической школы выглядит как рассказ о колебаниях между материализмом (гораздо лучше представленном эпикурейством и стоицизмом) и платонизмом (или, во всяком случае, полупла- тонизмом). Поэтому в конечном счете платонизм оказался единственной школой, по сути непроницаемой ни для натурализма, ни для материализма и сумевшей вместить большую часть философии Аристотеля.1 Этому способствовало то обстоятельство, что большинство аристотелевских esoterica были метафизически нейтральными,1 2 а его философия в значительной степени сохранила оттенок платонизма.3
1 Если не считать предположений о том, что душа растягивается, а ее астральное тело возвращает себе сферическую форму (ср. cente sperule у Данте, Paradiso XXII 23), уступкой материализму (Επη. Ill 6 [17] 5; IV 3 [27] 15, 17; IV 4 [28] 5). Ср. выше, с. 145, прим. 3; Ueberweg F, Praechter К. Grundriss. S. 629 (со ссылкой на «Законы» X 899а Платона); Dodds Е. R. Proclus. The Elements of Theology. Oxford, 1963. App. II.
2 Согласно Порфирию, сочинения Плотина косвенно содержат перипатетические доктрины и полны «Метафизики» Аристотеля (Vita Plotini 14).
3 Моя интерпретация Александра Афродисийского отличается как от принятой Целлером, так и от интерпретации Ибервега—Прехтера. Следует пояснить. Целлер отказывает Аристотелю в учении о мистическом единстве человеческого и божественного ума, то есть он полагает, что под умом в «О душе» Аристотель понимает не что иное, как действующую часть человеческой души (или человека), которая, безусловно, не может быть тождественной богу или божественному уму, и приписывает Александру отделение одного от другого (и тем самым устранение «мистицизма» Аристотеля — возможно, Целлер хочет сказать «неясности выражения»). Божественный ум (бог) лишь воздействует на человеческий интеллект (взятый во всех аспектах, то есть и как νους δυνάμει, и как νους έπίκτητος, и как νους καθ’ έξιν, связанный с телом), а обитает в сердце. В то же время Целлер полагает, что результат воздействия божественного ума двояк: во-первых, развитие νους δυνάμει в νους έπίκτητος (καθ’ έξιν) и, во-вторых, умопостижение божественного ума. И если Аристотель утверждает смертность только одной части человеческой души (Целлер опять-таки полагает, что в «О душе» под умом подразумевается в действительности только часть души), то Александр настаивает на смертности души в целом, включая и νους δυνάμει, и νους έπίκτητος, и καθ’ έξιν. Из сказанного Целлер делает вывод, что Александр был гораздо большим натуралистом, чем Аристотель, и что в отношении ноэти- ческого, как и в других отношениях, он близок к Стратону.
И все же можно ли считать натуралистом философа, который утверждает, что человеческий (пассивный, хилический) ум не может выполнять своей функции без воздействия на него или на его объекты божественного (активного) ума? Можно ли считать натуралистом философа, заявляющего, что существуют
Глава 7
СТОЯ
А. Общие замечания
Ранее уже упоминалось о том, что некоторые воззрения Посидония и Сенеки оказали влияние на развитие неоплатонизма. Между тем они затронули лишь отдельные черты этого учения, и до сих пор остается непроясненным, какой вклад в неоплатонизм внес сам стоицизм.
Стоическое учение можно интерпретировать двояко, усматривая в нем «обмирщение» и материализацию божественного либо, напротив, обожествление и одухотворение материи. Лучшей иллюстрацией этой двойственности в стоицизме является взаимосвязь между причинностью (heimarmene) и провидением (pronoia). Кажется, в условиях строгого детерминизма провидению в исходном смысле этого слова не остается места, и тем не менее стоики попытались их отождествить.* 1 Та же двойственность проявляется
бестелесные умопостигаемые сущности, доступные познанию в ходе непосредственного умопостижения, а не путем абстрагирования их из чувственно воспринимаемого, в котором они воплощены?
Когда Целлер задался вопросом относительно объектов недискурсивного (непосредственного) умопостижения, он сказал, что было бы правомерным сделать вывод из философии Аристотеля о том, что божественность — один из них, что, как пояснил Целлер, должно несомненно привести нас обратно к идеям Платона (хотя они были бы известны нам не в потусторонней, а в здешней жизни). А это, в свою очередь, было бы результатом того, что Аристотель не вполне преодолел платоновское гипостазирование понятий. И если согласиться с Целлером, разве не станет очевидным, что Александр на самом деле возродил то, что сам Целлер считал остаточным платонизмом у Аристотеля? Это можно увидеть и у самого Целлера, если сравнить Bd. Ш/1. S. 824—827 и Bd. II/2. S. 572—575 и S. 196.
1 Несколько острых моментов предплотиновской дискуссии по поводу отношения между πρόνοια и ειμαρμένη таковы: автор-платоник (Нумений), который является общепризнанным источником «О судьбе» псевдо-Плутарха, перевод «Тимея» Халкидия (142—190 = 203—232); ср. список источников в Timaeus: a Calcidio translatus / ed. J. H.Waszink; «О природе человека» Немезия
182
ГРЕЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ ОТ ПЛАТОНА ДО ПЛОТИНА
в понятии «семенного логоса» (образца), одном из ключевых понятий стоицизма, прилагательное в котором имеет материалистические коннотации, а существительное — спиритуалистические.1 Строгий имманентизм стоиков может, таким образом, служить подтверждением как божественности космоса, так и, обратно, сугубо мирского характера божественного.
Подобно любой другой системе монизма и детерминизма, этическое учение которой носит к тому же прескриптивный характер, стоицизм оказывается перед необходимостью найти место для свободы воли (главным образом будет приниматься формула, согласно которой мы свободны, потому что можем делать, что хотим, но ограничены (детерминированы), поскольку должны хотеть того, что хотим* 1 2), провести сколько-нибудь содержательное различие между добром и злом и определить критерии отличия «есть» от «должно». Осуществима ли какая-либо из перечисленных задач — сомнительно. В целом любой вид монизма по необходимости получает завершение в утверждении того, что этот мир — либо наилучший из возможных, либо наихудший. Иными словами, объяснить существование добра или зла он не в состоянии. Стоицизм — оптимистический монизм и действительно считает своим предназначением отрицание зла в подлинном смысле этого слова.
Наконец, стоицизм говорит на языке материалистического монизма, и, хотя неясно, вправе ли мы, несмотря на Лаэрция (VII 135), у которого soma (тело) определяется как trichei diastaton,* без
(34—44) и «О судьбе» Александра Афродисийского. Чаще всего сталкиваются позиции, которые либо отождествляют причинность и провидение, либо подчиняют второе первой. Первую позицию занимают стоики, вторую — Плотин (Enn. Ill 1—3), который, как и Александр Афродисийский, находит первую слишком детерминистской (Enn. Ill 1 [3] 4, 7—8). Различение причинности и провидения позволяет сохранить принцип έφ’ ήμΐν. Ср.: Pohlenz М Die Stoa. Bd. I. S. 356 f. Клеанф ставил провидение в зависимость от ειμαρμένη. Ср.: Gercke А. Eine platonische Quelle des Neuplatonismus 11 Rheinische Museum. 1886. XII. S. 266—291; Arnim H. Kleanthes // RE. 1921. XI/1. Col. 567.
1 Неудивительно, что и нематериалисты среди философов также использовали это понятие; ср.: Becker О. Plotin und das Problem der geistigen Aneignung. Berlin, 1940. S. 93; дискуссия в «Les Sources de Plotin» (Entretiens. 1960. V. P. 97— 100 — с участием Пюэша, Доддса, Анри, Швицера, Тайлера); Armstrong А. Я. The Architecture of the Intelligible Universe in the Philosophy of Plotinus. P. 105. Когда этот термин использует Плотин, он не имеет в виду, подобно стоикам, что материи присущи зародышевые силы, но что «образцы» накладываются на нее извне (Pohlenz М. Die Stoa. Bd. I. S. 392). Нередко Плотин использует этот термин для обозначения идей, присутствующих в душе.
2 Enn. Ill 2 [47] 10.
* Трояко протяженное (др.-греч.). —Примеч. перев.
стоя
183
колебаний отнести наше понимание материи (нечто осязаемое, наполняющее пространство и непроницаемое) к стоическому понятию hyle (поразительно, что если приложить к нему наше понятие поля, то незамедлительно приобретает смысл в высшей степени парадоксальное учение о krasis di’ holou, так что, по-видимому, такой шаг правомерен),1 античность видит в стоицизме явный пример материализма, не оставляющего места для каких бы то ни было духовных первоначал. За материализм в вопросах о душе1 2 и боге3 стоиков также критикует Плотин.
Еще одно противоречие, присущее учению стоиков, дает о себе знать в их отношении к искусству прорицания (мантике). Стоицизм настаивает на его достоверности и в то же время пытается объяснить его «естественным» путем.
Подобно эпикурейцам, стоики подчиняют теоретическую философию этике, которая достигает кульминации в требовании стать самодостаточным, то есть освободиться от всего внешнего. Самодостаточность гарантирует счастье. И если ставить его в зависимость от обстоятельств, над которыми у нас нет власти, есть признак глупца, то мудреца отличает знание того, что счастье зависит только от него самого.
Стоики создали собственное учение о категориях, однако, ввиду его монистического характера (on или ti в качестве высшей категории), оно было столь же мало приемлемо для Плотина, как и учение Аристотеля.4
Б. Посидоний
Начиная с Посидония5 (отчасти даже с Панетия), Стоя открывает себя влиянию платонизма. Посидоний (как и Панетий) не
1 Sambursky S. Physics of the Stoics. London, 1959. P. 7. Плотин поддерживает это учение (Enn. II 7 [37] 2), тогда как Александр Афродисийский (De mixt. 216, 14 Bruns) отвергает его.
2 Enn. IV 7 [2] 4.
3 Enn. II 4 [12] 1.
4 Enn. VI 1 [42] 25—30.
5 О нем в целом см.: Pohlenz М. Die Stoa. Bd. I. S. 224—230; Reinhardt K. Poseidonios // RE. 1953. XXII/1. В статьях Райнхардта (Col. 799, 801) и Швицера (Plotinos // RE. 1951. XXII/1. Col. 578 f.) приводится ряд отрывков из сочинений Плотина, в которых можно, пожалуй, усмотреть влияние Посидония. Целый ряд философских фрагментов Посидония можно найти в работе: Vogel С. J. Greek Philosophy. Vol. III. Nos. 1176—1196; в немецком переводе — в книге: Pohlenz М. Die Stoa und Stoiker. Zurich; Stuttgart, 1950.
184
ГРЕЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ ОТ ПЛАТОНА ДО ПЛОТИНА
только восторгался Платоном,1 но и оставил комментарии, хотя и не в привычной форме, к некоторым из его диалогов, в частности к «Тимею»,1 2 а возможно, и к «Федру». Кроме того, он подчеркивал свое согласие с Пифагором.3 Отклонение Посидония от стоической психологии состояло в том, что он фактически отрицал единство души и полагал, в духе платоников, что она содержит разумную и неразумную способности,4 так что эмоции (pathe) оказывались не просто результатом ошибочных мнений относительно добра и зла.5 Таким образом, стоический монизм в некоторых отношениях был на грани превращения в дуализм.6
В то же время Посидоний, вероятно, различал два вида pathe, один из которых ведет начало от телесных свойств, а другой — от воззрений, и Плотин также делал это различие.7
По этой и ряду других причин Йегер считает Посидония первым неоплатоником.8 Он утверждает, что, поместив «Тимея» в сердцевину своей интерпретации Платона, Посидоний полностью и надолго изменил значение платонизма. Кроме того, в своей философии природы он сумел объединить платоновский и аристотелевский подходы, синтез которых является одним из отличительных признаков неоплатонизма.
Построение Йегера, основанное на предположении о том, что Посидоний написал комментарий к «Тимею», было расшатано сомнениями, которым Райнхардт подверг само существование такого комментария. Спорным является также и мнение Йегера о том, что учение о круговом превращении элементов, связующем универсум, действительно принадлежит Посидонию. Таким образом, в настоящее время невозможно адекватно оценить его влияние на платонизм в целом.
О мере влияния Посидония на Плотина также судить трудно, поскольку воссоздание многих аспектов системы Посидония все
1 Galen. Hipp. et Plato IV 7; Vol. 5. S. 421 Kuhn.
2 Sext. Emp. Adv. math. VII 93; Plut. De an. pr. 22, 1023b; Theo Sm. Expos. S. 103, 18 Hiller.
3 Galen. Hipp. et Plato IV 7; Vol. 5. S. 425 Kuhn; V 6; Vol. 5. S. 478 Kuhn.
4 Последняя подразделялась на θυμός и έπιθυμία, в свою очередь зависимые от качества тела; ср.: Enn. IV 4 [28] 28.
5 Galen. Hipp. et Plato IV 3, 5, 7; V 1, 5, 6 (Vol. 5. S. 377, 397,416,429 f., 464 f., 473 Kuhn).
6 Jaeger W. Nemesios of Emesa. Berlin, 1914. S. 24 f.; Stahl G. Die «Naturales Quaestiones» Senecas // Hermes. 1964. XCII. S. 425—454.
7 Cp.: Theiler W. Die Vorbereitung des Neuplatonismus. S. 86—90. Он цитирует Марка Аврелия (V 26) и Галена (Hipp. et Plato V 2; Vol. 5. S. 442 Kuhn).
8 Cm.: Jaeger W. Nemesios of Emesa.
стоя
185
еще обсуждается (особенно противоречивым является вопрос о том, какого рода бессмертие он допускал).1 Наиболее очевидным примером этого влияния представляется учение о симпатии, которое, по мнению Тайлера, Плотин перенял у Посидония.1 2 Однако, по справедливому замечанию Целлера,3 то содержание, которое вкладывают в это понятие стоики и Посидоний, отличается от того, как его понимает Плотин. В Стое считают, что универсум есть одно согласованное физическое целое;4 для Плотина же учение о симпатии этим не ограничивается, но главным образом означает, что каждая часть универсума непосредственно (благодаря действию на расстоянии) знает, что происходит с другой, и это позволяет объяснить явления, которые мы сейчас назвали бы оккультными. Сколь велико в таком случае сходство между этими двумя понятиями симпатии?
Еще одна сближающая Плотина и Посидония черта состоит в приписываемом последнему5 учении о том, что бестелесные души сообщаются друг с другом без физического посредничества и которое он, по-видимому, использовал для объяснения некоторых аспектов прорицательства. Плотин6 разделяет его, однако не исключено, что он узнал о нем от Плутарха7 либо из его источника, которым мог быть, например, Ксенократ.
Подобный же случай представляет собой проблема целого и обособления от него. Посидоний подчеркивал, что все существует лишь до тех пор, пока не оказывается отделено от пронизанного единой всеобъемлющей жизнью целого, которому принадлежит (он иллюстрирует эту мысль, указывая на минералы, которые имеют способность к регенерации до тех пор, пока остаются связанными с живой, божественной землей, и ветку, которая умирает, отделившись от дерева). Не лишено вероятности, что мысль Посидония легла в основание предполагаемого
1 Ср.: Pohlenz М. Die Stoa. Bd. I. S. 229; Bd. II. S. 141; Vogel C. J. Greek Philosophy. Vol. III. Nos. 959, 1192—1195.
2 Enn. IV 4 [28]; cm.: Theiler W. Die Vorbereitung des Neuplatonismus. S. 72, 112. Впрочем, не следует забывать, что Модерат уже использовал понятие симпатии (см. выше, с. 150).
3 Zeller Е. Die Philosophic der Griechen. Bd. III/l. S. 172, n. 2; Bd. III/2. S. 686.
4 См., например: Cicero. De nat. d. II 19; Sext. Emp. Adv. math. VII 98.
5 В первую очередь в силу предположения, что источником Плутарха (De gen. Socr. 20, 588Ь—589е) является Посидоний; см.: Reinhardt К. Poseidonios. Miinchen, 1921. S. 464.
6 Επη. IV 3 [27] 18.
7 De def. or. 37, 431c.
186
ГРЕЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ ОТ ПЛАТОНА ДО ПЛОТИНА
утверждения Плотина, будто душа растения обитает в земле.1 И все же маловероятно, что Плотин «пересадил» идею Посидония «на новую почву», применив ее к «отпадению» души от сферы умопостигаемого как целого, которому она принадлежит и от которого ей не следовало отступаться.1 2 Сомнительно также и то, что Плотин использовал другие понятия Посидония для выражения органического единства чувственного космоса (единой всепроникающей живой силы) с умопостигаемым.3 С другой стороны, свои уровни единства4 Плотин мог вполне позаимствовать у Посидония.5
Наконец, возможно, что на Плотина в некоторой степени оказало влияние учение Посидония о восприятии, особенно о зрении, в основание которого Посидоний ставил принцип «подобное через подобное»6 и который объединил с учением о воздухе как среде, необходимой для зрения. Плотин7 одобрил принцип, но не принял учения, заменив его теорией действия на расстоянии, возможного благодаря «симпатии» (опять-таки не совсем в том смысле, в каком это понятие используется стоиками). Впрочем, не исключено, что основанием для теории зрения Плотина явилось рассмотрение этого вопроса в трактате «О душе» Александра Афродисийского.8
Таким образом, влияние Посидония на платонизм в целом и Плотина в частности остается почти неуловимым. Наверняка можно утверждать лишь, что своим отождествлением математических сущностей и души он проложил путь к примирению аристотелевского изложения философии Платона, согласно кото¬
1 Хотя, возможно, он позаимствовал эту идею у Антиоха; см. выше, с. 107.
2 Ср.: Theiler W. Die Vorbereitung des Neuplatonismus. S. 94, 114, 117, 123— 125; Enn. IV 4 [28] 27 с комментарием Тайлера и Επη. VI 7 [38] 11. Однако не следует забывать, что Аристотель, похоже, приписывал жизнь даже неорганическому (De caelo II 12, 292а20; De gen. anim. IV 10, 778a2; Meteor. II 2, 355b4—356a33), а также, что Платон (Tim. 30d) описывал универсум как единое живое сущее. Тайлер (Op. cit. S. 91) утверждает, что Плотину «напомнил» об этом платоновском пассаже Посидоний, хотя нелегко понять, почему такое посредничество было необходимо.
3 Особенно в Enn. VI 5 [23] и IV 7 [2] 15.
4 Επη. V 9 [5] 5, 25.
5 См.: Sext. Emp. Adv. math. VII 107.
6 Ibid. VII 93; ср.: Plato. RP VI 508b.
7 Enn. IV 5 [29]; I 6 [1] 9.
8 42—49, 127—147 Bruns. Cp.: Jaeger W. Nemesios of Emesa. S. 27—53; комментарий Тайлера к Enn. IV 5 [29].
стоя
187
рому существуют три сферы реальности: идеи, математическое и чувственно воспринимаемое, и неоплатонической триады ум = идеи, душа, чувственное.1
В. Поздние стоики: стоицизм и Плотин, сочинение «О мире»
Сенека, Эпиктет и Марк Аврелий продолжают платонизацию Стой. Своими рассуждениями они не раз напоминают о «Федоне» Платона, а их соображения, восхваляющие состояние души, освобожденной от телесных оков, имеют почти плотиновское звучание.1 2 Марк Аврелий проводит различие не только между душой и телом, но и между умом и душой.3 Если миф Плутарха4 был вдохновлен Посидонием,5 то, значит, у него уже можно было обнаружить характерную триаду (несомненно, более близкую к Аристотелю, чем к Древней Стое).6 Для Плотина строгое различение между душой и умом имеет, конечно, первостепенное значение, хотя он мог позаимствовать его непосредственно у Аристотеля.
Какие из стоических доктрин должны были показаться Плотину неприемлемыми, очевидно. Его монизм спиритуалисти- чен, и материализм стоиков, особенно в отношении бога, души или эпистемологии (чувственное восприятие как некий отпечаток, typosis), он напрочь отвергал. Более того, несмотря на свой монизм, Плотин признавал существование зла и считал материю его первоначалом.7 По этой причине он не смог безоговорочно принять оптимизма стоиков (и учение о нейтральности материи),
1 Ср. выше, с. 114; Ivdnka Е. von. Die neuplatonische Synthese // Scholastik. 1949. XX—XXIV. S. 30—38; Theiler W. Plotin zwischen Plato und Stoa. S. 65—86 (c последующей дискуссией); Witt R. E. Plotinus und Posidonius // Classical Quarterly. 1930. XXIV. S. 198—207.
2 Sen. Ep. 65, 66; 102, 11 \Epict. Diss. I 9. 10; M. Aur. X 1.
3 III 16; ср. XII 3.
4 De facie 28, 943a—945a (см. выше, с. 112).
5 Cm.: Plut. De facie / tr. H. Chemiss. Cambridge, 1957. P. 18, n. b; 23—26; 147, n. c; 219, n. f; 221, n. b.
6 Cp.: Zeller E. Die Philosophic der Griechen. Bd. III/2. S. 258—261; но cp.: Jaeger W. Nemesios von Emesa. S. 97; Pohlenz M. Die Stoa. Bd. I. S. 230—233 и не вполне согласующийся с ним текст на S. 343.
7 Enn. IV 7 [2]; IV 6 [41]; ср. I 8 [51] 7; IV 3 [27] 9; III 2 [47] 5; II 3 [52] 18; III 3 [48] 7.
188
ГРЕЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ ОТ ПЛАТОНА ДО ПЛОТИНА
хотя перед лицом совершенно пессимистической системы, подобной гностической, он порой звучит так же оптимистично, как любой из стоиков, и в полной мере использует их теодицею.1 Это особенно поражает в одном из его последних сочинений (I 8; хронологически оно пятьдесят первое), когда тень смерти, должно быть, уже стояла над ним.
Что касается этики, то Плотин, по-видимому, симпатизировал стоическому безразличию ко всему внешнему и, в противовес как Академии, так и перипатетической школе, рекомендовал стоическую апатию.1 2 Как мы могли убедиться, он верит в то, что добродетели достаточно, чтобы сделать ее обладателя счастливым. Однако то, что для стоиков представляет собой конечную цель, а именно независимость и внутренняя свобода, для Плотина есть только предварительный шаг к полному слиянию с верховным божеством — будь то в этой жизни в форме мистического экстаза или в будущей, когда душа вернется в свой родной дом.3
Мы уже видели, что Стоя пытается примирить естественную причинность со свободой воли. Однако в целом античность полагала, что стоики являются детерминистами (хотя даже в формулировке, согласно которой сущность свободы состоит в согласии с велением рока, предположение о том, что в нашей власти согласиться или отказать ему, оставляет место свободе, подобно тому, очевидно, как в нашей власти находятся мнения о том, что есть добро, а что зло, — иначе все попытки превратить глупых в мудрецов не имели бы смысла). Плотин, напротив, отстаивает4 свободу воли (так же, как Эпикур; впрочем, он считает эпикурейцев детерминистами и высмеивает их учение о parenklisis,* хотя
1 Επη. II 3 [52] 18, 1—8; III 2 и III 3 [47—48] с вводным замечанием Тайлера и Schmidt С. Plotins Stellung zum Gnostizismus. Leipzig, 1901. S. ΊΑ—81.
2 Enn. I 4 [46] 8. Cp.: Zeller E. Die Philosophic der Griechen. Bd. ΙΙΙ/2. S. 610— 619. Он также согласен со стоиками в отношении допустимости самоубийства (Enn. I 9 [16] с комментарием Р. Хардера; Enn. I 4 [46] 7; II 9 [33] 8) при достаточном основании.
3 Стоическим добродетелям Плотин, пожалуй, даровал бы статус очистительных добродетелей (Enn. I 2 [19] 5), согласно понятию, очевидно восходящему к платоновским «Федону» (68b-—69е) и «Софисту» (230d). И хотя эти добродетели он относит к низшему уровню, он все же защищает их перед гностиками- аномианами (Enn. II 9 [33] 15).
4 Enn. Ill 1 [3] 4. 5. О сходстве ряда его аргументов с аргументами Эномая Гадарского, Бардесана и Оригена Христианина (Eus. РЕ VI 6—7; 10; 11) см. замечание Брейе к Enn. Ill 1 [3].
* Отклонении (атома) \др.-греч.). — Примеч. перев.
стоя
189
и признает при этом, что они пытаются сохранить par’ hemin). Его собственное решение гласит, что свободна та душа, которая действует в согласии с разумом.1
И все же, поскольку стоицизм по сути есть выражение «космической» религиозности, философской религии или религиозной философии, соединяющей в себе фактически все распространенные к тому времени религиозные воззрения, и поскольку путем аллегорически-физических объяснений стоицизму удалось совместить монизм с политеизмом, он был предтечей неоплатонизма, который также хотел быть не только философией, но и религией. Наконец, если пренебречь различием между пантеизмом субстанциальным и пантеизмом динамическим, утверждение, что божественное некоторым образом вездесуще, должно было оказать на Плотина очень сильное впечатление. Ямвлих подытожил сходство между стоицизмом и неоплатонизмом следующими словами: оба учения убеждены в тождестве мировой души с душой в нас.1 2 К этому стоит, правда, добавить, что если стоики понимали отношение между мировой и человеческой душами как отношение целого к части, то учение Плотина гораздо тоньше: все души суть одна.3 Опять-таки и это учение в некоторой степени предвосхитил Марк Аврелий.4 Как стоики, так и Плотин ссылались на исходное тождество мировой (= божественной) и человеческой душ для объяснения того, как возможно познание божественного.5 Так, в некоторых аспектах даже древний стоицизм обнаруживает явное родство с рядом учений Плотина.
В отличие от трудов Посидония, Эпиктета и Марка Аврелия, которые объединяли платонизм и собственный стоицизм, сочинение «О мире»6 представляет собой особое сочетание философии Гераклита со стоическим и перипатетическим философскими учениями — смесь, в которой все же преобладает перипатетический
1 Enn. I 8 [51] 5; III 1 [3] 7, 9 f.; III 2 [47] 10; VI 8 [39] 3, 7. Ср.: Zeller Е. Die Philosophic der Griechen. Bd. III/2. S. 640—642.
2 Stob. Eel. I 37. Vol. I. S. 372 Wachsmuth.
3 Enn. IV 9 [8].
4 XII 30.
5 Sext Emp. Adv. math. VII 93; Enn. Ill 8 [30] 9; VI 3 [44] 4.
6 До Прокла (In Tim. III. S. 272, 21 Diehl) никто не сомневался, что оно было написано Аристотелем. См. об этом: Festugiere A.-J. La Revelation d’Hermes Trismegiste. Vol. II. Paris, 1949. P. 460—518; Strohm H. Studien zur Schrift von der Welt// Museum Helveticum. 1952. IX. S. 137—175 (особо подчеркивающий платоновские элементы); но ср.: Pohlenz М. Die Stoa. Bd. II. S. 244.
190
ГРЕЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ ОТ ПЛАТОНА ДО ПЛОТИНА
взгляд.1 Особо подчеркивается трансцендентность бога1 2 (который тем не менее поддерживает мировую гармонию),3 но делается уступка (в пользу стоиков), что бог, хотя и только в виде силы, присутствует в космосе. Последнее означает, что стоический субстанциальный пантеизм заменяется пантеизмом динамическим: panta theon pleia истинно, когда оно относится к theia dynamis, но ложно в отношении theia ousia.4 Таким образом, стоицизм оказывается словно транспонирован в другую тональность, так что в некоторых отношениях он, как и учение Филона Александрийского, прокладывает путь системе Плотина (особенно в том, что касается трансцендентности бога), хотя нам не следует забывать о том, что Плотин не согласен с утверждением, будто сущность (то есть ум) присутствует во всем только в виде силы.5
Г. Общее заключение
В той мере, в какой мы подходим к философии Плотина с точки зрения ее содержания, а не как к собранию свидетельств личного опыта ее создателя, из вышеизложенного должно быть очевидным, что она глубоко укоренена в греческой философии. Пространство, отведенное в ней различным философским школам, свидетельствует о соответствующей значимости их для Плотина. Впрочем, не стоит недооценивать и то обстоятельство, что наше знание греческой философии, в особенности непосредственно предшествующего Плотину периода, фрагментарно и что, знай мы картину целиком, наше представление, быть может, существенно бы изменилось.
1 Он учит тому, что эфир существует (2, 392а5), предполагает неразрушимость космоса (4, 396а27; 5, 397а14—15; Ь5), строго разделяет подлунную и небесную сферы (6, 397Ь30—33; 400а5—6; 21—35).
2 6, 397Ь24.
3 В этом отношении предшественником был Боэт (Diog. Laert. VII 48).
4 6, 397b 16; то же учение мы находим у псевдо-Оната (Stob. Eel. I 92. Vol. I. S. 48, 5—50, 10 Wachsmuth; cp.: Pohlenz M. Philon von Alexandrien 11 Nachr. d. Ak. d. Wiss. in Gottingen, Phil.-hist. Kl. 1942. S. 485, n. 2).
5 Επη. VI 4 [22] 3; 9.
Раздел II
Г. Чедвик
ФИЛОН И НАЧАЛО ХРИСТИАНСКОЙ МЫСЛИ
СОКРАЩЕНИЯ
Филон
Abr.
— Об Аврааме
Aet.
— О вечности мира
Agr.
— О земледелии
Alex.
— Александр, или О разуме животных
Cher.
— О херувимах
Conf.
— О смешении языков
Congr.
— О соитии для предварительного обучения
Decal.
— О декалоге
Det.
— О том, что худший вооружается на лучшего
Ebr.
— Об опьянении
Flacc.
— Против Флакка
Fuga
— О бегстве и нахождении
Gig.
— О гигантах
Heres
— Кто наследник божественного?
Hyp.
— Апология иудеев
Immut.
— О том, что Бог неизменяем
Jos.
— Об Иосифе
Leg. Alleg.
— Правила аллегории
Leg. ad Gaium
— Посольство к Гаю
Migr.
— О переселении Авраама
Mut.
— О перемене имен
Opif.
— О творении мира
Plant.
— О садоводстве Ноя
Post. C.
— О потомках Каина
Praem.
— О наградах и наказаниях
Prob.
— О том, что всякий добродетельный свободен
Prov.
— О провидении
Qu. Ex.
— Вопросы и ответы на Исход
Qu. Gen.
— Вопросы и ответы на Бытие
Sacr.
— О жертвах Авеля и Каина
Sobr.
— Об отрезвлении Ноя
Som.
— О снах
Spec. Leg.
— О частных законах
Virt.
— О добродетелях
194
СОКРАЩЕНИЯ
V. contempl. — О созерцательной жизни
V. Mos. — Жизнь Моисея
Юстин Мученик
Apol. — Апология
Dial. — Диалог с Трифоном Иудеем
Климент Александрийский
Eel. Proph. — Извлечения из пророков
Paed. — Педагог
Protr. — Протрептик, или Увещание к эллинам
Quis dives — Кто из богатых спасется?
Strom. — Строматы
Ориген
Comm, in Cant. Cantic. — Comm, in Joh. —
Comm, in Matt. —
Comm, in Rom. —
Exh. Mart. —
Horn, in Cant. Cantic. — Horn, in Gen. —
Horn, in Exod. —
Horn, in Ezech. —
Horn, in Jerem. —
Horn, in Lev. —
Horn, in Luc. —
Horn, in Num. —
Hop. in Ps. —
Orat. —
Princ. —
Комментарии на Песнь Песней Комментарии на Евангелие от Иоанна Комментарии на Евангелие от Матфея Комментарии на Послание к Римлянам Увещание к мученичеству Гомилии на Песнь Песней Гомилии на Книгу Бытия Гомилии на Книгу Исхода Гомилии на Книгу Иезекииля Гомилии на Книгу Иеремии Гомилии на Книгу Левит Гомилии на Евангелие от Луки Гомилии на Книгу Чисел Гомилии на Псалмы О молитве О началах
Глава 8 ФИЛОН
У истоков христианской философии стоял не христианин, а иудей — Филон Александрийский, старший современник апостола Павла, родившийся, вероятно, около 25 г. до н. э. и умерший примерно в 50 г. н. э. Непреклонный в отношении тщательного соблюдения закона Моисея как непреложно явленной не только избранному народу, но и новообращенным язычникам (наставлению которых посвящен ряд его сочинений) Божьей воли, он также совершенно эллинизирован и предстает миру в весьма греческом обличьи. Ивритом в совершенстве он не владел, если вообще знал его. Его Библия — греческий перевод Ветхого Завета, в котором надо всем главенствует авторитет Пятикнижия. При этом его убежденность в том, что Септуагинта — боговдохновенный перевод, избавила его как от потребности, так и от обязанности обращаться к исходному тексту.1
Различие между иудаизмом и эллинизмом переросло в жестокий конфликт во времена Макковейского восстания, спасшего Израиль от утраты национальной идентичности. Монотеисты- иудеи ни в коей мере не могли принять синкретизма, отождествлявшего Яхве и Зевса, но и избежать эллинизма, посвятив себя частному богопоклонению в духе национального партикуляризма, они не могли. Недаром иудаизм был миссионерской религией, и древнее пророчество, призвавшее Израиль стать светом в языческой тьме, не допускало изоляционизма, будь он даже возможен. Иудеи были рассеяны по Средиземноморью. Их язык и культура были насквозь пронизаны греческим влиянием, и преуспевающие
1 V. Mos. II 40. В одиннадцати трактатах (Leg. Alleg. I, Cher., Gig., Immut., Agr., Plant., Sobr., Heres, Congr., Som. I, Virt.) цитаты из Библии следуют Aquila, а не LXX; возможно, текст был исправлен иудейской рукой во II или III веке.
196
ФИЛОН И НАЧАЛО ХРИСТИАНСКОЙ МЫСЛИ
родители (подобные родителям Филона) стремились дать своим сыновьям гуманитарное образование под руководством греческих учителей.1 Такое образование поднимало неотвратимые вопросы и открывало новые горизонты. Монотеист-иудей мог бы ухмыльнуться незрелости греческих мифов, но разве текст Пятикнижия неуязвим для критической иронии? Ну, а если отбросить легенду о Девкалионовом потопе или о том, как алоады взгромоздили Пелион на Оссу, чтобы достичь неба, как детские сказки, то как быть с Ноем и Вавилонской башней? Аллегорическая интерпретация, издавна используемая толкователями Гомера и систематизированная стоиками, в частности на основании этимологий имен собственных, указала путь к освобождению и модернизации. В символическом прочтении Книга Бытия оказывается вовсе не древней и подчас грубоватой легендой, но исключительно современным мифом о состоянии человека и поиске спасения, не изысканием в области далеких истории и географии, а вопрошанием о близкой философской и моральной истине. До Филона череда александрийских иудеев возвела в традицию подобное истолкование, применяя этимологическую экзегезу имен патриархов и другие подобные методы. Филон нередко выражает признательность своим анонимным предшественникам, труды которых он порой, как кажется, смело включает в свои сочинения, не внося изменений, одновременно переписывая целые абзацы из греческих философских трактатов. Периодическое заимствование такого рода не вполне переработанного материала неизбежно вредит репутации Филона как независимого мыслителя, хотя, с другой стороны, пропорционально повышает его ценность для историка. Однако было бы неверно придавать этому обстоятельству слишком большое значение и полагать, будто Филон был всего лишь компилятором предшествующего материала и что ум его — настоящая лавка старьевщика. Филон всегда использует этот материал с определенной целью, и, хотя ясную и содержательную систему из его сочинений вывести невозможно, сквозь них проступает отчетливый рисунок взглядов, а также религиозная и философская атмосфера, заключающие в себе, с точки зрения историка, далеко идущие значимые последствия.
Труд Филона представляет собой сложный синтез или, во всяком случае, смешение библейской религии откровения и греческой философии, в основном отлитое в форму аллегорического ком¬
1 Когда Филон награждает Моисея греческими учителями, это, несомненно, отражает его собственный опыт (V. Mos. I 23); ср.: Alex. 73.
ФИЛОН
197
ментария к Книге Бытия. То, что Моисей использовал внешнюю форму мифа, исторического повествования и церемониального закона для выражения внутреннего, духовного значения, в полной мере согласуется с лучшими образцами греческих теологии, науки и этики. Не требует доказательств, что боговдохновенный текст не может содержать ничего, что было бы недостойно Бога. Господь постоянен и не подвержен смене настроений, как можно было бы заключить из Книги Бытия. Его «гнев» и угрозы — не эмоциональная реакция, но средства поучения и излечения, подобно боли, причиняемой врачами и учителями, и, следовательно (как утверждает Платон в «Горгии»), несчастлив тот, кого не наказывает Бог.1 И хотя человек в числе творений занимает очень почетное место, все же Божье провидение универсально, и космос существует не ради человека, но Бог вынуждает человека вносить свой вклад в целое.1 2 Божественная деятельность проявляется не в чудесных вмешательствах в природный порядок, а как раз в упорядоченности и единообразии самой природы.3 Небо самим собой являет славу Господню.
Филон полагает, что греческие мудрецы обязаны своей мудростью Пятикнижию.4 Во всяком случае, он имеет в виду, что единый Бог прямо или косвенно является источником и закона Моисея, и истин греческой философии. Поскольку человеческий разум родствен Богу, будучи сотворен по образу божественного Логоса, или ума, он способен к восприятию и открытию истины о сущностях вне пространства и времени. Трансцендентный мир есть та точка, в которой религия и лучшие образцы греческой фи¬
1 Immut. 52; 54; 64—65; Som. I 236; Leg. Alleg. Ill 174; Det. 144 ff.; Conf. 165f.;Qu. Gen. 173.
2 Som. II 115—116. По поводу достоинства человека Филон часто повторяет расхожие положения о том, что человек прямоходящ, чтобы взирать на небо (Det. 85; Plant. 17; Abr. 59; Opif. 54 — из Tim. 90a), и что человек есть микрокосм (Post. С. 58; Plant. 28; Heres 155; Prov. I 40 и так далее).
3 Mut. 135; ср. доказательство неизменности Бога исходя из неизменности космоса: Som. II 220; Aet. 39—44. Знамения вроде разделения Красного моря или огня, дождем сошедшего на Содом, не более чудесны, чем сама природа; и первые, и вторая созданы Творцом: V. Mos. I 212; II 267. Отрывок из Qu. Gen. (II, р. 217 f. Marcus) поясняет, что огонь, разрушивший Содом, доказывает, что причины всех погодных явлений заключаются не в Солнце и звездах, но во власти и свободном выборе Бога Отца. Тем не менее в «Жизни Моисея» сверхъестественному отводится больше внимания, либо оно выражено в понятиях (видения, сны: см. Som. I 1), соответствующих греческому пониманию. См.: Delling G. Wiss. Zeits. Halle, 1957. S. 713—740.
4 Aet. 18; Prob. 57; Spec. Leg. IV 61; Leg. Alleg. I 108; Heres 214 и так далее.
198
ФИЛОН И НАЧАЛО ХРИСТИАНСКОЙ МЫСЛИ
лософии совпадают. Соответственно, интерес Филона лежит в области греческой теологии и этики. При этом следует добавить, что он вовсе не был человеком ограниченных взглядов. Разнообразные автобиографические описания свидетельствуют о том, что, при всей своей начитанности, он не одинокий раввин, отрезавший себя от общественной жизни Александрии. Он посещает званые обеды и театральные представления, состязания борцов и колесничные бега.1 Явно философские сочинения Филона, помимо разъяснения библейских текстов, указывают на близкое и исчерпывающее знакомство автора со взглядами эпохи.1 2 И все же его занятия философией приобретают серьезный характер только в теологической и этической областях. Это не означает, что Филон — философ, подобный эрудитам Посидонию или Цицерону, интересы которого случайным образом оказались лежащими в области религии. Скорее, его вера определяет природу вопросов, которые он задает эллинской философской традиции. И хотя Филон глубоко эллинизирован, насколько это возможно для правоверного иудея, он тем не менее несет на себе дух противостояния тоталитарным притязаниями эллинистической культуры. По духу его трактат «О созерцательной жизни» есть нападение на греческую моральную традицию. Религия откровения значительнее философии.
Согласно Посидонию, дисциплины, изучаемые юношей в качестве «общего образования» (encyclia), то есть грамматика, риторика, диалектика, геометрия, арифметика, музыка и астрономия, хотя и не заключают в себе философии, как не развивают и моральной добродетели, все же являются важнейшей подготовкой. Они имеют статус «слуг», так же как начальное образование служит подготовкой ума к образованию общему.3 Филон поднимает эту идею на ступень выше: общее образование подготавливает ум к занятию философией, которая в свою очередь возвышает его до мудрости богооткровенной теологии,4 постичь которую без вдохновенного
1 Обеды: Leg. Alleg. Ill 155 f.; Fuga 28 f.; Spec. Leg. IV 74 f. Театры: Prob. 141. Панкратион: Prob. 26. Бега: frag. ap. Eus. PE VIII 14. 58.
2 Собрание таких клише см.: Festugiere A.-J. La Riv01ation d’Hermes Trisrrre- giste.Vol. II. P.519 ff.
2 Sen. Ep. 88. 20 ff.
4 Cm.: Som. I 205; Leg. Alleg. Ill 244 f.; и трактат «О соитии для предварительного обучения», описывающий женитьбу Авраама на Агари и Саре как символ подчиненного положения философии по отношению к теологии. (Это переложение бытовавшей аллегоризации «Одиссеи», согласно которой поклонники Пенелопы, добившиеся успеха у ее служанок, изображают тех, кто довольствуется encyclia и не идет дальше. Ср.: Diog. Laert. II 79; Plut. Educ. Puer.
ФИЛОН
199
пророчества уму не дано.1 С такой оговоркой преданность Филона занятиям философией абсолютна.
Бог, исповедуемый Филоном, есть Бог Авраама, Исаака и Иакова, личный Бог, который любит и судит свои отклоняющиеся от пути творения. Не местное или племенное божество, обязанности которого ограничены Израилем,* 1 2 но единый Бог всего земного мира, уделивший Израилю особую судьбу между племен человеческих; Бог, помыслы которого выше наших и от творящей воли которого в постоянной зависимости пребывает весь мир и всякое творение в нем. Этот высокий этический монотеизм Филон сплавляет с трансцендентной теологией платонизма. Строго говоря, Филон не следует какому-либо определенному набору философских принципов. Он эклектик, даже вобрав в себя немалую долю платонизма, не утративший критического отношения к нему. Тем не менее его эклектизм по большей части не является его собственным построением. И до него философы находили возможным примирять космический витализм стоиков с транс- ценденталистским мировоззрением платоников. Его иудейский монотеизм роднит его и со стоическим учением об имманентной божественной энергии, пронизывающей весь мир в виде жизненной силы, и с трансцендентным, надмирным богом Платона. Так, для Филона само собой разумеется, что составленный Платоном неприглядный образ чувственно воспринимаемого мира является нечетким отражением умопостигаемого порядка вещей. Сквозь Платона он также вглядывается в Пифагора, загадочность имени которого непрерывно возрастала все предшествующее столетие. Филон испытывал особую симпатию к пифагорейству за его таинственный символизм, аллегорические интерпретации поэтического мифа, гномическую мораль, пропаганду самодисциплины в качестве подготовки к бессмертию и прежде всего за его размышления о мистическом значении чисел, в особенности числа семь, игравшего столь важную роль в почитающем субботу
10, 7d; Stob. Ill 4. 109; Gnomol. Vaticanum 166 / ed. Stembach; приписывается Аристотелю Олимпиодором: Cramer J. A. Anecdota graeca. Vol. IV. Paris, 1839. P. 411.) По поводу воззрений Филона на образование см.: Colson F Н. //JTS. 1917. XVIII. Р. 151—162, а также собранные Эрпом ссылки в издании Лёба: Philo. X. Р. 317, 345 f.
1 V. Mos. II 6; Sacr. 64; Immut. 92 f.; Fuga 168 f.
2 Spec. Leg. I 97: в то время как языческие священники молятся только о своем народе, иудейский первосвященник возносит молитвы обо всех людях и естественном порядке (см. I 168; II 163; Leg. ad Gaium 278; 290; Abr. 98; V. Mos. I 149). Он печется о творении в целом, а не только о своих соотечественниках.
200
ФИЛОН И НАЧАЛО ХРИСТИАНСКОЙ МЫСЛИ
иудаизме.1 Филон не был дилетантом в оккультной сфере (как некоторые неопифагорейцы), однако, дабы представить сходство иудаизма с предшествующей Платону эзотерической и несколько экзотической философской традицией, он должен был стать искусным апологетом современного ему эллинистического мира.
Соответственно, Филон приступает к объединению личностного языка, преобладающего в Библии, с безличным и абстрактным языком платоников и пифагорейцев. Бог есть Единое и Монада, предельное основание бытия вне всякой множественности.1 2 При этом, говоря о нем как о Монаде, мы должны остеречься, чтобы не назвать его первым в ряду чисел, потому также необходимо подчеркнуть, что он и «вне Монады».3 Он неизменен, бесконечен, самодостаточен и не нуждается в мире.4 Ни один из тварных языков не в силах выразить бытия трансцендентного Творца.5 Он волит чистое Благо,6 и причина его творения — божественная щедрость, обильное излияние благого даяния,7 в котором Податель не терпит ни изменения, ни лишения, как факел, от которого возгораются другие, как солнце, все освещающее, как родник.8 Он сотворил космос из не-сущего (ek me onton)9, упорядочил бесформенную и хаотичную материю,10 наложив на нее образец порядка и разумно¬
1 Нумерология Филона исследована в работе Staehle К. Die Zahlenmystik bei Philon. Leipzig, 1931. Принятие Филоном пифагорейства указывает на то, что последнее было гораздо популярнее, чем считает Сенека, называя его «ненавидимым толпой» (turbae invidiosa) (Nat. Qu. VII 32. 2), по крайней мере в александрийском обществе.
2 Leg. Alleg. Ill 48; Immut. I 1 f.; Heres 187; Spec. Leg. II 176; Qu. Gen. I 15; Praem. 162 и так далее.
3 Leg. Alleg. II 3; Praem. 40. Cp.: V. Contempl. 2; Opif. 8; Qu. Ex. II 37; 68.
4 Неизменен: Cher. 19; Qu. Gen. I 93; Som. II 220; бесконечен: Leg. Alleg. Ill 206; Fuga 8; Heres 229; непостижим: Spec. Leg. I 32; Qu. Ex. P. 258 Marcus (P. 72 Harris); Leg. Alleg. 191; Mut. 8 (мы не можем познать даже себя, тем более мировую душу); безымянен: Heres 170; Mut. I 1 ff., 29; Som. I 27; 230; Abr. 51; V. Mos. I 76, cp. II 115 (о тетраграмме); самодостаточен: Migr. 27; 46; 183; Qu. Gen. IV 188 (хотя Бог ни в чем и не нуждается, он все же радуется в мире, им созданном) и так далее.
3 Leg. Alleg. Ill 206; Post. С. 16; 168.
6 Leg. Alleg. I 5; Abr. 268; Spec. Leg. IV 187.
7 Leg. Alleg. Ill 68; Opif. 21 f.
8 Gig. 24—27 (факелы, родник); Qu. Gen. II40 (солнечный свет). Также см.: Plant. 89; 91; Spec. Leg. I 47; Qu. Ex. II 68.
9 Leg. Alleg. Ill 10; Heres 36; Fuga 46; V. Mos. II 267.
10 Qu. Gen. I 64; Plant. 3; Som. I 241; Prov. I 22; Opif. 22. В Som. I 76 Бог «не только δημιουργός, но и κτίστης, что, вероятно, указывает на то, что Бог сотворил предсушествующую материю (как в греческом фрагменте Prov. ар. Eus. РЕ VII 21, так и, очевидно, в армянской версии (Prov. I 7)).
ФИЛОН
201
сти, свой Логос.1 В ходе творения была использована вся имевшаяся материя. Мир уникален, а бесчисленных миров не существует.1 2 Материальный мир не вечен, но сотворен и зависим.3 Подобно Платону (Tim. 41а), Моисей учит, что мир сотворен, хотя, по воле Божьей, он может и не иметь конца.4 Этот мир является отражением вечного умопостигаемого царства идей, мыслей Бога.5
Филон первым свидетельствовал в пользу учения о том, что идеи суть мысли Бога. Представление о подобии идей замыслам демиурга, однозначно появившееся ранее, могло естественным образом возникнуть из слияния платонизма либо со стоическим учением о семенных первоначалах (logoi spermatikoi) в природе, либо с аристотелевским учением о божественном уме, мыслящем самого себя. Филон также разработал концепцию великой цепи бытия, согласно которой космос есть континуум степеней сущего, заполненный с максимально возможной полнотой;6 многоразли- чие этого космоса удерживается вместе благодаря имманентно присущей ему энергии Логоса.7 Это учение предваряет не только Плотина, но и христологическую терминологию св. Павла в Послании к Колоссянам (1), в котором с сочинениями Филона содержится множество аналогий.8 Пожалуй, ближайшее сходство с Филоновой картиной мира можно обнаружить в псевдоари¬
1 Som. II45; Mut. 135.
2 Opif. 171; Aet. 21; Det. 154 (цитирует Tim. 32c); Plant. 5 fF. Cp.: Prov. ap. Eus. PE VII 21.
3 Opif. 7 f.; 170 f.; Conf. 114; Som. II 283; Plant. 50; Aet. 150.
4 Decal. 58. Aet. 18 if. опровергает, что Платон был последователем Моисея. Cp.: Heres 246.
3 Opif. 17; 20; Conf. 63, cp. 73; 172; Spec. Leg. 147—48, 329; Cher. 49.
6 Opif. 141 ff (подобная магнитической цепи); Immut. 35 (подобная эстафетному бегу); Plant. 6; Det. 154; Heres 156 (совершенная полнота); Qu. Ex. II 68 (в бесконечности нет зазора); Cher. 109 (вся природа гармонично взаимосвязана). О симпатии космоса см. особенно Migr. 178—180, где Филон принимает «симпатию», но отрицает, что Бог есть космос или мировая душа и что звезды являются причинами событий на земле. В некоторых сочинениях он разделяет воззрение Аристотеля (как правило, отрицавшееся сторонниками идеи космической симпатии из числа стоиков), что душа состоит из эфира как пятой ousia, отличной от четырех элементов (земли, воздуха, огня и воды): Abr. 162; Qu. Gen. Ill 6; 10; IV 8; Qu. Ex. II 73; 85. Heres 283 содержит сомнения относительно указанной точки зрения.
7 Fuga 112; Heres 188 (подобно клею); Plant. 9—10; Qu. Ex. II 89 f.; 118.
8 См. мою статью в New Test. Stud. I. 1955. P. 273; к Ефесянам (ZNW, LI. 1960. P. 150 f.). Исследование сходства Филона и Послания к Колоссянам см. в работе: Hegermann Н. Die Vorstellung vom Schopfungsmittler im hellenistischen Judentum und Urchristentum. Berlin, 1961.
202
ФИЛОН И НАЧАЛО ХРИСТИАНСКОЙ МЫСЛИ
стотелевском трактате «О мире», где Бог одновременно и над миром, и есть наполняющая его жизненная сила,1 спокойный и одновременно бесконечно деятельный,1 2 правящий, подобно великому персидскому царю, через своих сатрапов3 и поддерживающий мир в неизменном состоянии посредством сохранения равновесия власти противоборствующих сил, так что космос есть гармония противоположностей.4 И все же Филон в большей степени размышляет о проблеме того, как высший, трансцендентный Бог соотносится с низшим миром, и находит решение в учении о Логосе.
Логос есть «идея идей»,5 перворожденный Сын несотворенно- го Отца и «второй Бог»,6 образец и посредник твари,7 архетип человеческого разума8 и «Божий человек».9 (Филон интерпретирует Бытие о сотворении земного человека (2:4 и далее) и о Небесном Адаме (1:26), которые соответствуют платоновским чувственно воспринимаемому и умопостигаемому мирам.10 11 В качестве архетипа человеческого ума Логос есть Небесный Адам.) Логос есть имманентный Бог, жизненная энергия, он сохраняет иерархию бытия в единстве и в качестве наместника Божия11 служит посредником между откровением и сотворенным чином, оставаясь на границе между Творцом и его творением.12 Для человека он манна, Богом посланная небесная пища,13 он же первосвященник, перед Богом ходатайствующий о жалких смертных.14 Всевышний Бог слишком далек от мира, чтобы иметь с ним прямую связь. Это
1 Leg. Alleg. II 4, Бог заполняет все (ср.: De mundo 6, 397Ы7 ff.).
2 Post. С. 28 f.; Cher. 86 f. (cp.: De mundo 6, 397b23 f.).
3 Decal. 61 (правда, говоря о другом); Agr. 51; ср.: De mundo 6, 398al0 ff. Данная иллюстрация стала общим местом у более поздних авторов. Сравнение Бога с кукольником, дергающим за ниточки (Opif. 117), встречается в De mundo 6, 398b 16 ff.
4 Heres 130 ff.; Qu. Gen. Ill 5; Cher. 110—112; cp.: De mundo 5, 396a33 ff. Оба автора цитируют Гераклита. Гуденаф (Yale Classical Stud. 1932. III. P. 117—164) высказал предположение, что источник неопифагорейский.
5 Migr. 103; Qu. Ex. II 124.
6 Post. C. 63; V. Mos. II 134; Conf. 63. «Второй Бог»: Eus. PE VII 13. 1.
7 Conf. 63; Leg. Alleg. Ill 96; Immut. 57.
8 Heres 230 ff.; Leg. Alleg. 131 ff. и так далее.
9 Conf. 41; 62; 146.
10 Leg. Alleg. I 31 и так далее.
11 Agr. 51.
12 Heres 205 f.; Som. II 188; Qu. Ex. II 68.
13 Leg. Alleg. Ill 175; Det. 118; Heres 79; Fuga 137 f.
14 Migr. 102; Som. I 215; II 183.
ФИЛОН
203
Логос являлся в неопалимой купине;1 это Логос пребыл в Моисее, так что тот сделался буквально обожествлен.1 2 Непросвещенные принимают Логос за Бога, хотя в действительности он есть лишь его образ.3
Приноровленные к потребностям христианского учения утверждения Филона о Логосе должны были неизбежно иметь большое будущее. Однако если будущее этого понятия прозрачно, то его история до Филона туманна, и уже давно спорят о том, что дало решающий толчок к его возникновению — греческое или иудейское влияние. «Слово Бога», сотворившее небеса (Псал. 33:6), и персонифицированная мудрость (Прит. 8), несомненно, близки. Рассуждения об ангелах и архангелах в иудаизме после вавилонского пленения, вероятно, способствовали формулировке этой идеи: Филон склонен описывать Логос как «архангела».4 Более того, за исключением трактата «О творении мира согласно Моисею», лежащего вне поля аллегорического комментария к книге Бытия, Филон умалчивает о Логосе в апологических сочинениях, предназначенных для языческой аудитории. В отдельных отрывках он расценивает учение о Логосе и о божественных «силах», посредничающих между Богом и миром, как мистическое и в определенной степени эзотерическое.5 Судя по тому, что Филоновы аллегории предполагают ясное понимание этого учения со стороны читателей, а также согласно Евангелию от Иоанна, можно с уверенностью заключить, что понятие Логоса имело хождение в эллинистическом иудаизме даже до Филона. С другой стороны, как таковая роль Логоса в мысли Филона указывает на то, что толчок исходит не столько со стороны иудаизма, сколько от платоновской философии, в которой далекий трансцендентный бог, дабы обращаться к низшему миру, нуждается во втором, метафизически подчиненном аспекте самого себя. Соответственно, Логос Филона является не только главным ключом к развитию христианства, но и ступенью на пути к размышлениям о двух
1 Som. I 69 (здесь и в других местах от случая к случаю используется форма множественного числа logoi); V. Mos. I 66; Som. I 231 f.; Fuga 141; Mut. 134.
2 Sacr. 8; Mut. 128; Som. II 189; Prob. 43; Det. 161 if.; V. Mos. I 158; II 288. Поразительно, насколько язык Филона в этих отрывках порой предвосхищает христологию.
3 Leg. Alleg. Ill 207; Qu. Gen. Ill 34; Fuga 212; Som. I 238; Migr. 174 f.; Qu. Ex. II 67.
4 Conf. 146; Heres 205 и так далее.
5 Относительно эзотеричности учения о Боге и его силах см.: Sacr. 60; 131—132; Abr. 122; Fuga 85—95; Cher. 48; Qu. Gen. IV 8.
204
ФИЛОН И НАЧАЛО ХРИСТИАНСКОЙ МЫСЛИ
и трех уровнях бытия бога в среднем платонизме и неоплатонизме. И все же это не более чем ступень, и предупреждением от излишнего преувеличения является то обстоятельство, что Филон не проявляет особого интереса ни к «Пармениду», ни к тем отрывкам из платоновских писем, которые сыграли столь значительную роль в обосновании неоплатонической триады.
Язык Филона предваряет язык его последователей и еще в одном отношении. Он говорит, что созерцательной душе Бог является в виде триады — себя самого и двух своих главных сил, творящего блага и царской власти, символизируемых херувимами.1
Между Творцом и его созданиями лежит великая бездна.1 2 Грехопадение и бытие сотворенных неотделимы друг от друга, и поэтому грех «врожден» даже лучшим людям.3 И все же Филон интерпретирует проблему человека не только как проблему конечности. Гордость и страстное желание стать равным Богу он тоже считает корнем греха.4 В более платонической манере он склонен принять миф из «Федра» о падении душ, утрачивающих крылья, падении, причиной которого является пресыщенность божественной благостью.5 Некоторые души нисходят в тела, другие служат ангелами-хранителями, которых язычники называют daimones.6 Во всяком случае, Бог не ответствен за зло,7 но может быть причиной только блага. Что же касается множественного числа в Бытии (1:26: «сотворим человека»), то оно указывает на то, что в творении Богу содействовали подчиненные силы, которые, как учил в «Тимее» (41) Платон, создали смертную часть человека. Участие низших ангелов в творении является тем обстоятельством, которое объясняет существование зла.8 Этим учением Филон предваряет учение гностиков, однако он ничего не говорит о ритуальных прак¬
1 Cher. 26—28; Sacr. 69; Qu. Gen. I 57; И 16; 51; 75; III 39; 42; IV 2; 4; 87; Qu. Ex. II 62; 64 ff.; Mut. 28; Som. I 162 f.; V. Mos. II 99; Spec. Leg. I 307.
2 Sacr. 92; Opif. 151; Ebr. 111; и так далее.
3 V. Mos. II 147; Spec. Leg. I 252; Jos. 144.
4 Leg. Alleg. I 49; Cher. 58—64. (Примечательна противоположность Фил. 2:6.) Из-за своего падения Адам утратил бессмертие: Opif. 167; Qu. Gen. I 55; Virt. 205.
5 Heres 240; Qu. Ex. II 40. Божественные сущности, напротив, неизменны и не знают пресыщения: Qu. Gen. IV 87.
6 Gig. 12. Ср.: Plant. 14; Som. 1141 (ангелы = герои).
7 Agr. 128—129. О гностических чертах у Филона см.: «Bull J. Ryl. Libr.» (March 1966).
8 Opif. 175; Conf. 179; Abr. 143; Fuga 68 ff.; особенно Qu. Ex. I 23 (силы добра и зла входят каждую душу при рождении, и сам космос сотворен этими противоборствующими началами); Qu. Ex. II 33.
ФИЛОН
205
тиках или особых аскетических предписаниях для умиротворения злых сил в космосе. У Филона можно найти некоторые заготовки для гностицизма, но сам он гностиком не был, разве что в самом отвлеченном смысле.
Тем не менее, когда Филон переходит к изложению своей этики, имеющей в основе противопоставление духа и материи, тенденция к дуализму проступает очень отчетливо. «Кожаные одежды», укрывшие Адама и Еву после грехопадения, означают тела.1 Душа пребывает в теле, как в могиле,1 2 и носит его за собой, как труп.3 Бог отдает этот мир в пользование, не во владение.4 В нескольких местах Филон одобрительно отзывается об утверждении Аристотеля, что добро может включать в себя внешние и материальные вещи, а не только моральное благо души.5 Впрочем, в других местах он принимает более строгую стоическую точку зрения (также распространенную среди платоников) о том, что единственное благо есть благо души, а единственная ценность — ценность моральная.6 Это учение вписывается в рамки платонизма: если мы хотим возвыситься до вечного мира разума, мы должны сдерживать в себе всякую восприимчивость к призывам чувственно воспринимаемого мира. Когда чувства бодрствуют, разум спит, и наоборот.7 Таким образом, в целом этика Филона имеет уклон в сторону отвергающего мир аскетизма.8 Он не одобряет показного подавления или фактического причинения вреда телу. Он также не считает, что богатые должны раздать все свое богатство; скорее, им вменяется высокая ответственность за то, чтобы использовать его щедро и во благо.9 Однако его личным идеалом является умеренная жизнь строгой самодисциплины. Прежде чем возвыситься до созерцательной жизни, человеку следует научиться добродетели в отношениях с соплеменниками.10 Разделять Божьи дары
1 Qu. Gen. I 53; IV 1. Ср.: Leg. Alleg. Ill 69; Post C. 137; Porph. Abst. 131.
2 Leg. Alleg. I 108; Qu. Gen. II 69.
3 Leg. Alleg. Ill 69—74; Qu. Gen. I 93; IV 77; Agr. 25.
4 Cher. 119; Spec. Leg. I 295.
5 Sobr. 6; Heres 285 if.; Qu. Gen. Ill 16.
6 Fuga 148; Immut. 6—8; Virt. 147; Mut. 32 ff.; Som. II 9.
7 Leg. Alleg. II 30.
8 Целый ряд высказываний Филона демонстрирует, как высоко он ценил девственность, например: Post. С. 135; Fuga 50; V. Mos. II 68. Тем не менее деторождение есть соучастие в божественном творчестве: Decal. 107; Spec. Leg. II 2; 225. Основным источником по этике пола Филона является Spec. Leg. III.
9 Fuga 28 f.
10 Spec. Leg. II 20 ff.; Mut. 32; Fuga 38.
206
ФИЛОН И НАЧАЛО ХРИСТИАНСКОЙ МЫСЛИ
с другими и есть то «уподобление богу», о котором как об идеале рассуждал Платон в «Теэтете».1
Религиозный поиск есть поиск подлинной внутренней сосредоточенности, которой чуждо все внешнее. И здесь язык Филона в некоторой степени предваряет спор раннего христианства и иудаизма. Он пишет: Бог не живет в доме, построенном руками; единственный достойный его храм — чистая душа. Ритуал, лишенный внутренней обращенности к Богу, ничего не стоит. Подлинное обрезание должно быть обрезанием сердца.1 2 Такой язык близок к духовности, перерастающей в индивидуальное благочестие. С другой стороны, непреклонная приверженность иудаизму приводит Филона к решительному осуждению более эллинизированных и либеральных иудеев, которые, исходя из своего понимания символического значения предписаний Моисея, заключали, что они свободны от обязанности буквального соблюдения ритуалов.3 Он верит, что храм в Иерусалиме простоит так же долго, как космос,4 и горячо надеется, что иудаизм в будущем сделается вселенской религией.5 Тем не менее в его апологии иудаизма ведущее место отдается не главенствующему вероисповеданию в Сионе, а ессеям в Палестине и терапевтам в Египте, монашеским сообществам, посвятившим себя аскетизму, созерцанию и уединенной, квази- неопифагорейской жизни.6
На протяжении всей земной жизни душа есть путница и чужестранка, подобная Аврааму, совершившему переход от астральной религии Ура к истинной религии Земли обетованной, или израильтянам, странствовавшим по пустыне.7 Однако ее отно¬
1 Theaet. 176а—b; ср.: Spec. Leg. IV 188; Virt. 168; Fuga 63; Qu. Gen. IV 188; Opif. 144; 151.
2 Sobr. 63; V. Mos. II 107—108; Plant. 107 if.; 126; Immut. 8; Det. 20—21; Spec. Leg. I 305; Qu. Ex. II 51; Praem. 123.
3 Migr. 88 ff.; cp.: Flacc. 50 (здесь нужно не согласиться с Колсоном) о боли, причиненной правоверным иудеям излишне либеральными иудеями, идущими на компромисс с язычниками. О соблазне поиска компромисса см.: Jos. 254. В Spec. Leg. I 315 ff. запрещается компромисс с языческим культом в форме смешанных браков, когда муж-иудей, возможно, будет принуждаем пойти на уступки.
4 Spec. Leg. I 76.
5 Praem. 163 ff. (крайне поучительным будет сравнение этого фрагмента с Рим. 11 св. Павла).
6 О ессеях: Prob. 75 ff. и «Апология» (сходная с «Против Апиона» Иосифа Флавия) у Евсевия (РЕ VIII 11). О терапевтах: Vita Contempl. Эти сочинения могут быть сопоставлены с Leg. ad Gaium и Spec. Leg. I 68 ff., в которых подчеркивается центральное место Иерусалимского храма.
7 Heres 82; Qu. Gen. Ill 10; IV 74; 178.
ФИЛОН
207
шение к телу есть нечто большее, чем отчужденность. В ходе духовной самодисциплины душа все ближе подходит к осознанию того, что тело является главным препятствием на пути к совершенству. «Когда ум возвышается и приобщается к таинствам Господним, он осуждает тело как злое и враждебное».1 Душа впала в зависимость от тела, подобно Израилю, порабощенному Египтом, и должна найти свой Исход.1 2 Путь к спасению есть путь веры, подобной Авраамовой,3 моральная решимость волей ограничить неразумные желания плоти и продвинуться дальше аристотелевской «умеренности» к полному отсутствию страсти (apatheia).4
Целью является вйдение Бога,5 мистический опыт, который Филон, примечательным образом предваряя св. Павла, описывает словами «увидеть и быть увиденным», «приближение к Богу, который приблизил ум к себе».6 В этом вйдении ум пребывает в покое,7 радостно торжествуя при созерцании неизменной сущности (to on) Божьей в безмолвной умной молитве, за пределами всяких просьб.8 Однако, поскольку Бог трансцендентен, его сияние ослепляет зрение души,9 и, хотя мы можем говорить (вместе с «Федром», 247с), что Бог познаваем только умом, мы должны также добавить, что в себе он непостижим.10 11 О Боге мы не можем утверждать ничего положительного. Нам известно только, что он есть, но не что он есть.11 Его существование мы в силах постичь.12 Началом познания Бога является созерцание мира. От чувственно воспринимаемого разум восходит к незримому нематериальному божественному порядку, о существовании которого, отталкиваясь от устройства и разумности природы, непротиворечиво свиде¬
1 Leg. Alleg. Ill 71.
2 О Египте как символе тела и страстей см. ссылки, подобранные Эрпом в издании Лёба (р. 303).
3 Migr. 44; Abr. 268—273.
4 Leg. Alleg. Ill 129—134; 143—144; Qu. Gen. IV 178; Plant. 98.
5 Immut. 142 fF.; Migr. 39; и так далее.
6 Som. II 226; Plant. 64. Cp.: 1 Kop. 8:3; 13:12; Гал. 4:9; Фил. 3:12.
7 Post. C. 28; Som. II 228; Fuga 174; Immut. 12.
8 Gig. 52; Fuga 91—92; Heres 15.
9 Opif. 71; Abr. 14—76; Immut. 78 и так далее (из RP VII 515—516).
10 Spec. Leg. I 20; Qu. Gen. IV 26; Mut. 7; Immut. 62; Qu. Ex. II 45.
11 Leg. Alleg. Ill 206. О via eminentia (способе определения через сравнение) см.: Leg. ad Gaium 5; Qu. Ex. II 45.
12 Относительно аргумента атеистов, что Бог был изобретен власть имущими, дабы заставить людей из страха вести себя подобающим образом, см.: Spec. Leg. I 330; II 283 fF.; Leg. Alleg. Ill 30 F.; Praem. 40; Prov. II 45 F.
208
ФИЛОН И НАЧАЛО ХРИСТИАНСКОЙ МЫСЛИ
тельствуют все народы, как греки, так и варвары.1 Исходя только из философских оснований, в том, что Библия помещает Бога над и по ту сторону нашего мира, состоит превосходство монотеизма над политеизмом язычников, который есть искаженное поклонение тварному.1 2 Даже там, где политеизм возвышается над грубым идолопоклонством, египетским культом животных и отвратительными в моральном отношении ритуалами,3 он тем не менее не выходит за пределы пантеистического обожествления элементов этого мира или звезд,4 и, хотя поклонение небесным телам гораздо лучше культа материальных объектов, ему не удается возвыситься над творением до Бога как такового.5 И все же дедуктивное рассуждение может лишь зафиксировать существование Бога, поскольку сущность его непостижима умом. Via eminentia* в конце концов отступает перед via negativa.** Таким образом, если Бог познаваем, то только потому, что он сам позволяет себя познать через благодать, даруя откровение согласно способностям всякого взывающего к нему.6 Способности могут довольно значительно различаться, так что разные люди, согласно уровню своего духовного развития,7 придерживаются различных понятий о Боге. В теологическом постижении есть место взрослению.
Утверждать возможность откровения и благодати значит утверждать свободу Бога8 и отдавать себе отчет в том, что многим он не явил себя, что, впрочем, не должно приводить в отчаяние, поскольку непрестанный поиск Бога сам по себе есть награда и приносит достойные плоды.9 И все же в конечном счете высшая степень богопознания достижима не путем рассуждения, но путем интуиции.10
Проблема, которая заставляет Филона отчаяться в силе человеческого разумения, ясна. Via negativa приводит его к такому
1 Leg. Alleg. Ill 97 f.; Som. I 203—204; 207—208; Spec. Leg. I 32—35; Praem. 40 fF. (порядок); Spec. Leg. II 165 (согласие).
2 Ebr. 109; Som. II 70; Qu. Gen. Ill 1; Congr. 133 f. и так далее.
3 Spec. Leg. Ill 40 f.; Mut. 205. О египетских культах см. особенно: Decal. 76 ff.; об отождествлении Аписа с Золотым тельцом — Ebr. 95; V. Mos. II 161 f.
4 Decal. 53.
5 Congr. 51; Decal. 66.
6 Spec. Leg. I 41 ff.
7 Mut. 19 ff; cp.: Abr. 119 ff. (три этапа постижения).
8 Abr. 80.
9 Leg. Alleg. Ill 47; Spec. Leg. I 40; Post. C. 21; Det. 89.
10 Post. C. 167; Leg. Alleg. Ill 97—99; Praem. 40—46; Leg. ad Gaium 5—6.
* Путь познания сравнением {лат.). — Примем, перев.
** Путь познания отрицанием {лат.). — Примем, перев.
ФИЛОН
209
основанию бытия, о котором только и можно сказать, что это основание бытия. У Единого нет иных свойств. Для Филона достижение подобного знания аналогично геометрическому определению точки как имеющей положение, но не имеющей величины;1 при этом отрицание в этом определении неустранимо. И хотя, согласно платоновской онтологии, которую Филон берет за основу, бытие есть оценочное понятие, а причина бытия по необходимости есть высшая ценность, Филон тем не менее должен сказать о Боге нечто большее, если он относится к Библии серьезно. Таким образом, он вынужден заключить, что источником положительного содержания учения о Боге является откровение.
Благодать тем самым является предметом, о котором Филону есть что сказать. В определенных моментах анализ психологии веры, осуществленный Филоном, предвосхищает глубину прозрений св. Павла. В нашем понимании достоинство его размышлений об этом предмете состоит в том, что он первым совершил попытку добраться до сути одного из наиболее фундаментальных парадоксов религиозной мысли, а именно — проблемы того, что моральное усилие в конечном счете не способно достичь своей цели. По выражению Филона, душа, усиленно стремящаяся вверх в поисках совершенства, в конце концов понимает, что должна оставить попытки и признать, что любая добродетель есть не что иное, как дар Господень. Именно тогда, когда Авраам лучше всего познал себя, он достиг наивысшего отчаяния в том, чтобы достичь точного знания о том, кто он поистине есть. В том-то и дело, что человек, в полной мере познавший самого себя, отчаивается в себе, поскольку впервые постигает абсолютное ничто сотворенного сущего. Только отчаившийся в себе приходит к пониманию того, кто он такой. Так что подлинное самопознание есть знание твари о своей зависимости от Бога. Если бы дело обстояло иначе, напряженные моральные устремления сдержать страсти окончились бы самоудовлетворением и восхвалением самого себя. Таким образом, на самой вершине долгого восхождения умственной и моральной дисциплины ожидает превосходящий ее дар благодати.
Тема благодати у Филона тесно связана с вопросом о «мистицизме». Он неоднократно пишет об «экстазе» как о пребывании подле себя самого, о состоянии «трезвого опьянения», об охваченности священным неистовством, в котором блаженный праведник
1 Decal. 26; ср.: Opif. 49; 98. У Бога нет положения в пространстве: Leg. Alleg. I 43 f.
210
ФИЛОН И НАЧАЛО ХРИСТИАНСКОЙ МЫСЛИ
приходит в корибантический восторг и открывает для себя безмерную радость и внутренний покой. Этот опыт символизирует, например, описанное в Исходе «вступление» Моисея во тьму, где пребывал Господь,1 или ритуал вхождения священника в святая святых.1 2 Его описания этого исключительного состояния души насыщены эмоциональной теплотой. Душа «в огне»,3 говорит Филон, взволнована и подгоняема к экстазу, танцует и так увлечена, что кажется пьяной стороннему наблюдателю.4
Очевидно, что лейтмотивом рассуждений, в которых Филон использует этот лирический язык, является стремление доказать боговдохновенность ветхозаветных пророков.5 Он должен найти подтверждение тому, что в Священном Писании, и прежде всего в словах Моисея, присутствует откровение истины о Боге, лежащей за пределами возможностей беспомощного естественного разума. При этом он обнаружил, что язык для реализации этой цели в готовом виде уже имеется в ряде диалогов Платона, который, с одной стороны, выше всего ценил ясность логики и остроту мысли, а с другой — с большим почтением относился к прорицательству. В платонизме экстатический восторг не вторгается как нечто инородное в деятельность рассудка и логики, но в некотором смысле лежит в основании деятельности ума, поскольку постижение вечных идей, которые суть основа всего, приходит через припоминание того, что постигла душа путем прямого усмотрения до вхождения в тело. Это прямое усмотрение есть то, что душа может надеяться обрести вновь. В «Федре» Платон использует экстатический, корибантический язык для описания безумия, охватывающего душу, когда она созерцает вечные идеи.6 В «Федре» и «Ионе» он сравнивает вдохновение поэтов с восторгом предсказателей и провидцев, а также с безумием корибантов: «Бог отнимает разум у этих людей и использует их как слуг».7
Для Филона это созвучно с излюбленной им темой ничтожества человека перед Богом, поэтому он считает, что вдохновение обретается во время транса, когда разум пророка вытесняется
1 Post. С. 14; Gig. 54; Mut. 7; V. Mos. I 158.
2 Leg. Alleg. Ill 125 f.
3 Leg. Alleg. I 84; Ebr. 147.
4 Ebr. 146 и так далее.
5 Heres 69; Migr. 84; Qu. Gen. Ill 9.
6 Phaedr. 244e, 245e.
7 Ion 533d if., особенно 534c. Cp.: Men. 99c—d; Tim. 71e.
ФИЛОН
211
Божьим Духом.1 Так, призвание Моисея быть пророком описывается как второе рождение, предполагающее коренное преобразование его личности.1 2 Согласно этому воззрению, Бог есть все, а разум пророка в состоянии чистой пассивности есть не более чем инструмент, на котором играет Дух.3 С другой стороны, Филон настойчиво подчеркивает, что дар вручается единственно тем, кто достиг вершины святости путем упражнений и дисциплины.4 Как правило, греческая оценка фигуры провидца была невысока. Платон и сам отмечает, что пророчицы в Дельфах и Додоне не говорят ничего достойного быть услышанным, кроме тех случаев, когда они выступают носительницами божественного слова.5 Для Филона же святость пророка несомненна. Он не считает благодать вдохновения магией.
Поскольку Филоном движет апологетический интерес (установить боговдохновенность библейских сочинений) и поскольку его язык по большей части перекликается с терминологией Платона, говорящего о вдохновении поэтов и предсказателей, а также о неистовстве души, воспаряющей к созерцанию идей, нелегко однозначно истолковать его «мистические» фрагменты. Отражают ли они непосредственно личный опыт Филона? Или это не более чем литературные реминисценции и мастерство апологета? Комментаторы существенно разошлись во мнениях.
Возможно, скрывается некоторая аналогия в частом употреблении Филоном языка мистериальных посвящений. Этот таинственный язык встречается у него нередко, и можно было бы, пожалуй, предположить существование действительного мистериального культа у наиболее эллинизированных евреев. Однако это не обязательно так,6 поскольку есть вероятность, что мы имеем дело всего
1 Heres 249 if. поясняет, что в этом вытеснении состоит значение ekstasis. Ср.: Mut. 139; Qu. Gen. IV 196; Spec. Leg. I 65; IV 49. Исполненная благодати душа «выходит из себя»: Leg. Alleg. I 82; III 43 f.; Heres 68.
2 Qu. Ex. II46 с фрагментом, написанным по-гречески (P. 60 f. Harris = p. 251 Markus).
3 Heres 266. Эта метафора представляет собой плоскую банальность, заимствованную из греческих учений о вдохновении.
4 Qu. Ex. II 51 (чистота как предварительное условие созерцания Бога); Fuga 117 (присутствие Логоса в душе исключает наличие греха).
5 Phaedr. 244b.
6 Противоположный взгляд см. в работе: Goodenough Е. R. By Light, Light (London, 1935), критикуемой Ноком (Gnomon. 1937. XIII. S. 156—165). Гуденаф иначе формулирует свою позицию (Quantulacumque. Studies presented to Kisopp Lake. London, 1937. P. 227—242) и в своей работе «Jewish Symbols in the Greco- Roman Period» (New York, 1953—1964. Vol. I—XI), о ней см. статью Нока
212
ФИЛОН И НАЧАЛО ХРИСТИАНСКОЙ МЫСЛИ
лишь с выразительным использованием устоявшейся метафоры, широко распространенной в среде философов со времен платоновского «Пира» (диалога, оказавшего на Филона очень сильное влияние) и выражающей тот смысл, что знание доступно не всем, но только избранным. Иудей в Филоне хорошо знает об этом избранничестве, и метафора, которую философское сообщество давно освободило от узкой культовой ассоциации, в точности соответствует тому виду эллинизированного иудаизма, который Филон намеревался представить предполагаемому прозелиту, и в полной мере подобает комментатору, который считал Пятикнижие богооткровенной криптограммой, написанной с целью сокрытия истины от недостойного и дабы подвигнуть толкового ученика проникнуть под покров буквы к духовному значению. И все же, хотя и нет необходимости объяснять мистический язык Филона предположением внешнего обряда, понятие eros из платоновского «Пира» позволило ему описать опыт, который, несмотря на традиционный характер выражения, был, должно быть, внутренним и личным.
В нескольких параграфах Филон прямо обращается к своему собственному опыту. В «О херувимах» (27) вслед за упоминанием космологических интерпретаций херувима и пламенного меча (очевидно, заимствованных у его предшественников в деле экзегезы) он переходит к еще более высокому значению, подсказанному ему, как он утверждает, внутренним голосом в душе, «которая часто делается одержимой и предугадывает вещи, выходящие за пределы ей известного». В «Правилах аллегории» (II 85) он отмечает, что уединение не обязательно приводит к сосредоточению. Сам факт того, что он порой достигал собранности ума в толпе, указывает на то, что сосредоточение души на духовных сущностях есть божественный дар и не достигается путем физической изоляции, хотя духовное восприятие действительно отвлекаемо чувствами. Слова Бога к Аврааму «Я буду с тобою» (Быт. 31:3) в «О переселении Авраама» (34 f.) наводят Филона на мысль о том, что Божья благодать, ливнем изливающая на душу благословения, независима от человеческих трудов и как таковая высвобождает душу из нищеты ее собственных беспомощных усилий. Филон далее иллюстрирует сказанное на примере собственного опыта комментатора и ученого. «Бесчисленное множество раз» он обнаруживал, что, когда он садился писать, в его уме, хотя и отчетливо * S.(Gnomon. 1955. XXVII. S. 558—572; 1957. XXIX. S. 524—533; 1960. XXXII.
S. 728—736).
ФИЛОН
213
осознававшем поставленную перед ним задачу, не оказывалось ни единой мысли, и это вынуждало его оставить попытку что- либо сочинить. Но «иногда» он начинал пустым, но внезапно наполнялся, и идеи сыпались градом: «Я пребывал в состоянии корибантического неистовства, теряя ощущение чего бы то ни было — места, присутствующих, самого себя, произнесенных слов, написанных строк».
Согласно минимизирующей интерпретации,1 в подобных высказываниях просто используется восходящая к диалогам «Федр» и «Ион» традиционная терминология, принятая в описании опыта, часто переживаемого учеными умами: сосредоточение не всегда бывает возможным, даже когда условия для него кажутся идеальными, а для получения озарения недостаточно просто усесться за письменный стол. Однако стоит сопоставить подобные высказывания с многочисленными утверждениями Филона о даре благодати и о «томлении» душ, которые с неудержимым eros тоскуют по истинному бытию Божию,1 2 как становится очевидным, что Филон говорит о сугубо религиозном и всецело живом опыте.
Ответ на вопрос, справедливо ли считать Филона мистиком, целиком зависит от того, что именно понимается под словом «мистик». Без сомнения, его язык по большей части схож с тем, которым пользовались мистики его времени, в особенности это касается многократно подчеркиваемого им положения, что, хотя спасение и требует от человека всех его сил, а также сурового отказа от чувственно воспринимаемого мира явлений, оно все же не есть нечто, достижимое одним лишь возрастанием и расширением внутренних возможностей души, но обретается только в утрате себя в чем-то высшем. Во многих отношениях Филон представляется черновым наброском к Плотину, Григорию Нисскому, Дионисию Ареопагиту. Следует, впрочем, заметить, что, поскольку Филон — монотеист и толковник Библии, его мистический язык не стремится к совершенной абстрактности, но персоналистиче- ски окрашен. В нем нет монизма, нет исходного предположения тождества души и Бога, а также признания подлинной реальности лишь за этим тождеством. То, что человек сотворен по образу Бога, наделен разумностью и свободой,3 дарует ему способность позна¬
1 Например: Volker W. Fortschritt und Vollendung bei Philo. Leipzig, 1938. S. 260 ff.
2 Об eros у Филона см.: Goodenough E. R. Jewish Symbols. Vol. VIII. P. 12—15.
3 Человеческая душа есть осколок божественной души (apospasma): Det. 90; Leg. Alleg. Ill 161; Plant. 19 ff.; Mut. 223; Som. I 34.
214
ФИЛОН И НАЧАЛО ХРИСТИАНСКОЙ МЫСЛИ
вать Бога и любить его. Однако Филон настойчиво повторяет, что Творца и творение разделяет пропасть, хотя верно и то, что Творец есть основание человеческого бытия, Единое, находящееся за пределами множественности сотворенного порядка. Филон говорит не о недифференцируемом тождестве души и Единого, но о «нерасторжимом союзе с Богом в любви»,1 который есть «обожение».1 2
Сложность изложения делает трудной для понимания добрую половину сочинений Филона. Современного читателя изнуряют многочисленные повторения и многословие риторического стиля. Более того, привыкший относиться к аллегориям как к искусному софистическому инструменту, позволяющему избегать трудностей и рационализировать предрассудки, он неизбежно сталкивается с существенным препятствием в изучении писателя, искренне полагавшего, что Пятикнижие, по мысли его автора, следует толковать аллегорически. Терпение быстро истощается, когда эпопея и живые истории из Книги Бытия силами экзегетической алхимии превращаются в цепь бесцветных гуманитарных банальностей. Даже самый сочувствующий критик, который строго ограничивает свой интерес к Филону его местом в имманентном развитии греческой философии, вынужден прийти к заключению, что как философ он хорошо осведомленный, но неоригинальный ум, присвоивший себе множество фрагментов учений других мыслителей. И все же однозначно неверно считать Филона иудейским апологетом, заинтересованным в философии единственно потому, что она предоставляла инструмент для придания иудаизму интеллектуальной значимости. Филон, бесспорно, является апологетом иудаизма, и в его сочинениях содержится немало прямых и косвенных аргументов в пользу истинности его религиозной веры и свидетельств его убежденности в миссии Израиля. И хотя, в силу его апологетического интереса, едва ли кому-нибудь удастся извлечь из его сочинений иудейские идеи, очищенные от греческих аналогий,3 Филон,
1 Post. С. 12. Тема души как невесты Бога появляется, в частности, в Cher. 42—53, где используются мистические понятия, напоминающие одновременно о «Пире» и о Послании к Ефесянам V.
2 Qu. Ex. Р. 72 Harris = Р. 258 Marcus (отрывок сохранился в «Sacra Parallela»): дабы узреть Бога, природа человека должна прежде стать Богом (θεόν γενέσθαι). Ср. также: Qu. Ex. II 29; 40; см. выше, с. 203, прим. 2.
3 Несколько отличительных иудейских представлений всплывают на поверхность как раз в этике Филона, например различие между вольными и невольными грехами (Opif. 128; Immut. 128 f. и так далее); искупление (Som. I 91; II 292 и так далее); филантропия (Decal. 41; Agr. 90; Spec. Leg. I 294; Fuga 28 f.). Порицание мужеложества, внебрачных связей, супружества без намерения деторождения
ФИЛОН
215
несомненно, использует философию (а порой и критикует ее) как правоверный иудей, что нередко придает его труду большую степень последовательности, чем может показаться на первый взгляд. И если его религия незаметно придает эклектический характер его философии, то его философия, в свою очередь, основательно влияет на его веру и ее выражение, а его полнокровный аллегоризм говорит о том, что он позволяет этому влиянию свободно осуществляться. Короче говоря, философия, и в особенности платоновская философия, имеет значение для Филона не только по поверхностным причинам апологетической целесообразности: он эллинизирован в самом своем основании. Теология для него не сводится к тому, чтобы нарядить Моисея Платоном. Платонизм для Филона истинен как таковой, и тот факт, что космогония «Тимея» так непринужденно примиряется с Книгой Бытия, должен был не только продемонстрировать разумность Моисея, но и повысить авторитет «Тимея». (В этом отношении труды Филона можно рассматривать как шаг в направлении создания герметических трактатов, которые в форме божественного откровения выражают содержание общих мест популярной философии.) Иероним и некоторые восточные отцы цитируют греческую поговорку: «Либо Платон филонизирует, либо Филон платонизирует».1 И Филон не мог не платонизировать. Он нуждался в Платоне, чтобы прояснить свою веру. Преимущественно благодаря сведению воедино библейской веры и религиозной стороны платонизма, в частности его мистического языка, говорящего об исступлении, и его учения о трансцендентном Боге, Филон и остался столь заметной фигурой в истории мысли.
За исключением некоторых заимствований на страницах Иосифа Флавия, история влияния Филона лежит в области христианства, а не иудаизма. Сокрушительные поражения двух иудейских восстаний, конечно, не искоренили эллинистический иудаизм полностью. К счастью, еще долго существовали эллинизированные иудеи, которые читали Филона и высказывались в том же ключе, что и он.* 1 2 И хотя на Септуагинту раввинским судом был
и аборта (Spec. Leg. Ill 34 ff.; 72; 117; cp.: Jos. 43) характерно, но не исключительно для иудаизма. Греческое влияние на этику Филона скорее усиливает, чем ослабляет его суровость.
1 Hieron. De vir. ill. I 1; Isid. Ep. Ill 81 и так далее.
2 Disiecta membra (разрозненные фрагменты) литературы и литургии эллинистического иудаизма существуют в качестве вставок в некоторых христианских источниках, например, «Апология против язычников» обнаруживается в Clem. Horn. IV—VI; литургические молитвы в Apost. Const. VII 33—38 (анализируется
216
ФИЛОН И НАЧАЛО ХРИСТИАНСКОЙ МЫСЛИ
наложен запрет, она вытеснялась медленно, и в течение второго столетия ею еще пользовались в синагогах Малой Азии.1 Только в VI веке в иудейском сообществе возникло острое противоречие между теми, кто настаивал, что во время литургии в синагоге следует читать Ветхий Завет исключительно на иврите, и теми эллинизированными иудеями, которые хотели читать его по-гречески, — спор, который вызвал появление удивительного закона Юстиниана, упорядочившего синагогальное богослужение.* 1 2 Однако помимо синагоги в Дура-Европос и нескольких надписей почти не сохранилось достоверных памятников греческого иудаизма позднего периода. Иудаизм, ставший традиционным, был раввинским. Филон ближе к христианам II—III веков, чем к талмудическому иудаизму, и был меньшим «раввинистом», чем св. Павел. Точек соприкосновения между Филоном и поздними раввини- стическими течениями на поверку оказывается еще меньше, чем можно было бы предположить,3 и если поздние иудейские сочинения и упоминают его, чего нельзя с уверенностью утверждать, то только в контексте сурового неодобрения.4 Средневековым иудейским философам его труды не были известны и, напротив, имели огромное значение для ранних христиан. Само собой разумеется, различия существенны и не менее поразительны, чем сходства, однако сходства, несомненно, имеют первоочередное значение.5 Количество сохранившихся рукописей (в том числе не¬
Буссе: Gotting. Nachr. 1915. S. 435 ff.). О том, что иудейский прозелитизм продолжался, можно судить из рассказа (изложенного в «Истории Августов») о том, что Септимий Север в начале III века запретил его, и по тому крепкому слову, которое нашел нужным использовать Иоанн Златоуст, дабы удержать в Антиохии свою паству, готовую предаться синагогальным влияниям.
1 Iustin. Dial. 72. 3; Tosephta. Meg. II 5; IV 13.
2 Novel 146.
3 Сандмел утверждает, что Филон не имел достаточных познаний в рав- винистической традиции (Sandmel S. Philo’s Place in Judaism. Cincinnati, 1956). Незначительные соответствия отмечает Борген (Borgen R Bread from Heaven. Leiden, 1965).
4 To, что существует два вероятных упоминания, было продемонстрировано Л. Финкелыптейном (Joum. Bibl. Lit. 1934. LIII. P. 142—149).
5 Эсхатология Филона полностью выражается в понятиях платоновского бессмертия души. (Переселение: Plant. 14; Gig. 7 f.; Som. I 138. Припоминание: Leg. Alleg. Ill 91 f.; Praem. 9; V. Contempl. 78. Идеи как пристанище ушедших из мира святых: Heres 280; Gig. 61.) Хотя он сохраняет великие упования на славное будущее Израиля (особенно Praem. 163 ff.), явной и недвусмысленной надежды на Мессию у него нет. См. трезвое рассмотрение этого вопроса в: Wolfson Н. А. Philo. Vol. II. Р. 395 ff. Об аде ср.: Congr. 57; Qu. Gen. II 60; Praem. 152; Mut. 129; P. Оху. I 356.
ФИЛОН
217
сколько фрагментов папируса) свидетельствует о том, как много его читали. В IV—начале V веках отрывки из его трудов были переведены на латинский и армянский языки, при этом особенно значительным был вклад Амвросия. Страницы Филона содержат экзегетические идеи, кажущиеся предвосхищениями св. Павла, св. Иоанна и автора Послания к Евреям (возможно, Аполлоса?). Философская составляющая сочинений Филона, по прошествии периода необъяснимого небрежения им, была подхвачена апологетами II века — Климентом и Оригеном. Своего рода символическое подтверждение признательности христиан Филону можно усмотреть в легенде, цитируемой Евсевием, о том, как Филон, прибыв в Рим, встретил там св. Петра.1
1 Eus. НЕ II 17. 1. Псевдо-Прохор (V век?) знакомит с Филоном св. Иоанна (Acta Iohannis 110—112 Zahn).
Глава 9
НАЧАЛО ХРИСТИАНСКОЙ ФИЛОСОФИИ: ЮСТИН, гностики
Христианская философия не начинается сразу с Нового Завета, но даже на этом раннем этапе легко обнаружить высказывания и суждения, косвенным образом указывающие на определенные метафизические позиции. Поиски истоков христианской философии предполагают тем самым нечто большее, чем отыскание далеких отголосков греческих идей в новозаветных текстах, скажем платоновских и филоновских обертонов в Послании к Евреям. Пролог к Евангелию от Иоанна с его отождествлением Логоса как света, просвещающего всякого человека, с Логосом, обретшим плоть во Христе, с самого начала заставляет ожидать неявной апологии греческого мира, однако остальная часть Евангелия более озабочена другими вопросами, странным образом сближающими его скорее с Кьеркегором, чем с Платоном, о котором нам удается лишь сказать, что он имел отдаленное влияние на происхождение мысли евангелиста. У св. Павла присутствует несколько случайных намеков на платонизм, в частности в беседе с коринфянами о бессмертии (2 Кор. 3—5). Обвинение языческого культа в поклонении твари вместо Творца (Рим. 1) обосновывается допущением, что «то, что возможно знать о Боге», может быть усмотрено естественным разумом в созерцании мира. В Послании к Римлянам (2) св. Павел явно ссылается на представления стоиков о совести и естественном законе, а также с достоинством пишет о самодостаточности и естественной добродетели (Фил. 4). Однако распространенная ошибка — усматривать в раннехристианской этике простую ассимиляцию расхожих стоических идеалов и считать «Seneca saepe noster»* Тертуллиана частным случаем
* «Сенека часто наш» {лат.) — то есть во многом близок к христианству. — Примем, перев.
НАЧАЛО ХРИСТИАНСКОЙ ФИЛОСОФИИ: ЮСТИН, ГНОСТИКИ
219
этого явления. При более пристальном рассмотрении различия оказываются весомее сходств. Например, молитва Сенеки есть отступление перед безликой судьбой. Его одобрение героического самоубийства разительно противоречит словам св. Павла (Фил. 1). Его свобода есть самодостаточность, тогда как для апостола «свобода» есть освобождение от оков греха и преобразование отношения к Богу: от положения виновного ответчика перед судьей к родственным узам сыновней любви. Пессимистические картины человеческой порочности Сенеки превосходят любые описания у св. Павла, но для последнего мрачное суждение о человеке есть лишь коррелят глубокого осознания святости и благодати Бога. Послание к Римлянам (8) не было написано пессимистом. Тогда как идеалы всеобщего братства Сенеки сводятся к туманной благожелательности, св. Павел, скорее, имеет в виду определенные и самоценные акты милосердия, вызванные благодарностью за Божью любовь, явленную в самозабвенном смирении Христа. Подобные противопоставления могут, пожалуй, предостеречь нас от упрощающих отождествлений даже в тех пунктах, где сходство достигает апогея. Как бы то ни было, за исключением отдельных совпадений в деталях, исходные основания новозаветной мысли отличаются от платонизма и стоицизма. Новозаветный Бог — Творец, «живой Бог» пророков, началом «царствия» (или правления на земле) которого является пришествие помазанника, царя и пророка, «Мессии», или Христа, созывающего из мира священную общину для подготовки ее к последнему свершению. Откровение заключается в божественных деяниях в истории, приближающейся к концу, который есть полное осуществление воли Творца и его окончательная победа над злом. Согласно этой схеме, христиане имели «прямолинейное» представление о Церкви в истории, движущейся к цели под руководством божественного провидения, в отличие от циклических представлений о судьбе космоса платоников и стоиков.1 Благодаря вере в верховное провидение, заботящееся обо всем человечестве, история представлялась им делом не только местного или национального значения, но касалась мира в целом. И хотя Ветхий Завет занимал в этой схеме особое место, его особенность служила всеобщей цели, предсказанной иудейскими пророками и теперь должной быть реализованной всемирной миссией Церкви в отношении народов,
1 Барр предостерегает от обобщения, что библейская мысль об истории в целом «прямолинейна», а все греки мыслили циклично (Barr J. Biblical Words for Time. London, 1962. P. 137 ff.).
220
ФИЛОН И НАЧАЛО ХРИСТИАНСКОЙ МЫСЛИ
независимо от расы, класса или образования. Эта христианская проповедь предполагает композицию идей, касающихся плана Бога в творении, благой божественной цели, расстроенной человеческой гордостью и алчностью, но благодаря вести о божественном спасении преодолевающей разрыв между человеком и Богом, возникший из-за кратковременности конечного и устойчивости греха, и пребывающей в процессе подлинного осуществления. И хотя предвкушения и наброски отдельных элементов этой композиции можно обнаружить как на греческой, так и на иудейской стороне, ее дух существенно христианский, и это больше, чем что- либо другое, определяет характер христианской философии, когда она постепенно начинает обретать форму в эпоху отцов Церкви.
Первые серьезные начатки христианской философии появляются у Юстина Мученика в середине II века. Из сочинений, вышедших из-под его пера, в нашем распоряжении «Апология», адресованная императору Антонину Пию, так называемая «Вторая апология», которая есть дополнение к первой, вышедшая в Риме во время гонений, и длинный диалог с Трифоном Иудеем, дошедший до нас не полностью, но имеющий очень важное значение для Юстиновой теологии. Деяния мученичества Юстина (ок. 162—168) также сохранились. Он родился в Самарии, но перебрался в Эфес, где посещал занятия у целого ряда разных учителей философии. Согласно его воспоминаниям в «Диалоге»,1 его звала религиозная нужда. Он начал с учителя-стоика, который, впрочем, не смог удовлетворить его исканий, после чего отправился к перипатетику, который вскоре обнаружил свою несостоятельность в качестве проводника на пути к истине, выказав нефилософскую озабоченность своим вознаграждением. Затем был пифагореец, но он настаивал, чтобы Юстин, дабы воспринять теологию, прежде выучился музыке, астрономии и геометрии, которые бы отлучили его ум от чувственных предметов и сделали привычным размышление о нематериальных сущностях.1 2 Тогда Юстин пошел к платонику, которым остался доволен, в частности потому, что завершением этой философии было «вйдение Бога», и значительно продвинулся в поиске самого себя. Но однажды, размышляя в одиночестве на морском берегу, он повстречал старика, который
1 Iustin. Dial. 2.
2 Вероятно, Юстин нашел подтверждение важности этих исследований у Платона (Phil. 55—56). Ср.: Prot. 318е; Corpus Hermeticum. Asclepius 13. Мнение учителя-пифагорейца находит соответствие у Филона (Congr. 12 ff.), средних платоников Альбина (Isag. 7) и Тавра (Gellius. N. А. I 9), а также у Климента (Str. VI 90).
НАЧАЛО ХРИСТИАНСКОЙ ФИЛОСОФИИ: ЮСТИН, ГНОСТИКИ
221
(в том числе с помощью аристотелевских аргументов) поколебал его доверие к платонизму, а затем рассказал о боговдохновенных пророках Писания. Юстин был обращен. В «Диалоге» его обращение является завершением интеллектуального поиска, хотя из «Апологий» явствует, что глубокое впечатление на него также оказали мужество и прямота христианских мучеников.1 Не исключено, что в рассказе Юстина, где время от времени в mise-en-scene «Диалога» встречаются платонические обертоны, присутствует известный «литературный» элемент. Манера, в которой он описывает свой разговор, предполагает, что решение стать христианином не означало полного разрыва с прошлым и что между платонизмом и христианством существует тесная связь. Юстин убежден, что с помощью нескольких необходимых уточнений и исправлений Платон и Христос могут быть благополучно примирены, поскольку как в Библии, так и у Платона Бог трансцендентен, пребывает за пределами пространственно-временного материального мира, безымянен, бестелесен, неуязвим и неизменен.1 2 И Бытие, и «Тимей» повествуют о том, что космос сотворен и зависим от божественного волеизъявления (Юстин не настаивает на творении ex nihilo).3 Платон также верно говорит о родстве души с Богом и о свободной воле.4 Правда, Платон ошибался в том, что считал бессмертие души свойственным ей по природе, а не божественным даром, как и в том, что придерживался циклического учения о метемпсихозе.5 Несмотря на это, он осознавал, что языческие культы и мифы ложны, и обнаружил понимание необходимости божественного откровения в знаменитом утверждении «творца и родителя этой вселенной нелегко отыскать, а если мы его и найдем, о нем нельзя будет всем рассказывать».6
Программа Юстина ясна: полное отрицание политеистического мифа и культа вместе с открытым приятием лучших составляющих греческой философской традиции. О созвучии христианства с этими составляющими Юстин пишет с нескрываемым оптимизмом. Подобно Филону, он эклектик не в смысле желания
1 Iustin. Apol. II 12, 1.
2 Iustin. Dial. 5. 4; 127. 2; Apol. I 9—10; 13; 61; II 6; 12.
3 Dial. 5 отрицает предложенное некоторыми платониками толкование «Тимея» (41), согласно которому космос несотворен. Ср.: Apol. I 10 и 59 (неоформленная материя), особенно о согласии христианства и платонизма в отношении творения (20) и о том, что «Тимей» подражает Книге Бытия (60).
4 Dial. 4. 2; Apol. I 44.
5 Dial. 4—5.
6 Tim. 28c в Apol. II 10.
222
ФИЛОН И НАЧАЛО ХРИСТИАНСКОЙ МЫСЛИ
примирить всех и вся ради самого примирения, но в том смысле, что библейское откровение вручает ему мерило истины и лжи в оценке философов. Так, он заявляет, что платоники правы в отношении трансцендентности Бога, но ошибаются в том, что касается бессмертия души и метемпсихоза. Стоики правы благородством своих принципов, но в корне заблуждаются, отстаивая фатализм и пантеизм, а также материалистическое учение, согласно которому душа и даже сам Бог суть очень тонкая духовная, но небестелесная субстанция.1 Юстин отвергает космическую религию своей эпохи так же решительно, как и пессимизм гностиков. Тем самым он в значительной степени ссылается на христианскую оценку естественного порядка вещей — не как божественного в себе, а, скорее, как священной лестницы к Творцу. Юстинова критика стоицизма ничем не отличается от той, которую можно найти у многих современных ему платоников, однако его отрицание природного бессмертия души и учения о метемпсихозе основывается на его совершенно правильной догадке, что учение, из которого следует бесконечное число жизней для каждого индивидуума, а также бесцельность существования, нелегко согласовать с христианским понятием о Боге и о его отношении к сотворенному и искупаемому миру.
Юстин выражает свое положительное отношение к греческой философии отчасти традиционным предположением о том, что греческие философы изучали Ветхий Завет, но главным образом своим учением о божественном Логосе. Слово и Мудрость, которые суть Христос, суть также и Разум, присущий всем вещам, в особенности разумному творению. Всякий, кто наделен мыслью и действует разумно и праведно, разделит во Христе всеобщий Логос.1 2 Сократ и Авраам в равной мере христиане до Христа.3 Благодаря этому поразительному учению Юстин становится родоначальником схемы мировой истории, рассматривающей христианство в качестве замкового камня арки, образованной сопряжением греческой и иудейской цивилизаций. Именно подробно разработанная теология истории подвигает Юстина навстречу читателям-язычникам.
Во «Второй апологии» Юстин излагает собственную версию стоического понятия spermatikoi logoi в природе (семенных начал, являющихся причиной рождения) и Бога как spermatikos logos ми¬
1 Apol. II 7—8.
2 Ibid. II 10; 13.
3 Ibid. I 46.
НАЧАЛО ХРИСТИАНСКОЙ ФИЛОСОФИИ: ЮСТИН, ГНОСТИКИ
223
ра.1 Филон описывал божественный Логос как spermatikos logos.1 2 Юстин использует эту идею, но не чтобы объяснить естественное зарождение и рост, но чтобы доказать, что всякое разумное существо сопричастно всеобщему Логосу и носит в себе его часть, подобно семени, посеянному божественным Сеятелем. Этой идеей он объясняет разногласия философов в поиске единой истины: каждый обладал лишь долей истины, а Христос есть то целое, частями которого они обладали. Несмотря на свойственную Юстину наивность выражения, не лишен значения его исходный замысел. Он пытается сформулировать утверждение о единстве познания с верой в Бога как в средоточие и истолкователя целого.
Учение о Логосе значимо для Юстина не только в качестве апологетической концепции, то есть удобной вспомогательной идеи, позволяющей протянуть руку примирения интеллектуальным оппонентам. Оно существенно для самой структуры его теологии. В диалоге с Трифоном Юстин опирается на платоновское представление о Боге как о слишком трансцендентном и отвлеченном, чтобы иметь с миром непосредственные отношения. Соответственно, Бог, явившийся Моисею в неопалимой купине и патриархам в теофаниях Ветхого Завета, несомненно, есть Сын- Логос.3 Юстин сводит воедино библейское различение Отца и Сына и платоновское различение Бога в самом себе и Бога в его отношении к миру. «Отец» означает Бога трансцендентного, а «Сын» — Бога имманентного. Последствия этого включения платоновской мысли в тринитарное учение Юстина стало причиной острых противоречий в споре с арианами, однако развитие этой темы относится скорее к истории теологии, чем к истории философии. Как бы то ни было, важно отметить, что намек на христианскую Троицу Юстин обнаруживает в том числе в загадочном предложении из Второго платоновского письма: «Все тяготеет к царю всего и все совершается ради него, он — причина всего прекрасного. Ко второму тяготеет второе, к третьему — третье».4 Замечание Юстина является самым ранним доказательством того, что это неясное высказывание обсуждалось в платоновских школах за сто лет до Плотина, для которого данное предложение относилось к трем изначальным ипостасям.
1 Ibid. II 13.
2 Philo. Heres 119.
3 Iustin. Dial. 55 ff.; 126—128; Apol. I 63.
4 Apol. I 60, цитируя Платона (?) Ер. II 312e. Cp.: Нумений в Eus. PE IX 18; Athenagoras. Leg. 23; Hipp. Ref. VI 37. 5; Clem. Strom. V 103; Orig. Contra Celsum VI 18.
224
ФИЛОН И НАЧАЛО ХРИСТИАНСКОЙ МЫСЛИ
Роль Юстина в утверждении доктрины о Логосе в цитадели ортодоксальной теологии настолько значима, что невозможно не поразиться открытию, что ни Филон, ни Евангелие от Иоанна не сыграли сколько-нибудь важной роли в формировании основной структуры его мысли. По зрелом размышлении оказывается более вероятным, что Юстин был знаком с Евангелием от Иоанна, хотя и не цитировал его дословно; однако Иоаннова теология почти не оказала на него влияния. Юстин олицетворяет собой более расхожее христианство, сосредоточенное на вопросах морали, божественных деяниях в истории — жизни, смерти и воскресении Христа, а также на эсхатологическом ожидании грядущего суда. Иоанновы темы явным образом слишком утонченны для его ума. Его отношение к Филону не менее проблематично. Как человек и как писатель он не столь изощрен. И в «Диалоге», и в «Первой апологии» господствуют аргументы от пророчества, а его разум полон типологических соответствий между Ветхим и Новым Заветами. Свой отказ от буквального прочтения Юстин оправдывает указанием на присутствующие в тексте странности, противоречия, излишества и замалчивания. При этом у него нет ничего подобного Филоновой аллегории.1 У обоих присутствуют схожие апологетические мотивы, например, что философы обязаны своей мудростью Библии и что их разногласия сводят на нет их претензии на окончательную истину, однако эти общепринятые банальности не доказывают вторичности Юстина. Во многих отношениях они действительно близки. Юстин пространно развивает тезис о том, что ветхозаветные богоявления, такие как неопалимая купина, суть проявления Логоса, а не всевышнего Отца. Он отрицает всякого рода антропоморфизм в учении о Боге и, подобно Филону, настаивает на безымянности Господа.1 2 Он объясняет исхождение Логоса от Бога аналогией, которую использовал Филон для объ¬
1 Например, коренное различие в истолковании поражения амалекитян {Philo. V. Mos. 1217; Iustin. Dial. 90), вавилонской башни {Philo. Conf. 162; Iustin. Dial. 102) или проклятия Хама {Philo. Qu. Gen. II 65—70; Iustin. Dial. 139). Поясняя Бытие (1:26) («сотворим человека»), Трифон отрицает, как еретический, взгляд, согласно которому человеческое тело есть создание ангелов; Филон же приближается к такому взгляду (Qu. Ex. II 33; ср.: Conf. 179, Fuga 68 ff.). Аргументы в пользу зависимости Юстина от Филоновой экзегезы хорошо обоснованы Зигфридом {Siegfried С. Philo von Alexandria als Ausleger des alten Testaments. Jena, 1875. S. 332—340) и весьма уязвимы в книге: Heinisch Р. Der Einfluss Philos auf die alteste christliche Exegese. Munster, 1907. S. 36—39. Аргументы против см.: Shotwell W. A. The Biblical Exegesis of Justin. London, 1965.
2 Iustin. Apol. I 61; 63; II 6; 12.
НАЧАЛО ХРИСТИАНСКОЙ ФИЛОСОФИИ: ЮСТИН, ГНОСТИКИ
225
яснения принципа неиссякающего дарения, — возжжением одного светильника от другого.1 Однако он отвергает, как неподходящую, аналогию солнца и солнечного света, так как она в должной мере не передает инаковости Логоса, который есть другой не только по имени, но и по числу (в отрывке, который можно рассматривать в качестве аргумента против эллинизированного иудаизма).1 2 Как бы то ни было, эти аналогии суть опять-таки общие места его времени, и, хотя между Филоном и Юстином существует ряд совпадений в деталях, их сопоставление большей частью представляет собой длинный список различий. Одно примечательное несовпадение касается отношения к языческому политеизму. Филон отвергает его как суеверие и хотя и признает, что поклонение солнцу, луне и звездам, во всяком случае, является более высокой формой религии, чем материалистическое идолопоклонство, тем не менее усматривает сущность язычества в поклонении твари вместо Творца.3 Филон редко пишет о злых силах. Для Юстина же языческие боги суть деятельные враждебные духи (демоны), столь же безнравственные, сколь их изображает в своих мифах Гомер, поклявшиеся вредить Богу, дабы поработить человечество и обманывать его поддельными откровениями, лживыми чудесами и пародиями на Евангелие (довод, являющийся ответом Юстина на аргументы со стороны синкретической религии).4 У современных Юстину платоников и пифагорейцев присутствует заметный интерес ко злу или по крайней мере к более низким сущностям, daimones.5 Юстин в определенной степени разделяет этот интерес. Но демоны значимы для него в том смысле, что искупительный подвиг Христа приносит избавление от их власти и от железной руки «необходимости».6 Словом, Юстин изображает со всей энергичностью то, что означал для него опыт спасения. Пожалуй, наиболее разительным отличием (особенно ввиду заявленного им
1 Dial. 61.2.
2 Dial. 128. 4. Ириней (Adv. haer. II 13) осуждает использование каких-либо аналогий для объяснения отношения Сына и Отца. По поводу Логоса в качестве «другого» или «второго» Бога см. Филона в Eus. РЕ VII 13. 1—2.
3 См. выше, с. 208, прим. 2—5. Относительно поклонения небесным телам, позволенным язычнику, согласно Deut. IV 19, см.: Iustin. Dial. 55. 1, а также Clem. Strom. VI 110; Orig. In Joh. II 3.
4 Главным образом Apol. I 5 и II 5. Cp.: Wey H. Die Funktionen der bosen Geisterbei den griechischen Apologeten des zweiten Jahrhunderts. Winterthur, 1957.
5 Pint. Dion. 2; De def. or. 14 ff.; De gen. Socr. 22 if.; Porph. Abst. II 37—43 (возможно, из язычника Оригена, как предполагает Леви); Цельс в Orig. Contra Celsum VIII 55; Корнелий Лабеон в Aug. De civ. VIII 13.
6 Dial. 45, 88, 100. Крещение освобождает от «необходимости»: Apol. 161.
226
ФИЛОН И НАЧАЛО ХРИСТИАНСКОЙ МЫСЛИ
стремления узреть Бога) является отсутствие у него какого-либо мистического языка, подобного Филоновому. Различаются они и в своем отношении к философии: Юстин не обучался музыке, геометрии и астрономии, о достоинстве которых немало говорил Филон. С другой стороны, используемое Филоном стоическое понятие spermatikos logos Юстин понимает совершенно иначе. Если Юстин и читал Филона, то глубокого влияния тот на него не оказал.
Этика Юстина представляет собой довольно прямолинейное изложение Нагорной проповеди. Христианская этика находится в полном согласии с естественным законом.1 Юстину известно, что христианская доктрина о грядущем Божьем суде (которую он отстаивает по двум основаниям: во-первых, в силу ее сходства со стоической эсхатологией, а во-вторых, поскольку она служит причиной образцового поведения и добродетельности граждан) уязвима для философского обвинения в том, что она страхом загоняет людей в Церковь и что корыстные душеспасительные побуждения препятствуют тому высшему стремлению к добродетели ради нее самой, которое, собственно, и делает это стремление добродетельным.1 2 И все же он считает божественное оправдание правильного и благого, наряду с утверждением человеческой ответственности, существенным для нравственности и веры в провидение.
Юстин исходит из весьма оптимистичного доверия к человеческому разуму. Если снести преграды предрассудков и неосведомленности, истина божественного откровения во Христе воссияет сама. Это доверие отдаляет Юстина и его единомышленников- апологетов от позиции, отстаиваемой их современниками гностиками.
В эллинистическую эпоху гностицизм являлся скрытой формой религиозного синкретизма, объединявшей в себе многообразные культовые элементы в рамках общей дуалистической системы с целью рационального обоснования морали, обычно аскетической, хотя иногда впадающей и в противоположную крайность. Гностицизм одержим идеей зла и, в сущности, состоит в радикальном отрицании этого мира, являющегося в лучшем случае трагической случайностью, в худшем — проявлением злой воли. В своих низших формах он находит себя в астрологии, магии и ритуалах,
1 Apol. I 13 ff.; 27—28. Филон считает, что таков закон Моисея (Abr. 6; V. Mos. II 52).
2 Apol. II 9; I 20; 44.
НАЧАЛО ХРИСТИАНСКОЙ ФИЛОСОФИИ: ЮСТИН, ГНОСТИКИ
227
призванных усмирить враждебные космические силы. В высших формах, будь то языческий гнозис герметических трактатов или христианский гностицизм Валентина, присутствуют сильные философские составляющие, производные от пессимистической интерпретации платонизма. Претензия гностицизма состояла в готовности примирить религию искупления и философский мистицизм. Плотин обнаружил распространенность этого вида теософии даже среди своих учеников и написал пылкий трактат «Против гностиков», чтобы отбросить его, как искаженную карикатуру на Платона, которая не имела достаточных оснований претендовать на верность греческому рационалисту.1 Правда, такие неоплатоники, как Порфирий или Юлиан, заодно с гностиками отрицали учение христиан о том, что верховный бог сам может быть творцом материального мира. Для христиан же гностицизм был неприемлем по причинам, аналогичным тем, какие излагает Плотин. Невозможно было примирить с христианством крайний пессимизм в отношении сотворенного порядка сущего, поскольку это приводило к отрицанию Ветхого Завета и последующему разрушению основной христианской модели творения и откровения в истории. Это также означало утверждение того, что естественный разум человека совершенно бессилен и что религия должна быть чистым откровением, спасающим только избранных, извечно предопределенных ко спасению, и отвергающим остальных как не имеющих изначального происхождения от сотворенного Богом сущего.
Гностицизм был очень привлекательным учением во II столетии, в основном для недостаточно или посредственно образованных христиан, озабоченных не вполне согласующимися с христианством местами из Ветхого Завета и чуравшихся грубости неграмотных верующих. Отстаивание христологическим догматом исторической фактичности Евангелия стало залогом последовавших разногласий. Простые верующие резко отреагировали на гностицизм, заявив, что вера крещеного не нуждается ни в каких дополнениях и поправках со стороны философского знания. Это настроение получило яркое и красноречивое выражение у Тертуллиана, объявившего философию матерью ереси. Ипполит положил в основание опровержения еретических сект нелепое предположение о том, что идеи каждой из них восходят к тому или иному греческому философу. Утверждение Ипполита
312.
1 О Плотине и гностицизме см. раздел III, гл. 12, с. 269—271 и гл. 15, с. 311—
228
ФИЛОН И НАЧАЛО ХРИСТИАНСКОЙ МЫСЛИ
представлялось здравомыслящим читателям его времени почти столь же невероятным, сколь и сегодня. В действительности за этим обвинением стоял тот факт, что ряд основных положений гностиков произошел от пессимистически воспринятого ими платонизма. Человеком, которому удалось объединить позитивное отношение к философии и критику гностицизма, был Климент Александрийский.
Глава 10
КЛИМЕНТ АЛЕКСАНДРИЙСКИЙ
Климент родился, по всей вероятности, в языческой семье примерно в середине II века и умер до 215 г. Он учился у целого ряда христианских учителей, последним из которых был, по свидетельству Евсевия, Пантен Александрийский — обратившийся в христианство философ-стоик. В Александрийской церкви II столетия произошел раскол между простыми верующими, страх которых перед гностицизмом укрепил их еще больше в нерефлексирующей «ортодоксии» (термин, все активнее входящий в обращение в ту эпоху),1 и образованными христианами, в значительной степени ориентированными на гностицизм, хотя и по той единственной причине, что гностиками были наиболее выдающиеся интеллектуалы Александрии. Пантен, согласно Клименту, получил известность благодаря тому, что разумно излагал Писание без опоры на апостольское учение.1 2 Это представляется несколько необычным. Климент видит свою задачу в продолжении демонстрации того, что подлинное христианство не есть обскурантизм и что в Церкви есть место положительной оценке гуманистических ценностей греческой литературы и философии. Таким образом, доводы Климента направлены одновременно против гностиков, церковных обскурантистов и тех образованных вероненавистников, которые представляют веру враждебной цивилизации и культуре вообще. Он опирается на тезис Юстина о том, что, хотя политеизм и следует полностью отвергнуть, ценности греческой литературы
1 Климент (Strom. I 45. 6) пишет о «так называемых ортодоксах», которые, «подобно скотине, работают из страха и выполняют свою работу хорошо, не зная, что делают». Ранее Юстин (Dial. 80. 5) описывает христиан, которые верят в грядущее Тысячелетнее царство, как όρθογνώμονες κατά πάντα. Все исходные значения понятия «ортодоксия» ясно сформулированы Иринеем.
2 Strom. 111.
230
ФИЛОН И НАЧАЛО ХРИСТИАНСКОЙ МЫСЛИ
и философии не только терпимы в христианстве, но и реализуются в нем. Этот тезис он объединяет с воззрением Филона на отношение разума и откровения.
Климент воспроизводит, подчас в Филоновых выражениях, тезис из «О соитии для обучения» о том, что философия приуготовляет душу к богословию откровения так же, как музыка, геометрия и астрономия тренируют ум для занятий философией, делая его способным воспринимать абстракции вне конкретных пространственных форм и возвышая его над землей.1 При этом Климент, в отличие от Филона, гораздо больше интересуется логикой, но не просто как софистической игрой, а как незаменимым для теолога интеллектуальным навыком.1 2 VIII книга «Стромат», целиком состоящая из предварительных замечаний к предшествующим семи книгам и, скорее всего, составленная из записей Климента после его смерти, в полной мере демонстрирует, насколько важное значение он придает логическому вопрошанию, в частности в том, что касается эпистемологии, природы религиозного восхождения, а также опровержения скептицизма относительно самой возможности знания. Он показывает, что акт веры можно рассматривать либо как аналогию рабочей гипотезе, впоследствие подтверждаемой моральным экспериментом, либо как доверие к авторитету, которое (поскольку под авторитетом понимается божественная любовь) не имеет в себе иррациональной составляющей и не допускает уничижительного подобострастия.3 В адрес малообразованных верующих, которые не доверяют подобным положениям, он заметил однажды, что дьявол не мог быть изобретателем логики, как полагают некоторые обскурантисты, поскольку во время искушения в пустыне Господь одолел дьявола двусмысленностью, которую тому не удалось обнаружить.4
Вера и знание, как многократно утверждает Климент, не только совместимы, но и взаимно необходимы.5 Гностическому пренебрежению верой Климент решительно противопоставляет достаточность веры для спасения. Христианское крещение также не следует оставлять без внимания.6 Однако образованные и зрелые христиане будут искать способы понимания, превосходящего ка¬
1 Strom. I 30—32; VI 80 ff.; 90.
2 VI 81. 4 (цитирует RP 534е); 156. 2.
41.
4 44.
5 V 1.3.
6 Paed. 125—26. Обратите внимание на настойчивое отстаивание «простоты» как отличительной черты детей Божьих.
КЛИМЕНТ АЛЕКСАНДРИЙСКИЙ
231
техизическое, и эта теология более высокого порядка необходимо задействует философию.1 Следует остерегаться возможного проникновения языческих идей, несовместимых с истинной верой, но философских аргументов не избежать — не только в споре с ересью и для защиты веры от внешних нападок, но и в деле разъяснения ключевых моментов христианского учения.
Любое проявление односторонности и ограниченности Климент отражает с позиции учения о творении. Вся истина и благо исходят от Бога, где бы их ни обнаруживали. Христос является объединяющим принципом всех отдельных фрагментов знания.1 2 Господь, подобно учителю давший иудеям Ветхий Завет, чтобы привести их ко Христу, по той же причине дал грекам философию. Ветхий Завет и греческая философия — два притока одной великой реки.
Климент предлагает две основные теории происхождения философии. Во-первых, утверждение, согласно которому греки присвоили себе мысль Моисея и пророков. В отличие от Юстина, у Климента оно имеет полемический характер, что, возможно нацелено на успокоение простых верующих. Впрочем, фактическое его воздействие состоит в том, что оно овевает многочисленные платонические положения Климента ароматом библейского авторитета. Во-вторых, он считает, что положительное значение философии для теологии состоит в сочетании мыслительной способности и озарения, вложенных в человека Творцом. Образ Бога из Книги Бытия (1:26 f.) представляет собой божественный Логос, являющийся прототипом человеческого разума.3 Климент негласно опирается на воззрение Филона о том, что два сообщения о творении в Книге Бытия описывают создание умопостигаемого и чувственного миров.4 Он также нападает на тех, кто полагает, будто божественный образ в человеке означает что-либо физическое.5
Климент ни разу не упоминает Юстина Мученика (хотя тепло отзывается о его ученике Татиане и переписывает отрывок из его хронологических вычислений, с целью наглядно доказать историческую отдаленность Моисея6), однако его утверждение о ценности лучших образцов греческой философии сильно напоминает
1 Strom. I 35; VI 165; и так далее.
2 I 58—59.
3 Protr. 98.
4 Strom. I 28—29; VI 67; 117.
5II 74—77; VI 114. 4—5.
6 I 101 (в III 81 он осуждает Татиана за ересь энкратитства).
232
ФИЛОН И НАЧАЛО ХРИСТИАНСКОЙ МЫСЛИ
Юстина. Кроме того, он излагает свою собственную версию принадлежащего Юстину учения о семенном Логосе, заронившем семена истины во все разумные существа. Тем самым Климент более сложным языком повторяет утверждение Юстина о том, что вся истина, целиком присутствующая во Христе, частично наличествует в отдельных философских школах.1 Эклектизм Климента, так же как и Юстина, не является, конечно, совершенно независимым построением. Он во многом произволен от современного ему среднего платонизма, который, как выразительно отмечает Климент, уже примешал к Платону немалую долю этики стоиков и логики Аристотеля.1 2 Он предъявляет последнему традиционные претензии, что тот отвергает провидение в подлунной сфере, а стоикам — что их первоосновы материалистичны, пантеистич- ны и детерминированы.3 И тем не менее в обсуждении природы согласия он во многом опирается на аристотелевскую логику, а в этических вопросах немалым обязан стоикам. Философ, заслуживший наивысшую похвалу Климента, — это Платон. Впрочем, и здесь находится место для критики. Климент отвергает учение Платона о том, что звезды одушевлены божественными душами, объясняющее упорядоченность их движения. По мнению Климента, небесные тела существуют главным образом для того, чтобы сообщать о ходе времени. Что же касается их влияния на ход вещей на земле, то здесь они не самостоятельны, но следуют Творцу.4
Говоря о творении, Климент настойчиво отвергает мысль о том, что мир вечен или что он сотворен во времени.5 Он не отрицает существования лишенной качеств материи как сырого материала и довольно неопределенно (подобно Филону и Юстину) говорит о творении ex nihilo. Бог творит мир из материи, которая, поскольку лишена формы, пребывает изначально в состоянии относительного небытия (μή ον), и это учение присутствует как в Книге Бытия, так и в «Тимее».6 Такая формулировка удовлетворяет Климента тем, что она сохраняет трансцендентность Бога, с одной стороны, и случайность сотворенного космоса, с другой. Это не означает, что материя является совечным Богу первоначалом. Онако дальше Климент не идет. Заявленное им намерение из-
1 Strom. I 37.
2 II 22 ff.; 100—101; V 95—97; VI 5. 1; 27. 3.
3 Protr. 66; Str. V 89—90.
4 Strom. VI 148; cp.: Protr. 63; 102.
5 VI 142; 145.
6 V 89; 92.
КЛИМЕНТ АЛЕКСАНДРИЙСКИЙ
233
дожить космогонию так и не было осуществлено.1 Ему достаточно сказать, что все, что только существует в бытии, имеет Бога своей причиной и нет ни единой части творения, лишенной его заботы.1 2 В одном месте он заявляет, что «Бог был Богом до того, как стал Творцом», то есть мир не необходим Богу.3
В своем учении о душе Климент, насколько это возможно, близок к платоникам. Он явно согласен с платоновским учением о том, что душа имеет три части и что добродетель состоит в гармонии этих частей (это, впрочем, не мешает ему использовать язык стоиков и Аристотеля по отношению к добродетели в других контекстах). Он полностью принимает независимость души от тела, что подтверждается странствованиями души во снах,4 и говорит, что смерть разрывает цепь, которой душа прикована к телу.5 Тем не менее ему представляется сомнительной мысль о том, что душа сошла с небес, чтобы оказаться заключенной в земную материю. И хотя эту мысль и возможно встретить у Климента,6 она казалась ему настолько опасно близкой к гностицизму, что он отрицал, будто душа в наказание была послана в мир.7 Клименту удается показать, что односторонняя гностическая интерпретация Платона искажает оригинал;8 впрочем, он вынужден признать, что у Платона есть немало общих черт с гностическим мировоззрением,9 и потому он склонен противостоять обоим, утверждая, что бессмертие не является неотъемлемым природным свойством души, но есть дар спасения во Христе.10 * Душа не является частью Бога,11 но сотворена его благостью и как таковая является чистым объектом божественной любви.12 И все же эта любовь не есть нечто само собой разумеющееся, как полагают еретики. Одна из фундаментальных причин недовольства гностиками состоит в том, что их учение о божественной искре в избранном стирает границу между Творцом и творением.13
1 Strom. Ill 13; 21; IV 2; V 140; VI 4; Quis dives 26.
2 Paed. I 62.
3 Paed. Ill 1.3; Strom. IV 18. 1.
4 Paed. II 82.
5 Strom. IV 12.
6 Quis dives 33; 36; Strom. VII 9. 3.
7 Strom. IV 167. 4; cp. Ill 93. 3; Eel. Pr. 17.
8 Strom. IV 18. 1; III 12 ff.
9 III 12; 17—21.
•o Protr. 120.
" Strom. V 88.
12 Paed. I 17.
13 Strom. II 74; 77.
234
ФИЛОН И НАЧАЛО ХРИСТИАНСКОЙ МЫСЛИ
Позиция Климента относительно переселения душ неясна, поскольку обещанное им рассмотрение его так и не осуществилось. Фотий обвиняет Климента в обучении метемпсихозу и некоторым другим ересям в «Ипотипосах», возможно небезосновательно, хотя едва ли найдется нечто более ортодоксальное, чем дошедшая до нас латинская версия Кассиодора.1 Во всяком случае, в «Строматах» Климент не так уж благосклонен к этому учению. Так, он отмечает, что если христианин и окажется вегетарианцем, то не на основании пифагорейского принципа, основанного на вере в переселение душ в животных.1 2 Он решительно отвергает детерминистское учение стоиков о тождественных мировых циклах, прерываемых через огромные временные промежутки огненными катаклизмами. Подобно Юстину, он полагает, что теория космических сожжений произошла от неверного понимания того, что говорится в Библии об очистительном огне суда Господня.3
Юшмент не выносит детерминизма ни в какой форме. Для него он играет на руку гностикам и подрубает корни нравственной жизни. Добродетель напрямую зависит от свободной воли, а действия автомата ни добродетельны, ни порочны, не заслуживают ни похвалы, ни осуждения.4 Мы не марионетки.5
Климентово изложение христианской этики намеренно выражается в образе, близком к строгому стоическому мудрецу, который, чтобы быть счастливым, не нуждается ни в чем внешнем, кроме самой добродетели.6 Климент отвергает стоическую доктрину, согласно которой жалость есть слабость, подлежащая искоренению, а самоубийство может быть героическим и оправданным.7 Однако стоический идеал «жизни согласно с природой» сродни христианскому учению о том, что образцом является соответствие назначению, приуготованному Творцом, и что несоответствие этому назначению есть грех. Поэтому Клименту было легко принять отождествление «жизни согласно с природой» с платоновским определением высшего блага как «уподобления богу насколько возможно».
Климент восприимчив к критике того обстоятельства, что Новый Завет в определенной степени сулит небесные блага за
1 См. издание Штэлина: III. Р. 202—203.
2 Strom. VII 32. 8.
3 V 9; ср.: Iustin. Apol. I 20; II 7.
4 Strom. II 26 ff.
MI И; ср. IV 79; VIII 39.
6 Эта тема развернуто излагается в Strom. VII.
7 Strom. IV 38; VI 75.
КЛИМЕНТ АЛЕКСАНДРИЙСКИЙ
235
добродетельные поступки и угрожает наказанием за неискупленные грехи. Однако он оправдывает посмертное вознаграждение не только как истинно платоновское,1 но и как полезное педагогическое учение: оно необходимо тем, кто слаб духом, а более зрелый христианин движим исключительно любовью к Господу и благу, а не страхом перед адом и надеждой на небеса.1 2 Этот этический вопрос является предметом особого внимания в IV книге «Стромат», в которой Климент пространно рассуждает о мученичестве. Мученики нередко были простолюдинами, и их следовало предостерегать, чтобы они не сердили власть придержащих (поскольку христианство запрещает самоубийство)3 и не молились о грядущей Божьей каре на своих обидчиков, вместо того чтобы молиться об их обращении и осознании ими того, что тот, кто ныне им враг, может стать им братом;4 чтобы не небесное царство имели своим мотивом, а порядочность и любовь к Богу.5 На критику язычников, которые считают мучеников чудаками, христианин мог бы ответить примером Сократа и множеством других случаев стоической непреклонности перед лицом тирании.6 Во всяком случае, страх, надежда и честолюбие — низшие ступени на лестнице духовного восхождения. Для неофитов они, возможно, и необходимы, но по мере совершенствования в духовной жизни должны быть оставлены позади.7
В основании рассуждения Климента о страхе как допустимом мотиве праведного поступка лежит вопрос о должном месте понятий закона и справедливости, намеренно поднятый гностиками, которые, отрицая мир, отрицали также Бога Ветхого Завета как его Творца и тем самым напрочь отвергали и само понятие морального закона.8 Ссылаясь на св. Павла,9 они желали доказать, что единственным этическим принципом должна быть любовь и что это отрицает любую мысль о страхе и внешнем ограничении. Не в одной секте практические последствия этого антиномичного принципа
1 Strom. IV 44. 2.
2 VI 98—99.
3IV 13 ff.; 71; 76 f.
4 IV 7; VII 84.
5 VI 14; 29; 46; 75.
6 IV 80; 56 ff.
7 I 171 ff; II 32; VII 67.
41 34; III 76 ff; IV 134.
9 III 27—32; cp. II 117—118. Указанная тенденция находит выражение в некоторых гностических сектах, описанных Епифанием, и в «Беседах Климента Римского» (V 10—19).
236
ФИЛОН И НАЧАЛО ХРИСТИАНСКОЙ МЫСЛИ
обрели ярко выраженную эротическую форму, которая отчасти, наверное, была сознательным отрицанием общественных соглашений как извращенной и извращающей силы. Климент сообщает, что, исказив содержание платоновского «Пира», они выступали и за идеализацию сексуального экстаза, утверждая, что это есть духовный акт святого причастия и путь к Богу. Антиномичность обратилась здесь в простую religion de la chair* (Anth. Palat. V).
Ответ Климента, в сущности, состоит в том, что мы принимаем от нашего Творца жизнь с благодарностью и должны получить ее на его условиях, если хотим достичь той цели, которую он для нас предназначил. Утверждение о том, что мы должны скорее использовать мир, чем владеть им, не заключает в себе никакого дуализма. И первенство любви не исключает ограничений и правил. «Тот, кто подходит к пределу законного, вскоре переступит в область того, что незаконно».1 Смысл любви раскрывается примером Божьего Слова, из сострадания к человечеству воплотившегося и претерпевшего смерть.1 2 Призвание христианина в том, чтобы любить Творца в его творениях.3
Будучи моралистом, Климент озабочен всевозможными вопросами повседневной жизни, целиком в стиле стоической диатрибы с ее излюбленными темами: следует ли жениться и обзаводиться детьми?4 следует ли пить вино и есть жирную пищу?5 следует ли женщинам изучать философию?6 следует ли богачу раздать свои богатства?7 Климент подходит к этим вопросам так же, как подошел к ним либерально настроенный стоик Музоний Руф за сто лет до этого. Он крайне враждебно относится к суровому пуританизму, запрещающему женитьбу как несовместимую с духовной жизнью и рассматривающему трезвость не как дело индивидуальной сознательности и воли, а как обязанность всех христиан. Отказу от вина препятствует институт Евхаристии и притча о браке в Кане Галилейской. Отказ от женитьбы, возможно, и оправдан в отдельных случаях, но не как всеобщее правило, поскольку некоторые апостолы (в число которых Климент на удивление включает апо¬
1 Paed. II 14. Законы см. в I 101—103.
2 Quis dives 37.
3 Strom. VI 71. 5.
4 II 137 ff.; Protr. 113.
5 Paed. II 1 ff. (вино — 19 ff.).
6 Strom. IV 59 ff.; cp.: Paed. I 10 f.
7 Paed. Ill 34 ff.; Quis dives.
* Религию плоти (<фр.). — Примеч. перев.
КЛИМЕНТ АЛЕКСАНДРИЙСКИЙ
237
стола Павла1) были женаты. Женитьба и вино принадлежат к тем благим дарам Творца, которые следует принять с благодарностью и праведно ими распорядиться. Евангелие не предписывает и богачу обязанности сложить с себя ответственность и раздать все свои деньги: дело не в обладании, а в использовании. Так Климент истолковывает эпизод с Христом и богатым юношей. На первый взгляд толкование Климента кажется попыткой искателя компромиссов увильнуть от строгого закона, однако более внимательное рассмотрение обнаруживает, что для Климента евангельская этика принципиально не является наложением правовых обязательств, но есть объявление высшей цели Бога тем, кто душой и сердцем желает служить ему. Состоятельные александрийские новообращенные, следовавшие наставлениям Климента, подчиняли себя суровому требованию благотворительности и самодисциплины и, возможно, даже считали, что лишились бы хлопот, раздав все свое состояние разом. Климент, весьма свободомыслящий и добродушный, всегда заканчивает тем, что выступает защитником строгой умеренности и страстным противником роскоши. Его половая этика не только запрещает гомосексуальные практики, аборт, супружескую близость только из потворства желанию,1 2 но и эротизм общества в целом.3 В своем подходе к этому вопросу Климент свободен от фанатизма (даже если доказательства, которые он порой находит в подтверждение собственных взглядов, комичны и абсурдны). Сексуальность не вызывает у него отвращения. Отцовство, пишет он, есть сотрудничество с Творцом,4 и (согласно ряду высказываний) ошибочно считать безбрачие существенно более духовным, чем супружество.5 Климент не позволяет разводиться или жениться повторно после развода, но допускает повторный брак после смерти одного из супругов.6
В основании этики Климента лежит учение о творении, что исключает как фанатичное инакомирие аскетически настроенных гностиков, так и материализм и гедонизм античного общества. Он рассматривает христианский путь как via media* между ними.
1 Strom. Ill 52—53.
2 Paed. Ill 44; 87; 96; II 87; 92; 107.
3 III 31 ff.
4 Paed. II 83; cp.: Strom. Ill 66.
5 Strom. Ill 105; VII 70. (Однако в Strom. IV 147—149 девственность оказывается предпочтительнее.)
6 Strom. Ill 82; 145—146.
* Срединный путь (лат.). — Примеч. перев.
238
ФИЛОН И НАЧАЛО ХРИСТИАНСКОЙ МЫСЛИ
Климент любит писать о естественном знании Бога, присущем всем людям.1 Не найдена еще такая раса, у которой не было бы идеи Бога.2 Господь вдохнул ее в Адама при творении.3 Милосердие Божие всеобще и не имеет определенного начала в истории, ибо нелепо было бы предполагать, что Бог начал интересоваться каким-либо другим народом кроме иудейского только после пришествия Христа.4 У самых древних человеческих племен был примитивный монотеизм задолго до того, как религия исказилась в демонический политеизм.5 Философия была дарована грекам так же, как Закон был дарован иудеям, — как проверка на грех, чтобы растравить плохую религию кислотой скептицизма и подготовить людей к Евангелию.6 В итоге слабеющая душа человека воззвала о божественном вмешательстве.7 Воплощение, против которого языческие платоники, такие как Цельс, возражали на том основании, что оно несовместимо с универсальностью провидения, есть лишь расширение принципа, согласно которому провиденциальная забота Бога может также распространяться и на особенное. Воплощение есть частный случай имманентности Бога.8
Нам не следует полагать, подобно гностикам, что воплощение не было действительным принятием человеческой плоти или было лишь оптической иллюзией, хотя Климент и допускает, что Христос ел и пил не потому, что действительно нуждался в этом, а ради предотвращения ересей.9 Он утверждает также, что в Страстях не было внутренного конфликта.10 Христос не имел греха и страдал не за себя, а за нас.11 С другой стороны, нам не следует думать, что Христос был настолько хорошим человеком, что Бог «усыновил» его.12 Он — вечный Логос, сошедший с небес, беспорочный образ Отца, и Бог и человек,13 посредствующий между Творцом и творениями,14 первосвященник, не устыдившийся
1 Protr. 25 f.; Strom. V 87 f.; и так далее.
2 Strom. V 133.
3 Paed. I 7—8; Strom. V 87; 94.
4 Strom. V 133—134; 141.
51 68; 71; VI 57.3.
6 VI 156. 4.
7 V7.
4 52; V 6; VI 12; VII 8.
9 VI 71; cp.: Ill 91; 102; о Валентине: III 59. 3.
10 III 69.
11 IV 81 ff. («Против Василида»).
12 Paed. I 25.
13 Paed. 14; 7; Strom. V 40.
14 Strom. Ill 68; VI 54; 146; VII 2; 4.
КЛИМЕНТ АЛЕКСАНДРИЙСКИЙ
239
назвать нас братией.1 Он взял нашу ранимую плоть и обучил ее бесстрастию.1 2 Воплощение не было оглашено, и постигли его только те, кому открыла его Божья благодать.3
Климент не решает проблему согласования божественности Христа и единобожия. Он пишет в эпоху фактически полной свободы мысли, и очевидно, что его словарь экспериментален. Он называет Сына «энергией» Отца.4 Он подчинен.5 Он есть воля Отца6 и стоит во главе иерархии бытия,7 для описания которой Климент использует старый платоновский образ цепи колец, удерживаемых магнитом — Святым Духом.8 Однако Климент (как и Ириней) не приемлет мысли о том, что Сын есть logos prophorikos, высказанный разум Бога, в противоположность разуму, скрытому в Отце, поскольку она уподобляет пришествие Христа гностической эманации.9 В нескольких местах говорится о единстве Отца и Сына. Согласно Фотию, Климент отличает Логос в Боге от подчиненного Сына-Логоса, который есть сила Бога, нисшедшая, чтобы сделаться nous в сердцах людей.10 * Правильность этого изложения оспаривалась, и в сочинениях Климента мы не находим ему подтверждений. Однако сходные идеи встречаются у других теологов (в основном еретиков), и, возможно, Климент также заигрывал с ними. Подобное размышление вполне согласуется и с настойчивыми утверждениями Климента относительно трансцендентности Бога и воспринятой им от Филона и Юстина аксиомой, что Логос есть божественная сила, имманентная миру, с которым Отец не имеет непосредственной связи.
Основа искупления есть творение.11 И все же мы не можем сказать, что искупление совершенно неизбежно и его следует ожидать в силу природного родства и сходства между Богом и человеком. Парадокс Божьей милости и любви запрещает подобное. На самом деле величайшее доказательство благоволения Бога состоит
1 Protr. 120; Paed. I 89; Strom. II 134; V 39.
2 Strom. VII 6—7.
3 VI 132.
4 VII 7.
5 Paed. I 4; III 2 (diakonos).
6 III 98.
7 Strom. VII 2.
8 Strom. VII 9 — образ, использованный Платоном в «Ионе» (533d—е), а также Филоном (Opif. 141); ср.: Strom. VI 148. 4—6.
9 Strom. V 6. 3; ср.: Irenaeus. Adv. haer. II 13. 2 (p. 281 Harvey).
•o Phot. Bibl. Cod. 109; см. P. Кейси (JTS. 1924. XXV. P. 43—56).
и Paed. I 7—8.
240
ФИЛОН И НАЧАЛО ХРИСТИАНСКОЙ МЫСЛИ
в том, что он заботится о нас, отчужденных от него природой.1 Благодать ни в коем случае не автоматична, но устанавливает свободные личные отношения.2 Такой акцент на парадоксальности благодати и на человеческой свободе позволяет Клименту избежать превращения искупления в естественный процесс с неминуемым результатом. Метод Бога — убеждение, не сила.3 Божественное провидение не препятствует появлению зла, но стремится использовать его к вящему благу.4 Воплощение есть ключевой момент реализации божественного плана по образованию и восстановлению хилого, сбившегося с пути человечества, заблудшего во грехе, порожденном нерадивостью, слабостью и невежеством и увековеченном обществом посредством воспитания и среды.5 Нет такой наследственной греховности, которая передавалась бы от Адама и Евы в процессе размножения, и думать так означало бы принять дуалистический взгляд гностиков на тело и сексуальность.6 В теле нет зла, ибо утверждение этого несовместимо с воплощением.7 Тем не менее быть сотворенным означает быть причастным φθορά — конечному и преходящему существованию вне Бога,8 а тело замутняет ясный взор души.9
Христианская жизнь должна быть непримиримой борьбой со страстями и отвлечением от чувственных вещей, выходящим за рамки аристотелевской умеренности и стремящимся к стоической apatheia.10 Нельзя ожидать, что в этой жизни многим удастся достичь чаемой святости, но в грядущей жизни различающий (не пожирающий) огонь Господа очистит наши загрязненные души в огненном крещении.11 Божественное наказание обучает и излечивает.12 По завершении очистительного процесса мы, быть может, сделаемся годными для того, чтобы пребывать подле Господа при окончательном восстановлении, apocatastasis.13 На этой вершине •• Strom. II 73—75.
2 VII 42. О добродетели как дарованной Богом см. V 83, хотя точка зрения Климента предполагает сотрудничество человека и Бога.
3 Paed. I 9 и так далее.
4 Strom. IV 86 f.
5 VI 96; VII 16; 19; 101.
6 III 65; 100.
7 III 103.
8 III 63.
9 I 94; VI 46; VII 40; 68 ff.
10 VI 74; 105; 111.
11 Strom. VII 34; Protr. 53; Paed. Ill 44; Eel. Proph. 25. 4; Quis dives 42.
12 Strom. VI 154; VII 102—103; Eel. Proph. 38. 2 ff. и так далее.
13 Strom. VII 56.
КЛИМЕНТ АЛЕКСАНДРИЙСКИЙ
241
совершенства «истинный гностик» обретет беспорочную любовь к Богу.1 У Климента нет речи о пресыщении этой любовью. Истинный гностик бесконечно погружается в тайну богопознания. И если предположить, что ему был бы предоставлен выбор между богопознанием и окончательным спасением (каковые в действительности тождественны), он, не колеблясь, выбрал бы богопо- знание, предпочитая движение и рост устойчивому обладанию.1 2
Последняя цель состоит в «боговидении», «обожении» или союзе с Богом — опыте, который (как и для Филона) символизируется для Климента вхождением первосвященников Моисея в святая святых или самого Моисея в темноту Синая.3 Однако это блаженное вйдение и благословенный союз лежат за пределами этой жизни. Пока же мы можем стремиться постичь то, что возможно постичь о Боге с помощью диалектики, в той мере, в какой эта задача по силам разуму. И все же без откровения это знание о Боге неизбежно лишено положительного содержания.
Языческие критики нередко высмеивали христиан за то, что те мыслят Бога антропоморфным. Климент прилагает значительные усилия, чтобы доказать неоднозначность любого логического положения. Бог непостижим умом и невыразим словами. Для него нет имени. Всякое человеческое слово о нем относительно и символично. Мы не можем знать его сущности. На самом деле Небесный Отец и вовсе не является объектом нашего познания, наш предел — Сын, который есть Альфа и Омега. Поскольку религиозное познание ограничено, Бог может быть постигнут только через откровение и благодать. И все же в себе он остается неопределимым. В своей речи о via negativa Климент заходит насколько только возможно далеко в прославлении alpha privativum.* Небесный Отец есть основание бытия, и только. Сын есть разум Отца, окружность, центр которой — Отец. Идея Бога совершенно абстрактна, как абстрактен способ постижения математической точки.4 Всем, что Климент говорит как предшественник Ареопагита, он, несомненно, обязан Филону, а также своим современникам платоникам. Это не мешает ему в других местах писать
1 Strom. VI 75; 78; VII 46.
2 VI 136 — отрывок, без ссылки на Климента процитированный в известном афоризме Лессинга.
3 V 39—40; VI 68; о Моисее: II 6; V 78.
4 Strom. II 6; V 71; 81—82; VI 166. Ср.: Paed. I 71 (Бог вне монады); Strom. II 72 f. (всякое слово человека о Боге символично).
* В греческом языке приставка α-, выражающая отрицание. — Примеч. перев.
242
ФИЛОН И НАЧАЛО ХРИСТИАНСКОЙ МЫСЛИ
о Боге как о любви, благе и справедливости1 и не разрушает его убеждения в том, что Творец, следуя предначертанному плану, направляет космос к определенной цели.
Нет нужды подчеркивать, что Климент многому научился у Филона. И в «Педагоге», и в «Строматах» присутствует множество заимствований и подражаний. Он перенимает у Филона метод аллегорического истолкования Библии и применяет его к Новому Завету, наследует довод Филона о том, что философия находится в том же отношении к теологии, как грамматика и encyclia к философии. Значительная часть суждений Климента о Логосе, а также его попытка сплавить воедино библейское учение о Боге и via negativa позднего платонизма, очевидно, восходят к тому же источнику. Но есть и интересные различия, и наиболее поразительное состоит в том безусловно огромном значении, которое придает содержанию Климентова учения о Боге как о деятельной любви его вера в Христа. Более того, наиболее серьезные вопросы Климента отличаются от вопросов Филона. Где они согласны, там оба пишут в одной и той же библейской, иудео-христианской традиции, противостоящей греческому миру, оказываясь, что очевидно, перед лицом сходных общих вопросов апологетики. Однако в III веке н. э. христианская Церковь столкнулась с такими вопросами, каких не знала Синагога за два столетия до этого. Климент принадлежит к стремительно ширящейся общине, мучимой собственными болезнями роста, тревожимой моральными вопросами в связи с гонениями (что иллюстрируют рассуждения Климента о смысле мученичества), теряющей в своей энергии и глубине, как только она устремляется к реализации универсальной миссии, последствием чего становится необходимость переосмыслить свою роль уже не как сообщества святых, но как школы для грешников. Эти тонкие вопросы лежат в основании осторожных замечаний Климента, касающихся искупления греха при крещении,1 2 а также его понимания христианского общества в целом как школы, didaskaleion,3 где обучение начинается в этой жизни, а завершается в грядущей. Однако прежде всего противостояние дуализму и детерминизму гностиков вынудило его отстаивать учение о благости божественного творения, а также создать завязанную на свободе
1 Paed. I 7—8; Strom. IV 100; 113; V 13; Quis dives 37. Cp. спор с Маркионом в Paed. I 62 if.; 88; Strom. VI 109; VII 15.
2 Paed. I 4; Strom. II 26—27; 56 f.; 60 ff.; IV 154; VI 97. Cp. рассуждения Филона о вольном и невольном грехе (выше, с. 214, прим. 3).
3 Paed. Ill 98.
КЛИМЕНТ АЛЕКСАНДРИЙСКИЙ
243
воли этику, приняв за основу волюнтаристскую психологию. Тот факт, что учение Климента не лишено слабостей и противоречий, очевидно. Важно не переоценивать его заслуг. И все же до Августина не найдется ни одного христианского автора, который бы так же хорошо, как Климент, написал о грамматике согласия и о природе веры, а также о христианском отношении к естественному порядку сущего.
Климент стремился сделать Церковь безопасной для философии и открытой для классической литературы, хотя и о нем можно было, пожалуй, сказать то, что Плотин сказал о Лонгине, а именно, что он скорее писатель, чем философ.1 И он лишь скромными намеками, полными умышленной и невыносимой туманности, указывает на то, как бы он взялся за осуществление синтеза христианства и философии. Юстин негласно принял как должное, что лучшие образцы греческой философии совершенно непротиворечиво вписываются в христианство. Он нисколько не предлагал модифицировать форму или содержание катехизических предписаний, чтобы на полпути встретиться с философами, и в эсхатологии свойственная ему прямота не смягчена и не исправлена. У Климента же эсхатология радикально преобразована, не в последнюю очередь потому, что его теология испытала серьезное влияние со стороны св. Иоанна и Послания к Ефесянам. Тем самым перед ним открывались большие возможности на пути осуществления синтеза христианства и платонизма. Вопрос, поднятый Климентом и особенно Оригеном, состоял в том, должен ли союз христианства и платонизма необходимо завершиться поглощением радикально модифицированного христианства эллинской по своей сути системой или все же возможно безболезненно вместить несколько избранных элементов, взятых у философов, в христианскую — в широком смысле слова — форму мысли? Во втором и третьем столетиях никто и мечтать не мог о том, чтобы требовать взаимной независимости и автономии для обеих сторон. Христианство и платонизм того времени были слишком схожи (как справедливо замечает Юстин), чтобы держать дистанцию и сосуществовать, сохраняя взаимное уважение. Они должны были либо любить, либо ненавидеть друг друга. У Цельса, Порфирия и, позднее, Юлиана мы наблюдаем острую языческую реакцию отвращения и отшатывания. И тем не менее их попытка отстоять религиозную традицию старого классического мира на деле двусмысленна, поскольку все три противника христианства, чтобы
1 Porph. Vita Plotini 14.
244
ФИЛОН И НАЧАЛО ХРИСТИАНСКОЙ МЫСЛИ
выиграть тяжбу, должны были пойти на значительные уступки своим христианским оппонентам. Наблюдение Августина (Ер. 118), согласно которому поздние платоники либо поднялись до христианства, либо опустились до теургии и магии, скорее жестоко, чем несправедливо. По другую сторону находились Климент, Ориген, а впоследствии и Августин, объединившие христианство с поздним платонизмом и сконструировавшие тем самым спекулятивную форму религиозной мысли, внушительная сила которой ясно прочитывается в последующей истории западноевропейской теологии и философии.
Глава 11
ОРИГЕН
Ориген родился примерно в 184/185 г. в Александрии, вероятно в христианской семье (Порфирий и Евсевий расходятся во мнениях по этому вопросу). Когда ему было около семнадцати лет, его отец был предан мученической смерти во время гонений Севера в 202—203 гг., и это событие оставило глубокий след в душе Оригена. Он всегда пишет с пылким чувством принадлежности к Церкви, призванной к мученическому подвигу и непримиримому противостоянию с миром, который постоянно угрожает ей опошлением веры не меньше, чем физическими нападками и гонениями. Это отношение к миру вполне согласуется с чертой самоотчуждения и аскетической самодисциплины, выражением которой явилась слышанная Евсевием и, наверное, правдивая история о том, что Ориген с юношеским рвением прочел Евангелие от Матфея (19:12) буквально и оскопил себя.1 Он жил, обходясь самым незначительным количеством пищи и сна, и всерьез относился к евангельскому наставлению о бедности.1 2
Некоторое время он изучал греческую философию, слушая Аммония Саккаса, у которого впоследствии одиннадцать лет обучался Плотин. Аммоний был загадочной фигурой.3 Все, что нам известно о нем, прямо или косвенно восходит к Порфирию, описавшему в своей «Жизни Плотина», как его эзотерическое учение зажгло в Плотине (типично неопифагорейское) желание познать древнюю мудрость персидских и индийских учителей. Впрочем, пытаться восстановить метафизическое учение Аммония, отыскивая сходства у Оригена и Плотина, безнадежная и глупая затея. Невозможно определить, что именно (если вообще найдется что-то
1 Eus. НЕ VI 8; рассказ Порфирия (VI 19).
2 Eus. НЕ VI 3. 8 f.; ср.: Orig. Нот. in Gen. XVI 5.
3 Более детальное обсуждение Аммония см. раздел III, гл. 12, с. 261—264.
246
ФИЛОН И НАЧАЛО ХРИСТИАНСКОЙ МЫСЛИ
такое) Ориген воспринял от Аммония. Что не вызывает сомнений, так это предельная восприимчивость Оригена к спорам греческих школ, а также его удивительная, в глазах современников, интеллектуальная одаренность. До 231 г. Ориген работал в Александрии, хотя часто путешествовал. Впрочем, его отношения с местным епископом были натянутыми и в конце концов прервались, так что он был вынужден эмигрировать в Кесарию Палестинскую. Ориген умер в Тире около 254 г.
Сочинения Оригена имеют больше сходств с Филоном, чем труды Климента, главным образом потому, что, за исключением двух больших трактатов «О началах» и «Против Цельса», практически все его сочинения по форме представляют собой серию масштабных комментариев и разъяснительных проповедей к Библии. Он берет за основание принципы аллегорического истолкования, с помощью которого Филону удалось отыскать в Пятикнижии греческую этику и естествознание. Однако не следует, указывая на это явное преемство, заковывать Оригена в кандалы бездумного эпигонства и затемнять этим важные различия между ним и Филоном. Этическая, психологическая и научная экзегеза последнего была дополнена у Оригена типологической экзегезой Юстина и Иринея, направленной на поиск в Ветхом Завете особых предвестий христианского учения. Такой поиск являлся естественным расширением аргумента от пророчества, широко распространенного в канонических Евангелиях и восходящего к самому раннему этапу христианства.1 Помимо буквального и исторического значений (иногда Ориген отрицает, что таковое существует) и моральной интерпретации, свойственной Филону, Ориген ищет духовного смысла, заключенного в искуплении Христа, и «мистического» чувства, связанного с восхождением индивидуальной души к союзу с Богом и совершенству. В некоторых местах Ориген пытается схематизировать свою экзегетику, самоуверенно намекая на ее сходство с трихотомией св. Павла — тело, душа, дух;1 2 хотя на деле он временами предлагает четыре, а то и только две слаженных интерпретации.3 Невозможно, чтобы текст имел только одно буквальное значение. Многое в Ветхом Завете, если прочесть его буквально, а не духовно, недостойно Бога, и одного этого достаточ¬
1 См. мастерское рассмотрение Додда (Dodd С. Я. According to the Scriptures. London, 1952); cp. интересную, но спорную работу Lindars В. New Testament Apologetic. Philadelphia, 1961.
2 Princ. IV 2. 4; Horn, in Lev. V 1; 5; Horn, in Num. IX 7.
3 Cm.: Lubac H. Histoire et Esprit. Paris, 1950; Ex0gese M0di0vale. Vol. I. Paris, 1959. P. 198 if.; ϋαηΐέίοιι J. Sacramentum futuri. Paris, 1949.
ОРИГЕН
247
но для опровержения иудаизма.1 Приписывать Богу человеческие слабости, такие как гнев или непостоянство, богохульно.1 2
Следует отметить два различия между Оригеном и Филоном в отношении к Писанию. Во-первых, разногласия с раввинами и неоднородность взглядов внутри самой Церкви заставили Оригена усомниться в авторитетности и вдохновенности Септуагинты. В отличие от Филона и Юстина, он ни разу не ссылается на распространенные легенды о вдохновенном единодушии переводчиков и, несмотря на ощущаемое им обязательство придерживаться общепринятого взгляда греческих Церквей на статус Септуагинты, предполагает, что еврейский оригинал более авторитетен. Соответственно, он взял на себя труд изучить иврит. Во-вторых, он приводит ряд аргументов в пользу того, что Библия есть произведение Святого Духа, в особенности в IV книге «О началах», где главным из них выступает подтверждаемая влиянием Церкви во всем мире сила Писания воспламенять души верой и преображать моральную жизнь.
В отношении Оригена к философии, когда дело доходит до частностей, удается найти совсем немного такого, с чем бы мы раньше не встретились у Филона, Юстина или Климента. Сторонникам предельной порочности из числа гностиков Ориген возражает, что «совершенно безнравственные существа не заслуживают осуждения, только жалости как бедные несчастливцы», и утверждает, что во всех людях сохраняются частицы божественного. Логос озаряет каждого человека, входящего в мир; все наделенные разумом создания причастны истинному свету.3 Евангелие актуализирует то, что в неверующих присутствует потенциально.4 Проповеднику следует без колебаний назвать достоянием христианства все, что представляется значимым и достойным в эллинской культуре. Ориген равнодушен к обвинениям со стороны язычников в том, что он заимствовал греческий инструментарий с целью рационализировать варварский предрассудок.5
Философия — значимая дисциплина, приуготовляющая к теологии откровения. «Человеческая мудрость есть средство для образования души, божественная мудрость — ее конечная цель». Философия не необходима для обретения истины божественного
1 Например: Comm, in Rom. VI 12; Horn, in Gen. VI 3; Horn, in Lev. X 1.
2 Cp.: Contra Celsum IV 72; Horn, in Jerem. XVIII 6.
3 Comm, in Joh. XX 28; Horn, in Jerem. XIV 10.
4 Comm, in Rom. VIII 2.
3 Horn, in Gen. XIII 3.
248
ФИЛОН И НАЧАЛО ХРИСТИАНСКОЙ МЫСЛИ
откровения:1 если бы была, то Христос не предпочел бы рыбаков.1 2 На два (с трудом совместимых) обвинения со стороны язычников, что христиане малообразованны и что христианское учение ничем не отличается от учений Платона и стоиков, Ориген отвечает, что соотношение образованных и необразованных в Церкви хорошо отображает ситуацию в обществе в целом и если изучение философии ограничивается образованной элитой, то христиане добились признания моральной истины в таких слоях общества, в которые философия не проникала.3 Хотя философия и не обязательна, она тем не менее является ценным средством для понимания значения и основополагающих принципов откровения.4 В положениях Символа веры апостолы авторитетно, языком, адаптированным для простого народа, изложили самое необходимое в христианском вероисповедании. Исследовать основания своих утверждений они предоставили другим.5 Библия не воспрещает занятия философией.6 Логика очень полезна в деле защиты христианства, хотя наиболее сильными аргументами в пользу истины Евангелия являются не естественные, но сверхъестественные доказательства — чудо, осуществившееся пророчество, чудесные завоевания Церкви перед лицом мощных предрассудков и противостояния властей.7 Своему ученику Григорию (впоследствии ставшему святителем Понта) Ориген писал, что христианин может пользоваться философией, поскольку и евреи во время Исхода вынесли египетские драгоценности.8
Многое из сказанного часто напоминает нам о Юстине и Клименте, и все же акценты и тон отличаются. Ориген куда более независимый. Читатель Климента порой склонен подозревать, что тот настолько озабочен тем, чтобы отразить презрительное обвинение христиан в необразованности, что позволяет себе «сыпать именами». В книге «Против Цельса» нет и намека на комплекс неполноценности, и она в той же мере является нападением,
1 Contra Celsum III 58; VI 13—14.
2 Ibid. I 62.
3 Ibid. I 9 f.; Ill 44 if.; VI 1 ff.
4 Ibid. VI 14.
5 Princ. I, особенно 3.
6 Contra Celsum VI 7; примечательно рассуждение о Первом послании к Коринфянам (1) в I 13 и III 47 f.
7 Contra Celsum I 2. См. рассказ Григория Чудотворца об Оригеновом методе обучения в «Благодарственной речи Оригену» (VII 100 ff.).
8 Philocalia 13. Ср.: Horn, in Gen. XIII 3 («Слуги Исаака могут рыть колодцы на земле Палестины»).
ОРИГЕН
249
сколь и защитой. Ориген не из тех апологетов, кого воодушевляет сходство христианских представлений с мыслью Платона или Хрисиппа.1 Он совершенно свободен от преклонения перед таинственной властью великих философов античности и не имеет ни малейшего желания подкреплять свои положения их громкими именами. Для Оригена ничто не истинно потому, что так сказал Платон, хотя он и считает, что Платон, будучи умным человеком, сказал много истинного. Ориген претендует не на согласие с той или иной философией, но на право думать и рассуждать с позиции христианства.1 2
В «Против Цельса» и других сочинениях он бывает колок вплоть до грубости в отношении классической традиции. Это отчасти объясняется внутренним психологическим усилием, которое должен совершить человек, получивший воспитание в рамках метафизической традиции, чтобы отстраниться от нее, а отчасти тем фактом, что язычники-платоники вроде Цельса вообще отрицали право христиан на мысль. Платонизм Цельса, Порфирия и, кстати сказать, Плотина, связанный авторитетом и приравнивающий новизну и оригинальность к ошибке, по своему духу схоластичен. Они не поняли бы позицию Оригена, которую он выражает словами «философия и Слово Божие не всегда спорят, но и не всегда в согласии, поскольку философия не во всем противоречит божественному закону, но и не во всем с ним согласна». Далее Ориген перечисляет некоторые пункты согласия и несогласия. «Многие философы говорят, что есть Единый Бог, сотворивший мир; другие прибавляют, что Бог не только создал мир, но и управляет всеми вещами своим Логосом. Опять-таки в этике и в описании природного мира они почти во всем согласны с нами. Однако они расходятся с нами, когда утверждают, что материя совечна Богу, когда отрицают, что Промысл не достает до луны, когда воображают, что власть звезд определяет наши жизни и что мир никогда не придет к концу».3
Подобно Юстину и Клименту, Ориген критикует стоиков за материализм, пантеизм и детерминистское учение о мировых
1 Его утверждение о плагиате см. в Contra Celsum IV 39 (сад Зевса в «Пире» 203 взят из Бытия 2—3). Случайно ли это совпадение? Или Платон встречал толкователей Книги Бытия, когда был в Египте?
2 Contra Celsum VII 46; 49 (отклоняя придирчивую критику); Нот. in Ex. XI 6. Юстин (Dial. 6. 1) и Климент (Strom. VI 66) утверждают этот принцип.
3 Horn, in Gen. XVI 3; ср.: Princ. I 3. 1; Contra Celsum VI 8; 47 (Платон учит, что Творец есть Сын Божий).
250
ФИЛОН И НАЧАЛО ХРИСТИАНСКОЙ МЫСЛИ
циклах.1 Он противопоставляет христианское учение о промыс- лительной заботе Бога стоическому представлению о Боге как об имманентной материальной силе.1 2 Учение стоиков о естественном законе и «общих идеях» Бога и совести он принимает без малейшего колебания.3 Каждый человек имеет врожденное знание о том, что хорошо и что дурно.4 Нагорная проповедь созвучна с тем, что естественное согласие признает идеальным образцом человеческих отношений.5 Моисеев закон, истолкованный духовно, и естественный закон суть одно, как говорит Филон, и оба тождественны христианской морали.6 Для Оригена не существует отдельно христианской этики, а, скорее, характерная для христианства моральная позиция, и прежде всего осознание того, что божественная любовь и справедливость являются основами этой морали. Дремлющая душа пробуждается к постижению этого Евангелием.7 Каждый признает, что истинно духовная религия требует отрицания политеистического идолопоклонства, даже если он и не поступает согласно этому знанию.8 Душа человека интуитивно жаждет Бога, и Ориген не верит, что эта тоска по Богу могла быть вживлена в сердце человека, если бы ее невозможно было удовлетворить. Подобно тому как то или иное из пяти чувств относится к определенному роду объектов, так же и nous связан с Богом.9
И тем не менее естественной религии и естественной морали недостаточно. Спасение только во Христе, и нет пользы от добрых дел, пока они не имеют поручительства.10 11 Человеческая душа настолько ослаблена и растеряна, что она не может быть восстановлена ничем, кроме могущества и благодати Бога во Христе.11 Суровость приговора, который Ориген выносит «доброму язычнику», во многом свидетельствует о его отрицании того, что эта жизнь есть единственный данный человеку шанс.
1 Contra Celsum IV 67—68; V 20; Princ. II 3. 4.
2 Ibid. VI 71.
3 Например: Comm, in Joh. I 37; XIII 41; Contra Celsum III 40; VIII 52.
4 Horn, in Luc. 35 (p. 196 Rauer).
5 Comm, in Rom. Ill 7; cp.: Contra Celsum 14 f.
6 Comm, in Rom. VI 8; cp.: Philo. Opif. 3.
7 Comm, in Rom. VIII 2.
8 Contra Celsum III 40.
9 Exh. Mart. 47; Princ. II 11.4; Sel. in Ps. (XI, 424 Lommatzsch); cp.: Comm, in Cant. Cantic. I (p. 91 Baehrens).
10 Comm, in Rom. Ill 9 (Турский папирус, p. 166 Scherer); Horn, in Num. I 2;
XI 7.
11 Contra Celsum IV 19; Horn, in Ps. 36, IV 1; Horn, in Ps. 37,1 4 (XII, 205; 253 Lommatzsch).
ОРИГЕН
251
Ориген сознает, что христианская оценка человека в определенном отношении не столь возвышенна, как аристократическое воззрение стоиков с их учением о мудреце, безразличном как к несчастьям вовне, так и к страстям внутри, предполагающее врожденную силу и благородство души и отличающееся от христианского учения, согласно которому, хотя душа и предназначена для высшего, она слаба, связана оковами не столько тела, сколько греха, и нуждается в помощи. Ориген несколько раз упоминает о моральных парадоксах стоиков, но, со свойственной ему холодностью, не говорит о том, что он всем сердцем их одобряет, и обещает лишь, что в более подходящий момент он, возможно, порассуждает о том, в какой степени эти языческие принципы созвучны христианству.1 С другой стороны, он щедро использует стоическую теодицею. Диспут о пробеме зла со скептиками и академиками заметно отточил мастерство философов-стоиков, и Хрисипп создал арсенал аргументов, который Ориген берет на вооружение. Для христиан проблема зла была не менее серьезной, чем для стоиков во времена Карнеада. Гностики вывели этот вопрос на авансцену дискуссии и, основываясь на некоторых положениях Платона, ответили на него учением о том, что зло заключено в материи. Такое решение не удовлетворило ни Климента, ни Оригена.2 В то же время христиане не могли воспользоваться и теодицеей неоплатоников, согласно которой зло есть недостаток блага. Сказанное о дьяволе в Библии, если не личный опыт, убедило христианскую теологию признать зло положительной силой, depravatio,* * а не только deprivatio.** Более того, христианская вера в историческое откровение вместе с искуплением как его высшей точкой, казалось, устанавливает связь между христианской заинтересованностью и стоической защитой промыслительной заботы не только о космосе в целом, но и о человеке в особенности. Большая часть второй и третьей книг «О началах» посвящена этим вопросам в той форме, в которой их сформулировали гностики, а в трактате «Против Цельса» Ориген в значительной степени обращается за помощью к стоикам, оспаривая платонический аргумент Цельса о том, что провидение заботится о космосе в целом, а не об отдельных его частях и беспокоится о человечестве не боль¬
1 Например: Comm, in Joh. II 16.
2 Contra Celsum IV 66 (решительно отвергающее воззрение, согласно которому зло есть свойство материи); ср. VI 53 (мы не возлагаем на Бога ответственность за зло, говоря, что он создал материю).
* Искажением (лат.). —Примем, перев.
** Лишенностью (лат.). — Примем, перев.
252
ФИЛОН И НАЧАЛО ХРИСТИАНСКОЙ МЫСЛИ
ше, чем о дельфинах.1 Более того, Ориген согласен со стоиками в принятии теологического доказательства.1 2 Он рассматривает неувязки в Писании по аналогии с теми, что встречаются в природе, которым, как он мудро замечает, только глупец станет искать объяснения во всех подробностях.3
Отношение Оригена к платонизму более сложное. Он устанавливает дистанцию между собой и Платоном резким обвинением последнего в том, что тот, несмотря на свои глубокие прозрения в таких диалогах, как «Государство» и «Федон», так и не сумел порвать с политеизмом.4 Примечательно, что это обвинение направлено не против метафизической системы Платона, а против его повседневной практики. Ориген принимает в качестве аксиомы учение Платона об умопостигаемом мире и мире чувственно воспринимаемом как его отражении. Для Оригена идея имеет фундаментальное значение для понимания откровения. И Библия, и учение о воплощении иллюстрируют тот принцип, что Бог использует земные символы, чтобы помочь нам возвыситься до духовной реальности, которую они скрывают.5 К тому же в своем учении о Боге Ориген явно использует привычные платоновские определения: неизменный, невозмутимый, за пределами пространства и времени, не имеющий формы и цвета, не нуждающийся в мире, хотя и сотворивший его своей благодатью.6 Он признает истину позднеплатонической аксиомы о том, что в иерархии сущего произведенное необходимо ниже производящего. Это признание вызвало затруднения, связанные с разъяснением учения о Троице,7 хотя тринитарные и христологические утверждения Оригена в действительности гораздо более «ортодоксальны», чем
1 Contra Celsum IV 74 ff.
2 Contra Celsum VIII 52; Princ. IV 1.7; Exh. Mart. 4.
3 Princ. IV 1.7; II 9. 4.
4 Contra Celsum III 47; VI 3—4; VII 42; 44.
3 Ibid. VI 68.
6 Неизменный: Contra Celsum VI 62; Orat. XXIV 2; Comm, in Joh. II 17; VI 38. Невозмутимый: Contra Celsum IV 72 (негневливый); Horn, in Num. XVI 3; XXIII 2; Princ. II4.4 и так далее. Horn, in Ezech. VI 6 допускает восприимчивость в смысле любви и милости. Трансцендентный: Contra Celsum VI 64 f. (негативное бытие понимается как имманентное); ср. VII 42 f. Ни в чем не нуждающийся: Horn, in Gen. VIII 10 и так далее. Творящий благо: Princ. I 4. 3; Comm, in Joh. VI 38; ср.: Princ. 15.3 (только Троица блага по сути, все остальное имеет благо в себе, но может его утратить).
7 См., например, Comm, in Joh. XIII 25. (Относительно точек соприкосновения в этом вопросе между мыслью Оригена и Плотина см. раздел III, гл. 12, с. 263.)
ОРИГЕН
253
можно предположить, зная его репутацию. Язык платоновских рассуждений о вечности космоса снабдил его необходимой терминологией для выражения вечного порождения Сына-Логоса от Отца.1 Ориген вторит заявлению Филона о том, что Логос в качестве первосвященника и посредника занимает срединное место между Творцом и сотворенными сущностями.1 2 Логос есть «идея идей».3 И так далее.
Как бы то ни было, имеются отдельные положения, относительно которых Оригену есть что возразить. Он отвергает изложенное в «Тимее» учение о том, что Бог-Творец создал души, а создание тел предоставил низшим силам.4 Он не допускает, что космос божествен и что звезды суть боги (хотя и полагает, что звезды, по всей вероятности, одушевлены).5 Со всей определенностью он исповедует творение ex nihilo: творение происходит не из относительного, а из абсолютного небытия. «Я не могу понять, как возможно, что столько выдающихся мужей представляли материю несотворенной».6 Ориген также отрицает воззрение, согласно которому материальному миру никогда не придет конец. Учение Платона о том, что, хотя космос и сотворен и в принципе подвержен разложению, он тем не менее, согласно воле Бога, не будет разрушен, вполне согласуется со взглядом Оригена на высший, а не на чувственный мир, на небесное царство бесплотных духов, святых и ангелов, который не следует называть царством идей, чтобы кто-нибудь не подумал, что он существует только в уме в качестве метафизического предположения.7 Здесь перед нами значительное видоизменение платоновского построения. И все же Ориген был убежден, что большая часть платонизма истинна. В одном из своих ранних трудов «Строматы» (дошедшем до нас лишь в виде разрозненных фрагментов) он даже попытался выразить основополагающие идеи христианства исключительно
1 Princ. IV 4. 1 ff.
2 Princ. II 6. 1; Contra Celsum III 34.
3 Contra Celsum VI 64.
4 Ibid. IV 54 (Princ. 18.2 оспаривает гностический вариант этого учения).
5 Ibid. V 6—13, отвергающее не только учение Платона, но и учение Анаксагора о том, что звезды — сгустки горячего металла. Ориген считает, что звезды — духовные существа, падшие, но не окончательно, заключенные в звездах и поставленные управлять погодой на Земле. Он объясняет молитву о хорошей погоде, основываясь на предположении, что Солнце обладает свободой воли. (Справедливости ради стоит добавить, что все эти рассуждения он считал спекулятивными.)
6 Princ. II 1.4; Comm, in Gen. ap. Eus. PE VII 20 и так далее.
7 Princ. II 3.6.
254
ФИЛОН И НАЧАЛО ХРИСТИАНСКОЙ МЫСЛИ
платоновским языком. Ни теория идей, ни учение о припоминании не играют существенной роли в структуре Оригеновой мысли, хотя в некоторых местах он использует эти концепции. Основную проблему представлял вопрос о природе и происхождении души.
Ориген учил, что души не являются нерожденными и вечными, но сотворены Богом, который, будучи преисполнен благодати, создал разумные бестелесные существа. Однако они пренебрегли любовью Бога, одоленные «сытостью», и пали. Те, что пали не слишком низко, стали ангелами, те, что проделали долгий путь вниз, стали демонами, а некоторые составили средний класс, став людьми. Материальный мир, вопреки утверждению гностиков, не был случайным последствием падения, но был сотворен божественной благодатью, хотя и не ради того, чтобы каждому было удобно в нем, а с намерением научить человечество, дав ему непрочное и скоротечное существование, вернуться к Богу. Таким образом, согласно божественному плану, некоторые души ниспосылаются в тела ввиду их падения, а другие могут взойти в тела, обнаружив известное улучшение.
Свойственная Оригену мифологическая картина иерархии сущего как разнородности, происходящей от свободного волеизъявления (представление, с которым не смогли примириться неоплатоники), объяснима на фоне гностицизма. Ориген обеспокоен тем, чтобы защитить Бога от обвинения в несправедливости и произволе. В учении о душе он стоял перед трояким выбором: {а) креационизм, согласно которому Бог создает каждую душу для каждого индивида как задуманную и рожденную; (б) традуцио- низм, утверждающий, что душа, как и тело, рождается от родителей; (в) платоническая теория предсуществования, по которой бессмертная и предсуществовавшая душа временно пребывает в теле. Креационизм, казалось, ввергал Бога в бесконечную суету. Традуционизм ставил под угрозу трансцендентность души в отношении к телу, некоторым образом делая ее телесной. Достоинство же теории предсуществования состояло в том, что она делала возможной теодицею, дававшую отпор недовольству гностиков справедливостью и благостью Бога. Однако конечным результатом стала мифологическая теория творения, имевшая, во всяком случае, поверхностное сходство с теорией, несостоятельность которой она была призвана доказать; и правоверные церковники были встревожены этим учением, несомненно более платоническим, чем библейским, и дающим весомый повод заключить в пользу переселения душ. Ориген неоднократно отрицает миф
ОРИГЕН
255
о метемпсихозе как ложный,1 однако сама его система предполагает поразительно схожий образ действия души. Нам, возможно, удастся разрешить эту проблему, если мы обратим внимание на утверждение Оригена о том, что не судьба, а свобода есть ключ к мирозданию. Иными словами, он отрицает фаталистические принципы, лежащие в основании учения о переселении душ. Он не возражал против этой идеи, если она покоится на благости и справедливости Бога, раздающего тела душам в строгом соответствии с их добродетелями, в основе которых — свободный выбор. Поскольку Бог благ, процесс искупления, который не ограничен этой земной жизнью и которому причастен не только человеческий род, но и ангелы, продолжится и дальше, до тех пор пока Бог не отвоюет себе души обратно, включая и самого дьявола, который все еще обладает свободой и разумностью, а значит, и способностью отозваться на чудо милости Божьей. Так как свобода является сущностным свойством разумных существ, то о вселенском восстановлении невозможно утверждать как о предсказуемом событии в том смысле, что космос близится к нему в силу необходимой эволюции. Напротив, только веру в совершенную греховность, настолько безысходную, что искупление стало бы скорее актом всемогущей власти, чем милосердной любви, можно противопоставить надеждам универсалистов. Господь никого не бросает. Огонь его суда очищает, а его наказание излечивает, даже если оно порой крайне сурово. А поскольку свобода вечна, то даже когда процесс достигнет высшей точки и все будут восстановлены, останется возможность (размышляет Ориген), что произойдет новое грехопадение, так что перед умственным взором открывается ряд нескончаемых циклических повторений.
Оригену трудно дать оценку. Другие, более поздние теологи вскоре стали смотреть с опасением на его обесценивание истории как сферы божественного откровения. Несмотря на это, его принципы аллегорического истолкования продолжили свое существование, став традиционными в средневековых комментариях к Писанию. И хотя его учение о предсуществовании (требуемое его теодицеей) имело впоследствии редких сторонников, оно слишком опасно напоминало теорию переселения душ, чтобы сделаться общепринятым в ортодоксальном каноне. Его универсализм, казалось, сделал искупление почти естественным косми-
1 Contra Celsum V 29; Comm, in Matt. XIII 1 (наиболее подробное рассуждение) и так далее. Гипотетической реконструкцией Princ. I 8. 4, проделанной Кетшау, ничего обосновать невозможно.
256
ФИЛОН И НАЧАЛО ХРИСТИАНСКОЙ МЫСЛИ
ческим процессом и исключил элемент свободы из божественной благодати и человеческой ответственности. И все же, несмотря на эти замечания и бурные споры VI века, увенчавшиеся запретом Юстиниана на некоторые наиболее сумасбродные размышления Оригена, приписываемые ему палестинскими монахами — последователями его учения, большая часть исходной теологической позиции этого мыслителя нашла приют в греческой православной традиции, в отредактированной и обновленной форме, которую придали ей отцы-каппадокийцы, особенно Григорий Нисский. Оригену давались самые разные оценки при жизни, во времена патристики и Средневековья. Эти различия, без сомнения, останутся и в будущем — до тех пор, пока длится спор о жизнеспособности христианского платонизма.
Раздел III
А. X. Армстронг
плотин
Глава 12
ЖИЗНЬ: ПЛОТИН И РЕЛИГИЯ, СУЕВЕРИЯ ЕГО ВРЕМЕНИ
Плотин начинает новый этап в истории греческой философии, однако то, что было им достигнуто, нельзя назвать ни возрождением, ни революцией. Как обнаружилось в первом разделе, платонизм II—начала III веков был весьма жизнеспособным учением, ни в коем случае не шаблонным и поверхностным, и мысль Плотина во многих отношениях следует путями, проложенными его предшественниками. И все же он был самобытным философским гением, единственным философом в истории поздней греческой мысли уровня Платона и Аристотеля, побуждаемым личным мистическим опытом, подобного которому греческая философская религия не знала. Поэтому результатом критического переосмысления унаследованной им долгой и сложной традиции была самобытная философия, гораздо более связная и живая, чем средний платонизм, и мощно повлиявшая на последующую европейскую мысль.
У нас имеется только один достоверный источник информации о жизни Плотина. Это «Жизнь» учителя, которую Порфирий, его ученик и редактор, написал в 301 г., спустя более тридцати лет после его ухода от Плотина, и приложенные к этому изданию «Эннеады». Согласно расхожему мнению, это сочинение весьма необычного свойства, не имеющее аналогов среди античных философских или литературных биографий и сообщающее немало достоверных сведений.1 Тем не менее в нем совсем ничего не го-
1 О «Жизни Плотина» написано очень мало. Лучшее — работа Хардера, посмертно опубликованная как часть нового издания (с греческим текстом и комментариями) его перевода Плотина на немецкий язык (Plotins Schriften. Neubearbeitung mit griechischen Lesetext und Anmerkungen. Bd. V / ed. W. Marx. Hamburg, 1958). Статья Хардера о «Жизни» вышла в его «Малых сочинениях» (Kleine Schriften. Miinchen, 1960. S. 275—295). Дата выхода в свет сочинения Порфирия соответствует указанной Хардером: см. его примечания (Op. cit. S. 119—120).
260
ПЛОТИН
ворится о ранних годах жизни Плотина по той простой причине, что сам Плотин почти ничего не рассказывал своим ученикам.1 Как бы то ни было, мы можем вполне быть уверены относительно года его рождения. Нам известно, что он умер в конце второго года правления Клавдия II, то есть в 270 г., а поскольку его ученик и врач Евстохий сообщил Порфирию, что Плотину тогда было 66 лет, мы можем сделать вывод, что он родился в 204/205 г. (день и месяц неизвестны: Плотин никогда бы не позволил отмечать свой день рождения).1 2 Нам доподлинно не известно, откуда он был родом. Начиная с IV века стало принято считать, что он происходит из Египта, и Евнапий указывает на Лико в качестве места его рождения (то есть, скорее всего, Никополь в Верхнем Египте, современный Сйовт (араб. Асьют)). Однако, если эти сведения соответствуют действительности, странно, что ими не обладал Порфирий, и считать их достоверными нельзя. В кратком жизнеописании Евнапия, как и в статье из «Суды» (которая, по некоторым свидетельствам, является фальсификацией XVI века), нет ничего, что давало бы повод считать, что Евнапий или византийцы имели доступ к какому-либо надежному источнику информации, помимо Порфириевой «Жизни Плотина». Общую убежденность в египетском происхождении Плотина невозможно обосновать ничем, кроме того обстоятельства, что он учился в Александрии.3 О его семье и среде нам также ничего не известно. Его имя звучит на латинский лад, и на основании этого вполне возможно предположить некую исходную связь его семьи с домом жены Траяна, Плотиной, однако это ничего не говорит о его родословной. Впрочем, есть одна вещь, которая с очевидностью следует из его соченений, а именно, что его образование и интеллектуальная среда были целиком греческими. (Мы нигде не находим доказательств тому, что Плотин знал какой-либо другой язык: отрывок из «Эннеад» (V 8 [31] 6), который иногда приводят в качестве аргумента в пользу того, что он мог читать иероглифическое письмо, демонстрирует, как отмечают Брейе, Швицер и другие, как раз обратное, если этот отрывок вообще относится исключительно к иероглифике, что сомнительно.4)
1 Vita Plotini 1.
2 Ibid. 2. Хронология «Жизни» подробно рассмотрена Швицером (Plotinos // RE. XXL Col. 472—474).
3 Schwyzer H.-R. Op. cit. Col. 476—477.
4 Cp. подробное рассмотрение этого отрывка в работе: Keyser Е. La Signification de Г Art dans les Enneades de Plotin. Louvain, 1955. P. 60—63.
ЖИЗНЬ: ПЛОТИН И РЕЛИГИЯ, СУЕВЕРИЯ ЕГО ВРЕМЕНИ
261
В 232 г., на двадцать восьмом году жизни, Плотин отправился в Александрию с намерением обучиться философии; он не находил учителя, который бы удовлетворил его, пока в конце 232 или начале 233 г. кто-то не привел его к Аммонию. Услышав его, как рассказывает Порфирий, он сказал: «Это человек, которого я искал», и его учение настолько полно отвечало интересам Плотина, что он оставался со своим учителем на протяжении одиннадцати лет. О мысли Аммония известно очень мало, хотя современные исследователи много пишут о нем. Самая невероятная и тем не менее имеющая право на существование гипотеза принадлежит Элордуи и состоит в том, что Аммоний является автором сочинений псевдо-Дионисия, — предположение, которое, как станет ясно из последующих разделов настоящей книги,1 ставит с ног на голову всю историю философии и теологии трех последующих столетий и разворачивает в обратную сторону признанные сегодня влияния. Кто-то видит в нем индийского, возможно даже буддийского монаха1 2 или какого-то неортодоксального христианского теолога.3 Однако имеющихся у нас редких свидетельств не достаточно не только для того, чтобы поддержать эти удивительные предположения, но и чтобы послужить основанием для более трезвых попыток реконструировать мысль Аммония, планируемых или уже предпринятых учеными, справедливо полагающими, что учитель, настолько удовлетворивший интерес Плотина, должен был быть выдающимся философом, скорее всего внесшим значительный вклад в становление неоплатонизма Плотина.
Имеющиеся у нас и совершенно не вызывающие сомнений сведения об Аммонии таковы. Он не написал ничего, или ничего значительного,4 что весьма прискорбно для нашего исследования.
1 Разделы IV и V.
2 Seeberg Е. Ammonius Sakkas // Zeitschrift fur Kirchengeschichte. 1942. LXI. S. 136—170; Benz E. Indische Einfltisse auf die friih-christliche Theologie //Akad. d. Wissenschaften u. d. Literatur. Mainz, 1951; Abhandl. d. Geistes- und Sozial- wissenschaftlichen Klasse. 1951. N 3. S. 171 ff.
3 Langerbeck H. The Philosophy of Ammonius Saccas // JHS. 1957. LXXVII. Part I. P. 67—74. (Самую последнюю попытку восстановить учение Аммония, которую я нахожу неубедительной, см. в Theiler W Ammonios der Lehrer des Origenes // Forschungen zum Neuplatonismus. Berlin, 1966. S. 1—45 и Ammonios und Porphyrios // Entretiens Hardt. XII. Geneve, 1966. P. 87—119; см. мою рецензию на первый текст в «Gnomon». 1968. Р. 204—206. — Примеч. А. X. Армстронга к изданию 1970 г.)
4 Лонгин, цитируемый Порфирием (Vita Plotini 20), признает, что некоторые философы из его «непишущего» окружения, которое включает в себя и Аммония,
262
ПЛОТИН
Он считал, что душа нематериальна1 и что Платон и Аристотель по сути не противоречат друг другу,* 1 2 — самые обыкновенные и ничем не примечательные взгляды для платоника его времени. К этому недлинному списку мы совсем недавно смогли добавить еще два пункта: Аммоний был воспитан как христианин, а потом стал язычником; он был учителем Оригенов — как Христианина, так и Язычника,3 но после блестящего и проницательного анализа Дёрри трудностей, вызванных противоречивыми свидетельствами Порфирия у Евсевия и самого Евсевия,4 мы лишены прежней уверенности в этих пунктах. Возможно, существовал христианин Аммоний, учитель Оригена Христианина, отличный от язычника Аммония, обучавшего Оригена Язычника и Плотина, хотя, вообще говоря, вероятнее более простое предположение, что Оригена и Плотина обучал один и тот же Аммоний, и, хотя Порфирий и Евсевий оба ошибались, их ошибки не имели таких далеко идущих последствий для дальнейших исследований, как предполагал Дёрри (таково мнение Доддса).
Здесь желательно сказать несколько слов об Оригене Язычнике (Ориген Христианин подробно рассмотрен в другом месте настоящей книги).5 В «Жизни Плотина», написанной Порфирием, он упоминается трижды,6 в таких выражениях, чтобы догадливому читателю стало ясно, что он и его христианский тезка, которого Порфирий так горячо осуждал,7 не один и тот же человек и что Плотин и ученый платоник Лонгин8 относились к нему с большим уважением. О нем также несколько раз упоминает Прокл и
иногда писали малые трактаты, однако он не упоминает ни одного сочинения Аммония.
1 Nem. De nat. hom. 2.
2 Гиерокл в Phot. Bibl. cod. 251; cp. 214. К вопросу о том, возможно ли найти какие-либо еще достоверные сведения об Аммонии у Немезия и Гиерокла, см.: Schwyzer H.-R. Plotinos. Col. 477—481; Dodds E. R. Numenius and Ammonius IV // Les Sources de Plotin. Entretiens Hardt. V. Geneve, 1960. Указанные статьи, а также статьи Дёрри и Крузеля являются лучшими современными исследованиями свидетельств об Аммонии.
3 Порфирий в Eus. НЕ VI 19.
4 Hermes. 1955. LXXXIII. Р. 439—478. Выводы Дёрри были раскритикованы Доддсом (Op. cit.) и Крузелем (Bulletin de ЫдёгаШге Eccldsiastique. 1958. Vol. I. Toulouse, 1958. P. 3—7).
5 Раздел II, гл. 11, с. 245—256.
6 Главы 3, 14 и 20 (и в предисловии Лонгина).
7 Porph. ар. Eus. Loc. cit. Имеются и другие серьезные хронологические несоответствия, не позволяющие отождествить обоих, о чем см.: Weber К.-О. Origenes der Neuplatoniker. Mtinchen, 1962 (глава 2).
8 О Лонгине см. ниже, раздел IV, гл. 18, с. 353—354.
ЖИЗНЬ: ПЛОТИН И РЕЛИГИЯ, СУЕВЕРИЯ ЕГО ВРЕМЕНИ
263
временами другие, более поздние писатели.1 Фрагменты, в которых он упомянут, тем не менее мало говорят нам о его мысли, и создается впечатление, что он не был оригинальным и значительным мыслителем. Однако нам известно наверняка, что он, в отличие от Плотина, не считал первоначалом реальности Единое вне ума и бытия: его первоначало есть высший ум и исходное бытие.1 2 В этом, безусловно, нет ничего особенно оригинального или удивительного. Ориген просто придерживался традиционного взгляда среднего платонизма, с которого начинал и Плотин. Интересно (хотя это вряд ли поможет в осуществлении попытки реконструировать мысль Аммония) заметить, насколько различны пути двух его учеников. Тот факт, что Аммоний полагал, будто между Платоном и Аристотелем нет противоречий, вынуждает нас сделать вывод, что он скорее принимал сторону Оригена, чем Плотина. Если принять, что учение о Едином вне бытия и ума платоновское, очень сложно поверить также, что теологии Платона и Аристотеля существенно схожи, и Плотину было прекрасно известно, что в этом заключалась одна из точек расхождения, отделявшего его платонизм от мысли Аристотеля и перипатетиков. Однако мы обнаруживаем, что Ориген Христианин (как мы убедились, также ученик Аммония), хотя его учение о трансцендентном единстве Бога и не выходит за пределы идей средних платоников и его предшественника христианина Климента Александрийского,3 размышлял о различии Отца и Сына в известной степени подобно тому, как Плотин противопоставлял абсолютно беспредельное и неограниченное Единое ограниченному бытию Ума.4 Тем не менее у него мы не находим того категорического отказа считать «бытие» и «ум» понятиями, которые можно по праву отнести к первоначалу, который является отличительной чертой мысли Плотина.5
1 Высказывания о нем собраны Вебером (Op. cit.). В своем комментарии Вебер блестяще справляется с биографическими вопросами, однако выходит далеко за пределы достоверных свидетельств, когда дело касается мысли Оригена и Аммония.
2 Proclus. Plat, theol. 2. 4. Р. 89 f. Portus (Fr. 7 Weber). Трактат, упоминаемый Порфирием (Vita Plotini 3, 33), «О том, что царь есть единственный творец» (ότι μόνος ποιητής ό βασιλεύς), возможно, отстаивал положение о высшем принципе реальности как тождественном уму-демиургу.
3 Ср.: Orig. Princ. 11.6, где Бог есть одновременно монада и ум.
4 Contra Celsum VI 64; ср.: VII 38 и Comm, in Joh. I 39. 291—292.
5 О «сворачивании» ипостасей в неоплатонизме IV века, которое было своеобразным возвращением к непосредственно доплотиновой позиции, см. ниже, раздел IV, гл. 18 Б, с. 358—364.
264
ПЛОТИН
Все это, хотя и не говорит нам почти ничего о собственных воззрениях Аммония, указывает на то, что вопрос о трансцендентности и единстве первоначала и все его следствия широко обсуждались в этом кругу, а также что именно в этих дискуссиях Плотин нашел точку отсчета для развертывания собственной мысли, приведшей его к созданию оригинального учения. Впрочем, даже если на основании имеющихся у нас свидетельств кажется правдоподобным, что позиция самого Аммония была ближе к обоим Оригенам, чем к Плотину, нам не следует забывать, что Плотин и не считал, что он всерьез следовал мысли своего учителя. Пожалуй, наиболее оригинальная черта учения Аммония, которая прежде всего и привлекла Плотина, состояла в том, что вместо того, чтобы излагать сухое догматическое учение, он давал понять, насколько трудна философия, приветствовал дискуссии и оставлял некоторые вопросы открытыми ценой неясности, неопределенности и даже порой непоследовательности. В главах 13 и 14 «Жизни Плотина» Порфирий описывает метод обучения, применявшийся Плотином, подчеркивая его открытость обсуждениям, терпение к возражениям и отказ принимать какое-либо философское учение в его исходном виде, а затем довольно загадочно отмечает, что Плотин в спорах пускал в ход «ум Аммония».1 Быть может, отличительной чертой ума Аммония было то, что это был сравнительно открытый ум?
По прошествии одиннадцати лет Плотин ушел от Аммония, поскольку, согласно Порфирию, хотел ознакомиться с философией персов и индийцев. Следуя этому намерению, он примкнул к экспедиции Гордиана III против персов. Когда Гордиана убили в Месопотамии и императором был провозглашен Филипп, он с трудом бежал в Антиохию, а затем в Рим; когда он добрался туда, ему было сорок лет.1 2 Не следует слишком акцентировать внимание на этой авантюрной интермедии в довольно бедной в остальном внешними событиями жизни. Причина, которую приводит Порфирий для объяснения, почему Плотин хотел посетить Восток, вполне может соответствовать действительности. Нет ничего удивительного в том, что греческий философ испытывает почтение к восточной мудрости и желает побольше узнать о ней. Целый ряд философов, предшественников Плотина, интересовались мыслью персов.3 (Скорее всего, Хардер прав, не придавая
1 Главы 14—16. Ср. примечание Хардера ad 1ос.
2 Vita Plotini 3.
3 Ср. примечание Хардера к фрагменту из «Жизни Плотина», на который мы только что сослались, и довольно информативное и весьма критическое изложение персидской теологии Плутархом (De Is. et Os. 369d—370c).
ЖИЗНЬ: ПЛОТИН И РЕЛИГИЯ, СУЕВЕРИЯ ЕГО ВРЕМЕНИ
265
особого значения упоминанию Порфирия об индийцах и полагая, что Плотин вовсе не предполагал добраться до Индии, но лишь встретить больше образованных индийцев в Персии, чем он мог бы найти в Александрии.) И все же нет оснований считать, что Плотин уже что-либо знал о персидской или индийской мысли, и, как оказалось, предпринятая экспедиция не позволила ему обогатить познания. Мы еще увидим, что его учение вполне объяснимо как развитие собственно греческой философии и здесь нет нужды допускать восточные влияния. В самом деле, было бы нелегко обнаружить какие-либо точки соприкосновения между философией Плотина и ортодоксальным зороастризмом Сасанидов или какой-либо иной известной нам формой древней мысли персов. И хотя в философии Плотина и имеются сходства с некоторыми формами индийской мысли,1 их, пожалуй, следовало бы объяснить скорее независимой рефлексией схожего религиозного или метафизического опыта, нежели каким-либо влиянием или заимствованием.
С предположением (высказанным Хардером в примечаниях к соответствующему фрагменту, на который мы только что ссылались), что раз Плотин отправился в экспедицию, то он уже имел связи в кругах сенаторов, приближенных к Гордиану III, наверное, можно согласиться, хотя доказательство ненадежно. Высказывание Порфирия о том, что Плотин присоединился к экспедиции,1 2 ничего не сообщает нам о том положении, которое он в ней занимал. Вполне возможно, он был простым нахлебником без какого-либо определенного чина или обязанности, и тогда опасность, от которой он едва сумел бежать в Антиохию, могла сводиться к общему тревожному положению, вполне объяснимому в лагере, где солдаты только что убили своего императора; тогда нет необходимости предполагать какую-либо прямую угрозу его жизни, как если бы он был близким товарищем Гордиана и его друзей. Однако то об¬
1 Это вопрос, который мог бы быть рассмотрен автором, в равной степени владеющим обеими традициями, сильным и доскональным знанием греческого текста «Эннеад» и санскритского «Упанишад». Автор настоящей главы, познания которого в индийской мысли крайне обрывочны и поверхностны, а также целиком основаны на переводах, не подходит для этой роли. Однако пересказанная Цэнером мысль Мундака- и Шветашватара-упанишад (Zaehner R. С. At Sundry Times. London, 1958. P. 107—116) обнаруживает ряд поразительных сходств с мыслью Плотина, и сравнение первой и второй кем-нибудь, природой и упражнением подготовленным к пониманию обеих, могло бы стать весьма плодотворным занятием.
2 δούς έαυτόν τω στρατοπέδω συνεισήει (Vita Plotini 3, 18—19).
266
ПЛОТИН
стоятельство, что он отправился в Рим — не слишком подходящее место для изучения и преподавания философии, — требует некоторых пояснений. И самое простое из них, пожалуй, заключается в том, что он уже был знаком с кем-то, имеющим достаточное влияние, связи и собственность в Риме, чтобы по меньшей мере дать ему шанс жить той жизнью, которую он для себя избрал, в надежде на относительные мир и безопасность (в действительности не было нужды опасаться неприятностей от Филиппа, который выполнил необходимые формальности для обожествления Гордиана, относился с уважением к его семье и оставался в хороших отношениях с сенатом). И все же нам не стоит торопиться с выводами, поскольку мы, конечно, не в силах рассуждать о положении дел, предшествовавшем появлению в Риме Порфирия в 263 г. У Плотина было достаточно времени, чтобы за девятнадцать лет сделаться широко известным и приобрести высокопоставленных друзей.
Именно в Риме Плотин начал обучать философии, а по прошествии десяти лет — писать.1 Об этом периоде жизни Плотина нам лучше всего известно от Порфирия, хотя мы не должны забывать, что тот был рядом с Плотином только шесть лет почти в самом конце его жизни. Плотин, образ которого рисует Порфирий, — это Плотин, упрочившийся в своем авторитете, с уже сформированным кругом друзей и учеников и полностью сложившимся методом обучения. Если этому и предшествовала борьба, неуверенность и неопределенность, то о них мы ничего не знаем. Это привлекательный образ, и в нем присутствует ряд таких деталей, которые позволяют лучше понять его философию. Прежде всего, мы обнаруживаем, что Плотин — этот едва ли не самый «не от мира сего»-философ, платоник, совершенно пренебрегший социальным и политическим аспектами философии Платона, — не только жил с известным шиком среди аристократической прослойки Рима, но и оказал немало исключительно практических, деловых и совершенно бескорыстных услуг своим друзьям и соседям. Он, безусловно, всегда исповедовал отрешение от мира и, возможно, даже в значительной степени пытался привить его своему окружению. Наиболее поразительным примером его влияния, упомянутым Порфирием, была история с сенатором Рогацианом, который раздал свою собственность, а когда ликторы собрались у дверей его дома, чтобы препроводить его с его первой церемониальной процессией, отказался от должности претора.
1 Vita Plotini 4.
ЖИЗНЬ: ПЛОТИН И РЕЛИГИЯ, СУЕВЕРИЯ ЕГО ВРЕМЕНИ
267
Впоследствии он жил аскетической жизнью полного достоинства философствующего нищего, что, как отмечает Порфирий, излечило его от подагры. Наиболее исчерпывающее объяснение неудачной попытки основать Платонополь в Кампании принадлежит Хардеру, согласно которому предполагалось создать нечто вроде языческого монастыря, куда удалились бы подальше от римской жизни Плотин, его друзья и ученики, среди которых было много сенаторов и их жен, и что истинной причиной, почему император Галлиен остановил проект, была его вежливая враждебность по отношению к сенату. А Плотин, вне всякого сомнения, полагал, что обязанность доброго и мудрого человека, живущего в миру, состоит в том, чтобы поддерживать других не только духовным наставничеством, но и той практической и материальной помощью, в которой, как подсказывал ему его просветленный разум, они нуждались, и щедро оказывал ее. Как рассказывает Порфирий, он выступал в роли третейского судьи в спорах и, в отличие от большинства людей, кто когда-либо участвовал в этом неблагодарном деле, не приобрел врагов. Его друзья-аристократы часто поручали ему выступить опекуном и попечителем своих детей, и он самым добросовестным образом выполнял эту обязанность. «Его дом, — повествует Порфирий, — был полон мальчиков и девочек» (должно быть, это был большой и со вкусом обставленный дом; все-таки Плотин, какой бы скромной ни была его частная жизнь, не был нищим философом кинического типа). Он заботился как об их образовании, так и об их собственности самым тщательным и деятельным образом. Представляется, он считал, что если, когда дети вырастут, они обратятся к философии, то, несомненно, откажутся от собственности, подобно Рогациану, однако до тех пор, пока они не достигли совершеннолетия и не приняли самостоятельного решения, он должен добросовестно исполнять предписанные римским законодательством обязанности попечителя. Эта тесная взаимосвязь отказа от собственности и обращения к философии в значительной степени проливает свет на то, каким видели философский образ жизни греческие авторы позднего периода, а также почему для некоторых образованных христиан в последующем столетии казалось столь естественным говорить о первых монахах как о «христианских философах».
Плотин всегда был к услугам друзей, когда они оказывались в каком бы то ни было, малом или большом, затруднении или не- счастьи, начиная с потери ожерелья и заканчивая настойчивым желанием покончить с собой. Порфирий рассказывает, что, когда
268
ПЛОТИН
он и сам задумал убить себя, Плотин неожиданно пришел к нему и сказал, что его решение неразумно и вызвано избытком черной желчи, и предложил уехать, дабы совершенно сменить обстановку. Порфирий послушался и отправился в Сицилию, и так (согласно намерению Плотина или вопреки ему) закончились их отношения, поскольку Плотин вскоре скончался. Подобно другим великим созерцателям, он владел даром хранить свою внутреннюю жизнь неприкосновенной для многочисленных внешних воздействий. Он умел справляться с суицидальными настроениями Порфирия, пропавшим ожерельем Хионы или уроками Потамона, не прерывая размышлений: это, как мы увидим в дальнейшем, имеет отношение к его психологическому учению.
Рассказ Порфирия об окружении Плотина в Риме и ходивших в нем слухах об учителе в некоторой степени проливает свет на ряд вопросов, важных для понимания соотношения мысли Плотина с идеями его времени, а также на его отношение к язычеству, гностицизму и магии. Эпизод из «Жизни Плотина»,1 который, если его правильно, учитывая контекст, интерпретировать, может помочь нам в уяснении воззрения Плотина на современную ему языческую религию, о чем лишь небрежно и мимоходом говорится в «Эннеадах», — это история о знаменитом ответе Амелию. Амелий Гентилиан, выходец из Этрурии, был виднейшим учеником школы, старейшим и ближайшим товарищем Плотина, а также неутомимым и велеречивым комментатором и защитником его учения. Он сделался philothutes (что мне удалось лишь весьма вольно перевести как «обрядовый» (ritualistic)*) и посещал жертвоприношения во всех храмах в положенные дни. Однажды он попросил Плотина пойти с ним, а тот ответил: «Пусть боги приходят ко мне, а не я к ним». Что бы ни хотел он сказать этими «надменными словами»1 2 (и не исключено, что его ученики отнеслись к нему всерьез), совершенно очевидно, что Плотин не считал ни важным, ни интересным для себя внешнее соблюдение религиозных обычаев. И таково же, безусловно, впечатление, создающееся при чтении «Эннеад». Религия для Плотина — индивидуальное, не общественное дело; это одинокое путешествие души к Богу, для которого религиозные обряды и церемонии незначительны либо
1 Vita Plotini 10.
2 О некоторых возможных его смыслах см. мою статью «Was Plotinus a magician?» (Phronesis. Nov. 1995.1, 1. P. 77—79).
* В русском переводе «Жизни Плотина» — «богобоязненный». — Примем. перев.
ЖИЗНЬ: ПЛОТИН И РЕЛИГИЯ, СУЕВЕРИЯ ЕГО ВРЕМЕНИ
269
вовсе бесполезны. Но случай с Амелием, как и «Эннеады», также обнаруживает, что было только безразличие, не враждебность. Сам Плотин не ходил в храмы, однако нет свидетельств тому, чтобы он возражал против того, что ходит Амелий. В конце концов, Амелий был самым старшим членом школы, и все, что о нем говорится в «Жизни Плотина», указывает на то, что Плотин высоко ценил его именно как философа. Худшее, что он мог думать о его «обрядовости», — что это милая слабость, которая ни в коем случае не делала Амелия непригодным для философии.1 Приводимые им в «Эннеадах» примеры из верований и практик народных религий,1 2 безусловно, никак не говорят о какой-либо враждебности, равно как об энтузиазме или интересе. Внешние церемонии, будь то общенародные культы или мистерии, могут предоставить священные и небесполезные образы для переживания истинной, философской религии, но и не более.
И все же одну религию своего времени, в числе приверженцев которой были и люди из его окружения, Плотин действительно ненавидел. Это гностицизм. Некоторые параграфы сочинения «Против гностиков»3 исполнены такой страсти, которая по интенсивности не сравнится с самой острой полемикой против материализма стоиков, эпикурейского отрицания провидения и даже с негодованием, вызванным нечестивой глупостью некоторых воззрений астрологов. Причина такой ярости получает объяснение в 10 главе трактата и 16 главе «Жизни Плотина». В 10 главе Плотин говорит о «некоторых из наших друзей, которые приняли такой образ мысли, прежде чем стали нам друзьями, и, хотя я не понимаю, как им это удается, остаются при нем». Порфирий пишет в «Жизни Плотина»: «Были при нем среди христиан многие такие, которые отпали от старинной философии»,4 а затем пере¬
1 Наверное, Порфирий был к нему строже, если, что кажется вполне веро¬
ятным, упоминания о философах, разделяющих и поощряющих верования и практики народных религий, в «О воздержании» (II 35; 40) относятся к Амелию и ему подобным в Плотиновом окружении. Возможно, этот отрывок целиком (34 43) мог бы прояснить, что привело Плотина к тому, чтобы воздерживаться
от участия в жертвоприношениях, однако мы не знаем, насколько в нем отражены взгляды самого учителя Порфирия.
2 См.: Επη. IV 3 [27] 11; VI [10] 6; VI 9 [8] 11.
3 II 9 [33].
4 γεγόνασι δέ κατ’ αύτόν των Χριστιανών πολλοί μέν και άλλοι, αιρετικοί δέ έκ της παλαιάς φιλοσοφίας άνηγμένοι... (16, 1—2). Относительно перевода см. рассуждение в «Entretiens» (V Р. 175—176). αιρετικοί, конечно, не означает, что они были еретиками или сектантами с точки зрения православного христианства, но людьми, которые на свой особый лад истолковали «древнюю философию».
270
ПЛОТИН
ходит к описанию являвшихся им «откровений», характер которых не оставляет сомнений, что они были гностиками. Он также описывает привычную полемику, которую устраивали с ними Плотин, Амелий и он сам и в ходе которой он продемонстрировал, скорее всего используя те же аргументы, которые впоследствии, нападая на христиан, он применил в отношении к Ветхому Завету, что откровение, приписываемое гностиками Зороастру, было позднейшей подделкой. Из этого сообщения ясно следует, что Плотин видел в гностиках смертельных врагов всего того, что отстаивал сам, и считал их опасными, поскольку они были врагами внутренними: гностики были в его собственном окружении, настолько близком, что он называл их «друзьями» вопреки их взглядам. Не исключено даже, что было время, когда он считал возможным достичь с ними дружеского взаимопонимания. Совершенно очевидно, в «Эннеадах» имеются идеи, довольно близкие гностицизму.1 Вероятно, Плотин не сразу осознал всю опасность, к какой могло привести это направление его мысли, и неразрешимые противоречия, лежащие между его истолкованием платонизма и любого рода гностицизмом. Однако нет сомнений, что он в конце концов пришел к мнению, что гностицизм оказывает тлетворное влияние на его окружение, разлагая умы и судьбы его друзей, и если его не обуздать, то их истинная эллинская философия превратится в аморфную массу варварской бессмыслицы и безнравственности. Несогласие Плотина с гностиками базируется одновременно на традиции, разумности и морали. Для него нет и не может быть конфликта между авторитетом почитаемой им традиции, прежде всего платонизма, и разумом. Диалоги Платона в его глазах не вдохновенное писание или божественное откровение, перед которым должен сдаться его разум. Он также не считает себя более рассудительным, чем Платон, а следовательно, он не вправе критиковать и исправлять его, как критикует и исправляет Аристотеля. Просто Платон всегда совершенно разумен и справедлив, если, конечно, правильно его понять, то есть понять так, как его понимает Плотин.* * Существенное основание авторитетности Платона состоит, безусловно, в его древности. Плотин, как и большинство его современников, считали, что чем древнее учение, тем оно
1 См. ниже, гл. 15, с. 311—312.
* Другую точку зрения на Плотина как мыслителя более независимого от Платона, чем утверждается здесь, см.: RistJ. М. Plotinus: The Road to Reality. Cambridge, 1967 (гл. 13 «Оригинальность Плотина»). — Примем. А. X. Армстронга к изданию 1970 г.
ЖИЗНЬ: ПЛОТИН И РЕЛИГИЯ, СУЕВЕРИЯ ЕГО ВРЕМЕНИ
271
должно быть истиннее, а Платон был для платоника самым древним мудрецом и добросовестным истолкователем любой истинной мудрости, бывшей до него. И хотя обращение к «орфической» и «пифагорейской» мудрости играет в «Эннеадах» гораздо менее значимую роль, чем у Ямвлиха и его последователей, Плотин, несомненно, признавал ее проверенную временем авторитетность. Нужно было доказать, что откровения гностиков являются недавними подделками, поскольку они ссылались на авторитет мудрецов, подобных Зороастру, которого все считали более древним, чем Платон. Они использовали подложную древнюю мудрость, чтобы расхваливать свои новоявленные извращения, порчу и чудовищные искажения подлинной древней мудрости. А мотивами этих действий Плотин считал безнравственное и неразумное высокомерие и суетность. Их «откровения» питали их манию величия и заставляли возомнить себя выше не только мудрецов эллинской традиции, но и самого зримого мира и сотворившего его божественного могущества, а также небесных божеств, миром управляющих. Почему презрение гностиков к видимому миру было настолько глубоко отвратительным для платоника, мы обсудим позже. И, считая себя привилегированной кастой существ, состоящих в особых отношениях с божественным, они верили, что коротким и легким путем, путем тайного знания и техник, они могли вернуться обратно в предназначенное им место в духовном мире и не нуждались в том, чтобы идти долгой и трудной дорогой упражнения в добродетели и тренировки ума, которую истинная философия указала как единственный путь к Богу. Вот почему гностицизм представлялся Плотину столь опасным и он так энергично боролся с ним.
Плотин нимало не одобрял занятия гностиков магией,1 однако две истории из «Жизни Плотина» и . некоторые параграфы «Эннеад» заставляют исследователей думать, что он и сам не гнушался этим занятием, когда того требовал случай.1 2 Две истории пересказываются в главе 10 «Жизни Плотина». Обе они относятся ко времени, предшествовавшем прибытию Порфирия в Рим и его вступлению в школу Плотина, поэтому представляют собой по¬
1 Επη. II 9 [33] 14.
2 На эту тему было написано немало, например: Dodds Е. R. The Greeks and the Irrational. Berkley, 1951. App. II; Merlan P. Plotinus and Magic I I Isis. Dec. 1953. XLIV. P. 341—348; Armstrong A. H. Was Plotinus a Magician? P. 73—79 (эти статьи можно было бы охарактеризовать как обвинение либо защита Плотина по делу о занятии магией); также см. эссе Хардера, на которое мы уже ссылались, и его комментарии к соответствующим параграфам из «Жизни Плотина».
272
ПЛОТИН
вествование из вторых или даже третьих уст и, вполне может быть, приукрашивались каждым новым рассказчиком. Впрочем, в них нет ничего совсем уж невероятного, и их нельзя отвергать как выдумку или слухи. В конце концов, Плотин и сам мог рассказать их Порфирию; особенно это кажется вероятным относительно первой истории. Она повествует о единственном (согласно Порфирию) личном враге Плотина — Олимпии Александрийском, недолгое время обучавшемся у Аммония (по этой причине вполне возможно, хотя и нельзя знать наверняка, что этот эпизод произошел в Александрии, а не в Риме). Он пытался применить астральную магию против Плотина и (согласно наиболее правдоподобной интерпретации туманных и двусмысленных выражений Порфирия) так преуспел, что у Плотина случился особенно тяжелый приступ колик, которым он был подвержен, и этот приступ он объяснил кознями Олимпия (насколько он был серьезен — о том мы не можем судить). Однако Олимпий почувствовал, что его магия обернулась против него же, в силу, как он сказал, превосходящей его душевной мощи Плотина, и прекратил свои занятия, поскольку ощутил опасность больше пострадать самому, чем навредить сопернику. Эта история, безусловно, демонстрирует, что и Олимпий, и Плотин, как и все остальные в III столетии, верили в магию. Тем не менее нам не кажется, что рассказ содержит ясное свидетельство того, что Плотин здесь прибегал к помощи магии: если и так, то это была лишь самозащита, однако представляется более вероятным, что Плотин был настолько заряжен духовной силой, что естественным образом источал оккультные воздействия, которые делали его опасной мишенью для магических нападений. И в Плотиновой теории магии, как она изложена в «Эннеадах», нет ничего, что бы противоречило такой интерпретации случившегося. В «Эннеадах» есть ряд ссылок на магию, ясно указывающих на то, что Плотин и в самом деле верил в ее действенность. Наиболее развернутое и подробное рассуждение можно обнаружить во втором трактате «О проблемах души»,1 в котором Плотин излагает свои взгляды на ограниченность магического воздействия на добрых и мудрых людей и богов. Из этого с очевидностью следует, что Плотин верил, что только тело и низшая, неразумная душа, близко связанная с телом, могут подвергаться магическому воздействию и что вред от него, даже если бы его и хватило на то, чтобы убить тело, незначителен. Здесь нет ни слова о том, что
1 Επη. IV 4 [28] 40—44. (В переводе Т. Г. Сидаша — «О трудностях, возникающих при рассмотрении души». — Примем, перев.)
ЖИЗНЬ: ПЛОТИН И РЕЛИГИЯ, СУЕВЕРИЯ ЕГО ВРЕМЕНИ
273
доброму и мудрому человеку следует предпринимать схожие ответные действия. Но если это низшее магическое вмешательство такого рода, что может оказать воздействие на разумную душу (как в случае с любовным приворотом), Плотин сотворит «ответные заклинания», чтобы от него избавиться: не исключено, что используемое здесь слово1 — как и слово έπφδή («заклинание»), встречающееся в других местах «Эннеад», — Плотин вслед за «Хармидом» (156—157) употребляет в метафорическом смысле, говоря о «философском заговоре». Что касается богов, то только астральные боги вообще оказываются в сфере магии, но даже их тела не могут в действительности испытывать магического воздействия: все, что может сделать маг, это манипулировать истечениями от солнца, луны и звезд, в то время как божества пребывают в неведении относительно этого.
Это последнее суждение полезно держать в уме при рассмотрении нижеследующей истории о «сеансе в Исее», подробно и вдохновенно проанализированной Доддсом в приложении к работе «Греки и иррациональное». Плотина уговорили принять участие в заклинании духа-хранителя в храме Исиды в Риме (у нас нет свидетельств того, в каком расположении он туда отправился или насколько был заинтересован в предстоящем событии). Ко всеобщему изумлению, вместо духа появился бог, однако ввиду технической накладки (удушение апотропеических птиц) было невозможно задать ему вопросы. Порфирий связывает написание трактата «О присущем каждому демоне»1 2 с этим эпизодом. Если это так, то внимательное прочтение трактата сделает для нас очевидным, что вряд ли Плотин пришел в большой восторг от случившегося (или представлявшегося случившимся). Как следует из содержания трактата, наше собственное решение жить согласно высшему или низшему в нас определяет ранг нашего духа-хранителя, что, в свою очередь, определяет, кем мы будем в последующей жизни — зверем, человеком, духом или богом, поскольку дух-хранитель всегда пребывает на следующем, более высоком уровне бытия, чем тот, которого достигает наша личность. Тем самым дух-хранитель добродетельного и мудрого человека (spoudaios), живущего на уровне Ума, есть Единое, или
1 άντεπάδων (43, 8).
2 Enn. Ill 4 [15]. («О присущем каждому демоне» — название, появляющееся в переводе «Жизни Плотина» Порфирия. В корпус «Эннеад» этот трактат включен под названиями «О полученных нами демонах» (пер. T. Г. Сидаша) или «О демоне, получившем нас в удел» (пер. Ю. А. Шичалина). — Примеч. перев.)
274
ПЛОТИН
Благо как таковое, и потому он вовсе недоступен никакому заклинанию.1 Есть люди, которые имеют своим духом-хранителем астрального бога, высшее существо, которое тем не менее подвержено магическому воздействию, однако это добродетельные люди самого низшего ранга из тех, кто отправятся в высший мир, а не получат наказание (трактат целиком является истолкованием платоновского учения о духах-хранителях, в частности мифа из «Государства»). Добродетельные люди высшего достоинства вообще не принадлежат зримому миру, а следовательно, не подлежат попечению астральных богов.1 2 Таким образом, появление в Исее бога низшего достоинства в лучшем случае могло бы выступить доказательством заслуг Плотина в духовной сфере, свидетельством того, что он находится на верном пути, однако и того, что он еще далек от статуса spoudaios. И конечно, если ко времени проведения сеанса он уже держался своего впоследствии более подробно разработанного воззрения на магию, он не поверил тому, что им явился действительный бог, но лишь образ бога, произведенный магическим искусством из его истечений. Тем самым мы получили все основания заключить вместе с Доддсом, что Плотин не был ни магом, ни теургом. Он признавал реальность могущественных сил магов и астрологов, как того требовала его теория о воздействиях физического универсума, но не имел желания использовать подобные силы сам, и, когда оккультисты выходили за пределы разумного и почтительного, делали напыщенные заявления или позволяли себе богохульства, вменяя зло астральным богам, он их решительно осуждал.3
Мы рассмотрели отношение Плотина к языческой религии этого периода, гностицизму и магии, но ничего не сказали о его взглядах на правоверное христианство, поскольку, вообще говоря, сказать нам нечего. Если предположить — и это представляется наиболее вероятным, — что Ориген, обучавшийся платонизму у Аммония и упомянутый в «Жизни Плотина», отличен от Оригена Христианина,4 тогда у нас нет свидетельств того, что Плотин когда-либо был связан или имел беседу с кем-либо из правоверных христиан. В «Эннеадах» он также ни разу специально не упоминает и не критикует христианское учение (в отличие от учений или
1 Vita Plotini 6, 1—5.
2 6, 18—37.
3 Ср. (помимо II 9 [33] 14, на которое мы уже ссылались) Vita Plotini 15 и Enn. II 3 [52] 1—6 (против астрологов).
4 См.: Vita Plotini 3, 14 и 20.
ЖИЗНЬ: ПЛОТИН И РЕЛИГИЯ, СУЕВЕРИЯ ЕГО ВРЕМЕНИ
275
умонастроений, свойственных и гностикам, и ортодоксам). Скорее всего, Плотин просто никогда не соприкасался с правоверным христианином — ни как с другом, ни как с врагом. Принимая во внимание громадное влияние, которое его философия имела на последующую христианскую мысль, было бы интересно поразмыслить над тем, каким могло бы быть его отношение к христианству. Однако со всей определенностью мы можем сказать лишь, что, даже знай он о нем, скорее всего, оно бы ему не понравилось. Совсем другой вопрос, каковы сходства и различия между мыслью Плотина и христианской мыслью его времени и последующих периодов, который еще будет затронут в различных местах данного раздела, а вопрос об оказанном им влиянии на позднейших христианских (и мусульманских) мыслителей будет неоднократно обсуждаться на страницах нашей книги.
Глава 13
ПРЕПОДАВАНИЕ И СОЧИНЕНИЯ
Пожалуй, наиболее интересной частью составленного Порфирием описания жизни Плотина для историка философии является его изложение методов преподавания и сочинительства учителя, его познаний и обращений к предшествующим философам, а также его отношений с философами его времени. Многое из того, что рассказывает Порфирий, значительно облегчает наше понимание «Эннеад». Лекции Плотина не были формальными, хорошо построенными и организованными речами, в которых тема развивалась бы в направлениях, прочерченных установленной традицией и привычных для современных ему философских школ. Атмосфера в его школе была неформальной, некоторые говорят даже, что и беспорядочной.1 Плотин был философом систематическим и догматическим, не имевшим сомнений в том, что он знает верные ответы на все рассматриваемые им великие философские вопросы, однако он не принадлежал к числу тех систематиков и догматиков, которые не выносили сомнений, возражений и прерываний их речи. Подобно Сократу, он был убежден в ценности дискуссии, и стоило в его школе начаться обсуждению, оно должно было продолжаться до конца, до тех пор, пока возникшие затруднения не бывали должным образом разрешены, сколько бы времени на это ни требовалось. История, которую рассказывает Порфирий, дает прекрасное представление о том воодушевлении, с каким Плотин встречал вопросы и возражения. Человек по имени Томасий пришел однажды в школу в тот день, когда Плотин обсуждал с Порфирием отношения души и тела (спор длился три дня), и потребовал связной лекции, чтобы ее записать, так как он не мог, по его словам, выносить вопросов и ответов Порфирия.
1 Vita Plotini 3.
ПРЕПОДАВАНИЕ И СОЧИНЕНИЯ
277
Однако Плотин сказал: «Если мы не разрешим трудностей, которые ставит своими вопросами Порфирий, мы не сможем сказать ничего, что следовало бы записать».1 И следы обсуждений такого рода мы можем обнаружить во многих трактатах «Эннеад» (дело не в том, что трактаты представляют собой отчеты или конспекты имевших место дискуссий, но ход изложения выглядит так, будто он был вдохновлен не только мыслью Плотина, но и воспоминаниями о возражениях, выдвинутых учениками школы). И все же, хотя Плотин и был всегда готов сделать остановку для всестороннего рассмотрения вопроса, из рассказа Порфирия явствует также, что он был способен на продолжительное изложение и такой способ повествования, который вдохновлял аудиторию и сообщал ей долю его собственной философской страсти. Это опять-таки подтверждается его сочинениями, в которых нередко встречаются непрерывные, плотно сбитые объяснения и отрывки, выразительные своим красноречием, которыми он трогал и восхищал читателей всех поколений, начиная с блж. Августина и заканчивая нашим временем, а иногда даже вдохновлял на то, чтобы вступить в схватку с путаным объяснением или сжатыми и туманными аргументами, которыми наполнена большая часть «Эннеад». Как бы то ни было, риторика Плотина не искусственная, не преувеличенно литературная и не ориентированная на внешнее впечатление, что было весьма распространено в ту эпоху; она проста и прямолинейна, поскольку происходит из страстной сосредоточенности на самом предмете обсуждения.
То, что Порфирий нашел нужным сказать о знакомстве его учителя с предшествующими философами и его обращениях к ним, было подтверждено и подробно разобрано в недавних исследованиях «Эннеад» и чрезвычайно полезно для нашего понимания того, как Плотин вырабатывал свою философию. Порфирий рассказывает: «При занятиях читались ученые записки или Севера, или Крония, или Нумения, или Гая, или Аттика, а из перипатетиков — Аспасия, Александра, Адраста и прочих, кого случится».1 2 Исходным пунктом (и Порфирий подчеркивает, что только исходным пунктом) лекции Плотина или обсуждения становилось изучение одного из платоновских или аристотелевских комментаторов и толкователей, отстоящего примерно на столетие от того времени, когда началась собственная философская карьера Плотина. Вновь и вновь, читая «Эннеады», мы обнаруживаем,
1 Ibid. 13.
2 Ibid. 14.
278
ПЛОТИН
что он критически переосмысливает взгляды предшественников, воспроизводит отрывки из школьного обсуждения или полемики в качестве отправной точки его собственных рассуждений. Это очень хорошо показано в томике «Источники Плотина», на который мы уже ссылались. Особенно интересно его отношение к знаменитому аристотелевскому комментатору Александру Афродисийскому. Плотин выказывал конструктивно-критическое обхождение с казавшейся ему привлекательной и отчасти верной, хотя и не вполне адекватной трактовкой аристотелевской мысли у Александра, которую он исправлял, привлекая к обсуждению самого Аристотеля, так же как он иногда исправлял платоников с помощью Платона.1 Плотин был хорошо знаком с трудами Аристотеля и нередко ссылался на них (Порфирий отмечает его частые обращения к «Метафизике»,1 2 но он также знал «О душе», логические трактаты, «Никомахову этику» и другие работы), а также испытал на себе глубокое влияние аристотелевских идей, как это станет очевидно в дальнейшем, хотя его отношение к ним всегда оставалось независимым и критическим. То же можно сказать и о его отношении к стоицизму. Порфирий сообщает о скрытом присутствии в его сочинениях стоических и перипатетических положений;3 и, несмотря на немалую долю традиционной полемики платонизма со стоицизмом, в «Эннеадах» есть целый ряд отрывков, в которых заметно явное влияние последнего, хотя этот стоицизм, как правило, не остается в своем изначальном и неизменном виде,4 примеры чему мы еще увидим. Что касается других философов, то Плотин симпатизировал эпикурейцам не больше и понимал их не лучше, чем большинство его предшественников и современников, а его ссылки на них ограничиваются несколькими расхожими спорными высказываниями; досократики же обеспечили его несколькими доксографическими штампами, которые он интерпретирует согласно своим собственным идеям.
Высшим авторитетом для Плотина и единственным философом, не подлежащим критике, конечно, является Платон. Однако тот способ, каким он обращается с трудами учителя, приводит в замешательство современных исследователей Платона. Как прекрасно выразился Тайлер, плотиновский Платон — это очень
1 См. в особенности Henry Р. Une Comparaison chez Aristote, Alexandre et Plotin // Les Sources de Plotin. Entretiens Hardt. V. P 429—449 и ее обсуждение.
- Vita Plotini 14, 6—8.
3 Ibid. 5—6.
4 Cm.: Theiler W. Plotin zwischen Plato und Stoa. S. 65—103.
ПРЕПОДАВАНИЕ И СОЧИНЕНИЯ
279
ограниченный Платон, Plato dimidiatus,* Платон без политики.1 Как мы уже убедились, неотмирность Плотина не заставила его пренебречь общественными обязанностями — ни один древний философ не был известен таким бескорыстным служением своим товарищам, — но она подтолкнула его к проповеди отрешения от публичной жизни и к почти полному безразличию к политической стороне платоновской мысли. Впрочем, Плотин крайне избирателен и в отношении неполитических сочинений Платона.1 2 Он почти не обращается к ранним, «сократическим» диалогам, «Государство» же цитирует часто, но почти всегда ограничивается несколькими параграфами (миф о пещере, идея блага и заключительный миф), неоднократно обращается к «Теэтету» (176а—Ь: удаление от зла). Имеются также многочисленные ссылки на отдельные фрагменты из «Софиста», «Парменида», «Филеба»; к «Алкивиаду I», «Гиппию большему», «Политику», «Кратилу», «Законам» и, пожалуй, «Послезаконию» он обращается лишь от случая к случаю; отрывок о трех первоначалах во Втором письме (312е) приводится в качестве авторитетного подтверждения учения Плотина о трех ипостасях. Чаще всего и наиболее широко Плотин ссылается на диалоги «Федон», «Федр», «Пир» и «Тимей». Эти диалоги, а также VI и VII книги «Государства» являются подлинным источником его платонизма. Но даже их он использует выборочно, а на значительную часть не только не ссылается, но и не принимает во внимание. В «Эннеадах» то и дело встречаются острые обсуждения нестыковок или кажущихся (для Плотина они обязательно только кажущиеся) противоречий у Платона, особенно касающихся различных высказываний о причинах, по которым душа нисходит в мир, и о ее отношении к телу.3 Но чаще всего целью обращений к Платону и ссылок на него является привлечение авторитета для подкрепления собственных взглядов или в качестве
1 Theiler W Op cit. S. 67. (Несколько свидетельств серьезного изучения политических сочинений Платона древнегреческими философами можно обнаружить в изложении политической мысли аль-Фараби: см. ниже, раздел VIII, гл. 40 В, с. 755—759.)
2 Весьма подробный обзор цитирований из Платона дают Швицер (Schwy- zer H.-R. Op. cit. Col. 551—552) и Тайлер (Theiler W. Op. cit. S. 68—71). Из-за неточных цитирований и упоминаний распознать, какой именно отрывок имеет в виду Плотин, порой бывает совсем не просто. (Apparatus fontium в издании Анри—Швицера предлагает цитации и устные ссылки на Платона. В Editio minor «Эннеад» (I—III. Oxford, 1964) их больше, чем в оригинальном издании. — Примеч. А. X. Армстронга к изданию 1970 г.)
3IV 8 [6] и I 1 [53] 12.
*«Половинчатый Платон» (лат.). — Примеч. перев.
280
ПЛОТИН
исходного пункта для собственных рассуждений; и тот смысл, который он придает им, либо во многом его собственный, либо принадлежит его предшественникам — средним платоникам и неопифагорейцам (чьи интерпретации, конечно, в ряде случаев, как можно проследить, восходят к Древней Академии). В действительности он обращается с текстами Платона подобно тому, как христианские проповедники или теологи-схоласты — с Библией, а не как это делал бы преданный ученик (его отношение к Аристотелю значительно более школьное в силу того, что он не испытывал к нему особого почтения). Это не означает, что платонизм Плотина не имеет ничего общего с платонизмом Платона: к такому выводу можно прийти, только если пренебречь почти всем у Платона и ничего не понять у Плотина. Однако сходства и различия лучше проявятся, когда мы рассмотрим мысль Плотина в подробностях.
Прежде чем перейти к рассмотрению сочинений Плотина, следует сказать несколько слов о конце его жизни и распадении круга его соратников. Болезненный и неприятный недуг, от которого он страдал в последние годы и который в конце концов убил его, описан Порфирием1 настолько неопределенно, что Опперман считает его Elephantiasis graeca (форма проказы), а Жиле — туберкулезом. Он вынудил его оставить преподавание и удалиться от общества друзей, которые избегали встречи с ним из неприятия его состояния. Он отправился в поместье одного из своих старых друзей, Зефа, в Кампании, гда и умер в присутствии одного лишь преданного ему врача Евстохия. Порфирий, опираясь на свидетельство Евстохия, записывает последние слова Плотина, но, к сожалению, сам текст и его трактовка сомнительны.1 2 По-видимому, он сказал либо «Попытайся вернуть Бога в себе в божественное во вселенной», либо «Я пытаюсь вернуть божественное в нас в божественное во вселенной». К моменту его смерти его кружок уже распался. Порфирий уехал в Сицилию незадолго до этого ввиду уже упомянутого нервного расстройства, Амелий был в Сирии. Кружок Плотина никогда и не был формально организованной философской школой, его существование целиком зависело от самого Плотина, и с его уходом и смертью он развалился без
1 Vita Plotini 2. Сведения, приводимые Порфирием и Фирмиком Матерном (Firmicus Maternus. Mathesis I 7. 14 ff.), скорее всего имевшим Порфирия своим источником, рассматриваются в работах: Opperman Н Plotins Leben. Heidelberg, 1929; Henry P Plotin et 1 Occident. Louvain, 1934. P 25 if.; GilletP. Plotin au point de vue nodical et psychologique. Paris, 1934; Schwyzer H.-R. Op. cit. Col. 474 476.
2 Cm.: Henry P La Demiere Parole de Plotin // Studi classici e orientali. 1953. II. P. 113—120 и примечания Хардера к «Жизни Плотина» под его редакцией.
ПРЕПОДАВАНИЕ И СОЧИНЕНИЯ
281
шансов собраться снова. Это обстоятельство довольно значимо для истории философии. Плотин не был основателем неоплатонизма в том смысле, как если бы он заложил школу с непрерывной традицией, основанной на его учении. Тому, что его мысль сохранилась в ее исходном виде, мы обязаны литературной и редакторской деятельности Порфирия. Плотин находился в стороне от современных ему философов (которые теперь так же непонятны нам, как был бы Плотин без Порфирия). Наиболее выдающийся из них, Лонгин, говорил о Плотине с уважением, хотя и был в корне с ним не согласен.1 Неоплатонизм Ямвлиха был во многих отношениях новым начинанием, что склоняет нас к убеждению, что поздние неоплатоники — люди, ориентированные на поклонение авторитетам, — не считали Плотина авторитетом высшего уровня, не соглашаться с которым было бы неподобающим. Влияние Плотина на последующую философию было очень значительным, однако он не был властителем дум своей эпохи и не определил дальнейшего направления развития платонизма.
Плотин, как уже упоминалось, не брался за письмо в течение десяти лет своего пребывания в Риме. Причина того, почему он так долго откладывал, была предложена Порфирием и вызвала немалые споры. Порфирий рассказывает: «С Гереннием и Ори- геном Плотин заключил уговор никому не раскрывать тех учений Аммония, которые тот им поведал в сокровенных своих уроках; и Плотин оставался верен уговору: хотя он и занимался с теми, кто к нему приходил, но учения Аммония хранил в молчании. Первым уговор их нарушил Геренний, за Гереннием последовал Ориген...»1 2 Лучшее объяснение этому дал Хардер в обширном примечании к этому отрывку в издании «Жизни Плотина» под его редакцией. Он обоснованно отвергает идею о том, что здесь подразумевается нечто вроде обязательства хранить молчание посвященными в таинство. Он считает, что соглашение не предавать огласке относится ко всей сумме идей, выработанных в ходе бесед Аммония с тремя учениками. Эти идеи осели в письменных заметках, запечатлевших их совместную работу, в которых было невозможно различить, в чем состоял вклад каждого, и которые, по общему согласию, было решено не публиковать как самостоятельное сочинение кого-либо из них и, по-видимому, не включать в свои сочинения. Как заключает Хардер, обязательство подобного рода было бы невозможно блюсти в течение длитель¬
1 Vita Plotini 19—20.
2 Ibid. 3, 25—30.
282
ПЛОТИН
ного времени и Порфирий решил, что для спасения репутации учителя от каких-либо подозрений было достаточно всем рассказать, что не он первым нарушил договор, что, по утверждению Хардера, не могло бы служить оправданием, если бы дело касалось таинства.
Однажды начав, Плотин продолжил писать до конца жизни, не намереваясь при этом давать своим сочинениям широкое хождение; они предназначались для нескольких близких друзей и учеников, и добыть копию было нелегко.1 Порфирий аккуратно собирал все, что написал учитель, и в итоге в 301 г.,* 2 когда ему исполнилось 68 лет, более чем через тридцать лет после смерти Плотина, опубликовал свою большую коллекцию. Это издание не было первой публикацией сочинений Плотина. Более раннее принадлежало его другу и врачу Евстохию, о чем нам известно из старинного примечания, встречающегося в некоторых рукописях «Эннеад» в конце главы 29 второго трактата «О проблемах души».3 Оно указывает нам на то, что книга Плотина о душе была в двух изданиях разбита по-разному и разрыв между второй и третьей частями в издании Евстохия приходится на то место, где появляется примечание. Анри и Швицер убеждены, что Евсевий в своем «Приготовлении к Евангелию» (XV 10 и 22) цитирует именно это издание, а не «Эннеады», впрочем, их точка зрения, хотя и имеет под собой некоторые основания, не получила широкой поддержки среди исследователей Плотина.4 Если их предположение верно (и автор настоящей главы склонен так считать), то цитируемые фрагменты у Евсевия служат для нас ценной проверкой редакторских методов Порфирия и имеют важное значение для подтверждения того, что представленное им для нас в «Эннеадах» действительно написано Плотином и не претерпело значительных дополнений или изменений. Но даже если это и не так и Евсевий цитировал издание Порфирия, все же нет оснований считать, что Порфирий в своей редакторской работе был недобросовестен или неточен. Почти все исследователи Плотина на сегодняшний день согласились бы с тем, что в «Эннеадах» мы имеем дело с текстом самого Плотина, а Порфирий разве что исправлял правописание и тому подобное
• Ibid. 4.
2 См. примечание Хардера к «Жизни Плотина» (23, 13).
3IV 4 [28].
4 См. предисловия к Plotini Opera / ed. Р. Henry, H.-R. Schwyzer. Vol. I. P. IX—X; Vol. II. P. IX—X.
ПРЕПОДАВАНИЕ И СОЧИНЕНИЯ
283
в небрежно написанных и невыверенных рукописях учителя.1 Тем не менее он позволил себе некоторую неуместную вольность в членении и компоновке трактатов с целью подчинить сочинения Плотина изобретенной им искусственной схеме: шесть наборов по девять сгруппированных по темам трактатов, «эннеад» (то есть «девяток»).1 2 Нет ничего страшного в том, что он разбил ряд более длинных трактатов на несколько частей, которые в правильной последовательности вошли в его издание (III 2—3, IV 3—5, VI 1—3, VI 4—5), как и в том, что он собрал разрозненные записки и объединил их в на первый взгляд связный трактат (III 9). Намного серьезнее то обстоятельство, что он разбил на четыре отдельные части одно из самых длинных и выразительных сочинений Плотина, а затем разместил эти части в неправильном порядке и вне всякой связи в трех «Эннеадах» (III 8, V 8, V 5, II 9).3 Одним из преимуществ соблюдения хронологического порядка трактатов, который Порфирий приводит в «Жизни Плотина»,4 как замечал Хардер и некоторые другие исследователи, по сравнению с их расположением в «Эннеадах», является возможность прочесть эту работу как единое целое. И приведенное Хардером независимое от хронологического списка Порфирия доказательство того, что части, расположенные именно в этом порядке, образуют целое, выступает наглядным подтверждением точности списка: мы можем быть уверены (во всяком случае, относительно трактатов, написанных после прибытия Порфирия в Рим), что Плотин написал их именно в том порядке, какой указывает Порфирий. Это должно было бы дать нам на редкость прочное основание для построения теории развития плотиновской мысли, если бы в его сочинениях по мере их написания нам удалось найти какое-либо свидетельство наличия такого развития. Но в действительности все попытки обнаружить такое свидетельство (по крайней мере, по мнению автора настоящей главы) оказались неудачными. Плотин непрестанно переформулирует и поясняет свои идеи, вновь и вновь возвращается к одним и тем же положениям, добавляя новые уточняющие детали, однако нет признаков того, что он изменил свое мнение по какому-нибудь действительно важному вопросу в период сочинительства (пожалуй, найдется пара моментов, от¬
1 Ср. яркое, но, как отмечает Хардер, малоинформативное изложение плотиновской манеры писать в «Жизни Плотина» (8).
2 См.: Vita Plotini 2А—26 — собственный рассказ Порфирия о его редакторском труде.
3 См.: Harder R. Eine neue Schrift Plotins // Kleine Schriften. S. 303—313.
4 Vita Plotini A—6.
284
ПЛОТИН
носительно которых мы можем наблюдать развитие от первоначальной нерешительности к окончательной уверенности). И это не покажется нам столь странным, если мы вспомним, что он начал писать спустя десять лет преподавания, в возрасте пятидесяти лет, так что все его сочинения относятся к последним шестнадцати годам его жизни. Какое-либо существенное развитие его мысли к тому времени, по всей вероятности, уже завершилось, и у нас нет никакой возможности узнать, как оно происходило.1
Из сказанного должно было стать очевидным, что и названия трактатов в издании Порфирия не принадлежат Плотину. И действительно, Порфирий открыто заявляет, что Плотин не давал названий своим сочинениям:1 2 двадцать один трактат, ходившие среди учеников и обнаруженные Порфирием по прибытии в Рим, носили принятые в школе названия. Скорее всего, названия большинства поздних трактатов принадлежат ему самому. В ряде случаев названия разнятся от списка к списку; в одном или двух случаях названия неизвестны. Что касается комментариев и краткого содержания, или оглавления, о которых Порфирий упоминает в последней главе «Жизни Плотина» и которые, по его словам, он подготовил для своего издания, то сведений о них не сохранилось, за исключением арабской версии отрывка из оглавления к IV 4 [28].3
Плотин, как рассказывает Порфирий, настолько тщательно заранее продумывал вопрос, который собирался исследовать, и был настолько сосредоточен на нем, что писал так, «словно списывал готовое с книги», и после того, как кто-нибудь прерывал его, мог продолжить писать с того же места, будто и не отвлекался.4 Он никогда не перечитывал написанного, поскольку имел слабое зрение. Этим, пожалуй, и объясняется прямота и личный характер, отличающие его трактаты. Плотин много записывал во время лекций и адресовал написанное своим слушателям. Его трактаты,
1 Несмотря на очевидные преимущества, хронологический список в целом не был принят большинством исследователей Плотина ввиду тех трудностей, которые возникают при цитировании: форма ссылок, использованная в примечаниях к настоящему изданию, относительно которой было достигнуто согласие между исследователями Плотина во время их встречи в Вандёвре в 1957 г., предлагает компромиссное решение. Следом за «Эннеадой» и номером трактата в ней указывается порядковый номер трактата в хронологии Порфирия, например: VI 9 [9].
2 Vita Plotini 4, 16.
3 О комментариях Порфирия и прочем см.: Schwyzer H.-R. Plotinos. Col. 508— 510; арабскую версию κεφάλαια см. в издании Анри—Швицера (Vol. II. Р. 62—127 и предисловие, р. XXVII—XXVIII).
4 Vita Plotini 8.
ПРЕПОДАВАНИЕ И СОЧИНЕНИЯ
285
как бы того ни хотелось Томасию, не предназначались для образованной общественности и не отвечали принятым правилам позднегреческой книжной риторики. Некоторые из его трудов кажутся написанными для более широкой аудитории, чем другие. Так, например, сочинение о категориях (VI 1—3 [42—44]) или трактаты «О возможности и действительности» (II 5 [25]) и «О сущности и качестве» (И 6 [17]) готовились только для ближайших соратников, действительных членов кружка. Но даже и те, что кажутся написанными для более широкого круга читателей, подобно так беспощадно разделенному начетверо большому трактату Плотина, предназначались лишь для круга друзей философа, его почитателей и постоянных слушателей. Невозможно установить и строгие и устойчивые стилистические различия между группами трактатов. Все они включают рассуждения, плотнее и суше аристотелевских, и большинство, в том числе самые плотные и сухие, содержат образцы восторженного и волнующего красноречия.
То, что Плотин много писал, когда читал лекции, не означает, что какой-либо из его трактатов представляет собой действительный конспект лекций или школьных обсуждений, и также не свидетельствует о том, что Плотин плохо писал по-гречески. Его сочинения адресованы читателям, не слушателям. Возможно, доводы, возражения и ответы на них в ряде случаев и были вдохновлены школьными дискуссиями (хотя источники многих из них мы можем обнаружить в круге чтения Плотина), но они ни в коем случае не являются конспектами происходящего в школе. Что касается греческого, то заключение Швицера, проделавшего свой восхитительно точный, подробный и чуткий анализ языка и стиля Плотина,5 представляется нам верным и хорошо обоснованным. Швицер пишет:
Утверждение, что Плотин пишет на плохом греческом... справедливо только в том случае, если руководствоваться единственным критерием — правилами школьной грамматики. Греческий язык, на котором пишет Плотин, своеобразен, однако его неясность непреднамеренна. Серьезные трудности в понимании вызывает не туманный способ выражения, но абстрактность мысли. Несмотря на немалую вольность выражения, речь Плотина отвечает правилам греческой грамматики и отнюдь не является заиканием мистика. Она, скорее, выглядит постоянно возобновляющейся борьбой разума за выражение невыразимого, в которой задействованы все ресурсы греческого языка. При этом стилистические изыски не становятся самоцелью,
5 Schwyzer H.-R. Plotinos. Col. 512—530.
286
ПЛОТИН
а привлекаются для того, чтобы прояснить движение философской мысли. Плотин убежден, что величие мира, лежащего за пределами наших ощущений, и в еще большей мере благодать Единого невозможно выразить словами, однако если кому и удалось отыскать подходящие слова, так это Плотину.1
Заслуживает особого рассмотрения своеобразный стилистический прием, используемый Плотином, а именно применение образов чувственного мира для описания свойств мира умопостигаемого. Плотин унаследовал и подхватил давний спор платоников и перипатетиков со стоическим способом мыслить Бога и душу как превосходно очищенные и тонкие телесные формы и в итоге составил очень ясное понятие о значении нематериальное™ и следствиях из нее; и, как мы увидим в дальнейшем, он разворачивает эти следствия в тех направлениях, которые указывает его мысль. Однако никто из философов не использовал образы чувственного мира с такой оригинальностью и убедительностью, как Плотин. Его речь полна живых, конкретных выражений, взятых из чувственного опыта и должных описать активность и взаимодействие нематериальных сущностей: не только традиционные метафоры зрения и света или роста и течения, но и выражения жестких соприкосновений и энергичных движений тела, таких как толчки, удары, разрывы, броски, бег, прыжки. А кроме того, он предлагал сложные образы, исполненные исключительной силы воображения. Наиболее поразителен образ материальной вселенной, плавающей в душе, как сеть в море: «Космос подобен сети, которая постоянно находится в воде; она полностью отдана на милость моря, которое расширяется и растягивает сеть» (сравнение с тесной и аккуратной математической структурой души, в которую демиург заворачивает вселенную в «Тимее», сообщает нам немало о различиях в складе ума Плотина и Платона). Другой образ (строго говоря, невозможный, поскольку он предполагает взгляд «извне») — это образ ума как единства-в-различии: «Его можно сравнить с живой многоцветной сферой, что слагается лишь из лиц, сияет живыми лицами».2 Похоже, что этот образ выводит нас за пределы классических эллинских образов в некий воображаемый мир, населенный великими художниками Индии. Использование таких живых чувственных образов вполне совместимо, как мы увидим впоследствии, с философскими взглядами
1 Ibid. Col. 530,41—66.
- Επη. VI 7 [38] 15,24—26.
ПРЕПОДАВАНИЕ И СОЧИНЕНИЯ
287
Плотина: во всяком случае, все в чувственном мире является для него образом умопостигаемого. Ощущение несоответствия любой речи, говорящей об этих высших сущностях, не позволило бы ему отнестись к какому бы то ни было абстрактному «философскому» понятию как к вполне удовлетворительному самому по себе и думать, что, употребив слова «бытие» и «ум», он сказал все, что мог или должен был сказать, — даже о второй реальности, которую он готов назвать «бытием» и «умом». Когда дело касается первой реальности, Единого, он, конечно, совершенно убежден, что никакой язык, будь то «философский» и абстрактный или «поэтический» и конкретный, ни в какой мере не адекватен и не удовлетворителен. Он строго контролирует свои образы, иногда подвергая их критике и уточняя их весьма необычным образом. Наиболее интересный и важный пример дает нам отрывок, в котором Плотин берет традиционный образ излучения света, выправляет его, совершенно отказывается от идеи эманации и излучения — и оставляет читателя с чрезвычайно яркой картиной духовного всеприсутствия.1 Есть и другие фрагменты (например, только что процитированный о «живых лицах»), в которых он указывает на какую-то особую несостоятельность используемого им образа и поощряет ум читателя выйти за его пределы: его образы всегда предназначены для того, чтобы поддерживать ум в движении, а не запирать его в ложном созерцании иллюзии или неподвижном довольстве, не дающем окончательного удовлетворения. Своим обращением с образами ему удается передать немного (по его мнению, вполне достаточно) от насыщенного и непосредственного ощущения жизни, мощи, великолепия и прочности духовной реальности. Пожалуй, именно это придает его сочинениям совершенно особую силу и привлекательность. * V1 VI 4 [22] 7, 23—40; ср. рассмотрение этого отрывка в «Entretiens Hardt».
V Р. 337—338.
Глава 14
ЧЕЛОВЕК И РЕАЛЬНОСТЬ
Изложение богатой, сложной и трудной для понимания мысли Плотина можно начать, например, с рассмотрения того, в чем он сам видел свое дело, какой цели он неустанно следовал в своей мысли, преподавании и сочинительстве. Как он сам сформулировал это перед смертью (какую бы версию его последних слов мы ни приняли),1 она состояла в том, чтобы вернуть божественное в человеке в божественное во вселенной. Это весьма неоднозначное утверждение, допускающее разнообразные способы истолкования, начиная с самой грубой формы стоического пантеизма. Однако, если нам удастся как можно точнее понять, что Плотин имел в виду, мы приблизимся к пониманию и его философии в целом. Для Плотина человек в некотором смысле божествен, и жизненная задача философа состоит в том, чтобы понять эту божественность и восстановить надлежащую взаимосвязь (никогда, как мы увидим, не утраченную полностью) с божественной вселенной и в этой вселенной вступить в союз с ее трансцендентным источником, Единым, или Благом. Изучая Плотина, мы, несомненно, должны с самого начала остерегаться путаницы, которая может возникнуть, если мы, оставив без внимания широту и неопределенность значений слов theos и theios в греческом языке, воспримем его утверждение о божественном в понятиях иудео- христианской традиции, которая в привычном словоупотреблении относит понятия «Бог» и «божественный» к трансцендентной творящей причине всех вещей и редко использует их применительно к сотворенному сущему, да и то, как правило, с осторожными оговорками (например, «божественный по причастности»). Языческая платоническая традиция имеет в целом тенденцию
1 См. выше, гл. 13, с. 280.
ЧЕЛОВЕК И РЕАЛЬНОСТЬ
289
использовать понятие theos и его производные фактически совершенно противоположным образом. Они редко употребляются, когда речь идет о трансцендентном источнике бытия, — только если контекст досконально проясняет, что имеется в виду. В обычном словоупотреблении они используются в отношении многообразия существ, занимающих разное положение во вселенной (сверху вниз, включая истинное «я» человека), целиком обязанных своим существованием первопринципу.1
Таким образом, цель философии, согласно Плотину, состоит в достижении нами подлинного совершенства, единства с Благом и божественным во вселенной, путем пробуждения к знанию нашего истинного «я» и его места в реальности. Он всегда поясняет, что мы не можем познать себя истинных, кроме как в контексте; мы должны познать наше место в целом и в связи с ним, которое в некотором смысле и есть мы. Божественная вселенная, мир действительного бытия и его источник, Благо, всегда там и всегда даны нам, и побуждение возвратиться к источнику заложено в самом бытии всякого произведенного существа. Однако мы должны выбрать и через усилие обратиться и сосредоточенно устремиться вверх, к такому благу, желание которого составляет само наше существо, чтобы мы могли стать теми, кем были всегда. Это звучит крайне парадоксально, и самое внимательное изучение «Эннеад» не в силах полностью разрешить этот парадокс. И все же, если мы хотим понять Плотина, мы должны попытаться разобраться с тем, что он имеет в виду. Во-первых, нам следует вспомнить, что вселенная (согласно Плотину — всеобщий порядок и структура реальности) неподвижна и вечна. Даже физический универсум вечен и как целое неизменен, и лишь в низших слоях имеются циклические перемены, связанные с тем, что индивидуальные сущности входят в бытие и гибнут; в мире же нематериального бытия индивидуальные составляющие вечны, не имеют начала и конца. «Неизменен», конечно, не означает «безжизнен».
1 Время от времени Плотин использует традиционное различение theos и daemon, хотя и не относится к нему серьезно. Строгая и подробная теологическая классификация позднего неоплатонизма чужда самому характеру его мысли. (Плотин говорит о theos Единого на порядок чаще, чем описано в настоящем разделе. Дискуссию о соответствующих пассажах см.: Rist J. М. Theos and the One in Some Texts of Plotinus // Mediaeval Studies. 1962. XXIV. P. 169—180. Средние платоники, особенно Плутарх, достаточно часто употребляют theos как синоним «бога», то есть как верное наименование высшего начала, хотя, конечно, многим другим видам сущего они также дают название theoi. — Примем. А. X. Армстронга к изданию 1970 г.)
290
ПЛОТИН
Пожалуй, ни один философ не утверждал так энергично и не иллюстрировал так красочно единство бытия и жизни, как Плотин. Умопостигаемый мир, высший уровень бытия, для него есть мир, «кипящий жизнью».1 Однако высшая жизнь есть жизнь напряженной, погруженной в себя и самодостаточной деятельности созерцания, по сравнению с которой жизнь движения, изменения, изготовления и действия на физическом уровне есть только бледная и отдаленная копия, меняющаяся (и при этом не создающая ничего действительно нового) в силу своего несовершенства. На фоне этой мысли Плотина мы и должны попытаться понять его учение о человеке. Человек, по Плотину, есть существо, стоящее на низшем уровне божественного — на уровне души, простирающемся от нижней границы умопостигаемого вниз, к чувственному миру (никогда не следует забывать, что эти неизбежные пространственные метафоры, которые и сам Плотин широко использует, суть только метафоры: умопостигаемый мир не находится над звездами, он вообще вне пространства). Человек — очень сложное существо, и Плотин весьма озабочен тем, чтобы найти внутри этой сложности место для «мы», которое и есть наше истинное «я», чтобы установить, что из многочисленных функций, действий и интересов нашей души действительно выражает сущность человека. Вопрос «Кто (или что) мы?» неоднократно звучит в «Эннеадах», а чтение трудного для восприятия позднего трактата, помещенного Порфирием в начало первой «Эннеады» под названием «Что такое живое существо и кто такой человек»,1 2 демонстрирует, с какой заботой и тщанием он искал ответа. В этом и других трактатах3 он приходит к выводу, что человек двойствен.4 Наше истинное «я», «внутренний человек» есть наша высшая душа, которая вечно существует подле Ума и им освещается. Она не грешит и не страдает, а также не смущается в своей рассудочной или интеллектуальной деятельности волнениями, происходящими в теле и его мире, до которого высшая душа не «опускается». То, что попадает в низший мир, есть излучение, исходящее от высшей души, ее образ или выражение на низшем уровне, которое, соединяясь с телесным организмом, формирует «составную сущ¬
1 Enn. VI 7 [38] 12,23.
2 I 1 [53].
3 Например, VI 4 [22] 14.
4 Однако в I 1 [53] 11 Плотин говорит о «середине» (τό μέσον) души, которую мы можем направить вверх либо вниз, что показывает, что он может без труда перейти от двойственности человека к его тройственности, о которой будет сказано ниже (с. 291).
ЧЕЛОВЕК И РЕАЛЬНОСТЬ
291
ность», «смесь»; это тот «другой человек», или низшее «я», которое грешит и страдает, невежествен и эмоционально нестабилен и в целом является субъектом того, что большинством людей считается обыкновенным человеческим опытом. Это ясно очерченная и доступная для понимания концепция человека, восходящая к четкому различению бессмертной и смертной душ в «Тимее»1 и ума как истинного «я» и моральной личности в «Никомаховой этике».1 2 Однако она не учитывает почти ничего из того, о чем говорится в других трактатах «Эннеад»; в частности, она почти что затирает ту глубокую озабоченность философским спасением души, ее «очищением», «разделением» и возвращением ее к собственному месту и состоянию, которую Плотин в самом деле находит у Платона и которая является движущей силой его собственной философской активности. Согласно учению о «двойственной личности», нет необходимости, да и возможности ничего предпринимать относительно высшего «я», а воспитание и упорядочение низшего «я», хотя и является всем вменяемой обязанностью, не представляется слишком интересным или важным занятием для философа: даже с нашим окончательным уходом из этого мира не происходит существенной перемены. Высшее «я» не становится более «отделенным», чем прежде, просто оно перестает освещать и направлять низшую индивидуальность (хотя по-прежнему соучаствует во вселенском управлении вселенской душой). И все же в «Эннеадах» можно найти и другой, более тонкий анализ человека, добавляющий один важный.элемент и делающий тем самым философское творчество Плотина гораздо более содержательным и понятным. В этом анализе человек не двойственное, а тройственное существо. В трактате «Против гностиков» Плотин пишет: «В нашей же душе нечто всегда обращено к тем [высшим] началам, другое — к вещам этого мира, третье — к среднему между ними. Поскольку душа — одна природа во многих силах, постольку иногда она вся устремлена к тому, что лучше ее и что есть сущее; иногда же ее низшая часть увлекается долу и тащит за собой среднюю, ибо не может увлечь за собой всю душу».3 А в позднем трактате «О познании ипостасей» он опре¬
1 69с—d.
2 1177b— 1178а.
3II 9 [33] 2, А—10: ψυχής δέ ήμών τό μέν άεί προς έκείνοις, τό δέ προς ταΰτα έχειν, τό δ’ έν μέσω τούτων φύσεως γάρ οϋσης μιας έν δυνάμεσι πλείοσιν ότέ μέν την πάσαν συμφέρεσθαι τω άρίστω αύτής και τού όντος, ότέ δέ τό χείρον αύτής καθελκυσθέν συνεφελκύσασθαι τό μέσον τό γάρ πάν αύτής ούκ ήν θέμις καθελκύσαι; ср. I 1 [53] 11.
292
ПЛОТИН
деленно отождествляет среднюю часть с дискурсивным разумом и однозначно утверждает, что это и есть «мы», наше истинное «я»: «Мы сами есть то, о чем мы рассуждаем; мы сами полагаем мыслимые предметы в деятельности рассудка: это и есть мы. Предметы, полагаемые деятельностью Ума, полагаются свыше, как предметы, возникающие из восприятий, — снизу; то, что есть мы, то, что принадлежит собственно нашей душе, расположено между двух сил: лучшей и худшей, худшей — от чувственного, лучшей — от Ума».1 Стоит обратить внимание, с какой настойчивостью Плотин утверждает в первом из отрывков, что душа есть единство во всех ее силах и на всех уровнях. Для его мысли это важно и облегчает понимание того, каким образом он допускал возможность различных способов анализа души в разных контекстах и с различных точек зрения: они суть различные неполные описания исключительно сложного единства. Во всяком случае, он не считал трехчастное рассмотрение несовместимым со взглядом на человека как на двойственное существо. И если мы отнесемся к вышесказанному как к существенному моменту мысли Плотина, нам будет значительно легче уловить смысл того, что он говорит о философской жизни, поскольку она предполагает наличие в человеческой природе возможности выбора жить на различных уровнях, что в тексте «Эннеад» само собой разумеется. Границы выбора плотиновского человека, даже при такой трактовке, остаются узкими. Он не может испортить, извратить или каким бы то ни было образом существенно изменить свою природу. Плотин стоит на том, что нематериальное сущее на любом уровне неуязвимо, хотя с первых глав трактата «О бесстрастии бестелесного»1 2 становится ясно, что противоположный взгляд, опровержение которого представляется ему столь существенным, — это взгляд стоиков, согласно которому душа есть материальная субстанция, подверженная физическим впечатлениям, порче и видоизменениям, а следовательно, тот вид бесстрастия, который Плотин исходно пытается обосновать, видится неразрывно свя¬
1 V 3 [49], 34—39: ή αυτοί μέν οί λογιζόμενοι καί νοοΰμεν τά έν τη διανοία νοήματα αυτοί* τούτο γάρ ημείς, τά δέ του νοΰ ενεργήματα άνωθεν ούτως, ώς τά εκ τής αίσθήσεως κάτωθεν, τούτο όντες τό κύριον τής ψυχής, μέσον δυνάμεως διττής, χείρονος καί βελτίονος, χείρονος μέν τής αίσθήσεως, βελτίονος δέ του νοΰ. Отличительной чертой этого трактата является акцент на трансцендентном характере Ума. Мы озарены Умом и можем действовать на его уровне, однако, строго говоря, мы не есть Ум, и быть озаренным и возвышенным им подразумевает некое трансцендирование себя.
2 III 6 [26].
ЧЕЛОВЕК И РЕАЛЬНОСТЬ
293
занным с понятием бестелесности (в этом смысле для Плотина аристотелевская форма столь же бесстрастна, сколь и платоновская душа). Однако в своем рассмотрении души он выводит утверждение о бесстрастности далеко за пределы того, что необходимо для дистанцирования себя от стоического материализма. По-видимому, он не считал, что наше разумное «я» может грешить или страдать; сомнительно также, что он думал, будто оно изначально невежественно.1 Оно не может опуститься на уровень тела и полностью погрузиться в его жизнь, но способно или направлять свое внимание вверх или вниз, концентрироваться на мелких частных делах этого мира, тела и связанной с телом низшей части души, озабоченной ростом, питанием и ощущениями, или — используя свет Ума, всегда находящегося в его распоряжении, расшириться до всеобщности вечного мира истины и действительного бытия, из которого оно может возрасти до союза с Благом, или же — разделиться и пребывать в промежутке между одним и другим. От этого направления внимания полностью зависит наш образ жизни, и задача философии состоит в том, чтобы обратить и направить его правильно — вверх.
Следует отметить, что это правильное обращение внимания, действие души на подобающем ей разумном уровне для Плотина не обязательно сознательно. Философу нет необходимости все время проверять, находится ли его истинное «я» на уровне Ума. Осознание, в смысле самоотчета, фиксирующее «я что-то делаю» или «что-то происходит со мной», для Плотина есть эпифеномен, вторичное, не слишком желательное следствие подлинной деятельности. Он вполне готов признать, что в этом смысле осознанность зависит от взаимосвязи души и тела. Если она повреждена или нарушена, например наркотиком, или приостановлена, например во время сна, осознавание отсутствует, но фундаментальная деятельность и тем самым фундаментальное благополучие нашего высшего «я» остаются нетронутыми. Плотин отмечает, что даже на уровне повседневного опыта дела спорятся, когда мы не осознаем себя их совершающими: он приводит примеры с чтением и совершением мужественных поступков.1 2 Вы не продвинетесь далеко в чтении «Эннеад», если будете то и дело прерываться и говорить себе: «Вот, читаю ,,Эннеады“», и почти непроизвольно добавлять: «Какой же я умный!» Так же и с человеком, совершающим муже¬
1 Относительно христианского неприятия этого учения о человеке см. раздел V, гл. 22, с. 434—446 и Раздел VI, гл. 28 и 30, с. 506—508 и 572—573.
214 [46] 9—10.
294
ПЛОТИН
ственный поступок. Когда он его совершает, он едва ли думает: «Я герой!», а когда думает, менее героичен.
Плотин часто описывает это обращение и сосредоточение внимания в направлении высшего как «пробуждение», и наше пробуждение от подобной сну одержимости нуждами и желаниями низшего «я» в чувственном мире есть, по его мнению, трудный процесс, требующий решительной интеллектуальной и моральной самодисциплины. Моральная сторона процесса подчеркивается особо. Некоторые современные христианские авторы по привычке говорят о «греческом» или «платоновском интеллектуализме» в том ключе, который заставляет предположить, будто они думают, что только христиане (или иудеи и христиане) убеждены в существовании тесной взаимосвязи между религией и моралью и что Плотин и другие греческие религиозные философы не считали упражнение в добродетели и достижение наивысшей из возможных степеней морального совершенства необходимыми для созерцания и единения с Богом. Это, конечно, далеко от истины. Плотин досконально проясняет собственную позицию в том отрывке, где он наиболее подробно говорит о достижении мистического союза: «Мы учим об этом, пользуясь аналогиями, отрицаниями и познанием вещей, происходящих из Него, и методом постепенного восхождения мы полагаем, что путь к Нему лежит через очищение, добродетели и космизацию [то есть упорядочивание и украшение себя], через вступление в умопостигаемое, возлежание там и горнее пиршество».1 Здесь моральное совершенствование тесно сопряжено с обретением интуитивного, созерцательного знания, которое является последней ступенью перед окончательным видением и единением. Оно наставляет нас на путь к Благу, а рационально-дискурсивное мышление, которое мы обычно подразумеваем под умственной деятельностью, только сообщает нам о нем. Как бы то ни было, Плотин обычно не проводит четкого разграничения между дискурсивным мышлением и упражнением в добродетели, как может показаться из его слов. Было бы анахроничным и неверным рассматривать его мысль или мысль кого-либо еще из поздних греческих философов с позиции разъединенности вопросов морали и разума, свойственной нашему образу мышления, который заставил бы нас счесть
1 VI 7 [38] 36, 6—10: διδάσκουσι μέν ούν άναλογίαι τε καί άφαιρέσεις καί γνώσεις των έξ αύτοΰ καί άναβασμοί τινες, πορεύουσι δέ καθάρσεις προς αύτό καί άρεταί καί κοσμήσεις καί του νοητού έπιβάσεις καί έπ’ αύτοΰ ιδρύσεις καί των έκει έστιάσεις (пер. Τ. Г. Сидаша).
ЧЕЛОВЕК И РЕАЛЬНОСТЬ
295
абсурдным и неуместным проявление серьезного интереса, например, к уровню морального совершенства кандидата на пост заведующего кафедрой философии или требование, если бы он все-таки оказался в числе претендентов, быть свободным от зависти и амбиций, а также равнодушным к таким мирским вопросам, как размер заработной платы. Плотин, подобно большинству греческих мыслителей, считал, что философ должен быть человеком выдающейся добродетели и великого ума, и не верил, что одно возможно без другого.
Учение Плотина о морали, как уже не раз отмечалось, испытало сильное влияние со стороны стоицизма. Тем не менее там, где требуется, Плотин уверенно приспосабливает стоицизм к нуждам собственной формы платонического учения о человеке. Он с жаром отстаивает позицию стоиков в давнем споре с перипатетиками по вопросу о необходимости внешних благ для счастья. Этой теме посвящен трактат «О счастье»,1 однако благодаря тому, что он адаптирует стоическое учение к своей концепции человека, ему удается избежать следующих из него парадоксальных выводов. Для Плотина счастье подлинного «я» есть то, что действительно имеет значение и не может потерпеть ущерба от внешних страданий и утрат, какими бы значительными они ни были, или возрасти от приобретения даже самых желанных внешних благ. Этот текст представляет собой величественную проповедь, сходную по звучанию со стоической диатрибой. И все же, поскольку он рассматривает человека как сложную сущность, ему легко оставаться верным главному положению о том, что внешние блага не необходимы для истинного счастья, не отрицая при этом, что их присутствие или отсутствие действительно влияет на низшее «я». Этот «другой человек», телесно-душевная композиция, может оказаться в бедственном положении и страдать от боли. Плотин, как и Цицерон, находит претензию эпикурейцев и стоиков, что мудрец может испытывать наслаждение даже тогда, когда его медленно зажаривают в Фаларисовом быке, совершенной глупостью: их убежденность в единстве человеческой души обращает подобное заявление в пустую риторическую фигуру. Для него истинное «я» продолжает созерцать Благо, и его счастье остается нетронутым во время пытки, хотя низшее «я», подверженное страданию, действительно страдает.1 2
1 Περί ευδαιμονίας: I 4 [46].
2 14. 13, 7—12; cp.: Cicero. Tusc. II 17; Epicurea / ed. H. Usener. Leipzig, 1887. S. 601; SVF III 586.
296
ПЛОТИН
Плотин придерживается стоического идеала свободы от неразумных аффектов и страстей (άπάθεια), однако, в силу иного понимания человека, этот идеал имеет у Плотина совершенно иное значение. Речь не идет об искоренении эмоций или противодействии аффектам низшего «я». Apatheia означает освобождение истинного, разумного «я» от рассеянности и иллюзий, порождаемых низшим «я», и, таким образом, позволение ему беспрепятственно жить своей собственной жизнью. Это возможно только в том случае, если содержать низшее «я», телесно-душевную композицию, «зверя» или «ребенка» в нас, в строгом порядке и под контролем. При этом ни «Эннеады», ни «Жизнь Плотина» Порфирия не дают повода считать, что настрой, с каким Плотин занимался дисциплинированном и тренировкой низшей природы, был подобен ретивому отрицанию и подавлению. В нем не было ничего от страшащегося греха учителя-схоласта. Его отношение было, скорее, суровой отстраненной терпимостью к тому, что, в конце концов, есть только образ или отражение истинного «я» и самого Блага, но на его низшем уровне. Мы должны удовлетворять действительные потребности нашего тела (в отличие от воображаемых потребностей, вызванных его неупорядоченными желаниями и фантазиями похоти, алчности и тщеславия, которые из них возникают). Нам также не следует пренебрегать обязанностями, наложенными нашим присутствием в теле и телесном мире. Мы уже видели, как добросовестно исполнял свой общественный долг Плотин, считавший, что гражданские добродетели (πολιτικαι αρεταί) на своем уровне вносят лепту в наше богоуподобление, хотя и являются добродетелями более низкого ранга, чем очистительные (καθάρσεις). Оба класса добродетелей суть традиционные главные греческие добродетели: рассудительность, справедливость, мужество и умеренность, как их принято называть, и Плотин не говорит о них ничего нового или особенно интересного на «гражданском» уровне. На «очистительном» уровне эти добродетели лишь помогают обратить взгляд на избавление от телесных иллюзий, тревог, желаний и на свободу человека жить подлинно божественной жизнью, что, как мы видели, является первостепенной задачей философа. Плотин постоянно подчеркивает, что философ может достичь этой чистоты, непричастности и свободы при жизни, без физического отделения от тела. Ему надлежит радостно приветствовать смерть, поскольку земное тело есть бремя и источник рассеянности. (Это справедливо только в отношении земного тела; как мы увидим в дальнейшем, во вселенной есть и иные материальные тела, не препятствующие жизни души.) Однако мудрец
ЧЕЛОВЕК И РЕАЛЬНОСТЬ
297
может до конца прожить свою философскую жизнь и достичь своей цели — вйдения и единения с Благом — в этом мире и в этом теле. (У Плотина нет указаний на то, что узрение Блага после смерти существенно отличается или превосходит достижимое в этой жизни или что душа, выйдя из круга перерождений, имеет более чистое или широкое вйдение, чем пока она заперта в нем, хотя ее больше не отвлекают воспоминания ее телесных жизней, которые могут сохраняться и между воплощениями:1 в конце концов, перерождение касается только низшей части души.) Поэтому смерть, хотя ее и следует радостно встречать, не является такой уж желанной, и ее не следует искать до времени. Учение Плотина о самоубийстве не столь сильно отличается от стоического, как иногда говорят. Он разрешает его, но только в исключительных случаях и при наличии очень серьезных оснований.2
На учение Плотина о человеческом, земном теле оказал сильное влияние диалог Платона «Федон», однако, когда речь заходит о том, как философу следует относиться к материальной вселенной в целом, ее порядку и красоте, преобладает влияние «Тимея». Коль скоро она есть мир форм, структурное узорчатое единство в чрезвычайном разнообразии, она — добрый мир, произведение благой силы души. Правда, для Плотина формы в материи призрачны и бесплодны, не реальны поистине, но суть только едва узнаваемые отражения действительных сущностей мира Ума, а материя подлунного мира уже потому, что она абсолютно отрицательна и нереальна, является началом зла.3 И Плотин настолько заботится о том, чтобы подчеркнуть абсолютную нереальность материи, что делает для читателей очевидным, что все видимое в материальной вселенной, включая ее протяженность и вещественность, — все, что в ней есть кроме необходимого для нее несовершенства, — есть форма, а не материя, и любая деятельность, происходящая в ней, есть деятельность души, а форма и душа сами по себе суть благо. Такой взгляд на материальную вселенную как на последнюю и низшую в порядке блага, единства и реальности и одновременно как на образ и отражение высшего допускает известную вольность в ее оценке. Когда Плотин встает на защиту божественных сил, сотворивших этот мир, от обви¬
1 Ср. IV 3 [27] 27 if. — о памяти в бестелесных душах.
2 См. I 9 [19], а также вводные замечания Хардера ко второму изданию (lb,
546—547); I 4 [46] 7—8.
3 Иерархия форм и странное понимание Плотином материи будет рассмотрено ниже (гл. 16 А).
298
ПЛОТИН
нений, что они-де сделали его плохим и ответственны за все его зло, которого можно было бы избежать, он выделяет необходимые причины несовершенства мира: материя, низкое качество ее форм и сравнительное несовершенство души, несущей прямую ответственность за его создание.1 Абсолютно в платоновском духе Плотин утверждает, что этот мир, хотя и не безупречен, не безнадежно плох, а есть наилучший мир, который божественные силы только и могли произвести в трудных условиях, свойственных низшему уровню. Однако, когда он рассматривает материальную вселенную в целом, он подчеркивает не заключенное в ней зло, а ее относительную красоту и совершенство. Даже в том случае, когда он прилагает все усилия, чтобы доказать, что материя есть абсолютное зло, он не забывает время от времени напоминать читателям, что материальная вселенная, несмотря ни на что, хороша. Так, он завершает трактат «О том, откуда множество зол и что они суть», целиком посвященный доказательству того, что материя есть начало зла, словами: «Зло не есть только зло, благодаря силам и природе Блага: поскольку злу явиться необходимо, оно и появляется — заключенное в оковы красоты, как кандальник, скованный золотом и скрытый им, чтобы грубость его не была видна богам, а люди могли бы смотреть на нее не всегда, но чтобы, когда они на нее посмотрят, они посредством прекрасных эйдолов достигали в воспоминании Красоты».* 2 В споре с гностиками Плотин с особым жаром отстаивает благость и красоту материальной вселенной и божественность силы, сотворившей ее. Мелодраматическому дуализму гностиков он со всей страстью противопоставляет истинно платоновское учение о том, что этот мир есть «чистый и благородный образ умопостигаемых богов»,3 и настойчиво утверждает, что никому, кто презирает и ненавидит его красоту, не удастся по-настоящему познать и полюбить красоту умопостигаемого мира. В этой полемике с гностиками кроме общего платоновского положения о том, что чувственный мир есть благая вещь, есть еще один аспект, ведущий начало от Платона. Плотин целиком воспринял «космическую религию» послеплато- новских философов, хотя она и не имела основополагающего значения для его религиозной мысли и жизни. Небесные тела, в его
• ИЗ [52] 17; III 8 [30] 4—5.
2 I 8 [51] 15, 23—28 (пер. Т. Г. Сидаша). (В английском переводе, приводимом Армстронгом, нет специального понятия «эйдолы», используется слово «images». — Примем, перев.)
3 άγαλμα έναργές και καλόν των νοητών θεών: II 9 [33] 8, 15—16 — переложение из «Тимея» (37с).
ЧЕЛОВЕК И РЕАЛЬНОСТЬ
299
понимании, божественны, и он считает богохульством отрицание их божественности гностиками, как и утверждение последних о том, что «избранные» выше звезд по своему духовному званию (и это воззрение с ними, несомненно, разделяют правоверные христиане). Поскольку он убежден, что божественность космоса в целом особенно ярко проявляется в его высшей части, там, где вселенская душа трудится беспрепятственно и божественные небесные тела движутся в своем вечном круговращении, он никогда не признает вообще никакого зла в надлунных областях. Довольно нелогично с точки зрения его собственного учения, согласно которому материя тел (в отличие от умопостигаемой материи) является началом зла, он считает, что тела звезд-богов абсолютно лишены зла и несовершенства. Они не только вечны и неразрушимы, но и полностью подчинены душе и никак не препятствуют ее деятельности, подобно земным телам.1 Как отмечает Августин, существует немалое сходство между неоплатоническим различением земных и божественных тел и христианским — «природных» и «духовных», переживших воскресение.1 2
Не что иное, как космос космоса, его красота и порядок, позволяет нам познать его божественность и подводит к созерцанию умопостигаемого. И Плотин, в отличие от Платона, рассматривает красоту природы, так же как и красоту искусства, в качестве пути к умопостигаемой красоте. Взгляды Плотина на красоту произведений искусства привлекли к себе особое внимание,3 а их практическое влияние на создание художественных произведений даже, пожалуй, несколько преувеличено (хотя в этой области еще достаточно простора для исследований, и, возможно, они приведут к открытию более надежных свидетельств тому, что идеи Плотина действительно сильно повлияли на умы европейских художников в определенные эпохи). Конечно, всегда важно помнить, что эстетику Плотина невозможно и неверно отделять от его философии в целом, что также справедливо и в отношении Платона и большинства античных философов. Красота искусства или природы интересует его только в качестве подспорья на пути восхождения к умопостигаемой красоте и за ее пределы, к ее истоку — Благу. Созерцание чувственно воспринимаемой красоты,
1 II 9. 8, 35—36; ср. II 1 [40] 4, 6—13, а также см. ниже, гл. 16 А, с. 326.
2 De civ. X 29; XXII 26.
3 Две хорошие недавно вышедшие книги на эту тему: Keyser Е. La Signification de Г Art dans les Enn0ades de Plotin. Louvain, 1955; Bourbon di Petrella F. II Problema dell’arte e della Bellezza in Plotino. Firenze, 1956.
300
плотин
согласно Плотину, есть хорошее начало для подъема и пробуждения души и устремления ее внимания к высшему миру, подлежащему рассмотрению в данной главе. И все же это только начало, и в одном превосходном отрывке он сам ясно демонстрирует свою осведомленность в отношении того, что волнующая любовь к красоте может, по крайней мере на время, помешать более глубокой и всеобъемлющей, но отнюдь не менее захватывающей любви к Благу и вместо того, чтобы направлять ум к его цели, уводить его прочь от нее. «Благо — кротко, ласково, куда нежнее, чем Красота, Оно присутствует в каждом, кто желает Его. Красота же поражает, ошеломляет, приносит удовольствие, смешанное с болью. Ибо Красота даже уводит от Блага тех, кто не знает [что происходит с ними], как возлюбленное чадо уводит от отца [друг]; ибо Красота моложе, Благо же старше — не во времени, но в истине, Оно имеет силу, которая первее, ибо имеет все силы».1
Плотин и правда в одном месте говорит о том, что человеческое искусство и его произведения, «не имеющие большой ценности игрушки», не могут сравниться с деятельностью божественной души, создающей материальную вселенную.1 2 Однако это его пренебрежение касается планомерной, разумной (в самом обычном человеческом смысле) деятельности, уступающей в совершенстве божественной творческой спонтанности, не нуждающейся в расчетах и инструментах. Взгляд Платона на художника как на подражателя чувственным объектам, вдвое дальше отстоящего от истины, проглядывает в различных местах «Эннеад», и все же Плотин твердо убежден, что, сколь бы методы человеческого искусства ни уступали божественным, произведения человека наравне с плодами божественного творчества являются подобиями форм умопостигаемого мира, к которому ум художника, подобно уму любого человека, имеет доступ. Более того, он заходит настолько далеко, что утверждает, будто искусство улучшает природу. «Если же кто-то бесчестит искусства, ибо они творят, подражая природе, то ему должно прежде всего сказать, что и природные вещи тоже подражают. Кроме того, он должен знать, что искусства не просто подражают видимому, но возводят свой взгляд к логосам, из которых происходит природа. Помимо этого, они многое делают от себя, и, как обладающие красотой, они добавляют к вещам то, чего им не хватает. Ибо и Фидий сотворил Зевса, взирая отнюдь
1 Επη. V 5 [32] 12, 33—39 (пер. Τ. Г. Сидаша).
2 IV 3 [27] 10, 17—19; ср. о пренебрежении к искусству — Vita Plotini 1 (эпизод с портретом).
ЧЕЛОВЕК И РЕАЛЬНОСТЬ
301
не на чувственное, но постигая [умом], как выглядел бы Зевс, если бы пожелал явиться нашим очам».1
Произведение искусства прекрасно в той мере, в какой оно отражает живое органическое единство и целостность умопостигаемой формы. Плотин отвергает воззрение стоиков, согласно которому красота слагается из правильных пропорций и подходящего цвета,1 2 как слишком поверхностное. Красота есть господство формы над материей, обнаруживающее себя в виде органического единства, которым могут обладать как простые вещи, так и сложные и составленные из частей.3 В составной вещи правильные пропорции, безусловно, существенны. Однако не только красота, которую форма придает произведениям природы и искусства в чувственном мире, но даже и красота самих форм в мире умопостигаемом для Плотина была бы бессильна и неспособна возбудить любовь в душе, а следовательно, и не была бы действительной красотой в первейшем (для платоника) смысле любимого и любящего, не имей она жизни, источник которой лежит за пределами мира форм во Благе и которая есть излучение Блага, придающее цвет и изящество красоте. Она есть то, что даже здесь, внизу, делает красоту тем, что реально, что обладает силой захватывать и увлекать нас. «И здесь, на земле, красота есть скорее то, что освещает симметрию [милого лица], чем сама симметрия, и возлюблен именно этот [играющий на милом лице свет]. Почему свет красоты пребывает на живом лице, на мертвом же остается лишь след его, даже если составляющая лицо плоть и его пропорции еще не увяли? Почему красивей более живые статуи, даже если другие пропорциональней? Почему живой человек, пусть даже он и уродлив, красивей, нежели изваянный красавец?»4
Несомненно, разумная сторона процесса пробуждения и высвобождения «я» для Плотина по меньшей мере столь же важна, сколь и моральная дисциплина, и надлежащие оценка и обращение
1 V 8 [31 ] 1, 34—40. «Афоризм про Фидия», указывающий на то, что искусство по крайней мере отчасти происходит от более высокого начала, чем чувственный мир, восходит к I веку до н. э. Впервые он появляется в «Ораторе» (II 8—9) Цицерона, затем у Диона Хризостома (XII 71) и в «Жизни Аполлония» (VI 19. 2) Филострата. Его происхождение, очевидно, греческое, однако не существует надежного свидетельства, которое позволило бы определить его автора и что именно оно первоначально означало (если оно вообще означало что-либо определенное).
2 Ср.: Cicero. Tusc. IV 31.
3 Επη. I 6 [1] 1—2.
4 VI 7 [38] 22, 24—31 (пер. T. Г. Сидаша).
302
ПЛОТИН
с красотой природы и искусства. И все же он нигде не вдается в подробности относительно нее и не говорит ничего оригинального о методе философствования. В лаконичном трактате «О диалектике» он ограничивается кратким изложением положений Платона о dialektike и установлением четких различий между ею и аристотелевской логикой, которую он довольно поспешно отвергает как подготовительную дисциплину низшего порядка: диалектик имеет право оценить и использовать ее либо пренебречь ею, если ему подсказывает так его более совершенная мудрость. Диалектика для него есть прямой путь к умопостигаемой истине; ее ходы определяются структурой умопостигаемого мира и сами собой вступают в игру, когда ум достигает уровня Ума. Говоря о методе, который бы вызвысил ум до этого уровня, Плотин считает достаточным кратко изложить содержание «Пира» и «Государства», отдав должное мнению Платона о важности математики в качестве способа воспитания философа, хотя ни в каком ином месте от не выказывает видимого интереса к этому предмету. Скорый отказ же Плотина от логики не означает, что он был плохо знаком с нею или безразличен к ней. Когда он отстаивает учение о «категориях умопостигаемого мира», которое считает истинно платоновским, ему удаются весьма острые и серьезные критические замечания в адрес аристотелевских положений.* 1 Но их мы рассмотрим в следующей главе.
1 Ср.: Lloyd А. С. Neoplatonic Logic and Aristotelian Logic // Phronesis. 1955.1,
1. P. 58—72; 1956.1, 2. P. 146—160.
Глава 15
ЕДИНОЕ И УМ
Пришло время попытаться составить по возможности систематическое и подробное описание вселенной, в которой мы, согласно Плотину, обнаруживаем себя после пробуждения, призванные нашим истинным «я» и освобожденные к исходной всеобщности опыта посредством моральной и интеллектуальной самодисциплины, в общих чертах описанной в предыдущей главе. Мысль предшественников Плотина, средних платоников и неопифагорейцев, описанных в первом разделе нашей книги, заложила основу его собственных метафизических размышлений, однако он с такой критической проницательностью и таким пристальным вниманием к своему собственному духовному опыту проработал имевшийся у него материал, что получившаяся система оказалась во многих отношениях оригинальна и гораздо более связна и привлекательна, чем что бы то ни было в среднем платонизме. Эта оригинальность особенно заметна там, где Плотин касается вопроса о превосходящем бытие первоначале, из которого происходит вся реальность, — о Едином, или о Благе. У его предшественников в разнообразных, более или менее путаных формах уже встречалась идея о том, что высшее первоначало превосходит всякое определение и описание. Однако Плотин первым разработал логически последовательное учение о Едином, или о Благе, разительно отличном и превосходящем свое первое произведение, божественный Ум (Νους), который также есть действительное бытие в платоновском смысле, то есть мир форм.1 В ходе работы над этим учением Плотин смог прояснить свою мысль, как это
1 В этом пункте присутствует некоторое сходство между мыслью Плотина и размышлениями его старшего современника Оригена Христианина (вероятно, тоже ученика Аммония) об отношении Отца и Сына, см.: Contra Celsum VI 64; ср. VII 38 и Comm, in Joh. I 39, 291—292 и выше, гл. 12, с. 263.
304
ПЛОТИН
часто случалось и прежде, через критическое рассмотрение теории перипатетиков, касающейся простоты божественного ума. Это положение решительно отстаивал знаменитый комментатор Аристотеля Александр Афродисийский, сочинение которого было хорошо знакомо Плотину.1 И в трактате, содержащем итоги его размышлений относительно перипатетического учения о простом мыслящем себя самого уме как первоначале,1 2 он с готовностью соглашается, что божественный ум прост, — в том смысле, который удовлетворил бы перипатетиков. Даже душа в сравнении с множественностью тела у него проста и едина. Тем не менее ему представлялось, что наша мысль об уме, если она вообще имеет какое-либо содержание, необходимым образом есть мысль о чем-то, мыслящем что-то, и тем самым содержит некоторую двойственность. И даже в том, что это верно и для интуитивного мыслящего себя ума (νους в значении, характерном для поздних платоников и перипатетиков), объектом которого является он сам, данный в непосредственном восприятии, лишенный всякого движения «вовне», обнаруживается двойственность субъекта и объекта. Убежденность Плотина, что первоначало должно быть за пределами любого определения и ограничения и, следовательно, свободным даже от самой малой двойственности, заключенной в мышлении, путем различения вносящем некоторое внутреннее ограничение, привело его к выводу, что этим первоначалом не может быть ум, даже ум божественной простоты, обладающий всем сущим в едином усмотрении самого себя. Он не только намеревался, но и страстно желал далее подчеркнуть, что помещение первоначала, Единого, абсолютно за пределы даже самого высокого мыслимого вида ограничения и определения означало, что оно не есть сущее. В подтверждение этого он приводил знаменитый отрывок об идее блага из «Государства», а также любопытное неопифагорейское истолкование «Парменида».3 Сущее для Плотина есть то, что всегда ограничено формой, или сущностью.4 Абсолютно бесформенное сущее невозможно, и совершенное, или абсолютное, сущее есть единое целое всех форм, то есть божественный Ум. Следовательно, не ограниченное формой находится вне бытия. Это учение о Едином вне бытия также резко отличает Плотина от в других отношениях очень близких ему
1 Ср.: Mantissa 109, 38—ПО, 3 Bruns.
2 Enn. V 3 [49]; ср. V 6 [24].
3 См. раздел I, гл. 5, с. 148—149.
4 Enn. V 5 [32] 6.
ЕДИНОЕ И УМ
305
непосредственных предшественников — представителей школы Нумения, считавших, что первоначало есть как высший разум, так и абсолютное бытие.1
Именно это полное отсутствие ограничения и определения, главным образом уловимое как отсутствие двойственности и делающее невозможным аналитическое описание, Плотин и стремится передать, используя слово «Единое», позаимствованное им у его предшественников-неопифагорейцев. Он считает, что и это имя не соответствует первоначалу, подобно всем другим именам, но выбирает его, поскольку, в отличие от остальных имен, оно обладает властью возносить наши умы над всеми ограничениями. Однако у него есть и еще одно предпочтительное слово — Благо (которое он также считает неадекватным). Это имя, освященное использовавшим его Платоном, должно напомнить нам о том, что неопределенное, беспредельное первоначало не есть простое отрицание, но есть нечто в высшей степени положительное, настолько положительное, что является одновременно причиной существования целой вселенной оформленных сущих и целью, к которой все сущие в этой вселенной стремятся. Плотин понимает вселенную в свойственной эллинам манере, той же, что у Платона и Аристотеля, вплоть до уровня божественного Ума: в этой вселенной чем более оформлена и определена вещь, тем она лучше и реальнее. Сущие из мира Ума — формы — имеют определенный вид (едва ли можно представить себе бесформенную форму) и конечны по числу; они суть наилучшие из сущих и единственно реальные. За пределами Ума лежит совершенная неопределенность Единого, или Блага, которая есть источник, как мы увидим в дальнейшем, некоторой неопределенной жизненности, лежащей в основании оформленного и определенного мира Ума как такового. Однако эту творческую неопределенность, или бесконечность, которая производит все формы и все возможные сущие вещи, невозможно помыслить, и Плотин, безусловно, не ожидает, что мы будем мыслить ее как лишенную сознания и формы кромешность. Плотин слишком тесно связывает бытие с формой, пределом и ограниченностью, чтобы принять способ выражения, который П. Адо возводит к Порфирию и согласно которому Единое, первоначало, есть чистое и абсолютное бытие, которому причастно первое сущее — Ум,1 2 хотя ни один из тех, кто внимательно прочтет
1 Numenius. Fr. 25; 26 Leemans.
2 Hadot P. Fragments d’un Commentaire de Porphyre sur le Parmenide 11 Revue des Etudes Grecques. 1961. LXXIV, nos. 351—353 (juillet—d(*cembre). P. 410—438.
306
плотин
«Эннеады», не сможет усомниться в том, что Благо для Плотина есть высшая реальность. Однако, что касается другого характерного для него радикального отрицания — отказа первоначалу в уме или мышлении, Плотин действительно принимает некоторые меры предосторожности, чтобы удостовериться, что он не будет неправильно понят, так что Единое покажется в каком-то отношении меньшим, чем Ум. Иногда он говорит, что Единое обладает своим собственным особым видом трансцендентного мышления, даже более непосредственным, чем Ум, лишенным субъект-объектной двойственности.1 В других местах он высказывает предположение, что оно есть нечто вроде чистой мысли без объекта, превосходящей способность Ума мыслить самого себя, некая «Форма мышления» (хотя он и не использует именно этого выражения).* 1 2 Задача критического очищения нашего разума путем отрицания, которого требует от нас Плотин, если мы хотим шагнуть за пределы Ума к первоначалу реальности, состоит в том, чтобы явить нам вечный источник бытия, ума, блага и единства в их наивысшем мыслимом проявлении, превосходящий их, поскольку он есть их источник и свободен от их ограниченности. Существенной составляющей указанного процесса очищения путем отрицания является следующее: то, что отрицается в отношении Единого, следует решительно принять в качестве неизменной истины в отношении непосредственно проистекающего из него Бытия, или Ума. Именно потрясение от этого сдвоенного утверждения—отрицания выводит нас за пределы высшего мыслимого совершенства, не позволяет удобно устроиться во вселенной, в которой обнаруживают себя наши усовершенствованные умы, и выталкивает нас в область смутной догадки о чем-то лучшем и более величественном, чем любая мысль может вместить. Если и это по-прежнему представляется чересчур странным, нам, вероятно, следует вспомнить о том, что для Плотина критическое очищение ума неразрывно связано с моральным и религиозным очищением: одно не бывает без другого. Плотиновское очищение невозможно в полной мере осмыслить (разве что в качестве второсортного, из чужих рук, каковым обычно довольствуются историки философии), если не прожить его, хотя верно и то, что, в отличие от других мистиков,
Порфирий, как указывает Адо, стоит здесь очень близко к позиции Нумения. Доддс предлагает попробовать прочесть (οιον) τό... αύτοειναι в III 8 [30] 10, 31, однако контекст, как мне кажется, этого не позволяет (ср.: Dodds Е. R. Notes on Plotinus Ennead III 8 11 Studi Italiani di Filologia Classica. 1956. XXVII—XXVIII. P. 112).
1 V4[7] 2; ср. VI 8 [39] 16.
2 VI 9 [9] 6, 52—55; ср. VI 7 [38] 37.
ЕДИНОЕ И УМ
307
менее склонных к интеллектуальным занятиям, Плотин считает, что невозможно и прожить его без того, чтобы осмыслить. Его интеллектуализм может, несомненно, с легкостью быть неверно или преувеличенно понят. Из вышесказанного уже должно быть ясно, что то, что лежит за пределами мысли, невозможно схватить как результат мыслительной деятельности. Чтобы обрести Бога, разум должен быть очищен от своей философии. Высшее достижение ума в том, чтобы переступить через себя. Но для Плотина нет другого пути, чтобы шагнуть за пределы ума, кроме как посредством ума. Мы не сможем переступить через свои философствующие умы до тех пор, пока не использовали их в полной мере. По мысли Плотина, не существует иного, походящего для нефилософов, пути к Богу.
Тот способ, каким вторая ипостась, Ум, происходит из Единого, подчас неверно понимался в результате слишком широкого и беспорядочного употребления слова «эманация». Плотину, безусловно, нравится описывать происхождение Ума от Единого или Души от Ума как подобное истечению света от солнца или жара от огня (время от времени он использует и другие метафоры подобного рода: исхождение холода от снега или аромата от чего-то душистого), и кажется вероятным, что истоки такого способа выражения следует искать в позднем учении стоиков об эманации hegemonikon, правящего разумного начала в человеке, в свойственной стоикам манере понятого как материальная pneuma, «пламенное дыхание разума», исходящее от солнца, своего источника, которое, как и у Плотина, остается неизменным и не терпит лишения, растрачивая себя.1 И все же Плотин не довольствуется использованием традиционной аналогии в неизменном виде — как мы уже отмечали в конце второй главы данного раздела, он строгий критик своих же образов.1 2 Даже в тех случаях, когда Плотин использует ее без явных поправок и добавлений, было бы в корне неверно полагать, что, по его мысли, эта «эманация» есть нечто непроизвольное и необходимое, то есть исключающее свободу и спонтанность, или что он приписывает ей меньшее достоинство, чем сознательно запланированному творческому акту. Безусловно истинно то, что, используя образ эманации или не используя его, Плотин всегда подчеркивает: когда Ум происходит от Единого (а Душа от Ума), произведение не оказывает влияния на источник. Со стороны
1 Об этом см. мою статью «Emanation in Plotinus» (Mind. XLVI. N 181. P.61—66).
2 Гл. 13, c. 287.
308
ПЛОТИН
Единого как такового действия не происходит. Оно не желает, не планирует, не выбирает и не заботится о том, что от него рождается. По этому поводу стоит вспомнить, что, как мы убедились в предыдущей главе,1 размышление о совершаемом действии одновременно с его осуществлением (и, таким образом, нахождение в состоянии выбора поступить так или иначе) для Плотина свойственно довольно низкому уровню даже в рамках человеческой деятельности. Его идеальный человек поступает правильно, действуя непосредственно и спонтанно, не задумываясь. А когда дело касается божественных действий, то Плотин лучше Платона и большинства иудейских и христианских теологов осознает все опасности использования аналогий, связанных с деятельностью художников и ремесленников, могущих при неосторожном употреблении составить образ довольно ограниченного, суетливого и капризного божества, которое выбирает, что бы ему сотворить, и выдумывает запутанные (а иногда и довольно неэффективные) проекты, только чтобы удостовериться, что все получится по его хотению. Для божественных действий даже низшего уровня, то есть уровня Души, он предпочитает аналогии со спонтанными, непроизвольными и бездумными процессами в природе (в которых для него и выражаются, как мы увидим, действия божественной души на низшем уровне). И хотя эти произведения, или истечения, необходимы в том смысле, что их невозможно помыслить непроисходящими или происходящими как-то иначе, они тем не менее совершенно спонтанны: в мысли Плотина о Едином нет места какой-либо скованности или принуждению, внутреннему или внешнему. Единое не подчиняется необходимости; оно устанавливает ее. Его порождения суть просто переливание через край его преизобильной жизни, следствие его безграничного совершенства. Совершенство, не реализующееся в творчестве, ничего не производящее и не раздающее, для Плотина противоречиво и явно несостоятельно.1 2
Когда Плотин пытается более подробно, чем позволяют образы эманации, изложить, как Ум происходит от Единого, он использует понятия, по большей части принадлежащие аристотелевской психологии. Он различает два «момента» во вневременном порождении: первый, в котором неоформленная возможность, неопределенная жизненность, «взгляд, еще не видящий», происходит от Единого, и второй, в котором этот взгляд оборачивается
1 С. 293—294.
2 Ср. V 1 [10] 6; V 2 [11] 1; V 4 [7] 1.
ЕДИНОЕ И УМ
309
к Единому в созерцании и тем самым оформляется, наполняется содержанием и становится Умом и Бытием.1 Иногда об этом неопределенном субстрате Ума он говорит на языке Аристотеля как об «умопостигаемой материи» (как в отрывке, на который мы только что ссылались), а иногда, используя платоновские и нео- пифагорейские выражения, как о «Неопределенной Двоице».1 2 Формирование и придание беспредельной жизненности действительного и определенного содержания является результатом обращения Ума вспять на Единое в созерцании, что, впрочем, не означает, что Ум принимает форму Единого и просто становится «тем, о чем он мыслит», как у Аристотеля. Это невозможно, поскольку у Единого нет формы или форм, чтобы придать их Уму. Оно вне всякой формы, и Ум может достичь его неоформленной и беспредельной простоты, возвысившись над собой, перешагнув через свою собственную природу. Когда Ум созерцает Единое, согласно Плотину, происходит так, что он, хотя и устремляется к абсолютному единству своего источника, не может вместить его в его целостности, но «расщепляет его» или «делает многим» и тем самым силой Единого учреждается в качестве единого-во-многом, Мира Форм, который хотя и единообразен настолько, насколько это доступно тому, что не есть Единое, но есть как единое, так и многое, — богатое и сложное составное целое.3
Здесь мы должны уделить немного внимания одной важной черте мысли Плотина, которую порой неоправданно игнорировали (хотя и преувеличивать ее значение также не следует). Она состоит в неоднократно встречающейся в текстах Плотина идее о том, что изначальное испускание беспредельной жизненности, «Неопределенной Двоицы», являющейся основой Ума, из Единого и испускание Души из Ума в качестве следующего этапа «разворачивания» вторичного, зависящего от первого, бытия суть акты незаконного самоутверждения (τόλμα). Все сущее, с этой точки зрения, зависит от своего рода исконного первородного греха, желания отдельности и независимости, о котором Плотин выразительно говорит в одном отрывке, что его лучше бы никогда и не было.4 Эта идея кажется противоречащей тому, что говорится о взаимосвязи Ума и Единого во фрагментах, которые мы приводили
1 Ср. II 4 [12] 5.
2Ср. V 1.5.
3 Ср. V 3 [49] И; VI 7 [38] 15. Относительно возможной здесь аналогии с мыслью Филона см. в моей «Architecture of the Intelligible Universe» (p. 68—71).
4 III 8 [30] 8, 32—36; ср. VI 9 [9] 5, 29 и о Душе V 1 [10] 1, 3—5; III 7 [45] 11.
310
плотин
в предыдущем параграфе. В первой группе фрагментов мы имеем неоформленное желание, переливание через край спонтанной творческой активности Единого, которая направлена к своему же истоку и обретает свою форму и содержание, обращаясь к нему В других перед нами желание отвернуться от Единого, производящее отделенность и инаковость. Плотин никогда специально не пытался согласовать оба этих взгляда. Но, быть может, если мы посмотрим на вероятный источник понятия tolma в контексте первоначального отделения от Единого, то увидим возможный способ их согласования, не изменяющий мысли Плотина. Представляется правдоподобным, что Плотин взял это понятие у неопифагорейцев, называвших словом tolma Двоицу, «потому что она первая отделилась от Монады».1 Таким образом, и для Плотина,1 2 и для неопифагорейцев Двоица есть не множественность, но — первоначало, которое делает возможными множественность и число.3 Множественность означает иное, чем Единое, и, чем бы ни было это иное Единому, оно в некотором смысле должно быть многим. И, как мы уже убедились, Двоица для Плотина есть неопределенное желание, основа Ума. Возможно, нам удастся различить две стороны этого изначального неопределенного желания. Существует желание отдельного существования, желание вообще быть: его Плотин, в те моменты, когда он настроен сосредоточить свое внимание на трансцендентном превосходстве Единого, считает достойным сожаления, поскольку это есть желание низшего, чем Благо. Однако желание существовать необходимо является также стремлением к Благу, поскольку оно есть возвращение к Благу в жажде созерцать, в чем и состоит существование Ума как такового, действительного сущего, обладающего всем благом и единством, которые только может вместить в себя то, что вообще содержит множественность, что не есть Единое. Это желание быть как можно ближе к Единому, как можно более благим и в себе соединенным, оставаясь иным ему. Тем самым это есть принцип отделенности и принцип внутреннего единства, наивысшего приятия Единого вместе с отдельностью существования. И если Единое вообще что-то порождает (а Плотин это предполагает), оно должно порождать нечто иное, чем оно само, стоящее ниже
1 Согласно Анатолию (представителю аристотелизма в Александрии, ставшему епископом Лаодикии около 268 г.; ср.: Eus. НЕ VII 32. 6), которого цитирует Ямвлих в «Арифметической теологии» (7, 19 и 9, 6 De Falco).
2 V 4. 2.
3 Историю понятия Неопределенной Двоицы см. повсюду в разделе I.
ЕДИНОЕ И УМ
311
себя, то есть в некотором роде множественное — Ум, основой которого является «двоичная» воля к инаковости, tolma, причина его множественности. В определенном смысле Единое исходно ответственно за tolma — желание отдельности, необходимое, если должно вообще возникнуть нечто, отличное от Единого, — уже в силу того, что порождает что-то иное. И поскольку эта «двоичная» воля к отдельности, являющаяся первоначалом множественности, существует и должна существовать, чтобы Ум оставался отличным от Единого, постольку Ум, в той мере, в какой он остается собой, может воспринимать Единое только во многом. Таковым представляется взгляд Плотина на эту проблему, хотя он и не похож ни на что, в явном виде изложенное в «Эннеадах».
В некоторых гностических системах понятие tolma встречается в значении поступка недопустимой дерзости и безрассудства, который приводит к образованию материального мира. Однако между tolma гностиков и Плотина вовсе не существует прямой связи; различия столь значительны, что предположение о том, будто бы Плотин испытал на себе влияние гностицизма в этом вопросе, не кажется вероятным. В учении Валентина1 Плерома — абсолютное единство-во-множестве эонов, духовных существ, произведенных путем последовательной эманации от Отца, не вполне соотносимая с миром Ума Плотина, — полностью сложилась еще до возникновения какого-либо вопроса о tolma. Позднее самый юный эон, София, исполнилась безрассудного страстного желания добраться до трансцендентного и непостижимого Отца и разделить с ним непосредственное созерцание первого эона (νους в системе Валентина); она целиком растворилась бы в Отце, если бы Орос, первоначальный предел, не преградил ей путь и не вернул на положенное ей место. Из испытанного ею эмоционального волнения в итоге родился создатель материального мира и сам материальный мир. В этой истории tolma Софии почти в точности противоположна tolma Ума Плотина. Согласно учению Плотина, в желании союза с первоначалом заключается законное и необходимое стремление всех сотворенных существ. В предположительно более ранней системе барбело-гностиков1 2 сбившийся с пути эон София Пруникос совершает опрометчивое путешествие в низшие области (в результате которого, как обычно, появляется
1 Ср. относительно последующего с Irenaeus. Adv. haer. I 2. 2 ff.
2 Cp.: Adv. haer. I 29. 4 и сопоставление этого текста с Апокрифом Иоанна в работе Sagnard F. Μ М. La Gnose Valentinienne et le temoignage de S. Irenee. Paris, 1947. P. 444—445.
312
ПЛОТИН
творец нашего мира), поскольку высшие силы нечаянно забыли дать ей пару (все остальные зоны аккуратно расставлены по парам, как и в учении Валентина). В действительности здесь нет сходства даже с присутствующим у Плотина самоутверждением, характеризующим Душу как отдельное существо; у Плотина, как мы видели, tolma Души зависит от tolma Ума, между тем как ни в одной гностической системе Плерома, высший духовный мир, не является следствием tolma. В гностических учениях в исхождении всех вещей из первоначала всегда присутствует разрыв, коренное нарушение порядка и последовательности между духовным миром и невежественной низшей силой, создающей материальный мир. Для Плотина это недопустимо, как недопустимо вводить страсти, чувства, случайности в духовный мир, что опять-таки характерно для гностицизма. Его tolma, желание обособленного существования, не прерывает ровного и неотвратимого, не знающего перемен и страстных порывов истечения вечной реальности из Единого; последнее является обязательным условием ее возможности. Однако теперь, когда мы это сказали, нам пора согласиться, что существует неуловимое сходство между чертами высшей области духовной вселенной у гностиков и у Плотина. И там, и там имеется абсолютно трансцендентное и непостижимое первоначало, из которого происходит высшая реальность, целостная и совершенная, которая есть единство-во-множестве. Это когда мы опускаемся на уровень творящей Души у Плотина и падшего и сбившегося с пути зона и его чада — творца и правителя мира — у гностиков, расхождения становятся слишком значительными, чтобы говорить о сходстве. Сходство можно было бы списать на платоническое и неопифагорейское влияния, которые действительно испытал гностицизм. Однако мысль Плотина, касающаяся как абсолютной трансцендентности Единого, так и живого единства-во-множестве Ума, сильно отличается, особенно в тоне и акцентах, от рассуждений ранних платоников и пифагорейцев, и возможность некоторого влияния гностиков по данным вопросам не следует исключать целиком.
На редкость оригинальными чертами Плотинова описания второй ипостаси, или Ума, являются акцент на его жизненности и активности, а также тот способ, каким Плотин изображает единство-во-множестве и взаимоотношение частей целого в нем в терминах взаимопроникновения сообщества живых умов. Эти два свойства Ума, по мысли Плотина, очевидно тесно связаны друг с другом, и ничего похожего, насколько нам известно, не встречается в размышлениях средних платоников, для которых платоновские
ЕДИНОЕ И УМ
313
формы суть «мысли бога».1 Описывая их, он использует множество ярких образов из области чувственно воспринимаемого, о которых мы упоминали в конце второй главы этого раздела, и изобразительная сила его языка достигает порой такой интенсивности, что заставляет нас по меньшей мере предположить, что он описывает некий личный опыт интеллектуального умосозерцания. Вот, например, отрывок, в котором он говорит о единстве-во- множестве Ума:
Там все вещи прозрачны и нет ничего темного или сопротивляющегося взгляду; все явны для всех и в своем сокровенном, и во всем остальном, так как свет прозрачен для света. Каждое Там имеет все в себе и видит все в другом, так что все есть везде, и каждая, и все вещи есть все, и неделима Слава; каждый из тех [тамошних обитателей] велик, даже и малый велик; Солнце есть Там все звезды, и каждая из звезд есть Солнце и все остальные.1 2
А вот еще один, в котором говорится о жизни умопостигаемого мира в его единстве.
Там нет ни бедности, ни тягости, но все вещи преисполнены жизнью, и жизнь в них, как бы бурля, переливается через край. Они, можно сказать, текут из единого источника — не подобно какому-нибудь единичному духу или теплоте, но как если бы было некое качество, обладающее и сохраняющее все качества в себе: и сладость, и благоухание, качество вина и силы всех других вкусов, видение цветов и все сознание осязания, все, что слышит наш слух, все мелодии и все ритмы.3
Плотин всегда заботится о том, чтобы как можно ближе связать в своих описаниях Ума бытие, жизнь и мысль, показав его тем самым в качестве единой реальности, которая есть одновременно единственное совершенно реальное бытие, полнота жизни и абсолютность интуитивной мысли, тождественной своему объекту. Он поясняет, что действительное различие между этими тремя провести невозможно, даже в тех одном или двух параграфах из «Эннеад», в которых он отдает предпочтение бытию,4 что могло
1 См. раздел I, гл. 4 А, с. 105—106.
2 V 8 [31] 4, 5—10 (пер. Т. Г. Сидаша).
3 VI 7 [38] 12, 22—30 (105—106) (пер. Т. Г. Сидаша).
4 Наиболее важен VI 6 [34] 8; ср. об отношении бытия к мысли: V 9 [5] 8, в котором Плотин старательно подчеркивает, что предпочтение не означает какого бы то ни было отделения.
314
ПЛОТИН
бы дать основание для четкого различения бытия, жизни и ума в качестве отдельных ипостасей, упорядоченных по нисходящей, с чем мы встречаемся у более поздних неоплатоников.1 В свете этих параграфов мы не можем с уверенностью утверждать, что жизнь для Плотина важнее двух других аспектов Ума. Однако несомненно, как мы убедились, что Ум для него происходит от Блага как жизни. Бытие и мысль суть самоопределение и самоограничение этой жизни в ее возвращении к Благу, всегда живое бытие и живая мысль.1 2 Мир форм, вселенная действительного бытия, есть нечто вроде стихийно организующегося перетекания неистощимой жизни из Блага и обратно в него, и кажется, что именно эта бесконечная витальность не позволяет Уму устать или «пресытиться» его непрестанным созерцанием, сохраняя его вечно свежим, интересным и усладительным. Плотин говорит об Уме в отношении к Благу как о «всегда желающем и всегда удовлетворяющем свое желание»,3 и это, несомненно, связано с тем, что он говорит об имманентном созерцании мира форм (которое есть созерцание Блага таким, каким Ум способен воспринять его, — во множестве) в отрывке, прекрасно иллюстрирующем обязательное для него единство мысли и жизни.
Там есть некая ненаполнимость [созерцанием], и полнота не создает пренебрежения в наполнившихся [тем, что их наполняет]: видящий все больше видит бесконечность себя и того, что он видит, следуя своей природе. Ничья жизнь не приобретается трудом; если она чиста, как бы могла «зарабатываться» жизнь живущего лучшей жизнью? Эта жизнь ведь есть Мудрость, Мудрость, не приобретаемая в результате рассуждений, поскольку она всегда вся присутствует и ни у кого не может исчезнуть, так что он должен был бы искать ее.4
Возможно и справедливо усматривать в Плотиновой настойчивости относительно жизни влияние динамического витализма стоиков.5 Хотя сам Плотин, конечно, считал, что как здесь, так
1 См. следующий раздел, с. 371—372.
2 См. статью Hadot Р Etre, Vie, РепБёе chez Plotin et avant Plotin // Entretiens Hardt. V. P. 107—141 (вместе с обсуждением: p. 142—157), представляющую собой превосходное изложение этого аспекта мысли Плотина в целом.
3 έφιέμενος άει και άει τυγχάνων: III 8 [30] 11, 23—24. Ср. развитие этой идеи Григорием Нисским и св. Максимом в разделе IV («Греческая христианская платоническая традиция»), гл. 29 В, с. 538— 539 и 32 Д, с. 591—592).
4 V 8 [31] 4, 31—37 (пер. Т. Г Сидаша).
5 Ср.: Hadot Р Art. cit. Р. 140, а также введение Анри к переводу «Эннеад» Маккена (3rd ed. Faber, 1962. Р. XLIX—L) относительно коренных различий
ЕДИНОЕ И УМ
315
и в остальном он разворачивал подлинную мысль Платона, и, к его удовольствию, ему удалось выразить его учение в платоновских терминах, благодаря знаменитому использованию «очень важных родов» из «Софиста» (254—255) в качестве «категорий умопостигаемого мира». Эти «первичные роды»1 — Бытие, Движение, Покой, Тождество и Различие — не являются для него родами или категориями в привычном смысле слова. Они представляют собой, скорее, различные способы смотреть на одну-единственную реальность, а процесс обнаружения их в умопостигаемом мире был хорошо описан Брейе, использовавшим выражение Лейбница, как «рефлексивный анализ, высветивший различные аспекты одного и того же целого».* 1 2 Следовательно, когда мы сосредоточиваемся на его реальности, мы видим в нем Бытие; когда мы уделяем внимание его жизни и активности, то видим Движение; когда отвлекаемся от его вечной изменчивости, видим Покой; концентрируясь на разнообразии, видим Различие; а когда отдаем себе отчет, что во всем этом разнообразии присутствует единство, видим Тождество. Таким способом, не позволив себе никакого произвола в истолковании, Плотин смог найти в тексте Платона поддержку своего взгляда на мир форм как на мир безграничной жизни, выражающейся в интенсивной созерцательной деятельности, — весьма отличный от мира каменной неподвижности, возникающего в платоновских описаниях.
Отличие от Платона станет еще более заметным, если мы обратимся к рассмотрению взаимосвязи части и целого в умопостигаемом мире. Плотин до такой степени распространяет свое требование единства бытия, жизни и мысли, что делает каждую из форм в этом мире живым умом.3 Это позволяет ему найти оригинальное решение проблемы того, как при всем многообразии Ум остается единым. Используя понятия аристотелевской психологии, он утверждает: разум есть то, что он мыслит.4 Следовательно, поскольку всякая часть Ума, или умопостигаемого мира (мы должны всегда помнить, что таковы названия двух аспектов одной и той же сущности), есть в себе вечно действительный и действующий
между Плотином и стоицизмом, идеи которого он, как это ему свойственно, заимствует и преобразует, исходя из потребностей его собственной мысли.
1 γένη πρώτα: VI 2 [43] 9, 1.
2 Примечание к VI 1. 2 и 3 [42—44] в его издании. Об этом «рефлексивном анализе» см. VI 2. 6—8, ср. также V I [10] 4.
3 VI 7 [38] 9; ср. V 9 [5] 8.
4 Ср.: De an. III 4, 429Ь--430а.
316
плотин
ум, он мыслит целое и, таким образом, есть целое.1 Он представляется тем или иным особенным умом в зависимости от того элемента в сложном целом, который в нем «выступает вперед»:1 2 в этом состоит идея «именования преобладающего», укоренившаяся в платоновской традиции задолго до Плотина.3 Такое истолкование части и целого, как мы увидим, также относится к уровню Души и имеет важное значение для человеческой судьбы. Мы можем выбрать, остаться ли закрытыми в своей отдельности или мыслить и быть Всем; все зависит от этого выбора.
Нет сомнений, что в этой точке Плотиновой мысли мы на самом деле очень далеки от виталистического корпореализма стоиков. Его действительная вселенная взаимопроникающих умов не есть просто органическая вселенная Посидония, помещенная на более высокий уровень бытия. Это исключительно оригинальная концепция, основанная на идеях, которые ведут начало от Платона и Аристотеля. Сейчас мы можем ясно различить одну из наиболее важных и интересных черт, характерных для мысли Плотина, — тот способ, каким он яснее всех своих предшественников уловил, что обособленность и отличие в их привычном понимании существенным образом связаны с материей, пространством и временем.4 Своеобразие сущности в нематериальном мире не исключает, а фактически требует соприсутствия и возможности взаимопроникновения различных сущностей, чтобы они могли одновременно быть и действительно одним, и действительно различными.
Богатое и сложное содержание Плотинова умопостигаемого мира включает в себя формы не только всевозможных родов вещей, но и индивидуальных сущностей.5 Вопрос о том, суще¬
1 Ср. помимо уже указанных отрывков (V 8. 4 и VI 7. 9) VI 5 [23] 6; 7; 12.
2 V 8. 4, 10—И: έξέχει 5’ έν έκάστφ άλλο, εμφαίνει δε και πάντα; однако в VI 7. 9 он приводит совершенно иное описание, согласно которому каждый ум индивидуален «в акте» и «потенциально» целостен, что трудно примирить с его общим воззрением на Ум как на всегда целый и вечно действующий; в том же отрывке он говорит о том, что отдельная вещь возникает там, где отдельный ум «останавливается» в своем исхождении, что представляется частным случаем его идеи о τόλμα.
3 Hadot Р Art. cit. Р. 126 ff. и обсуждение (р. 143—145).
4 Ср., например, VI4 [22] 4.
5 V 7 [18]; IV 3 [27] 5. Плотин, впрочем, не всегда последователен в этом вопросе и довольно неосмотрительно опирается на более привычное платоническое учение в V 9 [5] 12, 3 и VI 2 [43] 22, И—13. Подробное обсуждение трудностей и непоследовательностей в плотиновских положениях см.: Blumenthal Н. J. Did Plotinus believe in Ideas of Individuals? // Phronesis. 1966. II, 1. P. 61—80.
ЕДИНОЕ И УМ
317
ствуют ли идеи индивидуальных сущностей, уже обсуждался во II веке н. э., но тогда большинство платоников отвергли их существование.1 Плотин был первым из известных нам платоников, кто принял его, и причины, которыми он это объясняет, свидетельствуют о его высокой оценке индивидуальности, красоты отдельных вещей в их многоразличии и особенно человеческой личности, что нехарактерно для мысли Платона и Аристотеля; возможно, здесь сказывается влияние стоиков. Как бы то ни было, Плотин не позволяет своему признанию существования форм индивидуальных сущностей внести как таковую количественную бесконечность в умопостигаемый мир (что был готов сделать Амелий).1 2 Необходимости этого шага он избегает, приняв стоическое учение о бесконечно повторяющихся мировых циклах, в каждом из которых индивидуальные сущности формально и сущностно одни и те же. Это означает, что единственная бесконечность, которую он должен признать в умопостигаемом мире, есть не количественная бесконечность форм, но неделимая бесконечность производящей силы, и он не только готов, но и жаждет ее признать.3 Мир Ума для него конечен, ограничен и определен в отношении структуры и рисунка, но бесконечен в отношении жизни и мощи.
1 Ср.: Albinus. Didasc. 9.
2 Ср.: Syrianus. In Met. 147, 1 ff.
3 Этот вопрос является главным предметом рассуждения в V 7 [18].
Глава 1 6
ОТ УМА К МАТЕРИИ: ВОЗВРАЩЕНИЕ К ЕДИНОМУ
А. Душа и материальный мир
Из трех Плотиновых ипостасей Душа наиболее разнопланова и многообразна в своей деятельности. Она принадлежит высшей сфере, живет в мире Ума и вместе с ним через трансцендирова- ние себя может возвыситься до союза с Единым, но она же ответственна и за создание тел видимого мира. Однако, как бы ни был широк диапазон Души, Плотин ни в коей мере не позволяет стереться различию между нею и Умом (хотя в некоторых местах эта граница и оказывается несколько размытой) и сохраняет за ней отличительную платоновскую функцию посредницы между умопостигаемым и чувственным мирами, непосредственной причины последнего и представительницей первого в нем. Ее собственная и наиболее характерная деятельность состоит в дискурсивном мышлении, рассуждении от посылок к заключениям, но она обладает также и целым спектром низших форм сознания вместе с соответствующими им внешними формами активности. Душа может и должна (и кажется, пока она остается вселенской, она так и делает) всегда возвышаться над рассуждениями, дабы причаститься жизни Ума с его непосредственно интуитивным мышлением. Инициатива к выхождению Души за пределы самой себя, как всегда у Плотина, исходит свыше. Это Ум, просветляя Душу, возвышает ее до своего уровня.1 Взаимоотношения между тремя
1 Учению о просветлении Души Умом придается особенно важное значение в позднем трактате V 3 [49]. Однако это не кажется мне несовместимым с тем, что Плотин говорит о взаимоотношении Души и Ума в IV 3 [27] 5 и 12, или с рассказом Плотина о его собственном опыте в IV 8 [6] 1, хотя акценты везде расставлены по-разному. (Верно, однако, что в VI4—5 [22—23] и до некоторой сте-
ОТ УМА К МАТЕРИИ: ВОЗВРАЩЕНИЕ К ЕДИНОМУ
319
ипостасями у Плотина имеют форму иерархической различенно- сти внутри единства. Они не отрезаны друг от друга, но Единое и Ум соприсутствуют с Душой и воздействуют на нее, и это вечное соприсутствие и воздействие есть самое важное, что мы (которые и суть Душа) обнаруживаем в философских размышлениях.
Способ, каким Душа исходит из Ума и обретает форму, обращаясь вспять к нему в созерцании, аналогичен тому, каким Ум происходит из Единого, хотя отношение Души к Уму ближе и интимнее, так как Ум не обладает единственной в своем роде трансцендентностью и абсолютной инаковостью Единого. И так же как в происхождении Ума от Единого, в рождении Души от Ума присутствует доля tolma, беззаконного самоутверждения, желания быть независимым и жить собственной жизнью.1 Особой формой, которую, по Плотину, принимает tolma Души, является происхождение времени. Это желание жизни, отличной от жизни Ума. Жизнь Ума есть жизнь в покое вечности, жизнь мысли в вечном, непосредственном и одновременном обладании всеми возможными вещами. Таким образом, единственный оставшийся Душе способ быть иной состоит в том, чтобы перейти от вечной жизни к жизни, в которой, вместо одновременного соприсутствия всех вещей, одна вещь следует за другой и имеется последовательность, непрерывная цепь мыслей и действий. Tolma Души есть, по сути дела, род беспокойства, желание движения ради самого движения, желание не обладать всеми вещами сразу, а иметь возможность переходить от одной к другой. Эта беспокойная жизнь в непрерывной миграции в потоке вещей есть, как говорит Плотин, время. Время есть «жизнь Души в движении перехода от одного способа существования к другому».2 Таково для него единственное удовлетворительное объяснение платоновского описания Души как «движущегося подобия вечности».3 Она на своем уровне есть наилучшее из возможных подобий, хотя и безмерно уступающее оригиналу, так как более рассеяна и расщеплена, в меньшей степени являет единство. Плотин проводит выразительное сравнение с принципом роста семени, которое «развертывается, как ему пред- * IVпени в своей великой работе о Душе, написанной чуть позже (IV 3—4 [27—28]), Плотин порой донельзя истирает различие между Умом и высшей Душой (в VI 4, 14 различие совершенно пропадает). Вместе с тем он продолжает настаивать на важности и действительности этого различения и в своих поздних трудах заостряет его. — Примеч. А. X. Армстронга к изданию 1970 г.)
IV 1 [10] 1,3—5; III 7 [45] 11, 15—20.
2III 7. И, 43—45.
3 Tim. 37d5.
320
ПЛОТИН
ставляется, в нечто великое, уничтожая, однако, [истинное] величие разделением на части и полагая, вместо единства внутреннего, единство, расточающее себя вовне, продвигающееся в бессильную протяженность».1 Из этого мы можем видеть, что шкала ценностей Плотина полностью противоположна тому, что ценит современный человек, подготовленный эволюционными учениями и полагающий о себе примерно то же, что плотиновское семя-логос. Материальная вселенная вступает в бытие в этой душе-времени, и все ее движения обусловлены душой-временем и зависимы от нее. Значительную часть процитированного трактата «О времени и вечности»1 2 занимает резкая критика перипатетического определения времени как числа или меры движения. Согласно Плотину, время не есть мера движения (которое необходимо осуществляется во времени), но это мы, наблюдая регулярные повторения в движении небес, восходе и заходе солнца, используем интервалы между ними для измерения течения времени.
В непрерывном, не имеющем ни начала ни конца движении своей жизни, которая есть время, Душа неизменно оформляет, упорядочивает и направляет материальную вселенную, у которой также нет ни начала ни конца во времени (хотя и ограниченную пространственно, как и у всех философов после Платона, за исключением эпикурейцев). Плотин следует более древней традиции Платона, называя Ум «истинным демиургом и творцом» вселенной,3 однако это верно, лишь когда Душа снабжена logoi, руководящими ее творением и образующими телесные формы творимых ею вещей. Душа есть всегда непосредственный изготовитель, напрямую прилагающий к материальной вселенной то, что она получает от Ума. В этой части своей системы Плотин широко использует взятое в особом смысле понятае логос. Согласно его словоупотреблению (а он, конечно, использует это слово и в других значениях, принятых в греческих философских сочинениях), логос есть активный формообразующий принцип (не статичный и безжизненный образец), который на низшем уровне бытия представляет собой выражение или подобие принципа, принадлежащего высшему уровню. Душа есть логос Ума, и формы в ней суть логосы форм умопостигаемого мира. В поздних трактатах «О провидении»4 Плотин своими сло¬
1 III 7. И, 23—27 (пер. Т. Г. Сидаша).
2III 7.
3 V 9 [5] 3, 26; ср. II 3 [52] 18, 15.
4 III 2 [47] и 3 [48]: как часто бывает в издании Порфирия, это части одного сочинения Плотина.
ОТ УМА К МАТЕРИИ: ВОЗВРАЩЕНИЕ К ЕДИНОМУ
321
вами о логосе всего универсума создал у ряда интерпретаторов ложное впечатление, будто это отдельная ипостась, что было бы серьезным отступлением от схемы трех и только трех ипостасей, на которой мыслитель так энергично настаивает. Однако Брейе почти наверняка прав, угадывая здесь в логосе не отдельную ипостась, а способ говорить о живом оформляющем и направляющем образце, который Душа черпает из Ума посредством того обычного механизма, который поддерживает материальную вселенную в наилучшем порядке и приводит ее к единству, являющемуся в раздробленном мире пространства и времени пусть несовершенным, но все же возможно близким подобием единства Ума.1 Это становится возможным через подчинение противоположных сил, неизбежных в пространственно-временном разъединении, гера- клитовской гармонии.
Душа распоряжается и руководит материальной вселенной «не извне, подобно врачу, но изнутри, подобно природе».1 2 То, что Душа имманентна вселенной, не означает, что последняя наполнена ею или удерживает ее в себе. Используя пространственные метафоры для описания их взаимоотношения, Плотин предпочитает говорить, что тело содержится в душе, а не душа в теле, как в той величественной картине тела, плавающего в душе, подобно сети в море.3 Это означает, что Душа не воздействует на вселенную извне, планируя обращаться с ней на основании внешних знаний. В ее управлении миром нет места обдумыванию или планированию, предпочтению или выбору того или другого.4 Вселенский порядок происходит из Души произвольно, как растет дерево. Законы природы не формулируются заранее и затем применяются, а суть непосредственный неумышленный результат созерцания Душой высшего порядка Ума, по отношению к которому они скорее отражение (несколько искаженное отражающей средой), чем тщательно выписанный портрет. В этом пункте системы повсеместно использовавшийся принцип, согласно которому всякое действие зависит от созерцания, приобретает особое значение.5
1 В его примечаниях к III 2 и 3, том III его издания (р. 17—23).
2 Резюме IV 4 [28] И, 1—7.
2IV 3 [27] 9, 36—42.
4 Это очень отличается от образа мысли Платона в отношении божественного образования и управления вселенной. Вероятно, изменение в значительной степени вызвано влиянием Аристотеля; см.: PipinJ. Theologie cosmique et th0ologie chretienne. Paris, 1964. P. 502—504.
5 По этому поводу см., в частности, трактат «О созерцании» (III 8 [30]), хотя ссылки на это учение часто встречаются и в других местах «Эннеад».
322
ПЛОТИН
Душа возникает из Ума как спонтанное следствие созерцания Умом Единого, и ее собственное сотворение тела и воздействие на него являются непроизвольным следствием ее возвращения в созерцании к Уму. (В этой точке Плотиновой мысли присутствует то же напряжение между идеей творения в созерцании и идеей tolma, о котором уже шла речь при рассмотрении происхождения Ума из Единого.) В этом на всех уровнях, даже на самом низшем, состоит деятельность Души как универсального принципа в мире тела, пространства и времени. Он также распространяется на деятельность живущего на высшем уровне человека: праведные поступки самопроизвольно происходят из непрерывного созерцания им своего высшего «я». На более низких уровнях поступки человека равным образом происходят из созерцания и направлены на него, однако, когда созерцательные силы человека слишком слабы, чтобы прямиком достичь желаемого им видения, он пытается удовлетворить себя действием, совершая поступки и изготавливая вещи, которые являются подобиями объектов его поиска, — блага, которое он хочет иметь в своей душе, — и которые могут в конце концов обходным путем привести его к нему.1
Ниже высшей души, находящейся в непосредственном соприкосновении с Умом и посредствующей между умопостигаемым и чувственным мирами, лежит ее образ, впечатление,1 2 или логос, имманентное начало формы, жизни и роста, которое Плотин называет «Природой». Он не мыслит о ней как об отдельной ипостаси, но, скорее, как о вселенской Душе, действующей на низшем уровне, где она безраздельно связана с телом. Понятие логоса позволяет ему собрать разнообразные виды деятельности, традиционно относимые к Душе, воедино, представив ее в качестве единственного сущего и формообразующей силы, действующей на различных уровнях и различными способами, производя все более размытые отпечатки и отражения самой себя, заряженные ее собственной мощью, постепенно уменьшающейся в объеме. Но в действительности отношение Природы к высшей Душе описывается в понятиях, не слишком отличающихся от тех, в которых Плотин говорит об отношении Души к Уму (хотя на этом уровне нет речи о tolma). Так же как Душа вновь обращается к Уму в созерцании и, как следствие, творит, так и Природа в созерцании направляется к высшей Душе. Однако на этом низшем уровне ее созерцание слабее всех возможных созерцаний; оно бессо¬
1 III 8. 4, 31—47 и 6, 1—10.
2 IV 4 [28] 13.
ОТ УМА К МАТЕРИИ: ВОЗВРАЩЕНИЕ К ЕДИНОМУ
323
знательно и подобно сновидению;1 ее творчество, являющееся самопроизвольным и неизбежным следствием ее созерцания, состоит в порождении последних и худших вещей, которые содержат в себе только какую-то тень реальности, форм в теле. Они мертвы, то есть неспособны произвести дальнейшие формы, из-за слабости рождающего их созерцания. Они стоят в самом конце процесса исхождения из Единого, на троекратном отдалении от своих исходных образцов в Уме, будучи логосами логосов в самой Природе, которые суть логосы логосов в Душе. Они образуют призрачный мир (такой Плотин видит материальную вселенную в сравнении с умопостигаемой), в котором Природа действует как принцип единства и целостности, не позволяющий миру распасться на части в безначалие совершенной отдельности, поскольку Природа сама есть единая жизнь, последнее проявление вселенской души, не могущее, подобно единичным душам, впасть в пространственно-временную отдельность. Она тем самым и отделена от тела, и ограничена им, поскольку без остатка с ним связана. Материальный мир есть причина ее существования. Она есть часть Души, назначение которой состоит в том, чтобы давать жизнь и реальность телу, делая его определенным. Однако она не образует единой реальности с телом, а сохраняет существенную обособленность платоновской души.
На самом высоком уровне, там, где Душа уподоблена Уму, отношение частей к целому в ней тождественно тому, которое мы уже видели между частью и целым в умопостигаемом мире.1 2 Индивидуальные души сохраняют свою индивидуальность на этом высшем уровне.3 Однако они едины с вселенской душой и самими собой, универсальными в том отношении, что они не скованы никакими пространственными ограничениями или пределами, и целое присутствует в каждой части.4 И тем не менее даже на этом уровне единство частей и целого менее совершенно, чем единство форм в Уме, и поскольку Душе свойственно также действовать на низших уровнях пространственно-временного мира, то по крайней
1 III 8. 4.
2Гл. 15, с. 315—316.
3 IV 3 [27] 5.
4 IV 3 [27] 8; V 1 [10] 2; VI 4 [22] 14. (Стоит отметить, что вселенская душа, с которой составляют одно индивидуальные души, не тождественна мировой Душе, Душе Всего, которой направляется и одушевляется физический мир. Сама эта последняя есть частное выражение вселенской души и не есть то целое, частью которого будут индивидуальные души (IV 3. 1—7). Мировая Душа — наша Сестра (II 9. 18, 16). — Примеч. А. X. Армстронга к изданию 1970 г.)
324
ПЛОТИН
мере некоторые индивидуальные души имеют склонность к большему отделению и уединению. Эта склонность и приводит их к воплощению и внесению в бытие того низшего «я» (логос их истинных «я»), о котором мы говорили выше.1 Плотин без колебаний разрешает противоречие, возникающее в мысли Платона, между идеями воплощения как падения души и как благого и необходимого исполнения вмененной ей заботы о теле тем, что отстаивает их обе. То, что душа нисходит, соответствует вселенскому порядку, требующему, чтобы все, вплоть до низшего уровня, было одушевлено, чтобы души сошли в приготовленные для них подходящие им тела и низшие «я». Однако они хотят и способны нисходить только потому, что они уже обладают слабостью, склонностью к низшему, которая, по-видимому, является развитием исходной tolma, вынесшей Душу за пределы Ума.1 2 Души нисходят по необходимости и согласно вселенскому закону, поскольку принадлежат к такому роду существ, которые желают нисхождения, и само это желание уже есть отпадение от высшего. Однако, как мы видели, это нисхождение не окончательно. Высшее «я» остается наверху, и мы можем, пребывая в теле, выбрать — жить на уровне высшего «я» и раскрыться к его всеобщности или как можно глубже погрузиться в обособленную отдельность материального мира, в котором все вещи внешни друг другу, отрезаны одна от другой (и, как следствие, сталкиваются и ранят друг друга) и заняты ничтожными заботами отдельного тела.3 Грех души, слишком ограниченной и озабоченной телом, для Плотина состоит скорее в обособленности и слепом и узком эгоизме, нежели в ее нечистоте. Именно этот грех самопроизвольно искупается как в грядущем мире, так и в этом — наказаниями в Гадесе и перевоплощениями в человеческую и животные формы, идею которых Плотин перенимает у Платона и понимает вполне буквально. Таково действие вселенского закона, который отводит каждой душе в конце ее жизни на земле то месте, к которому она больше всего пригодна (хотя высшее «я» во все время остается неизменным и незатронутым).
Нисхождение от Единого завершается полной отрицательностью и темнотой материи,4 абсолютным пределом, что у Плотина
1 Гл. 14, с. 290—293.
2 IV 8 [6] 5; IV 3 [27] 12—18 (наиболее подробное рассмотрение этого вопроса).
3 Ср. VI 4 [22] 14—16.
4 ύλη. В статье «Plotinus on Matter and Evil» (Phronesis. 1961. VI, 2. P. 154— 166) Рист убедительно оспорил предположение Пюэша о том, что Плотин скло-
ОТ УМА К МАТЕРИИ: ВОЗВРАЩЕНИЕ К ЕДИНОМУ
325
допустимо понимать как в метафизическом, так и в повседневном смысле слова. Плотин не дуалист в метафизике. Материя происходит от предшествующих ей начал, а значит — в конечном счете из Единого.1 Он полагает, что непреходящий творческий процесс необходимо должен произвести на свет все то, что может обладать хоть какой-нибудь формой существования, сколь угодно призрачной. Благо может перестать сообщать себя, только когда достигнет ступени, на которой не может быть и тени блага. Нисходящие ступени этого процесса несут на себе знак возрастания степени инаковости по отношению к Единому и Благу, то есть непрерывно возрастающего недостатка единства и благости, а значит, и реальности. И это нисхождение может завершиться только в том случае, если достигнет логического конца в точке абсолютной инаковости Благу, в которой более невозможно никакое единство, благость и реальность вообще, в загадочном квазисуществовании материи, в котором последние и низшие формы, формы тел, подобны отражениям в невидимом и аморфном зеркале, как это выражает Плотин в отрывке, в полной мере обнаруживающем необычность его концепции.* 1 2 Эти формы тел не объединяются с материей для образования единой реальности, как у Аристотеля. Материя в чувственном мире для Плотина не есть такая потенция, которая может быть актуализирована. Она есть пассивная восприемница форм, своего рода среда, в которой они присутствуют и которая при этом не изменяется и не испытывает воздействия с их стороны. Она не может получить никакого положительного качества или сколько-нибудь приблизиться к реальности и благу и всегда остается тотальной отрицательностью и инаковостью, абсолютной лишенностью.3 Материя чувственного мира существенно отличается от материи мира умопостигаемого, которая действительно есть потенция, извечно актуализованная и оформленная. Из-за этой совершенной отрицательности, полного отсутствия реальности и добротности, материя чувственного мира для Плотина есть абсолютное зло и (что весьма парадоксально в свете настойчиво утверждаемых
нялся к тому, чтобы отказаться от взгляда на материю как на зло, после разрыва с гностиками, и продемонстрировал общую состоятельность этого учения. Я согласен с его интерпретацией целого ряда фрагментов из «Эннеад», особенно IV 8. 6.
1 I 8 [51] 7; ИЗ [52] 17; III 4 [15] 1.
2III 6 [26] 13.
3 Плотин отвергает аристотелевское различение ύλη и στέρησις. Материя для него и есть лишенность (II 4 [12] 14—16).
326
ПЛОТИН
им ее бессилия и неспособности воздействовать и испытывать воздействие со стороны формы) начало зла.1 Это предельное отрицание, эта темная пустота каким-то образом оказывается способной заражать попадающие в нее вещи своей тьмой и опустошенностью, наделяя их пороком, который делает их менее реальными и добрыми, чем им положено быть. Другой, менее значительный парадокс в суждении Плотина о материи чувственного мира состоит в том, что ее злое воздействие не распространяется на Луну. Плотин отвергает учение Аристотеля о «квинтэссенции»1 2 и придерживается платоновского воззрения, согласно которому небесные тела состоят из огня, хотя и лучшего качества, чем огонь в подлунном мире.3 (Их свет для него есть не телесная вещь, но их бестелесное проявление — учение, оказавшее серьезное влияние на средневековую мысль.4) Однако он подчеркивает, что в их телах, которые, хотя и материальны, сходны по форме с душой и ею управляются, нет зла.5
В заключение этого подраздела нам следует очень кратко рассмотреть мнение Плотина о том, как души познают материальный мир, в который они нисходят. Наше высшее знание, знание форм в Уме, ничем не обязано телу и его ощущениям: оно попадает в душу прямо «изнутри» благодаря ее родству и связи с Умом. Самое большее, на что способны органы чувств, — предоставить нам отдаленные подобия умопостигаемой реальности, могущие помочь нам вспомнить себя и обратить внимание на нее — «внутрь» и «вверх». Однако наше знание умопостигаемого мира ни в коем случае не происходит от чувственного восприятия его подобий. И не что иное, как это высшее знание, дает нашему дискурсивному разуму принципы, которые ему следует использовать в суждениях о чувственном опыте и с их помощью направлять нашу жизнь в теле. Но, конечно, Плотин признает, что мы не только знаем о своих телах, что с ними происходит, их состояния и изменения, но также получаем вполне достоверные сведения о материальном мире вне тела посредством органов чувств. Во всех его рассуждениях о телесном опыте в замечательном сочинении «О проблемах
1 Об этом см., в частности, два трактата, один ранний, другой поздний, специально посвященных вопросу о материи (II 4 [12] и I 8 [51]), хотя это учение дает о себе знать повсюду в «Эннеадах».
2 II 1 [40] 2.
41 1.4—5.
4 II 1.7; IV 5 [29] 6—7.
5II 1.4—5; II 9 [33] 8.
ОТ УМА К МАТЕРИИ: ВОЗВРАЩЕНИЕ К ЕДИНОМУ
327
души» и других1 присутствуют два момента, которые он особенно старается прояснить. Один состоит в том, что ощущения, чувства и физические желания не чисто телесны, не суть только материальные впечатления или изменения в теле, но являются следствием соединенности души и тела. Неодушевленное тело не имело бы восприятий, ощущений удовольствия или боли, а также желаний. Другой касается того, что душа даже на своей низшей ступени никогда не пассивна в отношении тела и не испытывает воздействия с его стороны; между ними нет действительного взаимодействия, они и подавно не объединяются, дабы образовать единую реальность, которая воспринимает, чувствует и желает как одно целое: живая вещь, смесь души и тела, для Плотина есть, так сказать, многослойная структура, слои которой соприкасаются и все же отдельны друг от друга. В изложении своего взгляда на ощущение и чувство Плотин отчетливо различает физическое событие, воздействие на орган чувств или изменение в теле, осознание этого воспринимающей силой души* 2 и формирование умственного образа образотворящей способностью,3 которая может сохранять свои образы и тем самым служит основанием для памяти. Переход от низшей души к высшей происходит у Плотина на уровне образов (каждая имеет свою способность воображения и, следовательно, свою память);4 способность выносить суждения и принимать решения на основании полученной информации принадлежит высшей душе (то есть нашему рассудку). Она может приходить в смятение и смущаться неразберихой образов, предоставляемой ей снизу, однако она неизменно сохраняет за собой свободу выбирать, судить и решать согласно принципам, полученным ею от Ума, с которым на высшем уровне она всегда поддерживает связь.
Б. Возвращение: религия Плотина
Мы рассмотрели, как душа возвращает себя на свой высший уровень в мире Ума.5 Остается сказать о том, как она поднимается над ним к слиянию с Единым, что является целью всего философского усилия Плотина. Обсуждение этой темы до сих пор ότ¬
ι См. IV 3 [27] 22—32; IV 4 [28] 17—25; IV 6 [41]; III 6 [26] 1—5.
2 αϊσθησις.
3 φαντασία (аристотелевское понятие).
4 IV 3 [27] 31.
5 Гл. 14.
328
ПЛОТИН
кладывалось, поскольку без знания о том, что Плотин понимает под Единым и как все вещи происходят из него и от него зависят, было бы непонятно, что он говорит о заключительном союзе с ним. Если мы не знакомы с его метафизикой, мы обречены неверно понять его мистицизм. Но прежде было бы хорошо кратко повторить предшествующие этапы и посмотреть на них под другим углом. Философия Плотина — это религия, и, чтобы разобраться в ней, попытаемся заметить, чем она отличается от других, более известных нам видов религии.
Мы уже видели, как душа достигает подобающего ей уровня в Уме, усердно сочетая интеллектуальные и моральные усилия и упражнения, которым, во всяком случае на ранних стадиях, способствует созерцание зримой красоты (вероятно, без нее нельзя совсем обойтись в этой жизни, поскольку наше воспоминание об умопостигаемой красоте постоянно нуждается в том, чтобы его вновь освежали). Мы обнаружили, что пренебрегать моральной составляющей в упражнении и устремлении души ошибочно. Несомненно, в своем восхождении мы выходим за пределы добродетели. Благо выше добродетели, поскольку оно выше всего, а на уровне Ума добродетели существуют архетипически, хотя как таковых добродетельных поступков там нет, поскольку не совершается вообще никаких действий. Жизнь и деятельность в умопостигаемом мире есть одно лишь созерцание. И все же для Плотина выйти за пределы добродетели не означает какого-либо отречения от нее или отказа от бессрочного обязательства вести себя добродетельно на том уровне, на котором это возможно. Плотин чужд антиномичности гностиков. В его системе нет разрыва между высшим миром духовной свободы и низшим миром морального закона. Блаженный мудрец преодолевает добродетель лишь затем, чтобы достичь ее истока — Блага. И именно потому, что он достиг Блага, его поступки на низшем уровне, где добродетель и порок возможны и где его душа должна продолжать действовать, пока она остается в этом мире, должны быть морально лучше, а вовсе не хуже прежних.
В этом смысле мистическая религия Плотина не отличается от других религий несерьезным отношением к морали. Этические требования, которые она предъявляет, крайне высоки. Наиболее характерные отличия состоят в отсутствии рекомендаций к каким- либо практикам, которые мы сочли бы религиозными, а также в отсутствии ритуалов или священнодействий, каких-нибудь техник молитвы или медитации, методов концентрации и освобождения ума, подобных тем, что используют мистики в рамках как теисти¬
ОТ УМА К МАТЕРИИ: ВОЗВРАЩЕНИЕ К ЕДИНОМУ
329
ческого (христианство и ислам), так и нетеистического (ведантизм и буддизм) вероучений. Стоит рассмотреть возможные причины этих отличий. В религии Плотина не могут присутствовать или, во всяком случае, иметь важного значения1 ритуалы или таинства, прежде всего в силу особого взгляда на природу человека. Человек для Плотина, как мы выяснили, является не составным единством тела и души, как в иудео-христианской традиции, но существом, истинное «я» которого обитает на чисто умопостигаемом, или духовном, уровне.1 2 Только логос его нисходит в низший мир тела, и как телу, так и низшему «я» нечем обогатить духовную жизнь высшего «я». Благо не может воздействовать на наше истинное «я» через тело: для Плотина это означало бы полное искажение действительного порядка вещей. Другая причина состоит в том, что в системе Плотина нет места какому-либо особому акту спасения со стороны Бога, который, возможно, требовал бы специального ритуала или символической передачи определенного откровения, должного затронуть наши души. Одарив нас бытием, Благо дало нам все, что нужно для спасения, в его вечном, непрестанном излиянии,3 поскольку этот дар есть подвижное бытие, устремленное обратно к нему.
Другое характерное отличие, состоящее в отсутствии каких- либо методов молитвы или техник медитации,4 можно объяснить тем простым обстоятельством, что для Плотина философия Платона и была такой формой молитвы в широком традиционном смысле «возвышения сердца и ума к Богу». Философские рассуждения и размышления не являются, по Плотину, лишь средствами для решения интеллектуальных задач (хотя и это тоже, и необходимо, так), но они суть также «заклинания» (έπφδαί) для спасения души.5 Постоянными повторениями и рефлективными разъяснениями великих истин философии мы приводим душу к тому, чтобы не просто видеть вещи, каковы они суть, но жить созерцанием на высшей ступени реальности, с которой и только с которой она может подняться до единства.
1 Как мы видели при рассмотрении истории об «ответе Амелию» (гл. 12, с. 268—269), Плотин, скорее всего, не возражал против внешнего соблюдения философом религиозных обычаев, если тот считал их полезными для себя.
2 Гл. 14, с. 290—293.
3Ср. гл. 15, с. 307—308.
4 В «Эннеадах» Плотин рассуждает о молитве как о магическом занятии, ср. IV 4 [28] 26 и 40—42, но также и V 1 [ 10] 6, 9—11.
5 V 3 [49] 17.
330
плотин
Плотин сравнительно мало говорит об этом последнем единстве. Он утверждает, что только переживший подобное сможет действительно понять его, и, говоря об этом, он сдержан, а также крайне символичен и метафоричен в выражениях.1 Никакой пересказ не может адекватно передать характер и силу этих строк в «Эннеадах», но в том, что говорит Плотин, есть один или два момента, рассмотрение которых могло бы помочь нам в понимании его мистического опыта. Мистическое единение, как мы видели, есть высшая точка долгого процесса приуготовления себя, описываемого Плотином как восхождение, а также обращение внутрь, в изначальную глубину себя, и одновременно обнажение, очищение и единение.1 2 Однако последняя связь и узрение (Плотин использует оба эти выражения) не есть нечто, что мы можем достичь собственным усилием, когда захотим. Мы должны ожидать, пока нам «явится» Единое и сообщит о своем вечном присутствии в наших душах.3 Пожалуй, мы поступили бы опрометчиво, если бы усмотрели в этом нечто подобное христианскому учению о благодати, согласно которому союз с Богом возможен только через его свободное дарение себя. Однако нам представляется, что в сказанном Плотином действительно присутствует указание на то, что Единое не просто тождественно нашему истинному «я», что превратило бы мистический опыт в простое завершение процесса переоткрытия того, кто мы такие на самом деле, а также не является пассивным объектом наших поисков, ожидающим, когда его обнаружат те, кто готов и способен это сделать. Мы можем прийти к такому же заключению и другим способом, а именно, если проанализируем, что говорит Плотин о роли любви (ερως) в мистическом союзе. Всего однажды он называет Единое как таковое эросом4 — в отрывке, с которым следует обращаться довольно осторожно, поскольку несколько выше Плотин пред¬
1 Вот несколько значимых фрагментов, в которых он говорит о мистическом единении: I 6 [1] 9; V 3 [49] 17; VI 7 [38] 34—36; VI 8 [39] 15; VI 9 [9] 11; ср. также V 5 [32] 12 относительно постоянного и обычно ненаблюдаемого присутствия Блага в душе, на котором основывается возможность мистического союза.
2 Образный язык, используемый Плотином, был блестяще проанализирован Полем Анри в его введении к третьему изданию перевода «Эннеад» Маккены (London, 1962), раздел VII «Структура и словарь мистического опыта» (р. LXIV— LXX), в котором разъясняются сходства и различия между Плотином и христианскими мистиками. См. также ценное исследование в RistJ. М. Plotinus: The Road to Reality (ch. 16: «Mysticism»).
3 V 3 [49] 17,28—32; V 5 [32] 8.
4 VI 8. 15, 1.
ОТ УМА К МАТЕРИИ: ВОЗВРАЩЕНИЕ К ЕДИНОМУ
331
упредил читателей, что, желая переубедить своих противников в споре, он использует слова вольно и неверно, вследствие чего к Единому он прилагает понятия, могущие создать впечатление двойственности.1 Из этого отрывка, безусловно, не следует заключать, что Единое каким-либо образом любит или заботится о том, что рождается от него, — Плотин это решительно отрицает.1 2 И тем не менее истинно то, что эрос, по Плотину, не есть совсем уж неподходящее и совершенно вводящее в заблуждение имя для Единого (каким было бы имя Ум). Единое есть причина и даритель любви, благодаря которой мы и любим его,3 — любви, которая, как в «Пире» Платона, не исчезает, когда достигает объекта, но сохраняется и в окончательном единстве.4 Мы можем соединиться с ним только потому, что достигли совершенной согласованности с ним и стали подобны ему, а мы подобны ему только как любящие. Мистический союз с Единым есть союз любви, который возникает в нас и благодаря которому мы приобретаем настолько близкое сходство с Любимым, какое только возможно. Ключевое значение эроса лучше всего проясняется в том отрывке, где Плотин наиболее полно совмещает свой мистицизм с метафизикой. Он говорит:
Ум имеет одну силу для мышления, благодаря которой он смотрит на вещи в себе, и другую, которой благодаря интуиции [здесь: направленному движению сознания] и усвоению он схватывает то, что по ту сторону [Ума и всех вещей]; благодаря этой силе, он прежде только видел и, видя, приобрел ум и есть единое. Одно есть разумное вйдение Ума, другое — Ум любящий, когда он становится безумным и «упивается нектаром»; тогда он любит и упрощается в счастье, благодаря его полноте. Он считает лучшим упиться, нежели сохранять значительность, будучи трезвым. Однако видит ли Ум по частям, то есть сначала одну вещь, а потом другую? Нет, но это логос учит нас создавать возникших [то есть отдельные вещи], а Ум мыслит вечно и вечно не мыслит, но иным образом взирает [на Бога]. Ибо, смотря на Него, Ум обретает потомков и воспринимает и их порождение, и свое существование внутри них; и, когда он видит их, говорится, что он мыслит и видит той силой, какой [позднее] мыслит.5
Плотин поясняет, что индивидуальная душа достигает мистического единства, причащаясь состоянию «опьянения», любовно¬
1 VI 8. 13, 1—5.
2 V5. 12, 41—49.
3 VI 7. 22 и 31.
4 I 6. 7, 14—19; ср. III 5 [50] 4, 23—25.
5 VI 7. 35, 19—33 (пер. Т. Г. Сидаша).
332
ПЛОТИН
му отстранению Ума от самого себя (в котором, как всегда, инициатива исходит от Единого). Как говорит Плотин, «его уносит отсюда словно бы волной самого Ума и поднимает вверх, будто бы на ее гребне, и внезапно он начинает видеть, не видя — как».1
Ум, таким образом, вечно и неизменно пребывает одновременно в двух состояниях — «трезвом» и «пьяном», знающем и любящем. Он вечно выполняет надлежащую ему деятельность познания, при этом будучи вознесенным над самим собой в любовном единстве. И видимо, сила его любви тождественна той силе безграничной жизни, с которой он впервые вышел из Единого.1 2 Индивидуальная душа мистика в ее восхождении к мистическому союзу поднимается сначала до одного, а затем и до второго из этих состояний. Ее касание, узрение и соединение в любви с Единым тождественны касанию, узрению и соединению с Умом. Теперь любому читателю «Эннеад» даже без этого отрывка должно быть ясно, что Ум никогда не приходит к осознанию того, что он иллюзорен, и не лишается своей тождественности в Едином, которое вечно остается иным ему и всем вещам. В мысли Плотина не находится места соображению о том, что все вещи, помимо Единого, суть иллюзия, как и изменению или исчезновению какого-либо из уровней бытия ниже Единого. И один этот отрывок должен был сделать очевидным, что Плотин не соглашался хранить свой мистицизм отдельно от метафизики, но считал и желал показать, что его мистический опыт созвучен его философии. Поэтому, кажется, мы вынуждены заключить, что мистицизм Плотина не «монистичен», но «теистичен», пользуясь довольно смутными понятиями для выражения вполне отчетливого смысла, который придал им Цэнер в своей классификации различных типов мистицизма.3 Это, так сказать, мистицизм, в котором душа стремится обрести единство с Абсолютом, лучшим земным аналогом чего является союз любовников, а не такой мистицизм, в котором душа стремится постичь себя в качестве Абсолюта. Такое заключение может иметь некоторое значение для историков религии. Это означает, что, сколь бы значительными ни были различия между Плотином и последующими теистическими мистиками, обнаруживающими признаки его влияния (и такие различия существуют, главным образом связанные с отсутствием в мысли Плотина идеи о том,
1 36, 17—19 (пер. Т. Г. Сидаша).
2 Гл. 15, с. 308 и 314.
3 См.: Mysticism Sacred and Profane. Oxford, 1957, особенно ch. VIII «Monism versus Theism» и IX «Theism versus Monism».
ОТ УМА К МАТЕРИИ: ВОЗВРАЩЕНИЕ К ЕДИНОМУ
333
что Бог любит людей, какой-либо концепции греха, благодати и искупления в христианском смысле), мы не можем a priori предполагать, что христианские и исламские мистики, мысль и язык которых прямо или косвенно испытали влияние Плотина, либо чрезвычайно искажают и коверкают плотиновский мистицизм, либо неверны своим собственным религиозным убеждениям.
Приложение
ПЛОТИН, АМЕЛИЙ И ПОРФИРИЙ
Чтобы завершить наше рассмотрение мысли Плотина и его круга и перекинуть мостик к следующей части нашей книги, посвященной поздним неоплатоникам, стоит пока разобрать то немногое, что нам известно о мысли Амелия, старшего ученика школы и близкого друга и соратника Плотина, и поговорить об отношении учения Порфирия к философии своего учителя. Порфирия, чье влияние на развитие последующего неоплатонизма было, насколько мы знаем, несопоставимо сильней, чем влияние Амелия, мы исследуем детально. Но интересно также сравнить его понимание (или непонимание) мысли Плотина с пониманием Амелия и тем самым увидеть возможности разворачивания Плотиновой мысли в разных направлениях, что мы явно не могли сделать в основной части раздела, носящей неизбежно общий и резюмирующий характер.
Амелий Гентилиан, родом из Этрурии, появляется в «Жизни Плотина» как набожный, занудный и напыщенный персонаж. Порфирий ничего не сообщает нам ни о каких особых философских взглядах, которых он придерживался, а разрозненные свидетельства о нем, обнаруживаемые в позднейших источниках, дают на удивление бессвязную картину. По-видимому, у него с Плотином было три основных расхождения. Он настаивал, что вселенская душа была едина по числу, но размножена во времени на «состояния», «отношения» и «взаиморасположения».1 В этом, возможно, сказывается влияние Нумения, чьи работы он конспектировал и знал на зубок.1 2 Здесь у него есть точки соприкосновения
1 Iamb. De an. ар. Stob. Eel. I 41. 38 (376 Wachsmuth); cp. Proclus. In Tim. II 213, 9—214, 4; Festugiere A.-J. La Rev01ation d’Hermes Trismegiste. III. App. I.
2 Vita Plotini 3, 44—46. О мнении Нумения, что душа после смерти неразличимо смешивается со своими основаниями, см. Ямвлиха в Stob. Eel. 1 41. 67 (458 Wachsmuth).
ПЛОТИН, АМЕЛИЙ И ПОРФИРИЙ
335
с Порфириевым монистическим прочтением философии Плотина, которое мы подробнее обсудим в дальнейшем.1 Но Амелий не выказывает того чувства вечной действительности и ценности индивидуального, какое мы видит у Плотина1 2 и какое было одной из причин, мешавших ему соскользнуть в последовательный монизм. Поэтому особенно удивительно, что он и его школа настаивали не только, как Плотин, на существовании индивидуальных форм, но и на том, что этих форм существует бесчисленное множество, которое конечный космос не сможет воспроизвести, просуществуй он хоть вечность.3 Вера в бесчисленность форм кажется трудно согласуемой с верой в единую по числу душу. Возможно, что, имей мы тексты Амелия, мы бы обнаружили, что его идеи схожи с идеями средневековых схоластов — св. Бонавентуры и св. Фомы, считавших, что, хотя существует неограниченное число идей, все они суть единая и простая божественная сущность. Их множественность относительна и связана с ideata — бесконечным разнообразием вещей, которые были или могли быть созданы по их подобию. Это могло бы соответствовать мысли Амелия о единой душе, размноженной в ее отношениях и взаиморасположениях, то есть, как можно предположить, в функциях по отношению к различным одушевляемым и упорядочиваемым ею по уровням вселенной телам.4 Но это только догадки, не подкрепляемые доступным нам материалом и вызванные лишь предчувствием, что этот неуклюжий набожный философ, столь высоко ценимый Плотином, не был таким бестолковым, каким кажется по имеющимся у нас свидетельствам.
Третий пункт, в котором Амелий расходится с Плотином, не противоречит первым двум, но и не связан с ними непосредственно. Речь о том, как он расколол Ум натрое — на Ум сущий, обладающий и зрячий.5 Здесь Амелий кардинально расходится с монистической интерпретацией Порфирия, сворачивающей ипостаси, и обозначает путь, по которому затем потечет мысль Ямвлиха и подражающих ему неоплатоников.6 Любопытно, что
1 Раздел IV, гл. 18 Б, с. 358—364.
2 См. выше, гл. 15, с. 316—317.
3 Syrianus. In Met. 147, 1 if. О том, что Плотин полагал число индивидуальных форм ограниченным, см. выше, с. 317.
4 Сказанное Проклом о взглядах Амелия на строение мировой души в «Тимее» подталкивает нас к подобному заключению.
5 τον όντα, τον εχοντα, τον όρώντα: In Tim. I 306, 2—3.
6 Феодор Асинский оказался под влиянием этого «растроения» Амелия, см.: Proclus. In Tim. I 309, 14—15.
336
плотин
вопросы, подобные этому «растроению», действительно обсуждались в школе Плотина и что Плотин, по-видимому, в какой-то момент времени взаправду рассматривал возможность принять его как рабочую гипотезу, хотя позднее жестко отвергал его, когда оно проповедовалось не возлюбленным Амелием, а ненавистными гностиками.1 В странном небольшом собрании заметок по разным вопросам, из которых Порфирий компоновал трактаты третьей «Эннеады»,* 2 первая и самая пространная посвящена экзегезе «Тимея», в центре которой — столь широко обсуждавшаяся в среде платоников проблема отношения демиурга к формам (именно в этом контексте Прокл начинает разбор взглядов Амелия). Здесь Плотин обсуждает возможность раздвоения или растроения Ума и не находит возражений схожему с позицией Амелия разделению на «обладающий» и «видящий» ум3 — тому самому, которое он так решительно отвергал в трактате «Против гностиков». Было бы рискованно основывать целую теорию на отдельной заметке, вроде нашей, которая и не дает оснований говорить, что Плотин так уж безоговорочно допускал указанное разделение Ума. Мы можем лишь осторожно предположить, что к этому моменту он еще не пришел к обдуманному решению, что цельное единство Ума и мира форм нужно защищать любой ценой, без вопросов и рассуждений о возможных альтернативах. Учение об Уме, как мы видели, предстает одной из отличительных и наиболее оригинальных концепций Плотина, и для него было безусловно важно настаивать на единстве реальности, являющейся одновременно миром и мыслью, где бытие, мысль и жизнь суть одно.4 Очевидно, что Плотин, Амелий и поздние неоплатоники по-разному работали с этим материалом, и все усилия Плотина не смогли замкнуть даже для ближайших друзей и сторонников того пути, который позже приведет к сложной интеллектуальной иерархии Прокла.
Порфирий, судя по всему, был ближе к мысли своего учителя и последовательнее, чем Амелий. Как покажет Э. Ч. Ллойд в следующем разделе, Порфирий отступил от Плотина, фактически отказавшись от четкого разграничения Ума и Души, на котором порой столь решительно настаивал Плотин; Ллойд, однако, доказывает, что некоторые фрагменты Плотина позволяют предположить, что между ними нет никакого существенного различия.
* См. II 9 [33] 1,25 if.
2 III 9 [13].
ЧП 9. 1, 15 ff.
4 См. выше, гл. 15, с. 313—316.
ПЛОТИН, АМЕЛИЙ И ПОРФИРИЙ
337
Все же представляется, что для Плотина было очень важно, по крайней мере в каких-то аспектах, утвердить трансцендентность Ума по отношению к Душе. В своем последнем, очень емком трактате «О познающих субстанциях» он уверенно продавливает и заостряет эту трансцендентность, отнюдь не упраздняет ее, так что не похоже, что он одобрил бы монистическую устремленность Порфирия. Если Порфирию действительно, как полагает Адо, принадлежат фрагменты комментария к «Пармениду», разбираемые ниже,1 значит, в своем монизме он зашел еще дальше и еще радикальнее порвал с Плотином, чем то видно из текстов, в отношении которых его авторство не вызывает сомнений. Затушевать различие между Умом и Единым, притупить резкость перехода от условного бытия к безусловному Бытию — это куда более кардинальный пересмотр мысли Плотина, чем упразднение границы между Умом и Душой. Три ипостаси у Плотина расположены, скажем, непропорционально. Расстояние и разница между Единым и Умом больше, чем между Умом и Душой. При этом в «Эннеадах» есть и такие места, где Единое и Ум совсем недалеко отстоят друг от друга (особенно в трактате «О том, что Единое, тождественное, сущее везде, во всем, во всей целости присутствует»).1 2 И мы не можем сказать, что описанная линия мысли комментатора (без разницы, Порфирия или его современника) не имеет оснований в мысли Плотина, равно как не можем и отрицать плотиновские корни того способа, каким Порфирий мыслит Ум и Душу. Очевидно, что для Плотина имеет решающее значение число ипостасей — три, ни больше ни меньше. Но, кажется, он не смог донести важность этого даже до своих ближайших соратников.
Если и можно подвести какой-то итог этому небольшому экскурсу о различиях между Амелием, Порфирием и их наставником, то он, видимо, будет таким — учение об Уме является одновременно и слабым, и перспективным моментом Плотинова неоплатонизма. Кажется, этот вывод подтверждается развитием мысли в последующие несколько столетий. Плотинов абрис сложной реальности, размещенной им между запредельным источником бытия и областью Души, заключающей в себя все режимы и уровни нашей жизни и мышления, несмотря на всю свою интеллектуальную и образную мощь, не был принят никем из его учеников. Он, однако, оказал мощное и разнообразное влияние на мысль каждого из них, и большая часть того, что мы еще изло¬
1 Раздел IV, гл. 18 Б, с. 362—363.
2 VI 4 и 5 [22 и 23].
338
ПЛОТИН
жим в нашей книге, во многом состоит из адаптаций и доработок этого абриса, выполненных мыслителями разных школ, взглядов и религиозных традиций. Не только иерархии поздних неоплатоников, но и, например, тринитарное богословие Мария Викторина и идеи греческого христианства о божественных силах, энергиях и ангелическом мире, при всей их отдаленности от мысли Плотина, несут на себе след влияния этой величественной крестовины его философии.
Раздел IV
Э. Ч. Ллойд
ПОЗДНИЕ
НЕОПЛАТОНИКИ
Порфирий De abst.
In Cat.
Sent.
Прокл De dec. dub. El. theol.
In Alcib.
In Parm.
In Remp.
In Tim.
Plat, theol.
Дамаский
Dub.
Vit. Is.
СОКРАЩЕНИЯ
О воздержании Введение к «Категориям»
Подступы к умопостигаемому (Сентенции)
О десяти сомнениях касательно промысла Первоосновы теологии Комментарий к «Алкивиаду I» Комментарий к «Пармениду» Комментарий к «Государству» Комментарий к «Тимею»
Платоновская теология
О первых началах Жизнь Исидора
Глава 17
ВВЕДЕНИЕ В ПОЗДНИЙ НЕОПЛАТОНИЗМ
Философы, о которых пойдет речь в этом разделе, образуют довольно хорошо различимую группу. В контексте этой книги все они — приверженцы Плотиновой версии платонизма, хотя в некоторых случаях с этим можно было бы поспорить, и, безусловно, не все направления, в которых система Плотина получила развитие, он бы одобрил. Начнем наш обзор с Порфирия, родившегося примерно через год после того, как Плотин начал обучение в Александрии, а завершим его последними александрийскими и греческими учителями, основной интерес которых не был связан с приложением философии к христианской теологии, то есть с середины III века н. э. приблизительно до конца VI века.
Всегда хорошо иметь в пути некоторые указатели, даже если они, как это иногда случается с указателями, нуждаются в некотором уточнении. На протяжении полутора столетий, со смерти Плотина (270 г.) и до середины правления Константина, будут господствовать фигуры Порфирия и сирийца Ямвлиха (ум. 326). Ученики Ямвлиха продолжили преподавать в Сирии, однако следов их вклада в философию почти не осталось. Вероятно, его и не было, и потому мы перемещаемся в Афины, где влияние Ямвлиха также было очень заметным. История афинской школы восходит к Платону, но наши сведения о тамошней философии относятся ко времени, предшествовавшему великой эпохе афинского неоплатонизма, начавшейся ближе к концу IV века с человека по имени Плутарх, но по существу состоявшей из трех фигур: Сириана, Прокла и Дамаския. При этом надо сказать, что их учение достаточно статично и его можно изучать в том виде, какой оно приняло в сочинениях Прокла, из которых до нас дошли по крайней мере четыре основных. Учение прекратило свое существование, когда Юстиниан закрыл школу в 529 г., однако неожиданно вновь возникло, поскольку философия, стоявшая за комментариями
ВВЕДЕНИЕ В ПОЗДНИЙ НЕОПЛАТОНИЗМ
343
Симпликия к Аристотелю, вышедшими в 530 г., была философией Прокла.
Порфирий, Ямвлих, афиняне V века — четвертый этап принадлежит платоновской школе в Александрии. После времен обучения Плотина и до 400 г. она пребывала в безвестности, а ее расцвет совпал с расцветом афинского неоплатонизма, хотя она и впоследствии продолжила свое существование, все больше заслоняемая византийской теологией. Человеком, занимавшим в ней господствующее положение, был Аммоний Гермий, лекции которого о Платоне и Аристотеле буквально пересказывались еще двумя поколениями преподавателей.
Отличительные воззрения философских школ не будут излагаться здесь так аккуратно и упорядоченно, как это делается в учебниках. Подход, который показался нам более уместным (хотя, возможно, это тот же метод, но с меньшей претензией на научность), состоит в том, чтобы на каждом этапе выделять два рода нововведений: то, что, по всей вероятности, представляет философский интерес в некотором общепринятом значении слова «философия», и то, что делает философски более зримыми характерные черты неоплатонизма. Порфирий, как мы увидим, укажет на монистическую тенденцию у Плотина. Ямвлих предстанет, как он уже предстал Прехтеру в статье, ставшей чем-то вроде поворотного пункта в истории изучения неоплатонизма, вторым основателем, Хрисиппом школы,1 однако если Прехтер подчеркивал (и, естественно, преувеличивал) вклад Ямвлиха в развитие метода, то здесь внимание будет уделено построению логической структуры неоплатонической метафизики в ее итоговой греческой форме. Все согласны относительно того, что эту итоговую форму следует искать у Прокла. Александрийцы, кажется, негласно приняли ее, хотя Прехтер так не считал и, как выяснится, полагал, что александрийский платонизм вернулся к более простой системе Средней Академии. Как бы то ни было, их значимость для истории состоит в толковании Аристотеля.
Подавляющую часть сохранившейся неоплатонической литературы составляют комментарии. Помимо Проклова комментария к «Тимею», имеющего непреложное значение для историка, наиболее важны комментарии к Аристотелю, которые можно найти в берлинском издании «Commentaria in Aristotelem graeca».1 2 Однако списки известных трудов наших авторов, которые удобнее всего
1 Praechter К. Richtungen und Schulen im Neuplatonismus. Berlin, 1910.
2 В ссылках на это издание будут указаны страница и строка (CAG).
344
ПОЗДНИЕ НЕОПЛАТОНИКИ
найти у Целлера или (под именами авторов) в «Realencyclopadie», показывают, как много произведений было утрачено. И на вероятный вопрос можно дать только неутешительный ответ: в рассматриваемом нами периоде нет сочинения, которое можно было бы с уверенностью рекомендовать в качестве введения в неоплатонизм.
За время своего существования неоплатонизм сохранил ряд неизменных черт, причем некоторые из них явились отражением внешнего давления не в меньшей степени, чем результатом внутреннего развития учений Платона или Плотина. Постоянным политическим местом действия являлась Римская империя, будь то со столицей в Риме или в Византии. Даже варвары-завоеватели прилагали усилия, чтобы возродить имперские и муниципальные формы правления, и не только не желали уничтожения академической жизни, но даже поощряли ее. Однако неоплатоники не проявляли гражданской сознательности, привычной для более ранних философов от софистов до Аристотеля. Общественные или политические добродетели невысоко стоят на официальной неоплатонической шкале ценностей. Порфирий вторит положительной отрешенности Плотина, ссылаясь в качестве образца на знаменитое описание внемирной природы философов из платоновского «Теэтета».1 И ни ему, ни его последователям, насколько нам известно, по существу нечего было сказать по поводу политических сочинений Платона или Аристотеля; для возрождения политической философии нам придется дождаться арабов.1 2
Правда, возможно рассматривать их метафизику, иерархии слоев, находимых ими в реальности, и промежуточные уровни, которые они вставляют сами, в качестве идеологии имперского порядка соподчиненности (сходным образом монадология Лейбница имела отношение к правителям XVII века и балансу власти). Их система не опиралась на имперскую идею, однако имеются свидетельства того, что своей неизменностью эта система в какой-то мере обязана тому, что она являлась отражением политической структуры, которую сторонники этой системы презирали только теоретически, тогда как убогость стоящей за ней жизни как таковая оставалась вне поля их зрения.
Как бы то ни было, более прямое влияние платоновская философия (как она, конечно, и называлась) оказывала с позиции учеб¬
1 Theaet. 173с—174а; Porph. De abst. I 36. В империи более позднего времени преподаватели нередко состояли на дипломатической службе.
2 Об этом см. раздел VIII, гл. 40 В, с. 755—759.
ВВЕДЕНИЕ В ПОЗДНИЙ НЕОПЛАТОНИЗМ
345
ного заведения. На протяжении почти всего рассматриваемого нами времени в Афинах, Александрии и Константинополе имелись кафедры философии, и две из них заполнялись и оплачивались городскими властями при периодическом вспоможении императора. Похоже, что по крайней мере в Афинах и Константинополе существовало по две кафедры: одна для платоника, другая для аристотелика. Неизвестно, всегда ли это было так; и очевидно, что некоторые темы неоплатонической философии были продиктованы необходимостью создать учебную программу, которая не столько составила бы конкуренцию аристотелевской, сколько заняла бы ее пустующее место. Поскольку было принято считать, что разногласия между Аристотелем и Платоном касались не существа дела, а только способа выражения, платонику представлялось возможным зачитывать лекции самого Аристотеля, сопровождая их подходящим истолкованием. Их систематический характер давал им очевидное преимущество перед диалогами Платона, делая философию «предметом», по которому студенты ведут конспект.
Это Предполагаемое согласие между двумя авторитетами не следует недооценивать. Долгое время оно было общим местом, и Порфирий был одним из череды мыслителей, написавших книгу, чтобы это продемонстрировать. Вообще говоря, считалось, что аристотелевский отказ движению, числам, качествам и так далее в существовании вне материи касается только низшего по отношению к «умопостигаемому» миру уровню реальности. Очень простое деление ветвей философии таково: за метафизикой и «первой философией» нужно идти к Платону, а за оставшимися и подчиненными ветвями — к Аристотелю. Ясно, что это упрощение, поскольку наряду с другими диалогами «Государство» и «Тимей» затрагивают вопросы психологии и этики, а «Тимей» еще и физики. Это было известно в школах, и мы видим, что Ямвлих озабочен классификацией платоновских диалогов и выведением правильного порядка их чтения. Также и книга А вполне естественно рассматривалась в качестве исправляющей ложные впечатления, полученные от других книг «Метафизики» Аристотеля. Наверное, покажется странным, но столь популярную в наше время «Никомахову этику» тогда по большей части игнорировали. Весьма необычно положение физики. Важность «Тимея» проверена временем, при этом он посвящен предмету, относительно которого неоплатоники, пожалуй, больше всего позаимствовали у стоиков, и вновь «Физика» Аристотеля оказалась под рукой и кстати в силу своей систематичности. Поскольку значительная часть аристотелевской системы, по-видимому, принималась без серьез¬
346
ПОЗДНИЕ НЕОПЛАТОНИКИ
ных возражений, то, несмотря на интерес современных ученых к изредка возникавшим дискуссиям, не следует забывать о том, что эти дискуссии были лишь исключениями. Впрочем, с обеих сторон были сделаны уточнения в стремлении уравнять, например, аристотелевскую материю с восприемницей Платона. Здесь, в этом сомнительном, но не ставившемся под вопрос смешении, можно усмотреть отблеск теории симпатий и антипатий, обязанной своим появлением как оккультным или герметическим верованиям, так и стоицизму. В отличие от аристотелизма, неоплатонизм поощряет в самом себе презрение к эмпирическому изучению природы, а потому едва ли можно ожидать от неоплатоников чего-либо действительно интересного в области натурфилософии. И за редким исключением ничего интересного там и нет.
Платоновская философия после Плотина вновь испытала на себе влияние Аристотеля в области психологии и логики хотя бы потому, что их изучали по текстам Аристотеля и на ранних ступенях учебной программы. В сфере формальной логики неоплатоники, хотя и часто достигали ясности в выкладках, не совершили ничего оригинального, да и не стремились к этому. Впрочем, аристотелевская логика никогда не была чисто формальной, и они занялись вопросами классификации понятий и поиском способов, какими одно понятие могло бы выступить предикатом другого, и решением того, какие деления и отношения это предполагало в порядке реальных вещей. Таковы задачи, которые, по мысли автора, неизбежно должны были остро встать перед всяким платоником, который прочел бы «Категории» или «Топику»; и комментаторы из числа неоплатоников еще много в чем могли возразить Аристотелю на его же языке.
Основные характеристики, отличающие неоплатонизм от других школ философии, обнаружили себя (и многие, пожалуй, добавят — в наиболее привлекательном виде) уже у Плотина; дополнения и уточнения, которые сделали его последователи, можно рассмотреть для каждого автора отдельно в хронологическом порядке. Однако, что касается учения об активном и пассивном уме в аристотелевской психологии и его логического учения, они в каком-то смысле не затронули Плотина и в большей степени развивались на материале II века. Первое учение, не являющееся в полной мере неоплатоническим, не может быть изложено здесь. Что же касается логического учения, то будет лучше рассмотреть его в целом, а не отдельно у каждого следующего мыслителя. Оно существенно для философского понимания метафизической системы неоплатоников. Как в случае со Спинозой или епископом
ВВЕДЕНИЕ В ПОЗДНИЙ НЕОПЛАТОНИЗМ
347
Беркли, так и в отношении Платона или Плотина можно питать глубокую симпатию или антипатию к их учениям, однако если не уловить и не признать логически связной или бессвязной схему отношений между используемыми ими понятиями, то мы получим не искомую философию, а свод наставлений. И это обстоятельство следует иметь в виду всякий раз, когда сухость и схоластичность Прокла противопоставляется языковому богатству и глубине Плотина. Логика Аристотеля, изложенная в его «Органоне», задала порядок отношений, определивший структуру его метафизической системы, и эту логику Порфирий и его преемники попытались интерпретировать таким образом, чтобы она определила структуру их собственной системы.
Неоплатонизм не только перерос в имперское образовательное учреждение, но и сделался духовным движением в эпоху развития религий. Это превращение началось задолго до Плотина, и его черты вполне узнаваемы. Теология всегда присутствовала в греческой философии как номинально, так и на деле. Новым оказалось отношение академических философов к религии. Если раньше платоники лишь уважительно относились к культу, ориентируясь на имеющуюся у него моральную ценность, то теперь уже отмечалось, что у религии и философии одна и та же цель. Пользуясь антропологическими понятиями, мы могли бы описать это изменение так: теперь не только миф, но и ритуал приобрел философское значение. И здесь для нас важно воздействие, которое это новое отношение оказало на философию.
Религиозные практики, представлявшие интерес для философов, можно назвать одним словом — «теургия». Они были направлены на то, чтобы в конечном итоге сделать из людей богов, и современная попытка объективным образом отделить теургию от магии не вполне успешна.1 Философам главная задача теургии иногда представляется мистическим слиянием с Единым и всегда — избавлением от пут судьбы. Теургическими практиками, к которым, главным образом под влиянием Ямвлиха, оказались причастны неоплатоники, были так называемые халдейские ритуалы. Само слово «теург», согласно предположению Бидеца, было изобретено специально для именования некоего Юлиана, который
1 Этимологию этого понятия см. в: Lewy Н. Chaldaean Oracles and Theurgy. Cairo, 1956. P. 461—466; ιερατική, «иератическое искусство», является его синонимом. Относительно практик см.: Porph. Ad Anebonem / ed. A. R. Sodano. Naples, 1958; Dodds E. R. Theurgy and its Relation to Neoplatonism 11J. Roman Stud. 1947. XXXVII. P. 55—69; перепечатано в качестве приложения к его работе «The Greeks and the Irrational» (P. 283—311).
348
ПОЗДНИЕ НЕОПЛАТОНИКИ
во время правления Марка Аврелия написал внушительное число гекзаметров, претендовавших на то, чтобы быть вдохновленным богом изложением халдейской картины мира (боги, архангелы, ангелы, демоны и многие другие силы, а также их проявления в видимом мире), и ставших известными под названием «халдейских оракулов». Если так, то предполагалось, что это имя «подходило тому, кто лучше „теолога44, и напоминало людям, что теург не ограничивается разговорами о богах, но и знает, как поступать».1
Атмосферу, в которой развивались неоплатоники IV столетия и формированию которой они способствовали, характеризует яркая карьера Сосипатры, ставшей женой философа и оратора, знаменитого в кругах, симпатизирующих неоплатонизму и причастных к отступничеству императора Юлиана. История о ней рассказывается в сочинении Евнапия «Жизни философов и софистов». Когда Сосипатре было пять лет, ее родители доверили ее двум старцам, пришедшим работать в имение недалеко от Эфеса и поразившим его владельца размером собранного ими урожая винограда. Когда впоследствии они привели девочку обратно, она обладала ясновидением, свойственным тем, кто находился в общении с богами. Старцы признались, что были посвященными в так называемую халдейскую премудрость, а затем ушли, оставив ей одежды, в которых она приняла посвящение, а также книги, которые она должна была хранить запечатанными в своем сундуке. На самом деле они были демонами (или по крайней мере героями) в изгнании, поскольку сказали ей, что направляются к Западному океану и еще вернутся. Прямо перед тем, как выйти замуж за Евстафия, она сообщила ему прилюдно, что он умрет раньше нее и обретет покой в достойном месте, но в худшем, чем она: «Твоей орбитой будет орбита Луны, и ты пробудешь философом еще только пять лет — но твое путешествие через подлунный мир, — так говорит мне твой призрак, — будет спокойным и благополучным. Я намеревалась поведать тебе мою судьбу...» Здесь она прервалась и воскликнула: «Но мой бог не позволяет мне!»
После утраты мужа (пять лет спустя) она удалилась в Пергам, где ее искусство философии и толкования сделало ее дом не менее популярным среди студентов, чем лекторий Эдесия, наиболее уважаемого из учеников Ямвлиха. Одна из ее лекций, как гласит легенда, была посвящена падению души и вопросу о том, какая часть ее подвергнется наказанию, а какая бессмертна. К несчастью, ее
1 BidezJ. La vie de PEmpereur Julien. Paris, 1930. P. 369, n. 8.
ВВЕДЕНИЕ В ПОЗДНИЙ НЕОПЛАТОНИЗМ
349
родственник по имени Филометор пленился не только ее красноречием, но и ею самой — и Сосипатра с отвращением обнаружила, что также влюблена в него. Послали за другим учеником Эдесия и сказали ему, что если он богобоязненный человек, то должен что- нибудь сделать по этому поводу. Посредством теургической науки магия, которой Филометор околдовал женщину, была побеждена, и Сосипатра исцелилась. Имя ученика Эдесия было Максим, и у него император Юлиан учился теургии. А чтобы обосновать это отступление, добавим, пожалуй, что он также написал комментарий к «Категориям» Аристотеля.1
По меньшей мере вплоть до VI века выдающиеся философы твердо верили в многообразные религиозные и магические практики халдеев. При этом, правда, существовали разногласия в вопросе о том, как они соотносятся с диалектическим восхождением разума, которое платоновская традиция считала безусловным путем к спасению и обожению (apotheosis), а также по поводу сравнительной ценности обоих путей. Порфирий и Плотин, как отмечает позднейший автор, ставили на первое место философию, Ямвлих, Сириан и Прокл — теургию.1 2 Вполне возможно, что кто-нибудь из александрийцев и вовсе не верил в теургию. Именно благодаря этим разногласиям, а также сопровождавшей их рационализации эта проблема и вторглась в историю философии. Историку нет смысла называть эти верования и ритуалы предрассудками. В таком контексте предрассудок обычно означает религию другого народа. Юлиан Теург приписывал себе сверхъестественные способности, с чем охотно соглашались и его современники, однако нам неизвестно, в каких обстоятельствах он прибегал к прорицанию. По всей вероятности, и это далеко не современное открытие, он, как было хорошо известно одному из его восторженных почитателей — Проклу, оглашал оракулы, автором которых, возможно, сам и был.3 Их содержание и в целом халдейскую теологию лучше оставить до рассмотрения нами Ямвлиха. Что касается интерпретации и установления значений священных писаний, то все толкователи — египтяне, христиане и неоплатоники — друг друга стоят. Это была, конечно, старая практика, применение которой вывели за пределы теологии стоики и пифагорейцы. Порфирий действительно мог упрекнуть неблаго¬
1 Simpl. In Cat. 1,13—15 Kalbfleisch (CAG VIII).
2 Olymp. In Phaedo 123, 3—5 Norvin.
3 Cm.: Westerink L. G. Proclus, Procopius, Psellus // Mnemosyne. 1942. X. P. 276—:278.
350
ПОЗДНИЕ НЕОПЛАТОНИКИ
дарного Оригена, христианина в жизни, но совершенного грека в теологии (так он говорит), за то, что тот научился у стоиков образно истолковывать иудейские священные книги.1 Философы в разной степени относились к теургии как к символу или иным образом рационализировали ее. Несомненно, были две религиозные практики, которые официальное христианство отстояло при помощи общих положений неоплатонического учения, — молитва (оправданная псевдо-Дионисием) и иконопочитание (обоснованное в споре с иконоборцами Иоанном Дамаскиным).1 2
Хорошо известно, что враждебность неоплатоников по отношению к христианству была отчасти политической. Их установка на восстановление традиционных культов после обращения Константина — при этом не всегда эллинских — была очевидно связана с убеждением, вполне обычным для образованного языч- ника-грека, что различные пантеоны и различные священные тексты были не более чем многообразными способами назвать управителей космоса и описать отношение к ним человека. Однако ничто не мешало им, в отличие от христиан, полагать, что надлежащим образом истолкованная религиозная догма и философское рассуждение совпадают. Сириан и его последователи в Афинах не столько делали из абстракций богов, сколько превращали традиционных богов в абстракции. И в теории они не смешивали два источника истины. Мы еще увидим, как, читая Порфирия, подчеркивает различия между ними Ямвлих. Как бы там ни было, поскольку Платон воздавал должное традиции и при этом сочинял собственные мифы, не только философы, но и риторы привычным образом отличали и подразделяли доказательства на «мифологические» и «диалектические».
Многие из рассмотренных нами черт можно было бы объединить одним свойством, нередко относимым к философии поздней Римской и Византийской империй, а именно схоластичностью. И неслучайно, поскольку философия этого периода имеет больше исторической связи с философией Средневековья, нежели классической Греции. Как и полагается схоластам, у неоплатоников есть свои авторитеты. С одной стороны, это Платон и Аристотель,3 с другой — авторы священных текстов, преимущественно хал¬
1 Eus. НЕ VI 19. 7—8.
2 См. раздел VI, гл. 30, с. 541—558 («Псевдо-Дионисий») и гл. 33, с. 596—608 («Философия икон»).
3 Об отношении Плотина к Платону и Аристотелю см. предшествующий раздел («Плотин»), гл. 12 и 13, с. 270—271 и 278—280.
ВВЕДЕНИЕ В ПОЗДНИЙ НЕОПЛАТОНИЗМ
351
дейских оракулов и орфических гимнов; и на тех, и на других часто ссылаются как на «богов», «теологов» и «теургов». Кстати, Плотина его последователи, несмотря на то что без него ни один из них не смог бы писать так, как писал, поразительным образом почти не упоминают. Можно сказать, что неоплатоники часто пишут в интересах теологии, хотя теоретически нет ни одного вопроса этой теологической философии, который они не намеревались бы доказать, исходя из философских оснований. Именно этими основаниями, а не мотивами, мы и будем заниматься.
В силу того что неоплатоники опираются на авторитеты, их метод также схоластичен. Естественный, хотя и не единственный путь, каким разворачивается их философия, есть путь комментирования текстов. Это само собой приводит к буквоедству, жар- гонизации, повторам и ограничению способности воображения. Однако это по большей части компенсируется столь же школьной привычкой предполагать, что сделанные выводы будут, по возможности, дедуктивно доказаны и уж во всяком случае выражены таким образом, что ход мысли будет ясен или намеренно прояснен.
И последнее. Подобно любой аристотелевской системе, их учение строится на технических понятиях, большинство из которых нам известны от Плотина. Точность технических понятий требует, чтобы они были хотя бы частично выразимы с помощью обыденного языка. Однако, в отличие от Платона, поздние неоплатоники почти не заботятся о такого рода пояснениях. О том, в какой мере эти пояснения возможны, будет законно спросить, когда мы рассмотрим, что они хотят сказать. Безусловно, современный читатель чувствует себя как будто брошенным в бурный поток. И неоплатоники знали об этой опасности. Они сказали бы, что, согласно их плану обучения, новичок «выучивался плавать», читая Аристотеля, — кроме этики, о программе изучения которой нам ничего не известно. И в самом деле, «Изагог» Порфирия и его фундаментальные комментарии к «Категориям» являются превосходным введением в основные положения логики Аристотеля. Но почему, когда мы переходим к комментариям к «О душе» и «Метафизике» (не говоря о платоновских диалогах, которые читаются позднее), впервые знакомящих нас со специфически неоплатонической философией, мы обнаруживаем, что специфически неоплатонические положения повсеместно принимаются без доказательств? Разрешение этого парадокса в том, что неоплатоники не считали свои ипостаси, исхождения и живые мысли такими чуждыми Аристотелю и потому неясными, какими они представляются нам. Говоря конкретнее, можно было бы предположить, что они
352
ПОЗДНИЕ НЕОПЛАТОНИКИ
приняли за основание созвучное неоплатонизму истолкование аристотелевского учения об уме. Оно, несомненно, предшествовало Плотину и, вполне вероятно, принадлежало наиболее уважаемому комментатору из перипатетиков, Александру Афродисийскому, что по большей части могло бы объяснить самоуспокоенность неоплатоников. Об этом можно было судить по небольшому трактату «Об уме», вышедшему под именем Александра.
Всегда существует такое внутреннее развитие философских идей, которое лишь очень косвенно зависит от внешних условий и которым главным образом и занимается история философии. Неоплатонизм после смерти Плотина обнаруживает некоторые устойчивые черты. Наиболее примечательной является тенденция умножать звенья в цепи бытия помещением новых ипостасей между плотиновскими тремя, а также подразделением существующих ипостасей на новые тройки. И это оправдывается всегда тем же самым способом, который известен с тех пор, как Платон использовал «промежуточные сущности»: реальность непрерывна, «природа не терпит пустоты». Эти философы, как многократно отмечалось, прилагали все усилия, чтобы удерживать Бога и человека как можно дальше друг от друга, однако они часто настаивали на противоположном, и в этом заключается парадокс, поскольку удвоить количество ступеней лестницы, с одной точки зрения, означает отдалить верхнюю ступень от нижней, а с другой — облегчить подъем. Сходным образом причина того, что между богами и бестелесными душами возникают демоны и герои, заключается не только в том, чтобы обеспечить гармонию универсума, но и в том, чтобы сделать возможной теургию и соприкосновение между богами и людьми.1 Основания для различений, представляющие значительный философский интерес, будут рассмотрены в свое время. И хотя их можно нередко вывести из текстов Платона, считалось, что Прокл, поместив между Единым и Умом Вечность, сказал, что «вещи действительно так отстоят друг от друга» и были по ошибке «перемешаны» Плотином.1 2 С другой стороны, удвоение каждой сущности на разделенное и неделимое — учение, получившее всеобщее признание начиная с Ямвлиха, — не только требуется неоплатонической логикой, но и может быть косвенным образом усмотрено в «Эннеадах».
1 Iambi. De myst. I 5 и 8. Император Юлиан пишет, что «срединное» (μεσάτης) определяется «не как равноудаленное от крайних терминов... а как связующее отдельные вещи — то, что Эмпедокл называл Гармонией» (Or. IV 138d).
2 In Tim. Ill 12, 8—11 Diehl.
Глава 18
ПОРФИРИЙ и ямвлих
А. Философская карьера Порфирия
Большинство вкратце изложенных нами характерных черт неоплатонизма явно присутствует в творчестве Порфирия, поэтому, чтобы избежать повторений, уделим ему более пристальное внимание, чем, как могло бы показаться в иных обстоятельствах, он заслуживает. Порфирий родился около 232 г., в том же году Плотин начал изучать философию в Александрии. Его родители были преуспевающими сирийцами, а свое детство, насколько нам известно, он провел в оживленном финикийском городе Тире. И хотя он не путешествовал, город предоставлял ему возможности весьма обстоятельно ознакомиться с мистическими культами и магическими практиками Ближнего Востока, о чем свидетельствуют его сочинения.1 Скорее всего, ко времени его переезда на Запад он владел несколькими языками, много и непрерывно читал, и то, что Симпликий назвал его самым образованным из философов, не было дежурным комплиментом. Три последующих этапа его жизненного пути оставили след и на его философии: посещение лекций Лонгина, дружба с Плотином и пребывание в Сицилии вдали от Плотина.
Подобно прочим молодым и состоятельным иностранцам, хотя и будучи несколько старше большинства из них, Порфирий продолжил обучение в Афинах. Здесь преобладало влияние Лонгина (ум. 272). Старомодный вкус знаменитого мудреца, несомненно, сыграл свою роль в формировании ясности Порфириева стиля, которому в скором времени была противопоставлена «непрямота
1 Обширный список его сочинений см. в работах: Bidez J. Vie de Porphyre. Ghent; Leipzig, 1913; Beutler R. Porphyrios // RE. 1953. XXII/1. Col. 278—301.
354
ПОЗДНИЕ НЕОПЛАТОНИКИ
и загадочность» речей Плотина.1 И все же эта «живая библиотека и ходячий музей», как назвал Лонгина Евнапий, также читал лекции по философии,1 2 и у нас есть свидетельства в пользу их дружбы с Порфирием.3 Вполне очевидно, что Порфирий разделял его версию платонизма до тех пор, пока его не разубедил Плотин. Лонгин вынес ее из общения с Аммонием Саккасом и язычником Оригеном в Александрии. Он хотел превратить идеи в мысли, которые, хотя и неотделимы от ума (или, как еще говорят, от актов мышления), все же совершенно отличны от них. Это немедленно привело его к разногласиям с Плотином, для которого акты мышления тождественны его объектам. В действительности эта позиция являлась промежуточной между позицией Плотина и крайним реализмом диалогов Платона, согласно которому идеи не зависят от мышления или ума Бога. Лонгин пытался обосновать ее, указывая на аналогичный статус высказываний и понятий — нематериальных значений (или означаемого), выражений и пропозиций — в стоической теории.4 Оба случая характерны для среднего платонизма, представленного, например, Альбином. Было бы неудивительно, если бы он также отказался принять явно неоплатоническое учение о Едином, которое выше Ума, как его не принимал Ориген.5
Прибыв в Рим в 263 г., Порфирий вступил в спор с одним из соучеников и с самим Плотином относительно независимости объектов ума, но уступил.6 В течение своего шестилетнего пребывания в Риме он многое извлек из частных и порой довольно продолжительных бесед с Плотином. Затем с ним случился приступ настолько сильной депрессии, что он даже подумывал о самоубийстве. Плотин благоразумно посоветовал ему отправиться в путешествие, и Порфирий на несколько лет обосновался в Сицилии. Он находился там и в 270 г., когда Плотин умер, и вернулся обратно, дабы, вероятно, возглавить школу в Риме, только несколько лет спустя. Будучи уже пожилым человеком, он женился на вдове по имени Марцелла. (Путешествие за границу означало временную разлуку с ней и стало причиной адресованного ей довольно стилизованного и ненамеренно неоплатонического consolatio
1 Eunapius. Vit. soph. 456 ad fin.
2 Ibid.
3 Cm.: Vita Plotini 19 и 20.
4 Syrianus. In Met. 105, 25—26 Kroll (CAG VI 1).
5 Fr. 7 Weber (Proclus. Plat, theol. 90, 1—14 Portus).
6 Vita Plotini 18; cp.: Enn. V 5 [30] («О том, что умопостигаемые сущие не вне Ума, и о Благе»).
ПОРФИРИЙ и ямвлих
355
(утешения).1) К этим же поздним годам относится редактирование сочинений Плотина и написание его биографии.1 2 Ничего больше об этом этапе жизни Порфирия нам не известно. Его смерть следует отнести к периоду между 301 и 306 гг.
Сицилийский период, когда Порфирий разрабатывал собственную философию, более интересен для нас. В это время он трудился над уже упоминавшимися (но подлежащими и отдельному рассмотрению) проблемами аристотелевской логики и написал по крайней мере одну книгу, посвященную сравнению платонизма и аристотелизма.3 Сочинением, принесшим ему славу и вызвавшим ненависть за пределами школы, была пространная полемическая работа «Против христиан», также написанная в Сицилии,4 но, похоже, бывшая не слишком философичной. Он совершенно по-разному относился к языческой религии и к теургии. Однако распространенное предположение, будто в этой работе можно обнаружить положительное движение от суеверного принятия (до встречи с Плотином) к философской рационализации, грешит пренебрежением к хронологии и, несомненно, недооценивает степень, в какой Порфирий оставался верен долгу философа.5 Он отрицал, что выполнение теургических обрядов может привести к окончательному спасению,6 но сумел доказать, что теософия является аллегорическим выражением философской истины. Один эпикуреец обвинил Платона в том, что тот отказался от истины наблюдения в пользу лжи под видом поэтического мифа. На это Порфирий ответил цитатой «природа любит скрываться», заявив тем самым, что миф есть некоторым образом естественная вещь. В самом деле, добавлял он, миф свойствен всем человеческим существам, поскольку они по необходимости мыслят образами.7 И все-таки чем больше читаешь Порфирия и сравниваешь его с его последователями, тем сильнее впечатление, что этот человек
1 Porph. Ad Marcellam / ed. A. Nauck // Porphyrii philosophi platonici opuscula selecta. Leipzig, 1886.
2 Об этом см. предшествующий раздел, гл. 12 и 13, с. 259—260 и 282—284.
3 Elias. In Isag. 39, 4—19 Busse (CAG XVIII 1). Ничего из этой работы не сохранилось.
*Eus. НЕ VI 19. 2.
3 Ср.: Iambi. De myst. II 11 in., Ill 19 fin., Ill 21 in., IX 8 (p. 96, 7—10; 147, 11—15; 150, 2—5; 282, 6 ff. Parthey); Porph. Ad Gaur. VI 1 \Eus. PE IV 17. 2 (I p. 77 Mras); из введения к «Философии, почерпнутой из Оракулов» (р. 109—110 Wolff) следует, что сохранившаяся часть этого сочинения вводит в заблуждение.
6 Aug. De civ. X 29 и 27.
7 Proclus. In Remp. II 105, 23—25; 107, 5—7 и 14—23.
356
ПОЗДНИЕ НЕОПЛАТОНИКИ
скорее питал интерес к религии, чем был религиозным. И это, пожалуй, во многом объясняет раздражение, которое он вызывал у Ямвлиха.
Платон заставил Тимея начать свою космогонию с воззвания к богам, предоставив каждому из комментаторов удобный повод внести свою лепту в тему молитвы. Порфирий в присущей ему логической и школьной манере разделил людей на классы по принципу принятия и непринятия молитвы, что, в свою очередь, дало начало принципу разделения веры в богов на виды. Он отмечал, что добродетельный человек должен молиться богам, поскольку его молитва является соединением подобного с подобным, и далее указывал на то, что мудрейшие люди всех наций (брахманы, маги) молились.1 Ямвлих счел это общим местом, и небезосновательно. Он жаловался, что комментарий Порфирия не попадает в цель: Платона в этом отрывке заботили не атеисты и «не те, кто держался противоположных воззрений на дела благочестия, а те, кто могли быть спасенными спасителями всех вещей»; он говорил далее о силе и об «опережающей надежде» молитвы и только затем перешел к объяснению ее, так сказать, метафизического механизма.1 2 Различие между ними говорит само за себя.
Помимо изложения аристотелевской логики, сохранилось только одно сочинение Порфирия, написанное им в академическом стиле для ученой или студенческой аудитории, — «Подступы к умопостигаемому, или Сентенции», которое, впрочем, тоже дошло до нас не полностью и даже неизвестно, в каком объеме.3 По большей части это сочинение представляет собой изложение «Эннеад», разбитое на параграфы, или «сентенции», порядок которых местами можно поставить под сомнение. По сути дела, это учебник плотиновского неоплатонизма, хотя мнение, согласно которому «Сентенции» являются доступным введением в «Эннеады», едва ли выдержало бы проверку опытом. Сам текст Порфирия позволяет сделать вывод о том, что он рассматривал собственную философию как не слишком отличную от философии Плотина. То, что нам известно о его утраченных сочинениях из поздних авторов, подтверждает подобный вывод. В этих обрывочных сведениях и «Сентенциях» можно усмотреть двоякий вклад Порфирия в учение о трех ипостасях. Во-первых, он упро¬
1 Proclus. In Tim. I 207, 23 — 209, 1 Diehl.
2 Ibid. I 209, 1 ff.
3 Αφορμαι προς τά νοητά (ed. В. Mommert. Leipzig, 1907).
ПОРФИРИЙ и ямвлих
357
чил его, причем вопреки консервативному платонизму Средней Академии, которому он обучался у Лонгина. Во-вторых, речь шла не о простом повторении или, быть может, даже не о расстановке акцентов, но об интерпретации: Порфирий избрал и развил один из вариантов этого учения, хотя были возможны и другие, и то обстоятельство, что этот вариант принято считать тем, который имел в виду Плотин, не должно позволить нам забыть о том, что он был не единственным.
Первоочередная задача состояла в том, чтобы доказать два решающих для неоплатонизма положения — независимость и первичность Единого и тождество Интеллекта (Ума, νους) его объектам. На самом деле Порфирий сделал более слабую версию последнего — нераздельность ума и его объектов — частью аргумента в пользу первичности Единого, или единства. Логически единство предшествует множеству, и Ум оформляет множество, поскольку у него много мыслей и они внутри него. То, что ум созерцает сам себя, становится очевидным из противопоставления его способностям ощущения и воображения (включая и память), бытие (или сущность) которых находится «в чем-то ином» и поэтому, «обращаясь на себя» в надежде себя познать, себя уничтожает. Мы сможем разобраться, в чем состоит довод Порфирия, если рассмотрим его в качестве утверждения, что эти способности не являются ни жизнеспособными, ни постижимыми без сопутствующих им телесных проявлений. И все же его противопоставление им ума есть petitio.* На самом деле, пожалуй, невозможно представить себе мысли, которые в уме, но не тождественны ему, поскольку тогда мы имели бы дело с чем-то иным, чем «нераздельность», обнаруживаемая у Оригена и, возможно, также у Лонгина. И отсюда не следовало бы, что ум сам по себе обладает той множественностью, которой обладают его мысли, подобно тому как протяженность сама по себе не обладает цветом. И скорее всего, сам Порфирий считал, что провести это различие невозможно, так как далее утверждал, что, поскольку объектом мышления ума является он сам, то он есть как мыслящее, так и мыслимое и, таким образом, объект мышления и мышление тождественны; последнее не может быть одной из частей ума, то есть мыслью, которая мыслит другую часть ума, ведь в мысли не может быть ничего немыслящего. Этот последний образец платонизма (из серии «красота красива») восходит к «Пармениду» (132с); однако аргументация в целом основывается на 9 главе книги Λ
* «Предвосхищение основания» — логическая ошибка. — Примеч. перев.
358
ПОЗДНИЕ НЕОПЛАТОНИКИ
«Метафизики», в которой Аристотель утверждает, что если ум есть деятельность мышления, а не способность к ней, то он должен мыслить собственное мышление. Такое характерное сочетание Платона и Аристотеля можно обнаружить уже в «Эннеадах», разве что в более лаконичном виде или в форме намека.1 И хотя в доступных нам текстах Порфирия его истолкование не вполне успешно, он все же сознательно предпринял попытку осуществить полное доказательство этих двух положений, которые отличали его прежний платонизм от платонизма Плотина.1 2
Б. Монистическая тенденция у Порфирия
Порфирий много размышлял о взаимоотношениях трех ипостасей, и именно здесь мы обнаруживаем второе его достижение — своеобразную версию этого учения. Плотин был категоричен в отношении того, что выше материи (реальность которой иллюзорна) — три ипостаси, не больше и не меньше. И эта категоричность мало чего стоила бы, если бы ипостаси не были ступенями существования, которые существуют сами по себе, не будучи при этом, за исключением высшей, независимыми; они не должны быть лишь явлениями Единого. И все же обратное тоже представляется допустимым, так как Порфирий иной раз, кажется, мало заботится о том, говорит ли он об Уме или о Душе. Подобное сворачивание ипостасей является отличительной чертой Порфирия. Безусловно, в целом учение об эманации можно рассматривать как попытку объединить обе точки зрения, и все же Порфирий делал особое ударение на монистической тенденции, поскольку был готов заплатить за это, определенным образом допустив существование индивидуальной личности, чего Плотин, вероятно предпочитавший сохранить связность учения, не был готов сделать.
Ямвлих упоминает, что и Плотин, и Амелий, и Порфирий лишь с оговорками или неявно различали Ум и Душу.3 Они соглашались друг с другом в том, что душа «в себе», или по своей сути, не имеет частей.4 Однако Порфирий пошел гораздо дальше Плотина,
1 V 9 [5]; ср. V 1 [10] 4, 15—16; 3 [49] 13, 14—16; II 9 [33] 1.
2 Porph. Sent. XLI, XLIII, XLIV Mommert.
3 Ap. Stob. I 365, 14—19 Wachsmuth.
4 Porph. ap. Stob. Loc. cit. S. 354. О Душе у Плотина см. раздел III, гл. 14, с. 290—293 (высшее и низшее «я») и гл. 16 А, с. 318—319 (Ум и Душа), а также с. 323—324 (Вселенская Душа и индивидуальные души).
ПОРФИРИЙ и ямвлих
359
как и Платона, в том, что не допускал никакого действительного различия между первым и второй, утверждая, что душа не может испытывать никакого влияния.1 Вполне последовательно он признавал только рациональную душу, которой одинаково наделены как люди, так и животные.1 2 «Везде и нигде» — такова формула, которую он постоянно применял к каждой из ипостасей,3 и, конечно, мы обнаруживаем, что у Плотина она выражает монистическую тенденцию его системы. В равной степени предположение о том, что ум и есть истинное «я», было общим местом на протяжении столетий. (Сочетание этих двух учений и позволило Порфирию весьма бойко заявить, что в то время, как он находится в отъезде, его «умопостигаемое ,,я“» остается с женой.4) И все-таки странно, хотя и логично, делать отсюда следующий шаг к тому, чтобы считать воплощение души иллюзией мышления.
Похоже, что в «Сентенциях» Порфирий вслед за Плотином предпочитал переводить тему рассеяния единой вселенской души во множестве отдельных (воплощенных) душ в тему нашего личного «возвращения» к Всеобщему путем отбрасывания в мысли всех возможных логических частностей. Он и правда обильно цитирует напыщенную заключительную часть VI «Эннеады» («О том, что Единое, тождественное, сущее везде, во всем, во всей целости присутствует»). Однако либо потому, что он пользовался версией книги, которая нам сейчас недоступна, либо намеренно внося изменения, Порфирий включил в текст фразу огромного философского значения: «Если ты возьмешь никогда не иссякающую (άέναον) в себе сущность в аспекте ее бесконечной силы, то, приписав ей бытие где-то и в отношении чего-то и тем самым умалив ее вследствие присущей бытию где-то и в отношении чего-то ущербности, ты [в действительности] ничуть не умалишь ее, но только отвратишь от нее самого себя застлавшим ум вымышленным представлением».5 На самом деле речь здесь идет
1 Nem. De nat. hom. 140, 4 Matthaei (Migne, PG 40. 604a). Противопоставьте этому Enn. I 8 [51] 4,4; III 1 [3] 10, 6; IV 4 [28] 17, 10; а затем Phaedo 65a; Phaedr. 256b.
2 De nat. hom. 117, 4 (584a Migne). Порфирий называет это пифагорейским учением (De abst. Ill 1).
2 Sent. 43 (31); cp. 136, 3 ff. (597b ff. Migne).
4 Porph. Ad Marcellam 280, 22 Nauck.
5 Sent. 40. (В переводе T. Г. Сидаша данный фрагмент звучит так: «Когда ты постигаешь неиссякаемую и беспредельно сильную сущность в ней самой... не следует приписывать ей какое-то особое положение или отношение, ибо умалением ее до положения или отношения ты умаляешь [не ту Чистую Жизнь, но
360
ПОЗДНИЕ НЕОПЛАТОНИКИ
непосредственно о «Бытии», и сам контекст этого фрагмента можно еще обсуждать, однако его применимость к воплощенной душе, которая первой приходит в соприкосновение с «местом»,* не вызывает сомнений. Толкование Порфирия основывается на учении Аристотеля о том, что сущность предшествует отношению, являющемуся «акцидентальной» категорией; ни одно высказывание о том, что такое вещь (если мы берем ее как сущность), не может содержать ссылки на относительное свойство. Для платоника вещь сама по себе означает то, что она есть «в действительности», в самом простом смысле этого слова, в отличие от того, что она есть «по видимости». Далее, «видимость» в этом значении относится главным образом к чувственно воспринимаемому миру, и большинство платоников, следуя «Тимею», восприняли бы применение этого понятия к мышлению только как грамматическую метафору, поскольку исходили бы из того, что чувственное восприятие, или, более конкретно, ментальные образы, возникающие в результате чувственного восприятия, являются причиной умственных колебаний и ошибок, которые из этого следуют. Таким образом, изображать душу в ее отношении к телу (как это, например, повсюду в «О душе» делает Аристотель, за исключением тех случаев, когда он указывает на «отделенный ум») означает описывать, так сказать, нечто меньшее, чем душа, как она есть на самом деле, — которая должна быть свободна от любых отношений. Такова душа только в явлении; однако нет двух душ, действительной и видимой (но недействительной), о которых мы мыслим, а существует лишь два способа мыслить о душе: истинно либо неадекватно и спутанно.
Такое понимание лежит в основании излюбленного Порфи- рием почти технического термина для обозначения воплощенной души: он называет ее «соотнесенной душой» или «душой во взаимоотношении».1 В то же самое время он хочет описать отношение отдельных душ к всеобщей, или универсальной, душе, подобно тому как это делает Плотин, а именно не как отношение явлений к тому, что через них является, а как отношение частей к целому.* 1 2 Быть может, это и непоследовательность, но все же
себя], ты отвращаешься от нее, избрав своим прибежищем застящее разум воображение». — Примеч. перев.) «Умаление» — термин Плотина (VI 7 [38] 33 и 41).
1 κατά σχέσιν (см.: Nem. De nat. horn. 136, 9 (600b Migne) ap. Stob. I 354, 13). Cp.: Proclus. In Tim. II 105, 22—25, по всей видимости, цитирующий Ямвлиха.
2 Sent. 39 (37); ср.: «О способностях души» (ар. Stob. 1354, 11—18); Proclus. In Tim. 177, 16 и 22.
* С «где-то», в переводе С. В. Месяц. — Примеч. перев.
ПОРФИРИЙ и ямвлих
361
вероятнее, что он демонстрирует здесь какой-то иной аспект, не совсем «окончательный»: неоплатонизм, как и философия Спинозы, вынужден быть философией quatenus.* И Порфирий, и Ямвлих — оба придерживаются теософского учения об элементарных «двигателях» в вопросе о низшей деятельности души. В рамках этого учения они расходятся в вопросе о посмертном сохранении «неразумной души», однако подробности их разногласий почти не имеют философского значения.1
На самом деле воззрение Порфирия на Душу, которую, как представлялось его последователям, он путал с Умом, вытекало из общепринятого положения: первый член любой упорядоченной последовательности является действительным представителем данной последовательности. И это относится не только к индивидуальному уму, которым в действительности является содержащая его часть души, но в равной мере к уму и душе в общем, абсолютном смысле и даже к общему и индивидуальному умам. Последняя пара образует последовательность, поскольку всякое общее понимается как такое целое, которое содержит части, но и предшествует им. Порфирия обвиняли в том, что он вывел монистическое следствие и пренебрег самостоятельными свойствами последующих членов соответствующих рядов. Другие неоплатоники старались поддерживать равновесие между производящим и произведением, Порфирий же не мог забыть о том, что отношение между ними несимметрично. Отсюда мы могли бы предположить, что другие восстановят независимость души, при этом сознательно либо бессознательно согласившись с большинством доводов Порфирия. И Ямвлих, как мы обнаружим, будет тем, кто это сделает.
Позицию последнего можно изложить здесь довольно кратко: во многих отношениях она представляет собой возвращение к Платону. Если Порфирий прав, сетует он весьма проницательно, то «душа безупречна».1 2 Также бессмысленно предполагать, что существует только один вид души: души должны быть разных видов в соответствии с различными видами живых существ.3 В целом душа у Ямвлиха занимала промежуточное положение между нематериальным и материальным. Как рассудительный толкователь
1 Sent. 23 (29); In Tim. Ill 234, 8—235, 9; cp.: Simpl. In Cat. 374, 24 ff. И все же от этого вопроса зависит оценка теургии.
2 In Tim. Ill 334.
3 De an. ap. Stob. I 372, 15—20; De nat. horn. 117, 5—6 Matthaei (584a Migne); cp.: Julian. Or. VI 182d.
* Постольку-поскольку {лат.). — Примем, перев.
362
ПОЗДНИЕ НЕОПЛАТОНИКИ
Платона, Порфирий утверждал то же самое, хотя, как справедливо подозревал Ямвлих, и не о чистой душе.1 Ямвлих хотел, чтобы душа была истинным третьим, тем, что «в своем нисхождении целиком переходит в природу, при этом не смешиваясь с ней».1 2 Тем не менее он утверждал, что основная деятельность души состоит в том, чтобы быть «средством божественного сообщения», и в «тех мыслях, которые свободны от материи и приводят нас в соприкосновение с богами».3 Ямвлих подробно изложил свои воззрения в комментарии к «О душе», и рисковый шаг Порфирия так никогда и не был явным образом повторен.
В дошедших до нас фрагментах «Сентенций» отсутствует соответствующее рассмотрение Ума просто как явления Единого. Чтобы обнаружить, как эти ипостаси укладываются одна в другую, мы должны были бы обратиться к анонимному фрагменту, или, скорее, фрагментам, которые толкуют две первых ипостаси аналогично тому, как они предстают в «Пармениде».4 Единое, которое есть (или Ум), более не есть Единое, но, согласно своей «идее» (на что указывает его имя), все-таки есть Единое; в то же самое время «идея», которой оно причастно, необходимо есть идея бытия, которое, насколько нам известно, не имеет ни формы, ни имени, ни сущности (бытия), поскольку ни с чем не соотносится, так что оно само оказывается первой ипостасью, познаваемой только через отрицание.5 Фрагмент в целом представляет собой очень простую схему, не имеющую каких-либо более сложных дополнительных делений или промежуточных ипостасей, с которыми мы встретимся после Ямвлиха.6 Интересно обнаружить такой чистый случай промежуточного понятия, как «так сказать, идея бытия» (автор колеблется в отношении «идеи»), осуществляющего соединение противоположностей — дак, например, когда мы видим, что А = В и В = С. Однако у нас нет параллели именно для этого промежу¬
1 Ср.: In Tim. II 105.
2 Simpl. In De an. 6, 12—16, и еще часто. Ряд схожих высказываний и все выдержки Стобея из «О душе» переведены в работе: Festugiere A.-J. La revelation d’Hermes Trism0giste. III. Paris, 1953. App. I.
3 De an. ap. Stob. I 371, 17—22.
4 Текст и примечания см. в Kroll W Ein neuplatonischer Parmenides-kommentar in einem Turiner Palimpsest 11 Rhein. Mus. 1892. XLVII. S. 599—627; Hadot P Porphyre et Victorinus. II. Paris, 1968.
5 См., в частности, книги XII—XIV Кролля. Христианскую адаптацию этого у Мария Викторина см. в следующем разделе (V), гл. 20, с. 407—411.
6 Фрагмент подразделяет существующее Единое на существование, жизнь и ум (книга XIV), однако это деление плотиновское (например, VI 7 [38] 36, 12).
ПОРФИРИЙ и ямвлих
363
точного звена.1 Порфирий также пошел против Плотина, поместив нечто между Умом и Единым и указав на то же самое основание для такого шага: и все же то была вечность, а не бытие.1 2 Как бы то ни было, в том же духе, что и в «Сентенциях», в этом фрагменте утверждается, что то, что мы приписываем Единому, принадлежит не ему, а нашему мышлению.3 Подобно Порфирию, его автор, вероятно бессознательно, предпочел монистическую версию Плотина, сделав акцент на том способе, каким ипостаси у него сворачиваются, и дополняющем это субъективизме его подхода.4
Нередко складывается впечатление, что учение Порфирия проще учения Плотина. Отчасти причиной тому является манера изложения, отчасти — возвращение к авторам II века.5 У неопифагорейца Модерата Порфирий перенял учение о чувственно воспринимаемой материи, которое, как он уверял, также принадлежало Платону. Согласно этому учению, материя есть «тень небытия в категории количества». Если мы абстрагируем от тел всякое определенное количество — фут, метр и так далее, являющиеся формами, — то у нас останется неопределенная идея того, что Локк называл «массой» (bulk). Безусловно, она не может существовать в таком неопределенном виде, и ее скорее следует назвать «частицей» (quantum), нежели «количеством» (quantity).6 Согласно Плотину, количество есть нечто, что реально существует в качестве определенной категории и объекта мысли, тогда как прообраз материи есть порождение Единого. В изложении Порфирия образец, которому подражает масса, или чувственно воспринимаемая материя, вовсе не является формой в собственном смысле, но есть «логос Единого», то есть первообраз из «Тимея», «лишивший себя всех своих форм», словом — аристотелевская первоматерия, называемая восприемницей. Можно было бы предположить, что таким
1 Хотя у Юлиана (Or. IV 132d) присутствует намек на нее: τον πάντων βασιλέα είτε τό έπέκεινα του νοΰ καλεΐν αύτόν θέμις, είτε ιδέαν των όντων... είτε έν.
2 Sent. 44; cp.: Proclus. Plat, theol. P. 27 Portus.
2 III и IV Kroll.
4 Этот фрагмент представляется близким Enn. V 1 [10], особенно 4 и 10—12. П. Адо, исходя из различных оснований, обстоятельно доказывал, что его автором был в действительности Порфирий (R. des Etudes gr. 1961. LXXIV. P. 410—438).
5 Впрочем, утверждение Прокла (In Tim. I 77, 22—24) о том, что Порфирий во всем зависел от Нумения, неоднократно вырывалось из контекста, ограниченного демонологией.
6 Все последующее основано на отрывке из книги Порфирия «О материи» в Simpl. In Phys. 231 Diels (CAG IX).
364
ПОЗДНИЕ НЕОПЛАТОНИКИ
образом мы получили неопределенное понятие качества, однако как образец чувственно воспринимаемой, или физической, материи она — количество, поскольку, согласно пифагорейскому и платоновскому представлению, быть физическим означает быть протяженным (непрерывное количество) и исчислимым (прерывное количество, число). Если бы кто-то предположил, что она есть свойство быть в трех измерениях, то это сделало бы ее формой, и далее Порфирий показывает, как она ускользает от нас, стоит нам начать мыслить о ней в положительных понятиях. Однако это равносильно тому, чтобы сказать, что если найдется нечто, что она есть положительным образом, то материя в таком случае не сможет быть материей. Вот почему прообраз материи есть не-сущее, ведь она есть то, что в возможности имеет любую форму, но неограниченная возможность равносильна ничто: «S может быть Р или Q» несет некоторую информацию, тогда как «S может быть Р, или Q, или R, или ... ad infinitum»* * ни о каком положении дел не сообщает.
Таким образом, даже чувственно воспринимаемый мир оказывается упакован в Душу и Ум. То, что мыслимо, или действительно, как раз есть то, что не «материально» и что никогда не покидало пространства внутри Души и Ума. Нисхождение форм в природу есть иллюзия мысли или, скорее, ее несостоятельность. Зрение и осязание, которые, казалось бы, позволяют нам прикоснуться к чувственно воспринимаемому миру, являются непросветленными формами мышления. Поскольку степени реальности также являются степенями ценности («Блага»), материю, как утверждает Порфирий, раз она бежит блага, считают злом; однако, согласно этому же рассуждению, ничто не является совершенным злом. Следует заключить, хотя Порфирий этого и не делает, что ничто вообще не может представляться совершенно плохим и ничто не может быть совершенным злом. Материя возникает «путем отклонения от реальности», и Симпликий более отчетливо выразил это учение в целом, определив материю в качестве «отклонения» как такового.
В. Теория и практика согласно Порфирию и Ямвлнху
В общем и целом данное учение о материи было принято всеми неоплатониками более позднего времени. За исключением упомянутых деталей, оно принадлежало Плотину,1 а поскольку
1 Учение Плотина о материи см. в разделе III, гл. 16 А, с. 324—326.
* И так до бесконечности {лат.). — Примеч. перев.
ПОРФИРИЙ и ямвлих
365
в неоплатонизме теория была неотделима от практики, то и моральные следствия, которые вывел из этого учения Порфирий, не слишком отклонились от исходного плотиновского учения. Их можно свести к трем равнозначным предписаниям. Во-первых, из основоположений метафизики Порфирия следует, что, дабы достичь блага или (что равнозначно, хотя и парадоксально) дабы нечто стало тем, что оно есть по сути, произведение должно «вернуться» к своему создателю. Для человеческого существа, то есть для его души, как неизменно говорили платоники, это возвращение означало самосознание, призванное сопровождать разумную мысль. В конечном счете это было равносильно обращению внутрь, а не наружу, что в рамках религиозной традиции и дуалистической психологии «Федона» и «Тимея» описывалось как освобождение от тела или очищение, а на практике означало аскетизм. Систематизировав небольшой трактат Плотина на эту тему, Порфирий выстроил шкалу добродетелей, ставшую общепринятой в школах,1 однако помимо профессионального языка он почти ничего не привнес в этику. Душа или ум могли достичь этих добродетелей собственными силами.1 2
Все это уже было и неизбежно оставалось общим местом неоплатонизма. Совершенно неверно усматривать что-либо новое или неплотиновское в утверждениях вроде: «Ничему самому по себе бестелесному существование тела не препятствует быть там, где оно хочет и как пожелает»,3 и им подобных. Они не являются заслуживающими внимания свидетельствами того, что Порфирий будто бы признавал «волю», но означают лишь, что в пределах, устанавливаемых путем вполне обычного рассуждения, способы нашего поведения произвольны.4
Ямвлих традиционно решал вопрос отношения между свободой и необходимостью: точка отсчета причинности действий — в нас самих и не зависит от космических процессов, судьбы или естественных законов, однако мы используем эти законы, когда действуем.5 (Так было у Аристотеля, поскольку для него со¬
1 А. Психические: 1) гражданские, 2) очистительные; Б. Интеллектуальные: 3) созерцательные, 4) парадигматические. См.: Sent. 32; ср.: Επη. I 2 [19]; Olymp. In Ale. 4, 15 — 8, 14 Creuzer (p. 7—9 Westerink); Marin. Proclus 3—26.
2 Sent. 8, 28.
3 Sent. 27 (пер. С. В. Месяц).
4Cp.: «О свободной воле» в Stob. II 163—173 Wachsmuth. Замысел этого сочинения состоял единственно в том, чтобы разъяснить, почему миф об Эре оставляет место свободе воли, и это сделано очень убедительно.
5 Ad Maced, ар. Stob. II 173—176.
366
ПОЗДНИЕ НЕОПЛАТОНИКИ
бытия не образовывали замкнутую Лапласову сеть причин и следствий, но всегда позволяли свободным нитям причинности присоединяться к сети.) Однако эта традиция недалеко отстоит от стоического понятия свободы как необходимости разума, то есть провидения. Именно это имел в виду Ямвлих, назвав интеллектуальную жизнь, которая есть освобождение от судьбы, божественной жизнью.
Вершиной добродетели было избавление от всех качеств, свойственных человеку, и обожение, становление единством, или Единым. Высшей деятельностью ума философ считал форму мышления, предположительно столь же простую, как и чувство, — хотя и сходную с ним лишь в этом отношении, — лишенную последовательности и различения на субъект и предикат. Нелегко понять, как при этом она вообще может быть интеллектуальной деятельностью. Впрочем, и не столь уж трудно, если следовать убеждению, что первоначала неоплатоников могут сворачиваться и разворачиваться, из чего, по-видимому, исходил и Порфирий. Ипостаси суть степени деятельности, и, наверное, ключ к пониманию этого учения в интерпретации Порфирия заключался в том, что предел, последний уровень интеллектуальной деятельности, был достаточно непохож на остальные уровни, чтобы называться иной степенью деятельности. Если так, то это чистое единство (которым становится мысль, или ум, если ему удается преодолеть всякое внутреннее различие) он мог считать Единым над бытием, или Богом, так что я в качестве ума оказывалось в таком случае тождественным с Богом. И это было бы чем-то совсем иным, нежели упражнением даже в самой высшей интеллектуальной добродетели, «созерцании»: Порфирий узнал от Плотина, что мистическое единение имело место, когда сама личность была пассивна.1 Можно диалектикой или примером добродетели научить смотреть, но никак не видеть.
Отсюда следовало, что, хотя философия и не является целью жизни, она есть ее наилучшее средство и что интеллектуальные добродетели суть высшие добродетели. Имеется надежное доказательство того, что Порфирий разделял оба эти убеждения. Но Ямвлих их решительно отвергал. Он категорически заявлял, что вовсе не знание объединяет посвященных с богами, хотя оно и является необходимым условием такого объединения.1 2 В свою
1 Об этом см. раздел III, гл. 16 Б, с. 330—333.
2 De myst. II 11 (в котором не следует усматривать противоречие с I 2). См. и противопоставь этому христианский взгляд, который в основных чертах (со
ПОРФИРИЙ и ямвлих
367
очередь, он полагал, что эффективнее деятельности философов — религиозные занятия подвижников, и поместил их в отдельный класс на верхней ступени шкалы добродетелей, назвав «теургическими».1 Можем ли мы усмотреть в этом соответствующее отсутствие сворачивания в его теории ипостасей?
Ямвлих родился в середине третьего столетия, на пятнадцать или двадцать лет позже Порфирия, как и он — в семье богатых родителей-сирийцев. Однако о его жизни почти ничего неизвестно. Не ясно, действительно ли он учился у Порфирия или только изучал его книги.* 1 2 Сам он много лет обучал философии в Апамее в Сирии и умер примерно в 326 г.3 Евнапий описывает его как религиозного философа, считавшего себя ясновидящим и даже способного силой, данной ему богами, вызывать духов, хотя и, подобно Плотину, пренебрежительно относившегося к легковерным почитателям. Весьма вероятно, что это изображение правдиво. «Божественное вдохновение» Ямвлиха веками принималось как данность, и после смерти Константина его интеллектуальный авторитет оставался непререкаемым у целого поколения борцов с официальным христианством, «сдвинувших с места вещи, трогать которые не следовало». Самый знаменитый из них, император Юлиан, часто воспроизводит распространенные положения неоплатонизма, ставшие известными ему из сочинений самого Ямвлиха, а также от его ученика Эдесия.4
Согласно описаниям, Ямвлих был предан теургии и магии более, чем философии.5 Вне всякого сомнения, рассматривать его только как отца схоластического подхода, с которым ассоциируется афинская школа, означало бы не понимать его. Он написал ныне утраченный комментарий к халдейским оракулам, легший в основание львиной доли оккультной теологии Прокла, и энциклопедическое сочинение о неопифагорейской философии, включая арифметику, геометрию, физику и астрономию, от которого,
ссылками на более подробные рассмотрения) изложен в разделе VI («Греческая христианская платоническая традиция»), гл. 28, с. 506—508.
1 Olymp. In Phaedo 114, 22—2 Norvin; Marin. Proclus 26.
2 Личность его предыдущего учителя, Анатолия, также под вопросом (см. литературу: Zeller Е., Mondolfo R. Filosofia dei greci. Parte III, vol. VI / ed. G. Martano. Firenze, 1961. P. 2, n. 2), хотя он имел незначительное влияние на его философию. Несомненные ученики Порфирия для нас — только имена.
3 BidezJ. Le philosophe Jamblique et son 6cole // R. des Etudes gr. 1919. XXXII. P. 29—40.
4 См. особенно: Or. IV—VII.
5 Bidez J. Loc. cit.
368
ПОЗДНИЕ НЕОПЛАТОНИКИ
правда, остались лишь «О Пифагоровой жизни», «Протрептик» и несколько книг, посвященных символизму чисел и математики в целом.1 Его комментарии (также утраченные) к Платону и Аристотелю вызывали симпатию таких ученых, как Симпликий. Даже внимательное прочтение его трактата «О египетских мистериях» не подтверждает довольно распространенного образа Ямвлиха как мыслителя, заменившего рационализм Плотина суеверным принятием всех эксцессов теургов и мистагогов.1 2 Он порицал тех, кто подобно Плотину объяснял прорицания чтением знаков, основанных на «симпатиях» в природе; он признавал эту практику, но возражал, во-первых, против того, что это чисто человеческая деятельность, а во-вторых, что она логически дает только вероятность, а не определенность; действительное предсказание является результатом союза нашего ума с божественным.3 Он проводил то же самое различие в отношении молитвы, жертвоприношения и астрологии4 и приписывал наибольшую ценность занятиям, которые называл божественными дарами, тем не менее описывая их в терминах неоплатонической философской системы. Как и Порфирий, он полагал, что их можно также описать в терминах халдейской (а в действительности — египетской) теософии, однако его комментарий к молитве в «Тимее» дает нам ощутить тепло его религиозного чувства, и было бы глупо пытаться перевести на философский язык (пусть даже неоплатонический) религиозные ритуалы, служившие средством к осуществлению единства божественного и человеческого умов, да это и противоречило бы Ямвлиху.
Ямвлих по-философски смотрел на сложившуюся ситуацию. Он старался методически отделить религиозное, или «теургическое», объяснение от философского и укорял Порфирия за то, что тот не умел обходиться с «теургическими вопросами теургически, а с философскими философски»; Порфирий полагал, что может решить проблему сведением спасения к знанию, а «личного демона» к уму.5 Это демонстрирует, насколько большое философское
1 Theologoumena arithmeticae / ed. V. de Falco. Leipzig, 1922; De communi mathematica scientia / ed. N. Festa. Leibzig, 1891.
2 Rasche C. De Iamblichi libro qui inscribitur de mysteriis auctore (Munster, 1911) — здесь компетентно отстаивается авторство Ямвлиха. Далее см.: Fronte S. Sull’autenticita del «De mysteriis» di Giamblico // Siculorum Gymnasium (Catania). 1954. N VII. P. 1—22.
3 Iambi. De myst. Ill 26—27; X 3.
4 II И; V 7—8, 10 ad init. и 15; IX 4—5.
5 De myst. I 2 ad fin.; II 11; IX 8.
ПОРФИРИЙ и ямвлих
369
значение (хотя это и может показаться лекторским педантизмом) поздние неоплатоники придавали «назначению» книги.* В сочинении «О египетских мистериях» он оставил открытым вопрос, есть ли «божественная» жизнь то же, что и жизнь «разумная»,1 но во всех иных местах он систематически классифицировал традиционных богов как «разумных» и «умопостигаемых», употребляя эти понятия в их обычном значении. В «Гимне к царю Гелиосу» Юлиана «солнцем» называется сразу и первая ипостась, или идея Блага, затем благо во второй ипостаси как то, что придает ценность мысли (существование, красота и тому подобное), далее благо во второй ипостаси в смысле актов, а не объектов мышления («умопостигающего», а не «умопостигаемого»), причем в обоих случаях они, по-видимому, отождествлялись с Митрой, и, наконец, солнце в небе как видимый бог.1 2 Хочется предположить, что Ямвлих был убежден, что такого рода рационализация приложима лишь к богам, стоящим не выше эфирных.3 Нам не известно, упоминал ли он когда-либо, подобно Плотину, о сверхъестественном союзе с «единым богом», но о нем упоминал и считал теургию средством к его достижению преданно вторивший ему Прокл.
Г. Метафизика Ямвлиха
Мы знаем, что Ямвлих приписал душам определенную степень независимости, которую он в неявном виде находил у Плотина и у Порфирия. Деление второй ипостаси на Ум как умопостигаемое, или Бытие, и Ум как умопостигающее, или Мышление, тоже, по-видимому, началось с него. Это деление логически вытекает из имплицитного неоплатонического принципа, согласно которому существенное различие в мысли предполагает отдельное звено в цепи бытия, а мышление и его объекты, несомненно, мыслятся как различные. Плотин справедливо заключил, что раз они взаимно не предполагают друг друга, то логично, что бытие предшествует
1 III 3.
2 Or. IV. К «умопостигаемому благу» неоплатоники прилагали свойства «смешения» из «Филеба» (25е—26Ь; 64).
3 См.: De myst. VIII 2—3; ср.: Porph. De abst. II 34.
* Но Ж. Пепин и А. Р. Содано (Entretiens Hardt. XII) показали, что Ямвлихов принцип «один текст — одно назначение» был ни настолько оригинальным, ни настолько жестким, как полагал Прехтер (см. выше, с. 343). — Примеч. А. X. Армстронга к изданию 1970 г.
370
ПОЗДНИЕ НЕОПЛАТОНИКИ
мышлению и что мышление является эманацией бытия, к которому оно умозрительно возвращается.1 Такой порядок согласуется с тем обстоятельством, что Душа следует за ним в нисхождении, заключая в себе идеи в качестве мыслей.
Более фундаментальным было осуществленное Ямвлихом введение понятия не допускающих себе причастности сущих (άμέθεκτα έξηρημένα). И лучше всего разобраться с ним в более широком контексте. Неоплатоническая метафизика и раньше основывалась на отношении «исхождения», представляющем собой последовательность рождений менее единого из более единого. Одну линейку единства, или простоты, образует последовательность «неделимое»—«делимое»—«разделенное». Она соотносится с последовательностью, знакомой Проклу и несомненно признаваемой Ямвлихом, а именно: «целое до частей» (то есть предшествующее им)—«целое из частей» (то есть составленное из них)—«целое в частях» (то есть присутствующее в каждой из них). В нисходящей линейке простоты каждая нижележащая ступень обладает свойством предшествующей и вышележащей, или, скорее, неадекватно отражает его. Таково отношение «причастности», в котором то, чему нечто причастно, есть целое, состоящее из частей, а то, что реально в собственном смысле, необходимо предшествует ему и неделимо, а следовательно, есть целое, которому ничто не причастно. Третья ступень — это причастное, подлежащее, которое содержит в себе второе понятие («то, чему нечто причастно») в качестве свойства, или, точнее говоря, это — все индивидуальные выражения этого свойства. Ямвлих заявлял, что любое само по себе сущее, включая ипостаси, существует в качестве всех видов целого: сначала как «не допускающее причастности», затем в форме «того, чему нечто причастно», которое, в силу знакомой способности «бесконечности» к делению, «произошло из» первого как его «излучение».1 2 Любой уровень («чин») реальности тем самым соединен с вышестоящим, поскольку содержит в качестве высшей и лучшей своей черты форму того, чему нечто причастно, являющуюся отражением сущности, не допускающей себе причастности и образующей следующий высший чин. Так, например, есть физический мир, который есть причастное подлежащее, есть также душа, которой он причастен и которая присутствует в нем, и в высшем порядке — Душа, которой ничто не причастно. Душа, в свою очередь, содержит в себе ум, которому
1 О мышлении и бытии у Плотина см. раздел III, гл. 15, с. 313—315.
2 Proclus. In Tim. II 105, 16—28; 240; 313, 19—24; ср. 1426.
ПОРФИРИЙ и ямвлих
371
она причастна и который произошел из Ума высшей ипостаси, но не причастен ему.1
Такое кажущееся удвоение каждой субстанциальной формы было необходимо всегда, когда требовалось примирить абсолютность, безотносительность идей с учением о причастности, требовавшем формы in re. На него неоднократно ссылался Плотин,1 2 а также Порфирий, отрицавший существование причастности в умопостигаемом мире.3 Порфирий утверждал, что обнаружил в «Тимее» не только мировую, но и сверхмирную душу. Отождествляя последнюю с «не допускающим себе причастности», Ямвлих считал, что именно ее, а не мировую или имманентную душу Платон называл «промежуточной сущностью».4 Он пропагандировал различение ума и души как таковых, и это важный момент, поскольку он демонстрирует, что функцией, или следствием, введения «не допускающих себе причастности» было предотвращение собирания (сворачивания) одной ипостаси в другую. Или если оно не предотвращает этого сворачивания, то по крайней мере ограничивает его различными уточнениями, тем самым ослабляя монистическую тенденцию Плотина и Порфирия.
Наряду с исхождением ипостасей Ямвлих усматривал также исхождение внутри каждой ипостаси. Не допускающая себе причастности Душа не одна есть сама по себе сущая вещь, порождающая нижележащий чин, но и содержащийся в ней причастный ум или, во всяком случае, их соединение образует познаваемую и саму по себе сущую вещь, которая также должна исходить. Произведением, или «излучением», этого соединения является низшая «жизнь» ума, состоящая из всех тех интеллектуальных способностей, которые Аристотель считал в определенной степени зависимыми от нашего тела. Пифагорейское понятие «исхожде- ния» было связано с триадами, и неоплатонические источники вдохновения — не только нумерология, но и религиозный миф и философия — предлагали великое множество триад. В обсуждаемом контексте наиболее употребимой была, пожалуй, триада бытие (сущность)—жизнь—ум (мышление).5 В иных случаях
1 Впрочем, Ямвлих помещал невыразимое Единое перед Единым, не допускающим себе причастности (.Damasc. Dub. 43—44, 51), предположительно, для того, чтобы логически обосновать, что непознаваемому Богу и следует быть непознаваемым.
2 Например: Επη. II 3 [52] 17—18; V 9 [5] 3.
3 Syrianus. In Met. 109, 13 Kroll; Proclus. In Tim. Ill 34, 1—2.
4 In Tim. II 105 и 240; cp. I 322, 1—3.
5 Iambi ap. Proclus. In Tim. Ill 145, 8—11.
372
ПОЗДНИЕ НЕОПЛАТОНИКИ
пифагорейские предел—беспредельное (или бесконечность)— смешение из «Филеба», по-видимому, лучше соответствовали определенной группе понятий. Однако, поскольку «постоянство» (μονή) любого первого термина всегда противопоставлялось «ис- хождению» (πρόοδος) и сравнительно несущественному характеру того, что оно порождало, производящее и произведение вообще не обязательно образовывали триаду.
И все же в теории сущность, жизнь и ум необходимо было раскрыть как три аспекта чего бы то ни было вообще. Это следовало из того обстоятельства, что они были, как показал Плотин, в числе родов, или категорий, бытия, а значит, имели отношение ко всему тому, к чему можно было приложить глагол «быть». Последователи Плотина, как казалось некоторым читателям, пускались в тщетные и неоправданные умножения триад, на что те могли бы возразить, что после того, как животное разделилось на мужское и женское, указание на быка и корову, пса и суку, мужчину и женщину не было бы произвольным умножением пар. Как было возможно философски обосновать эти триады? Первая представляла собой исхождение делимого целого из неделимого целого; и Ямвлих, как и все остальные, считал само собой разумеющимся, что ее следовало понимать в контексте платоновской диалектики. Первый термин соответствовал тождеству («подобию» у Платона), а второй — различию.1 В обратном направлении мысль движется от сложного к простому, от частностей (которые были бы бесконечны, бесчисленны и совпали бы с платоновским небытием или материей Порфирия, если бы per impossibile* были только частностями) к таким видам, как предел или число из «Филеба», которые могут соответствовать (вовсе не в силу языкового совпадения) «порядку» (τάξις) у Ямвлиха,1 2 и, наконец, от видов к роду, который не есть то же, что аристотелевский род, но — первый термин, исходное значение, которое, по словам Аристотеля, занимает положение всеобщего, или сущности, в упорядоченных последовательностях.
Если в основании каждого уровня (чина) Ума и Души лежат, во-первых, исхождение, а во-вторых, скажем, триады, как это почти наверняка было у Ямвлиха, и если, в-третьих, представляется так, что эти чины удерживаются вместе и в то же время раздельны благодаря отношению не допускающего себе причастности к фор-
1 In Tim. 11215,7—9-
2 Ср.: Enn. VI 2 [43] 22; Proclus. El. theol. 64.
* Хотя это и невозможно {лат.). — Примеч. перев.
ПОРФИРИЙ и ямвлих
373
Не допускающий себе причастности Ум
I
Ум, которому Не допускающая себе \ _ Причастный ) Исходящий
нечто причастно ^ причастности Душа / Ум ) Ум
I
| / Душа, которой ^ уело\ _ Причастная! Исходящая (\ нечто причастно / Душа ) Душа
ме того, чему нечто причастно, то мы имеем дело со схемой неоплатонической метафизики, какой она оставалась на протяжении двух столетий.1 Эта схема была различима у Плотина и во многом сделалась более отчетливой благодаря Порфирию, который показал (что мы еще увидим), как использовать логику Аристотеля на пользу этой метафизике. Нам неизвестно, действительно ли Ямвлих систематизировал ее, ведь он не добавил, а, скорее, указал на определенные черты, которые позволили ей обрести менее монистический вид. И хотя постоянно утверждают обратное, он не желал, чтобы введенные им промежуточные термины («не допускающие себе причастности») отдалили Бога от страждущей души. Он лишь усложнил философский монизм, монизм того же сорта, что мы находим у Спинозы или Брэдли, — соотносящий явление и реальность со спутанным и ясным мышлением. Ямвлих дал (по крайней мере, складывается такое впечатление) больше независимости явлениям. Его систему невозможно изложить, не употребив понятия «само по себе сущее», более широкого, чем «сущность», но более узкого, чем «явление», «образ» и так далее, — даже отдельные души, согласно Проклу, есть сущее само по себе.1 2 Однако это представление отсутствовало или было неявным у Порфирия и впервые обрело систематическую форму в афинской школе.
1 См. схему (стрелками обозначается исхождение, или излучение, знаком > причастность). Эта схема не включает в себя исхождение Души как ипостаси из Ума как ипостаси, которое представляет собой то, что Плотин называл внешней деятельностью Ума (VI 2 [43] 22, 26—28). Здесь исходящий ум есть intellectus in habitu и possibilis (Simpl. In De an. 311, 29), исходящая душа — неразумная душа. (О продолжении существования триад в греческой христианской мысли см. в различных местах раздела VI.)
2 Ср.: Ad Maced, ар. Stob. II 174, 21—24; Proclus. El. theol. 189.
Глава 19
АФИНСКИЙ И АЛЕКСАНДРИЙСКИЙ НЕОПЛАТОНИЗМ
А. Прокл и его предшественники
Со смертью Ямвлиха серьезная история философии перемещается в Афины. Афиняне многому научились у него, и сочинение его младшего современника Феодора Асинского можно, пожалуй, рассматривать лишь в качестве закрепления изученного материала.1 Влиянию Ямвлиха подвергся и Плутарх Афинский, а у его учеников, Сириана и даже Прокла, основные темы неоплатонизма разве что еще больше систематизируются и канонизируются. Платон, Ямвлих, Сириан — таков был путь к знанию, согласно последнему из глав школы.1 2
Когда Прокл приехал в Афины, главой школы был Плутарх, однако он был слишком стар, чтобы читать лекции (он умер в 431/432 г.). Более поздние авторы говорят, будто он был первым афинским неоплатоником. Большую часть того, чему Прокл научился у него лично, приняли как нечто само собой разумеющееся Симпликий и александрийцы, хотя, по сути, об этом уже говорил Ямвлих: Аристотель и Платон согласны между собой, «О душе» представляет собой полновесную психологию, тогда как «Тимей» и «Парменид» — дополнявшую ее теологию. Также и в целом ряде частностей Плутарх если не прямо повторял Александра Афродисийского, то следовал Ямвлиху или их общему источни¬
1 Источником наших сведений является главным образом «Комментарий к ,,Тимею“» Прокла. Хронология его жизни и творчества под вопросом; см. противоречивые свидетельства в RE. 1934. V А, 2. Col. 1833.
2 Дамаский в Lex. Souda, s. ν. Συριανός. Его учитель почитал Ямвлиха первым после Платона (Damasc. Vit. Is. 1257b Migne (p. 23 Asmus); 1257d (p. 24, 28 Asmus) добавляет Порфирия).
АФИНСКИЙ И АЛЕКСАНДРИЙСКИЙ НЕОПЛАТОНИЗМ
375
ку.1 Но важный для философии факт состоит в том, что он по крайней мере теоретически допускал, что психологией как учением о душе в теле возможно заниматься независимо от метафизики.
Плутарх был довольно оригинален в своей интерпретации «Парменида», имевшего, насколько нам известно, решающее значение для неоплатоников, хотя и не такого интересного нам. Описывая историю его формального толкования, Прокл считает поворотным пунктом осознание того, что в первых пяти гипотезах выводятся истинные заключения из истинных посылок, тогда как остальные представляют собой доказательства от противного.1 2 Плутарх, говорит он, распознал это и тем самым сумел сделать то, что еще никому до него сделать не удавалось, а именно верно сформулировать, чему посвящены последние шесть гипотез. После Бога, ума и души четвертая гипотеза (157Ь—159Ь) описывала формы, имманентно присутствующие в материи, пятая (159Ь—160Ь) — материю, при этом все они нуждались в существовании единства; шестая (160Ь—163Ь) касалась ощущений, соответствующих относительному небытию, но обнаруживающих свою невозможность в отсутствие единства; седьмая (163Ь—164Ь) изображала отсутствие какого-либо знания (мы бы сказали, самой возможности его), что сводилось к абсолютному небытию; восьмая (164Ь—165е) демонстрировала абсурдность существования только теней и сновидений, а девятая (165е—166с) — абсурдность даже и их отсутствия. Вторая, третья, четвертая и пятая гипотезы соответствовали четырем отрезкам из «Государства» (509d—5Не).3
Эта схема была принята в школе. Кажущиеся исправления, сделанные после Прокла, лишь доказывали, что принятие сопровождалось пониманием. Например, Дамаский объяснял, каким образом последние четыре гипотезы действительно объединяли «прямое» (положительное) и «непрямое» (отрицательное) доказательства, поскольку один из основных моментов диалога состоял в том, что Парменид признавал только бытие и небытие (седьмая и девятая гипотезы), тогда как Платон полагал, что категория отношения предполагает промежуточную форму относительного
1 Предположение Целлера о том, что первый комментарий к «О душе» со времен Александра был написан Плутархом, имело неблагоприятные последствия (например, на статью Бётлера (RE. 1951. XXI, 1. Col. 962—975)). О комментарии Ямвлиха см.: Simpl. In De an. 6, 16; 217, 27; 313, 2—3 и 18; Ps.-Philop. In De an. Ill 533, 26 Hayduck (CAG XV).
2 In Parm. VI 24 ff. (1055, 25 Cousin, 1864); cp.: Plat, theol. 31, 28—41 Portus.
3 In Parm. VI 27—30 (1058, 21—1061, 20 Cousin). Атрибуции Бётлера (Beut- ler R. Art. cit. Col. 974—975) на In Parm. Bk. I являются домыслами.
376
ПОЗДНИЕ НЕОПЛАТОНИКИ
небытия (шестая и восьмая гипотезы).1 Неоплатоники гораздо лучше многих современных исследователей улавливали связь между «Парменидом» и «Софистом». Печально, что их версия трех первых гипотез, представлявшая для них наибольшее значение, но наименее исторически достоверная (так как ссылалась на Аристотеля), затмила собой разумную и исторически достоверную интерпретацию остальных.
Прокл настаивает, что тайное учение Платона было раскрыто Сирианом, от которого до нас дошло слишком мало, чтобы судить, предвосхитил ли он новшества, привнесенные Проклом. О Дамаскии, третьей главной фигуре в Афинах, сохранилось достаточно сведений, чтобы обнаружить, что он не прибавил ничего, что представляло бы особый философский интерес. Нам также не известно ничего существенного о жизни Сириана, кроме того, что Прокл под его руководством регулярно читал Платона и Аристотеля; единственная дата его жизни, которую удается зафиксировать, это 431 или 432 год, когда он сделался главой платоновской школы. От многочисленных составленных им комментариев сохранились только комментарии на Книги Г, Е, М и N «Метафизики» Аристотеля.1 2 В комментариях на две последние из перечисленных книги он отстаивает, как и подобает, идеи и идеальные числа. При этом аргументы основываются только на платонических и неоплатонических принципах, а также отражают пифагорейское влияние, пришедшее от Ямвлиха и Феодора Асинского. Довольно неожиданной чертой — хотя и не более того — является оскорбительный слог, которым бичуется Аристотель. Причина этого состоит в том, что Сириан принимал известное мнение, что эти книги «Метафизики» являлись лишь «малыми таинствами» и служили для объяснения чувственного мира.
О карьере и даже личности Прокла известно гораздо больше. Хотя книга «Прокл, или О счастье» Марина, подобно большинству греческих «биографий», должна была изображать не человека, а определенный образ жизни, она была написана почти сразу после смерти Прокла, к тому же его бывшим учеником.3 И хотя в ней мы не обнаруживаем описания блаженной жизни, она дает представление о типичной карьере преподавателя-неоплатоника.
1 См., в частности, Dub. 433 (II 289—291 Ruelle).
2 Ed. W. Kroll, CAG VI 1 (1922).
3 Ed. J. F. Boissonade (Leipzig, 1814); перепечатано с латинским переводом в Diogenes Laertius / ed. G. Cobet. Paris, 1850; английский перевод в Rosan L. J. The Philosophy of Proclus. New York, 1949.
АФИНСКИЙ И АЛЕКСАНДРИЙСКИЙ НЕОПЛАТОНИЗМ
377
Прокл родился в Константинополе в 410 г. или немногим позднее, однако его родители, аристократы из Ликии, области на юго-западе Малой Азии, отправили его в школу к себе на родину, а затем в Александрию для изучения литературы и риторики. Вместо юриспруденции, бывшей профессией его отца, Прокла привлекла философия, так что он посещал лекции по математике и философии Аристотеля. Следующим этапом были Афины. Там в возрасте примерно двадцати лет он прочел «О душе» и «Федона» под руководством Плутарха, а после смерти последнего «систематически» вместе с Сирианом проштудировал «все труды Аристотеля по логике, этике, политике, физике и даже теологии» (Марин просто перечисляет общепринятый порядок обучения), а затем и «великие таинства Платона». Сириан предложил подробно разъяснить Проклу и его соученику орфическую либо халдейскую теологию, но, вероятно, поскольку их выбор не совпал, а вскоре после этого Сириан умер, Прокл должен быть изучить эти предметы самостоятельно по сочинениям Порфирия, Ямвлиха и Сириана. Неизвестно, когда он взял на себя управление школой, однако он оставался ее главой до самой смерти в 485 г. Он никогда не женился и его единственными недостатками были завистливость и вспыльчивый характер.
Прокл вращался в важных политических кругах, однако, подобно другим ведущим платоникам, был поборником языческого богослужения в противовес имперской политике и не однажды попадал в неприятные истории. Его личная вера в религиозные обряды не вызывает сомнений. Вегетарианская диета, молитвы солнцу, культы халдейских посвященных и даже почитание египетских религиозных праздников тщательно соблюдались. Говорят, что он получил практические познания в области теургии от дочери Плутарха и, по его собственным словам, мог вызывать светоносные призраки Гекаты. Также несомненно и то, что он помещал теургию, как освобождение души, выше философии.1 Однако, поскольку его мысль полна абстрактных исхождений и возвращений, сама философия была для него едва ли чем-то иным, чем такое возвращение; она была возвратом к Единому, хотя и достигающим лишь неполного союза с ним. Место философии обнаруживается в невероятно тщательно разработанной метафизической системе, однако, хотя эта система и не была бы создана, не будь религии для ее подтверждения, ее ценность не зависит и, как считал Прокл, не должна зависеть от религии.
1 Например, Plat, theol. 63, вслед за Iambi. De myst. X А—8.
378
ПОЗДНИЕ НЕОПЛАТОНИКИ
Б. Реалистическая метафизика Прокла и Дамаския
Прокл считал, что его метафизика выражала истинный, хотя и скрытый смысл учения Платона и что она, как и любая греческая «теология», берет начало в тайных учениях пифагорейцев и орфиков.1 Изучить ее можно по двум работам — «Первоосновы теологии» и «Платоновская теология», временами обращаясь к комментариям к «Пармениду», «Тимею» и «Алкивиаду». (Что касается комментариев к «Государству» и «Кратилу», то философия ничего не потеряла бы, если бы он их не написал, — в них, например, не найти его эпистемологии.) Теоретическими расхождениями между этими трактатами, пожалуй, можно пренебречь. При том, что наиболее значимой фигурой, стоящей у истоков этого заключительного этапа развития платонизма, был Ямвлих, «Первоосновы теологии» в большей мере и более непосредственно, чем принято считать, обязаны «Сентенциям» Порфирия. Хотя сочинение Прокла ограничивается метафизикой, оно представляет собой учебник того же рода, что и «Сентенции», формально далеко выходя за пределы учебной литературы: оно не просто состоит из ряда теорем, но каждая теорема еще и обстоятельно доказывается (во всяком случае, согласно замыслу), причем таким образом, что доказательства основываются только на предшествующих теоремах. И здесь ясно прослеживается параллель с «Этикой» Спинозы. Эта книга, молчаливо впитанная псевдо-Дионисием1 2 и «Liber de causis», во многом способствовала возникновению неоплатонического течения в схоластической теологии. Ее содержание сплошь абстрактно. В ней, открывающейся теоремами (1—6) о единстве и Едином, затем пространно разворачиваются формальные отношения между производящим и произведенным (7—112), а после по порядку — формальный характер Единого, которому нечто причастно, или «генад» (113—158), Бытия (159—165), Ума (166—183) и Души (184—211).
Трактат «Платоновская теология» в четыре раза длиннее, однако, несмотря на отпугивающую неясность в описании триад внутри ипостасных триад, обладает тем преимуществом, что начинается неспешно, с хорошо знакомой нам почвы платоновских диалогов. В нем мы обнаруживаем, каким образом совпадают теология, или «первая философия» в аристотелевском смысле,
1 Plat, theol. 13 Portus; ср.: Syrianus. In Met. 190, 35 Kroll («Платон — величайший из пифагорейцев»).
2 См. раздел VI, гл. 30 А, с. 541—545.
АФИНСКИЙ И АЛЕКСАНДРИЙСКИЙ НЕОПЛАТОНИЗМ
379
с теологией в привычном смысле, а божественные сущности с богами. Во введении Прокл заявляет, что наряду с философией идей у Платона следует отыскать тайную философию, которую помогли изложить Плотин и его последователи, однако в настоящем сочинении преимущество будет отдаваться буквальному, а не символическому, доказательствам, а не утверждениям, и если возразят, что источники противоречат друг другу, то автор станет искать ответа у единственного в своем роде авторитета «Парменида». Большая часть трактата в действительности является изложением структуры реальности, которая, согласно Проклу, вытекает из двух первых гипотез Парменида. Книга I описывает общие свойства богов, книга II — Бога в строгом смысле, книга III — умопостигаемых богов, или Бытие, книга IV — умопостигаемых и разумных богов, или Жизнь (промежуточный чин, который отсутствует в «Первоосновах»), книга V — разумных богов, или Ум, книга VI менее подробно имеет дело с надмирными богами, или Душой, а также с космическими богами, или Природой, и опирается в основном на «Тимея», а не на «Парменида».
Набросок данной схемы мы уже видели у Ямвлиха. И если бы перед нами стояла необходимость решить, что из богатства ее характеристик или какую из теорем, сформулированных в «Первоосновах», поставить первой, то нам следовало бы напомнить о тех четырех положениях, которые Прокл предлагает читателям перед началом описания несотворенных богов. Во- первых, говорит он, чинов этих богов так же много, как показано во второй гипотезе «Парменида»; во-вторых, всякая монада порождает* однородное с ней множество; в-третьих, чем ближе что- либо к первой монаде, тем больше его производительная сила; и, в-четвертых, всякой причине, которой что-либо причастно, предшествует причина, которой ничто не причастно.1 Вполне последовательно он перенял от Сириана класс форм Единого, которому нечто причастно, которые исходят из него и присутствуют главным образом в Уме, но также и во всякой ипостаси ниже Единого и во всем, исходящем из всякой ипостаси.1 2 Он назвал их «генадами». Понятие «монады» (в действительности синонимичное) было традиционно закреплено за определяющим понятием («главой»), «не допускающим причастности себе» в любом чине или ряде.
1 Plat, theol. 118—121 Portus.
2 О Сириане см.: In Parm. I 34; VI 36 (641, 3—9; 1066, 21 Cousin); Hermias. In Phaedr. 84—87; 121, 19; 152 Couvreur.
* В переводе Л. Ю. Лукомского — «возглавляет». — Примеч. перев.
380
ПОЗДНИЕ НЕОПЛАТОНИКИ
Поскольку Единое есть Бог — и действительно, простота, влекущая за собой неуничтожимость, была знаком божественного, начиная с «Федона», — генады суть качества божественного бытия, которыми необходимо обладает все действительное; или, скорее, согласно логике неоплатонизма, их столько родов, сколько существует родов причастного, и, во-вторых, поскольку они суть само собой сущее, то они суть вещи, а не качества. Поэтому и Прокл последовательно отождествлял их с традиционными эллинскими богами. Они являли собой par excellence пример золотого правила неоплатонической метафизики: «Все во всем, но по-своему».1 Впрочем, следуя этому же принципу, внимательный читатель мог бы обнаружить, что один бог действует более чем на одном уровне в качестве более чем одной генады.
Философия Прокла отличается более радикальным реализмом, чем это кажется большинству современных читателей, и в этом отношении он, пожалуй, превзошел весь предшествующий ему платонизм. Проблема отличения исключительно умозрительного признака от реального свойства, проблема распознавания, что о чем-то неэмпирическом (скажем, о роде, числе или о чувственных данных, если пользоваться современными примерами) справедливо говорить как о существующем, — эта онтологическая проблема может показаться довольно условной. Можно подумать, что ее условность (в форме так называемой проблемы общих понятий) была продемонстрирована аристотелевским учением о категориях или что он вообще не видел в ней проблемы. Впоследствии теоретический вопрос о критерии реальности поставила не столько полемика между аристотеликами и платониками, сколько вмешательство стоиков. Как материалисты, они имели такой критерий, но им был необходим целый класс мысленных объектов, которые не были бы ни материальными, ни не-сущими, но реальность которых состояла бы в том лишь, чтобы быть объектами мысли. Большая часть этого концептуализма, назовем его так, уходит корнями в ортодоксальный аристотелизм — в самом деле, его привнес еще Александр Афродисийский. Прокл, как никто другой, хорошо понимал, что он противоречил духу платонизма. Он критиковал некоторых ранних интерпретаторов «Парменида» как раз за то, что они принимали мыслительные определения, или абстракции, за действительные первоначала, которые они предполагали найти. «Принципы получают существование не из понятий, а из бытия. Где мысль обладает абсолютной властью, там — стоит ей удалить¬
1 πάντα έν πάσιν, άλλ’ οίκείως.
АФИНСКИЙ И АЛЕКСАНДРИЙСКИЙ НЕОПЛАТОНИЗМ
381
ся — постигаемое ею тоже исчезнет. Первоначала суть принципы per se* и не зависят от наших понятий».1 Слово, которое переводится как «бытие», стоит на первом месте в триаде бытие—жизнь (или способность)—ум (или мышление), представляющей собой три аспекта всякого сущего.
Требования, которым формально должно отвечать «первоначало», были описаны Дамаскием. Оно не должно иметь недостатков ни в одном отношении (этот пункт восходит к «Софисту» и, как мы видели, учитывался Порфирием); как следствие, оно не должно ни содержаться ни в каком субъекте (то есть относиться к акцидентальным категориям), ни (что довольно неожиданно) быть частью или состоять из частей, поскольку части нуждаются как друг в друге, так и в целом; и, наконец, оно должно возвращаться к себе и, следовательно, быть составным.1 2 Строго говоря, вот определение Единого. Все, что необходимо для рабочего критерия реальности во множестве, это сделать каждое из требований относительным, а не абсолютным. Душа, например, «имеет недостаток» относительно Ума, но только, так сказать, sub specie aetemitatis.** В качестве Души она уже содержит в себе Ум, равно как ее возвращение есть ее совершенствование как души, хотя также и ее возвращение к Единому. Осмысление этой относительной самостоятельности может, пожалуй, помочь в понимании схоластического и картезианского учения о «совершенствах», которые должны быть совершенствами в роде. Таково учение Прокла о «само-сущести»: «сам-по-себе-сущий», «самодостаточный», «само-совершенный» — часто употребляемые и взаимозаменяемые понятия, характеризующие его философский реализм.3 Это же учение объясняет, каким образом генады суть боги, а не просто свойства божественного. Не попадаем ли мы здесь в круговое доказательство? Вероятно, поскольку само-по-себе- сущее определяет порядок реальности, однако его само-сущесть должна соотноситься с неким определенным порядком. Впрочем, этого, пожалуй, стоило ожидать. Метафизическая схема должна обладать связностью, чтобы быть логичной.
И все же имеется особая сложность, связанная с генадами. В качестве «чина» реальности они уникальны: по определению
1 αί γάρ άρχαί κατ’ έπίνοιαν τήν ύπόστασιν ούκ έχουσιν, άλλα καθ’ ΰπαρξιν... (In Parm. VI 23 (1054, 27—31 Cousin)).
2 Dub. I (p. 19—21 и 23 Ruelle).
3 αύθυπόστατος, αύτάρκης, αύτοτελής.
* Сами по себе {лат.). — Примеч перев.
** С точки зрения вечности {лат.). — Примеч. перев.
382
ПОЗДНИЕ НЕОПЛАТОНИКИ
они суть то, чему нечто причастно; но каким образом они могут быть самими-по-себе-сущими, если они необходимо содержатся в вещах и зависят от того, что им причастно? Если у Прокла и есть ответ, то им может быть только его учение о «частичной причастности», согласно которому одно понятие не содержится в другом — как душа в теле.1 Это возвращение к Богу Порфирия, который повсюду и нигде.1 2 Но странным образом он будто не замечает здесь никакого затруднения.
Поскольку быть действительным значит быть единым, все само-по-себе-сущее обладает соответствующей ему генадой. Таким образом, к богам следует подступаться косвенно, изучая чины и чины внутри чинов реальности. Вот почему значительная часть «Платоновской теологии» посвящена различным триадам, составляющим главную триаду второй ипостаси. Эта главная триада состоит из богов умопостигаемого чина, богов умных (мышление и мысль различны, как было установлено Ямвлихом) и между ними (здесь нововведение) — богов, являющихся одновременно умопостигаемыми и умными. Три ее члена, следовательно, таковы: бытие, или сущность, жизнь, или сила, и ум, или мышление второй ипостаси, Ума вообще, и соответствуют ее постоянству, исхождению и возвращению. При этом каждый из них образует свою собственную триаду бытия, жизни и ума, являя собой, как можно предположить, различные понятия, или категории, такие как множественность, вечность, форма, но при этом совершенные, то есть, согласно Проклу, сами-по-себе-сущие вещи. Поскольку второй чин ипостаси должен также быть причастен первому, а третий — первому и второму, Ум должен состоять из 9 + 27 + 81 членов.3 Впрочем, возможно, у читателя не так много терпения, как у Прокла богов, и мы должны спросить: в чем состоит философская ценность всего этого? Или это только исторический курьез?
Предполагается, что состав этих триад по большей части, хотя и не полностью, основывается на текстах Платона. В самом деле, он включает в себя анализ понятий и их взаимоотношений, которым философия всегда придавала серьезное значение. Задачей Прокловой онтологии было показать, о каких вещах можно сказать, что они обладают независимым существованием, и каков их разумный порядок. Жизнь, которую «Софист» и «Метафизика»
1 Plat, theol. 81.
2 Ср. 140, в частности II 5—7 Dodds.
3 Прокл не рассматривает этот предмет столь методично, подробности были приведены в систему Розаном.
АФИНСКИЙ И АЛЕКСАНДРИЙСКИЙ НЕОПЛАТОНИЗМ
383
приписывали божественному интеллекту и которую неоплатоники рассматривали как силу или активность, помещается между бытием и мышлением по той простой причине, что то, что мыслит, должно быть живым, а не наоборот, и то, что живо, должно существовать.1 Это отношение импликации указывает на сходство (род подобия или единства) терминов, которые оно соотносит, так же как и на их несходство; в противном случае мы бы имели только истинностно-функциональную, или материальную, импликацию, которая невозможна между понятиями. Согласно Проклу, средний член триады А—В—С соединяет несходное, поскольку А подобно В, а В подобно С, но А не подобно С.1 2 И это хотя и не единственная, но все же действенная концепция подобия — подобия, представляющегося нам нетранзитивным отношением. Она применяется, например, в классификации цветов или звуков и, аналогичным образом, в распознавании импликации — вывода, который относится к мышлению, а не предположения, которое относится к объекту и которое транзитивно. Прокл добирается до структуры реальности через структуру мышления. Триада, таким образом, будет иметь следующую форму: х—ху—у. Отсюда порядок вещей, которые одновременно являются умопостигаемыми и познающими и объединяют эти в противном случае несходные аспекты nous.
Вторая гипотеза «Парменида» выявила, что концепция чего-то действительного, то есть того, что мыслится как единое и существующее, влечет за собой концепцию целого, состоящего из частей (а именно, единства и существования), а потом и концепцию неопределенного множества (а именно, бесконечного дробления частей, каждая из которых тоже есть целое). Легко увидеть — и нет оснований считать, что этого не сделал Платон, — что понятие видов подпадает под понятие целого, а понятие индивидуальных сущностей — под понятие неопределенного множества. «Целое, имеющее части» есть видовое понятие для введенного Проклом промежуточного чина «умопостигаемое—умное». Он является категорией, которая не только «порождает виды», но и внутри которой впервые появляется число. Родовое понятие, от которого зависит число, есть множество, и в этом смысле оно существовало в умопостигаемом чине, но лишь «скрытым образом» или «в качестве причины», а не как «актуальное» число.3 Оно также
1 Plat, theol. 101.
2 Ibid. 123 fin.—124 in.
3 κρυφίως, κατ’ αιτίαν, а не καθ’ ϋπαρξιν. Это систематическое различие превратилось в eminenter и formaliter схоластов.
384
ПОЗДНИЕ НЕОПЛАТОНИКИ
подразумевает ограничение, или «предел», который является необходимым условием всякой определенной идеи; и Прокл придерживался пифагорейства «Филеба», говоря о «числе» там, где мы бы говорили о классах, — отсюда особая форма, которую приняло второе его напоминание: «Каждая монада возглавляет однородное с ней множество».1
Идеи, которые мы обнаруживаем в этой и остальных ипостасях, в целом неоригинальны, но дополняют те, которые, согласно Плотину, принадлежали еще Платону. Иногда Прокл в открытую не соглашается с традицией. Время не порождается душой, поскольку так же, как душа есть образ ума, время есть образ вечности, предшествующей уму (который ей причастен).1 2 Это наглядно демонстрирует, что свойственная неоплатоникам зависимость от авторитетов не мешала им быть философами. Достоверно известно, что в «Тимее» время помещалось «за пределы» мира и его души, а в халдейских оракулах обожествлялось, и Прокл учитывает оба этих факта.3 Однако основаниями для его выводов служат логические соотношения указанных четырех понятий. Как бы то ни было, большая часть философских аргументов была традиционной, так что она либо не приводится, либо присутствует, но косвенно, и — страница за страницей — слишком многое в бесстрастных писаниях этих серьезных мужей принимается без доказательств. Это стоит отметить.
Если существующее Единое рассматривалось как то, что предполагает целое, имеющее части, а последнее, в свою очередь, как бесконечное множество, то, возможно, кто-нибудь удивится, что это не поставило их в обратном порядке логической очередности. С другой стороны, причина, по которой второе считается «исхо- ждением» и «нисхождением» из первого, состоит в том, что в некотором смысле мысль нуждается в составном целом, однако не высшая мысль, которая, насколько нам известно, должна быть логически проста. То, что обнаруживает рефлексия, стоит ниже того, что можно фактически назвать едино-мыслием, подобно тому как некто читает лучше, — этот образ принадлежит Плотину, — когда не осознает себя читающим.4 О логической очередности Прокл тоже позаботился, поставив целостность порядком выше.
1 О первенстве числа над видами см. Plat, theol. 226.
2 In Tim. Ill 27, 18—24 (таково возражение Плотина, взгляды которого на время см. в разделе III, гл. 16 А, с. 319—320).
3 In Tim. Ill 3, 32—34, 6; 27, 8—12.
4 Об этом см. раздел III, гл. 14, с. 293.
АФИНСКИЙ И АЛЕКСАНДРИЙСКИЙ НЕОПЛАТОНИЗМ
385
Однако именно рефлексия обнаруживает, что высшие понятия являются необходимыми условиями низших. Вот почему Прокл называл низший член всякого исхождения мышлением и в то же время говорил, что оно соответствует возвращению. Верно ли в таком случае, что это мы возвращаемся к Единому в своем мышлении, а не сами-по-себе-сущие объекты нашей мысли? Сущность неоплатонизма в том и состоит, что такое простое и безоговорочное различие вообще нельзя провести. Когда Прокл излагает два платоновских метода описания Единого, аналогический и отрицательный, он представляет их как возвращение вещей} И все же он слишком многому научился у Ямвлиха, чтобы вернуться к позиции Порфирия. Восхождение души есть ее собирание в единство традиционным путем аскетизма и диалектики; единство, которым она становится, есть ее генада. Это новое учение, поскольку генада души есть не ум, а причастное Единому;1 2 следующая же ступень, слияние с ничему не причастным Единым, лежит за пределами возможностей ума и совершается с помощью теургии. В самом деле, нисхождение даже к земной сфере богов в форме генад есть то, что является причиной физических «симпатий» и что делает возможной теургию.3 Прокл любил цитировать: «Все вещи молятся, кроме Первой»,4 поскольку «молитва есть такое обращение к Богу, каким подсолнух обращается к солнцу, а лунный камень к луне».5 Сосредоточенность на генаде не оставляет без внимания ум, поскольку душа, которой предстоит достичь единства, содержит ум, которому нечто причастно и который и должен будет соединиться.6 И все же она указывает на относительную автономию души как самой-по-себе-сущей вещи, которая может обрести спасение, минуя «сворачивание» ипостасей. «Я» в действительности таково: «Мы, — говорит Прокл, — не есть только ум (или рассудок), но
1 Plat, theol. 93, 2А—94 fin.
2 Прокл и его последователи часто называют это «вершиной» (άκρότης, τό άκρότατον) или «цветком (άνθος) души», подражая халдейскому выражению (Kroll W. De oraculis Chaldaicis. Breslau, 1894. S. 11) «цветок ума». Наиболее ясное описание см. в In Alcib. 519 Cousin (р. 114 Westerink). Однако вносит сумятицу то, что «вершина» также означает любой первый термин.
3 Plat, theol. 140; In Remp. II 232 ff. Cp.: Iambi. ap. Proclus. In Tim. I 209.
4 Из Феодора Асинского: In Tim. I 213, 3; De magia // Cat. MSS. alchimiques grecs / ed. J. Bidez. 1928. Vol. VI. P. 147.
5 De magia. P. 148; cp.: Damasc. Vit. Is. 1296b—c Migne (p. 7 Asmus); Olymp. In Alcib. 18, 10—19, 4 Creuzer (p. 14 Westerink).
6 Пожалуй, Прокл избежал того затруднения, что Душа должна быть причастной Единому посредством промежуточной ипостаси, только допустив, как и Ямвлих, что это не относится к богам (In Tim. I 209).
386
ПОЗДНИЕ НЕОПЛАТОНИКИ
также и мысль, вера, внимание, выбор и прежде этих способностей — сущность, которая есть единое и многое».1 Обожествление представляется возможным, то есть сравнительно независимым от универсума. Индивидууму не придется, так сказать, покидать универсум, хотя он, конечно, лишится самоидентификации: такова цель.1 2
В написанной Дамаскием биографии его учителя Исидора3 встречаются увлекательные, хотя и отрывочные сцены из жизни афинской школы после смерти Прокла. Исидор «не желал поклоняться образам, а предпочитал напрямую обращаться к богам, сокрытым внутри — не в храмовых святилищах, а в тайных глубинах незнания».4 Возможно, именно у него Дамаский научился подчеркивать трансцендентность и невыразимость Единого. Это явно видно из начального раздела его единственного дошедшего до нас философского сочинения, называемого «О первых началах».5 Однако он лишь более пространно изложил то, что высказал Прокл столь же возвышенным («более невыразимо, чем молчание»), но более лаконичным слогом.6 Книга в целом касается тех же предметов, что и «Платоновская теология», и имеет форму комментария к «Пармениду». Дело не в том, что Дамаский был незначительным философом, но даже если бы мы рассмотрели его трактовку последних гипотез, на которые у Прокла не хватило времени, нам осталось бы только повторить то, что мы уже говорили в адрес его предшественников. Он был последним правопреемником официального платонизма. Через год или два после закрытия школы в 529 г. он вместе с Симпликием и другими отправился ко двору персидского царя Хосрова.
1 Eclogae е Proclo De philos. Chald. / ed. A. Jahn. Halle, 1891. S. 4, 25—27 (цитируется наряду с другими относящимися к делу текстами в: Grondijs L. Н. L’ame, le nous et les henades dans la theologie de Proclus // Mededelingen der koninklijke nederlandse Akademie van Wetenschappen. Afd. Letterkunde. 1960. N 23. S. 131); In Parm. Ill 225 (957, 35—958, 4 Cousin).
2 In Tim. 1211,24—212, 1.
3 Частично сохранена в Phot. Bibl. Cod. 242 (PG 1249—1305) и Lex Souda / ed. E. Zintzen. Hildesheim, 1965; восстановлена и переведена на немецкий язык Асмусом (Leipzig, 1911).
4 1260а—b Migne (26, 4—8 Asmus). Ср. отношение Плотина к внешним религиозным обрядам, раздел III, гл. 12, с. 268—269.
5 У нас также имеются конспекты лекций о «Филебе» одного его не очень прилежного ученика (Damascius: Lectures on the Philebus, wrongly attributed to Olympiodorus / ed. L. G. Westerink. Amsterdam, 1959).
6 Plat, theol. 103—105, 109—110.
АФИНСКИЙ И АЛЕКСАНДРИЙСКИЙ НЕОПЛАТОНИЗМ
387
СООТВЕТСТВИЕ МЕЖДУ ТРИАДАМИ В АФИНСКОЙ ШКОЛЕ
(2)
(1)
A. Бытие (όν, ουσία)
Б. Существование (ΰπαρξις)
B. Постоянство (μονή)
Г. Мыслимое (νοητόν)
Д. Отец (πατήρ)
Е. Существующее Единое (εν όν)
Ж. Предел (πέρας)
3. Соразмерность (συμμετρία)
Жизнь (ζωή)
Способность
(δύναμις)
Движение вперед (πρόοδος)
Мыслимое и мышление (νοητόν καί νόησις, νοητόν καί νοερόν)
Отец и мать (πατήρ καί μήτηρ)
Целое, имеющее части (όλον εκ μερών)
Беспредельность
(άπειρία)
Истина (άλήθεια)
(3)
Ум (νους)
Ум (νους — также = деятельность, ενέργεια)
Возвращение
(επιστροφή)
Мышление (νόησις, τό νοερόν — также = описание, ειδοποίησις)
Мать (μήτηρ)
Бесконечное множество (άπειρον πλήθος)
Смешение (μικτόν) Красота (κάλλος)
Горизонтальные линии (строки) представляют собой проявления каждой реальности, однако важно, что никакие два понятия, к какому бы столбцу они ни принадлежали, не идентичны; одно, например, «характеризует» другое (Ср.: «Платоновская теология» (174—180)). А и Б в определенной мере основаны на «Софисте» Платона (247е, 249а), Е — на «Пармениде» (142Ь—143а), Ж — на «Филебе» (16с и далее), 3 — также на «Филебе» (65а). Список триад неполон.
В. Неоплатонизм в Александрии
В Александрии мы ничего не слышим о неоплатонической философии вплоть до V века. По большей части она была завезена из Афин. Со времен Сириана стало обычным делом, что философы выступали с лекциями в обоих городах. Александрийский препо¬
388
ПОЗДНИЕ НЕОПЛАТОНИКИ
даватель был женат на его дочери, Исидор женился на знаменитой языческой мученице Гипатии (ум. 415), которая не только была математиком, но и преподавала философию, хотя, согласно биографу, «уступала Исидору и как женщина мужчине, и как геометр философу».1 Платонизм, какой мы встречаем у Синезия, ее ученика, прост и предположительно восходит к Средней Академии, вероятно через Порфирия.1 2 Это вполне отвечало стилю писавшихся им belles lettres. Должно быть, вскоре после этого лекции в Александрии читал Гиерокл. По его собственным словам, он был учеником Плутарха (ум. 431 или 432), а также автором дошедшего до нас комментария к пифагорейским «Золотым стихам» и частично сохранившегося трактата о провидении, который не внес ничего нового в философию того времени.* Примечательно, что, хотя в этих сочинениях то и дело упоминаются исхождения, возвращения, излучения, порядки и триады, их автор ничего, кажется, не знает выше Ума. Вероятно, это можно было бы объяснить, причислив его к неопифагорейцам, учения которых Ямвлих и Феодор Асинский пытались сочетать с идеями Плотина и Порфирия. Несколько очевидных параллелей с Проклом указывают лишь на то, что Ямвлих был их общим источником.
Едва ли Гиерокл мог оставить без внимания Единое. И все же, противопоставляя незатейливость и прямолинейность александрийского неоплатонизма тщательности и «спекулятивности» афинской метафизики, не следует забывать одного простого, но неопровержимого факта: у нас нет александрийской метафизики. Большинство александрийцев следовало принципу, что Аристотеля следует изучать как введение к Платону и что «Алкивиад», «Горгий» и «Федон» являются преамбулой к метафизическим диалогам.3 Что дошло до нас? Лекции нескольких авторов по логике и психологии Аристотеля и лекции одного автора об «Алкивиаде», «Горгии» и «Федоне» Платона. И «сверхсущие генады» имеют в комментарии Олимпиодора не меньшее значе¬
1 Damasc. Vit. Is. 1285с Migne (97, 32—35 Asmus).
2 De prov. 19 (Opuscula / ed. N. Terzaghi. Rome, 1944. P. 79 if.; PG 66.1225—1228).
3 Например: Elias. In Cat. 123, 7—11 Busse (CAG XVIII) по поводу Аристотеля. О Платоне см.: Westerink L. G. Anonymous Prolegomena to Platonic Philosophy. Amsterdam, 1962. P. XXXVII—XL.
* Можно, правда, отметить его утверждение о том, что провидение и свобода воли (а следовательно, награда и воздаяние после смерти) распространяются на людей как на индивидуумов и на зверей как на вид (Phot. Bibl. cod. 251, 466а fin. (PG 104. 96b); Comm, in aur. carm. XI 17—20 (444a) Mullach). —Примеч. A. X. Армстронга к изданию 1970 г.
АФИНСКИЙ И АЛЕКСАНДРИЙСКИЙ НЕОПЛАТОНИЗМ
389
ние, чем в комментарии Прокла. С другой стороны, нам не с чем сравнить (если не считать Симпликия) их изложение «Органона» и «О душе» и оценить привнесенные ими новшества. Этому обстоятельству мы должны противопоставить другой, хорошо известный факт. В Александрии в гораздо большей степени, чем в Греции, и преподаватели и студенты нередко были христианами. Здесь не идет речь о взаимных уступках двух идеологий1 (влияние христианства обнаруживается лишь в нескольких фрагментах), однако это наблюдение может помочь разрешить проблему александрийской метафизики. Вполне может статься, что тамошние платоники были менее склонны выбирать между тонкостями тех или других систем.* Будучи согласны с общими принципами неоплатонизма, они, скорее всего, подходили к каждому отдельному тексту прагматично: если нужно было прояснить «Федра», то за образец брался Сириан, если «Алкивиада», то Прокл.1 2 А погружаясь в психологию и логику Аристотеля, они и вовсе были свободны от идеологического напряжения. И по большей части так оно и было: дело не в том, что тексты их утрачены, а в том, что они не писали платоновских теологий и комментариев к «Тимею».
И все же вряд ли мы должны принимать аргументацию Прех- тера, согласно которой классическую форму александрийский платонизм обрел в школе Аммония (вторая половина V века), представлявшей собой отличную от Плотиновой версию Ори- гена и Лонгина.3 Это предположение основывается на неверном прочтении теологического отступления, которое сделал Симпли- кий в своем комментарии к «Энхиридиону» Эпиктета.4 Первоначалом там является не демиург, который есть Ум, как решил Прехтер, а Единое, которое выше Ума;5 и его не называют (даже с оговорками) «человеколюбивым», «господином» и так далее.6 Предположения Прехтера не подтверждает и Асклепиева интерпретация Аммония, в особенности если сопоставлять сход¬
1 См.: WesterinkL. G. Loc. cit. Р. X—XXV; также раздел VI, гл. 31 Б, с. 564—
565.
2 Hermias. In Phaedr. — ничем или почти ничем не отличается от Сириана.
3 См. «Hierocles» и «Simplicius» в RE.
4 95—101 Dtibner (S. 356—378 Schweighauser).
5 100,39 ff. Dtibner (S. 371 ff. Schweighauser). В этой школе идеи традиционно назывались δημιουργικοί λόγοι. Об Уме как демиурге у Плотина см. раздел III, гл. 16 А, с. 320.
6 101, 35—38 Dtibner (S. 376 Schweighauser).
* Комментарий Гиерокла к «Золотым стихам» сочетает в себе этику стоиков и неоплатонические клише. — Примеч. А. X. Армстронга к изданию 1970 г.
390
ПОЗДНИЕ НЕОПЛАТОНИКИ
ные места, основываясь только на первой половине комментария Сириана. Однако будем осторожны с выводами: с внесением в учебники по истории философии сведений о том, что доплотинов- ский платонизм оставался жив, стоит повременить.
Характерное для греко-римской культуры желание полагаться на более ранние образцы достигло апогея у александрийских преподавателей. В силу этого обстоятельства при их изучении не имеет смысла следовать хронологическому порядку. Их вклад в философию, состоящий в интерпретации и распространении психологии и логики Аристотеля, следует рассматривать как одно целое, представляющее собой по большому счету компиляцию из предшествующих трудов.
Наиболее значительна фигура Аммония Гермия. Он был зятем Сириана и слушал лекции Прокла по аристотелевской логике до того, как получил кафедру в Александрии, из чего следует, что он преподавал во второй половине V века. Ничего более определенного нам не известно. Его интерпретация Аристотеля господствовала вплоть до Симпликия, и в большей степени, чем о том свидетельствует библиотечный каталог. Сохранились его комментарии к началам логики, хотя комментарии, подписанные именем Филопона, к «Категориям», «Аналитикам», «Физике», «О возникновении и уничтожении», «О душе» и, вероятно, «Метеорологике» являются конспектами лекций Аммония с добавленными к ним пояснениями Филопона.1 Это не было тайной, однако что здесь было от учителя, а что от ученика, нигде не указывалось. Лекции Аммония о «Метафизике» частично цитируются Асклепием. Его трактовка, не оказавшая влияния на неоплатонизм, как и на большую часть ученых сочинений Симпликия, не представляет для нас интереса. И все же об одной предпринятой Аммонием попытке согласовать Платона и Аристотеля стоит упомянуть, поскольку ее исторические последствия превзошли ее достоинства. Он утверждал, что под перводвижителем Аристотель имел в виду действующую причину. Его аргумент (если он действительно принадлежит ему), согласно которому из второй книги «Физики» (194Ь29—33) следует, что причина изменения есть действующая причина, просто глуп, а вот его истолкование аристотелевского учения о Боге интересно: похоже, что действующие причины действуют во времени, тогда как первая причина и ее действие — движение небес — вечны.1 2
1 Греческий текст In De an. Ill сейчас приписывают Стефану Александрийскому (первая половина VII века).
2 Simpl. In Phys. 1360—1363 Diels.
АФИНСКИЙ И АЛЕКСАНДРИЙСКИЙ НЕОПЛАТОНИЗМ
391
Симпликий принимал это, однако не мог позволить, чтобы предположение Филопона о том, что надлунный мир следует тем же физическим законам, что и подлунный, разрушило систему.1
Среди учеников Аммония, ставших профессиональными философами, — христианин-монофизит Филопон, лишь косвенно попадающий в поле нашего рассмотрения,1 2 и Олимпиодор, известный своими «этическими» комментариями к Платону — вторичными и не заслуживающими внимания в философском отношении. Ряд комментариев к аристотелевской логике Элия и Давида явным образом строятся на творчестве Олимпиодора. Его более выдающийся ученик, Симпликий Киликийский, несомненно, именно в Александрии почерпнул свои познания в логике и, вероятно, также свой хрестоматийный подход (отличный от исторического подхода) к текстам Аристотеля. Впрочем, он также учился у Дамаския, и философия, которую он перенял без оглядки, так же как и его почтение перед Ямвлихом, — родом из афинской школы. То ли потому, что он находился в этой школе, когда Юстиниан закрыл ее в 529 г., то ли просто потому, что был другом Дамаския, но год или два он провел с последним в Персии. Его язычество впоследствии закрыло для него путь к преподаванию, что, в свою очередь, сделало его комментарии к Аристотелю («Категориям», «Физике», «О небе», «О душе») столь изучаемыми и обсуждаемыми.
Положение XXVII из книги Эпиктета позволило Симпликию в полной мере развернуть неоплатоническое учение о зле. О природе и происхождении зла учил всякий еще задолго до знаменитого очерка Плотина (I 8 [51]), и невозможно определить, что нового привнес тот или иной автор. Позиция Симпликия очень близка позиции Прокла, но она характерна для всех неоплатоников.3 Если мы проанализируем ее, то обнаружим, что она представляет собой теоретическое построение, составленное из следующих платонических, перипатетических и стоических воззрений. (1) Форма не способна полностью подчинить себе материю («Тимей»); (2) материя лишена качеств («Тимей» и стоики); (3) зло лишь пред¬
1 In De caelo 87—89 Heiberg (CAG VII). См. далее: Sambursky S. The Physical World of Late Antiquity. Ch. VI (хотя он преувеличивает научное значение Филопона).
2 О Филопоне см. раздел VI, гл. 31 Б, с. 564—571.
3 Simpl. In Enchirid. 69—81 Diibner (S. 162—187 Schweighauser); Proclus. De mal. subsist.; см. далее: Schroder E. Plotins Abhandlung ΠΟΘΕΝ ΤΑ ΚΑΚΑ. Rostock, 1915; Boma—Leipzig, 1916. S. 186—206. Плотиновское учение о материи как начале зла см. в разделе III, гл. 16 А, с. 324—326.
392
ПОЗДНИЕ НЕОПЛАТОНИКИ
ставляется таковым, поскольку в контексте целого оно более не есть зло («Законы» VII и X и стоики); (4) душа есть причина зла («Законы» X); (5) Бог не есть его причина («Государство» и «Тимей»); (6) лишенность не есть противоположность чего-нибудь (Аристотель); (7) конечные причины суть формы и энтелехии (Аристотель); (8) неудачи не имеют целей, поскольку непреднамеренны (стоики).
Что в этом нового по сравнению с Плотином? Очевидно, что материя не является источником зла; ложный вывод из (1) невозможен, как заметил Порфирий, благодаря (2) и (3). Исключается и альтернативное объяснение зла как логически необходимого для придания смысла идеи блага. Такое предположение прозвучало в «Теэтете» (176а), а затем несколько раз воспроизводилось стоиками и Плотином. Зло тем самым представляется необходимым, но лишь косвенно: материя и лишенность суть обязательные условия для него, потому что все вытекает из Единого, включая, причем в первую очередь, неопределенность. Это Симпликий истолковал знаменитую позицию демиурга таким образом, что, мол, небеса были бы несовершенны, если бы не содержали смертных существ, хотя на самом деле Платон, наверное, имел в виду как раз логическую необходимость.* 1 Не вызывало разногласий утверждение, что зло обладает квазисуществованием: оно «параипостась» (parahypostasis). Нет ничего, что было бы абсолютным злом, а то, что есть зло, есть следствие свободного выбора индивидов. Здесь нет места ни для Плотиновой «непрестанно мыслящей души» в нас, ни для злого духа гностиков в числе первоначал. Однако проблема зла в теодицее не обходилась вниманием неоплатониками. Бог не в ответе за зло. Но он в ответе за свободную волю, которая чревата «отвращением от блага», правда и это, говорили они, происходит ради большего блага.
Считалось, что из свободы воли вытекает случайность суждений о будущем. Основание для примирения этого утверждения с божественным провидением было заложено Ямвлихом, который считал, что познание и познанный объект — две разные вещи.2 Интерес к логике впоследствии заострил внимание на различиях между необходимостью и возможностью, установленных Аристотелем и Теофрастом. Афинская школа также исследовала время и вечность. Все три этих момента собраны воедино в V кни¬
1 Simpl. In Phys. 249, 26—250, 5 Diels; Tim. 41b.
1 Ammon. In De int. 135, 14 Busse (CAG IV 5); cp.: Proclus. De prov. et fato. § 62—65 Boese (col. 193—195 Cousin, 1864); In Parm. Ill 224 (956, 30 ff. Cousin).
АФИНСКИЙ И АЛЕКСАНДРИЙСКИЙ НЕОПЛАТОНИЗМ
393
ге «Утешения философией», представляющей собой окончательное решение этой проблемы неоплатониками.1 В философском отношении оно более сложно, чем у Августина. Проведя различия между степенями познания и градациями предметов познания, Боэций заявил, что (1) вечность Бога имеет вневременной характер, а потому необходимо наделена бесконечностью движущегося времени (прошлого и настоящего); (2) поэтому его praevidentia (предвидение), которая в действительности есть providentia (провидение), делает свои объекты необходимыми не в большей мере, чем наше наблюдение за происходящим делает необходимым то, что происходит (Аммоний прибавил, что, поскольку будущее может быть тем или иным, боги необходимым образом знают его); (3) необходимость, которая прилагается к событиям, не абсолютна («Все люди смертны»), а условна («Если известно, что А идет, он необходимым образом идет»); этот вид необходимости не следует из природы — non propria facit natura sed condicionis necessitas,* — так что, к примеру, тот, кто идет по своей воле, не принуждаем идти необходимостью, но в то время, пока он идет, он идет необходимо.
Г. Ассимиляция логики Аристотеля
Аристотелевская логика особенно интересовала школу Аммония, хотя этому предшествовала длительная традиция ассимиляции. Средняя Академия признала аристотелевские понятия, Плотин исследовал их диалектически, а Порфирий, как известно, восстановил их с уточнениями, но в той образцовой форме, которую они удерживали до тех пор, пока Боэций не передал их в неизменном виде латинскому Западу.1 2 Нас будут интересовать восстановление и уточнения, поскольку мы должны объяснить, каким образом метафизически ориентированные неоплатоники пришли к более формальной, автономной и «номиналистической» логике, чем логика Аристотеля. Это можно наблюдать у Порфирия, а со¬
1 Ср.: Ammon. In De int. 135, 12—137, 11. Однако доводы Курселя (Courcelle Р Les lettres grecques en Occident. Paris, 1948. P. 288 ff.) в пользу того, что Боэций (ок. 480—525) учился в Александрии, неубедительны; см. об этом раздел VII («Западная христианская мысль от Боэция до Ансельма»), гл. 35 Г, с. 645—647.
2 «Изагог» был обычной частью учебной программы в Антиохии к 370 г. (Hieron. Ер. L ad init.).
* Природа производит не необходимые свойства, а необходимые условия {лат.). — Примеч. перев.
394
ПОЗДНИЕ НЕОПЛАТОНИКИ
временный взгляд, согласно которому этот парадокс следует приписать влиянию стоиков, основывается скорее на предубеждениях, чем на исторических свидетельствах.1
Логика Аристотеля это логика понятий. Ее внелогическими основаниями являются учения о категориях и предикабилиях. Первое классифицирует понятия абсолютно или если не вовсе независимо от высказываний, то независимо от их истинности. Предикабилии (в «Топике») суть способы, какими понятия пре- дицируются, и зависят от истинности высказываний — вполне приемлемо для Аристотеля, поскольку определение не просто соотносит понятия, но описывает природу; они фундаментальны, поскольку представляют собой формальные отношения классификации родов и видов, или элементов Булевой алгебры. Однако два этих учения вступают в противоречие на нелогическом, метафизическом уровне, как можно убедиться на примере видовых отличий. Например, белый цвет может быть только качеством, однако, когда он есть видовое отличие, он предицируется «соименно»,1 2 что не позволяет ему быть в субъекте и, следовательно, быть качеством.3 Этому затруднению, которое ощущалось уже во времена Аристотеля, античными комментаторами уделялось больше внимания, чем современными.4 Но неоплатоники видели в этом симптом более тяжелого недуга.
Каким образом какое-либо свойство могло принадлежать сущности чего-либо? Согласно аристотеликам, видовое отличие должно быть внеположно роду, но это означает, что вид является сущностью только наполовину, поскольку род есть то, откуда он получает свое «бытие». (Ответ Аристотеля, который гласит, что вид даже и не делится на субъект и предикат, поскольку он есть форма и соответствующая ей материя, в действительности замкнут на себя, поскольку не дает никакого независимого критерия соответствия.) Другой вариант, согласно которому видовое отличие принадлежит роду, не позволяет определенно говорить о его и о вышестоящих видах. На самом деле такой вид, «в котором имеется нечто предшествующее и нечто последующее», подобно трем видам души или числам, вообще, согласно Аристотелю, не
1 См. далее: Lloyd А. С. Neoplatonic and Aristotelian logic // Phronesis. 1955— 1956. I. P. 58—72, 146—160; несколько иной взгляд см. в работе: Rutten С. Categories du monde sensible dans les Enn0ades de Plotin. Paris, 1961.
2 κατά τον λόγον ώς λόγον. См.: Arist. Cat. ЗаЗЗ—34, Ь9.
Mbid. 2а30—31.
4 Arist. Top. 128a20—29; cp. 122b 16; Simpl. In Cat. 48, 1—11. По поводу неоплатоников см.: Phronesis. Loc. cit. P. 154.
АФИНСКИЙ И АЛЕКСАНДРИЙСКИЙ НЕОПЛАТОНИЗМ
395
имеет родового понятия;1 и тем не менее порядок следования при переходе от вида к роду есть именно то, чего требовал платонизм. Таким образом, дилемма состояла в том, чтобы либо спасать логику ценой метафизики (сущностей), приняв аристотелевские genera, либо спасать метафизику ценой логики. И, по правде сказать, вопрос стоял еще более радикально. Аристотелевская логика «свернула» роды и подчиненные им роды в виды, поскольку была всего лишь школьной алгеброй; с другой стороны, если род (будучи неопределенным) не мог сказываться обо всем, что подлежало ему, неоплатоническая цепь бытия теряла смысл.
Неоплатоники нашли решение у самого Аристотеля. Первый член упорядоченной последовательности не выводится однозначно из последующих членов, но Аристотель выделил класс понятий, которые как не были однозначными, так не были и двусмысленными, а именно те ad unum и ab uno, которые были обязаны своими значениями тому, что обладало им изначально или par excellence. Как Единое, так и бытие являются, согласно «Метафизике», понятиями такого рода.1 2 Неоплатоники, насколько нам известно, не говорили этого об обычных родах, но лишь тогда, когда возникала нужда,3 и существует множество свидетельств того, что они заменяли отношение рода и вида иным. Наиболее наглядным является случай, когда исхождение, или излучение, заменяет собой причастность, поскольку это структурное различие является логическим обозначением отличия исхождения от причастности.
На самом деле они допускали одновременно обе схемы, каждая из которых содержала в себе свой собственный первый термин. Затянувшийся спор относительно актуальности и потенциальности отличительных признаков был разрешен Аммонием: платоники имели в виду род как «предшествующий многим», арестотели- ки — «род во многих».4 Однако школьный вопрос «В чем состоит предмет логики?» должен был получить ответ, не предполагавший трех видов целого, обнаруженных в «Пармениде». О категориях, с которых все началось, было сказано, что они суть не слова и не
1 Met. В 999а6 f.; Pol. 1275а34—38; De an. 414b20—25.
2Г 1,Е 1,КЗ.
3 Таково было одно из значений «рода» в «Изагоге» (ad init.), и Аммоний неслучайно говорит, что понятия отношения включали в себя причину и следствие (In Isag. 50, 7—9 Busse (CAG IV 3)).
4 Ammon. In Isag. 104, 27—105, 13. Cm.: Phronesis. Loc. cit. P. 153—154.
396
ПОЗДНИЕ НЕОПЛАТОНИКИ
вещи, а слова, означающие вещи.1 А то, что изначально обозначается, суть понятия разума;1 2 этот аргумент использовался против возражений, которые представляли «Категории» либо как плохую грамматику, либо как дурную метафизику; это был шаг вперед по сравнению с тем, что когда-либо явно высказывалось Аристотелем относительно логики как отдельной ветви философии.3 У этой новой логики, вовсе не платонической, было гораздо меньше обязательств перед метафизикой, чем у логики Аристотеля. Если кто и сделал вид пятой предикабилией, то это не Порфирий (несмотря на возражения историков), «Изагог» которого имел своей целью лишь описание понятий, необходимых для понимания «Категорий».4
Признаком возрастания автономии этой дисциплины было то, что неоплатоники вывели ее далеко за пределы «Аналитик», подвергнув рассмотрению гипотетические силлогизмы; они не были монополизированы Стоей, а их классификация сохранилась еще со времен Аммония.5 Даже император Юлиан принял участие в традиционном споре о сведении второй и третьей фигур категорических силлогизмов к первой.6 И все же школа не совершила каких-либо плодотворных открытий в области формальной логики.
1 φωναί σημαντικαί των πραγμάτων: Porph. In Cat. 56, 34 ff. Busse (CAG IV 1); ap. Simpl. In Cat. 10, 21—11, 29; πράγματα используется здесь не в стоическом смысле.
2 νοήματα: Dexippus. In Cat. I 3, p. 6—10 Busse (CAG IV 2).
3 Cp.: Simpl. In Cat. II 33 David; In Isag. 120, 19—121, 2; 125, 7—126, 1 Busse.
4 Phronesis. Loc. cit. P. 156. О значении видов в качестве предикатов см.: Joseph Н. W В. Introduction to Logic. Oxford, 1916. P. 106—110.
5 In An pr. 68 Wallies (CAG IV 6).
6 Cm.: PraechterK. Maximus // RE. 1930. XIV/2. Col. 2567—2568.
Эпилог
ФИЛОСОФСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НЕОПЛАТОНИЗМА
Легко обнаружить, что период языческого платонизма завершает один из необходимых «диалектических» процессов. Восприятие Аристотеля преобразовало платонизм. Однако только теперь, увидев, как была встречена аристотелевская логика, мы можем составить себе более или менее полную картину неоплатонизма. Акцент на понятии ad unum или ab uno, которым Аристотель в книге Е «Метафизики» охарактеризовал всеобщую науку о бытии, имеет основополагающее значение. Мы допустили бы лишь небольшое преувеличение, назвав неоплатонизм затянувшимся комментарием к положению, высказанному в пифагорейском ключе: «Общее в том смысле, что оно первое» (1026а30). Парадоксом неоплатонизма является понятие эманации, или исхождения, в котором причина производит следствие и при этом не содержит его в себе, однако и не просто предшествует ему во времени, поскольку рассудок, напротив, способен выводить причину из следствия. Опять- таки понятие, составляющее причину, логически проще следствия, предшествующее логически проще последующего. Не является ли такое представление о причинности антропоморфным? Возможно, однако, к чести неоплатоников, они не считали это существенным. Развивая философию Плотина, его последователи не стали разрешать этого парадокса, а поместили его в один ряд с более привычными философскими положениями.
Система V века прежде всего представляет собой рационализм в том же смысле, в каком называют рационалистами Декарта и Гегеля. Степени реальности совпали с простыми понятиями, и это позволило совместить порядок реальности с логическим порядком: проанализировать понятие означает найти те элементы, которые предшествуют ему и образуют собой его сложный состав.
398
ПОЗДНИЕ НЕОПЛАТОНИКИ
Подобный рационализм необходимым образом делает отношения внутренними, поскольку единственная истина, которую он признает, принадлежит тому, что Юм называл отношениями идей. Золотое правило «Все во всем, но по-своему» двояко являло собой пример учения о внутренних отношениях. Во-первых, всякая сущность должна быть определена исходя из (и, следовательно, как мысль, через включение в себя) всего того, чем она не является: Прокл обнаружил это в «Софисте», а Гегель нашел у Прокла; во-вторых, уточнение «по-своему» вытекает из учения о том, что различие в отношении или в субъекте предполагает различие в качестве, которым обладает субъект. Этот момент можно прояснить сравнением с тем, как Лейбниц применял это правило к тому, что он называл монадами. Полезно также сопоставить двойную структуру аристотелевских родов, подчиняющихся формальной логике, и платоновских видов, не подчиняющихся ей, с гегелевскими «понятиями» и «универсалиями».
По-видимому, этот рационализм отступил на задний план и вылился в смежную монистическую концепцию. Если простота, единство и целостность суть признаки реальности, то части целого и составные целые могут иметь лишь статус явлений — таковы низшие ипостаси у Порфирия, — а из этого непосредственно вытекает позиция идеализма. Если существуют иллюзии, то чем иным они могут быть, как не иллюзиями мышления? Однако после Порфирия всякому движению в сторону идеализма оказывалось сопротивление; Бытие заняло прочное положение над Мышлением (Умом), в чем Плотин сомневался, а благодаря Ямвлиху преимущество мысли над мышлением было описано систематически. Кстати сказать, здесь перед нами удачный пример того, в сколь разнообразных обличиях могут представать философские вопросы. Какое место и в какой ипостаси занимал демиург? Тот огромный объем чернил, ушедший на решение этого вопроса, на первый взгляд может показаться следствием безумной комментаторской дотошности, а по сути дела за этим скрывается проблема отношения мышления к своему объекту.1
Как бы то ни было, существует тенденция движения в обратном направлении. Ее можно назвать «романтической» за ее антиинтеллектуализм и за то, что она использовала язык поэзии и религии в отношении абстрактной философии. Даже после того, как Порфирий отверг аристотелевский взгляд на Бога, или высший принцип, как на тождество мысли и ее объекта, он еще мог
1 Это заметил Доддс: Proclus. El. theol. Р. 285—287.
ФИЛОСОФСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НЕОПЛАТОНИЗМА
399
предположить, что Единое, превосходящее мысль, есть единство, которое не есть мысль, но достигается в мысли. Следующее поколение в лице Ямвлиха и Феодора полностью отказалось от этого предположения, и в этом состояло одно из предназначений нового понятия «не допускающего себе причастности». Сложно — хотя неоплатонизм и должен был это сделать — назвать приписываемое Уму «едино-мыслие» разумным. Что же касается мистического союза с Единым, то здесь все однозначно: он не только невыразим, но и отрицает мысль; более того, он отрицает и сознание, и неоплатоники прямо об этом заявляли. Наверное, это вписывается в рамки какого-нибудь индийского мистицизма, но едва ли этому есть место в том, что понимается под философией в Европе.1
Однако если бы дело было только в этом, то восхождение к Единому можно было бы отделить от восхождения к единству Ума, восхождения диалектического, логического. Легко понять, почему это было нужно, и есть два свидетельства, что именно так и считали. Восхождение не рассматривалось как нечто находящееся в нашей власти, тогда как учение Прокла о генадах, вероятно, открывало самостоятельный путь к Богу. И все же, согласно общепринятому мнению, теоретические добродетели необходимо предшествуют теургическим, и на это нечего возразить, так же как нельзя сказать, что те и другие — лишь выражения двух противоположных традиций. Выделение из единства существующего единства и деление последнего сначала на роды существующих единств, а затем и на отдельные их виды представляло собой последовательное применение мышления, или рефлексии, а в общем смысле — «исхождение» Ума. С этой точки зрения, обратный процесс является непрерывным уменьшением мышления, или рефлексии, поскольку мы устанавливаем все меньшее число различий. Таким образом, Единое как не-мысль окажется не чем иным, как завершением ряда единства ума.
Остается проблематичным, как сущностная деятельность мысли может состоять в уменьшении мышления. И здесь появляется второй парадокс, который пытались решить неоплатоники весьма характерным для них образом — допущением двух логических схем. «Сущностное» мышление означает, пожалуй, мыслить лучше, а не как можно больше, так же как основной, или определяющий, вид души не является более живым, чем его нижестоящие и смешанные формы, — в широком смысле так, скорее, следовало
1 О мистическом союзе у Плотина см. раздел III, гл. 16 Б, с. 327—333; о Плотине и индийской мысли — гл. 12, с. 264—265.
400
ПОЗДНИЕ НЕОПЛАТОНИКИ
бы сказать об этих последних. Объектом мышления является ряд «единых», а не «многих». Однако, чем бы они ни были в «Пире», неоплатоники отделили их от аристотелевских родов сущего. Каждый из них есть целое, предшествующее своим частям, unum, от которого члены ряда получают наименование по аналогии, а не класс, существующий в качестве дизъюнкции или логической суммы подклассов. Пусть животное — это род, принадлежность к которому делает земных, водных и воздушных животных животными, тогда попытка мыслить животное, не мысля при этом о земных, водных и воздушных животных, будет примером неправильного мышления. Допустим, солнечный свет — это свет par excellence и по аналогии с ним другие степени освещенности считаются светом, тогда попытка мыслить солнечный свет, не мысля при этом о газовых горелках и светляках, не будет неверным мышлением. Процесс исхождения мышления протекает согласно одной схеме — схеме родов аристотелевской логики; возвращение же, хотя оно также должно пройти через роды, делает это путем другого вида единства, а именно через не допускающее себе причастности. Две эти схемы представляют собой две точки зрения.
Однако каждая ступень, будучи совершенной в своем роде, относительно реальна (Проклово само-по-себе-сущее), а поскольку реальна, то она есть также и мысль; поэтому на каждой ступени, а не только на вершине, имеет место нечто вроде простого осознавания, не делимого на субъект и предикат высказывания. В действительности представление об этом недискурсивном знании было необходимо для того, чтобы «возвращение» обрело смысл в качестве умственной деятельности. К несчастью, греческая эпистемология считала это настолько само собой разумеющимся, что философы, от которых возможно было ожидать некоторых шагов на пути к его объяснению, их не предприняли.
Раздел V
Р. О. Маркус
МАРИЙ ВИКТОРИН И АВГУСТИН
СОКРАЩЕНИЯ
Марий Викторин
Ad Cand. — К Кандиду
Adv. Аг. — Против Ария
Expl. in rhet. — Объяснения «Риторики» Цицерона
In Ephes. — Толкование Послания ап. Павла к Ефесянам
In Gal. — Толкование Послания ап. Павла к Галатам
In Phil. — Толкование Послания ап. Павла к Филиппийцам
Ссылки на эти работы, а также на «Гимны» и «Письма» Кандида I и II сделаны по изданию Анри и Адо; номера столбцов в PL 8 указаны в скобках.
Августин
Conf.
С. Acad.
—
С. Cresc.
—
С. Faust.
—
С. Jul.
—
С. litt. Pet.
—
De beata vita
—
De cat. rud.
—
De civ.
—
De div. qu. LXXXIII
—
De doctr. chr.
—
De fide r. q. n. v.
—
De Gen. ad litt.
—
De Gen. c. Man.
—
De imm. an.
—
De lib. arb.
—
De mag.
—
De mor. eccl.
—
De mus.
—
De ord.
—
De praed. sanct.
—
De quant, an.
—
De spir. et litt.
—
De Trin.
—
Исповедь
Против академиков Против Крескония Грамматика Против Фауста Манихея Против Юлиана Против писаний Петилиана О блаженной жизни Об обучении оглашенных О граде Божьем О 83 различных вопросах О христианском учении О вере в незримое О Книге Бытия буквально О Книге Бытия против манихеев О бессмертии души О свободе воли Об учителе
О нравах Вселенской церкви и о нравах манихеев О музыке О порядке
О предопределении святых к Просперу и Иларию О количестве души О Духе и букве к Марцеллину О Троице
404
СОКРАЩЕНИЯ
De urb. exc. —
De ut. cred. —
De vera rel. —
En. in Ps. —
Ep., Epp. —
In Ep. Jo. Tr. —
In Jo. Ev. Tr. —
Prop. Ep. Rom. Exp. —
Qu. in Hept. —
Retr. —
Sermo —
Sol. —
Слово о разорении города Рима О пользе веры к Гонорату Об истинной религии Толкования на Псалмы Письма
Рассуждения на Послание Иоанна к Парфянам Рассуждения на Евангелие от Иоанна Разъяснение некоторых положений из Послания к Римлянам
Разыскания на Семикнижие
Пересмотры
Проповеди
Монологи
Все ссылки приводятся в стандартной форме разбивки текста по Бене- дектинскому изданию с указанием, где необходимо, на иные разбивки современных критических изданий. Номера томов и столбцов в PL всегда прибавлены в скобках.
Глава 20
МАРИЙ ВИКТОРИН
А. Жизнь и сочинения
Все, что известно о жизни Мария Викторина, содержится в кратком сообщении св. Иеронима в его трактате «О знаменитых мужах»,1 а также в более широко известных комментариях, сделанных св. Августином в ходе рассказа о собственном обращении.1 2 Африканец по происхождению и оратор по роду деятельности, он преподавал в Риме при императоре Констанции. О его славе оратора свидетельствует не только Августин, но и статуя, воздвигнутая в его честь на Форуме Траяна еще при жизни, скорее всего в начале пятидесятых годов IV столетия. Надпись конца IV века указывает на то, что статуя простояла в Риме на протяжении по крайней мере двух поколений.3 Он написал трактаты по грамматике, риторике и логике, комментарии к Цицерону и Аристотелю, а также перевел «книги платоников», как их называл Августин, несколько логических трактатов Аристотеля и, вполне возможно, «Изагог» Порфирия.4 «В чрезвычайно преклонном возрасте», как сообщает Иероним, он сделался христианином. Должно быть, это произошло вскоре после воздвижения статуи в Риме, в начале или середине пятидесятых годов, во всяком случае до 357 или 358 г., когда хлынули потоком его христианские теологические сочинения.
Викторин был тесно связан с сенатской аристократией, ставшей последним оплотом римского язычества. Знаменитый рассказ
1 De vir. ill. 101 (PL 23. 739).
2 Conf. VIII 2. 3—5 (PL 32. 749—751).
3 Diehl E. Inscriptiones latinae christianae veteres. Berlin, 1925.1, n. 104.
4 Подробности см. в издании Анри и Адо (Paris, 1960. Vol. I. P. 11). Сохранившиеся сочинения перечислены на с. 403 (выше).
406
МАРИЙ ВИКТОРИН И АВГУСТИН
Августина о том, как Викторин был обращен в христианство, позволяет нам бросить взгляд на те социальные и культурные нити, которые связывали выдающегося оратора с традициями его сословия. Чтобы разорвать их, требовалась сила ума, на которой и заостряет внимание Августин в своем повествовании и которая также послужила ему образцом в собственном обращении. Августин уже прочел сделанные Викторином переводы неоплатонических сочинений, когда его друг, медиоланец Симплициан, хорошо знавший Викторина, поведал ему историю обращения последнего. Важнейшее значение Викторина состоит в том, что он больше, чем кто-либо другой, достоин считаться связующим звеном между греческой философией и латинским миром IV столетия. Даже будучи язычником, о чем верно свидетельствуют его литературные произведения, созданные до обращения, он искал пути для того, чтобы предоставить латинскому Западу новые мыслительные и выразительные средства. Его теологические труды представляют собой далеко идущую попытку использовать философские понятия неоплатонизма в христианской тринитарной теологии.
Викторин стал христианином во времена острого доктринального конфликта. Фигура св. Афанасия разделила Церковь и Империю. Споры бушевали вокруг его учения и личности целое поколение, и теологические сочинения Викторина внесли свой вклад в эти дебаты. Одним из многочисленных достоинств превосходного издания его трудов, которым мы обязаны Полю Анри и Пьеру Адо, является новая ясность, которую этим загадочным писаниям придало тщательное соотнесение их на каждом этапе с дискуссиями, ведущимися в 355—363 гг. Сам теологический спор и то место, которое в нем занимает Викторин, нас не интересуют.1 Основной его целью было отстоять Никейский догмат о единосущное™ Отца и Сына, выраженный формулой, которая послужила точкой опоры для Афанасиевой ортодоксии и стала камнем преткновения для ее оппонентов, а именно, что Сын «единосущен» (όμοούσιος) Отцу. Значение того, что Викторин отстаивал учение о гомоусии, для настоящего рассмотрения состоит в том, что он, выстраивая свою защиту, использовал онтологические понятия и воззрения неоплатоников. Оригинальность Викторина является результатом напряжения между стремлением доказать равенство и единосущность божественных ипостасей с одной стороны и использованием концептуальной схемы, имеющей выраженную
1 См. издание Анри и Адо (Vol. I. Р. 18—89; Vol. II, passim).
МАРИЙ ВИКТОРИН
407
тенденцию к взаимному подчинению ипостасей, с другой.1 Прежде чем онтология Плотина сделалась основанием для гомоусийной тринитарной теологии, ей пришлось претерпеть значительную трансформацию в руках Викторина, который тем самым подготовил почву для длительной традиции христианской мысли. Эта трансформация неоплатонической теологии составляет одну из тем, избранных нами для рассмотрения в данной главе. Другой является представление Викторина о человеческой душе и ее троичной структуре.
Б. Тринитарная онтология
В своем ответе на первое письмо арианина Кандида Викторин различает четыре модальности бытия.1 2 Эта классификация, в конечном счете восходящая к Платону и включенная в школьную традицию неоплатонизма, различала четыре уровня бытия и небытия. Первый, еа quae vere sunt (όντως όντα) — истинно сущее, — высший уровень, соответствующий умопостигаемой реальности.3 Второй, quae sunt (όντα) — сущее, — уровень, к которому относится душа. Душе доступно познание высшего уровня бытия благодаря уму (νους), который вступает в разумную душу, а также своего собственного уровня, постижимого для нее благодаря своей природе.4 Ниже этих уровней располагаются две ступени, мыслимые в терминах лишь ухудшения бытия. Третий, quae non vere non sunt (μή όντως μή όντα) — неистинно сущее, — то есть вещи, познаваемые умом в материальном мире, некоторым образом причастные природе одушевленной реальности. Они принадлежат к quae sunt — сущему — благодаря их родству с душой и к quae non sunt — не-сущему, — поскольку они суть материя (ύλη) и субъект изменчивых качеств.5 Четвертый, quae non sunt (μή όντα) — не-сущее, — неодушевленная материя.6 Ниже этого нет ничего, поскольку quae vere non sunt не имеет ни имени, ни
1 Такова позиция Г. Губера: Huber G. Das Sein und das Absolute. Basel, 1955. S. 93—116. С основными положениями ее я согласен.
2 Ad. Cand. 6. 1—11. 12 (1023а—1026с). Об источниках и развитии этого учения см.: Kohnke F. W. Plato’s conception of τό ούκ όντως ούκ ον // Phronesis. 1957. II. Ρ. 32—40.
3 Ad Cand. 7. 8—9 (1023b).
4 Ibid. 8. 2—7 (1024a).
3 Ibid. 9. 4—10. 6 (1024b—1025b).
6 Ibid. 10. 7—37 (1025b—1026b).
408
МАРИЙ ВИКТОРИН И АВГУСТИН
какого-либо бытия.1 Это перечисление выполнено с позиции души; различные уровни бытия получают определенность соответственно их отношению к душе и ее знанию о них.1 2
Бог не включен ни в одну из модальностей сущего; он есть ик причина и приводит их к бытию, но сам — над бытием, над «истинно сущим», над всякой жизнью и знанием. Тем самым он есть не-бытие,3 и это не-бытие над бытием постижимо только путем незнания.4 Викторин называет его «предсущим» (προόν).5 Это «божественное совершенство, совершенное во всех отношениях, полное, абсолютное и превосходящее любые совершенства. Это Бог, выше ума, выше истины, Он — всемогущая сила, и потому Его не ограничить никаким формальным определением».6 Таково полностью трансцендентное Единое неоплатоников,7 и онтологическая схема в целом точно вписывается в традицию «негативной теологии». Новизна в применении этой схемы Викторином состоит в том, что он использует ее для установления единосущности божественного Логоса и Бога.
«Бог» в этом контексте есть личность Отца. Его Сын по праву зовется Логосом, первым существованием, первой субстанцией, мудростью и так далее.8 В терминах отношения между Плотиновыми ипостасями отношение Отца к Сыну соответствует отношению Единого к Уму. Впрочем, Викторин отвергает предполагаемую неоплатонической схемой тенденцию подчинения второй ипостаси первой.
Тогда как Отец превыше Ума, превыше истины и неопределим,9 Ум и истина суть определенные «формы». Отец есть молчание, покой и неподвижность; исхождение его силы есть Слово, движение и жизнь. Сущность, безмолвие и покой — это Отец; жизнь,
1 Ibid. 11. 1—12 (1026b—с); роды не-сущего рассмотрены в Ad. Cand. 4. 1—5. 16 (1022а—с).
2 Как отмечают Анри и Адо (р. 703). Это особенно ясно обнаруживается в Ad. Cand. 9, где ощущение μή όντως μή όντα описывается как «simulacrum... intellecti et imitamentum intelligendi» («видимость... ума и подражание мышлению») (9. 8—9, 1024с).
3 Ibid. 13 (1027b).
4 Ibid. 14. 1—5 (1027b—с).
5 Ibid. 15. 2 (1028b); 2. 28 (1021a); 3. 7 (1021c).
6 «...plena, absoluta, super omnes perfectiones, omnimodis est divina perfectio. Hie est deus, supra νουν, supra veritatem, omnipotens potentia et idcirco non forma» (Adv.Ar. Ill 7. 15—17, 1103c).
7 Adv. Ar. I 49. 9—40 (1078b—d).
8 Ibid. 1 56. 15—20 (1083a).
9 Cp. выше, прим. 6.
МАРИЙ ВИКТОРИН
409
слово, движение и действие — Сын.1 Сын мыслится как «форма» Бога. «Бог есть в определенном смысле нечто скрытое... Сын есть форма, в которой обнаруживается Бог».1 2 Сын в таком случае есть определение Бога, он есть сущее (ον), первое и совершенное бытие.3 Но, как форма, Сын внешен Отцу; как бесформенное esse и оформленное сущее (ον) соответственно, они — единая сущность, в которой проявляется то, что в Отце скрыто.4 Сын есть проявление Отца, в котором то, что проявляется, и его проявление суть единая «живая субстанция». Викторин использует неоплатонические понятия, чтобы отделить Отца от Сына: Отец за пределами всякого знания, Сын обнаруживает и проявляет его. Сын «оформляет» бесформенную сущность Отца и тем самым проявляет его; «проявление есть выведение из тьмы сокрытости, и это выведение есть рождение: рождение действительности, существующей до своего появления на свет».5 Устанавливая их различие, Викторин неизменно настаивает на их сущностном единстве: «Все сущее нераздельно содержит в себе свою определенность (speciem), или, скорее, его определенность сама есть его сущность — не потому, что она предшествует тому, что есть сущее, а в силу того, что она очерчивает круг того, что есть сущее. Сущее есть причина бытия своей определенности».6 Это различение esse и species аналогично различению сущности и формы.7 Используя оба способа словоупотребления, Викторин отстаивает единосущ- ность Отца и Сына одновременно с их взаимной соотнесенностью.
Эта главная задача доказать единосущность ипостасей, которые неоплатоническая мысль, скорее, разделяла и соподчиняла, стала причиной того, что Викторин достаточно вольно обошелся с той философской схемой, в рамках которой работал. Утверждение сущностного тождества чего-то абсолютно трансцендентного с чем-то, что определено формой, чего-то, что полностью выходит за пределы познания, с чем-то, что открывает ему путь, влечет
1 В отрывке, следующем за процитированным на с. 408, прим. 6. Он касается связи между νους и Сыном, установленной в этом отрывке.
2 Adv. Ar. I 53. 13—15 (1081с); ср.: In Gal. II [4. 6] (1179а—b).
3 Ad. Cand. 2. 28—35 (1021a—b); 14. 23—27 (1028a—b).
4 Adv. Ar. I 53. 9—13 (1081c); I 22. 28—37 (1056b).
5 Ibid. IV 15. 23—26 (1124b).
6 «Omne enim esse inseparabilem speciem habet, magis autem ipsa species ipsa substantia est, non quo prius sit ab eo quod est esse, species, sed quod definitum facit species illud quod est esse. Et enim quod est esse causa est speciei esse» (Adv. Ar. I 19. 29—34).
7 Ср. выше.
410
МАРИЙ ВИКТОРИН И АВГУСТИН
за собой радикальный отход от базового философского построения, внутри которого эти коренные различия были установлены. Это равносильно фундаментальному изменению точки зрения на непознаваемость абсолюта. И в самом деле, мы обнаруживаем, что «негативная теология», свойственная неоплатонической философии, отходит с Викторином на задний план.1 Сущностное слияние двух ипостасей уничтожает разрыв между абсолютной трансцендентностью и определенным сущим и тем самым между непознаваемостью и познаваемостью. Викторин готов утверждать о Боге то, что Плотин не позволил бы себе в отношении Единого. «Чтобы не поступиться традицией как теолог, он был вынужден добиться известной степени оригинальности как мыслитель».1 2 Викторин сворачивает в своем понятии Бога то, что неоплатоническая онтология распределяла между ипостасями, и акцентирует свойства одной или другой ипостаси в зависимости от того, какая из них отвечает его намерению.
Трансцендентности в области познания соответствует трансцендентное бытие. Избавление от трансцендентности абсолюта в области познания предполагает иное понимание абсолютного бытия. Трансцендентное само оказывается вовлеченным в сферу бытия, и, хотя Викторин отказывается говорить об Отце как об ον (сущем), он вынужден признать, что тот обладает бытием (esse);3 и это esse, в свою очередь, описывается в терминах «негативной теологии», которая, согласно неоплатонической схеме, подобает Единому.4 Esse лежит вне сферы понимания (λόγος); оно мыслится как нечто за пределами рациональности и мышления и вступает в сферу рационального, только когда logos дает ему определение. Сворачивание неоплатонических ипостасей имеет далеко идущие последствия: с одной стороны, абсолютная трансцендентность вносится в сферу бытия, с другой — бытие как таковое выводится за пределы сферы рационального.5
1 На эту тему см.: Henry Р. The adversus Arium of Marius Victorinus: The first systematic exposition of the doctrine of the Trinity 11JTS. 1950. N I. P. 42—55, особенно p. 48—^9; Huber G. Op. cit. S. 95—97.
2 Henry P. Loc. cit. P. 48. О наибольшем приближении к позиции Мария Викторина в рамках языческого неоплатонизма IV столетия см. в разделе IV, гл. 18 Б, с. 362.
3 Adv. Ar. II 4. 2—34 (109Id—1092с); IV 19. 4—37 (1127а—d).
4 Ibid. IV 19. 4—37 (1127а—d); ср. примечания Губера {Huber G. Op. cit. S. 114—115).
5 Особенно изящным отрывком, иллюстрирующим обе эти тенденции одновременно, является Adv. Ar. IV 23. 12—45 (1129с—1130а).
МАРИЙ ВИКТОРИН
411
Характерное для Викторина сгущение в Боге атрибутов, рассеянных между неоплатоническими ипостасями, представляет собой то, что П. Анри назвал «конкретным и динамическим подходом».1 Викторин определяет отношение между Отцом и Сыном в том числе через отношение потенции и акта, эквивалентное отношению скрытого и явного.1 2 Подобно тому как единосущны скрытое и явное, единосущны также возможность и действительность. «Бог есть возможность, а Логос — действительность, и каждый есть и то, и другое... Отец есть Отец, поскольку возможность рождает действительность, и действительность есть Сын, потому что действительность происходит от возможности».3 Благодаря их единосущности деятельность становится фундаментальной характеристикой бытия. Вторая тринитарная ипостась представляет собой «некую деятельную возможность Отца в действии, которая осуществляет себя скорее в действии, чем в возможности».4 Таким образом, Отец есть источник бытия, переполненный жизнью и возможностями, и его Слово, Сын, есть его творческая деятельность, посредством которой все обретает бытие.5
Дуализм возможности и действительности также равнозначен отношению между бытием и его явлением, «поскольку все, что переходит в действие, есть проявление того, что оно есть в возможности».6 Сущность и явление взаимно предполагают друг друга. Они соотносятся, и явление само в себе сущностно. Отец и Сын единосущны в своем явлении; оба они суть единый образ, поскольку они — единая сущность, образ которой в возможности — в Отце, а в действительности — в Сыне.7 Важность этого вторичного дуализма сущности и явления еще обнаружит себя в следующей части настоящей главы.
В. Тринитарная психология
Еще до того, как стать христианином, Викторин немало размышлял о душе.8 В его христианских сочинениях интерес к ней
1 Henry Р. Loc. cit. Р. 50—51.
2 Adv. Ar. I 19. 23—24 (1052d); Ad Cand. 14. 11—13 (1028a).
3 Adv. Ar. 113.34—39 (1091b).
4 Ad Cand. 17. 2—4 (1029b—c).
5 Ibid. 22. 10—19 (1031c); 25. 1—10 (1032b—c).
6 Adv. Ar. I 25. 32—33 (1059a).
7 Ibid. I 20. 7—23 (1053c—d).
8 Expl. in rhet. I 1 (p. 155 Halm); I 2 (p. 160—161 Halm).
412
МАРИЙ ВИКТОРИН И АВГУСТИН
одновременно углубился и сузился: здесь он преимущественно занят душой как образом Логоса. Христос есть Логос и образ Бога; душа не есть Логос, но, будучи разумной (λογικός), она причастна природе Логоса. Она поэтому не есть образ Бога, но, как гласит Книга Бытия (1:26), сотворена iuxta imaginem, «по образу».1 Викторин внимательно отличает ее бытие, сотворенное по образу Божьему, от бытия, сотворенного по его подобию: разумность принадлежит природе души, тогда как подобие возникает между вещами при совпадении качеств. Следовательно, то, что душа сотворена по образу Божьему, касается ее сущности, а то, что она сотворена по его подобию, относится к ее качествам.1 2 Первое внутренне присуще и не может быть утрачено, второе привходяще и может быть как утрачено, так и обретено вновь.3 Душа в первую очередь есть образ Логоса; опосредованно она есть образ Троицы, в силу того что Логос как таковой отражает жизнь всей Троицы. Она есть «образ образа».4
В божественной Троице основная пара Отец и Сын, с различных сторон рассмотренная выше, сама по себе уже образует Троицу, поскольку Логос как таковой двойствен. Из esse Отца происходит единое движение, которое одновременно есть жизнь (vivere) и разумение (intellegere).5 Здесь нас не беспокоит тринитарная теология; нас интересует, каким образом душа, образ Логоса, отражает эту тройственность Бога. Структура души, как ее описывает Викторин, в точности соответствует троице esse, vivere и intellegere. Викторин вновь начинает с двойственности: душа, как и материя, будучи сущностью, должна иметь определенную форму и образ. Материя получает определенность через количество, душа — через жизненную и интеллектуальную возможность.6 Подобно тому как Логос есть «динамическое определение божественной сущности»,7 его движение, побуждение и проявление, так и душа определяется своей жизненностью и разумностью. В душе жизнь и разумение также составляют «двой¬
1 Adv. Ar. I 20. 24—36 (1054а).
2 Ibid. I 28. 7—12 (1056d); I 41. 9—19 (107Id—1072а).
3 Ibid. I 20. 37—65 (1054b—c).
4 Ibid. I 63. 7—18 (1087c—d). См. об этом блестящий анализ П. Адо: HadotP. L’lmage de la Тппйё dans Tame chez Victorinus et chez Augustin 11 Studia Patristica. 1962. VI. P. 409—442, особенно p. 411.
5 Например, Adv. Ar. Ill 2. 12—32 (1099b—d).
6 Adv. Ar. I 32. 16—29 (1064d—1065a).
7 Это выражение принадлежит Адо (Hadot Р Loc. cit. P. 414), изложению которого я здесь следую.
МАРИЙ ВИКТОРИН
413
ную возможность, существующую в едином действии».1 Троица в душе, как и в Боге, есть результат вторичной двойственности Логоса внутри исходной двойственности Логоса и esse.
Самоопределяющее действие души, ее жизнь и разумность единосущны с ее бытием, и в этом отношении троичная структура души отражает тринитарность Бога. Тем не менее жизнь и разумение в душе могут быть в некотором смысле «отчуждены» от ее бытия. «Душа с ее nous, которым она наделена тем, кто есть nous, есть возможность разумной жизни. Как таковая она не есть nous, но она, так сказать, отождествляется с nous, созерцая его, поскольку вйдение здесь есть то же, что единение. Однако, отворачиваясь от nous и глядя вниз, она тянет себя и свой собственный nous вниз, становясь только разумной, до этого будучи не только разумной, но и умопостигаемой... Поскольку душа есть нечто вроде Логоса, но не Логос, балансирующая посредине между духовной и умопостигаемой реальностями с одной стороны и материей с другой, имеющая возможность повернуться со своим собственным nous к любой из них, она либо становится божественной, либо ниспадает до уровня ума».1 2 Даже в этом падшем состоянии душа сохраняет искру собственного nous, который позволит ей, если она пожелает, вернуться в свое высшее состояние.3 Сущность деятельности падшей души сохраняет свое тождество с бытием, а следовательно, остается в образе Логоса. Однако направление ее деятельности определяет ее характер и ее подобие (либо отсутствие подобия) Логосу. Вступая в сферу страсти, изменения и разрушения, душа лишается своего исходного подобия Богу. Тем не менее она остается его образом и потому может вернуться к своему исходному состоянию подобия. Это подобие восстанавливается путем возвращения к созерцанию божественных сущностей.4
Здесь, в этом кратком очерке, мы имеем перед собой, почти за пятьдесят лет до Августина, «психологическое учение»
1 Adv. Аг. I 32. 29—78 (1065а—d); ср. I 63. 24—27 (1088а).
2 Ibid. I 61. 7—21 (1086b—с): «Anima autem cum suo νω, ab eo qui νους est, potentia vitae intellectualis est, non νους est, ad νουν quidem respiciens quasi νους est. Visio enim ibi unitio est. Vergens autem deorsum et aversa a νω, et se et suum νουν trahit deorsum, intellegens tantum effecta, non iam ut [et?] intellegens et intelligibile... Etenim cum quidam λόγος sit anima, non λόγος, cumque in medio spirituum et intelligibilium et της ύλης, proprio νω, ad utraque conversa, aut divina fit aut incorporatur ad intelligentia».
Mbid. 161.21—24 (1086c).
4 Cp.: Ibid. I 32. 61—78 (1065c—d), а также пояснения Адо (Hadot P. Loc. cit. P.415—421).
414
МАРИЙ ВИКТОРИН И АВГУСТИН
о Троице,1 изложенное в понятиях, которые относятся к жизни души. Многое в сочинениях блж. Августина напоминает этот подход Викторина. П. Анри справедливо отметил новаторство и оригинальность Викторина в этой области.1 2 И все же, хотя основная мысль обоих авторов во многом совпадает, в их тринитарных схемах имеются довольно существенные различия. Ряд из них рассмотрел П. Адо в своей пояснительной статье.3 Он обратил внимание на значительные расхождения в их концепциях становления (включая использование Августином категории отношения); на то, что Августин скорее отдает предпочтение таким троичным схемам, как память—ум—воля, где все три термина являются единосущными друг другу, чем таким, какими пользуется Викторин (бытие—жизнь—разумение; у Августина, для примера, дух—познание—любовь), где второй и третий термины исходят из сущности первого, который и сообщает им субстанциальность. Он также отметил, что если тринитарная теология Викторина представляет собой теорию исхождения второй ипостаси из божественного бытия, то Августин, по сути, рассматривает лишь образ этого исхождения в человеческой душе. На наш взгляд, за этими расхождениями стоит глубокое различие в подходе и темпераменте, заслуживающее более тщательного рассмотрения, чем счел достаточным П. Адо: тринитарная теология Викторина на самом деле есть метафизический очерк, имеющий в основании неоплатоническую онтологию, хотя и видоизменяющий ее, адаптируя к поставленным задачам. Его теология лишь во вторую очередь основывается на Писании. Несмотря на то, что библейские вопросы занимают в его сочинениях весьма видное место, его тринитарное учение является продуктом свободного философского вопрошания, можно было бы даже сказать — дедуктивного по своей природе. Ссылки на Писание приводятся в рамках более позднего и параллельного подхода, приводящего к тому же набору умозаключений, а не лежат в основании исследования в качестве исходной посылки. В случае с тринитарной теологией Августина дело обстоит совершенно иначе.4 Чтобы противопоставить ее теологии Викторина, достаточно указать на характерные для нее укорененность в Писании и менее метафизический порядок изло¬
1 Ср.: Henry Р. The adversus Arium of Marius Victorinus. P. 54.
2 Ibid. Passim; хотя он слишком поспешно списывает сходства в учении на влияние Викторина.
3 HadotP. L’lmage de la Trinite... P. 424—442.
4 Ср. последующие замечания, гл. 21, с. 427—428.
МАРИЙ ВИКТОРИН
415
жения. «Психологическая троичность» второй части его трактата «О Троице» не является изучением божественной субстанции и лиц Троицы, но — человеческой души как образа Бога. Его психология более опытна и практична, богословское применение аналогий менее прямолинейно и не свободно от сомнений. То, что она, несмотря ни на что, берет начало из схожего философского основания, очевидно, хотя и далеко не ясно, какие именно непосредственные источники стоят за ней. П. Адо выдвинул сильные аргументы в пользу того, что среди них не было антиарианских трактатов Викторина,1 и, на мой взгляд, дальнейшее изложение лишь подтвердит данное предположение. Викторин, несомненно, был первопроходцем, и своими переводами «книг платоников» он снабдил Августина средствами для выражения их общей философской позиции. И все же именно Августин «на целые столетия установил стандарт западной доктрины о Троице».1 2
1 Hadot Р Loc. cit. Р. 432—442. Тем не менее Августин, возможно, читал комментарии Викторина к посланиям св. Павла.
2 Henry Р. Loc. cit. Р. 42.
Глава 21
АВГУСТИН.
БИОГРАФИЧЕСКОЕ ВСТУПЛЕНИЕ: ХРИСТИАНСТВО И ФИЛОСОФИЯ
На жизнь блж. Августина пришлось восемьдесят лет наиболее драматичной, если не сказать решающей, фазы «заката Римской империи». Родившись в христианской империи наследников Константина, молодым человеком он застал краткую языческую реакцию во время правления Юлиана Отступника, за которой последовало возвращение к христианству и более тесное, чем когда-либо, срастание с ним государства при Грациане и Феодосии I. Во второй половине жизни Августина римское язычество, сплотившее силы в последнее десятилетие IV века, стремительно превращалось в пережиток прошлого, хотя и оставалось силой, с которой следовало считаться. Он не только был свидетелем важного этапа христианизации античного мира, но и перенес ряд серьезнейших военных и политических потрясений: военное поражение при Адрианополе (378 г.), разделение империи после смерти Феодосия, вторжение вандалов, свевов и других варварских племен в западные провинции империи (406 г.), возраставшую варваризацию римской армии и императорского двора, разграбление Рима вестготами (410 г.). И это лишь несколько вех. Когда Августин лежал на смертном одре, вандалы, завоеватели его родной Северной Африки, как раз добрались до города Гиппона, его епископата. Можно сказать, что в значительной степени его жизнь совпала с переходом от античности к Средним векам.
Августин принадлежал к обоим мирам во многих отношениях, и не в последнюю очередь — в интеллектуальном. Он получил типичное для поздней античности образование, имеющее преимущественно литературный, или риторический, характер. Оно было весьма консервативно, поскольку имело своей целью формировать
АВГУСТИН. БИОГРАФИЧЕСКОЕ ВСТУПЛЕНИЕ
417
ум по образцу выдающихся достижений прошлого. В эпоху, когда ширился разрыв между этой литературной культурой и обыденной речью, естественным стремлением такого рода образования было создавать некую искусственную форму «изящной» словесности. Оно низко ценило импровизацию, живость и оригинальность и порой состояло почти только из сухих стилистических упражнений. Обучение философскому знанию преимущественно проходило в форме знакомства с изложениями и выдержками из сочинений философов.
Традиционный набор предметов элементарного и среднего образования — грамматика, диалектика, риторика, музыка, геометрия, астрономия и арифметика, — как правило, считался необходимой подготовкой для философа. Иногда этим предметам и в самом деле удавалось выступить стимулом для серьезного и продолжительного размышления. Интеллектуальное паломничество самого Августина началось с чтения ныне утраченного «Гортензия» Цицерона. Он прочел это сочинение в возрасте восемнадцати лет. В сорок, вспоминая о том воздействии, какое оно оказало на его ум, Августин говорил об опыте «обращения». Оно позволило ему вырваться за пределы чисто риторического понимания образования: он взялся за него не затем, чтобы «отточить язык», но следуя его «увещанию обратиться к философии». Оно вручило ему новую цель и новую заботу — поиск бессмертной мудрости. Оглядываясь на этот опыт, Августин мог истолковать свой поворот в сторону философии как начало возвращения к Богу.1
Путь Августина к истине был извилистым; только через пятнадцать лет его интеллектуальное беспокойство привело его к купели, к принятию христианской веры. Прежде чем укрепиться в ней, он начал карьеру профессионального преподавателя риторики, сперва в родном городе Тагасте, затем в Карфагене, Риме и, наконец, в столице империи, Медиолане. Размышляя в «Исповеди» о своей блистательной карьере, принесшей ему мировую славу, он описывает присутствующее в его уме напряжение между соблазном общественного признания и поисками истины, к которым он был устремлен. В этот период учение манихеев предложило Августину временное пристанище. Это учение о двух враждующих мирах — благом мире совершенного божества и злом мире его извечного противника — предоставило ему мифологическое отображение острых противоречий его собственной натуры. Манихейский «избранный» ощущал себя исходно принадлежащим
1 Conf. Ill 4. 7 (PL 32. 685); ср.: De beata vita 1. 4 (PL 32. 961).
418
МАРИЙ ВИКТОРИН И АВГУСТИН
к чистому миру света, хотя и временно захваченным миром тьмы. И чтобы осознать обещанное ему избавление и утолить жажду его обретения, он был вынужден отвергнуть сферу телесного как чего-то чуждого ему и должного быть отброшенным. Нетрудно понять, почему подобная картина мира нашла отклик в духовной обеспокоенности и тоске, в страстном и крайне впечатлительном нраве Августина. В течение нескольких лет Августин был приверженцем секты, однако манихейское учение было не в силах доставить ему интеллектуального удовлетворения, и со временем он разочаровался в нем. Впоследствии его собственные размышления сложились из желания опровергнуть ряд основополагающих манихейских доктрин.
Важный поворотный пункт в жизни Августина был связан с его назначением на должность ритора в Медиолане. Он получил ее благодаря протекции одного из своих друзей-манихеев, однако этот новый пост свел его с Амвросием, епископом Медиоланским, и его окружением, состоявшим из христианских интеллектуалов, которые помимо прочего способствовали его окончательному разрыву с манихеями. Это не было первой встречей Августина с христианством: он имел все возможности ознакомиться с этим учением через свою благочестивую мать Монику. Но именно в проповеди Амвросия он впервые столкнулся с христианской доктриной в удовлетворительной для себя интеллектуальной форме. В скором времени она захватила его мысли. Августину оставалось лишь преодолеть колебания и духовную лень. Мучительный конфликт желаний, нашедший отражение в VI—VIII книгах «Исповеди», в конце концов разрешился его обращением в 386 г. и крещением в следующую Пасху.
В кругу Амвросия, Симплициана, Маллия Теодора и других Августин встретился с христианством, окрашенным неоплатоническим толкованием. Похоже, что в момент обращения он не испытывал какой-либо острой необходимости отделять христианское учение от учения «платоников». Переход от Плотина и Порфирия к св. Павлу и Четвертому Евангелию был легок, и Августин не почувствовал какого-либо коренного различия. Он с удовольствием обнаружил в «книгах платоников» предвкушение основных доктрин христианства. В них он ясно читал о Боге, его Слове, творении, божественном свете, сияющем во тьме, и тому подобном, вот только не находил в сочинениях философов предугаданной веры в воплощение Слова, земную жизнь и смерть Иисуса.1 Годы спустя
1 Conf. VII 9. 13—14 (PL 32. 740—741).
АВГУСТИН. БИОГРАФИЧЕСКОЕ ВСТУПЛЕНИЕ
419
Августин узрит глубокую бездну, отделяющую христианство от платонизма, но, по сути, платонизм так и останется в его глазах приуготовлением к Евангелию. Основное обвинение, которое он предъявлял его сторонникам, состояло в том, что, ослепленные гордыней и самодовольством, они не приняли пути спасения, Христа, ставшего человеком, распятого и воскресшего.1 В своей «Исповеди» он описывает новое открытие, сделанное им во время чтения Писания {после прочтения неоплатоников). Оно состоит в усмотрении разницы между «превозношением и смирением; между видящими, куда идти, и не видящими дороги, ведущей в блаженное отечество, которое надо не только увидеть, но куда надо вселиться».1 2 Во все время, начиная с его обращения в «философию» в возрасте восемнадцати лет до обращения в христианство пятнадцать лет спустя, и весь остаток жизни Августин понимал «философию» таким образом, какой мог бы показаться странным в двадцатом веке, но, как правило, был распространен среди его современников. За этим названием скрывалось все, что касалось первейшей заботы человека, все, что касалось вопроса, как человеку достичь окончательного осуществления, то есть «блаженства» (beatitudo).
Такое представление о философии как о всеохватной деятельности, озабоченной всем, что касается осуществления конечной цели человеческой жизни, как таковое ведет начало из античности. Августин ссылается на недошедший до нас учебник философии Варрона, в котором тот различает 288 различных «философий», как раз исходя из соответствующего числа ответов на вопрос о том, как достичь блаженной жизни.3 Предполагалось, что все они преследуют одну и ту же цель и отличаются друг от друга лишь средствами ее достижения. При таком раскладе христианство, очевидно, было «философией», и в работах, созданных во время его обращения и сразу после него, Августин истолковывал это событие как результат его поисков истины, а также часто говорил о том, что достиг «небес философии».4 «Христианство» и «истинная философия» фактически являются синонимичными понятиями; и в самом деле, впоследствии Августин однажды определил христианство как единственно истинную философию.5 Он
1 Ср.: De civ. X 29 (PL 41. 307—309); Ер. 118. 17; 120. 6 (PL 33. 440; 455).
2 Conf. VII 20. 26 (PL 32. 747) (пер. Μ. E. Сергеенко).
3 De civ. XIX 1. 2 (PL 41. 621—623).
4 Например, De beata vita 1.1; 1.5 (PL 32. 959; 961).
5C. Jul. IV 14. 72 (PL 44. 774).
420
МАРИЙ ВИКТОРИН И АВГУСТИН
подчас определяет «философию», следуя этимологии, как любовь к мудрости;1 а мудрость должна иметь дело с истиной о природе и с достижением высшего блага,1 2 такого, в котором человек обретает свое полное и окончательное осуществление. Стоило ему избрать христианское учение в качестве пути к спасению, как из этого определения с неизбежностью последовало, что христианство является «истинной философией». Желание счастья едино для философов и христиан,3 однако философы, хотя и «одарены способностями, наделены большим досугом, обучены утонченным наукам», лишь изредка достигают истины, да и тогда не всей; нередко их искания вводят их в заблуждение — отсюда многообразие философских школ и их разногласия.4 Что же касается христианской веры, то она основывается не на предположениях человека, а на священных писаниях, в которых Бог вверил свою истину своему народу: ее авторы были «философами, то есть любителями мудрости, и мудрецами, богословами, и пророками, и учителями добродетели и благочестия».5 Писание есть надежный источник «христианской философии».
Поэтому, несмотря на понимание христианства как истинной философии, Августин ясно осознает фундаментальное различие между философией философов и «философией» христианских верующих. Это различие касается не только содержания соответствующих учений; оно также, и главным образом, есть различие в подходе: как он формулирует это в одной из своих ранних работ, одни исходят из рассуждения, другие — из авторитета.6 Ключевые составляющие христианского вероисповедания суть положения Символа веры, касающиеся исторических событий и как таковые лежащие вне сферы абстрактных, общих истин, доступных философской рефлексии. В сочинении более позднего времени Августин совершенно однозначно заявляет об этой недосягаемости для философской рефлексии случайных, исторических фактов христианской веры, таких как воскрешение Иисуса Христа.7 Представляется поэтому, что, хотя он и был склонен говорить о христианстве как о «философии», он также использовал понятие
1 Например, De ord. I 11. 32 (PL 32. 993); De Trin. XIV 1. 2 (PL 42. 1037).
2 Cm.: De lib. arb. II 9. 26 (PL 32. 1254).
3 Sermo 150. 3.4 (PL 38. 809).
4 De Trin. XIII 7. 10 (PL 42. 1020—1021); cp.: De civ. XVIII41.2 (PL 41. 601).
3 De civ. XVIII 41. 3 (PL 41. 602).
6 De ord. II 5. 16 (PL 32. 1002).
7 De Trin. IV 16. 21 (PL 42. 902); cp.: De vera rel. 7. 13 (PL 34. 128).
АВГУСТИН. БИОГРАФИЧЕСКОЕ ВСТУПЛЕНИЕ
421
«философия» в более узком, техническом смысле, сходном с современным его использованием.
Каким образом, согласно Августину, философия в этом более узком смысле соотносится с истинной «христианской философией»? Как мы уже видели, Августин считал, что «платоники», которых он называл «praecipui gentium philosophi» («выдающиеся философы»),1 предвосхитили некоторые аспекты христианского учения,1 2 главным образом не имевшие исторического и случайного характера. Это значит, что Писание предостерегает нас не от философов как таковых, но лишь от «философов мира сего».3 И все же факт остается фактом: сколь бы философы ни были близки к христианству, им нечего добавить к его доктрине о спасении: необразованный, но истинно верующий, прилепившись ко кресту Христову, может достичь небесной обители, в которой отказано ученому философу, хотя его рассуждения и позволяют ему знать о ней;4 безграмотный верующий, несведущий в философии, знает все, что нужно для обретения блаженства, если остается верным Господу.5 Здесь Августин следует наставлению апостола Павла о мудрости мира, которую Бог обратил в безумие, и о юродстве проповеди распятого Христа, через которую Богу было благоугодно спасти верующих.6 Августин придерживался этого учения св. Павла даже в самых ранних своих сочинениях, где, тогда еще в более непосредственной интеллектуальной манере, признавался, что не понимает, как люди, согласные довериться авторитету, но либо не могущие, либо не желающие заниматься «свободными и возвышенными науками», вообще могут называть себя в этой жизни блаженными.7 В своей «Исповеди» Августин выражает благодарность за то, что, прежде чем открыть для себя Писание, он встретился с «книгами платоников», ибо это они подготовили его к принятию священных текстов;8 страшно даже подумать, что
1 De Trin. XIII 19. 24 (PL 42. 1034); это центральная мысль для VIII книги «О граде Божьем».
2 См. выше, с. 418.
3 De ord. I 11. 32 (PL 32. 993); чрезмерное в этом отрывке сближение христианства и платонизма, за которое порицает себя Августин в Retr. 13.2. (PL 32. 588—589), — другое дело, и оно не влияет на его интерпретацию предостережения от философии; ср.: De civ. VIII 10. 1 (PL 41. 234) и ниже, с. 440—441.
4 De Trin. IV 15. 20 (PL 42. 901—902).
5 De civ. VIII 10. 2 (PL 41. 235).
6 1 Kop. 1:18—25.
7 De ord. II 9. 26 (PL 32. 1007).
8 VII 20. 26 (PL 32. 746—747).
422
МАРИЙ ВИКТОРИН И АВГУСТИН
было бы, познакомься он с ними в обратном порядке: «Они бы выбросили меня из крепости моего благочестия», или, что также возможно, он мог бы счесть их достаточными. По-видимому, философии нечего предложить верующему, и она может даже представлять опасность для его веры.
И все же Августин не принадлежит к тому влиятельному течению внутри христианской традиции, которое не находит места для философии в уме верующего христианина. Обращаясь к классическому образу, он резюмирует отстаиваемую им позицию так: подобно тому как Израиль забрал у египтян их сокровища и взял их с собой в Землю обетованную, философов, говоривших истинно и в согласии с христианской верой, не только не следует бояться, но и то, чем они владеют, «христианин... должен исторгать у них для пользы Евангелия».1 Вторая книга его сочинения «О христианском учении» посвящена обсуждению принципов, на основании которых христианство может перенять и использовать культуру классической античности. По сравнению с юношеским восторгом перед ее достижениями, которым так отличались его ранние диалоги, здесь Августин гораздо более сдержан. Философской мыслью, как и другими дисциплинами, не следует впредь заниматься ради них самих. Все сферы знания и искусства строго подчинены служению стоящей за ними цели, а именно христианской вере. При беглом прочтении плана, изложенного в «О христианском учении», он кажется бесчеловечно узким, с бескомпромиссным исключением всего, что не относится к изучению Писания. Однако сужение кругозора представляется мне лишь видимостью. Мару охарактеризовал достижение Августина как «настоящее освобождение» от оков культуры его времени.1 2 Сколь бы он ни был ей обязан, — а он был обязан ей многим, — в действительности он порвал с ней гораздо основательнее, чем кто-либо из его предшественников. «Его отношение представляет собой решительное и знаменательное осознание упадка античного мира... Несмотря на внешний образ, именно он со своим мрачным аскетизмом, а не утонченная светскость какого-нибудь Симмаха или Авсония, олицетворяет вечные ценности гуманизма своего времени».3 В середине 390-х годов Августин обратился к сосредоточенной жизни. По возвращении из Африки после крещения он сначала жил в
1 De doctr. chr. II 40. 60 (PL 34. 63).
2 Marrou H. /. Saint Augustin et la fin de la culture antique. Paris, 1938. P. 352—
356.
3 Ibid. P. 353.
АВГУСТИН. БИОГРАФИЧЕСКОЕ ВСТУПЛЕНИЕ
423
неком монашеском уединении с группой образованных друзей- единомышленников. Однако по прошествии нескольких лет он был назначен священником церкви в Гиппоне в качестве помощника тамошнего епископа Валерия, а вскоре стал его преемником на этом посту. Общая направленность интеллектуальной жизни Августина претерпела изменения в эти годы. Вся его энергия и интерес отныне направлены в пастырское русло; нужды его собственной епархии в Гиппоне и в целом Североафриканской церкви, в которой он вскоре сделался одной из выдающихся и влиятельных фигур, занимали его ум в первую очередь. Он не перестал быть ученым и мыслителем, но стал ученым и мыслителем целиком на службе Церкви и своего народа. По мере того как христианская вера все глубже проникает в его ум, вся его ученость и таланты оказываются теснее с ней связаны. Поставив наследие классической культуры на службу христианской вере, Августин не только сыграл значительную роль в формировании средневекового миропонимания, но и способствовал тому, что ряд достижений античности сохранил свою жизнеспособность, использовав, так сказать, материалы рушащегося здания для строительства на новом фундаменте.
Настоящие главы во многом являются попыткой обнаружить, каким образом Августину удалось «ограбить египтян» в отношении философии. Но прежде чем приступить к рассмотрению того, как он использовал унаследованное им философское имущество на службе вере, нам стоит более подробно исследовать, что именно он подразумевал под такого рода использованием философии; иначе говоря, как, по его мнению, соотносятся философская рефлексия и вера внутри христианского ума.
Что в таком случае есть акт веры и каково его место в интеллектуальной жизни христианина? В одном из своих последних сочинений «О предопределении святых» Августин утверждает, что «верить» означает — и это определение стало классическим — «мыслить с согласием».1 Мысль является необходимой предпосылкой веры: каким бы поспешным и скорым ни было согласие веры, ему обязательно предшествует мысль. Акт веры как таковой есть акт мысли, но мысли особого рода: «Не всякий, кто мыслит, верует: многие размышляют для того, чтобы не верить. Но всякий верующий мыслит».1 2 Августин настаивает здесь на том,
1 De praed. sanct. 2. 5 (PL 44. 963): «Credere nihil aliud est quam cum assensione cogitare».
2 Ibid. (пер. И. Мамсурова).
424
МАРИЙ ВИКТОРИН И АВГУСТИН
что вера есть часть нормального ментального процесса мышления и неизбежно относится к сфере мышления; он определяет ее как особого рода мысль. Для начала проанализируем, что отличает веру от других видов мышления, а затем рассмотрим, каким образом она относится к сфере мышления.
Верить означает согласиться с тем, что узнал. Августин любит противопоставлять «веру» и «видение» (понимание): основное различие в содержании человеческого познания, определяемое этим противопоставлением, есть различие между тем, что мы узнаем от других и принимаем, основываясь на их свидетельствах, и тем, что нам известно по собственному опыту. «Видение» в этом контексте может, конечно, означать как зрение в буквальном смысле слова, так и постижение умом, то есть употребляться в метафорическом смысле, который, очевидно, и предпочитает Августин. В обоих случаях вера по сравнению с вйдением является познанием более примитивного характера. Для веры ее объект остается туманным и удаленным; ее согласие, хотя и является рациональным, в определенном смысле слепо.1 По этой причине вера ниже понимания или знания из опыта, несмотря на то что она может предшествовать пониманию во времени.1 2 И все же она вплетена в ткань человеческого бытия; жизнь семьи или общества распалась бы без нее, вера в авторитет других людей является необходимым условием человеческой деятельности.3 Вера повсеместна, однако Августин заявляет о том, что нужно быть разборчивым в выборе авторитетов, на которые опирается вера.4 Соглашаться или отказывать в согласии в конечном счете есть дело свободного и ответственного выбора. В этом смысле вера есть акт воли, хотя и не более произвольный, чем любой другой акт обдуманного выбора, имеющий под собой достаточные основания.5
Такая характеристика веры имеет довольно широкое применение; она относится и к вере в историческое повествование, как, например, в случае с верой христиан в Иисуса Христа. Религиозная вера ни в коем случае не является особого рода знанием, деятельностью особой умственной способности. Ее отличие от других
1 Ер. 147. 2. 7—3. 8 (PL 33. 599—600); ср.: De fide г. q. η. v. 1. 1—3 (PL 40. 171—173).
2 De ord. II 9. 26 (PL 32. 1007); cp.: De mor. eccl. I 2. 3 (PL 32. 1311—1312).
3 De ut. cred. 12. 26 (PL 42. 84); cp.: De fide r. q. n. v. 2. 4. (PL 40. 173—174); De Trin. XV 12. 21 (PL 42. 1073—1075).
4 De ord. II 9. 27 (PL 32. 1007—1008); cp.: De vera rel. 25. 46 (PL 34. 142); De ut. cred. 9. 21 (PL 42. 79—80).
5 De spir. et litt. 31. 54; 34. 60 (PL 44. 235; 240—241).
АВГУСТИН. БИОГРАФИЧЕСКОЕ ВСТУПЛЕНИЕ
425
видов убеждения коренится не в верующем, а в предметах веры, а также в характере авторитета и доказательств, требуемых для соответствующих видов верования. Религиозная вера христианина, как и любая другая вера, исходит ex auditu — «от слышания»;1 она отличается от других видов убеждения тем, что авторитет откровения, составляющий ее содержание, божествен.1 2 Подробности своеобразия ее природы и источников нас здесь не интересуют.
Августин не раз берется за рассмотрение отношения веры и понимания, отправной точкой которого может служить краткая классификация предметов, доступных вере (credibilia), составленная им в одной из ранних работ.3 Он подразделяет их на три класса: (1) те, в которые можно только верить, но невозможно понять; (2) те, в отношении которых вера и понимание сопутствуют друг другу: поверить в них ipso facto* означает понять их; (3) те, в которые прежде необходимо поверить и которые, возможно, впоследствии будут поняты. В пример предметов первого класса Августин приводит исторические истины; примерами второго класса считает математические и логические положения; третьего — истины, касающиеся Бога, которые верующие поймут однажды, если будут жить в согласии с заповедями. Имеются некоторые трудности, связанные с этой классификацией, но, если пренебречь незначительными неясностями, станет вполне очевидным, что Августин считал, что понимание чего-либо необходимо предполагает веру в это, обратное же не обязательно истинно: мы можем верить во что-либо, не понимая этого, то есть не усматривая рациональной необходимости его истинности. Такое усмотрение либо вовсе недостижимо, как в случае с условной истинностью исторических утверждений, либо оно достижимо, но лишь вследствие того, что в их бытие предварительно поверили.4 Утверждения о Боге, истины религиозной веры принадлежат к этому классу. В них прежде всего нужно поверить и тогда, возможно, с течением времени их удастся понять. Для Августина, конечно, само собой разумеется, что ясное вйдение и понимание Бога невозможно обрести в этой жизни, в которой мы видим «словно через стекло, смутно». Говоря о понимании, он в первую очередь имеет в виду вйдение Бога, которого будут удостоены чистые сердцем по окончании их пути
1 Рим. 10:17, на который ссылается Августин в De Trin. XIII 2. 5 (PL 42. 1016).
2 De civ. XI 3 (PL 41. 318); cp.: De ord. II 9. 27 (PL 32. 1007—1008).
3 De div. qu. LXXXIII 48 (PL 40. 31); cp.: Ep. 147. 6—8 (PL 33. 599—600).
4 De mag. 11. 37 (PL 32. 1216); cp.: Sol. I 3. 8 (PL 32. 873).
* В силу самого факта {лат.). — Примеч. перев.
426
МАРИЙ ВИКТОРИН И АВГУСТИН
в вере, из чего можно сделать вывод, что вера для Августина есть нечто несовершенное, нечто такое, что самой своей природой указывает на что-то иное, более совершенное, — на непосредственное вйдение Бога как на награду верующему.
Вера, таким образом, двояко соотносится с пониманием:
Некоторые вещи должны быть поняты до того, как некто сможет поверить в Бога; как бы то ни было, вера, посредством которой некто верит в Него, помогает ему больше понимать... А если вера происходит от слышания, а слышание из проповеди Христа, то как мог бы некто поверить проповеднику веры, если бы, по крайней мере, не понимал языка, на котором тот говорит? И наоборот, есть вещи, в которые, чтобы их понять, нужно прежде поверить. Об этом свидетельствуют слова Пророка: «Если вы не верите, то потому, что не удостоверены» (Ис. 7:9).1 Таким образом, ум совершенствуется в понимании того, во что он верит.1 2
С одной стороны, понимание служит подготовкой к вере, оно истолковывает смысл послания, тщательно всматривается в авторитет его подателя и так далее; с другой стороны, вера является подготовкой к пониманию. На этом соотношении Августин предпочитает останавливаться, причем делает это неоднократно и не только в поздних работах. Полное и окончательное завершение того, что начинается в вере, выходит за пределы земной жизни. И тем не менее даже в пределах жизни на земле вера есть только начало, первый шаг. Августин неизменно изображает жизнь верующего ума возрастающей и развивающейся в понимании, хотя полнота понимания и недостижима. Жизнь ума ни в коем случае не заканчивается его подчинением христианской вере. Прибегнув к метафоре из области садоводства, он описывает веру как то, что, пустив ростки, нуждается в постоянном поливе, питании и удобрении для своего роста.3 С момента обращения в христианство Августин видел в своей вере существенный шаг на пути к истине, однако с самого начала он считал ее прочным, надежным и авторитетным основанием для дальнейшего возрастания в понимании. Он никогда не утрачивал страсти к более глубокому проникновению в мудрость, открытую ему бдительно охраняемой и основанной на авторитете верой; средством же этого более глубо¬
1 «Nisi credideritis non intelligetis» в варианте, которым пользуется Августин.
2 En. in Ps. 118; Sermo 18. 3 (PL 37. 1552); cp.: Sermo 43. 3. 4 и 7. 9 (PL 38. 255; 258).
3 Sermo 43. 6. 7 (PL 38. 257); cp.: De Trin XIV 1. 3 (PL 42. 1037).
АВГУСТИН. БИОГРАФИЧЕСКОЕ ВСТУПЛЕНИЕ
427
кого проникновения был разум, прежде всего — идущий путями, открытыми «платониками».1 Положить конец интеллектуальному развитию с принятием христианского вероучения означало для Августина довольствоваться меньшим, чем то, но что способен человек, какими-то ребячеством и незрелостью: «Господь не может ненавидеть в нас то, благодаря чему Он создал нас более совершенными, чем другие животные. Так давайте же ни при каких обстоятельствах не превращать свою веру в предлог к тому, чтобы перестать приветствовать и следовать разуму, поскольку, если бы наши души не были разумными, мы не могли бы и веровать».1 2 Вера в таком случае есть первый и только первый шаг на пути к истине; она есть условие понимания и его начало. Ничто так не характеризует точку зрения Августина, как его возобновляемый призыв: «Веруй, чтобы понять».3 Его корреспондент Консенций поставил перед ним проблему: «Если бы вера в Церковь была исходом рассуждений и дискуссий, а не благочестивого легковерия, только философы и ораторы удостоились бы блаженства; однако, если Господу было угодно избрать скромных мира сего, чтобы опровергнуть сильных, чтобы безумием причастия спасти тех, кто верует, нам стоит не столько искать доводов, сколько следовать авторитету святых». Августин на это ответил лишь, что труд разумного вопрошания должен быть предпринят «не ради отказа от веры, а чтобы понять с помощью света разума то, чего уже прочно держится вера».4
Трудно не прочесть эти слова, настаивающие на том, что вера есть начало пути к истине, — и только начало, поскольку впереди еще долгий путь, — в свете личной драмы Августина. Его извилистый и мучительный поиск истины, его отчаяние найти ее, череда ложных шагов и разочарований, за которыми последовало открытие христианской веры как ответа на его слепые блуждания, и, безусловно, заключительный опыт интеллектуально углубленной веры воплощают на практике упомянутый теоретический маршрут. Метод, используемый в его теологических сочинениях, также иллюстрирует указанный взгляд на соотношение веры и разума.
1 Ясную и раннюю формулировку этой программы см. в С. Acad. Ill 20. 43 (PL 32. 957).
2 Ер. 120. 3 (PL 33. 453); письмо целиком посвящено этому предмету.
3 См. выше, с. 426, прим. 1. Среди многочисленных обращений к этой теме можно отметить следующие: De Trin. VII 6. 12; IX 1. 1; XV 2. 2 (PL 42. 946; 961; 1057—1058); In Jo. Εν. Tr. 40. 9; 29. 6 (PL 35. 1691; 1630—1631); C. Faust. XII 46 (PL 42. 279).
4Ep. 120. 2 (PL 33. 452).
428
МАРИЙ ВИКТОРИН И АВГУСТИН
Пожалуй, яснее всего он проявляется в наиболее систематичном из крупных богословских трудов Августина — «О Троице». Эта работа представляет собой попытку постичь тайну Троицы, доктрина о которой является средоточием христианской веры и для которой не существует иных оснований, чем авторитет Писания и Церкви. В этом сочинении Августин размышляет о смысле этой доктрины, подыскивает аналогии и метафоры, могущие помочь прояснить его, пытается разобраться с некоторой логической и лингвистической путаницей, вызывающей дополнительные затруднения, и тому подобное. Здесь не делается попытки выйти за пределы самой доктрины, чтобы обосновать ее на независимом от веры фундаменте; только продолжительное усилие проникнуть глубже в ее смысл, используя все средства ума в поиске понимания. Метод и дух этого исследования удачно характеризует утверждение в начале второй его части: «Верное стремление есть лишь то, что произрастает из веры... Поэтому давайте искать так, как если бы должны были найти, и находить так, как если бы еще должны были искать».1 Поиск понимания не заканчивается в этой жизни.
Едва ли, конечно, это исследование можно назвать «философским» в современном смысле слова, оно, скорее, относится к области теологии. Однако в мире Августина различия между двумя дисциплинами не существовало, и в его «христианской философии» они сливаются воедино. Философская мысль появляется здесь в качестве наиболее важного инструмента, пригодного для углубления понимания веры. Теологический подход Августина, которым он сильно обязан греческой, в особенности неоплатонической, философской мысли, выступает конкретным примером «обирания египтян»: его приемы, понятийные структуры и терминология используются более не ради них самих, но исключительно на службе превосходящей их цели — пониманию христианской веры во всей ее полноте. И это есть не что иное, как практическая разработка программы, очерченной в «О христианском учении».
1 DeTrin. IX 1. 1 (PL 42. 961).
Глава 22 АВГУСТИН.
ЧЕЛОВЕК: ТЕЛО И ДУША
Взгляды Августина на природу человека и его место в мироздании неизбежно претерпели основательные изменения в ходе его интеллектуального путешествия из манихейства через неоплатонизм к христианскому учению. Три этих мировосприятия существенно различаются в своей оценке человека. Согласно манихейскому учению, человек есть существо, разорванное надвое, или два существа, подобно тому как и сам мир разделен или мыслится как два мира — мир тьмы и мир света. Как гласит космогонический миф, они были созданы разными творцами, управляются каждый своим правителем и неизменно враждуют между собой. Человек есть эпизод внутрикосмической войны: он — продукт излучения из царства света в царство тьмы. Миф изображает его посланником света, поглощенным тьмой, заточившей его и препятствующей его возвращению домой. Человек есть цель, арена и орудие этой космической борьбы. Космические силы мобилизованы, чтобы помешать либо посодействовать его возвращению в свой духовный дом; он сам есть смесь двух миров, враждующих как внутри, так и вокруг него; и в его власти взаимодействовать с силами тьмы либо противостоять им. Обладая этой властью, человек вовсе не является пассивным наблюдателем конфликта: он призван воздерживаться от связи со злом, отвергнуть тело — его главного посредника. В отказе и освобождении от тела, таким образом, состоит существенная часть манихейской доктрины спасения: тело принадлежит сфере зла и, чуждое внутренней природе человека, служит темницей его истинного «я».
Взгляды неоплатоников на природу человека, которые не место рассматривать здесь, далеко отстоят от манихейского учения, поскольку настаивают на благости материи и человеческого те¬
430
МАРИЙ ВИКТОРИН И АВГУСТИН
ла.1 У тела есть свое место в иерархично устроенном универсуме и свое назначение: способствовать тому, чтобы работа ума — рациональность, порядок — нашли отражение на низших уровнях космоса. Из этого следует, что оно не должно быть предметом отвращения и ненависти, хотя и препятствует человеку на пути достижения добродетели и мудрости и, более того, не участвует в окончательном спасении. Отсюда глубокое противостояние неоплатоников христианскому учению о воскрешении тела и той положительной ценности, которое приписывается в нем телу и материальному миру. Несмотря на это противостояние, отношение христиан к материальному миру вообще и телу в частности на деле нередко оказывалось очень близким неоплатоникам и даже дуалистам-гностикам.
Воззрения Августина на человека оформились уже после его обращения в христианство. Его разрыв с манихейством, несмотря на якобы сохранившиеся в его уме манихейские влияния, представляется абсолютным. Его резкое недоверие к чувственным наслаждениям, например то подозрение, с каким он относится к церковной музыке,1 2 совершенно не манихейское по духу и не содержит и намека на отвращение к телесному миру, но, напротив, обнаруживает глубокую восприимчивость к красоте и озабоченность тем, чтобы не дать ей исчезнуть вместе с рассуждением и оценкой. Эта озабоченность составляет единое целое с его моральной теорией использования сотворенных вещей, которая будет рассмотрена в дальнейшем. Этическое по своей сути основание практического отношения Августина к телесной жизни в значительной степени служит мостом между его христианскими воззрениями на тело и соответствующими взглядами неоплатоников. Сколь бы высока ни была оценка тела в христианстве, она всегда уравновешивалась его сильной неотмирностью, которая связывала христианское вероучение с этическим протестом неоплатонизма и большинства философских учений античности против суетности жизни и с их наставлениями воздерживаться от всего, что Аристотель называл «делами, из-за которых люди ссорятся». Спустя много лет после обращения в христианство Августин мог чувствовать, что его многое объединяет с «платониками».3
1 Неоплатонические воззрения на природу человека см. в разделе III («Плотин»), гл. 14, с. 288—302.
2 Conf. X 33. 49—50 (PL 32. 799—800).
3 Краткое изложение его взглядов на манихейское и неоплатоническое учения о теле см. в De civ. XIV 5 (PL 41. 408—409).
АВГУСТИН. ЧЕЛОВЕК: ТЕЛО И ДУША
431
Размышления Августина на эту тему, начиная с работ, написанных сразу после его обращения, проникнуты стремлением подчеркнуть единство человека, его души и тела. Его позиция не допускает сомнения в том, что как душа, так и тело являются существенными компонентами того целого, которое мы называем человеком. Эта убежденность обнаруживает себя в одном из его ранних писем1 и в равной степени характерна для его позднейших сочинений. Она проявляется в одном из способов, каким он часто описывает человека: «Человек есть разумное животное и смертное»,1 2 — формулировка, намеренно построенная таким образом, чтобы подчеркнуть необходимость в определении человека указывать и на душу, и на тело. Тем не менее, несмотря на эту непоколебимую убежденность, Августин испытывал затруднения с воплощением ее в готовую понятийную схему. Отрывок из его раннего сочинения наглядно иллюстрирует это обстоятельство:
Поскольку почти все согласны в том, что мы состоим из души и тела, и так как цель настоящего исследования позволяет нам принять это соглашение бездоказательно, вопрос, которым мы должны теперь задаться, есть вопрос: «Что в действительности есть такое человек?» Есть ли он обе эти составляющих, или он только тело, или только душа? Поскольку хотя душа и тело суть две разные вещи и ни одна из них по отдельности не называется «человек» в отсутствие другой (поскольку как тело не является человеком, если оно не оживлено душой, так и душа не является человеком без тела, которое она оживляет), тем не менее бывает так, что то одну, то другое принимают за человека и соответственно к нему обращаются. Как нам сказать в таком случае, что есть человек? Душа ли он и тело вместе, как пара лошадей, или сложное животное вроде кентавра и есть одна вещь? Или нам стоит сказать, что он есть только тело, хотя и используемое правящей им душой? — подобно тому как мы, называя глиняную лампу «светом», не имеем в виду, что глиняный сосуд и пламя вместе составляют свет; мы называем лампу светом, но лишь благодаря пламени. Или, наконец, не следует ли нам назвать одну лишь душу человеком и сделать это на том основании, что душа управляет телом? — так же, как мы называем всадником человека, а не человека вместе с его лошадью, хотя и делаем это потому, что он ездит на лошади. Решение этой проблемы сложно — хотя, даже если оно очевидно, оно в любом случае требует длинного пояснения,
1 Ер. 3.4(PL33. 65).
2 De ord. II 11.31 (PL 32. 1009); см. также: De quant, an. 25. 47 (PL 32. 1062); DeTrin. XV 7. 11 (PL42. 1065); De civ. IX 13. 3; XIII 24. 2 (PL41. 267; 399—400).
432
МАРИЙ ВИКТОРИН И АВГУСТИН
а у нас нет необходимости здесь и сейчас брать на себя этот труд
и задерживаться.1
Августин начинает данный отрывок с оговорки, что он не заботится о том, чтобы дать в нем формальное определение человека. В продолжении становится вполне очевидным, что его интересует рассмотрение вопроса о том, что есть благо для человека, и что предшествующее ему затруднение, связанное с определением человека, второстепенно для этого вопроса. В самом деле, разрешение этого затруднения не имеет ключевого значения, если только ясно, что наибольшее благо для человека не тождественно благу одного лишь тела, но должно состоять либо в благе для тела и души вместе, либо только для души. Это проходной отрывок, и интересы Августина сосредоточены на другом, на сфере этики. Было бы неразумным слишком заострять на нем внимание и ожидать, что он послужит верным ключом к Августинову воззрению на тело и душу. Как бы то ни было, этот отрывок действительно содержит намек на то, какого рода затруднения обнаружил Августин, предприняв попытку дать концептуальное выражение своей убежденности в субстанциальном единстве человека, состоящего из души и тела. Источником этих затруднений была усвоенная им схема платоновских понятий. Позднее, возвратившись к этому вопросу в той же самой работе, он определяет человека с помощью традиционной платоновской формулы «разумная душа, использующая смертное, земное тело».1 2 Августин намеренно не утверждает, что человек тождествен своей душе, хотя к нему обращаются как к телу. И действительно, это обращение к телу включено в определение души, данное им в другой работе примерно того же времени: она есть «некоторая субстанция, причастная разуму, приспособленная к управлению телом».3 Душа по своей природе отсылает к телу и неполна без него. Августин, насколько возможно, ярко подчеркивает единство тела и души в человеке, хотя усвоенная им концептуальная схема препятствует тому, чтобы говорить о субстанциальном единстве человека.
Одна из наиболее интересных особенностей Августиновых попыток объяснить нераздельность тела и души в человеке, обнару¬
1 De mor. eccl. I 4. 6 (PL 32. 1313); cp.: De civ. XIX 3 (PL 41. 625—627), где делается очевидным источник рассматриваемого вопроса.
^ De mor. eccl. I 27. 52 (PL 32. 1332); cp.: In Jo. Ev. Tr. XIX 15 (PL 35. 1553): «Anima rationalis habens corpus».
3 De quant, an. 13. 22 (PL 32. 1048).
АВГУСТИН. ЧЕЛОВЕК: ТЕЛО И ДУША
433
женная в исследованиях отца Фортена и Дёрри, состоит в том, что не только затруднениями, но и способом их разрешения Августин обязан той философской схеме, которую он принял на вооружение.1 Его концепция единства души и тела появляется в тех местах, где он защищает от философских возражений доктрину о двух природах, соединенных в лице Слова, ставшего плотью. Аргумент, в том виде, в каком Августин яснее всего формулирует его в переписке с Волузианом, состоит в том, что на философской почве у этой доктрины не может быть возражений a priori, поскольку легче постичь единство двух духовных, чем духовной и материальной субстанций; и тем не менее допускается возможность того, что последнее имеет место в нераздельности души и тела в человеке.1 2 Очевидно, что Августин ссылается на философское учение о единстве ума и тела, согласно которому они могут быть соединены в «единство без смешения» (unio inconfusa, άμικτος, άσύγχυτος ενωσις). Это учение имеет неоплатоническое происхождение. По- видимому, оно восходит к Аммонию Саккасу, и его, несомненно, придерживался Порфирий, на которого Августин косвенно и ссылается.3 Неоплатоническое представление о «единстве без смешения» как раз и возникло из необходимости сохранить возможность единства души и тела, которую отрицала стоическая мысль. Стоики различали простую «смежность» (παράθεσις) и «смешение» (κρασις) как две альтернативных формы единства. Последняя предполагала различный характер смешиваемых сущностей и их превращение в новую, третью. По очевидным причинам ни один из видов единства не мог вместить в себя неоплатонического представления о союзе души и тела. Подходящий вид соединения предоставила третья форма единства, добавленная неоплатониками к стоическому перечню, в которой христианские теологи немедленно усмотрели средство для разрешения собственных затруднений в отстаивании единства божественной и человеческой природы в личности Христа. Августин, таким образом, воспользовался современной ему философией в христологических целях: похоже, он нисколько не сомневался в ее пригодности для выражения
1 Fortin Е. L. Christianisme et culture philosophique au cinquieme siecle. Paris, 1959; Dorrie H. Porphyrios «Symmikta Zetemata»... Miinchen, 1959; Ρέρΐη J. Une nouvelle source de St. Augustin... // R. Et. Anc. 1964. N 66. P. 53—107.
2 Ep. 137.3. 11 (PL 33. 520).
3 De civ. X 29 (PL 41. 307—309). По поводу использования теории άσύγχυτος ενωσις на христианском Востоке см. раздел VI («Греческая христианская платоническая традиция»), гл. 31 Г, с. 577—580 и гл. 32 Д, с. 595.
434
МАРИЙ ВИКТОРИН И АВГУСТИН
формы единства души и тела в человеке.1 По-видимому, в другом, более раннем антиманихейском сочинении он подразумевал нечто сходное с этим представлением, когда проводил параллель между тем, как вода, добавленная в почву и образующая грязь, удерживает и уплотняет ее, и единством души и тела: «Душа превращает материю оживляемого ею тела в гармоничное единство, охраняя и сберегая его целостность».* 2 Подводя итог, скажем, что Августин подчеркивал единство души и тела в человеке настолько остро, насколько позволял ему унаследованный им инструментарий, и, несомненно, гораздо острее, чем сам Платон. Но он также хорошо осознавал, что этому единству не хватало субстанциальности: «Плоть моей души по субстанции... отличается от моей души, хотя они суть в одном человеке».3 Это соединение по праву называли «ипостасным». В самом деле, если бы Августин мог помыслить о нем как о субстанциальном, оно не составило бы для него столь удобной аналогии в деле христологической дискуссии.
Мы еще встретимся с некоторыми затруднениями, связанными с этим воззрением, когда будем обсуждать представления Августина о чувственном восприятии. По всей видимости, он не слишком о них беспокоился, и, во всяком случае, сам этот вопрос имел весьма подчиненное значение в его глазах. Гораздо более важными представлялись ему вопросы, связанные с высшим человеческим благом, и огромным достоинством его образа человека было то, что он умещался в ясную схему, в которой основной акцент делался на благе души. Отождествление человека с его душой, даже с поправкой «использующей смертное тело», при всей его противоречивости согласуется с глубочайшими мотивами Августиновой мысли. Оно изображает человека помещенным в иерархический порядок, повторенный в устройстве его собственного существа. Само определение человека включает обращение к двум сущностям, одна из которых подчинена другой, как слуга правителю. Августину нравится описывать человека как нечто промежуточное между сферами духа и материи — исключительное положение, символизируемое его прямохождением.4
Человек принадлежит иерархии космоса — ступеням, стоящим как выше, так и ниже его — различными способами. Конечно,
• In Jo. Εν. Tr. XIX 15 (PL 35. 1553); cp.: Ep. 137.3. 11—12 (PL 33. 520—521); De civ. X 29 (PL 41. 307—309).
2 De Gen. c. Man. II 7. 9 (PL 34. 201).
3 De Trin. I 10. 20 (PL 42. 835).
4 De Gen. ad litt. VI 12. 22 (PL 34. 348); cp.: De civ. IX 13. 3 (PL 41.267); In Jo. Ev. Tr. XX 11; XXIII 5 (PL 35. 1562; 1584—1585).
АВГУСТИН. ЧЕЛОВЕК: ТЕЛО И ДУША
435
он не подвешен между материальным миром и миром духа как некое третье, но, скорее, причастен обоим мирам, его положение погранично. Он есть сущее, в котором оба мира пересекаются. Человеческая душа из всех вещей в творении ближе всего к Богу.1 И все же при всей ее близости она не божественна и не обладает субстанцией Бога.1 2 На первый взгляд излишняя настойчивость Августина в этом пункте весьма существенна. Согласно мани- хейскому учению, душа человека является фрагментом, искрой божественной природы, помещенной во враждебный ей мир материи.3 Настаивать на таком тождестве природы означало либо требовать неизменности человеческой души, либо приписывать изменчивость Богу, что было в равной степени неприемлемо. Однако есть и более глубокая причина, по которой Августин настаивал на изменчивости человеческой души и ее отделенности от божественной природы. Свойства нематериальное™, разумности и вечности щедро приписывались душе неоплатониками и другими мыслителями. Считалось, что эти свойства придают душе божественность, и, как следствие, ряд христианских мыслителей приложили немалые усилия, чтобы опровергнуть духовность души, поскольку признать ее значило для них признать правоту богохульных притязаний на ее божественность. Данная задача не переставала будоражить христианские умы и во времена Августина, и позднее, на протяжении пятого века. Следуя св. Амвросию, Августин предпочел утверждать нематериальное™ и бессмертие души, уточняя это утверждение бескомпромиссной настойчивостью относительно ее изменчивости.4 Такое уточнение позволило Августину подчеркнуть разрыв между точкой зрения, согласно которой истинное «я» человека есть вечная разумная душа, не знающая ни изменений, ни страданий, ни греха, ни раскаяния, и его собственным взглядом, согласно которому человеческая душа обладает тем же сущностным непостоянством, что и все сотворенное сущее. Похоже, что он главным образом озабочен тем, чтобы отмежеваться от свойственного Плотину учения о «двойственной личности». Августин устанавливает свое собственное различие между «внутренним» и «внешним» человеком таким образом, чтобы не осталось никакой возможности принять его «внутрен¬
1 De beata vita 1.4 (PL 32. 961) (где Августин ссылается на Амвросия и Феодора Медиоланских); ср.: De Gen. ad litt. X 24. 40 (PL 34. 426—427).
2 De quant, an. 31. 63; 34. 77 (PL 32. 1070; 1077—1078); cp.: De civ. XI 26 (PL 41. 339); De Trin. XIV 8. 11 (PL 42. 1044); De Gen. ad litt. VII passim.
3 De Gen. c. Man. 118.11 (PL 34. 202).
4 Например, Ep. 166. 2. 3—4 (PL 33. 721—722).
436
МАРИЙ ВИКТОРИН И АВГУСТИН
него человека» за Плотинова безгрешного, неизменного и вечного «человека внутри». Этим объясняется его однообразное упорство касательно того, что внутренний человек судит и понимает в свете «бестелесных и вечных причин», которые, будучи неизменными, выше его души.1 Человеческая душа как таковая подвержена всем превратностям изменчивости и жизни, греху и раскаянию и непременно нуждается в Божьей благодати. У человека только одно «я», являющееся субъектом и уполномоченным его жизненного пути; не существует никакого скрытого истинного «я», нетронутого суматохой жизни и далекого от нее.
В отрицательном смысле Августин определяет душу в отношении к Богу как сущее, по своей природе от него отличное. В положительном смысле, ссылаясь на Книгу Бытия, он утверждает, что человек был создан по образу и подобию Божьему. Здесь он отходит от господствующего в патриотической традиции воззрения, согласно которому человек сохранил образ Бога во время грехопадения, но утратил подобие ему. Восстановление богоподо- бия должно было стать окончательным результатом длительного процесса обожения человека, совершаемого в нем спасительной работой Христа и силой его благодати.1 2 Отступление Августина от традиции кажется вызванным чисто логическими и лингвистическими соображениями, а не несогласием с теологией греха, благодати и освящения, заключенной в этой традиции. Он считал, что образ непременно предполагает присутствие некоего подобия оригиналу, тогда как подобие может существовать и там, где один из объектов не является образом другого, например между двумя яйцами. Согласно его рассуждению образ есть особого рода подобие,3 тогда как согласно отвергнутому им воззрению образ может существовать и без подобия. Августин поэтому предпочитал говорить об образе и подобии Богу как о свойствах, сохранившихся после грехопадения, хотя и поврежденных, искаженных и нуждающихся в исправлении. В изложении этого предмета Августин прибегает к разъяснению и анализу, что является типичным при¬
1 De Trin. XII 1. 1—2. 2; XI 1. 1 (PL 42. 997—999; 983—985). О божественном характере «человека внутри» у Плотина см. раздел III («Плотин»), гл. 14, с. 288—293.
2 Об «образе» и «подобии» в поздней греческой христианской мысли см. раздел VI («Греческая христианская платоническая традиция»), гл. 29 В, с. 532—540 и гл. 32 Д, с. 593—594.
3 De div. qu. LXXXIII 74 (PL 40. 85—86); Qu. in Hept. V 4 (PL 34. 749—750). О рассуждении Августина и его выводах см. мою статью: «Imago» and «similitudo» in Augustine // Rev. des etudes augustiniennes. 1964. X. P. 125—143.
АВГУСТИН. ЧЕЛОВЕК: ТЕЛО И ДУША
437
мером использования чисто рациональных приемов философии на службе христианской вере с целью прояснения ее смысла.
Мы слишком глубоко погрузились бы в сферу Августиновой теологии, если бы вдались сейчас в подробности учения Августина о подобии человека Богу.1 Он полагал, что человек является образом Бога в том, что касается высшей части его души — «внутреннего человека», или разума, — то есть того, благодаря чему он отличается от животного, — рассудительности, воли, способности участвовать в божественной жизни.1 2 Это врождено человеку, а не вручается ему впоследствии как дар;3 как бы сильно он ни был поврежден грехом, его разум всегда остается с ним, а его богопо- добие восстанавливается с крещением и улучшается путем ежедневно возобновляемого милосердия.4 Сочинение «О Троице» в значительной степени является попыткой уловить образ Бога в человеке, а именно его троичность.
Человеческая душа родственна Богу как его образ и подобие; с сущностями же, стоящими ниже ее в порядке вещей, она связана главным образом своей способностью познавать их и воздействовать на них, пребывая в их кругу. К этим темам мы теперь и обратимся.
1 De Gen. ad litt. Ill 20. 30; VI 12. 21—22 (PL 34. 292; 348); De Trin. XII 1. 1; XI 1. 1 (PL 42. 997—999; 983—985).
2 De Trin. XIV 8. 11 (PL 42. 1044).
3 Ibid. XIV 10. 13 (PL 42. 1047).
4 Ibid. XIV 16. 22—17. 23 (PL 42. 1053—1055).
Глава 23
АВГУСТИН. РАЗУМ И ОЗАРЕНИЕ
Августину нравится различать уровни в сфере того, что способен познать человеческий ум. На различии между верой и пониманием мы уже останавливались.1 Понимание, как, по-видимому, полагает Августин, есть деятельность, характерная исключительно для человеческого разума: оно является результатом его приложения и применения.1 2 Желая противопоставить понимание вере, Августин обычно говорит об intellectus, intelligere, intelligentia; рассматривая возникающий в уме результат рассуждения, он говорит о scientia. Тем самым одно из принадлежащих ему определений scientia в действительности почти тождественно intellectus: в ходе длительного рассмотрения отличительных свойств человеческого познания (scientia) он сравнивает соотношение между разумом и познанием с отношением между смотрением и вйде- нием: познание есть успешное завершение дела, предпринятого разумом.3 Его основной характеристикой является рациональная неопровержимость; нечто познано, когда оно совершенно ясно и прозрачно для ума и, так сказать, видно ему.4
Прежде чем рассмотреть многообразие ментальных процессов, связанных с разными видами познания, мы должны обратить внимание на различение, которое Августин делает внутри scientia: он определяет мудрость (sapientia) как познание особого рода. Он называет ее «созерцательным познанием» и определяет как озабоченность вечными предметами, тогда как другая часть scientia, в отношении которой он теперь применяет это понятие в более
1 См. выше, с. 424.
2 Sermo 43. 2.3 (PL 38. 255).
2 De quant, an. 26. 49—30. 58 (PL 32. 1063—1069); 27. 53 (PL 32. 1065).
4 Ibid. 30. 58 (PL 32. 1068—1069).
АВГУСТИН. РАЗУМ И ОЗАРЕНИЕ
439
узком смысле, касается временных вещей.1 Познание и мудрость различаются только в отношении интересующих их предметов, и Августин допускает, что их различие не радикально: названия на самом деле взаимозаменяемы.1 2 Как познание, так и мудрость являются результатами одной и той же деятельности одного и того же ума, хотя Августин и проводит соответствующее различие между «высшим» и «низшим» умами. Они различаются опять-таки только своими предметами; и тот, и другой суть разум человека, в первом случае взятый с точки зрения его заботы о сфере вечной истины,3 во втором — в отношении его интереса к «телесному и временному».
Эти градации в уме и познании выстраиваются на основании иерархии их предметов; действительного различия между соответствующими им умственными процессами здесь нет. Однако дело обстоит иначе в случае с другим различением, которое Августин также устанавливает относительно познаваемых предметов: «Есть два рода того, что познается (один — это то, что воспринимается душой посредством телесных ощущений; другой — это то, что воспринимается душой посредством себя самой)».4 Здесь, пожалуй, яснее, чем где бы то ни было, проводится различение участвующих в познании ментальных процессов.5 Мы имеем два вида знания: то, которое ум обретает непосредственно, и то, которое он получает через чувства.6
Самые ранние попытки Августина разрешить философские проблемы человеческого познания коренятся в желании отстоять саму его возможность вопреки «академикам», которые, по его мнению, оспаривали любые притязания на достоверность. Этим объясняется его поиск примеров непреложной истины, суждений, в которых буквально невозможно усомниться.
Его желание неоспоримой уверенности было удовлетворено рядом доводов, которые приводят к такой очевидной достоверности. Речь идет о доводах того же типа, что и хорошо знакомое Декартово Cogito ergo sum: познавая что-либо, некто непосредственно знает о том, что он существует, и, как это в одном месте
1 De Trin. XV 10. 17 (PL 42. 1069); XII 14. 22; 15.25 (42. 1009—1010; 1012).
2 Ibid. XIII 19. 24; XIV 1. 3 (PL 42. 1034; 1037).
3 Ibid. XII 3.3 (PL 42. 999).
4 Ibid. XV 12.21 (PL 42. 1075).
5 Cp.: Ep. 13. 4 (PL 33. 78).
6 Я рассмотрел эту тему с несколько иной точки зрения и местами более подробно в 5 главе работы «Critical history of Western philosophy» (ed. D. J. O’Connor. New York, 1964).
440
МАРИЙ ВИКТОРИН И АВГУСТИН
формулирует Августин, это осознание включает и тело;1 познавая нечто и даже обманываясь, познающий знает, что он мыслит.1 2 Этот довод встречается в одном из ранних трудов Августина, но постоянно воспроизводится loci* в споре с академиками и в более поздних сочинениях.3 Несмотря на его сходство с более знаменитым аргументом Декарта, его цели несколько отличны: Августин просто ищет аргументов, достаточных для того, чтобы дать отпор абсолютному скептицизму. Эти и подобные им примеры неопровержимого знания удовлетворяют его цели; однако Августин не имеет намерения выстроить систему таких же несомненных истин на их основании. В этом для него совершенно не было необходимости, поскольку он отрицал исходное положение о том, что знанием может считаться лишь непреложное знание.4
Пытаясь определить свою позицию vis-a-vis** академическому скептицизму, Августин осознал огромную ценность платонической традиции. Поэтому его теория познания, в особенности разумного, нечувственного познания, отлита в формы платоновской мысли. Учение Платона о том, что «есть два мира: один подлежащий умственному разумению, другой — подлежащий чувствам, очевидно тот, который мы ощущаем посредством зрения и осязания»,5 весьма привлекало новообращенных, оказавшихся перед лицом необходимости смириться со скептицизмом, и имело на них глубокое влияние. В самом деле, на этом этапе Августин едва отличал христианское учение от учения Платона и охотно вычитывал одно в другом.6 Оглядываясь на свое пристрастие к этим взглядам Платона в конце жизни, он порицает себя за то, что слишком некритично отождествлял евангельское учение и платонизм. Теперь он гораздо яснее видит, что то, о чем говорил Платон, отличалось от того иного мира, на который указывал Христос, говоря: «Царство Мое не от мира сего» (Ин. 18:36); он, несомненно, выше ценит эсхатологическое звучание слов Христа и менее охотно соглашается расслышать в них платоновские обертоны. Но как бы то ни было, он не пересматривает своего согласия с заявлением Платона о существовании умопостигаемого мира, под которым он
1 De beata vita 2. 7 (PL 32. 963).
2 Sol. II 1. 1 (PL 32. 885); cp.: De lib. arb. II 3. 7 (PL 32. 1243—1244).
3 De Trin. XV 12. 21 (PL 42. 1073—1075); De civ. XI 26 (PL 41. 339—340).
4 Cm.: De Trin. XV 12. 21—22 (PL 42. 1073—1075).
5 C. Acad. Ill 17. 37 (PL 32. 954).
6 De ord. I 11.32 (PL 32. 993).
* Местами, от случая к случаю {лат.). — Примем, перев.
** По отношению к (фр.). — Примем, перев.
АВГУСТИН. РАЗУМ И ОЗАРЕНИЕ
441
подразумевает «вечный и неизменный разум, посредством которого Господь сотворил мир».1
Августинова интерпретация Евангелия с годами сделалась более эсхатологичной, хотя платонизм, и в особенности платоновское учение об умопостигаемом мире, продолжил играть ключевую роль в его мысли. Он следовал уже получившей одобрение современников традиции отождествления платоновского умопостигаемого мира форм с божественным умом, содержащим идеи-архетипы всех сотворенных существ, с творящей Мудростью и Словом (Логосом) Бога.1 2 Августин характеризует наше знание этого умопостигаемого мира как аналогичное зрению: «Для ума понимать — то же, что для чувства видеть»,3 или «Разум есть взор души, которым она самостоятельно, без посредства тела созерцает истинное».4 Аналогия между зрением и пониманием — один из любимых и широко используемых приемов Августина. Некоторые из его доводов даже дают повод думать, что его вера в умопостигаемый мир берет начало из этого воззрения. «Ты помнишь, как я полагаю, — говорит он своему собеседнику в одном из ранних диалогов, —
что немногим ранее мы обсудили о телесных чувствах, а именно, с чем мы вместе соприкасаемся чувством, присущим глазам или ушам, как, например, цвета и звуки, которые я и ты одновременно видим или одновременно слышим, не имеет отношения к природе наших глаз или ушей, но являются общими для нас при восприятии. Таким образом, ты никак не скажешь, что также и то, что я и ты видим каждый своим умом, относится к природе ума кого-нибудь из нас. Ибо ты не можешь сказать, что то, что одновременно видят глаза двоих, есть глаза того или другого, но нечто третье, к чему обращен взгляд того и другого.5
Августин прежде всего имел в виду математические и логические высказывания, представлявшие собой такие несомненные истины, которыми он хотел возразить скептическому отрицанию возможности достоверного знания. Он полагал, что такие высказывания обладают свойствами всеобщности, необходимости и не¬
1 Retr. I 3. 2 (PL 32. 589).
2 Ibid.; ср.: De div. q. LXXXIII 46 (PL40. 29—31); De civ. XI 10. 3 (PL41. 327).
3 De ord. 113. 10 (PL 32. 999).
4 De imm. an. 6. 10 (PL 32. 1026).
5 De lib. arb. II 12. 33 (PL 32. 1259) (nep. Μ. E. Ермаковой); cp.: De imm. an. 6. 10 (PL 32. 1025—1026); DeTrin. XII 14. 23 (PL 42. 1010—1011).
442
МАРИЙ ВИКТОРИН И АВГУСТИН
изменности, которых не может гарантировать чувственный опыт;1 мы считаем их истинными, несмотря ни на какие видимые исключения, которые он может предъявить. Августин сделал вывод, что такие истины познаются независимо от чувственного опыта и телесных ощущений и выводятся из опыта другого рода — посредством умственного «зрения». Тем не менее он не считал математические и логические высказывания единственным или даже наиболее важным классом истин, познаваемых подобным способом. Он считал, что моральные положения и эстетические суждения ценности, а в действительности и вся сфера «мудрости» в целом, то есть все то, чем занимается философия, имеют такой же статус.1 2 Эту обширную сферу «вечных истин» было легко отождествить с творческими идеями-архетипами божественного ума.
Для Августина, как и для Платона, строение этого умопостигаемого мира было известно независимо от чувственного опыта. Ряд отрывков из его ранних сочинений заставляет предположить, что он разделял, во всяком случае до некоторой степени, платоновское учение о припоминании, согласно которому такое знание является тем достоянием ума, которое он принес в эту жизнь из предмирного существования в сфере вечных истин и из непосредственного соприкосновения с ними.3 В более поздних работах он опровергает эту точку зрения. Гораздо правдоподобнее, говорит он в одном месте, объяснить тот род познания, который обнаружил платоновский мальчик-раб в «Меноне», тем, что в людях «присутствует свет вечного разума, в какой бы мере они ни были способны к его восприятию, который и позволяет им видеть эти неизменные истины, а не тем, что они когда-то знали их, а потом забыли, как полагали Платон и другие».4 Познание вечных истин не является результатом обнаружения остаточного знания, сохранившегося в уме из прошлого существования, но есть дело непрерывного открытия, осуществляемого с помощью интеллектуального света, постоянно присутствующего в уме и являющегося средством соприкосновения с миром умопостигаемой реальности. Об этом
1 De lib. arb. II 8. 21 (PL 32. 1251—1252).
2 Ibid. II 9. 25—10. 29 (PL 32. 1253—1257); cp.: De vera rel. 39. 73 (PL 34. 154—155).
3 Sol. II 20. 35 (PL 32. 902—904); cp.: De quant, an. 20. 34 (PL 32. 1054—1055). Меня не убедили доводы О’Конелла, высказанные им в ряде недавних статей и, что удобно, кратко изложенные в «Rev. des etudes augustiniennes» (1965. XI. P. 372—375).
4 Retr. I 4. 4; cp. I 8. 2 (PL 32. 590; 594); De Trin. XII 15. 24 (PL 42. 1011— 1012).
АВГУСТИН. РАЗУМ И ОЗАРЕНИЕ
443
божественном озарении Августин также говорит как о соучастии ума в Слове Божьем, как о внутреннем присутствии Бога в уме, как о Христе, обитающем в человеческой душе и наставляющем ее изнутри, и тому подобное.
Что именно представляет собой содержимое познания, доступ к которому открывает такое интеллектуальное озарение, сказать трудно. Большая часть споров по этому вопросу касалась понятий, которые Августин не слишком аккуратно и подробно определил. Текст его сочинений поэтому нередко дает повод для противоречивых интерпретаций его мысли. Мы можем исключить точку зрения, согласно которой учение Августина предоставляет человеческому уму непосредственный доступ к божественному уму через озарение. Такая интерпретация противоречит всей Августиновой концепции отношения человека к Богу в этой жизни в целом и к тому же прямо им отрицается. Трудность в выборе двух других предложенных точек зрения — а именно: (1) что озарение обеспечивает разум понятиями, с помощью которых он интерпретирует чувственные впечатления, и (2) что оно вручает разуму мерило для того, чтобы приводить в порядок суждения, — можно проиллюстрировать одним весьма выразительным фрагментом. В своей более поздней работе «О Троице» Августин рассматривает, каким образом мы выносим сравнительные оценочные суждения. Перечислив ряд благих вещей, он пишет:
Ибо во всем том благом, что мы упомянули, или в каком-либо другом, что может быть увидено или помыслено, при справедливом рассуждении мы не можем сказать, что одно лучше другого, как только при условии, что у нас есть знание самого блага (nisi esset nobis impressa notio ipsius boni), в соответствии с которым мы что-либо одобряем и предпочитаем одно другому.1
Терминология этого отрывка совпадает с той, которую в ранних работах использовал Августин при аналогичном рассмотрении, говоря, что ум наделен notio impressa* благодати и мудрости.1 2 Это «запечатленное понятие», очевидно, является одновременно понятием и критерием оценки — две вещи сливаются одна с другой. Какое-либо коренное различие между озарением как источником понятий и озарением как основанием для правильного суждения лежит далеко за пределами Августинова поля зрения.
1 VIII 3.4 (PL 42. 949).
2 De lib. arb. II 9. 26 (PL 32. 1254—1255).
* Запечатленным понятием {лат.). — Примем, перев.
444
МАРИЙ ВИКТОРИН И АВГУСТИН
Насколько тесно две эти функции отождествились в его представлении, следует из фрагмента, в котором он рассуждает о том, как мы познаем человеческий ум. Каждый из нас непосредственно переживает свой собственный ум, и каждый ум отличается от всех остальных; мы приходим к общей идее ума не в результате собственного опыта многих умов и обобщения их свойств, но «созерцая незыблемую истину, из которой настолько совершенно, насколько это возможно, мы определяем не то, каков ум какого-нибудь отдельного человека, а каков он должен быть в соответствии с непреходящими установлениями (qualis esse sempitemis rationibus debeat)».1 В вечной истине разум постигает «образ, в соответствии с которым существуем мы и в соответствии с которым мы делаем что-либо по истинному и правильному разумению, и тогда, когда это касается нас самих, и тогда, когда это касается вещей телесных».1 2 Отрывки, подобные этому, демонстрируют, насколько тесно рассуждения о разумном познании связаны с этическими интересами Августина. Говоря о вечных истинах как об образце и мериле человеческого суждения, он подчас замахивается на нечто большее, чем теория знания. Порой он намекает чуть ли не на Страшный суд и изображает человеческое суждение в свете вечной истины как подражание или как соучастие в Божьем суде всех дел людских.
Как бы то ни было, Августин предполагал, что его теория озарения вполне подходит для объяснения процесса разумного познания. Иногда он говорит об озарении в таком ключе, который предполагает более близкое отношение между человеческим разумом и Богом: например, когда утверждает, что «нечистотой греха» мы сделали себя непригодными для обретения Бога,3 или как в цитировавшихся выше отрывках, где он, по-видимому, указывает на то, что озарение божественным светом может позволить человеку судить самому о своих делах и обязанностях, как если бы они представали Божьему взору. В том, как Августин использует эту философскую идею и как она звучит у него скорее по-библейски, чем по-философски, есть нечто очень характерное. Одним из свойств, сделавших платонические формулировки столь привлекательными для него, была их пригодность для подобного использования. Так обстоит дело и с теорией озарения: по существу, она есть утверждение того, что Августин считает исходным
1 De Trin. IX 6. 9 (PL 42. 966).
2 Ibid. IX 7. 12 (PL 42. 967).
Mbid. IV 2. 4 (PL 42. 889).
АВГУСТИН. РАЗУМ И ОЗАРЕНИЕ
445
основанием возможности разумного познания, — внутреннего присутствия Бога в человеческом уме: Бог содержится в уме, как и во всем остальном, и его присутствие является условием не только бытия ума, но и его деятельности согласно собственной природе. Впрочем, иногда над этим основным, метафизическим, присутствием Бога Августин с готовностью надстраивает иные, особые модусы его присутствия или отсутствия. Теория озарения служит не только для утверждения неизбежных в своей необходимости требований всякого разумного познания вообще, но и для описания особых родов познания, или мудрости, доступных или недоступных человеку плодов особого благословения, наград за несравненную добродетель. Одно из наиболее интересных рассмотрений данного вопроса имеет место в отрывке, в котором Августин разбирается с доступностью вечных норм поведения для грешника.
Он пребывает целым повсюду, а потому он [ум] Им живет и движется, и существует. Потому же он может вспомнить Его. Не потому, что он вспоминает то, что он знал Его в Адаме или где бы то ни было еще прежде жизни в этом теле, или когда он был впервые сотворен для вложения в это тело, ибо он не помнит совершенно ничего из всего того, поскольку все это было истерто забвением. Но ему напоминается, что он может обратиться к Господу, как к тому свету, которым некоторым образом затрагивался и он, даже когда отвращался от Него. Ибо благодаря тому даже нечестивые думают о вечности, а также во многом справедливо осуждают одно и одобряют другое в человеческих нравах. Но на основании каких же правил они судят, как не тех, посредством которых они видят, каким образом каждый должен жить, даже если сами они не живут таким образом? Но где же они видят эти правила? Ведь не видят же они их в своей природе, поскольку, несомненно, эти правила видятся умом, а их умы, как известно, изменчивы. Всякий же, кто мог увидеть эти правила, видел их неизменными; но не в образе (habitu) своего ума, ибо они суть правила праведности, а их умы, как известно (ex hypothesi), неправедны. Но где же записаны эти правила, в которых даже неправедный узнает, что есть праведное, и в которых он распознает, что надлежит иметь, хотя он и не имеет этого? Итак, где же они записаны, как не в книге Того Света, который называется Истиной, откуда списывается всякий справедливый закон, который затем передается (не перенесением, но как бы запечатлением) в сердце человека, творящего справедливость, подобно тому как образ кольца, запечатлеваясь, передается воску и (при этом) не оставляет кольцо?1
1 Ibid. XIV 15.21 (PL 42. 1052).
446
МАРИЙ ВИКТОРИН И АВГУСТИН
Образ воскового оттиска напоминает «запечатленное понятие», посредством которого ум способен выносить суждения.1 Однако если там «запечатленное понятие» было тем, что позволяло уму судить, то здесь «отпечаток» означает уже нечто большее, а именно действительное моральное применение уже познанного правила поведения, теперь входящего в нравственный облик человека. Августинова терминология неустойчива, однако он довольно ясно дает понять, что усматривает более одного способа божественного присутствия в уме, более одного уровня, на котором разум соучаствует в вечной истине. Именно возможность божественного присутствия в уме на иных, помимо основного и всеобщего, уровнях открывается, согласно Августину, обращением «к тому свету, которым некоторым образом затрагивался и он, даже когда отвращался от Него». Бог всегда целиком присутствует в уме, однако в этом обращении ум предъявляет себя ему дополнительным образом — свободным признанием. Августин называет это обращение ума к Богу «воспоминанием» о нем.
Учение Августина о «воспоминании» и о «memoria» (мы будем использовать этот латинский термин, дабы подчеркнуть его отличие от «памяти» в общепринятом смысле) тесно связано с его теорией озарения. Учение о memoria, подобно упомянутой теории озарения ума, является прямым следствием усвоения Августином сущностного ядра платоновской теории познания. Как мы уже наблюдали, он отверг предпринятое Платоном мифологическое истолкование нашего знания об умопостигаемом мире, изложенное в терминах припоминания о предшествующем существовании.1 2 Как бы то ни было, его теория озарения, объясняющая подобное знание в понятиях непрерывного открытия, доступного уму благодаря присутствию в нем в озарении умопостигаемого мира, есть не столько альтернатива, сколько адаптация платоновского учения о припоминании. Оба объяснения различным образом выражают то, что знание умопостигаемого не попадает в ум извне, но в некотором смысле присутствует в нем: либо как след предыдущего соприкосновения с иным миром, либо как результат непрерывно поддерживаемой с ним связи, свойственной уму по природе. Memoria Августина является в первую очередь эквивалентом anamnesis Платона, впрочем, как мы увидим, она есть также и нечто большее. Концепция Августина имеет два основания: обычное, на уровне здравого смысла, представление о памяти как о способности ума
1 См. выше, с. 443, прим. 1, 2.
2 См. выше, с. 442.
АВГУСТИН. РАЗУМ И ОЗАРЕНИЕ
447
сохранять и мысленно воспроизводить предшествующий опыт и учение Платона, видоизмененное им таким образом, чтобы избежать отсылки к прошлому. Написанное Августином еще в ранние годы письмо к другу Небридию, поставившему перед ним вопрос о памяти, весьма отчетливо отражает этот подход. Августин начинает с обыденного представления о памяти, согласно которому мы помним о предметах, с которыми столкнулись в предшествующем опыте. В этом смысле память ссылается на прошлое, даже если объекты воспоминания еще существуют. Далее он переходит к тому, что включает в область памяти знание, полученное нами путем рассуждения, а в качестве примера приводит случай с Сократом, который извлек подобное знание из мальчика-раба в «Меноне». Однако поскольку это знание в действительности не было извлечено ни из прошлого опыта, ни из чувственных впечатлений, как утверждает Августин, то, следовательно, эта memoria не необходимо относится к прошлому и не обязательно связана с образами, полученными на основании чувственного опыта.1
Августин считал, что опыт оставляет в memoria следы, которые он называл species. Ум может впоследствии вспоминать их, перенаправляя на них внимание,1 2 или использовать их в конструктивном воображении.3 С этой точки зрения Августин представлял memoria как просторное вместилище, в котором в упорядоченном виде хранятся опытные впечатления,4 или как желудок, в котором переваривается пища.5 Эти образы не слишком подходят к memoria, если считать, что знания, которые она содержит, не происходят из прошлого опыта. В memoria содержатся «бесчисленные соотношения и законы, касающиеся чисел и пространственных величин; их не могло сообщить нам ни одно телесное чувство... Я узнал с помощью всех телесных чувств числа, которые мы называем, считая предметы; но числа, которыми исчисляем, это совсем другое; они не суть образы первых и потому существуют действительно».6 В данном случае в состав memoria включаются такие априорные понятия, как числа, с помощью которых ум интерпретирует эмпирический мир в своем опыте; в ходе довольно пространного изложения, посвященного вопросу о memoria
1 Ер. 7. 1. 1—2(PL33. 68).
2 De Trin. XI 3. 6 (PL 42. 988—989). Чувственный опыт и доля участия в нем memoria обсуждаются ниже, гл. 24, с. 453 и далее.
3 De Trin. XI 10. 17 (PL 42. 997—998).
4 Conf. X 8. 12—15 (PL 32. 784—786).
5 DeTrin. XII 14. 23 (PL 42. 1011); cp.: Conf. X 14. 21—22 (PL 32. 788—789).
6 Conf. X 12. 19 (PL 32. 787) (nep. Μ. E. Сергеенко).
448
МАРИЙ ВИКТОРИН И АВГУСТИН
в «Исповеди»,1 Августин шаг за шагом расширяет ее объем, пока она не обнимает все, что способен познать или помыслить ум, встречался ли он с этим в опыте или нет, действительно ли это было осмыслено им или нет.1 2 Вот почему можно сказать, что ум «помнит» такие предметы, как Бог, вечные истины и сам ум, ничто из которых не «вспоминается» им из прошлых встреч и что выходит далеко за пределы какого бы то ни было бывшего опыта. Говоря совсем просто, memoria есть вся совокупность возможного знания индивидуального ума в любой момент времени. «Каким образом в прошедшем памятью (memoria) называется то, посредством чего становится возможным вспоминать и помнить его, таким же образом и в настоящем, каковым является ум для самого себя, надлежало бы называть памятью (memoria) то, посредством чего ум является наличным для самого себя так, что он может пониматься своим собственным мышлением».3
Августин исследует эту двойственность ума — как познающего самого себя и как известного (актуально или потенциально) самому себе — в трактате «О Троице». Она также лежит в основании большей части раздела, посвященного memoria в «Исповеди», и, по сути дела, интерес Августина к этой таинственной способности ума начинается с образа, выражающего эту двойственность: «Это [memoria] сила моего ума, она свойственна моей природе, но я сам не могу полностью вместить себя. Ум тесен, чтобы овладеть собой же».4 Самопознание есть цель, которая никогда вполне не может быть достигнута. Августин в целом ряде случаев рассматривает процесс актуализации этого скрытого знания со всей своей психологической проницательностью. В «Исповеди» он говорит, что постижение того,
о чем мы узнаем не через образы, доставляемые органами чувств, а без образов, через внутреннее созерцание, представляющее нам созерцаемое в подлинном виде, — это значит не что иное, как подумать и как бы собрать то, что содержала память (memoria) разбросанно и в беспорядке, и внимательно расставить спрятанное в ней, но заброшенное и раскиданное, расставить так, чтобы оно находилось в самой памяти как бы под рукой и легко появлялось при обычном усилии ума.5
1 Ibid. X 8. 12—27. 38 (PL 32. 784—795).
2 Ср.: De Trin. XV 21.40 (PL 42. 1088).
3 Ibid. XIV 11.14 (PL 42. 1048): «Sic in re praesenti, quod sibi mens, memoria sine absurditate dicenda est, qua sibi praesto est ut sua cogitatione possit intelligi».
4 Conf. X 8. 15 (PL 32. 785) (nep. Μ. E. Сергеенко).
3 Ibid. X 11. 18 (PL 32. 787) (nep. Μ. E. Сергеенко).
АВГУСТИН. РАЗУМ И ОЗАРЕНИЕ
449
В трактате «О Троице», где Августин нередко касается этого вопроса, он еще острее подчеркивает бесформенный, недоразвитый и лишь потенциальный характер состава memoria. Он говорит здесь о процессе создания действительного знания из ее содержимого как о привлечении способности ума к символотворчеству, творении verbum как аппарата смысла. В задачи данной главы не входит подробное рассмотрение сложного и тонкого описания этого процесса Августином. Нам достаточно обратить внимание на то, что, хотя ум, по его мнению, в определенном смысле всегда «целиком в наличии у себя»,1 эта данность становится действительной и конкретной только в индивидуальных актах мышления, задействующих создание некоторого символического орудия мысли, verbum. В этом отношении Августин сравнивает ум с глазом: «Глаза также нет в его собственном взоре, поскольку он не видит самого себя, разве что в зеркале, о чем мы уже говорили. Но это то, чего, конечно же, не происходит, когда ум, думая о себе, делает себя предметом своего взора».1 2 Вне фокусной зоны индивидуального акта мысли, в котором ум рефлексивно осознает самого себя, он предстает перед самим собой только в бесформенном и потенциальном обличии посредством memoria. Verbum, в котором высказывает себя акт мышления, одновременно является умом, каким он знает себя в мысли, а именно в качестве отвоеванного участка самопознания. «Исповедь» и правда является невиданным ранее упражнением в сотворении такого самопознания из бесформенного хаоса памяти, попыткой проникнуть в то, что Августин в других местах называет «сокровенными глубинами memoria»,3 стремлением представить сознательному взору ума лежащую внутри него сокрытую и непознанную истину.
1 De Trin. X 4. 6 (PL 42. 976—977).
2 Ibid. XIV 6. 8 (PL 42. 1041).
3 Ibid. XV 21. 40 (PL 42. 1088): «Abstrusior profimditas memoriae».
Глава 24
АВГУСТИН.
ОЩУЩЕНИЕ И ВООБРАЖЕНИЕ
Чувственное познание, как неоднократно подчеркивает Августин, подобно любому другому познанию является работой души, а не телесных органов; это работа «души посредством тела».1 Все его более подробные рассмотрения этого вида познания являются попытками осознать тот способ, каким ум использует телесные органы чувств для получения знания в ходе чувственного опыта. Его трактовка ощущения (sentire) поэтому согласуется с его воззрением на человека как на душу, использующую тело, а аналогия с ремесленником, пользующимся орудиями, является моделью, на которой она строится. Итак, Августин начинает пространный анализ этого предмета в трактате «О количестве души» со следующего определения: «Чувство... есть то, в силу чего от души не укрывается испытываемое телом».1 2 Необходимым условием ощущения, согласно этому определению, является соприкосновение телесного органа с воспринимаемым объектом; ощущение есть, впрочем, нечто большее, чем такое физическое соприкосновение, от которого оно зависит, и предполагает умственное осознание. Определение уподобляет ощущение категории passio, или, точнее, осознанию умом того, что «испытывает» тело. Августин тщательно рассматривает трудности, возникающие в связи с та¬
1 De Gen. ad litt. Ill 5. 7 (PL 34. 282): «Sentire non est corporis sed animae per corpus»; cp. XII 24. 51 (PL 34. 475); De ord. II 2. 6; 11. 30—34 (PL 32. 996; 1009—1011); DeTrin. XI 2. 2 (PL 42. 985—986).
2 De quant, an. 23. 41 (PL 32. 1058): «Non latere animam quod patitur corpus». Небольшая поправка к этому определению, сделанная в этой же работе (25. 48: PL 32. 1063), нас здесь не интересует; ее цель состоит в том, чтобы исключить из сферы ощущения такое знание, которое изначально происходит из чувственного опыта, но не обнаруживается в ощущении напрямую.
АВГУСТИН. ОЩУЩЕНИЕ И ВООБРАЖЕНИЕ
451
ким пониманием ощущения. Что, спрашивает он, «испытывают» глаза, видя нечто? Еводий, его собеседник в диалоге, обращается к аналогии претерпевания боли или волнений: то, что испытывают глаза, когда видят, есть само вйдение, точно так же как больной испытывает боль, а радующийся — радость. Трудности такого уподобления вйдения претерпеванию, как Августин отмечает далее, обнаруживаются, стоит нам рассмотреть высказывания вроде «Я вижу тебя» или «Ты видишь меня». Высказывания, подобные этим, расхожи, тогда как выражения «Я испытываю тебя» или «Ты испытываешь меня», как следовало бы сказать, следуя такому пониманию ощущения, бессмысленны. Ведь как я могу говорить, что «чувствую» или «испытываю» тебя, если ты там, а я — здесь? Ощущение, или «испытание», предполагает физическое присутствие и близость ощущаемого объекта; если вйдение есть ощущение, то я должен был бы быть там же, где и ты, чтобы увидеть тебя, раз почувствовать вещь можно только в том месте, где она находится. Из этого, по идее, следует, что глаза должны быть способны видеть только сами себя, поскольку в том месте, где они расположены, больше ничего нет. Но это явная бессмыслица, поскольку то, что видят глаза, очевидно не является ими самими, их собственными состояниями и изменениями; неверно и то, что мы заключаем из осознания изменений в состоянии наших органов чувств о существовании и свойствах объектов, вызывающих в них эти изменения. Как подчеркивает Августин, то, что мы видим, — «там».
В этом состоят затруднения, связанные с такой трактовкой ощущения, и Августин выявляет их с восхитительной проницательностью. Он разрешает их, уподобляя вйдение использованию палки, которую применяют для обследования поверхности на расстоянии. Правомерность такой аналогии основывается на физиологической интерпретации зрения, согласно которой оно имеет место благодаря исхождению из глаз, натыкающемуся на предмет, и которой, по-видимому, придерживался Августин.1 Привлечение данной аналогии способствует прояснению приводимой здесь Августином трактовки зрения: «Если бы я, например, дотронулся до тебя палкой, я дотронулся бы несомненно и чувствовал бы это; однако же я не был бы там, где дотронулся до тебя. В таком же смысле я говорю, что вижу зрением. Хотя меня и нет там, это, однако же, не вынуждает меня признать,
1 De quant, an. 23. 43 (PL 32. 1060): «Вижу зрением, исходящим вовне благодаря глазам» («Emisso visu per oculos video»).
452
МАРИЙ ВИКТОРИН И АВГУСТИН
будто вижу не я».1 На самом деле теория зрения является частным случаем теории ощущения, и это становится возможным благодаря Августиновой концепции зрения, согласно которой последнее предполагает «манипуляцию» излучением, совершаемую глазами, аналогичную манипуляции, производимой с палкой рукой.
Помимо сведения всех видов восприятия к осязанию и ощущению, позиция Августина встречается еще с одной трудностью, происходящей из того обстоятельства, что для того, чтобы служить примером восприятия, физическое столкновение органа чувства и объекта должно (что Августин понимал и подчеркивал), каким-то образом фиксироваться умом. Однако для Августина несомненным является то, что тело не может оказывать действия на дух и, следовательно, никакое изменение, вызванное телесными органами чувств и сменой их состояний, не может произойти в уме. Причина этого состоит в том, что тело ниже ума в природной иерархии, а нижестоящее не может оказывать влияния на вышестоящее, согласно исходным условиям метафизической конструкции Августина. Отсюда способность ума регистрировать восприятия quiddam mirabile.1 2 * Августин разрешает эту трудность тем, что отказывается видеть здесь воздействие тела на ум и утверждает, что это всего лишь один из способов, каким душа присутствует в теле. Это присутствие не является «распространением в пространстве», поскольку душа не обретается в различных частях тела, но присутствует во всем теле целиком тем способом, который Августин называет «родом живого внимания».3 Свойство души воспринимать боль в принадлежащем ей теле, вообще осознавать его состояния и знать, что происходит внутри него, является составляющей ее животворящего присутствия в теле.4 Душа оживляет тело, воздействуя на него изнутри и «используя его», и Августин, по-видимому, представляет себе свойственное ей осознавание телесных состояний как вид осведомленности ума об изменениях в условиях
1 Ibid. 23. 43 (PL 32. 1059—1060). Рассуждение, вкратце изложенное нами здесь, можно найти целиком в длинной главе указанного сочинения 23. 41—44 (PL32. 1058—1060); ср.: Ер. 137. 5 (PL33. 517—518).
2 De Gen. ad litt. XII 16. 33 (PL 34. 467); формулировку указанной трудности см.: Ibid. XII 16. 32—33 (PL 34. 466—467); ср.: De mus. VI4. 7 (PL 32. 1166). О ее обосновании Плотином см. раздел III («Плотин»), гл. 16 А, с. 326—327.
3 Ер. 166. 2. 4 (PL 33. 722): «Quadam vitali intentione».
4 De Gen. ad litt. Ill 16. 25 (PL 34. 290).
* Чудесным образом {лат.). — Примеч. перев.
АВГУСТИН. ОЩУЩЕНИЕ И ВООБРАЖЕНИЕ
453
своей работы.1 Вероятно, это туманное объяснение было навязано Августину платоническим характером его определения человека как разумной души, использующей материальное тело.1 2 Его учение о двоякой природе человека заставило его объяснять чувственное восприятие как совокупность двух процессов: одного в теле, другого — не следующего из него, но связанного с ним (подобно тому, как инструмент связан с «использующим» его мастером), — в душе.
Весьма схожее описание чувственного опыта в несколько иной форме присутствует в знаменитом комментарии на Книгу Бытия, составленном зрелым Августином.3 Он начинает это описание с различения трех видов зрения (visio), обозначая их как «телесное зрение», «духовное зрение» и «умственное созерцание».4 Первое из трех соответствует видению глазами и не представляет трудностей. Оно эквивалентно физическому соприкосновению чувственного органа и объекта, описываемому в терминах passio и рассмотренному нами выше. Как и тогда, Августин вновь подчеркивает, что ощущение не может иметь места без осознавания его умом; обо мне нельзя сказать, что я вижу, если я не знаю о том, что вижу. Умственный процесс, сопровождающий «телесное зрение», есть то, что Августин называет «духовным зрением», во всяком случае тогда, когда он хочет привлечь к нему внимание как к таковому или когда оно случается в отсутствие телесного зрения. Это духовное вйдение не является следствием телесного зрения, поскольку материя не воздействует на ум, и оно действительно нередко имеет место в отсутствие телесного зрения, сопровождающего его в случаях обычного зрительного познавания. Такой независимый, «самопроизвольный» процесс духовного зрения бывает во сне, при видениях, галлюцинациях и просто в тех случаях, когда мы рисуем в памяти ранее виденное или воображаем что-нибудь. Для ума (в отношении того, что происходит в уме) нет различия между обычным вйдением и воображением, сном, воспоминанием и так далее. Во всех случаях имеет место процесс «духовного вйдения»; во всех случаях то, что предстает перед умом, не суть физические объекты как таковые, но их подобия.5 То, что ум «видит», во всех
1 De mus. VI 5. 9—10 (PL 32. 1168—1169); ср.: De quant, an. 33. 71 (PL 32. 1074); De Gen. ad litt. VII 19. 25 (PL 34. 364—365).
2 См. выше, c. 432.
3 De Gen. ad litt. XII passim. Сходная формулировка встречается в De Trin. IX 6. 11 (PL 42. 966—967); ср.: Ep. 120. 11; 162. 3—5 (PL 33. 457—458; 705—706).
4 De Gen. ad litt. XII 6. 15—7. 16 (PL 34. 458—459).
3 Ibid. XII 24. 50 (PL 34. 474).
454
МАРИЙ ВИКТОРИН И АВГУСТИН
случаях по своей природе есть то же, что и он сам,1 образы, которые ум производит из собственного существа.1 2
В чем, с этой точки зрения, отличие действительного зрения от воображения, сна и тому подобного? Откуда мы знаем, что «видим» нечто, что на самом деле есть, и что мы не просто видим сон или воображаем? Единственное отличие состоит в том, что в случаях подлинного зрения процесс «духовного видения» сопровождается изменениями в теле, тогда как в случае с воображением подобный параллельный процесс в теле отсутствует. В первом случае наши телесные органы чувств испытывают воздействие вещей, которые мы видим, во втором случае — нет. Для того чтобы знать, что мы видим, а не воображаем, необходимо осознавать те изменения в теле, которыми сопровождается наше знание. Таким образом, отмечает Августин, иногда трудно быть уверенным: так, мы воспринимаем наши сны всерьез и понимаем, что они не были «истинными», только когда просыпаемся.3 В своем нормальном, бодрствующем состоянии, как, вероятно, полагает Августин, мы обычно довольно хорошо осознаем, что испытываем внешнее воздействие, и не сомневаемся, что в своем опыте вступаем в контакт с физическими объектами. Однако это осознание может быть приостановлено или нарушено целым рядом способов, например повреждением системы телесного восприятия, повышенной сосредоточенностью на том, что происходит в уме, либо отвлечением внимания от тела. Последнее происходит в глубоком сне, экстазе или в одной из множества форм «абстрагирования» ума от его действительного физического окружения и от телесного контакта с этим окружением. Во всех подобных случаях ум созерцает собственные образы, не обращая внимания на сопутствующие телесные состояния; его «духовное зрение» является, так сказать, самопроизвольным.4 Внимание и тот способ, каким оно направлено, отвлечено или сковано, являются решающими факторами, позволяющими отличить вйдение от воображения. Внимание, в общем, есть намеренная сосредоточенность ума на одной или нескольких частях открывающейся ему полноты пространства. В воображении представляемый объект требует всего внимания ума и исчерпывает его, во сне усилие сосредоточения внимания приостанавливается и оставляет ум свободно блуждать
1 Ibid. XII 21. 44 (PL 34. 472).
2 Ibid. XII 16. 33 (PL 34. 467); cp.: De Trin. X 5. 7 (PL 42. 977).
3 De Gen. ad litt. XII 2. 3—4; 19. 41 (PL 34. 455; 470).
4 Ibid. XII 12. 25 (PL 34. 463).
АВГУСТИН. ОЩУЩЕНИЕ И ВООБРАЖЕНИЕ
455
в окружении наполняющих его образов — тогда как в чувственном познании, которое осознается в качестве такового, некто также знает о том, что он подвержен воздействию внешнего агента, одновременно с «духовным вйдением» умственных образов.1 Таким образом, благодаря решающему значению, которое Августин придает вниманию, ведущую роль в его трактовке чувственного познания играет воля. Внимание есть произвольное направление умственного «взора» (acies), как его часто называет Августин, на определенную область пространства. Именно с помощью волевого акта ум обращается либо исключительно на свое внутреннее содержание, как в случае с воспоминанием или воображением, либо включает в поле своего зрения телесные ощущения, останавливая тем самым свободную игру умственных образов и превращая свой опыт в опыт телесного зрения.1 2
Трактовка чувственного восприятия, которую мы встречаем в обширном комментарии на Книгу Бытия и (в менее систематически разработанном виде) в трактате «О Троице», ничего не прибавляет к решению основной проблемы, возникшей в связи с вышеизложенной позицией Августина. Она не проясняет, как образ, созерцаемый «духовным зрением», может представлять объект, видимый глазами, как он может быть подобен ему или возникать из него. Августин склонен говорить о физических процессах, участвующих в чувственном восприятии, как о передающих «сообщения» уму, о «телесном зрении» как о вестнике высшего «духовного зрения»3 или, иначе, о species одного, от которого «происходят» или «возникают» подобные species в другом.4 Впрочем, его двухуровневое описание человека, вместе с вытекающим отсюда удвоением физических и ментальных процессов в восприятии, затрудняет понимание того, каким образом сообщения могут передаваться через столь широкую пропасть или что может означать неясное высказывание об одном роде species, «возникающем» от другого.
«Сообщения», которые передаются от телесных органов «духовному видению», также, по словам Августина, доставляются и рациональному уму, или разуму. Первое сообщение создает ментальные образы, второе, доставляемое «разумному» зрению, вероятно, не создает каких-либо дополнительных образов или по¬
1 De Trin. XI 4. 7 (PL 42. 989—990).
2 Ibid. XI 8. 15—9. 16 (PL 42. 995—997).
3 De gen. ad litt. XII 11. 22 (PL 34. 462); cp.: Ep. 147. 38 (PL 33. 613—614).
4 De Trin. XI 9. 16 (PL 42. 996—997).
456
МАРИЙ ВИКТОРИН И АВГУСТИН
добий. Августин, скорее, описывает его как достижение высшего рода видения; то есть, условно говоря, только на этой ступени, в разуме, духовные образы понимаются как знаки, указывающие на другие вещи, только здесь для них ищутся и находятся значения.1 Поэтому задача этого третьего рода «зрения», пожалуй, состоит в том, чтобы расшифровывать образы, получаемые вторым из первого. По-видимому, это включает в себя истолкование, оценку и исправление полученных сообщений: оно соотносит умственные образы с внешними объектами или же отказывается соотносить их. Так, например, в его задачи входит принятие решения относительно того, следует ли относить образ сломанного весла, наполовину погруженного в воду, к реальному предмету или нет. Ум не обманывается, получая вводящие в заблуждение образы; он не прав, только когда, ошибочно полагаясь на них, считает вещи тем, чем они не являются, — скажем, считая, что весло действительно сломано, если погружено в воду. Дело разума и состоит в том, чтобы предостерегать ум от такого обмана.* 2 Его природа и функции уже рассматривались в предыдущей главе.
■ De Gen. ad litt. XII 11. 22 (PL 34. 462).
2 Ibid. XII 25. 52 (PL 34. 475—476); cp.: C. Acad. Ill 11. 24—26 (PL 32. 946—948); Ep. 147. 41 (PL 33. 615).
Глава 25
АВГУСТИН.
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ПОСТУПОК: ВОЛЯ И ДОБРОДЕТЕЛЬ
Источниками воззрений Августина на поведение человека, как и почти всей его мысли, являются Священное Писание и учения Церкви, а также греческая, в особенности неоплатоническая, философия. Иногда, как мы уже отмечали, эти источники вступают в противоречие друг с другом, однако в отношении настоящего вопроса в уме Августина они полностью согласуются. На самом деле именно здесь Августин был более всего впечатлен совпадениями, замеченными им в платоновском и христианском учениях. Его готовность принять другие аспекты платонического образа мысли, например в вопросе о душе и теле,1 можно отчасти объяснить его убежденностью в сходстве этических подходов платонизма и христианства. Напряжение, которое иногда можно обнаружить между его христианской верой и усвоенными философскими воззрениями и языком, подобное тому, с которым мы уже встречались, скажем, в трактовке человека как души, использующей тело, здесь напрочь отсутствует.
Мы уже видели, что блаженство является для Августина целью философии.1 2 Мудрость, достичь которой философия стремится, наполняет человека и удовлетворяет его глубочайшим нуждам и желаниям. Августин без малейшего колебания приписывает Платону собственную интерпретацию состава этой любви к мудрости: Платон, говорит он, отождествляет высшее благо, в наслаждении которым человек обретает блаженство, с Богом, «поэтому и вменяет философу в обязанность любить Бога».3 Подобного
1 См. выше, с. 432—434.
2 См. выше, с. 419—420.
3 De civ. VIII 8 (PL 41.233).
458
МАРИЙ ВИКТОРИН И АВГУСТИН
рода утверждения подготовили почву для почти полного усвоения платоновских взглядов, в частности этического характера. Не составляло труда приспособить их к традиционному языку Церкви. И действительно, разрыв, который иногда обнаруживается между языками философской дискуссии и народной проповеди, богослужений и катехизических наставлений, почти полностью исчезает, когда Августин говорит об этических предметах.
Блаженство есть абсолютное удовлетворение человеческой природы: «Блаженная жизнь и покой состоят для человека в гармоничной разумности всех его дел».1 Это определение подчеркивает, что не только все человеческие желания и порывы получают успокоение в состоянии блаженства, но и что — поскольку человеческая природа разумна — это гармоничное состояние полного удовлетворения выражает собой разумный порядок. Достаточно очевидно, что счастье (блаженство) несовместимо с отсутствием желаемого, но обратное, как отмечает Августин, неверно: неправда, что, если некто имеет то, чего желает, он непременно счастлив. Вслед за Цицероном Августин считает, то «хотеть того, что неприлично, само по себе величайшее несчастье».1 2 Удовлетворение порочных и дурных желаний не есть в конечном счете действительное и продолжительное удовлетворение, подобное тому, каким является блаженство. Отсюда уточнение, которым Августин дополняет свое определение счастья: «Блаженным является лишь тот, кто имеет все, что желает, но (при этом) не желает ничего дурного».3
Все люди жаждут этого состояния блаженства.4 На самом деле это естественное желание является простым логическим следствием самого понятия желания, поскольку иметь желание чего-либо вообще означает желать, чтобы это желание осуществилось. Сказать, что человек имеет естественное желание блаженства, значит утверждать, что у него множество желаний и он желает их осуществления. Однако из этого не следует, что все люди обретут блаженство, поскольку достижение этого состояния зависит от праведности (или неправедности) желаний, как и от их окончательного осуществления.5 Оно же зависит от пути,
1 De Gen. с. Man. I 20. 31 (PL 34. 188): «Cum omnes motus eius rationi veritatique consentiunt»; cp.: C. Acad. I 2. 5 (PL 32. 908—909).
2 De beata vita 2. 10 (PL 32. 964).
3 De Trin. XIII 5. 8 (PL 42. 1020); об этом вопросе в целом см. 3. 6—9. 12 (PL 42. 1017—1024); De civ. VIII 8 (PL 41. 233) и Ер. 130. 10—11 (PL 33. 497—498).
4 De civ. X 1. 1 (PL 41. 277).
5 De lib. arb. I 14. 30 (PL 32. 1237).
АВГУСТИН. ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ПОСТУПОК: ВОЛЯ И ДОБРОДЕТЕЛЬ 459
явленного людям Богом во Христе, искупительный подвиг которого был необходим в качестве источника благодати, открывшего человечеству возможность пройти по указанному пути.1 Этим последним утверждением Августин перенес исходно платоновский взгляд на человека, ищущего блаженства, на сугубо христианскую почву, и для того, чтобы служить новой цели, этот взгляд не требовал радикальной переработки.
Человеческая природа испытывает на себе множество желаний, порывов и влечений, не всегда осознанных и, конечно, не всегда одинаково активных. Августину, как никому другому, было отлично известно, что их разнообразие может приводить в замешательство и что они нередко вступают в серьезное, а иногда и болезненное противоборство друг с другом. Все они не могут быть удовлетворены: удовлетворение одного неизбежно приводит к крушению остальных. Драматичное положение человека, по мысли Августина, является последствием обрушившихся на него с грехопадением Адама разлада и утраты гармонии. Не будь этого искажения в человеческой природе, ему бы оставалось лишь следовать своим естественным влечениям, и через это он обрел бы чаемое блаженство, однако в состоянии разлада его задача усложняется необходимостью усмотреть верное направление желания и держаться его в сумятице неподлинных влечений. В каком-то смысле «Исповедь» Августина и является отчетом об этом распознавании и борьбе за следование найденному пути. Беспокойство человеческого сердца есть его исходное состояние, выраженное в знаменитом восклицании в начале трактата: «Ты [Господи] создал нас для Себя, и не знает покоя сердце наше, пока не успокоится в Тебе».1 2 Наши томления и порывы в действительности являются слепыми поисками утешения, которое возможно окончательно обрести только в состоянии блаженства, в узрении Бога. Только в нем неустанные искания человека находят удовлетворение, в нем царят мир и покой, трогательным молением о которых Августин завершает «Исповедь».3
Глубина и драматизм борьбы, описанной в этом сочинении, по большей части собственные, Августиновы, тогда как метафизическая ситуация, в рамках которой он ее описывает, типична
1 De Trin. XIII 9. 12 (PL 42. 1023—1024); ср.: De civ. X 29. 1—2 (PL 41. 307—309).
2 Conf. I 1. 1 (PL 32. 661) (nep. Μ. E. Сергеенко); фраза «fecisti nos ad te» непереводима. (По-английски буквально: «Ты [Господи] создал нас и, создав, обратил нас к себе». — Примеч. перев.)
3 Ibid. XIII 35. 50—37. 52 (PL 32. 867—868).
460
МАРИЙ ВИКТОРИН И АВГУСТИН
для греческой философии. Это ситуация платоновского «Пира» и аристотелевской «Физики», говорящих о человеке как о части вселенского порядка, в котором каждая из составляющих связана с остальными системой постоянных контактов, подобно тому как единичности ищут полноты в целом или, пользуясь образом Данте, «плывут к различным берегам великим морем бытия». Каждая вещь, следуя своим собственным, естественным для нее целям, тем самым ищет своего места в иерархическом устройстве взаимосвязанных вещей и, достигнув его, обретает покой и удовлетворение. Августин собирательно указывает на движущие силы человеческой природы, наклонности, желания и стремления, лежащие в основании любого человеческого поступка, используя понятие «любви» («Любовей»). Он понимает их с позиции классической космологии в качестве движущих сил, свойственных человеческой природе, и сравнивает их с физическим весом.
Всякое тело вследствие своего веса стремится к своему месту. Вес тянет не только вниз, он тянет к своему месту. Огонь стремится вверх, камень вниз; они увлекаемы своей тяжестью, они ищут свое место... Где нет порядка, там беспокойство; упорядоченное успокаивается. Моя тяжесть — это любовь моя: она движет мною, куда бы я ни устремился.1
Таким образом, «любовь» в словаре Августина обозначает любую из множества сил, которыми «движим» человек в своей деятельности, куда бы он ни направлялся. Он использует один и тот же образ тяжести, говоря об извращенной любви, отвращающей человека от Бога,1 2 и о любви, направляющей его к Богу, а иногда противопоставляет их как cupiditas, или avaritia (алчность), и caritas (милосердие) соответственно.3 Он использует это противопоставление в нескольких контекстах, и некоторым из них мы посвятим свое внимание в дальнейшем. «Любовь», согласно такому словоупотреблению, может быть и плохой, и хорошей — в моральном отношении она нейтральна.
1 Ibid. XIII 9. 10 (PL 32. 848—849): «Pondus meum amor meus, eo feror quocumque feror». Из множества параллелей наиболее значимы следующие: De Gen. ad litt. II 1. 2; IV 3. 7—8; 18. 34 (PL 34. 263; 299; 309); De civ. XI 28 (PL 41. 342).
2Conf. VII 17. 23 (PL 32. 744).
3 De Trin. IX 8. 13 (PL 42. 967—968); cp.: De div. qu. LXXXIII 35. 2—36. 1 (PL 40. 24—25); De Gen. ad litt. XI 15. 19—20 (PL 34. 436—437); De civ. XI 28 (PL 41.342).
АВГУСТИН. ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ПОСТУПОК: ВОЛЯ И ДОБРОДЕТЕЛЬ 461
Как бы то ни было, метафора «веса» и аналогия с падающим камнем нуждается в уточнении, когда речь идет о человеческой деятельности. В отличие от камня, человек не является заложником собственной «тяжести» в том смысле, что при определенных условиях (в случае с камнем — если лишить его опоры) он естественно и неизбежно «упадет»; иными словами, человек не всегда стремится исполнить свои желания и следует своим побуждениям во что бы то ни стало. Он отличается от заданной модели двояким образом: у него, гораздо более сложного, имеются многочисленные и разнообразные желания, тогда как у камня — простой вес. Однако даже при таком уточнении неверно, что человек необходимо и неизбежно следует тому, что мы могли бы назвать результирующей всех его стремлений. Он способен выбирать если не из всех без исключения, то по крайней мере из некоторых из них. Августин описывает различие между поведением неодушевленной вещи и человека, утверждая, что поведение камня «естественно» (или «необходимо»), тогда как поведение человека «произвольно», во всяком случае отчасти.1 Такое поведение представляет собой цепь поступков, за которые человек может быть призван к ответу и которые могут снискать ему похвалу или осуждение, тогда как «естественное» действие по большей части относится к тем явлениям, которые происходят в человеке или которым он подвержен, а не к тому, что он совершает сам, — к неподконтрольным ему действиям или состояниям ума и чувства.1 2 Только в человеке можно различить два этих вида деятельности. Он есть единственное существо, которое не находится целиком во власти сил, влияющих на него изнутри и извне. Августин называет способность, которая в этом отношении отличает человека от животных и с помощью которой он властвует по крайней мере над частью своих поступков, его волей. Говорить, что человек наделен свободным выбором, есть лишь иной способ сказать об этой способности.
Августин не считал, что свобода человеческих поступков несовместима с божественным предвидением всех его действий, событий и их последствий. И хотя необходимо истинно, что то, что Бог предвидит, произойдет, из этого не следует, что это случится по необходимости, то есть таким путем, который исключает свободный выбор. Бог способен предвидеть акты выбора не
1 De lib. arb. Ill 1. 2 (PL 32. 1271—1272); cp.: De civ. XI 28; V 10 (PL 41. 341—342; 152): «Necessitas nostra ilia dicenda est quae non est in nostra pote- state».
2 De lib. arb. Ill 1. 1—3 (PL 32. 1269—1272).
462
МАРИЙ ВИКТОРИН И АВГУСТИН
в меньшей степени, чем поступки, совершаемые под давлением необходимости.1 В целом теория Августина о предвидении, вызвавшая столько затруднений впоследствии, держится именно на этом аргументе. Эта теория, а также соответствующая ей теология благодати и справедливости выходят за рамки нашего рассмотрения.
Таким образом, только человек свободен в том смысле, что, хотя его действия и известны заранее Богу, по крайней мере некоторые из них совершаются не по «необходимости», или, как еще говорит Августин, не обусловлены «природой». Поведение человека на различных уровнях формируется тем самым как «естественными» силами, которые Августин противопоставляет «произвольным», — такими как чувства, желания, страсти, неосознанные стремления и порывы, так и свободными актами воли. Как мы уже видели, Августин объединяет их под общим названием «любви» или «любовей» и говорит, что поведение определяется особым видом «любви», которая и служит ему мотивом. Эта двойственность факторов, формирующих человеческие поступки, наделяет понятие «любви», когда речь идет о человеке, особой сложностью, которой оно не имеет в иных, не касающихся человека контекстах. Здесь «любовь» обозначает одновременно и естественные побуждения, физические и эмоциональные потребности человека, и намеренный и сознательный выбор, с помощью которого он предпочитает те или иные побуждения и наклонности и свободно оформляет свое поведение в согласии с ними. Что касается аналогии между «любовью» и «весом», Августин описывает эту особенность человеческой любви как способность, так сказать, произвольно контролировать собственный центр тяжести. Поэтому он пишет, что, когда нас просят не желать страстно, «от нас не требуют ничего иного, как воздерживаться от незаконных желаний; поскольку душа словно собственной тяжестью уносится своей любовью куда той вздумается. Таким образом, нам нужно лишь отнимать вес у беззаконной алчности (cupiditatis) и переносить его на милосердие (caritatis) до тех пор, пока первое не исчезнет, а второе не достигнет полноты».1 2 Эта метафора перенесения или передачи своего веса одной из «тяг», направленных в разные стороны, является красочной иллюстрацией двойственности человеческой любви. Любовь прочих существ естественна, задана;
1 Ibid. Ill 2. 4—3. 8 (PL 32. 1272—1275); ср.: De civ. V 9—10 (PL 41. 148—
153).
2 Ep. 157. 2. 9 (PL 33. 677).
АВГУСТИН. ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ПОСТУПОК: ВОЛЯ И ДОБРОДЕТЕЛЬ 463
и только в человеке она обладает способностью к самоориентации. На этой двойственности, благодаря которой человеческая любовь как направляет, так и направляется, Августин строит свое рассуждение о моральности человеческого поступка.
Субъектом моральной похвалы или осуждения является одна лишь воля. Чувства, страсти, эмоции, чем бы вызваны они ни были, сами по себе не подлежат моральной оценке, разве что косвенно, то есть в той мере, в какой они сами доступны направленной культивации либо являются результатом неудачной попытки их «воспитать». Как бы то ни было, в каждый отдельный момент времени они — просто «там», даны, и с моральной точки зрения дело не в том, каковы они, а в том, что человек решит с ними сделать: уступить, обуздать, потворствовать или выбрать и действовать согласно этому выбору. Таким образом, Августин говорит о воле как о любви, учитывая ее направляющий, ориентирующий аспект; и лишь в этом отношении любовь хороша либо дурна морально: «Любовь, как правильная, так и извращенная, есть воля; любовь как стремление к своему объекту есть желание; как обладающая и наслаждающаяся им — радость; бегущая того, что болезненно для нее, — страх; ощущение его присутствия — боль. Все это дурно, если любовь дурна, благо, если она блага». Тем самым любовь, взятая в своем регулятивном аспекте, в котором она синонимична «воле», может заслужить похвалу или порицание: «Есть и любовь, которой мы любим то, чего не следует любить; и эту любовь ненавидит в себе тот, кто ту любит, которая любит, что должно любить. Обе эти любви могут быть в одном человеке, и благо для человека заключается в том, чтобы он развивал в себе то, чем мы хорошо живем, и уничтожал то, чем живем худо».1 В этом выражении «любить любовь» мы можем наблюдать, пожалуй, наиболее отчетливо Августинову двухуровневую теорию любви, используемую им для различения тех первичных склонностей, которые стоит поддерживать произвольным выбором, и тех, которые следует отвергать и ограничивать.
Добродетель — это «искусство жить хорошо и справедливо».1 2 Ее целью является «должное использование вещей, которые также допускают дурное обращение».3 Однако, когда Августин определяет, в чем она состоит в более личностном плане, он предпочитает
1 De civ. XI 28 (PL 41.342).
2 Ibid. IV 21 (PL 41. 128).
3 De lib. arb. II 19. 50 (PL 32. 1268); cp.: De quant, an. 16. 27 (PL 32. 1050): «Virtus aequalitas quaedam... vitae, rationi undique consentiens».
464
МАРИЙ ВИКТОРИН И АВГУСТИН
описывать ее функции и тот порядок, который является ее результатом, в терминах любви:
Любовь к красоте телесной, которая хотя и есть благо, сотворенное Богом, но благо временное, плотское и низшее, — злая любовь, коль скоро она ставит ниже ее Бога, вечное, внутреннее и всегдашнее благо; так же точно, как любовь к золоту скупцов, забывших справедливость не по какой-либо вине золота, а по вине человеческой. Так бывает это и в отношении ко всякой твари. Будучи доброй, она может быть любима и хорошо, и дурно: хорошо, когда соблюдается порядок; дурно, если он нарушен... Поэтому мне представляется кратким и верным такое определение добродетели: она есть порядок в любви.1
Это определение соединяет две особенности его взгляда на добродетель, которые можно проследить вплоть до ранних сочинений: стремление объяснить добродетель через понятие любви1 2 и намерение описать добродетельную жизнь в терминах порядка.3 Определение добродетели в качестве «порядка любви» (ordo amoris или dilectionis) довольно рано поразило Августина четкостью и выразительностью формулировки, соединяющей в себе обе его задачи. В «О христианском учении» он характеризует праведника как того, «кто все предметы ценит надлежащим образом, по их достоинству, кто имеет ко всему любовь правильную, основанную на следующем порядке: не любить того, чего не должно любить; любя то, что должно быть любимо, не любить много того, что надобно любить мало; не любить в равной мере то, что должно быть любимо более или менее, и, наоборот, не любить того более или менее, что по существу своему должно быть любимо в равной степени».4 Это определение приводит нас в самую сердцевину Августановой вселенной. Саморегулирующаяся любовь человека в точности соответствует иерархически упорядоченному космосу; моральное совершенство человека связано с установлением правильного порядка его собственных склонностей в оценке вещей и воплощением этих правильно упорядоченных оценок в поведении.
1 De civ. XVI 22 (PL 41.467).
2 См., например: De mor. eccl. I 15. 25 (PL 32. 1322) и Ep. 155. 4. 13 (PL 33. 671—672).
3 См., например: De div. qu. LXXXIII 31 (PL 40. 20—22).
4 De doctr. chr. I 27. 28 (PL 34. 29): «Ille autem iuste et sancte vivit, qui rerum integer aestimator est; ipse est autem qui ordinatam dilectionen habet»; cp.: Ep. 140. 2. 4 (PL 33. 163).
АВГУСТИН. ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ПОСТУПОК: ВОЛЯ И ДОБРОДЕТЕЛЬ 465
В основании Августиновой этики лежит классическое представление о мире как об упорядоченной космической иерархии вместе с убежденностью, что одни вещи более достойны быть любимыми, чем другие, и что задача человека состоит в том, чтобы согласовываться с этим порядком в своих действиях. Это наиболее ясно прослеживается в тех определениях добродетели, в которых Августин следует классическим, в особенности Цицероновым, образцам, как, например, когда он определяет ее в качестве «свойства души, согласного с порядком природы и разумом».1 Объективный порядок природы или разума является образцом, который должен быть воплощен в человеке как в посреднике. Образец, которому должен отвечать человеческий поступок, Августин также называет «законом», безусловно, вновь следуя классическому словоупотреблению. Отсюда также происходит различение того, что есть только по природе (natura), и что есть только в силу обычая или человеческого установления (consuetudine).1 2 Как показывает такое различение, Августин относил к сфере «законов» не только обнародованные, письменные постановления. Он считал, что в основании человеческого законодательства лежит вечный закон, к которому мы и обращаемся, критикуя отдельные установления человеческих законов. В отличие от человеческого законодательства, этот вечный закон непременно справедлив и всеобъемлющ, он охватывает весь спектр человеческих дел, и, в отличие от человеческих законов, которые часто подвергаются изменениям согласно обстоятельствам времени и места, он неизменен. В своих более ранних сочинениях Августин утверждал, что изменчивые установления человеческих законодательств, даже будучи продиктованы потребностями определенных сообществ в определенные времена, должны тем не менее, насколько это возможно, быть уподоблены вечному закону и направлены на то, чтобы реализовывать принципы последнего.3 В более поздних работах этот взгляд отошел на задний план в силу того, что Августин все в меньшей степени рассматривал человеческое общество в качестве слепка с умопостигаемого образца и все больше в качестве противопоставления эсхатологическому обществу царства Господня.4 Как
1 De div. qu. LXXXIII 31.1 (PL 40. 20); см. выше, с. 463, прим. 3.
2 De div. qu. Loc. cit.
3 De lib. arb. 15. 11—8. 18 (PL 32. 1227—1231).
4 Эту позицию убедительно отстаивает Кранц: Cranz F. Е. The development of Augustine’s ideas on society before the Donatist controversy 11 Harvard Theol. Rev. 1954. XLVII. P. 255—316. См. также: Lohse B. Augustins Wandlung in seiner Beurteilung des Staates // Studia patristica. 1962. VI. S. 447—475.
466
МАРИЙ ВИКТОРИН И АВГУСТИН
бы то ни было, различие между человеческим и божественным законодательствами по-прежнему оставалось в его словаре.1
Представлению Августина об обществе мы уделим внимание позднее; что же касается индивида, то очевидно, что отношение между неизменными и вечными образцами поведения и человеческими представлениями о нем является примером всеобщего отношения между вечными истинами и человеческим разумом. Наиболее ясно это проявляется в одном из ранних рассмотрений этого вопроса Августином: он говорит о божественном законе, который,
вечно оставаясь у Бога неподвижно и непреложно, как бы воспроизводится в душах мудрых, дабы они могли знать, что живут тем лучше и возвышеннее, чем совершеннее созерцают этот закон в мысли и чем прилежнее исполняют его в жизни.1 2
Язык этого отрывка почти тождествен тому, каким Августин описывает озарение ума светом вечной истины.3 Как мы уже видели, даже в контекстах преимущественно неэтических Августинова теория озарения часто звучит в моральном ключе. Основная причина ее использования, как нам представляется, состояла в намерении Августина обосновать свое моральное учение; неудивительно, что именно здесь она оказывается пригодной. Вечный закон тождествен вечным истинам, взятым в нормативном, моральном аспекте: он есть верховный разум Бога, рассмотренный в отношении к человеческому поведению. Подобно тому как через разум человек соучаствует в божественном уме, так же и через совесть он соучаствует в вечном законе; законодательство совести является неизменным законом Бога, присутствующим в человеческом уме, «внутренним законом, написанным в самом сердце».4 Это соучастие человека в вечном законе Августин также называет «естественным законом» и описывает его в качестве функции человеческого разума.5 «Разум устанавливает ценность с помощью света истины, подчиняя в истинном суждении низшее [по достоинству] высшему».6 Суть вечного закона, о котором разум позволяет
1 См., например: De civ. XV 16. 2 (PL 41. 459).
2 De ord. II 8. 25 (PL 32. 1006).
3 См. выше, c. 443—445; De lib. arb. I 6. 15 (PL 32. 1229), где Августин говорит о «aetemae legis [notio] quae nobis impressa est».
4 En. in Ps. 57. 1 (PL 36. 674): «Lex intima, in ipso... corde conscripta».
3Ep. 157.3. 15 (PL 33. 681); cp.: En. in Ps. 118; Sermo 25. 4 (PL 37. 1574).
6 De lib. arb. Ill 5. 17 (PL 32. 1279): «Ratio aestimat luce veritatis, ut recto iudicio subdat minora maioribus».
АВГУСТИН. ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ПОСТУПОК: ВОЛЯ И ДОБРОДЕТЕЛЬ 467
нам иметь «запечатленное понятие», состоит в том, что «все вещи должны быть совершенным образом упорядочены».1 Можно сказать, что добродетель согласно Августину состоит в реализации этого порядка среди многообразия мотивов человеческой природы и приведении человеческой деятельности в соответствие с ним.1 2
Таким образом, мы снова приходим к Августинову определению добродетели как «упорядоченной любви». Порядок, о котором здесь идет речь, есть порядок разума, или порядок вечного закона. Следовательно, по мысли Августина, невозможно противопоставлять любовь и закон; его знаменитое «Люби и делай, что хочешь»3 есть нечто совсем иное, чем утверждение любви как природной и необузданной силы. Любовь по своей природе есть самообузда- ние в человеке, и закон, вовсе не будучи внешним, навязанным ей ограничением, вписан в природу человека благодаря его отличительному свойству, а именно разумности.
Итак, рассмотрев понятие и определение добродетели, мы можем кратко изложить, что подразумевает под ней Августин. Какого рода порядок, по его мнению, должна воплощать собой человеческая любовь, какие вещи следует любить, какие больше и какие меньше?
Воззрения Августина также и в этом случае были, естественно, выработаны в контексте классических представлений, которые он, в частности, обнаружил на страницах Варрона и Цицерона.4 Троичная классификация блага стоиков — «приятное» (delectabile), «полезное» (utile) и «справедливое» (hone- stum) — стала неким общим местом и воспроизводилась в равной мере как языческими, так и христианскими авторами. Августин принял эту классификацию, однако в его интересах было свести три класса к двум. Использование биполярной схемы во многом отвечало склонностям Августина и нередко, как в этом случае, было связано с глубочайшими тенденциями его мышления. Различение между utile и honestum, по-видимому, было для Августина более фундаментальным, в связи с чем он и принял его в качестве исходной предпосылки для оценки вещей.5
1 Ibid. I 6. 15 (PL 32. 1229): «Ut omnia sint ordinatissima».
2 Cm.: Ibid. 18. 18 (PL 32. 1231).
3 In Jo. Ev. Tr. VII 8 (PL 35. 2033).
4 Лоренц обрисовал стоическое происхождение этого учения, а также сделал вывод, что источником Августина, по всей вероятности, был Варрон (Lorenz R. Die Herkunft des augustinischen frui Deo // Zeits. f. Kirchengeschichte. 1952—1953. LXIV. S. 34—60).
3 Cm.: De div. qu. LXXXIII 30 (PL 40. 19—20).
468
МАРИЙ ВИКТОРИН И АВГУСТИН
Эта классификация имеет в основании различение между почетным (honestum), «чего должно добиваться ради него самого», и полезным (utile), «что следует соотносить с чем-либо другим», то есть средством для некоторой цели. Августин проводит аналогичное различение между двумя человеческими отношениями, соответствующими этому различению ценностей: «Мы говорим, что наслаждаемся (frui) той вещью, от которой получаем удовольствие, а пользуемся (utimur) той вещью, которую относим к тому, откуда следует получать удовольствие».1 Различение между использованием и наслаждением (uti—frui) лежит в основании Августиновой этики. «Всякая человеческая испорченность, именуемая также пороком, — говорит Августин далее, — состоит в том, чтобы желать пользоваться тем, чем должно наслаждаться, и желать наслаждаться тем, чем должно пользоваться. Напротив, всякая упорядоченность (ordinatio), также называемая добродетелью, состоит в том, чтобы наслаждаться тем, чем должно наслаждаться, и пользоваться тем, чем должно пользоваться».1 2 Говоря языком, свойственным платонизму, Августин завершает это рассмотрение заявлением, что единственным объектом, подходящим для человеческого наслаждения, является «умопостигаемая красота, которую мы называем духовной»; все остальное служит лишь для того, чтобы в конечном итоге обратиться к ней.
Августин восхищался этикой «платоников», поскольку считал, что они учили тому, что человеческое счастье обретается в наслаждении не благами тела или даже ума, но благами Бога.3 Этическое учение Августина перекликается с Платоном, средним платонизмом и неоплатониками; и все же центральная его идея о «наслаждении Богом» (frui Deo, άπολαύειν θεοΰ) представляется сугубо Августиновой, хотя само это понятие и ранее появлялось в патристической мысли.4 Это понятие является одним из основополагающих в сочинении «О христианском учении», в котором он определяет frui и uti в терминах любви: «Радоваться вещи значит не иное что, как сильно любить ее для нее самой; пользоваться же вещью значит употреблять оную средством к достижению того, что мы любим».5 Эта дихотомия вещей для наслаждения и вещей
1 Ibid. 30 (PL 40. 19—20).
2 Ibid.; ср.: De lib. arb. I 15. 33 (PL 32. 1239).
3 De civ. VIII 8 (PL 41. 232—233); cp.: De mor. eccl. I 3. 4 (PL 32. 1312).
4 Cm.: Lorenz R. Art. cit.; в целом похоже, что в ранней патристической литературе άπόλαυσις θεοΰ имело сугубо эсхатологическое звучание.
5 De doctr. chr. 14. 4 (PL 34. 20): «Frui enim est amore alicui rei inhaerere propter seipsam. Uti autem, quod in usum venerit ad id quod amas obtinendum referre». Cp.: DeTrin. X 10. 13; 11. 17—18 (PL 42. 981; 982—984).
АВГУСТИН. ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ПОСТУПОК: ВОЛЯ И ДОБРОДЕТЕЛЬ 469
для использования сыграла роль фундамента, на котором Августин выстроил исследование основной темы упомянутого сочинения; а соответствующее различение сделалось одним из общепринятых архитектонических принципов средневековой теологии. Почему оно оказало столь сильное влияние на мысль Августина, становится понятным из двух отрывков из этого сочинения: «Те [предметы], коим должно радоваться, исполняют нас блаженства, а те, коими должно пользоваться, помогают нам достичь его»;1 и, хотя Августин допускает, что в обыденной речи слова могут использоваться в более широком и не столь категоричном смысле,1 2 «наслаждение» есть надлежащее отношение человека к Богу и его небесной обители, «использование» есть отношение, подходящее для всего остального. Ничто, кроме Бога, не может служить последним местом отдохновения, где будут удовлетворены все человеческие стремления; искать «наслаждения» в чем-либо еще значит мешкать в пути, перепутав, так сказать, дорогу и транспортное средство, предназначенное для продвижения по ней. С помощью этой пары понятий Августин выстраивает мораль паломника на пути к его небесной patria.3
Это не означает, что по мнению Августина «используемые» вещи не стоит любить, хотя обратное — что все «используемые» вещи следует любить — он отвергает.4 Творения, если соблюден правильный порядок соподчинения, являются вполне достойными объектами любви. Как мы убедились, он отождествляет добродетель с правильно упорядоченной любовью, а иногда даже и с милосердием.5 В основании этого отождествления лежит часто проводимое Августином различение между caritas и cupiditas,6 тесно связанное с различением frui и uti. Противопоставляются не любовь к Богу и любовь к творениям, а упорядоченная любовь, охватывающая как Бога, так и его творения, и извращенная, или беспорядочная, любовь, любящая без меры творения как таковые и обходящая вниманием Бога. Любовь человека к такому же, как он, человеку — особый случай, разъяснение которого, как нам кажется, представило некоторую трудность для Августинова построения. Строго говоря, из его дихотомии вещей для наслаждения и вещей для использования должно было логически следо¬
1 13. 3—4.4 (PL 34. 20—21).
2 Ср.: De civ. XI 25 (PL 41.339).
3 Ср.: De Trin. XI 6. 10 (PL 42. 992).
4 De doctr. chr. I 23. 22 (PL 34. 27).
5Ep. 167.4. 15 (PL 33. 739).
6 См. выше, c. 460, прим. 3.
470
МАРИЙ ВИКТОРИН И АВГУСТИН
вать исключение другого человека из сферы объектов, праведно любимых ради них самих. Однако Августин не мог заставить себя допустить, что человек должен «использовать» ближнего своего ради продвижения по пути к собственному счастью. Он, соответственно, дополнил свою дихотомию третьим классом объектов для «радости», но «радости в Боге».1 И все же в целом он довольствуется тем, что говорит только о двойственности uti и frui, cupiditas и caritas, и эти противопоставления немало способствуют обращению значительной части его размышлений к нравственности поступка, причем не только в его академических сочинениях, но и в общедоступных проповедях. Последние также во многом позволяют понять его воззрения на человеческое общество, которые будут рассмотрены в последней главе настоящего раздела.
В заключение стоит отметить, что, говоря о том, как следует относиться к внешним вещам, Августин в качестве примера приводил то отношение, которое, по его мнению, человек должен проявлять к собственной физической реальности, к телу, его удовольствиям, потребностям и их удовлетворению. В некотором смысле тело и его жизнь — просто пример вещей, которые следует не любить ради них самих, но обращаться к ним в поисках наслаждения высшими благами. Однажды Августин даже сказал, что любить тело означает «быть вне себя»,1 2 однако, перечитывая эту работу в более позднем возрасте, он заставил себя пересмотреть это утверждение:
То, что я сказал здесь, истинно только в отношении любви, которой мы так любим объект, что полагаем, будто наслаждаться им и есть блаженство. Поскольку любить телесную красоту во славу Творца и знать, что блаженство состоит лишь в наслаждении самим Творцом, ни в коем случае не означает быть вне себя.3
Это полностью согласуется с воззрением Августина на подобающее отношение к вещам вообще. Как бы то ни было, его понятие «отвращения» является своеобразной иллюстрацией того, каким образом искажение правильного порядка любви может
1 De doctr. chr. I 33. 36—37 (PL 34. 32—33); De Trin. IX 8. 13 (PL 42. 967— 968). Четверичная схема используется в De doctr. chr. I 23. 22 (PL 34. 27).
2 De Trin. XI 5. 9 (PL 42. 991): «Id amare alienari est».
3 Retr. II 15. 2 (PL 32. 636). Интересно, что Августин подверг критике всего три положения, и это одно из них.
АВГУСТИН. ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ПОСТУПОК: ВОЛЯ И ДОБРОДЕТЕЛЬ 471
«отвратить нас от нашего [небесного] отечества».1 По-видимому, он подчеркивает здесь, что искажение правильного порядка в поступке мешает человеку восстановить правильный порядок в себе самом. Ум тесно связан со своими мыслями: он отдает им «что- то от своей собственной сущности»; как говорит в одном месте Августин, он слишком легко увязает в постоянно окружающих его объектах.1 2 Однако исключительная привилегия разумной природы состоит в том, чтобы судить, и необходимо, чтобы ум судил сам себя в отношении связи с объектами своего повседневного внимания. Его способность суждения обнаруживает свободу, которой он обладает в силу своей разумности. Эта свобода дает ему власть противостоять склонности отождествлять себя с материальными образами и мыслями, которые требуют от него заботы и внимания и угрожают поглотить его целиком. Суждение — это возвращение ума к самому себе из такой «отвращенности», вытекающей из захваченности сферой практических дел, вещами, к которым, как образно выражается Августин, «он прилепился узами привязанности».3 Значимость человеческого отношения состоит здесь в том, что искажение «порядка любви» в делах угрожает свободе ума вернуться к самому себе; оно грозит ему слепотой в отношении критериев суждения и, следовательно, постепенной утратой разумного господства человека над самим собой и истощением его способности к самокритике.4
Среди четырех «главных» добродетелей именно «умеренность» преимущественно касается обращения человека с телесными удовольствиями и желаниями.5 Вслед за своими классическими предшественниками, в частности Цицероном, Августин определяет ее как добродетель, с помощью которой разум управляет, сдерживает и контролирует телесные желания. Вообще говоря, он просто перенимает классический набор из четырех главных добродетелей и их определения и не проявляет особого стремления к самостоятельным размышлениям на этот счет. Там, где он
1 De doctr. chr. 14. 4 (PL 34. 21): «Alienaremur a patria». По этой теме см. мою статью, прочитанную на 4-й международной конференции по изучению патристики в Оксфорде в 1963 г.: «Alienatio: philosophy and eschatology in Augustine’s intellectual development» (Studia patristica. 1966. IX).
2 De Trin. X 5. 7 (PL 42. 977).
3 Ibid.: «Curae glutino inhaeserit».
4 Cm.: De Trin. X 5. 7—8. 11 (PL 42. 977—980); De vera rel. 29. 52—31. 58 (PL 34. 145—148); De lib. arb. I 9. 19 (PL 32. 1231—1232).
3 См., например: De div. qu. LXXXIII 31. 1; 61.4 (PL 40. 20; 51); De civ. XIX 4. 3 (PL 41. 628—629); De lib. arb. I 13. 27 (PL 32. 1235—1236).
472
МАРИЙ ВИКТОРИН И АВГУСТИН
это делает, он фактически позволяет им счастливо раствориться в любви к Богу; их отношение к последней интересует его гораздо больше, нежели то, что отличает каждую из них. Так, он определяет все главные добродетели через любовь к Богу в своем сочинении «О нравах Вселенской церкви»;1 его подход характеризует приводимое здесь определение умеренности как «любви, целиком отдающей себя тому, что она любит» (то есть Богу). Умеренность придает «целостность» человеческой составное™, душе и телу, путем подчинения тела разумному порядку, устанавливаемому умом, так что вместе они становятся выражением воплощенной разумности. Пусть это послужит примером трактовки Августином главных добродетелей, иллюстрирующим относительное отсутствие у него интереса к ним. Они входят в корпус унаследованных им классических идей, и, когда он выходит за пределы связанных с ними академических дискуссий, его единственной заботой становится соотнесение их с характерными для него самого моральными лейтмотивами, в частности с его концепцией любви. В ходе этого их границы размываются, индивидуальные черты теряются, поскольку Августина интересует скорее то общее, что содержится в них как в добродетелях, чем то, что отличает каждую из них в отдельности.1 2 Ключевой в его размышлении о человеческой морали является идея порядка, понятого в качестве задания, требующего выполнения среди напряжений и путаницы, сопровождающих человека после грехопадения. В этом центральном для Августина понятии на очень глубоком уровне слились воедино классическое, платоновское наследство и христианская вера. Тон был задан в одном из самых первых его сочинений, посвященных учению о порядке как таковому: «Порядок есть то, что, если мы будем его держаться в своей жизни, то придем к Богу».3 Этот тон оставался неизменным на протяжении всего творчества Августина, и отголоски приведенного высказывания слышны и в более зрелых его работах.
1 I 15. 25 (PL 32. 1322): «Amor integrum se praebens ei quod amatur». Cp.: Conf. X 29. 40 (PL 32. 796): «Per continentiam quippe colligimur et redigimur in unum». Continentia, как следует из De div. qu. LXXXIII 31.1 (PL 40. 21), является «частью» умеренности.
2 Ссылки на фрагменты, в которых рассматриваются главные добродетели, см. выше, с. 471, прим. 5 и с. 472, прим. 1.
3 De ord. I 9. 27 (PL 32. 990); cp., например: De Trin. XI 6. 10 (PL 42. 992); De civ. XIX 12—15 (PL 41. 637—644).
Глава 26
АВГУСТИН.
БОГ И ПРИРОДА
Два основных или даже единственных предмета, интересующих философию, суть Бог и человеческая душа. Таково было убеждение Августина в самых ранних его сочинениях,1 и по иронии последующий отход от этого убеждения, которому он был обязан большей частью своего философского вдохновения, произошел в его пространном комментарии на Книгу Бытия, написанном каких-нибудь пятнадцать или двадцать лет спустя. Именно здесь он предоставляет полную свободу рассмотрению вопросов о природе, а не о человеке или Боге. И тем не менее среди интересов Августина физическая природа никогда не занимала такого господствующего места, какое занимали вопросы о Боге и человеческом мире. К вопросам, более всего интересовавшим его в области физики, привлекло его внимание Священное Писание. Мы ограничимся рассмотрением трех из них: порядка природы относительно Бога, естественного функционирования и развития физического мира и времени. Все три вытекают из Августинова учения о творении.
Две связанные друг с другом мысли составляют ядро воззрений Августина на физический мир. Одна из них заключается в том, что Бог сотворил природный мир и упорядочил его, по слову Книги Премудрости Соломона, часто цитируемой Августином, «мерою, числом и весом» (11:21); другая — в том, что этот порядок в мире позволяет человеку увидеть мир как Божье творение. Упорядоченность, с какой Бог творил мир, была всеобщей и всеохватной, за исключением возмущений, вызванных грехом и его последствиями. Однако этот всеобщий порядок, как полагал
1 De ord. II 18. 47 (PL 32. 1017); ср.: Sol. I 2. 7 (PL 32. 872).
474
МАРИЙ ВИКТОРИН И АВГУСТИН
Августин, очевиден людям лишь отчасти. Имея ограниченные познания о вселенной, они не способны увидеть все согласно подобающему ему месту, и положение многих вещей в божественном порядке может поэтому быть сокрытым от них. Более того, Божий порядок не всегда и не обязательно отвечает нашим, человеческим представлениям о порядке, и его порядок может порой показаться нам беспорядком с нашей ограниченной точки зрения.1 Его цели по большей части должны неизбежно оставаться сокрытыми от нас и неизвестными. Даже злу, природа и происхождение которого не будет нас здесь интересовать, отведено свое место в его замысле.
Но и при таком несовершенстве нашего распознавания вселенского порядка мир, согласно Августину, посредством своей упорядоченности, разнообразия и красоты заявляет о себе, что он — Божье творение, и указывает на трансцендентную красоту как на свой источник.1 2 Августин иногда говорит о «следах» (vestigia) Господа в сотворенных вещах, позволяющих уму видеть в них Творца.3 Однако ни один из способов, каким вещи свидетельствуют в пользу существования своего Создателя, не интересовал Августина в качестве довода, способного удостоверить его бытие. Он нимало не увлекался поисками подобных доводов; цель, по которой он ищет доказательств присутствия Бога в порядке и красоте творений, моральна по своей сути. Из этих свидетельств он обычно делает вывод, что мы должны следовать правильному порядку и предпочитать высшее низшему, лучшее худшему и так далее, но особенно предпочитать Творца его творениям.4 Знаменитый отрывок из «Исповеди» акцентирует моральную направленность таких аргументов. Августин рассказывает в нем о том, как спрашивал у вещей о Боге и как слышал от каждой в ответ: «Мы не бог твой; ищи над нами... Творец наш, вот кто Он».5 За превосходной словесной образностью данного отрывка стоит глубокая убежденность Августина в том, что вещи действительно должны быть поставлены под вопрос, прежде чем они расскажут о Боге. В схожем отрывке из проповеди он высказывается о «тупости» вещей, отсутствии у них голоса, чтобы славить Творца. И все же, продол¬
1 De civ. XII 4; XI 16 (PL 41. 351—352; 331); De Gen. c. Man. I 16. 26 (PL 34. 185—186); Conf. VII 14. 20 (PL 32. 744).
2 De civ. XI 4. 2 (PL 41. 319).
3 Например: DeTrin. XII 5. 5; XI 1. 1 (PL 42. 1001; 983—985).
4 Например: De Trin. XV 4. 6 (PL 42. 1061); Conf. VII 17. 23 (PL 32. 744—745); En. in Ps. 26, II 12 (PL 36. 205—206).
5 Conf. X 6. 9—10 (PL 32. 783) (nep. Μ. E. Сергеенко).
АВГУСТИН. БОГ И ПРИРОДА
475
жает он, осматривая их и расспрашивая их в поисках красоты, мы наделяем всякое творение голосом: «То, что вы нашли в нем, есть голос его исповеди, посредством которой вы славите Творца».1 Не вещи как таковые вынуждают нас заключать о сущем, от которого они зависят, но, скорее, подобающее отношение, с которым мы обращаемся к творениям, приводит нас к признанию Творца над ними и прославлению его в творениях. Далее в «Исповеди» он отмечает, что вещи не станут отвечать всем спрашивающим в равной степени: они ответят лишь тем, кто обладает силой суждения.1 2 Подчинение вещам в силу неупорядоченной любви лишает людей силы суждения; они получат ответ и поймут его только в том случае, если сумеют вынести суждение в свете истины внутри себя. Целью этого аргумента не является доказательство существования Бога на основании созданных им порядка и красоты в природе; цель его, скорее, в том, чтобы, поскольку Бог сотворил все вещи, призвать нас учиться искать за ними его, ценить их согласно их правильному порядку ради него и воздавать должное славе Творца, а не поклоняться его творениям. Когда Августин действительно намеревается представить доказательство в пользу существования Бога, как он это довольно пространно делает в одной ранней работе,3 его аргумент начинается с анализа способностей человеческого ума. Этот анализ вынуждает Августина заключить, что разум в своей отличительной способности к суждению подчиняется независимым от него и вышестоящим образцам; он отождествляет их с божественными идеями или вечной истиной, в свете которой разум выносит суждения.
При всей своей настойчивости относительно способности человека познавать Бога «посредством сотворенных вещей», Августин бережно охранял трансцендентность Творца. В одном из своих первых сочинений он говорит: «Бог лучше всего познается через неведение»;4 и он не переставал подчеркивать недоступность Бога для человеческого познания и неадекватность человеческого языка, чтобы истинно говорить о нем.5 Господь творит весь чувственный и видимый мир, природу, чтобы та заявила о нем и указала на него, но сам он не обнаруживает себя в
1 En. in Ps. 144. 13—14 (PL 37. 1877—1879); ср.: Sermo 241. 2. 2 (38. 1134).
2 См. выше, с. 474, прим. 5.
3 De lib. arb. II 3. 7—15. 39 (PL 32. 1243—1262).
4 De ord. II 16. 44 (PL 32. 1015): «Scitur melius nesciendo».
5 Cm.: De Trin. V 1. 1—2; VII 4. 7; VIII 2. 3; XV 27. 50 и так далее (PL 42. 911—912; 939—940; 948—949; 1096—1097).
476
МАРИЙ ВИКТОРИН И АВГУСТИН
ней, всегда оставаясь над и за пределами ее, а равно и скрытым в ее таинственной внутренней сущности.1
Господь являет себя в природе особым способом, а именно посредством чудес. Размышление о них приводит нас ко второй проблеме, поставленной Августиновым учением о творении, которую мы в широком смысле могли бы назвать проблемой природы. По своей сути она есть проблема отличения естественных процессов и событий от божественного деяния, присутствующего во всем происходящем, а также проблема естественной деятельности всякого творения. Она попала в поле зрения Августина прежде всего в силу видимого противоречия между библейским учением о том, что Бог сотворил все вещи «в начале» и одновременно, и очевидным фактом, что многие вещи начали быть впоследствии или еще вступят в существование. Даже рассказ о семидневном труде из Книги Бытия намекает на некую последовательность в деле творения. Каким образом можно примирить подобное хронологическое разворачивание акта творения с верой в сотворение Богом всего «в начале»? И более того, как мы можем говорить о естественном развитии и возникновении творений, начавших существование позднее, не исключив их из спектра сотворенного Богом и не лишив их тех отличительных особенностей развития и поведения, которые мы называем их «природой»?
В своей основе ответ Августина прост и опирается на биологическую аналогию с развитием семени. Бог, как утверждает Августин, действительно сотворил все «в начале», однако дал возможность некоторым из своих творений остаться скрытыми, в состоянии возможности, ожидающими подходящего времени и среды для своего фактического появления. Он называет такие вещи сотворенными «потенциально», «в зародыше», «невидимо», «причинно» и так далее, а также сравнивает их вхождение в существование с прорастанием семени и развитием его во взрослое растение при определенных условиях.* 2 Следуя примеру стоиков, он называет эквивалент семени, из которого развивается растение, rationes seminales или rationes causales и мыслит его как определенный способ зародышевого существования полностью реализованных существ, содержащих в себе принципы последующего развития.3
• Ibid. Ill 4. 10 (PL 42. 874).
2 De Gen. ad litt. VI passim, особенно 6. 9—11; 11. 18; V 4. 9 (PL 34. 342—343; 346; 324); cp.: De civ. XII 25 (PL 41. 374—375) [= XII 26 в CC]; De Trin. Ill 8. 13; 9. 16 (PL 42. 875; 877—878).
3 De Gen. ad litt. V 7. 20 (PL 34. 328).
АВГУСТИН. БОГ И ПРИРОДА
477
Августин постулировал существование этих «семенных логосов» не для того, чтобы иметь возможность объяснить возникновение нового во вселенной; он также не пытался, как иногда предполагают, с их помощью исключить саму возможность подлинной новизны, заявляя, как следствие, что ничего действительно нового не может существовать, поскольку все в свернутом виде присутствует изначально. Подлинная новизна или ее невозможность не являлись темой, интересующей Августина. Он был в большей степени озабочен тем, как примирить взаимоисключающие следствия библейской истории творения, и его теория на самом деле является по большей части побочным продуктом толкования Писания. По сути, она — еще один типичный пример его стремления осмыслить библейское вероучение с помощью философских понятий. И в этом она сослужила ему хорошую службу, поскольку позволила сберечь естественную, причинную действенность вещей и развертывание во времени причинных рядов, сохранив их при этом в поле творческой активности Бога. Дерево, выросшее из ростка, или росток, выросший из семени, суть Божьи творения, так что творец всех невидимых зародышевых начал есть также и творец всех видимых вещей, прорастающих из них.1
Несмотря на исходно экзегетическое назначение, понятие «семенных логосов» имело далеко идущие последствия для Авгу- стинова учения о природе. Оно состояло в представлении о ней как о системе процессов, подчиненных своим собственным законам, и взаимодействующих вещей, развивающихся согласно изначальным принципам их бытия. В одном месте Августин соотносит идею «естественного закона» с понятием «семенных логосов»:
Всякое самое обычное движение природы имеет свои известные естественные законы, сообразно с которыми и дух жизни, представляющий собою тварь, имеет свои известные, некоторым образом определенные стремления... С другой стороны, элементы чувственного мира имеют определенную силу и свое качество, что каждый из них может [произвести] и что от каждого из них может произойти. Все, что рождается от этих как бы первооснов вещей, получает в свое время начало и развитие, конец и своего рода уничтожение.1 2
1 De Trin. Ill 8. 13 (PL 42. 875—876).
2 De Gen. ad litt. IX 17. 32 (PL 34. 406): «Omnis iste naturae usitatissimus cursus habet quasdam naturales leges suas, secundum quas et spiritus vitae, qui creatura est, habet quosdam appetitus suos determinatos quodammodo... Et elementa mundi huius corporei habent definitam vim qualitatemque suam, quid unumquodque valeat, vel non valeat, quid de quo fieri possit vel non possit. Ex his velut primordiis rerum,
478
МАРИЙ ВИКТОРИН И АВГУСТИН
Теория семенных логосов используется здесь для формулирования учения о естественном законе, и Августин понимал, что эта задача предполагает различение связи сотворенного сущего, отличение естественной причинности от творческой причинности «первой причины». «Одно дело, — пишет он, —
устраивать и направлять творение из глубочайшего и высшего средоточия причин, что делает только Тот, Кто есть Бог Творец; и другое дело прилагать какое-либо действие извне в соответствии с дарованными Им силами и способностями, чтобы то, что Им творится, возникло тогда-то или тогда-то, так или сяк. Ибо все эти вещи исходным и изначальным образом уже были сотворены в некоторого рода соединении стихий; хотя они возникают лишь тогда, когда получают такую возможность. Ведь как матери беременеют потомством, так сам мир пребывает беременным причинами рождающихся вещей, которые рождаются в нем только от той высшей сущности, в которой ничего не возникает и не умирает, не начинает быть и не прекращает.1
Августин нащупывает путь к более позднему схоластическому разграничению на «первую причину» и целый ряд «вторых причин». Согласно этому разграничению, если событие или процесс соответствует нормальному порядку природы, он «причиняется» на двух разных уровнях: он может быть объяснен в терминах естественных законов, в соответствии с принципами физической, химической, биологической и так далее активности; или его можно объяснить через понятия воли и дел Божьих. Два этих объяснения принадлежат двум разным уровням, а два вида «причин» являются причинами в разных смыслах. Августин, как нам представляется, порой очень близко подходит к пониманию природы как совокупности процессов, вещей и событий, подчиняющихся своим собственным законам и объяснимых исходя из их собственного устройства. Однако то, насколько он на самом деле был далек от такого взгляда на природу, обнаруживается на примере его высказываний о чудесах.
В параграфе, следующем за процитированным выше,* 1 2 Августин говорит о том, что Бог обладает такой властью над всеми своими творениями, которая позволяет ему производить следствия,
omnia quae gignuntur, suo quoque tempore exortus processusque sumunt, finesque et decessiones sui cuiusque generis».
1 De Trin. Ill 9. 16 (PL 42. 877—878).
2 Cm. c. 477, прим. 2.
АВГУСТИН. БОГ И ПРИРОДА
479
отличные от происходящих в русле их естественного существования. Подобные аномалии в природе суть «чудеса», и Августин считает их результатом одного лишь божественного вмешательства вне каких-либо следствий из сотворенных причин; потому они необъяснимы в терминах естественного закона, но лишь со ссылкой на скрытые намерения Бога. Здесь Августин по-прежнему придерживается фундаментального различия между «естественными» событиями и процессами и теми, которые таковыми не являются, однако все чаще в его сочинениях это различие сглаживается. Даже в рассматриваемом трактате понятие семенных логосов бывает выражено в такой манере, которая заставляет предположить, что и нормальное, и аномальное развитие являются «естественными» и потенциальным образом содержатся в «исходных первопричинах» вещей.1 Не существует коренного различия между двумя видами явлений. Единственное отличие касается относительной частоты, с которой они случаются. Чудесные события «противны природе» только в той мере, в какой наше представление о ней основывается на привычном ходе вещей; с точки зрения Бога они не противоречат природе, поскольку для него «естество вещи состоит в том, что Он творит».* 2 В целом Августин полагал, что Бог предпочитает сохранять привычный порядок: «Всем, что сотворил, Он управляет так, что оно и само, с Его ведома и изволения, совершает и исполняет свои собственные движения».3 Господь всемогущ не в силу произвола своей власти (potentia temeraria), а в силу премудрости (sapientiae virtute);4 однако Августин не считал, что нарушение закона природы есть больший произвол, чем его соблюдение. В конце концов, и то и другое с неограниченной точки зрения Господа «естественно». Мы говорим о чудесных явлениях как о «противных природе», однако, как пишет Августин, они не таковы: «Как может быть противным природе то, что совершается по воле Божией, когда воля Творца есть природа всякой сотворенной вещи? Чудо противно не природе, а тому, как известна нам природа».5 Различие между естественным порядком и отступлением от него стирается в определении всех явлений как происходящих согласно воле Бога, и остается понятие «природы», совместимой с любыми возможными явлениями, в отличие от
• De Gen. ad litt. VI 14. 25 (PL 43. 349).
2 Ibid. VI 13. 24 (PL 34. 349); cp.: De ord. I 3. 8 (PL 32. 981—982).
^De civ. VII 30 (PL 41. 220).
4 De Gen. ad litt. IX 17. 32 (PL 34. 406).
5 De civ. XXI 8. 2 (PL 41. 721); cp.: C. Faust. XXVI 3 (PL 42. 480—481).
480
МАРИЙ ВИКТОРИН И АВГУСТИН
«природы, какой она нам известна», — ограниченного понимания, почти человеческого предрассудка, основанного на установленной в опыте нормальности. Как мы видели, Августин почти нащупал оригинальное понятие природы, и почему он оставил его, понять сложно. Кое-какие намеки можно найти в «О граде Божьем»: он желал апеллировать к критерию правдоподобия и вероятности своих оппонентов-язычников. Отстаиваемая им в книге XXI доктрина о наказании тела после смерти является наглядным примером его способа рассуждения, а знаменитая глава о чудесах ярко это иллюстрирует:
Не следует слушать тех, которые не признают, что невидимый Бог совершает видимые чудеса. Ведь и по их мнению сотворил же Бог мир, видимость которого они ни в коем случае не могут отрицать. А все, что ни совершается чудесного в этом мире, все это — несомненно меньше, чем весь этот мир, то есть небо, земля и все, что в них существует; все это сотворено, конечно, Богом. И как сам сотворивший, так и способ, которым Он сотворил, сокровенны и непостижимы для человека. Итак, хотя чудеса видимой природы и потеряли свою цену по той причине, что мы их видим постоянно, однако, если обратить на них мудрое внимание, они окажутся удивительнее самого необыкновенного и редкого (чуда). Да и сам человек представляет собою большее чудо, чем всякое чудо, совершаемое человеком.1
Свобода Бога действовать в природе торжественно оправдана, однако сама природа оказалась растворена в свободе божественной воли.
Проблема времени, а также отношения между вечностью и временем была еще одним сюжетом, интерес к которому возник у Августина в ходе размышления о творении. Отправной точкой его рассуждения было возражение манихеев против христианской доктрины творения. Рассказ Августина заставляет предположить, что полемика с манихеями выросла на почве кажущейся произвольности этого учения. Если Бог создал мир, сотворив его из ничего, почему он создал его в тот момент, когда он это сделал, а не позднее и не ранее? И чем он занимался до того, как сотворил мир?1 2 Августин не желал отвечать шуткой, которая была у него наготове для тех, кто задавал подобные вопросы, правда, не удержался от того, чтобы включить ее в свою «Исповедь»;3 он пытал¬
1 De civ. X 12 (PL 41.291).
2 De Gen. c. Man. I 2. 3 (PL 34. 174—175); Conf. XI 10. 12 (PL 32. 815).
3 Conf. XI 12. 14 (PL 32. 815).
АВГУСТИН. БОГ И ПРИРОДА
481
ся посмотреть в лицо тому затруднению, которое высвечивали подобные аргументы, а именно проблемам, которые возникали, когда речь в рамках христианского учения о творении заходила об абсолютном начале.
Основу его ответа составляет отрицание такого понимания времени, которое привело к данным возражениям. Согласно этому пониманию, время мыслится не как нечто принципиально отличное от частных событий и явлений, а как нечто субстанциально сродное вещам, во времени происходящим. Суть ответа Августина на коренящиеся в данном представлении возражения состояла в том, чтобы отвергнуть стоящие за ними предположения и обратить внимание на принципиальное различие между временем и вещами, происходящими во времени. Вопрос «Что происходило до времени?» грамматически аналогичен вопросу «Что происходило», например, «до Французской революции?» Мы склонны представлять себе время таким образом, что стоит нам достаточно далеко углубиться в подобном вопрошании и выстроить достаточно длинную цепь вопросов «Что происходило до...?», и мы в конце концов доберемся до крайнего члена последовательности: «Что происходило до (начала) времени?», причем нам наверняка покажется, что этот вопрос логически, а не только по своей грамматической форме, однороден с остальными членами последовательности. Между тем Августин отрицал это логическое сходство и указывал на то, что если вопрос о том, что произошло до какого-либо частного события или ряда событий, имеет смысл, то спрашивать о том, что происходило до всего ряда событий в целом, бессмысленно; манихеи же занимались именно этим. «До» есть отношение между событиями во времени, что предполагает соотношение двух сроков, a ex hypothesi не существует такого события или ряда событий за пределами всей цепи событий вообще, между которыми можно было бы построить отношение «до» (или «после»).1 Поэтому вопросы, с помощью которых манихеи пытались продемонстрировать произвольность и абсурдность доктрины творения, были бессмысленны. Время, по мнению Августина, является отношением между временными вещами, благодаря которому о них и можно говорить, что одно произошло до или после другого. Оно получило существование вместе с временными вещами, и не имеет смысла говорить о времени до того, как появились временные вещи. Как следствие, он отвергал представление своих
1 Вкратце изложенное рассуждение Августина см. в Conf. XI 10. 12—14. 17 (PL 32. 815—816); ср.: De civ. XI 5—6; XII 15. 2 (PL 41. 320—322; 364).
482
МАРИЙ ВИКТОРИН И АВГУСТИН
оппонентов о времени как субстанциальном в том же смысле, в каком субстанциальны временные вещи, и считал невозможным говорить о нем тем же языком, каким говорят о вещах и событиях.1
Впрочем, в своих размышлениях о времени Августин не ограничился ответом на возражения против доктрины творения. По-видимому, его интерес к данной теме был более глубоким, а поскольку в неоплатонической мысли существовала тесная взаимосвязь между временем и душой,1 2 Августин едва ли мог избежать соблазна переосмыслить этот вопрос в рамках своих собственных и очень своеобразных воззрений на душу.
В «Исповеди», содержащей наиболее развернутое рассуждение о времени, Августин начинает, как мы видели, с определения времени как отношения между временными вещами, то есть между вещами, могущими быть упорядоченными согласно отношениям «до» и «после». Вообще говоря, это свойственно всем сотворенным вещам; сказать, что вещь временна, означает иным образом выразить то, что она сотворена. Все творения подвержены становлению и исчезновению: будущее бытие и прошедшее бытие неотделимы от их бытия сотворенными; только Бог, не подверженный времени, — вечно «настоящий». Прошлое больше не есть, но было, а будущее еще не есть, но будет. Настоящее же, если бы оно длилось, было бы не временем, но вечностью. Его бытие в качестве времени зиждется на непрестанном исчезновении. Какого рода реальность в таком случае мы можем приписать времени?3 Настоящее, которое единственное, казалось бы, может претендовать на бытие, исчезает в лишенной измерений точке, в которой будущее становится прошлым, поскольку всякая определенная длительность может быть разделена на меньшие части, одни из которых будут прошлым, а другие — будущим. Все, что нам остается, это лишенный измерений момент, в котором еще-не-реальное становится уже-не-реальным, и, какой бы реальностью он ни обладал, у него не может быть никакой длительности.4 Как бы то ни было, мы говорим не только о длительном и кратком времени, но знаем и о промежутках времени (intervalla temporum), мы можем их сравнивать и даже измерять. Мы измеряем время, только пока
1 De Gen. ad litt. V 5. 12 (PL 34. 325—326). В De civ. XI 5 (PL 41. 320—321) Августин отмечает, что такой же способ обращения следует распространить и на пространство.
2 О Плотиновом понимании времени как «жизни души» см. в разделе III («Плотин»), гл. 16 А, с. 319—320.
3Conf. XI 14. 17 (PL 32. 815—816).
4 Ibid. XI 15. 18—20 (PL 32. 816—817).
АВГУСТИН. БОГ И ПРИРОДА
483
оно идет, поскольку невозможно измерить то, что уже было или чего еще нет.1 В нашем сознании прошлое и будущее имеет нечто вроде бытия в той мере, в какой о прошлом мы помним, а будущее ожидаем или предвидим, и без этого сознания мы ничего не знали бы о длительности какого бы то ни было временного промежутка. Однако это не означает, что прошлое и настоящее реальны. Они реальны лишь настолько, насколько они присутствуют в уме, в памяти или ожидании: «Настоящее прошедшего — это память; настоящее настоящего — его непосредственное созерцание (contuitus); настоящее будущего — его ожидание».1 2 Какой бы реальностью ни обладало протяженное время, или длительность, она — в уме и является результатом способности ума соединять в настоящем знание прошлого и будущего. Таким образом, окончательное определение времени у Августина, высказываемое им с немалой долей сомнения, таково: «Поэтому мне и кажется, что время есть не что иное, как растяжение (distentio), но чего? Не знаю; может быть, самой души».3
Мимоходом Августин рассматривает попытки определить время с помощью движения.4 Он отказывается отождествлять движение — будь то небесных тел или чего-либо еще — со временем. Он отмечает, что вполне осмысленна речь о солнце как о меняющем свою скорость, то есть проходящем большее или меньшее расстояние за данное время; мы можем даже вообразить его стоящим неподвижно, как это случилось по молитве Иисуса Навина, пока израильтяне побеждали в сражении амалекитян, — но время не стало бы «стоять на месте». Следовательно, очевидно, что движение солнца не обусловливает время, как ни одно другое телесное движение вообще, поскольку, даже если бы все телесные движения прекратились, мы по-прежнему могли бы осознавать большие или меньшие промежутки покоя в своем сознании. Мы измеряем движение временем (регулярное же движение используем для измерения времени): время и движение не могут поэтому быть тождественными.5 Тем самым Августин снова возвращается к психологическому определению времени.
1 Ibid. XI 16. 21; 21. 27 (PL 32. 817; 819—820).
2 Ibid. XI 20. 26 (PL 32. 819) (пер. Μ. Ε. Сергеенко).
3 Ibid. XI 26. 33 (PL 32. 822) (пер. Μ. Ε. Сергеенко). (В английском переводе цитаты стоит «ума» (mind), а не «души». — Примеч. перев.)
4 Их историю см. в работе: Callahan J. F. Four Views of Time in Ancient Philosophy. Cambridge, 1948.
5 Conf. XI 23. 29—24. 31 (PL 32. 820—822); cp.: De Gen. c. Man. I 14. 20—21 (PL 34. 183).
484
МАРИЙ ВИКТОРИН И АВГУСТИН
Некоторые главы «О граде Божьем»1 проливают свет на скрытые причины той горячности, с какой Августин отвергает отождествление времени с движением небесных тел. В ряде глав он вступает в спор с характерным для греческой философии воззрением на время как на круговое движение. События, согласно этой теории, следуют друг за другом в одном и том же порядке в бесконечной последовательности повторяющихся циклов. Безусловно, такое воззрение на процессы, происходящие во времени, было несовместимо с тем уникальным значением, которое христианство придавало определенным историческим событиям, и Августин сжимался от ужаса перед той абсурдностью и банальностью, на которые оно обрекало человеческую жизнь и историю. Даже в своих ранних сочинениях Августин отдавал должное сугубо историческому характеру христианской веры с ее притязанием на то, что откровение Бога ради спасения человечества выражалось в ряде особых исторических событий;1 2 он обладал глубоким чувством неповторимой, если не сказать непостижимо мистической, значимости, сообщенной всем без исключения моментам времени всеобъемлющим божественным провидением.3 Воззрения Августина, касающиеся человеческой истории, мы рассмотрим отдельно в следующей главе.
1 XII 13; 17—20 (PL 41. 360—362; 366—372) [= XII 14; 18—21 в СС]. Возможную причину остроты этого вопроса предложил Ж. Юбо в статьях: Saint Augustin et la crise cyclique //Augustinus magister. 1954. II. P. 943—950 и Saint Augustin et la crise eschatologique de la fin du IV siecle // Bull, de la classe des lettres et des sciences morales et politiques. 1954. 5e s6rie. XL. P. 658—673.
2 Cm.: De vera rel. 7. 13 (PL 34. 128); cp. выше, c. 418—421.
3 См., например: Conf. VII 15. 21 (PL 32. 744).
Глава 27
АВГУСТИН.
ЧЕЛОВЕК В ИСТОРИИ И ОБЩЕСТВЕ
Мы должны начать изложение взглядов Августина на человеческую историю с различения «священной истории» (Heilsgeschichte) и светской истории. Он нечасто использует эти выражения, однако подобное различение подразумевается во всех его высказываниях. Священная изложена в Ветхом и Новом Заветах и есть история действия божественного откровения среди людей. Она касается искупления человеческого рода, состоящего в подвиге Иисуса Христа, и подготовки к этому событию в истории избранного народа Израилева. Этими деяниями Господь обнаружил свою цель в истории, Священное Писание же является письменным свидетельством этих деяний, авторитетным и надежным источником христианской веры.1 При этом Писание не есть всего лишь безликий исторический документ. Содержащееся в нем повествование оформлено интерпретаторской деятельностью его авторов и, наверное, если бы не она, было бы лишено смысла. Вдохновленные Святым Духом, авторы наделяют описываемые ими события таким значением, которое и само имеет божественное происхождение. Священная история тем самым священна в двух аспектах: она заключает в себе рассказ о Божьих деяниях, а также сообщает о них языком божественного провидения, наделяя описываемые события значением в соответствии с божественным планом. Помимо священной истории, изложенной в Библии, у людей нет ни иного откровения относительно плана Господня, ни указаний на смысл исторических событий относительно Божьих целей. Христиане находятся в том же положении,
1 De civ. XVIII 40 (PL 41. 600); см. также выше, с. 484, прим. 2.
486
МАРИЙ ВИКТОРИН И АВГУСТИН
что и светские историки, за исключением того, что касается священной истории.1
Здесь нас не будут непосредственно интересовать воззрения Августина на Писание, его смысл, толкование, авторство и источник вдохновения. И все же различение между священной и несвященной историей имеет далеко идущие следствия. Излюбленная Августином периодизация всемирной истории ясно демонстрирует их. В согласии с древней христианской традицией, он часто делит ход истории на шесть периодов соответственно шести дням творения;1 2 за ними следует «вечная Суббота», когда люди оставят свои труды в отдохновении благодати, о которой возвестит возвращение Господа во славе. «Седьмой день» в зрелых сочинениях Августина стоит вне истории, его рассвет — конец истории, а его сущность — эсхатологическое подведение итогов истории в целом. История человечества приходится на первые «шесть дней» от сотворения мира до последнего дня. Первые пять периодов вместе соответствуют времени, предшествующему воплощению Христа, и здесь нам достаточно сказать, что границами между ними служат ключевые моменты ветхозаветной истории. Шестая эпоха есть период, в котором живем мы. Она простирается от вхождения Христа во плоть и до его возвращения во славе. Ориентиры, которыми размечена история, принадлежат исключительно священной истории, поэтому в эпоху после Христа больше нет делений; дальнейшая история однородна и лишена какого-либо рисунка, имеющего религиозное значение, подобно всей более ранней добиблейской истории. Утверждая однородность истории в период после Христа, Августин отвергал хилиастическую точку зрения (основанную на толковании Апокалипсиса 20:1—5), согласно которой пройдет тысяча лет, прежде чем случится второе пришествие Христа, когда он и его святые станут править на земле. Он не принимал ни буквального толкования слов «у Господа один день как тысяча
1 Ibid. XVIII 40 (PL 41. 599—600): только библейское повествование может использоваться в качестве критерия для выбора из числа противоречивых светских историй, где они пересекаются со священной историей. По поводу этого параграфа целиком см. мою статью: History, prophecy and inspiration //Augustinus. Madrid, 1967. P. 271—280.
2 Наиболее подробный вариант см. в De Gen. с. Man. I 23. 35—24. 42 (PL 34. 190—193); см. также De cat. rud. 22. 39 (PL 40. 338—339); De div. qu. LXXXIII 58. 2 (PL 40. 43); De Trin. IV 4. 7 (PL 42. 892—893); In Jo. Ev. Tr. 9. 6 (PL 35. 1461); De civ. XXII 30. 5 (PL 41. 804); Sermo 125. 4; 259. 2 (PL 38. 691—692; 1197—1198). Подробное современное рассмотрение вопроса см.: Luneau A. L’histoire du salut chez les Peres de TEglise: la doctrine des ages du monde. Paris, 1964. P. 285—407.
АВГУСТИН. ЧЕЛОВЕК В ИСТОРИИ И ОБЩЕСТВЕ
487
лет, и тысяча лет как один день» (2 Пет. 3:8), предполагавшего, что шесть дней творения равносильны шести историческим эпохам, каждая длиной в тысячу лет, ни хилиастической идеи о том, что сейчас, в последнюю эпоху, можно интерпретировать и предугадывать историю, используя библейские сюжеты.1 Хилиазм, хотя и пережил краткий период расцвета ближе к концу IV века, едва подавал признаки жизни во времена Августина. Тем не менее Auseinandersetzung* Августина с этим учением включает в себя лучшие его размышления об истории: положения о том, что только взятая за основу священная история может позволить нам интерпретировать историю в терминах божественного предначертания, что, исходя из этой основы, нынешняя эпоха однородна и, следуя этому предначертанию, в равной степени двойственна, а также что ее исход непредсказуем.1 2
Сила и значение этих тем получит более отчетливое выражение в воззрениях Августина на историю, в особенности современную ему, Римской империи. В этом контексте он также формулирует ряд своих наиболее своеобразных взглядов на человеческое общество и организованное государство. К рассмотрению этого круга тем мы сейчас и приступаем.
Стимулом к наиболее глубоким размышлениям Августина об участии Бога в истории человечества, а также о месте организованного государства в предопределенном им плане явилось разграбление Рима вестготами под командованием Алариха летом 410 г. Его знаменитое сочинение «О граде Божьем», написанное в 413—427 гг., было непосредственным откликом на это событие и расценивалось автором как ответ языческим оппонентам, возлагавшим вину за падение города на принятие государством христианства и отказ от старых богов, при которых империя достигла
1 О хилиазме см.: De civ. XX 7; 9 (PL 41. 666—669; 672—675).
2 Р. Шмидт обращает внимание на оригинальность Августинова деления истории {Schmidt R. «Aetates mundi». Die Weltalter als Gliederungsprinzip der Weltgeschichte // Zeits. f. Kirchengeschichte. 1955—1956. LXVII. S. 288—317). См. также: Daniilou J. La typologie millenariste de la semaine dans le christianisme primitif // Vigiliae christianae. 1948. II. P. 1—16. Ж. Фолье в значимой статье {Folliet G. La typologie du sabbat chez saint Augustin; son interpretation millenariste entre 388 et 400 // Rev. des etudes augustiniennes. 1956. II. P. 371—390) указал на ряд явно хилиастических элементов в ранних воззрениях Августина на этот предмет, а также на его отход от них, завершившийся к моменту написания «Исповеди» (400 г.). Мои доводы в тексте соотносятся с более поздними взглядами Августина.
* Спор {нем.). — Примем, перев.
488
МАРИЙ ВИКТОРИН И АВГУСТИН
процветания.1 Многие темы этого сочинения подготавливались в уме Августина в течение длительного времени, и два соображения, имевшие особое значение для его содержания, уже созрели в его голове, когда он взялся за перо. Во-первых, он окончательно разделался с какими-либо следами милленаризма в своей мысли и занял позицию, согласно которой история в период после Христа имеет полностью светский характер в том смысле, что к ней невозможно приступать с категориями истории откровения. Во-вторых, он оставил свои более ранние воззрения на государство, сформированные под влиянием платоновского образа мысли, как на этап пути к вечной patria и ее временное отражение; он стал с гораздо меньшей охотой связывать эсхатологическую цель истории с умопостигаемым миром Платона. Государство, что для Августина, несомненно, означало Римскую империю, утратило значительную долю религиозного смысла, которым наделялось в его ранних сочинениях.1 2
Мысль Августина довольно далеко зашла в этом направлении, когда весть о падении Рима достигла Африки. Ужас и смятение были повсюду и существенно превышали реальное политическое значение события. Боль и оцепенение язычников, выраженные, например, поэтом Рутилием Намацианом, были легко объяснимы. Миф о вечном Риме (Roma aetema) представлял собой не только достойный литературный сюжет; в сознании римлян со времен Вергилия он был самой жизнью, причем наиболее мощное влияние он имел на поколение, непосредственно предшествующее вторжению готов. Однако, судя по той скорби, с которой пишет св. Иероним в своем далеком монастырском уединении в Палестине, или по тому общему состоянию духа, царившему среди христиан, о чем позволяют судить некоторые Августиновы проповеди, посвященные падению города,3 христиане были в равной степени потрясены и озадачены этой новостью. Причину подобного состояния духа следует искать в том, какое место занимала Римская империя в порядке вещей в то время.4 Прежде
1 Retr. II43. 1 (PL 32. 647—648); De civ. I Praef.; I 1; II 2; IV 1—2; VI Praef. и так далее (PL 41. 13; 14—15; 48; 111—113; 173—175).
2 См. выше, с. 465 и прим. 4.
3 Подробности см.: Fischer J. F. Die Volkerwanderung im Urteil der zeitge- nossischen Schriftsteller Galliens unter Einbeziehung des heiligen Augustinus. Heidelberg, 1947; Campenhausen J. von. Augustin und der Fall von Rom // Universitas. 1947. II. S. 257—268.
4 О последующем см. мою статью: The Roman Empire in early Christian historiography // Downside Review. 1963. LXXXI, N 265. P. 340—354.
АВГУСТИН. ЧЕЛОВЕК В ИСТОРИИ И ОБЩЕСТВЕ
489
чем Константин даровал Церкви общественное признание в 312 г., империя часто, хотя далеко не всегда, рисовалась в апокалиптической фантазии как Чудовище, которому Дракон вручил мировое господство, или как шлюха, одетая в пурпур и багрянец, сидящая на семи холмах и пьющая кровь святых и мучеников Иисусовых. Как бы то ни было, с признанием Церкви укоренился иной взгляд, тоже когда-то имевший хождение. Одним из выдающихся сторонников этого взгляда был христианский историк Евсевий, публицист времен первого христианского императора. В Константине Евсевий видел осуществление Божьих целей в истории; к нему он относил многие ветхозаветные пророчества, которые Церковь интерпретировала в мессианском ключе. Империя в его глазах была богоизбранным орудием для излечения разделения и расщепления, свойственных положению человека в результате грехопадения Адама. Единственная истинная империя, по его мнению, была политическим выражением единственного истинного исповедания единого истинного Бога и тем самым рассматривалась как важное звено в Божьем замысле искупления человечества и как продолжение священной истории, изложенной в Писании. Как с этой, так и с диаметрально противоположной и бескомпромиссно антиимперской точки зрения апокалиптических писателей, судьба империи была связана с реализацией божественной цели в истории. Падение первой должно было возвестить об исполнении второй. Воззрения такого рода стали очень популярны в IV столетии и, по-видимому, даже сделались общепринятыми, за исключением кругов, отвергавших имперскую ортодоксию. Ряд следствий из данного воззрения, кажется, глубоко укоренился в воображении народа. В глазах христианского поэта Пруденция, например, процветание и непоколебимость христианской империи являлись прямым следствием того, что Рим рассматривался как часть развертывания искупительного замысла Бога. Весть о падении Рима в 410 г., должно быть, разрушила такое видение истории, сделалась угрозой для веры, поддерживающей его, и произвела волнение столь безмерное, что оно не шло ни в какое сравнение с реальными масштабами катастрофы. Альтернативой отчаянию были либо поверхностный оптимизм, преуменьшающий последствия вторжения варваров для империи, либо коренная перенастройка мысли относительно места Рима в божественном плане. Эту перенастройку блистательно провел Августин.
С этой точки зрения «О граде Божьем» Августина можно расценивать как последовательный отказ от образа империи, созданного Евсевием. Его довод, по сути, сводится к тому, что
490
МАРИЙ ВИКТОРИН И АВГУСТИН
осуществление Божьих целей не зависит от судьбы Рима или от судьбы какого бы то ни было существующего общества вообще. Апокалиптические пророчества не следует напрямую относить к какой-либо исторической катастрофе, так как они касаются финального сворачивания истории в конце времен.1 Августин постоянно подчеркивает, что его мы не в силах предугадать и что библейское откровение не может служить путеводителем по оставшейся у нас до второго пришествия Господа истории.1 2 Он решительно держится в стороне и от исторического оптимизма, и от исторического пессимизма. Поскольку в Писании для нас не оставлено подсказок относительно будущего, мы не можем ни утверждать чего-либо, ни отрицать, а потому «оставим вопрос открытым».3 Римская империя лежит за пределами священной истории и более не рассматривается ни как Богом избранное орудие спасения человечества, ни как противостоящая ему сатанинская сила. Она есть просто эмпирическое, историческое сообщество с переменчивой судьбой, нейтральное в теологическом смысле. Это объясняет странность двойственного отношения Августина к Риму, ставшего причиной бурных дебатов. В своей антиримской полемике он склонен противопоставлять римлян христианам, говорить, как враждебный чужак, фактически воспроизводя формулировки преследуемой Церкви. Несмотря на это, он часто обращается к римским идеалам, противополагая им развращенность современного мира. В этих отрывках ясно проступает гордость истинного римлянина.4 Его одобрение типичных римских ценностей несомненно, хотя и умеренно: в конце концов, когда речь идет о спасении и осуждении на муки, все римские достижения, да и в целом деяния всего человечества никчемны. Так он обращается к «столь богато одаренному природой римскому народу, наследству Регулов, Сцевол, Сципионов, Фабрициев!»: «Если даровано тебе природой что-либо прекрасное, оно очистится и усовершенствуется посредством истинного благочестия; бесчестие же его погубит, навлечет на него наказание».5 Империя
1 De civ. XX 11 (PL 41. 676—677).
2 Ibid. XVIII 53. 1 (PL 41. 616—617); cp.: Ep. 199 (PL 33. 904—925); De div. qu. LXXXIII 58. 2 (PL 40. 43); De Gen. c. Man. I 24. 42 (PL 34. 193).
3 De civ. XVIII 52. 2 (PL 41. 616).
4 Ibid. II 29; V 15; 18 (PL 41. 77—78; 160; 162—165), при всем уважении к в целом блестящей книге Майера (Maier F. G. Augustin und das antike Rom. Stuttgart, 1956), одержимой желанием стереть всякий след римского «патриотизма» у Августина.
5 De civ. II 29. 1 (PL41.77); cp.: Ер. 138.3. 17 (PL 33. 533).
АВГУСТИН. ЧЕЛОВЕК В ИСТОРИИ И ОБЩЕСТВЕ
491
как таковая нейтральна в теологическом отношении, символ Рима лишен религиозного значения. Чтобы вернуться в координаты последнего Божьего суда истории, нужно вызвать к жизни категории греха и святости; только они задают степень совершенства или упадка чисто светских ценностей, олицетворенных в государстве.
У государства как такового более нет вечного удела. Его орудиями являются два общества, которые Августин называет по- разному, но чаще всего «градом Божьим» и «градом земным» соответственно. Эта пара понятий имела длительную предысторию в сочинениях Августина, прежде чем стать основной темой «О граде Божьем». Источник и развитие его языка,1 а также точные соответствия в этом языке таким понятиям из словаря Августина, как «Церковь», «царство Господне» и так далее,1 2 не входят в сферу рассмотрения настоящей главы. Августин определяет и различает два града разными способами, более или менее произвольно, и, очевидно, предполагается, что эти способы равнозначны. Так, в «О граде Божьем» мы часто обнаруживаем, что Августин соотносит два града с предопределением: он говорит, например, о двух разрядах людей (genera hominum), «которые живут по человеку» и «которые живут по Богу. Эти разряды мы символически (mystice) назвали двумя градами, то есть двумя сообществами людей, из которых одному предназначено вечно царствовать с Богом, а другому — подвергнуться вечному наказанию с дьяволом».3 В других случаях он определяет два града как «два рода любви», «из коих одна святая, а другая нечистая; одна общественная, а другая частная (alter socialis, alter privatus)»,4 или противопоставляет их как города скромности и гордыни соответственно.5 Но каким бы образом Августин их ни описывал, он всегда подчеркивает, что в качестве сообществ два града — эсхатологические реальности. Это означает, что они не обладают различимой реальностью в качестве сообществ до тех пор, пока не будут разделены последним судом.
1 Лучше всего они рассмотрены в работе: Lauras A., Rondet Н. Le theme des deux cites dans Г oeuvre de S. Augustin // Etudes augustiniennes. Paris, 1953. P. 97—160.
2 Краткое изложение недавней дискуссии см. в: Cougar У М. J. «Civitas Dei» et «ecclesia» chez saint Augustin I I Rev. des 0tudes augustiniennes. 1957. III. P. 1—14, а также решающий вклад в эту дискуссию, сделанный Кранцем {Cranz F. Е. De civitate Dei XV 2 and Saint Augustine’s idea of the Christian society 11 Speculum. 1950. XXV. P. 215—225). Эта статья переиздана вместе со статьей о. Конгара {Congar У М. J. Loc. cit. Р. 15—28).
3 De civ. XV 1. 1 (PL 41.437).
4 De Gen. ad litt. XI 15. 20 (PL 34. 437); cp.: De civ. XIV 28 (PL 41. 456).
5 De cat. rud. 19. 33 (PL 40. 334—335).
492
МАРИЙ ВИКТОРИН И АВГУСТИН
Здесь, на земле, на протяжении всего времени земной истории, которую Августин нередко называет saeculum, «эти два града переплетены и взаимно перемешаны (perplexae... invicemque permixtae), доколе не будут разделены на последнем суде».1 Предельные понятия Августинова вйдения истории суть вечное предназначение и Божий суд; всякое человеческое предприятие в конечном итоге оценивается исходя из полной противоположности греха и святости. Два града суть эсхатологические сущности именно потому, что их отличие зиждется на Божьем суде: приложение таких простых категорий к сложной ткани эмпирической истории неизбежно должно было стать причиной сомнений и растерянности. Августин поэтому настаивает: люди не могут ничего знать о делах двух городов кроме того, что Бог действительно явил в истории раздельность их существования.1 2 Потому незаменимым источником большей части Августинова описания двух городов являются библейские сюжеты. Помимо библейской истории нам известно лишь то, что их деятельность продолжается и что они проявятся в конце. Их невозможно распознать по внешним признакам: грешники часто процветают, а святые мучаются; два града различаются не внешними проявлениями, но внутренним откликом на пережитый ими опыт, тем, во что они превращают свой удел: «Оба они... при различной вере, надежде и любви или пользуются одинаковым временным благополучием, или одинаково удручаются временными несчастьями, пока не будут отделены один от другого на последнем суде».3
Августин, безусловно, отождествляет Римскую империю с «земным градом», говорит о ней как о «втором Вавилоне»4 и в целом, особенно в первых пяти полемических книгах «О граде Божьем», исходит из тождества Рима с земным градом. И причина тому очевидна: в своем облике идолопоклонницы и гонительницы святых империя явно подходила на роль безбожного города из постбиблейской истории в категориях самой Библии. К идолопоклонству Августин часто прибавляет горделивый поиск славы и жажду власти — второе, за что достойна осуждения римская история. Однако он ясно дает понять, что, несмотря на это «перенесе¬
1 De civ. I 35 (PL 41. 46); De Gen. ad litt. XI 15. 20 (PL 34. 437); De cat. rud. 19.31 (PL 40. 333—334).
2 De civ. XIV 11. 1 (PL 41. 418).
3 Ibid. XVIII 54. 2 (PL 41. 620); cp.: De cat. rud. 19. 31 (PL 40. 333), где Августин говорит от двух городах «nunc permixtae corporibus, sed voluntatibus separatae, in die vero iudicii etiam corpore separandae».
4 De civ. XVIII 22 (PL 41.578).
АВГУСТИН. ЧЕЛОВЕК В ИСТОРИИ И ОБЩЕСТВЕ
493
ние» двух городов священной истории в сферу истории эмпирической, случай с Римом на самом деле не составляет исключения из общего принципа эсхатологической двойственности. Поклонение Богу в истинной вере, несомненно, является необходимым условием причастности к Божьему граду, однако, строго говоря, Августин — в противоположность, например, Евсевию — не рассматривает христианскую империю как нечто в корне отличное от ее языческой предшественницы. Он не видит реального перелома в римской истории с приходом Константина. Христианская Римская империя, подобно любому другому обществу, отравлена двойственностью двух городов. Мы уже отмечали, что доблести Рима были для Августина чем-то таким, что по сути еще должно было быть улучшенным упражнениями в благочестии.1 Далее в том же отрывке Августин обращается к персонифицированному Риму и приглашает его вступить в град Божий, в который уже вошли некоторые его жители — христианские мученики. Ничто не могло бы яснее показать, что Августин решительно отказывается считать Рим одной из сторон в дихотомии двух градов. И хотя в этом отдельном фрагменте, в контексте спора с язычниками, вопрос стоит об истинном и ложном верованиях, едва ли стоит отмечать особо, что христианская вера, согласно Августину, не является автоматическим пропуском в град Божий. В нынешнюю эпоху, когда град Божий является странником на земле, он «имеет врагов, соединенных с ним общением таинств, но не имеющих возможности наследовать жребия святых».1 2 Хотя Августин иногда отождествляет Церковь с градом Божьим, подобно тому как он иногда говорит о Риме как о земном граде, это тождество основывается на том обстоятельстве, что он различает Церковь как ecclesia peregrina* и как ecclesia coelestis** и с готовностью ссылается на обе просто как на «Церковь», не всегда отчетливо указывая отличие нынешней Церкви от Церкви будущей.3 Его непостоянство в терминологии стало причиной множества дискуссий, однако он, очевидно, понимает два «града» как эсхатологические сообщества, имеющие отношение как к эмпирическому институту к Христианской церкви и к Римскому государству соответственно, но с которыми их тем не менее не следует отождествлять.
1 См. выше, с. 490, прим. 5.
2 De civ. 135 (PL 41.46).
3 Об этом вопросе, выходящем за пределы рассмотрения настоящей главы, см. статьи, ссылки на которые были приведены выше, с. 491, прим. 2.
* Странствующая Церковь {лат.). — Примеч. перев.
** Небесная Церковь {лат.). — Примеч. перев.
494
МАРИЙ ВИКТОРИН И АВГУСТИН
Причина, по которой никакое эмпирически данное общество невозможно отождествить ни с одним из двух градов, такова: в конечном счете оба града определяются двумя родами воли (или любви, как иногда говорит Августин) составляющих их индивидов. «Два града созданы двумя родами любви: земной — любовью к себе, дошедшею до презрения к Богу; небесный — любовью к Богу, дошедшей до презрения к себе. Первый полагает славу свою в самом себе, второй — в Господе».1 В любом эмпирическом обществе две любви неизбежно переплетены друг с другом, поскольку оно по необходимости включает в себя членов, высшие ценности которых различны. Общество есть не более чем сумма его членов: «Что есть Рим, как не римляне?»1 2 Общество (civitas) есть «множество людей, сошедшихся вместе».3 Поскольку оба рода любви, создавшие города, непременно присутствуют в любом заданном скоплении людей, два града также неминуемо присутствуют, сплетенные друг с другом, в любом отдельно взятом историческом сообществе. Ни одно государство, даже управляемое такими христианскими императорами, как Константин или Феодосий, невозможно отождествить с градом Божьим; Церковь же в качестве организованного института, как подчеркивает Августин, в частности, в своих антидонатистских сочинениях, есть гумно, на котором Христос отделяет зерна от плевел, и неизбежно будет содержать как одни, так и другие, пока не настанет Судный день.
Многократно обсуждавшиеся воззрения Августина на справедливость в государстве основываются на его исходном допущении, что град Божий есть единственное вместилище совершенной справедливости. «Где нет той справедливости, чтобы единый и высочайший Бог повелевал повинующемуся по Его благодати граду»,4 там Августин отказывается говорить о соблюдении истинной справедливости. Отсюда его отказ от определения государства, данного Цицероном: res publica. Оно держалось на понимании populus как «совокупности множества людей, соединенных взаимно согласием в праве и общею пользой».5 Августин вложил огромное значение
1 De civ. XIV 28 (PL 41. 436). Схема uti—frui (см. выше, с. 468), имплицитно здесь содержащаяся, в явном виде обнаруживается в De civ. XIX 14; 17 (PL 41. 642—643; 645—646); ср. ниже, с. 495—496.
2 Sermo 81. 9 (PL 38. 505); ср.: De urb. exc. 6 (PL 40. 721).
3 Ep. 155. 3. 9 (PL 33. 670); cp.: De civ. I 15. 1 (PL 41. 29): «Multitudo constat ex singulis».
4 De civ. XIX 23. 5; ср. II 21. 4 (PL 41. 655; 68—69).
5 Ibid. II 21. 2; XIX 21. 1 (PL 41.67; 648): «Coetus [multitudinis] iuris consensu et utilitatis communione sociatus», цитируется no De Rep. V; и res publica есть то же, что res populi.
АВГУСТИН. ЧЕЛОВЕК В ИСТОРИИ И ОБЩЕСТВЕ
495
в это jus (право) и интерпретировал это слово таким способом, который предполагал, что истинная справедливость принадлежит совершенному обществу небесного града. Из этого следовало, что Рим по определению не является государством, раз его народу не удалось удовлетворить условиям, лежащим в основании Цицеронова определения. Августин цитирует сходный довод самого Цицерона, который также использовал это определение, дабы заявить, что Рим является res publica только по названию и из-за порочности утратил собственную сущность.1 Такая манера риторического использования обертонов слова «справедливость» пригодилась Августину (да и Цицерону тоже) в полемических пассажах. Она выявила, что все существующие общества в большей или меньшей степени — «разбойничьи шайки».1 2 Впрочем, Августин был вполне готов говорить о Римском государстве и подобрал для этой цели более мягкое определение, не требовавшее обладания совершенной справедливостью.
Согласно этому определению, народ есть «собрание разумной толпы, объединенной некоторой общностью вещей, которые она любит».3 Оно позволяет любому обществу быть populus, а его общественной организации — res publica до тех пор, пока существует некоторое согласие относительно общей цели, каковы бы ни были высшие цели и ценности отдельных граждан этого общества. Характер общества, согласно такой формулировке, определяется выбором его граждан. Разнообразие общественных целей, стремление к реализации которых может объединить общество, безусловно, не будет включать в себя высших ценностей его граждан (верности Богу или чему-либо еще), которые характеризуют два эсхатологических общества. Как граждан небесного, так и граждан земного града объединяют цели, лежащие в ограниченной сфере будничных забот. Августин не уточняет, где пролегают ее границы, но лишь в самых общих словах набрасывает область ее охвата. Этими границами оказываются «блага, соответствующие этой жизни, то есть временный мир в самом благосостоянии, целости и общении его рода, и то, что необходимо для охранения и восстановления этого мира»,4 иными словами — сфера экономических нужд и общественного порядка. Эта ограниченная область являет¬
1 Ibid. II 21.3 (PL 41. 68).
2 Ibid. IV 4 (PL 41. 115): «Remota itaque iustitia, quid sint regna nisi magna latrocinia?»
3 Ibid. XIX 24 (PL 41. 655): «Populus est coetus multitudinis rationalis, rerum quas diligit concordi communione sociatus»; cp.: Ep. 138. 2. 10 (PL 33. 529).
4 De civ. XIX 13. 2 (PL 41. 641—642).
496
МАРИЙ ВИКТОРИН И АВГУСТИН
ся сферой государства, и внутри нее цели двух градов совпадают. Граждан двух городов отличает их отношение к мирским благам: «Всякого рода пользование временными вещами важно для приобретения земного мира во граде земном; а в граде небесном важно для приобретения мира вечного».1 Теория двух градов в этом отношении довольно отчетливо представляется областью приложения различения пользы и наслаждения, на котором основывается моральная теория Августина.1 2 Этика паломника, ищущего пути к небесной обители, есть этика peregrina civitas, небесного града во время его странствования по земле; этика земного града вращается вокруг узких, временных, материальных целей; его граждане — те, кто придает высшее значение вещам, вместо того чтобы придать его наслаждению, к которому устремлен град Божий. Августин разворачивает это рассуждение, используя понятие «мир» — понятие универсального масштаба, могущее существовать на разных уровнях. Мир есть конечная цель всякой деятельности, исполненный гармонии спокойный отдых, венчающий все усилия и напряжения не только человеческой, но и животной природы. Августин определяет его как «спокойствие порядка» и описывает его во вселенском аспекте,3 а затем устанавливает соотношение между городами соответственно их отношению к «земному миру». Лишенный веры мирской град не видит ничего за пределами условий земного мира; ими исчерпываются все его заботы, тогда как небесный град, хотя его интересы в этой ограниченной области и совпадают с интересами земного града, устремлен за ее пределы; он не допускает, чтобы эта забота о временном мире отвратила его от истинной цели, вечного мира с Богом. К ней же обращены его хлопоты об учреждениях и о соблюдении ими законов и морали, относящихся к временному миру.4
В этой теории двух городов нет ничего, что указывало бы на какую-либо особую трактовку отношений между Церковью и государством. В любом случае, общие следствия из этой позиции, очевидно, не предполагают какой бы то ни было тесной связи двух институтов. В самом деле, одна из целей Августина, как нам представляется, состояла в том, чтобы решительно поставить под вопрос теологические предпосылки того воззрения на историю,
1 Ibid. XIX 14 (PL 41. 642).
2 См. выше, с. 467—470.
3 De civ. XIX 12—14 (PL 41. 637—643); определение всеобщего мира цитируется по 13. 1 (PL41. 640); ср.: Fuchs Н. Augustin und der antike Friedensgedanke I I Neue philologische Untersuchungen. 1926. Bd. 3.
4 De civ. XIX 17 (PL 41. 645—646).
АВГУСТИН. ЧЕЛОВЕК В ИСТОРИИ И ОБЩЕСТВЕ
497
которое привело к тесному соприкосновению Христианской церкви и Римской империи в IV столетии. В этом также заключалась общая направленность его сочинений, где Августин призывает свою паству «воздавать кесарю» то, что тому полагается: он напоминает им о долге повиноваться законной гражданской власти, задачи которой ограничиваются временными делами, касающимися земной жизни.1 В целом он использует веление Христа (согласно его исходному назначению), наставляя слушателей полностью посвятить себя Богу, образ которого они носят в себе, так же как и отдать кесарю его долю.1 2 Однако и правители подчинены Божьему закону и призваны служить Богу. В самом деле, Августин, в частности в ходе полемики с донатистами, признавал необходимость подчеркнуть обязанность правителей служить Богу своим особым способом — в качестве правителей.3 Убеждения, к которым он пришел, полемизируя с донатистами,4 на деле идут вразрез с задачей его теории разрушить тесную связь империи с Церковью. Вследствие серьезных опасений, а также в ответ на давление со стороны его коллег-епископов, он одобрил использование силы имперского законодательства против еретиков. Подобного рода воззрения можно обнаружить и в совершенно иначе ориентированном «О граде Божьем», в знаменитом «зеркале для князей», а также в изображении императора Феодосия.5 Спор с донатистами в этом отношении, по-видимому, стал поводом для мысли Августина вернуться в прежнее русло; его собственное нежелание принять политику coge intrare* является свидетельством напряжения между этим положением и его мировоззрением в целом.6 Соотношение этих двух тем в мысли Августина, как и движение его мысли в данном направлении, все еще нуждается в изучении; присутствующая между ними напряженность, несмотря на расту¬
1 Prop. Ер. Rom. Exp. 72 (PL 35. 2083—2084); ср.: En. in Ps. 55. 2 (PL 36. 647).
2 Ep. 127. 6 (PL 33. 486); cp.: En. in Ps. 94. 2; 103; Sermo 4. 2 (PL 37. 1218; 1379); In Jo. Ev. Tr. 40. 9 (PL 35. 1691).
3 C. litt. Pet. II 210—212 (PL 43. 330—332); C. Cresc. Ill 51. 56 (PL 43. 527).
4 Подробности см. в: Willis G. G. Saint Augustine and the Donatist Controversy. London, 1950. Наиболее проницательное рассмотрение воззрений Августина относительно религиозного насилия представлено в работе: Brown R R. St Augustine’s attitude to religious coercion // J. Rom. Stud. 1964. LIV. P. 107—116.
5 De civ. V 24 и 26; cp. II 20 (PL 41. 170—171; 172—173; 65—66).
6 Ep. 93 (PL 33. 321—347).
* Заставь войти {лат.). Фраза из Евангелия от Луки (14:23—24): «И сказал господин рабу: пойди вдоль улиц и изгородей и заставляй войти, чтобы наполнился дом мой». — Примеч. перев.
498
МАРИЙ ВИКТОРИН И АВГУСТИН
щую уверенность Августина и отсутствие дальнейших опасений, тем не менее представляется не до конца снятой.
Не только отрицание Августином господствующего взгляда на место, занимаемое Римской империей в Божьем провидении, говорило о секулярном взгляде на государство, но и его размышления о человеческой природе и обществе после грехопадения. Принадлежность обществу, считал Августин, естественна для человека — человек по природе своей существо общественное,1 и жизнь святых в небесном граде, достигших конечной точки своего пути, также общественна.1 2 И все же, хотя человек таков, был таковым от сотворения мира и таковым же останется, достигнув блаженства, рабство и подчинение человека человеку по природе ему не свойственны. Они являются последствием первородного греха и лишь характеризуют жизнь падшего человека на земле.3 Государство, его аппарат подчинения подданных правителю, насилие и весь механизм управления с этой точки зрения суть осуществление божественного провидения, подобающего падшему и грешному состоянию человечества, и цель их состоит в том, чтобы сдержать последствия греха, беспорядка и дисгармонии, в которые погрузил человеческий род грех Адама. Государство не является необходимым средством достижения главных целей человека, как если бы оно было природным установлением; скорее, оно существует, чтобы охранять внешние, социальные условия для удовлетворения его законных потребностей. Сфера государства — область временных нужд путника по дороге к небесной patria; не ему указывать направление этого пути.4
В рамках этого общего изложения было бы неуместным рассматривать воззрения Августина на практические аспекты жизни в обществе — задачи правительства и закона, институты собственности, рабства и свободы и многое другое. До сих пор не написанный полный обзор его соображений по этим вопросам предполагал бы анализ не только фундаментальных теологических оснований его мысли, акценты которой не раз смещались, но и социальной и политической обстановки Римской Африки в начале V века, а также переменчивых настроений и симпатий Августина; он должен был бы включать в поле зрения все эти
1 De civ. XII 21; 27 (PL 41. 372; 376) [= XII 22; 28 в СС].
2 Ibid. XIX 5 (PL 41. 631—632).
3 Ibid. XIX 15 (PL 41. 643—644); cp.: En. in Ps. 124. 7 (PL 36. 1653—1654). Cm. об этом мою статью: Two concepts of political authority: Augustine, De civitate Dei XIX 14—15 and some thirteenth century interpretations // JTS. 1965. XVI. P. 68—100.
4 De civ. XIX 17 (PL 41. 645—646).
АВГУСТИН. ЧЕЛОВЕК В ИСТОРИИ И ОБЩЕСТВЕ
499
разносторонние исследования. Здесь нам будет достаточно обратить внимание на то, что представляется основными моментами, сформировавшими практическую позицию Августина. На протяжении столетий его сочинения выказывали себя в качестве неисчерпаемого источника, в котором находили обоснование самые различные взгляды людей, писавших о политических вопросах, волновавших христианство в Средние века и последующие эпохи. Пропасть, разделяющая Августина и Средневековье, пролегает не столько между его мыслью и тем, как средневековые авторы использовали его сочинения; главным образом она свидетельствует о том простом факте, что Августин был одним из последних великих христианских писателей, кто все еще дышал интеллектуальной атмосферой римского мира. Цивилизация, представлявшаяся Григорию Великому отдаленным воспоминанием, для Августина была живой реальностью. Так или иначе, его интеллектуальная биография повторяет рассказ его «Исповеди»: это история его восхищения ценностями классической культуры и мысли, его попытки соизмерить их с точкой зрения христианского Евангелия и в конце концов освободиться от их заклятия. Прежде всего прочего он указал Средневековью дорогу программой, изложенной в «О христианском учении», и ее практическим осуществлением: посвящать интеллектуальные занятия служению христианской вере.
Раздел VI
И. П. Шелдон-Уильямс
ГРЕЧЕСКАЯ ХРИСТИАНСКАЯ ПЛАТОНИЧЕСКАЯ ТРАДИЦИЯ ОТ КАППАДОКИЙЦЕВ ДО МАКСИМА ИСПОВЕДНИКА И ЭРИУГЕНЫ
Псевдо-Дионисий
Cd
DN
CH
EH
MT
Epist.
Василий Великий Hex.
Adv. Eun.
Ad adol.
Григорий Богослов C. Apollin. —
Orat. —
Orat. theol. —
Григорий Нисский C. Eun. —
Apol. —
De an. et. res. —
De hom. opif. —
In Eccles. —
In cant. cant. —
In Hex. —
Vit. Moys. —
De beat. —
Vit. Macr. —
De inst. Christ. —
De virg.
De orat. dom.
СОКРАЩЕНИЯ
Ареопагитский корпус О божественных именах О небесной иерархии О церковной иерархии О мистическом богословии Письма I—X
Беседы на Шестоднев Опровержение Евномия
К юношам о том, как пользоваться языческими сочинениями
Против Аполлинария Слова
Слова о богословии
Против Евномия
Защитительное слово о Шестодневе
Диалог о душе и воскресении
Об устроении человека
Точное истолкование Екклесиаста
Изъяснение Песни Песней
Шестоднев
О жизни Моисея
Беседы о Блаженствах
Послание о жизни преподобной Макрины
О цели жизни по Богу и об истинном подвижничестве
О девстве
О молитве Господней
504
СОКРАЩЕНИЯ
Максим Исповедник
I Ambig. — Амбигвы к Иоанну
II Ambig. — Амбигвы к Фоме
Myst. — Мистагогия
Quaest. ad Thai. — Вопросоответы к Фалассию
Эриугена
De praed. —
Annot. in Marc. — Comm, in Boet. — De imag. —
Expos. —
Horn. —
Comm, in Ioann. —
О предопределении Примечания к Марциану
Комментарий к «Утешению философией» Боэция Об изображении
Изъяснения «Небесной иерархии» св. Дионисия Гомилия на Пролог Евангелия от Иоанна Комментарий на Евангелие от Иоанна
Глава 28
ВВЕДЕНИЕ: ГРЕЧЕСКИЙ ХРИСТИАНСКИЙ ПЛАТОНИЗМ
Христианский платоник может быть либо платоником, который нуждается в подкреплении своих размышлений трансцен- дирующей их верой, либо христианином, который размышляет о своей вере и желает прояснить ее, используя понятия, доступные платоникам. Августин был выдающимся примером первого типа,1 к которому из греков мы могли бы, пожалуй, отнести псевдо-Дионисия и Иоанна Филопона, если бы больше знали об источниках их мысли. Однако мыслители, составившие традицию греческого христианского платонизма и удерживавшие ее в рамках ортодоксии, в основном относились ко второму типу: александрийцы, каппадокийцы, возможно — псевдо-Дионисий и совершенно точно Максим Исповедник. Следуя именно по их стопам, а в особенности по стопам св. Григория Нисского, псевдо-Дионисия и Максима, Иоанн Скот Эриугена познакомил Запад с этой формой христианской философии.
Для христианина были возможны три рода отношения к языческой учености: бескомпромиссное принятие, приводившее к еретическому гностицизму; бескомпромиссное отвержение,1 2 продемонстрированное ранними апологетами и аскетами, поддержанное антиохийской школой, а также сохранившееся в иконоборческом движении и некоторых формах современного протестантизма; и, наконец, контролируемое принятие, отношение александрийцев и авторов, рассматриваемых в данном разделе, приведшее к возник¬
1 По поводу воззрений Августина на взаимоотношения платоновской философии и христианства, гораздо более сложных, чем может показаться из сказанного, см. раздел V, гл. 21, с. 418—422.
2 См.: Greg. Naz. Orat. XLIII 9 и 11 (PG 36. 503—505, 507—509) и ниже, с. 522.
506
ГРЕЧЕСКАЯ ХРИСТИАНСКАЯ ПЛАТОНИЧЕСКАЯ ТРАДИЦИЯ
новению христианской философии, или христианизма.1 Этот род отношения признает — причем александрийцы считают этот факт само собой разумеющимся, а каппадокийцы,1 2 ссылаясь преимущественно на платонизм,3 открыто его отстаивают, — что распространенные философские системы содержат элементы истины, и отсеивает то, что явно противоречит христианскому откровению.
Так, были решительно отброшены вечность космоса, божественность индивидуальной человеческой души,4 а также положение о том, что душа является субстанцией, отличной от тела, которого она может и должна избегать как чего-то дурного.
Греки, которым была чужда сама идея творения, без колебаний принимали вечность космоса.5 Для них пропасть пролегала не между Богом и сотворенными им сущностями, а между умопостигаемым и чувственным мирами. Таким образом, Бог и душа, будучи умопостигаемыми, а не чувственными, суть виды одного рода.6 А то, что душа запуталась в чувственном мире, к которому относится тело, означает, что она отпала от положенного ей места и должна совершить попытку освободиться и вернуться на подобающее место, то есть ей следует покинуть тело. Для христианизма это неприемлемо,7 поскольку лишает смысла учение об
1 Под христианизмом подразумевается философская система, построенная на основании христианского вероучения. И если христианская теология интерпретирует это учение, то христианизм использует его как основание для рационального объяснения мироздания. Тем самым понятие христианизма сходно с понятием платонизма в широком смысле слова, то есть философии, построенной на основоположениях, впервые высказанных Платоном. Христианский платонизм, которому посвящен данный раздел, является философией, базирующейся на этих двух наборах основоположений, где они совместимы. Самыми ранними примерами христианизма, а в действительности — христианского платонизма, являются св. Иоанн Богослов и св. Павел. Христианская философия (хотя и не обязательно синонимичная христианизму, согласно данному здесь определению) упоминается уже во втором столетии; см.: Melito ар. Eus. НЕ IV 26. 7: ή καθ’ ήμάς φιλοσοφία. Более поздние примеры см. в Orat. XXVII 6 (PG 36. 19а) (10. 13 Mason) и ниже, с. 529—530.
2 Basil. Ad adol. (PG 31. 564) / ed. F. Boulenger. Paris, 1935; Orat. IV 100; XI 1; XLIII 11; Greg. Nyss. Vit. Moys. (PG 44. 360b). См. ниже, c. 513.
3 Orat. XXXI 5 (150. 3—4 Mason; PG 36. 137b) ниже, c. 522.
4 См. ниже, c. 537.
5 См. ниже, c. 517; 529—530; 565—568.
6 См. ниже, c. 539; 564. О делении души у Плотина см. раздел III («Плотин»), гл. 14, с. 288—293. Взгляды Порфирия и Ямвлиха см. в разделе IV («Поздние неоплатоники»), гл. 18 Б, с. 358—362.
7 Ср. Плотина (III 6 [26] 6, 71—72) со св. Павлом (2 Кор. 5:4). Далее см. ниже, с. 529; 542; 577, прим. 4.
ВВЕДЕНИЕ: ГРЕЧЕСКИЙ ХРИСТИАНСКИЙ ПЛАТОНИЗМ
507
искуплении. Если душа сама есть плененный Бог, она не нуждается в нем для своего спасения. Аристотель был ближе к истине,1 за исключением того что нерасторжимая связь души и тела для христианина означала не то, что душа погибает вместе с телом, а то, что тело воскресает вместе с душой.1 2
Такое восстановление тела предполагало нераздельность чувственного и умопостигаемого миров в лице трансцендентного Творца, что, в свою очередь, повлияло на деление всей совокупности человеческого знания на praxis и theoria.3 Пока считалось, что два мира исчерпывают полноту бытия, теология могла рассматриваться в качестве вершины теоретических наук, этика же — практических; когда обнаружилось, что бытие само нуждается в основании, теологию было уже невозможно включить в ряд теоретических дисциплин, и она должна была стать более возвышенной деятельностью или способом существования восходящей души, дорогой к совершенству, превосходящему как чувство, так и разум. В этом восхождении различали три стадии: обретение практических добродетелей, очистительных в силу того, что они устраняют грех и заблуждение;4 обретение теоретических добродетелей, которые суть мудрость, дарованная озарением свыше; и, наконец, совершенствование души, завершение всей философии, когда душа становится единой с Богом, так как на этой стадии сближение познающего и познанного, являющееся мерой знания, завершается их тождеством.5 Восхождение олицетворяется восшествием Моисея на гору Синай,6 три стадии — тремя небесами, на третье из которых был вознесен св. Павел.7
Поскольку душа не божественна, а сотворена, ее совершенствование, так же как и ее создание, лежит за пределами ее собственных возможностей. Восхождением движут две силы: природная способность человека и сверхъестественная благодать Бога, где первая убывает по мере возрастания второй. Природа вольна в практических добродетелях, умеренна в теоретических и почти отсутствует в теологических, поскольку, достигнув пределов своих
1 См. ниже, с. 535; 559—560.
2 См. ниже, с. 519; 572.
3 См. ниже, с. 526; 542.
4 См. ниже, с. 526; 535.
5 См. ниже, с. 526; 545; 549. О состоянии единства с божественным как о том, что превосходит интеллектуальную добродетель, в неоплатонизме Ямвлиха см. раздел IV («Поздние неоплатоники»), гл. 18 В, с. 366—367.
6 См. ниже, с. 524.
7 См. ниже, с. 538.
508
ГРЕЧЕСКАЯ ХРИСТИАНСКАЯ ПЛАТОНИЧЕСКАЯ ТРАДИЦИЯ
возможностей, душа вынуждена либо вновь прибегнуть к «вероятной гипотезе», или мифу, либо стать пассивной восприемницей истины, добраться до которой она не в силах, но которая нисходит к ней и тащит за собой весь остаток пути. На пределе ума Платон блуждает во мраке, тогда как для христианина тьма озаряется Истиной.1 «Божественная мудрость отлична от мирской, как истинное от правдоподобного».1 2
И все же обретение истины не целиком пассивно. Моисей, убежденный в непостижимости Бога для человеческого ума, тем не менее упорствовал в своей попытке проникнуть во тьму, из которой он расслышал Глас Божий.3 Свет встречает на своем пути препятствия двоякого рода: извращенность отрицающей его человеческой воли и непроницаемость материи. Поскольку воля человека свободна, он способен преодолеть ее порочность и тем самым очистить свое зрение для theoria, заострив его так, чтобы оно могло проникать сквозь естественные и материальные препятствия, видя свет в них и за ними.4 Озаренный этим светом, он возносится божественными лучами к источнику света, совершенству обожения.
Таким образом, дело (очищение) предшествует созерцанию, завершением которого является обожение. Из трех стадий восхождения христианская философия, хотя и сопровождается результатами первой и перспективами последней, строго говоря, не включает в себя ни ту ни другую, а состоит из рассудочных выводов из истин, полученных в озарении, к которому душа делается восприимчивой после очищения и благодаря которому она (в той мере, в какой это доступно творению) становится Богом.
Озарение нисходит на нее двумя путями: через Священное Писание (и устную традицию (τά άγραφα), которая естественным образом почти сошла на нет,5 но была восстановлена Оригеном,6 Григорием Богословом7 и, по его же словам, псевдо-Дионисием8),
1 Aeneas. Theophrastus (PG 85. 996b); цитируется ниже, с. 572.
2 Athenagoras. Apol. Corpus apologeticarum, VII 130.
3 Clem. Strom. II 2 (PG 8. 933c—d).
4 См. ниже, c. 524; Herbert G. The Elixir, 9—12 // Works. Oxford, 1953. P. 184:
A man that looks on glasse, Смотрящий в зеркало вполне
On it may stay his eye; На нем удержит взгляд;
Or if he pleaseth through it passe, Иль, если дальше поглядит,
And so the heav’n espie. Небесный лик узрит.
5 См. ниже, с. 521.
6 Ниже, с. 513.
7 Ниже, с. 521.
8 Ниже, с. 541; 605.
ВВЕДЕНИЕ: ГРЕЧЕСКИЙ ХРИСТИАНСКИЙ ПЛАТОНИЗМ
509
а также путем наблюдения за природными явлениями. Писание, будучи вдохновлено Богом, содержит истину, постичь которую философы стремятся собственными силами, хотя она открывается не всем, а кому-то не откроется никогда. Писание есть божественный Гнозис, мудрость Бога, явленная человеку, и, если бы люди имели способность понимать, что им открывается, они узрели бы в нем всю полноту сияния Света. Книги Писания суть христианские оракулы (logia),1 наставления, данные Богом человеку взамен либо в преддверии его размышлений о Боге.1 2
Гнозис заключен в Ветхом и Новом Заветах. Первый из них есть данное самим Господом и переданное Святым Духом через theologoi («глашатаев Господа»)3 изложение человеческой истории в перспективе Воплощения, им предсказанного; второй содержит свидетельства тех, кто вступил в прямой контакт с воплощенным Словом, которое есть также и воплощенная Истина,4 — отчего он и зовется theologia. Изначально это понятие имело более общий смысл, обнимавший собой как языческий, так и христианский гнозис,5 а затем получило сугубо христианское значение6 благодаря тому, что ев. Афанасий и ев. Василий отождествили его со Священным Писанием,7 освободив тем самым от неопла¬
1 Orig. Princ. IV 2. 4; V 312. 2 fif.; Eus. PE IV 21. Об использовании этого понятия язычниками см.: Stiglmayr J. Romische Quartalschrift fur christliche Altertumskunde und Kirchengeschichte. 1898. XII. S. 373.
2 Pera C. Denys le Mystique et la θεομαχία // Revue des sciences philosophiques et th6ologiques. 1936. XXV. P. 12. См. ниже, c. 522.
3 Cp.: Athanasius. De Incemat. LVI (PG 25. 195a); Eus. PE VII 7, 11, 15. Также см. ниже, c. 521.
4 Cm.: Max. Conf. I Ambig. XXXVII (PG 91. 1304d2—3).
5 Pera С. I teologi e la teologia nello sviluppo del pensiero Cristiano dal III al IV secolo//Angelicum. 1942. XIX. P. 52.
6 SuicerJ. G. Thesaurus ecclesiasticus. Amsterdam, 1728. S. v. Theologia; Gro- nau K. Poseidonios und die judisch-christliche Genesisexegese. Berlin, 1914. Об использовании этого понятия язычниками см.: Jaeger W. Nemesios von Emesa, Quellenforschungen zum Neuplatonismus und seinen Anfangen bei Poseidonios. Berlin, 1914; Theology of the Early Greek Philosophers [Eng. tr.]. Oxford, 1936. P. 4 f., 194, n. 7 (Платон, Аристотель); Koch H. Quellenuntersuchungen zu Nemesios von Emesa. Berlin, 1921; Cougar Y M J. Theologie // Diet, theol. Cat. 1946. XV, 1. P. 341—502, особенно p. 341—353; Festugiere A. J. La Revelation d’Hermes Trismegiste. II. Paris, 1949. P. 598—605 (от Платона до Филона); Goldschmidt V. Theologia // Revue des etudes grecques. 1950. LXIII. P. 20—42.
7 Pera C. Denys le Mystique. P. 12—13; I teologi. P. 74; Roques R. Note sur la notion de «Theologia» selon le ps.-Denys // Revue d’ascetique et de mystique. 1949. XXV. P. 207—210; Volker W. Kontemplation und Ekstase bei ps.-Dionysius Areopagita. Wiesbaden, 1958. S. 88; ниже, c. 515.
510
ГРЕЧЕСКАЯ ХРИСТИАНСКАЯ ПЛАТОНИЧЕСКАЯ ТРАДИЦИЯ
тонических ассоциаций, казавшихся неизбежными.1 Таким образом, христианский гнозис есть традиция, переданная через ее восприемников Господом всей Церкви в целом и содержащая первопринципы, исходя из которых философствует христианский мыслитель.1 2
Первая строка Писания гласит, что Бог создал небо и землю, и немыслимо, чтобы он затеял обман. Предметы, открытые природным чувству, рассудку и разуму человека, также представляют собой авторитетный источник озарения, доступный в равной мере язычнику и христианину. Как для язычника, так и для христианина космос выстроен в соответствии с формами, находящимися в Уме Бога. Поэтому должное понимание творения ведет к познанию Ума Творца, а следовательно, и его самого. Слово Писания и многообразие природы обнаруживают одну и ту же истину, поскольку объединяющий их принцип один и тот же. Писание выражает Слово Божие, которое, как и неоплатонический Ум (Νους), есть плерома всех форм (νοητά). Св. Максим учил, что святые обретают совершенное знание сотворенных сущих потому, что, достигая созерцания природы Бога, они созерцают в нем формы всех вещей,3 и что тождество библейской истины и истины научной было откровением, которое апостолы получили на вершине Преображения:
Посредством белых покровов они получили откровение о том, что они знали из знаменитых трудов о творении и из Писания как единственной истины, и тем самым в своем созерцании (έπιγνώσει) Бога они узрели, что явленное Святым Духом в Писаниях и то, чему научили их науки и мудрость о сотворенной вселенной, суть одно и что в этом едином вйдении они взирали на самого Христа.4
Слово в своем единстве вечно пребывает в Отце, тогда как его выражением является акт творения. Формы в их множестве не инертны и не трансцендентны, а динамичны и имманентны. В обособленном виде они доступны лишь уму, в сочетании же они производят чувственно воспринимаемые сущности,5 в силу чего
1 См.: Koch Н. Pseudo-Dionysius Areopagita in seinen Beziehungen zum Neuplatonismus und Mysterienwesen 11 Forschungen zur christlichen Literatur und Dogmengeschichte. 1900.1, 2—3. S. 34, 41 f.
2 См. ниже, c. 521; 528.
3 Lossky V. Th6ologie mystique de l’Eglise d’Orient. Paris, 1944. P. 73.
4 Max. Conf. I Ambig. VI 31 (PG 91. 1160c 12—d6).
5 См. ниже, c. 587.
ВВЕДЕНИЕ: ГРЕЧЕСКИЙ ХРИСТИАНСКИЙ ПЛАТОНИЗМ
511
св. Василий называет их «умопостигаемыми импульсами к возникновению тел», а св. Григорий Нисский — «умопостигаемыми энергиями», составляющими «лучезарную силу», которую Бог вносит в небытие и тем выводит его к бытию.1 В качестве энергий они обладают производительной способностью (ούσιοποιοί),1 2 в качестве света — указывают творению путь обратно к Творцу; ибо они суть лучи (φώτα, άκτΐνες, αύγαί) Солнца, которое есть Бог,3 постижимый аспект божественного, будь то умопостигаемый или видимый, посредством которого он сообщает о себе умам и чувствам своих творений и с помощью этого знания обращает их к себе, ведь «познание есть род обращения».4
Таким образом, христиане разделяли с платониками понимание вселенской природы как покоя-в-движении или движения-в- покое, состоящего из трех аспектов: вечно сущее первоначало, исхождение из него через формы к их отпечаткам и возвращение отпечатков через формы обратно к первоначалу. Названия для этих аспектов как у платоников, так и у христиан были шопе, proodos, epistrophe,5 однако они также назывались ousia, dynamis и energeia, поскольку всякое умопостигаемое и творческое начало остается верным тому, чем является, и для реализации своей воли излучает энергию, которая достигает результата, когда намерение, пославшее ее, удовлетворено.6
Второй триаде, которая в явном виде не встречается в неоплатонизме, после псевдо-Дионисия христиане обыкновенно отдавали предпочтение, так как она лучше отражала учение о творении (Бог, осуществляющий свою волю), чем учение об эманации (самопроизвольный процесс). Поскольку Божественная Власть никогда не бесплодна, dynamis и energeia (или proodos и epistrophe) пребывают в Боге, то есть в своей исходной реальности, нераздельно и порой взаимозаменяемы. Он творит посредством сообщения и сообщает через творение. То, что он сообщает (в понятиях, доступных чувству или разуму), есть его собственная природа, поскольку формы тождественны атрибутам Бога, имена которых приведены в Писании и которые поэтому понимаются не как абстракции или
1 Greg. Nyss. De hom. opif. XXIV (PG 44. 213b). См. ниже, c. 531.
2 Ps.-Dionys. DN V 8 (PG 3. 824cl0—15). См. ниже, c. 546.
3 См. ниже, c. 524.
4 Dodds E. R. Proclus. The Elements of Theology. Oxford, 1963. P. 219. Cm. ниже, c. 535—536.
5 Ниже, c. 524; 544. О неоплатонических триадах см. раздел IV, гл. 19 Б, с. 381—387.
6 Ниже, с. 544, прим. 1.
512
ГРЕЧЕСКАЯ ХРИСТИАНСКАЯ ПЛАТОНИЧЕСКАЯ ТРАДИЦИЯ
метафоры,1 а как динамические и конкретные сущности.1 2 Если в таком случае сообщать означает творить, Бог творит в формах самого себя. В этом состояло решение основной проблемы, с которой столкнулись философы, рассматриваемые в настоящем разделе, а именно: каким образом сотворенный универсум может познавать, любить и в конце концов быть вновь поглощенным Творцом, трансцендентным ему. Последний из них выразил это наиболее бескомпромиссно: Господь, творя все вещи, творит в них самого себя.3
1 Ниже, с. 516; 545—546.
2 Lossky V. Op. cit. Р. 77—78; 219.
3 Ниже, с. 624.
Глава 29
КАППАДОКИЙЦЫ А. Св. Василий Великий
Каппадокийцы унаследовали александрийский гнозис от Оригена, хотя каждый из них исходил главным образом из позиции их учителя, св. Василия (ок. 330—379). Он питал больший интерес к моральному и пастырскому, нежели к философскому приложению веры, не доверял аллегории1 и придерживался буквального толкования Писания, по отношению к которому языческая ученость должна была по мере надобности служить рациональным подтверждением, а не объединяться с ним в одно целое. Поэтому, как и христианские аристотелики,* 2 он нашел лучшее применение физике язычников, чем их метафизике, и в своих «Беседах на Шестоднев»,3 предназначавшихся для научной защиты Моисеевой истории творения, в основном обращался к современным ему космологии, метеорологии, ботанике, астрономии и естественной истории.4
В результате христианское учение о творении приобрело определенные языческие черты, наиболее видными из которых были неявное тождество платоновского демиурга и Яхве,5 аристотелевское разделение универсума на подлунную и надлунную сферы и понятие вселенской гармонии (συμπάθεια):6 «И целый мир, состоящий из разнородных частей, связал Он каким-то неразрыв¬
• См.: Hex. IX 1 (PG 29. 188b—с).
2 Ниже, с. 564—565.
3 PG 29. 4а—208с (ed. S. Giet // Sources chret. Vol. 26. Paris, 1950). Ссылки на это издание в PG приводятся по номерам столбцов.
4 GietS. Op. cit. 56—69. Ср.: Greg. Naz. Oral. XLIII (PG 36. 528a).
5 Ниже, c. 520.
6 Cm.: Philo ap. Brehier Ё. Les Idees philosophiques et religieuses de Philon d’Alexandrie. Paris, 1925. P. 158—161.
514
ГРЕЧЕСКАЯ ХРИСТИАНСКАЯ ПЛАТОНИЧЕСКАЯ ТРАДИЦИЯ
ным союзом любви в единое общение и в одну гармонию, так что части, по положению своему весьма удаленные одна от другой, кажутся соединенными посредством симпатии».1
Природа есть произведение Бога, сотворившего ее во времени, или, скорее, сотворившего время в ходе ее создания.1 2 Материя является частью творения, поскольку, если бы она не была сотворена, Бог зависел бы от нее в реализации своего плана,3 а если бы материя была независимой от Бога, не было бы той взаимности между действующим и претерпевающим, которая очевидна повсюду.4
Хотя в Писании не говорится о четырех стихиях, в нем упоминается земля и предполагается огонь (поскольку, если Моисей ограничивает свое изложение сотворенным универсумом,5 он, должно быть, понимает под небесами высшую сферу физического мира, субстанция которой — огонь6), речь же о высшей и низшей стихиях указывает и на две промежуточные.7 Огонь (или свет) есть субстанция неба, поскольку, хотя стихии и были изначально смешаны, они стремятся занять подобающий им уровень: огонь сверху и покуда простирается небесный свод,8 ниже воздух, под ним вода и земля в основании.
Каждая из стихий обладает собственным свойством: огонь горяч, воздух влажен, вода холодна, земля суха.9 Однако ни одна из них не находится на своем месте и не сохраняет свое свойство несмешанным: огонь можно найти ниже небесного свода, а над ним есть вода (Быт. 1:6); земля, как известно из опыта, так же холодна, как и суха, и может смешиваться с водой; вода так же влажна, как и холодна, и может сочетаться с воздухом; воздух так же горяч, как и влажен, и может сочетаться с огнем; и, наконец, огонь так же сух, как и горяч, и потому может смешиваться с землей. Это
1 Hex. II 2, 33а; ср. с Проклом, учившим, что иерархии связаны любовью (έρως) или дружбой (φιλία), ένοποιός (In Tim. 155—156, II 53. 24—54. 25 Diels). Также см. ниже, с. 518.
2 См. ниже, с. 518; 530; 575; 590—591.
3 Hex. II 3, 32а—b; ср.: Orig. Princ. II 1. 4 (PG 11. 185с—d, ПО. 1—111. 1 Koetschau).
4 Hex. II 3, 33b—с. См. ниже, c. 590.
5 См. ниже, c. 522.
6 См. ниже, c. 530.
7 Hex. I 7, 20b—с. О том, что воздух и вода являются промежуточными стихиями, см. Tim. 32b.
8 См.: ниже, с. 530.
9 Ср.: Arist. De gen. et corn II 3, 33 la4.
КАППАДОКИЙЦЫ
515
круговое движение стихий1 образует многообразие сочетаний, из которых и сотворены все чувственно воспринимаемые сущности.1 2
Таковы учения Аристотеля и стоиков, за исключением «вод над небосводом», принадлежащих истине откровения. Александрийцы интерпретировали их аллегорически как умопостигаемый мир, отделенный от чувственно воспринимаемого небесным сводом, или Первыми Небесами,3 — ев. Василий же в характерной для него манере настаивает на буквальном понимании, аргументируя это тем, что Моисей и сам интересовался только физическим универсумом. Над небесным сводом есть вода, чтобы умерять огненную субстанцию и предотвращать мировой пожар стоиков (έκπύρωσις).4
«Беседы на Шестоднев» наглядно демонстрируют, что истина, открытая человеческим разумом, не отличается в доступных ему пределах от истины, явленной в Писании. Однако Писание также сообщает истины, недоступные разуму — как относительно совершенно непостижимой природы Бога, так и в том, что касается фундаментальных принципов умопостигаемого и чувственного миров. Непостижимость божественной природы5 была предметом разногласий между каппадокийцами и поборником арианства Евномием, поскольку Евномий6 вслед за Аэцием7 утверждал, что человеческий разум по ценности и мощи равен откровению и что, так как божественная природа познается через откровение, она также доступна и разуму. Далее он убеждал, что если то, что мы знаем о Боге, есть его сущность и если мы знаем, что он есть Отец, Сын и Святой Дух, то каждый из этих троих есть его сущность; хотя, с другой стороны, мы делаем вывод, что Бог есть не что иное, как Троица, и что поэтому все имена, которыми он называется в Писании, помимо этих трех, суть не более чем метафора. Например, Рожденное Слово не может быть Богом буквально, поскольку Бог нерожден. Такой ход рассуждения поставил перед Василием и другими каппадокийцами задачу исследования
1 Ср.: Arist. De gen. et corn II 4, 331 b2.
2 Hex. IV 5, 89b—92a. См. ниже, c. 518; 531; 612. Учение о том, что стихии взаимопревращаются, является стоическим вариантом учения Гераклита о вечном движении.
3 См. ниже, с. 530.
4 См. ниже, с. 566—567.
5 См. ниже, с. 545.
6 См.: Еип. ар. Socrates. Hist. eccl. IV 7. 13—14,482. 10—14 Hussey; Theodoret. Haeres. fat. comp. IV 3; In Dan. VIII.
7 Cm.: Aet. ap. Theodoret. Hist. eccl. II 24 (PG 82. 1072c2—5).
516
ГРЕЧЕСКАЯ ХРИСТИАНСКАЯ ПЛАТОНИЧЕСКАЯ ТРАДИЦИЯ
вопроса о божественных именах.1 Ответ Василия состоял в том, что к Богу приложим любой эпитет, но что все они распадаются на два класса: те, что указывают на то, чем он не является (των μή προσόντων), например «нерожденный», и те, что утверждают, каков именно он есть (των προσόντων έν θεω), как «праведный», «судья», «творец».1 2 Первые могут привести разум к частичному познанию Бога путем последовательного отбрасывания всякого понятия, которое ум формулирует о нем в твердой уверенности, что ни одно из них не адекватно, и которое неоплатоники называли aphairesis.3 Как бы то ни было, aphairesis как таковой приводит к полному отрицанию,4 и о Боге действительно ничего не было бы известно, если бы Священное Писание не открыло, что он есть и обладает атрибутами, которыми оно наделяет его. Потому библейские имена, или атрибуты, суть истечения (πρόοδοι) природы Бога в человеческое разумение,5 а значит, подлинные имена его energeiai.
Умопостигаемый мир доступен разуму только через свою функцию обосновывать чувственное. Путем откровения он известен как ангельский мир,6 сущий вне времени (ύπέρχρονος, αιωνία, άίδιος),7 не имеющий абсолютной вечности Бога, но наделенный вечностью, сообразной его бытию творением, поскольку aion есть предел, не позволяющий даже интеллектуальной деятельности человека быть бесконечной.8 Ангелы подлинно сущи и населяют подлинно сущий мир, но такой, который не имеет общей материи с чувственным миром. Материя этого мира — умопостигаемая.9 Василий Великий отождествляет ее со светом,10 11 который освещает материальный мир и потому является общей основой всего универсума, как умопостигаемого, так и чувственного, что приводит к буквальному толкованию Псал. 103:4,11 к которому св. Григорий
1 τό των ονομάτων μυστήριον: Greg. Ναζ. Orat. XXX 16 ad fin. (134. 17—18 Mason). См. ниже, c. 523.
2 Basil. Adv. Eun. I 10.
3 Ep. CCXXXV 2 (PG 32. 869cl—2); Adv. Eun. I 14 (PG 29. 544al0—Ы5); cp.: Enn. V 5 [32] 13, 11—13. См. ниже, c. 522; 554—556.
4 Enn. V [32] 6, 11—13. См. ниже, c. 554.
5 Этому сюжету посвящен трактат псевдо-Дионисия «О божественных именах», о котором см. ниже, с. 545—547; ср. выше, с. 511—512.
6 πάσα των νοητών διακόσμησις (Hex. I 5, 13a); cp. ниже, c. 537; 549.
7 Hex. Loc. cit.
8 Cm.: Adv. Eun. I (PG 44. 365c (I 135 Jaeger)); Lossky V Op. cit. P. 97.
9 Cm.: Basil. Horn, in ps. XLVIII 8 (PG 29. 449b (I 148e ed. Maur.)).
Hex. II 5, 40c—41a. См. ниже, c. 519; 598.
11 Евр. 1:7.
КАППАДОКИЙЦЫ
517
Богослов подходит с оговоркой,1 а св. Григорий Нисский отвергает.1 2
Отсюда следует, что свет есть более всеобщая природа, чем время,3 поскольку время имеется только в чувственном мире. Так как свет не ограничен временем, он распространяется повсеместно в момент своего творения,4 так же как он наполняет целиком всю комнату, если в ней горит лампа. Небесный свод служит границей между умопостигаемым и чувственным мирами, и его прочность, заключенная в самом имени, такова, что свет может проникать сквозь него (хотя и в разреженном виде), тогда как время не может прорваться в высший мир.5
Ограниченное небесным сводом время является первоосновой чувственного мира, более доступного для рассудочного толкования, чем мир умопостигаемый, и все же последний не недоступен вообще; в противном случае частичная проницаемость небесного свода не имела бы смысла. Путем откровения нам известно, что он не извечен, хотя разум внушает обратное.6 Он был сотворен вместе со временем либо как логическое следствие времени (άπό χρόνου), которое само является необходимым следствием сотворения небесного свода, вращающегося в пространстве, поскольку время, движение и пространственная протяженность7 взаимно соотносятся. Не только не существует движения без времени, но и время только тогда есть время, когда оно измеряется движением. Таким образом, поскольку не существует движения, которое не было бы переходом из одного места или состояния в другое, то невозможен первый момент времени, и Моисей осмотрительно называет «первый день» творения «одним днем»:
1 Greg. Naz. Orat. XXVIII 31 (70. 3—7 Mason) (PG 36. 72a). См. ниже, c. 525.
2 Согласно Григорию Нисскому, огонь занимает промежуточное положение между умопостигаемой и чувственной природами; см.: С. Eun. II (XII В/ХШ) (PG45. 1004а, I 306 Jaeger); In Hex. PG44. 80d—81a; 81c—d; 116b; 121a; потому ангельские интеллектуальные сущности выше огня. См. ниже, с. 530.
3 Прокл отождествлял свет с пространством, которое считал неподвижным и неделимым нематериальным телом (Simpl. In Phys. / ed. H. Diels. Berlin, 1882. S. 611—612).
4 Hex. II 7, 45a.
5 См. ниже, c. 519.
6 См. выше, c. 506.
7 Adv. Eun. I 21 (PG 29. 560b, I 233a—b Maur.). Отождествление времени и протяженности характерно для стоиков; см.: Simpl. In Cat. 350 Kalbfleisch; Pint. Plat. qu. 1007; Philo. Leg. alleg. II 2.
518
ГРЕЧЕСКАЯ ХРИСТИАНСКАЯ ПЛАТОНИЧЕСКАЯ ТРАДИЦИЯ
Бог, устроив природу времени, мерою и знамениями оного положил продолжения дней и, измеряя время седмицею, повелевает, чтобы седмица, исчисляющая движение времени, всегда круговра- щалась сама на себя, а также и седмицу наполнял один день, семикратно сам на себя возвращающийся. А образ круга таков, что сам он с себя начинается и сам в себе оканчивается. Конечно же, и век имеет то отличительное свойство, что сам на себя возвращается и нигде не оканчивается. Потому Моисей главу времени назвал не первым, но единым днем, чтобы день сей по самому наименованию имел сродство с веком.1
Впрочем, это не означает, что время и вечность тождественны или что физический универсум вечен. Последнее предложение в только что процитированном отрывке (который почти в тех же выражениях воспроизводится Иоанном Лидом) происходит из пифагорейского источника. Впрочем, если пифагорейцы считали, что время вечно по своей природе, то ев. Василий приписывает ему лишь родство (συγγενές) с вечностью. Он соглашается с Платоном в том, что время есть образ вечности,1 2 но только в той мере, в какой сотворенное сущее может быть подобием несотворенного. Вечность не имеет начала, время же не имеет начала в себе. Начало (άρχή) есть «даже и не самомалейшая часть времени»,3 но совершенно внеположно временному процессу, и потому никакая часть акта творения не происходит во времени. Бог творит «в начале» (έν άρχη), а потому не во времени (έν χρόνφ).4 Небесная твердь была сотворена «прежде» земли не в хронологическом смысле, но как сосуд предшествует содержимому, а свет — тени, отбрасываемой освещаемым им телом.5 Создание вневременной среды было необходимым условием временного содержания, а следовательно — также движения и протяженности. Смысл протяженности состоит в том, что energeiai, которые суть одно в Уме (Nous), или Логосе,6 теперь становятся многим, движение же предназначено для того, чтобы устанавливать между ними связь для создания чувственных тел,7 а также вновь разъединять их, дабы вызвать распад этих тел. Св. Василий созвучен с Аристотелем в том, что
1 Hex. II 8, 49b—с.
2 Tim. 37d; ср.: Enn. Ill 7 [45] 13, 23—25.
3 Hex. 16, 16c.
4 Ibid. 1X2, 189b.
5 Ibid. II 5, 41a—b.
6 См. выше, c. 510.
7 См. выше, c. 514—515.
КАППАДОКИЙЦЫ
519
возникающее во времени должно также и гибнуть во времени,1 поскольку время, как мы уже знаем,1 2 не способно проникать сквозь небесную твердь.
И все же Аристотель был не прав, применяя этот принцип к душе, поскольку, хотя душа и вовлечена в пространственно- временной мир, она не от него, и потому ей предназначено выйти за его пределы.3 По своей природе она принадлежит умопостигаемому миру и, подобно ангелам, есть создание света, для которого небесная твердь не является препятствием.4 По той же самой причине способ познания воплощенной души, являющийся дискурсивным, не исключается из знания, которое есть объект Ума (Nous). Так как время есть дитя вечности и сходно с ней, состав временного мира является протяженной копией непротяженного прообраза, так же как он, в свою очередь, выражает собой мысли божественного Ума. Целый мир тем самым связан воедино цепью подобия и обнаруживает гармоничное соотношение.5
Так же как время сосуществует с чувственным миром, являясь чем-то вроде его вторичной субстанции, симпатия, будучи способом, каким energeiai выражают божественное единство, есть первичная субстанция всего творения, как умопостигаемого, так и чувственного. Там, куда она не достигает, нет и творения. Там царит зло, которое есть не сущее, но отсутствие блага.6 Это царство зла можно, пожалуй, сравнить с тьмой, покрывавшей поверхность земли «до» ее творения.7
Центральной темой св. Василия Великого, как и любого другого христианского философа, является Бог, его взаимодействие
1 Hex. I 3, 9с. Ср.: Arist. De caelo I 12, 288b4; Greg. Nyss. De hom. opif. XXIII (PG 44. 209b); Baudry J. Le Probleme de l’origine et de l’etemit0 du monde dans la philosophic grecque de Platon a l’ere chretienne. Paris, 1931. P. Ill; ниже, c. 585.
2 См. выше, c. 517.
3 Hex. 15, 12c.
4 См. выше, c. 517; cp.: Balthasar U. Presence et pensee. Paris, 1942. P. 8—9.
5 Hex. II 2, 33a. См. выше, c. 513—514. Идея исходит от Платона (Tim. 32а) и играет важную роль в философии Посидония; см.: Cleom. De motu circ. 11,4, 8 Ziegler; Sext. Emp. Adv. math. IX 78—80; Reinhardt K. Kosmos und Sympathie. Miinchen, 1928. S. 52 f. Впрочем, Л. Эделыитейн считает, что значение этой идеи для Посидония преувеличено (Edelstein L. The physical system of Posidonius // American Journal of Philology. 1936. LVII. P. 324).
6 Hex. II 4, 37c—d. Определение зла, ведущее начало от Плотина (I 8 [51] 11, 8—9; III 2 [47] 5, 25—26), было общим для всех каппадокийцев и получило развитие в неоплатонической традиции, на которую опирались Прокл и псевдо- Дионисий.
7 Hex. II 5,41b.
520
ГРЕЧЕСКАЯ ХРИСТИАНСКАЯ ПЛАТОНИЧЕСКАЯ ТРАДИЦИЯ
с миром и особенно с человеком. Бог творит мир и помещает в него собственный образ — человека.1 Однако таково вечное, а не нынешнее его состояние. Сотворенный в умопостигаемом порядке, человек принадлежит чувственному; будучи замыслен для вечности, он пойман временем и стоит перед опасностью пасть еще ниже, достигнуть полного разложения, сопутствующего временности, то есть абсолютного зла. Задача философа состоит в том, чтобы поменять направление, обратить спуск в подъем, вначале через очищение от плотских страстей, ведущее к Первым Небесам, небесной тверди, затем через обретение мудрости, к которой теперь, более не замутненная этими влечениями, душа получает доступ и благодаря которой она восходит, озаренная, к вершине умопостигаемого мира, Вторым Небесам, и откуда возносится к Третьим Небесам обожения.
Б. Св. Григорий Богослов
В сравнении с Оригеном св. Григорий Богослов (329/30—390) занимает промежуточную позицию между Василием Великим и Григорием Нисским. Ориген склонялся к аллегорическому, а Василий Великий к буквальному толкованию Писания. В этом отношении Григорий Нисский стоял ближе к Оригену и посвятил целые страницы мистической интерпретации события,1 2 книги3 или символа.4 Григорий Богослов, в свою очередь, был убежден, что все толкования Писания в равной степени истинны и что это свидетельствует о его превосходстве над книгами язычников.5 «Он не был похож ни на Василия — реалиста, ни на Григория Нисского — бесстрашного созерцателя».6
Он солидарен с Василием Великим в том, что космология «Тимея» согласуется с изложением творения в Книге Бытия,7
1 Св. Василий оставил изложение этой темы неоконченным, поскольку «Беседы на Шестоднев» обрываются на том месте, где Бог творит человека по своему образу. Трактат на эту тему был обещан, но обещание было надолго отсрочено. См. ниже, с. 532.
2 См.: Greg. Nyss. Vit. Moys.
3 См.: Greg. Nyss. In cant. cant.
4 Cm.: Greg. Nyss. In Christ, resurrect.; Orat. I (PG 46. 621c—625b).
5 Greg. Naz. Poem, ad Nem. 138 f. (PG 37. 1561 f.).
6 Mersch E. Le Corps mystique du Christ. Paris, 1936. P. 440.
7 Orat. XXVIII 5, 29—31. Об этой согласованности см.: Brehier Е. Histoire de la philosophic. Vol. I. Paris, 1928. P. 49 f. См. выше, c. 513.
КАППАДОКИЙЦЫ
521
однако не считает необходимым подкреплять последнее ссылками на Платона либо на физические учения других язычников, как это делал св. Василий, поскольку ручательством событий, описанных в Библии, выступает не разум, но вера. Язык Писания не раскрывает непосредственную истину, но лишь полускрытую версию ее.
Это происходит потому, что чувственный мир, из которого оно черпает свои примеры, является несовершенной копией мира умопостигаемого:1 в отличие от умопостигаемого, являющего образы единственной реальности, которая есть Бог, чувственный мир воспроизводит только ее тени. Так же и Новый Завет обнаруживает образы высшей Истины, которая есть непостижимый Бог, тогда как Ветхий Завет — ее тени.1 2
Писание дополняет устная традиция,3 существование которой зависит от преданности ученика своему учителю.4 Ортодоксия относится к ереси, как здоровье (παλαιά ύγίεια)5 к болезни (καινή νόσος),6 недомоганию (σύγχυσις, άναστροφή),7 вызванному тем, что Божественный Логос, theologia, замещается человеческим логосом, то есть рассудком, не регулируемым верой.8 Носителем традиции, как письменной, так и устной, является Церковь, одновременно посредник и свидетель распространения просвещения во всем мире.9 Именно поэтому Григорий Богослов, как епископ Церкви, рассматривает себя в качестве одного из тех, через кого передается традиция. Он есть theologos, продолжающий дело theologoi, составивших Священное Писание.10 11 Он философствует, как «любомудрствовал (έφιλοσόφησεν) один из богоносных мужей (θεοφόρων), живших незадолго до нас».11 Следовательно, он не претендует на оригинальность.12 Подобно Соломону, он не желал
1 Идея, ведущая начало от Платона и Плотина.
2 См. ниже, с. 527.
3 См. выше, с. 508.
4 Oral. XXXII 21 (PG 36. 197с—d). Ср. 25—26 (PG 36. 201—203).
3 Ibid. XXI 21, 32.
6 Ibid. 21.
2 Ibid.
8 Greg. Naz. De vita sua 715 (PG 37. 1078).
9 PlagnieuxJ. Saint Gregoire de Nazianze theologien. Paris, 1951. P. 56.
10 См. выше, c. 509.
11 Orat. XXXI 28 (181. 3—7, PG 36. 163d). К «Словам о богословии» (Orat. XXVII—XXXI) ссылки, указываемые в скобках перед ссылками на PG, приводятся по изданию: Mason A. J. The five Theological Orations of Gregory of Nazianzus. Cambridge, 1899.
12 См., ниже, c. 541.
522
ГРЕЧЕСКАЯ ХРИСТИАНСКАЯ ПЛАТОНИЧЕСКАЯ ТРАДИЦИЯ
бы и рта раскрыть, не «претерпев» (παθεΐν)1 прежде божественного к тому предписания,1 2 поскольку в противном случае он не мог бы быть theologos, имеющим право говорить о Боге. Ибо Бог неименуем,3 и лишь авторитет сообщает нам о нем определенные сведения, исходя из которых мы неуверенно рисуем себе его нечеткие изображения и тем самым наделяем Неименуемого именами.
Безусловно, разум не лишен ценности, и св. Григорий суров с теми христианами, которые не желают иметь дела с языческой ученостью, браня то, чего не понимают.4 «Всеобъемлющая ученость» (παντοία παιδεία), объединившая в себе классическую и христианскую литературу, была драгоценной жемчужиной.5 Он благодарен образованию, которое получил в афинских школах: «Вот первое, что возлюбил я и люблю после первейшего, то есть Божественного».6 Он особенно восхваляет платоников, которые были «лучшие их [язычников] богословы и более к нам приближающиеся».7 И все же рассуждение обретает свою ценность в вере,8 и достижения платоников немногого стоят, если не подчинены ей и не признают своих границ: «Да водит нас более вера, нежели разум, если только уразумел ты свою немощь, когда рассматривал ближайшее к тебе и узнал способ узнать то, что выше разума».9
Вера сообщает нам о том, что события, изложенные в Писании, истинны, рассудок — о том, каким образом они истинны. Он подразделяет их на четыре класса: то, что в действительности не существует, но о чем люди говорят; то, что существует, но о чем не говорят; то, что не существует и о чем не говорят; и то, что существует и о чем говорят.10 11 К первому классу относятся антропоморфизмы, вызванные ограниченностью человеческого рассуждения, ко второму — понятия, отброшенные в ходе aphairesis,11 к третьему классу — nihilum (ничто), из которого Бог творит мир,
1 См. ниже, с. 553.
2 Orat. XX 5 (PG 35. 1069с).
3 τό θειον άκατονόμαστον: Orat. XXX 17 (134. 19—20, PG 36. 125b).
4 Orat. XL1II 11 (PG 36. 507—509). См. выше, c. 505—506.
5 Ibid. XI 1 (PG 35. 832a).
6 Ibid. IV 100 (PG 35. 636a).
7 Ibid. XXXI 5 (150. 3^1, PG 36. 137b). Cp. XXVIII 4; 16 (26. 12—27; 46. 15—47. 3; PG 36. 29a, 47a); выше, c. 506.
8 Ibid. XXIII 12 (PG 35. 1163c—d); Poem, ad Seleuc. 245—249 (PG 38. 1593).
9 Ibid. XXVIII 28 (66. 15—19, PG 36. 68a); cp.: Plat. Legg. IX 863.
1» Ibid. XXXI 22 (172. 1—3, PG 36. 157a).
11 См. выше, c. 516, ниже, c. 554—556.
КАППАДОКИЙЦЫ
523
к четвертому — события, литературно и исторически достоверные.1 Лишь в отношении четвертого класса разум самодостаточен в обнаружении истины, поскольку первый лишен истинности как таковой, второй превышает разум, а третий не достает до него: разум, исходящий из веры, начинает с одного, а заканчивает другим.
Исходной точкой, с которой начинает разум, таким образом, является то, что есть сущее, а Тот, кто есть Сущий, есть высочайшее из божественных имен, сообщаемое верой разуму. Это наиболее «собственное» имя Бога: «Сущность (ούσία) же Божия есть то, что единому Богу принадлежит и Ему свойственно».1 2 Бытие свойственно творению, потому что оно причастно бытию Творца; все остальные атрибуты, приложимые к Творцу в Писании, взяты из творения и потому содержат элементы антропоморфизма. Так, например, Theos происходит либо от слова «бежать» (θέειν),3 либо от «светить», «жечь» (αϊθειν).4 То же верно и в отношении имен трех ипостасей,5 за тем исключением, что если Theos, согласно общепринятым этимологиям, обозначает отношение Творца к своему творению, то имена Нерожденный, Рожденный, Исходящий, Отец, Сын, Дух Святой указывают на отношения внутри самой божественной природы.6 Они показывают, что такие универсальные троичные процессы, как начало—середина—конец или бытие—движение—покой,7 уже присутствуют во вневременном и внепространственном смысле в Едином, и объясняют, каким образом из неизменного Единого рождается множественный мир, движущийся во времени и пространстве: «Единица, от начала под- вигшаяся в двойственность, остановилась на троичности».8
Она «остановилась на троичности», потому что последними к Богу в его трансцендентной природе должны быть применены названия трех ипостасей. Остальные божественные имена указывают на его власть (έξουσίαι) или домостроительство (οικονομίαι)9 и представляют собой иерархию функций, которыми он наделил свои произведения, на порядок (τάξις), который один — будь то
1 Orat. XXXI 22 (172. 7—8; 173. 2—4, PG 36. 157а—с).
2 Ibid. XXIX 11 (88. 13—14, PG 36. 88b).
3 Ср.: Plat. Crat. 397с.
4 Orat. XXX 18 (136. 1—10, PG 36. 128a); см. ниже, с. 544.
5 Ibid. XXIX 12 (91. 1—2, PG 36. 89a—с).
6 XXIX 16 (97. 10—98. 8, PG 36. 43—46).
7 См. ниже, c. 586.
8 μονάς άπ’ αρχής, εις δυάδα κινηθεΐσα, μέχρι τριάδος έστη: Orat. XXIX 2 (75. 7—8, PG 36. 76b).
9 Orat. XXX 19—20 (138. 3—4, PG 36. 128—132). См. выше, с. 511; 516.
524
ГРЕЧЕСКАЯ ХРИСТИАНСКАЯ ПЛАТОНИЧЕСКАЯ ТРАДИЦИЯ
в гармонии ангельских хоров, движении небесных светил, кругообороте времен года или жизненном цикле тела — обеспечивает силу, красоту и устойчивость вселенной.1 Эти имена суть «последняя» природа Бога (τά όπίσω θεού), которую узрел Моисей, поскольку, в отличие от «первой» природы, они познаваемы.1 2
Мера их познаваемости зависит от степени просветленности познающего. Ибо, хотя в божественной природе и нет градаций, «согласно гармонии и всеобщему благу» (του παντός εύαρμοστία καί συμφέρον) в протяженном мире, созерцаемом рассудком, должны быть высшие и низшие.3 Благодаря этому мир получает имя космоса, и это должно почитаться как его закон (νόμος) и порядок (εύταξία).4 Следует признать, что есть те, кто обучают, и те, кто учатся, чтобы Мудрость (φωτισμός), источник которой в Боге, могла плавно изливаться на все ступени творения.
Эта Мудрость, или просветление, является носителем универсального трехчастного ритма топе, proodos, epistrophe:5 она пребывает в Боге, исходит из Бога и вновь возвращается к Богу.6 В своем исхождении она вначале принимает форму светящейся и ликующей мудрости ангелов и тех, кто наслаждается созерцанием райского блаженства,7 а затем — человеческой мудрости, являющейся ее отражением. Бог для умопостигаемого мира есть то же, что солнце для мира чувственного,8 ангелы же суть его излучения (άπορροαί),9 отражаемые чистыми человеческими душами.10 11
В возвращении человеческая мудрость является рассветом мудрости ангельской, ведущим за собой полноту сияния дня: смутность (παχύτης) человеческой природы просветляется нематериальной светоносностью ангелов и тем самым приобщается к абсолютной чистоте (καθαρότης) Бога.11
Как все посредники, ангелы имеют три аспекта: относительно превосходящего их Источника Света (πρώτον φως) они суть мыс¬
1 XXXII 7—12 (PG 36. 181Ь—188d).
2 XXVII 3 (PG 36. 28—29).
3 См. ниже, с. 552.
4 См. ниже, с. 526.
5 См. выше, с. 511.
6 См. ниже, с. 527—529.
7 Peterson Е. Le Livre des anges. Leipzig, 1935.
8 Oral. XXVIII 30 (68. 8—12, PG 36. 69a); cp.: Plat. RP VI 508c; выше, c. 511.
9 Oral. XL 5 (PG 36. 364b).
10 См. ниже, c. 536.
11 Oral. XXVIII 31 (70. 16—71. 5, PG 36. 72).
КАППАДОКИЙЦЫ
525
лимые силы (νοεραί δυνάμεις);1 относительно самих себя — разумные природы (νοηταί φύσεις)1 2, или «интеллигенции» (νόες);3 относительно нижележащей природы — очистительные сущности (καθάρσιοι).4 Благодаря двум последним аспектам их и называют «духами» (πνεύματα) и «огнем пылающим»,5 что невозможно утверждать буквально, не признав телесности ангелов, чего Григорий остерегается.6 Они либо телесны, либо суть наиболее близкое к телесности духовное.7 Он также называет их «восхождениями» (άναβάσεις), что, хотя и не поясняется, явно указывает на их посредничество в возвращении человека к Богу: они уже обладают природой, к которой восходит человек, прошедший очищение, — умопостигаемой и излучающей (άπορροή) божественный Свет.
Человек делается божественным излучением путем очищения души, восстанавливающего ее изначальный блеск и позволяющего ей, подобно отполированному зеркалу, отражать ниспадающий на нее свет,8 «приобретать ко свету свет — к менее ясному лучезарнейший; пока не взойдем к Источнику тамошних озарений и не достигнем блаженного конца, когда действительность сделает ненужными зеркала».9 Озарению должно предшествовать очищение.10 * Григорий не желает давать инструкций и запрещает, чтобы их получали те, кто прежде не прошел очищения, ибо «для нечистого же, может быть, небезопасно и прикоснуться к чистому, как для слабого зрения к солнечному лучу».11 Соломон говорит, что страх есть начало премудрости, а «где страх — там соблюдение заповедей; где соблюдение заповедей — там очищение плоти — этого облака, омрачающего душу и препятствующего ей ясно видеть Божественный луч».12 В «Плаче Григория о себе самом»13 он вспоминает сон, в котором ему впервые являются Целомудрие и Воздержание в образе двух женщин, облаченных
1 Ibid. XXVIII 31 (70. 14).
2 Ibid. (70. 8).
3 Ibid. (70. 14). См. ниже, с. 563.
4 Ibid. (70. 9—10). См. ниже, с. 537.
5 Евр. 1:7 = Псал. 103:4.
6 См. выше, с. 517; ниже, с. 530.
7 Oral. XXVIII 31 (70. 3—7).
8 См. выше, с. 524; ниже, с. 533.
9 Oral. XX 1 (PG 35. 1065а—b).
10 См. выше, с. 507.
I· Oral. XXVII 3 (4. 19—5. 2, PG 36. 13d—16а); ср.: Plat. Phaedo 67b. См. ниже, с. 550.
12 Oral. XXXIX 8 (PG 36. 344а).
13 229 f. (PG 37. 139 f.).
526
ГРЕЧЕСКАЯ ХРИСТИАНСКАЯ ПЛАТОНИЧЕСКАЯ ТРАДИЦИЯ
в белые одежды и украшенных отсутствием украшений, представших «поклоняющимися со стороны Трона Господня, которые несут с собой первые лучи Божественного Света и передают их смертным». Значение сна поясняется в отрывке из «Слов»: «Хочешь ли со временем стать богословом... Соблюдай заповеди и не выступай из повелений. Ибо дела (praxis), как ступени, ведут к созерцанию (theoria)».1 Св. Василий Великий был приуготовлен к истолкованию божественных вопросов, поскольку прежде очистил себя Святым Духом.1 2 «Божие многообразное человеколюбие и смотрение о нашем роде... неспешно возводит его на степень,3 но вместе и омывает и умудряет, что видим ныне на многих желающих предстоятельства, удостаивает же чести по порядку и по закону духовного восхождения (τάξει και νόμω πνευματικής άναβάσεως)».4 Наплыв недостойных людей в ряды духовенства, «глоссалгия» еретиков, мерзость языческих культов — все это проистекает из нарушения последовательности очищения, озарения и совершенства,5 выражающей иерархический порядок вселенной.
Каждая из этих трех ступеней восхождения, в свою очередь, делится на три, олицетворяя в двух первых случаях деление человеческого рода на отрицающих, частично допускающих или полностью принимающих откровение: язычников, иудеев и христиан. Язычники становятся иудеями, если отрекаются от идолов, но оставляют жертвоприношения; иудеи становятся христианами, если отрекаются от жертвоприношений, но оставляют обрезание; наконец, христиане восходят от чувственных к умопостигаемым символам, когда прекращают обрезания.6 Всякое же изменение представляет собой постепенный отход от sensibilia, которые человек может счесть реальными в собственном смысле и тем самым
1 Orat. XX 12 (PG 35. 1080b). См. также: XXVI 9 (PG 35. 1240а—Ь). См. выше, с. 507. Боэций (Cons. I 4) описывает видение человека, одежды которого расшиты буквами П и Θ, соединенными между собой лестницей. Вероятно, Боэций проходил обучение в Александрии и, как и Григорий, обращался к некоему общему для них александрийскому источнику.
2 Orat. XLIII 65 (PG 36. 584а).
3 Сан епископа, согласно псевдо-Дионисию, в церковной иерархии соответствует совершенству.
4 Orat. XLIII 25 (PG 35. 532а—b). См. выше, с. 524.
5 Ibid. II 76 (PG 35. 484а—b); XX 4 (PG 35. 1069а—b); XXXVIII 7 (PG 36. 317b—с); XXXIX ad fin. (PG 36. 357d—360a); XLV 3 (PG 36. 528a). См. выше, c. 507; ниже, c. 535.
6 Ibid. XXXI 25 (177. 7—17, PG 36. 161b). Cp. выше, c. 521. О других святоотеческих текстах на эту тему см.: Thomassin L. Dogmata theologica. De incar- natione. X 3—4; Bonsirven J. Epitre aux Hebreux. Paris, 1943. P. 425.
КАППАДОКИЙЦЫ
527
сделаться идолопоклонником1 — «или из красоты и благоустройства видимого познать Бога, употребить зрение руководителем к незримому (των ύπέρ την δψιν), но в великолепии видимого не потерять из виду Бога».1 2
Ибо для всякого ограничения и очищения имеется особый путь, которым открывается озарение:
Этому хочу уподобить и Богословие, только в противоположном отношении, ибо там преобразование достигалось через отменения, а здесь совершенство — через прибавления... Ветхий Завет ясно проповедовал Отца, а не с такой ясностью Сына, Новый открыл (έφανέρωσεν) Сына и дал указания (ύπεδειξε) о Божестве Духа, ныне пребывает с нами Дух, даруя нам яснейшее о Нем познание (έμπολιτεύεται... σαφεστέραν... παρέχον την εαυτού δήλωσιν). Не безопасно было, прежде нежели исповедано Божество Отца, ясно проповедовать Сына и, прежде нежели признан Сын (выражусь несколько смело), обременять нас проповедью о Духе Святом... Надлежало же, чтоб Троичный свет озарял просветляемых постепенными прибавлениями... «восхождениями» (άναβάσεις), поступлениями от славы в славу.3
Наконец, откровение Духа, олицетворяющее совершенство божественной природы как Троицы,4 также происходит в три этапа: первый, демонстрирующий власть Отца, когда Дух по просьбе Сына посылается Отцом; второй, обнаруживающий, что власть Отца и Сына равны, когда он посылается Сыном, и, наконец, доказывающий, что Дух равен Отцу и Сыну в единой Троице, когда он приходит по собственной воле.5
Из этих фрагментов очевидно, что три этапа восхождения не имеют временной последовательности, но суть три аспекта: негативный, позитивный и третий, лежащий за пределами человеческих категорий негативного и позитивного и относящийся к взаимодействию внутри самой божественной природы. Христианское
1 Orat. XXVIII 13 (43. 9—13, PG 36. 44а—b). См. также гл. 14, 15.
2 Ibid. (43. 13—16).
3 Ibid. XXXI26 (178. 1—15, PG 36. 161с—d). Последняя фраза взята из Псал. 83:6—8. Об άναβάσεις см. выше, с. 525.
4 Следует помнить, что Григорий пишет в то время, когда божественность Святого Духа все еще обсуждается. С его точки зрения, установление этой истины (которое он считал одной из своих главных целей как богослова) естественно отождествлять с окончательным совершенством человеческого познания божественной природы.
5 Orat. XXXI 26 (179. 6—19, PG 36. 164а—b). Он ссылается на Ин. 14:16, 14:26 и 16:7 соответственно.
528
ГРЕЧЕСКАЯ ХРИСТИАНСКАЯ ПЛАТОНИЧЕСКАЯ ТРАДИЦИЯ
крещение — не единственное очищение, но «первое», и одновременно первое озарение (φωτισμός);1 просвещение — второе и постоянное очищение,1 2 не прерывающееся потому, что чем более приближаешься к абсолютной Чистоте, тем более нечистым себя обнаруживаешь, так что озарение включает в себя постепенное открытие новых поводов для очищения.3 Наконец, ни очищение, ни озарение не отменяются в обожении. В беседе с кем-то, весьма преуспевшим в духовности, но страдающим от упадка духа, Григорий говорит: «Давай же очистим наш разум (νους) опытом, который ниспослал нам Господь (θείαις έμφάσεσιν)».4 «Где очищение — там озарение; озарение же есть исполнение желания для стремящихся к предметам высочайшим или к Предмету Высочайшему, или к Тому, Что выше высокого».5
Связывая три ступени приближения к истине (очищение— озарение—совершенство) с тремя стадиями развития человека (язычник—иудей—христианин), Григорий предвещает три иерархии, на которых строится система псевдо-Дионисия (законный— церковный—небесный); поскольку отказ от идолов и откровение Отца составляют восхождение от язычества к монотеизму Закона, оставление жертв и откровение Сына — возвышение от Закона к Евангелию, лежащему в основании Церкви, оставление же земных символов во имя небесных под воздействием Святого Духа6 есть последний подъем сквозь умопостигаемый мир ангелов к обожению.7 Григорий намечает синтез христианского откровения с триадической структурой неоплатонического универсума, который впоследствии подробно развернет псевдо-Дионисий: трехтактный ритм топе—proodos—epistrophe, Бог как неизменный источник учения, распространение учения в христианской традиции, возврат творения по восходящим ступеням очищения, озарения и совершенства обратно к Творцу, тройная природа Божества, тройная иерархия ангелов, Церкви и Закона.8
1 Ibid. XL 3—7 (PG 36. 361—368).
2 Ibid. XXXVIII 16 (PG 36. 329b—c); XL 3, 4, 8, 19, 26, 29, 32 (PG 36. 360— 425); XLV 9 (PG 36. 633b—636a).
3 PlagnieuxJ. Op. cit. P. 150, n. 99.
4 Epist. CCXV.
3 Oral. XXXIX 8 (PG 36. 344a).
6 Cm. c. 527, прим. 4.
7 Oral. XXXI 25 (176. 3—9, PG 36. 160b—161b). См. ниже, c. 545.
8 To, что сочинения Дионисия являются посткаппадокийскими, является, пожалуй, единственной вещью, которую можно с уверенностью сказать об их историческом месте; см. ниже, с. 542, прим. 1.
КАППАДОКИЙЦЫ
529
Таким образом, сращение христианизма с платонизмом у Григория было гораздо более основательным и имело более широкие последствия, чем у Василия. Они оба являются христианскими платониками, однако по-разному совмещают два этих начала. Василий использует отдельные языческие доктрины в поддержку истины откровения, где, по его мнению, она в этом нуждается; Григорий же толкует Писание, содержащее всю истину целиком подходящим для веры образом, в понятиях языческой мысли как таковой, дабы истина была выражена, насколько это возможно, в форме, соответствующей уму. Движение одухотворения, венчаемое обожением,1 свершаемое по божественному снисхождению и продолжающееся до тех пор, пока в него не будет вовлечена вся человеческая и даже космическая реальность, вместе с устремлениями человеческих воли и разума составляет взаимодействие нисхождения и восхождения, что не слишком далеко отстоит от учения Плотина.1 2 И все же эта философия, хотя и выражена в неоплатонических терминах, реализуется в Воплощении: «Дабы и мне быть Богом, поскольку Он стал человеком».3
В. Св. Григорий Нисский
Св. Григорий Нисский (ум. 394), из всех каппадокийцев по своей мысли ближе всего стоящий к Оригену,4 переформулировал толкование Писания Василием Великим в терминах александрийского гнозиса.5 Если тот интерпретировал Шестоднев буквально (ίστορικώς),6 то Григорий в своем комментарии7 и продолжении к нему8 истолковал его анагогически9 — как «любомудрое учение о естестве вещей, [которое] говорит о создании каждого существа, присоединяя и некие творческие Божии глаголы, которыми каждое из существ приводится в бытие, и делает это
1 См.: Orat. XI 6 (PG 35. 840); XLI 1 (PG 36. 428a^29b).
2 См.: PlagnieuxJ. Op. cit. Р. 148, η. 94.
3 Orat. XXIX 19 (PG 36. 100a).
4 Danielou J. Platonisme et theologie mystique. Paris, 1953. P. 144.
5 См. выше, c. 509—510.
6 Greg. Nyss. C. Eun. II (XII/XIII) 255 (PG 45. 996d, I 300, 29) — ссылки на PG даны в порядке: том, страница, строка по изданию Йегера (Leiden, 1960).
7 Apol. (PG 44.61—124).
8 De hom. opif. (PG 44. 126—256).
9 См. выше, c. 520.
530
ГРЕЧЕСКАЯ ХРИСТИАНСКАЯ ПЛАТОНИЧЕСКАЯ ТРАДИЦИЯ
прекрасно и боголепно».1 Нет необходимости следовать библейскому порядку событий, поскольку творение было единым актом Божественной Воли вне времени.2 Из него мгновенно появились возможности всех вещей, которые, будучи семенными сущностями (σπερματικάι),3 последовательно4 без дальнейшего божественного вмешательства развились во все явления, могущие составить и действительно составляющие мир.5
В качестве единой семенной силы эти возможности (δυνάμεις), «колебания» (άφορμαί) или причины (αίτίαι)6 суть Логос, единство которого вечно и потому никогда полностью не теряется в многообразии творения, но сохраняет его целостность и является средством, с помощью которого оно может в свой черед (διά βαθμών) возвыситься от меньшего к большему совершенству,7 от наименьшего бытия лишь потенциальной материи к бытию оформленным, оживленным (ύλη ζωοπλασθεΐσα),8 чувственным, разумным и божественным.
Сотворенный свет, первое физическое проявление Божественной Воли,9 изначально представляет собой частицы вещества,10 из которых он свободно изливается (где не встречает препятствий в виде стихий, в силу своей непроницаемости не пропускающих его)11 на небесную твердь, или Первое Небо, отделяющее чувственный мир от умопостигаемого.12 Оттуда он отражается обратно, и этот процесс рассеивания и собирания света является причиной круговорота дней и ночей.
Каждая из стихий ищет своего места, тяжелейшая — в центре, легчайшая — на периферии.13 Огонь в силу тонкости своей природы занимает промежуточное место между чувственным и умопостигаемым мирами.14 Потому воды над небесной твердью
1 Apol. (PG 44. 64с f.). См. выше, с. 505—506.
2 См. выше, с. 514.
3 Apol. 77d.
4 Apol. 72b—c, 113b, 12Id.
5 Cp.: Enn. Ill 1 [3] 7, 3—4. См. выше, c. 518.
6 Apol. 72a—b.
7 De horn. opif. VIII (PG 44. 148b).
8 Greg. Nyss. C. Apollin. (PG 45. 1256a).
9 См. выше, c. 514.
10 Apol. 72d.
11 Ibid. 76c.
12 Ibid. 76d.
13 Ibid. 80d—81a.
14 Ibid. 80d—81a, 81a—d, 116b, 121a. Пифагорейская идея, унаследованная Плотином; cp.: Arist. De gen. et corr. 335a; Enn. I 6 [1] 3, 21—22; Burnet J. Early
КАППАДОКИЙЦЫ
531
не могут быть чувственной стихией,1 но представляют собой небесные умопостигаемые сущности (интеллигенции).* 1 2 Они составляют Второе Небо, являющееся границей всего творения, видимого и невидимого. В «историческом рассказе» Моисея нет упоминания о Третьем Небе, к которому был вознесен св. Павел,3 поскольку оно включает в себя «красоты рая и [то], чего человеческое естество изречь не может»,4 — несотворенные энергии,5 по отношению к которым интеллигенции являются постижимыми копиями.
Единственное творение, не ограниченное принадлежностью только к одной из сторон Первого Неба, которое разделяет чувственный и умопостигаемый миры, есть человек. В качестве животного он причастен к одному, в качестве разумной души — к другому. По этой причине он есть «пограничный случай» (μεθόριος)6 и средство перехода с одной на другую.7 Более того, поскольку все высшие силы включают в себя то, что ниже их, человек, как разумное животное, заключает в себе весь чувственный мир. Животные, растения и неодушевленная материя — все вовлечены в его создание,8 которое тем самым есть плод того, семенем чего является чувственный мир.9
Тем не менее изначально он принадлежит к умопостигаемому миру,10 11 и потому человеческая природа, в которой слиты воедино чувственный и умопостигаемый миры, может возвыситься до Второго Неба, а через него до Третьего, чтобы все вещи могли в равной мере причаститься созерцанию райского блаженства.11 Долг и удел человека в том, чтобы быть посредником, с помощью
Greek Philosophy. London, 1920. Р. 109; Armstrong А. Н. The Architecture of the Intelligible Universe in the Philosophy of Plotinus. Cambridge, 1940. P. 54—55. Cm. выше, c. 516—517.
1 Apol. 84c—d, 124b.
2 См. выше, c. 515.
3 Apol. 64d. См. ниже, c. 538.
4 Apol. 12Id. См. выше, c. 515.
5 См. выше, c. 510—511.
6 Greg Nyss. In ps. VII (PG 44. 457b); Orat. cat. VI (PG 45. 25c—28a); cp.: Nem. De nat. hom. I (PG 40. 505b—517a (после Посидония)); Eriug. Periph. II (PG 122. 531b); см. ниже, c. 622; Danielou J. La notion de confine (μεθόριος) chez Gregoire de Nysse 11 Rech. de sc. relig. 1961. XLIX. P. 161—168.
7 In ps. VII. Loc. cit.
8 De hom. opif. XXX (PG 44. 252b—253a); cp.: Eriug. Op. cit. II 530d.
9 Greg. Nyss. De an. et res. (PG 46. 128a); cp. ниже, c. 574.
10 См. ниже, c. 537; 599.
11 De hom. opif. VIII (PG 44. 144d—148c); Orat. cat. VI (PG 45. 25b—28a).
532
ГРЕЧЕСКАЯ ХРИСТИАНСКАЯ ПЛАТОНИЧЕСКАЯ ТРАДИЦИЯ
которого в нем самом весь универсум обретет свою изначальную природу и как одно предстанет в нем перед Единым.1
Таким образом, сотворение человека, не включенное в описание творения св. Василием Великим,1 2 является развязкой, обнаруживающей его значение. Св. Григорий заполняет этот пробел в «Об устроении человека»3 и тем самым кладет начало христианской версии неоплатонической теории падения и возвращения души, что станет темой, проходящей красной нитью через все его основные трактаты: «Об устроении человека», «Точное истолкование Екклесиаста»,4 «О девстве»,5 «Изъяснение Песни Песней»6 и «О жизни Моисея».7
Человек был изначально сотворен на Втором Небе8 и потому есть умопостигаемое и бестелесное существо.9 И поскольку он был создан по образу и подобию Бога,10 11 отличаясь от Прообраза лишь как сотворенное от несотворенного,11 он не только умопостигаем, но и един. Этот образ обнаруживается в полноте челове¬
1 См. ниже, с. 594.
2 См. выше, с. 520, прим. 1.
3 На самом деле Василий Великий в конце концов сочинил свою знаменитую гомилию на сотворение человека, сохранившуюся в форме конспекта (опубликована в PG среди работ Григория Нисского под заглавием «In verbis, Faciamus...») и в обработанной версии (опубликованной среди работ св. Василия как «De structura hominis»), хотя похоже, что св. Григорий не был знаком с ней. См.: Giet S. Saint Basile a-t-il άοηηέ une suite aux homilies de ГНехаётёгоп? I I Rech. de sc. relig. 1946. XXXIII. R 317—358; Bernardi J. La date de ГНехаётёгоп de s. Basile 11 Studia patristica. 1961. III. R 169.
4 PG 44. 616 f.
5 PG 46. 317 f.; Opera ascetica s. Greg. Nyss. / ed. W. Jaeger. Leiden, 1952. S. 247 f.
6 PG 44. 756—1120; Gregorii Nysseni Opera VI: In Canticum Commentarius / ed. H. Langerbeck (Leiden, 1960) цитируется здесь со ссылками в скобках, приводимыми следом за ссылками на PG.
7 PG 44. 279—429; De vita Moysis, SC 1 bis / ed. and trans. J. Dani61ou (Paris, 1955) используется здесь со ссылками на столбцы в PG, сохраненные в данном издании.
8 De horn. opif. XVII 189а; PG 44. 508с; De virg. 324b; см. выше, с. 531.
9 PG 46. 41с; ниже, с. 537.
10 Для св. Григория два этих понятия означают субстантивный и глагольный аспекты одного и того же: εικών есть божественное сходство в его действительности, όμοίωσις — непрерывная попытка сохранить его. См.: Muckle J. Т. The doctrine of St Gregory of Nyssa on Man as the Image of God 11 Medieval Studies. VII. Toronto, 1945. P. 56, 59, 60; DanielouJ. Platonisme et th6ologie mystique. Paris, 1953. P. 48. Cp. со св. Максимом (ниже, с. 593).
11 De horn. opif. XVI 184c.
КАППАДОКИЙЦЫ
533
ческой природы.1 Множественность и составность привносятся телесностью, являющейся не частью исходного образа, но тем, что «привзошло извне» (εξωθεν γενέσθαι).1 2
Это означает, что она привзошла из чувственного мира, в котором человек был сотворен во второй раз3 как единичный Адам на шестой день. Он все еще по образу Бога есть «земная тварь, изображение (εικόνισμα) горней силы»,4 однако теперь его природа отражает не только то, что выше его, но и то, что ниже. Он и оглядывает предлежащую ему сотворенную природу, и возносится взором к невидимому Богу, узнавая в первой Божье явление.5 Цель первого творения заключалась в том, чтобы он в Образе, словно в зеркале,6 смог увидеть и узнать трансцендентного Бога, иначе незримого и непознаваемого,7 и соотнести себя с ним;8 целью второго было обеспечить его средствами к познанию Бога в его имманентности, когда грехопадение сокрыло знание о нем в его трансцендентности.
Однако нисхождение из единства во множественность уже предпосылает грехопадение, поскольку — хотя прибавления, которые душа получила «извне», вожделение и ярость, дарованы ей Богом для жизни в чувственном мире9 — они не являются частью образа Абсолютного Блага. Они привходящи ему10 и отбрасывают
1 Ibid. XVI 185с; De an. et res. (PG 46. 160с); см. ниже, с. 548.
2 De an. et res. (PG 46. 57b). См.: Philo. Opif. 134; MuckleJ. I Art. cit. P. 58, n. 9; см. ниже, c. 549; cp. с Леонтием (ниже, с. 599).
3 De horn. opif. II 133b; XVI 181b; cp. со св. Максимом (ниже, с. 589).
4 Orat. cat. VI (PG 45. 28b).
5 De hom. opif. II 132d—133a; In cant. cant. XI (PG 44. 1009d, 335. 12—336. 1).
6 Greg. Nyss. De beat. (PG 44. 1272a—с). См. выше, c. 525. Зеркало имело важное значение в дионисийских мистериях в качестве символа падения из единства во множество. Дамаский (Olymp. In Phaedo В III. 4 Norvin) поясняет фрагмент из Плотина: «Души же людей видят свои эйдолы как бы в зеркале Диониса и возникают здесь, движимые свыше неодолимым порывом, но даже здесь не отрываются они от своих начал и Ума» (IV 3 [27] 12, 1—2. Пер. Т. Г. Сидаша), — следующим образом: «Поскольку душа должна прежде запечатлеть свой образ в теле — вот что означает снабдить тело душой. Затем она испытывает страсть к образу, так как подобное стремится к подобному. И наконец, она разбивается на кусочки... и рассеивается по всему свету». И блж. Августин, и св. Григорий были знакомы с этими образами; см.: Aug. In ps. XCV, XV; Greg. Nyss. De an. et res. (PG 46. 157a): εις πλήθος κατεμερίσθη.
7 De beat. Loc. cit.
8 In cant. cant. IV (PG 44. 833a—b, 104. 10—15).
9 Cm. c. 534, прим. 1.
10 См. ниже, c. 535.
534
ГРЕЧЕСКАЯ ХРИСТИАНСКАЯ ПЛАТОНИЧЕСКАЯ ТРАДИЦИЯ
первую тень на его блеск. Они суть относительные блага, а относительное благо есть относительное зло.
Вожделеющая и яростная части души приготовляют почву для дальнейших прибавлений, являющихся поводами для греха. Обоим рядам этих прибавлений св. Григорий дает наименование «страстей» (πάθη), однако вторые он называет «порочными страстями» (πάθη κατά κακίαν), поскольку первые — ни благи, ни дурны. В животном царстве они суть добродетели, защищающие и сохраняющие жизнь1 и могущие стать таковыми и для человека, если он опустится на животный уровень.1 2 Чтобы проиллюстрировать это, св. Григорий использует отрывок из Исхода3 и платоновский миф о возничем. Разум есть притолока души, тогда как яростные и сластолюбивые вожделения — дверные косяки, которые, пока остаются на месте, не только не вводят грех, но и препятствуют ему войти.4 Либо так, что разум есть возничий, а страсти — два коня: пока они в его власти и он направляет их к истинным и благим вещам прочь от иллюзорных и дурных, «раздражение [производит в нас] мужество... да и стремление вожделения доставляет нам божественное и чистое удовольствие».5 Однако если ворота разрушатся «и высшее сделается низшим, так что рассудок, ниспав до попираемого, вожделевательное и раздражительное расположение поставит вверху себя, то всегубитель проникает тогда во внутренность».6 «Если же разум кинет бразды и... будет влачиться сзади ее, увлекаемый туда, куда понесет неразумное движение впряженных коней, тогда стремления (όρμαί) обращаются в страсть, как это можно видеть и в бессловесных».7 Таковы порочные страсти.
Таким образом, в нисхождении души различимы три момента: из первого сотворения в умопостигаемом мире по образу Бога через второе сотворение она вовлекается в мир чувственный, для жизни в котором облечена8 страстями, и впадает в грех, в котором тускнеет из-за порочных страстей. Эти моменты делят нисхожде¬
1 Представление взято у Посидония. См.: Gronau К. Poseidonios und die jiidisch-christliche Genesisexegese. Leipzig, 1914; Ivdnka E. von. Die Quelle von Ciceros De natura deorum II45—60 (Poseidonios bei Gregor von Nyssa) //Archivium philologicum. 1935. S. 1—62.
2 De hom. opif. XVIII 192b.
3 Исх. 12:22.
4 Vit. Moys. (PG 44. 353c—d).
5 De an. et res. (PG 46. 61b); cp.: Synes. De regno X A.
6 Vit. Moys. (PG 44. 353c—d).
7 De an. et res. Loc. cit.; cp.: Synes. Op. cit.; cp. с Леонтием (ниже, с. 579—580).
8 См. ниже, с. 535.
КАППАДОКИЙЦЫ
535
ние на три этапа: вхождение в умопостигаемое бытие, вхождение в чувственное бытие, вхождение во грех. Этот же путь должно пройти в обратном направлении1 через очищение, озарение и совершенство в союзе с Богом.1 2
В трактате «О девстве»3 св. Григорий описывает три этих этапа как отказ от супружества, очищение от мыслей о плоти и восстановление смелости (παρρησία) предстать перед Творцом. Под супружеством он понимает размножение через совокупление и, как следствие, удовольствия плоти.4 Здесь он имеет в виду моральное очищение от порочных страстей.5 С другой стороны, очищение от мыслей о плоти означает отказ от фантазий, с помощью которых ощущения обманывают нас. Они изображают чувственные феномены как реально сущие, тогда как «должно иметь в виду не эту чувственную жизнь, которая, с сравнении с жизнью истинною, есть какая-то недействительная и не состоятельная».6 Этот отказ есть озарение: «Душа от явления истины пребывает неусыпною и не- поддающеюся обману».7 Эта озаренность и была нарядом, который душа носила в умопостигаемом мире и, сойдя в чувственный мир, обменяла на «одежды кожаные», или страсти,8 и в который теперь, возвращаясь к умопостигаемому, она облачается вновь.
Если кожаные одежды тяжелым грузом удерживали душу на чувственном уровне, то наряд из света, словно крылатая колесни¬
1 De virg. (PG 46. 373с—376с). Традиционное воззрение, согласно которому возвращаться следует тем же путем, что и спускаться (см.: Corp. Herm. X 16; Епп. 16 [1] 7, 3—5; Proclus. El. theol. 38), вероятно, ведет начало от Гераклита: «Путь вверх-вниз один и тот же» (fr. 33 (60 DK, 69 Bywater)).
2 См. выше, с. 507; 526.
3 См. выше.
4 Вероятно, на язык св. Григория повлияла тема трактата и то обстоятельство, что он предназначался для монашеской аудитории. Ср. со св. Максимом, ниже, с. 593.
5 См. выше, с. 507.
6 In Eccles. (PG 44. 737с); ср.: In ps. (PG 44. 445b); Enn. IV 4 [7] 44, 5—6 и 25—27.
7 In cant. cant. XI (PG 44. 996d, 317. 13—16); ср.: «Они сбрасывают с себя невежество, словно дремоту... они отгоняют (призраки чувственного опыта), подобного ночным сновидениям» (Valent. Evg. ver. // Jung Codex / ed. Malinine— Puech—Quispel. Zurich, 1956).
8 Быт. 3:21; cp.: Orat. cat. VIII 4 (PG 46. 148d); выше, c. 533. Аналогия тела как одеяния души существовала задолго до того в языческой мысли (см.: Emped. Fr. 126: Diels, Vors. ed. 5,1 362), ее также использует Порфирий (De abst. 131, 109. 17; II 46, 174. 29 Nauck (возможно, под влиянием Книги Бытия)) и гностики-ва- лентиниане: Irenaeus. Adv. haer. I 5, 5; VII 501 = Tertullian. Adv. Valent. XXIV (PL 11. 578). О неуместности этой аналогии в христианстве см. выше, с. 506—507.
536
ГРЕЧЕСКАЯ ХРИСТИАНСКАЯ ПЛАТОНИЧЕСКАЯ ТРАДИЦИЯ
ца, возносит ее ввысь.1 Наряд из света тождествен Христу,1 2 крылатая колесница — Святому Духу в виде голубицы.3 И тот, и другой на умопостигаемом уровне обнаруживают себя в виде лучей (άπόρροιαι), или энергий (energeiai), исходящих от «Отца Светов», и являются образцами добродетелей души и реальности, лежащей за пределами иллюзий чувственного мира. Просветленная ими душа обнаруживает, что феномены являются действиями энергий, и благодаря этому созерцает энергии как таковые.
«Отринувшие обманные и неистинные фантазии земных дел обретут подлежащую реальность (ύπόστασις) и сделаются сыновьями света».4 Подлежащая реальность вещей есть их подобие Богу и соучастие в нем. Потому феномены, опасные для обманываемых, для озаренной души суть знаки, указывающие на то, чему они подражают и чему причастны.
При исследовании красоты несовершенный по уму едва лишь увидит какой-нибудь предмет, отвечающий некоему представлению о красоте, сочтет в нем прекрасным по своей природе то, что привлекает его чувство удовольствием, и кроме этого ничего не старается исследовать. У кого же око души чисто... тот, перестав восхищаться веществом, подчиненным идее (ιδέα) красоты, пользуется видимым как ступенью к умосозерцанию красоты разумной, по общности с которой и все прочее есть и называется прекрасным.5
Созерцая «небесную красоту, блистание светил, быстрое круговращение полюса, чинное и стройное течение звезд, к своему началу возвращающийся круг четырех годовых времен, землю, сообразующуюся с окружающим ее и собственные свои действия изменяющую по различию движения в том, что выше над нею, многоразличные породы животных, живущих в водах, и получивших себе в удел движение по воздуху, и живущих на суше, всякого рода виды растений», душа получает знаки, позволяющие ей постичь их Творца.6
1 De virg. (PG 46. 365b). Подобно образу возницы, этот образ позаимствован из «Федра» и часто используется неоплатониками. См.: Proclus. El. theol. 209, 182. 16—23 Dodds.
2 In cant. cant. X (PG 44. 1005a, 328. 11). Cp.: Рим. 13:14; «Св. Максим Исповедник», ниже, с. 593.
3 In cant. cant. V (PG 44. 868d—869a, 150. 13—151. 2).
4 Ibid. VI (PG 44. 884b, 170. 3—11).
5 De virg. XI (PG 46. 364b—c).
6 In cant. cant. XI (PG 44. 1009c, 335. 1—336. 1). Это искусство, которое у псевдо-Дионисия становится символическим богословием. См. ниже, с. 547—548.
КАППАДОКИЙЦЫ
537
Теперь через очищение и озарение душа достигла умопостигаемого уровня, на котором был изначально сотворен Образ: через очищение она достигла Первого Неба, где «соприкасаются (μεθόριος) природа человеческая и природа бестелесная»,1 а через озарение — Второго Неба, где она стала одним из «сыновей света», поскольку восстановление образа, познание Бога через соучастие в нем и возвращение человека в общество ангелов — все это суть одно и то же.1 2
Однако возвращение души в точку, из которой она начала свое нисхождение, не означает, как в платонизме, ее обожения, поскольку она никогда не была божественной.3 Остается еще один, последний этап ее путешествия — на Третье Небо.
Посему-то снова восстает и озирает мыслью духовное и премир- ное естество.4 Вот... Начала, Господства и поставленные для Властей Престолы... не найдется ли между ними Любимое?... Невеста, разыскивая, обошла весь ангельский чин и, когда в обретенных благах не увидела Искомого, так стала рассуждать сама с собою: не постижимо ли хотя для Ангелов Любимое мною? и говорить им: не «видесте ли» хотя вы, «Егоже возлюби душа моя?» (Песн. 3:3). Поелику же молчали на такой вопрос и молчанием показали, что и для них непостижимо Искомое ею,5 то когда пытливым умом обошла весь оный премирный град и от духовных и бесплотных существ не узнала Желанного, тогда, оставив все обретаемое, таким образом, признала Искомое по одной непостижимости того, что Оно такое.6
Ее положение представляется трагичным. Сам свет, в который она облеклась после очищения и который наделил ее ясным
1 Greg. Nyss. Vit. Macr. (PG 46. 972a). См. выше, c. 524.
2 Danielou J. Platonisme et theologie mystique. P. 161.
3 См. выше, c. 506.
4 Cp. «Псевдо-Дионисий», ниже, с. 549.
5 Своей ангелологией св. Григорий Нисский во многом обязан Филону, согласно которому «сфера чистых умопостигаемых сущностей все еще не вполне сосредоточена в Боге. Она знает Бога по множеству „сил“, которые в то же самое время суть аспекты божественного действия в универсуме и различные дополнительные виды, в которых мы созерцаем божественное единство. Силы не отличны от умопостигаемых сущностей... Они — посредники, незаменимые в деле поклонения Богу, но не в объяснении космоса. Хотя Бог напрямую воздействует на универсум, из этого не следует, что души напрямую восходят к нему» {Trouillard J. La Purification plotinienne. Paris, 1955. P 175); cp.: Brihier E. Les Idees philosophiques et religieuses de Philon d’Alexandrie. Paris, 1925. P. 175.
6 In cant. cant. VI (PG 44. 893a—b, 182. 5—183. 3); cp.: C. Eun. II (XII) (PG 45. 920—921,1 235. 4—237. 10); I 116. 18—117. 5; Vit. Moys. (PG 44. 377a). Cm. «Псевдо-Дионисий», с. 555.
538
ГРЕЧЕСКАЯ ХРИСТИАНСКАЯ ПЛАТОНИЧЕСКАЯ ТРАДИЦИЯ
вйдением красоты мироздания и через это — причин (virtues), по которым оно было сотворено, сделался столь ярким, что теперь она ищет уже ослепляющую ее тьму.1 Она взбиралась от вершины к вершине только для того, чтобы оказаться на краю пропасти, на котором негде ни ногой ступить, ни рукой удержаться.1 2 Когда она отказалась от чувств, ей все-таки помогал разум, ее очищенное «я», но теперь и он, «похоже, подвергся саморастворению, поскольку должен был отказаться от собственной сущности. Этот путь более основательно освобождает душу, чем моральное отречение, воздействующее на поступки, о которых выносилось суждение, тогда как он воздействует на суждение как таковое».3
Душа не может подняться выше умопостигаемого мира, используя лишь присущую ей способность к познанию (gnosis) (так как gnosis принадлежит Силам),4 но стоит ей отказаться от нее, как в тот же момент она оказывается поддержана внешней силой, превышающей gnosis (έπίγνωσις). Это вера, сообщающая, что божественному ничто не может быть мерой:5 «Прошедши все умопредставляемое в твари, миновав всякий доступный путь, верою „обретох“ Любимое».6 Подобно тому как Христос, явивший себя светом, принес знание (gnosis), Христос, дающий знать о себе через веру, приносит Любовь, в которой единственно завершается восхождение от многих к Единому: «Став простой, единообразной (μονοειδής) и богоподобной (θεοείκελος), душа живой энергией (energeia) Любви прилепляется к одному лишь этому истинному и желанному Возлюбленному»,7 ибо «завершение любви есть физический союз с возлюбленным».8 Подобно св. Павлу, она вознесена теперь в сверхпостижимом слиянии на Третье Небо.9
Однако Третье Небо не является местом, подобно Первому и Второму. Душа «превращается в то, предчувствие и открытие чего суть вечные процессы».10 Восстановленный образ совершен¬
1 См. ниже, с. 556.
2 PG 44. 729а—732а.
3 TrouillardJ. La Procession plotinienne. Paris, 1955. P. 67.
4 Vit. Moys. (PG 44. 380a). См. ниже, c. 543.
5 C. Eun. II (XII B/XIII) 89 (PG 45. 940d—941a, I 252. 24—253. 17). Cm. ниже, c. 552.
6 In cant. cant. VI (PG 44. 893b, 183. 7—8). Cp.: C. Eun. II (XII B/XIII), 56—57 (PG 45. 928,1 242. 11—17); 90—91 (941b, 253. 18 f.). См. выше, c. 515.
2 PG 46. 93c.
8 PG 44. 737d—740a. Cp. ниже, c. 556—557.
9 См. выше, c. 507; 531.
10 PG 46. 93c. Об истоке этой идеи у Плотина см. в разделе III («Плотин»), гл. 15, с. 314.
КАППАДОКИЙЦЫ
539
ного человека тождествен Христу как Совершенному Человеку, но не Христу как Богу, ибо Бог абсолютно трансцендентен.1 В философии Плотина трансцендентное и имманентное сливаются воедино в божественности души,1 2 и «преображение души состоит в реализации ее наиболее чистой деятельности, а не в прибавлении к себе... Поэтому трансцендентность и имманентность предполагают друг друга».3 Однако для ев. Григория душа есть образ божественного, но не божественное, и сращения трансцендентного и имманентного никогда не происходит в душе, но лишь в еди- носущности Сына. Это остается таинством и, хотя непостижимо умом, схватывается верой, обнаруживающей Третье Небо как ненасытимую радость, неутолимую оттого, что беспредельно расстояние между душой и Богом, — радость, потому что душа объединилась со своим Возлюбленным, с Богом.
Когда, сколько могла вместить, приимет на себя красот, опять Слово, как еще вовсе не причастную красот, привлекает [ее] к приобщению красоты превысшей, чтобы, по мере преспеяния, при представляющейся непрестанно новой красоте, возрастало в ней вместе пожелание и представлялось ей, что она, по преизбытку открываемых всегда в высоте благ, едва только приступает к восхождению... Для того, кто действительно восстал, никогда не прекратится нужда восставать непрестанно, и для поспешающего ко Господу не истощится путь к продолжению Божественного течения.4
Energeia любви зовется живой, поскольку она никогда не умирает от пресыщения, а блаженство непрестанного предчувствия большего блаженства есть то, благодаря чему созерцание превысшей красоты есть конечная цель человека.
Св. Григорий Нисский — первый христианский философ. Основываясь на истине откровения, которую отстоял св. Василий Великий и истолковал св. Григорий Богослов, он построил философию, столь же верную платонической традиции, сколь и Плотину. Она направлена к пониманию божественной природы как Трансцендентного, как истинного Бытия и как Провидения.
1 См. ниже, с. 623.
2 Ср.: Enn. IV 8 [6] 1, 1—3 и Greg. Nyss. De inst. Christ. XL 1—9 (PG 46. 288a). О божественности души см.: Proclus. De dec. dub. 64. 10—12 Boese и выше, с. 506—507.
3 TrouillardJ. La Procession plotinienne. P. 65. Cp.: La Purification plotinienne. P. 14—15; Enn. V 1 [16] 11.
4 In cant. cant. V (PG 44. 876b—c, 159. A—15). См. «Псевдо-Дионисий», ниже, с. 555; «Св. Максим Исповедник», с. 592.
540
ГРЕЧЕСКАЯ ХРИСТИАНСКАЯ ПЛАТОНИЧЕСКАЯ ТРАДИЦИЯ
Трансцендентность Бога обеспечивает дистанцию между Творцом и творением, божественное Бытие предполагает, что творение, будь то чувственное или умопостигаемое, непременно соучаствует в бытии, тогда как божественное Провидение посредством воплощения делает возможным окончательное воссоединение в человеке всего творения в целом (как чувственного, так и умопостигаемого) с Бытием, в котором оно соучаствует и от которого ведет начало.1 Провидение ликвидирует трагическую составляющую в Трансцендентном и узаконивает притязание христиан на то, что их религия есть религия благодати.
1 См. «Св. Максим Исповедник», ниже, с. 594—595.
Глава 30
ПСЕВДО-ДИОНИСИЙ А. Введение
Как и каппадокийцы,1 псевдо-Дионисий утверждает, что он не зачинатель,1 2 а лишь носитель традиции, которую он считает христианской, но которая в действительности происходит как из христианских, так и из языческих источников. Из первых он упоминает только Писание (включая апокрифические сочинения),3 хотя явно обязан каппадокийцам4 и, вероятно, непосредственно александрийцам.5 Языческие источники скрываются либо среди «неписаных наставлений»,6 либо за именем учителя псевдо-Дионисия Иерофея, возможно вымышленного и изобретенного лишь для того, чтобы придать этим источникам авторитет человека, которого он изображает товарищем апостолов.7
1 Ср. со св. Григорием Богословом, выше, с. 521.
2 СН (= De caelesti hierarchia) VI 1 (PG 3. 200Ы0—11). Используется текст G. Heil (Sources chret. 58. Paris, 1958), но со ссылками на столбец и строку в PG, сохраненные в этом издании.
3 Евангелие св. Варфоломея (МТ (= De mystica theologia) I 3, PG 3. 1000Ы1). Cp.: WilmartA., TisserantE. Fragments grecs et latins de l’Evangile de Barth01emy // Revue biblique. 1913. X. P. 161; «философ Климент» (DN (= De divinis nominibus), V 9, PG 3. 824dl).
4 В особенности св. Григорию Нисскому.
5 См. прим. 3 выше.
6 См.: EH (= De ecclesiastica hierarchia) I 4 (PG 3. 376b—с). См. выше, c. 508.
7 Muller Η. E Dyonisius, Proklos, Plotinus. Miinchen, 1926. S. 37—38; Van- neste J. Le mystere de Dieu. Brussels, 1959. P. 14, 41—42. Пожалуй, достойно упоминания, что одно из сочинений, приписываемое Иерофею, носит название «Первооснов теологии», сочинения Прокла, и в общих положениях наиболее близко к Дионисиевой философии. См. ниже, с. 551—552; 556. И все же сейчас я склоняюсь к мнению, что Иерофей был реальным человеком. См.: Studia Patristica. 1966. VIII. Р. 108—117.
542
ГРЕЧЕСКАЯ ХРИСТИАНСКАЯ ПЛАТОНИЧЕСКАЯ ТРАДИЦИЯ
Языческая составляющая, помимо платонизма, унаследованного им через христианские источники, проявляется в несомненном родстве с поздним неоплатонизмом, самым знаменитым представителем которого был Прокл,1 а отличительной чертой — значение, придаваемое теургии, особого рода praxis, которой под возраставшим давлением религиозного влияния на философские школы было свойственно вытеснять все остальные ветви, подобно тому как теология, особый род theoria, по той же причине уже получила господство в этой сфере.
Теургия, как и всякая praxis, состояла в использовании чувственных предметов, однако интересовалась не их материей, а присущей им силой, которую они, как считалось, получили от sympatheia, связывающей воедино всю вселенную, чувственное с умопостигаемым, а умопостигаемое с богами и овладение которой автоматически представляло средства для вызова божественного и демонического содействия в практических делах.1 2 И хотя практика теургии пропагандировалась еще Ямвлихом, христианство до сих пор не было затронуто этой стороной неоплатонизма, поскольку христиане уже переделали praxis на свой лад в практику добродетели.3 То обстоятельство, что им принадлежал авторитет Писания в исследовании определенных сверхъестественных предметов — церковных таинств, игнорировалось первыми христианскими философами. Как бы то ни было, псевдо-Дионисий верил в христианскую теургию, и, что очевидно из используемого им языка, сама идея пришла к нему от неоплатоников. Восхождение души, которое для ев. Григория есть гностический процесс, имеющий в основе восприятие богоявлений сперва в чувственном, а затем в умопостигаемом мирах, в Дионисиевой системе достигается через соблюдение сначала ритуалов и церемоний церковной иерархии, а затем установлений и действий иерархии небесной.
И все же при более пристальном рассмотрении Дионисиева теургия оказывается ближе к григорианской анагогии, чем к те¬
1 О предшественниках Прокла известно слишком мало, чтобы утверждать (как это часто делается), что псевдо-Дионисий испытал его непосредственное влияние. Можно лишь заметить, что они жили в одной и той же философской атмосфере неоплатонизма V века. Отсюда следует, что известные даты, связанные с Проклом, не дают основания для датировки псевдо-Дионисия, что вдвойне осложняется тем обстоятельством, что языческие источники последнего относятся к V столетию, а христианские — к IV. О философии Прокла и его предшественников см. в разделе IV («Поздние неоплатоники»), гл. 19 А, с. 374—377.
2 См. ниже, с. 604.
3 Выше, с. 507; 508; 525—526.
ПСЕВДО-ДИОНИСИЙ
543
ургии язычников. Поскольку sympatheia, на которую опиралась последняя, считалась силой природы, демонические и божественные силы были естественным образом присущи чувственным объектам, тогда как в священных предметах христианских церемоний они являлись как благодать таинства; они также не заменяют знания (gnosis), но дополняют и подкрепляют его.1 В «О церковной иерархии» псевдо-Дионисий в меньшей степени занят описанием ритуалов, чем их theoria — очерчиванием их интеллектуального значения; в «О небесной иерархии» он определяет ступени иерархии не только как порядок и действия, но и как градацию «наук» (έπιστημαι), то есть разворачивание знания (gnosis), которое приобретает душа в церковной иерархии и посредством которого она в конце концов достигнет agnosia (у св. Григория epignosis) трансцендентного Бога.1 2 Вместе с тем интерпретация praxis в теургических, а не в нравственных терминах вовсе лишила псевдо- Дионисия, как и остальных поздних неоплатоников, моральной философии. Теология, уже поглотившая всю остальную theoria, овладела также и praxis, что признал и псевдо-Дионисий, назвав свою теургию символической теологией.3
Если теургия является наиболее характерной чертой, которой Дионисиев христианизм обязан неоплатоникам, то важнейшее значение принадлежит концепции универсума, который по своему происхождению и строению, на каждом уровне и в каждой части своего строения единичен и троичен (монадичен и триадичен). Эта теория восходит к Плотину и уже повлияла на разработку христианского учения о Троице и в более широком приложении появлялась у каппадокийцев. И все же там она не столь выпукла, тогда как для псевдо-Дионисия, как и для других поздних неоплатоников, она выступает основным принципом системы, отражается в каждой ее детали и пронизывает всю ее целиком. Что бы ни было предметом рассмотрения — полнота универсума, Бог, формы или отдельная форма, — он обнаруживает три аспекта, неотделимые друг от друга, но допускающие рассмотрение их в отдельности: как то, что есть в себе, что неизменно остается тем, что оно есть, чему ничто не причастно и что не причастно ничему; то, что есть в качестве действующей причины, что допускает
1 См. ниже, с. 548.
2 См. ниже, с. 556.
3 В изложении Дионисиевой теургии я следую главным образом Vanneste J. Le mystere de Dieu. P. 33 f.; La theologie mystique du Pseudo-Denys l’Areopagite // Studia patristica. 1962. V. P. 409 f., хотя и не согласен вслед за ним рассматривать ее в качестве неотъемлемой части его теологии.
544
ГРЕЧЕСКАЯ ХРИСТИАНСКАЯ ПЛАТОНИЧЕСКАЯ ТРАДИЦИЯ
причастность себе в силу следствий, которые она производит; и то, что является конечной причиной, в которую возвращаются ее следствия в силу причастности ей. С точки зрения причастности (или непричастности) эта триада состоит из «непричастного» (άμέθεκτος), «причастного» (μεθεκτός) и «причащающегося» (μετέχων); с позиции движения (или покоя) она есть шопе, proodos, epistrophe; с точки зрения действия (или недеяния) это ousia, dynamis, energeia.1
Корпус псевдо-Дионисия, состоящий из четырех трактатов («О божественных именах», «О церковной иерархии», «О небесной иерархии», «О мистическом богословии»1 2) и десяти писем,3 написан как подробное изложение его «теологии», под которой он понимает «методическую науку о Боге».4 В целом он распадается на три части согласно трем аспектам божественной триады, или Богоначалия, — термин, используемый главным образом потому, что он объединяет в себе идеи множественности и единичности, а также потому, что «Бог» есть лишь одно из имен Бога.5 Три эти части он называет катафатическим, символическим и мистическим6 богословиями. Катафатическое богословие есть наука о Боге как о proodos, или действующей причине форм. Она называется так потому, что формы суть атрибуты, утверждаемые
1 Выше, с. 511. Эта триада, по всей видимости восходящая к аристотелевскому учению о возможности и действительности (потенции и акте), впервые встречается у Порфирия {Iambi De myst. Р. XXXII Parthey) и используется как Проклом, так и псевдо-Дионисием (см. ниже, с. 551), которые в равной мере пишут о ней как о чем-то слишком хорошо знакомом, чтобы требовать пояснения. Иоанн Скифопольский был первым дошедшим до нас автором, кто почувствовал такую необходимость, а Максим Исповедник — первым, кто в полной мере пояснил эту триаду (ниже, с. 581—582).
2 В том порядке, в котором они разбираются здесь. Согласно очевидности внутренней логики, «О мистическом богословии» было написано позже, чем «О божественных именах», а «О церковной иерархии» позже, чем «О небесной иерархии». Возможный хронологический порядок таков: «О божественных именах», «О мистическом богословии», «О небесной иерархии», «О церковной иерархии», поскольку «О божественных именах» представляется самым ранним из перечисленных трактатов. См. с. 545, прим. 1.
3 Из них I, II и V являются комментариями к «О мистическом богословии», VIII — к «О церковной иерархии», а IX представляет собой небольшой трактат о символическом богословии.
4 DN I 8; II 1; III 1 идр.
5 VannesteJ. Le mystere de Dieu. P. 24; см. выше, c. 523.
6 Или апофатическим, хотя, строго говоря, апофатическое богословие является только первой частью богословия мистического.
ПСЕВДО-ДИОНИСИЙ
545
Богом. Таков предмет сочинения «О божественных именах».1 Символическое богословие есть наука о Боге как об epistrophe, или о конечной причине, к которому она восходит посредством чувственных и умопостигаемых символов. Псевдо-Дионисий упоминает о трактате с таким названием, но если он когда-то и существовал, то не дошел до нас: этой теме посвящено два сочинения об иерархиях и Письмо IX. Мистическое богословие есть наука о Боге как о топе, непреложно недоступного чувству или разуму, и является предметом одноименного трактата и Письма V. Каждое богословие состоит из трех разделов: катафатическое имеет дело с Благом, умопостигаемой триадой и вспомогательной триадой, о которой пойдет речь ниже; символическое — с законодательной, церковной и небесной иерархиями; мистическое осуществляется апофатическим методом,1 2 названным так потому, что он отрицает, будто утверждения, сделанные в отношении Бога как причины в катафатическом богословии, относятся к Богу как Трансцендентному, и через agnosia, незнание Непознаваемого, приводит к henosis — превосходящему познание союзу с Богом. В двух последних, являющихся анагогическими, три раздела суть соответственно очищение (катарсис), озарение и единение и, таким образом, соотносятся с тремя ступенями восхождения души.3
Б. Катафатическое богословие
Бог в качестве действующей причины является предметом познания (το νοητόν),4 высшим из познаваемого. Познаваемое означает именуемое. Божественная сущность непознаваема и потому неименуема.5 Имя Единого, которым пользовались неоплатоники, при попытке произнести то, что представляется наиболее значимым ее свойством, оказывается неадекватным способом выговорить то, что следовало бы более точно выразить в таких непостижимых понятиях, как «то, что более едино, чем Единое» (ύπερηνωμένη). Единственно «постижимые имена Бога»
1 Сочинение «О божественных именах» также содержит вопросы, относящиеся к другим видам богословия, и, по-видимому, служит общим введением ко всему корпусу.
2 Ниже, с. 554.
3 Выше, с. 507; ниже, с. 549.
4 Ниже, с. 563.
5 Ниже, с. 555.
546
ГРЕЧЕСКАЯ ХРИСТИАНСКАЯ ПЛАТОНИЧЕСКАЯ ТРАДИЦИЯ
(θεωνυμίαι νοηταί)1 суть имена νοητά, или форм. Первое из них есть имя Блага (άγαθωνυμία),1 2 поскольку только это имя выражает безграничное простирание божественного Промысла3 и потому включает в себя значения как действующей, так и конечной причин:4 оно отмечает точку, в которой сходятся божественные «единения» (ένώσεις) и «разделения» (διακρίσεις), то есть как такие модусы, в которых Богоначалие представляется единым, так и такие, в которых оно видится многим,5 одновременно и раздельностью единств, и единством раздельностей. Оно заключает в себе триаду «начало» (αρχή), «связка» (συνοχή) и «конец» («предел», πέρας): arche и peras представляют собой стороны двунаправленного движения разделения и соединения, или нисхождения и возвращения, истоком которого является Благо,6 a synoche связывает их воедино.7
Это троякое движение составляет деятельность иерархизации умопостигаемого мира, которая имеет место, поскольку Бог «удерживает вместе» (συνέχουσα) вещи одного порядка и подвигает высшие осуществлять попечительство над низшими, дабы последние могли подняться до первых.8 Такой порядок умопостигаемого мира является результатом продолжающегося там процесса разделения (διάκρισις), в ходе которого Нус в свою очередь становится триадой Мудрость—Жизнь—Бытие.9 После рассмотрения Бога как Мудрого, Живого и как Того, Кто есть,10 11 вводятся два новых имени — Сила и Мир.11 Они предполагают третье троичное деление Мудрости на Мудрость—Силу—Мир, которому Константин посвятил три храма в Византии: Айя-София, Айя-Динамис и Айя-
1 МТШ (PG3. 1033а13—14). Ср.: DN I 8; выше, с. 511—512; 516.
2 DN III 1 (PG 3. 680Ь2). См. ниже, с. 554.
3 DN II 1 (PG 3. 636с1—12); IV 1—4, 693Ь—700с; ср. со св. Иоанном Дамас- киным, ниже, с. 598.
4 DN I 2.
5 Ниже, с. 584.
6 DN IV 35.
7 Иванка показывает, что последовательность имен, которые, как будет обнаружено, не имеют под собой библейского обоснования, весьма сходна со списком атрибутов Единого в Платоновом «Пармениде» (Ivdnka Е. von. Der Aufbau der Schrift «Die diuinis nominibus» des ps.-Dionysius 11 Scholastik. 1940. XV. S. 389—399). В отношении άρχή, συνοχή, πέρας см. ниже, с. 584.
8 DN IV 12. См. ниже, с. 557.
9 DN II 5 (PG 3. 641 d 10—644а7). Ср.: Proclus. In Tim. Ill 45.
ю DN V—VII.
11 DN VIII и XI. Главы IX и X представляют собой отступление о приложимости категорий к божественной природе.
ПСЕВДО-ДИОНИСИЙ
547
Ирина.1 Этой триадой (как можно усмотреть в тексте «О божественных именах») завершается рассмотрение форм, поскольку оставшиеся две главы, собственно говоря, относятся к символическому и апофатическому богословию соответственно — глава XII посвящена символическим (или библейским) именам Бога (Царь Царей, Господин Господ, Бог Богов), тогда как глава XIII предвосхищает трактат «О мистическом богословии», рассматривая завершение всех вещей в Едином. Триада Мудрость—Сила—Мир, таким образом, подводит итог рассуждению о катафатическом богословии, обнаруживая, что даже внутри собственных границ она отражает вселенский ритм топе, proodos, epistrophei Бог есть Мудрость, потому что в нем, как в вечном вместилище форм, предопределено все возможное бытие и небытие; Сила, потому что он выступает облеченным властью наделять существованием все вещи; и Мир, потому что приводит противоречия к согласию и возвращает Многое к Единому.1 2
В. Символическое богословие
В качестве триады топе, proodos, epistrophe воспроизводятся в мире форм. Как paradeigmata3 они пребывают в божественной природе: как постижимые атрибуты, которые изучаются в катафатическом богословии и которые в качестве орудий, посредством которых Богоначалие сообщает иерархию всему, что доступно познанию, описываются как «исхождения Божественного Промысла» (πρόνοιαι έκφαντορικαί)4 и «Божественные пожелания» (θεία θελήματα),5 они выступают из нее в умопостигаемый и чувственный миры; и, свойственные здесь как logoi, они суть
1 Ivdnka Е. von. Das Trias Sophia—Dynamis—Eirene im Neuplatonischen Denken und die Kirchengriindungen Konstantinus des Grossen // Communication to the 6th Congress of Byzantine Studies. 1939. Конгресс не состоялся из-за начала войны, материалы же были высланы участникам в личном порядке.
2 DN XI 1 (PG 3. 948dl—949а 1). См. выше, с. 546.
3 DN V 9 (PG 3. 824с9—14). Ср.: Kern С. La structure du Monade d’apres le ps.-Denys // Irenikon. 1956. XXIX. P. 205—209.
4 DN III 1 (PG 3. 680M—5). Cp.: Lossky V. La theologie negative dans la doctrine de Denys l’Areopagite 11 Revue des sciences philosophiques et theologiques. 1939. XXVIII. P. 208. См. ниже, c. 562.
5 DN V 9 (PG 3. 824c9—14). Согласно Максиму Исповеднику (ниже, с. 587), это выражение впервые использует Климент Александрийский, возможно в «De providentia»; см. выше, с. 541, прим. 3. Ср. со св. Максимом Исповедником, ниже, с. 587.
548
ГРЕЧЕСКАЯ ХРИСТИАНСКАЯ ПЛАТОНИЧЕСКАЯ ТРАДИЦИЯ
средства, с помощью которых эти два мира возвращаются обратно к Творцу, и потому именуются «восхождениями» (έπιστροφάι).1 Взятые в этом последнем аспекте, они являются предметом символического богословия.
Символическое богословие есть восхождение от чувственного к умопостигаемому, или познаваемому, за которым в апофатиче- ском богословии должно последовать восхождение от познаваемого к непознаваемому, завершающееся сверхразумным союзом с трансцендентным Единым. Понятия «чувственный», «познаваемый», «непознаваемый»,1 2 «союз»3 имеют как объективное, так и субъективное значение. Они могут именовать как отношение субъекта к объекту, так и качество объекта, обусловливающее это отношение. Объективно говоря, чувственный универсум является той частью универсума, которая доступна ощущениям4 и как таковая могла быть заботой одних лишь ощущений. Однако, как только он осеменяется логосами (logoi), как следствие божественного πρόοδος, он становится миром символов.5 Raison d’etre символа находится не в чувственной материи, загоняющей его в тиски пространства и времени, но в его смысловом содержании. Символическое богословие — это наука, отбрасывающая материальность и взывающая к значению. Таким образом, это первый этап апофатического богословия, следующего далее путем отрицания. Однако если символическое богословие отбрасывает материальное и сохраняет означающее, то апофатическое богословие отбрасывает и само означающее. Оба вида богословия строятся на том принципе, что любое творение, чувственное или умопостигаемое, мыслимо согласно собственной природе и (в соответствии с возможностью своей собственной природы6) есть, как учил св. Григорий Нисский,7 богоявление, обнаружение или символ Единого, которое находится за пределами бытия.8
1 DN VII 3 (PG 3. 869с 13—872аЗ); IV 4, 700а13—Ь8. Ср.: Ploclus. El. theol. 39, 40. 27—42. 7. Вторичные ссылки на это сочинение приводятся по изданию Доддса (Oxford, 1933).
2 См. ниже, с. 555.
3 См. ниже, с. 558.
4 Roques R. Symbolisme et theologie n6gative chez le ps.-Denys // Bulletin de ΓAssociation Guillaume Bude. 1957. Ser. 4. P. 98—99.
5 Roques R. L’Univers dionysien. Paris, 1954. P. 53 (в дальнейшем цитируется как UD).
6 Lossky V. La notion des «analogies» chez le ps.-Denys l’Ar. //Archives d’histoire doctrinale et litteraire du Moyen Age. 1930. V. P. 279—309.
7 Выше, c. 532—533.
8 CH IV 3 (PG 3. 180c3—13).
ПСЕВДО-ДИОНИСИЙ
549
Logoi придают сотворенному миру триадическую структуру своего источника, отчего символы располагаются на трех уровнях, или иерархиях: законной, церковной и небесной, согласно делению мира на вещи, людей и ангелов. Псевдо-Дионисий утверждает, что иерархия есть «священный чин (τάξεις),1 знание (έπιστημαι) и деятельность (energeiai), по возможности уподобляющаяся Божественной красоте и при озарении, сообщаемом ей свыше, направляющаяся к возможному Богоподражанию».1 2 Это определение не только поясняет идею богоявления, но и демонстрирует, что каждая иерархия воспроизводит внутри себя троичное движение Богоначалия, поскольку «священный чин» прочно установлен, однако как «знание» он вынуждает божественное свечение снизойти до низлежащего чина,3 а в качестве energeia является средством взойти к своему источнику. Опять-таки в этом последнем отношении они суть символы трех ступеней восхождения души к Богу;4 восхождение от подзаконной к церковной иерархии есть очищение от материальности символов безотносительно их значения, восхождение от церковной иерархии к небесной — озарение (просвещение), дарующее множественности прозрачность, так чтобы сквозь нее можно было различить Единое, тогда как в восхождении от небесной иерархии к Богоначалию символическое богословие уступает место апофатическому, которое приводит душу к невыразимому единству (ενωσις), каковое есть совершенство обожения (θέωσις). Однако три ступени не следуют друг за другом: каждая требует другой, и поэтому каждая иерархия также является триадой очищений, озарений и совершенствований,5 хотя эта схема полностью разработана только для небесной иерархии.
Хотя псевдо-Дионисий не всегда последователен в использовании терминологии,6 он обычно называет чины внутри иерархий diacosmeseis — понятием, к которому прибегают также александрийцы, каппадокийцы и неоплатоники.7 Высший diacosmesis в каждой иерархии состоит из «таинств» (τελεταί), второй — из
1 См. выше, с. 524.
2 СН III 1 (PG 3. 164dl—10). См. выше, с. 525.
3 См. ниже, с. 563.
4 Выше, с. 507; 545; ниже, с. 553.
5 СН X 3 (PG 3. 273Ы—3); III 3 (168а11—15). См. выше, с. 545.
6 См., например, названия глав II, VIII и IX «О небесной иерархии».
7 См.: Orig. Princ. I 6. 2, V 81. 3 f.; Basil. Hex. I 5 (PG 29. 13a); выше, c. 516; Greg. Nyss. C. Eun. II 223 (I 290. 19—20); De orat. dom. II (PG 44. 1140b); De an. et res. (PG 46. 29a); Proclus. El. theol. 148, 130. 16—19 (διάκοσμος); Damasc. De princ. II 14, 136.
550
ГРЕЧЕСКАЯ ХРИСТИАНСКАЯ ПЛАТОНИЧЕСКАЯ ТРАДИЦИЯ
«посвящающих» (έπιστήμονες, μύσται),1 третий — из тех, кто находится на пути к посвящению в таинства (τελούμενοι).1 2 Таинства суть незыблемая, Богом данная истина в той мере, в какой она может быть проявлена на каждом уровне каждой иерархии,3 которая нисходит через «посвящающих» к тем, кто, будучи инициирован, становится обращенным в нее. Таким образом, три определения иерархии различным образом прилагаются к трем diacosmeseis.
Чувственные символы суть наиболее загадочные богоявления.4 Дальше всего отстоящие от своего Прообраза, они скрывают logoi под завесой,5 дабы защитить немощные глаза от слишком яркого света.6 Такими они предстают в подзаконной иерархии, в которой таинства суть всего лишь неосознанные церемонии, значение которых не раскрыто, а Писание истолковано только в его «чувственном», то есть буквальном, смысле.
Это в церковной иерархии символы начинают прочитываться. Ее теургия есть извлечение смысла из ритуалов, получаемых из ощущений и материи путем «умопостигаемой», то есть анагоги- ческой, интерпретации священных книг.7 Ее таинства тем самым, будучи одновременно и чувственными, и умопостигаемыми, суть Писание и Причастие,8 ее «посвящающие» — священники, разъясняющие одно и совершающие второе, а «посвящаемые» — принимающие их праведники.9 Каждый diacosmesis состоит из трех ступеней: низшая делится на проходящих очищение (новообращенных), озаряемых (принявших причастие христиан) и совершенствующихся (монахов); посвящающие на очищающих (священников), просвещающих (проповедников) и совершенствующих («иерархов»,10 * или епископов);11 таинства же делятся на очищение
1 Примером в «О церковной иерархии» служит Иерофей (выше, с. 541), который описывается как ίερομύστης и ίεροτελεστής.
2 EH V 1 (PG3. 501 а4—6).
3 См.: Proclus. De dec. dub. 17. 12—18 Boese.
4 EH V 2 (PG 3. 501Ы1—14).
5 Ibid.
6 Ibid. 501c. Cp. выше, c. 525.
7 Varmeste J. Op. cit. P. 28.
8 EH I 4 (PG 3. 376b 11—13).
9 Ibid. V 2 (PG 3. 501 d4—8).
10 Этот титул, из которого псевдо-Дионисий, по-видимому, и образовал слово «hierarchia», встречается в греческих надписях в значении управляющего храмовым имуществом и руководителя священных обрядов (IG VII 303 ар. Liddell & Scott (Jones)). Без сомнений, именно благодаря второму кругу обязанностей, имеющему очевидное теургическое приложение, псевдо-Дионисий предпочел это имя имени «епископ».
ч EH V 6.
ПСЕВДО-ДИОНИСИЙ
551
крещением,1 просвещение Писанием2 и совершенствующий и объединяющий ритуал Евхаристии, являющийся ключом к умопостигаемому миру.3
Умопостигаемый мир есть мир высших творений, а следовательно — яснейших богоявлений. Ангелы, или интеллигенции (θειοι νόες),4 суть «возвестители божественного молчания» и «как бы сияющие светы, изъяснительно исходящие от Пребывающего в заповедном святилище».5 Если триады церковной иерархии рассеяны, так что таинство отделено от посвящающего, он — от посвящаемых им, а они от таинства, в которое посвящаются, то умопостигаемые триады на уровне, более близком к Единому, взаимопринадлежны. Нус неотделим от своего познавания и от объекта познания: ousia, dynamis, energeia предполагают друг друга.6 Поэтому каждый diacosmesis обнаруживает в своих чинах не только свою собственную деятельность, но и функции двух других. Таинства состоят из Серафимов, или «пламенеющих»,7 названных так, поскольку внутри их иерархии они являются источником света, Херувимов, «обилие познания или излияние мудрости»,8 передающих свет,9 и Престолов, получивших такое наименование как восприемники света;10 посвящающие состоят из Господств, которые, удерживаясь взглядом на горнем, становятся paradeigmata Истины,11 Сил (δυνάμεις), сообщающих ее,12 и Властей (έξουσίαι), получающих ее;13 обращаемые — из Начал, которые в уменьшенном масштабе своего diacosmesis выполняют ту же роль, что и Господства,14 Архангелов, имя которых указывает на то, что они посредничают между Началами (άρχαί) и Ангелами,15 и самих Ангелов, являющихся обращаемыми внутри своего diacosmesis
1 Ibid. II. Ср.: UD VIII 1; Roques R. Le sens du bapteme selon le ps.-Denys // Irenikon. 1958. XXXI. P. 427—449.
2 Ibid. I 4 (PG 3. 376b9—14).
3 UD VIII 2.
4 Ниже, c. 561; 563.
5 DN IV 2 (PG 3. 696bl3—14).
6 CH XI 2 (PG 3. 285d5—6). Cp.: Proclus. El. theol. 167 и 169; De dec. dub. 22. 13—19 Boese; выше, c. 538—539; 544.
7 CH VII 1 (PG 3. 205b5—6).
8 Ibid. 6—7.
9 Ibid. 205c8—15.
10 Ibid. 205d6—8. Cp.: Proclus. Plat, theol. VI 24.
EH VIII 1 (PG 3. 237c8—d3).
12 Ibid. (PG 3. 240d8—9).
13 Ibid. (PG3. 240a9—12).
14 Ibid. IX 1 (PG 3.257b6—12).
15 Ibid. IX 2 (PG 3. 257cl2—d2).
552
ГРЕЧЕСКАЯ ХРИСТИАНСКАЯ ПЛАТОНИЧЕСКАЯ ТРАДИЦИЯ
и чина, но, как входящие в состав небесной иерархии, причастных обращающей функции в отношении к иерархии церковной. «Богословие вверяет священноначальство над нами Ангелам».1
В Дионисиевом корпусе «О церковной иерархии» следует за «О небесной иерархии», поскольку является ее копией в протяженном мире материи, хотя, согласно логическому порядку символического богословия, она предшествует ей, поскольку путь восхождения проходит от копии к образцу и от образца к Единому. В «О церковной иерархии» обращаемый — получает ли он наставление в Писании или участвует в обрядах — побуждаем проследовать за пределы материального к открытию истины и Единого. В этом процессе теургия всей иерархии в целом участвует в умопостигаемой деятельности ангелов, и тем самым обращаемый направлен на путь от theoria к трансцендентному гнозису, неотделимому от обожения. Таким образом, как только Церковь помещает перед нашими глазами сцену литургии во всей ее ритуальной сложности, она преследует единственно катарсиче- скую и анагогическую цель воодушевить в гуще множественного и чувственного к занятию негативной диалектикой, направленной вначале к умопостигаемой простоте небесной иерархии, которую она отражает, а затем к тому, отражением чего является сама небесная иерархия, а именно — к наднебесному Единому.* 2
Г. Мистическое богословие
Восхождение от законной иерархии к церковной, от церковной к небесной есть озарение. Св. Григорий Богослов уже обозначил опасности стремления к озарению прежде очищения,3 и псевдо- Дионисий повторяет это предупреждение. Если методическая наука о Боге не извлекает значения материальных объектов из их материальности, она закончит идолопоклонством. Если это не сделано на чувственном уровне, где материальность символа (то есть его несходство с тем, что он обозначает) очевидна для ума, что удерживает его от поклонения ей, то на умопостигаемом уровне сделать это будет невозможно, поскольку там символы уже не являются чувственными объектами, а суть умопостигаемые понятия, сходство которых с тем, что они означают, столь близ¬
ки IX 2 (PG 3. 260аЗ).
2 Roques R. Symbolisme et theologie negative. P. 108.
3 Выше, c. 525.
ПСЕВДО-ДИОНИСИЙ
553
ко, что может обмануть неочищенный глаз. Сходство (οικειότης, συγγένεια), через любовь, красоту, яркость, симметрию, пригодность для личных и общественных целей объединяющее символ с реальностью, о качествах которой заявляет катафатическое богословие, склоняет душу жить целиком на эстетическом, интеллектуальном, рациональном или утилитарном уровне; и если она целиком вступает в универсум этих ценностей, она делает их исключительным объектом своего созерцания, так же как лишенное разума ощущение озабочено одним лишь материальным миром. Потому даже на умопостигаемом уровне символическое богословие предпочитает иметь дело с символами, перенесенными (не человеческим опытом, а на основании авторитета истины, явленной в Священном Писании) из чувственного в умопостигаемый мир, а не с тем, что свойственно умопостигаемому миру и неотличимо для человеческого зрения от тех logoi, которые оно скрывает. Несходный символ является более надежным ориентиром, чем сходный, и чем меньше сходство, тем большего доверия он заслуживает. По вещам, относящимся к низкому, грубому или даже безобразному и беспорядочному уровням существования, легче всего судить, что не есть Бог.1 Этот принцип, учрежденный символическим богословием, получает свое логическое завершение в апофатическом богословии, наделяющим Причину бытия именем Небытия.
Восхождение от понятия Бога как конечной причины, в котором символическое богословие достигает точки, где начинается катафатическое, вводит мистическое богословие, которое безошибочно переводилось на средневековый английский выражением «Hid Divinitie»,* ибо mustikos не имело каких-либо психологических ассоциаций, прилепившихся к нему впоследствии, но означало лишь, что, поскольку оно превосходит осмысление, его невозможно истолковать, но можно только испытать,1 2 в силу чего оно остается сокрытым. Анагогия, в которой восхождение со Второго на Третье Небо, не разобранное ев. Григорием Нисским,3 разложено на модусы очищения, просвещения (озарения) и совершенствования,4
1 СН II 3 (PG 3. 141а—с). Ср.: Roques R. Art. cit. Р. 101—103.
2 Иерофей, как нам рассказывает псевдо-Дионисий, не только узнал, но и пережил божественное, ού μόνον μαθών άλλα καί παθών τά θεΐα (DN II 9, PG 3. 648b2—3). Cp.: Arist. Fr. 15 Rose; ниже, с. 556.
3 Выше, с. 537—538.
4 См. выше, с. 549.
* Ср. англ, hide — «скрывать», «прятать» и divinity — «божество». — При- меч. перев.
554
ГРЕЧЕСКАЯ ХРИСТИАНСКАЯ ПЛАТОНИЧЕСКАЯ ТРАДИЦИЯ
в себе завершена: отбрасывание (άφαίρεσις)1 интеллектуальных концепций, трансцендентное знание (gnosis), обнаруживающее, что Бог непостижим и потому есть agnosia, и, как следствие, союз с Непостижимым.
Первым модусом является апофатическое богословие,1 2 заключающееся в отбрасывании форм и образов, которые катафатиче- ское богословие извлекает из первой причины, а символическое возвращает к ней вновь. Это по-прежнему умственная операция, состоящая в последовательном отрицании божественных имен, последовательно установленных катафатическим богословием: оба вида богословия действуют в одном и том же поле, но в противоположных направлениях, служа проверкой друг другу. Это становится наиболее ясно по окончании обоих процессов: катафа- тическое богословие, как следует из «О божественных именах», заканчивается утверждением «Царь» или «Господь» и нуждается в апофатическом богословии, чтобы то спасло его от антропоморфизма; апофатическое заканчивается отрицанием того, что Бог есть,3 и требует утверждения того, что Бог есть причина всего сущего, и потому его просто не может не быть. Само отрицание того, что он есть, есть утверждение того, что его нет.4
Платоновская уверенность в том, что сущность не трансцен- дентна, а, напротив, есть основа имманентности и первое проявление на уровне внешних процессов,5 стала причиной Плотиновой дилеммы: «Мы говорим, что Он не есть, но не говорим, что Он есть».6 Хотя с точки зрения символического богословия Небытие, возможно, и есть менее всего вводящий в заблуждение символ божественной природы, благодаря абсолютному несходству с Причиной бытия, тем не менее катафатическое богословие показывает, что это все еще символ, причем не вполне выразительный, поскольку Бог есть Благо, а Благо включает в себя как бытие, так и небытие;7 апофатическое же богословие обнаруживает, что этот символ не только далеко не самый несходный, но и самый сходный, а потому наиболее обманчивый. Впрочем, смысл, при¬
1 Понятие Плотина: см. выше, с. 516.
2 Выше, с. 545.
3 Ср.: Plat. RP VII 519с8—dl; 521с1—8; Enn. V 3 [49] 10, 14; V 5 [32] 6, 13; V 5 [32] 13, 13; VI 7 [38] 38; выше, с. 516.
4 См. ниже, с. 583.
5 Corsini Е. La questione areopagitica: contributi alia cosmologia dello ps.- Dionigi //Atti della Accademia delle scienze di Torino. 1958—1959. XCIII. P. 35.
6 Enn. V3 [49] 14, 6—7.
7 Выше, c. 546.
ПСЕВДО-ДИОНИСИЙ
555
даваемый Дионисием Божественной Трансценденции, достаточно позитивен, чтобы не дать поглотить себя категориям подобного символизма. И хотя он не смешивает, как это делает непосвященный (άμυστοι), Творца и творение, приписывая обоим понятие бытия,1 он также не порывает с заключениями апофатического богословия, подобно платоникам. Как следствие, он вводит понятие «сверхсущий» (υπερούσιος),1 2 которое не обозначает ни сущего, ни не-сущего, но трансцендирует и одно и другое. Оно реально и потому не может быть объектом незнания; человек ослеплен блеском его реальности, а потому оно не может быть объектом познания;3 это Бог, а потому он вовсе не может быть объектом.4 И это даже не Единое,5 а целый мир, наполненный объектами, которые не суть объекты и о которых мы можем говорить как об объектах, только непрерывно прибегая к приставке ύπερ, которая хотя и не разрушает значения, но превосходит его. Парадоксальное название «мистические видения» (μυστικά θεάματα),6 которое псевдо-Дионисий дает этим сверхобъектам, как утверждает, так и отрицает то, что они мыслимы, a theoria, с помощью которой мы созерцаем или не созерцаем их, есть agnosia, которая является вторым модусом, или ступенью, мистического богословия.
Говоря, что познание Бога есть знание о том, что он непостижим, псевдо-Дионисий вторит каппадокийцам,7 однако его понимание agnosia Бога в объективном смысле8 как качества, присущего mustica theamata, представляется оригинальным. Удовольствие души, или, скорее, ненасытимая радость, в обнаружении того, что познать Бога есть то же, что постичь его непознаваемость, есть нечто большее, чем эмоциональное переживание, как считает ев. Григорий Нисский.9 Это конкретная реальность. Верно, agnosia не есть Божественная Сущность как таковая, но только «место,
1 См. ниже, с. 587.
2 Об истории этого слова см.: Corsini Е. Art. cit. Р. 50—53; ниже, «Св. Максим Исповедник», с. 582.
3 Lossky V. La theologie negative dans la doctrine de Denys l’Areopagite. P. 206. В этом он идет дальше каппадокийцев, утверждавших, подобно неоплатоникам, лишь то, что Бог не может быть объектом познания. См. выше, с. 516; 522; 537—538.
4 МТ 5 (PG 3. 1048а 15—Ы).
5 Выше, с. 545.
6 МТ I 1 (PG 3. 997Б6).
7 Выше, с. 516; 537—538.
8 Vanneste J. Op. cit. Р. 10, 50. Ваннест полагает, что этим объясняется выбор псевдонима, ассоциирующего его с проповедью св. Павла о Непостижимом Боге (см. выше, с. 548).
9 Выше, с. 539.
556
ГРЕЧЕСКАЯ ХРИСТИАНСКАЯ ПЛАТОНИЧЕСКАЯ ТРАДИЦИЯ
где Он пребывает»,1 подобное сундуку с сокровищами, которым можно обладать, так никогда его и не отперев: и все же, владея сундуком, мы владеем сокровищами.
Последняя ступень мистического богословия, восхождение от agnosia к henosis, есть внезапный переход. Как только Моисей вступил в Божественную Тьму1 2 agnosia, он удивительным образом соединился с тем, кто недоступен никакому познанию.3 В своем субъективном смысле agnosia не более отрицательна, чем в объективном смысле. Она означает не оплошность ума, но его слияние с Богом и тем самым мистична в специальном смысле этого слова.4 Однако ее роль скорее пассивна, чем активна.5 Agnosia исключает чувственное — и потому ее невозможно продемонстрировать, исключает умопостигаемое — и потому ей нельзя научить (διδακτόν); и все же она есть вйдение, которому свойственно объединять,6 невыразимое и над-сообщаемое. Она отличается от экстаза и любви. Под экстазом псевдо-Дионисий понимает не оставление воли и разума, а расширение их способностей за пределы, свойственные им по природе, в сторону, где они более не могут полагаться на самих себя, но, столкнувшись с Божественной Властью, представшей перед ними, то есть Божественным Провидением, предшествовавшим им в бытии,7 дружественной силой, побуждающей к действию Богоначалие,8 одним словом — Любовью (Έρως), сливаются с ней. Цикл нисхождения и возвращения, очерченный катафатическим и символическим богословием, включен в любовный цикл, который неуклонно9 исходит из Бога через иерархии, умопостигаемое, чувственное, живое и материальное, на всем оставляя отпечаток своей природы,10 11 и в симметричном возвращении в качестве «соединяющей силы» (δύναμις ενοποιός) сводит все вещи в иерархическом порядке обратно к Единому.11 Эрос недаром получил название «исходящей любви» (ερως εκστατικός),12 по¬
1 MTI3(PG3. 1000d6).
2 См. выше, с. 538.
3 МТ I 6 (PG 3. 1001а9—10). См. выше, с. 543; ниже, с. 558.
4 DN IV 13 (PG 3.712а).
5 Ibid. II 9 (PG 3. 648b3); VII 1, 865b—868а; VII 2, 872а; выше, с. 553.
6 Ibid. IV 6 (PG 3. 701b7).
7 Псевдо-Дионисий, должно быть, был знаком с этимологией слова πρόνοια, известной Проклу: προ νοΰ — «то, что до ума».
8 DN IV 10.
9 Ibid. 14.
10 Ibid. 12.
11 Ibid. 13—17 (PG 3. 712a—713d).
12 Ibid. 13 (PG 3. 712al).
ПСЕВДО-ДИОНИСИЙ
557
скольку он есть сама божественная природа и все же пронизывает творение, однако он также вызывает экстаз в других, ибо Любовь не позволяет, чтобы любящие принадлежали сами себе.1 Таким образом, существует два рода экстаза, или отклонения от природы: Бог, как учит катафатическое богословие, нисходит из своей собственной Природы, которая есть Единое, в пределы множественности, являя себя в бесчисленных символах; душа же, взойдя от чувственного до умопостигаемого в символическом богословии, возводится в мистическом богословии за пределы собственной умопостигаемой природы множества понятий к абсолютному единству Бога.1 2 Результатом этих двух экстазов является всеобщее сплавление в единстве,3 которое вместе с ними составляет триаду шопе, proodos, epistrophe.
И все же Бог не отступает от самого себя,4 и Божественный Экстаз тождествен Божественной Трансцендентности.5 Более того, узы любви связывают воедино умопостигаемое в его иерархии, тянутся от него вверх к Богоначалию, к которому и устремлено его восхождение, и связывают его с нижележащей иерархией, согласно промышлению не связываемых ими природ.6 По-видимому, только восходящая душа способна на действительный экстаз. Как бы там ни было, между «теургическими» трактатами, которые настаивают на строгом разделении иерархий, и «теологическими», которые, как нам представляется, им пренебрегают, нет противоречия, поскольку Дионисиевы иерархии, в отличие от неоплатонических, как таковые не имеют силы, но являются посредниками могущества Бога, который есть не только единственная действующая, но и единственная конечная причина, обусловливающая возвращение, общее для всех уровней бытия: чувственного мира, людей и ангелов.7 Они суть часть содержания символического богословия, последний и наиболее сходный из символов,8 который необходимо отбросить, перед тем как душа выйдет из себя и вступит в экстазе в Божественную Тьму. В качестве порядка они выражают посто¬
1 Ibid. 1—2.
2 Roques R. Symbolisme et theologie negative. P. 112.
3 DN IV 15 (PG 3. 713a7—8; 17, 713d3).
4 Ibid. IV 13 (PG 3. 712b2—5): «Истины ради осмелимся также сказать и то, что и Сам являющийся Причиной всего благодаря любви к прекрасному и добру во всем, по избытку любовной благости оказывается за пределами Себя».
5 Ер. IX 5 (PG 3. 1112с6—14).
6 DN IV 10 (PG 3. 708а8—10). См. выше, с. 546.
7 VannesteJ. Op. cit. Р. 28. См. ниже, с. 594—595.
8 Выше, с. 549; ниже, с. 598.
558
ГРЕЧЕСКАЯ ХРИСТИАНСКАЯ ПЛАТОНИЧЕСКАЯ ТРАДИЦИЯ
янство последовательности очищения, озарения (просвещения) и совершенствования в восхождении к Богу; в качестве науки — озарение, которому надлежит предшествовать Блаженному Вйдению; в качестве действия — созерцание, которое настолько интимно, что душа становится тем, что созерцает.1 Однако в конце концов она должна прейти всякий порядок, всякую науку, любое действие и саму небесную иерархию, являющуюся высшим объектом созерцания в общепринятом смысле слова,1 2 и постичь agnosia Бога, благодаря которой она соединится с ним, что есть не абстрактная идея, но само его Единство,3 поскольку над-мыслимый henosis обозначает как участие души в Боге, так и то, что он есть.4
1 Выше, с. 556.
2 Выше, с. 551.
3 Выше, с. 538; 553—554.
4 Vanneste J. Op. cit. Р. 200; Ball Н. Die Hierarchien der Engel und die Kirche. Miinchen, 1955. S. 84.
Глава 31
РЕАКЦИЯ ПРОТИВ ПРОКЛА
А. Иоанн Скифопольский
Мы не пытаемся здесь вступить в кажущуюся бесконечной полемику относительно того, кем был псевдо-Дионисий1 и когда он жил, хотя это, вероятно, было после каппадокийцев, развитие ряда идей которых он осуществил,1 2 и до 528 г., самой поздней из возможных дат первого в истории упоминания о его сочинениях. Очевидно, он симпатизировал и христианству, и платонизму, хотя оценить относительный вес того и другого в его сочинениях трудно.3 Пожалуй, можно осторожно сказать, что он был христианским философом, выразившим свои воззрения в терминах современного ему неоплатонизма по двум причинам: во-первых, потому что последний глубоко интересовал его, а во-вторых, потому что наилучший способ обосновать эти воззрения состоял в том, чтобы обратить доводы философского учения, казавшегося Ареопагиту наиболее убедительным, против самого этого учения.4
В этом отношении его позиция не отличалась от позиции Григория Нисского, хотя неоплатонизм ев. Григория напоминал Плотина, тогда как неоплатонизм псевдо-Дионисия — Прокла. Переход от ев. Григория к Ареопагиту являлся, по сути, уклоне¬
1 До сих пор остающиеся в игре кандидаты растянулись с шестого века (Петр Фуллон и герой настоящей главы) по второй (Аммоний Саккас).
2 См. выше, с. 541.
3 Vanneste J. Op. cit. Р. 14. Современные оценки расходятся в том, был ли автор язычником, предусмотрительно скрывавшим свой радикальный неоплатонизм под тонким слоем христианства, или искренним христианином и даже христианским мистиком, нашедшим в неоплатонических формулировках подходящий способ выразить собственную мысль.
4 Corsini Е. Art. cit. Р. 56—60; Ivdnka Е. von. La signification historique du Corpus areopagiticum // Recherches de science religieuse. 1949. XXXI. P. 5—24.
560
ГРЕЧЕСКАЯ ХРИСТИАНСКАЯ ПЛАТОНИЧЕСКАЯ ТРАДИЦИЯ
нием в противоположную христианизму сторону, и двусмысленности у псевдо-Дионисия были симптомами напряжения между христианизмом и платонизмом, ставшего почти критическим.1 Это сразу почувствовали. Стоило Corpus Dionysianum сделаться достоянием общественности, как комментаторы немедленно взялись отстаивать не только его оригинальность, но и его ортодоксальность. Свои комментарии в первой половине VI века оставили Иоанн и Георгий Скифопольские,1 2 в VII веке — св. Максим Исповедник, в VIII веке — патриарх Константинопольский Герман I.3 Предложили их и другие анонимные комментаторы, жившие в это время.
Вероятно, все, что сохранилось от наиболее ранних комментариев, исчерпывается рядом глосс, которые можно найти в многочисленных рукописях Корпуса и опубликованных в PG за авторством св. Максима,4 но которые, по крайней мере по большей части, являются сочинениями Иоанна Скифопольского,5 написанными около 530 г.
1 Хотя псевдо-Дионисий вполне однозначно отстаивает исключительно христианское учение о «полном спасении» (ολική σωτηρία) человека, то есть о воскрешении и тела, и души, он не интересуется такими вопросами, как первородный грех или наследственная порочность человека. В самом деле, антропологии в его системе уделено меньше всего внимания. О воскрешении тела см.: EH VII (PG 3. 533а—b, 563b); Roques R. Symbolisme et theologie n0gative. P. 107; выше, c. 507; о недостатках христианского учения см.: Roques R. Loc. cit.; Gross J. Ur- und Erbsunde in der Theosophie des ps.-Dionysius Areopagita // Zeitschrift fur Religions- und Geistesgeschichte. 1952. IV. S. 34—42.
2 Комментарий Георгия не сохранился, однако сфабрикованное им для установления авторства письмо, в котором «Дионисий» посвящает свой труд папе Сиксту II, опубликовано в PitraJ. В. Analecta sacra IV Paris, 1883. Р. XXIII—XXIV и 414—415. См.: Balthasar U. Das Scholienwerk des Johannes von Scythopolis // Scholastik. 1940. XV, 1. n. 19; Bardenhewer O. Geschichte der altkirchlichen Literatur. Bd. IV. Freiburg, 1924. S. 296—297.
3 Mai A. Spicilegium Romanum. Vol. VII. Roma, 1842. P. 74; PG 98. 87—88; Diet, theol. cath. VI, 1305; Krumbacher K. Geschichte der Byzantinischen Litteratur. Miinchen, 1891. S. 67.
4 PG 4. 14—432, 527—576. См. ниже, c. 610—611.
5 И Лекин (Lequien M. Dissertatio damascenica II, PG 94. 281 f.), и Пирсон {Pearson J. Vindiciae ignatianae, I, 10, PG 5. 202 f.) приписывают глоссы Иоанну. Бальтазар {Balthasar U. Art. cit.) считает Иоанна автором только того комментария, которым дополнена сирийская версия Корпуса, подготовленная Сергием Решайнским в первой половине VIII века, а все остальные принадлежащими Максиму. Однако предположение, что Максим вообще писал какие-либо глоссы, не слишком убедительно {Sherwood Р. Sergius of Resaina and the Syriac Version of the ps.-Dionysius // Sacris erudiri. 1952. IV. P. 181).
РЕАКЦИЯ ПРОТИВ ПРОКЛА
561
По-видимому, назначением этих схолий было успокоить сразу и христиан, подозревавших, что доктрины Дионисия еретич- ны, и платоников — как христиан, так и язычников, — столь же недоверчивых или, возможно, просто незнакомых с часто иррациональными и эксцентричными разработками неоплатонизма Проклова типа.1 Они содержат враждебную критику (от имени псевдо-Дионисия) всех еретических течений того времени: несторианства,1 2 арианства,3 евномианства,4 Симона Волхва,5 валентиниан,6 маркионитов,7 манихеев,8 оригенистов,9 лампетиан,10 *
мессалиан,11 ацефалов,12 адельфиан.13 С другой стороны, разоблачались сходства с платонизмом, замаскированные в самом Корпусе:14 называя ангелов «умами» (νόες),15 автор вторит «греческим философам, которые наделяли этим же именем умопостигаемые, или ангельские, силы»,16 когда же он называет формы paradeigmata, он следует за Платоном.17 Посвящение (τελετή) разъясняется в понятиях языческих мистерий.18 Тем не менее, привлекая внимание к этим лексическим параллелям, схолиаст старательно указывает на различия в значениях.
Небесная иерархия не повторяет, но заменяет собой политеистические иерархии неоплатоников:19 Бог зовется Богоначалием,
1 Орню выдвинул интригующее предположение, которое лишь против воли оставил, что Иоанн сам был автором Корпуса и комментирует собственное сочинение. См.: Hornus J. М. Les recherches recentes sur le ps.-Denys ГАг. 11 Revue d’histoire de philosophic religieuse. 1955. XXXV. P. 448; Les recherches dionysiennes de 1955—196011 Rev. d’hist. de phil. relig. 1961. XLI. P. 37.
2 57b—c, 209d, 225d, 536b (все ссылки на Иоанна Скифопольского даны по PG 4).
3 60b, 192b, 209d, 536b.
4 192с, 209b.
5 176а—b, 312а, 337с—d, 545с.
6 176а, 397с.
7 169d, 176а.
8 176а, 272d, 285b, 397с, 557b.
9 176а—b, 545с.
ю 169d.
п 169d, 557b.
12 209d.
>3 169d.
14 Выше, c. 541.
15 Выше, c. 551.
16 32al3—14.
17 329d3—9.
18 32d3—5.
19 32cl—2.
562
ГРЕЧЕСКАЯ ХРИСТИАНСКАЯ ПЛАТОНИЧЕСКАЯ ТРАДИЦИЯ
поскольку «он правитель так называемых богов, то есть ангелов и святых».1 «Поскольку причина всех вещей одна, а не много, и это единое Богоначалие приводит (παράγουσα) все вещи к существованию, святая и блаженная Троица, а не множество творящих божеств. Это он говорит не случайно, но в осуждение греческих мудрецов и симониан, которые утверждают, что существуют уровни божеств, соответствующие нисходящей иерархии творений, так что даже охватывают то, что подлежит всем вещам, а именно материю».1 2 Опять-таки Дионисиева концепция paradeigma отличается от платоновской: «Тогда как Платон незаслуженно отделял paradeigmata от Бога, наш Учитель (πατήρ), хотя и использовал это же понятие, придавал ему более достойное (εύσεβώς) значение».3 Не отвергая полностью Дионисиева понятия huperousios (как не отвергает он ни одного другого из воззрений своего «Учителя»), Иоанн все же предпочитает говорить о божественной ousia, избегая неоднозначностей апофатического богословия. В то же время он остерегается смешения Творца и творения,4 поскольку божественная сущность строго отделена от всякой иной сущности благодаря своему абсолютному тождеству с божественной dynamis и божественной energeia, тогда как в отношении всего остального всегда имеется некоторая степень рассеяния. Божественная сущность есть скорее Единое, чем бытие, творение же есть процесс рассеяния.
В своем кратком упоминании о триаде ousia—dynamis—energeia псевдо-Дионисий утверждает, что ousia по природе своей неповреждаема, тогда как dynamis повреждаема,5 а потому обнаружение этой триады в божественной природе и прежде всего в ее единстве, по-видимому, означало бы допущение повреждаемости в самом сердце Богоначалия как такового. Однако Иоанн поясняет, что разрушение dynamis есть ее переход в energeia.6 «Повреждаемость» в божественном означает нисхождение (πρόοδος) сил в иерархии, так как силы погибают в обратном движении
1 192с9—10.
2 312а6—9.
3 329d3—9.
4 См. выше, с. 555.
5 DN IV 23 (PG 3. 724с9).
6 289а 11—12. Не обязательно, что эта идея родилась впервые у Иоанна. Возможно, она уже скрыто присутствовала в мысли псевдо-Дионисия, который не считал, что эта триада, составленная не позднее Порфирия, нуждалась в пояснении. См. выше, с. 544, прим. 1; ниже, с. 581—582. Об уничтожении δύναμις в ένέργεια см. ниже, с. 589.
РЕАКЦИЯ ПРОТИВ ПРОКЛА
563
(έπιστροφή) иерархий к божественной природе, всегда остающейся равной себе (μονή).
Иоанн интерпретирует учение Дионисия о формах в терминах среднего платонизма:1 они относятся к Богу, как νοήσεις к Уму (Nous). Как Бог нисходит в формы (которые суть его δύναμεις), так и Нус нисходит в мысль.1 2 Но опять-таки удел δύναμις — перейти в ένέργεια, которая есть восхождение Нуса к Богу и свойственная ему деятельность.3 С точки зрения этой деятельности Бог является объектом познания (το νοητόν),4 а мыслящие его сущности — ангелы (νόες), субстанция которых есть божественный νόησις, умопостигаемое, или нематериальное, «вещество»,5 — суть познающие (νοεροί).6 Небесная иерархия, в свою очередь, является объектом созерцания церковной, и потому по отношению к человеку ангелы суть мыслимые (νοητοί). Таким образом, о них можно говорить как о «мыслимых и мыслящих» (νοητοί τε και νοεροί).7 Церковная иерархия является низшей из наделенных Нусом, а значит, раз ниже людей нет чина, способного мыслить о людях, они не могут быть noetoi в отношении чего-либо, и, следовательно, как созерцающие небесную иерархию и Бога, они могут быть только noeroi.8 Точно так же Богоначалие, не имея над собой чина, который оно могло бы созерцать, есть только noeton.
Переформулировав Богоначалие и две иерархии как триаду noeton—noetoi te kai noeroi—noeroi, Иоанн избавился от теургического элемента в системе Дионисия и примирил катафатическое и символическое богословия. Он устранил те черты, которые создавали впечатление, будто псевдо-Дионисию не удалось привести свою систему к непротиворечивому целому.9 Вместе с тем не только этим, но и благодаря включению элементов, восходящих к Аристотелю (например, достоверность чувственного опыта), среднему платонизму и раннему неоплатонизму, он сблизил философию Дионисия с магистральным течением платонизма и тем самым с христианской позицией.
1 329с7—14; 332а4—Ь6.
2 δύναμις τού νοΰ τό εις νοήσεις κατιέναι (289с5—6). См. ниже, с. 618.
3 289сЗ—5.
4 См. выше, с. 545.
5 317с4.
6309с1—11.
2 344с 13—d5; 325а11—13. Ср.: Ps.-Dionys. Ер. IX 2 (PG 3. 1108dl). См. ниже, с. 598.
8 344d5—9.
9 См. выше, с. 557.
564
ГРЕЧЕСКАЯ ХРИСТИАНСКАЯ ПЛАТОНИЧЕСКАЯ ТРАДИЦИЯ
Б. Александрия: Иоанн Филопон
Предполагаемая дата выхода схолий Иоанна Скифопольского совпадает с закрытием Афинской академии Юстинианом в 529 г. и появлением в том же году «О вечности мира против Прокла» Иоанна Филопона.1 Причина всех трех событий, по сути дела, одна и та же: отвержение учения, распространявшегося Академией со времен Ямвлиха и достигшего наиболее полного выражения у Прокла. На это учение более невозможно было ссылаться в поддержку христианских тем, как это в определенной мере позволял неоплатонизм Плотина (по всей видимости, псевдо-Дионисий был единственным автором, попытавшимся использовать его в этом качестве), к тому же оно являлось опасным противником, стоявшим на прямо противоположных позициях. Шаг Юстиниана был жестом христианского государя, приказавшего замолчать врагам веры.1 2 Впрочем, ее врагами были не платонизм и даже не неоплатонизм в своих основоположениях, а Проклова теология, опирающаяся на политеизм, и Проклова же теургия, исходящая из веры в сверхъестественную силу, присущую миру феноменов.3
Оба этих учения имеют своим общим источником языческое деление реальности на умопостигаемый и чувственный миры в противовес христианской дихотомии Творца и творения.4 Нельзя сказать, что христианские платоники приняли последнюю безоговорочно, ведь до тех пор, пока Проклов неоплатонизм не сделал из языческого учения явно недопустимых выводов, таящаяся в нем опасность не была очевидна. И хотя каппадокийцы и псевдо-Дионисий явственно проводят абсолютное различие между Единым Богом с одной стороны и чувственно умопостигаемым универсумом с другой, хотя ев. Григорий Нисский избегает называть человеческую душу божественной, а псевдо-Дионисий строго отделяет формы как мысли Бога от умопостигаемых сущностей небесной иерархии, — это различие ни у кого из них не получило достаточного объяснения. Более того, поскольку эти философы уделяли мало внимания физическому миру (за исключением св. Василия, который, впрочем, не углублялся в этот частный вопрос),5 их не интересовало аристотелевское учение о квинтэс¬
1 Ed. Н. Rabe. Leipzig, 1899.
2 loan. Mai. Chronographia XVIII 18.
3 Tatakis B. La philosophic byzantine // ВгёЫег Ё. Histoire de la philosophic. Fasc. suppl. II. Paris, 1959. P. 20.
4 См. выше, c. 506.
5 Basil. Hex. I 11 (PG 29. 25a—28b).
РЕАКЦИЯ ПРОТИВ ПРОКЛА
565
сенции, способное объяснить указанную дихотомию с помощью физических понятий.1 Великий вклад Филопона в христианскую философию состоял в том, что он с помощью научных аргументов продемонстрировал, что материя неба неотличима от подлунной и что поэтому феноменальный универсум в целом разрушим, тем самым обеспечив христианское учение о сотворенном и конечном во времени мире научным обоснованием. Отсюда следовало, что он не божествен, а Прокловых иерархий богов, нисходящих в феноменальный мир, не существует.
Иоанн Филопон родился между 475 и 480 гг., предположительно в Александрии, где он состоял членом философской школы, основанной Гермием, учеником Сириана, и где учился (вероятно, вместе с Боэцием)1 2 у Аммония, четвертого сына и преемника Гермия. При Аммонии школа обратилась от платоновских штудий к изучению Аристотеля, возможно под давлением Церкви.3 И хотя сам Аммоний не утратил интереса к Платону,4 его лекции об Аристотеле имели большую популярность и более широкую аудиторию. Филопон предпочел аристотелизму своего учителя концепцию стоиков и был в VI веке самым блестящим ее толкователем.5 Вместе с тем он очистил свое учение от всего несовместимого с христианством, поскольку либо всегда был христианином,6 либо стал им в ходе своей преподавательской деятельности.7 Он умер вскоре после 565 г.
Трактату «О вечности мира против Прокла» было дано такое название, чтобы отличать его от одноименного трактата против Аристотеля. Он утрачен, однако из пространных отрывков, сохранившихся в комментариях Симпликия к «О небе» и «Физике», очевидно, что в его цели входило опровержение учения о пятой
1 Arist. De caelo I 2, 269b 13.
2 Courcelle P Boece et l’Ecole d’Alexandrie I I Melanges de l’Ecole francaise de Rome. 1935. LII. P. 185—223; Les lettres grecques en Occident. P. 264; Chenu P. Revue des sciences philosophiques et theologiques. 1937. XXVI. P. 389; Labri- olle P de. Histoire de l’Eglise depuis les origines jusqu’a nos jours. Vol. IV. Paris, 1937. P. 566. Также см. раздел VII, гл. 35 Г, с. 646.
3 Saffrey Н. D. Le chretien Jean Philopon et la survivance de l’ecole d’Alexandrie // Revue des etudes grecques. 1954. LXVII. P. 400—401. Cp. выше, c. 513.
4 Damasc. Vita Isidori / ed. R. Asmus. Leipzig, 1911. S. 113, 37 n.; Olymp. In Gorgiam/ed. W. Norvin. Leipzig, 1936. 183, 11.
5 Bardy G. Dictionnaire de theologie catholique. Vol. VIII. Paris, 1925. P. 834.
6 Evrard E. Les convictions religieuses de Jean Philopon et la date de son commentaire aux Meteorologiques // Academie royale de Belgique: Bulletin de la classe des lettres et des sciences morales et politiques. 1953. Ser. 5. XXXIX. P. 356.
7 Tatakis B. Op. cit. P. 38.
566
ГРЕЧЕСКАЯ ХРИСТИАНСКАЯ ПЛАТОНИЧЕСКАЯ ТРАДИЦИЯ
сущности (квинтэссенции), а следовательно, и об изменчивости мира. Аристотель заключил об уникальности субстанции звезд из уникальности их движения. Поскольку это движение круговое, относительно Земли в качестве центра, оно не причастно противоположностям верха и низа, свойственным любому движению в подлунном мире.1 Однако эту теорию подорвали последующие открытия в области астрономии:
Если Александр прав, говоря, что Аристотель называет движением в собственном смысле то, которое происходит вокруг центра универсума, то остальные движения не являются ни круговыми в собственном смысле, ни простыми. Однако астрономы доказали, что каждая звезда обладает особым, не имеющим общего со вселенной центра движением... Потому их движения не просты и могут включать в себя движения вверх и вниз.1 2
Но даже если движение действительно круговое, оно не уникально, поскольку «хотя начальная и конечная точки кругового движения совпадают, борьба противоположностей все же присутствует, так как направление, в котором начинается одно, есть то, в котором другое заканчивается».3 Таким образом, небесные движения, даже если они круговые, того же рода, что и земные.
Опровержение пятой сущности является частью наступления на учение о вечности мира, которое, подобно родственной ему теории έκπύρωσις,4 было отвергнуто всеми, кроме христиан. Аристотель утверждал, что мир вечен в «О философии».5 Зенон возразил ему, но в свою очередь был опровергнут Теофрастом. Эпикур выставил против Теофраста доводы, записанные Лукрецием6 и использованные св. Василием:7 сущее, части которого подвержены порче, и само должно быть разрушимо. Христиане, такие как Ипполит, св. Василий8 и Прокопий Газский, считавшие έκπύρωσις правдоподобной гипотезой, могли заключать из нее
1 Arist. De caelo 270b32—271а29.
2 Philop. ар. Simpl. In De caelo 32, 2 Heiberg. Пьер Дюгем (Duhem P Systeme du monde. Vol. II. Paris, 1914. P. 61) ошибочно приписывает этот фрагмент Ксенарху, еще одному оппоненту учения о квинтэссенции.
3 Philop. ар. Simpl. Op. cit. 193, 11.
4 См. выше, с. 515.
5 Bignone Е. L’Aristotele perduto е la formazione filosofica di Epicuro. Firenze, 1936.
6 De rer. nat. V 235—259.
7 Cm.: Hex. I 3 (PG 29. 9c f.).
8 См. выше, c. 515.
РЕАКЦИЯ ПРОТИВ ПРОКЛА
567
о невечности мира; отвергавшие ее александрийцы и св. Григорий Нисский были вынуждены допустить своего рода вечность мира. Если έκπύρωσις не существует, «элементы продолжают проникать друг в друга непрерывно, превращаясь один в другой, не увеличиваясь и не уменьшаясь, но пребывая в своей исходной мере».1 Однако эта вечность относится к пространственно-временной сфере и обусловлена Божественным Провидением. Она вечна в том смысле, что у нее нет внутренней причины для разрушения. Она есть покой (στάσις) во времени, но не есть вечный покой (στάσις εις αιώνα).1 2
Филопон выводит сходное заключение из кругового движения небесных тел. Он не оспаривает замечания Симпликия: «Можно сказать, что небо тоже, хотя и не переходит от движения к покою, покоится относительно своего центра, оси и полюсов, оставаясь как целое на своем месте».3 Если верно то, что движение небесных тел исключительно круговое, то они движутся способом, наиболее сходным с пребыванием в покое. «Так же как природа стремится к некоему совершенному состоянию и движется в направлении его достижения, а достигнув, остается в нем, так и небо, постоянно находясь в этом состоянии... и не покидая его, пребывает в состоянии, которое никогда не утратит совершенства».4 И тем не менее это не означает, что небесные сущности всемогущи, как считал Прокл.5 Даже если они долговечны вплоть до постоянства, все материальные объекты и явления в универсуме все же ограничены в силе и длительности волей Божьей: «До тех пор пока Бог желает, чтобы вселенная существовала, должны сохраняться ее главные составляющие, и общеизвестно, что небо как в целом, так и в своих частях есть главная и наиболее существенная составляющая универсума».6
Возможно, назначением трактата «О вечности мира против Прокла» было продемонстрировать, что александрийская школа отмежевалась от Проклова учения, которое теперь было объявлено вне закона,7 либо, если его автор к тому времени покинул школу, напасть на нее за приверженность к этому учению, которой она, безусловно, отличалась при Олимпиодоре, менее склонном
1 Greg. Nyss. Apol. (PG 44. 113a).
2 Greg. Nyss. In Eccles. I (PG 44. 628b—d).
3 Simpl. In Phys. 264, 18 Diels.
4 Philop. In Phys. 198, 22 Vitelli. Cp. со св. Максимом, ниже, с. 592.
5 Proclus. In Tim. Ill 21. 1; cp. I 294. 28—295. 12; II 131.4 f.; 262. 5 f.
6 Philop. ap. Simpl. In De caelo 142, 7.
7 Saffrey H. D. Art. cit.
568
ГРЕЧЕСКАЯ ХРИСТИАНСКАЯ ПЛАТОНИЧЕСКАЯ ТРАДИЦИЯ
к компромиссам, чем Аммоний и его ученики.1 Пункт за пунктом Филопон отвечает на восемнадцать доводов, собранных Проклом в доказательство вечности мира. Второй из них (первый отсутствует в рукописном собрании) звучит так: «Если вечность присутствует в образце, то она также должна быть и в подобии, поскольку образец и подобие суть родственная пара» и один не может существовать без другого. Филопон обвиняет Прокла в неверной интерпретации Платона. Безусловно, Платон утверждал, что формы — а они вечны — суть образцы, но это не означает, что сущность форм состоит в том, чтобы быть образцами. Не форма per se, а форма qua образец есть то, что не существовало до подобия и не переживет его разрушения. Вечность мира тем самым не следует из вечности формы, которая, пока существует космос, есть его образец.
Интересны и тезис, и антитезис, поскольку вечность отношения была одним из аргументов, использовавшихся иконопочита- телями, очевидно не осознававшими последствий, вытекающих из оправдываемого ими поклонения образам.1 2 Неудивительно, что сам Филопон поклонение образам отвергал, а также то, что его христология восходит к Севиру Антиохийскому. Он не различал между природой и ипостасью3 и, исходя из аристотелевского принципа, согласно которому природа не существует отдельно от индивидов, заключал, что человечность Христа, никогда не существовавшая независимо, природой не является. Последнее написанное им сочинение4 было посвящено Сергию, патриарху Антиохии в 546—549 гг., влиянием которого можно объяснить принятую в этом тексте более терпимую позицию в отношении Аристотеля, — труды последнего высоко ценились монофизита- ми, как следует из частоты переводов его трактатов на сирийский язык. И все же это не столько изложение Аристотеля, сколько попытка примирить аристотелизм и христианизм. Моисей учил тому, что спустя долгое время открыла греческая наука. Там, где рассказ Моисея противоречит Аристотелю, первый более успешно «спасает феномены». Однако Моисей не притворялся ни физиком, ни астрономом. Он не отвечал на такие вопросы, как: каковы материальные первоосновы вещей? их много или она одна? если много, то сколько? едины ли они для всех вещей или различаются?
1 Westerink L. G. Op. cit. Р. XIII.
2 См. ниже, с. 603.
3 См. ниже, с. 578.
4 Ed. G. Reinhardt. Leipzig, 1897.
РЕАКЦИЯ ПРОТИВ ПРОКЛА
569
какова субстанция неба? отличается ли она от субстанции подлунного мира? сопровождается ли движение подлунных сущностей изменением их субстанции? Эти вопросы проливают свет на то, о чем дискутировали во времена Филопона, но не на то, о чем размышлял он сам в своих ранних работах; и то, что он пренебрег ими в своем сочинении как вещами второстепенной важности, свидетельствует о снижении его интеллектуальной мощи. Ибо теперь он следует тому, в чем, по его словам, состояло намерение Моисея, а именно: сначала привести людей к познанию Бога, а затем научить их жить в согласии с этим знанием. Такова позиция и св. Василия в «Беседах на Шестоднев», бывших его основным источником.1
Профессор Самбурски предполагает, что предпринятое Филопоном доказательство того, что небесные тела состоят из той же материи, что и подлунный мир, вызвало бы столь же бурное негодование среди христиан, сколь и среди язычников.1 2 Однако его намерение, как признает профессор в другом месте, состояло, скорее, в том, чтобы подчеркнуть различие между Богом и сотворенным универсумом:
Своеобразное положение Филопона в истории научных идей определяется тем обстоятельством, что благодаря ему впервые оказались противопоставлены научная космология и монотеизм. Сама идея, на которой основываются все монотеистические религии, несомненно, предполагает веру в то, что универсум есть творение Божье, а также вытекающее из этого предположение, что между вещами на небе и на земле нет существенного различия.3
По сравнению с Филопоном остальные представители александрийской школы имеют вторичное значение. Олимпиодор, родившийся между 495 и 505 гг.,4 схоларх вплоть до 541 г.5 и все еще преподаватель в 565 г., был, по его признанию,6 язычником и
1 Bardy G. DTC. Р. 835—836.
2 Sambursky S. The Physical World of Late Antiquity. London, 1962. P. 174.
3 Ibid. P. 157.
4 Westerink L. G. Op. cit. P. XIII.
3 Ibid.
6 Skowronsky L. De auctoris Heerenii et Olympiodori Alexandrini scholis cum universis turn iis singulis quae ad vitam Platonis spectant capita selecta. Breslau, 1884; Norvin W. Olympiodorus fra Alexandria. Copenhagen, 1915. P. 319. Уверенность в том, что он был христианином, произошла из смешения его Анастасием Синаитом (PG 89. 936 и 1189) со священником и экзегетом (род. ок. 510), написавшим комментарии на Книги Екклесиаста, Иова и Иеремии, трактат против
570
ГРЕЧЕСКАЯ ХРИСТИАНСКАЯ ПЛАТОНИЧЕСКАЯ ТРАДИЦИЯ
читал лекции о Платоне и Аристотеле. Элий1 — который, если отождествлять его с одноименным префектом Иллирии и адресатом новеллы СЫН Юстиниана от декабря 541 г., дабы занять это пост, должен был быть христианином, — мало обнаруживает свою веру в своих дошедших до нас сочинениях, состоящих из комментариев к «Органону» и, возможно, «Введения в платоновскую философию», сохранившегося в рукописи X века и являющегося копией с оригинала из собрания Арефы.* 1 2 То же самое можно сказать и о его младшем современнике Давиде,3 дошедший до нас комментарий к «Изагогу»4 которого, вероятно, был известен Эриугене.5 Следует также упомянуть христианского комментатора «Парменида», труд которого восполняет утраченную часть Проклова «Комментария»,6 а также о христианском авторе предисловия к «Изагогу», которое также могло быть известно Эриугене.7
Более значительным, чем упомянутые авторы, является ученик Филопона Стефан, который после вступления на трон Ираклия в 610 г. был назначен главой учености восстановленной Византийской императорской академии,8 где менее чем через сто лет после закрытия Афинской академии читал лекции по Платону, Аристотелю, геометрии, арифметике и астрономии.9 По-видимому, он является одним из главных связующих звеньев между алек¬
Севира Антиохийского (PG 89. 13—780), а также из ложно приписанного ему христианского алхимического трактата. См.: Tannery Р. Sur la periode finale de la philosophic grecque // Revue philosophique. 1896. XLII. P. 277; Praechter K. Richtungen und Schulen im Neuplatonismus // Genethliakon Carl Robert. Berlin, 1910. S. 151; WesterinkL. G. Op. cit. P. XV; Devreesse R. Diet, de la Bible. Suppl. I, 1137, 1141, 1164 et passim. Об образах у Олимпиодора см. ниже, с. 604.
1 WesterinkL. G. Introduction to Elias on the Prior Analytics // Mnemosyne. 1961. Ser.4, XIV. P. 126—139.
2 MS Vienna phil. gr. 314 / ed. L. G. Westerink // Anonymous Prolegomena to Platonic Philosophy. Amsterdam, 1962.
3 Иногда его путают с теологом V века Давидом Анахтом, поскольку биографические сведения о нем сохранились в рукописи на армянском языке.
4 Ed. Busse, CAG XVIII 2. Другая редакция, по мысли ближе к Элию, сохранилась в MS Paris Bibl. Nat. gr. 1939; Cramer J. A. Anecdota graeca e codd. manuscr. Bibl. Reg. Paris. IV. Oxford, 1841. P. 442. Cm.: Busse A. Die neuplatonischen Ausleger der Isagoge des Porphyrius. Berlin, 1892. S. 20—23; CAG XVIII 2. P. XX—XXIV.
5 См. ниже, c. 617, прим. 3.
6 Procli opera / ed. Cousin. Paris, 1864. P. 1257—1314.
7 Напечатано Крамером {Cramer J. A. Op. cit. P. 430) с рукописи MS Paris Coislin 387. См. ниже, c. 617, прим. 3.
8 Usener H. Stephani alexandrini opusculum apotelesmaticum. Bonn, 1879. S. 4—5.
9 Ibid. S. 17.
РЕАКЦИЯ ПРОТИВ ПРОКЛА
571
сандрийской школой и уже поднимающим голову византийским аристотелевским ренессансом.1
В. Газа
Академия, занятиями в которой был поставлен руководить Стефан, была основана Константином и значительно расширена Феодосием II в 425 г.,1 2 однако из его указа очевидно, что она не была философской школой в том смысле, в каком были Афины и Александрия. Из тридцати одной открытой кафедры только одна была выделена для философии.3 В течение VI столетия христианский платонизм за пределами Александрии представляли сама Газская школа, а также Леонтий Пустынник в самом Византии. В обоих случаях экстравагантности Проклова неоплатонизма места больше не было, конфликт между христианизмом и эллинизмом умерен либо снят, а в случае Леонтия первый даже окреп под влиянием аристотелевской логики.
Газская школа была ответвлением александрийской, так же как александрийская школа была ответвлением афинской. Ее основатель Эней был учеником александрийского неоплатоника Гиерокла.4 Большую часть своей жизни он провел в Газе в качестве преподавателя риторики, столь же озабоченный выражением христианской позиции на платоновском языке, сколь и ее защитой с помощью платоновской мысли. Искренний почитатель Платона, он взывает к авторитету последнего для обоснования того, что платоновский диалог не вступает в противоречие с его собственными христианскими воззрениями: «Платон сам сказал, что необходимо следовать Платону до тех пор, пока не явится кто-нибудь мудрее его, но нет никого мудрее Бога».5 Однако именно по этой причине «Феофраст, или о бессмертии души и воскресении тела»,6 хотя и демонстрирует мастерство платоновского стиля, не дотягивает
1 См. ниже, с. 577—578.
2 Fuchs Fr. Die hoheren Schulen von Konstantinopel im Mittelalter. Leipzig, 1926. S. 2; BrehierL. La civilisation byzantine. Paris, 1950. P. 457 f.
3 Theod. cod. XIV 9.3.
4 Tatakis B. Op. cit. P. 27.
5Aen. Theophr. (PG 85. 1001c).
6 PG 85. 865—1004: его единственное сохранившееся сочинение, помимо 25 кратких писем, написанных в риторическом стиле (Epistolographi graechi / ed. R. Hercher. Paris, 1873. P. 24—32; Massa L. Collana di studi greci dir. da V. de Falco. Naples, 1950. Cp. его статью в «Giomal. ital. filol.». 1952. V. P. 205—207).
572
ГРЕЧЕСКАЯ ХРИСТИАНСКАЯ ПЛАТОНИЧЕСКАЯ ТРАДИЦИЯ
до платоновского метода. Трактат открывается с проявления сократовской иронии: христианский собеседник приходит искать истины у философа-язычника. Но ирония должна быть оставлена, поскольку агностицизм Сократа заменила христианская уверенность: «У добрых христиан нет догмы, которая зависела бы от словесного доказательства, она получает удостоверение в самих делах».1
Таким образом, диалог разворачивается в форме критики платоновского мифа, ведь если гипотеза разрушена, то и вся философия оказывается опровергнута. Например, если бы душа поистине пала из высшего состояния в низшее, это вынудило бы грешника к дальнейшему падению, поскольку, что бы ни побудило душу пасть оттуда, оно приведет к гораздо большему падению здесь, где она пребывает в рабстве у страстей.1 2 Однако это противоречило бы справедливости, которая по своей природе избавительна.3 Опять- таки, если бы душа покинула высшее положение, это нарушило бы порядок единого и вечного космоса. Если, с другой стороны, душа входит в одно тело, покидая другое, это означает, что Богу, чтобы сформировать свое суждение о ней, требуется более одной ее телесной жизни.4 Более того, предсуществование души предполагало бы продолжение ее существования и после смерти тела, но где бы протекало это существование? Если добрые души непрерывно переходят в Елисейские поля, а злые — в Гадес, то должно настать время, когда в видимом мире более не останется душ.5
На этом основании Эней отвергает учение Платона о душе в пользу учения, опирающегося на Аристотеля6 и св. Григория Нисского. С точки зрения человека число душ бесконечно, но оно конечно в глазах Бога. Универсум полон разумных сил, которые он содержит в их совокупности, и он целиком наполняется каждой из них. Душа не божественна, не предшествует существованию, но вступает в бытие вместе с телом, как учит св. Григорий: «Поскольку человек, состоящий из души и тела, есть единое, то предполагаем одно общее начало его состава».7
1 Aen. Op. cit. 996b. См. выше, с. 508.
2 Аргумент взят у св. Григория Нисского из De horn. opif. XXVIII (PG 44. 232b).
3 Aen. Op. cit. 896a.
4 Ibid. 956c.
5 Ibid. 956b.
6 См. выше, c. 507.
7 De horn. opif. XXIX (PG 44. 233d).
РЕАКЦИЯ ПРОТИВ ПРОКЛА
573
С другой стороны, душа бессмертна.1 Всякое живое тело состоит из материи и формы. Последняя, как активная и руководящая идея и разумная субстанция, должна оставаться бессмертной, поскольку Бог, вечно тождественный себе, не прекращает даровать бессмертие всем разумным существам. По смерти душа, являющаяся формой тела, оставляет в нем след своего бессмертия, который при содействии Божественного Провидения имеет силу призвать к себе рассеянные частицы умершего тела и восстанавливает его, придавая ему тот характер, которое оно имело до своего рассеяния, так что даже материальное тело, в определенный момент возвращенное к жизни божественной мощью, вновь находит свою душу и делается бессмертным.1 2 Даже материя обладает степенью бессмертия и будет в свой час разматериализована,3 поскольку всем сотворенным вещам по природе свойственно стремление к совершенству. Ибо вся полнота творения имеет моральную цель и напряженно трудится ради совершенства и счастья человека.
Чувственный же мир не вечен, но сотворен. На неоплатоническое возражение, что если это так, то творение должно было произойти в определенный момент, и если Творец тогда сделал то, чего не делал прежде, то творение было бы для него случайным, Эней соглашается, что, поскольку Бог есть чистый акт, он ни в один момент не мог бы бездействовать: он был Творцом от вечности, поскольку от вечности имел вокруг себя умопостигаемый мир, им сотворенный.4 Чувственный мир есть видимость, посредством которой мы мыслим о нем: «Когда у художника есть прекрасный образец, он делает с него множество копий, так чтобы ни единая доля его красоты не была утрачена. Сходным образом через разнообразие становящихся объектов мы приходим к лучшему созерцанию logoi, скрытых за явлениями».5
Чувственный мир есть реальность, в которой могут происходить радикальные изменения и события, включая разрушение: «Звезды — самые прекрасные вещи на небе, но они смертны».6 Однако все эти вещи составляют единую историю, которая есть восхождение от смертности чувственного к бессмертию умопо¬
1 Aen. Op. cit. 949b.
2 De hom. opif. XXVII (PG 44. 225b—c, 228a—b).
3 Tatakis B. Op. cit. P. 32.
4 Cp. с Захарией, ниже, с. 574.
5 Aen. Op. cit. 969b.
6 Ibid. 961b.
574
ГРЕЧЕСКАЯ ХРИСТИАНСКАЯ ПЛАТОНИЧЕСКАЯ ТРАДИЦИЯ
стигаемого.1 Для чувственного мира человек есть центр и завершение,1 2 не только ныне, но и в будущей жизни, поскольку бессмертные души, нуждающиеся в теле, также нуждаются в месте,3 хотя то будут отличные от чувственных место и тело, духовные и лишенные материи.
Захария, друг и соотечественник Энея, обращенный из моно- физитства в ортодоксию, стал епископом Митилены и умер до 553 г. Помимо ряда исторических и полемических сочинений4 он написал трактат «Аммоний, или о сотворении мира»,5 освещающий почти те же вопросы, что и «Феофраст», и, возможно, написанный раньше его. Как подсказывает его подзаголовок, он, так же как и «О вечности мира против Прокла», предназначен для того, чтобы опровергнуть учения Прокла и Аммония. Последние считают творение всего лишь причинным отношением: то, что мир был сотворен, означает только, что он является следствием причины, вне которой он обладает равным достоинством Творцу и совечен ему.6 В ответ на это Захария излагает совершенно христианское понимание Бога7 как умопостигаемого, бесплотного, неподверженного порче, бессмертного, постоянного, беспредельного, превосходящего всякое определение и описание. Он был Творцом от вечности, поскольку заключал в себе творческий Логос.8 Как врач остается врачом даже тогда, когда не занят лечением болезни, так же и Бог есть Творец, даже когда он не занят делом творения.9 Хотя в действительности он всегда творит благодаря своему провидению, поддерживающему универсум.
Творение осуществляется de nihilo. Бог дает формам материю, необходимую для их выражения. «Мы говорим, что Бог есть Творец самих сущностей, а не, как ты говоришь, только их форм. Твой творец только придает форму и определенность неоформлен¬
1 Ср. с Прокопием, ниже, с. 575—576.
2 Ср. со св. Григорием Нисским, выше, с. 531.
3 Aen. Op. cit. 957b.
4 Corpus scriptorum christianorum orientalium / ed. E. W. Brooks. Paris, 1924. P. LXXXVII—LXXXVIII; в новом издании (1953): P. XXXVIII и XU. См.: Bardy G. DTC. Vol. XV. 3676—3680; Honigmann E. Patristic studies (= Studi e testi). N 173. 1953. P. 194—204.
5 PG 85. 1011—1144. Cm.: Nvssen W. Byzant. Zeitschr. Mtinchen, 1940. S. 15—
22.
6 Zach. Ammon. 1021b.
2 Ibid. 1048 f.
8 Ср. с Энеем, выше, с. 573.
9 Zach. Op. cit. 1068a.
РЕАКЦИЯ ПРОТИВ ПРОКЛА
575
ной и неопределенной материи».1 Вечная воля Бога к творению включает в себя волю творить каждую природу в то время, когда ей лучше всего возникнуть, — не ради какой-то своей пользы, а, как говорят платоники, потому, что он есть Благо.1 2
Из этого следует, что чувственный мир, в отличие от Бога, не вечен. Гесий, ятрософист, бывший другом Энея,3 утверждал, что если верно, что все возникающее возникает во времени, то само время не возникает, поскольку если бы это было так, то оно само возникло бы во времени, что абсурдно. Потому время не имеет возникновения,4 как не имеет его и временный мир.5 И все же неверно, что все возникающее возникает во времени, так что нет необходимости, чтобы время возникало во времени. Оно возникает в вечности, поскольку является творением вечного Бога, как и временный мир, который есть его чувственное отражение. Другой довод, используемый язычниками, состоит в том, что чувственный мир есть сфера, а сфера не имеет ни начала, ни конца. Но «это только для тебя и меня сфера не имеет начала — она должна где- то начинаться, так же как, когда мы описываем круг, мы начинаем из некоторой точки».6
Прокопий, возможно брат Захарии, умер около 538 г. Его философия проступает во введениях к серии катен — форма комментария, которую, по всей видимости, он изобрел. Вечность мира опровергается им в «Толковании на Книгу Бытия»,7 которое, как и остальные его сочинения такого рода, опирается на «Беседы на Шестоднев» ев. Василия. Если бы материя была вечной, она необходимо была бы неизменной, поскольку, будь она изменчивой, ее изменчивость должна была бы относиться к ее вечности, раз у материи нет ни качества, ни количества, ни формы, к которой она могла бы относиться; но изменчивая вечность есть противоречие в определении.8 Опять-таки, если бы и Бог, и мир были вечны, то составное не вытекало бы из простого, акт не был бы результатом возможности, а совершенное — несовершенного; но это противоречило бы закону природы, согласно которому взрослый приходит на смену ребенку, плод — семени, возрастание — тому, что не
1 Ibid. 1076b.
2 Ibid. 1093с.
3 Tatakis В. Op. cit. P. 28.
4 См. выше, c. 517—518.
5 Zach. Op. cit. 1081c.
6 Ibid. 1104d.
7 Procop. In Gen. (PG 87. 1, 29a).
8 Ibid. 29b.
576
ГРЕЧЕСКАЯ ХРИСТИАНСКАЯ ПЛАТОНИЧЕСКАЯ ТРАДИЦИЯ
возросло.1 На самом деле ничто в мире вообще не могло бы тогда произойти.1 2
Отсюда очевидно, что Прокопий разделял с Энеем понимание универсума как имеющего историю и развитие. Впрочем, он ясно дает понять, что история и развитие не выходят за пределы его природы, тем, что отвергает идею экстаза как упразднения ума,3 считая экстаз скорее возбуждением последнего:
Пророк (Исаия) видит... не, как некоторые полагают, выходя из ума, как если бы Святой Дух затуманивал ум... Божественное осуществляет совершенствование, а не ограничение естественных сил... Свет не является причиной слепоты, напротив — он побуждает к действию способность вйдения: сходным образом Бог побуждает очищенный разум к духовному созерцанию. Только зловредная сила стала бы вызывать экстаз в ущерб экстатическому.4
То, что называется экстазом, в действительности есть вдохновение, и, когда пророк обретает его, он не перестает быть разумным существом — он есть человеческое существо, достигшее совершенства.
Г. Византий
Философы Газы не обладают глубиной Филопона. Их достоинство состоит в том, что они, незатронутые его бунтом против Аристотеля, сумели дополнить аристотелевскими положениями его доводы против вечности мира, одновременно используя перипатетические воззрения для выработки и защиты учения о бессмертии души, и очистили его успешнее, чем это сделали каппадокийцы, от какого-либо допущения ее предсуществования или божественности. Душа не может существовать прежде своего тела, как не покидает она в экстазе своей собственной природы, чтобы вступить в природу Бога. Ее совершенствование состоит не в обожении, а в разумении. С другой стороны, будучи разумным естеством, душа бессмертна; а поскольку она есть форма тела и потому не может существовать вне его, ее бессмертие гарантирует воскресение тела.5
1 Ibid. 33а—b.
2 Ibid.
3 См. выше, с. 556.
4 Procop. In Esaiam (PG 87. 2, 1817а f.).
5 См. выше, с. 507.
РЕАКЦИЯ ПРОТИВ ПРОКЛА
577
Впрочем, учение Аристотеля не является вполне удовлетворительным с христианской точки зрения, поскольку оно представляет душу в качестве чего-то незначительно большего, чем способ телесной организации. Более подходящим представлялось учение, которое развили неоплатоники в опровержение стоического тезиса, что, раз душа соединена с телесной сущностью, она и сама должна быть телесной. Таким образом, соединение души и тела должно быть либо соседством, в котором две субстанции не становятся одной, но остаются теми же двумя, какими были раньше,1 либо смесью, в которой два компонента уничтожаются и заменяются третьим, отличным от них.1 2 Но духовные сущности неразрушимы и потому не могут вступать в союз такого рода. Разрешение дилеммы возможно в союзе третьего рода, в союзе без смешения (ενωσις άσύγχυτος), в котором полностью сохраняется тождественность каждого из компонентов.3 Оно предлагается Порфирием в его «Quaestiones commixtae»,4 где он, возможно, воспроизводит Плотиново объяснение соединения тела и души,5 которое тот, в свою очередь, мог почерпнуть у Аммония Саккаса.6 Немезий и Присциан Лид находят пример такого союза в соединении света и воздуха: «Свет соединяется с воздухом, изливаясь вместе с ним неслитно (άσυγχύτως)».7 Среди неоплатоников эта теория впервые подробно развернута Проклом,8 а среди христиан — Леонтием Пустынником.
Леонтий родился в 475 г., а умер в 543/544 г. Хотя его труды свидетельствуют о том, что он имел глубокие познания в области Аристотелевой логики и был особенно хорошо знаком с «Изагогом» Порфирия и комментарием на «Категории», написанным либо им самим, либо одним из его учеников. Хотя его
1 Nem. De nat. hom. (PG 40. 593b).
2 Ibid. 592b.
3 Fortin E. L. The Definitio fidei of Chalcedon and its philosophical sources // Studia patristica. 1962. V. P. 493. Автор показывает, что только на основании этой теории была возможна аналогия между двумя природами Христа и отношением души и тела. Об использовании этого же учения Августином см. предшествующий раздел («Августин»), гл. 22, с. 432—434.
4 Fortin Е. L. Christianisme et culture philosophique au cinquieme siecle. Paris, 1958. P. 119.
5 Vita Plotini 13, 10—11. Cp.: Enn. I 1 [53]; IV 3 [27]; IV 7 [2].
6 Nem. Op. cit. 603b.
7 Ibid. 592c; cp.: Prise. Solutiones / ed. Bywater// Supplementum aristotelicum. I 2, 21. См. ниже, c. 595.
8 Proclus. In Tim. 131b; 199a; 218c.
578
ГРЕЧЕСКАЯ ХРИСТИАНСКАЯ ПЛАТОНИЧЕСКАЯ ТРАДИЦИЯ
иногда называют основателем византийского аристотелизма,1 сущность учения Леонтия платоническая или неоплатоническая.1 2 Наше представление о мире обширно, но смутно и не открывает истины; если же мы попытаемся вдаваться в подробности путем деления на роды, виды и индивидуальные сущности, то, хотя смутность и уменьшится, широта взгляда будет утрачена, поскольку этим шагом мы устремимся не к истине, а к бесконечному регрессу. Истина может быть открыта только верой, посредством Слова Божия, которое не произносится, но посвящает избранного в тайну безгласной речью.3 Оно содержит всю полноту знания, потому что Бог тождествен с бытием. С помощью этого молчаливого озарения разум воспринимает сущности, иным образом ему недоступные, и в определенном смысле выходит за пределы собственной природы. Леонтий, подобно св. Григорию Богослову и псевдо-Дионисию, отказывается от всякой претензии на оригинальность: цель его состоит в толковании Писания и углублении своих познаний о нем.4
Говоря о соотношении души и тела, он различает природу и ипостась, которые Филопон отождествлял.5 Природа вещи есть нечто, что касается бытия этой вещи:6 на ее определение не влияет, сколько индивидуальных сущностей ей причастно,7 это всеобщее, рассматриваемое в отношении к индивидуальному.8 Ипостась есть особенное бытие,9 в отличие от природы как всеобщего бытия.10 *
Это бытие не абсолютно, поскольку обусловлено особенностью существования.11 Отношение между природой и ипостасью не эквивалентно: всякая ипостась есть природа, но не всякая природа есть ипостась.12 Ипостазирование природы делает из нее одну вещь этой природы, а не другую13 и заключается в подборе присущих этой вещи акциденций.14
1 Ср.: Булгаков С. Н. Агнец Божий. Париж, 1933. С. 82.
2 UeberwegF. Die patristische Philosophic. Berlin, 1928. S. 125 f.
3 Leont. L. c. Nest, et Eut. (PG 86. 1, 1300b).
4 Ibid. 1344d.
5 Выше, c. 568.
6 Leont. L. c. Nest, et Eut. 1280a.
7 Leont. Sol. arg. Sev. (PG 86. 2, 1917a—b).
8 L. c. Nest, et Eut. 1280a.
9 Ibid.
10 Sol. arg. Sev. 1917a—b. См. «Св. Максим Исповедник», ниже, с. 587.
Ibid. 1945а.
12 L. с. Nest, et Eut. 1280а.
13 Sol. arg. Sev. 1917b.
14 Ibid. 1917b—c.
РЕАКЦИЯ ПРОТИВ ПРОКЛА
579
Однако, когда говорится, что не всякая природа есть ипостась, это не означает, что природа может существовать независимо от ипостаси.1 Природы, не являющиеся ипостасями, существуют в ипостасях: они суть воипостаси (enhypostaseis).1 2 Воипостась занимает промежуточное положение между изменчивым, которое есть неипостась (anhypostasis), и ипостасью. Ипостась указывает на индивидуальное, воипостась — на его сущность (ούσία). Душа и тело — подходящие примеры. Соединенные в человеке — каждое есть целая сущность, рассмотренные отдельно — каждое есть ипостась.3 С другой стороны, душа едина в своей природе, но разделена в своих ипостасях.
Ипостасный союз души и тела, не будучи союзом природы, есть дело Божественной Власти.4 В нем ни одна из отдельных природ не разрушается и не уменьшается:5 душа qua душа совершенна, тело qua тело совершенно, и все же ни одно из них не совершенно относительно человека, поскольку они суть его части.6 Человек не есть его душа, как учит Платон, но он есть субстанциальное соединение души и тела.
Природа души есть самодвижущаяся бестелесная сущность, оттого бессмертная и неразложимая.7 Однако ей несвойственна бесчувственность, поскольку она от природы обладает аффективными качествами8 и потому подвержена страстям, сопутствующим телесному существованию. Так как они относятся к ее природе и не являются привходящими свойствами, приобретенными в результате грехопадения, а ее природа блага, то они также по своей сути благи и, используемые должным образом, служат благим целям: влечение (επιθυμητικόν) любовно жаждет Бога, горячность воли (θυμοειδές) содействует воле Божьей, разумная способность (λογιστικόν) непосредственно воспринимает нематериальные образы реальности и освещена изнутри единством мысли. Злоупотребление души страстями, а не какое-либо врож¬
1 L. с. Nest, et Eut. 1280а.
2 Ibid. 1277d, 1280a—b.
3 Sol. arg. Sev. 1925c; L. c. Nest, et Eut. 1293d f.; 1300b; 130Id—1306b.
4 L. c. Nest, et Eut. 1280b, 1340b.
5 De sectis (PG 86. 1, 1248). Существует предположение, что «De seeds» было написано не Леонтием, а его учеником, возможно — Феодором Раифским. См.: Diekamp F. Analecta patristica. Roma, 1938. P. 176—178. Как бы то ни было, этот текст отражает его учение (Tatakis В. Op. cit. Р. 62—63).
6 L. с. Nest, et Eut. 1281а.
2 Ibid. 1281b.
8 Ibid. 1284c.
580
ГРЕЧЕСКАЯ ХРИСТИАНСКАЯ ПЛАТОНИЧЕСКАЯ ТРАДИЦИЯ
денное свойство тела является причиной невежества и зла.1 Считая составность присущей душе по самой природе и возлагая ответственность за зло скорее на душу, чем на тело,1 2 Леонтий лишает ее последних следов божественности, еще присутствовавших в учении ев. Григория Нисского.3
1 Ср. со св. Григорием Нисским, выше, с. 534—535.
2 L. с. Nest, et Eut. 1285а—b.
3 Выше, с. 533.
Глава 32
СВ. МАКСИМ ИСПОВЕДНИК А. Введение
Родившемуся в Константинополе около 580 г. Максиму было тридцать, когда Стефан Византийский сделался главой учености в Императорской академии и преподавал среди прочего философию Платона и Аристотеля. Однако, если бы он обучался в Патриаршей академии, он точно так же обнаружил бы там уже сформированный и перенятый Стефаном план обучения,1 поскольку со времен Леонтия полным ходом шло аристотелевское возрождение, и оба философа изучались бок о бок. Леонтий и сам несет на себе следы этой программы обучения, и они вновь выйдут на поверхность у Максима.
Как бы то ни было, по темпераменту Максим был ближе к каппадокийцам и псевдо-Дионисию, и его заслуга состояла в том, что он представил их учения преимущественно в категориях аристотелевской логики, более соответствующей духу того времени, и благодаря неотвергающей их мистицизма рационализации сделал их менее уязвимыми для неверного истолкования. Универсум Максима есть универсум псевдо-Дионисия, в котором нашлось место антропологии ев. Григория Нисского. Жесткие формулировки одного оживлены историцизмом и динамизмом другого, а сам синтез оказался возможен благодаря критической переработке, которой предшествующие философы подвергли аристотелевские учения о времени и вечности, движении и покое.
Это все еще триадический универсум, хотя триада, на основании которой он сконструирован, теперь определяется не в Плотиновых и Прокловых понятиях топе—proodos—epistrophe,
1 Sherwood Р Date-List of the Works of Maximus the Confessor // Studia ansel- miana. 1952. XXX. P. 1—2. См. выше, c. 570.
582
ГРЕЧЕСКАЯ ХРИСТИАНСКАЯ ПЛАТОНИЧЕСКАЯ ТРАДИЦИЯ
а как сущность, сила и деятельность (ούσία—δύναμις—ένέργεια). Эту терминологию можно назвать Порфириевой, поскольку, как известно, он впервые обратился к данной триаде, хотя в полной мере ее развернул только Максим.1 В принципе, эта триада представляет собой не что иное, как порядок, в каком человеческий ум рассматривает любой мыслимый процесс: начало, середина, конец.1 2 Сущее есть (ούσία), способно что-либо совершить (δύναμις) и совершает это (ένέργεια). Важность нововведения состоит в том, что в предшествующей триаде два члена, proodos и epistrophe, относились к категории движения, а один, топе, к категории покоя, тогда как в настоящей один (сила) относится к движению, а два других (сущность и действие) — к покою. Движение тем самым более есть не комплекс нисхождения и возвращения, а простая связка между бытием и его осуществлением. Это дает Максиму в руки универсальный принцип, который он может приложить и к божественному, без необходимости вводить эманации, и к сотворенной природе, не отказывая ей в устойчивости, к умопостигаемому, вечному миру, не делая его совечным Богу, и к физическому, изменчивому миру, не отрицая его бессмертие.
Б. Триада
Бог по своей природе (ούσία) есть; он всемогущ, а потому имеет способность (δύναμις) ко всякому действию; и совершенен и, таким образом, совершает любое действие наилучшим образом (ένέργεια). Природа Бога трансцендентна. Подобно псевдо-Дионисию, Максим заявляет, что Бог «выше самого бытия»3 и потому он буквально невыразим и не допускает никакой причастности себе. Говорить, что он существует, неверно; еще более неверно говорить, что он бесконечен, поскольку бесконечность есть свойство
1 См. выше, с. 544, 551, 562; ниже, с. 584.
2 См. Эриугену, ниже, с. 615.
3 υπέρ αυτό τό είναι: Max. Conf I Ambig. VI 38 (PG 91. 1180b9—10). «Амбиг- вы», которые как одно сочинение выходят в большинстве рукописных собраний и таким же образом воспроизведены в PG, состоят из двух отдельных трудов, значительно отстоящих друг от друга во времени. PG вслед за традицией, принятой в рукописных изданиях, помещает более поздние «Амбигвы к Фоме» (II Ambig.) перед более ранними. «Амбигвы к Иоанну» (I Ambig.), более длинные и важные, занимают PG 91. 1062—1417 и состоят из 67 глав, среди которых гл. 6 особенно длинна и насчитывает 51 параграф (эти подразделения не нашли отражения в PG). «Амбигвы к Фоме» помещаются в PG 91. 1032—1060. См. выше, с. 555.
СВ. МАКСИМ ИСПОВЕДНИК
583
сущего.1 A fortiori у него нет иных атрибутов. Он и не движется, и не покоится,1 2 он не пассивен и не активен,3 о нем нельзя утверждать, но его нельзя и отрицать:4
Отрицание и утверждение, противоположные друг другу, примирены в Боге, в котором одно поглощает другое. Отрицание, которое означает, что Бог не есть сущее, но не-сущее, согласуется с утверждением, что это не-сущее существует,5 а утверждение, что Он есть, не утверждающее, что Он есть, согласуется с отрицанием, отвергающим, что Он есть что-либо. Утверждение и отрицание в отношении друг к другу выказывают соперничество, относительно же Бога — родство встретившихся противоположностей.6
Апофатическое и катафатическое богословие дополняют друг друга: «Тот, кто в силу бесконечности собственного совершенства невыразим и непостижим... обнаруживается и умножается во всех вещах, от Него исходящих, во благе, которого в каждом присутствует соразмерно, и вбирает все вещи обратно в себя».7 Если мы что-то говорим о какой-либо вещи и это истинно, то мы говорим что-то о ее Творце. И то, что мы говорим, не противоречит апо- фатическому богословию: утверждение о Творце есть отрицание в отношении творения, и наоборот. Если первое есть, второго (в том смысле, в каком существует первое) нет; если второе есть, первого (в том смысле, в каком существует второе) нет.8
Сущий и Становящийся Всем для всех ради сущих и становящихся, между тем как Сам в Себе Он, из [всего] того, что так или иначе существует и становится, абсолютно и никоим образом не есть ни сущий, ни становящийся, ибо по природе своей Он вообще не соответствует какому-либо разряду сущего... Ибо надлежит знать — если уж нам действительно необходимо знать различие Бога и тварей, — что утверждение о Сверхсущем есть отрицание сущего, а утверждение о сущем — отрицание Сверхсущего.9
1 I Ambig. XI (PG 91. 1220с8—10). См. ниже, с. 585, 587.
2 См. ниже, с. 590—591.
3I Ambig. XI (PG91. 1221а10—bl).
4 См. ниже, с. 594.
5 См. выше, с. 554.
6 I Ambig. XXX (PG 91. 1288с 1—11).
71 Ambig. Ill (PG 91. 1080а12—Ь4).
8 См. ниже, с. 587.
9 Max. Conf. Myst. (PG 91. 664а4—сЗ). Ср.: Max. Conf. Cent, gnost. I 33 // Епифанович С. Л. Материалы к изучению жизни и творений преп. Максима Исповедника. Киев, 1917.
584
ГРЕЧЕСКАЯ ХРИСТИАНСКАЯ ПЛАТОНИЧЕСКАЯ ТРАДИЦИЯ
Катафатическое богословие озабочено не ousia Бога, которая есть Сверхсущность и невыразима, а силой и деятельностью, то есть тем, что он может и что делает. Поскольку Бог действует не иначе как по собственной воле и, будучи всемогущим, не имеет желания, которого не мог бы осуществить, его сила тождественна его воле,1 и воля (θέλημα) может заменять dynamis в качестве среднего члена триады.1 2 Божественные силы делятся на два класса, соответствующие Дионисиевым модусам единения (ένώσεις) и разделения (διακρίσεις),3 которые Максим называет Промыслом (πρόνοια) и Судом (κρίσις): «Под Промыслом я понимаю... то, что поддерживает единство целого... под различенностью... поддержание несходства между вещами... которое обеспечивает для всякой твари ее связь с логосом, согласно которому она была задумана... и неприкосновенность ее индивидуальности».4
Господь проявляет эти Силы как Податель бытия (του είναι δοτήρ),5 Творец становления (γενεσιουργός)6 и Перводвижитель (поскольку ни одно творение не является началом собственного движения).7 Он есть действующая причина (αρχή) вечного, или умопостигаемого, мира, происходящего от бытия; изменчивого, или физического, мира, происходящего от становления; и того движения, которое, с одной стороны, в качестве дискурсивного рассудка приводит мысль к умозаключению, с другой — в качестве изменчивости является средством, с помощью которого телесный мир подходит к концу; тогда изменчивость, становление и бытие оказываются вновь поглощены Богом как конечной причиной, или energeia. Сотворение вечного мира есть первое, а создание изменчивого мира — второе из пяти различений, охватывающих многообразие сотворенного универсума. Третье представляет собой деление изменчивого мира на небо и землю, четвертое — деление земли на рай и обитаемую область, а пятое — деление на мужское и женское.8
Бытие — модус существования умопостигаемого мира — есть процесс, происходящий между двумя точками, которые по сути
1 См. ниже, с. 585.
2 Например: Max. Conf. Op. theol. et polem. IX (PG 91). См. выше, c. 582.
3 См. выше, c. 546.
4 Max. Conf. I Ambig. VI 18 (PG 91. 1133d3—1136a4). Cp.: Op. theol. et polem. (PG 91. 36d5—7).
31 Ambig. Ill (PG 91. 1073c6).
6 Ibid. XV (PG 1217c5—6). См. ниже, c. 585, 588.
7 Ibid. XV (PG 1217Ы4—15).
8 Ibid. XXXVII (PG 91. 1304d3—1305b2). См. ниже, c. 593—594.
СВ. МАКСИМ ИСПОВЕДНИК
585
тождественны, так как обе суть Бог — в качестве действующей и в качестве конечной причины.1 Здесь триада сущее—сила—действие принимает форму бытие—благобытие—приснобытие (то είναι—τό εΰ είναι—то άεί είναι).1 2 Бытие есть непосредственный продукт божественной силы, который, пройдя через благобытие, в форме приснобытия возвращается обратно к Богу как к конечной причине. Первое проявление божественной силы есть Ум (Nous), который, будучи произведением причины бытия, существует естественно (κατά φύσιν) и может быть благим, если пожелает (κατά γνώμην: «направлением воли»); иными словами, он благ в возможности, и тем самым, направляя волю и актуализируя свою благость, он достигает вечности. Таким образом, средний термин, dynamis, вновь отождествляется с волей.3 Она так же, как и божественная сила, есть движение от того, что она есть, к тому, на что она действует, и творческое движение, поскольку бытие при переходе к благобытию производит становление (γένεσις) — первый член триады изменчивого мира, который в ходе своего непроизводящего движения (κίνεσις) приходит к завершению (στάσις), вступая в приснобытие. Благобытие, средний термин умопостигаемой триады, таким образом, имеет общую границу с триадой изменчивого бытия. Крайние члены, бытие и приснобытие, тождественны, поскольку бытие бесконечно простирается перед genesis так же, как приснобытие бесконечно простирается после stasis.
Становление, модус существования изменчивого сущего, даруется ему из бытия (то είναι) Богом как genesiourgos.4 Это начало процесса в пространстве и времени, то есть физического движения. Поскольку всякое движение, имеющее начало в пространстве и времени, должно иметь завершение в пространстве и времени,5 физическое движение есть покой в возможности, и этот покой является последним членом триады изменчивого сущего: становление—движение—покой (γένεσις—κίνεσις—στάσις).
1 I Ambig. VI 3 (PG 91. 1116b5—6).
2 Ibid. VI 3 (PG 91. 1116a 15—Ь4). Об этой триаде см.: Balthasar U. Liturgie cosmique. Paris, 1946. P 95. Она ведет начало от псевдо-Дионисия, для которого вселенское провидение есть ό τού είναι και τού εύ είναι τά πάντα αίτιος (Ер. IX 3, PG3. 1109с6).
2 Max. Conf. Op. theol. et polem. I (PG 91. 12c4—7); III (45d3^18al); XVI (185dl—5). Cp.: Damasc. De fid. orth. II 22 (PG 94. 944b).
4 См. выше, c. 584.
5 См. выше, c. 518—519.
586
ГРЕЧЕСКАЯ ХРИСТИАНСКАЯ ПЛАТОНИЧЕСКАЯ ТРАДИЦИЯ
Г
Бог
_А_
Λ
Бог
божественная природа (μονή)
>
Бог
божественная сила (πρόοδος)
>
Бог
божественная energeia (επιστροφή)
А
г
бытие
умопостигаемая природа (μονή)
>
благобытие умопостигаемая сила (πρόοδος)
>
приснобытие умопостигаемая energeia (επιστροφή)
А
г
становление изменчивая природа (μονή)
>
движение изменчивая сила (πρόοδος)
>
покой
изменчивая energeia (επιστροφή)
Поскольку genesis происходит от бытия, а бытие — от Бога и поскольку stasis погружается в приснобытие, которое есть energeia Бога, процесс в целом (случайное становление и вечное бытие) начинается в Боге, происходит в нем как его dynamis, поддерживается им во всякой точке и в конце концов к нему возвращается.1 Изменчивое становление пребывает, так сказать, в сердце вечного бытия, поскольку является средним термином вечного бытия, которое его трансцендирует; вечное же бытие находится в сердце и является средним термином божественной триады бытие—сила—действие, содержащейся внутри Единства Божия.1 2 В то же время смысл триады шопе—proodos—epistrophe сохраняется, поскольку божественная природа, умопостигаемое бытие (прежде чем «подвинуться» к благобытию) и даже genesis до движения неизменны: божественная и умопостигаемая силы и физическое движение происходят из божественной природы, умопостигаемого бытия и изменчивого становления соответственно, тогда как божественная energeia, приснобытие и покой суть возвращения туда, откуда начался каждый из процессов. Диаграмма должна это прояснить.
1 I Ambig. Ill (PG 91. 1084а 14—b 17).
2 Ibid. X (PG 91. 1184b 10—1185a 1); Cent, gnost. I 2 (PG 90. 1084a9—11).
СВ. МАКСИМ ИСПОВЕДНИК
587
В. Вечный мир
Когда о Боге говорят, что он вне бытия, под «бытием» понимают умопостигаемое бытие. Нечего опасаться называть самого Бога Бытием, если при этом осознавать, что умопостигаемый мир не является бытием в том же смысле слова.1 Одни и те же понятия могут быть использованы в отношении каждого из уровней существования, но только согласно этому уровню. По отношению к вышестоящему уровню значение будет уточняться, поскольку формулировка каждой триады есть определение. Сверхсущее Единство не определяется даже как бесконечность,1 2 поскольку модус существования Бога как сущего есть тройственность: «Троица есть поистине Монада, ибо такова ее природа (ότι ούτως έστί), а Монада есть поистине Троица, поскольку такова ее ипостась (ότι ούτως ύφέστηκεν)».3
Уточнение дается не в момент формулировки триады, а рождается внутри нее. Бог как творец бытия дарует умопостигаемому миру простое бытие (τό άπλώς είναι), а бытие этой вещью, а не иной (ειναί πως) относится к Уму (Nous) как к проявлению умопостигаемой воли (γνώμη), выбирающей между добродетелью (τό εΰ είναι) и пороком (τό φευ είναι).4 Простое бытие безгранично либо ограничено только собой;5 бытие чем-либо ограничено, поскольку не содержит в себе своего первоначала6 или определения.7 Это поясняется различием между logoi и умопостигаемыми сущностями. Первые суть первоначала бытия, вечно предсуществую- щие в Божественном Уме.8 В своем единстве они суть Второе лицо Троицы,9 ипостасно, а не сущностно, а потому и не Бог как таковой: они — не божественная природа, но божественные силы, или пожелания (θελήματα).10 Однако умопостигаемые сущности возникают, так что относительно природы logoi-пожеланий их соб¬
1 См. выше, с. 555, 583.
21 Ambig. VI 41 (PG91. 1184Ы4—dl). См. выше, с. 582—583.
3 II Ambig. (PG 91. 1036с1— 3); I Ambig. Ill 1077с1—1080а5. См. выше, с. 578.
4 I Ambig. (PG 91. 1392Ы—4). Ср. с Эриугеной, ниже, с. 621.
5 Ibid. VI 38 (PG 91. 1180сЗ—9).
6 Ibid. 1180dl—3.
7 Ibid. LXIII (PG 91. 1400cl5—18).
8 έν τω θεω προϋπάρχουσι παγίως όντες οί λόγοι (I Ambig. XXXVIII, PG 91. 1329al—6).
9 Ibid. Ill (PG 91. 1081dl—4). См. выше, c. 510.
•o Ibid. Ill (PG 91. 1085a7—12, b7—12). См. выше, c. 547.
588
ГРЕЧЕСКАЯ ХРИСТИАНСКАЯ ПЛАТОНИЧЕСКАЯ ТРАДИЦИЯ
ственная природа есть genesis, принцип которого ему внеположен: «Logoi тех вещей, существование которых... не может по рождению (μετά τήν γένεσιν) прейти от бытия к небытию (то есть умопостигаемые сущности), неизменны (μόνιμοι) и твердо установлены, поскольку имеют единым началом своего бытия Мудрость, исходя из которой и посредством которой они существуют и которая дает им силу быть».1 Вечный мир есть расцвет идеи, единообразной1 2 в Логосе и сущей его началом и концом. Актуально logoi суть одно, бытие в умопостигаемой триаде бытие—благобытие—присно- бытие, а потенциально — многое, эволюция триады: умопостигаемые сущности с момента своего genesis актуально — многое, потенциально — единое, когда через благобытие они перейдут в вечное бытие logoi.
Г. Изменчивый мир
Обособленное бытие распадается на два класса — умопостигаемые и чувственные сущности, первые из которых, однажды вступив в бытие, не утрачивают его и вступают на путь от бытия через благобытие к вечному бытию, а вторые — на путь от становления через движение к покою. И первые, и вторые в равной степени зависят от Бога, творца не только бытия, но и становления:3 «Он даровал природе энергию, производящую виды, и установил само бытие сущих так, как оно есть».4 Но так же как божественная природа содержит в себе умопостигаемый мир, ипостасно сопряженный с Божьими силами, умопостигаемый мир содержит в себе мир чувственный. Опять-таки свойственное им ипостасное единство не является тождеством: умопостигаемый мир есть диада, состоящая из формы (в аристотелевском смысле) и материи, причем его форма является результирующей формальных свойств (сил, то есть благобытия) умопостигаемого мира, а его материя — принципом индивидуации, которая тем самым его дифференцирует.
Таким образом, чувственный мир находится в том же отношении к умопостигаемому миру, что и умопостигаемый — к божественным силам, а именно в отношении обособленного бытия к простому бытию. Небесная и церковная иерархии псевдо-Диони¬
1 Ibid. XXXVIII (PG 91. 1329b 14—с4).
2 Ibid. Ill (PG 91. 1081bl0—cl).
3 См. выше, c. 584.
4 Op. theol. et polem. (PG 91. 36d5—7).
СВ. МАКСИМ ИСПОВЕДНИК
589
сия заменены аристотелевским различением на общее (καθόλου) и единичное (καθ’ έκαστον). Однако, поскольку «бытие», как и «бытие единичным», есть дар Бога, общее сохраняет за собой реальность платоновской формы, с которой его уже отождествил св. Григорий Нисский, тогда как единичное столь же субстанциально, каким оно было для Аристотеля. Для св. Григория общее означает одновременно как единство и logos каждого из входящих в него индивидов, так и их совокупность в целом;1 как следствие, формы реально существуют в единичных сущностях. Хотя он применяет этот принцип только к отношению между человечеством (или первым, единым творением человека) и отдельными мужчинами и женщинами (или вторым творением),1 2 св. Максим распространяет этот принцип на всю свою философию. Мир строится на колебании между общим и единичным, которое воспроизводит в сотворенной природе единство-во-множестве, свойственное Логосу-логосам (Logos-logoi). Это также тождественно proodos и epistrophe, а кроме того, иллюстрирует отношение между dynamis и energeia: «И вновь общее губится (φθείρεται) отдельным (τα μερικά) через обособление (καθ’ άλλοίωσιν), отдельное же уничтожается общим в разложении (καθ’ άνάλυσιν): рождение одного есть смерть другого».3
Proodos и epistrophe не два противоположных движения, сколь угодно близко взаимосвязанных, но одно единство-в-противо- борстве4 умопостигаемого и чувственного миров. Для псевдо- Дионисия Бог есть «Отец Светов», которые нисходят по уровням все меньшей проницаемости: для св. Максима они озаряют границу между двумя мирами, взаимное притяжение которых образует физический универсум и где, в мире имманентности, Трансцендентное проявляет себя как Совершенно Иное.5 В этой встрече смысла и символа исчезает подчиненность церковной иерархии небесной и вместе с этим — нужда в отдельном символическом богословии: «Мир — един и не разделяется вместе с частями своими; наоборот, путем возведения (άναφορα) к своему единству и неделимости он упраздняет различие их, происходящее от природных особенностей этих частей».6
1 Balthasar U. Presence et pensee. Pt. 1.
2 См. выше, c. 533.
31 Ambig. VI 32 (PG 91. 1169cl—5). Cp. с Гераклитом (fr. 62 Walzer (67 Bywater)).
4 См. выше, c. 582.
5 Balthasar U. Liturgie cosmique. P. 48—49.
6 Max. Conf. Myst. II (PG 91. 629b5—8).
590
ГРЕЧЕСКАЯ ХРИСТИАНСКАЯ ПЛАТОНИЧЕСКАЯ ТРАДИЦИЯ
Принцип единства-во-множестве относится не только к взаимоотношению умопостигаемого и чувственного миров, но и к реальности в целом, включая самого Творца: «Вечно оставаясь собой, постоянным и неизменным, не уменьшаясь и не увеличиваясь, он делает себя всякой вещью для всякого человека... покорным для покорного, возвышенным для возвышенного, самим Богом для тех, кто становятся богами (θεουμένους)».1 Тем самым не только человек есть образ Бога, но в определенном смысле и Бог позволяет себе принять образ человека: «Ибо [св. Григорий Богослов] говорит, что и Бог, и человек суть образы друг для друга».1 2 Человек относится к Богу не как пассивное к активному, а как то, в чем активное и пассивное друг другу противостоят, к тому, в чем их противостояние снято. Противоположность активного и пассивного конституирует двойственность сотворенного бытия.3 Пассивность чувственного мира и активность умопостигаемого равноудалены от Бога, превосходящего собой и активность, и пассивность.4
В чувственном, или изменчивом, мире триада Бытие—Сила— Energeia имеет форму становление—движение—покой (γένεσις— κίνεσις—στάσις). Эта триада является распространением в пространстве и времени умопостигаемой Силы, или благобытия, подобно тому как умопостигаемая триада бытие—благобытие— приснобытие есть разворачивание во множество Божественной Силы, или Логоса. Genesis есть начало во времени, а поскольку то, что начинается во времени, должно начинаться где-то, место и время суть sine qua non (ων άνευ) изменчивого бытия:5 «Оставив в стороне то, что бытие сущих есть обособленное бытие, а не простое бытие... кто не знает, что во всяком сущем... первое, что должно познаваться, это Где, к которому везде и всегда присовокуплено также и знание Когда?»6 Они суть развитие в изменчивом бытии status mobilis Бога, поскольку время принадлежит к категории покоя, а время — к категории движения.7
Однако, хотя время, как и сопровождающее его место, есть sine qua non изменчивого бытия, оно является не новым творением, но состоянием бытия в движении. Поэтому, когда движение завершается покоем, оно не уничтожается, но возвращается к бытию как
1 I Ambig. XVII (PG 91. 1256Ь4—9).
2 Ibid. VI 3 (PG 91. 1113Ы0—11).
3 Ibid. XXXIII (PG 91. 1296а5—Ь4). См. выше, с. 514.
4 Max. Conf. Cent, gnost. II 2 (PG 90. 1125c6—14).
5 См. ниже, c. 591.
6 I Ambig. VI 38 (PG 91. 1180b4—12).
7 Max. Conf. Quaest. ad Thai. LXV (PG 90. 757d7—10).
СВ. МАКСИМ ИСПОВЕДНИК
591
вечному бытию, в котором движение становится вечным движением (άεικινησία), или вечнодвижущимся покоем (άεικίνητος στάσις). Время есть вечность, отмеренная движением, а вечность — время, переставшее двигаться.1
В таком случае новым элементом является движение, соединяясь с которым бытие становится временем.1 2 В учении ев. Максима о движении состоит его наиболее значимый отход от оригениз- ма, мощное влияние которого испытала на себе его философия. Ориген разделял с языческими философами воззрение, что всякое движение по необходимости есть отклонение от неизменного Блага, а значит — зло. Для ев. Максима оно изначально сопровождает существование, заключенное между рождением (genesis) и покоем, а также является полем, на котором воля имеет возможность совершить выбор между добром (το εΰ είναι) и злом (τό φευ είναι). Только если избирается последнее, такое движение есть зло и становится схождением (τροπή) с пути, ведущем из бытия в приснобытие: «Причину же trope усматриваем не в природе, а в суждении, когда оно окажется ошибочным».3 Это trope — а не kinesis — уничтожается, когда развитие достигает покоя, поскольку, не будучи сотворено Богом, оно не вечно.4
Д. Возвращение
Aeikinesia, или aeikinetos stasis, которым поглощается движение изменчивого бытия, не является ни вознесением за пределы природы и мира, ни путешествием от них к Богу, но есть процесс, с помощью которого умопостигаемое творение реализует свое исходное назначение и назначение всей сотворенной природы. Различие между stasis, завершающим триаду изменчивого мира, и telos творения в целом, которым она поглощается, состоит в том, что первый ограничен условиями того genesis, из которого он произошел, прорастанием семян индивидуального бытия, то есть пространством, временем и движением, тогда как второй беспределен, так как он есть простое и вечное бытие.5 Оно соответствует различию между genesis изменчивого мира и первона¬
1 IAmbig. VI 31 (PG91. 1164Ы4—cl). См. выше, с. 514; 518; 530; 575.
2 Ibid. LII (PG 91. 1377d—1340а3). См. выше, с. 585.
3 Max. Conf. Ер. VI (PG 91. 432а4—6).
4 Max. Conf. Quaest. ad Thai. Praef. (PG 90. 252Ь8-чД).
5 Ibid. LXV (PG 757d3—760a 11).
592
ГРЕЧЕСКАЯ ХРИСТИАНСКАЯ ПЛАТОНИЧЕСКАЯ ТРАДИЦИЯ
чалом умопостигаемого мира, который представляет собой недифференцированное бытие (τό είναι). Telos схож с понятием Третьего Неба как предмета бесконечного, хотя и не безнадежного искания у Григория Нисского.1 Отдохновение в Боге не есть stasis, который имеет смысл прекращения движения, а также подходит для обозначения конца изменчивого бытия. Это есть нечто за пределами stasis, состояние ни покоя, ни движения, превышающее и первый, и второе.1 2 Описывая это состояние, св. Максим употребляет почти те же выражения, что и св. Григорий: «Бог в силу бесконечности своей природы бесконечно увеличивает жажду в тех, кто наслаждается им, через причастность».3 Тем не менее если св. Григорий не разрешает парадокса stasis (остановки), который одновременно есть также и dromos (путь),4 то св. Максим, используя такое понятие, как aeikinesia, предлагает аналогию с неизменным движением небесных тел.5
Поскольку это движение, оно есть переход от единичного логоса к Божественному Логосу: «Если душа добровольно не предпочтет чего-либо своему собственному логосу, она не отпадет от Бога, но, скорее, продвинется к нему и станет Богом (θεός γίνεται)».6 Стремление к осуществлению душой собственного логоса есть свойственное ей по природе движение сквозь изменчивую триаду genesis—движение—покой, а следовательно — бла- гобытие: aeikinesia от логоса к Логосу есть действие благодати.7 Подобно Григорию Нисскому,8 Максим Исповедник связывает его непосредственно с воплощением. Логос есть не только цель, но и путь — как сквозь изменчивый мир, где он дает человеку возможность выбрать добро и отвергнуть зло, так и сквозь умопостигаемый мир, в котором он просветляет Нус и позволяет ему созерцать райское блаженство.
В дополнение к дару бытия, из которого изменчивая природа ведет свое начало (genesis), и вечного бытия, в котором она, навер¬
1 См. выше, с. 539.
2 I Ambig. XI (PG91. 1221а15).
3 Ibid. Ill (PG 91. 1089Ы1—14). Ср.: Max. Conf. Cent, carit. Ill 46 (PG 90. 1029c6—8); Greg. Nyss. Vit. Moys. (PG 44. 405b—c).
4 Vit. Moys. Loc. cit.
5 См. выше, c. 567.
6 I Ambig. Ill (PG 91. 1080c2—7). Cp. 1081b8—11, d8—9; Disdier Μ. T. Les fondements dogmatiques de la spiritualite de s. Maximus le Confesseur // Echos d’Orient. 1930. XXXIII. P. 296—313.
7 Max. Conf. Cent, gnost. LXVII (PG 90. 1108b 13—14).
8 См. выше, c. 536.
СВ. МАКСИМ ИСПОВЕДНИК
593
ное, найдет успокоение, ей даны еще два дара, принятие или отказ от которых определяет свободу выбора человека, совершающегося между его рождением и смертью. Это добродетель и мудрость, которые вместе с бытием и вечным бытием составляют четыре признака (ιδιώματα) человека.1 Бытие и приснобытие суть естественные признаки, добродетель и мудрость обусловлены волей и рассудительностью. Естественные свойства составляют образ Бога, обусловленные — подобие ему. В отличие от Григория Нисского,1 2 св. Максим различает образ и подобие: образ — это то, что мы есть как сущие и вечно сущие твари, подобие — то, чего мы можем достичь, если, упражняясь в добродетели и стремясь к мудрости, восстановим образ до его изначального блеска.3 Условные характеристики — тропа, соединяющая наши начало и конец, каковые суть наши естественные характеристики. И этот путь добродетели и мудрости есть Христос, которого Ориген4 и Григорий Нисский5 уже отождествили с самой праведностью и которого, на основании того же места в Писании,6 св. Максим косвенно отождествляет с Мудростью.7 Условные свойства являются средствами, с помощью которых очищаются естественные свойства: одно приводит волю человека к Божьей воле, другое приводит познание человека к тому «незнанию», которое, как учил псевдо-Дионисий, есть беспонятийное знание Бога. Как и для него, очищение и озарение для Максима Исповедника суть шаги к совершенству, но они скорее взаимозависимы, чем последовательны. Крещение является не только озарением, но и очищением, поскольку загрязнения, которые оно удаляет, скрывали свет Образа. Поэтому св. Григорий Нисский и называет плоть облаком и завесой.8
Христос приводит многое обратно к Единому через пять развившихся из него примирений:9 соединение мужчины и женщины,10
1 Max. Conf. Cent, carit. Ill 25 (PG 90. 1024b6—10). Это понятие восходит к Филону; см.: Wolfson Н. A. Philo. Vol. II. Cambridge, 1948. Р. 130 f.
2 См. выше, с. 532.
3 Cent, carit. Ill 25 (PG 90. 1024c 1—8).
4 Orig. Comm, in Joh. [I 14], 6. 40; [XIII 2], 32. 11 (GCS Origen, IV 115. 1—2; 444. 2—3 Preuschen); Horn, in Jerem. 15. 6 (GCS Origen, III 130. 12 Klostermann); Horn, in Esaiam 5. 1 (GCS Origen, VIII 263. 9 Baehrens).
5 Greg. Nyss. In Eccles. VII (PG 44. 724d ad fin.).
6 1 Kop. 1:30.
7IAmbig. Ill (PG91. 1081cl4—dl7).
8 Ibid. VI 2 (PG 91. 1112b5— 12); VI 12 (1124b2—7).
9 См. выше, c. 584.
10 Cp. со св. Григорием Нисским, выше, с. 535.
594
ГРЕЧЕСКАЯ ХРИСТИАНСКАЯ ПЛАТОНИЧЕСКАЯ ТРАДИЦИЯ
рая и обитаемого мира, неба и земли, умопостигаемого и чувственного миров, — к окончательному восстановлению целостного единства творения и Творца.1 В последнем синтезе умопостигаемое бытие достигает своего «конца» (τέλος) в вечном бытии, в котором всякая человеческая деятельность прекращается. За этим следует «вознесение» (άνάληψις), или исступление Ума (Nous) из своей собственной природы в божественную энергию: «Вознесение есть pathos вознесенного и energeia того, к кому мы возносимся (του άναλαμβάνοντος)».1 2 Речь о πάθος возносимого, потому что душа достигла предела своей деятельности:
Душе нечего больше познавать (νοήσαι) после того, как она познала все, что в ее природе есть познаваемого. После этого, по ту сторону nous, logos и gnosis, она соединилась с Богом в простом свидании без мысли, знания или слова... Ибо Бог не есть объект познания, который она могла бы соотнести со своей способностью знать (νόησις), но безотносителен (άσχετον) и есть такое единство, которое выше познания, и слово, которое ни произнести, ни истолковать невозможно и которое известно одному Богу, который дарует Свою святую благодать тому, кто этого достоин.3
Так как вознесение не отрицает pathos, но само есть pathos, не только высшая часть души поглощается божественной энергией, но вся ее трехчастная природа:
По этой причине, говорит [Григорий Богослов], если сделаюсь единым с теми, кто стоит перед Господом и наслаждается Блаженным Вйдением, исполненный покоя и святости, я соединюсь с неделимым Богом, отождествив свою волю с Его (κατά την γνώμην ταύτότητι), усовершенствовав неразумные стороны души, яростную и вожделеющую, приведя их посредством разума к Уму и растворив их в Уме, преобразующем ярость в любовь (άγάττην), а вожделение — в радость (χαράν), подобную той, которую испытывал Иоанн, когда прыгал во чреве матери своей, или Давид, танцевавший перед ковчегом, когда тот был водружен на место.4
Это есть истинное и полное возвращение целого творения, души и тела, его переживаний и ощущений, всего многообразия
1 Max. Conf. Quaest. ad Thai. XLVIII (PG 90. 436al 1—Ь8); I Ambig. XXXVIII (PG 91. 1308dl 1—1312b7).
21 Ambig. XVI (PG 91. 1237d7—9).
3 Ibid. XI (PG 91. 1220b8—c3). Cp.: Cent, gnost. LXXII 48. 9.
4 I Ambig. II (PG 91. 1065d4— 1068a 10).
СВ. МАКСИМ ИСПОВЕДНИК
595
Божьего труда, преходящего и вечного творений, — к единству и гармонии Единого Бога, от которого все произошло.
Учение св. Максима о движении и сотворенной природе восходит к аристотелевским, а также неоплатоническим источникам. Своим описанием возвращения он во многом обязан Григорию Нисскому и псевдо-Дионисию, а понятие несмешанного единства (ενωσις άσύγχυτος), которое было возвращено в теологический контекст Халкидонским собором в 451 г. и философские следствия из которого разрабатывались Леонтием в последующем столетии, позволило ему изложить учение об экстазе, неуязвимое для критики Прокопия, направленной против экстаза у Дионисия. Для Максима экстаз есть не грубое и жестокое нарушение порядка природы, но результат ее совершенства: одновременно и смещение (ekstasis), и вытяжение (ektasis).
Глава 33
ФИЛОСОФИЯ икон
А. Естественный образ
В начале мы сказали о том, что платонизм и христианство усвоили разное отношение к телесной природе: платонизм воспринимал ее как помеху на пути души к совершенству, христианство — как средство, само по себе способствующее совершенству.1 Эти утверждения необходимо дополнить как для платонизма, так и для христианства. Платон в своих поздних сочинениях учил, что чувственный мир, копируя умопостигаемый, является проводником к его постижению, а его последователи приняли то же самое отношение к образам, созданным человеком под влиянием азиатских культов. В то же время ранние христиане, наследуя иудейское отвращение к идолопоклонству, смотрели на представление духовного материальными средствами как на кощунство. Язычество и христианство реагировали на один и тот же стимул противоположным образом: под воздействием языческих культов, заразивших платонизм страстью к магии, сопротивление христиан закоснело, а их монотеизм на время обратился в иконоборчество.
В чувственном мире естественные образы отличаются от искусственных по своим основаниям. Для первых ими являются формы: «Идея, — говорит Ксенократ, — есть основание, служащее первообразом вещей, которые существуют естественно (κατά φύσιν)».1 2 Причинами вторых являются понятия в уме художника: «Каждый художник полностью владеет образцом (paradeigma) в себе самом и придает материи его форму».3 Но если формы сами
1 См. выше, с. 506—507.
2 Fr. 30 Heinze.
3 Albinus. Didasc. IX I / ed. P. Louis. Paris, 1945. P. 51.
ФИЛОСОФИЯ икон
597
являются понятиями в божественном Уме,1 то оба рода причин суть понятия, или мысли, и разница заключается в том, кто мыслит, — в одном случае это божество, в другом — человек.
Ум обнаруживает себя в мысли. Поэтому понятия, являющиеся первообразами образов — божественных или человеческих, — в свою очередь суть образы того божественного или человеческого ума, который их постигает. По этой причине Филон называет Логос, представляющий собой обилие (pleroma) форм,1 2 образом Бога (ή είκών του θεοΰ),3 который со своей стороны выступает первообразом всего остального: поскольку Бог есть Отец Образа, Образ оказывается шаблоном для других существ.4 Итак, существует иерархия естественных образов: умопостигаемый мир, являющийся образом Бога, и чувственный мир, являющийся образом умопостигаемого. Христиане отождествили Логос с Христом, которого также называли образом Бога5 и который в свою очередь представляет собой образец для человека, ибо человек был сотворен «по» образу (κατ’ εικόνα), то есть по образу Христа — образа Бога.6 Следовательно, и здесь существует иерархия естественных образов, но человек находится не на самом низком ее уровне, ибо производимые им — созданием, наделенным умом, — мысли становятся образцами для литературы и искусства.7 Подобие, отношение образа к первообразу, равнозначно причастности,8 отношению низшего уровня иерархии к высшему. Поскольку образ подобен своему первообразу, он тождествен ему, ибо причастен его природе.9 Поэтому каждый уровень в иерархии, кроме самого высокого и самого низшего, может существовать тремя разными способами: через свою причину (κατ’ αιτίαν άρχοειδώς), через соб¬
1 См. выше, с. 510.
2 Там же.
3 Philo. Conf. 147 f. // Philonis Alexandri opera / ed. L. Cohn, P. Wendland. Bd. II. Berlin, 1896. S. 247. О той же идее у св. Григория Нисского см. с. 538—539.
4 Leg. Alleg. Ill 96,1 134.
5 2 Кор. 4:3, Кол. 1:15 и так далее.
6 Кол. 3:9 сл. См.: Leys R. L’Image de Dieu chez s. Gregoire de Nysse. Brussels; Paris, 1951; Duering W Imago: Ein Beitrag zur Terminologie und Theologie der Romischen Luturgie. Miinchen, 1952; Cairns D. The Image of God in Man. New York, 1953; Ladner G. Die mittelalterliche Reformidee und ihr Verhaltnis zur Idee der Renaissance // Mitteilungen der Instituts fur Oesterreich. Geschichtsforschung. 1952. LX. S. 31 f.
7 Damasc. De sacr. imag. I и III.
8 См. ниже, c. 600.
9 Proclus. In Tim. II 81b f. (Tim. 28a f.). Cm.: Borinski K. Die Antike in Poetik und Kunstteorie. Bd. I. Leipzig, 1914. S. 1—21.
598
ГРЕЧЕСКАЯ ХРИСТИАНСКАЯ ПЛАТОНИЧЕСКАЯ ТРАДИЦИЯ
ственное бытие (καθ ΰπαρξιν) или через причастность (κατά μέθεξιν είκονικώς).1 Таким образом, Логос (и формы, обилием которых он является) вечно существует до образов в Отце, существует в личности Христа и существует иконически (eikonikos) в каждом человеке, сотворенном по его образу. Эти три модуса существования несут на себе печать платонизма, которого придерживались как Прокл, так и псевдо-Дионисий. Последний приводит в пример огненную субстанцию небесной тверди:1 2
Бог называется огнем (πυρ), но и умственное слово Его3 именуется также огненным (πεπυρωμένα);4 даже боговидным чинам мыслимых и мыслящих ангелов (των νοητών άμα και νοερών)5 придаются различные и все огненные образы (έμπυρίοις σχηματισμοϊς). Поэтому и самый образ огня иначе надо понимать, когда им выражается непостижимое существо (νόησιν) Божие, иначе — когда под ним разумеется умственное слово Его Промысла (προνοιών) или logoi,6 и иначе — когда им обозначаются ангелы: в первом случае он означает причину, во втором — условное бытие, а в третьем — участие в бытии,7
ибо ангелы причастны огненной субстанции.8
В терминологии Донисия logoi означают не только «промысел» или предвидение, «то, что известно заранее», но также и предопределения (προορισμοί),9 «то, что заранее предназначено»,10 * понятие, которым также пользовался преподобный Иоанн Дамаскин.11 Они аналогичны линии, которую проводит художник, чтобы ограничить предмет и таким образом придать ему форму. Согласно Мефодию Олимпийскому (ок. 300 г.), Христос принял человеческое тело, чтобы человек мог лучше подражать ему — как если бы он изобразил себя на картине, чтобы мы смогли уподобиться
1 Proclus. El. theol. LXV. См. ниже, с. 600.
2 См. выше, с. 516.
3 То есть озарение, переданное через Писание: см. выше, с. 508—509.
4 См.: Втор. 4:33.
5 См. выше, с. 563.
6 См. выше, с. 546—548.
7 Ps.-Dionys. Ер. IX 2 (PG 3. 1108с 11—d6). О существовании первообраза в образе см. также: EH IV 3. 1 (PG 3. 473с5—6).
8 См. выше, с. 516, 525.
9 DN V 8 (PG 3. 824с).
ю См.: Рим. 8:29; Еф. 1:5.
ч Damasc. De sacr. imag. I 10 (PG 94. 1240d); III 19 (1340c).
ФИЛОСОФИЯ икон
599
Художнику.1 Понятие Христа-Иконописца известно по крайней мере со второго века,1 2 но ранние греческие отцы Церкви интерпретировали его в том духовном смысле, в каком платоники понимали отношение образа—первообраза между чувственным и умопостигаемым мирами. Вслед за Филоном3 они отождествляли человека, созданного по образу Бога, с человеческим Nous,4 для которого вещественность представляет собой случайное добавление.5 Как и Платон, они были озабочены только естественным образом, который можно увидеть лишь в вечной субстанции, а не в преходящих качествах, поскольку у него есть вечный первообраз.
Б. Искусственный образ
Однако искусственный образ оказался очень удобной иллюстрацией для объяснения образа естественного. То, чем образ является посредством подражания (μιμητικώς) здесь, внизу, пишет ев. Василий,6 то Сын есть по природе (φυσικώς) наверху; и подобно тому как в произведении художника подобие (όμοίωσις) соответствует форме, так же в разуме Бога существует единство (ενωσις), вследствие которого «честь, приданная образу, отсылает к первообразу».7 Когда человек создает искусственный образ, он создает его из материи, подверженной порче; поэтому он не может быть ничем большим, кроме как подобием первообразу, который представляет собой нематериальное понятие: божественный образ тождествен своему первообразу по причине единой с ним сущности.
Значит, божественный и искусственный образы отличаются как по форме (или причине), которой в первом случае (случае естественных образов) выступает Бог, а во втором — человек,
1 Method. Symposium 14 (24), GCS (= Griechische christliche Schriftsteller) XIII.
2 Cm.: Acta Ioannis 28 f. / ed. R. A. Lipsius, M. Bemet // Acta Apostolorum apocrypha. Bd. II. Leipzig, 1888. S. 166 f.
3 Philo. Opif. I 69,1 23 Kohn, Wendland.
4 Cm.: Clem. Strom. II 109 (102. 6; GCS Clem. Alex. II 169); V 14 (94. 5; II 388); Orig. Horn, in Gen. I 13 (GCS Orig. VI 15); Princ. IV 4. 10 (GCS Orig. V 363); Contra Celsum VI 63 (GCS Orig. II 133); VII 66 (II 216); Select, in Gen. (PG 12. 93 f.); Horn, in Cant. Cantic. Prologus (GCS Orig VIII 64); cp. со св. Григорием Нисским, см. выше, с. 531; EH IV 3. 1 (473Ы5—с 10).
5 Ср. со св. Григорием Нисским, выше, с. 533.
6 Basil. De Spiritu Sancto XVIII 45 (PG 32. 149c). Cp.: Greg. Nyss. De hom. opif. V(PG44. 137a).
7 De Spiritu Sancto. Loc. cit.
600
ГРЕЧЕСКАЯ ХРИСТИАНСКАЯ ПЛАТОНИЧЕСКАЯ ТРАДИЦИЯ
так и по материи, которой в первом случае также является Бог, во втором — телесная субстанция. Соответственно они разнятся и отношением к своим первообразам: в одном случае отношением будет единство, в другом — подобие. Но подобие не исключает единства, оно есть единство-в-несходстве, причастность,1 хотя и не тождество. В каждой вещи есть нечто такое, что неразрывно связывает ее с тем, чему она подобна. Прокл называл такой элемент иконическим (eikonikos)1 2 существованием первообраза в образе. Его предшественником в этом был ев. Василий, отмечавший, что мы называем именем «император» как самого императора, так и его статую, хотя существует лишь один, а не два императора. Поэтому можно сказать, что в известном смысле император существует в своей статуе.3 Св. Василий по-прежнему прибегает лишь к физической иллюстрации того способа, которым божественность Отца присутствует в Сыне. Но она же использовалась впоследствии св. Иоанном Дамаскиным (ок. 675—749),4 первым защитником почитания образов, исходившим из философских оснований, и в протоколах Второго Никейского собора (Седьмой Вселенский собор 787 г.),5 на котором иконоборцы потерпели окончательное поражение. Утверждение о том, что «честь, приданная образу, отсылает к первообразу», может быть применено как к искусственному, так и к естественному образу.
Однако иконоборцы оспаривали не только почитание образов Христа, но и саму возможность их создания. Они не должны почитаться, потому что представлять божественное в материальной субстанции — значит не почитать, но осквернять его. Но такой аргумент накладывает запрет на какое бы то ни было почитание: ведь и Скрижали Завета (на которые опирались при осуждении изображения) сделаны из камня, и весь культ состоит из рукотворных святынь, ведущих посредством материи к нематериальному Богу.6 Этот аргумент основывался на понимании материи как независимой от Бога сущности; св. Василий этой точки зрения, разумеется, не разделял,7 хотя и не позаботился ее в этом смысле опровергнуть. Для христианина нет ничего, будь то дерево, воск
1 См. выше. С. 597.
2 См. выше. С. 598.
3 De Spiritu Sancto XVIII 45 (PG 32. 149c). См.: Athan. Orat. Ill c. Arianos 5 (PG 26. 332a f.); Enn. V 9 [5] 5, 12—19.
4 Damasc. De sacr. imag. Ill (PG 94. 1405a).
5 Mansi. Consilia XVIII 69b f.
6 Damasc. Op. cit. II 23 (PG 94. 1309c).
7 См. выше, c. 514.
ФИЛОСОФИЯ икон
601
или камень, что не было бы создано Богом и в известных пределах не являлось бы божественным. Для него материальные предметы находятся одновременно и выше и ниже искусственного образа: выше, поскольку они суть творения Бога, а не человека (как говорил Платон, кровать лучше изображения кровати);1 но и ниже — в зависимости от того, по отношению к чему образ является икони- ческим (εικονικώς). Художник не унижает достоинства Бога, но возвышает материю и таким образом способствует божественной цели — слиянию в конце концов всего, включая материю, со своим Творцом.
Христиане обосновывали подлинность своих образов тем, что те представляют исторических персонажей, зримых для человеческого глаза, в то время как язычники создавали образы невидимых сил:1 2 то, что Платон полагал предпосылкой к оценке образа — предшествующее знание подлинника,3 — больше подходило к его созданию. В соответствии с этим более умеренные иконоборцы (те, что избежали семитского влияния, отвергавшего любое изображение человеческой формы) возражали против таких образов, как представление ангелов или Духа Святого в виде голубя, но больше всего — против изображений Христа, которые были основной проблемой в иконоборческой полемике.
Поскольку Христос был историчен только как человек, его образ представлял его человеческую природу обособленной от божественной. Почитать такой образ — значит делать из человеческой природы Христа «четвертую ипостась»; не почитать — значит полагать, что человеческая природа является не необходимой частью Божественного Логоса, но «платьем», которое он временно надел.4 Единственное решение этой дилеммы заключалось в том, чтобы показать, что образ представляет не только человеческую, но и божественную природу Христа. «Вместе с царем и Богом, — пишет св. Иоанн Дамаскин,5 — поклоняюсь багрянице6 тела не как одеянию (ιμάτιον), не как четвертому лицу (τέταρτον πρόσωπον)... но как ставшей причастною такому же Божеству... Поэтому сме¬
1 Plat. RP X 597.
2 laonn Thes. Contra paganos et Iudaeos (цитированный на Втором Никейском соборе); Mansi. Concilia XIII 164—168.
3 б τί έστι πρώτον γιγνώσκειν («то, что есть главное в познании»): Plat. Legg. II 669а—b.
4 Const. V. Fr. 4—15 / ed. G. Ostrogorsky // Studien zur Geschichte des byzan- tinischen Bilderstreits. Breslau, 1929. S. 8—11.
3 Damasc. De sacr. imag. I (PG 94. 1236b = III PG 94. 1325b).
6 άλουργίς — то есть багряной одежде императора.
602
ГРЕЧЕСКАЯ ХРИСТИАНСКАЯ ПЛАТОНИЧЕСКАЯ ТРАДИЦИЯ
ло изображаю Бога невидимого, ради нас ставшего Причастным и плоти, и крови».1
Иконоборцы заявляли, что именно это и невозможно сделать: невидимое нельзя ограничить, а что не может быть ограничено — не может быть изображено. В этом аргументе предпосылка ложна, а вывод, хотя и правомерен, будет non sequitur.* Невидимых ангелов можно описать с точки зрения времени, поскольку они имеют начало, и с точки зрения схватывания (κατάληψις), ибо, будучи разумными,1 2 они должны схватывать природу друг друга, которая тем самым ограничивается. Поэтому утверждение о том, что невидимое не может быть ограничено, не истинно.3
Из этого тем не менее не следует, что все, что может быть ограничено, может быть изображено. «Графическое изображение (γρά- φεσθαι, είκονίζεσθαι) содержится в ограничении (περιγράφεσθαι), однако ограничение не содержится в нем».4 Статуя императора не заключает в себе императора, но лишь одно или несколько его качеств, а в образе Христа заключена не его природа (или даже его человеческая природа),5 поскольку он царствует на небе, но его Energeiai.
Иконоборцы отождествляли графические изображения с ограничением, поскольку верили, что истинный образ должен быть единосущным (όμοούσιος) со своим первообразом,6 как в случае с Христом — с образом его Отца. Они усматривали между образом и первообразом отношения тождества и различия вместо отношений подобия и неподобия; ибо первые понятия относятся к категории субстанции, в то время как вторые — к категории качества.7
1 См. ниже, с. 604.
2 См. выше, с. 524—525; ниже, с. 605.
3 Niceph. Antirrh. II 7 (PG 100. 345с).
4 Ibid. II 12 (PG 100. 360a—b). См. Эриугену об определении и месте, ниже, с. 619—620.
5 Ibid. 357а—b.
6 Const. V Fr. 2.
7 Niceph. Antirrh. I 31 f. (PG 100. 281a). Это аристотелевский аргумент (См. Cat. VIII 11 al5), и он отражает тот способ, которым почитатели икон в течение того периода, когда труды св. Иоанна Дамаскина были осуждены императора- ми-иконоборцами, обращались к аристотелизму, которому обучали в Византии на протяжении более ста лет. См.: Alexander Р. J. The Patriarch Nicephorus of Constantinople. Oxford, 1958. P. 14, n. 1; Schwartslose K. Der Bilderstreit. Gotha, 1899. S. 183; Martin E. J. A History of Iconoclastic Controversy. London, 1930. Review // Byzantinische Zeitschrifte. 1931. XXXI. S. 391; выше, c. 570—571.
* Вывод, не соответствующий посылкам, нелогичное заключение. — Причем, перев.
ФИЛОСОФИЯ икон
603
Если бы образ и первообраз были единосущными, они подпали бы под одно определение и образ был бы своим собственным первообразом. Анонимный комментатор Евангелия от Иоанна,1 писавший до 812 г.,1 2 отделив естественный образ от искусственного,3 противопоставляет Христа, который как естественный образ Отца4 содержит в себе всю истину Отца как в форме, так и в материи, искусственному образу, в котором заключается форма, но не материя своего первообраза5 и который, следовательно, не полностью тождествен с ним, а «там, где нет полного тождества, но различие в субстанции и форме, нет места полной истине».6
Но образ — это следствие, которому первообраз служит причиной. Кто бы ни разрушал следствие, он разрушает и причину,7 и то, как почитается следствие, влияет и на почитание причины.8 Образ и первообраз соотносятся друг с другом и потому одновременны: «Искусственные и даже в большей степени естественные образы предваряют постижение своего первообраза и умаляют его существование. Ибо где есть образ, там с необходимостью должен появиться первообраз; а когда образ устранен, вместе с ним устранен и первообраз».9 Аргументы комментатора не новы: видимо, они были в ходу на протяжении определенного времени, возможно десятилетия после Второго Никейского собора.10 11 Хотя автор — монах Студийского монастыря11 и его аргументы воспроизводит Феодор Студит в своем втором Послании, написанном в 814 г., они не были связаны исключительно с этим монастырем, ибо Никифор, который также их использовал,12 не имел к нему
1 Brit. Mus. Addit. MS 39605 / ed. Karl Hausmann // Ein neuentdeckter Kom- mentar zum Johannesevangelium. Paderbom, 1930. Cm.: Jaeger W. Der neuentdeckter Kommentar zum Johannesevangelium und Dionysius Areopagites 11 Sitzungsberichte der Preussischen Akademie der Wissenschaften. Berlin, 1930. S. 569—594.
2 Alexander P. J. Op. cit. P. 197.
3 Comm, in Ioann. 184. 32—35 Hausmann. См. выше, c. 596—597.
4 См. выше, c. 597.
5 Comm, in Ioann. 187.25—33 Hausmann. Cm.: Niceph. Antirrh. 117 (PG 100.228d).
6 Comm, in Ioann. 188. 6—8 Hausmann.
7 Cp. с Филопоном, выше, с. 568.
8 Comm, in Ioann. 190. 34—38. Cp. со св. Василием, выше, с. 600.
9 Comm, in Ioann. 191. 5—9.
10 Alexander P. J. Op. cit. Loc. cit.
11 Ein neuentdeckter Kommentar zum Johannesevangelium. S. 84.
12 ελεγχος καί άνατροπή του άθέσμου καί άορίστου καί όντως ψευδωνύμου όρου του έκτεθέντος παρά των άποστατησάντων της καθολικής καί άποστολικής έκκλησίας καί άλλοτρίφ προσθεμένων φρονήματι έπ’ άναιρέσει τής του θεού λόγου σωτηρίου οικονομίας: MS Paris Bibl. Nat. gr. 1250, f. 224 V // Alexander P. J. Op. cit. P. 204.
604
ГРЕЧЕСКАЯ ХРИСТИАНСКАЯ ПЛАТОНИЧЕСКАЯ ТРАДИЦИЯ
прямого отношения. Эти аргументы, судя по всему, были частью византийской аристотелевской традиции.1
В. Функции искусственных образов
Допустив возможность создания и почитания священных образов, мы все же должны установить их назначение. Для язычников, как и для христиан, искусственный образ имел как символическую ценность, так и присущую ему неотъемлемую силу, служащую талисманом для первых и причастием и таинством — для вторых.
Образ является видимым средством, благодаря которому невидимое божество может почитаться на уровне чувств.1 2 Обращаясь в своем «Прошении о христианах» (ок. 177 г.)3 4 к Марку Аврелию и Коммоду, Афинагор воспроизводит языческий аргумент: «Но некоторые говорят, что это только изображение, а боги — те, в честь которых сделаны эти изображения, что моления, которые обращаются к сим последним, и жертвы относятся к богам и совершаются для них; что нет другого средства, кроме этого, приблизиться к богам, ибо „трудно видать богов открыто444». «Кто, как не совершенный глупец, — спрашивает Цельс, — считает их богами, а не посвящениями и статуями богам!»5 Похожие отрывки существуют и у Порфирия,6 Олимпиодора7 и Юлиана Отступника.8
Теми же аргументами, которыми язычники защищались от христиан, христиане пользовались в полемике с иудеями и другими противниками образов. Псевдо-Дионисий заимствует у Плотина пример со священником, который, вступив в чин, обладает разумным знанием (έπιγνωσόμεθα) невидимых вещей, образы которых в теле Церкви производят видимое впечатление.9
1 Alexander Р J. Op. cit. R 198.
2 См. выше, с. 601—602.
3 Athenag. Presbeia peri christianon XVIII 1 // Goodspeed E. J. Die aeltesten Apologeten. Gottingen, 1914.
4 Horn. Iliad XX 131.
5 Contra Celsum VII 62. Cm.: Bevan E. R. Holy Images. London, 1940.
6 Porph. C. Chr. / ed. A. Hamack // Abhandlungen des kgl. Preussischen Akad. der Wissenschaften. Bd. 1. Berlin, 1916. Fr. 16. S. 92 f.
7 Olymp. In Gorg. 225, 17—20 Norvin. См. выше, c. 569.
8 Iul. Ep. ad Theod. / ed. J. Bidez // L’Empereur Julien. CEuvres completes. Vol. 1, 2. Paris, 1924. P. 160—162.
9 EH III 3 (PG 3. 428dl—4); II 8. 2 (397c5—8). Cm.: Enn. VI9 [9] 11. См. выше, c. 548; cp. со св. Григорием Нисским, с. 536.
ФИЛОСОФИЯ икон
605
Но высшие нас сущности и чины... бестелесны, и священноначалие у них мысленное и премирное.1 А наше священноначалие мы видим преисполненным, подобно нам самим, разнообразия чувственных символов, при помощи которых мы в свойственной нам мере (άναλόγως ήμΐν αύτοΐς) священноначальственно (ίεραρχικώς) возводимся к единообразному оббжению.. .Те, как бесплотные умы,1 2 воспринимают мысль, как она влагается им; а мы чувственными образами (εικόνες) возводимся, насколько возможно, к божественным созерцаниям.3
Первые вожди нашей иерархии... предали нам через священные установления посредством писаных и неписаных своих наставлений в чувственных образах4 пренебесное, в разнообразии и многоразли- чии то, что само в себе едино, в человеческих вещах — божественное, в вещественном — невещественное, и в том, что свойственно нам, — пресущественное.5
По-видимому, св. Иоанн Дамаскин первым назвал образы книгами невежественных.6 Подобно тому как невыразимое может быть сообщено посредством слов, так и невидимое может почитаться в видимых вещах:
И всюду ставим чувственно выраженный образ Его, освящая [чрез это] первое [из наших чувств]; ибо первое из наших чувств — зрение; подобно тому как словами освящаем слух; ведь изображение есть напоминание: и чем является книга для тех, которые помнят чтение и письмо, тем же для неграмотных служит изображение; и что для слуха — слово, это же для зрения — изображение; при помощи же ума мы вступаем в единение с Ним.7
На идею Аристотеля о превосходстве зрения над другими чувствами8 также опирался Никифор для оправдания использования образов.9 Образы сообщают верующему традицию и историю веры
1 См. выше, с. 537.
2 См. выше, с. 602.
3 EH I 2 (PG 3. 373а7—ЪЗ). См. выше, с. 550.
4 Iul. Loc. cit.: «Отцы наши утвердили статуи... как символы присутствия богов».
5 EH I 5 (PG 3. 376с 10—(ПО). О неписаной традиции см. выше, с. 508.
6 De sacr. imag. Ill 9 (PG 94. 1332b).
7 Ibid. I 17 (PG 94. 1248c). См. ниже, c. 608.
8 Cm.: Arist. Met. 980al—24; De sensu 437a; Themist. ap. Plut. De recta ratione audienti 2; Ps.-Arist. De mundo IV 397a 17.
9 Niceph. Apol. maior LXII (PG 100. 748d—749b); C. Eus. et Epiph. / ed. J. B. Pitra // Spicilegium. Vol. IV. Paris, 1858. P. 301 f.
606
ГРЕЧЕСКАЯ ХРИСТИАНСКАЯ ПЛАТОНИЧЕСКАЯ ТРАДИЦИЯ
без посредника, напрямую, как если бы они присутствовали здесь и сейчас, тогда как слова, хотя они также суть образы, сообщают их косвенно: слово услышанное требует последующего размышления, чтобы достичь представляемой им истины.1
Отсюда следует, что образ — больше, чем просто напоминание об отсутствующем теперь первообразе. Присутствие последнего в образе хотя и не субстанциально, но реально. Христиане разделяли с язычниками веру в то, что материальные предметы могут быть местом сосредоточения духовной силы, сообщенной посредством физического контакта.1 2 Самые ранние почитавшиеся христианами образы были физически связаны со своими первообразами. Среди них — и глиняные таблички, которые столпники пятого и шестого веков делали из соскобленных со своих тел пота и грязи и спускали посещавшим их паломникам;3 и «нерукотворные образы» (άχειροποίητοι), как, например, полотенце или покрывало, на которых оставался физический отпечаток священного объекта;4 и реликварии, выполненные в виде фигурок святого, чьи мощи были в них заключены, и получавшие силу через контакт с этими мощами.5 Показательно, возможно, и то, что по легенде самую раннюю из известных нам статуй Христа (Евсевий, не сомневавшийся в ее подлинности, видел ее собственными глазами) воздвигла женщина, которая страдала кровотечением и исцелилась, дотронувшись до одежды Спасителя, подтвердив тем самым свою веру в действенность физического соприкосновения.
Здесь образ ценен не поучительностью, а вмещаемой в себя силой, которая транслируется из ее изначального вместилища — субъекта образа. Естественно, со временем образы такого рода, как и прочие элементы «неписаной», устной традиции,6 исчезают, и им на смену приходят образы, в которых присутствие первообраза устанавливается посредством подобия. Но хотя обоими родами образов пользуются как язычники, так и христиане, христианское почитание образов нельзя отождествлять с языческим поклонением идолам, и поэтому оно не является нарушением заповеди,
1 Niceph. Antirrh. I (PG 100. 377b—с, 380a).
2 Hall K. Der Anteil der Styliten am Aufkommen der Bilderverehrung // Gesam- melte Aufsatze zur Kirchengeschichte. Bd. II. Tubingen, 1928. S. 388—398.
3 Dobschutz E. von. Christusbilder. Leipzig, 1899. S. 277—279.
4 Grabar A. Martyrium: recherches sur le culte des reliques et Part chretien antique. Vol. II. Paris, 1946. P. 343—357.
3 Em. HE VII 18. См.: Мф. 9:20—22.
6 См. выше, c. 508.
ФИЛОСОФИЯ икон
607
запрещающей идолопоклонство.1 Для язычника сила, приданная идолу через контакт или уподобление, является автоматическим следствием закона сочувствования (sympatheia), подобно тому как яблоко падает по закону тяготения; для христиан сила в образе — это священная энергия (energeia), которая в обусловленном мире работает во взаимодействии с человеком.1 2 Поскольку свободная воля человека необходима для создания образа, она необходима и для его действенности. Женщина с обильным кровотечением (haemorrheousa) дотронулась бы до края одежды Христовой напрасно, не имей она веры в силу, способную ее исцелить. Внешнее проявление действия бесполезно без внутреннего чувства.3
В самом деле, теория почитания образов, утвердившаяся в христианском мире ко времени Седьмого Вселенского собора,4 всецело заключает чувственный мир в рамки нисходящих и восходящих движений божественных dynameis и energeiai — от
1 Germ. Const. Ер. dogm. II (PG 98. 180—181).
2 См. выше, с. 606.
3 Germ. Const. Loc. cit.
4 Христианский мир: существует распространенная точка зрения, согласно которой теория и практика почитания образов ограничивается Римской католической и Восточной православной церквями. Однако Ричард Хукер, первый влиятельный богослов Англиканской церкви, выражает, главным образом на словах, учения св. Иоанна Дамаскина и Никифора: «Люди укрепляются в вере, либо когда их рассудок наставлен в чем-то таком, чему в таких делах приличествует всем людям следовать, либо когда их сердце движется к тому же по соответствующей склонности; когда их разум хоть как-то пробужден к благоговейному, молитвенному трепету, вниманию и требуемому здесь надлежащему взгляду. Потому всегда мыслились необходимыми не только проповеди, но и всевозможные наставления чувств, особенно же зрения, сильнейшего и самого восприимчивого из прочих, впечатляющие глубже и сильнее: от сего возрастало число молитв, толкований, диспутов, проповедей, а также и видимых знаков... Слова по своей заурядности не способны расшевелить людское воображение, они по большей части едва слышны; и поэтому исключительно мудрым было установление, чтобы дела человеческие, совершенные при свидетелях, передавались не только на словах, но и в верных чувственных образах, воспоминания о которых надежнее воспоминаний о речи» (Ecclesiastical Polity, V / ed. Keble, Church, Paget //The Works of Richard Hooker. Vol. I. Oxford, 1888. P. 418—419). Верно, что Хукер говорит не об образах в строгом смысле слова, но об обрядах, однако обоснование работает в обоих случаях, и образы, иногда прямо почитаемые, можно встретить и в англиканских соборах. Положение о том, что сущностные элементы христианского учения предопределяются «старыми символами и решениями семи Вселенских соборов» (из которых Седьмой провозгласил почитание образов), было принято англиканами в ходе обсуждений воссоединения с православными и старокатоликами (см. митрополита Германа (Стринопулоса) в «Faith and Order» / ed. Η. N. Bate. London, 1927. P. 21—22).
608
ГРЕЧЕСКАЯ ХРИСТИАНСКАЯ ПЛАТОНИЧЕСКАЯ ТРАДИЦИЯ
Трансцендентного и обратно. Божественные силы спускаются в умозрительный мир и позволяют уму познать Бога, тем самым приводя его обратно к Богу; они сходят в мир чувственный, являясь чувствам путями к восприятию Бога и возвращению к нему. Однако осознание Бога в естественном образе все же есть дело ума, а не чувств. Лишь когда человек, осознавая внутри чувственного мира творческие силы, благодаря которым он наделен добродетелью твари, созданной по образу Творца, сам создает искусственный образ, — тогда божественная сила, посредством материи отлитая в некоторое подобие себя самой, становится доступной постижению физическим чувством так же, как и разумом, и «зрение освящается»1 и обращается вместе с разумом к Богу.
1 Ср. св. Иоанна Дамаскина, выше, с. 605—606. О критике всего учения об образах в эпоху Каролингов см. следующий раздел («Западная христианская мысль от Боэция до Ансельма»), гл. 36, с. 659 и далее.
Глава 34
ИОАНН СКОТ ЭРИУГЕНА
А. Введение
Христианский платонизм греков был создан александрийцами, каппадокийцами, псевдо-Дионисием и св. Максимом Исповедником на основе материала, продолжавшего поступать из языческих школ. Он отделился от платонизма латинского Запада, который после Порфирия не был захвачен никакой языческой мыслью — за исключением оказанного через Боэция александрийского влияния. Однако поток беженцев-иконоборцев, приносящих с собой свои книги, устремился на Запад после поражения иконоборчества на Втором Никейском соборе на Востоке. Труды псевдо-Дионисия стали доступны, хотя их и не читали. В 758 г. папа Павел I послал список одного из них Пипину Короткому,1 а Адриан I, возможно, отправлял другое сочинение Ареопагита аббату монастыря Сен-Дени Фульраду.1 2 Однако нет никаких свидетельств того, что этими книгами пользовались. Только третья книга,3 полу¬
1 Письмо Павла, сопровождающее дар, сохранено в Государственной библиотеке Вены: 449 (Codex Carolinus) // Volumen epistolarum quas romani Pontifices Gregorius III, Stephanus III, Zacharias I, Paulus I, Stephanus IV, Adrianus I et ps.- Papa Constantinus miserunt ad Principes et Reges Francorum Carolum Martellum, Pipinum et Carolum Magnum. Ingolstadt, 1613. S. 121; Cenni C. Monumenta dominationis pontificiae sive Codex Carolinus iuxta autographum vindobonense, I. Roma, 1760. P. 148; Gundlach W. Epistola ad Pippinum, MGH, Ep. III. Berlin, 1892. S. 529. Cp.: Bouquet D. Recueil des historiens des Gaules. Vol. I. P. XXVIII.
2 Авторитетом здесь служит Мабийон (Mabillon J. Annales Ordinis s. Benedict!. Vol. II. Lucca, 1739. Bk XXXI, n. XLII. P. 536); однако он не подтверждает это никакими документальными свидетельствами. См.: GhellinckJ. de. Le Mouvement th0ologique du XIIе siecle. Paris, 1914. P. 70—71. О Фульраде см.: Felibrien M. Histoire de l’abbaye royale de s. Denis en France. Paris, 1706. P. 19, 42.
3 Теперь рукопись в Национальной библиотеке Франции в Париже (gr. 437). См.: Omont Н. MS des oeuvres de s. Denys епуоуё de Constantinople a Louis de
610
ГРЕЧЕСКАЯ ХРИСТИАНСКАЯ ПЛАТОНИЧЕСКАЯ ТРАДИЦИЯ
ченная Людовиком Благочестивым в Компьене в сентябре 827 г.1 в дар от императора Михаила Заики, дала толчок к изучению псевдо-Дионисия на Западе и способствовала перенесению на европейскую почву греческого христианского платонизма.
После неудачного перевода Гильдуина,* 1 2 аббата монастыря Сен-Дени, где и хранился манускрипт, Карл Лысый около 860 г.3 потребовал от Иоанна Скота перевести текст заново. Скот был ирландцем, вынужденным покинуть свою страну где-то в первой половине столетия из-за вторжения датчан;4 он, как и многие его соотечественники в те времена, пользовался репутацией знатока греческого языка, с которым не могли тягаться эрудиты континентальной Европы. Учитывая дефекты манускрипта, с которого он должен был переводить, и тот факт, что даже среди ирландцев знание греческого было по современным меркам ограниченным как в отношении словарного запаса, так и в понимании правил грамматики и синтаксиса, можно отметить неординарность достигнутого Эриугеной.5 Успех заключался не столько в самом переводе, стиль которого был искажен стремлением к дословному переложению столь почитаемого автора, сколько в проникновении в значение подлинника. В Эриугене пробудилось инстинктивное сочувствие греческому образу мысли, воспринятому им с энтузиазмом.
В дальнейшем его склонности было где развернуться, когда Карл узнал от библиотекаря Ватикана Анастасия о приписываемых
Debonair // Revue des etudes grecques. 1904. XVII. R 230; Sauzay A. Musee de la Renaissance I I Notices des ivoires. N 53. Paris, 1863.
1 Rescriptum Hilduini abbatis ad serenissimum Imperatorem Ludovicum... de notitia exellentissimi martyris Dionysii (PL 106. 16); Baronius C. Histoire de l’abbaye de s. Denys en France. Paris, 1825. P. 212, 1218; Ivo de Chartres. IV 104 (PL 161. 289 f.); Cappuyns M. Jean Scot Erigene, sa vie, son oeuvre, sa pensee. Paris; Louvain, 1933. P. 150 f.
2 Ed. Thery. Op. cit. II. Paris, 1937. Он датирует его сроком между 832 и 835 гг. (Op. cit. I 20).
3 Sheldon-Williams I. Р A bibliography of the works of Johannes Scottus Eriuge- na //Journal of Ecclesiastical History. 1960. X, 2. P. 203.
4 ColganJ. Life of St. Buo. Louvain, 1645. P. 256 (cm.: Warren F. E. Antiphonary of Bangor, I. London, 1893. N. 3). О ранних философских и богословских занятиях Эриугены см. раздел VII, гл. 36 В, Г, с. 669—680.
5 Иоанн пользовался именем Эриугены («Рожденный в Ирландии», по аналогии с Graiugena Вергилия) только в переводах Дионисия, но оно более известно, нежели его собственное имя, которое повсеместно традиционно заменяется. «Эриугена» — правильнее, чем более распространенное «Эригена», которое не встречается до XIII века.
ИОАНН СКОТ ЭРИУГЕНА
611
св. Максиму Исповеднику комментариях на псевдо-Дионисия1 и приказал Эриугене перевести его раннее сочинение «Амбигвы»; также, несомненно по собственной инициативе, он переложил «Об устроении человека» св. Григория Нисского, озаглавив перевод «Об образе». Видимо, он посчитал автором этой книги св. Григория Богослова, чье учение Исповедник излагает в «Амбигвах».1 2 Так Эриугена по счастливому случаю познакомился с тремя наиболее характерными и важными документами греческого христианского платонизма. Под их влиянием он полностью погрузился в греческую традицию, как если бы он был византийцем, писавшим по-гречески, и стал проводником, через которого западный мир воспринял это драгоценное наследие.
Б. Четыре природы
К тому моменту как Эриугену попросили перевести псевдо- Дионисия, он, вероятно, уже принялся за собственный труд, который в конце концов назвал «О разделении природы» («Перифю- сеон»).3 Он был задуман как исследование всеобщей природы, синтезирующее ряд идей, взятых исключительно из латинских источников — неоплатонизма блаженного Августина, аристотелевской логики и физики, воспринятой Эриугеной через Боэция и других авторов, а также из менее известных греческих теорий, доступных в латинских переложениях.
1 Anast. Ер. ad Carolum Calvum (PL 122. 1027/8, 21—35). См. выше, с. 560.
2 Кроме первых шести глав «Амбигв», ни один из этих переводов не был опубликован. См.: Sheldon-Williams /. Р Bibliography. Р. 203—206. В свет было выпущено свидетельство, позволившее предположить, что Эриугена также выполнил перевод другого труда св. Максима, «Вопросоответы к Фалассию» (Meyvaert Р. The Exegetical Treatises of Peter the Deacon and Eriugena’s Latin rendering of the Ad Thalassium of Maximus the Confessor// Sacris Erudiri. 1963. XIV. P. 130—148).
3 Самая ранняя дошедшая до нас рукопись подписана по-гречески περί φύσεως μερισμού («О делении природы»), что в рукописи XII века (Camb. Trin. Coll. О 5 20), по которой была выполнена первая редакция, было взято в качестве заголовка и латинизировано: «De divisione naturae»; под этим заголовком впоследствии она и стала известной. Однако возможно, что это заголовок только для первой части: в своей латинской форме она появляется в качестве первой леммы (возможно, в автографе Эриугены) в рукописи в Бамберге (Ph 2/1), которая была скопирована с рукописи в Реймсе и которая, как и все ранние рукописи, кроме Реймсской, озаглавлена περί φύσεων («О природе»; той же рукой, что и леммы). См.: Sheldon-Williams /. Р The title of Eriugena’s Periphyseon // Studia patristica. 1961. III. P 297—302.
612
ГРЕЧЕСКАЯ ХРИСТИАНСКАЯ ПЛАТОНИЧЕСКАЯ ТРАДИЦИЯ
Это исследование открывается разделением всеобщей природы (все, что есть, и все, чего нет) на четыре самостоятельных природы:1 то, что не сотворено и творит; то, что творит и сотворено; то, что сотворено и не творит; то, что не творит и не сотворено. Форма явно подсказана учением о парах (syzygies), к которому Эриугена демонстрировал интерес в ранних работах;1 2 согласно этому учению, каждый из четырех элементов, обладающих парными качествами, соединен со смежным ему элементом и может переходить в него: огонь сухой и теплый, воздух теплый и влажный, вода влажная и холодная, земля холодная и сухая. При этом две пары противоположны двум другим: первая противостоит третьей, а вторая — четвертой3 на том же основании, на каком огонь противостоит воде, а воздух — земле:4 ни одна из этих пар не имеет общих качеств. Хотя Эриугена старательно держится учения о парах (он заставляет Ученика дважды просить Учителя повторить их описания),5 они не играют важной роли в его системе; однако он страстно желает показать, что система по сути своей диалектична. Учение о парах — это физический эквивалент таблицы противоположностей диалектиков, о которой Эриугена узнал из книг Боэция.6 Настоящая цель «Перифюсеона» заключалась в том, чтобы показать, что у нее также есть эквивалент и в метафизике.
В. Четвертая природа
В физическом мире противоположности остаются парами, будучи связаны взаимным опосредствованием: огонь может перейти в воду через воздух, который разделяет общее с огнем каче¬
1 Эриугена называет их species («виды») и theoriae («взгляды»).
2 Annot. in Marc. 4. 3—28 Lutz; Comm, in Boet. Ill 9. 8—9 / ed. H. Silvestre // Le commentaire inedit de Jean Scot Erigene au metre IX du livre III du «De consolatione philosophiae» de Boece // Revue d’histoire ecclesiastique. 1952. XLVII. R 44—122. Cp. со ев. Василием, выше, с. 515; но источником Эриугены, вероятно, служит Макробий (Somn. Scip. I 6, 489—490 Eyssenhardt).
3 Periphys. I 1, 441Ы0—442a 12.
4 Annot. in Marc. 4. 16—26 Lutz; Comm, in Boet. Ad loc. Cp.: Arist. De gen. et corr. II 4.
5 «Перифюсеон» представляет собой диалог между учителем и его учеником. В самых ранних рукописях они названы N и А соответственно, как обыкновенно и обозначались учитель (Nutritor) и ученик (Alumnus). В более поздних рукописях А прочитывалась как греческая дельта (Discipulus), а N как М (Magister), как и в более поздних изданиях.
6 Cp.: Boet. In Arist. De Int. I / ed. C. Meiser. Leipzig, 1877. S. 87.
ИОАНН СКОТ ЭРИУГЕНА
613
ство тепла, а с водой — качество влажности, а воздух — перейти в землю через воду, которая разделяет с землей качество холода.1 Однако, когда Эриугена пытается установить похожие отношения между четырьмя самостоятельными природами в метафизике, он сталкивается с затруднением. С первыми тремя проблемы нет:1 2 их можно отчетливо разглядеть в неоплатонической трихотомии вселенной — Бог, формы и чувственная материя. Бог как деятельная причина является несотворенным творцом; формы — его первые создания, посредством которых он творит чувственный мир, и поэтому они представляют собой сотворенных творцов;3 чувственный мир, сотворенный посредством форм Богом, ничего не творит и, значит, является нетворящим творением. На самом деле эти три природы взяты прямиком из блаженного Августина:
Таким образом, причина вещей, которая производит, но сама не производится, есть Бог. Другие же и производят, и производятся, каковы, например, все сотворенные духи... Причины же телесные, которые более производятся, чем производят, не должны ставиться в ряду причин, вызывающих явления; ибо они могут лишь то, что делает из них воля духов.4
Трудности начинаются именно в отношении четвертой природы.5 Ибо не очевидно, что противоположность того, что ни творит, ни сотворено, и того, что и творит, и сотворено, опосредована тем, что сотворено и не творит, — так же как не получается и так, что противоположность того, что сотворено и не творит, и того, что не сотворено и творит, опосредована тем, что и творит, и сотворено. Также непохоже, чтобы эта четвертая была звеном в цепи причинно-следственной связи, объединяющей августиновскую триаду. Она выглядит лишней.
Эриугена представляет четвертую природу как свое нововведение,6 однако мы обнаруживаем ее присутствие уже в нумероло¬
1 Annot. in Marc. 4. 19—22 Lutz; Comm, in Boet. Ill, met. 9, 8—9.
2 Periphys. I 1,442a 14.
3 Настоятель Индж {Inge W. R. Philosophy of Plotinus. Vol. I. London, 1941. P. 75) называет формы «образующими принципами в мире видимости... Они рассматриваются Платоном и платониками также в качестве творящих сил». «В „Софисте44 настойчиво утверждается динамический характер идей» (Ibid. Р. 76); ср. выше, с. 511—512. О формах как созданиях см. ниже, с. 621.
4 De civ. V 9 / ed. С. Kalbfleisch. Bd. I. Leipzig, 1928. S. 207; tr. J. Healy. London, 1945. P. 154. Cp.: Periphys. I 1, 442a 15—b3.
5 Periphys. I 1, 442a 12—13.
6 Ibid. I 1,442al3—14.
614
ГРЕЧЕСКАЯ ХРИСТИАНСКАЯ ПЛАТОНИЧЕСКАЯ ТРАДИЦИЯ
гической теории пифагорейцев, подразделявших числа на четыре категории: то, что производит, не будучи производным, — единица; то, что произведено и производит, — четверка; то, что произведено и не производит, — трехмерная чувственная восьмерка; и то, что ни произведено, ни производит, — семерка. Источником этой информации служит Филон,1 продолживший аргументацию тем, что, поскольку произведение включает движение как в производящем, так и в произведенном,1 2 одна лишь семерка является неизменной, и поэтому она — господин всего.3 Он цитирует отрывок из Филолая,4 которым в том же контексте пользуется Лид,5 свидетельствуя, что эта теория была известна в кругах неоплатоников.
Доводом, что, поскольку Бог неизменен, он ни произведен, ни производит, пользуется Кандид в своем диспуте с Марием Викторином.6 Эриугена почти наверняка его читал, ибо в конце единственной рукописи девятого века письма Кандида с ответом Мария7 существует пометка, которую все признают сделанной его рукой.8 Кроме того, он мог узнать о пифагорейской теории через Макробия,9 другого знакомого ему автора.10 Так как для пифагорейцев числа представляли всеобщие законы природы, он считал
1 Opif. С—Cl / ed. L. Cohn. Berlin, 1896. 33. 26—34. 19. О тройке как о том, что творит (жизнь и душу), см. также: Qu. Gen. II46. 12.
2 Ср.: Enn. VI 3 [44], 21, 39.
3 Opif. 34. 12 Cohn. См. также: Abr. XXVIII; Leg. Alleg. I 46; Immut. XI; Decal. СИ—CVI; De Septen. I и VI; Qu. Gen. II 12. 91 и 93; II 41. 119; II 78. 162; V. Moys. II 210; Opif. LXXXIX f.
bPhilol. Fr. B. 20 = Diels, Vors. I. Berlin, 1950. 416. 8—22.
5 Lydus. De mens. II 12, Wuensch. Leipzig, 1898. 33. 8 f.
6 Cand. Ep. ad Marium Victorinum de gen. div. I 4—11 / ed. P. Hadot // Marius Victorinus. Traites theologiques sur la Trinit6,1. Paris, 1960. P. 112—124.
7 MS Bamberg 46 (olim. Q.VI 32), f. 41 r.
8 Traube L. Palaographische Forschungen, V: Autographa des Johannes Scottus, aus dem Nachlass herausgegeben E. K. Rand // Abhand. d. kgl. bay. Akad. d. Wiss., philos.-philol. ΚΙ. XXVI, 1. Miinchen, 1912. S. XI. На сходство плана «Перифюсеона» и определенных тем Мария Викторина указала мадемуазель д’Альверни: D’Alverney М.-Т Le cosmos symbolique de XIIе siecle // Archives d’histoire doctrinal et litteraire du Moyen Age. Vol. XX. Paris, 1953—1954. P. 39, n. 5; p. 42, η. 1.
9 Ср.: Macr. Somn. Scip. 1 5, 16, 494. 27—30 Eyssenhardt.
10 Хотя и отрицалось, что Эриугена читал Макробия (Duhem Р. La physique n6oplatonicienne au Moyen Age // Revue des questions historiques. Louvain, 1910. P. 15; Cappuyns M. Op. cit. P. 216, n. 2; Silvestre H. Comment. in6d. de J. Scot Erigene. P. 116), он дважды упоминает его по имени в «Примечаниях к Марциану» (22. 154 Lutz) и один раз в своих «Изъяснениях „Небесной иерархии44» (III 4 / ed. Н. Dondaine //Arch, d’hist. doctr. et litt. 1951—1952. XVIII. P. 254), где цитируется «Сон Сципиона» I 4 (489 Eyssenhardt).
ИОАНН СКОТ ЭРИУГЕНА
615
обоснованной попытку объединить их с августиновской триадой и таким образом прийти к своей собственной теории разделенной природы.
Г. Св. Максим Исповедник
Однако, хотя Эриугена и мог найти в своих латинских источниках диалектические и нумерологические аналогии четвертой природы, все же оставалась задача онтологического ее слияния с остальными тремя. От пифагорейской семерки перенимается уникальность, которая отделяет ее от остальной природы: «Четвертая природа, — говорит Учитель, — расположена среди вещей невозможных; ее отличительной чертой (differentia) является то, что она не может быть».1 Когда Ученик просит разъяснений, от него отделываются отступлением, растянутым до конца книги.
В этом затруднении Эриугене приходят на помощь греки. Вторая книга начинается с длинной цитаты из «Амбигв», и он сразу замечает, что у Максима четыре природы сведены к трем посредством отождествления первой и четвертой.1 2 Отсюда для Эриугены открывается новая линия мысли, выводящая его за рамки первоначальной задачи по обоснованию четырехчастной модели природы и сводящая саму эту модель к единству, которым является Бог.
Уже в первой книге (снова вслед за цитатой из Максима) Бог постулируется в качестве и конечной причины, и первопричины, при этом допускается, что тем самым он является всем, что находится между ними:
Ибо он есть первая причина всего, что создано им и посредством него, и поэтому также есть конец всего, что от него. Итак, он есть Начало, Середина и Конец:3 Начало, потому что все, что участвует в бытии, — от него; Середина, потому что в нем и посредством него все существует; Конец, потому что к нему движется все, что ищет прекращения движения и утверждения своего совершенства.4
1 Periphys. I 1, 442а2—4.
2 Профессор Татакис обнаруживает учение о четырех природах у псевдо- Дионисия и Максима (Tatakis В. La philosophic byzantine. Р. 86), но из тех фрагментов, на которые он любезно обратил мое внимание, этого нельзя вывести без затруднений.
3 Ср. со св. Максимом, выше, с. 582.
4 Periphys. Ill, 451 d 1—452а 1. Ниже, с. 622.
616
ГРЕЧЕСКАЯ ХРИСТИАНСКАЯ ПЛАТОНИЧЕСКАЯ ТРАДИЦИЯ
Но это — изолированный фрагмент, присоединенный к рассуждению о первой природе, в контексте которого он нарушает непрерывность мысли. Подобно другим фрагментам из первой книги, явно навеянным греками, он читается в свете предшествующих рассуждений. В третьей книге Эриугена притягивает Максимову триаду к четырехчастной модели природы: божественная природа в качестве Начала есть «творящая, но несотворенная»;1 в качестве Середины — во-первых, «творима сама собой в первоначальных причинах (формах) и тем самым творит себя, проявляясь в своих теофаниях»,1 2 во-вторых, творима — хотя и не творит — в действиях первоначальных причин;3 в качестве Конца, «как мы правильно говорим, ни творима, ни творит».4
Д. Псевдо-Дионисий
Сказанное о первой природе можно с полным правом отнести и ко всей природе, поскольку первый вид (Бог) содержит все. Строго говоря, разделение природы Эриугеной не является ни разделением целого на части, которое физики применяют к чувственному миру, ни разделением рода на виды, которое применяют диалектики к умозрительному миру.5 Это некая метадиалектика, которая только и может быть применена ко всей природе в целом (включая Творца и творение)6 и которую Эриугена находит трудноопределимой, — «своего рода разумное созерцание вселенной».7 Но поскольку умозрительные виды плотнее слиты со своим родом, чем физические частицы — с целым космоса, постольку четыре самостоятельных природы еще ближе к всеобщей природе, чем виды к роду. Тогда, если истинно, что род обнаруживается и становится умопостигаемым только в своих видах, a fortiori истинно, что первопричина обнаруживается и созерцается лишь в обособленных природах. Апофатически говоря, Бог является родом не в большей степени, чем он является всеобщностью;8 катафатиче-
1 III 23, 668d3.
2 689а15—Ь2. См. ниже, с. 619.
3 68969—11.
4 688d7—8.
5II 1, 523d2—3.
6 524d4—5.
7 524d3—4: «Intelligibili quadam universitatis contemplatione».
8 523d3—7.
ИОАНН СКОТ ЭРИУГЕНА
617
ски говоря, он является таковым прежде всего прочего, «ибо все может быть правильно и разумно выведено из него».1
Поэтому на протяжении всего рассуждения о всеобщей природе Эриугена остается диалектиком. Понятие видов, которое он недвусмысленно использует для четырех природ, и рода, которое, как следствие, означает всеобщую природу, перенесены из диалектики умозрительного творения на всеобщую метадиалектику, охватывающую как умозрительное творение, так и его Творца.
Диалектика — это все еще «наука спора»,1 2 осуществляемая делением (διαιρετική) родов на виды, а видов — на индивидуальности и возведением (άναλυτική) индивидуальностей к видам, а виды — к родам,3 но теперь это относится не только к мысли, но к действительности (ουσία) во всей ее полноте:
Искусство, которое греки называют диалектическим... в первую очередь относится к сущности (ousia) как к своему подлинному принципу, из которого берет начало всякое деление и умножение его предмета, из которого оно нисходит от наиболее общего... к наиболее частному и снова восходит... по тем же ступеням... пока не достигнет сущности (ousia), откуда началось движение и где оно никогда не сможет найти покоя.4
Тем же самым языком Эриугена резюмирует учение Максима:
Всеобщая причина, каковая есть Бог, одновременно проста и сложна; то, что обозначается исхождением, а именно — умножение Божественной Благости, есть все, что существует, нисходя от высшего к низшему, вначале посредством общей сущности всего, затем посредством самых общих родов, затем — менее общих, менее обособленных видов — к более обособленным: и затем эта же самая
1 524dl—3. Последние два цитаты приведены из маргиналии в Реймсской рукописи (875), сделанной, как считается, рукой Эриугены.
2 V 4, 868d7—869al; ср.: De praed.VII 382Ы2—13.
3 1 14,463Ы—4; Expos. VII 2, 183a3—184c 12. В «О предопределении» философия рассматривается как диалектика, состоящая из четырех ветвей: διαιρετική, οριστική, άποδεικτική, άναλυτική (De praed. 358a4—15); подобную классификацию мы можем найти только в писаниях александрийской школы: в предисловии к «Изагогу» Порфирия неизвестного христианского автора, напечатанном Дж. Э. Крамером (Cramer J. A. Anecdota graeca е codd. manuscr. Bibl. Regiae Parisiensis, IV. Oxford, 1841. P. 430) по рукописи в Париже (MS Paris Coislin 387), и у Давида (о котором см. выше, с. 570), чей комментарий к «Изагогу» напечатан Крамером (Cramer J. A. Op. cit. Р. 442) по рукописи Французской национальной библиотеки в Париже (gr. 1938). См. выше, с. 570.
4 V 4, 868d7—869а 11; ср. IV 4, 749а 1 —6.
618
ГРЕЧЕСКАЯ ХРИСТИАНСКАЯ ПЛАТОНИЧЕСКАЯ ТРАДИЦИЯ
Божественная Благость возвращается (reversio), собирая самое себя воедино (congregatio) из бесконечно разнообразной множественности вещей, которые в Боге и которые — Бог. Поэтому-то, с одной стороны, Бог является всем, а с другой — все есть Бог Божественное исхождение на все вещи называется resolutio* (άναλυτική),1 а возвращение называется deificatio (θέωσις).1 2**
Таким образом, диалектические процессы деления и возведения тождественны с proodos и epistrophe псевдо-Дионисия, чей трактат о божественных именах «допускает нас до самых тонких и темных тайн единства и троичности божественной природы, вначале объясняя исхождение одной всеобщей причины в первоначальные причины, а затем посредством них — ее многообразную теофанию в родах, видах и индивидуальностях видимой и невидимой природ».3
Е. Первоначальные причины
Всеобщие proodos и epistrophe суть divisio и reversio божественной диалектики, являющейся образцом для диалектики умозрительной, которой пользуется человеческий ум. Разделение родов на виды и обращение видов к своим родам не навязываются природе умом, но обнаруживаются им как способ, которым законы природы располагаются в божественном Уме.4 Если бы не такое расположение, ни Бог, ни умозрительный мир совершенно не постигались бы: ибо ум познаваем лишь в различении его мыслей,5 а они, в свою очередь, зависят от различий в природе. Схожим образом Ум Бога (то есть сам Бог) познаваем лишь в его мыслях, которые суть принципы этих природных различий, формы6 или, как их называет Эриугена, первоначальные причины, обусловливающие его вторую природу.
1 Здесь, должно быть, ошибка. В других местах άναλυτική и resolutio тождественны reversio.
2 Vers. Max. Ambig. Prooem. (PL 122. 1195a8—1196a2).
3 Vers. Dion. Prooem. (PL 122. 1034c6—14); cp.: Periphys. III 678d2—4.
4 Periphys. IV 4, 749al—6. Ниже, c. 621.
3II 23, 577b.
6 Выше, c. 519; 563; 587.
* Разложение {лат.). — Примеч. перев.
** Обожение (лат. и др.-греч.). — Примеч. перев.
ИОАНН СКОТ ЭРИУГЕНА
619
Поэтому proodos (или divisio) — это процесс самообнаруже- ния. В начале «Перифюсеона» Эриугена обсуждает пять способов, как отличить то, что есть, от того, чего нет, и решает, что наиболее адекватно присваивать бытие лишь тому, что познается чувством или разумом.1 Исходя из этого определения, самообнаружение означает самосотворение: ум, у которого нет никакого бытия вне своих мыслей, творит себя в мышлении, и Бог, превышающий бытие, творит себя в первоначальных причинах. Поэтому вторая (творящая и творимая) природа, как и включающая ее в себя первая, будет видом божественной природы, которая «творима сама собой в первоначальных причинах и тем самым творит себя, проявляясь в своих теофаниях».1 2
Бог в своей первой природе несотворенного Творца всего представляет собой первую личность в Троице, в своей второй природе сотворенного Творца он — вторая личность. Логос, или Божественная Мудрость,3 является полнотой (pleroma) божественных мыслей, или первоначальных причин: «Все, что было осуществлено в слове Божьем, есть... не что иное, как само слово».4 Поскольку Логос вечен, они тоже (в своей истинной, единой природе) вечны,5 и, поскольку Логос потенциально бесконечен, они тоже (актуализированные в своих действиях) «простираются к бесконечности: ибо поскольку Первая Причина всего, из которой, и в которую, и посредством которой, и для которой они сотворены, бесконечна, так и они не знают никакого предела, который их ограничивает».6
Ж. Действия
Бесконечность первоначальных причин распределяется среди многообразия их действий обособлением, которое в умопостигаемом мире называется определением, а в чувственном — местом. Хотя не всякое определение есть место (ибо место требует телесности, тогда как определение — нет), всякое место является
1 I 3, 443а9—d4; III 2, 628b—с.
2 III 23, 689а15—Ь2. См. выше, с. 616.
3 Ср. II 23, 568Ы: «Sapientiam patris, filium dico».
4 «Quidquid enim in dei verbo substantialiter est... non aliud praeter ipsum verbum est» (III 9, 642a5—7). См. выше, c. 618; ниже, c. 621.
5II 20, 556cl4—d3. Ср. II 31,561b; III 5, 635c; III 16, 667c; V 24, 909d—910a.
6 III 1, 623d5—9.
620
ГРЕЧЕСКАЯ ХРИСТИАНСКАЯ ПЛАТОНИЧЕСКАЯ ТРАДИЦИЯ
определением;1 и всякое определение — это деление, всякое деление диалектично, а диалектика, как и всякое искусство, существует в уме.1 2 Однако, в то время как деления, которые обнаруживает человеческий ум во всеобщей природе, существуют в Уме Бога, определения и местонахождения умозрительного и чувственного миров находятся в уме человека. Человек поэтому выступает как бы побочным творцом. Его мысль настолько же предстает пространственно-временным становлением природы, насколько Божественная Мудрость — ее непреходящей сущностью. Так как первоначальные причины находятся внутри божественного Логоса и сами по себе им являются, их действия находятся внутри человеческого разума и являются им. Человеческий логос, равно как и божественный, — вот все, что разуму известно. Кроме того, все действия едины в человеческом разуме, как все первоначальные причины — в божественном Логосе.3 Наконец, лучше и точнее было бы сказать, что действия существуют в единстве человеческой природы, а не в многообразии своих чувственных проявлений, поскольку единство всегда предшествует разнообразию, Бог предшествует своим мыслям, а человек — своему знанию. Точно так же и первоначальные причины обладают высшим существованием в единстве божественного Логоса, а не в многообразии их действий.
Однако, поскольку человеческая природа сама по себе выступает первоначальной причиной, «интеллектуальным понятием, извечно производимым в божественном Уме»,4 совокупность определенных и локализованных действий, каковой и является эта первоначальная причина, также существует в Уме Бога. Поэтому определения и локализации, примененные к действиям, не будут ее сущностью в том смысле, в каком сущностью будет деление всеобщей природы, но представляют собой различия, которые ум навязывает единичной сущности, а она, божественная, предшествует ему. Только Бог творит ex nihilo.
Nihilum, из которого Бог творит, является его собственной природой,5 которую он создает в сотворенной и творящей природе первоначальных причин и, посредством человека, в нетворящей
1 См. выше, с. 602.
2 1 28, 475Ы0—13.
3IV 9, 779Ы4—с4.
4 «Notio quaedam intellectualis in mente divina aetemaliter facta» (IV 7, 768b9—
10).
5 III 17, 678d2—679a5; III 19, 681Ы4—c6.
ИОАНН СКОТ ЭРИУГЕНА
621
и сотворенной природе действий.1 Поэтому третья природа, как и первая и вторая, принадлежит божественной природе. Эти три самостоятельные природы суть проявления всеобщей природы Троицы. Первый, Отец, является по старшинству причиной Сына, который, следовательно, есть первое проявление Бога и сотворен сам, охватывая собой все прочее;1 2 Отец, даруя бытие, является и причиной Духа Святого,3 который исходит от него через Сына.4 Сын — причина творения первоначальных причин,5 Дух Святой, действующий посредством человека, — их распределения среди действий,6 «среди родов, видов и индивидуальностей... небесных, умозрительных ли сущностей... или чувственных сущностей видимого мира, как всеобщностей, так и частностей, которые разделены в пространстве, движутся сквозь время и различны по количеству и качеству».7
3. Возвращение
Однако истинно и то, что первоначальные причины и, посредством человека, их действия созданы в Боге. Видимо, текст «Перифюсеона», в котором исследуются признаки божественной природы, не находит в мире ничего, что не было бы признаком божественной природы, но утверждает, что Бог и его творение суть одно. Тем не менее между ними существует реальное различие. Бог содержит в себе все: но тот, кто содержит, не может быть тождественным тому, что в нем содержится,8 ибо последнее определено или локализовано, в то время как первое — нет. Все, что после Бога наделено бытием, обладает не простым, но обособленным бытием.9 Как уже было сказано,10 разделения всеобщей природы, что является наиболее значимым для нее, реальны, поскольку они созданы не человеческим умом, но Богом.
1II 23, 577Ы1—сЗ. Выше, с. 620.
2 См. выше, с. 619.
41 30, 600—601.
4 II 31, 603а5—7.
5II 22, 566а7—Ь4; II 36, 616а. См. выше, с. 619.
41 36,616а.
7II 22, 566а 12—Ъ4.
8 III 17, 675с 14—dl. Ср.: Capelle G. С. Autour du d0cret de 1210. III. Amaury de Bene. Etude sur son pantheism formel. Paris, 1932. P. 54.
9 «Non simpliciter sed aliquo modo esse» (I 39, 482a 1—2). Ср. со св. Максимом, выше, с. 587.
10 Выше, с. 618.
622
ГРЕЧЕСКАЯ ХРИСТИАНСКАЯ ПЛАТОНИЧЕСКАЯ ТРАДИЦИЯ
Тем не менее, когда человеческий ум пользуется диалектикой, он подражает божественному действию, и если в области умозрительной диалектики разделения должны быть уравновешены обращением, то потому, что в божественной метадиалектике proodos уравновешен epistrophe. В какой-то момент человеческая мысль доходит до предела, где не может далее обособлять виды, тогда она повторяет свой путь в обратном направлении — к обобщению. Поэтому также и божественное исхождение (processio) в творение не доходит до абсолютного разложения ничто, ибо оно существует в пресуществлении и поэтому вечно сохраняется в своей целостности. Предел исхождения достигается в материи, которая является не абсолютным ничто, но небытием, стремящимся к становлению, «движением, которое отбрасывает тотальное небытие и ищет успокоения в том, что есть поистине».1 Так происходит в самом начале epistrophe, уравновешивающем proodos Небытия, которое нисходит до бытия.
Такое стремительное движение, начинающееся в материи, выступает всеобщим жизненным принципом, или же «всеобщей жизнью» (vita communis), которую Эриугена отождествляет с Мировой душой.1 2 Ведь жизнь служит именем для души с того момента, когда она, образно говоря, издает свой первый крик, выходя из лона материи, и до тех пор, пока — стремясь к форме и облачаясь в тело, обнаруживая себя в непрестанном прехождении элементов, сводясь к своей бестелесной природе и восходя к жизни чувственных существ (рыб, обретающих жизнь в воде, птиц — в пропитанном водой воздухе) — не достигнет разумной природы человека.3 Человек же является конечной причиной по отношению к чувственно воспринимаемой вселенной. Ибо назначение его — быть посредником в божественном деянии, где Бог в качестве истинной конечной причины4 замыкает действия в мире на их причины, а эти последние — на самого себя.5 Человек, сотворенный властелин и, так сказать, бог области действий, замыкает чувственный мир как на умозрительный,6 так и на самого себя; так что, возвращаясь к Богу, он возвращает с собой всю полноту творения.
1 II 15, 547Ъ9—12.
2III 36, 729а.
3 Ср. II 13, 542al 1—13: «Non solum rationabilem animam verum etiam... vitam nutritivam et auctivam».
4 Выше, c. 615.
5II 2, 528c—d; III 4, 632c9—И. См. выше, c. 620.
6 II 23, 577c—d.
ИОАНН СКОТ ЭРИУГЕНА
623
Божественность, от которой сотворенная вселенная отличается своим обособленным бытием, является тем пределом, к которому вселенная возвращается, когда частности разрешаются во всеобщем. Эриугена, вслед за Максимом Исповедником, иллюстрирует оббжение природы связью воздуха и света: «Бог примет в себя природу с ее причинами, как свет принимает воздух».1 В обоих случаях это воссоединение без смешения природ.2 Когда природа, возвращенная человеком, оббжится, она пребудет в Боге нерушимой.3 Но то, к чему она возвращается, не является самой природой Бога, которая неделима и не относится к природе ни как ее создатель, ни как то, в чем она сотворена. Писание, говоря о видении Бога, отсылает к теофании: «Мы тем самым имеем в виду не то, что любое создание, отличное от людей Слова, может выйти за пределы теофании... но то, что существуют настолько возвышенные теофании, что они познаются высочайшим созерцанием, которым усматривается божественная природа (proxima deo contemplatione) как то, что превосходит всякое творение, и считаются теофаниями теофаний»,4 то есть откровением Бога, которое даровано самим теофаниям. Катафатически говоря, не только первоначальные причины и их действия, вторая и третья природы, самообнаружение и самосотворение Бога в умопостигаемом и чувственном мирах, но вся диалектика всеобщей природы есть Бог: «Он сам есть divisio* и collectio** всеобщего творения, его род и его виды, его целокупность и его часть».5 Апофатически говоря, он сам является четвертой природой, которая вечно и неизменно созерцает самое себя; и она же, в отличие от других самостоятельных природ, обособлена от первой не по своей собственной природе, но по тому способу, каким созерцается божественное.6
1 V 8, 876а15—Ъ2. 21 10, 451ЪЗ—9.
3 V8, 876Ъ2—10.
4 V 23, 905с2—10. Ср. I 8, 448Ы5—с5; V 27, 926d; выше, с. 538—539.
5 И 1.
6 И 2, 527d—528а.
* Разделение {лат.). — Примеч. перев.
** Собирание (лат.). — Примеч. перев.
624
ГРЕЧЕСКАЯ ХРИСТИАНСКАЯ ПЛАТОНИЧЕСКАЯ ТРАДИЦИЯ
И. Заключение
«Перифюсеон» Эриугена начал писать как диалектический трактат, и, хотя открытие греческой христианской мысли изменило и, по-видимому, обогатило изначальный замысел, он сохранил его диалектическую структуру. На всем протяжении книги он постоянно говорит о строении вселенной и строении мысли, используя одни и те же понятия, ибо видимая человеком сотворенная вселенная членится на те же части и деления, что и человеческая мысль о ней. А это так, поскольку теми же делениями Бог членит свою собственную мысль, которой вселенная и была сотворена. В обоих случаях деление — это proodos из Единого во Многое. Схожим образом и человеческая мысль, вновь собирая индивидуальности в их виды и эти виды — в их роды, привносит многообразие телесного мира в единство ума, а Бог, возвращая чувственный и умопостигаемый миры в единство всеобщей природы, завершает ту же самую диалектическую операцию на сверхумопостигаемом уровне. Если Эриугена и «наделяет бытием логическую таблицу (Tabula logica)»,1 он поступает так потому, что в этом состоит план, согласно которому сотворена вселенная. Этот план, созданный мыслью, мыслью же и раскрывается, и, в самом деле, именно мысль, Мысль Творца Вселенной, является содержанием творения. То, что человек, пусть несовершенно, мыслит то же, что мыслит Бог, есть необходимое следствие того, что он сотворен по образу Божьему.
Эриугена замечателен не столько оригинальностью своей мысли, сколько своей смелостью в выражении ее и умением синтезировать учения, которые его вскормили, с теми, которые пришли к нему позже из греческих источников. При помощи такого синтеза он смог не только решить проблемы, вытекающие из его системы, но также примирить с ней и прояснить учения каппадокийцев, псевдо-Дионисия и св. Максима Исповедника о нисхождении и возвращении души. Трудности, связанные со статусом божественных сил (dynameis), которые не являются творениями, но и не тождественны Творцу,1 2 снимаются в его концепции первоначальных причин, сотворенных Богом, но все же творящих, предстающих Богом, творящим самого себя и посредством них — их действия, которые также являются самосотворением Божественного. И вывод из этого, состоящий в том, что первые три природы суть
1 Ибервег за это критикует его в своей «Истории философии».
2 См. выше, с. 512.
ИОАНН СКОТ ЭРИУГЕНА
625
природы Бога, отличного, благодаря своей четвертой природе, от своего творения, раскрывает необходимое единство двух триад, которые христианство наследует у неоплатонизма: топе, proodos, epistrophe и ousia, dynamis, energeia. Наконец, если актуализация божественной Силы — это возвращение к божественной Природе в том же смысле, в каком актуализация умственных сил человека — возвращение к единому понятию, то четвертая природа, неделимое Единое, встроена в рациональную схему и мистическое описание возвращения заключено в рациональные рамки.
Влияние Эриугены и как переводчика, и как оригинального писателя на поверку оказалось весьма значительным. Его толкования Дионисия стали опорой для толкований сарацин и Гроссетеста (написанных на более ясной латыни и со списков лучшего качества) и поэтому легли в основу программы философских школ, в которых псевдо-Дионисий был главным авторитетом (до тех пор, пока в тринадцатом веке его не вытеснил Аристотель), и традиции западного мистицизма, которая также происходит из книг псевдо- Дионисия. Учение, изложенное в «Перифюсеоне», распространяли ученики Эриугены и их последователи, такие как Ремигий, Эрик Осерский и загадочный «Icpa».1 Текст излагался в сжатых пересказах Гонория Августодунского1 2 и других.3 Его повсеместно читали катары, и считалось, что он вдохновил некоторые аспекты ереси Амальрика из Бена и Давида Динанского; как следствие, в тринадцатом веке «Перифюсеон» был осужден.
И все же его влияние продолжилось; ибо — хотя никаких копий позднее двенадцатого века сделано не было, многие же ранее сделанные списки постигла судьба еретических трудов, а появившееся в 1681 г. первое печатное издание4 было немедленно занесено в Индекс,* — многое из текста сохранилось в коммен¬
1 Автор комментариев на «Изагог» Порфирия, рукопись Paris Bibl. lat. 12949, S. IX, которые иногда приписывают самому Эриугене. (Д. Моран в своей книге приводит версию о том, что под этим псевдонимом мог скрываться Израэль Грамматик. См.: Moran D. The Philosophy of John Scot Eriugena. A Study of Idealism in the Middle Age. Cambridge, 1989. — Примем, nepee.)
2 Под названием «Clauis physicae» (MSS Paris Bibl. Nat. lat. 6734, Gottweig 103, Lambach 102; все — XII века).
3 См., например: MS Oxford Bodl. Auct. F. Ill 15, ff. 31—68. Cm.: Sheldon- Williams I. P. An epitome of Irish provenance of Eriugena’s De divisione naturae 11 Proceedings of the Royal Irish Academy. 1956. LVIII, C 1.
4 Под редакцией Томаса Гейла, профессора королевской кафедры греческого языка в Кембридже. См.: Sheldon-Williams I. Р. Bibliography. Р. 211—212.
* Имеется в виду Индекс запрещенных книг. — Примем, перев.
626
ГРЕЧЕСКАЯ ХРИСТИАНСКАЯ ПЛАТОНИЧЕСКАЯ ТРАДИЦИЯ
тариях к латинскому Дионисию1 и в такой форме изучалось среди прочих св. Альбертом Великим.1 2 Поэтому, пусть запрещенный и непризнанный, Эриугена оказал созидательное влияние на традицию не только западного мистицизма, но и средневековой схоластики.
1 Свыше 6 процентов. См.: DondaineH. F Le Corpus dionysien de l’Universite de Paris au XIIIе siecle. Roma, 1953. P. 88, 135—138.
2DondaineH. F. Op. cit. P. 88, 138—139.
Раздел VII
Г. Либешютц
ЗАПАДНАЯ
ХРИСТИАНСКАЯ МЫСЛЬ ОТ БОЭЦИЯ ДО АНСЕЛЬМА
СОКРАЩЕНИЯ
Боэций In Cat. Arist. Isag. Porph. De Trin.
De consol.
— Комментарий к «Категориям» Аристотеля
— Комментарий к Порфирию
— О Троице
— Утешение философией
Ансельм Кентерберийский
Ер. — Письма
Ер. de incam. — О воплощении Слова
Monolog. — Монологион
Proslog. — Прослогион
Cur Deus horn. — Почему Бог стал человеком
Глава 35
БОЭЦИЙ И НАСЛЕДИЕ АНТИЧНОСТИ
А. Последний римлянин и средневековая традиция логических исследований
При любой попытке провести разделительную линию между античностью и Средними веками для определения точки отсчета истории средневековой философии нам сразу приходит на ум творчество Боэция.1 Промежуточное положение, занимаемое им между этими двумя периодами, ясно выражается сочетанием двух титулов, которыми его обыкновенно награждают: последний римлянин и первый схоласт. Очевидна и весьма сильная связь его со Средними веками. Его переводы двух трактатов из «Органона» Аристотеля, написанные им предисловия для начинающих, комментарии и собственные труды для тех, кто уже продвинулся в логических исследованиях, — все это оказало глубокое влияние на развитие средневековой мысли. И до подъема ранней схоластики в двенадцатом веке, и во время него усвоение наследия Боэция продолжало играть важную роль в этом развитии. На протяжении всех Средних веков «Утешение философией» — последний счет, предъявленный римским сенатором жизни, — было образцовым произведением, возбуждавшим споры среди ученых и служившим источником духовной силы в трудную минуту. Сотни списков, созданных с восьмого по пятнадцатый век, доказали, насколь¬
1 Об окружении и достижениях Боэция см.: RandЕ. К. Boethius the Scholastic // Founders of the Middle Ages. Cambridge, 1920. P. 135—180. In Cat. Arist. II (PL 69. 201b): «И если заботы консульской должности мешают нам употребить для этого занятия всякий досуг и приложить еще больше труда, тем не менее нам кажется, что наставить граждан учением о тщательно созданной вещи — задача любого государства».
БОЭЦИЙ И НАСЛЕДИЕ АНТИЧНОСТИ
631
ко важное место занимал корпус текстов Боэция в библиотеках Западной и Центральной Европы.
Впрочем, история его влияния в средневековом мире ясно показывает, что римский переводчик Аристотеля не был частью этого мира; скорее, он был интеллектуальной силой, оказывающей влияние на расстоянии. Своей жизнью и своей мыслью Боэций все еще принадлежал христианской античности. Нет сомнения в том, что он и его современники чувствовали возможное приближение конца, и, разумеется, такое дурное предчувствие оказалось побудительной силой в их исследованиях и литературной деятельности. В это время в Италии правил германский король, и его остготские вассалы, будучи сословием воинов, представляли собой власть в государстве. Теодорих в своем отношении к учености на первый взгляд может показаться близким Карлу Великому. Боэций был любим двором на протяжении многих лет и в конце концов достиг высокого положения магистра оффиций* (magister officiorum) в обществе, в котором военная мощь и управление были поделены между готскими бойцами и образованными римлянами. Однако Боэций, в отличие от представителей учености в средневековом мире, был сугубым мирянином — примеры такого типа людей существовали и в Каролингский период, — и вовсе не пытался оказывать религиозное или воспитательное воздействие на германский народ, на что притязало духовенство. Он рассчитывал, что его читателями будут выходцы из образованного класса землевладельческой аристократии, к которой Аниций Манлий Северин Боэций сам принадлежал по рождению. Симмах, его тесть, который также был его наставником в юности, был праправнуком человека, продавившего требование восстановить алтарь Победы в зале заседания сената. Тогда это означало конфликт с Амвросием во имя веры в классическую традицию и в римское величие. В пятом веке произошли существенные перемены. Национальная гордость аристократического класса, чувство сопричастности с прошлым все еще были живы. Но их древний идеал о величии Рима теперь нашел воплощение в его ведущей роли в христианском мире. Им не терпелось защитить это положение от претензий соперников из Константинополя, и в глубине души они отказывались признавать готских правителей законными представителями res publica из-за
* В поздней Римской империи — высший гражданский чиновник, ведавший среди прочего императорской канцелярией, дворцовой администрацией, приемами посольств, секретными службами и личной охраной императора. — Примеч. перев.
632
ЗАПАДНАЯ ХРИСТИАНСКАЯ МЫСЛЬ
их приверженности еретическому вероисповеданию — арианству. Их стремление к ортодоксальной вере происходило из римского патриотизма.
Для понимания мысли Боэция необходимо учесть и его социальное окружение. Современному читателю его книг он, конечно, представляется опытным ученым и литератором. Однако он рассматривал себя не столько в качестве профессионального писателя, сколько как позднего последователя Цицерона, для которого литературная деятельность была достойным занятием в часы досуга, коим он располагал благодаря занимаемому им высокому государственному посту. После 550 г. он намеревался осуществить грандиозный проект, начатый великим римским оратором, — переложить достижения современной ему философии на родной язык.
Боэций сознавал тот факт, что его знаменитый предшественник по мере выполнения своей задачи уже столкнулся с проблемой нахождения адекватных эквивалентов греческой терминологии в языке, который развился из описания конкретного мира сельскохозяйственной общины, изначально не заинтересованной в теоретическом взгляде на вещи.
Эта задача была продолжена в школах, где литературу преподавали как часть риторического образования. Примером выступает Марциан Капелла, трудившийся в начале пятого века. Святоотеческие писатели Латинской церкви от Тертуллиана до Мария Викторина и Августина выполняли схожую работу на службе у спекулятивного богословия. Но именно Боэций в итоге оказался тем, кто установил словарный набор отвлеченных понятий, которым оперировали схоласты позднейших поколений.1
Программа, разработанная римским сенатором в готской Италии для завершения Цицеронова труда, была очень обширной. Он планировал перевести весть корпус сочинений Аристотеля, насколько он был ему доступен. Тем самым он надеялся донести все три раздела философии — логику, этику и естествознание — в их полном объеме до своих соотечественников. Следующим шагом его плана был перевод всех диалогов Платона, что должно было дать основание для синтеза платонизма и аристотелизма. Он желал опровергнуть мнение большинства о сущностной непримиримости учений двух светил греческой философии.1 2
Когда вследствие радикального изменения политических условий Теодорих осудил Боэция на жестокую смерть, — последнему
1 Grabmann М Gesch. d. scholastischen Methode. Bd. I. Freiburg, 1909. S. 156 f.
2 In libr. de int. I. Cap. 2 (PL 64. 433).
БОЭЦИЙ И НАСЛЕДИЕ АНТИЧНОСТИ
633
не было еще и пятидесяти лет, — тот не продвинулся дальше логического учения Аристотеля; в отношении платоновских диалогов не было достигнуто ничего существенного. Здесь не стоит видеть какой-то односторонней приверженности Аристотелю. В нежелании выражать определенное мнение по вопросу, в котором, как казалось большинству, проявлялось основное различие между двумя системами, ясно виден отказ Боэция утверждать правоту одного учителя перед другим. В первой и второй редакциях его толкования «Изагога» Порфирия — введения в элементарные понятия логики — мы находим два ответа. В греческом тексте был поднят вопрос о природе вида и рода; исследованы альтернативы: либо они, как понятия, суть только продукты человеческого ума, либо они существуют — или как материальные, или как нематериальные сущности. Их существование может быть укоренено в вещах, которые выступают объектами наших чувств, или же может быть отдельным от них. Порфирий отказался обсуждать этот вопрос, поскольку это вывело бы его исследование за пределы поставленной литературным жанром цели написать базовую книгу по философии.1 Боэций выходит за рамки интерпретируемого текста, отвергая возражение о том, что универсалии вымышлены, поскольку никто не может их увидеть. Никто не будет утверждать, что геометрическая линия — такая же выдумка, что и кентавр, соединение человека и лошади. Мы мыслим эти математические идеи как нечто вне телесного существования, но при этом осознаем, что мы извлекли их из нашего чувственного опыта. Таким же образом «вид» существует в объектах нашего наблюдения, из чего мы получаем впечатление о том, что разные вещи подобны друг другу. Это подобие схватывается нашим умом и становится «видом». Точно так же в нашем уме возникает и «род», когда мы продолжаем сравнивать разные виды и находим подобия между ними. Пока мы наблюдаем подобие в отдельных вещах, оно остается объектом нашего чувственного опыта; но когда это приводит к акту обобщения, оно преобразуется в умственный процесс понимания. Вид и род присущи объекту наблюдения, однако как инструменты в процессе понимания действительности они принадлежат области ума в качестве отдельных сущностей.
Боэций завершает главу утверждением, что Платон вышел за пределы такого взгляда, когда провозгласил существование вида и рода не только в акте понимания, но и в действительности. Мнение Аристотеля тождественно тому учению, которое сам Боэций дает
1 Isag. Porph. Ed. pr. I, cap. 10 Brandt. P. 24; Ed. sec. Loc. cit. I, cap. 10. P. 159.
634
ЗАПАДНАЯ ХРИСТИАНСКАЯ МЫСЛЬ
в качестве дальнейшего объяснения текста Порфирия, зная, что «Изагог» — это предисловие к трактату Аристотеля.1 Но, излагая это мнение, Боэций подчеркивает, что не имеет в виду окончательного решения данного вопроса, так как он должен решаться на более высоком уровне философской рефлексии.
Такое воздержание от окончательного ответа, выходившего, по-видимому, за рамки авторского замысла, хорошо согласуется с осторожностью, с какой организована вся его программа, где по плану один этап рассуждения следует за другим в логическом порядке. Во время написания этих параграфов из комментария к Порфирию Боэций не мог предвидеть, что спустя шестьсот лет предложенные им и не разрешенные альтернативы сформируют центры, вокруг которых кристаллизуются противоположные взгляды реалистов и номиналистов в важном споре о природе понятий.
Но влияние логического труда Боэция на развитие западной мысли не было исторической случайностью. Уклон высшего образования в сторону риторики, восходящий, возможно, к софистам и раннему эллинизму, поставил диалектику на службу литературным занятиям как часть тривиума. Предмет был задуман так, чтобы натаскать студента скорее в убедительной судебной аргументации, чем в методах научного утверждения истины. Боэций, как автор учебника свободных искусств, не хотел иметь каких-либо дел с тривиумом. Он переводил и компилировал с греческого, чтобы создавать новейшие латинские учебники для квадривиума — математических наук о числах и телах, покое и движении.1 2 Руководства по арифметике и музыкальной теории сохранились и имели долгую историю в школах. В связи со своими научными интересами он также считался экспертом в технических вопросах. Теодорих думал, что благодаря своим исследованиям Боэций обладает достаточными знаниями для создания клепсидры, которую правитель готов желал послать королю Бургундии Гундобаду, своему зятю.3
Такой необычный для латинского Запада склад ума также отразился на его обширных логических исследованиях; они были выведены из привычного для них литературного контекста и
1 Isag. Porph. Ed. sec. I, cap. 11. P. 17; Loc. cit. P 167: «Таким образом, мы достаточно прилежно следовали мнению Аристотеля — не потому, что более всего одобряем его, но потому, что это Введение предпослано книге, автор которой — Аристотель».
2 Courcelle R Les Lettres Grecques en Occident. P. 261—264.
3 Cassiod. Variae I 45, § 4 // Mon. Germ. Hist., Auctores Antiquissimi. XII. S. 40.
БОЭЦИЙ И НАСЛЕДИЕ АНТИЧНОСТИ
635
вновь возвращены к своему первоначальному философскому значению — значению созданного человеком инструмента для испытания и понимания мира. Функция высшего образования в раннее Средневековье по существу сводилась к сохранению класса людей, способных понимать латынь. Акцент делался уже не на произнесении речей, а на написании писем и документов, но общая миссия риторического образования, сделавшего логику частью тривиума, пребывала в силе. Позже мы увидим, как существование логических трудов Боэция в библиотеках и их использование в школах было согласовано с такой системой образования. Впрочем, их потенциальная сила в качестве инструментов для исследования истины не всегда оставалась невостребованной. Их более полное усвоение в одиннадцатом веке стало одним из факторов возникновения схоластического метода и проложило путь для лучшего понимания и применения всего аристотелевского «Органона» на протяжении двенадцатого века.
Б. Государственный деятель в роли светского богослова
Главный повод говорить о решающем влиянии Боэция на становление схоластики дает применение латинизированной им аристотелевской терминологии к разработке учения о Троице.1 Не только каролингские ученые и Гильберт Порретанский, но и Фома Аквинский писали комментарии на его теологические трактаты, и Э. К. Рэнд даже утверждал, что, возможно, ранняя смерть Боэция не позволила ему самому дойти до великого синтеза, осуществленного позднее доминиканским учителем. В нашем исследовании мы не можем определять роль Боэция в истории богословской мысли, измеряя промежуток времени, отделяющий римского автора конца античности от его комментатора тринадцатого века. Но мы должны попытаться в общих чертах описать отношение между философией и христианской верой в уме Боэция — это будет необходимой предпосылкой к пониманию книги «Утешение философией», ставшей за силу своего теистического благочестия и христианскую этику средневековой классикой. Хорошо известно, что ее автор избегал формулировок, изобличавших бы в нем
1 О влиянии богословских сочинений Боэция на мысль Средних веков см.: Grabmann М. Die theologische Erkenntnis- und Einleitungslehre d. H. Thomas v. Aquin. auf Grund seiner Schrift In Boethium de Trinitate. Fribourg, 1948. S. 1—32.
636
ЗАПАДНАЯ ХРИСТИАНСКАЯ МЫСЛЬ
верующего христианина, и каких-либо явных отсылок к библейским или церковным авторитетам. Поскольку авторство богословских трактатов Боэция остается под сомнением, то в вопросе о его вероисповедании можно было бы допустить, что он всегда был христианином лишь номинально, чтобы соответствовать установленному законом условию для занятия высокого поста в Риме. Однако открытие короткого фрагмента из сочинения Кассиодора о литераторах, относящихся к его семье, сделало такой легкий выход из этого затруднения невозможным.1
Недавние исследования позволили воссоздать обстановку, в которой римский сенатор и философ вступил в область богословской полемики. Между 513 и 519 гг. продолжались переговоры о ликвидации раскола между Востоком и Западом, который более тридцати лет назад явился результатом споров об определении двух природ Христа. Доктринальный спор был осложнен появлением этнической группы монахов из низовий Дуная, которые настояли на включении в предложенное соглашение формулы «unus de trinitate passus est»,* чтобы примирить монофизитскую ересь Востока с римским учением. Боэций внес свой вклад в этот диспут, объединивший тонкие вопросы доктрины с проблемами политического управления и власти, написав четыре кратких богословских трактата в 512 и 522 гг.1 2 В них он предпринял своего рода эксперимент, применив тщательно проработанные им философские понятия, чтобы яснее и убедительнее определить учение, однажды провозглашенное на Халкидонском соборе под влиянием папы Льва I. Таким образом, он поддержал программу, на базе которой его римские друзья во главе с Симмахом желали установить единство между Востоком и Западом. Успех пришел к ним в 519 г., когда после смерти императора Анастасия новое византийское правительство под давлением будущего императора Юстиниана решило в доктринальном вопросе уступить Риму.
Вторжение Боэция в догматический спор было вдохновлено интерпретацией Августином Троицы с философской точки зре¬
1 Usener Н. Anecdoton Holderi, Ein Beitrag zur Gesch. Roms in Ostgothischer Zeit. Bonn, 1877. S. 4: «Scripsit librum de sancta trinitate et capita quaedam dogmatica et librum contra Nestorium».
2 Schurr V. Die Trinitatslehre des Boethius im Lichte der «skythischen Kontro- versen» // Forschungen z. christl. Literatur- und Dogmengesch. Bd. XVIII, cap. I. Paderbom, 1935.
* В другой передаче «unus in trinitate passus est came» — «один из Троицы пострадал (телесно)». — Примем, перев.
БОЭЦИЙ И НАСЛЕДИЕ АНТИЧНОСТИ
637
ния.1 Для объяснения догмы Боэций пользуется понятиями субстанции и отношения, которые он тщательно рассмотрел в своих аристотелевских исследованиях. Божественная субстанция представляет единство, отношение внутри этого единства есть предпосылка Троицы.
Исследование понятий natura и persona приводит к определению того, что природа — это характерное своеобразие каждой субстанции, в то время как persona — индивидуальная субстанция разумной природы. Таким образом, философская терминология превращает учение Нестория о двух естествах Христа в бессмыслицу. В конце одного из трех трактатов, посвященных Боэцием своему другу диакону Иоанну, он спрашивает священнослужителя, считает ли тот эти доводы согласующимися с учением Церкви. В случае, если Иоанн не может дать утвердительный ответ, Боэций просит его по возможности разработать другое, более правильное рациональное толкование веры.1 2 Боэций сознает тот факт, что философское исследование богословских вопросов не может идти дальше известного предела, но добавляет, что такая граница также существует и в других областях знания.
Боэций прекрасно понимает, что в богословии он — посторонний, видящий возможность применения к нему средств из своей, отличной области исследования, и не может рассчитывать на всеобщее признание. Но он остро чувствует, что его собственный философский подход дает ему превосходство над средним священнослужителем (фигурой, доминирующей в соборных дискуссиях), который даже поверхностно не касается сути предмета. В одном из предисловий он дает краткий отчет о встрече с такими соперниками, когда он умолк, потому что претензии невежественных спорщиков показались ему проявлением безумия. Однако
1 De Trin. Prooem. / Stewart, Rand. P. 4: «Вот почему пишу я сжатым и кратким слогом и обозначаю новыми, неизвестными словами все, почерпнутое мною из сокровенных учений философии... Разумеется, задачи, которые мы ставим перед собой, следует соразмерять с тем, насколько дано взору человеческого разума проникнуть в божественные выси... Ведь и медицина не всегда приносит исцеление; но нет за врачом никакой вины, если он употребил все средства, какие предписывает его наука... Итак, тебе судить, принесли ли какой-нибудь плод семена рассуждений, упавшие на мою душу из сочинений блаженного Августина» (пер. Т. Ю. Бородай).
2 Utrum Pat. et Fil. et Sp. Sanct. de Div. sub. praed. Loc. cit. P. 36: «Если все это окажется правильным и вытекающим из [положений] веры, прошу тебя, дай мне об этом знать. А если ты, паче чаяния, в чем-то не согласен, обдумай тщательнее то, что здесь сказано, и, если будет возможно, присоедини к вере разум» (пер. Г. Г. Майорова).
638
ЗАПАДНАЯ ХРИСТИАНСКАЯ МЫСЛЬ
необходимость занять верную позицию между ересями Нестория и Евтихия заставляла его ум работать; в конце концов он сформулировал логически упорядоченный довод, который представил на рассмотрение Иоанну, эксперту в богословских вопросах.1
Нет никаких признаков того, что Боэция из философии на богословское поприще привело некое обращение или духовный опыт. Это свело бы его прежние исследования до уровня подготовительных упражнений. Но применяемые им понятия не были для него лишь воспоминаниями о пропедевтике в риторической школе или о чтении, наставившими его на путь к Церкви, церковным обязанностям или монашескому призванию. Он остается человеком мира, который пишет богословские трактаты. В этом отношении его умонастроение отличается от взгляда авторов, представляющих наши главные источники по истории религиозной мысли в латинском мире христианской античности и Средних веков. Эта особенность жизненного пути Боэция может быть существенной для понимания его замысла написания «Утешения философией».
В. Философия как руководство для человека
Вначале мы подытожим те сведения, которые касаются обстоятельств, приведших Боэция к написанию этой книги в тюрьме, пока он ожидал от Теодориха решения свой судьбы после объявления ему смертного приговора. Церковное соглашение между Римом и Константинополем 519 г. устранило главные причины лояльности городской аристократии к правлению готов. Но ситуация в Италии ухудшилась не сразу. Три года спустя отношения между Византием и Равенной выглядели лучше, чем прежде. Но в 523 г. на Боэция было возведено обвинение в поддержке сговора римских аристократов с Константинополем с целью ниспровержения готской династии; решение особого суда было утверждено запуганным и податливым сенатом.
Боэций, не переходя на личности тех, кто занимал высокие посты, рассказывает историю этой катастрофы, обращаясь к персонифицированной Философии, в первой книге «Утешения философией». Открытая вражда по отношению к арианству с его свободой богопочитания в Византийской империи началась после смерти Боэция, но мы можем предположить, что у Теодориха во
1 С. Eul. et Nest. Prooem. / Stewart, Rand. Loc. cit. P. 74; Cappuyns M Boece 11 Dictionnaire d’Histoire et de G0ographie Ecctesiastique. Vol. IX. Col. 352—361.
БОЭЦИЙ И НАСЛЕДИЕ АНТИЧНОСТИ
639
время его кампании против сенаторов была какая-то информация о подготовке этого поворота в религиозной политике и его влиянии на лояльность римлян. В этих условиях воссоединение, полагавшее конец конфликту между Константинополем и Римом, — результат, который Боэций пытался укрепить своими богословскими сочинениями, — приняло иной и более зловещий облик. Церковная составляющая политической борьбы, приведшей Боэция к такому концу, — вот подлинная суть древнего предания о том, что он принял мученическую смерть.1
Обращение автора к философии за помощью в преодолении собственных тяжелых неудач не было той идеей, вокруг которой традиционно формировался литературный жанр утешения (consolatio). Обычно такие трактаты посвящались другому человеку, заключенному в тюрьму или претерпевающему страдания. Когда Цицерон после смерти своей дочери на некоторое время удалился от публики, чтобы философскими размышлениями вернуть себе спокойствие ума, он заметил, что до него так никто не поступал. Цицерон оказал вдохновляющее воздействие на Боэция на ранних этапах его интеллектуального становления, а также остался для него самым главным примером, как тот, кто нашел свое последнее прибежище в философии.1 2
Эта книга — великолепный диалог Боэция и Философии. Всякий раз, когда в ходе беседы достигается определенный результат, автор в поэтической форме, стараясь приспособить стихотворный размер к содержанию, резюмирует предшествующие ему рассуждения.
Та же самая литературная форма была взята за сто лет до того в псевдоапокалиптическом предисловии к энциклопедии Марциана Капеллы. Цель всего «Утешения» заключается в том, чтобы обнаружить побуждения человеческой души к отчуждению от ее подлинной сути и указать ей обратный путь из тени к истине.
Философия начинает с того, что человек, которого она находит в тюрьме, все еще верит в силу божественного провидения, способного установить и сохранить космический порядок, но в своей личной судьбе видит лишь жестокие капризы переменчивого настроения Фортуны. Сама же причиняющая сила качественно не меняется тогда, когда за временем благополучия вдруг следуют черные дни. Каждый подарок судьбы, делающий внешнюю жизнь
1 Эта проблема обсуждается У. К. Барком в «American Hist. Rev.» (1944. LIX. P. 410—426) и «Speculum» (1946. XXI. P. 312—317).
2 Misch G. Gesch. d. Autobiographic. Bd. I. Leipzig, 1931. S. 205, 220.
640
ЗАПАДНАЯ ХРИСТИАНСКАЯ МЫСЛЬ
богаче, с необходимостью содержит элемент нестабильности и склоняет человека к забвению того, что придает действительную ценность человеческому существованию. Эта тема развивается примерами и суждениями, какие охотно использовались в популярной этике античной диатрибы. Раздел заканчивается выводом о том, что все блага мира лишь тогда истинны, когда воспринимаются как дары божественного Творца. В этом контексте подается фундаментальная идея платоновского «Тимея» (III 9) о восхвалении создания неба и земли, человека и животных в гармонии со стихиями как свидетельства лишенной зависти добродетели, которая определяет Бога. В своих комментариях средневековые ученые часто отмечали, что видят в этом стихотворении, в котором современный анализ обнаружил влияние языческой литургической литературы, суть «Утешения философией». Оно также представляет собой переход от критического исследования светских ценностей к богословской мысли. Стихотворение кончается просьбой, обращенной к божественному Творцу, дать силы человеческому разуму найти выход из мира к его истоку.1
Раз Бог сотворил мир, то в нем нет места злу как подлинной действительности, потому что не может быть ничего противоположного божественному провидению. В защиту этого оптимистического воззрения, противоречащего повседневному опыту, например тому, что Боэций заточен в темницу, приводится аргумент Платона из «Горгия»: в мире существуют настолько могущественные злодеи, что они остаются безнаказанными. Никто не может их остановить. Но Бог сотворил человека таким образом, что зло само по себе есть наказание, поскольку оно разрушает сущность человеческой души и оставляет лишь пустую оболочку.
Этот аргумент оставляет неразрешенным вопрос о том, почему кары, предназначенные как наказание преступникам, поражают справедливого человека, который предпочел бы продолжить свой жизненный путь в покое и достатке. Такое возражение порождает первое из двух метафизических исследований устройства провидения, составляющих последнюю часть «Утешения философи¬
1 Ed. G. Weinberger. Р. 64, 10—12: «Дай, отец, разуму подняться на возвышение, дай очиститься источнику добра, дай после того, как получен свет, запечатлеть в тебе замечательное видение души». О структуре этого стихотворения см.: Kllngner G. De Boethii consolatione philosophiae // Kieszling A., Wilamowitz- Mollendorff M. von. Philolog. Untersuchungen. 1921. XVIII. S. 37 ff. Об анализе Кислинга всей работы и предшествующий ему анализ Э. К. Рэнда см. в «Harvard Studies in Classical Philology» (XV. P. 1—28), теперь дополненный П. Курселем (Courcelle Р Les Lettres Grecques. P. 278—300).
БОЭЦИЙ И НАСЛЕДИЕ АНТИЧНОСТИ
641
ей». Здесь Философия придает особое значение тому, что мысль должна принять новое направление.1 Преходящие дела нашей жизни находят свой источник в постоянстве божественной природы и ее устойчивой простоте. Центром всех событий является провидение в чистом виде. Перенося же свой взгляд от центра к периферии и рассматривая осуществление Божьей воли в изменяющейся структуре вещей, мы вполне правильно пользуемся для его обозначения древним понятием «судьбы». Все бесконечное множество и разнообразие явлений в макрокосме и микрокосме охвачены в провидении, но судьба — это инструмент, отводящий каждой отдельной вещи ее особое место и особый момент во времени. Божественному провидению не знаком ни один, ни другой вид дифференциации. Такая иерархическая подчиненность судьбы божественной воле и понятиям, посредством которых она различается, демонстрирует неоплатоническое происхождение.
Но учение неоплатоников появляется здесь в очень упрощенной форме, которая позволяет избежать каких бы то ни было отступлений от библейского монотеизма. Боэций в связи с этим подчеркивает безотносительность всех понятий, описывающих силы, которые выступают посредниками между Богом и многообразием опыта.1 2 Жизнь человека находится во власти судьбы, но он тем не менее способен повернуть от периферии к центру и прямо подойти к Богу без вмешательства космических сил и таким образом стать свободным от давления необходимости.
Эта идея свободы становится также темой длинного исследования в конце «Утешения». Приводится возражение, что непогрешимое предведение Бога, которое является несомненным аспектом его провидения, должно нарушать свободу человека действовать по своему усмотрению. Ответ начинается с размышлений о причинно-следственной связи между знанием и событием,
1 De consol. IV, pr. 6, § 1. Loc. cit. P. 95, 20 f. §1: «Предмет, о котором ты говоришь, отличается большой сложностью, и ему едва ли можно дать исчерпывающее объяснение»; § 4: «Для этого следует рассказать о простоте провидения, о линии судьбы, о случайности, о божественном предзнании, предопределении, о свободе воли» (здесь и далее пер. В. И. Уколовой и Μ. Н. Цетлина).
2 IV, рг. 6, § 13. Loc. cit. R 97, 10: «И не важно, ткет ли она свою нить с помощью духов, близких к божественному провидению, или с помощью мировой души, или посредством движения небесных светил, или силой ангелов, или хитростью различных демонов, с помощью чего-то одного из этого или же посредством всего этого вместе взятого, очевидно, что провидение есть простой и неизменный способ всего того, что предопределено к воплощению, судьба же представляет собой беспрестанно меняющееся сплетение и временной порядок того, что Бог в своей простоте располагает к возникновению».
642
ЗАПАДНАЯ ХРИСТИАНСКАЯ МЫСЛЬ
которое формирует его предмет. Когда мы в цирке видим возницу, по своему разумению правящего лошадью так, чтобы выиграть в гонке, наше наблюдение за его действиями ни в коем случае не ограничивает его свободу в принятии решений. В том, что касается причинности, предведение не отличается от наблюдения за событиями в тот момент, когда они происходят.
Против этого довода выдвигается возражение, что предведение события, которое, возможно, и не случится, не может быть расценено как знание, а только как мнение1 и поэтому было бы совсем неприемлемым в качестве аспекта божественного провидения. Но утверждать подобное означало бы неверно толковать характер божественного предведения, которое извечно предопределено как его неотъемлемое качество. Значение этого качества проясняется в обсуждении его противоположности — течения времени, — которое очень напоминает соответствующие фрагменты «Исповеди» Августина. Для индивидуального существования невозможно охватить самое себя целиком в один из скоротечных моментов, которыми оно следует из прошлого в будущее. Если кто-то, как Аристотель, верит в бесконечность времени, он лишь воображает, что мыслит вечность, лишая ее непременно присущего ей качества. Покой вечности толкуется как движение, у которого нет ни конца, ни начала. Неизменная простота вырождается в бесконечное разнообразие. Поэтому неверно порицать Платона за то, что в «Тимее» он не связал процесс творения с определенным временем. Его критики неправы, допуская, что аттический философ, поступая так, делает мир совечным Богу.1 2 Их допущение предполагает, что разница между Творцом и творением может быть измерена временным промежутком, тогда как в действительности вечность только и может пониматься как нечто выходящее за пределы течения времени.
По этой причине на характер знания Бога не влияет тот факт, что каждому действию человека предшествует момент неопре¬
1 V, рг. 3, § 26. Loc. cit. Р. 113,4: «Чем божественное провидение отличалось бы от человеческого мнения, если бы Богу, как и людям, не было бы известно, произойдет ли то, что Он предвидит?»
2 V, рг. 6, § 9—11. Loc. cit. Р. 123, 3 f. § 9: «Поэтому несоответствующим истине представляется мнение тех философов, которые, сославшись на то, будто Платон верил, что мир не имел никакого начала во времени и не будет иметь никакого конца, считают сотворенный мир совечным создателю. Ибо одно дело вести бесконечную во времени жизнь, которую Платон приписывал миру, а другое — быть всеобъемлющим наличием бесконечной жизни, что возможно лишь для божественного разума, это очевидно».
БОЭЦИЙ И НАСЛЕДИЕ АНТИЧНОСТИ
643
деленное™, когда осуществляется свобода выбора. Низведение знания до мнения не может иметь места в божественной вечности. По той же причине божественное предведение не препятствует последовательности человеческих решений и действий, протекающих как часть временного процесса.
Обращение от власти Фортуны и ее внешних благ к Богу как единственной конечной ценности не предполагает принесения человеческой свободы в жертву силе, которая все предопределяет, заранее зная обо всем, что случится. С точки зрения Бога не существует разницы между «до» и «после». Так кончается послание Философии узнику.
Г. Проблема религиозности Боэция
Самым противоречивым вопросом, который эта книга поставила перед читателями, всегда была религиозная направленность философии Боэция. Линия современного подхода к нему обозначена двумя противоположными ответами. Рэнд, проведя огромную кропотливую работу по осмыслению трудов Боэция, не видит здесь серьезной проблемы. Для него христианская духовность этой теистической философии развеивает какие бы то ни было сомнения в вере и замысле автора, которые могли бы возникнуть из-за недостатка цитат из Библии и церковных сочинений. Боэций исследовал, насколько невооруженный разум способен приблизиться к религиозной истине. Если бы Теодорих сохранил ему жизнь, Боэций, возможно, дополнил бы «Утешение» второй книгой, показывающей полную гармонию между религиозными выводами его разума и истиной откровения. Это предположение означает, что замысел «Утешения» был продиктован методичными размышлениями о параллельных путях разума и откровения, которые предвосхитили форму мысли средневековой схоластики. Противоположную точку зрения недавно сформулировал профессор Момильяно: согласно ей, Боэций в конце своей жизни отказался от христианства и под давлением обстоятельств вернулся к философии как языческому пути к человеческому спасению.1
Принцип, согласно которому христианская истина может быть подтверждена философским доводом безо всякого обращения
1 Rand Е. К. Founders of the Middle Ages. Cambridge, 1928. P. 178; Momiglia- no A. Cassiodorus and the Italian culture of his time // Proceedings Brit. Acad. 1955. XLI. P.212.
644
ЗАПАДНАЯ ХРИСТИАНСКАЯ МЫСЛЬ
к церковной традиции, был провозглашен апологетами в попытках привлечь образованных людей в лоно Церкви. Хороший пример такой тактики защиты веры дают осторожные определения христианских понятий Лактанцием в его первом трактате «О промысле Божьем». Конечно, у Боэция не было причин так скрытно представлять христианскую истину, и ситуация, в которой писался его труд, исключает любую возможность того, что у него в голове был план по преобразованию содержания учения об откровении во второй работе, параллельной «Утешению». То, что в четырех своих подлинных богословских трактатах он попытался найти философское выражение основополагающему учению христианской веры, когда это казалось полезным по церковным причинам, не дает какого-либо основания для предположения о том, что «Утешение» было задумано в качестве раздела рационального богословия в системе истины откровения.
С другой стороны, мы не можем не обращать внимания на тот факт, что для своей последней исповеди он избрал из философской традиции те идеи, которые выражали основные черты христианской духовности и этики. Теоретическая картина мира Августина все еще близка его мысли, хотя он и избегал всяких прямых обращений к церковному учению. Трудно представить себе, что в шестом веке бывший христианин должен был написать такую работу, чтобы выразить отречение от своей веры, отождествляя в своем сознании философию с язычеством так же, как в четвертом веке Симмах отождествил рациональный теизм с традиционным культом римского народа.
Предположение о настоящем переломе в конце жизни Боэция имело бы большую силу, прими мы трактат под названием «О кафолической вере», в котором резюмируется история спасения души с точки зрения богословия, а не философии, в качестве подлинного труда, выражающего позицию Боэция за несколько лет до того, как он написал «Утешение». Рукописное свидетельство допускает аргументы как за, так и против. Разница в лексике и стиле между «О кафолической вере» и четырьмя подлинными трактатами объясняется различиями темы. Но хотя такие различия легко могут быть поняты в случае, подобном случаю Тацита, который написал как диалог о риторическом образовании, так и два небольших исторических сочинения, было бы очень сложно найти место для чисто богословского сочинения в интеллектуальной жизни Боэция.
Мы видели, что его литературная деятельность на протяжении всей жизни сосредоточивалась на задаче сохранения наследия
БОЭЦИЙ И НАСЛЕДИЕ АНТИЧНОСТИ
645
античной философии. Оказанное им предпочтение отвлеченным проблемам аристотелевской логики сделало всякую возможность конфликта между рациональной мыслью и учением христианской веры маловероятной. Религиозные и патриотические мотивы были неразрывно связаны в нем с той преданностью, с которой он служил своими знаниями и литературным мастерством делу римской ортодоксии и церковного единства. Мы видели, что это содействие выдающегося римского аристократа единству Запада и Востока стало политически подозрительным в тот момент, когда над будущим готской династии нависла угроза.
Но мы не знаем, в какой степени отказ от церковных идей был вызван надеждой автора на то, что его судьба изменится, создай он впечатление, что он с философским безразличием относится к арианскому двору в Равенне. Однако кажется, что сам откровенный стиль его политического оправдания в книге I противоречит предположению о том, что такие благоразумные размышления играли решающую роль в замысле «Утешения». С другой стороны, в этом труде ясно отражено чувство глубокого разочарования по отношению к римскому сенату. Боэций попытался примерить философию к богословию, выступая в качестве оратора от лица сенатского сообщества, которое теперь забыло о нем. Этот опыт не изменил его твердого убеждения в возможности гармонии философии и религиозной веры, но заставил его воздержаться от трактовки политических проблем и использования терминологии, способной завести в сферу политических прений. Явной целью «Утешения» было показать путь высвобождения из затруднений, связанных с борьбой за власть. Ограничение им выражения своей веры в теистический универсализм позволило ему избежать тех проблем, которые втягивали в конфликты отдельных людей и группы. Его задачу упростило знание святоотеческих писаний, которые — особенно ранние диалоги Августина — следовали тем же путем. Боэций мог не обращать внимание на то, что его ситуация и мотивы отличались от тех, что были у отцов Церкви. То, что он смог взять на себя такую задачу в свойственной именно ему манере, оказалось возможным благодаря его связи с эллинистическим Востоком; в этом ключ ко всем его достижениям.
Предположение, что он когда-то обучался в Афинах, отбрасывается, принимая во внимание, что оно основывается на метафорическом описании произведенного им обновления философии в его хвалебном письме к Кассиодору. Позднейшая гипотеза о том, что он провел юность в Александрии, где некогда занимал высокий пост его отец, не может быть надежно обоснована и не соот¬
646
ЗАПАДНАЯ ХРИСТИАНСКАЯ МЫСЛЬ
ветствует свидетельствам о жизни и карьере Боэция.1 С другой стороны, весьма убедительно и то, что уникальное интеллектуальное положение римского сенатора можно объяснить лишь непосредственным контактом с александрийской мыслью и ученостью.
По-видимому, мы должны допустить, что мы просто не знаем, как римский аристократ приобрел свои обширные знания языка, методов и учений, свойственных современной ему эллинистической науке; в любом случае результаты этого приобретения имели важные исторические последствия.
Дух научного исследования был очень развит в Александрии в период с конца пятого по первую половину шестого века. Принципы, на которых следовало основывать правильное понимание природы, были предметом острых споров. Иоанн Филопон, сомневавшийся в аристотелевской дихотомии небесного и подлунного миров и стремившийся к объяснению космоса единственно с физической точки зрения, был младшим современником Боэция, но ни в коем случае не первым, кто привнес эти темы в среду ученых поздней эпохи греческой Александрии. Когда научный интерес подтолкнул римского философа к высвобождению логики из чисто литературных рамок тривиума, Боэций сделал это в соответствии с преобладающими в то время в греческой мысли идеями.1 2 Но недавние исследования, в особенности работы Курселя, подтвердили, что контакты Боэция и ведущих учителей александрийской школы привели к гораздо более конкретным результатам. Египетский центр философской науки демонстрировал мощную тенденцию к тому, чтобы сосредоточить свои основные усилия на толковании текстов двух классиков — Платона и Аристотеля. Этот подход соотносился с интересом к критическому изучению авторов, укорененным в давнишней местной традиции. Более того, часть учеников настойчиво изъявляла желание укрепить свою христианскую веру упражнениями в области отвлеченного мышления. Это желание сталкивалось со стремлением к развитию неоплатонических спекуляций о сращивании философии с
1 Variae 145, § 3. Loc. cit. 40, 5: «Ведь как ты широким шагом вошел в школу афинян, так ты смешал тогу с хором площадных философов, с тех пор как мнения греков ты сделал учением римлян». Цитируется с критическими замечаниями П. Курселя в «Lettres Grecques» (R 260); об обучении Боэция в Александрии см.: Courcelle Р. Op. cit. Р. 298—300.
2 Sambursky S. The Physical World of Late Antiquity. P. 254—275. Об Иоанне Филопоне и об отношении христианства к философии в александрийской школе вообще см. раздел VI («Греческая христианская платоническая традиция»), гл. 31 Б, с. 564—571.
БОЭЦИЙ И НАСЛЕДИЕ АНТИЧНОСТИ
647
защитой многобожия. Наиболее надежным способом избежать этой опасной тенденции было возвращение к беспристрастной работе по объяснению классических учителей. Эта ситуация привела также и к углубленному изучению Аристотеля, особенно его «Органона», хотя традиция александрийской школы и не допускала никакого опровержения Платона в пользу его выдающегося ученика.1 Очевидно, что всеобъемлющая жизненная задача, какую поставил себе Боэций, соотносится с намерениями александрийских исследований.
Но наиболее глубокое влияние александрийских ученых может быть прослежено в «Утешении». Упрощение иерархичной картины мира, при помощи которого Боэций снял важное различие между неоплатонической теорией эманации и христианским монотеизмом, уже было намечено до него в александрийских источниках. В них же богословское толкование Аммонием демиурга из «Тимея» Платона позволило человеку встретиться с Богом лицом к лицу без опосредующих сил. Тот же автор, будучи учеником Прокла, включил в комментарии к логическим и научным трудам Аристотеля размышления о соотношении вечного замысла Бога и переменчивой судьбы, а также исследование совместимости божественного провидения и человеческой свободы, предоставив Боэцию подходящие средства для выражения его христианского благочестия в чисто философских понятиях. Александрия пятого века также дала новое толкование платоновского «Горгия». Посыл этого диалога сопряжен с вопросом, развиваемым «Утешением», о связи человеческих греха и счастья. Хотя Боэций и отрицал, что сотворение мира случилось во времени, он защищал важную аксиому теизма, устанавливая различие между вечностью Бога и постоянством мира.1 2 Этим он вновь принимал традицию Александрии как совместимую с его собственной религиозностью. Ничто в его программе не давало Церкви повода обрушиться на нее как на одну из теорий, отвергающих возможность буквального понимания первых двух глав Книги Бытия. В таком виде проблема приверженности Боэция александрийской школе предстала перед последующими поколениями, жившими в менее изощренном мире, одновременно возбуждая интерес и озадачивая.
1 Praechter К. Christlich-neuplatonische Beziehungen // Byiant. Ztschr. 1912. XXI. S. 1—27; Richtungen und Schulen im Neuplatonismus // Genethliakon Carl Robert. Berlin, 1910. S. 147—156.
2 Courcelle P. Boece et l’Ecole d’Alexandrie I I Melanges de l’Ecole fran^aise de Rome. 1955. LII. P.204—215.
648
ЗАПАДНАЯ ХРИСТИАНСКАЯ МЫСЛЬ
Д. Исидор Севильский и философское знание в начале Средних веков
Изучение философии пришло в мир раннего Средневековья как часть энциклопедических исследований, переносивших учения и идеи из светских школьных аудиторий поздней античности в средневековые библиотеки монастырей и соборов. Свобода дискуссий между частными лицами и школами была важной предпосылкой к созданию греками философских учений, приглашавших вступить в спор по вопросам о сущности природы мира и человека. Во всеобъемлющей структуре универсального образования на заре Средневековья они, судя по всему, уже не могли влиять на общую церковно-догматическую направленность научного исследования.
Тот факт, что даже в такой обстановке осколки античной мудрости не утратили способности возбуждать свежую мысль всякий раз, когда мощь единичного ума и проблемы его среды, соединившись, давали для этого благодатную почву, положил начало философии в Средние века. Хорошо известно, что значительную роль в этом процессе сыграло творчество Исидора Севильского (560—636). Мы рассмотрим его жизнь, мир вокруг него и философское содержание его сочинений, для того чтобы попытаться эту роль понять.1
Он вырос младшим сыном в семье, имевшей, судя по именам, римские корни. Его отец Севериан покинул Картахену по причине беспорядков, случившихся, когда Юстинианова политика реставрации империи достигла Испании. В результате этих событий власть вестготов только окрепла и стала сильней, чем раньше. В 589 г. король Реккаред заменил арианство, более свободную форму христианства, которую изначально приняла целая группа готских народов и близких к ним племен, римским католичеством. Таким образом он положил конец религиозному раздору, который отделял правящий род от говорящего по-латински населения. Старший брат Исидора Леандр, будучи архиепископом Севильским, являлся главным советником Реккареда во время Третьего Толедского собора, установившего переход в католичество. Стиль его письма на латыни демонстрирует некоторое
1 Fontaine J. Isidore de Seville et la culture classique dans L’Espagne Wisigo- thique. Vol. I, II. Paris, 1959. Эта обширная работа поставила исследование творчества Исидора на широкое основание эллинистической и поздней латинской литературы.
БОЭЦИЙ И НАСЛЕДИЕ АНТИЧНОСТИ
649
знакомство с традицией античности, доживавшей свой век в высших классах средиземноморского общества; Исидор, чьим образованием руководил Леандр, примиряется с упрощением литературных стандартов, свойственным церковной учености и сочинениям эпохи Григория Великого. Существует, однако, важное различие между вестготской Испанией и Италией после вторжения Юстиниана: Бенедикт Нурсийский и Григорий в попытках сохранить преемственность христианства в разгар крушения окружавшей их цивилизации выражали сомнения относительно ценности светского знания и литературных навыков для своей цели. У Кассиодора было более положительное отношение к учености как общему культурному фону церковных исследований, но и он имел в виду, что книги и наука найдут приют лишь у узкого круга людей. В свою очередь, Исидор, который около 599 г. стал преемником старшего брата на посту архиепископа Севильи, продолжил его работу по устроению Испанской церкви, написав трактаты по церковной дисциплине и управлению и заложив основы ортодоксального догматизма компиляцией святоотеческих учений в трех книгах «Сентенций». В отличие от Григория, он включил в свои произведения, направленные на укрепление католического христианства в грядущих поколениях Германского королевства, обширные вводные сведения из области светских наук.
Эта сторона его творчества сделала его наследие образцом для тех ученых, которые на протяжении пяти столетий после его смерти вновь и вновь возобновляли связь с античным кладезем науки. Традиция такого обращения была жизненно необходимой как в церковном, так и в светском научном сообществе, которое постоянно подвергалось угрозе, исходившей от сил более грубых и могучих. Развитие средневековой философии в этот период оставалось тесно связанным со все более упорными попытками сохранить контакт с античными источниками учености. Философия как связная система мысли о положении человека в мире (так ее понимали школы после Аристотеля) не включена Исидором в его энциклопедический труд как одна из его частей. В основных двадцати его разделах епископ свел воедино все знания из тех древних текстов, которые он считал подходящими для просветительской работы Церкви.1 Книги I—III рассматривают свободные искусства. Диалектика, образующая вместе с риторикой вторую часть книги II, изложена в главе, определяющей содержание и разделы фило¬
1 Я цитирую оксфордское издание: Lindsay W. М. Isidori Hispalensis episcopi Etymologiarum sive Originum Libri XX. Oxford, 1911 (без пагинации) (PL 82).
650
ЗАПАДНАЯ ХРИСТИАНСКАЯ МЫСЛЬ
софии. Книга VIII посвящена Церкви и ее противникам — сектантам и их ересям. Автор находит у этих разнообразных заблуждений параллели с некоторыми мнениями, сформулированными в философских школах. Книги XIII и XIV, в которых вниманию читателя предлагается космография, открываются двумя главами, резюмирующими теорию атомов и стихий как субстанций, стоящих за видимым миром. Антропологию Исидор излагает в книге XI, причем сосредоточивается на объяснении того, как точно все человеческие органы приспособлены к своим целям, продолжая тем самым тему, очень популярную в философской литературе, начиная с эллинистического периода.1 В последние века античности идея божественного провидения в творении, обнаруженная в представлении о параллелизме макрокосма и микрокосма, говорила в пользу включения этого представления в систему христианской учености.
Разнообразному материалу Исидора придает определенное единство понятие, сформулированное двумя заголовками его работы, — «Этимологии», или «Начала». Один и тот же вопрос остается отправной точкой на протяжении всех книг и глав: из чего происходит имя обсуждаемого предмета, и что такое лингвистическое объяснение дает для понимания самой вещи? Хорошо известно, что этимологические утверждения Исидора об образовании существительных во многих случаях скорее походят на волшебные сказки, не имеющие никакой связи с действительностью. Но такой подход был в целом присущ периоду книжной мудрости, которая должна была удовлетворяться знаниями и идеями давнего прошлого и нуждалась в «грамматике» как естественном посреднике. Более того, основная идея Исидора не совсем уж лишена философского смысла. Для него понимание имени — это первый шаг к знанию, поскольку через это понимание мы отделяем обсуждаемый предмет как определенное сущее от других предметов. Термин «различие» (differentia), выдвинутый школьной традицией в качестве понятия элементарной логики, был введен Исидором как грамматический инструмент для различения явлений, имеющих некоторые общие свойства, таких как «король» и «тиран». Исидор отдавал себе полный отчет в том, что не все имена были
1 Трактат «О природе вещей», книга на ту же тему, была написана около 612 г., хотя «Этимологии» относятся к заключительному этапу карьеры Исидора. См. новое издание французского перевода с ценными введением и примечаниями: Fontaine J. Isidore de S0ville, Traite de la nature. Bordeaux, 1960 (PL 83. 964—1018).
БОЭЦИЙ И НАСЛЕДИЕ АНТИЧНОСТИ
651
даны древними в соответствии с природой описываемой вещи. Он знал из повседневного опыта, что рабам и имуществу владелец иногда дает имена произвольно. Более того, в некоторых случаях ученая традиция предлагает названия, происходящие из языков других народов и, следовательно, не раскрывающие никакого значения для учеников из Греции и Рима.1 Но этот опыт не уменьшает обоснованности того принципа, что лишь правильно понятое имя позволяет нам знать характер и значение вещи.
Авторитет Ветхого Завета, с его особым вниманием к силе божественного имени и общим интересом к этимологическим толкованиям, поддержал веру Исидора в разумность его подхода. Экзегеза александрийских школ — как иудейских, так и христианских, — достигшая Севильи через латинских отцов Церкви, в особенности через Амвросия, оказывала влияние в том же направлении. Но верно и то, что возведение картины мира на основании этимологии находит свои корни в мысли стоиков. Они с самого начала провозгласили веру в то, что сила логоса в человеческом уме подвела примитивных людей настолько близко к существу встречавшихся им в природе вещей, что их поименование выражало истину, даже если те полагали, что действуют произвольно.1 2 Исидор не мог осознать вполне, что замысел его энциклопедии следует доктрине некой философской школы, поскольку этот раздел учения стоиков пришел к нему как часть синкретического знания, которое осваивали обучающиеся красноречию в центрах высшего образования Римской империи. Но вопрос о том, насколько понятия человеческого языка на самом деле выражают действительность, подразумевался самим замыслом «Этимологий»; таким образом, общеобразовательное учебное пособие могло стать отправной точкой для новых философских исследований.
Вот какие проблемы поднимались в средневековых школах в то время, когда обсуждалась возможность выражения церковной доктрины в понятиях разума. Такое пробуждающее мысль воздействие «Этимологий» на позднейших читателей возникло безо всякого намерения со стороны автора, не стремившегося выдвигать утверждение ценности философии как необходимой части христианской учености на передний план.
Конечно, мы найдем в труде Исидора формулировки, акцентирующие противостояние между философией и христианской верой, представление о котором он в готовом виде усвоил из на¬
1 1 Etymol. I, cap. 29 (PL 82. 105b—с).
2 Pohlenz M. Die Stoa. Bd. I. S. 40—42.
652
ЗАПАДНАЯ ХРИСТИАНСКАЯ МЫСЛЬ
следия святоотеческих учителей латинского мира от Тертуллиана до св. Иеронима. Но не это главное в его сочинении, с помощью которого он надеялся сохранить полноту образования в том виде, в каком оно понималось в период завершения античности, а это, в свою очередь, означало включение элементов философии в школьную программу. Епископ дал этим элементам место в своей работе безо всяких обесценивающих их примечаний. Его непоследовательность в этом отношении была вызвана не столько потерей общего курса изложения, что характерно для позднейших компиляций, сколько отражала ход долгого и сложного развития, подытоженного в этом энциклопедическом исследовании. С одной стороны, существовал прежний конфликт между Церковью и философскими школами, обостренный в опасный период недавних гонений: вера, основанная на библейском откровении и его авторитетном объяснении, противостояла зову разума найти истину посредством понятных доводов. С другой стороны, со второго века сама Церковь подчеркивала гармонию между ее учением и подлинной философией. Великие руководители Церкви четвертого века собственным примером утвердили истину этого апологетического положения. В том, что в произведении Исидора предусмотрены разделы, могущие послужить либо одной, либо другой из этих тенденций, был здравый смысл.
Диалектика привносилась как ценный инструмент для ученых исследований, как дисциплина, изобретенная для споров о причинах вещей. Другое название этого раздела философии — логика — выражает ее рациональный характер, проявляющийся в способности ставить вопросы и методично их обсуждать. Прошедший школу логики научался отделять истину от лжи. Аристотель создал из этой дисциплины систему уже после того, как первые философы научились успешно применять ее возможности к тем или иным случаям.1
Некоторые общие замечания о философии, одним из разделов которой является логика, предложены в качестве своего рода введения в эту науку. Здесь мы находим отрывок о двух степенях достоверного знания, которого можно достичь в различных сферах. Настоящее знание должно строиться на твердой почве разумного довода, с помощью которого может быть обоснована истина.1 2
1 Etymol. И, cap. 22, § 1,2 (PL 82. 140а).
2II, cap. 25, § 1 (PL 83. 143а): «Она содержит для начинающих умов объяснение всякой вещи, что она есть; сама же „Исагога“ выражается в четких и существенных определениях» (здесь и далее пер. Л. А. Харитонова).
БОЭЦИЙ И НАСЛЕДИЕ АНТИЧНОСТИ
653
Но, изучая размеры Солнца и то, соответствует ли оно тому, что мы видим, или в действительности превосходит размер Земли, или задаваясь вопросом, закреплены ли звезды на небесной сфере или свободно движутся в воздухе, мы никогда не сможем выдвинуть достаточный довод для обоснования нашего решения этих натурфилософских проблем. В наших силах лишь составить правдоподобное мнение}
Традиция трехчастного разделения философии на учение о природе, этику и логику Исидор применил в «Этимологиях» к книгам Библии, которые классифицируются по доктринальному содержанию.1 2 Эта идея пришла к нему через Иеронима из александрийской школы, и он использует ее в манере светской науки, чтобы сократить разрыв между богословием и философией.
В той же главе помещается и первый экскурс в историю античной философии. Автор перебирает изобретателей трех перечисленных разделов: Фалесу отводится первое место в исследовании природы, за ним следует Платон, который привел открытия своих предшественников в систему, установив квадривиум. Третий берет начало с Сократа, который указал путь к праведной жизни, определив четыре основных добродетели. Логика также возводится к Платону, определившему два ее раздела — диалектику и риторику.3 Аристотель не появляется в классификации Исидора как изобретатель философии, хотя несколькими параграфами ниже он удостаивается похвалы как выдающийся мастер диалектики.4 То, что Аристотелю отводится место эксперта в сугубо технической области, относящейся скорее к литературным занятиям, чем к естественным наукам, — что лишает его титула одного из основателей философии, — является, возможно, не просто случайным выводом из компилирования выдержек. Такое положение дел может отражать ослабление интеллектуального влияния его системы в латинском мире в эпоху блж. Августина, когда имя Аристотеля в основном появлялось в трактатах, до Боэция более связанных с обучением красноречию, чем с изучением философии.
1 Сар. 24, § 2 (PL 82. 141а): «Знание — это когда некоторые вещи точно схватываются разумом; мнение же — когда нечеткая вещь все еще скрыта и не кажется разуму надежной, как, например, является ли Солнце таким, каким оно видится, или оно больше, чем Земля».
2 Сар. 24, § 8 (PL 82. 141d).
3 Сар. 24, § 4—7 (PL 82. 14lb—с).
4 Сар. 27, § 3 (PL 82. 145с—d): «Вот это Аристотель, муж опытнейший в делах изложения и построения речи, именовал Perihermenias, а мы называем истолкованием».
654
ЗАПАДНАЯ ХРИСТИАНСКАЯ МЫСЛЬ
У Исидора есть и другая, более подробная глава об античных философах. Оба эти сообщения стали самым главным источником информации о настоящем предмете для последующих веков, пока в это же время в монастырских и соборных школах, независимых друг от друга, подготавливалось возникновение схоластики. Вторая из этих глав включает философию в контекст рассказа о Церкви и ее противниках. Богословский аспект античной мысли в некоторой степени обозревается в параграфе, описывающем, как отступления от правильной веры были выведены из учений философских школ о Боге и мире.1 Присущее им разделение единой истины на противоположные мнения использовалось в качестве веского аргумента в полемических сочинениях с самого начала существования Церкви, одинаково хорошо применявшегося против разных еретических толкований церковной догмы. Исидор составлял свои главы, резюмируя такого рода апологетическую литературу, начиная с Тертуллиана. Очевидно, что время и глубоко укоренившиеся перемены опустили завесу между Севильей седьмого века и классическими Афинами.
В обзоре античной философии Исидора нет места понятию развития и не совершается попыток построения истории мысли. В связи с этим не возникает никакого интереса к хронологии. Стоическая школа отождествляется с ее основателем Зеноном, который учил о равнозначности добродетели и блаженства; эта школа не допускает никакого различия между большими и малыми грехами; они не верят в бессмертие души, но желают себе вечной славы. Самая суровая критика, уже отлично подготовленная полемикой языческой античности, направлена против Эпикура, который не признавал реальности чего бы то ни было нематериального и провозглашал телесное удовольствие в качестве высшего блага. Для этой школы Бог полностью отстранен от всякого действия; не существует никакого божественного провидения в мире, который предстает как случайный результат движения атомов.1 2
Для творчества Исидора характерно, что полезная информационная справка о той же эпикурейской теории атомов появляется в связи с темой космографии. Здесь Исидор сообщает, что философы ищут основание этого мира в частицах, которые не могут быть ни увидены, ни разделены. Слово «атом» выражает такую особенность, благодаря которой эти мельчайшие единицы вселенной нельзя сделать еще меньше, разрезав их. Они движутся
1 Etymol. VIII, cap. 6, § 1—6; § 7—17; § 18—21; § 22—23 (PL 82. 305b; 308a).
2 § 15 f.; § 20 (PL 82. 306d; 307c).
БОЭЦИЙ И НАСЛЕДИЕ АНТИЧНОСТИ
655
в пустом пространстве и порождают, согласно учениям некоторых языческих философов, все явления видимого мира. Это происходит вследствие их непрестанного беспорядочного движения, подобно тому как мелкую пыль делают видимой солнечные лучи.1
Главным источником Исидору послужил Лактанций, сам использовавший «О природе богов» Цицерона и великую поэму Лукреция для получения информации о материалистической философии.1 2 Апологет сообщает нам об эпикурейской школе, чтобы обосновать нападки на ее непоследовательность. Эпикурейцы объясняют многообразие, принимая за основание материю, которая определяется отсутствием различий. Чтобы сделать правдоподобным теорию об образовании вещей скоплением этой легкой и однородной субстанции, они допускают разнообразие внешнего вида атомов, даже признают крючкообразные наросты и не замечают, что таким добавлением отрицают их природу в ее первоначальном определении.
Исидор опускает эту критику. Однако в одном коротком параграфе он дважды говорит о том, что такие теории дают представление об учении языческих философов. Это замечание показывает, что он по-прежнему ощущает, насколько вызывающе смелым было это учение. Традиционное клеймо на эпикурейской философии оставалось для него весьма зримым, когда он занимался темой Церкви и ересей. Но, подбирая теории для космографического обзора, он не включает сюда ничего, что провоцировало бы на обсуждения и прения.
В то время, когда Лактанций за десятилетие до принятия христианства Константином писал свои апологетические трактаты, картина мира Эпикура, популяризированная великой поэмой Лукреция, по-прежнему была соперником Библии и церковной доктрины. Три столетия спустя мысль эпикурейцев могла восприниматься как более или менее приемлемый материал для изучения.
Некоторые размышления о латинских и греческих понятиях, обозначающих материю, привели к альтернативной теории четырех стихий как субстанций, стоящих за многообразием нашего опыта.3 Главная идея этого учения была предложена Исидору
1 XIII, cap. 2, § 1—2 (PL 82. 472d f.).
2 Lactan. De via. Cap. 10, § 2—4 (CSEL 27, 1, p. 85 f.; PL 6. 101a f.). Об использовании идей Лукреция Лактанцием см.: Hagendahl Н. Latin Fathers and the Classics. Goteborg, 1958. P. 3, 70—75.
3 PL 82. 472d f.
656
ЗАПАДНАЯ ХРИСТИАНСКАЯ МЫСЛЬ
латинским текстом Книги Премудрости Соломона, где он прочел о том, что библейский царь благодарит Бога за свою способность понимать силы стихий.1 Более того, теория четырех стихий была повсеместно принята в качестве ключа к пониманию макрокосма и микрокосма святоотеческими писателями четвертого века. Исидор представляет это учение в форме трехчастной схемы качеств — плотности, проницаемости и подвижности.
Земля неподатлива, плотна и неподвижна, в то время как огонь, господствуя на противоположной части космоса, проницаем, разряжен и подвижен. Промежуточные стихии воды и воздуха замыкают цепь, поскольку распределение их свойств позволяет им служить связующим звеном между двумя слоями мира. Фонтен показал, что особенная форма, в которой Исидор представляет свою теорию, ближе всего стоит к формулировке, данной Халкидием платоновскому учению о стихиях в своем комментарии к «Тимею».1 2
Исидор не пытался установить никакой логической последовательности между теорией атомов в одной главе и теорией четырех стихий в следующей. Они стоят бок о бок. Такое расположение стало привычным с тех пор, как философы эллинистического периода включили космологические теории в свои трактаты в образовательных целях.
Святоотеческие комментарии к Книге Бытия в этом отношении также следуют примеру языческих школ. Для энциклопедического замысла Исидора такая процедура была совершенно естественной. Но в начале двенадцатого века, размышляя в Шартре о значении такой преемственности теорий, средневековые философы сталкивались с трудностями, пытаясь преодолеть хронологический разрыв между учениями при помощи предположения об их логической последовательности. Мир, который мы знаем посредством своих ощущений, был создан на более поздней стадии смешением стихий и их качеств. До этого процесса стихии, как и
1 Etymol. XIII, cap. 2; De nat. rer. Praef. § 2 / ed. Fontaine. P. 167 f. (PL 83. 964—966): «Ведь если бы изучение этого предмета не имело вовсе никакого отношения к исследованию истины, то мудрый царь никогда не сказал бы таких слов: „Сам Бог дал мне истинное знание сущего, чтобы знал я и устройство неба, и свойства элементов, [и пути обращения светил, и деление времен года, и бег лет, и расположение звезд]“» (пер. Т. Ю. Бородай).
2 См. полную схему в De nat. rer. Cap. II / ed. Fontaine. P. 43 (PL 83. 979b f.); о возможной связи между Халкидием и Исидором см.: Fontaine J. Isidore... et la culture. P. 258.
БОЭЦИЙ И НАСЛЕДИЕ АНТИЧНОСТИ
657
чистые атомы, не были доступны восприятию.1 Такие проблемы были обойдены вниманием и в энциклопедии Исидора. Не будучи философом, он предоставил материал для последующего развития теоретической мысли.
1 Об атомизме и стихиях в Шартрской школе см.: Gregory Т. Anima mundi. La filosofia di Guglielmo di Conches. P. 201—212. Уже Эриугена размышлял о враждующих теориях в этой области знания: «Ведь им кажется, что мы действуем против самих себя и утверждаем противоположные вещи, противоречим себе, говоря, что когда-то слияние четырех стихий породило материю. Мы утверждаем, что соединение сущности качества и количества есть причина материи. И неудивительно, что от них сокрыто, что стихии этого мира слагаются не иначе, как совпадением, предсказанным акциденцией сущности» (Periphys. I, cap. 53 (PL 122. 495d f.)) Cp.: Loc. cit. Ill 32. 71 Id f. о чистых стихиях как о посредниках между духом и материей.
Глава 36
РАЗВИТИЕ МЫСЛИ В ИМПЕРИИ КАРОЛИНГОВ
А. Франкская критика византийской теории священного искусства
До сих пор мы исследовали произведения, которые сформировали связь между наследием поздней античности и новой цивилизацией Запада. Приходится признать, что ведущие представители Каролингского литературного возрождения относились главным образом к продолжателям компилятивного творчества, придавая традиционной учености форму учебников для монастырских и соборных школ. Но остается вопрос, исчерпываются ли такой деятельностью интеллектуальные достижения этого периода. П. Шелдон-Уильямс выше показал, что Иоанн Эриугена в девятом веке по-настоящему вдохнул новую жизнь в умозрительные построения греков, и нет сомнения в том, что благодаря этому достижению он стал первым в череде блистательных средневековых мыслителей. Его учение и сочинения создавались в период с 845 по 870 гг., то есть во времена, когда каролингское общество, в котором образовательные институты уже сформировались в общих чертах, распадалось под воздействием вторжений варваров и внутренней раздробленности. Этот хронологический парадокс, пожалуй, может быть объяснен высказыванием Гегеля о сове Минервы, чей полет начинается в сумерках. Но в таком случае нам следует допустить теорию истории, по которой более ранние стадии цивилизации задают все тенденции и импульсы, в конце концов находящие свое выражение в концептуальном языке философии. Девятый век не дает веских доказательств в пользу выводов этой идеалистической системы, да и ее автор не искал их в рамках этого периода. Тем не менее мы можем проследить первые движения спекулятивной мысли во времена Карла Великого, которые
РАЗВИТИЕ МЫСЛИ В ИМПЕРИИ КАРОЛИНГОВ
659
сделали возможным труд философа при дворе его внука. Около 790 г. были написаны «Каролингские книги», в которых по приказу короля ученые его круга создали картину франкского менталитета как выражения христианской цивилизации. Эти книги должны были определить отношение Запада к культу образов, который спустя шестьдесят лет после иконоборчества был восстановлен в Византийской империи Никейским собором в 787 г. С папой Адрианом советовалась императрица Ирина — но не Франкская церковь и не король франков, политически господствовавший над Римом. Считается, что «Каролингские книги» отвечали на вызов Византии, сравнивая умонастроения Запада и Востока и заключая о правильности первого и неправильности второго. Невозможно установить никакого личного авторства этих книг, тем более что выражения и лексика, с одной стороны, и примеры цитирования, с другой, указывают на разное происхождение.1
Ясно, что к созданию окончательного варианта приложили руку несколько авторов. Но замысел и энергично выдержанное направление аргументации говорят, по-видимому, о том, что за выполнение главной задачи был ответствен один человек. Однако в сочинениях этого периода нет никаких параллелей с идеями «Каролингских книг», отыскание которых могло бы помочь в установлении авторства. Мы можем заключить, что именно от короля, выступившего номинальным автором, исходил импульс к их написанию и что он сам задал им направление, предложив эту необычную тему одному из своих литераторов.
В этой полемике Запад должен был схлестнуться с неоплатоническими рассуждениями, которыми пользовались византийские богословы, стремясь к оправданию религиозного толкования образов. В них они видели выражение стремления духа обрести зримость, низойдя в материю. На данном этапе Запад никак не интересовался подобными рассуждениями и не понимал того особого внимания, которое уделялось символизму. Но ему была очевидна претензия на интеллектуальное превосходство, заключавшаяся в такого рода теориях. Каролингские ученые, наметив в общих чертах теорию франкской монархии, разработали точку зрения, противоположную той, которая казалась им следствием древнего культа поклонения императору, присущего византийской
1 Этот вопрос обсуждается Л. Уоллаком (Wallach L. Alcuin and Charlemagne. New York, 1959. P. 169—177). Об учении об образах, против которого были направлены «Каролингские книги», см. раздел VI («Греческая христианская платоническая традиция»), гл. 33 («Философия икон»), с. 596—608.
660
ЗАПАДНАЯ ХРИСТИАНСКАЯ МЫСЛЬ
власти. Вводя в свою работу критику враждебной философии искусства, они пытались показать ее неизбежно языческий характер и отсутствие религиозного значения. Вообще, принятая ими точка зрения представляла собой просто средний путь, или, как им нравилось называть ее любимой цитатой из Алкуина, «царский путь» (via regia): образы не должны уничтожаться, как постановили иконоборцы в 754 г. Но им также не должно поклоняться.1 Они полезны, но не обязательны для спасения; они украшают церкви и помогают необразованным узнавать определенные события из священной истории. Востоку не хватает скромности, чтобы прийти к тому же заключению. Эта несдержанность коренится в духе византийской власти. Критическое исследование одного из писем императрицы показывает, что она обращается к Богу так, как будто правит наравне с ним. Это, согласно критику, означает, что она не понимает природы пропасти между творением и Творцом. Бог вечен и не принадлежит ни к какому определенному периоду времени, который может быть лишь фрагментом его вечности. Течение времени, которому подчинены все этапы человеческой жизни, включая и правление царей, не затрагивает Бога, о котором по самой его природе нельзя помыслить, что он разделяет какое- либо человеческое положение или деятельность, ограниченные во времени. Здесь мы видим, как философию времени, предложенную Августином, используют для опровержения византийской претензии на первенство среди христианских государств.
Восток защитил поклонение образам в христианстве по аналогии с тем, как почитаются установленные в общественных местах статуи светских правителей. Каролингский писатель воспринял эту византийскую практику как пережиток Вавилона и Рима, двух империй, отличавшихся беспощадной завоевательной энергией. Они повсюду рассылали статуи или изображения своих государей и принуждали население поклоняться им как наместникам. Следовательно, византийская точка зрения подразумевает веру в то, что сам Бог также ограничивается определенным местом и не является всемогущим; к тому же образы не нужны для того, чтобы служить связью с отдаленной силой. Византийское мировоззрение ясно описано как принадлежащее к «граду земному» (civitas terrena).1 2
1 Ed. Н. Bastgen // Mon. Germ. Hist., Concilia, II. Supplementum. 1924. Praef. P. 3, 15—6, 12; IV 4, p. 179, 17. О «царском пути» см.: Wallach L. Loc. cit. P. 67— 72, 171.
2 II 19; III 15, p. 77, 25; 133, 33 ff.
РАЗВИТИЕ МЫСЛИ В ИМПЕРИИ КАРОЛИНГОВ
661
Франкская монархия представляет собой разительную противоположность: она характеризуется как система, в которой граница между Богом и правителем, духом и материей бережно сохраняется. Король лишь уполномочен быть пастырем людей, выполняя задачу по распределению наказаний и наград по заслугам. Почестей, которые создавали бы барьер между ним и народом и сокращали бы расстояние между ним и Богом, следует избегать. Примеры подобного смирения подают апостолы. Такая политическая теория, при помощи которой франкский двор в настоящем конфликте собирается противостоять притязанию Византийской империи на представление высшей, чем прочие, власти, доходит до отрицания мифа, лежащего в основании власти королевской. Монарх — в отличие от языческого деспота восточных империй — это официальный исполнитель Закона Божьего, следующий правилу, данному идеальному ветхозаветному царю. Идеал королевской власти оставался в силе и в Новом Завете, и его подлинные традиции охраняются учениями и обрядами св. Петра и его преемников на земле.1 Признанию пропасти между Богом и правителем соответствует противопоставление духа и материи, которое лежит в основе франкской критики метафизического толкования искусства византийскими теоретиками.
Культ образов отстаивается утверждением, что благодать, напитавшая святого благодаря проведенной в молитвах жизни, перетекает из его изображения через глаза в душу смотрящего. На деле перед нами материя, оформленная в подобие жизни. Добродетели святого заключены в его душе. Цветовая гамма картины не способна представлять душу. В процессе создания произведения искусства не наступает момент, когда святость могла бы прорасти из доски, на которую рука художника наносит краску. Сторонники этой точки зрения ссылаются на примеры из повседневной речи, чтобы показать нетождественность образа и его предмета. В разных предложениях мы зачастую используем одно и то же подлежащее, не подразумевая единого смысла: «Августин был самым выдающимся философом»; «Августина нужно читать» (Augustine must be read); «Августин изображен в церкви»; «Августин похоронен в определенном месте». Подлежащее каждого из этих четырех предложений имеет привязку к Августину. Но только в первом оно означает живого человека, настоящего Августина. Призыв же к чтению указывает на книгу, в церкви есть изображение, в гробнице — останки. Такое же отношение существует между настоящим
1 I 1; III 16, р. 10, 33; I 37, 20.
662
ЗАПАДНАЯ ХРИСТИАНСКАЯ МЫСЛЬ
и нарисованным человеком; их связывает имя. Художник свободен в выборе способа создания представления сражающегося, говорящего или наблюдающего существа, и в то же время ни одно из этих действий не получает реальности в сочетании красок. В утверждении истины нет такой свободы; действительность навязывает ей единственный образ, которому она должна соответствовать, в противном случае она утратила бы характер истины.1
«Каролингские книги» приняли учение Григория Великого о том, что в изображениях существует потенциальная ценность руководства по историческим фактам, дающим неграмотным связанное с их спасением знание. Но во всех случаях, касающихся отвлеченного предмета, видимым средством обучения могут быть только буквы, составляющие слова и таким образом зароняющие в душу читателя смысл. Слова вроде: «Слушай, Израиль: Господь, Бог наш, Господь един есть»,* 2 — не могут быть выражены в живописи. Наставления Евангелий, учения апостолов не могут быть изображены при помощи красок. Нравственность человека зависит от того образа действий, который он сам выбирает. Это решение является актом его внутренней жизни, которая по самой своей природе не может быть предметом изображения. Поэтому образы никак не способны представить модель человеческого поведения и помочь в научении нравственности; это, как показывает Библия, должно быть оставлено слову. Только язык может достичь в человеке той области, откуда берут начало его добрые и дурные поступки.3
На самом деле ценность, которую мы придаем изображению, зависит от того, какое место оно занимает на шкале между красотой и уродством. Этим доказывается неправота тех, кто верит, будто благодать передается благочестивому наблюдателю от изображения святого. Их реальный опыт, порожденный красотой образа, зависит исключительно от мастерства художника и ни в коем случае не является результатом набожности изображаемого. Если же люди поклоняются менее красивым или даже уродливым изображениям, их заблуждение абсолютно, поскольку такое изображение не дает им совсем никакого повода для эмоций. Могущество Бога обеспечивает единство мироздания; по сравнению с этим памятником его силы никакое изображение не может считаться хоть сколько-нибудь адекватным. Ни Авель, ни Енох не
Ч 2, р. 13, 30 ff. См. I 17, р. 41, 20 f.; IV 27, р. 225, 36 f.
2 Втор. 6:4.
3Ш 23, р. 153,5.
РАЗВИТИЕ МЫСЛИ В ИМПЕРИИ КАРОЛИНГОВ
663
могли поклоняться образу Бога, поскольку не существовало никакого опыта мирского искусства изображения. До сих пор имеются области, где люди его не знают, но было бы безрассудным предположить, что тамошнее население не поклоняется силе Божьей.1 Этот пункт аргументации явно формулировался не без учета громадного превосходства Востока перед каролингским Северо- Западом в том, что касается количества произведений искусства. Можно добавить также, что и важнейшая составляющая довода в этой философии искусства — будто нравственному поступку нельзя научить посредством зрительных впечатлений, — имеет некоторую связь с реалиями франкского государственного устройства. Карл Великий, прибавивший к традиционным обязанностям германского короля задачу по обучению начаткам религии, пользовался «государевыми послами» (missi dominici), своими делегатами в провинциях, чтобы привести в порядок умы своих подданных изустным словом. Видимо, этот опыт управленческой практики отражен в аргументации «Каролингских книг». С каролингской точки зрения, наиболее серьезное возражение, которое византийские полемисты направили против критиков поклонения образов, заключалось в утверждении из Книги Бытия о том, что Бог создал человека по своему подобию. В конце концов, оно было признано свидетельством того, что человеческий облик есть раскрытие Божества на низшей ступени, подготовка ко второму великому деянию мудрости Божьей — Воплощению. Образ Христа стал последним звеном в цепи созданного Богом в соответствии с его решением снизойти и видимо выразить себя в своих творениях. Образ остается связанным со своим прообразом, как тень — с телом. На этом этапе Каролинги не могли принять и понять такое толкование веры, изложенное в категориях неоплатонической иерархии. Но они остро чувствовали этот брошенный своей традиции вызов и подчеркивали, что христология занимала центральное место в их вере. И все же они, со своей стороны, отрицали необходимость в материальном посреднике между человеком и Богом. Утверждение из Книги Бытия толковалось со ссылками на авторитеты св. Амвросия и блж. Августина: именно качества души, а не формы тела означают подобие Богу. Отразить это подобие не под силу кисти художника. В автобиографической «Исповеди» говорится, что как раз таким прочтением Писания епископ Медиоланский рассеял с юности укорененные в Августине сомнения, относящиеся к богословию Ветхого Завета.
1 IV 2, р. 175,6.
664
ЗАПАДНАЯ ХРИСТИАНСКАЯ МЫСЛЬ
Святоотеческое учение прекрасно поддерживало воодушевление, с которым каролингские авторы вели эту полемику.1 При помощи характеристики восточного образа мыслей как возрождения языческого предрассудка был создан правильный фон для представления франкской монархии как опирающейся одновременно и на традицию, и на разум.
В некоторых местах самого трактата отчетливо видно, что картина не столь однозначна. «Каролингские книги» проводят резкую границу между византийскими образами, рукотворными предметами культа, и мощами, то есть телами и покровами святых, которые франкские богословы признают достойными поклонения. Но на основании этих маргиналий не следует делать выводов о том, насколько жизненно важной была вера в помощь, излучаемую этими мощами, насколько она была повсеместной в империи Каролингов в качестве движущей силы и местных центров народного благочестия.1 2 Тем не менее правдой остается и то, что «Каролингские книги», подводя рациональные обоснования под идеологию монархии, которая видела часть своей задачи в создании религиозной нравственности и образования, отражали истинную точку зрения того времени. Идея ученой критики, развернутой каролингскими авторами против волшебных сказок Востока, может восходить к интересу Карла Великого к подлинному тексту Библии и другим каноническим религиозным сочинениям, на которых он намеревался основать духовное единство различных народов своей империи. Этот аспект его политики, моделью которого послужила библейская идея царской власти, лежал в основе волюнтаристской философии «Каролингских книг»: человек должен напрямую предстать перед Богом и его волей. Не допускается вера ни в какую промежуточную область, управляемую природными и человеческими силами. Внешний мир создан как сцена для игры одних лишь человеческих сил. В этом смысле начало западной мысли обусловлено влиянием Библии, и в «Книгах» мы не найдем много примеров приложения идей античной философии: некоторые фрагменты из Платона используются для формулировки различия между душой и телом, а несколько логических ходов из учебников семи свободных искусств приводится для поддержки аргументации. Но в самих «Каролингских книгах» нет и намека на то, что два поколения спустя придворный ученый предпримет
1 I 7, р. 22 ff.
2 Этот аспект очень хорошо поясняет реалистичное описание Эйнхарда: Translatio SS. Marcellini et Petri // Mon. Germ. S. S. XV. P. 239—264.
РАЗВИТИЕ МЫСЛИ В ИМПЕРИИ КАРОЛИНГОВ
665
попытку решить проблемы своего времени при помощи всестороннего усвоения греческой мысли.
Б. Политические и богословские дискуссии после смерти Карла Великого
Смерть Карла Великого — событие, которое ознаменовало начало распада его империи, — не оказала пагубного влияния на развитие учености и мысли. Поощряемая им работа по переписыванию и изучению текстов продолжилась в скрипториях и библиотеках огромных церковных учреждений. Более того, его старания принесли свои лучшие плоды только десятилетием после 814 г. Человек восьмого века, впитавший новую ученость и опробовавший ее в создании поэзии и прозы, с большим трудом восстанавливал язык, литературную традицию и форму мысли, принадлежавшие более ранней цивилизации, укорененной в совершенно иных условиях жизни. Только после смерти Карла Великого латынь стала адекватным и востребованным средством выражения реакции тогдашней элиты на происходящие события. Именно эта своеобразная тенденция в интеллектуальном развитии девятого века дала Карлу Лысому единственную реальную возможность добиться успеха, когда в 843 г. он был признан по Верденскому договору законным королем западной части империи своего деда. Впереди его ждала бесконечная борьба с неповиновением феодалов, варварским нашествием и враждебными притязаниями восточно-франкских Каролингов. При этом он смог возродить идеал королевского двора как центра, вокруг которого собирались творческие умы из области науки и изящных искусств. Но изменения общественной и политической ситуации с необходимостью воздействовали на интеллектуальную жизнь — потому лишь, что влияние монаршей власти на ученость во времена Каролингов было сильнее, чем в любой другой позднейший период Средневековья. Во время правления Карла Великого наука оставалась в плену идей, благодаря которым правитель держал под контролем светские и церковные учреждения, не допуская разногласий между ними и внутри них. Посему споры по важным темам, подобные тому, из которого выросли «Каролингские книги», могли возникнуть лишь при столкновении с внешней силой.
Вскоре после 814 г., во время правления сына Карла Великого Людовика Благочестивого, восхождение к власти своекорыстных фракций светской аристократии вызвало оппозиционную реакцию
666
ЗАПАДНАЯ ХРИСТИАНСКАЯ МЫСЛЬ
среди прелатов, которая нашла отражение в публицистической литературе, свободно обсуждающей внутренние конфликты. Таким образом, ситуация общественной раздробленности некоторое время стимулировала в людях мысль; они вспоминали золотой век Франкской империи, толкуя политические мотивы Карла Великого как последовательную логичную систему. Архиепископ Лионский Агобард был наиболее заметным писателем этого круга. В своих современниках он видел представителей старости мира; в качестве признаков упадка он указывал на разнообразные суеверия в своем окружении, как светском, так и церковном: люди пытались магически воздействовать на тварный мир, который в действительности, как материя в руках Божьих, должен был оставаться для них недосягаемым. Мы видим, что здесь продолжается библейская философия «Каролингских книг» в совершенно новых условиях. Хорошим примером является адресованное императору Людовику предложение упразднить ордалии, так как они принуждают Бога выносить решения о том, что правильно и что неправильно. Он описывает разрешенный в его церковной епархии кодификацией бургундского племенного права Божий суд как средство шантажа старых и больных. Процедура применения закона поощряла мнение, что Бог помогает тем, кто намеревается погубить своих собратьев превосходством в физической силе. Агобард основывает этот довод на убежденности, которую он разделяет с блж. Августином, в том, что победа не доказывает присутствие Бога на стороне победителя. Ни фараон Нехо, убивший в бою благочестивого царя Иосию, ни сарацины, завоевавшие Иерусалим, не могли похвастаться этим. Действительность воли Божьей не может быть выведена ни из великих политических свершений, ни из событий повседневной жизни. Император должен упразднить разнообразие племенных прав, которое способствует неверным религиозным идеям, и заменить их единым законом.1
Расширение свободы дискуссии, возникшее поначалу в политике, распространилось и на более отвлеченную сферу богословских вопросов. Развитие святоотеческих исследований привело к открытию того, что синтез откровения и философии в классический период от св. Амвросия до Боэция помогал делать определенные идеи более отчетливыми и доступными, опровергая им противоречащие или казавшиеся таковыми мнения. Это достигалось применением диалектических понятий, заимствованных из
1 De un. leg. § 6—9 // Mon. Germ. Hist., Epist. V. S. P. 160, 21 f.
РАЗВИТИЕ МЫСЛИ В ИМПЕРИИ КАРОЛИНГОВ
667
учебников риторики. В сороковые и пятидесятые годы король Карл Лысый поощрял такую интеллектуальную деятельность, рассылая ученым опросники по спорным вопросам. Теоретически его целью оставалась традиционная задача найти наконец единственный верный ответ, которого должны были придерживаться все подданные короля. Но монархия больше не обладала достаточным авторитетом для навязывания единства, установленного при ранних Каролингах, а сам король Карл был, возможно, вполне удовлетворен тем, чтобы побудить к возникновению различных мнений, основанных на разных прочтениях сочинений отцов Церкви. Около 850 г. он послал опросник, в котором спрашивалось, должно ли считать Бога единственным существом без материальной основы, в соборную школу в Реймсе; этот вопрос проистекал из более общей проблемы отношения души к пространству. В то же самое время Ратрамн, видный ученый и полемист, который, как нам известно, был монахом бенедиктинского аббатства в Корби (830—868), в ответ на схожий запрос королевского двора собрал и проанализировал фрагменты из писаний святых отцов в трактате «О душе».1 Десять лет спустя, будучи, скорее всего, знакомым с трактатом Ратрамна, епископ той же епархии Одо из Бове попросил его защитить истинное церковное учение от теории о том, что душа получает свои качества из универсальной субстанции, с которой она связана эманациями. Это основанное на неоплатонических представлениях рассуждение, изначально пришедшее от ирландца Макария, незадолго до того было возобновлено оставшимся нам неизвестным последователем из монастыря, за который епископ нес особую ответственность.2 После предварительных переговоров с епископом и монахом-последователем Ратрамн, отвечая на просьбу Одо, написал второй трактат «О душе». Исходной точкой спора был абзац в работе блж. Августина «О количестве души». Эта книга, представляющая собой диалог между учителем и учеником, была написана в 388 г., вскоре после обращения автора, и предназначалась для утверждения духовного понимания человеческой души против материализма секты манихеев. Фрагмент, на котором Макарий основал свою метафизическую теорию, описывает философскую дилемму: единство всех душ очевидно не допускается тем простым соображением, что одна и
1 Wilmart A. L’opuscule de Ratramne sur la nature de Tame 11 Rev. B0n0dict. XLIII. P. 207—223.
2 Delhaye Ph. Une controverse sur Tame universelle au IXе siecle. Namur, 1950. P. 7—18.
668
ЗАПАДНАЯ ХРИСТИАНСКАЯ МЫСЛЬ
та же душа не может одновременно быть счастлива и несчастна, тогда как одни люди счастливы, а другие в том же момент несчастны. С другой стороны, отрицание какой-либо связи между душами кажется Августину до смешного неверным, хотя срединный путь — идея о том, что души в равной степени причастны и единству, и разнообразию, — настолько труден для понимания, что всякая попытка утвердить его не будет воспринята публикой всерьез.1 Теория Макария представляется ему самому точным определением такого срединного пути, который, как полагают он и его ученик, не был разработан святым отцом, поскольку тот счел его слишком сложным для окружавшей его невежественной публики. Согласно Макарию, родовое понятие «душа» разделено и распределено между индивидуальными телами, но по-прежнему существует в качестве источника, из которого единичные сущности продолжают черпать каждая свое существование. Ратрамн увидел в позиции Макария предположение о всеобщей душе (anima universalis) и заявил о ее лживости — по сравнению с христианским учением — и философской необоснованности. Для подтверждения этого Ратрамн обратился к рассуждению Боэция о реальности универсалий. Из двух предложенных в знаменитом отрывке Боэция альтернатив Ратрамн выбирает отрицательное решение — родовые понятия реально не существуют, они суть абстрагирования множества индивидуальных явлений. Поэтому роды никогда не могут быть причиной существования единичного. Тезис о том, что отдельная душа не может существовать обособлено от рода — всеобщей души, — можно назвать лишь извращением истины. В действительности не существует рода, который не был бы результатом деятельности ума, воспринимающего разные индивидуальности и группирующего их по их подобию. Следовательно, душа как родовое понятие существует только в мысли и не может быть носителем акцидентальных качеств, в то время как единичные души, распределенные Богом по отдельным человеческим телам, имеют свои собственные существование и качества. Говоря о душе отдельно взятого человека, например Цицерона, мы пользуемся родовым понятием; и все же высказывание касается не многих душ, а только одной. И, заводя речь о душах в их разнообразии, мы имеем в виду лишь общность их свойств и не подразумеваем обособленное существование некой общей души. Поэтому положение Августина о том, что мы не можем утверждать субстанциальное единство и индивидуальное
1 De quant, an. Cap. 32; § 69 (PL 32. 1073).
РАЗВИТИЕ МЫСЛИ В ИМПЕРИИ КАРОЛИНГОВ
669
разнообразие существующими вместе в душе человека, абсолютно серьезно и правильно.1
Так Ратрамн применяет рациональную теорию Боэция для того, чтобы восстановить приемлемое толкование святоотеческого писания. Подлинная философия, а для него это означает логику, опровергла опасное рассуждение.
В. Иоанн Эриугена и его космологическая интерпретация Марциана Капеллы
Из всех обсуждаемых предметов вопрос о предопределении вызывал наиболее оживленные дискуссии и вовлекал наибольшее число спорщиков. Он был связан с одной из частей учения Августина, представлявшей, как казалось, лишь богословский, а не философский интерес. Тем не менее эта проблема дала сильный толчок к развитию философской мысли в последние годы правления Каролингов, повлияв на становление Иоанна Скота Эриугены (ок. 820—870). Почему — покажет очерк его деятельности. Второе и третье его имена говорят о его ирландском происхождении. Однако мы знаем только о его карьере на континенте, где он стал придворным учителем грамматики у Карла Лысого немногим позже 840 г. Местом его пребывания был, по-видимому, Ланский собор; влияние его исследований на следующие поколения ученых прослеживается в рукописях того времени. Двор Карла часто останавливался в расположенной неподалеку от собора королевской резиденции в Кьерзи.1 2 Наиболее ценным для нас свидетелем деятельности Эриугены этого периода является Пруденций Труасский, который до своего рукоположения в сан епископа в 846 г. был другом и собеседником Иоанна при дворе. Пятью годами позже, вынужденный выступать против бывшего друга, он сообщает, что, когда они жили вместе, он собственными
1 Liber de anima ad Odonem / ed. Dom D. C. Lambot. Namur, 1952. Cap. 9. P. 131: «Следовательно, так бывает, что роды либо виды не являются причиной существования тех, которые называются индивидуалиями, но, скорее, сами единичные вещи представляют причину существования видов или родов. Так, он неверно сказал, что невозможно обосновать отдельные души, когда не существует вида, то есть универсальной души». Р. 136 f.: «И ведь так душа всякого отдельно взятого человека, скажем Цицерона, хотя и как будто указывает на то, что есть вид души, но обозначает на деле не многие души, но исключительно одну».
2 Cappuyns М. Jean Scot Erigene: Sa vie, son oeuvre, sa репэёе. Louvain; Paris, 1933. P. 59—66.
670
ЗАПАДНАЯ ХРИСТИАНСКАЯ МЫСЛЬ
ушами слышал как от самого Эриугены, так и от других о том, что к созданию смелых космологических теорий грамматиста подтолкнуло изучение Марциана Капеллы.1
Сегодня мы располагаем черновыми примечаниями Эриугены по меньшей мере к первой книге энциклопедического сочинения «О бракосочетании Филологии и Меркурия» Марциана, что подтверждает обвинения Пруденция. Тема — путешествие Меркурия и Добродетели по небесным сферам — позволяет нам проследить развитие ранних интересов автора.1 2 Склонность Марциана к свободному употреблению греческой терминологии предоставила Эриугене возможность продемонстрировать обширные познания в языке, свойственные вообще ученым — выходцам из Ирландии. Им нравилось составлять многоязычные словари священных языков, в которых бок о бок стояли латынь Западной церкви и греческий язык Септуагинты, а иногда третьей колонкой шел иврит из писаний св. Иеронима. Более того, текст Марциана дает латинисту хорошую возможность потренироваться в толковании языка, искусственно усложненного лексически и стилистически, а также за счет архаичности обсуждаемого предмета. Текст богат и космологическими экскурсами, своей вычурностью привлекавшими внимание Иоанна. Во вступительной части своей энциклопедии Марциан играет с именами олимпийцев, заставляя читателя видеть за ними то антропоморфных богов, то планеты. Когда Меркурий посещает Аполлона, играющего здесь роль бога Солнца, в его небесной обители, оба персонажа все время переключаются между двумя своими ипостасями. Марциан в какой-то степени черпал материал для своей сказки в космической религии поздней античности, в которой планеты объединяли в себе свойства абстрактных природных сил и человеческой личности. Эта двусмысленность, толкуемая Эриугеной в традиционном русле позднеантичных руководств по мифологии, хранящихся в средневековых библиотеках, дала ему возможность заявить о себе. Он определенно не разделял подозрительного отношения ранних поколений каролингских ученых к философской интерпретации мифологии. Меркурий желает посоветоваться с Аполлоном насчет своей планируемой помолвки с Венерой; Эриугена в комментариях поясняет, что необходимость советоваться обусловлена малым расстоянием
1 De praed. с. Joh. Scotum (PL 115. 1293d).
2 Labowsky L A new version of Scotus Eriugena’s Commentary on Martianus Capella // Medieval and Renaissance Studies. 1943. Vol. I. P. 187—193; обсуждаемая рукопись — это рукопись из Бодлианской библиотеки (MS. Auct. T. 2. 19).
РАЗВИТИЕ МЫСЛИ В ИМПЕРИИ КАРОЛИНГОВ
671
между этими планетами и Солнцем, и попутно излагает теорию о том, что Меркурий и Венера вращаются вокруг Солнца. В двух многословных отступлениях Эриугена рассматривает путешествие душ из небесного дома через планетные сферы в тела и возвращение их тем же путем после смерти. Пороки, которыми обросли души во время пребывания на земле, сбрасываются на подлете к планетам перед тем, как каждой душе будет позволено вернуться в звездный мир. Главным источником, на который опирается это описание, служит толкование Макробием Цицеронова «Сна Сципиона». В своих отступлениях о небесном путешествии душ Эриугена подчеркивает, что платоновская школа, которой он приписывает это учение, не допускает существования пространства за пределами космоса, где душа могла бы получить наказание или награду. Это утверждение перекликается с намерением Макробия доказать, что описание Цицероном положения человека в мире является по сути платоническим.1 Интерес Эриугены к философской интерпретации языческой мифологии снова проявляется в его рассуждении о теории, в которой Бог отождествляется с мировой душой (anima mundi), а отдельные боги представляют различные уровни вселенной — от эфира до земли. О непосредственном источнике — полемике блж. Августина с римскими консерваторами — Эриугена не упоминает.1 2 Пруденций особо подчеркивает это упущение, приводя в свою поддержку длинную цитату из сочинения «О граде Божьем» и таким образом пытаясь обвинить Эриугену в использовании работы святого отца — образца христианской апологетики — в качестве источника информации для распространения языческих суеверий. Епископ заключает об этих намерениях своего противника из того увлечения, с которым Эриугена изучает Марциана. Сочинения последнего якобы заразили Эриугену идеями, которые подрывают христианское учение о человеческой судьбе, не допуская ничего за пределами физической вселенной.3
1 Fol. 10 V: «Поскольку Марк Туллий в „Сне Сципиона44 говорит, что все души нисходят с неба, ведь первым делом они спускаются в круг Сатурна». См.: Маек Somn. Scip. I. Cap. XIII, 14 f. Fol. 15 V: «И поскольку считается, что за пределами мира нет ничего, что относилось бы к движению планет, через которое души искусно прилаживаются к падшим телам, полагают, что тем же путем и возвращаются».
2 Fol. 24 г: «Марк Варрон определил, что Бог есть душа мира со своими частями: Юнона — это часть, находящаяся в меди, Юпитер — часть в воздухе, Диана — часть в земле». См.: De civ. VII 5; 6.
3 De praed. c. Joh. Scotum (PL 115. 1011; 1293 f.).
672
ЗАПАДНАЯ ХРИСТИАНСКАЯ МЫСЛЬ
Парижская рукопись Эриугеновых комментариев на Марциана (под редакцией К. Лутц) представляет собой переработанный список, датируемый примерно 860 г. и показывающий реакцию Эриугены на богословскую критику его увлечения космологией.1 Переосмысление Варроном языческих богов как частных представителей мировой души из нее изъято, как и следующее Платону утверждение о том, что не существует ничего за пределами космоса. При этом, действуя тактически грамотно, Эриугена отрекается лишь от тех положений, которые представляют легкую мишень для стрел критики. Его связь с древней космической религией становится даже более очевидной. Сегодня Марциан считается платоником, в его сочинении мы обнаруживаем представление (известное Эриугене из трудов Макробия и Халкидия) о том, что Солнце есть душа мира и что из его излучений берет начало вся разумная и неразумная жизнь во вселенной. Это представление вдохновило философски настроенного грамматиста на создание новой теории движения планет вокруг Солнца в соответствии со своим пониманием текста Марциана.1 2
Г. Философское переосмысление блж. Августина
Увлечение Эриугены космологией было его личной особенностью, однако сама задача толкования сложного текста хорошо вписывалась в рамки современной ему учености. Этот аспект его работы над Марцианом втянул его в полемику о надлежащем понимании блж. Августина, разгоревшейся вокруг человека, чересчур сильно настаивавшего на одном из пунктов святоотеческого учения. Уверенность молодого саксонского аристократа Готшалька, в младенчестве переданного родителями в Фульдский монастырь, в абсолютной предопределенности человеческой судьбы божественной волей коренилась, возможно, в неудавшемся в 829 г. бунте юноши против угнетавшего его сурового устава монашеской жизни. Взрослея, он все меньше и меньше верил в значимость церковных институтов для человеческого спасения. В дошедших до нас обширных фрагментах из его сочинений мы не находим
1 Johannis Scoti Annotationes in Martianum. Cambridge, 1939. P. 22, 4; 38, 2.
2 Lutz, 22, 30: «И поэтому дважды было необходимо Добродетели вместе с Меркурием перейти круги планет: во-первых, пока они находятся под Солнцем, во-вторых... пока они наверху». См.: LiebeschutzН. Texterklarung u. Weltdeutung bei Johannes Eriugena//Arch. f. Kulturgesch. 1958. XL. S. 69—73, 90—93.
РАЗВИТИЕ МЫСЛИ В ИМПЕРИИ КАРОЛИНГОВ
673
дохристианских или германских идей и представлений. В своих грамматических и богословских изысканиях, а также в своей поэзии он определенно предстает ученым зрелого Каролингского периода. Огромное влияние на его ум оказало учение Августина о предопределении, понятое через Фабия Фульгенция. Готшальк переосмысливал поздние религиозные сочинения отца Церкви, причем в его трактовке они обнаруживали парадоксальное противоречие с теми платоническими в своей основе идеями, благодаря которым Августин однажды освободился от своей приверженности манихейству. Это учение, особо подчеркивавшее значение непостижимой воли Бога, оставалось недоступным философскому пониманию. Два архиепископа — Рабан Мавр из Майнца, бывший настоятель Готшалька в Фульде, и Гинкмар Реймсский — всегда оставались ему врагами и держали его в заточении на протяжении его последних лет. Главной причиной их вражды был вызов всем церковным учреждениям и поддерживаемой в них нравственной дисциплине, который можно было углядеть в учении бежавшего из монастыря в 840 г. Готшалька. Прелаты в тогдашних условиях были достаточно могущественными для того, чтобы мы могли рассматривать Церковь как единственную силу, способную охранять каролингский порядок в распадающемся королевстве. Для этой цели Гинкмар и сделался защитником свободной воли и нравственной ответственности. Скоро он понял, что Готшальк отличался от современных ему богословов более темпераментом, вдохновлявшим его формулировки, чем своим пониманием Августина. И развитие святоотеческих исследований, и хаос окружающего мира благоприятствовали серьезному и сочувственному интересу к поздней мысли епископа Гиппонского. Готовясь встретиться лицом к лицу с противостоянием ученых из соседней церковной архиепархии Санса, Гинкмар, будучи сам сильнее в каноническом праве, чем в богословии, обратился за поддержкой к знатокам. Однако они не представили удовлетворительных доказательств в его пользу, и викарный епископ Пардул Ланский предложил обратиться к живущему неподалеку придворному грамматисту.1 В то время (ок. 850 г.) Эриугена был мирянином, и никто не знал его как исследователя святоотеческого богословия. Гинкмар, возможно, догадывался о том, что этот шаг может упрочить его от¬
1 См. историю этого спора в Cappuyns М. Op. cit. Р. 102—127. Поддержка Пардулом привлечения к спору Эриугены цитируется в PL 121. 1052а: «Но поскольку эти вещи между собой весьма несогласны, мы попросили написать об этом ирландца, именем Иоанна, находящегося при дворе короля».
674
ЗАПАДНАЯ ХРИСТИАНСКАЯ МЫСЛЬ
ношения с двором: король Карл очень интересовался проблемами, поднятыми в полемике. Но главной причиной стал сам предмет этого диспута. Для опровержения обвинений в неверном понимании Августина Гинкмару нужен был ученый, способный при помощи диалектики убедительно показать, что учение о двойном предопределении к добру и злу не имело никакого основания в трудах святого отца. За эту задачу и взялся Эриугена, и она в конце концов привела его от первоначальных космологических интересов к неоплатонической философии. Эриугена стремился показать, что тот слой в писаниях святого отца, в котором акцент ставится на свободе воли и на отрицании действительности зла, должен быть вычленен и определен как единственно подлинный смысл всего учения. Перед Готшальком, чья приверженность Августину была не менее односторонней, стояла аналогичная (только более простая) задача по абстрагированию определенных святоотеческих представлений. Его вера основывалась на тех аспектах учения Августина, которые тот усиленно развивал в поздний период своей жизни как ответ на вызов пелагианства, критически переосмыслив в «Пересмотрах» свои прежние воззрения. И Готшальк, процитировав несколько отрывков из Августина о происхождении обоих градов (civitates) по воле Божьей, почувствовал себя вправе представить эти формулировки в качестве окончательных взглядов главы святых отцов — ведь, имея привычку к тщательному самоанализу и отречению от прежних взглядов, Августин не оставил бы такие положения без изменений, не будь он убежден в их истинности и полном согласии с католической верой.1
Готшальк очень редко выражал мнения, отличные от учения блж. Августина, однако философская сторона святоотеческой доктрины будто прошла мимо него. Очевидно, для него философия представлялась лишь одной из ступеней человеческого развития, которую к тому же достаточно критиковал и сам святой отец и которая поэтому не в состоянии выражать божественную истину. Готшальк и подумать не мог, что для согласования различных аспектов учения Августина потребуются способности к диалектике.
1 Conf. prol. // Lambot D. C. CEuvres theologiques et grammaticales de Godescalc d’Orbais. Louvain, 1945. P. 65, 12: «Конечно, если бы этот столь великий автор заметил, что все это не является в высшей степени истинным и согласующимся с католической верой, он бы никоим образом не оставил это неисправленным, но, скорее, постарался бы исправить, когда пересматривал свои книги самым прилежным образом... если бы он понял, что в них для веры остается некая опасность».
РАЗВИТИЕ МЫСЛИ В ИМПЕРИИ КАРОЛИНГОВ
675
В отличие от него, Эриугена, намереваясь показать святоотеческое учение связной и цельной религиозной философией, не мог обойти вниманием те отрывки, которыми защитники двойного предопределения подкрепляли свои утверждения. Он привлекает теорию риторики, чтобы игнорировать буквальное значение этих отрывков. Ни предвидение, ни предопределение не могут быть приписаны Богу в качестве подлинного предиката. Эти понятия предполагают наличие временного промежутка между вйдением и событием. Но в Боге не существует никакой разницы между прошлым, настоящим и будущим. Выражая истину на языке человеческого красноречия, Августин вынужден прибегать к метафорам, а его читатель должен попытаться отчетливо понять, что за ними стоит. Если мы говорим о предвидении Бога в значении замысла, можно увидеть здесь, с одной стороны, аналогию с человеческим действием, то есть подобие.1 Но, с другой стороны, опасно упускать из виду и разительный контраст, вызванный использованием у Августина столь неподходящих определений божественных деяний. Столкнувшись с отрывками о предопределении к смерти, Эриугена предлагает рассматривать их как фигуры речи, помогающие читателю осознать пропасть между Богом и злом. В связи с этим придворный грамматист цитирует примеры, используемые Исидором в параграфе об аллегорической речи, например «lucus a non lucendo»;* тем самым он показывает, что его толкование отрывков из Августина соответствует школьным правилам.1 2 Намерения Эриугены ясны: он не мог закрыть глаза на те святоотеческие положения, которые были в центре этой дискуссии. Но, обращаясь к ним, грамматист игнорировал их доктринальное содержание и, значит, уже не нуждался в диалектике для согласования философского учения Августина — как он реконструировал его — с теологией божественной благодати. В конечном счете его стратегия не сильно отличалась от стратегии Готшалька, когда тот игнорировал платоническую составляющую доктрины своего учителя.
Положительное учение Эриугены имеет главным образом два направления. Во-первых, он склонен рассматривать двойное
1 Eriug. De praed. Cap. 9, § 5, 7 (PL 122. 392b—c; 393b—c).
2 Loc. cit. Cap. 9, § 2 f.; Cap. 15, § 4; Cap. 15, § 6—7 (PL 122. 390b f.; 399b f.; 415a—c); Isid Etym. 1. Cap. 37, § 22, 24.
* To есть «роща, которая не светит» — пример нелепой этимологии «по противоположности», вызывавшей насмешки уже у древних грамматиков; употребляется для обозначения нелепого, противоположного действительности названия, вывода и тому подобного. — Примеч. перев.
676
ЗАПАДНАЯ ХРИСТИАНСКАЯ МЫСЛЬ
предопределение как пагубную попытку связать волю Бога со злом и разрушить свободу воли человека. Во-вторых, подлинное содержание учения блж. Августина должно устанавливаться как противное такому пониманию предопределения. Это означает, что Эриугена обращается прежде всего к набору идей, которые отец Церкви развивал в противоположность манихейскому учению о зле как естественной сущности мира и человека.
В своем предисловии, адресованном двум прелатам, поручившим ему это задание, Эриугена просит своих читателей не считать его богохульником, когда кажется, что он ограничивает провидение Бога, отрицая возможность действительной связи между Божественными умом и намерением с одной стороны и объектами человеческого опыта, которые следует понимать как субстанциальную нехватку, а значит, как противоположность Божественной природе, — с другой. В повседневной жизни мы встречаемся с явлениями, которые не могут стать объектами нашего знания ни в каком положительном смысле, потому что они суть только нехватка того, что мы могли бы наблюдать. Так тьма относится к свету, тишина к звуку, но также — глупость к мудрости. Вещи, выражающие собой такую нехватку, Августин в сочинении «О граде Божьем» называет тем, что «познается некоторым образом через незнание».1
Все то, что мы называем злом, и его последствия подпадают под те же самые логические категории. Они существуют в нас как искажения добра. Грех — это недостаток справедливости, наказание — это отрицание блаженства. Поэтому мы не можем приписать такому опыту характер истинного бытия; в нем самом нет подлинной составляющей истины. Тем самым невозможно представить его потенциальным содержанием разума Бога. Каждый предмет божественного предвидения должен иметь свой исток в самом Создателе, а не в частичке того ничто, с которого началось сотворение Богом мира.
Возможно, наиболее характерны заключительные главы трактата Эриугены, цель которых — устранение предположения о том, что Бог создал ад — место вечного проклятья — и заранее предопределил к нему большую часть человечества. Угроза посмертного наказания была важным предметом осмысления и, в некоторых обстоятельствах, — сильным побуждением к действию среди современников философа. Эриугена подкрепляет свое возраже¬
1 См.: PL 122. 375; Сар. 10, § 4 f.; Loc. cit. 396а f., где Эриугена цитирует «О граде Божьем» Августина (XII 7) как основание для подобного аргумента.
РАЗВИТИЕ МЫСЛИ В ИМПЕРИИ КАРОЛИНГОВ
677
ние, предлагая альтернативы, которые говорят о его намерении решить проблему на другом уровне. Первое, более радикальное отрицание предопределенного Богом наказания следует из его концепции греха как действия, совершая которое человек не исполняет своего предназначения. Образ жизни, из-за которого он навсегда утрачивает истину и движется в противоположном своему призванию направлении, не может не вызывать в глубине его души непрестанного страдания, которое и служит ему наказанием.1 Второе толкование дается в связи со словами Евангелия об огне, уготованном всем, кто следует за сатаной. Чтобы избежать допущения об адском огне как части творения, Эриугена утверждает его тождество с четвертой стихией. В высших слоях космоса, где сосредоточена эта стихия, располагаются области, куда направляются и злые, и благочестивые души. Но одна и та же среда по-разному воспринимается первыми и вторыми, точно так же как свет солнца благотворен для здорового глаза и болезнен, когда зрение повреждено.1 2 В этом утверждении есть отсылка к трактату Августина «О порядке»: темные стороны жизни занимают свое место в космическом порядке и красоте. Однако по большей части предмет этого краткого очерка эсхатологической мысли обнаруживает влияние других источников. Связь с предшествующими исследованиями Эриугеной текстов Марциана, перебросивших ему мостик к космической религии античности, очевидна; Пруденций хорошо знал пути своего бывшего собеседника. Важнее другое влияние, упоминаемое безотносительно епископа Труа: латинский перевод Руфина работы Оригена «О началах» предоставил в его распоряжение христианскую систему, способную сильнее вдохновить на смелое преобразование догмата, что было в высшей степени важным для его окружения.3 Тот способ, каким Эриугена составлял свою аргументацию, — крайне односторонняя выборка из трудов Августина, дополненная из других источников, — и недостаточная последовательность его учения не должны скрывать того факта, что уже на этом этапе его вела определенная идея места человека в мире. Для него, как и для Оригена, мир был местом, где с помощью милости Божьей человек может научиться исцелять порчу, навлеченную на него злоупотреблением свободой воли.
1 Сар. 16, § 6. Col. 423с: «Во всяком грешнике одновременно начинают всходить и наказание, и грех его, поскольку нет никакого такого греха, чтобы он сам себя не наказывал, однако тайно — в этой жизни и явно — в иной».
2 Сар. 19, § 1,2. Col. 436с f.
3 Orig. Princ. II 10, § 4, 8 (PG 11. 236, 240).
678
ЗАПАДНАЯ ХРИСТИАНСКАЯ МЫСЛЬ
Именно такая философская позиция вовлекла его в диспут о предопределении. Свобода воли человека была теоретической предпосылкой попытки Гинкмара продлить жизнь каролингской идеи общества, сформированного христианской моралью под предводительством Церкви. В этом отношении архиепископ и придворный грамматист могли считать друг друга потенциальными союзниками. Несомненно, важная причина того, что Эриугена в трактате «О предопределении» основывал свое учение главным образом на латинской традиции, заключалась в характере диспута об интерпретации Августина. Обращение к Оригену заметно лишь в коротких параграфах о посмертном наказании; Григорий Нисский, которого в свои сорок лет Эриугена уже знал, упомянут лишь мимоходом.1 11 Однако духовное настроение его первой книги ясно показывает, что не только знакомство со свежим литературным материалом из Византии в аббатстве Сен-Дени при Гильдуине стало причиной достижений позднего творчества Эриугены. Без корпуса «Ареопагитик» он не стал бы поборником иерархической картины мира, с которой сражалась каролингская мысль за два поколения до того. Но его сочинение о проблеме предопределения демонстрирует, что его ум был уже хорошо подготовлен к этой перемене. Участие грамматиста в диспуте о предопределении всеми сторонами было расценено как вторжение чужака в пространство святоотеческого богословия. Влияние Оригена бросилось в глаза недоброжелателям Эриугены, но основная критика была направлена против возрождения пелагианской ереси, черты которой находили в главных положениях книги. Пруденций подчеркивал, что тот же настрой можно обнаружить и у Пелагия, и у его страстного защитника Юлиана Экланского. Возможно, это сравнение было спровоцировано отрывком из книги «О предопределении» Готшалька, где он замечает, что Юлиан использовал вне контекста
1 De praed. Cap. 17, § 8. Col. 429b: «Таким образом, огонь этот либо телесен, как говорит Августин, либо небестелесен, как говорит Григорий». Нисский впервые цитируется Эриугеной в оксфордском тексте заметок к Марциану (Fol.
11 г Т): «Григорий Нисский, брат Василия, утверждает, что некий муж говорил, что он иногда как бы мужчина, а иногда как бы женщина, или даже иногда словно бы нечто летающее, или словно бы рыба, или словно бы лягушка. Это он говорил по причине великого несчастья в душе». Это краткий пересказ отрывка из «Об устроении человека» (PG 44. 232а Г). Эриугена объясняет такое пристальное внимание к Августину тактической необходимостью (Ch. II, § 2. Col. 398Ъ): «Мы привели необходимое, и мы видим, что для дела полезно выставлять слова того автора, к которому в наибольшей степени еретик имеет обыкновение возводить свой нечестивый догмат».
РАЗВИТИЕ МЫСЛИ В ИМПЕРИИ КАРОЛИНГОВ
679
слова Иоанна Златоуста для подкрепления заблуждений своей секты.1 То же замечание, как считал Пруденций, без труда могло быть применено к тому, как Эриугена использовал тексты Августина. Разоблачение столь компрометирующего сходства послужило причиной того, что архиепископ Реймсский притворился, будто ничего толком не знает о происхождении и авторе этих посвященных ему девятнадцати глав. Чтобы охарактеризовать их содержание, он подхватил шутку, оброненную св. Иеронимом против самого Пелагия, и направил ее против Эриугены, пожаловавшись в двух соборных решениях, что его коллеги кормили его, невинного человека, этой ирландской кашей. Эриугена предвидел такую критику. Он напомнил, что Пелагий был человеком, отрицавшим всемогущество божественной милости, и поставил его рядом с Готшальком, который заменил милость необходимостью.1 2 Фраза про Пелагия хорошо свидетельствует о том, что Эриугена с самого начала знал о своем маргинальном положении среди современных ему ученых. Этот опыт послужил причиной того, что он скрыл или изъял из своей философии некоторые уязвимые аспекты или компрометирующие отсылки, не уступив при этом ничего для него важного. То же самое, безусловно, было сделано по отношению к его позднему наброску комментария к Марциану.
Нет сомнения в том, что Эриугена и Пелагий были близки друг другу как носители веры в человеческую силу и ответственность свободной воли за направленность своих действий. В этом отношении оба они были учениками древних моралистов. Комментарии Пелагия на послания св. Павла, которые были вполне доступны каролингскому ученому из Ирландии, так же преобразовывали мысль апостола, как интерпретация Эриугены — учение блж. Августина. И когда каролингский философ вычитал в «Пересмотрах» жалобы автора на то, что его ранние сочинения с их особым акцентом на свободе воли были неверно поняты и процитированы в поддержку позиции Пелагия, он вполне мог воспринять их в духе, противоположном намерениям знаменитого епископа. Карл Великий бы непременно отрекся от такого смелого направления мысли. Но богословский радикализм Эриугены в разработке этих принципов не отменяет того факта, что именно
1 Пруденций в препроводительном письме к Вениле Сансскому (Mon. Germ. Epist. V. R 632, 10 f.). Gottschalk. De praed. / ed. D. C. Lambot. P. 192, 195.
2 Hincmar. De praed. Praef. (PL 125. 50a). В m. 31, 296a он отрицает, что обладает каким-либо надежным знанием об авторе этих девятнадцати глав; Eriug. De praed. Ch. 7, § 1, 2. Col. 370c f.
680
ЗАПАДНАЯ ХРИСТИАНСКАЯ МЫСЛЬ
образовательные идеи, связанные с правлением великого императора, дали первый толчок к выведению на передний план свободы действий человека в мысли придворного философа его внука. То, что греческие отцы Церкви позволили ему выработать эту идею и оправдать ее в качестве традиционного и ортодоксального учения, определило заключительный этап его творческого развития.1
1 Об этом заключительном этапе см. раздел VI («Греческая христианская платоническая традиция»), гл. 34, с. 609—626.
Глава 37
ДИСКУССИИ О ФИЛОСОФИИ В ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД (900—1080)
А. Споры о Боэции: платоник или христианский философ?
Импульс, данный спекулятивной мысли королевским двором, заинтересованным в интеллектуальных занятиях, иссяк с наступлением десятого века. Внешние вторжения разрушили львиную долю экономических предпосылок для работы научных центров и прервали связь между ними. Такое положение дел дало повод называть десятилетия, последовавшие за концом Каролингской цивилизации, Темными веками. Хотя в этот период роль и влияние французской монархии было подорвано возвышением феодальных княжеств, после 950 г. саксонская династия Оттонидов — истинных наследников Карла Великого — по-прежнему была способна к новому утверждению королевской власти в Германии и возрождению ученых занятий. Под их правлением в тех саксонских землях, куда христианство пришло лишь несколькими поколениями ранее, культивировалось написание прозы и поэзии на латыни. Но их двор, в отличие от двора Карла Великого или его внука, никогда не обрел значения форума, где бы обсуждались умозрительные проблемы. Отдельные центры поддерживали относительную непрерывность философского знания в Западной и в Центральной Европе. В некоторых монастырях и соборах существовали библиотеки, собранные в эпоху Каролингского возрождения, и поэтому традиция, связанная с сохранением и переписыванием рукописей, оставалась жива. Отдельные пришедшие из античности книги поднимали животрепещущие вопросы об отношении рациональной мысли к христианскому откровению в умах читав¬
682
ЗАПАДНАЯ ХРИСТИАНСКАЯ МЫСЛЬ
ших их монахов и каноников. К таким книгам в первую очередь относится «Утешение философией» Боэция. Ее считали ценным инструментом христианского обучения благодаря ее стремлению вывести человека из погруженности в мирские дела к своему истинному призванию. Огромное число дошедших до нас рукописей того периода и знаменитые переводы на простонародный язык, выполненные королем Альфредом и Ноткером Немецким, свидетельствовали о ее популярности. Естественно, такое руководство к праведной жизни стало предметом изучения в библиотеках и школах. Ремигий Осерский, связанный через своего учителя Эрика со школой в Лане и, следовательно, с грамматическим учением Эриугены, снабдил ее образцовым комментарием. Теоретическое содержание книги Боэция наиболее тщательно разбиралось в специальных примечаниях к стиху III 9, в котором римский философ описывает связь между Богом и космосом, используя понятия платоновского «Тимея».1 Представляется, что сам Эриугена прокомментировал философское учение этого стиха в раннюю пору своих занятий, когда его работа заключалась главным образом в толковании латинских авторов. Наиболее интересное достижение Темных веков — это постановка вопроса, над которым по сию пору бьются исследователи: принадлежит ли «Утешение» к числу христианских произведений Боэция, или оно является выражением языческой философии? В этом споре Бово из Корвея в Саксонии и Адальбольд из Утрехта представляют противоположные точки зрения. Бово, бывший аббатом монастыря на протяжении последних шестнадцати лет жизни (ум. 916), изучал наследие Боэция с ранней юности. Поэтому он считал себя вправе утверждать, что и трактаты по христианскому богословию, и «Утешение» написаны одинаково блестящим стилем и, следовательно, должны быть приписаны одному и тому же автору. С другой стороны, идеи, выраженные в «Утешении», и в особенности космогония, изложенная в стихе III 9, кажутся ему принадлежащими скорее философу- платонику, чем христианину. Бово подчеркивает свои сомнения, отмечая, что сам он не спешил бы снабжать примечаниями такой текст. Он ставит вопрос о том, соответствует ли такого рода труд его монашескому статусу, и обращается к епископу, своему тезке, родственнику и бывшему ученику, вдохновившему его на эту ра¬
1 Silvestre Н. Comment, тёс1. de J. Scot Erigene. Р. 49—122. Главное исследование по истории «Утешения философией» в период Средневековья см.: Сонг- celle Р. Etude crit. s. 1. Commentaires d. 1. Consolat. de Boece (IX—XIV s.) //Arch, d’hist. doctr. et lit. du M. A. 1939. XII. P. 5—140.
ДИСКУССИИ О ФИЛОСОФИИ В ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД
683
боту, за цензорским разрешением для облегчения своей совести.1 Но и со всеми этими оговорками Бово не отвергает «Утешения» и, комментируя космологические теории Боэция, не может скрыть глубокого интереса.
Для решения вопросов, поставленных отрывком, в котором Боэций описывает присущую числам силу создавать связи между стихиями, Бово обращается к другому платоническому источнику — Макробию, в своих комментариях на «Сон Сципиона» предложившему теорию расположения четырех стихий в космосе. Земля и огонь составляют нижний и верхний слои космоса, в то время как вода и воздух, расположенные между ними, удерживают их вместе. Их качества — жар и холод, сухость и влажность — распределяются так, чтобы каждая стихия разделяла одно из своих свойств с соседней. Именно число четыре делает связь стихий неразрывной, объединяя противоположности — плотную и влажную землю с разреженными и легким огнем. В этом параграфе Макробия Бово находит объяснение отрывку из Боэция и таким образом предвосхищает метод магистров Шартрской школы, которые выстраивали свою космогоническую философию, как хорошо продуманную мозаику, из обширного ряда схожих источников. Все эти источники, собранные для объяснения платоновского «Тимея», восходили к древним учениям о макрокосме и микрокосме. Бово пишет, что идея мировой души — движущей силы во вселенной Боэция — характеризует данную теорию как специфически философскую и далекую от христианского учения. Однако он также подробно анализирует ее как возможную гипотезу для объяснения ретроградного движения планет и звезд.1 2 В других отрывках различие между христианской истиной и языческим заблуждением подчеркивается еще сильнее. Упоминая картину мира, в которой Земля расположена в центре вселенной, окруженная движущимися небесными сферами, Бово старается избежать впечатления, будто он предлагает эти платонические теории в качестве установленных фактов. В противном случае его читатели могли бы подумать, что он также поддерживает учение Макробия о существовании антиподов, которое слишком очевидно противоречит вере. Чтобы обнаружить опасность, стоящую за утверждением Боэция в книге V о том, что души были более свободны, пребывая в созерцании божественного разума, чем когда сошли на землю и облеклись
1 PL 64. 1239—1246; см. критическое издание: Huygens R. В. С. Mittelalterl. Kommentare z. «О qui perpetua» // Sacris erudiri. 1954. VI. S. 383 ff.
2 §8. Col. 1241b; § 17. Col. 1244 f.
684
ЗАПАДНАЯ ХРИСТИАНСКАЯ МЫСЛЬ
в тела, снова цитируется Макробий. В переданном им мнимо поучительном размышлении Бово усматривает связь с определенно языческим учением о нисхождении души по небесным сферам, которые своими излучениями предопределяют характер человека на земле. Ученый аббат из Корвея, столкнувшись с такими сторонами труда Боэция, считает свою задачу схожей с задачей Августина, изучавшего языческий ритуал для того, чтобы защитить христианство.1
Прямую противоположность отношению Бово к «Утешению» мы находим в комментариях одного прелата, воспитанного в ученой традиции Льежского собора в последней четверти десятого столетия, к той же самой космогонической поэме. Их автор, епископ Адальбольд из Утрехта (ум. 1026), был человеком разносторонним и деятельным в своей епархии и при дворе и представлял собой довольно распространенный во время правления Оттонидов тип людей.1 2 Боэций был для него христианским философом. Адальбольд принимал данное в начале поэмы отвлеченное обращение к Богу как вечной мудрости, правящей миром, в качестве подходящего определения Творца, которого, как учит Библия, адекватно не может описать никакое сравнение. В своих рассуждениях Гермес и Платон подошли к истине, но не преуспели в ее постижении. Боэций преуспел больше, поскольку не пытался описать картину, видимую телесным глазом, но почувствовал сущностное ядро космоса своим сердцем. Когда Боэций говорит об уме Бога, предвосхитившем красоту мира, саксонский епископ воспринимает это как описание Христа — Слова, которым все сотворено по желанию Божьему. Отрывок о душах, низведенных Творцом с небес на землю, в котором Бово увидел языческий миф, Адальбольд понял решительно иначе. Для него этот текст представляет собой попытку определить момент создания индивидуальных душ — вопрос, обсуждавшийся, но не решенный ни Иеронимом, ни Августином; Адальбольд также воздерживается от ответа. Другую проблему перед епископом, желающим доказать приверженность Боэция христианству, ставит описание Бога как формы высшего блага (summi forma boni). По-видимому, римский
1 § 22. Col. 1246а. Биографию Бово см.: Manitius М. Geschichte der lateinischen Literatur. Bd. I. Miinchen, 1911. S. 526—529.
2 Manitius M. Op. cit. Bd. II. Miinchen, 1923. S. 143—148; Courcelle P. Op. cit. P. 73 ff.; В книге T. Грегори рассматриваются и Бово, и Адальбольд (Gregory I Platonismo Medievale. Roma, 1958. P. 1—15). Критическое издание текста см. в книге: Silk С. Т. Pseudo-Johannes Scottus, Adalbold of Utrecht and the early commentaries on Boethius // Mediev. and Renaissance Studies. 1954. III. P. 14—24.
ДИСКУССИИ О ФИЛОСОФИИ В ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД
685
платоник сократил разрыв между Богом и творением; форма нуждается в материи. Адальбольд избегает такого следствия, которое сделало бы Бога частью этого мира, толкуя форму как инструмент Творца, при помощи которого он делает свою совершенную благость видимой для человека. Бог не входит в творение, которому дает образ, но форма творения — это своего рода автограф Бога. Недавно Т. Грегори показал, что Адальбольд заимствовал такой выход из затруднения из идеи Эриугены о мире как теофаныыJ Представленной Манегольдом богословской критикой древней космологии открывается вторая половина одиннадцатого века, а вместе с ней — эпоха церковных реформ. Деятельность в этой сфере не была ограничена рамками только канонического права и проблемами, поднятыми новыми идеями об отношении священнического и светского чинов. Продолжительное влияние реформаторства на развитие средневековой мысли очевидно: подъем схоластики двенадцатого и тринадцатого веков неотделим от задач, поставленных церковными реформами, ставшими одной из величайших движущих сил, открывающих второй цивилизационный этап Средних веков. Теперь мы должны показать, как исподволь начинался этот процесс.
Фрагменты древнего космологического учения и идея их философского осмысления, пережившие Темные века как часть церковной учености и породившие дискуссию о значении «Утешения философией» Боэция, теперь стали мишенью для предельно эмоциональной критики. Ибо отныне все это считалось источником образа мыслей, противостоявшего установленному порядку вещей.
Манегольд из Лаутенбаха был преподавателем свободных искусств, известный своим учением в Западной и Центральной Европе. После своего обращения к праведной жизни он стал наиболее ревностным сторонником Григория VII в публицистической войне, нападая на проповедников проимператорских мнений. Около 1085 г. он писал против Вольфгейма Кельнского, бенедиктинца, защищавшего в евхаристическом споре ортодоксальные верования от Беренгария, но в политике примыкавшего к анти- григорианской партии.1 2 Манегольд изображает своего противника
1 Silk С. Т Op. cit. Р. 14, 16, 22. Eriug. Op. cit. Ill 19 (PL 122. 681a): этот фрагмент обсуждается Грегори (Gregory Т Op. cit. P. 12 f.). Об идее мира как теофании у Эриугены см. раздел VI («Греческая христианская платоническая традиция»), гл. 34, с. 615—623.
2 Opus. с. Wolfelmum colon. PL 155. 147—176. Письмо Вольфгейма против Беренгария см.: PL 154. 412 ff. Об обращении Манегольда от светской жизни преподавателя свободных искусств к жизни церковной сообщает Иво
686
ЗАПАДНАЯ ХРИСТИАНСКАЯ МЫСЛЬ
человеком, который не находит в платонической традиции, представленной Макробием, решительно ничего, что нанесло бы вред христианской душе. Изучение философии вытесняет из сознания желание подчиняться воле Божьей. Тем самым зарождается мировоззрение, выраженное в принципе: «У нас нет иного понтифика, кроме Цезаря». Манегольд подчеркивает влияние, которое должны оказывать на действия человека его представления о душе и собственной ответственности за свою посмертную участь. Ни чтение пифагорейских сказок Макробия о наказании переселением души в тело животного, ни множество иных мнений на этот счет, изложенных в учениях разных философских школ, не помогут и не вдохновят ученика-христианина принять правильное решение. Лучшее, что создала греческая философия, — это учение Платона о возникновении души в момент сотворения мира. Но детали этой теории настолько неясны, что попытка Макробия их объяснить — это попытка объять необъятное.1
Однако Манегольд допускает, что некоторые предметы философского учения могут стоять выше его критики. В качестве примера он приводит классификацию добродетелей. Он хорошо знает, что отдельные нравственные положения, сформулированные платониками, были усвоены и приспособлены отцами Церкви к нуждам христианских общин.* 2 Это различение Манегольдом приемлемых и опасных сторон философии опирается, как было только что показано, на различие подходов к платонизму отцов Церкви, с одной стороны, и раннесредневековых школ, с другой. В древней Церкви афинский мыслитель рассматривался главным образом как противник гомеровской мифологии и как главный представитель сократической тенденции в философии с ее поисками нравственных ценностей. Поэтому с некоторыми необходимыми оговорками его принимали в качестве союзника в деле защиты и объяснения веры. Такой взгляд на платонизм был усвоен средневековым миром во многом благодаря трудам блж. Августина. Но, как мы знаем, с именем Платона была связана и другая тенденция, пришедшая в Средние века из «Тимея» и позднеантичных трудов,
Шартрский (Correspondance / ed. J. Leclerq. Paris, 1949. Ep. 38. P. 156 f.). О карьере Манегольда см.: Endres J. A. Forschungen zur Geschichte der fmhmittelalterlichen Philosophic. Munster, 1915. S. 87—113; Gregory T Op. cit. P. 17—30; Garin E. Studi sul Platonismo Medievale. Firenze, 1958. P. 23—33.
• Praef. PL 155. 149 f.; Ch. 23, 172c; Ch. 2, 153d f.
2 Ch. 22, 170; неоплатоническую классификацию добродетелей см.: Macr. Somn. Scip. I 8. О патристическом использовании платоновского морального учения см. разделы II, V и VI.
ДИСКУССИИ О ФИЛОСОФИИ В ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД
687
отражавших влияние этого космогонического трактата на популярную философию. Этот свод учений, открывающий доступ к важному разделу философского знания, при соотнесении его с Книгой Бытия легко мог быть воспринят как вызов, брошенный разумом откровению. Для Манегольда этот опасный аспект философии символизируют рассуждения Макробия о макрокосме и микрокосме. Для Манегольда добиваться познания вселенской материи или взаимоотношений космогонических стихий — все равно что искать солнце в пещере (платоновский колорит придает этому возражению некоторую парадоксальность). Истинные положения философской мудрости пришли из Библии; но при передаче подлинный смысл был утрачен. Так, идея Троицы была принижена до триады умопостигаемых формы, материи и демиурга, причем последний отвечал за сочетание всех трех. В таком понимании происхождения мира не оставалось места божественному всемогуществу. Манегольд не упускает из виду и идеи астрологического детерминизма в тексте Макробия. Он говорит о людях, которые верили, будто сами способны проследить цепь причин, тянущуюся от планет и созвездий до связанных с ними необходимостью событий. Учение о том, что человечество было разделено на четыре группы климатическими границами и другими непреодолимыми препятствиями, вызывавшее возражения уже в восьмом веке, также отмечалось Манегольдом как противное посланию Евангелий о том, что приход Христа спасет всех людей.1
Подобного рода заблуждения не случайны, но возникают из переоценки человеческого разума. Даже после грехопадения человек не утратил способности устанавливать единство или различия в окружающих его вещах. Но когда самоуверенность философа отваживается выйти за пределы области, отведенной человеческому пониманию, он становится жертвой ложных предпосылок, ведущих к заблуждению.1 2
Б. Диалектическое искусство как критерий учености
Мы показали, что скептическое отношение Манегольда к человеческому уму не помешало ему пользоваться диалектическим искусством, в котором он упражнялся, будучи преподавателем свободных искусств на ранних этапах своей карьеры, в борьбе
1 Об астрологии см.: Ch. 7, 157b—с; об антиподах (Маек II 5) см.: Ch. 4, 154d.
2 Ch. 1, 152с.
688
ЗАПАДНАЯ ХРИСТИАНСКАЯ МЫСЛЬ
за дело Григория VII. Обсуждая низложение Генриха IV в своем трактате о церковной политике,1 он подчеркивает необходимость тщательного анализа текстов, которые были авторитетными источниками для сторонников императора: ни единой фразы не должно быть допущено в качестве части аргументации без исследования контекста и стиля. Когда папа Григорий Великий говорит о своей покорности византийскому императору, читатель должен помнить, что такого рода выражения относятся к придворному языку, на котором даже умышленные действия описываются лишь как выражение преданности. Чтобы лишить силы цитату из Первого послания Петра, предписывающую покорность перед царем, Манегольд исследует, что понимается под словом «царь». Оно описывает не врожденное, постоянно присущее человеку качество, а должность, с которой его могут снять. Следовательно, слово апостола не относится к Генриху IV, нарушившему соглашение, на котором зиждилась его власть.1 2 Если бы темперамент Манегольда позволил ему хоть на секунду задуматься о последовательности, он, возможно, принялся бы защищать использование рационального анализа на протяжении всего своего политического трактата при помощи прежнего утверждения о способности человеческого ума разделять и объединять.
Но применение Манегольдом диалектических приемов — это не только пережиток раннего этапа его карьеры. В великой полемике о монархии и церковном правлении схлестнулись две системы правовой мысли. Обе стороны предпринимали невиданные ранее попытки выстроить аргументацию на подходящем для дела толковании цитат из авторитетных источников. Метод, развившийся под влиянием этого импульса, оставался после успеха реформаторских идей значимой причиной подъема схоластической философии в течение всего двенадцатого века.
Тот факт, что на протяжении раннего периода Средних веков диалектика входила в утвержденную в монастырях и соборных школах образовательную программу, подготовил это развитие. Обучение составлению писем и документов на латыни, к чему и готовили учеников, не мыслилось без упражнений в логике. Мы располагаем двумя яркими свидетельствами того, как такого рода философские упражнения использовались для тренировки
1 Ad Gebehard. lib. // Mon. Germ. Hist., Libelli de lite. 1981.1. S. 308—430. Cm.: Mirbt C. Publizistik im Zeitalter Gregors VII. Leipzig, 1894. S. 26—29, 227—235, 483—488.
2 Ch. 45; 43 // Loc. cit. P. 388, 15; 385, 15.
ДИСКУССИИ О ФИЛОСОФИИ В ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД
689
способности учеников к убедительной аргументации. В открытом письме Гунцо к монахам в Райхенау, написанном где-то после 965 г., и созданной восьмьюдесятью годами позже Ансельмом из Безаты «Риторимахии» два итальянских автора пытаются защитить свою ученость от скепсиса, с которым они оба столкнулись по ту сторону Альп.1 Для того чтобы особо подчеркнуть наивность, с которой немецкие монахи в Санкт-Галлене указали на ошибку в его латинской речи, Гунцо отмечает, что подлинная ученость не всегда приводит к однозначному решению той или иной проблемы. В качестве примера приводится отрывок из Боэция, касающийся полемики Платона и Аристотеля о реальности универсалий: первый утверждал их существование, второй отрицал его. Гунцо делает вывод, что никто не может вынести суждение, если даже два подобных авторитета не согласны друг с другом.
Дискуссия об акциденции и субстанции используется по тому же назначению. Примитивный догматизм допускает, что все явления мира можно разнести по этим двум категориям. Однако более пристальное исследование показывает, что все не так просто. Когда мы указываем на что-то как на различие, мы не имеем в виду субстанцию, поскольку не думаем о чьем-то бытии, но не имеем в виду и акциденцию, поскольку, различая, придаем субстанции форму.1 2
Ансельм написал «Риторимахию» и посвятительные письма, играющие роль введения и эпилога, чтобы показать миру свое риторическое мастерство на примере фантастического, вымышленного дела против своего кузена. Его особая приверженность логике как инструменту аргументации отразилась в придуманном им самим прозвище «Перипатетик», которым он как бы относит себя к перипатетической школе, названной Боэцием первенствующей в античной диалектике. Ансельм приводит логическое суждение Боэция о том, что соединение двух видов никогда не даст третьего; ничто из того, что мы наблюдаем в качестве заключенного в самом себе единства, не может содержать двух противоположных составляющих. Итальянский диалектик не спешит сомневаться в утверждении, за которым он узнает авторитет Аристотеля. Но он напоминает, что человек состоит из разумной и смертной части
1 Критическое издание обоих текстов было недавно опубликовано с исчерпывающим предисловием и комментариями: Manitius К. Gunzo Epistola ad Augienses und Anselm von Besate Rhetorimachia // Mon. Germ. Hist. Quellen z. Geistesgesch. d. M. A. 1958. II. Об этом подробнее см.: Misch G. Geschichte d. Autobiographic. Frankfurt, 1955. II, 2. S. 402^15.
2 Manitius K. Op. cit. S. 40, 10—23.
690
ЗАПАДНАЯ ХРИСТИАНСКАЯ МЫСЛЬ
и что цвет его кожи происходит из смешения черного и белого, углядывая в нем контрпример к теореме Аристотеля. В эпилоге Ансельм возвращается к этому спору, рассказывая о своей роли в совете прелатов в Майнце (он служил нотариусом в канцелярии императора Генриха III, поэтому совет может датироваться 1049 г.). Ансельм доказывает, что равнодушие города к его шедевру, «Риторимахии», не может быть никак обосновано.1
Жители Майнца притворились, что они прежде держались среднего пути, воздерживаясь как от восхваления, так и от осуждения. Согласно Ансельму, такая сдержанность проистекала из сочетания хвалы и хулы, напоминая возникновение красного цвета из смешения черного и белого; то есть его противники хотели двигаться в двух противоположных направлениях в одно и то же время. Возражению, что отсутствие положительной оценки было результатом не сочетания хвалы и хулы, но уклонения от обеих, Ансельм противопоставляет более подробное рассмотрение их безразличия. Отрицание, на котором основывается такое уклоняющееся безразличие, не имеет границ; оно может быть отнесено к чему угодно на небе и на земле точно так же, как к восхвалению или осуждению. Нет никакой возможности определить его, придав какой бы то ни было предикат; оно остается ничем, которое, конечно, нельзя обосновать.
Неслучайно эти два трактата написаны двумя итальянскими мастерами словесности и логики. Именно в городах Ломбардской низменности такого рода деятельность сохраняла связь с гражданской и нотариальной практикой, поскольку здесь осколки римского права оставались основой деловой жизни. В этих условиях ученость имела и светское назначение и обещала процветание успешному преподавателю. В раннее Средневековье такое сочетание сделало возможными появление трудов, в которых вопросы религии и богословия предстают задвинутыми в дальний угол дискуссии. В других частях Западной и Центральной Европы дела обстояли несколько иначе. Поэтому в Италии мы находим ничем не сдерживаемое выражение гордости за свое интеллектуальное превосходство, полностью противоположное смиренному стилю, принятому со святоотеческих времен. Однако то, что средневековые политики привлекали литературное и диалектическое мастерство письмоводителей для своей корреспонденции, объясняет возникновение схожих тенденций в других частях Европы, где отсут¬
1 Ibid. S. 134, 1—14; S. 180 f.; биографию Ансельма см.: Erdmann С. For- schungen zurpolit. Ideenwelt des Fmhmittelalters. Berlin, 1951. S. 119—124.
ДИСКУССИИ О ФИЛОСОФИИ В ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД
691
ствовали условия, характерные для северной Италии. Очевидно, что доверие к силе разумного аргумента, распространявшееся по мере развития политической переписки начиная с конца десятого столетия, действовало как фактор, способствующий возрождению философской мысли, не могущей существовать без подобной веры. Виднейший обладатель интеллектуальных дарований среди деловых людей раннего Средневековья, Герберт Аврилакский, недалеко отстоял от того периода, когда философские рассуждения выступали преимущественно критерием учености. Он родился в Аквитании около 945 г. и закончил свою богатую событиями карьеру папой Сильвестром II (ум. 1003). Мы не знаем имен его родителей; благодаря лишь силе ума он выдержал все злоключения своей жизни, в которой рукоположение в сан архиепископа Реймсского (991—996) сменялось изгнанием.1
Назначенный в 972 г. на должность руководителя соборной школы в Реймсе архиепископом Адальбероном, он стал первым известным нам преподавателем, читавшим полный курс так называемой «старой логики» (Logica vetus), представленной «Категориями» и «Об истолковании» в переводах Боэция, «Изагогом» Порфирия, а также комментариями и трудами самого Боэция. Его лекции по логике подавались в рамках обычной программы как часть курса свободных искусств, детально описанного его учеником Рихером; таким образом, студенты двигались от логики к риторике — предмету, задуманному для подготовки будущих нотариусов и латиноязычных письмоводителей и такому близкому практическим задачам школы. В Реймсе при Герберте, как через 150 лет в Шартре, ученики были подкованы в чтении поэтов, римских комедийных, сатирических и эпических произведений, совершенствуясь через это во владении языком. С другой стороны, они практиковались в аргументации в спорах со специалистом в этом искусстве. Во второй части курса свободных искусств, квадривиуме, по распоряжению Герберта использовались приборы, наглядно изображавшие движение планет и созвездий по небу, и абак — счетная доска — для механизации операций исчисления. Можно, вероятно, проследить связь между астрономическими интересами Герберта и арабской наукой, с которой он
1 См. его биографию в работе: Picavet F. Gerbert ou le pape philosophe. Paris, 1897; Uhlirz M Untersuchungen liber Inhalt und Datierung der Briefe Gerberts v. Aurillac, Papst Silvester II. Gottingen, 1957; блестящее описание его личности, основанное на анализе некоторых писем, см. в: Auerbach Е. Literatursprache und Publikum in der lat. Spatantike u. im Mittelalter. Bern, 1958. S. 128.
692
ЗАПАДНАЯ ХРИСТИАНСКАЯ МЫСЛЬ
успел хорошо познакомиться за проведенные им в студенчестве несколько лет в Вике, соборном городе в Испанской марке.1
Рихер в восторженном описании успешной деятельности своего учителя ни словом не обмолвился о том, что Герберт поставил себе целью связать разные предметы из учебной программы, для того чтобы дать ученикам более глубокое понимание строения мира. Однако хронист особо оговаривает, что реймсский магистр был широко известен как философ, чьи познания охватывали и человеческие, и божественные области. Именно поэтому Отрик, ревностно исполнявший должностные обязанности в соборной школе епархии Магдебурга и в то же время постоянно бывавший при дворе императора Оттона II, вызвал своего коллегу Герберта на диспут по вопросу о том, как различные ветви знания, вместе составляющие философию, зависят друг от друга. Этот диспут произошел в 980 г. в Равенне и, согласно сообщению Рихера, занял весь день. В конце концов Оттон должен был положить прениям конец, поскольку утонченная публика утомилась.
Предмет этого диспута позаимствован из текста первого комментария Боэция на «Изагог» Порфирия, в котором схематично изображено подразделение философии. В нем богословие, математика и физика (натурфилософия) образуют три теоретических вида философии. Герберт чувствует необходимость подчинить математику более обширному понятию физики, но признает трудность этого предприятия, поскольку как физика, так и математика в равной степени представляют собой виды одного и того же рода и поэтому стоят на одном уровне. Ни к какому решению диспутанты не приходят, потому что Отрик начинает уклоняться, поднимая вопрос о цели философии вообще. Ответ Герберта, что философия нацелена на получение знания о человеческом и божественном, открывает дискуссию о возможности удовлетворительного ее определения одним-единственным существительным.2 Кажется, однако, что логические проблемы, связанные с соподчинением рода и вида, бросили мысли Герберта серьезный вызов. Краткий трактат «О разумном и о пользующемся разумом», написанный после того, как французский ученый присоединился к император¬
1 Richer de Reims. Histoire de France. II // Les classiques de l’histoire de France au Moyen Age / 0d. et trad. R. Latouche. Paris, 1937. Vol. XVII, lib. III. Ch. 46—54. P. 54—64. О месте Герберта в истории средневековой логики см.: Van de Vyer А. Les 0tapes du d0veloppement philosoph. d. Haut Moyen Age // Revue Beige de Philolog. et d’Histoire. 1929. VIII. P. 441—443.
1 Richer de Reims. Op. cit. II. Ch. 55—65. P. 64—80. Boet. Isag. Porph. / ed. Brand. P. 8.
ДИСКУССИИ О ФИЛОСОФИИ В ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД
693
скому двору в 997 г., стал единственным плодом его литературных упражнений, который мы можем назвать философским; его проблематика имеет то же направление, что и главная тема дискуссии с Отриком.
Принято считать, говорится в книге Герберта, что определение большего по объему понятия через меньшее противоречит логическому закону. Правильно было бы описывать и лошадь, и человека как животных, потому что понятие живое существо обнимает и то, и другое. Однако применение предиката пользующийся разумом для характеристики разумного существа рождает сомнения: некто, обладающий разумом, может и не пользоваться этой способностью постоянно, поэтому пользующийся разумом (uti ratione) охватывает меньший объем, чем разумный (rationale). При каком условии этот предикат считался бы общезначимым элементом суждения, определяющего человека? Некоторые диалектики пытались избежать этой трудности, подчеркивая, что разумное (rationale) указывает на чистую возможность, в то время как пользующийся разумом (uti ratione) утверждает реализацию этой возможности и, таким образом, представляет собой качество высшего порядка, которое своим достоинством восполняет меньший объем. Но такое возражение окажется откровенным софизмом, стоит нам учесть, что род по самой своей природе может объять разные степени достоинства, не теряя при этом общезначимости: одно и то же понятие животное может быть применено и к человеку, и к ослу, а Бог с человеком в равной степени классифицируются как разумные существа.
Герберт предполагает решить эту проблему одним простым различением. Когда мы описываем какую-либо субстанцию, каждый ее атрибут, положительный или отрицательный, должен оставаться общезначимым независимо от времени или обстоятельств. Следовательно, предикат с меньшим объемом, чем у описываемого им субъекта, недопустим. Но совершенно другое дело, когда суждение относится к явлениям, которые суть лишь акциденции. Суждение «огонь греет» остается истинным до тех пор, пока существует огонь, поскольку оно относится к его субстанции. Однако утверждение «Цицерон сидит» относится лишь к акциденции; неизменная возможность нахождения в такой позе актуализировалась только в данный момент времени. С другой стороны, описание Цицерона как разумного существа указывает на субстанциальное отличие, определяющее его как человека без ограничения по времени. Описывая его как пользующегося разумом, мы говорим о том, что в любой данный момент времени может
694
ЗАПАДНАЯ ХРИСТИАНСКАЯ МЫСЛЬ
либо происходить, либо не происходить, и это будет относиться к различию в акциденции.1 Наиболее часто цитируемая часть этого трактата — это тщательно отделанное посвящение Оттону III. В нем Герберт подчеркивает, что предпринятый им проект в области диалектики добавляет необходимый элемент к придворной жизни императора Священной Римской империи, который может притязать на греческое происхождение со стороны своей матери. Это введение — больше, чем просто украшение, поскольку оно определяет границы авторского замысла всего философского исследования. Попытка применить анализ базовых логических понятий из трактатов Порфирия и Боэция к решению спорного вопроса остается для него по большому счету испытанием интеллектуального превосходства, с опорой на которое предполагалось опрокинуть хорошо обоснованные притязания в этой области, высказаваемые византийским претендентом на императорскую власть.1 2 Герберта отличала способность прояснять современную ему политику при помощи адаптации классических идей, взятых из древней литературы. Его обширные знания математических и логических трудов обеспечили ему выдающееся место среди ученых его времени. Но его философские интересы по существу не отличались от тех, что были представлены в программах двух итальянских магистров свободных искусств, которых мы рассмотрели выше.
В. Беренгарий Турский: попытка применить логический анализ к богословскому учению
Углубленное изучение корпуса логических сочинений Боэция, которое Ван де Вьер отследил по рукописной традиции, дало новый импульс философскому анализу актуальных проблем, поднятых в одиннадцатом столетии. Людям становилось ясно, что метод ведения логической дискуссии, которому они обучались в школах, можно применять к более конкретным и более насущным предметам. Возможность выразить окружающий человека мир в ясно определенных понятиях послужила стимулом человеческому
1 PL 139. 159—168. Определение rationale id est, quod ratione utitur («разумно то, что разумно используется»), данное в ходе дискуссии, пришло из текстов Августина (De ord. И. Ch. XII, § 35; CSEL LXIII. P. 172, 10).
2 О политическом влиянии идей Герберта см.: Schramm Р. Е. Kaiser, Rom und Renovatio. Leipzig; Berlin, 1929. Bd. I. S. 96—100; Erdmann C. Polit. Ideenwelt. S. 107—111.
ДИСКУССИИ О ФИЛОСОФИИ В ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД
695
уму. В связи с этим мы должны понимать попытку Беренгария Турского (1010—1088), предпринявшего обсуждение одного из аспектов доктрины о таинствах, применить свои диалектические навыки к толкованию Евхаристии так, словно это был вопрос метафизический.1 Однако существовали особые обстоятельства его биографии и его эпохи, которые подготовили осуществленный им рывок в развитии средневекового духа. Беренгарий, начавший свою научную карьеру учеником епископа Фульберта Шартрского, большую часть жизни был главой древней школы св. Мартина в Туре. Его литературная слава латиноязычного писателя настолько распространилась среди знатоков этого искусства, что несколько его сочинений были направлены в Хильдесхайм и включены в хрестоматию, предназначавшуюся в качестве образца для учащихся.1 2 Беренгарий направил свое мастерство на осмысление важного, но все еще не определенного официально аспекта церковного учения в середине столетия — в то время, когда церковная реформа возбуждала споры и бросала человеческому разуму новые вызовы.
Вопрос о правильном отправлении таинств обсуждался как на богословском, так и на простонародном уровне. Размышления Беренгария не примыкали ни к одной из дискутирующих сторон. Он стоял на позиции ученого-одиночки, окрыленного славой своей теории и уверенно берущегося за сложнейшую проблему, не боясь впасть в ересь.
Эта позиция диалектика, силой аргументации доказывающего миру мощь своего учения, несомненно, коренится в складе характера Беренгария. Он заявлял о готовности отречься от своих взглядов, если кто-нибудь докажет их несоответствие классическим текстам, на которых зиждется авторитет Церкви. Однако то была лишь наносная смиренность, поскольку Беренгарий был убежден в том, что его философия основывалась на таком толковании этих текстов, в котором ни один человек не мог усомниться. Он был первопроходцем в применении диалектического метода к библейской экзегезе. Несмотря на оттенок самолюбивой дерзости в его интеллектуальном образе, он мог рассчитывать или по крайней мере претендовать на протекцию Гильдебранда, будущего папы Григория VII. Этот парадоксальный союз прела¬
1 Southern R. W. Lanfranc of Вес and Berengar of Tours I I Studies in Medieval History presented to M. Powicke. Oxford, 1941. P. 27—49, особенно p. 34.
2 Erdmann C, Fickermann N. Briefsammlungen d. Zeit Heinrichs IV 11 Mon. Germ. Hist., Briefe d. Kaiserzeit. 1950. V. S. 132—172.
696
ЗАПАДНАЯ ХРИСТИАНСКАЯ МЫСЛЬ
та и ученого, который надломили, но не разорвали критические нападки на Беренгария, был вызван политическими условиями, с которыми будущий вождь и пророк церковной реформы столкнулся в Анжуйской области в 1054 г. Дважды на Латеранских соборах под председательством реформированного папства главу школы св. Мартина принуждали отзывать свое учение (в 1059 и 1079 гг.), однако ему позволили мирно дожить свою долгую жизнь в окрестностях Тура.1 Его противоречивое учение часто цитировали и атаковали в текстах того времени; в нескольких случаях сохранился ответ Беренгария. Мы знаем о двух принадлежащих его перу искусных сочинениях, отвечающих на критику Ланфранка (1010—1089).1 2 Их спор начался примерно в середине столетия, когда противник Беренгария был главой зарождающейся школы Нормандского монастыря в Беке. Ученый ломбардского происхождения, он чувствовал, что не уступает Беренгарию в искусстве диалектики.3 И тот, и другой применяли эту науку к библейской экзегезе. Но Ланфранк, возможно под влиянием своего бенедиктинского окружения и склонности к затворнической жизни, положил определенные границы применению этого метода к предмету богословия, чтобы избежать каких-либо возможных посягательств на установленный авторитет. Он стал новатором только благодаря попыткам найти точные ортодоксальные ответы на вопросы, для которых не существовало удовлетворительных решений. Беренгарий пользовался грамматическими познаниями в области определения значений слов и синтаксических форм при толковании текстов для обоснования своих богословских опытов. Он никогда не сомневался в аксиоме своей эпохи о том, что путь к истине лежит в верной интерпретации авторитетных текстов. Но он прекрасно понимал, что право на такой ее поиск дает эрудиция. Вновь и вновь он обвиняет Ланфранка в том, что его учение не согласуется с притязаниями на образованность. Даже папа Николай II, который слишком ослабил вожжи в отношении врага
1 Macdonald A. J. Berengar and the Reform of Sacramental Doctrine. London, 1930; Erdmann C. Gregor VII und Berengar von Tours // Quellen u. Forschungen aus italien. Arch. u. Bibl. 1937. XXVIII. S. 48—74.
2 Первое сочинение сохранилось только в цитате Ланфранка (De corp. et sang. Dom. PL 150. 407—442); рукопись второго трактата «De coena Domini» была обнаружена Лессингом в библиотеке Вольфенбюттеля в 1770 г. и откомментирована им с энтузиазмом ученого эпохи Просвещения. См. новейшее издание В. Г. Беекенкампа (Kerkhistorische Studien. 1941. Vol. 11).
3 Об экзегетических трудах Ланфранка и Беренгария см.: Smalley В. La Glossa Ordinaria // Rech. ТЬёо1. anc. m0d. 1937. IX. P. 372—399.
ДИСКУССИИ О ФИЛОСОФИИ В ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД
697
Беренгария, кардинала Лотарингского Гумберта, заклеймен им как не имеющий ни характера, ни образования.1
В связи с этим мы должны понимать восхваление Беренгарием диалектики как эффективного инструмента в поиске истины. Разум — это лучшая часть человека, неотъемлемый знак его сотво- ренности по образу и мудрости Божьей. Запретить пользоваться им — означает отнять у человека его честь и достоинство. Одного авторитета в качестве аргумента не достаточно: он все равно будет предложен в виде текста, который нужно правильно понять, а значит, применить правильный метод. Возражая Ланфранку, предостерегающему от использования фигур силлогизма в библейской экзегезе, Беренгарий настаивает, что нужно применять диалектическое искусство, воздерживаясь при этом от эристиче- ских уловок. Беренгарий прибавляет, что ни один мужественный человек не подписался бы под утверждением его противника о том, что лучше покорно следовать авторитету, чем погибнуть, используя разум. В поддержку этого заявления, имеющего для него личную значимость, он приводит цитату из сочинения Августина «О порядке». Он признается, что на Латеранском соборе 1059 г., когда кардинал Гумберт и его сподвижники действовали против него «не сдерживая себя разумом», страх смерти помешал ему отстаивать свои убеждения. Он сравнивает себя с Аароном, который также страхом был вынужден подчиниться требованию народа создать золотого тельца, и таким образом выставляет свое дело в еще более выгодном свете.1 2
1 De coena Dom. Ch. 34 / ed. W. H. Beekenkamp. S. 86 (обращаясь к Ланфранку): «Богобоязненное знание должно иметь в качестве наиболее очевидного предмета чудо, совершенное о посохе Моисея или водах Египта; оно не сходится с преобразованием хлеба и вина трапезой Господней ни по какому подобию». Беренгарий допускает, что Карл Великий обращался к Эриугене: «Для того чтобы люди невежественные и плотские тогда не властвовали, он великому Иоанну, мужу образованному, приказал собрать из писаний то, что разрушило бы их подлость». Напечатано в: Erdmann С, Fickermann N. Briefsammlungen d. Zeit Heinrichs IV. S. 154,3.
2 Ch. 23 Beekenkamp. S. 47: «Ясно, что отличительным признаком величайшей души является при любых обстоятельствах способность прибегать к диалектике, поскольку прибегать к ней означает прибегать к разуму, к которому тот, кто не прибегает, пусть даже он сотворен по подобию Бога, согласно разуму, оставляет собственную честь». S. 48: «Пусть за тобой не следует ни один человек, у которого есть сердце, в том, чтобы предпочесть уступить во всем обладающим властью, нежели по разуму погибнуть, если представится возможность». О его собственном вынужденном признании см. Ch. 14, § 23: Aug. De ord. II 13, § 38.
698
ЗАПАДНАЯ ХРИСТИАНСКАЯ МЫСЛЬ
То, что мы могли бы назвать философским интересом Берен- гария, сосредоточивается на критическом обсуждении учения о Пресуществлении Святых Даров (хлеба и вина) в тело и кровь Христову в таинстве Евхаристии. Движущей силой его критики стало открытие, что аристотелевские категории, описывающие субстанцию, которые Беренгарий почерпнул из логических сочинений Боэция, сделали возможным более хваткое восприятие видимого мира. В своих размышлениях о значении материальных превращений Беренгарий обсуждает значение слова «бытие»; во-первых, оно утверждает существование некого субъекта, а во- вторых, оно стягивает воедино определенные качества. Эти два значения связаны между собой. Утверждая качество, мы заранее предполагаем существование субъекта, к которому относится это качество. Утверждение «Сократ справедлив» не имеет смысла, если мы не предпошлем ему существование Сократа. Это размышление предлагается в качестве возражения на тезис Гумберта, отстаиваемый Ланфранком, о том, что после причастия хлеб и вино становятся истинным телом и кровью Христовой, хотя и сохраняют свои первоначальные акцидентальные свойства. Но для Беренгария никакое качество не может существовать дольше субъекта, которому оно принадлежит. Если справедливость относится к Сократу, она не будет существовать дольше него.1 Превращение означает для него разрушение одного субъекта и создание из него нового. Мы различаем вещи по формам или качествам, то есть по их явлению. Однако это невозможно без материи, подлежащей качествам и формам. Чистые формы несозерцаемы. Не существует никакого цвета, если нет ничего цветного. Белый, красный или коричневый цвета не составляют сущностей сами по себе. С исчезновением субъекта исчезает и каждый приданный ему атрибут. Очевидно, что Беренгарий пользуется аристотелевским понятием очень вольно. Форма для него является не конститутивным элементом субстанции, а собирательным термином для всех воспринимаемых чувствами качеств вещи. Они не могут существовать без материи, акциденциями которой они являются. Излюбленным его примером является цвет, поскольку его противник настаивает на том, что цвет хлеба и вина сохраняется и после исчезновения субстанции.1 2
1 Ch. 16. S. 29. См.: Hunt R. Studies on Priscian in the eleventh and twelfth centuries // Mediev. and Renaissance Studies. 1943.1. P. 226.
2 Ch. 34. S. 91 f.: «Ведь и среди ученых абсолютно известно, что цвет не виден со стороны иначе, как если случится увидеть нечто окрашенное, пусть
ДИСКУССИИ О ФИЛОСОФИИ В ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД
699
Теория Беренгария об изменении субстанции не допускает никакого различения между невидимой сущностью вещи и ее наблюдаемой поверхностью. Если человек превратится в мрамор или жена Лота — в соляной столп, изначальный контур тела может сохраниться, но это будет уже не очертание живого тела, а форма каменной или соляной глыбы. Подобие ни в коем случае не означает тождества, потому что лежащий в основании субъект, к которому оно относится, радикально трансформировался.1
Развивая этот аргумент, Беренгарий рассматривает второй тип материального изменения, который мог бы быть использован его противником в качестве другой линии защиты своей теории. Существуют случаи, в которых внешнее изменение создает впечатление изменения материи. Разрушения изначальной субстанции не происходит. В качестве примера он приводит сообщения, в соответствии с которыми черное дерево и коралл представляют собой материю, окаменевшую под длительным воздействием морской воды. Поверхность дерева, обычно легко поддающаяся инструменту ремесленника, приобретает твердость камня. Схожие процессы происходят с водой, когда под воздействием низкой температуры ее поверхность превращается в лед. В отличие от этих явлений, теория превращений Ланфранка утверждает разрушение изначальной субстанции вещи и создание новой, хотя прежние акцидентальные свойства поверхности продолжают существовать.* 1 2
Очевидно, что в этих аргументах предмет таинства рассматривается как часть видимого мира. Этот подход предполагает теорию Евхаристии, основывающуюся на строгом разделении духовного содержания и материального облачения таинства. Видимые вещи на алтаре суть не более чем знаки божественного присутствия. Причастие не меняет их качества физически. Вновь и вновь звучит аргумент, что Христос не может быть возвращен с небес на землю в результате какого-то изменения материи, которое лишь производит новый предмет. Новая сущность, прибавленная к предмету таинства причастием, — чисто духовного свойства и тем не менее является действенным инструментом спасения.3
даже будет известно все, что есть в субъекте, так, как оно должно быть, так даже, чтобы казалось, что оно имеет не от себя, но от субъекта, в котором находится».
1 Ch. 35. S. 98.
2 Ch. 24. S. 44.
3 О богословском аспекте учения Беренгария см.: Geiselmann /. Die Eucharistielehre der Vorscholastik. Paderbom, 1926. S. 290—404.
700
ЗАПАДНАЯ ХРИСТИАНСКАЯ МЫСЛЬ
Значительную часть сочинения Беренгария на эту тему занимают его попытки показать, что его учение согласуется с авторитетом блж. Августина: он применяет искусство диалектики для того, чтобы доказать, что другие великие учители Церкви, в особенности св. Амвросий, в этом пункте соглашаются с африканским учителем и являются противниками учения о каком бы то ни было превращении обрядовых предметов.
Современные исследования в целом подтверждают взгляд Беренгария в том, что касается Августина, чье различение знака (signum) и вещи (res) в таинстве выражает его склонность к символическому толкованию. Только в период позднего творчества отца Церкви под влиянием его конфликта с пелагианством перестановка акцентов появляется и в этой части учения.1 Мы, однако, из собственных сообщений Беренгария знаем, что не обращение непосредственно к сочинениям Августина вызвало его интерес к проблеме Евхаристии: его пробудил один богословский спор в кругу Карла Лысого. Исходным толчком для его вступления в область богословских размышлений послужила защита монахом Ратрамном из Корби символического толкования таинства Евхаристии в ответ на указание особой роли Пресуществления хлеба и вина в трактате его настоятеля Пасхазия Ратберта. Беренгарий и его современники приняли книгу Ратрамна за труд Эриугены.
Письмо, в котором Беренгарий рьяно защищает правоверность ирландского философа, привело к открытому конфликту между ним и его коллегами в монастыре Бека. Вскоре подключился авторитет Рима. Немногим позже турский мыслитель пытался защитить Эриугену в другом письме к знакомому при дворе французского короля, определяя место философа при дворе Карла Великого. Этот правитель проявлял энергию не только в политике, но и в религиозных вопросах. Поэтому он и призвал Иоанна Скота, ученого человека, способного рассеять предубеждения неучей своими энциклопедическими знаниями.1 2 Из письма, адресованного Акелину, канонику в Шартре, ясно, что Беренгарий знал о существовании других противоречивых сочинений Эриугены и был знаком с некоторыми их них, но сам он весьма несдержан¬
1 Adam К. Die Eucharistielehre des hi. Augustin. Paderbom, 1908. S. 50 ff., 100—106, 163.
2 Письмо к Ланфранку (PL 150. 63c). Слова Карла Великого в защиту Эриугены цитируются по письму Беренгария, упомянутому на с. 697, прим. 1, которое также адресовалось придворному французского короля Генриха I.
ДИСКУССИИ О ФИЛОСОФИИ В ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД
701
но заступался за псевдо-Скота, которым на самом деле являлся Ратрамн.1 В чем же магистр диалектики одиннадцатого столетия превзошел августинианца девятого века?
Трактат Ратрамна был написан как ответ на опросник Карла Лысого — подобный тому, который породил его исследование места души в мире. Король спрашивал, во-первых, о том, какие термины правильно употреблять по отношению к Евхаристии — тайно (in mysterio) или же поистине (in veritate), и, во-вторых, должно ли пониматься тело Христово (corpus Christi) как историческое тело. Трактат Ратрамна начинался с ясного определения таких понятий, как форма (figura) и истина (veritas), и различения внешнего облика и духовного значения. Он пишет как верный ученик Августина, но его трактат приходит к выводам куда более определенным, чем те, что можно сделать, резюмировав корпус сочинений отца Церкви по этому вопросу. Таинство есть уподобление, а не физическое превращение, память о событии, а не сами страсти. В теле Христовом Евхаристии нет ничего от анатомических свойств человеческого тела, ничего от психической жизни или побуждений, которые душа придает естественному телу. Предмет таинства остается хлебом, выпеченным из зерна. Однако причастие прибавляет к нему добродетель (virtus) — силу, соединяющую верующего в духе со Христом в его славе.1 2
Ратрамн проводит резкую границу между символизмом Августина, которому он следует, и любыми учениями о материальном превращении. Мы можем сказать, что такое точное определение уже предполагалось в опроснике короля и выражало тенденцию, характеризующую позднее каролингское толкование святоотеческих сочинений. Но Ратрамн остается на полпути между Августином и Беренгарием; использование им понятий вид (species) или субстанция (substantia) не приводит к анализу процесса материального превращения. Разница между сущностью вещи и ее явлением не входит в обсуждаемую им проблематику, хотя именно на ее исследовании зиждется Беренгариева критика учения о Пресуществлении; он не принимает учения о том, что акциденции остаются, когда субстанция исчезает. Ратрамн не рассуждает о характере физического изменения при создании нового
1 Беренгарий говорит об Эриугене: «Omnia illius non pervidimus» («Тот, кто видит многое, не понимает многого»), и добавляет, что его знания не стали полнее к моменту, когда он писал (PL 150. 67Ь). Непохоже, чтобы это наблюдение относилось к сравнительно короткому трактату о Евхаристии, скорее речь идет о деятельности Эриугены в общем.
2 De согр. et sang. Dom. PL 121. 125—170; Ch. 72, 154a.
702
ЗАПАДНАЯ ХРИСТИАНСКАЯ МЫСЛЬ
явления из разложения существующего. Однако одиннадцатый век не восстановил точного значения аристотелевской терминологии из трудов Боэция. Мы видели, что для Беренгария форма была не конститутивным аспектом субстанции, но собирательным именем для всех чувственно воспринимаемых качеств вещи. Однако толчок к толкованию материальных составляющих таинства как частей видимого мира и к осмыслению его структуры берет начало отсюда. С этой точки зрения применение Беренгарием диалектики к догмату о Евхаристии представляло собой предварительный опыт на пути к метафизическому толкованию богословского учения. Для современников это был дерзкий вызов, на который они ответили решительным отрицанием.
Г. Петр Дамиани: обращение от диалектики к аскетической жизни
Петр Дамиани сильнее прочих сопротивлялся попыткам философов применить диалектику к богословию. Дамиани (1007— 1072) начал свою деятельность преподавателем грамматики и диалектики — предметов, владением которыми бравировали в своих сочинениях Гунцо и Ансельм из Безаты. В городах северной Италии эта профессия открывала карьерные перспективы перед человеком, не унаследовавшим собственности. Около 1035 г. Дамиани покинул мир, обратившись к отшельнической жизни, самой суровой форме монашества, зародившейся в Италии.1 Он возглавил это движение. Важным элементом жизни отшельников был тотальный отказ от попыток какого бы то ни было изучения и исследования. Всякое понимание человека и мира, какое только способствует отысканию пути к спасению, обреталось как дар Божий в награду за аскетический подвиг. Все навыки поведения и мышления, требуемые для науки, не имеют никакой ценности, кроме узкого специального назначения, и всегда чреваты опасностью гордыни. Дамиани не мог избавиться от талантов и умственных способностей, которые обеспечили его карьеру, — он и не мечтал, что его возведут в сан кардинала-епископа Остии в 1057 г., — однако он использовал свои литературные навыки для написания впечатляющих памфлетов, в которых осуждал безнрав¬
1 Leclerq J. St Pierre Damien, ёгётйе et homme d’6glise. Roma, 1960. Недавно его отношение к рациональному постижению было рассмотрено в работе: Gonsette J. Pierre Damien et la culture profane. Louvain, 1956.
ДИСКУССИИ О ФИЛОСОФИИ В ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД
703
ственность своего времени как в миру, так и в Церкви и боролся с вторжением разума с его диалектикой в тайны религиозного учения. Его сочинение о всемогуществе Бога косвенно являлось исчерпывающей контратакой против попытки Беренгария заключить таинство причастия в рамки философского понимания. Оно было написано в 1067 г. после разговора с Дезидерием из Монтекассино об аргументе св. Иеронима, в котором тот утверждал невосстановимую ценность женского целомудрия.1 Отсюда Дамиани развил вопрос о том, возможно ли предположить, что Бог в силах отменить события, которые имели место в прошлом. Может ли божественное решение упразднить основание Рима, как если бы этот город вовсе не существовал?
Дамиани обращает особое внимание на то, что применение понятия «невозможного» всегда неверно по отношению к Богу. Не пролегает никакой границы между событиями в прошлом, существующими только в нашем знании, и теми, которые мы наблюдаем в настоящем или ожидаем в будущем. Такое различие не имеет места, если принять во внимание всемогущество Бога.1 2 Человек же, все существование которого протекает во времени, переносит это различие на свои рассуждения о силе Божьей, которая по самой своей природе находится по ту сторону времени, в длящейся вечности. Для мудрости и деяний Бога бесконечная цепь событий одновременна. Все, что мы наблюдаем обладающим существованием в нашем мире, получает свое бытие лишь из воли Божьей. Никто не сомневается в том, что Бог мог бы предотвратить строительство Рима, но такое утверждение является истинным не только в отношении того, что мы видим в момент основания города, но в отношении всей длительности человеческой истории. Изъятие божественной волей не обращает вспять событие или какой-нибудь предмет нашего опыта в прошлом, но стирает его без следа, как будто бы его никогда не существовало. Парадокс, заключающийся в том, что нечто, однажды обретя существование, может быть сведено до уровня никогда не существовавшего, указывает на то, что логика, предупреждающая наш разум от принятия таких событий, сама сотворена Богом, для того чтобы человек понимал естественный порядок природы. Поэтому она полностью находится в подчинении божественной воле. Она абсолютно бесполезна, когда мы пытаемся размышлять о связях между Богом и миром. Ни одно понятие, которое преподается в школах, не может быть
1 PL 145. 596с.
2 619d.
704
ЗАПАДНАЯ ХРИСТИАНСКАЯ МЫСЛЬ
использовано для понимания Бога без грубейшего искажения его природы. То, что сотворено как суждение в силлогическом умозаключении, совершенно не подходит в качестве инструмента проникновения в тайны божественной силы.1
Множество историй, изложенных в Библии, могут преподать такой урок смирения человеческому разуму. Опыт привел человека к выводу, что огонь превращает дерево в пепел; поэтому человек, видящий горящее бревно, не сомневается в результате этого процесса в каждом конкретном случае. Но Библия учит нас, что неопалимая купина Моисея не была уничтожена огнем, потому что воля Божья противилась этому. Таким же образом общезначимость утверждения о том, что оторванная ветвь не даст плода, опровергается библейским сообщением о цветущем посохе Аарона. Не только Писание, но и сама жизнь дает примеры, противоречащие выводам из повседневного опыта, например ярко пылающий огонь, который чернит все, чего касается. В связи с этим Дамиани обращается к подборке природных явлений, обладающих чудесным характером, составленной Августином из справочников поздней античности.1 2 На протяжении всего трактата заметно, что он целиком вдохновлен творчеством африканского отца Церкви: на вопрос о зле в Божьем мире дается ответ, что зло как таковое не обладает свойством бытия, которым наделяется творение. Философия времени Августина используется в качестве основания для доказательства того, что опыт, которым мы разделяем прошлое, настоящее и будущее, недействителен по ту сторону уровня Божественного. С этой позиции Дамиани разворачивает радикальную критику переноса диалектического метода в область богословия. Такой изощренный контекст, в котором итальянец ведет свою борьбу против интеллектуализма, обеспечил влиятельность его наставлений. Кажется вполне правдоподобным, что, когда Манегольд в южной Германии писал свое христианское полемическое сочинение против классической космологии, его главный аргумент был выкован в борьбе Дамиани с богословским приложением диалектики.
1 603d.
2 610d. De civ. XXI 4. Об интересе к чудесному в поздней античности см.: Marrou H.-J. St. Augustin et la fin de la culture antique. Paris, 1938. P. 148—157.
Глава 38
АНСЕЛЬМ КЕНТЕРБЕРИЙСКИЙ. ФИЛОСОФСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ВЕРЫ
А. Влияние спора с Беренгарием
Ансельм Кентерберийский (1033—1109) открыл своим литературным творчеством новую и в высшей степени своеобразную главу в великом споре об отношении разума и веры. До того как стать архиепископом Англии в 1093 г., он, будучи монахом-бенедиктин- цем, жил, учился и преподавал в Бекском аббатстве в Нормандии, находясь в курсе духовных и интеллектуальных движений, центром которых тогда являлись франкоговорящие страны Западной Европы. Он происходил из города Аосты в юго-восточном районе древней Бургундии, недалеко от границы с Ломбардией. По линии матери он был в родстве с влиятельным семейством, представлявшим правившую в этих землях династию. В юности он был увлечен возрождением учености во Франции, как прежде Ланфранк из Ломбардии, который в 50-х годах того же века был настоятелем вновь основанного монастыря в Беке и создал там набирающую известность школу. Ансельм присоединился к нему, поначалу как ученик, а в 1060 г. как монах.1 В этом время Ланфранк был целиком погружен в спор с Беренгарием; он посетил Римский собор, на котором было осуждено учение знаменитого главы школы св. Мартина. Это произошло за год до пострижения Ансельма в монахи. Сам Ланфранк считался пионером возрождения диалектических исследований, и, разумеется, ему не терпелось установить правильное соотношение между преданностью авторитету библейской и церковной традиции и интересом к технически
1 Eadmer. De vita et conversatione Anselmi archiepiscopi Cantuariensis / ed. M. Rule. I 5 (PL 158. 52). Cm.: Southern R. W. St. Anselm and his Biographer. Cambridge, 1963 P. 8 f.
706
ЗАПАДНАЯ ХРИСТИАНСКАЯ МЫСЛЬ
правильной аргументации. Ансельм оставался близок с ним на протяжении трех лет и стал его преемником на посту настоятеля и главы школы, когда Ланфранк, назначенный на должность аббата монастыря ев. Стефана в Кане, покинул Бек.
Из собственного сообщения Ансельма мы знаем, что ему не нравилось преподавать основы латинского языка аудитории мальчиков, посвятивших себя Богу (oblati), а с уходом Ланфранка Бек утратил привлекательность для приходящих студентов. Ансельм развивал свой гений главным образом в общении с молодыми монахами, на характеры и духовную жизнь которых он влиял личным примером и сочувствующим пониманием встававших перед их разумом вопросов. Он был склонен рассуждать на тему своей преподавательской практики в монастыре и задавался вопросом, почему отрочество — это подходящее время для того, чтобы придать человеческому уму прочную форму.
Философские сочинения, созданные им в Беке после 1070 г., берут свое начало в посвященных этой проблеме спорах и дискуссиях.1 Сам Ансельм оставил нам свидетельства, позволяющие воспроизвести атмосферу среды, в которой развилась его мысль.
В Средние века обмен письмами в знак дружбы был установленным порядком в церковном мире. Уже коллекция Бонифация восьмого века дает нам поразительные примеры таких человеческих отношений между англо-саксонскими миссионерами в Германии. В одиннадцатом веке о том же нам говорят собрания писем германских соборных школ. Общее образование сближало интеллектуальную элиту общества, жизнь и карьера впоследствии рассеивали их по земле. С Ансельмом случилось то же, когда Ланфранк, в 1070 г. ставший архиепископом Кентерберийским, забрал в Англию нескольких нормандских монахов, с которыми тот был в тесном контакте. Во время, когда он был приором, а с 1078 г. — аббатом в Беке, его переписка отличается эмоциональной напряженностью, с которой он выражал свою веру в духовную важность братства между ним и его адресатом. То, что они находятся на далеком расстоянии друг от друга, служит поводом к постановке более отчетливой общей цели.
Сообщество молящихся держится на дружбе, которую оно также может создавать и между людьми, лично не знакомыми и связанными лишь доверием к общему товарищу. В некоторых
1 Schmitt F. Zur Chronologie der Werke des hi. Anselm v. C. // Rev. Ben6d. 1932. XLIV. S. 322—350.
АНСЕЛЬМ КЕНТЕРБЕРИЙСКИЙ
707
случаях такая духовная близость спасала от реальных опасностей для психического здоровья, связанных с повседневной жизнью монаха. Но и тогда нет противоречия между тягой к дружбе в преамбуле и подчеркиванием необходимости дисциплины в основной части письма, поскольку обе эти части проникнуты духом личного смирения. Ансельм не приказывает, а всегда пытается убедить и таким образом исполнить правило св. Бенедикта. Это нравственное воспитание остается важным мотивом его творчества как философствующего писателя.1
Для того чтобы указать на его место в интеллектуальной истории, нам следует вернуться к спору между Беренгарием и Ланфранком. Ансельм пришел к собственному решению этой охотно обсуждаемой в пору его юности проблемы. Методологически правильная аргументация, основанная на духовном опыте, могла бы помочь людям в поисках верного пути в жизни и в мысли. Намерение Ансельма применить технику философского спора к выявлению религиозной истины не только шло дальше замысла Ланфранка, но и притязало на куда большее, чем попытка Беренгария использовать логические навыки в полемике, касающейся теологической проблемы.
Беренгарий выступал против нового толкования Евхаристии, исходя из соображений, касающихся природы происходящих в материи изменений, на которые его натолкнуло онтологическое содержание понятий Боэция. Он пытался обосновать несостоятельность богословского учения, казавшегося ему противоречащим его пониманию природы материи; более того, он использовал диалектическое искусство первоклассного грамматиста в свою защиту, доказывая, что авторитет церковной традиции был на его стороне. С точки зрения богословов, его подход представлял собой отрицательную философию; он отвергал положительное решение, потому что оно противоречило его аналитике материи. Исследование видимого мира не было согласовано со всеобъемлющей богословской доктриной до тех пор, пока в середине тринадцатого века не было полностью усвоено учение Аристотеля. Когда за дело принялся Ансельм, он чувствовал себя в безопасности от теории Беренгария, которую никогда не обсуждал. Однажды он сформулировал свое кредо, отмежевывающее его от дерзкого защитника разума из Тура: «Вера в поисках понимания».
1 Характерный пример — письмо к Ланцо (№ 37) о stabilitas loci («надежности места») (PL 158, ер. 1, 29. 1093—1101). О своей ограниченности как преподавателя латыни он говорит в письме № 64.
708
ЗАПАДНАЯ ХРИСТИАНСКАЯ МЫСЛЬ
Б. Значение и цель осмысления веры
Ансельм был готов объяснять публике этот принцип как в своих сочинениях, так и устно — в обращениях и диспутах с братьями в монастыре. В разные годы он оставлял заметки о значении своего метода в сочинениях на различные темы.
Ансельм одинаково подчеркивает два аспекта своей программы. С одной стороны, он готов подтвердить свою позицию доводами, которые в самих себе заключали бы силу убеждения. Он преподносит свое учение таким образом, чтобы была очевидна присущая ему необходимость. С другой стороны, он не позволяет читателям забывать о том, что он полностью осознает, что не смог бы развивать свою аргументацию, если бы сам не верил еще до того, как приступил к ней. Сочетание этих двух постоянно противопоставляемых мотивов его мысли является, возможно, наиболее характерной ее чертой и поэтому — ключом к пониманию всей его философии.
Намерение направлять своих читателей при помощи рационального анализа ясно выражено в стиле его сочинений. Он старается не основывать своих выводов на авторитетах; для подкрепления своего учения он не цитирует даже Августина, так хорошо ему известного и послужившего, по собственному признанию Ансельма, главным источником принципов и содержания его рас- суждений. Более того, сама аргументация построена таким образом, чтобы не зависеть даже от библейских изречений. Истинность результата каждого отдельного исследования должна быть доказана силой и ясностью умозаключения. В книге «Почему Бог стал человеком» Ансельм, подводя итог богословской дискуссии, говорит, что предложенное им доказательство было бы достаточным, даже если выпустить несколько отрывков из христианских авторитетов. Разница между Ансельмом и основным течением философии двенадцатого и тринадцатого веков, когда были разработаны классические формы quaestio и summa,* поразительна. Диалектика Ансельма не пытается отыскать окончательного единства в расходящихся друг с другом учениях отцов Церкви. В его сочинениях мы находим возражения и сомнения, играющие важную роль в процессе развертывания его аргументации. Но они
* Два наиболее распространенных жанра философской литературы в XIII— XV веках: quaestio являлось исследованием предмета в форме вопросов и ответов (как правило «да» или «нет»), summa — капитальным ученым трудом на заданную тему. — Примем, перев.
АНСЕЛЬМ КЕНТЕРБЕРИЙСКИЙ
709
представлены в качестве естественных этапов на пути достижения истины и отражают авторский опыт, вынесенный из философских споров с монастырской аудиторией в Беке.1 Ансельм заявляет, что ничто в его выводах не должно оставаться двусмысленным и что каждое возражение, пусть даже слабое, будет принято в расчет, так что даже самый недалекий ум сможет узреть очевидность этой аргументации.1 2
Однако сила его веры как фактора, обрамляющего его философию, разумеется, не менее значима для становления его мысли, чем его убежденность в ценности разумного доказательства. Ансельм был глубоко уверен в том, что никакое учение, относящееся к духовным нуждам человечества, не может по-настоящему что-то добавить к мудрости, содержащейся в Писании и в писаниях отцов Церкви: окончательное решение об истине и заблуждении находится здесь. Нельзя принять ничего явно противоречащего этой традиции, как бы оно ни казалось хорошо обоснованным нашему разуму. Это означает, что философские выводы могут только притязать на гипотетическую правильность. Всякое доказательство того, что они находятся в противоречии с авторитетной традицией, сделало бы их несостоятельными.3 Этот упор на подчиненности учения установленной традиции следует понимать не как побочный результат приспособленности Ансельма к условиям существования в церковном и монашеском мире, а лишь как адекватное выражение его склада ума. Его заявление о том, что все его философские утверждения в самих себе не несут никакой определенной истины, позволяет ему сочетать интеллектуальные амбиции мыслителя с бенедиктинским смирением.
Ансельм постарался определить место интеллектуальных попыток, в том числе и его собственной, за пределами авторитетной доктринальной традиции. Он допускает, что библейский текст
1 Monolog. Prol. Schmitt, I. S. 7 (PL 158. 142 f.): «Некоторые братья часто и настойчиво просили меня написать для них, как некий образец размышления, кое-что из того, что я высказывал им простыми словами в (наших) разговорах, о том, как следует размышлять о сущности Бога и других вещах, относящихся к размышлению такого рода» (здесь и далее пер. И. В. Купреевой).
2 Ibid. S. 19 (PL 158. 152а): «Ибо, раз уж это мое размышление привело меня к чему-то великому и усладительному, я не хочу, беседуя сам с собой, пропустить без внимания никакое, хотя бы простое и чуть ли не глупое возражение, которое мне встретится».
3 De cone, praesc. et praed. et grat. dei c. lib. arb. Ill 6. Schmitt, 11. S. 272 (PL 158. 528b—с): «И если сама власть без колебаний противится нашему чувству, пусть даже нам наша мысль и кажется неопровержимой, надо думать, что она не подкрепляется никакой истиной».
710
ЗАПАДНАЯ ХРИСТИАНСКАЯ МЫСЛЬ
включает в себя не артикулированные и не развитые должным образом идеи. Ограниченная продолжительность жизни отцов Церкви не разрешила им полностью раскрыть свои потенциальные возможности; более того, милость Божья всегда позволит последующим поколениям увидеть новые грани вечной истины. Все, что разум выводит из предпосылок, содержащихся в Писании, и что не противоречит его авторитету, должно быть истинным, ибо нельзя допустить, чтобы Библия поощряла ложь, позволяя ей оставаться необнаруженной.1
Ансельм ясно давал понять, что своим методом преподавания религиозной истины не намеревался обратить христиан, утративших веру и поэтому не признававших библейского авторитета. После крещения долг послушания предписывает людям принять истину, следовательно они не имеют права требовать лишь разумных доказательств веры, поскольку не признают авторитетов.1 2 Этим утверждением Ансельм стремится объяснить свое намерение написать трактат против Росцелина. На философский вызов нужно ответить. Опровержение задумывалось, как мы увидим позже, как демонстрация того, что логические теории «новой» школы и их применение к богословским проблемам привели к таким взглядам, которые препятствовали пониманию как Бога, так и мира. Литературная форма, которую Ансельм использовал в своих трактатах, создает впечатление, будто выводы о религиозной истине были адресованы неверующим, находящимся вне лона Церкви. Но его настоящей целью не было написание summa contra gentiles (суммы против язычников). У него не было прочной интеллектуальной связи с нехристианской мыслью, которую авторы тринадцатого века использовали как предпосылку к собственным исследованиям. Хотя два его письма демонстрируют теплый и живой интерес к вопросу обращения иудеев, нет никаких следов того, что он писал какие-либо трактаты, чтобы ответить на существенные возражения с той стороны. Замечание Аквината о том, что для этой цели подошло бы толкование отрывков из Ветхого Завета, должно было бы показаться Ансельму очевидным. Но, принимая во внимание и эти доводы, он не пишет апологетики.3
Однако применение отцами Церкви философии к объяснению веры, бывшее для Ансельма классическим образцом, своим ис¬
1 См.: Comm. op. ad Urbanum II. Schmitt, II. S. 39—41 — напечатано как предисловие к «Cur Deus homo» (PL 158. 259 f.).
2 Ep. 136. Schmitt, III. S. 280 f. (PL 158, ер. II 41. 1192d f.).
3 Ep. 380 f. Schmitt, V. S. 323 f. (PL 159; Ep. Ill 117. 153b f.; Ер. IV 71. 238b).
АНСЕЛЬМ КЕНТЕРБЕРИЙСКИЙ
711
ходным пунктом имело оправдание христианства как наиболее разумного толкования мира для людей, все еще привыкших выбирать между различными школами мысли безо всякого уважения к авторитету. Соответственно, монаху Бозо, собеседнику в «Почему Бог стал человеком», впоследствии — аббату в Беке, следовало отвести роль человека, вовсе не принадлежащего к христианству и верящего только в то, что подтверждается разумом. Предполагалось, что каждый читатель распознает вымысел в этом литературном проекте, который был задуман для того, чтобы сформировать основу метода Ансельма. Но в чем была истинная цель его философии веры? К кому на самом деле обращался Ансельм?
На протяжении всей работы Ансельм формулирует свою конечную цель. Ведя свою аудиторию в монастыре и своих читателей к осознаванию их веры в ясных и отчетливых понятиях, он намеревался дать им чистое чувство радости от созерцания собственной веры как очевидно истинной. Будучи молодым монахом, он стал свидетелем того, как диалектическое искусство обеспечило человеку, владевшему им, неуязвимую позицию. Обсуждение границ, внутри которых применение этого метода к богословским вопросам было бы допустимым, стало восхитительным опытом для молодого Ансельма.1 Прежде Беренгарий пользовался логическими понятиями для ограничения веры при помощи теорий о природе материи и ее изменений. Ансельм открыл, что можно было бы использовать диалектику гораздо более благотворно, будь она теснее связана с религиозным учением. Если бы главные принципы веры были приняты в качестве аксиом, из которых делаются выводы в соответствии с логическими правилами, религиозная философия стала бы умозрительной. Самодостаточность ее аргументации была бы сродни той силе, которую главы школ почерпнули из употребления понятий из корпуса сочинений Боэция для своих выступлений на диспутах, притом что ее исходная позиция в принципе исключала бы любое отклонение от церковной традиции.
Ансельма к такому эксперименту в философии подтолкнуло изучение Августиновой мысли. Тут он обнаружил решение проблемы, порождавшей в его мире жаркие споры. Определение Ансельмом своей программы — «верую, чтобы понимать» (credo ut intellegam) — было взято из переложения африканским отцом Церкви стиха из Исаии, который Августин любил цитировать
1 Monolog. Ch. 6. Schmitt, I. S. 19 (PL 158. 152a): «...раз уж это мое размышление привело меня к чему-то великому и усладительному».
712
ЗАПАДНАЯ ХРИСТИАНСКАЯ МЫСЛЬ
в защиту и как определение собственных взглядов на религию.1 Но в своей аргументации Ансельм никогда не обращается к святоотеческому источнику, который, являясь для него авторитетом в истине, вдохновил его на собственные выводы.
Это отклонение от обычной практики современной ему науки было вызвано его убеждением, что такое документальное подтверждение фальсифицировало бы идею, стоящую за его работой. Ансельм придерживался этой позиции против своего наиболее мощного противника. Когда около 1076 г. он впервые письменно оформил свое философское толкование веры, он послал этот трактат в качестве «примера размышления о разумности веры» (exemplum meditandi de ratione fidei) своему старому учителю Ланфранку, теперь архиепископу Кентерберийскому, но не смог сразу получить ответ. Объяснительное письмо, посланное им немногим позже, обнаружило намерение Ансельма: он просил Ланфранка либо одобрить, либо осудить все написанное и предложить свои исправления в том случае, если у того возникают возражения относительно отдельных мест, а также подыскать подходящее название. Архиепископ, очевидно, ответил на это письмо, но сам не сделал никаких определенных замечаний, исправлений или конкретных предложений по названию. Однако он, должно быть, показал, что счел опыт настоятеля очень смелым, и, конечно, подчеркнул, что наиболее фундаментальные вопросы обсуждались безо всякой поддержки со стороны текстов, признанных церковной традицией авторитетными. Ансельм привел свои ответы в письме, из которого мы можем восстановить критику архиепископа. Он почтительно напомнил Ланфранку, что суть его трактата взята из книг Августина «О Троице», и добавил, что обращает на это внимание не в целях собственной защиты, но для того, чтобы не провозглашать нечто взятое из книги другого человека своим личным достижением. Он заканчивает письмо благодарностями за предостерегающий совет архиепископа.1 2 Но, продолжая свою мысль, он показывает, что не считает себя обязанным изменять
1 Основной текст отрывка см.: De doctr. chr. II 12. 17 (PL 34. 43). См. раздел V, гл. 21, с. 426.
2 См. письма 72, 77 к Ланфранку (Schmitt, III. S. 193 f., 199 f.; PL 158, Ер. I 63, 68, 1134c f., 1138c f.). Названия «Monologion» и «Proslogion» — примеры того самого стиля давать сложные имена, составленные из греческих слов, который мы находим в работах Иоанна Солсберийского. В своем сообщении архиепископу Лионскому Гуго, касающемся вопроса о названиях, Ансельм уклоняется от ответа о том, по каким причинам были приняты эти названия (Ер. 109. Schmitt, III. S. 242; PL 158, ер. II 17. 1159a).
АНСЕЛЬМ КЕНТЕРБЕРИЙСКИЙ
713
стиль мышления и письма в соответствии с предложениями своего покровителя.
Он сочинил предисловие к «Монологиону», в котором на передний план выдвинул согласие своих идей с учением святых отцов и в особенности Августина и заявил о своем желании непременно добавить это вводное замечание в каждый экземпляр «Монологиона», для того чтобы защитить его от поспешных суждений.
В более позднем по времени, но все же раннем издании этого трактата он добавил несколько строк к первой главе, в которых особо оговаривал предварительный характер своих выводов, какими бы очевидными они ни показались.1 Эта оговорка, которую он повторял в своих поздних сочинениях, несомненно, представляет подлинную сторону его мысли и не означает отречения от своих слов. В самых старых рукописях «Монологиона» все еще видна связь с Ланфранком, выраженная в посвящении ему. Но Ансельм, по-видимому, никогда больше не предлагал ничего из написанного им в Беке критике Ланфранка в Кентербери.
Отношение философских и религиозных идей Ансельма к мысли Августина, возможно, наиболее ясно выражено в оправдании своего литературного творчества, которое он послал Урбану II. В заключительном абзаце в измененном виде приводится отрывок из святоотеческого сочинения «О христианском учении». В нем Августин пытается показать, что тот перевод, в котором он обычно цитирует стих 7:9 из Книги Исаии: «Nisi credideritis, non intelligetis»,* полученный им из африканского латинского текста Септуагинты, учит в принципе тому же самому, что и перевод Вульгаты, в котором на месте intelligetis стоит permanebitis («пребываете»), — и тот, и другой библейский текст предполагает различие между преходящим миром здесь и созерцанием вечной истины в грядущем мире. И для одного, и для другого автора вера представляется необходимым проводником к конечной цели человека на время его жизни на земле. Разум (intellectus) принадлежит вечному царству. Вера есть необходимое приготовление к вечной
1 Schmitt, I. S. 14: «Однако если при этом я скажу что-нибудь такое, чего не подтверждает никакой большой авторитет, я хочу, чтобы это (суждение) было воспринято так, что — хотя оно с необходимостью наследует из доводов, которые покажутся мне (надежными), — все-таки из-за этого о нем говорили не то, что оно вполне и всячески необходимо, а только — что оно покамест может казаться таким».
*«Если вы не верите, то потому, что вы не удостоверены» (лат.). — Примеч. перев.
714
ЗАПАДНАЯ ХРИСТИАНСКАЯ МЫСЛЬ
жизни человека на небе, где он в полной мере сможет испытать свои духовные возможности. В этом смысле для Августина два перевода этого глагола означают одно и то же. Ансельм воспроизвел святоотеческое различие в более ясных и определенных очертаниях. Отводя пониманию промежуточное место между простой верой и вечным созерцанием, он очевидно вносит его в рамки того, что человек может достигнуть за свое временное существование, в то время как его учитель лишь подразумевал, что людская вера и нравственное очищение могут предвещать достижение истины.1
В. Преобразование платонизма
Теперь мы попытаемся увидеть, что Ансельм имел в виду, когда говорил, что человеку отводится способность понимать существующее за мирскими пределами. Каким образом он применял диалектические методы к определению отношения Бога к миру, и насколько далеко простирается влияние связи философии и веры на работу разума? Только ли она устанавливает ограничение, выступая защитным барьером для сокровеннейших тайн веры от посягательств человеческого разума, или же принцип «верую, чтобы понимать» с самого начала формирует мысль Ансельма? Нам следует искать ответы на эти вопросы в основном в ранних трудах Ансельма «Монологионе» и «Прослогионе» и особенно — в их отношении друг к другу.
Ансельм начинает с замечания, что составленный человеком образ мира вокруг по большей части формируется его суждениями о добре и зле, прекрасном и безобразном. Характеристики бесконечно разнообразны по степени и виду. Хорош тот конь, который полезен человеку своей скоростью и отвагой. Грабитель также может обладать теми же качествами скорости и отваги, которые в контексте его образа жизни характеризуют его как злодея. Действия справедливых людей могут отличаться друг от друга по виду, и единственной связью между ними является справедливость. Мы пользуемся понятием величия в том значении, которое не имеет ничего общего с протяженностью в пространстве, при описании чего-то превосходного добродетелью.1 2 Лекало наших
1 Schmitt, II. S. 48 (PL 158. 261а—b): «Понимание, которое мы приобретаем в этой жизни, я думаю, есть промежуточное между верой и созерцанием».
2 Monolog. Ch. 2 (PL 158. 146 f.).
АНСЕЛЬМ КЕНТЕРБЕРИЙСКИЙ
715
ценностных суждений остается простым при всем многообразии предметов и событий, о которых они выносятся. От этих замечаний Ансельм переходит к метафизическим утверждениям. То, что мы признаем безграничное множество явлений благими, может быть понято лишь исходя из допущения, что они обладают этим общим качеством благодаря их участию в чем-то, что само по себе является благом. Различие в виде и степени, возможность обращения добра во зло возникают под воздействием природы переменчивого мира. Даже самый обычный опыт, получаемый нами из повседневности — из мира бытия, не может быть постигнут без допущения, что существуют творческие силы по ту сторону привычного нам окружения с его причинными связями.
Продолжая наблюдение за повседневной жизнью, мы в конце концов с неизбежностью приходим к выводу о том, что единичное существование вызывается действиями чего-то другого, что само по себе снова оказывается следствием этого первого. Чтобы разорвать этот абсурдный круг, нам необходимо отказаться от принятия множественности причин существования явлений вокруг нас.1
Более того, в самом существовании вещей имеется естественная иерархия. Кусок дерева стоит ниже коня, а конь — ниже человека. Если бы не было никакого разрыва между миром опыта и сферой, в которой он берет свое начало, такая стратификация от нижнего уровня к верхнему была бы бесконечной, поскольку в той действительности, в которой мы существуем, нельзя помыслить ничего безусловно превосходного. Этого следствия, которое каждый бы посчитал абсурдным, можно избежать, лишь выведя данную стратификацию из самого совершенства, недопускающего подчинения чему бы то ни было другому.1 2
Такая картина мира, в которой божественная область идей и сфера повседневной реальности человека строго разделены, но связаны платоническим понятием причастности, которое здесь заменяет причинность, остается основой философии Ансельма. Сам он указывал на Августина как на свой источник и образец. Такая зависимость очевидна. Учитель латинской церковной мысли рассчитывал заставить своих читателей видеть следы Бога-Отца
1 Ch. 3. Schmitt, I. S. 15 (PL 158. 146c f.): «А чтобы многие (вещи) существовали друг через друга, взаимно, — этого не допускает никакой разумный смысл, потому что неразумно представление, будто какая-то вещь существует через то, чему она дает бытие. Ведь даже и соотнесенные не таким образом существуют друг через друга».
2 Ch. 4. Schmitt, I. S. 17 (PL 158. 148c).
716
ЗАПАДНАЯ ХРИСТИАНСКАЯ МЫСЛЬ
Троицы в сотворенном мире — как в макрокосме, так и в микрокосме. Существование всего заимствуется из неизменной божественной сущности. То, что мы способны применить предикат «благо» к изменчивым явлениям, окружающим нас, возможно лишь благодаря их причастности благу самому по себе. Ансельм, открыв это толкование отношения между Богом и его творением в трудах Августина, в особенности в книгах «О Троице», убедился в том, что основные принципы веры могут быть поняты и описаны как логически последовательное учение. Ему казалось, что подобное изложение имело бы такую же убедительность, какой может похвастаться любое эффектное умозаключение в диалектических школах.
Этот великий проект заключался в программном высказывании «верую, чтобы понимать», вдохновленном различными местами из сочинений Августина.1 Но африканский епископ на закате античности использовал философские выводы главным образом как аналогии, чтобы тем или иным способом привести своих слушателей и читателей к правильному решению многочисленных вопросов и споров, которые возникали в его время. Поэтому он, по крайней мере в его зрелые годы, был менее заинтересован в построении строгой и окончательной аргументации. Для Ансельма круг проблем, стимулирующих его ум к аналитической деятельности, был гораздо уже, что позволило ему быть более сосредоточенным. Такое единство цели предопределяет характер и стиль его сочинений. Он не цитирует Августина явным образом в ходе своих умозаключений, впитав в себя мысль отца Церкви как такую философию, которая сделала возможным выражение истины веры на языке человеческого разума. В принципе, всегда остается возможность опровергнуть умозаключения Ансельма, показав, что они противоположны библейской и церковной традиции. В этом смысле, ссылайся Ансельм на авторитет Августина, тот свидетельствовал бы против него самого. Однако учения, перенятые из сочинений отца Церкви, должны устоять при помощи их собственной силы. В связи с этим мы должны иметь в виду, что убежденный взгляд Ансельма на свое учение как на призвание и божественный дар исключал для него любые претензии на личные заслуги в его литературной деятельности.
1 Например: Sermo 44. 4 (PL 38. 255): «Сказал мне человек: знаю, чтобы верить; я отвечаю: верую, чтобы знать». См.: Коугё A. L’idee de Dieu dans la philosophic d'Anselme d. C. Paris, 1923. Ch. VII. См. также раздел V, гл. 21, с. 419—428.
АНСЕЛЬМ КЕНТЕРБЕРИЙСКИЙ
717
Хотя Ансельм никогда не упоминал в своих сочинениях имени Августина, кроме этих вводных замечаний, он, разумеется, всегда держал его в уме. Современный читатель Ансельма, возможно, склонен к тому, чтобы заглянуть за плечо африканскому учителю христианской мысли и услышать в нормандской обители эхо платоновской академии.1 Конечно, нет никаких признаков того, что философ-бенедиктинец чувствовал побуждение возводить собственное учение к этому источнику. Он должен был знать о важности Платона из книг «О граде Божьем» и из библиотечных учебников. Мы видели, что космологические идеи «Тимея» привлекали интерес средневековых ученых со времен Каролингов и продолжали притягивать все больше и больше внимания через десятилетия после смерти Ансельма. Интерес к явлениям природы вовсе не отсутствовал в его сознании, но оставался подчиненным главной цели — пониманию идей, имевших прямую связь с религиозным учением. Его собственная приверженность платонизму всегда зависела от завершения Августином длительного процесса, в результате которого теория идей была применена к монотеистическому учению. Языческие и христианские неоплатоники особо выделяли духовную сторону философии, с самого начала непосредственно связанной с политическими и научными проблемами, а также с привычками общества в ведущем городе-государстве четвертого века до Рождества Христова.
Однако все эти очевидные факты не затмевают впечатление, что философский поиск Ансельмом доказательства религиозной истины ближе по духу сократическим диалогам, чем большая часть литературы, относимой нами к средневековому платонизму, — даже если мы включаем в наше сопоставление яркие рассуждения Шартрской школы. Именно благодаря той энергии, с которой Ансельм применяет свое диалектическое искусство к античным понятиям, той целеустремленности в попытке устранить любое возражение, которое могло бы воспрепятствовать умственному или духовному росту его ученика, нам на ум приходят философские споры в Афинах.
Ансельм пользовался формой диалога для некоторых своих сочинений и после «Монологиона» и «Прослогиона». Со времен Карла Великого произведения, написанные в этой литературной форме, воспринимались в средневековой школе как руководства к действию. Ученик задает короткий вопрос, а учитель, в соответ¬
1 О платонической структуре мысли Ансельма см.: Baumcker CL Witelo. Munster, 1908. S. 290—295.
718
ЗАПАДНАЯ ХРИСТИАНСКАЯ МЫСЛЬ
ствии с требованиями, отвечает развернуто. Ансельм развил эту форму, как до него Эриугена. Ученик становится младшим участником исследования: Бозо в книге «Почему Бог стал человеком» является самым ярким примером. Философская беседа показывает путь от теоретического сомнения к убежденности. Такая ситуация отличается от изображенной Платоном в сократических диалогах, но вера в образовательную силу мысли и у того, и у другого очень сильна и составляет, возможно, их наиболее важное сходство.
Г. Человеческая речь и богословские понятия
Ансельм показал, что мир вокруг человека заимствует свои ценности и самое свое существование из Бога и не может быть понят вне его постоянного присутствия. Библия вместе с философией отцов Церкви привели его к проблеме первопричины. Он оставляет без внимания теории о четырех стихиях или форме и материи. Они отвечают на вопросы менее радикальные, чем его собственные, допуская существование первоначальной материи и описывая восхождение от хаоса к космосу. Ансельм стремится понять, как возникла такая целостная дуалистическая структура, это сочетание вечного и преходящего. Он не может принять процесс эволюции, в котором видимый мир вырастает из более высокого бытия, поскольку такое допущение вовлекло бы вечную истину в череду изменений, приводящих к ее упадку и порче.1 Возникновение видимого мира ex nihilo кажется ему единственно допустимым предположением, и он особо подчеркивает в связи с этим, что ничто «ни в коем случае не должно пониматься как какой-то вид материи».1 2 Это критическое замечание, возможно,
1 Ch. 7. Schmitt, I. S. 20 f. (PL 158. 153c): «Я отнюдь не сомневаюсь, что вся эта громада мира со своими частями, оформленная так, как мы ее видим, состоит их земли, и воды, и воздуха, и огня, каковые четыре элемента можно как-то помыслить без форм, которые мы видим в оформленных вещах, так что их бесформенная и даже смешанная природа, кажется, есть материя всех тел, различных по их формам; в этом, повторяю, не сомневаюсь, но спрашиваю: откуда сама эта материя, о которой я (только что) сказал, материя мировой массы?... А если из материи высшей природы может быть нечто меньшее ее, (значит), высшее Благо может меняться и портиться, что невозможно».
2 Ch. 8; Schmitt, 1. S. 23 (PL 158. 156b—с): «Другое значение таково, что его можно высказать, но оно не может быть истинным в действительности: как если бы понимать высказывание „Нечто было создано из ничего41 в том смысле, что нечто было создано из самого „ничего44, то есть из того, чего вовсе нет; как если бы это было чем-то существующим, из которого может возникнуть нечто.
АНСЕЛЬМ КЕНТЕРБЕРИЙСКИЙ
719
направлено на выведение Августином зла из ничто как элемента, лежащего в основании мира.
И все же учение о том, что видимый мир возник из несуществования, верно лишь отчасти. Оно исключает роль создателя. В его Слове вселенная всегда обладала бытием до начала времени, каковое есть выражение божественной вечности. Христианская традиция о Логосе как творце мира подтолкнула Ансельма к тому, чтобы высказать здесь некоторые замечания о природе человеческого языка в качестве иллюстрации его мысли. Особый интерес к этому предмету Ансельм вынес из своих исследований диалектики. Он различает три способа, которыми мы опознаем вещи. Мы можем их опознать при помощи знаков, выраженных словами, которые мы слышим произнесенными или видим записанными; можем также воспроизвести эти слова в нашем уме и соотнести предмет с этим мыслимым понятием; или же можем опознать их безо всяких опосредующих знаков, размышляя о предмете самом по себе: например, либо конкретная форма человек, либо общее понятие животное разумное и смертное. На самом деле слова лишь в исключительных случаях тождественны с предметом, который они определяют. Это происходит, когда мы произносим гласный «а». Однако такое отождествление, независимое от различий языков, достигается, если мы мыслим предмет непосредственно безо всяких слов. Такой вид обозначения ближе всего к образу мира, каким он существует в уме создателя.* 1
Создание произведения искусства предлагает дополнительную аналогию, но в то же самое время имеет и характерное отличие. Художнику для его замысла необходим не только материал, но также и данные, полученные из наблюдения за существующей действительностью. Когда мы видим невероятное чудовище, изображенное в скульптуре или на картине, оно представляет собой странную смесь, каждую отдельную часть которой мы можем увидеть у различных существующих животных. Аналогии такому подражанию в творческой силе Бога, отражающей лишь его собственную сущность, не существует.
Для Ансельма доказательство того, что мир не может быть понят без Бога как его центра и создателя, включало тринитарную природу Божественности. Все нужные ему для этого идеи взяты у Августина. С другой стороны, Ансельм ясно понимал,
Поскольку это всегда ложно, то всякий раз, когда это утверждается, следует невозможное противоречие».
1 Ch. 10. Loc. cit. S. 23 (PL 158. 158b f.).
720
ЗАПАДНАЯ ХРИСТИАНСКАЯ МЫСЛЬ
что в этой проблеме он подошел к границе применения своего метода. Внутренние отношения между лицами Святой Троицы должны оставаться загадкой, которая всегда будет недосягаемой для человеческого разума. Такое ограничение не исключает рациональной аргументации в доказательстве существования чего-то, чья конечная природа должна оставаться непостижимой; однако оно порождает особого рода проблему. Предмет доказательства должен быть описан словами, в то время как непостижимое не может быть подчинено процессу отвлечения и обобщения, на котором основывается язык. Результат всякого исследования такого существования должен быть выражен словами, которые не способны отобразить действительность их предмета. Ансельм находит решение этой проблемы в повседневном опыте метафорической речи, сравнимой с отражением очертаний человека в зеркале. В таких случаях то, что мы говорим, и то, что мы видим, не является тождественным предмету, который существует у нас в уме. В обычной ситуации никаких сомнений в истинности нашего утверждения не возникает из-за такого косвенного словоупотребления. Ничто не мешает нам выражать божественную природу тем же метафорическим способом. Используемые здесь слова очень далеки от своего предмета, но они играют роль сравнений и не являются ложными.1
Мы увидим, что такого рода рассуждения уже приходили на ум Ансельму, когда он придавал своим размышлениям новую форму, чтобы сделать их более убедительными.
Д. Аргументы в пользу существования Бога
Мы располагаем сообщением самого Ансельма в предисловии к «Прослогиону», которое в основных чертах подтверждается написанной Эдмером биографией, о развитии его мысли после завершения «Монологиона».1 2 В этот раз верность бенедиктинцам, бывшая всю его жизнь важной побудительной силой к тем или иным его взглядам и действиям, не заставила его последовать наставлениям Ланфранка. Его не удалось сбить с пути поисков философского выражения истины веры, сделавшего бы ее очевидной человеческому разуму без всякой поддержки со стороны
1 Ch. 64, 65. Loc. cit. S. 75 ff. (PL 158. 210b f.).
2 De vita et conv. 1 19 / ed. Rule. P. 333 f. (PL 158. 63a f.); Southern R. W. Op. cit. P. 29 ff.
АНСЕЛЬМ КЕНТЕРБЕРИЙСКИЙ
721
авторитета откровения. Параллельно развивающиеся цепочки доказательств, предложенные им в своем первом трактате на эту тему, не вполне устраивали его. Он начал поиски аргумента, который сразу дал бы интеллектуальную уверенность и в существовании Бога, и в том, что все атрибуты, о которых учит нас вера, логически связаны с его существованием. Некоторое время усилия в этом направлении ни к чему не приводили, и Ансельм пытался освободиться от этой задачи, как от наваждения, выкачавшего из него всю силу. Неожиданно ему в голову пришла формула, в которой он увидел решение. Его озарение было основано на знании по памяти отрывков из Августина, которые, очевидно, пришли ему на ум неожиданно и в которых идея Бога описывалась как нечто, по сравнению с чем нельзя помыслить ничего лучше и совершеннее.1
Ансельм берет в качестве основания аксиому о том, что нельзя помыслить ничего более великого, чем Бог. Очевидно, что в этом контексте «величие» обладает метафорическим значением и не зависит от протяженности в пространстве, как он сам уже определил в «Монологионе». Безумец, обращающийся к себе со словами Бога нет, которые приводит псалмопевец,* смог бы услышать это определение и понять его буквальный смысл. Но он не заключил бы отсюда, что Бог действительно существует. В этом пункте разница между тем, что охватывается нашим разумом, и той же вещью, существующей в качестве реального предмета, обретает смысл. Художник, размышляющий об исполнении своей работы, но пока не завершивший ее, находится на сходной позиции с безумцем, для которого слова о Боге составляют понятное предложение, но не описывают действительности. Однако то, что мы представляем в уме, также может быть помыслено существующим как в уме, так и в действительности.
В этом случае оно обладало бы большим величием, чем если бы было лишь содержанием нашего ума. Следовательно, согласно первоначальному определению, Бог не может сводиться к суще¬
1 Например, De mor. eccl. II 1 (PL 32. 1345): «Я бы, впрочем, хотел, чтобы люди подходили к изучению этих вещей с настолько ясной проницательностью, чтобы они могли увидеть, что наивысшим добром является то, лучше или выше которого нет ничего. Я ведь понимаю, что они сразу увидели бы, что оно есть то, о чем говорят самым правильным образом, что оно превыше всего и изначально... Если ты правильно начнешь искать противоположность ему, то ничего не найдешь. Бытия не существует, если его нет». Основная аргументация Ансельма разворачивается в 2—4 главах «Прослогиона».
* Псал. 13:1. — Примеч. перев.
722
ЗАПАДНАЯ ХРИСТИАНСКАЯ МЫСЛЬ
ствованию понятия, не обладающего действительностью: его нельзя помыслить несуществующим. Но что мы ответим человеку, который говорит и думает, как библейский безумец?1 Здесь Ансельм возвращается к различию, очерченному им в «Монологионе», между мыслью о слове и мыслью о его предмете. У того человека, которого цитирует псалмопевец, слово Бог существует только в его голове, и поэтому ему кажется возможным сказать Бога не существует. То же самое доказательство существования Бога служит вместе с тем основанием для реального существования его качеств.
На современное суждение об этом аргументе, который обсуждался философами на протяжении столетий, прямо или косвенно повлияла критика Кантом того, что он называл «онтологическим доказательством существования Бога». Предикат существования не принадлежит засвидетельствованному нашим чувственным восприятием предмету, а заключен в его понятии. То есть утверждение, что нечто есть, ничем не дополняет этот предмет. То, что мы видим сто талеров лежащими на столе, никак не обогащает их как понятие в нашем сознании.1 2
Но действительно ли Ансельм упустил из виду то, вокруг чего образовалось основное ядро этой критики, а именно противоположность между логическим понятием и действительностью, к которой он применяется? В начале его аргументации есть отрывок, который, по-видимому, подразумевает, что он не осуществлял перехода от одного к другому, не осознавая очевидной разделительной черты между ними; впрочем, он, кажется, не обращает внимания на следствие этого для своего рассуждения.3
В качестве выхода из этого затруднения мы можем рассмотреть строго богословское толкование мысли Ансельма Карлом Бартом. В соответствии с его допущением, бенедиктинский мыслитель не намеревался установив метафизическую истину при помощи рационального аргумента, но желал лишь прояснить церковное учение. Тогда критика, подобная кантовской, утратила бы свою цель. Ансельм никак не мог не различать явным образом словесное понятие — с одной стороны, и реальность описываемого им
1 О нем в связи с тем же самым вопросом упоминает и Августин (De lib. arb. II 2. 5 (PL 32. 1242)).
2 См.: Kant /. Kritik der reinen VemunfL Berlin, 1904. Bd. III. S. 401 f. (b620— Ь631). Критика Канта направлена против возрождения этого аргумента Декартом и Лейбницем.
3 Proslog. Ch. 2. Schmitt, I. S. 101 (PL 158. 227d): «Ведь одно дело — быть вещи в уме; другое — подразумевать, что вещь существует».
АНСЕЛЬМ КЕНТЕРБЕРИЙСКИЙ
723
предмета — с другой. Подчиняясь авторитету церковной традиции, он принимал и понятийное определение Бога, и обязанность верить в его существование. Ансельм видел свою задачу в наведении моста между этими двумя крайностями в попытке понять, каким образом идеи священных текстов обладали реальностью по самой своей природе.1
Недавний анализ Шмиттом литературной формы «Прослоги- она», по-видимому, обеспечивает поддержку такому толкованию. Ансельм заключает свой аргумент в рамки молитвы Богу об озарении. Подзаголовок книги — «Вера в поисках понимания» (Fides quaerens intellectum) — кратко формулирует позицию автора, которая лежит в основании его размышлений. Он обращается к Богу с просьбой о том, чтобы тот уменьшил расстояние, на которое от него отстоит человек вследствие своего греха. Этот мотив повторяется, когда в ходе размышлений возникают трудности с пониманием божественных качеств и их взаимной непротиворечивости. Сам Бог должен рассеять тьму и возмущения ума, сокрушенного в попытке понять божественную гармонию и насладиться ее логической очевидностью.1 2
Понятно, что здесь Ансельм вновь берет за образец Августина, который в «Исповеди» придал философскому анализу своей жизни форму молитвенной книги, преподнеся ее как дар Богу. Такая принятая им литературная форма дала Ансельму возможность снова и снова напоминать читателям о религиозном характере своих размышлений.
Аргумент «Прослогиона» о существовании Бога для Ансельма означал определенный прогресс в утверждении его метода эффективного обучения религиозной истине посредством диалектического изложения. Усвоив основную структуру автобиографии Августина, он смог избежать впечатления, что приведенные философские рассуждения представляют собой личную заслугу автора. Но эта связь с Августином не объясняла характера аргумента Ансельма. В «Исповеди» излагаются важные эпизоды философского опыта отца Церкви, как, например, отвержение веры в астрологию или взаимодействие с неоплатонизмом, сыгравшие роль поворотных моментов в его жизни. Кроме того, дискуссия о сущности времени непосредственно соотносится с замыслом и структурой сочинения Августина в целом.
1 Barth К. Fides quaerens intellectum. Anselms Beweis der Existenz Gottes. Munchen, 1931. S. 16 ff; 36, 82 f.
2 Schmitt F. A. v. C. Proslogion. Stuttgart, 1962. Intr. S. 15—34.
724
ЗАПАДНАЯ ХРИСТИАНСКАЯ МЫСЛЬ
Идея о том, что все эти духовные открытия вдохновлены Богом, определяет художественный настрой «Исповеди», но не принижает философского характера перечисленных разделов.
То же самое может быть сказано и об аргументе, который составляет ядро «Прослогиона». Определение Бога как чего-то такого, по отношению к чему ничто большее не может быть по- мыслено, взято в качестве самоочевидной предпосылки, и из нее выводятся заключения с притязанием на разумную необходимость. Контраргумент современного Ансельму критика, воспринимавшегося им со всей серьезностью, как мы скоро увидим, касался исключительно этого раздела «Прослогиона», который, в отличие от богослова наших дней, он понимал как попытку постановки религиозной истины на разумное основание.
Более того, аргумент «Прослогиона» в пользу существования Бога построен совершенно отвлеченно от всего, что могло бы рассматриваться как аспект непостижимой сущности Божьей. Это означает, что он целиком удерживается в тех рамках, которыми Ансельм ранее в «Монологионе» определил область для возможности разумного доказательства в теологической сфере.1 Трудность, обнаруженная в этом аргументе и критиками-богосло- вами, и критиками-эмпириками, укоренена в самом ядре позиции Ансельма. Взяв за основу свой религиозный опыт и зная, что он определяется принятием церковной традиции, он требовал для него логической необходимости. Он стал философом, потому что с самого начала был убежден в том, что его толкование религиозного учения может располагать такой же степенью логической необходимости, какую требовали для своих выводов о вещах или событиях в окружающем человека мире главы диалектических школ. Оговорка Ансельма касалась лишь пробного — перед лицом церковной традиции — характера его размышлений и обязанности уважать самые сокровенные области религиозной тайны.
Он не задумывался о возможности того, что понятия, используемые в его аргументах, могут утратить свое значение, будучи примененными за пределами чувственного опыта. В его картине мира, исходя как из собственных личных оснований, так и из интеллектуального влияния Августина, не было места для признания материального мира независимым объектом философской мысли;
1 Monolog. Ch. 64. Schmitt, I. S. 75 (PL 158. 210b): «По-моему, должно быть достаточно для разведывающего непостижимую вещь, если он путем рассуждения придет к тому, что узнает, что она достовернейше существует, хотя и не сможет проникнуть умом в то, как это так».
АНСЕЛЬМ КЕНТЕРБЕРИЙСКИЙ
725
мир никогда не был для него конечным предметом исследования человеческого разума.
Это не означает, что Ансельм не проявлял никакого интереса к естественным явлениям, и, возможно, в связи с этим нам было бы полезно продемонстрировать его подход к ним. В диалоге «Об истине» он упоминает опыт над палкой, которая, находясь в воде, кажется сломанной, и обсуждает феномен, когда предмет, видимый сквозь достаточно плотное цветное стекло, теряет свой собственный цвет. Оптический обман, к которому сводятся оба этих случая, является, как подчеркивает Ансельм, не ошибкой чувств, которые действуют так, как они должны, но ошибкой нашей души, неверно судящей об обстоятельствах, изменивших образы до того, как они достигли глаза.1 Ансельм проявляет интерес к природе для того, чтобы пояснить и обосновать творение. Любой поиск причин, не направленный к этой цели, настаивает он, не стоил бы потраченного труда. Высшая справедливость и истина — вот конечная причина всего существования. Основная предпосылка его мысли состоит в том, что природа обладает лишь отраженной действительностью, полученной из ее божественного начала.
Такая позиция мешала Ансельму увидеть, что понятия античной логики, которыми он пользовался для доказательства религиозной истины, были отвлечены для «сохранения феноменов», то есть перевода чувственного опыта в постоянное знание. После того как тринадцатый век полностью усвоил философию Аристотеля, ситуация изменилась. Св. Фома в своей критике аргумента «Прослогиона» не считал предложенное Ансельмом определение Бога самоочевидным для неверующего и настаивал на том, что такое «божественное имя», значение которого схвачено разумом, не предлагает никакого подходящего основания для перенесения утверждения существования в вещественную реальность. За этим методологическим размышлением стоит новая идея природы как предмета рационального исследования.1 2 Философский импульс Ансельма, его поиск необходимых причин был сосредоточен на толковании веры. Мерилом, которым он в конечном счете проверял правильность своего аргумента, была его адекватность выражению собственной веры Ансельма. Однако его цель
1 De ver. Ch. 6. Schmitt, I. S. 184 f. (PL 158. 474a f.).
2 Sum. c. gent. I, 10 f.; Sum. theol. I, quaest. 2, art. 1. Историческую истину аргумента Ансельма с энтузиазмом отстаивает В. фон ден Штайнен в своем обширном исследовании философского спора XIII—XIX веков, см.: Steinen W. v. d. Vom heiligen Geist des Mittelalters. Breslau, 1926. S. 56—118.
726
ЗАПАДНАЯ ХРИСТИАНСКАЯ МЫСЛЬ
не умаляла для него рациональный характер его умозаключений. Он просто-напросто не принимал в расчет никакого критерия из сферы чувственного опыта, не составлявшей, с его точки зрения, независимой области человеческого познания.
Е. Защита от критики Гаунилона и Росцелина
Чтобы правильно понять позицию Ансельма, мы должны обратиться к комментариям, написанным им же в защиту своего учения и для ясного отмежевания от чуждых ему взглядов. В целом современная ему реакция на его сочинения не предвещала длительного влияния его мысли на философские дискуссии. Впрочем, он оказался вовлечен в два важных спора. Первый возник еще в бытность его аббатом, и предметом его послужила аргументация «Прослогиона»; второй развивался в годы переезда из Бека в Кентербери, когда Ансельм чувствовал необходимость прояснить свое отношение к интеллектуальному вызову христианской традиции, исходящему из применения диалектики Росцелином.
В защиту «Прослогиона» Ансельм составил книгу против монаха-бенедиктинца Гаунилона (ум. 1083) из великого аббатства Мармутье близ Тура, записавшего свои сомнения в аргументации философа как приложение к его сочинению. Их общий друг привез рукопись обратно в Нормандию; Ансельм снабдил ее своим ответом и потребовал, чтобы в будущем все списки непременно включали бы и критику Гаунилона, и его ответ на нее.1
Гаунилон отстаивал логику библейского безумца и пытался показать, что аргументация «Прослогиона» ни в коем случае не заставила бы его отказаться от своей позиции. Критик полностью признавал благочестивый порыв, которым было продиктовано сочинение Ансельма, но оставался при мнении о том, что у веры в Бога есть свое собственное прочное основание в верности лишь церковной традиции. У разума нет силы, чтобы состязаться в этой области. Поэтому дискуссия между двумя бенедиктинцами сосредоточилась на вопросе о том, способно ли понимание настолько адекватно ухватить идею Бога, чтобы представить его действительным в человеческой мысли. Для Гаунилона аргумент Ансельма против безумца из Псалтыря с необходимостью должен остаться последовательностью пустых слов, которые слушателю нужно заполнить своим представлением о чем-то совершенно
De vita et conv. I 19. P. 334 (PL 158. 68a); Southern R. W. Op. cit. P. 31.
АНСЕЛЬМ КЕНТЕРБЕРИЙСКИЙ
727
ему неизвестном. Здесь нет даже обращения к аналогии, потому что опыт не предлагает никакого подобного предмета. Гаунилон резюмирует свою точку зрения подражанием аргументу Ансельма, используя более конкретные понятия.
Он принимается за рассказ о самом прекрасном острове посреди океана, который сейчас находится за пределами области человеческого знания. В его существовании нельзя, однако, сомневаться, потому что он характеризуется совершенством, превосходящим все, что есть в мире. В противном случае мы совершенно свободно могли бы представить себе другую страну со всеми качествами, присвоенными этому острову, которая бы занимала более выгодную позицию с точки зрения обладания действительностью. Такое заключение противоречило бы изначальному допущению этого рассказа.1
В ответ Ансельм не изменил основоположения своего аргумента, но в остроумной форме предложил иную расстановку акцентов над невозможностью нашего мышления соединить идею Бога с несуществованием. Мы можем рассматривать что угодно другое как потенциально несуществующее, потому что мы знаем о таких местах или периодах времени, в которых нет или не было и следа ничего подобного. Тот же самый опыт возникает, когда мы различаем в предмете аспекты, существующие либо бок о бок, либо последовательно во времени.
В изолированном месте содержится лишь отрезок целого, тогда как все остальное теряется, либо же одно мгновение привносит полноту целого в действительность, опуская прошедшие или грядущие его стадии. В отличие от таких явлений, наивысшее величие Бога основывается на том, что мы встречаемся с его целостностью на каждом отрезке пространства и времени. Наш разум настраивается на правильное отношение к нему окружающим миром, подталкивающим нас к признанию иерархического порядка сущего посредством наблюдаемых различий в степени блага. Однако эта идея Бога остается полностью отличной от любых других явлений знания или воображения человека. Поэтому рассказ о затерянном острове — это просто волшебная сказка, которую нельзя применить к рассматриваемому аргументу. Ансельм готов пообещать награду всякому, кто сможет найти предмет наравне с Богом, к которому бы могла быть применена формула «Прослогиона».1 2
1 Quid ad hoc resp. quid, pro insip. Ch. 4, 6. Schmitt, I. S. 127—128 (PL 158. 244b ff.).
2 Ibid. Ch. 1, 3. Schmitt, I. S. 130—131 (PL 15. 253a ff.).
728
ЗАПАДНАЯ ХРИСТИАНСКАЯ МЫСЛЬ
Все же понять, что Бог существует, можно, несмотря на то что его сущность должна оставаться непостижимой для нашего ума; мы способны видеть дневной свет, хотя наши глаза не терпят прямого воздействия солнечных лучей. Ансельм поддерживает ценность своего довода, потому что он адекватно выражает его веру, или же, говоря современным языком (возможность, которую предоставил нам сам Ансельм), его религиозный опыт.1 Для него слова, посредством которых это опыт сформулирован, достигают действительных оснований его жизни. Поэтому он не чувствует противоречия между своей мыслью и фундаментальной истиной, из которой происходит всякая правильность в теории и действии. Ничто иное в человеческом опыте не приближается к этому уровню; поэтому никакие попытки сбить с этого пути не могут звучать убедительно. В отличие от Ансельма, современный ему критик считал, а философы тринадцатого века уже знали, что логические понятия, которыми оперировал Ансельм, берут свое начало из отвлеченных понятий, полученных из чувственного опыта.
Для Ансельма стоящий за его философским анализом порыв возник из соединения его веры с диалектическим способом доказательства, обоснование которого он уже в юности нашел в трудах Августина. Поэтому он чувствовал необходимость что-то противопоставить такому развитию диалектики, которое явно разрушало исходную предпосылку философского толкования веры. Росцелин (1050—1125) был светским магистром свободных искусств вначале в своем родном городе Компьене, позже — в Лоше в Бретани, где одним из его студентов стал Абеляр. В 1092 г. Суассонский собор под председательством Рено дю Беллье, архиепископа Реймса, осудил его философские размышления о характере Троицы и принудил его отказаться от этой части своего учения. Из серьезного увещевательного послания к нему Иво Шартрского мы видим, что Росцелин не чувствовал себя связанным этим осуждением, а вскоре после решения собора продолжил привлекать на свою сторону новых последователей.1 2 Несмотря на такое вызывающее отношение, он не остался без церковной поддержки, стал каноником Безансонского собора и сохранял связи с великой
1 «Ибо то, во что не веришь, не ощущаешь» (Ер. de incam. Ch. 1. Schmitt, И. S. 9 (PL 158.264b)).
2 Reiners J. Der Nominalismus in der Friihscholastik. Munster, 1910. S. 24—40; Yves de Chartres. Correspondance. I / ed. J. Leclercq. Paris, 1949; Ep. 7. P. 22—26 (PL 162. 17 f.).
АНСЕЛЬМ КЕНТЕРБЕРИЙСКИЙ
729
церковью св. Мартина в Туре, где поколением ранее обосновался Беренгарий. Нет сведений о том, был ли он осужден вторично.
Из сочинений Росцелина сохранилась лишь длинная инвектива против Абеляра; по своему стилю она близка к тем риторическим образцам защитительной речи, какие сочинялись в школах.1 В ней также содержится несколько страниц, защищающих учение автора о Троице и снабженных соответствующими цитатами из авторитетных святоотеческих писаний. Не сохранилось текстов, передающих его диалектическое учение, однако Абеляр цитирует его суждения с пристальным вниманием к деталям.
Критика Ансельма остается самым важным источником сведений как об интеллектуальной позиции Росцелина, так и о характере его учения; она представлена в «О воплощении Слова», которое на двадцать пять лет старше сохранившегося текста, вышедшего из-под пера самого Росцелина. Первая редакция этого трактата была подготовлена вчерне, когда автора, в то время по-прежнему аббата в Беке, предупредили о заявлении Росцелина о том, что и недавно скончавшийся Ланфранк, и он сам сущностно разделяют одно и то же учение о Троице. Эта информация попала к Ансельму прямо перед Суассонским собором. Когда годом позже Ансельм, только-только переехав в Англию, услышал о том, что Росцелин не изменил своего мнения, он попросил своих друзей в Беке прислать необходимые ему для этого спора материалы, чтобы снова приняться за задачу, которую он оставил незавершенной годом ранее.1 2
В своем памфлете против Абеляра Росцелин подчеркивает, что признает мудрость и благочестие Ансельма, подтверждает свое критическое отношение к аргументу Ансельма в пользу необходимости спасения, но не отстаивает положения собственного учения, которые Ансельм однажды взялся опровергать. Такая сдержанность указывает по крайней мере на то, что у него не было четких возражений по этому поводу.3 Атака Ансельма на Росцелина была нацелена на то, чтобы воспротивиться его стремлению к признанию тремя отдельными субстанциями три Лица, чьи взаимные отношения в рамках божественного единства утверждены церковным учением. Ему сообщили о том, что его противник использовал пример трех ангелов или трех душ в ка¬
1 Reiners J. Op. cit. S. 62—80 (PL 178. 357 if.).
2 Ep. de incam. Prior rec. Schmitt, I. S. 280—290. Ep. 129 (к монаху Иоанну); ер. 136 (к Фулько, епископу в Бовэ); ер. 147 (к Болдрику, настоятелю в Бее). Schmitt, III. S. 271 f., 279 f., 293 f. (PL 158, ep. II 35; II 41; II 51: 1181 f.; 1192df.; 1206b).
3 Reiners J. Op. cit. S. 66 (PL 178).
730
ЗАПАДНАЯ ХРИСТИАНСКАЯ МЫСЛЬ
честве аналогий для прояснения своего мнения об их отдельном существовании. Ансельм допускает возможность того, что эти аналогии были добавлены в качестве комментария человеком, который сообщил ему об учении Росцелина.1
Он возводит интеллектуальное происхождение ошибочного учения Росцелина к тому особому вниманию, которое тот всегда уделял полученным из чувственного опыта впечатлениям, служащим для него основанием понимания человеком окружающего его мира. Позиция Росцелина выражает неспособность управлять силой образов, которые чувства передают из внешнего мира в сознание человека. В его распоряжении нет такого логического понятия, которое бы позволило ему разнести цвет и предмет, которому он принадлежит, на два различных уровня. Это означает, что он не признает реальность различия между целым и частями, к которым язык обращается для описания целого. Замечание Росцелина о том, что мы можем определять отдельного человека как душу и тело, то есть по составляющим его частям, по- видимому, укрепляет мнение Ансельма о том, что его противник видит материальный мир как смесь разнородных элементов и не осознает существования какого бы то ни было организующего принципа.1 2 Ансельм делает вывод, что такая точка зрения не даст никакого понимания даже этого мира, который управляется законами пространства и времени, и иллюстрирует свое суждение примером Нила. Он слышал, что эта река предстает в трех разных видах — как источник, как поток и как озеро, но эти разные части вместе составляют одно естественное явление — бассейн Нила. Таким образом, опыт предоставляет нам явление, в котором одно существует в трех и три — в одном. Разные этапы, через которые проходит река, можно сравнить со сменяющимися периодами жизни. Ни та, ни другая никогда не бывают полными в данный момент времени или в данном пространстве до тех пор, пока не достигнут своего естественного конца. Более того, обнаруживается и определенное сходство с человеческой речью, которая никогда не воспринимается как целое, пока исходит из уст гово¬
1 «Но, возможно, не сам он сказал: так как существуют три ангела или три души, но тот, кто передал мне этот вопрос, это сравнение добавил от себя» (Ер. de incam. Ch. 4. Schmitt, II. S. 16 f.; PL 158. 270b).
2 «Как мы называем душу человека одной, поскольку одна часть есть тело, а другая — душа, так не называем многочисленным тело по причине различных его частей» (Ер. de incam. Ch. 1. Schmitt, II. S. 10; PL 158 265c; Rose. Ad Abael 11 Reiners J. Op. cit. S. 73; PL 178. 365d).
АНСЕЛЬМ КЕНТЕРБЕРИЙСКИЙ
731
рящего.1 И здесь вновь очевидно влияние Августина. Ансельм использовал философию времени, предложенную отцом Церкви, в качестве материала для своей аргументации; с ее помощью он продемонстрировал, что исходные посылки Росцелина исключают понимание окружающего человека мира, в котором господствуют пространство и время и который разделен на части. Этим предполагалось показать, насколько далеко должен был отстоять ум его противника от тайны Божества, находящегося по ту сторону категорий ежедневного опыта.
Смелая логическая теория Росцелина, завоевавшая ему славу первого номиналиста, отождествляет общие понятия, универсалии, с изустными словами. Его учение активно обсуждалось в школах вплоть до середины двенадцатого века.1 2 Ансельм находит его утверждения характерными для целой группы тех, кого он кратко называет «современными учителями диалектики». Они не понимают, как могут несколько человек считаться представителями вида и, с этой точки зрения, — единого сущего, человека. Ансельма интересует развитие диалектики в этом ключе, потому что логическая позиция Росцелина, состоящая в том, чтобы изолировать каждое отдельное явление, подпадающее под рассмотрение, препятствует, на его взгляд, всякой возможности подойти к богословской проблеме Троицы. Для него Росцелин является «еретиком, пользующимся диалектикой».3
Ученая традиция, заключенная в корпусе Боэция, отрывках, комментирующих Порфирия, и размышлениях, трактующих категории Аристотеля как языковые понятия, разумеется, была хорошо знакома Ансельму. В ранний период преподавания в Беке техническая сторона диалектики настолько занимала его ум, что он написал диалог о том, формируют ли и в какой степени профессиональные навыки человека его существо или же остаются привнесенным качеством. Аргументация в этом сочинении главным образом строилась вокруг структуры посылок и выводов в силлогизмах, используемых как для доказательства, так и для
1 Ch. 13. Schmitt, II. S. 31 f. (PL 158. 289c if.).
2 Иоанн Солсберийский в 1159 г. пишет: «Были и те, кто говорил, что сами слова суть роды и виды, но их мнение уже было освистано и быстро исчезло вместе со своими авторами» (Policrat. VII 12 / ed. Webb, II 142); имя Росцелина приводится Иоанном в связи с тем же и в Metalog. II 17 / ed. Webb. Р. 92.
3 «Наконец, ему нельзя помыслить что-то, что является каким-то образом человеком, кроме как индивида, никак нельзя помылить человека, кроме как человеческую личность» (Ер. de incam. Ch. 1. Schmitt, II. S. 10; PL 158. 235a).
732
ЗАПАДНАЯ ХРИСТИАНСКАЯ МЫСЛЬ
опровержения.1 В пору зрелости интерес Ансельма к формальной стороне мысли все более и более зависел от ее роли в философском толковании веры. Ансельм не касался ни положения Росцелина в школе, ни его отношения к Боэцию или Исидору. Он сосредоточился на тех качествах, которые для него выражали образ мысли Росцелина, исходный пункт его философии, исключающий всякую возможность возводить мысль на основание религиозной истины. Росцелин же и его союзники пользуются понятиями, на поверку оказывающимися негодными даже в качестве инструментов для понимания мира, ограниченного в пространстве и времени, и совершенно неадекватно выражающими веру их автора. Такое положение дел приводит их к оспариванию истины, как она преподносится отцами Церкви. Пререкаясь с орлом, который способен смотреть на солнце не отворачиваясь, о природе полуденного света, они уподоблялись совам и летучим мышам — животным, движущимся во тьме.
Ж. Досхоластическая форма мысли
Попытка Ансельма мыслить и преподавать содержание веры в рамках философской аргументации не основывалась на ясном различении между такими предметами исследования, для которых схоластика тринадцатого столетия полагала эту форму адекватной, и такими, для которых сущностное знание давалось исключительно откровением. Мы уже видели, говоря о методологических принципах Ансельма, что великий трактат «Почему Бог стал человеком», который затрагивал богословскую проблему необходимости воплощения, особенно богат на наблюдения, касающиеся подобных общих вопросов. Ансельм не изменил своего подхода, хотя и вел дискуссию о строго догматическом предмете. Ему казалось, что ограничений, которые он изначально наложил на свою мысль в угоду церковным предписаниям, будет достаточно. Собеседнику Бозо, как мы видели, отводилась роль неверующего, который требовал последовательных разумных доводов. С другой стороны, он также от случая к случаю озвучивает некоторые сомнения в выводах Ансельма, основанные на выдержках из Библии, которые учитель должен своим толкованием развеять. Аргументация должна быть построена так, чтобы быть защищенной и со стороны не-
1 Quom. gramm. sit subst. et qual. Chs. 1—4. Schmitt, I. S. 145—148 (PL 158. 561 ff.).
АНСЕЛЬМ КЕНТЕРБЕРИЙСКИЙ
733
верил, и со стороны догмы. После достижения вывода в основной линии дискуссии, Бозо объявляет, почему он, истово верующий, требовал от этого аргумента способности убедить и неверующего: он хотел видеть, как истинность его веры становится очевидной благодаря доказательству.1
Здесь мы вновь возвращаемся к мотиву, который с самого начала двигал мыслью Ансельма. Эта тенденция выступает еще более рельефно, когда Ансельм заставляет Бозо отказаться от принятой в качестве довода традиционной типологической взаимосвязи Евы и райского дерева — с одной стороны, и Марии и креста — с другой. Такие соответствия могли бы иметь ценность картинок, иллюстрирующих веру для того, кто ей уже обладает. Но для тех, кто отделен от авторитета Церкви и в то же время не стоит на твердой почве истины, утвержденной разумом, они имеют не большую силу, чем картинки, нарисованные на облаках.1 2
Однако, как понимал Ансельм, поиск оснований, которые придали бы воплощению и распятию характер логической необходимости, требовал ясного различения, для того чтобы избежать, как метафизического следствия, подведения Божества под власть внешней движущей силы. Ансельм попытался решить эту пробле¬
1 «Однако я прошу, чтобы если неверным кажется, будто нечто в христианской вере является неподобающим или невозможным, то открыли бы мне, по какой разумной причине этому подобает или возможно произойти, — не для того, чтобы укрепить меня в вере, а дабы уже укрепившемуся подарить [еще и] радость понимания истины» (Cur Deus horn. II 15. Schmitt, II. S. 116; PL 158. 416b) (здесь и далее пер. Е. Начинкина).
2 Cur Deus hom. I 3 f. Schmitt, II. S. 51 (PL 158. 364c f.). Бозо отказывается пользоваться этими параллелями как рациональным доводом. Ch. 4. S. 51 f.: «Все это прекрасно и должно восприниматься как некая картина. Но если у нее нет никакого прочного основания, она, кажется, не объяснит убедительно неверным. .. Ведь если кто хочет написать картину, то выбирает нечто прочное, на что он и накладывает краски, чтобы живопись была долговечной... А поэтому когда мы как бы некие картины показываем неверным подобия самой вещи, о которых ты сейчас говорил, то они, думая, что то, во что мы веруем, — некая живопись, а не истинная вещь, считают, что мы рисуем по облаку. Значит, сначала нужно показать разумное и прочное основание истины, то есть [логическую] необходимость». Принято считать, что convenietia в этом отрывке приобретает особое значение, которое отличается от привычного для Ансельма словоупотребления, в соответствии с его содержанием; conveniens и necessanum обычно отличаются лишь по степени, иногда conveniens даже используется при описании Ансельмом выводов из его аргумента: «Поэтому если то, больше чего нельзя себе представить, можно представить себе как несуществующее, тогда то, больше чего нельзя представить себе, не есть то, больше чего нельзя себе представить; противоречие» (Proslog. Ch. 3. Schmitt, I. S. 102; PL 158. 228b) (пер. И. В. Купреевой).
734
ЗАПАДНАЯ ХРИСТИАНСКАЯ МЫСЛЬ
му при помощи разделения внешней причинной необходимости, как, например, той, которую мы можем проследить за видимыми движениями небесной сферы, и вытекающей необходимости, описывающей событие как данное из некоторой ситуации следствие. Только последний тип, в пример которому приводится спонтанная человеческая речь, не предполагает участия никаких внешних сил и может быть использован в качестве аналогии для понимания божественного действия.1
В картине мира, очерченной в «Монологионе», первоочередной проблемой была проблема зла. Для Ансельма она была тесно связана с вопросом о том, как соединить свободную волю человека с необходимостью греха после его падения, который обсуждался аббатом из Бека в нескольких диалогах в восьмидесятые годы одиннадцатого века. В этом смысле основная проблема работы «Почему Бог стал человеком» сформулирована в трактате «Об истине», в котором мы читаем следующие размышления: иногда мы видим поразительные различия внутри одного и того же события, когда смотрим на него с разных точек зрения, как если бы было возможно сказать об одной и той же вещи, что она должна и быть, и не быть. Когда мы рассматриваем страсти Христовы, очевидно, что разбойники были злыми, а его страдание — несправедливым, а потому оно не должно было случиться. Однако более обстоятельный взгляд приведет к заключению о необходимости этого события в истории спасения.1 2
Хронология и даже в большей мере драматические обстоятельства жизни Ансельма-архиепископа могут склонить нас к тому, чтобы рассматривать его как человека, представившего в своей мысли направление церковной реформы, связанной с именем Григория VII. Но он не воспринимал себя первооткрывателем или, как можно было бы назвать его в духе того времени, восстановителем принципов, которые привели к изменению положения Церкви в христианском обществе. Он радел за традиционные понятия о послушании папству, за честь и права Кентербери, на которые он, будучи ответственным лицом, никому не позволял посягать. То, что он не проявлял никакого интереса к исследованию и примирению противоборствующих взглядов в правовой и доктринальной традиции Церкви, говорит о том же. Именно зарождающаяся схоластика явила собой тот образ мысли, который был необходим для управления делами церковных учреждений
1 Cur Deus hom. II 17. Schmitt, II. S. 125 (PL 158. 424a f.).
2 De ver. 8. Schmitt, I. S. 186 f. (PL 158. 476a).
АНСЕЛЬМ КЕНТЕРБЕРИЙСКИЙ
735
после Григория VII. Более интенсивное изучение правового корпуса трудов Боэция начиная с одиннадцатого века — и как причина, и как следствие — было связано с этим движением и в то же время выступало предпосылкой творчества Ансельма. Однако то, как он усвоил античное наследие в своем творчестве, свело к нулю возможность любых его сношений с господствующим тогда течением мысли.
Наверное, мы можем сказать, что его деятельность в своей основе была связана с развитием бенедиктинского благочестия в сторону более отчетливого выражения идей, стоящих за орденским образом жизни. Для выполнения своей задачи он взял на вооружение философию Августина. Поколением позже цистерцианцам, предпринявшим аналогичную попытку, тоже не удалось отказаться от использования языка понятий. Но вместе с тем подъем философских школ сделал в ту пору интеллектуальную гордость весьма зримой, и этого оказалось достаточно для Бернарда Клервоского и круга его сторонников, чтобы испытывать вражду к жизни и мысли философствующих богословов. Такое положение дел разрушило гармонию между верой и пониманием, которую испытывал Ансельм и которая определила уникальную, пусть и обособленную, позицию, характеризующую все его творчество в истории средневековой философии.
Раздел VIII
Р. Вальцер
РАННЯЯ ИСЛАМСКАЯ ФИЛОСОФИЯ
Посвящается сэру Гамильтону Гиббу к его семидесятилетию
Глава 39 ВВЕДЕНИЕ
А. Подходы к изучению исламской философии
Сегодня кажется преждевременным приступать к истории исламской философии в Средние века.1 Мы не знаем слишком многих основополагающих фактов; постоянно обнаруживаются новые тексты; не все из известных рукописей доступны в критических изданиях или же вообще опубликованы. Существует очень немного комментариев и едва ли достаточное количество монографий, посвященных основным ее темам. Очень малое количество текстов — кроме тех, которые были переведены на средневековую латынь столетия назад, — представлено в переводах. Верно, что было бы полезно проанализировать доступную сегодня информацию, перечислить главные, несомненно установленные факты и показать, с чего должна начаться будущая работа в этом направлении и каковы ее первостепенные задачи.1 2 Однако это едва ли отвечает целям настоящей публикации. Более подходящим представляется обсудить сущность того, что мусульмане называли «философией» (falsafa), и объяснить, насколько, с од¬
1 См.: MunkS. Melanges de philosophic juive et arabe. Paris, 1859; Boer IJ. de. The History of Philosophy in Islam / tr. E. R. Jones. London, 1903; Gilson E. History of Christian Philosophy in the Middle Ages. London, 1955. P. 181—220; Menas- ce J. de. Arabische Philosophic. Bibliographische Einfuhrungen in das Studium der Philosophic. Bern, 1948; GuttmannJ. Philosophies of Judaism. London, 1964. P. 47 if.; Walzer R. Greek into Arabic. Oxford, 1962. P. 1 if.; Arabic Philosophy // Encyclopedia Britannica. London, 1963; Watt W. M. Islamic Philosophy and Theology (Islamic Surveys, I). Edinburgh, 1964; Corbin H. Histoire de la philosophic islamique, I. Paris, 1964; Encyclopedia of Islam. Leiden, 1913—1939; Brockelmann C. Geschichte der arabischen Literatur. Leiden, 1943—1949; Sarton G. Introduction to the History of Science. 4 vols. Washington, 1927—1948.
2 Cm.: Walzer R. Correspondance dOrient, V. Bruxelles, 1962. P. 347 ff.
740
РАННЯЯ ИСЛАМСКАЯ ФИЛОСОФИЯ
ной стороны, она зависит от греческой мысли, преподававшейся в философских школах в последние столетия существования Римской империи, и как, с другой стороны, она соответствует нуждам и отвечает на вопросы нового и иного мира — того мира, население которого говорит на другом, арабском, языке и который не исповедует ни религию классической Греции, ни пришедшее ей на смену христианство, но ислам — авраамическую религию нового типа.1 Поэтому я ограничусь минимумом обязательных общих фактов, сосредоточившись главным образом на том, чтобы дать более полную картину одного из наиболее выдающихся ранних мусульманских философов — аль-Фараби. Я попытаюсь показать, как и почему философия в исламском мире никогда не достигла того положения, которое в античности она занимала более тысячи лет.
Уместно будет начать с исследования тех подходов, которые современные историки прилагают к этому корпусу философии. Изучение средневековой мусульманской философии, конечно, больше не является частью учебных планов в западных университетах, как было (в латинских переводах) в период с двенадцатого по восемнадцатый век. Платон, Аристотель и Плотин уже более не ассоциируются с аль-Фараби (ум. 950), Авиценной (он же Ибн Сина, 980—1037) и Аверроэсом (он же Ибн Рушд, 1126—1198) в сознании тех, кто их изучает, как и не осознается, в отличие от прежних времен, что сами мусульманские мыслители стоят на плечах своих греческих предшественников и в самом прямом смысле слова продолжают их работу. Это время определенно прошло. Но тем не менее мы не должны оставлять этот предмет вниманию лишь любителей древностей. Напротив, есть достаточно веских причин, почему исследователей должно привлекать изучение средневековой мусульманской философии и почему неспециалистов тоже следует познакомить с развитием этого учения.
Во-первых, очевидно, что ознакомиться с сутью истории средневековой исламской философии (falsafa) необходимо тем, кто изучает ислам. Хотя философия ни в коем случае не является определяющей чертой этой очень широко раскинувшейся цивилизации, она, несомненно, представляет важную ее составляющую, и тот, кто изучает ислам и не уделяет ей должного внимания, безусловно пропускает нечто весьма существенное. В последнее время принято считать греческую философию скорее частью греческой цивилизации — как некий вид сознательного самовыражения на¬
1 См., например: Gibb Н. A. R. Mohammedanism. Oxford, 1953.
ВВЕДЕНИЕ
741
циональной жизни в целом, — нежели рассматривать ее обособленно и лишь по отношению к абсолютной истине. Но поступать так в случае ислама невозможно или, по крайней мере, невозможно таким же точно образом, поскольку философия занимает в исламском мире иное положение. Она была привита исламу извне, а не произросла естественным путем. Мы все еще очень далеки от адекватного понимания ее особого места в исламской цивилизации. В этом нам поможет лишь терпеливое толкование доступных нам текстов и сравнение их с другими проявлениями исламской жизни — богословием, правом, литературой и так далее; никакой упрощающий социологический метод не облегчит нашей задачи. В конце концов мы, возможно, преуспеем в достижении лучшего понимания разницы между исламским и западным мирами, глядя на них строго с точки зрения философии.
Во-вторых, другим вполне правомерным подходом является изучение средневековой исламской философии исключительно как части наследия классической Греции. В общем и целом этот подход основан на впечатляющем количестве хороших переводов греческих текстов по философии, а также всевозможным наукам, математике, медицине. Никогда прежде переводческая деятельность не предпринималась на таком уровне, сама по себе она является значительным достижением. Сами греки, например, сделали очень мало, чтобы познакомить соотечественников с трудами, написанными на иностранном наречии: Септуагинта, еврейский перевод Ветхого Завета на греческий язык, не был известен большинству образованных греков до триумфа христианства. Также вполне возможно отыскать утраченные в оригинале греческие тексты в арабском переложении; такие попытки уже небезуспешно предпринималась, и в этом направлении еще можно уверенно ожидать значительных результатов. Утраченные произведения можно восстановить из текстов арабских философских трудов при помощи тщательного анализа. Сходным образом установление полноты и подлинности дошедших до нас греческих текстов (и даже просто лексикографическое понимание отдельных греческих слов) происходит из сравнения греческих текстов с их арабскими переводами.1 Более того, некое новое восприятие всех достижений греческой мысли может, наконец, последовать из изучения трудов мусульманских наследников греческой философии.
В-третьих, вообще изучение истории западной философской терминологии, которым неохотно занимаются в настоящее время,
1 См.: Walzer R. Greek into Arabic. P. 29—174, и ниже, с. 745—746.
742
РАННЯЯ ИСЛАМСКАЯ ФИЛОСОФИЯ
также извлечет несомненную пользу из анализа арабских философских терминов, в особенности в тех случаях, когда классические греческие и латинские термины и их арабские эквиваленты берутся вместе как с новыми арабскими терминами, так и с теми, которые использовались в многочисленных средневековых латинских переводах с арабского.1 Достижения в этой многообещающей сфере исследования на сегодняшний день очень невелики, и одной из причин этого является повсеместно распространенное пренебрежение поздней греческой философией в современных гуманитарных исследованиях.
Кроме того, в-четвертых, очевидно, что непосредственное знание арабских оригиналов аль-Фараби, Авиценны, Аверроэса и других авторов, переведенных в Средние века на латынь, имеет значение как для более глубокого понимания средневековой и постсредневековой западной философии, так и для исторической оценки достижений схоластов и их прямых последователей.1 2 И вновь вызывает удивление, как мало внимания уделяется этой сравнительно простой задаче. Западные исследователи, воспитанные в классической традиции, стесняются заниматься восточными языками. Те, кто изучает средневековую еврейскую философию (которая целиком зависит от мусульманской falasifa и существует как на арабском, так и на иврите), оказались гораздо более подготовленными к тому, чтобы познакомиться с языком мусульманских мыслителей.3
В-пятых, исламскую философию можно также рассматривать в качестве одного из театров военных действий в ^прекращающемся споре между философской истиной, претендующей на то, чтобы основываться исключительно на человеческом разуме (что
1 Терминами, введенными арабами, являются, например: mahiyya — quid- ditas — сущность, qabliyya — prioritas — предшествование. См.: d’Alverny Μ. Τ Aniyya — anitas // M61anges offerts a Etienne Gilson. Paris, 1959. P. 59 if.
2 Steinschneider M. Die europaichen Obersetzungen aus dem Arabischen bis Mine des 17. Jahrhunderts. Graz, 1960; Renan E. Averroes et TAverroisme. Paris, 1861; Gibb H. A. R. The influence of Islamic culture in medieval Europe // Bulletin of the John Rylands Library. 1955. XXXVIII. P. 82 ff.; d’Alverny Μ. T Avendauth // Homenaje a Millas-Valliscrosa, I. Barcelona, 1954. P. 19 ff.; Notes sur les traductions m0di0vales des oeuvres philosophiques d’Avicenna // Archives d’histoire doctrinale et litteraire du Moyen Age. 1952. P. 337 ff.; 1961. P. 281 ff.; 1962. P. 217 ff.; 1963. P. 221 ff.; Avicenne et les m0decins de Venise // Studi in onore di Bruno Nardi. Firenze, 1955. P. 177 ff.
3 Steinschneider M. Die hebraischen Obersetzungen des Mittelalters und die Juden als Dolmetscher. Berlin, 1893; Maimonides. The Guide of the Perplexed / tr. S. Pines; notes L. Strauss. Chicago, 1963.
ВВЕДЕНИЕ
743
было открыто древними греками), и еврейским понятием религиозного откровения, в которое верили как в сверхъестественную силу и которое с одинаковой убежденностью отстаивали иудеи, христиане и мусульмане. Со времен первого серьезного столкновения этих взглядов в поздней античности, — критика иудеев и христиан Галеном и массированная атака Порфирия на христиан были первыми вехами этой борьбы,1 — спор между ними продолжался непрерывно. Вклад в него арабов-мусульман интересен и своеобразен и радикально отличается от того, каким образом смотрели на проблему греческие святоотеческие писатели, поскольку последние зависели от догматических решений своих соборов, в то время как никакого сопоставимого авторитета внутри религиозной организации ислама никогда не существовало.1 2 В этом споре главными участниками со стороны мусульман являются аль-Газали (ум. 1111), предпринявший решительное и очень умелое нападение на основные положения философии в работе «Опровержение философов»,3 и Аверроэс, который изящно и истово защитил ее в своем «Опровержении опровержения».4 Эта дискуссия велась с предельной честностью и последовательностью, а ее уровень в исламском мире во все времена действительно оставался впечатляюще высоким.
В-шестых, еще более соблазнительной может показаться попытка рассмотреть эти различные стороны исламской философии с всеохватывающей, более общей точки зрения, так как исламская философия является также особенно интересным и поучительным явлением в контексте традиции западной цивилизации в целом. Поскольку речь идет о философии вообще, исламская философия заполняет хронологическую лакуну в истории многих фундаментальных идей, зародившихся в классической Греции и с успехом переживших ее гибель, принимая эти идеи в себя после того, как они были оторваны от своей естественной почвы. Более того, поскольку в абсолютном большинстве случаев доступны как греческие, так и соответствующие арабские свидетельства, исламская философия позволяет более детально сопоставить ее со своими предшественниками, чем это возможно, скажем, в случае
1 См.: Walzer R. Galen on Jews and Christians. Oxford, 1949; Jaeger W. Early Christianity and Greek Paideia. Cambridge, 1961; Chadwick H. Origen Contra Celsum. Cambridge, 1953.
2 Более того, неоплатоническую греческую философию в полной мере использовали для поддержания умирающей языческой религии.
3 ΑΙ-GhazaIL Tahafut Al-Falasifa / tr. S. A. Kamali. Lahore, 1958.
4 Bergh S. v. d. Averroes’ Tahafut al-Tahafut. London, 1954.
744
РАННЯЯ ИСЛАМСКАЯ ФИЛОСОФИЯ
с фрагментами досократиков и очень скудными осколками вавилонской и египетской цивилизаций древнего Востока.1 Мы можем проследить передачу греческой традиции внутри арабского мира практически, что называется, шаг за шагом и наблюдать за ее постепенной адаптацией к новым обстоятельствам и проблемам совершенно иного мира: мы можем убедиться, а не просто догадываться, в каком новом для нее качестве ею пользовались, отвечая на те вопросы, за которые она никогда не думала браться. Кроме того, такое исследование может помочь в понимании исторической преемственности между разными цивилизациями вообще, независимо от его ценности для историков именно европейских идей: оно, таким образом, может внести вклад в рассмотрение одной из наиболее животрепещущих проблем настоящего времени. Я имею в виду проблему того, как в мире, постоянно и все стремительнее меняющемся, вообще может быть сохранена преемственность.
Б. Исламская и греческая философия: аль-Кинди и ар-Рази
На следующих страницах под исламской философией понимается направление в мусульманской мысли, которое продолжает особый тип греческой философии, созданный поздними неоплатониками: смесь аристотелевских и платоновских взглядов, как их понимали философы в последние столетия существования Римской империи. Как и ее греческий первоисточник, она не сводится к какой-то определенной ветви знания, но касается каждого из аспектов мира и человеческой жизни. Ее кульминация и предельная обоснованность обнаруживается в теистической философии — фундированном человеческим разумом естественном богословии, зачатки которого можно возвести к досокра- тикам и зрелая форма которого становилась все более и более утонченной со времен Платона и Аристотеля.1 2 Завораживающее зрелище представляет собой то, как эти мусульманские филосо¬
1 См., например: Guthrie W. К. С. A History of Greek Philosophy. Vol. 1. Cambridge, 1962. P. 32 if.
2 См., например: Jaeger W. Theology of the Early Greek Philosophers. Oxford, 1947. Второй том так никогда и не был написан. Он должен был касаться «периода от Сократа и Платона до того времени, когда под влиянием этой традиции греческого философского богословия иудео-христианская религия превратилась в богословскую систему в греческом духе, чтобы заставить эллинистический мир признать себя» (Р. V).
ВВЕДЕНИЕ
745
фы, верившие в абсолютную истинность греческой философии, пытались отвести этой иноземной традиции значительное место в своей собственной цивилизации, самостоятельно ставшей политической и культурной величиной благодаря безусловному принятию авторитета божественного Корана, переданного пророком Мухаммедом. Их замысел необходимо отчетливо отличать от цели мусульманских апологетов, так называемых мутакаллимов, которые принимали истину ислама за свою исходную точку и которых мы можем описать как диалектических или спекулятивных богословов. Сами философы, в особенности аль-Фараби и подобные ему, особо подчеркивают это различие и указывают на недостатки движения мутакаллимов.1 Мне кажется, что неверно понимать это спекулятивное богословие — калам — как часть исторического спора об исламской философии, считая его чем-то вроде философии религии. Скорее, оно принадлежит всеохватной истории мусульманской мысли вообще, — что включает в себя и «философию», — наряду с развитием религии, традиции, Святого Закона, мистицизма и прочего. Мне также представляется заблуждением видеть в мусульманской философии прелюдию к теософии людей типа Сухраварди (1155—1191) — перса, современника Аверроэса. Смешивать философию и теософию, на мой взгляд, все равно что почитать Ямвлиха и Гермеса Трисмегиста величайшими философами античности.
У мусульманских философов было в распоряжении очень богатое наследие переводов тех греческих текстов, которые все еще изучались в школах поздней античности. Вообще, многие из греческих учебных программ долгое время сохранялись в египетских и сирийских городах после того, как мусульмане, расширяя свои границы, завоевали их в седьмом веке, и даже нашли себе место в Багдаде — новой столице Аббасидов. Около 800 г. арабские переводчики принимаются за работу, занявшую примерно два столетия. Специалистов в этой сфере было множество, и следует различать разные центры и школы. Переводы частично выполнялись с греческих оригиналов, частично — с промежуточных сирийских списков; их качество постоянно улучшалось, поскольку совершенствовались переводческие техники и был установлен определенный стандарт. Многие из них были чрезвычайно хороши, другим недоставало понимания и стиля, но в целом можно честно сказать, что они были адекватны и полностью
1 См.: Gardet L., Anawati Μ. М Introduction a la thdologie musulmane. Paris, 1948. P. 102 ff.
746
РАННЯЯ ИСЛАМСКАЯ ФИЛОСОФИЯ
соответствовали поставленной цели. Наиболее прославленными из переводчиков были несторианец и сириец по происхождению Хунайн ибн Исхак и его ученики.1 Можно усомниться в том, могла ли вообще возникнуть исламская философия, если бы эти переводы не были выполнены философами и другими общественными деятелями, которые чувствовали их необходимость и действовали соответствующим образом. По крайней мере, она пошла бы по совершенно иному пути.
Текстами, которые таким образом стали лучше всего известны арабским читателям, были лекционные конспекты Аристотеля (за исключением «Политики») с впечатляющим количеством комментариев, созданных в период поздней античности.1 2 «Тимей», «Государство» и «Законы» Платона — и, возможно, некоторые другие его диалоги — также были доступны, и их действительно изучали.3 Порфирий (232—после 300)4 и Прокл (410—485)5 были для арабского читателя большим, чем просто имена, и он знал Иоанна Филопона (VI век н. э.) лучше, чем мы знаем его сегодня. Они познакомились со многими второстепенными неоплатоническими трактатами, неизвестными нам. В Багдаде девятого века читали большее количество философских сочинений Галена, чем в последующие времена где бы то ни было в западном мире.6 Мы упоминаем этот краткий список не в качестве исчерпывающего перечня всех философских текстов, доступных на арабском языке благодаря стараниям переводчиков, но просто в качестве необходимого предисловия к нашему изучению аль-Фараби.7
Творчеству аль-Фараби, однако, предшествует не только существование философской литературы в арабских переводах, но также движение философской мысли, начавшееся примерно за два поколения до него. Двое его выдающихся представителя, а именно араб Якуб ибн Исхак аль-Кинди (ум. после 870) и перс Мухаммад ибн Закария ар-Рази (ум. 923 или 932), заслуживают, по-видимому, некоторого, хотя бы беглого внимания.
1 Meyerhof М. New light on Hunain ibn Ishaq’ // Isis. 1926. VIII. P. 685 if.; Berg- strasser G. Hunain ibn Ishaq, liber die syrischen und arabischen Galeniibersetzungen. Leipzig, 1925.
2 Cm.: AristOtalls // Encyclopedia of Islam. 2nd edn.
3 Aflatun // Ibid.
4 Furfbriyus // Ibid.
5 Buruklus // Ibid.
6 DjalTnus // Ibid.
7 Steinschneider M. Die arabischen (Jbersetzungen. Leipzig, 1893; см. выше, c. 741; Rosenthal F. Das Fortleben der Antike in Islam. Zurich; Stuttgart, 1965.
ВВЕДЕНИЕ
747
Аль-Кинди жил в первой половине девятого века и господствовал на философской сцене на протяжении почти ста лет. Во многом благодаря ему философию утвердили в качестве новой дисциплины исламского образования. Сравнительно недавнее открытие большой рукописи его сочинений дало нам по крайней мере некоторое представление о причинах такого влияния. По- видимому, он был убежден в том, что откровение и человеческий разум в конце концов приходят к одним и тем же заключениям, хотя они и следуют разными путями; он готов был подчинить философию Писанию и не утверждал абсолютное превосходство философии, как это делал аль-Фараби. Единственный из великих мусульманских философов, он отстаивает идею о том, что творение мира из ничего — положение, которое казалось непроходимой глупостью обыденному греческому взгляду, — можно научно доказать; в этом отношении он демонстрирует влияние великого александрийского аристотелика Иоанна Филопона. Иначе говоря, он следует традиционному аристотелевскому анализу действительности, соединенному с неоплатоническими положениями в области метафизики и достаточно радикальным негативным богословием. Его методу изложения и структурирования аргументов все еще не достает утонченности, которую мы наблюдаем в сочинениях аль-Фараби, Авиценны и Аверроэса.1
Ap-Рази1 2 более известен как выдающийся, но несмотря на это совершенно оторванный от жизни лекарь, который гордится своими суждениями и оригинальными наблюдениями. Как философ он был не менее своеобразен. Он не следовал той линии, которую наметил аль-Кинди и продолжили аль-Фараби, Авиценна и Аверроэс, заявляя, что он платоник. Ap-Рази отстаивал идею о том, что мир был образован Творцом из бесформенной материи и в установленном порядке периодически разрушается — хо¬
1 См. критическое издание Абу Риды 24 работ разного размера в двух томах (Cairo, 1950—1953). Арабский текст, итальянский перевод и комментарии на две работы см: Guidi М, WalzerR. Studi su Al-Kindi, I. Roma, 1940; Ritter H., Walzer R. Studi su Al-Kindi, II. Roma, 1938; Nagy A. Beitrage zur Geschichte der Philosophic des Mittelalters. Munster, 1897; Walzer R. Greek into Arabic. P. 175 ff.
2 Cm.: Al-RazI // Encyclopedia of Islam; Opera Philosophica, I / ed. R. Kraus. Cairo, 1939 (первое издание некоторых трактатов); Pines S. Beitrage zur islamischen Atomenlehre. Berlin, 1936. S. 34 ff.; Razi critique de Galien //Actes du T Congres International d’Histoire des Sciences. Jdrusalem, 1953. P. 480 ff.; Memoires de la Societd des Etudes Juives, I. Paris, 1955. P. 55 ff.; английский перевод его «автобиографии» см.: Arberry A. J. Rhazes on the Philosophic Life //Asiatic Review. 1949. XLV. P. 703 ff. (cp.: Kraus R. Raziana, I // Orientalia. 1935. IV. S. 300 ff.). Перевод другого трактата см.: Arberry A. J. The Spiritual Physick of Rhazes. London, 1950.
748
РАННЯЯ ИСЛАМСКАЯ ФИЛОСОФИЯ
тя аль-Фараби и его последователи утверждали, что мир вечен. Существует пять вечных принципов: Творец, душа мира, материя, абсолютное время и абсолютное пространство; материя состоит из атомов. Религия откровения была для него сродни предрассудку. Он презирал повсеместно почитаемых пророков: согласно ему, Моисей, Иисус и Мухаммед, основатели трех широко распространенных религий, ничего не принесли в мир, кроме страданий и войны. Они противоречат друг другу и самим себе, да и попросту являются обманщиками. Философия — вот единственный истинный путь к спасению, и путь этот доступен каждому. Сохранилось немногое из освежающе живых и оригинальных трудов ар-Рази; они не находили поддержки у правоверных мусульман, на них с неодобрением смотрели философы-неоплатоники и аристотелики и мусульманские спекулятивные богословы.
Глава 40
АЛЬ-ФАРАБИ И ЕГО ПОСЛЕДОВАТЕЛИ
А. Жизнь и сочинения: политическая философия
Мы почти ничего не знаем о жизни аль-Фараби. Он предпочел остаться в истории одним лишь своим творчеством. Он не написал «апологию своей жизни» (apologia pro vita sua), как в античности это сделал Платон, а среди мусульман1 — ар-Рази и после него аль-Газали,1 2 описавший свое обращение к мистицизму. Он также не сочинил автобиографии для ближайших учеников, как это сделал Авиценна,3 и никто из его близких друзей не записал ее существенных деталей, как сделал Порфирий в случае со своим учителем Плотином. Вот наиболее заметные факты, которыми мы располагаем: аль-Фараби провел большую часть своей жизни в столице Аббасидского халифата, в Багдаде, куда он пришел из своего родного города в тюркском районе Трансоксании;* в поздние годы он жил при дворе второстепенного шиитского правителя в Алеппо. Предполагается, что он умер в преклонном возрасте в 950 г. н. э.4
Многие сочинения аль-Фараби сохранились и до недавнего времени изучались на Востоке. Он написал множество философских пропедевтик, наподобие поздних греческих трактатов для начинающих (τοΐς είσαγομένοις). Поскольку он обращался не
1 См. выше, с. 747, прим 2.
2 Его сочинение «Предохранение от ошибок» в английском переводе У. Монтгомери см.: The Faith and Practice of Al-Ghazzall. London, 1953.
3 См. перевод А. Дж. Арберри в «Avicenna on Theology» (London, 1951. P. 10 ff.).
4 Cm.: Al-FarabI // Encyclopedia of Islam.
* В отечественной традиции также известна под названиями Мавераннахр (то есть «Заречье») и Фараруд — собственно историческая область в Центральной Азии. — Примеч. перев.
750
РАННЯЯ ИСЛАМСКАЯ ФИЛОСОФИЯ
к изысканной публике, которая впитывала греческую философию столетиями, популярность этих трактатов превзошла его ожидания.1 Он также написал множество трудов по специальным вопросам, например о Едином и о Разуме,1 2 о снах и о разнообразных политических союзах,3 — такие работы, по-видимому, считались подготовительными для более обширных исследований. Помимо того, он сочинил комментарии на курс лекций Аристотеля, в которых он следовал позднегреческому способу толкования Стагирита «без пробелов» — об этом способе он узнал от переводчиков. Один из таких комментариев — на трактат «Об истолковании» — недавно выдержал первое научное издание:4 Аверроэс, чьи комментарии на Аристотеля (написанные на мусульманском испанском языке в двенадцатом веке) стали настолько важными для многих поколений поздних западных схоластов, просто следовал в этом примеру аль-Фараби; Авиценна же, не создав множества комментариев такого рода, предпочитал подходить к различным темам греческой мысли более систематически и писать всеохватывающие философские энциклопедии. Ясно, что разбор самой этой стороны философской деятельности аль-Фараби не представляет первостепенной важности; для исследования преемственности греческих философских учений его деятельность интересна в целом. Она показывает уровень его знакомства с эллинской мыслью и достаточную глубину понимания — особенно если сравнивать с его современниками в западном латинском мире. Но исламская философия — больше, чем просто передача греческой традиции. Как и все великие исламские мыслители, аль-Фараби стремился быть чем-то большим, чем преподавателем мысли древних. Эта (тоже, правда, необходимая) сторона его работы рассматривалась в качестве предварительного введения к чему-то большему, как некий род деятельности, который не считался самодостаточным и конечным. Аль-Фараби попытался показать, как греческая философия, которую он с гордостью представлял в мусульманском мире, должна была соотноситься с его собственной традицией — со
1 Об этих трактатах см.: RescherN. Al-Farabl’s Short Commentary on Aristotle’s Prior Analytics. Pittsburgh, 1963. P. 646, η. 1; см. рецензию А. Сабра в «Journal of the American Oriental Society». 1965. N 85.
2 См. также: Gilson Ё. Archives d’Histoire doctrinale et litteraire du moyen age. 1929. IV. P. 113 ff.
3 Aphorisms of the Statesman (fusul al-madanl) / ed. D. M. Dunlop. Cambridge, 1961; Compendium Legum Platonis / ed. F. Gabrieli // Plato Arabus, III. London, 1952.
4 Kutsch W, Marrow H. Al-FarabT’s Commentary on Aristotle’s ΓΊερίέρμηνείας. Beyrouth, 1960.
АЛЬ-ФАРАБИ И ЕГО ПОСЛЕДОВАТЕЛИ
751
специфическими мусульманскими науками, такими как изучение Священного Закона или диалектическое богословие, калам. Он не верил, что разум ограничивается лишь кругом теоретических проблем, и был убежден в том, что истинный разум, примененный к практическим задачам, должен выразить себя в нравственных требованиях, которые вытекали бы из теоретического рассуждения: что подлинная политика должна пребывать в согласии с метафизической истиной. В результате так случилось, что он принялся (хотя и не участвуя самостоятельно в практической политике) за программу политической реформы исламского мира, который в его время находился в опасном состоянии. Эта реформа должна была быть обусловлена и определена философией: платоновское требование царя-философа необходимо было применить к обстоятельствам, характерным для ислама десятого века, а вовсе не для маленького города-государства наподобие Афин. Идеал, как в позднюю античность, должно приспособить к более крупным политическим единицам, таким как Римская империя или обширный Исламский халифат, к государству, которое охватило бы весь населенный мир — οικουμένη.1 Но эти философские идеи не могли стать для мусульман приемлемыми до тех пор, пока не было бы вместе с этим показано, что предложенные ими ответы на главные вопросы о Боге, мире, человеке и обществе, обсуждавшиеся вне узкого кружка философов — то есть мусульманами, не обладавшими никаким предшествующим знанием греческой философской мысли и остававшимися неосведомленными об истине, сообщенной этими иноземными мыслителями, — лучше всех прочих.
Аль-Фараби настаивал на том, что у философии есть политическая задача, и был убежден, что истинная природа философии требует от мыслителя слияния ее с политикой. Эти его качества представляются уникальными в истории исламской философии настолько же, насколько призыв Платона был уникален в греческом мире. Ни у аль-Кинди, ни у Авиценны, ни у ар-Рази мы не найдем и следа подобного интереса. Конечно, у аль-Фараби, говоря его словами, не вызывает сомнения, что «если в настоящий момент вовсе никакая философия не сообщается с правительством, государство спустя некоторое время неизбежно должно погибнуть».
1 Walzer R. Aspects of Islamic political thought: al-Farabl and Ibn Khaldun 11 Oriens. XVI. 1963. P. 46 ff.
752
РАННЯЯ ИСЛАМСКАЯ ФИЛОСОФИЯ
Б. Философия и религия
Этой теме аль-Фараби посвятил несколько своих работ,1 и для нашего обсуждения мы можем детально рассмотреть «Трактат о взглядах жителей добродетельного города (άρίστη πολιτεία)».1 2 Я предполагаю исследовать его содержание и показать, по мере продвижения в нашем обзоре, какие направления греческой мысли аль-Фараби решил развивать или преобразовывать (задача, которую не всегда можно довести до конца, поскольку его непосредственные предшественники неизвестны), одновременно размышляя о том, преуспел ли он в том способе, каким соединял свои выглядящие весьма абстрактными утверждения с конкретными неэллинистическими и исламскими вопросами.
В одной из глав ближе к концу книги дается ключ к правильному пониманию как самой этой книги, так и многого в мысли аль- Фараби вообще. Аль-Фараби говорит: «Все эти вещи познаются одним из двух следующих способов: либо они запечатлеваются в их душах в том виде, в каком они существуют в действительности, либо же они запечатлеваются в душах по аналогии или подражанию, что получается в тех случаях, когда в этих душах возникают такие образы вещей, которые подражают самим вещам». Важно отметить, что это могут быть образы, выраженные словом, или представлением, или чем-то постижимым любого рода, а не только художественные образы.
Так, в добродетельном городе их познают мудрецы посредством доказательств и интуиции; те, кто следует за мудрецами, веря и доверяя им, познают эти вещи такими, как их видят мудрецы; остальные познают их посредством подражательных представлений, так как их умы от природы или по привычке лишены способности понимать
1 Я обращаюсь (а) к его «Книге об определении наук», доступной на арабском и средневековой латыни (см. выше с. 742, прим. 2); (б) к работе в трех томах: (1) «Об обретении счастья» (On Attaining Felicity / tr. M. Mahdi //Alfarabi’s Philosophy of Plato and Aristotle. New York, 1962. P. 13 ff.); (2) «О философии Платона» (On the Philosophy of Plato / tr., ed. F. Rosenthal, R. Walzer // Plato Arabus, II. P. 53 if.); (3) «О философии Аристотеля» (On the Philosophy of Aristotle / tr. M. Mahdi // Op. cit. P. 71 ff.); (в) «О политическом управлении» (On Political Government / tr. R. Gemer, M. Mahdi // Medieval Political Philosophy. New York, 1963. P. 39 ff). Немецкий перевод Ф. Дитерици (Leiden, 1904).
2 Немецкий перевод (Leiden, 1900) и французский перевод (Cairo, 1949) доступны и оба основаны на неудовлетворительном издании арабского текста. Мои примечания относятся к французскому переводу, а замечания в скобках — к изданию арабского текста Ф. Дитерици.
АЛЬ-ФАРАБИ И ЕГО ПОСЛЕДОВАТЕЛИ
753
эти вещи так, как они существуют в действительности. Как те, так и другие вещи становятся объектами знания, однако те знания, которые имеются у мудрецов, безусловно, суть наилучшие знания. Среди тех, кто познает вещи посредством подражательных представлений, одни познают их с помощью представлений, близких к самому объекту, другие — с помощью представлений, очень далеких от объекта.
Я полагаю, не может быть никакого сомнения в том, что аль- Фараби таким достаточно отвлеченным способом указывает на вполне определенные религиозные представления и образы, с которыми были знакомы его современники-мусульмане. Он продолжает:
У каждого народа и у жителей каждого города эти вещи воспроизводятся посредством представлений, наиболее им известных. Наиболее же известные представления у каждого народа могут различаться либо в большинстве своем, либо частично, так что для одного народа они могут воспроизводить вещи иными, чем для другого. Вот почему у различных добродетельных городов и добродетельных народов могут быть различные религии, хотя все они верят в одно и то же счастье и стремятся к одним и тем же целям.
Очевидно, что аль-Фараби различал философскую истину, единую для всего человечества, но доступную лишь философским умам, и религиозные образы, выражающие ту же самую истину: эти образы, однако, разнятся от народа к народу и не имеют универсальной значимости, хотя и могут признаваться широким кругом людей. Как и все великие греческие философы вплоть до Порфирия, аль-Фараби нисколько не сомневается в превосходстве философии. Он предпочел, в отличие от аль-Кинди (и позже аль- Газали), ни подчинять ее истине откровения, которую он как таковую не считал возможным познать, ни — в отличие от Авиценны, самого влиятельного исламского философа, — отождествлять религию с философией. С другой стороны, ему не пришло на ум последовать и за малочисленными мусульманскими маргиналами, такими как ар-Рази, принявшимися осуждать религию как суеверие.
Таким образом, рассматривая занимаемое философией положение, аль-Фараби следует прошедшей испытание временем греческой традиции: он полностью погружается в нее и адаптирует к современной ему ситуации, которую ни один из его греческих предшественников не мог предвидеть. Восприятие традиционной греческой религии и мифов как приближения к истине посредством образов было знакомо греческим философам
754
РАННЯЯ ИСЛАМСКАЯ ФИЛОСОФИЯ
со времен Платона. Этот подход распространялся и на восприятие иноземных, негреческих религий. Когда около первого века н. э. привычное равновесие греческой жизни было нарушено наплывом восточных религий, таких как египетское почитание Исиды, и затем, когда она столкнулась с проникновением иудаизма и христианства в высшие сферы общества, — такое мировоззрение оказалось подходящим ответом на столь неожиданный вызов. «Но как солнце, луна, небо, земля и море являются общими для всех и только называются у разных людей по-разному, — говорит Плутарх около 100 г. н. э., — так для единого, все созидающего Разума, и для единого, всем распоряжающегося Промысла, и для благотворных, во всем распространенных сил у разных народов в соответствии с их обычаями существуют разные почести и названия. И небезопасно пользуются священными символами, одни — смутными, другие — более ясными, направляя умозрение к божественному».1 Плутарх очень хорошо понимает опасность того, чтобы человека вели к истине лишь при помощи религиозных образов: это может кончиться либо суеверием, либо агностицизмом и атеизмом. Поэтому необходима философская надстройка над религией — естественная теология. Сродни подходу Плутарха и почти на столетие позже прозвучавший аргумент Цельса против иудеев и христиан.1 2 Не может быть сомнения в том, что аль-Фараби сочувствовал такого рода идеям. Представляется, на самом деле, что он нашел свой путь к философии — которая еще не получила признания в исламском мире в его время — через настойчивую и последовательную критику различных уровней символического представления, а также сознательный отказ от религиозного фундаментализма, скептицизма и атеизма. Эти идеи оставались достаточно популярными в последние столетия античности и отсылали к неоплатоническому образу мыслей. Очевидно, что аль-Фараби имел в виду то же самое, что и Плутарх, когда он почти идентично разводил философию и религиозные учения. К тому времени, однако, декорации сменились. Исчезло язычество Греции и Рима, и не осталось следов дохристианских религий на Ближнем Востоке. Их место заняли ислам, иудаизм и христианство, зороастризм и манихейство, индуизм и буддизм — религии, которые были более или менее знакомы образованным мусульманам в десятом веке нашей эры. И аль-Фараби — это не греческий
1 De Is. et Os. 67, 377 f. (пер. Η. H. Трухиной).
2 Orig. Contra Celsum I 24 (P. 74, 4 ff. Kotschau); cm.: Walzer R. Galen on Jews and Christians. P. 44 ff.
АЛЬ-ФАРАБИ И ЕГО ПОСЛЕДОВАТЕЛИ
755
философ, по-прежнему пытающийся вписать неизвестные религии в установленные рамки греческой философии; он — мусульманин, впервые предпринимающий попытку придать философии положение в исламе, сравнимое с положением, занимаемым ею в славные, но определенно минувшие дни античной цивилизации.1 Такой подход, в котором заключается, осмелюсь утверждать, истинная оригинальность аль-Фараби, обнаруживает себя на протяжении всего обсуждаемого нами труда.
В. Мир, человек и общество
«Трактат о взглядах жителей добродетельного города» по пунктам разбирает основные распространенные в античной философии темы. Как и в греческих философских трудах позднего периода, в нем содержатся взгляды различного происхождения, которые перемешаны друг с другом и составляют относительно гармоничный комплекс. Объединяя перипатетические и неоплатонические положения, он представляет мысль, нехарактерную для поздней античности. Более того, он не относится ни к одной из известных нам школ — впрочем, мы многого не знаем об этом периоде. Аристотелизм аль-Фараби догматичен; он соответствует закрытым системам, которые ученые-перипатетики времен Империи (Александр Афродисийский и подобные ему) выстроили на аристотелевских основаниях.1 2 Неоплатонические черты, в частности закон эманации, преобладали в исследовании первопричины и надлунного мира и в описании человеческого совершенства, но ни одну из более изощренных и иногда невразумительно сложных идей Ямвлиха и Прокла, а также их сторонников аль-Фараби не принял. Несмотря на то что большая часть физического подлунного мира описывается в соответствии с ортодоксальными перипатетическими взглядами, в обсуждении организованного сообщества, государства и качеств правителя аль-Фараби опирается на позднюю греческую традицию интерпретации «Государства» и «Законов», известную нам исключительно из его сочинений. Несомненно, у аль-Фараби были какие-то греческие предшественники, схожим образом объединявшие эти разнородные направления мысли: по крайней мере, такая догадка представляется правдоподобной.
1 См.: Plato Arabus, II. Р. IX.
2 О значимости перипатетической системы Александра Афродисийского см. раздел I, гл. 6 Б, с. 173—180.
756
РАННЯЯ ИСЛАМСКАЯ ФИЛОСОФИЯ
Двойная цель книги заключалась в том, чтобы показать, что человеческое общество вообще должно быть организовано в соответствии с иерархическим устроением вселенной, увиденным философом в теоретическом озарении, и в том, что это общее правило необходимо применить, в частности, к исламскому обществу. Отсюда неудивительно, что такой двусторонний интерес находит свое выражение в структуре работы; это проявляется, например, в том, что определенные темы обсуждаются очень пространно, а другие только упоминаются или умышленно опускаются. Аль-Фараби сам разбил свою книгу на шесть разделов (или 2+1+6 + 5 + 3+ 2 глав) различного объема. Первый раздел рассматривает исключительно метафизические вопросы. Первопричина единственна и уникальна; она представляет собой ум, который беспрестанно мыслит самое себя и через это наслаждается собой. Постоянное истечение ее сущности делает ее в то же время вечной причиной вечного существования вселенной и всего, что в ней. Во втором разделе, довольно коротком, описывается вечный высший надлунный мир. В нем девять сфер. Отдельный от всего, трансцендентный «интеллект» (νους) соотносится со всеми этими сферами, а в каждой из них заключено еще по одному интеллекту; каждая сфера является, в свою очередь, результатом самоосмысления соответствующего «отдельного» интеллекта. У «отдельного интеллекта», занимающего самую нижнюю ступень, нет дополняющей его материальной сферы, но он служит посредником между вечным миром и человеческим разумом. В этом проявляется поздняя греческая метаморфоза «активного интеллекта» перипатетиков, — выражение νους ποιητικός появляется уже после Аристотеля, — и развивается она из толкования этого достаточно двусмысленного понятия Александром Афродисийским. В третьем разделе аль-Фараби касается преходящего подлунного мира, где все возникает, становится и проходит. Как и Аристотель и поздние перипатетики, он показывает, насколько подлунный мир зависим от высшего мира, которому он обязан своим совершенством и своим устройством в соответствии с ниспосланной свыше справедливостью.
Четвертый раздел посвящен человеку. Как и предыдущий, он основан на весьма разумном позднем греческом соединении нескольких дисциплин, разделенных в оригинальном корпусе сочинений Аристотеля: биологических трактатов, различных лекционных курсов по психологии и «Никомаховой этики». Вначале приводится анализ души, который в главных чертах следует сочинению «О душе» Александра Афродисийского; различаются
АЛЬ-ФАРАБИ И ЕГО ПОСЛЕДОВАТЕЛИ
757
питательная способность, чувственное восприятие, представление (φαντασία) и разум. Акцентировано внимание на утвержденном и неизменном порядке занимаемых этими четырьмя способностями души положений — высшее отведено правящему разуму. Хотя поддержание этого порядка зависит от свободной воли человека, иерархия внутри тела обеспечивается природой: все органы и конечности, в конце концов, управляются сердцем, а не мозгом. Все способности души близко связаны со своими телесными эквивалентами, управляющие ими процессы располагаются в сердце, за исключением лишь интуитивного разума (которому не нужно материальное основание). Полное счастье человека в первую очередь является результатом наиболее совершенной способности — ума, но счастье существует и на нижних ступенях, в случае если человек обретает истину, прислушиваясь к словам философов или следуя за подходящими образами. Все счастливцы награждаются бессмертием и блаженством, после того как их души освободятся от тела. Определяется «взаимодействие» исключительных душ, то есть умов совершенных философов, с Абсолютом в обличии активного интеллекта, причем недвусмысленно показано, что они остаются ниже уровня этого трансцендентного существа. Много места занимает попытка разумного объяснения дивинации (предсказания будущего) и, по всей видимости, сверхъестественного знания, которое касается области трансцендентного наряду с отдельными событиями в будущем и в настоящем. Она воспроизводит аристотелевскую эллинистическую теорию гадания и божественного вдохновения (μαντική и ενθουσιασμός), немного измененную неоплатонической мыслью. Такого рода пророчества определенно стоят ниже разума, но могут и прийти ему на помощь. Получается, что пророки — это люди, обладающие особой возбуждаемостью и необычным воображением, редким совершенством способности представления.1 Человек, который развил до предела присущие своему виду качества и которого, как будет сказано в пятом разделе, именно по этой причине следует сделать правителем совершенного государства, будет одновременно и философом, и пророком. Кто бы ни обладал одним только даром пророчества, не будучи в то же время состоявшимся философом, его нельзя назвать совершенным и нельзя считать достойным управления совершенным государством.
В пятом разделе человек уже рассматривается не сам по себе, но как общественное существо. Главной темой становится орга¬
зм. также: Walzer R. Greek into Arabic. P. 206 ff.
758
РАННЯЯ ИСЛАМСКАЯ ФИЛОСОФИЯ
низованное общество — в форме города-государства, империи и всемирного государства, охватывающего весь населенный мир. На протяжении всего трактата обсуждается философ-правитель, но, как и у самого Платона, не остаются без внимания и «граждане» (аль-Фараби говорит «народ»: в классическом арабском языке нет слова «гражданин», идею которого мы не можем обнаружить в исламском мире). То же «геометрическое равенство», та же справедливость, существование которой природа демонстрирует во вселенной и человеческом теле, могут быть также установлены и в обществе как результат выбора просвещенной человеческой воли, и, таким образом, может осуществиться лучшее и самое совершенное государство. Описывается наилучший правитель, а также уступающие ему второй и третий лучшие правители, и в духе Платона указывается, что никакое государство, в управлении которым не отведено место философии, не может выжить. Из исследования тех городов (или «государств»), которые аль-Фараби не может одобрить, следует, что они подразделяются (вот они — платоновские определения, развитые в последующие столетия!) на четыре группы, которые описываются с различных точек зрения. В традиции, достигшей в конце концов и арабов, эти группы изначально соотносились с реалиями греческого и римского миров; потому непросто уяснить, насколько в интерпретации аль-Фараби они способны рассказать нам об особых, свойственных исламскому миру политических условиях.
В шестом разделе — важном приложении к основной части всего труда — впечатляюще говорится о двух ложных видах государства, которые необходимо исключить. Во-первых, это государства, называемые «невежественными», — с которыми мы знакомы по VIII—IX книгам «Государства» Платона и которые, очевидно, снова стали предметом обсуждения поздних платоников. Во-вторых, это, как говорится, «заблудшие» государства, все население которых вместе презирает земную жизнь, оставаясь верным некому псевдооткровению и страстно желая последующего счастья в грядущем мире. Град Божий из философии Августина, знай аль-Фараби о нем, подпал бы под этот приговор. Граждане «невежественного» города верят, например, что согласие и единство государства могут быть основаны только на общем происхождении от одного предка или на общем языке, на истории и национальном характере. Формальные союзы не могут гарантировать постоянства объединения племен или народов. Более того, общество «изобилия», которое бы заняло большую часть мира и на всем протяжении существования которого преобладал бы
АЛЬ-ФАРАБИ И ЕГО ПОСЛЕДОВАТЕЛИ
759
мир (как в Римской империи), — такое общество также пало бы вследствие нехватки истинной философии, поскольку его границы не вобрали бы в себя ничего сверх материального благосостояния своих граждан.
Г. Естественное богословие
Если попытаться дать полное описание этой прекрасно аргументированной, но ни в коем случае не простой книге, то потребовался бы полномасштабный комментарий. В контексте этой по необходимости короткой главы будет достаточно выявить некоторые существенные черты в работе этого первого в своем роде арабского мыслителя: целью аль-Фараби было убедить весьма искушенную мусульманскую публику в превосходстве его нового философского подхода, демонстрируя взаимосвязь философской истины и религиозного символизма так, как именно он это умел. В его намерения не входило витийствовать о философии как таковой, и его не удовлетворяла простая передача информации о греческой философии. Он достиг своей цели отчасти за счет открытых указаний на параллели в исламе, отчасти за счет того, что он позволял своим читателям угадывать, как его отвлеченные положения могли бы относиться к обстоятельствам его мира и его времени. Нам известно многое о нефилософской мусульманской дискуссии, продолжавшейся в течение жизни аль-Фараби. Она в значительной степени касалась проблем, которые также представляли собой трудность и для древнегреческих философов, — Бога как причины нашей вселенной, происхождения мира, а также человека, сферы его ответственности за свои поступки и его связи с высшим божественным миром. Однако она еще не восприняла философских методов и не слышала ответы, которые могла бы предложить лишь философия. Необходимо было объяснить несомненное чудо пророчества и откровения наперекор различного рода критике и сомнениям. Широко обсуждалось построение мусульманского общества в соответствии с положениями Писания и Священного Закона, и по поводу качеств, которыми должен обладать халиф (преемник Пророка, одновременно и духовный, и светский правитель в исламском государстве), также возникали разногласия. На передовой этого спора были мусульманские спекулятивные богословы, мутакаллимы. По-видимому, аль-Фараби был первым, кто увидел ограниченность их толкования Писания и диалектического богословия (которое полагалось на Писание и веру одной
760
РАННЯЯ ИСЛАМСКАЯ ФИЛОСОФИЯ
конкретной религии). Он с гордостью представлял естественное философское богословие, опиравшееся на человеческий разум и философские доказательства и претендующее на универсальную значимость. Поэтому его ответы превосходят те, что предлагались мутакаллимами, хотя их взгляды, разумеется, ближе к философии, чем ортодоксальные фундаменталистские положения. Вот несколько примеров.
Согласно аль-Фараби, первопричина греческого естественного богословия является тем же самым, что и Аллах на символическом языке Корана — или Зевс языческой религии древних греков,1 которых больше не существует. Описание первопричины как нематериального, осмысляющего самого себя, интуитивного ума (νους νοών νοούμενον) недалеко отстоит от спекулятивного богословия так называемых мутазилитов,1 2 которые устранили антропоморфные черты Аллаха и установили Единство и Единичность Бога более тонким и изящным, хотя и недостаточно философским способом. Данные Аллаху представителями этого продвинутого богословия эпитеты по-прежнему менее точны и менее всеобъемлющи, чем утверждения философа о первопричине, впрочем, признается, что они следуют в правильном направлении. Хотя уже аль-Кинди согласился с чудесным творением из ничего, в которое верили все мусульманские богословы, и снабдил его философской надстройкой,3 аль-Фараби заменил его безвременной и непреднамеренной эманацией из первопричины в соответствии с учением неоплатоников; творение из ничего вполне допускается аль-Фараби в качестве символического описания метафизического процесса, который нельзя постичь обыкновенным умом.
Аль-Фараби приравнивает «отдельные» и трансцендентные интеллекты, расположенные в небесных сферах, к «ангелам» и «духовным сущностям» мусульманской веры. В действительности ангелов нет, но есть те сущности, о которых нам сообщает философия.
Обоснование философского взгляда на откровение и бого- вдохновленность (ενθουσιασμός, wahi) становится важной чертой естественного богословия. Предлагаемый ответ представляет существенную угрозу для почитаемых религиозных убеждений. Согласно аль-Фараби, Дух Святой и Надежный Дух Корана, ангел Откровения в религиозной терминологии, является тем же самым,
1 См.: Plato Arabus, III. Р. 5 (4).
2 См.: Mu’tazila // Encyclopedia of Islam; Allah // Ibid.
3 См. выше, c. 747.
АЛЬ-ФАРАБИ И ЕГО ПОСЛЕДОВАТЕЛИ
761
что и «активный интеллект», чье трансцендентное существование отражено в человеческом разуме; это лишь менее точные понятия.1 Как и ангел, «активный интеллект» служит промежуточной ступенью между первопричиной и божественным надлунным миром — с одной стороны, и человеком — с другой. Но человек не может установить продолжительный контакт с высшим миром, приблизившись к «активному интеллекту», до тех пор пока не усовершенствует свой разум настолько, насколько это вообще в человеческих силах. Мистическое единство в духе Плотина однозначно отвергается как бабушкины сказки;1 2 оно невозможно, пока «интеллект» (νους) полностью не отделен от тела. «Откровение», «боговдохновленность», таким образом, нисколько не чудесны, но с необходимостью связаны с деятельностью человеческого разума и поэтому ни в коем случае не должны пониматься как нечто относящееся к непостижимой сверхъестественной силе. Образ мысли, который ислам, как и другие авраамические религии, описывает как «пребывание божества», вдохновение или откровение, по существу представляет собой не что иное, как результат самого совершенного рассуждения метафизика, и именно таким образом ислам и родственные ему религии могут быть полностью и наиболее адекватно поняты с точки зрения греческой философии. Согласно аль-Фараби, пророчество ни в коем случае не является высшим атрибутом человека, но подчиняется и содействует философии. Оно не находится в разумной способности души, но заключено на более низком уровне способности представления. Если философу случится также быть, в этом смысле слова, и пророком, он сможет переводить отвлеченную метафизику на язык религиозных образов и, таким образом, станет основателем религии. Философ-пророк такого рода является самым совершенным человеком, и в этом качестве он в то же время может рассматриваться как правитель совершенного государства. Вместе с тем он, в соответствии с платонической традицией, был бы верховным законодателем, способным убеждать обычных людей в истине посредством верной риторики и правильно организованного образования. Завораживает то, как эти греческие идеи прилаживаются к исламскому миру. Можно с большой долей вероятности сделать вывод из утверждения аль-Фараби, открыто не выражавшего эту идею, что таким человеком был Мухаммед: только люди в основном не осознают, что он был в первую очередь и по преимуществу
1 См. ниже, с. 763.
2 См. выше, с. 757.
762
РАННЯЯ ИСЛАМСКАЯ ФИЛОСОФИЯ
философом, а пророком, законодателем, оратором и просветителем он был лишь в придачу. Коран — не что иное, как перевод философской истины на символический язык, который могли понять далекие от философии арабы и который, таким образом, занимает место поэзии в «Государстве» Платона или Евангелий в христианстве.
Халиф — это преемник Пророка, который сам пророком не является. С точки зрения ислама непостижимо, что какой-либо иной философ-пророк, подобный Мухаммеду, должен прийти после него. Однако греческая традиция, к которой обращался аль-Фараби, судя по всему, также не предусматривала, что кто-нибудь подобный первому правителю идеального государства появится снова и поставит все на свои места. Хороший халиф (который, однако, никогда не достигнет уровня основателя религии) в этом случае, по-видимому, соответствует второму лучшему правителю совершенного государства греческой политической теории аль-Фараби. Он был бы философом, то есть метафизиком-перипатетиком неоплатонической закалки, которому не хватало бы пророческого дара, но зато наделенным всеми другими качествами идеального правителя. Кажется, что аль-Фараби, насколько это касалось ислама, сравнивал этих вторых лучших правителей с четырьмя так называемыми правоверными халифами, непосредственными преемниками Пророка, которых в исламской традиции всегда идеализировали. Другие упомянутые им возможности философского управления прочитываются, скорее, как практические предложения и едва ли могут указывать на какую-то определенную ситуацию в исламской истории. Философское правительство должно возникнуть тогда, когда философ и политик согласятся сотрудничать, — как сам Платон пытался действовать (и потерпел неудачу) в Сицилии. Если же это не сработает на практике, то идеальное государство может управляться группой лиц, каждый из которых представлял бы одно из требуемых качеств, — предложение, смутно сопоставимое с «ночным советом» в «Законах»* Платона. Как и Платон, аль-Фараби самым решительным образом говорит о том, что, если возникнет оторванное от философии правительство, халифату придет конец, — разве только его спасет и приведет в порядок философия.
* См.: Legg. 961а—с. —Примеч. перев.
АЛЬ-ФАРАБИ И ЕГО ПОСЛЕДОВАТЕЛИ
763
Д. Греческая философия и мусульманское богословие
Таким образом, в новом свете предстает отвлеченная книга аль-Фараби, рассмотренная сквозь призму обсуждаемых в его время тем: прошедшая испытание временем греческая сокровищница истины, чье содержание он знал в совершенстве, предоставила ему ответы на вопросы, которые никогда не предвидел ни один греческий философ, поскольку не мог приобрести никакого подобного опыта. Это, разумеется, не единственное достижение мусульманских философов (комментируя переведенный корпус книг и переосмысляя греческие учения, они вместе с тем решались дополнять унаследованную ими традицию), но оно представляет собой в высшей степени интересное и важное новое явление в истории греческого наследия за пределами греческого мира и поэтому заслуживает особого интереса со стороны историка философии. Еще один пример: хорошо известно, что Аристотель утверждал ответственность человека за свои поступки и что поздние перипатетики поддерживали эту точку зрения и противопоставляли ее стоической вере в неизбежность судьбы. Аль-Фараби следовал им, не оглядываясь на то, что косвенно они противоречили очень распространенной среди мусульман вере в предопределенность. Однако он должен был осознавать, что, поступая так, он близко подходил к продвинутому богословию мутазилитов,1 которые (хотя и по иным причинам) настаивали на том, что сам человек является хозяином своих поступков и, более того, будет вознагражден или наказан за них после смерти. Неудивительно, что мысли аль- Фараби о бессмертии души (он, в отличие от аль-Кинди, даже не обсуждает воскресение тела) также близки убеждениям мутази- литских богословов. Вознаграждение и вечное блаженство после смерти уготованы тем, кто прожил добрую жизнь в соответствии с положениями греческой философии, — либо как действующий философ или его последователь, либо как воспринимающий истину философии через религиозные образы. Души тех, кто по собственной инициативе действует против истины, хотя и знают ее в совершенстве, также сохранятся и претерпят вечное наказание. И снова это положение, кроме ограничений касательно бессмертия души, находится в полном соответствии с точкой зрения мутазилитов. Однако аль-Фараби придерживается собственных взглядов, происходящих из перипатетического источника, относительно посмертия тех, кто не по своей вине грешит, не зная
1 См. выше, с. 760, прим. 2.
764
РАННЯЯ ИСЛАМСКАЯ ФИЛОСОФИЯ
истинного блага ни в одной из возможных для человеческого разумения форм: их души разлагаются вместе с телом и полностью уничтожаются. Те же, кто сознательно вводил их в заблуждение (возможно, аль-Фараби имеет в виду основателей ложных религий или упорных противников Мухаммеда в Мекке), будут наказаны наряду с теми, кто сознательно поступал неправильно. Аль-Фараби терпеть не может герметистов и гностиков и отвергает неоплатонические течения, представленные такими людьми, как Ямвлих и Прокл. Он придерживается философской традиции, которая ближе духу классической греческой мысли. Ошибаются те, говорит он, кто считает, что можно стремиться к достижению вечного блаженства после смерти, и при этом забывает о том, что необходимой, неотъемлемой первой ступенью к нему является добрая жизнь на земле. Главная забота философа состоит в том, чтобы принять участие в построении идеального государства; он не должен отказываться от политики, как советовал Плотин. Аскетизм — ложный путь к вечной жизни, и, отрицая его, аль- Фараби в то же время отворачивался от набегающей волны мусульманского мистицизма, которому суждено было стать очень влиятельным в последующие столетия. Аристотель и «политик»- Платон представлялись ему подходящими проводниками в этом мире, хотя Платон-метафизик, как его понимали умеренные неоплатоники, учит людей подготавливать себя к грядущему миру. Подобно Порфирию и другим поздним греческим мыслителям, аль-Фараби знает, что человечеству не хватает как Платона, так и Аристотеля. В этом отношении он представляет разновидность той же самой традиции, с которой мы знакомы по «Афинской школе» Рафаэля — где Платон и Аристотель появляются вместе, возвышаясь над всеми остальными философами.
Е. Наследники мысли аль-Фараби
Об аль-Фараби как о самом выдающемся представителе ранней мусульманской философии было сказано достаточно. Кажется, что именно благодаря ему философия определенно прижилась в исламском мире. Ибн Сина (Авиценна, 980—1037) и Ибн Рушд (Аверроэс, 1126—1198) — если говорить только о наиболее видных наследниках его мысли — строили главным образом на заложенном им фундаменте. Они развили и преобразовали его в соответствии со своими наклонностями, обстоятельствами своего времени и условиями, преобладающими в тех частях исламского
АЛЬ-ФАРАБИ И ЕГО ПОСЛЕДОВАТЕЛИ
765
мира, в которых они жили: Авиценна — в разных городах Персии, Аверроэс — в основном в Кордове в поздний период существования мусульманской Испании. Творчество Авиценны активно изучалось позже, особенно в шиитских окрестностях на Востоке; также не были забыты и достижения высоко ценимого им аль- Фараби. Влияние Авиценны на западных латинских схоластов и на позднюю европейскую мысль также хорошо известно, хотя все еще требуется более детальное исследование, чтобы полностью описать и понять его значение. Аверроэс, который не соглашался с Авиценной во многих вопросах и в целом был ближе всех к мысли аль-Фараби, оказался гораздо менее известен в исламском мире, чем Авиценна, но стал очень влиятельным на Западе, особенно благодаря своим комментариям к Аристотелю. И он, и Авиценна помещены Данте в Лимб («Ад», IV 143—144)1 наряду с языческими философами, которые могли не принять крещения, поскольку жили до появления христианства, — в то время как Мухаммед и его зять Али заточены в девятом рву восьмого круга Ада как еретики и зачинщики раздора. Однако мы правильнее поймем истинную значимость Авиценны и Аверроэса на Западе, если должным образом рассмотрим их учения, исходя из их окружения и их самих.
Авиценна (не считая более мелких различий) постольку отличается от аль-Фараби, поскольку его мысль примыкает, скорее, к другому направлению поздней греческой философии — неоплатонизму Плотина и его более строгих, чем Порфирий и ему подобные, последователей; это направление также включает в себя тщательное изучение Аристотеля. Ибн Сина выказывает большее сочувствие мистицизму, чем аль-Фараби, и пытается объяснить его с точки зрения философии. Он же определяет отношение между исламом и философией таким образом, который напоминает нам о неоплатоническом взгляде на греческую религию: он не подчиняет философию откровению, в отличие от аль-Кинди, и, в отличие от аль-Фараби, не отводит исламу второе место, признавая верховенство разума. Авиценна, так сказать, отождествляет ислам и философию и настаивает на том, что ислам не может быть адекватно понят кроме как с точки зрения философии. Пророческий дар более не находится в способности представления; помимо прочего, пророк стал чем-то вроде сверхразума, он представляет собой самого совершенного философа. Высшая форма ритуальной молитвы мистика для Авиценны тождественна с тихим созерцани¬
1 Аль-Фараби появляется на фреске Рафаэля «Афинская школа».
766
РАННЯЯ ИСЛАМСКАЯ ФИЛОСОФИЯ
ем философа-неоплатоника, которое является результатом и завершением напряженных и неспешных философских исследований. Авиценна в своей обширной философской энциклопедии, которая так охотно изучалась на Западе, не рассматривает этику и политику. В отличие от аль-Фараби, он предпочитает сосредоточиться на теоретической философии. Основания совершенного общества заложены Кораном, Традициями и Священным Законом.
Статус философии в мусульманском мире недолго оставался незыблемым. В античности все было по-другому. Положение, занимаемое греческой философией столетиями после Аристотеля, не оспаривалось до шестого века н. э., когда христианский аристо- телик Иоанн Филопон выразил свое несогласие. Греки-язычники не знали о сверхъестественной истине откровения и не верили во всемогущего Бога, способного попирать законы природы. Нападки Иоанна Филопона, искусные и даже впечатляющие, не произвели, похоже, немедленного эффекта и не привели к утверждению христианского аристотелизма теми путями, которые были им намечены. В исламе сопоставимая реакция против превосходства философии возникла спустя гораздо меньшее время, примерно через поколение после смерти Авиценны, и, возможно, этому поспособствовал прецедент, созданный Иоанном Филопоном, чьи труды против Прокла и Аристотеля были известны в арабских переводах. Вождем этой горячей и хорошо подготовленной оппозиции был аль-Газали (1058—1111) из города Тусы в Персии, пользовавшийся притом всеми средствами, которые предоставляла философия. Он принадлежал к движению, которое в итоге привело к окончательному политическому господству и консолидации суннитского ислама; первоклассный богослов, он сделал весьма существенный и широко признанный вклад в развитие этого движения. Он пришел для того, чтобы отвергнуть аль-Фараби и Авиценну как неверующих. Религиозный разум не удовлетворялся интеллектуальным и только (или в основном) рациональным пониманием мира. Здесь не место в деталях описывать его обличение непоследовательности философов, однако главные три пункта его критики таковы: философы отрицают воскресение тела и, таким образом, отличаются не только от мусульман, но также и от иудеев и от христиан; их взгляд на божественное провидение ущербен, поскольку они говорят, что Бог знает только общее, но не частное, и, значит, полагают, что Бог ничего не знает об отдельных людях и не заботится о них; они утверждают, что мир вечен, и тем самым неправильно трактуют всемогущество Бога-творца. В целом они не знают о том, что религиозная жизнь и, в частности,
АЛЬ-ФАРАБИ И ЕГО ПОСЛЕДОВАТЕЛИ
767
мистический опыт представляют собой высшую ступень знания, чем та достоверность, которой человеческий разум способен достичь. Вообще, аль-Газали предпочел бы скорее представлять себе Бога бессмертным человеком, чем, как последователи философов, видеть в нем безличный принцип. «Его душа покоряется истине, которую не может утвердить его разум, ибо его сердцем руководит то, о чем разум его не ведает».1
Нападки аль-Газали мало повлияли на группу шиитов, хотя в целом они были услышаны в кругу мусульман-суннитов — то есть в большей части исламского мира. Эта фундаментальная разница кажется менее удивительной, если мы помним о том, что ясное и определенное суждение о противоречащих друг другу задачах суннизма и шиизма станет типичным лишь столетия спустя после аль-Газали. Трактат Аверроэса «Опровержение опровержения», в котором он критикует аль-Газали, безусловно, является наиболее впечатляющим и совершенным из всех арабских философских трудов, и он справедливо привлек к себе внимание выдающихся исследователей исламской философии нашего времени. Однако, если говорить о средневековом исламе, Аверроэс вел заранее проигранный бой. Философия, по крайней мере в суннитской традиции, уже никогда более не могла претендовать на то, чтобы быть лучшим или единственным в своем роде толкованием ислама. Она должна была примириться с положением специальной дисциплины и осторожно представлять собой подчиненный вид знания.
1 Ср.: Bergh S. v. d. Averroes, 1,1. P. XXXVI; см. выше, c. 743, прим. 4.
ИЗБРАННАЯ БИБЛИОГРАФИЯ
Представленная библиография никак не претендует на полноту. Сноски, данные в соответствующих местах, помогут расширить ее. Последовательность библиографии такова. Сначала идут работы общего характера (включая посвященные проблематике, касающейся более чем одного раздела). Общие исследования по истории философии, а также по истории Церкви, поздней Римской империи и средневековой Европы, зачастую включающие разделы различной длины и ценности по чисто исторической проблематике, опускаются. Расположенная далее литература к каждому разделу состоит из двух частей — первая содержит источники и некоторые значимые переводы, данные в том порядке, который соответствует логике раздела, вторая — прочую литературу в алфавитном порядке. В дополнение к помещенному ниже списку следующие работы включают в себя множество подходящих статей (наиболее интересные перечислены отдельно в соответствующих местах книги): «Paulys Realencyclopadie der classischen Altertumswissenschaft»; «Das Reallexikon fur Antike und Christentum»; «Dictionnaire de spiritual»; «Dictionnaire de Th6ologie Catholique»; «Encyclopedia of Islam»; «Patristic Greek Lexicon» (эта последняя необходима для усвоения понятий греческого богословия).
Altaner R. Patrology. Freiburg; Edinburgh; London, 1960.
Aubin P, Le Probleme de la ‘conversion’. Paris, 1962.
Bardenhewer O. Geschichte der altchristlichen Literatur. 5 vols. Freiburg, 1913—1932.
Courcelle R Les lettres grecques en Occident. Paris, 1948.
Entretiens Hardt. III. Recherches sur la tradition platonicienne. Vandoeuvres; Geneve, 1957.
Festugiere A. J. La R6velation d’Hermes Trismegiste. 4 vols. Paris, 1944—
1954.
Geffcken J. Der Ausgang der griechisch-romischen Heidentums. Heidelberg, 1929.
Gilson Ё. History of Christian Philosophy in the Middle Ages. London,
1955.
Goodenough E. R. Jewish Symbols in the Greco-Roman Period. 11 vols. New York, 1953—1964.
ИЗБРАННАЯ БИБЛИОГРАФИЯ
769
HarnackA. von. Lehrbuch der Dogmengeschichte. 3 vols. Tubingen, 1909— 1910 (англ, перевод: New York, 1958).
Huber G. Das Sein und das Absolute. Basel, 1955.
Ivanka E. von. Plato Christianus. Obemahme und Umgestaltung des Plato- nismus durch die Vater. Einsiedeln, 1964.
Jonas H. Gnosis und spatantiker Geist. Gottingen. Vol. I, 3rd edn. 1964; vol. II, 1, 1954; vol. II, 2, 1965.
Knowles D. The Evolution of Medieval Thought. London, 1962.
Misch G. Geschichte der Autobiographic. 3 vols. in 5. Frankfurt, 1949— 1962.
Overbeck F. Vorgeschichte und Jugend der mittelalterlichen Scholastik. Basel, 1917.
Pepin J. Theologie cosmique et theologie chretienne. Paris, 1964.
Praechter K. Richtungen und Schulen im Neuplatonismus // Genethliakon Carl Robert. Berlin, 1910.
Prestige G. L. God in Patristic Thought. London, 1952.
Rist J. M. Eros and Psyche: Studies in Plato, Plotinus and Origen. Toronto, 1964.
Sarton G. Introduction to the History of Science. 3 vols. in 5. Baltimore, 1927—1948.
Spanneut M Le stoYcisme des Peres de l’Eglise. Paris, 1957.
Studia patristica. Papers presented to the International Conferences on Patristic Studies in Oxford. 7 vols. Berlin, 1957—1966.
Totok W. Handbuch der Geschichte der Philosophic. Vol. I. Frankfurt, 1964.
Ueberweg F., Praechter K. Die Philosophic des Altertums. Basel, 1953.
Ueberweg F., Geyer B. Die patristische und scholastische Philosophic. Berlin, 1928.
Vogel C. J. de. Greek Philosophy. III. Leiden, 1964.
Zeller E. Die Philosophic der Griechen. 3 vols. in 6. Hildesheim, 1963.
Раздел I. Греческая философия от Платона до Плотина
Издания Платона и Аристотеля не входят в настоящую библиографию. Издания работ Плотина см. в разделе III.
Спевсипп
Fragments / ed. Р. Lang // De Speusippi Academici scriptis. Bonn, 1911. Ксенократ
Fragments / ed. R. Heinze. Leipzig, 1892.
Антиох
Fragments / ed. G. Luck // Der Akademiker Antiochus. Bern, 1953. Плутарх
Moralia/ ed. G. N. Bemardakis. 7 vols. Leipzig, 1888—1896.
Moralia / ed. C. Hubert, M. Pohlenz. Leipzig, 1952.
Moralia / ed. and tr. F. C. Babbitt. London, 1927.
770
ИЗБРАННАЯ БИБЛИОГРАФИЯ
Альбин
Ed. С. F. Hermann // Platonis Dialogi. 6 vols. Leipzig, 1921—1936;
vol. VI. S. 147—189.
Ёрйотё / ed. P. Louis. Paris, 1945.
Anonymous commentary on the Theaetetus / ed. H. Diels, W. Schubart. Berlin, 1905.
Апулей
De Philosophia libri / ed. P. Thomas. Leipzig, 1908.
Аттик
Fragments // Eusebius. Praeparatio evangelica XI 1—2; XV 4—12 / ed. J. Baudry. Paris, 1931.
Окелл Лукан
Ed. R. Harder. Berlin, 1926.
Никомах
Introductio arithmetica / ed. R. Hoche. Leipzig, 1866.
Нумений
Fragments / ed. E. A. Leemans. Brussels, 1937.
Теофраст
Metaphysics / ed. and tr. W. D. Ross, F. H. Fobes. Oxford, 1929. Peripatetics fragments / ed. F. Wehrli (Die Schule des Aristoteles). 10 vols.
Basel, 1944—1959.
Аристокл
Fragments / ed. H. Heiland // Aristoclis Messenii reliquiae. Giessen, 1925.
Александр Афродисийский
Commentaries on Aristotle // Commentaria in Aristotelem Graeca. I—III. Berlin, 1891—1899; Minor Works / ed. I. Bruns // Supplementum Aristotelicum. II. 1, 2. Berlin, 1887, 1892. Stoicorum Veterum Fragmenta / ed. J. von Amim. 4 vols. Leipzig, 1903— 1924.
Посидоний
Fragments / ed. I. Bake. Posidonii Rhodii reliquiae. Leyden, 1820. Панетий
Fragments / ed. M. van Straaten. Leyden, 1962.
Псевдо-Аристотель
De mundo / ed. and tr. D. J. Furley (Loeb Classical Library). London, 1955.
Работы о Плотине, поднимающие вопрос о влиянии на него ранней греческой философии, см. в разделе III — в частности, некоторые исследования в «Entretiens Hardt. V: Les Sources de Plotin» подходят тематике настоящего раздела; исследования позднего неоплатонизма см. в разделе IV, 1.
ИЗБРАННАЯ БИБЛИОГРАФИЯ
771
Главы 2—7
Baeumker С. Das Problem der Materie in der griechischen Philosophic. Munich, 1890.
Kramer H. J. Der Ursprung der Geistmetaphysik. Amsterdam, 1964.
Merlan P From Platonism to Neoplatonism. The Hague, 1960.
Monopsychism, Mysticism, Metaconsciousness. The Hague, 1963. Robin L. La theorie platonicienne des idees et des nombres d’apres Aristote. Paris, 1908.
Theiler W. Die Vorbereitung des Neuplatonismus. Berlin, 1930.
Plotin und die antike Philosophic // Museum Helveticum. 1944. I. S. 209—225.
Глава 2
Gercke A. Eine platonische Quelle des Neuplatonismus // Rheinisches Museum. 1886. 41. S. 226—291.
Vogel C. J. de. On the Neoplatonic Character of Platonism and the Platonic Character of Neoplatonism // Mind. 1953. 62. P. 43—64.
La theorie de Vapeiron chez Platon et dans la tradition platonicienne // Revue Philosophique. 1959. 149. P. 21—39.
Глава 3
Bignone E. L’ Aristotele perduto e la formazione filosofica di Epicuro. 2 vols. Florence, 1936.
Hamelin O. La theorie de l’intellect d’apres Aristote et ses commentateurs. Paris, 1953.
Kampe F. F. Die Erkenntnistheorie des Aristoteles. Leipzig, 1870.
Глава 4
Dodds E. R. The Parmenides of Plato and the Origin of the Neoplatonic ,,One“ // Classical Quarterly. 1928. 22. P. 129—142.
Dorrie H. Der Platoniker Eudoros von Alexandreia // Hermes. 1944. 79. S. 25—39.
Kontroversen um die Seelenwanderung im kaiserzeitlichen Platonis- mus // Hermes. 1957. 85. S. 41—435.
Freudenthal J. Der Platoniker Albinos und der falsche Alkinoos. Berlin, 1879. Lueder A. Die philosophische Personlichkeit des Antiochos von Askalon. Gottingen, 1940.
Praechter K. Nikostratos der Platoniker// Hermes. 1922. 57. S. 481—517. Severos // Paulys Realencyclopadie. Stuttgart, 1923. Bd. 2. 2.
Tauros//Ibid. 1934. Bd. 5. 1.
Sinko T De Apulei et Albini doctrinae Platonicae adumbratione. Krakow, 1905.
Strache H. Der Eklektizismus des Antiochos von Askalon. Berlin, 1921.
Ill
ИЗБРАННАЯ БИБЛИОГРАФИЯ
Witt R. E. Albinus and the History of Middle Platonism. Cambridge, 1937. Ziegler K. Plutarchos//Paulys Realencyclopadie. 1951. Bd. 21. 1.
Глава 5
Beutler R. Okellos// Paulys Realencyclopadie. 1937. Bd. 17. 2.
Numenios // Ibid. 1940. Suppl. 7.
BickelE. Neupythagoreische Kosmologie bei den Romem // Philologus. 1924. 79. S. 355—369.
Senecas Briefe 58 und 65 // Rheinisches Museum. 1960. 103. S. 1—20. Воуапсё P. Fulvius Nobilior et Le Dieu Ineffable // Revue de Philologie. 1955. 29. P. 172—192.
Puech H. C. Numenius d’Apamee et les theologies orientales au second siec- le // Melanges Bidez. II. Brussels, 1934. P. 745—778.
Глава 6
Immisch C. Agatharchidea // Sitzungsberichte der Heidelberger Akademie d.
Wissenschaften: Philos.-hist. Kl. 1919.
Moraux P, Alexandre d’Aphrodise. Paris, 1942.
Quinta essentia // Paulys Realencyclopadie. 1963. Bd. 24. 1.
Thillet P Un traite inconnu d’Alexandre d’Aphrodise sur la Providence dans une version inedite // Actes du Premier Congres International de Philosophic Medievale: L’Homme et son destin. Louvain, 1960. P.313—324.
Глава 7
Jaeger W. Nemesios von Emesa. Berlin, 1914.
Pohlenz M. Die Stoa. 2 vols. Gottingen, 1964.
Reinhardt K. Poseidonios // Paulys Realencyclopadie. 1953. Bd. 22. 1. SchmekelA. Philosophic der mittleren Stoa. Berlin, 1892.
Раздел II. Филон и начало христианской мысли
Филон Александрийский
Works / ed. L. Cohn, P. Wendland. 6 vols. Berlin, 1896—1915.
Works / ed. and tr. F. H. Colson, G. H. Whitaker, R. Marcus (Loeb Classical Library). 12 vols. London, 1929—1962.
Works / ed. and tr. R. Arnaldez, C. Mondesert, J. Pouilloux. Paris, 1961.
The Fragments of Philo Judaeus / ed. Rendel Harris. Cambridge, 1886.
Neue Philontexte in der Oberarbeitung des Ambrosius / H. Lewy // Sitzungsberichte der preussischen Akademie. IV. Berlin, 1932. S. 23—84.
ИЗБРАННАЯ БИБЛИОГРАФИЯ
773
In Flaccum / ed. H. S. Box. London; New York, 1939.
Legatio ad Gaium / ed. E. M. Smallwood. Leiden, 1962.
Греческие апологеты PG 6.
Die altesten Apologeten / ed. E. J. Goodspeed. Gottingen, 1914. Theophilus of Antioch / ed. and tr. G. Bardy // Sources Chretiennes. Paris, 1948.
Epistle to Diognetus / ed. and tr. Η. I. Marrou // Ibid. Paris, 1951. Юстин Мученик
Apologies / ed. A. W. F. Blunt. Cambridge, 1911.
Климент Александрийский Works, PG 8—9.
Works, ed. O. Stahlin. 4 vols. Berlin, 1905—1936.
Stromata. I—VI / ed. L. Fruchtel. Berlin, 1960.
Protrepticus / ed. and tr. G. W. Butterworth (Loeb Classical Library). London, 1919.
См. отдельные работы в сборнике «Sources Chretiennes».
Ориген
Works, PG 11—17.
Works // Die Griechischen Christlichen Schriftsteller. 12 vols. Berlin, 1899—1955.
Entretien d’Origene avec Heraclide / ed. and tr. J. Scherer // Sources Chretiennes. Paris, 1960.
Philocalia / ed. J. A. Robinson. Cambridge, 1893.
De Principiis / tr. and comm. G. W. Butterworth. London, 1936. Contra Celsum / tr. and comm. H. Chadwick. Cambridge, 1953.
См. отдельные работы в сборнике «Sources Chretiennes».
Глава 8
Исчерпывающий список литературы о Филоне см. в статье: Good- hart Н. L., Goodenough Е. R. A general bibliography of Philo // Good- enough E. R. The Politics of Philo Judaeus. New Haven, 1938, а также в книге: Feldman L. H. Scholarship on Philo and Josephus. New York, 1963.
Bousset W. Jtidisch-christlicher Schulbetrieb in Alexandria und Rom. Gottingen, 1915.
Brehier E. Les idees philosophiques et religieuses de Philon d’Alexandrie. Paris, 1950.
DanielouJ. Philon d’Alexandrie. Paris, 1958.
Goodenough E. R. By Light, Light. New Haven, 1935.
Introduction to Philo Judaeus. Oxford, 1962.
Heinemann /. Philons griechische und judische Bildung. Breslau, 1932. Lewy H. Sobria Ebrietas. Giessen, 1929.
Pohlenz M. Philon von Alexandreia // Nachrichten von der Akademie der Wis- senschaften in Gottingen: Phil.-hist. Klasse. 1942. Heft 5.
774
ИЗБРАННАЯ БИБЛИОГРАФИЯ
Volker W. Fortschritt und Vollendung bei Philo von Alexandrien. Leipzig, 1938.
Wolfson H. A. Philo. 2 vols. Cambridge, 1947.
Глава 9
Andresen C. Logos and Nomos. Berlin, 1955.
DanielouJ. Message evangelique et culture hellenistique. Toumai, 1961 (англ, перевод: London, 1965).
Geffcken J. Zwei griechische Apologeten. Leipzig, 1907.
Pellegrino M. Studi sull’antica apologetica. Rome, 1947.
PuechA. Les apologistes grecs. Paris, 1912.
Глава 10
Bigg C. The Christian Platonists of Alexandria. Oxford, 1913.
Camelot T Foi et Gnose. Paris, 1945.
FayeE. de. Clement d’Alexandrie. Paris, 1906.
Mondisert C. Clement d’Alexandrie. Introduction a 1’etude de sa pensee religieuse a partir de l’Ecriture. Paris, 1944.
Osborn E. E The Philosophy of Clement of Alexandria. Cambridge, 1957. Tollinton R. B. Clement of Alexandria. London, 1914.
Volker W. Der wahre Gnostiker nach Clemens Alexandrinus. Berlin, 1952.
Глава 11
Почти исчерпывающая (643 наименования) библиография есть в работе: Crouzel Н. Origene et la Connaissance Mystique. Paris, 1961.
CadiouR. La jeunesse d’Origene. Paris, 1935.
Crouzel H. Theologie de TImage de Dieu chez Origene. Paris, 1956.
Origene et la philosophic. Paris, 1962.
DanielouJ. Origene. Paris, 1948 (англ, перевод: London, 1955).
Faye E. de. Origene. 3 vols. Paris, 1923—1928.
Esquisse de la pensee d’Origene. Paris, 1925 (англ, перевод: Origen and his Work. London, 1926).
Hanson R. P. C. Allegory and Event. London, 1959.
Harl M. Origene et la fonction revelatrice du Verbe incame. Paris, 1958. Koch H. Pronoia und Paideusis: Studien liber Origenes und sein Verhaltnis zum Platonismus. Leipzig, 1932.
KerrH. T. The First Systematic Theologian, Origen of Alexandria (Princeton Pamphlets, 11). Princeton, 1958.
Lubac H. de. Histoire et Esprit. Paris, 1950.
ИЗБРАННАЯ БИБЛИОГРАФИЯ
775
Раздел III. Плотин
«Эннеады»
Ed. Е. Brehier (с французским переводом, предисловием и комментариями). 7 vols. Paris, 1924—1938.
Ed. R. Harder, R. Beutler, W. Theiler (с немецким переводом и комментариями). Hamburg, 1956—1967.
Ed. P. Henry, H. R. Schwyzer. Vols. 1, 2 («Жизнь Плотина» и «Эннеады» I—V). Paris; Brussels, 1951.
Ed. P. Henry, H. R. Schwyzer (ed. minor). Oxford, 1964. Французский перевод Μ. M. Буйе (издание ценно только своими развернутыми комментариями). 3 vols. Paris, 1857—1861. Итальянский перевод с критическими комментариями В. Чиленто (последний том содержит подробную биографию Б. Марие- на). 3 vols. Bari, 1947—1949.
Латинский перевод Марсилио Фичино. Florence, 1492.
Немецкий перевод Р. Хардера (переиздавался с комментариями;
см. выше). 5 vols. Leipzig, 1930—1937.
Английский перевод С. Маккены (отредактирован Б. С. Пейджем, предисловие П. Анри). London, 1962.
Английский перевод с комментариями А. X. Армстронга (Loeb Classical Library). Vols. I—III. London, 1966—1967.
Главы 12—16
Armstrong A. H. The Architecture of the Intelligible Universe in the Philosophy of Plotinus. Cambridge, 1940; Amsterdam, 1967.
Was Plotinus a Magician? // Phronesis. 1955.1, 1. P. 73—79.
Arnou R. Le Desir de Dieu dans la philosophic de Plotin. Paris, 1921.
Aubin R LTmage dans l’CEuvre de Plotin I I Recherches de Science Religieuse. 1953. 41, 3. P. 348—379.
Bourbon de Petrella F II Problema dell’Arte e della Bellezza in Plotino. Florence, 1956.
Brehier E. La philosophic de Plotin. Paris, 1961.
Crouzel H. Origene et Plotin, eleves d’Ammonios Saccas // Bulletin de Literature Ecclesiastique de Toulouse. 1956. 4. P. 193—214.
Encore Origene et Ammonios Saccas // Ibid. 1958. 1. P. 3—7. Gandillac M. de. La Sagesse de Plotin. Paris, 1952.
Keyser E. de. La signification de Part dans les Enneades de Plotin. Louvain, 1955.
Dodds E. R. Tradition and Personal Achievement in the Philosophy of Plotinus //Journal of Roman Studies. 1960. 50. P. 1—7.
Entretiens Hardt. V. Les sources de Plotin. Vandoeuvres; Geneve, 1960. Hadot P. Plotin. Paris, 1963.
Harder R. Plotins Leben, Wirkung und Lehre // Kleine Schriften / ed. W. Marg. Munich, 1960. S. 257—274.
Zur Biographie Plotins // Ibid. S. 275—295.
776
ИЗБРАННАЯ БИБЛИОГРАФИЯ
Henry Р La demiere parole de Plotin // Studi Classici e Orientali. II. Pisa,
1953. P. 113—130.
Himmerich W. Eudaimonia: die Lehre des Plotin von der Selbstverwirklichung
des Menschen. Wurzburg, 1959.
Heinemann F. Plotin. Leipzig, 1921.
Inge W. R. The Philosophy of Plotinus. 2 vols. London, 1929.
Kris teller O. O. Der Begriff der Seele in der Ethik des Plotin. Tubingen,
1929.
Lloyd Л. C. Neoplatonic and Aristotelian Logic // Phronesis. 1955—1956. 1.
P. 58—72; 146—159 (см. также раздел IV, гл. 19).
Merlan R Plotinus and Magic // Isis. 1953. 44. P. 341—348.
RistJ. M Plotinus on Matter and Evil // Phronesis. 1961. 6. P. 154—166.
Schwyzer H. R. Plotinos//Paulys Realencyclopadie. 1951. Bd. 21.1.
TrouillardJ. La Purification Plotinienne. Paris, 1955.
La Procession Plotinienne. Paris, 1955.
Valeur critique de la mystique plotinienne // Revue philosophique de Louvain. 1961. 59. P. 431^144.
Раздел IV. Поздние неоплатоники
Порфирий
«Жизнь Плотина» напечатана во всех упомянутых в предыдущем
разделе изданиях и переводах Плотина; с немецким переводом и комментариями в издании Хардера (1958).
De philosophia ex oraculis haurienda librorum reliquiae / ed. G. Wolff. Berlin, 1856; Hildesheim, 1962.
Against the Christians, fragments / ed. A. Hamack // Abhandlungen der preussischen Akademie der Wissenschaften: Phil.-hist. Kl. 1916. I (с дополнениями: Sitzungsberichte. 1921.1. S. 266—284; II. S. 834 ffi).
Ad Gaurum / ed. K. Kalbfleisch // Ibid. 1895. S. 33—62 (французский перевод А.-Ж. Фестюжьера: Festugibre A. J. La Revelation d’Hermes Trismegiste. Ill, app. 1).
Letter to Anebo / ed. and tr. A. R. Sodano. Naples, 1958 (реконструкция по «О египетских мистерих» Ямвлиха).
De abstinentia // Porphyrii Opuscula Selecta / ed. A. Nauck. Leipzig, 1886; Hildesheim, 1963.
Ad Marcellam // Ibid.
Ad Marcellam (французский перевод А.-Ж. Фестюжьера) // Trois devots pai'ens. II. Paris, 1934.
Sententiae ad intelligibilia ducentes / ed. B. Mommert. Leipzig, 1907.
Isagoge sive quinque voces / ed. A. Busse // Commentaria in Aristotelem graeca. IV, 1. Berlin, 1887.
Isagoge sive quinque voces (французский перевод с комментариями Ж. Трико). Paris, 1947.
ИЗБРАННАЯ БИБЛИОГРАФИЯ
111
Commentary on the Timaeus, fragments / ed. R. Sodano. Naples,
1964.
Анонимный комментатор «Парменида»
Ein neuplatonischer Parmenidescommentar in einem Turiner Palimpsest / Ed.W. Kroll // Rheinisches Museum fur Philologie. 1892. 47. S. 599—627.
Ямвлих
De anima (французский перевод выдержек из Стобея с комментариями А.-Ж. Фестюжьера) // Festugiere A. J. La Revelation d’Hermes Trismegiste. Ill, app. 1.
De vita pythagorica / ed. L. Deubner. Leipzig, 1937.
Protrepticus / ed. L. Pistelli. Leipzig, 1888.
Theologumena arithmeticae / ed. V. de Falco. Leipzig, 1922.
De communi mathematica scientia / ed. N. Festa. Leipzig, 1891.
De Mysteriis / ed. G. Parthey. Berlin, 1857.
De Mysteriis (немецкий перевод с предисловием и комментариями Т. Хопфнера) // Hopfner Т. Quellenschriften der griechischen Mystik. I. Leipzig, 1922.
De Mysteriis / ed E. des Places (с французским переводом, предисловием и комментариями). Paris, 1966.
Юлиан Отступник
Ed. F. С. Hartlein. 2 vols. Leipzig, 1875—1876.
Ed. and tr. W. C. Wright (Loeb Classical Library). 3 vols. London, 1913—1923.
Прокл
In Platonis Rempublicam commentarii / ed. W. Kroll. 2 vols. Leipzig, 1899—1901.
In Platonis Cratylum commentarii / ed. G. Pasquali. Leipzig, 1908. Commentary on the First Alcibiades of Plato / ed. L. G. Westerink. Amsterdam, 1954.
Commentary on the First Alcibiades of Plato (английский перевод с комментариями У. О’Нила). Hague, 1965.
Commentarius in Parmenidem / ed. V. Cousin. Paris, 1864; Hildesheim, 1961.
Commentarius in Parmenidem: pars ultima adhuc inedita, interprete Guillelmo de Moerbeka / ed. and tr. R. Klibansky, C. Labowsky, E. Anscombe. London, 1953.
In Platonis Timaeum commentarii / ed. E. Diehl. 3 vols. Leipzig, 1903—1906.
In Platonis Timaeum commentarii (французский перевод и комментарии А.-Ж. Фестюжьера). Paris, 1966—1968.
Elements of Theology / ed. and tr. E. R. Dodds. Oxford, 1963. Elements of Theology (французский перевод Ж. Труайяра). Paris,
1965.
In Platonis Theologiam / ed. A. Portus. Hamburg, 1618.
In Platonis Theologiam (итальянский перевод А. Туролла). Bari, 1957.
778
ИЗБРАННАЯ БИБЛИОГРАФИЯ
In Platonis Theologiam / ed. H. D. Saffrey, L. G. Westerink (с французским переводом, предисловием и комментариями). Paris, 1968.
Tria opsucula (De Decern Dubitationibus, De Providentia et Fato, De Malorum Subsistentia) / ed. H. Boese. Berlin, 1960.
De arte hieratica / ed. and tr. J. Bidez // Catalogue des manuscrits al- chimiques grecs. VI (app.). Brussels, 1928.
Hymni / ed. E. Vogt. Wiesbaden, 1957.
Eclogae de philosophia chaldaica / ed. A. Jahn. Halle, 1891.
Марин
Vita Procli / ed. J. F. Boissonade. Leipzig, 1814 (перепечатано в Procli opera inedita / ed. V. Cousin. Paris, 1864; Diogenes Laertius / ed. C. G. Cobet. Paris, 1878).
Дамаский
Vita Isidori / ed. and tr. R. Asmus. Leipzig, 1911 (выдержки из «Библиотеки» Фотия (Cod. 242; Migne, PG 103)).
Vita Isidori / ed. E. Zintzen. Hildesheim, 1965.
Dubitationes et solutiones de primis principiis / ed. C. A. Ruelle. 2 vols. Paris, 1889. Готовится новое критическое издание.
Гиерокл
De Providentia et Fato (фрагменты из «Библиотеки» Фотия (Cod. 214, 251; Migne, PG 103, 104)).
Commentarius in aureum carmen / ed. F. W. A. Mullach // Fragmenta philosophorum graecorum. I. Paris, 1883.
Синезий Киренский
De Providentia / ed. N. Terzaghi // Synesii Cyrenensis opuscula. Rome, 1944; Migne, PG 76.
Гермий Александрийский
In Platonis Phaedrum scholia / ed. P. Couvreur. Paris, 1901. Олимпиодор
Commentary on the First Alcibiades of Plato / ed. L. G. Westerink. Amsterdam, 1956.
In Platonis Phaedonem / ed. W. Norvin. Leipzig, 1913.
In Platonis Gorgiam / ed. W. Norvin. Leipzig, 1936.
Симпликий
Commentarius in Epicteti Enchiridion / ed. F. Diibner // Theophrasti characteres, etc. Paris, 1877.
Ed. J. Schweighauser// Epicteti philosophia. IV. Leipzig, 1800.
Комментарии александрийских неоплатоников на Аристотеля см. в Commentaria in Aristotelem graeca. Berlin, 1882—1907.
Евнапий
Lives of the Sophists / ed. J. Giangrande. Rome, 1956.
De Oraculis Chaldaicis / ed. W. Kroll. Breslau, 1894; Hildesheim, 1962.
ИЗБРАННАЯ БИБЛИОГРАФИЯ
779
Глава 17
BidezJ. La vie de l’Empereur Julien. Paris, 1930.
Dodds E. R. Theurgy and its relation to Neoplatonism // Journal of Roman Studies. 1947. 37. P. 55—69; The Greeks and the Irrational. Berkeley, 1951. App. 2.
Geffcken J. Der Ausgang des griechisch-romischen Heidentums. Heidelberg, 1920.
Lewy H. Chaldaean Oracles and Theurgy. Cairo, 1956.
Westerink L. G. Proclus, Procopius, Psellus // Mnemosyne. 1942. Ser. 3, 10. S. 275—280.
Whittaker T The Neoplatonists. Cambridge, 1928.
Глава 18
Beutler R. Porphyrios // Paulys Realencyclopadie. 1953. Bd. 22. 1.
BidezJ. Vie de Porphyre. Ghent; Leipzig, 1913; Hildesheim, 1964.
Le philosophe Jamblique et son dcole // Revue des 0tudes grecques. 1919. 32. P.29—40.
Dorrie H. Porphyrios’ ‘Symmikta Zetemata’. Munich, 1959.
Fronte S. Sull’autenticita del 4De Mysteriis’ di Giamblico // Siculorum Gymnasium (Catania). 1954. 7. P. 234—255.
Hadot P. Fragments d’un commentaire de Porphyre sur le Parmenide // Revue des 0tudes grecques. 1961. 74. P. 410—438.
Rasche C. De Iamblicho libri qui inscribitur de mysteriis auctore. Diss. Munster, 1911.
Глава 19
Важнейшая современная работа по афинскому неоплатонизму —
комментарий Э. Р. Доддса на «Первоосновы теологии» Прокла.
Courcelle R Воёсе et l’ecole d’Alexandrie // Melanges de l’ecole fransaise de Rome. 1935. 53. P. 185—223.
Grondijs L. H. L’ame, le nous et les henades dans la theologie de Proclus // Mededelingen der koninklijke nederlandse Akademie van Wetenschap- pen. Afd. Letterkunde. 1960. N 23. S. 29—42.
Joseph H. W. B. An Introduction to Logic. Oxford, 1916.
Lloyd Л. C. Neoplatonic and Aristotelian Logic (см. выше, раздел III).
Lovejoy A. O. The Great Chain of Being. Cambridge, 1936.
Marrou H. 1. Synesius of Cyrene and Alexandrian Neoplatonism // The Conflict between Paganism and Christianity in the Fourth Century / ed. A. Momigliano. Oxford, 1963.
Rosan L. J. The Philosophy of Proclus. New York, 1949 (с обширной библиографией).
Saffrey H. D. Le chretien Jean Philopon et la survivance de 1’ёсо1е d’Alexandrie au Vie siecle // Revue des 0tudes grecques. 1954. 72. P. 396—400.
780
ИЗБРАННАЯ БИБЛИОГРАФИЯ
Sambursky S. The Physical World of Late Antiquity. London, 1962.
Shiel J. Boethius’ commentaries on Aristotle II Mediaeval and Renaissance Studies. 1958.4. P.217—244.
Tatakis B. La philosophic byzantine. Paris, 1949.
TrouillardJ. Le sens des mediations proclusiennes // Revue philosophique de Louvain. 1957. 55. P. 331—342.
Vancourt R. Les demiers commentateurs alexandrins d’Aristote: l’ecole d’Olympiodore, Etienne d’Alexandrie. Lille, 1941.
Westerink L. G. Anonymous Prolegomena to Platonic Philosophy. Amsterdam, 1962.
Раздел V. Марий Викторин и Августин
Марий Викторин
Ad Candidum // Traites theologiques sur la Trinite / ed. P. Henry, P. Hadot (с предисловием, французским переводом и комментариями) (Sources Chretiennes). Paris, 1960.
Adversus Arium // Ibid.
Ars grammatica / ed. H. Keil // Grammatici latini. Vol. 6. Leipzig, 1874. S. 1—184.
Candidi Epistola I, II // Traites theologiques sur la Trinite. Explanations in rhetoricam Ciceronis / ed. O. Halm // Rhetores latini minores. Leipzig, 1863. S. 153—304.
Hymns // Traites theologiques sur la Trinite.
In epistolam Pauli ad Ephesios, PL 8. 1235—1294.
In epistolam Pauli ad Galatas, PL 8. 1145—1198.
In epistolam Pauli ad Philippenses, PL 8. 1197—1236.
Liber de diffinitione, PL 64. 891—910 (псевдо-Боэций).
Список трудов Августина см. в начале раздела V. Полную библиографию см. в работе: Andresen С. Bibliographia Augustiniana. Darmstadt, 1962.
Глава 20
Benz Е. Marius Victorinus und die Entwicklung der abendlandischen Willens- metaphysik. Stuttgart, 1932.
Hadot R De lectis non lecta conponere (M. Victor., adv. Ar. 11 7) // Studia Patristica, l(Texte und Untersuchungen, 63). Berlin, 1957. S. 209— 220.
L’lmage de la Trinite dans l’ame chez Victorinus et chez saint Augustin // Studia Patristica, 6 (Texte und Untersuchungen, 81). Berlin, 1962. S. 409—442.
Henry P The Adversus Arium of Marius Victorinus: the first systematic exposition of the doctrine of the Trinity // J. Theol. Stud. 1950. N 1. P. 42—55.
ИЗБРАННАЯ БИБЛИОГРАФИЯ
781
Главы 21—27
Baynes Ν. Н. The Political Ideas of St Augustine’s ‘De civitate Dei’. London, 1936.
Bonner G. St Augustine of Hippo. London, 1963.
Boyer C. Christianisme et neo-Platonisme dans la formation de saint Augustin. Paris, 1920.
L’idee de verite dans la philosophic de saint Augustin. Paris, 1941. Burnaby J. Amor Dei. London, 1938.
Cayre F. Initiation a la philosophic de saint Augustin. Paris, 1947.
Courcelle P. Recherches sur les Confessions de saint Augustin. Paris, 1950. Deane H. A. The Political and Social Ideas of St Augustine. New York; London, 1963.
Deman P T Le traitement scientifique de la morale chretienne selon saint Augustin. Paris, 1957.
Dinkier E. Die Anthropologie Augustins. Stuttgart, 1964.
Fuchs H. Augustin und der antike Friedensgedanke. Berlin, 1926.
Gilson E. The Christian Philosophy of Saint Augustine / tr. L. E. M. Lynch. London, 1961.
Guitton J. Le temps et l’etemit0 chez Plotin et saint Augustin. Paris, 1955. Hessen J. Augustins Metaphysik der Erkenntnis. Berlin, 1931.
Holte R. Beatitude et Sagesse: St. Augustin et le probleme de la fin de l’hom- me dans la philosophic ancienne. Paris, 1962.
Jolivet R. Dieu soleil des esprits. Paris, 1934.
Kamlah W. Christentum und Geschichtlichkeit. Stuttgart, 1951.
Lauras A., Rondet H. Le theme des deux cites dans l’ceuvre de s. Augustin // Etudes augustiniennes. Paris, 1953. P. 97—160.
Lorenz R. Die Wissenschaftslehre Augustins //Zeits. f. Kirchengesch. 1955— 1956. 67. S. 29—60; 213—251.
MaierF. G. Augustin und das antike Rom. Stuttgart, 1956.
Marrou Η. I. Saint Augustin et la fin de la culture antique. Paris, 1938; 1949.
Saint Augustine and his Influence through the Ages. London, 1957. Mausbach J. Die Ethik des heiligen Augustinus. Freiburg, 1909.
Mommsen I E. Augustine’s theory of progress // Medieval and Renaissance Studies. New York, 1959.
Augustine and Orosius // Ibid.
O’Meara J. J. The Young Augustine. London, 1954.
Ratzinger J. Volk und Haus Gottes in Augustinus’ Lehre von der Kirche. Miinchen, 1954.
Schmaus M. Die psychologische Trinitatslehre des Heiligen Augustinus. Munster, 1907.
Straub J. Christliche Geschichtsapologetik in der Krisis des romischen Reiches//Historia. 1950. 1. S. 52—81.
Augustins Sorge um die regeneratio imperii // Histor. Jahrb. 1954. 73. S. 36—60.
782
ИЗБРАННАЯ БИБЛИОГРАФИЯ
Wachtel A. Beitrage zur Geschichtstheologie des Aurelius Augustinus. Bonn, 1960.
Augustinus Magister: Congres international augustinien. 3 vols. Paris, 1954.
Recherches angustiniennes. 1—5. Paris, 1958—1963.
Раздел VI. Греческая христианская платоническая традиция от каппадокийцев до Максима Исповедника и Эриугены
Василий Великий
Works, PG 29—32.
Homiliae in Hexaemeron / ed. and tr. S. Giet (Sources Chretiennes). Paris, 1950.
On the Holy Spirit / ed. and tr. B. Pruche (Sources Chretiennes). Paris, 1947.
Григорий Богослов
Works, PG 35—38.
Orationes 27—31 (Orationes theologicae) / ed. A. J. Mason. Cambridge, 1899.
Григорий Нисский
Works, PG 44—46.
Works / ed. W. Jaeger, H. Langerbeck, etc. Leiden, 1952.
Oratio catechetica / ed. J. H. Srawley. Cambridge, 1903.
De Vita Moysis / ed. and tr. J. Danielou (Sources Chretiennes). Paris, 1956.
Псевдо-Дионисий Works, PG 3.
De caelesti hierarchia / ed. and tr. R. Roques, G. Heil, M. de Gandillac (Sources Chretiennes). Paris, 1958.
Иоанн Скифопольский Works, PG 4.
Иоанн Филопон
De aetemitate mundi contra Proclum / ed. H. Rabe. Leipzig, 1899; 1964. De opificio mundi / ed. G. Reinhardt. Leipzig, 1897.
Эней Газский
Theophrastus, PG 85. 865—1004.
Захария Схоластик
Ammonius, PG 85. 1011—1144.
Прокопий Газский Works, PG 87.
Леонтий Пустынник
Libri tres contra Nestorianos et Eutychianos, PG 86. 1. 1268 ff.
Solutio argumentorum Severi, PG 86. 2. 1916 ff.
Максим Исповедник
Works, PG 90—91.
ИЗБРАННАЯ БИБЛИОГРАФИЯ
783
Gnostic Century // Epifanovic S. L. Materials to serve in the Study of the Life and Works of S. Maximus Confessor. Kiev, 1917.
Ascetic Life and Centuries on Charity / tr. and annotated by P. Sherwood. Westminster; London, 1955.
Иоанн Дамаскин
De Sacris Imaginibus Orationes, PG 94. 1232 f.
Никифор Константинопольский
Works, PG 100.
Contra Eusebium et Epiphanidem / ed. J. B. Pitra // Spicilegium soles- mense. Paris, 1852—1858.1. P. 371—503; IV. P. 292—380.
Герман Константинопольский
Epistola dogmatica II, PG 98. 156 ff.
Анонимный комментатор Евангелия от Иоанна
Ed. К. Hausmann. Paderbom, 1930.
Иоанн Скот Эриугена
Works, PL 122.
Periphyseon / ed. I. P. Sheldon-Williams. Dublin, 1968.
Annotationes in Marcianum / ed. C. Lutz. Cambridge, 1939.
Commentary on Boethius De consolatione Philosophiae III, met. 9 / ed. H. Silvestre // Revue d’histoire ecclesiastique. 1952. 17. P. 44—122.
Expositiones super Ierarchiam caelestem III—VII / ed. H. F. Dondaine // Archives d’histoire doctrinale et litt0raire du Moyen Age. 1951. 18. P.252—301.
Глава 28
Fortin E. L. Christianisme et culture philosophique au 5 siecle. Paris, 1959.
Ivdnka E. von. Hellenisches und Christliches im fruhbyzantinischen Geistes- leben. Vienna, 1948.
Jaeger W. Nemesios von Emesa. Berlin, 1914.
Koch H. Ps.-Dionysius Areopagita in seinen Beziehungen zum Neuplatonismus und Mysterienwesen // Forschungen zur christlichen Literatur und Dogmengeschichte. I, 2—3. Mainz, 1900.
Lossky V. Theologie mystique de l’Eglise d’Orient. Paris, 1944 (англ, перевод: London, 1956).
Lot-Borodine. La doctrine de la deification dans l’eglise grecque // Revue d’histoire des religions. 1932. P. 5 ff., 525 ff.; 1933. P. 8 ff.
Stephenson A. A. St Cyril of Jerusalem and the Alexandrian Christian Gnosis // Studia Patristica, I. Berlin, 1957. S. 142—156.
Глава 29
Balthasar H. von. Presence et pensee: Essai sur la philosophic religieuse de Gregoire de Nysse. Paris, 1942.
Dani0louJ. Platonisme et theologie mystique. Paris, 1953.
PlagnieuxJ. Saint Gregoire de Nazianze theologien. Paris, 1951.
784
ИЗБРАННАЯ БИБЛИОГРАФИЯ
Tatakis В. The contribution of Cappadocia to Christian Thought. Athens, 1960. Volker W. Gregor von Nyssa als Mystiker. Wiesbaden, 1955.
Глава 30
Hornus J. M. Les recherches recentes sur le ps. Denys l’Areopagite // Revue d’histoire et de philosophic religieuse. 1955. 35. R 404—408.
Les recherches dionysiennes du 1955—1960 // Ibid. 1961. 41. R 22— 81.
Lossky V. La notion des “analogies” chez le ps. Denys l’Areopagite //Archives d’histoire doctrinale et litteraire du Moyen Age. 1930. 5. P. 279—309. La theologie negative dans la doctrine de Denys ГAreopagite // Revue des sciences philosophiques et theologiques. 1939. 28. R 204— 221.
Roques A. L’univers dionysien. Paris, 1954.
Rutledge D. Cosmic Theology (commentary on the Ecclesiastical Hierarchy). London, 1964.
Sheldon-Williams I. P. The Ecclesiastical Hierarchy of Ps.-Dionysius // Downside Review. 1964. 82. P. 293—302; 1965. 83. P. 20—31.
Vanneste J. Le mystere de Dieu. Essai sur la structure de la doctrine mystique du ps. Denys l’Areopagite. Brussels, 1959.
Volker W. Kontemplation und Ekstase bei ps. Dionysius Areopagita. Wiesbaden, 1958.
Глава 31
Balthasar H. von. Das Scholienwerk des Johannes von Scythopolis // Scholastic 1940. 15, 1. S. 16—38.
Sambursky S. См. раздел IV, гл. 19.
Tatakis В. См. раздел IV, гл. 19.
Vancourt R. См. раздел IV, гл. 19.
Глава 32
Balthasar Н. von. Kosmische Liturgie. Einsiedeln, 1961 (франц. перевод: Paris, 1947).
Sherwood Р. The Earlier Ambigua of St Maximus the Confessor and his Refutation ofOrigenism. Rome, 1955.
Tatakis В. См. раздел IV, гл. 19.
Глава 33
Alexander P. J. The Patriarch Nicephorus of Constantinople. Oxford, 1958. Baynes N. H. Idolatry in the Early Church // Byzantine Studies. London, 1955. P. 116—143.
The Icons before Iconoclasm // Ibid. P. 227—239.
ИЗБРАННАЯ БИБЛИОГРАФИЯ
785
Ladner G. В. The Concept of the Image in the Greek Fathers and the Byzantine Iconoclastic Controversy // Dumbarton Oaks Papers. 1953. 7. P. 3— 34.
Ostrogorsky G. Studien zur Geschichte des byzantinischen Bilderstreites. Breslau, 1929.
Tatakis В. См. раздел IV, гл. 19.
Глава 34
Cappuyns M Jean Scot Erigene: Sa vie, son oeuvre, sa pensee. Louvain; Paris, 1933; 1964 (с полной исследовательской библиографией).
Dal Pra M Scoto Eriugena ed il neoplatonismo medievale. Milan, 1941. Scoto Eriugena. Milan, 1951.
Mazzanella R II pensiero di Giovanni Scoto Eriugena. Padua, 1957. Sheldon-Williams /. P A Bibliography of the Works of Johannes Scottus Eriugena//Journal of Ecclesiastical History. 1960. 10, 2. P. 198—224. Thery P G. Etudes dionysiennes. Paris, 1932—1937.
Раздел VII. Западная христианская мысль от Боэция до Ансельма
Боэций
Works, PL 63—64.
In Isagogen Porphyrii commenta / ed. S. Brandt. CSEL 48. Theological Tractates / ed. and tr. H. F. Stewart, E. K. Rand (Loeb Classical Library). London, 1918; 1953.
De Consolatione Philosophiae / ed. and tr. H. F. Stewart and E. K. Rand (Loeb Classical Library). London, 1918; 1953.
De Consolatione Philosophiae / ed. Weinberger. CSEL 67.
De Sancta Trinitate ad Symmachum / ed. H. F. Stewart, E. K. Rand // Theological Tractates (Loeb Classical Library). London, 1918. Исидор Севильский
Works, PL 81—84.
Etymologiarum sive Originum libri XX / ed. W. M. Lindsay. 2 vols. Oxford, 1911.
Traite de la nature / ed. and tr. J. Fontaine. Bordeaux, 1960. «Каролингские книги»
PL 98. 99—1248.
Ed. H. Bastgen; MGH, Concilia, II. Suppl. 1924.
Агобард Лионский
PL 104. 29—350.
MGH, Ер. V. P. 153—238.
Готшальк из Орбе
CEuvres theologiques et grammaticales / ed. D. C. Lambot // Spicilegium sacr. Lovaniense, 20. Louvain, 1945.
Ратрамн из Корби
PL 121. 13—346.
786
ИЗБРАННАЯ БИБЛИОГРАФИЯ
MGH, Ер. V. Р. 149—158.
Liber de Anima ad Odonem / ed. D. C. Lambot. Namur; Lille, 1952. Иоанн Скот Эриугена. См. раздел VI.
Адальбольд из Утрехта
Ed. Е. Т. Silk: Pseudo-Johannes Scottus, Adalbold of Utrecht and the early commentaries on Boethius // Mediaeval and Renaissance Studies. 1954. III. P. 14—24.
Ed. R. В. C. Huygens: Mittelalterliche Kommentare zum „0 qui perpetua“ // Sacris erudiri. 1954. 6. S. 373—427.
Бово из Корвея
Ad Boethium De Consolatione philos. Ill metr. 9. PL 64. 1239—1244. Манегольд из Лаутенбаха
Opusculum contra Wolfelmum, PL 155. 147—176.
Opusculum contra Wolfelmum. Introduction and chs. 22—24 / ed.
K. Franke // MGH, Libelli de lite. 1891. 1. P. 303—308.
Liber ad Gebhardum // Loc. cit. S. 358—430.
Ансельм из Безаты
Ed. К. Manitius. Gunzo ad Augienses und Anselm von Besate. Rhe- torimachia // MGH. Zuellen z. Geistesgesckichte d. M. A. 1958. II.
Герберт Аврилакский (Сильвестр II)
PL 139. 57—338.
Letters / ed. J. Havet. Paris, 1889 (ed. and trans Η. P. Lattin. New York, 1961).
Беренгарий Турский
De sacra coena adversus Lanfrancum / ed. A. F. Vischer, F. T. Vischer.
Berlin, 1834; Kerk. histor. studien. 1941. 2.
Ed. C. Erdmann, N. Fickermann // MGH. Briefe d. deutschen Kaiserzeit. 1950. V. S. 132—172.
Ланфранк из Бека
Works, PL 150. 1—640.
Петр Дамиани
Works, PL 144—145.
Ансельм Кентерберийский Works, PL 158—159.
Works / ed. F. S. Schmitt. 6 vols. London; Edinburgh, 1946—1951. Эдмер
Vita Sti. Anselmi / ed. and tr. R. W. Southern. London; Edinburgh, 1962.
Г аунилон
Liber pro insipiente / ed. F. S. Schmitt //Anselmi Opera. I. 125—129. Росцелин
Ad Abaelardum / ed. J. Reiners // Der Nominalismus in der Friihscho- lastik. Munster, 1910. S. 63—80.
ИЗБРАННАЯ БИБЛИОГРАФИЯ
787
Глава 35
BidezJ. Воёсе et Porphyre // Revue Beige de Philologie et Histoire. 1923. 1. P. 189—201.
Cooper L. A Concordance of Boethius. Cambridge, 1928.
Courcelle P, Les lettres grecques en Occident de Macrobe a Cassiodore. Paris, 1948.
Favey C. La consolation latine chretienne. Paris, 1937.
Fontayne J. Isidore de Seville et la culture classique dans l’Espagne wisi- gothique. 2 vols. Paris, 1959.
Klingner F. De Boethii consolatione philosophiae. Berlin, 1921.
Momigliano A. Cassiodorus and Italian Culture in his Time // Proceedings of the British Academy. 41. London, 1955.
Praechter K. Christlich-neuplatonische Beziehungen // Byzantinische Zeit- schrift. 1912. 2, l.S. 1—27.
Rand E. K. Founders of the Middle Ages. Cambridge, 1928 (ch. 5: Boethius the Scholastic).
Schmekel A. Die positive Philosophic in ihrer geschichtlichen Entwicklung. II. Isidor v. Sevilla. Berlin, 1914.
Schur V Die Trinitatslehre d. Boethius im Lichte der skythischen Controverse. Paderbom, 1935.
Stewart Η. T Boethius. Edinburgh, 1891.
Глава 36
Cabannis A. Agobard of Lyons. New York, 1953.
Cappuyns M См. раздел VII, гл. 34.
Delhaye R Une controverse sur Tame universelle au IXe siecle. Lille; Namur, 1950.
Ehrhardt-Siebold E. v., Ehrhardt R. v. Cosmology in the ‘Annotations in Martianum’. Baltimore, 1946.
Laistner M. L. W Thought and Letters in Western Europe A. D. 500—900. London, 1957.
Liebeschutz H. Martianus Capella bei Eriugena // Philologus, 104. Berlin;
Wiesbaden, 1960. S. 127—137.
Vielhaber K. Gottschalk der Sachse. Bonn, 1956.
Wallach L. Alcuin and Charlemagne. New York, 1959.
Глава 37
Endres JA. Forschungen z. Geschichte d. friihmittelalterlichen Philosophic. Munster, 1910.
Petrus Damiani und die weltliche Wissenschaft. Munster, 1910. Gonzette J. Pierre Damien et la culture profane. Louvain, 1956.
Gregory T Platonismo medievale. Studi e Ricerche. Rome, 1958. Macdonald A. J. Berengar and the Reform of Sacramental Doctrine. London, 1930.
788
ИЗБРАННАЯ БИБЛИОГРАФИЯ
Picavet F. Gerbert ou le pape philosophe. Paris, 1897.
Southern R. Lanfranc of Bee and Berengar of Tours // Studies Presented to M. Powicke. Oxford, 1948. P. 27—49.
Глава 38
Barth K. Anselm: Fides quaerens intellectum / tr. J. W. Robertson. London, 1960.
KoyreA. L’idee de Dieu dans la philosophic de St. Anselme. Paris, 1923. McIntyre J. St Anselm and his Critics: a re-interpretation of the ‘Cur Deus homo’. Edinburgh; London, 1954.
Reiners J. Der Nominalismus in der Fruhscholastik. Munster, 1910.
Southern R. St Anselm and his Biographer. Cambridge, 1962.
Steinen W. v. d. Vom heiligen Geist des Mittelalters. Breslau, 1926. S. 1—143.
Раздел VIII. Ранняя исламская философия
Хунайн ибн Исхак
liber die syrischen und arabischen Galenubersetzungen (арабский текст и немецкий перевод И. Бергштрассера). Leipzig, 1925. Bergstrdsser J. Neue Materialien zu Hunain ibn Ishaq’s Galen-Bibliographie.
Leipzig, 1932.
Аль-Кинди
Первое издание 24 небольших трудов аль-Кинди: Ed. Abu Rida. 2 vols. Cairo, 1950; 1953.
Арабский текст, итальянский перевод и комментарии двух трактатов: Guidi М, Walzer R. Studi su al-Kindi. I. Roma, 1940; Ritter H., Walzer R. Studi su al-Kindi. II. Roma, 1938. Латинский перевод двух трактатов: Ed. A. Nagy. Beitrage zur Geschichte der Philosophic des Mittelalters. II, 5. Minister, 1897.
Ар-Рази
Первое издание ряда трактатов П. Краусом: Abi Bakr Mohammadi filii Zachariae Rhagensis Opera Philosophica. Pars Prior. Cairo, 1939.
Французский перевод его автобиографии П. Краусом: Raziana, 1 ff Orientalia. 1935. 4. S. 300 ff.
Английский перевод А. Дж. Арберри: Asiatic Review. 1949. P. 503 ff. Spiritual Physick of Razes / tr. by A. J. Arberry. London, 1950. Маймонид. «Путеводитель растерянных»
Издания арабского текста: Ed. S. Munk. Paris, 1856—1866; ed. I. Joel. Jerusalem, 1930.
Английский перевод с предисловием, комментариями (и вступительной статьей Лео Штрауса): Ed. S. Pines. Chicago, 1963.
Аль-Газали
Al-Munqidh min ad-Dalal / ed. F. Jabre (с французским переводом). Beirut, 1959.
ИЗБРАННАЯ БИБЛИОГРАФИЯ
789
Английский перевод У. Монтгомери: The Faith and Practice of Al- Ghazali. London, 1953.
Биография Авиценны
Tr. A. J. Arberry //Avicenna on Theology. London, 1951. P. 10 ff.
Ибн Рушд. «Опровержение опровержения»
Арабский текст: Ed. М. Bouyges. Beirut, 1930.
Латинский перевод XVI века: Ed. В. Н. Zedler. 1961.
Английский перевод с предисловием и комментариями С. ван ден Берга: 2 vols. London, 1954.
Аль-Фараби
Rescher N. Al-Farabi. An Annotated Bibliography. Pittsburgh, 1962 (cp.:
Journal of the Royal Asiatic Society. 1963. P. 99).
Aphorisms of the Statesman (английский перевод, предисловие и комментарии Д. М. Дюнлопа). Cambridge, 1961.
Compendium Legis Platonis (латинский перевод и предисловие Ф. Габриэли) // Plato Arabus. III. London, 1952.
Survey of the Sciences / ed. Uthman Amin. Cairo, 1930; латинский перевод Герарда Кремонского и Гильельмо Камерария (1638) / ed. A. Gonzalez Palencia //Al-Farabi. Catalogo de las Ciencias. Madrid; Granada, 1953.
On Attaining Felicity (английский перевод M. Махди). New York, 1962.
On the Philosophy of Plato: De Platonis philosophia (издание арабского текста с латинским переводом, предисловием и комментариями Ф. Розенталя и Р. Вальцера) // Plato Arabus. II. London, 1943 (англ, перевод М. Махди: New York, 1962).
On the Philosophy of Aristotle (издание арабского текста M. Махди). Beirut, 1961 (англ, перевод: New York, 1962).
On Political Government (английский перевод P. Лернера и M. Махди) // Medieval Political Philosophy. New York, 1963. P. 39 ff. Немецкий перевод: Dieterici F. Die Staatsleitung von Al-Farabi. Leiden, 1904.
Principles of the Views of the Citizens of the Excellent State / ed. F. Dieterici. Leiden, 1895; ed. A. Nadir. Beirut, 1959. Критическое издание будет осуществлено Р. Вальцером. Немецкий перевод: Dieterici F. Der Musterstaat. Leiden, 1900. Французский перевод: Al-Farabi, Idees des habitants de la cite vertueuse. Cairo, 1949.
Главы 39—40
Brockelmarm C. Geschichte der arabischen Literatur. 2 vols. Leiden, 1943—
1949.
Geschichte der arabischen Literatur. Supplement. 3 vols. Leiden, 1937—1942.
Corbin H. Histoire de la philosophic islamique. I. Paris, 1964.
790
ИЗБРАННАЯ БИБЛИОГРАФИЯ
D’Alverny Μ. Т Anniyya-Anitas // Melanges Gilson. Paris, 1959. P. 59 ff. Avendauth // Homenaje a Millas Valiscrosa. I. Barcelona, 1954. P. 19 ff. Avicenne et les medecins de Venise // Studi in onore di Bruno Nardi. Firenze, 1955. P. 177 ff.
Boer T J. de. The History of Philosophy in Islam (перевод с немецкого). London, 1903.
Menasce J. de. Arabische Philosophic (Bibliographische Einfuhrungen in das Studium der Philosophic, 6). Bern, 1948.
GardetL., Anawati Μ. M. Introduction a la th0ologie musulmane. Paris, 1948. Gibb H. A. R. The Influence of Islamic Culture in Medieval Europe // Bulletin of the John Rylands Library. 1955. 38. P. 82 ff.
Gilson Ё. Les Sources Greco-Arabes de TAugustinisme Avicennisant // Archives doctrinales et litt0raires du Moyen Age. 1929. 4.
Guttmann J. Philosophies of Judaism (перевод с иврита). London, 1964. Macdonald D. B. The Development of Muslim Theology, Jurisprudence and Constitutional Theory. New York, 1903.
Meyerhof M. New Light on Hunain ibn Ishaq // Isis. 1926. 8. P. 685 ff. MunkS. Melanges de philosophic juive et arabe. Paris, 1859.
Pines S. Beitrage zur islamischen Atomenlehre. Berlin, 1936.
Rahman F. Prophecy in Islam. London, 1958.
Renan E. Averroes et l’Averro'isme. Paris, 1861.
Steinschneider M. Die arabischen IJbersetzungen aus dem Griechischen. Graz, 1960.
Die Hebraischen IJbersetzungen des Mittelalters und die Juden als Dolmetscher. Berlin, 1893.
Die europaischen IJbersetzungen aus dem arabischen bis Mitte des 17. Jahrhunderts. Graz, 1956.
Montgomery W. Islamic Philosophy and Theology. Edinburgh, 1962. WalzerR. Greek into Arabic. Essays on Islamic Philosophy. Oxford, 1962. Arabic Philosophy // Encyclopaedia Britannica. 1963.
The Achievement of the Falasifa and their Eventual Failure // Correspondance d’Orient, 5. Bruxelles, 1962. P. 347 ff.
Aflatun; Akhlaq; AristutalTs; Buruklus // Encyclopedia of Islam. Vol. 1. Leiden, 1960.
DjalTnus; al-Farabl; Furfuriyus // Ibid. Vol. 2. Leiden, 1965.
УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН
Аарон 697; 704 Абеляр 728; 729 Абу Рида М. А. 747, прим. 1 Августин 49—51; 53—55; 243; 244; 277; 299; 393; 405; 406; 413—499; 505; 533, прим. 6; 577, прим. 3; 611; 613; 632; 636; 642; 644; 645; 653; 660; 661; 663; 666—668; 671—679; 684; 686; 694, прим. 1; 697; 700; 701; 704; 708; 711—717; 719; 721— 724; 727; 731; 735; 758 Авель 662
Аверроэс (Ибн Рушд) 740; 742; 743;
745; 747; 750; 764; 765; 767 Авиценна (Ибн Сина) 53; 740; 742;
747; 749—751; 753; 764—766 Авл Геллий 115
Авраам 198, прим. 4; 199; 206; 209; 212; 222 Авсоний 422 Агарь 198, прим. 4 Агатархид 142 Агобард Лионский 666 Адальберон Реймсский 691 Адальбольд из Утрехта 682; 684; 685 Адам 202; 204; 205; 238; 240; 445; 459; 489; 498; 533
Адо П. 50; 95, прим. 1; 305; 337; 363, прим. 4; 406; 408, прим. 2; 412, прим. 4, 7; 413, прим. 4; 414; 415 Адраст Афродисийский 61; 277 Адриан I (папа римский) 609; 659 Акелин 700
Аларих I (вождь вестготов) 487 Александр Афродисийский 61; 68, прим. 4; 91, прим. 6; 93; 97, прим.
2; 140; 173, прим. 2; 174; 176—179; 180, прим. 3; 181, прим.; 183, прим. 1; 186; 277; 278; 304; 352; 374; 375, прим. 1; 380; 566; 755; 756; см. также псевдо-Александр Александр Полигистор 89, прим. 2;
141—143; 162 Али (зять Мухаммеда) 765 Алкин (стоик) 122, прим.
Алкуин 660 Аллах 760
аль-Газали 743; 749; 753; 766; 767 аль-Кинди 53; 746; 747; 751; 753; 760; 763;765
аль-Фараби 50; 53; 174, прим. 1; 279, прим. 1; 740; 742; 745—756; 758— 766
Альберт Великий 626 Альбин 69, прим. 6; 116—123; 125; 130; 133—136; 171, прим. 2; 220, прим. 2; 354
Альфред Великий (король Уэссекса) 682
Амальрик из Бена 625
Амвросий Медиоланский 217; 418;
435; 631; 651; 663; 666; 700 Амелий Гентилиан 151; 268—270; 280;
317; 334—337; 358 Аммоний Афинский 109 Аммоний Гермий 343; 389—391; 393;
395; 396; 565; 568; 574; 647 Аммоний Саккас 49; 245; 246; 261 — 264; 272; 274; 281; 303, прим.; 354; 433; 559, прим. 1; 577 Анаксагор 155; 253, прим. 5 Анастасий Библиотекарь 610
792
УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН
Анастасий Нечестивый (византийский император) 636
Анастасий Синаит 569, прим. 6 Анатолий (учитель Ямвлиха) 367, прим. 2
Анатолий Лаодикийский 310, прим. 1 Андроник Родосский 111, прим. 2; 132;
133, прим. 2; 135; 171; 172; 179 Анней Амиций 105, прим. 7 Анри П. 50; 95, прим. 1; 182, прим. 1; 282; 314, прим. 5; 330, прим. 2; 406; 408, прим. 2; 411; 414 Ансельм из Безаты 689; 690; 702 Ансельм Кентерберийский 44; 50; 53; 705—735
Антиох 98; 103—109; 113—115; 122, прим.; 129; 130; 134—136; 151; 152; 161; 170, прим. 5; 173; 186, прим. 1 Антисфен Афинский 152 Антисфен Родосский 170 Антонин Пий (римский император) 220
Апис 208, прим. 3 Аполлон 670
Аполлоний Тианский 161, прим. 4 Аполлос (апостол) 217 Апулей 122—125; 130; 136; 154, прим. 7
ар-Рази 53; 746—749; 751; 753 Арберри А. Дж. 749, прим. 3 Арефа Кесарийский 570 Арий Дидим 107; 116, прим. 2 Арист (схоларх) 109 Аристид Квинтилиан 145 Аристипп Киренский 152 Аристокл 93; 173; 174 Аристоксен Тарентский 139; 145; 158; 168—170
Аристотель 48; 56; 61—64; 67; 72— 74; 77—79; 81; 84—102; 104—106; 108—111; 115—119; 121; 123—128; 130—136; 138—140; 142; 144—146; 152—156; 163—165; 167—169; 171; 173—178; 180; 183; 186, прим. 2; 187; 189, прим. 6; 198, прим. 4; 201, прим. 6; 205; 232; 233; 259; 262; 263; 270; 278; 280; 304; 305; 309; 316; 317; 321, прим. 4; 325; 326;
343—347; 349; 351; 358; 360; 365; 368; 371—374; 376; 377; 388—397; 405; 430; 507; 515; 518; 519; 563; 565; 566; 568; 570; 572; 576; 577; 581; 589; 605; 625; 630—634; 642; 646; 647; 649; 652; 653; 689; 690; 707; 725; 731; 740; 744; 746; 750; 756; 763—766; см. также псевдо- Аристотель
Аркесилай 103, прим. 1 Армстронг А. X. 95, прим. 1 Арним Г. В. 89, прим. 1 Архенет 139 Архит см. псевдо-Архит Асклепий Тралльский 389; 390 Аспасий 61; 277
Аттик 61; 97, прим. 2; 115; 125—130; 136; 160; 277
Афанасий Великий 406; 509 Афина 106, прим. 2 Афинагор Афинский 604 Афинодор 172, прим. 2 Аэтий (доксограф)139, прим. 2 Аэций Антиохийский 515
Бальтазар У. 560, прим. 5 Бардесан 188, прим. 4 Барк У. К. 639, прим. 1 Барр Дж. 219, прим.
Барт К. 722 Бемер Ф. 160
Бенедикт Нурсийский 649; 707 Беренгарий Турский 52; 685; 695—703;
705; 707; 711; 729 Беркли Дж. 347 Бернард Клервоский 735 Бёрджес Г. 116, прим. 1 Бётлер Р. 375, прим. 1, 3 Бидец Ж. 347 Бикель Э. 160
Биньоне Э. 89, прим. 1; 153 Бово из Корвея 682—684 Бодри Ж. 125, прим. 4 Бозо (персонаж Ансельма) 711; 718; 732; 733
Бонавентура 335 Бонифаций 706 Борген П. 216, прим. 3
УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН
793
Боэт Сидонский (перипатетик) 172; 173, прим. 3
Боэт Сидонский (стоик) 190, прим. 3 Боэций 50; 55; 393; 526, прим. 1; 565; 609; 611; 612; 630—641; 643—647; 653; 666; 668; 669; 682—685; 689; 691; 692; 694; 698; 702; 707; 711; 731; 732; 735
Брейе Э. 136; 170, прим. 1; 188, прим.
4; 260; 315; 321 Бронтин см. псевдо-Бронтин Брэдли Ф. Г. 373
Буайансэ П. 83, прим. 2; 158, прим. 10 Буркерт В. 138, прим. 2; 161, прим. 2 Буссе В. 215, прим. 2
Ваксмут К. 168, прим. 2 Валентин (гностик) 227; 311; 312 Валерий Гиппонский 423 Вальцер Р. 50 Ван де Вьер А. 694 Ваннест Ж. 555, прим. 8 Варрон 106, прим. 2; 419; 467; 671, прим. 2; 672
Василий Великий 509; 511; 513; 515; 516; 518—521; 526; 529; 532; 539; 564; 566; 569; 575; 599; 600; 678, прим.
Вебер К. О. 263, прим. 1 Веерли Ф. 90, прим. 4; 169, прим. 6 Венера 670
Венило Сансский 679, прим. 1 Вергилий 488; 610, прим. 5 Веспасиан (римский император) 109 Виламовиц У. 90, прим. 4 Волузиан (римский император) 433 Вольфгейм Кельнский 685
Гай (платоник) 61; 122, прим.; 277 Гайзер К. 61, прим. 4 Гален 97, прим. 2; 116, прим. 1; 122, прим.; 184, прим. 7; 743; 746 Галлиен (римский император) 162, прим. 3; 267
Гарпократион из Аргоса 160, прим. 3 Гатри У. К. Ч. 44, 45; 89, прим. 1 Гаунилон 726; 727 Гегель Г. В. Ф. 397; 398; 658
Гейл Т. 625, прим. 4 Геката 377
Генрих I (французский король) 700, прим. 2
Генрих III (император Священной Римской империи) 690
Генрих IV (император Священной Римской империи) 688 Георгий Скифопольский 560 ГераклидЛемб 142 Гераклид Понтийский 63; 90; 167 Гераклит 131; 189; 202, прим. 4; 515, прим. 2; 535, прим. 1 Герберт Аврилакский (Сильвестр II) 691—694
Геренний (ученик Аммония) 281 Герман (Стринопулос) 607, прим. 4 Герман Константинопольский 560 Гермес Трисмегист 684; 745 Гермий Александрийский 565 Термин (перипатетик) 177, прим. 4 Гермодор 63, прим. 6; 85; 141; 144 Гесий (ятрософист) 575 Гестий (платоник) 62; 63; 65 Гиерокл 262, прим. 2; 388; 389, прим. * Гильберт Порретанский 635 Гильдебранд см. Григорий VII Гильдуин из Сен-Дени 610; 678 Гинкмар Реймсский 673; 674; 678; 679 Гипатия Александрийская 388 Гомер 196; 225
Гонорий Августодунский 625 Гордиан III (римский император) 162, прим. 3; 264—266
Готшальк из Орбе 672—675; 678; 679 Грациан (римский император) 416 Грегори Т. 684, прим. 2; 685 Григорий VII (папа римский) 685; 688; 695; 734; 735
Григорий Богослов 508; 516; 517; 520—522; 525—529; 539; 552; 578, 590; 594; 611
Григорий Великий 499; 649; 662; 688 Григорий Нисский 213; 256; 505; 511; 517; 520; 529; 532—535; 537, прим. 5; 539; 542; 543; 548; 553; 555; 559; 564; 567; 573; 580; 581; 589; 592; 593; 595; 611; 678
794
УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН
Григорий Чудотворец 248 Гроссетест 625
Губер Г 407, прим. 1; 410, прим. 4 Гуго Лионский 712, прим. 2 Гуденаф Э. Р. 202, прим. 4; 211, прим. 6 Гумберт (кардинал Лотарингский) 697; 698
Гундобад (король Бургундии) 634 Гунцо Новарский 689; 702
д’Альверни Μ. Т. 614, прим. 8 Давид (царь Израиля) 594 Давид Александрийский 391; 570; 617, прим. 3
Давид Анахт 570, прим. 3
Давид Динанский 625
Дамаский 342; 374, прим. 2; 375; 376;
381; 386; 391; 533, прим. 6 Данте 460; 765
Дезидерий из Монтекассино 703 Декарт Р. 397; 440; 722, прим. 2 Делатт А. 162, прим. 3 Демокрит 81
Деркиллид (издатель Платона) 133, прим.2
Дёрри Г. 95, прим. 1; 119, прим. 1; 262; 433
Джуста М. 122, прим.
Диана 671, прим. 2 Дидо А. Ф. 116, прим. 1 Дикеарх из Мессены 126; 168; 169 Диоген Лаэртский 131; 135; 154; 182 Диодор Тирский 170 Дион Хризостом 301, прим. 1 Дионис 533, прим. 6 Дионисий Ареопагит см. псевдо-Дионисий
Диотима (персонаж Платона) 82 Диотоген (пифагореец) 162, прим. 3 Дитерици Ф. 752, прим. 1, 2 Додд Ч. Г. 246, прим. 1 Доддс Э. Р. 95, прим. 1; 148; 149; 158, прим. 10; 182, прим. 1; 262; 273; 274; 305, прим. 2; 398, прим. Дюгем П. 566, прим. 2
Ева 205; 240; 733
Евдем Родосский 168, прим. 4
Евдокс Книдский 84; 85; 109 Евдор из Александрии 97, прим. 2; 119;
130; 132; 134—136; 138 Евнапий 260; 348; 354; 367 Евномий Кизикский 515 Еводий (персонаж Августина) 451 Евсевий Кесарийский 116, прим. 2; 125—127; 129; 153; 206; 217; 229; 245; 262; 282; 489; 493; 606 Евстафий Каппадокийский 348 Евстохий Александрийский 260; 280; 282
Евтихий 638 Енох 662
Епифаний Кипрский 235, прим. 9 Ефрем Сириец 122, прим.
Жиле П. 280
Залевк Локрский 162, прим. 3
Захария Схоластик 574; 575
Зевс 80; 84; 106, прим. 2; 195; 300; 301;
671, прим. 2; 760 Зенобия Септимия 162, прим. 3 Зенон Стоик 152; 566; 654 Зеф (друг Плотина) 280 Зигфрид К. 224, прим. 1 Зороастр 270; 271
Иаков 199
Иамврий (соперник Моисея) 154 Ианний (соперник Моисея) 154 Ибервег Ф. 180, прим. 3; 624, прим. 1 Иванка Э. 546, прим. 7 Иво Шартрский 685, прим. 2; 728 Иероним Стридонский 215; 405; 488;
652; 653; 670; 679; 684; 703 Иерофей (учитель псевдо-Дионисия) 541; 550, прим. 1; 553, прим. 2 Израэль Грамматик 625, прим. 1 Иисус Навин 483
Иисус Христос 155; 219; 221—226; 231—233; 237—239; 242; 246; 248; 250; 412; 418—421; 424; 426; 433; 436; 440; 443; 459; 485; 486; 488; 494; 497; 510; 536; 538; 539; 568; 577, прим. 3; 593; 597—603; 606; 636; 637; 663; 684; 687; 699; 701; 748
УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН
795
Иксион 87 Иммиш О. 142 Индж У. Р. 613, прим. 3 Иоанн (адресат Боэция) 637; 638 Иоанн Богослов 217; 224; 243; 506, прим. 1
Иоанн Дамаскин 350; 598; 600; 601;
602, прим. 7; 605; 607, прим. 4 Иоанн Златоуст 215, прим. 2; 679 Иоанн Креститель 594 Иоанн Лид 518; 614 Иоанн Скифопольский 544, прим. 1; 560—564
Иоанн Солсберийский 712, прим. 2; 731, прим. 2
Иоанн Филопон 390; 391; 505; 564; 565; 567—569; 576; 578; 646; 746; 747; 766
Иосиф Флавий 206, прим. 6; 215 Иосия (царь Иудеи) 666 Ипполит Римский 227; 566 Ираклий I (византийский император) 570
Ирина (византийская императрица) 659 Ириней Лионский 225, прим. 2; 229, прим. 1; 239; 246 Исаак 199
Исаия(пророк)576;711 Исида 84; 273; 754 Исидор Александрийский 386; 388 Исидор Севильский 648—657; 675; 732
Йегер В. 143, прим. 1; 153; 184
Калликратид см. псевдо-Калликратид Кампе Ф. Ф. 89, прим. 1 Кандид (арианин)407; 614 Кант И. 722
Каркопино Ж. 161, прим. 2
Карл Великий 631; 658; 663—666; 679;
681; 697, прим. 1; 700; 717 Карл Лысый 610; 665; 667; 669; 674; 700; 701
Карнеад Киренский 103; 251 Кассиодор 234; 636; 645; 649 Кебет (персонаж Платона) 169 Кетшау П. 255, прим.
Кефисодор 153 Кингсфорд А. Л. 45 Кислинг Э. 640, прим.
Клавдий II (римский император) 260 Клеанф 181, прим.
Клеарх из Сол 163; 168 Климент Александрийский 217; 220, прим. 2; 228—244; 246—249; 251; 263; 547, прим. 5 Колот из Лампсака 153 Колсон Ф. Г. 206, прим. 3 Коммод (римский император) 604 Конгар И. М. Ж. 491, прим. 2 Консенций (корреспондент Августина) 427
Константин Великий (римский император) 342; 350; 367; 416; 489; 493; 494; 546; 571; 655
Констанций II (римский император) 405
Корнелий Лабеон 225, прим. 5
Корнут 172, прим. 2
Корнфорд Ф. 89, прим. 2
Корре Р. ле 116, прим. 1
Крамер Дж. Э. 570, прим. 7; 617, прим. 3
Крантор из Сол 64; 72; 97, прим. 2;
108, прим. 1; 109; 119 Кранц В. 91, прим. 2 Кранц Ф. Э. 465, прим. 4; 491, прим. 2 Кратет Афинский 103 Кратипп Митиленский 171 Кремер Г. И. 61, прим. 4 Критолай из Ликии 169; 170 Кроний 61; 160, прим. 3; 277 Крузель А. 262, прим. 2, 4;
Ксенарх 170; 177, прим. 4; 566, прим. 2 Ксенократ 62—64; 77; 82—85; 88, прим. 2; 97, прим. 2; 98; 103—105; 111; 116; 118; 119; 124; 131; 145; 151; 152; 171, прим. 4; 172; 178, прим. 1; 185, 596 Ксенофонт 159
Курсель П. 393, прим. 1; 640, прим.; 646 Кьеркегор С. 218
Лактанций 644; 655 Ланфранк из Бека 696—699; 705—707; 712; 713; 720; 729
796
УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН
Ланцо (корреспондент Ансельма) 707, прим.
Лаэрций см. Диоген Лаэртский Леандр Севильский 648; 649 Лев I (папа римский) 636 Лейбниц Г. В. Ф. 315; 344; 398; 722, прим. 2
Лекин М. 560, прим. 5 Леонтий Пустынник 571; 577—581; 595
Лессинг Г. Э. 241, прим. 2; 696, прим. 2 Либешютц Г. 50; 52; 55; 56 Ллойд Э. Ч. 49; 51; 54; 336 Локк Дж. 363
Лонгин 61; 160; 162, прим. 3; 243; 261, прим. 4; 262; 281; 353; 354; 357; 389 Лоренц Р. 467, прим. 4 Лот 699
Лукреций 566; 655 Лутц К. 672
Людовик Благочестивый 610; 665; 666
Мабийон Ж. 609, прим. 2 Майер Ф. Г. 490, прим. 4 Макарий (оппонент Ратрамна) 667; 668
Маккена С. 314, прим. 5; 330, прим. 2 Макробий 612, прим. 2; 614; 671; 672; 683; 684; 686; 687
Максим Исповедник 55; 505; 510; 544, прим. 1; 547, прим. 5; 560; 581; 582; 584; 589; 591—593; 595; 609—611; 615; 617; 623; 624 Максим Тирский 82, прим. 1; 134 Максим Эфесский 349 Маллий Теодор 418 Манегольд из Лаутенбаха 685—688; 704
Марий Викторин 49; 54; 338; 405— 412; 414; 415; 614; 632 Марин 376; 377 Мария (Богоматерь) 733 Марк Аврелий 184, прим. 7; 187; 189; 348;604
Маркион 242, прим. 1 Маркус Р. О. 49; 51; 54 Мару А. И. 422
Марцелла (жена Порфирия) 354
Марциан Капелла 632; 639; 670—672; 677—679
Менандр 83, прим. 2
Меркурий 670; 672
Мерлан Ф. 45; 47^9; 53; 54; 56
Мефодий Олимпийский 598
Минерва 658
Митра 369
Михаил Заика (византийский император) 610
Модерат из Гадеса 61; 133; 145; 146; 148—150; 161, прим. 2; 162; 185; 363
Моисей (пророк) 154; 155; 195—197; 201; 203; 206; 210; 211; 215; 223; 226, прим. 1; 231; 241; 507; 508; 514; 515; 517; 518; 524; 531; 556; 568; 569; 697, прим. 1; 704; 748 Момильяно А. 643 Моника (мать Августина) 418 Монтгомери У. 749, прим. 2 Моран Д. 625, прим. 1 Моро П. 176, прим. 1 Музоний Руф 236
Мухаммед 745; 748; 761; 762; 764; 765
Небридий (корреспондент Августина) 447
Немезий Эмесский 181, прим.; 262, прим. 2; 577
Нерон (римский император) 109 Несторий 637; 638 Нехо II (фараон) 666 Никифор Константинопольский 603;
605; 607, прим. 4 Николай II (папа римский) 696 Никомах 145; 150; 151; 162 Никострат 132; 133; 171, прим. 2; 172 Ной 196
Нок А. Д. 211, прим. 6 Ноткер Немецкий 682 Нумений 61; 125; 145; 149; 151—160; 162; 174; 181, прим.; 277; 305; 334; 363, прим. 5
Овидий 169, прим. 10 Одо из Бове 667
УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН
797
Окелл Лукан см. псевдо-Окелл Олимпий Александрийский 272 Олимпиодор 198, прим. 4; 388; 391; 567; 569; 604
О’Коннел Р. Дж. 442, прим. 3 Онат см. псевдо-Онат Опперман Г. 280
Ориген Христианин 48; 133, прим. 6; 154; 188, прим. 4; 217; 243—256; 262—264; 274; 303, прим.; 350; 508; 513; 520; 529; 591; 593; 677; 678 Ориген Язычник 225, прим. 5; 262— 264; 274; 281; 354; 357; 389 Орню Ж.-М. 561, прим. 1 Орт Э. 122, прим.
Осирис 84
Отрик (оппонент Герберта Аврилак- ского) 692; 693
Оттон II (император Священной Римской империи) 692
Оттон III (император Священной Римской империи) 694
Павел (апостол) 195; 201; 206, прим. 5; 207; 209; 216—219; 235; 237; 246; 415, прим. 1; 418; 421; 506, прим. 1, 7; 507; 531; 538; 555, прим. 8; 679
Павел I (папа римский) 609 Панетий Родосский 183 Пантен Александрийский 229 Пардул Ланский 673 Парменид 62; 79
Парменид (персонаж Платона) 375; 379
Пасхазий Ратберт 700 Пелагий 678; 679 Пенелопа 198, прим. 4 Пепин Ж. 369, прим. *
Петр (апостол) 217; 661; 688 Петр Дамиани 702—704 Петр Фуллон 559, прим. 1 Пипин Короткий 609 Пирсон Дж. 560, прим. 5 Пифагор 108; 109; 131; 142, прим. 1; 144—146; 152; 153; 161, прим. 1; 184; 199 Пифия 113
Платон 45; 47; 48; 51—54; 60—85; 86, прим. 5; 88; 89, прим. 2; 92, прим. 2; 94—98; 102; 105; 106; 108—123; 125—128; 130—142; 144—148; 151—155; 158; 161, прим. 1; 162; 168; 169; 173; 174; 179; 180, прим. 1, 3; 184; 186; 187; 197; 199—201; 204; 206; 210; 211; 215; 218; 220, прим. 2; 221; 223, прим. 4; 227; 232; 233; 239, прим. 8; 243; 248; 249; 251—253; 259; 262; 263; 266; 270; 271; 278—280; 286; 291; 297—300; 302; 305; 308; 315—317; 320; 321, прим. 4; 324; 329; 331; 342—347; 350—352; 354—356; 358; 359; 361—363; 368; 371; 372; 374—379; 382—384; 387; 388; 390—392; 407; 434; 440; 442; 446; 447; 457; 468; 488; 506, прим. 1; 508; 518; 519, прим. 5; 521; 561; 562; 565; 568; 570—572; 579; 581; 596; 599; 601; 613, прим. 3; 632; 633; 640; 642; 646; 647; 653; 664; 672; 684; 686; 689; 717; 718; 740; 744; 746; 749; 751; 754; 758; 762; 764 Плотин 44; 45; 48; 49; 51; 53; 54; 56; 60—62; 65—83; 85; 86; 90; 93—102; 106—109; ПО, прим. 12; 112—114; 118; 120—138; 140; 142; 144; 145; 148—151; 153; 154; 156—166; 168, прим. 4; 171; 172; 174; 175; 177—179; 181—190; 213; 223; 227; 243; 245; 249; 259—338; 342—344; 346; 347; 349; 351—360; 363—373; 379; 384; 388; 391—393; 397—399; 407; 410; 418; 435; 506, прим. 7; 519, прим. 6; 521, прим. 1; 529; 530, прим. 14; 533, прим. 6; 539; 543; 554, прим. 1; 559; 564; 604; 740; 749; 761; 764; 765 Плотина (жена Траяна) 260 Плутарх Афинский 149; 342; 374; 375; 377; 388
Плутарх из Херонеи 73, прим. 2; 82, прим. 1; 84; 85; 109—115; 119; 136; 138; 139, прим. 2; 145, прим. 4; 153; 154; 161, прим. 2; 185; 187; 264, прим. 3; 289, прим.; 754
798
УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН
Полемон (схоларх) 64; 103; 151; 152 Порфирий 61; 86; 114, прим. 3; 126, прим. 1; 132; 146; 148; 149; 151; 155; 157; 160; 167; 170, прим. 5; 172; 180; 227; 243; 245; 249; 259— 269; 271—273; 276—278; 280—284; 290; 296; 305; 334—337; 342—345; 347; 349—351; 353—369; 371—373; 374, прим. 2; 377; 378; 381; 382; 385; 388; 392; 393; 396; 398; 405; 418; 433; 535, прим. 8; 544, прим. 1; 562, прим. 6; 577; 582; 604; 609; 617, прим. 3; 625, прим. 1; 633; 634; 691; 692; 694; 731; 743; 746; 749; 753; 764; 765
Посидоний 105, прим. 7; 108, прим. 1; 109; 111, прим. 2; 114; 130; 143, прим. 2; 161; 181; 183—186; 189; 198; 316; 519, прим. 5; 534, прим. 1 Постел У. 128, прим. 3 Потамон Александрийский 268 Прехтер К. 122, прим.; 142; 180, прим.
3; 343; 369, прим. *; 390 Присциан Лид 577
Прокл 54; 75; 79; 129; 130; 150; 151; 189, прим. 6; 262; 335, прим. 4; 336; 342; 347; 349; 352; 363, прим. 5; 367; 369; 370; 373—386; 388—391; 398; 399; 514, прим. 1; 517, прим. 3; 519, прим. 6; 541, прим. 7; 542; 544, прим. 1; 556, прим. 7; 559; 564; 567; 568; 574; 577; 598; 600; 647; 746; 755; 764; 766
Прокопий Газский 566; 575; 576; 595 Пруденций Клемент 489 Пруденций Труасский 669—671; 677— 679
псевдо-Александр 139; 140 псевдо-Аристотель 170 псевдо-Архит 139—141 псевдо-Бронтин 139 псевдо-Гален 139, прим. 2 псевдо-Дионисий 50; 55; 56; 213; 241; 261; 350; 378; 505; 508; 511; 516, прим. 5; 519, прим. 6; 526, прим. 3; 528; 536, прим. 6; 541—545; 549; 550, прим. 10; 552; 553, прим. 2; 555; 556; 559—564; 578; 581;
582; 585; 588; 593; 595; 598; 604; 609—611; 615, прим. 2; 618; 624— 626
псевдо-Калликратид 139, прим. 3; 141; 144
псевдо-Окелл 169; 170, прим. 1 псевдо-Онат 190, прим. 4 псевдо-Плутарх 139, прим. 2; 181, прим.
псевдо-Прохор 217, прим. псевдо-Скот см. Ратрамн из Корби псевдо-Тимей 76 псевдо-Феано 145, прим. 1 псевдо-Юстин 128, прим. 3 Пюэш А. Ш. 182, прим. 1; 324, прим. 4
Рабан Мавр 673 РайнхардтК. 183, прим. 5; 184 Ратрамн из Корби 667—669; 700; 701 Рафаэль 764; 765, прим.
Реккаред I (король вестготов) 648 Ремигий Осерский 625; 682 Рено дю Беллье 728 Рист. Дж. 324, прим. 4 Рихер Реймсский 691; 692 Рогациан (сенатор) 266; 267 Родье Г. 91, прим. 6 Розан Л. Дж. 382, прим. 3 Росс Д. 91, прим. 6 Росцелин 710; 726; 728—732 Рутилий Намациан 488 Руфин Аквилейский 677 Рэнд Э. К. 635; 640, прим.; 643
Сабр А. 750, прим. 1 Самбурски С. 569 Сандмел С. 216, прим. 3 Сара 198, прим. 4
Север (перипатетик) 61; 73, прим. 2; 131—133; 277
Севериан (отец Исидора Севильского) 648
Севир Антиохийский 568; 569, прим. 6 Секст Эмпирик 141; 143; 144 Сенека 105; 114, прим. 3; 170, прим.
5; 181; 187; 200, прим. 1; 218; 219 Септимий Север (римский император) 215, прим. 2; 245
УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН
799
Сергий (патриарх Антиохийский) 568 Сергий Решайнский 560, прим. 5 Сикст II (папа римский) 560, прим. 2 Сильвестр II (папа римский) см.
Герберт Аврилакский Симмах (консул 391 г.) 422; 644 Симмах (консул 485 г.) 631 Симмах (папа римский) 636 Симмий (персонаж Платона) 169 Симон Волхв 561
Симпликий 146; 343; 353; 364; 368;
374; 386; 389—392; 565; 567 Симплициан Медиоланский 406; 418 Синезий Киренский 388 Синко Т. 122, прим.
Сириан Александрийский 75; 130; 139; 140; 172; 342; 349; 350; 374; 376; 377; 379; 387; 389; 390; 565 Содано А. Р. 369, прим. *
Сократ 82; 112; 114; 124; 152; 153; 173; 222; 235; 276; 572; 653; 698; 744, прим. 2
Сократ (персонаж Платона) 169; 447 Соломон (царь Израиля) 521; 525; 657 Сольмсен Ф. 89, прим. 2 Сопатр Апамейский 162, прим. 3 Сосипатра 348; 349 Спевсипп 62—64; 77—80; 86; 90; 97; 103; 104; 131; 140, прим. 4; 145; 146; 151; 161; 172; 174 Спиноза Б. 346; 361; 373; 378 Стефан Александрийский 390, прим. 1 Стефан Византийский 570; 571; 581 Стобей 116, прим. 2; 139—141; 362, прим. 2
Стратон из Лампсака 163; 165; 167— 169; 175; 176; 179; 180, прим. 3 Сухраварди 745
Сфенид (пифагореец) 162, прим. 3
Тавр 97, прим. 2; 115; 220, прим. 2 Тайлер У. 95, прим. 1; 105, прим. 7; 135, прим. 10; 162, прим. 3; 170, прим. 1; 182, прим. 1; 185; 186, прим. 2; 188, прим. 1; 278; 279, прим. 2
Татакис Б. 615, прим. 2 Татиан Ассириец 231
Тацит 644
Теодорих Великий 631; 632; 634; 638; 643
Теон из Смирны 133 Теофраст 62; 65; 83, прим. 2; 91, прим. 1; 96; 97, прим. 2; 163—168; 170; 392; 566
Тертуллиан 218; 227; 632; 652; 654 Теслефф X. 138, прим. 2; 161, прим. 2; 162, прим. 3
Тимей Локрский 141; см. также псев- до-Тимей
Тимей (персонаж Платона) 141; 356 Тифон 84
Томасий (слушатель Плотина) 276; 285
Трасилл из Менды 61; 133, прим. 2 Траян (римский император) 260 Тренделенбург А. 91, прим. 6 Трифон Иудей 220; 223; 224, прим. 1 Трифон (стоик) 151
Уоллак Л. 659, прим.
Урбан II (папа римский) 713
Фабий Фульгенций 673 Фалес 653
Феано см. псевдо-Феано
Феодор Асинский 335, прим. 6; 374;
376; 385, прим. 4; 388; 399 Феодор Медиоланский 435, прим. 1 Феодор Раифский 579, прим. 5 Феодор Студит 603 Феодосий I (римский император) 416; 494; 497
Феодосий II (византийский император) 571
Феомнест (схоларх) 109 Ферекид Сиросский 108; 131 Фидий 300
Филипп Араб 264; 266 Филипп Опунтский 69 Филолай Кротонский 139; 614 Филометор (родственник Сосипатры) 349
Филон Александрийский 45; 48; 53; 54; 103, прим. 2; 161; 178, прим. 1; 190; 195—217; 220, прим. 2;
800
УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН
221; 223—226; 230; 232; 239; 241; 242; 246; 247; 250; 253; 309, прим. 3; 537, прим. 5; 593, прим. 1; 597; 599;614
Филон из Лариссы 103 Филопон см. Иоанн Филопон Филострат 122, прим.; 161, прим. 4; 301, прим. 1
Финкельштейн Л. 216, прим. 4 Фирмик Матери 280, прим. 1 Фолье Ж. 487, прим. 2 Фома Аквинский 335; 635; 710; 725 Фонтен Ж. 656 Фортен Э. Л. 433
Фотий I (патриарх Константинопольский) 141; 142; 145; 162, прим. 3; 234; 239
Фрейденталь Я. 119, прим. 1; 122, прим.
Фульберт Шартрский 695 Фульрад из Сен-Дени 609
Хайланд Г. 173, прим. 8 Халкидий 181, прим.; 656; 672 Хам 224, прим. 1
Хардер Р. 86, прим. 5; 95, прим. 1; 170, прим. 1; 188, прим. 2; 259, прим.; 264; 265; 267; 271, прим. 2; 280, прим. 2; 281—283; 297 Харонд (пифагореец) 162, прим. 3 Херманн К. Ф. 116, прим. 1 Хикс Р. Д. 91, прим. 6 Хиона (соседка Плотина) 268 Хосров I (правитель Ирана) 386 Хрисипп 249; 251; 343 Хукер Р. 607, прим. 4 Хунайн ибн Исхак 746
Целлер Э. 89, прим. 2; 113; 148; 161, прим. 2; 167, прим. 9; 170, прим. 3; 180, прим. 3; 185; 344; 375, прим. 1 Цельс 133; 155; 225, прим. 5; 238; 243; 249; 251; 604; 754
Цицерон 103; 106; 108; 109; 198; 295; 301, прим. 1; 405; 417; 458; 465; 467; 471; 494; 495; 632; 639; 655; 668; 669, прим. 1; 671; 693 Цэнер Р. Ч. 265, прим. 1; 332
Чедвик Г. 45; 48; 54 Чиленто В. 95, прим. 1
Швицер Х.-Р. 102, прим. 2; 137; 179, прим. 6; 182, прим. 1; 183, прим. 5; 260; 279, прим. 2; 282; 285 Шелдон-Уильямс И. П. 50; 54; 658 Шмидт Р. 487, прим. 2 Шмитт Ф. 723
Штайнен В., фон ден 725, прим. 2 Штейнгарт К. 102
Эдельштейн Л. 519, прим. 5 Эдесий Каппадокийский 348; 349; 367 Эдмер 720
Эйнхард 664, прим. 2 Экфант из Сиракуз 145, прим. 1; 162, прим. 3
Элий Александрийский 391; 570 Элордуи Э. 261
Эмпедокл 131; 155; 352, прим. 1 Эней Газский 571—576 Эномай Гадарский 188, прим. 4 Эпиктет 187; 189; 389; 391 Эпикур 81; 101; 114, прим. 3; 127; 188;
566; 654; 655 Эрик Осерский 625; 682 Эриугена 50; 55; 505; 570; 610—619; 622—626; 657, прим.; 658; 669— 679; 682; 685; 697, прим. 1; 700; 701; 718
Эрп Дж. У. 198, прим. 4; 207, прим. 2 Эсхин из Сфетта 112
Юбо Ж. 484, прим. 1 Юлиан Отступник 227; 243; 348; 349; 352, прим. 1; 363, прим. 1; 367; 369; 396; 416; 604 Юлиан Теург 347; 349 Юлиан Экланский 678 Юм Д. 398 Юнона 671, прим. 2 Юпитер см. Зевс
Юстин Мученик 220—226; 229; 231;
232; 234; 239; 243; 246—249 Юстиниан I (византийский император) 216; 256; 342; 391; 564; 570; 636; 649
УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН
801
Ямвлих 49; 51; 54; 77, прим. 1; 79; 146, прим. 2; 149; 154; 159; 161; 168; 173; 189; 271; 281; 310, прим. 1; 334, прим. 2; 335; 342; 343; 345; 347—350; 352; 356; 358; 360, прим.
1; 361; 362; 365—379; 382; 385; 388; 391; 392; 398; 399; 542; 564; 745;755; 764 Яхве 195; 513
ОГЛАВЛЕНИЕ
В. В. Прокопенко. Что такое «Кембриджская история поздней греческой и ранней средневековой философии»? 5
Предисловие (А. X. Армстронг) 44
Сокращения 46
Глава 1. Общее введение (А. X. Армстронг) 47
Раздел I
Греческая философия от Платона до Плотина
(Ф. Мерлан)
Сокращения 59
Глава 2. Древняя Академия 60
A. Введение 60
Б. Философия Платона в изложении Аристотеля 61
B. Некоторые аспекты теории идей в платоновских диалогах:
Единое и благо 66
Г Космогония и психология Платона 70
Д. Письма Платона 77
Е. Учение Спевсиппа о двух противоположных первоначалах 78
Ж. Теология и демонология: Платон и Ксенократ 80
3. Проблема диалектики и категорий 85
Глава 3. Аристотель 87
A. Космология, ноэтика и психология 87
Б. Dynamis—Energeia, etc 98
B. Этика 100
Г Сущее как таковое 101
Глава 4. Поздняя Академия и платонизм 103
A. Антиох и другие платоники I века до н. э 103
Б. Плутарх и Тавр 109
B. Альбин и Апулей 115
Г Аттик 125
Д. Другие платоники II века н. э. Итоги 131
ОГЛАВЛЕНИЕ
803
Глава 5. Пифагорейцы 138
A. Псевдоэпиграфы 138
Б. Анонимы Фотия, Александра, Секста, etc 141
B. Модерат и Никомах 145
Г. Нумений 151
Глава 6. Перипатетики 163
А. Перипатетическая школа от Теофраста до Андроника и
Боэта 163
Б. Аристокл и Александр Афродисийский 173
Глава 7. Стоя 181
A. Общие замечания 181
Б. Посидоний 183
B. Поздние стоики: стоицизм и Плотин, сочинение
«О мире» 187
Г Общее заключение 190
Раздел II
Филон и начало христианской мысли (Г. Чедвик)
Сокращения 193
Глава 8. Филон 195
Глава 9. Начало христианской философии: Юстин, гностики .... 218
Глава 10. Климент Александрийский 229
Глава 11. Ориген 245
Раздел III Плотин (А. X. Армстронг)
Глава 12. Жизнь: Плотин и религия, суеверия его времени 259
Глава 13. Преподавание и сочинения 276
Глава 14. Человек и реальность 288
Глава 15. Единое и Ум 303
Глава 16. От Ума к материи: возвращение к Единому 318
А. Душа и материальный мир 318
Б. Возвращение: религия Плотина 327
Приложение. Плотин, Амелий и Порфирий 334
804
ОГЛАВЛЕНИЕ
Раздел IV
Поздние неоплатоники (Э. Ч. Ллойд)
Сокращения 341
Глава 17. Введение в поздний неоплатонизм 342
Глава 18. Порфирий и Ямвлих 353
A. Философская карьера Порфирия 353
Б. Монистическая тенденция у Порфирия 358
B. Теория и практика согласно Порфирию и Ямвлиху 364
Г. Метафизика Ямвлиха 369
Глава 19. Афинский и александрийский неоплатонизм 374
A. Прокл и его предшественники 374
Б. Реалистическая метафизика Прокла и Дамаския 378
B. Неоплатонизм в Александрии 387
Г. Ассимиляция логики Аристотеля 393
Эпилог. Философские характеристики неоплатонизма 397
Раздел V
Марий Викторин и Августин (Р. О. Маркус)
Сокращения 403
Глава 20. Марий Викторин 405
A. Жизнь и сочинения 405
Б. Тринитарная онтология 407
B. Тринитарная психология 411
Глава 21. Августин. Биографическое вступление: христианство и философия 416
Глава 22. Августин. Человек: тело и душа 429
Глава 23. Августин. Разум и озарение 438
Глава 24. Августин. Ощущение и воображение 450
Глава 25. Августин.Человеческий поступок: воля и добродетель .. 457
Глава 26. Августин. Бог и природа 473
Глава 27. Августин. Человек в истории и обществе 485
ОГЛАВЛЕНИЕ
805
Раздел VI
Греческая христианская платоническая традиция от каппадокийцев до Максима Исповедника и Эрнугены
{И. П. Шелдон-Уильямс)
Сокращения 503
Глава 28. Введение: греческий христианский платонизм 505
Глава 29. Каппадокийцы 513
A. Св. Василий Великий 513
Б. Св. Григорий Богослов 520
B. Св. Григорий Нисский 529
Глава 30. Псевдо-Дионисий 541
A. Введение 541
Б. Катафатическое богословие 545
B. Символическое богословие 547
Г Мистическое богословие 552
Глава 31. Реакция против Прокла 559
A. Иоанн Скифопольский 559
Б. Александрия: Иоанн Филопон 564
B. Газа 571
Г. Византий 576
Глава 32. Св. Максим Исповедник 581
A. Введение 581
Б. Триада 582
B. Вечный мир 587
Г. Изменчивый мир 588
Д. Возвращение 591
Глава 33. Философия икон 596
A. Естественный образ 596
Б. Искусственный образ 599
B. Функции искусственных образов 604
Глава 34. Иоанн Скот Эриугена 609
A. Введение 609
Б. Четыре природы 611
B. Четвертая природа 612
Г. Св. Максим Исповедник 615
Д. Псевдо-Дионисий 616
Е. Первоначальные причины 618
Ж. Действия 619
3. Возвращение 621
И. Заключение 624
806
ОГЛАВЛЕНИЕ
Раздел VII
Западная христианская мысль от Боэция до Ансельма (Г. Либешютц)
Сокращения 629
Глава 35. Боэций и наследие античности 630
A. Последний римлянин и средневековая традиция логических исследований 630
Б. Государственный деятель в роли светского богослова .. 635
B. Философия как руководство для человека 638
Г Проблема религиозности Боэция 643
Д. Исидор Севильский и философское знание в начале Средних веков 648
Глава 36. Развитие мысли в империи Каролингов 658
A. Франкская критика византийской теории священного искусства 658
Б. Политические и богословские дискуссии после смерти
Карла Великого 665
B. Иоанн Эриугена и его космологическая интерпретация
Марциана Капеллы 669
Г. Философское переосмысление блж. Августина 672
Глава 37. Дискуссии о философии в переходный период (900—
1080) 681
A. Споры о Боэции: платоник или христианский философ? 681
Б. Диалектическое искусство как критерий учености 687
B. Беренгарий Турский: попытка применить логический
анализ к богословскому учению 694
Г. Петр Дамиани: обращение от диалектики к аскетической
жизни 702
Глава 38. Ансельм Кентерберийский. Философская интерпретация веры 705
A. Влияние спора с Беренгарием 705
Б. Значение и цель осмысления веры 708
B. Преобразование платонизма 714
Г. Человеческая речь и богословские понятия 718
Д. Аргументы в пользу существования Бога 720
Е. Защита от критики Гаунилона и Росцелина 726
Ж. Досхоластическая форма мысли 732
ОГЛАВЛЕНИЕ
807
Раздел VIII
Ранняя исламская философия (Р. Вальцер)
Глава 39. Введение 739
А. Подходы к изучению исламской философии 739
Б. Исламская и греческая философия: аль-Кинди и ар-Рази 744
Глава 40. Аль-Фараби и его последователи 749
A. Жизнь и сочинения: политическая философия 749
Б. Философия и религия 752
B. Мир, человек и общество 755
Г. Естественное богословие 759
Д. Греческая философия и мусульманское богословие .... 763
Е. Наследники мысли аль-Фараби 764
Избранная библиография 768
Указатель имен 791
Научное издание
КЕМБРИДЖСКАЯ ИСТОРИЯ ПОЗДНЕЙ ГРЕЧЕСКОЙ И РАННЕЙ СРЕДНЕВЕКОВОЙ ФИЛОСОФИИ
Под редакцией А. X. Армстронга
Утверждено к печати Редколлегией серии «Слово о сущем»
Редактор издательства Я. А. Родосский Художник П. Палей
Подписано к печати 25.03.2021. Формат 60 х 90 Vie. Бумага офсетная. Гарнитура Таймс. Печать офсетная. Уел. печ. л. 50.05. Уч.-изд. л. 49.4.
Тип. зак. № 1125.
Издательство «Владимир Даль»
195427, Санкт-Петербург, Тихорецкий пр., 39А
ООО «Аллегро»
196084, Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, 28
785936
152771