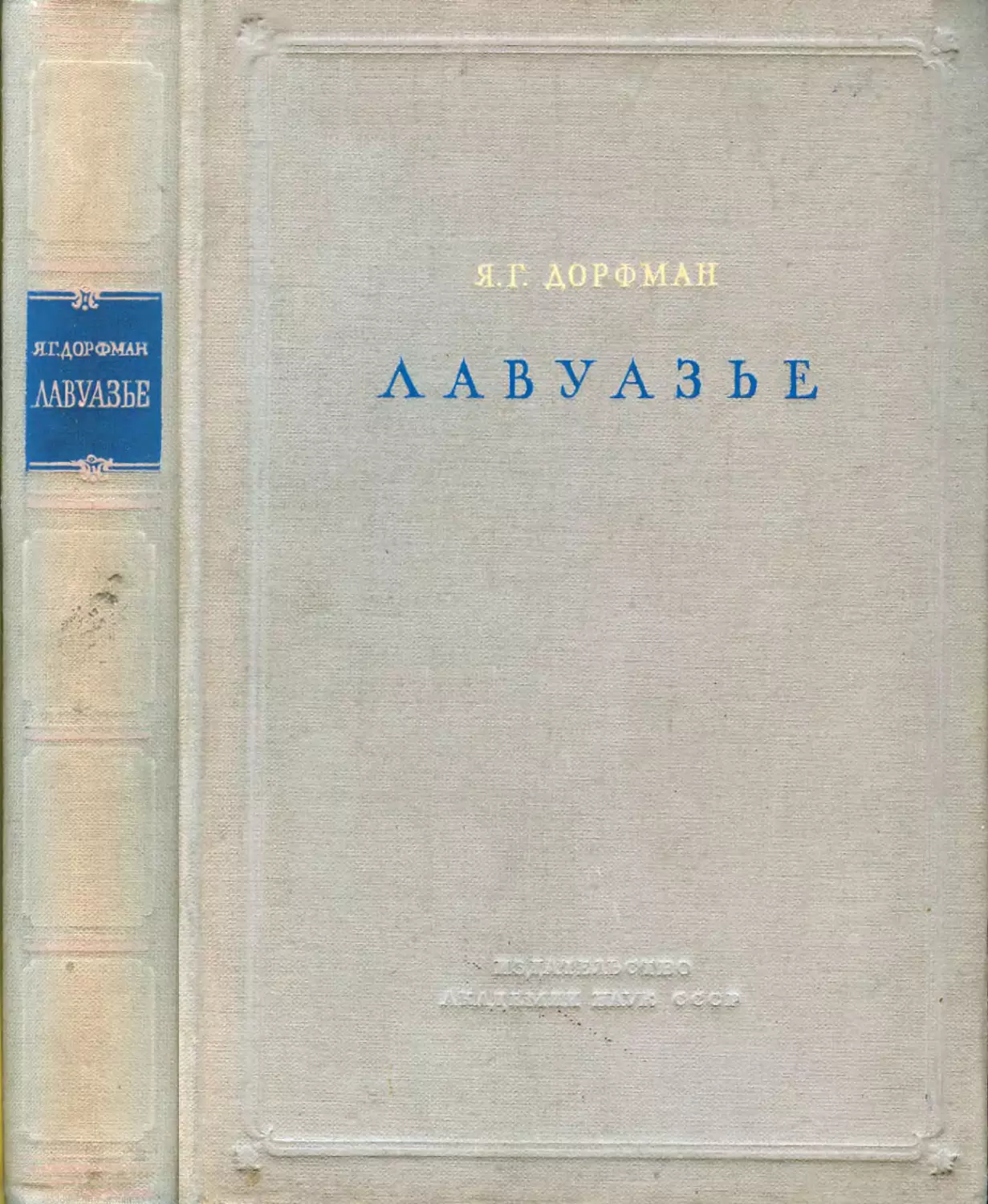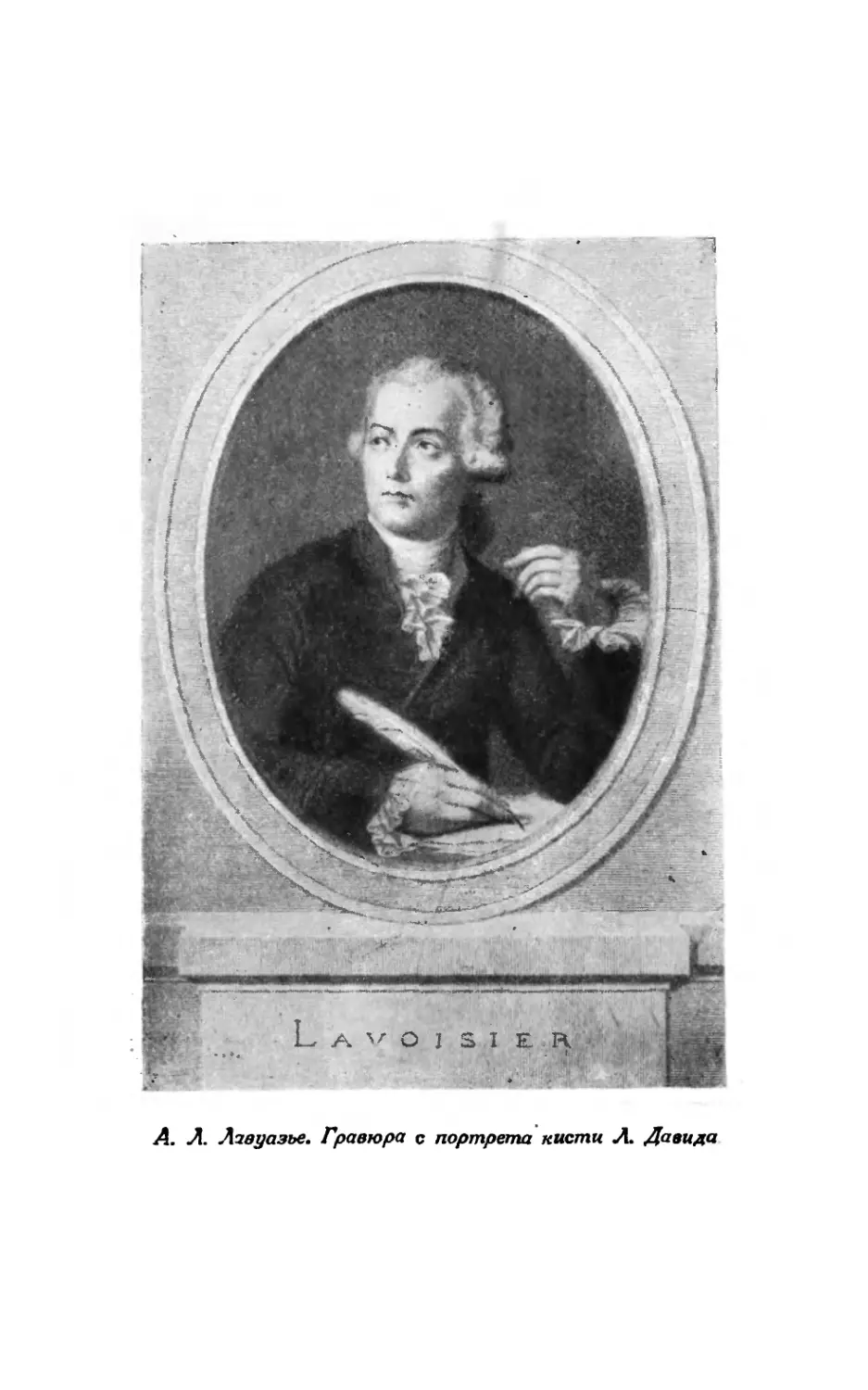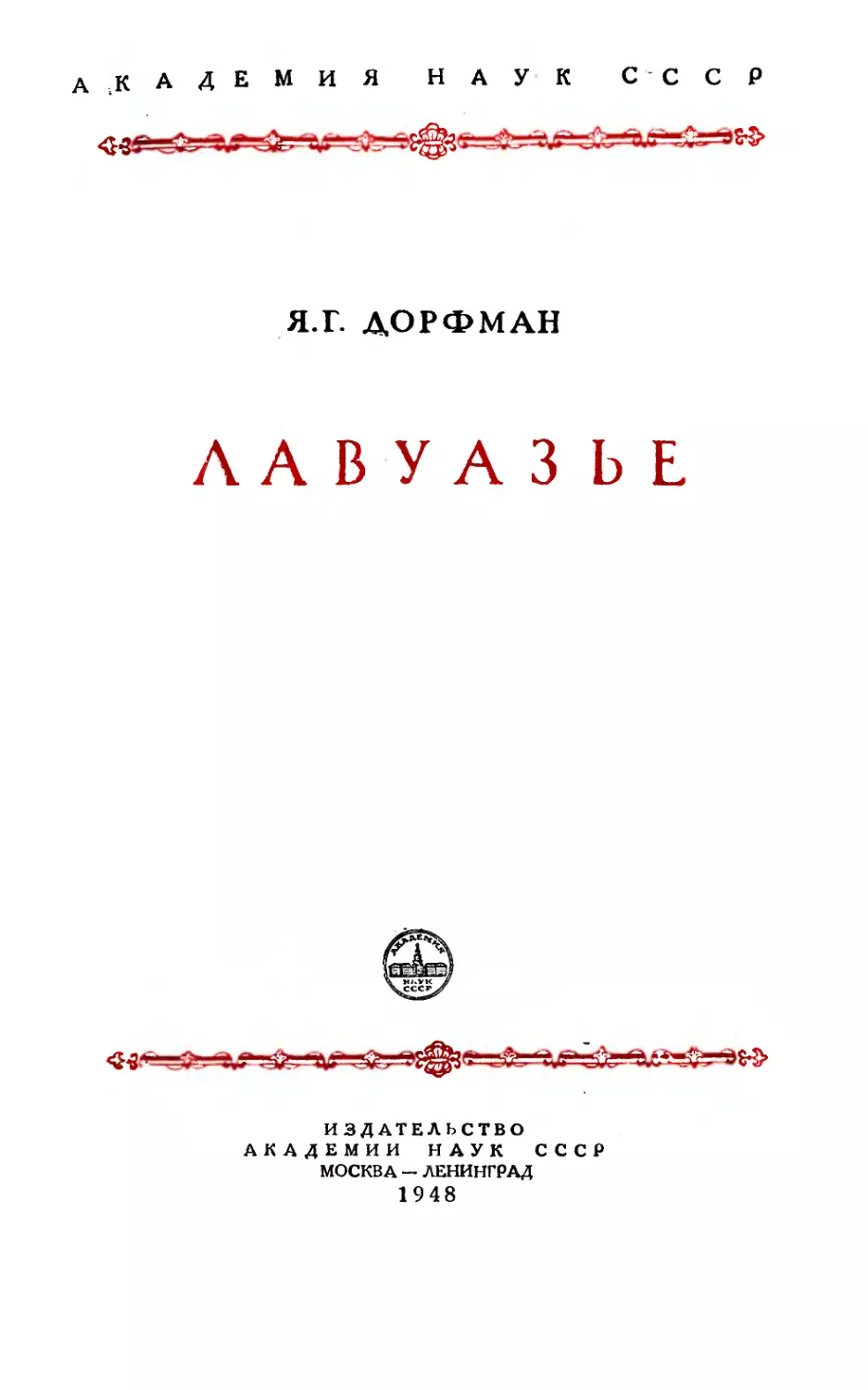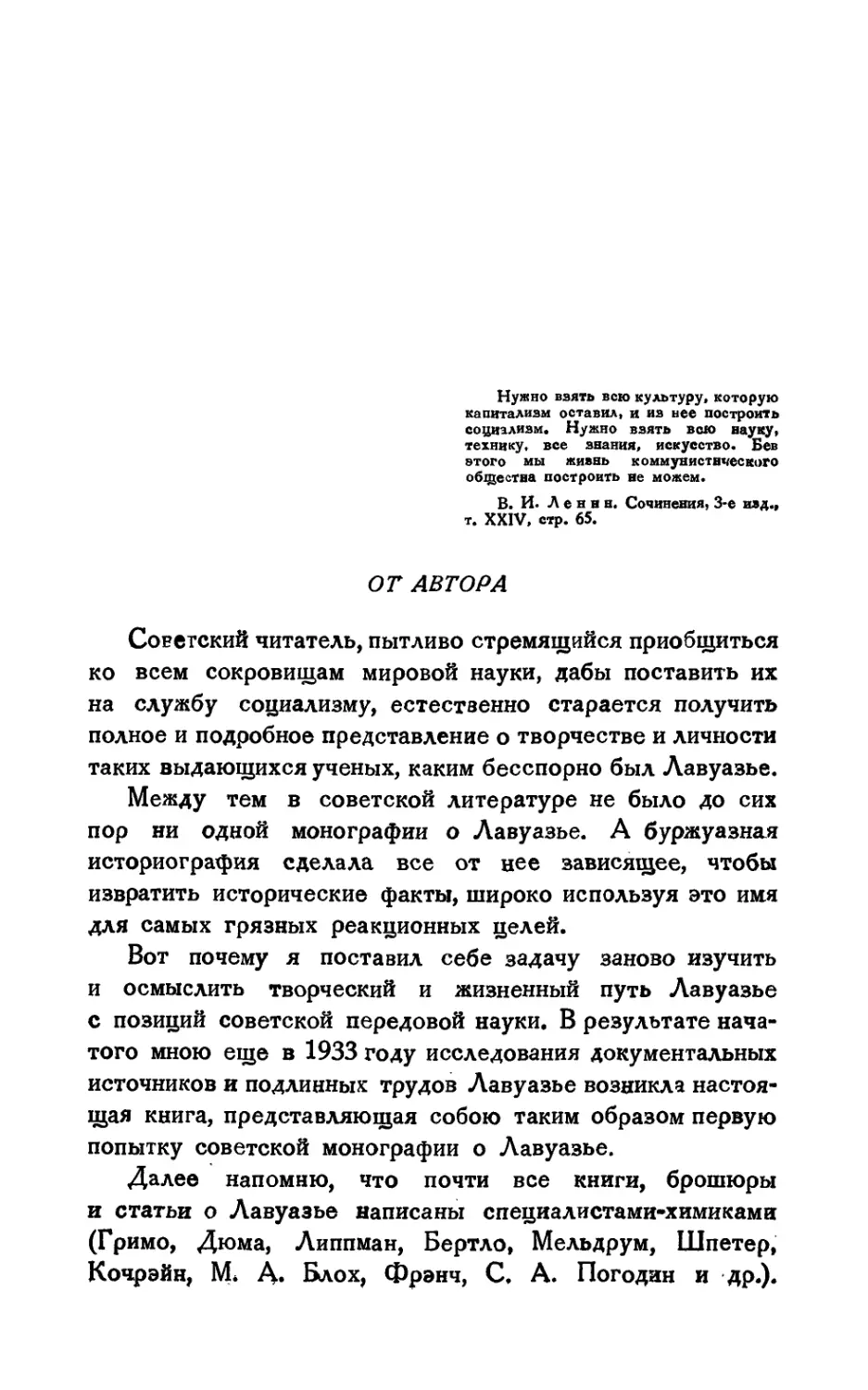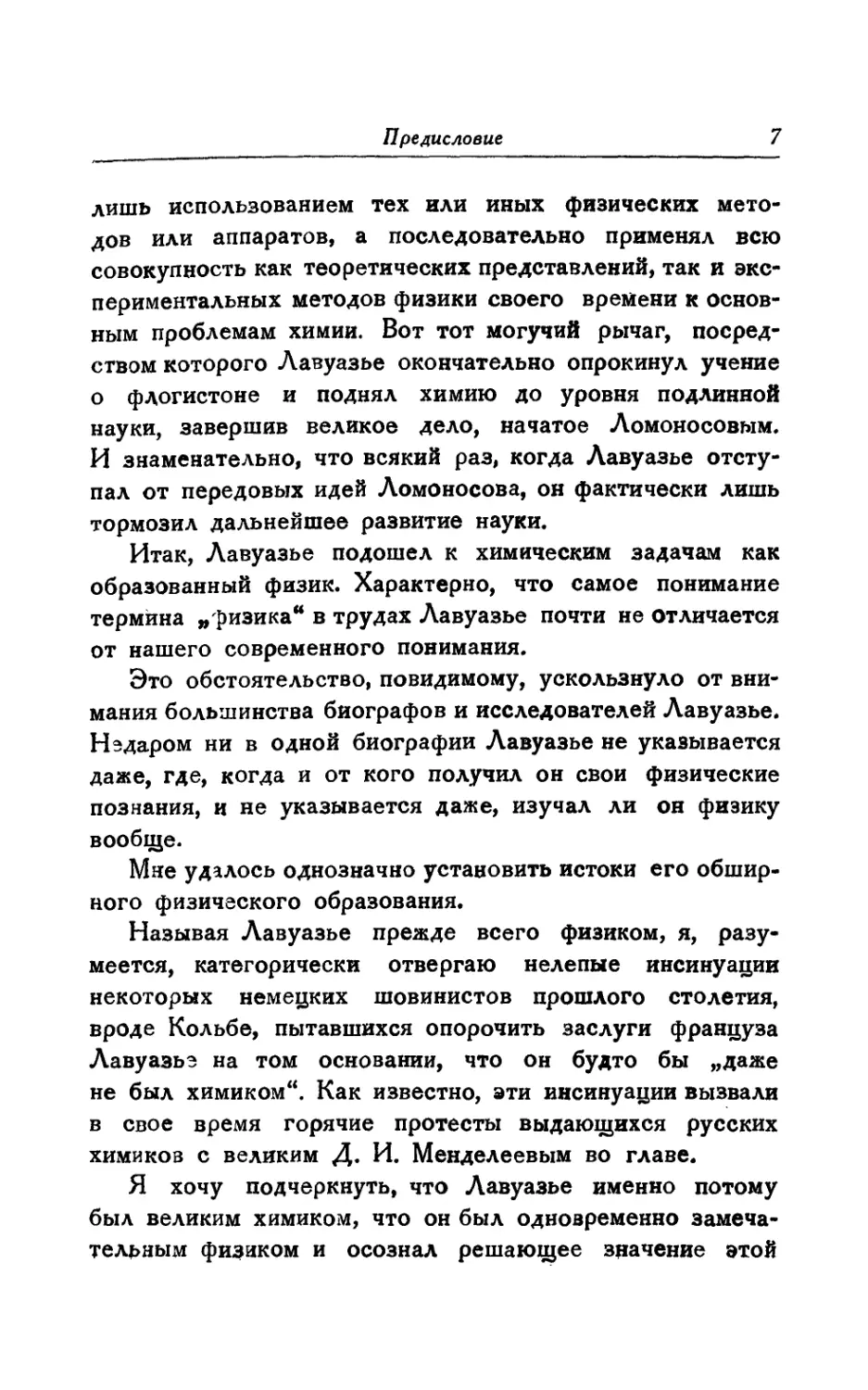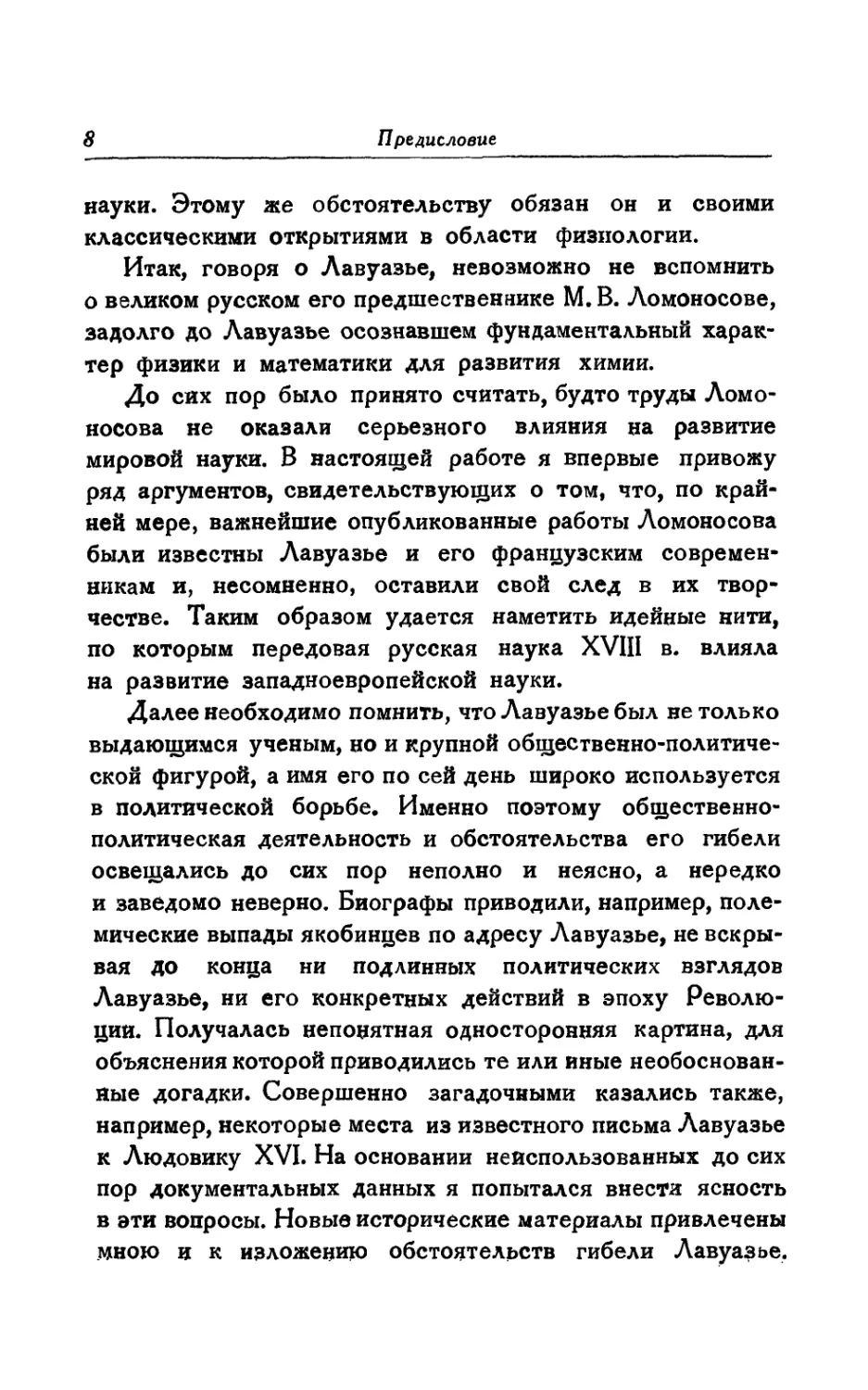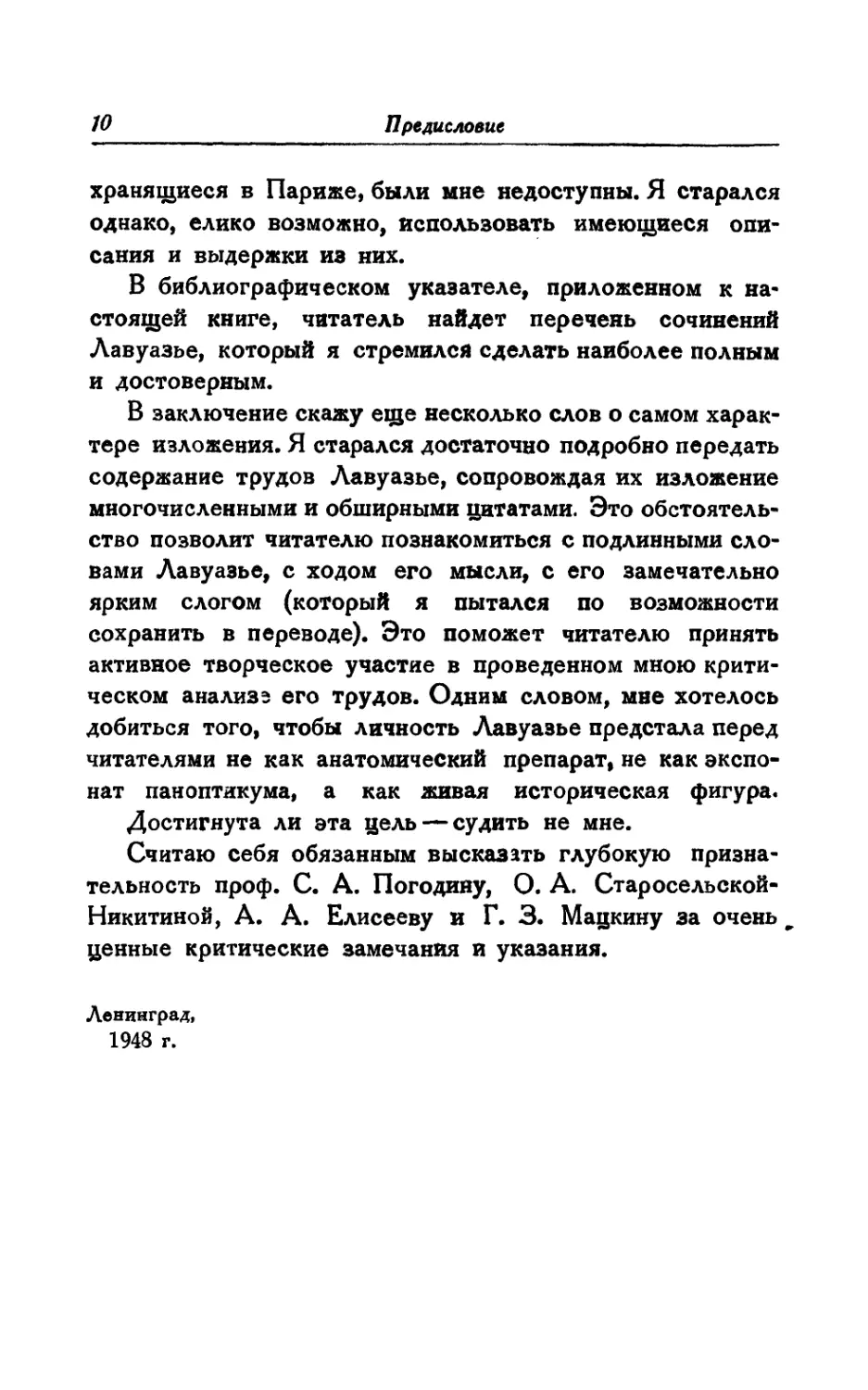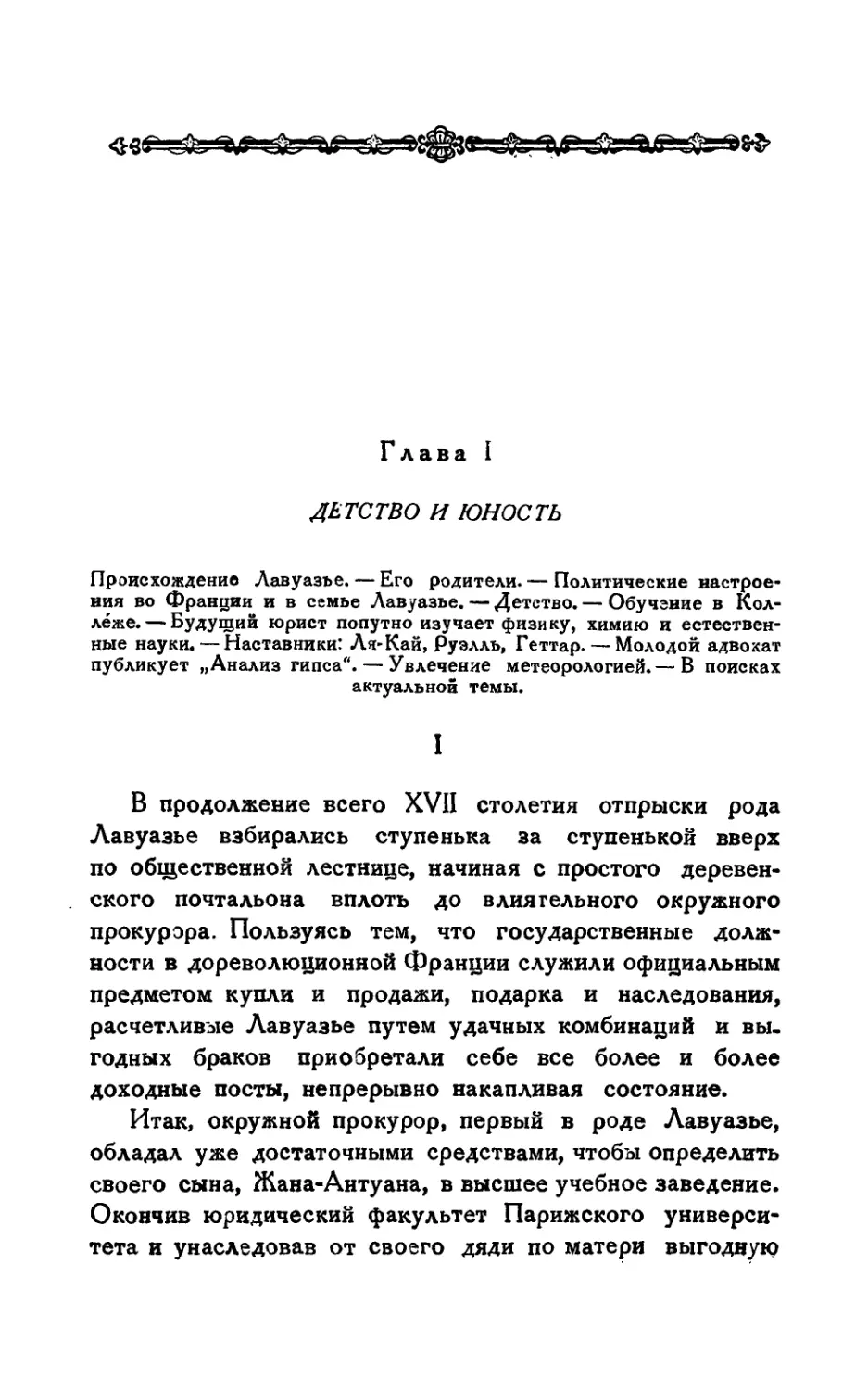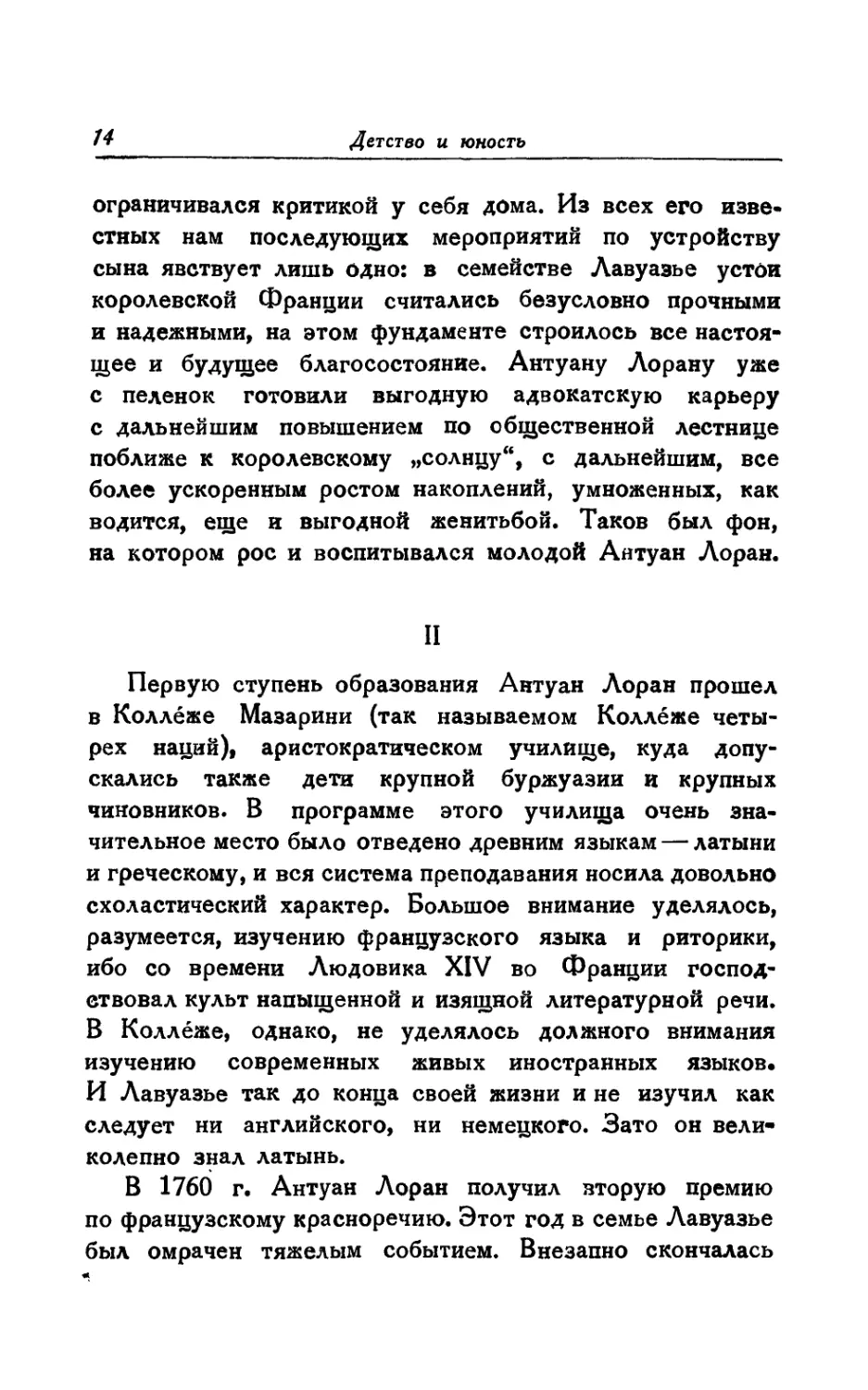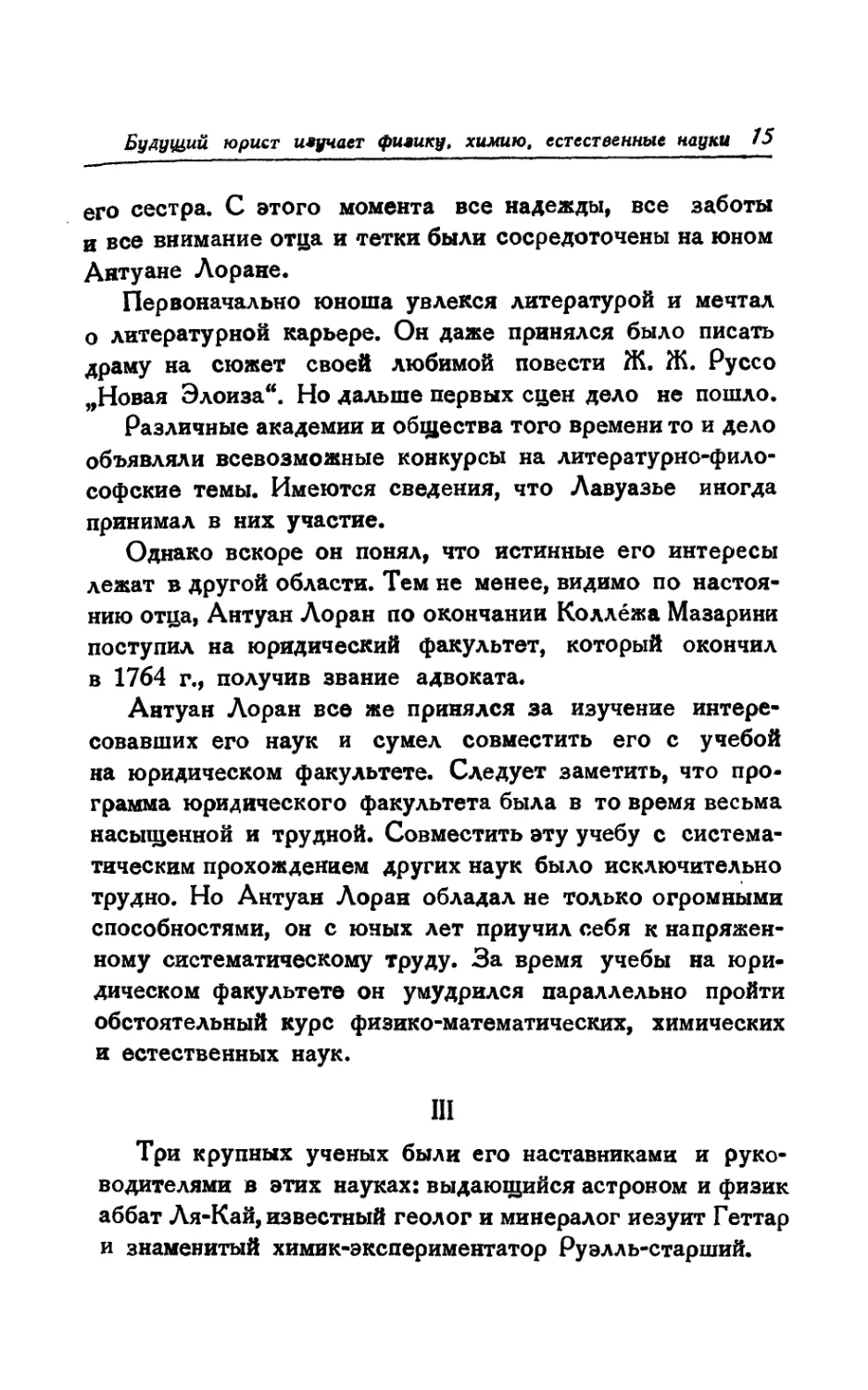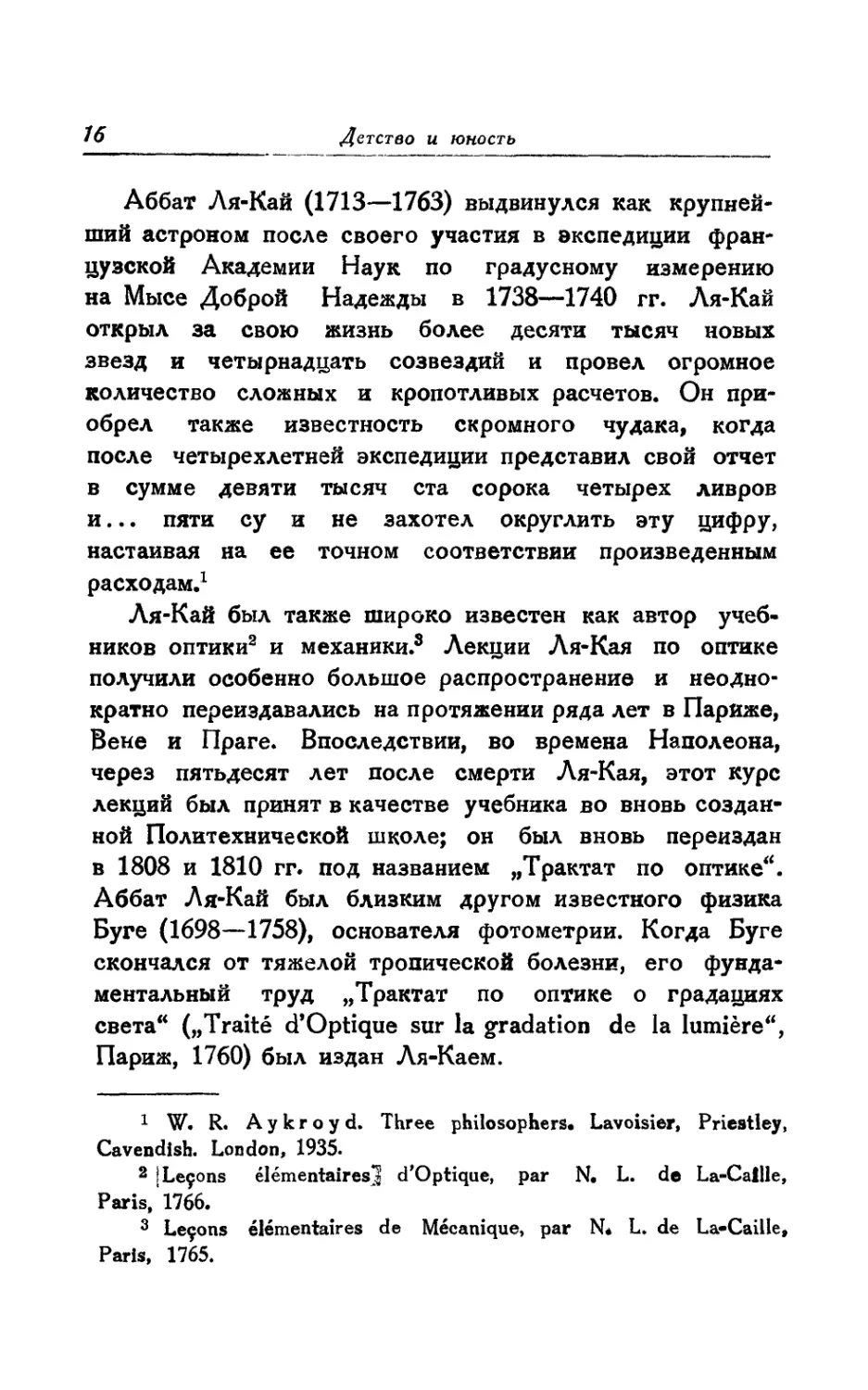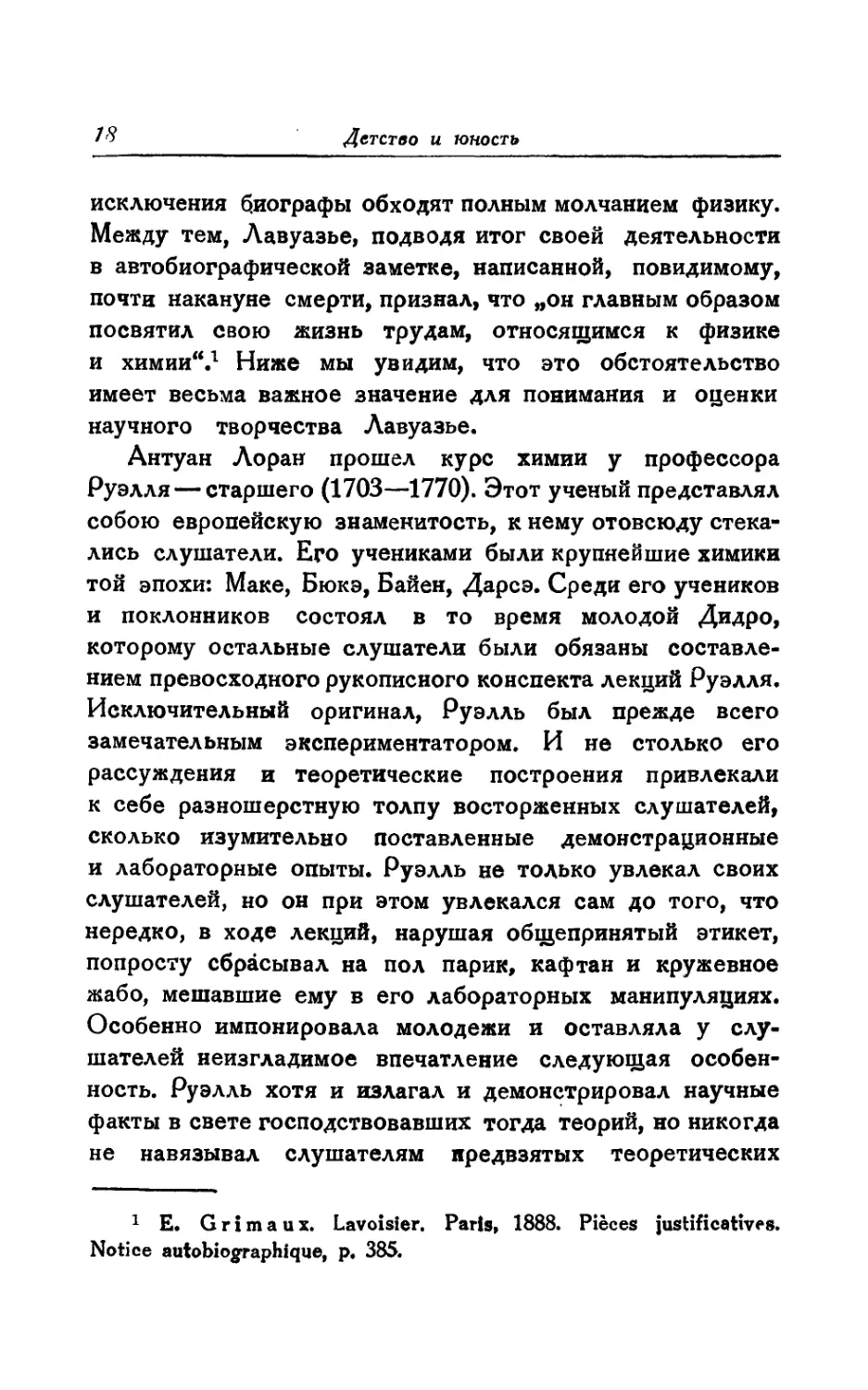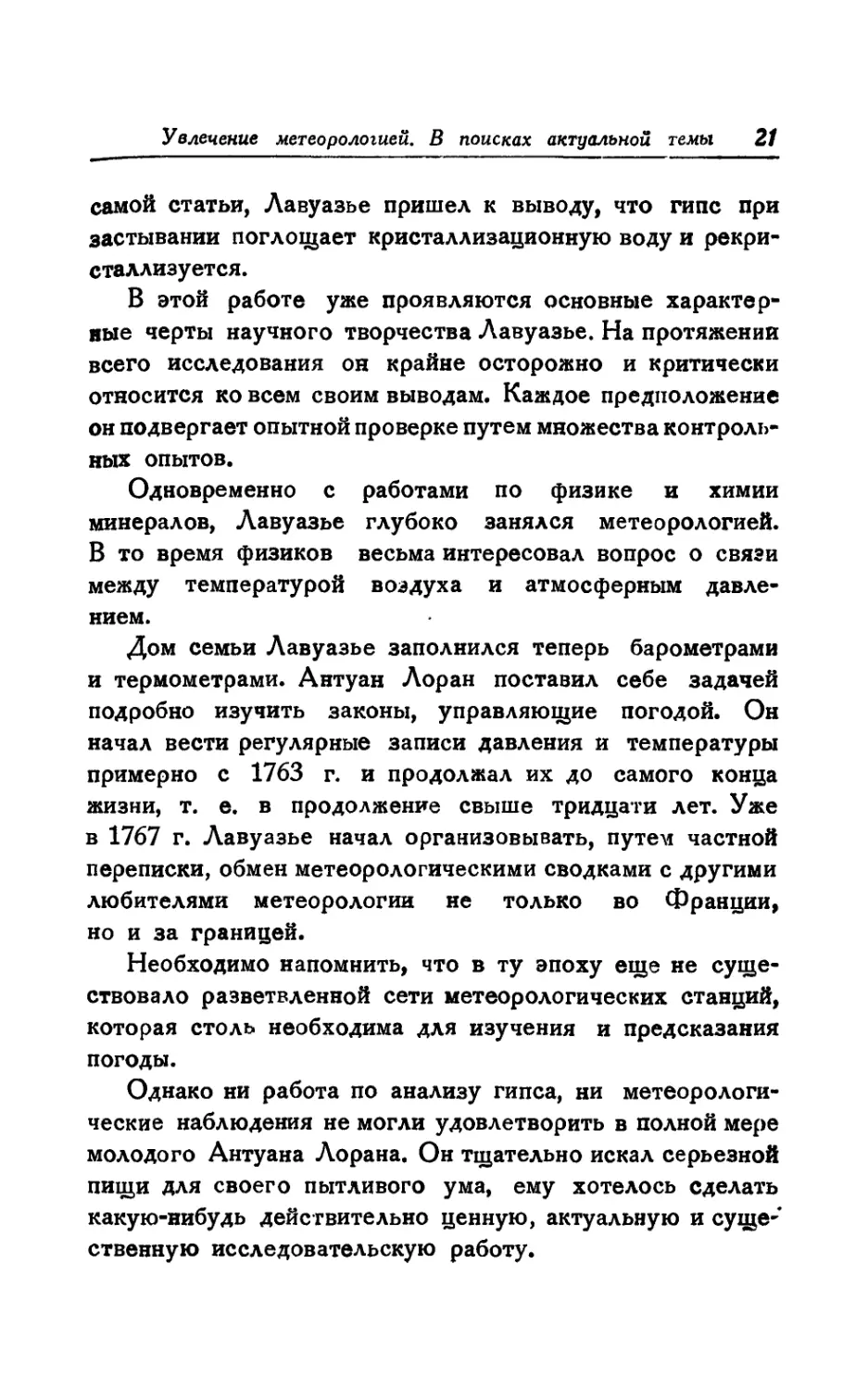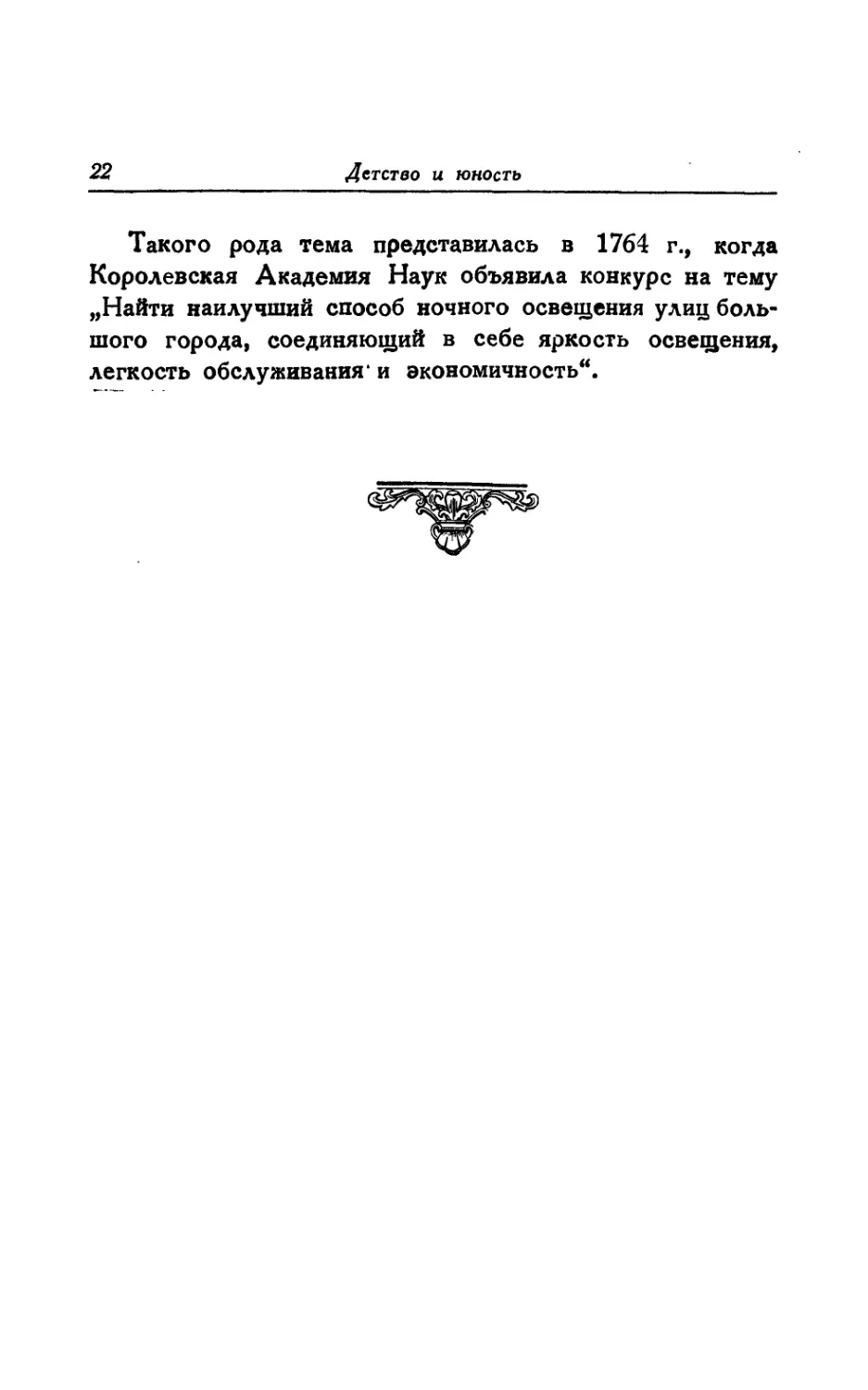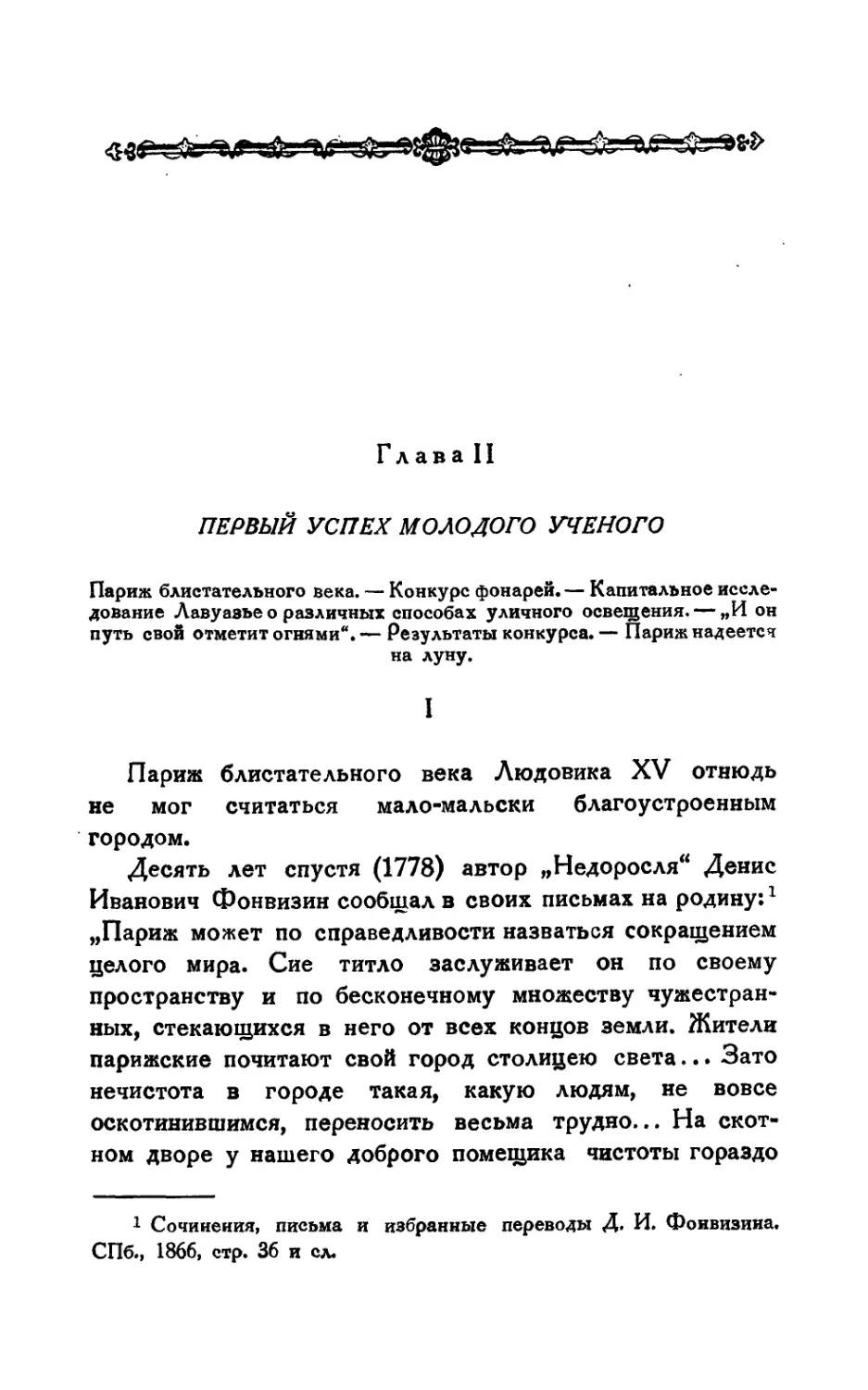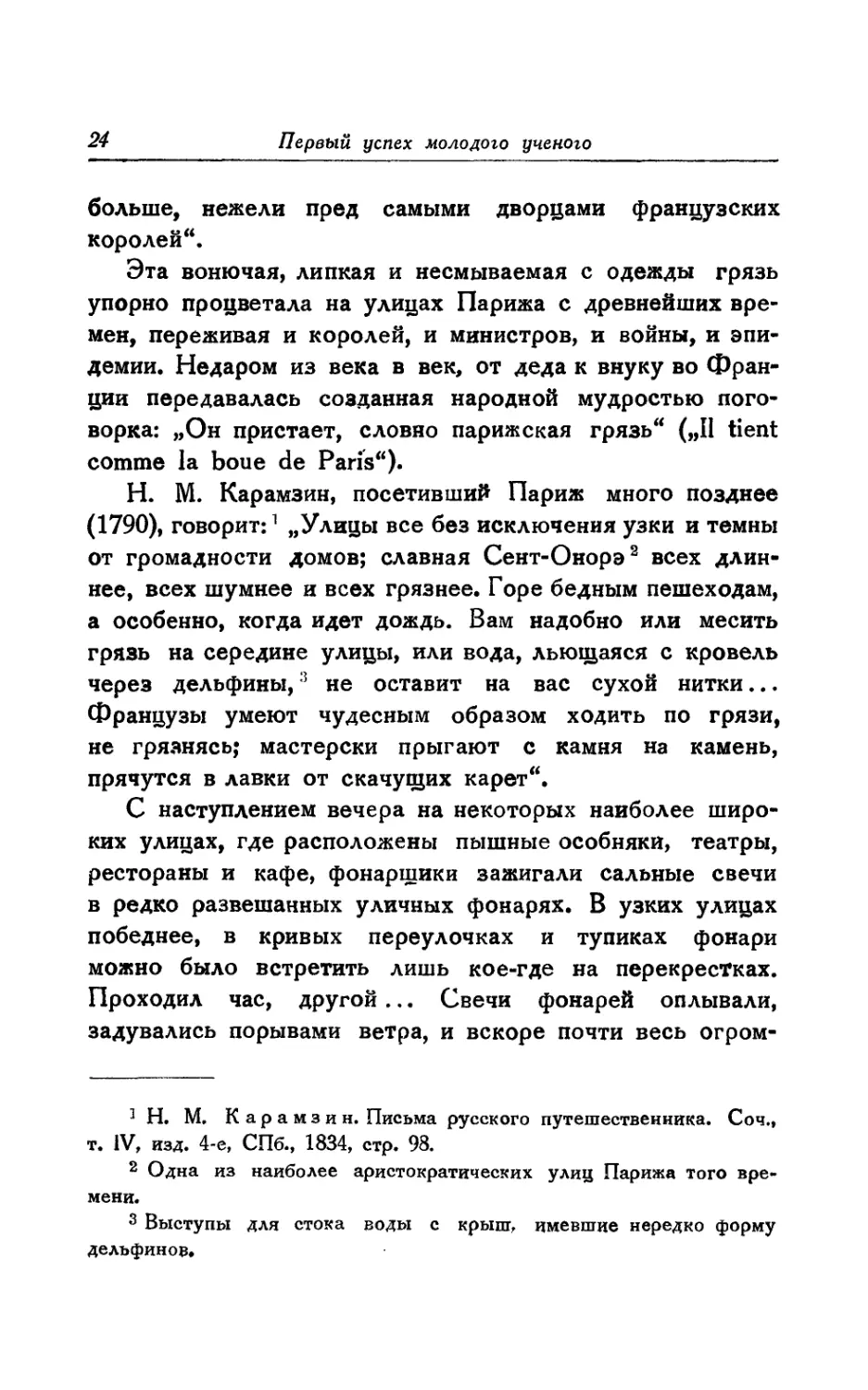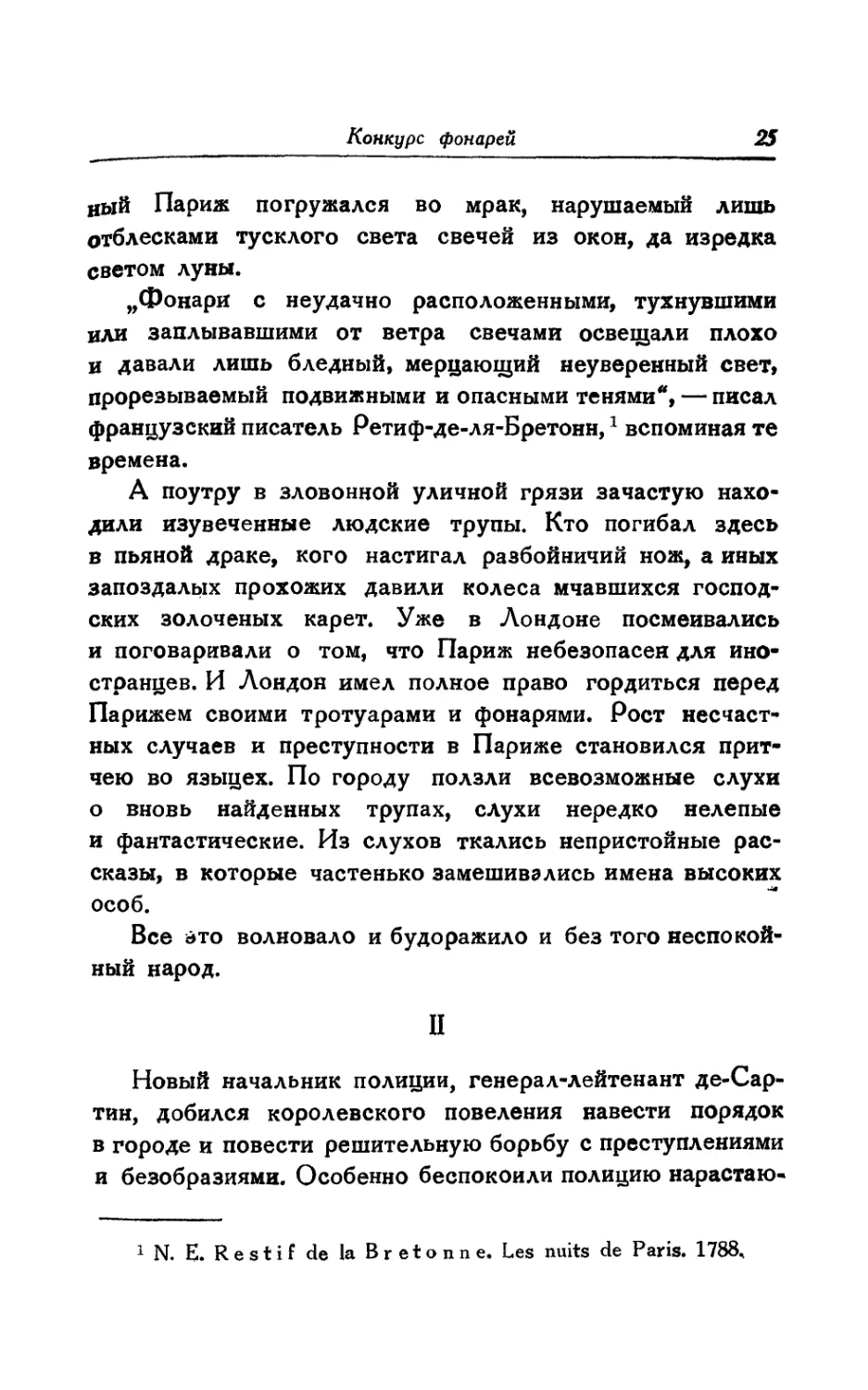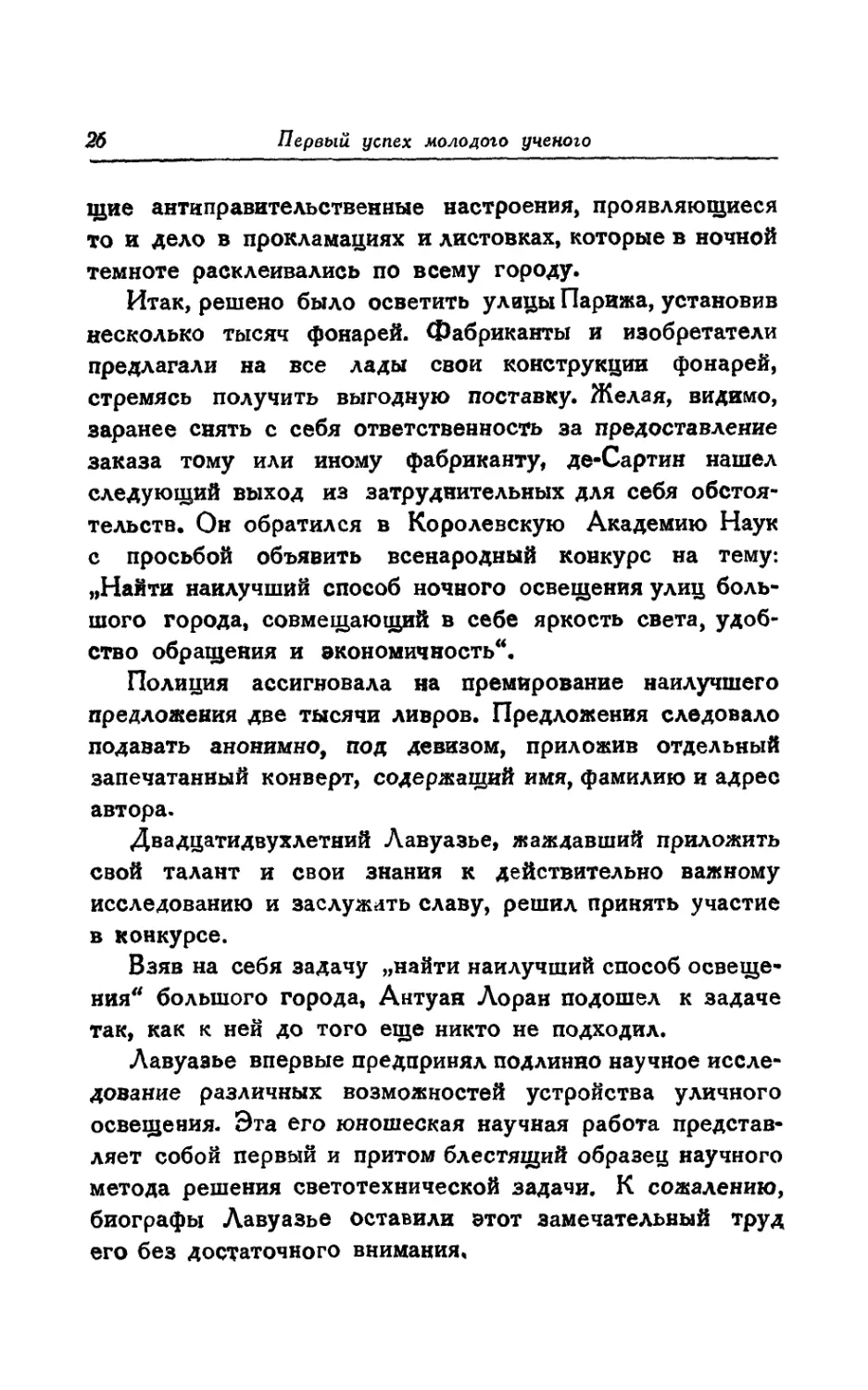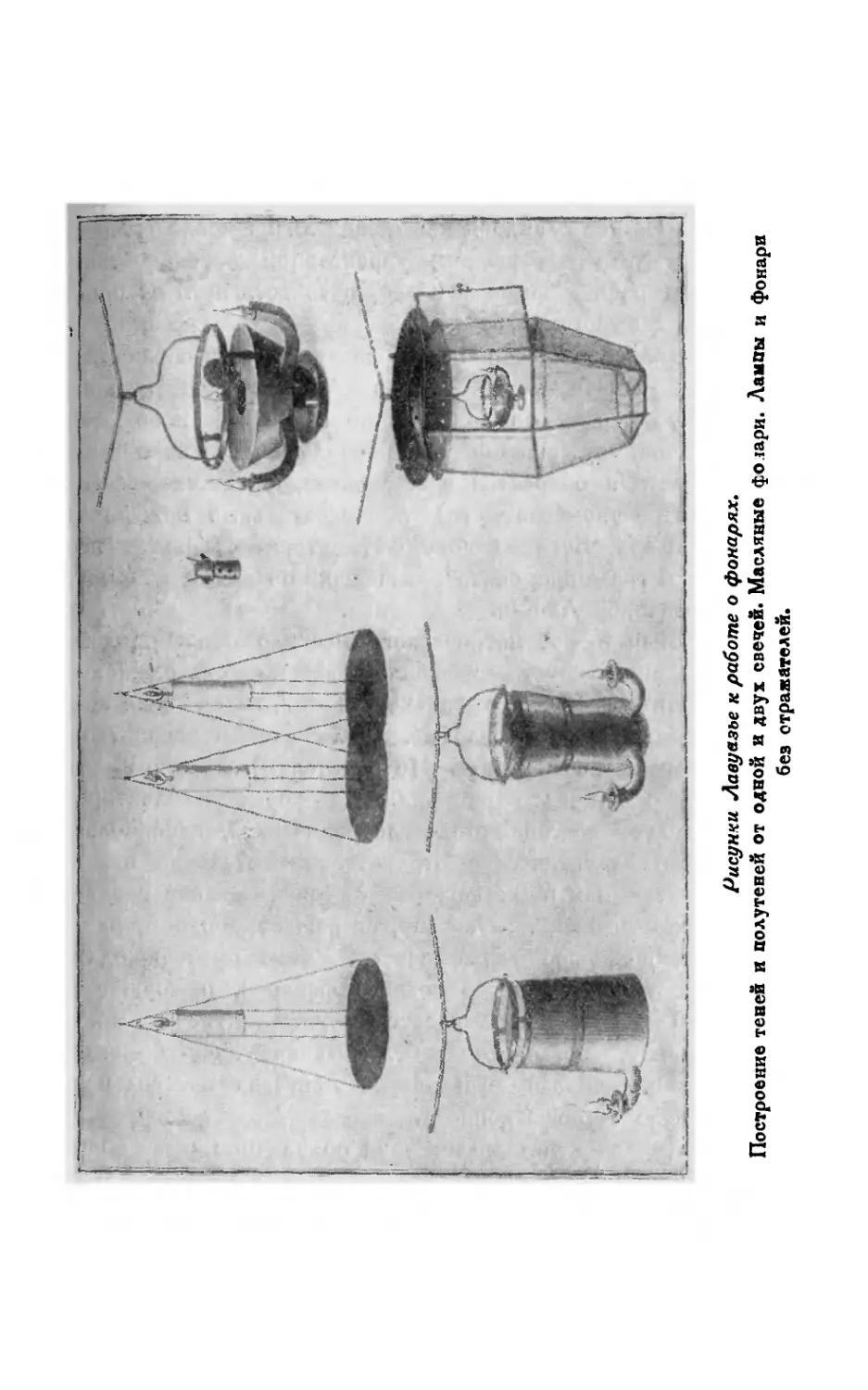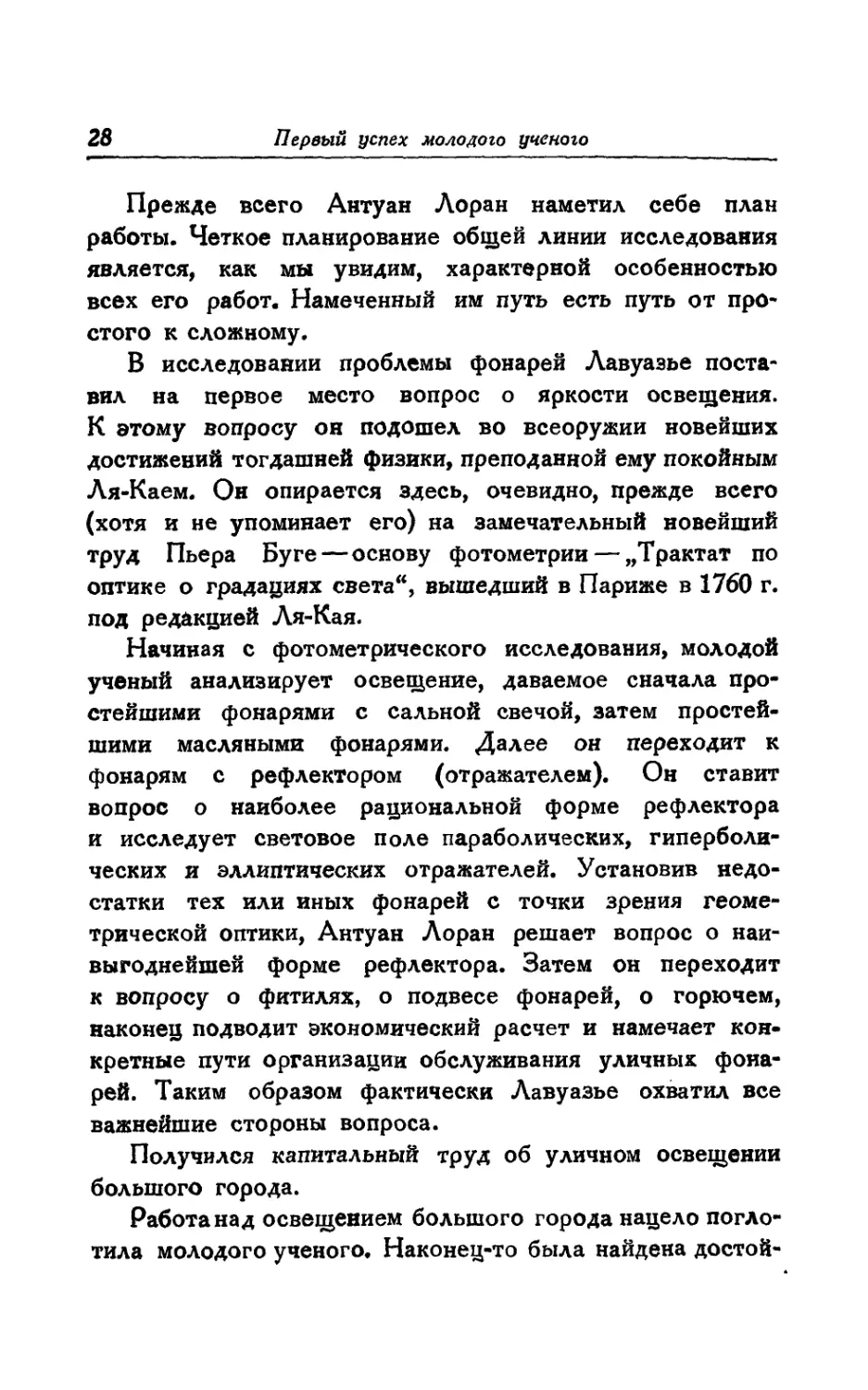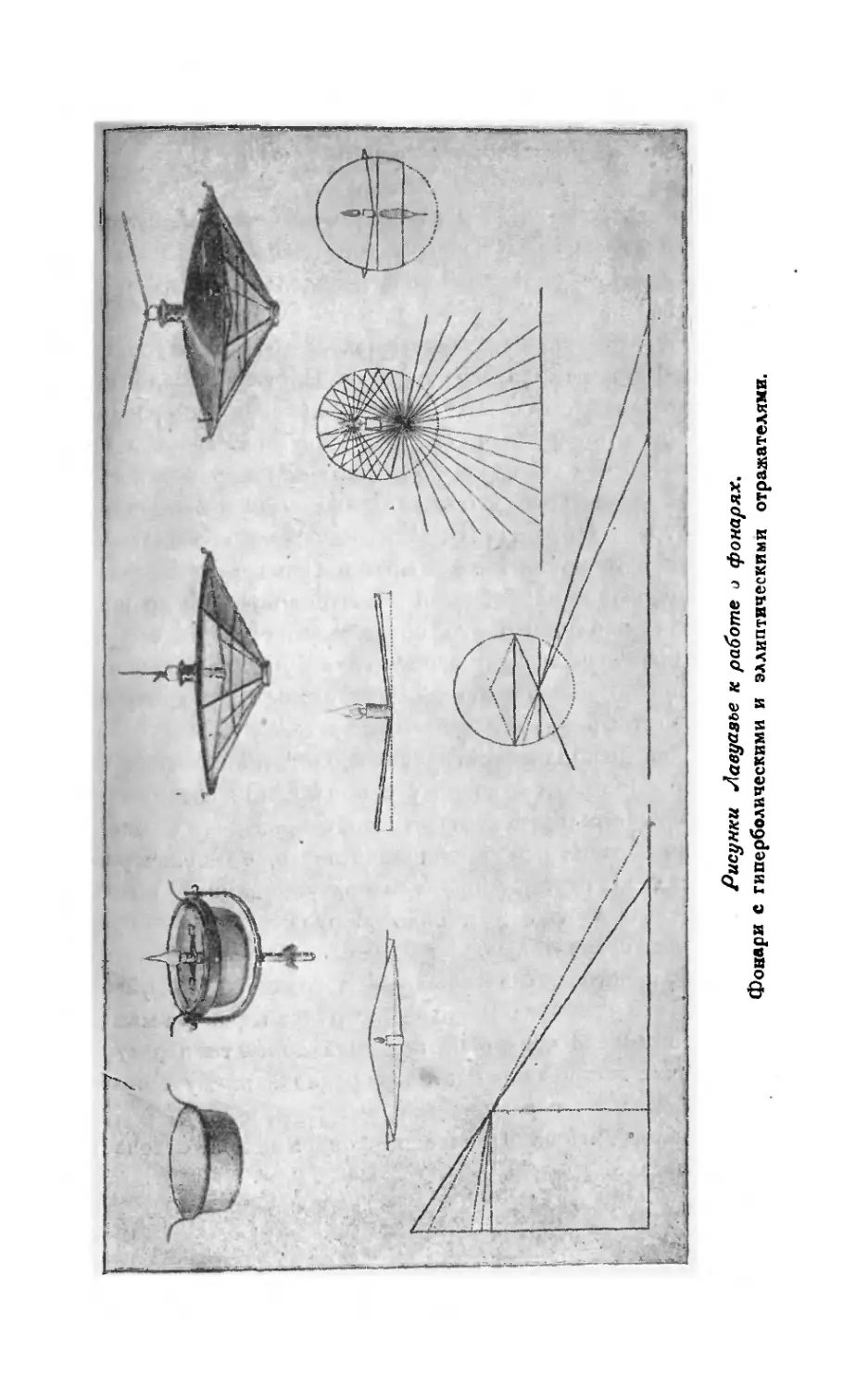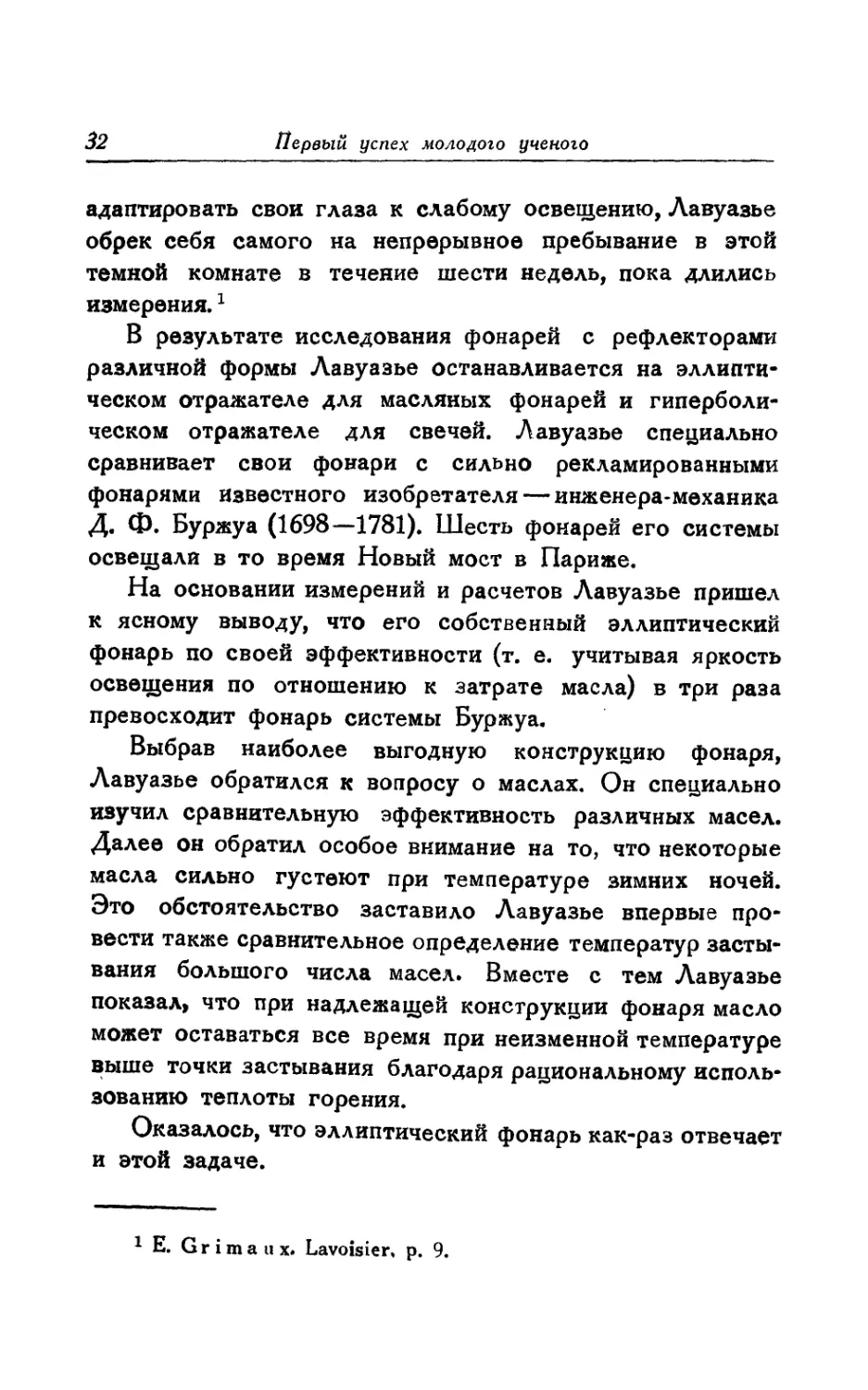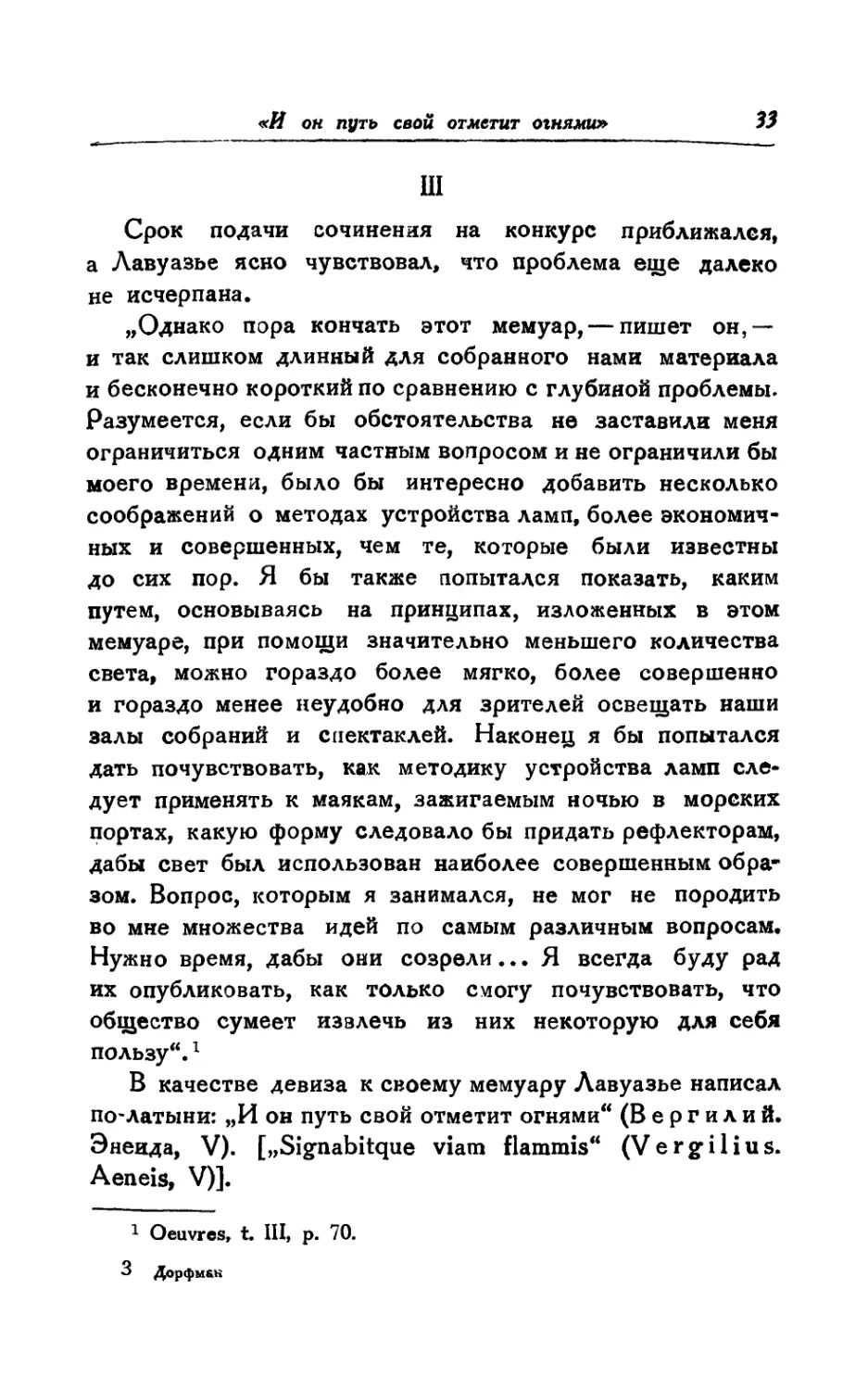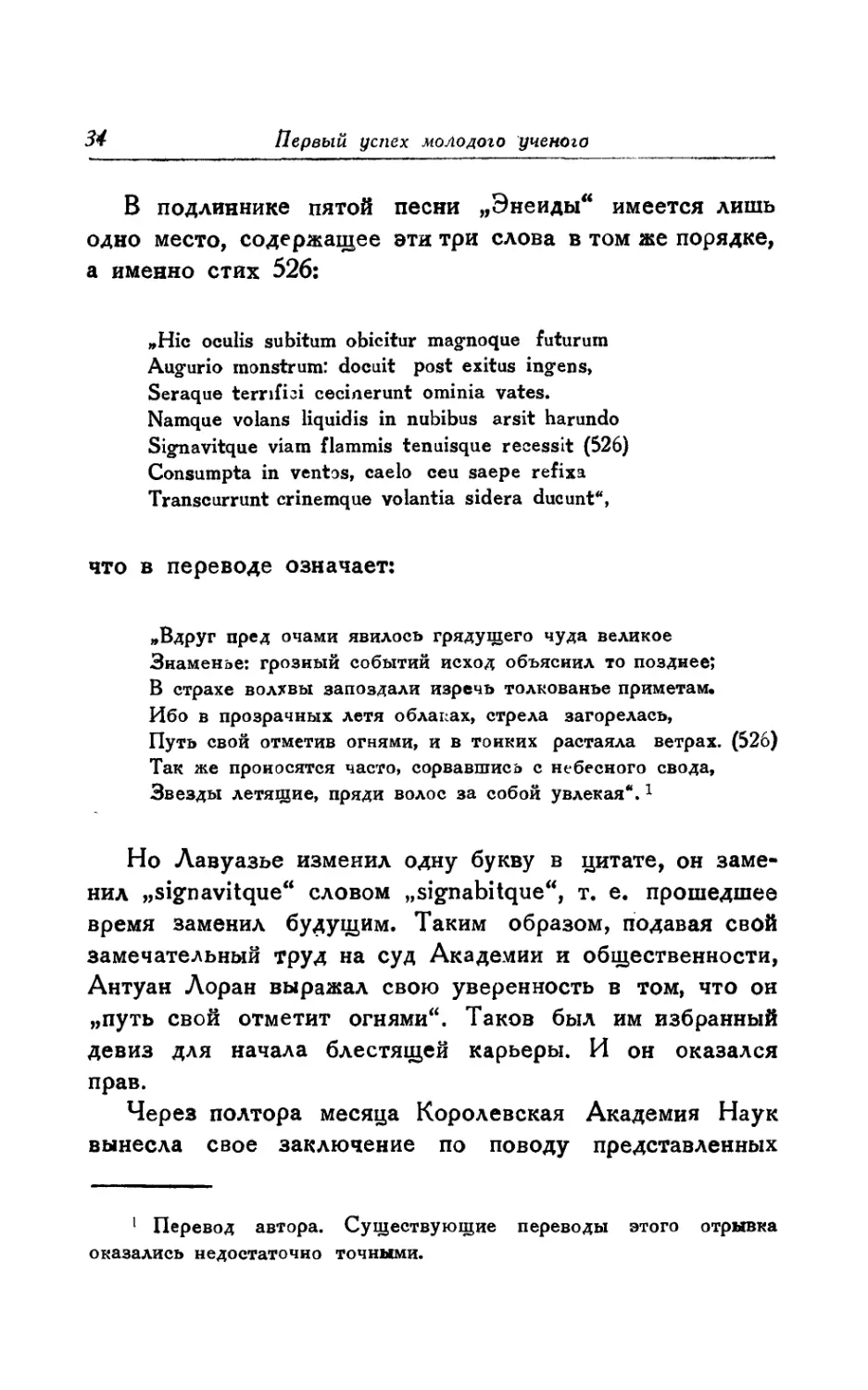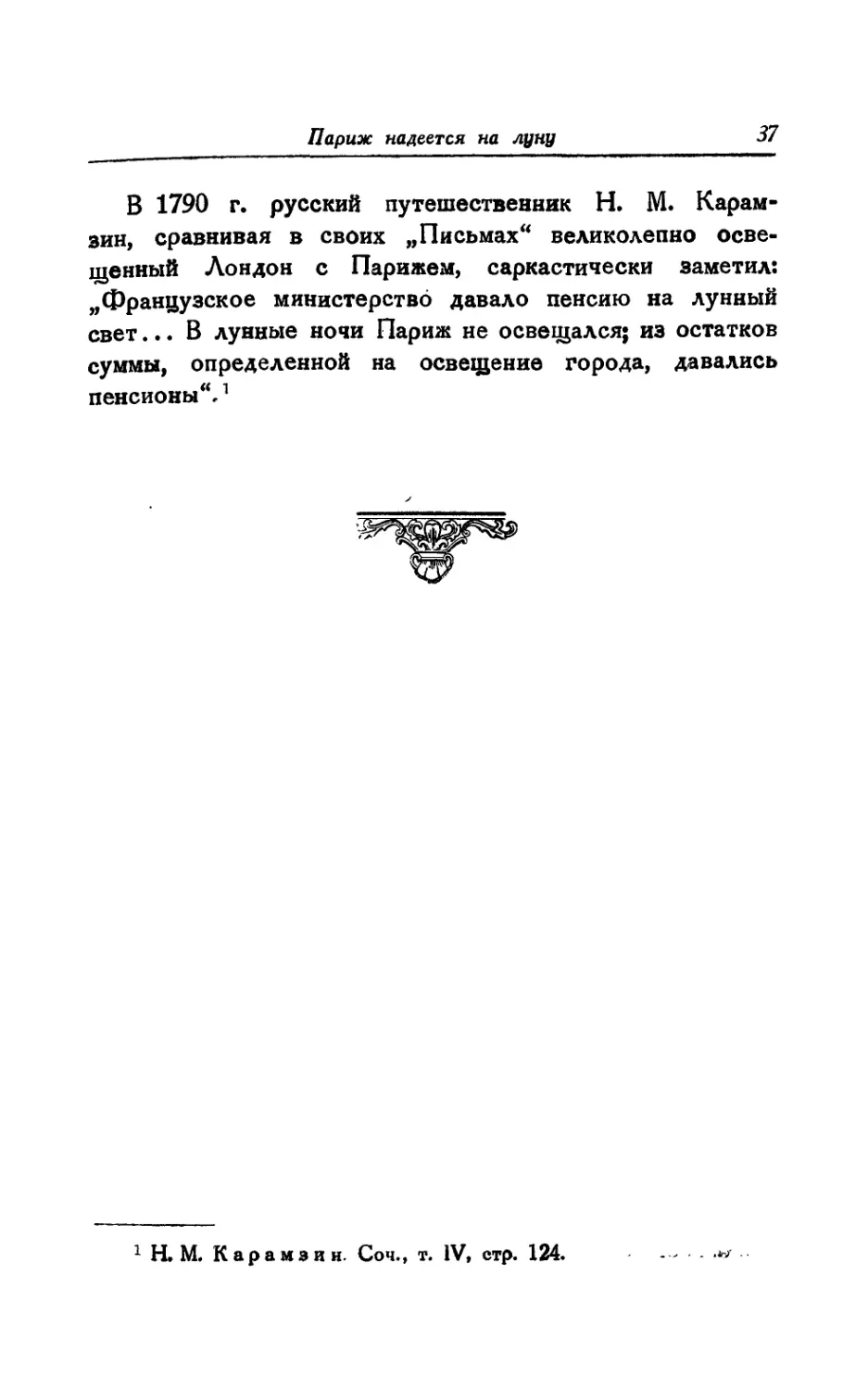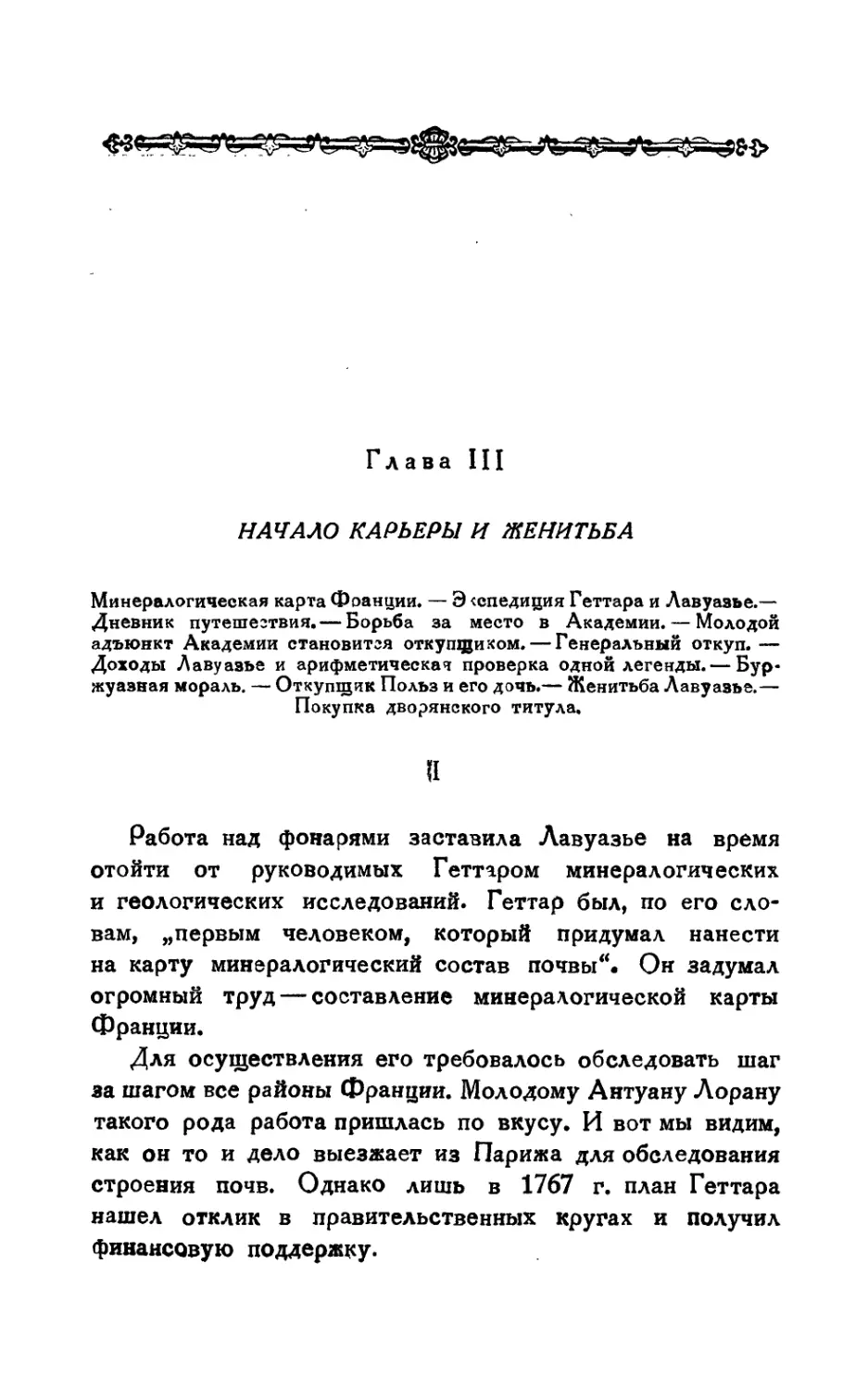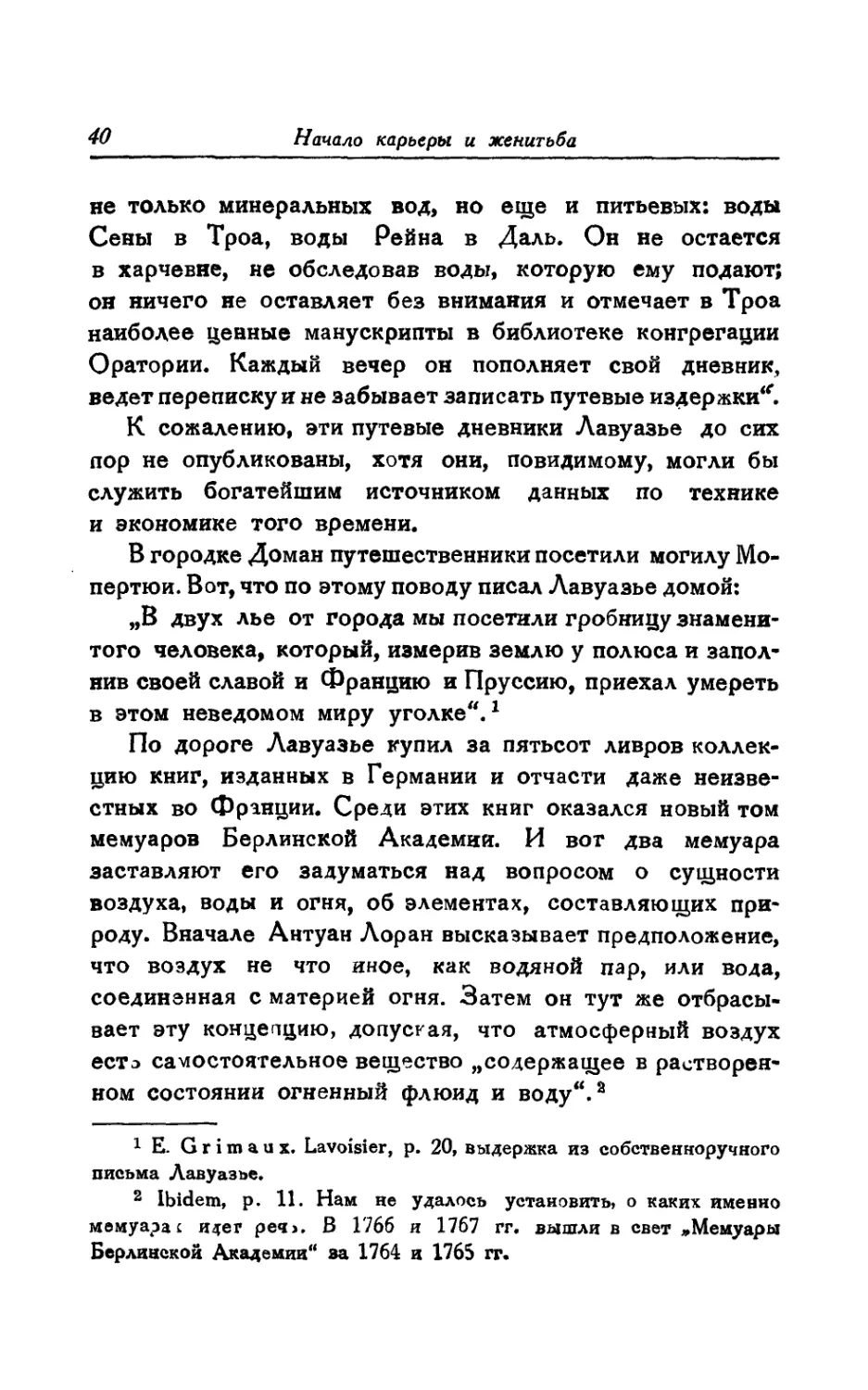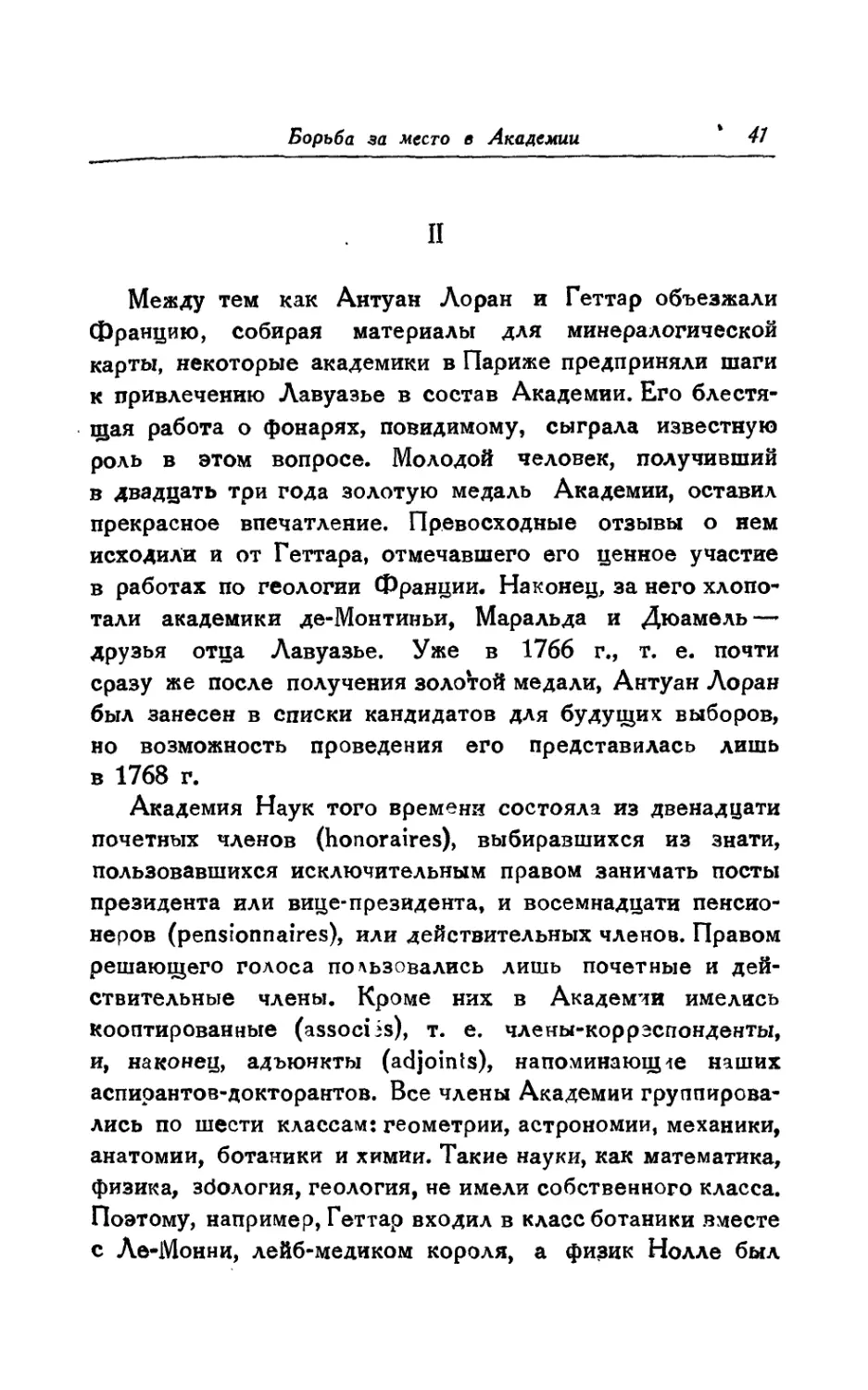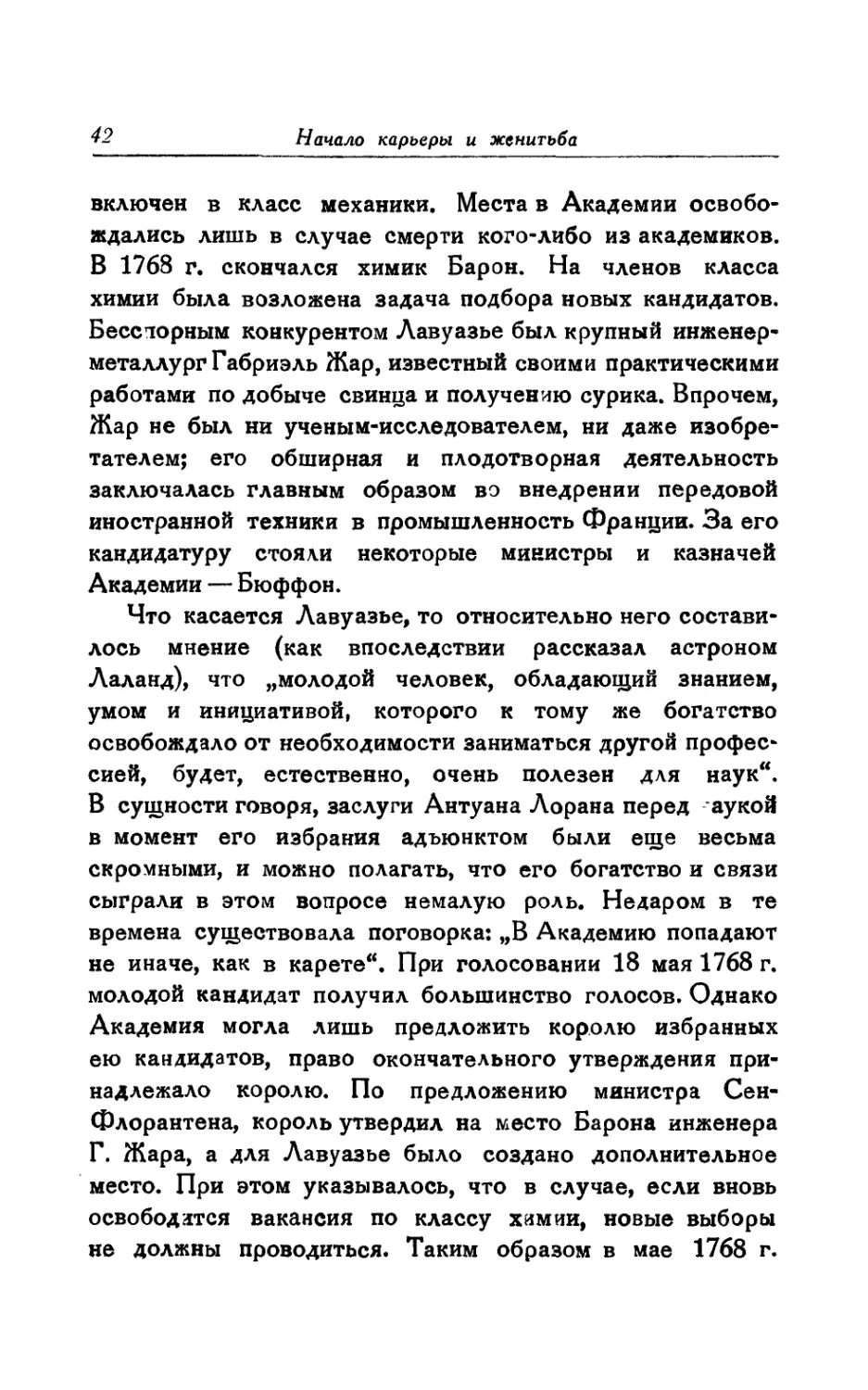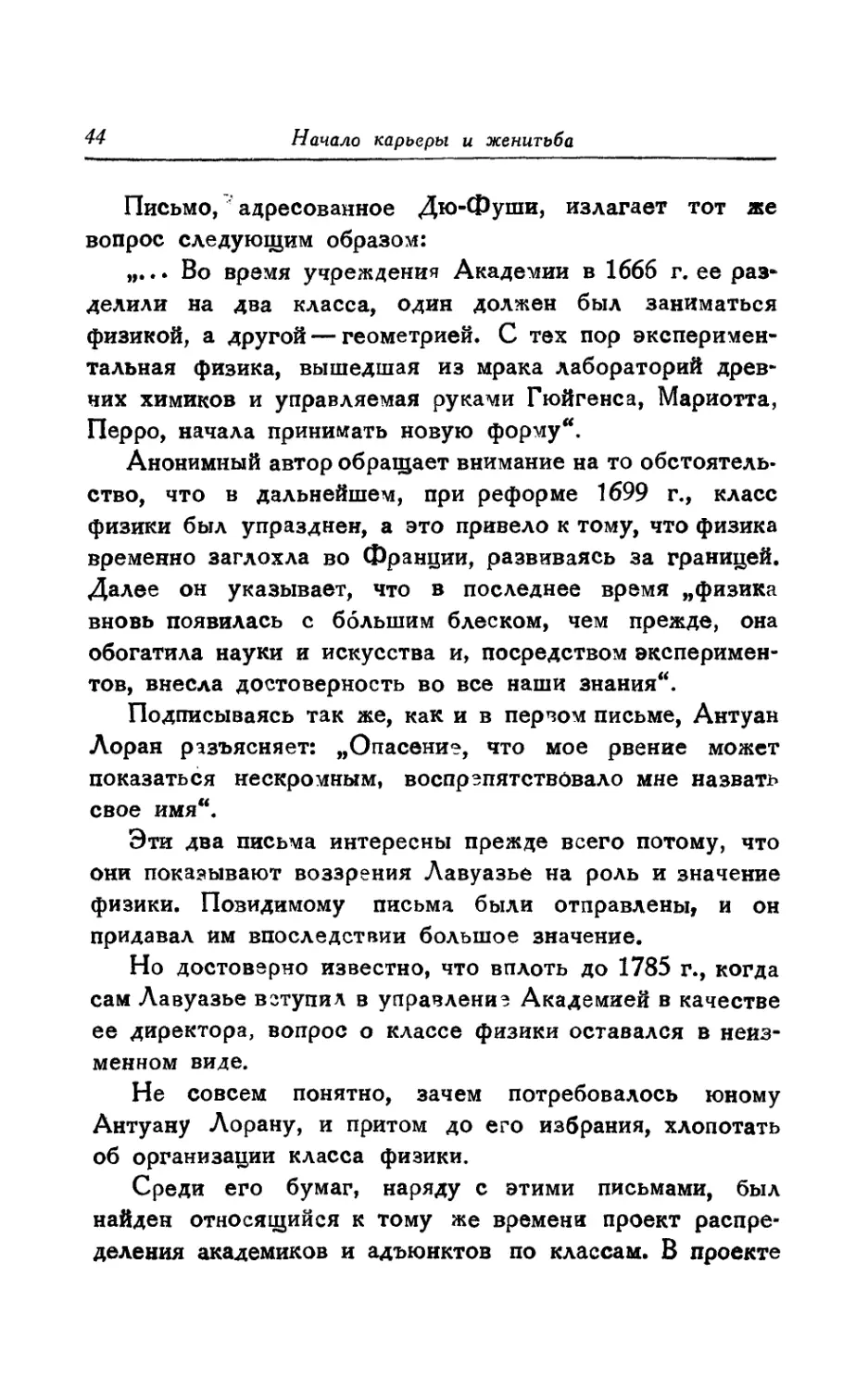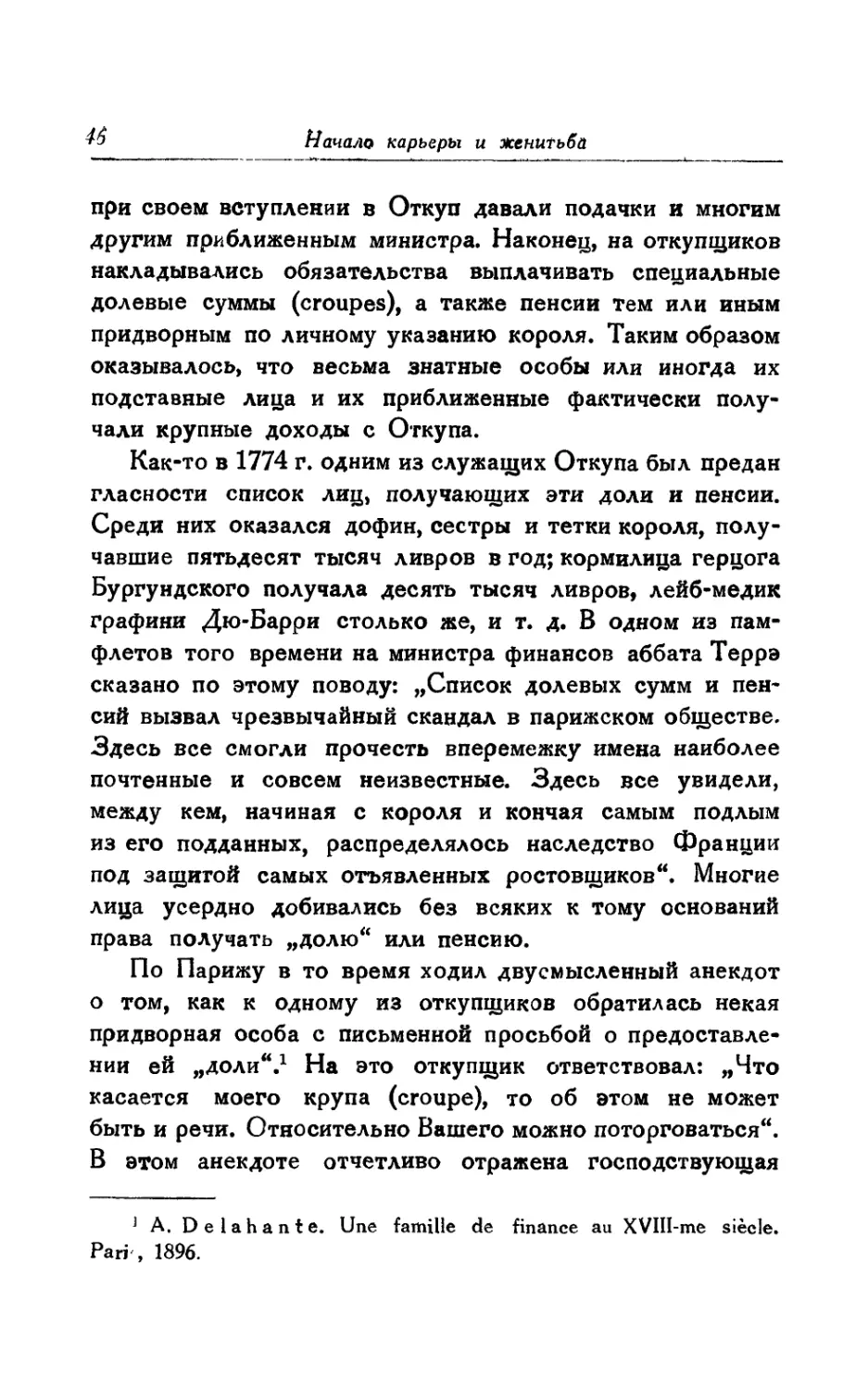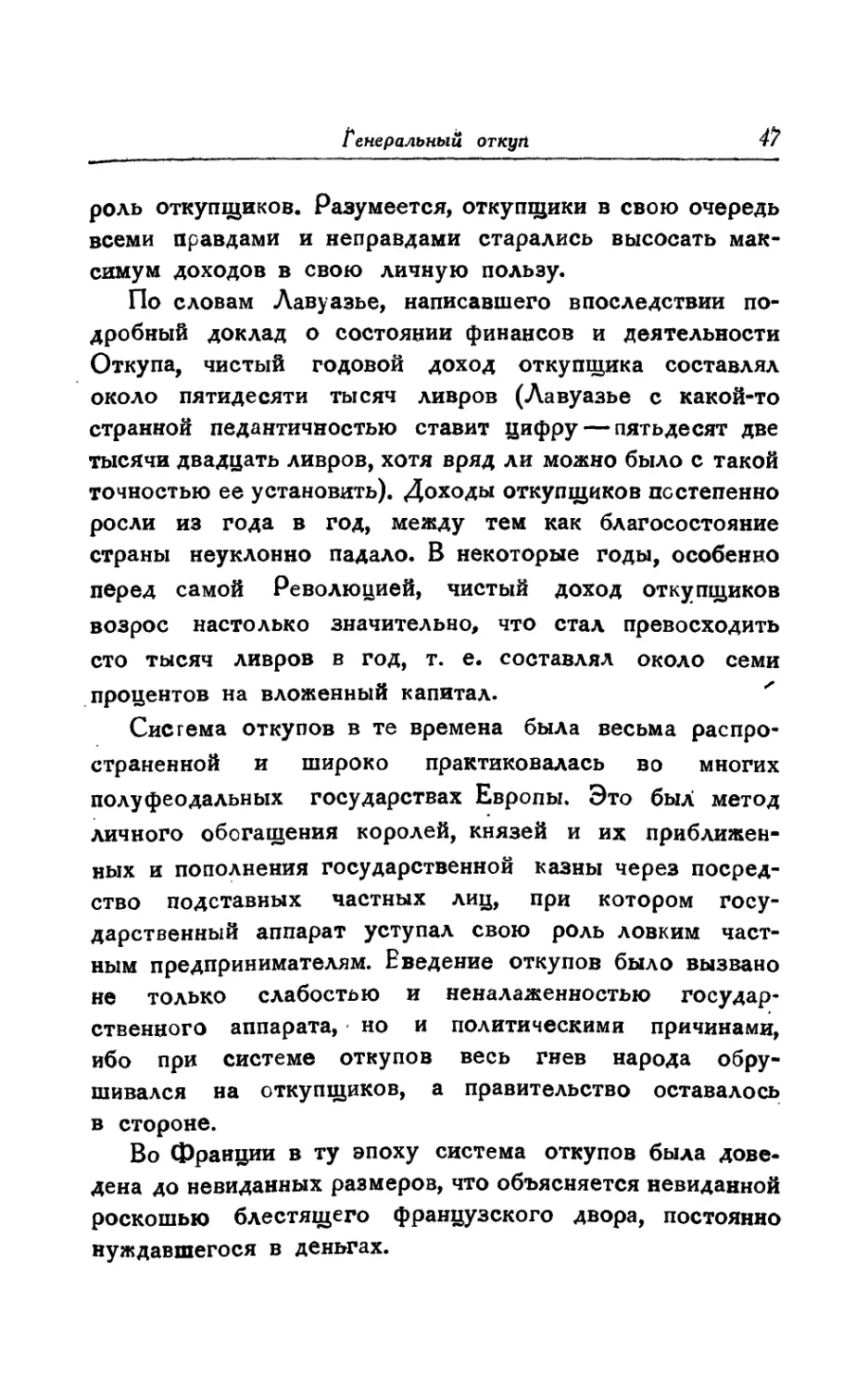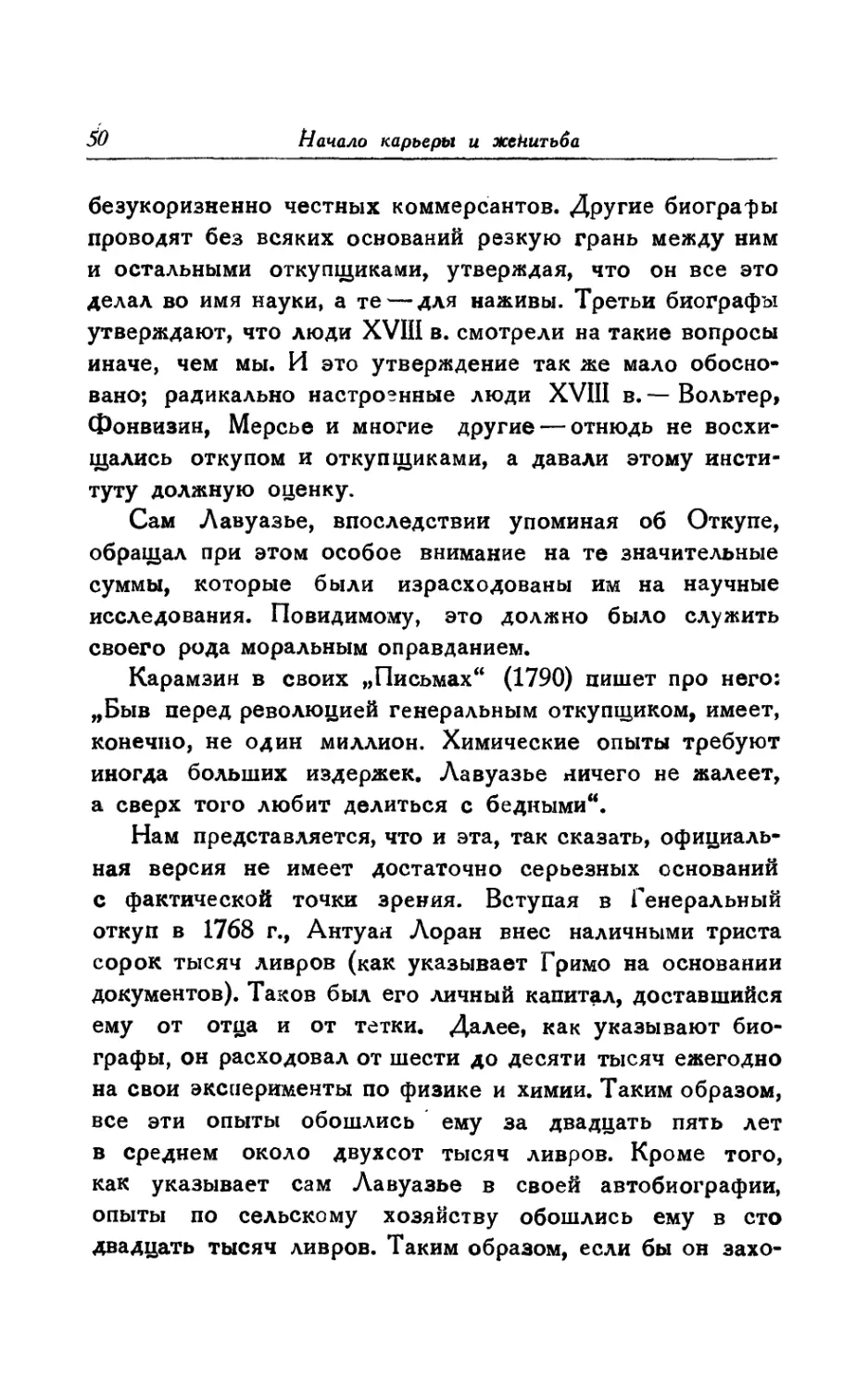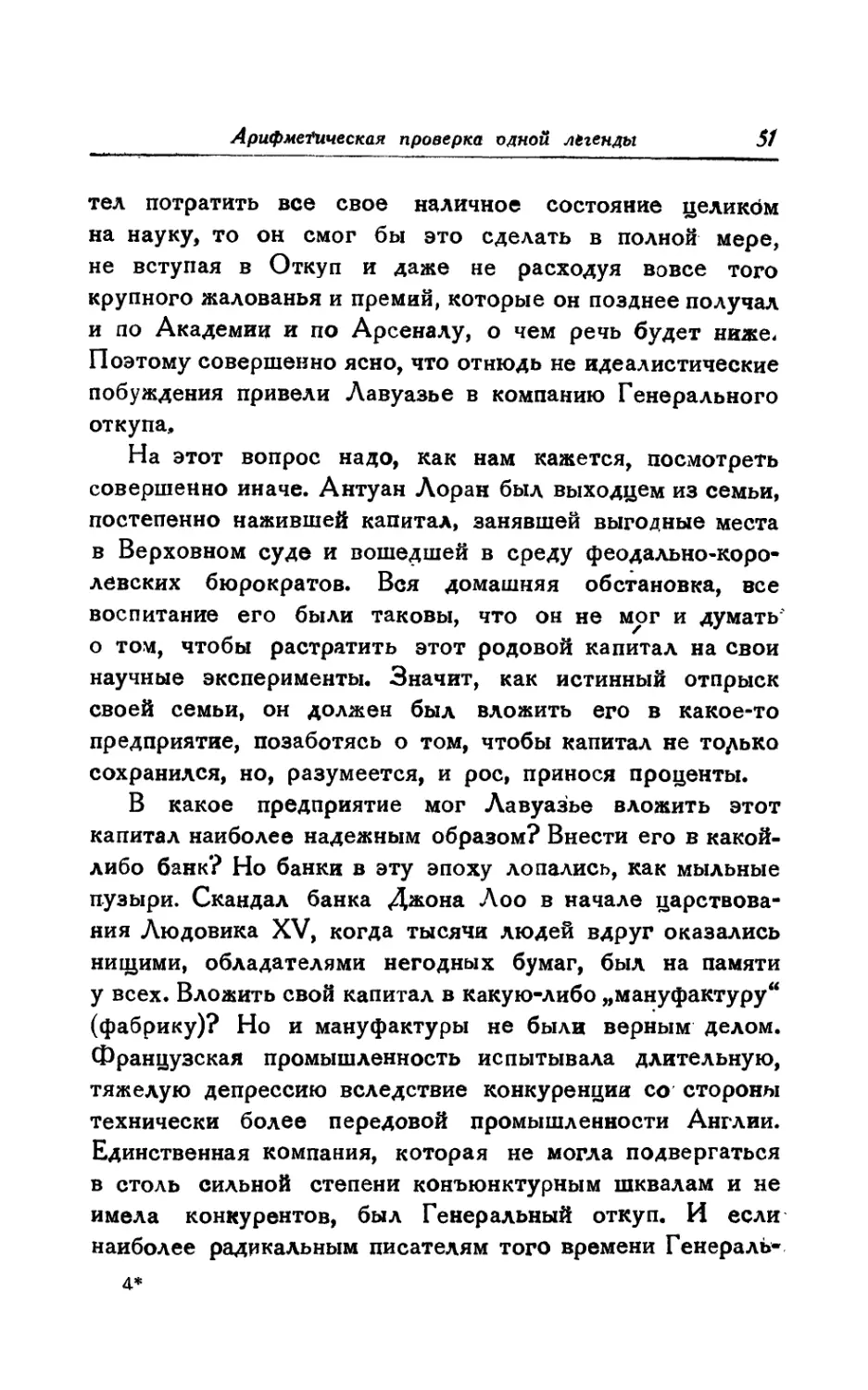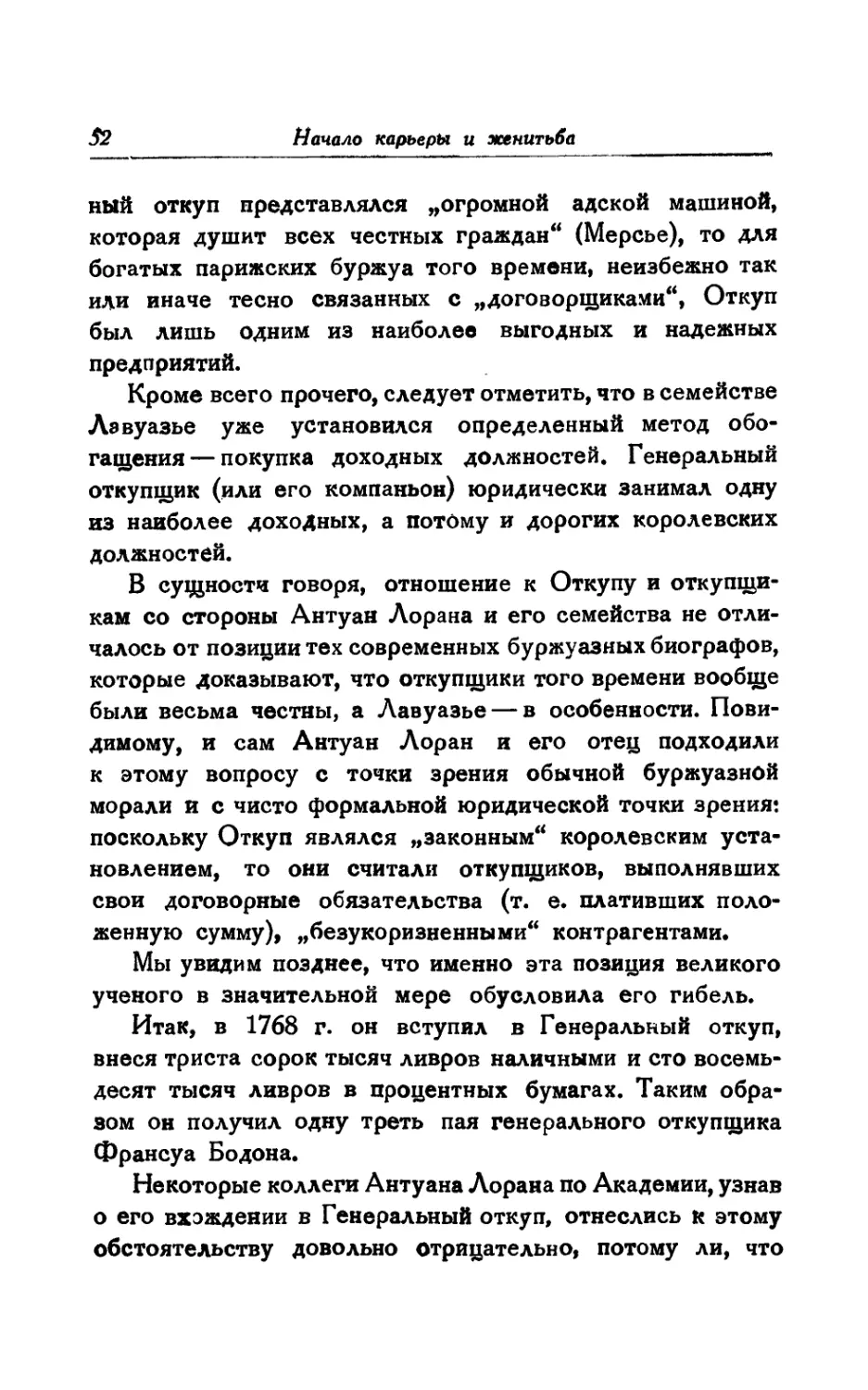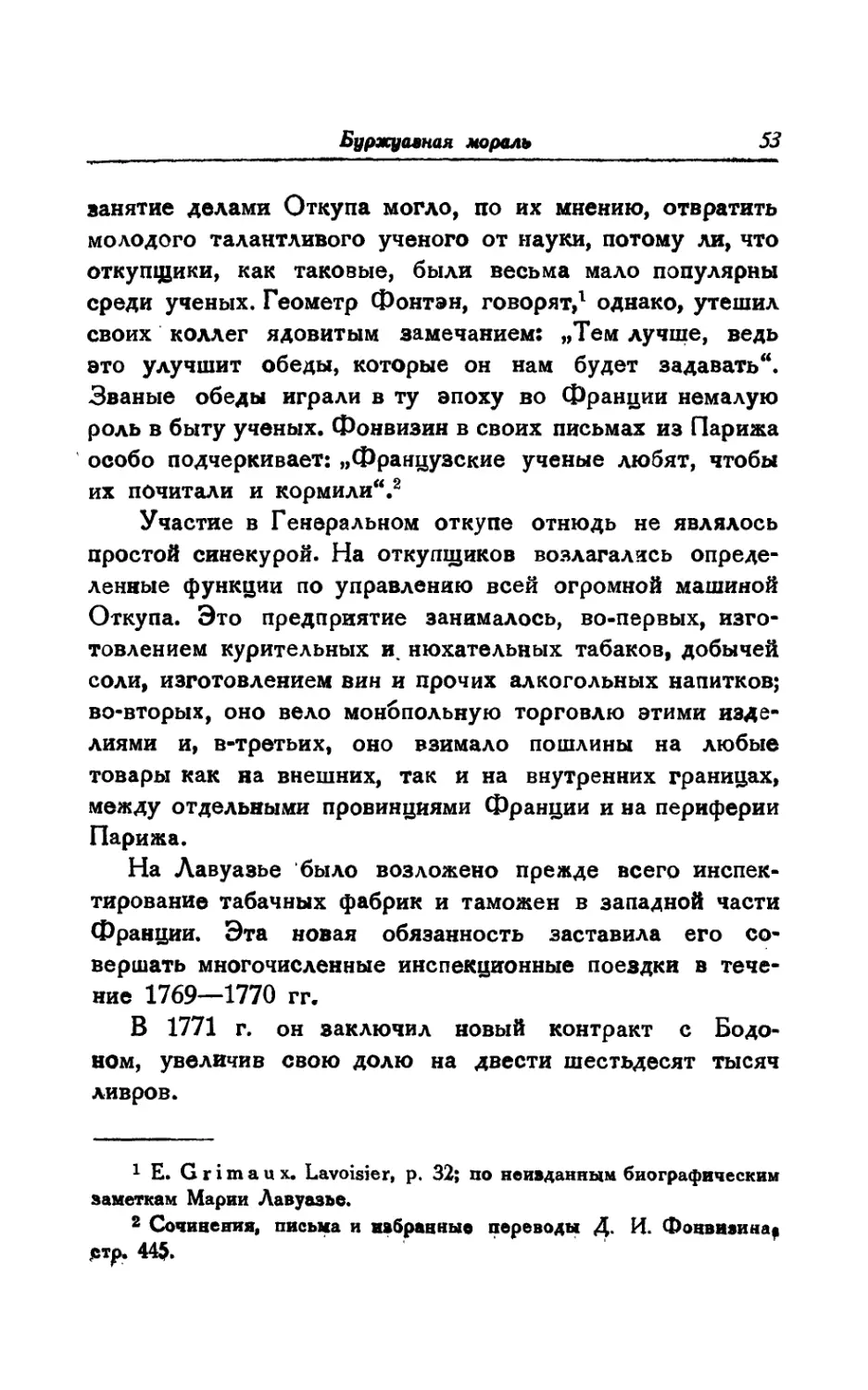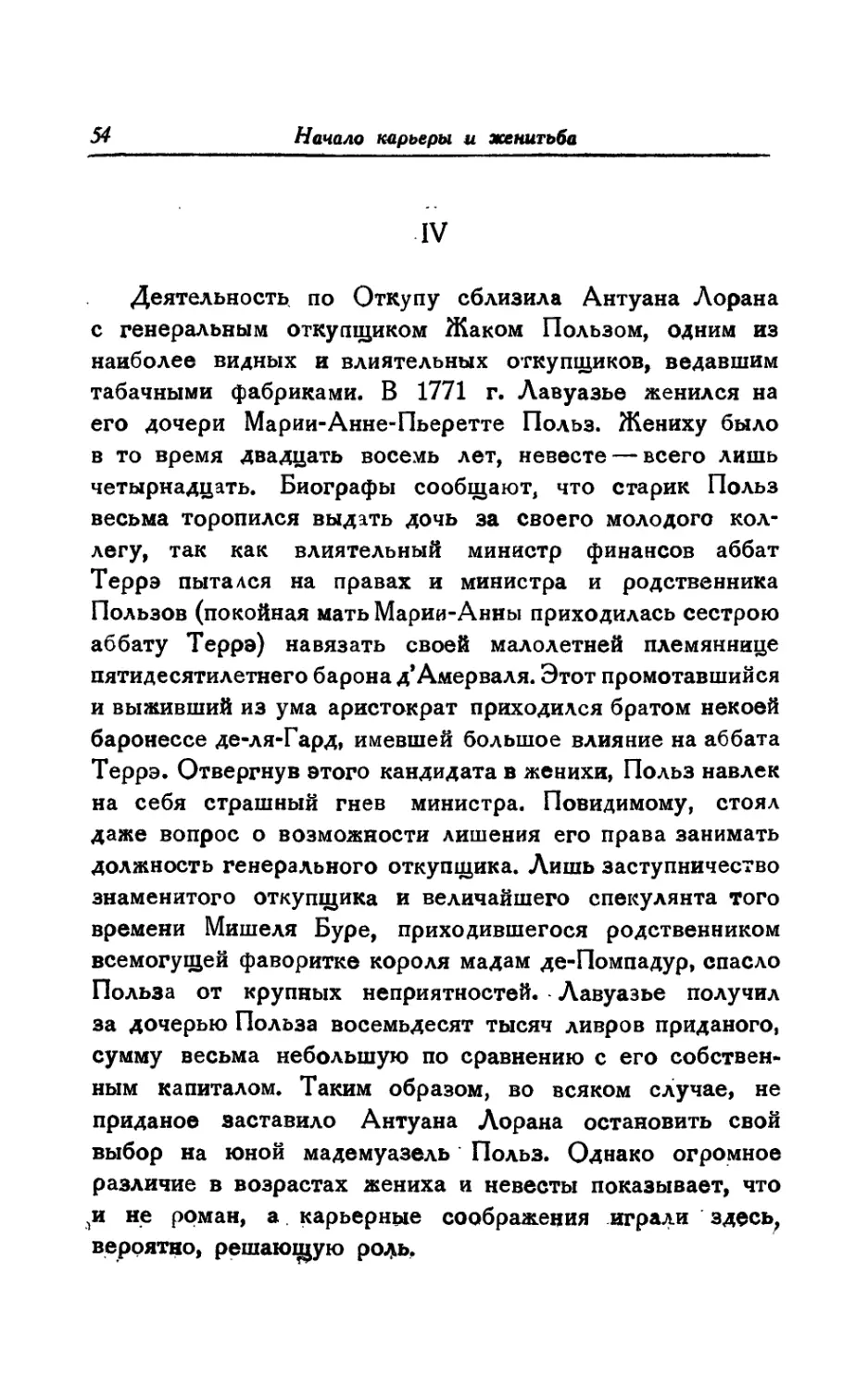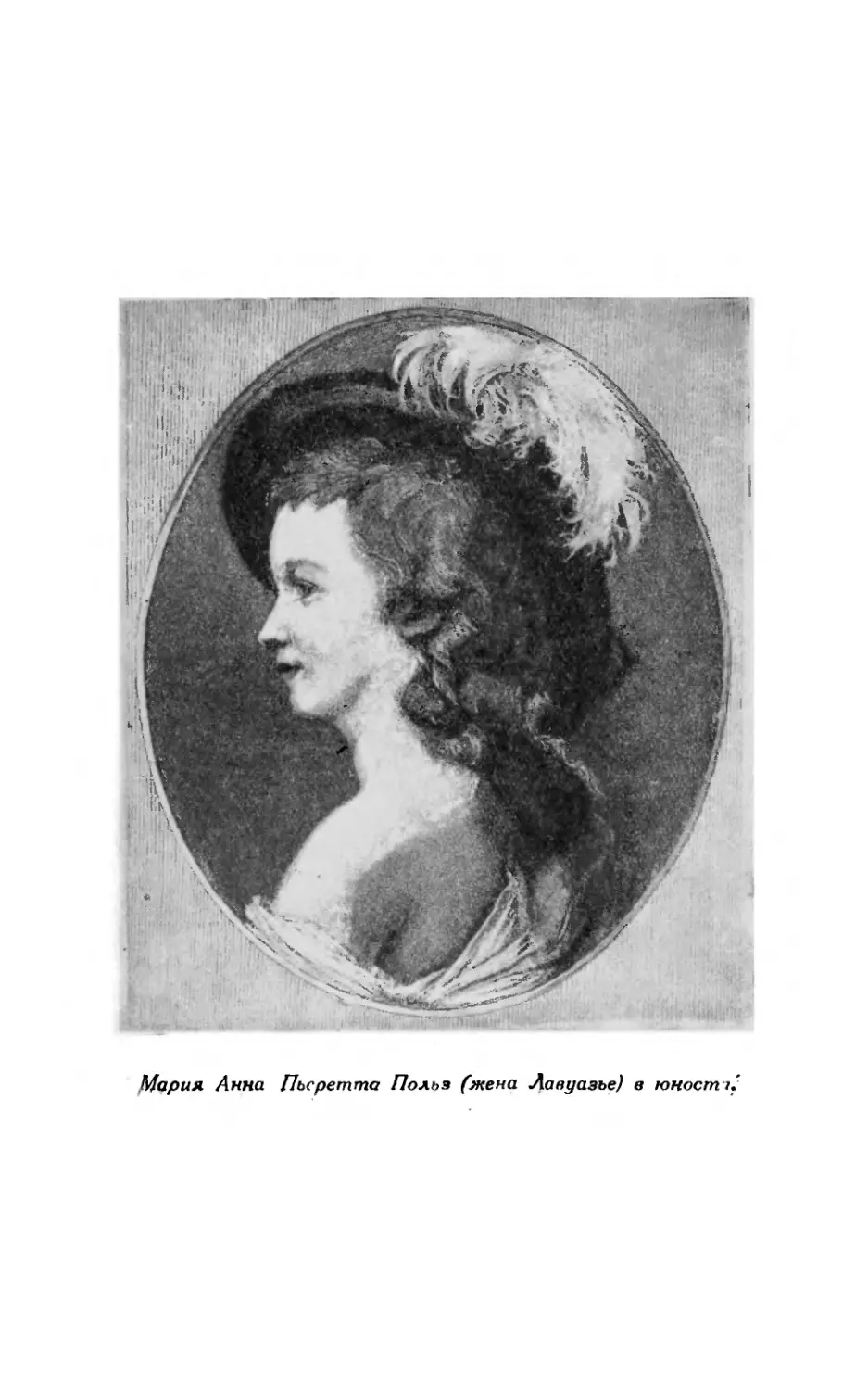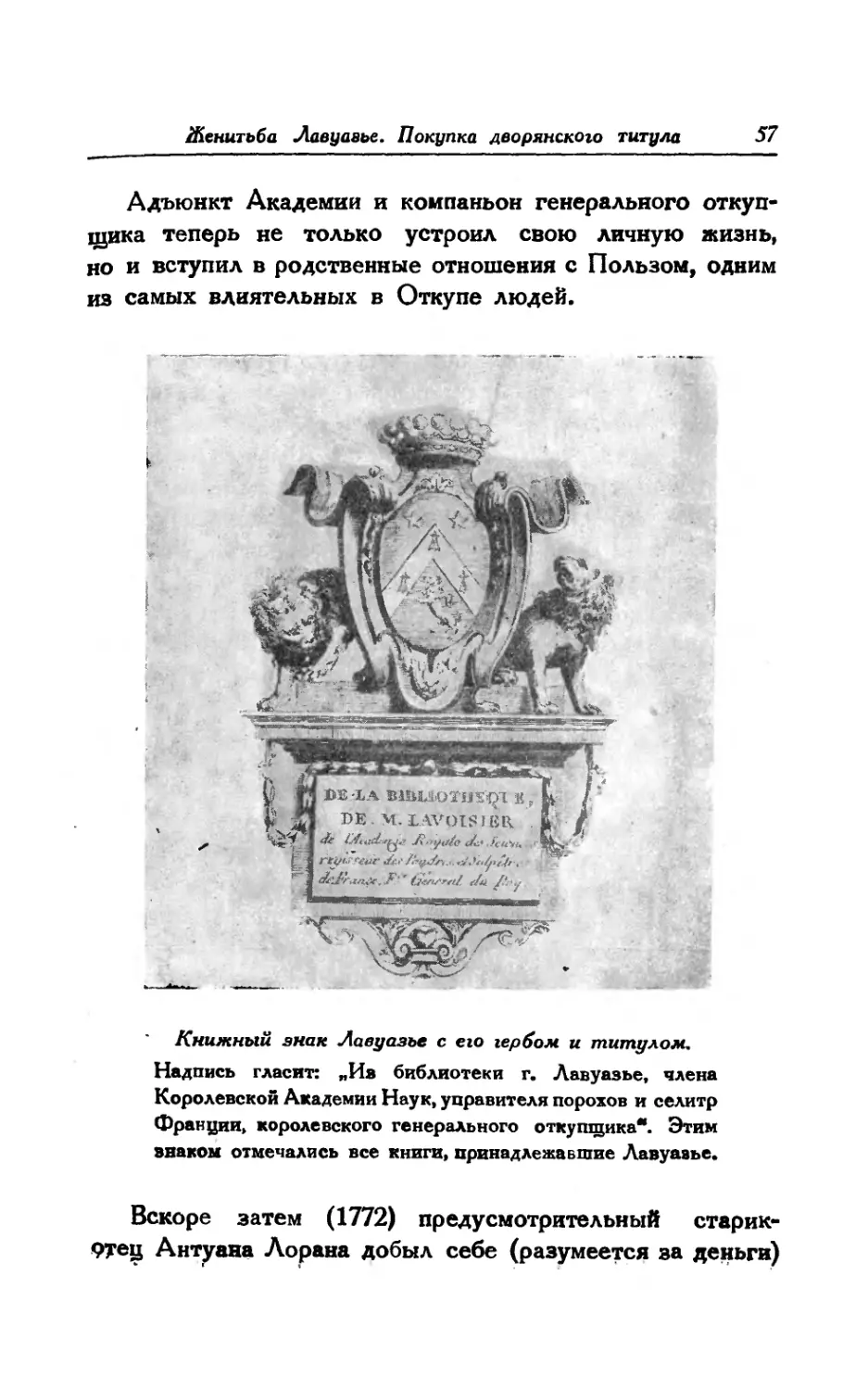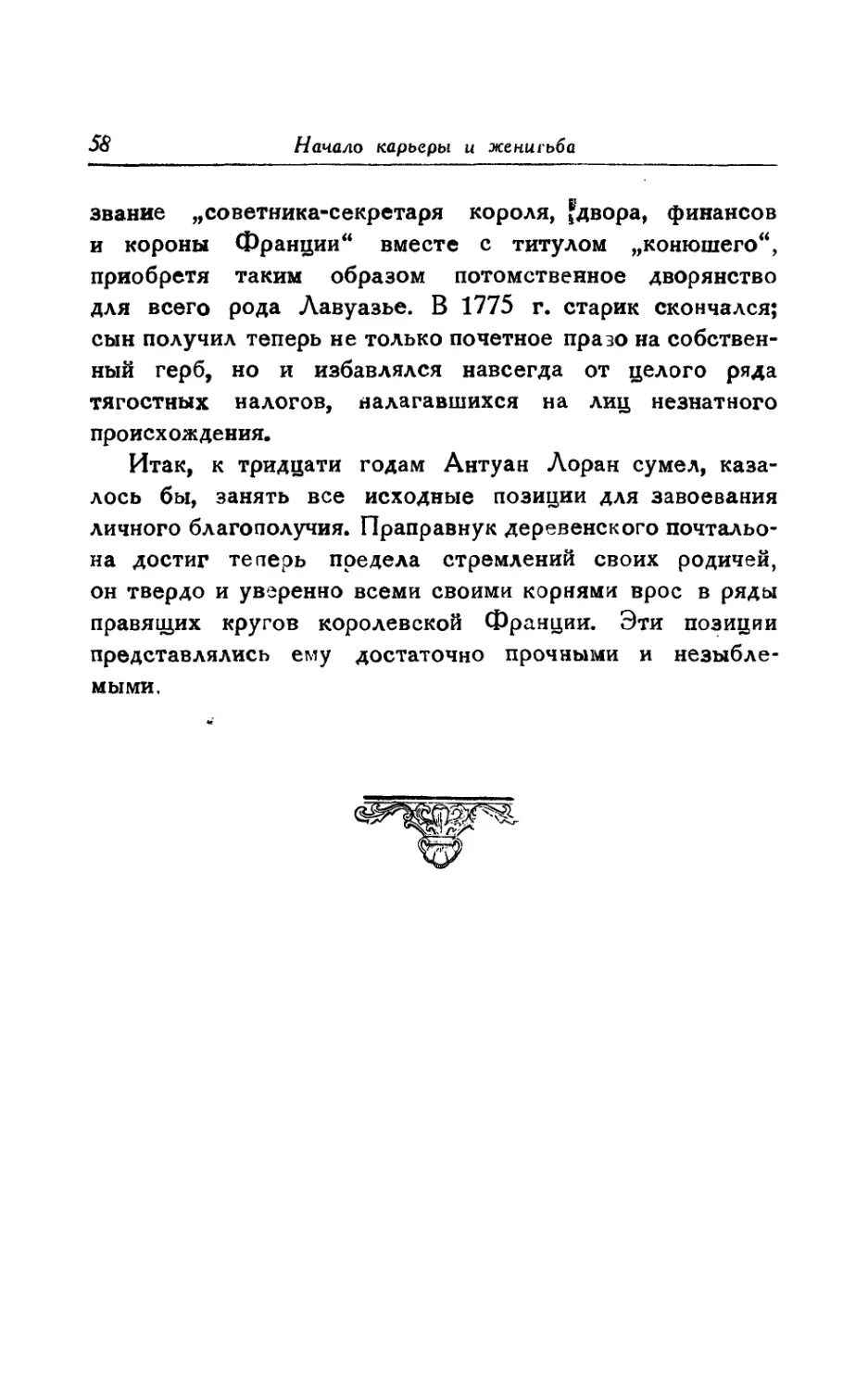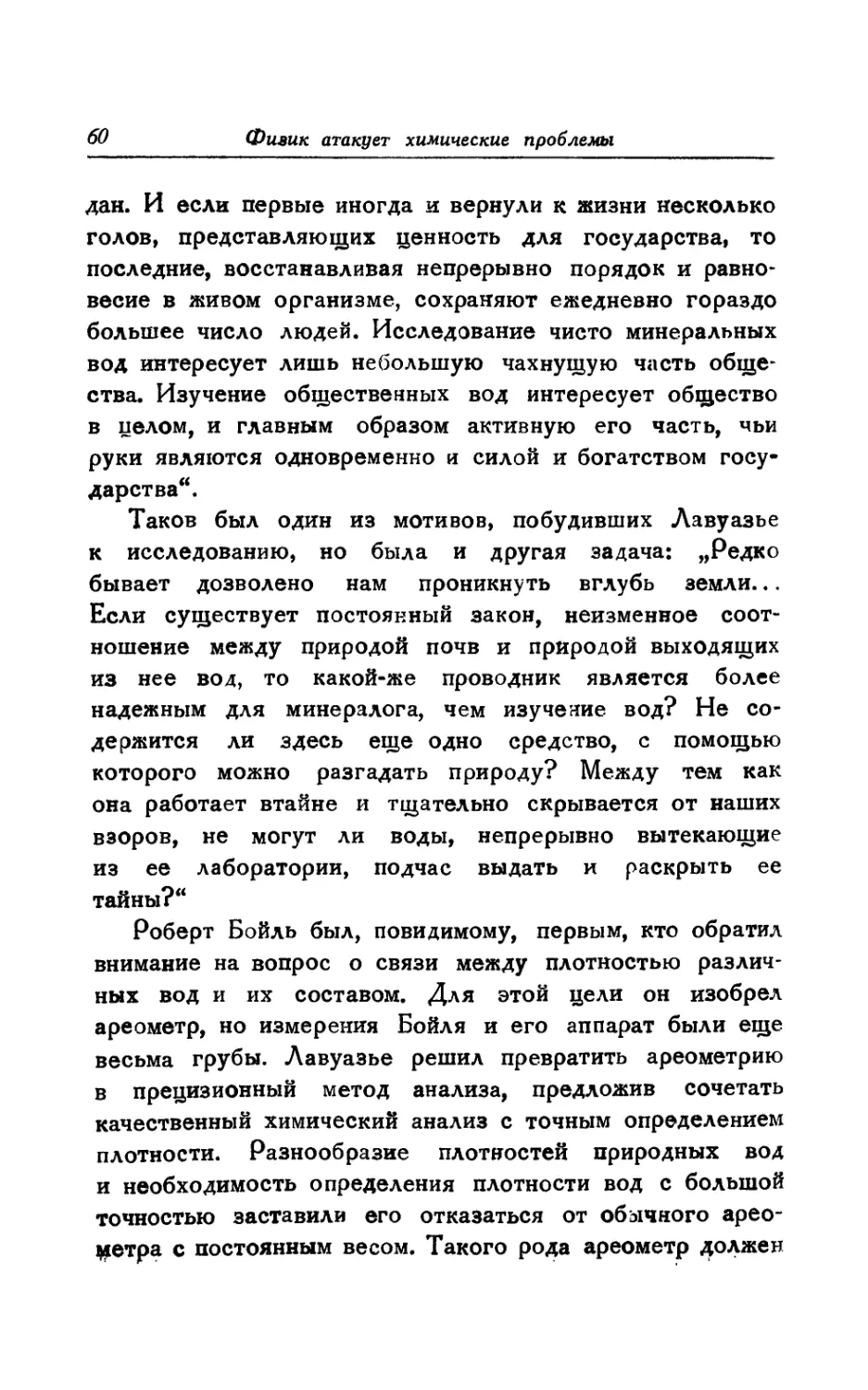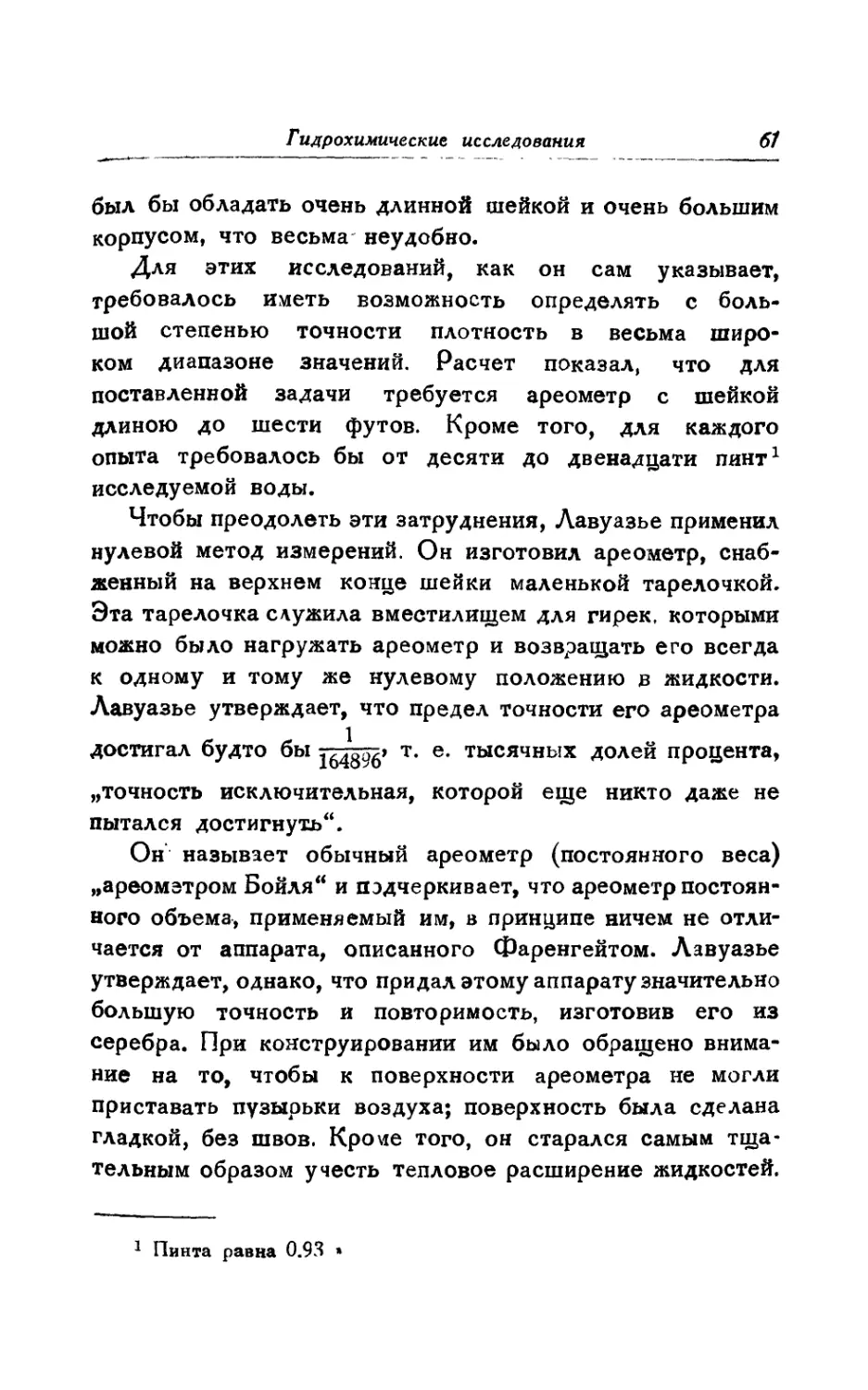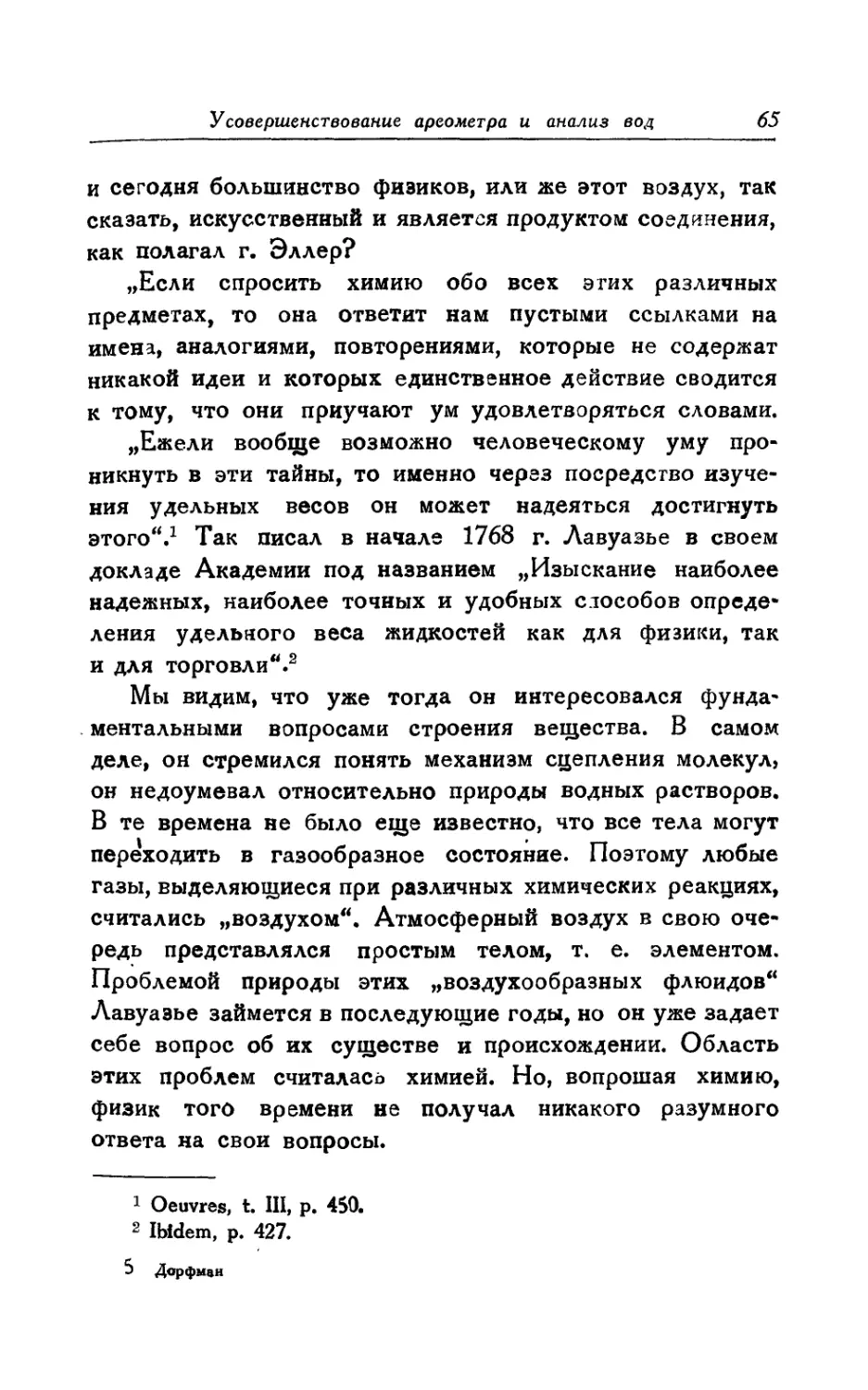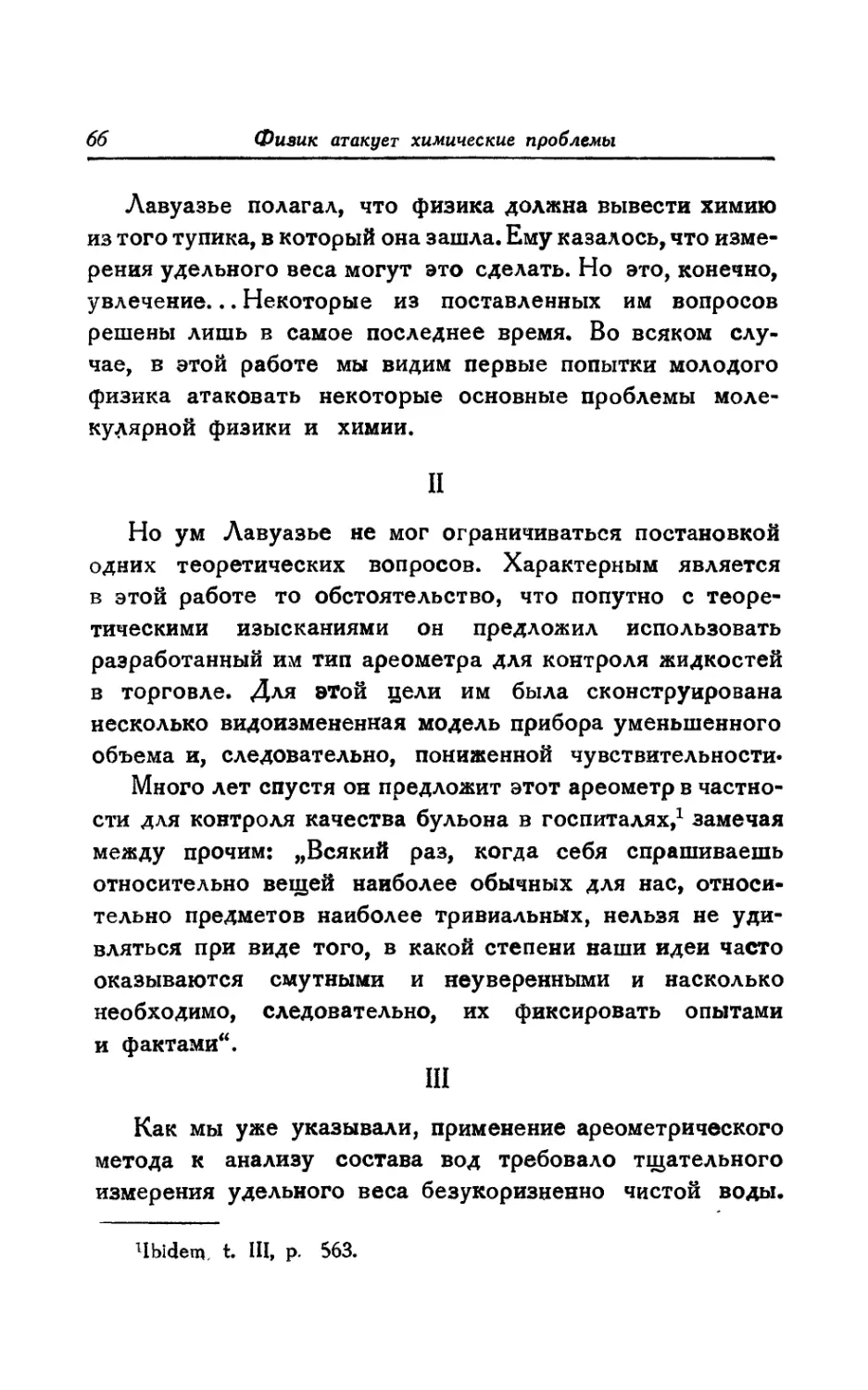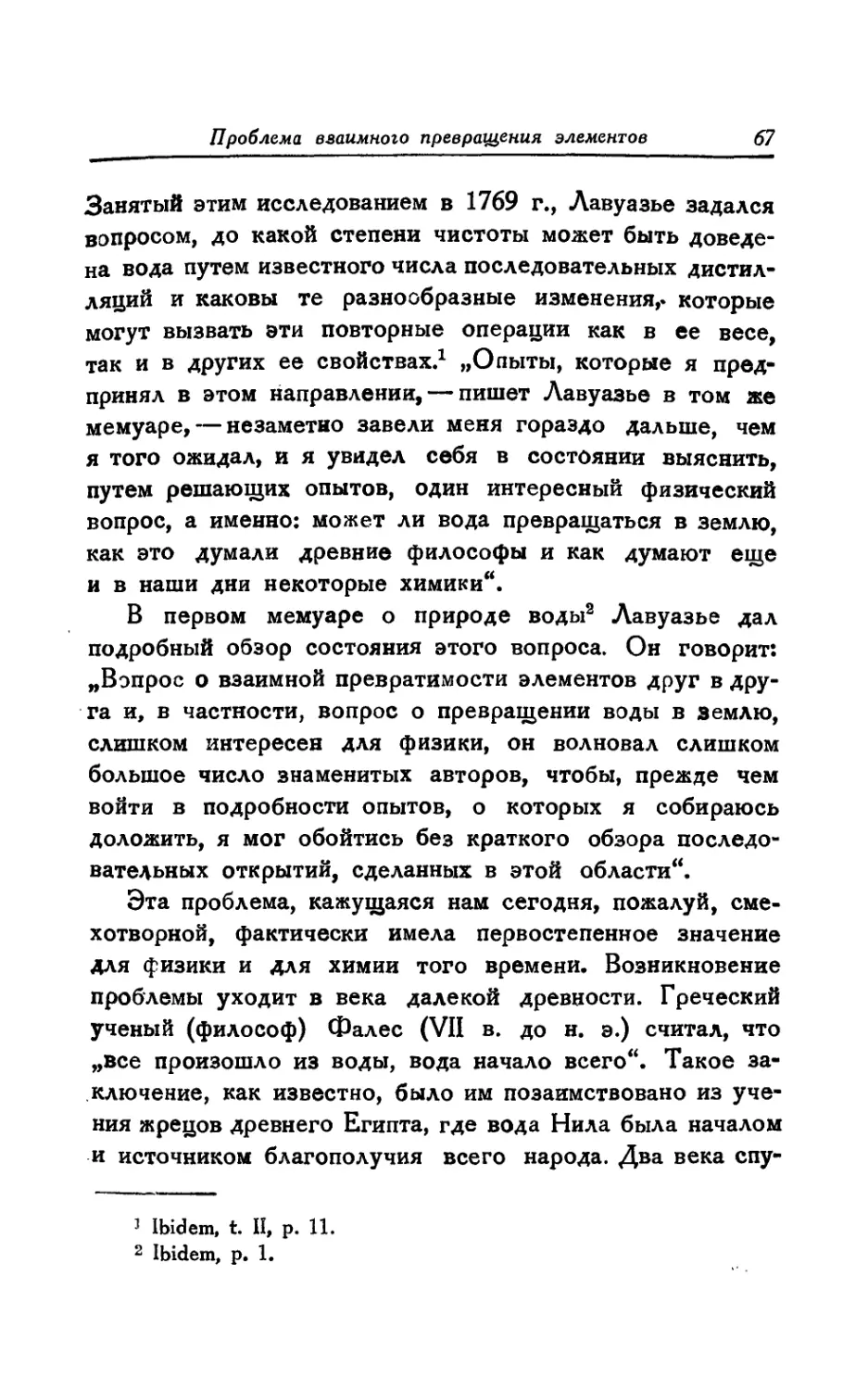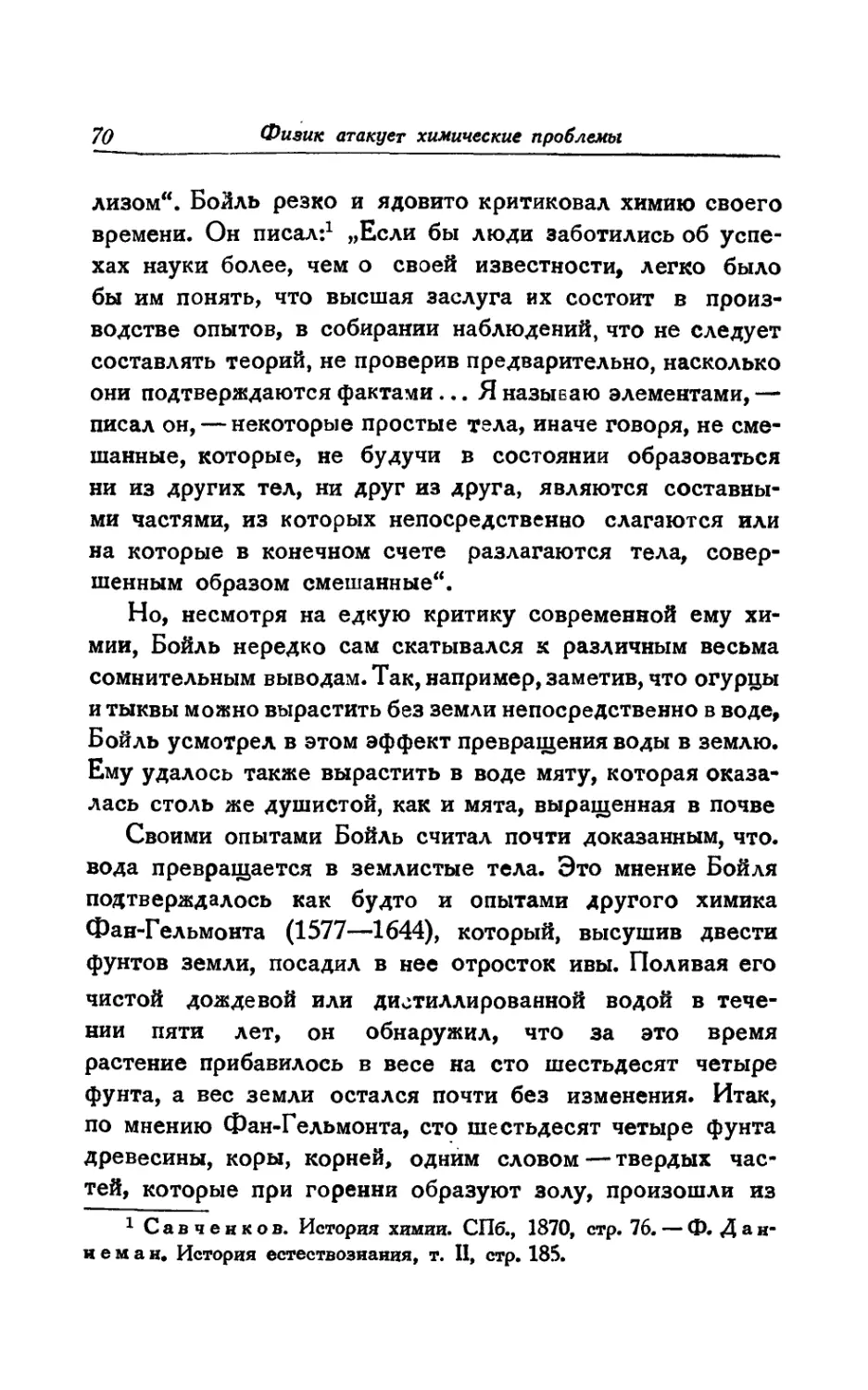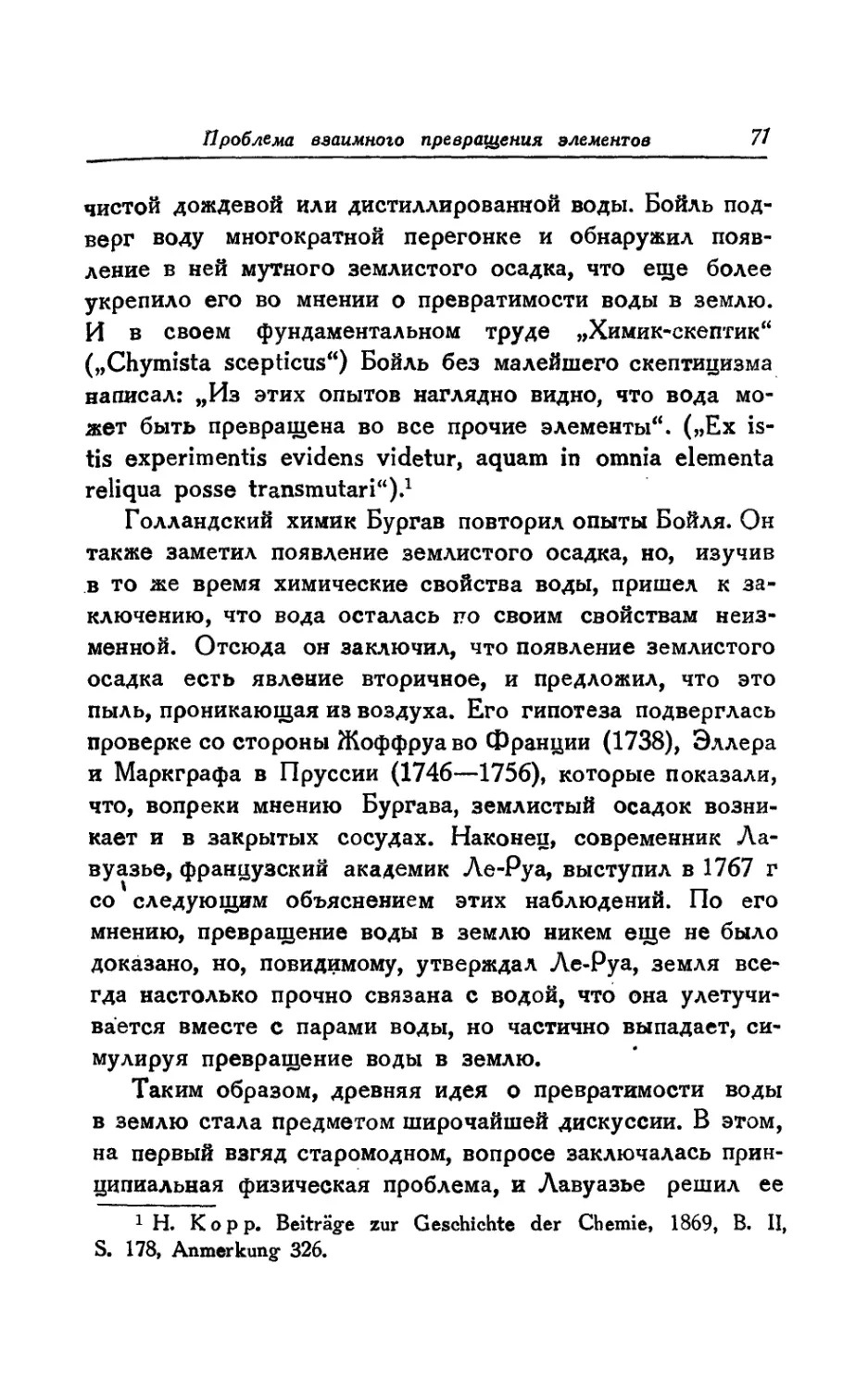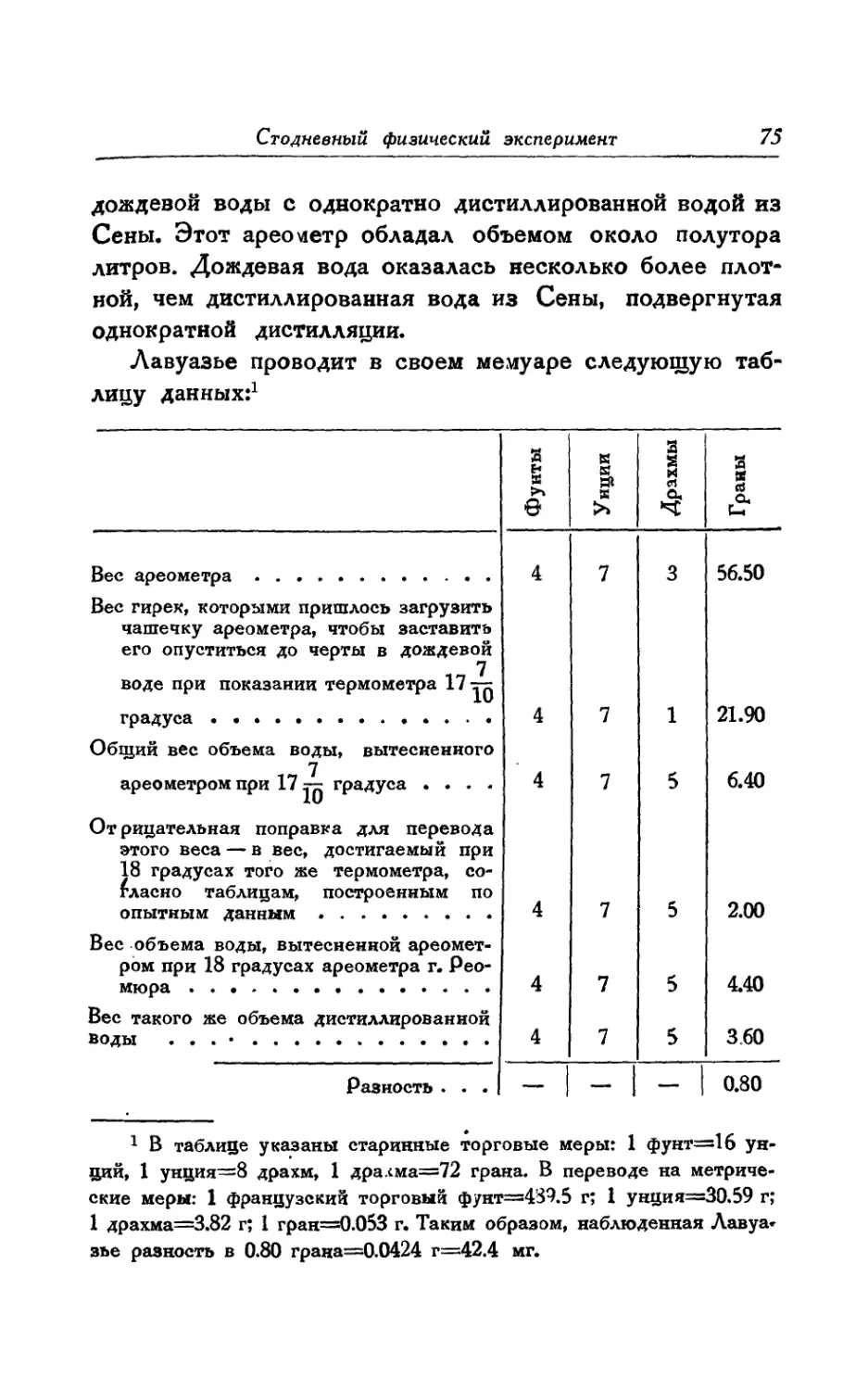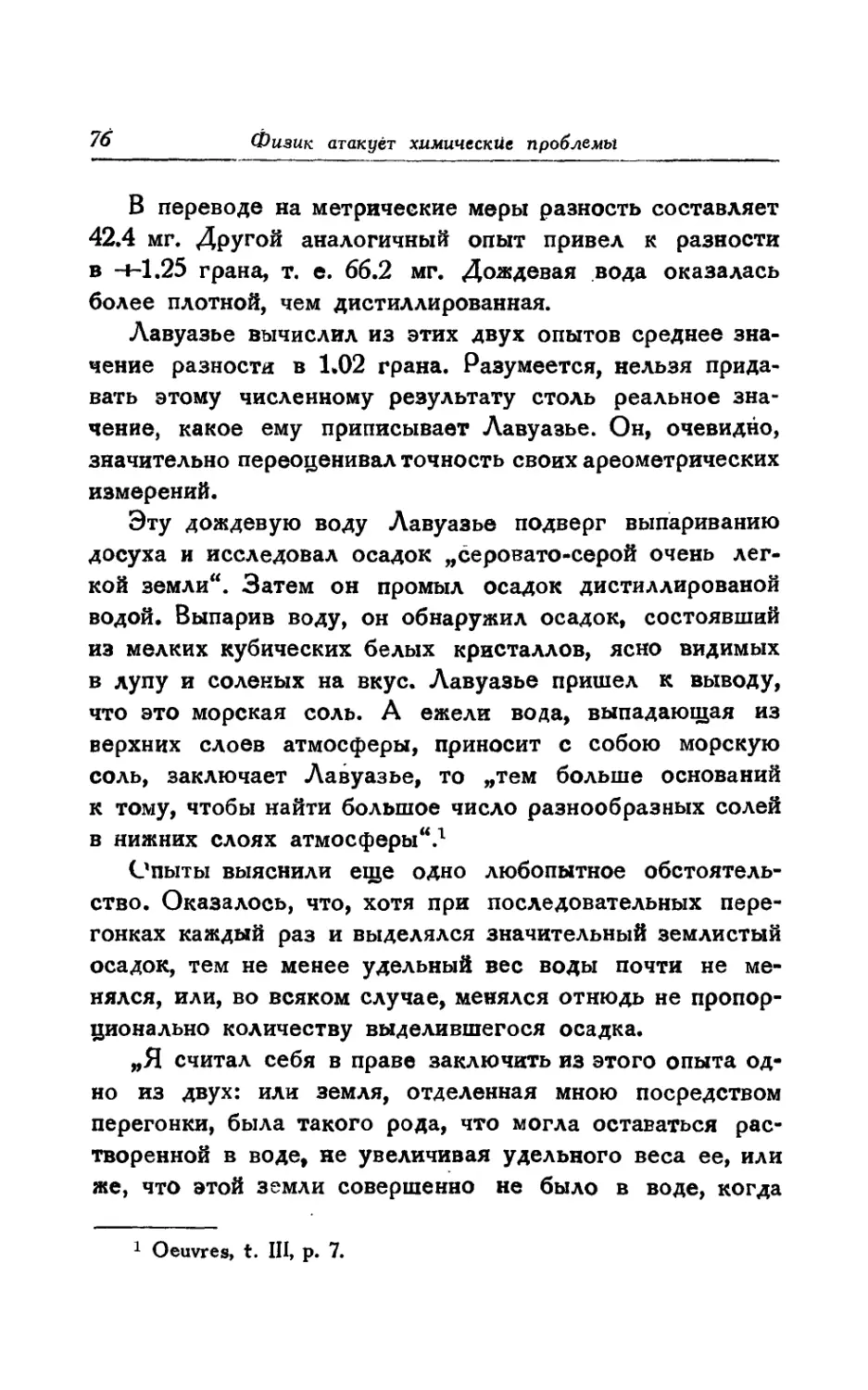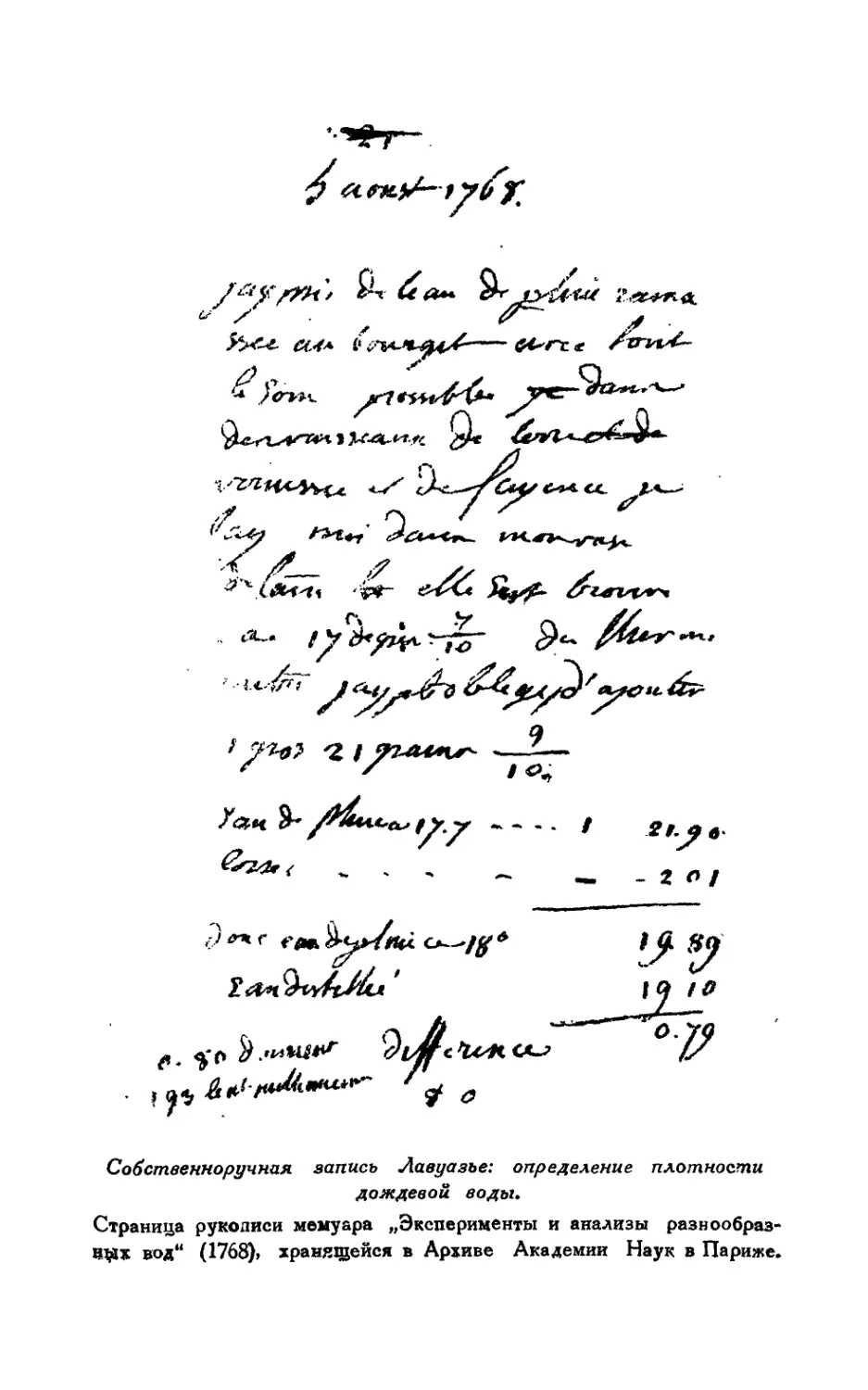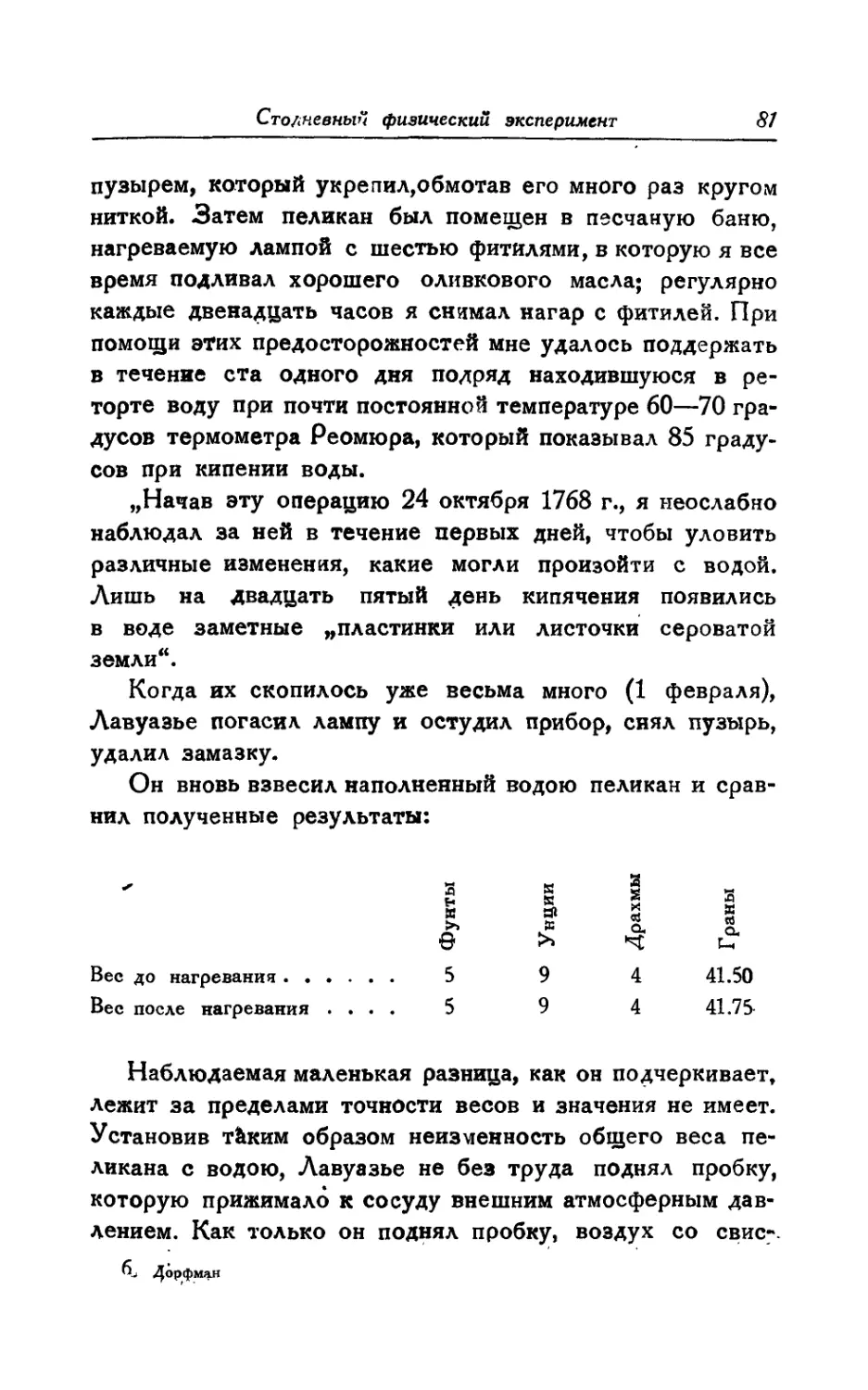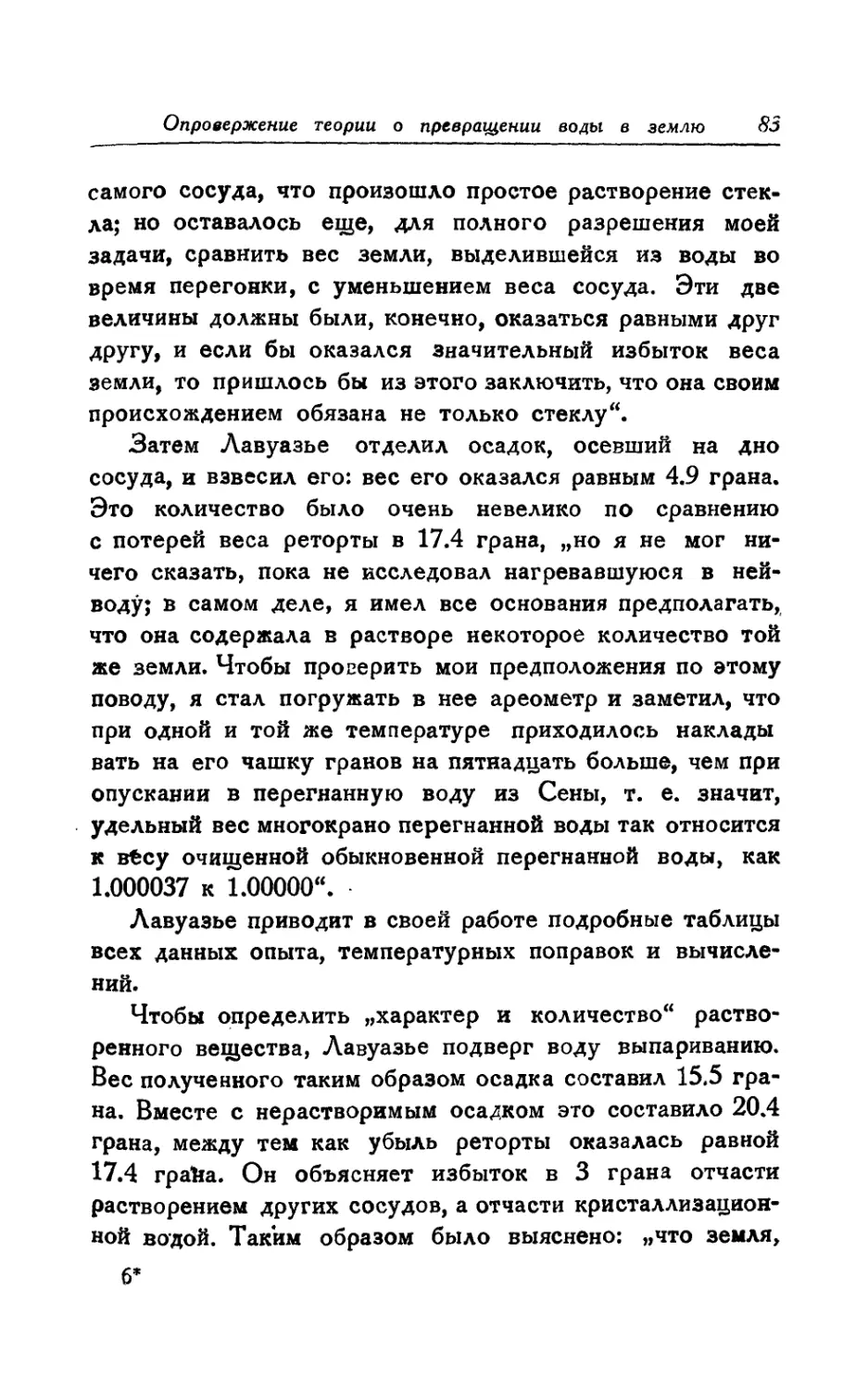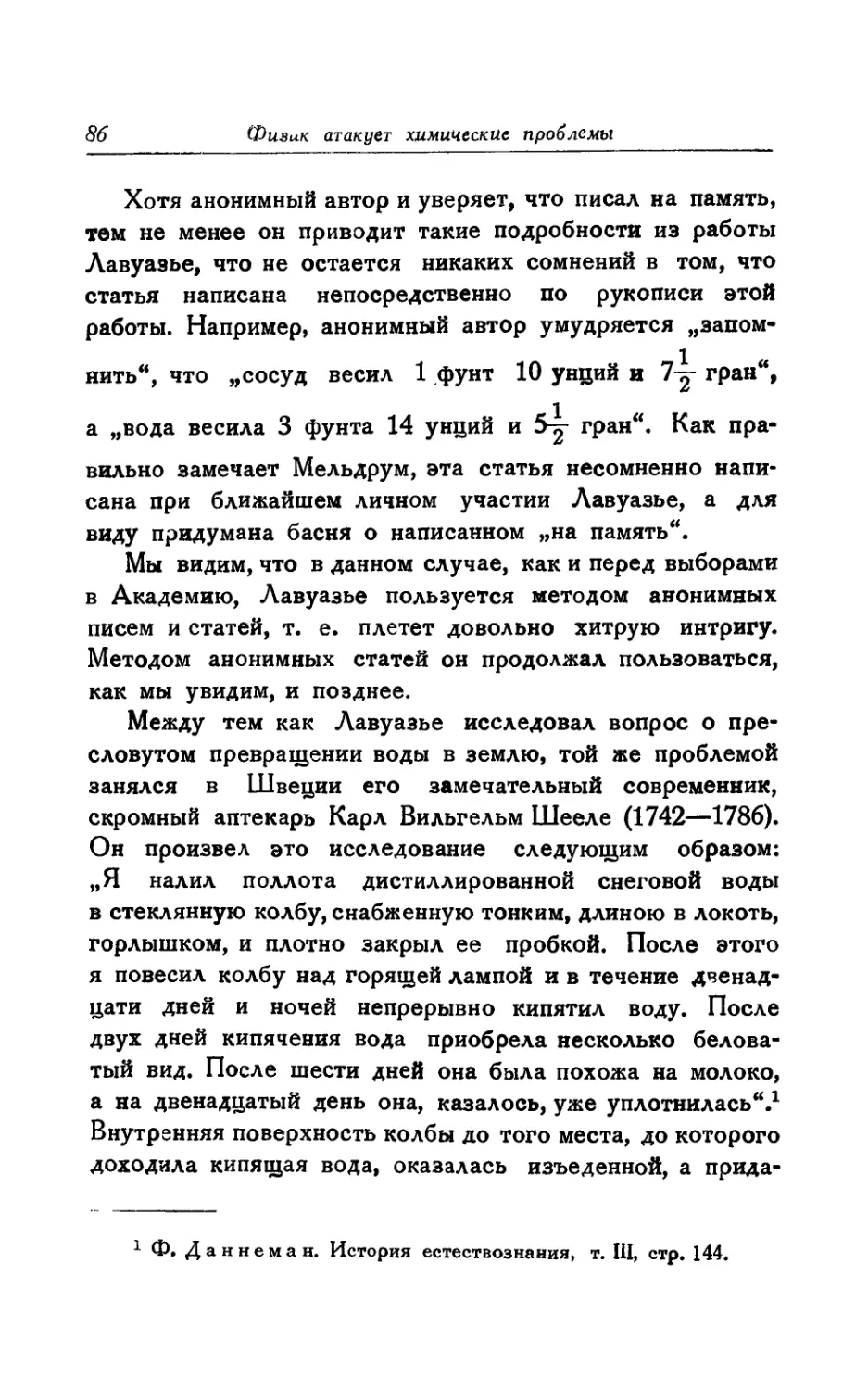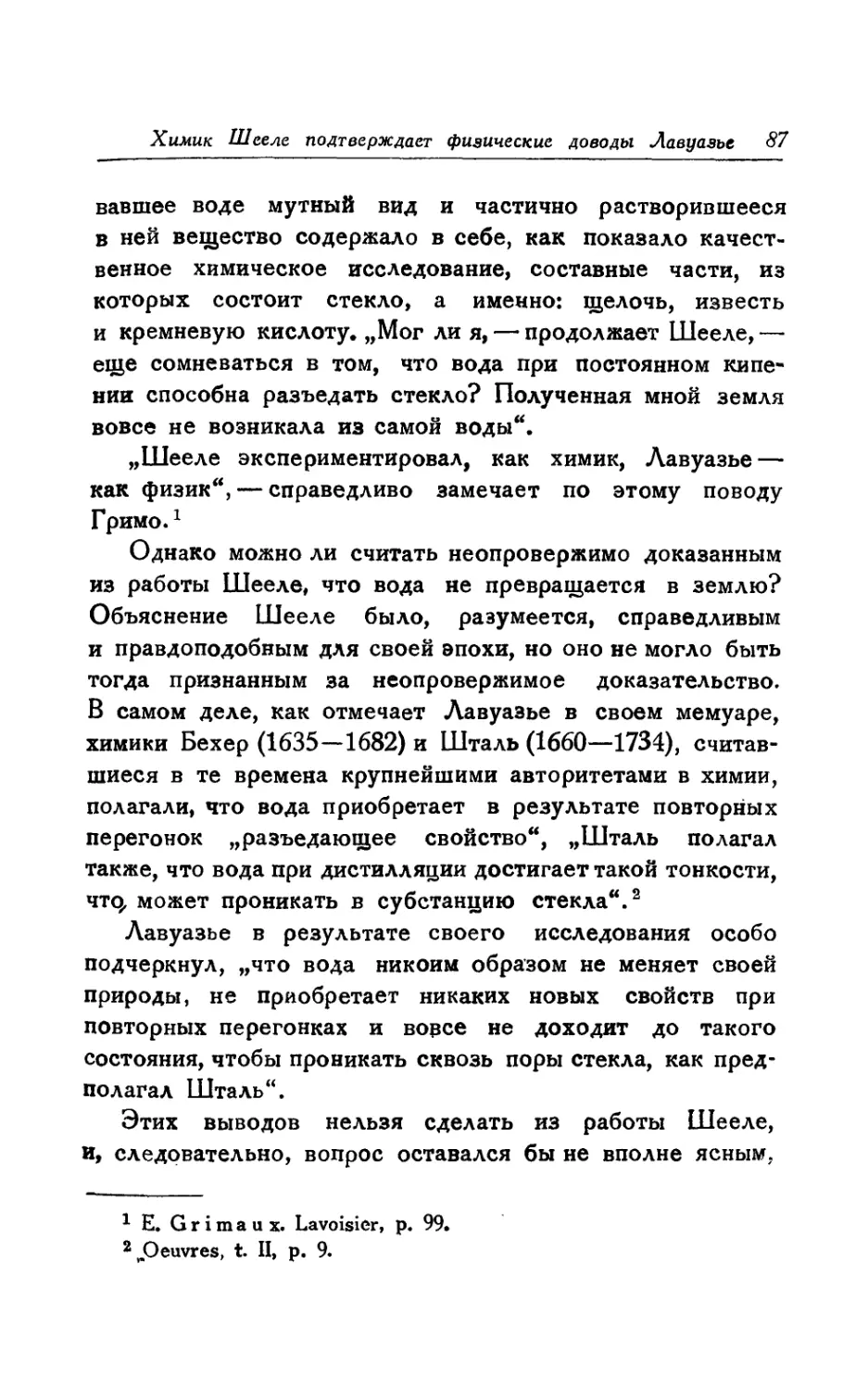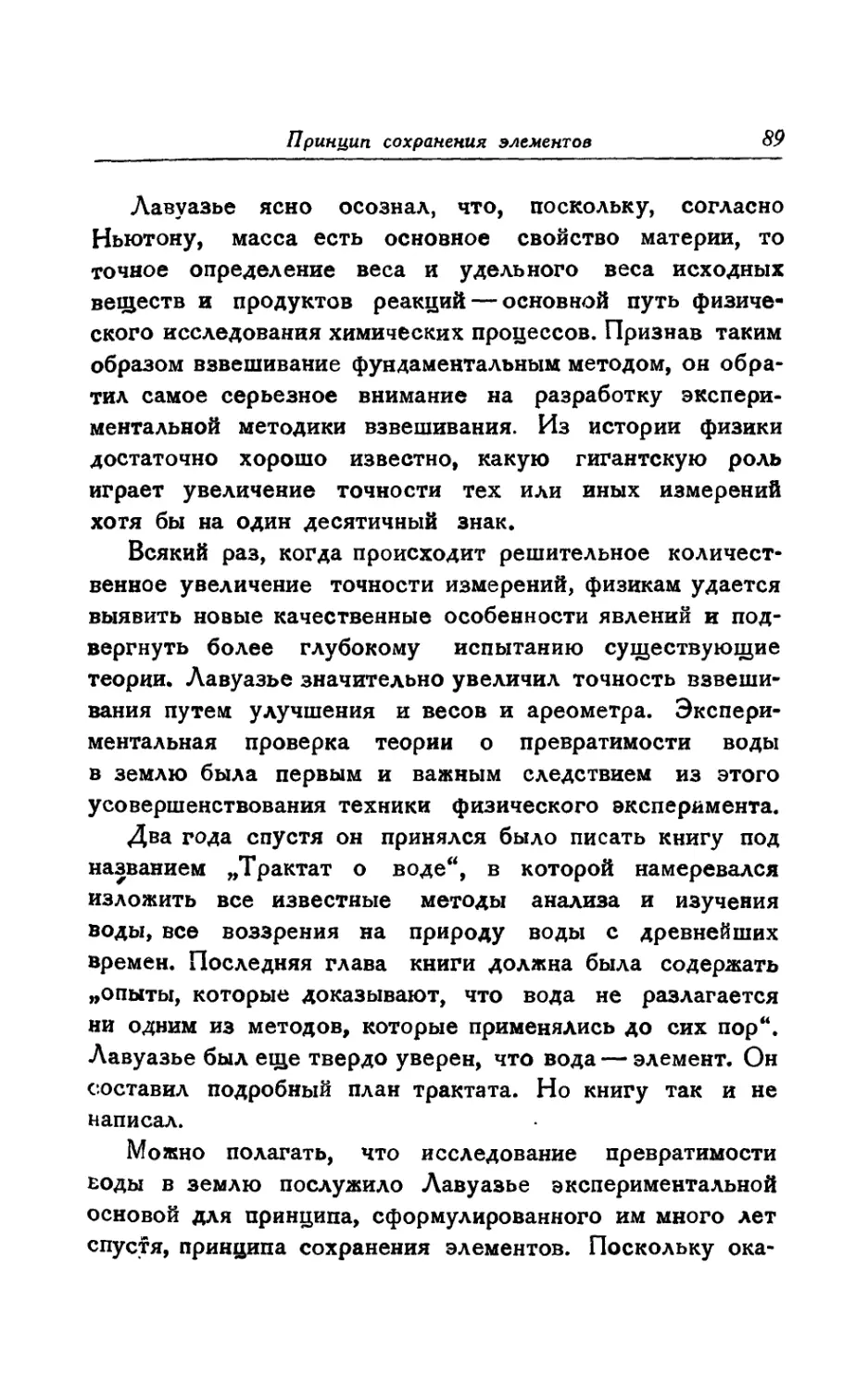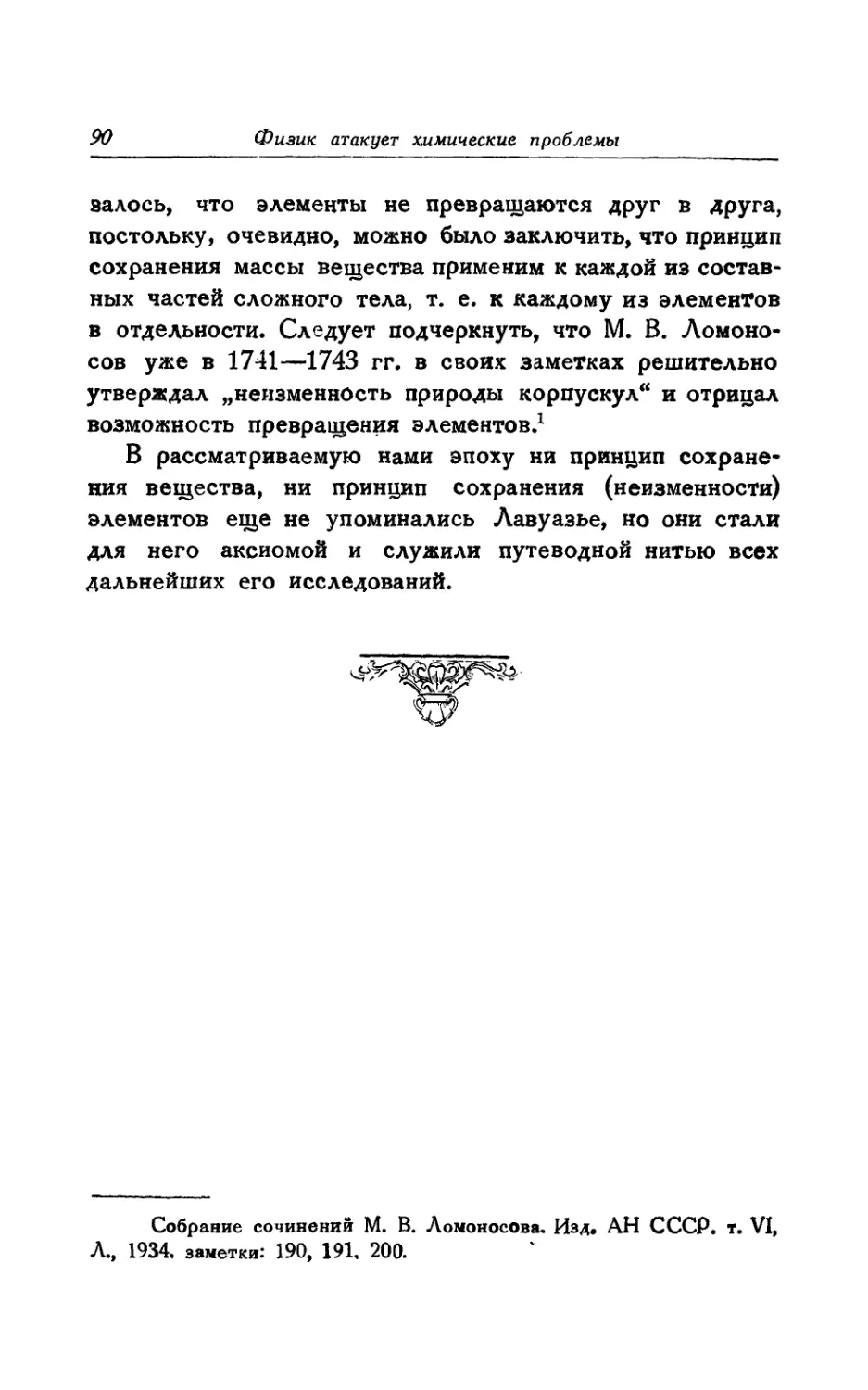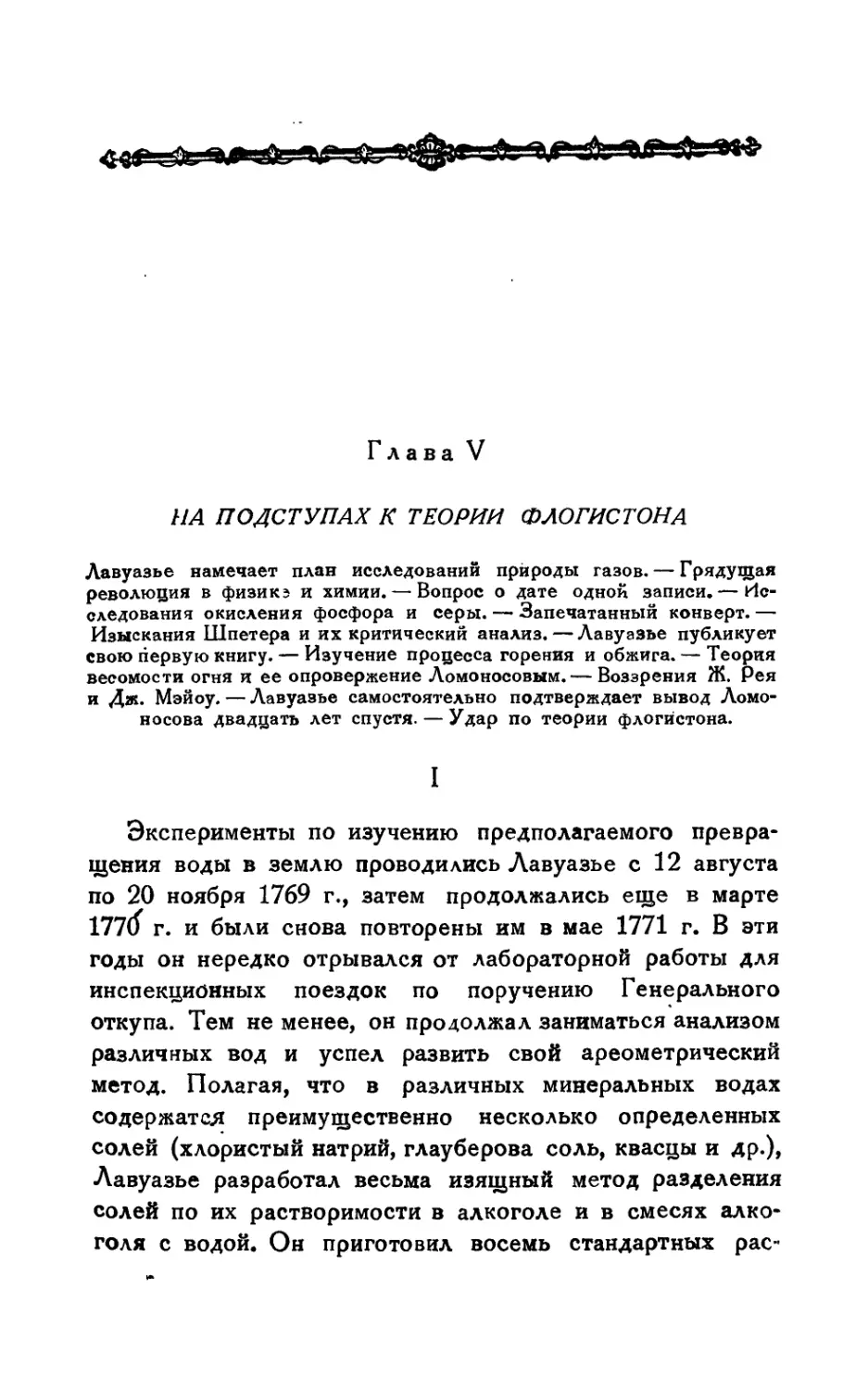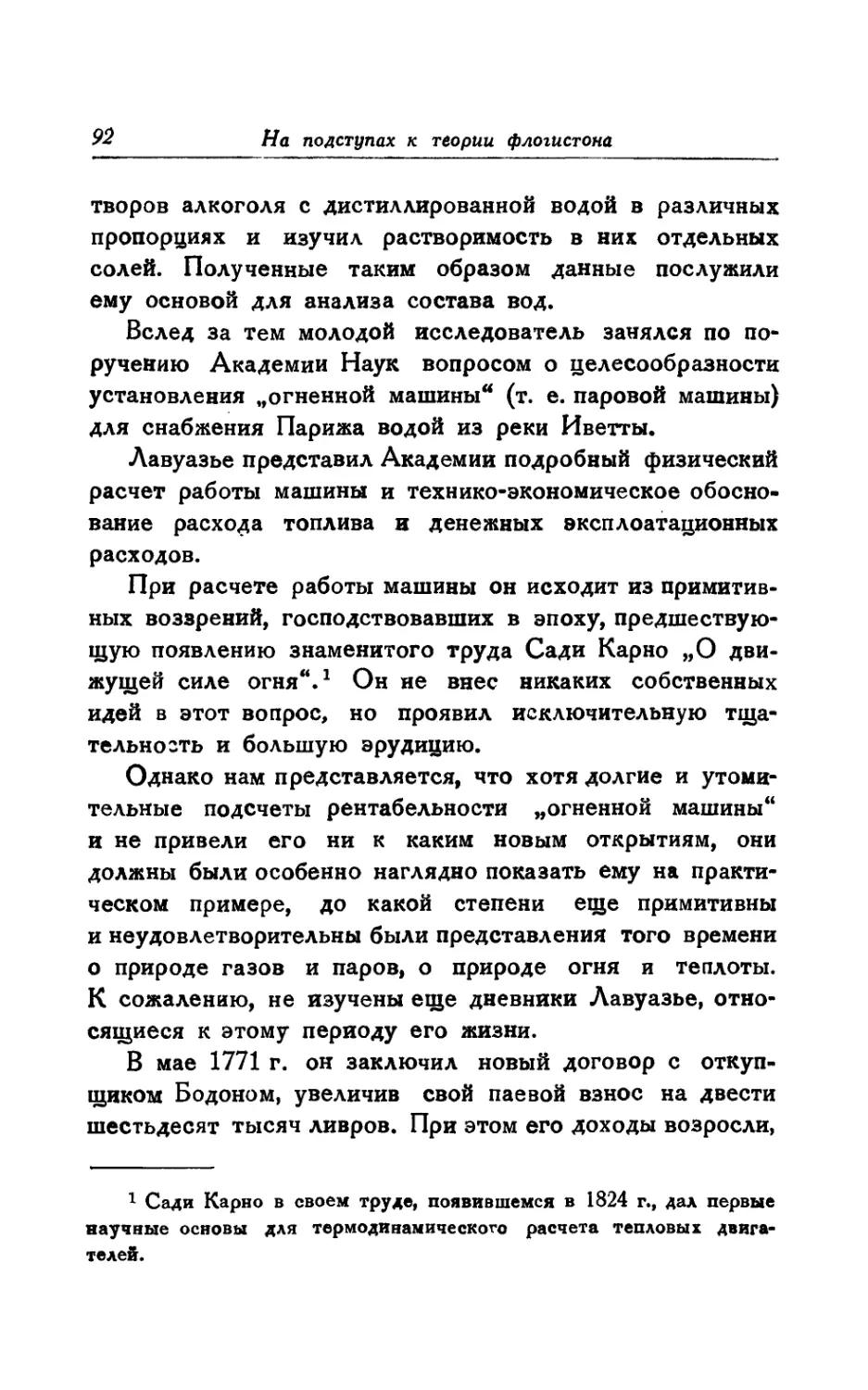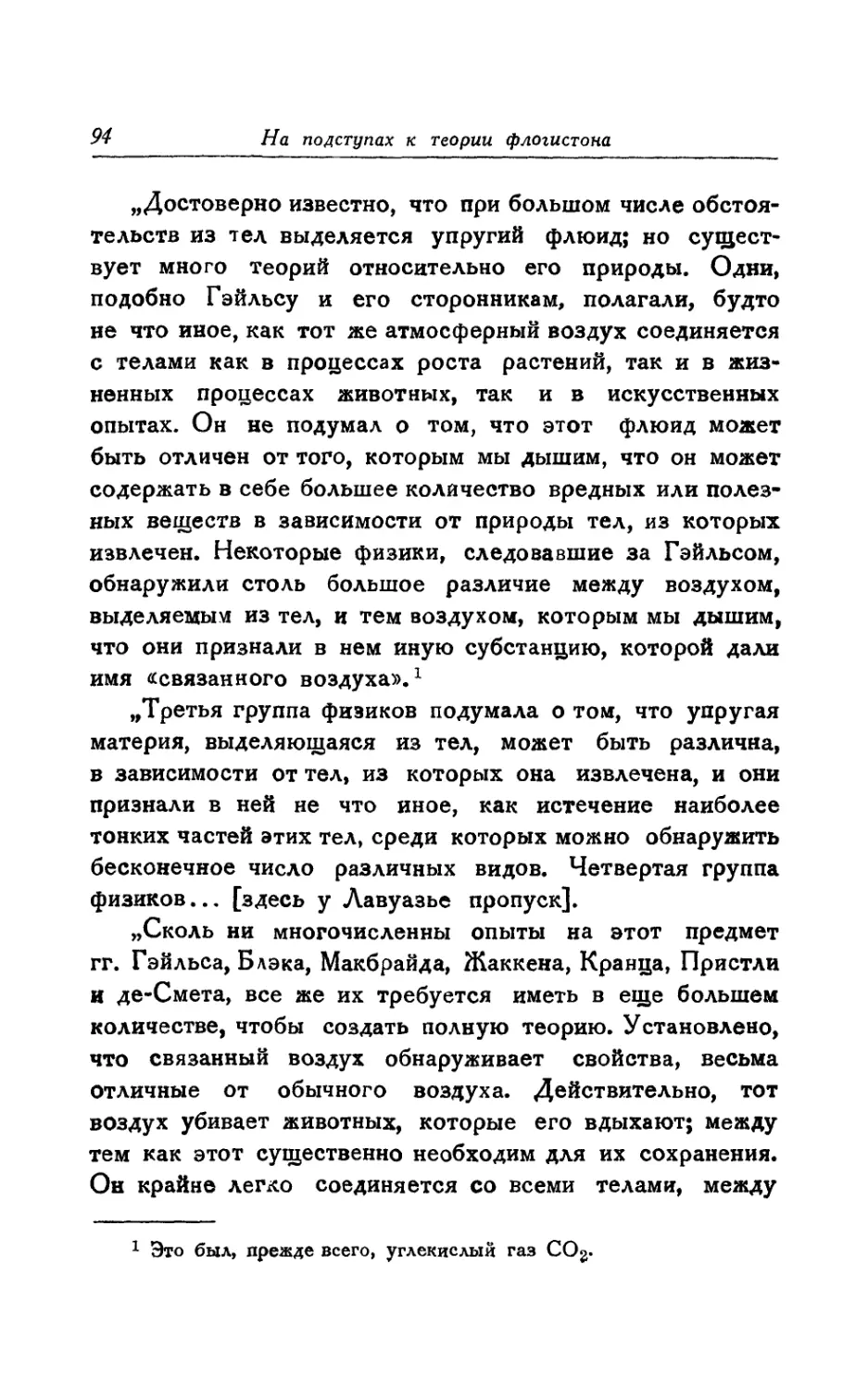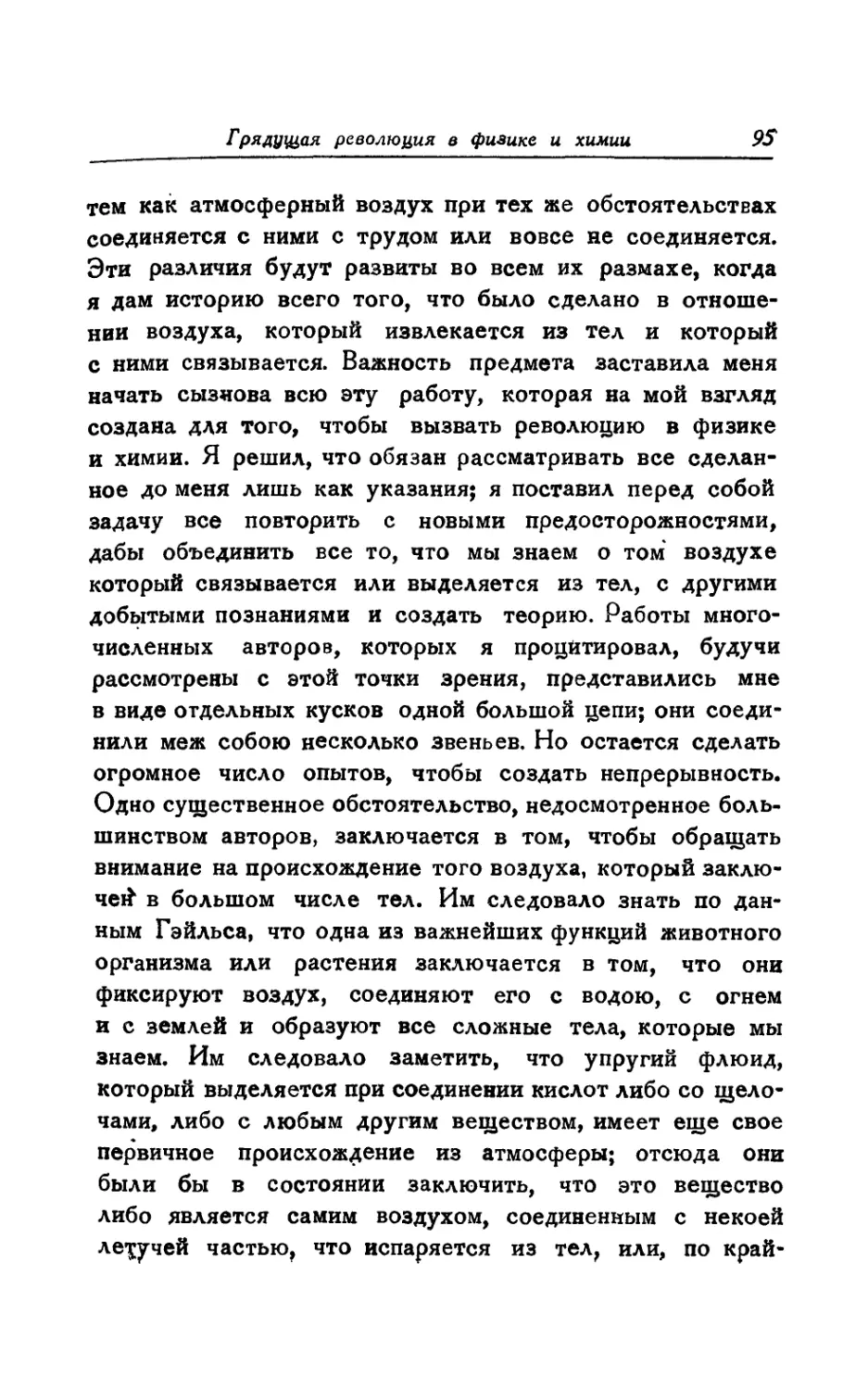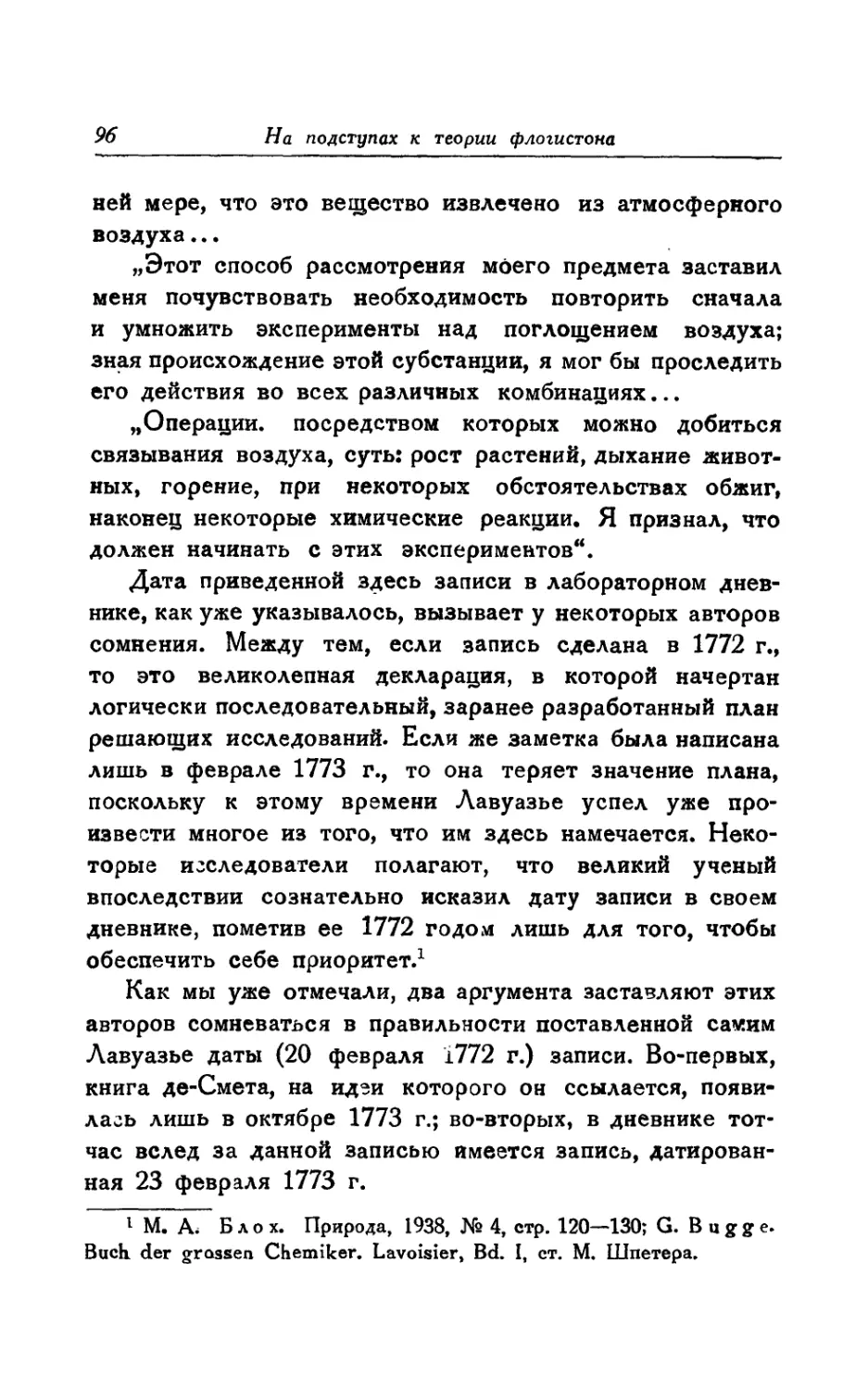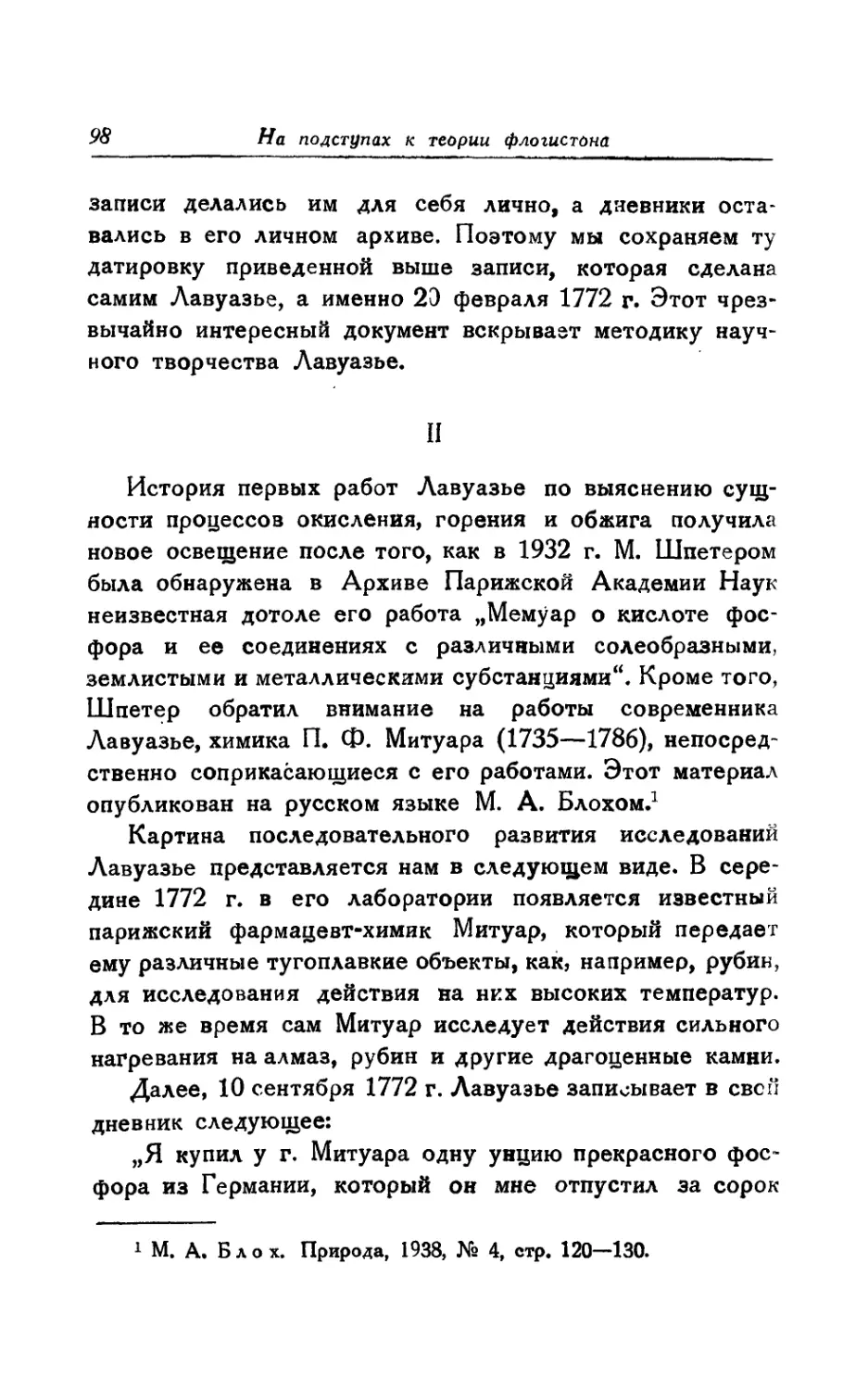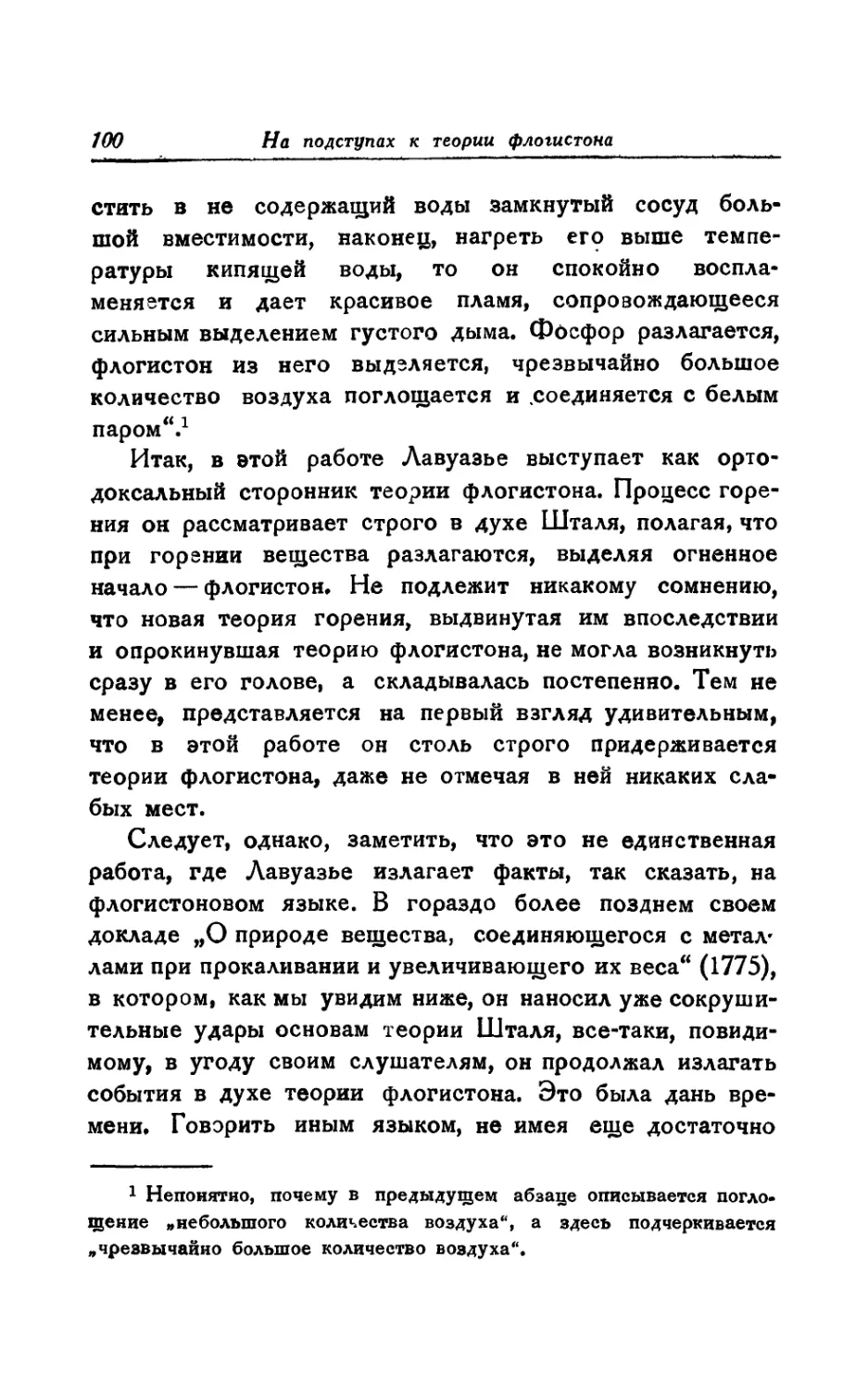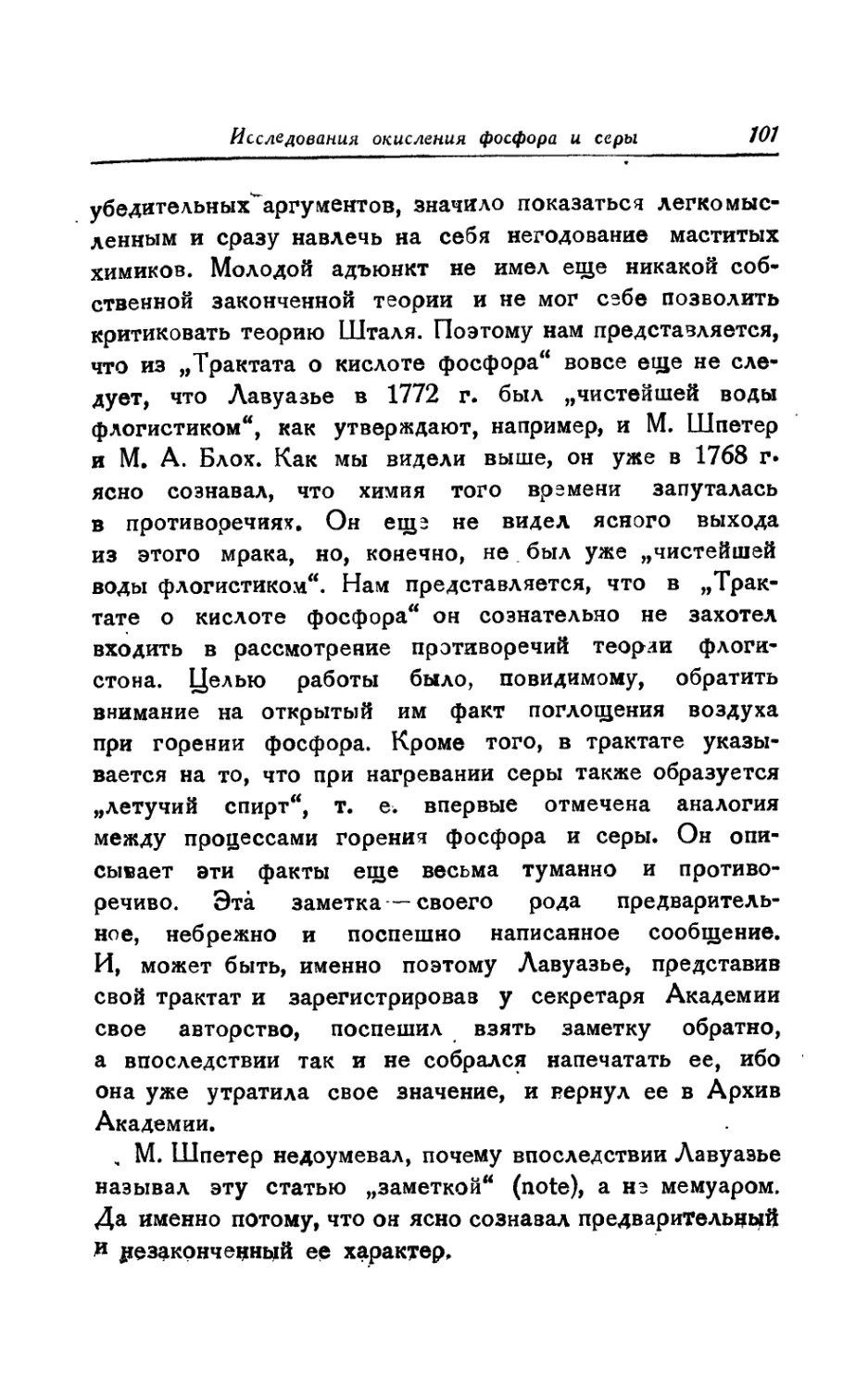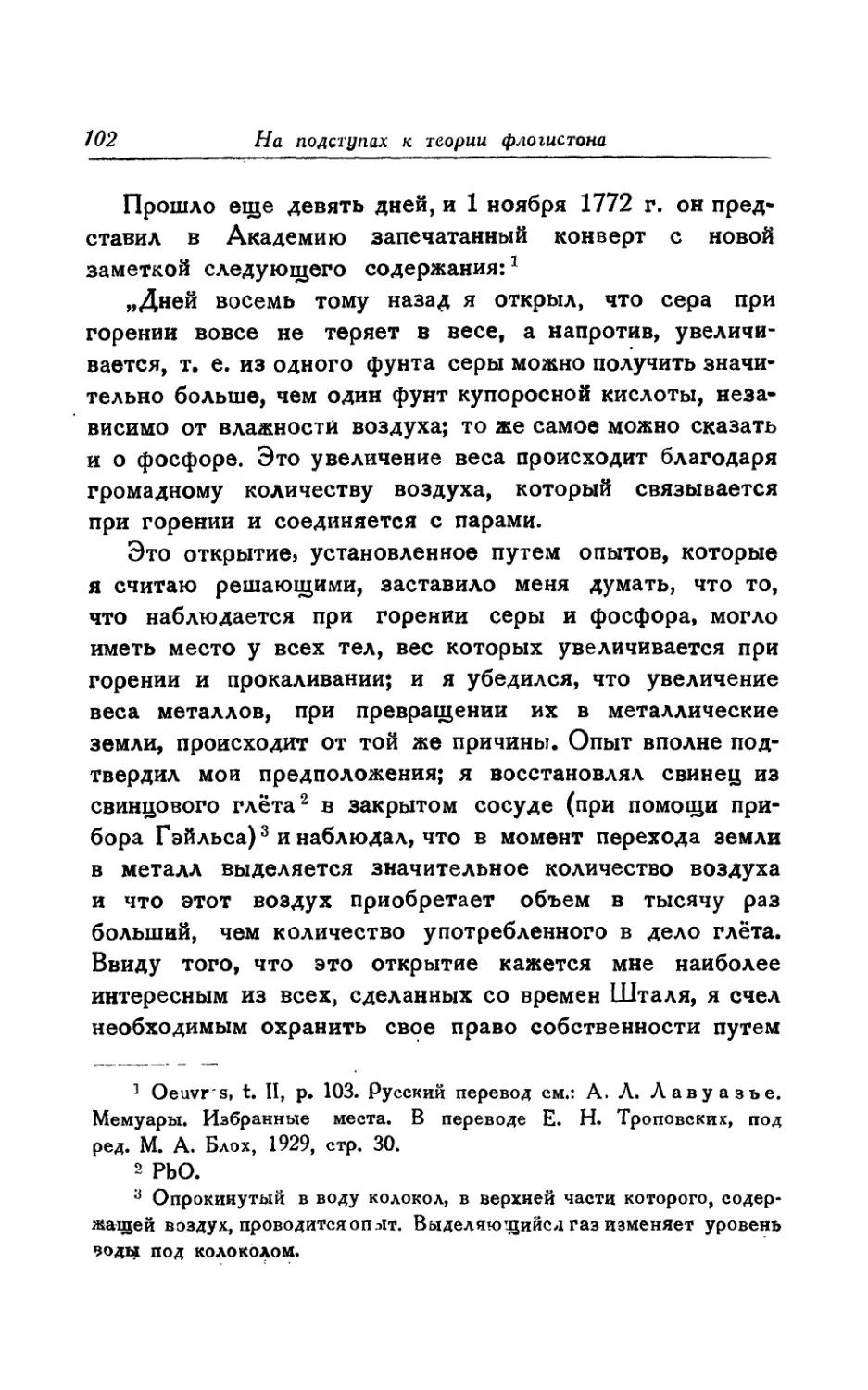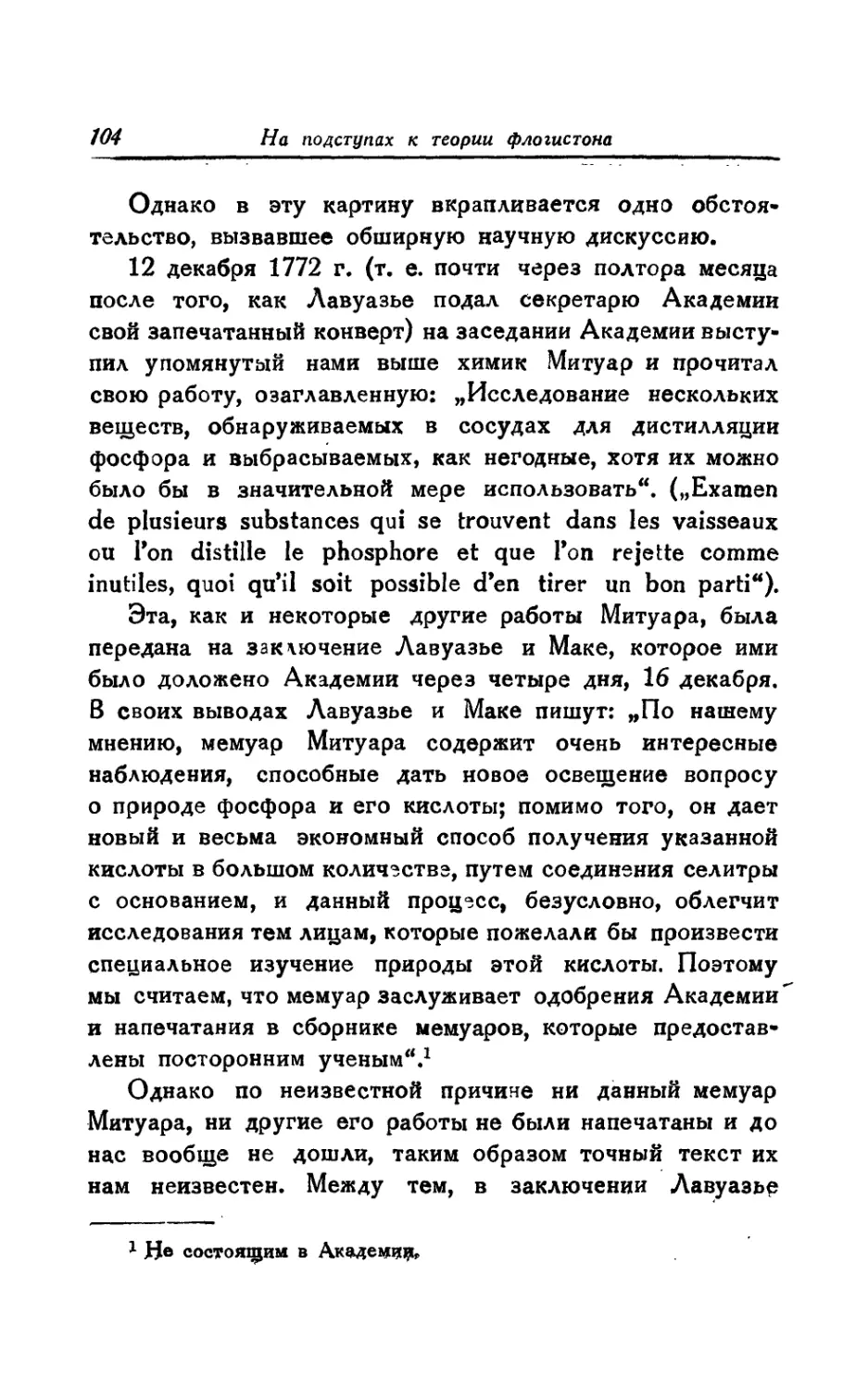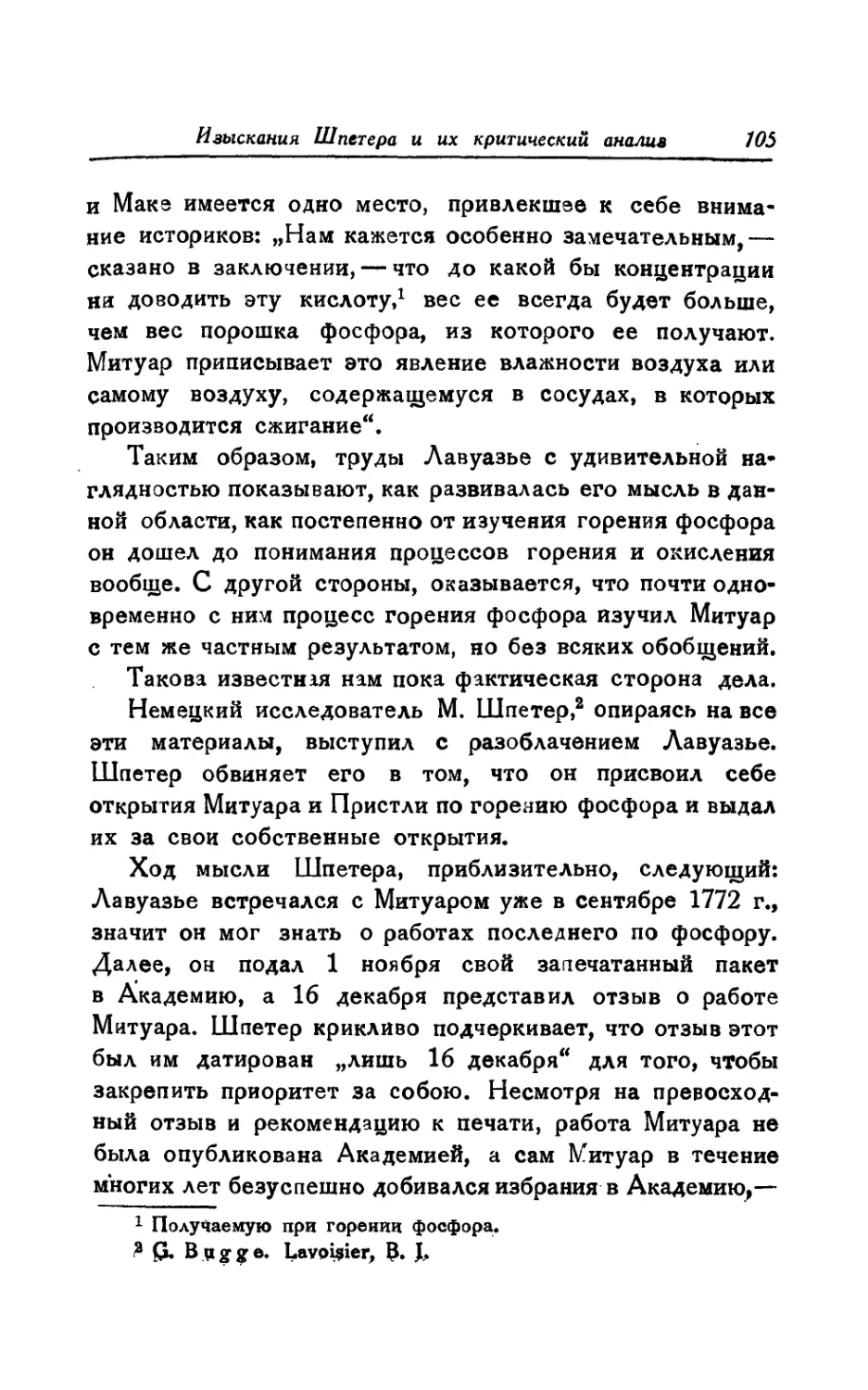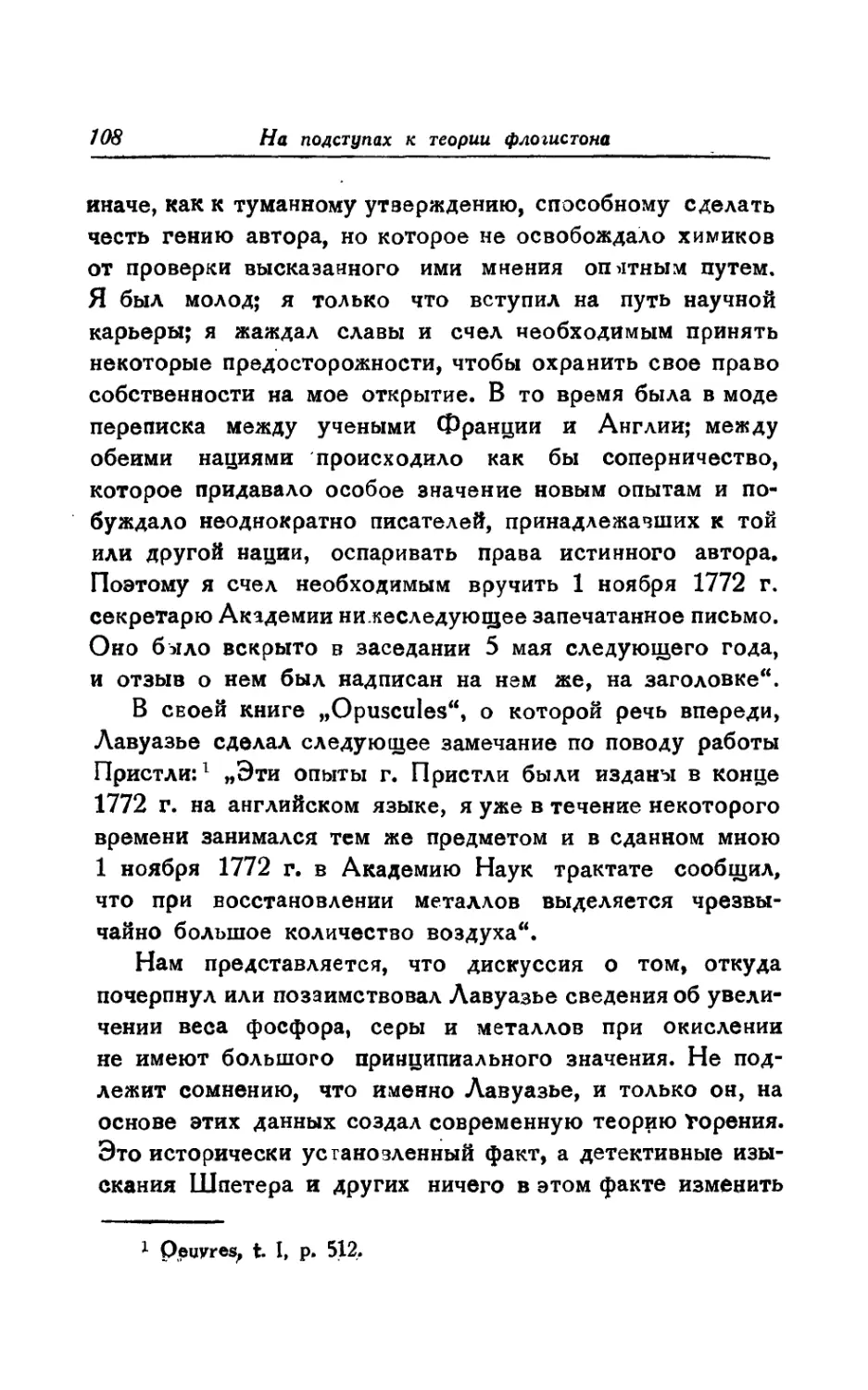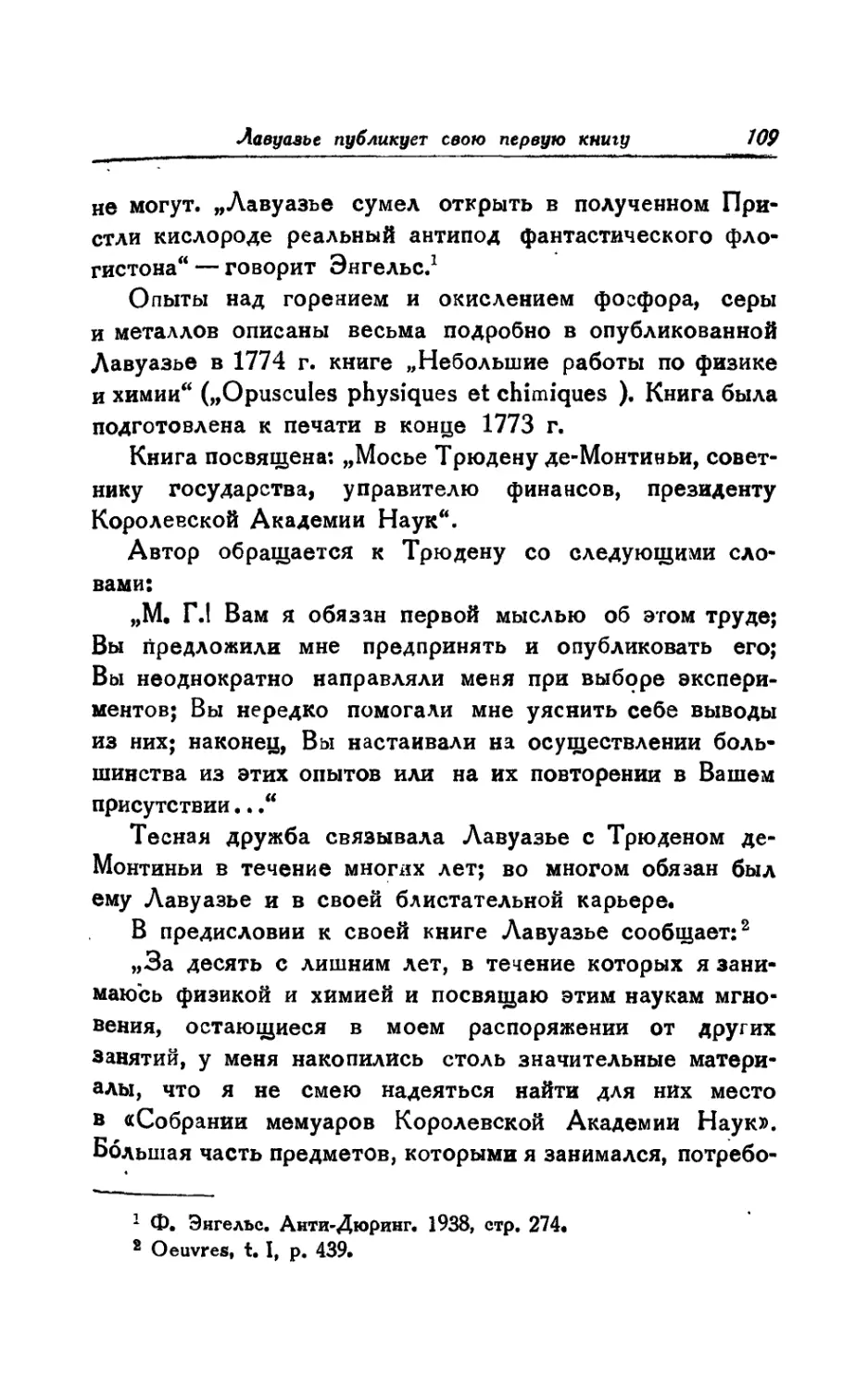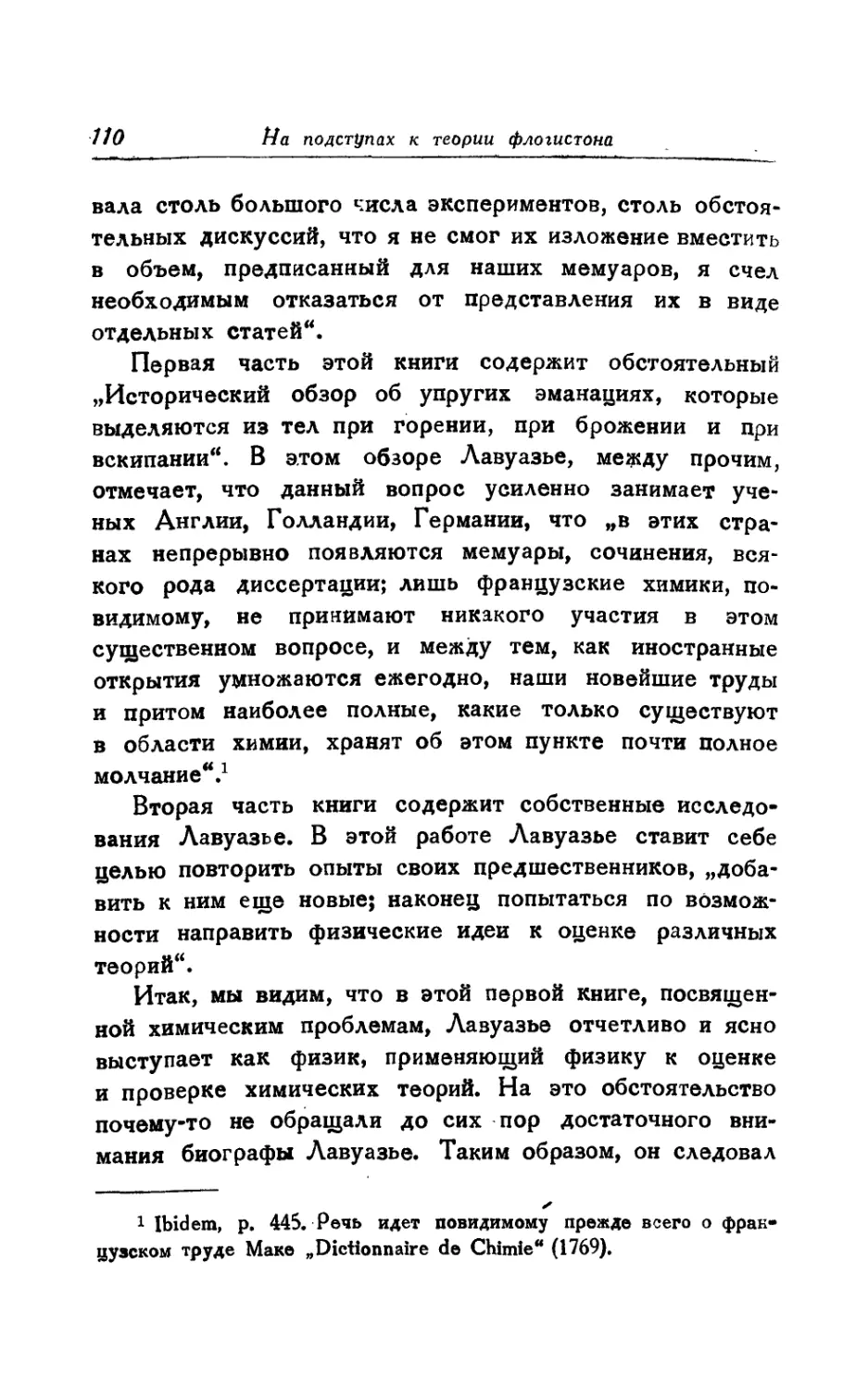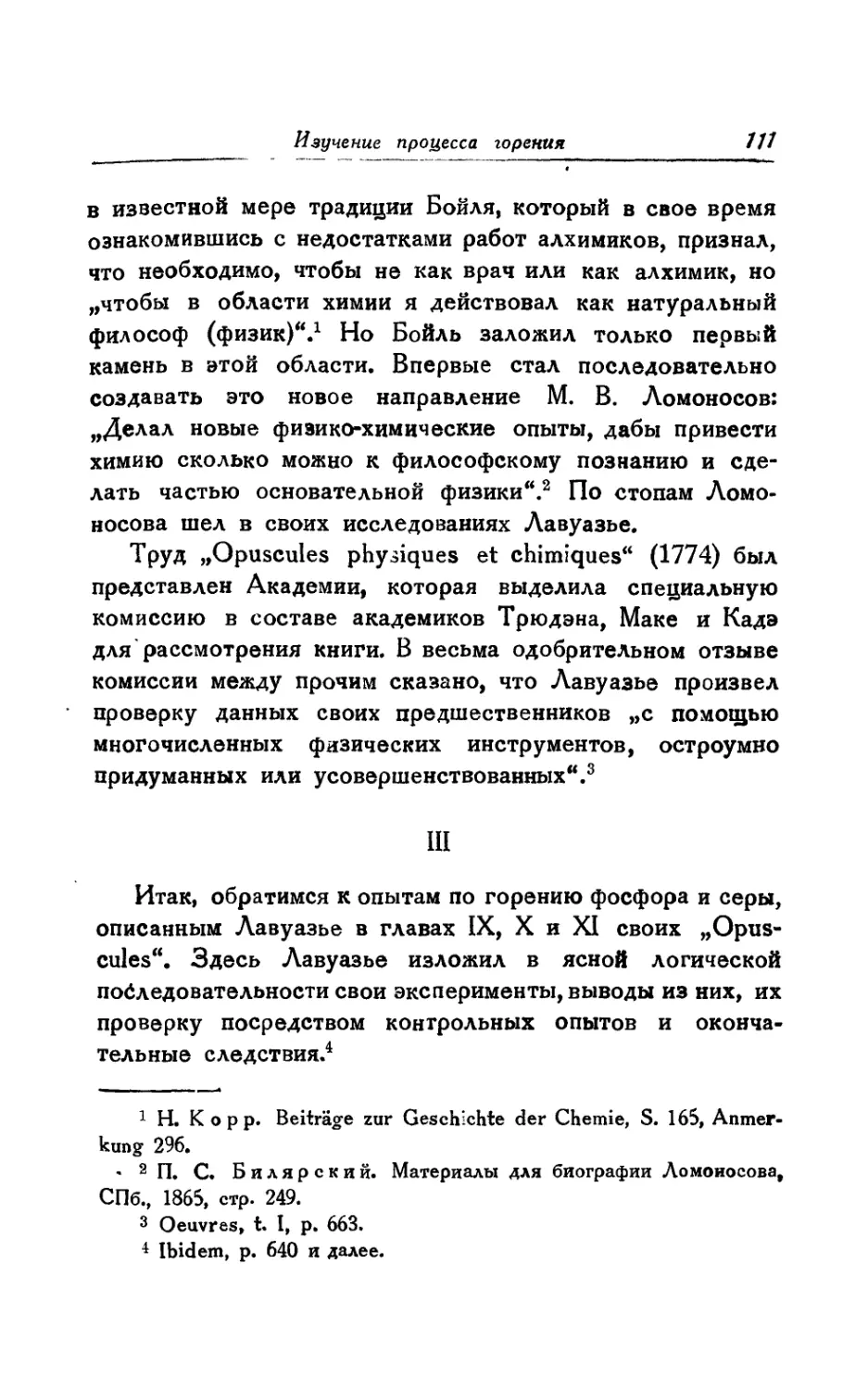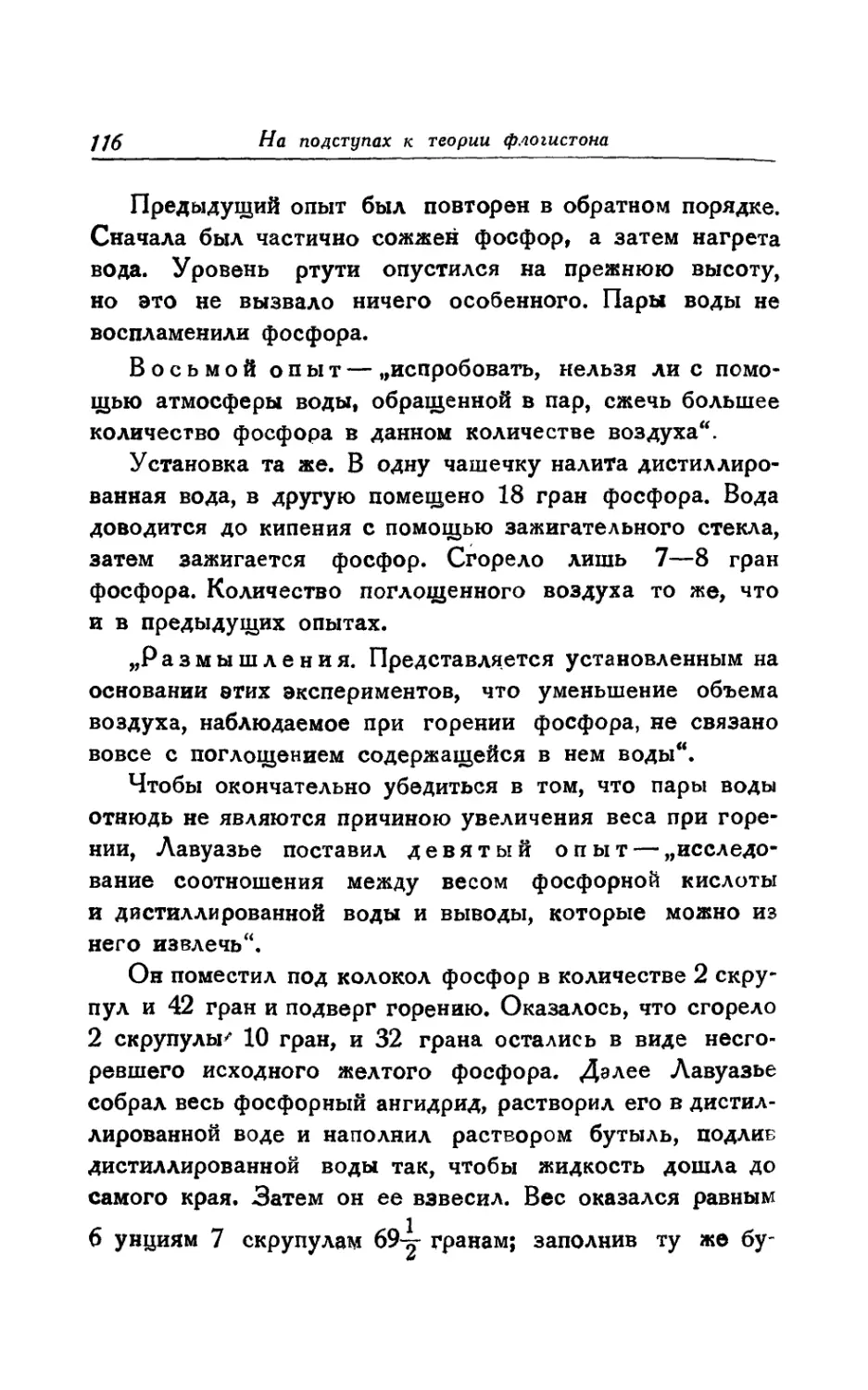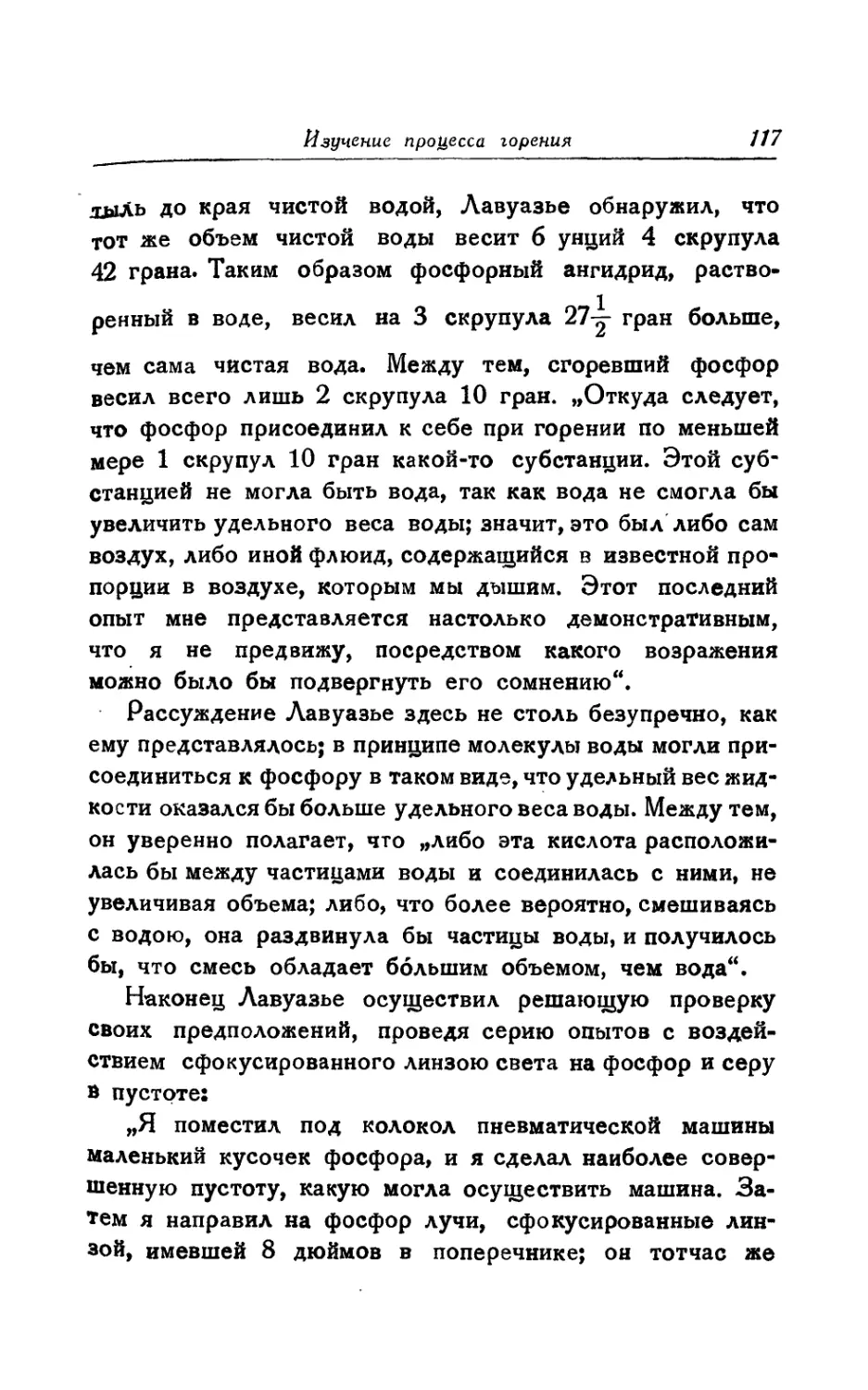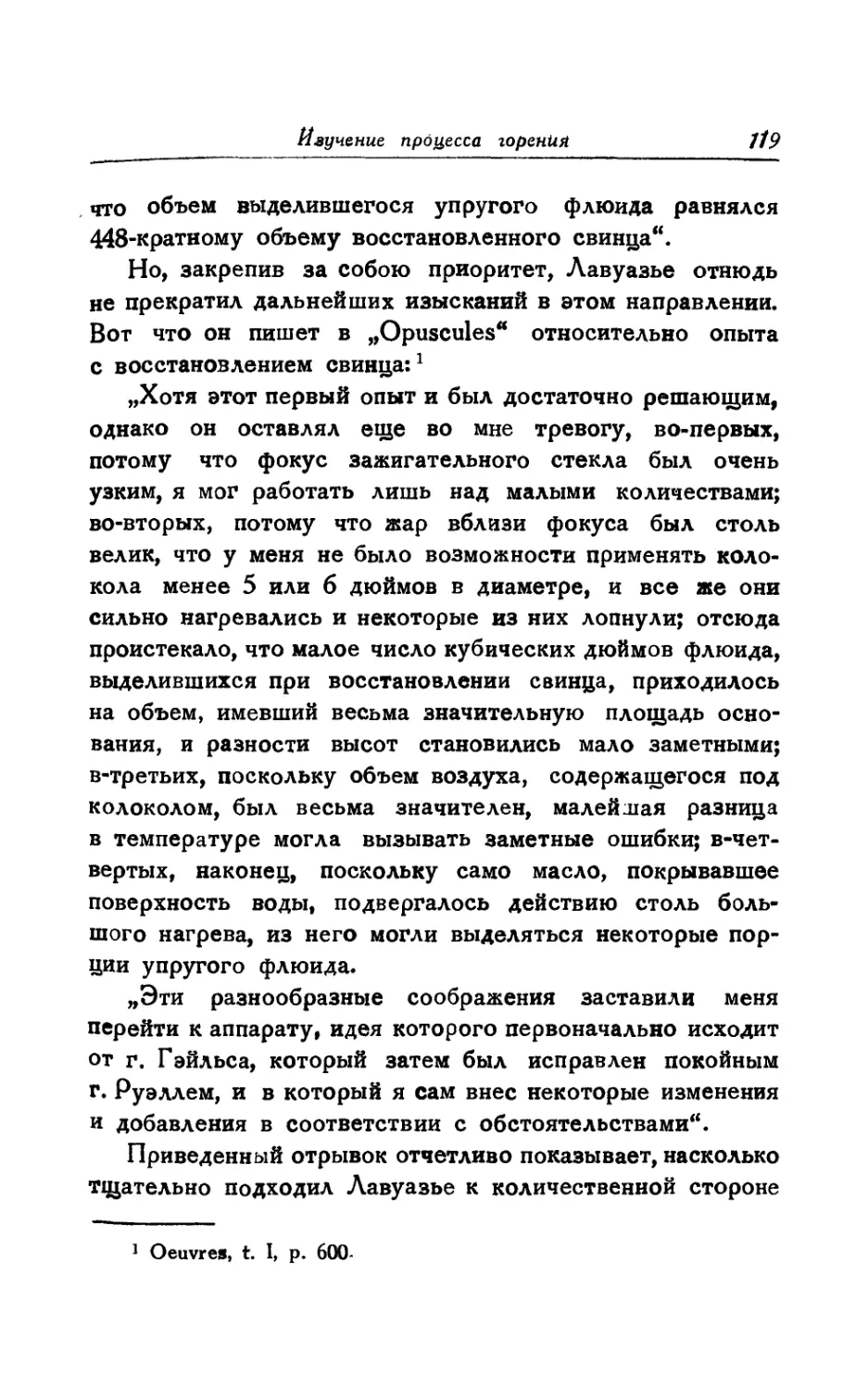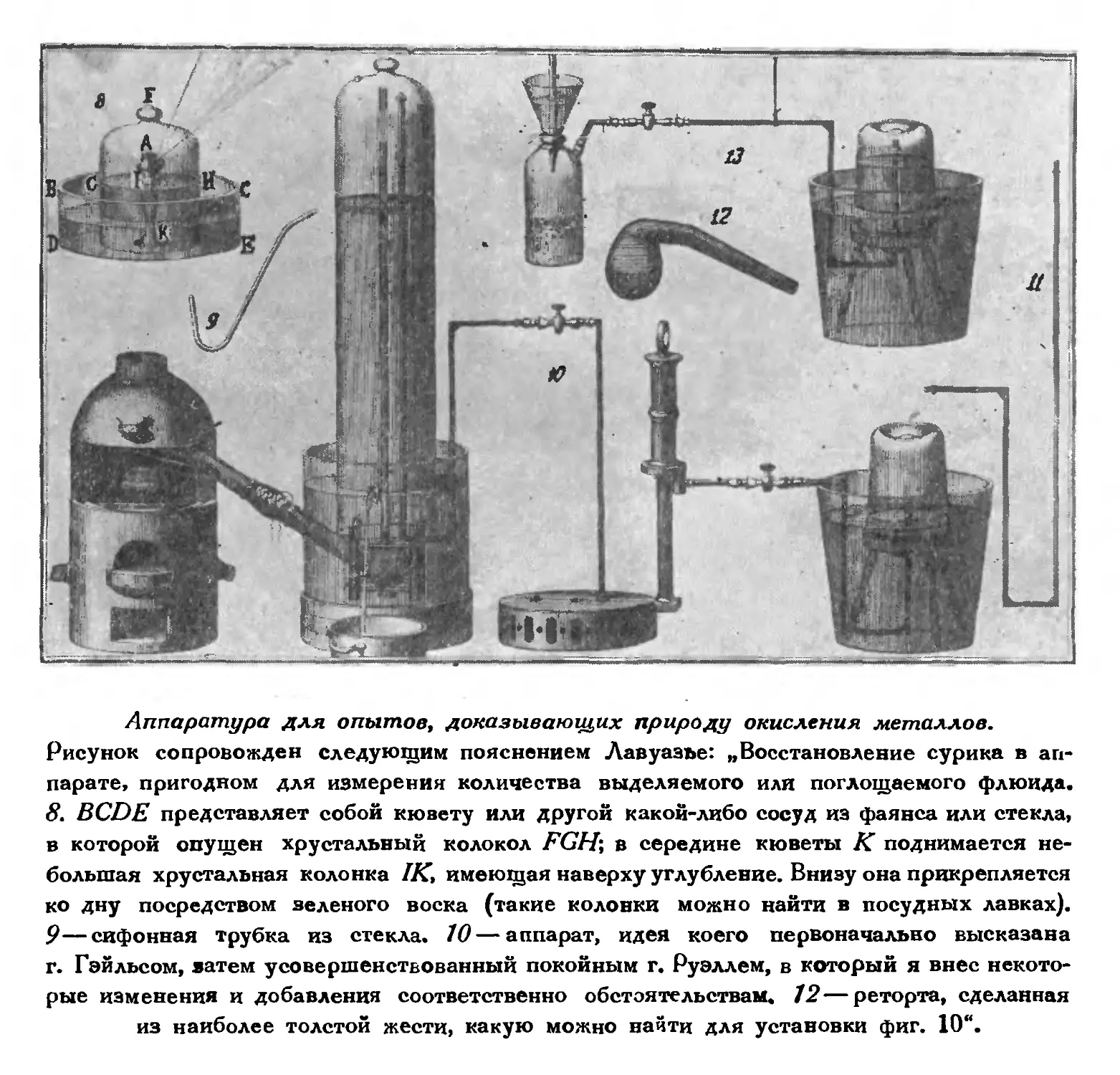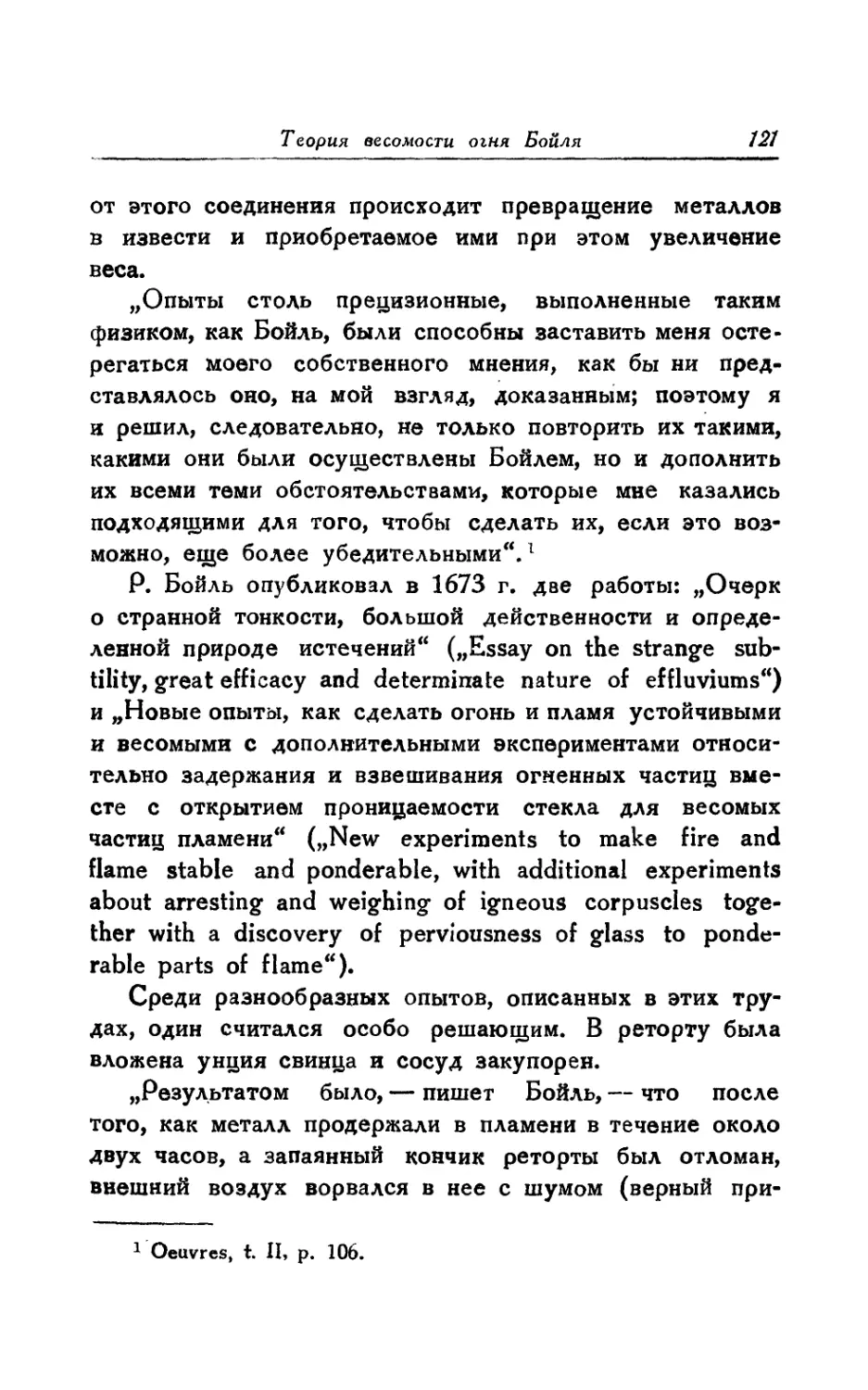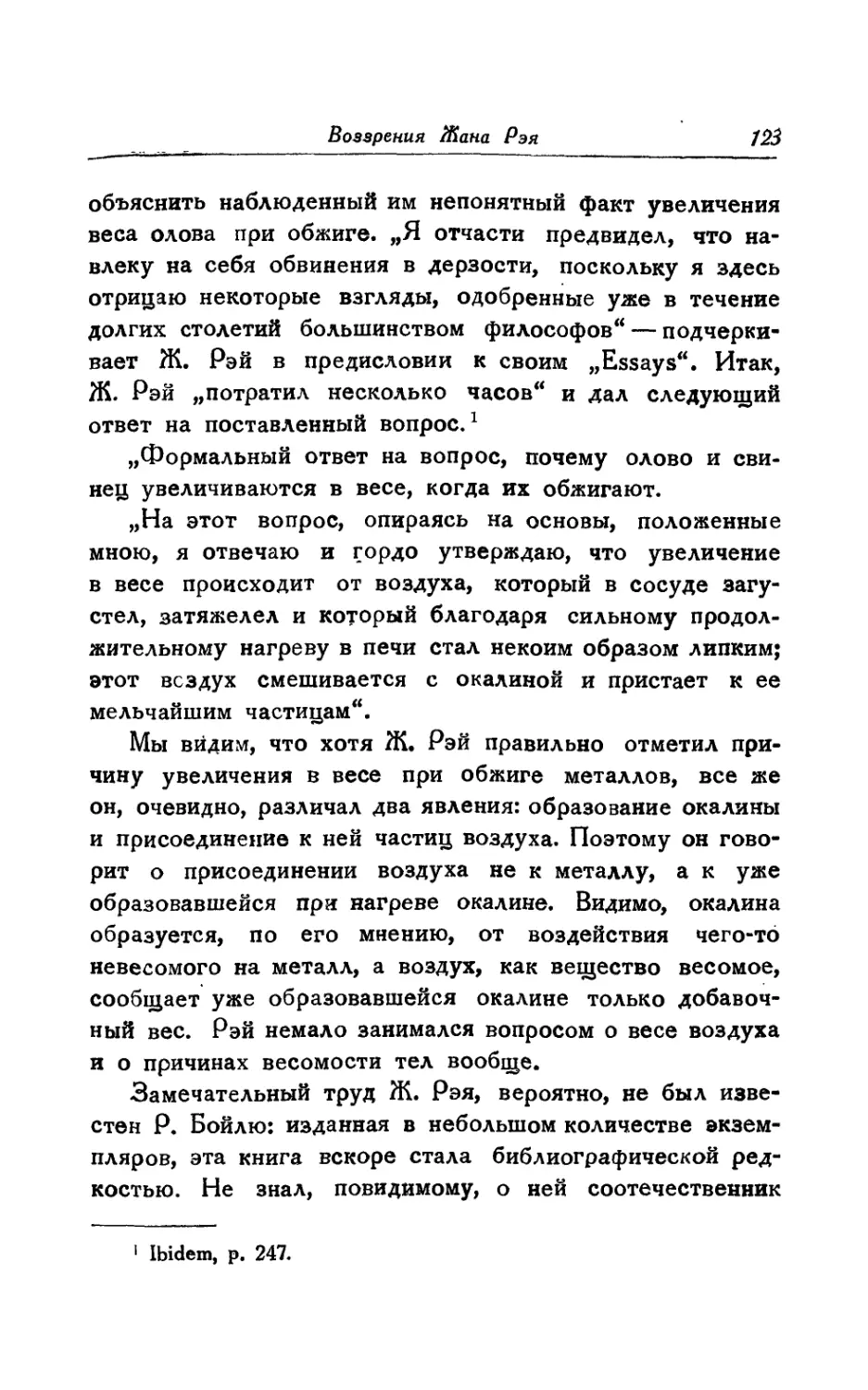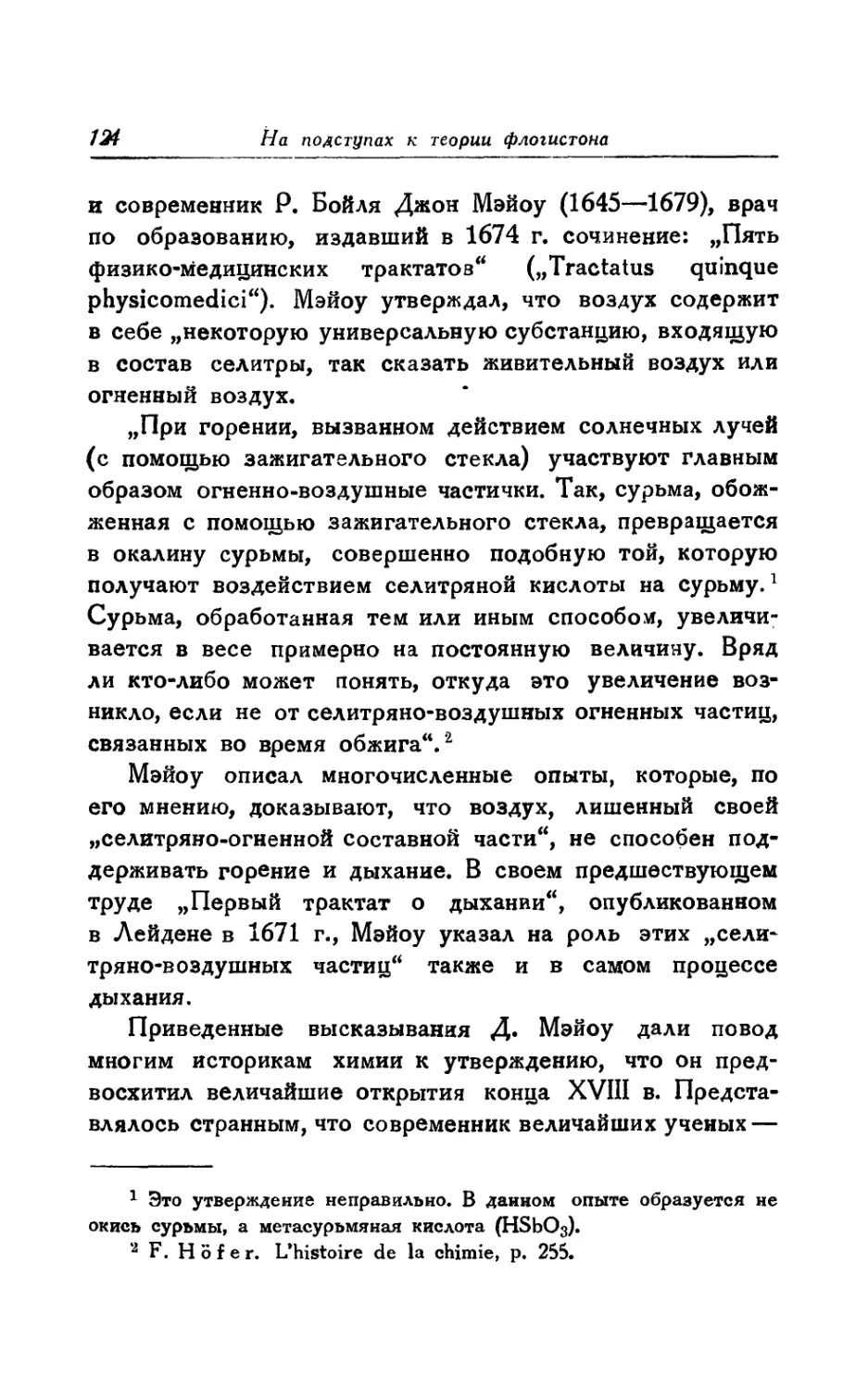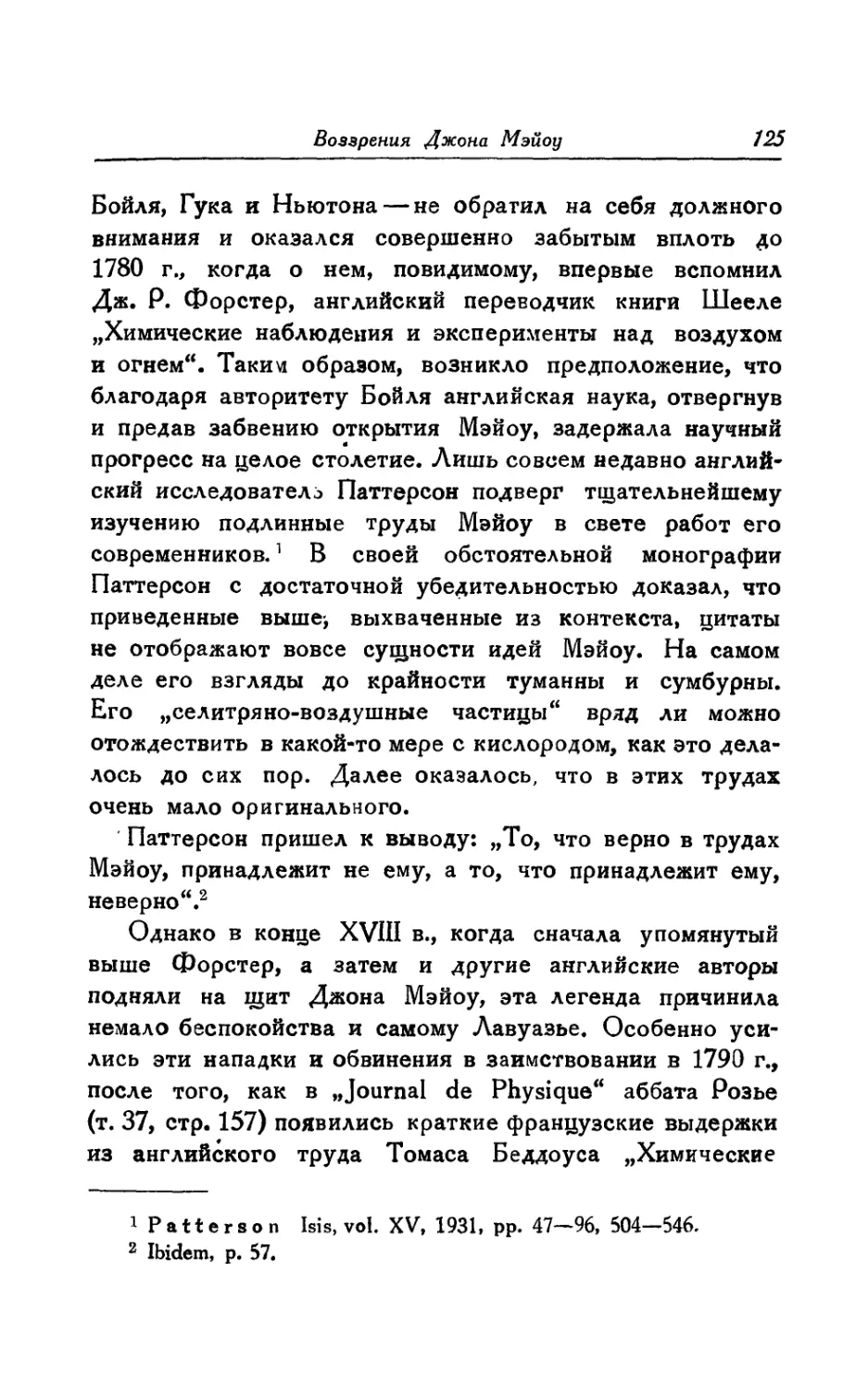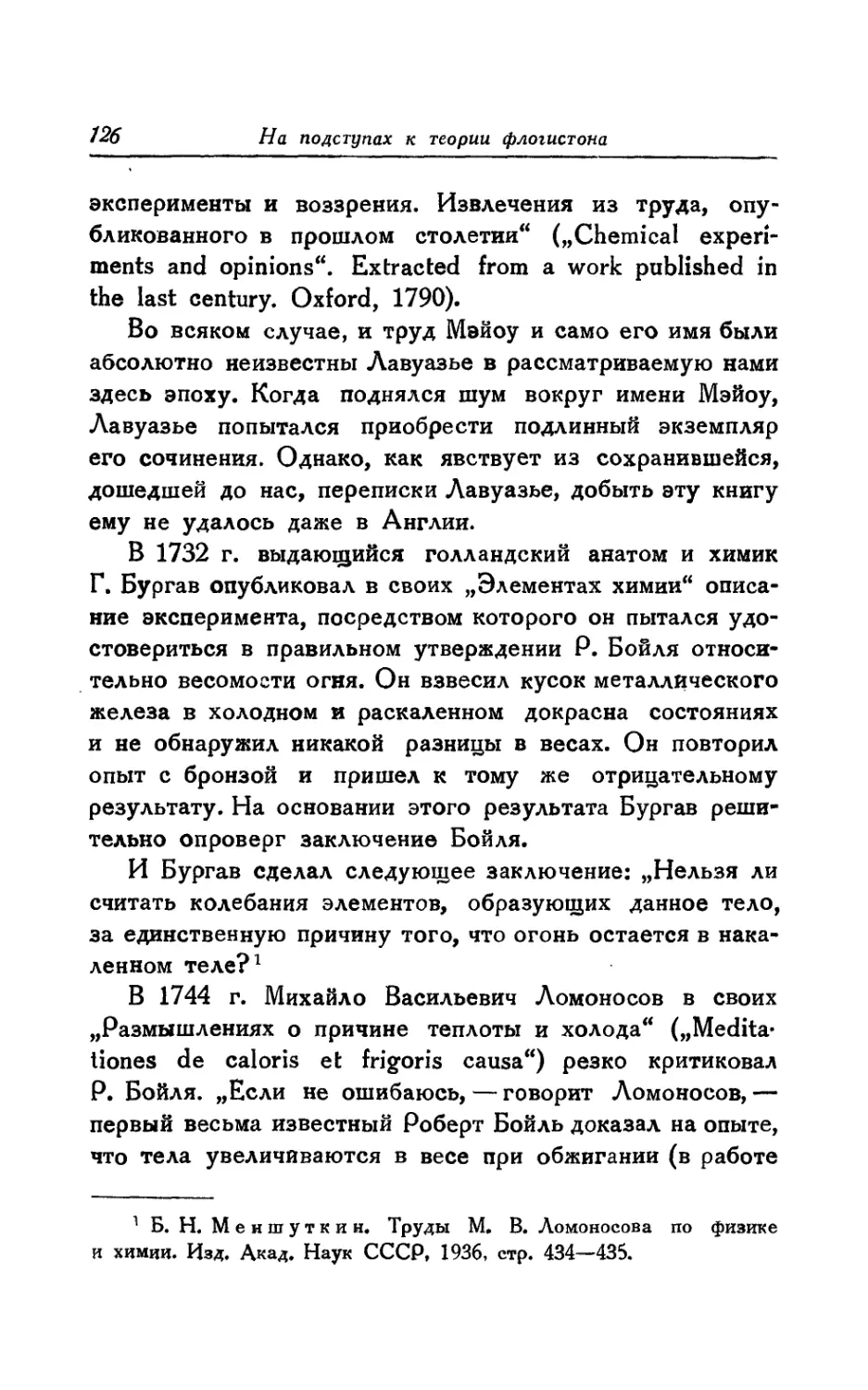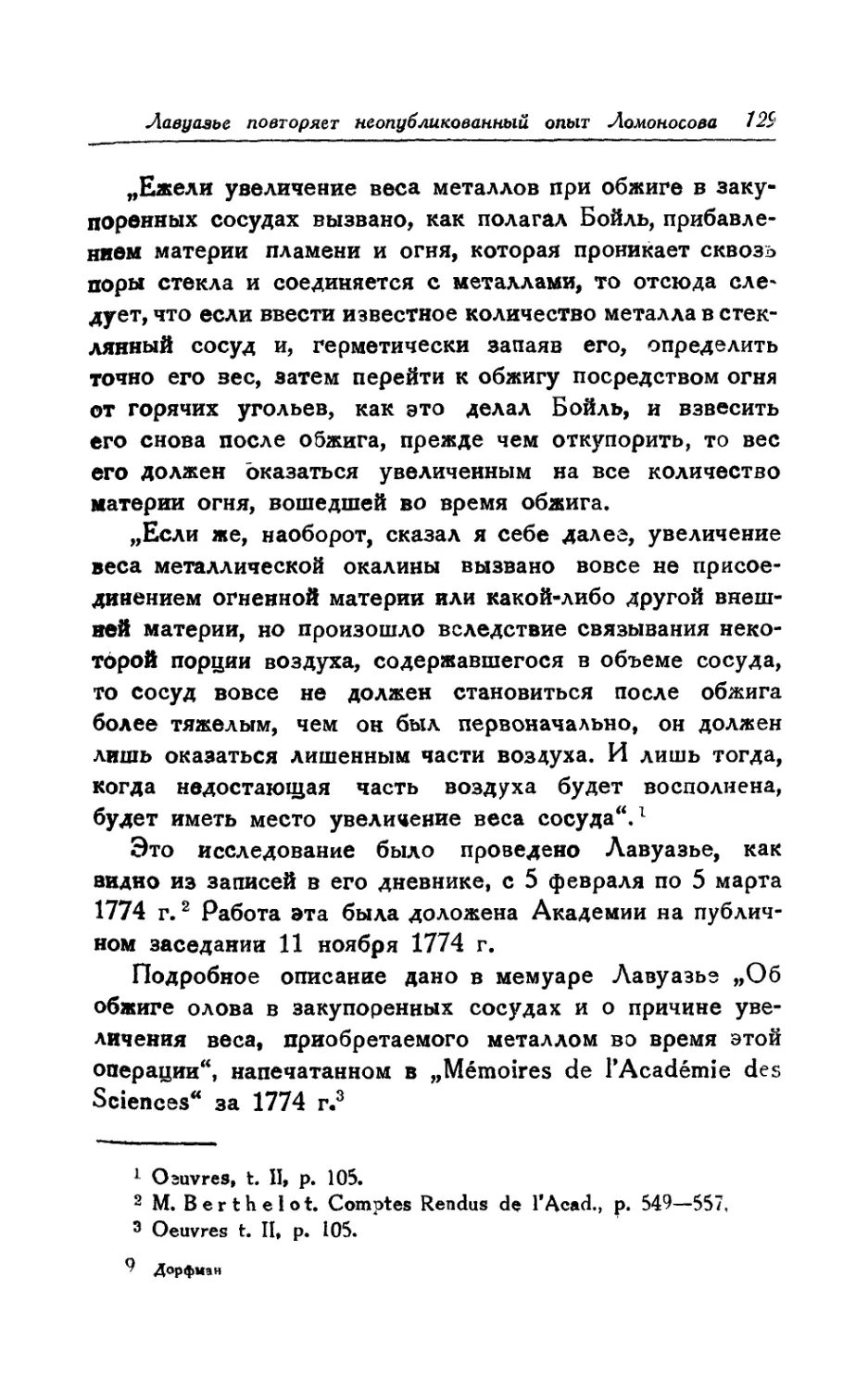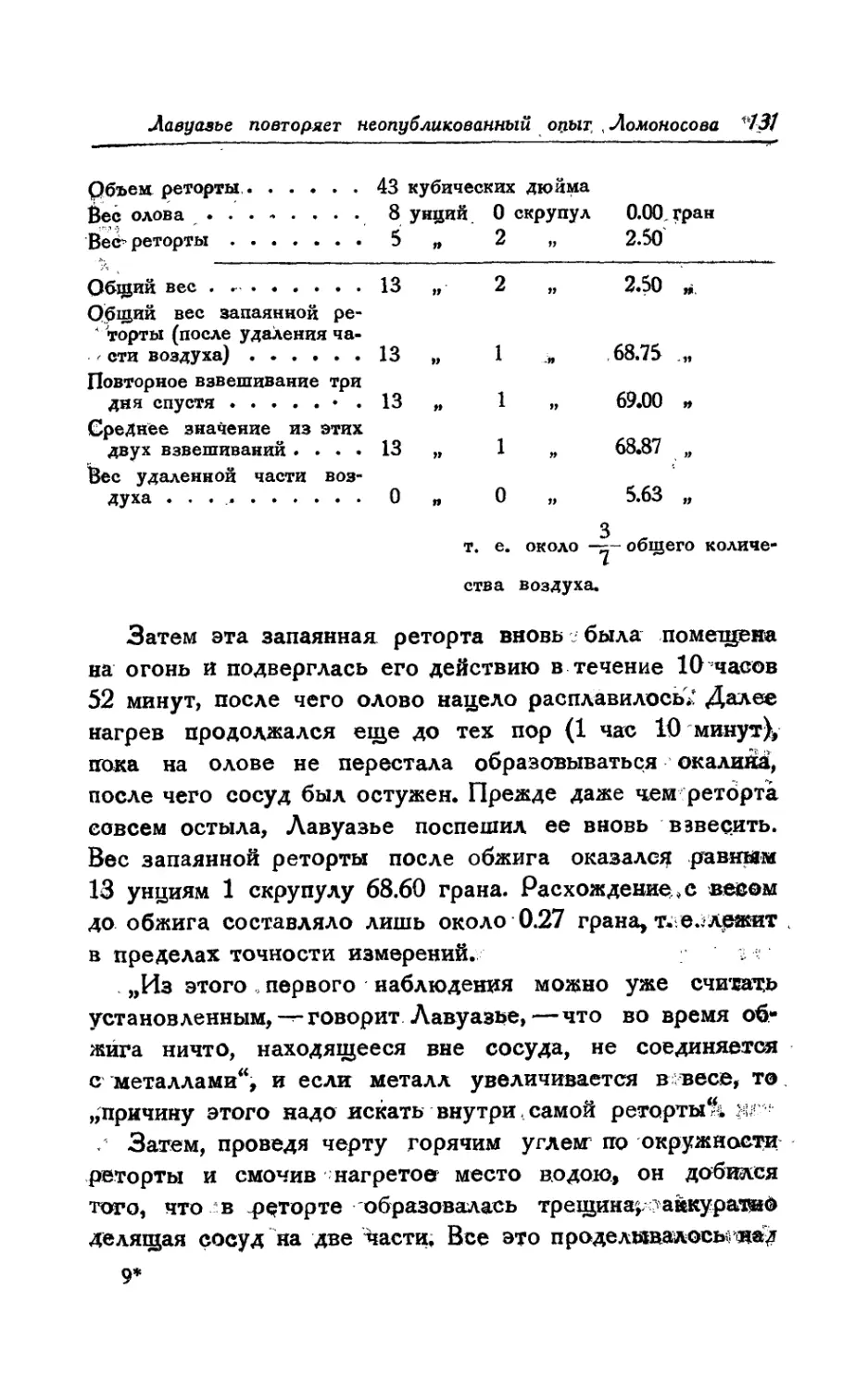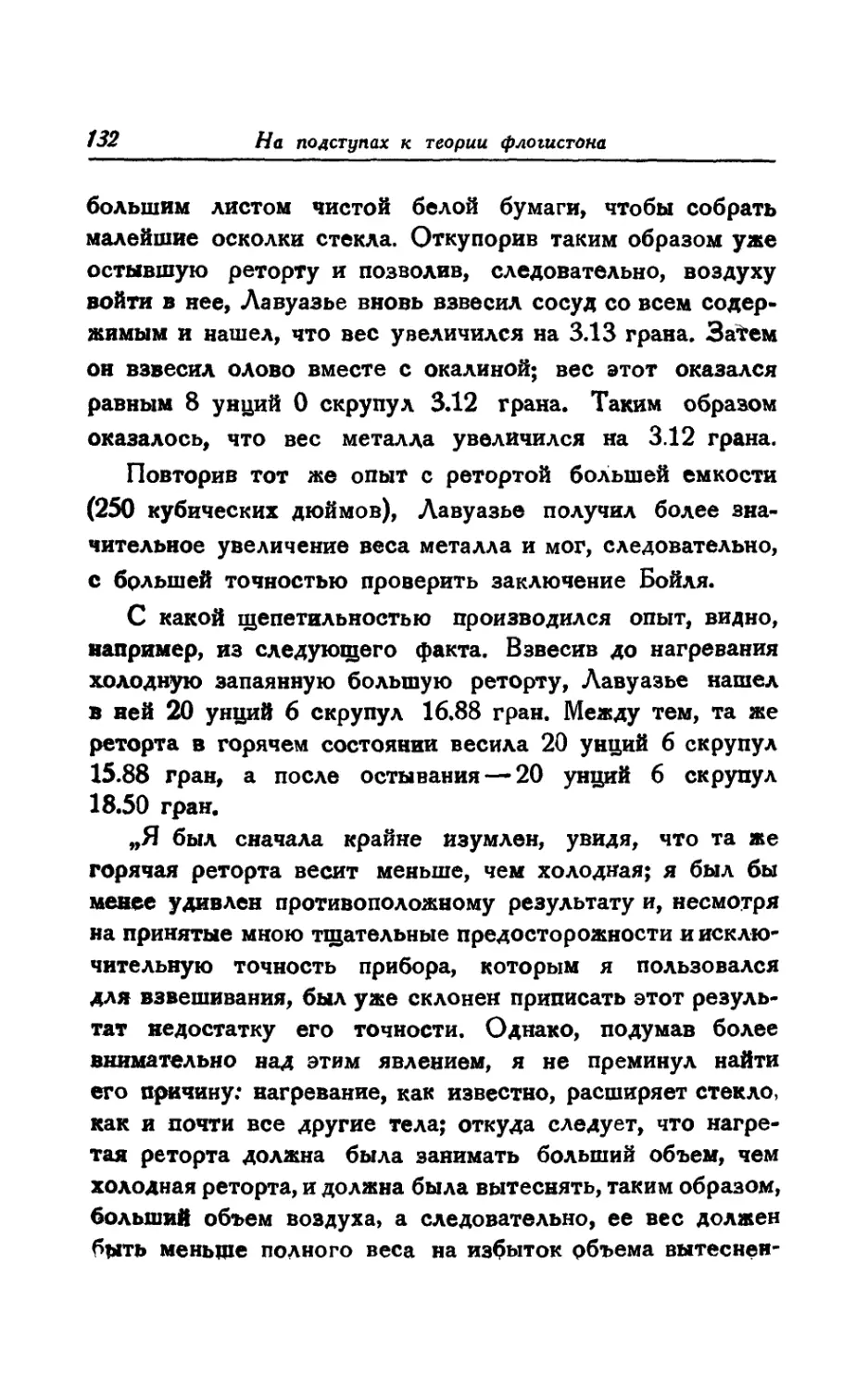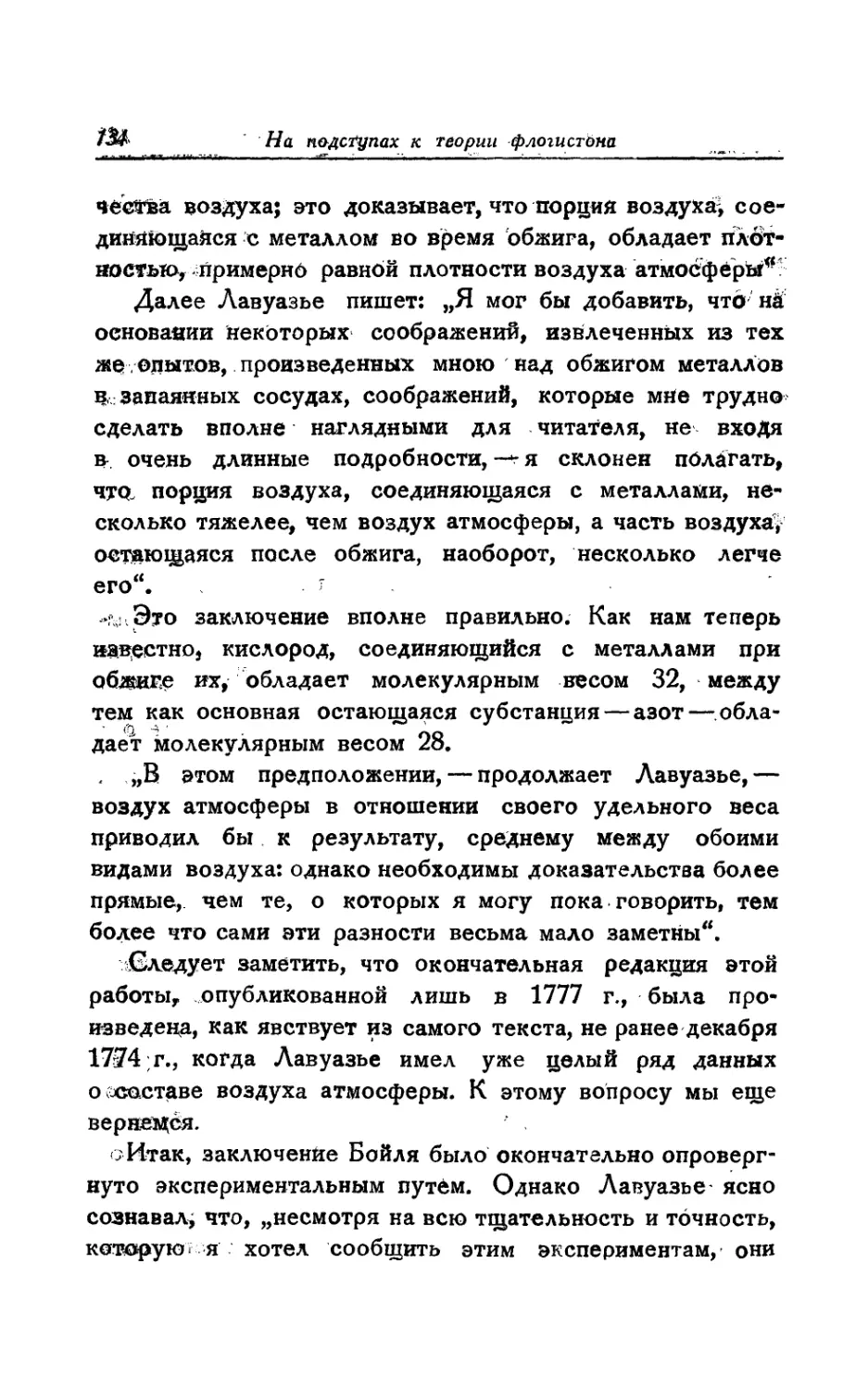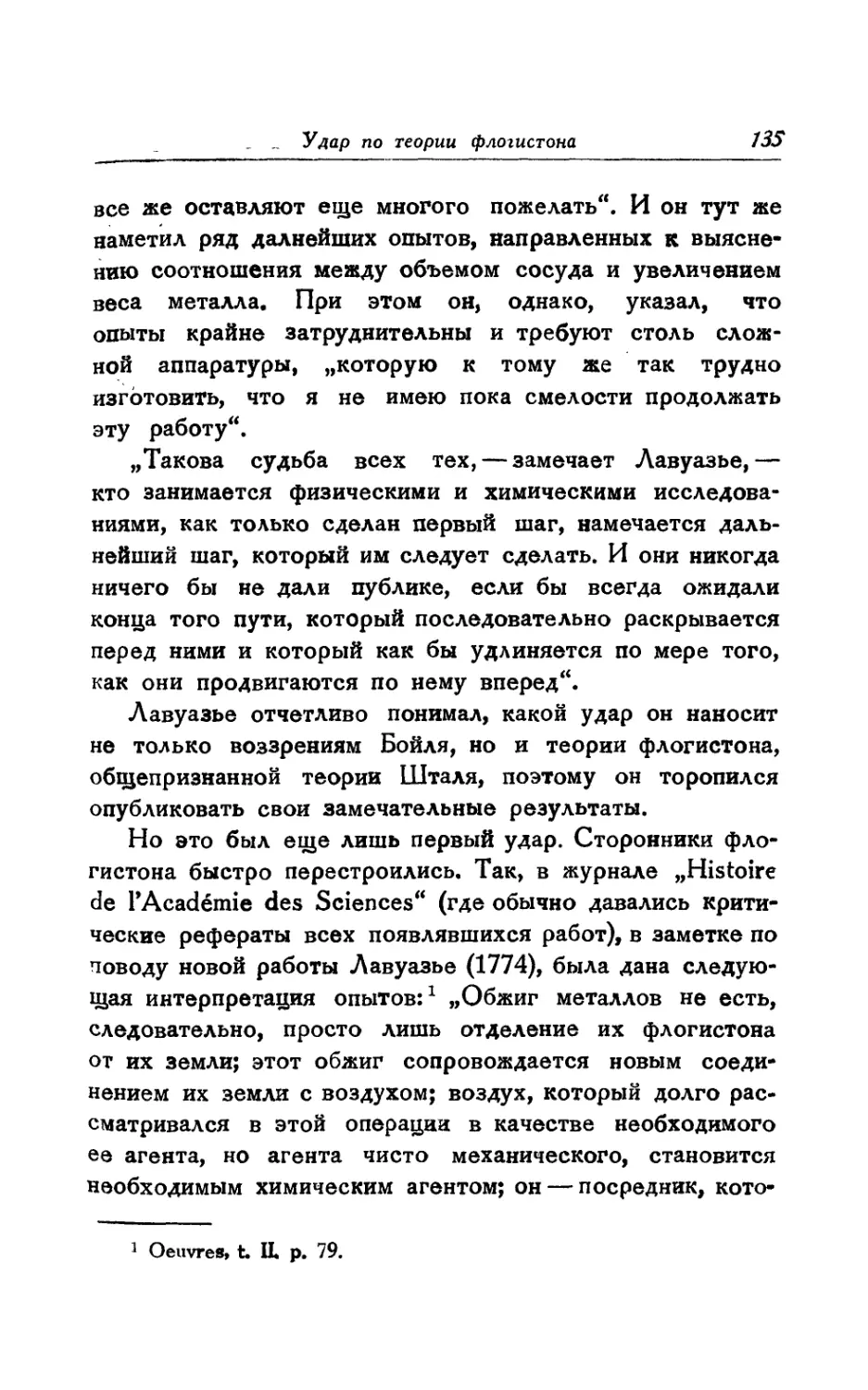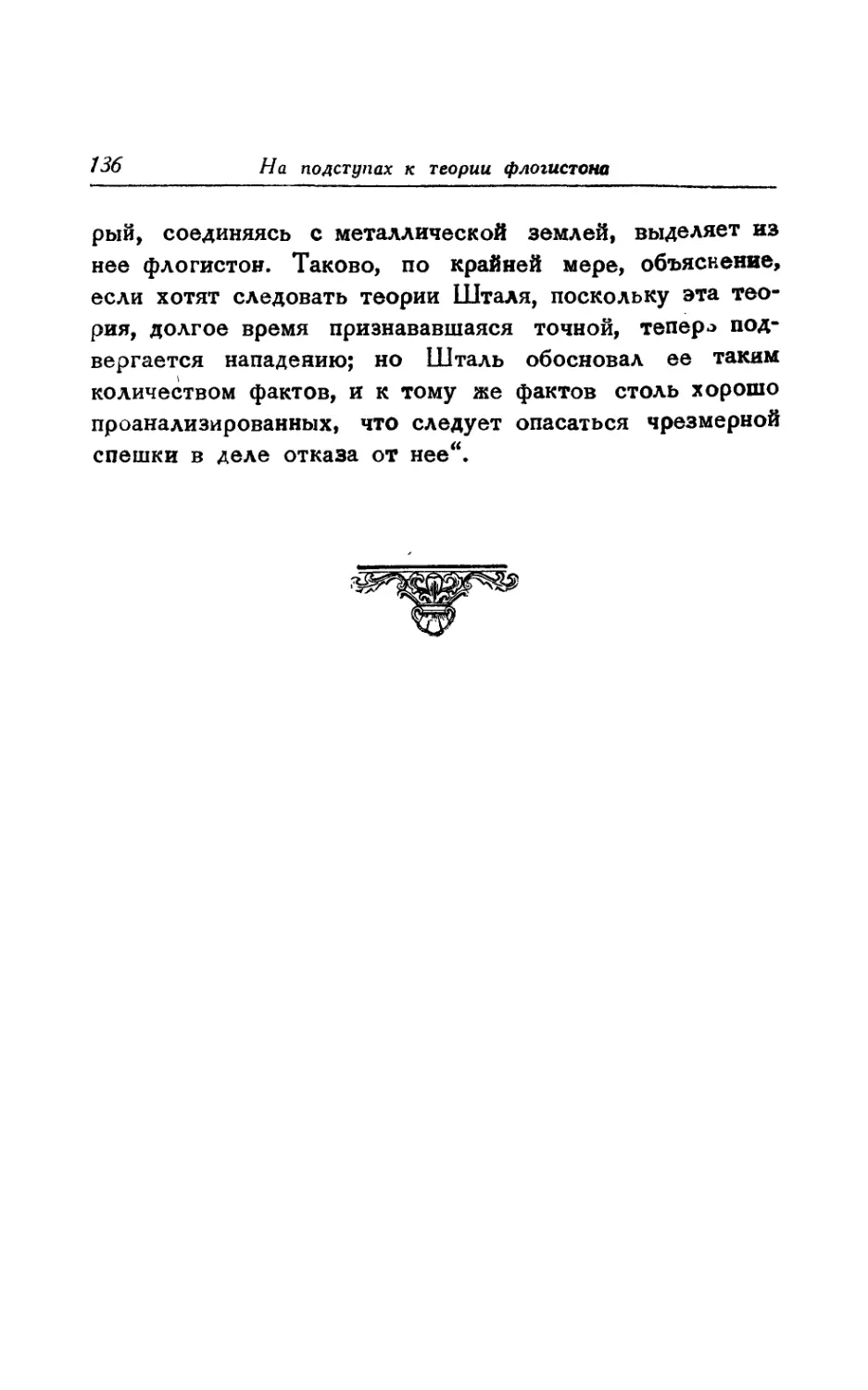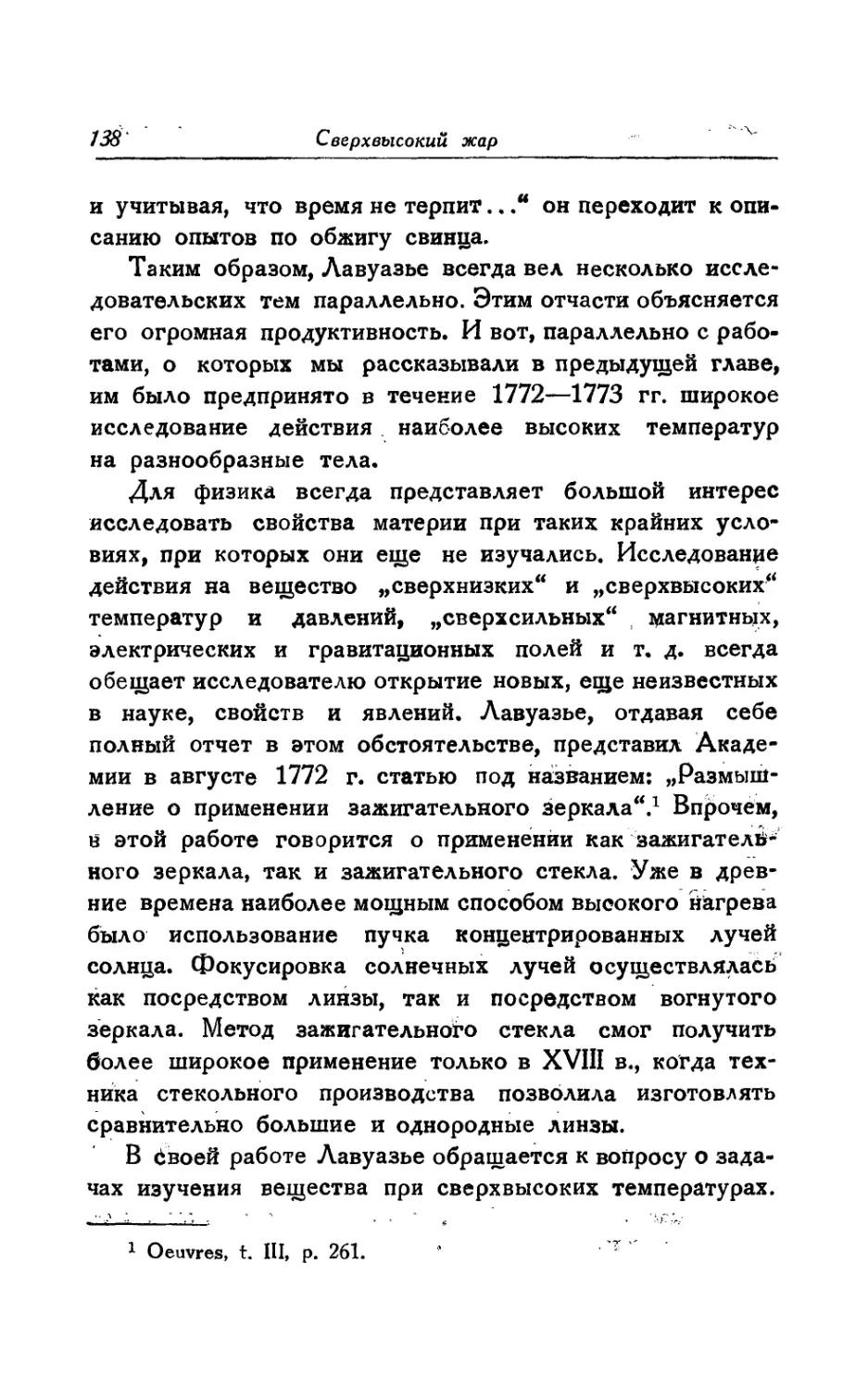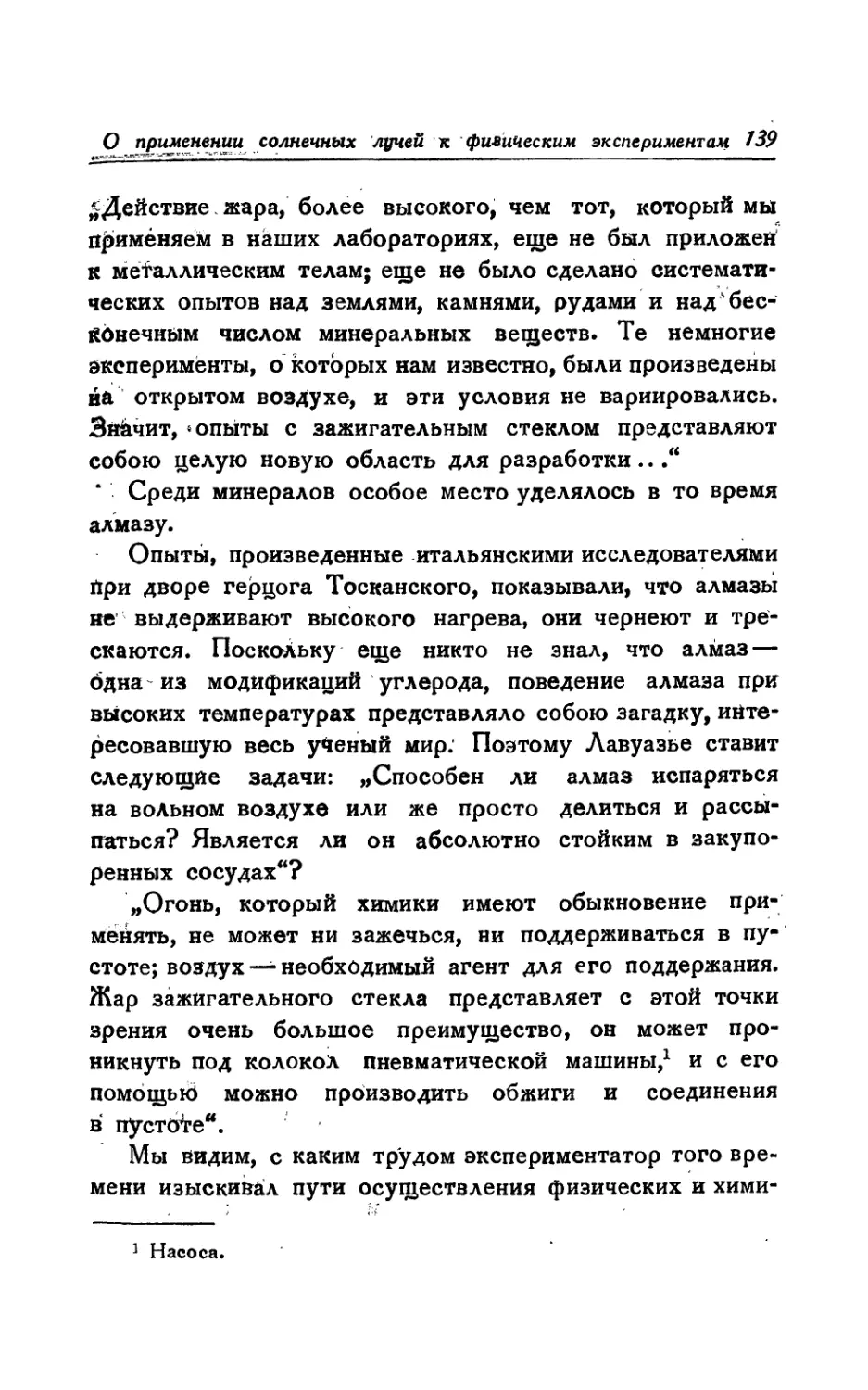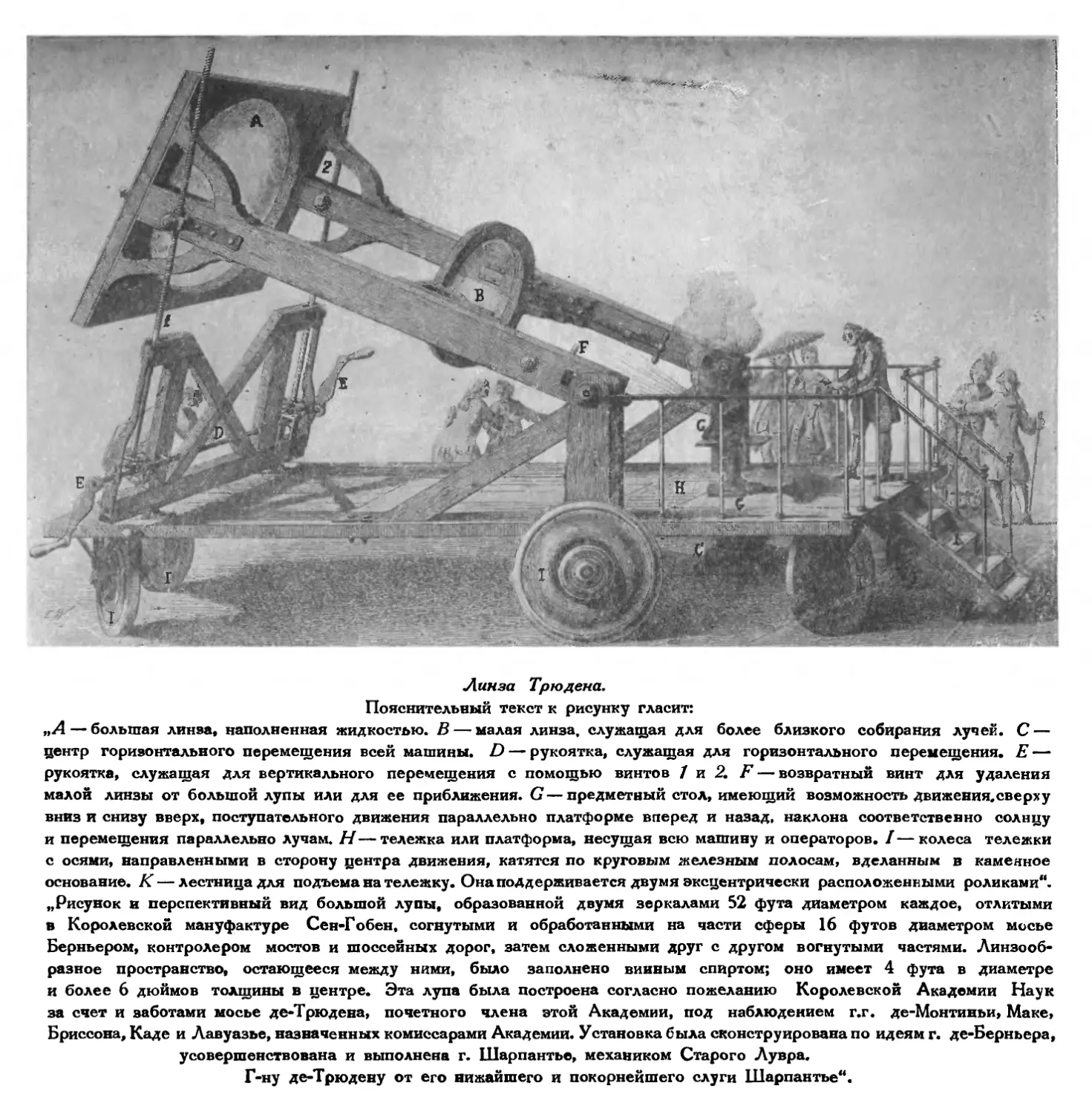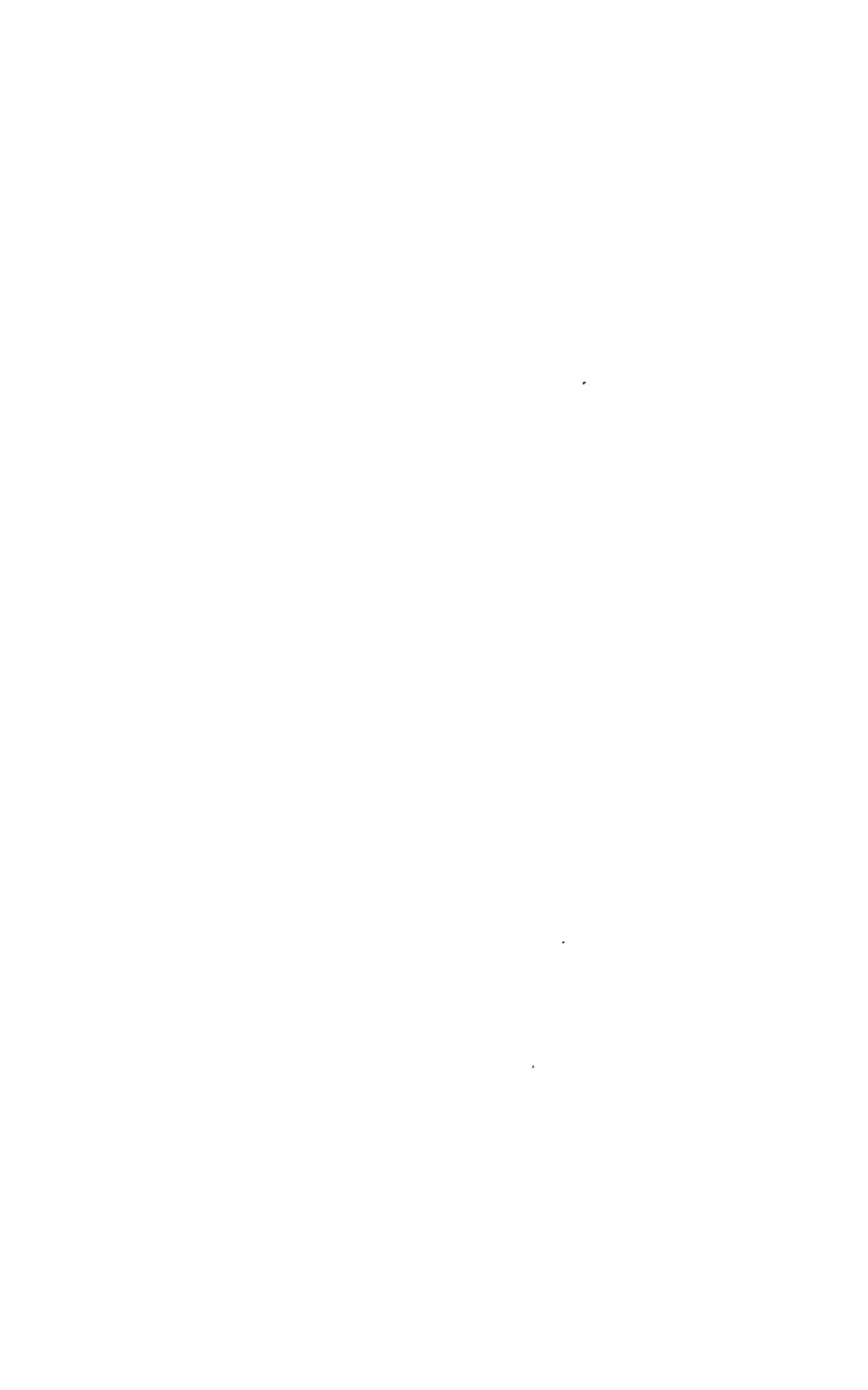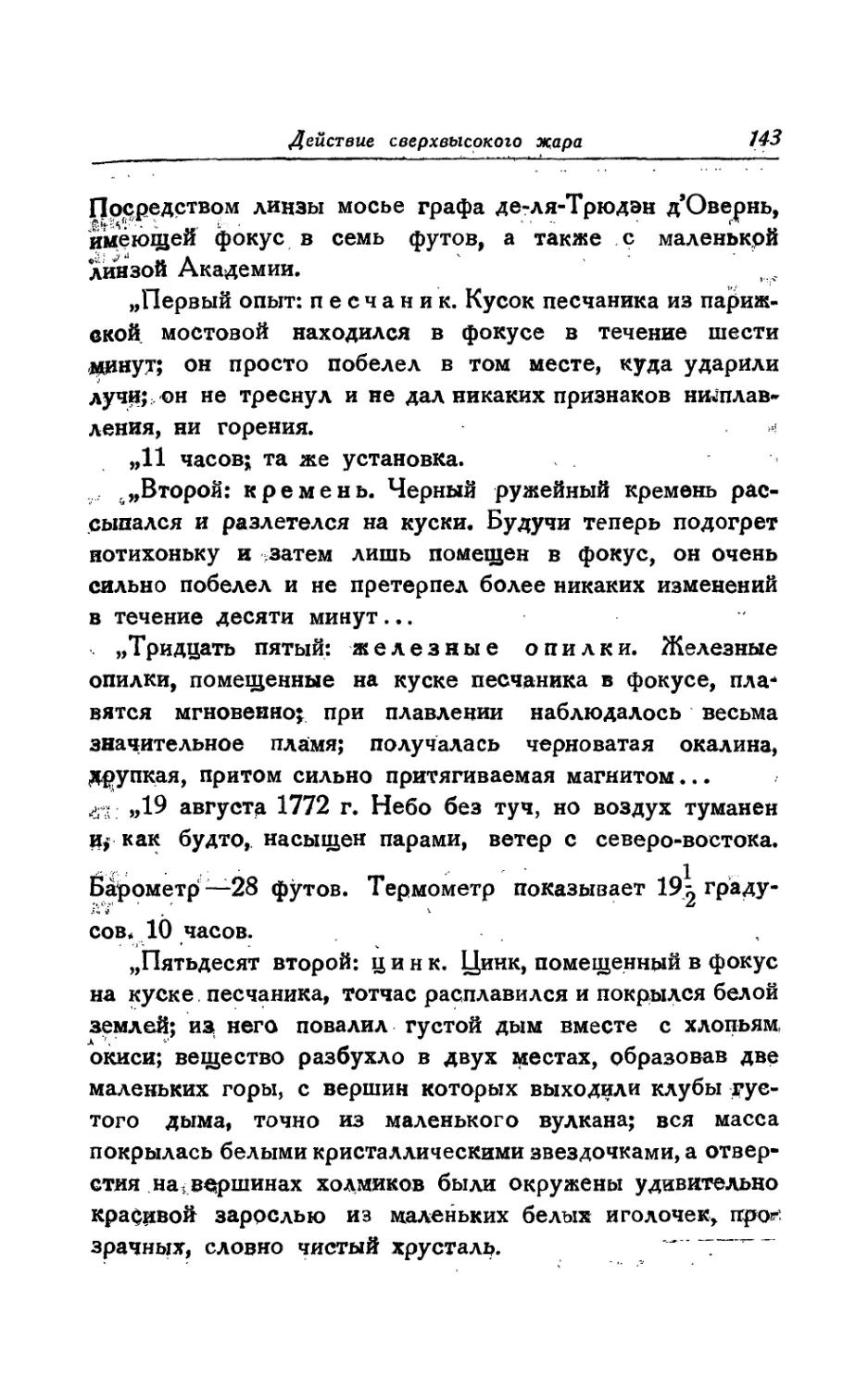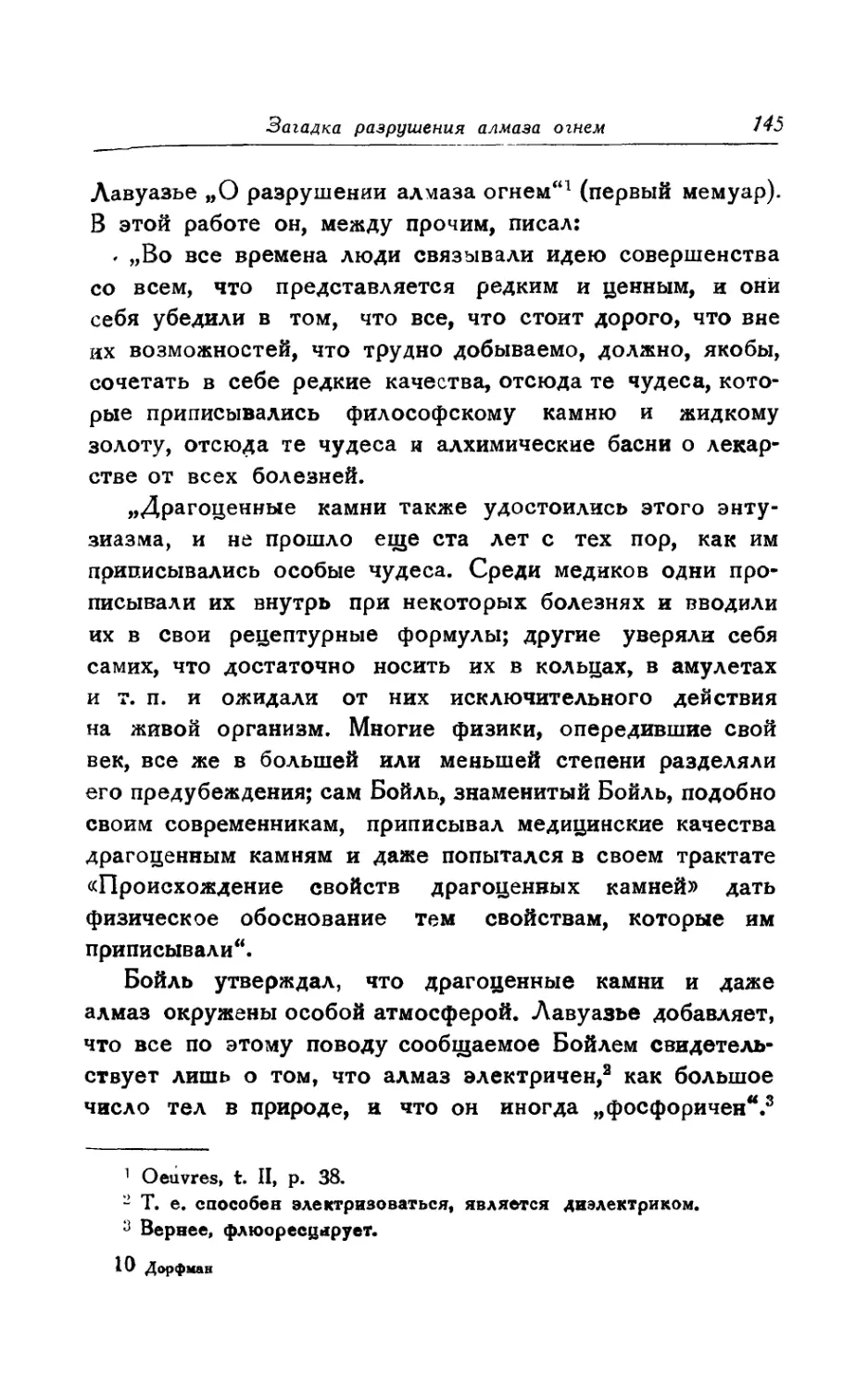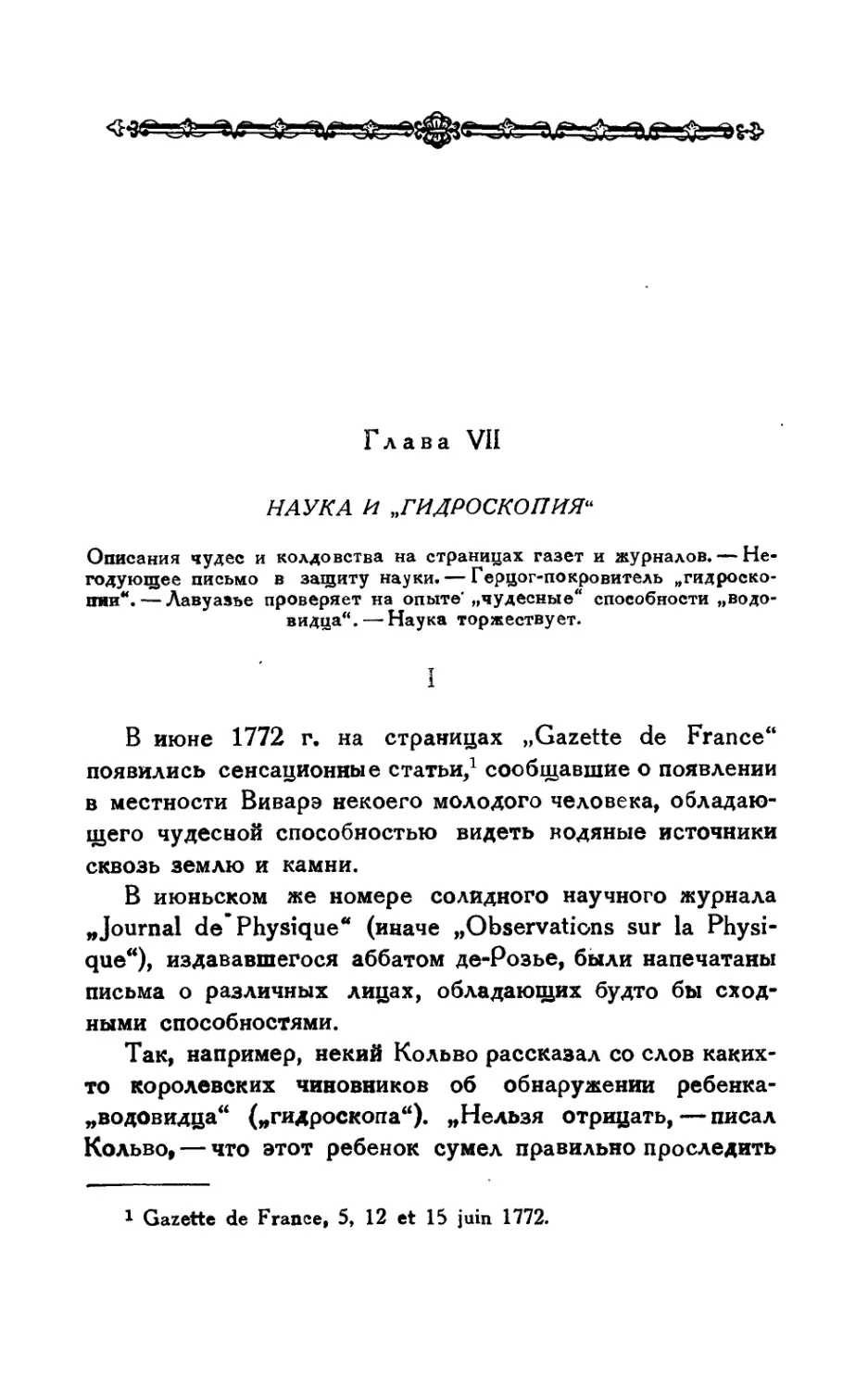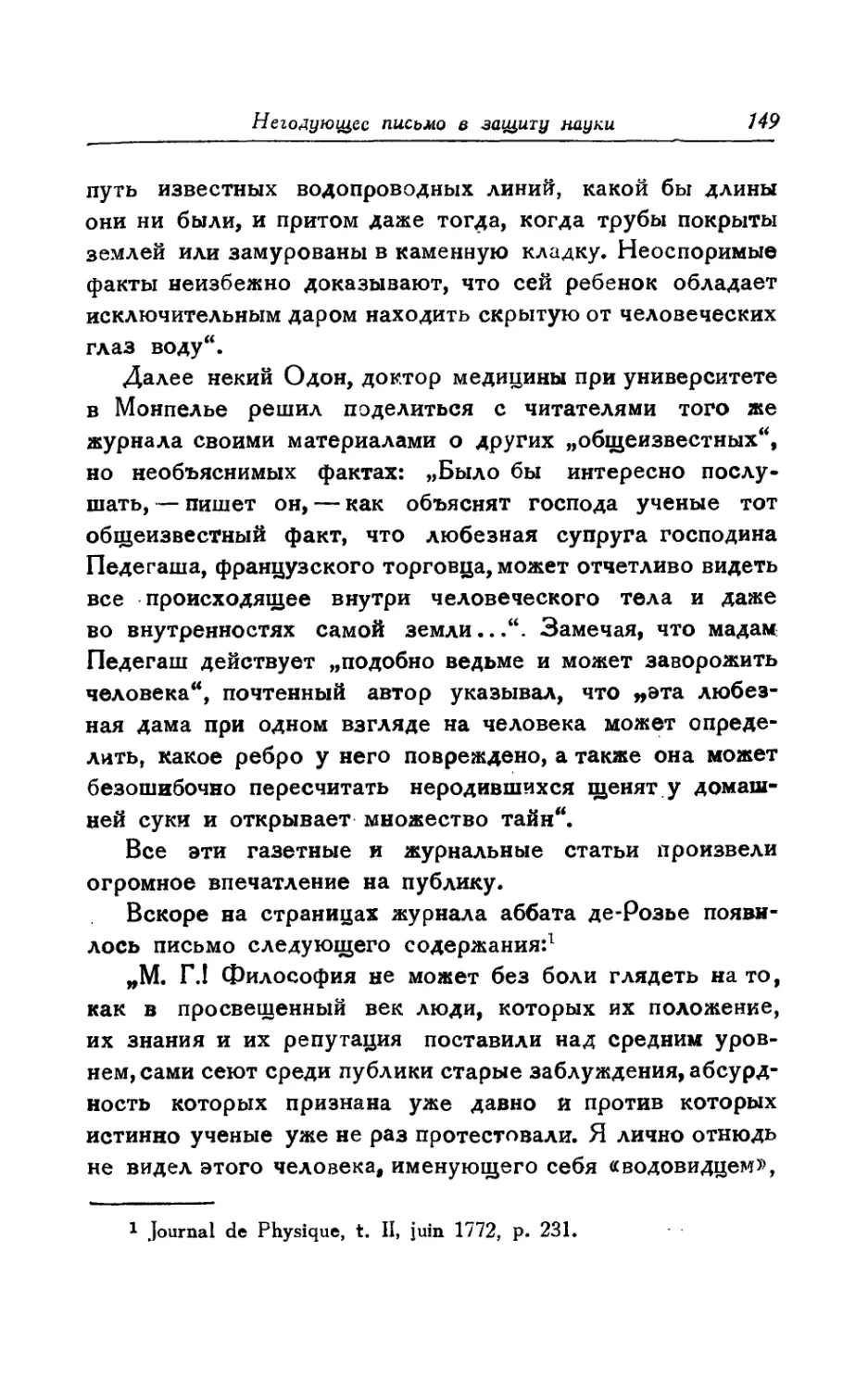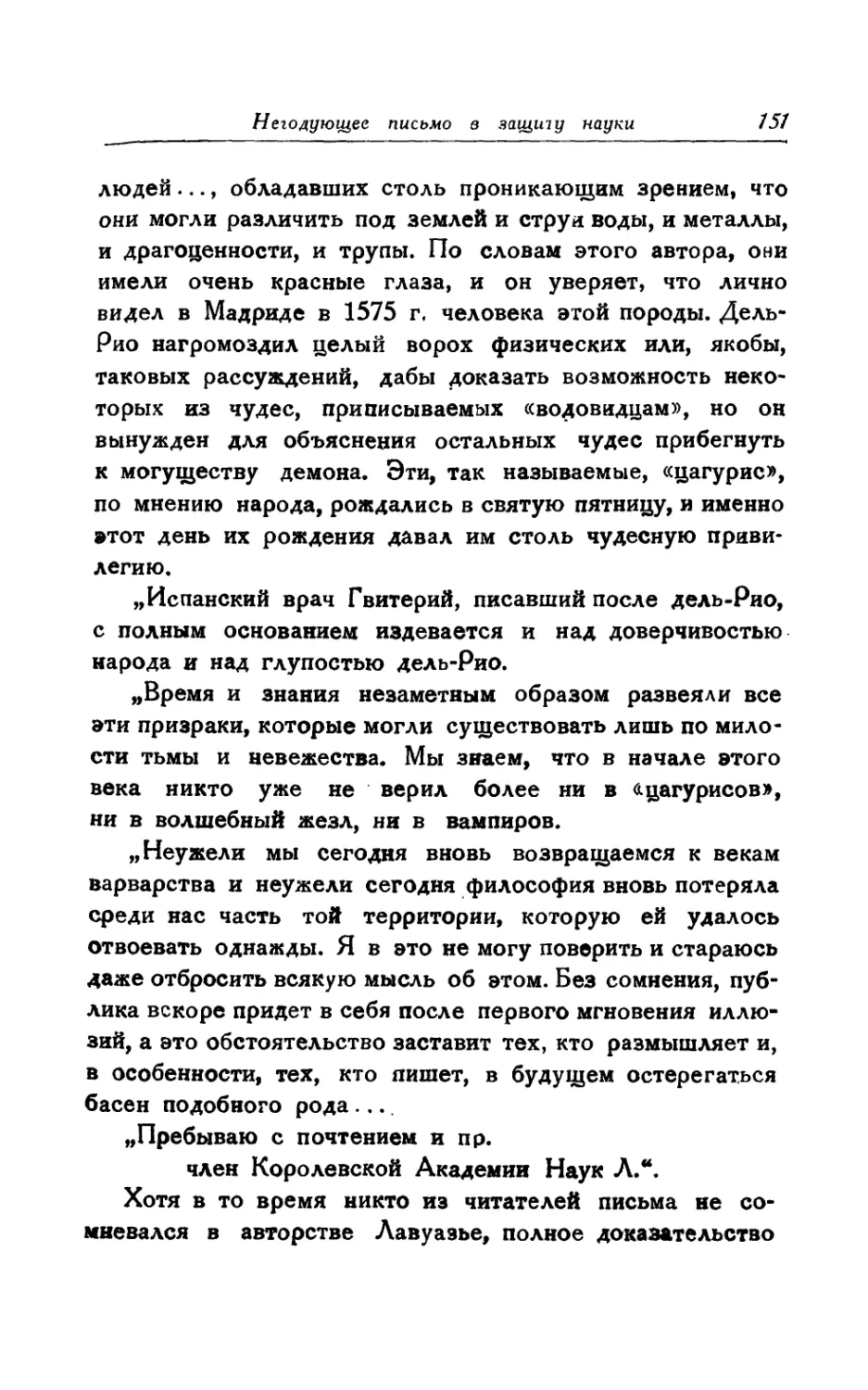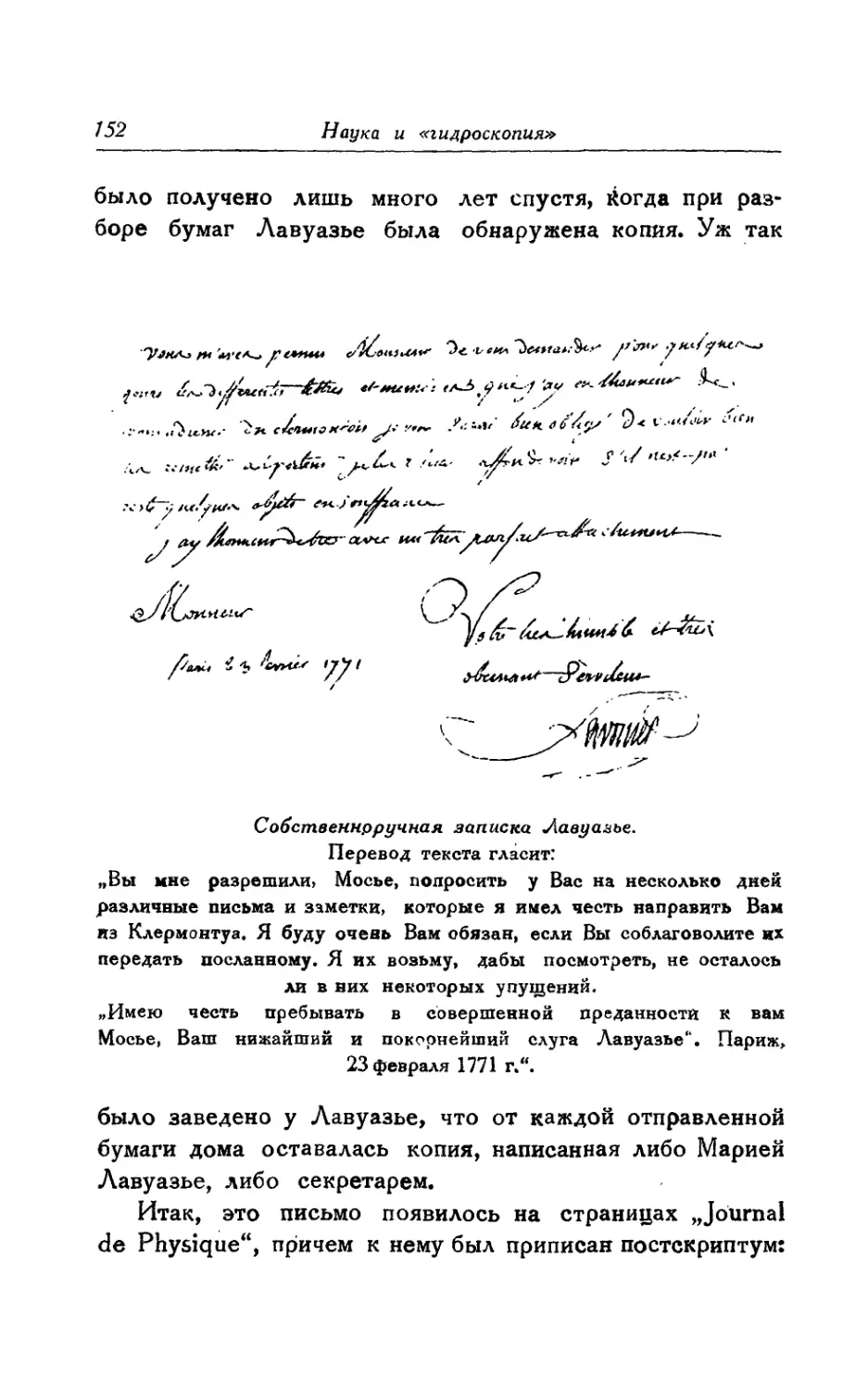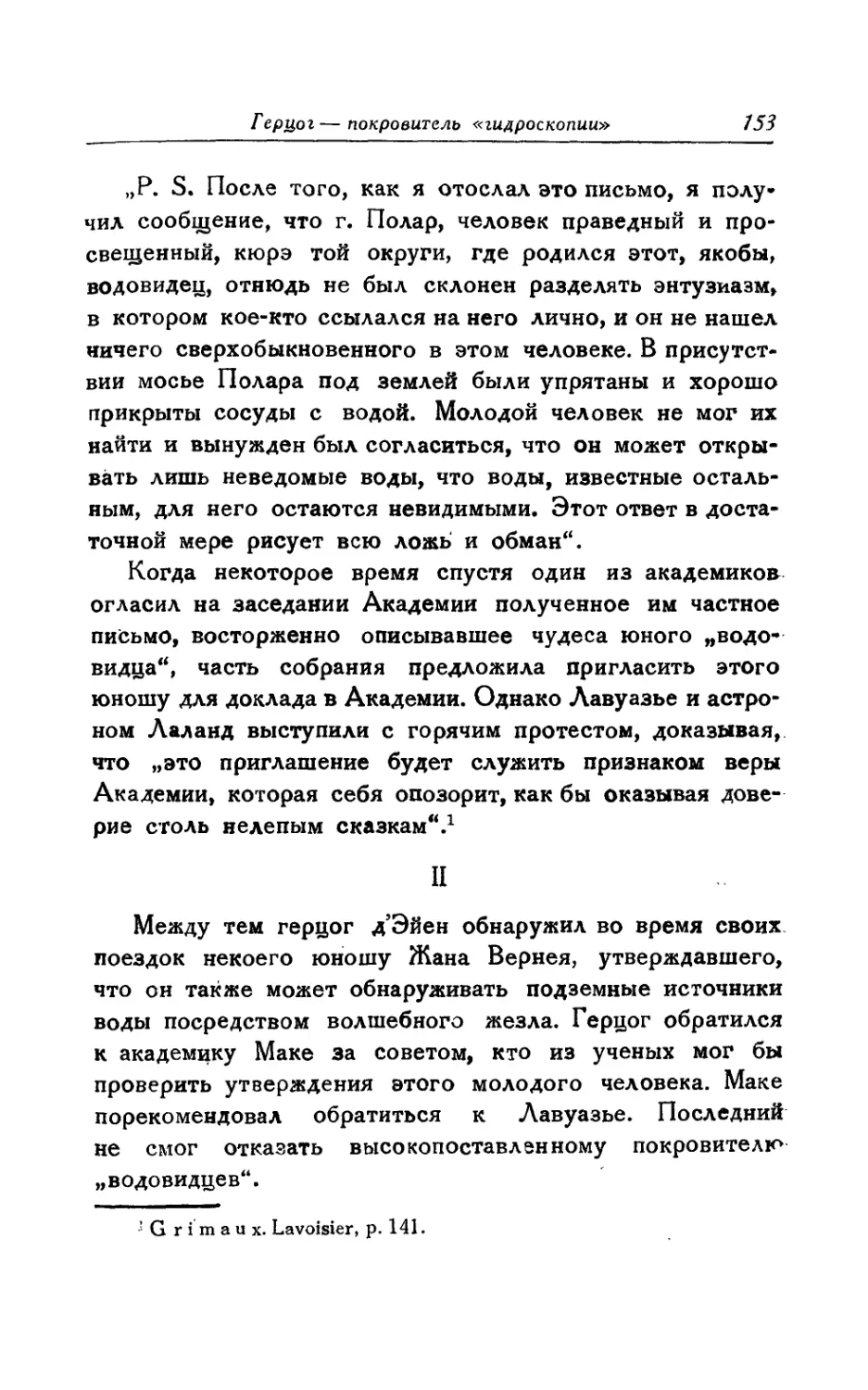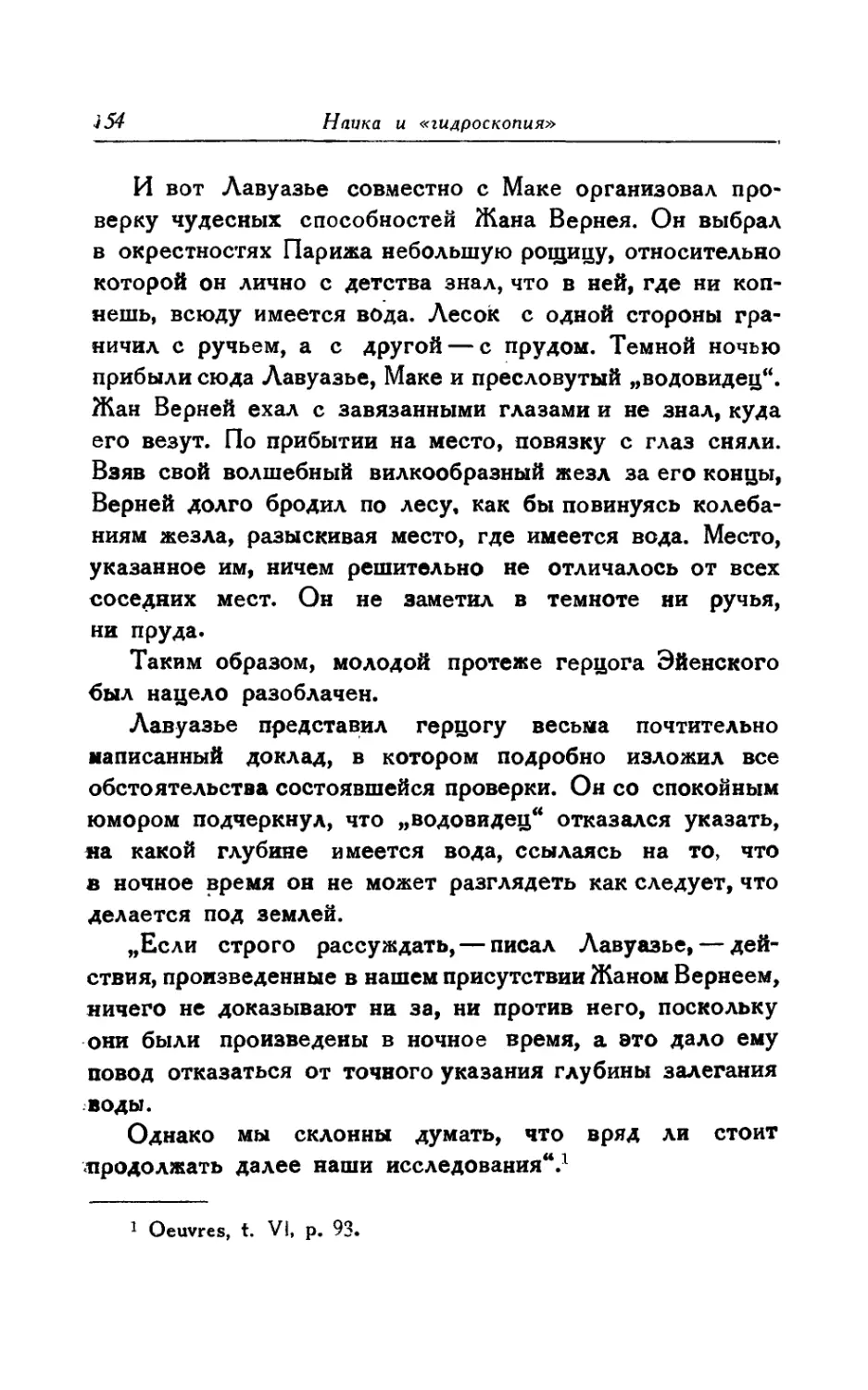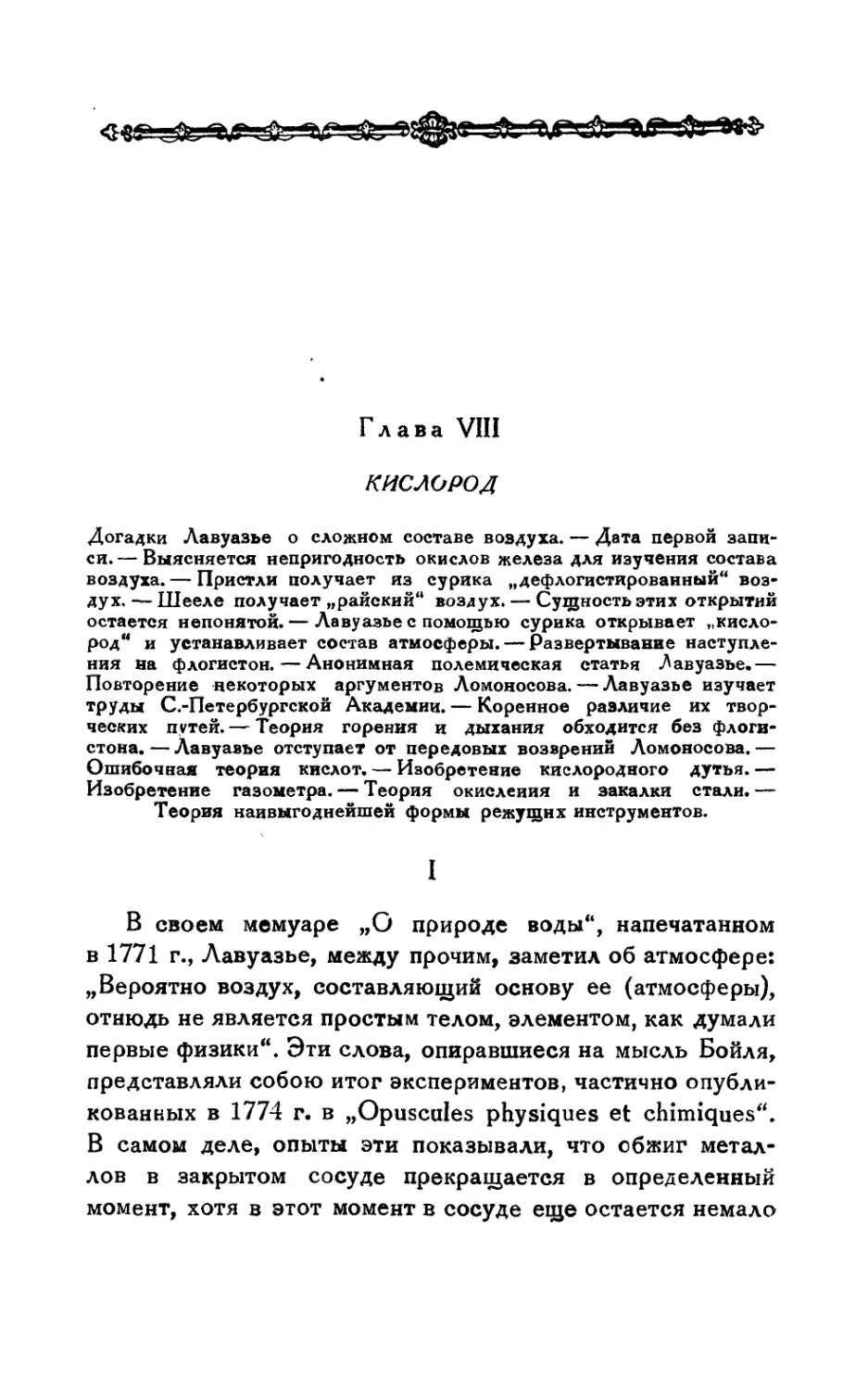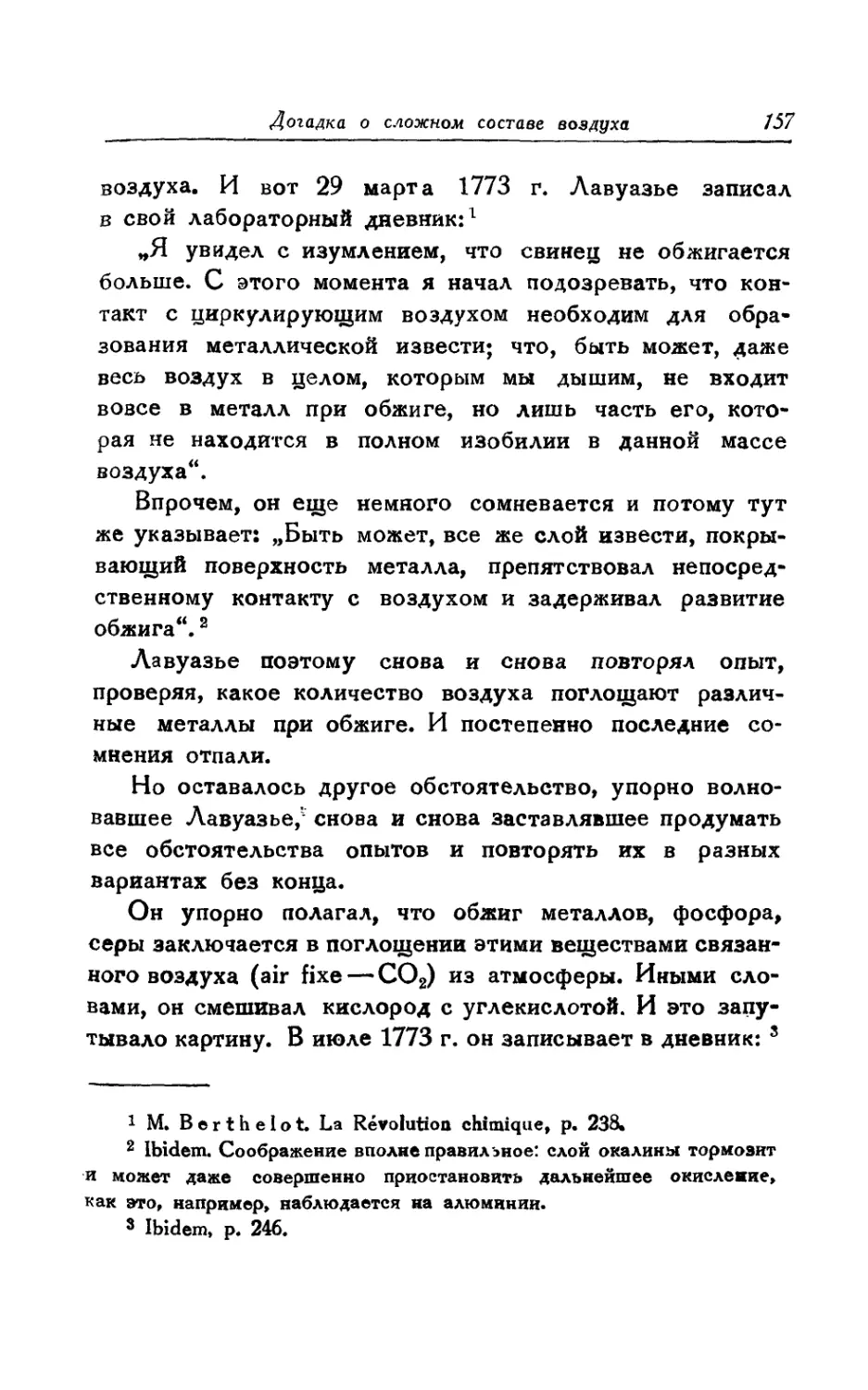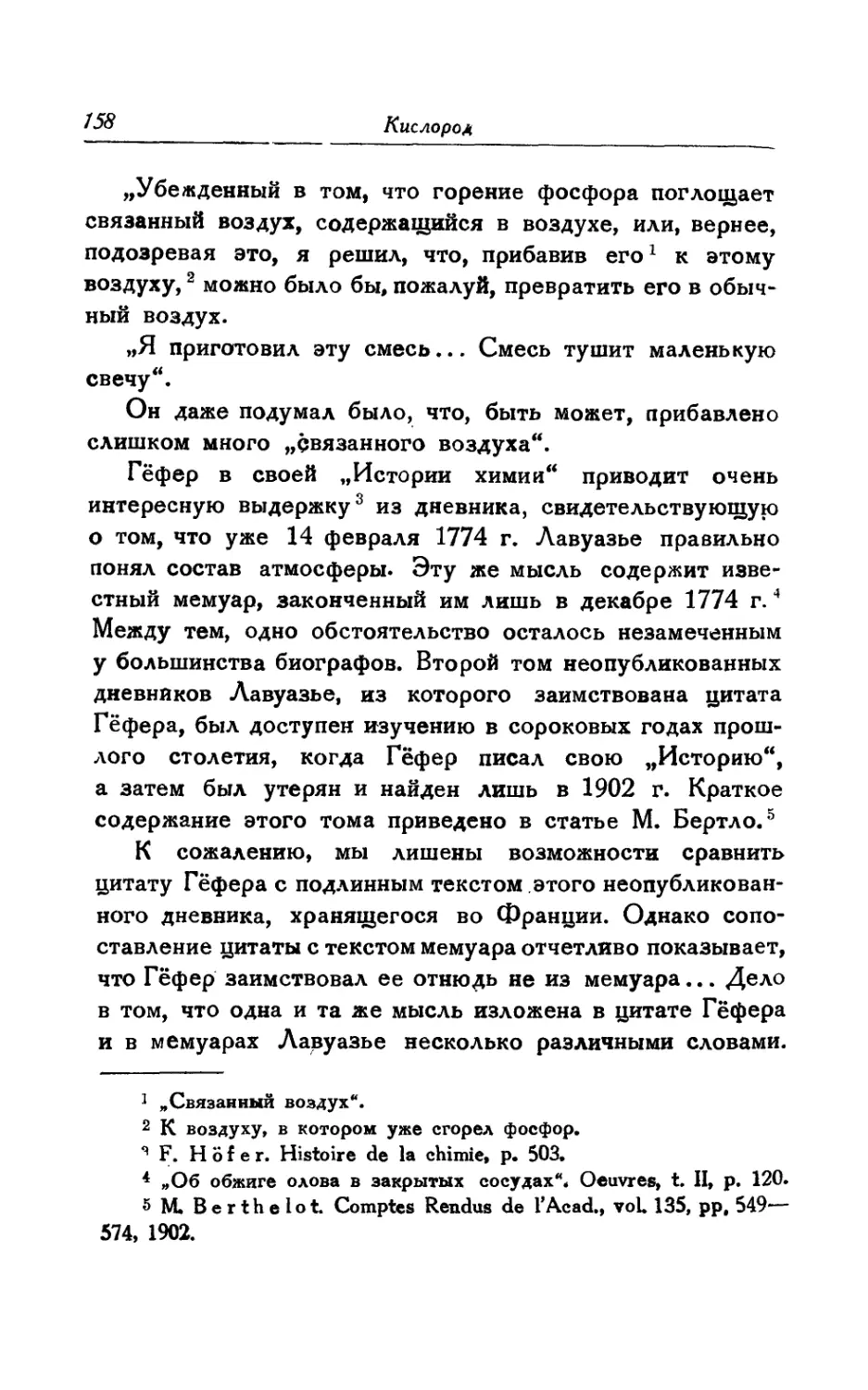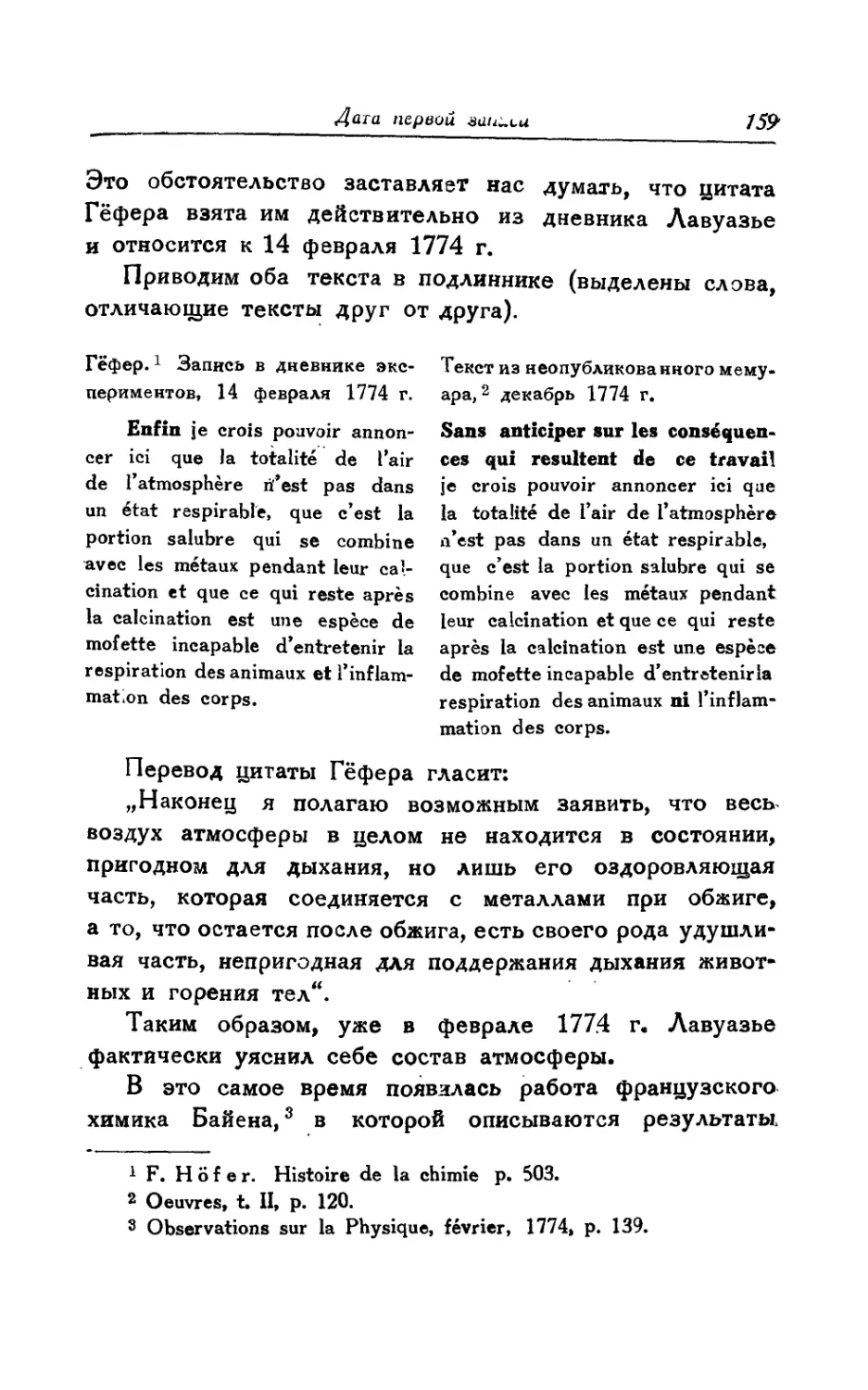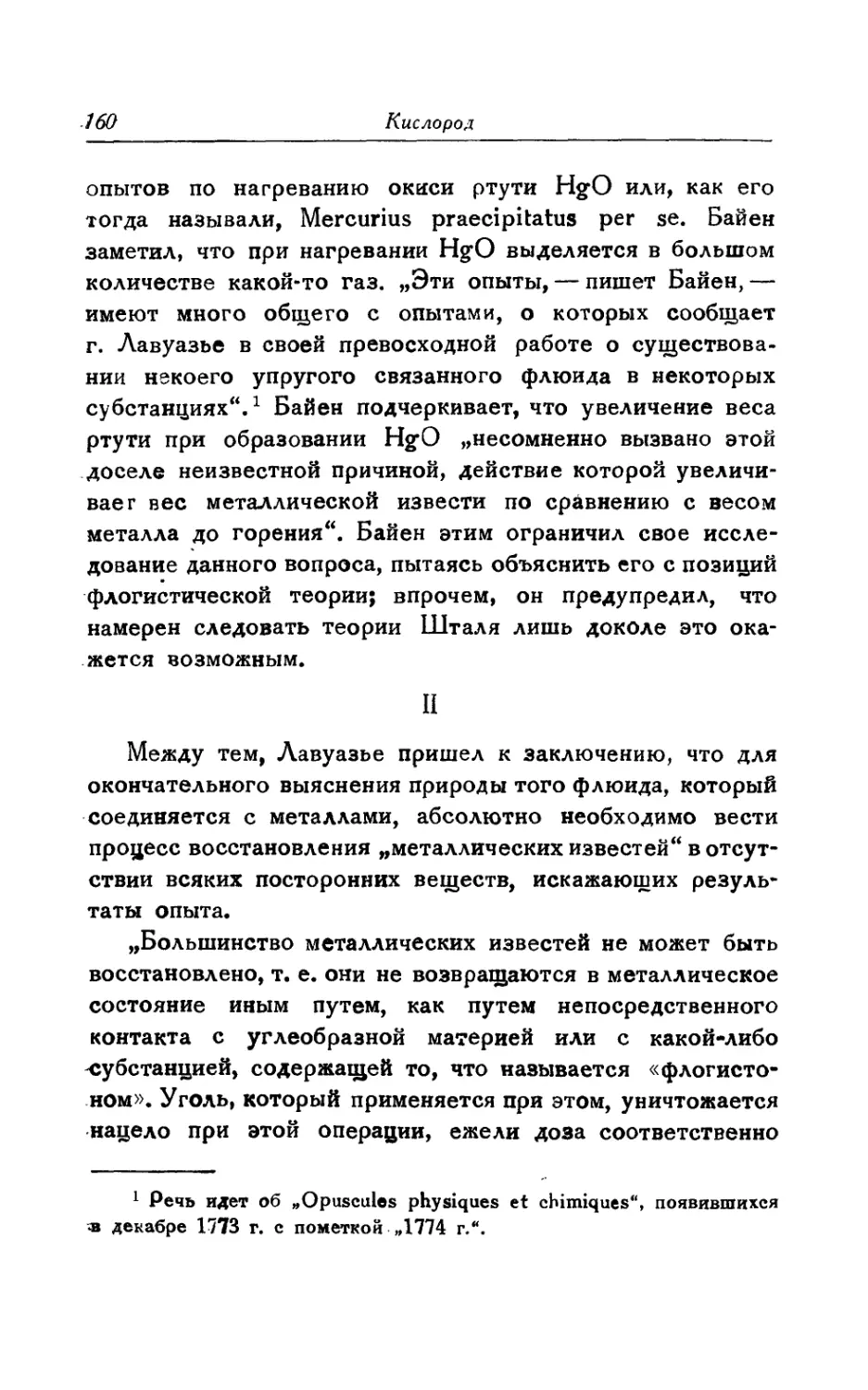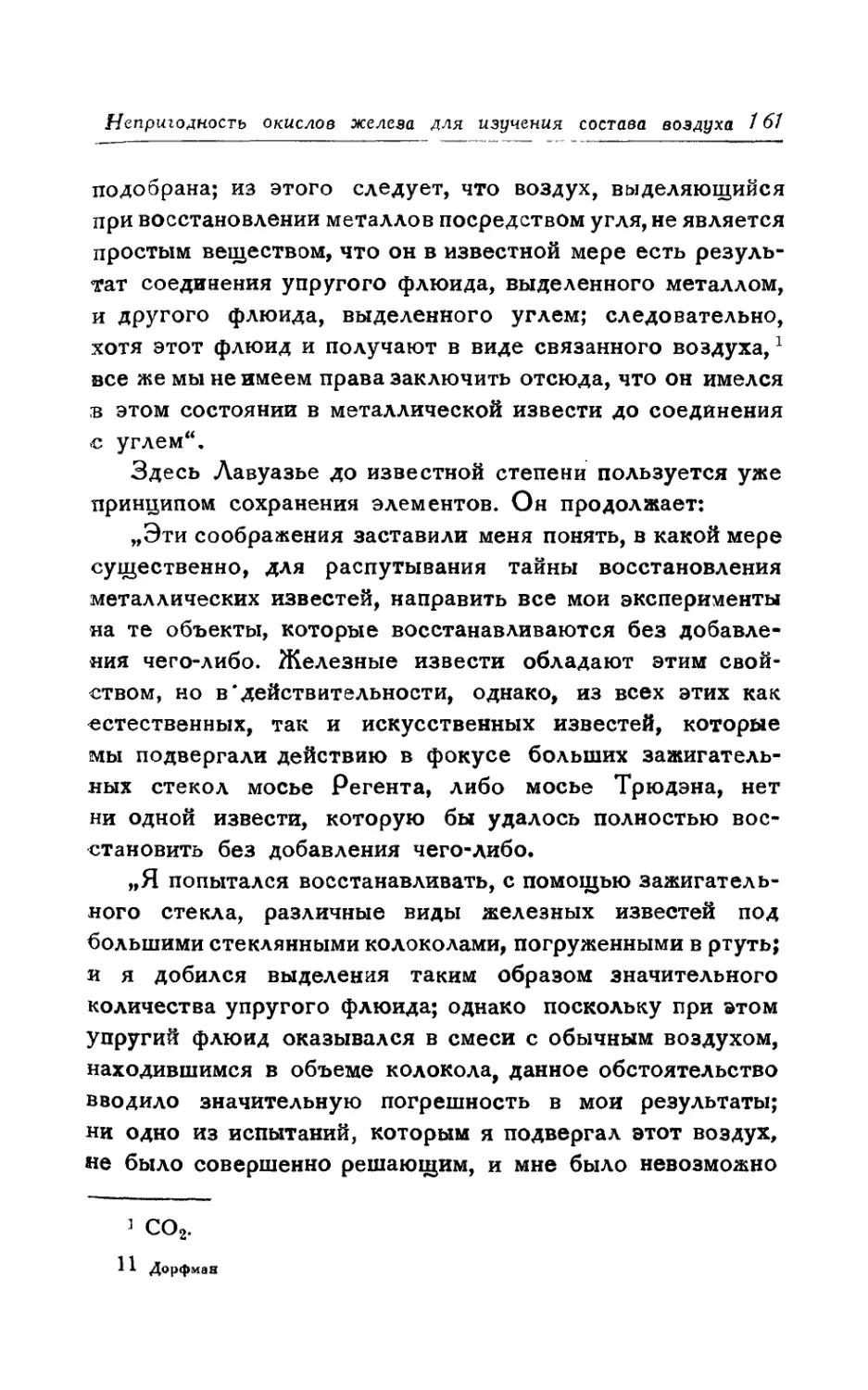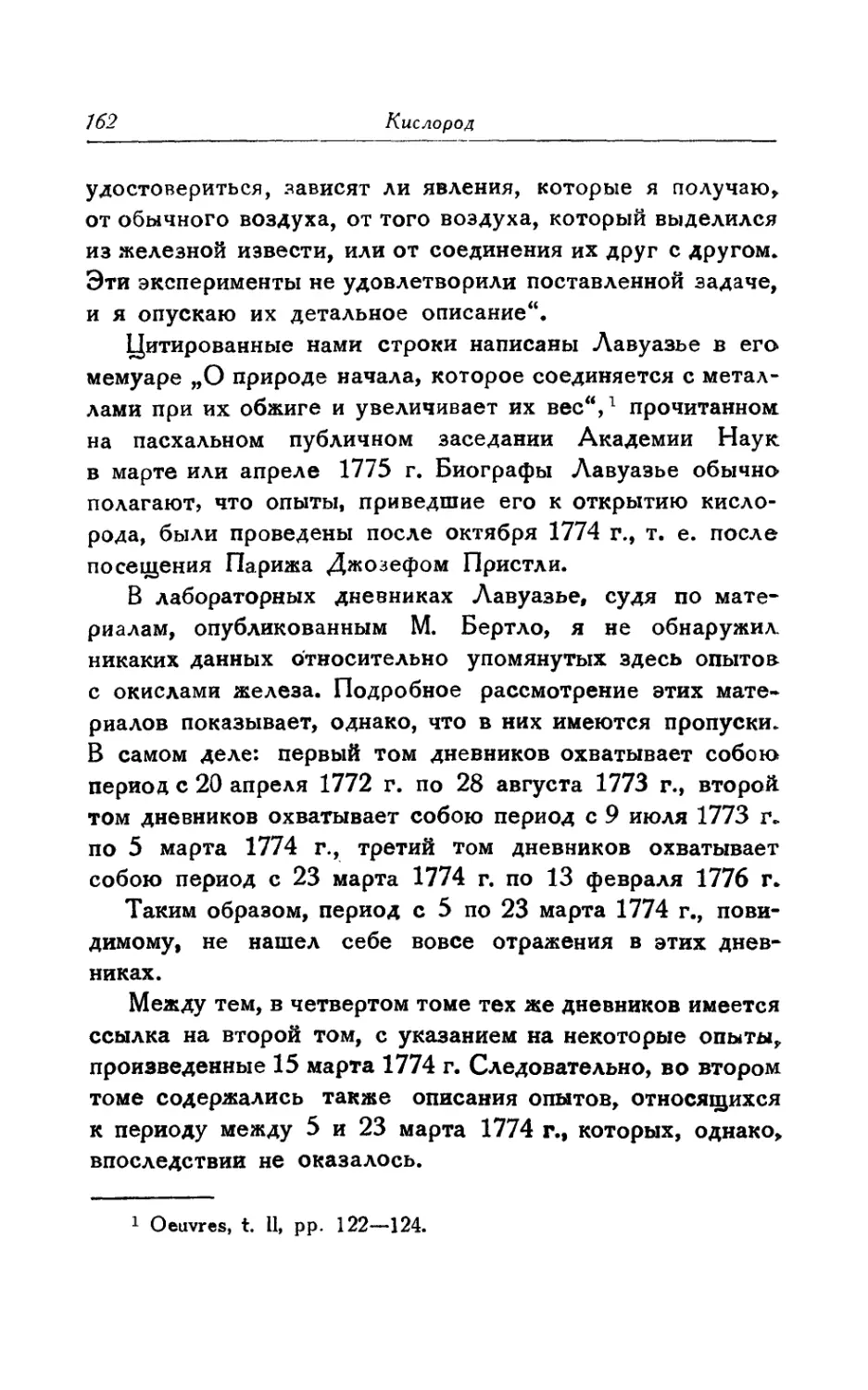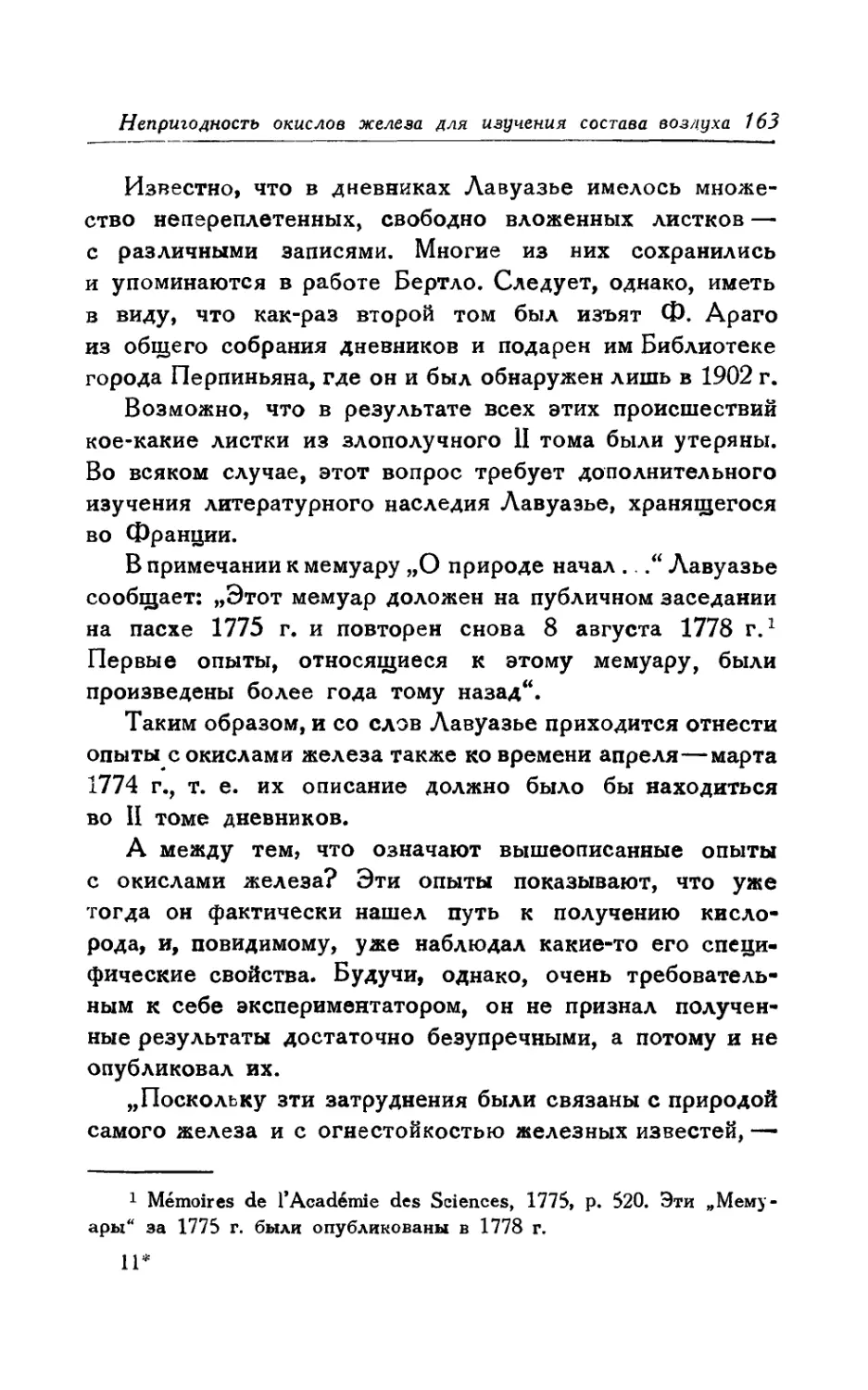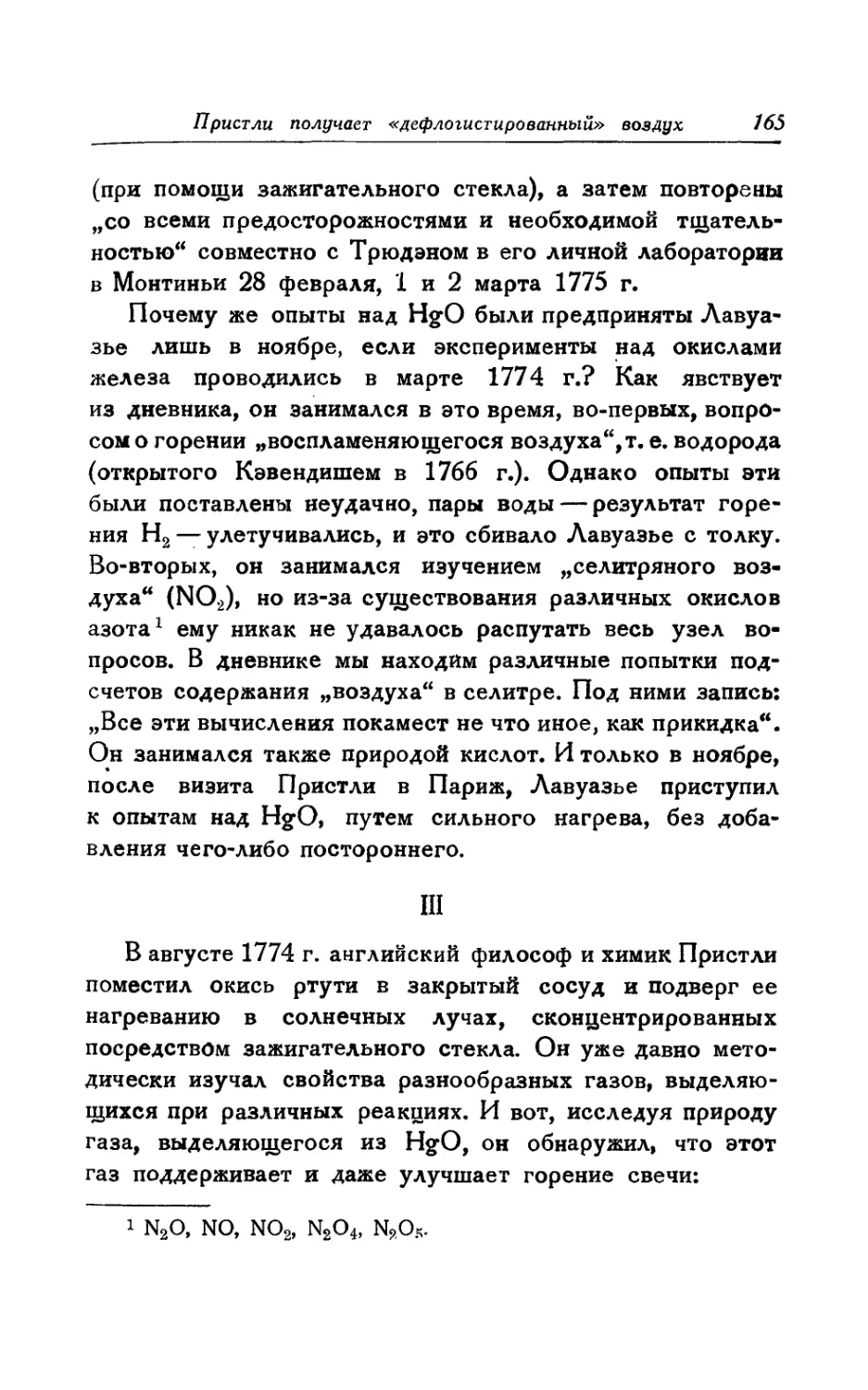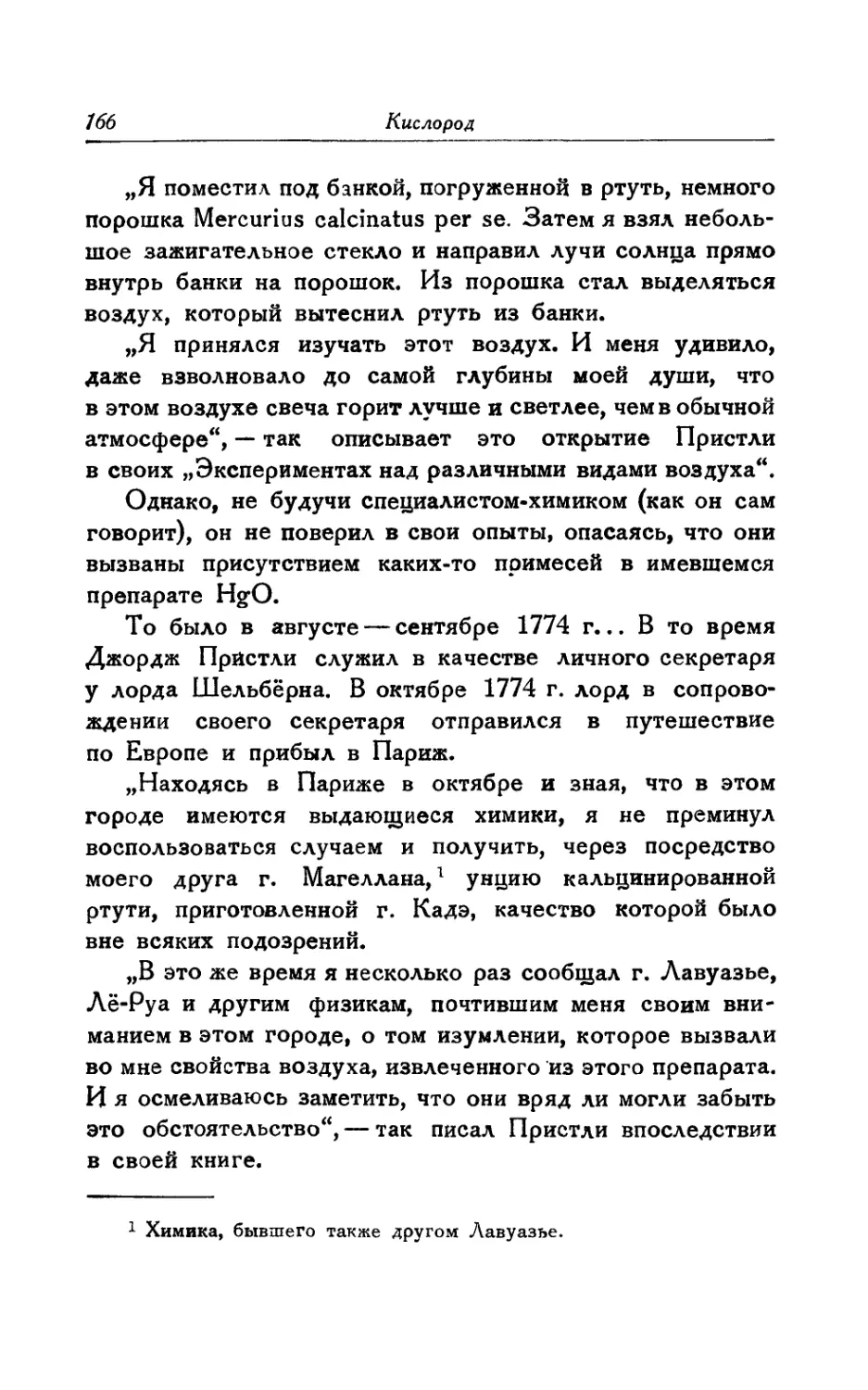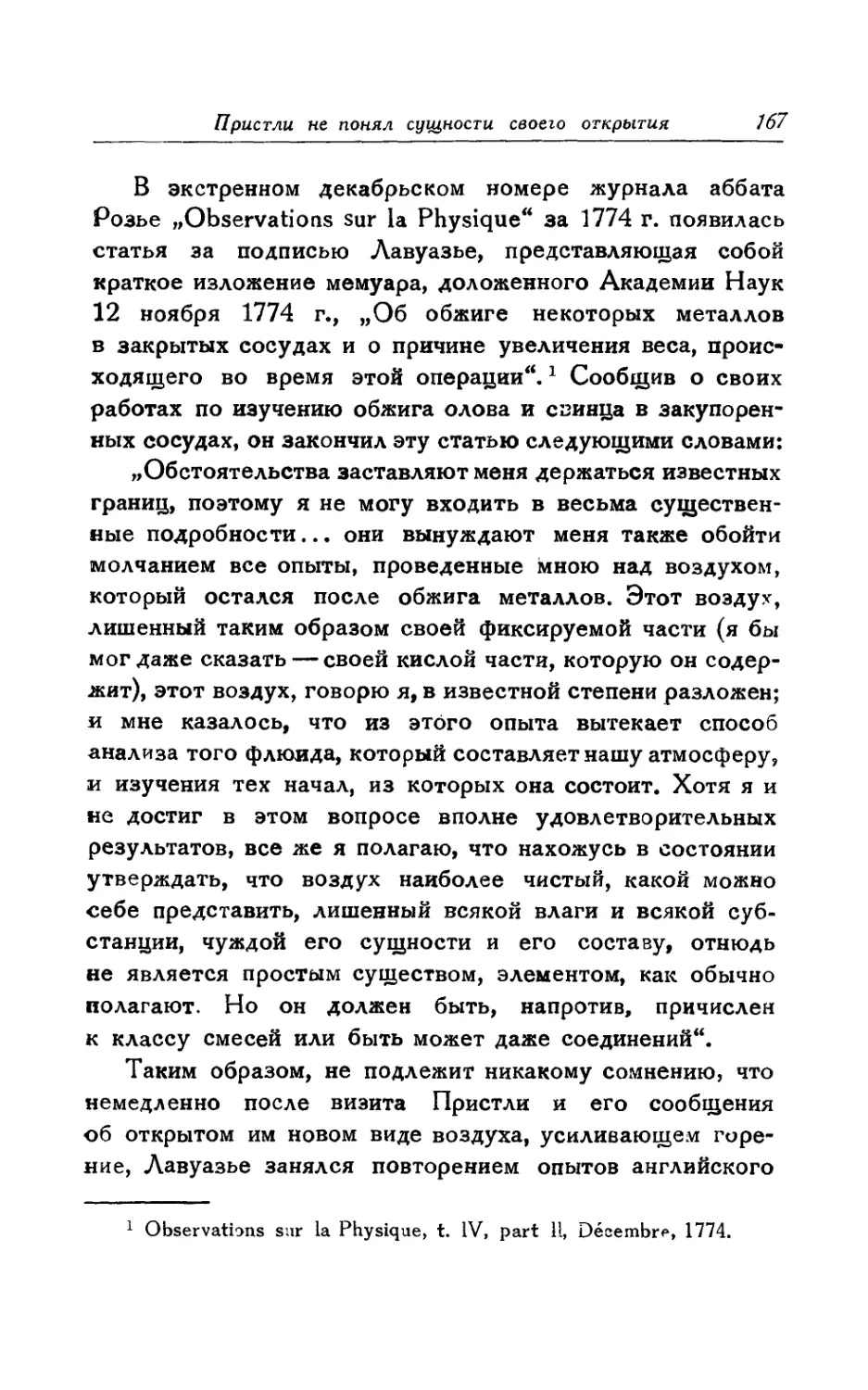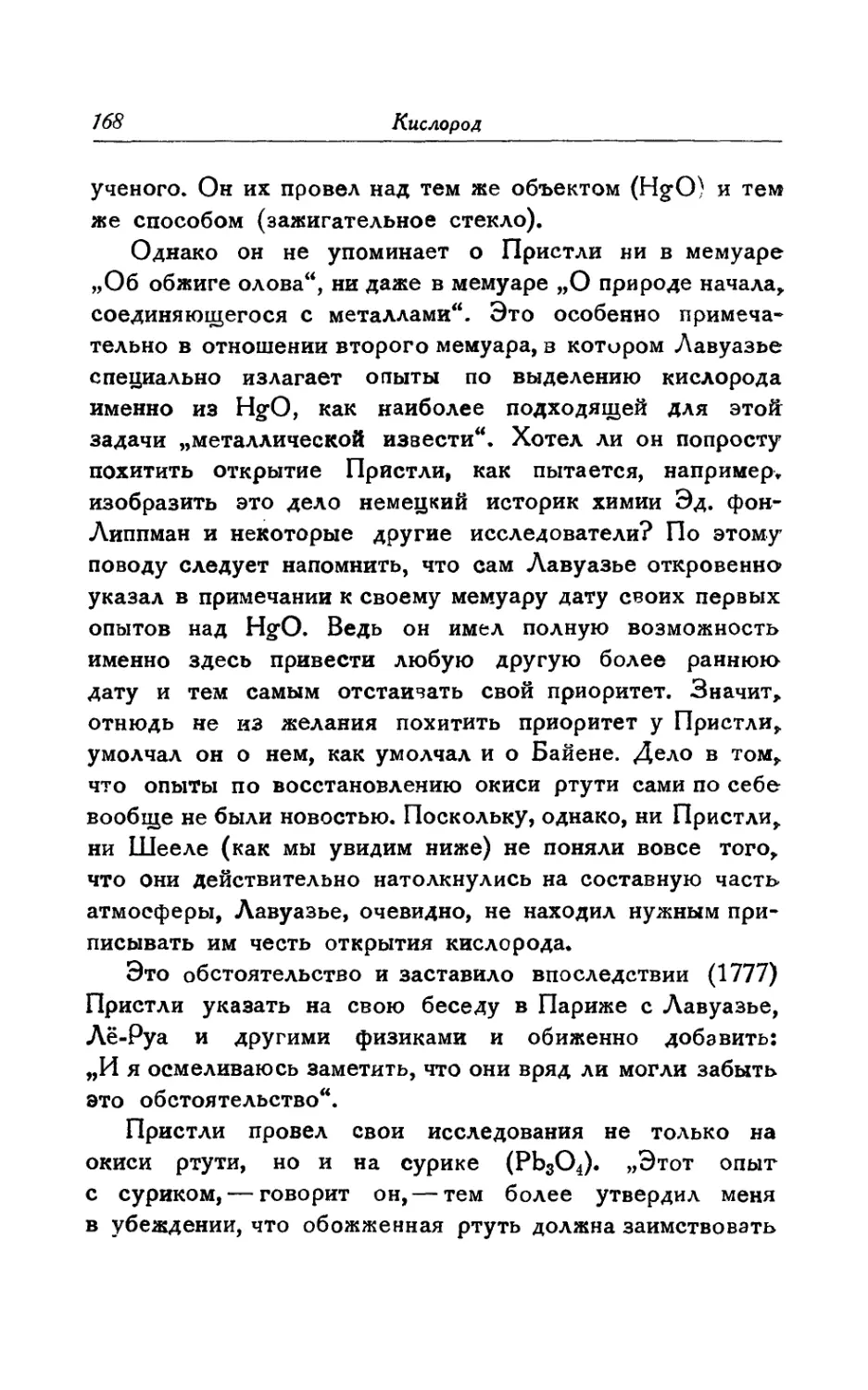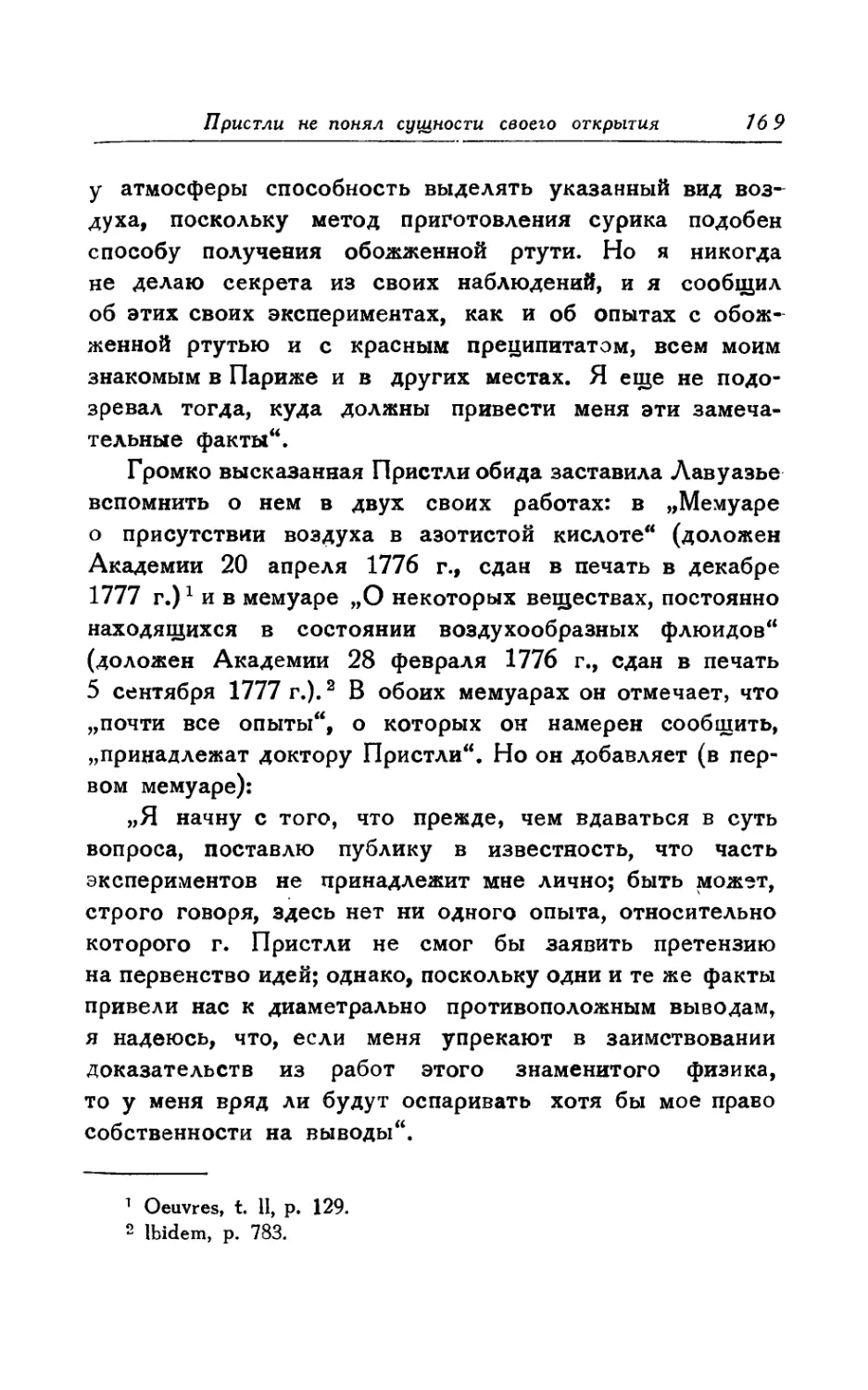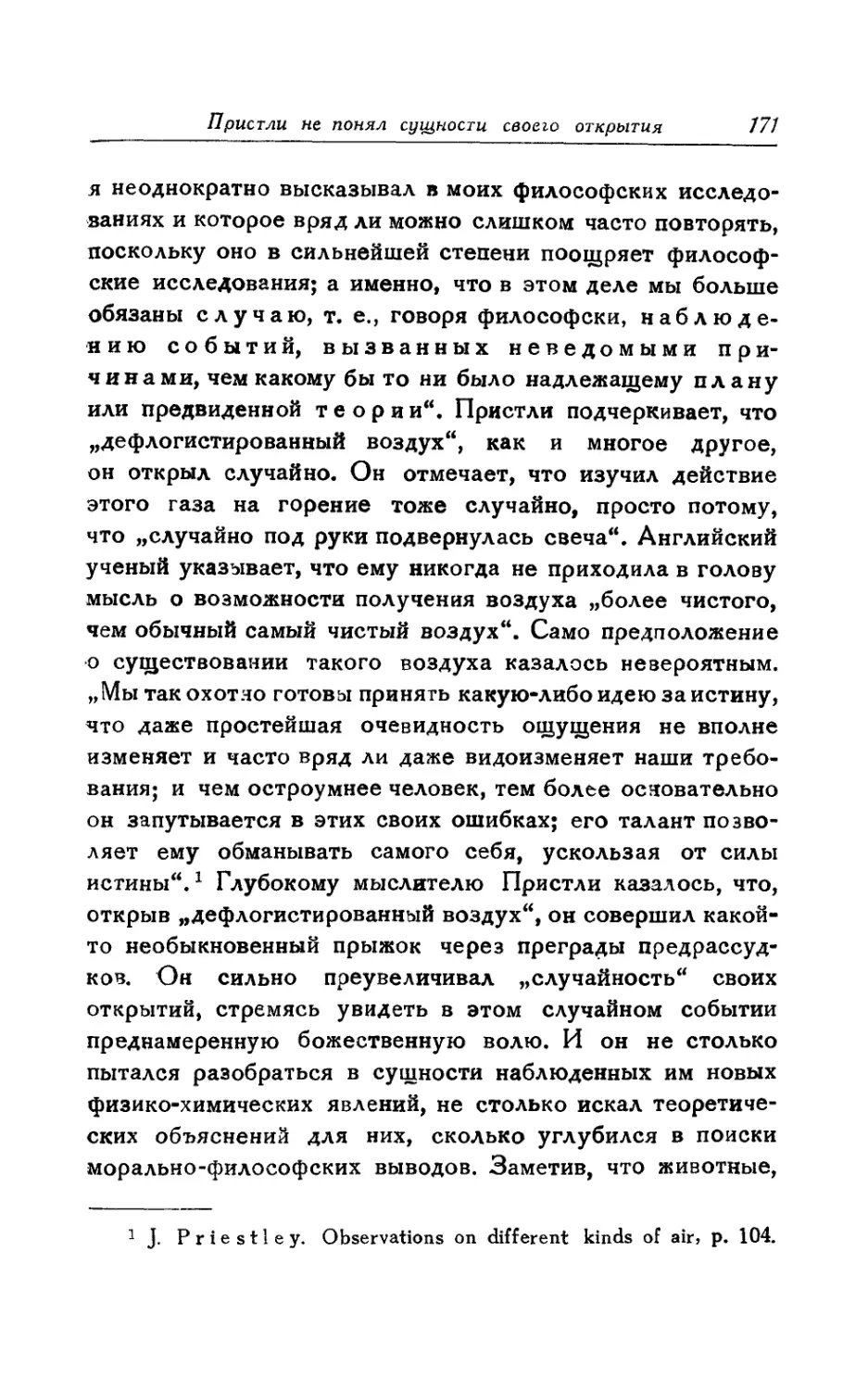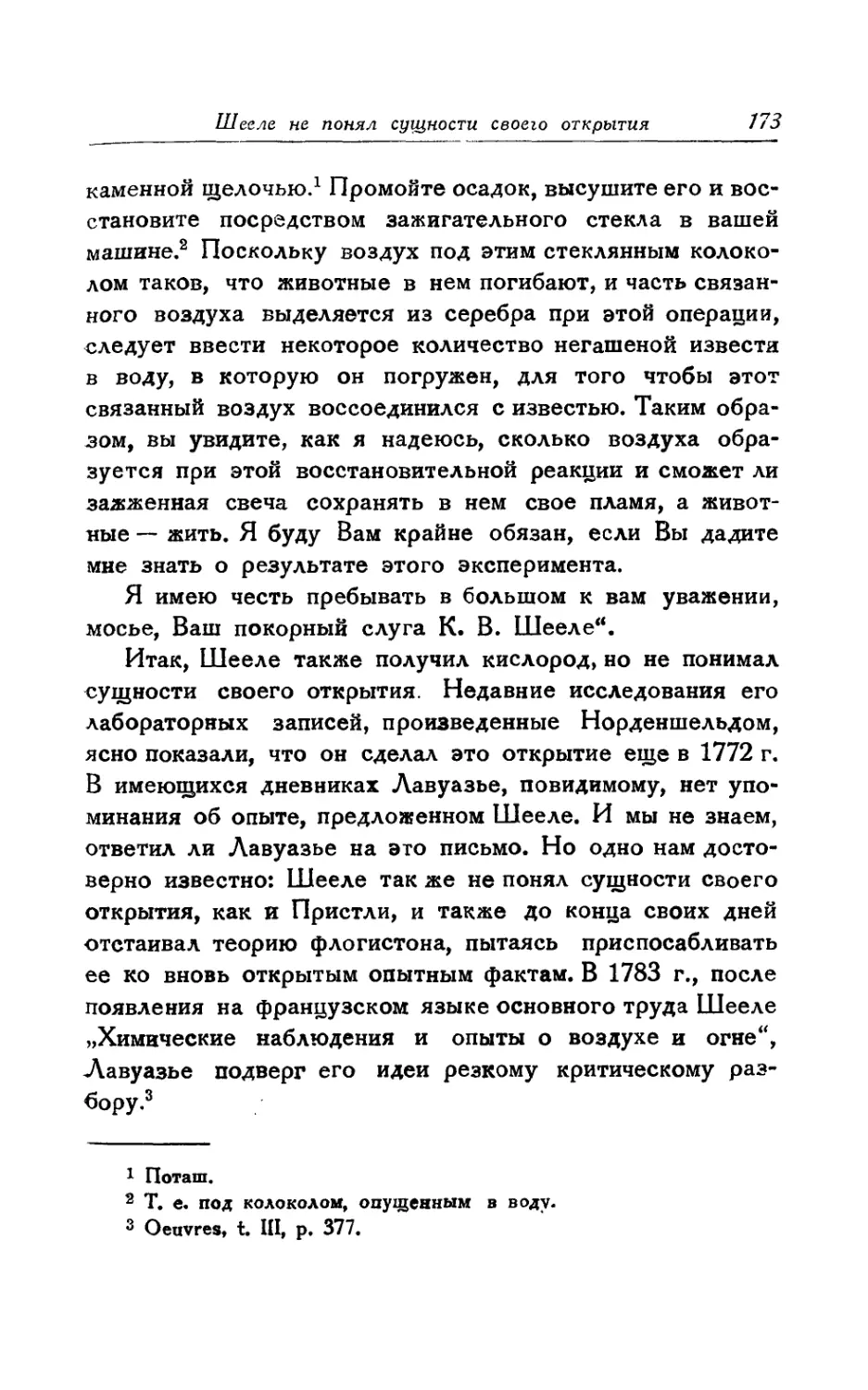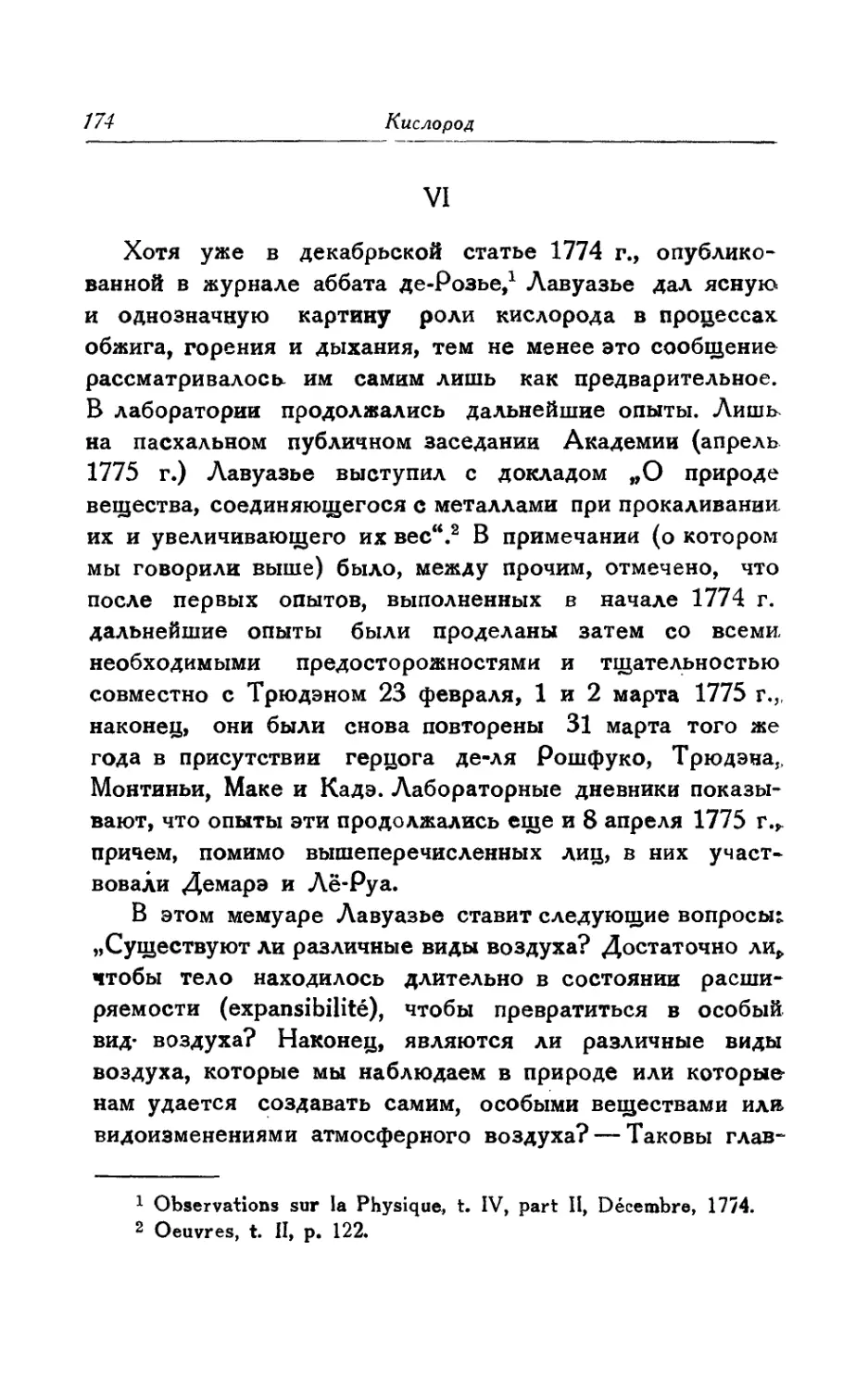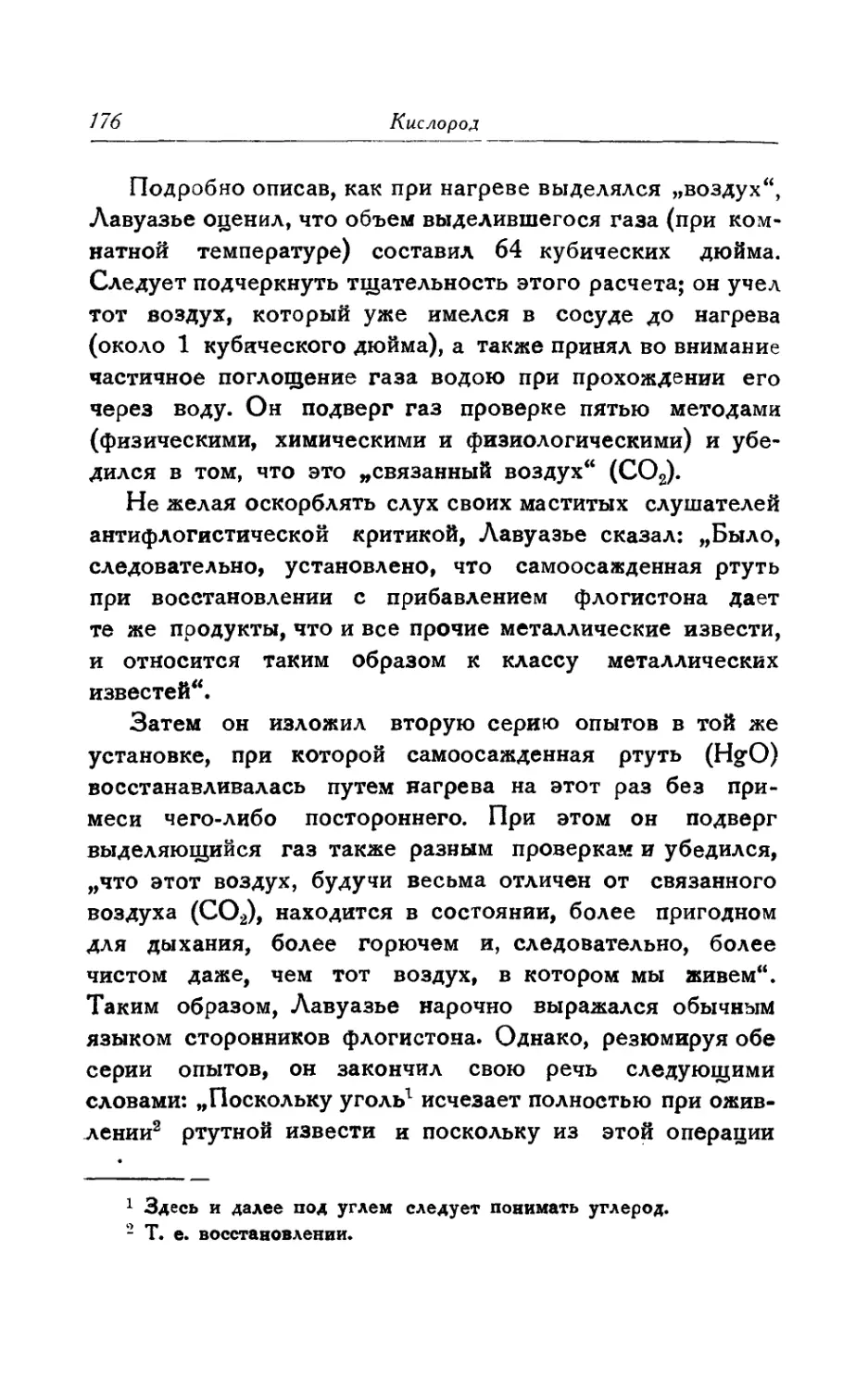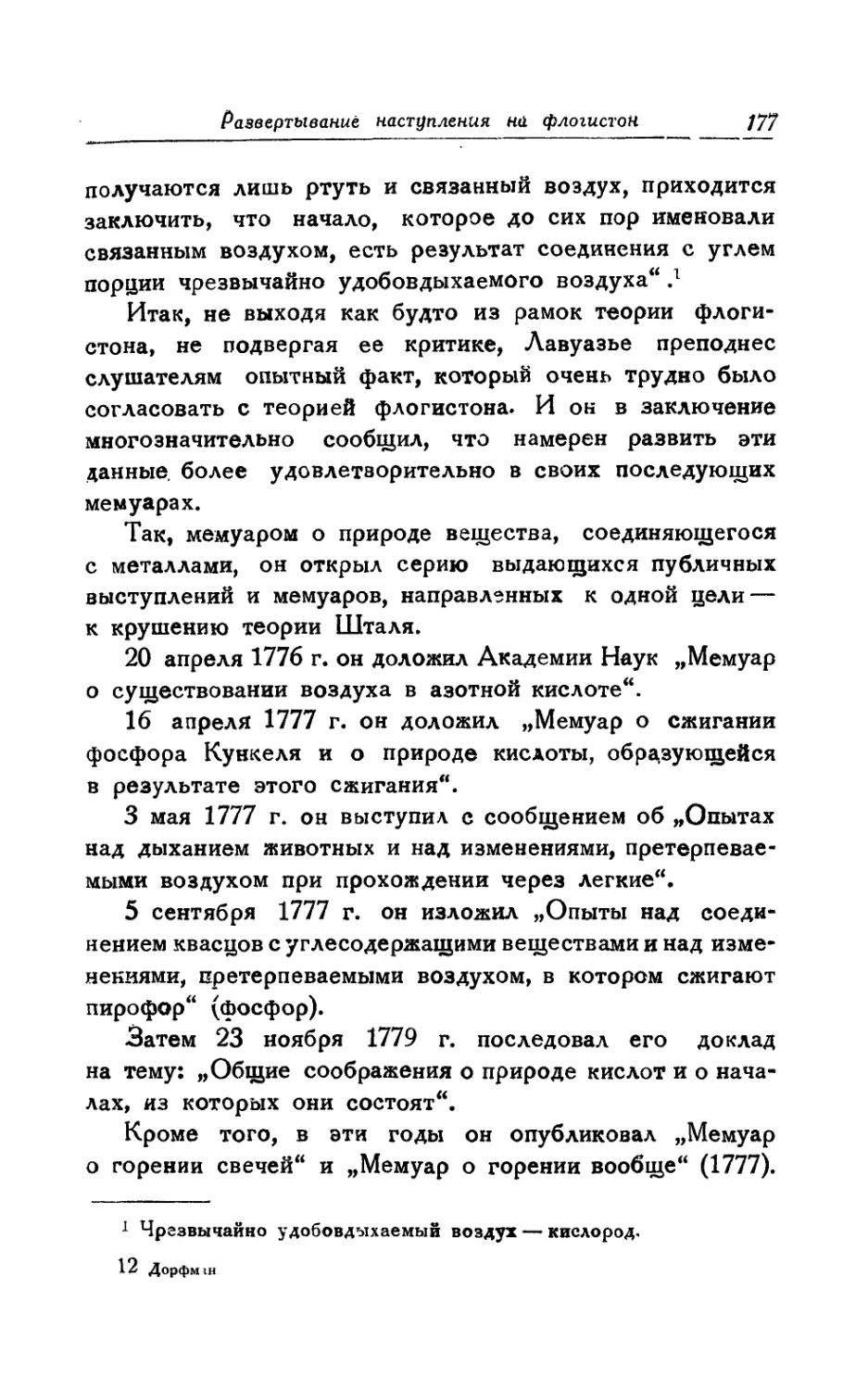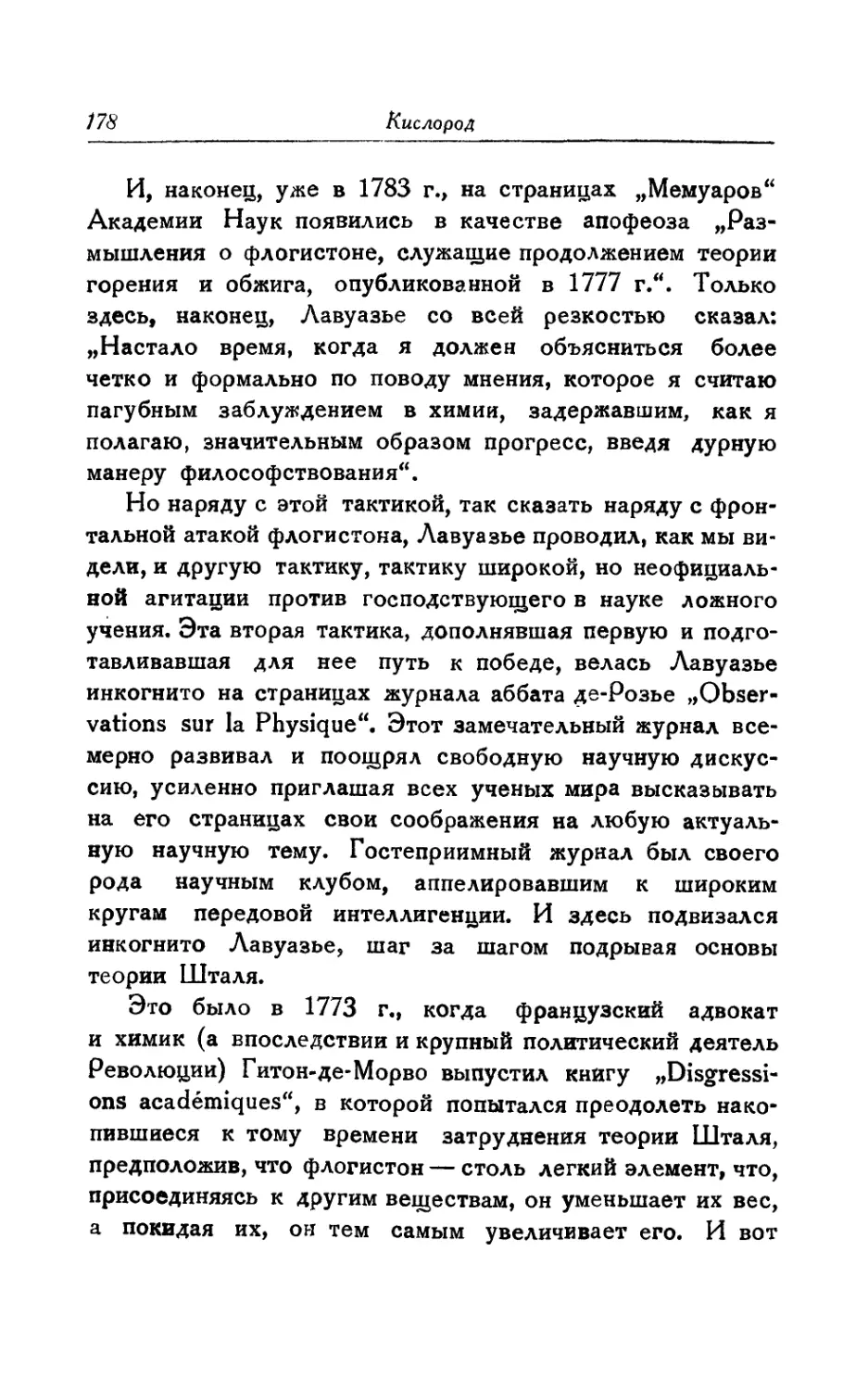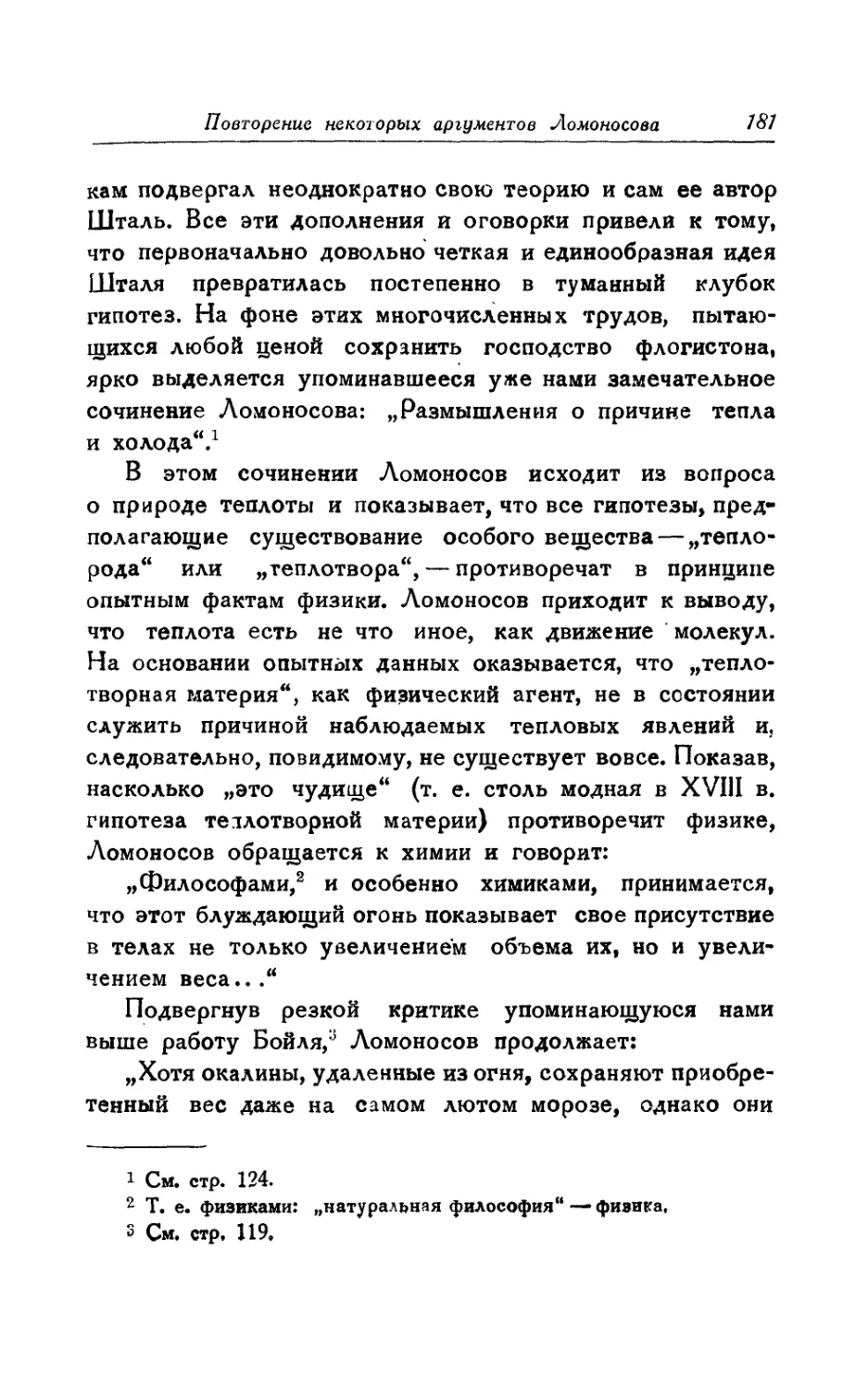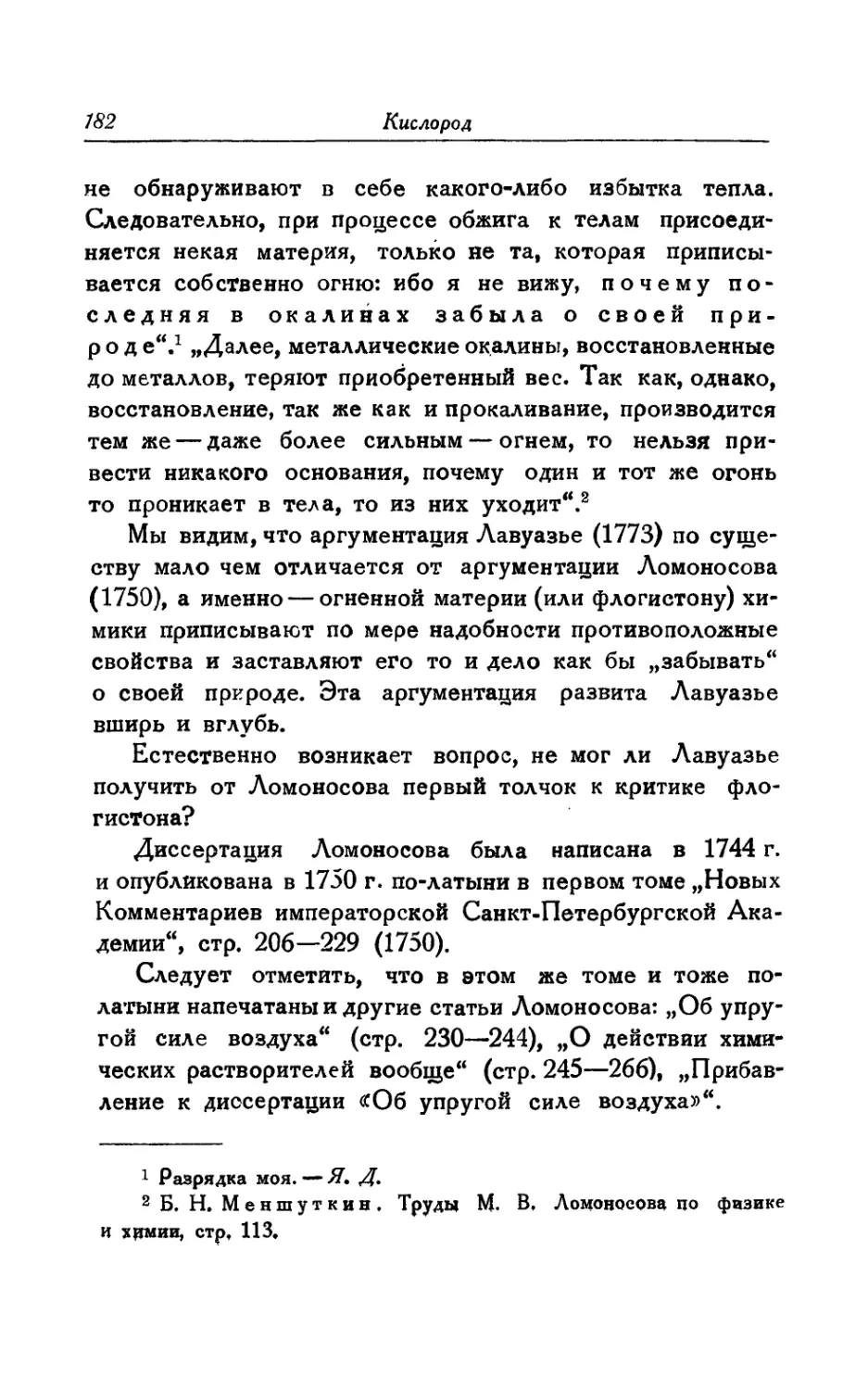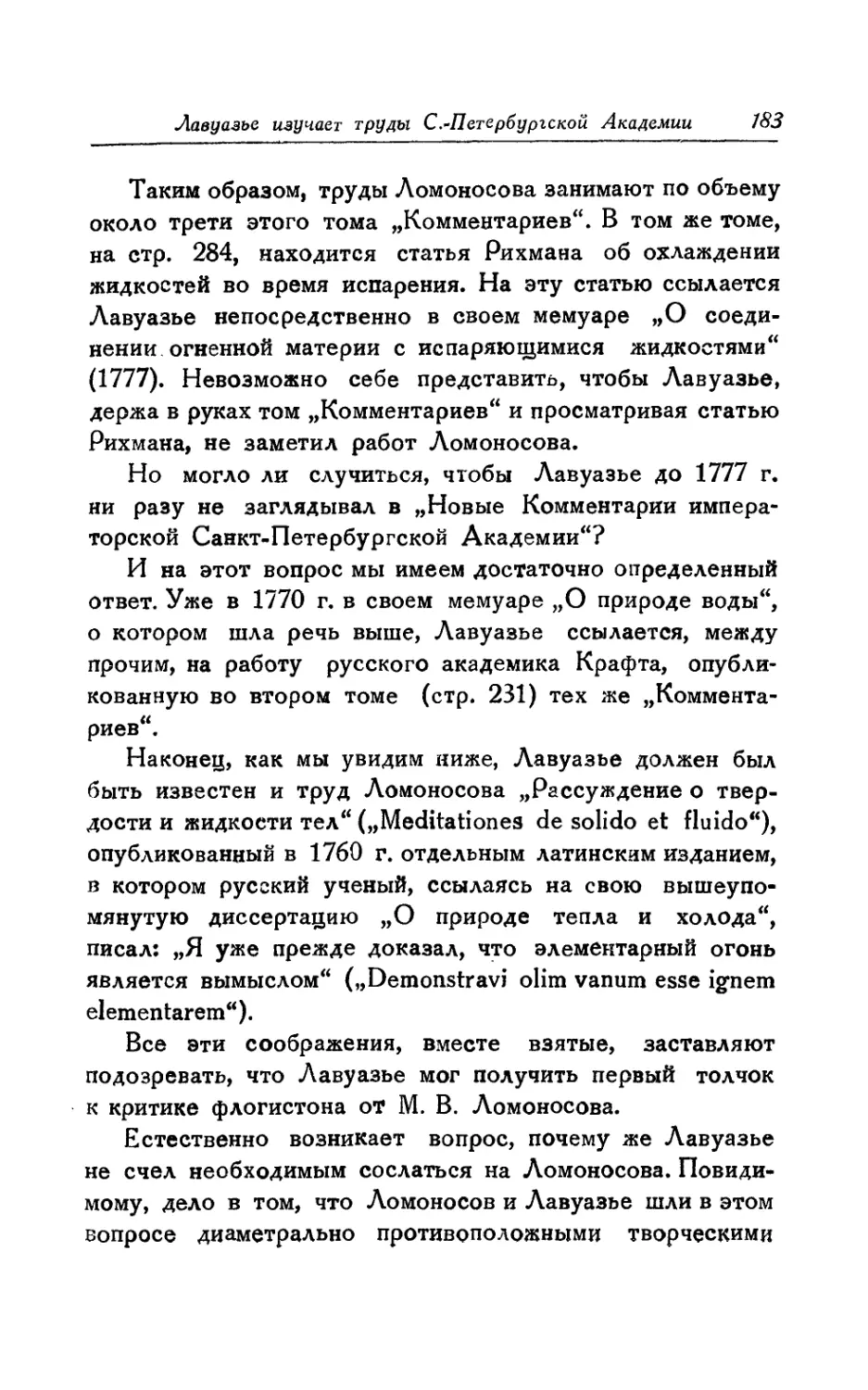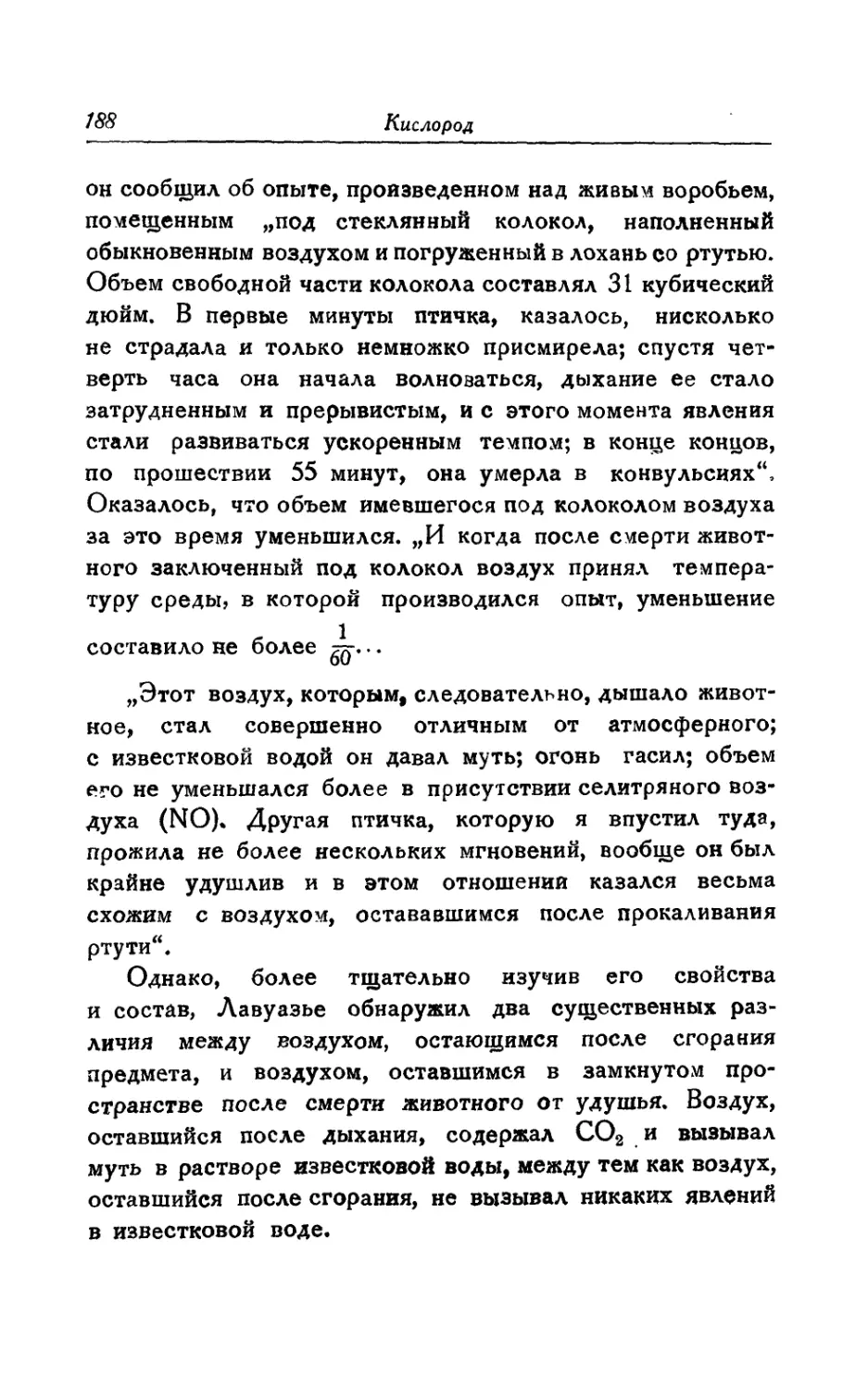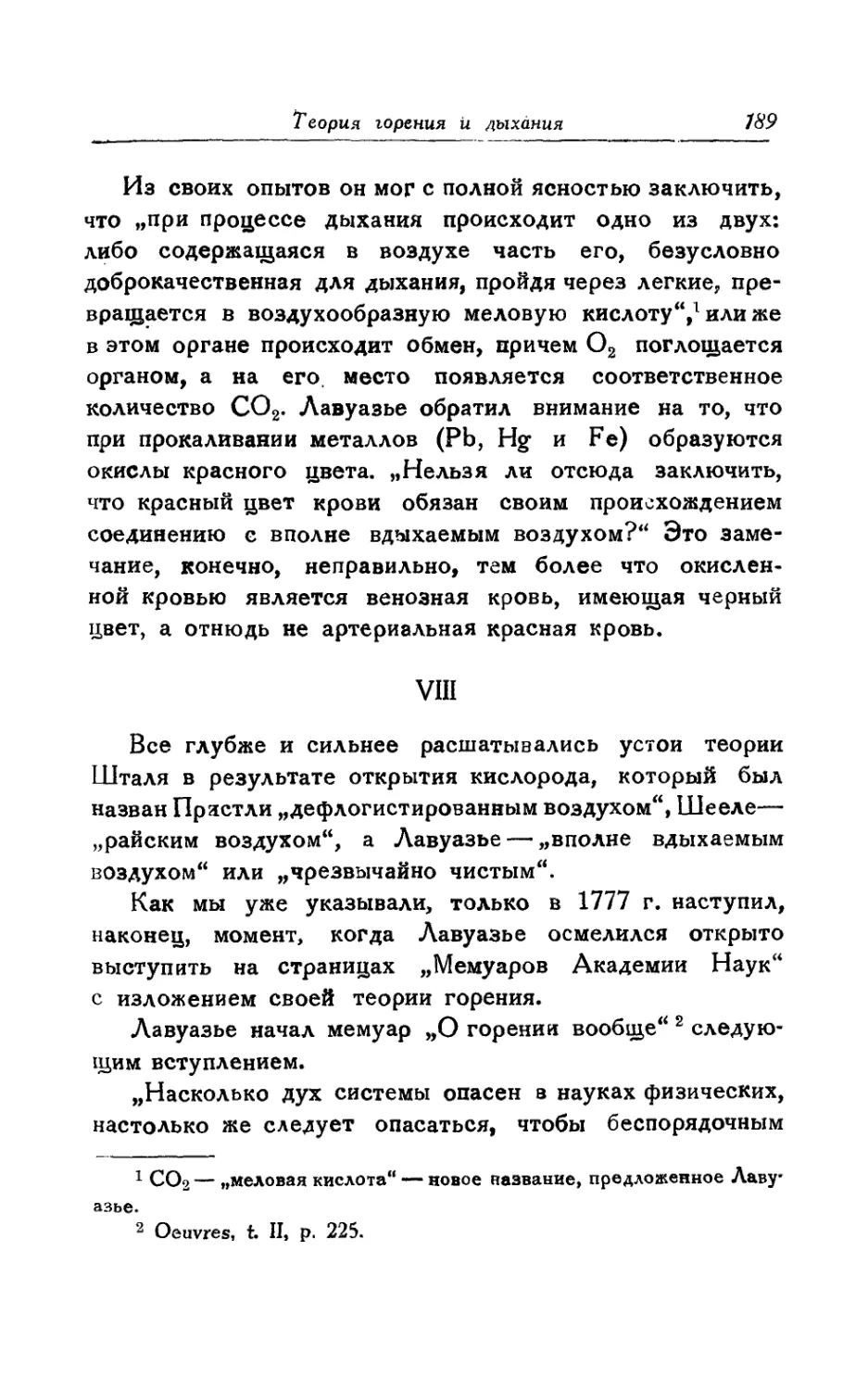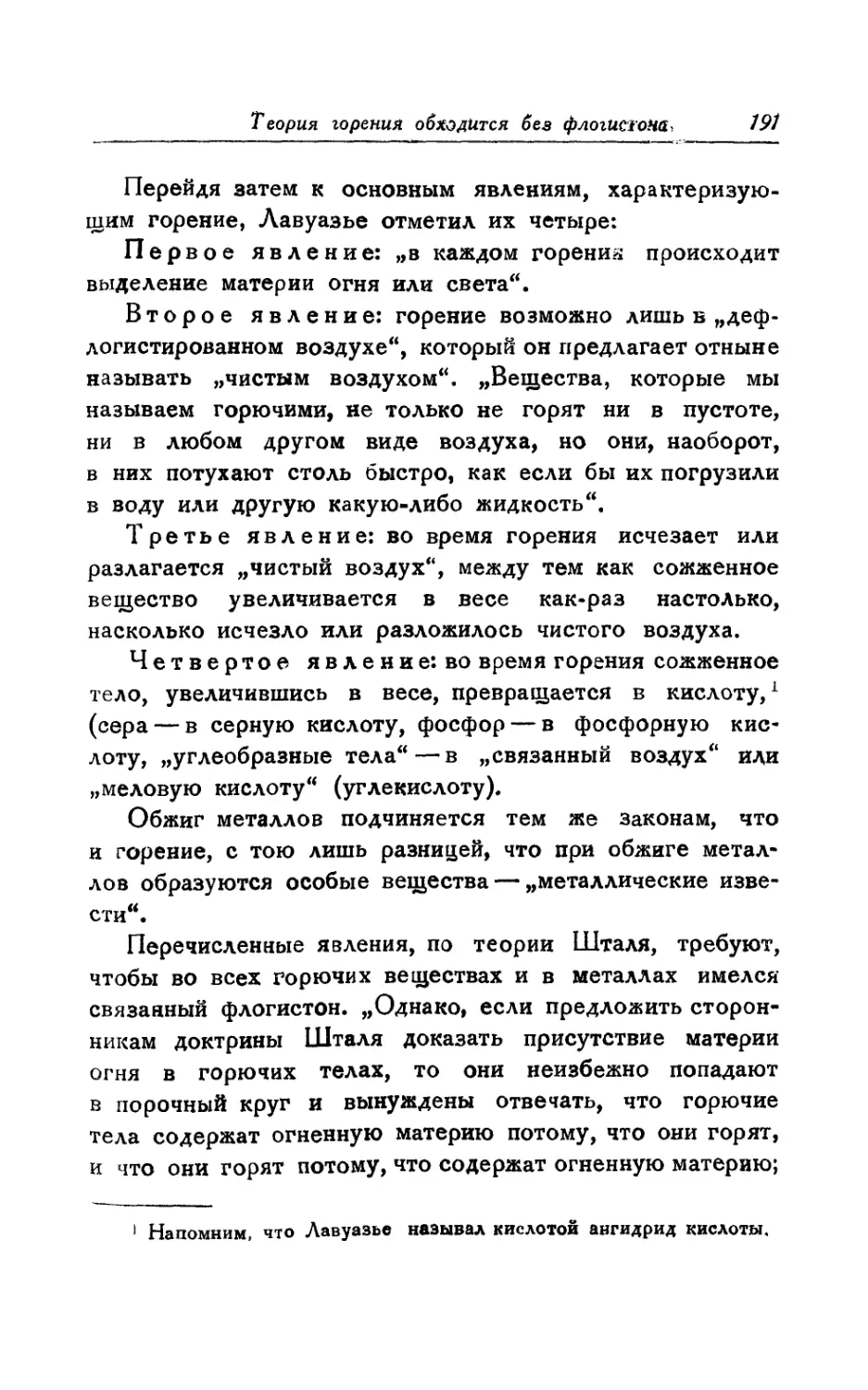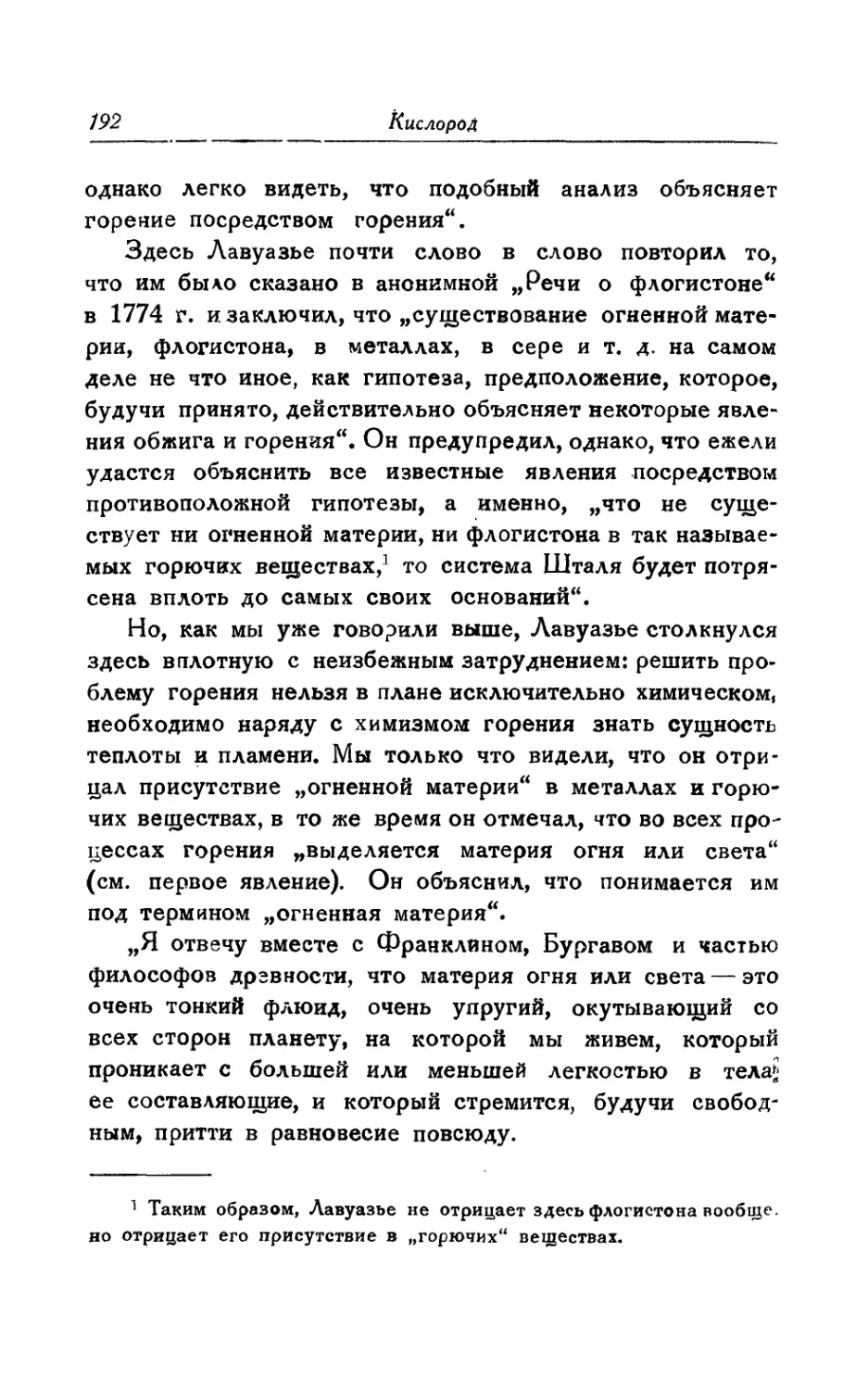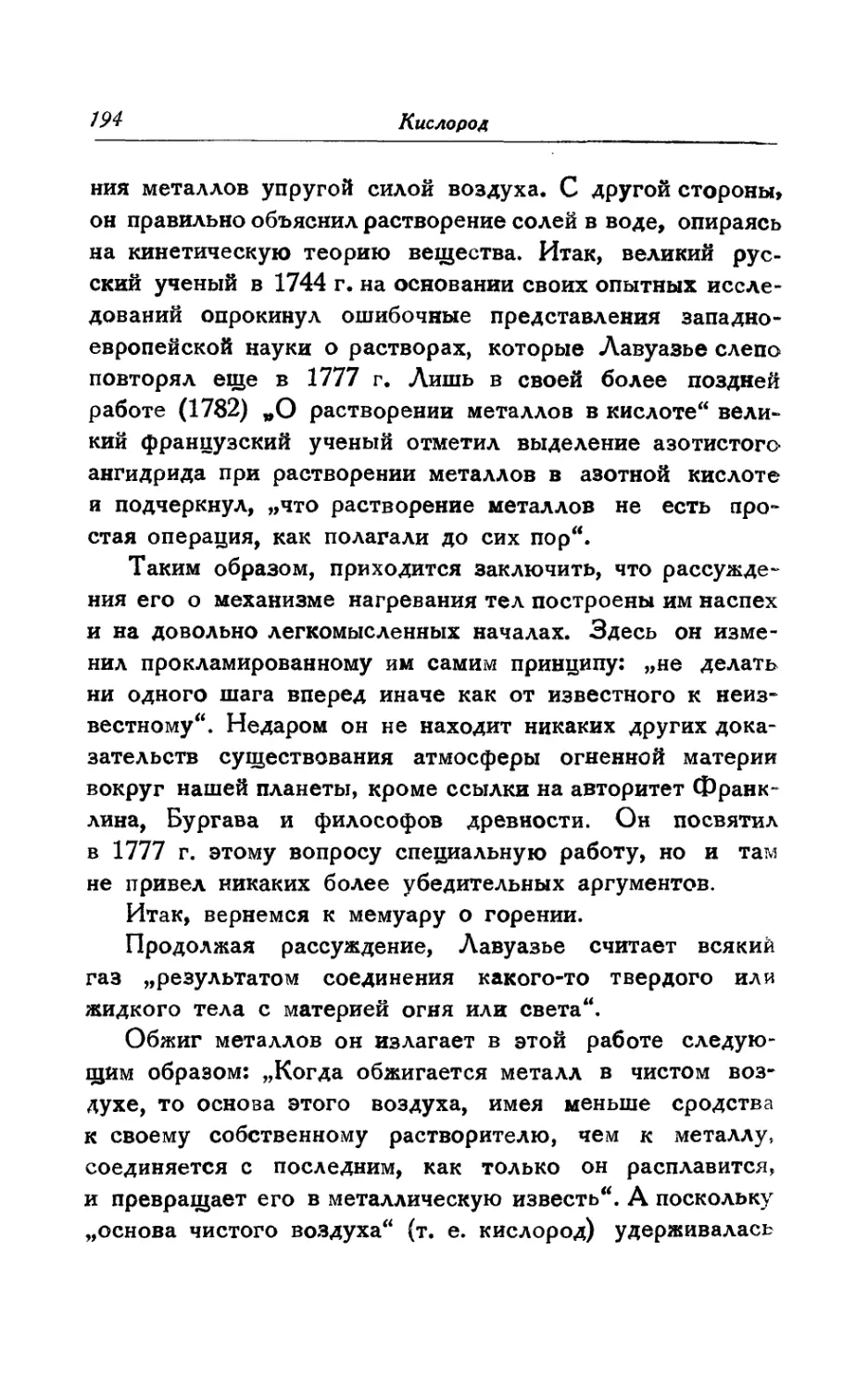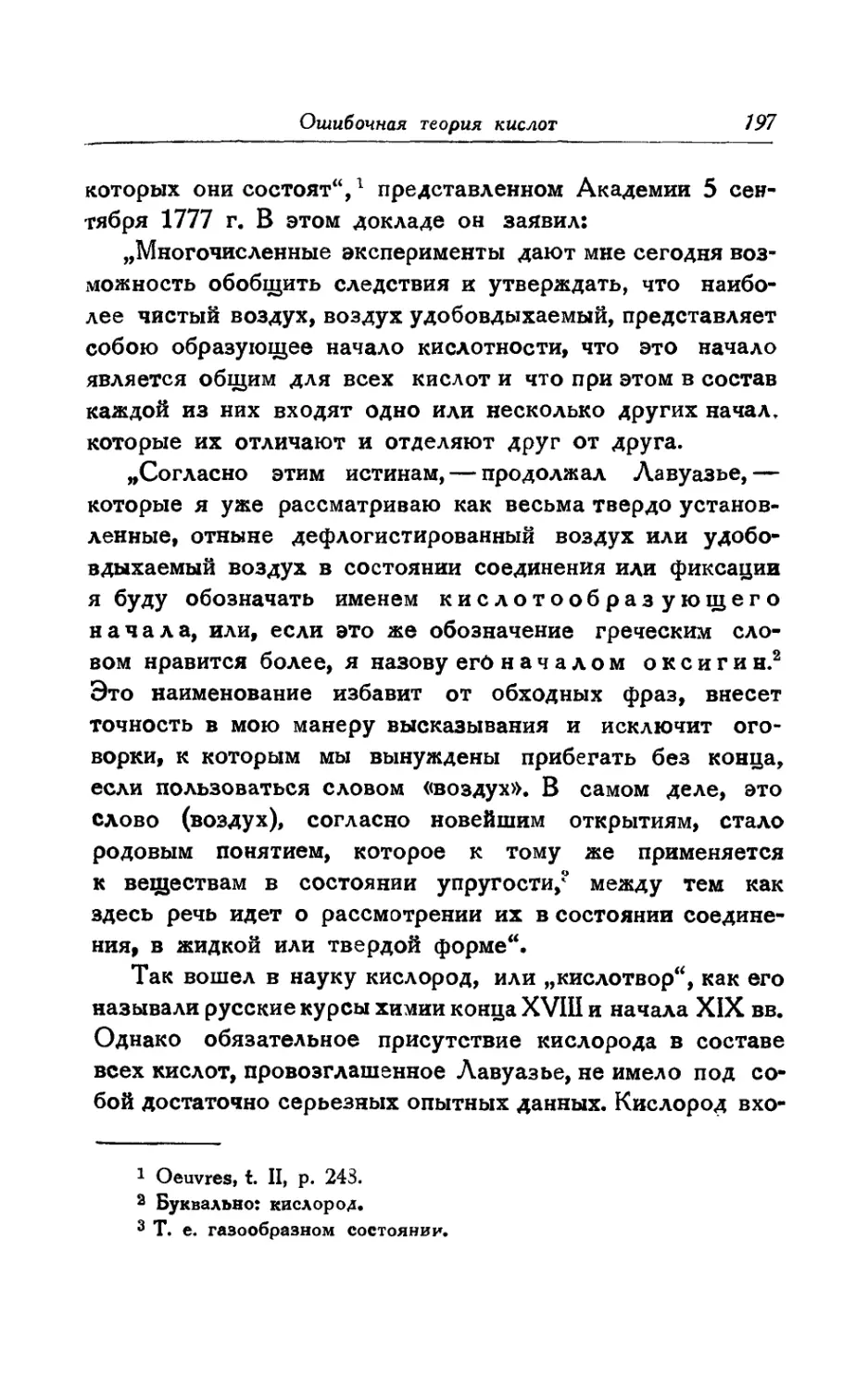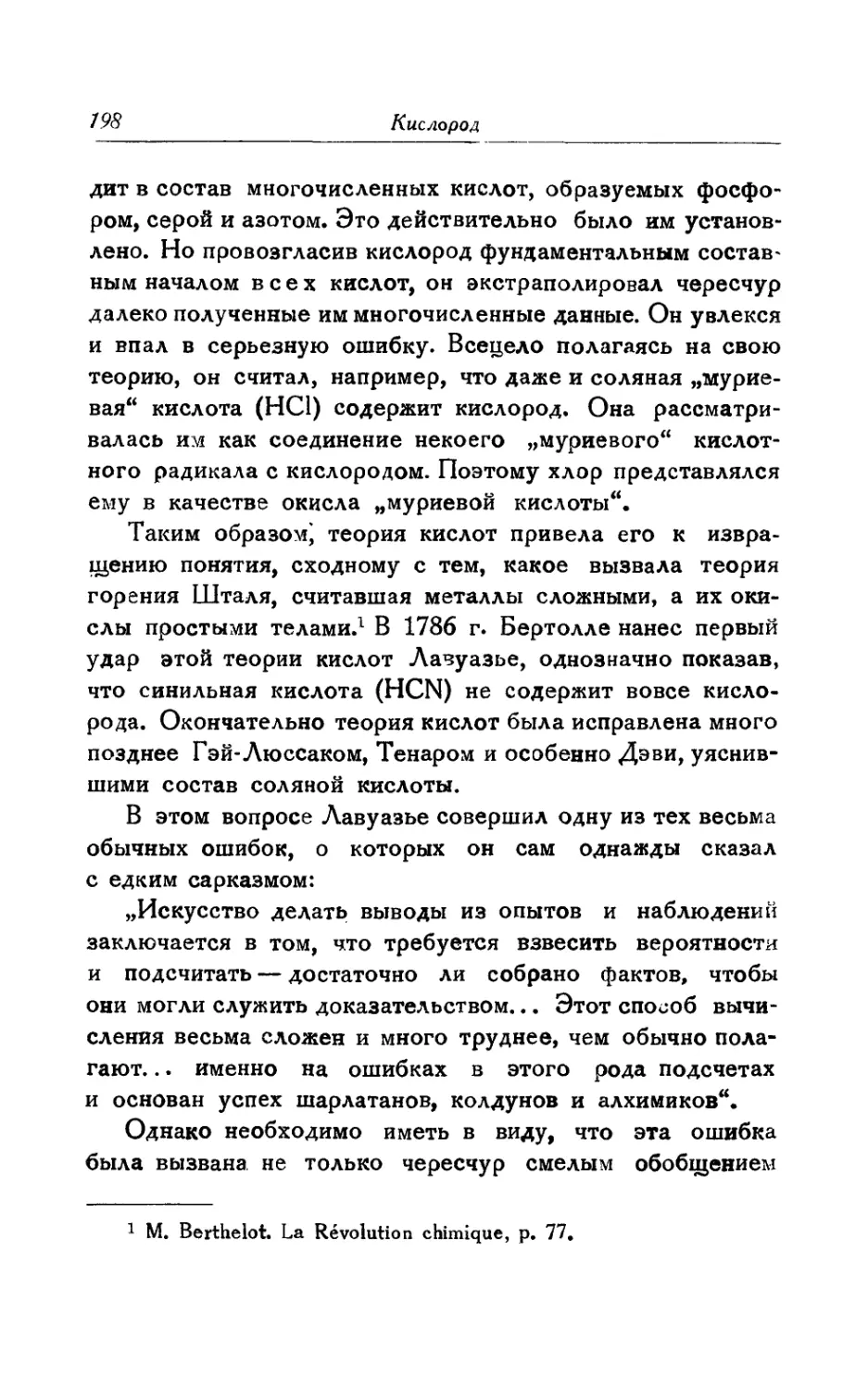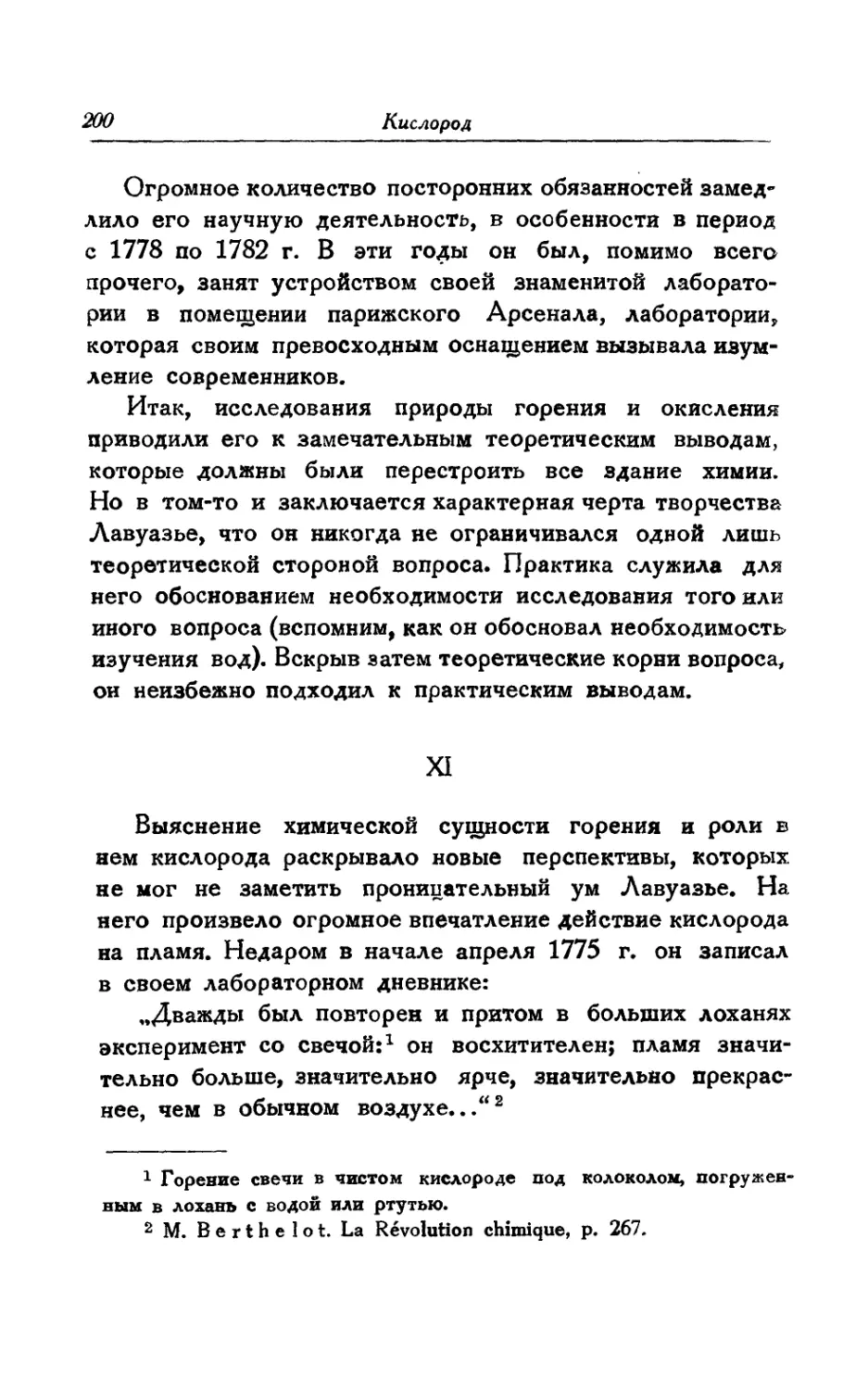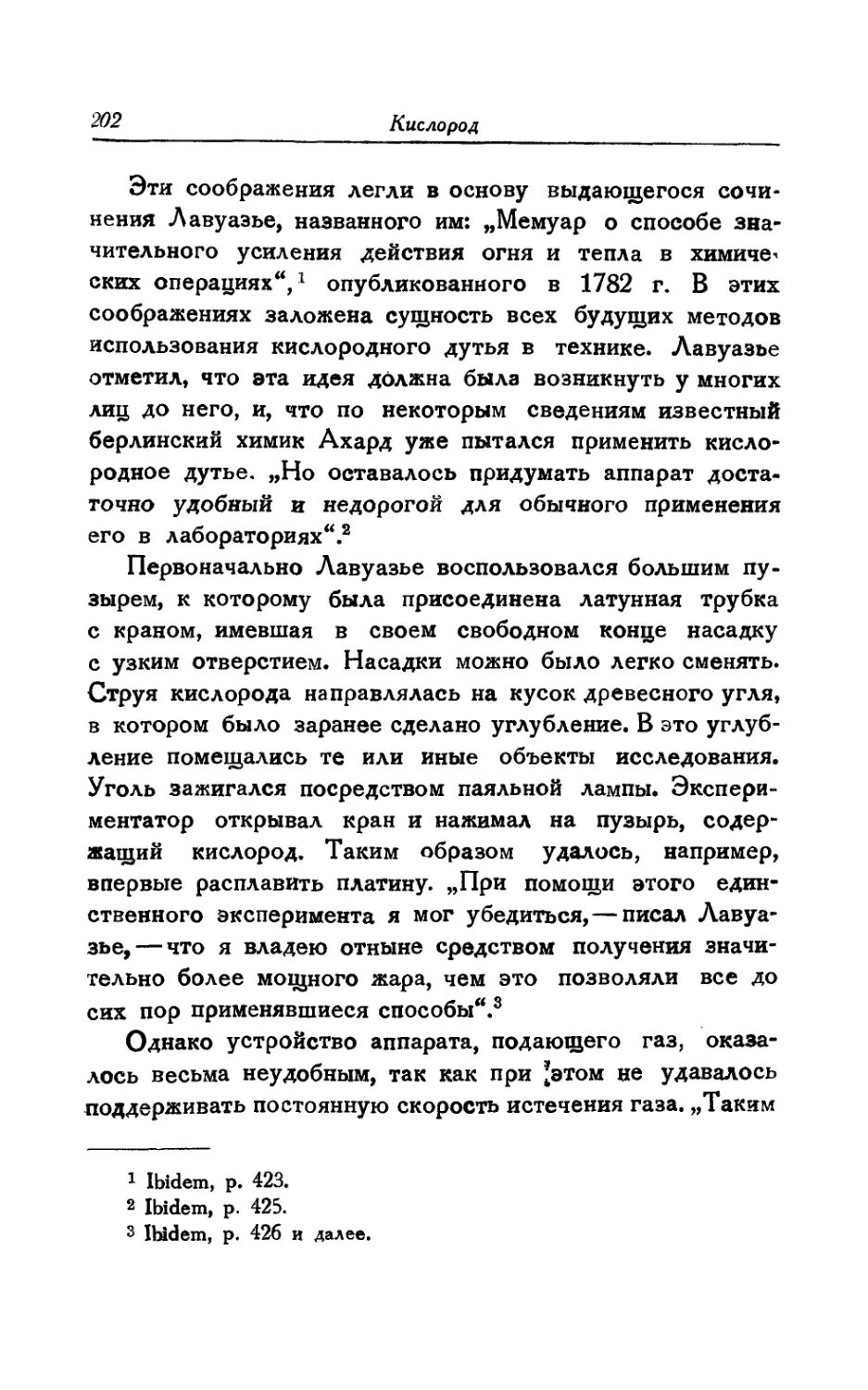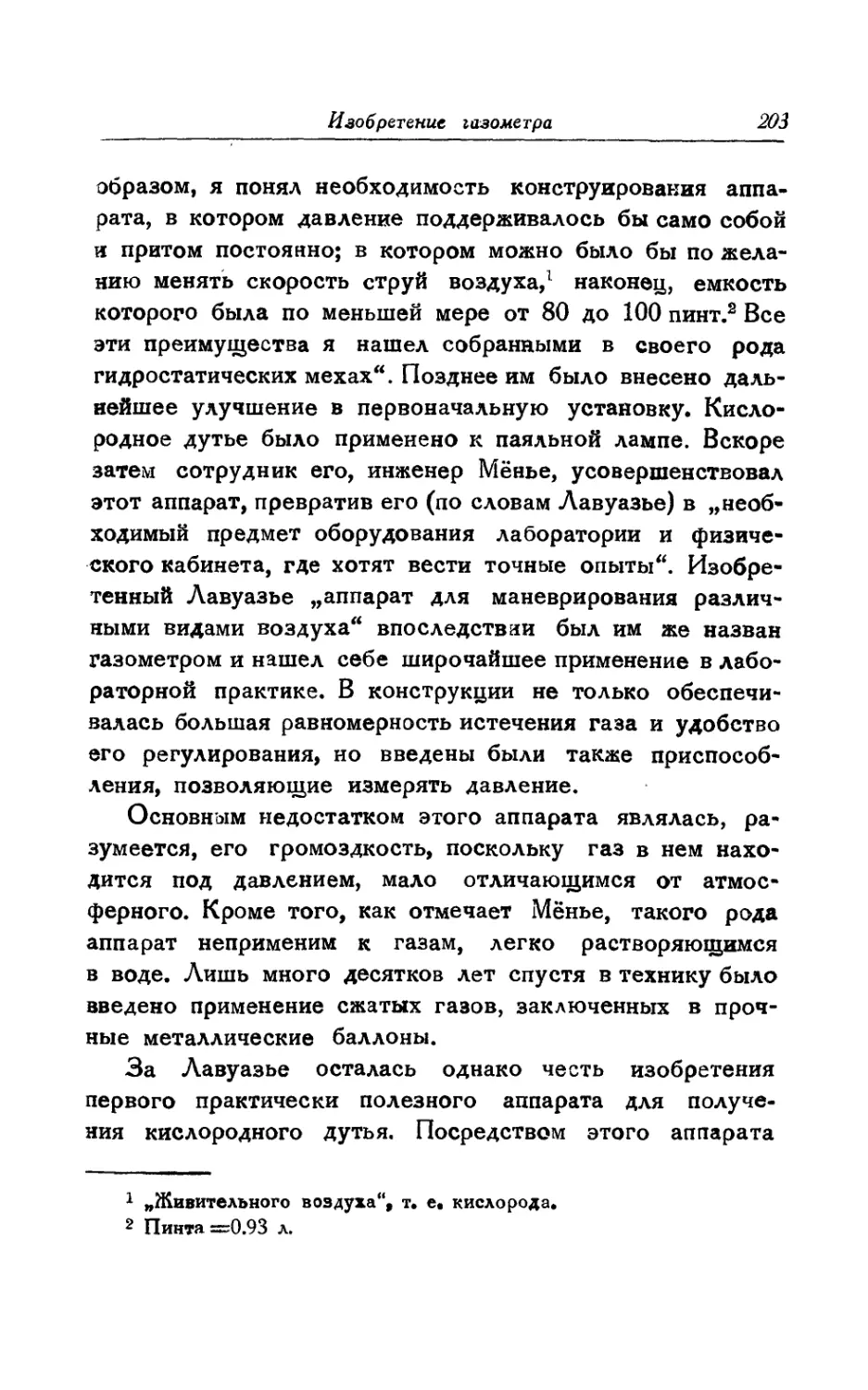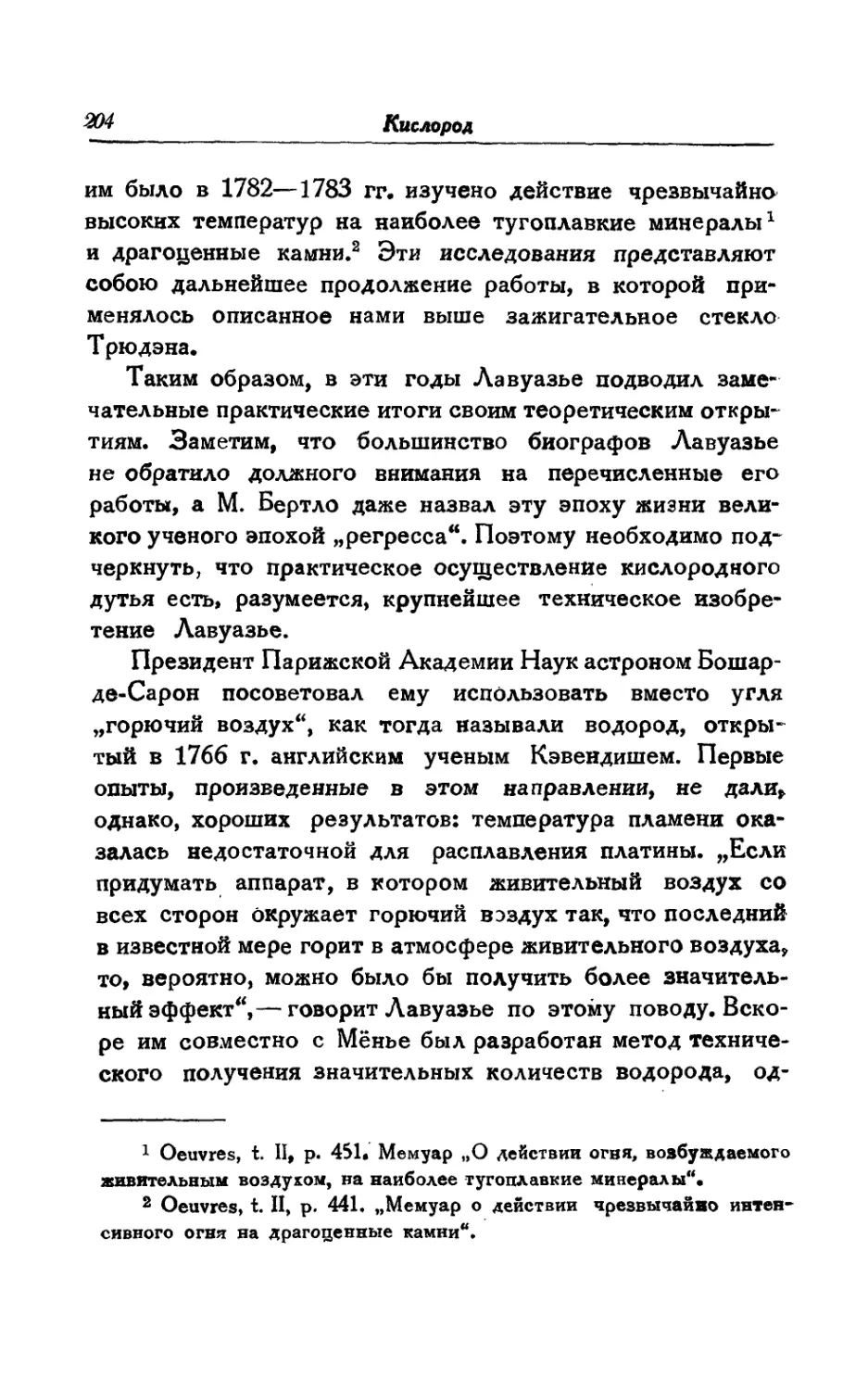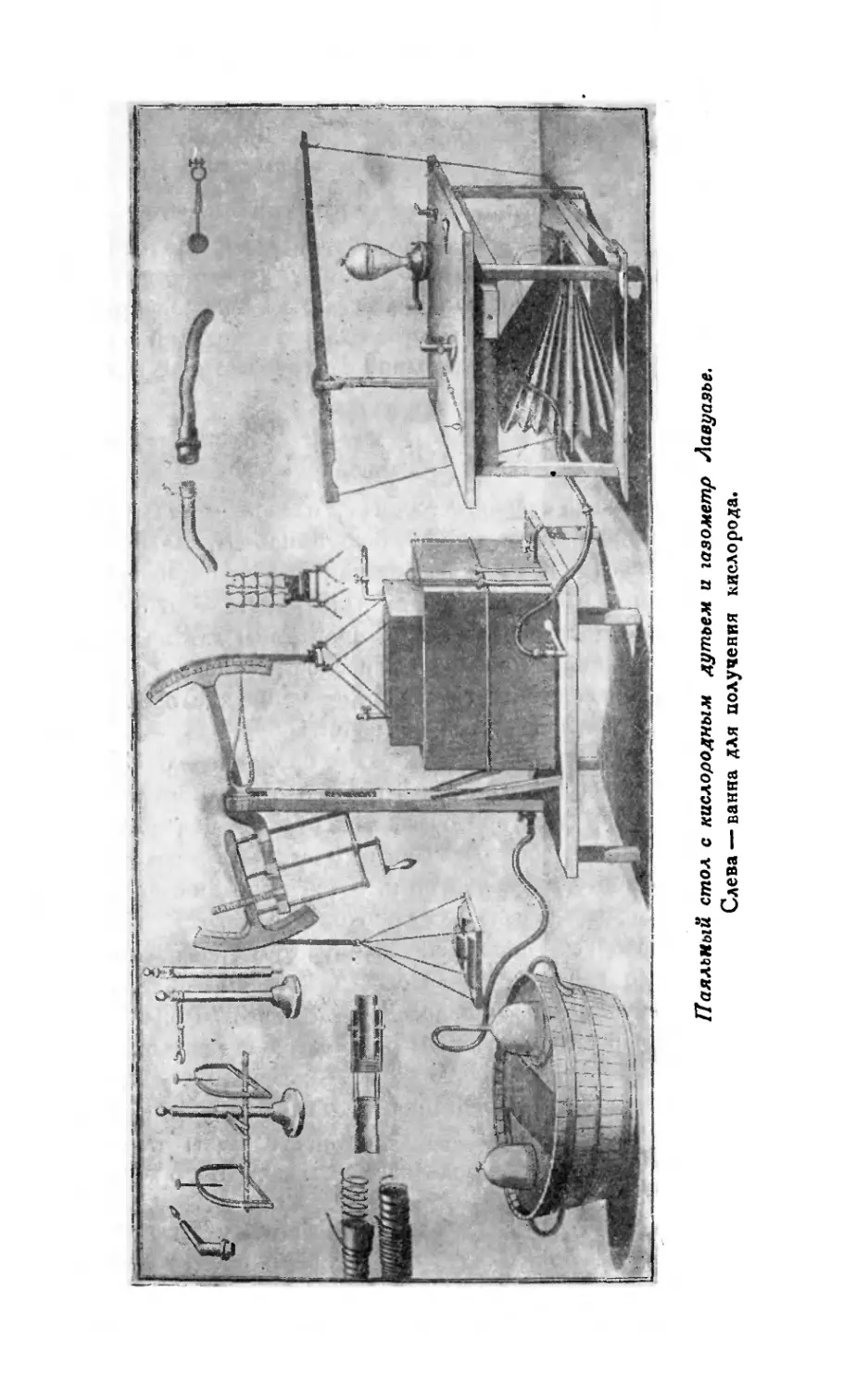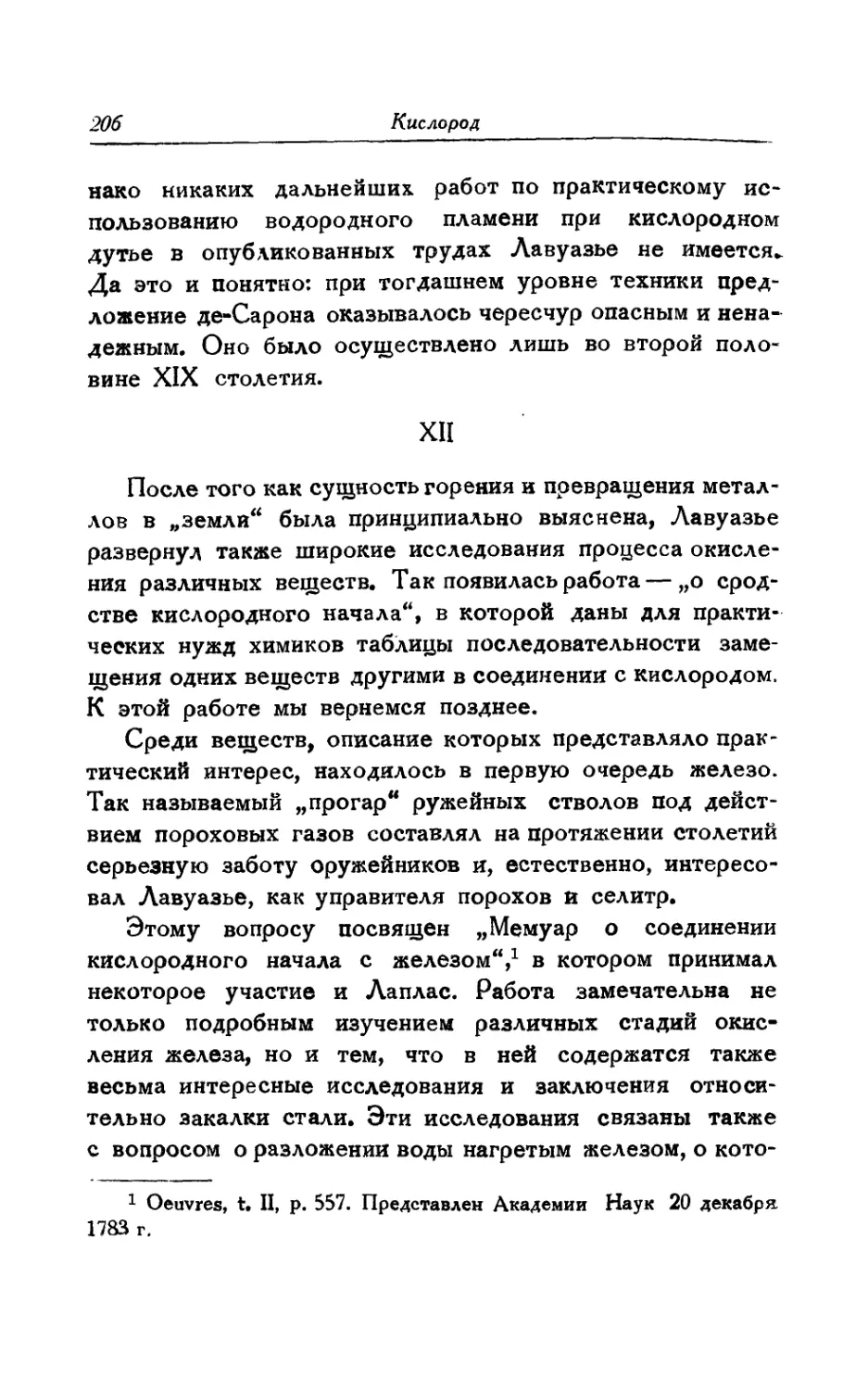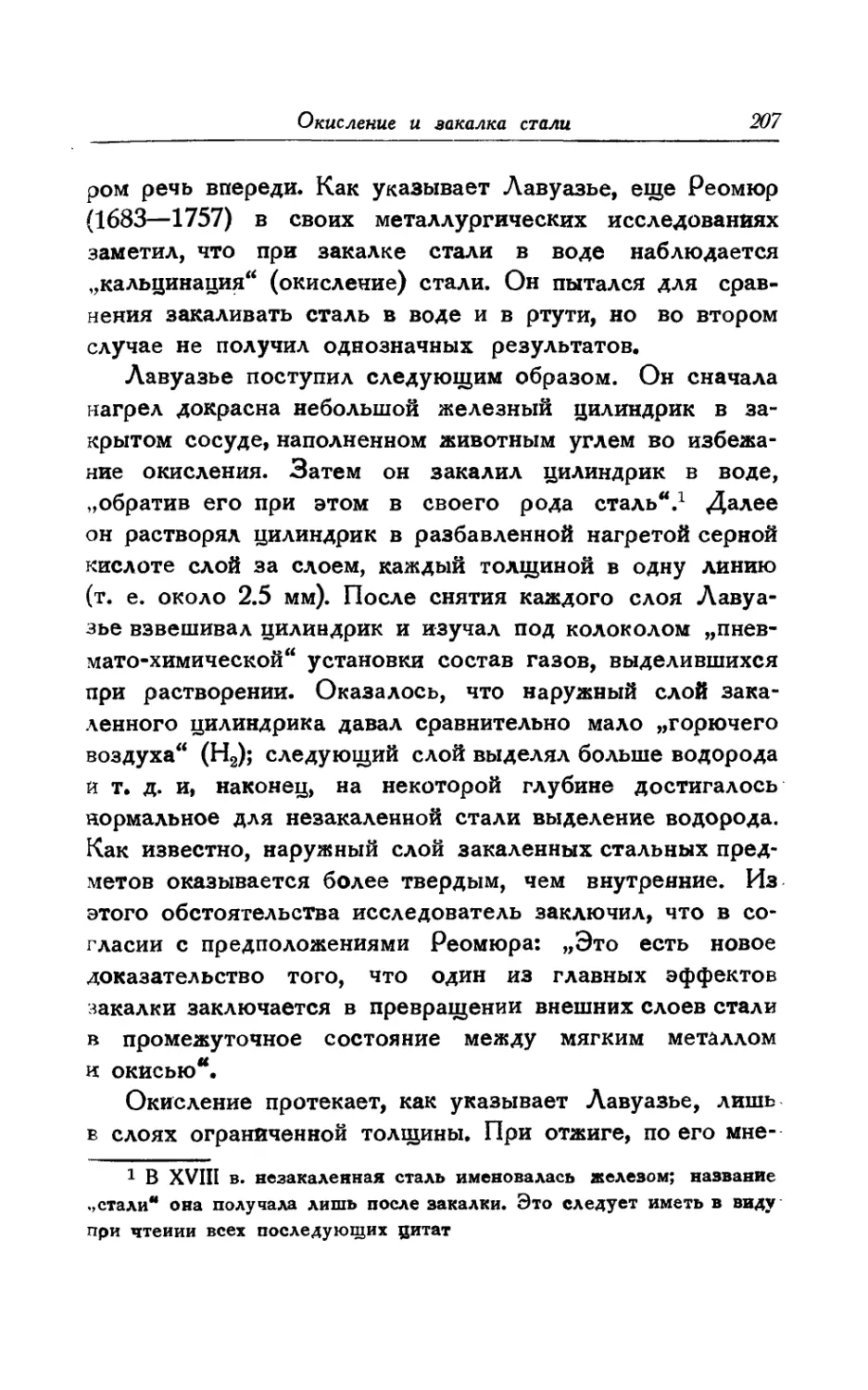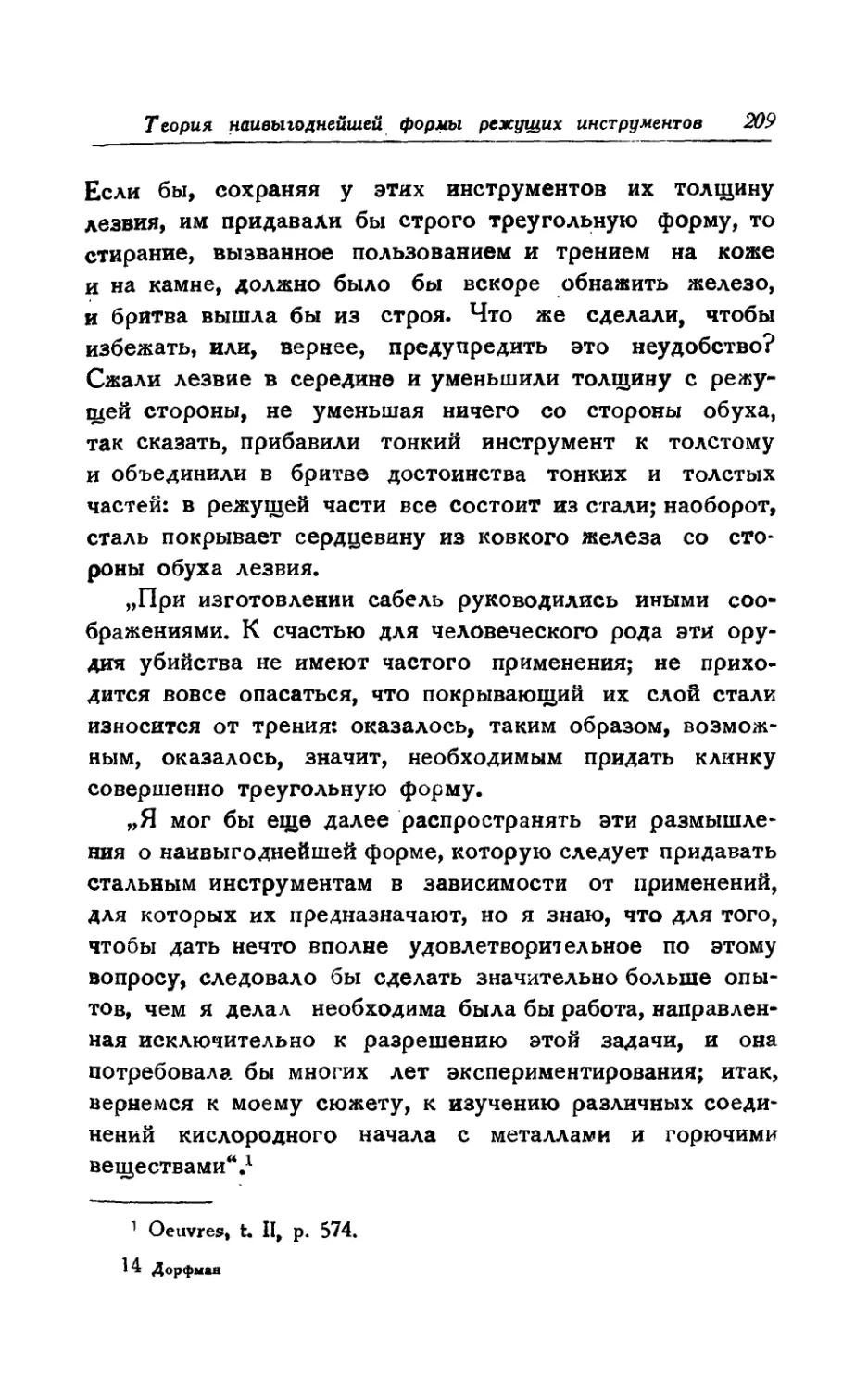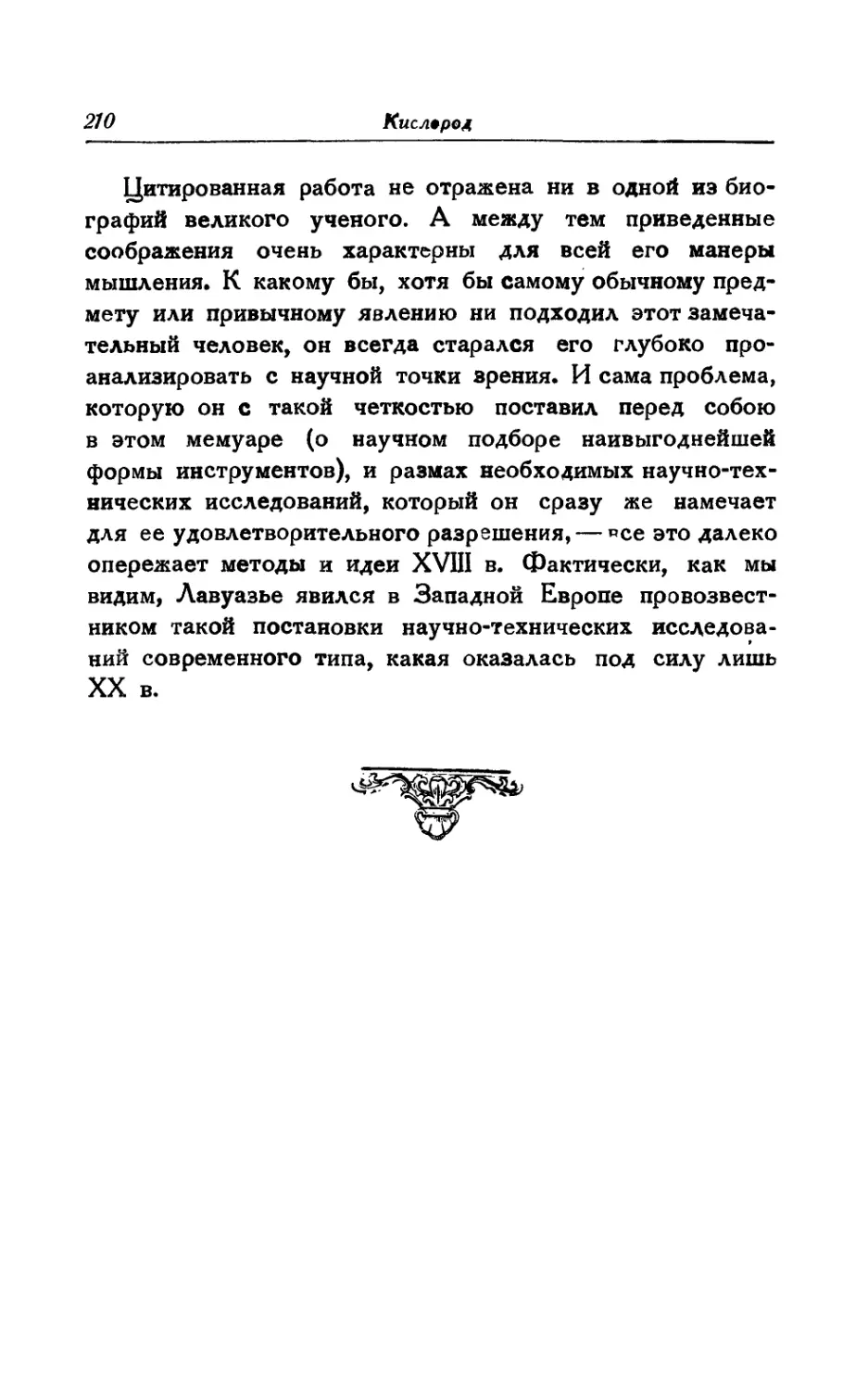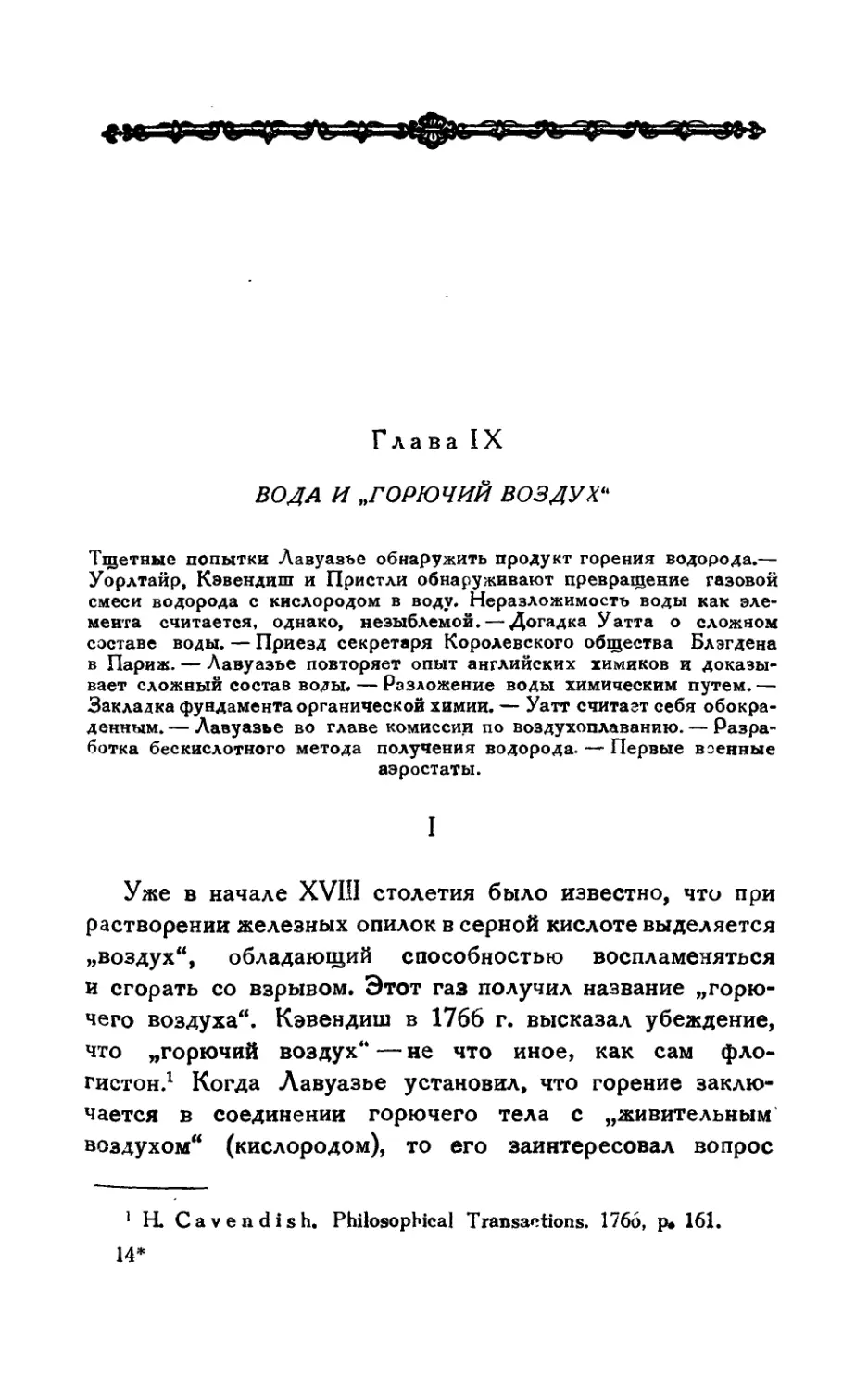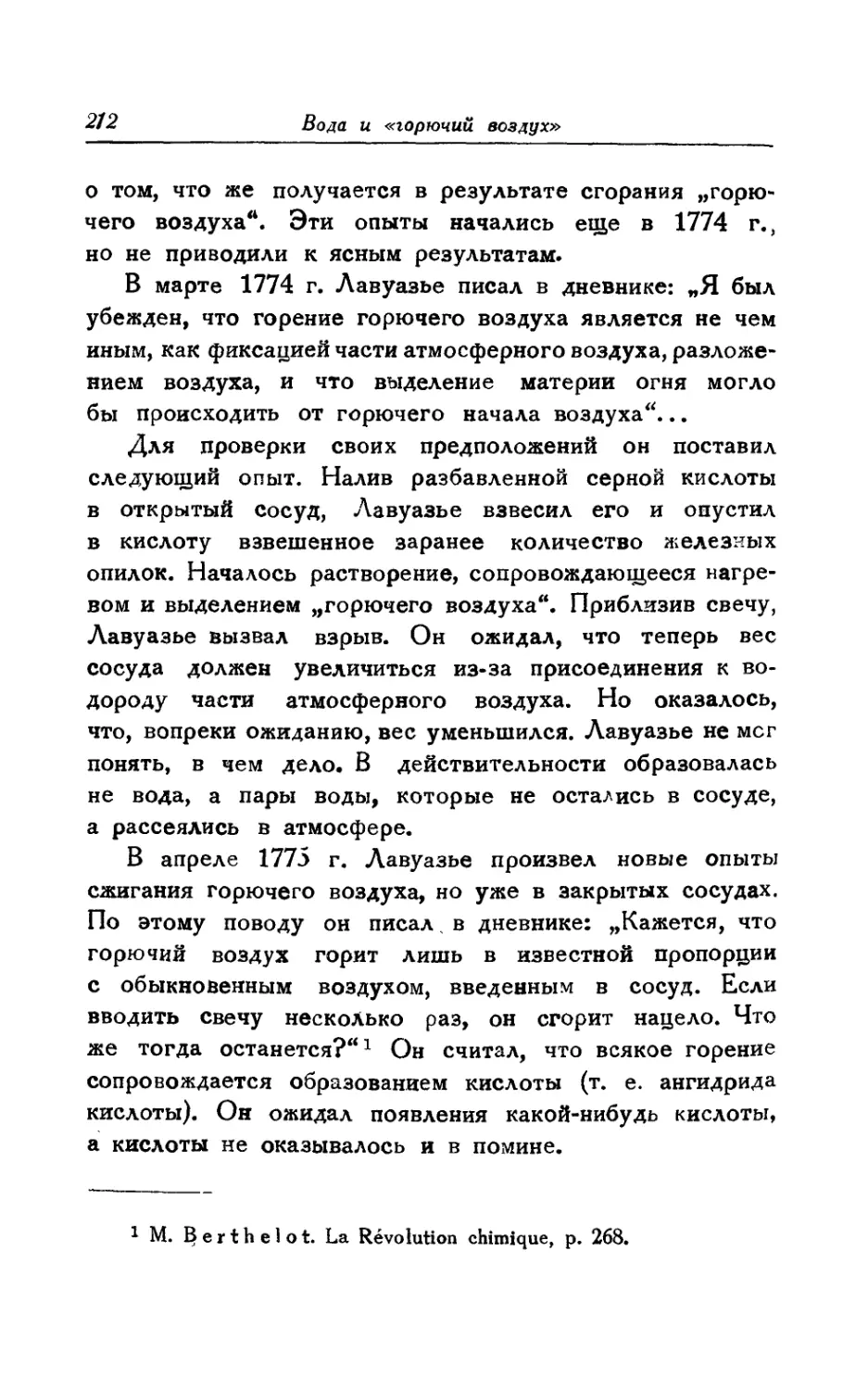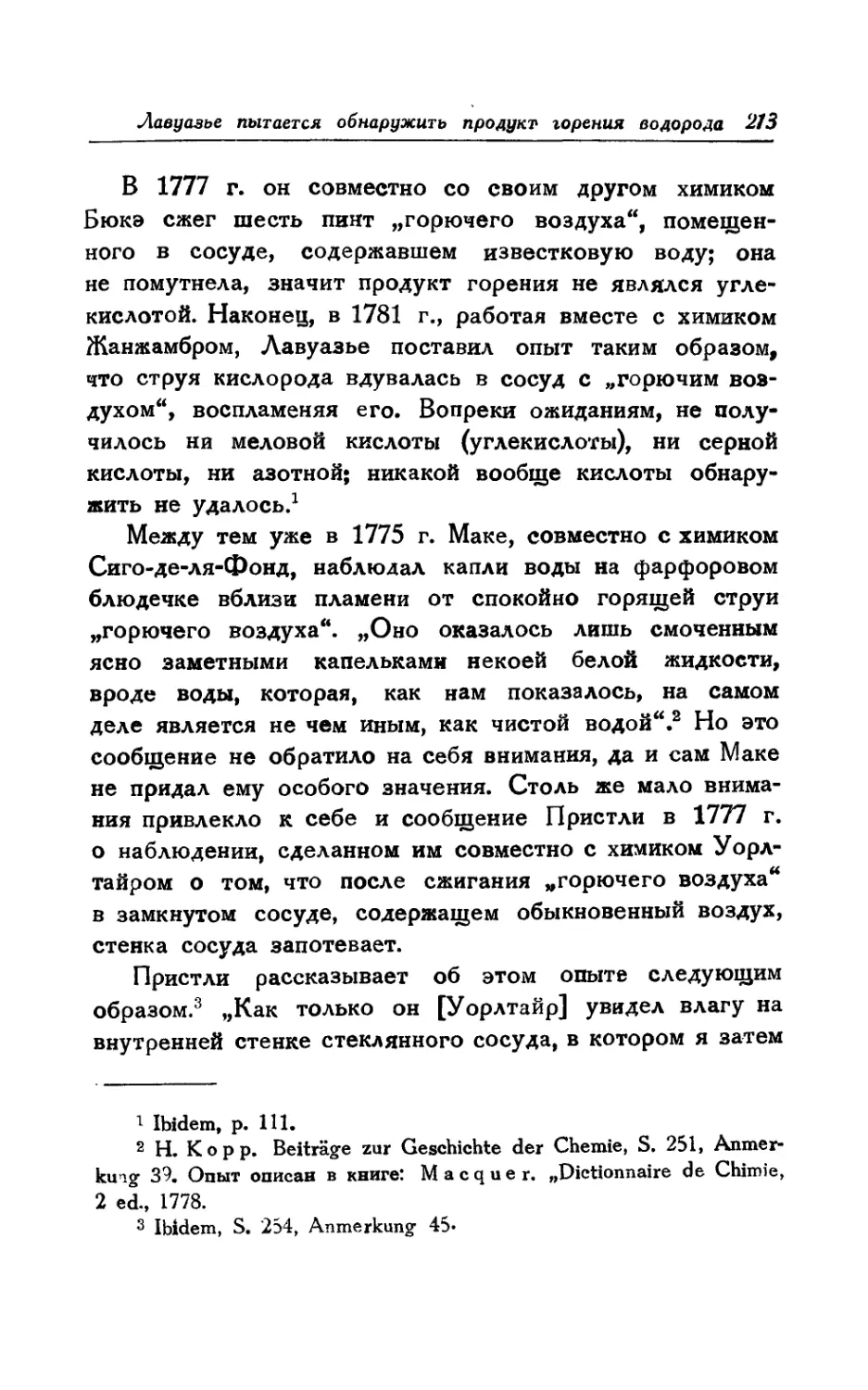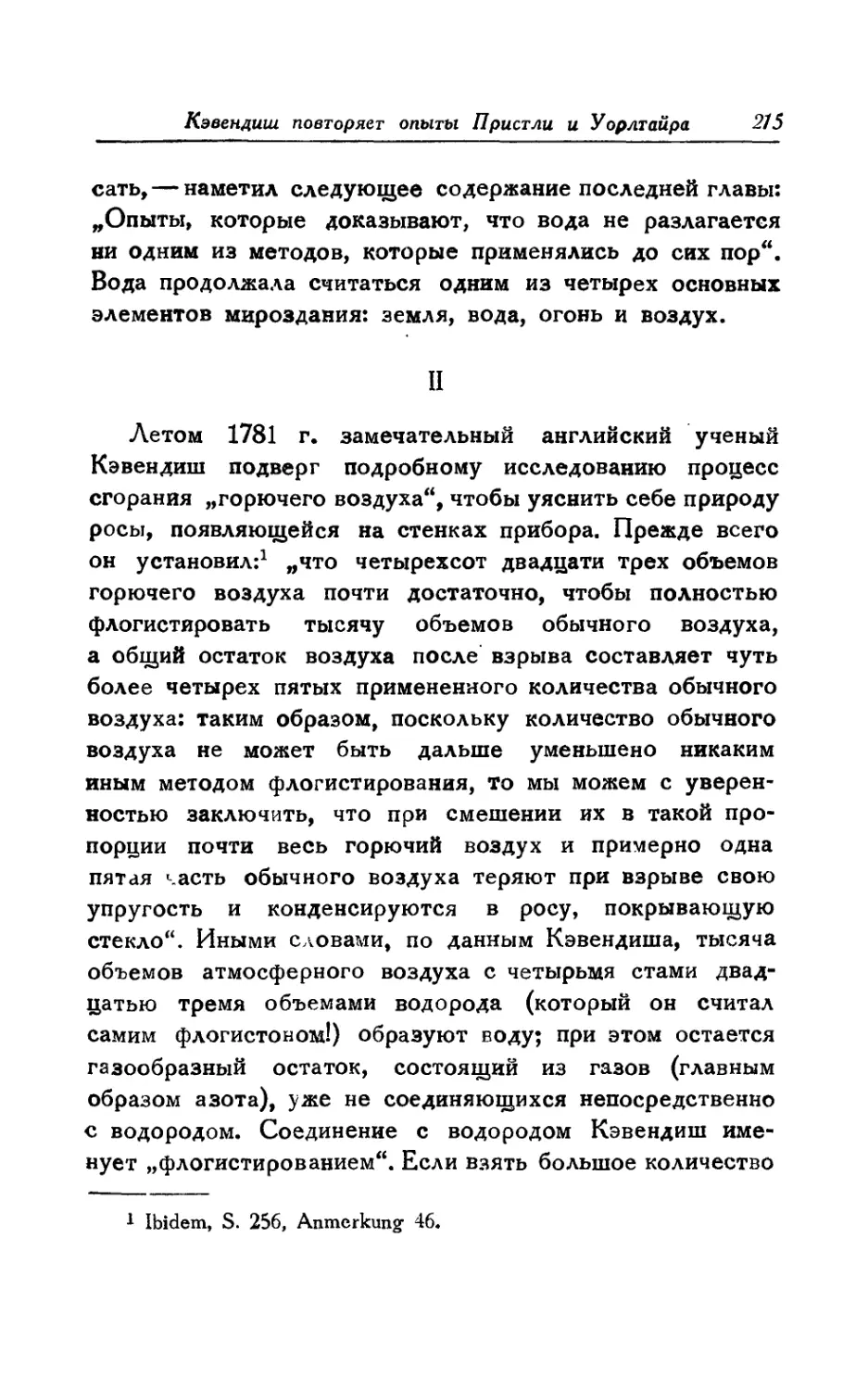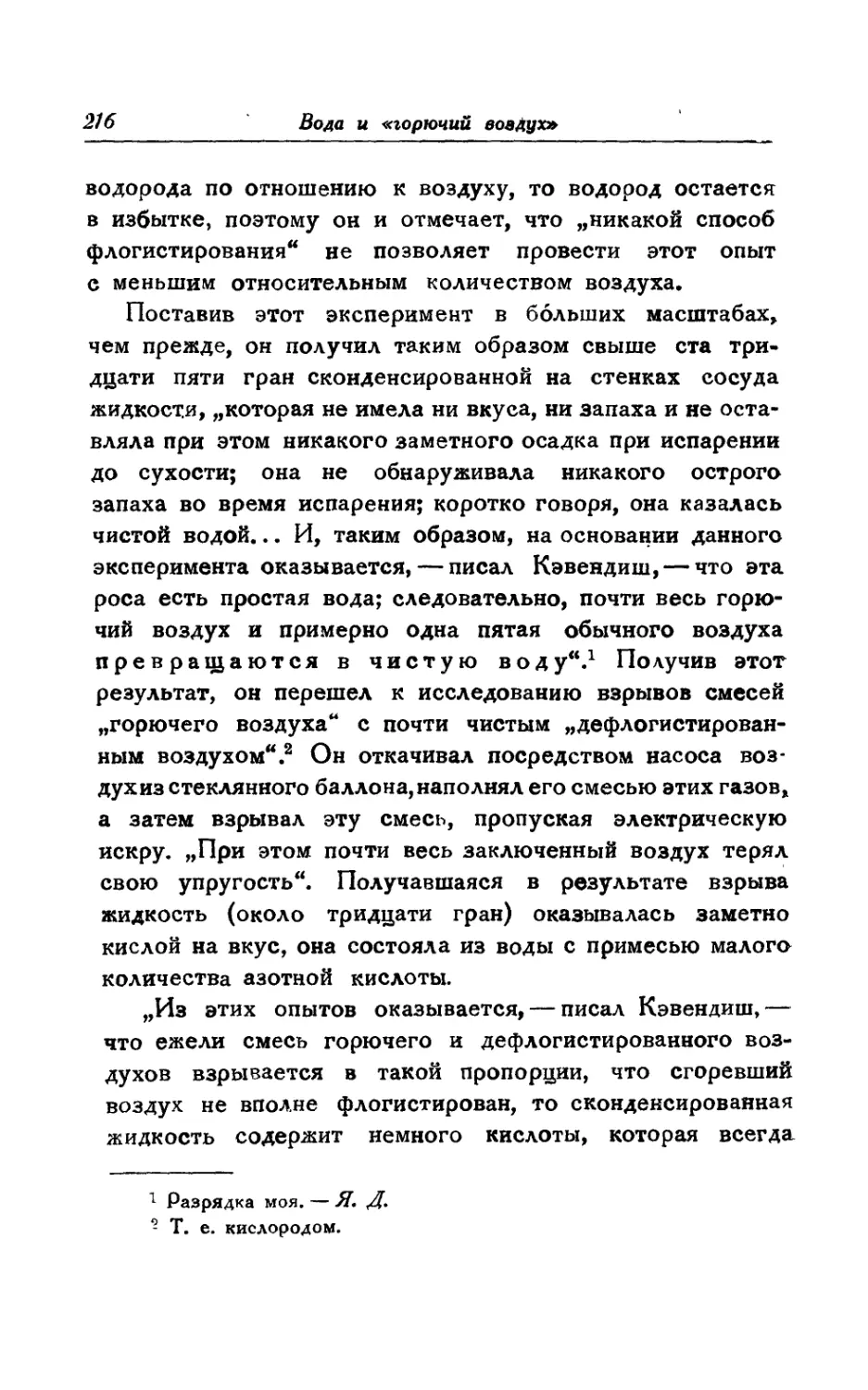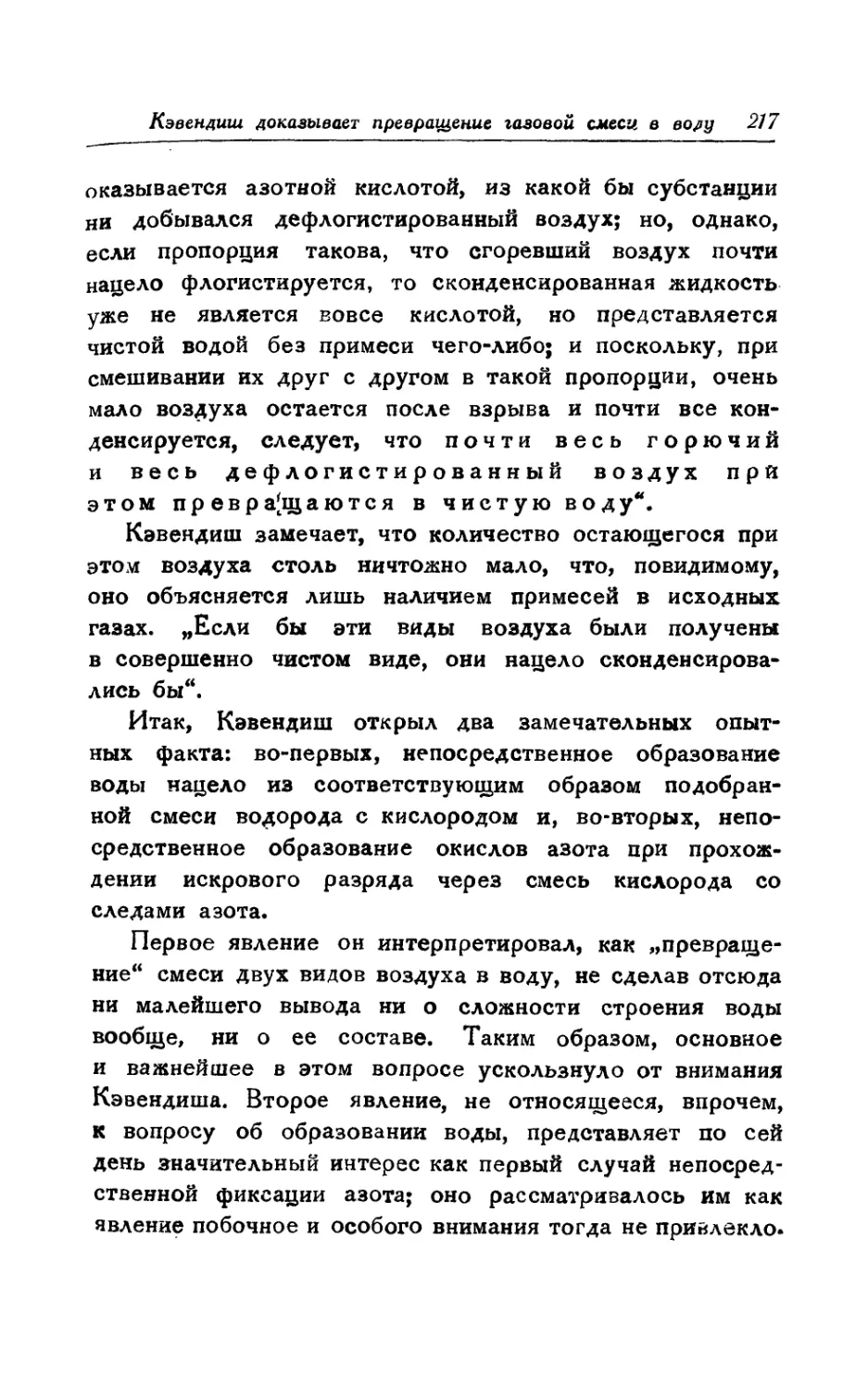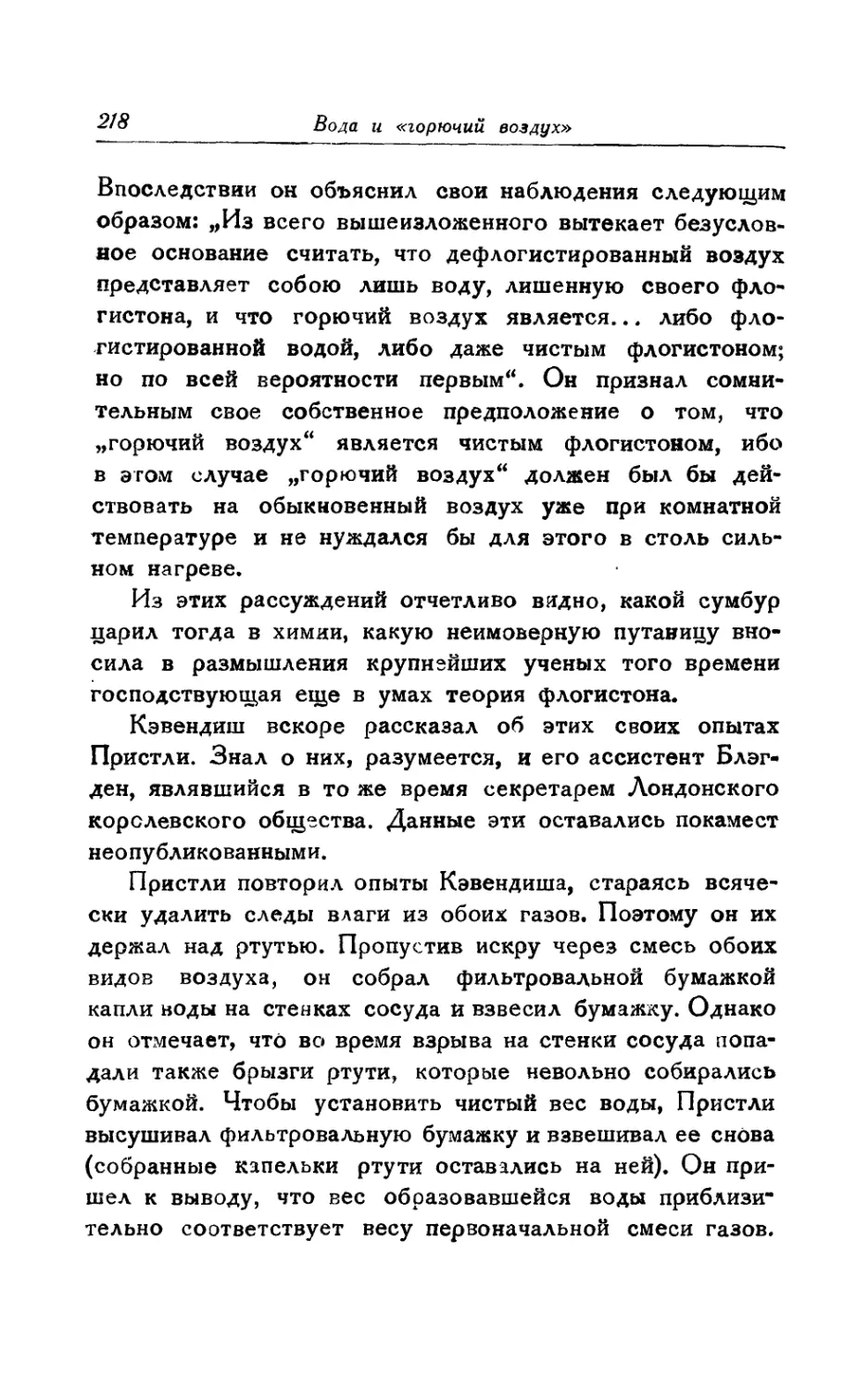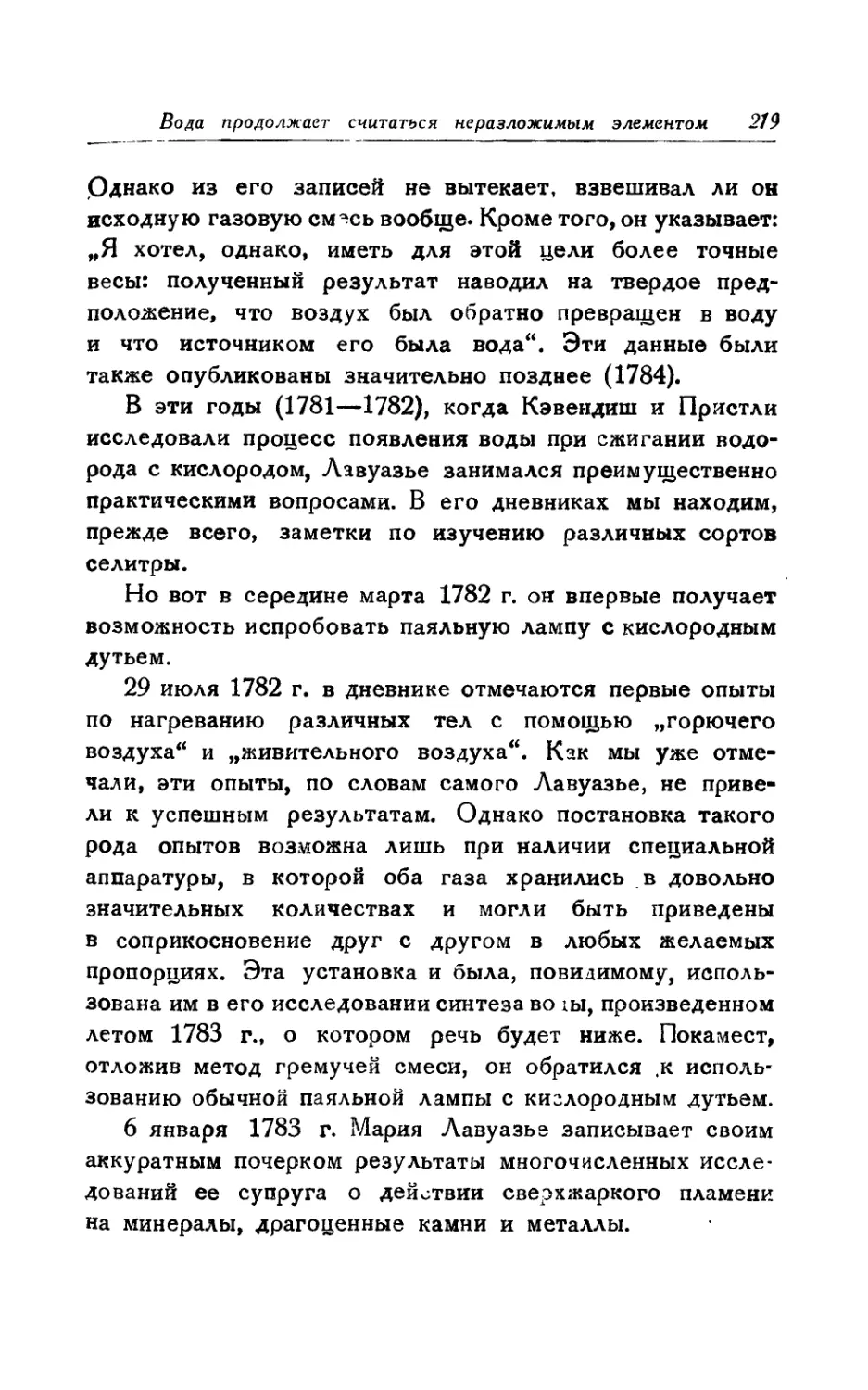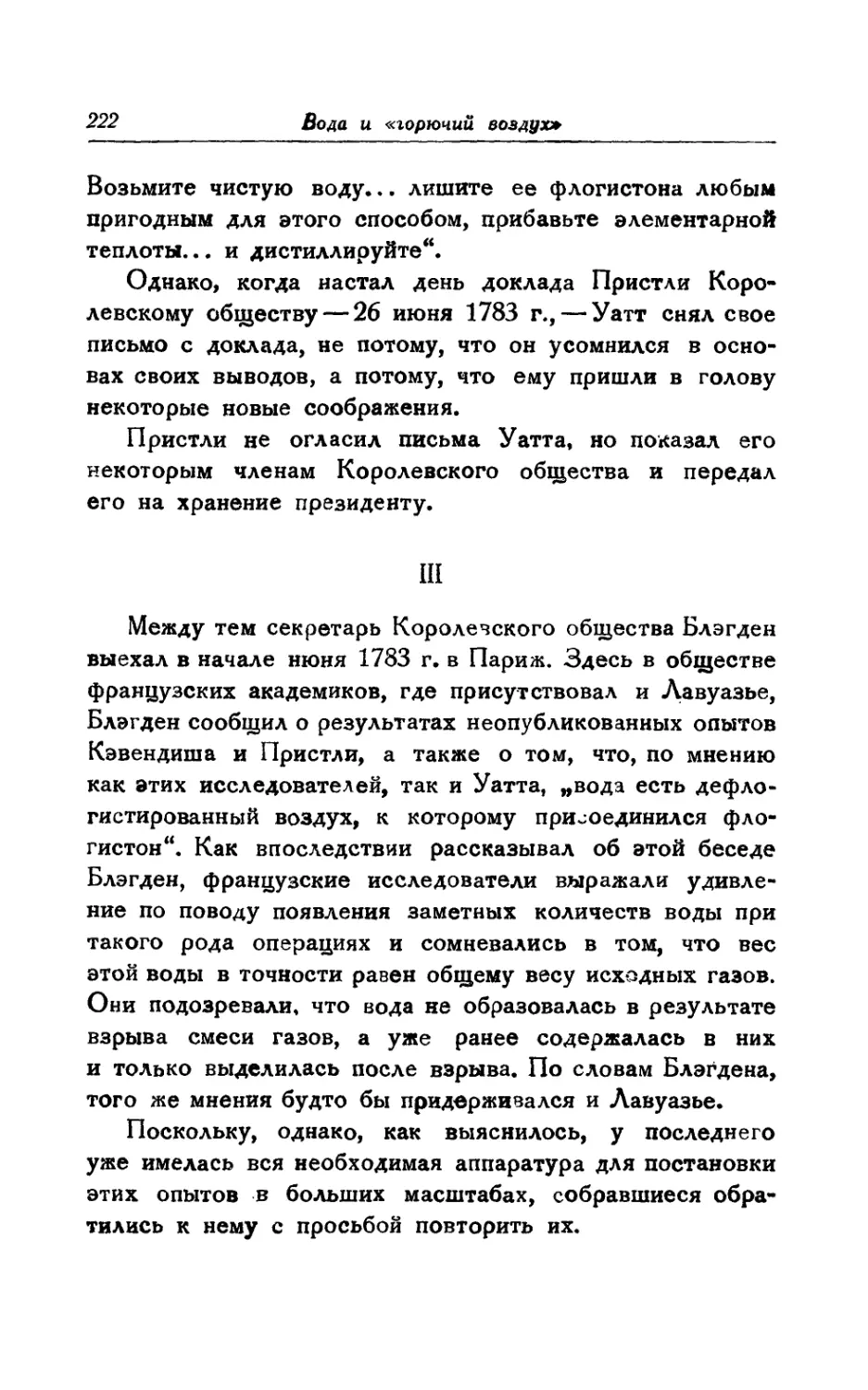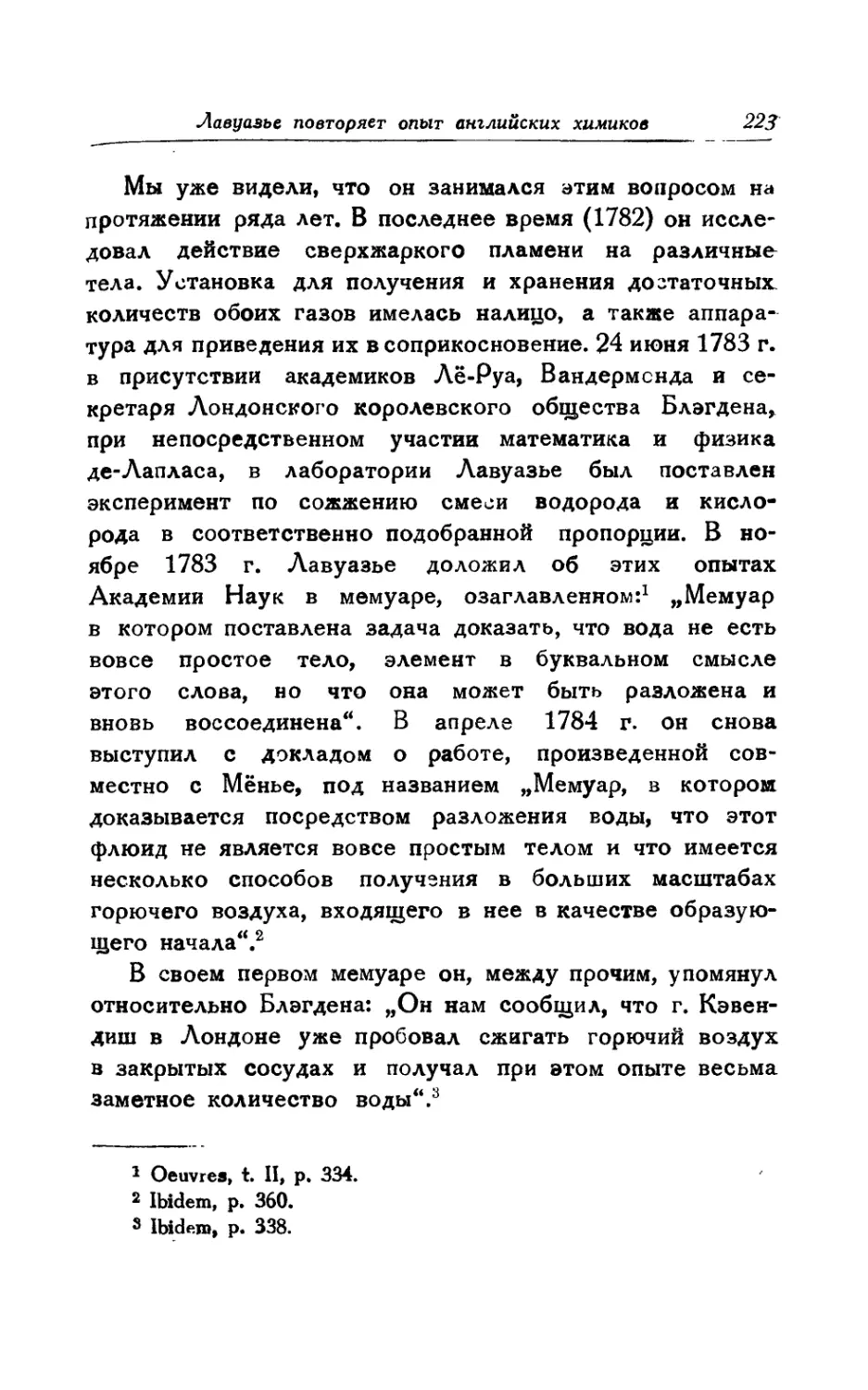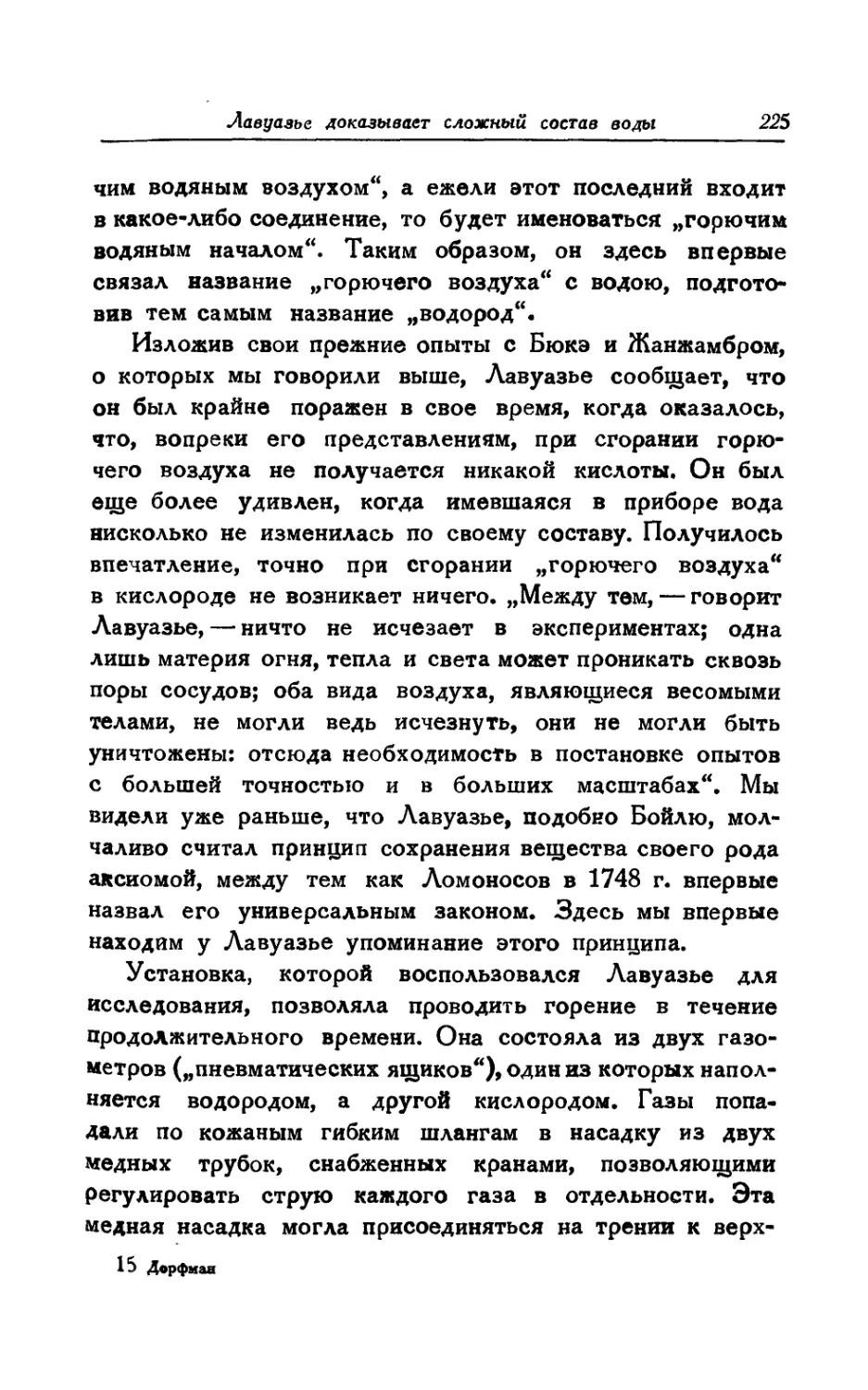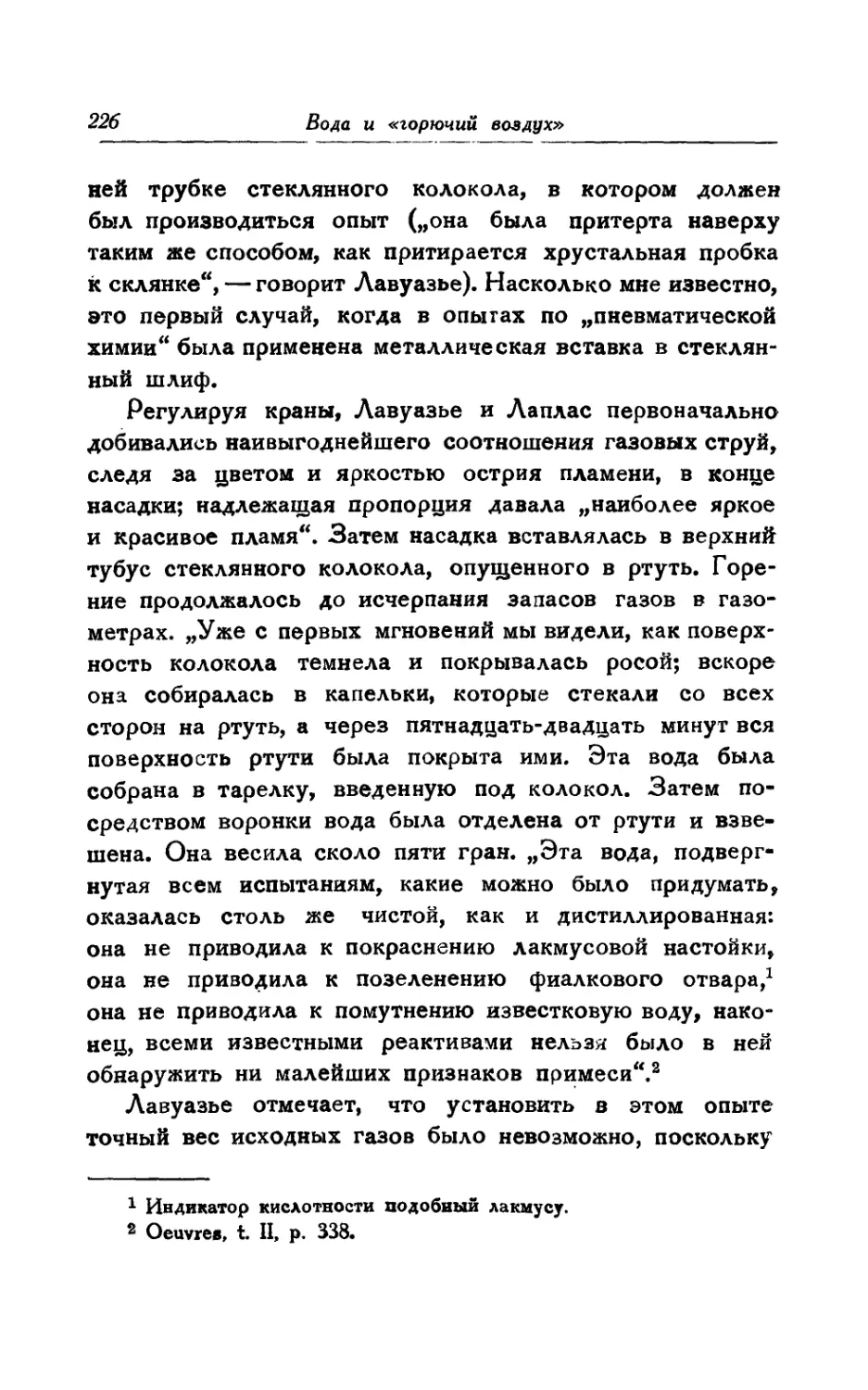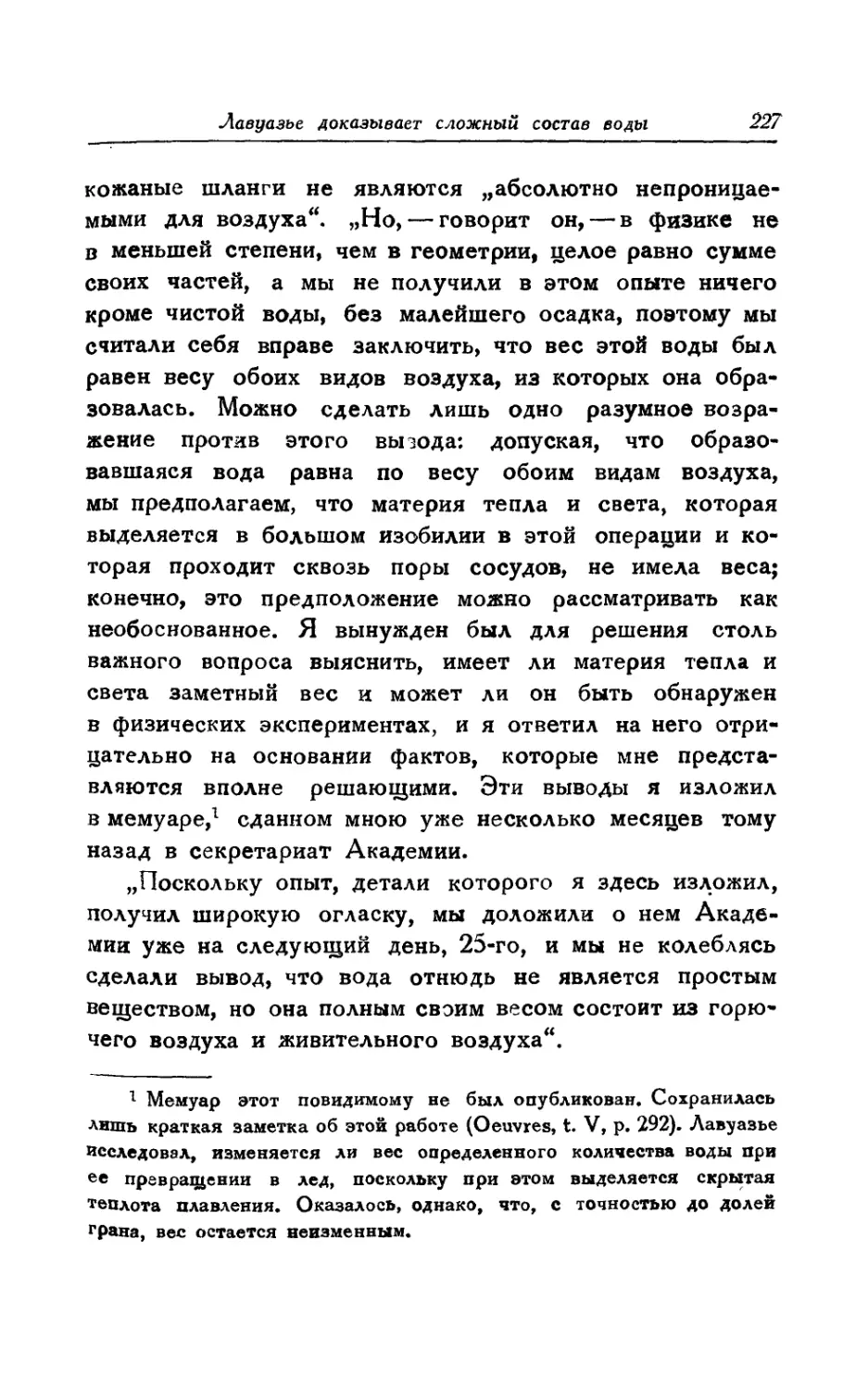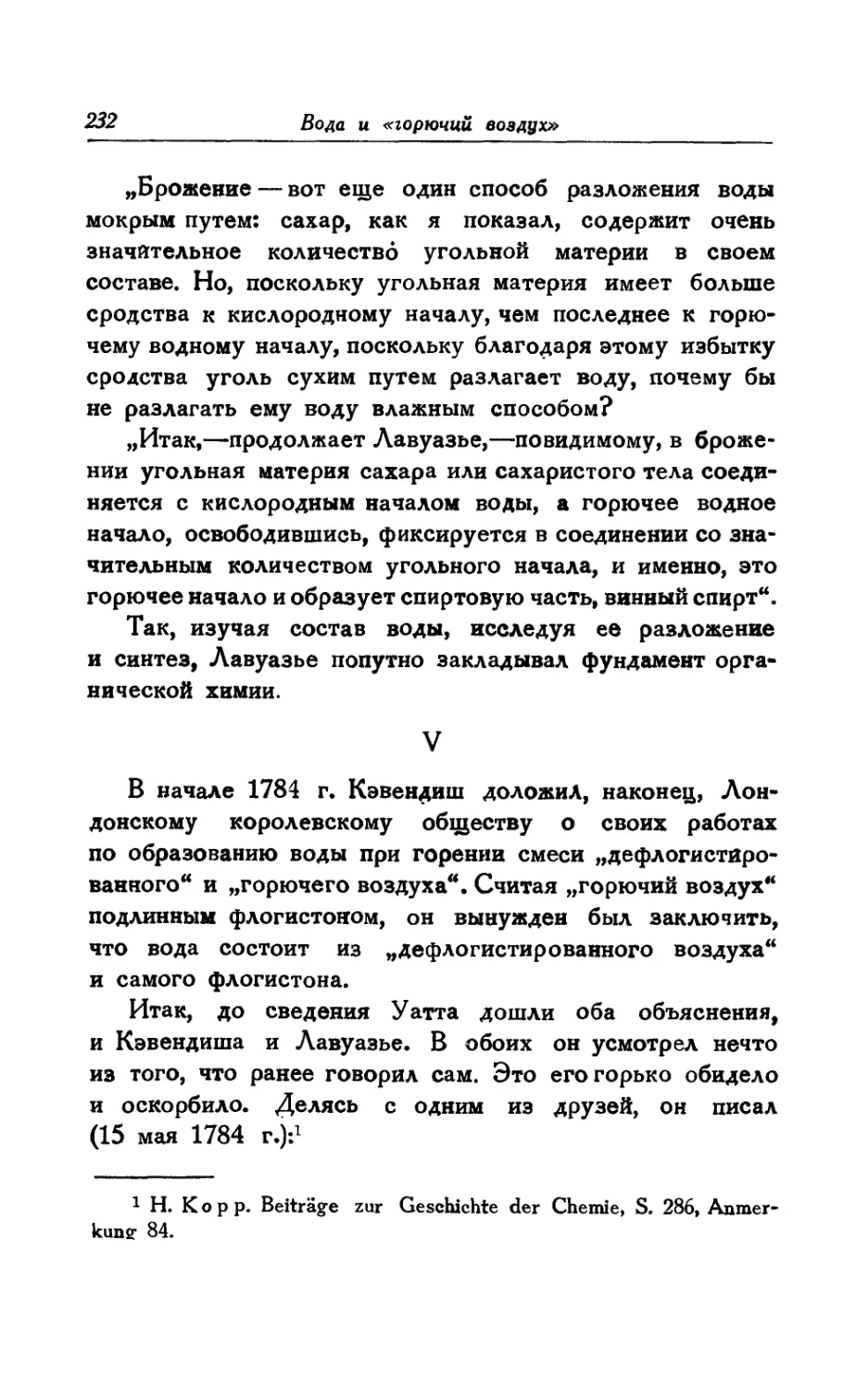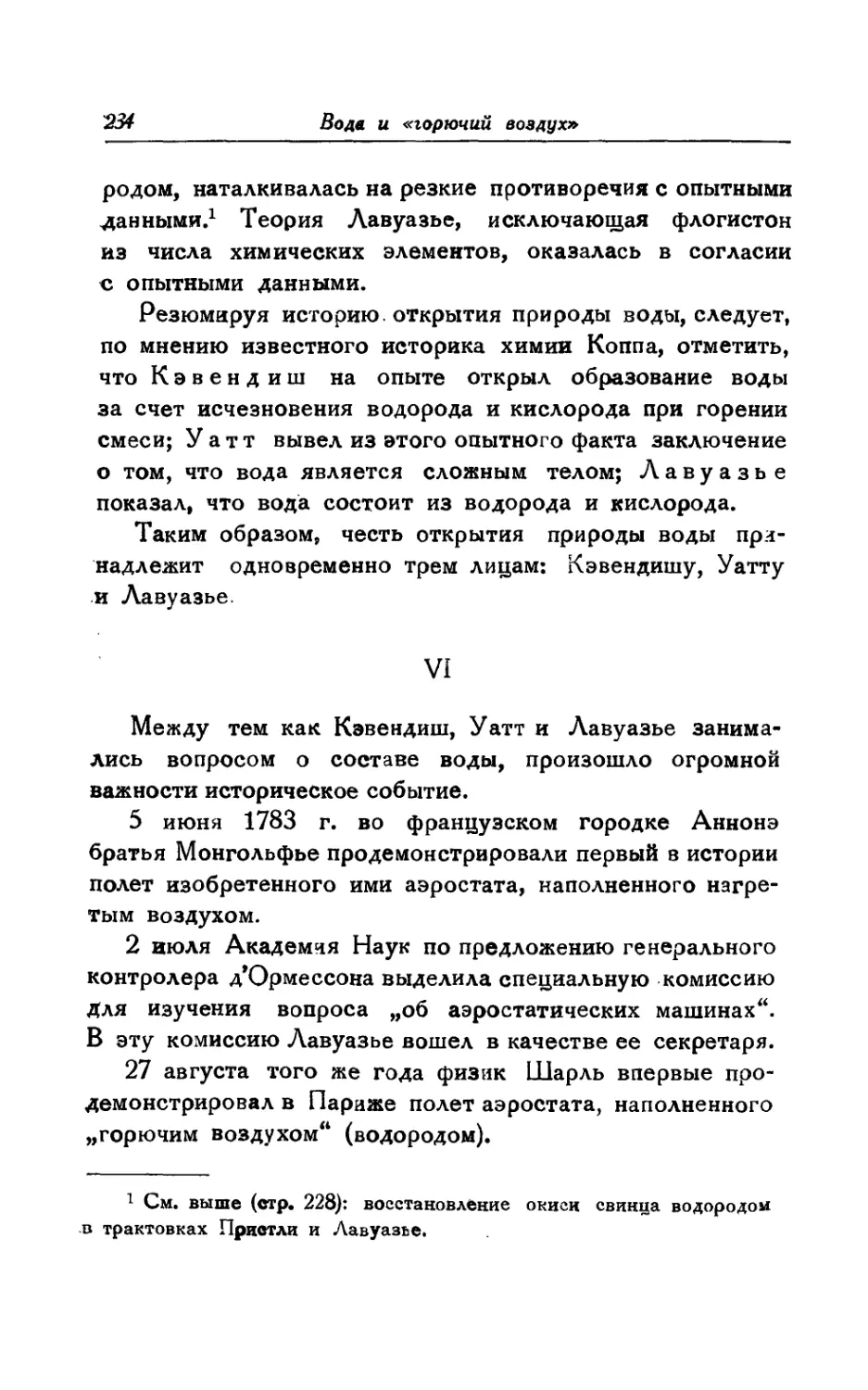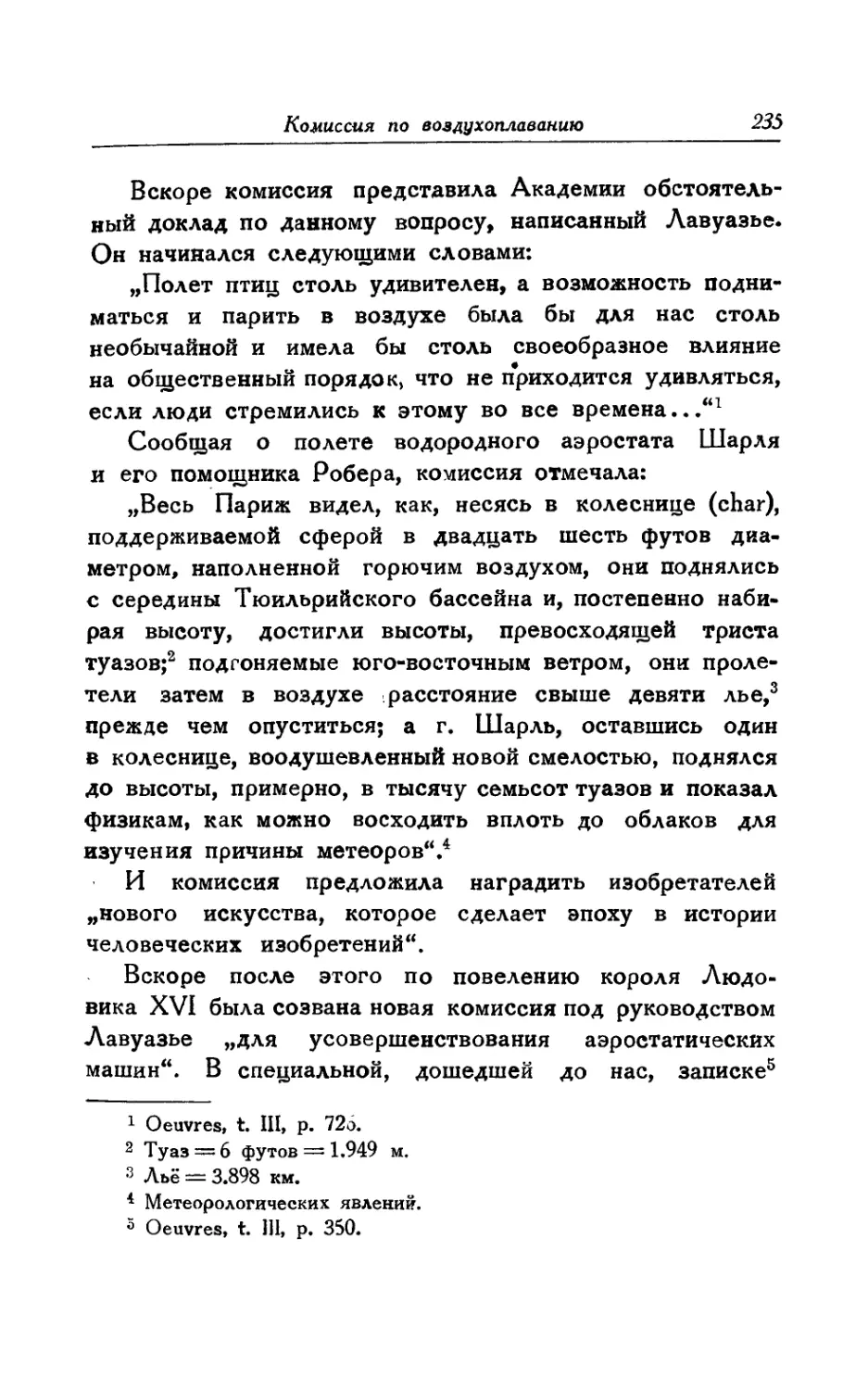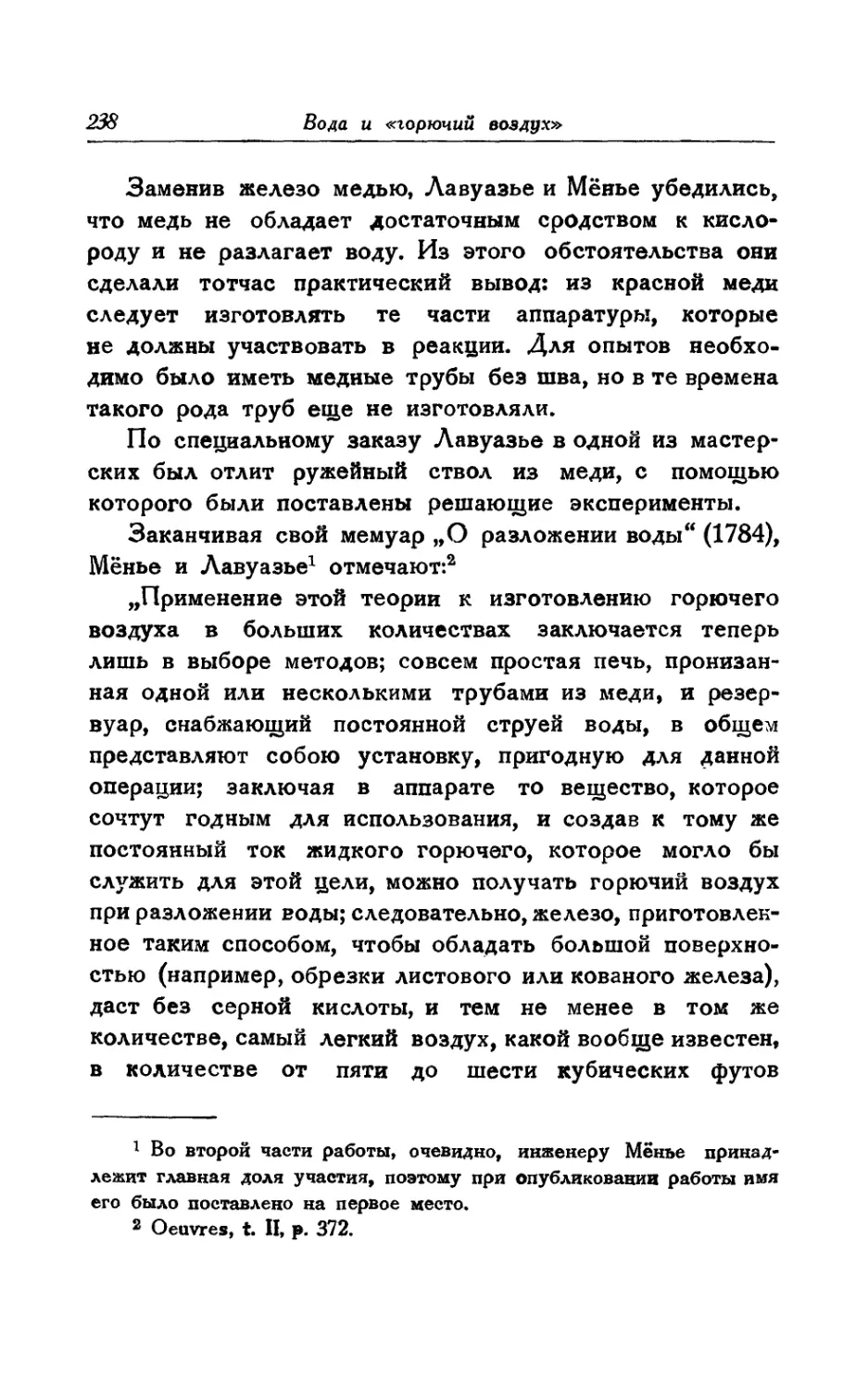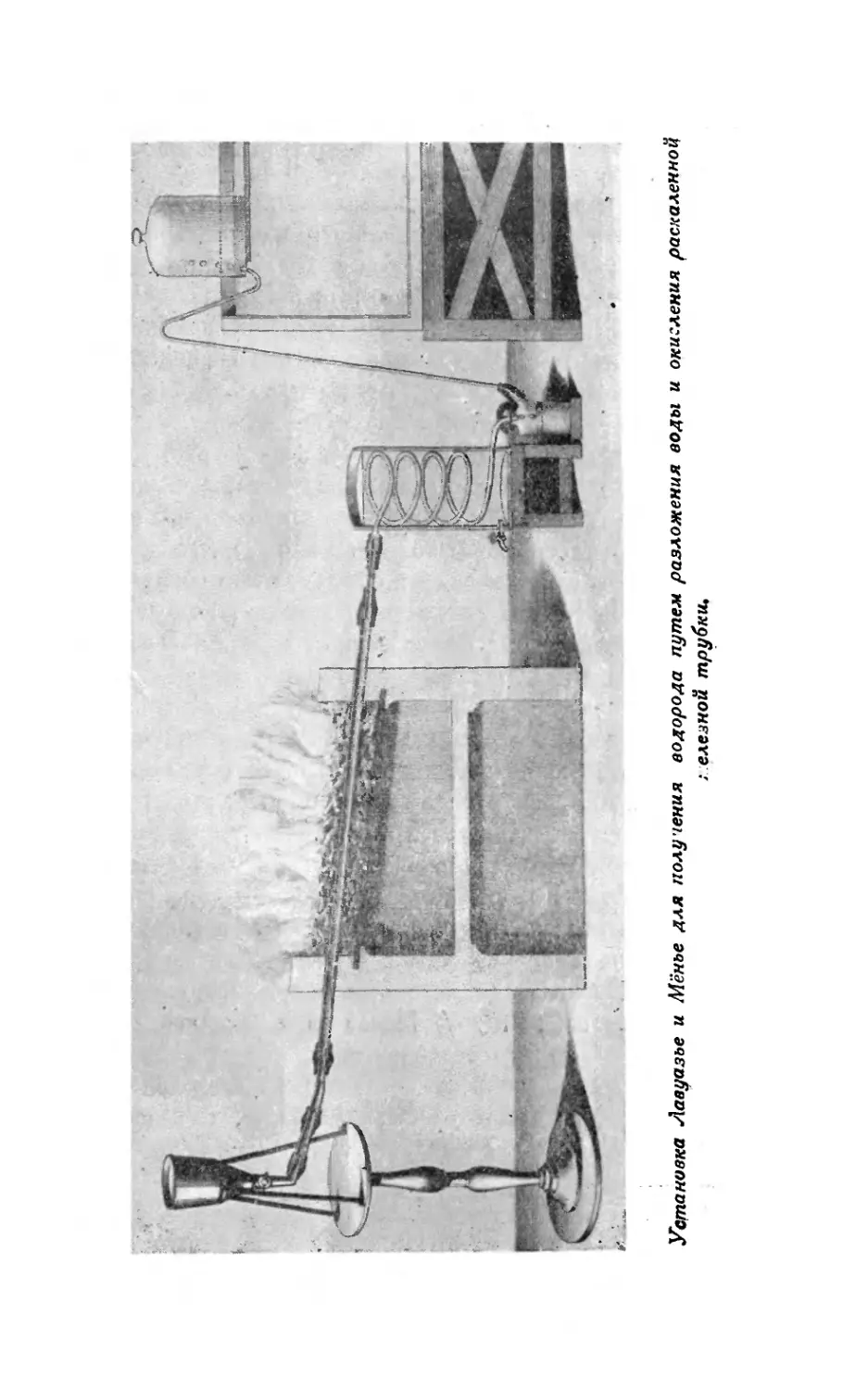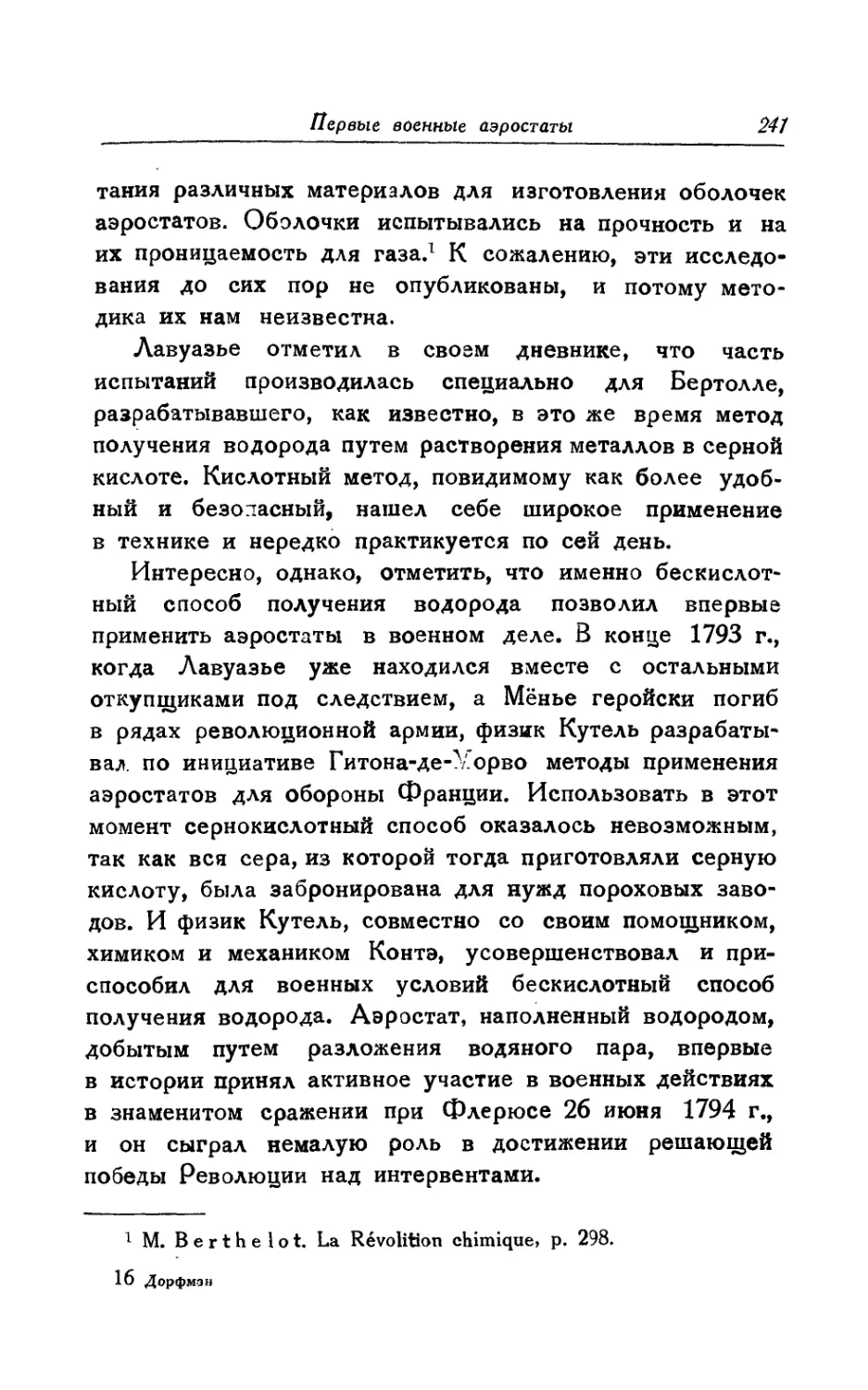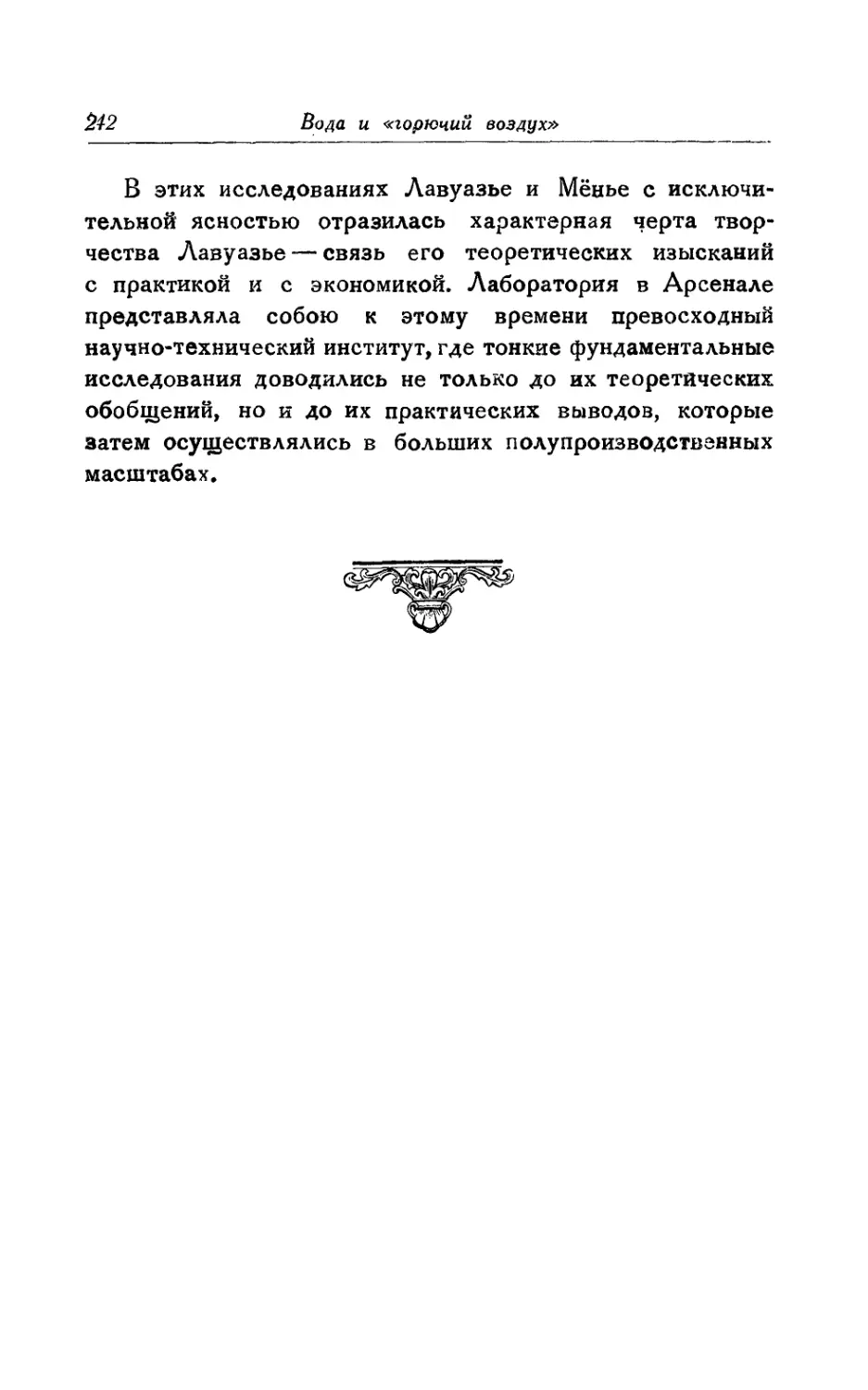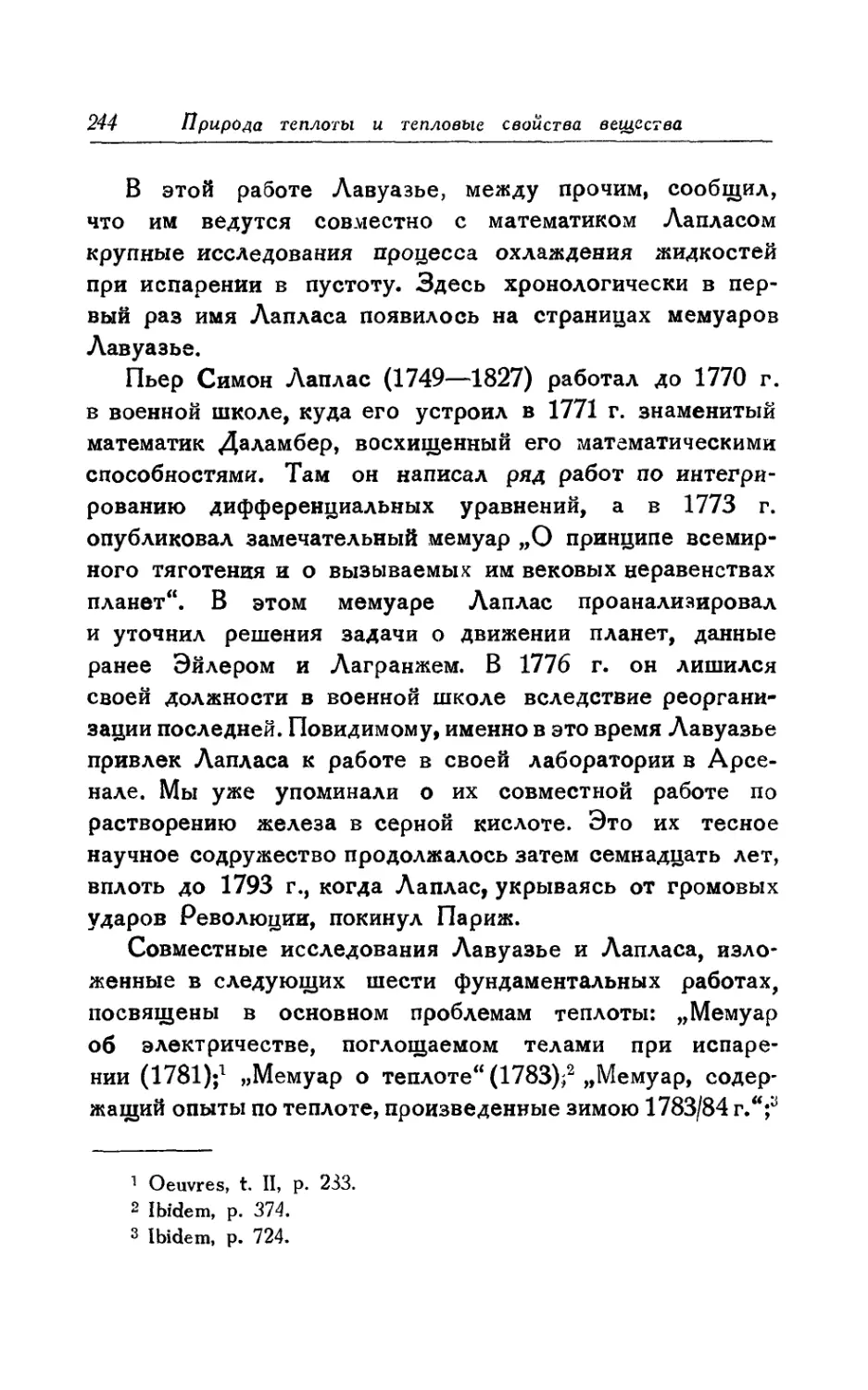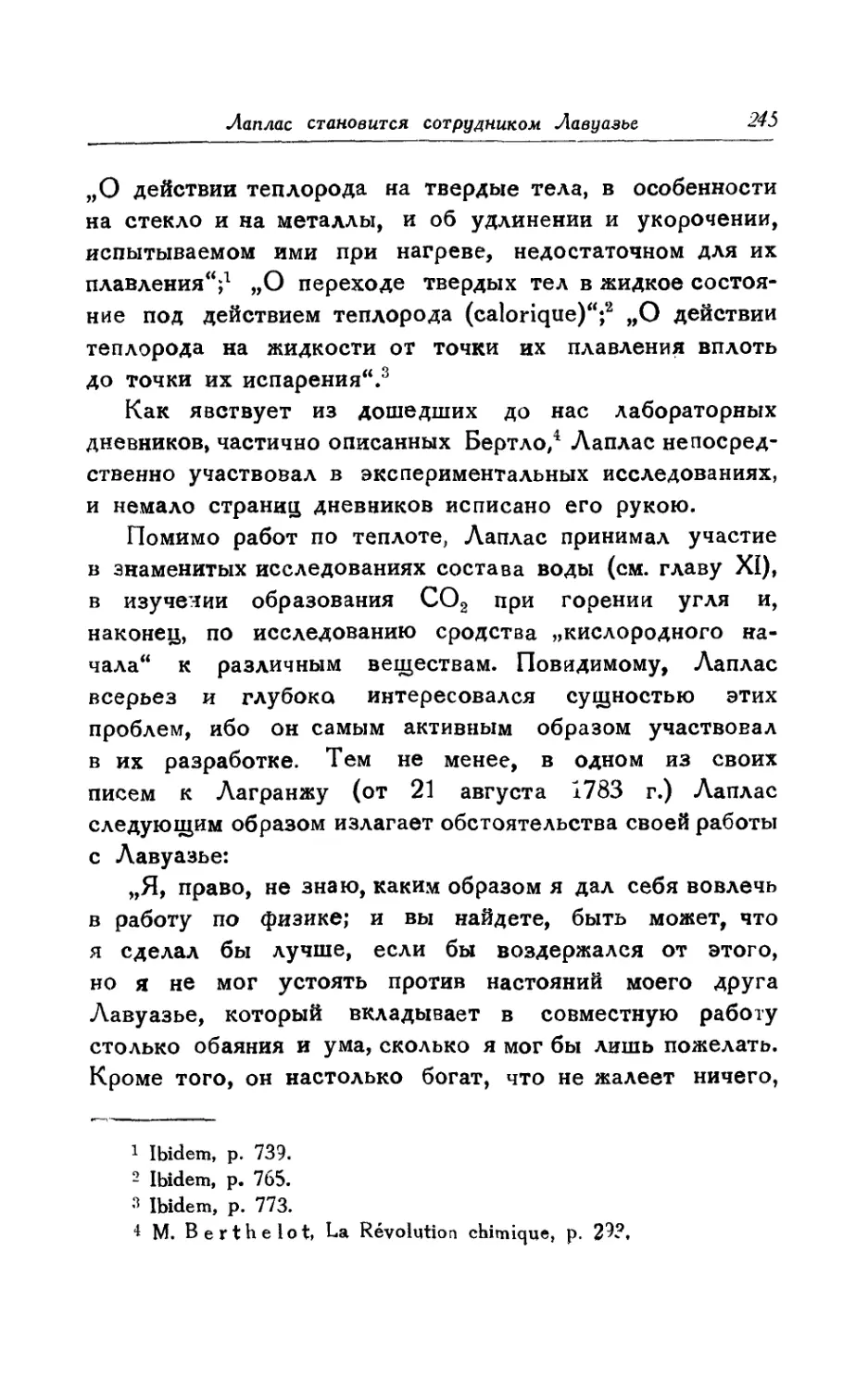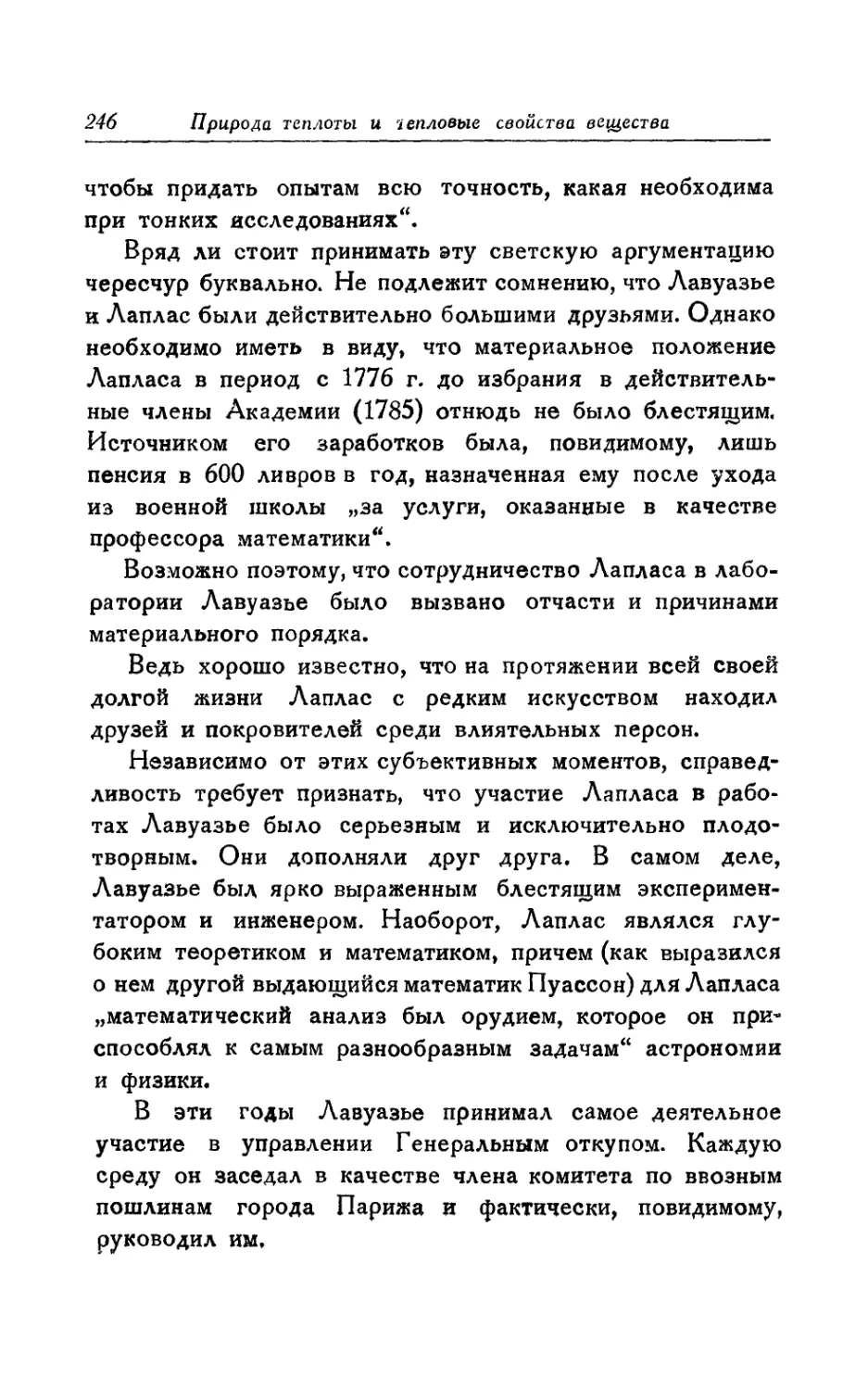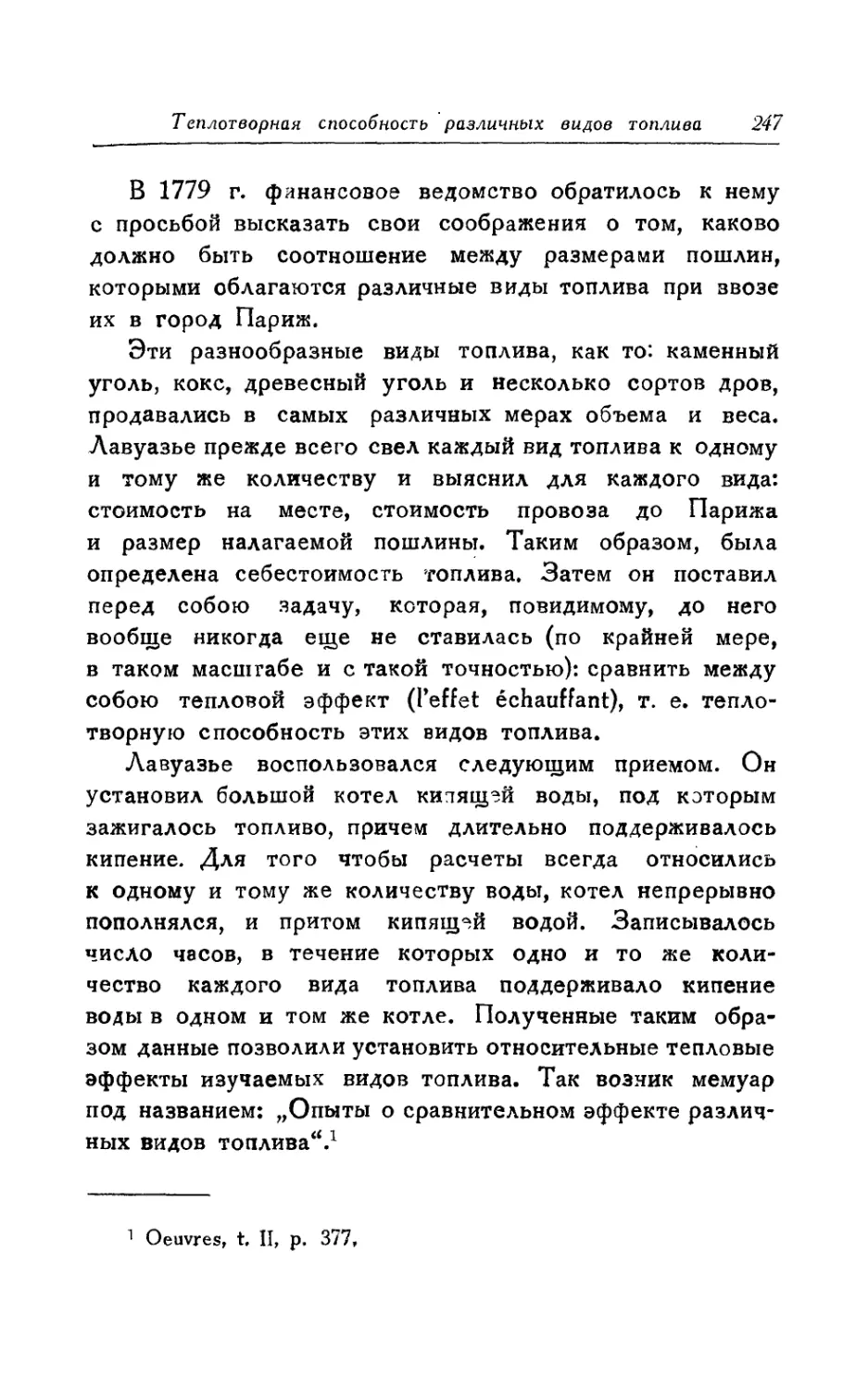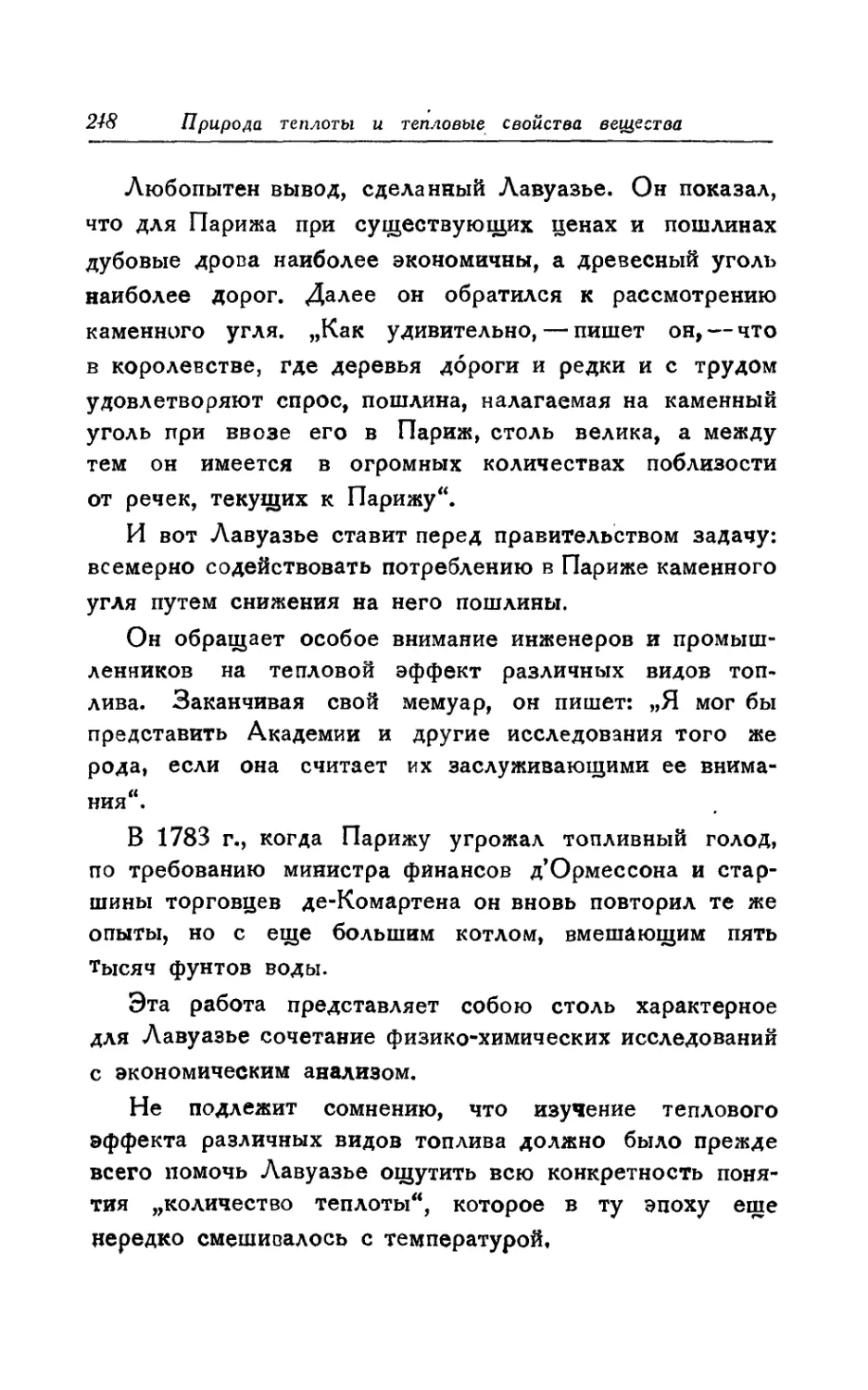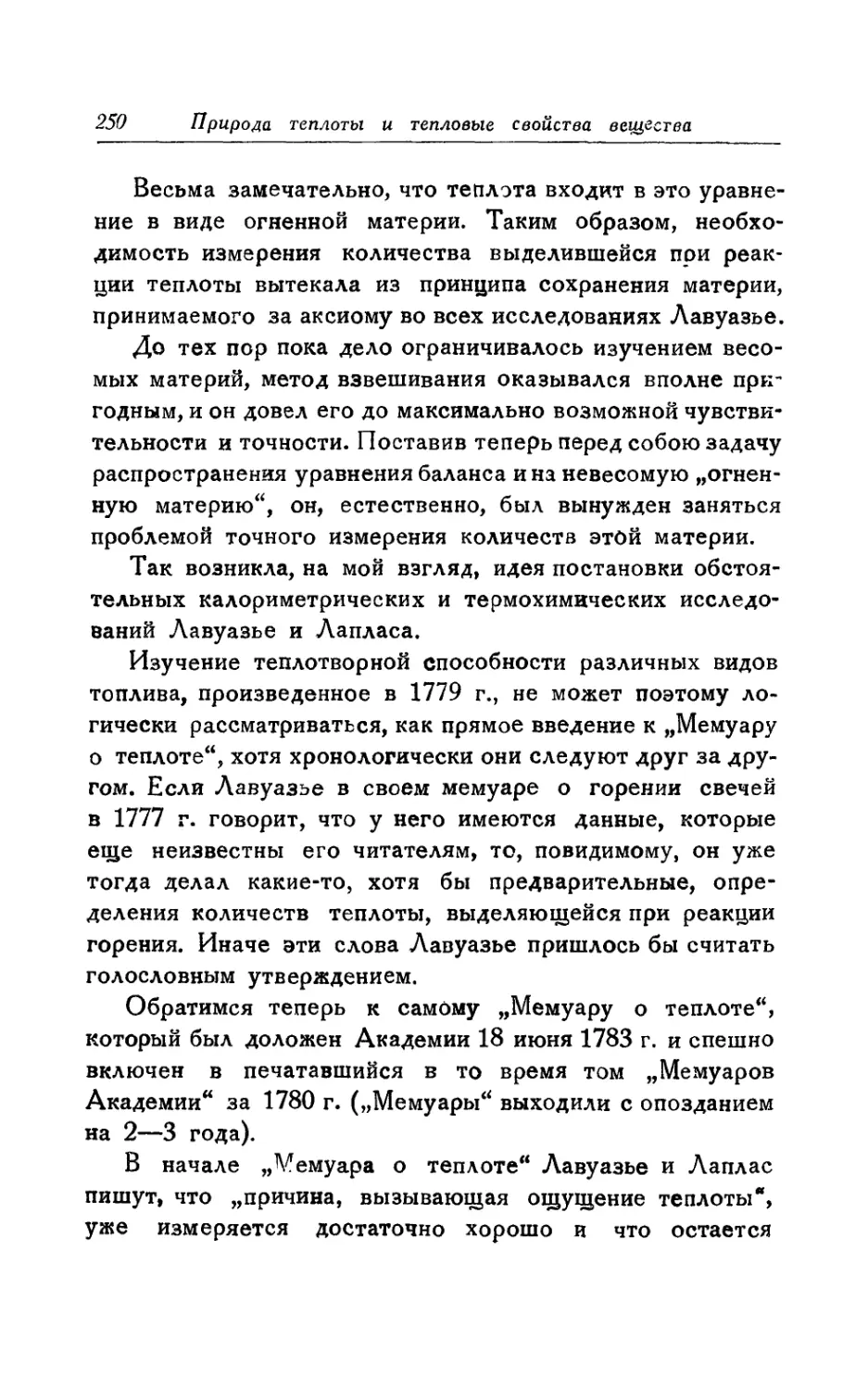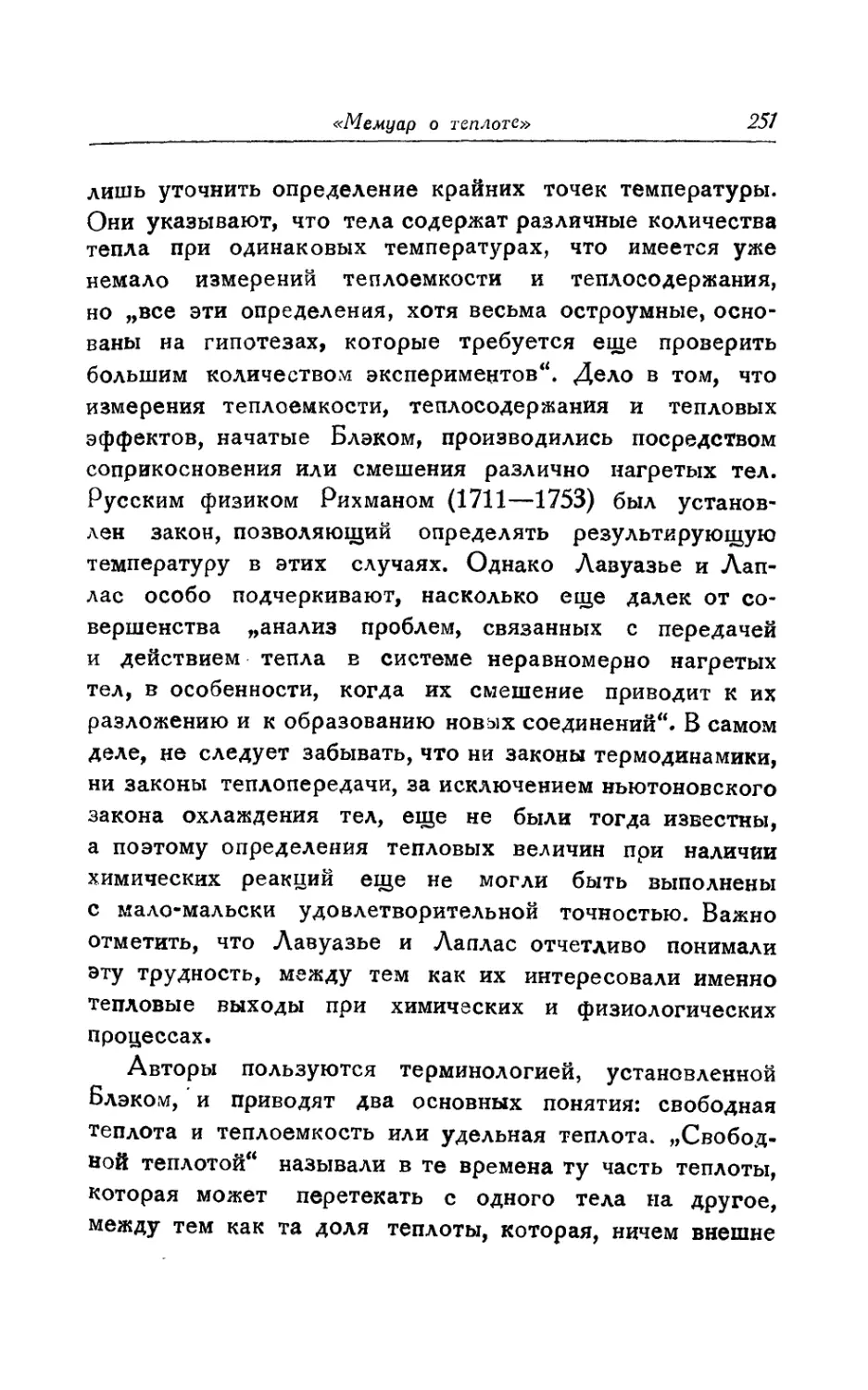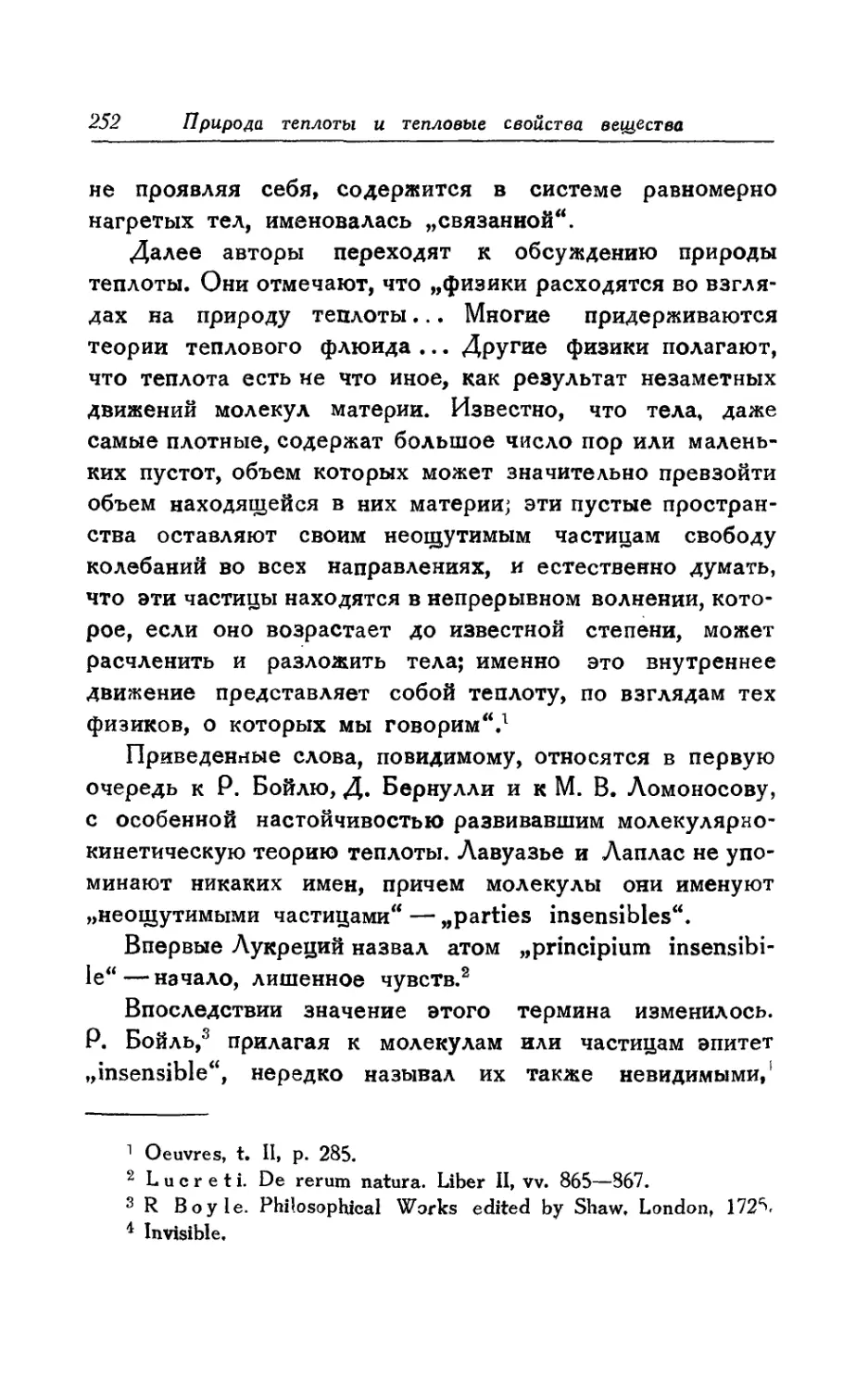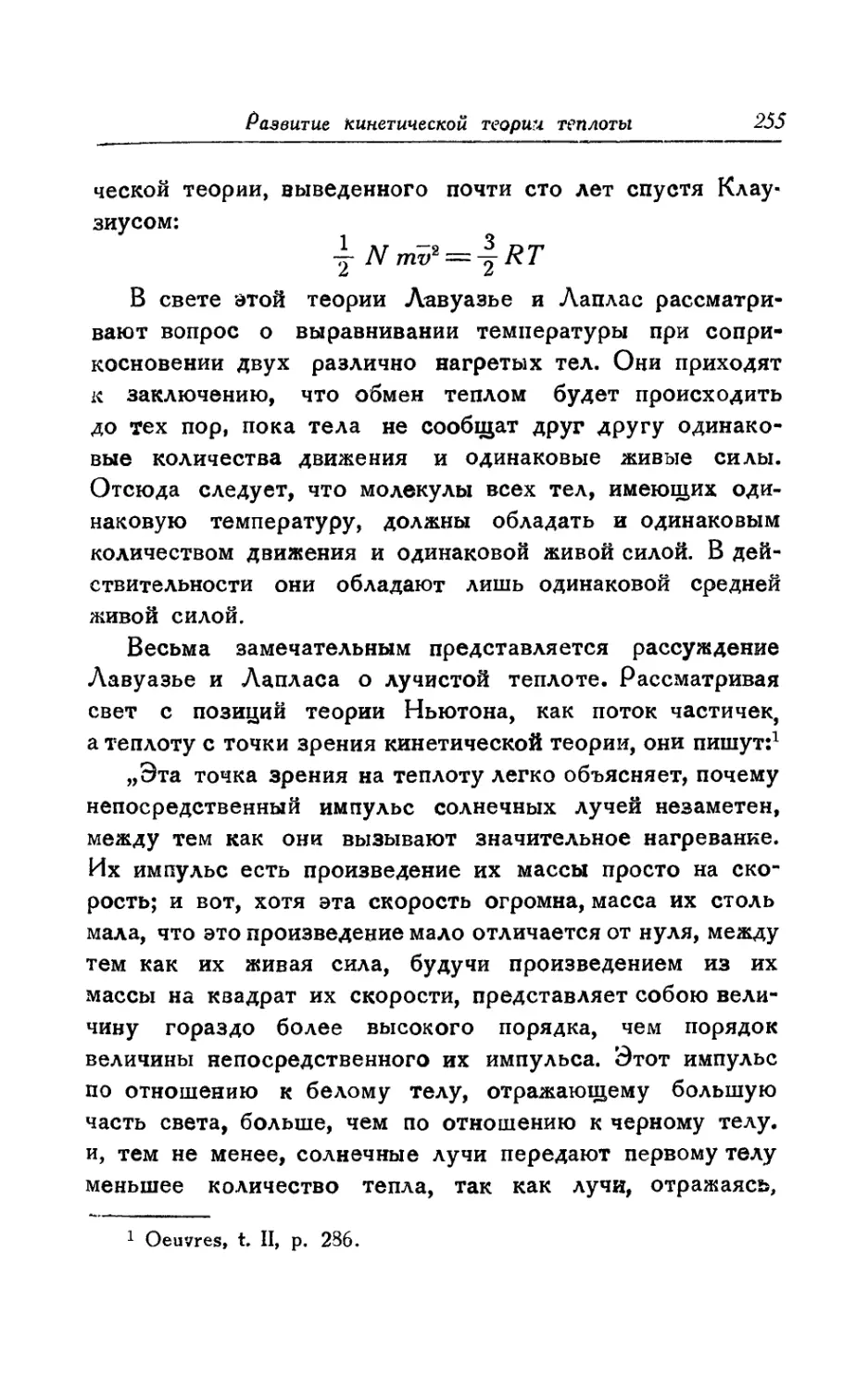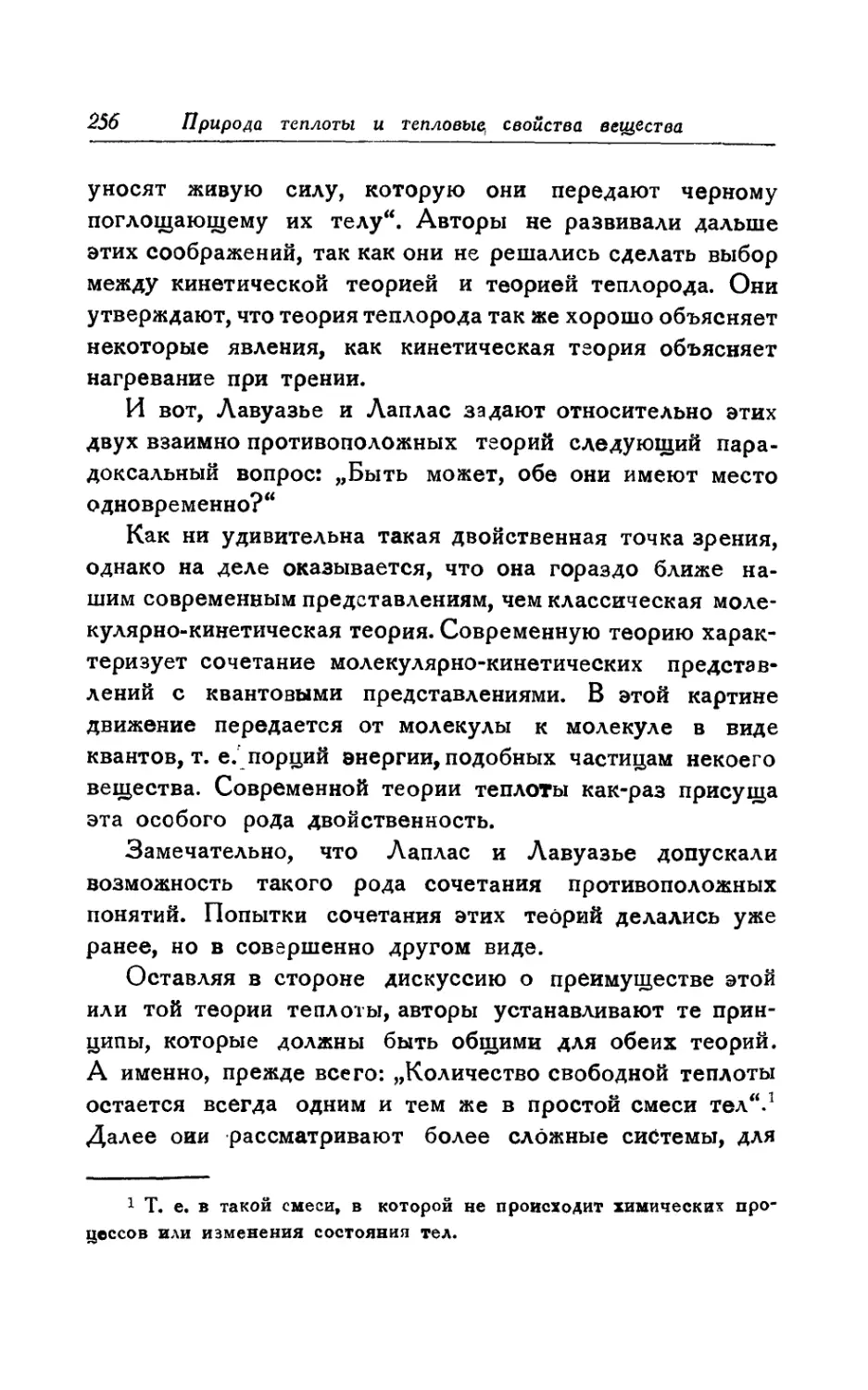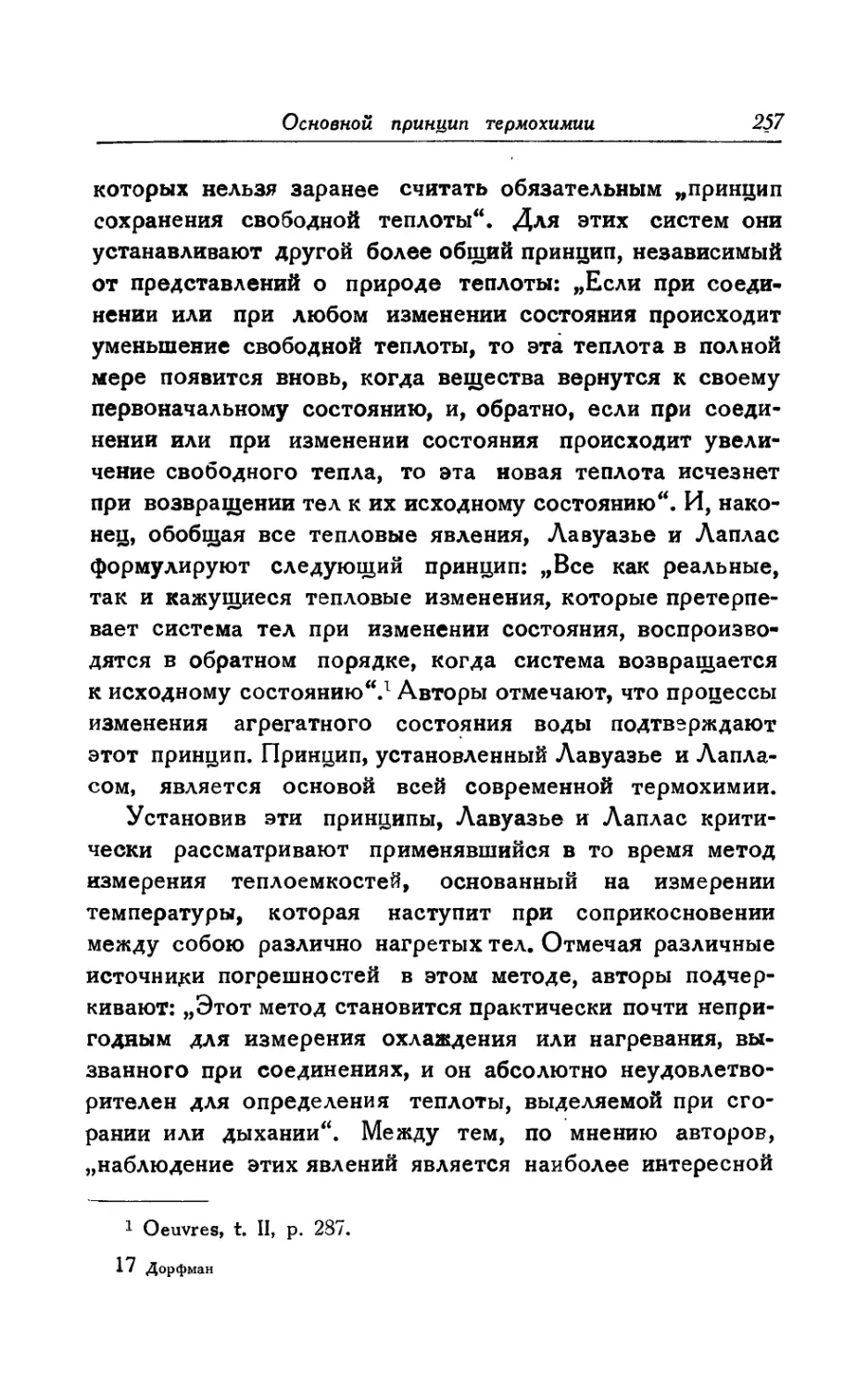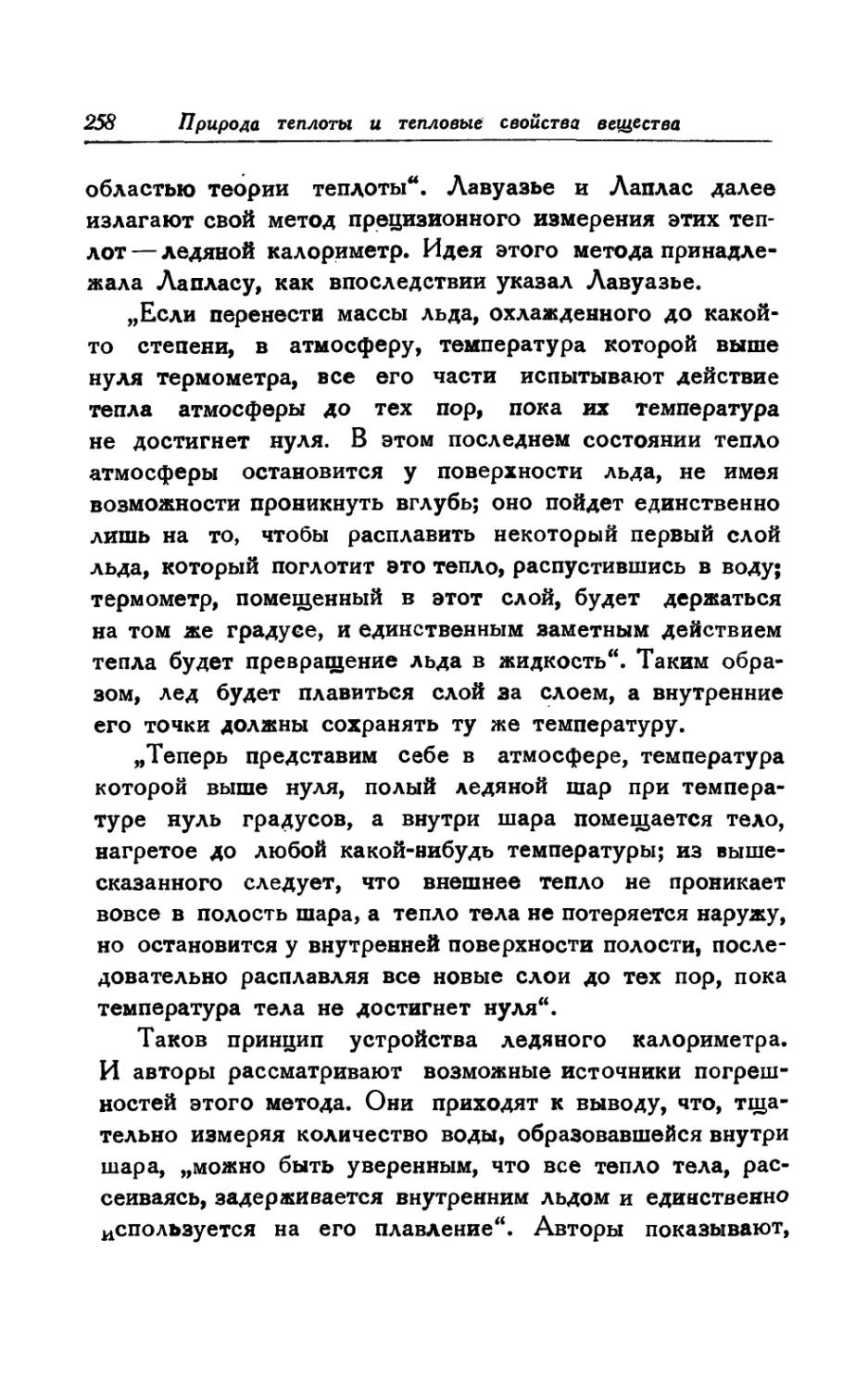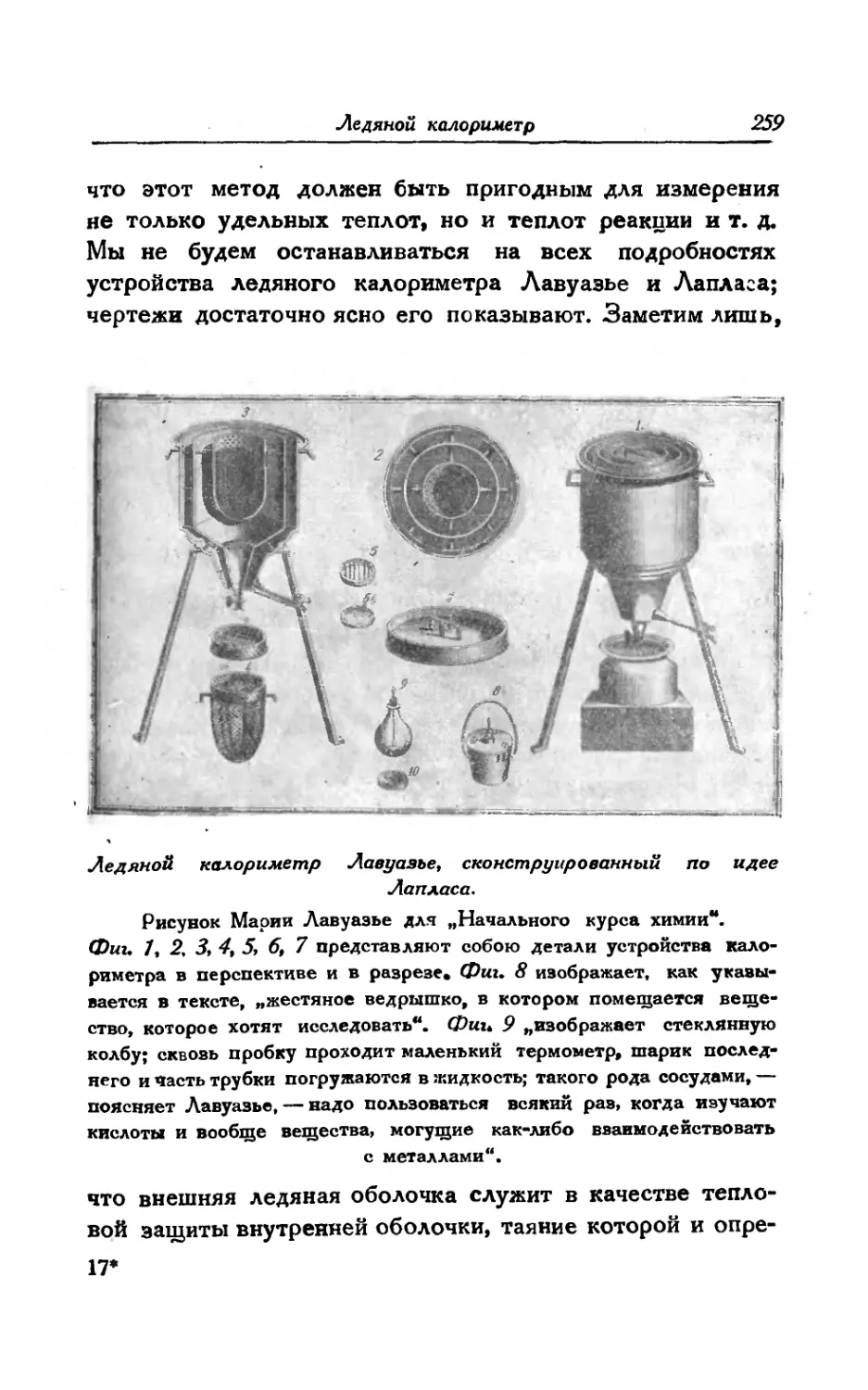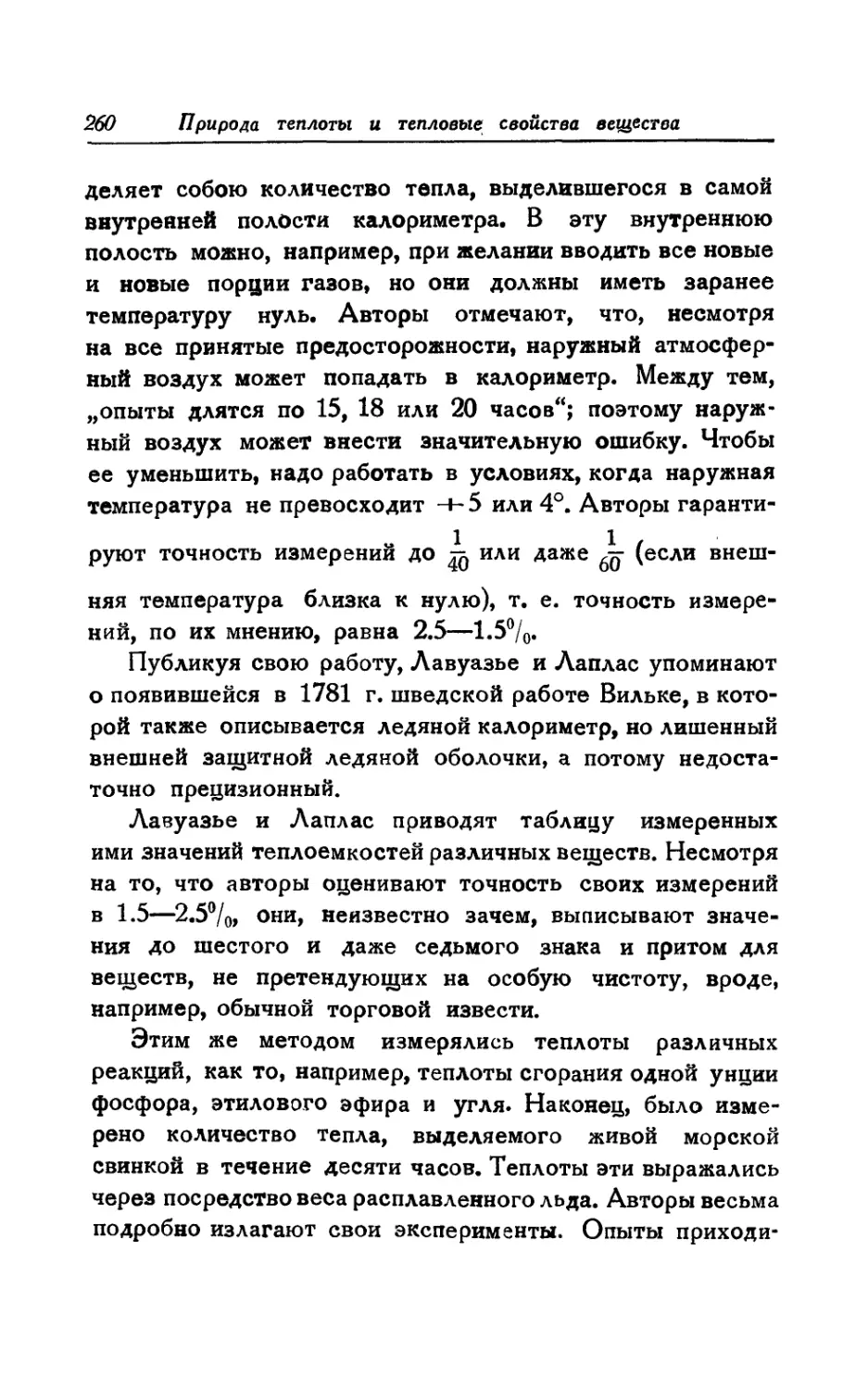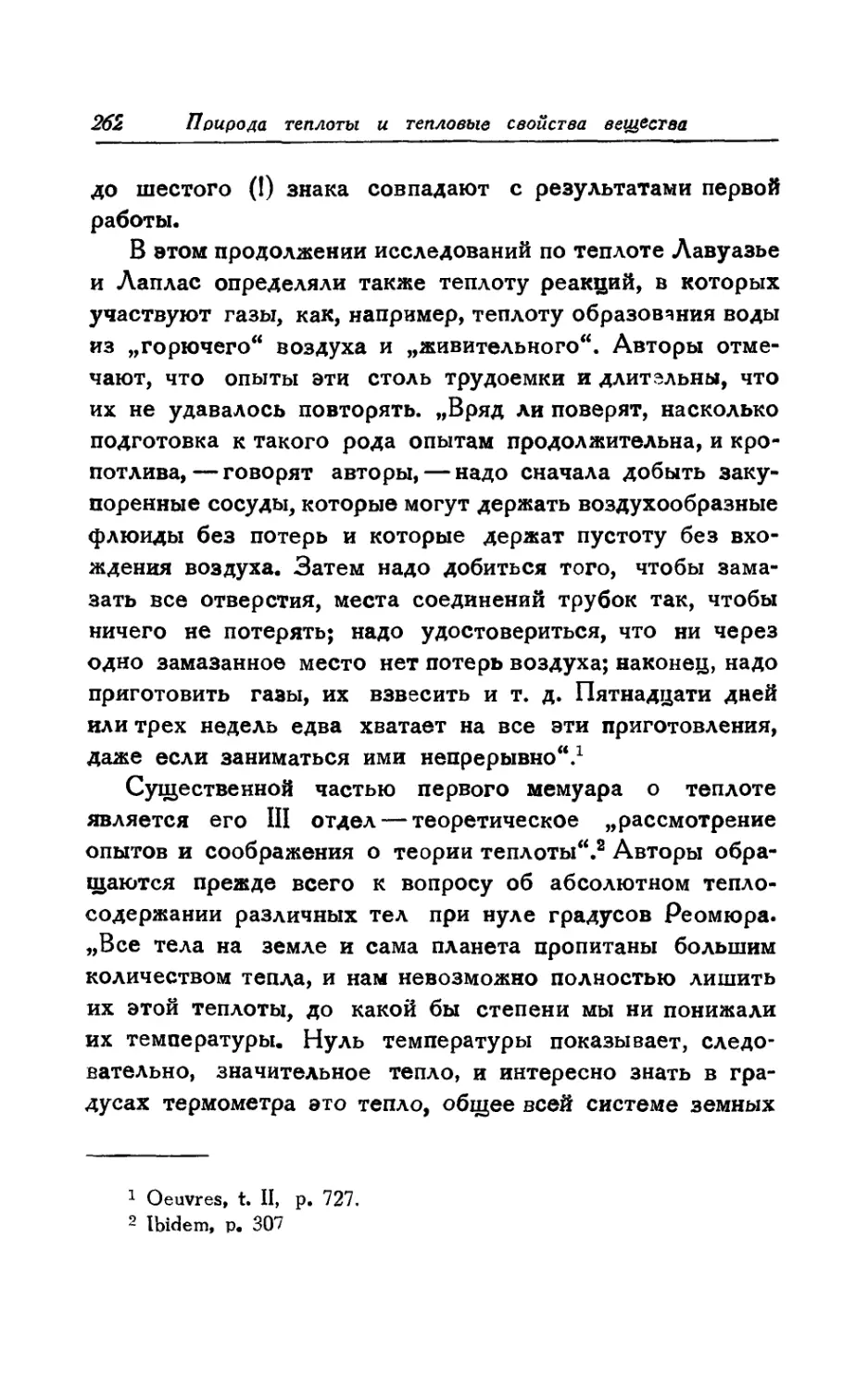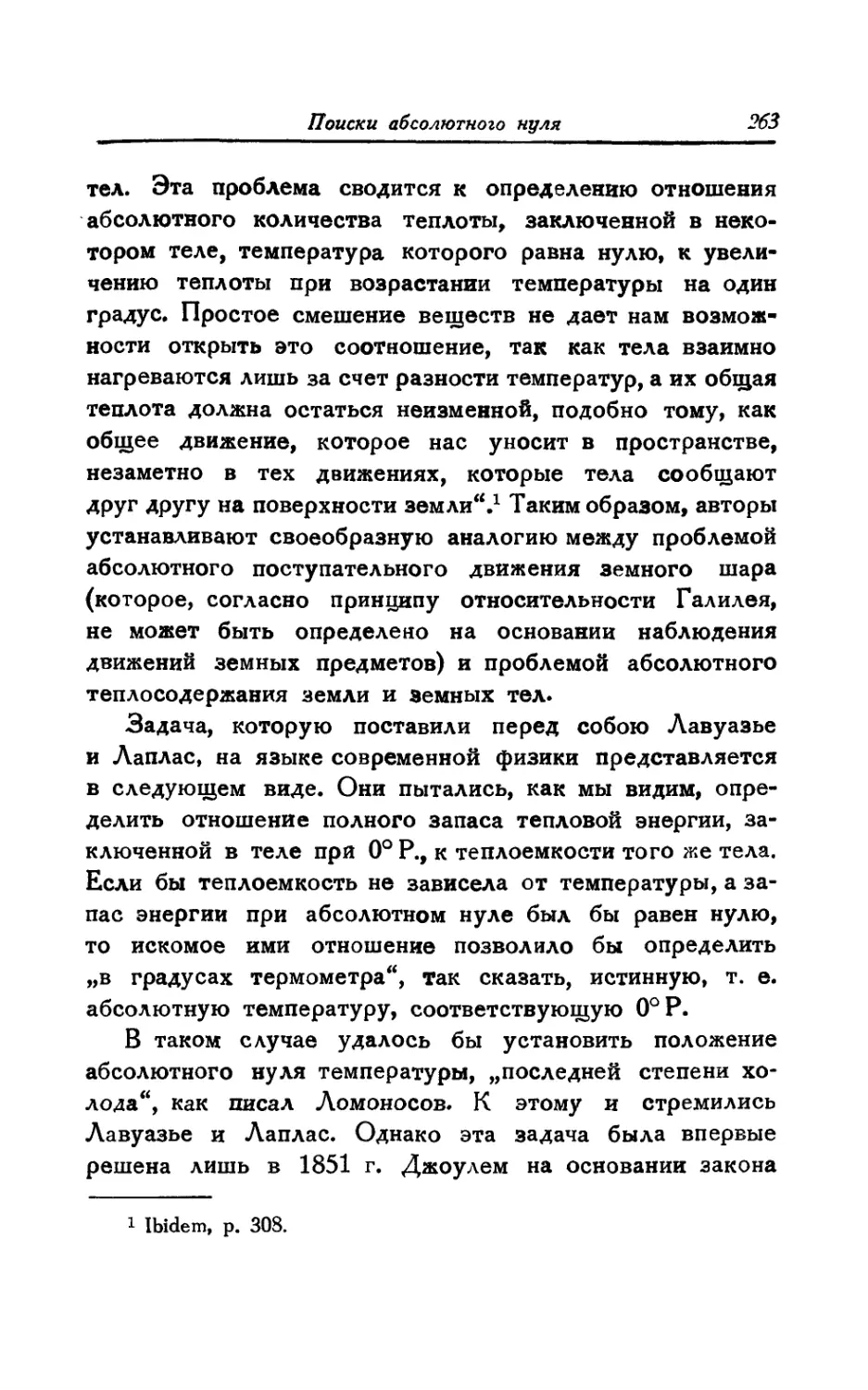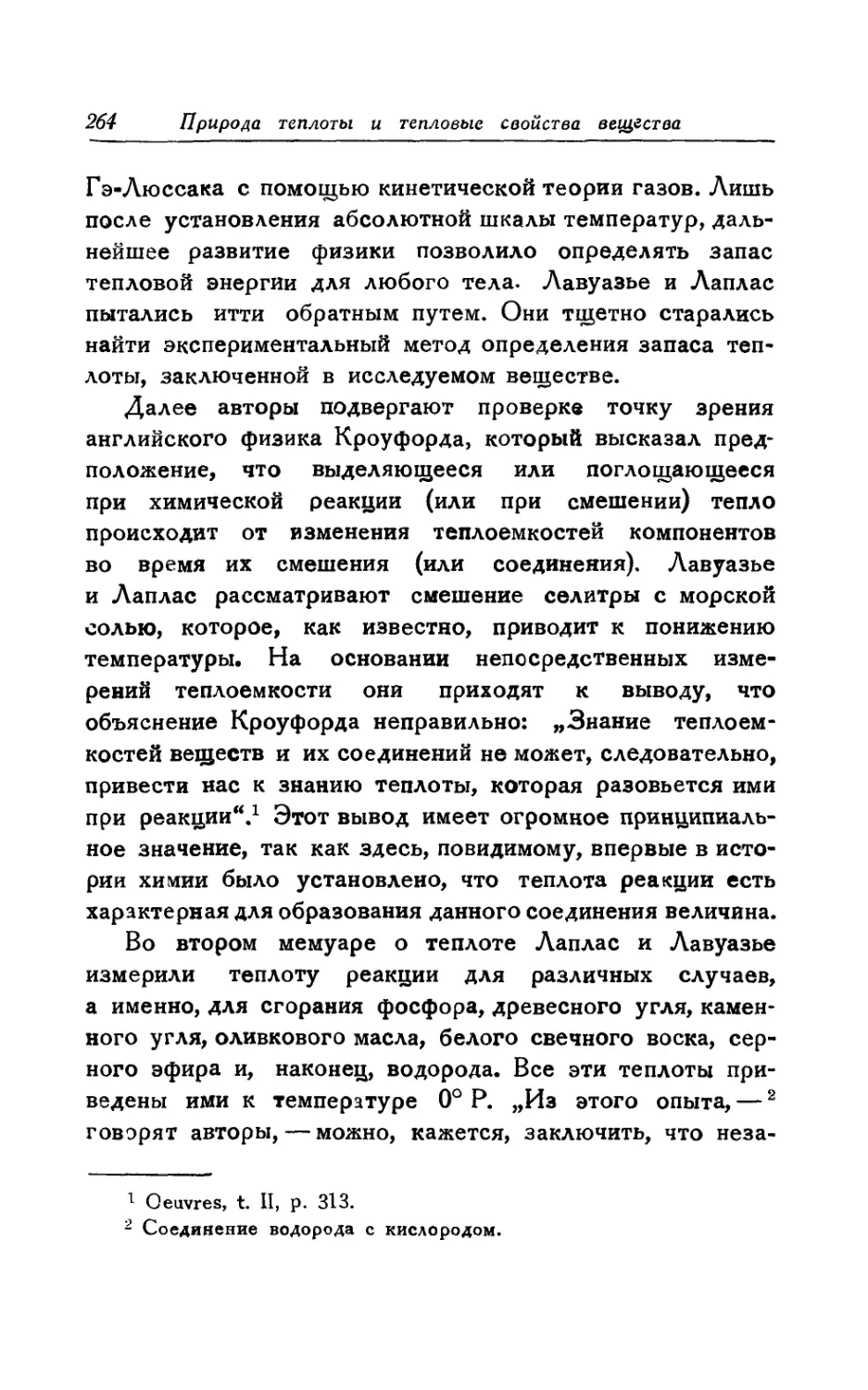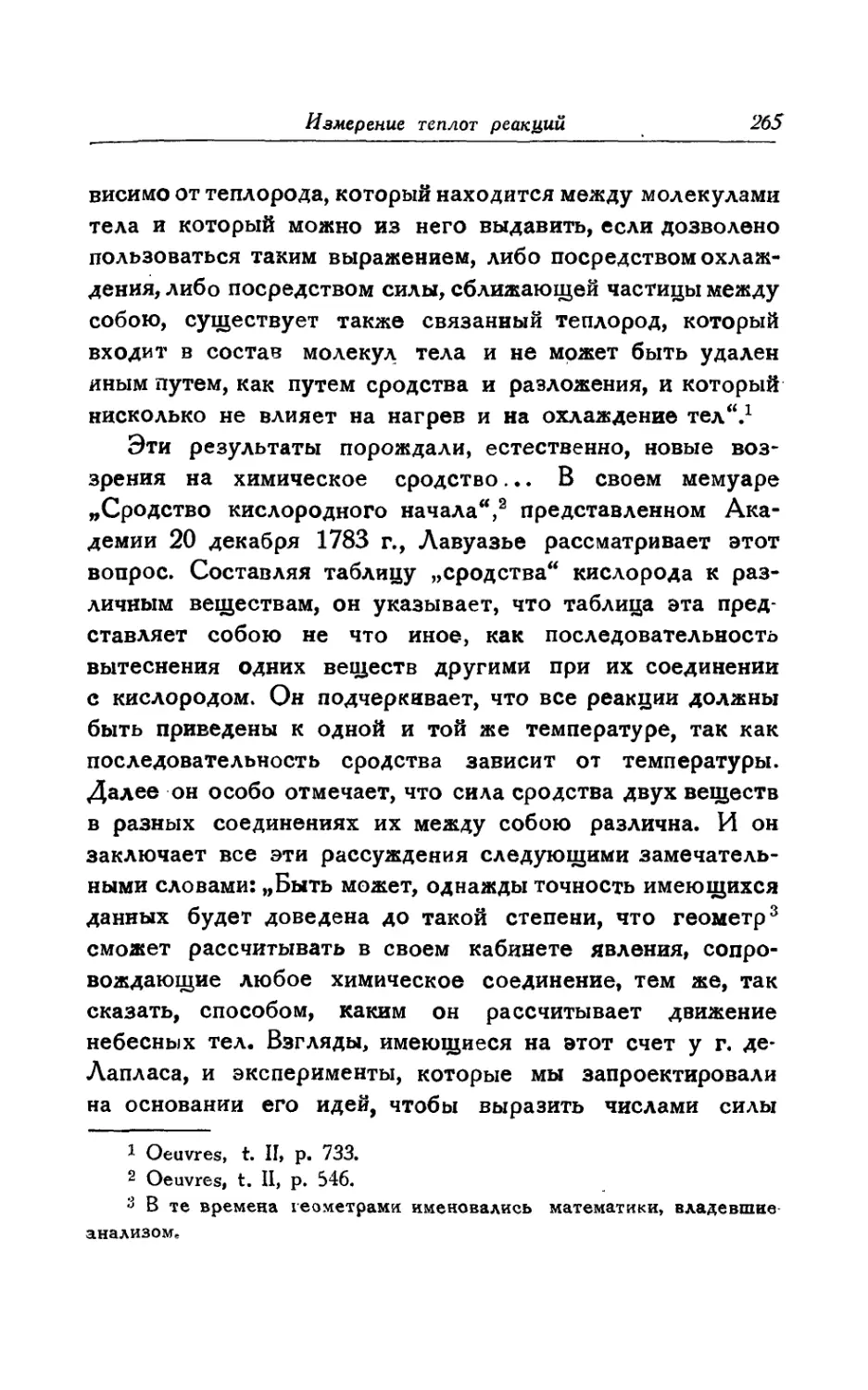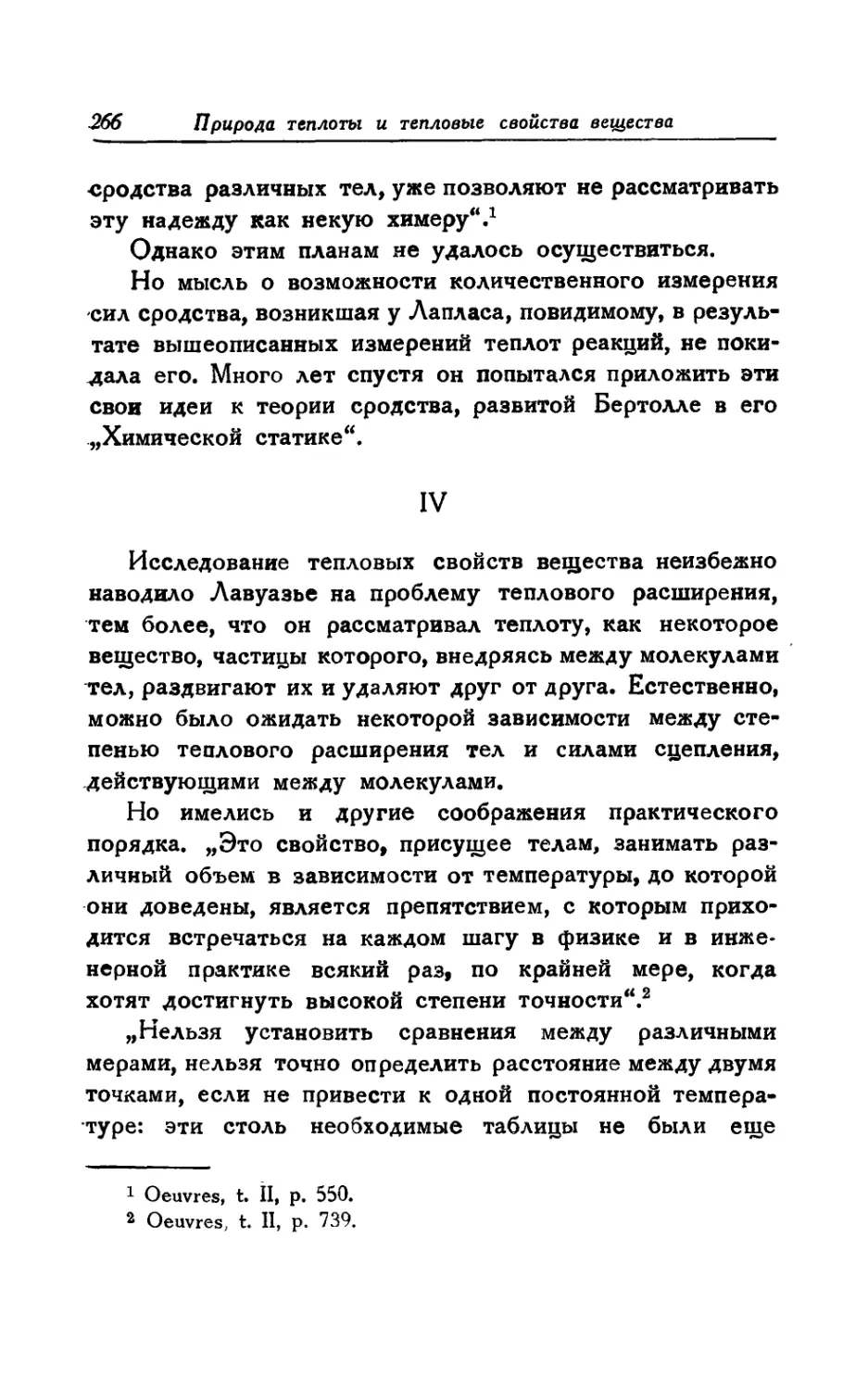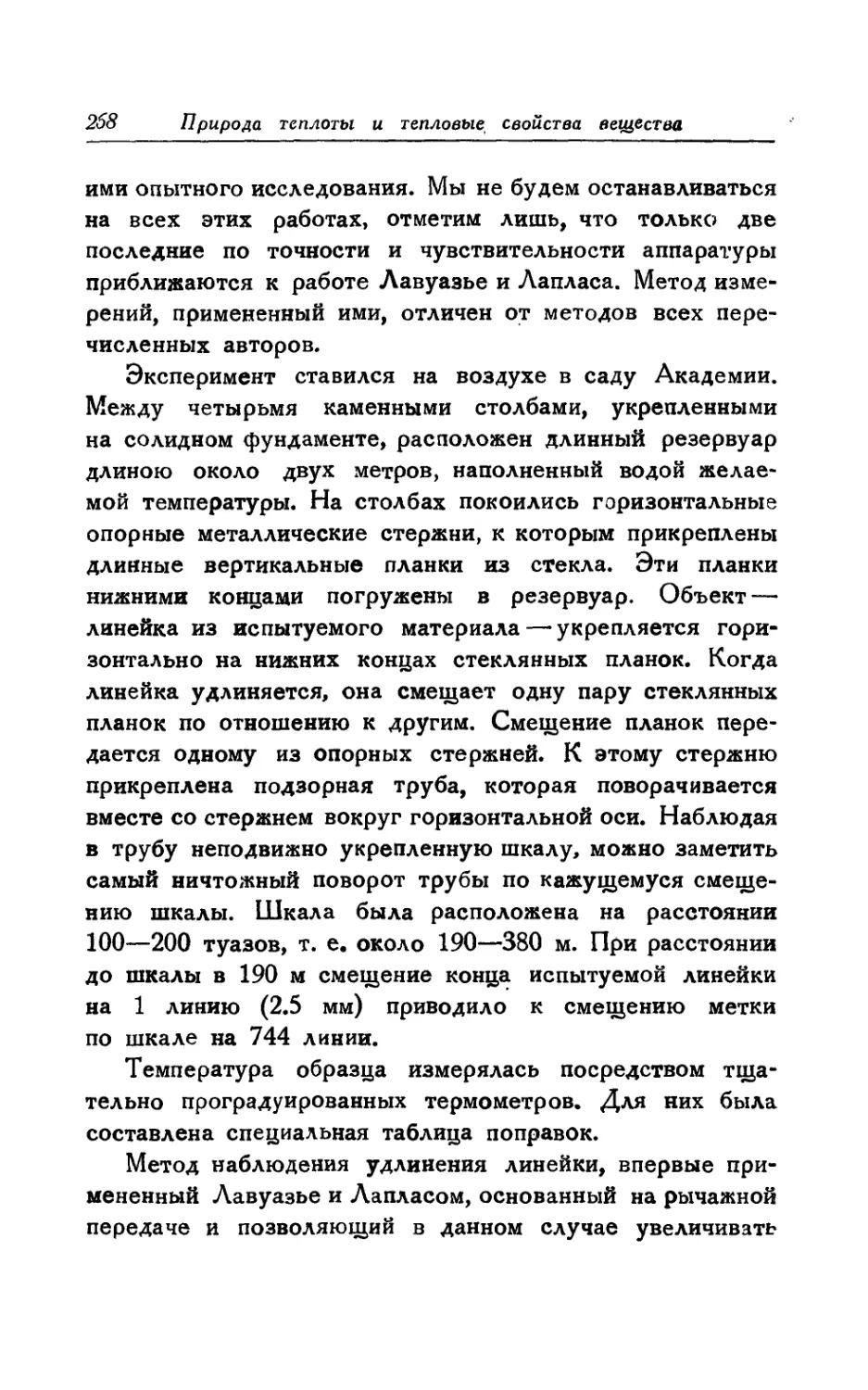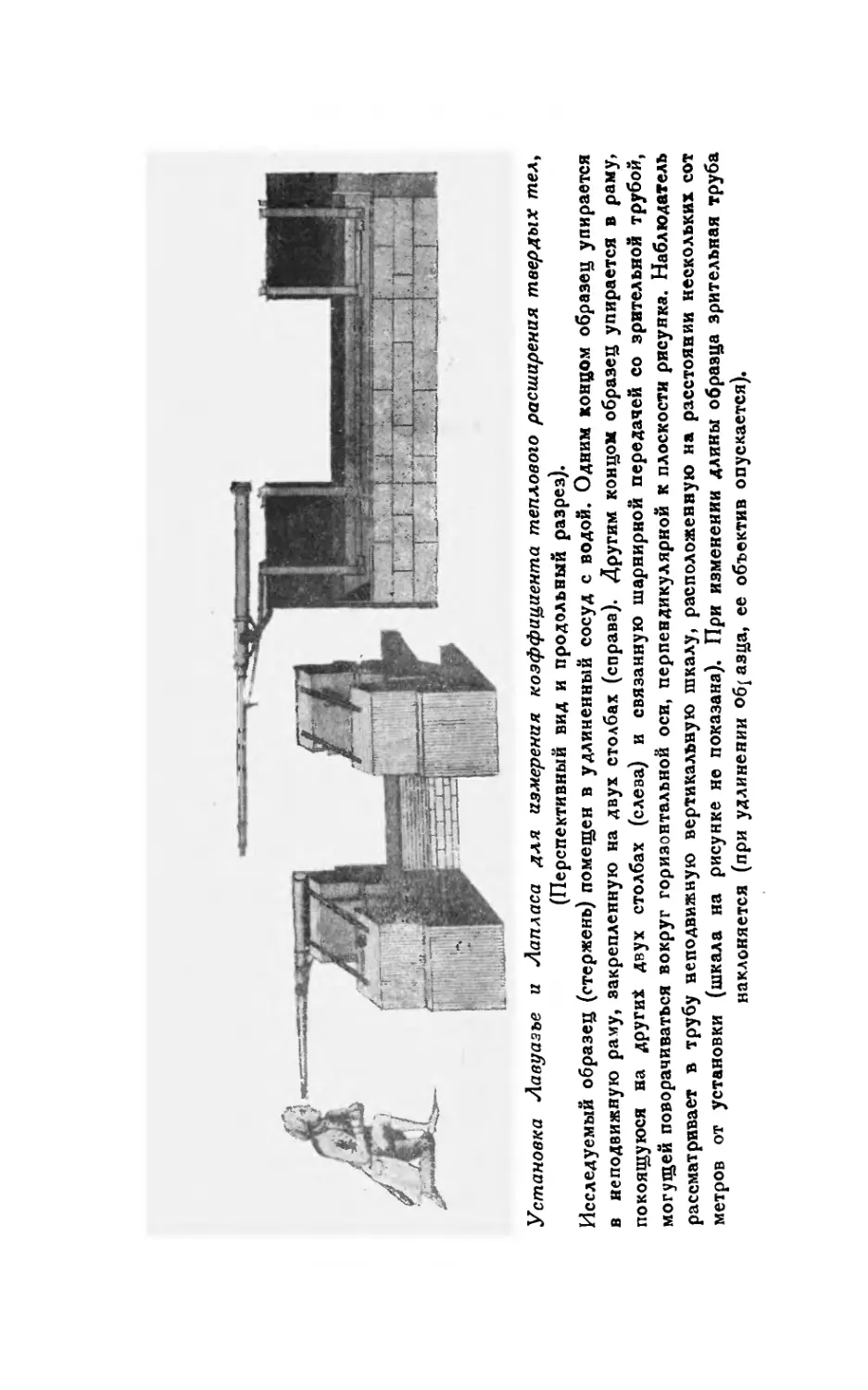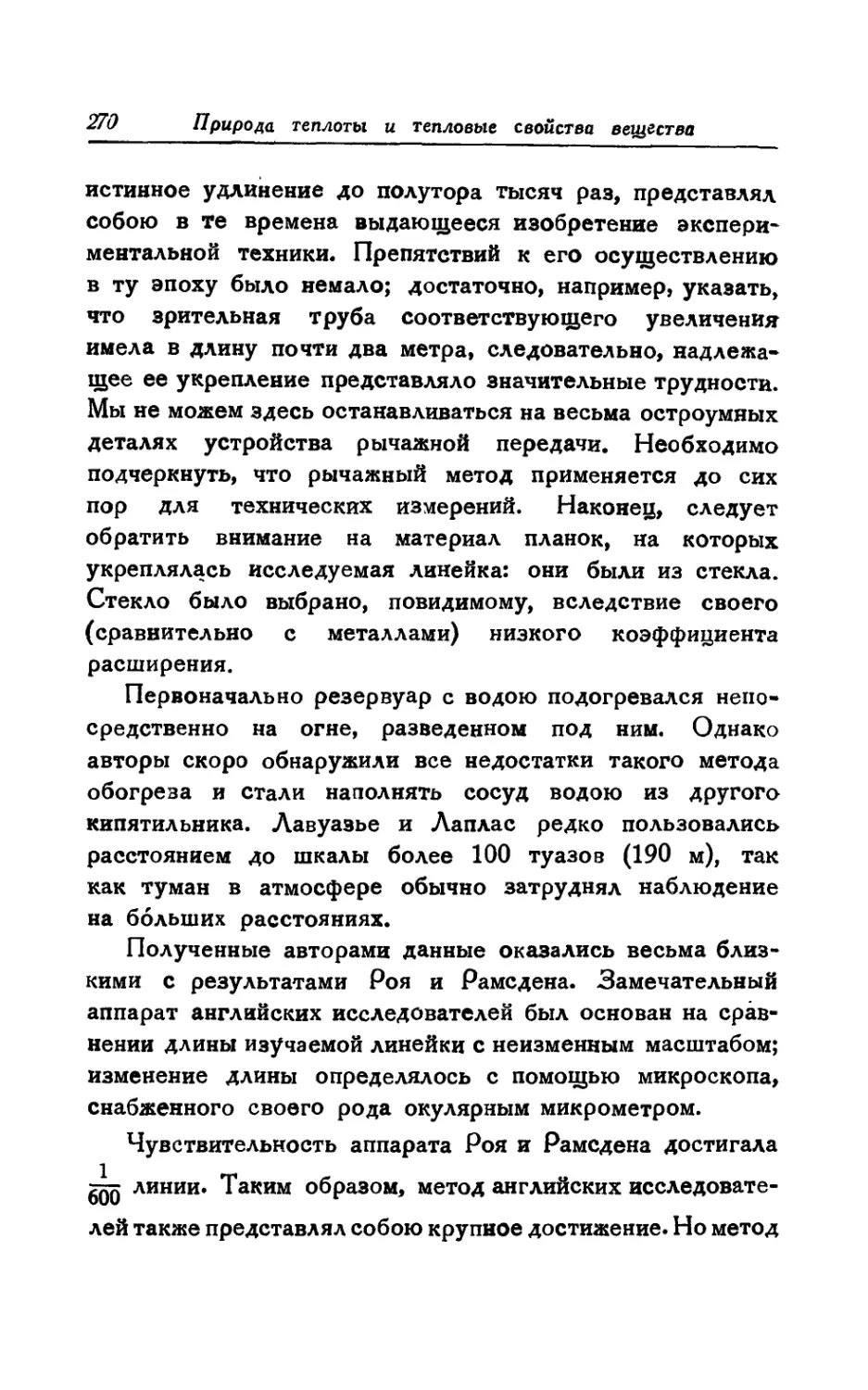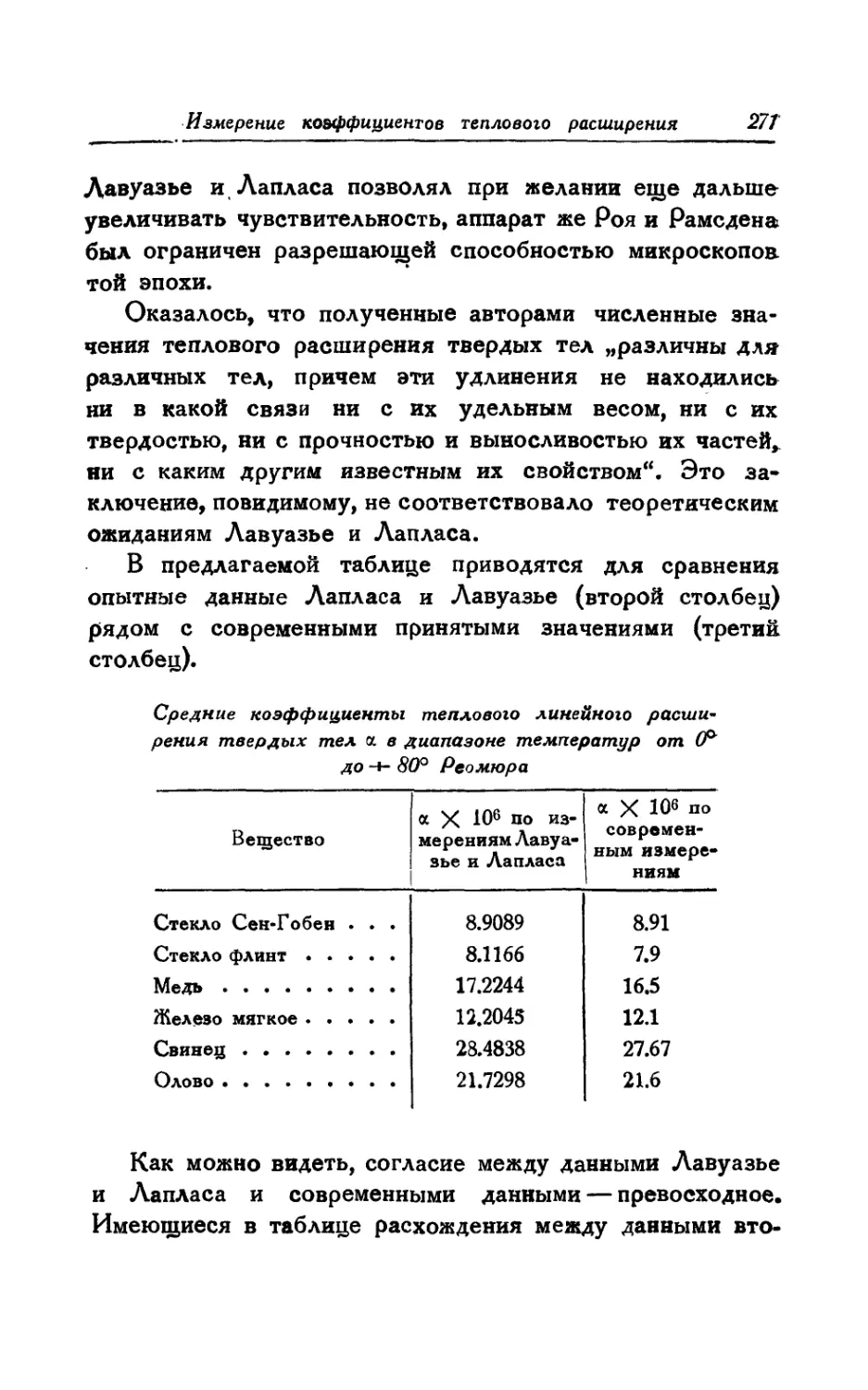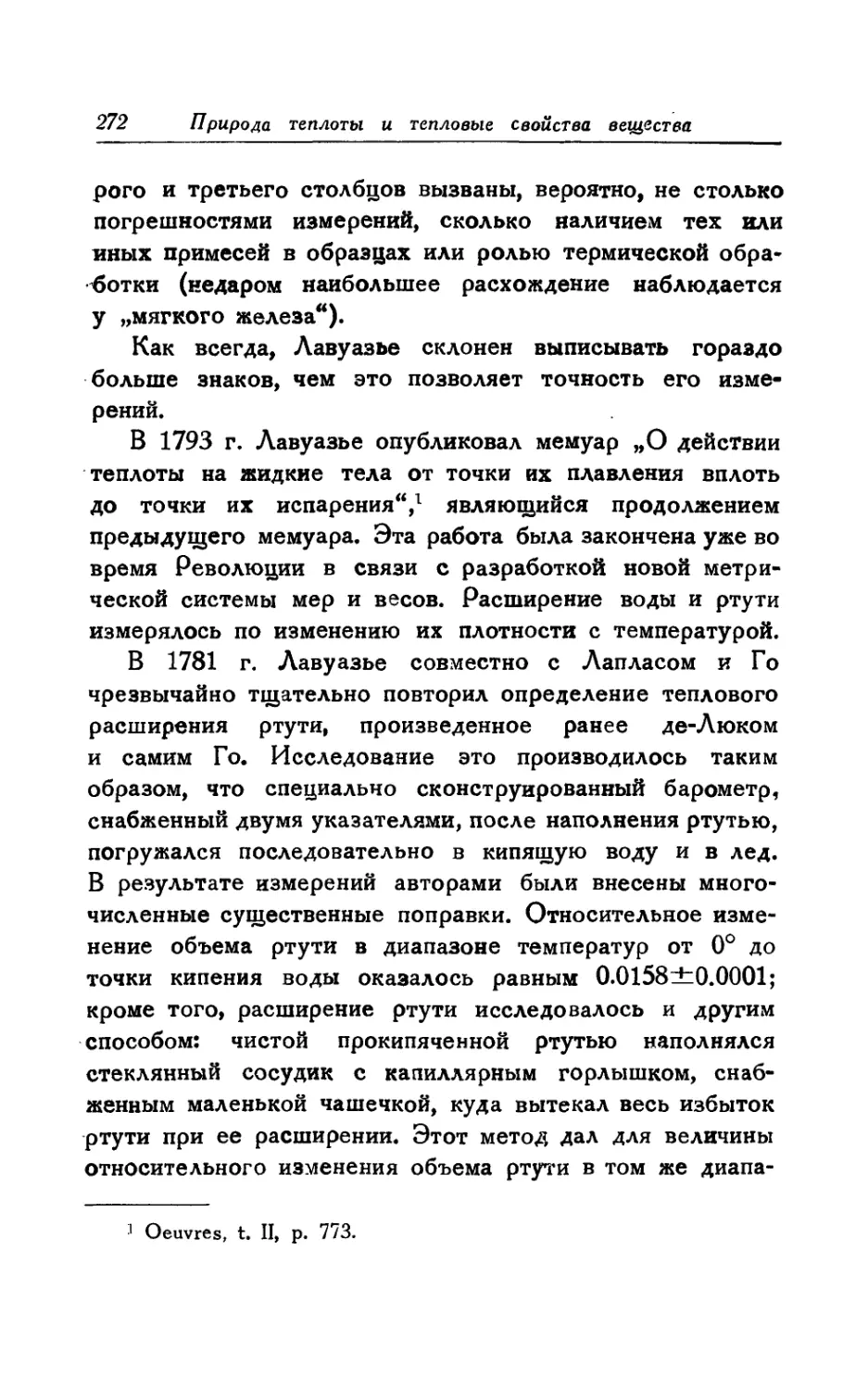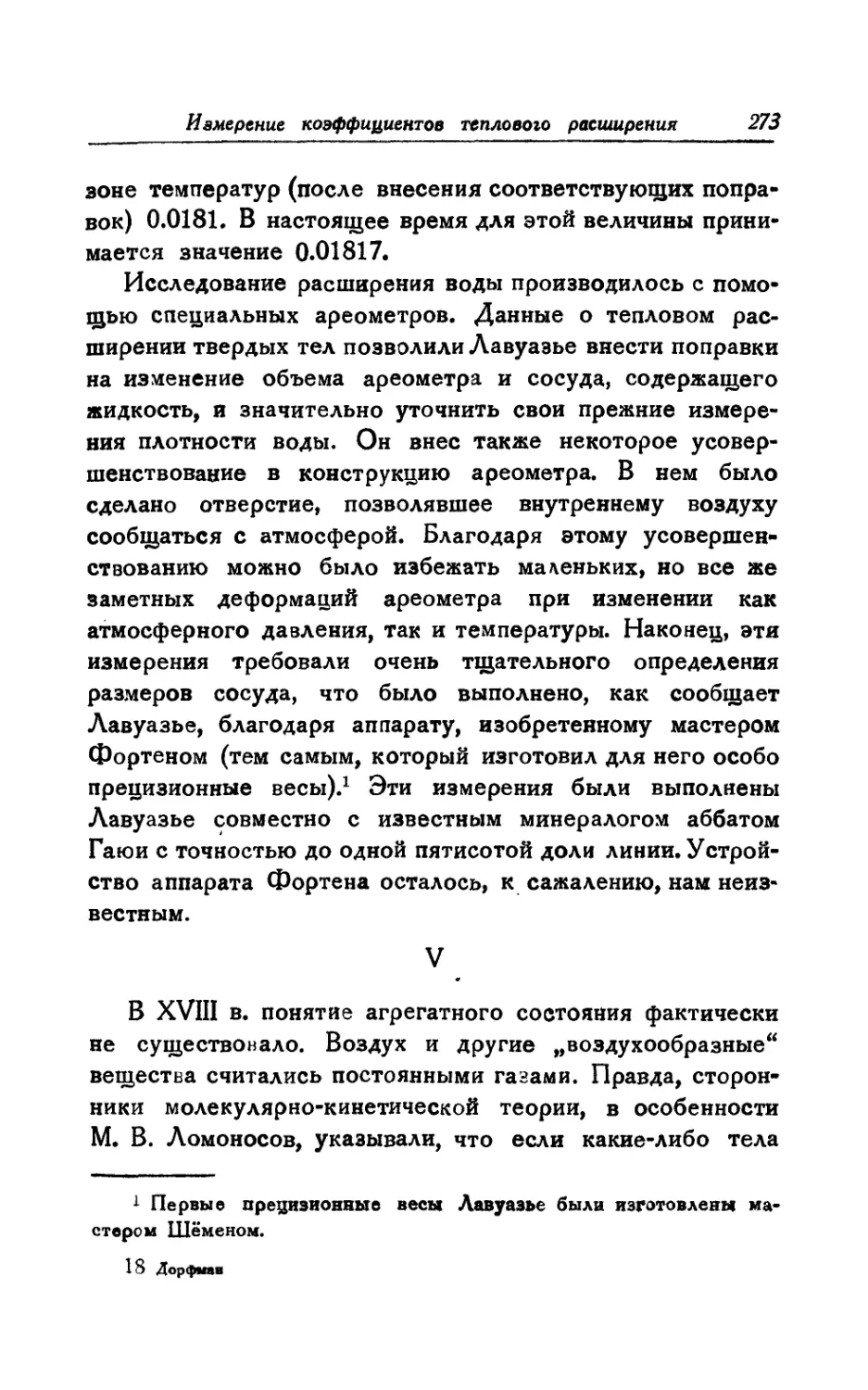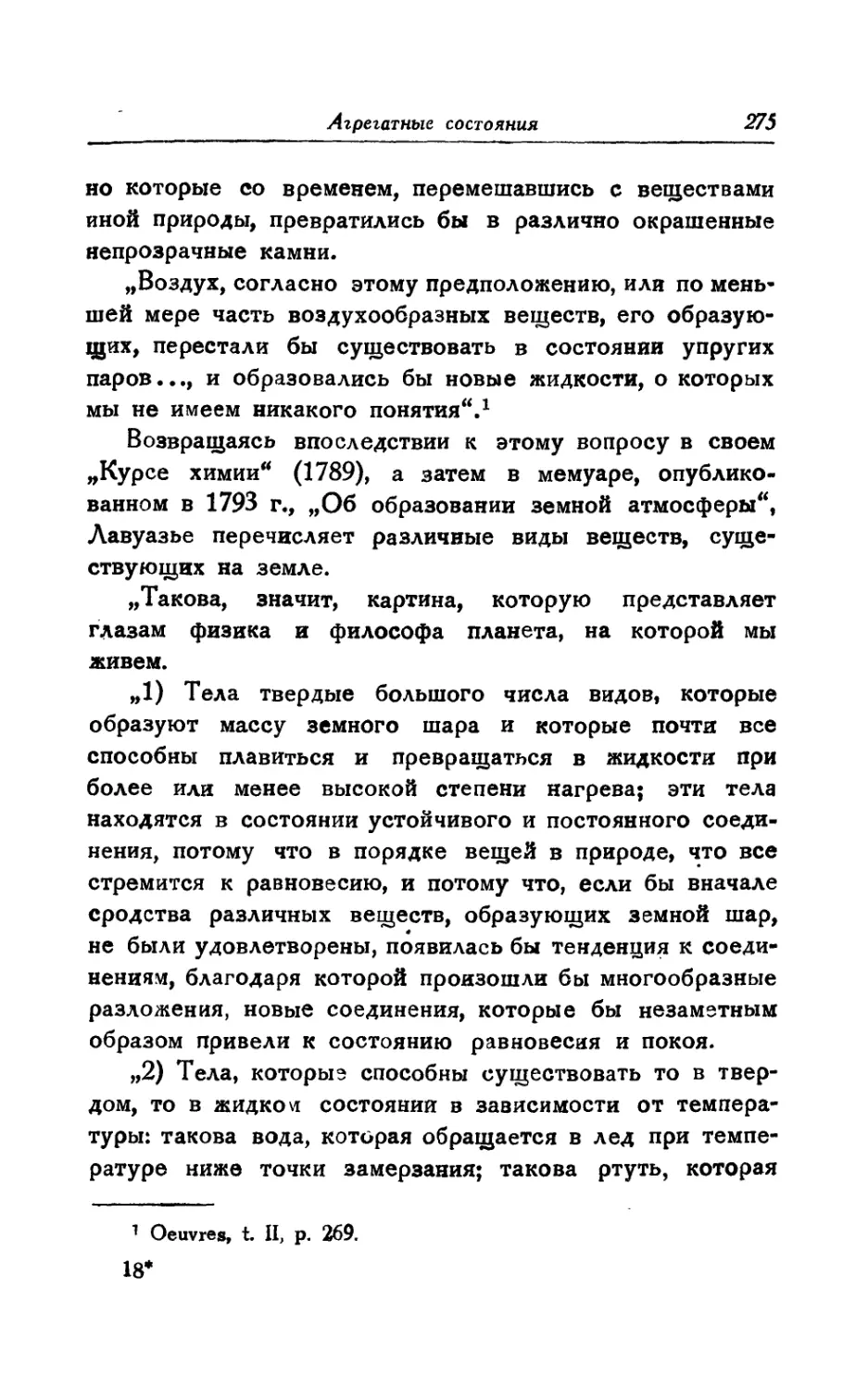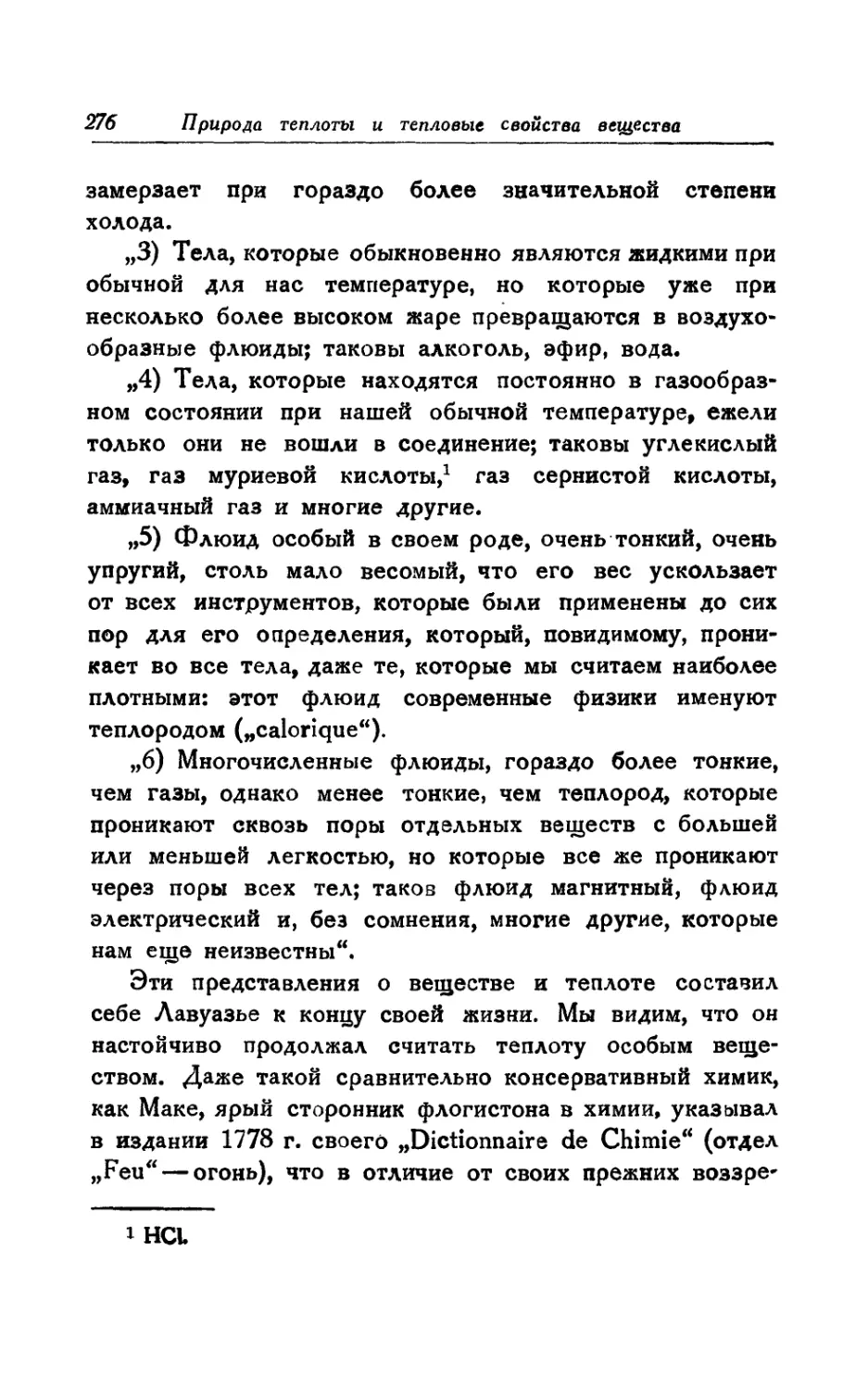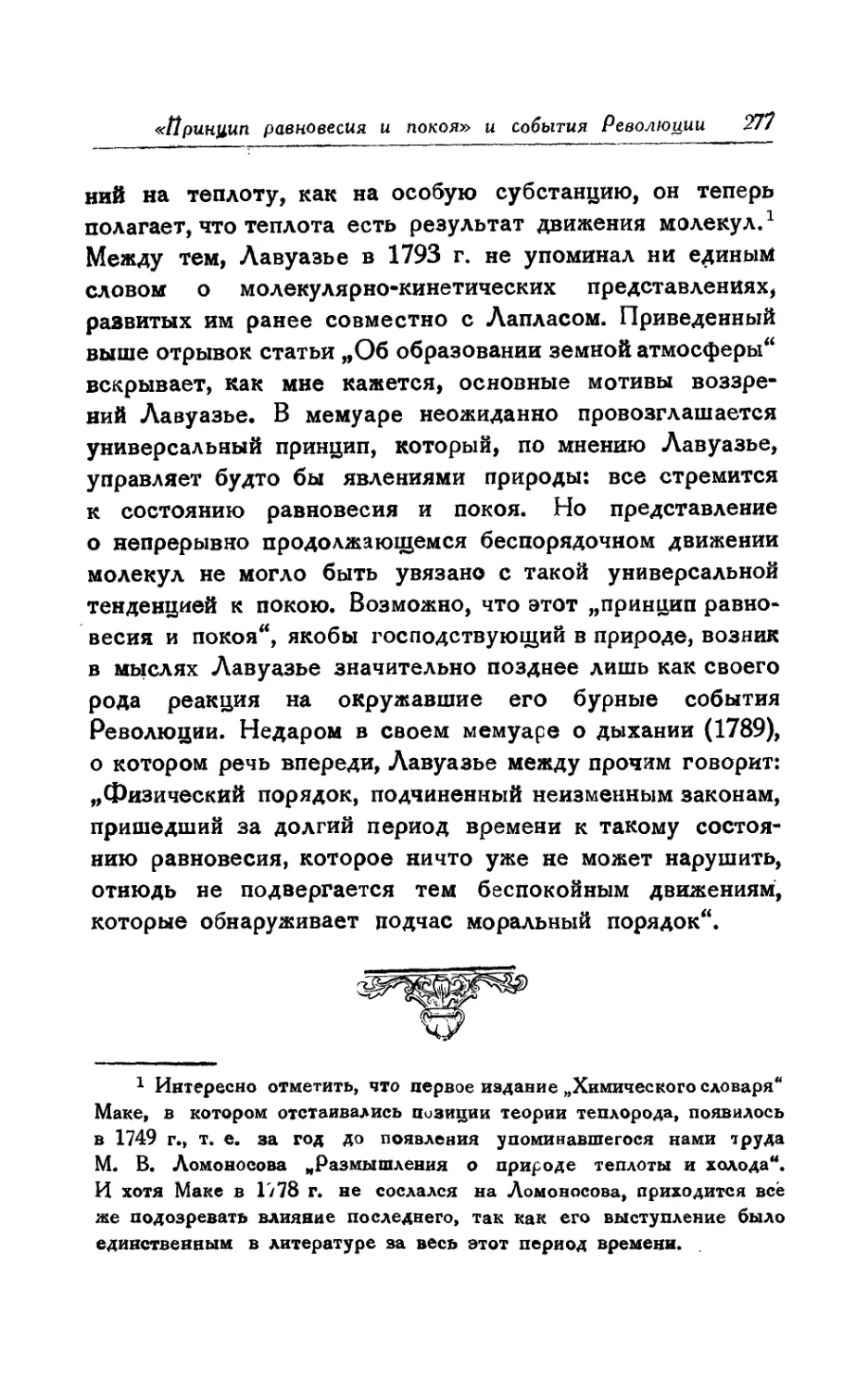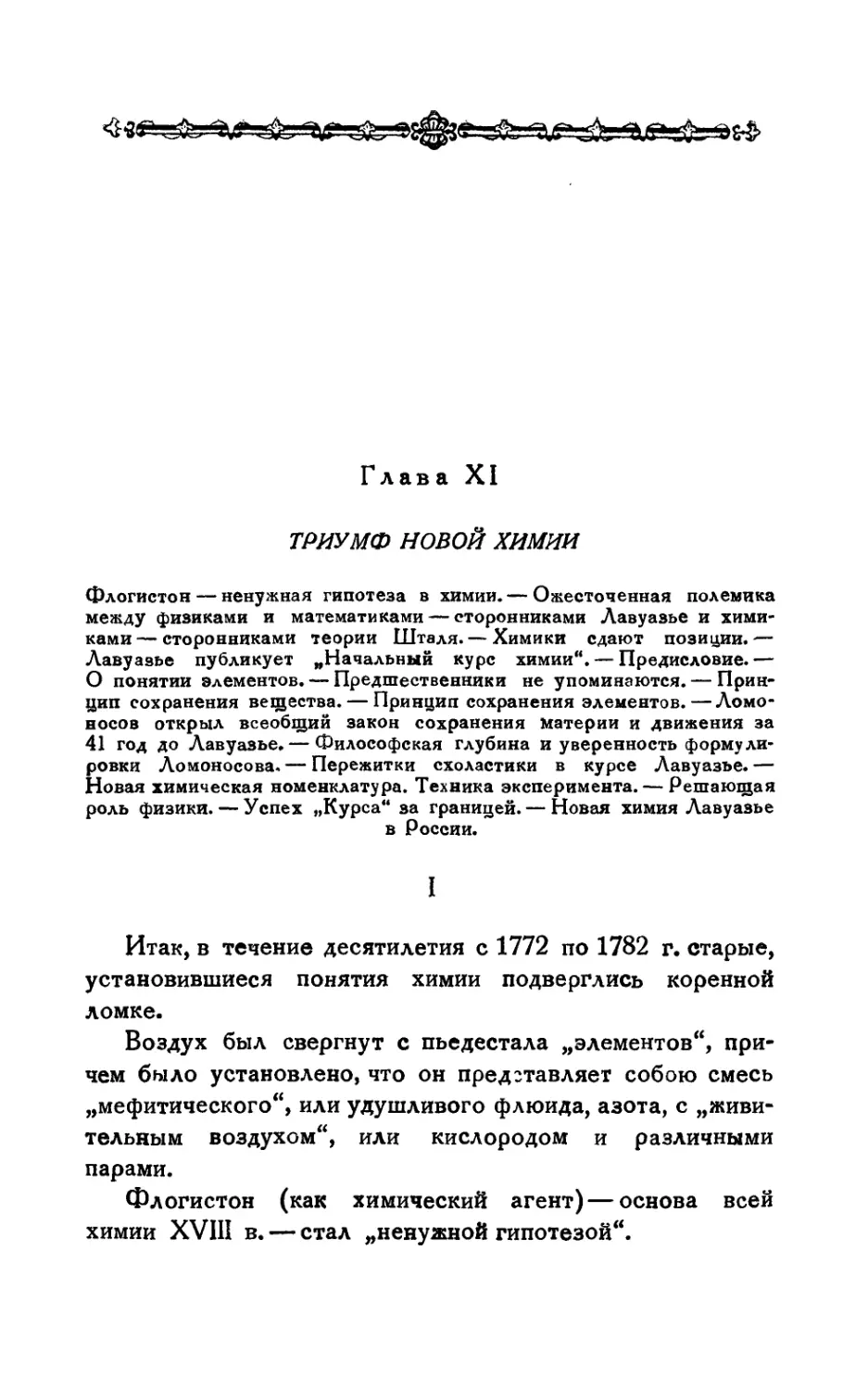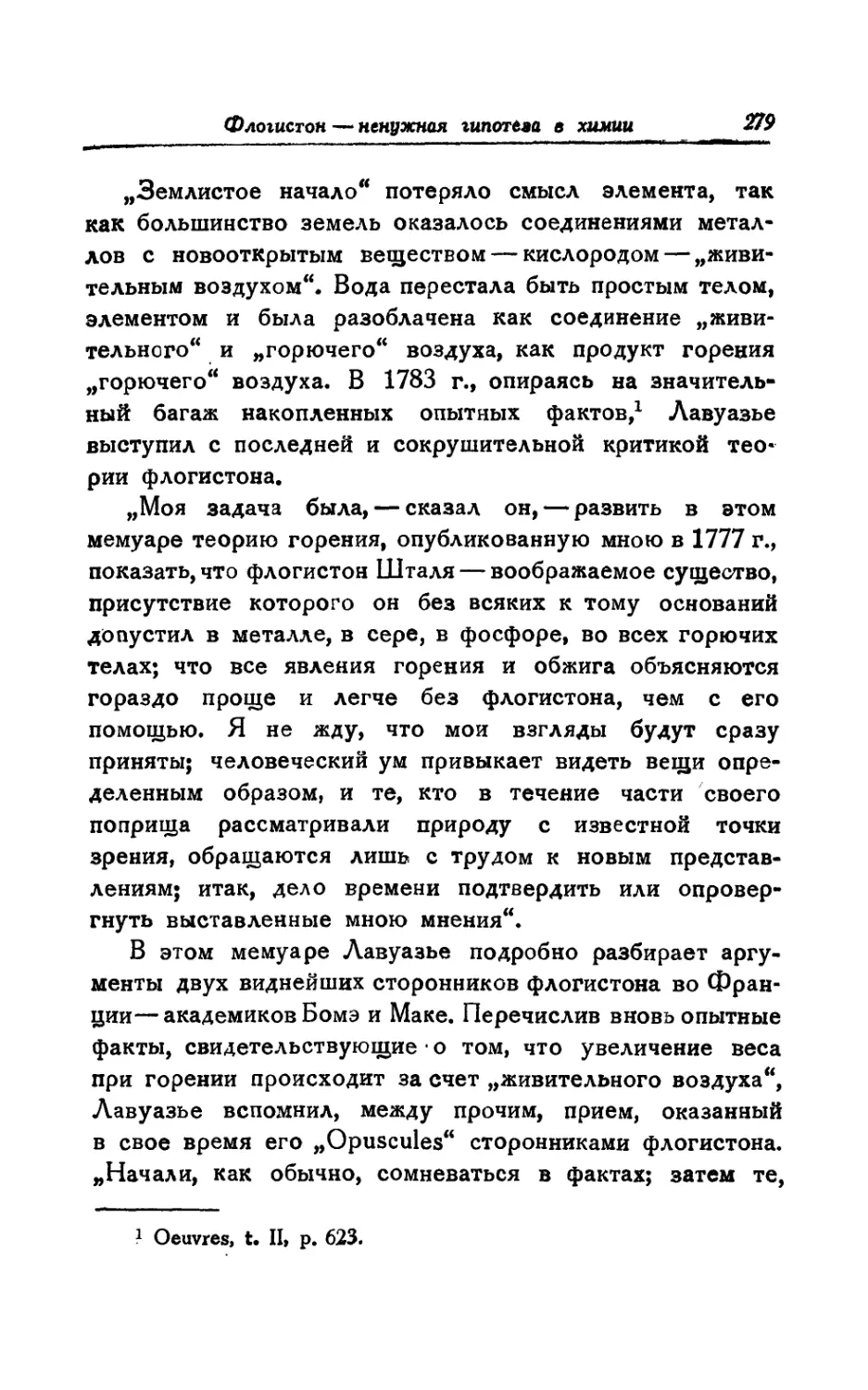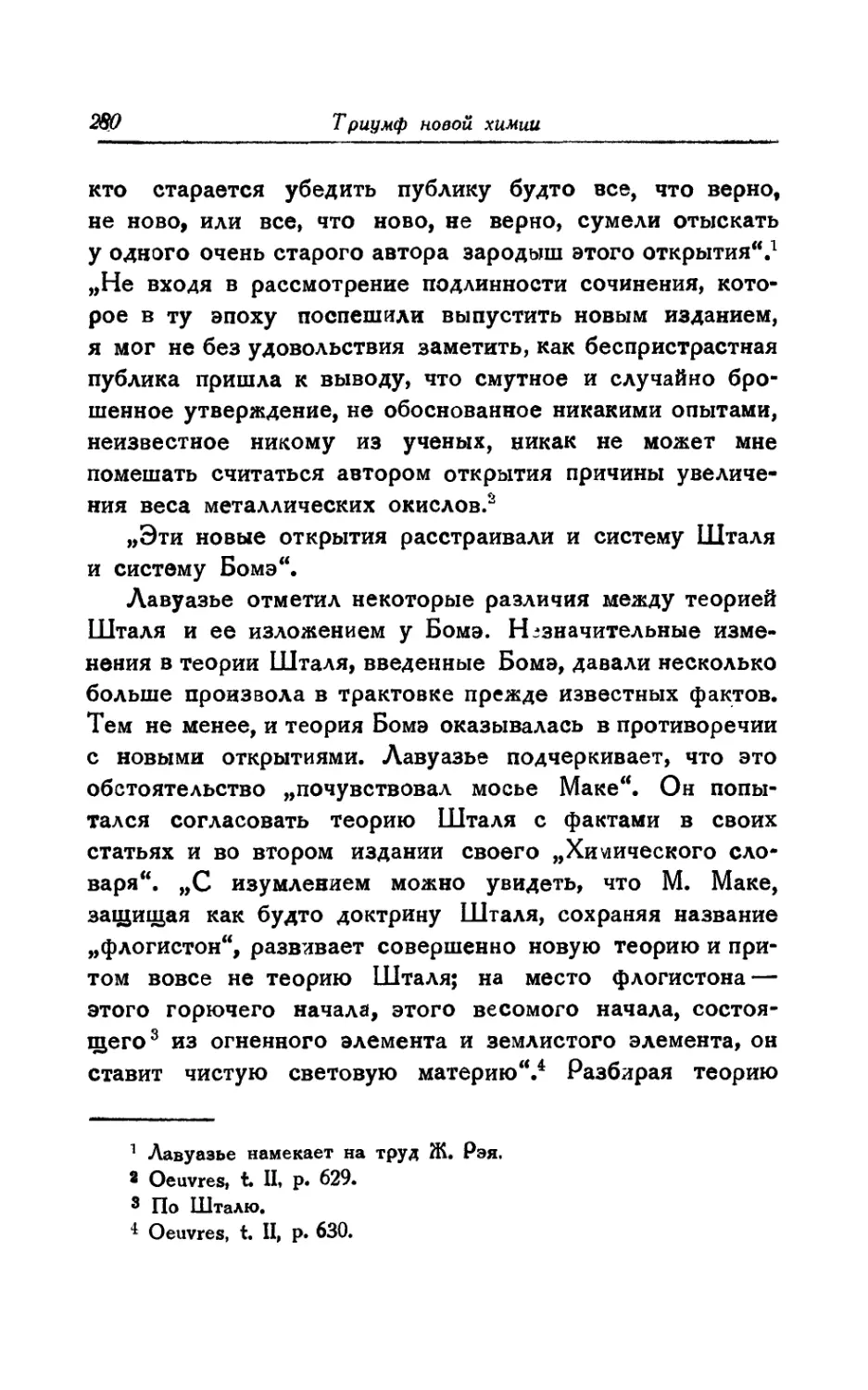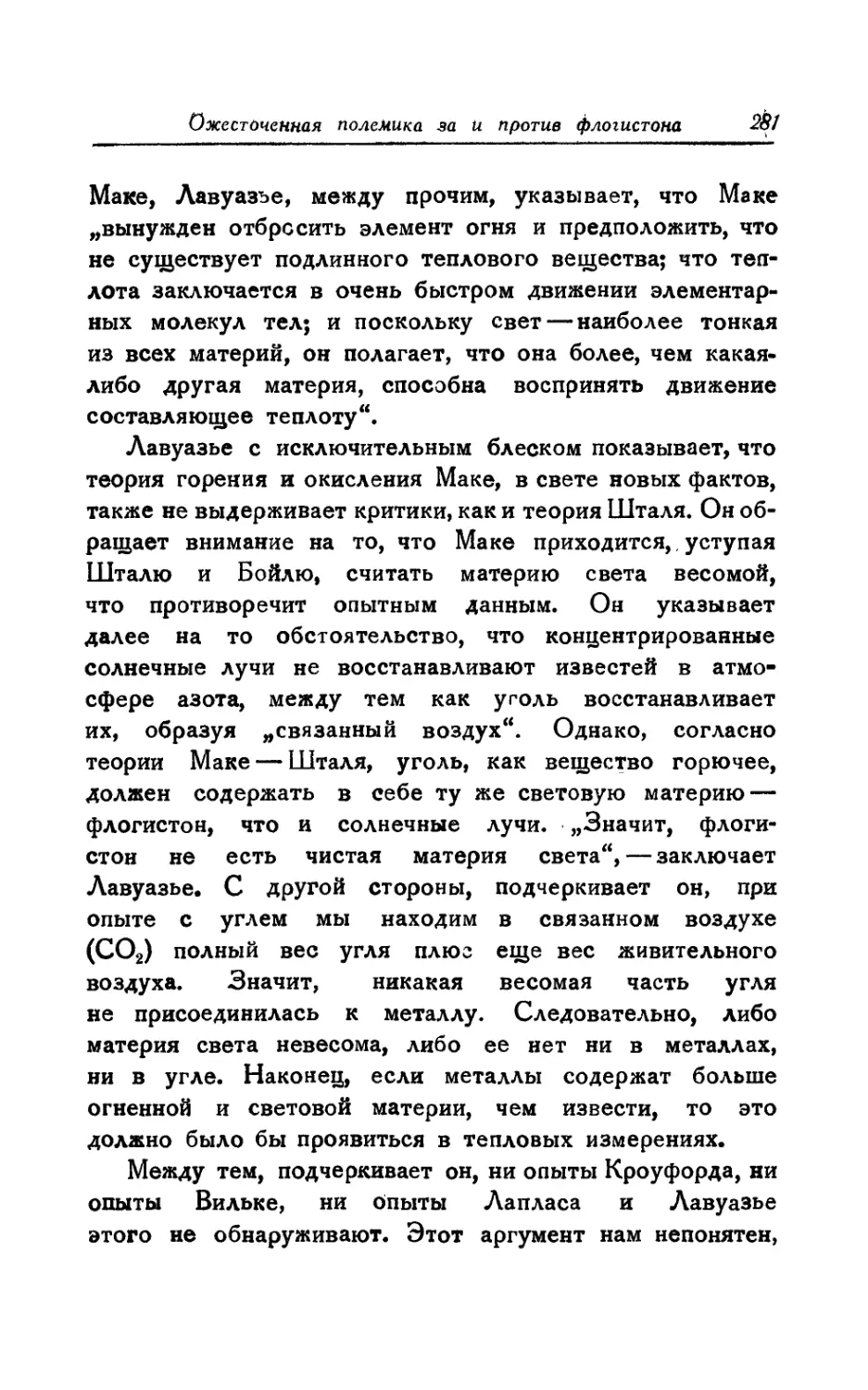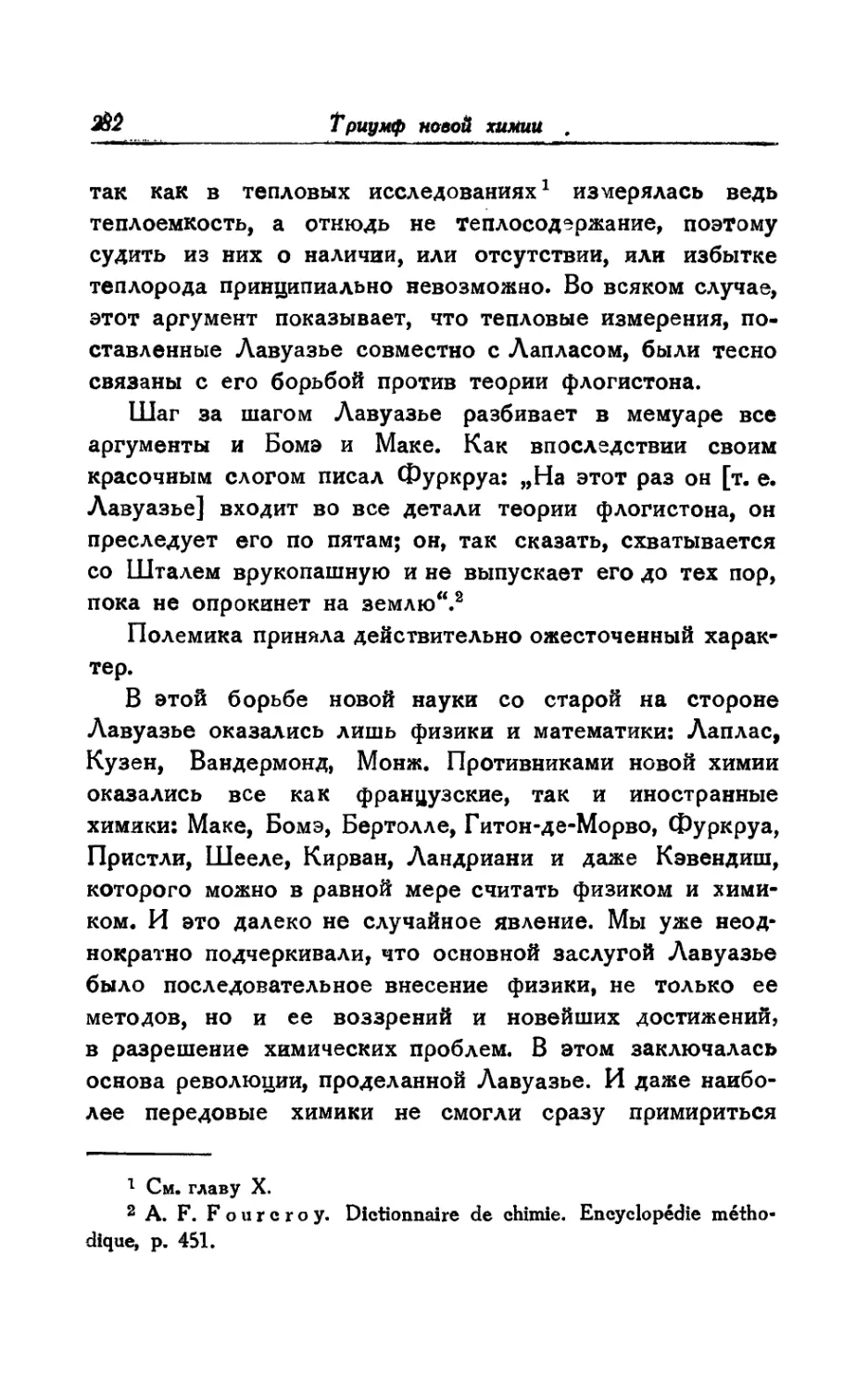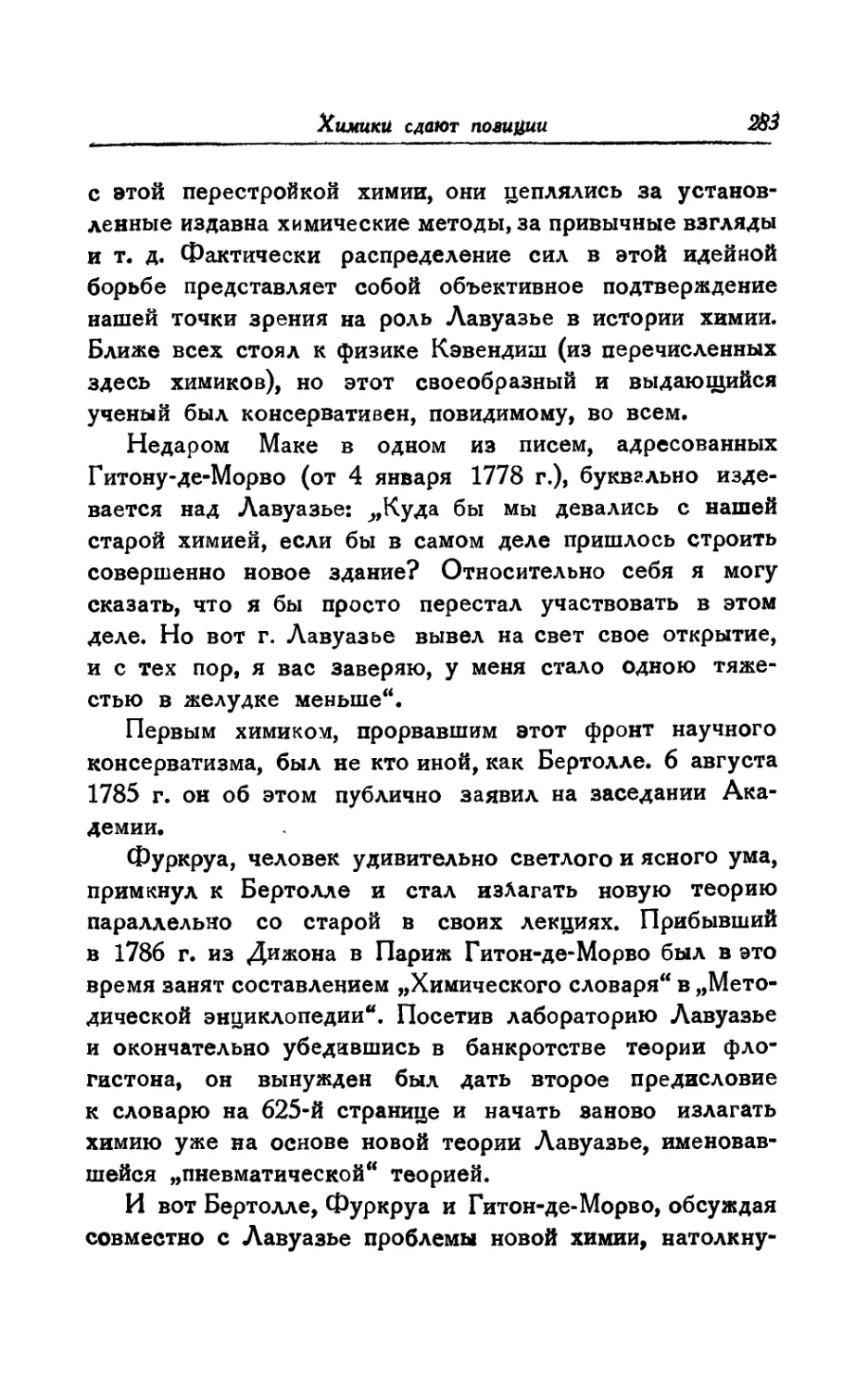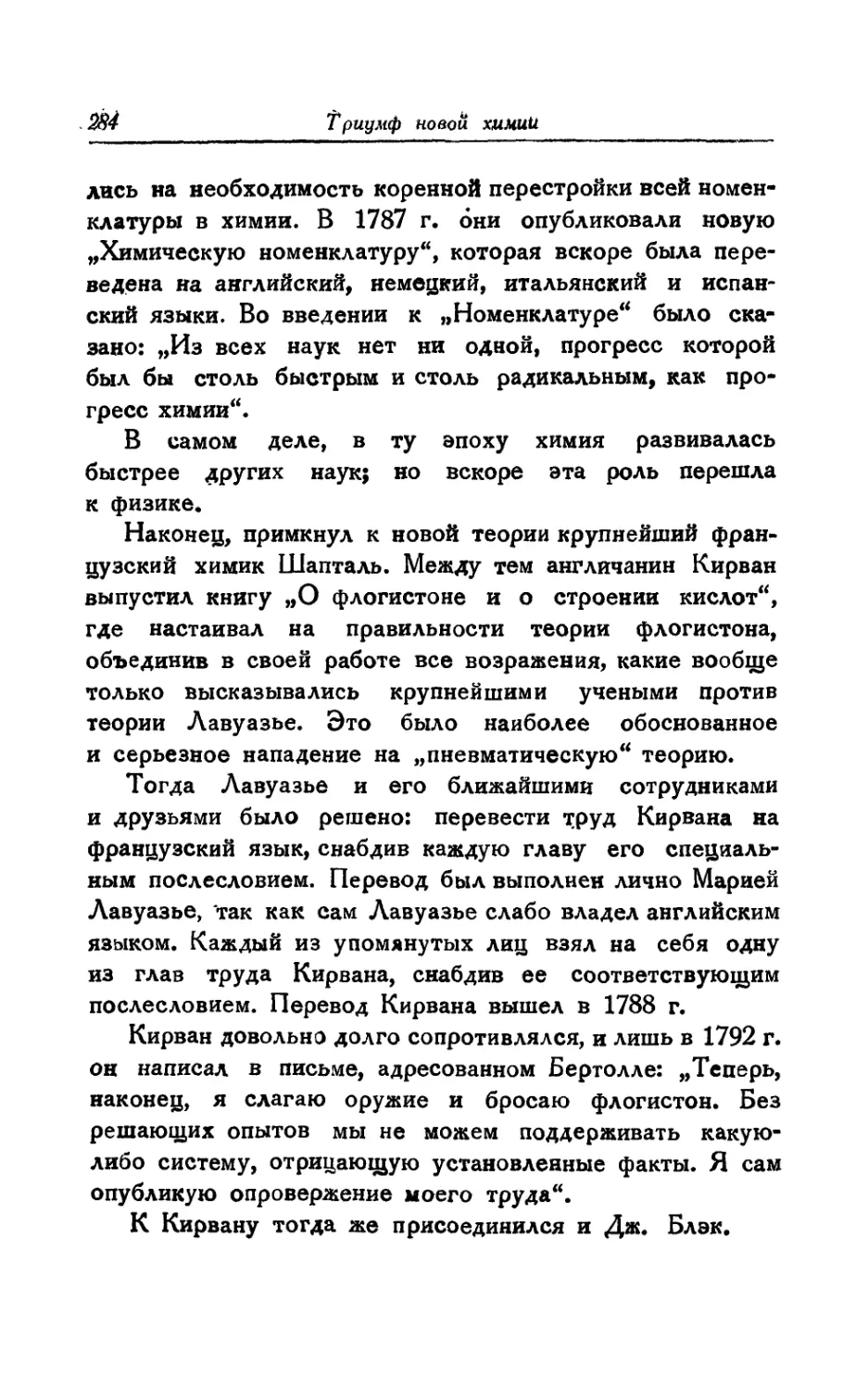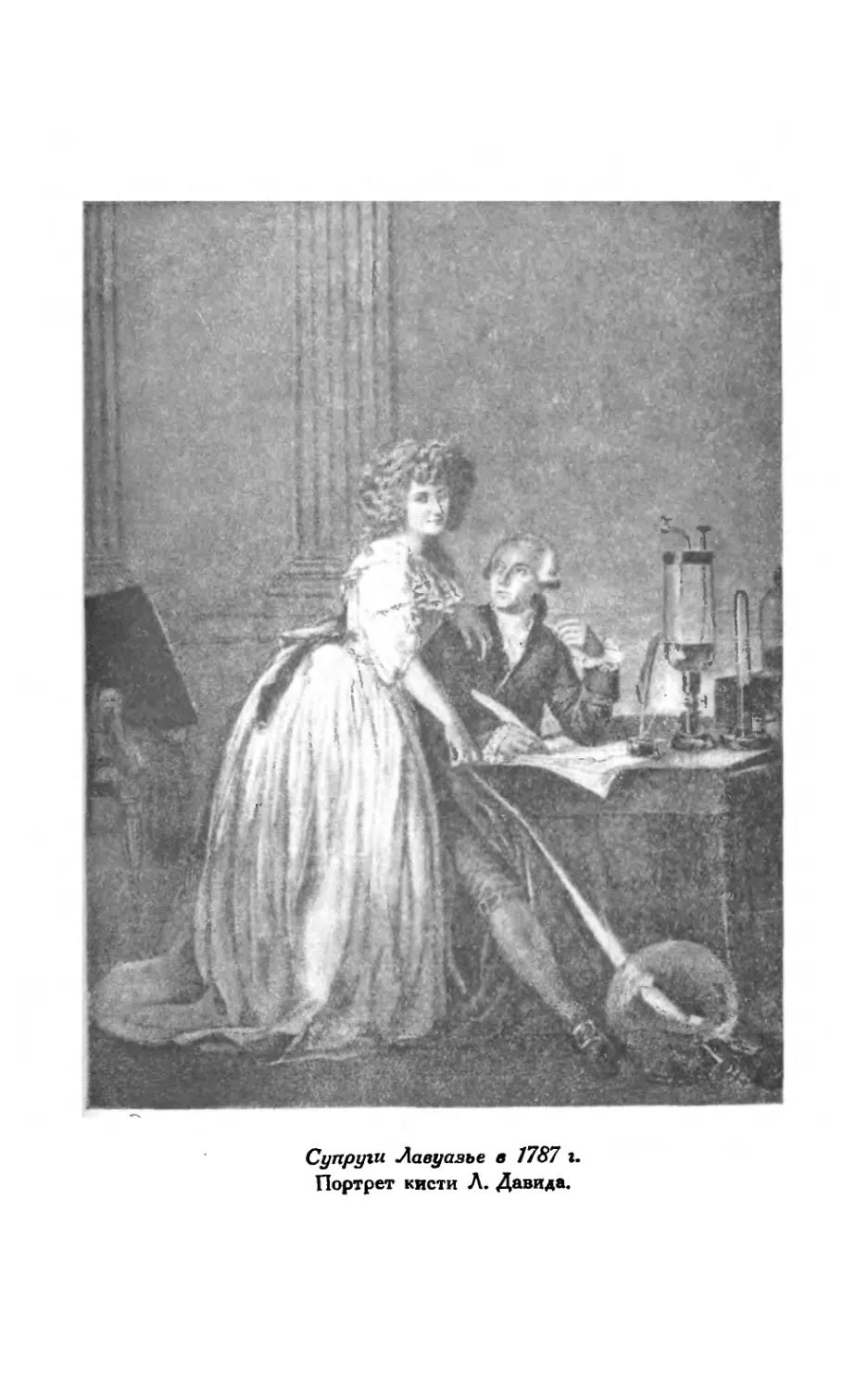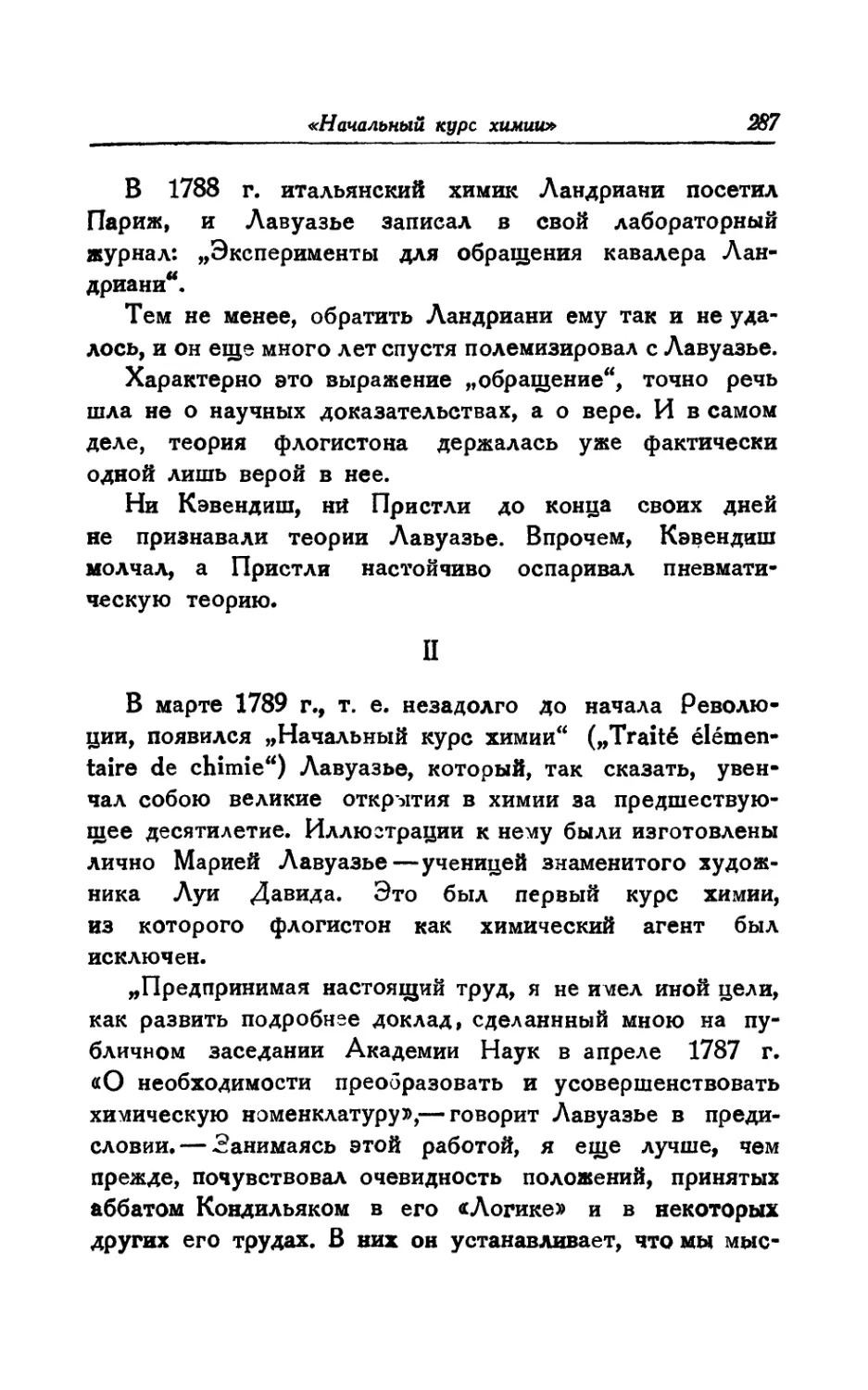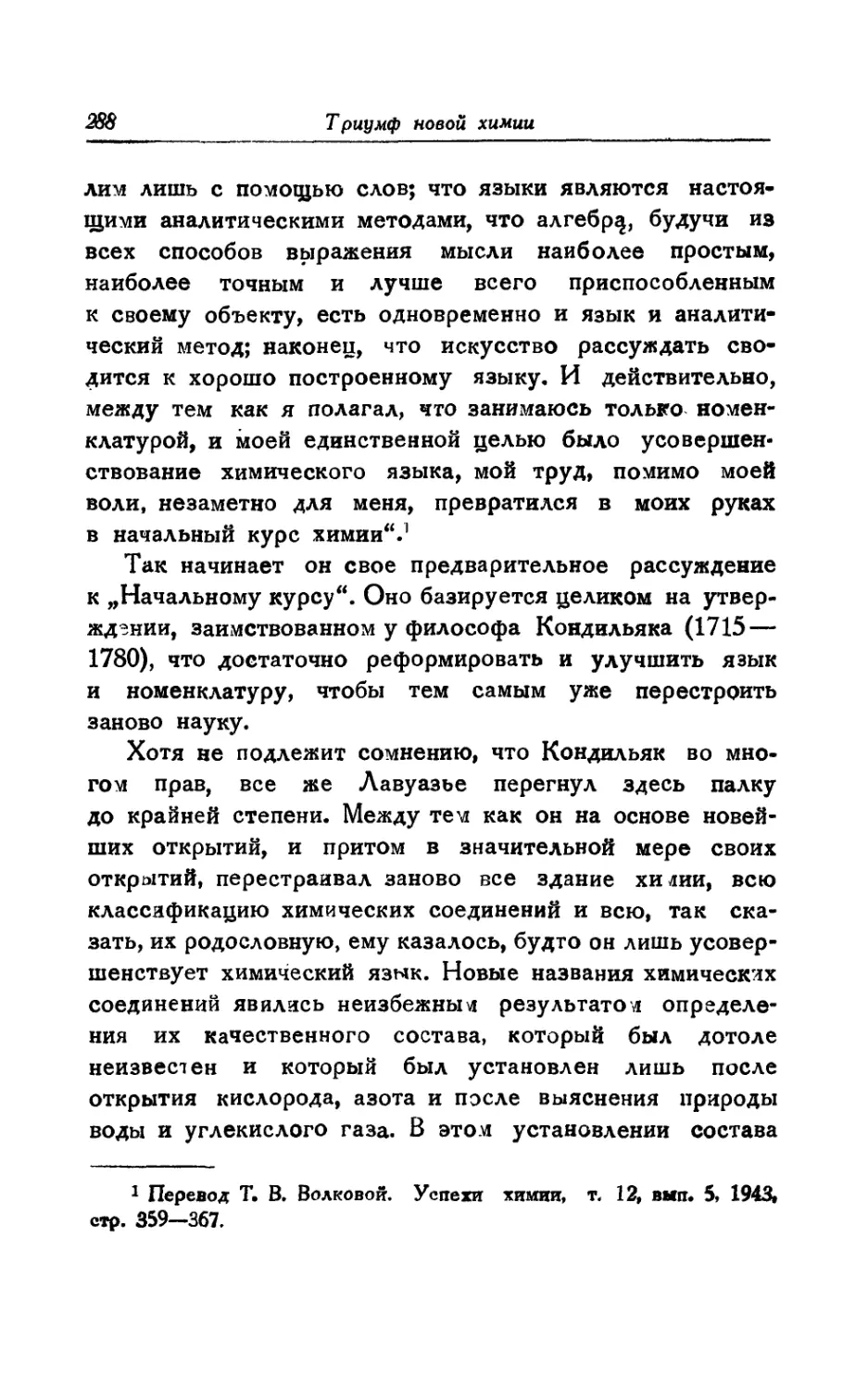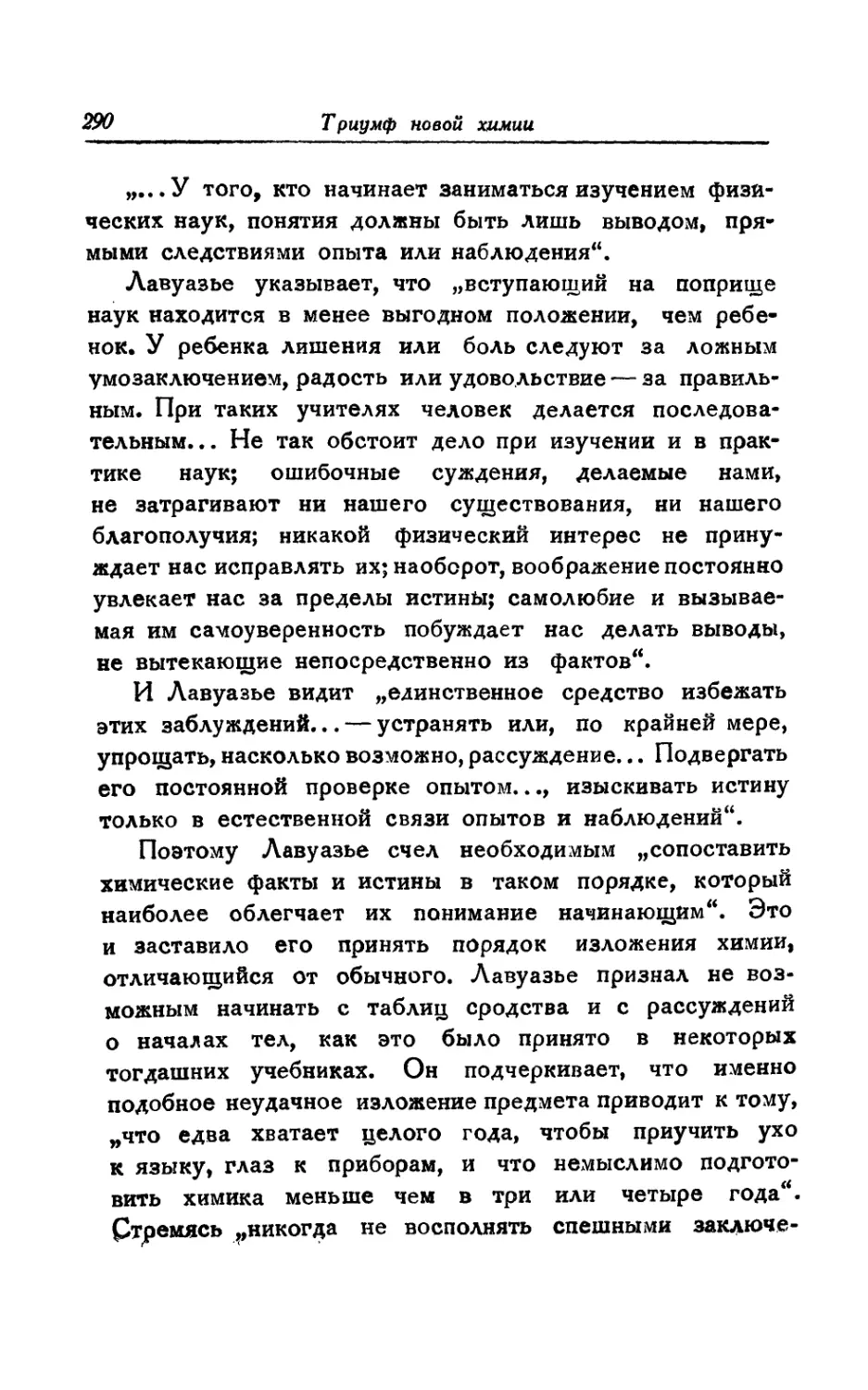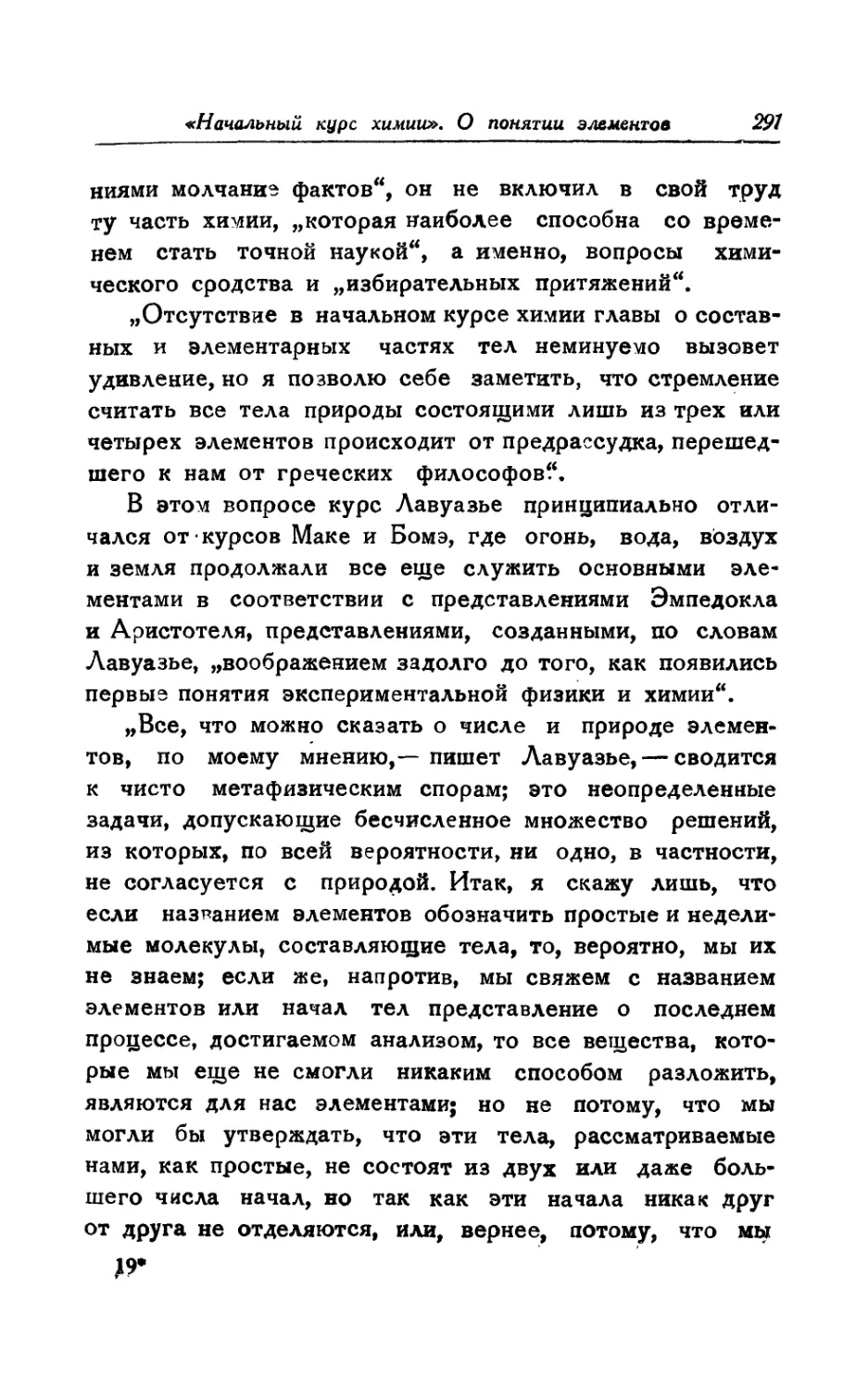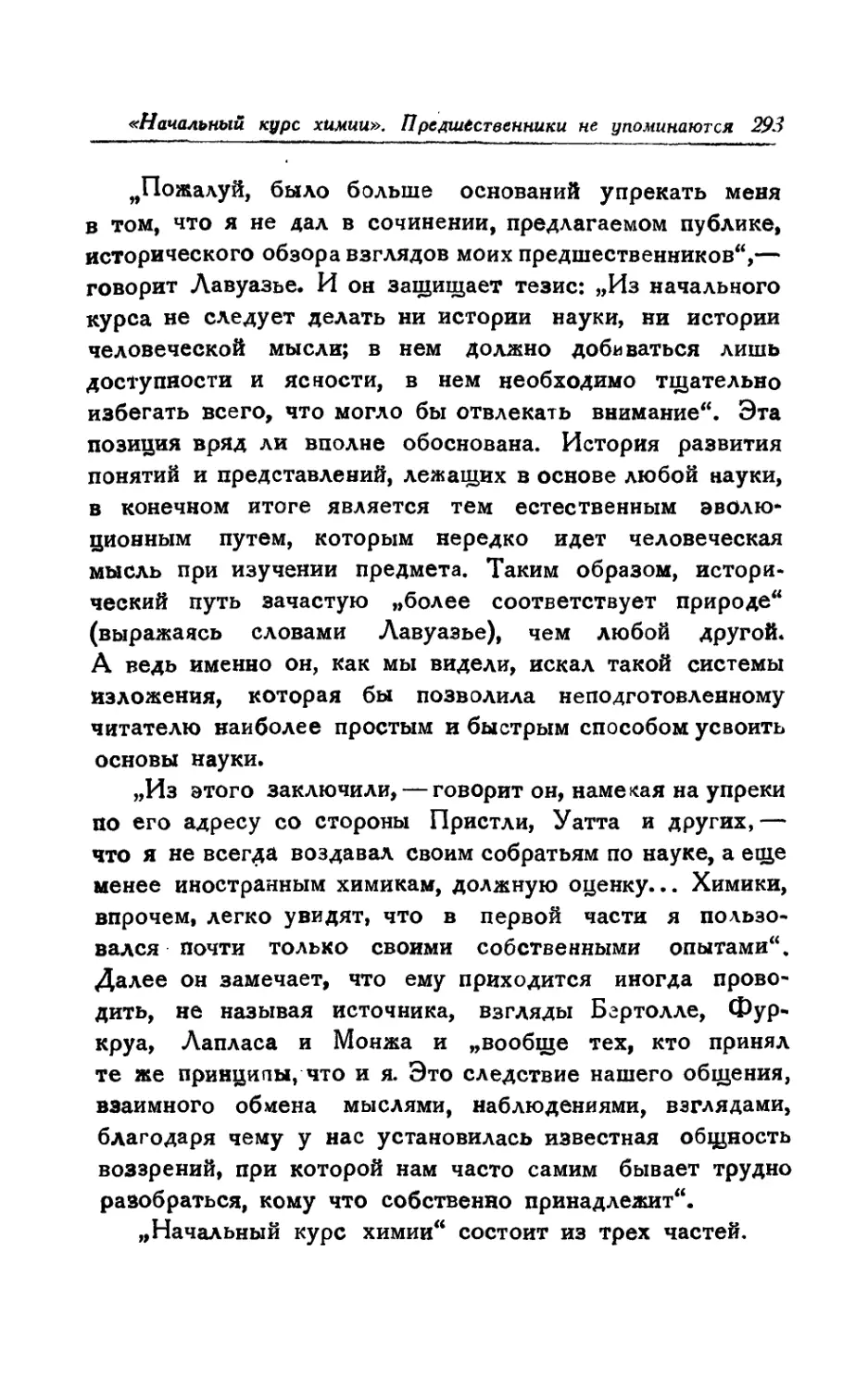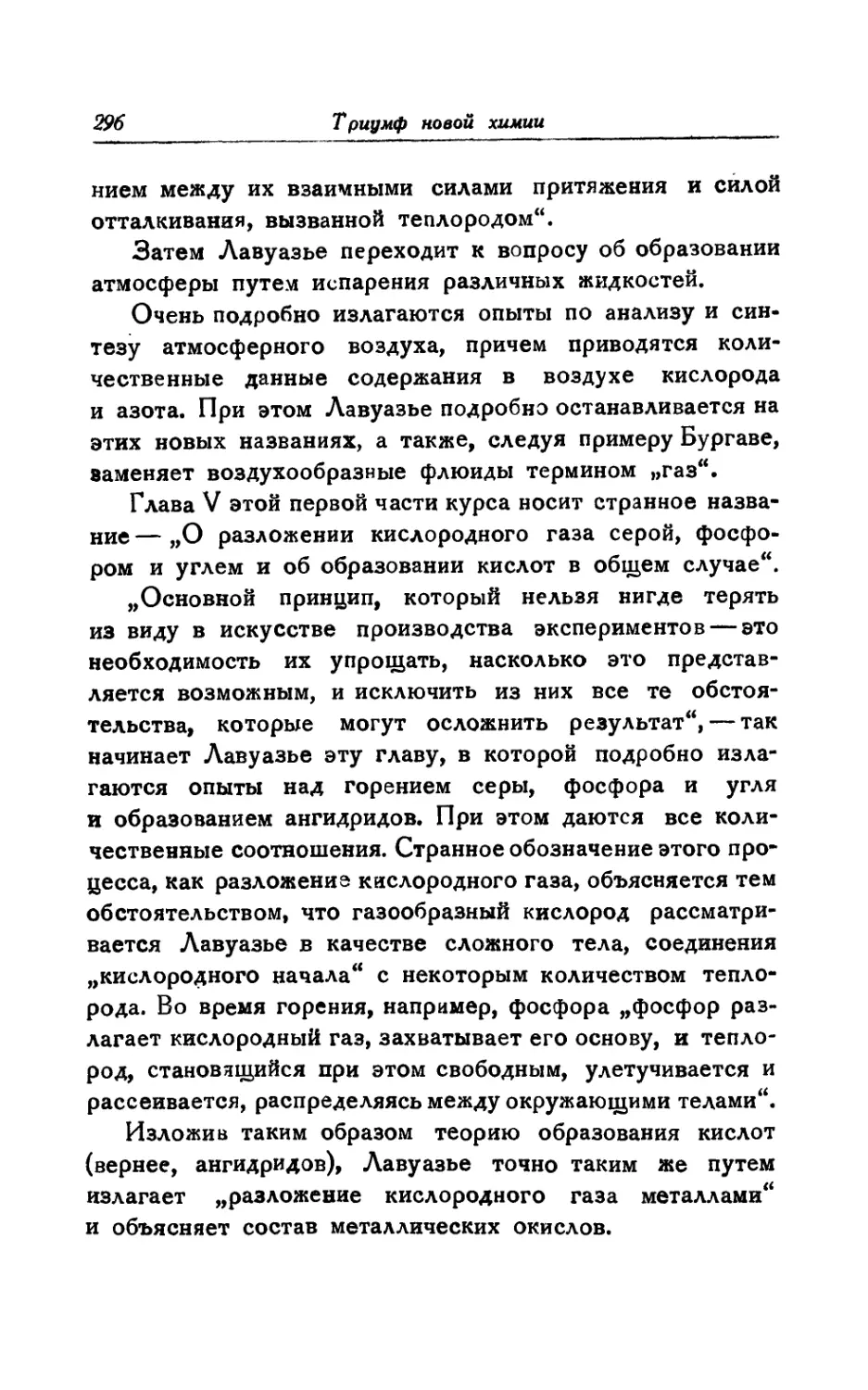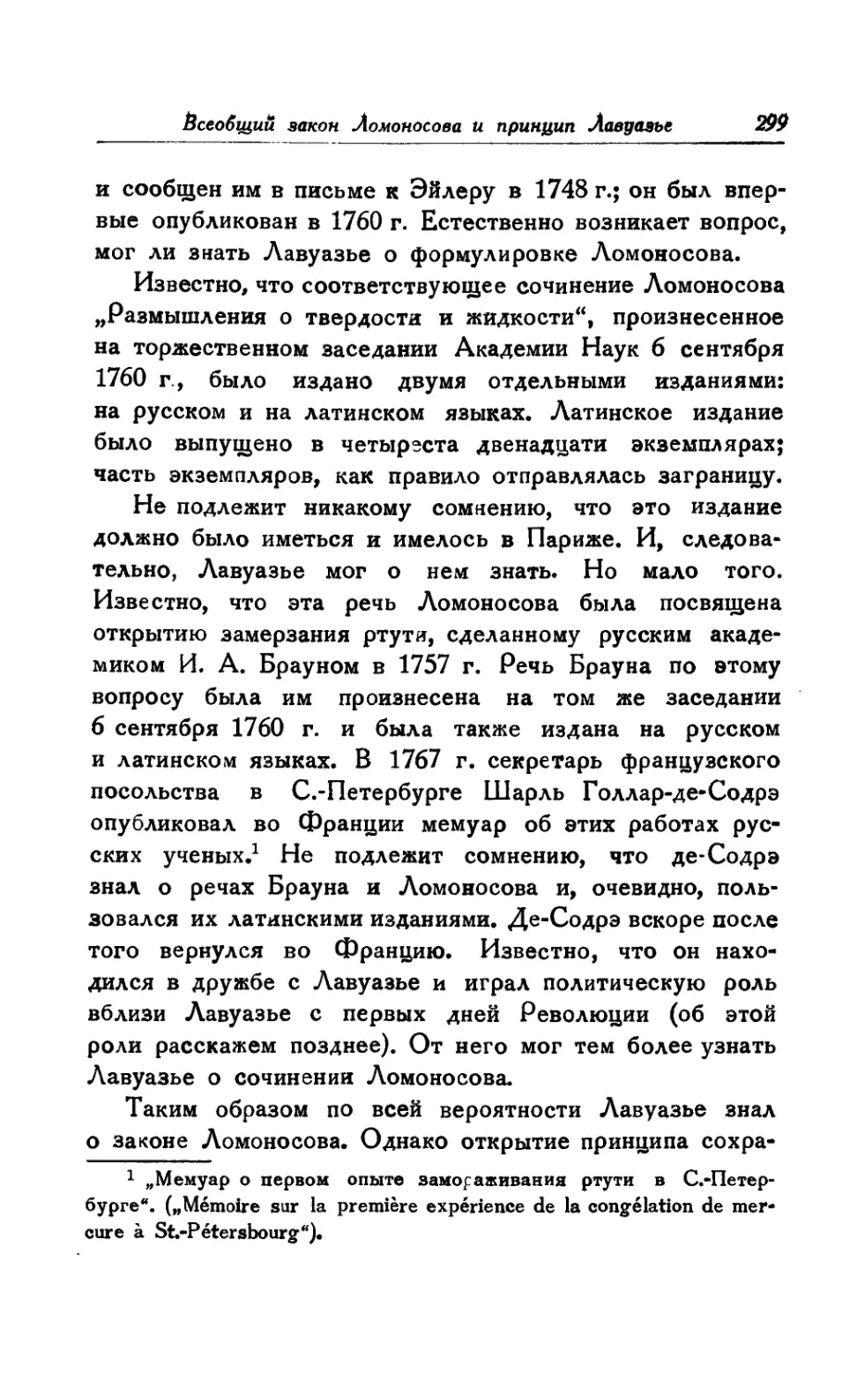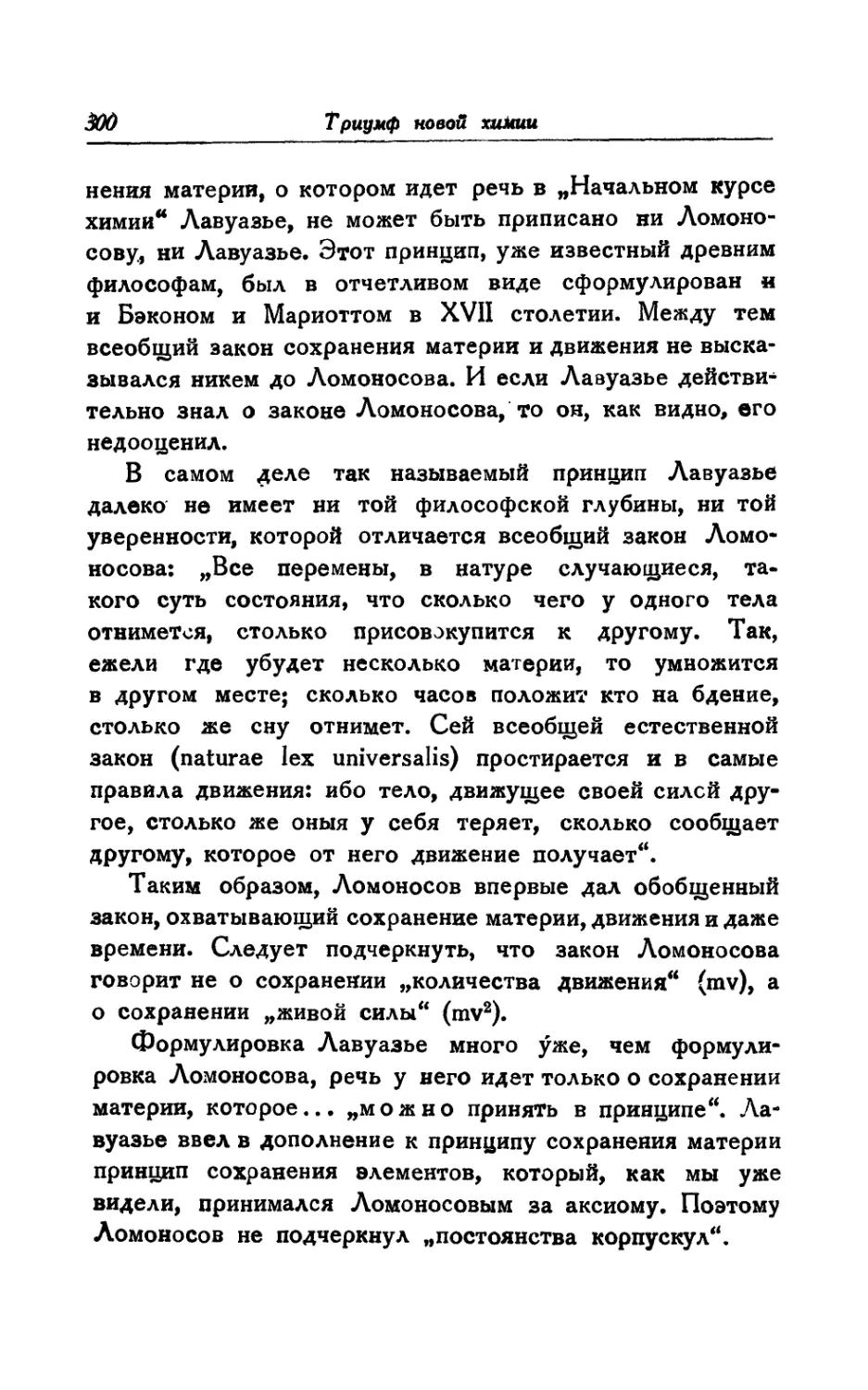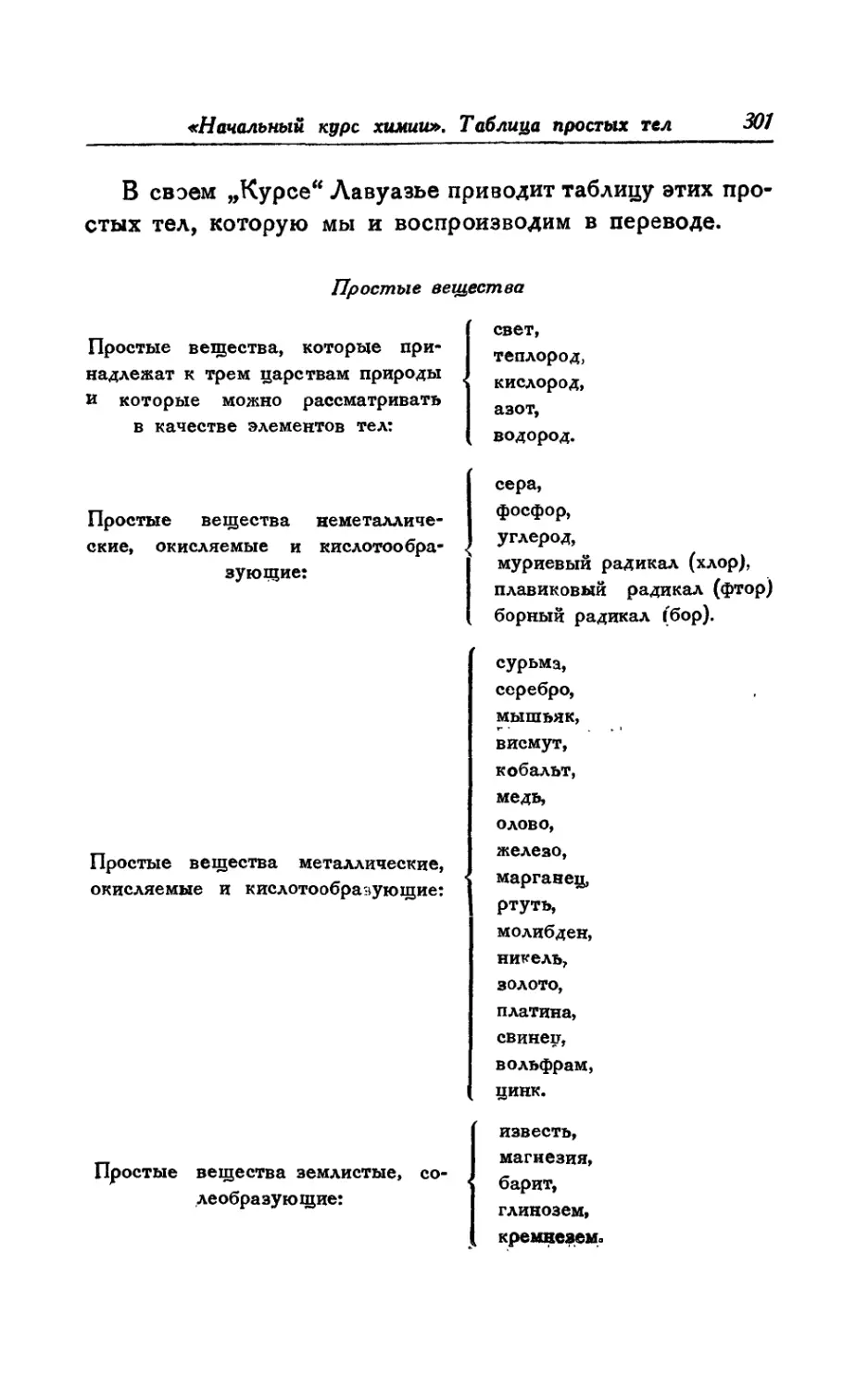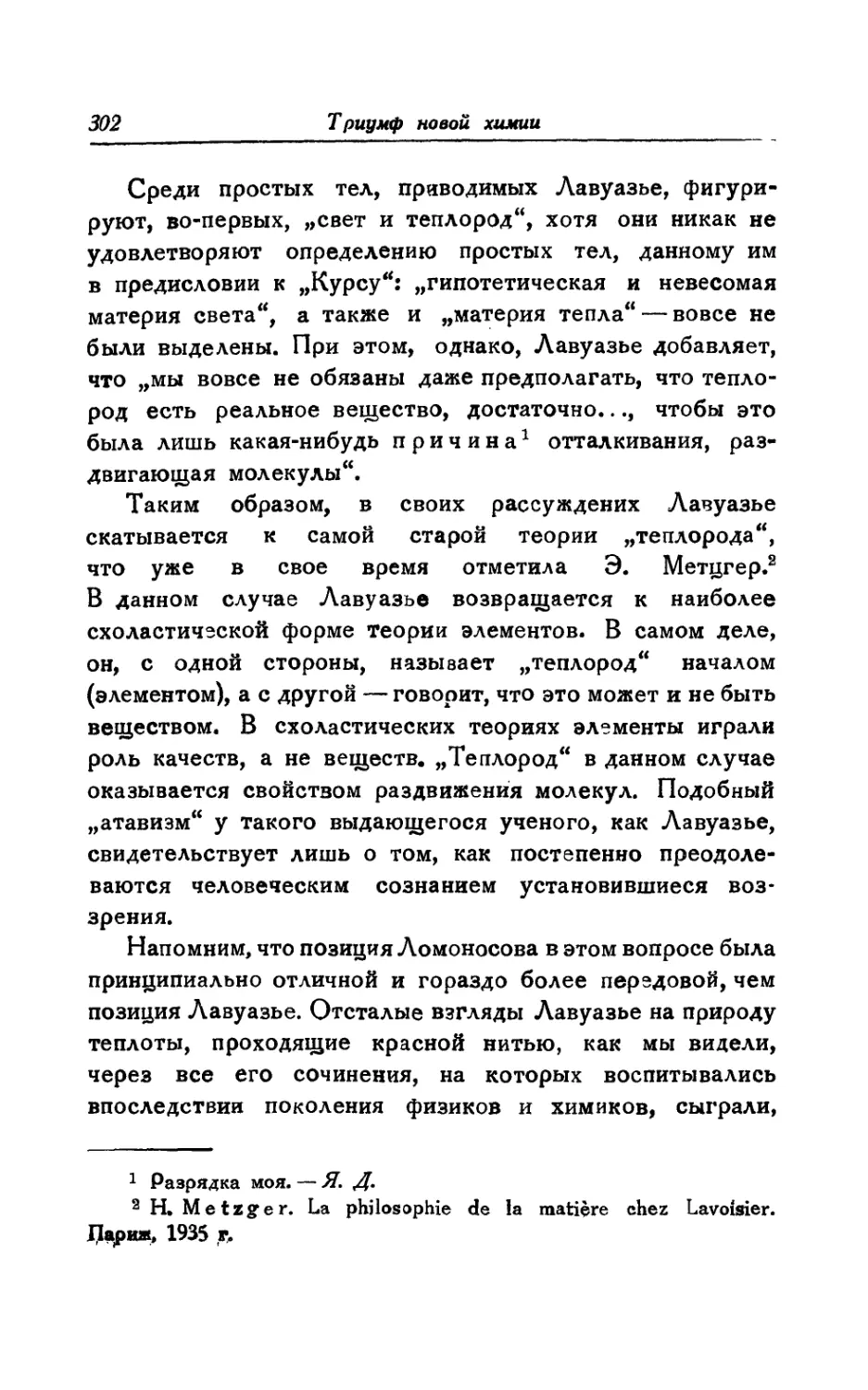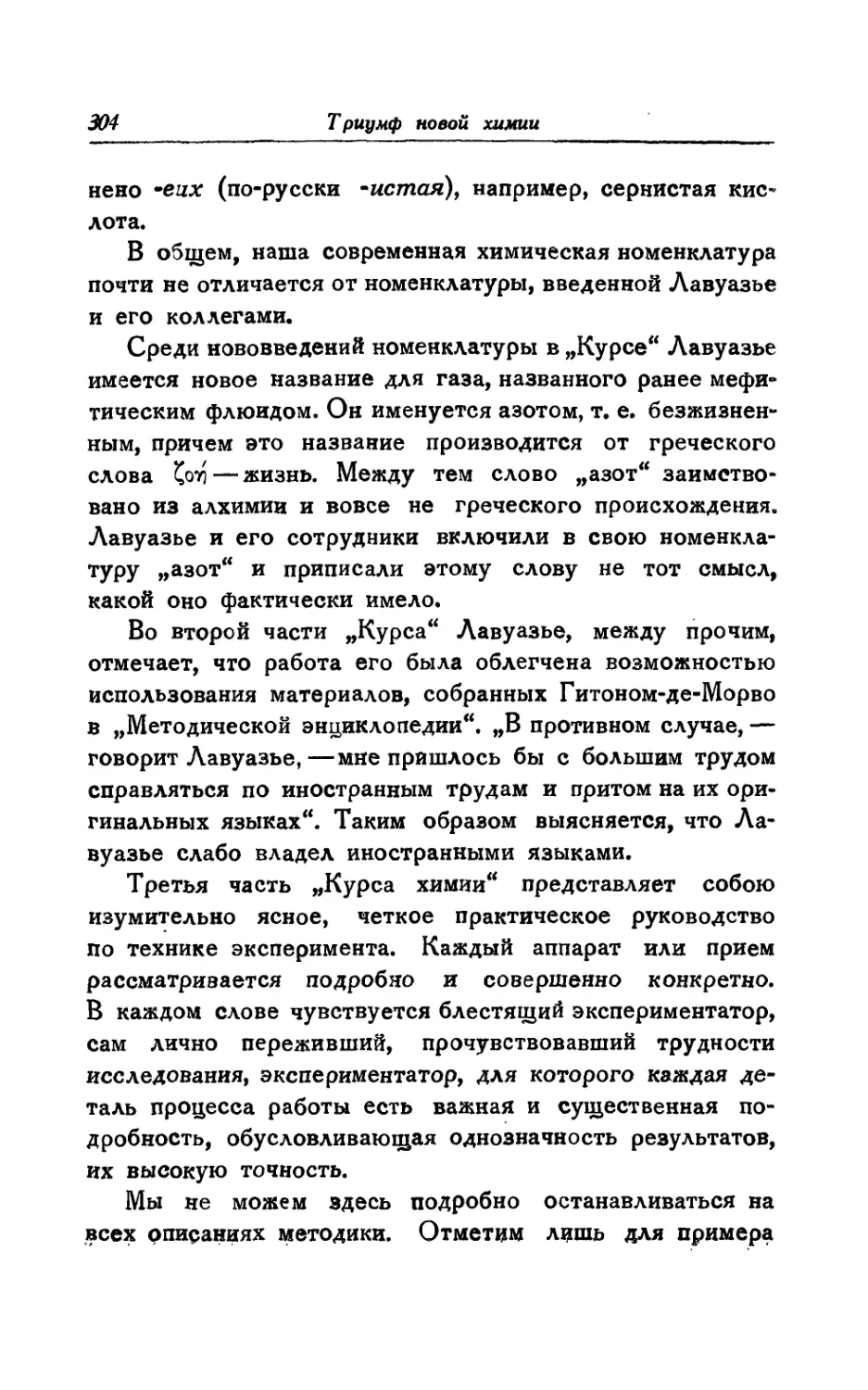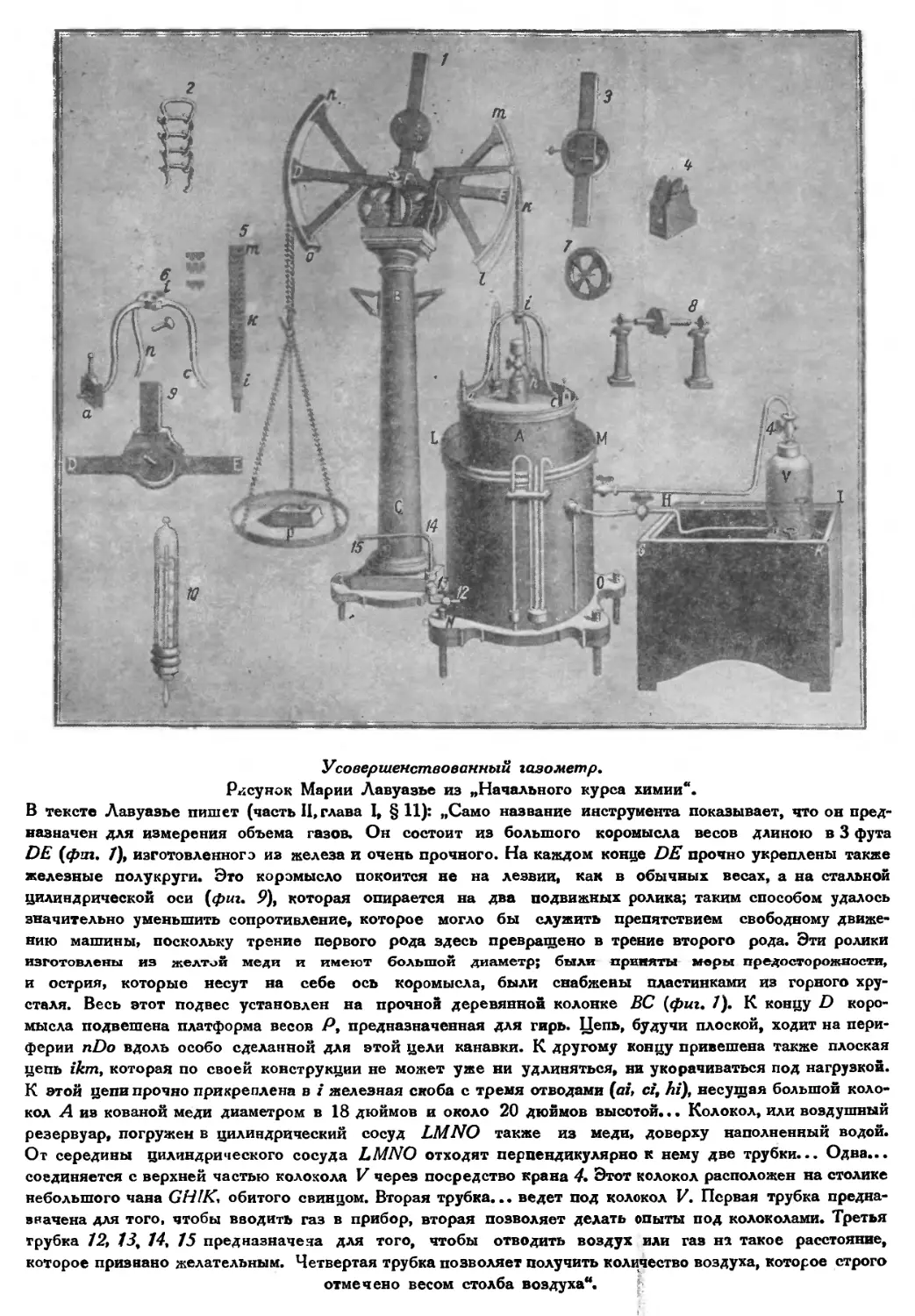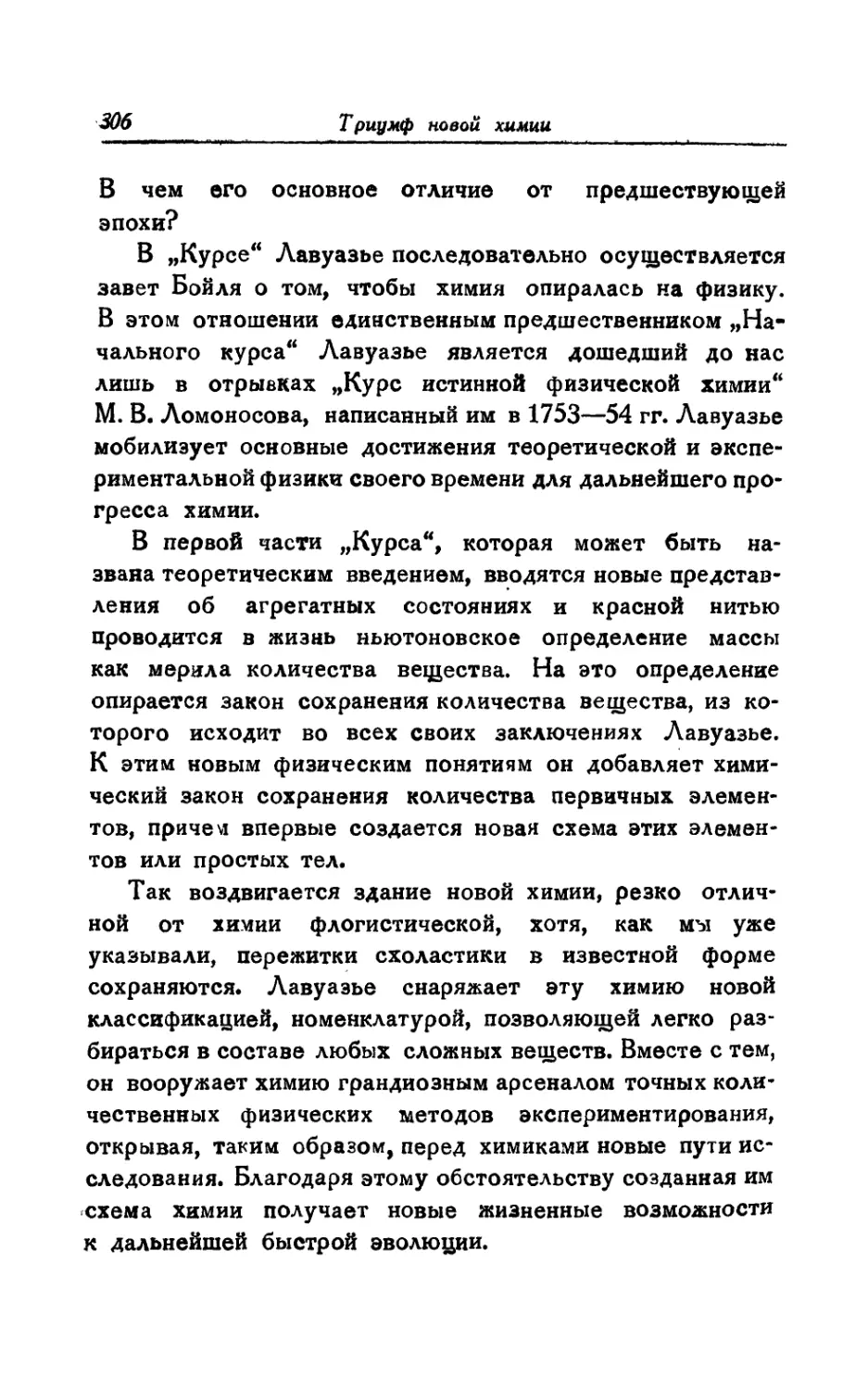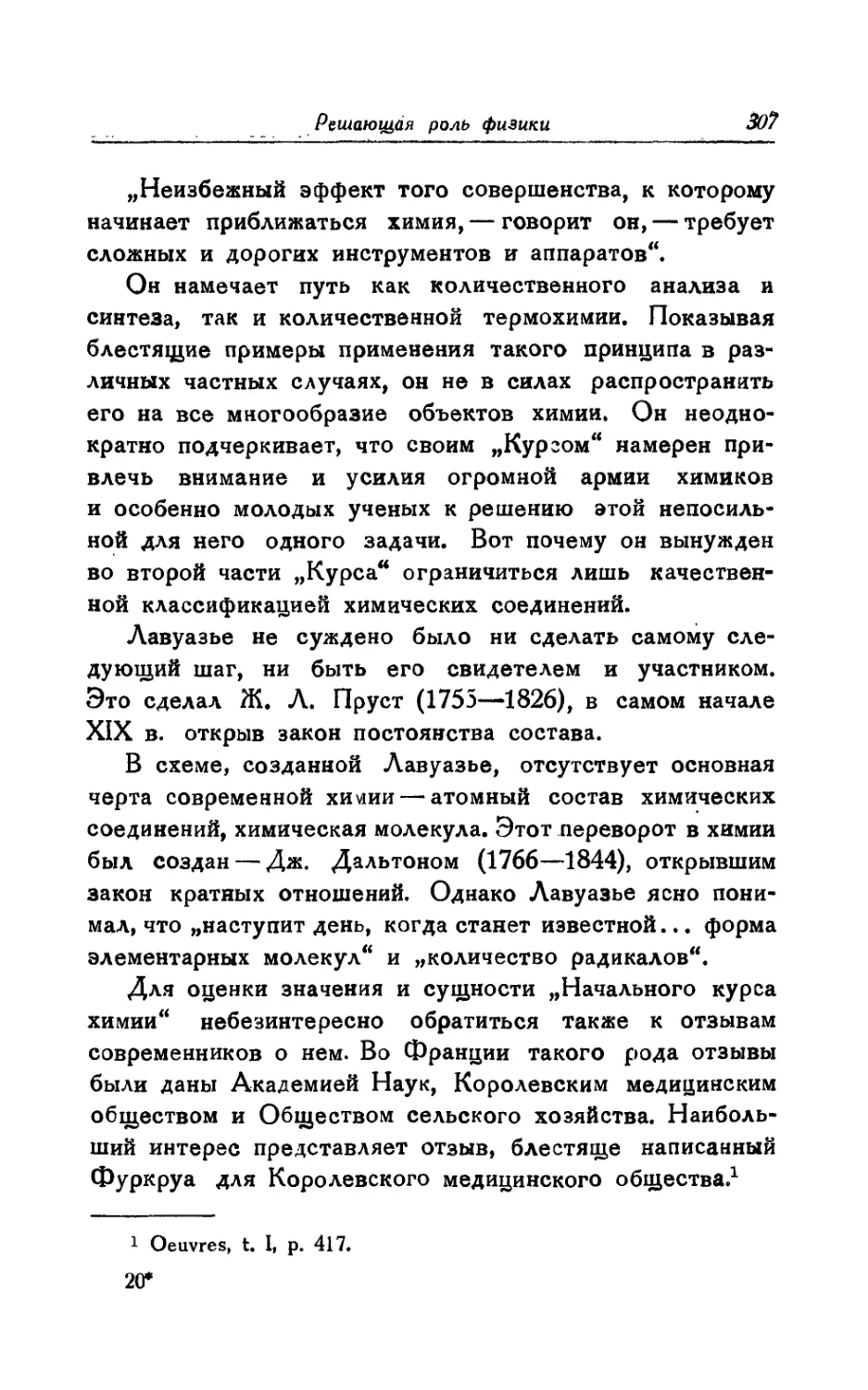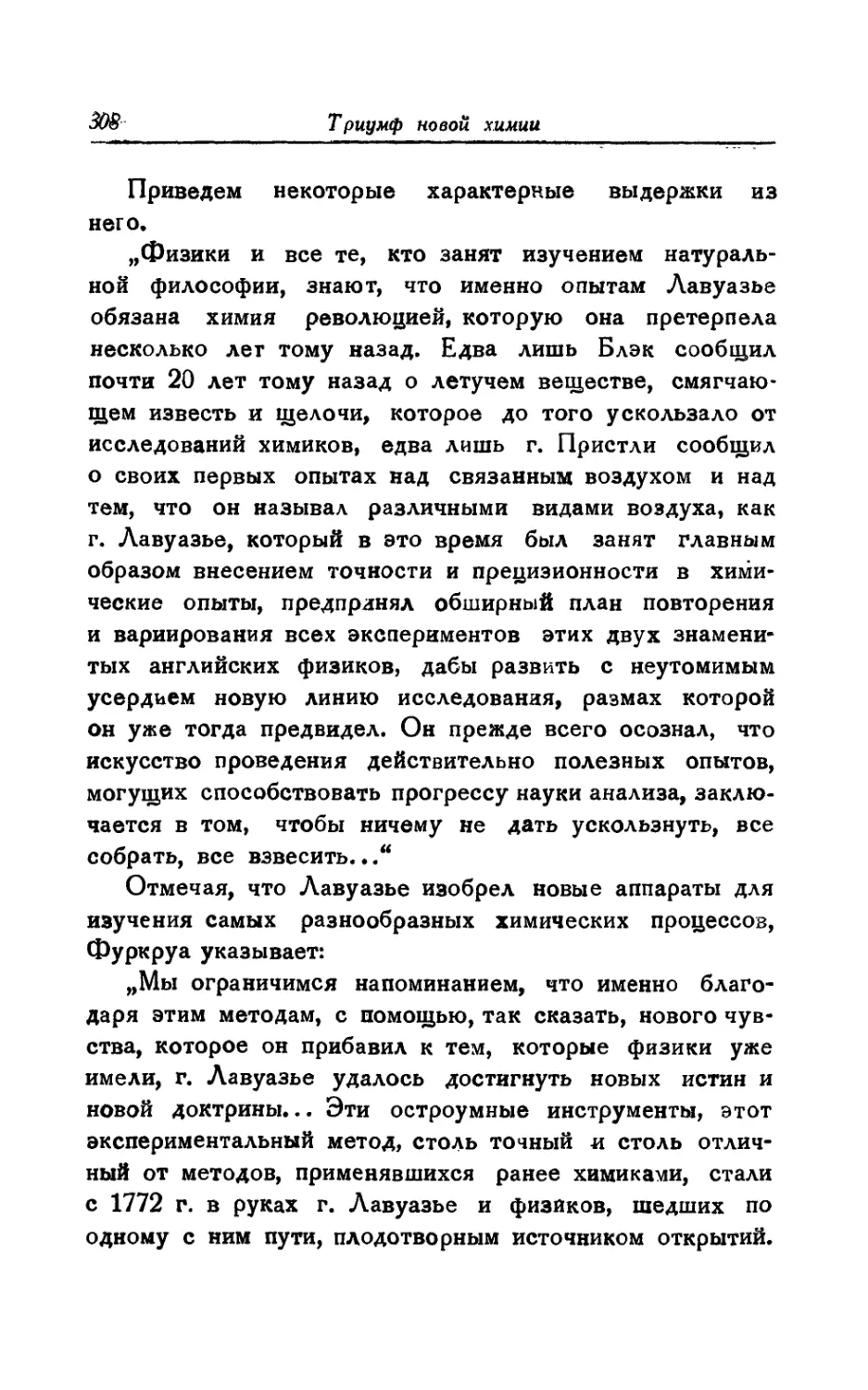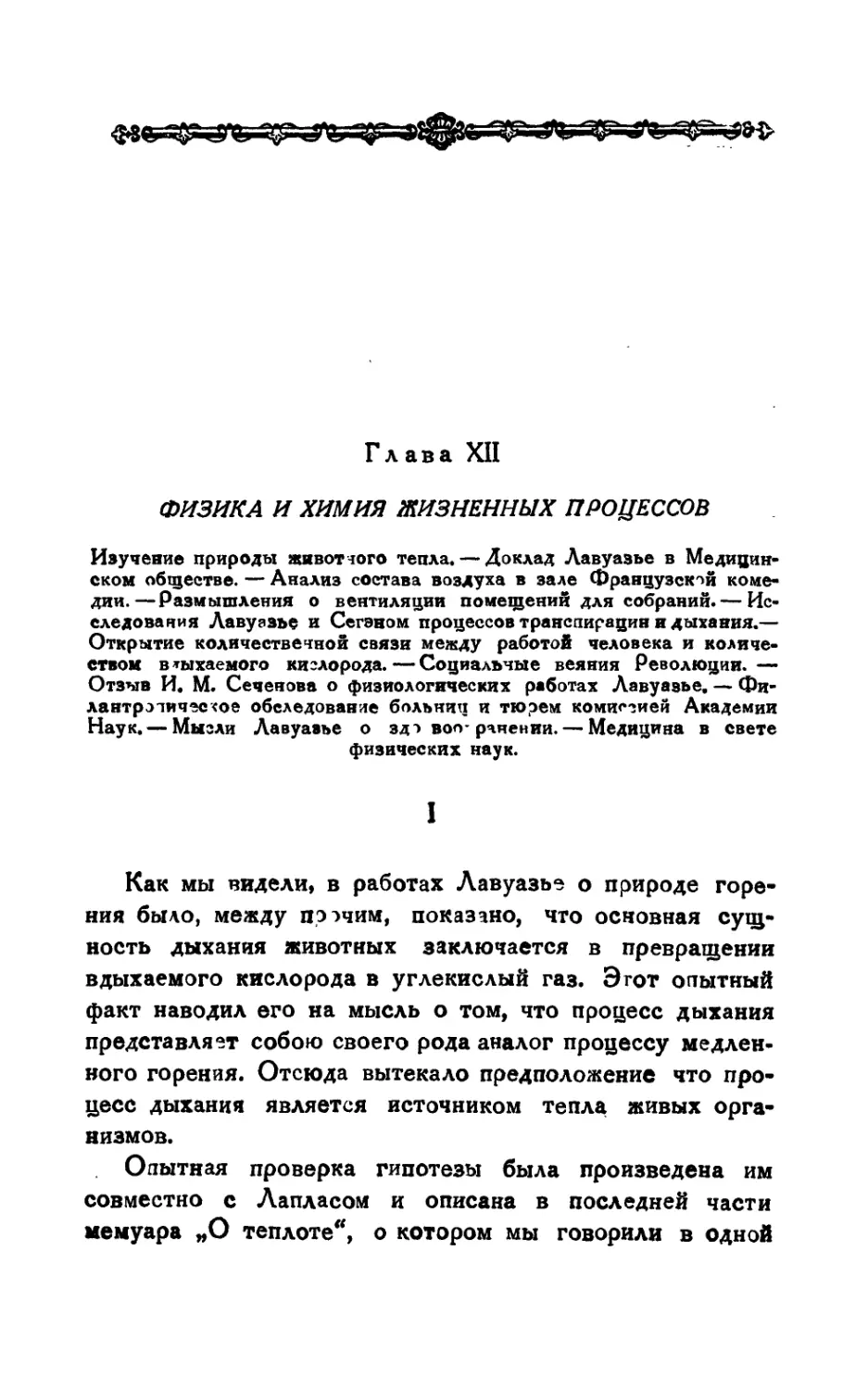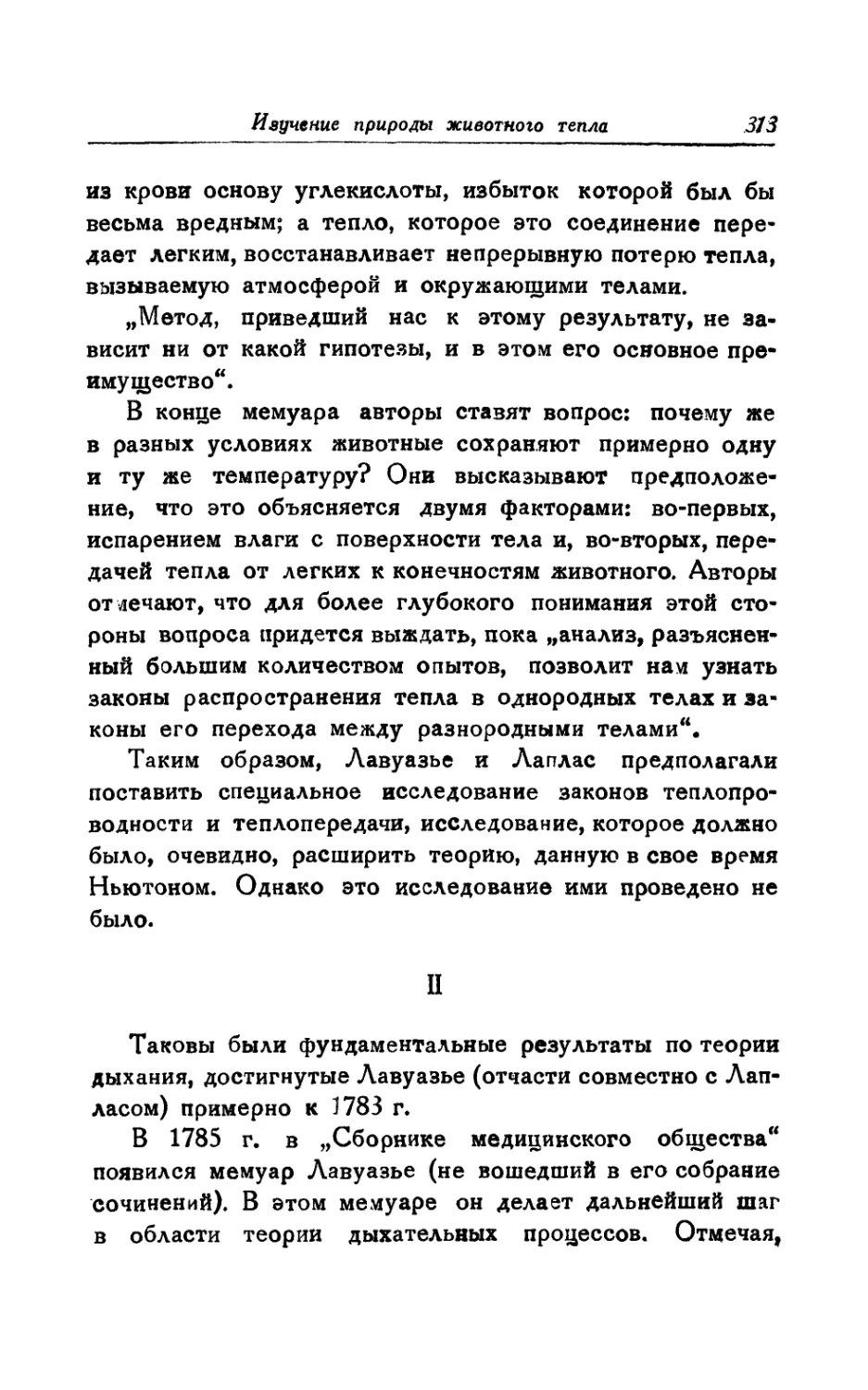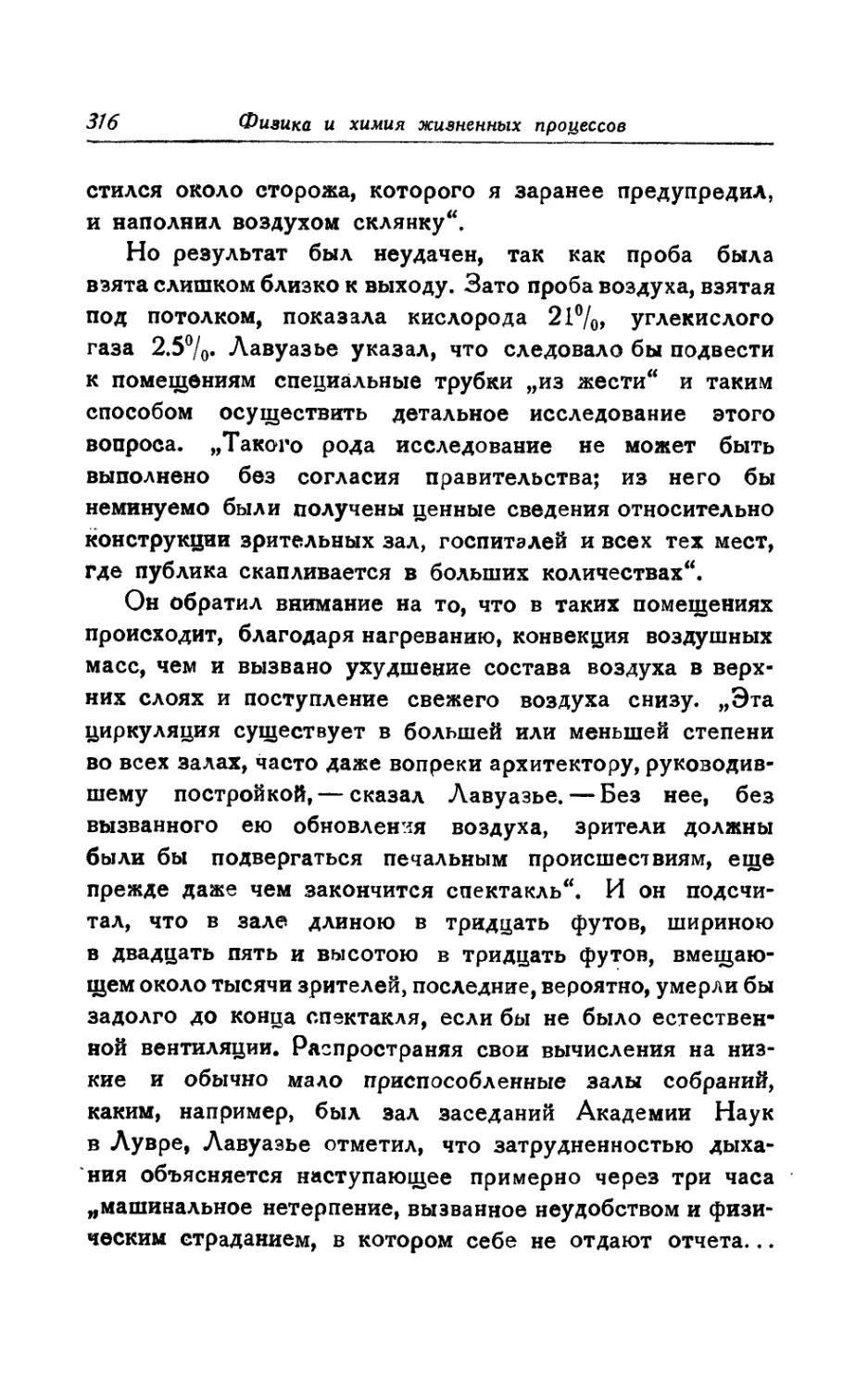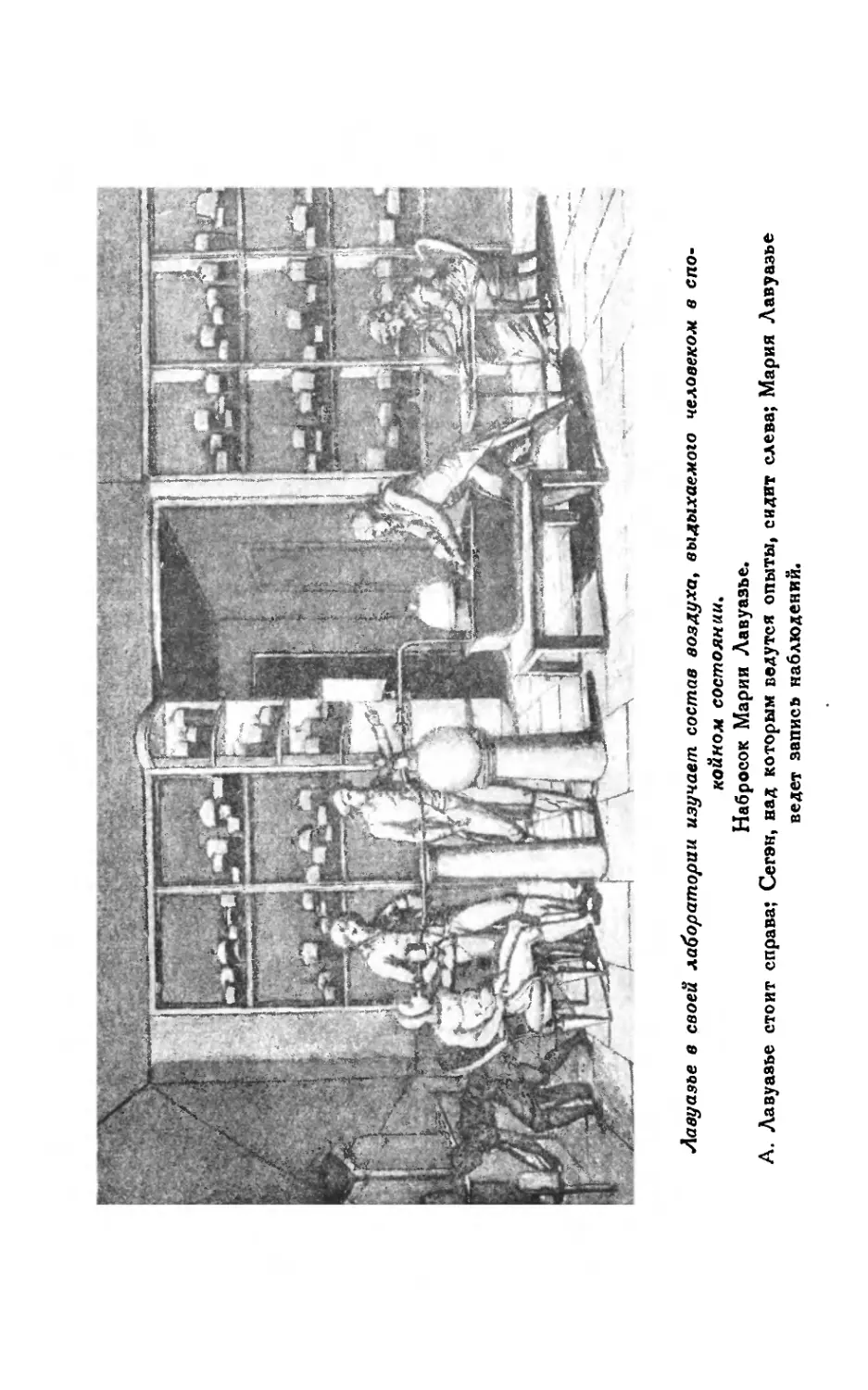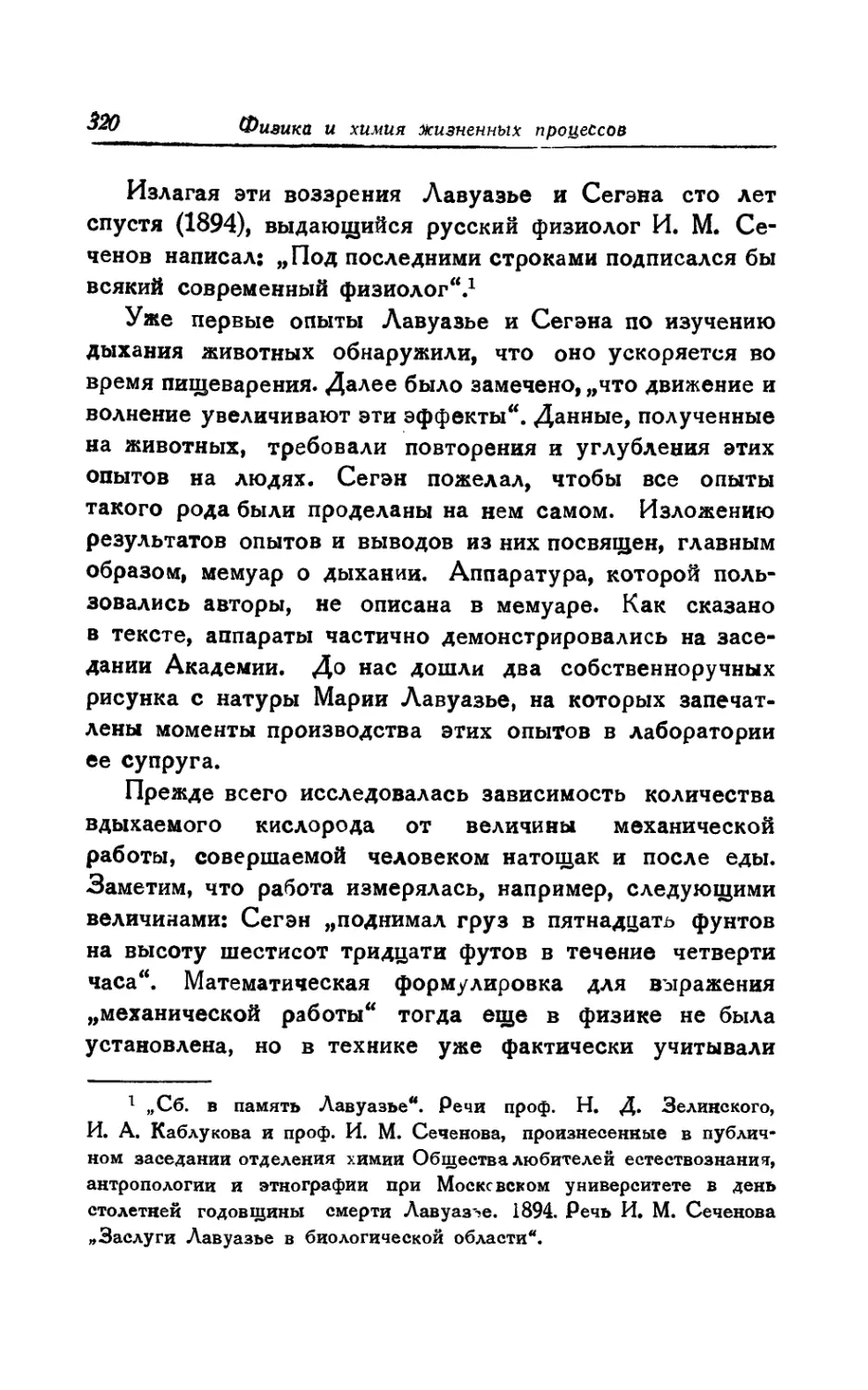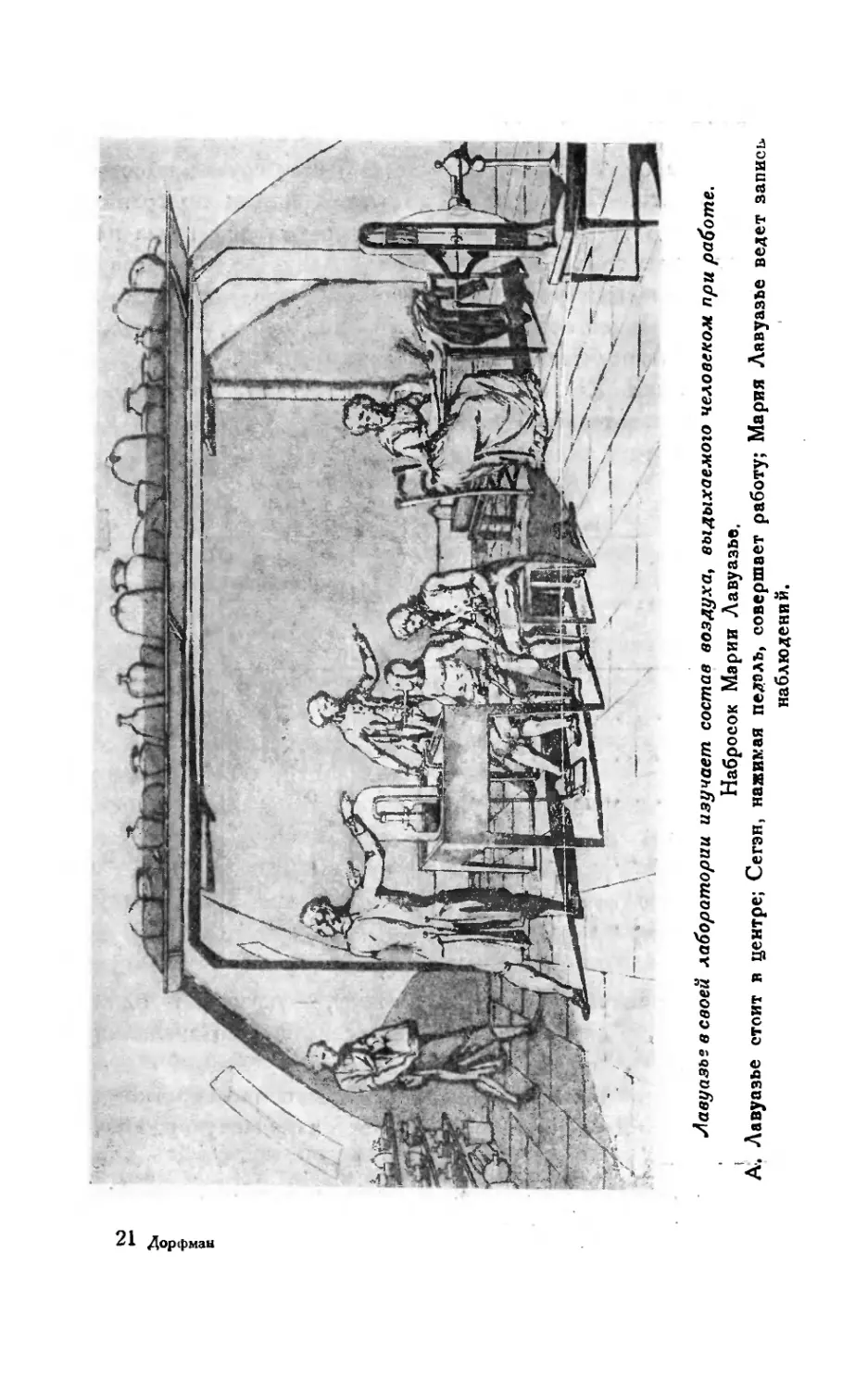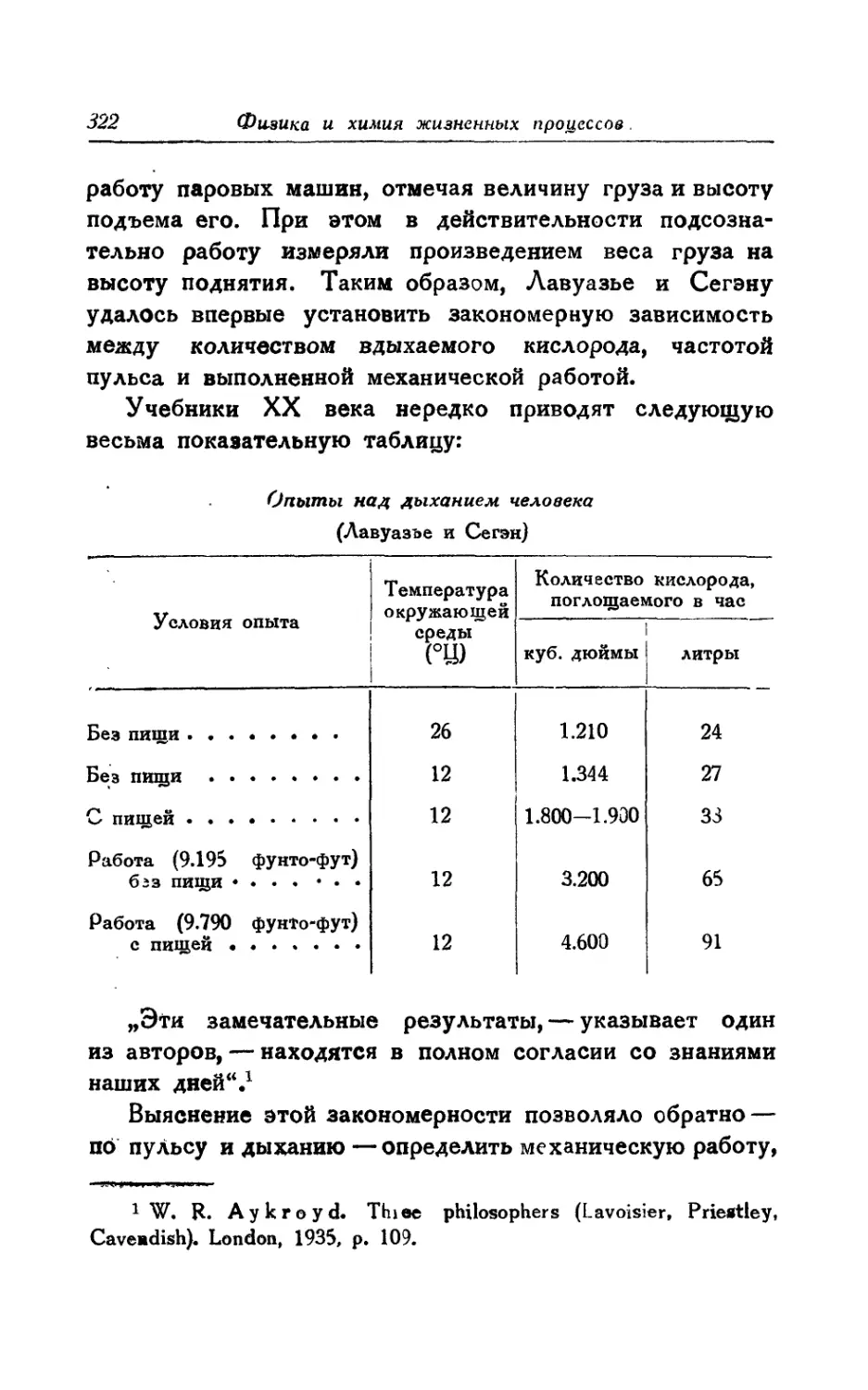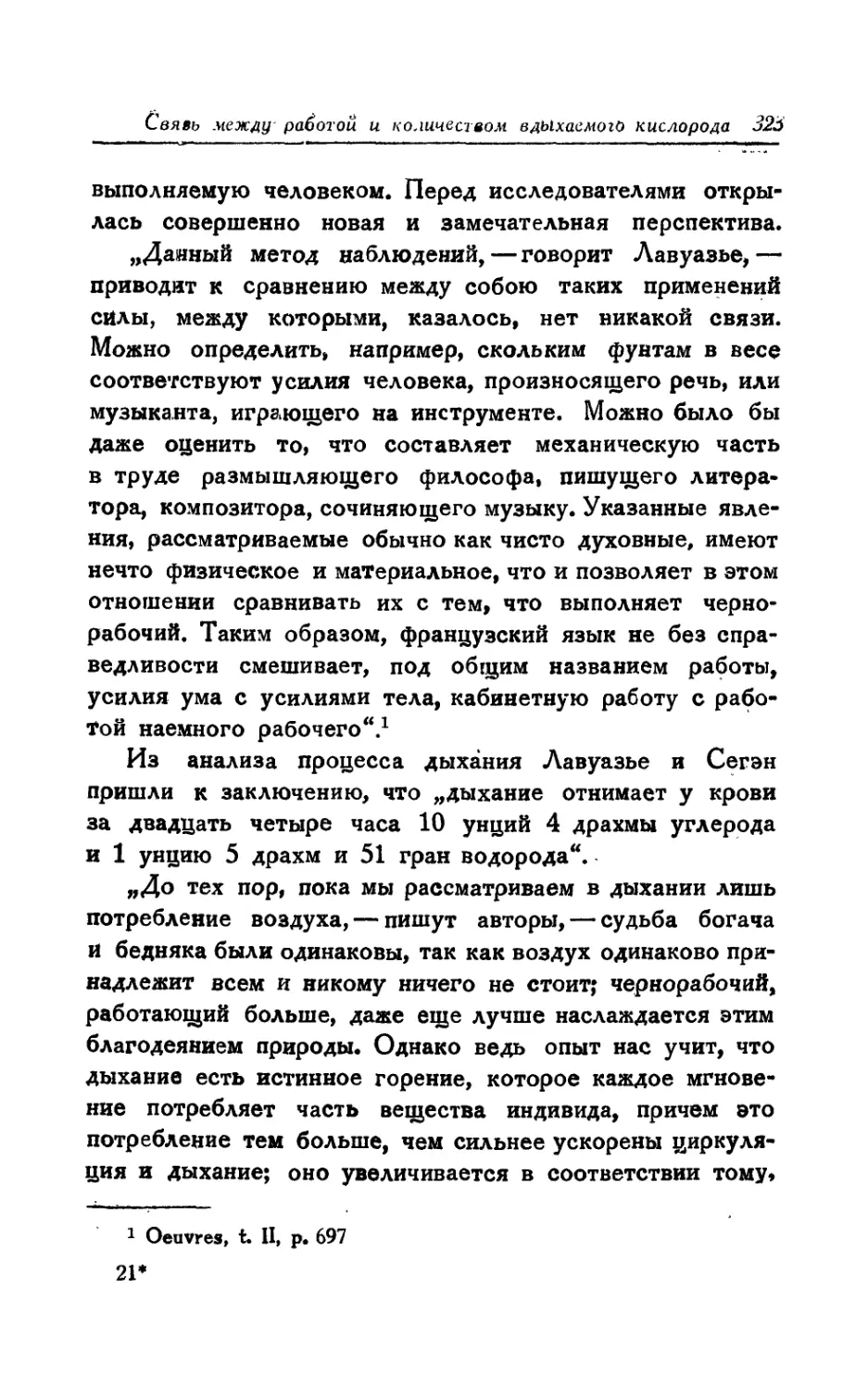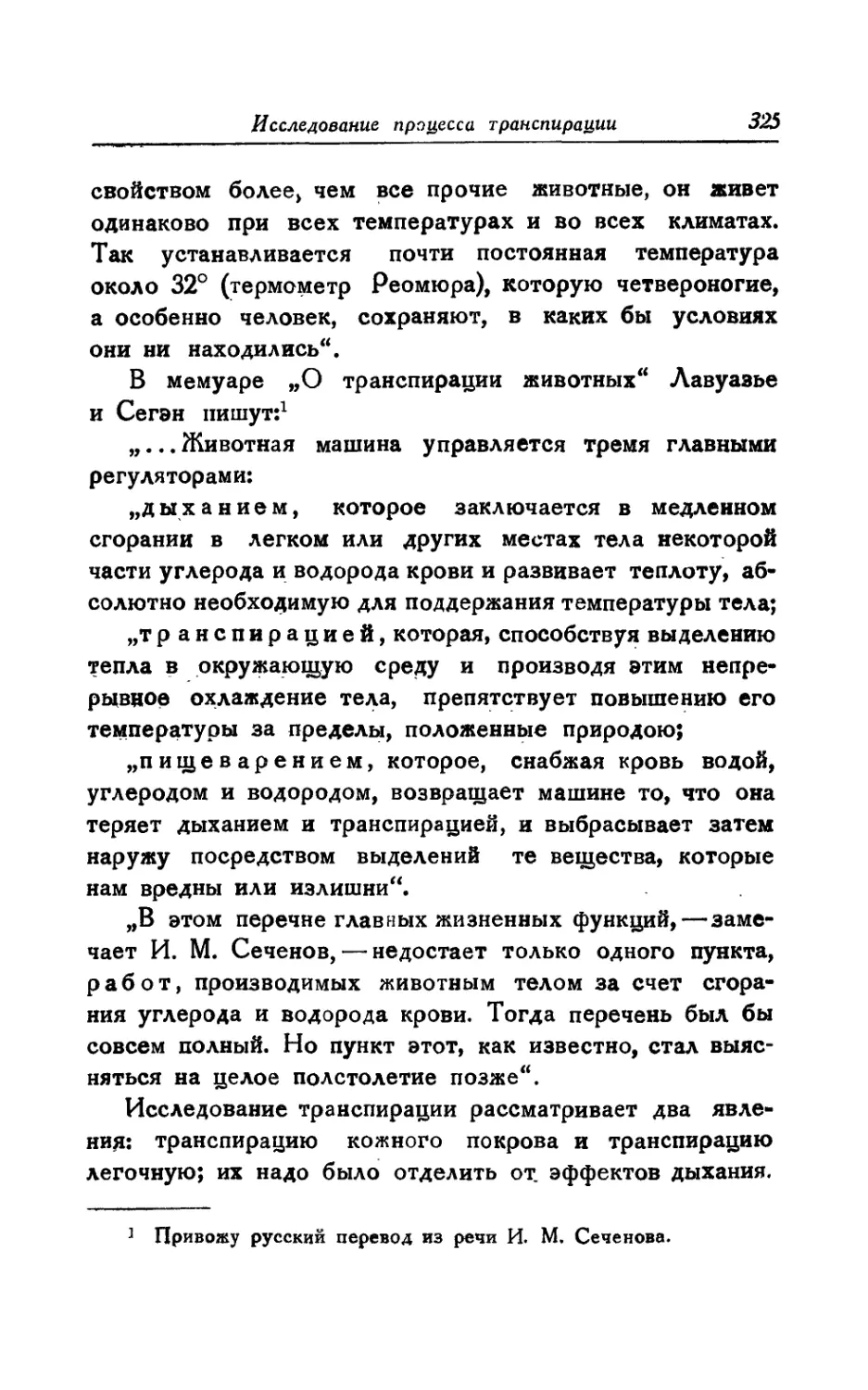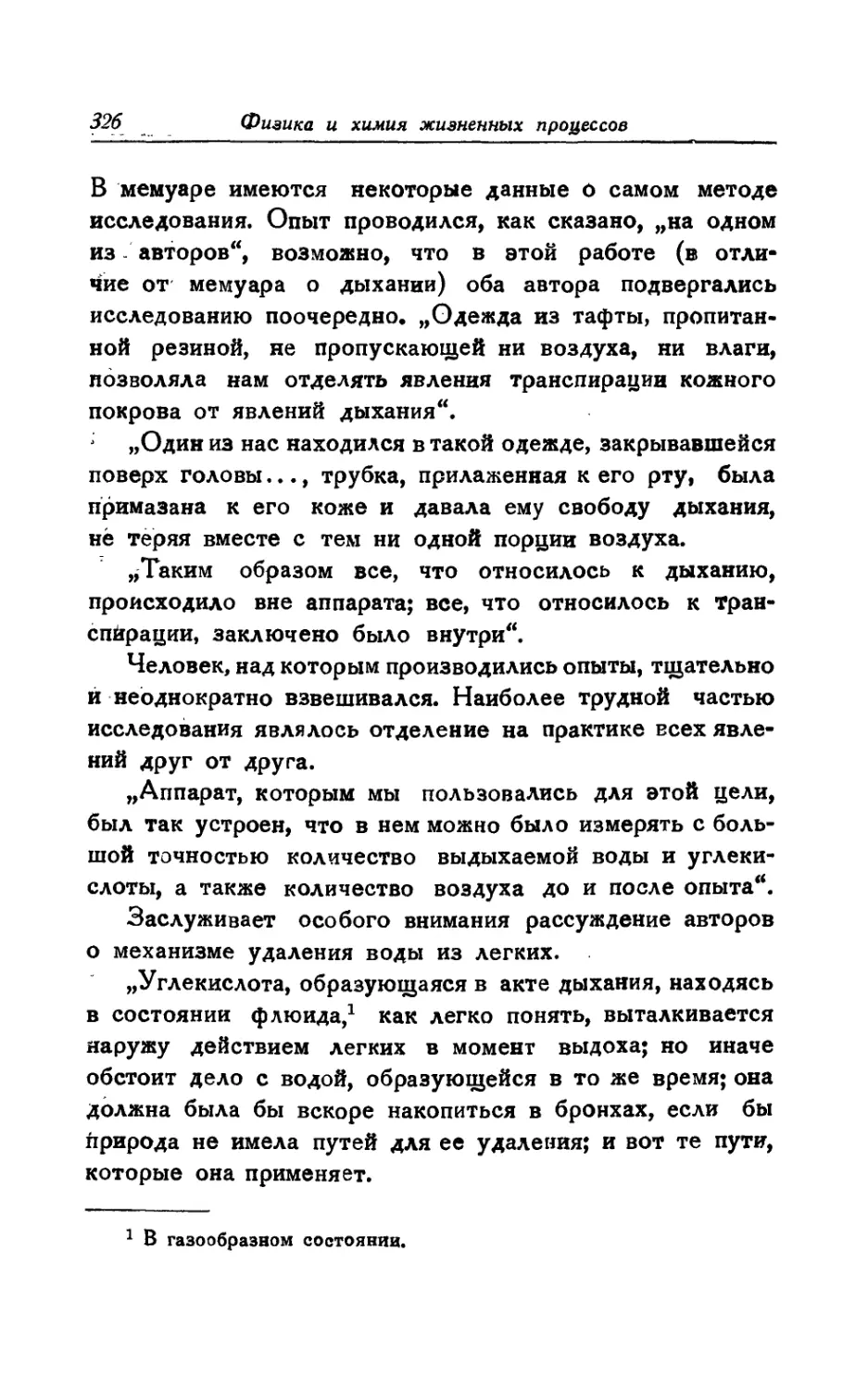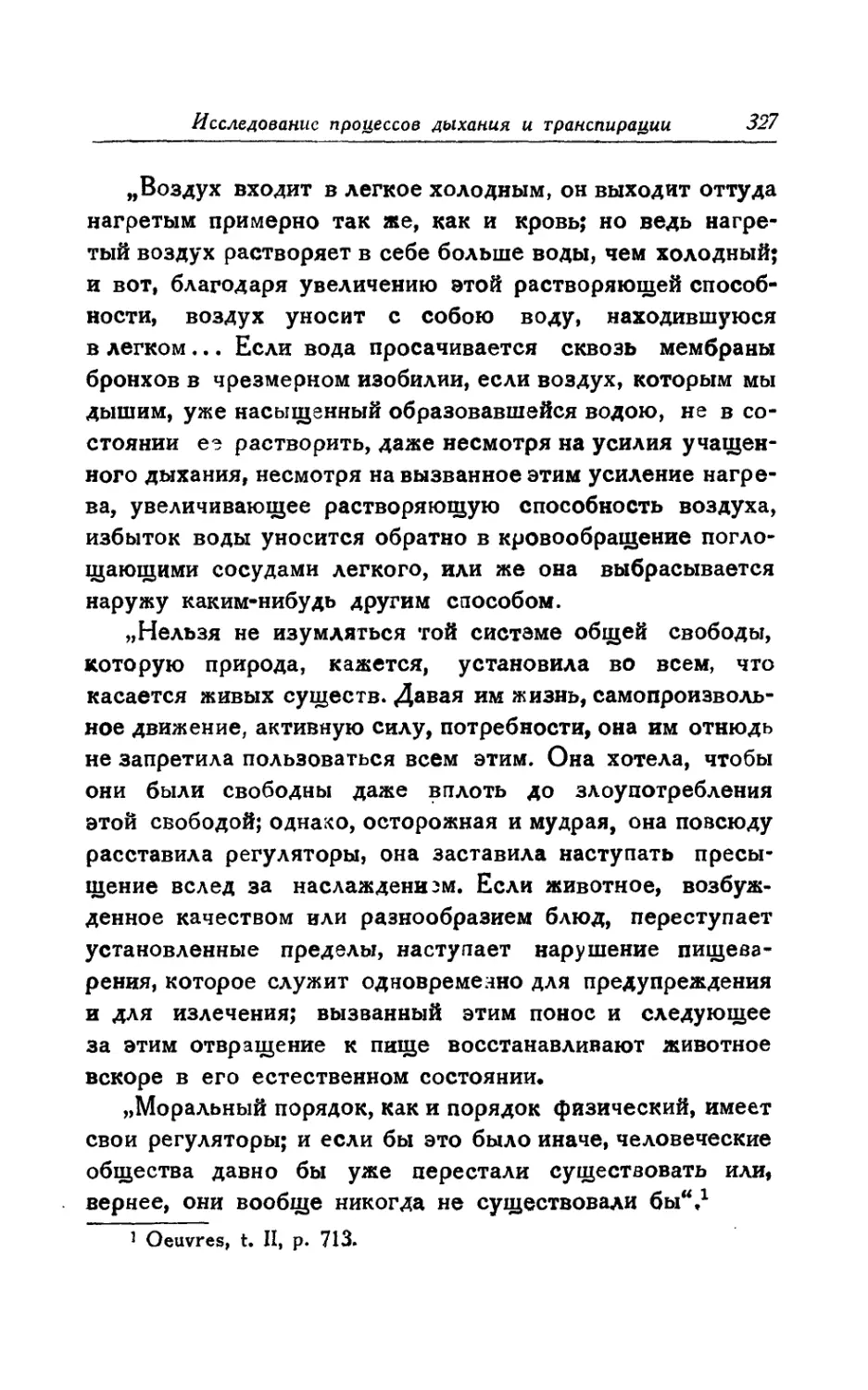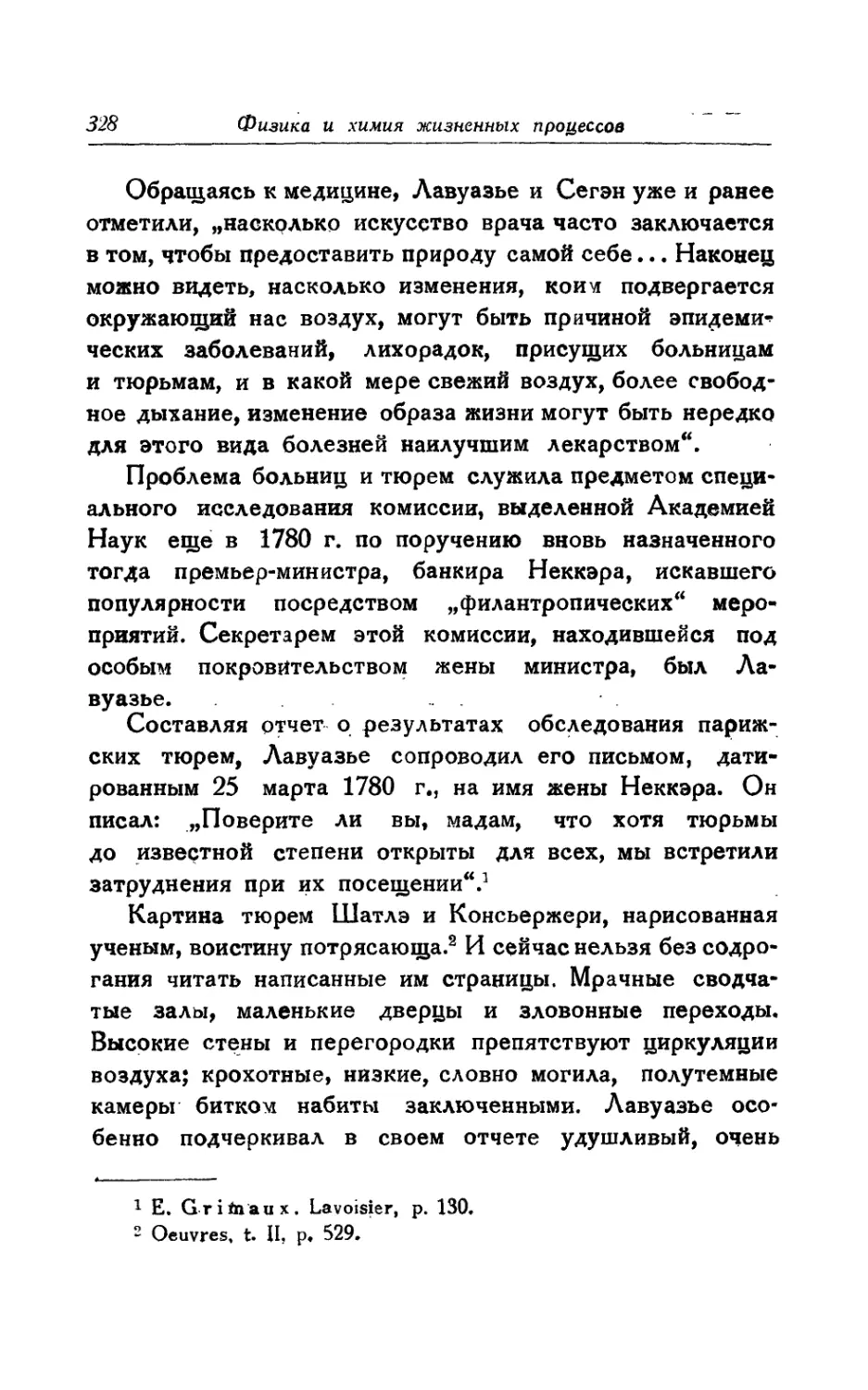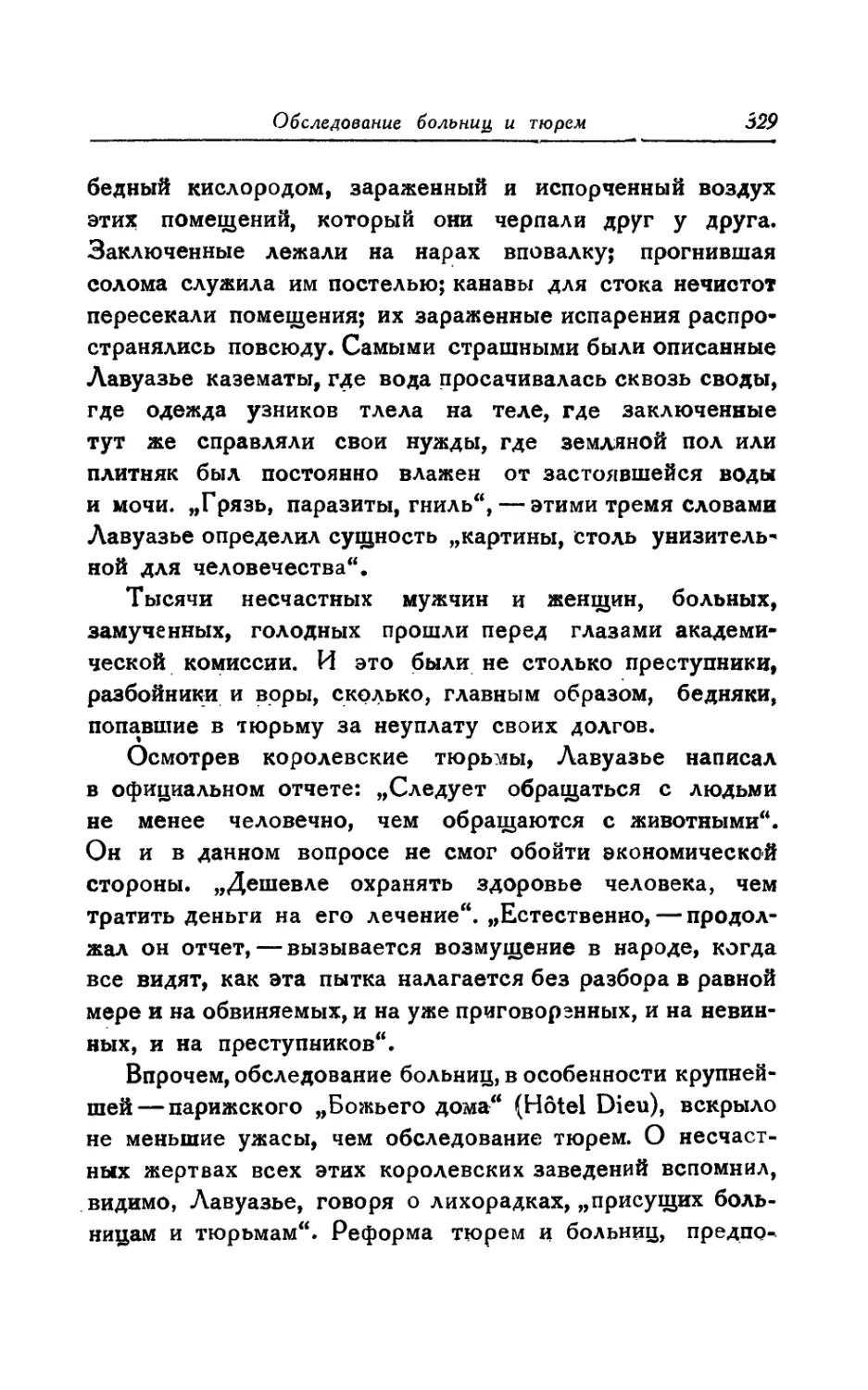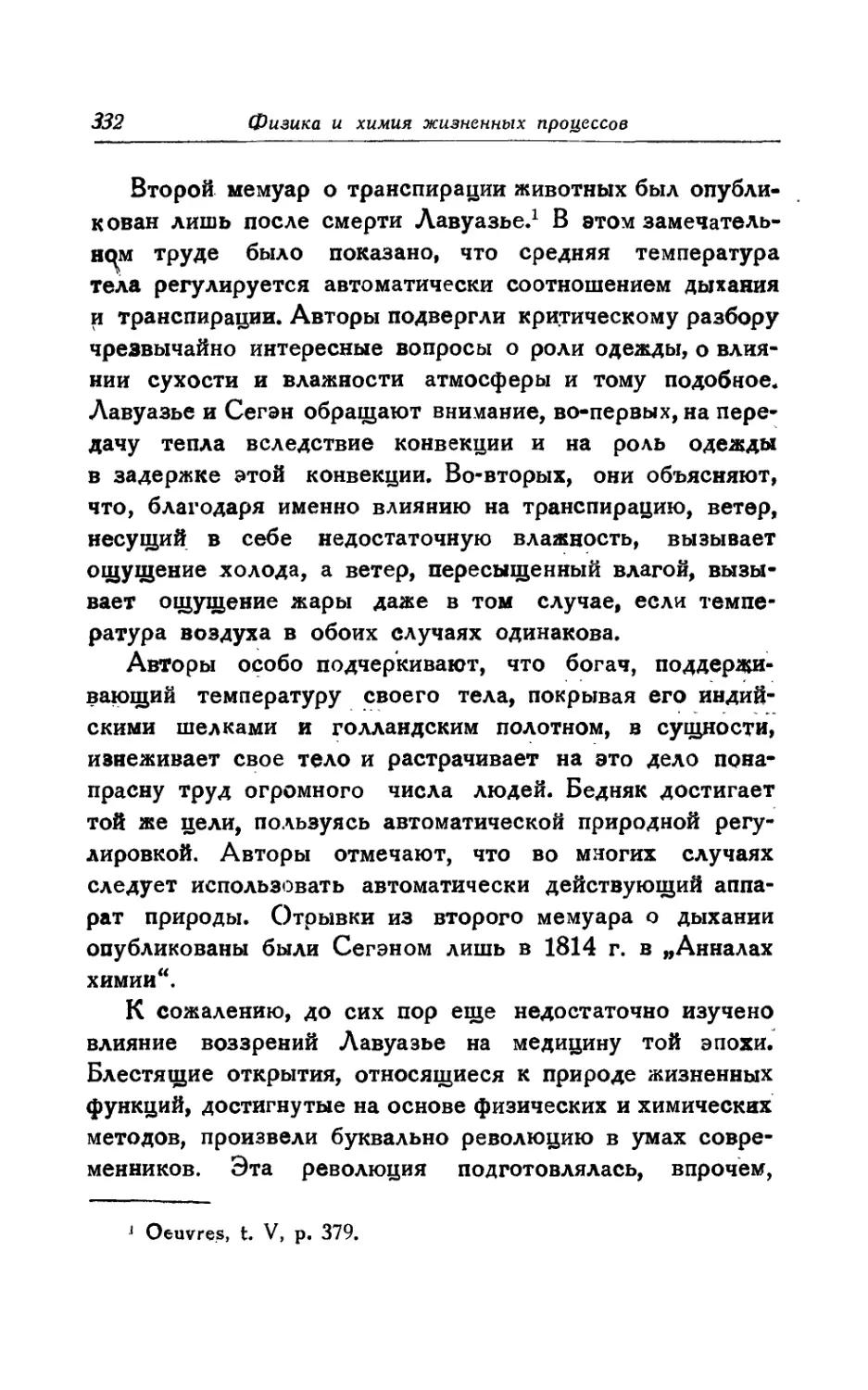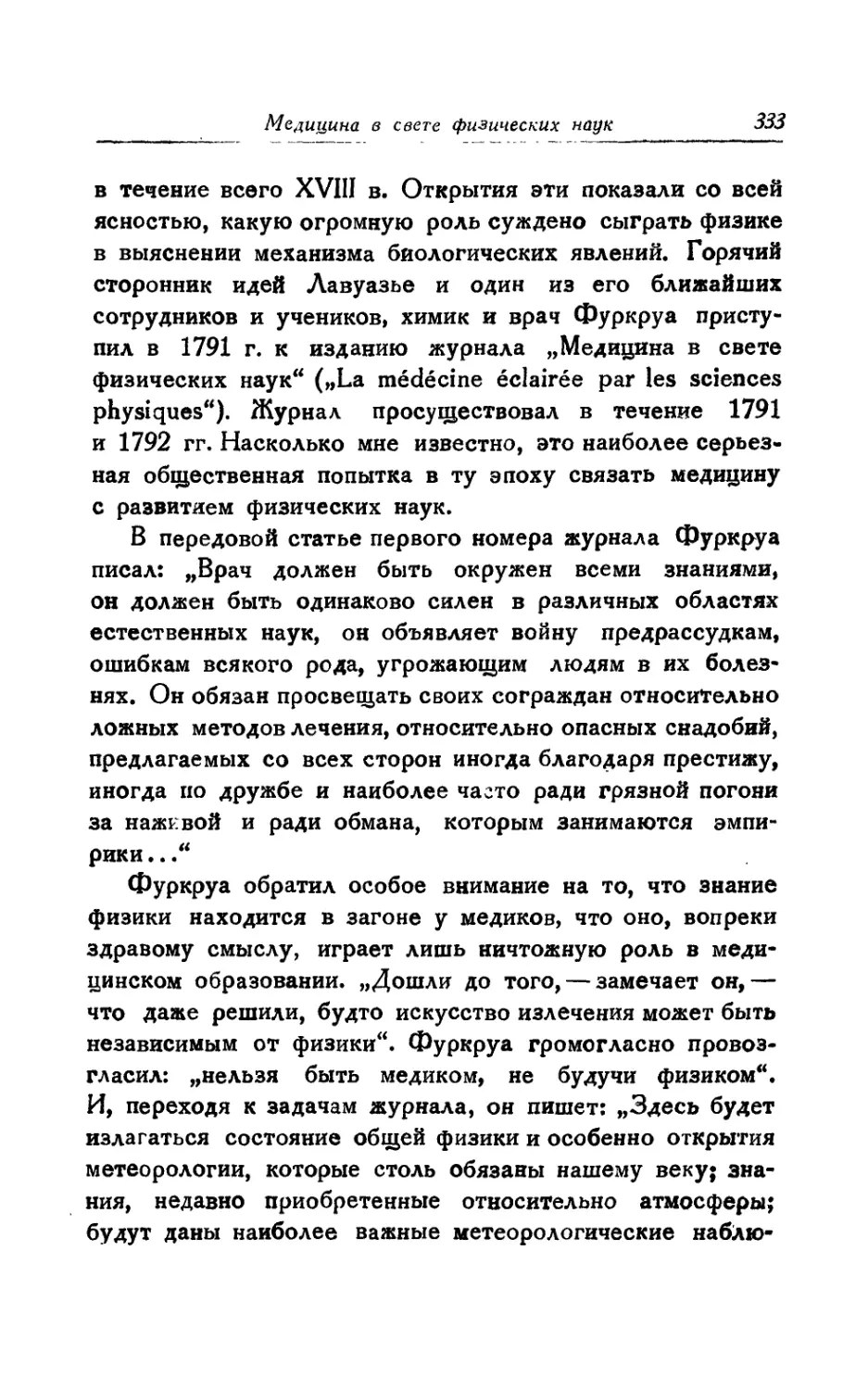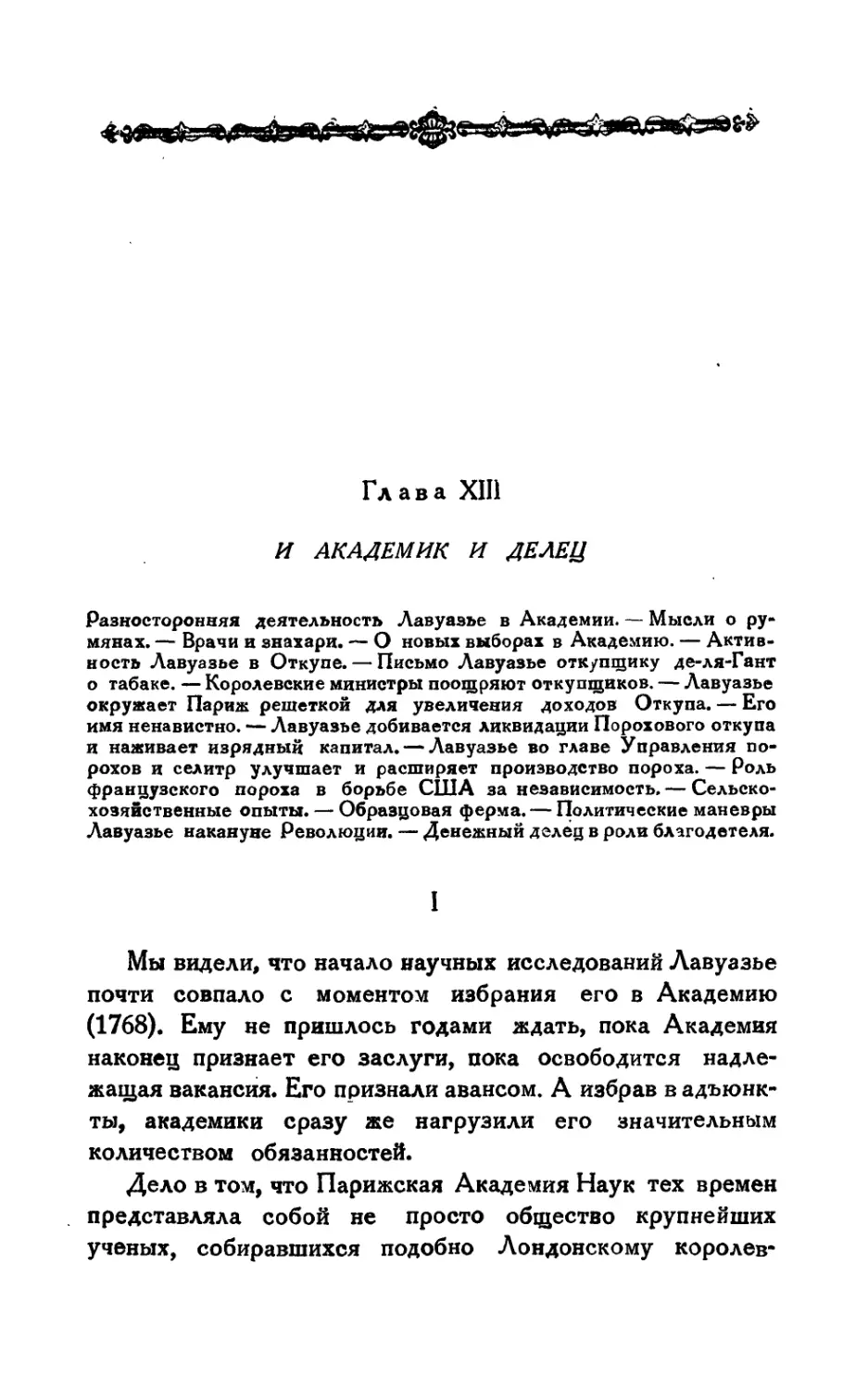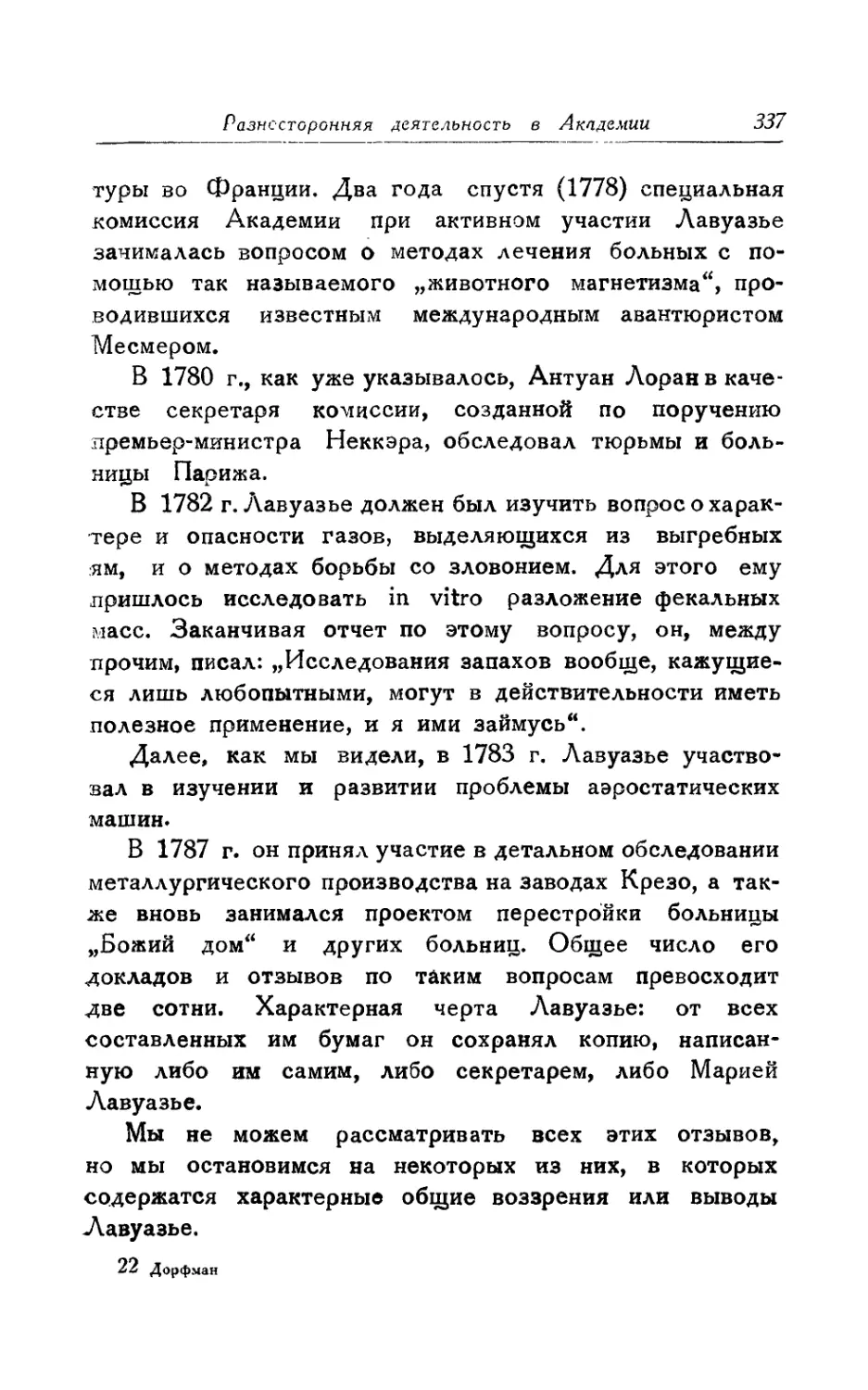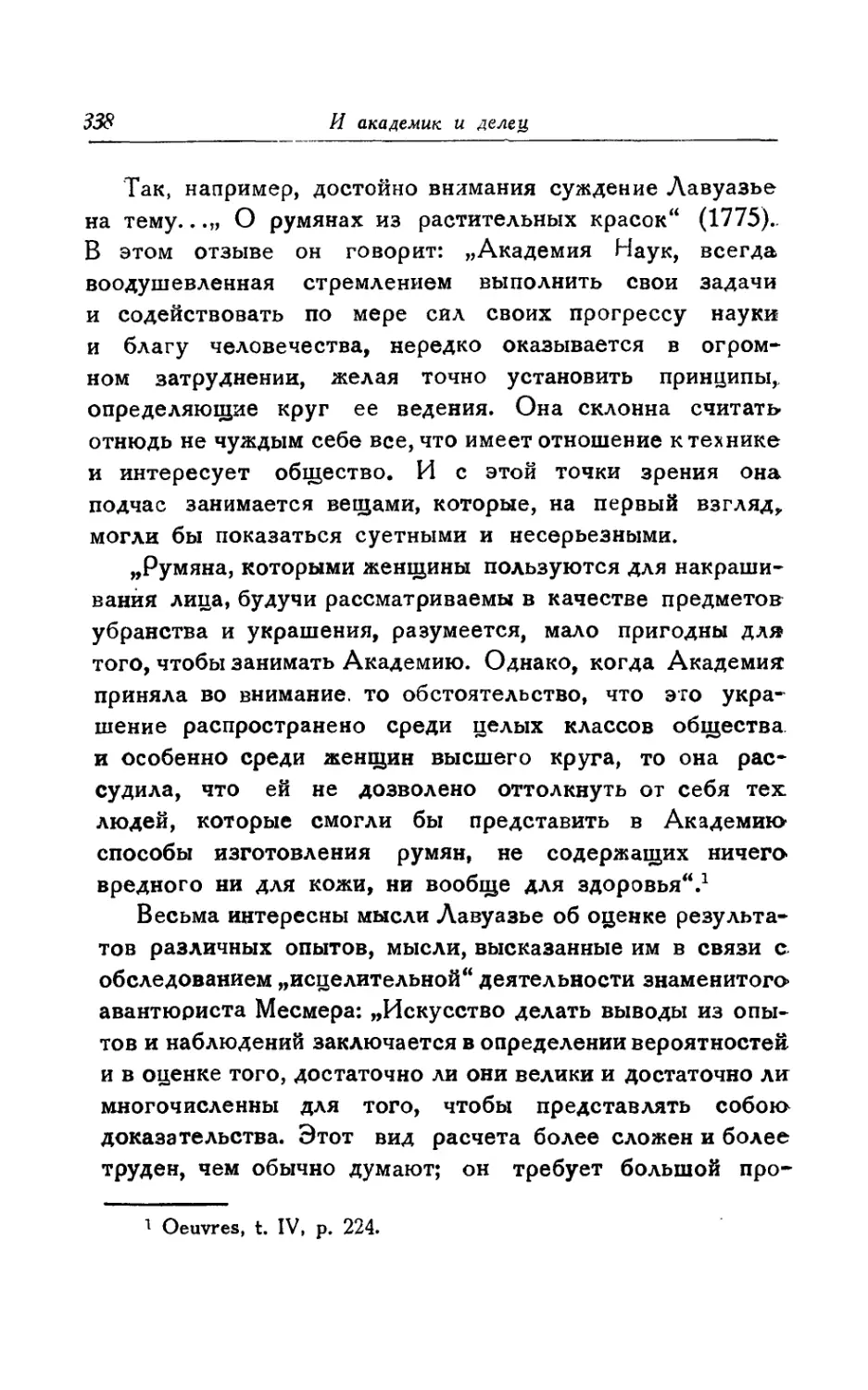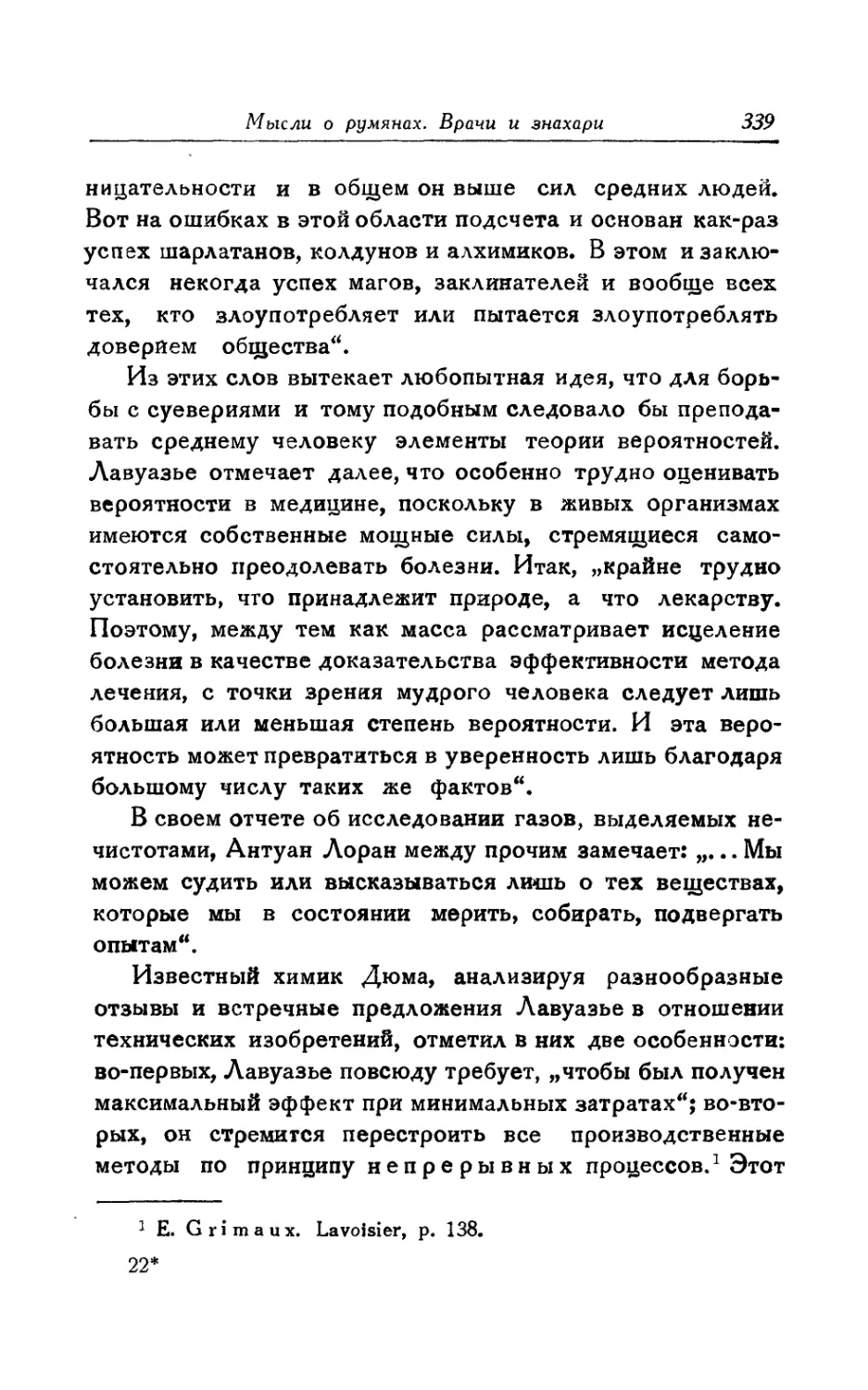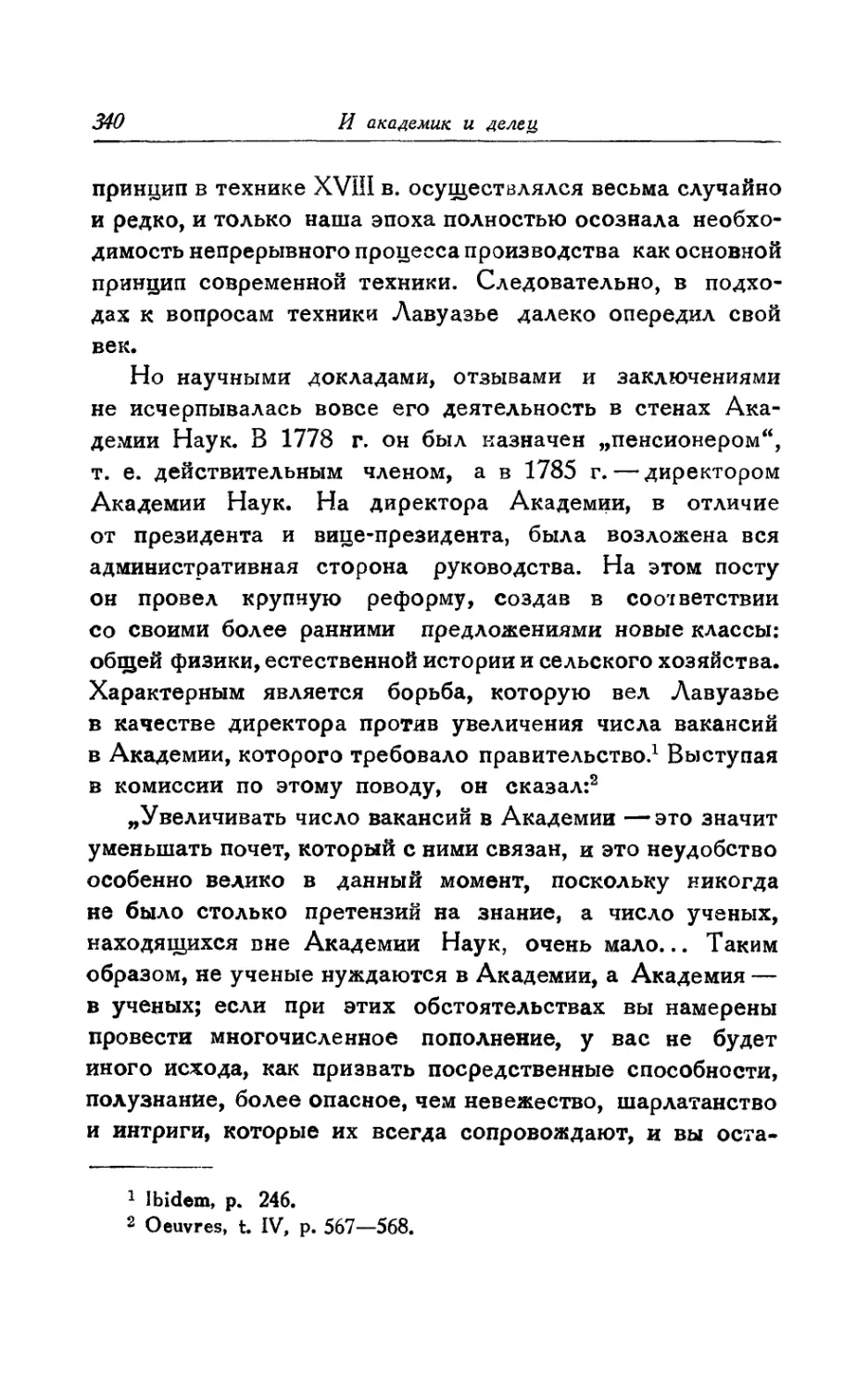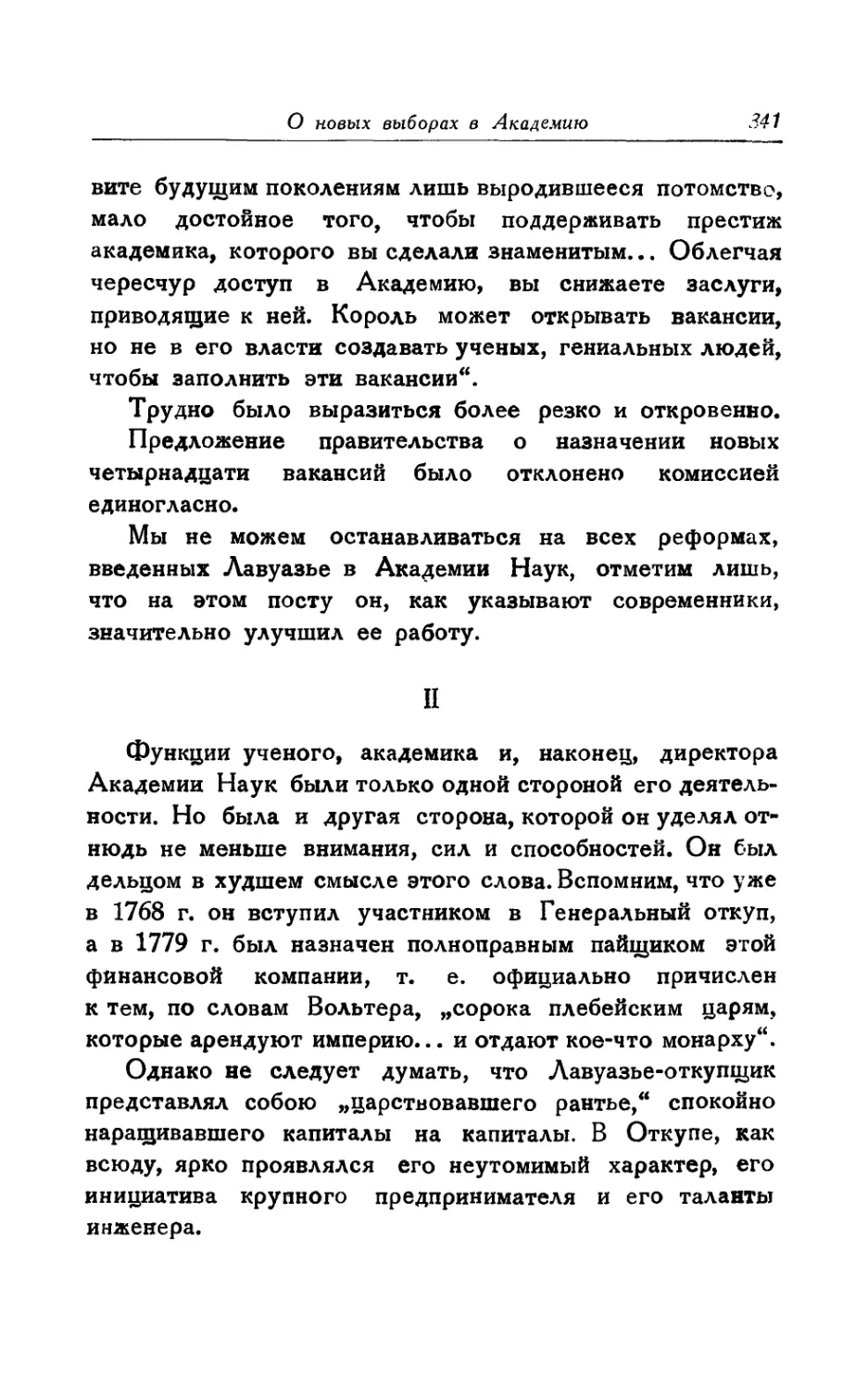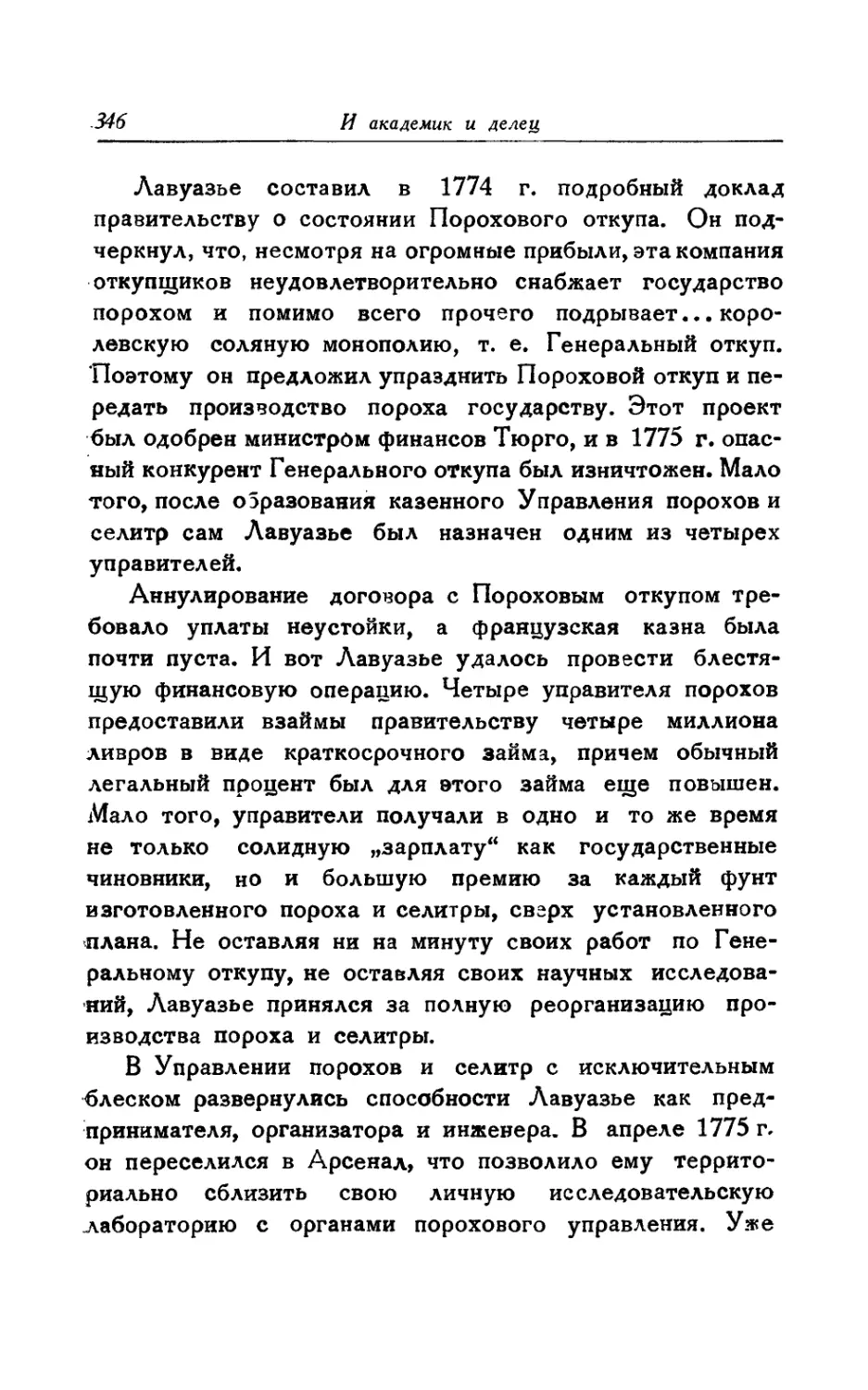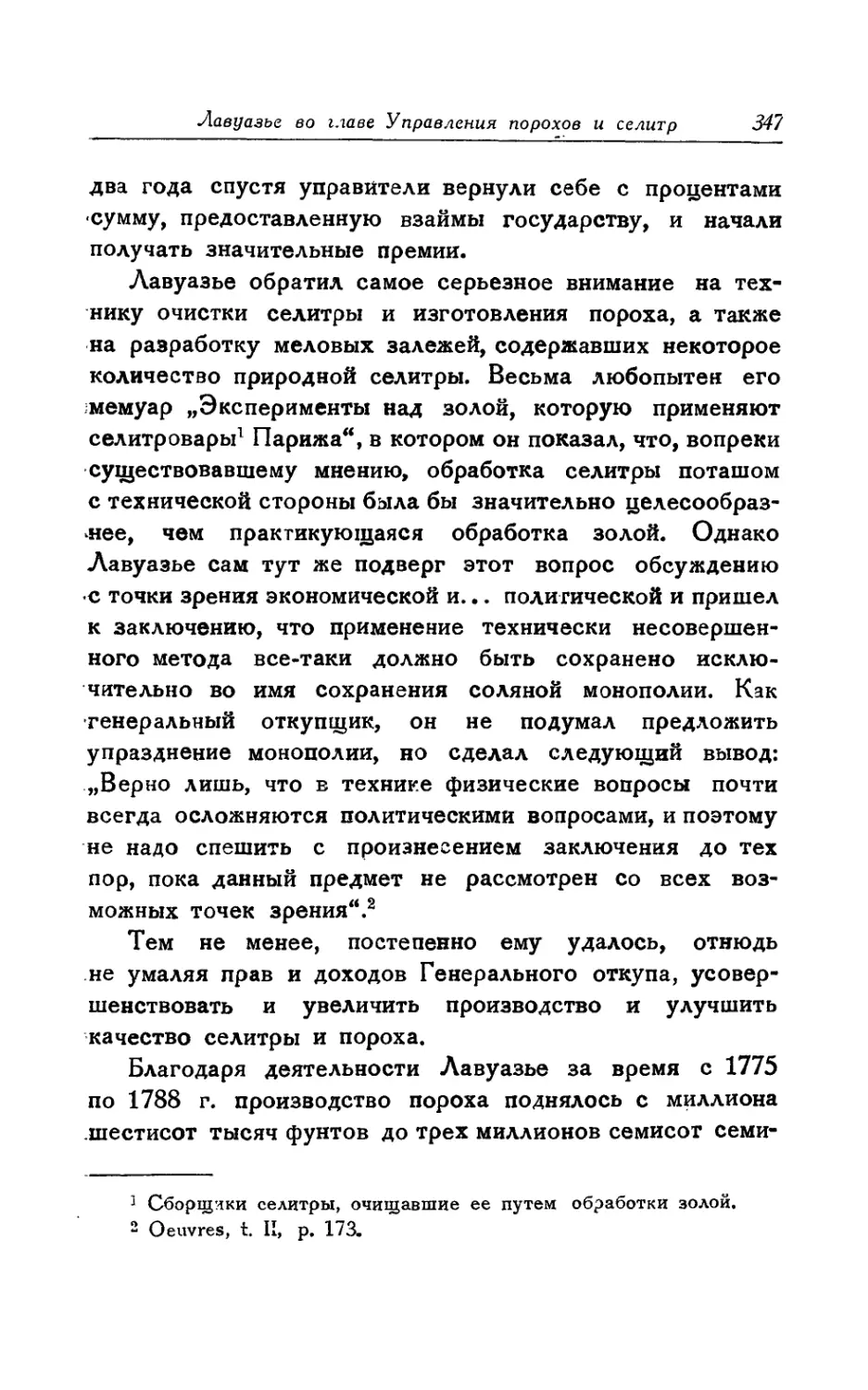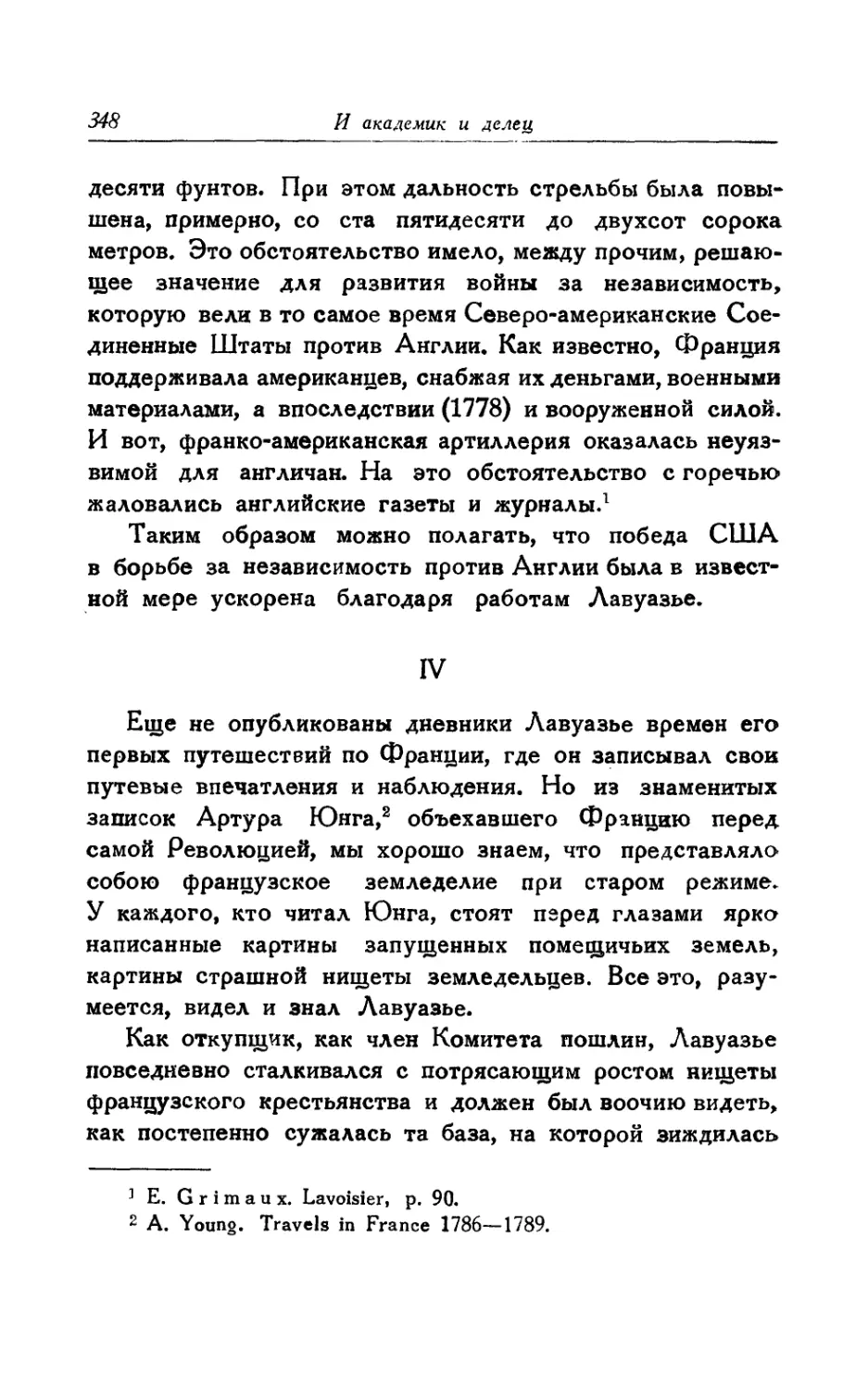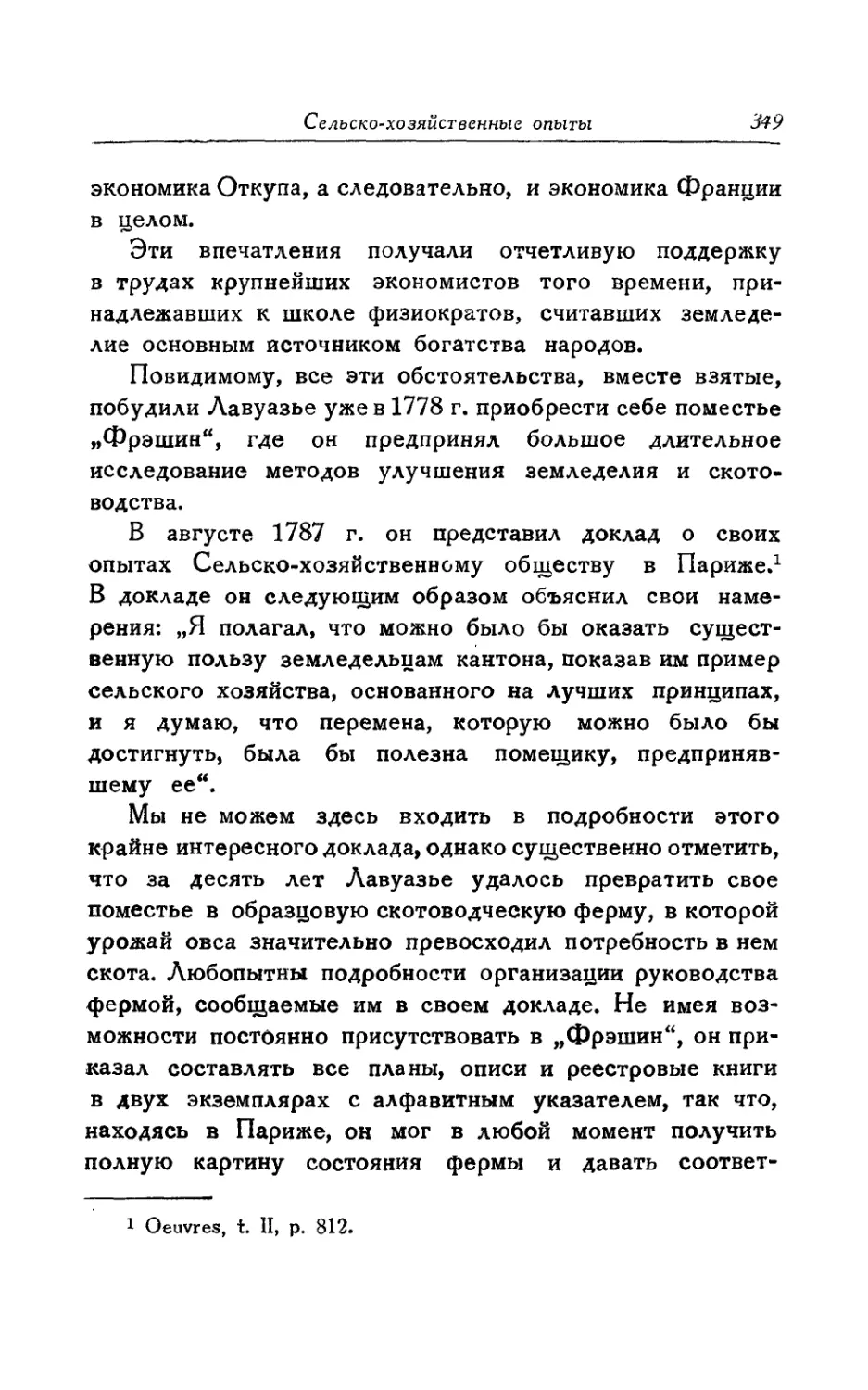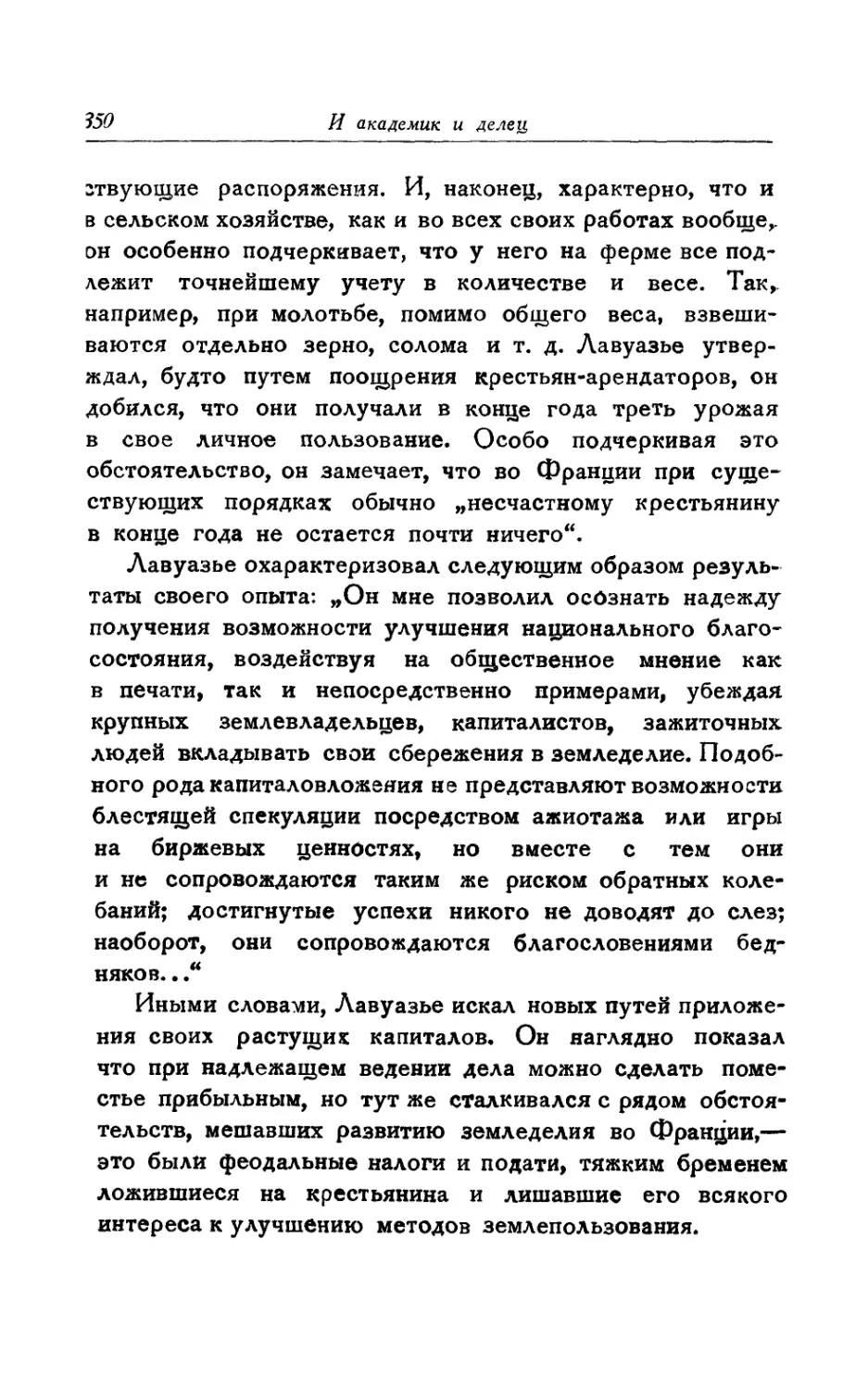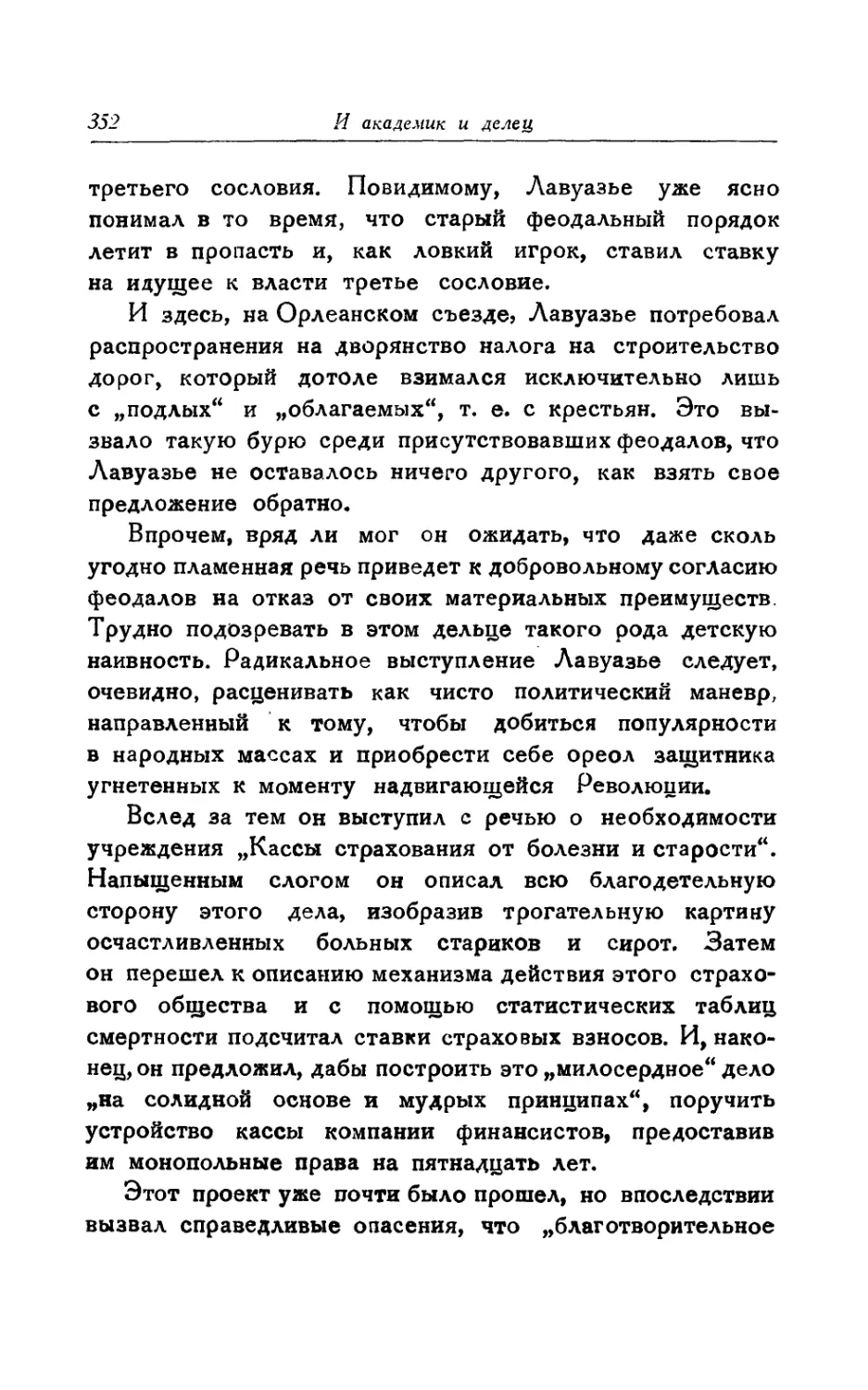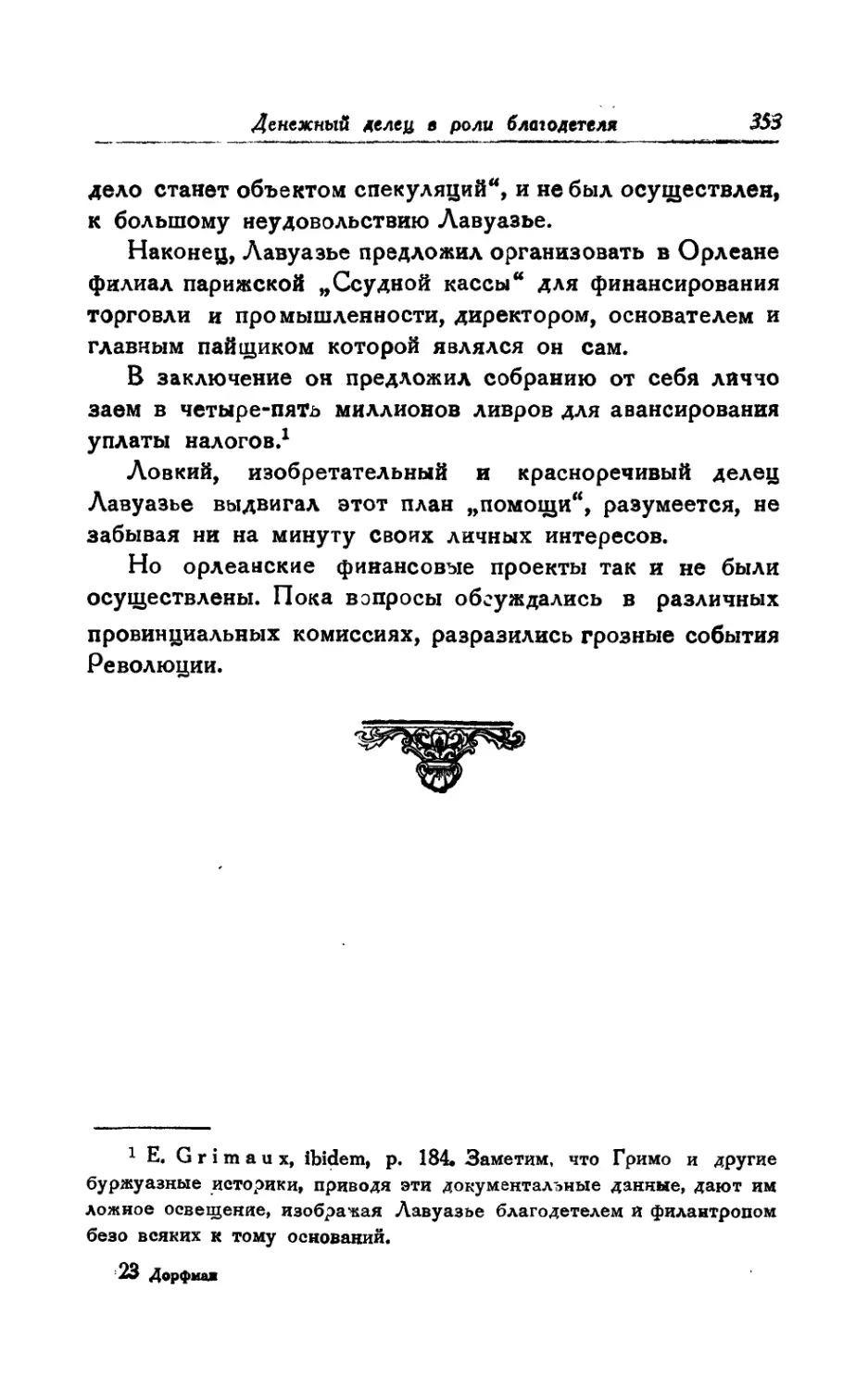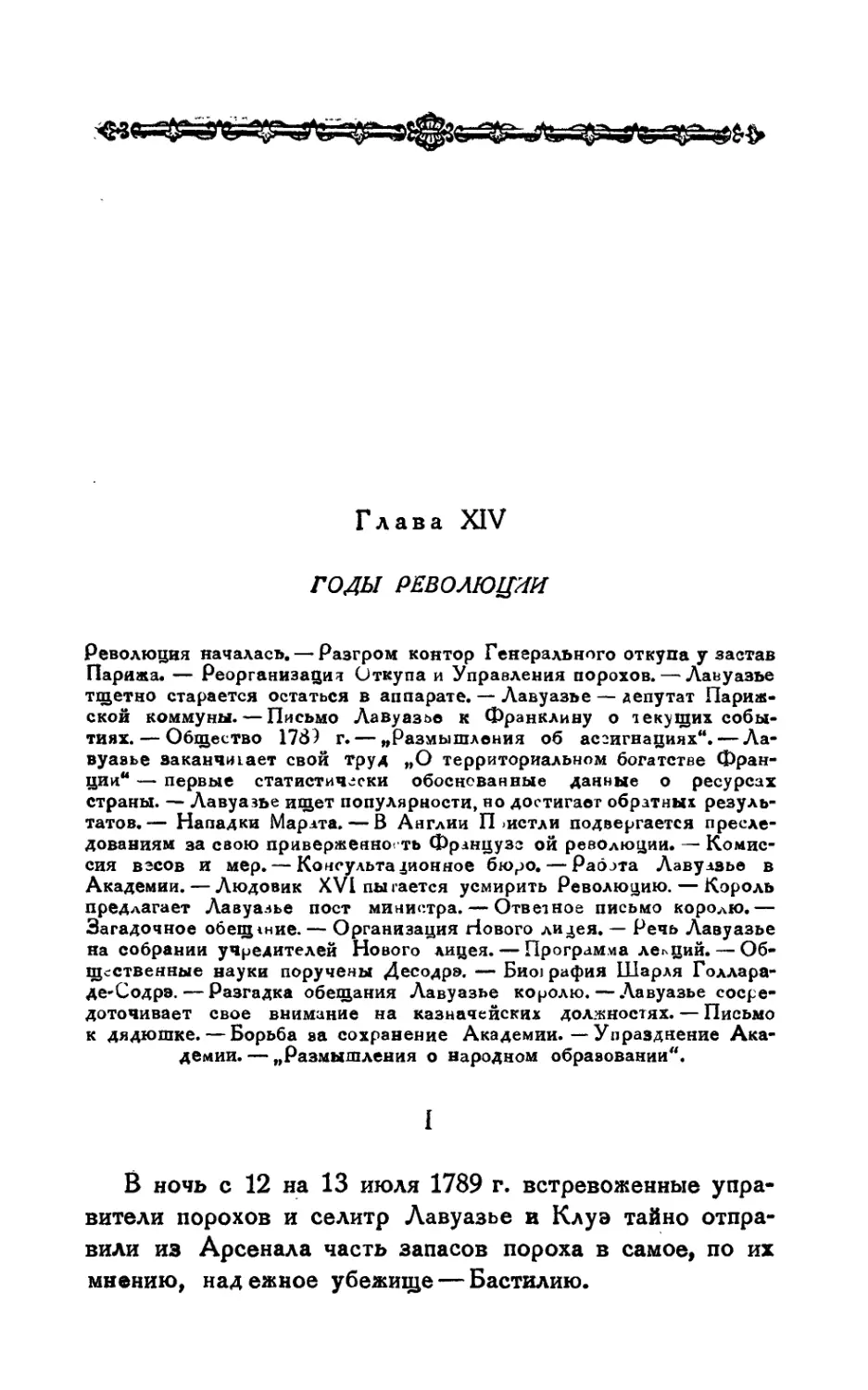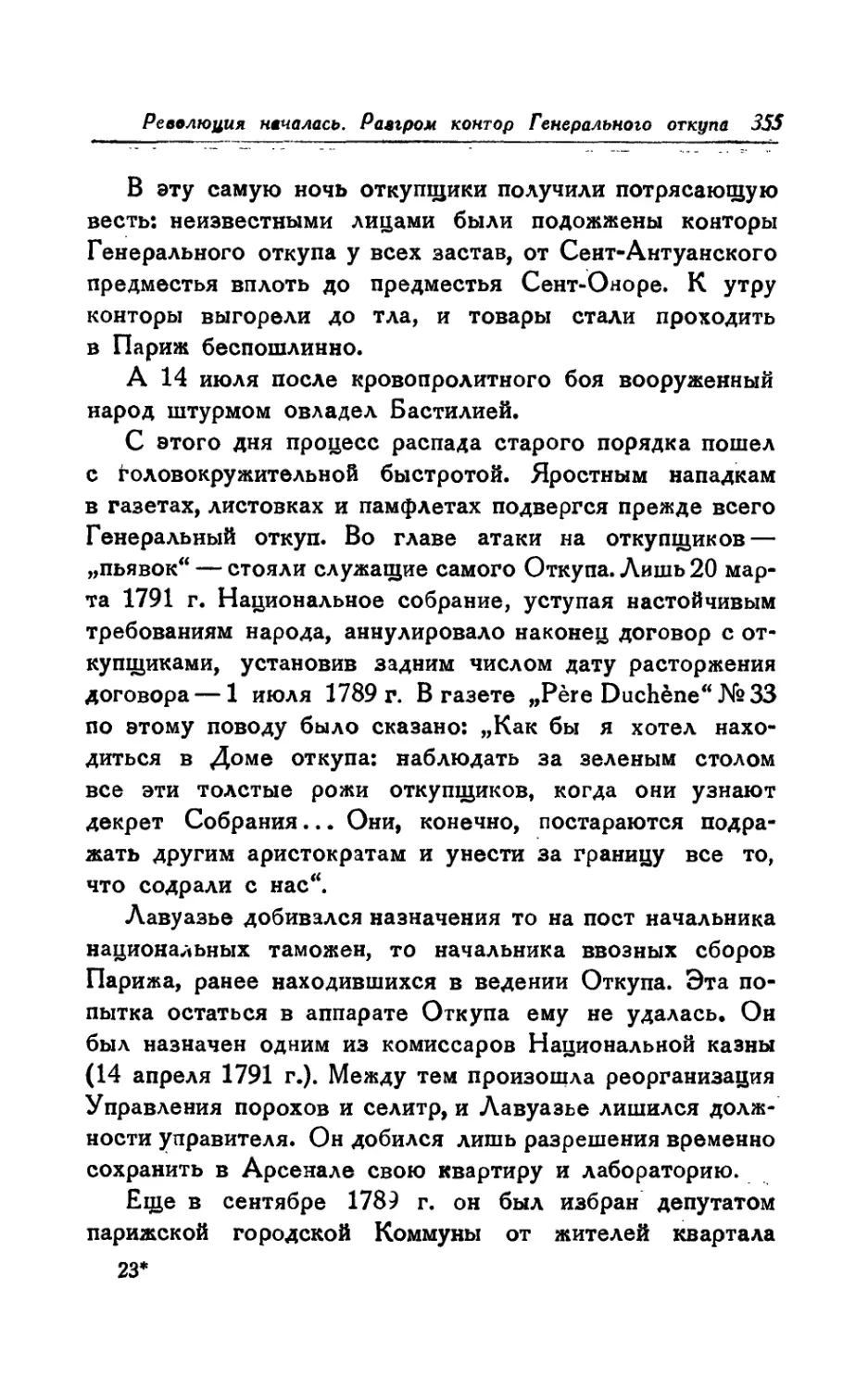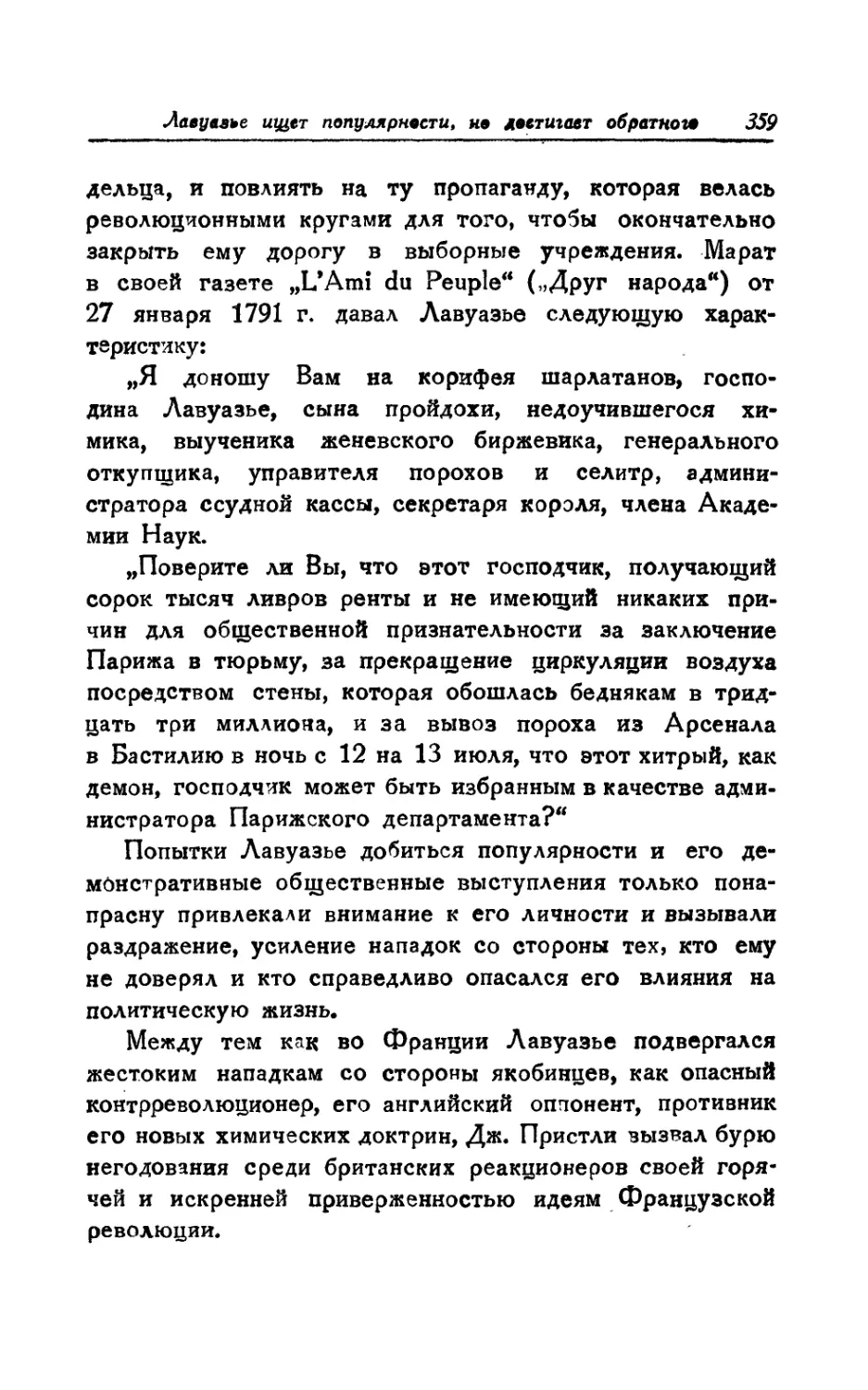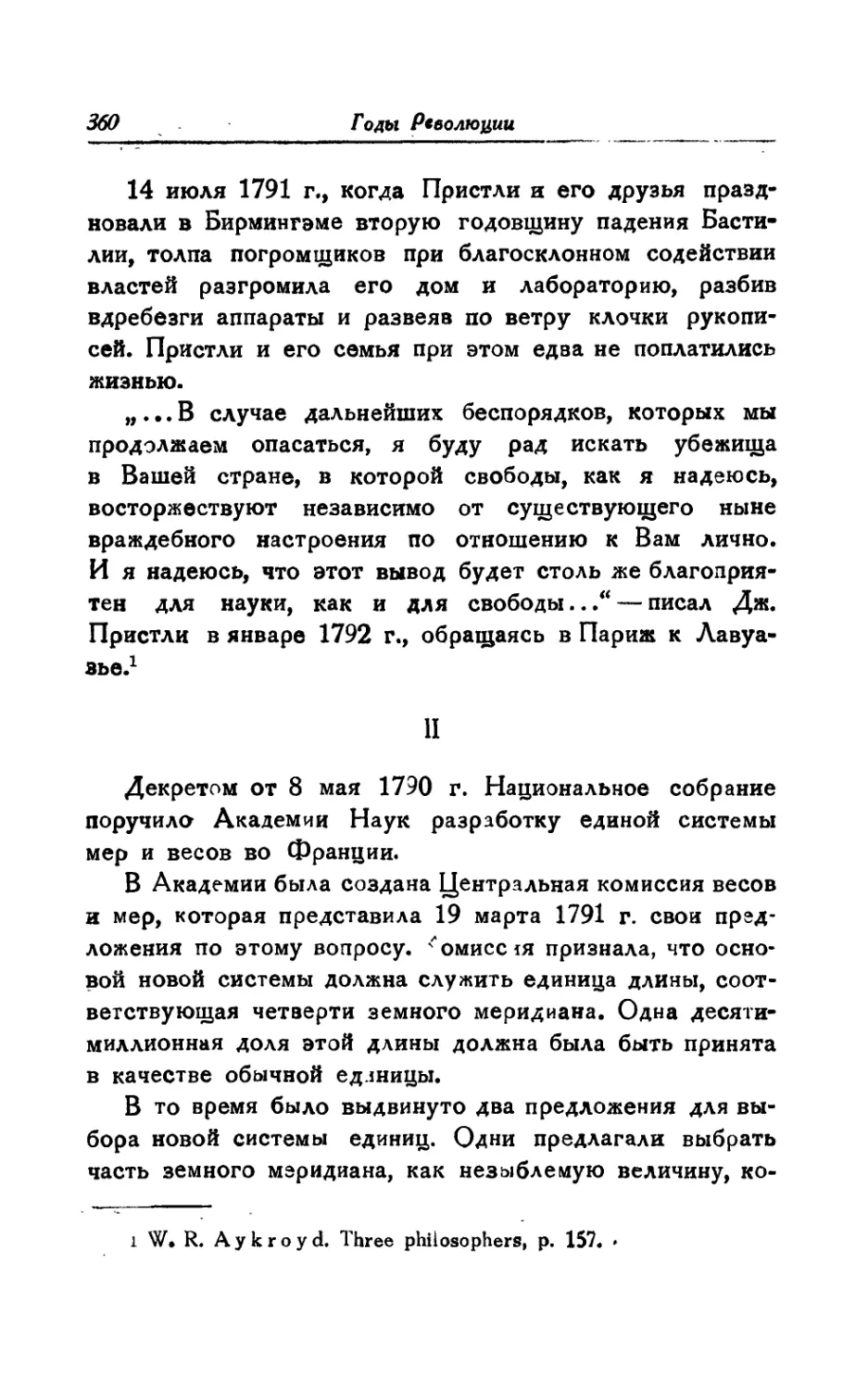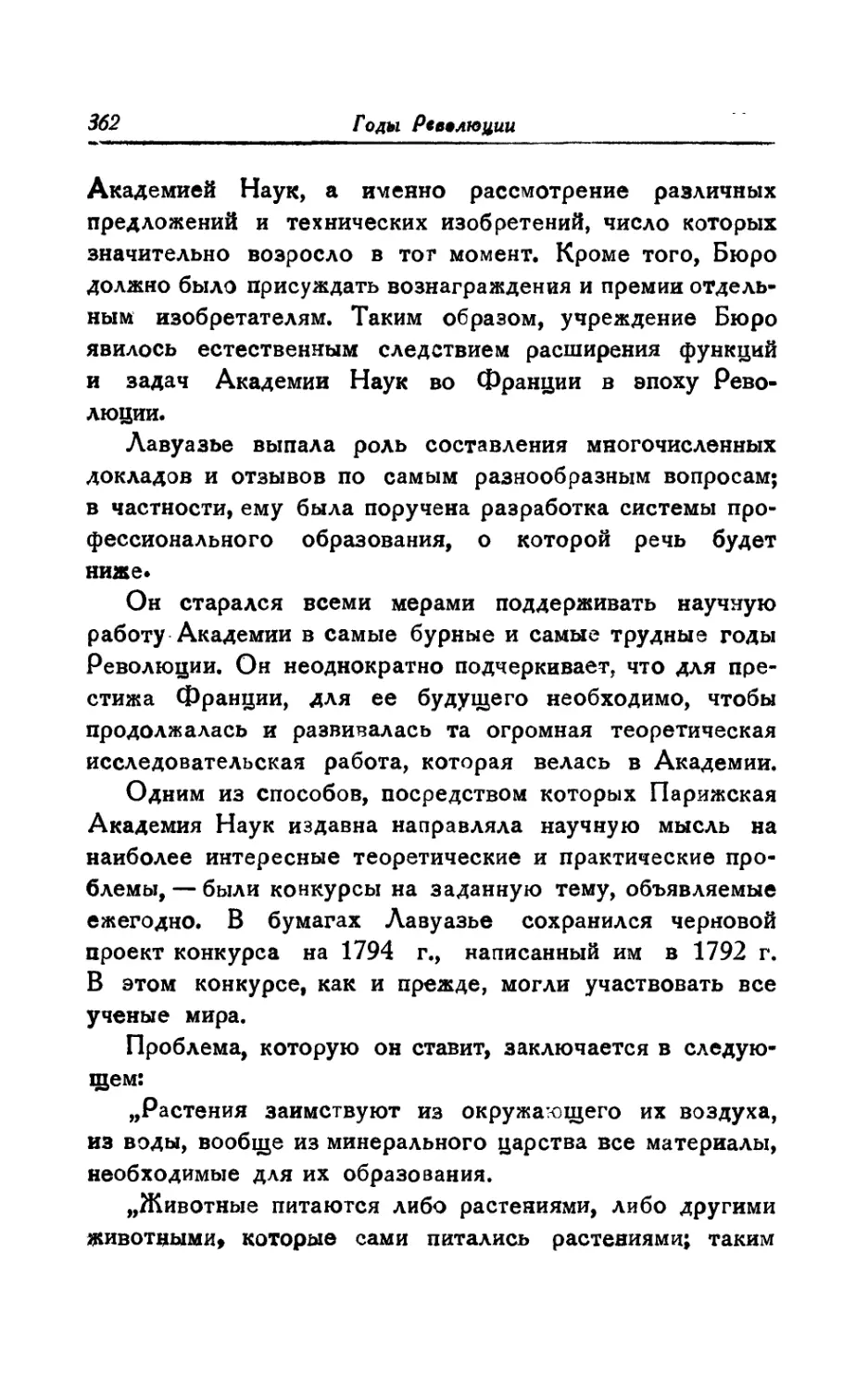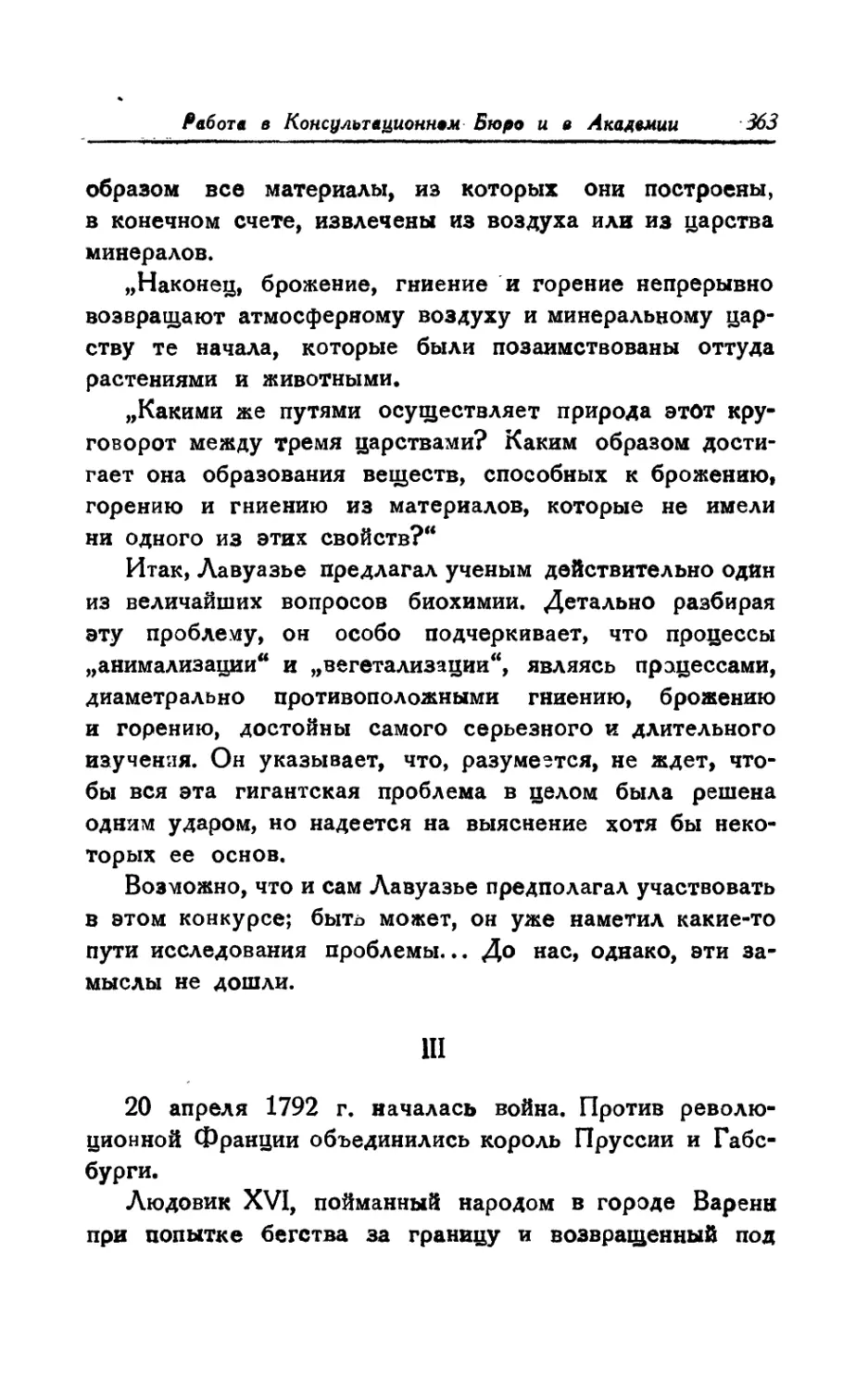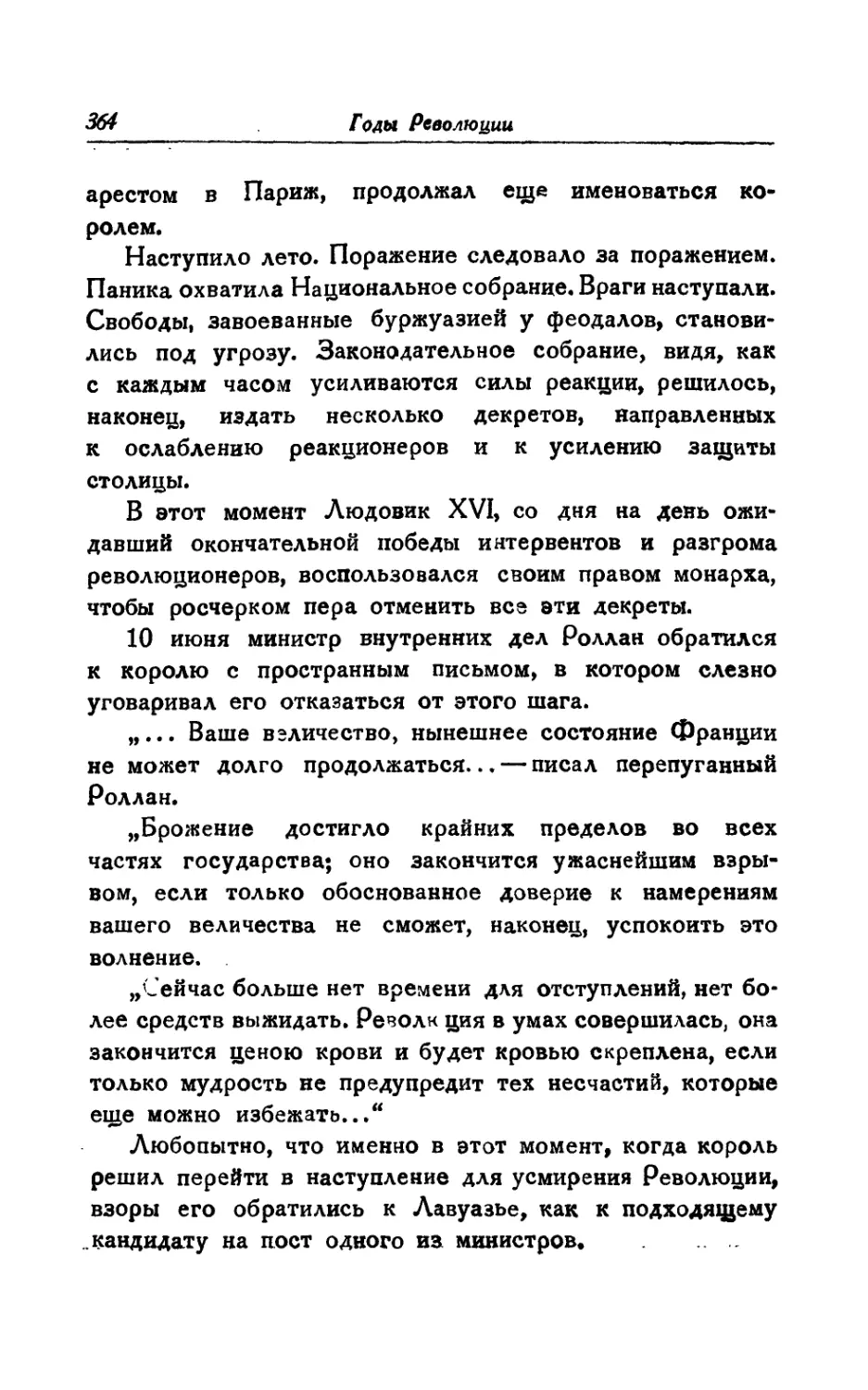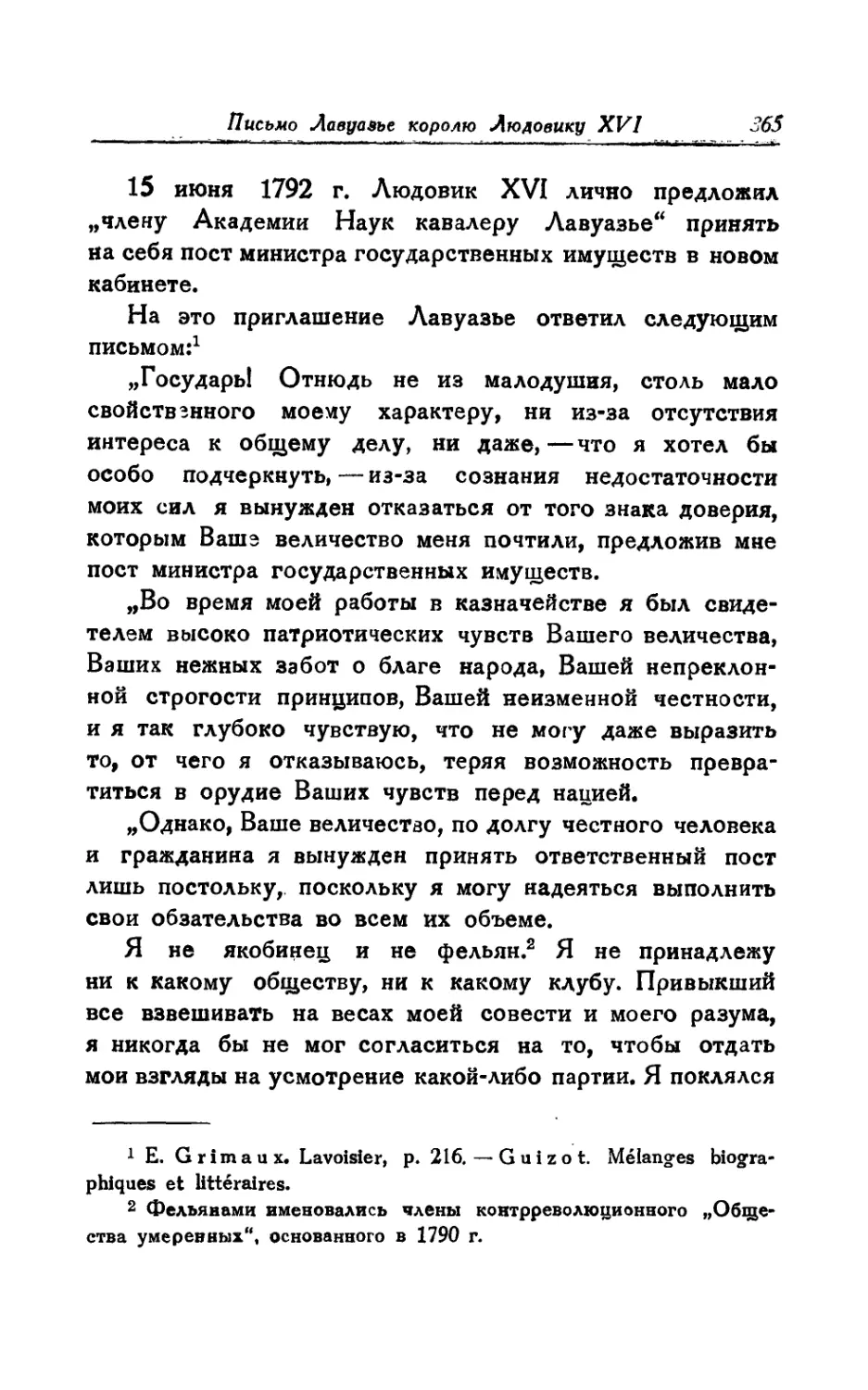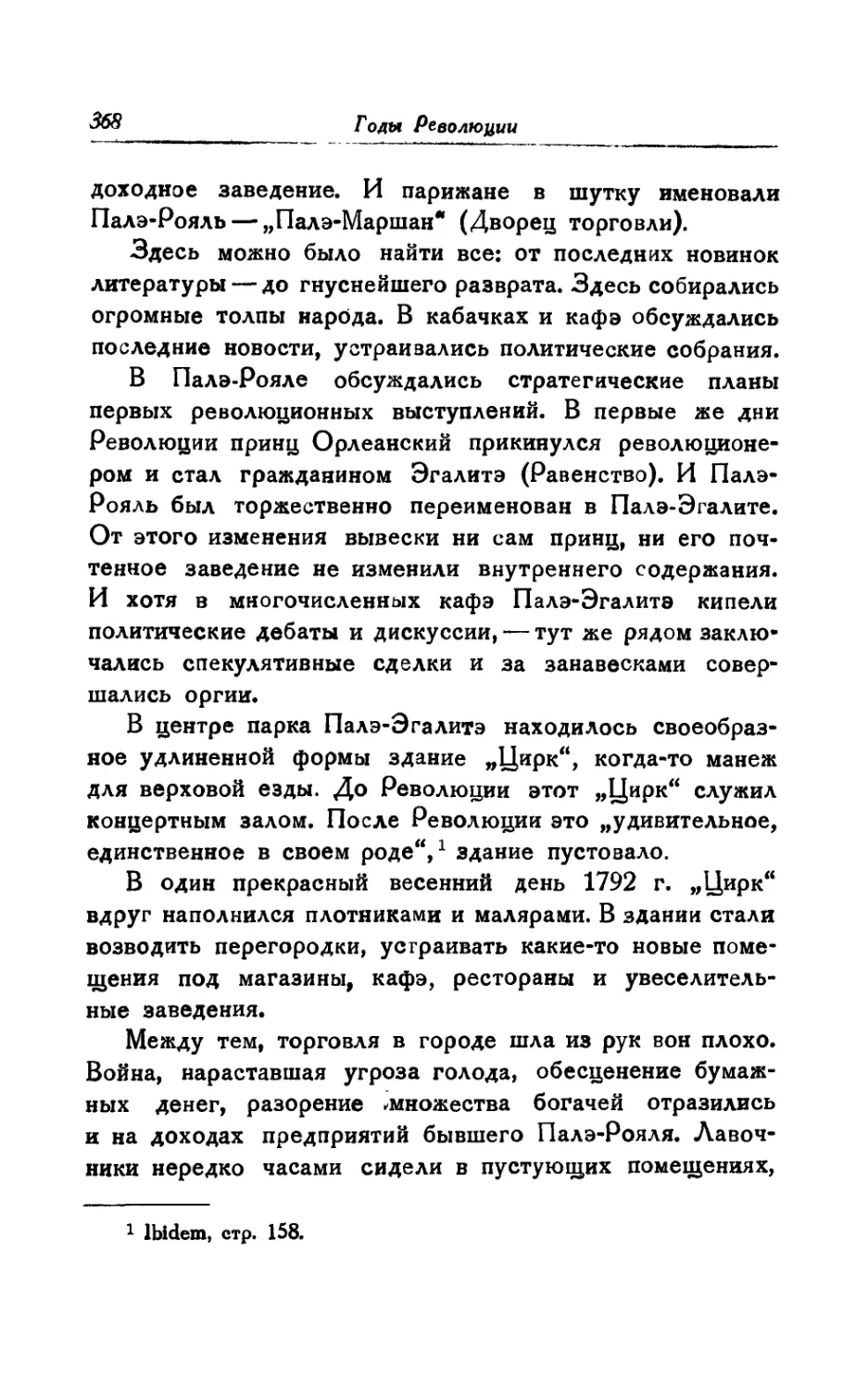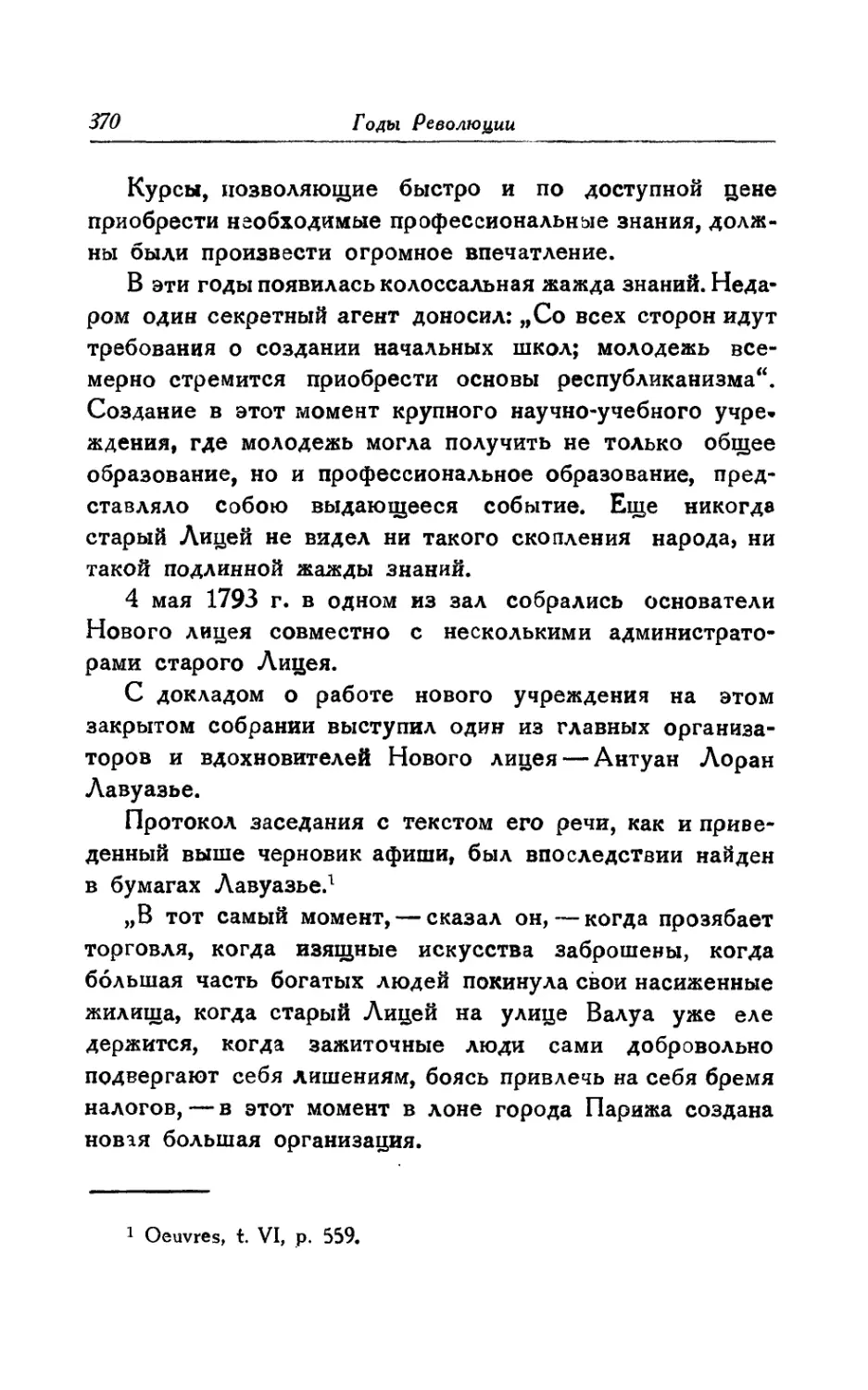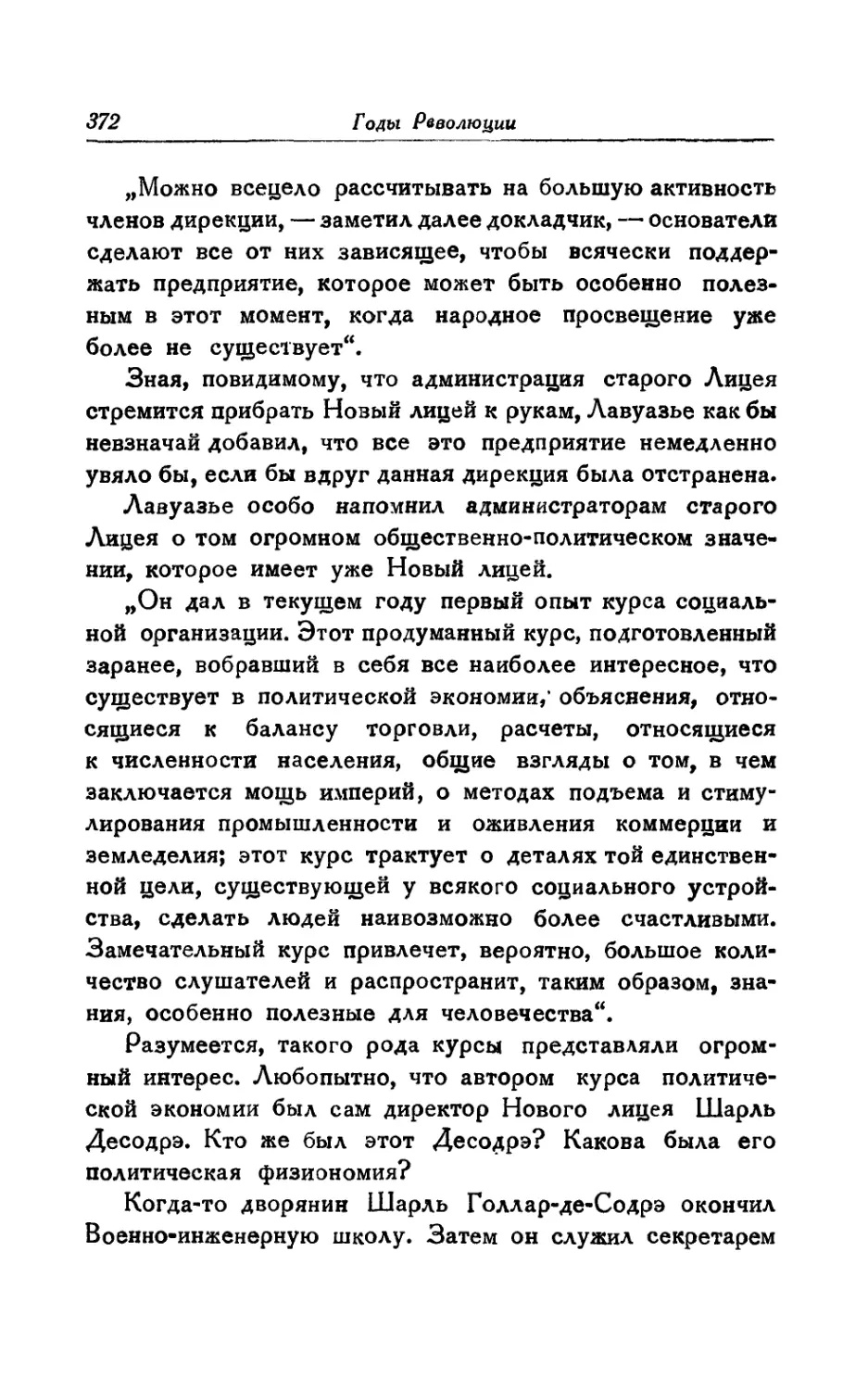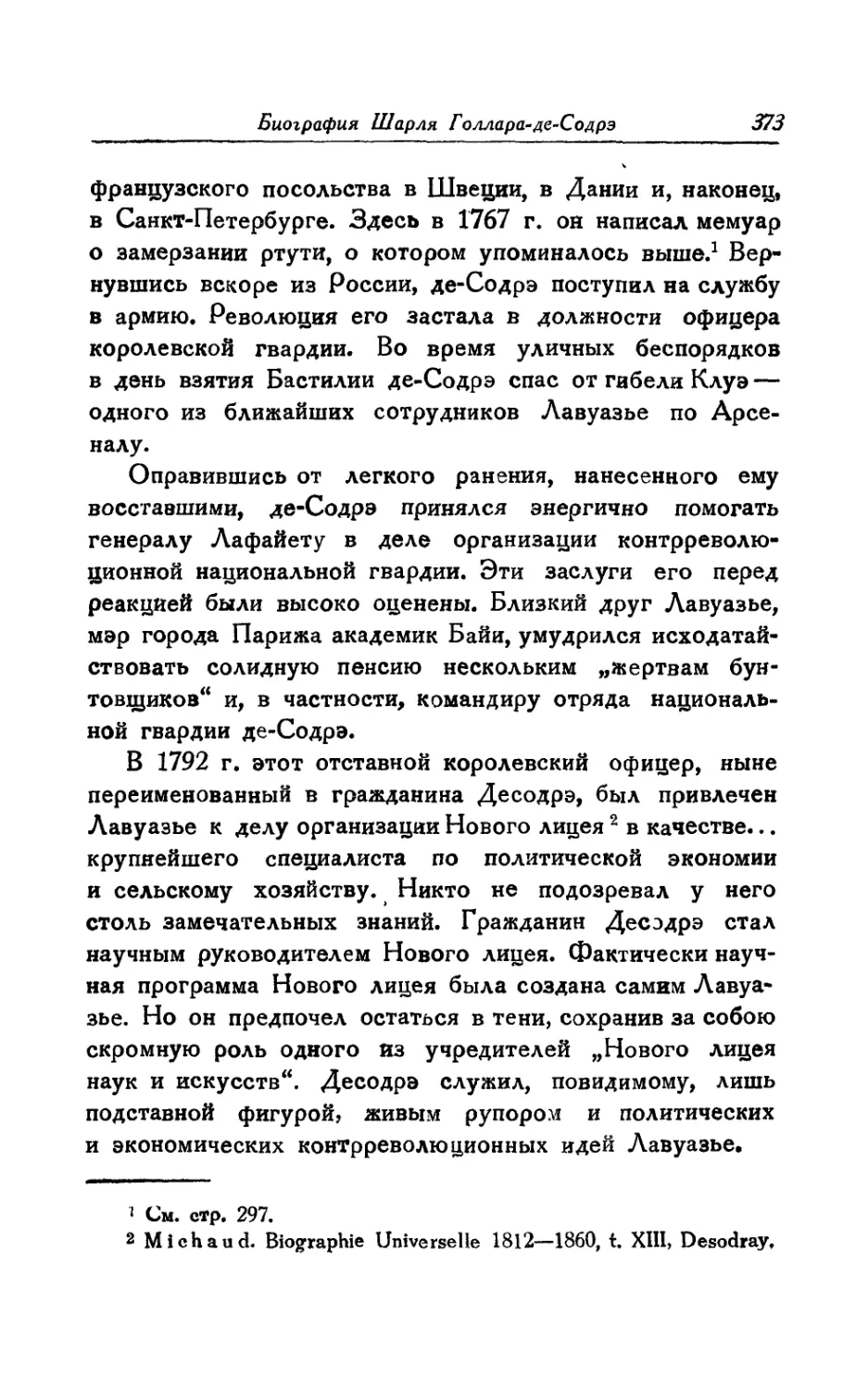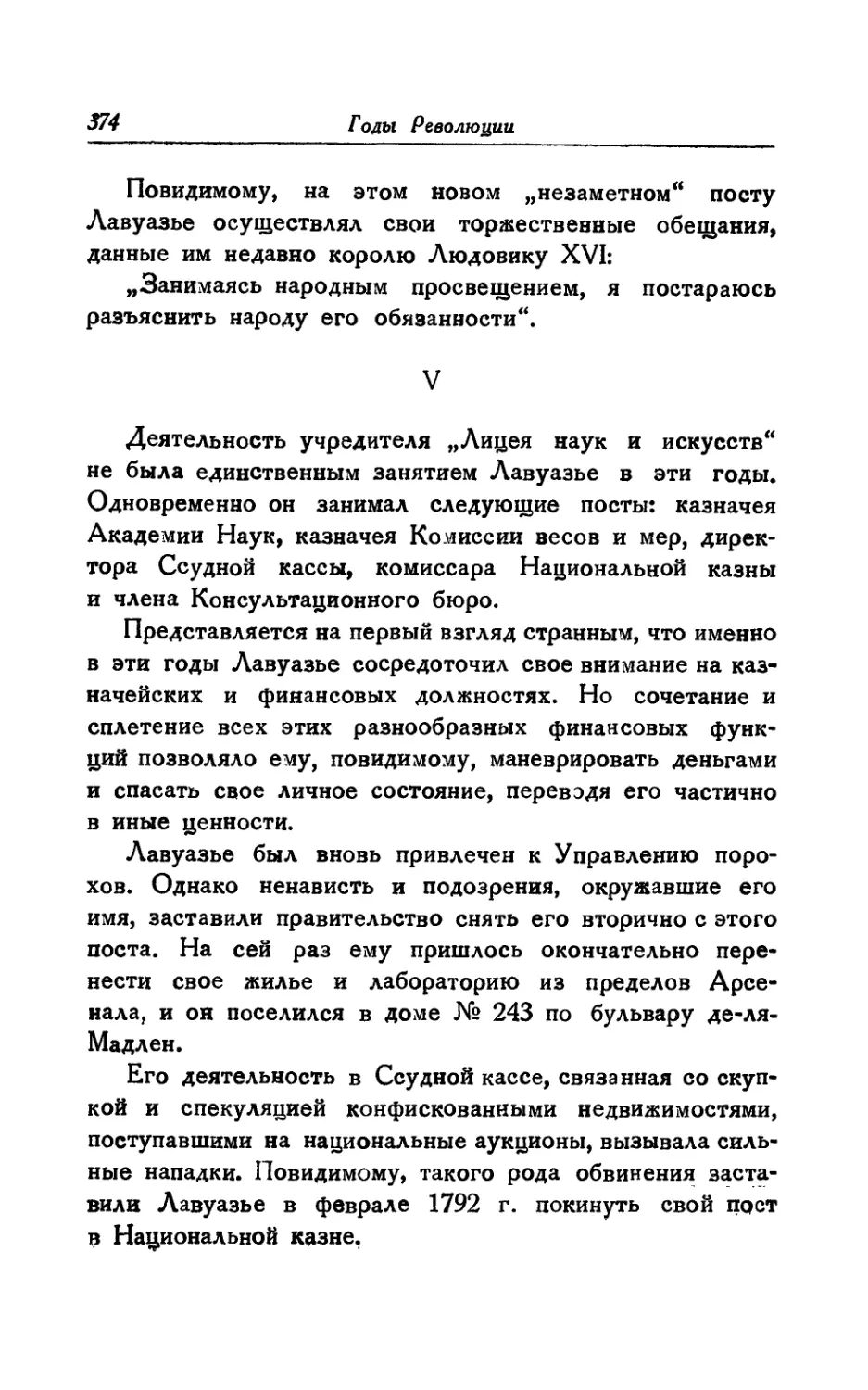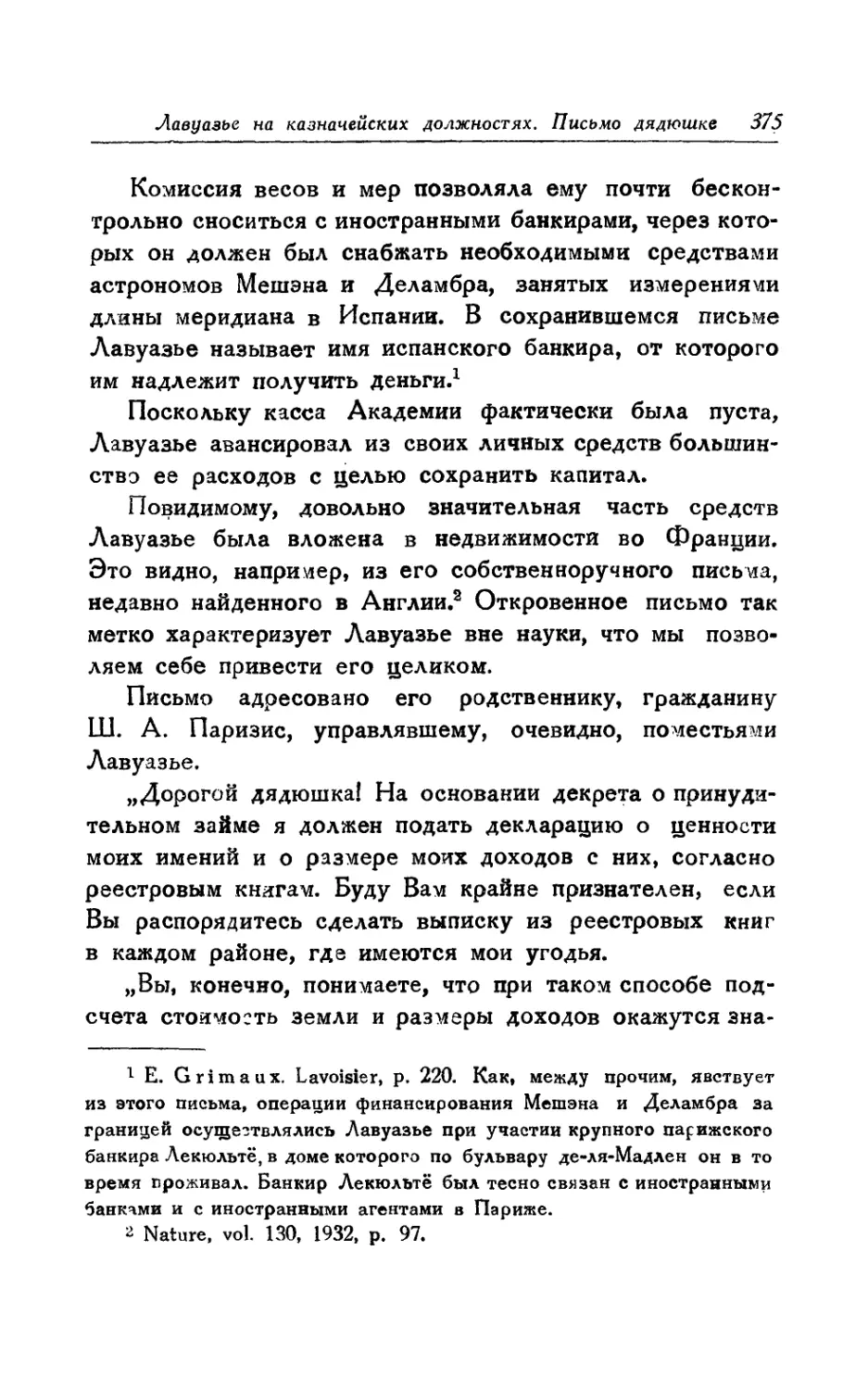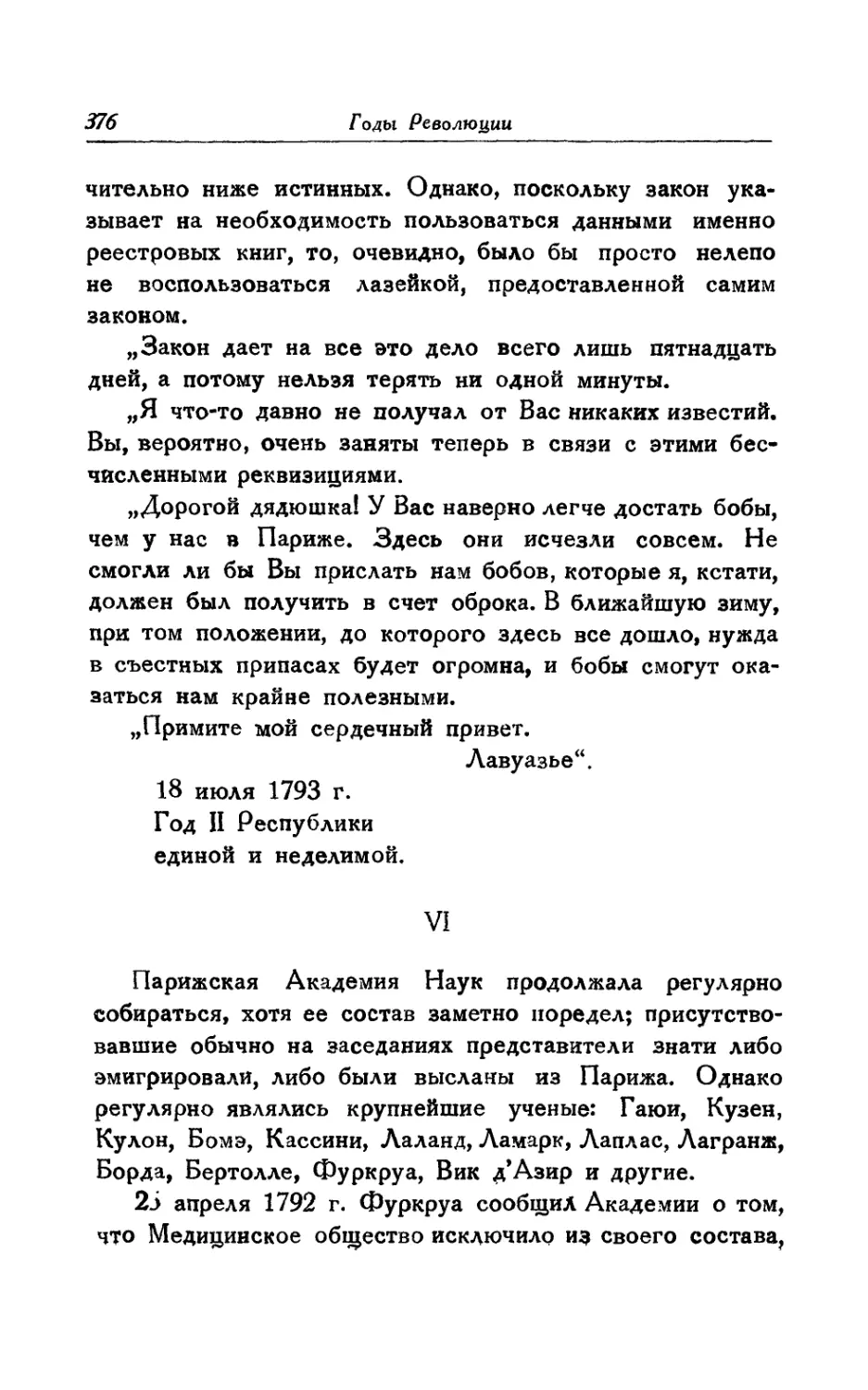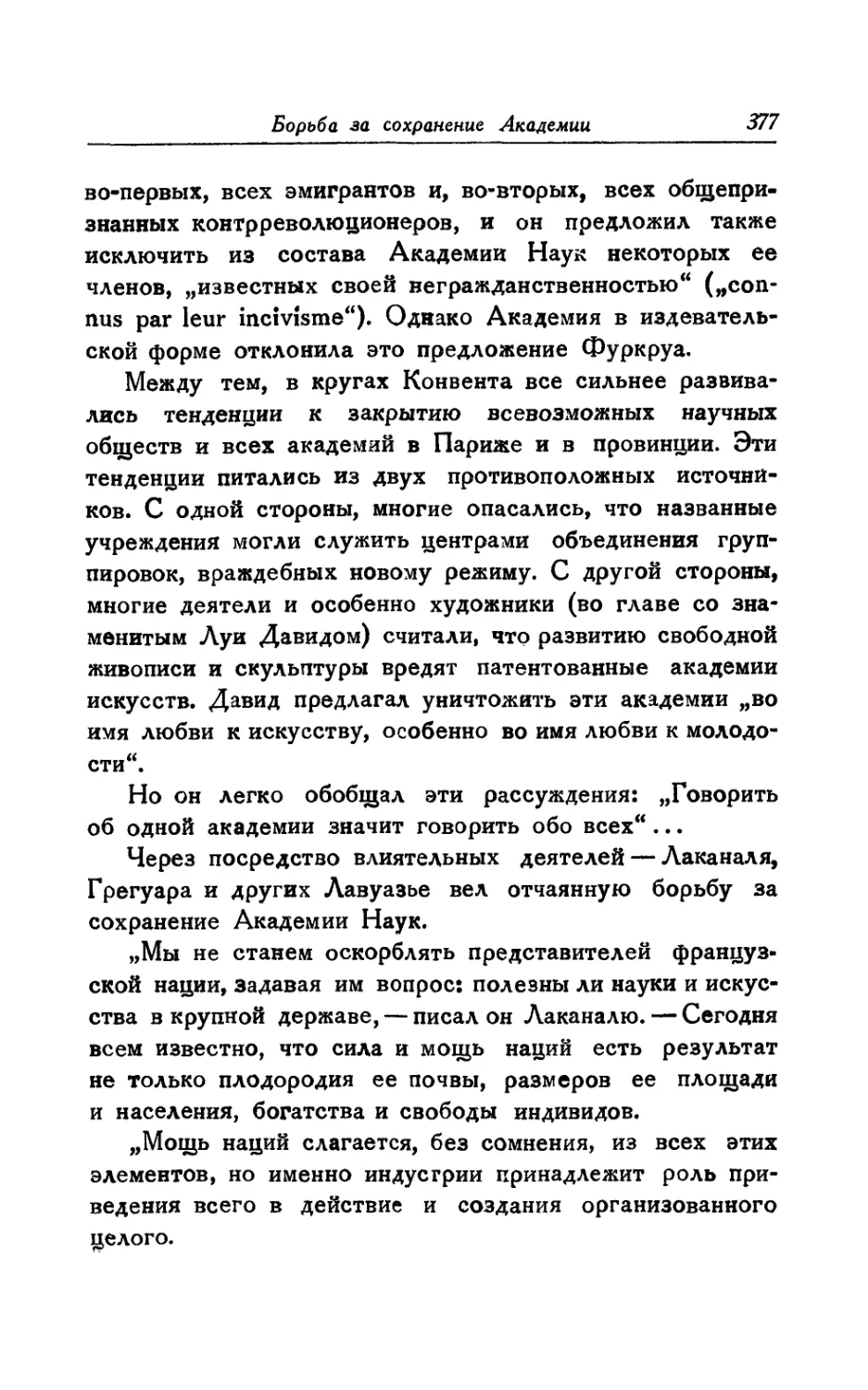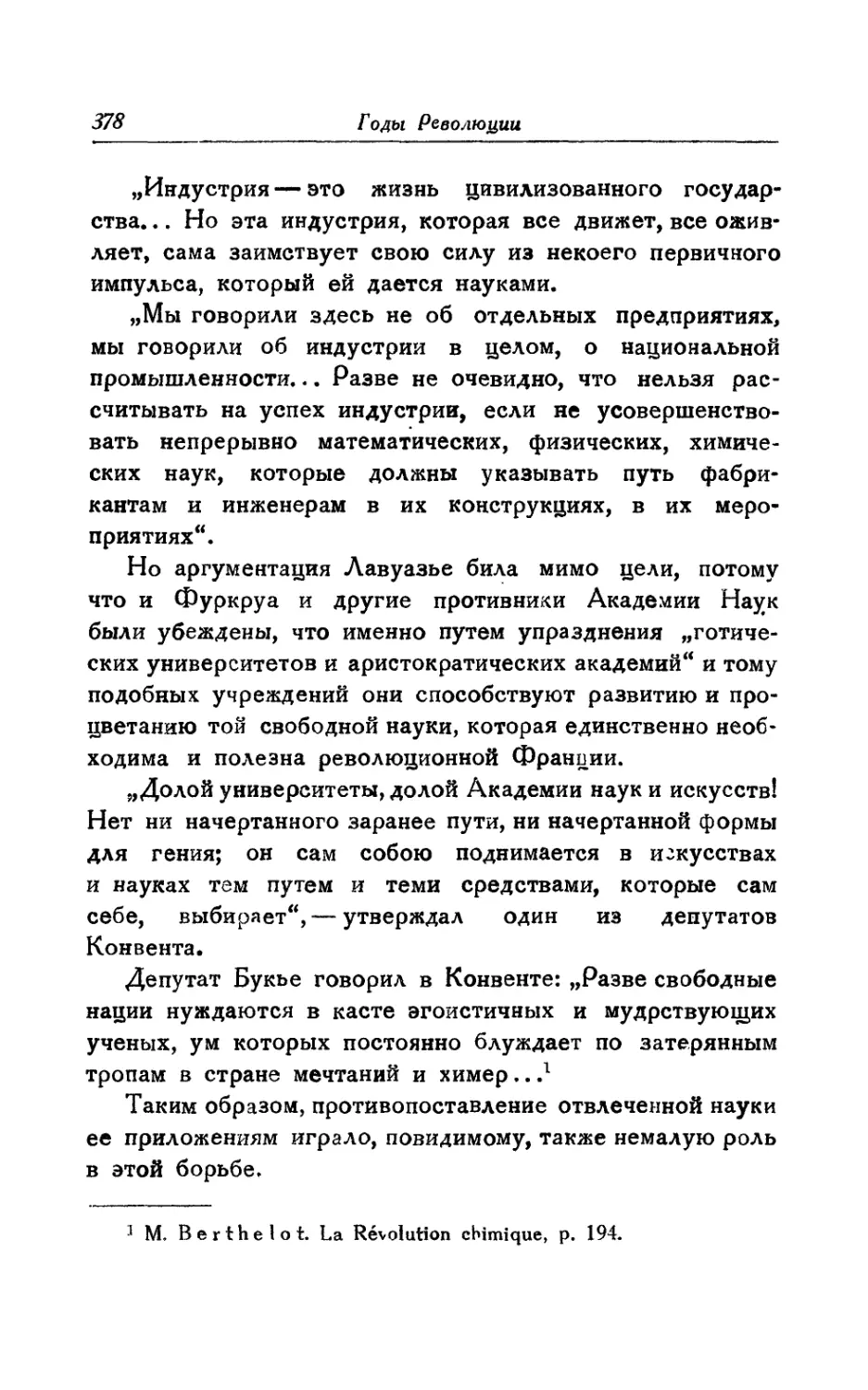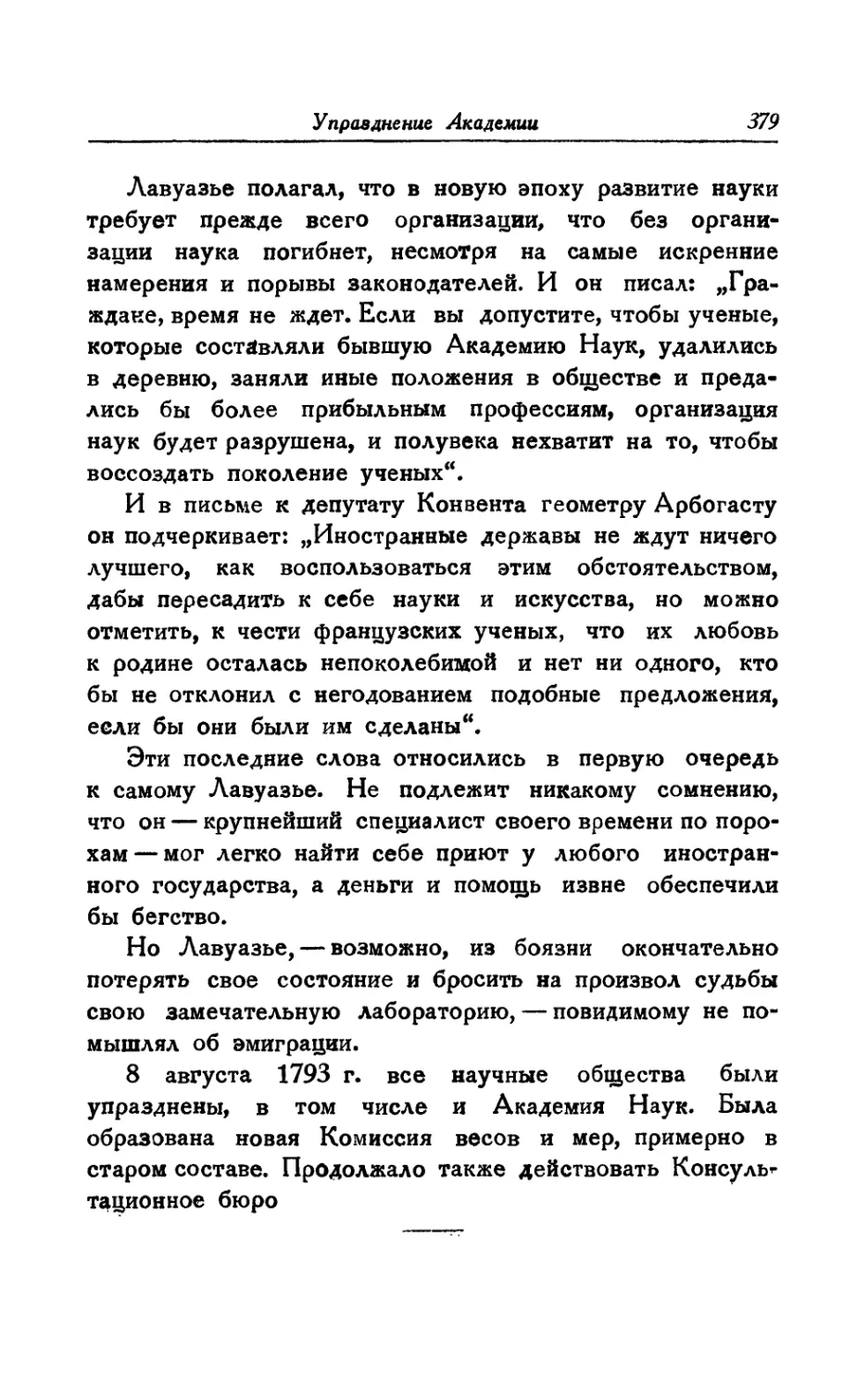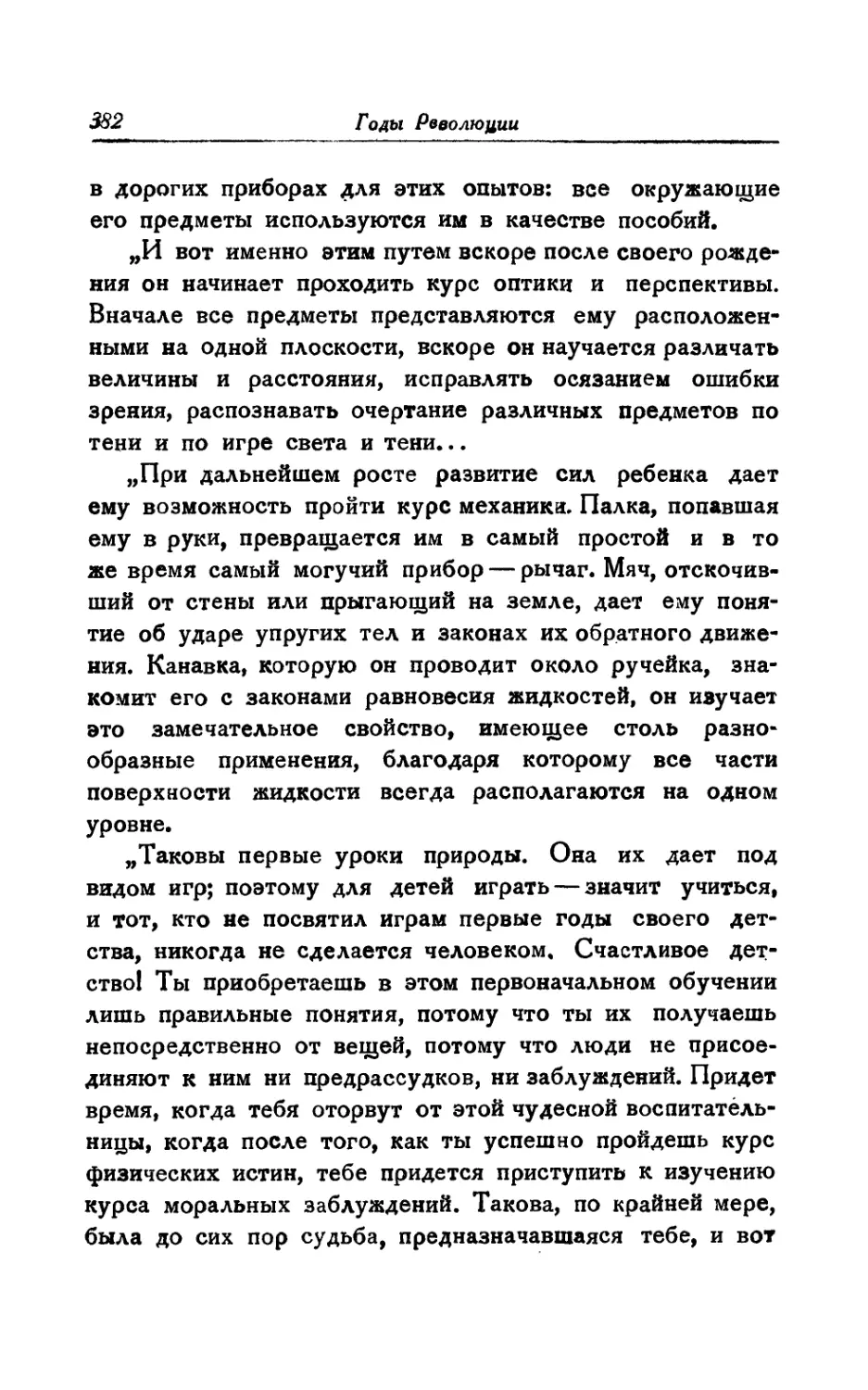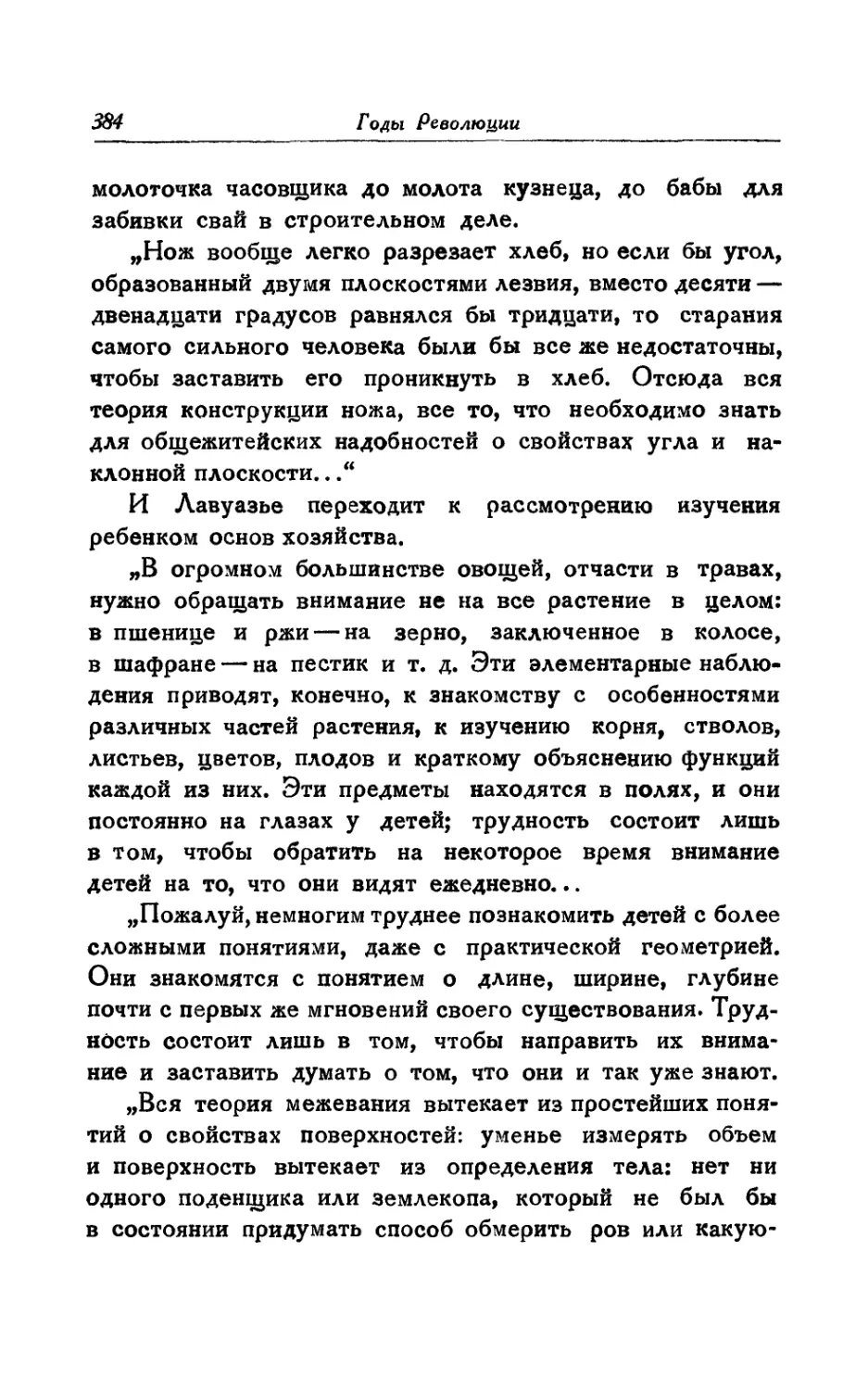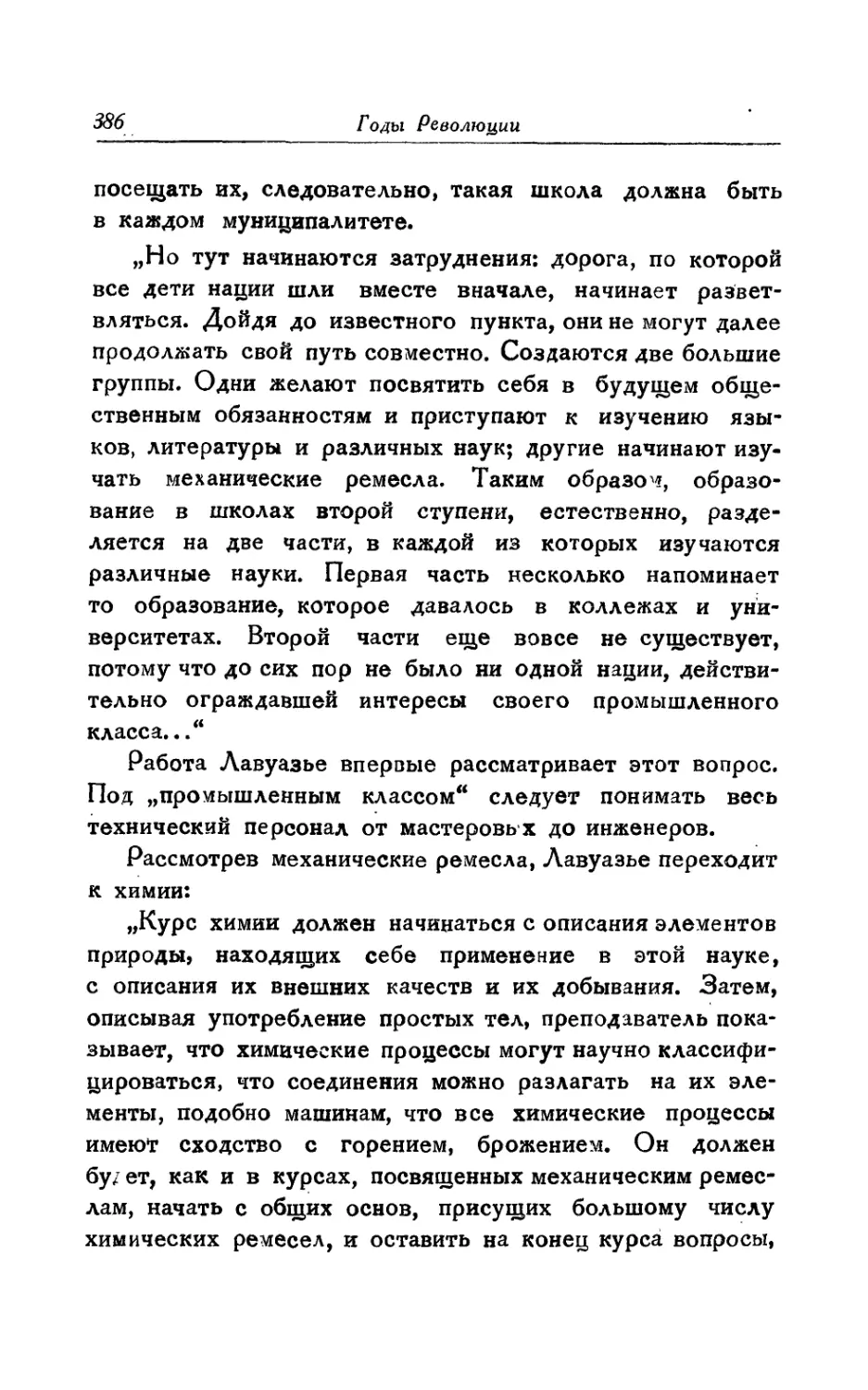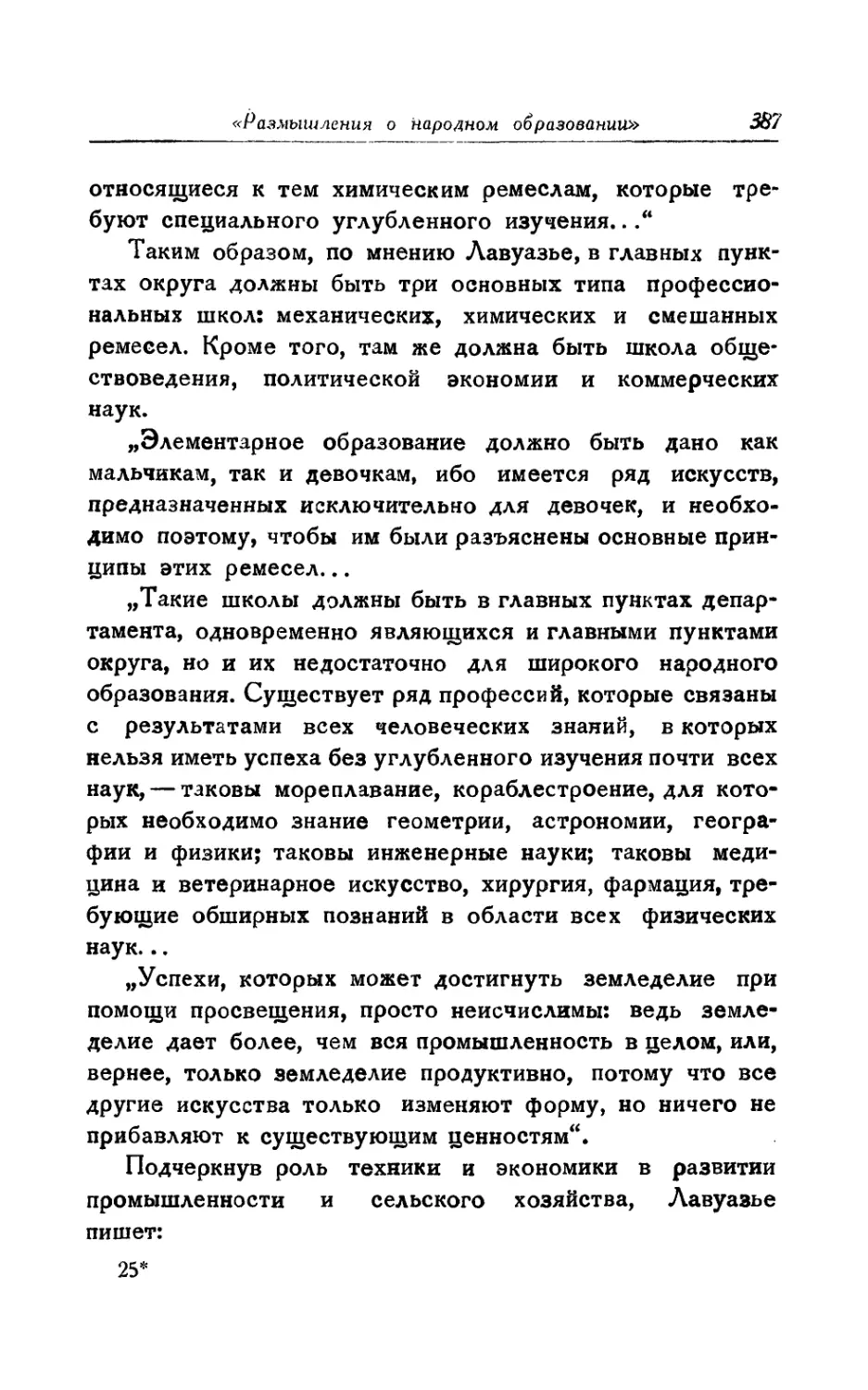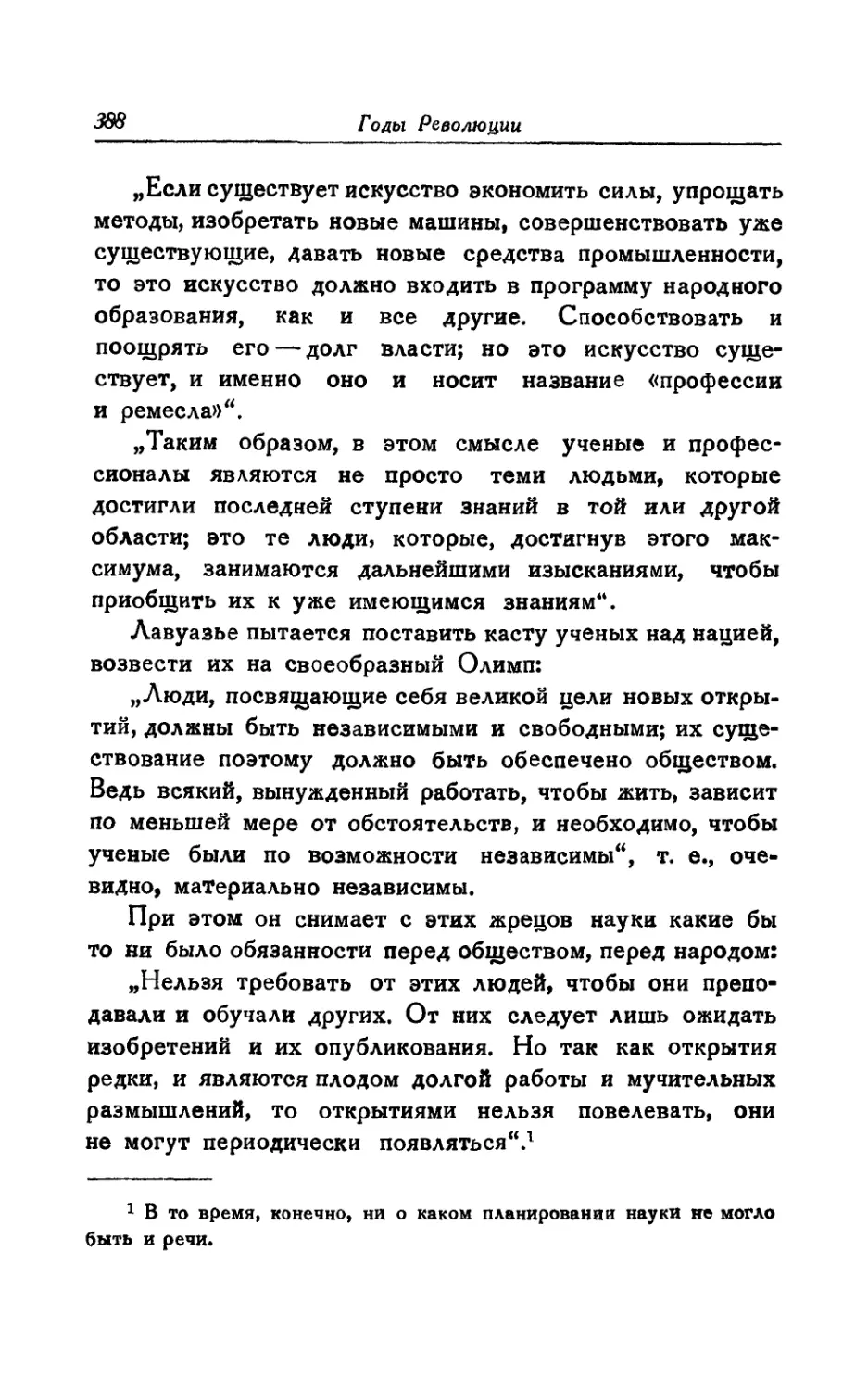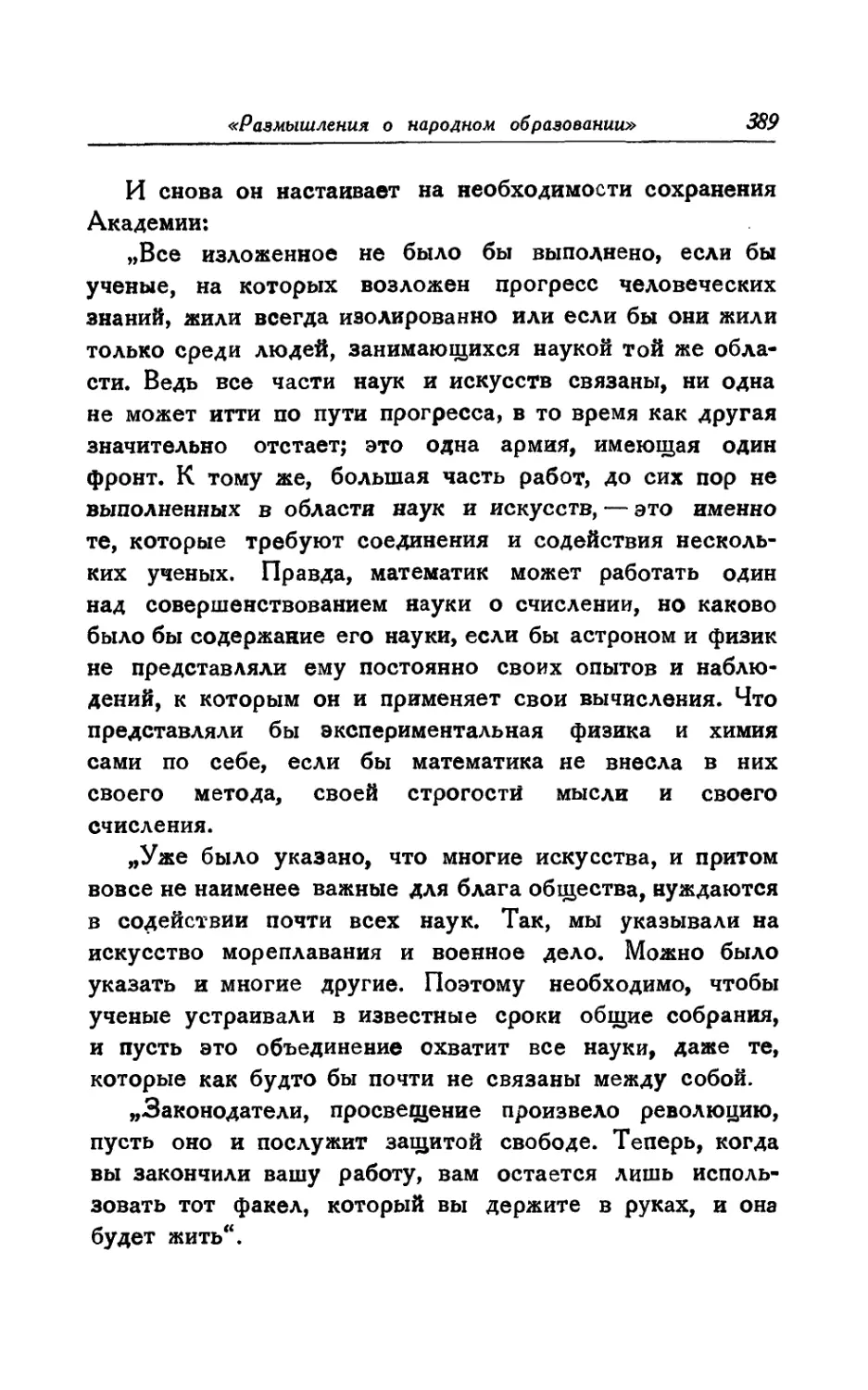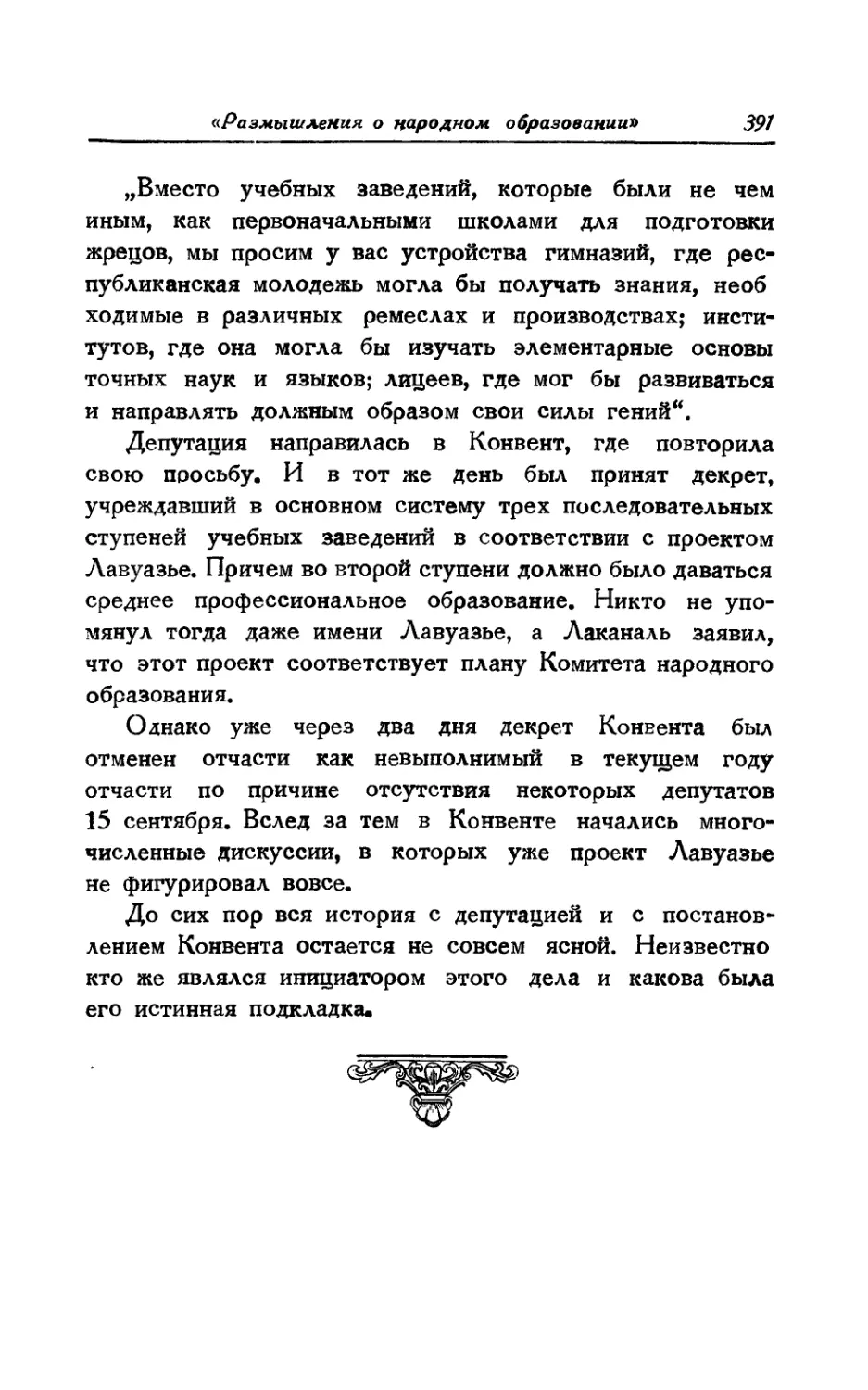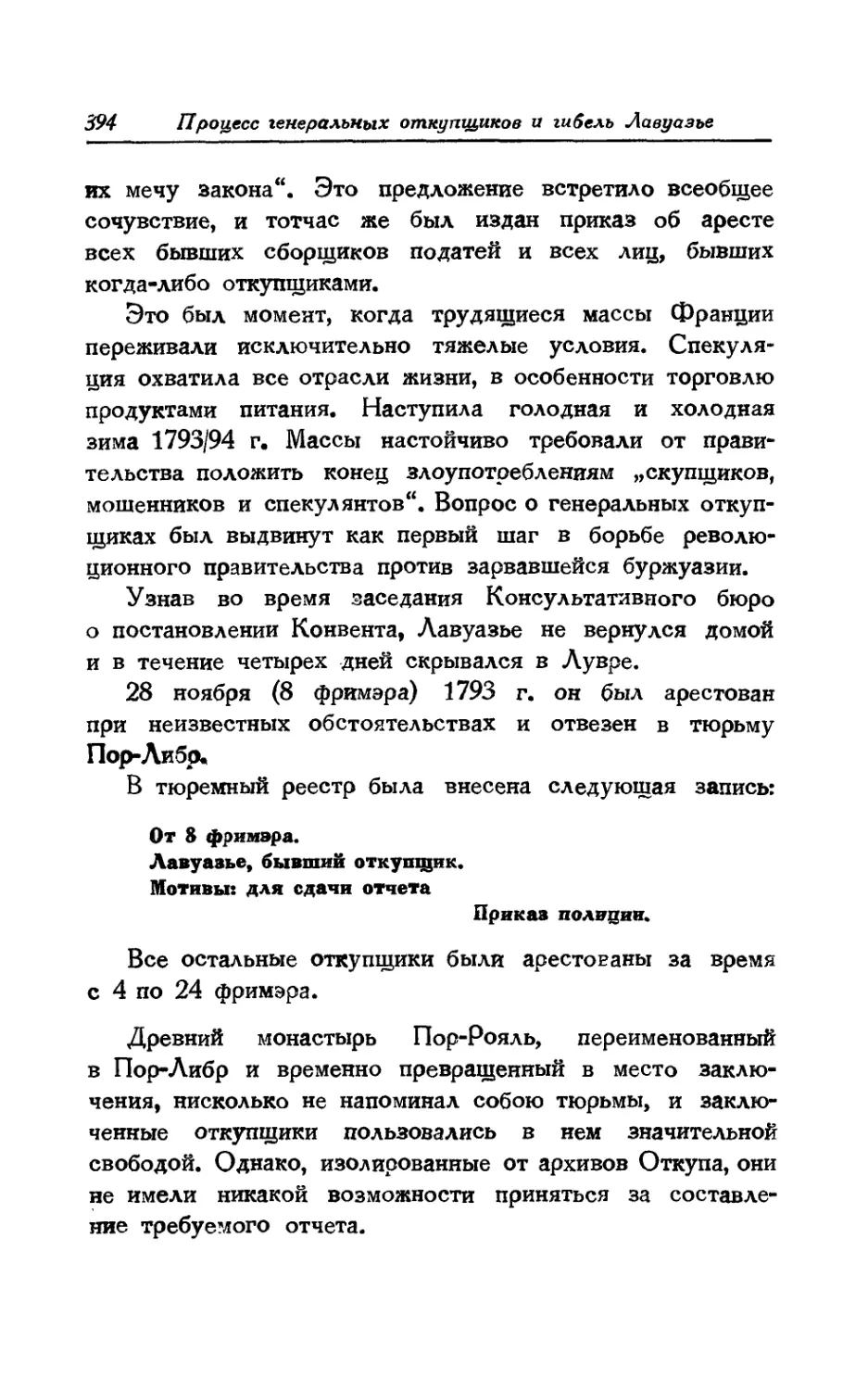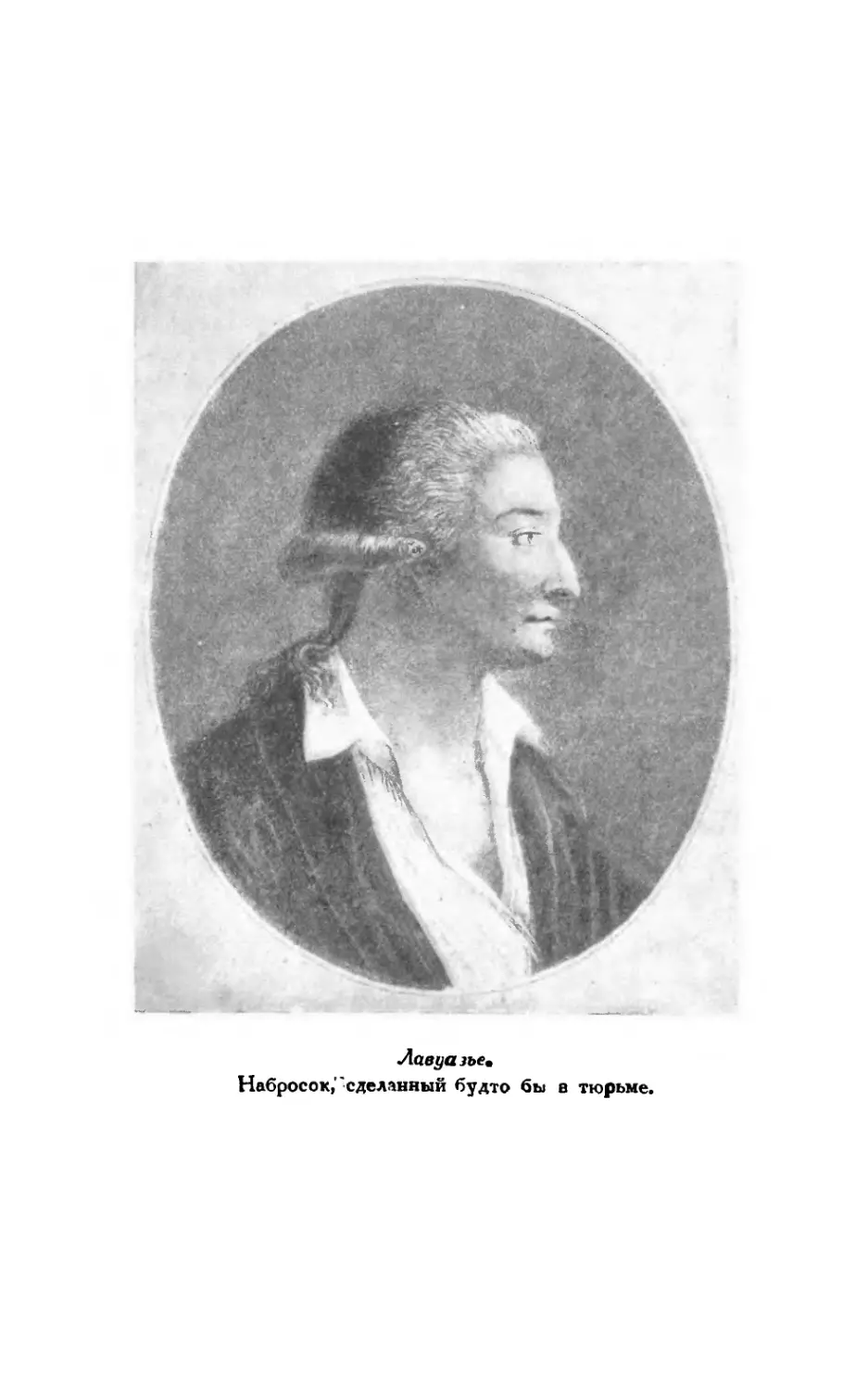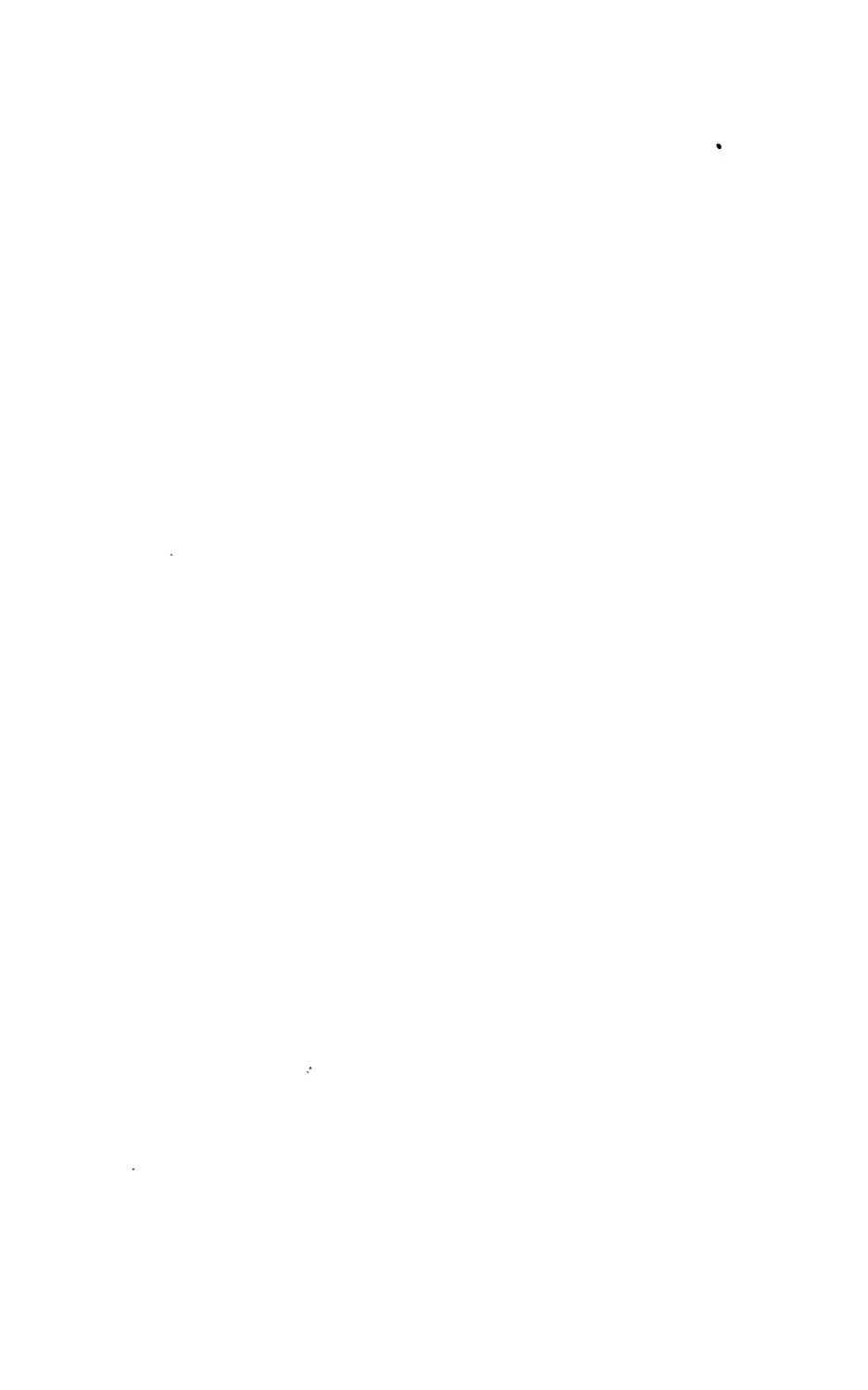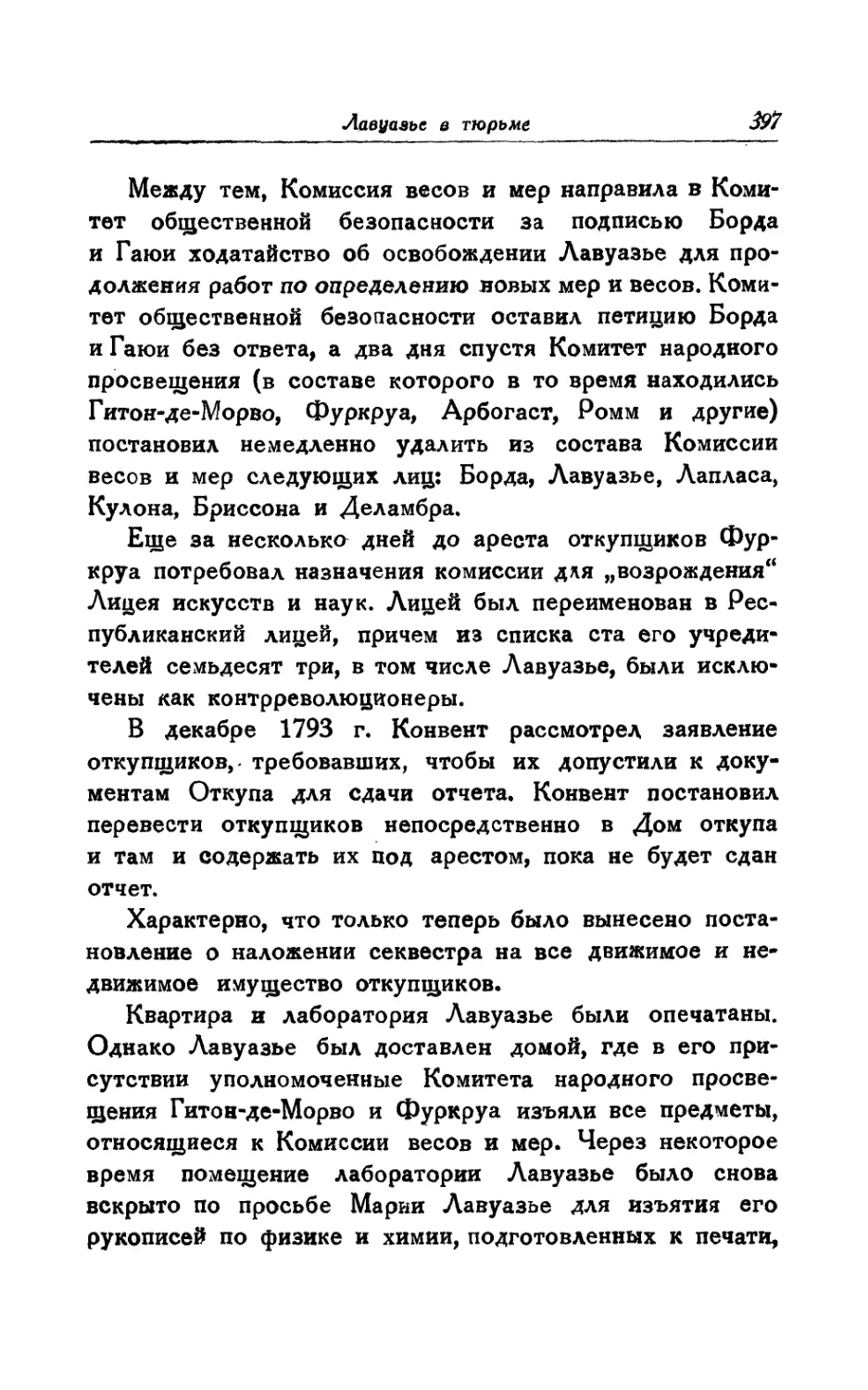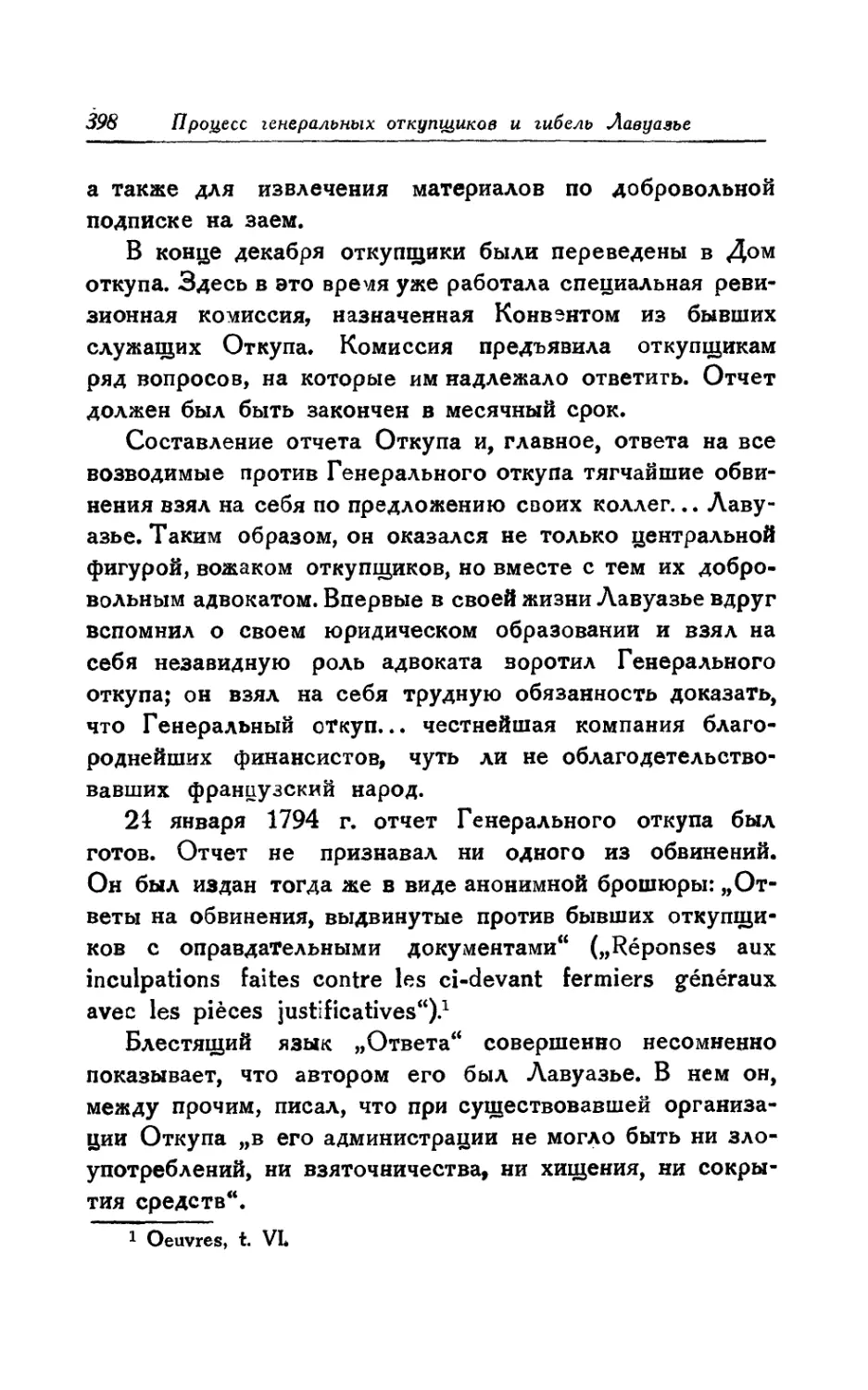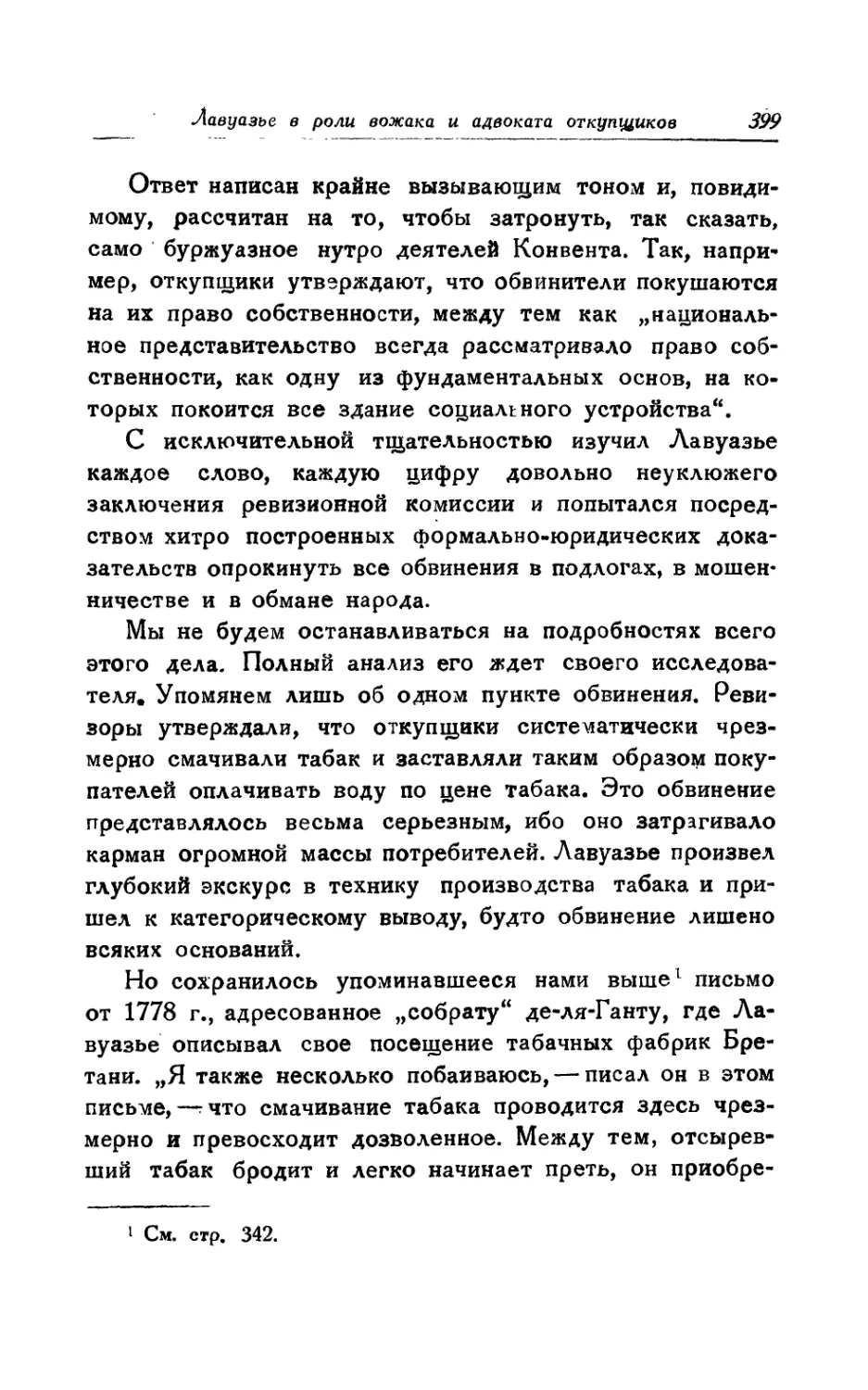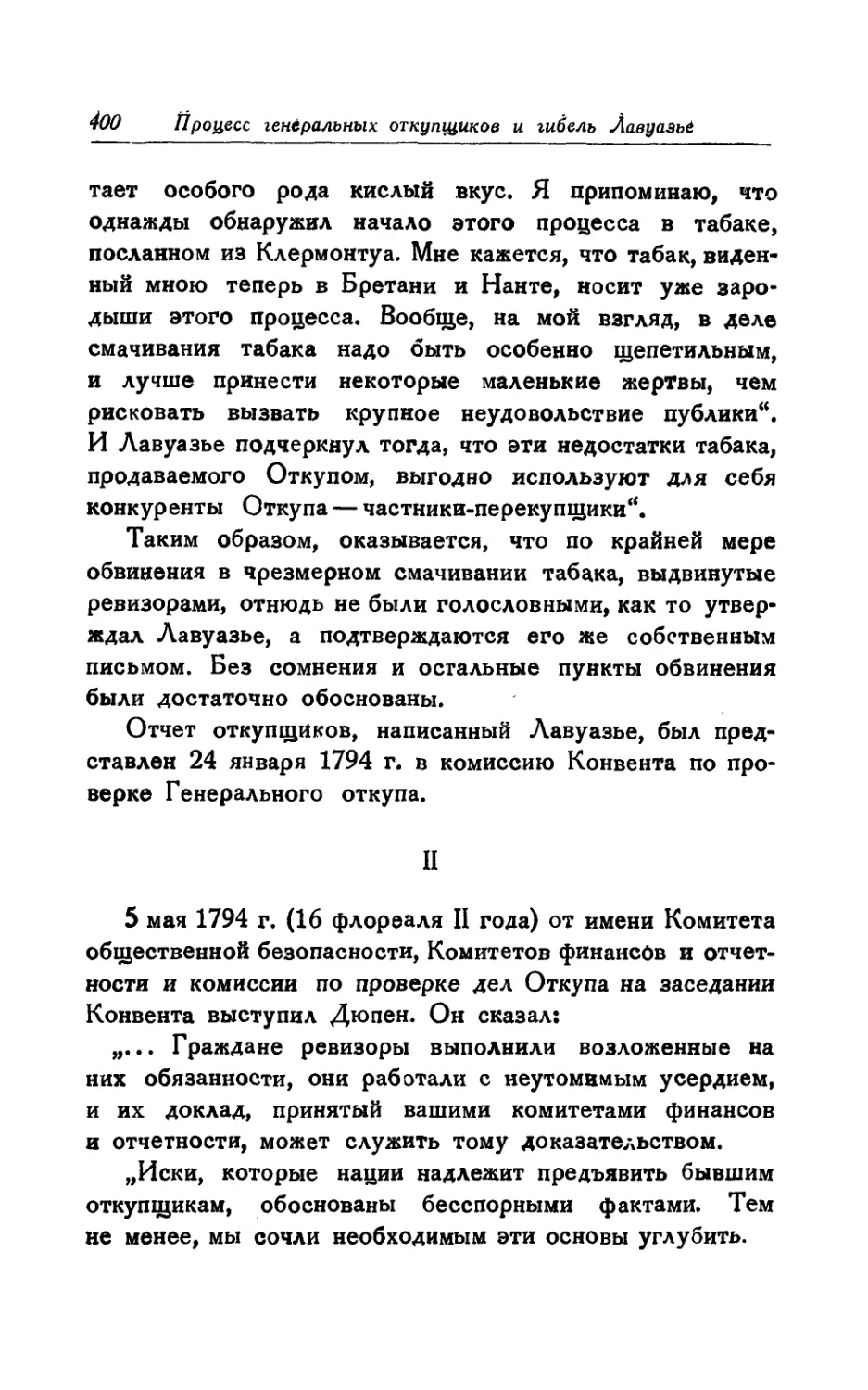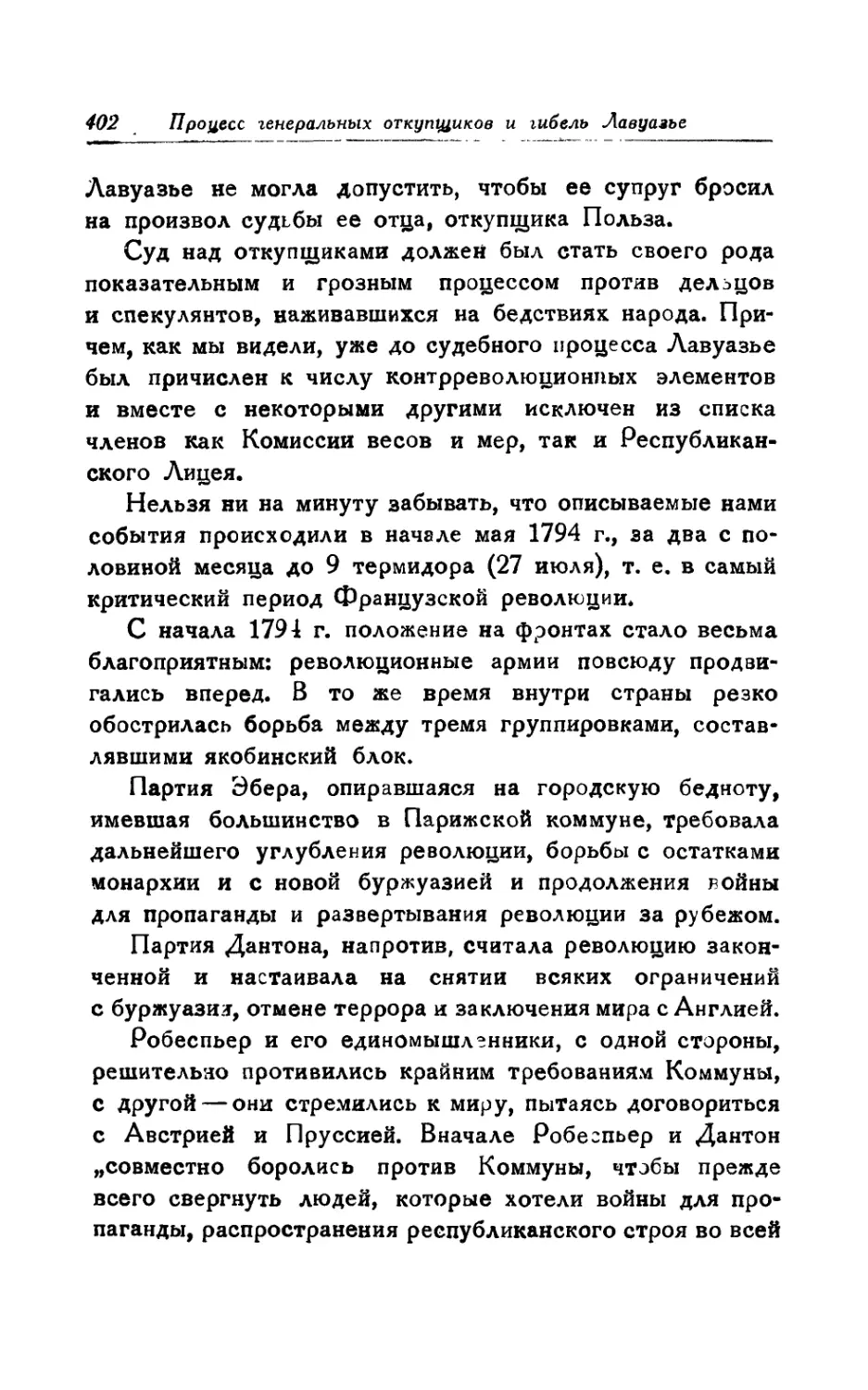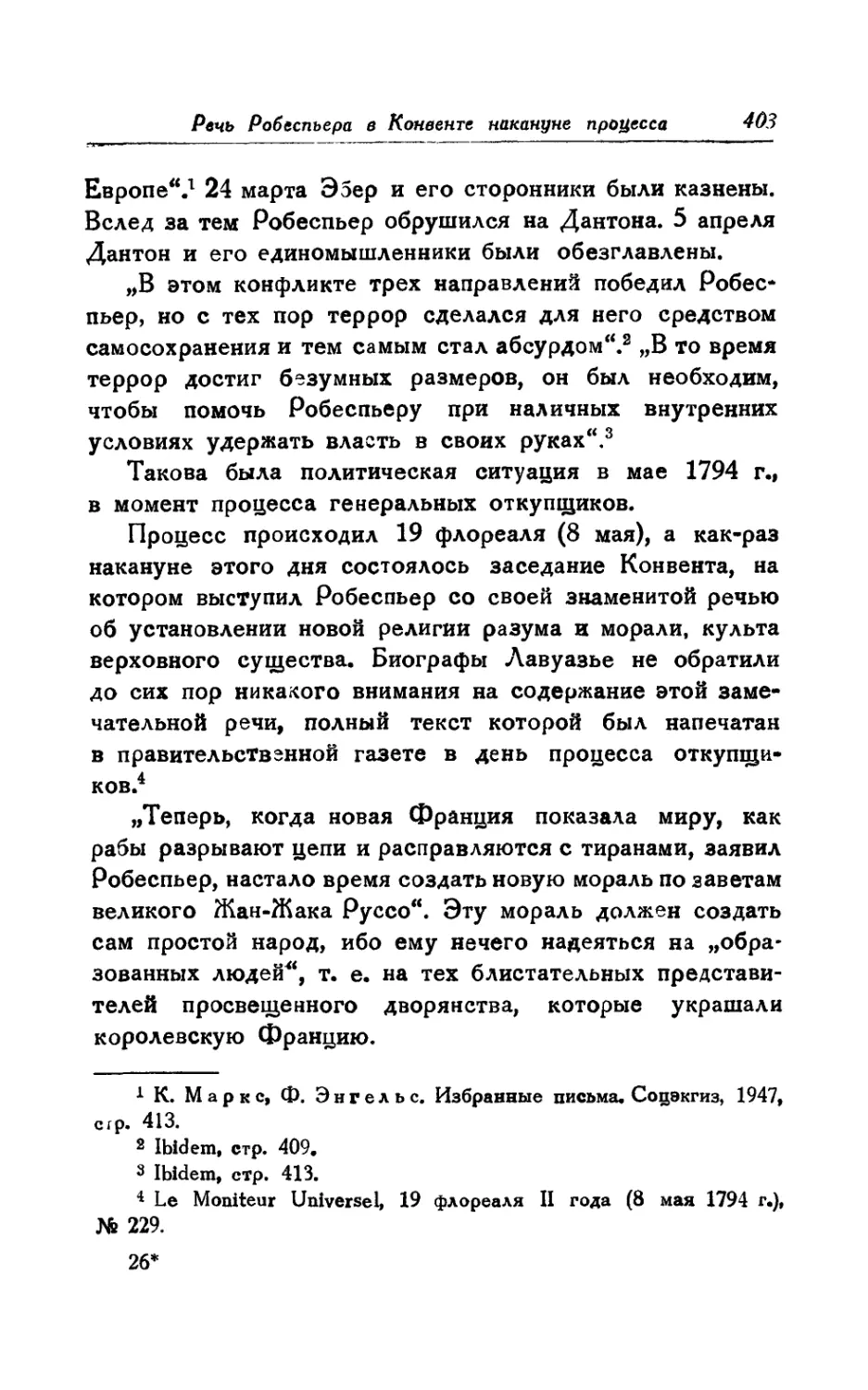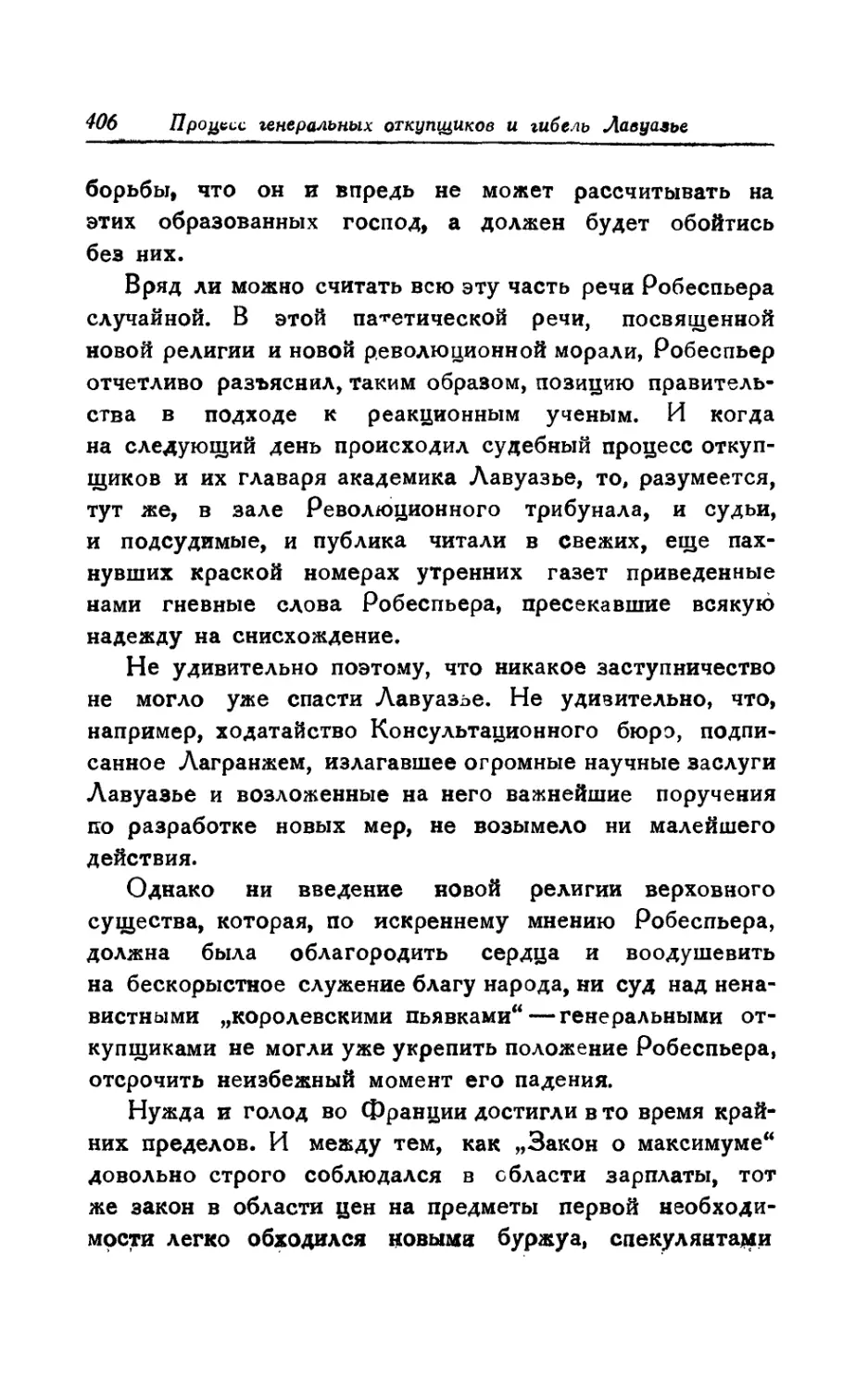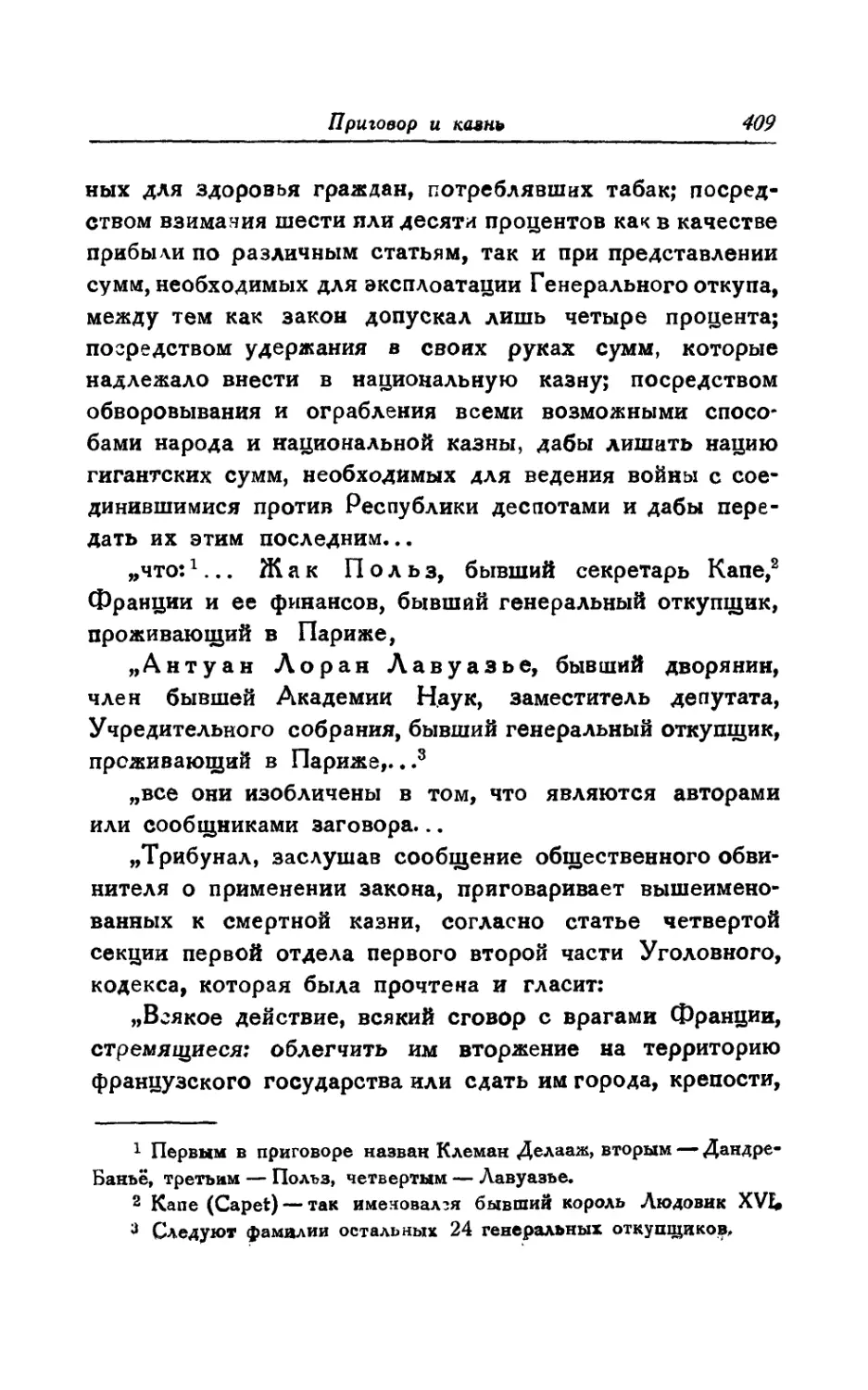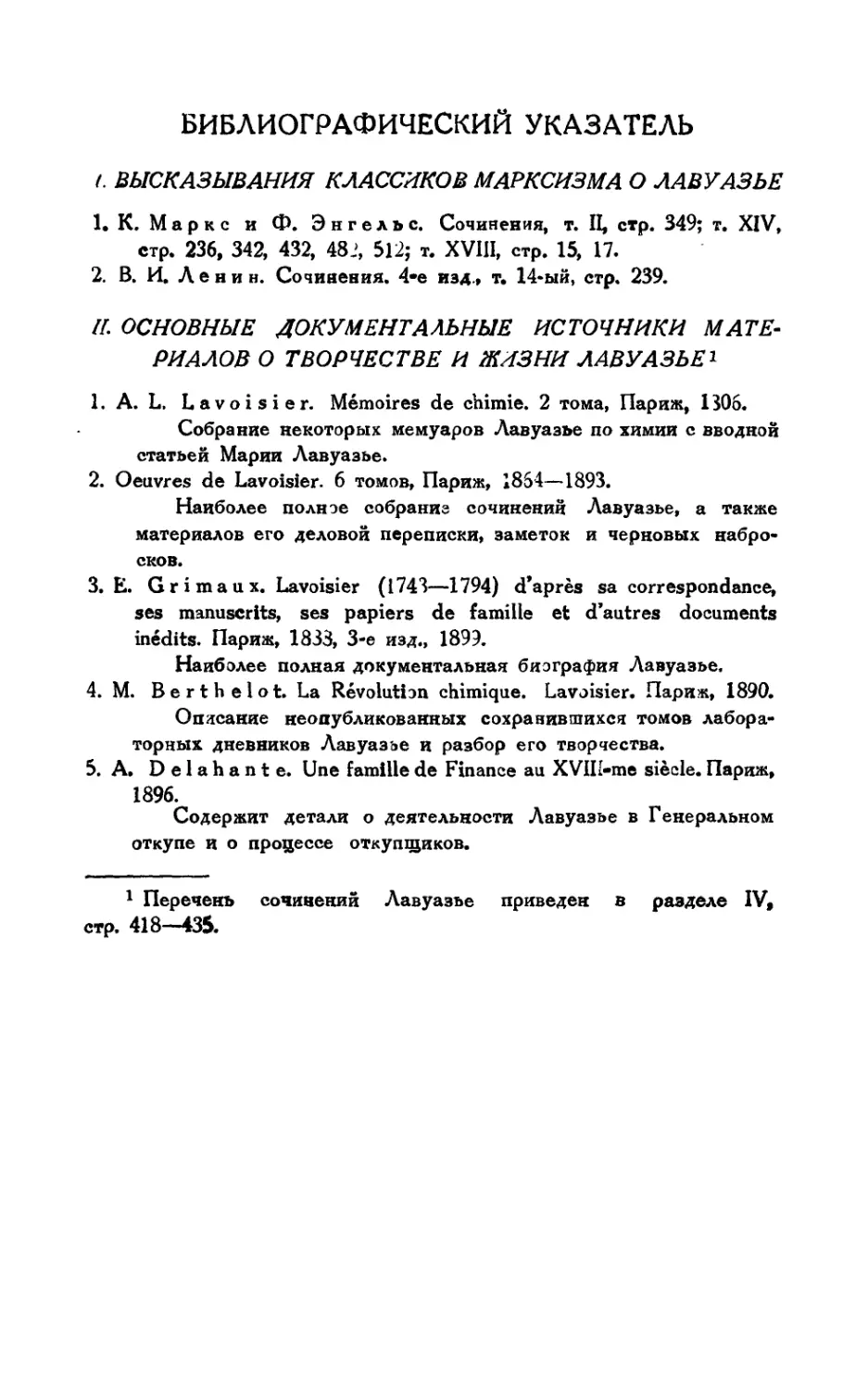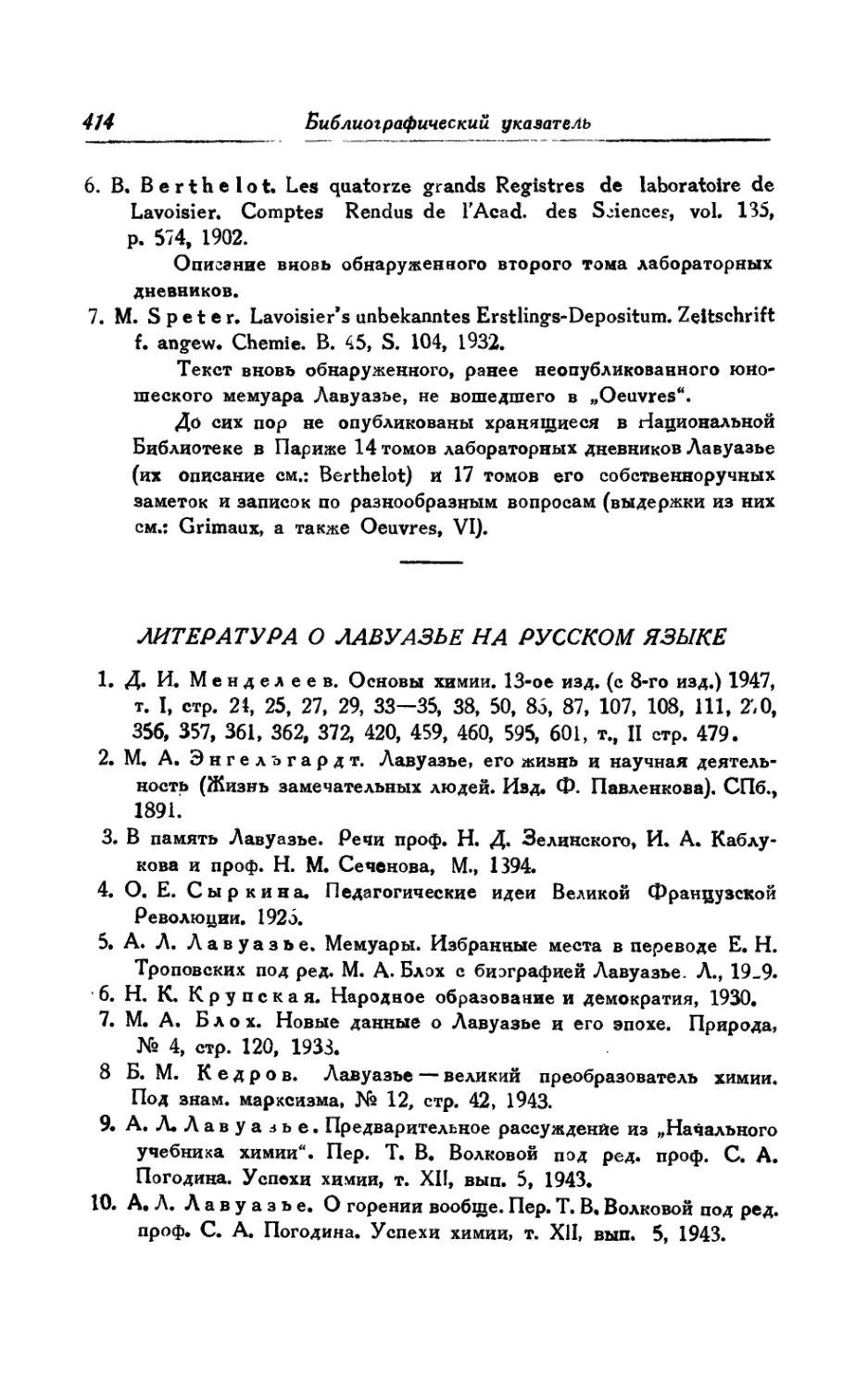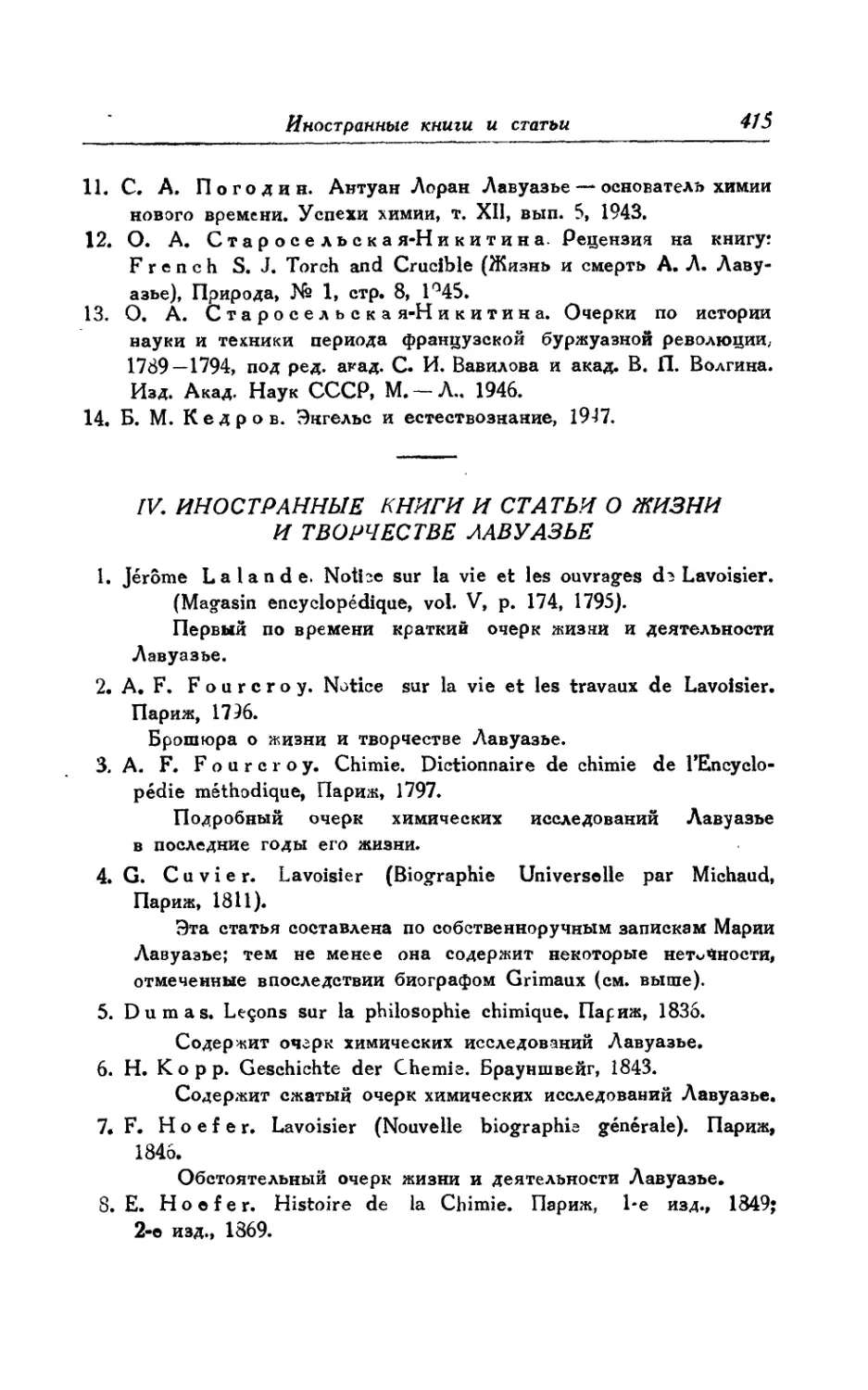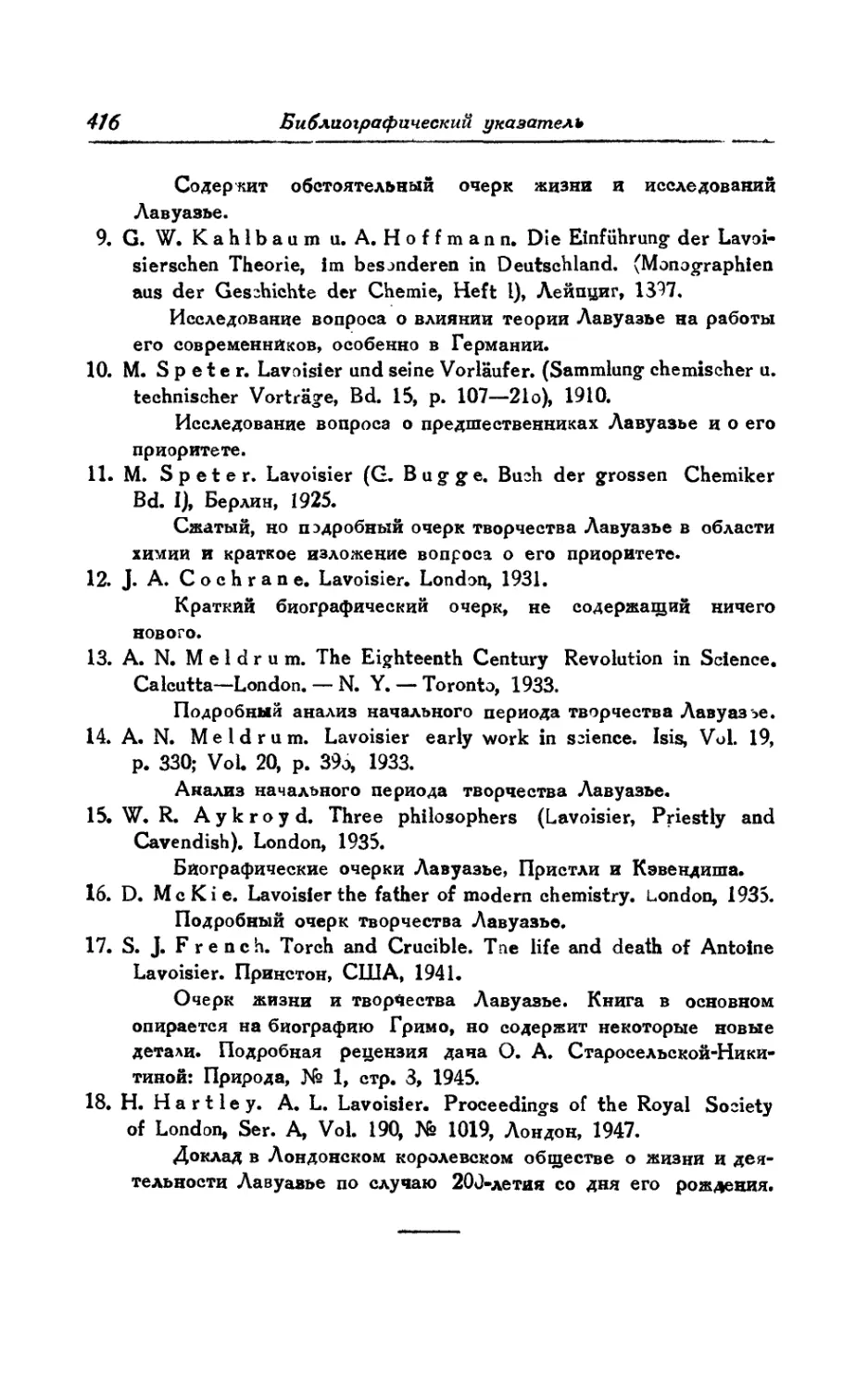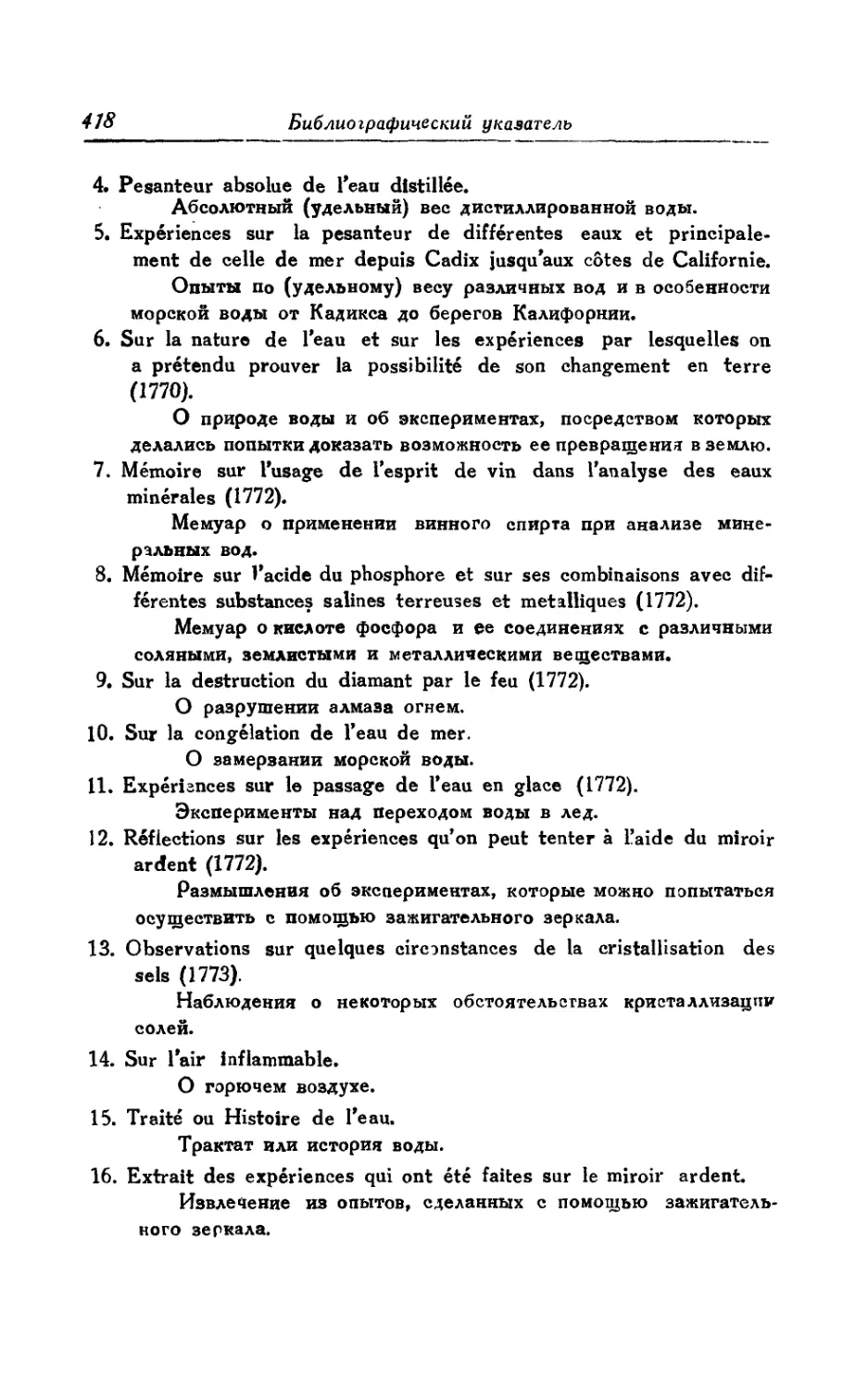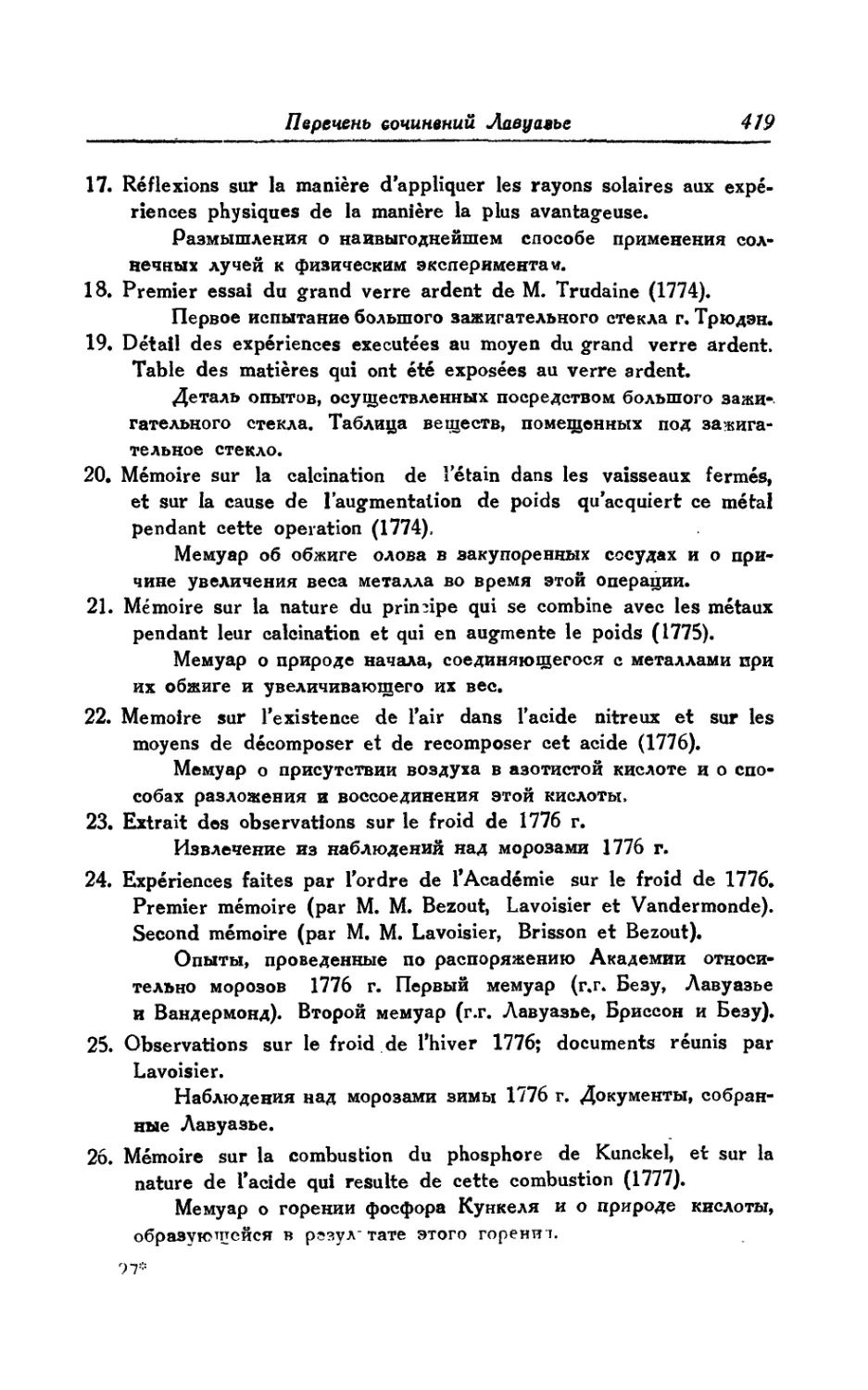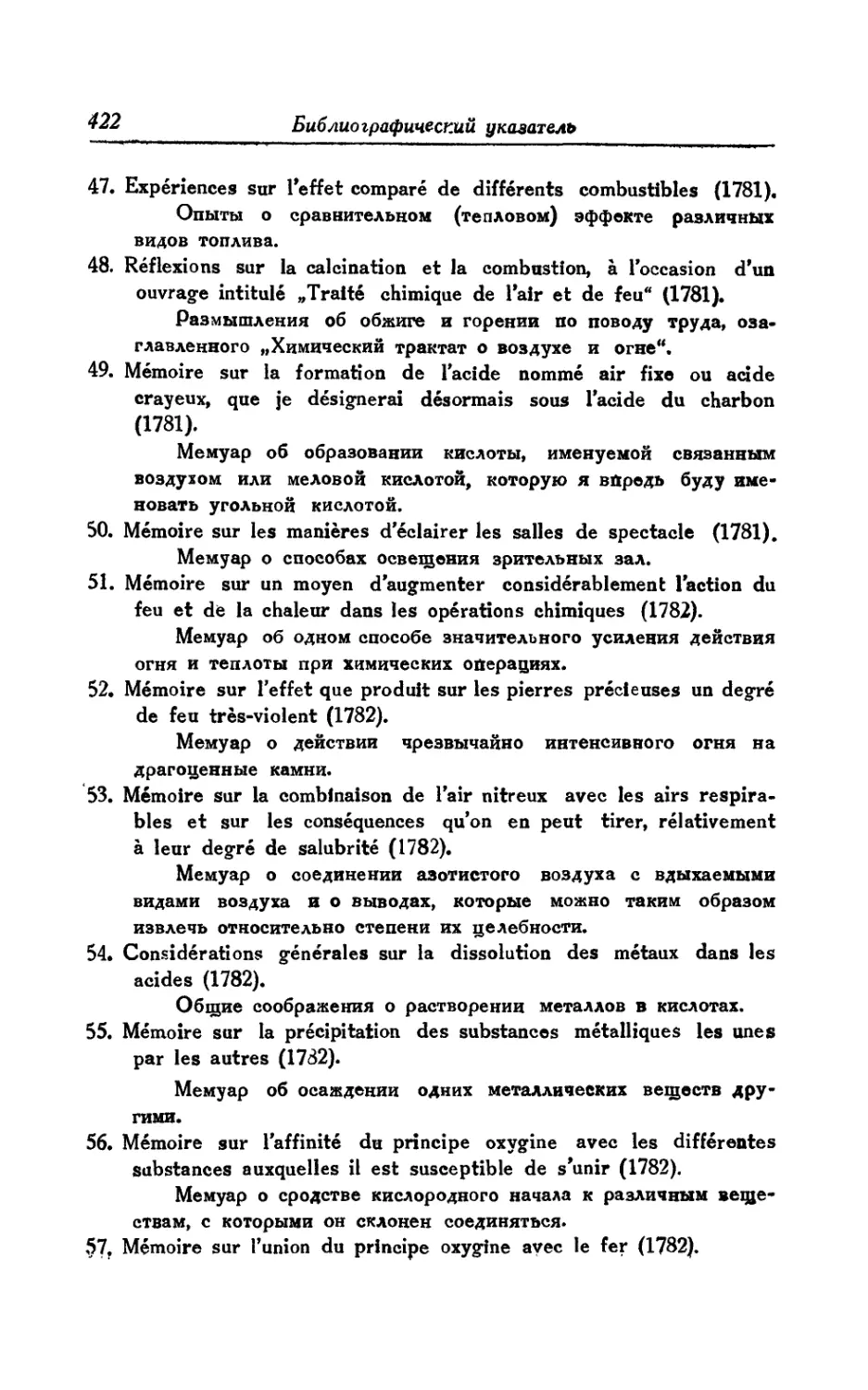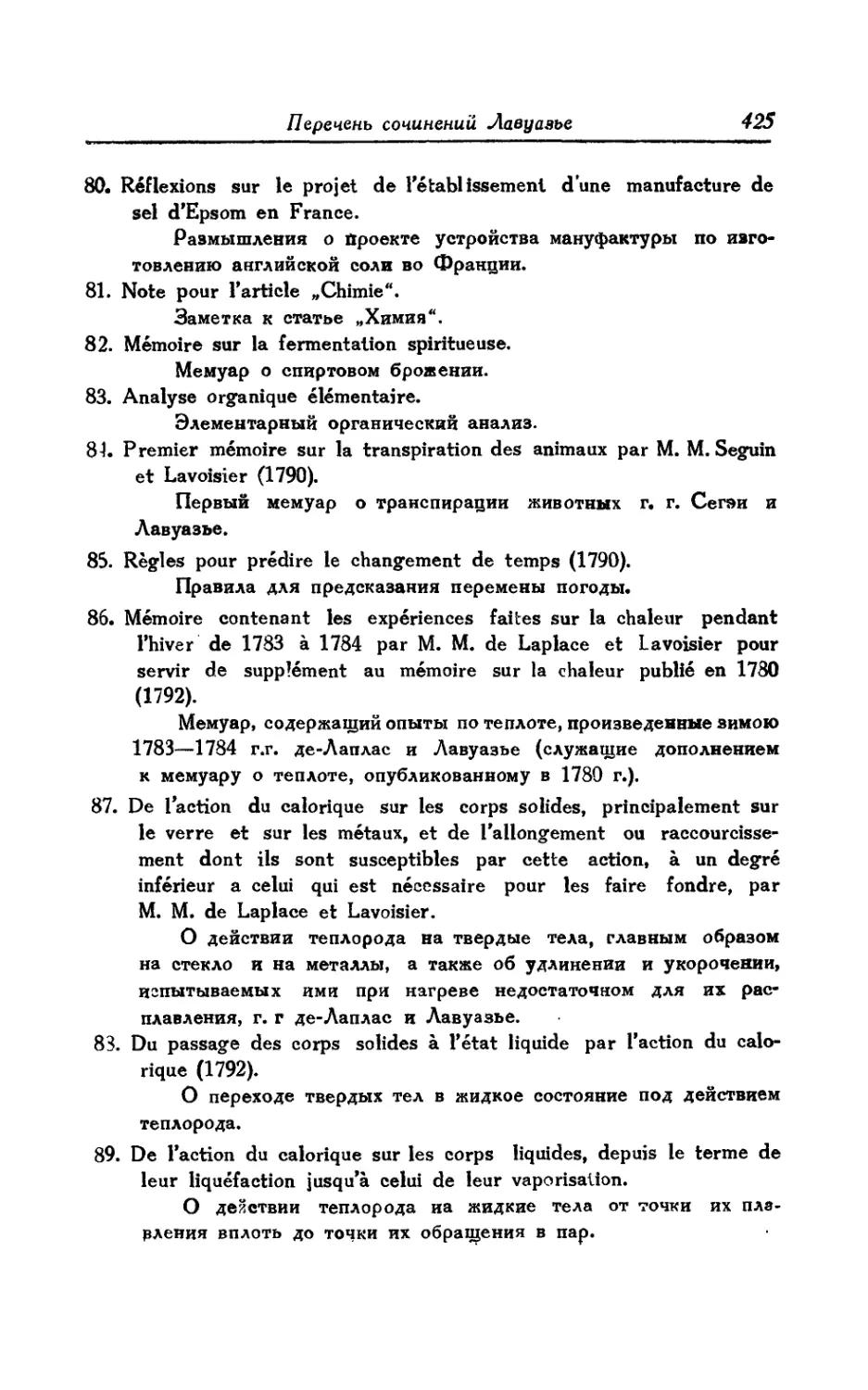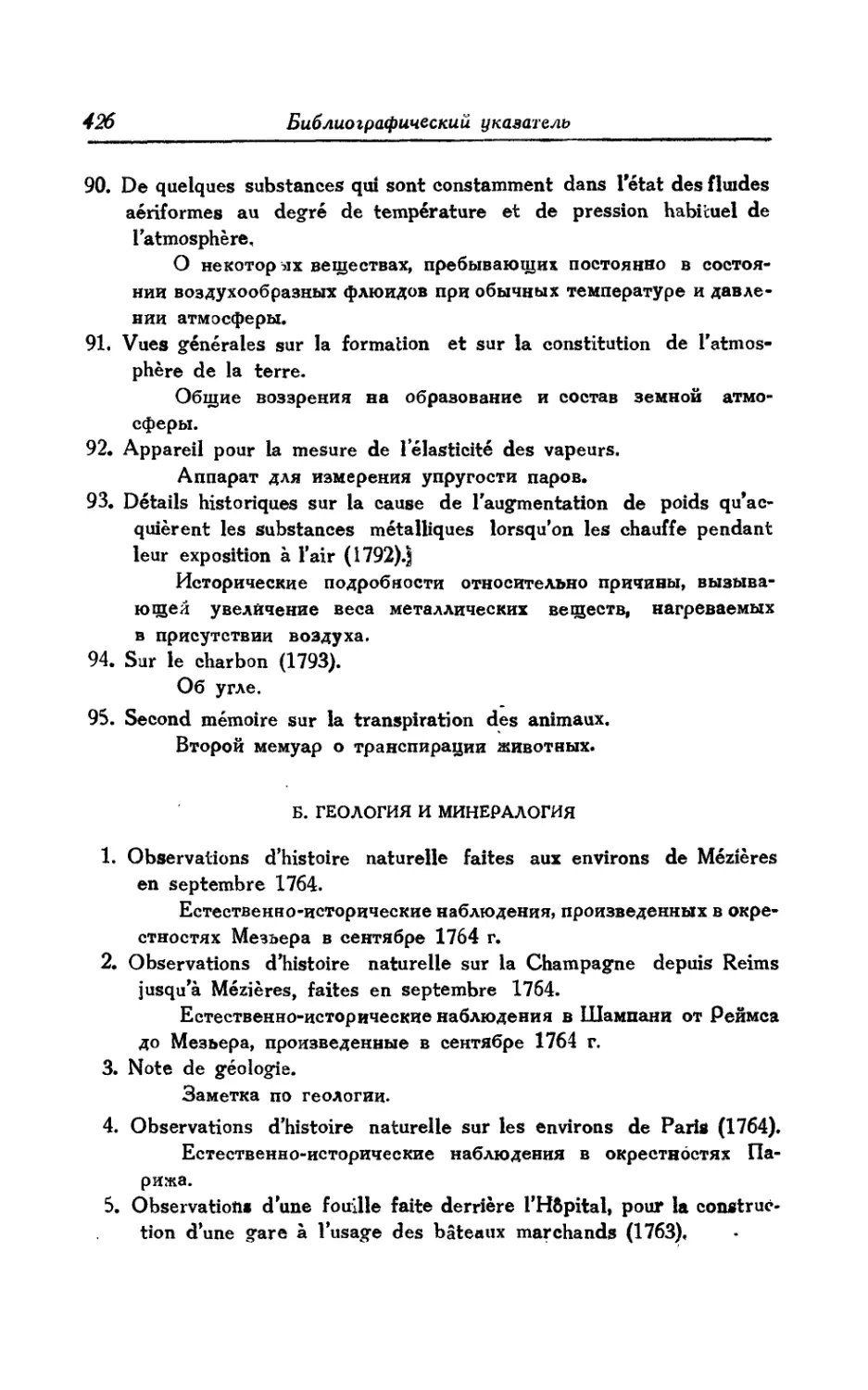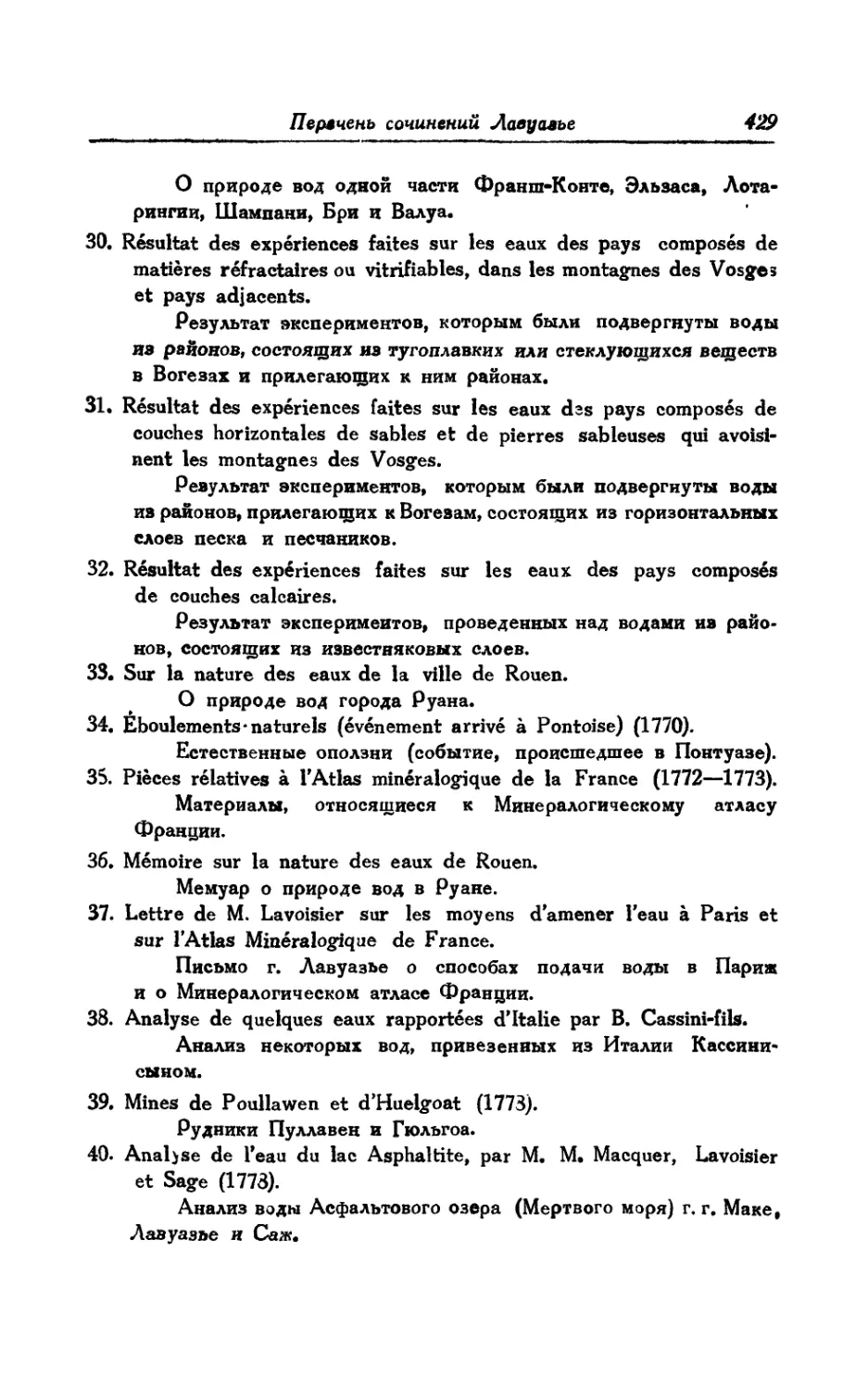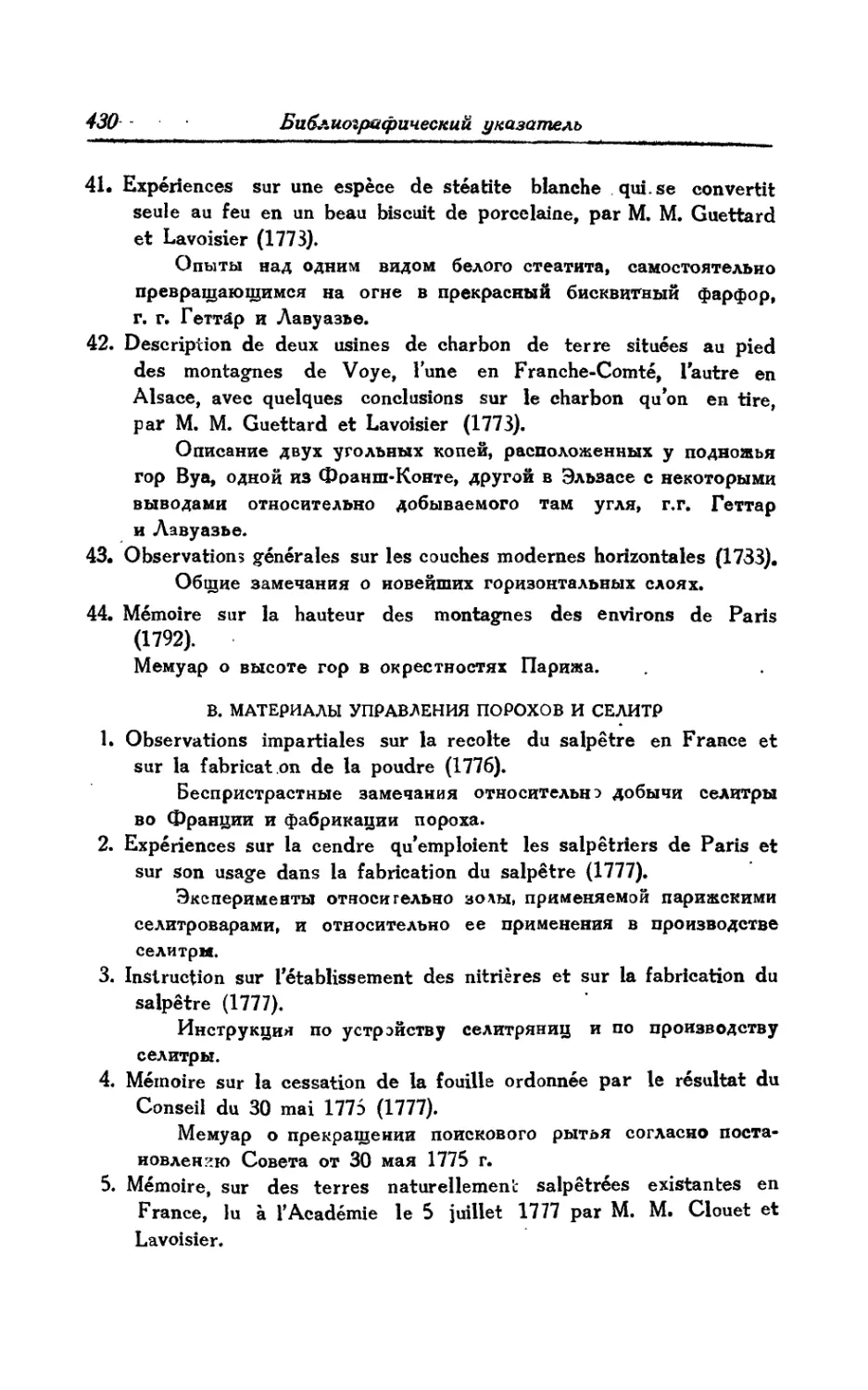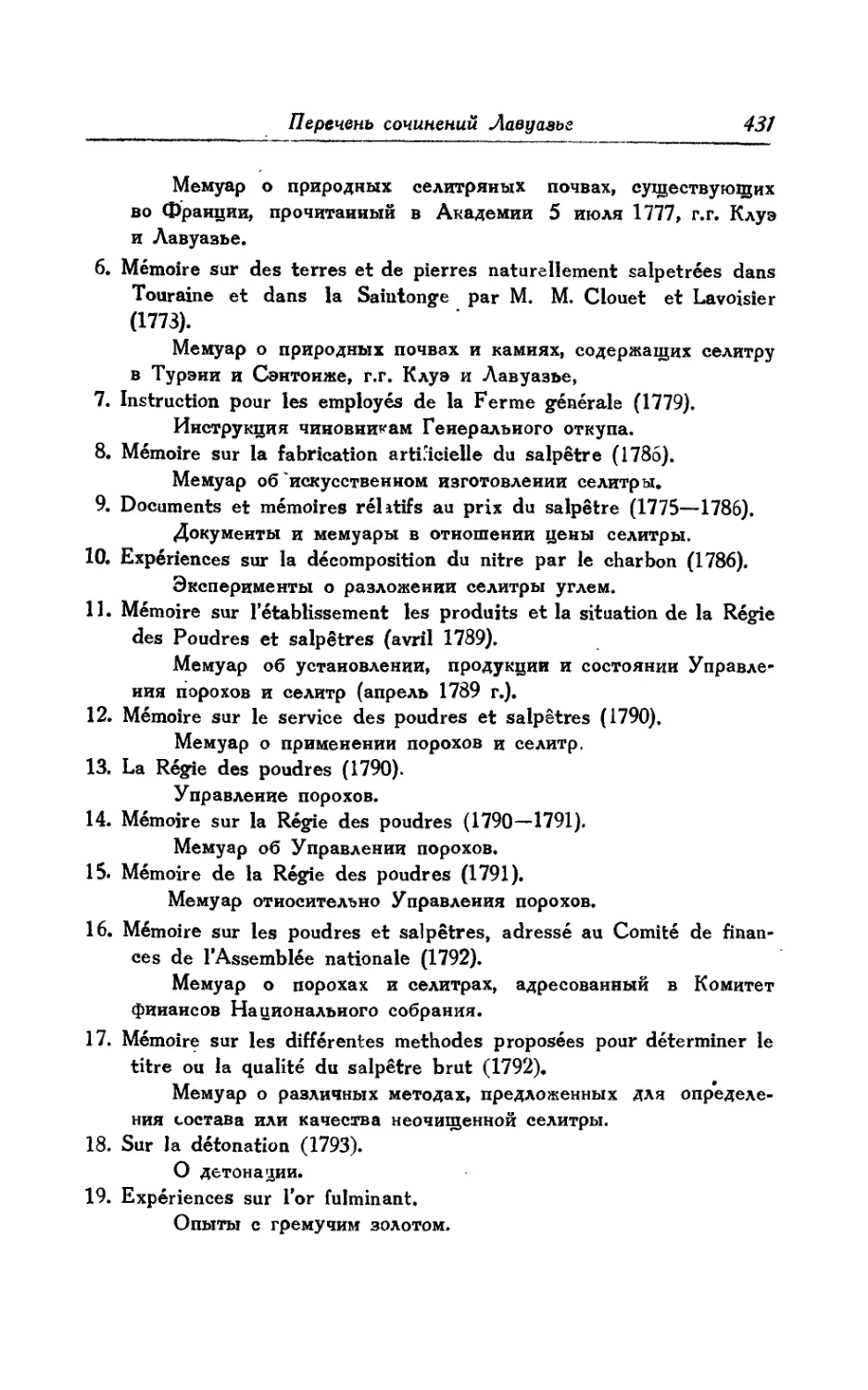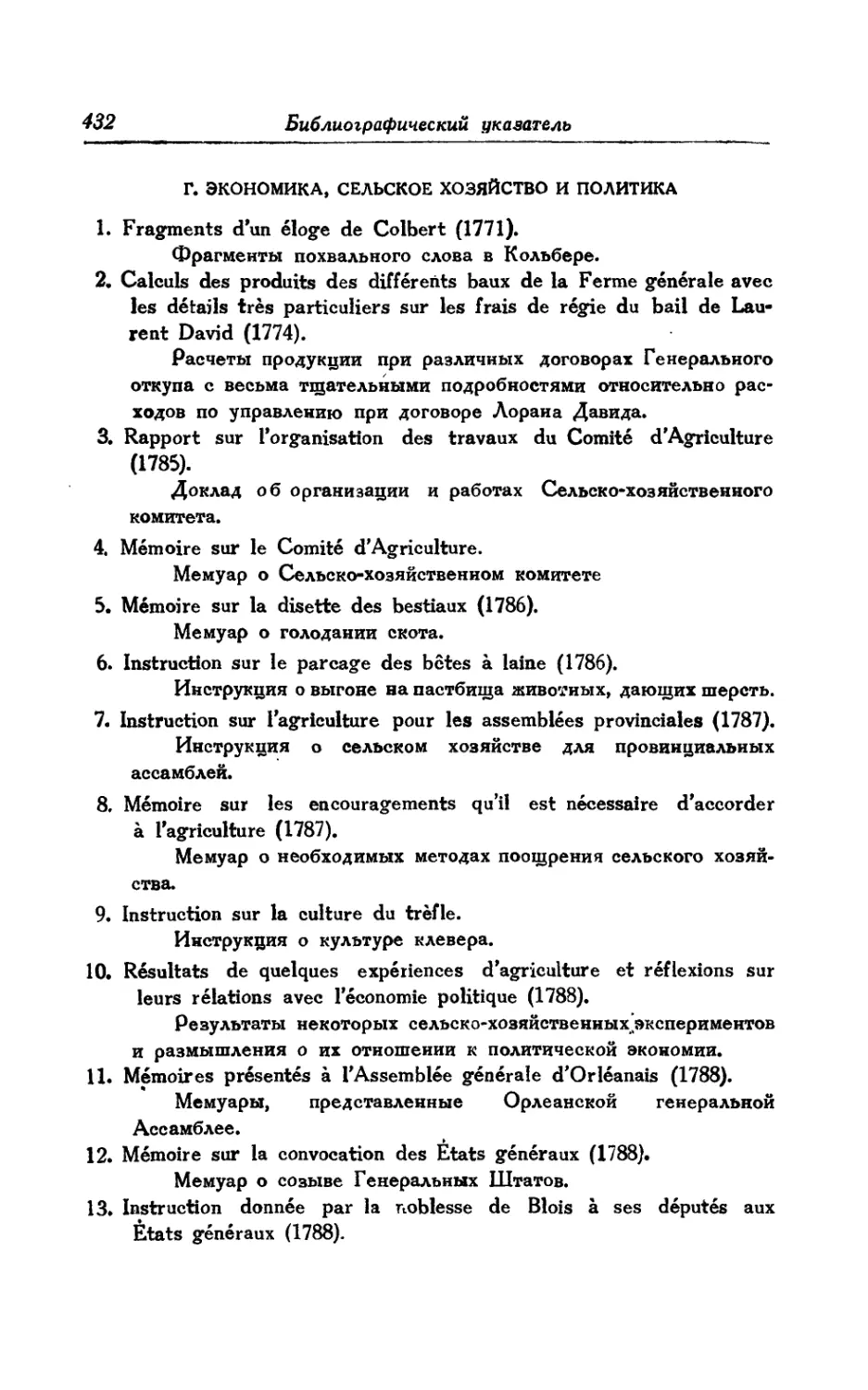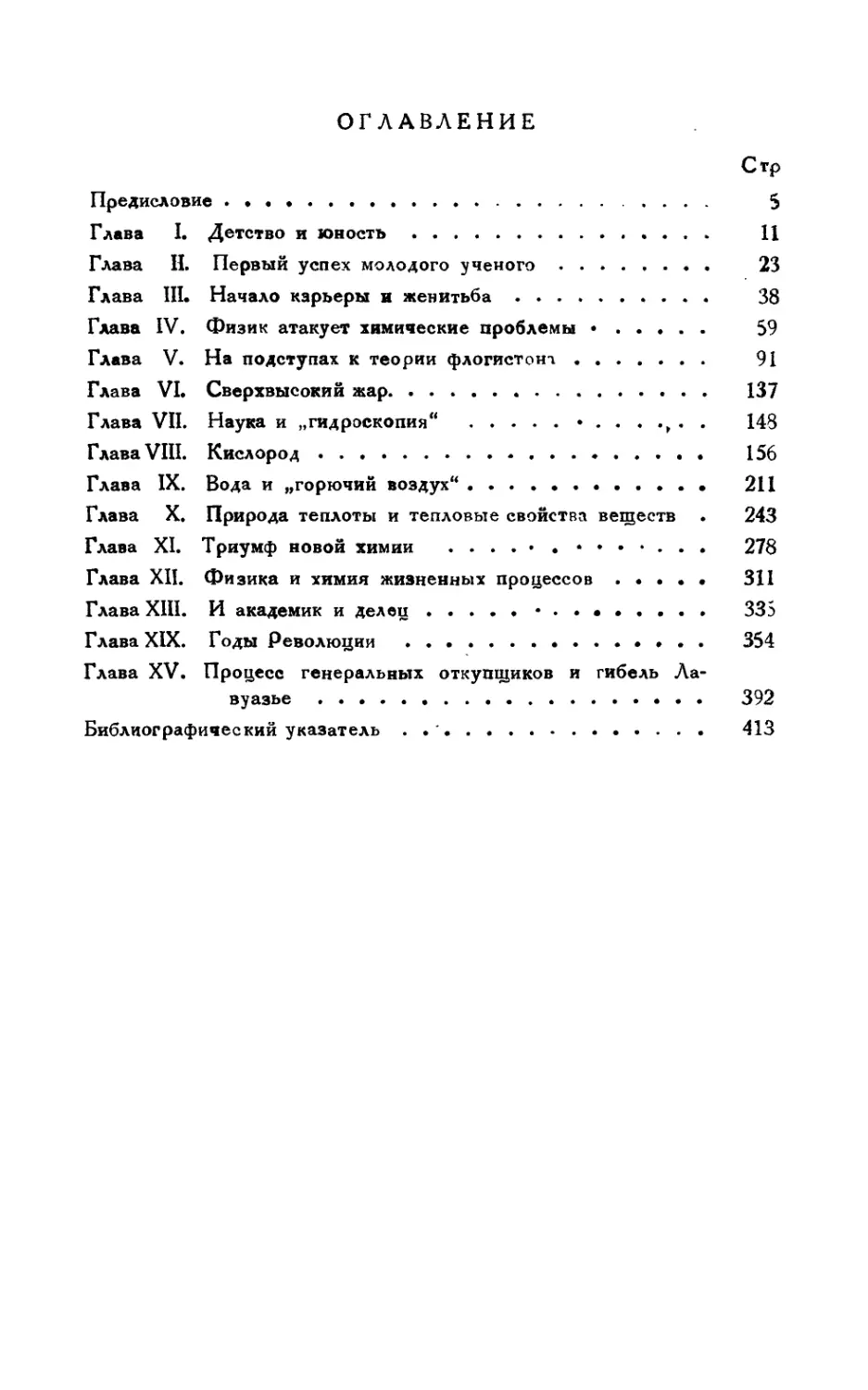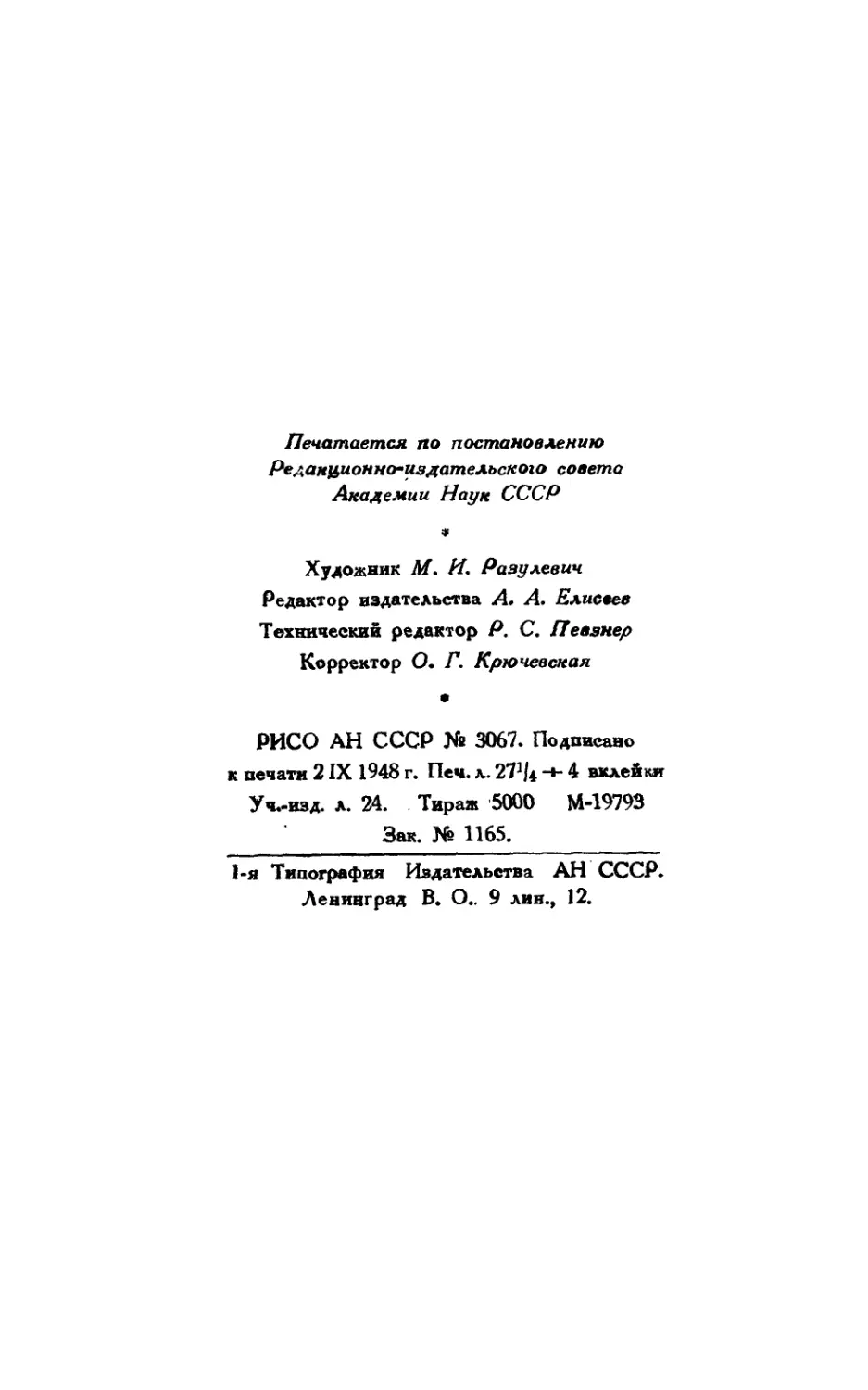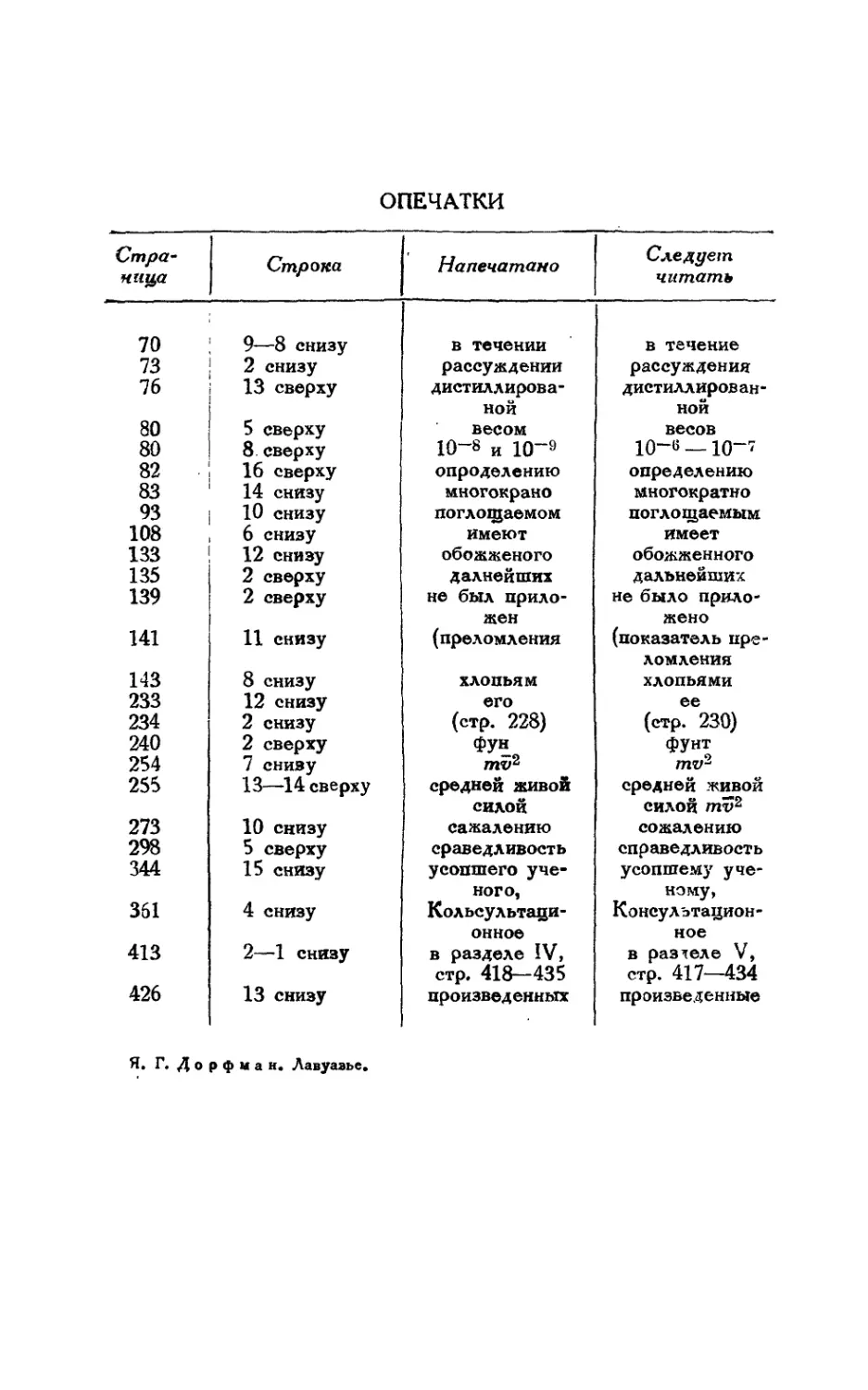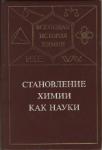Text
А. Л. Лавуазье. Гравюра с портрета кисти Л. Давида
А КАДЕМИЯ НАУК С ССР
Я.Г. ДОРФМАН
ЛАВУАЗЬЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО
АКАДЕМИИ НАУК СССР
МОСКВА — ЛЕНИНГРАД
1948
НАУЧНО-ПОПУЛЯРНАЯ СЕРИЯ
БИОГРАФИИ
Под общей редацией Комиссии Академии Наук СССР по изданию
научно-популярной литературы
Председатель Комиссии президент Академии Наук СССР
академик С. И» ВАВИЛОВ
Зам. председателя член-корреспондент Академии Наук СССР
П. Ф. ЮДИН
Посвящаю этот труд памяти
моей матери и моей сестры
Нужно взять всю культуру, которую
капитализм оставил, и из нее построить
социализм. Нужно взять вою науку,
технику, все знания, искусство. Бев
этого мы жизнь коммунистического
общества построить не можем.
В. И. Ленин. Сочинения, 3-е изд.,
т. XXIV, стр. 65.
ОТ АВТОРА
Советский читатель, пытливо стремящийся приобщиться
ко всем сокровищам мировой науки, дабы поставить их
на службу социализму, естественно старается получить
полное и подробное представление о творчестве и личности
таких выдающихся ученых, каким бесспорно был Лавуазье.
Между тем в советской литературе не было до сих
пор ни одной монографии о Лавуазье. А буржуазная
историография сделала все от нее зависящее, чтобы
извратить исторические факты, широко используя это имя
для самых грязных реакционных целей.
Вот почему я поставил себе задачу заново изучить
и осмыслить творческий и жизненный путь Лавуазье
с позиций советской передовой науки. В результате нача-
того мною еще в 1933 году исследования документальных
источников и подлинных трудов Лавуазье возникла настоя-
щая книга, представляющая собою таким образом первую
попытку советской монографии о Лавуазье.
Далее напомню, что почти все книги, брошюры
и статьи о Лавуазье написаны специалистами-химиками
(Гримо, Дюма, Липпман, Бертло, Мельдрум, Шпетер,
Кочрэйн, М. А. Блох, Фрэнч, С. А. Погодин и др.).
6
Предисловие
Поэтому естественно, что именно химическая специфика
его научного творчества привлекала, главным образом,
их внимание. Между тем, сам Лавуазье в своих юноше-
ских планах отмечал намерение „произвести революцию
в физике и в химии“ и в своей автобиографической
заметке, написанной уже накануне смерти, снова под-
черкнул, что он „посвятил свою жизнь, главным образом,
трудам по физике и химии". И характерно в этих
высказываниях Лавуазье не столько сочетание физики
и химии, сочетание весьма распространенное в ту эпоху,
сколько то обстоятельство, что физике предоставлено
здесь первое место. Все эти факты да послужат некоторым
оправданием, почему в предлагаемой книге специалист-
физик позволил себе, нарушив сложившуюся традицию,
заняться анализом творчества и жизни Лавуазье.
Следует заметить, что, несмотря на наличие много-
численных трудов о Лавуазье, основная характеристика
его научного творчества оставалась до сих пор недоста-
точно выясненной. Одни авторы подчеркивают, что
Лавуазье впервые применил особо точные весы, другие
видят основу его работ в открытии и применении зако-
нов сохранения вещества и элементов; однако до сих
пор оставалось неясным: что же является самым главным
в характеристике творчества Лавуазье; что привело его
к столь замечательным открытиям; в чем, так сказать,
секрет достигнутых им успехов.
Я позволю себе высказать по этому вопросу следую-
щую точку зрения, являющуюся выводом из моих иссле-
дований. Лавуазье, подобно многим своим замечательным
современникам — Кэвендишу, Блэку, Пристли, — следо-
вал указанию Бойля о необходимости применения физи-
ческих методов в химических исследованиях. Но харак-
терной особенностью Лавуазье явилось то, что он,
врлед за М. В. Ломоносовым, не ограничился одним
Предисловие
7
лишь использованием тех или иных физических мето-
дов или аппаратов, а последовательно применял всю
совокупность как теоретических представлений, так и экс-
периментальных методов физики своего времени к основ-
ным проблемам химии. Вот тот могучий рычаг, посред-
ством которого Лавуазье окончательно опрокинул учение
о флогистоне и поднял химию до уровня подлинной
науки, завершив великое дело, начатое Ломоносовым.
И знаменательно, что всякий раз, когда Лавуазье отсту-
пал от передовых идей Ломоносова, он фактически лишь
тормозил дальнейшее развитие науки.
Итак, Лавуазье подошел к химическим задачам как
образованный физик. Характерно, что самое понимание
термина „физика" в трудах Лавуазье почти не отличается
от нашего современного понимания.
Это обстоятельство, повидимому, ускользнуло от вни-
мания большинства биографов и исследователей Лавуазье.
Недаром ни в одной биографии Лавуазье не указывается
даже, где, когда и от кого получил он свои физические
познания, и не указывается даже, изучал ли он физику
вообще.
Мне удалось однозначно установить истоки его обшир-
ного физического образования.
Называя Лавуазье прежде всего физиком, я, разу-
меется, категорически отвергаю нелепые инсинуации
некоторых немецких шовинистов прошлого столетия,
вроде Кольбе, пытавшихся опорочить заслуги француза
Лавуазье на том основании, что он будто бы „даже
не был химиком". Как известно, эти инсинуации вызвали
в свое время горячие протесты выдающихся русских
химиков с великим Д. И. Менделеевым во главе.
Я хочу подчеркнуть, что Лавуазье именно потому
был великим химиком, что он был одновременно замеча-
тельным физиком и осознал решающее значение этой
8
Предисловие
науки. Этому же обстоятельству обязан он и своими
классическими открытиями в области физиологии.
Итак, говоря о Лавуазье, невозможно не вспомнить
о великом русском его предшественнике М. В. Ломоносове,
задолго до Лавуазье осознавшем фундаментальный харак-
тер физики и математики для развития химии.
До сих пор было принято считать, будто труды Ломо-
носова не оказали серьезного влияния на развитие
мировой науки. В настоящей работе я впервые привожу
ряд аргументов, свидетельствующих о том, что, по край-
ней мере, важнейшие опубликованные работы Ломоносова
были известны Лавуазье и его французским современ-
никам и, несомненно, оставили свой след в их твор-
честве. Таким образом удается наметить идейные нити,
по которым передовая русская наука XVIII в. влияла
на развитие западноевропейской науки.
Далее необходимо помнить, что Лавуазье был не только
выдающимся ученым, но и крупной общественно-политиче-
ской фигурой, а имя его по сей день широко используется
в политической борьбе. Именно поэтому общественно-
политическая деятельность и обстоятельства его гибели
освещались до сих пор неполно и неясно, а нередко
и заведомо неверно. Биографы приводили, например, поле-
мические выпады якобинцев по адресу Лавуазье, не вскры-
вая до конца ни подлинных политических взглядов
Лавуазье, ни его конкретных действий в эпоху Револю-
ции. Получалась непонятная односторонняя картина, для
объяснения которой приводились те или иные необоснован-
ные догадки. Совершенно загадочными казались также,
например, некоторые места из известного письма Лавуазье
к Людовику XVI. На основании неиспользованных до сих
пор документальных данных я попытался внести ясность
в эти вопросы. Новые исторические материалы привлечены
мною и к изложению обстоятельств гибели Лавуазье.
Предисловие
9
Нельзя забывать, что Лавуазье—не только ученый,
но и характерный и ведущий представитель той части
крупной французской буржуазии XVIII в., имущественные
интересы которой были теснейшим образом связаны
со старым режимом. Это противоречивое сплетение
и привело к тому, что Лавуазье, будучи новатором
в науке, оказался контрреволюционером в политике
и был смят бурными событиями Революции.
Мне удалось также вскрыть некоторые существенные
детали политической ситуации, сделавшие гибель Лавуазье
в тот острый исторический момент почти неизбежной.
В отличие от большинства его биографов, я отнюдь не
стремился реабилитировать Лавуазье. Разумеется, я да-
леко не считаю исчерпанным вопрос об изучении его жизни
и творчества.
Необходимо помнить, что четырнадцать томов дошед-
ших до нас его лабораторных дневников полностью
не опубликованы до сих пор, а лишь описаны и приве-
дены в выдержках Бертло. Изучение этих дневников позво-
лило бы вероятно вскрыть во всех деталях динамику твор-
чества Лавуазье, особенно в области конструирования
аппаратов и разработки экспериментальных методов,
чего Бэртло не касался вовсе.
Замечу далее, что семнадцать томов сохранившихся
личных дневников Лавуазье уже полтора столетия также
лежат неопубликованными и почти неизученными. Иссле-
дование как этих дневников, так и других неизданных еще
материалов его личной переписки прольет, без сомнения,
новый свет не только на биографию Лавуазье, но и на
связи его с учеными других стран, а значит и на историю
науки всей его эпохи. Возможно, что изучение этих
материалов позволило бы сделать еще более достовер-
ными и четкими бесспорные идейные нити, связывающие
Лавуазье с Ломоносовым. Неопубликованные материалы,
10
Предисловие
хранящиеся в Париже, были мне недоступны. Я старался
однако, елико возможно, использовать имеющиеся опи-
сания и выдержки из них.
В библиографическом указателе, приложенном к на-
стоящей книге, читатель найдет перечень сочинений
Лавуазье, который я стремился сделать наиболее полным
и достоверным.
В заключение скажу еще несколько слов о самом харак-
тере изложения. Я старался достаточно подробно передать
содержание трудов Лавуазье, сопровождая их изложение
многочисленными и обширными цитатами. Это обстоятель-
ство позволит читателю познакомиться с подлинными сло-
вами Лавуазье, с ходом его мысли, с его замечательно
ярким слогом (который я пытался по возможности
сохранить в переводе). Это поможет читателю принять
активное творческое участие в проведенном мною крити-
ческом анализа его трудов. Одним словом, мне хотелось
добиться того, чтобы личность Лавуазье предстала перед
читателями не как анатомический препарат, не как экспо-
нат паноптикума, а как живая историческая фигура.
Достигнута ли эта цель — судить не мне.
Считаю себя обязанным высказать глубокую призна-
тельность проф. С. А. Погодину, О. А. Старосельской-
Никитиной, А. А. Елисееву и Г. 3. Мацкину за очень
ценные критические замечания и указания.
Ленинград,
1948 г.
Глава I
ДЕТСТВО И ЮНОСТЬ
Происхождение Лавуазье. — Его родители. — Политические настрое-
ния во Франции и в семье Лавуазье. — Детство. — Обучение в Кол-
леже.— Будущий юрист попутно изучает физику, химию и естествен-
ные науки. — Наставники: Ля-Кай, Руэлль, Геттар. — Молодой адвокат
публикует „Анализ гипса". — Увлечение метеорологией.— В поисках
актуальной темы.
I
В продолжение всего XVII столетия отпрыски рода
Лавуазье взбирались ступенька за ступенькой вверх
по общественной лестнице, начиная с простого деревен-
ского почтальона вплоть до влиятельного окружного
прокурора. Пользуясь тем, что государственные долж-
ности в дореволюционной Франции служили официальным
предметом купли и продажи, подарка и наследования,
расчетливые Лавуазье путем удачных комбинаций и вы.
годных браков приобретали себе все более и более
доходные посты, непрерывно накапливая состояние.
Итак, окружной прокурор, первый в роде Лавуазье,
обладал уже достаточными средствами, чтобы определить
своего сына, Жана-Антуана, в высшее учебное заведение.
Окончив юридический факультет Парижского универси-
тета и унаследовав от своего дяди по матери выгодную
12
Детство и юность
должность прокурора при Парижском парламенте,1
Жан-Антуан окончательно порвал с провинцией и в
1741 г. поселился в Париже. Вскоре он женился
на Эмилии Пенктис, дочери известного и весьма
богатого парижского адвоката, получив при этом солид-
ное приданое.
В этой семье родился 26 августа 1743 г. будущий
великий ученый Антуан Лоран Лавуазье. Так уж было
у них заведено, что каждый старший сын в роде Лавуазье
неизменно получал имя Антуана.
Два года спустя в семье Лавуазье родилась дочь,
а в 1748 г. мать обоих детей, Эмилия Пенктис,
скончалась. Ее младшая сестра, Констанция Пенктис,
взяла на себя воспитание детей и вскоре пересе-
лилась к овдовевшему Лавуазье. Она сумела окру-
жить детей нежной, истинно материнской заботой,
целиком и навсегда посвятив свою жизнь семье старшей
сестры.
1743 год, год рождения Антуана Лорана Лавуазье,
ознаменовался рядом важных событий в политической
жизни Французского королевства. В начале года скончался
диктатор Франции кардинал Флёри, которому молодой
король Людовик XV передал де-факто всю полноту
власти в стране, сохранив за собою лишь право неогра-
ниченного и необузданного распутства и расточитель-
ства. Страна находилась в исключительно тяжелом состоя-
нии. Война, которую Франция вела в это время против
коалиции Австрии, Англии, Голландии и Савойи, про-
текала крайне неудачно. Как говорили- современники:
Флёри, „умирая, завещал своей стране голод и войну,
оставил ее без денег, без генералов, без министров
1 Парламентом именовался во Франции XVIII в. верховный
суд,.
Политические настроения во Франции
13
и без короля".1 Деспотическое правление Флёри очень
озлобило общественное мнение.
После смерти Флёри Людовик XV объявил себя
самого первым министром, возбудив вначале некоторые
надежды у общества. Однако уже через месяц король
сдал управление государством своим министрам. 27 июня
1743 г. произошло сражение при Деттингене, в котором
Франция потерпела новую серьезную неудачу. Все эти
обстоятельства, а также ряд антинародных постановлений
чрезвычайно накалили общественную атмосферу. В кри-
тике правительства приняли участие широкие слои населе-
ния. На улицах появились прокламации, призывающие
к мятежу.
Правящие классы охватила серьезная тревога за буду-
щее. Сам королевский министр маркиз д’Аржансон 30 июля
1743 г. записал в своем дневнике следующую грозную
фразу: „Революция в таком государстве вполне возможна:
оно колеблется в своих основах".1 2
Итак, год рождения Лавуазье оказался как раз тем
знаменательным годом, когда даже представители при-
дворных кругов осмелились впервые осознать, что коро-
левская Франция катится к революции.
Не подлежит, разумеется, сомнению, что волны этих
глубоких потрясений страны докатывались и до королев-
ских чиновников парламента, среди которых вращался
отец Антуана Лорана. Нередко между королевским
двором и парламентом возникали даже конфликты: судей-
ские чиновники пытались фрондировать. Однако ничего
не известно о каких бы то ни было решительных выступ-
лениях отца Лавуазье. Повидимому он, в крайнем случае,
1 Ф. Р о к э н. Движение общественной мысли во Франции
в XVIII в. (1715—1789). Пер. с франц., СПб., 1902, стр. 120.
2 Ibidem, стр. 123.
14
Детство и юность
ограничивался критикой у себя дома. Из всех его изве-
стных нам последующих мероприятий по устройству
сына явствует лишь одно: в семействе Лавуазье устои
королевской Франции считались безусловно прочными
и надежными, на этом фундаменте строилось все настоя-
щее и будущее благосостояние. Антуану Лорану уже
с пеленок готовили выгодную адвокатскую карьеру
с дальнейшим повышением по общественной лестнице
поближе к королевскому „солнцу“, с дальнейшим, все
более ускоренным ростом накоплений, умноженных, как
водится, еще и выгодной женитьбой. Таков был фон,
на котором рос и воспитывался молодой Антуан Лоран.
II
Первую ступень образования Антуан Лоран прошел
в Коллеже Мазарини (так называемом Коллеже четы-
рех наций), аристократическом училище, куда допу-
скались также дети крупной буржуазии и крупных
чиновников. В программе этого училища очень зна-
чительное место было отведено древним языкам — латыни
и греческому, и вся система преподавания носила довольно
схоластический характер. Большое внимание уделялось,
разумеется, изучению французского языка и риторики,
ибо со времени Людовика XIV во Франции господ-
ствовал культ напыщенной и изящной литературной речи.
В Коллеже, однако, не уделялось должного внимания
изучению современных живых иностранных языков.
И Лавуазье так до конца своей жизни и не изучил как
следует ни английского, ни немецкого. Зато он вели-
колепно знал латынь.
В 1760 г. Антуан Лоран получил вторую премию
по французскому красноречию. Этот год в семье Лавуазье
был омрачен тяжелым событием. Внезапно скончалась
Будущий юрист изучает физику, химию, естественные науки 15
его сестра. С этого момента все надежды, все заботы
и все внимание отца и тетки были сосредоточены на юном
Антуане Лоране.
Первоначально юноша увлекся литературой и мечтал
о литературной карьере. Он даже принялся было писать
драму на сюжет своей любимой повести Ж. Ж. Руссо
„Новая Элоиза". Но дальше первых сцен дело не пошло.
Различные академии и общества того времени то и дело
объявляли всевозможные конкурсы на литературно-фило-
софские темы. Имеются сведения, что Лавуазье иногда
принимал в них участие.
Однако вскоре он понял, что истинные его интересы
лежат в другой области. Тем не менее, видимо по настоя-
нию отца, Антуан Лоран по окончании Коллежа Мазарини
поступил на юридический факультет, который окончил
в 1764 г., получив звание адвоката.
Антуан Лоран все же принялся за изучение интере-
совавших его наук и сумел совместить его с учебой
на юридическом факультете. Следует заметить, что про-
грамма юридического факультета была в то время весьма
насыщенной и трудной. Совместить эту учебу с система-
тическим прохождением других наук было исключительно
трудно. Но Антуан Лоран обладал не только огромными
способностями, он с юных лет приучил себя к напряжен-
ному систематическому труду. За время учебы на юри-
дическом факультете он умудрился параллельно пройти
обстоятельный курс физико-математических, химических
и естественных наук.
III
Три крупных ученых были его наставниками и руко-
водителями в этих науках: выдающийся астроном и физик
аббат Ля-Кай, известный геолог и минералог иезуит Геттар
и знаменитый химик-экспериментатор Руэлль-старший.
16
Детство и юность
Аббат Ля-Кай (1713—1763) выдвинулся как крупней-
ший астроном после своего участия в экспедиции фран-
цузской Академии Наук по градусному измерению
на Мысе Доброй Надежды в 1738—1740 гг. Ля-Кай
открыл за свою жизнь более десяти тысяч новых
звезд и четырнадцать созвездий и провел огромное
количество сложных и кропотливых расчетов. Он при-
обрел также известность скромного чудака, когда
после четырехлетней экспедиции представил свой отчет
в сумме девяти тысяч ста сорока четырех ливров
и... пяти су и не захотел округлить эту цифру,
настаивая на ее точном соответствии произведенным
расходам.1
Ля-Кай был также широко известен как автор учеб-
ников оптики1 2 3 * и механики.8 Лекции Ля-Кая по оптике
получили особенно большое распространение и неодно-
кратно переиздавались на протяжении ряда лет в Париже,
Вене и Праге. Впоследствии, во времена Наполеона,
через пятьдесят лет после смерти Ля-Кая, этот курс
лекций был принят в качестве учебника во вновь создан-
ной Политехнической школе; он был вновь переиздан
в 1808 и 1810 гг. под названием „Трактат по оптике*.
Аббат Ля-Кай был близким другом известного физика
Буге (1698—1758), основателя фотометрии. Когда Буге
скончался от тяжелой тропической болезни, его фунда-
ментальный труд „Трактат по оптике о градациях
света" („Traite d’Optique sur la gradation de la lumiere",
Париж, 1760) был издан Ля-Каем.
1 W. R. Aykroyd. Three philosophers. Lavoisier, Priestley,
Cavendish. London, 1935.
2 | Lemons elementaires^ d’Optique, par N. L. de La-Callle,
Paris, 1766.
3 Lemons elementaires de Mecanique, par N* L. de La«Caille,
Paris, 1765.
Наставники: Ля-Кай, Руэллъ, Геттар
/7
Таким образом, изучая математику и физику под
руководством Ля-Кая, Лавуазье, помимо глубоких позна-
ний в этих областях науки, должен был получить ясное
и отчетливое представление о сущности физического
подхода к изучению любого явления. Основа этого
общего метода заключается, как известно, в строгом
количественном измерении соотношения между различ-
ными физическими факторами, действующими на данное
явление. Экспериментальное установление этих количест-
венных соотношений дает прочную основу для теорети-
ческого истолкования явлений и предсказания новых
факторов и соотношений.
В самом начале учебника оптики Ля-Кая (стр. 2)
мы находим следующее утверждение: „Принципы, служа-
щие фундаментом оптики, извлекаются только лишь
из опыта*. Ля-Кай в своем учебнике неоднократно
ссылается на Буге, и не подлежит сомнению, что
он ознакомил Лавуазье с трудом своего покойного
друга. А в трактате Буге с самого начала проводится
следующий принцип (стр. 3): „Мы оставляем в стороне
все, что имеется метафизического в ощущениях, но мы
ограничимся исследованием того соотношения, которое
имеет место между их внешними причинами и следствиями,
которые мы намерены лишь измерять*. Таковы были
идеи, которые формировали ум молодого Лавуазье.
Изучая физику под руководством Ля-Кая, Лавуазье,
повидимому, сильно заинтересовался оптикой и не пре-
минул вскоре широко воспользоваться своими познаниями
в области фотометрии в исследовании „О фонарях*,
о котором речь будет итти ниже.
Интересно отметить, что ни один из многочисленных
биографов Лавуазье не обратил до сих пор должного
внимания на его глубокие познания в области физики.
Перечисляя науки, которые изучал Лавуазье, все без
2 Дорфман
18
Детство и юность
исключения биографы обходят полным молчанием физику.
Между тем, Лавуазье, подводя итог своей деятельности
в автобиографической заметке, написанной, повидимому,
почти накануне смерти, признал, что „он главным образом
посвятил свою жизнь трудам, относящимся к физике
и химии".1 Ниже мы увидим, что это обстоятельство
имеет весьма важное значение для понимания и оценки
научного творчества Лавуазье.
Антуан Лоран прошел курс химии у профессора
Руэлля — старшего (1703—1770). Этот ученый представлял
собою европейскую знаменитость, к нему отовсюду стека-
лись слушатели. Его учениками были крупнейшие химики
той эпохи: Маке, Бюкэ, Байен, Дарсэ. Среди его учеников
и поклонников состоял в то время молодой Дидро,
которому остальные слушатели были обязаны составле-
нием превосходного рукописного конспекта лекций Руэлля.
Исключительный оригинал, Руэлль был прежде всего
замечательным экспериментатором. И не столько его
рассуждения и теоретические построения привлекали
к себе разношерстную толпу восторженных слушателей,
сколько изумительно поставленные демонстрационные
и лабораторные опыты. Руэлль не только увлекал своих
слушателей, но он при этом увлекался сам до того, что
нередко, в ходе лекций, нарушая общепринятый этикет,
попросту сбрасывал на пол парик, кафтан и кружевное
жабо, мешавшие ему в его лабораторных манипуляциях.
Особенно импонировала молодежи и оставляла у слу-
шателей неизгладимое впечатление следующая особен-
ность. Руэлль хотя и излагал и демонстрировал научные
факты в свете господствовавших тогда теорий, но никогда
не навязывал слушателям предвзятых теоретических
1 Е. Grimaux. Lavoisier. Paris, 1888. Pieces justificative».
Notice autobiographique, p. 385.
Молодой адвокат публикует «Анализ гипса»
19
воззрений; он воспитывал в них жажду искания истины;
он сеял в них семена сомнений и критики су чествующих
взглядов. И молодой Антуан Лоран ревностно внимал
каждому слову маститого Руэлля и тщательно изучал
технику эксперимента.
Третьим учителем Антуана Лорана был друг семейства
Лавуазье геолог Геттар(1715—1786) —весьма своеобраз-
ный человек: хмурый, саркастический и, вместе с тем,
крайне набожный. Он воспитывался у иезуитов, но впослед-
ствии его за что-то исключили из иезуитского ордена.
Кондорсе писал о нем в надгробном слове: „Немногие
люди имели больше ссор, чем их имел Геттар". Абсолютно
преданный науке, он был резок и груб лишь с высшими
и власть имущими, но по отношению к нижестоящим
Геттар старался быть предупредительным и пользовался
их большой любовью.
В одном из своих писем Лавуазье, говоря о Геттаре,
подчеркнуто называл его „наблюдателем природы".1
На основании этих слов, а также и на основании многих
других фактов можно полагать, что Геттар не только
помог Антуану Лорану усвоить большой фактический
материал в области минералогии и геологии, но, самое
главное, он научил Лавуазье наблюдать природу непо-
средственно.
IV
Закончив юридический факультет и получив звание
адвоката в 1764 г., Лавуазье все же не сделал юридиче-
ской карьеры, которую ему начертал отец. Он продолжал
свои занятия наукой. Ля-Кая уже не было в живых.
Лавуазье тесно сблизился с Геттаром, занимаясь вопро-
сами минералогии.
1 Ibidem, рр. 10—13.
2*
20
Детство и юность
В феврале 1765 г. Антуан Лоран представил Академии
Наук свой первый научный труд „Анализ гипса". В начале
этой работы Лавуазье пишет:1 „Несмотря на открытия,
которыми химия обогатила естественную историю, суще-
ствует бесконечное число тел в царстве минералов,
природа которых нам совершенно неизвестна. Большая
часть земель, камней и кристаллов являются веществами,
абсолютно новыми для химика, изучение которых может
служить неисчерпаемым источником экспериментов и от-
крытий. Почти все, кто работал до сего дня, повидимому,
забыли об этой существенной части науки, общей для
естественной истории и для химии, наиболее пригодной
для того, чтобы внести новый свет как в одну, так
и в другую из этих наук". Далее он указывает, что один
из немногих его предшественников в этом вопросе под-
вергал все минералы действию огня и отсюда судил о
их составе. Лавуазье выбрал иной путь: „я попытался
подражать природе". Лавуазье изучал действие воды —
„этого почти универсального растворителя" — на гипс.
Сущность этой работы заключается в следующем, как
можно видеть из записей Лавуазье в его лабораторном
журнале за 24 ноября 1764 г.:1 2 „Достоверно известно,
что алебастр, рассматриваемый под микроскопом, меняет
свой облик после обжига... У меня возникла идея,
а именно, что обожженный алебастр вновь вбирает в себя
кристаллизационную воду при гашении его и принимает
кристаллическую форму". В работе „Анализ гипса"
Лавуазье подробно проследил этот процесс путем боль-
шого числа весьма изящных и тщательно проведенных
физических и химических опытов. Конец записи в журнале
сформулирован несколько неудачно. Как видно из текста
1 Oeuvres de Lavoisier. Paris, 1864—1893, t. Ill, p. Ill (в даль-
нейшем обозначаем: Oeuvres).
2 Ibidem.
Увлечение метеорологией. В поисках актуальной темы 21
самой статьи, Лавуазье пришел к выводу, что гипс при
застывании поглощает кристаллизационную воду и рекри-
сталлизуется.
В этой работе уже проявляются основные характер-
ные черты научного творчества Лавуазье. На протяжении
всего исследования он крайне осторожно и критически
относится ко всем своим выводам. Каждое предположение
он подвергает опытной проверке путем множества контроль-
ных опытов.
Одновременно с работами по физике и химии
минералов, Лавуазье глубоко занялся метеорологией.
В то время физиков весьма интересовал вопрос о связи
между температурой воздуха и атмосферным давле-
нием.
Дом семьи Лавуазье заполнился теперь барометрами
и термометрами. Антуан Лоран поставил себе задачей
подробно изучить законы, управляющие погодой. Он
начал вести регулярные записи давления и температуры
примерно с 1763 г. и продолжал их до самого конца
жизни, т. е. в продолжение свыше тридцати лет. Уже
в 1767 г. Лавуазье начал организовывать, путем частной
переписки, обмен метеорологическими сводками с другими
любителями метеорологии не только во Франции,
но и за границей.
Необходимо напомнить, что в ту эпоху еще не суще-
ствовало разветвленной сети метеорологических станций,
которая столь необходима для изучения и предсказания
погоды.
Однако ни работа по анализу гипса, ни метеорологи-
ческие наблюдения не могли удовлетворить в полной мере
молодого Антуана Лорана. Он тщательно искал серьезной
пищи для своего пытливого ума, ему хотелось сделать
какую-нибудь действительно ценную, актуальную и суще-
ственную исследовательскую работу.
22 Детство и юность
Такого рода тема представилась в 1764 г., когда
Королевская Академия Наук объявила конкурс на тему
„Найти наилучший способ ночного освещения улиц боль-
шого города, соединяющий в себе яркость освещения,
легкость обслуживания* и экономичность".
Глава II
ПЕРВЫЙ УСПЕХ МОЛОДОГО УЧЕНОГО
Париж блистательного века. — Конкурс фонарей. — Капитальное иссле-
дование Лавуазье о различных способах уличного освещения. — „И он
путь свой отметит огнями". — Результаты конкурса. — Париж надеется
на луну.
I
Париж блистательного века Людовика XV отнюдь
не мог считаться мало-мальски благоустроенным
городом.
Десять лет спустя (1778) автор „Недоросля" Денис
Иванович Фонвизин сообщал в своих письмах на родину:1
„Париж может по справедливости назваться сокращением
целого мира. Сие титло заслуживает он по своему
пространству и по бесконечному множеству чужестран-
ных, стекающихся в него от всех концов земли. Жители
парижские почитают свой город столицею света... Зато
нечистота в городе такая, какую людям, не вовсе
оскотинившимся, переносить весьма трудно... На скот-
ном дворе у нашего доброго помещика чистоты гораздо
1 Сочинения, письма и избранные переводы Д. И. Фонвизина.
СПб., 1866, стр. 36 и сл.
24
Первый, успех молодого ученого
больше, нежели пред самыми дворцами французских
королей".
Эта вонючая, липкая и несмываемая с одежды грязь
упорно процветала на улицах Парижа с древнейших вре-
мен, переживая и королей, и министров, и войны, и эпи-
демии. Недаром из века в век, от деда к внуку во Фран-
ции передавалась созданная народной мудростью пого-
ворка: „Он пристает, словно парижская грязь" („II tient
comme la boue de Paris").
H. M. Карамзин, посетивший Париж много позднее
(1790), говорит:1 „Улицы все без исключения узки и темны
от громадности домов; славная Сент-Онорэ* 2 всех длин-
нее, всех шумнее и всех грязнее. Горе бедным пешеходам,
а особенно, когда идет дождь. Вам надобно или месить
грязь на середине улицы, или вода, льющаяся с кровель
через дельфины,3 не оставит на вас сухой нитки...
Французы умеют чудесным образом ходить по грязи,
не грязнясь; мастерски прыгают с камня на камень,
прячутся в лавки от скачущих карет".
С наступлением вечера на некоторых наиболее широ-
ких улицах, где расположены пышные особняки, театры,
рестораны и кафе, фонарщики зажигали сальные свечи
в редко развешанных уличных фонарях. В узких улицах
победнее, в кривых переулочках и тупиках фонари
можно было встретить лишь кое-где на перекрестках.
Проходил час, другой ... Свечи фонарей оплывали,
задувались порывами ветра, и вскоре почти весь огром-
3 Н. М. Карамзин. Письма русского путешественника. Соч.,
т. IV, изд. 4-е, СПб., 1834, стр. 98.
2 Одна из наиболее аристократических улиц Парижа того вре-
мени.
3 Выступы для стока воды с крыш, имевшие нередко форму
дельфинов.
Конкурс фонарей
25
ный Париж погружался во мрак, нарушаемый лишь
отблесками тусклого света свечей из окон, да изредка
светом луны.
„Фонари с неудачно расположенными, тухнувшими
или заплывавшими от ветра свечами освещали плохо
и давали лишь бледный, мерцающий неуверенный свет,
прорезываемый подвижными и опасными тенями*, — писал
французский писатель Ретиф-де-ля-Бретонн,1 вспоминая те
времена.
А поутру в зловонной уличной грязи зачастую нахо-
дили изувеченные людские трупы. Кто погибал здесь
в пьяной драке, кого настигал разбойничий нож, а иных
запоздалых прохожих давили колеса мчавшихся господ-
ских золоченых карет. Уже в Лондоне посмеивались
и поговаривали о том, что Париж небезопасен для ино-
странцев. И Лондон имел полное право гордиться перед
Парижем своими тротуарами и фонарями. Рост несчаст-
ных случаев и преступности в Париже становился прит-
чею во языцех. По городу ползли всевозможные слухи
о вновь найденных трупах, слухи нередко нелепые
и фантастические. Из слухов ткались непристойные рас-
сказы, в которые частенько замешивались имена высоких
особ.
Все зто волновало и будоражило и без того неспокой-
ный народ.
II
Новый начальник полиции, генерал-лейтенант де-Сар-
тин, добился королевского повеления навести порядок
в городе и повести решительную борьбу с преступлениями
и безобразиями. Особенно беспокоили полицию нарастаю-
1 N. Е. Restif de la Bretonne. Les nuits de Paris. 1788.
26
Первый успех молодого ученого
щие антиправительственные настроения, проявляющиеся
то и дело в прокламациях и листовках, которые в ночной
темноте расклеивались по всему городу.
Итак, решено было осветить улицы Парижа, установив
несколько тысяч фонарей. Фабриканты и изобретатели
предлагали на все лады свои конструкции фонарей,
стремясь получить выгодную поставку. Желая, видимо,
заранее снять с себя ответственность за предоставление
заказа тому или иному фабриканту, де-Сартин нашел
следующий выход из затруднительных для себя обстоя-
тельств. Он обратился в Королевскую Академию Наук
с просьбой объявить всенародный конкурс на тему:
„Найти наилучший способ ночного освещения улиц боль-
шого города, совмещающий в себе яркость света, удоб-
ство обращения и экономичность".
Полиция ассигновала на премирование наилучшего
предложения две тысячи ливров. Предложения следовало
подавать анонимно, под девизом, приложив отдельный
запечатанный конверт, содержащий имя, фамилию и адрес
автора.
Двадцатидвухлетний Лавуазье, жаждавший приложить
свой талант и свои знания к действительно важному
исследованию и заслужить славу, решил принять участие
в конкурсе.
Взяв на себя задачу „найти наилучший способ освеще-
ния" большого города, Антуан Лоран подошел к задаче
так, как к ней до того еще никто не подходил.
Лавуазье впервые предпринял подлинно научное иссле-
дование различных возможностей устройства уличного
освещения. Эта его юношеская научная работа представ-
ляет собой первый и притом блестящий образец научного
метода решения светотехнической задачи. К сожалению,
биографы Лавуазье оставили этот замечательный труд
его без достаточного внимания.
Рисунки Лавуазье к работе о фонарях.
Построение теней и полутеней от одной и двух свечей. Масляные фо лари. Ланны и фонари
без отражателей.
28
Первый успех молодого ученого
Прежде всего Антуан Лоран наметил себе план
работы. Четкое планирование общей линии исследования
является, как мы увидим, характерной особенностью
всех его работ. Намеченный им путь есть путь от про-
стого к сложному.
В исследовании проблемы фонарей Лавуазье поста-
вил на первое место вопрос о яркости освещения.
К этому вопросу он подошел во всеоружии новейших
достижений тогдашней физики, преподанной ему покойным
Ля-Каем. Он опирается здесь, очевидно, прежде всего
(хотя и не упоминает его) на замечательный новейший
труд Пьера Буге — основу фотометрии — „Трактат по
оптике о градациях света", вышедший в Париже в 1760 г.
под редакцией Ля-Кая.
Начиная с фотометрического исследования, молодой
ученый анализирует освещение, даваемое сначала про-
стейшими фонарями с сальной свечой, затем простей-
шими масляными фонарями. Далее он переходит к
фонарям с рефлектором (отражателем). Он ставит
вопрос о наиболее рациональной форме рефлектора
и исследует световое поле параболических, гиперболи-
ческих и эллиптических отражателей. Установив недо-
статки тех или иных фонарей с точки зрения геоме-
трической оптики, Антуан Лоран решает вопрос о наи-
выгоднейшей форме рефлектора. Затем он переходит
к вопросу о фитилях, о подвесе фонарей, о горючем,
наконец подводит экономический расчет и намечает кон-
кретные пути организации обслуживания уличных фона-
рей. Таким образом фактически Лавуазье охватил все
важнейшие стороны вопроса.
Получился капитальный труд об уличном освещении
большого города.
Работа над освещением большого города нацело погло-
тила молодого ученого. Наконец-то была найдена достоЙ-
Рисунки Лавуазье к работе о фонарях.
Построение хода лучей в фонаре с эллиптическим отражателем. Построение тени под фонарем. Приспособление для
смены свечей в фонаре.
30
Первый успех молбдогб ученого
ная научная тема! И недаром, начиная свой труд, Лавуа-
зье написал: „Когда ничто не возбуждает работы челове-
ческого мозга, когда ничто не направляет его взглядов
на какой-либо определенный предмет, мозг рассеивается
и заблуждается, и его продукты творчества, медленные
и запоздалые, теряются, не увидя света; но как только
возбуждение и соревнование подогрело умы, воодушевило
идеи, тотчас же начинается брожение; в этих общих
усилиях желание достигнуть цели придает новые силы,
и каждый, стремясь подняться над другим, превосходит
самого себя".
Эти замечательные слова наводят на предположение,
что самая идея устройства рациональных источников
света, вероятно, приходила в голову юному Антуану
Лорану уже давно, но она не была им доведена до конца.
Быть может, его навело на эту мысль одно описание
из „Новой Элоизы" Ж.-Ж. Руссо:
„Комната была освещена тремя лампами, к которым...
он велел приделать колпаки из белой жести, чтобы пере-
хватывать дым и отражать свет".
Мы знаем из юношеских писем и заметок Лавуазье,
что „Новая Элоиза или письма влюбленных" стала его
любимой книгой задолго до того, как он познакомился
с трактатом Буге.
Исследование яркости освещения и распределения
освещенности в пространстве, окружающем тот или иной
фонарь, является главной физической задачей, которую
пришлось решать молодому ученому в этой работе. Ее
он решал отчасти путем геометрических построений
и отчасти путем непосредственных экспериментальных
измерений.
При постановке измерений Антуан Лоран, следуя ука-
заниям труда Буге, устроил у себя дома совершенно тем-
ную, обитую черным сукном, комнату. Для того чтобы
Рисунки Лавуазье к работе о фонарях.
Фонари с гиперболическими и эллиптическими отражателями.
32
Первый успех молодого ученого
адаптировать свои глаза к слабому освещению, Лавуазье
обрек себя самого на непрерывное пребывание в этой
темной комнате в течение шести недель, пока длились
измерения.1
В результате исследования фонарей с рефлекторами
различной формы Лавуазье останавливается на эллипти-
ческом отражателе для масляных фонарей и гиперболи-
ческом отражателе для свечей. Лавуазье специально
сравнивает свои фонари с сильно рекламированными
фонарями известного изобретателя — инженера-механика
Д. Ф. Буржуа (1698—1781). Шесть фонарей его системы
освещали в то время Новый мост в Париже.
На основании измерений и расчетов Лавуазье пришел
к ясному выводу, что его собственный эллиптический
фонарь по своей эффективности (т. е. учитывая яркость
освещения по отношению к затрате масла) в три раза
превосходит фонарь системы Буржуа.
Выбрав наиболее выгодную конструкцию фонаря,
Лавуазье обратился к вопросу о маслах. Он специально
изучил сравнительную эффективность различных масел.
Далее он обратил особое внимание на то, что некоторые
масла сильно густеют при температуре зимних ночей.
Это обстоятельство заставило Лавуазье впервые про-
вести также сравнительное определение температур засты-
вания большого числа масел. Вместе с тем Лавуазье
показал» что при надлежащей конструкции фонаря масло
может оставаться все время при неизменной температуре
выше точки застывания благодаря рациональному исполь-
зованию теплоты горения.
Оказалось, что эллиптический фонарь как-раз отвечает
и этой задаче.
1 Е. Gr ima и х. Lavoisier, р. 9.
«И он путь свой отметит огнями» 33
III
Срок подачи сочинения на конкурс приближался,
а Лавуазье ясно чувствовал, что проблема еще далеко
не исчерпана.
„Однако пора кончать этот мемуар,— пишет он,—
и так слишком длинный для собранного нами материала
и бесконечно короткий по сравнению с глубиной проблемы.
Разумеется, если бы обстоятельства не заставили меня
ограничиться одним частным вопросом и не ограничили бы
моего времени, было бы интересно добавить несколько
соображений о методах устройства ламп, более экономич-
ных и совершенных, чем те, которые были известны
до сих пор. Я бы также попытался показать, каким
путем, основываясь на принципах, изложенных в этом
мемуаре, при помощи значительно меньшего количества
света, можно гораздо более мягко, более совершенно
и гораздо менее неудобно для зрителей освещать наши
залы собраний и спектаклей. Наконец я бы попытался
дать почувствовать, как методику устройства ламп сле-
дует применять к маякам, зажигаемым ночью в морских
портах, какую форму следовало бы придать рефлекторам,
дабы свет был использован наиболее совершенным обра-
зом. Вопрос, которым я занимался, не мог не породить
во мне множества идей по самым различным вопросам.
Нужно время, дабы они созрели... Я всегда буду рад
их опубликовать, как только смогу почувствовать, что
общество сумеет извлечь из них некоторую для себя
пользу “.1
В качестве девиза к своему мемуару Лавуазье написал
по-латыни: „И он путь свой отметит огнями" (Вергилий.
Энеида, V). [„Signabitque viara flammis" (V е г g* i 1 i u s.
Aeneis, V)].
1 Oeuvres, t. Ill, p. 70.
3 Дорфман
34
Первый успех молодого ученого
В подлиннике пятой песни „Энеиды" имеется лишь
одно место, содержащее эти три слова в том же порядке,
а именно стих 526:
„Hie oculis subitum obicitur magnoque futurum
Augurio monstrum: docuit post exitus ingens,
Seraque terrifici cecinerunt ominia vates.
Namque volans liquidis in nubibus arsit harundo
Signavitque viam flammis tenuisque recessit (526)
Consumpta in ventos, caelo ceu saepe refixa
Transcurrunt crinemque volantia sidera ducunt*,
что в переводе означает:
„Вдруг пред очами явилось грядущего чуда великое
Знаменье: грозный событий исход объяснил то позднее;
В страхе волхвы запоздали изречь толкованье приметам.
Ибо в прозрачных летя облаках, стрела загорелась,
Путь свой отметив огнями, и в тонких растаяла ветрах. (526)
Так же проносятся часто, сорвавшись с небесного свода,
Звезды летящие, пряди волос за собой увлекая*.1
Но Лавуазье изменил одну букву в цитате, он заме-
нил „signavitque" словом „signabitque", т. е. прошедшее
время заменил будущим. Таким образом, подавая свой
замечательный труд на суд Академии и общественности,
Антуан Лоран выражал свою уверенность в том, что он
„путь свой отметит огнями". Таков был им избранный
девиз для начала блестящей карьеры. И он оказался
прав.
Через полтора месяца Королевская Академия Наук
вынесла свое заключение по поводу представленных
1 Перевод автора. Существующие переводы этого отрывка
оказались недостаточно точными.
«И он путь свой отметит огнями» 35
---------—ь ------------------ - - - — --------------
сочинений на тему о способах освещения большого
города. Повидимому, Академия отнюдь не ожидала
ученых трудов о конструкции фонарей. Конкурс,
организованный по почину начальника полиции, имел
целью, так сказать, „научно обосновать" передачу казен-
ного заказа на поставку фонарей тем или иным фабри-
кантам. Получив среди фабричных образцов и реклам-
ных объявлений, присланных торговыми фирмами, этот
объемистый научный труд с довольно претенциозным
девизом, Академия пришла в смущение и постановила
следующее:
„Поскольку ни один из трудов, представленных на сей
конкурс, не дал средств, могущих иметь всеобщее при-
менение и не связанных с каким-либо неудобством,
Академия признала необходимым разбить представленные
ей труды на два класса: одни содержат в себе лишь
физические и математические рассуждения, приводящие
к полезным способам, преимущества и недостатки кото-
рых они излагают; другие же заключают в себе различ-
ные попытки и испытания, произведенные в течение
продолжительного времени, а посему они дают возмож-
ность публике непосредственно сравнивать между собой
различные способы освещения Парижа и применить их
на практике".
Труд Лавуазье был отнесен к первому типу — отвле-
ченных научных трактатов, а проспекты фабрикантов
и изобретателей — ко второму классу. Академия, вероятно
по настоянию полиции, оставила в стороне научные
проекты Антуана Лорана. „По договоренности с г. началь-
ником полиции" Академия обратила премию в две тысячи
ливров в пользу второго класса и поделила ее между
„гг. Байи, Буржуа и Леруа".
Признавая, однако, труд Лавуазье превосходным,
Академия после обстоятельной дискуссии постановила
3*
36 Первый успех молодого ученого
напечатать его в своих мемуарах. Отступая от обыч-
ных правил, она обратилась через посредство началь-
ника полиции к королю с просьбой о присуждении
Лавуазье золотой медали. 9 апреля 1765 г. на пуб-
личном торжественном заседании Академии президент
Академии вручил молодому Антуану Лорану золотую
медаль.
„Публика приняла с удовольствием этот беспримерный
для Академии Наук факт столь лестного отличия совсем
еще молодого человека", — писал „Журнал ученых"
(Journal des Sgavants, сентябрь 1766).1
IV
Вскоре Париж получил тысячу двести новых масляных
фонарей с рефлектором, сконструированных, увы, без
точного знания законов оптики, но все же немного более
совершенных, чем их предшественники. И как ни слепили
глаза кучерам и прохожим эти нелепые фонари, привешен-
ные на блоках к канатам, протянутым поперек улиц,
все же на улицах стало светлее.
Впрочем, фонарщики нередко забывали налить масла
или зажечь фонарь. В бедных кварталах, где фонари
были к тому же расставлены далеко друг от друга,
благодеяния полиции остались почти незамеченными.
„Здесь фонари надеются на луну, луна надеется на
фонари, а покамест они надеются друг на друга, бедному
люду не видать ни зги", — так пел извозчик в веселом
театральном обозрении „Англичанин в Париже".8 И этот
каламбур имел столь бурный успех среди парижского
населения, что заботливая полиция де-Сартина не замед-
лила его запретить. 1 2
1 Е. Gгimaux. Lavoisier, р. 10.
2 A. Babe a u. Paris en 1789. Paris, 1891, p. 103.
Париж надеется на луну
37
В 1790 г. русский путешественник Н. М. Карам-
зин, сравнивая в своих „Письмах" великолепно осве-
щенный Лондон с Парижем, саркастически заметил:
„Французское министерство давало пенсию на лунный
свет... В лунные ночи Париж не освещался; из остатков
суммы, определенной на освещение города, давались
пенсионы".1
1 Н.М. Карамзин. Соч., т. IV, стр. 124.
Глава III
НА ЧАЛО КАРЬЕРЫ И ЖЕНИТЬБА
Минералогическая карта Фоанции. — Э <спедиция Геттара и Лавуазье.—
Дневник путешезтвия. — Борьба за место в Академии. — Молодой
адъюнкт Академии становится откупщиком. — Генеральный откуп. —
Доходы Лавуазье и арифметическая проверка одной легенды. — Бур-
жуазная мораль. — Откупщик Польз и его дочь.— Женитьба Лавуазье.—
Покупка дворянского титула.
U
Работа над фонарями заставила Лавуазье на время
отойти от руководимых Геттаром минералогических
и геологических исследований. Геттар был, по его сло-
вам, „первым человеком, который придумал нанести
на карту минералогический состав почвы“. Он задумал
огромный труд — составление минералогической карты
Франции.
Для осуществления его требовалось обследовать шаг
за шагом все районы Франции. Молодому Антуану Лорану
такого рода работа пришлась по вкусу. И вот мы видим,
как он то и дело выезжает из Парижа для обследования
строения почв. Однако лишь в 1767 г. план Геттара
нашел отклик в правительственных кругах и получил
финансовую поддержку.
Экспедиция Геттара и Лавуазье 39
В июне 1767 г. Геттар совместно со своим учеником
отправился с официальным полномочием для минералоги-
ческого обследования Эльзаса и Лотарингии. Отныне
на письмах, отправляемых отцом и теткой Антуану
Лорану, ставят особую надпись: „Г-ну Лавуазье, послан-
ному по распоряжению короля в Вогезы“, — которая
должна привлекать особое внимание почты. Во время
этого путешествия, как и во время всех других своих
поездок, молодой исследователь вел путевой дневник.
Кроме того, он часто писал домой, сообщая свои впеча-
тления. Многие из этих материалов сохранились, и его
биограф Гримо ссылается на них:1
„Лавуазье оставил нам подробный дневник своего
путешествия. Его можно проследить день за днем, час
за часом и представить себе систематичность его работы.
Каждое утро перед отъездом, между пятью и шестью
часами, он записывает показания барометра и термометра,
повторяет свои наблюдения несколько раз в течение дня
и производит их в последний раз вечером в любое время,
когда они останавливаются для ночевки. В пути он все
подмечает: природу почвы, рельеф местности, раститель-
ность; нередко скачущий почерк его заметок свидетель-
ствует о том, что он делал их, не слезая с лошади.
Посещает копи, мануфактуры: здесь — сталелитейный
завод, там — мастерскую, где белят холст; ежели не может
лично обойти весь район, то опрашивает тех, кто его
знает, преимущественно каменотесов, каменщиков. От них
узнает, где находятся применяемые ими плитняки, песча-
ники, известь, гипс. В городах, которые проезжает, он
осматривает кабинеты любителей естественной истории,
описывает бегло их инвентарь. В каждой местности, где
останавливается, он определяет температуру и плотность
1 Е. Gr i m a и х. Lavoisier, p. 18.
40
Начало карьеры и женитьба
не только минеральных вод, но еще и питьевых: воды
Сены в Троа, воды Рейна в Даль. Он не остается
в харчевне, не обследовав воды, которую ему подают;
он ничего не оставляет без внимания и отмечает в Троа
наиболее ценные манускрипты в библиотеке конгрегации
Оратории. Каждый вечер он пополняет свой дневник,
ведет переписку и не забывает записать путевые издержки*'.
К сожалению, эти путевые дневники Лавуазье до сих
пор не опубликованы, хотя они, повидимому, могли бы
служить богатейшим источником данных по технике
и экономике того времени.
В городке Доман путешественники посетили могилу Мо-
пертюи. Вот, что по этому поводу писал Лавуазье домой:
„В двух лье от города мы посетили гробницу знамени-
того человека, который, измерив землю у полюса и запол-
нив своей славой и Францию и Пруссию, приехал умереть
в этом неведомом миру уголке".1
По дороге Лавуазье купил за пятьсот ливров коллек-
цию книг, изданных в Германии и отчасти даже неизве-
стных во Франции. Среди этих книг оказался новый том
мемуаров Берлинской Академий. И вот два мемуара
заставляют его задуматься над вопросом о сущности
воздуха, воды и огня, об элементах, составляющих при-
роду. Вначале Антуан Лоран высказывает предположение,
что воздух не что иное, как водяной пар, или вода,
соединенная с материей огня. Затем он тут же отбрасы-
вает эту концепцию, допуская, что атмосферный воздух
естэ самостоятельное вещество „содержащее в растворен-
ном состоянии огненный флюид и воду".1 2
1 Е. Gr i m a u х. Lavoisier, p. 20, выдержка из собственноручного
письма Лавуазье.
2 Ibidem, р. 11. Нам не удалось установить, о каких именно
мемуарам идет реч>. В 1766 и 1767 гг. вышли в свет „Мемуары
Берлинской Академии" за 1764 и 1765 гг.
Борьба за место в Академии
41
II
Между тем как Антуан Лоран и Геттар объезжали
Францию, собирая материалы для минералогической
карты, некоторые академики в Париже предприняли шаги
к привлечению Лавуазье в состав Академии. Его блестя-
щая работа о фонарях, невидимому, сыграла известную
роль в этом вопросе. Молодой человек, получивший
в двадцать три года золотую медаль Академии, оставил
прекрасное впечатление. Превосходные отзывы о нем
исходили и от Геттара, отмечавшего его ценное участие
в работах по геологии Франции. Наконец, за него хлопо-
тали академики де-Монтиньи, Маральда и Дюамель —
друзья отца Лавуазье. Уже в 1766 г., т. е. почти
сразу же после получения золотой медали, Антуан Лоран
был занесен в списки кандидатов для будущих выборов,
но возможность проведения его представилась лишь
в 1768 г.
Академия Наук того времени состояла из двенадцати
почетных членов (honoraires), выбиравшихся из знати,
пользовавшихся исключительным правом занимать посты
президента или вице-президента, и восемнадцати пенсио-
неров (pensionnaires), или действительных членов. Правом
решающего голоса пользовались лишь почетные и дей-
ствительные члены. Кроме них в Академии имелись
Кооптированные (associis), т. е. члены-коррэспонденты,
и, наконец, адъюнкты (adjoints), напоминающ-ie наших
аспирантов-докторантов. Все члены Академии группирова-
лись по шести классам: геометрии, астрономии, механики,
анатомии, ботаники и химии. Такие науки, как математика,
физика, збология, геология, не имели собственного класса.
Поэтому, например, Геттар входил в класс ботаники .вместе
с Ле-Монни, лейб-медиком короля, а физик Нолле был
42
Начало карьеры и женитьба
включен в класс механики. Места в Академии освобо-
ждались лишь в случае смерти кого-либо из академиков.
В 1768 г. скончался химик Барон. На членов класса
химии была возложена задача подбора новых кандидатов.
Бесспорным конкурентом Лавуазье был крупный инженер-
металлург Габриэль Жар, известный своими практическими
работами по добыче свинца и получению сурика. Впрочем,
Жар не был ни ученым-исследователем, ни даже изобре-
тателем; его обширная и плодотворная деятельность
заключалась главным образом во внедрении передовой
иностранной техники в промышленность Франции. За его
кандидатуру стояли некоторые министры и казначей
Академии — Бюффон.
Что касается Лавуазье, то относительно него состави-
лось мнение (как впоследствии рассказал астроном
Лаланд), что „молодой человек, обладающий знанием,
умом и инициативой, которого к тому же богатство
освобождало от необходимости заниматься другой профес-
сией, будет, естественно, очень полезен для наук".
В сущности говоря, заслуги Антуана Лорана перед аукой
в момент его избрания адъюнктом были еще весьма
скромными, и можно полагать, что его богатство и связи
сыграли в этом вопросе немалую роль. Недаром в те
времена существовала поговорка: „В Академию попадают
не иначе, как в карете". При голосовании 18 мая 1768 г.
молодой кандидат получил большинство голосов. Однако
Академия могла лишь предложить королю избранных
ею кандидатов, право окончательного утверждения при-
надлежало королю. По предложению министра Сен-
Флорантена, король утвердил на место Барона инженера
Г. Жара, а для Лавуазье было создано дополнительное
место. При этом указывалось, что в случае, если вновь
освободятся вакансия по классу химии, новые выборы
не должны проводиться. Таким образом в мае 1768 г.
Борьба за место в Академии
43
Антуан Лоран получил прочное место в Академии для
начала научной карьеры.1
Следует подчеркнуть, что хотя он и прошел по классу
химии, но отнюдь не рассматривался тогда Академией
в качестве химика, да и не имел еще никаких заслуг
в этой области. И поручения, которые ему давала в те
годы Академия, и те работы, которые он предпринял
по собственной инициативе в первые годы пребывания
в Академии, относились, как мы увидим, преимущественно
к физике и технике.
Интересно отметить, что в 1766 г., т. е. еще до своего
избрания, Лавуазье, повидимому, пытался создать класс
физики в Академии. В собрании его сочинений.опубли-
кованы сохранившиеся среди бумаг1 2 два черновика ано-
нимных писем, написанных им собственноручно, одно
на имя президента Академии академика де-Монтиньи
и второе на имя непременного секретаря Академии
академика Дю-Фуши. В первом письме (от 11 апреля
1766 г.) Лавуазье пишет: „М. Г.! Непонятно, почему во
время реформы Королевской Академии Наук, при созда-
нии новой ее структуры в 1699 г., была совершенно
забыта экспериментальная физика, наука, служившая
предметом работ первых членов нарождающейся Акаде-
мии, наука, которую Гюйгенс, Мариогг, Перро культи-
вировали с таким успехом../*
Антуан Лоран убеждает президента Академии добиться
От короля создания класса экспериментальной физики.
Как всегда, он не упускает из виду финансовой стороны
вопроса; „Путем ежегодного расхода в тысячу экю
государство может привлечь к работе семь своих под-
данных../* Он подписывается: „Член Академии Наук*****.
1 Жар скончался скоропостикно год спустя (1769).
2 Oeuvres, t. IV, р. 561,
44
Начало карьеры и женитьба
Письмо, адресованное Дю-Фуши, излагает тот же
вопрос следующим образом:
. Во время учреждения Академии в 1666 г. ее раз-
делили на два класса, один должен был заниматься
физикой, а другой — геометрией. С тех пор эксперимен-
тальная физика, вышедшая из мрака лабораторий древ-
них химиков и управляемая руками Гюйгенса, Мариотта,
Перро, начала принимать новую форму".
Анонимный автор обращает внимание на то обстоятель-
ство, что в дальнейшем, при реформе 1699 г., класс
физики был упразднен, а это привело к тому, что физика
временно заглохла во Франции, развиваясь за границей.
Далее он указывает, что в последнее время „физика
вновь появилась с большим блеском, чем прежде, она
обогатила науки и искусства и, посредством эксперимен-
тов, внесла достоверность во все наши знания".
Подписываясь так же, как и в первом письме, Антуан
Лоран разъясняет: „Опасение, что мое рвение может
показаться нескромным, воспрепятствовало мне назвать
свое имя".
Эти два письма интересны прежде всего потому, что
они показывают воззрения Лавуазье на роль и значение
физики. Повидимому письма были отправлены, и он
придавал им впоследствии большое значение.
Но достоверно известно, что вплоть до 1785 г., когда
сам Лавуазье вступил в управление Академией в качестве
ее директора, вопрос о классе физики оставался в неиз-
менном виде.
Не совсем понятно, зачем потребовалось юному
Антуану Лорану, и притом до его избрания, хлопотать
об организации класса физики.
Среди его бумаг, наряду с этими письмами, был
найден относящийся к тому же времени проект распре-
деления академиков и адъюнктов по классам. В проекте
Адъюнкт Академии становится откупщиком
45
сам Лавуазье занесен в класс химии, куда он был в ка-
честве кандидата записан уже ранее, но его конкурент
Жар без всяких к тому оснований помещен в класс
физики. Это обстоятельство наводит нас на мысль, что
анонимный автор хлопотал столь ревностно о классе
физики, быть может, лишь для того, чтобы безболезненно
избавиться от конкурента.
III
Незадолго до того Лавуазье совершил другой шаг,
определивший его материальное благосостояние, но в
конце-концов приведший его к трагической гибели.
В марте 1768 г. молодой ученый вступил в Генераль-
ный откуп — компанию финансистов, арендовавших у пра-
вительства Франции право монопольной торговли солью,
табаком и вином, а также право взимания различных
пошлин (при провозе товаров из-за границы и из одной
части Франции в другую). Эта компания, существовавшая
с XVII в., во времена вступления Лавуазье состояла
из шестидесяти человек. Один из них (в тот момент это
был некий Жюльен Алатерр) подписывал от своего -
имени контракт на шесть лет с королем, выплачивая
аванс в девяносто миллионов ливров. Эта сумма состав-
лялась из равных авансовых взносов шестидесяти откуп-
щиков по полтора миллиона ливров от каждого. Кроме
того, каждый из них обязывался внести по тридцать
тысяч ливров — личный „могарыч“ генеральному контро-
леру (министру) финансов. Каждый из откупщиков получал
ежегодно около ста сорока пяти тысяч ливров дохода.
Однако, учитывая различные взносы, которые приходилось
делать откупщику, его чистый годовой доход следует
считать значительно ниже. Кроме официальной взятки
министру финансов в тридцать тысяч ливров, откупщики
46 Начала карьеры и женитьба
при своем вступлении в Откуп давали подачки и многим
другим приближенным министра. Наконец, на откупщиков
накладывались обязательства выплачивать специальные
долевые суммы (croupes), а также пенсии тем или иным
придворным по личному указанию короля. Таким образом
оказывалось, что весьма знатные особы или иногда их
подставные лица и их приближенные фактически полу-
чали крупные доходы с Откупа.
Как-то в 1774 г. одним из служащих Откупа был предан
гласности список лиц, получающих эти доли и пенсии.
Среди них оказался дофин, сестры и тетки короля, полу-
чавшие пятьдесят тысяч ливров в год; кормилица герцога
Бургундского получала десять тысяч ливров, лейб-медик
графини Дю-Барри столько же, и т. д. В одном из пам-
флетов того времени на министра финансов аббата Террэ
сказано по этому поводу: „Список долевых сумм и пен-
сий вызвал чрезвычайный скандал в парижском обществе.
Здесь все смогли прочесть вперемежку имена наиболее
почтенные и совсем неизвестные. Здесь все увидели,
между кем, начиная с короля и кончая самым подлым
из его подданных, распределялось наследство Франции
под защитой самых отъявленных ростовщиков". Многие
лица усердно добивались без всяких к тому оснований
права получать „долю" или пенсию.
По Парижу в то время ходил двусмысленный анекдот
о том, как к одному из откупщиков обратилась некая
придворная особа с письменной просьбой о предоставле-
нии ей „доли".1 На это откупщик ответствовал: „Что
касается моего крупа (croupe), то об этом не может
быть и речи. Относительно Вашего можно поторговаться".
В этом анекдоте отчетливо отражена господствующая
J A. Delahante. Une familie de finance au XVIII-me siecle.
Pari , 1896.
Генеральный откуп
47
роль откупщиков. Разумеется, откупщики в свою очередь
всеми правдами и неправдами старались высосать мак-
симум доходов в свою личную пользу.
По словам Лавуазье, написавшего впоследствии по-
дробный доклад о состоянии финансов и деятельности
Откупа, чистый годовой доход откупщика составлял
около пятидесяти тысяч ливров (Лавуазье с какой-то
странной педантичностью ставит цифру — пятьдесят две
тысячи двадцать ливров, хотя вряд ли можно было с такой
точностью ее установить). Доходы откупщиков постепенно
росли из года в год, между тем как благосостояние
страны неуклонно падало. В некоторые годы, особенно
перед самой Революцией, чистый доход откупщиков
возрос настолько значительно, что стал превосходить
сто тысяч ливров в год, т. е. составлял около семи
процентов на вложенный капитал. х
Система откупов в те времена была весьма распро-
страненной и широко практиковалась во многих
полуфеодальных государствах Европы. Это был метод
личного обогащения королей, князей и их приближен-
ных и пополнения государственной казны через посред-
ство подставных частных лиц, при котором госу-
дарственный аппарат уступал свою роль ловким част-
ным предпринимателям. Введение откупов было вызвано
не только слабостью и неналаженностью государ-
ственного аппарата, но и политическими причинами,
ибо при системе откупов весь гнев народа обру-
шивался на откупщиков, а правительство оставалось
в стороне.
Во Франции в ту эпоху система откупов была дове-
дена до невиданных размеров, что объясняется невиданной
роскошью блестящего французского двора, постоянно
нуждавшегося в деньгах.
4$
Начало карьеры и женитьба
Фонвизин писал в 1778 г.:1 „Франция вся на откупу.
Невозможно выехать на несколько шагов от Парижа,
чтоб воротясь не быть остановленному таможнею. Почти
за все ввозимое в город платится столько пошлины, сколько
сама вещь стоит. Из уважения к особе государя узако-
нено не собирать пошлины в том одном месте, где его
присутствие, следственно в тот день, в который бы король
приехал в Париж, пошлина не должна собираться с народа;
он уже несколько лет не был в Париже для того, что
по контракту отдал его грабить государственным ворам.
Можно по всей справедливости сказать, что Версаль
есть место, куда французского короля посылают откуп-
щики в вечную ссылку".
Генеральный откуп лежал тяжелым бременем на шее
французского народа. Крестьяне были обязаны, например,
покупать ежегодно определенное количество соли на
складах Откупа по твердым ценам, весьма различным
для каждой провинции. Жестоко преследовалась само-
стоятельная добыча соли крестьянами для своих личных
нужд. Крестьянам было запрещено даже использовать
морскую воду для соленья. Чиновники Откупа имели
право производить обыски в домах у крестьян, а госу-
дарственный аппарат отправлял затем „виновников"
в тюрьму или на каторгу на законном основании. Особенно
тяжелы были внутренние пошлины, тормозившие товаро-
оборот и вздувавшие рыночные цены. Поэтому Откуп
вызывал наибольшую ненависть в широких народных
массах, непосредственно испытывавших на себе все тя-
готы его хозяйничанья в стране.
Между тем, многие откупщики приобрели известность
своим мотовством и распутством и служили неисчерпаемым
1 Сочинения, письма и избранны? переводы Д. И. Фонвизина,
стр. 348.
Генеральный откуп
49
источником скандальных хроник, мало чем отличаясь
в этом отношении от знати. От генеральных откупщиков
не отставали, впрочем, и многочисленные банкиры и армей-
ские подрядчики, не имевшие никакого прямого отноше-
ния к Генеральному откупу.
Еще в 1746 г. Вольтер писал в своем злободневном
шуточном произведении „Видение Бабука": „В Персе поле
имеется сорок1 плебейских королей, которые арендовали
Персидскую империю и кое-что выплачивают монарху".
Рассказывают, что однажды в каком-то обществе, где
присутствовал Вольтер, каждый из гостей по очереди
рассказывал истории о различных разбойниках и граби-
телях. Когда очередь дошла до Вольтера/ он сказал:
„Жил некогда генеральный откупщик... все остальное,
господа, я позабыл"... Известный английский экономист
того времени Адам Смит писал: „Те, кто считают кровь
народа за ничто по сравнению с доходами принца; могут
вероятно одобрить этот метод взимания налогов". Глухая
ненависть народа к Откупу приводила к тому, что гене-
ральные откупщики стали почти нарицательным словом,
и с ними в одну кучу сваливались все богачи-поставщики
и подрядчики, нажившиеся на каких бы то ни было дого-
ворах с государством; все они именовались в народе
„договорщиками" („les traitants").
В &ту ненавистную компанию Генерального откупа
вступил в 1768 г. Антуан Лоран в качестве компаньона
(в одну треть пая) при откупщике Франсуа Бодоне.
Во всех биографиях Лавуазье этот роковой его шаг
обсуждается с морально-этической стороны. Одни био-
графы (как, например, Гримо), стремясь обелить самого ве-
ликого ученого, идеализируют его коллег по Откупу и ста-
раются доказать, что он попал в превосходную компанию
1 В то время число генеральных откупщиков составляло сорок.
Дорфмаа
50
Начало карьеры и женитьба
безукоризненно честных коммерсантов. Другие биографы
проводят без всяких оснований резкую грань между ним
и остальными откупщиками, утверждая, что он все это
делал во имя науки, а те — для наживы. Третьи биографы
утверждают, что люди XVIII в. смотрели на такие вопросы
иначе, чем мы. И это утверждение так же мало обосно-
вано; радикально настроенные люди XVIII в. — Вольтер,
Фонвизин, Мерсье и многие другие — отнюдь не восхи-
щались откупом и откупщиками, а давали этому инсти-
туту должную оценку.
Сам Лавуазье, впоследствии упоминая об Откупе,
обращал при этом особое внимание на те значительные
суммы, которые были израсходованы им на научные
исследования. Повидимому, это должно было служить
своего рода моральным оправданием.
Карамзин в своих „Письмах" (1790) пишет про него:
„Быв перед революцией генеральным откупщиком, имеет,
конечно, не один миллион. Химические опыты требуют
иногда больших издержек. Лавуазье ничего не жалеет,
а сверх того любит делиться с бедными".
Нам представляется, что и эта, так сказать, официаль-
ная версия не имеет достаточно серьезных оснований
с фактической точки зрения. Вступая в Генеральный
откуп в 1768 г., Антуан Лоран внес наличными триста
сорок тысяч ливров (как указывает Гримо на основании
документов). Таков был его личный капитал, доставшийся
ему от отца и от тетки. Далее, как указывают био-
графы, он расходовал от шести до десяти тысяч ежегодно
на свои эксперименты по физике и химии. Таким образом,
все эти опыты обошлись ему за двадцать пять лет
в среднем около двухсот тысяч ливров. Кроме того,
как указывает сам Лавуазье в своей автобиографии,
опыты по сельскому хозяйству обошлись ему в сто
двадцать тысяч ливров. Таким образом, если бы он захо-
Арифметическая проверка одной легенды
51
тел потратить все свое наличное состояние целиком
на науку, то он смог бы это сделать в полной мере,
не вступая в Откуп и даже не расходуя вовсе того
крупного жалованья и премий, которые он позднее получал
и по Академии и по Арсеналу, о чем речь будет ниже<
Поэтому совершенно ясно, что отнюдь не идеалистические
побуждения привели Лавуазье в компанию Генерального
откупа,
На этот вопрос надо, как нам кажется, посмотреть
совершенно иначе. Антуан Лоран был выходцем из семьи,
постепенно нажившей капитал, занявшей выгодные места
в Верховном суде и вошедшей в среду феодально-коро-
левских бюрократов. Вся домашняя обстановка, все
воспитание его были таковы, что он не мог и думать
о том, чтобы растратить этот родовой капитал на свои
научные эксперименты. Значит, как истинный отпрыск
своей семьи, он должен был вложить его в какое-то
предприятие, позаботясь о том, чтобы капитал не только
сохранился, но, разумеется, и рос, принося проценты.
В какое предприятие мог Лавуазье вложить этот
капитал наиболее надежным образом? Внести его в какой-
либо банк? Но банки в эту эпоху лопались, как мыльные
пузыри. Скандал банка Джона Лоо в начале царствова-
ния Людовика XV, когда тысячи людей вдруг оказались
нищими, обладателями негодных бумаг, был на памяти
у всех. Вложить свой капитал в какую-либо „мануфактуру"
(фабрику)? Но и мануфактуры не были верным делом.
Французская промышленность испытывала длительную,
тяжелую депрессию вследствие конкуренции со стороны
технически более передовой промышленности Англии.
Единственная компания, которая не могла подвергаться
в столь сильной степени конъюнктурным шквалам и не
имела конкурентов, был Генеральный откуп. И если
наиболее радикальным писателям того времени Генералъ-
д*
S2
Начало карьеры и женитьба
ный откуп представлялся „огромной адской машиной,
которая душит всех честных граждан" (Мерсье), то для
богатых парижских буржуа того времени, неизбежно так
или иначе тесно связанных с „договорщиками", Откуп
был лишь одним из наиболее выгодных и надежных
предприятий.
Кроме всего прочего, следует отметить, что в семействе
Лавуазье уже установился определенный метод обо-
гащения— покупка доходных должностей. Генеральный
откупщик (или его компаньон) юридически занимал одну
из наиболее доходных, а потому и дорогих королевских
должностей.
В сущности говоря, отношение к Откупу и откупщи-
кам со стороны Антуан Лорана и его семейства не отли-
чалось от позиции тех современных буржуазных биографов,
которые доказывают, что откупщики того времени вообще
были весьма честны, а Лавуазье — в особенности. Пови-
димому, и сам Антуан Лоран и его отец подходили
к этому вопросу с точки зрения обычной буржуазной
морали и с чисто формальной юридической точки зрения:
поскольку Откуп являлся „законным" королевским уста-
новлением, то они считали откупщиков, выполнявших
свои договорные обязательства (т. е. плативших поло-
женную сумму), „безукоризненными" контрагентами.
Мы увидим позднее, что именно эта позиция великого
ученого в значительной мере обусловила его гибель.
Итак, в 1768 г. он вступил в Генеральный откуп,
внеся триста сорок тысяч ливров наличными и сто восемь-
десят тысяч ливров в процентных бумагах. Таким обра-
зом он получил одну треть пая генерального откупщика
Франсуа Бодона.
Некоторые коллеги Антуана Лорана по Академии, узнав
о его вхождении в Генеральный откуп, отнеслись к этому
обстоятельству довольно отрицательно, потому ли, что
Буржуазная мораль
53
занятие делами Откупа могло, по их мнению, отвратить
молодого талантливого ученого от науки, потому ли, что
откупщики, как таковые, были весьма мало популярны
среди ученых. Геометр Фонтэн, говорят,1 однако, утешил
своих коллег ядовитым замечанием: „Тем лучше, ведь
это улучшит обеды, которые он нам будет задавать".
Званые обеды играли в ту эпоху во Франции немалую
роль в быту ученых. Фонвизин в своих письмах из Парижа
особо подчеркивает: „Французские ученые любят, чтобы
их почитали и кормили".1 2
Участие в Генеральном откупе отнюдь не являлось
простой синекурой. На откупщиков возлагались опреде-
ленные функции по управлению всей огромной машиной
Откупа. Это предприятие занималось, во-первых, изго-
товлением курительных и. нюхательных табаков, добычей
соли, изготовлением вин и прочих алкогольных напитков;
во-вторых, оно вело монбпольную торговлю этими изде-
лиями и, в-третьих, оно взимало пошлины на любые
товары как на внешних, так и на внутренних границах,
между отдельными провинциями Франции и на периферии
Парижа.
На Лавуазье было возложено прежде всего инспек-
тирование табачных фабрик и таможен в западной части
Франции. Эта новая обязанность заставила его со-
вершать многочисленные инспекционные поездки в тече-
ние 1769—1770 гг.
В 1771 г. он заключил новый контракт с Бодо-
ном, увеличив свою долю на двести шестьдесят тысяч
ливров.
1 Е. Grimaux. Lavoisier, р. 32; по неизданным биографическим
заметкам Марии Лавуазье.
2 Сочинения, письма и избранные переводы Д. И. Фонвизина^
ртр. 44$.
54
Начало карьеры, и женитьба
IV
Деятельность, по Откупу сблизила Антуана Лорана
с генеральным откупщиком Жаком Пользом, одним из
наиболее видных и влиятельных откупщиков, ведавшим
табачными фабриками. В 1771 г. Лавуазье женился на
его дочери Марии-Анне-Пьеретте Польз. Жениху было
в то время двадцать восемь лет, невесте — всего лишь
четырнадцать. Биографы сообщают, что старик Польз
весьма торопился выдать дочь за своего молодого кол-
легу, так как влиятельный министр финансов аббат
Террэ пытался на правах и министра и родственника
Пользов (покойная мать Марии-Анны приходилась сестрою
аббату Террэ) навязать своей малолетней племяннице
пятидесятилетнего барона д’Амерваля. Этот промотавшийся
и выживший из ума аристократ приходился братом некоей
баронессе де-ля-Гард, имевшей большое влияние на аббата
Террэ. Отвергнув этого кандидата в женихи, Польз навлек
на себя страшный гнев министра. Повидимому, стоял
даже вопрос о возможности лишения его права занимать
должность генерального откупщика. Лишь заступничество
знаменитого откупщика и величайшего спекулянта того
времени Мишеля Буре, приходившегося родственником
всемогущей фаворитке короля мадам де-Помпадур, спасло
Польза от крупных неприятностей. Лавуазье получил
за дочерью Польза восемьдесят тысяч ливров приданого,
сумму весьма небольшую по сравнению с его собствен-
ным капиталом. Таким образом, во всяком случае, не
приданое заставило Антуана Лорана остановить свой
выбор на юной мадемуазель Польз. Однако огромное
различие в возрастах жениха и невесты показывает, что
4и не роман, а карьерные соображения играли здесь,
вероятно, решающую роль.
Мария Анна Пьсретта Польз (жена Лавуазье) в юност и
Женитьба Лавуазье. Покупка дворянского титула
57
Адъюнкт Академии и компаньон генерального откуп-
щика теперь не только устроил свою личную жизнь,
но и вступил в родственные отношения с Пользом, одним
из самых влиятельных в Откупе людей.
Книжный знак Лавуазье с его гербом и титулом.
Надпись гласит: „Из библиотеки г. Лавуазье, члена
Королевской Академии Наук, управителя порохов и селитр
Франции, королевского генерального откупщика*. Этим
знаком отмечались все книги, принадлежавшие Лавуазье.
Вскоре затем (1772) предусмотрительный старик-
9Тец Антуана Лорана добыл себе (разумеется за деньги)
58 Начало карьеры и женитьба
звание „советника-секретаря короля, ®двора, финансов
и короны Франции" вместе с титулом „конюшего",
приобретя таким образом потомственное дворянство
для всего рода Лавуазье. В 1775 г. старик скончался;
сын получил теперь не только почетное празо на собствен-
ный герб, но и избавлялся навсегда от целого ряда
тягостных налогов, налагавшихся на лиц незнатного
происхождения.
Итак, к тридцати годам Антуан Лоран сумел, каза-
лось бы, занять все исходные позиции для завоевания
личного благополучия. Праправнук деревенского почтальо-
на достиг теперь предела стремлений своих родичей,
он твердо и уверенно всеми своими корнями врос в ряды
правящих кругов королевской Франции. Эти позиции
представлялись ему достаточно прочными и незыбле-
мыми.
Глава IV
ФИЗИК АТАКУЕТ ХИМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
Гидрохимические исследования.—'Усовершенствование ареометра и
анализ вод. — Проблема взаимного поевратцения элементов. — Сто-
дневный физический эксперимент. — Опровержение теории о превра-
щении воды в землю. — Анонимная рецензия в борьбе с академиче-
ской рутиной. — Химик Шееле подтверждает физические доводы
Лавуазье. — Принцип сохранения элементов.
I
Мы уже упоминали о том, что Лавуазье в своих юноше-
ских экспедициях по Франции совместно с Геттаром
не только изучал минералогический состав и строение
почв, но и систематически подвергал анализу воду всех,
встречавшихся на пути, водоемов. В одной из своих
статей1 он обосновал мотивы этого гидрохимического
обследования следующим образом: „Если общество инте-
ресуется знать природу тех лечебных вод, поразитель-
ные действия которых столько раз прославлялись в меди-
цинских трудах, то не менее интересным представляется
узнать природу тех вод, которые ежедневно применяются
Для повседневных бытовых потребностей. Ведь именно
это те воды, от которых зависит сила и здоровье граЖ’
Оецугер, t. Ill, р. 145.
60
Физик атакует химические проблемы
дан. И если первые иногда и вернули к жизни несколько
голов, представляющих ценность для государства, то
последние, восстанавливая непрерывно порядок и равно-
весие в живом организме, сохраняют ежедневно гораздо
большее число людей. Исследование чисто минеральных
вод интересует лишь небольшую чахнущую часть обще-
ства. Изучение общественных вод интересует общество
в целом, и главным образом активную его часть, чьи
руки являются одновременно и силой и богатством госу-
дарства".
Таков был один из мотивов, побудивших Лавуазье
к исследованию, но была и другая задача: „Редко
бывает дозволено нам проникнуть вглубь земли...
Если существует постоянный закон, неизменное соот-
ношение между природой почв и природой выходящих
из нее вод, то какой-же проводник является более
надежным для минералога, чем изучение вод? Не со-
держится ли здесь еще одно средство, с помощью
которого можно разгадать природу? Между тем как
она работает втайне и тщательно скрывается от наших
взоров, не могут ли воды, непрерывно вытекающие
из ее лаборатории, подчас выдать и раскрыть ее
тайны?"
Роберт Бойль был, повидимому, первым, кто обратил
внимание на вопрос о связи между плотностью различ-
ных вод и их составом. Для этой цели он изобрел
ареометр, но измерения Бойля и его аппарат были еще
весьма грубы. Лавуазье решил превратить ареометрию
в прецизионный метод анализа, предложив сочетать
качественный химический анализ с точным определением
плотности. Разнообразие плотностей природных вод
и необходимость определения плотности вод с большой
точностью заставили его отказаться от обычного арео-
метра с постоянным весом. Такого рода ареометр должен
Гидрохимические исследования 61
был бы обладать очень длинной шейкой и очень большим
корпусом, что весьма неудобно.
Для этих исследований, как он сам указывает,
требовалось иметь возможность определять с боль-
шой степенью точности плотность в весьма широ-
ком диапазоне значений. Расчет показал, что для
поставленной задачи требуется ареометр с шейкой
длиною до шести футов. Кроме того, для каждого
опыта требовалось бы от десяти до двенадцати пинт1
исследуемой воды.
Чтобы преодолеть эти затруднения, Лавуазье применил
нулевой метод измерений. Он изготовил ареометр, снаб-
женный на верхнем конце шейки маленькой тарелочкой.
Эта тарелочка служила вместилищем для гирек, которыми
можно было нагружать ареометр и возвращать его всегда
к одному и тому же нулевому положению в жидкости.
Лавуазье утверждает, что предел точности его ареометра
достигал будто бы т. е. тысячных долей процента,
„точность исключительная, которой еще никто даже не
пытался достигнуть".
Он называет обычный ареометр (постоянного веса)
„ареометром Бойля" и подчеркивает, что ареометр постоян-
ного объема, применяемый им, в принципе ничем не отли-
чается от аппарата, описанного Фаренгейтом. Лавуазье
утверждает, однако, что придал этому аппарату значительно
большую точность и повторимость, изготовив его из
серебра. При конструировании им было обращено внима-
ние на то, чтобы к поверхности ареометра не могли
приставать пузырьки воздуха; поверхность была сделана
гладкой, без швов. Кроме того, он старался самым тща-
тельным образом учесть тепловое расширение жидкостей.
1 Пинта равна 0.93 »
62 Физик атакует химические проблемы
Однако тепловое расширение серебра и твердых тел,
которое тогда еще не было достаточно хорошо изучено,
не учитывалось им вовсе. Наиболее точные определения
теплового расширения твердых тел были, как известно,
произведены лишь двенадцать с лишним лет спустя
самим же Лавуазье совместно с Лапласом. Но даже
независимо от этих температурных поправок, точность,
приписываемая им своему ареометру, совершенно не
соответствует действительности. Он оставил без всякого
внимания капиллярные явления, оказывающие весьма
сильное влияние на положение ареометра и могущие
значительно исказить данные опыта. Истинная точность
его измерений не могла превосходить 1%, но чувстви-
тельность была весьма высокой. Капиллярные явления
в те времена еще не были достаточно изучены. Суще-
ствование этих явлений было констатировано лишь в тон-
ких трубках, но причина их оставалась непонятной.
Я. Бернулли (1654—1705) неправильно объяснял эти
эффекты давлением воздуха.
Во всяком случае, Лавуазье значительно усовершен-
ствовал экспериментальный метод для обнаружения ничтож-
но малых расхождений между плотностью исследуемой
воды и плотностью дистиллированной воды. Следователь-
но, он мог установить присутствие и, отчасти, количество
весьма ничтожных примесей, качественный анализ которых
он проводил затем химическим путем.
Это исследование вызвало необходимость точнейшего
определения удельного веса чистой дистиллированной
воды, служившей в качестве эталона при различных
температурах. Но, прежде чем остановиться на этой серии
экспериментальных исследований, следует обратить вни-
мание на те выводы и соображения, которые высказывает
Лавуазье по поводу предлагаемого им метода измерения
плотности жидкости: „Рассмотрев, каковы наиболее
Ареометры Лавуазье различной формы и чувствительности, применявшиеся им при изучении состава вод.
Справа— ареометр с десятичной шкалой, впервые введенной Лавуазье.
64 Физик атакует химические проблемы
надежные и наиболее удобные средства прецизионного
измерения удельного веса жидкостей, мне остается дать
представление о приложениях, которые можно извлечь
из этих данных для различных областей физики".1
Он указывает, что измерение плотности жидкостей
позволяет устанавливать содержание таких примесей,
которые не могут быть выделены в твердом виде и для
которых до сих пор у химиков не было надежных мето-
дов определения их содержания в растворе.
„Главным образом в искусстве соединений знание
удельных весов жидкостей может пролить много света.
Эта область химии значительно слабее развита, чем обычно
думают; мы здесь едва лишь имеем первые элементы
знания. Мы ежедневно соединяем кислоту со щелочью:
но каким способом происходит соединение этих двух
веществ? Располагаются ли молекулы, образующие кис-
лоту, в порах молекул щелочей, как полагал г. де-Лемери,
или же кислота и щелочь имеют различные грани, кото-
рые могут сливаться друг с другом путем простого
контакта на манер магдебургских полушарий. Каким
способом кислота и щелочь в отдельности сцеплены
с водой? Это простое разделение на части, или же это
есть реальное соединение, допустим, части одного с частью
другого или части одного со многими частями другого?
Наконец, откуда происходит этот воздух,1 2 который вы-
деляется столь бурно в момент соединения и который
благодаря своей природной упругости мгновенно занимает
гораздо больший объем, чем объем . двух жидкостей,
из которых он вышел? Существовал ли этот воздух
первоначально в обеих смесях? Был ли он там каким-то
способом связан, как полагал Гэйльс и как думают еще
1 Oeuvres, t. Ш, р. 449.
2 Т. е. газ; в те времена все газы именовались воздухом.
Усовершенствование ареометра и анализ вод
65
и сегодня большинство физиков, или же этот воздух, так
сказать, искусственный и является продуктом соединения,
как полагал г. Эллер?
„Если спросить химию обо всех этих различных
предметах, то она ответит нам пустыми ссылками на
имена, аналогиями, повторениями, которые не содержат
никакой идеи и которых единственное действие сводится
к тому, что они приучают ум удовлетворяться словами.
„Ежели вообще возможно человеческому уму про-
никнуть в эти тайны, то именно через посредство изуче-
ния удельных весов он может надеяться достигнуть
этого".1 Так писал в начале 1768 г. Лавуазье в своем
докладе Академии под названием „Изыскание наиболее
надежных, наиболее точных и удобных способов опреде-
ления удельного веса жидкостей как для физики, так
и для торговли".1 2
Мы видим, что уже тогда он интересовался фунда-
ментальными вопросами строения вещества. В самом
деле, он стремился понять механизм сцепления молекул,
он недоумевал относительно природы водных растворов.
В те времена не было еще известно, что все тела могут
переходить в газообразное состояние. Поэтому любые
газы, выделяющиеся при различных химических реакциях,
считались „воздухом". Атмосферный воздух в свою оче-
редь представлялся простым телом, т. е. элементом.
Проблемой природы этих „воздухообразных флюидов"
Лавуазье займется в последующие годы, но он уже задает
себе вопрос об их существе и происхождении. Область
этих проблем считалась химией. Но, вопрошая химию,
физик того времени не получал никакого разумного
ответа на свои вопросы.
1 Oeuvres, t. Ill, р. 4S0.
2 Ibidem, р. 427.
5 Дорфман
66
Физик атакует химические проблемы
Лавуазье полагал, что физика должна вывести химию
из того тупика, в который она зашла. Ему казалось, что изме-
рения удельного веса могут это сделать. Но это, конечно,
увлечение... Некоторые из поставленных им вопросов
решены лишь в самое последнее время. Во всяком слу-
чае, в этой работе мы видим первые попытки молодого
физика атаковать некоторые основные проблемы моле-
кулярной физики и химии.
II
Но ум Лавуазье не мог ограничиваться постановкой
одних теоретических вопросов. Характерным является
в этой работе то обстоятельство, что попутно с теоре-
тическими изысканиями он предложил использовать
разработанный им тип ареометра для контроля жидкостей
в торговле. Для этой цели им была сконструирована
несколько видоизмененная модель прибора уменьшенного
объема и, следовательно, пониженной чувствительности*
Много лет спустя он предложит этот ареометр в частно-
сти для контроля качества бульона в госпиталях,1 замечая
между прочим: „Всякий раз, когда себя спрашиваешь
относительно вепрей наиболее обычных для нас, относи-
тельно предметов наиболее тривиальных, нельзя не уди-
вляться при виде того, в какой степени наши идеи часто
оказываются смутными и неуверенными и насколько
необходимо, следовательно, их фиксировать опытами
и фактами".
III
Как мы уже указывали, применение ареометрического
метода к анализу состава вод требовало тщательного
измерения удельного веса безукоризненно чистой воды.
Ч bident t. Ш, р. 563.
Проблема взаимного превращения элементов
67
Занятый этим исследованием в 1769 г., Лавуазье задался
вопросом, до какой степени чистоты может быть доведе-
на вода путем известного числа последовательных дистил-
ляций и каковы те разнообразные изменения,* которые
могут вызвать эти повторные операции как в ее весе,
так и в других ее свойствах.1 „Опыты, которые я пред-
принял в этом направлении, — пишет Лавуазье в том же
мемуаре, — незаметно завели меня гораздо дальше, чем
я того ожидал, и я увидел себя в состоянии выяснить,
путем решающих опытов, один интересный физический
вопрос, а именно: может ли вода превращаться в землю,
как это думали древние философы и как думают еще
и в наши дни некоторые химики".
В первом мемуаре о природе воды* 2 Лавуазье дал
подробный обзор состояния этого вопроса. Он говорит:
„Вопрос о взаимной превратимости элементов друг в дру-
га и, в частности, вопрос о превращении воды в землю,
слишком интересен для физики, он волновал слишком
большое число знаменитых авторов, чтобы, прежде чем
войти в подробности опытов, о которых я собираюсь
доложить, я мог обойтись без краткого обзора последо-
вательных открытий, сделанных в этой области".
Эта проблема, кажущаяся нам сегодня, пожалуй, сме-
хотворной, фактически имела первостепенное значение
для физики и для химии того времени. Возникновение
проблемы уходит в века далекой древности. Греческий
ученый (философ) Фалес (VII в. до н. э.) считал, что
„все произошло из воды, вода начало всего". Такое за-
ключение, как известно, было им позаимствовано из уче-
ния жрецов древнего Египта, где вода Нила была началом
и источником благополучия всего народа. Два века спу-
] Ibidem, t. П, р. 11.
2 Ibidem, р. 1.
68
Физик атакует химические проблемы
стя Анаксимен выдвинул иную концепцию: воздух — начало
всего, вода есть сгущенный воздух, огонь — разжиженный
воздух. Таким образом Анаксимен пытался хотя бы до
некоторой степени объяснить ряд опытных фактов. Не-
много ранее Анаксимена свою теорию выдвинул Герак-
лит, приписав начало всего огню.
Греческий философ Эмпедокл (490—430 гг. до н. э.),
повидимому, первый объединил все четыре начала — огонь,
воздух, воду и землю — в качестве четырех „корней"
всего существующего (тыу тшутсоу pi^wp-ата). Он полагал,
что разнообразие материи зависит от неодинакового со-
держания этих элементов в различных телах, и он срав-
нивал образование различных вещей с тем, как художник
получает бесчисленное многообразие тонов, смешивая
на палитре четыре основные краски.1 Развивая учение
о четырех элементах, Платон (427—347 гг. до н. э.) допу-
стил превратимость элементов друг в друга: „То, что
в данный момент мы называем водой, подвергается отвер-
дению, мы это наблюдаем, и превращается в землю, в кам-
ни; когда же, наоборот, вода делается более подвижной, она
превращается в пар или в воздух; горящий воздух стано-
вится огнем; наоборот, сдавленный угасший огонь прини-
мает форму воздуха; сжатый и сгущенный воздух образует
облако и туман; однако и туман, делаясь более плотным,
становится текучей водой, а эта вода вновь превращается
в землю и камни". 1 2
Учение о четырех элементах было воспринято учеником
Платона, величайшим естествоиспытателем древности —
Аристотелем. Но Аристотель видоизменил это учение.
Он отказался от буквального представления о том, что
материя состоит из четырех веществ: воды, воздуха, ог-
1 Красная, синяя, желтая, белая.
2 Л. А. Чугаев. Открытие кислорода и теория горения в связи
с философскими учениями древнего мира. П., 1919, стр. 15.
Проблема взаимною превращения элементов
69
ня и земли. Он подчеркнул, что эти элементы являются
прежде всего носителями свойств: тепла и холода, сухо-
сти и влажности. И потому, согласно Аристотелю, эле-
менты, входя в состав любого тела, своим взаимным
сочетанием обусловливают разнообразие качеств материи.
С другой стороны, четыре элемента являются, по Ари-
стотелю, основными формами первичной субстанции, а по-
тому способны превращаться друг в друга. Аристотель от-
личает конкретную воду или землю, конкретный воздух и
конкретный огонь от того водного или землистого, воздуш-
ного или огненного начала, из которых состоит вещество.
Коренное различие между современной концепцией
„элемента" и концепцией древных ученых заключается
в следующем. Мы, рассматривая-какое-либо сложное те-
ло, считаем только в том случае его состоящим из тех
или иных элементов, ежели мы доказали реальное при-
сутствие в нем этих веществ. Древняя наука утверждала
что такой-то элемент входит в состав данного тела, ежели
данное тело обладает качеством, присущим этому элементу.
Например, все горючие и блестящие тела считались со-
держащими в себе огонь, все жидкие — воду, все лету-
чие»— воздух, все твердые—землю.
Это древнее учение сохранилось на протяжении мно-
гих веков, и курсы химии и физики XVII и XVIII вв.
повторяли его с очень небольшими видоизменениями.
Роберт Бойль в своем труде „Химик-скептик" решитель-
но отверг аристотелево толкование элементов и потребовал,
чтобы путем точного опыта были выделены те составные
элементы, из которых состоит любое сложное вещество.
Он сравнивал строение сложных веществ из элементар-
ных веществ со строением начертанных слов из букв.
Он говорил, что химик должен знать эту элементарную
азбуку, чтобы читать книгу природы. Опытное определе-
ние составных частей тел Р. Бойль впервые назвал „ана-
70
Физик атакует химические проблемы
лизом". Бойль резко и ядовито критиковал химию своего
времени. Он писал:1 „Если бы люди заботились об успе-
хах науки более, чем о своей известности, легко было
бы им понять, что высшая заслуга их состоит в произ-
водстве опытов, в собирании наблюдений, что не следует
составлять теорий, не проверив предварительно, насколько
они подтверждаются фактами... Я называю элементами, —
писал он, — некоторые простые тела, иначе говоря, не сме-
шанные, которые, не будучи в состоянии образоваться
ни из других тел, ни друг из друга, являются составны-
ми частями, из которых непосредственно слагаются или
на которые в конечном счете разлагаются тела, совер-
шенным образом смешанные".
Но, несмотря на едкую критику современной ему хи-
мии, Бойль нередко сам скатывался к различным весьма
сомнительным выводам. Так, например, заметив, что огурцы
и тыквы можно вырастить без земли непосредственно в воде,
Бойль усмотрел в этом эффект превращения воды в землю.
Ему удалось также вырастить в воде мяту, которая оказа-
лась столь же душистой, как и мята, выращенная в почве
Своими опытами Бойль считал почти доказанным, что.
вода превращается в землистые тела. Это мнение Бойля
подтверждалось как будто и опытами другого химика
Фан-Гельмонта (1577—1644), который, высушив двести
фунтов земли, посадил в нее отросток ивы. Поливая его
чистой дождевой или дистиллированной водой в тече-
нии пяти лет, он обнаружил, что за это время
растение прибавилось в весе на сто шестьдесят четыре
фунта, а вес земли остался почти без изменения. Итак,
по мнению Фан-Гельмонта, сто шестьдесят четыре фунта
древесины, коры, корней, одним словом — твердых час-
тей, которые при горении образуют золу, произошли из
1 Савченко в. История химии. СПб., 1870, стр. 76. — Ф. Д а н-
неман, История естествознания, т. II, стр. 185.
Проблема взаимного превращения элементов
71
чистой дождевой или дистиллированной воды. Бойль под-
верг воду многократной перегонке и обнаружил появ-
ление в ней мутного землистого осадка, что еще более
укрепило его во мнении о превратимости воды в землю.
И в своем фундаментальном труде „Химик-скептик"
(„Chymista scepticus") Бойль без малейшего скептицизма
написал: „Из этих опытов наглядно видно, что вода мо-
жет быть превращена во все прочие элементы". („Ех is-
tis experimentis evidens videtur, aquam in omnia elementa
reliqua posse transmutari").1
Голландский химик Бургав повторил опыты Бойля. Он
также заметил появление землистого осадка, но, изучив
в то же время химические свойства воды, пришел к за-
ключению, что вода осталась по своим свойствам неиз-
менной. Отсюда он заключил, что появление землистого
осадка есть явление вторичное, и предложил, что это
пыль, проникающая из воздуха. Его гипотеза подверглась
проверке со стороны Жоффруа во Франции (1738), Эллера
и Маркграфа в Пруссии (1746—1756), которые показали,
что, вопреки мнению Бургава, землистый осадок возни-
кает и в закрытых сосудах. Наконец, современник Ла-
вуазье, французский академик Ле-Pya, выступил в 1767 г
со следующим объяснением этих наблюдений. По его
мнению, превращение воды в землю никем еще не было
доказано, но, повидимому, утверждал Ле-Pya, земля все-
гда настолько прочно связана с водой, что она улетучи-
вается вместе с парами воды, но частично выпадает, си-
мулируя превращение воды в землю.
Таким образом, древняя идея о превратимости воды
в землю стала предметом широчайшей дискуссии. В этом,
на первый взгяд старомодном, вопросе заключалась прин-
ципиальная физическая проблема, и Лавуазье решил ее
1 Н. Корр. Beitrage zur Geschichte der Cbemie, 1869, В. II,
S. 178, Anmerkung- 326.
72
Физик атакует химические проблемы
разрешить наиболее совершенными методами современной
физики.
Прежде всего он подверг серьезной критике опыты
своих предшественников. Серия опытов по выращиванию
растений из воды представлялась неубедительной хотя
бы потому, что растения извлекали себе питательные ве-
щества не только из воды, но и из воздуха, как о том
уже писали ботаники. Рассматривая этот вопрос, Лавуазье
пишет в том же мемуаре:1 „Скажут, быть может, что
ежели воздух является источником, из которого растения
черпают различные начала, которые открывает в них
анализ, то эти начала должны существовать и обнаружи-
ваться в атмосфере. Я отвечу, что хотя у нас еще нет
доказательных опытов в этом роде, не приходится со-
мневаться, что нижние слои атмосферы, в которых растут
растения, являются весьма сложными по своему составу.
Во-первых, весьма вероятно, что воздух, образующий
основу атмосферы, не является вовсе простым телом, эле-
ментом, как это полагали первые физики.8 Во-вторых, этот
флюид растворяет в себе воду и все летучие вещества,
какие существуют в природе. Действительно, в дальней-
шем, в мемуаре о природе воздуха, который я подготовляю,
я вскоре буду в состоянии показать, что испарение или
растворение в воздухе суть не что иное, как синонимы.
Наконец, независимо от различных летучих тел, которые
оказываются в соединении с воздухом и которые он
в некотором роде растворяет, соли и более прочные тела 1 2 * * * * *
1 Oeuvres, t. И, р. 6.
2 Эту точку зрения Лавуазье, повидимому, заимствовал у Р. Бой-
ля, как явствует из нижеследующей цитаты, приведенной в замеча-
тельной работе Дж. Ф. Фультона о Бойле (Isis, vol. XVIII, 1932 р. 77):
„Атмосферный воздух... не является вовсе, как многие воображают,
простым и элементарным телом, но представляет собою сложную
смесь из истечений, происходящих от разнообразных тел".
Проблема взаимного превращения элементов
73
вносятся в него водою, правда, в малом количестве. В са-
мом деле, поскольку дожди, падающие из высокой обла-
сти атмосферы, содержат некоторую долю морской соли,
как следует из опытов, которые излагаются ниже, то тем
более должно находиться весьма значительное количество
различных солей в нижней части атмосферы.
„Не приходится сомневаться в том, что, помимо ука-
занных различных веществ, чуждых воздуху, сам этот
флюид входит в весьма значительной пропорции в стро-
ение растений и во многом участвует в образовании их
твердых частей. Из опытов г. Гэйльса и из многочи-
сленных других такого рода опытов следует, что воздух
существует в природе в двух видах: то он представляется
в виде очень разреженного, очень расширяющегося, очень
упругого флюида; таков воздух, которым мы дышим; то
он связывается в телах, он с ними соединяется интимным
образом; он теряет тогда все свойства, коими ранее об-
ладал; воздух в этом состоянии уже более не флюид, он
исполняет обязанность твердого тела, и он не возвра-
щается к своему первому флюидному состоянию иначе
чем через посредство разрушения тех тел, в состав ко-
торых он входил".
Лавуазье отмечает при этом, что согласно многочи-
сленным опытам, которые, между прочим, наглядно демон-
стрировал на своих лекциях его учитель Руэлль, „воздух"
составляет около одной трети веса дуба и других дре-
весных пород.
Высказанные соображения о роли „воздуха" при-
вели Лавуазье к заключению, что опыты над выра-
щиванием растений из воды решительно „ничего не
доказывают относительно возможности превращения
воды в землю".
Из приведенного рассуждений отчетливо видно, что
Лавуазье уже в 1769 г. начинал попутно работать над при-
Т4 Физик атакует химические проблемы
родой газов, которые он наряду с другими физиками и хими-
ками того времени отождествлял с атмосферным воздухом.
Эти проблемы все сильнее и сильнее захватывали его.
Обращаясь теперь к опытам Бойля, Маркграфа,
Бургава, Жоффруа и их теоретической интерпретации
в труде Ле-Pya, Лавуазье полагает, что если бы вода в про-
цессе дистилляции постепенно освобождалась от содер-
жащейся в ней земли, то порции осадка, выпадающие из
воды, постепенно бы уменьшались. Он признает вопрос
совершенно неясным и требующим тщательного изучения.
Чтобы разрешить его, Лавуазье решил пойти двумя экс-
периментальными путями: во-первых, собрать по возмож-
ности чистую дождевую воду и определить степень ее
чистоты; во-вторых, „установить, какое действие произ-
водит на нее ряд последовательных перегонок".
„Я думал, что для того, чтобы получить дождевую
воду, которая была бы вне всяких подозрений, необхо-
димо взять ее непосредственно из атмосферы. С этой
целью я приготовил несколько больших стеклянных
и глазурованных фаянсовых сосудов; прежде чем их вы-
ставить на воздух, я выждал несколько минут после на-
чала дождя для того, чтобы воздух мог очиститься от
всех посторонних тел, которые могли в нем находиться;
я предварительно выполаскивал их самой дождевой водою,
после чего только ставил их в каком-нибудь месте, уда-
ленном от всех деревьев и построек. Как ни кропотлив
был этот способ; при известной доле терпения мне уда-
лось собрать таким образом около двенадцати фунтов воды.
„Так как наиболее точным критерием длл суждения
о чистоте воды я считаю ее удельный вес, то мой пер-
вый опыт состоял в том, что я подверг собранную мной
дождевую воду испытанию посредством ареометра".
И вот Лавуазье воспользовался своим наиболее чув-
ствительным ареометром для сравнения удельного веса
Стодневный физический эксперимент
75
дождевой воды с однократно дистиллированной водой из
Сены. Этот ареометр обладал объемом около полутора
литров. Дождевая вода оказалась несколько более плот-
ной, чем дистиллированная вода из Сены, подвергнутая
однократной дистилляции.
Лавуазье проводит в своем мемуаре следующую таб-
лицу данных:* 1
Вес ареометра ........................
Вес гирек, которыми пришлось загрузить
чашечку ареометра, чтобы заставить
его опуститься до черты в дождевой
in 7
воде при показании термометра 17
градуса ..........................
Общий вес объема воды, вытесненного
7
ареометром при 17 градуса ....
Отрицательная поправка для перевода
этого веса — в вес, достигаемый при
18 градусах того же термометра, со-
гласно таблицам, построенным по
опытным данным........................ 4
Вес объема воды, вытесненной ареомет-
ром при 18 градусах ареометра г. Рео-
мюра ................................. 4
Вес такого же объема дистиллированной
воды . . . •......................... 4
4
4
7 3 56.50
7 1 21.90
7 5 6.40
7 5 2.00
7 5 4.40
7 5 3.60
— 0.80
Разность . . •
1 В таблице указаны старинные торговые меры: 1 фунт=16 ун-
ций, 1 унция=8 драхм, 1 дралма=72 грана. В переводе на метриче-
ские меры: 1 французский торговый фунт=4’39.5 г; 1 унция=30.59 г;
1 драхма=3.82 г; 1 гран=0.053 г. Таким образом, наблюденная Лавуа»
зье разность в 0.80 грана=0.0424 г=42.4 мг.
76
Физик атакует химическйе проблемы
В переводе на метрические меры разность составляет
42.4 мг. Другой аналогичный опыт привел к разности
в -4-1.25 грана, т. е. 66.2 мг. Дождевая вода оказалась
более плотной, чем дистиллированная.
Лавуазье вычислил из этих двух опытов среднее зна-
чение разности в 1.02 грана. Разумеется, нельзя прида-
вать этому численному результату столь реальное зна-
чение, какое ему приписывает Лавуазье. Он, очевидно,
значительно переоценивал точность своих ареометрических
измерений.
Эту дождевую воду Лавуазье подверг выпариванию
досуха и исследовал осадок „серовато-серой очень лег-
кой земли". Затем он промыл осадок дистиллированой
водой. Выпарив воду, он обнаружил осадок, состоявший
из мелких кубических белых кристаллов, ясно видимых
в лупу и соленых на вкус. Лавуазье пришел к выводу,
что это морская соль. А ежели вода, выпадающая из
верхних слоев атмосферы, приносит с собою морскую
соль, заключает Лавуазье, то „тем больше оснований
к тому, чтобы найти большое число разнообразных солей
в нижних слоях атмосферы".1
Опыты выяснили еще одно любопытное обстоятель-
ство. Оказалось, что, хотя при последовательных пере-
гонках каждый раз и выделялся значительный землистый
осадок, тем не менее удельный вес воды почти не ме-
нялся, или, во всяком случае, менялся отнюдь не пропор-
ционально количеству выделившегося осадка.
„Я считал себя в праве заключить из этого опыта од-
но из двух: или земля, отделенная мною посредством
перегонки, была такого рода, что могла оставаться рас-
творенной в воде, не увеличивая удельного веса ее, или
же, что этой земли совершенно не было в воде, когда
1 Oeuvres, t. Ill, р. 7.
IQ
Собственноручная запись Лавуазье: определение плотности
дождевой воды.
Страница рукописи мемуара „Эксперименты и анализы разнообраз-
ных вод“ (1768), хранящейся в Архиве Академии Наук в Париже.
78
Физик атакует химические проблемы
я определял удельный вес; далее, что она образовалась
во время самой перегонки и, наконец, что она являлась
продуктом самой операции. Чтобы выяснить определенно,
на каком из этих предположений остановиться, мне каза-
лось наиболее верным средством—точно повторить те
же опыты в герметически закрытых сосудах, ведя точ-
ный учет веса сосуда и веса воды, употребляемой для
опыта; действительно, если огненная материя проходила
сквозь стекло и соединялась с водой, то после большого
числа перегонок должно было бы безусловно получиться
увеличение общего веса веществ, т. е. общего веса зем-
ли и сосуда. Действительно, физикам известно, что ог-
ненная материя увеличивает вес тела, с которым она
соединена. Этого не должно было произойти, если бы
образование земли происходило за счет воды или сосуда,
но тогда непременно должно было бы оказаться умень-
шение веса одного или другого из этих обоих тел, и это
уменьшение должно было бы быть точно равно количе-
ству отделившейся земли".
Заметим, что в этом рассуждении Лавуазье невиди-
мому с самого начала принимается как аксиома закон
сохранения массы вещества.
Для осуществления такого рода эксперимента требо-
валось изготовить прибор, представляющий собою
замкнутую на себя реторту, спаянную с приемником
так, чтобы вода, введенная в прибор, испарялась и не-
прерывно снова возвращалась после конденсации обратно
в реторту. В приборе должно было иметься лишь одно
отверстие, которое можно было бы герметически заку-
порить.
Лавуазье воспользовался уже имевшимся в обиходе
химиков того времени так называемым „пеликаном" —
прибором, введенным в употребление алхимиками. Он зака-
зал такого рода пеликан, единственное отверстие в верх-
Стодневный физический эксперимент
79
ней части которого закрывалось притертой стеклянной
пробкой. Кроме стеклянного прибора для повторных пе-
регонок, требовались весы высокой чувствительности
й точности. Такого рода весы былй изготовлены по
его указанию юстировщиком Монетного двора — Ше-
меном. Как подчеркивает Лавуазье: „Весы эти были
очень чувствительны, и даже при нагрузке от пяти до
80
Физик атакует химические проблемы
шести фунтов расхождение было меньше чем на один
гран“. Он поверял весы изо дня в день и удостоверился
в этом.
Иными словами, при нагрузке в 2.5 — 3 кг погреш-
ность весом составляла 0.3 — 0.2 г. Для XVIII в.
точность весов в 0.01% представляла собою исклю-
чительное достижение. В наше время предел точности
весовых измерений достигает 10~8 и 10~9, т. е.
0.0001 — 0.00001%. Таким образом не подлежит сом-
нению, что Лавуазье приобрел себе весы, действи-
тельно соответствующие высоким условиям поставлен-
ной задачи. Это тем более могло иметь место, что
все взвешивания в данной работе были чисто относи-
тельными.
При помощи этих весов Лавуазье взвесил пустой пе-
ликан. Затем он наполнил его водою, подвергнутой вось-
микратной перегонке. После этого Лавуазье подогрел
пеликан, „не забывая" время от времени приоткрывать
пробку, чтобы выпустить часть нагретого воздуха, во
избежание аварии. Затем он тщательно закупорил и взве-
сил наполненный сосуд. Оказалось:
Вес пустого пеликана . . . .
Вес наполненного пеликана . .
Вес воды...................
й в. S к W й § св й к
е X >> О. Ч о.
1 10 7 21.50
5 9 4 41.50
3 14 5 20.00
„Установив точно эти веса, — пишет Лавуазье, — я об-
мазал пробку и ободок горла реторты жирной замазкой,
приготовленной из глины, вареного льняного масла
и смолы; затем я покрыл все это сверху смоченным
Стодневный физический эксперимент
81
пузырем, который укрепил,обмотав его много раз кругом
ниткой. Затем пеликан был помещен в песчаную баню,
нагреваемую лампой с шестью фитилями, в которую я все
время подливал хорошего оливкового масла; регулярно
каждые двенадцать часов я снимал нагар с фитилей. При
помощи этих предосторожностей мне удалось поддержать
в течение ста одного дня подряд находившуюся в ре-
торте воду при почти постоянной температуре 60—70 гра-
дусов термометра Реомюра, который показывал 85 граду-
сов при кипении воды.
„Начав эту операцию 24 октября 1768 г., я неослабно
наблюдал за ней в течение первых дней, чтобы уловить
различные изменения, какие могли произойти с водой.
Лишь на двадцать пятый день кипячения появились
в воде заметные „пластинки или листочки сероватой
земли“.
Когда их скопилось уже весьма много (1 февраля),
Лавуазье погасил лампу и остудил прибор, снял пузырь,
удалил замазку.
Он вновь взвесил наполненный водою пеликан и срав-
нил полученные результаты:
' в
я
е
Вес до нагревания.............. 5
Вес после нагревания .... 5
Я S № >> 3 S X «1 о. •ч А Я ей
9 4 41.50
9 4 41.75-
Наблюдаемая маленькая разница, как он подчеркивает,
лежит за пределами точности весов и значения не имеет.
Установив тЙким образом неизменность общего веса пе-
ликана с водою, Лавуазье не без труда поднял пробку,
которую прижимало к сосуду внешним атмосферным дав-
лением. Как только он поднял пробку, воздух со свис-.
Дорфман
82
Физик атакует химические проблемы
том ворвался к реторту (в охлажденном пеликане было
несколько понижено давление, поскольку при перво-
начальном нагревании был выпущен избыток нагретого
воздуха).
Итак, выяснилось, что во время нагревания прибор
оставался герметически закупоренным, и воздух в него
не проникал.
„Из того, что общий вес всей установки не увеличи-
вался, было уже естественно заключить, что ни огненная
материя,1 ни какое-либо другое постороннее тело не про-
никли через стекло и не соединились с водой для обра-
зования земли; оставалось определить, обязана ли она
своим происхождением частичному распаду воды или сте-
кла; не было ничего легче, чем решить это после приня-
тых мною предосторожностей: все сводилось, действи-
тельно, лишь к определению того, уменьшился ли вес
реторты или вес содержавшейся в ней воды.
„Поэтому я опорожнил реторту, осторожно перелив
заключавшуюся в ней воду с землей в стеклянную
бутыль; тщательно просушив реторту и убедившись,
что в ней не осталось ни малейшего следа влаги, я взве-
сил ее дважды в течение нескольких дней, и из обоих
этих взвешиваний я установил, что она потеряла в весе
17-^ грана [т. е. 0.92 г].
„Отсюда было вполне ясно, что земля, выделившаяся
из воды во время перегонки, образовалась из вещества
1 В ту эпоху в химии господствовала предложенная Шталем
(1660—1734) теория „огненной материи" или „флогистона". Согласно
этой теории процесс обжига заключался в потере „флогистона".
Шталю было известно, что при обжиге металлов происходит увели-
чение их в весе. Этот результат был также подтвержден опытами
Бойля, который истолковал однако этот опытный факт, в противопо-
ложность Шталю, как доказательство присоединения огненной мате-
рии к металлам при обжиге. К этому вопросу мы вернемся ниже.
Опровержение теории о превращении воды в землю
83
самого сосуда, что произошло простое растворение стек-
ла; но оставалось еще, для полного разрешения моей
задачи, сравнить вес земли, выделившейся из воды во
время перегонки, с уменьшением веса сосуда. Эти две
величины должны были, конечно, оказаться равными друг
другу, и если бы оказался значительный избыток веса
земли, то пришлось бы из этого заключить, что она своим
происхождением обязана не только стеклу “.
Затем Лавуазье отделил осадок, осевший на дно
сосуда, и взвесил его: вес его оказался равным 4.9 грана.
Это количество было очень невелико по сравнению
с потерей веса реторты в 17.4 грана, „но я не мог ни-
чего сказать, пока не исследовал нагревавшуюся в ней-
воду; в самом деле, я имел все основания предполагать,
что она содержала в растворе некоторое количество той
же земли. Чтобы проверить мои предположения по этому
поводу, я стал погружать в нее ареометр и заметил, что
при одной и той же температуре приходилось наклады
вать на его чашку гранов на пятнадцать больше, чем при
опускании в перегнанную воду из Сены, т. е. значит,
удельный вес многокрано перегнанной воды так относится
к Btcy очищенной обыкновенной перегнанной воды, как
1.000037 к 1.00000“.
Лавуазье приводит в своей работе подробные таблицы
всех данных опыта, температурных поправок и вычисле-
ний.
Чтобы определить „характер и количество** раство-
ренного вещества, Лавуазье подверг воду выпариванию.
Вес полученного таким образом осадка составил 15.5 гра-
на. Вместе с нерастворимым осадком это составило 20.4
грана, между тем как убыль реторты оказалась равной
17.4 rpafca. Он объясняет избыток в 3 грана отчасти
растворением других сосудов, а отчасти кристаллизацион-
ной водой. Таким образом было выяснено: „что земля,
б*
84
Физик атакует химические проблемы
которую Бойль, Эллер и Маркграф получили из воды,
представляла собою не что иное, как стекло, выделив-
шееся обратно при выпаривании; таким образом, опыты,
на которых основывались эти физики, будучи далеки от
того, чтобы доказать возможность превращения воды
в землю, заставляют скорее думать, что она остается
неизменной".
Был подвергнут исследованию и самый осадок. Ока-
залось, что в кислоте (какой, — он не указывает; веро-
ятно, серной или соляной) этот осадок не растворяется,
хотя возникает вначале легкое шипение. Далее оказалось,
что осадок не плавится даже при таком огне, на котором
расплавляется тугоплавкое стекло. Это последнее обстоя-
тельство Лавуазье объяснить не мог и, во избежание
сомнений, „решил повторить еще раз опыт с многократ-
ной перегонкой воды, как он ни длителен и ни кропот-
лив". Осадок состоял, повидимому, из кремнезема (SiO?).
Ш
В ту эпоху Академией Наук во Франции издавалась
наряду с „Memoires da PAcademie" еще „Histoire de
l*Academie“, где давался критический реферат каждой
публикуемой работы. В соответствующем реферате за
1770 г. сообщается о замечательных выводах из выше-
описанной работы, а именно, „что природа воды не изме-
няется при дистилляции" и „что стекло растворимо
в воде". Автор реферата выражает, однако, пожелание,
чтобы было подробнее изучено соотношение между
щелочью и песком (кварцем) при растворении в воде,
а также, чтобы был произведен контрольный опыт в ка-
менной или металлической посуде. Никаких сведений
о такого рода исследованиях Лавуазье у нас нет, да
и вряд ли они были вробще необходимы.
Анонимная рецензия в борьбе с академической рутиной 85
В самом деле, вопрос, который он себе поставил, был
разрешен блестящим образом и совершенно однозначно:
вода в землю не превращается. Реферат, повидимому,
стремился представить дело так, как будто эта работа еще
не вполне закончена. Мельдрум,1 исследуя этот период
деятельности Лавуазье, обратил внимание на то обстоя-
тельство, что мемуар о воде, законченный и сданный
секретарю Академии Дю-Фуши 10 мая 1769 г., появился
в печати лишь в 1771 г. Мало того, как показывает рас-
писка на рукописи, хранящейся в архиве Академии,
рукопись была тотчас же вновь для чего-то возвращена
автору. По мнению Мельдрума, Дю-Фуши задерживал
печатание мемуара, опасаясь этим дискредитировать
мемуар старого академика Леруа на ту же тему. Реферат
написан самим Дю-Фуши.
Но между тем как Академия тормозила опубликование
мемуара Лавуазье, прочитанного публично 14 ноября 1770 г.,
в журнале „Observations sur la Physique", издававшемся
аббатом Розье, появилась анонимная статья под загла-
вием: „Диссертация. Содержит ли наиболее чистая вода
землю и может ли эта вода быть превращена в землю"
(„dissertation. L’eau la plus pure contient-elle de la terre
et cette eau peut-elle etre chang-ёе en terre").* 2 Эта
статья, как сказано, содержит „важнейшие факты, кото-
рые мы сохранили в памяти". „Мосье Лавуазье выпала
доля бросить новый свет на предмет, который важен
и для физики и для химии". Работа его именуется „пре-
восходной". Похвалы следуют за похвалами, причем отме-
чается, что Академии следовало бы поторопиться с ее
опубликованием.
\А. Me Id rum. Isis, vol. 19, p. 330; vol. 20, p. 396.
2 .Observations sur la Physique, t. 1, 1770, p. 77.
86
Физик атакует химические проблемы
Хотя анонимный автор и уверяет, что писал на память,
тем не менее он приводит такие подробности из работы
Лавуазье, что не остается никаких сомнений в том, что
статья написана непосредственно по рукописи этой
работы. Например, анонимный автор умудряется „запом-
нить", что „сосуд весил 1 фунт 10 унций и 7у гран",
а „вода весила 3 фунта 14 унций и 5у гран". Как пра-
вильно замечает Мельдрум, эта статья несомненно напи-
сана при ближайшем личном участии Лавуазье, а для
виду придумана басня о написанном „на память".
Мы видим, что в данном случае, как и перед выборами
в Академию, Лавуазье пользуется методом анонимных
писем и статей, т. е. плетет довольно хитрую интригу.
Методом анонимных статей он продолжал пользоваться,
как мы увидим, и позднее.
Между тем как Лавуазье исследовал вопрос о пре-
словутом превращении воды в землю, той же проблемой
занялся в Швеции его замечательный современник,
скромный аптекарь Карл Вильгельм Шееле (1742—1786).
Он произвел это исследование следующим образом:
„Я налил поллота дистиллированной снеговой воды
в стеклянную колбу, снабженную тонким, длиною в локоть,
горлышком, и плотно закрыл ее пробкой. После этого
я повесил колбу над горящей лампой и в течение двенад-
цати дней и ночей непрерывно кипятил воду. После
двух дней кипячения вода приобрела несколько белова-
тый вид. После шести дней она была похожа на молоко,
а на двенадцатый день она, казалось, уже уплотнилась".1
Внутренняя поверхность колбы до того места, до которого
доходила кипящая вода, оказалась изъеденной, а прида-
1 Ф. Д а ннема н. История естествознания, т. III, стр. 144.
Химик Шееле подтверждает физические доводы Лавуазье 87
вавшее воде мутный вид и частично растворившееся
в ней вещество содержало в себе, как показало качест-
венное химическое исследование, составные части, из
которых состоит стекло, а именно: щелочь, известь
и кремневую кислоту. „Мог ли я, — продолжает Шееле, —•
еще сомневаться в том, что вода при постоянном кипе-
нии способна разъедать стекло? Полученная мной земля
вовсе не возникала из самой воды".
„Шееле экспериментировал, как химик, Лавуазье —
как физик", — справедливо замечает по этому поводу
Гримо.1
Однако можно ли считать неопровержимо доказанным
из работы Шееле, что вода не превращается в землю?
Объяснение Шееле было, разумеется, справедливым
и правдоподобным для своей эпохи, но оно не могло быть
тогда признанным за неопровержимое доказательство.
В самом деле, как отмечает Лавуазье в своем мемуаре,
химики Бехер (1635—1682) и Шталь (1660—1734), считав-
шиеся в те времена крупнейшими авторитетами в химии,
полагали, что вода приобретает в результате повторных
перегонок „разъедающее свойство", „Шталь полагал
также, что вода при дистилляции достигает такой тонкости,
чтсу может проникать в субстанцию стекла".1 2
Лавуазье в результате своего исследования особо
подчеркнул, „что вода никоим образом не меняет своей
природы, не приобретает никаких новых свойств при
повторных перегонках и ворсе не доходит до такого
состояния, чтобы проникать сквозь поры стекла, как пред-
полагал Шталь".
Этих выводов нельзя сделать из работы Шееле,
и, следовательно, вопрос оставался бы не вполне ясным,
1 Е. Grimaux. Lavoisier, р. 99.
2 ^Oeuvres, t. II, р. 9.
88 Физик атакует химические проблемы
если бы его окончательно не разрешил Лавуазье в своей
работе „О природе воды“.
IV
Эта работа навсегда определила метод его исследова-
ния. В трудах, посвященных творчеству Лавуазье, нередко
утверждается, будто основой его нового метода является
применение весовых отношений. М. Бертло справедливо
критикует эти утверждения,1 так как уже древним хими-
кам (алхимикам) было известно, что; „Посредством метода,
посредством измерения, посредством точного взвешива-
ния четырех элементов производится сочетание и расчле-
нение всех вещей" (алхимик Зосим, III в. н. э.). Бертло
видит новизну метода Лавуазье в строгом и последова-
тельном сочетании закона сохранения вещества с мето-
дикой более тщательного и точного взвешивания. Но
следует заметить, что молчаливое признание принципа
сохранения массы принималось уже Бойлем и притом
также в сочетании со взвешиванием.
Всеобщий закон сохранения материи и движения был
впервые строго сформулирован М. В. Ломоносовым
в 1748 г. в письме к Эйлеру. Эта формулировка опубли-
кована им в „Рассуждениях о твердости и жидкости
тел“ на русском и латинском языках в 1760 г., т. е.
за девять лет до рассматриваемой нами эпохи. Не
подлежит сомнению, что этот труд Ломоносова был
известен французским ученым. Поэтому ни опубликова-
ние принципа сохранения вещества Лавуазье в 1789 г., ни
молчаливое признание этого принципа в рассматриваемых
нами его ранних трудах нельзя признать оригинальным.
К этому вопросу мы подробнее ]вернемся в дальнейшем.
1 М. Berthelot. La Revolution chimique. Lavoisier, p. 27.
Принцип сохранения элементов
89
Лавуазье ясно осознал, что, поскольку, согласно
Ньютону, масса есть основное свойство материи, то
точное определение веса и удельного веса исходных
веществ и продуктов реакций — основной путь физиче-
ского исследования химических процессов. Признав таким
образом взвешивание фундаментальным методом, он обра-
тил самое серьезное внимание на разработку экспери-
ментальной методики взвешивания. Из истории физики
достаточно хорошо известно, какую гигантскую роль
играет увеличение точности тех или иных измерений
хотя бы на один десятичный знак.
Всякий раз, когда происходит решительное количест-
венное увеличение точности измерений, физикам удается
выявить новые качественные особенности явлений и под-
вергнуть более глубокому испытанию существующие
теории. Лавуазье значительно увеличил точность взвеши-
вания путем улучшения и весов и ареометра. Экспери-
ментальная проверка теории о превратимости воды
в землю была первым и важным следствием из этого
усовершенствования техники физического эксперимента.
Два года спустя он принялся было писать книгу под
названием „Трактат о воде*4, в которой намеревался
изложить все известные методы анализа и изучения
воды, все воззрения на природу воды с древнейших
времен. Последняя глава книги должна была содержать
„опыты, которые доказывают, что вода не разлагается
ни одним из методов, которые применялись до сих пор“.
Лавуазье был еще твердо уверен, что вода — элемент. Он
составил подробный план трактата. Но книгу так и не
написал.
Можно полагать, что исследование превратимости
воды в землю послужило Лавуазье экспериментальной
основой для принципа, сформулированного им много лет
спустя, принципа сохранения элементов. Поскольку ока-
90
Физик атакует химические проблемы
залось, что элементы не превращаются друг в друга,
постольку, очевидно, можно было заключить, что принцип
сохранения массы вещества применим к каждой из состав-
ных частей сложного тела, т. е. к каждому из элементов
в отдельности. Следует подчеркнуть, что М. В. Ломоно-
сов уже в 1741—1743 гг. в своих заметках решительно
утверждал „неизменность природы корпускул" и отрицал
возможность превращения элементов.1
В рассматриваемую нами эпоху ни принцип сохране-
ния вещества, ни принцип сохранения (неизменности)
элементов еще не упоминались Лавуазье, но они стали
для него аксиомой и служили путеводной нитью всех
дальнейших его исследований.
Собрание сочинений М. В. Ломоносова. Изд. АН СССР. т. VI,
Л., 1934, заметки: 190, 191. 200.
Глава V
НА ПОДСТУПАХ К ТЕОРИИ ФЛОГИСТОНА
Лавуазье намечает план исследовании природы газов. — Грядущая
революция в физикэ и химии. — Вопрос о дате одной записи.— Ис-
следования окисления фосфора и серы. — Запечатанный конверт. —
Изыскания Шпетера и их критический анализ. — Лавуазье публикует
свою первую книгу. — Изучение процесса горения и обжига.— Теория
весомости огня и ее опровержение Ломоносовым.— Воззрения Ж. Рея
и Дж. Мэйоу. — Лавуазье самостоятельно подтверждает вывод Ломо-
носова двадцать лет спустя. — Удар по теории флогистона.
I
Эксперименты по изучению предполагаемого превра-
щения воды в землю проводились Лавуазье с 12 августа
по 20 ноября 1769 г., затем продолжались еще в марте
177(У г. и были снова повторены им в мае 1771 г. В эти
годы он нередко отрывался от лабораторной работы для
инспекционных поездок по поручению Генерального
откупа. Тем не менее, он продолжал заниматься анализом
различных вод и успел развить свой ареометрический
метод. Полагая, что в различных минеральных водах
содержатся преимущественно несколько определенных
солей (хлористый натрий, глауберова соль, квасцы и др.),
Лавуазье разработал весьма изящный метод разделения
солей по их растворимости в алкоголе и в смесях алко-
голя с водой. Он приготовил восемь стандартных рас-
92
На подступах к теории флогистона
творов алкоголя с дистиллированной водой в различных
пропорциях и изучил растворимость в них отдельных
солей. Полученные таким образом данные послужили
ему основой для анализа состава вод.
Вслед за тем молодой исследователь занялся по по-
ручению Академии Наук вопросом о целесообразности
установления „огненной машины" (т. е. паровой машины)
для снабжения Парижа водой из реки Иветты.
Лавуазье представил Академии подробный физический
расчет работы машины и технико-экономическое обосно-
вание расхода топлива и денежных эксплоатационных
расходов.
При расчете работы машины он исходит из примитив-
ных воззрений, господствовавших в эпоху, предшествую-
щую появлению знаменитого труда Сади Карно „О дви-
жущей силе огня".1 Он не внес никаких собственных
идей в этот вопрос, но проявил исключительную тща-
тельность и большую эрудицию.
Однако нам представляется, что хотя долгие и утоми-
тельные подсчеты рентабельности „огненной машины"
и не привели его ни к каким новым открытиям, они
должны были особенно наглядно показать ему на практи-
ческом примере, до какой степени еще примитивны
и неудовлетворительны были представления того времени
о природе газов и паров, о природе огня и теплоты.
К сожалению, не изучены еще дневники Лавуазье, отно-
сящиеся к этому периоду его жизни.
В мае 1771 г. он заключил новый договор с откуп-
щиком Бодоном, увеличив свой паевой взнос на двести
шестьдесят тысяч ливров. При этом его доходы возросли,
1 Сади Карно в своем труде, появившемся в 1824 г., дал первые
научные основы для термодинамического расчета тепловых двига-
телей.
План исследования природы голов
93
но вместе с тем возросли и его обязанности по разре-
шению различных административно-финансовых вопросов,
связанных с Откупом.
Тем не менее, Лавуазье уделял свыше шести часов
в день научной работе, установив твердое расписание
всех своих занятий, строгий бюджет времени. Выдержки
из дошедших до нас его лабораторных дневников, при-
веденные Бертло, позволяют восстановить последователь-
ный ход его научных исследований.
Мы видели, как еще в своей первой работе над при-
менением ареометра к анализу вод он ставит ряд вопро-
сов о природе „воздуха", выделяющегося при реакциях,
отмечая сумбурность и туманность тогдашней химии. Далее
мы видели, как в своей последующей работе „О природе
воды" (опубликованной в 1770 г.) Лавуазье останавливается
на вопросе о составе атмосферы и обещает вскоре опубли-
ковать новый мемуар о природе „воздуха".
Наконец, 20 февраля 1772 г. он заносит в дневник
следующую программу исследования:1
„Прежде чем начать длинную серию опытов, которые
я предполагаю произвести над упругим флюидом, кото-
рый выделяется из тел либо при брожении, либо при
дистилляции, либо, наконец, при всякого рода реакциях,
а также над воздухом, поглощаемом при горении боль-
шого числа веществ, я полагаю необходимым изло-
жить здесь в письменной форме некоторые соображения,
чтобы составить себе самому план, которому я должен
следовать".
* М. В е г t h е 1 о t. La Revolution chimique p. 46. В своем днев-
нике Лавуазье поставил здесь дату 20 февраля 1772 г. Однако Бертло
предполагает, что запись должна быть отнесена к 1773 г., так же как
и следующая за нею запись в том же дневнике, датированная 23 фе-
враля 1773 г. Об этом ниже.
94 На подступах к теории флогистона
„Достоверно известно, что при большом числе обстоя-
тельств из тел выделяется упругий флюид; но сущест-
вует много теорий относительно его природы. Одни,
подобно Гэйлъсу и его сторонникам, полагали, будто
не что иное, как тот же атмосферный воздух соединяется
с телами как в процессах роста растений, так и в жиз-
ненных процессах животных, так и в искусственных
опытах. Он не подумал о том, что этот флюид может
быть отличен от того, которым мы дышим, что он может
содержать в себе большее количество вредных или полез-
ных веществ в зависимости от природы тел, из которых
извлечен. Некоторые физики, следовавшие за Гэйльсом,
обнаружили столь большое различие между воздухом,
выделяемым из тел, и тем воздухом, которым мы дышим,
что они признали в нем иную субстанцию, которой дали
имя «связанного воздуха».1
„Третья группа физиков подумала о том, что упругая
материя, выделяющаяся из тел, может быть различна,
в зависимости от тел, из которых она извлечена, и они
признали в ней не что иное, как истечение наиболее
тонких частей этих тел, среди которых можно обнаружить
бесконечное число различных видов. Четвертая группа
физиков... [здесь у Лавуазье пропуск].
„Сколь ни многочисленны опыты на этот предмет
гг. Гэйльса, Блэка, Макбрайда, Жаккена, Кранца, Пристли
и де-Смета, все же их требуется иметь в еще большем
количестве, чтобы создать полную теорию. Установлено,
что связанный воздух обнаруживает свойства, весьма
отличные от обычного воздуха. Действительно, тот
воздух убивает животных, которые его вдыхают; между
тем как этот существенно необходим для их сохранения.
Он крайне легко соединяется со всеми телами, между
1 Это был, прежде всего, углекислый газ COg.
Грядущая революция в физике и химии 95
тем как атмосферный воздух при тех же обстоятельствах
соединяется с ними с трудом или вовсе не соединяется.
Эти различия будут развиты во всем их размахе, когда
я дам историю всего того, что было сделано в отноше-
нии воздуха, который извлекается из тел и который
с ними связывается. Важность предмета заставила меня
начать сызнова всю эту работу, которая на мой взгляд
создана для того, чтобы вызвать революцию в физике
и химии. Я решил, что обязан рассматривать все сделан-
ное до меня лишь как указания; я поставил перед собой
задачу все повторить с новыми предосторожностями,
дабы объединить все то, что мы знаем о том воздухе
который связывается или выделяется из тел, с другими
добытыми познаниями и создать теорию. Работы много-
численных авторов, которых я процитировал, будучи
рассмотрены с этой точки зрения, представились мне
в виде отдельных кусков одной большой цепи; они соеди-
нили меж собою несколько звеньев. Но остается сделать
огромное число опытов, чтобы создать непрерывность.
Одно существенное обстоятельство, недосмотренное боль-
шинством авторов, заключается в том, чтобы обращать
внимание на происхождение того воздуха, который заклю-
чен в большом числе тел. Им следовало знать по дан-
ным Гэйльса, что одна из важнейших функций животного
организма или растения заключается в том, что они
фиксируют воздух, соединяют его с водою, с огнем
и с землей и образуют все сложные тела, которые мы
знаем. Им следовало заметить, что упругий флюид,
который выделяется при соединении кислот либо со щело-
чами, либо с любым другим веществом, имеет еще свое
первичное происхождение из атмосферы; отсюда они
были бы в состоянии заключить, что это вещество
либо является самим воздухом, соединенным с некоей
летучей частью, что испаряется из тел, или, по край-
96
На подступах к теории флогистона
ней мере, что это вещество извлечено из атмосферного
воздуха...
„Этот способ рассмотрения моего предмета заставил
меня почувствовать необходимость повторить сначала
и умножить эксперименты над поглощением воздуха;
зная происхождение этой субстанции, я мог бы проследить
его действия во всех различных комбинациях...
„Операции, посредством которых можно добиться
связывания воздуха, суть: рост растений, дыхание живот-
ных, горение, при некоторых обстоятельствах обжиг,
наконец некоторые химические реакции. Я признал, что
должен начинать с этих экспериментов".
Дата приведенной здесь записи в лабораторном днев-
нике, как уже указывалось, вызывает у некоторых авторов
сомнения. Между тем, если запись сделана в 1772 г.,
то это великолепная декларация, в которой начертан
логически последовательный, заранее разработанный план
решающих исследований. Если же заметка была написана
лишь в феврале 1773 г., то она теряет значение плана,
поскольку к этому времени Лавуазье успел уже про-
извести многое из того, что им здесь намечается. Неко-
торые исследователи полагают, что великий ученый
впоследствии сознательно исказил дату записи в своем
дневнике, пометив ее 1772 годом лишь для того, чтобы
обеспечить себе приоритет.1
Как мы уже отмечали, два аргумента заставляют этих
авторов сомневаться в правильности поставленной самим
Лавуазье даты (20 февраля 1772 г.) записи. Во-первых,
книга де-Смета, на идеи которого он ссылается, появи-
лась лишь в октябре 1773 г.; во-вторых, в дневнике тот-
час вслед за данной записью имеется запись, датирован-
ная 23 февраля 1773 г.
1 М. А. Блох. Природа, 1938, № 4, стр. 120—130; G. В ц g g е.
Buch, der grossen Chemiker. Lavoisier, Bd. I, ст. M. Шпетера.
Вопрос о дате одной записи 91
Нам, однако, эти аргументы кажутся не очень убеди-
тельными. В самом деле, в то время любая книга нередко
печаталась в течение одного-двух лет, значит результаты
опытов и идеи де-Смета могли быть известны специа-
листам из корреспонденции, из устных докладов и т. д.
задолго до того, как появилась его книга.1 Поэтому дата
выхода в свет книги де-Смета еще ровно ничего не
доказывает. Далее, то обстоятельство, что следующая
запись в дневнике Лавуазье сделана лишь 23 февраля
1773 г., также ни в какой мере не может служить серьез-
ным аргументом в пользу того, что первая запись в днев-
нике относится к 1773 г. Ведь хорошо известно, что
Лавуазье заполнял страницы своих дневников, а в осо-
бенности этого первого тома дневника, отнюдь не в строго
хронологическом порядке. Например, в том же первом
томе дневника, как указывает Бертло,1 2 на 47-й странице
описаны опыты, произведенные 28 июля 1773 г.; на 51-й
страница описаны опыты, относящиеся к 22 мая 1773 г.;
на 52-й странице описаны опыты, относящиеся к 23 мая
1773 г.; на 53-й странице приведена таблица, датирован-
ная 4 августа 1772 г.
Таким образом, если, следуя М. Бертло, исправлять
дату указанной выше программной записи, то с таким же
основанием пришлось бы как-то исправлять даты и мно-
гих других записей, не имеющих никакого отношения
к вопросу о приоритете. Следовательно, утверждение
М. Шпетера и других „разоблачителей", будто дата про-
граммной записи Лавуазье сознательно подтасована им
для ограждения своих претензий на приоритет, нам пред-
ставляется попросту голословным, тем более, что эти
1 В своем историческом обзоре сам Лавуазье указывает, что
Де-Смет производил свои опыты в 1770 г.; видимо, он знал о них
не из книги де-Смета.
2 М. В е г t h е 1 о t. La Revolution chimi )ue, p. 243.
7 Дорфман
98
На подступах к теории флогистона
записи делались им для себя лично, а дневники оста-
вались в его личном архиве. Поэтому мы сохраняем ту
датировку приведенной выше записи, которая сделана
самим Лавуазье, а именно 23 февраля 1772 г. Этот чрез-
вычайно интересный документ вскрывает методику науч-
ного творчества Лавуазье.
II
История первых работ Лавуазье по выяснению сущ-
ности процессов окисления, горения и обжига получила
новое освещение после того, как в 1932 г. М. Шпетером
была обнаружена в Архиве Парижской Академии Наук
неизвестная дотоле его работа „Мемуар о кислоте фос-
фора и ее соединениях с различными солеобразными,
землистыми и металлическими субстанциямиКроме того,
Шпетер обратил внимание на работы современника
Лавуазье, химика П. Ф. Митуара (1735—1786), непосред-
ственно соприкасающиеся с его работами. Этот материал
опубликован на русском языке М. А. Блохом.1
Картина последовательного развития исследований
Лавуазье представляется нам в следующем виде. В сере-
дине 1772 г. в его лаборатории появляется известный
парижский фармацевт-химик Митуар, который передает
ему различные тугоплавкие объекты, как, например, рубин,
для исследования действия на них высоких температур.
В то же время сам Митуар исследует действия сильного
нагревания на алмаз, рубин и другие драгоценные камни.
Далее, 10 сентября 1772 г. Лавуазье записывает в свей
дневник следующее:
„Я купил у г. Митуара одну унцию прекрасного фос-
фора из Германии, который он мне отпустил за сорок
1 М. А. Блох. Природа, 1938, № 4, стр. 120—130.
Исследования окисления фосфора и серы
99
пять луидоров по фактурной цене. Я бросил маленький
кусочек в бутылку, — фосфор начал светиться и дымить,
но без ощутительного тепла. Я приблизил его к огню,
и он тотчас же воспламенился с потрескиванием. Пузырек
от лекарства лопнул.
„Ободренный этим успехом, я решил проверить таким
же способом, поглощает ли фосфор при горении воздух.
Я накрепко привязал ниткой пузырь к горлышку бутылки,
в которую предварительно положил пятнадцать гран фос-
фора. Я проделал в пузыре наверху небольшое отверстие
и выжал из него весь воздух../4
Дальнейшая запись здесь обрывается, и страница эта
была затем зачеркнута самим Лавуазье.
Нам теперь известно, что 20 октября 1772 г., т. е.
через пять недель после этой записи, Лавуазье пред-
ставил секретарю Академии Дю-Фуши свой упомянутый
выше трактат о кислоте фосфора, в котором пишет:
„Если подвергнуть фосфор действию свободного воз-
духа, то из него постоянно выделяется испарение или
дым, еле заметный днем и светящийся в темноте. Этот
дым представляет собой не что иное, как небольшую
Часть кислоты, соединенную с очень большим количеством
флогистона, и если его собрать под стеклянным колпаком
или при помощи какого-нибудь другого приспособления,
то в нем обнаруживается летучий кислый спирт фосфора.
„Свободный доступ воздуха при этом процессе необхо-
дим потому, что пары фосфора, превращаясь в летучий
спирт фосфорной кислоты, поглощают небольшое коли-
чество воздуха. Воздух естественным образом вступает
в состав этой смеси, соединяется и связывается с ней
так же, как это имеет место в большом числе хими-
ческих соединений.
„Если, вместо того чтобы предоставить фосфору рас-
ходоваться на свежем воздухе, его просушить и поме-
7*
100
На подступах к теории флогистона
стать в не содержащий воды замкнутый сосуд боль-
шой вместимости, наконец, нагреть его выше темпе-
ратуры кипящей воды, то он спокойно воспла-
меняется и дает красивое пламя, сопровождающееся
сильным выделением густого дыма. Фосфор разлагается,
флогистон из него выделяется, чрезвычайно большое
количество воздуха поглощается и .соединяется с белым
паром".1
Итак, в этой работе Лавуазье выступает как орто-
доксальный сторонник теории флогистона. Процесс горе-
ния он рассматривает строго в духе Шталя, полагая, что
при горении вещества разлагаются, выделяя огненное
начало — флогистон. Не подлежит никакому сомнению,
что новая теория горения, выдвинутая им впоследствии
и опрокинувшая теорию флогистона, не могла возникнуть
сразу в его голове, а складывалась постепенно. Тем не
менее, представляется на первый взгляд удивительным,
что в этой работе он столь строго придерживается
теории флогистона, даже не отмечая в ней никаких сла-
бых мест.
Следует, однако, заметить, что это не единственная
работа, где Лавуазье излагает факты, так сказать, на
флогистоновом языке. В гораздо более позднем своем
докладе „О природе вещества, соединяющегося с метал*
лами при прокаливании и увеличивающего их веса" (1775),
в котором, как мы увидим ниже, он наносил уже сокруши-
тельные удары основам теории Шталя, все-таки, невиди-
мому, в угоду своим слушателям, он продолжал излагать
события в духе теории флогистона. Это была дань вре-
мени. Говорить иным языком, не имея еще достаточно
1 Непонятно, почему в предыдущем абзаце описывается погло»
щение „небольшого количества воздуха", а здесь подчеркивается
„чрезвычайно большое количество воздуха".
Исследования окисления фосфора и серы
101
убедительных"аргументов, значило показаться легкомыс-
ленным и сразу навлечь на себя негодование маститых
химиков. Молодой адъюнкт не имел еще никакой соб-
ственной законченной теории и не мог себе позволить
критиковать теорию Шталя. Поэтому нам представляется,
что из „Трактата о кислоте фосфора" вовсе еще не сле-
дует, что Лавуазье в 1772 г. был „чистейшей воды
флогистиком", как утверждают, например, и М. Шпетер
и М. А. Блох. Как мы видели выше, он уже в 1768 г»
ясно сознавал, что химия того времени запуталась
в противоречиях. Он еще не видел ясного выхода
из этого мрака, но, конечно, не был уже „чистейшей
воды флогистиком". Нам представляется, что в „Трак-
тате о кислоте фосфора" он сознательно не захотел
входить в рассмотрение противоречий теории флоги-
стона. Целью работы было, повидимому, обратить
внимание на открытый им факт поглощения воздуха
при горении фосфора. Кроме того, в трактате указы-
вается на то, что при нагревании серы также образуется
„летучий спирт", т. е. впервые отмечена аналогия
между процессами горения фосфора и серы. Он опи-
сывает эти факты еще весьма туманно и противо-
речиво. Эта заметка — своего рода предваритель-
ное, небрежно и поспешно написанное сообщение.
И, может быть, именно поэтому Лавуазье, представив
свой трактат и зарегистрировав у секретаря Академии
свое авторство, поспешил взять заметку обратно,
а впоследствии так и не собрался напечатать ее, ибо
она уже утратила свое значение, и вернул ее в Архив
Академии.
, М. Шпетер недоумевал, почему впоследствии Лавуазье
называл эту статью „заметкой" (note), а нэ мемуаром.
Да именно потому, что он ясно сознавал предварительной
И Незаконченный ер характер.
102
На подступах к теории флогистона
Прошло еще девять дней, и 1 ноября 1772 г. он пред-
ставил в Академию запечатанный конверт с новой
заметкой следующего содержания:1
„Дней восемь тому назад я открыл, что сера при
горении вовсе не теряет в весе, а напротив, увеличи-
вается, т. е. из одного фунта серы можно получить значи-
тельно больше, чем один фунт купоросной кислоты, неза-
висимо от влажности воздуха; то же самое можно сказать
и о фосфоре. Это увеличение веса происходит благодаря
громадному количеству воздуха, который связывается
при горении и соединяется с парами.
Это открытие, установленное путем опытов, которые
я считаю решающими, заставило меня думать, что то,
что наблюдается при горении серы и фосфора, могло
иметь место у всех тел, вес которых увеличивается при
горении и прокаливании; и я убедился, что увеличение
веса металлов, при превращении их в металлические
земли, происходит от той же причины. Опыт вполне под-
твердил мои предположения; я восстановлял свинец из
свинцового глета2 в закрытом сосуде (при помощи при-
бора Гэйльса)3 и наблюдал, что в момент перехода земли
в металл выделяется значительное количество воздуха
и что этот воздух приобретает объем в тысячу раз
больший, чем количество употребленного в дело глёта.
Ввиду того, что это открытие кажется мне наиболее
интересным из всех, сделанных со времен Шталя, я счел
необходимым охранить свое право собственности путем
3 Oeuvrfs, t. II, р. 103. Русский перевод см.: А. Л. Лавуазье.
Мемуары. Избранные места. В переводе Е. Н. Троповских, под
ред. М. А. Блох, 1929, стр. 30.
2 РЬО.
а Опрокинутый в воду колокол, в верхней части которого, содер-
жавшей воздух, проводитсяопэгг. Выделяютцийсд газ изменяет уровень
9оды под колоколом.
Запечатанный
конверт
103
вручения настоящего письма секретарю Академии, желая
сохранить свое имя втайне до момента, когда я опубли-
кую свои опыты.
Париж, 1 ноября 1772 г. Лавуазье*.
Характерно, что и в этой заметке он не произносит
ни одного критического слова по адресу теории Шталя,
но он уже сознательно избегает упомянуть термин „флоги-
стон* и подчеркивает, что его открытие представляется
ему „наиболее интересным из всех, сделанных со времен
Шталя*, т. е. он позволяет себе поставить его в один
ряд с теорией Шталя, которая в те времена представ-
лялась фундаментом всей химии. Такая оценка своей
работы со стороны молодого адъюнкта должна была рас-
сматриваться, как невиданная дерзость.
Вышеизложенные работы Лавуазье наглядно показы-
вают постепенное развитие его илей: сначала он обна-
руживает, что горение фосфора сопровождается погло-
щением воздуха, затем о я обнаруживает аналогию между
фосфором и серой. Далее он устанавливает, что это
поглощение воздуха сопровождается увеличением веса,
т. е. он убеждается в том, что поглощение вещества
сопровождается увеличением веса (а значит, сохранение
вещества должно сопровождаться сохранением веса).
Наконец, он экстраполирует открытый им факт поглоще-
ния воздуха при горении фосфора и серы на все про-
цессы превращения металлов в окалины. При этом он
обнаруживает обратное выделение поглощенного воздуха
при восстановлении металлов из окислов. Не следует
забывать, что воздух рассматривался тогда как элемент,
и этот результат мог отчасти служить опытной основой
закона сохранения элементов. Таков, повидимому, путь
развития идей Лавуазье в этих вопросах.
104 На подступах к теории флогистона
Однако в эту картину вкрапливается одно обстоя-
тельство, вызвавшее обширную научную дискуссию.
12 декабря 1772 г. (т. е. почти через полтора месяца
после того, как Лавуазье подал секретарю Академии
свой запечатанный конверт) на заседании Академии высту-
пил упомянутый нами выше химик Митуар и прочитал
свою работу, озаглавленную: „Исследование нескольких
веществ, обнаруживаемых в сосудах для дистилляции
фосфора и выбрасываемых, как негодные, хотя их можно
было бы в значительной мере использовать". („Ехатеп
de plusieurs substances qui se trouvent dans les vaisseaux
ou I’on distille le phosphore et que Pon rejette comme
inutiles, quoi qu’il soit possible d’en tirer un bon parti").
Эта, как и некоторые другие работы Митуара, была
передана на заключение Лавуазье и Маке, которое ими
было доложено Академии через четыре дня, 16 декабря.
В своих выводах Лавуазье и Маке пишут: „По нашему
мнению, мемуар Митуара содержит очень интересные
наблюдения, способные дать новое освещение вопросу
о природе фосфора и его кислоты; помимо того, он дает
новый и весьма экономный способ получения указанной
кислоты в большом количестве, путем соединения селитры
с основанием, и данный процесс, безусловно, облегчит
исследования тем лицам, которые пожелали бы произвести
специальное изучение природы этой кислоты. Поэтому
мы считаем, что мемуар заслуживает одобрения Академии
и напечатания в сборнике мемуаров, которые предостав-
лены посторонним ученым".1
Однако по неизвестной причине ни данный мемуар
Митуара, ни другие его работы не были напечатаны и до
нас вообще не дошли, таким образом точный текст их
нам неизвестен. Между тем, в заключении Лавуазье
1 Не состоявшим в Академии
Изыскания Шпатера и их критический анализ
105
л Маке имеется одно место, привлекшее к себе внима-
ние историков: „Нам кажется особенно замечательным,—
сказано в заключении, — что до какой бы концентрации
ни доводить эту кислоту,1 вес ее всегда будет больше,
чем вес порошка фосфора, из которого ее получают.
Митуар приписывает это явление влажности воздуха или
самому воздуху, содержащемуся в сосудах, в которых
производится сжигание**.
Таким образом, труды Лавуазье с удивительной на-
глядностью показывают, как развивалась его мысль в дан-
ной области, как постепенно от изучения горения фосфора
он дошел до понимания процессов горения и окисления
вообще. С другой стороны, оказывается, что почти одно-
временно с ним процесс горения фосфора изучил Митуар
с тем же частным результатом, но без всяких обобщений.
Такова известная нам пока фактическая сторона дела.
Немецкий исследователь М. Шпетер,1 2 опираясь на все
эти материалы, выступил с разоблачением Лавуазье.
Шпетер обвиняет его в том, что он присвоил себе
открытия Митуара и Пристли по горению фосфора и выдал
их за свои собственные открытия.
Ход мысли Шпетера, приблизительно, следующий:
Лавуазье встречался с Митуаром уже в сентябре 1772 г.,
значит он мог знать о работах последнего по фосфору.
Далее, он подал 1 ноября свой запечатанный пакет
в Академию, а 16 декабря представил отзыв о работе
Митуара. Шпетер крикливо подчеркивает, что отзыв этот
был им датирован „лишь 16 декабря** для того, чтобы
закрепить приоритет за собою. Несмотря на превосход-
ный отзыв и рекомендацию к печати, работа Митуара не
была опубликована Академией, а сам Митуар в течение
многих лет безуспешно добивался избрания в Академию,—
1 Получаемую при горении фосфора.
2 Q. Bpgge. Lavoisier, В. J_.
106
На подступах к теории флогистона
в этом Шпетер видит козни Лавуазье. Далее Шпетер
обращает внимание на то, что как-раз в конце 1772 г.
в Англии появилась книга Пристли, где также описы-
ваются случаи увеличения веса при горении и окисле-
нии. Наконец, он подчеркивает, что приведенная нами
выше программная запись Лавуазье имеет неверную дату
(1772 г. вместо 1773 г.). Это, по мнению Шпетера, свиде-
тельствует о том, что Лавуазье дошел до подделывания
дат в дневнике ради утверждения своего приоритета.
По нашему мнению, все выводы Шпетера недостаточно
обоснованы. В самом деле, не найдено абсолютно никаких
данных о том, когда именно поступила работа Митуара
к Лавуазье; поэтому Шпетер не имеет никаких оснований
для того, чтобы утверждать, что он умышленно задержал
дачу отзыва до 16 декабря. Точно также без всяких
фактических данных он предполагает, что работа Ми-
туара была известна Лавуазье уже в октябре 1772 г.
Далее Шпетер приписывает ему какие-то умышленные
действия, воспрепятствовавшие опубликованию работ
Митуара. Но и это обвинение не опирается на какие-либо
факты, а представляет собою лишь домысел Шпетера.
Между тем, не подлежит никакому сомнению, что Митуар,
будучи весьма состоятельным человеком, мог бы при
желании частным путем опубликовать свои труды отдель-
ной книжкой. Лавуазье никак не смог бы ему в этом
помешать. Но Митуар ничего не издал. Значит, как нам
кажется, не злые козни Лавуазье, а что-то другое поме-
шало Митуару опубликовать свои работы. Что именно, —
мы не знаем.
Что касается книжки Пристли, где также отмечалось
уменьшение объема воздуха при горении фосфора, то
Шпетер указывает, что Лавуазье получал из Англии все
появляющиеся там новинки через одного из своих дру-
зей, и, следовательно, он должен был получить в конце
Изыскания Шпетера и их критический анализ
107
УП2 г. и книжку Пристли. Однако необходимо иметь
в виду, что в XVIII в. почта из Лондона в Париж шла,
вероятно, около месяца, а потому неизвестно, когда
именно он прочитал эту книгу, тем более, что он почти
не владел английским языком.
Таким образом „детективная история", развернутая
Шпэтером, представляется нам весьма сомнительной и по-
спешной. Интересно отметить, что увеличение в весе при
горении фосфора было обнаружено еще в 1734 г. асси-
стентом Р. Бойля Ханкевицем в Англии, а затем, незави-
симо от него, Маркграфом в 1743 г. в Германии. Веро-
ятно, Маркграф не знал о работе Ханкевица, а Лавуазье
не знал о работе их обоих. Плохая осведомленность
о работах других авторов характерна для всех ученых
того времени.
Повидимому, уже при жизни Лавуазье против него
выдвигались обвинения в заимствовании идей. Он не-
сколько раз в своих позднейших трудах возвращался
с горечью к этому вопросу. Так, в 1792 г. он опубли-
ковал „Исторические детали о причине увеличения веса,
которое обнаруживают металлические вещества при нагре-
вании на воздухе".1 В этом очерке он пишет:
„Таково было состояние знаний в то время, когда
ряд опытов, предпринятых в 1772 г. над различными
видами воздуха или газа, выделяющимися при вскипании
жидкостей, а также при многочисленных других химиче-
ских операциях, наглядно дал мне возможность уяснить
причину увеличения веса, которое приобретают металлы,
будучи подвержены действию огня. Я не знал тогда того,
о чем писал Жан Рэй в 1630 г.,1 2 когда же я это узнал,
я це мог отнестись к его мнению по этому вопросу
1 Oeuvres, t. II, р. 99.
2 Идеи Жана Рэя мы разберем ниже.
108
На подступах к теории флогистона
иначе, как к туманному утверждению, способному сделать
честь гению автора, но которое не освобождало химиков
от проверки высказанного ими мнения опятным путем.
Я был молод; я только что вступил на путь научной
карьеры; я жаждал славы и счел необходимым принять
некоторые предосторожности, чтобы охранить свое право
собственности на мое открытие. В то время была в моде
переписка между учеными Франции и Англии; между
обеими нациями происходило как бы соперничество,
которое придавало особое значение новым опытам и по-
буждало неоднократно писателей, принадлежавших к той
или другой нации, оспаривать права истинного автора.
Поэтому я счел необходимым вручить 1 ноября 1772 г.
секретарю Академии нижеследующее запечатанное письмо.
Оно было вскрыто в заседании 5 мая следующего года,
и отзыв о нем был надписан на нем же, на заголовке".
В своей книге „Opuscules", о которой речь впереди,
Лавуазье сделал следующее замечание по поводу работы
Пристли:1 „Эти опыты г. Пристли были изданы в конце
1772 г. на английском языке, я уже в течение некоторого
времени занимался тем же предметом и в сданном мною
1 ноября 1772 г. в Академию Наук трактате сообщил,
что при восстановлении металлов выделяется чрезвы-
чайно большое количество воздуха".
Нам представляется, что дискуссия о том, откуда
почерпнул или позаимствовал Лавуазье сведения об увели-
чении веса фосфора, серы и металлов при окислении
не имеют большого принципиального значения. Не под-
лежит сомнению, что именно Лавуазье, и только он, на
основе этих данных создал современную теорию Горения.
Это исторически усганозленный факт, а детективные изы-
скания Шпетера и других ничего в этом факте изменить
1 Oeuvres, t. I, р. 512,
Лавуазье публикует свою первую книгу
109
не могут. „Лавуазье сумел открыть в полученном При-
стли кислороде реальный антипод фантастического фло-
гистона" — говорит Энгельс?
Опыты над горением и окислением фосфора, серы
и металлов описаны весьма подробно в опубликованной
Лавуазье в 1774 г. книге „Небольшие работы по физике
и химии" („Opuscules physiques et chimiques ). Книга была
подготовлена к печати в конце 1773 г.
Книга посвящена: „Мосье Трюдену де-Монтиньи, совет-
нику государства, управителю финансов, президенту
Королевской Академии Наук".
Автор обращается к Трюдену со следующими сло-
вами:
„М. Г.! Вам я обязан первой мыслью об этом труде;
Вы предложили мне предпринять и опубликовать его;
Вы неоднократно направляли меня при выборе экспери-
ментов; Вы нередко помогали мне уяснить себе выводы
из них; наконец, Вы настаивали на осуществлении боль-
шинства из этих опытов или на их повторении в Вашем
присутствии..
Тесная дружба связывала Лавуазье с Трюденом де-
Монтиньи в течение многих лет; во многом обязан был
ему Лавуазье и в своей блистательной карьере.
В предисловии к своей книге Лавуазье сообщает:1 2
„За десять с лишним лет, в течение которых я зани-
маюсь физикой и химией и посвящаю этим наукам мгно-
вения, остающиеся в моем распоряжении от других
занятий, у меня накопились столь значительные матери-
алы, что я не смею надеяться найти для них место
в «Собрании мемуаров Королевской Академии Наук».
Большая часть предметов, которыми я занимался, потребо-
1 Ф. Энгельс. Анти-Дюринг. 1938, стр. 274.
2 Oeuvres, t. I, р. 439.
110
На подступах к теории флогистона
вала столь большого числа экспериментов, столь обстоя-
тельных дискуссий, что я не смог их изложение вместить
в объем, предписанный для наших мемуаров, я счел
необходимым отказаться от представления их в виде
отдельных статей".
Первая часть этой книги содержит обстоятельный
„Исторический обзор об упругих эманациях, которые
выделяются из тел при горении, при брожении и при
вскипании". В этом обзоре Лавуазье, мегкду прочим,
отмечает, что данный вопрос усиленно занимает уче-
ных Англии, Голландии, Германии, что „в этих стра-
нах непрерывно появляются мемуары, сочинения, вся-
кого рода диссертации; лишь французские химики, по-
видимому, не принимают никакого участия в этом
существенном вопросе, и между тем, как иностранные
открытия умножаются ежегодно, наши новейшие труды
и притом наиболее полные, какие только существуют
в области химии, хранят об этом пункте почти полное
молчание".1
Вторая часть книги содержит собственные исследо-
вания Лавуазье. В этой работе Лавуазье ставит себе
целью повторить опыты своих предшественников, „доба-
вить к ним еще новые; наконец попытаться по возмож-
ности направить физические идеи к оценке различных
теорий".
Итак, мы видим, что в этой первой книге, посвящен-
ной химическим проблемам, Лавуазье отчетливо и ясно
выступает как физик, применяющий физику к оценке
и проверке химических теорий. На это обстоятельство
почему-то не обращали до сих пор достаточного вни-
мания биографы Лавуазье. Таким образом, он следовал
1 Ibidem, р. 445. Речь идет невидимому прежде всего о фран-
цузском труде Маке „Dictionnaire de Chimie" (1769).
Изучение процесса горения 7/7
в известной мере традиции Бойля, который в свое время
ознакомившись с недостатками работ алхимиков, признал,
что необходимо, чтобы не как врач или как алхимик, но
„чтобы в области химии я действовал как натуральный
философ (физик)".1 Но Бойль заложил только первый
камень в этой области. Впервые стал последовательно
создавать это новое направление М. В. Ломоносов:
„Делал новые физико-химические опыты, дабы привести
химию сколько можно к философскому познанию и сде-
лать частью основательной физики".1 2 По стопам Ломо-
носова шел в своих исследованиях Лавуазье.
Труд „Opuscules physiques et chimiques" (1774) был
представлен Академии, которая выделила специальную
комиссию в составе академиков Трюдэна, Маке и Кадэ
для рассмотрения книги. В весьма одобрительном отзыве
комиссии между прочим сказано, что Лавуазье произвел
проверку данных своих предшественников „с помощью
многочисленных физических инструментов, остроумно
придуманных или усовершенствованных".3
III
Итак, обратимся к опытам по горению фосфора и серы,
описанным Лавуазье в главах IX, X и XI своих „Opus-
cules". Здесь Лавуазье изложил в ясной логической
последовательности свои эксперименты, выводы из них, их
проверку посредством контрольных опытов и оконча-
тельные следствия.4
1 Н. К о р р. Beitrage zur Geschichte der Chemie, S. 165, Anmer-
kung 296.
* 2 П. С. Билярский. Материалы для биографии Ломоносова,
СПб., 1865, стр. 249.
3 Oeuvres, t. I, р. 663.
4 Ibidem, р. 640 и далее.
112
На подступах к теории флогистона
Первый опыт — „сжигание фосфора под колоко-
лом, погруженным в воду".
„Я положил в маленькую агатовую чашку 9 гран фос-
фора Кункеля,1 я поместил эту маленькую чашку под
стеклянный колокол, погруженный в воду, и я ввел
посредством изогнутой воронки небольшой слой масла
на поверхность воды.1 2 3 Затем я направил на фосфор
фокус стеклянной линзы, имевшей 8 дюймов в диа-
метре“.
Лавуазье наблюдал, как загорелся фосфор, как он
задымил. „Белые пары поднялись, а затем на колоколе
образовались капли жидкости. В первый момент вода
в колоколе немного опустилась вследствие расширения,8
вызванного нагревом; но затем она начала заметно подни*
маться, даже во время горения, и, когда сосуды остыли,
она остановилась на 1 дюйм 5 линий выше своего перво-
начального уровня".
Лавуазье подсчитал, что таким образом при горении
поглотилось ц общего количества воздуха, находившегося
под колоколом, и около 3 кубических дюймов на каждый
гран фосфора.
Второй опыт — „сжигание фосфора под колоколом,
погруженным в ртуть".
При этом оказывается, что поглощается чуть меньше
3 кубических дюймов на гран фосфора.
Третий опыт — „сжигание фосфора над ртутью
в несколько меньшей дозе, чем в предыдущих
опытах".
1 Фосфор Кункеля — так именовался в Честь открывшего его
Кункеля обычный белый фосфор.
8 Чтобы затормозить растворение газов в воде.
3 Расширения воздуха.
Изучение процесса горения
113
Оказывается: общее количество поглощенного воз-
духа уменьшается пропорционально уменьшению количе-
ства фосфора.
Аппаратура Лавуазье для улавливания и выяснения природы
газов, выделяющихся при реакции двух жидкостей.
• Жидкости смешиваются под колпаком.
Пояснение Лавуазье гласит: „Измерение количества упругого флюида,
выделяющегося из мела при его растворении в азотной кислоте.
Когда все готово, тянут за веревку г, которая проходит через три
ролика,., и таким образом опрокидывают сосуд Iй.
Четвертый опыт — „определить наибольшее коли-
чество фосфора, которое можно сжечь в данном количестве
воздуха, и каковы пределы поглощения".
Лавуазье поместил под колокол 24 грана фосфора.
Оказалось, что хотя опыт протекал более бурно, тем
8 Дорфман
114
На подступах, к теории флогистона
не менее сгорело лишь от 6 до 8 гран, и поглощение
воздуха соответствовало этой порции сгоревшего фос-
фора. Никаким путем не удавалось сжечь остаток фос-
фора в оставшемся воздухе даже тогда, когда, благодаря
жару с фокусированных солнечных лучей, фосфор дохо-
дил до сублимации.
„Размышления. Я многократно повторял эти
опыты, но результаты оставались теми же, с небольшой
разницей в количестве поглощенного воздуха...
„Эти опыты уже, казалось, приводили к мысли, что
воздух атмосферы или какой-либо другой флюид, содер-
жащийся в воздухе, соединялся во время горения с парами
фосфора, однако от предположения до доказательства
было довольно далеко, и основным делом было, прежде
всего, хорошо установить, что действительно происходило
соединение какой-то субстанции с парами фосфора во
время горения. Нижеследующие эксперименты, как мне
казалось, служили этим надлежащим доказательством".
Пят ы й опыт — „определить с той степенью точ-
ности, какая соответствует такого рода опытам, увели-
чение веса паров кислоты сгоревшего фосфора".1
Лавуазье кладет фосфор в стеклянную чашку, которую
затем опускает в широкогорлую склянку. Закупорив
склянку, он взвешивает ее с точностью до полуграна,
далее, откупорив, быстро помещает ее под колокол над
ртутью и сжигает фосфор. Он замечает, что склянка
заполняется парами, и лишь небольшая их доля (меньше
четверти) выходит из склянки под колокол. Затем
Лавуазье открывает прибор, извлекает склянку и, за-
купорив ее, взвешивает снова. Выясняется, что вместо
8 гран фосфора в склянке оказалось 14 гран какого-то
вещества.
1 Лавуазье называет кислотами ангидриды кислот.
Изучение процесса горения
115
Учитывая частичный выход паров из бутыли, Лавуазье
приходит к выводу, „что от б до 7 гран фосфора дают
от 17 до 18 гран фосфорной кислоты, иными словами,
что 6 — 7 гран фосфора поглощают от 10 до 12 гран
некой субстанции, содержащейся в воздухе, заключенном
под колоколом*.
„Размышления*. Поглощенный упругий флюид
весит около у грана на кубический дюйм, т. е. приблизи-
1 .
тельно на больше, чем воздух, которым мы дышим.
Но, ежели материя, притянутая к себе фосфором во время
горения, является наиболее тяжелой частью воздуха,
почему бы не быть ею самой воде, которую этот флюид
содержит в растворенном состоянии и которая распро-
странена в атмосфере в таком изобилии и в известном
роде состояния экспансии?1
„Это мнение было вероятным и представлялось столь
правдоподобным, что способно было соблазнить, и я
поспешил подвергнуть его опытной проверке*.
Шее той опыт — „сжечь фосфор под колоколом,
погруженным в ртуть, поддерживая под тем же колоко-
лом атмосферу воды, обращенной в пар*.
Лавуазье поместил под колокол, погруженный в ртуть,
Две чашечки; одну наполнил он фосфором, а другую
водою. С помощью зажигательного стекла он нагрел воду
и наполнил пространство под колоколом парами воды.
Убедившись в присутствии этих паров, Лавуазье осветил
солнечными лучами фосфор. Оказалось, что опыт про-
текает, как обычно, пары воды не оказали никакого
Действия на процесс горения фосфора.
Седьмой опыт — „сообщить влажность воздуху,
в котором уже сгорел фосфор*.
1 В газообразном состоянии.
116
На подступах к теории флогистона
Предыдущий опыт был повторен в обратном порядке.
Сначала был частично сожжен фосфор, а затем нагрета
вода. Уровень ртути опустился на прежнюю высоту,
но это не вызвало ничего особенного. Пары воды не
воспламенили фосфора.
Восьмой опыт — „испробовать, нельзя ли с помо-
щью атмосферы воды, обращенной в пар, сжечь большее
количество фосфора в данном количестве воздуха".
Установка та же. В одну чашечку налита дистиллиро-
ванная вода, в другую помещено 18 гран фосфора. Вода
доводится до кипения с помощью зажигательного стекла,
затем зажигается фосфор. Сгорело лишь 7—8 гран
фосфора. Количество поглощенного воздуха то же, что
и в предыдущих опытах.
„Размышления. Представляется установленным на
основании этих экспериментов, что уменьшение объема
воздуха, наблюдаемое при горении фосфора, не связано
вовсе с поглощением содержащейся в нем воды".
Чтобы окончательно убедиться в том, что пары воды
отнюдь не являются причиною увеличения веса при горе-
нии, Лавуазье поставил девятый опыт — „исследо-
вание соотношения между весом фосфорной кислоты
и дистиллированной воды и выводы, которые можно из
него извлечь".
Он поместил под колокол фосфор в количестве 2 скру-
пул и 42 гран и подверг горению. Оказалось, что сгорело
2 скрупулы*’ 10 гран, и 32 грана остались в виде несго-
ревшего исходного желтого фосфора. Далее Лавуазье
собрал весь фосфорный ангидрид, растворил его в дистил-
лированной воде и наполнил раствором бутыль, подлив
дистиллированной воды так, чтобы жидкость дошла до
самого края. Затем он ее взвесил. Вес оказался равным
6 унциям 7 скрупулам 69-^- гранам; заполнив ту же бу-
Изучение процесса горения
117
хыль до края чистой водой, Лавуазье обнаружил, что
тот же объем чистой воды весит б унций 4 скрупула
42 грана. Таким образом фосфорный ангидрид, раство-
ренный в воде, весил на 3 скрупула 27у гран больше,
чем сама чистая вода. Между тем, сгоревший фосфор
весил всего лишь 2 скрупула 10 гран. „Откуда следует,
что фосфор присоединил к себе при горении по меньшей
мере 1 скрупул 10 гран какой-то субстанции. Этой суб-
станцией не могла быть вода, так как вода не смогла бы
увеличить удельного веса воды; значит, это был либо сам
воздух, либо иной флюид, содержащийся в известной про-
порции в воздухе, которым мы дышим. Этот последний
опыт мне представляется настолько демонстративным,
что я не предвижу, посредством какого возражения
можно было бы подвергнуть его сомнению".
Рассуждение Лавуазье здесь не столь безупречно, как
ему представлялось; в принципе молекулы воды могли при-
соединиться к фосфору в таком виде, что удельный вес жид-
кости оказался бы больше удельного веса воды. Между тем,
он уверенно полагает, что „либо эта кислота расположи-
лась бы между частицами воды и соединилась с ними, не
увеличивая объема; либо, что более вероятно, смешиваясь
с водою, она раздвинула бы частицы воды, и получилось
бы, что смесь обладает большим объемом, чем вода".
Наконец Лавуазье осуществил решающую проверку
своих предположений, проведя серию опытов с воздей-
ствием сфокусированного линзою света на фосфор и серу
в пустоте:
„Я поместил под колокол пневматической машины
маленький кусочек фосфора, и я сделал наиболее совер-
шенную пустоту, какую могла осуществить машина. За-
тем я направил на фосфор лучи, сфокусированные лин-
зой, имевшей 8 дюймов в поперечнике; он тотчас же
118
На подступах к теории флогистона
расплавился, закипел; он принял желтый цвет, несколько
более темный, чем в предыдущих опытах; наконец он
испарился, но горение не имело места вовсе. Впустив
воздух под колокол, я попробовал на вкус водянистые
пары, которые пристали к его внутренней поверхности,
и я не нашел их даже заметно кислыми; откуда следует,
что горения не было вовсе".1
Итак, Лавуазье убедился, что горение фосфора не
может происходить без воздуха, оно не может, следова-
тельно, происходить в „пустоте пневматической машины".
Это служило „дополнительным доказательством того, что
сущность горения фосфора состоит, как, повидимому, дока-
зывали предшествующие опыты, в поглощении воздуха
или другого упругого флюида, содержащегося в воздухе".
К такому же результату привели и аналогичные опыты
над серой.
И наконец, как сообщает Лавуазье в своих „Opuscules
physiques et chimiques", точно такие же явления наблю-
дались им при горении олова и свинца. Но для сжигания
металлов потребовался более высокий жар, и пришлось
применить „большую линзу Чирнгаузена1 2 диаметром
в 33 дюйма".
Наконец в „Opuscules” описан и последний опыт,
упомянутый в письме Лавуазье в Академию от 1 ноября
1772 г., над восстановлением свинцового глета в аппарате
Гэйльса. Этот аппарат изображен в „Opuscules". „Коли-
чество свинца, полученного при восстановлении, состав-
1 Л
ляло примерно кубического дюйма, откуда следует,
1 Oeuvres, t. I, р. 652.
2 Э. В. Чирнгаузен, граф (1651—1708), „философ, математик
и физик", устроил в своих поместьях (Германия) стекольные заводы
и мастерские для шлифования оптических стекол (см. Ф. Розен-
бергер. История физики, ч. II, 1933, стр. 243).
Изучение процесса горения
119
что объем выделившегося упругого флюида равнялся
448-кратному объему восстановленного свинца".
Но, закрепив за собою приоритет, Лавуазье отнюдь
не прекратил дальнейших изысканий в этом направлении.
Вот что он пишет в „Opuscules" относительно опыта
с восстановлением свинца:1
„Хотя этот первый опыт и был достаточно решающим,
однако он оставлял еще во мне тревогу, во-первых,
потому что фокус зажигательного стекла был очень
узким, я мог работать лишь над малыми количествами;
во-вторых, потому что жар вблизи фокуса был столь
велик, что у меня не было возможности применять коло-
кола менее 5 или б дюймов в диаметре, и все же они
сильно нагревались и некоторые из них лопнули; отсюда
проистекало, что малое число кубических дюймов флюида,
выделившихся при восстановлении свинца, приходилось
на объем, имевший весьма значительную площадь осно-
вания, и разности высот становились мало заметными;
в-третьих, поскольку объем воздуха, содержащегося под
колоколом, был весьма значителен, малейшая разница
в температуре могла вызывать заметные ошибки; в-чет-
вертых, наконец, поскольку само масло, покрывавшее
поверхность воды, подвергалось действию столь боль-
шого нагрева, из него могли выделяться некоторые пор-
ции упругого флюида.
„Эти разнообразные соображения заставили меня
перейти к аппарату, идея которого первоначально исходит
от г. Гэйльса, который затем был исправлен покойным
г. Руэллем, и в который я сам внес некоторые изменения
и добавления в соответствии с обстоятельствами".
Приведенный отрывок отчетливо показывает, насколько
тщательно подходил Лавуазье к количественной стороне
1 Oeuvres, t. I, р. 600-
120
На подступах к теории флогистона
своих опытов. Здесь со всей наглядностью выступает
физик-экспериментатор, подробно анализирующий возмож-
ные физические источники погрешностей.
В новом аппарате окись металла подвергалась нагреву
в металлической реторте. Для того чтобы отсосать воз-
дух (или газ) и поднять уровень воды, устроен специаль-
ный насос.
Лавуазье подробнейшим образом останавливается на
устройстве отдельных частей установки и, в особен-
ности, на мероприятиях, обеспечивших герметичность, на
технике изготовления реторты и т. п.
Итак опыты, перечисленные в письме от 1 ноября
1772 г. и описанные в „Opuscules", однозначно показывали,
что превращение металлов в земли сопровождается погло-
щением какого-то „воздуха", а процесс восстановления
металлов из земли приводит к выделению упругого
флюида.
IV
Лавуазье ясно сознавал, что он сделал открытие,
и притом „одно из наиболее интересных открытий со
времен Шталя" — основателя теории флогистона, однако
у него еще оставалось одно серьезное сомнение.
„Как бы ни казались решающими эти опыты, они
находились в противоречии с опытами, описанными Бойлем
в его «Трактате о весомости пламени и огня». Этот зна-
менитый физик попытался обжигать свинец и олово
в стеклянных, герметически закупоренных, сосудах; ему
удалось их действительно сжечь, по крайней мере ча-
стично, и полученные им извести оказались на несколько
гран тяжелее примененного металла; но Бойль заключил
из этого, что материя пламени и огня проникает сквозь
вещество стекла, что Она соединяется с металлами и что
Аппаратура для опытов, доказывающих природу окисления металлов.
Рисунок сопровожден следующим пояснением Лавуазье: „Восстановление сурика в ап-
парате, пригодном для измерения количества выделяемого или поглощаемого флюида.
8. BCDE представляет собой кювету или другой какой-либо сосуд из фаянса или стекла,
в которой опущен хрустальный колокол FGH', в середине кюветы ЛГ поднимается не-
большая хрустальная колонка /JC имеющая наверху углубление. Внизу она прикрепляется
ко дну посредством зеленого воска (такие колонки можно найти в посудных лавках).
9—сифонная трубка из стекла. 10— аппарат, идея коего первоначально высказана
г. Гэйльсом, затем усовершенствованный покойным г. Руэллем, в который я внес некото-
рые изменения и добавления соответственно обстоятельствам. 12—реторта, сделанная
из наиболее толстой жести, какую можно найти для установки фиг. 10“.
Теория весомости огня Бойля
121
от этого соединения происходит превращение металлов
в извести и приобретаемое ими при этом увеличение
веса.
„Опыты столь прецизионные, выполненные таким
физиком, как Бойль, были способны заставить меня осте-
регаться моего собственного мнения, как бы ни пред-
ставлялось оно, на мой взгляд, доказанным; поэтому я
и решил, следовательно, не только повторить их такими,
какими они были осуществлены Бойлем, но и дополнить
их всеми теми обстоятельствами, которые мне казались
подходящими для того, чтобы сделать их, если это воз-
можно, еще более убедительными".г
Р. Бойль опубликовал в 1673 г. две работы: „Очерк
о странной тонкости, большой действенности и опреде-
ленной природе истечений" („Essay on the strange sub-
tility, great efficacy and determinate nature of effluviums")
и „Новые опыты, как сделать огонь и пламя устойчивыми
и весомыми с дополнительными экспериментами относи-
тельно задержания и взвешивания огненных частиц вме-
сте с открытием проницаемости стекла для весомых
частиц пламени" („New experiments to make fire and
flame stable and ponderable, with additional experiments
about arresting and weighing of igneous corpuscles toge-
ther with a discovery of perviousness of glass to ponde-
rable parts of flame").
Среди разнообразных опытов, описанных в этих тру-
дах, один считался особо решающим. В реторту была
вложена унция свинца и сосуд закупорен.
„Результатом было, — пишет Бойль, — что после
того, как металл продержали в пламени в течение около
двух часов, а запаянный кончик реторты был отломан,
внешний воздух ворвался в нее с шумом (верный при-
1 Oeuvres, t. П, р. 106.
122
На подступах к теории флогистона
знак, что сосуд был совершенно не поврежден), и мы
обнаружили заметное количество свинца, впрочем, семь
с лишним скрупул обратились в окалину светлосерого
цвета, которая вместе с остатком металла вновь была
взвешена, и мы обнаружили, что эта операция дала при-
вес в шесть гран.
„Откуда же может произойти наблюденное нами уве-
личение абсолютного (я не говорю уж об удельном) веса
у металлов, подвергнутых действию чистого пламени,
если не от каких-то весомых частиц пламени?1
„Число этих огненных молекул должно быть весьма
большим, чтобы их можно было взвесить на весах".1 2
Так писал Р. Бойль, один из крупнейших эксперимен-
таторов своеге времени. И, тем не менее, этот замеча-
тельный ученый совершил здесь странную, грубую ошибку,
которая и привела его к неправильному выводу.
Он не проанализировал, почему же воздух ворвался
в реторту со свистом, когда она была откупорена после
сильного нагрева. А ведь это могло, разумеется, про-
изойти только потому, что давление воздуха в реторте
сильно понизилось при прокаливании металла.
Между тем уже за сорок лет до того, в 1630 г., фран-
цузский врач-химик Жан Рэй (1583—1645) опубликовал
замечательную книгу „Очерки отыскания причины, от
которой олово и свинец увеличиваются в весе, когда их
обжигают" („Essays sur la recherche de la cause pour
laquelle 1’estain et le plomb augmentent de poids quand
on les calcine").
В этой книге Ж. Рэй рассказывает, как однажды он
получил письмо от некоего аптекаря, просившего его
1 Н. Корр. Beitrage zur Geschichte der Chemie, S. 176, Anmer-
kung 323.
2 F. Hofer. L’histoire de la chimie, t. II, 1842—1843, p. 158.
Воззрения Жана Рэя
123
объяснить наблюденный им непонятный факт увеличения
веса олова при обжиге. „Я отчасти предвидел, что на-
влеку на себя обвинения в дерзости, поскольку я здесь
отрицаю некоторые взгляды, одобренные уже в течение
долгих столетий большинством философов" — подчерки-
вает Ж. Рэй в предисловии к своим „Essays". Итак,
Ж. Рэй „потратил несколько часов" и дал следующий
ответ на поставленный вопрос.1
„Формальный ответ на вопрос, почему олово и сви-
нец увеличиваются в весе, когда их обжигают.
„На этот вопрос, опираясь на основы, положенные
мною, я отвечаю и гордо утверждаю, что увеличение
в весе происходит от воздуха, который в сосуде загу-
стел, затяжелел и который благодаря сильному продол-
жительному нагреву в печи стал некоим образом липким;
этот воздух смешивается с окалиной и пристает к ее
мельчайшим частицам".
Мы видим, что хотя Ж. Рэй правильно отметил при-
чину увеличения в весе при обжиге металлов, все же
он, очевидно, различал два явления: образование окалины
и присоединение к ней частиц воздуха. Поэтому он гово-
рит о присоединении воздуха не к металлу, а к уже
образовавшейся при нагреве окалине. Видимо, окалина
образуется, по его мнению, от воздействия чего-то
невесомого на металл, а воздух, как вещество весомое,
сообщает уже образовавшейся окалине только добавоч-
ный вес. Рэй немало занимался вопросом о весе воздуха
и о причинах весомости тел вообще.
Замечательный труд Ж. Рэя, вероятно, не был изве-
стен Р. Бойлю: изданная в небольшом количестве экзем-
пляров, эта книга вскоре стала библиографической ред-
костью. Не знал, повидимому, о ней соотечественник
1 Ibidem, р. 247.
134 На подступах к теории флогистона
и современник Р. Бойля Джон Мэйоу (1645—1679), врач
по образованию, издавший в 1674 г. сочинение: „Пять
физико-медицинских трактатов* („Tractatus quinque
physicomedici*). Мэйоу утверждал, что воздух содержит
в себе „некоторую универсальную субстанцию, входящую
в состав селитры, так сказать живительный воздух или
огненный воздух.
„При горении, вызванном действием солнечных лучей
(с помощью зажигательного стекла) участвуют главным
образом огненно-воздушные частички. Так, сурьма, обож-
женная с помощью зажигательного стекла, превращается
в окалину сурьмы, совершенно подобную той, которую
получают воздействием селитряной кислоты на сурьму.1
Сурьма, обработанная тем или иным способом, увеличи-
вается в весе примерно на постоянную величину. Вряд
ли кто-либо может понять, откуда это увеличение воз-
никло, если не от селитряно-воздушных огненных частиц,
связанных во время обжига*. 1 2
Мэйоу описал многочисленные опыты, которые, по
его мнению, доказывают, что воздух, лишенный своей
„селитряно-огненной составной части*, не способен под-
держивать горение и дыхание. В своем предшествующем
труде „Первый трактат о дыхании*, опубликованном
в Лейдене в 1671 г., Мэйоу указал на роль этих „сели-
тряно-воздушных частиц* также и в самом процессе
дыхания.
Приведенные высказывания Д. Мэйоу дали повод
многим историкам химии к утверждению, что он пред-
восхитил величайшие открытия конца XVIII в. Предста-
влялось странным, что современник величайших ученых —
1 Это утверждение неправильно. В данном опыте образуется не
окись сурьмы, а метасурьмяная кислота (HSbOg).
2 F. Hofer. L’histoire de la chimie, p. 255.
Воззрения Джона Мэйоу
125
Бойля, Гука и Ньютона — не обратил на себя должного
внимания и оказался совершенно забытым вплоть до
1780 г., когда о нем, повидимому, впервые вспомнил
Дж. Р. Форстер, английский переводчик книги Шееле
„Химические наблюдения и эксперименты над воздухом
и огнем“. Таким образом, возникло предположение, что
благодаря авторитету Бойля английская наука, отвергнув
и предав забвению открытия Мэйоу, задержала научный
прогресс на целое столетие. Лишь совсем недавно англий-
ский исследователь Паттерсон подверг тщательнейшему
изучению подлинные труды Мэйоу в свете работ его
современников.1 В своей обстоятельной монографии
Паттерсон с достаточной убедительностью доказал, что
приведенные выше; выхваченные из контекста, цитаты
не отображают вовсе сущности идей Мэйоу. На самом
деле его взгляды до крайности туманны и сумбурны.
Его „селитряно-воздушные частицы“ вряд ли можно
отождествить в какой-то мере с кислородом, как это дела-
лось до сих пор. Далее оказалось, что в этих трудах
очень мало оригинального.
Паттерсон пришел к выводу: „То, что верно в трудах
Мэйоу, принадлежит не ему, а то, что принадлежит ему,
не верно 1 2
Однако в конце XVIII в., когда сначала упомянутый
выше Форстер, а затем и другие английские авторы
подняли на щит Джона Мэйоу, эта легенда причинила
немало беспокойства и самому Лавуазье. Особенно уси-
лись эти нападки и обвинения в заимствовании в 1790 г.,
после того, как в „Journal de Physique* аббата Розье
(т. 37, стр. 157) появились краткие французские выдержки
из английского труда Томаса Беддоуса „Химические
1 Patterson Isis, vol. XV, 1931, рр. 47—96, 504—546.
2 Ibidem, р. 57.
126
На подступах к теории флогистона
эксперименты и воззрения. Извлечения из труда, опу-
бликованного в прошлом столетии* („Chemical experi-
ments and opinions*. Extracted from a work published in
the last century. Oxford, 1790).
Bo всяком случае, и труд Мэйоу и само его имя были
абсолютно неизвестны Лавуазье в рассматриваемую нами
здесь эпоху. Когда поднялся шум вокруг имени Мэйоу,
Лавуазье попытался приобрести подлинный экземпляр
его сочинения. Однако, как явствует из сохранившейся,
дошедшей до нас, переписки Лавуазье, добыть эту книгу
ему не удалось даже в Англии.
В 1732 г. выдающийся голландский анатом и химик
Г. Бургав опубликовал в своих „Элементах химии" описа-
ние эксперимента, посредством которого он пытался удо-
стовериться в правильном утверждении Р. Бойля относи-
тельно весомости огня. Он взвесил кусок металлического
железа в холодном и раскаленном докрасна состояниях
и не обнаружил никакой разницы в весах. Он повторил
опыт с бронзой и пришел к тому же отрицательному
результату. На основании этого результата Бургав реши-
тельно опроверг заключение Бойля.
И Бургав сделал следующее заключение: „Нельзя ли
считать колебания элементов, образующих данное тело,
за единственную причину того, что огонь остается в нака-
ленном теле?1
В 1744 г. Михайло Васильевич Ломоносов в своих
„Размышлениях о причине теплоты и холода* („Medita-
tiones de cal oris et frigoris causa*) резко критиковал
P. Бойля. „Если не ошибаюсь, — говорит Ломоносов, —
первый весьма известный Роберт Бойль доказал на опыте,
что тела увеличиваются в весе при обжигании (в работе
1 Б. Н. М е и ш у т к и н. Труды М. В. Ломоносова по физике
и химии. Изд. Акад. Наук СССР, 1936, стр. 434—435.
Ломоносов опроверг теорию Бойля
121
о весомости огня и пламени) и что можно сделать части
огня и пламени стойкими и взвешиваемыми. Если это
действительно может быть показано для элементарного
огня, то мнение о теплотворной материи нашло бы себе
в подтверждение твердый опыт. Однако большая часть,
почти что все опыты его над увеличением веса при дей-
ствии огня показывают лишь, что либо части пламени,
сжигающего тело, либо части воздуха, во время обжи-
гания проходящего над прокаливаемым телом, обладают
весом".1
В отчете о своей деятельности за 1756 г. (такие
отчеты подавались в Академию ежегодно) М. В. Ломо-
носов сообщил:
„Между разными химическими опытами, которых жур-
нал на 13 листах, деланы опыты в заплавленных накрепко
стеклянных сосудах, чтобы исследовать, прибывает ли
вес металлов от чистого жару. Оными опытами нашлось,
что славного Роберта Бойля мнение ложно, ибо без про-
пущения внешнего воздуха вес сожженного металла
остается в одной мере".2
К сожалению, упоминаемый лабораторный журнал
Ломоносова до нас не дошел, а работа эта никогда не
была опубликована. Да и неудивительно, что Ломоносов
не решался ее опубликовать. Ведь немало досталось ему
еще в 1745 г., когда он позволил себе впервые огласить
на заседании Конференции Академии Наук свои „Раз-
мышления о причине теплоты и холода". В протоко-
лах Конференции по этому поводу было буквально за-
писано:
„Некоторые из академиков вынесли о нем такое суж-
дение: нужно похвалить охоту и прилежание г. адъюнкта,
1 Ibidem, стр. 112—113.
3 Ibidem, стр. 427.
128
На подступах к теории флогистона
занявшегося изучением теории теплоты и холода; но им
кажется, что он еще слишком преждевременно взялся за
дело, которое, повидимому, пока находится выше его
сил...
„Затем г. адъюнкту поставили на вид, что он поносит
в своем произведении Бойля, столь известного своими
трудами: он [Ломоносов] извлек из писания Бойля те
места, в которых этот последний как будто говорит
вздор, но обошел молчанием многие другие, в которых
Бойль дал образцы глубокой учености. Г. адъюнкт отри-
цал преднамеренность своего поступка".1
Ломоносов вынужден был переработать свои „Раз-
мышления".
Они прошли через Конференцию лишь в 1746 или
в начале 1747 г. и были опубликованы, наконец, в
„Новых Комментариях императорской Санктпетербург-
ской Академии" в 1750 г. (т. I) на латинском языке
и в кратком изложении на русском языке.
В личном письме к Эйлеру от 5 июля 1748 г. М. В. Ло-
моносов с грустью писал:
„Хотя все это я мог бы опубликовать, однако боюсь,
может показаться, что даю ученому миру незрелый плод
скороспелого ума, если выскажу многие новые взгляды,
по большей части противоположные принятым [великими
мужами".1 2
V
Итак, Лавуазье решил, непосредственно повторить
эксперименты Бойля о весомости огня. Ход его мыслей
был таков:
1 Ibidem, стр.' 100.
2 Ibidem, стр. 80.
Лавуазье повторяет неопубликованный опыт Ломоносова 129
„Ежели увеличение веса металлов при обжиге в заку-
поренных сосудах вызвано, как полагал Бойль, прибавле-
нием материи пламени и огня, которая проникает сквозь
поры стекла и соединяется с металлами, то отсюда сле-
дует, что если ввести известное количество металла в стек-
лянный сосуд и, герметически запаяв его, определить
точно его вес, затем перейти к обжигу посредством огня
от горячих угольев, как это делал Бойль, и взвесить
его снова после обжига, прежде чем откупорить, то вес
его должен оказаться увеличенным на все количество
материи огня, вошедшей во время обжига.
„Если же, наоборот, сказал я себе далее, увеличение
веса металлической окалины вызвано вовсе не присое-
динением огненной материи или какой-либо другой внеш-
ней материи, но произошло вследствие связывания неко-
торой порции воздуха, содержавшегося в объеме сосуда,
то сосуд вовсе не должен становиться после обжига
более тяжелым, чем он был первоначально, он должен
лишь оказаться лишенным части воздуха. И лишь тогда,
когда недостающая часть воздуха будет восполнена,
будет иметь место увеличение веса сосуда".1
Это исследование было проведено Лавуазье, как
видно из записей в его дневнике, с 5 февраля по 5 марта
1774 г.1 2 Работа эта была доложена Академии на публич-
ном заседании 11 ноября 1774 г.
Подробное описание дано в мемуаре Лавуазье „Об
обжиге олова в закупоренных сосудах и о причине уве-
личения веса, приобретаемого металлом во время этой
операции", напечатанном в „Memoires de I’Academie des
Sciences" за 1774 г.3
1 Oeuvres, t. II, p. 105.
2 M. Berthelot. Comptes Rendus de 1’Acad., p. 549—557,
3 Oeuvres t. П, p. 105.
9 Дорфман
130
На подступах к теории флогистона
Эксперимент был поставлен следующим образом.
Прежде всего Лавуазье отлил в бумажных формах
тоненькие стерженьки из наиболее чистого олова
и свинца. Затем он собрал некоторое количество
новых стеклянных тщательно очищенных реторт. В каж-
дую из них было введено по 8 унций свинца или
олова (в виде стерженьков), очень тщательно взве-
шенных. После взвешивания реторты нагревались над
горящими угольями, пока металл не плавился. Затем
в горячем состоянии реторта запаивалась гермети-
чески. Таким образом часть воздуха (вследствие нагрева)
заранее удалялась из реторты для того, чтобы избе-
жать аварий при дальнейшем нагреве. Тем не менее,
как указывает Лавуазье, более трех четвертей большого
числа реторт полопалось во время этой операции,
и фактически удалось провести опыт с оловом на
двух ретортах, а со свинцом — на одной. Эксперимент
оказался весьма опасным, так как реторты разлетались
на части, и экспериментатору приходилось работать не
иначе, как „защитив лицо солидной маской, например
из белой жести, с очень толстыми стеклами на месте
глаз“. После вышеописанной операции удаления части
воздуха посредством нагрева, сосуд вновь остужался
и тщательно взвешивался. Все взвешивания производи-
лись на прецизионных весах Щемэна, о которых шла
речь выше. Лавуазье особо подчеркивает, что ему при-
ходилось пользоваться тонкостенными ретортами, чтобы
собственный вес реторты не снижал точности измерений
весового баланса и не создавал „нового источника неточ-
ности и погрешности". Каждое взвешивание производи-
лось дважды: на левой и на правой чашке весов, и бра-
лось среднее значение.
Приводим численные данные одной серии измерений
р оловом;
Лавуазье повторяет неопубликованный опыт , Ломоносова ^13}
Рбъем реторты....... 43 кубических дюйма
бес олова........... 8 унций 0 скрупул 0.00, гран
Вес’ реторты.............. 5
Общий вес . .............13
Общий вес запаянной ре-
А торты (после удаления ча-
< сти воздуха)..........13
Повторное взвешивание три
дня спустя..........• . 13
Среднее значение из этих
двух взвешиваний .... 13
Вес удаленной части воз-
духа ................... 0
а 2 „ 2.50
if' 2 >> 2.50 »
а 1 68.75
f» 1 ,, 69.00 »
if 1 68.87 „
if 0 „ 5.63 „
т. e. 3 z- около -у- общего количе-
ства воздуха.
Затем эта запаянная реторта вновь ? была помечена
на огонь и подверглась его действию в течение 10 часов
52 минут, после чего олово нацело расплавилось? Далее
нагрев продолжался еще до тех пор (1 час 10 минут^
пока на олове не перестала образовываться окалина,
после чего сосуд был остужен. Прежде даже чем реторта
совсем остыла, Лавуазье поспешил ее вновь взвесить.
Вес запаянной реторты после обжига оказался равным
13 унциям 1 скрупулу 68.60 грана. Расхождение.»с весом
до обжига составляло лишь около 0.27 грана, т. е..лржит
в пределах точности измерений.
„Из этого, первого наблюдения можно уже считать
установленным,— говорит Лавуазье,—что во время об-
жига ничто, находящееся вне сосуда, не соединяется
с металлами", и если металл увеличивается в весе, то
„причину этого надо искать внутри , самой реторты". м? г
. Затем, проведя черту горячим углем по окружности
реторты и смочив нагретое место водою, он добился
того, что в реторте образовалась трещина;.аккуратно
делящая сосуд на две части. Все это проделывалосьтад
9*
132
На подступах к теории флогистона
большим листом чистой белой бумаги, чтобы собрать
малейшие осколки стекла. Откупорив таким образом уже
остывшую реторту и позволив, следовательно, воздуху
войти в нее, Лавуазье вновь взвесил сосуд со всем содер-
жимым и нашел, что вес увеличился на 3.13 грана. Затем
он взвесил олово вместе с окалиной; вес этот оказался
равным 8 унций 0 скрупул 3.12 грана. Таким образом
оказалось, что вес металла увеличился на 3.12 грана.
Повторив тот же опыт с ретортой большей емкости
(250 кубических дюймов), Лавуазье получил более зна-
чительное увеличение веса металла и мог, следовательно,
с большей точностью проверить заключение Бойля.
С какой щепетильностью производился опыт, видно,
например, из следующего факта. Взвесив до нагревания
холодную запаянную большую реторту, Лавуазье нашел
в ней 20 унций 6 скрупул 16.88 гран. Между тем, та же
реторта в горячем состоянии весила 20 унций 6 скрупул
15.88 гран, а после остывания—-20 унций 6 скрупул
18.50 гран.
„Я был сначала крайне изумлен, увидя, что та же
горячая реторта весит меньше, чем холодная; я был бы
менее удивлен противоположному результату и, несмотря
на принятые мною тщательные предосторожности и исклю-
чительную точность прибора, которым я пользовался
для взвешивания, был уже склонен приписать этот резуль-
тат недостатку его точности. Однако, подумав более
внимательно над этим явлением, я не преминул найти
его причину.* нагревание, как известно, расширяет стекло,
как и почти все другие тела; откуда следует, что нагре-
тая реторта должна была занимать больший объем, чем
холодная реторта, и должна была вытеснять, таким образом,
больший объем воздуха, а следовательно, ее вес должен
быть меньше полного веса на избыток объема вытеснен-
Лавуазье подтверждает вывод Ломоносова
133
ного ею воздуха: это обстоятельство достаточно, чтобы
заставить почувствовать, насколько деликатны опыты
этого типа и в какой мере интересно констатировать
малейшие детали".
Следует, конечно, заметить, что при описанном Ла-
вуазье взвешивании горячей реторты весы также слегка
деформировались, и их показания несколько менялись.
Этого обстоятельства он почему-то не учел.
Во всяком случае, приведенные рассуждения да и весь
ход исследования ясно показывают нам внимательного
физика-экспериментатора.
На основании этих опытов Лавуазье мог подтвердить,
таким образом, результат первого опыта и снова дока-
зать, что увеличение веса металла при обжиге в закры-
тых сосудах не происходит, как полагал Бойль, от при-
соединения какой-либо внешней материи". Ему удалось
показать, что от у до у объема воздуха, содержащегося
в реторте, было поглощено оловом при обжиге. Итак,
Лавуазье счел себя вправе сделать следующее заключение:
„Во-первых, можно обжигать лишь определенное коли-
чество олова в данном объеме воздуха.
„Во-вторых, количество обожженого металла в боль-
шой реторте больше, чем в малой, хотя нельзя еще
с уверенностью утверждать, что количество обожженного
металла строго пропорционально емкости сосудов.
„В-третьих, запаянные герметически реторты, взве-
шенные до и после обжига содержащейся в них порции
олова, не обнаруживают никакой разницы в весе; это,
очевидно, доказывает, что увеличение веса, приобретен-
ное металлом, не происходит ни от материи огня, ни от
какой-либо иной материи извне реторты".
„В-четвертых, при всяком обжиге олова увеличение
веса довольно точно равняется весу поглощенного коли
Ш На подступах к теории флогистона
чества воздуха; это доказывает, что порция воздуха; сое-
диняющаяся с металлом во время обжига, обладает плёт-
ностью, примеряй равной плотности воздуха атмосферы0
Далее Лавуазье пишет: „Я мог бы добавить, что на
основании некоторых соображений, извлеченных из тех
же опытов, произведенных мною над обжигом металлов
В запаянных сосудах, соображений, которые мне трудно
сделать вполне наглядными для читателя, не вхоДя
в очень длинные подробности, —я склонен полагать,
ЧТО. порция воздуха, соединяющаяся с металлами, не-
сколько тяжелее, чем воздух атмосферы, а часть воздуха’,
остающаяся после обжига, наоборот, несколько легче
его .
с. Это заключение вполне правильно. Как нам теперь
известно, кислород, соединяющийся с металлами при
обжиге их, обладает молекулярным весом 32, между
тем как основная остающаяся субстанция — азот — обла-
дает молекулярным весом 28.
, „В этом предположении, — продолжает Лавуазье, —
воздух атмосферы в отношении своего удельного веса
приводил бы к результату, среднему между обоими
видами воздуха: однако необходимы доказательства более
прямые, чем те, о которых я могу пока говорить, тем
более что сами эти разности весьма мало заметны".
Следует заметить, что окончательная редакция этой
работы, опубликованной лишь в ПТ1 г., была про-
изведена, как явствует из самого текста, не ранее декабря
1774 г., когда Лавуазье имел уже целый ряд данных
осоставе воздуха атмосферы. К этому вопросу мы еще
вернемся.
?Итак, заключение Бойля было окончательно опроверг-
нуто экспериментальным путем. Однако Лавуазье ясно
сознавал; что, „несмотря на всю тщательность и точность,
которую> я хотел сообщить этим экспериментам, они
Удар по теории флогистона
135
все же оставляют еще многого пожелать". И он тут же
наметил ряд далнейших опытов, направленных к выясне-
нию соотношения между объемом сосуда и увеличением
веса металла. При этом он, однако, указал, что
опыты крайне затруднительны и требуют столь слож-
ной аппаратуры, „которую к тому же так трудно
изготовить, что я не имею пока смелости продолжать
эту работу".
„Такова судьба всех тех, — замечает Лавуазье,—
кто занимается физическими и химическими исследова-
ниями, как только сделан первый шаг, намечается даль-
нейший шаг, который им следует сделать. И они никогда
ничего бы не дали публике, если бы всегда ожидали
конца того пути, который последовательно раскрывается
перед ними и который как бы удлиняется по мере того,
как они продвигаются по нему вперед".
Лавуазье отчетливо понимал, какой удар он наносит
не только воззрениям Бойля, но и теории флогистона,
общепризнанной теории Шталя, поэтому он торопился
опубликовать свои замечательные результаты.
Но это был еще лишь первый удар. Сторонники фло-
гистона быстро перестроились. Так, в журнале „Histoire
de I’Academie des Sciences" (где обычно давались крити-
ческие рефераты всех появлявшихся работ), в заметке по
поводу новой работы Лавуазье (1774), была дана следую-
щая интерпретация опытов:1 „Обжиг металлов не есть,
следовательно, просто лишь отделение их флогистона
от их земли; этот обжиг сопровождается новым соеди-
нением их земли с воздухом; воздух, который долго рас-
сматривался в этой операции в качестве необходимого
ее агента, но агента чисто механического, становится
необходимым химическим агентом; он — посредник, кото-
1 Oeuvres, t. П. р. 79.
136 На подступах к теории флогистона
рый, соединяясь с металлической землей, выделяет из
нее флогистон. Таково, по крайней мере, объяснение,
если хотят следовать теории Шталя, поскольку эта тео-
рия, долгое время признававшаяся точной, теперь под-
вергается нападению; но Шталь обосновал ее таким
количеством фактов, и к тому же фактов столь хорошо
проанализированных, что следует опасаться чрезмерной
спешки в деле отказа от нее".
Глава VI
СВЕРХВЫСОКИЙ ЖАР
Размышления Лавуазье о применении солнечных лучей к физическим
экспериментам. — Изобретение кварцевой аппаратуры. — Конструкция
И установка линзы Трюдена. — Лавуазье наблюдает замечательное
действие сверхвысокого жара. —• Загадка разрушения алмаза огнем.
I
Лавуазье приходилось нередко подолгу ждать выполне-
ния мастерами заказов сложных приборов. Как только
этим задерживалась одна исследовательская работа, он,
чтобы не терять времени, переходил к другому исследо-
ванию. Так, согласно Бертло, в дневнике находятся,
например, следующие записи от марта 1773 г.:
„Машины для изучения действий воздуха на животных
заказаны и почти закончены.. “
Три с половиной недели спустя он заносит в дневник:
„Различные машины, указанные выше, все еще не закон-
чены вследствие медлительности мастеров. Болезнь,
продолжавшаяся пятнадцать дней, а также различные дела
заставили меня прервать мои опыты. Между тем, желая
после каникул1 иметь возможность доложить что-либо
1 Заседания Академии Наук, происходившие еженедельно, пре-
рывались на пасхальные каникулы.
138
Сверхвысокий жар
и учитывая, что время не терпит..." он переходит к опи-
санию опытов по обжигу свинца.
Таким образом, Лавуазье всегда вел несколько иссле-
довательских тем параллельно. Этим отчасти объясняется
его огромная продуктивность. И вот, параллельно с рабо-
тами, о которых мы рассказывали в предыдущей главе,
им было предпринято в течение 1772—1773 гг. широкое
исследование действия наиболее высоких температур
на разнообразные тела.
Для физика всегда представляет большой интерес
исследовать свойства материи при таких крайних усло-
виях, при которых они еще не изучались. Исследование
действия на вещество „сверхнизких" и „сверхвысоких"
температур и давлений, „сверхсильных" цагнитных,
электрических и гравитационных полей и т. д. всегда
обещает исследователю открытие новых, еще неизвестных
в науке, свойств и явлений. Лавуазье, отдавая себе
полный отчет в этом обстоятельстве, представил Акаде-
мии в августе 1772 г. статью под названием: „Размыш-
ление о применении зажигательного зеркала".1 Впрочем,
в этой работе говорится о применении как зажигатель-
ного зеркала, так и зажигательного стекла. Уже в древ-
ние времена наиболее мощным способом высокого нагрева
было использование пучка концентрированных лучей
солнца. Фокусировка солнечных лучей осуществлялась
как посредством линзы, так и посредством вогнутого
зеркала. Метод зажигательного стекла смог получить
более широкое применение только в XVIII в., когда тех-
ника стекольного производства позволила изготовлять
сравнительно большие и однородные линзы.
В двоей работе Лавуазье обращается к вопросу о зада-
чах изучения вещества при сверхвысоких температурах.
1 Oeuvres, t. Ill, р. 261.
О применении солнечных лучей к физическим экспериментам 139
^Действие. жара, более высокого, чем тот, который мы
применяем в наших лабораториях, еще не был приложен
к металлическим телам; еще не было сделано системати-
ческих опытов над землями, камнями, рудами и над 'бес-
конечным числом минеральных веществ. Те немногие
эксперименты, о которых нам известно, были произведены
на открытом воздухе, и эти условия не вариировались.
Значит, «опыты с зажигательным стеклом представляют
собою целую новую область для разработки ...“
* Среди минералов особое место уделялось в то время
алмазу.
Опыты, произведенные итальянскими исследователями
Нри дворе герцога Тосканского, показывали, что алмазы
не выдерживают высокого нагрева, они чернеют и тре-
скаются. Поскольку еще никто не знал, что алмаз —
одна из модификаций углерода, поведение алмаза при
высоких температурах представляло собою загадку, инте-
ресовавшую весь ученый мир. Поэтому Лавуазье ставит
следующие задачи: „Способен ли алмаз испаряться
на вольном воздухе или же просто делиться и рассы-
паться? Является ли он абсолютно стойким в закупо-
ренных сосудах"?
„Огонь, который химики имеют обыкновение при-
менять, не может ни зажечься, ни поддерживаться в пу-
стоте; воздух —необходимый агент для его поддержания.
Жар зажигательного стекла представляет с этой точки
зрения очень большое преимущество, он может про-
никнуть под колокол пневматической машины,1 и с его
помощыд можно производить обжиги и соединения
в пустоте".
Мы видим, с каким трудом экспериментатор того вре-
мени изыскивал пути осуществления физических и хими-
] Насоса.
140
Сверхвысокий жар
ческих опытов в вакууме. Уже в 1772 г. Лавуазье ясно
понимал, что воздух как химический агент может влиять
на любые реакции, поэтому он стремился устранить
действие воздуха.
Продумывая технику эксперимента по изучению сверх-
высокого жара, Лавуазье уделяет самое серьезное
внимание жароупорным материалам, которые могли бы
служить для изготовления сосудов, подставок, тиглей
и т. п.
В конце-концов он останавливается на горном хру-
стале (кварце). „Неизвестно, — пишет он, — является ли
горный хрусталь абсолютно устойчивым по отношению
к жару зажигательного стекла, но, вероятно, он ему про-
тивостоит; вот, следовательно, материал, из KOTojporo
можно будет сконструировать аппараты для дистилляции
и выпаривания, посредством которых можно будет соби-
рать пары и дым, поднимающийся почти во всех операциях
с зажигательным зеркалом. Это же вещество послужит
материалом для прозрачных тиглей, в которых можно
будет наблюдать ход каждого эксперимента".
Таким образом, Лавуазье впервые предсказал широкое
применение кварцевых изделий в опытах с высокими
температурами. Общеизвестно, что это предсказание
блестяще оправдалось*, кварц стал в наше время ходовым
материалом экспериментальной физики и химии.
И, заканчивая свои „Размышления о методе приложения
наиболее выгодным путем солнечных лучей к физическим
экспериментам", Лавуазье подчеркнул:
„Если бы удалось добиться усовершенствования спо-
собов, примененных до сих пор для приложения солнеч-
ных лучей к химическим опытам, были бы получены
поразительные результаты, которые открыли бы ученым
новое направление их деятельности и привели бы к совер-
шенно еще неизвестному порядку вещей".
Конструкция и установка линзы Трюдэна
141
П
Академия выделила специальную комиссию в составе
Лавуазье, Маке и Трюдена для изучения вопроса о полу-
чении сверхвысоких температур.
Комиссия привлекла к работе инженера-строителя
де-Берньера, который разработал по указаниям Лавуазье
проект установки нового зажигательного стекла. Труд-
ность задачи заключалась в том, что количество тепла,
собираемого в фокусе линзы, пропорционально, во-первых,
размерам стекла и, во-вторых, степени фокусировки.
Требовалась линза, имеющая около полутора метров
в диаметре и обладающая, притом, большой остротой
фокуса. А, следовательно, необходимо было чрезвычайно
равномерное и однородное стекло огромных размеров.
Удовлетворить обоим требованиям было крайне затрудни-
тельно.
Это затруднение было преодолено следующим остро-
умным способом: двояковыпуклая линза была собрана
из двух очень тонких вогнуто-выпуклых чечевиц (толщина
стекла повсюду одинакова и равна, приблизительно,
2 см, радиус кривизны чечевицы—240 см), сложенных
друг с другом. Пространство между чечевицами было
заполнено алкоголем (преломления у алкоголя несколько
больше, чем у воды). Полученная таким образом линза,
заключавшая в себе около 130 л алкоголя, имела диаметр
более 120 см. Толщина линзы в центре составляла
около 16 см. Чечевицы были изготовлены оптическими
заводами фирмы СэнТобэн. Линза была укреплена
в деревянной раме на подставке, установленной на осо-
бой платформе. Посредством специальных приспособлений
можно было поворачивать платформу вокруг вертикаль-
ной оси и менять угол возвышения линзы в зависимости
от положения солнца. Как указывает Лавуазье: „Один
142
Сверхвысокий жар
единственный человек может без труда осуществлять
это двойное движение и управлять им даже тогда,
когда платформа нагружена восемью или десятью
лицами".1
Кроме большой линзы, на платформе была установлена
еще малая линза (сплошная) для более тонкой регулировки
фокуса.
Построенная таким образом установка для получения
сверхвысокого жара от солнечных лучей представляла
собою большое достижение французской техники того
времени. Лавуазье скромно выдвигает на первый
план конструктора, инженера де-Берньера, однако не
подлежит сомнению, что и сам- Лавуазье принимал
самое деятельное участие в создании гигантского
аппарата. у
Летом 1772 г. он был закончен и установлен в Саду
инфанты в Париже, где под руководством Лавуазье
и начались исследования.
Лавуазье вел дневник наблюдений и заносил в него
все подробности, все детали тех явлений, которые наблю-
дались им, Маке, Трюдэном и различными сановными
лицами, посещавшими Сад инфанты. Записывалось все,
ибо никто не знал, что именно впоследствии может ока-
заться важным и существенным. В этом сказывался
истинный экспериментатор и наблюдатель. Он старался
как можно нагляднее отобразить все эти явления, и мно-
гие из его записей представляют собою почти художест-
венные описания.
Приведем несколько записей из работы:
„Пятница 14 августа 1772 г. северо-восточный ветер;
на небе — средней чистоты облака; погода очень сухая,
облака словно подернуты туманом; 10 часов 45 мцнут.
- Л Oeuvres, t. Ill, р. 276, , ,v -
Линза Трюдена.
Пояснительный текст к рисунку гласит:
„А— большая линза, наполненная жидкостью. В — малая линза, служащая для более близкого собирания лучей. С —
центр горизонтального перемещения всей машины. D — рукоятка, служащая для горизонтального перемещения. Е —
рукоятка, служащая для вертикального перемещения с помощью винтов / и 2. F — возвратный винт для удаления
малой линзы от большой лупы или для ее приближения. G — предметный стол, имеющий возможность движения.сверху
вниз и снизу вверх, поступательного движения параллельно платформе вперед и назад, наклона соответственно солнцу
и перемещения параллельно лучам. Н—тележка или платформа, несущая всю машину и операторов. I—колеса тележки
с осями, направленными в сторону центра движения, катятся по круговым железным полосам, вделанным в каменное
основание. К — лестница для подъема на тележку. Она поддерживается двумя эксцентрически расположенными роликами".
„Рисунок и перспективный вид большой лупы, образованной двумя зеркалами 52 фута диаметром каждое, отлитыми
в Королевской мануфактуре Сен-Гобен, согнутыми и обработанными на части сферы 16 футов диаметром мосье
Берньером, контролером мостов и шоссейных дорог, затем сложенными друг с другом вогнутыми частями. Линзооб-
разное пространство, остающееся между ними, было заполнено винным спиртом; оно имеет 4 фута в диаметре
и более 6 дюймов толщины в центре. Эта лупа была построена согласно пожеланию Королевской Академии Наук
за счет и заботами мосье де-Трюдена, почетного члена этой Академии, под наблюдением г.г. де-Монтиньи, Маке,
Бриссона, Каде и Лавуазье, назначенных комиссарами Академии. Установка была сконструирована по идеям г. де-Берньера,
усовершенствована и выполнена г. Шарпантье, механиком Старого Лувра.
Г-ну де-Трюдену от его нижайшего и покорнейшего слуги Шарпантье".
Действие сверхвысокого жара 143
Посредством линзы мосье графа де-ля-Трюдэн д’Овернь,
имеющей фокус в семь футов, а также с маленькой
линзой Академии.
„Первый опыт: песчаник. Кусок песчаника из париж-
ской мостовой находился в фокусе в течение шести
*ншут; он просто побелел в том месте, куда ударили
лучи;, он не треснул и не дал никаких признаков ншплав-
ления, ни горения. f
„11 часов; та же установка.
,„Второй: кремень. Черный ружейный кремень рас-
сыпался и разлетелся на куски. Будучи теперь подогрет
потихоньку и затем лишь помещен в фокус, он очень
сильно побелел и не претерпел более никаких изменений
в течение десяти минут...
. „Тридцать пятый: железные опилки. Железные
опилки, помещенные на куске песчаника в фокусе, пла-
вятся мгновенно; при плавлении наблюдалось весьма
значительное пламя; получалась черноватая окалина,
хрупкая, притом сильно притягиваемая магнитом...
„19 августа 1772 г. Небо без туч, но воздух туманен
и,* как будто, насыщен парами, ветер с северо-востока,
барометр!—28 футов. Термометр показывает 19^ граду-
сов* 10 часов.
„Пятьдесят второй: цинк. Цинк, помещенный в фокус
на куске песчаника, тотчас расплавился и покрылся белой
землей; из него повалил густой дым вместе с хлопьям,
окиси; вещество разбухло в двух местах, образовав две
маленьких горы, с вершин которых выходили клубы гус-
того дыма, точно из маленького вулкана; вся масса
покрылась белыми кристаллическими звездочками, а отвер-
стия на, вершинах холмиков были окружены удивительно
красивой зарослью из маленьких белых иголочек, про^
зрачных, словно чистый хрусталь. 7 "
144
Сверхвысокий жар
„30 августа 1772 г. Около И часов утра; погода весьма
хорошая, облака, ветер с юго-запада. Барометр — 28 футов.
Термометр в тени показывает 191 градусов.
„Семьдесят четвертый: золото. В фокус был поме-
щен образец золота в 24 карата/ который до сих пор
еще не подвергался этому действию; он был помещен
на тонкой опоре из песчаника; солнце в тот момент
светило ярко, и золото вмиг расплавилось, из него как
бы исходил дым; его поверхность была четко видна, и,
казалось, под поверхностью золото все время колыхалось.
Надвинувшиеся тучи прервали опыт. Через час, при очень
хорошей погоде, опыты были повторены с теми же резуль-
татами. Расплавленное золото представляет собою совер-
шенно круглую каплю, чрезвычайно гладкую, полирован-
ную, сверкающую и блестящую. И в середине капли, как
бы в маленьком выпуклом зеркальце, виднелось крохотное
изображение солнца. Оно было крайне четко и ясно
очерчено. Мосье герцог де-Шон, присутствовавший при
опыте, когда я ему указал на дым, заметил, что, быть
может, дым исходит из подставки, а не из золота, и он
предложил, чтобы выяснить это, снять золото и подверг-
нуть песчаник действию лучей. И в самом деле, хотя
золота уже не было, мы видели, как продолжал подни-
маться дым".
Как и ожидал Лавуазье, кварц не плавился в лучах, со-
бранных в линзе Трюдэна. Все попытки расплавить платину,
которую в то время вообще никто еще не мог плавить, не
дали результатов, в лучшем случае платина спекалась.
Ш
Много внимания было уделено воздействию сверх-
высокого жара на алмаз. Уже в 1772 г. появилась работа
1 Чистое золото, без лигатуры.
Загадка разрушения алмаза огнем 145
Лавуазье „О разрушении алмаза огнем"1 (первый мемуар).
В этой работе он, между прочим, писал:
. „Во все времена люди связывали идею совершенства
со всем, что представляется редким и ценным, и они
себя убедили в том, что все, что стоит дорого, что вне
их возможностей, что трудно добываемо, должно, якобы,
сочетать в себе редкие качества, отсюда те чудеса, кото-
рые приписывались философскому камню и жидкому
золоту, отсюда те чудеса и алхимические басни о лекар-
стве от всех болезней.
„Драгоценные камни также удостоились этого энту-
зиазма, и не прошло еще ста лет с тех пор, как им
приписывались особые чудеса. Среди медиков одни про-
писывали их внутрь при некоторых болезнях и вводили
их в свои рецептурные формулы; другие уверяли себя
самих, что достаточно носить их в кольцах, в амулетах
и т. п. и ожидали от них исключительного действия
на живой организм. Многие физики, опередившие свой
век, все же в большей или меньшей степени разделяли
его предубеждения; сам Бойль, знаменитый Бойль, подобно
своим современникам, приписывал медицинские качества
драгоценным камням и даже попытался в своем трактате
«Происхождение свойств драгоценных камней» дать
физическое обоснование тем свойствам, которые им
приписывали".
Бойль утверждал, что драгоценные камни и даже
алмаз окружены особой атмосферой. Лавуазье добавляет,
что все по этому поводу сообщаемое Бойлем свидетель-
ствует лишь о том, что алмаз электричек,1 2 как большое
число тел в природе, а что он иногда „фосфоричен".3
1 Oeuvres, t. II, р. 38.
2 Т. е. способен электризоваться, является диэлектриком.
3 Вернее, флюоресцирует.
10 Дорфман
146
Сверхвысокий жар
Бойль также указывал, будто он однажды заметил едкие
пары, поднимающиеся с драгоценных камней, однако он
не описал подробно ни самого этого явления, ни условий
его наблюдения.
Лавуазье не склонен был придавать серьезного значения
всем этим утверждениям Бойля. Тщательно разобрав все
предшествующие работы, где сообщалось о разрушении
и изменении алмаза под действием жара, Лавуазье во вто-
ром мемуаре „О разрушении алмаза огнем" (1772)1 изло-
жил свои опыты, произведенные отчасти им лично, отчасти
совместно с Маке, Кадэ и др.
В этих опытах Лавуазье помещал алмазы в такие же
условия, как и уголь, фосфор и т. д. Он смог однозначно
показать, что алмаз и уголь являются горючими телами.
Он показал, что горение этих тел сопровождается также
поглощением части атмосферного воздуха, как это на-
блюдалось при горении фосфора.
Эта работа не дала окончательного решения вопроса,
ибо Лавуазье не удалось тогда установить, что же является
продуктом горения алмаза. Его дневники отчетливо пока-
зывают, что в то время он не мог еще отличить кислород
от углекислого газа („связанного воздуха" — „air fixe" —
как его тогда называли), смешивал их друх; с другом.
Это обстоятельство мешало ему понимать сущность
многих химических реакций.
Постепенно, шаг за шагом, нередко идя ощупью,
Лавуазье приближался к открытию истины. Но все же,
явно сознавая незаконченность своего исследования, он
говорит:
„Ход эксперимента столь медлителен, что физик,
который захотел бы ждать, для опубликования своих
работ, покуда он будет ими вполне удовлетворен, рискует
1 Oeuvres, t. II, р. 64.
Загадка разрушения алмаза огнем
147
дойти до конца своей деятельности, не выполнив обяза-
тельства, принятого им на себя, и не сделав ничего
ни для наук, ни для общества. Значит, необходимо иметь
мужество дать несовершенные вещи, отказаться от за-
слуги сделать все, что можно было сделать, сказать все,
что можно было сказать, значит, необходимо принести
свое самолюбие в жертву стремлению быть полезным
и ускорить прогресс наук“.
10=
Глава VII
НАУКА И „ГИДРОСКОПИЯ"
Описания чудес и колдовства на страницах газет и журналов. — Не-
годующее письмо в защиту науки. — Герцог-покровитель „гидроско-
пии*.— Лавуазье проверяет на опыте'„чудесные" способности „водо-
видца“. — Наука торжествует.
I
В июне 1772 г. на страницах „Gazette de France"
появились сенсационные статьи,1 сообщавшие о появлении
в местности Виварэ некоего молодого человека, обладаю-
щего чудесной способностью видеть водяные источники
сквозь землю и камни.
В июньском же номере солидного научного журнала
„Journal de Physique* (иначе „Observations sur la Physi-
que*), издававшегося аббатом де-Розье, были напечатаны
письма о различных лицах, обладающих будто бы сход-
ными способностями.
Так, например, некий Кольво рассказал со слов каких-
то королевских чиновников об обнаружении ребенка-
„водовидца* („гидроскопа*). „Нельзя отрицать,—писал
Кольво, — что этот ребенок сумел правильно проследить
1 Gazette de France, 5, 12 et 15 juin 1772.
Негодующее письмо в защиту науки
149
путь известных водопроводных линий, какой бы длины
они ни были, и притом даже тогда, когда трубы покрыты
землей или замурованы в каменную кладку. Неоспоримые
факты неизбежно доказывают, что сей ребенок обладает
исключительным даром находить скрытую от человеческих
глаз воду“.
Далее некий Одон, доктор медицины при университете
в Монпелье решил поделиться с читателями того же
журнала своими материалами о других „общеизвестных",
но необъяснимых фактах: „Было бы интересно послу-
шать, — пишет он, — как объяснят господа ученые тот
общеизвестный факт, что любезная супруга господина
Педегаша, французского торговца, может отчетливо видеть
все происходящее внутри человеческого тела и даже
во внутренностях самой земли...". Замечая, что мадам
Педегаш действует „подобно ведьме и может заворожить
человека", почтенный автор указывал, что „эта любез-
ная дама при одном взгляде на человека может опреде-
лить, какое ребро у него повреждено, а также она может
безошибочно пересчитать породившихся щенят у домаш-
ней суки и открывает множество тайн".
Все эти газетные и журнальные статьи произвели
огромное впечатление на публику.
Вскоре на страницах журнала аббата де-Розье появи-
лось письмо следующего содержания:1
„М. Г.! Философия не может без боли глядеть на то,
как в просвещенный век люди, которых их положение,
их знания и их репутация поставили над средним уров-
нем, сами сеют среди публики старые заблуждения, абсурд-
ность которых признана уже давно и против которых
истинно ученые уже не раз протестовали. Я лично отнюдь
не видел этого человека, именующего себя «водовидцем»,
1 Journal de Physique, t. II, juin 1772, p. 231.
150
Наука и «гидроскопия»
о котором публичные листки1 сообщают столько чудес-
ных вещей.
„Никаких новых материалов сообщить публике я не мо-
гу, но своего рода негодование вложило перо в мои руки,
и я чувствую себя обязанным ответить, поскольку во мне
самом заключена часть оскорбленного достоинства нации,
которую некоим образом принуждают поверить в одно
из наиболее нелепых заблуждений.
„Если бы факты, сообщенные в публичных листках,
не отпадали сами собой, если бы их физическая невоз-
можность не была очевидной, я бы вам заметил, что
основным свойством непрозрачного тела является его
неспособность пропускать свет, способность задерживать
лучи. Между тем, предметы становятся видимы лишь
при попадании в глаз лучей света, отраженных от пред-
мета, отсюда явствует, что никто не может видеть сквозь
непрозрачное тело. И поэтому не существует ни очков,
ни машин, ни устройства, которое бы могло совершить
это чудо. Одним словом, видеть сквозь непрозрачное
тело это значит видеть без света, что противоречит
физике.
„Я мог бы добавить, что факты, которые рассказы-
вают о «водовидце», не укладываются даже в рамки
того, что известно физикам о течении подпочвенных вод.
Но, как я уже говорил, эти факты отпадают сами собой,
и всякая дискуссия их бесцельна.
„Нет такой личины, которой не воспользовалась бы
ложь, дабы завладеть людским доверием, а в особенности
в века невежества и варварства. Ложь о «водовидцах»
ненова, наоборот, сна уже давным давно существовала
в Испании. Мартин дель-Рио уверяет, будто находили
1 Газеты.
Негодующее письмо в защиту науки
151
людей •.., обладавших столь проникающим зрением, что
они могли различить под землей и струи воды, и металлы,
и драгоценности, и трупы. По словам этого автора, они
имели очень красные глаза, и он уверяет, что лично
видел в Мадриде в 1575 г. человека этой породы. Дель-
Рио нагромоздил целый ворох физических или, якобы,
таковых рассуждений, дабы доказать возможность неко-
торых из чудес, приписываемых «водовидцам», но он
вынужден для объяснения остальных чудес прибегнуть
к могуществу демона. Эти, так называемые, «цагурис»,
по мнению народа, рождались в святую пятницу, и именно
этот день их рождения давал им столь чудесную приви-
легию.
„Испанский врач Гвитерий, писавший после дель-Рио,
с полным основанием издевается и над доверчивостью
народа и над глупостью дель-Рио.
„Время и знания незаметным образом развеяли все
эти призраки, которые могли существовать лишь по мило-
сти тьмы и невежества. Мы знаем, что в начале этого
века никто уже не верил более ни в ацагурисов»,
ни в волшебный жезл, ни в вампиров.
„Неужели мы сегодня вновь возвращаемся к векам
варварства и неужели сегодня философия вновь потеряла
среди нас часть той территории, которую ей удалось
отвоевать однажды. Я в это не могу поверить и стараюсь
даже отбросить всякую мысль об этом. Без сомнения, пуб-
лика вскоре придет в себя после первого мгновения иллю-
зий, а это обстоятельство заставит тех, кто размышляет и,
в особенности, тех, кто пишет, в будущем остерегаться
басен подобного рода...
„Пребываю с почтением и пр.
член Королевской Академии Наук Л.“.
Хотя в то время никто из читателей письма не со-
мневался в авторстве Лавуазье, полное доказательство
152
Наука и «гидроскопия»
было получено лишь много лет спустя, йогда при раз-
боре бумаг Лавуазье была обнаружена копия. Уж так
С обственнрручная записка Лавуазье.
Перевод текста гласит:
„Вы мне разрешили, Мосье, попросить у Вас на несколько дней
различные письма и заметки, которые я имел честь направить Вам
из Клермонтуа. Я буду очень Вам обязан, если Вы соблаговолите их
передать посланному. Я их возьму, дабы посмотреть, не осталось
ли в них некоторых упущений.
„Имею честь пребывать в совершенной преданности к вам
Мосье, Ваш нижайший и покорнейший слуга Лавуазье". Париж,
23 февраля 1771 г.".
было заведено у Лавуазье, что от каждой отправленной
бумаги дома оставалась копия, написанная либо Марией
Лавуазье, либо секретарем.
Итак, это письмо появилось на страницах „Journal
de Physique", причем к нему был приписан постскриптум:
Герцог— покровитель «гидроскопии»
153
„Р. S. После того, как я отослал это письмо, я полу-
чил сообщение, что г. Полар, человек праведный и про-
свещенный, кюрэ той округи, где родился этот, якобы,
водовидец, отнюдь не был склонен разделять энтузиазм,
в котором кое-кто ссылался на него лично, и он не нашел
ничего сверхобыкновенного в этом человеке. В присутст-
вии мосье Полара под землей были упрятаны и хорошо
прикрыты сосуды с водой. Молодой человек не мог их
найти и вынужден был согласиться, что он может откры-
вать лишь неведомые воды, что воды, известные осталь-
ным, для него остаются невидимыми. Этот ответ в доста-
точной мере рисует всю ложь и обман".
Когда некоторое время спустя один из академиков
огласил на заседании Академии полученное им частное
письмо, восторженно описывавшее чудеса юного „водо-
видца", часть собрания предложила пригласить этого
юношу для доклада в Академии. Однако Лавуазье и астро-
ном Лаланд выступили с горячим протестом, доказывая,
что „это приглашение будет служить признаком веры
Академии, которая себя опозорит, как бы оказывая дове-
рие столь нелепым сказкам".1
II
Между тем герцог д’Эйен обнаружил во время своих
поездок некоего юношу Жана Вернея, утверждавшего,
что он также может обнаруживать подземные источники
воды посредством волшебного жезла. Герцог обратился
к академику Маке за советом, кто из ученых мог бы
проверить утверждения этого молодого человека. Маке
порекомендовал обратиться к Лавуазье. Последний
не смог отказать высокопоставленному покровителю
„водовидцев".
; G rimaux. Lavoisier, р. 141.
i54
Наика и «гидроскопия»
И вот Лавуазье совместно с Маке организовал про-
верку чудесных способностей Жана Вернея. Он выбрал
в окрестностях Парижа небольшую рощицу, относительно
которой он лично с детства знал, что в ней, где ни коп-
нешь, всюду имеется вода. Лесок с одной стороны гра-
ничил с ручьем, а с другой — с прудом. Темной ночью
прибыли сюда Лавуазье, Маке и пресловутый „водовидец“.
Жан Верней ехал с завязанными глазами и не знал, куда
его везут. По прибытии на место, повязку с глаз сняли.
Взяв свой волшебный вилкообразный жезл за его концы,
Верней долго бродил по лесу, как бы повинуясь колеба-
ниям жезла, разыскивая место, где имеется вода. Место,
указанное им, ничем решительно не отличалось от всех
соседних мест. Он не заметил в темноте ни ручья,
ни пруда.
Таким образом, молодой протеже герцога Эйенского
был нацело разоблачен.
Лавуазье представил герцогу весьма почтительно
написанный доклад, в котором подробно изложил все
обстоятельства состоявшейся проверки. Он со спокойным
юмором подчеркнул, что „водовидец" отказался указать,
на какой глубине имеется вода, ссылаясь на то, что
в ночное время он не может разглядеть как следует, что
делается под землей.
„Если строго рассуждать, — писал Лавуазье, — дей-
ствия, произведенные в нашем присутствии Жаном Вернеем,
ничего не доказывают ни за, ни против него, поскольку
они были произведены в ночное время, а это дало ему
повод отказаться от точного указания глубины залегания
воды.
Однако мы склонны думать, что вряд ли стоит
продолжать далее наши исследования".1
1 Oeuvres, t. VI, р. 93.
Наука торжествует
155
Сказка о водовидцах рухнула. И вскоре даже сам
автор сенсационных корреспонденций в „Gazette de
France" вынужден был сообщить, что он был введен
в заблуждение. Он признал, что все опубликованные
в газете рассказы о способностях „гидроскопа" при про-
верке оказались выдумкой.
Глава VIII
КИСЛОРОД
Догадки Лавуазье о сложном составе воздуха. — Дата первой запи-
си. — Выясняется непригодность окислов железа для изучения состава
воздуха. — Пристли получает из сурика „дефлогистированный" воз-
дух.— Шееле получает „райский" воздух. — Сущность этих открытий
остается непонятой. — Лавуазье с помощью сурика открывает „кисло-
род” и устанавливает состав атмосферы. — Развертывание наступле-
ния на флогистон. — Анонимная полемическая статья Лавуазье.—
Повторение некоторых аргументов Ломоносова. — Лавуазье изучает
труды С.-Петербургской Академии. — Коренное различие их твор-
ческих путей. — Теория горения и дыхания обходится без флоги-
стона. — Лавуазье отступает от передовых воззрений Ломоносова. —
Ошибочная теория кислот. — Изобретение кислородного дутья. —
Изобретение газометра. — Теория окисления и закалки стали. —
Теория наивыгоднейшей формы режущих инструментов.
I
В своем мемуаре „О природе воды“, напечатанном
в 1771 г., Лавуазье, между прочим, заметил об атмосфере:
„Вероятно воздух, составляющий основу ее (атмосферы),
отнюдь не является простым телом, элементом, как думали
первые физики". Эти слова, опиравшиеся на мысль Бойля,
представляли собою итог экспериментов, частично опубли-
кованных в 1774 г. в „Opuscules physiques et chimiques".
В самом деле, опыты эти показывали, что обжиг метал-
лов в закрытом сосуде прекращается в определенный
момент, хотя в этот момент в сосуде еще остается немало
Догадка о сложном составе воздуха
157
воздуха. И вот 29 марта 1773 г. Лавуазье записал
в свой лабораторный дневник:1
„Я увидел с изумлением, что свинец не обжигается
больше. С этого момента я начал подозревать, что кон-
такт с циркулирующим воздухом необходим для обра-
зования металлической извести; что, быть может, даже
весь воздух в целом, которым мы дышим, не входит
вовсе в металл при обжиге, но лишь часть его, кото-
рая не находится в полном изобилии в данной массе
воздуха".
Впрочем, он еще немного сомневается и потому тут
же указывает: „Быть может, все же слой извести, покры-
вающий поверхность металла, препятствовал непосред-
ственному контакту с воздухом и задерживал развитие
обжига".1 2 * * *
Лавуазье поэтому снова и снова повторял опыт,
проверяя, какое количество воздуха поглощают различ-
ные металлы при обжиге. И постепенно последние со-
мнения отпали.
Но оставалось другое обстоятельство, упорно волно-
вавшее Лавуазье/ снова и снова заставлявшее продумать
все обстоятельства опытов и повторять их в разных
вариантах без конца.
Он упорно полагал, что обжиг металлов, фосфора,
серы заключается в поглощении этими веществами связан-
ного воздуха (air fixe — СО2) из атмосферы. Иными сло-
вами, он смешивал кислород с углекислотой. И это запу-
тывало картину. В июле 1773 г. он записывает в дневник: 8
1 М. Berthelot. La Revolution chimique, p. 238.
2 Ibidem. Соображение вполне правильное: слой окалины тормозит
и может даже совершенно приостановить дальнейшее окисление,
как это, например, наблюдается на алюминии.
8 Ibidem, р. 246.
158
Кислород
„Убежденный в том, что горение фосфора поглощает
связанный воздух, содержащийся в воздухе, или, вернее,
подозревая это, я решил, что, прибавив его1 к этому
воздуху,1 2 можно было бы, пожалуй, превратить его в обыч-
ный воздух.
„Я приготовил эту смесь... Смесь тушит маленькую
свечу".
Он даже подумал было, что, быть может, прибавлено
слишком много „связанного воздуха".
Гёфер в своей „Истории химии" приводит очень
интересную выдержку3 из дневника, свидетельствующую
о том, что уже 14 февраля 1774 г. Лавуазье правильно
понял состав атмосферы. Эту же мысль содержит изве-
стный мемуар, законченный им лишь в декабре 1774 г.4
Между тем, одно обстоятельство осталось незамеченным
у большинства биографов. Второй том неопубликованных
дневников Лавуазье, из которого заимствована цитата
Гёфера, был доступен изучению в сороковых годах прош-
лого столетия, когда Гёфер писал свою „Историю",
а затем был утерян и найден лишь в 1902 г. Краткое
содержание этого тома приведено в статье М. Бертло.5
К сожалению, мы лишены возможности сравнить
цитату Гёфера с подлинным текстом этого неопубликован-
ного дневника, хранящегося во Франции. Однако сопо-
ставление цитаты с текстом мемуара отчетливо показывает,
что Гёфер заимствовал ее отнюдь не из мемуара... Дело
в том, что одна и та же мысль изложена в цитате Гёфера
и в мемуарах Лавуазье несколько различными словами.
1 „Связанный воздух".
2 К воздуху, в котором уже сгорел фосфор.
4 F. Hofer. Histoire de la chimie, p. 503.
4 „Об обжиге олова в закрытых сосудах". Oeuvres, t. II, р. 120.
5 М. Berthelot. Comptes Rendus de 1’Acad., vol. 135, pp, 549—
574, 1902.
Дата первой запрей
159
Это обстоятельство заставляет нас думать, что цитата
Гёфера взята им действительно из дневника Лавуазье
и относится к 14 февраля 1774 г.
Приводим оба текста в подлиннике (выделены слова,
отличающие тексты друг от друга).
Гёфер.1 Запись в дневнике экс-
периментов, 14 февраля 1774 г.
Enfin je crois pouvoir annon-
cer ici que la totalite de I’air
de I’atmosphere ri’est pas dans
un etat respirable, que c’est la
portion salubre qui se combine
avec les metaux pendant leur cal-
cination et que ce qui reste apres
la calcination est une espece de
mofette incapable d’entretenir la
respiration des animaux et 1’inflam-
mation des corps.
Текст из неопубликованного мему-
ара, 1 2 декабрь 1774 г.
Sans anticiper sur les consequen-
ces qui resultent de ce travail
je crois pouvoir annoncer ici que
la totalite de I’air de I’atmosphere
n’est pas dans un etat respirable,
que c’est la portion salubre qui se
combine avec les metaux pendant
leur calcination et que ce qui reste
apres la calcination est une espece
de mofette incapable d’entretenirla
respiration des animaux ni 1’inflam-
mation des corps.
Перевод цитаты Гёфера гласит:
„Наконец я полагаю возможным заявить, что весь
воздух атмосферы в целом не находится в состоянии,
пригодном для дыхания, но лишь его оздоровляющая
часть, которая соединяется с металлами при обжиге,
а то, что остается после обжига, есть своего рода удушли-
вая часть, непригодная для поддержания дыхания живот-
ных и горения тел“.
Таким образом, уже в феврале 1774 г. Лавуазье
фактически уяснил себе состав атмосферы.
В это самое время появилась работа французского
химика Байена,3 в которой описываются результаты
1 F. Hofer. Histoire de la chimie p. 503.
2 Oeuvres, t. II, p. 120.
3 Observations sur la Physique, fevrier, 1774, p. 139.
160
Кислород
опытов по нагреванию окиси ртути HgO или, как его
тогда называли, Mercurius praecipitatus per se. Байен
заметил, что при нагревании HgO выделяется в большом
количестве какой-то газ. „Эти опыты, — пишет Байен, —
имеют много общего с опытами, о которых сообщает
г. Лавуазье в своей превосходной работе о существова-
нии некоего упругого связанного флюида в некоторых
субстанциях".1 Байен подчеркивает, что увеличение веса
ртути при образовании HgO „несомненно вызвано этой
доселе неизвестной причиной, действие которой увеличи-
вает вес металлической извести по сравнению с весом
металла до горения". Байен этим ограничил свое иссле-
дование данного вопроса, пытаясь объяснить его с позиций
флогистической теории; впрочем, он предупредил, что
намерен следовать теории Шталя лишь доколе это ока-
жется возможным.
II
Между тем, Лавуазье пришел к заключению, что для
окончательного выяснения природы того флюида, который
соединяется с металлами, абсолютно необходимо вести
процесс восстановления „металлических известей" в отсут-
ствии всяких посторонних веществ, искажающих резуль-
таты опыта.
„Большинство металлических известей не может быть
восстановлено, т. е. они не возвращаются в металлическое
состояние иным путем, как путем непосредственного
контакта с углеобразной материей или с какой-либо
-субстанцией, содержащей то, что называется «флогисто-
ном». Уголь, который применяется при этом, уничтожается
нацело при этой операции, ежели доза соответственно
1 Речь идет об «Opuscules physiques et chimiques", появившихся
-в декабре 1773 г. с пометкой „1774 г.“.
Непригодность окислов железа для изучения состава воздуха / 61
подобрана; из этого следует, что воздух, выделяющийся
при восстановлении металлов посредством угля, не является
простым веществом, что он в известной мере есть резуль-
тат соединения упругого флюида, выделенного металлом,
и другого флюида, выделенного углем; следовательно,
хотя этот флюид и получают в виде связанного воздуха,1
все же мы не имеем права заключить отсюда, что он имелся
в этом состоянии в металлической извести до соединения
с углем".
Здесь Лавуазье до известной степени пользуется уже
принципом сохранения элементов. Он продолжает:
„Эти соображения заставили меня понять, в какой мере
существенно, для распутывания тайны восстановления
металлических известей, направить все мои эксперименты
на те объекты, которые восстанавливаются без добавле-
ния чего-либо. Железные извести обладают этим свой-
ством, но в'действительности, однако, из всех этих как
естественных, так и искусственных известей, которые
мы подвергали действию в фокусе больших зажигатель-
ных стекол мосье Регента, либо мосье Трюдэна, нет
ни одной извести, которую бы удалось полностью вос-
становить без добавления чего-либо.
„Я попытался восстанавливать, с помощью зажигатель-
ного стекла, различные виды железных известей под
большими стеклянными колоколами, погруженными в ртуть;
и я добился выделения таким образом значительного
количества упругого флюида; однако поскольку при этом
упругий флюид оказывался в смеси с обычным воздухом,
находившимся в объеме колокола, данное обстоятельство
вводило значительную погрешность в мои результаты;
ни одно из испытаний, которым я подвергал этот воздух,
не было совершенно решающим, и мне было невозможно * 11
3 СО2.
11 Дорфман
162
Кислород
удостовериться, зависят ли явления, которые я получаю,
от обычного воздуха, от того воздуха, который выделился
из железной извести, или от соединения их друг с другом.
Эти эксперименты не удовлетворили поставленной задаче,
и я опускаю их детальное описание".
Цитированные нами строки написаны Лавуазье в его
мемуаре „О природе начала, которое соединяется с метал-
лами при их обжиге и увеличивает их вес",1 прочитанном
на пасхальном публичном заседании Академии Наук
в марте или апреле 1775 г. Биографы Лавуазье обычно
полагают, что опыты, приведшие его к открытию кисло-
рода, были проведены после октября 1774 г., т. е. после
посещения Парижа Джозефом Пристли.
В лабораторных дневниках Лавуазье, судя по мате-
риалам, опубликованным М. Бертло, я не обнаружил
никаких данных относительно упомянутых здесь опытов
с окислами железа. Подробное рассмотрение этих мате-
риалов показывает, однако, что в них имеются пропуски.
В самом деле: первый том дневников охватывает собою
период с 20 апреля 1772 г. по 28 августа 1773 г., второй
том дневников охватывает собою период с 9 июля 1773 г.
по 5 марта 1774 г., третий том дневников охватывает
собою период с 23 марта 1774 г. по 13 февраля 1776 г.
Таким образом, период с 5 по 23 марта 1774 г., неви-
димому, не нашел себе вовсе отражения в этих днев-
никах.
Между тем, в четвертом томе тех же дневников имеется
ссылка на второй том, с указанием на некоторые опыты,
произведенные 15 марта 1774 г. Следовательно, во втором
томе содержались также описания опытов, относящихся
к периоду между 5 и 23 марта 1774 г., которых, однако,
впоследствии не оказалось.
1 Oeuvres, t. 11, рр. 122—124.
Непригодность окислов железа для изучения состава воздуха 163
Известно, что в дневниках Лавуазье имелось множе-
ство непереплетенных, свободно вложенных листков —
с различными записями. Многие из них сохранились
и упоминаются в работе Бертло. Следует, однако, иметь
в виду, что как-раз второй том был изъят Ф. Араго
из общего собрания дневников и подарен им Библиотеке
города Перпиньяна, где он и был обнаружен лишь в 1902 г.
Возможно, что в результате всех этих происшествий
кое-какие листки из злополучного И тома были утеряны.
Во всяком случае, этот вопрос требует дополнительного
изучения литературного наследия Лавуазье, хранящегося
во Франции.
В примечании к мемуару „О природе начал ...“ Лавуазье
сообщает: „Этот мемуар доложен на публичном заседании
на пасхе 1775 г. и повторен снова 8 августа 1778 г.1
Первые опыты, относящиеся к этому мемуару, были
произведены более года тому назад*.
Таким образом, и со слов Лавуазье приходится отнести
опыты с окислами железа также ко времени апреля—марта
1774 г., т. е. их описание должно было бы находиться
во II томе дневников.
А между тем, что означают вышеописанные опыты
с окислами железа? Эти опыты показывают, что уже
тогда он фактически нашел путь к получению кисло-
рода, и, повидимому, уже наблюдал какие-то его специ-
фические свойства. Будучи, однако, очень требователь-
ным к себе экспериментатором, он не признал получен-
ные результаты достаточно безупречными, а потому и не
опубликовал их.
„Поскольку зти затруднения были связаны с природой
самого железа и с огнестойкостью железных известей, —•
1 Memoires de I’Academie des Sciences, 1775, p. 520. Эти „Мему-
ары" за 1775 г. были опубликованы в 1778 г.
И*
164
Кислород
продолжает Лавуазье в марте—апреле 1775 г.,—и с труд-
ностью их восстановления без добавления чего-либо,
я признал их непреодолимыми и считал себя обязанным
обратиться к иному типу известей, с которыми легче
обращаться и которые обладают способностью восста-
навливаться без добавления чего-либо. Mercurius praeci-
pitatus per se,1 говорю я, мне показался вполне пригодным
для осуществления задачи, которую я себе поставил:
действительно, сегодня уже никто не сомневается в том,
что это вещество восстановимо без добавления чего-либо
при весьма невысоком нагреве. Хотя я повторял весьма
большое число раз опыты, о которых я хочу сообщить,
я не считал себя обязанным излагать здесь детали
каждого из них в отдельности из опасения чрезмерного
увеличения о’бъема мемуара, и я их объединил, следо-
вательно, в одно единственное повествование об обстоя-
тельствах, которые относятся ко многим повторениям
одного и того же опыта".
И вот Лавуазье сообщает: во-первых, об экспериментах
по восстановлению красной окиси ртути (Hg“O) в присут-
ствии угля, чтобы убедиться, прежде всего, что „преципи-
тат пер се" является действительно металлической изве-
стью. Эти опыты приводят к получению „связанного
воздуха", т. е. углекислоты (СО2).
Во-вторых, он сообщает о восстановлении ртутной
извести (Hg*O) без добавления чего-либо, путем несколько
более сильного нагрева. Он показывает, что выделяющийся
при этом газ не имеет ничего общего с углекислотой,
но является „наиболее чистой частью того самого воздуха,
который нас окружает", т. е. кислородом. Эти опыты были
поставлены, как указано в том же примечании к мемуару,
в согласии с данными дневников, сначала в ноябре 1774 г.
1 Hg-O.
Пристли получает «дефлогистированный» воздух
165
(при помощи зажигательного стекла), а затем повторены
„со всеми предосторожностями и необходимой тщатель-
ностью" совместно с Трюдэном в его личной лаборатории
в Монтиньи 28 февраля, 1 и 2 марта 1775 г.
Почему же опыты над HgO были предприняты Лавуа-
зье лишь в ноябре, если эксперименты над окислами
железа проводились в марте 1774 г.? Как явствует
из дневника, он занимался в это время, во-первых, вопро-
сом о горении „воспламеняющегося воздуха", т. е. водорода
(открытого Кэвендишем в 1766 г.). Однако опыты эти
были поставлены неудачно, пары воды — результат горе-
ния Н2 — улетучивались, и это сбивало Лавуазье с толку.
Во-вторых, он занимался изучением „селитряного воз-
духа" (NO2), но из-за существования различных окислов
азота1 ему никак не удавалось распутать весь узел во-
просов. В дневнике мы находим различные попытки под-
счетов содержания „воздуха" в селитре. Под ними запись:
„Все эти вычисления покамест не что иное, как прикидка".
Он занимался также природой кислот. И только в ноябре,
после визита Пристли в Париж, Лавуазье приступил
к опытам над HgO, путем сильного нагрева, без доба-
вления чего-либо постороннего.
III
В августе 1774 г. английский философ и химик Пристли
поместил окись ртути в закрытый сосуд и подверг ее
нагреванию в солнечных лучах, сконцентрированных
посредством зажигательного стекла. Он уже давно мето-
дически изучал свойства разнообразных газов, выделяю-
щихся при различных реакциях. И вот, исследуя природу
газа, выделяющегося из HgO, он обнаружил, что этот
газ поддерживает и даже улучшает горение свечи:
1 n2o, no, no2, n2o4) N?.Ok.
166
Кислород
„Я поместил под банкой, погруженной в ртуть, немного
порошка Mercurius calcinatus per se. Затем я взял неболь-
шое зажигательное стекло и направил лучи солнца прямо
внутрь банки на порошок. Из порошка стал выделяться
воздух, который вытеснил ртуть из банки.
„Я принялся изучать этот воздух. И меня удивило,
даже взволновало до самой глубины моей души, что
в этом воздухе свеча горит лучше и светлее, чем в обычной
атмосфере", — так описывает это открытие Пристли
в своих „Экспериментах над различными видами воздуха".
Однако, не будучи специалистом-химиком (как он сам
говорит), он не поверил в свои опыты, опасаясь, что они
вызваны присутствием каких-то примесей в имевшемся
препарате HgO.
То было в августе — сентябре 1774 г... В то время
Джордж Пристли служил в качестве личного секретаря
у лорда Шельбёрна. В октябре 1774 г. лорд в сопрово-
ждении своего секретаря отправился в путешествие
по Европе и прибыл в Париж.
„Находясь в Париже в октябре и зная, что в этом
городе имеются выдающиеся химики, я не преминул
воспользоваться случаем и получить, через посредство
моего друга г. Магеллана,1 унцию кальцинированной
ртути, приготовленной г. Кадэ, качество которой было
вне всяких подозрений.
„В это же время я несколько раз сообщал г. Лавуазье,
Лё-Pya и другим физикам, почтившим меня своим вни-
манием в этом городе, о том изумлении, которое вызвали
во мне свойства воздуха, извлеченного из этого препарата.
И я осмеливаюсь заметить, что они вряд ли могли забыть
это обстоятельство", — так писал Пристли впоследствии
в своей книге.
1 Химика, бывшего также другом Лавуазье.
Пристли не понял сущности своего открытия
167
В экстренном декабрьском номере журнала аббата
Розье „Observations sur la Physique" за 1774 г. появилась
статья за подписью Лавуазье, представляющая собой
краткое изложение мемуара, доложенного Академии Наук
12 ноября 1774 г., „Об обжиге некоторых металлов
в закрытых сосудах и о причине увеличения веса, проис-
ходящего во время этой операции".1 Сообщив о своих
работах по изучению обжига олова и свинца в закупорен-
ных сосудах, он закончил эту статью следующими словами:
„Обстоятельства заставляют меня держаться известных
границ, поэтому я не могу входить в весьма существен-
ные подробности... они вынуждают меня также обойти
молчанием все опыты, проведенные мною над воздухом,
который остался после обжига металлов. Этот воздух,
лишенный таким образом своей фиксируемой части (я бы
мог даже сказать — своей кислой части, которую он содер-
жит), этот воздух, говорю я, в известной степени разложен;
и мне казалось, что из этого опыта вытекает способ
анализа того флюида, который составляет нашу атмосферу,
и изучения тех начал, из которых она состоит. Хотя я и
не достиг в этом вопросе вполне удовлетворительных
результатов, все же я полагаю, что нахожусь в состоянии
утверждать, что воздух наиболее чистый, какой можно
себе представить, лишенный всякой влаги и всякой суб-
станции, чуждой его сущности и его составу, отнюдь
не является простым существом, элементом, как обычно
полагают. Но он должен быть, напротив, причислен
к классу смесей или быть может даже соединений".
Таким образом, не подлежит никакому сомнению, что
немедленно после визита Пристли и его сообщения
об открытом им новом виде воздуха, усиливающем горе-
ние, Лавуазье занялся повторением опытов английского
1 Observations sur la Physique, t. IV, part 11, Decembre, 1774.
168
Кислород
ученого. Он их провел над тем же объектом (HgO) и тем
же способом (зажигательное стекло).
Однако он не упоминает о Пристли ни в мемуаре
„Об обжиге олова“, ни даже в мемуаре „О природе начала,
соединяющегося с металлами". Это особенно примеча-
тельно в отношении второго мемуара, в котором Лавуазье
специально излагает опыты по выделению кислорода
именно из HgO, как наиболее подходящей для этой
задачи „металлической извести". Хотел ли он попросту
похитить открытие Пристли, как пытается, например,
изобразить это дело немецкий историк химии Эд. фон-
Липпман и некоторые другие исследователи? По этому
поводу следует напомнить, что сам Лавуазье откровенно»
указал в примечании к своему мему ару дату своих первых
опытов над HgO. Ведь он имел полную возможность
именно здесь привести любую другую более раннюю
дату и тем самым отстаивать свой приоритет. Значит,
отнюдь не из желания похитить приоритет у Пристли,
умолчал он о нем, как умолчал и о Байене. Дело в том,
что опыты по восстановлению окиси ртути сами по себе
вообще не были новостью. Поскольку, однако, ни Пристли,
ни Шееле (как мы увидим ниже) не поняли вовсе того,
что они действительно натолкнулись на составную часть
атмосферы, Лавуазье, очевидно, не находил нужным при-
писывать им честь открытия кислорода.
Это обстоятельство и заставило впоследствии (1777)
Пристли указать на свою беседу в Париже с Лавуазье,
Лё-Pya и другими физиками и обиженно добавить:
„И я осмеливаюсь заметить, что они вряд ли могли забыть
это обстоятельство".
Пристли провел свои исследования не только на
окиси ртути, но и на сурике (РЬ3О4). „Этот опыт
с суриком, — говорит он, — тем более утвердил меня
в убеждении, что обожженная ртуть должна заимствовать
Пристли не понял сущности своего открытия
16 9
у атмосферы способность выделять указанный вид воз-
духа, поскольку метод приготовления сурика подобен
способу получения обожженной ртути. Но я никогда
не делаю секрета из своих наблюдений, и я сообщил
об этих своих экспериментах, как и об опытах с обож-
женной ртутью и с красным преципитатом, всем моим
знакомым в Париже и в других местах. Я еще не подо-
зревал тогда, куда должны привести меня эти замеча-
тельные факты".
Громко высказанная Пристли обида заставила Лавуазье
вспомнить о нем в двух своих работах: в „Мемуаре
о присутствии воздуха в азотистой кислоте" (доложен
Академии 20 апреля 1776 г., сдан в печать в декабре
1777 г.)1 и в мемуаре „О некоторых веществах, постоянно
находящихся в состоянии воздухообразных флюидов"
(доложен Академии 28 февраля 1776 г., сдан в печать
5 сентября \ТП г.).1 2 В обоих мемуарах он отмечает, что
„почти все опыты", о которых он намерен сообщить,
„принадлежат доктору Пристли". Но он добавляет (в пер-
вом мемуаре):
„Я начну с того, что прежде, чем вдаваться в суть
вопроса, поставлю публику в известность, что часть
экспериментов не принадлежит мне лично; быть может,
строго говоря, здесь нет ни одного опыта, относительно
которого г. Пристли не смог бы заявить претензию
на первенство идей; однако, поскольку одни и те же факты
привели нас к диаметрально противоположным выводам,
я надеюсь, что, если меня упрекают в заимствовании
доказательств из работ этого знаменитого физика,
то у меня вряд ли будут оспаривать хотя бы мое право
собственности на выводы".
1 Oeuvres, t. 11, р. 129.
2 Ibidem, р. 783.
170
Кислород
Много позднее, в 1782 г., в своем мемуаре „О способе
значительного увеличения действия огня“1 Лавуазье,
упоминая о кислороде, сказал даже: „Этот воздух, кото-
рый г. Пристли открыл приблизительно в то же время,
что и я, и даже, я думаю, раньше меня".
В самом деле, Пристли отнюдь не вывел из своих
опытов заключения о том, что воздух атмосферы содержит
в себе два различных газа. Он считал воздух однородным
веществом, лишь загрязненным (или, как он выражается,
„обремененным") флогистоном, т. е. огненной материей
и разными испарениями. И он продолжал утверждать
до самой смерти, что выделенный им из окиси ртути
газ это не что иное, как воздух атмосферы, очищенный
от флогистона („дефлогистированный").
IV
Лавуазье не только правильно понял сущность и зна-
чение открытия кислорода, но, как мы видели, сознательно
шел к этой цели. И, повидимому, только случайные
обстоятельства задержали его на последнем этапе
этого пути, на этапе окончательной изоляции
химически чистого кислорода. Здесь он, пови-
димому, и воспользовался сообщением Пристли.
Диаметрально противоположным путем пришел к откры-
тию кислорода Пристли. Вот что он пишет по этому
поводу:1 2 „Содержание этого раздела3 послужит порази-
тельной иллюстрацией истинности замечания, которое
1 Ibidem, р. 423.
2 J. Priestley. Observations on different kinds of air, vol. II,
1774, p. 103.
3 T. e. раздела об открытии „дефлогистированного воздуха" —
-кислорода.
Пристли не понял сущности своего открытия
171
я неоднократно высказывал в моих философских исследо-
ваниях и которое вряд ли можно слишком часто повторять,
поскольку оно в сильнейшей степени поощряет философ-
ские исследования; а именно, что в этом деле мы больше
обязаны случаю, т. е., говоря философски, наблюде-
нию событий, вызванных неведомыми при-
чинами, чем какому бы то ни было надлежащему плану
или предвиденной т е о р и и". Пристли подчеркивает, что
„дефлогистированный воздух", как и многое другое,
он открыл случайно. Он отмечает, что изучил действие
этого газа на горение тоже случайно, просто потому,
что „случайно под руки подвернулась свеча". Английский
ученый указывает, что ему никогда не приходила в голову
мысль о возможности получения воздуха „более чистого,
чем обычный самый чистый воздух". Само предположение
о существовании такого воздуха казалось невероятным.
„Мы так охотно готовы принять какую-либо идею за истину,
что даже простейшая очевидность ощущения не вполне
изменяет и часто вряд ли даже видоизменяет наши требо-
вания; и чем остроумнее человек, тем более основательно
он запутывается в этих своих ошибках; его талант позво-
ляет ему обманывать самого себя, ускользая от силы
истины".1 Глубокому мыслителю Пристли казалось, что,
открыв „дефлогистированный воздух", он совершил какой-
то необыкновенный прыжок через преграды предрассуд-
ков. Он сильно преувеличивал „случайность" своих
открытий, стремясь увидеть в этом случайном событии
преднамеренную божественную волю. И он не столько
пытался разобраться в сущности наблюденных им новых
физико-химических явлений, не столько искал теоретиче-
ских объяснений для них, сколько углубился в поиски
морально-философских выводов. Заметив, что животные,
1J. Priestley. Observations on different kinds of air, p. 104.
172
Кислород
помещенные в сосуд с кислородом, дышали легко,
но скоро гибли, он написал: „Дефлогистированный воздух
может быть очень полезен в медицине и помогает легким
дышать, но он, пожалуй, будет вреден для здоровья
человека. Свеча сгорает в нем быстро, а человек наверно
в нем скоро состарится. Моралист-философ скажет, что
бог нам дал такой воздух, какой мы, люди, заслужили...
Может быть, чистый дефлогистированный воздух станет
когда-нибудь модным предметом роскоши... А покамест
только две мыши да я сам имели возможность вдыхать
его“.
V
В октябре 1774 г., т. е. примерно во время пребыва-
ния в Париже Пристли, Лавуазье получил из Упсалы
от известного шведского химика Шееле письмо1 в ответ
на пересылку ему томика „Opuscules physiques et chimi-
ques“. Письмо было датировано 30 сентября 1774 г.
Из этого письма вытекало, что и Шееле уже давно
занимается природой воздуха и огня. Шееле, между про-
чим, сообщил, что и он тщательно пытался приготовить
обычный воздух, вводя в смесь углекислоту. „Я также
много раз пытался, следуя мысли мосье Пристли, изгото-
вить обычный воздух из связанного воздуха в смеси
с железными опилками, серой и водой, но мне это никогда
не удавалось. Не знаете ли Вы, быть может, каким
способом это сделать? Поскольку у меня нет большого
зажигательного стекла, я Вас прошу произвести посред-
ством Вашего стекла один опыт следующим способом.
Растворите серебро в азотной кислоте и осадите его вино-
1 С. W. Scheele. Nachgelassene Briefe und Aufzeichnungen,
hrsg-. von Nordenskjold, Stockholm, 1892.
Шееле не понял сущности своею открытия
173
каменной щелочью.1 Промойте осадок, высушите его и вос-
становите посредством зажигательного стекла в вашей
машине.1 2 Поскольку воздух под этим стеклянным колоко-
лом таков, что животные в нем погибают, и часть связан-
ного воздуха выделяется из серебра при этой операции,
следует ввести некоторое количество негашеной извести
в воду, в которую он погружен, для того чтобы этот
связанный воздух воссоединился с известью. Таким обра-
зом, вы увидите, как я надеюсь, сколько воздуха обра-
зуется при этой восстановительной реакции и сможет ли
зажженная свеча сохранять в нем свое пламя, а живот-
ные — жить. Я буду Вам крайне обязан, если Вы дадите
мне знать о результате этого эксперимента.
Я имею честь пребывать в большом к вам уважении,
мосье, Ваш покорный слуга К. В. Шееле“.
Итак, Шееле также получил кислород, но не понимал
сущности своего открытия. Недавние исследования его
лабораторных записей, произведенные Норденшельдом,
ясно показали, что он сделал это открытие еще в 1772 г.
В имеющихся дневниках Лавуазье, повидимому, нет упо-
минания об опыте, предложенном Шееле. И мы не знаем,
ответил ли Лавуазье на это письмо. Но одно нам досто-
верно известно: Шееле так же не понял сущности своего
открытия, как и Пристли, и также до конца своих дней
отстаивал теорию флогистона, пытаясь приспосабливать
ее ко вновь открытым опытным фактам. В 1783 г., после
появления на французском языке основного труда Шееле
„Химические наблюдения и опыты о воздухе и огне“,
Лавуазье подверг его идеи резкому критическому раз-
бору.3
1 Поташ.
2 Т. е. под колоколом, опущенным в воду.
3 Oeuvres, t. Ill, р. 377.
174 Кислород
VI
Хотя уже в декабрьской статье 1774 г., опублико-
ванной в журнале аббата де-Розье,1 Лавуазье дал ясную
и однозначную картину роли кислорода в процессах
обжига, горения и дыхания, тем не менее это сообщение
рассматривалось им самим лишь как предварительное.
В лаборатории продолжались дальнейшие опыты. Лишь
на пасхальном публичном заседании Академии (апрель
1775 г.) Лавуазье выступил с докладом „О природе
вещества, соединяющегося с металлами при прокаливании
их и увеличивающего их вес“.1 2 В примечании (о котором
мы говорили выше) было, между прочим, отмечено, что
после первых опытов, выполненных в начале 1774 г.
дальнейшие опыты были проделаны затем со всеми
необходимыми предосторожностями и тщательностью
совместно с Трюдэном 23 февраля, 1 и 2 марта 1775 г.,,
наконец, они были снова повторены 31 марта того же
года в присутствии герцога де-ля Рошфуко, Трюдэна,,
Монтиньи, Маке и Кадэ. Лабораторные дневники показы-
вают, что опыты эти продолжались еще и 8 апреля 1775 г.,,
причем, помимо вышеперечисленных лиц, в них участ-
вовали Демарэ и Лё-Руа.
В этом мемуаре Лавуазье ставит следующие вопросы^
„Существуют ли различные виды воздуха? Достаточно ли,,
чтобы тело находилось длительно в состоянии расши-
ряемости (expansibilite), чтобы превратиться в особый
вид- воздуха? Наконец, являются ли различные виды
воздуха, которые мы наблюдаем в природе или которые
нам удается создавать самим, особыми веществами или
видоизменениями атмосферного воздуха? — Таковы глав-
1 Observations sur la Physique, t. IV, part II, Decembre, 1774.
2 Oeuvres, t. II, p. 122.
Лавуазье открывает «кислород»
175
ные вопросы, обнимающие план, который я себе наметил
и который имел в виду последовательно развить перед.
Академией".
Сославшись на недостаток времени при докладе,
не позволяющий исчерпать хотя бы один какой-либо
из этих вопросов, Лавуазье сообщил, что он остановится
лишь на одном частном случае и намерен показать, „что-
вещество, соединяющееся с металлами во время их про-
каливания, которое увеличивает их объем и превращает
их в землю, есть не что иное, как наиболее оздоровляющая
и наиболее чистая часть воздуха".
Сообщив о своих исследованиях окислов железа,
о которых мы упоминали выше, он изложил две серии
опытов над HgO („самоосажденная ртуть"), продемон-
стрировав аппарат на заседании.
„Я смешал 1 унцию этой земли с 48 гранами уголь-
ного порошка и ввел эту смесь в небольшую стеклянную-
реторту емкостью не более 2 кубических дюймов, которую
я поместил в соответствующую ее размерам отражатель-
ную печь. Шейка этой реторты имела в длину около
фута и в диаметре от 3 до 4 линий; она была изогнута
в нескольких местах на паяльной лампе,1 ее конец был
расположен так, чтобы она могла войти под стеклянный
колокол достаточно больших размеров, наполненный
водою и погруженный в лохань, также наполненную
водой: аппарата, который сейчас находится перед взорами
Академии, достаточно, чтобы составить себе представле-
ние о том, как он функционирует. Этот аппарат при всей
своей простоте весьма точен, так как в нем нет ни пайки,»
ни замазки и нет никакой щели, через которую воздух,
мог бы войти или улетучиться".
1 Т. е. лампе с дутьем.
176
Кислород,
Подробно описав, как при нагреве выделялся „воздух",
Лавуазье оценил, что объем выделившегося газа (при ком-
натной температуре) составил 64 кубических дюйма.
Следует подчеркнуть тщательность этого расчета; он учел
тот воздух, который уже имелся в сосуде до нагрева
(около 1 кубического дюйма), а также принял во внимание
частичное поглощение газа водою при прохождении его
через воду. Он подверг газ проверке пятью методами
(физическими, химическими и физиологическими) и убе-
дился в том, что это „связанный воздух" (СО2).
Не желая оскорблять слух своих маститых слушателей
антифлогистической критикой, Лавуазье сказал: „Было,
следовательно, установлено, что самоосажденная ртуть
при восстановлении с прибавлением флогистона дает
те же продукты, что и все прочие металлические извести,
и относится таким образом к классу металлических
известей".
Затем он изложил вторую серию опытов в той же
установке, при которой самоосажденная ртуть (HgO)
восстанавливалась путем нагрева на этот раз без при-
меси чего-либо постороннего. При этом он подверг
выделяющийся газ также разным проверкам и убедился,
„что этот воздух, будучи весьма отличен от связанного
воздуха (СО2), находится в состоянии, более пригодном
для дыхания, более горючем и, следовательно, более
чистом даже, чем тот воздух, в котором мы живем".
Таким образом, Лавуазье нарочно выражался обычным
языком сторонников флогистона. Однако, резюмируя обе
серии опытов, он закончил свою речь следующими
словами*. „Поскольку уголь1 исчезает полностью при ожив-
лении1 2 ртутной извести и поскольку из этой операции
1 Здесь и далее под углем следует понимать углерод.
2 Т. е. восстановлении.
Развертывание наступления на флогистон Iff
получаются лишь ртуть и связанный воздух, приходится
заключить, что начало, которое до сих пор именовали
связанным воздухом, есть результат соединения с углем
порции чрезвычайно удобовдыхаемого воздуха" ?
Итак, не выходя как будто из рамок теории флоги-
стона, не подвергая ее критике, Лавуазье преподнес
слушателям опытный факт, который очень трудно было
согласовать с теорией флогистона. И он в заключение
многозначительно сообщил, что намерен развить эти
данные, более удовлетворительно в своих последующих
мемуарах.
Так, мемуаром о природе вещества, соединяющегося
с металлами, он открыл серию выдающихся публичных
выступлений и мемуаров, направленных к одной цели —
к крушению теории Шталя.
20 апреля 1776 г. он доложил Академии Наук „Мемуар
о существовании воздуха в азотной кислоте".
16 апреля 1777 г. он доложил „Мемуар о сжигании
фосфора Кункеля и о природе кислоты, образующейся
в результате этого сжигания".
3 мая 1777 г. он выступил с сообщением об „Опытах
над дыханием животных и над изменениями, претерпевае-
мыми воздухом при прохождении через легкие".
5 сентября 1777 г. он изложил „Опыты над соеди-
нением квасцов с углесодержащими веществами и над изме-
нениями, претерпеваемыми воздухом, в котором сжигают
пирофор" (фосфор).
Затем 23 ноября 1779 г. последовал его доклад
на тему: „Общие соображения о природе кислот и о нача-
лах, из которых они состоят".
Кроме того, в эти годы он опубликовал „Мемуар
о горении свечей" и „Мемуар о горении вообще0 (1777).
1 Чрезвычайно удобовдыхаемый воздух — кислород.
12 Дорфм ш
178
Кислород
И, наконец, уже в 1783 г., на страницах „Мемуаров"
Академии Наук появились в качестве апофеоза „Раз-
мышления о флогистоне, служащие продолжением теории
горения и обжига, опубликованной в 1777 г.". Только
здесь, наконец, Лавуазье со всей резкостью сказал:
„Настало время, когда я должен объясниться более
четко и формально по поводу мнения, которое я считаю
пагубным заблуждением в химии, задержавшим, как я
полагаю, значительным образом прогресс, введя дурную
манеру философствования".
Но наряду с этой тактикой, так сказать наряду с фрон-
тальной атакой флогистона, Лавуазье проводил, как мы ви-
дели, и другую тактику, тактику широкой, но неофициаль-
ной агитации против господствующего в науке ложного
учения. Эта вторая тактика, дополнявшая первую и подго-
тавливавшая для нее путь к победе, велась Лавуазье
инкогнито на страницах журнала аббата де-Розье „Obser-
vations sur la Physique". Этот замечательный журнал все-
мерно развивал и поощрял свободную научную дискус-
сию, усиленно приглашая всех ученых мира высказывать
на его страницах свои соображения на любую актуаль-
ную научную тему. Гостеприимный журнал был своего
рода научным клубом, аппелировавшим к широким
кругам передовой интеллигенции. И здесь подвизался
инкогнито Лавуазье, шаг за шагом подрывая основы
теории Шталя.
Это было в 1773 г., когда французский адвокат
и химик (а впоследствии и крупный политический деятель
Революции) Гитон-де-Морво выпустил книгу „Disgressi-
ons academiques", в которой попытался преодолеть нако-
пившиеся к тому времени затруднения теории Шталя,
предположив, что флогистон — столь легкий элемент, что,
присоединяясь к другим веществам, он уменьшает их вес,
а покидая их, он тем самым увеличивает его. И вот
Анонимная полемическая статья
179
в журнале аббата Розье1 появилась анонимная рецензия:
„Краткое изложение учения г. де-Морво о флогистоне
и замечания к этому учению*. Рецензент отмечает неле-
пость гипотезы де-Морво; он указывает, что такая гипо-
теза противоречит основам физики, ибо никакая „легкость*
флогистона не может привести к отрицательному весу.
„Химики призывают флогистон себе на помощь всякий
раз, когда им требуется объяснить наиболее противоре-
чащие друг другу факты*, — писал анонимный автор.
Год спустя в том же журнале появилась другая боль-
шая анонимная статья:1 2 „Речь о флогистоне и о многих
важных вопросах химии*.
Как показали М. Бертло3 и Ж. Бушар,4 обе анонимные
статьи невидимому принадлежат перу Лавуазье: в них отчет-
ливо виден его блестящий полемический стиль. Шпетер при-
писывает без достаточных оснований эти статьи Бюффону.5
„В естественных науках, — так начинает анонимный
автор свою «Речь»,—нередко приходится видеть, как
заблуждение побеждает истину и беспрекословно зани-
мает ее место благодаря авторитету великого имени;
свидетельства знаменитого человека становятся истинами,
освященными привычкою ..
„Принимая флогистон, мы впадаем во множество
противоречий, химики пользуются им всякий раз, когда
это им требуется, и они его растягивают, когда он про-
тиворечит установленным ими принципам; они управляют
им по своей воле. Это их разменная монета... Они
делают из него начало запахов, вкуса, летучести, плав-
кости, растворимости и т. д., и т. д.*.
1 Observations sur la Physique, t. П, p. 281, 1773.
2 Ibidem, 1774, p. 185.
3 M. Berthelot. La Revolution chimique, loc. cit.
4 G. Bouchard. Guyton de Morveau. Paris, 1938.
5 M. S p e t e r. Zs. f. angew. Chemie, 39 Jg\, 578, 1926.
12*
180
Кислород
Мы видим, что анонимный автор повторяет здесь
почти то же, что он вкратце уже сказал в своей рецен-
зии на книжку Гитона-де-Морво.
А в 1783 г. Лавуазье, уже не скрывая своего автор-
ства, писал в своих „Размышлениях о флогистоне":
„Химики сделали из флогистона смутное начало, кото-
рое не определено в точной мере и которое поэтому
пригодно для любых объяснений, в которые его хотят
ввести. Иногда это начало весомо, иногда оно таковым
не является; иногда это свободный огонь; иногда это
огонь, соединенный с землистым элементом; иногда он
проходит сквозь поры сосудов; иногда они непроницаемы
для него. Он объясняет одновременно и щелочность и
нещелочность, прозрачность и непроницаемость, окраску
и отсутствие окраски: это настоящий Протей, который
меняет свой облик каждое мгновение".
Вряд ли приходится сомневаться, что именно Лавуазье
является автором всех этих критических статей по адресу
теории флогистона. На протяжении десяти лет, с 1773
по 1783 г., он все углублял и расширял свою критику
теории флогистона, с предельной ясностью обнажив ее
внутренние противоречия.
Естественно возникает вопрос, были ли у Лавуазье
предшественники в деле борьбы с теорией флогистона.
Неужели за 56 лет, прошедших от появления первого
издания (1717) сочинения Шталя1 и до 1773 г., нет
ни одной отчетливо критической статьи об этой теории?
Большинство авторов, обнаружив те или иные проти-
воречия с опытом в теории Шталя, придумывали, подобно
Гитону-де-Морво, различные поправки, дополнения и ого-
ворки, стремясь сохранить зерно теории. Таким передел-
1 „Zufallige Gedanken und niitzliche Bedenken uber den Streit von
den so^enannten Sulphiiren u. s. w.“.
Повторение некоторых аргументов Ломоносова
181
кам подвергал неоднократно свою теорию и сам ее автор
Шталь. Все эти дополнения и оговорки привели к тому,
что первоначально довольно четкая и единообразная идея
Шталя превратилась постепенно в туманный клубок
гипотез. На фоне этих многочисленных трудов, пытаю-
щихся любой ценой сохранить господство флогистона,
ярко выделяется упоминавшееся уже нами замечательное
сочинение Ломоносова: „Размышления о причине тепла
и холода".1
В этом сочинении Ломоносов исходит из вопроса
о природе теплоты и показывает, что все гипотезы, пред-
полагающие существование особого вещества — „тепло-
рода" или „теплотвора", — противоречат в принципе
опытным фактам физики. Ломоносов приходит к выводу,
что теплота есть не что иное, как движение молекул.
На основании опытных данных оказывается, что „тепло-
творная материя", как физический агент, не в состоянии
служить причиной наблюдаемых тепловых явлений и,
следовательно, невидимому, не существует вовсе. Показав,
насколько „это чудище" (т. е. столь модная в XVIII в.
гипотеза теплотворной материи) противоречит физике,
Ломоносов обращается к химии и говорит:
„Философами,1 2 и особенно химиками, принимается,
что этот блуждающий огонь показывает свое присутствие
в телах не только увеличением объема их, но и увели-
чением веса..."
Подвергнув резкой критике упоминающуюся нами
выше работу Бойля,3 Ломоносов продолжает:
„Хотя окалины, удаленные из огня, сохраняют приобре-
тенный вес даже на самом лютом морозе, однако они
1 См. стр. 124.
2 Т. е. физиками: „натуральная философия" — физика,
5 См, стр, 119,
182
Кислород
не обнаруживают в себе какого-либо избытка тепла.
Следовательно, при процессе обжига к телам присоеди-
няется некая материя, только не та, которая приписы-
вается собственно огню: ибо я не вижу, почему по-
следняя в окалинах забыла о своей при-
род е".1 „Далее, металлические окалины, восстановленные
до металлов, теряют приобретенный вес. Так как, однако,
восстановление, так же как и прокаливание, производится
тем же — даже более сильным — огнем, то нельзя при-
вести никакого основания, почему один и тот же огонь
то проникает в тела, то из них уходит*'.1 2
Мы видим, что аргументация Лавуазье (1773) по суще-
ству мало чем отличается от аргументации Ломоносова
(1750), а именно — огненной материи (или флогистону) хи-
мики приписывают по мере надобности противоположные
свойства и заставляют его то и дело как бы „забывать"
о своей природе. Эта аргументация развита Лавуазье
вширь и вглубь.
Естественно возникает вопрос, не мог ли Лавуазье
получить от Ломоносова первый толчок к критике фло-
гистона?
Диссертация Ломоносова была написана в 1744 г.
и опубликована в 1750 г. по-латыни в первом томе „Новых
Комментариев императорской Санкт-Петербургской Ака-
демии", стр. 206—229 (1750).
Следует отметить, что в этом же томе и тоже по-
латыни напечатаны и другие статьи Ломоносова: „Об упру-
гой силе воздуха" (стр. 230—244), „О действии хими-
ческих растворителей вообще" (стр. 245—266), „Прибав-
ление к диссертации «Об упругой силе воздуха»".
1 Разрядка моя. — Я. Д.
2 Б. Н. Меншуткин. Труды М. В, Ломоносова по физике
и химии, стр, 113.
Лавуазье изучает труды С.-Петербургской Академии
183
Таким образом, труды Ломоносова занимают по объему
около трети этого тома „Комментариев". В том же томе,
на стр. 284, находится статья Рихмана об охлаждении
жидкостей во время испарения. На эту статью ссылается
Лавуазье непосредственно в своем мемуаре „О соеди-
нении огненной материи с испаряющимися жидкостями"
(1777). Невозможно себе представить, чтобы Лавуазье,
держа в руках том „Комментариев" и просматривая статью
Рихмана, не заметил работ Ломоносова.
Но могло ли случиться, чтобы Лавуазье до 1777 г.
ни разу не заглядывал в „Новые Комментарии импера-
торской Санкт-Петербургской Академии"?
И на этот вопрос мы имеем достаточно определенный
ответ. Уже в 1770 г. в своем мемуаре „О природе воды",
о котором шла речь выше, Лавуазье ссылается, между
прочим, на работу русского академика Крафта, опубли-
кованную во втором томе (стр. 231) тех же „Коммента-
риев".
Наконец, как мы увидим ниже, Лавуазье должен был
быть известен и труд Ломоносова „Рассуждение о твер-
дости и жидкости тел" („Meditationes de solido et fluido"),
опубликованный в 1760 г. отдельным латинским изданием,
в котором русский ученый, ссылаясь на свою вышеупо-
мянутую диссертацию „О природе тепла и холода",
писал: „Я уже прежде доказал, что элементарный огонь
является вымыслом" („Demonstravi olim vanum esse ignem
elementarem").
Все эти соображения, вместе взятые, заставляют
подозревать, что Лавуазье мог получить первый толчок
к критике флогистона от М. В. Ломоносова.
Естественно возникает вопрос, почему же Лавуазье
не счел необходимым сослаться на Ломоносова. Повиди-
мому, дело в том, что Ломоносов и Лавуазье шли в этом
вопросе диаметрально противоположными творческими
184
Кислород
путями. Первый блестяще доказывал несостоятельность
теории теплорода в физике, а уже отсюда приходил
к естественному заключению о никчемности флогистона
в химии. Второй блестяще доказал несостоятельность
теории флогистона в химии, но относился (как мы увидим)
резко критически к молекулярно-кинетической теории
теплоты и с удивительным упорством сохранял теплород
в физических явлениях. Таким образом, М. В. Ломоносов
придерживался в области теории тепловых явлений пере-
довых взглядов, близких современной науке, между тем
как Лавуазье до конца своих дней отрицал эти прогрес-
сивные взгляды. Поэтому, очевидно, Лавуазье считал
неприемлемой аргументацию Ломоносова в целом, но
использовал некоторые его соображения в своей борьбе
с флогистоном в химии.
VII
Уже издавна была замечена, на первый взгляд фор-
мальная, аналогия между горением и дыханием: для обоих
процессов требовался воздух. И почти все исследователи,
занимавшиеся вопросами горения, так или иначе пытались
попутно разрешать загадку дыхания. Обе эти задачи
были существенно практическими задачами. Проблема
горения исходила из техники, проблема дыхания — из меди-
цины. Однако обе эти проблемы сталкивались между
собою всякий раз, когда перед техникой вставала задача соз-
дания минимальных условий, необходимых для работы
человека. Так особенно в горном деле проблема венти-
ляции рудников упиралась в проблему дыхания. Эта
задача становилась на пути техники подводных работ,
как и на пути тех изобретателей, кто уже мечтал о под-
водном плавании. Голландский ученый Корнелий Дреббель
В XVII в. указал на то, что при дыхании используется
Теория горения и дыхания
185
лишь часть атмосферного воздуха, и он тщетно пытался
искусственно восстанавливать эту часть атмосферы
для первых подводных судов. Бойль склонялся к точке
зрения Дреббеля, но, как он сам говорит, не осмеливался
защищать эти взгляды за недостатком надежных опытных
фактов. Он провел немало экспериментов над дыханием
самых разнообразных животных посредством усовершен-
ствованного им воздушного насоса, но не смог выделить
той части B03iyxa, которая пригодна для дыхания
В XVIII в. Бургав вновь вспомнил об этих идеях:
„Кто может сказать, нет ли в воздухе скрытого качества,
способного поддерживать жизнь, которое черпают из воз-
духа животные и растения; не может ли оно исчерпаться;
не его ли исчерпанием вызывается смерть животных,
когда они его более не находят? Многие химики сооб-
щили о существовании некоего жизненного элемента
в воздухе: но они не сказали ни о том, что он собою
представляет, ни о том, как он действует. Счастлив, кто
его сможет открыть".1
В 1757 г. английский физик и химик Блэк обнаружил,
что в выдыхаемом воздухе содержится „связанный воздух"
(СО2), образующийся, невидимому, в легких. В широком
масштабе исследовал дыхание Пристли. Обнаружив, что
так называемый „дефлогистированный воздух" (кислород)
наиболее пригоден для поддержания как дыхания, так
и для горения, он вывел из своих опытов, что дыхание
„флогисцирует" воздух1 2 и делает его непригодным для
дыхания, одновременно образуя „связанный воздух" (СО2).
Далее Пристли полагал, что флогистон отдается атмо-
сфере черной (венозной) кровью, после чего дефлогисти-
рованная кровь (артериальная) получает красную окраску.
1 М. Berthelot. La Revolution chimique, p. 176,
2 Соединяет его с флогистоном.
186
Кислород
Лавуазье столкнулся с проблемой дыхания уже в самом
начале своих исследований. Однако в то время он еще
смешивал „связанный воздух" (СО2) с другими, непри-
годными для дыхания, газами, в частности, с азотом.
Он еще полагал тогда, что атмосфера состоит из СО2
и какого-то „чрезвычайно чистого" или „вполне вды-
хаемого" воздуха. Опираясь на эту гипотезу, он указал
в „Opuscules physiques et chimiques", что удушье (при
недостатке кислорода) происходит будто бы оттого, что
„связанный воздух" поглощается влагою, содержащейся
в легких, и не может поэтому надуть легких.
Но постепенно, по мере того, как Лавуазье уяснял
себе все отчетливее состав атмосферы, у него
созрело новое представление о механизме дыхания,
представление совершенно отличное от этой первона-
чальной точки зрения и резко противоположное воззре-
ниям Пристли.
3 мая 1773 г. он доложил Академии новый мемуар
под названием: „Опыты по дыханию животных и по изме-
нениям, которые претерпевает воздух, проходя через их
легкие".
„Из всех явлений животного организма нет более
поразительных и более достойных внимания физиков
и физиологов, чем явления, сопровождающие дыхание", —
так начал свой доклад Лавуазье.
Отдав дань уважения опытам Гэйльса, Синья и, нако-
нец, „очень остроумным, очень деликатным и очень
новым по своему характеру" опытам Пристли (труд кото-
рого появился в конце 1772 г.), Лавуазье вкратце повто-
рил флогистическое объяснение, предлагаемое английским
автором. При этом он заметил, что, поскольку заключе-
ния Пристли находятся в полном противоречии со столь
огромным числом явлений, он вынужден их подвергнуть
сомнениям.
Теория горения и дыхания
,187
„Я работал, следовательно, по совершенно иному
плану и в ходе опытов неизбежным образом был приве-
ден к следствиям, резко противоположным его выводам.
„Я заключил 50 кубических дюймов обыкновенного
воздуха в соответственно устроенный аппарат, о котором
трудно было бы себе составить представление без помощи
чертежей, ввел в этот аппарат 4 унции совершенно чистой
ртути и стал прокаливать ее, держа в течение двенад-
цати дней при температуре, близкой к той, какая вызы-
вает кипение".
Получив таким образом около 45 гран „самоосаж-
денной ртути", или „ртутной земли" (HgO), Лавуазье
подверг исследованию оставшийся в аппарате воздух,
уменьшившийся в своем объеме, и показал, что он
„не давал никакого осадка с известковой водой,1 но гасил
огонь, умерщвлял в короткое время погруженных в него
животных, почти совсем не давал красных паров с селит-
ряным воздухом,1 2 не уменьшался сколько-нибудь заметно
в объеме от соприкосновения с последним, словом, нахо-
дился в состоянии абсолютно-мефитическом".3
Собрав 45 гран „ртутной земли", он восстановил
ртуть путем нагрева без добавления посторонних веществ,
впустив выделяющийся при этом газ в свой аппарат,
содержащий удушливый воздушный остаток. При этом,
все свойства обычного воздуха были восстановлены.
Полученный воздух не гасил больше огня, не умерщвлял
дышавших им животных и соединялся с NO.
„ Разложение воздуха и обратный его синтез — вот при-
мер наиболее полного доказательства, какого только
можно достичь в химии"? — замечает Лавуазье. Далее
1 Т. е. не содержал заметных количеств СО2.
2 Т. е. не вызывал реакции 2 NO О2 = 2NO?,
3 Удушливом.
188
Кислород
он сообщил об опыте, произведенном над живым воробьем,
помещенным „под стеклянный колокол, наполненный
обыкновенным воздухом и погруженный в лохань со ртутью.
Объем свободной части колокола составлял 31 кубический
дюйм. В первые минуты птичка, казалось, нисколько
не страдала и только немножко присмирела; спустя чет-
верть часа она начала волноваться, дыхание ее стало
затрудненным и прерывистым, и с этого момента явления
стали развиваться ускоренным темпом; в конце концов,
по прошествии 55 минут, она умерла в конвульсиях".
Оказалось, что объем имевшегося под колоколом воздуха
за это время уменьшился. „И когда после смерти живот-
ного заключенный под колокол воздух принял темпера-
туру среды, в которой производился опыт, уменьшение
£ 1
составило не более .
„Этот воздух, которым, следовательно, дышало живот-
ное, стал совершенно отличным от атмосферного;
с известковой водой он давал муть; огонь гасил; объем
его не уменьшался более в присутствии селитряного воз-
духа (NO). Другая птичка, которую я впустил туда,
прожила не более нескольких мгновений, вообще он был
крайне удушлив и в этом отношении казался весьма
схожим с воздухом, остававшимся после прокаливания
ртути".
Однако, более тщательно изучив его свойства
и состав, Лавуазье обнаружил два существенных раз-
личия между воздухом, остающимся после сгорания
предмета, и воздухом, оставшимся в замкнутом про-
странстве после смерти животного от удушья. Воздух,
оставшийся после дыхания, содержал СО2 и вызывал
муть в растворе известковой воды, между тем как воздух,
оставшийся после сгорания, не вызывал никаких явлений
в известковой воде.
Теория горения и дыхания
189
Из своих опытов он мог с полной ясностью заключить,
что „при процессе дыхания происходит одно из двух:
либо содержащаяся в воздухе часть его, безусловно
доброкачественная для дыхания, пройдя через легкие, пре-
вращается в воздухообразную меловую кислоту",1 или же
в этом органе происходит обмен, причем О2 поглощается
органом, а на его. место появляется соответственное
количество СО2. Лавуазье обратил внимание на то, что
при прокаливании металлов (Pb, Hg- и Fe) образуются
окислы красного цвета. „Нельзя ли отсюда заключить,
что красный цвет крови обязан своим происхождением
соединению с вполне вдыхаемым воздухом?" Это заме-
чание, конечно, неправильно, тем более что окислен-
ной кровью является венозная кровь, имеющая черный
цвет, а отнюдь не артериальная красная кровь.
VIII
Все глубже и сильнее расшатывались устои теории
Шталя в результате открытия кислорода, который был
назван Пристли „дефлогистированным воздухом", Шееле—
„райским воздухом", а Лавуазье — „вполне вдыхаемым
воздухом" или „чрезвычайно чистым".
Как мы уже указывали, только в 1777 г. наступил,
наконец, момент, когда Лавуазье осмелился открыто
выступить на страницах „Мемуаров Академии Наук"
с изложением своей теории горения.
Лавуазье начал мемуар „О горении вообще" 1 2 следую-
щим вступлением.
„Насколько дух системы опасен в науках физических,
настолько же следует опасаться, чтобы беспорядочным
1 СО2 — „меловая кислота" — новое название, предложенное Лаву’
азье.
2 Oeuvres, t. II, р. 225.
190
Глава VIII
нагромождением чрезмерного количества опытов не затем-
нить науки, вместо разъяснения ее; чтобы не затруднить
доступ тем, кто намерен переступить ее порог; чтобы не
получить в конце-концов, ценою долгих и кропотли-
вых работ, не что иное, как беспорядок и путаницу.
Факты, наблюдения, эксперименты — это материалы для
большого здания; собирая их, следует избегать загромо-
ждения науки; необходимо, наоборот, стараться их клас-
сифицировать, выделяя что принадлежит каждому
отделу и каждой части того целого, к которому они
относятся.
„Физические теории, рассматриваемые с этой точки
зрения, являются не чем иным, как инструментами, при-
годными для подкрепления слабости наших органов
чувств; это, в сущности говоря, методы приближения,
ставящие нас на путь разрешения проблемы; это гипо-
тезы, которые, постепенно перестраиваясь, исправляясь,
меняясь, по мере того, как они опровергаются опы-
том, должны неизбежно привести нас однажды, путем
исключений и изъятий, к познанию истинных законов
природы.
„Ободренный этими соображениями, я осмеливаюсь
предложить сегодня Академии новую теорию горения;
или, вернее, говоря с оговоркой, которую я себе сделал
законом,—гипотезу, с помощью которой объясняются
весьма удовлетворительным образом все явления горения,
обжига и даже частично явления, сопровождающие дыха-
ние животных. Я уже набросал первые основы этой гипо-
тезы. .. в моих «Opuscules physiques et chimiques», но
должен признаться, не доверяя моим собственным позна-
ниям, я не осмеливался тогда выдвинуть мнение, которое
могло показаться странным и которое резко противоре-
чило теории Шталя и теориям многих знаменитых людей,
следовавших за ним".
Теория горения обходится без флогистона, 191
Перейдя затем к основным явлениям, характеризую-
щим горение, Лавуазье отметил их четыре:
Первое явление: „в каждом горения происходит
выделение материи огня или света".
Второе явление: горение возможно лишь в „деф-
логистированном воздухе", который он предлагает отныне
называть „чистым воздухом". „Вещества, которые мы
называем горючими, не только не горят ни в пустоте,
ни в любом другом виде воздуха, но они, наоборот,
в них потухают столь быстро, как если бы их погрузили
в воду или другую какую-либо жидкость".
Третье явление: во время горения исчезает или
разлагается „чистый воздух", между тем как сожженное
вещество увеличивается в весе как-раз настолько,
насколько исчезло или разложилось чистого воздуха.
Четвертое явление: во время горения сожженное
тело, увеличившись в весе, превращается в кислоту,1
(сера — в серную кислоту, фосфор — в фосфорную кис-
лоту, „углеобразные тела" — в „связанный воздух" или
„меловую кислоту" (углекислоту).
Обжиг металлов подчиняется тем же законам, что
и горение, с тою лишь разницей, что при обжиге метал-
лов образуются особые вещества — „металлические изве-
сти".
Перечисленные явления, по теории Шталя, требуют,
чтобы во всех горючих веществах и в металлах имелся
связанный флогистон. „Однако, если предложить сторон-
никам доктрины Шталя доказать присутствие материи
огня в горючих телах, то они неизбежно попадают
в порочный круг и вынуждены отвечать, что горючие
тела содержат огненную материю потому, что они горят,
и что они горят потому, что содержат огненную материю;
1 Напомним, что Лавуазье называл кислотой ангидрид кислоты.
192
Кислород
однако легко видеть, что подобный анализ объясняет
горение посредством горения".
Здесь Лавуазье почти слово в слово повторил то,
что им было сказано в анонимной „Речи о флогистоне"
в 1774 г. и заключил, что „существование огненной мате-
рии, флогистона, в металлах, в сере и т. д. на самом
деле не что иное, как гипотеза, предположение, которое,
будучи принято, действительно объясняет некоторые явле-
ния обжига и горения". Он предупредил, однако, что ежели
удастся объяснить все известные явления посредством
противоположной гипотезы, а именно, „что не суще-
ствует ни огненной материи, ни флогистона в так называе-
мых горючих веществах,1 то система Шталя будет потря-
сена вплоть до самых своих оснований".
Но, как мы уже говорили выше, Лавуазье столкнулся
здесь вплотную с неизбежным затруднением: решить про-
блему горения нельзя в плане исключительно химическом,
необходимо наряду с химизмом горения знать сущность
теплоты и пламени. Мы только что видели, что он отри-
цал присутствие „огненной материи" в металлах и горю-
чих веществах, в то же время он отмечал, что во всех про-
цессах горения „выделяется материя огня или света"
(см. первое явление). Он объяснил, что понимается им
под термином „огненная материя".
„Я отвечу вместе с Франклином, Бургавом и частью
философов древности, что материя огня или света — это
очень тонкий флюид, очень упругий, окутывающий со
всех сторон планету, на которой мы живем, который
проникает с большей или меньшей легкостью в тела»;
ее составляющие, и который стремится, будучи свобод-
ным, притти в равновесие повсюду.
1 Таким образом, Лавуазье не отрицает здесь флогистона вообще,
но отрицает его присутствие в „горючих” веществах.
Лавуазье отступает от передовых воззрений Ломоносова 193
„Выражаясь химическим языком, — продолжает Лавуа-
зье, — этот флюид служит растворителем большого числа
тел; он соединяется с ними тем же способом, как вода
соединяется с солью, а кислота с металлами; и тела,
таким образом соединенные и растворенные огненным
флюидом, теряют часть тех свойств, которыми они обла-
дали до соединения, и приобретают новые, приближаю-
щие их к материи огня".
Мы не будем здесь останавливаться на происхождении
и сущности этих воззрений на теплоту, которые были
столь остроумно разбиты Ломоносовым в 1744 г., но
заметим, что в приведенном отрывке поражает прежде
всего одно обстоятельство: Лавуазье не делает никакого
различия между растворением соли в воде и металлов
в кислотах. Он рассматривает их как однотипное явление
и по аналогии с ним строит гипотезу о механизме
нагревания, т. е. растворения любых тел в огненной
материи.
Любопытно отметить, что Ломоносов в своей диссер-
тации „О действии химических растворителей вообще",
опубликованной в том же первом томе „Новых Коммен-
тариев Академии Наук", где напечатаны „Размышления
о причине теплоты и холода", определенно различает эти
два типа растворения:1 „Мы подозреваем, что эти явления
обусловлены противоположными причинами и что металлы
в кислых спиртах1 2 растворяются иначе, чем соли в воде".
Ломоносов детально описывает наблюдаемое в микроскоп
появление пузырьков „воздуха" при растворении металлов
в кислотах. Принимая этот „воздух" за обычный воздух,
Ломоносов тщетно пытался объяснить процесс растворе-
1 Б. Н. Меншуткин. труды М. В. Ломоносова по физике
л химии, стр. 265.
2 Кислотах.
13 Дорфман
194
Кислород
ния металлов упругой силой воздуха. С другой стороны,
он правильно объяснил растворение солей в воде, опираясь
на кинетическую теорию вещества. Итак, великий рус-
ский ученый в 1744 г. на основании своих опытных иссле-
дований опрокинул ошибочные представления западно-
европейской науки о растворах, которые Лавуазье слепо
повторял еще в 1777 г. Лишь в своей более поздней
работе (1782) „О растворении металлов в кислоте" вели-
кий французский ученый отметил выделение азотистого
ангидрида при растворении металлов в азотной кислоте
и подчеркнул, „что растворение металлов не есть про-
стая операция, как полагали до сих пор".
Таким образом, приходится заключить, что рассужде-
ния его о механизме нагревания тел построены им наспех
и на довольно легкомысленных началах. Здесь он изме-
нил прокламированному им самим принципу: „не делать
ни одного шага вперед иначе как от известного к неиз-
вестному Недаром он не находит никаких других дока-
зательств существования атмосферы огненной материи
вокруг нашей планеты, кроме ссылки на авторитет Франк-
лина, Бургава и философов древности. Он посвятил
в YT11 г. этому вопросу специальную работу, но и там
не привел никаких более убедительных аргументов.
Итак, вернемся к мемуару о горении.
Продолжая рассуждение, Лавуазье считает всякий
газ „результатом соединения какого-то твердого или
жидкого тела с материей огня или света".
Обжиг металлов он излагает в этой работе следую-
щим образом: „Когда обжигается металл в чистом воз-
духе, то основа этого воздуха, имея меньше сродства
к своему собственному растворителю, чем к металлу,
соединяется с последним, как только он расплавится,
и превращает его в металлическую известь". А поскольку
„основа чистого воздуха" (т. е. кислород) удерживалась
Лавуазье сохраняет «огненную материю» в физике
195
огненной материей, то по мере соединения этой основы
с металлом „огненная материя должна высвобождаться
и, выделяясь, производить пламя и свет". Чем быстрее
происходит соединение металла с „основой чистого воз-
духа", тем, по мнению Лавуазье, больше должно сразу
выделяться огненной материи и тем более бурной будет
реакция (как, например, при горении серы или фос-
фора).
Далее он особо подчеркивает несостоятельность
утверждения Шталя о „горючести" тех или иных веществ.
„Чистый воздух, дефлогистированный г. Пристли, является,
согласно этому мнению, истинным горючим телом и, быть
может, единственным в природе".
Лавуазье заканчивает мемуар кратким изложением
механизма дыхания, рассматриваемого им как процесс
медленного горения, приводящего к образованию выды-
хаемой легкими углекислоты и к поддержанию постоян-
ной теплоты организма. Он приводит в пользу этого
обстоятельства еще один важный аргумент: „нет в природе
теплых животных кроме тех, которые обычно дышат,
и их теплота тем больше, чем чаще дыхание".
Итак, он подчеркивает снова, что у него еще нет
строго доказанной теории, но что предлагаемая „гипо-
теза" представляется ему „более вероятной, более близ-
кой к законам природы и содержит... менее искусствен-
ные объяснения и меньше противоречий". В заключение
Лавуазье обещал глубже и шире развить предлагаемую
им гипотезу, которая, по его мнению, „объясняет крайне
удачно и просто важнейшие явления физики и химии".
Многочисленные труды историков химии посвящены
спору о том, кто из троих ученых — Лавуазье, Пристли
или Шееле—первым открыл кислород, кто у кого
и когда позаимствовал способ получения чистого кисло-
рода. Но спор этот не имеет серьезного значения. Одно
13*
196
Кислород
остается несомненным: открытие кислорода привело
Лавуазье, и только его одного, к крупнейшему открытию
в области химии, — выяснению истинной роли кислорода
в процессах горения, обжига и дыхания. Флогистон был
тем самым исключен из числа химических индивиду-
умов.
Теория Шталя, считавшаяся столь прочно обоснован-
ной, была потрясена в самых своих основах.
IX
Построение новой теории горения разъясняло природу
окалин, или „известей", как их именовали в те времена.
Но из этого обстоятельства, очевидно, вытекали и неко-
торые другие химические следствия. Так возникла новая
теория Лавуазье о природе кислот.
Уже первые опыты над горением фосфора привели
Лавуазье в 1772—1774 гг. к получению таким способом
Р2О5. В 1777 г. он специально изучал природу кислот,
возникающих при горении фосфора Кункеля.
Таким же путем Лавуазье пришел к открытию состава
серной кислоты SO3. Многочисленные аналитические
и синтетические опыты окончательно убедили его в том,
что „живительный" или „дефлогистированный" воздух
(т. е. кислород) является образующим началом обеих этих
кислот. Пользуясь некоторыми данными Пристли, Лавуа-
зье обнаружил в 1776 г., что и „азотная кислота", т. е.
азотистый ангидрид, содержит в себе тот же „чистый44
или „живительный" воздух.
Все эти факты привели его в 1777 г. к выводу, что
все кислоты образуются благодаря присоединению „живи-
тельного" воздуха к какому-либо радикалу. Эти взгляды
были им подробно развиты в мемуаре под названием:
„Общие соображения о природе кислот и о началах, из
Ошибочная теория кислот
197
которых они состоят",1 представленном Академии 5 сен-
тября \1П г. В этом докладе он заявил:
„Многочисленные эксперименты дают мне сегодня воз-
можность обобщить следствия и утверждать, что наибо-
лее чистый воздух, воздух удобовдыхаемый, представляет
собою образующее начало кислотности, что это начало
является общим для всех кислот и что при этом в состав
каждой из них входят одно или несколько других начал,
которые их отличают и отделяют друг от друга.
„Согласно этим истинам, — продолжал Лавуазье,—
которые я уже рассматриваю как весьма твердо установ-
ленные, отныне дефлогистированный воздух или удобо-
вдыхаемый воздух в состоянии соединения или фиксации
я буду обозначать именем кислотообразующего
начала, или, если это же обозначение греческим сло-
вом нравится более, я назову его началом о к с и г и н.1 2 3
Это наименование избавит от обходных фраз, внесет
точность в мою манеру высказывания и исключит ого-
ворки, к которым мы вынуждены прибегать без конца,
если пользоваться словом «воздух». В самом деле, это
слово (воздух), согласно новейшим открытиям, стало
родовым понятием, которое к тому же применяется
к веществам в состоянии упругости/ между тем как
здесь речь идет о рассмотрении их в состоянии соедине-
ния, в жидкой или твердой форме".
Так вошел в науку кислород, или „кислотвор", как его
называли русские курсы химии конца XVIII и начала XIX вв.
Однако обязательное присутствие кислорода в составе
всех кислот, провозглашенное Лавуазье, не имело под со-
бой достаточно серьезных опытных данных. Кислород вхо-
1 Oeuvres, t. II, р. 243.
2 Буквально: кислород.
3 Т. е. газообразном состоянии.
198
Кислород
дит в состав многочисленных кислот, образуемых фосфо-
ром, серой и азотом. Это действительно было им установ-
лено. Но провозгласив кислород фундаментальным состав-
ным началом всех кислот, он экстраполировал чересчур
далеко полученные им многочисленные данные. Он увлекся
и впал в серьезную ошибку. Всецело полагаясь на свою
теорию, он считал, например, что даже и соляная „мурие-
вая“ кислота (НС1) содержит кислород. Она рассматри-
валась им как соединение некоего „муриевого“ кислот-
ного радикала с кислородом. Поэтому хлор представлялся
ему в качестве окисла „муриевой кислоты".
Таким образом^ теория кислот привела его к извра-
щению понятия, сходному с тем, какое вызвала теория
горения Шталя, считавшая металлы сложными, а их оки-
слы простыми телами.1 В 1786 г. Бертолле нанес первый
удар этой теории кислот Лавуазье, однозначно показав,
что синильная кислота (HCN) не содержит вовсе кисло-
рода. Окончательно теория кислот была исправлена много
позднее Гэй-Люссаком, Тенаром и особенно Дэви, уяснив-
шими состав соляной кислоты.
В этом вопросе Лавуазье совершил одну из тех весьма
обычных ошибок, о которых он сам однажды сказал
с едким сарказмом:
„Искусство делать выводы из опытов и наблюдений
заключается в том, что требуется взвесить вероятности
и подсчитать — достаточно ли собрано фактов, чтобы
они могли служить доказательством... Этот способ вычи-
сления весьма сложен и много труднее, чем обычно пола-
гают. .. именно на ошибках в этого рода подсчетах
и основан успех шарлатанов, колдунов и алхимиков".
Однако необходимо иметь в виду, что эта ошибка
была вызвана не только чересчур смелым обобщением
1 М. Berthelot. La Revolution chimique, p. 77.
Обязанности откупщика тормозят работу ученого
199
имевшихся данных, но и слабостью тогдашних методов
химического анализа.
Теория кислот Лавуазье безвозвратно погибла, оста-
вив в качестве „нерукотворного" памятника общеприня-
тый термин — кислород — оксиген (вместо — оксигин).
X
Мы видели, что Лавуазье, имея уже в 1775 г. закон-
ченную картину роли кислорода в химических процессах,
лишь в 1777 и 1778 гг. опубликовал свои итоговые
мемуары о дыхании животных, о горении, о природе
кислот и т. п. Эта медлительность была вызвана глав-
ным образом его чрезмерной занятостью другими делами.
Так, именно с 1775 г. он принял более активное уча-
стие в Генеральном откупе. Он был избран членом
табачного комитета, членом комитета по ввозным
пошлинам (при ввозе товаров в Париж), членом комитета
по соляной монополии и целого ряда разнообразных
комиссий по управлению Откупом. ' Ему приходилось
участвовать в заседаниях всех этих комитетов и комиссий»
причем административные обязанности нередко были
сопряжены с поездками.1
Кроме того, в июне 1775 г. Лавуазье был назначен
одним из четырех директоров только что созданного
государственного Управления порохов и селитр, ведавшего
всей продукцией пороха во Франции. Последнее назна-
чение заставило его заняться усовершенствованием тех-
нологии получения пороха и селитры. Дневники этих
лет хранят не мало записей по данному вопросу. К дея-
тельности Лавуазье в этой, области мы вернемся позд-
нее.
1 Е. G rima их. Lavoisier, р. 76.
200
Кислород
Огромное количество посторонних обязанностей замед-
лило его научную деятельность, в особенности в период
с 1778 по 1782 г. В эти годы он был, помимо всего
прочего, занят устройством своей знаменитой лаборато-
рии в помещении парижского Арсенала, лаборатории,
которая своим превосходным оснащением вызывала изум-
ление современников.
Итак, исследования природы горения и окисления
приводили его к замечательным теоретическим выводам,
которые должны были перестроить все здание химии.
Но в том-то и заключается характерная черта творчества
Лавуазье, что он никогда не ограничивался одной лишь
теоретической стороной вопроса. Практика служила для
него обоснованием необходимости исследования того или
иного вопроса (вспомним, как он обосновал необходимость
изучения вод). Вскрыв затем теоретические корни вопроса,
он неизбежно подходил к практическим выводам.
XI
Выяснение химической сущности горения и роли в
нем кислорода раскрывало новые перспективы, которых
не мог не заметить проницательный ум Лавуазье. На
него произвело огромное впечатление действие кислорода
на пламя. Недаром в начале апреля 1775 г. он записал
в своем лабораторном дневнике:
„Дважды был повторен и притом в больших лоханях
эксперимент со свечой:1 он восхитителен; пламя значи-
тельно больше, значительно ярче, значительно прекрас-
нее, чем в обычном воздухе../*1 2
1 Горение свечи в чистом кислороде под колоколом, погружен-
ным в лохань с водой или ртутью.
2 М. Berthelot. La Revolution chimique, p. 267.
Изобретение кислородного дутья 20J
Вспоминая впоследствии (1782) итоги своих исследо-
ваний, Лавуазье писал о кислороде:
„Среди прочих замечательных его свойств, которые
сегодня хорошо изучены, было замечено, что горючие
тела горят в нем с изумительной быстротой, с увеличен-
ным пламенем и треском, даже со своего рода взрывом,
который напоминает собой взрыв при плавлении селитры;
уголь как бы растворяется в нем по мере горения, испу-
ская при этом белое ослепительное пламя, даже более-
яркое, чем у фосфора Кункеля.
„В мемуарах, которые я доложил Академии в том же
году1 и в последующих 1776 и 1777 гг., я показал, что
этот воздух составляет одну четверть всего вдыхаемого
нами воздуха, что только одна четверть атмосферы
содействует горению, между тем как остальные три
четверти представляют собою удушливый упругий флюид,
в котором зажженные тела гаснут, словно погруженные
в воду.2
Отсюда возникло величайшей важности следствием
было очевидно, и это естественно и необходимо следо-
вало из указанных фактов, что воздух атмосферы не
является наиболее подходящим для того, чтобы содей-
ствовать усилению действия огня. Направляя посредством
мехов струю воздуха на зажженные уголья, мы вносим
три части вредного или по меньшей мере бесполезного
упругого флюида на одну часть действительно полезного,—
следовательно, можно было бы значительно усилить дей-
ствие огня, если б оказалось возможным поддерживать
горение посредством чистого воздуха".3
1 В 1775 г.
^Oeuvres, t. II, рр. 424, 425.
9 Ibidem*
202
Кислород
Эти соображения легли в основу выдающегося сочи-
нения Лавуазье, названного им: „Мемуар о способе зна-
чительного усиления действия огня и тепла в химиче^
ских операциях",1 опубликованного в 1782 г. В этих
соображениях заложена сущность всех будущих методов
использования кислородного дутья в технике. Лавуазье
отметил, что эта идея должна была возникнуть у многих
лиц до него, и, что по некоторым сведениям известный
берлинский химик Ахард уже пытался применить кисло-
родное дутье. „Но оставалось придумать аппарат доста-
точно удобный и недорогой для обычного применения
его в лабораториях".1 2
Первоначально Лавуазье воспользовался большим пу-
зырем, к которому была присоединена латунная трубка
с краном, имевшая в своем свободном конце насадку
с узким отверстием. Насадки можно было легко сменять.
Струя кислорода направлялась на кусок древесного угля,
в котором было заранее сделано углубление. В это углуб-
ление помещались те или иные объекты исследования.
Уголь зажигался посредством паяльной лампы. Экспери-
ментатор открывал кран и нажимал на пузырь, содер-
жащий кислород. Таким образом удалось, например,
впервые расплавить платину. „При помощи этого един-
ственного эксперимента я мог убедиться,—писал Лавуа-
зье,— что я владею отныне средством получения значи-
тельно более мощного жара, чем это позволяли все до
сих пор применявшиеся способы".3
Однако устройство аппарата, подающего газ, оказа-
лось весьма неудобным, так как при ’этом не удавалось
поддерживать постоянную скорость истечения газа. „Таким
1 Ibidem, р. 423.
2 Ibidem, р. 425.
3 Ibidem, р. 426 и далее.
Изобретение газометра
203
образом, я понял необходимость конструирования аппа-
рата, в котором давление поддерживалось бы само собой
и притом постоянно; в котором можно было бы по жела-
нию менять скорость струй воздуха,1 наконец, емкость
которого была по меньшей мере от 80 до 100 пинт.1 2 Все
эти преимущества я нашел собранными в своего рода
гидростатических мехах". Позднее им было внесено даль-
нейшее улучшение в первоначальную установку. Кисло-
родное дутье было применено к паяльной лампе. Вскоре
затем сотрудник его, инженер Мёнье, усовершенствовал
этот аппарат, превратив его (по словам Лавуазье) в „необ-
ходимый предмет оборудования лаборатории и физиче-
ского кабинета, где хотят вести точные опыты". Изобре-
тенный Лавуазье „аппарат для маневрирования различ-
ными видами воздуха" впоследстваи был им же назван
газометром и нашел себе широчайшее применение в лабо-
раторной практике. В конструкции не только обеспечи-
валась большая равномерность истечения газа и удобство
его регулирования, но введены были также приспособ-
ления, позволяющие измерять давление.
Основным недостатком этого аппарата являлась, ра-
зумеется, его громоздкость, поскольку газ в нем нахо-
дится под давлением, мало отличающимся от атмос-
ферного. Кроме того, как отмечает Мёнье, такого рода
аппарат неприменим к газам, легко растворяющимся
в воде. Лишь много десятков лет спустя в технику было
введено применение сжатых газов, заключенных в проч-
ные металлические баллоны.
За Лавуазье осталась однако честь изобретения
первого практически полезного аппарата для получе-
ния кислородного дутья. Посредством этого аппарата
1 „Живительного воздуха", т. е. кислорода.
2 Пинта =0.93 л.
204
Кислород
vtm. было в 1782—1783 гг. изучено действие чрезвычайка
высоких температур на наиболее тугоплавкие минералы1
и драгоценные камни.1 2 Эти исследования представляют
собою дальнейшее продолжение работы, в которой при-
менялось описанное нами выше зажигательное стекло
Трюдэна.
Таким образом, в эти годы Лавуазье подводил заме-
чательные практические итоги своим теоретическим откры-
тиям. Заметим, что большинство биографов Лавуазье
не обратило должного внимания на перечисленные его
работы, а М. Бертло даже назвал эту эпоху жизни вели-
кого ученого эпохой „регресса". Поэтому необходимо под-
черкнуть, что практическое осуществление кислородного
дутья есть, разумеется, крупнейшее техническое изобре-
тение Лавуазье.
Президент Парижской Академии Наук астроном Бошар-
де-Сарон посоветовал ему использовать вместо угля
„горючий воздух", как тогда называли водород, откры-
тый в 1766 г. английским ученым Кэвендишем. Первые
опыты, произведенные в этом направлении, не дали,
однако, хороших результатов: температура пламени ока-
залась недостаточной для расплавления платины. „Если
придумать аппарат, в котором живительный воздух со
всех сторон окружает горючий воздух так, что последний
в известной мере горит в атмосфере живительного воздуха,
то, вероятно, можно было бы получить более значитель-
ный эффект",— говорит Лавуазье по этому поводу. Вско-
ре им совместно с Мёнье был разработан метод техниче-
ского получения значительных количеств водорода, од-
1 Oeuvres, t. II, р. 451. Мемуар „О действии огня, возбуждаемого
живительным воздухом, на наиболее тугоплавкие минералы".
2 Oeuvres, t. II, р. 441. „Мемуар о действии чрезвычайно интен-
сивного огня на драгоценные камни".
Паяльный стол с кислородным дутьем и газометр Лавуазье.
Слева — ванна для получения кислорода.
206
Кислород
нако никаких дальнейших работ по практическому ис-
пользованию водородного пламени при кислородном
дутье в опубликованных трудах Лавуазье не имеется.
Да это и понятно: при тогдашнем уровне техники пред-
ложение де-Сарона оказывалось чересчур опасным и нена-
дежным. Оно было осуществлено лишь во второй поло-
вине XIX столетия.
XII
После того как сущность горения и превращения метал-
лов в „земли" была принципиально выяснена, Лавуазье
развернул также широкие исследования процесса окисле-
ния различных веществ. Так появилась работа—„о срод-
стве кислородного начала", в которой даны для практи-
ческих нужд химиков таблицы последовательности заме-
щения одних веществ другими в соединении с кислородом.
К этой работе мы вернемся позднее.
Среди веществ, описание которых представляло прак-
тический интерес, находилось в первую очередь железо.
Так называемый „прогар" ружейных стволов под дейст-
вием пороховых газов составлял на протяжении столетий
серьезную заботу оружейников и, естественно, интересо-
вал Лавуазье, как управителя порохов и селитр.
Этому вопросу посвящен „Мемуар о соединении
кислородного начала с железом",1 в котором принимал
некоторое участие и Лаплас. Работа замечательна не
только подробным изучением различных стадий окис-
ления железа, но и тем, что в ней содержатся также
весьма интересные исследования и заключения относи-
тельно закалки стали. Эти исследования связаны также
с вопросом о разложении воды нагретым железом, о кото-
1 Oeuvres, t. П, р. 557. Представлен Академии Наук 20 декабря
1783 г.
Окисление и закалка стали
207
ром речь впереди. Как указывает Лавуазье, еще Реомюр
(1683—1757) в своих металлургических исследованиях
заметил, что при закалке стали в воде наблюдается
„кальцинация" (окисление) стали. Он пытался для срав-
нения закаливать сталь в воде и в ртути, но во втором
случае не получил однозначных результатов.
Лавуазье поступил следующим образом. Он сначала
нагрел докрасна небольшой железный цилиндрик в за-
крытом сосуде, наполненном животным углем во избежа-
ние окисления. Затем он закалил цилиндрик в воде,
„обратив его при этом в своего рода сталь".1 Далее
он растворял цилиндрик в разбавленной нагретой серной
кислоте слой за слоем, каждый толщиной в одну линию
(т. е. около 2.5 мм). После снятия каждого слоя Лавуа-
зье взвешивал цилиндрик и изучал под колоколом „пнев-
мато-химической" установки состав газов, выделившихся
при растворении. Оказалось, что наружный слой зака-
ленного цилиндрика давал сравнительно мало „горючего
воздуха" (Н2); следующий слой выделял больше водорода
и т. д. и, наконец, на некоторой глубине достигалось
нормальное для незакаленной стали выделение водорода.
Как известно, наружный слой закаленных стальных пред-
метов оказывается более твердым, чем внутренние. Из
этого обстоятельства исследователь заключил, что в со-
гласии с предположениями Реомюра: „Это есть новое
доказательство того, что один из главных эффектов
закалки заключается в превращении внешних слоев стали
в промежуточное состояние между мягким металлом
и окисью".
Окисление протекает, как указывает Лавуазье, лишь
в слоях ограниченной толщины. При отжиге, по его мне-
1 В XVIII в. незакаленная сталь именовалась железом; название
..стали" она получала лишь после закалки. Это следует иметь в виду
при чтении всех последующих цитат
208
Кислород
нию, этот окисел железа (магнетит — Fe3O4) равномерно
рассеивается на всю толщину металла, „подобно тому,
как лак, которым мы покрыли бы на холоду пористое
тело, исчезнет почти полностью при нагреве".
Точка зрения Лавуазье на сущность закалки, конечно,
совершенно ошибочна. По современным данным, закалка
заключается в задержке растворенного углерода в стали
благодаря быстрому переходу стали из кристаллической
модификации „гамма" (в котором углерод растворяется)
в кристаллическое состояние „альфа" (в котором углерод
обычно не растворяется). Этот метастабильный раствор
носит название мартенсита. Окисление является лишь по-
бочным и сравнительно малозначащим эффектом. Отжиг
связан с распадом мартенсита.
Но, исходя из совершенно ошибочной теории, он
пришел все же к замечательным выводам: „Легко видеть,
согласно этой теории, почему очень маленькие сталь-
ные инструменты являются весьма хрупкими: лезвие
перочинного ножа почти столь же хрупко, как и стекло,
оно не допускает ни расплющивания молотком, ни изгиба;
суть в том, что оно представляет собою закаленную
сталь на всю толщину. Более толстые инструменты уже
не обладают такой степенью хрупкости, так как сердце-
вина их еще железо, между тем как поверхность пре-
вратилась в сталь. Сабли представляют особенно порази-
тельный пример: острие сабли хрупкое, так как тонкость
его привела к тому, что закалка проникла на всю толщину;
тело клинка, напротив, изгибается, так как оно состоит из
ковкого и мягкого железа в оболочке'из стали.
„Эти наблюдения,—говорит Лавуазье,—могут служить
путеводителем в поисках наилучшей формы, которую
следует давать инструментам, подлежащим закалке, В тех-
нике шли ощупью и почти достигли цели, не дав себе
отчета в причинах. Бритвы могут служить примером.
Теория наивыгоднейшей формы режущих инструментов 209
Если бы, сохраняя у этих инструментов их толщину
лезвия, им придавали бы строго треугольную форму, то
стирание, вызванное пользованием и трением на коже
и на камне, должно было бы вскоре обнажить железо,
и бритва вышла бы из строя. Что же сделали, чтобы
избежать, или, вернее, предупредить это неудобство?
Сжали лезвие в середине и уменьшили толщину с режу-
щей стороны, не уменьшая ничего со стороны обуха,
так сказать, прибавили тонкий инструмент к толстому
и объединили в бритве достоинства тонких и толстых
частей: в режущей части все состоит из стали; наоборот,
сталь покрывает сердцевину из ковкого железа со сто-
роны обуха лезвия.
„При изготовлении сабель руководились иными соо-
бражениями. К счастью для человеческого рода эти ору-
дия убийства не имеют частого применения; не прихо-
дится вовсе опасаться, что покрывающий их слой стали
износится от трения: оказалось, таким образом, возмож-
ным, оказалось, значит, необходимым придать клинку
совершенно треугольную форму.
„Я мог бы еще далее распространять эти размышле-
ния о наивыгоднейшей форме, которую следует придавать
стальным инструментам в зависимости от применений,
для которых их предназначают, но я знаю, что для того,
чтобы дать нечто вполне удовлетворительное по этому
вопросу, следовало бы сделать значительно больше опы-
тов, чем я делал необходима была бы работа, направлен-
ная исключительно к разрешению этой задачи, и она
потребовала бы многих лет экспериментирования; итак,
вернемся к моему сюжету, к изучению различных соеди-
нений кислородного начала с металлами и горючими
веществами*.1
1 Oeuvres, t. II, р. 574.
14 Дорфман
210
Кислород
Цитированная работа не отражена ни в одной из био-
графий великого ученого. А между тем приведенные
соображения очень характерны для всей его манеры
мышления. К какому бы, хотя бы самому обычному пред-
мету или привычному явлению ни подходил этот замеча-
тельный человек, он всегда старался его глубоко про-
анализировать с научной точки зрения. И сама проблема,
которую он с такой четкостью поставил перед собою
в этом мемуаре (о научном подборе наивыгоднейшей
формы инструментов), и размах необходимых научно-тех-
нических исследований, который он сразу же намечает
для ее удовлетворительного разрешения, — ”се это далеко
опережает методы и идеи XVIII в. Фактически, как мы
видим, Лавуазье явился в Западной Европе провозвест-
ником такой постановки научно-технических исследова-
ний современного типа, какая оказалась под силу лишь
Глава IX
ВОДА И „ГОРЮЧИЙ ВОЗДУХ"
Тщетные попытки Лавуазье обнаружить продукт горения водорода.—
Уорлтайр, Кэвендиш и Пристли обнаруживают превращение газовой
смеси водорода с кислородом в воду. Неразложимость воды как эле-
мента считается, однако, незыблемой. — Догадка Уатта о сложном
составе воды. — Приезд секретаря Королевского общества Блэгдена
в Париж. — Лавуазье повторяет опыт английских химиков и доказы-
вает сложный состав воды. — Разложение воды химическим путем. —
Закладка фундамента органической химии. — Уатт считает себя обокра-
денным. — Лавуазье во главе комисси.и по воздухоплаванию. — Разра-
ботка бескислотного метода получения водорода. — Первые военные
аэростаты.
I
Уже в начале XVIII столетия было известно, что при
растворении железных опилок в серной кислоте выделяется
„воздух", обладающий способностью воспламеняться
и сгорать со взрывом. Этот газ получил название „горю-
чего воздуха". Кэвендиш в 1766 г. высказал убеждение,
что „горючий воздух" — не что иное, как сам фло-
гистон.1 Когда Лавуазье установил, что горение заклю-
чается в соединении горючего тела с „живительным
воздухом" (кислородом), то его заинтересовал вопрос
1 Н. Cavendish. Philosophical Transactions. 1766, р» 161.
14*
212
Вода и «горючий воздух»
о том, что же получается в результате сгорания „горю-
чего воздуха". Эти опыты начались еще в 1774 г.,
но не приводили к ясным результатам.
В марте 1774 г. Лавуазье писал в дневнике: „Я был
убежден, что горение горючего воздуха является не чем
иным, как фиксацией части атмосферного воздуха, разложе-
нием воздуха, и что выделение материи огня могло
бы происходить от горючего начала воздуха"...
Для проверки своих предположений он поставил
следующий опыт. Налив разбавленной серной кислоты
в открытый сосуд, Лавуазье взвесил его и опустил
в кислоту взвешенное заранее количество железных
опилок. Началось растворение, сопровождающееся нагре-
вом и выделением „горючего воздуха". Приблизив свечу,
Лавуазье вызвал взрыв. Он ожидал, что теперь вес
сосуда должен увеличиться из-за присоединения к во-
дороду части атмосферного воздуха. Но оказалось,
что, вопреки ожиданию, вес уменьшился. Лавуазье не мег
понять, в чем дело. В действительности образовалась
не вода, а пары воды, которые не остались в сосуде,
а рассеялись в атмосфере.
В апреле 1775 г. Лавуазье произвел новые опыты
сжигания горючего воздуха, но уже в закрытых сосудах.
По этому поводу он писал, в дневнике: „Кажется, что
горючий воздух горит лишь в известной пропорции
с обыкновенным воздухом, введенным в сосуд. Если
вводить свечу несколько раз, он сгорит нацело. Что
же тогда останется?"1 Он считал, что всякое горение
сопровождается образованием кислоты (т. е. ангидрида
кислоты). Он ожидал появления какой-нибудь кислоты,
а кислоты не оказывалось и в помине.
1 М. Berthelot. La Revolution chimique, p. 268.
Лавуазье пытается обнаружить продукт горения водорода 213
В 1777 г. он совместно со своим другом химиком
Бюкэ сжег шесть пинт „горючего воздуха", помещен-
ного в сосуде, содержавшем известковую воду; она
не помутнела, значит продукт горения не являлся угле-
кислотой. Наконец, в 1781 г., работая вместе с химиком
Жанжамбром, Лавуазье поставил опыт таким образом,
что струя кислорода вдувалась в сосуд с „горючим воз-
духом", воспламеняя его. Вопреки ожиданиям, не полу-
чилось ни меловой кислоты (углекислоты), ни серной
кислоты, ни азотной; никакой вообще кислоты обнару-
жить не удалось.1
Между тем уже в 1775 г. Маке, совместно с химиком
Сиго-де-ля-Фонд, наблюдал капли воды на фарфоровом
блюдечке вблизи пламени от спокойно горящей струи
„горючего воздуха". „Оно оказалось лишь смоченным
ясно заметными капельками некоей белой жидкости,
вроде воды, которая, как нам показалось, на самом
деле является не чем иным, как чистой водой".1 2 Но это
сообщение не обратило на себя внимания, да и сам Маке
не придал ему особого значения. Столь же мало внима-
ния привлекло к себе и сообщение Пристли в \ТП г.
о наблюдении, сделанном им совместно с химиком Уорл-
тайром о том, что после сжигания „горючего воздуха"
в замкнутом сосуде, содержащем обыкновенный воздух,
стенка сосуда запотевает.
Пристли рассказывает об этом опыте следующим
образом.3 „Как только он [Уорлтайр] увидел влагу на
внутренней стенке стеклянного сосуда, в котором я затем
1 Ibidem, р. 111.
2 Н. Корр. Beitrage zur Geschichte der Chemie, S. 251, Anmer-
kuig 39. Опыт описан в книге: М а с q u е г. „Dictionnaire de Chimie,
2 ed., 1778.
3 Ibidem, S. 254, Anmerkung 45«
214
Вода и «горючий воздух»
сжег горючий воздух, он сказал, что этим подтверждается
его давнишнее убеждение, а именно, что обыкновенный
воздух отдает свою влагу, когда он флогистируется.1
Для меня это был просто беспредметный эксперимент,
поставленный лишь для развлечения некоторых фило-
софских друзей, образовавших частное общество и оказав-
ших мне честь включения меня в него. После того, как
мы сожгли смесь обыкновенного воздуха с горючим
воздухом, мы проделали то же самое с дефлогистирован-
ным и с горючим воздухом; и хотя в этом случае свет
был гораздо ярче, а нагрев гораздо больше, взрыв
не был столь силен, так что стеклянная трубка в дюйм
диаметром и не более одной десятой дюйма толщиною
вынесла его без повреждения". Пристли, следуя своему
обычаю, изображал все свои эксперименты, как поставлен-
ные случайно, без предвзятых намерений.
Не было ничего удивительного в невнимании хими-
ков к этим новым фактам. В самом деле, никому не при-
ходило еще на ум, что вода есть сложное тело, что
она может являться результатом синтеза „живительного"
(или дефлогистированного) воздуха и „горючего воздуха".
Недаром в том же „Химическом словаре" („Dictionnaire
de Chimie") Маке (1778), где сообщалось об образова-
нии капелек воды при нагреве гремучей смеси, было
сказано: „Вода представляется субстанцией неизменной
и неразрушимой; по крайней мере до сих пор не известно
ни одного опыта, из которого можно было бы заклю-
чить, что вода может быть разложена".1 2 Вспомним, что
и Лавуазье, составляя в 1772 г. план своего „Трактата
о воде" —трактата, который он так и не собрался напи-
1 Соединяется с флогистоном.
2 Н. Корр. Beitrage zur Geschichte der Chemie, S. 254, Anmei
ng 46.
Кэвендиш повторяет опыты Пристли и Уорлтайра
215
сать, — наметил следующее содержание последней главы:
„Опыты, которые доказывают, что вода не разлагается
ни одним из методов, которые применялись до сих пор".
Вода продолжала считаться одним из четырех основных
элементов мироздания: земля, вода, огонь и воздух.
II
Летом 1781 г. замечательный английский ученый
Кэвендиш подверг подробному исследованию процесс
сгорания „горючего воздуха", чтобы уяснить себе природу
росы, появляющейся на стенках прибора. Прежде всего
он установил:1 „что четырехсот двадцати трех объемов
горючего воздуха почти достаточно, чтобы полностью
флогистировать тысячу объемов обычного воздуха,
а общий остаток воздуха после взрыва составляет чуть
более четырех пятых примененного количества обычного
воздуха: таким образом, поскольку количество обычного
воздуха не может быть дальше уменьшено никаким
иным методом флогистирования, то мы можем с уверен-
ностью заключить, что при смешении их в такой про-
порции почти весь горючий воздух и примерно одна
пятая часть обычного воздуха теряют при взрыве свою
упругость и конденсируются в росу, покрывающую
стекло". Иными словами, по данным Кэвендиша, тысяча
объемов атмосферного воздуха с четырьмя стами двад-
цатью тремя объемами водорода (который он считал
самим флогистоном!) образуют воду; при этом остается
газообразный остаток, состоящий из газов (главным
образом азота), уже не соединяющихся непосредственно
с водородом. Соединение с водородом Кэвендиш име-
нует „флогистированием". Если взять большое количество
1 Ibidem, S. 256, Anmerkung 46.
216
Вода и «горючий воздух»
водорода по отношению к воздуху, то водород остается
в избытке, поэтому он и отмечает, что „никакой способ
флогистирования" не позволяет провести этот опыт
е меньшим относительным количеством воздуха.
Поставив этот эксперимент в больших масштабах,
чем прежде, он получил таким образом свыше ста три-
дцати пяти гран сконденсированной на стенках сосуда
жидкости, „которая не имела ни вкуса, ни запаха и не оста-
вляла при этом никакого заметного осадка при испарении
до сухости; она не обнаруживала никакого острого
запаха во время испарения; коротко говоря, она казалась
чистой водой... И, таким образом, на основании данного
эксперимента оказывается, — писал Кэвендиш, — что эта
роса есть простая вода; следовательно, почти весь горю-
чий воздух и примерно одна пятая обычного воздуха
превращаются в чистую воду".1 Получив этот
результат, он перешел к исследованию взрывов смесей
„горючего воздуха" с почти чистым „дефлогистирован-
ным воздухом".1 2 Он откачивал посредством насоса воз-
духиз стеклянного баллона, наполнял его смесью этих газов,
а затем взрывал эту смесь, пропуская электрическую
искру. „При этом почти весь заключенный воздух терял
свою упругость". Получавшаяся в результате взрыва
жидкость (около тридцати гран) оказывалась заметно
кислой на вкус, она состояла из воды с примесью малого
количества азотной кислоты.
„Из этих опытов оказывается, — писал Кэвендиш,—
что ежели смесь горючего и дефлогистированного воз-
духов взрывается в такой пропорции, что сгоревший
воздух не вполне флогистирован, то сконденсированная
жидкость содержит немного кислоты, которая всегда
1 Разрядка моя. — Я. Д.
2 Т. е. кислородом.
Кэвендиш доказывает превращение газовой смеси в воду 217
оказывается азотной кислотой, из какой бы субстанции
ни добывался дефлогистированный воздух; но, однако,
если пропорция такова, что сгоревший воздух почти
нацело флогистируется, то сконденсированная жидкость
уже не является вовсе кислотой, но представляется
чистой водой без примеси чего-либо; и поскольку, при
смешивании их друг с другом в такой пропорции, очень
мало воздуха остается после взрыва и почти все кон-
денсируется, следует, что почти весь горючий
и весь дефлогистированный воздух при
этом превращаются в чистую воду".
Кэвендиш замечает, что количество остающегося при
этом воздуха столь ничтожно мало, что, повидимому,
оно объясняется лишь наличием примесей в исходных
газах. „Если бы эти виды воздуха были получены
в совершенно чистом виде, они нацело сконденсирова-
лись бы“.
Итак, Кэвендиш открыл два замечательных опыт-
ных факта: во-первых, непосредственное образование
воды нацело из соответствующим образом подобран-
ной смеси водорода с кислородом и, во-вторых, непо-
средственное образование окислов азота при прохож-
дении искрового разряда через смесь кислорода со
следами азота.
Первое явление он интерпретировал, как „превраще-
ние“ смеси двух видов воздуха в воду, не сделав отсюда
ни малейшего вывода ни о сложности строения воды
вообще, ни о ее составе. Таким образом, основное
и важнейшее в этом вопросе ускользнуло от внимания
Кэвендиша. Второе явление, не относящееся, впрочем,
к вопросу об образовании воды, представляет по сей
день значительный интерес как первый случай непосред-
ственной фиксации азота; оно рассматривалось им как
явление побочное и особого внимания тогда не привлекло.
218
Вода и «горючий воздух»
Впоследствии он объяснил свои наблюдения следующим
образом: „Из всего вышеизложенного вытекает безуслов-
ное основание считать, что дефлогистированный воздух
представляет собою лишь воду, лишенную своего фло-
гистона, и что горючий воздух является... либо фло-
гистированной водой, либо даже чистым флогистоном;
но по всей вероятности первым**. Он признал сомни-
тельным свое собственное предположение о том, что
„горючий воздух4* является чистым флогистоном, ибо
в этом случае „горючий воздух** должен был бы дей-
ствовать на обыкновенный воздух уже при комнатной
температуре и не нуждался бы для этого в столь силь-
ном нагреве.
Из этих рассуждений отчетливо видно, какой сумбур
царил тогда в химии, какую неимоверную путаницу вно-
сила в размышления крупнейших ученых того времени
господствующая еще в умах теория флогистона.
Кэвендиш вскоре рассказал об этих своих опытах
Пристли. Знал о них, разумеется, и его ассистент Блэг-
ден, являвшийся в то же время секретарем Лондонского
королевского общества. Данные эти оставались покамест
неопубликованными.
Пристли повторил опыты Кэвендиша, стараясь всяче-
ски удалить следы влаги из обоих газов. Поэтому он их
держал над ртутью. Пропустив искру через смесь обоих
видов воздуха, он собрал фильтровальной бумажкой
капли воды на стенках сосуда и взвесил бумажку. Однако
он отмечает, что во время взрыва на стенки сосуда попа-
дали также брызги ртути, которые невольно собирались
бумажкой. Чтобы установить чистый вес воды, Пристли
высушивал фильтровальную бумажку и взвешивал ее снова
(собранные капельки ртути оставались на ней). Он при-
шел к выводу, что вес образовавшейся воды приблизи"
тельно соответствует весу первоначальной смеси газов.
Вода продолжает считаться неразложимым элементом 2/9
Однако из его записей не вытекает, взвешивал ли он
исходную газовую смесь вообще. Кроме того, он указывает:
„Я хотел, однако, иметь для этой цели более точные
весы: полученный результат наводил на твердое пред-
положение, что воздух был обратно превращен в воду
и что источником его была вода*. Эти данные были
также опубликованы значительно позднее (1784).
В эти годы (1781—1782), когда Кэвендиш и Пристли
исследовали процесс появления воды при сжигании водо-
рода с кислородом, Лавуазье занимался преимущественно
практическими вопросами. В его дневниках мы находим,
прежде всего, заметки по изучению различных сортов
селитры.
Но вот в середине марта 1782 г. он впервые получает
возможность испробовать паяльную лампу с кислородным
дутьем.
29 июля 1782 г. в дневнике отмечаются первые опыты
по нагреванию различных тел с помощью „горючего
воздуха* и „живительного воздуха*. Как мы уже отме-
чали, эти опыты, по словам самого Лавуазье, не приве-
ли к успешным результатам. Однако постановка такого
рода опытов возможна лишь при наличии специальной
аппаратуры, в которой оба газа хранились в довольно
значительных количествах и могли быть приведены
в соприкосновение друг с другом в любых желаемых
пропорциях. Эта установка и была, повидимому, исполь-
зована им в его исследовании синтеза во ;ы, произведенном
летом 1783 г., о котором речь будет ниже. Покамест,
отложив метод гремучей смеси, он обратился .к исполь-
зованию обычной паяльной лампы с киглородным дутьем.
6 января 1783 г. Мария Лавуазье записывает своим
аккуратным почерком результаты многочисленных иссле-
дований ее супруга о действии сверхжаркого пламени
на минералы, драгоценные камни и металлы.
220
Вода и «горючий воздух»
21 апреля 1783 г. известный английский ученый Блэк
получил от знаменитого изобретателя паровой машины
Уатта письмо, в котором последний, между прочим,
писал:... „Дж. Пристли провел еще много опытов над
превращением воды в воздух, и, как мне представляется,
я обнаружил причину этого; свои соображения я изложил
в виде письма к нему, которое будет доложено Королев-
скому обществу вместе с его статьей по этому вопросу.
Коротко говоря, следующее: во-первых, восстанавливая
металлы горючим воздухом, он обнаружил, что они его
поглощают и что остаток в десять унций из бывших
ста есть все тот же горючий воздух; поэтому горючий
воздух и есть то, что именуется флогистоном. Во-вторых,
когда совершенно сухой горючий воздух и совершенно
сухой дефлогистированный воздух сжигаются посредством
электрической искры в закрытом стеклянном сосуде,
то он находит, по остывании сосуда, воду, приставшую
к сосуду, в количестве, равном или почти равном весу
всего воздуха; и когда он открывает сосуд под водой
или ртутью, последний оказывается наполненным на одну
двухсотую часть своего полного объема, причем этот
остаток есть флогистированный воздух, который, неви-
димому, имелся в виде примеси в других видах воздуха...
При уничтожении горючего воздуха и дефлогистирован-
ного, оба они соединяются с силой, — доходят до крас-
ного жара, — и |3атем, остывая, совершенно исчезают.
Единственная фиксированная материя, которая остается,
это вода, а вода, свет и тепло — вот все продукты
реакций.
„Не вправе ли мы отсюда заключить, — продолжает
Уатт, — что вода состоит из дефлогистированного и горю*
чего воздуха или флогистона, лишенного части своей
скрытой теплоты; что дефлогистированный или чистый
воздух состоит из воды, лишенной своего флогистона
Догадка Уатта о сложном составе воды
221
и соединенной с теплом и светом; а если свет есть лишь
одна из модификаций тепла, или составная часть фло-
гистона, то значит чистый воздух состоит из воды,
лишенной своего флогистона и своей скрытой теплоты?" 1
Итак, впервые была высказана вслух мысль о том,
что вода есть сложное тело, что она состоит из
ч е го-т о.
Но теория флогистона владела умами; флогистон
искали и старались его обнаружить. Английский химик
Кирван категорически утверждал, что „горючий воздух"
есть не что иное, как сам таинственный и многообраз-
ный флогистон. А его друг Пристли добавил, что „горю-
чий воздух", это — флогистон „в форме воздуха". Уатт
мыслил в рамках теории флогистона. И он пришел
к выводу, что вода есть соединение „дефлогистирован-
ного воздуха" и флогистона. Такая формулировка пред-
ставляется на первый взгляд крайне странной. Ведь если
„дефлогистированный воздух" рассматривается как обык-
новенный воздух, лишенный флогистона, то соединение
его с флогистоном не может дать ничего другого кроме
обычного воздуха. В таком случае необходимо было
сделать следующий шаг и отождествить воздух с водой.
К этому, в сущности, сводилась гипотеза Уатта. И дей-
ствительно, впоследствии (1784) в своей статье, напеча-
танной в „Philosophical Transactions", Уатт указал:
„В течение многих лет я держался того мнения, что
воздух есть видоизменение воды".1 2
Свои взгляды Уатт сообщил весною 1783 г. в .письмах
многим из своих знакомых и друзей. В одном из них
он, например, давал рецепт: „Как изготовить воздух.
1 Н. Корр. Beitrage zur Geschichte der Chemie, S. 264—26=,
Anmerkung 59.
2 Ibidem, S. 258, Anmerkung1 48.
222
Вода и «горючий воздух»
Возьмите чистую воду... лишите ее флогистона любым
пригодным для этого способом, прибавьте элементарной
теплоты... и дистиллируйте".
Однако, когда настал день доклада Пристли Коро-
левскому обществу — 26 июня 1783 г., — Уатт снял свое
письмо с доклада, не потому, что он усомнился в осно-
вах своих выводов, а потому, что ему пришли в голову
некоторые новые соображения.
Пристли не огласил письма Уатта, но показал его
некоторым членам Королевского общества и передал
его на хранение президенту.
III
Между тем секретарь Королевского общества Блэгден
выехал в начале нюня 1783 г. в Париж. Здесь в обществе
французских академиков, где присутствовал и Лавуазье,
Блэгден сообщил о результатах неопубликованных опытов
Кэвендиша и Пристли, а также о том, что, по мнению
как этих исследователей, так и Уатта, „вода есть дефло-
гистированный воздух, к которому присоединился фло-
гистон". Как впоследствии рассказывал об этой беседе
Блэгден, французские исследователи выражали удивле-
ние по поводу появления заметных количеств воды при
такого рода операциях и сомневались в том, что вес
этой воды в точности равен общему весу исходных газов.
Они подозревали, что вода не образовалась в результате
взрыва смеси газов, а уже ранее содержалась в них
и только выделилась после взрыва. По словам Блэг*дена,
того же мнения будто бы придерживался и Лавуазье.
Поскольку, однако, как выяснилось, у последнего
уже имелась вся необходимая аппаратура для постановки
этих опытов в больших масштабах, собравшиеся обра-
тились к нему с просьбой повторить их.
Лавуазье повторяет опыт английских химиков 223
Мы уже видели, что он занимался этим вопросом на
протяжении ряда лет. В последнее время (1782) он иссле-
довал действие сверхжаркого пламени на различные
тела. Установка для получения и хранения достаточные
количеств обоих газов имелась налицо, а также аппара-
тура для приведения их в соприкосновение. 24 июня 1783 г.
в присутствии академиков Лё-Pya, Вандермонда и се-
кретаря Лондонского королевского общества Блэгдена,
при непосредственном участии математика и физика
де-Лапласа, в лаборатории Лавуазье был поставлен
эксперимент по сожжению смеси водорода и кисло-
рода в соответственно подобранной пропорции. В но-
ябре 1783 г. Лавуазье доложил об этих опытах
Академии Наук в мемуаре, озаглавленном:1 „Мемуар
в котором поставлена задача доказать, что вода не есть
вовсе простое тело, элемент в буквальном смысле
этого слова, но что она может быть разложена и
вновь воссоединена*. В апреле 1784 г. он снова
выступил с докладом о работе, произведенной сов-
местно с Мёнье, под названием „Мемуар, в котором
доказывается посредством разложения воды, что этот
флюид не является вовсе простым телом и что имеется
несколько способов получения в больших масштабах
горючего воздуха, входящего в нее в качестве образую-
щего начала*.1 2
В своем первом мемуаре он, между прочим, упомянул
относительно Блэгдена: „Он нам сообщил, что г. Кэвен-
диш в Лондоне уже пробовал сжигать горючий воздух
в закрытых сосудах и получал при этом опыте весьма
заметное количество воды*.3
1 Oeuvres, t. II, р. 334.
2 Ibidem, р. 360.
8 Ibidem, р. 338.
-224
Вода и «горючий воздух»
Лавуазье вызвал сильнейшее негодование Блэгдена,
умолчав о том, что как-раз из неопубликованных опытов
Кэвендиша и рассуждений Уатта, сообщенных ему Блэг-
деном, следовало появление именно воды, а не чего-либо
другого при соединении „дефлогистированного" воздуха
с „горючим воздухом" посредством сжигания. В одном
из своих выступлений Блэгден подчеркнул, что Лавуазье,
дескать, использовал интерпретацию, данную этим опытам
Кэвендишем, но он ее „приспособил к своей старой
теории, исключающей флогистон".
Что Блэгден был отчасти прав, следует из письма
Лапласа к швейцарскому физику де-Люку. Лаплас гораздо
более добросовестно, чем Лавуазье, изложил указанные
события: „Несколько дней тому назад г. Лавуазье и я
повторили перед г. Блэгденом и некоторыми другими
лицами эксперимент г. Кэвендиша над превращением
дефлогистированного и горючего воздуха в воду".
Оставляя на время в стороне эти приоритетные
вопросы, вернемся к самому исследованию Лавуазье
и Лапласа, представляющему большой интерес как по
ряду высказанных в нем соображений, так и по методике
эксперимента, отличной от методики и Кэвендиша, и
Пристли.
IV
Лавуазье начинает свой мемуар вопросом: суще-
ствует ли несколько видов „горючего воздуха" или
же тот, который мы получаем оазными путями, всегда
один и тот же, но содержащий различные примеси?
Дабы не создавать недоразумений, он предупреждает,
что „горючий воздух", получающийся при разложении
самой воды или при растворении железа в соля-
ной или серной кислоте, он намерен обозначить „горю-
Лавуазье доказывает сложный состав воды
225
чим водяным воздухом", а ежели этот последний входит
в какое-либо соединение, то будет именоваться „горючим
водяным началом". Таким образом, он здесь впервые
связал название „горючего воздуха" с водою, подгото-
вив тем самым название „водород".
Изложив свои прежние опыты с Бюкэ и Жанжамбром,
о которых мы говорили выше, Лавуазье сообщает, что
он был крайне поражен в свое время, когда оказалось,
что, вопреки его представлениям, при сгорании горю-
чего воздуха не получается никакой кислоты. Он был
еще более удивлен, когда имевшаяся в приборе вода
нисколько не изменилась по своему составу. Получилось
впечатление, точно при сгорании „горючего воздуха"
в кислороде не возникает ничего. „Между тем, — говорит
Лавуазье, — ничто не исчезает в экспериментах; одна
лишь материя огня, тепла и света может проникать сквозь
поры сосудов; оба вида воздуха, являющиеся весомыми
телами, не могли ведь исчезнуть, они не могли быть
уничтожены: отсюда необходимость в постановке опытов
с большей точностью и в больших масштабах". Мы
видели уже раньше, что Лавуазье, подобно Бойлю, мол-
чаливо считал принцип сохранения вещества своего рода
аксиомой, между тем как Ломоносов в 1748 г. впервые
назвал его универсальным законом. Здесь мы впервые
находим у Лавуазье упоминание этого принципа.
Установка, которой воспользовался Лавуазье для
исследования, позволяла проводить горение в течение
продолжительного времени. Она состояла из двух газо-
метров („пневматических ящиков"), один из которых напол-
няется водородом, а другой кислородом. Газы попа-
дали по кожаным гибким шлангам в насадку из двух
медных трубок, снабженных кранами, позволяющими
регулировать струю каждого газа в отдельности. Эта
медная насадка могла присоединяться на трении к верх-
15 Дврфмая
226 Вода и «горючий воздух»
ней трубке стеклянного колокола, в котором должен
был производиться опыт („она была притерта наверху
таким же способом, как притирается хрустальная пробка
к склянке", — говорит Лавуазье). Насколько мне известно,
это первый случай, когда в опытах по „пневматической
химии" была применена металлическая вставка в стеклян-
ный шлиф.
Регулируя краны, Лавуазье и Лаплас первоначально
добивались наивыгоднейшего соотношения газовых струй,
следя за цветом и яркостью острия пламени, в конце
насадки; надлежащая пропорция давала „наиболее яркое
и красивое пламя". Затем насадка вставлялась в верхний
тубус стеклянного колокола, опущенного в ртуть. Горе-
ние продолжалось до исчерпания запасов газов в газо-
метрах. „Уже с первых мгновений мы видели, как поверх-
ность колокола темнела и покрывалась росой; вскоре
она собиралась в капельки, которые стекали со всех
сторон на ртуть, а через пятнадцать-двадцать минут вся
поверхность ртути была покрыта ими. Эта вода была
собрана в тарелку, введенную под колокол. Затем по-
средством воронки вода была отделена от ртути и взве-
шена. Она весила сколо пяти гран. „Эта вода, подверг-
нутая всем испытаниям, какие можно было придумать,
оказалась столь же чистой, как и дистиллированная:
она не приводила к покраснению лакмусовой настойки,
она не приводила к позеленению фиалкового отвара,1
она не приводила к помутнению известковую воду, нако-
нец, всеми известными реактивами нельзя было в ней
обнаружить ни малейших признаков примеси".1 2
Лавуазье отмечает, что установить в этом опыте
точный вес исходных газов было невозможно, поскольку
1 Индикатор кислотности подобный лакмусу.
2 Oeuvres, t. II, р. 338.
Лавуазье доказывает сложный состав воды
227
кожаные шланги не являются „абсолютно непроницае-
мыми для воздуха". „Но, — говорит он, — в физике не
в меньшей степени, чем в геометрии, целое равно сумме
своих частей, а мы не получили в этом опыте ничего
кроме чистой воды, без малейшего осадка, поэтому мы
считали себя вправе заключить, что вес этой воды был
равен весу обоих видов воздуха, из которых она обра-
зовалась. Можно сделать лишь одно разумное возра-
жение против этого выэода: допуская, что образо-
вавшаяся вода равна по весу обоим видам воздуха,
мы предполагаем, что материя тепла и света, которая
выделяется в большом изобилии в этой операции и ко-
торая проходит сквозь поры сосудов, не имела веса;
конечно, это предположение можно рассматривать как
необоснованное. Я вынужден был для решения столь
важного вопроса выяснить, имеет ли материя тепла и
света заметный вес и может ли он быть обнаружен
в физических экспериментах, и я ответил на него отри-
цательно на основании фактов, которые мне предста-
вляются вполне решающими. Эти выводы я изложил
в мемуаре,1 сданном мною уже несколько месяцев тому
назад в секретариат Академии.
„Поскольку опыт, детали которого я здесь изложил,
получил широкую огласку, мы доложили о нем Акаде-
мии уже на следующий день, 25-го, и мы не колеблясь
сделали вывод, что вода отнюдь не является простым
веществом, но она полным своим весом состоит из горю-
чего воздуха и живительного воздуха".
1 Мемуар этот невидимому не был опубликован. Сохранилась
лишь краткая заметка об этой работе (Oeuvres, t. V, р. 292). Лавуазье
исследовал, изменяется ли вес определенного количества воды при
ее превращении в лед, поскольку при этом выделяется скрытая
теплота плавления. Оказалось, однако, что, с точностью до долей
грана, вес остается неизменным.
228
Вода и «горючий воздух»
Лавуазье указывает, что он тогда не знал еще о работах
Монжа над тем же вопросом и лишь несколько дней спустя
узнал об этом из письма, посланного Монжем академику
Вандермонду и оглашенного последним в Академии.
Вместе с тем он подчеркивает, что аппарат Монжа не-
обычайно остроумен и позволил точно установить равен-
ство весов исходных газов и полученной из опыта воды.
Замечательный мемуар Монжа был опубликован лишь
в 1786 г. В его установке предварительно эвакуирован-
ный баллон наполнялся газовой смесью. Затем посред-
ством искры смесь взрывалась; газовый остаток откачи-
вался и собирался отдельно; вода оставалась в баллоне.
Баллон вновь наполнялся газовой смесью, и снова весь
опыт повторялся сначала. В одном своем эксперименте
Монж произвел таким образом триста семьдесят два
последовательных взрыва. В баллоне оказалось чистой
воды свыше трех унций.
Лавуазье приводит численные данные для состава
воды на основании опытов Монжа и на основании своих
собственных опытов совместно с Мёнье: на 12 объемов
кислорода приходилось 22.924 345 объемов водорода
(должно быть 24) Лавуазье приводит далее следующую
табличку:
Фунты
Живительный воздух, вернее клслородное начало . 0.86866273
Горючий воздух, вернее горючее водное начало . 0.13133727
Всего . . . 1.00000000
Эги числа, выраженные в обыкновенных долях фун-
тов, дают:
Унций Скрупул Гран
Кислородное начало . • . . . 13 7 13.6
Горючее начало.................. 2 0 58.4
16
Разложение воды химическим путем
229
Не подлежит, разумеется, никакому сомнению, что
как Лавуазье, так и Монж чудовищно преувеличили точ-
ность своих экспериментов, которая не превышала 5°/0.
Необходимо отметить, что в этом мемуаре Лавуазье
впервые приводит прежде всего, наряду с обыкновен-
ными долями фунта, десятичные доли. Он, молча, как бы
уже пропагандирует десятичные меры.
„Чтобы констатировать столь важную истину, одного
единственного факта, однако, недостаточно; надо было
умножить доказательства, и после того, как вода была
искусственно сложена, надо было ее разложить", — про-
должает Лавуазье. Этому развитию исследования были
посвящены его работы летом 1783 г.
„Я высказал предположение, что ежели вода в самом
деле представляет собою, как это показывает сожжение
обоих видов воздуха, соединение кислородного начала
с горючим водным началом, то нельзя ее разложить и полу-
чить отдельно одно из ее начал, не предоставив второму
началу другое какое-либо вещество, к которому оно
бы имело большое сродство: поскольку горючее водное
начало имеет больше сродства к кислородному началу,
чем к любому другому телу, как я это покажу в своем
мемуаре о сродствах, разложение нельзя было пробовать
с этой «latus»;1 кислородное начало надо было атаковать".
Иными словами, надо было найти вещество, которое,
имея значительное сродство к кислороду, могло бы при-
соединить кислород воды к себе и освободить водород.
Лавуазье сообщает, что Лаплас, „который был в курсе
моих опытов, который в них нередко участвовал и помо-
гал мне своими советами, многократно повторял, что
он не сомневается в происхождении горючего воздуха,
который выделяется при растворении железа и цинка
1 „Latus" — по-латыни „сторона".
230
Вода и «горючий воздух»
в серной ислоте и в соляной кислоте, от разложения воды“.
Лавуазье приводит буквально слова Лапласа, смысл
которых сводится к следующему: поскольку при раство-
рении железа в серной кислоте, согласно данным Лавуазье,
серная кислота H2SO4 переходит в сернистую, H2SO3,
а процесс растворения идет даже в закупоренном сосуде
(т. е. без участия атмосферного воздуха) с выделением
водорода, то Лаплас заключил, что железо отбирает
кислород не от ангидрида кислоты, а от воды, в свою оче-
редь высвобождая водород. Эти и другие соображения
заставили Лавуазье поставить следующий опыт. Под коло-
колом над ртутью помещалась дистиллированная проки-
пяченная вода, в которую погружались очень чистые
железные опилки. Через некоторое время (отдельные
опыты продолжались месяцами) на опилках появлялась
окалина, оказавшаяся по своему составу магнетитом
(Fe3O4-H2O). В то же время над ртутью собирался
выделявшийся у воды в большом количестве газ, оказав-
шийся водородом.
В своем докладе Академии в ноябре 1783 г. Лавуазье
остановился также на интерпретации опытов Пристли
по восстановлению окиси свинца посредством водорода,
опытов, о деталях которых ему только что сообщил
Блэгден. Докладчик показал, что в этих опытах водород
отнимает от окиси свинца кислород и образует с ним
воду. Пристли полагал, что водород есть не что иное,
как сам флогистон в форме газа. Поэтому он представ-
лял себе, в соответствии с теорией Шталя, что флоги-
стон присоединяется к свинцу, и свинцовая „земля“
превращается в металл. Лавуазье обратил внимание
на то, что при восстановлении окислов водородом вес
окиси уменьшается, между тем как по теории Пристли
он должен был бы увеличиваться. Лавуазье напомнил
о своих старых опытах по восстановлению „свинцовой
Закладка фундамента органической химии
231
земли" посредством угольного порошка, описанных им
еще в 1774 г. в „Opuscules". В тех опытах было пока-
зано, что вес ингредиентов (окиси свинца и угля) умень-
шался за счет появления воды. Теперь можно было
отчетливо интерпретировать тот же опыт, показав, что
угольный порошок содержал значительные количества
поглощенного водорода.
Исследование образования и разложения воды есте-
ственно привело Лавуазье к некоторым фундаментальным
вопросам органической химии. Уже было известно ранее,
что при горении алкоголя образуется вода. Он подверг
процесс тщательному химическому анализу и смог пока-
зать, что наряду с водой образуется углекислота.
Такого же рода исследования были им поставлены над
горением масел, воска и т. п. Опыты показали, что
органические вещества состоят в основном из водорода
и углерода, которые, окисляясь при горении, образуют
воду и углекислый газ. Таким образом, Лавуазье попутно
наметил новый метод исследования — элементарный ана-
лиз органических веществ. Это был крупнейший шаг
вперед. Одновременно его внимание привлекли появив-
шиеся в то время данные насчет непрерывного выделения
листьями растений „живительного воздуха" (кислорода).
И он заключил: „Значит, вода разлагается в растениях
при вегетативных процессах; но она разлагается там
обратным путем по сравнению с тем, который мы на-
блюдали до сих пор. Действительно, в растениях высво-
бождается живительный воздух, между тем как горючее
водное начало остается, чтобы образовать угольную
материю растений, их масла, все, что они содержат
в себе горючего".1
В том же мемуаре он писал:
1 Oeuvres, t. II, р. 356.
232
Вода и «горючий воздух»
„Брожение — вот еще один способ разложения воды
мокрым путем: сахар, как я показал, содержит очень
значительное количество угольной материи в своем
составе. Но, поскольку угольная материя имеет больше
сродства к кислородному началу, чем последнее к горю-
чему водному началу, поскольку благодаря этому избытку
сродства уголь сухим путем разлагает воду, почему бы
не разлагать ему воду влажным способом?
„Итак,—продолжает Лавуазье,—повидимому, в броже-
нии угольная материя сахара или сахаристого тела соеди-
няется с кислородным началом воды, а горючее водное
начало, освободившись, фиксируется в соединении со зна-
чительным количеством угольного начала, и именно, это
горючее начало и образует спиртовую часть, винный спирт**.
Так, изучая состав воды, исследуя ее разложение
и синтез, Лавуазье попутно закладывал фундамент орга-
нической химии.
V
В начале 1784 г. Кэвендиш доложил, наконец, Лон-
донскому королевскому обществу о своих работах
по образованию воды при горении смеси „дефлогистиро-
ванного** и „горючего воздуха". Считая „горючий воздух**
подлинным флогистоном, он вынужден был заключить,
что вода состоит из „дефлогистированного воздуха**
и самого флогистона.
Итак, до сведения Уатта дошли оба объяснения,
и Кэвендиша и Лавуазье. В обоих он усмотрел нечто
из того, что ранее говорил сам. Это его горько обидело
и оскорбило. Делясь с одним из друзей, он писал
(15 мая 1784 г.):1
1 Н. Корр. Beitrage zur Geschichte der Chemie, S. 286, Anmer-
kung 84.
Уатт считает себя обокраденным
233
„Подобно всем великим людям я удостоился чести
быть ограбленным в своих идеях. Вскоре после того,
как я написал свою первую статью по этому вопросу,1
д-р Блэгден изложил мою теорию мосье Лавуазье
в Париже; и вскоре после этого мосье Лавуазье сам
ее изобрел и доложил статью по этому вопросу Коро-
левской Академии Наук. Затем мистер Кэвендиш доло-
жил свою статью на ту же тему Королевскому обществу
не упомянув ни в малейшей степени обо мне. Один —
французский финансист, другой — отпрыск знаменитого
рода Кэвендиш, который оценен в сумму свыше ста
тысяч фунтов стерлингов и не тратит в год и тысячи
фунтов. Богатым людям дозволено совершать низкие
дела“.
Так жаловался изобретатель Уатт. В самом деле,,
когда господствовало представление о воде как об эле-
менте, когда Кэвендиш впервые обнаружил превращение
газовой смеси в воду, а Лавуазье еще ничего нового
не утверждал относительно природы воды вообще, Уатт
первый высказал мысль о том, что вода — сложное
тело. Этой крупной заслуги Уатта не хотели признавать
ни Кэвендиш, ни Лавуазье, но его признала история.
Правда, Уатт приписывал себе нечто гораздо боль-
шее, он считал, что состав воды открыт впервые им.
Однако состав воды был столь же неправильно указан им,
как и Кэвендишем и Пристли. Эта флогистическая форму-
лировка была опровергнута в ряде работ Лавуазье.
Уатт, как и Блэгден, как и многие другие сторонники
флогистона, не понимали отличия формулировки Лавуазье
от флогистических формулировок; они видели в теории
Лавуазье лишь некий оборот речи. На самом деле фло-
гистическая теория, отождествляющая флогистон с водо-
1 По вопросу состава воды.
234
Воде, и «горючий воздух»
родом, наталкивалась на резкие противоречия с опытными
данными.1 Теория Лавуазье, исключающая флогистон
из числа химических элементов, оказалась в согласии
с опытными данными.
Резюмируя историю, открытия природы воды, следует,
по мнению известного историка химии Коппа, отметить,
что Кэвендиш на опыте открыл образование воды
за счет исчезновения водорода и кислорода при горении
смеси; Уатт вывел из этого опытного факта заключение
о том, что вода является сложным телом; Лавуазье
показал, что вода состоит из водорода и кислорода.
Таким образом, честь открытия природы воды при-
надлежит одновременно трем лицам: Кэвендишу, Уатту
и Лавуазье.
VI
Между тем как Кэвендиш, Уатт и Лавуазье занима-
лись вопросом о составе воды, произошло огромной
важности историческое событие.
5 июня 1783 г. во французском городке Аннонэ
братья Монгольфье продемонстрировали первый в истории
полет изобретенного ими аэростата, наполненного нагре-
тым воздухом.
2 июля Академия Наук по предложению генерального
контролера д’Ормессона выделила специальную комиссию
Для изучения вопроса „об аэростатических машинах*.
В эту комиссию Лавуазье вошел в качестве ее секретаря.
27 августа того же года физик Шарль впервые про-
демонстрировал в Париже полет аэростата, наполненного
„горючим воздухом* (водородом).
1 См. выше (стр. 228): восстановление окиси свинца водородом
в трактовках Пристли и Лавуазье.
Комиссия по воздухоплаванию
235
Вскоре комиссия представила Академии обстоятель-
ный доклад по данному вопросу, написанный Лавуазье.
Он начинался следующими словами:
„Полет птиц столь удивителен, а возможность подни-
маться и парить в воздухе была бы для нас столь
необычайной и имела бы столь своеобразное влияние
на общественный порядок, что не приходится удивляться,
если люди стремились к этому во все времена../41
Сообщая о полете водородного аэростата Шарля
и его помощника Робера, комиссия отмечала:
„Весь Париж видел, как, несясь в колеснице (char),
поддерживаемой сферой в двадцать шесть футов диа-
метром, наполненной горючим воздухом, они поднялись
с середины Тюильрийского бассейна и, постепенно наби-
рая высоту, достигли высоты, превосходящей триста
туазов;1 2 подгоняемые юго-восточным ветром, они проле-
тели затем в воздухе расстояние свыше девяти лье,3
прежде чем опуститься; а г. Шарль, оставшись один
в колеснице, воодушевленный новой смелостью, поднялся
до высоты, примерно, в тысячу семьсот туазов и показал
физикам, как можно восходить вплоть до облаков для
изучения причины метеоров".4
И комиссия предложила наградить изобретателей
„нового искусства, которое сделает эпоху в истории
человеческих изобретений".
Вскоре после этого по повелению короля Людо-
вика XVI была созвана новая комиссия под руководством
Лавуазье „для усовершенствования аэростатических
машин". В специальной, дошедшей до нас, записке5
1 Oeuvres, t. Ill, р. 72о.
2 Туаз = 6 футов = 1.949 м.
3 Льё — 3.898 км.
4 Метеорологических явлений.
° Oeuvres, t. Ш, р. 350.
236
Вода и «горючий воздух»
Лавуазье наметил, какие технические вопросы необходимо
разрешить для осуществления поставленной задачи,
а именно: подбор непроницаемого материала для оболочки,
разработка удобного способа получения водорода в боль-
ших количествах, изыскание методов для безопасного
подъема и приземления, и, наконец, изыскание способов
к управлению полетом аэростатических машин.
И вот, как сообщает Лавуазье в своем мемуаре о син-
тезе и разложении воды,1 „незаметным образом мы,
Мёнье и я, оказались вынужденными зимою 1783/84 г.
вновь заняться этим вопросом, но уже с иной точки
зрения. Комиссия для усовершенствования аэростатиче-
ских машин, в которую мы были включены Академией
по повелению короля, неизбежно привела нас к изыска-
нию наиболее экономных способов по получению горю-
чего воздуха в значительных количествах. И совершенно
естественно, что мы занялись извлечением его из
воды, поскольку у нас были уже столь серьезные
основания полагать, что он в ней содержится в большом
изобилии.
„Железо показало мне, как я уже отмечал, признаки
несомненного воздействия на воду влажным способом,
поэтому мы, Мёнье и я, решили следовать этому указа-
нию; но, поскольку производство горючего воздуха
на холоду было крайне медленным, так что я даже
не смог получить с его помощью мало-мальски значи-
тельных объемов, мы подумали о том, что существенно
было бы попробовать тот же опыт при гораздо более
высокой степени нагрева и что, вероятно, такой путь
значительно сократил бы время эксперимента..
Лавуазье приводит следующие аргументы в пользу
высказанного соображения:
1 Oeuvres, t. II, р. 350.
Разработка бескислотного метода получения водорода 237
„1) Так как сродство железа к кислородному началу
возрастает по мере нагревания; 2) так как теплота про-
изводит противоположное действие на оба начала,
составляющих воду, и мы можем не сомневаться, что
их взаимное сцепление уменьшится по мере нагревания;
3) наконец, так как материя теплоты является одним
из необходимых элементов для образования воздухо-
образных флюидов, то работать при значительном нагреве
значило поставить себя в благоприятные условия.
„...Трудность заключалась в том, чтобы заставить
воду испытать на себе действие нагрева, превосходящего
температуру кипения.
„Мы имеем лишь два способа осуществить наше
намерение: либо заставляя воду вынести на себе огром-
ное давление в аппарате, подобном Папиновой машине,
либо беря ее в состоянии пара. Первый из этих спосо-
бов нам казался слишком опасным, и мы остановились
на втором".
Для этой цели Лавуазье и Мёнье взяли ружейный
ствол без затвора, т. е. открытый с обоих концов. Сна-
ружи они его покрыли огнеупорной обмазкой, обмотав
предварительно двумя слоями железной проволоки.
Середина этой толстостенной трубы была помещена
в печь под небольшим углом к горизонту. К верхнему
концу ствола была припаяна жестяная воронка, снабжен-
ная краном, к нижнему концу был припаян оловянный
холодильник. Вода поступала через воронку и стекала
по раскаленной трубе, испаряясь и разлагаясь, причем
кислород соединялся с железом ружейного ствола,
остатки воды могли стекать в холодильник.
При очень медленном поступлении воды, она, как
показал опыт, разлагалась нацело. После продолжитель-
ного опыта оказалось, что железо на всю толщину
трубы обратилось в магнетит (FeaO4).
238
Вода и «горючий воздух»
Заменив железо медью, Лавуазье и Мёнье убедились,
что медь не обладает достаточным сродством к кисло-
роду и не разлагает воду. Из этого обстоятельства они
сделали тотчас практический вывод: из красной меди
следует изготовлять те части аппаратуры, которые
не должны участвовать в реакции. Для опытов необхо-
димо было иметь медные трубы без шва, но в те времена
такого рода труб еще не изготовляли.
По специальному заказу Лавуазье в одной из мастер-
ских был отлит ружейный ствол из меди, с помощью
которого были поставлены решающие эксперименты.
Заканчивая свой мемуар „О разложении воды" (1784),
Мёнье и Лавуазье1 отмечают:1 2
„Применение этой теории к изготовлению горючего
воздуха в больших количествах заключается теперь
лишь в выборе методов; совсем простая печь, пронизан-
ная одной или несколькими трубами из меди, и резер-
вуар, снабжающий постоянной струей воды, в общем
представляют собою установку, пригодную для данной
операции; заключая в аппарате то вещество, которое
сочтут годным для использования, и создав к тому же
постоянный ток жидкого горючего, которое могло бы
служить для этой цели, можно получать горючий воздух
при разложении воды; следовательно, железо, приготовлен-
ное таким способом, чтобы обладать большой поверхно-
стью (например, обрезки листового или кованого железа),
даст без серной кислоты, и тем не менее в том же
количестве, самый легкий воздух, какой вообще известен,
в количестве от пяти до шести кубических футов
1 Во второй части работы, очевидно, инженеру Мёнье принад-
лежит главная доля участия, поэтому при опубликовании работы имя
его было поставлено на первое место.
2 Oeuvres, t. II, р. 372.
Установка Лавуазье и Мёнье для получения водорода путем разложения воды и окисления раскаленной
с елезней трубки.
240
Вода и «горючий воздух»
на фунт. Растительный уголь даст его еще с большей
скоростью и в большем изобилии, так как один фун
этого вещества способен извлекать из воды пятьдесят
четыре кубических фута горючего воздуха, но он будет
на одну четверть смешан со связанным воздухом,1 кото-
рый необходимо поглощать щелоком из каустической
щелочи и небольшую долю которого горючий воздух
все же, вероятно, сохранит. Так же дело обстоит с дру-
гими горючими телами, как то: маслами, винным спиртом
или водкой и каменным углем. Многие из них, повиди-
мому, наиболее дорогостоящие вещества, как то вин-
ный спирт и водка, разлагаются целиком и полностью,
обращаясь в огромное количество горючего воздуха,
но присутствие в них воды приводит к частичному обра-
зованию связанного воздуха, понижающего легкость
горючего воздуха. Однако связанный воздух поглощается
щелочами, и мы убедились, что таким образом можно
сделать смесь всех этих видов воздуха в четыре раза
легче воздуха атмосферы. Но это вопрос уже практической
работы, которую нельзя, однако, провести надлежащим
образом иначе как в больших масштабах; этой работой
мы предполагаем заняться".
Лейтенант пятого инженерного корпуса Мёнье про-
водил описываемые исследования совместно с Лавуазье,
находясь в отпуске. Отпуск уже истекал, а работа еще
не была доведена до конца. В бумагах Лавуазье сохра-
нилась копия ходатайства, адресованного военному мини-
стру, о продлении отпуска Мёнье ввиду исключительной
важности начатых им исследований.
Наряду с разработкой бескислотных методов полу-
чения водорода, в лаборатории Лавуазье, как явствует
из его дневников, проводились в это время (1784) испы-
1 СО2.
Первые военные аэростаты
241
тания различных материалов для изготовления оболочек
аэростатов. Оболочки испытывались на прочность и на
их проницаемость для газа? К сожалению, эти исследо-
вания до сих пор не опубликованы, и потому мето-
дика их нам неизвестна.
Лавуазье отметил в своем дневнике, что часть
испытаний производилась специально для Бертолле,
разрабатывавшего, как известно, в это же время метод
получения водорода путем растворения металлов в серной
кислоте. Кислотный метод, повидимому как более удоб-
ный и безопасный, нашел себе широкое применение
в технике и нередко практикуется по сей день.
Интересно, однако, отметить, что именно бескислот-
ный способ получения водорода позволил впервые
применить аэростаты в военном деле. В конце 1793 г.,
когда Лавуазье уже находился вместе с остальными
откупщиками под следствием, а Мёнье геройски погиб
в рядах революционной армии, физик Кутель разрабаты-
вал по инициативе Гитона-деЛ'.орво методы применения
аэростатов для обороны Франции. Использовать в этот
момент сернокислотный способ оказалось невозможным,
так как вся сера, из которой тогда приготовляли серную
кислоту, была забронирована для нужд пороховых заво-
дов. И физик Кутель, совместно со своим помощником,
химиком и механиком Контэ, усовершенствовал и при-
способил для военных условий бескислотный способ
получения водорода. Аэростат, наполненный водородом,
добытым путем разложения водяного пара, впервые
в истории принял активное участие в военных действиях
в знаменитом сражении при Флерюсе 26 июня 1794 г.,
и он сыграл немалую роль в достижении решающей
победы Революции над интервентами.
1 М. Berthelot. La Revolition chimique, p. 298.
16 Дорфман
242 Вода и «горючий воздух»
В этих исследованиях Лавуазье и Мёнье с исключи-
тельной ясностью отразилась характерная черта твор-
чества Лавуазье — связь его теоретических изысканий
с практикой и с экономикой. Лаборатория в Арсенале
представляла собою к этому времени превосходный
научно-технический институт, где тонкие фундаментальные
исследования доводились не только до их теоретических
обобщений, но и до их практических выводов, которые
затем осуществлялись в больших полупроизводственных
масштабах.
Глава X
ПРИРОДА ТЕПЛОТЫ И ТЕПЛОВЫЕ СВОЙСТВА ВЕЩЕСТВА
Лаплас становится сотрудником Лавуазье. — Термохимическое уравне-
ние. — Исследование теплотворной способности различных видов топ-
лива. — „Мемуар о теплоте". — Изложение двух точек зрения на при-
роду теплоты. — Еще один след Ломоносова. — Лавуазье и Лаплас
успешно развивают кинетическую теорию теплоты, но стремятся
сохранить теплород в физике. — Парадоксальная попытка сочетания
двух противоположных теорий. — Основной принцип термохимии. —
Изобретение ледяного калориметра. — Измерение теплоемкостей и теп-
лот реакций. — Поиски абсолютного нуля.— Исследование теплового
расширения твердых тел. — Изобретение аппарата новой конструк-
ции. — Результаты измерений. — Воззрения Лавуазье и Лапласа на
агрегатные состояния. — „Принцип равновесия и покоя" и события
Революции.
I
Мы уже видели, что проблема горения неизбежно
приводила к вопросу о природе теплоты. Мы видели
также, что в 1774 г. Лавуазье считал необходимым
сохранить представление о теплороде — „материи огня
и света“ — для объяснения физических тепловых явле-
ний. Он говорил об этой гипотезе в своей анонимной
„Речи о флогистоне" (1774), а в 1777 г. посвятил этому
вопросу специальный мемуар „О соединении материи
огня с испаряющимися жидкостями и об образовании
упругих воздухообразных флюидов".1
1 Oeuvres, t. II, р. 212.
16*
244
Природа теплоты и тепловые свойства вещества
В этой работе Лавуазье, между прочим, сообщил,
что им ведутся совместно с математиком Лапласом
крупные исследования процесса охлаждения жидкостей
при испарении в пустоту. Здесь хронологически в пер-
вый раз имя Лапласа появилось на страницах мемуаров
Лавуазье.
Пьер Симон Лаплас (1749—1827) работал до 1770 г.
в военной школе, куда его устроил в 1771 г. знаменитый
математик Даламбер, восхищенный его математическими
способностями. Там он написал ряд работ по интегри-
рованию дифференциальных уравнений, а в 1773 г.
опубликовал замечательный мемуар „О принципе всемир-
ного тяготения и о вызываемых им вековых неравенствах
планет". В этом мемуаре Лаплас проанализировал
и уточнил решения задачи о движении планет, данные
ранее Эйлером и Лагранжем. В 1776 г. он лишился
своей должности в военной школе вследствие реоргани-
зации последней. Повидимому, именно в это время Лавуазье
привлек Лапласа к работе в своей лаборатории в Арсе-
нале. Мы уже упоминали о их совместной работе по
растворению железа в серной кислоте. Это их тесное
научное содружество продолжалось затем семнадцать лет,
вплоть до 1793 г., когда Лаплас, укрываясь от громовых
ударов Революции, покинул Париж.
Совместные исследования Лавуазье и Лапласа, изло-
женные в следующих шести фундаментальных работах,
посвящены в основном проблемам теплоты: „Мемуар
об электричестве, поглощаемом телами при испаре-
нии (1781);1 „Мемуар о теплоте" (1783);1 2 „Мемуар, содер-
жащий опыты по теплоте, произведенные зимою 1783/84 г.";3
1 Oeuvres, t. И, р. 233.
2 Ibidem, р. 374.
3 Ibidem, р. 724.
Лаплас становится сотрудником Лавуазье
245
„О действии теплорода на твердые тела, в особенности
на стекло и на металлы, и об удлинении и укорочении,
испытываемом ими при нагреве, недостаточном для их
плавления";1 „О переходе твердых тел в жидкое состоя-
ние под действием теплорода (calorique)";1 2 „О действии
теплорода на жидкости от точки их плавления вплоть
до точки их испарения".3
Как явствует из дошедших до нас лабораторных
дневников, частично описанных Бертло,4 Лаплас непосред-
ственно участвовал в экспериментальных исследованиях,
и немало страниц дневников исписано его рукою.
Помимо работ по теплоте, Лаплас принимал участие
в знаменитых исследованиях состава воды (см. главу XI),
в изучении образования СО2 при горении угля и,
наконец, по исследованию сродства „кислородного на-
чала" к различным веществам. Повидимому, Лаплас
всерьез и глубоко интересовался сущностью этих
проблем, ибо он самым активным образом участвовал
в их разработке. Тем не менее, в одном из своих
писем к Лагранжу (от 21 августа 1783 г.) Лаплас
следующим образом излагает обстоятельства своей работы
с Лавуазье:
„Я, право, не знаю, каким образом я дал себя вовлечь
в работу по физике; и вы найдете, быть может, что
я сделал бы лучше, если бы воздержался от этого,
но я не мог устоять против настояний моего друга
Лавуазье, который вкладывает в совместную работу
столько обаяния и ума, сколько я мог бы лишь пожелать.
Кроме того, он настолько богат, что не жалеет ничего,
1 Ibidem, р. 739.
2 Ibidem, р. 765.
3 Ibidem, р. 773.
4 М. Berthelot, La Revolution chimique, p. 273,
246
Природа теплоты и тепловые свойства вещества
чтобы придать опытам всю точность, какая необходима
при тонких исследованиях".
Вряд ли стоит принимать эту светскую аргументацию
чересчур буквально. Не подлежит сомнению, что Лавуазье
и Лаплас были действительно большими друзьями. Однако
необходимо иметь в виду, что материальное положение
Лапласа в период с 1776 г. до избрания в действитель-
ные члены Академии (1785) отнюдь не было блестящим.
Источником его заработков была, повидимому, лишь
пенсия в 600 ливров в год, назначенная ему после ухода
из военной школы „за услуги, оказанные в качестве
профессора математики".
Возможно поэтому, что сотрудничество Лапласа в лабо-
ратории Лавуазье было вызвано отчасти и причинами
материального порядка.
Ведь хорошо известно, что на протяжении всей своей
долгой жизни Лаплас с редким искусством находил
друзей и покровителей среди влиятельных персон.
Независимо от этих субъективных моментов, справед-
ливость требует признать, что участие Лапласа в рабо-
тах Лавуазье было серьезным и исключительно плодо-
творным. Они дополняли друг друга. В самом деле,
Лавуазье был ярко выраженным блестящим эксперимен-
татором и инженером. Наоборот, Лаплас являлся глу-
боким теоретиком и математиком, причем (как выразился
о нем другой выдающийся математик Пуассон) для Лапласа
„математический анализ был орудием, которое он при-
способлял к самым разнообразным задачам" астрономии
и физики.
В эти годы Лавуазье принимал самое деятельное
участие в управлении Генеральным откупом. Каждую
среду он заседал в качестве члена комитета по ввозным
пошлинам города Парижа и фактически, повидимому,
руководил им,
Теплотворная способность различных видов топлива
247
В 1779 г. финансовое ведомство обратилось к нему
с просьбой высказать свои соображения о том, каково
должно быть соотношение между размерами пошлин,
которыми облагаются различные виды топлива при ввозе
их в город Париж.
Эти разнообразные виды топлива, как то: каменный
уголь, кокс, древесный уголь и несколько сортов дров,
продавались в самых различных мерах объема и веса.
Лавуазье прежде всего свел каждый вид топлива к одному
и тому же количеству и выяснил для каждого вида:
стоимость на месте, стоимость провоза до Парижа
и размер налагаемой пошлины. Таким образом, была
определена себестоимость топлива. Затем он поставил
перед собою задачу, которая, повидимому, до него
вообще никогда еще не ставилась (по крайней мере,
в таком масштабе и с такой точностью): сравнить между
собою тепловой эффект (I’effet echauffant), т. е. тепло-
творную способность этих видов топлива.
Лавуазье воспользовался следующим приемом. Он
установил большой котел кипящей воды, под которым
зажигалось топливо, причем длительно поддерживалось
кипение. Для того чтобы расчеты всегда относились
к одному и тому же количеству воды, котел непрерывно
пополнялся, и притом кипящей водой. Записывалось
число часов, в течение которых одно и то же коли-
чество каждого вида топлива поддерживало кипение
воды в одном и том же котле. Полученные таким обра-
зом данные позволили установить относительные тепловые
эффекты изучаемых видов топлива. Так возник мемуар
под названием: „Опыты о сравнительном эффекте различ-
ных видов топлива4*.1
1 Oeuvres, t. II, р. 377,
248 Природа теплоты и тепловые свойства вещества
Любопытен вывод, сделанный Лавуазье. Он показал,
что для Парижа при существующих ценах и пошлинах
дубовые дрова наиболее экономичны, а древесный уголь
наиболее дорог. Далее он обратился к рассмотрению
каменного угля. „Как удивительно, — пишет он, — что
в королевстве, где деревья дороги и редки и с трудом
удовлетворяют спрос, пошлина, налагаемая на каменный
уголь при ввозе его в Париж, столь велика, а между
тем он имеется в огромных количествах поблизости
от речек, текущих к Парижу".
И вот Лавуазье ставит перед правительством задачу:
всемерно содействовать потреблению в Париже каменного
угля путем снижения на него пошлины.
Он обращает особое внимание инженеров и промыш-
ленников на тепловой эффект различных видов топ-
лива. Заканчивая свой мемуар, он пишет: „Я мог бы
представить Академии и другие исследования того же
рода, если она считает их заслуживающими ее внима-
ния".
В 1783 г., когда Парижу угрожал топливный голод,
по требованию министра финансов д’Ормессона и стар-
шины торговцев де-Комартена он вновь повторил те же
опыты, но с еще большим котлом, вмещающим пять
Тысяч фунтов воды.
Эта работа представляет собою столь характерное
для Лавуазье сочетание физико-химических исследований
с экономическим анализом.
Не подлежит сомнению, что изучение теплового
эффекта различных видов топлива должно было прежде
всего помочь Лавуазье ощутить всю конкретность поня-
тия „количество теплоты", которое в ту эпоху еще
нередко смешивалось с температурой.
Т ермохимическое уравнение
249
Однако предположение Ле-Шателье1 и С. А. Погодина2
о том, что фундаментальный „Мемуар о теплоте" (1783)
возник непосредственно из изучения теплотворной спо-
собности топлива, не представляется правдоподобным.
Как отмечает вскользь ле-Шательё, первый намек
на тему этого мемуара упоминается уже в работе Лавуазье
„О горении сальных свечей" (1777).
В самом деле, резюмируя результаты своих химиче-
ских исследований горения свечей, Лавуазье писал в этом
мемуаре:3
„Я мог бы продолжить гораздо дальше эти следствия
и показать, что воздухообразная меловая кислота,4 обра-
зующаяся при горении сальных и восковых свечей, пред-
ставляет собою не что иное, как выделяющийся из саль-
ной или восковой свечи горючий воздух, плюс
превосходно вдыхаемый воздух, в котором
происходит горение, минус значительное коли-
чество огненной материи,5 входившей первона-
чально в состав обоих видов воздуха, но доказательства,
которые я мог бы привести для этих утверждений, не
могут еще считаться известными моим читателям".
В этой цитате, как видно, Лавуазье еще неправильно
толковал состав углекислоты (меловой кислоты), предпо-
лагая в ней присутствие „горючего воздуха", т. е. водо-
рода. Вместе с тем, он здесь впервые попытался ввести
количество теплоты в уравнение баланса химической
реакции (отмеченное разрядкой).
1 Н. Le Chatelier. De la methode dans les sciences experimen-
tales. Paris, 1936, p. 187.
2 С. А. Погодин. Успехи химии, т. XII, вь»п. 5, 1943, стр. 346.
у Oeuvres, t. II, р. 193.
4 со2.
5 Разрядка моя, — Я. Д.
250 Природа теплоты и тепловые свойства вещества
Весьма замечательно, что теплота входит в это уравне-
ние в виде огненной материи. Таким образом, необхо-
димость измерения количества выделившейся при реак-
ции теплоты вытекала из принципа сохранения материи,
принимаемого за аксиому во всех исследованиях Лавуазье.
До тех пор пока дело ограничивалось изучением весо-
мых материй, метод взвешивания оказывался вполне при-
годным, и он довел его до максимально возможной чувстви-
тельности и точности. Поставив теперь перед собою задачу
распространения уравнения баланса ина невесомую „огнен-
ную материю**, он, естественно, был вынужден заняться
проблемой точного измерения количеств этой материи.
Так возникла, на мой взгляд, идея постановки обстоя-
тельных калориметрических и термохимических исследо-
ваний Лавуазье и Лапласа.
Изучение теплотворной способности различных видов
топлива, произведенное в 1779 г., не может поэтому ло-
гически рассматриваться, как прямое введение к „Мемуару
о теплоте**, хотя хронологически они следуют друг за дру-
гом. Если Лавуазье в своем мемуаре о горении свечей
в Y111 г. говорит, что у него имеются данные, которые
еще неизвестны его читателям, то, невидимому, он уже
тогда делал какие-то, хотя бы предварительные, опре-
деления количеств теплоты, выделяющейся при реакции
горения. Иначе эти слова Лавуазье пришлось бы считать
голословным утверждением.
Обратимся теперь к самому „Мемуару о теплоте**,
который был доложен Академии 18 июня 1783 г. и спешно
включен в печатавшийся в то время том „Мемуаров
Академии** за 1780 г. („Мемуары** выходили с опозданием
на 2—3 года).
В начале „Мемуара о теплоте** Лавуазье и Лаплас
пишут, что „причина, вызывающая ощущение теплоты",
уже измеряется достаточно хорошо и что остается
:Мемуар о теплоте»
251
лишь уточнить определение крайних точек температуры.
Они указывают, что тела содержат различные количества
тепла при одинаковых температурах, что имеется уже
немало измерений теплоемкости и теплосодержания,
но „все эти определения, хотя весьма остроумные, осно-
ваны на гипотезах, которые требуется еще проверить
большим количеством экспериментов44. Дело в том, что
измерения теплоемкости, теплосодержания и тепловых
эффектов, начатые Блэком, производились посредством
соприкосновения или смешения различно нагретых тел.
Русским физиком Рихманом (1711—1753) был установ-
лен закон, позволяющий определять результирующую
температуру в этих случаях. Однако Лавуазье и Лап-
лас особо подчеркивают, насколько еще далек от со-
вершенства „анализ проблем, связанных с передачей
и действием тепла в системе неравномерно нагретых
тел, в особенности, когда их смешение приводит к их
разложению и к образованию новых соединений44. В самом
деле, не следует забывать, что ни законы термодинамики,
ни законы теплопередачи, за исключением ньютоновского
закона охлаждения тел, еще не были тогда известны,
а поэтому определения тепловых величин при наличии
химических реакций еще не могли быть выполнены
с мало-мальски удовлетворительной точностью. Важно
отметить, что Лавуазье и Лаплас отчетливо понимали
эту трудность, между тем как их интересовали именно
тепловые выходы при химических и физиологических
процессах.
Авторы пользуются терминологией, установленной
Блэком, и приводят два основных понятия: свободная
теплота и теплоемкость или удельная теплота. „Свобод-
ной теплотой44 называли в те времена ту часть теплоты,
которая может перетекать с одного тела на другое,
между тем как та доля теплоты, которая, ничем внешне
252
Природа теплоты и тепловые свойства вещества
не проявляя себя, содержится в системе равномерно
нагретых тел, именовалась „связанной".
Далее авторы переходят к обсуждению природы
теплоты. Они отмечают, что „физики расходятся во взгля-
дах на природу теплоты... Многие придерживаются
теории теплового флюида ... Другие физики полагают,
что теплота есть не что иное, как результат незаметных
движений молекул материи. Известно, что тела, даже
самые плотные, содержат большое число пор или малень-
ких пустот, объем которых может значительно превзойти
объем находящейся в них материи; эти пустые простран-
ства оставляют своим неощутимым частицам свободу
колебаний во всех направлениях, и естественно думать,
что эти частицы находятся в непрерывном волнении, кото-
рое, если оно возрастает до известной степени, может
расчленить и разложить тела; именно это внутреннее
движение представляет собой теплоту, по взглядам тех
физиков, о которых мы говорим".1
Приведенные слова, повидимому, относятся в первую
очередь к Р. Бойлю, Д. Бернулли и к М. В. Ломоносову,
с особенной настойчивостью развивавшим молекулярно-
кинетическую теорию теплоты. Лавуазье и Лаплас не упо-
минают никаких имен, причем молекулы они именуют
„неощутимыми частицами" — „parties insensibles".
Впервые Лукреций назвал атом „principium insensibi-
le"—начало, лишенное чувств.1 2
Впоследствии значение этого термина изменилось.
Р. Бойль,3 4 прилагая к молекулам или частицам эпитет
„insensible", нередко называл их также невидимыми,1
1 Oeuvres, t. II, р. 285.
2 L u с г е t i. De rerum natura. Liber II, vv. 865—867.
3 R Boyle. Philosophical Works edited by Shaw, London, 172^-
4 Invisible.
Еще один след Ломоносова
253
крохотными,1 маленькими.1 2 Можно полагать поэтому, что
термин „insensible" применялся им в смысле: неощутимый,
незаметный, неуловимо малый для наших чувств. Вероятно,
у Бойля позаимствовал этот термин М. В. Ломоносов,
называя молекулы „partes insensibiles" в своем латинском
труде „Meditationes de caloris et frigorie causa" („Раз-
мышления о причине теплоты и холода").3 В русском
тексте этой же работы Ломоносов назвал молекулы
„нечувствительными частицами".4 В русских литератур-
ных произведениях XVIII в. (например, в „Письмах рус-
ского путешественника" Н. М. Карамзина) слово „нечув-
ствительно" применялось в смысле „незаметно".
Характерно, что М. В. Ломоносов выбрал из всех
вышеприведенных обозначений, применявшихся Р. Бойлем,
один лишь термин „insensibilis", обозначая молекулы
по-латыни „partes insensibiles". Точно так же Лавуазье
и Лаплас в мемуаре „О теплоте" именуют молекулы
„parties insensibles" (по-французски).
Хотя не подлежит никакому сомнению, что и Лавуазье,
и Лаплас подробно изучали и знали сочинения Бойля,
тем не менее трудно себе представить, чтобы Ломоносов
в 1744 г., с одной стороны, а Лавуазье и Лаплас в 1783 г.,
с другой, случайно и независимо друг от друга выбрали
из всех многочисленных терминов, применявшихся Бойлем,
один лишь термин „partes insensibiles".
Нам кажется наиболее естественным предположение,
что Лавуазье и Лаплас последовали в этом вопросе при-
меру Ломоносова, ознакомившись с его латинским мемуа-
1 Minute.
2 Small.
3 М. В. Ломоносов. Сочинения, т. VI. Изд. Акад. Наук СССР.
4 Б. Н. М е н ш у т к и н. Труды М. В. Ломоносова по физике
и химии, стр. 101.
254
Природа теплоты и тепловые свойства вещества
ром „Размышления о природе теплоты и холода", напеча-
танным в первом томе „Новых комментариев импера-
торской Санктпетербургской Академии" в 1750 г. Как
уже ранее указывалось,1 этот том „Комментариев" дей-
ствительно был в руках у Лавуазье.
Попутно с рассмотрением молекулярно-кинетических
взглядов на теплоту, Лавуазье и Лаплас самостоятельно
развивают далее это учение. Повидимому, идея в основ-
ном принадлежит Лапласу. Они указывают на необходи-
мость применения к этой теории „принципа сохранения
живых сил":
„Этот закон состоит в том, что в системе тел, дей-
ствующих друг на друга любым способом, живая сила,
т. е. сумма произведений массы на квадрат скорости,
постоянна. Если тела подвергаются действию ускоряющих
их сил, то живая сила равна той силе, какою она была
в самом начале движения, плюс сумму масс, умноженных
на квадраты скоростей, вызванных действием ускоряющих
сил. В той гипотезе, которую мы рассматриваем, теплота
есть живая сила, происходящая от неощутимых движений
молекул тела; она есть сумма произведений массы каж-
дой молекулы на квадрат ее скорости".
В те времена понятие „кинетической энергии" 1 тплг
А
еще не существовало. Но уже была введена „живая сила“
тяг (произведение массы на квадрат скорости). Ла-
вуазье и Лаплас впервые нашли, таким образом, количе-
ственный принцип, связывающий теплоту с движением
молекул. Этот принцип, автором которого, вероятно, надо
считать Лапласа, представляет собой, так сказать, словес-
ное выражение основного уравнения современной кинети-
1 См. главу VIII.,
Развитие кинетической теории теплоты
255
ческой теории, выведенного почти сто лет спустя Клау-
зиусом:
v Nmv‘~^RT
Л ы
В свете этой теории Лавуазье и Лаплас рассматри-
вают вопрос о выравнивании температуры при сопри-
косновении двух различно нагретых тел. Они приходят
к заключению, что обмен теплом будет происходить
до тех пор, пока тела не сообщат друг другу одинако-
вые количества движения и одинаковые живые силы.
Отсюда следует, что молекулы всех тел, имеющих оди-
наковую температуру, должны обладать и одинаковым
количеством движения и одинаковой живой силой. В дей-
ствительности они обладают лишь одинаковой средней
живой силой.
Весьма замечательным представляется рассуждение
Лавуазье и Лапласа о лучистой теплоте. Рассматривая
свет с позиций теории Ньютона, как поток частичек,
а теплоту с точки зрения кинетической теории, они пишут:1
„Эта точка зрения на теплоту легко объясняет, почему
непосредственный импульс солнечных лучей незаметен,
между тем как они вызывают значительное нагревание.
Их импульс есть произведение их массы просто на ско-
рость; и вот, хотя эта скорость огромна, масса их столь
мала, что это произведение мало отличается от нуля, между
тем как их живая сила, будучи произведением из их
массы на квадрат их скорости, представляет собою вели-
чину гораздо более высокого порядка, чем порядок
величины непосредственного их импульса. Этот импульс
по отношению к белому телу, отражающему большую
часть света, больше, чем по отношению к черному телу,
и, тем не менее, солнечные лучи передают первому телу
меньшее количество тепла, так как лучи, отражаясь,
1 Oeuvres, t. II, р. 286.
256
Природа теплоты и тепловые свойства вещества
уносят живую силу, которую они передают черному
поглощающему их телу". Авторы не развивали дальше
этих соображений, так как они не решались сделать выбор
между кинетической теорией и теорией теплорода. Они
утверждают, что теория теплорода так же хорошо объясняет
некоторые явления, как кинетическая теория объясняет
нагревание при трении.
И вот, Лавуазье и Лаплас задают относительно этих
двух взаимно противоположных теорий следующий пара-
доксальный вопрос: „Быть может, обе они имеют место
одновременно?"
Как ни удивительна такая двойственная точка зрения,
однако на деле оказывается, что она гораздо ближе на-
шим современным представлениям, чем классическая моле-
кулярно-кинетическая теория. Современную теорию харак-
теризует сочетание молекулярно-кинетических представ-
лений с квантовыми представлениями. В этой картине
движение передается от молекулы к молекуле в виде
квантов, т. е. порций энергии, подобных частицам некоего
вещества. Современной теории теплоты как-раз присуща
эта особого рода двойственность.
Замечательно, что Лаплас и Лавуазье допускали
возможность такого рода сочетания противоположных
понятий. Попытки сочетания этих теорий делались уже
ранее, но в совершенно другом виде.
Оставляя в стороне дискуссию о преимуществе этой
или той теории теплоты, авторы устанавливают те прин-
ципы, которые должны быть общими для обеих теорий.
А именно, прежде всего: „Количество свободной теплоты
остается всегда одним и тем же в простой смеси тел".1
Далее оии рассматривают более сложные системы, для
1 Т. е. в такой смеси, в которой не происходит химических про-
цессов или изменения состояния тел.
Основной принцип термохимии
257
которых нельзя заранее считать обязательным „принцип
сохранения свободной теплоты". Для этих систем они
устанавливают другой более общий принцип, независимый
от представлений о природе теплоты: „Если при соеди-
нении или при любом изменении состояния происходит
уменьшение свободной теплоты, то эта теплота в полной
мере появится вновь, когда вещества вернутся к своему
первоначальному состоянию, и, обратно, если при соеди-
нении или при изменении состояния происходит увели-
чение свободного тепла, то эта новая теплота исчезнет
при возвращении тел к их исходному состоянию". И, нако-
нец, обобщая все тепловые явления, Лавуазье и Лаплас
формулируют следующий принцип: „Все как реальные,
так и кажущиеся тепловые изменения, которые претерпе-
вает система тел при изменении состояния, воспроизво-
дятся в обратном порядке, когда система возвращается
к исходному состоянию"? Авторы отмечают, что процессы
изменения агрегатного состояния воды подтверждают
этот принцип. Принцип, установленный Лавуазье и Лапла-
сом, является основой всей современной термохимии.
Установив эти принципы, Лавуазье и Лаплас крити-
чески рассматривают применявшийся в то время метод
измерения теплоемкостей, основанный на измерении
температуры, которая наступит при соприкосновении
между собою различно нагретых тел. Отмечая различные
источники погрешностей в этом методе, авторы подчер-
кивают: „Этот метод становится практически почти непри-
годным для измерения охлаждения или нагревания, вы-
званного при соединениях, и он абсолютно неудовлетво-
рителен для определения теплоты, выделяемой при сго-
рании или дыхании". Между тем, по мнению авторов,
„наблюдение этих явлений является наиболее интересной
1 Oeuvres, t. II, р. 287.
17 Дорфман
258
Природа теплоты и тепловые; свойства вещества
областью теории теплоты". Лавуазье и Лаплас далее
излагают свой метод прецизионного измерения этих теп-
лот — ледяной калориметр. Идея этого метода принадле-
жала Лапласу, как впоследствии указал Лавуазье.
„Если перенести массы льда, охлажденного до какой-
то степени, в атмосферу, температура которой выше
нуля термометра, все его части испытывают действие
тепла атмосферы до тех пор, пока их температура
не достигнет нуля. В этом последнем состоянии тепло
атмосферы остановится у поверхности льда, не имея
возможности проникнуть вглубь; оно пойдет единственно
лишь на то, чтобы расплавить некоторый первый слой
льда, который поглотит это тепло, распустившись в воду;
термометр, помещенный в этот слой, будет держаться
на том же градусе, и единственным заметным действием
тепла будет превращение льда в жидкость". Таким обра-
зом, лед будет плавиться слой за слоем, а внутренние
его точки должны сохранять ту же температуру.
„Теперь представим себе в атмосфере, температура
которой выше нуля, полый ледяной шар при темпера-
туре нуль градусов, а внутри шара помещается тело,
нагретое до любой какой-нибудь температуры; из выше-
сказанного следует, что внешнее тепло не проникает
вовсе в полость шара, а тепло тела не потеряется наружу,
но остановится у внутренней поверхности полости, после-
довательно расплавляя все новые слои до тех пор, пока
температура тела не достигнет нуля".
Таков принцип устройства ледяного калориметра.
И авторы рассматривают возможные источники погреш-
ностей этого метода. Они приходят к выводу, что, тща-
тельно измеряя количество воды, образовавшейся внутри
шара, „можно быть уверенным, что все тепло тела, рас-
сеиваясь, задерживается внутренним льдом и единственно
используется на его плавление". Авторы показывают,
Ледяной калориметр
259
что этот метод должен быть пригодным для измерения
не только удельных теплот, но и теплот реакции и т. д.
Мы не будем останавливаться на всех подробностях
устройства ледяного калориметра Лавуазье и Лапласа;
чертежи достаточно ясно его показывают. Заметим лишь,
Ледяной калориметр Лавуазье, сконструированный по идее
Лапласа.
Рисунок Марии Лавуазье для „Начального курса химии".
Фиг. 7, 2, 3, 4, 5, б, 7 представляют собою детали устройства кало-
риметра в перспективе и в разрезе. Фиг. 8 изображает, как указы-
вается в тексте, „жестяное ведрышко, в котором помещается веще-
ство, которое хотят исследовать". Фиг. 9 „изображает стеклянную
колбу; сквозь пробку проходит маленький термометр, шарик послед-
него и часть трубки погружаются в жидкость; такого рода сосудами, —
поясняет Лавуазье, — надо пользоваться всякий раз, когда изучают
кислоты и вообще вещества, могущие как-либо взаимодействовать
с металлами".
что внешняя ледяная оболочка служит в качестве тепло-
вой защиты внутренней оболочки, таяние которой и опре-
17*
260
Природа теплоты и тепловые свойства вещества
деляет собою количество тепла, выделившегося в самой
внутренней полости калориметра. В эту внутреннюю
полость можно, например, при желании вводить все новые
и новые порции газов, но они должны иметь заранее
температуру нуль. Авторы отмечают, что, несмотря
на все принятые предосторожности, наружный атмосфер-
ный воздух может попадать в калориметр. Между тем,
„опыты длятся по 15, 18 или 20 часов"; поэтому наруж-
ный воздух может внести значительную ошибку. Чтобы
ее уменьшить, надо работать в условиях, когда наружная
температура не превосходит -+- 5 или 4°. Авторы гаранти-
руют точность измерений до или даже (если внеш-
няя температура близка к нулю), т. е. точность измере-
ний, по их мнению, равна 2.5—1.5%.
Публикуя свою работу, Лавуазье и Лаплас упоминают
о появившейся в 1781 г. шведской работе Вильке, в кото-
рой также описывается ледяной калориметр, но лишенный
внешней защитной ледяной оболочки, а потому недоста-
точно прецизионный.
Лавуазье и Лаплас приводят таблицу измеренных
ими значений теплоемкостей различных веществ. Несмотря
на то, что авторы оценивают точность своих измерений
в 1.5—2.5%, они, неизвестно зачем, выписывают значе-
ния до шестого и даже седьмого знака и притом для
веществ, не претендующих на особую чистоту, вроде,
например, обычной торговой извести.
Этим же методом измерялись теплоты различных
реакций, как то, например, теплоты сгорания одной унции
фосфора, этилового эфира и угля. Наконец, было изме-
рено количество тепла, выделяемого живой морской
свинкой в течение десяти часов. Теплоты эти выражались
через посредство веса расплавленного льда. Авторы весьма
подробно излагают свои эксперименты. Опыты приходи-
Измерение удельных теплоемкостей
261
лось проводить лишь в зимнее время, когда темпера-
тура воздуха порядка 1—2° Р. Между тем, зимний сезон
в Париже невелик. Крайняя длительность каждого опыта
не позволила им многократно повторять измерения,
а потому все числовые значения являются результатом
не более как двукратных измерений.
Во второй работе о теплоте, опубликованной лишь
в 1793 г., они привели результаты повторных и более
тщательных измерений теплоемкости, произведенных ими
зимою 1783/84 г. В предлагаемой таблице даны некото-
рые экспериментальные данные Лавуазье и Лапласа
(второй столбец) рядом с данными современных измере-
ний (третий столбец).
Средние удельные теплоемкости в диапазоне температур
от 0° до -+- 6(Р Реомюра
Вещество "Средняя удельная теплоемкость
по Лавуазье и Лапласу по современным £ измерениям
Вода Листовое железо 1.000000 0.109985 0.1045-0.1137
Ртуть 0.02900 0.0332
Олово . . . 0.047535 0.0559
HgO 0.050112 0.0518
РЬО ... 0.062270 0.0648
Сера 0.208500 0.1764—0.20245
Алкоголь этиловый ректифициро- ванный 0.678783 0.593—0.647
Расхождение между данными объясняется не только
неизбежными ошибками измерений, но наличием тех или
иных примесей в образцах.
При рассмотрении численных значений Лавуазье и
Лапласа в обеих работах приходится лишь изумляться
тому, что результаты второй работы почему-то вплоть
262
Природа теплоты и тепловые свойства вещества
до шестого (!) знака совпадают с результатами первой
работы.
В этом продолжении исследований по теплоте Лавуазье
и Лаплас определяли также теплоту реакций, в которых
участвуют газы, как, например, теплоту образования воды
из „горючего* воздуха и „живительного*. Авторы отме-
чают, что опыты эти столь трудоемки и длительны, что
их не удавалось повторять. „Вряд ли поверят, насколько
подготовка к такого рода опытам продолжительна, и кро-
потлива, — говорят авторы, — надо сначала добыть заку-
поренные сосуды, которые могут держать воздухообразные
флюиды без потерь и которые держат пустоту без вхо-
ждения воздуха. Затем надо добиться того, чтобы зама-
зать все отверстия, места соединений трубок так, чтобы
ничего не потерять; надо удостовериться, что ни через
одно замазанное место нет потерь воздуха; наконец, надо
приготовить газы, их взвесить и т. д. Пятнадцати дней
или трех недель едва хватает на все эти приготовления,
даже если заниматься ими непрерывно*.1
Существенной частью первого мемуара о теплоте
является его III отдел — теоретическое „рассмотрение
опытов и соображения о теории теплоты*.1 2 Авторы обра-
щаются прежде всего к вопросу об абсолютном тепло-
содержании различных тел при нуле градусов Реомюра.
„Все тела на земле и сама планета пропитаны большим
количеством тепла, и нам невозможно полностью лишить
их этой теплоты, до какой бы степени мы ни понижали
их температуры. Нуль температуры показывает, следо-
вательно, значительное тепло, и интересно знать в гра-
дусах термометра это тепло, общее всей системе земных
1 Oeuvres, t. II, р. 727.
2 Ibidem, р. 307
Поиски абсолютного нуля
263
тел. Эта проблема сводится к определению отношения
абсолютного количества теплоты, заключенной в неко-
тором теле, температура которого равна нулю, к увели-
чению теплоты при возрастании температуры на один
градус. Простое смешение веществ не дает нам возмож-
ности открыть это соотношение, так как тела взаимно
нагреваются лишь за счет разности температур, а их общая
теплота должна остаться неизменной, подобно тому, как
общее движение, которое нас уносит в пространстве,
незаметно в тех движениях, которые тела сообщают
друг другу на поверхности земли".1 Таким образом, авторы
устанавливают своеобразную аналогию между проблемой
абсолютного поступательного движения земного шара
(которое, согласно принципу относительности Галилея,
не может быть определено на основании наблюдения
движений земных предметов) и проблемой абсолютного
теплосодержания земли и земных тел.
Задача, которую поставили перед собою Лавуазье
и Лаплас, на языке современной физики представляется
в следующем виде. Они пытались, как мы видим, опре-
делить отношение полного запаса тепловой энергии, за-
ключенной в теле при 0° Р., к теплоемкости того же тела.
Если бы теплоемкость не зависела от температуры, а за-
пас энергии при абсолютном нуле был бы равен нулю,
то искомое ими отношение позволило бы определить
„в градусах термометра", так сказать, истинную, т. е.
абсолютную температуру, соответствующую 0°Р.
В таком случае удалось бы установить положение
абсолютного нуля температуры, „последней степени хо-
лода", как писал Ломоносов. К этому и стремились
Лавуазье и Лаплас. Однако эта задача была впервые
решена лишь в 1851 г. Джоулем на основании закона
1 Ibidem, р. 308.
264
Природа теплоты и тепловые свойства вещества
Гэ-Люссака с помощью кинетической теории газов. Лишь
после установления абсолютной шкалы температур, даль-
нейшее развитие физики позволило определять запас
тепловой энергии для любого тела. Лавуазье и Лаплас
пытались итти обратным путем. Они тщетно старались
найти экспериментальный метод определения запаса теп-
лоты, заключенной в исследуемом веществе.
Далее авторы подвергают проверке точку зрения
английского физика Кроуфорда, который высказал пред-
положение, что выделяющееся или поглощающееся
при химической реакции (или при смешении) тепло
происходит от изменения теплоемкостей компонентов
во время их смешения (или соединения). Лавуазье
и Лаплас рассматривают смешение селитры с морской
солью, которое, как известно, приводит к понижению
температуры. На основании непосредственных изме-
рений теплоемкости они приходят к выводу, что
объяснение Кроуфорда неправильно: „Знание теплоем-
костей веществ и их соединений не может, следовательно,
привести нас к знанию теплоты, которая разовьется ими
при реакции".1 Этот вывод имеет огромное принципиаль-
ное значение, так как здесь, повидимому, впервые в исто-
рии химии было установлено, что теплота реакции есть
характерная для образования данного соединения величина.
Во втором мемуаре о теплоте Лаплас и Лавуазье
измерили теплоту реакции для различных случаев,
а именно, для сгорания фосфора, древесного угля, камен-
ного угля, оливкового масла, белого свечного воска, сер-
ного эфира и, наконец, водорода. Все эти теплоты при-
ведены ими к температуре 0° Р. „Из этого опыта, —1 2
говорят авторы, — можно, кажется, заключить, что неза-
1 Oeuvres, t. II, р. 313.
2 Соединение водорода с кислородом.
Измерение теплот реакций
265
висимо от теплорода, который находится между молекулами
тела и который можно из него выдавить, если дозволено
пользоваться таким выражением, либо посредством охлаж-
дения, либо посредством силы, сближающей частицы между
собою, существует также связанный теплород, который
входит в состав молекул тела и не может быть удален
иным путем, как путем сродства и разложения, и который
нисколько не влияет на нагрев и на охлаждение тел".1
Эти результаты порождали, естественно, новые воз-
зрения на химическое сродство... В своем мемуаре
„Сродство кислородного начала",1 2 представленном Ака-
демии 20 декабря 1783 г., Лавуазье рассматривает этот
вопрос. Составляя таблицу „сродства" кислорода к раз-
личным веществам, он указывает, что таблица эта пред-
ставляет собою не что иное, как последовательность
вытеснения одних веществ другими при их соединении
с кислородом. Он подчеркивает, что все реакции должны
быть приведены к одной и той же температуре, так как
последовательность сродства зависит от температуры.
Далее он особо отмечает, что сила сродства двух веществ
в разных соединениях их между собою различна. И он
заключает все эти рассуждения следующими замечатель-
ными словами: „Быть может, однажды точность имеющихся
данных будет доведена до такой степени, что геометр3
сможет рассчитывать в своем кабинете явления, сопро-
вождающие любое химическое соединение, тем же, так
сказать, способом, каким он рассчитывает движение
небесных тел. Взгляды, имеющиеся на этот счет у г. де-
Лапласа, и эксперименты, которые мы запроектировали
на основании его идей, чтобы выразить числами силы
1 Oeuvres, t. П, р. 733.
2 Oeuvres, t. II, р. 546.
3 В те времена геометрами именовались математики, владевшие
анализом.
266
Природа теплоты и тепловые свойства вещества
сродства различных тел, уже позволяют не рассматривать
эту надежду как некую химеру*.1
Однако этим планам не удалось осуществиться.
Но мысль о возможности количественного измерения
сил сродства, возникшая у Лапласа, повидимому, в резуль-
тате вышеописанных измерений теплот реакций, не поки-
дала его. Много лет спустя он попытался приложить эти
свои идеи к теории сродства, развитой Бертолле в его
„Химической статике*.
IV
Исследование тепловых свойств вещества неизбежно
наводило Лавуазье на проблему теплового расширения,
тем более, что он рассматривал теплоту, как некоторое
вещество, частицы которого, внедряясь между молекулами
тел, раздвигают их и удаляют друг от друга. Естественно,
можно было ожидать некоторой зависимости между сте-
пенью теплового расширения тел и силами сцепления,
-действующими между молекулами.
Но имелись и другие соображения практического
порядка. „Это свойство, присущее телам, занимать раз-
личный объем в зависимости от температуры, до которой
они доведены, является препятствием, с которым прихо-
дится встречаться на каждом шагу в физике и в инже-
нерной практике всякий раз, по крайней мере, когда
хотят достигнуть высокой степени точности*.1 2
„Нельзя установить сравнения между различными
мерами, нельзя точно определить расстояние между двумя
точками, если не привести к одной постоянной темпера-
туре: эти столь необходимые таблицы не были еще
1 Oeuvres, t. П, р. 550.
2 Oeuvres, t. II, р. 739.
Измерение коэффициентов теплового расширения
267
составлены с достаточной степенью точности, а экспери-
менты, на которых они основаны, не были повторены
хотя бы достаточно большим числом физиков, чтобы они
заслужили некоторую степень абсолютного доверия".
Лавуазье и Лаплас подчеркивают далее, что эти
трудности тем более велики при изучении жидкостей,
так как тепловое расширение самой жидкости склады-
вается с расширением материала сосудов. Далее: „Машины,
которыми мы пользуемся для измерения времени и от
точности которых зависит совершенство астрономии,
также подвержены вариациям, зависящим от расширяемо-
сти тел. Два метода применены до сих пор для регули-
ровки их движения — пружина и маятник с анкерным
ходом; однако эти регуляторы дают изохронные колеба-
ния лишь в той мере, в какой их длина остается все
время постоянной; поскольку эта длина подвержена изме-
нениям вследствие холода или тепла, из этого происте-
кает причина ошибки, нарушающая регулярность их дви-
жения".
Таковы причины, побудившие Лавуазье и Лапласа
в 1781 г. предпринять капитальное исследование расши-
рения твердых тел. Это исследование заняло два года.
Оно изложено в мемуаре „О действии теплоты на твер-
дые тела, главным образом на стекло и металлы и т. д.",1
откуда и заимствованы вышеприведенные цитаты.
Авторы критически разбирают методы измерений
коэффициента теплового расширения, применявшиеся их
предшественниками — Мушенбрёком (1731), Буге (1745),
Смисоном (1754), Берту (1756—1760).
Публикуя свой мемуар лишь в 1793 г., авторы упоми-
нают также и об английской работе Роя и Рамсдена,
появившейся в 1785 и 1787 гг., т. е. уже после окончания
1 Oeuvres, t. II, р. 739.
268
Природа теплоты и тепловые свойства вещества
ими опытного исследования. Мы не будем останавливаться
на всех этих работах, отметим лишь, что только две
последние по точности и чувствительности аппаратуры
приближаются к работе Лавуазье и Лапласа. Метод изме-
рений, примененный ими, отличен от методов всех пере-
численных авторов.
Эксперимент ставился на воздухе в саду Академии.
Между четырьмя каменными столбами, укрепленными
на солидном фундаменте, расположен длинный резервуар
длиною около двух метров, наполненный водой желае-
мой температуры. На столбах покоились горизонтальные
опорные металлические стержни, к которым прикреплены
длинные вертикальные планки из стекла. Эти планки
нижними концами погружены в резервуар. Объект —
линейка из испытуемого материала —• укрепляется гори-
зонтально на нижних концах стеклянных планок. Когда
линейка удлиняется, она смещает одну пару стеклянных
планок по отношению к другим. Смещение планок пере-
дается одному из опорных стержней. К этому стержню
прикреплена подзорная труба, которая поворачивается
вместе со стержнем вокруг горизонтальной оси. Наблюдая
в трубу неподвижно укрепленную шкалу, можно заметить
самый ничтожный поворот трубы по кажущемуся смеще-
нию шкалы. Шкала была расположена на расстоянии
100—200 туазов, т. е. около 190—380 м. При расстоянии
до шкалы в 190 м смещение конца испытуемой линейки
на 1 линию (2.5 мм) приводило к смещению метки
по шкале на 744 линии.
Температура образца измерялась посредством тща-
тельно проградуированных термометров. Для них была
составлена специальная таблица поправок.
Метод наблюдения удлинения линейки, впервые при-
мененный Лавуазье и Лапласом, основанный на рычажной
передаче и позволяющий в данном случае увеличивать
Установка Лавуазье и Лапласа для измерения коэффициента теплового расширения твердых тел,
(Перспективный вид и продольный разрез).
Исследуемый образец (стержень) помещен в удлиненный сосуд с водой. Одним концом образец упирается
в неподвижную раму, закрепленную на двух столбах (справа). Другим концом образец упирается в раму,
покоящуюся на други! двух столбах (слева) и связанную шарнирной передачей со зрительной трубой,
могущей поворачиваться вокруг горизонтальной оси, перпендикулярной к плоскости рисунка. Наблюдатель
рассматривает в трубу неподвижную вертикальную шкалу, расположенную на расстоянии нескольких сот
метров от установки (шкала на рисунке не показана). При изменении длины образца зрительная труба
наклоняется (при удлинении об( азца, ее объектив опускается).
270
Природа теплоты и тепловые свойства вещества
истинное удлинение до полутора тысяч раз, представлял
собою в те времена выдающееся изобретение экспери-
ментальной техники. Препятствий к его осуществлению
в ту эпоху было немало; достаточно, например? указать,
что зрительная труба соответствующего увеличения
имела в длину почти два метра, следовательно, надлежа-
щее ее укрепление представляло значительные трудности.
Мы не можем здесь останавливаться на весьма остроумных
деталях устройства рычажной передачи. Необходимо
подчеркнуть, что рычажный метод применяется до сих
пор для технических измерений. Наконец, следует
обратить внимание на материал планок, на которых
укреплялась исследуемая линейка: они были из стекла.
Стекло было выбрано, повидимому, вследствие своего
(сравнительно с металлами) низкого коэффициента
расширения.
Первоначально резервуар с водою подогревался непо-
средственно на огне, разведенном под ним. Однако
авторы скоро обнаружили все недостатки такого метода
обогрева и стали наполнять сосуд водою из другого
кипятильника. Лавуазье и Лаплас редко пользовались
расстоянием до шкалы более 100 туазов (190 м), так
как туман в атмосфере обычно затруднял наблюдение
на больших расстояниях.
Полученные авторами данные оказались весьма близ-
кими с результатами Роя и Рамсдена. Замечательный
аппарат английских исследователей был основан на срав-
нении длины изучаемой линейки с неизменным масштабом;
изменение длины определялось с помощью микроскопа,
снабженного своего рода окулярным микрометром.
Чувствительность аппарата Роя и Рамсдена достигала
линии. Таким образом, метод английских исследовате-
лей также представлял собою крупное достижение. Но метод
Измерение коэффициентов теплового расширения
271
Лавуазье и Лапласа позволял при желании еще дальше
увеличивать чувствительность, аппарат же Роя и Рамсдена
был ограничен разрешающей способностью микроскопов
той эпохи.
Оказалось, что полученные авторами численные зна-
чения теплового расширения твердых тел „различны для
различных тел, причем эти удлинения не находились
ни в какой связи ни с их удельным весом, ни с их
твердостью, ни с прочностью и выносливостью их частей,
ни с каким другим известным их свойством". Это за-
ключение, повидимому, не соответствовало теоретическим
ожиданиям Лавуазье и Лапласа.
В предлагаемой таблице приводятся для сравнения
опытные данные Лапласа и Лавуазье (второй столбец)
рядом с современными принятыми значениями (третий
столбец).
Средние коэффициенты теплового линейного расши-
рения твердых тел а в диапазоне температур от (Р
до -+ 80° Реомюра
Вещество а X Ю6 по из" мерениям Лавуа- зье и Лапласа а X Ю6 по современ- ным измере- ниям
Стекло Сен-Гобен . . . 8.9089 8.91
Стекло флинт 8.1166 7.9
Медь 17.2244 16.5
Железо мягкое 12.2045 12.1
Свинец 28.4838 27.67
Олово 21.7298 21.6
Как можно видеть, согласие между данными Лавуазье
и Лапласа и современными данными — превосходное.
Имеющиеся в таблице расхождения между данными вто-
272
Природа теплоты и тепловые свойства вещества
рого и третьего столбцов вызваны, вероятно, не столько
погрешностями измерений, сколько наличием тех или
иных примесей в образцах или ролью термической обра-
ботки (недаром наибольшее расхождение наблюдается
у „мягкого железа").
Как всегда, Лавуазье склонен выписывать гораздо
больше знаков, чем это позволяет точность его изме-
рений.
В 1793 г. Лавуазье опубликовал мемуар „О действии
теплоты на жидкие тела от точки их плавления вплоть
до точки их испарения",1 являющийся продолжением
предыдущего мемуара. Эта работа была закончена уже во
время Революции в связи с разработкой новой метри-
ческой системы мер и весов. Расширение воды и ртути
измерялось по изменению их плотности с температурой.
В 1781 г. Лавуазье совместно с Лапласом и Го
чрезвычайно тщательно повторил определение теплового
расширения ртути, произведенное ранее де-Люком
и самим Го. Исследование это производилось таким
образом, что специально сконструированный барометр,
снабженный двумя указателями, после наполнения ртутью,
погружался последовательно в кипящую воду и в лед.
В результате измерений авторами были внесены много-
численные существенные поправки. Относительное изме-
нение объема ртути в диапазоне температур от 0° до
точки кипения воды оказалось равным 0.0158±0.0001;
кроме того, расширение ртути исследовалось и другим
способом: чистой прокипяченной ртутью наполнялся
стеклянный сосудик с капиллярным горлышком, снаб-
женным маленькой чашечкой, куда вытекал весь избыток
ртути при ее расширении. Этот метод дал для величины
относительного изменения объема ртути в том же диапа-
1 Oeuvres, t. II, р. 773.
Измерение коэффициентов теплового расширения
273
зоне температур (после внесения соответствующих попра-
вок) 0.0181. В настоящее время для этой величины прини-
мается значение 0.01817.
Исследование расширения воды производилось с помо-
щью специальных ареометров. Данные о тепловом рас-
ширении твердых тел позволили Лавуазье внести поправки
на изменение объема ареометра и сосуда, содержащего
жидкость, и значительно уточнить свои прежние измере-
ния плотности воды. Он внес также некоторое усовер-
шенствование в конструкцию ареометра. В нем было
сделано отверстие, позволявшее внутреннему воздуху
сообщаться с атмосферой. Благодаря этому усовершен-
ствованию можно было избежать маленьких, но все же
заметных деформаций ареометра при изменении как
атмосферного давления, так и температуры. Наконец, эти
измерения требовали очень тщательного определения
размеров сосуда, что было выполнено, как сообщает
Лавуазье, благодаря аппарату, изобретенному мастером
Фортеном (тем самым, который изготовил для него особо
прецизионные весы).1 Эти измерения были выполнены
Лавуазье совместно с известным минералогом аббатом
Гаюи с точностью до одной пятисотой доли линии. Устрой-
ство аппарата Фортена осталось, к сажалению, нам неиз-
вестным.
V
В XVIII в. понятие агрегатного состояния фактически
не существовало. Воздух и другие „воздухообразные"
вещества считались постоянными газами. Правда, сторон-
ники молекулярно-кинетической теории, в особенности
М. В. Ломоносов, указывали, что если какие-либо тела
1 Первые прецизионные весы Лавуазье были изготовлены ма-
стером Шёменом.
18 Дорфман
274
Природа теплоты и тепловые свойства вещества
остаются на земле газообразными или жидкими, то
из этого лишь следует, что эти тела недостаточно охла-
ждены. Все же эта точка зрения была очень мало
распространена.
Лавуазье уже в своих ранних трудах обращал особое
внимание на различные летучие вещества, присутствую-
щие в воздухе. В мемуаре „О некоторых жидкостях,
которые можно получить в воздухообразном состоянии
при степени нагрева, превосходящей среднюю темпера-
туру земли"1 он упомянул о неопубликованной работе,
проведенной им совместно с Лапласом по испарению
этилового эфира, а также изложил опыты по испарению
алкоголя, воды и пришел к выводу, что „твердость,
жидкость и упругость2 являются тремя различными
состояниями одной и той же материи, тремя отдельными
модификациями, через которые могут последовательно
пройти все вещества и которые зависят исключительно
от степени нагрева, которой они подвергнуты". Он даже
указал, что если в природе существуют „металлы немного
более летучие, чем ртуть", то их пары должны существовать
в атмосфере наряду с парами других летучих веществ.
Он высказал убеждение в том, что если бы земной
шар оказался перенесенным в более „жаркую область"
солнечной системы, то не только вода, но и многие дру-
гие вещества обратились бы в пар, расплавились бы камни,
соли и многие другие составные части земного шара.
И, наоборот, если бы земля оказалась внезапно пере-
несенной в область большого холода, то и вода и боль-
шинство существующих жидкостей превратились бы
в „твердые горы, в очень твердые скалы, первоначально
прозрачные, однородные и белые, как горный хрусталь,
1 Oeuvres, t. II, р. 261.
3 Т. е. газообразност».
Агрегатные состояния
275
но которые со временем, перемешавшись с веществами
иной природы, превратились бы в различно окрашенные
непрозрачные камни.
„Воздух, согласно этому предположению, или по мень-
шей мере часть воздухообразных веществ, его образую-
щих, перестали бы существовать в состоянии упругих
паров..., и образовались бы новые жидкости, о которых
мы не имеем никакого понятия".1
Возвращаясь впоследствии к этому вопросу в своем
„Курсе химии" (1789), а затем в мемуаре, опублико-
ванном в 1793 г., „Об образовании земной атмосферы",
Лавуазье перечисляет различные виды веществ, суще-
ствующих на земле.
„Такова, значит, картина, которую представляет
глазам физика и философа планета, на которой мы
живем.
„1) Тела твердые большого числа видов, которые
образуют массу земного шара и которые почти все
способны плавиться и превращаться в жидкости при
более или менее высокой степени нагрева; эти тела
находятся в состоянии устойчивого и постоянного соеди-
нения, потому что в порядке вещей в природе, что все
стремится к равновесию, и потому что, если бы вначале
сродства различных веществ, образующих земной шар,
не были удовлетворены, появилась бы тенденция к соеди-
нениям, благодаря которой произошли бы многообразные
разложения, новые соединения, которые бы незаметным
образом привели к состоянию равновесия и покоя.
„2) Тела, которые способны существовать то в твер-
дом, то в жидком состоянии в зависимости от темпера-
туры: такова вода, которая обращается в лед при темпе-
ратуре ниже точки замерзания; такова ртуть, которая
1 Oeuvres, t. II, р. 269.
18*
276
Природа теплоты и тепловые свойства вещества
замерзает при гораздо более значительной степени
холода.
„3) Тела, которые обыкновенно являются жидкими при
обычной для нас температуре, но которые уже при
несколько более высоком жаре превращаются в воздухо-
образные флюиды; таковы алкоголь, эфир, вода.
„4) Тела, которые находятся постоянно в газообраз-
ном состоянии при нашей обычной температуре, ежели
только они не вошли в соединение; таковы углекислый
газ, газ муриевой кислоты,1 газ сернистой кислоты,
аммиачный газ и многие другие.
„5) Флюид особый в своем роде, очень тонкий, очень
упругий, столь мало весомый, что его вес ускользает
от всех инструментов, которые были применены до сих
пор для его определения, который, повидимому, прони-
кает во все тела, даже те, которые мы считаем наиболее
плотными: этот флюид современные физики именуют
теплородом („calorique").
„6) Многочисленные флюиды, гораздо более тонкие,
чем газы, однако менее тонкие, чем теплород, которые
проникают сквозь поры отдельных веществ с большей
или меньшей легкостью, но которые все же проникают
через поры всех тел; таков флюид магнитный, флюид
электрический и, без сомнения, многие другие, которые
нам еще неизвестны".
Эти представления о веществе и теплоте составил
себе Лавуазье к концу своей жизни. Мы видим, что он
настойчиво продолжал считать теплоту особым веще-
ством. Даже такой сравнительно консервативный химик,
как Маке, ярый сторонник флогистона в химии, указывал
в издании 1778 г. своего „Dictionnaire de Chimie" (отдел
„Feu" — огонь), что в отличие от своих прежних воззре-
1 HCL
«Принцип равновесия и покоя» и события Революции
271
ний на теплоту, как на особую субстанцию, он теперь
полагает, что теплота есть результат движения молекул.1
Между тем, Лавуазье в 1793 г. не упоминал ни единым
словом о молекулярно-кинетических представлениях,
развитых им ранее совместно с Лапласом. Приведенный
выше отрывок статьи „Об образовании земной атмосферы*
вскрывает, как мне кажется, основные мотивы воззре-
ний Лавуазье. В мемуаре неожиданно провозглашается
универсальный принцип, который, по мнению Лавуазье,
управляет будто бы явлениями природы: все стремится
к состоянию равновесия и покоя. Но представление
о непрерывно продолжающемся беспорядочном движении
молекул не могло быть увязано с такой универсальной
тенденцией к покою. Возможно, что этот „принцип равно-
весия и покоя*, якобы господствующий в природе, возник
в мыслях Лавуазье значительно позднее лишь как своего
рода реакция на окружавшие его бурные события
Революции. Недаром в своем мемуаре о дыхании (1789),
о котором речь впереди, Лавуазье между прочим говорит:
„Физический порядок, подчиненный неизменным законам,
пришедший за долгий период времени к такому состоя-
нию равновесия, которое ничто уже не может нарушить,
отнюдь не подвергается тем беспокойным движениям,
которые обнаруживает подчас моральный порядок*.
1 Интересно отметить, что первое издание „Химического словаря"
Маке, в котором отстаивались позиции теории теплорода, появилось
в 1749 г., т. е. за год до появления упоминавшегося нами труда
М. В. Ломоносова „Размышления о природе теплоты и холода".
И хотя Маке в 1778 г. не сослался на Ломоносова, приходится всё
же подозревать влияние последнего, так как его выступление было
единственным в литературе за весь этот период времени.
Глава XI
ТРИУМФ новой химии
Флогистон — ненужная гипотеза в химии. — Ожесточенная полемика
между физиками и математиками — сторонниками Лавуазье и хими-
ками— сторонниками теории Шталя. — Химики сдают позиции.—
Лавуазье публикует „Начальный курс химии". — Предисловие. —
О понятии элементов. — Предшественники не упоминаются. — Прин-
цип сохранения вещества. — Принцип сохранения элементов.—Ломо-
носов открыл всеобщий закон сохранения материи и движения за
41 год до Лавуазье. — Философская глубина и уверенность формули-
ровки Ломоносова. — Пережитки схоластики в курсе Лавуазье. —
Новая химическая номенклатура. Техника эксперимента. — Решающая
роль физики. — Успех „Курса" за границей. — Новая химия Лавуазье
в России.
I
Итак, в течение десятилетия с 1772 по 1782 г. старые,
установившиеся понятия химии подверглись коренной
ломке.
Воздух был свергнут с пьедестала „элементов", при-
чем было установлено, что он представляет собою смесь
„мефитического", или удушливого флюида, азота, с „живи-
тельным воздухом", или кислородом и различными
парами.
Флогистон (как химический агент) — основа всей
химии XVIII в. — стал „ненужной гипотезой".
Флогистон — ненужная гипотеза в химии 279
„Землистое начало" потеряло смысл элемента, так
как большинство земель оказалось соединениями метал-
лов с новооткрытым веществом — кислородом — „живи-
тельным воздухом". Вода перестала быть простым телом,
элементом и была разоблачена как соединение „живи-
тельного" и „горючего" воздуха, как продукт горения
„горючего" воздуха. В 1783 г., опираясь на значитель-
ный багаж накопленных опытных фактов,1 Лавуазье
выступил с последней и сокрушительной критикой тео-
рии флогистона.
„Моя задача была, — сказал он, — развить в этом
мемуаре теорию горения, опубликованную мною в Y111 г.,
показать, что флогистон Шталя — воображаемое существо,
присутствие которого он без всяких к тому оснований
допустил в металле, в сере, в фосфоре, во всех горючих
телах; что все явления горения и обжига объясняются
гораздо проще и легче без флогистона, чем с его
помощью. Я не жду, что мои взгляды будут сразу
приняты; человеческий ум привыкает видеть вещи опре-
деленным образом, и те, кто в течение части своего
поприща рассматривали природу с известной точки
зрения, обращаются лишь с трудом к новым представ-
лениям; итак, дело времени подтвердить или опровер-
гнуть выставленные мною мнения".
В этом мемуаре Лавуазье подробно разбирает аргу-
менты двух виднейших сторонников флогистона во Фран-
ции— академиков Бомэ и Маке. Перечислив вновь опытные
факты, свидетельствующие • о том, что увеличение веса
при горении происходит за счет „живительного воздуха",
Лавуазье вспомнил, между прочим, прием, оказанный
в свое время его „Opuscules" сторонниками флогистона.
„Начали, как обычно, сомневаться в фактах; затем те,
* Oeuvres, t. II, р. 623.
280
Триумф новой химии
кто старается убедить публику будто все, что верно,
не ново, или все, что ново, не верно, сумели отыскать
у одного очень старого автора зародыш этого открытия".1
„Не входя в рассмотрение подлинности сочинения, кото-
рое в ту эпоху поспешили выпустить новым изданием,
я мог не без удовольствия заметить, как беспристрастная
публика пришла к выводу, что смутное и случайно бро-
шенное утверждение, не обоснованное никакими опытами,
неизвестное никому из ученых, никак не может мне
помешать считаться автором открытия причины увеличе-
ния веса металлических окислов?
„Эти новые открытия расстраивали и систему Шталя
и систему Бомэ".
Лавуазье отметил некоторые различия между теорией
Шталя и ее изложением у Бомэ. Незначительные изме-
нения в теории Шталя, введенные Бомэ, давали несколько
больше произвола в трактовке прежде известных фактов.
Тем не менее, и теория Бомэ оказывалась в противоречии
с новыми открытиями. Лавуазье подчеркивает, что это
обстоятельство „почувствовал мосье Маке". Он попы-
тался согласовать теорию Шталя с фактами в своих
статьях и во втором издании своего „Химического сло-
варя". „С изумлением можно увидеть, что М. Маке,
защищая как будто доктрину Шталя, сохраняя название
„флогистон", развивает совершенно новую теорию и при-
том вовсе не теорию Шталя; на место флогистона —
этого горючего начала, этого весомого начала, состоя-
щего1 2 3 из огненного элемента и землистого элемента, он
ставит чистую световую материю".4 Разбирая теорию
1 Лавуазье намекает на труд Ж. Рэя.
2 Oeuvres, t. II, р. 629.
3 По Шталю.
4 Oeuvres, t. II, р. 630.
Ожесточенная полемика за и против флогистона 281
Маке, Лавуазье, между прочим, указывает, что Маке
„вынужден отбросить элемент огня и предположить, что
не существует подлинного теплового вещества; что теп-
лота заключается в очень быстром движении элементар-
ных молекул тел; и поскольку свет — наиболее тонкая
из всех материй, он полагает, что она более, чем какая-
либо другая материя, способна воспринять движение
составляющее теплоту".
Лавуазье с исключительным блеском показывает, что
теория горения и окисления Маке, в свете новых фактов,
также не выдерживает критики, как и теория Шталя. Он об-
ращает внимание на то, что Маке приходится,. уступая
Шталю и Бойлю, считать материю света весомой,
что противоречит опытным данным. Он указывает
далее на то обстоятельство, что концентрированные
солнечные лучи не восстанавливают известей в атмо-
сфере азота, между тем как уголь восстанавливает
их, образуя „связанный воздух". Однако, согласно
теории Маке — Шталя, уголь, как вещество горючее,
должен содержать в себе ту же световую материю —
флогистон, что и солнечные лучи. „Значит, флоги-
стон не есть чистая материя света", — заключает
Лавуазье. С другой стороны, подчеркивает он, при
опыте с углем мы находим в связанном воздухе
(СО2) полный вес угля плюс еще вес живительного
воздуха. Значит, никакая весомая часть угля
не присоединилась к металлу. Следовательно, либо
материя света невесома, либо ее нет ни в металлах,
ни в угле. Наконец, если металлы содержат больше
огненной и световой материи, чем извести, то это
должно было бы проявиться в тепловых измерениях.
Между тем, подчеркивает он, ни опыты Кроуфорда, ни
опыты Вильке, ни Опыты Лапласа и Лавуазье
этого не обнаруживают. Этот аргумент нам непонятен,
Триумф новой химии .
так как в тепловых исследованиях1 измерялась ведь
теплоемкость, а отнюдь не теплосодержание, поэтому
судить из них о наличии, или отсутствии, или избытке
теплорода принципиально невозможно. Во всяком случае,
этот аргумент показывает, что тепловые измерения, по-
ставленные Лавуазье совместно с Лапласом, были тесно
связаны с его борьбой против теории флогистона.
Шаг за шагом Лавуазье разбивает в мемуаре все
аргументы и Бомэ и Маке. Как впоследствии своим
красочным слогом писал Фуркруа: „На этот раз он [т. е.
Лавуазье] входит во все детали теории флогистона, он
преследует его по пятам; он, так сказать, схватывается
со Шталем врукопашную и не выпускает его до тех пор,
пока не опрокинет на землю".1 2
Полемика приняла действительно ожесточенный харак-
тер.
В этой борьбе новой науки со старой на стороне
Лавуазье оказались лишь физики и математики: Лаплас,
Кузен, Вандермонд, Монж. Противниками новой химии
оказались все как французские, так и иностранные
химики: Маке, Бомэ, Бертолле, Гитон-де-Морво, Фуркруа,
Пристли, Шееле, Кирван, Ландриани и даже Кэвендиш,
которого можно в равной мере считать физиком и хими-
ком. И это далеко не случайное явление. Мы уже неод-
нократно подчеркивали, что основной заслугой Лавуазье
было последовательное внесение физики, не только ее
методов, но и ее воззрений и новейших достижений,
в разрешение химических проблем. В этом заключалась
основа революции, проделанной Лавуазье. И даже наибо-
лее передовые химики не смогли сразу примириться
1 См. главу X.
2 A. F. F о и г с г о у. Dictionnaire de chimie. Encyclopedic metho-
dique, p. 451.
Химики сдают позиции
283
с этой перестройкой химии, они цеплялись за установ-
ленные издавна химические методы, за привычные взгляды
и т. д. Фактически распределение сил в этой идейной
борьбе представляет собой объективное подтверждение
нашей точки зрения на роль Лавуазье в истории химии.
Ближе всех стоял к физике Кэвендиш (из перечисленных
здесь химиков), но этот своеобразный и выдающийся
ученый был консервативен, повидимому, во всем.
Недаром Маке в одном из писем, адресованных
Гитону-де-Морво (от 4 января 1778 г.), буквально изде-
вается над Лавуазье: ?,Куда бы мы девались с нашей
старой химией, если бы в самом деле пришлось строить
совершенно новое здание? Относительно себя я могу
сказать, что я бы просто перестал участвовать в этом
деле. Но вот г. Лавуазье вывел на свет свое открытие,
и с тех пор, я вас заверяю, у меня стало одною тяже-
стью в желудке меньше".
Первым химиком, прорвавшим этот фронт научного
консерватизма, был не кто иной, как Бертолле. 6 августа
1785 г. он об этом публично заявил на заседании Ака-
демии.
Фуркруа, человек удивительно светлого и ясного ума,
примкнул к Бертолле и стал излагать новую теорию
параллельно со старой в своих лекциях. Прибывший
в 1786 г. из Дижона в Париж Гитон-де-Морво был в это
время занят составлением „Химического словаря" в „Мето-
дической энциклопедии". Посетив лабораторию Лавуазье
и окончательно убедившись в банкротстве теории фло-
гистона, он вынужден был дать второе предисловие
к словарю на 625-й странице и начать заново излагать
химию уже на основе новой теории Лавуазье, именовав-
шейся „пневматической" теорией.
И вот Бертолле, Фуркруа и Гитон-де-Морво, обсуждая
совместно с Лавуазье проблемы новой химии, натолкну-
.284
Триумф новой химии
лись на необходимость коренной перестройки всей номен-
клатуры в химии. В 1787 г. они опубликовали новую
„Химическую номенклатуру", которая вскоре была пере-
ведена на английский, немецкий, итальянский и испан-
ский языки. Во введении к „Номенклатуре*4 было ска-
зано: „Из всех наук нет ни одной, прогресс которой
был бы столь быстрым и столь радикальным, как про-
гресс химии".
В самом деле, в ту эпоху химия развивалась
быстрее других наук; но вскоре эта роль перешла
к физике.
Наконец, примкнул к новой теории крупнейший фран-
цузский химик Шапталь. Между тем англичанин Кирван
выпустил книгу „О флогистоне и о строении кислот",
где настаивал на правильности теории флогистона,
объединив в своей работе все возражения, какие вообще
только высказывались крупнейшими учеными против
теории Лавуазье. Это было наиболее обоснованное
и серьезное нападение на „пневматическую" теорию.
Тогда Лавуазье и его ближайшими сотрудниками
и друзьями было решено: перевести труд Кирвана на
французский язык, снабдив каждую главу его специаль-
ным послесловием. Перевод был выполнен лично Марией
Лавуазье, так как сам Лавуазье слабо владел английским
языком. Каждый из упомянутых лиц взял на себя одну
из глав труда Кирвана, снабдив ее соответствующим
послесловием. Перевод Кирвана вышел в 1788 г.
Кирван довольно долго сопротивлялся, и лишь в 1792 г.
он написал в письме, адресованном Бертолле: „Теперь,
наконец, я слагаю оружие и бросаю флогистон. Без
решающих опытов мы не можем поддерживать какую-
либо систему, отрицающую установленные факты. Я сам
опубликую опровержение моего труда".
К Кирвану тогда же присоединился и Дж. Блэк.
Супруги Лавуазье в 1787 г.
Портрет кисти Л. Давида.
«Начальный курс химии»
287
В 1788 г. итальянский химик Ландриани посетил
Париж, и Лавуазье записал в свой лабораторный
журнал: „Эксперименты для обращения кавалера Лан-
дриани".
Тем не менее, обратить Ландриани ему так и не уда-
лось, и он еще много лет спустя полемизировал с Лавуазье.
Характерно это выражение „обращение", точно речь
шла не о научных доказательствах, а о вере. И в самом
деле, теория флогистона держалась уже фактически
одной лишь верой в нее.
Ни Кэвендиш, нй Пристли до конца своих дней
не признавали теории Лавуазье. Впрочем, Кэвендиш
молчал, а Пристли настойчиво оспаривал пневмати-
ческую теорию.
П
В марте 1789 г., т. е. незадолго до начала Револю-
ции, появился „Начальный курс химии" („Тгайё elemen-
taire de chimie") Лавуазье, который, так сказать, увен-
чал собою великие открытия в химии за предшествую-
щее десятилетие. Иллюгтрации к нему были изготовлены
лично Марией Лавуазье—ученицей знаменитого худож-
ника Луи Давида. Это был первый курс химии,
из которого флогистон как химический агент был
исключен.
„Предпринимая настоящий труд, я не имел иной цели,
как развить подробнее доклад, сделаннный мною на пу-
бличном заседании Академии Наук в апреле 1787 г.
«О необходимости преобразовать и усовершенствовать
химическую номенклатуру»,— говорит Лавуазье в преди-
словии.— Занимаясь этой работой, я еще лучше, чем
прежде, почувствовал очевидность положений, принятых
аббатом Кондильяком в его «Логике» и в некоторых
других его трудах. В них он устанавливает, что мы мыс-
288
Триумф новой химии
лим лишь с помощью слов; что языки являются настоя-
щими аналитическими методами, что алгебру, будучи из
всех способов выражения мысли наиболее простым,
наиболее точным и лучше всего приспособленным
к своему объекту, есть одновременно и язык и аналити-
ческий метод; наконец, что искусство рассуждать сво-
дится к хорошо построенному языку. И действительно,
между тем как я полагал, что занимаюсь только номен-
клатурой, и моей единственной целью было усовершен-
ствование химического языка, мой труд, помимо моей
воли, незаметно для меня, превратился в моих руках
в начальный курс химии".1
Так начинает он свое предварительное рассуждение
к „Начальному курсу". Оно базируется целиком на утвер-
ждении, заимствованном у философа Кондильяка (1715 —
1780), что достаточно реформировать и улучшить язык
и номенклатуру, чтобы тем самым уже перестроить
заново науку.
Хотя не подлежит сомнению, что Кондильяк во мно-
гом прав, все же Лавуазье перегнул здесь палку
до крайней степени. Между тем как он на основе новей-
ших открытий, и притом в значительной мере своих
открытий, перестраивал заново все здание хи дии, всю
классификацию химических соединений и всю, так ска-
зать, их родословную, ему казалось, будто он лишь усовер-
шенствует химический язык. Новые названия химических
соединений явились неизбежный результатом определе-
ния их качественного состава, который был дотоле
неизвестен и который был установлен лишь после
открытия кислорода, азота и после выяснения природы
воды и углекислого газа. В этом установлении состава
1 Перевод Т. В. Волковой. Успехи химии, т. 12, вып. 5, 1943,
стр. 359—367.
«Начальный курс химии». Предисловие
289
соединений заключена сущность грандиозной реформы
химии, проделанной Лавуазье и его школой, а отнюдь
не в номенклатуре, явившейся производной этих
открытий.
„Я увидел себя вынужденным, — продолжает он, —
следовать порядку, который существенным образом
отличается от принятого во всех трудах по химии".
Далее Лавуазье говорит: „Невозможность отделить
номенклатуру от науки и науку от номенклатуры объяс-
няется тем, что каждая физическая наука обязательно
состоит из трех вещей; из ряда фактов, образующих
науку, из представлений, напоминающих о них, и из слов,
их выражающих. Слово должно рождать представление,
представление должно изображать факт — это три оттиска
одной и той же печати". Далее Лавуазье переходит
к изложению причин, вынудивших его изменить обычный
порядок изложения химии.
„Совершенно очевидно положение, общность кото-
рого хорошо признана как в математике, так и в других
науках, что мы можем приобретать знания, только идя
от известного к неизвестному. В раннем детстве наши
представления вытекают из потребностей; ощущение
наших потребностей вызывает представление о предме-
тах, могущих их удовлетворить, и незаметно, путем ряда
ощущений, наблюдений и анализов образуется последо-
вательность тесно связанных друг с другом понятий,
в которой внимательный наблюдатель может найти свя-
зующую нить и которые составляют совокупность наших
знаний...
„Начиная впервые изучать какую-либо науку, мы
находимся по отношению к ней в положении, очень
близком к положению ребенка, и дорога, по которой
нам приходится следовать, совершенно та же, по кото-
рой следует природа, создавая его представления...
19 Дорфмав
290
Триумф новой химии
„...У того, кто начинает заниматься изучением физи-
ческих наук, понятия должны быть лишь выводом, пря-
мыми следствиями опыта или наблюдения".
Лавуазье указывает, что „вступающий на поприще
наук находится в менее выгодном положении, чем ребе-
нок. У ребенка лишения или боль следуют за ложным
умозаключением, радость или удовольствие — за правиль-
ным. При таких учителях человек делается последова-
тельным. .. Не так обстоит дело при изучении и в прак-
тике наук; ошибочные суждения, делаемые нами,
не затрагивают ни нашего существования, ни нашего
благополучия; никакой физический интерес не прину-
ждает нас исправлять их; наоборот, воображение постоянно
увлекает нас за пределы истины; самолюбие и вызывае-
мая им самоуверенность побуждает нас делать выводы,
не вытекающие непосредственно из фактов".
И Лавуазье видит „единственное средство избежать
этих заблуждений... — устранять или, по крайней мере,
упрощать, насколько возможно, рассуждение... Подвергать
его постоянной проверке опытом..., изыскивать истину
только в естественной связи опытов и наблюдений".
Поэтому Лавуазье счел необходимым „сопоставить
химические факты и истины в таком порядке, который
наиболее облегчает их понимание начинающим". Это
и заставило его принять порядок изложения химии,
отличающийся от обычного. Лавуазье признал не воз-
можным начинать с таблиц сродства и с рассуждений
о началах тел, как это было принято в некоторых
тогдашних учебниках. Он подчеркивает, что именно
подобное неудачное изложение предмета приводит к тому,
„что едва хватает целого года, чтобы приучить ухо
к языку, глаз к приборам, и что немыслимо подгото-
вить химика меньше чем в три или четыре года".
Ртремясь „никогда не восполнять спешными заключе-
«Начальный, курс химии». О понятии элементов 291
ниями молчание фактов", он не включил в свой труд
ту часть химии, „которая наиболее способна со време-
нем стать точной наукой", а именно, вопросы хими-
ческого сродства и „избирательных притяжений".
„Отсутствие в начальном курсе химии главы о состав-
ных и элементарных частях тел неминуемо вызовет
удивление, но я позволю себе заметить, что стремление
считать все тела природы состоящими лишь из трех или
четырех элементов происходит от предрассудка, перешед-
шего к нам от греческих философов".
В этом вопросе курс Лавуазье принципиально отли-
чался от курсов Маке и Бомэ, где огонь, вода, воздух
и земля продолжали все еще служить основными эле-
ментами в соответствии с представлениями Эмпедокла
и Аристотеля, представлениями, созданными, по словам
Лавуазье, „воображением задолго до того, как появились
первые понятия экспериментальной физики и химии".
„Все, что можно сказать о числе и природе элемен-
тов, по моему мнению,—пишет Лавуазье, — сводится
к чисто метафизическим спорам; это неопределенные
задачи, допускающие бесчисленное множество решений,
из которых, по всей вероятности, ни одно, в частности,
не согласуется с природой. Итак, я скажу лишь, что
если названием элементов обозначить простые и недели-
мые молекулы, составляющие тела, то, вероятно, мы их
не знаем; если же, напротив, мы свяжем с названием
элементов или начал тел представление о последнем
процессе, достигаемом анализом, то все вещества, кото-
рые мы еще не смогли никаким способом разложить,
являются для нас элементами; но не потому, что мы
могли бы утверждать, что эти тела, рассматриваемые
нами, как простые, не состоят из двух или даже боль-
шего числа начал, но так как эти начала никак друг
от друга не отделяются, или, вернее, потому, что мы
>9*
292
Триумф новой химии
не имеем никаких средств их разделить, эти тела ведут
себя, с нашей точки зрения, как простые, и мы не должны
считать их сложными до тех пор, пока опыт или наблю-
дения не докажут нам этого".
Это определение элементов или простых тел, данное
Лавуазье, не является новым: впервые аналогичная фор-
мулировка была дана Бойлем. Затем Лемери в XVII в.
в своем „Курсе химии" писал: „Под началами понимают
в химии лишь те вещества, которые удалось разделить
и отделить, насколько способны это сделать наши сла-
бые усилия".1 Открытия, приведшие Лавуазье к его
новой теории, ясно показали справедливость такого рода
осторожной концепции. Опытные факты, добытые самим
Лавуазье, ясно показали, что любое тело, всеми при-
знанное сегодня за простое, может завтра, подобно воде
или воздуху, оказаться сложным и составным.
Далее Лавуазье кратко поясняет сущность метода,
выбранного им для номенклатуры различных веществ.
Простые тела получают простые наименования либо уже
существующие, либо новые, заимствованные, главным
образом, из греческого языка. „Что касается тел, обра-
зованных путем соединения нескольких простых веществ,
то мы их обозначили названиями сложными, как и сами
вещества". Лавуазье указывает, что некоторые названия
могут оказаться неблагозвучными, „но мы наблю-
дали, что ухо скоро привыкает к новым словам, осо-
бенно когда они связаны с рациональной системой.
Сверх того названия, применявшиеся до нас, как альга-
ротов порошок, алембротова соль, помфоликс, фагедени-
ческая вода, минеральный турпет, колькотар и многие
другие, ни менее грубы, ни менее необыкновенны".
Но эти названия случайны, не основаны на какой-либо
рациональной системе и потому трудно запоминаются*
1 М. Berthelot. La Rev>Jution chirnique, p. 146,
«Начальный курс химии». Предшественники не упоминаются 293
„Пожалуй, было больше оснований упрекать меня
в том, что я не дал в сочинении, предлагаемом публике,
исторического обзора взглядов моих предшественников",—
говорит Лавуазье. И он защищает тезис: „Из начального
курса не следует делать ни истории науки, ни истории
человеческой мысли; в нем должно добиваться лишь
доступности и ясности, в нем необходимо тщательно
избегать всего, что могло бы отвлекать внимание". Эта
позиция вряд ли вполне обоснована. История развития
понятий и представлений, лежащих в основе любой науки,
в конечном итоге является тем естественным вволю*
ционным путем, которым нередко идет человеческая
мысль при изучении предмета. Таким образом, истори-
ческий путь зачастую „более соответствует природе"
(выражаясь словами Лавуазье), чем любой другой.
А ведь именно он, как мы видели, искал такой системы
изложения, которая бы позволила неподготовленному
читателю наиболее простым и быстрым способом усвоить
основы науки.
„Из этого заключили, — говорит он, наме кая на упреки
по его адресу со стороны Пристли, Уатта и других,—
что я не всегда воздавал своим собратьям по науке, а еще
менее иностранным химикам, должную оценку... Химики,
впрочем, легко увидят, что в первой части я пользо-
вался почти только своими собственными опытами".
Далее он замечает, что ему приходится иногда прово-
дить, не называя источника, взгляды Бертолле, Фур-
круа, Лапласа и Монжа и „вообще тех, кто принял
те же принципы, что и я. Это следствие нашего общения,
взаимного обмена мыслями, наблюдениями, взглядами,
благодаря чему у нас установилась известная общность
воззрений, при которой нам часто самим бывает трудно
разобраться, кому что собственно принадлежит".
„Начальный курс химии" состоит из трех частей.
294
Триумф новой химии.
Первая часть „содержит принятую мною доктрину,
только ей одной я постарался придать действительно
простейшую форму".
Вторая часть „состоит, главным образом, из таблиц
названий нейтральных солей. Я приложил к ним лишь
самые краткие описания, имеющие целью ознакомить
с простейшим способом получения различных видов
известных кислот; в этой второй части нет ничего, что
принадлежало бы лично мне".
Это — компилятивная часть учебника.
„В третьей части, — продолжает Лавуазье, — я дал
подробное описание всех относящихся к современной
химии приемов. Появление подобного рода труда,
кажется, давно считалось желательным и, я думаю, что
он принесет известную пользу. В общем приемы хими-
ческих опытов, а в особенности опытов современных,
распространены далеко недостаточно... Легко заметить^
что эта третья часть не могла быть заимствована
из каких-либо сочинений и что в основных ее разделах
мне оказал помощь только мой собственный опыт".
К учебнику приложено, наконец, небольшое число
таблиц, необходимых при экспериментах и расчетах
(пересчет унций, драхм и гран в десятичные доли фунта,
удельные веса различных веществ и т. п.).
Следует добавить, что в двухтомном первом издании
(1789) „Курса" Лавуазье первая и вторая части зани-
мают первый том, а третья часть почти нацело зани-
мает второй том. Таким образом, центр тяжести „Курса"
лежит фактически именно в третьей части, в руко-
водстве к постановке химических опытов на основе
физических методов и воззрений с помощью замечатель-
ных аппаратов и приспособлений, разработанных, глав-
ным образом, Лавуазье и его сотрудниками. Таким
образом, первая часть — описание образования хими-
«Начальный курс химии». Содержание
295
ческих соединений, с точки зрения новых открытий
Лавуазье, дающее путеводную нить для изучающего
химию, и вторая часть „Курса" — таблицы соедине-
ний, расположенные в систематическом порядке, служат
как бы введением к третьей части. Физико-химические
таблицы в конце второго тома являются приложением
к третьей части.
Первая часть „Курса" трактует об образовании воз-
духообразных флюидов и о их составе, о горении про-
стых тел и об образовании кислот.
Изложение начинается с общих представлений
об агрегатных состояниях. Лавуазье указывает, что
в твердом состоянии молекулы удерживаются на своих
местах благодаря силам притяжения, превосходящим
силы отталкивания; в жидком состоянии молекулы
настолько удалены друг от друга, что „они оказываются
вне сферы действия сил притяжения", и силы отталки-
вания оказываются равными силам притяжения. По мне-
нию Лавуазье, лишь атмосферное давление удерживает
жидкости от превращения их в газ.
В газообразном состоянии „молекулы подчиняются
силам отталкивания, вызванным теплотой". Силы оттал-
кивания приписываются действию „чрезвычайно упругого
флюида", именуемого теплородом.
„Курс" Лавуазье является первым учебником, где
вместо представления о постоянных твердых телах, жид-
костях и газах вводится представление об агрегатных
состояниях. Эти представления иллюстрируются обстоя-
тельным описанием опытов над превращением спирта
и эфира в газообразное состояние.
Далее излагается представление о теплоемкости,
измеряющей „способность тел содержать в себе материю
тепла", зависящую „от формы молекул, от их размеров
и от расстояния между ними, определяемого соотноше-
296
Триумф новой химии
нием между их взаимными силами притяжения и силой
отталкивания, вызванной теплородом".
Затем Лавуазье переходит к вопросу об образовании
атмосферы путем испарения различных жидкостей.
Очень подробно излагаются опыты по анализу и син-
тезу атмосферного воздуха, причем приводятся коли-
чественные данные содержания в воздухе кислорода
и азота. При этом Лавуазье подробно останавливается на
этих новых названиях, а также, следуя примеру Бургаве,
заменяет воздухообразные флюиды термином „газ".
Глава V этой первой части курса носит странное назва-
ние — „О разложении кислородного газа серой, фосфо-
ром и углем и об образовании кислот в общем случае".
„Основной принцип, который нельзя нигде терять
из виду в искусстве производства экспериментов — это
необходимость их упрощать, насколько это представ-
ляется возможным, и исключить из них все те обстоя-
тельства, которые могут осложнить результат", — так
начинает Лавуазье эту главу, в которой подробно изла-
гаются опыты над горением серы, фосфора и угля
и образованием ангидридов. При этом даются все коли-
чественные соотношения. Странное обозначение этого про-
цесса, как разложение кислородного газа, объясняется тем
обстоятельством, что газообразный кислород рассматри-
вается Лавуазье в качестве сложного тела, соединения
„кислородного начала" с некоторым количеством тепло-
рода. Во время горения, например, фосфора „фосфор раз-
лагает кислородный газ, захватывает его основу, и тепло-
род, становящийся при этом свободным, улетучивается и
рассеивается, распределяясь между окружающими телами".
Изложив таким образом теорию образования кислот
(вернее, ангидридов), Лавуазье точно таким же путем
излагает „разложение кислородного газа металлами"
и объясняет состав металлических окислов.
(Начальный курс химии». Содержание
291
Далее Лавуазье переходит к рассмотрению воды,
подробно описывая свои опыты по ее разложению
и синтезу.
Рассмотрение всех этих процессов горения и окисле-
ния сопровождается затем описанием термохимических из-
мерений и их результатов. Лавуазье подчеркивает, что эти
численные результаты еще недостаточно точны и, вероятно,
потребуют исправлений. „Когда изыскиваешь элементы
новой науки, — заключает он, — трудно не начинать с при-
ближенных данных, и редко случается, что удается с са-
мого начала довести их до крайнего совершенства".
Затем Лавуазье постепенно усложняет задачу: он
рассматривает взаимодействие между различными веще-
ствами, обладающими неодинаковым сродством к кисло-
роду, и переходит к кислотам и окислам органической
химии. В последующих главах кладутся основы элемен-
тарного анализа органических соединений. Затем подроб-
нейшим образом, с количественными данными, излагается
сущность процессов брожения, ферментации и гниения.
Здесь закладывается фундамент грандиозного здания
как органической, так и биологической химии.
В конце первой части рассматривается вопрос о щело-
чах и о тех веществах, которые способны образовывать
соли. Шаг за шагом, постепенно Лавуазье подходит
к вопросу о простых телах — элементах.
Таким образом, в первой части „Курса" Лавуазье
излагает все свои основные открытия и излагает их, как
всегда, мастерски. Постепенно, шаг за шагом, руковод-
ствуясь железной логикой, он вводит читателя в круг пред-
ставлений своей новой „пневматической" химии.
Проф. С. А. Погодин справедливо обратил внимание
на то, как постепенно и осторожно подходит Лавуазье
в своем учебнике к утверждению принципа сохранения
материи. Сначала в опытах над горением фосфора,
298
Триумф новой химии
Лавуазье вводит лишь „предположение*, что вес про-
дукта горения равен сумме весов кислорода и фосфора,
но так как „в физике и химии никогда непозволительно
предполагать то, что можно определить прямыми опы-
тами*, то он доказывает сраведливость предположения
в данном частном случае и добавляет, что „это было
легко предвидеть a priori".
Рассматривая далее процессы горения алкоголя
и показывая, как из шестнадцати унций его образуется
от семнадцати до восемнадцати унций воды, Лавуазье
восклицает: „Однако никакая материя ни в одном экспе-
рименте не может сама ничего добавить к своему перво-
начальному весу; для этого требуется, чтобы к ней
прибавилась другая субстанция".
И, наконец, уже в конце первой части „Курса"
Лавуазье дает законченную формулировку принципа.1
„Ничто не творится ни в искусственных, ни в природных
процессах, и можно принять в качестве принципа, что
во всякой операции количество материи одинаково
до и после операции, что качество и количество начал1 2
остаются теми же самыми, что происходят лишь пере-
мены, видоизменения**. Лавуазье вводит, таким образом,
не только закон сохранения материи, но и закон со-
хранения элементов при химических реакциях. Он продол-
жает: „На этом принципе основано все искусство экспе-
риментирования в химии; необходимо предполагать суще-
ствование настоящего равенства или одинаковости между
составными началами исследуемых тел и началами,
извлеченными из них посредством анализа".
Мы уже указывали, что всеобщий закон сохранения
вещества и движения был открыт М. В. Ломоносовым
1 Oeuvres, t. I, р. 101.
2 Т. е. простых тел— элементов.
Всеобщий закон Ломоносова и принцип Лавуазье 299
и сообщен им в письме к Эйлеру в 1748 г.; он был впер-
вые опубликован в 1760 г. Естественно возникает вопрос,
мог ли знать Лавуазье о формулировке Ломоносова.
Известно, что соответствующее сочинение Ломоносова
„Размышления о твердости и жидкости", произнесенное
на торжественном заседании Академии Наук 6 сентября
1760 г., было издано двумя отдельными изданиями:
на русском и на латинском языках. Латинское издание
было выпущено в четыреста двенадцати экземплярах;
часть экземпляров, как правило отправлялась заграницу.
Не подлежит никакому сомнению, что это издание
должно было иметься и имелось в Париже. И, следова-
тельно, Лавуазье мог о нем знать. Но мало того.
Известно, что эта речь Ломоносова была посвящена
открытию замерзания ртути, сделанному русским акаде-
миком И. А. Брауном в 1757 г. Речь Брауна по этому
вопросу была им произнесена на том же заседании
6 сентября 1760 г. и была также издана на русском
и латинском языках. В 1767 г. секретарь французского
посольства в С.-Петербурге Шарль Голлар-де-Содрэ
опубликовал во Франции мемуар об этих работах рус-
ских ученых.1 Не подлежит сомнению, что де-Содрэ
знал о речах Брауна и Ломоносова и, очевидно, поль-
зовался их латинскими изданиями. Де-Содрэ вскоре после
того вернулся во Францию. Известно, что он нахо-
дился в дружбе с Лавуазье и играл политическую роль
вблизи Лавуазье с первых дней Революции (об этой
роли расскажем позднее). От него мог тем более узнать
Лавуазье о сочинении Ломоносова.
Таким образом по всей вероятности Лавуазье знал
о законе Ломоносова. Однако открытие принципа сохра-
1 „Мемуар о первом опыте замораживания ртути в С.-Петер-
бурге*. („Memoire sur la premiere experience de la congelation de mer-
cure a St.-Petersbourg“).
306
Триумф новой химии
нения материи, о котором идет речь в „Начальном курсе
химии" Лавуазье, не может быть приписано ни Ломоно-
сову, ни Лавуазье. Этот принцип, уже известный древним
философам, был в отчетливом виде сформулирован и
и Бэконом и Мариоттом в XVII столетии. Между тем
всеобщий закон сохранения материи и движения не выска-
зывался никем до Ломоносова. И если Лавуазье действи-
тельно знал о законе Ломоносова, то он, как видно, его
недооценил.
В самом деле так называемый принцип Лавуазье
далеко не имеет ни той философской глубины, ни той
уверенности, которой отличается всеобщий закон Ломо-
носова: „Все перемены, в натуре случающиеся, та-
кого суть состояния, что сколько чего у одного тела
отнимется, столько присовокупится к другому. Так,
ежели где убудет несколько материи, то умножится
в другом месте; сколько часов положит кто на бдение,
столько же сну отнимет. Сей всеобщей естественной
закон (naturae lex universalis) простирается и в самые
правила движения: ибо тело, движущее своей силой дру-
гое, столько же оныя у себя теряет, сколько сообщает
другому, которое от него движение получает".
Таким образом, Ломоносов впервые дал обобщенный
закон, охватывающий сохранение материи, движения и даже
времени. Следует подчеркнуть, что закон Ломоносова
говорит не о сохранении „количества движения" (mv), а
о сохранении „живой силы" (mv2).
Формулировка Лавуазье много уже, чем формули-
ровка Ломоносова, речь у него идет только о сохранении
материи, которое... „можно принять в принципе". Ла-
вуазье ввел в дополнение к принципу сохранения материи
принцип сохранения элементов, который, как мы уже
видели, принимался Ломоносовым за аксиому. Поэтому
Ломоносов не подчеркнул „постоянства корпускул".
«Начальный курс химии». Таблица простых тел
30/
В свэем „Курсе" Лавуазье приводит таблицу этих про-
стых тел, которую мы и воспроизводим в переводе.
Простые вещества
свет,
Простые вещества, которые при-
надлежат к трем царствам природы
и которые можно рассматривать
в качестве элементов тел:
Простые вещества неметалличе-
ские, окисляемые и кислотообра-
зующие:
Простые вещества металлические,
окисляемые и кислотообразующие:
Простые вещества землистые, со-
леобразующие:
теплород,
кислород,
азот,
водород.
сера,
фосфор,
углерод,
муриевый радикал (хлор),
плавиковый радикал (фтор)
борный радикал (бор).
сурьма,
серебро,
мышьяк,
висмут,
кобальт,
медь,
олово,
железо,
марганец,
ртуть,
молибден,
никель,
золото,
платина,
свинец,
вольфрам,
цинк.
известь,
магнезия,
барит,
глинозем,
кремнезем.
302
Триумф новой химии
Среди простых тел, приводимых Лавуазье, фигури-
руют, во-первых, „свет и теплород", хотя они никак не
удовлетворяют определению простых тел, данному им
в предисловии к „Курсу": „гипотетическая и невесомая
материя света", а также и „материя тепла" — вовсе не
были выделены. При этом, однако, Лавуазье добавляет,
что „мы вовсе не обязаны даже предполагать, что тепло-
род есть реальное вещество, достаточно..., чтобы это
была лишь какая-нибудь причина1 отталкивания, раз-
двигающая молекулы".
Таким образом, в своих рассу ждених Лавуазье
скатывается к самой старой теории „теплорода",
что уже в свое время отметила Э. Метцгер.2
В данном случае Лавуазье возвращается к наиболее
схоластической форме теории элементов. В самом деле,
он, с одной стороны, называет „теплород" началом
(элементом), а с другой — говорит, что это может и не быть
веществом. В схоластических теориях элементы играли
роль качеств, а не веществ. „Теплород" в данном случае
оказывается свойством раздвижения молекул. Подобный
„атавизм" у такого выдающегося ученого, как Лавуазье,
свидетельствует лишь о том, как постепенно преодоле-
ваются человеческим сознанием установившиеся воз-
зрения.
Напомним, что позиция Ломоносова в этом вопросе была
принципиально отличной и гораздо более передовой,чем
позиция Лавуазье. Отсталые взгляды Лавуазье на природу
теплоты, проходящие красной нитью, как мы видели,
через все его сочинения, на которых воспитывались
впоследствии поколения физиков и химиков, сыграли,
1 Разрядка моя. — Я. Д.
9 Н. Metzger. La philosophic de la matiere chez Lavoisier.
Париж. 1935 r.
«Начальный курс химии». Пережитки схоластики 303
вероятно, немалую роль в задержке развития молекуляр-
но-кинетической теории в Западной Европе и особенно
во Франции.
Лавуазье относит к простым телам не только веще-
ства, признанные современной наукой за элементы, но
и магнезию, барит, кремнезем и глинозем. Однако он
добавляет: „Можно ожидать, что эти земли вскоре пере-
станут причисляться к числу простых веществ; они —
единственные из всего данного класса веществ,1 которые
не имеют охоты соединяться с кислородом, и я
весьма склонен думать, что эта индифферентность по
отношению к кислороду, ежели мне дозволено вос-
пользоваться таким выражением, происходит оттого,
что они уже сами по себе насыщены кислородом. Земли,
рассматриваемые с такой точки зрения, могли бы ока-
заться окислами, т. е. простыми телами, уже окисленными
до известной степени*.
Далее он указывает, что им не внесены в таблицу
еще не разложенные элементы — едкое кали и едкий
натр, которые являются, по его мнению, заведомо слож-
ными телами, хотя еще неизвестно, из чего они состоят.
Во второй части „Курса* мы видим, в сущности, всю
номенклатуру сложных веществ. Сложные вещества, со-
стоящие из двух простых веществ, получают наимено-
вание, состоящее из двух слов; одно из них указывает
на принадлежность данного „индивида* к определенному
классу или роду, другое указывает, к какому виду при-
надлежит данный представитель рода {серная кислота,
азотная кислота и т. п,). Видовое прилагательное обра-
зовано от названия радикала — азот, сера и тому подоб-
ное— с окончанием -ique (по-русски -ная). Для менее
насыщенных кислородом веществ окончание -ique заме-
1 Т. е. простых веществ.
304
Триумф новой химии
нено ~еих (по-русски ’истая), например, сернистая кис-
лота.
В общем, наша современная химическая номенклатура
почти не отличается от номенклатуры, введенной Лавуазье
и его коллегами.
Среди нововведений номенклатуры в „Курсе" Лавуазье
имеется новое название для газа, названного ранее мефи-
тическим флюидом. Он именуется азотом, т. е. безжизнен-
ным, причем это название производится от греческого
слова Сот] — жизнь. Между тем слово „азот" заимство-
вано из алхимии и вовсе не греческого происхождения.
Лавуазье и его сотрудники включили в свою номенкла-
туру „азот" и приписали этому слову не тот смысл,
какой оно фактически имело.
Во второй части „Курса" Лавуазье, между прочим,
отмечает, что работа его была облегчена возможностью
использования материалов, собранных Гитоном-де-Морво
в „Методической энциклопедии". „В противном случае, —
говорит Лавуазье,—мне пришлось бы с большим трудом
справляться по иностранным трудам и притом на их ори-
гинальных языках". Таким образом выясняется, что Ла-
вуазье слабо владел иностранными языками.
Третья часть „Курса химии" представляет собою
изумительно ясное, четкое практическое руководство
по технике эксперимента. Каждый аппарат или прием
рассматривается подробно и совершенно конкретно.
В каждом слове чувствуется блестящий экспериментатор,
сам лично переживший, прочувствовавший трудности
исследования, экспериментатор, для которого каждая де-
таль процесса работы есть важная и существенная по-
дробность, обусловливающая однозначность результатов,
их высокую точность.
Мы не можем здесь подробно останавливаться на
всех описаниях методики. Отметим лишь для примера
Усовершенствованный газометр.
Рисунок Марии Лавуазье из „Начального курса химии".
В тексте Лавуазье пишет (часть II, глава I, § 11): „Само название инструмента показывает, что он пред-
назначен для измерения объема газов. Он состоит из большого коромысла весов длиною в 3 фута
DE (фиг. 1), изготовленного из железа и очень прочного. На каждом конце DE прочно укреплены также
железные полукруги. Это коромысло покоится не на лезвии, как в обычных весах, а на стальной
цилиндрической оси (фиг. 9), которая опирается на два подвижных ролика; таким способом удалось
значительно уменьшить сопротивление, которое могло бы служить препятствием свободному движе-
нию машины, поскольку трение первого рода здесь превращено в трение второго рода. Эти ролики
изготовлены из желтой меди и имеют большой диаметр; были приняты меры предосторожности,
и острия, которые несут на себе ось коромысла, были снабжены пластинками из горного хру-
сталя. Весь этот подвес установлен на прочной деревянной колонке ВС (фиг. 7). К концу D коро-
мысла подвешена платформа весов Р, предназначенная для гирь. Цепь, будучи плоской, ходит на пери-
ферии nDo вдоль особо сделанной для этой цели канавки. К другому концу привешена также плоская
цепь ikm, которая по своей конструкции не может уже ни удлиняться, ни укорачиваться под нагрузкой.
К этой цепи прочно прикреплена в i железная скоба с тремя отводами (аг, ci, hi), несущая большой коло-
кол А из кованой меди диаметром в 18 дюймов и около 20 дюймов высотой... Колокол, или воздушный
резервуар, погружен в цилиндрический сосуд LMNO также из меди, доверху наполненный водой.
От середины цилиндрического сосуда LMNO отходят перпендикулярной нему две трубки... Одна...
соединяется с верхней частью колокола V через посредство крана 4. Этот колокол расположен на столике
небольшого чана GHIK, обитого свинцом. Вторая трубка... ведет под колокол V. Первая трубка предна-
значена для того, чтобы вводить газ в прибор, вторая позволяет делать опыты под колоколами. Третья
трубка 12, 13, 14, 15 предназначена для того, чтобы отводить воздух или газ на такое расстояние,
которое признано желательным. Четвертая трубка позволяет получить количество воздуха, которое строго
отмечено весом столба воздуха".
«Начальный курс химии». Техника эксперимента
305
вопрос о весах. Лавуазье пишет: „Недостаточно иметь
превосходные весы, надо их предварительно изучить,
надо уметь ими воспользоваться, к этому приходишь
не иначе, как после долгой работы с аппаратами или
же с долгим их использованием, а также с большим
вниманием ".
При пользовании весами, Лавуазье впервые указывает,
что у него в лаборатории имеются трое исключитель-
ных по своей точности весов. Большие весы при на-
грузке около 10 кг допускали взвешивание с точностью
до 20 мг. Средние при нагрузке 600 г были чувстви-
тельны до 5 мг и малые весы при нагрузке 4 г позволили
определять вес с точностью до 0.1 мг. Эти для своего вре-
мени удивительной точности весы, хранившиеся в семей-
ном музее Лавуазье, в 1879 г. описал Трюшо,1 который
отметил их превосходную конструкцию и тонкость изго-
товления.
Любопытен в третьей части „Курса" отдел замазок.
Лавуазье подчеркивает, что от манеры замазывания, от
терпения, от точности, которая осуществляется при
этом исследователями, зависят все успехи современной
химии.
С удивительной тщательностью описана вся методика
пользования калориметром. Далее „пневматический
аппарат", изобретенный Лавуазье для постоянного под-
держания газового давления, получил в его „Курсе"
впервые название „газометра", которое он и сохранил по
сей день.
Таков в общих чертах „Начальный курс" Лавуазье,
отмечающий собой новую веху в развитии химии.
В чем заключается сущность этого нового этапа?
1 Truchot Annales de chimie et de physique. Vol. XVIII,
1879, p. 295.
20 Дорфман
306
Триумф новой химии
В чем его основное отличие от предшествующей
эпохи?
В „Курсе" Лавуазье последовательно осуществляется
завет Бойля о том, чтобы химия опиралась на физику.
В этом отношении единственным предшественником „На-
чального курса" Лавуазье является дошедший до нас
лишь в отрывках „Курс истинной физической химии"
М. В. Ломоносова, написанный им в 1753—54 гг. Лавуазье
мобилизует основные достижения теоретической и экспе-
риментальной физики своего времени для дальнейшего про-
гресса химии.
В первой части „Курса", которая может быть на-
звана теоретическим введением, вводятся новые представ-
ления об агрегатных состояниях и красной нитью
проводится в жизнь ньютоновское определение массы
как мерила количества вещества. На это определение
опирается закон сохранения количества вещества, из ко-
торого исходит во всех своих заключениях Лавуазье.
К этим новым физическим понятиям он добавляет хими-
ческий закон сохранения количества первичных элемен-
тов, причем впервые создается новая схема этих элемен-
тов или простых тел.
Так воздвигается здание новой химии, резко отлич-
ной от химии флогистической, хотя, как мы уже
указывали, пережитки схоластики в известной форме
сохраняются. Лавуазье снаряжает эту химию новой
классификацией, номенклатурой, позволяющей легко раз-
бираться в составе любых сложных веществ. Вместе с тем,
он вооружает химию грандиозным арсеналом точных коли-
чественных физических методов экспериментирования,
открывая, таким образом, перед химиками новые пути ис-
следования. Благодаря этому обстоятельству созданная им
схема химии получает новые жизненные возможности
к дальнейшей быстрой эволюции.
Решающая роль физики 30?
„Неизбежный эффект того совершенства, к которому
начинает приближаться химия, — говорит он, — требует
сложных и дорогих инструментов и аппаратов".
Он намечает путь как количественного анализа и
синтеза, так и количественной термохимии. Показывая
блестящие примеры применения такого принципа в раз-
личных частных случаях, он не в силах распространить
его на все многообразие объектов химии. Он неодно-
кратно подчеркивает, что своим „Курсом" намерен при-
влечь внимание и усилия огромной армии химиков
и особенно молодых ученых к решению этой непосиль-
ной для него одного задачи. Вот почему он вынужден
во второй части „Курса" ограничиться лишь качествен-
ной классификацией химических соединений.
Лавуазье не суждено было ни сделать самому сле-
дующий шаг, ни быть его свидетелем и участником.
Это сделал Ж. Л. Пруст (1755—1826), в самом начале
XIX в. открыв закон постоянства состава.
В схеме, созданной Лавуазье, отсутствует основная
черта современной хи\ши — атомный состав химических
соединений, химическая молекула. Этот переворот в химии
был создан — Дж. Дальтоном (1766—1844), открывшим
закон кратных отношений. Однако Лавуазье ясно пони-
мал, что „наступит день, когда станет известной... форма
элементарных молекул" и „количество радикалов".
Для оценки значения и сущности „Начального курса
химии" небезинтересно обратиться также к отзывам
современников о нем. Во Франции такого рода отзывы
были даны Академией Наук, Королевским медицинским
обществом и Обществом сельского хозяйства. Наиболь-
ший интерес представляет отзыв, блестяще написанный
Фуркруа для Королевского медицинского общества.1
1 Oeuvres, t. I, р. 417.
20*
308
Триумф новой химии
Приведем некоторые характерные выдержки из
него.
„Физики и все те, кто занят изучением натураль-
ной философии, знают, что именно опытам Лавуазье
обязана химия революцией, которую она претерпела
несколько лет тому назад. Едва лишь Блэк сообщил
почти 20 лет тому назад о летучем веществе, смягчаю-
щем известь и щелочи, которое до того ускользало от
исследований химиков, едва лишь г. Пристли сообщил
о своих первых опытах над связанным воздухом и над
тем, что он называл различными видами воздуха, как
г. Лавуазье, который в это время был занят главным
образом внесением точности и прецизионности в хими-
ческие опыты, предпринял обширный план повторения
и вариирования всех экспериментов этих двух знамени-
тых английских физиков, дабы развить с неутомимым
усердием новую линию исследования, размах которой
он уже тогда предвидел. Он прежде всего осознал, что
искусство проведения действительно полезных опытов,
могущих способствовать прогрессу науки анализа, заклю-
чается в том, чтобы ничему не дать ускользнуть, все
собрать, все взвесить..."
Отмечая, что Лавуазье изобрел новые аппараты для
изучения самых разнообразных химических процессов,
Фуркруа указывает:
„Мы ограничимся напоминанием, что именно благо-
даря этим методам, с помощью, так сказать, нового чув-
ства, которое он прибавил к тем, которые физики уже
имели, г. Лавуазье удалось достигнуть новых истин и
новой доктрины... Эти остроумные инструменты, этот
экспериментальный метод, столь точный и столь отлич-
ный от методов, применявшихся ранее химиками, стали
с 1772 г. в руках г. Лавуазье и физиков, шедших по
одному с ним пути, плодотворным источником открытий.
Успех «Курса» за границей. Новая химия в России
309
„Г. Лавуазье — автор большей части этих открытий
и той простой и просветляющей теории, которую они
создали, задался целью связать между собою в новом
чередовании эти новые истины и представить ученым,
а также тем, кто собирается ими стать, всю совокупность
своих работ
Характерно, что ни один из рецензентов того вре-
мени не обратил внимания на приписываемые Лавуазье
законы сохранения вещества и сохранения элементов,
на которых, как мы видели, основаны все баз исключе-
ния его выводы. Да и он сам никогда не претендовал
на честь их открытия.
III
„Начальный курс" Лавуазье имел огромный успех.
Уже в 1789 г. вышел второй тираж первого издания.
В бурный 1793 г. появилось второе издание, вышедшее
без разрешения автора и названное им поэтому „укра-
денным". А в 1801 г. появилось третье посмертное
издание. Учебник был переведен на языки: английский
(1790), голландский (1789), итальянский (1791), немецкий
(1792).
Замечательный английский физик и химик Дж. Блэк
в 1791 г. писал Лавуазье о тзм, что он отныне обучает
своих учеников химии на основе его „Курса".
Серьезные препятствия встретила теория Лавуазье
в некоторых кругах Германии. „Патриотическая ярость"
сторонников Шталя здесь была так велика, что они
публично сожгли в Берлине портрет Лавуазье.
Впрочем, замечательный немецкий химик М. Г. Клапрот
уже в 1792 г. стал убежденным сторонником Лавуазье.
В России популяризация взглядов Лавуазье прово-
дилась в С.-Петербурге академиком Я. Д. Захаровым
10
Триумф новой химии
(1775—1826) в его публичных лекциях. Широко популя-
ризируя в своем учебнике и в своих лекциях теорию
Лавуазье, академики В. М. Севергин и Я. Д. Захаров
углубляли ее и разрабатывали русскую химическую но-
менклатуру.1 Тщательную экспериментальную проверку
некоторых основных положений „антифлогистического
учения" „бессмертного Лавуазье" произвел в 1797—
1800 гг. выдающийся русский физик В. В. Петров, опи-
савший эти опыты в своем „Собрании физико-химических
новых опытов и наблюдений" (ч. 1-я, СПб., 1801).
В. В. Петров всемерно способствовал утверждению и рас-
пространению новой химии в России.* 2
г С. А. Погодин. Успехи химии, т. XII, вып. 5, 1943.
2 „Академик В. В. Петров". Сб. статей и матер, под ред. акад.
С. И. Вавилова, М. — Л., 1940.
Глава XII
ФИЗИКА И ХИМИЯ ЖИЗНЕННЫХ ПРОЦЕССОВ
Изучение природы животного тепла. — Доклад Лавуазье в Медицин-
ском обществе. — Анализ состава воздуха в зале Французской коме-
дии.— Размышления о вентиляции помещений для собраний. — Ис-
следования Лавуазье и Сегэном процессов транспирации и дыхания.—
Открытие количественной связи между работой человека и количе-
ством вдыхаемого кислорода.—Социальные веяния Революции. —
Отзыв И. М. Сеченова о физиологических работах Лавуазье, — Фи-
лантропическое обследование больниц и тюрем комиссией Академии
Наук. — Мысли Лавуазье о зд о воо-ранении. — Медицина в свете
физических наук.
I
Как мы видели, в работах Лавуазье о природе горе-
ния было, между прочим, показано, что основная сущ-
ность дыхания животных заключается в превращении
вдыхаемого кислорода в углекислый газ. Этот опытный
факт наводил его на мысль о том, что процесс дыхания
представляет собою своего рода аналог процессу медлен-
ного горения. Отсюда вытекало предположение что про-
цесс дыхания является источником тепла живых орга-
низмов.
Опытная проверка гипотезы была произведена им
совместно с Лапласом и описана в последней части
мемуара „О теплоте", о котором мы говорили в одной
312
Физика и химия жизненных процессов
из предыдущих глав. Схема опытов заключалась в сле-
дующем:
Во-первых, под колокол пневматической установки
помещалась в обычной атмосфере морская свинка
и определялось количество углекислого газа, выделяемое
ею на протяжении десяти часов. Среднее значение,
полученное из различных опытов, оказалось равным
224 гранам.
Во-вторых, морская свинка помещалась в ледяной
калориметр и определялось количество теплоты, выде-
ляемое ею в продолжение тех же десяти часов. Это
количество тепла измерялось по весу расплавленного
льда. Среднее значение веса расплавленного льда из
нескольких опытов оказалось равным 13 унциям 1 драхме
.13.5 гранам.
В-третьих, измерялась в ледяном калориметре теплота
образования углекислого газа при сгораний угля.
Оказалось, что образование 224 гран СО2 приводит
к расплавлению 10.38 унций льда (современные термо-
химические данные приводят к 10.42 унций).
Учитывая погрешность опытов, авторы признали
„тепло, выделяющееся при превращении чистого воздуха
в связанный воздух, через посредство дыхания, глав-
ной причиной сохранения животного тепла... Значит,
дыхание есть горение, правда медленное, но все же
вполне подобное горению угля; оно совершается внутри
легких, не выделяя значителэного света, так как освобо-
жденная огненная материя тотчас же поглощается влагой
этих органов: тепло, развившееся в этом горении, пере-
дается крови, протекающей через легкие, и отсюда рас-
пространяется по всему животному организму...
„Таким образом, — заключают Лавуазье и Лаплас,—
воздух, которым мы дышим, служит двум целям, одина-
ково необходимым для нашего сохранения; он удаляет
Изучение природы животного тепла
313
из крови основу углекислоты, избыток которой был бы
весьма вредным; а тепло, которое это соединение пере-
дает легким, восстанавливает непрерывную потерю тепла,
вызываемую атмосферой и окружающими телами.
„Метод, приведший нас к этому результату, не за-
висит ни от какой гипотезы, и в этом его основное пре-
имущество".
В конце мемуара авторы ставят вопрос: почему же
в разных условиях животные сохраняют примерно одну
и ту же температуру? Они высказывают предположе-
ние, что это объясняется двумя факторами: во-первых,
испарением влаги с поверхности тела и, во-вторых, пере-
дачей тепла от легких к конечностям животного. Авторы
отвечают, что для более глубокого понимания этой сто-
роны вопроса придется выждать, пока „анализ, разъяснен-
ный большим количеством опытов, позволит нам узнать
законы распространения тепла в однородных телах и за-
коны его перехода между разнородными телами".
Таким образом, Лавуазье и Лаплас предполагали
поставить специальное исследование законов теплопро-
водности и теплопередачи, исследование, которое должно
было, очевидно, расширить теорию, данную в свое время
Ньютоном. Однако это исследование ими проведено не
было.
II
Таковы были фундаментальные результаты по теории
дыхания, достигнутые Лавуазье (отчасти совместно с Лап-
ласом) примерно к 1783 г.
В 1785 г. в „Сборнике медицинского общества"
появился мемуар Лавуазье (не вошедший в его собрание
сочинений). В этом мемуаре он делает дальнейший шаг
в области теории дыхательных процессов. Отмечая,
314
Физика и химия жизненных процессов
во-первых, что количество тепла, выделяемое животным,
всегда несколько превосходит то количество тепла,
которое соответствовало бы образовавшейся углекислоте;
во-вторых, что в выдыхаемом воздухе содержится всегда
гораздо больше паров воды, чем в нем имелось до вдыха-
ния, автор высказал уверенность, что „дыхание не огра-
ничивается лишь сгоранием угля, но вызывает также
сгорание части водорода, содержащегося в крови".
И замечательно, что, открыв физико-химическую сущ-
ность дыхания, он немедленно попытался извлечь из теоре-
тических данных практические выводы. Таков был склад
его ума, таковы были его обычные методы работы во
всех областях знания.
Уже в 1785 г. Лавуазье выступил с докладом перед
Медицинским обществом (доклад был опубликован лишь
в 1793 г. в „Собрания мемуаров" с небольшими изме-
нениями) на тему „Изменения, которые испытывает выды-
хаемый воздух".1
Описав вначале открытие состава атмосферы, он
указал, что примерно три четверти состава воздуха за-
нимает азот (в 1793 г. „мефитический флюид" уже име-
новался азотом), а четверть — „живительный воздух"
т. е. кислород. Автор также сообщил о присутствии
в воздухе смеси различных веществ, способных перехо-
дить в газообразное состояние при обычных температурах
и давлениях.
„Таковы познания относительно состава воздуха, ко-
торым мы дышим, сообщаемые медицине физикой и химией.
Но каковы изменения, происходящие в этом самом воз-
духе при различных жизненных обстоятельствах? Каково
их воздействие на органы дыхания? Какое расстройство
может из этого возникать в животном организме? Каковы
1 Oeuvres, t. II, р. 676.
Доклад в медицинском обществе
315
пути их предупреждения и лечения? — Вот результат пред-
принятой мною работы, о котором я сообщу в несколь-
ких мемуарах".1
Затем Лавуазье сообщил о результатах исследования
изменения воздуха в процессе дыхания и обратился
к практическим выводам:
„Поскольку атмосферный воздух может поддерживать
жизнь вдыхающих его животных лишь впродолжение
определенного времени, так как он изменяется по мере
дыхания, можно заключить, что в зрительных залах,
в местах публичных собраний, в палатах госпиталей, во
всех местах, где собирается большое количество людей,
здоровое состояние воздуха должно более или менее
ухудшаться, в особенности, если воздух в них циркули-
рует медленно и с трудом".
Лавуазье доложил о произведенных им анализах
проб воздуха, взятых поутру в наиболее низких
и нездоровых палатах госпиталя. Пробы брались как
внизу у пола, так и вверху под потолком. Оказалось,
что внизу в воздухе содержится лишь 23.5% кислорода
и 1.5% углекислого газа. Под потолком содержание
кислорода снизилось до 22%, а содержание углекислого
газа достигло 3%. Аналогичные опыты были произвел
дены во Французской комедии в зале Тюильрийского
дворца.
„Можно себе представить, что эта вторая часть моего
исследования не могла быть выполнена без некоторых
хлопот и некоторых затруднений: малейшее происшествие,
малейшее необычайное движение вызвало бы сенсацию
в партере и неминуемо помешало бы спектаклю; я по-
этому ограничился тем, что за несколько минут до окон-
чания последнего действ <я пробрался к выходу, поме-
1 Ibidem, р. 678.
316
Физика и химия жизненных процессов
стился около сторожа, которого я заранее предупредил,
и наполнил воздухом склянку".
Но результат был неудачен, так как проба была
взята слишком близко к выходу. Зато проба воздуха, взятая
под потолком, показала кислорода 21%, углекислого
газа 2.5%. Лавуазье указал, что следовало бы подвести
к помещениям специальные трубки „из жести" и таким
способом осуществить детальное исследование этого
вопроса. „Такого рода исследование не может быть
выполнено без согласия правительства; из него бы
неминуемо были получены ценные сведения относительно
конструкции зрительных зал, госпиталей и всех тех мест,
где публика скапливается в больших количествах".
Он обратил внимание на то, что в таких помещениях
происходит, благодаря нагреванию, конвекция воздушных
масс, чем и вызвано ухудшение состава воздуха в верх-
них слоях и поступление свежего воздуха снизу. „Эта
циркуляция существует в большей или меньшей степени
во всех залах, часто даже вопреки архитектору, руководив-
шему постройкой,— сказал Лавуазье. — Без нее, без
вызванного ею обновления воздуха, зрители должны
были бы подвергаться печальным происшествиям, еще
прежде даже чем закончится спектакль". И он подсчи-
тал, что в зале длиною в тридцать футов, шириною
в двадцать пять и высотою в тридцать футов, вмещаю-
щем около тысячи зрителей, последние, вероятно, умерли бы
задолго до конца спектакля, если бы не было естествен-
ной вентиляции. Распространяя свои вычисления на низ-
кие и обычно мало приспособленные залы собраний,
каким, например, был зал заседаний Академии Наук
в Лувре, Лавуазье отметил, что затрудненностью дыха-
ния объясняется наступающее примерно через три часа
„машинальное нетерпение, вызванное неудобством и физи-
ческим страданием, в котором себе не отдают отчета...
Размышления о вентиляции помещений
317
Горе докладчику, которому в этих условиях предоста-
вили последние мгновения заседания".
В заключение он упомянул, что занят исследованием
изменения состава воздуха в залах под действием горе-
ния свечей и ламп, при наличии свежей штукатурки и
масляной краски.
„Просто пугаешься, когда подумаешь, что в много-
численном собрании воздух, которым дышит каждый
индивид, вошел и вышел многократно полностью и ча-
стично через легкие всех присутствующих и что он
должен был зарядиться более или менее гнилостными
выделениями".
Лавуазье указал на необходимость тщательного изу-
чения этих вопросов, весьма существенных „для сохра-
нения рода человеческого".
„Все искусства быстро идут к состоянию совершен-
ства, но искусство жить в обществе, сохранять в состоя-
нии сил и здоровья большое количество индивидов,
собранных вместе, делать большие города более здоро-
выми, а передачу заразных болезней менее легкой,—
это искусство еще находится в младенческом состоя-
нии".
И Лавуазье призвал ученое общество врачей взять
на себя разработку этого обширного плана исследований,
непосильного одному человеку.
Мы привели доклад лишь вкратце, но уже и этого
достаточно, чтобы показать, с каким поразительно
широким размахом, с каким оригинальным и ясным
умом подходил великий ученый даже к столь удаленным
от его основной специальности темам. Ведь многие под-
нятые животрепещущие вопросы социальной гигиены
и санитарии, изображенные им так просто и наглядно,
являются злободневными проблемами нашего времени
и даже сейчас еще не разрешены до конца.
318
Физика и химия жизненных процессов
III
Обширная программа физиологических исследований,
предпринятая Лавуазье, вряд ли осуществилась бы, если бы
он не нашел в своем ученике Сегэне не только талант-
ливого помощника, но и пламенного энтузиаста. Уже
часть предыдущих опытов была выполнена совместно
с Сегэном. В дальнейших исследованиях последний при-
нимал участие не только как соавтор, но и нередко как
живой объект. Эти исследования собраны в двух мемуа-
рах под названием: „Первый мемуар о дыхании живот-
ных" 1 и „Первый мемуар о транспирации животных",1 2
в котором, кстати сказать, фамилия Сегэна поставлена
впереди фамилии Лавуазье.
В мемуаре о дыхании авторы прежде всего дают обзор
положения вопроса о теории дыхания. Вместе с тем, как
они отмечают, против этой теории можно было бы возра-
зить, что никакими опытами не было показано образова-
ние углекислоты непосредственно в легком или во время
циркуляции крови. „Возможно, что часть этой углекислоты
образуется при пищеварении, что она вносится в цирку-
ляцию вместе с хилусом; что достигнув легкого, она
выделяется из крови по мере того, как кислород соеди-
няется с кровно, имея к последней большое сродство".
1 Oeuvres, t. П, р. 688. Опубликован в мемуарах Академии
Наук за 1789 г.
2 Доложен на публичном заседании Академии 14 апреля 1793 г.
(„Oeuvres, t. II, р. 704). Труд этот опубликован в „Мемуарах Академии"
уже после смерти Лавуазье со следующей редакционной пометкой:
„Опыты столь многочисленные, сколь и трудные, содержащиеся
в этом мемуаре, заставляют нас глубоко сожалеть о потере автора,
который должен был бы продолжать как эти полезные исследования,
так и многие другие".
Лавуазье в своей лаборатории изучает, состав воздуха, выдыхаемого человеком в спо-
койном состоянии.
Набросок Марии Лавуазье.
А. Лавуазье стоит справа; Сегэн, над которым ведутся опыты, сидит слева; Мария Лавуазье
ведет запись наблюдений.
320
Физика и химия жизненных процессов
Излагая эти воззрения Лавуазье и Сегэна сто лет
спустя (1894), выдающийся русский физиолог И. М. Се-
ченов написал: „Под последними строками подписался бы
всякий современный физиолог".1
Уже первые опыты Лавуазье и Сегэна по изучению
дыхания животных обнаружили, что оно ускоряется во
время пищеварения. Далее было замечено, „что движение и
волнение увеличивают эти эффекты". Данные, полученные
на животных, требовали повторения и углубления этих
опытов на людях. Сегэн пожелал, чтобы все опыты
такого рода были проделаны на нем самом. Изложению
результатов опытов и выводов из них посвящен, главным
образом, мемуар о дыхании. Аппаратура, которой поль-
зовались авторы, не описана в мемуаре. Как сказано
в тексте, аппараты частично демонстрировались на засе-
дании Академии. До нас дошли два собственноручных
рисунка с натуры Марии Лавуазье, на которых запечат-
лены моменты производства этих опытов в лаборатории
ее супруга.
Прежде всего исследовалась зависимость количества
вдыхаемого кислорода от величины механической
работы, совершаемой человеком натощак и после еды.
Заметим, что работа измерялась, например, следующими
величинами: Сегэн „поднимал груз в пятнадцать фунтов
на высоту шестисот тридцати футов в течение четверти
часа". Математическая формулировка для выражения
„механической работы" тогда еще в физике не была
установлена, но в технике уже фактически учитывали
1 „Сб. в память Лавуазье*. Речи проф. Н. Д. Зелинского,
И. А. Каблукова и проф. И. М. Сеченова, произнесенные в публич-
ном заседании отделения химии Общества любителей естествознания,
антропологии и этнографии при Москсвеком университете в день
столетней годовщины смерти Лавуазье. 1894. Речь И. М. Сеченова
„Заслуги Лавуазье в биологической области".
Лавуазье в своей лаборатории изучает состав воздуха, выдыхаемою человеком при работе.
Набросок Марии Лавуазье,
А. Лавуазье стоит в центре; Сегэн, нажимая педаль, совершает работу; Мария Лавуазье ведет запись,
наблюдении.
322
Физика и химия жизненных процессов.
работу паровых машин, отмечая величину груза и высоту
подъема его. При этом в действительности подсозна-
тельно работу измеряли произведением веса груза на
высоту поднятия. Таким образом, Лавуазье и Сегэну
удалось впервые установить закономерную зависимость
между количеством вдыхаемого кислорода, частотой
пульса и выполненной механической работой.
Учебники XX века нередко приводят следующую
весьма показательную таблицу:
Опыты над дыханием человека
(Лавуазье и Сегэн)
Условия опыта Температура окружающей среды (°Ш Количество кислорода, поглощаемого в час
куб. дюймы литры
Без пищи 26 1.210 24
Без пищи 12 1.344 27
С пищей 12 1.800—1.900 33
Работа (9.195 фунто-фут) без пищи «... • . . 12 3.200 65
Работа (9.790 фунто-фут) с пищей 12 4.600 91
„Эти замечательные результаты, — указывает один
из авторов, — находятся в полном согласии со знаниями
наших дней".1
Выяснение этой закономерности позволяло обратно —
по пульсу и дыханию — определить механическую работу,
1 W. R. Aykroyd. Thiee philosophers (Lavoisier, Priestley,
Cavesdish). London, 1935, p. 109.
Свявъ между работой и количеством вдыхаемого кислорода 325
выполняемую человеком. Перед исследователями откры-
лась совершенно новая и замечательная перспектива.
„Данный метод наблюдений, — говорит Лавуазье, —
приводит к сравнению между собою таких применений
силы, между которыми, казалось, нет никакой связи.
Можно определить, например, скольким фунтам в весе
соответствуют усилия человека, произносящего речь, или
музыканта, играющего на инструменте. Можно было бы
даже оценить то, что составляет механическую часть
в труде размышляющего философа, пишущего литера-
тора, композитора, сочиняющего музыку. Указанные явле-
ния, рассматриваемые обычно как чисто духовные, имеют
нечто физическое и материальное, что и позволяет в этом
отношении сравнивать их с тем, что выполняет черно-
рабочий. Таким образом, французский язык не без спра-
ведливости смешивает, под общим названием работы,
усилия ума с усилиями тела, кабинетную работу с рабо-
той наемного рабочего".1
Из анализа процесса дыхания Лавуазье и Сегэн
пришли к заключению, что „дыхание отнимает у крови
за двадцать четыре часа 10 унций 4 драхмы углерода
и 1 унцию 5 драхм и 51 гран водорода".
„До тех пор, пока мы рассматриваем в дыхании лишь
потребление воздуха, — пишут авторы, — судьба богача
и бедняка были одинаковы, так как воздух одинаково при-
надлежит всем и никому ничего не стоит; чернорабочий,
работающий больше, даже еще лучше наслаждается этим
благодеянием природы. Однако ведь опыт нас учит, что
дыхание есть истинное горение, которое каждое мгнове-
ние потребляет часть вещества индивида, причем это
потребление тем больше, чем сильнее ускорены циркуля-
ция и дыхание; оно увеличивается в соответствии тому,
1 Oeuvres, t. II, р. 697
21*
324 Физика и химия жизненных процессов
насколько индивид ведет более трудовую и более актив-
ную жизнь. Таким образом, множество моральных сообра-
жений сами собой вытекают из этих физических резуль-
татов.
„По какой фатальной причине оказывается, что бедный
человек, живущий трудами рук своих, вынужденный
использовать для своего существования все силы, кото-
рыми его наделила природа, потребляет больше, чем
праздный человек, между тем как последний менее нуж-
дается в пополнении...
„Однако не будем клеветать на природу, — продолжают
авторы, — и обвинять ее в ошибках, связанных с нашим
социальным устройством и которые, быть может, неотде-
лимы от него".
И, отдавая дань революционной эпохе, авторы воскли-
цают: „Ограничимся благословением философии и чело-
вечества, которые объединяются, чтобы пообещать нам
мудрое устройство, которое постарается приблизить нас
к равенству состояний, повысить цену труда и обеспечить
ему справедливое вознаграждение, предоставить всем
классам общества, в особенности неимущим классам,
больше радостей и больше счастья".
Впрочем, авторы не удержались от того, чтобы тут же
не высказать опасения, как бы „энтузиазм и преувели-
чение" не привели бедняков к результатам, „противоре-
чащим их собственным интересам".
Особое внимание авторы посвящают автоматической
регулировке условий в животном организме. „Действи-
тельно, достоин изумления этот результат непрерывно
меняющихся и непрерывно находящихся в равновесии
сил, которые на каждом шагу встречаются в животном
организме и которые позволяют индивиду подвергаться
всем тем условиям, в какие его может поставить случай.
В этом отношении человек от природы одарен данным
Исследование процесса транспирации
325
свойством более» чем все прочие животные, он живет
одинаково при всех температурах и во всех климатах.
Так устанавливается почти постоянная температура
около 32° (термометр Реомюра), которую четвероногие,
а особенно человек, сохраняют, в каких бы условиях
они ни находились".
В мемуаре „О транспирации животных" Лавуазье
и Сегэн пишут:1
„... Животная машина управляется тремя главными
регуляторами:
„д ы х а и и е м, которое заключается в медленном
сгорании в легком или других местах тела некоторой
части углерода и водорода крови и развивает теплоту, аб-
солютно необходимую для поддержания температуры тела;
„транспирацией, которая, способствуя выделению
тепла в окружающую среду и производя этим непре-
рывное охлаждение тела, препятствует повышению его
температуры за пределы, положенные природою;
„пищеварением, которое, снабжая кровь водой,
углеродом и водородом, возвращает машине то, что она
теряет дыханием и транспирацией, и выбрасывает затем
наружу посредством выделений те вещества, которые
нам вредны или излишни".
„В этом перечне главных жизненных функций,—заме-
чает И. М. Сеченов, — недостает только одного пункта,
работ, производимых животным телом за счет сгора-
ния углерода и водорода крови. Тогда перечень был бы
совсем полный. Но пункт этот, как известно, стал выяс-
няться на целое полстолетие позже".
Исследование транспирации рассматривает два явле-
ния: транспирацию кожного покрова и транспирацию
легочную; их надо было отделить от эффектов дыхания.
] Привожу русский перевод из речи И. М. Сеченова.
326 Физика и химия жизненных процессов
В мемуаре имеются некоторые данные о самом методе
исследования. Опыт проводился, как сказано, „на одном
из - авторов", возможно, что в этой работе (в отли-
чие от мемуара о дыхании) оба автора подвергались
исследованию поочередно. „Одежда из тафты, пропитан-
ной резиной, не пропускающей ни воздуха, ни влаги,
позволяла нам отделять явления транспирации кожного
покрова от явлений дыхания".
’ „Один из нас находился в такой одежде, закрывавшейся
поверх головы..., трубка, прилаженная к его рту, была
примазана к его коже и давала ему свободу дыхания,
не теряя вместе с тем ни одной порции воздуха.
„Таким образом все, что относилось к дыханию,
происходило вне аппарата; все, что относилось к тран-
спйрации, заключено было внутри".
Человек, над которым производились опыты, тщательно
и неоднократно взвешивался. Наиболее трудной частью
исследования являлось отделение на практике всех явле-
ний друг от друга.
„Аппарат, которым мы пользовались для этой цели,
был так устроен, что в нем можно было измерять с боль-
шой точностью количество выдыхаемой воды и углеки-
слоты, а также количество воздуха до и после опыта".
Заслуживает особого внимания рассуждение авторов
о механизме удаления воды из легких.
„Углекислота, образующаяся в акте дыхания, находясь
в состоянии флюида,1 как легко понять, выталкивается
наружу действием легких в момент выдоха; но иначе
обстоит дело с водой, образующейся в то же время; она
должна была бы вскоре накопиться в бронхах, если бы
природа не имела путей для ее удаления; и вот те пути,
которые она применяет.
1 В газообразном состоянии.
Исследование процессов дыхания и транспирации
327
„Воздух входит в легкое холодным, он выходит оттуда
нагретым примерно так же, как и кровь; но ведь нагре-
тый воздух растворяет в себе больше воды, чем холодный;
и вот, благодаря увеличению этой растворяющей способ-
ности, воздух уносит с собою воду, находившуюся
в легком ... Если вода просачивается сквозь мембраны
бронхов в чрезмерном изобилии, если воздух, которым мы
дышим, уже насыщенный образовавшейся водою, не в со-
стоянии ее растворить, даже несмотря на усилия учащен-
ного дыхания, несмотря на вызванное этим усиление нагре-
ва, увеличивающее растворяющую способность воздуха,
избыток воды уносится обратно в кровообращение погло-
щающими сосудами легкого, или же она выбрасывается
наружу каким-нибудь другим способом.
„Нельзя не изумляться той системе общей свободы,
которую природа, кажется, установила во всем, что
касается живых существ. Давая им жизнь, самопроизволь-
ное движение, активную силу, потребности, она им отнюдь
не запретила пользоваться всем этим. Она хотела, чтобы
они были свободны даже вплоть до злоупотребления
этой свободой; однако, осторожная и мудрая, она повсюду
расставила регуляторы, она заставила наступать пресы-
щение вслед за наслаждением. Если животное, возбуж-
денное качеством или разнообразием блюд, переступает
установленные пределы, наступает нарушение пищева-
рения, которое служит одновременно для предупреждения
и для излечения; вызванный этим понос и следующее
за этим отвращение к пище восстанавливают животное
вскоре в его естественном состоянии.
„Моральный порядок, как и порядок физический, имеет
свои регуляторы; и если бы это было иначе, человеческие
общества давно бы уже перестали существовать или,
вернее, они вообще никогда не существовали бы",1
1 Oeuvres, t. II, р. 713.
328
Физика и химия жизненных процессов
Обращаясь к медицине, Лавуазье и Сегэн уже и ранее
отметили, „насколько искусство врача часто заключается
в том, чтобы предоставить природу самой себе... Наконец
можно видеть, насколько изменения, кои л подвергается
окружающий нас воздух, могут быть причиной эпидеми-
ческих заболеваний, лихорадок, присущих больницам
и тюрьмам, и в какой мере свежий воздух, более свобод-
ное дыхание, изменение образа жизни могут быть нередко
для этого вида болезней наилучшим лекарством".
Проблема больниц и тюрем служила предметом специ-
ального исследования комиссии, выделенной Академией
Наук еще в 1780 г. по поручению вновь назначенного
тогда премьер-министра, банкира Неккэра, искавшего
популярности посредством „филантропических" меро-
приятий. Секретарем этой комиссии, находившейся под
особым покровительством жены министра, был Ла-
вуазье. .
Составляя отчет о результатах обследования париж-
ских тюрем, Лавуазье сопроводил его письмом, дати-
рованным 25 марта 1780 г., на имя жены Неккэра. Он
писал: „Поверите ли вы, мадам, что хотя тюрьмы
до известной степени открыты для всех, мы встретили
затруднения при их посещении"?
Картина тюрем Шатлэ и Консьержери, нарисованная
ученым, воистину потрясающа.1 2 И сейчас нельзя без содро-
гания читать написанные им страницы. Мрачные сводча-
тые залы, маленькие дверцы и зловонные переходы.
Высокие стены и перегородки препятствуют циркуляции
воздуха; крохотные, низкие, словно могила, полутемные
камеры битком набиты заключенными. Лавуазье осо-
бенно подчеркивал в своем отчете удушливый, очень
1 Е. Gritnaux. Lavoisier, р. 130.
2 Oeuvres, t. П, р. 529.
Обследование больниц и тюрем
329
бедный кислородом, зараженный и испорченный воздух
этих помещений, который они черпали друг у друга.
Заключенные лежали на нарах вповалку; прогнившая
солома служила им постелью; канавы для стока нечистот
пересекали помещения; их зараженные испарения распро-
странялись повсюду. Самыми страшными были описанные
Лавуазье казематы, где вода просачивалась сквозь своды,
где одежда узников тлела на теле, где заключенные
тут же справляли свои нужды, где земляной пол или
плитняк был постоянно влажен от застоявшейся воды
и мочи. „Грязь, паразиты, гниль",— этими тремя словами
Лавуазье определил сущность „картины, столь унизитель-
ной для человечества".
Тысячи несчастных мужчин и женщин, больных,
замученных, голодных прошли перед глазами академи-
ческой комиссии. И это были не столько преступники,
разбойники и воры, сколько, главным образом, бедняки,
попавшие в тюрьму за неуплату своих долгов.
Осмотрев королевские тюрьмы, Лавуазье написал
в официальном отчете: „Следует обращаться с людьми
не менее человечно, чем обращаются с животными".
Он и в данном вопросе не смог обойти экономической
стороны. „Дешевле охранять здоровье человека, чем
тратить деньги на его лечение". „Естественно, — продол-
жал он отчет, — вызывается возмущение в народе, когда
все видят, как эта пытка налагается без разбора в равной
мере и на обвиняемых, и на уже приговоренных, и на невин-
ных, и на преступников".
Впрочем, обследование больниц, в особенности крупней-
шей— парижского „Божьего дома" (Hotel Dieu), вскрыло
не меньшие ужасы, чем обследование тюрем. О несчаст-
ных жертвах всех этих королевских заведений вспомнил,
видимо, Лавуазье, говоря о лихорадках, „присущих боль-
ницам и тюрьмам". Реформа тюрем и больниц, предпо-
330
Физика и химия жизненных процессов
ложенная в 1780 г., так и не была осуществлена, будто бы
ввиду последовавшей вскоре отставки министерства
Неккэра.
Прошло десять лет, во Франции разразилась Рево-
люция. Страна бушевала. Широко обсуждались планы
коренной перестройки всей жизни народа, освобожден-
ного от „ига тиранов*. Газеты клеймили врагов револю-
ции, аристократов, откупщиков — „королевских пьявок*
и спекулянтов. И нередко на страницах революционных
газет и памфлетов среди самых ненавистных народу
имен фигурировало и имя „выученика женевского бир-
жевика, генерального откупщика, управителя порохов
и селитр, директора Ссудной кассы, секретаря короля,
члена Академии Наук*1 — Лавуазье.
Вот почему, завершая свой мемуар о дыхании, о кото-
ром мы говорили выше, Лавуазье и Сегэн, стремясь пред-
ставить свою деятельность в более выгодном свете,
написали:
„Закончим этот мемуар утешительным размышлением.
Вовсе не необходимо, для того чтобы заслужить благо-
дарность человечества и выполнить свой долг перед роди-
ной, быть призванным к исполнению публичных и громких
обязанностей по организации и возрождению государств.
Физик в тиши своей лаборатории и своего кабинета
может также выполнять свои патриотические функции;
он может надеяться уменьшить, посредством своих работ,
массу горестей, досаждающих человеческому роду,
и увеличить его радости и его счастье. И если бы ему
удалось, благодаря открытым им новым путям, удлинить
среднюю продолжительность человеческой жизни лишь
на несколько лет, даже на несколько дней, разве он
1 .Женевским биржевиком" именовался Неккэр.
Отзыв И. М. Сеченова о работах Лавуазье
331
не мог бы также претендовать на славное звание бла-
годетеля человечества".1
И вэт, год спустя, заканчивая мемуар о транспирации, •
авторы подчеркнули: „Мы приобрели уже более чем
догадки относительно причины большого числа болезней,
о способах содействия тем усилиям, которые делает
природа, чтобы излечить больных. Но, прежде чем осме-
литься выдвинуть теорию, мы предполагаем умножить
число наших наблюдений и распространить наши иссле-
дования на явления пищеварения и на анализ крови
в состоянии здоровья и состоянии болезни".1 2
Оценивая эти биологические труды Лавуазье,
И. М. Сеченов в своей краткой речи в 1894 г. сказал:
„В настоящее время все сделанное Лавуазье кажется
донельзя простым; но не следует забывать, что он созда-
вал звенья этого простого целого вновь, сталкиваясь
по временам с ложными воззрениями своего времени,
и потому вынужденный проверять опытом каждый новый
шаг в приведенной стройной цепи умозаключений. Сделать
это мог только человек с умом, глубоко проницательным,
точным и прямолинейным. Ему больше, чем кому-нибудь,
принадлежит великая заслуга систематиче-
ского приложения физико-химических спо-
собов исследования к области биологии".3
Вторая часть каждого из этих двух описанных мемуа-
ров, как явствует из протоколов Академии, докладывалась
Лавуазье на нескольких заседаниях 1791 г. В протоко-
лах отмечено также, что 12 февраля 1792 г. он предста-
вил Академии Сегэна, который доложил работу, выполнен-
ную им в развитие прежних исследований, произведенных
совместно с Лавуазье.
1 Oeuvres, t. II, р. 703.
2 Ibidem, р. 713.
3 „В память Лавуазье", стр. 42. Разрядка моя. — Я. Д.
332
Физика и химия жизненных процессов
Второй мемуар о транспирации животных был опубли-
кован лить после смерти Лавуазье.1 В этом замечатель-
ном труде было показано, что средняя температура
тела регулируется автоматически соотношением дыхания
и транспирации. Авторы подвергли критическому разбору
чрезвычайно интересные вопросы о роли одежды, о влия-
нии сухости и влажности атмосферы и тому подобное.
Лавуазье и Сегэн обращают внимание, во-первых, на пере-
дачу тепла вследствие конвекции и на роль одежды
в задержке этой конвекции. Во-вторых, они объясняют,
что, благодаря именно влиянию на транспирацию, ветер,
несущий в себе недостаточную влажность, вызывает
ощущение холода, а ветер, пересыщенный влагой, вызы-
вает ощущение жары даже в том случае, если темпе-
ратура воздуха в обоих случаях одинакова.
Авторы особо подчеркивают, что богач, поддержи-
вающий температуру своего тела, покрывая его индий-
скими шелками и голландским полотном, в сущности,
изнеживает свое тело и растрачивает на это дело пона-
прасну труд огромного числа людей. Бедняк достигает
той же цели, пользуясь автоматической природной регу-
лировкой. Авторы отмечают, что во многих случаях
следует использовать автоматически действующий аппа-
рат природы. Отрывки из второго мемуара о дыхании
опубликованы были Сегэном лишь в 1814 г. в „Анналах
химии
К сожалению, до сих пор еще недостаточно изучено
влияние воззрений Лавуазье на медицину той эпохи.
Блестящие открытия, относящиеся к природе жизненных
функций, достигнутые на основе физических и химических
методов, произвели буквально революцию в умах совре-
менников. Эта революция подготовлялась, впрочем,
J Oeuvres, t. V, р. 379.
Медицина в свете физических наук 333
в течение всего XVIII в. Открытия эти показали со всей
ясностью, какую огромную роль суждено сыграть физике
в выяснении механизма биологических явлений. Горячий
сторонник идей Лавуазье и один из его ближайших
сотрудников и учеников, химик и врач Фуркруа присту-
пил в 1791 г. к изданию журнала „Медицина в свете
физических наук" („La medecine eclairee par les sciences
physiques"). Журнал просуществовал в течение 1791
и 1792 гг. Насколько мне известно, это наиболее серьез-
ная общественная попытка в ту эпоху связать медицину
с развитием физических наук.
В передовой статье первого номера журнала Фуркруа
писал: „Врач должен быть окружен всеми знаниями,
он должен быть одинаково силен в различных областях
естественных наук, он объявляет войну предрассудкам,
ошибкам всякого рода, угрожающим людям в их болез-
нях. Он обязан просвещать своих сограждан относительно
ложных методов лечения, относительно опасных снадобий,
предлагаемых со всех сторон иногда благодаря престижу,
иногда по дружбе и наиболее часто ради грязной погони
за наживой и ради обмана, которым занимаются эмпи-
рики ..."
Фуркруа обратил особое внимание на то, что знание
физики находится в загоне у медиков, что оно, вопреки
здравому смыслу, играет лишь ничтожную роль в меди-
цинском образовании. „Дошли до того, — замечает он,—
что даже решили, будто искусство излечения может быть
независимым от физики". Фуркруа громогласно провоз-
гласил: „нельзя быть медиком, не будучи физиком".
И, переходя к задачам журнала, он пишет: „Здесь будет
излагаться состояние общей физики и особенно открытия
метеорологии, которые столь обязаны нашему веку; зна-
ния, недавно приобретенные относительно атмосферы;
будут даны наиболее важные метеорологические набЛю-
334
Физика и химия жизненных процессов
дения; будут рассмотрены эффекты воздействия света
на человека и животных; будут сообщены вновь открытые
факты об электричестве и магнетизме; будут описаны
вновь изобретенные машины или инструменты и в осо-
бенности будут приняты все меры к тому, чтобы поста-
вить медиков в курс всех областей общей физики".
Открытия Лавуазье и его учеников привлекали к себе
внимание общества и поднимали в его глазах значение
точных научных исследований.
Выдающийся русский физиолог К. А. Тимирязев,
анализируя развитие физиологии в XIX веке отмечает1.
„С той поры, как дыхание, — эта, казалось, сущность
жизни,— было сведено гением Лавуазье на химико-физи-
ческий процесс, витализму был нанесен роковой удар".
- „Можно сказать, что все блестящие успехи физиоло-
гии были тесно связаны с распространением на нее
и нередко талантливым усовершенствованием (в приме-
нении к ее более сложным и более тонким задачам)
экспериментальных методов физики и химии".
1 К. А. Тимирязев. Сочинения, т. V, стр 171; т. VIII, стр. 82.
Глава XIII
И АКАДЕМИК И ДЕЛЕЦ
Разносторонняя деятельность Лавуазье в Академии. — Мысли о ру-
мянах. — Врачи и знахари. — О новых выборах в Академию. — Актив-
ность Лавуазье в Откупе. — Письмо Лавуазье откупщику де-ля-Гант
о табаке. — Королевские министры поощряют откупщиков. — Лавуазье
окружает Париж решеткой для увеличения доходов Откупа. — Его
имя ненавистно. — Лавуазье добивается ликвидации Порохового откупа
и наживает изрядный капитал. — Лавуазье во главе Управления по-
рохов и селитр улучшает и расширяет производство пороха. — Роль
французского пороха в борьбе США за независимость. — Сельско-
хозяйственные опыты. — Образцовая ферма. — Политические маневры
Лавуазье накануне Революции. — Денежный делец в роли благодетеля.
I
Мы видели, что начало научных исследований Лавуазье
почти совпало с моментом избрания его в Академию
(1768). Ему не пришлось годами ждать, пока Академия
наконец признает его заслуги, пока освободится надле-
жащая вакансия. Его признали авансом. А избрав в адъюнк-
ты, академики сразу же нагрузили его значительным
количеством обязанностей.
Дело в том, что Парижская Академия Наук тех времен
представляла собой не просто общество крупнейших
ученых, собиравшихся подобно Лондонскому королев-
336 и академик, и делец
скому обществу для научных дискуссий. Парижская Ака-
демия Наук являлась центральным экспертным и консуль-
тативным органом королевской Франции по всем вопро-
сам науки и техники. Сверх своих обычных научных
занятий и дискуссий, Академия выносила суждения
по всем изобретениям, так как еще не было ни патент-
ных бюро, ни бюро новизны, причем Академия рекомен-
довала к применению или отклоняла эти изобретения.
Академия давала научно-техническую экспертизу по любым
предположениям и проектам правительственных органов,
а также по любым вопросам, заинтересовавшим коро-
левских особ.
Далее Академия, призванная поощрять научно-иссле-
довательскую и изобретательскую деятельность в коро-
левской Франции ежегодно объявляла различные кон-
курсы на те или иные темы. Этот широко распростра-
ненный в XVIII в. метод тематических конкурсов дал,
как известно, весьма ценные результаты для развития
наук. Аналогичная практика применялась и в С.-Пе-
тербургской Академии Наук. Многообразные функции
Парижской Академии Наук того времени заставляли
ее привлекать к своей работе всех выдающихся и наи-
более широко образованных лиц. Таким лицом был как
раз Антуан Лоран Лавуазье. Поэтому неудивительно,
что, попав в Академию, он тотчас же был загружен
бесчисленным количеством самых разнообразных пору-
чений. Мы уже видели, что в 1771 г. он должен был
провести расчеты „огненной машины", т. е. паровой
машины Ньюкомена. В 1776 г., в связи со стоявшими
исключительными морозами, Антуану Лорану в составе
особой комиссии пришлось заняться, по поручению короля,
сравнением температур зим 1776 и 1732 гг. Это потре-
бовало изучения и сравнения термометров и разработки
всей системы метеорологических наблюдений темпера-
Разносторонняя деятельность в Академии 337
туры во Франции. Два года спустя (1778) специальная
комиссия Академии при активном участии Лавуазье
занималась вопросом о методах лечения больных с по-
мощью так называемого „животного магнетизма*4, про-
водившихся известным международным авантюристом
Месмером.
В 1780 г., как уже указывалось, Антуан Лоран в каче-
стве секретаря комиссии, созданной по поручению
премьер-министра Неккэра, обследовал тюрьмы и боль-
ницы Парижа.
В 1782 г. 7\.авуазье должен был изучить вопрос о харак-
тере и опасности газов, выделяющихся из выгребных
ям, и о методах борьбы со зловонием. Для этого ему
пришлось исследовать in vitro разложение фекальных
масс. Заканчивая отчет по этому вопросу, он, между
прочим, писал: „Исследования запахов вообще, кажущие-
ся лишь любопытными, могут в действительности иметь
полезное применение, и я ими займусь".
Далее, как мы видели, в 1783 г. Лавуазье участво-
вал в изучении и развитии проблемы аэростатических
машин.
В 1787 г. он принял участие в детальном обследовании
металлургического производства на заводах Крезо, а так-
же вновь занимался проектом перестройки больницы
„Божий дом" и других больниц. Общее число его
докладов и отзывов по таким вопросам превосходит
две сотни. Характерная черта Лавуазье: от всех
составленных им бумаг он сохранял копию, написан-
ную либо им самим, либо секретарем, либо Марией
Лавуазье.
Мы не можем рассматривать всех этих отзывов,
но мы остановимся на некоторых из них, в которых
содержатся характерные общие воззрения или выводы
Лавуазье.
Дорфман
338
И академик и делец
Так, например, достойно внимания суждение Лавуазье
на тему.. О румянах из растительных красок" (1775)..
В этом отзыве он говорит: „Академия Наук, всегда
воодушевленная стремлением выполнить свои задачи
и содействовать по мере сил своих прогрессу науки
и благу человечества, нередко оказывается в огром-
ном затруднении, желая точно установить принципы,
определяющие круг ее ведения. Она склонна считать
отнюдь не чуждым себе все, что имеет отношение к технике
и интересует общество. И с этой точки зрения она
подчас занимается вещами, которые, на первый взгляд,
могли бы показаться суетными и несерьезными.
„Румяна, которыми женщины пользуются для накраши-
вания лица, будучи рассматриваемы в качестве предметов
убранства и украшения, разумеется, мало пригодны для
того, чтобы занимать Академию. Однако, когда Академия
приняла во внимание, то обстоятельство, что эго укра-
шение распространено среди целых классов общества
и особенно среди женщин высшего круга, то она рас-
судила, что ей не дозволено оттолкнуть от себя тех
людей, которые смогли бы представить в Академию
способы изготовления румян, не содержащих ничего
вредного ни для кожи, ни вообще для здоровья".1
Весьма интересны мысли Лавуазье об оценке результа-
тов различных опытов, мысли, высказанные им в связи с
обследованием „исцелительной" деятельности знаменитого-
авантюриста Месмера: „Искусство делать выводы из опы-
тов и наблюдений заключается в определении вероятностей
и в оценке того, достаточно ли они велики и достаточно ли
многочисленны для того, чтобы представлять собою
доказательства. Этот вид расчета более сложен и более
труден, чем обычно думают; он требует большой про-
1 Oeuvres, t. IV, р. 224.
Мысли о румянах. Врачи и знахари
339
ницательности и в общем он выше сил средних людей.
Вот на ошибках в этой области подсчета и основан как-раз
успех шарлатанов, колдунов и алхимиков. В этом и заклю-
чался некогда успех магов, заклинателей и вообще всех
тех, кто злоупотребляет или пытается злоупотреблять
доверием общества**.
Из этих слов вытекает любопытная идея, что для борь-
бы с суевериями и тому подобным следовало бы препода-
вать среднему человеку элементы теории вероятностей.
Лавуазье отмечает далее, что особенно трудно оценивать
вероятности в медицине, поскольку в живых организмах
имеются собственные мощные силы, стремящиеся само-
стоятельно преодолевать болезни. Итак, „крайне трудно
установить, что принадлежит природе, а что лекарству.
Поэтому, между тем как масса рассматривает исцеление
болезни в качестве доказательства эффективности метода
лечения, с точки зрения мудрого человека следует лишь
большая или меньшая степень вероятности. И эта веро-
ятность может превратиться в уверенность лишь благодаря
большому числу таких же фактов".
В своем отчете об исследовании газов, выделяемых не-
чистотами, Антуан Лоран между прочим замечает: „... Мы
можем судить или высказываться лишь о тех веществах,
которые мы в состоянии мерить, собирать, подвергать
опытам".
Известный химик Дюма, анализируя разнообразные
отзывы и встречные предложения Лавуазье в отношении
технических изобретений, отметил в них две особенности:
во-первых, Лавуазье повсюду требует, „чтобы был получен
максимальный эффект при минимальных затратах"; во-вто-
рых, он стремится перестроить все производственные
методы по принципу непрерывных процессов.1 Этот
1 Е. Grim а их. Lavoisier, р. 138.
22*
340
И академик и делец
принцип в технике XVIII в. осуществлялся весьма случайно
и редко, и только наша эпоха полностью осознала необхо-
димость непрерывного процесса производства как основной
принцип современной техники. Следовательно, в подхо-
дах к вопросам техники Лавуазье далеко опередил свой
век.
Но научными докладами, отзывами и заключениями
не исчерпывалась вовсе его деятельность в стенах Ака-
демии Наук. В 1778 г. он был назначен „пенсионером",
т. е. действительным членом, а в 1785 г.—директором
Академии Наук. На директора Академии, в отличие
от президента и вице-президента, была возложена вся
административная сторона руководства. На этом посту
он провел крупную реформу, создав в соответствии
со своими более ранними предложениями новые классы:
общей физики, естественной истории и сельского хозяйства.
Характерным является борьба, которую вел Лавуазье
в качестве директора против увеличения числа вакансий
в Академии, которого требовало правительство.1 Выступая
в комиссии по этому поводу, он сказал:1 2
„Увеличивать число вакансий в Академии —это значит
уменьшать почет, который с ними связан, и это неудобство
особенно велико в данный момент, поскольку никогда
не было столько претензий на знание, а число ученых,
находящихся вне Академии Наук, очень мало... Таким
образом, не ученые нуждаются в Академии, а Академия —
в ученых; если при этих обстоятельствах вы намерены
провести многочисленное пополнение, у вас не будет
иного исхода, как призвать посредственные способности,
полузнание, более опасное, чем невежество, шарлатанство
и интриги, которые их всегда сопровождают, и вы оста-
1 Ibidem, р. 246.
2 Oeuvres, t. IV, р. 567—568.
О новых выборах в Академию
341
вите будущим поколениям лишь выродившееся потомство,
мало достойное того, чтобы поддерживать престиж
академика, которого вы сделали знаменитым... Облегчая
чересчур доступ в Академию, вы снижаете заслуги,
приводящие к ней. Король может открывать вакансии,
но не в его власти создавать ученых, гениальных людей,
чтобы заполнить эти вакансии*.
Трудно было выразиться более резко и откровенно.
Предложение правительства о назначении новых
четырнадцати вакансий было отклонено комиссией
единогласно.
Мы не можем останавливаться на всех реформах,
введенных Лавуазье в Академии Наук, отметим лишь,
что на этом посту он, как указывают современники,
значительно улучшил ее работу.
II
Функции ученого, академика и, наконец, директора
Академии Наук были только одной стороной его деятель-
ности. Но была и другая сторона, которой он уделял от-
нюдь не меньше внимания, сил и способностей. Он был
дельцом в худшем смысле этого слова. Вспомним, что уже
в 1768 г. он вступил участником в Генеральный откуп,
а в 1779 г. был назначен полноправным пайщиком этой
финансовой компании, т. е. официально причислен
к тем, по словам Вольтера, „сорока плебейским царям,
которые арендуют империю... и отдают кое-что монарху*.
Однако не следует думать, что Лавуазье-откупщик
представлял собою „царствовавшего рантье,* спокойно
наращивавшего капиталы на капиталы. В Откупе, как
всюду, ярко проявлялся его неутомимый характер, его
инициатива крупного предпринимателя и его таланты
инженера.
342
И академик и делец
Сохранилось его личное письмо от 22 июня 1778 г.,
адресованное откупщику де-Ля-Гант. В этом письме
Лавуазье высказывает свои соображения относительно
работы одной крупной табачной фабрики в Бретани,
которую он лично посетил:'
„Я испытал удовольствие при осмотре мануфактуры
Морлэ и только сожалею, что имел слишком мало времени,
чтобы проследить все производственные операции. Весь
процесс измельчения табака, как мне кажется, превосходно
слажен, задуман и осуществляется с большим умом.
Однако жаль, что столько людей занято вращением
табачных мельниц, между тем как было бы вполне
возможно осуществить ту же задачу более простым
способом с помощью воды и лошадей".
В этом письме он, между прочим, говорит и о своей
личной работе следующее „. .. Если бы вы знали, какую
огромную работу я вынес на себе с момента выезда
из Парижа; эти ревизии, которые мне пришлось провести
в управлении ля-Рошель, заметки всякого рода, которые
мне приходилось делать, корреспонденция, которую
я должен был вести по всем вопросам, возложенным
на меня; я надеюсь поэтому, что вы будете столь добры
й извините меня. С момента моего отъезда я не спал
более пяти, шести часов в ночь. Я надеюсь, что господа
члены Комитета пошлин будут мне хоть немного при-
знательны за выполненную мною для них работу..."
В 1770 г. назначенный премьер-министром Франции
и министром финансов женевский банкир Неккэр провел
ряд мероприятий, фактически значительно увеличивших
доход откупщиков. Вместе с тем, эти мероприятия привели
к более тесному сращиванию государственного казна-
1 A. Delahante. Une famille de finance au XVIII-me siecle.
Paris, 1896.
Лавуазье окружает Париж решеткой
343
чейства с Откупом. Так, например, прибыль Откупа, сверх
установленной по договору суммы, делилась отныне
поровну между казной и откупщиками. И, таким образом,
государство, заинтересованное в сверхприбылях Генераль-
ного откупа, должно было, естественно, поощрять любые
мероприятия Откупа, способствующие такому росту.
На Лавуазье было возложено, главным образом,
управление взиманием сборов со всех товаров, ввозив-
шихся в Париж из провинции, что составляло огромный
источник доходов.
В 1773 г. он, по предложению министра финансов
д’Ормессона, был введен в состав административного
комитета, руководившего всеми делами Откупа. Тогда
Лавуазье добился наконец от правительства осуществления
своего давнишнего проекта — окружения всего Парижа
решетчатой оградой для борьбы с уклонявшимися от уп-
латы ввозных пошлин.
Королевские министры и чиновники были до такой
степени в плену у откупщиков и финансистов, что рас-
ходы по сооружению этой ограды, достигавшие гигантской
суммы в тридцать миллионов ливров, полностью взяла
на себя казна.
Ни одно мероприятие Откупа не вызвало такого
всеобщего негодования в стране, как сооружение зло-
получных стен, способствовавших лишь росту цен
на рынках и ухудшавших и без того весьма тяжелые
условия жизни населения. По Франции распространилась
острота: ,,Le mur, murant Paris, rend Paris murmurant“,
что в переводе означает (если попытаться сохранить
игру слов): „Стена, стесняющая Париж, заставляет Париж
стонать*4.1 В салонах распространилась песенка:
1 Дословный перевод: „Ограда, окружающая Париж, делает Париж
ворчливым"
344
И академик и делец
Pour augmenter son numeraire
Et raccourcir notre horizon
La Ferme a juge necessaire
De nous mettre tous en prison.
Чтобы росла статья доходов,
Чтоб кругозор нам сократить,
Откупщикам было угодно
Наг за решетку посадить"1
А в 1787 г. появился анонимный памфлет, в которой
особо отмечалось, будто ограда стесняет циркуляцию
воздуха в Париже, заставляя накапливаться в нем отравлен-
ные миазмы. Памфлет непосредственно указывал пальцем
на Лавуазье:
„Весь мир уверяет, что мосье Лавуазье, член Академии
Наук, является тем благодетелем и патриотом, которому
мы обязаны гениальным и оздоровительным изобретением
заключения в тюрьму столицы французов. После смерти
этого академика его собрат, которому будет поручено
составить надгробное слово усопшего ученого, окажет
ему милость и сотрет эти события из его биографии.
Откуп может соорудить ему статую на изобретенной
им ограде, но Академия должна краснеть за его пре-
бывание в ее составе".1 2
Так, незадолго до наступления Революции имя Лавуазье
приобрело широкую „популярность" даже в тех кругах
населения, которым его научные открытия были неизвестны
и недоступны. Этой широкой „популярностью" он был
обязан своей затее с сооружением парижской ограды, затее,,
легшей несмываемым пятном на его репутацию.
Но зато капиталы его неуклонно росли. Н. М. Карамзин,
посетив Париж весною 1790 г., написал о Лавуазье:
1 Перевод автора.
2 Е. Grimaux. Lavoisier, р. 81.
Ликвидация порохового откупа
345
„Быв перед Революцией генеральным откупщиком, имеет,
конечно, не один миллион".1
III
Рост богатства Лавуазье создавался, впрочем, не только
Откупом, это был лишь один из многих каналов его обога-
щения. Ловкий и изворотливый делец, Лавуазье участво-
вал во множестве разнообразных предприятий, обеспечи-
вавших ему солидный процент прибыли. Так, например,
еще в самом начале своей деятельности в Откупе,
контролируя инспекцию соляной монополии, Лавуазье
столкнулся с одним мощным источником контрабанды,
сильно снижавшим поступления по соляным сборам.
Во Франции существовал в ту эпоху особый Откуп
по фабрикации пороха, в обязанность которого входила
добыча селитры. Как известно, селитра добывалась
в XVIII в. в погребах, ямах и т. п., где она образуется
естественным путем, как результат разложения органиче-
ских азотистых веществ, содержащихся в различных
отбросах.
Пороховой откуп, выпаривая раствор и добывая
селитру, получал также попутно значительное количество
дешевой поваренной соли, которую он и продавал из-под
полы населению по низкой цене, нанося тем самым
серьезный ущерб Генеральному откупу. Между тем,
Пороховой откуп фактически влачил довольно жалкое
существование и плохо снабжал государство порохом.
Недаром во время Семилетней войны Франция была
вынуждена тратить огромные средства на покупку пороха
за границей и избежала финансового краха лишь благо-
даря заключению мира в 1763 г.
1 Н. М. Карамзин. Соч., т. IV, стр, 176.
.346
И академик и делец
Лавуазье составил в 1774 г. подробный доклад
правительству о состоянии Порохового откупа. Он под-
черкнул, что, несмотря на огромные прибыли, эта компания
откупщиков неудовлетворительно снабжает государство
порохом и помимо всего прочего подрывает... коро-
левскую соляную монополию, т. е. Генеральный откуп.
Поэтому он предложил упразднить Пороховой откуп и пе-
редать производство пороха государству. Этот проект
был одобрен министром финансов Тюрго, и в 1775 г. опас-
ный конкурент Генерального откупа был изничтожен. Мало
того, после образования казенного Управления порохов и
селитр сам Лавуазье был назначен одним из четырех
управителей.
Аннулирование договора с Пороховым откупом тре-
бовало уплаты неустойки, а французская казна была
почти пуста. И вот Лавуазье удалось провести блестя-
щую финансовую операцию. Четыре управителя порохов
предоставили взаймы правительству четыре миллиона
ливров в виде краткосрочного займа, причем обычный
легальный процент был для этого займа еще повышен.
Мало того, управители получали в одно и то же время
не только солидную „зарплату* как государственные
чиновники, но и большую премию за каждый фунт
изготовленного пороха и селитры, сверх установленного
плана. Не оставляя ни на минуту своих работ по Гене-
ральному откупу, не оставляя своих научных исследова-
ний, Лавуазье принялся за полную реорганизацию про-
изводства пороха и селитры.
В Управлении порохов и селитр с исключительным
блеском развернулись способности Лавуазье как пред-
принимателя, организатора и инженера. В апреле 1775 г.
он переселился в Арсенал, что позволило ему террито-
риально сблизить свою личную исследовательскую
лабораторию с органами порохового управления. Уже
Лавуазье во главе Управления порохов и селитр 347
два года спустя управители вернули себе с процентами
сумму, предоставленную взаймы государству, и начали
получать значительные премии.
Лавуазье обратил самое серьезное внимание на тех-
нику очистки селитры и изготовления пороха, а также
на разработку меловых залежей, содержавших некоторое
количество природной селитры. Весьма любопытен его
гмемуар „Эксперименты над золой, которую применяют
селитровары1 Парижа", в котором он показал, что, вопреки
существовавшему мнению, обработка селитры поташом
с технической стороны была бы значительно целесообраз-
нее, чем практикующаяся обработка золой. Однако
Лавуазье сам тут же подверг этот вопрос обсуждению
•с точки зрения экономической и... политической и пришел
к заключению, что применение технически несовершен-
ного метода все-таки должно быть сохранено исклю-
чительно во имя сохранения соляной монополии. Как
генеральный откупщик, он не подумал предложить
упразднение монополии, но сделал следующий вывод:
„Верно лишь, что в технике физические вопросы почти
всегда осложняются политическими вопросами, и поэтому
не надо спешить с произнесением заключения до тех
пор, пока данный предмет не рассмотрен со всех воз-
можных точек зрения".1 2
Тем не менее, постепенно ему удалось, отнюдь
не умаляя прав и доходов Генерального откупа, усовер-
шенствовать и увеличить производство и улучшить
качество селитры и пороха.
Благодаря деятельности Лавуазье за время с 1775
по 1788 г. производство пороха поднялось с миллиона
.шестисот тысяч фунтов до трех миллионов семисот семи-
1 Сборщики селитры, очищавшие ее путем обработки золой.
2 Oeuvres, t. II, р. 173.
348
И академик и делец
десяти фунтов. При этом дальность стрельбы была повы-
шена, примерно, со ста пятидесяти до двухсот сорока
метров. Это обстоятельство имело, между прочим, решаю-
щее значение для развития войны за независимость,
которую вели в то самое время Северо-американские Сое-
диненные Штаты против Англии. Как известно, Франция
поддерживала американцев, снабжая их деньгами, военными
материалами, а впоследствии (1778) и вооруженной силой.
И вот, франко-американская артиллерия оказалась неуяз-
вимой для англичан. На это обстоятельство с горечью
жаловались английские газеты и журналы.1
Таким образом можно полагать, что победа США
в борьбе за независимость против Англии была в извест-
ной мере ускорена благодаря работам Лавуазье.
IV
Еще не опубликованы дневники Лавуазье времен его
первых путешествий по Франции, где он записывал свои
путевые впечатления и наблюдения. Но из знаменитых
записок Артура Юнга,* 2 объехавшего Францию перед
самой Революцией, мы хорошо знаем, что представляло
собою французское земледелие при старом режиме.
У каждого, кто читал Юнга, стоят перед глазами ярко
написанные картины запущенных помещичьих земель,
картины страшной нищеты земледельцев. Все это, разу-
меется, видел и знал Лавуазье.
Как откупщик, как член Комитета пошлин, Лавуазье
повседневно сталкивался с потрясающим ростом нищеты
французского крестьянства и должен был воочию видеть,
как постепенно сужалась та база, на которой зиждилась
] Е. G г i m а и х. Lavoisier, р. 90.
2 A. Young. Travels in France 1786—1789.
Сельско-хозяйственные опыты
349
экономика Откупа, а следовательно, и экономика Франции
в целом.
Эти впечатления получали отчетливую поддержку
в трудах крупнейших экономистов того времени, при-
надлежавших к школе физиократов, считавших земледе-
лие основным источником богатства народов.
Повидимому, все эти обстоятельства, вместе взятые,
побудили Лавуазье уже в 1778 г. приобрести себе поместье
„Фрэшин", где он предпринял большое длительное
исследование методов улучшения земледелия и ското-
водства.
В августе 1787 г. он представил доклад о своих
опытах Сельско-хозяйственному обществу в Париже.1
В докладе он следующим образом объяснил свои наме-
рения: „Я полагал, что можно было бы оказать сущест-
венную пользу земледельцам кантона, показав им пример
сельского хозяйства, основанного на лучших принципах,
и я думаю, что перемена, которую можно было бы
достигнуть, была бы полезна помещику, предприняв-
шему ее“.
Мы не можем здесь входить в подробности этого
крайне интересного доклада, однако существенно отметить,
что за десять лет Лавуазье удалось превратить свое
поместье в образцовую скотоводческую ферму, в которой
урожай овса значительно превосходил потребность в нем
скота. Любопытны подробности организации руководства
фермой, сообщаемые им в своем докладе. Не имея воз-
можности постоянно присутствовать в „Фрэшин“, он при-
казал составлять все планы, описи и реестровые книги
в двух экземплярах с алфавитным указателем, так что,
находясь в Париже, он мог в любой момент получить
полную картину состояния фермы и давать соответ-
1 Oeuvres, t. II, р. 812.
350
И академик и делец
ствующие распоряжения. И, наконец, характерно, что и
в сельском хозяйстве, как и во всех своих работах вообще,,
он особенно подчеркивает, что у него на ферме все под-
лежит точнейшему учету в количестве и весе. Так,
например, при молотьбе, помимо общего веса, взвеши-
ваются отдельно зерно, солома и т. д. Лавуазье утвер-
ждал, будто путем поощрения крестьян-арендаторов, он
добился, что они получали в конце года треть урожая
в свое личное пользование. Особо подчеркивая это
обстоятельство, он замечает, что во Франции при суще-
ствующих порядках обычно „несчастному крестьянину
в конце года не остается почти ничего".
Лавуазье охарактеризовал следующим образом резуль-
таты своего опыта: „Он мне позволил осознать надежду
получения возможности улучшения национального благо-
состояния, воздействуя на общественное мнение как
в печати, так и непосредственно примерами, убеждая
крупных землевладельцев, капиталистов, зажиточных
людей вкладывать свои сбережения в земледелие. Подоб-
ного рода капиталовложения не представляют возможности
блестящей спекуляции посредством ажиотажа или игры
на биржевых ценностях, но вместе с тем они
и не сопровождаются таким же риском обратных коле-
баний; достигнутые успехи никого не доводят до слез;
наоборот, они сопровождаются благословениями бед-
няков. .."
Иными словами, Лавуазье искал новых путей приложе-
ния своих растущих капиталов. Он наглядно показал
что при надлежащем ведении дела можно сделать поме-
стье прибыльным, но тут же сталкивался с рядом обстоя-
тельств, мешавших развитию земледелия во Франции,—
это были феодальные налоги и подати, тяжким бременем
ложившиеся на крестьянина и лишавшие его всякого
интереса к улучшению методов землепользования.
Политические маневры Лавуазье накануне Революции
351
Когда в 1785 г. учрежденный министром финансов
Калонном правительственный комитет предложил Лавуазье
изложить свои соображения о методах поощрения, необхо-
димых для развития сельского хозяйства, последний
представил доклад, в котором прикинулся горячим
защитником крестьянства:
„До сих пор,— сказал он, — игнорировалось то обстоя-
тельство, что истинной целью правительства должно
быть умножение суммы радостей, счастья и благосостоя-
ния всех индивидов. Если коммерция поощрялась больше,
если к ней прислушивались больше, больше защищали,
чем сельское хозяйство, то причина заключается в том,
что профессия торговли осуществляется классом более
развитых граждан, умеющих говорить и писать, проживаю-
щих в городах, объединяющихся там между собою, голос
которых нетрудно услышать. А несчастный земледелец
стонет в своей хижине; у него нет ни представителя^,
ни защитника, а его интересы признаны' несуществую-
щими. . ?
И Лавуазье перечислил в качестве основных препят-
ствий к развитию земледелия в стране все виды податей
в пользу феодалов и духовенства. Он даже предложил
изменить форму косвенных налогов и пошлин, взимав-
шихся Откупом. Разумеется доклад не дал никаких пра-
ктических результатов.
В сентябре 1787 г. Лавуазье принял участие в Орлеане
в одном из проводившихся тогда провинциальных съездов
сословных представителей. И, несмотря на то, что он
числился аристократом, имел придворный титул кавалера
и обладал даже купленным гербом, который ставил-
на всех своих книгах и дневниках, тем не менее, на этом
собрании он присутствовал в качестве представителя.
iE.Gr imaux. Lavoisier, р. 162.
352
И академик и делец
третьего сословия. Повидимому, Лавуазье уже ясно
понимал в то время, что старый феодальный порядок
летит в пропасть и, как ловкий игрок, ставил ставку
на идущее к власти третье сословие.
И здесь, на Орлеанском съезде, Лавуазье потребовал
распространения на дворянство налога на строительство
дорог, который дотоле взимался исключительно лишь
с „подлых“ и „облагаемых", т. е. с крестьян. Это вы-
звало такую бурю среди присутствовавших феодалов, что
Лавуазье не оставалось ничего другого, как взять свое
предложение обратно.
Впрочем, вряд ли мог он ожидать, что даже сколь
угодно пламенная речь приведет к добровольному согласию
феодалов на отказ от своих материальных преимуществ.
Трудно подозревать в этом дельце такого рода детскую
наивность. Радикальное выступление Лавуазье следует,
очевидно, расценивать как чисто политический маневр,
направленный к тому, чтобы добиться популярности
в народных массах и приобрести себе ореол защитника
угнетенных к моменту надвигающейся Революции.
Вслед за тем он выступил с речью о необходимости
учреждения „Кассы страхования от болезни и старости".
Напыщенным слогом он описал всю благодетельную
сторону этого дела, изобразив трогательную картину
осчастливленных больных стариков и сирот. Затем
он перешел к описанию механизма действия этого страхо-
вого общества и с помощью статистических таблиц
смертности подсчитал ставки страховых взносов. И, нако-
нец, он предложил, дабы построить это „милосердное" дело
„на солидной основе и мудрых принципах", поручить
устройство кассы компании финансистов, предоставив
им монопольные права на пятнадцать лет.
Этот проект уже почти было прошел, но впоследствии
вызвал справедливые опасения, что „благотворительное
Денежный делец в роли благодетеля 353
дело станет объектом спекуляций", и не был осуществлен,
к большому неудовольствию Лавуазье.
Наконец, Лавуазье предложил организовать в Орлеане
филиал парижской „Ссудной кассы" для финансирования
торговли и промышленности, директором, основателем и
главным пайщиком которой являлся он сам.
В заключение он предложил собранию от себя лично
заем в четыре-пять миллионов ливров для авансирования
уплаты налогов.1
Ловкий, изобретательный и красноречивый делец
Лавуазье выдвигал этот план „помощи", разумеется, не
забывая ни на минуту своих личных интересов.
Но орлеанские финансовые проекты так и не были
осуществлены. Пока вопросы обсуждались в различных
провинциальных комиссиях, разразились грозные события
Революции.
1 Е. Gr imaux, ibidem, р. 184. Заметим, что Гримо и другие
буржуазные историки, приводя эти документальные данные, дают им
ложное освещение, изображая Лавуазье благодетелем И филантропом
безо всяких к тому оснований.
23 Дорфмаж
Глава XIV
ГОДЫ РЕВОЛЮЦИИ
Революция началась. — Разгром контор Генерального откупа у застав
Парижа. — Реорганизация Откупа и Управления порохов. — Лавуазье
тщетно старается остаться в аппарате. — Лавуазье — депутат Париж-
ской коммуны. — Письмо Лавуазье к Франклину о текущих собы-
тиях.— Общество 1789 г. — „Размышления об ассигнациях". — Ла-
вуазье заканчигает свой труд „О территориальном богатстве Фран-
ции" — первые статистически обоснованные данные о ресурсах
страны. — Лавуазье ищет популярности, но достигает обратных резуль-
татов.— Нападки Марата. — В Англии П >истли подвергается пресле-
дованиям за свою приверженность Французе ой революции. — Комис-
сия весов и мер. — Консультационное бюро. — Работа Лавуазье в
Академии. — Людовик XVI пытается усмирить Революцию. — Король
предлагает Лавуазье пост министра. — Ответное письмо королю.—
Загадочное обещание. — Организация Нового лицея. — Речь Лавуазье
на собрании учредителей Нового лицея. — Программа леьций. — Об-
щественные науки поручены Десодрэ. — Био, рафия Шарля Голлара-
де-Содрэ. — Разгадка обещания Лавуазье королю. — Лавуазье сосре-
доточивает свое внимание на казначейских должностях. — Письмо
к дядюшке. — Борьба за сохранение Академии. — Упразднение Ака-
демии. — „Размышления о народном образовании".
I
В ночь с 12 на 13 июля 1789 г. встревоженные упра-
вители порохов и селитр Лавуазье и Клуэ тайно отпра-
вили из Арсенала часть запасов пороха в самое, по их
мнению, над ежное убежище — Бастилию.
Революция началась. Разгром контор Генерального откупа 355
В эту самую ночь откупщики получили потрясающую
весть: неизвестными лицами были подожжены конторы
Генерального откупа у всех застав, от Сент-Антуанского
предместья вплоть до предместья Сент-Оноре. К утру
конторы выгорели до тла, и товары стали проходить
в Париж беспошлинно.
А 14 июля после кровопролитного боя вооруженный
народ штурмом овладел Бастилией.
С этого дня процесс распада старого порядка пошел
с головокружительной быстротой. Яростным нападкам
в газетах, листовках и памфлетах подвергся прежде всего
Генеральный откуп. Во главе атаки на откупщиков —
„пьявок" — стояли служащие самого Откупа. Лишь 20 мар-
та 1791 г. Национальное собрание, уступая настойчивым
требованиям народа, аннулировало наконец договор с от-
купщиками, установив задним числом дату расторжения
договора — 1 июля 1789 г. В газете „Рёге Duchene" №33
по этому поводу было сказано: „Как бы я хотел нахо-
диться в Доме откупа: наблюдать за зеленым столом
все эти толстые рожи откупщиков, когда они узнают
декрет Собрания... Они, конечно, постараются подра-
жать другим аристократам и унести за границу все то,
что содрали с нас".
Лавуазье добивался назначения то на пост начальника
национальных таможен, то начальника ввозных сборов
Парижа, ранее находившихся в ведении Откупа. Эта по-
пытка остаться в аппарате Откупа ему не удалась. Он
был назначен одним из комиссаров Национальной казны
(14 апреля 1791 г.). Между тем произошла реорганизация
Управления порохов и селитр, и Лавуазье лишился долж-
ности управителя. Он добился лишь разрешения временно
сохранить в Арсенале свою квартиру и лабораторию.
Еще в сентябре 1789 г. он был избран депутатом
парижской городской Коммуны от жителей квартала
23*
356
Годы Революции
св. Катерины. Состав большинства Коммуны был в то
время крайне умеренным и не отражал настроений париж-
ского населения. Страна продолжала бурлить, и вскоре
Лавуазье и его коллеги почувствовали, что события идут
гораздо дальше, чем им хотелось бы.
Каковы были взгляды Лавуазье и его сторонников
в тот момент, можно отчетливо судить по содержанию
сохранившегося письма, адресованного им в Америку
известному ученому и консервативному политическому
деятелю Вениамину Франклину.
„... После того, как я Вам рассказал о том, что
происходит в химии, следует сообщить Вам и о нашей
политической революции; мы ее считаем уже совершив-
шейся и совершившейся бесповоротно; существует, впро-
чем, весьма слабая аристократическая партия, которая
делает тщетные усилия.1 Партия демократическая имеет
на своей стороне и численность, и философию, и ученых.
Люди умеренные, сохранившие хладнокровие в этом все-
общем брожении, полагают, что обстоятельства нас заве-
ли слишком далеко, и весьма печально, что пришлось
вооружить народ и всех граждан; они же полагают,
что неполитично давать власть в руки тем, кто должен
повиноваться, и что приходится опасаться противодей-
ствия установлению новой конституции со стороны тех,
ради кого она создана.
„Мы очень сожалеем, что в этот момент вы находитесь
столь далеко от Франции; вы были бы нашим проводни-
ком и вы бы указали нам границы, которых нам не сле-
довало переступать".
Примерно в это самое время в Париже, по инициа-
тиве Мирабо, Лавуазье, Кондорсе, Сийэса и других, обра-
зовалось „Общество 1789 года", стремившееся остано-
1 В борьбе с революцией (примечание мое Д. Я.).
«О территориальном богатстве Франции»
357
вить Революцию на рубеже монархической конституции
1789 года. Впрочем, Общество претендовало на то,
будто оно вовсе не занимается политикой, а служит лишь
„агентом для распространения социальных истин", разви-
вая и защищая „свободную конституцию".
Впоследствии пребывание в этом Обществе служило
достаточным основанием для того, чтобы попасть в спи-
сок „подозреваемых".
Лавуазье регулярно посещал это контрреволюционное
Общество и одно время состоял его секретарем.
20 августа 1790 г. он доложил здесь свои „Размышления
об ассигнациях", полные грозных предзнаменований отно-
сительно растущей инфляции. К концу 1791 г. Общество,
повидимому, прекратило свое существование.
В то время Лавуазье заканчивал свой давно начатый
труд „О территориальном богатстве Франции", предста-
вляющий собою одно из наиболее выдающихся класси-
ческих сочинений по статистике, где впервые были даны
хотя бы приблизительно статистически обоснованные
цифровые данные о ресурсах страны.
Во введении к своей „холодной, как сам разум" ра-
боте Лавуазье говорит о важности задачи, которую он
перед собою поставил:
„Пусть мне будет дозволено здесь заметить, что тот
вид комбинаций и расчетов, примеры которых я здесь
постарался привести, являются основой всякой полити-
ческой экономии. Эта наука, как и почти все прочие,
началась с дискуссий и с метафизических рассуждений;
теория ушла вперед, но практика еще в младенческом
возрасте, и государственные люди лишены тех необхо-
димых в любой момент фактов, на которых можно было
бы обосновать соображения".1
1 Oeuvres, t. VI, р. 403.
358
Г оды Революции
При разборе вопросов математической статистики Ла-
вуазье был тесно связан с Лагранжем.
Лишь много позднее (1795) Лагранж анонимно опу-
бликовал свой труд „Эскиз политической арифметики",
где он специально рассматривает методику расчетов
Лавуазье.
В работе Лавуазье впервые со всей ясностью пока-
зано было значение третьего сословия по сравнению
с дворянством. Это исследование он представил Нацио-
нальному собранию 15 марта 1791 г.; его доклад был
удостоен похвалы и был почти немедленно опубликован
отдельной брошюрой.
Известный политический деятель того времени эконо-
мист Редерер, одно время участвовавший в „Обществе
1789 г.", затем неоднократно менявший свои взгляды,
говорил впоследствии, будто лишь по его настоянию
Лавуазье согласился представить свой не вполне закон-
ченный труд Национальному собранию.1
Лавуазье всячески старался в это время привлечь
к себе общественные симпатии. Так, например, он вдруг
счел необходимым публично отказаться от содержания
за исполнение функций комиссара Национальной казны,
якобы потому, что в такое тяжелое время он „ни за что
на свете не может согласиться на второй оклад". Затем
он отказался от своего содержания по должности казна-
чея Академии Наук в пользу канцелярских служащих
Академии.
Однако ни похвалы Национального собрания по пово-
ду его труда, ни громкие отказы от вознаграждения по
совместительству не могли ни в малейшей степени смяг-
чить ту ненависть, которой было уже окружено его имя
1 Melanges d’e^onomie politique. Paris, 1847. Там же напечатаны
труды Лавуазье и Лагранжа.
Лавуазье ищет популярности, но достигает обратного 359
дельца, и повлиять на ту пропаганду, которая велась
революционными кругами для того, чтобы окончательно
закрыть ему дорогу в выборные учреждения. Марат
в своей газете „L’Ami du Peuple" („Друг народа") от
27 января 1791 г. давал Лавуазье следующую харак-
теристику:
„Я доношу Вам на корифея шарлатанов, госпо-
дина Лавуазье, сына пройдохи, недоучившегося хи-
мика, выученика женевского биржевика, генерального
откупщика, управителя порохов и селитр, админи-
стратора ссудной кассы, секретаря короля, члена Акаде-
мии Наук.
„Поверите ли Вы, что этот господчик, получающий
сорок тысяч ливров ренты и не имеющий никаких при-
чин для общественной признательности за заключение
Парижа в тюрьму, за прекращение циркуляции воздуха
посредством стены, которая обошлась беднякам в трид-
цать три миллиона, и за вывоз пороха из Арсенала
в Бастилию в ночь с 12 на 13 июля, что этот хитрый, как
демон, господчик может быть избранным в качестве адми-
нистратора Парижского департамента?"
Попытки Лавуазье добиться популярности и его де-
монстративные общественные выступления только пона-
прасну привлекали внимание к его личности и вызывали
раздражение, усиление нападок со стороны тех, кто ему
не доверял и кто справедливо опасался его влияния на
политическую жизнь.
Между тем как во Франции Лавуазье подвергался
жестоким нападкам со стороны якобинцев, как опасный
контрреволюционер, его английский оппонент, противник
его новых химических доктрин, Дж. Пристли вызвал бурю
негодования среди британских реакционеров своей горя-
чей и искренней приверженностью идеям Французской
революции.
360 Годы Революции
14 июля 1791 г., когда Пристли и его друзья празд-
новали в Бирмингэме вторую годовщину падения Басти-
лии, толпа погромщиков при благосклонном содействии
властей разгромила его дом и лабораторию, разбив
вдребезги аппараты и развеяв по ветру клочки рукопи-
сей. Пристли и его семья при этом едва не поплатились
жизнью.
„ ... В случае дальнейших беспорядков, которых мы
продолжаем опасаться, я буду рад искать убежища
в Вашей стране, в которой свободы, как я надеюсь,
восторжествуют независимо от существующего ныне
враждебного настроения по отношению к Вам лично.
И я надеюсь, что этот вывод будет столь же благоприя-
тен для науки, как и для свободы...“ — писал Дж.
Пристли в январе 1792 г., обращаясь в Париж к Лавуа-
зье.1
II
Декретом от 8 мая 1790 г. Национальное собрание
поручило Академии Наук разработку единой системы
мер и весов во Франции.
В Академии была создана Центральная комиссия весов
и мер, которая представила 19 марта 1791 г. свои пред-
ложения по этому вопросу, ' omhccih признала, что осно-
вой новой системы должна служить единица длины, соот-
ветствующая четверти земного меридиана. Одна десяти-
миллионная доля этой длины должна была быть принята
в качестве обычной еданицы.
В то время было выдвинуто два предложения для вы-
бора новой системы единиц. Одни предлагали выбрать
часть земного меридиана, как незыблемую величину, ко-
1 W. R. Aykroyd. Three philosophers, р. 157. >
Комиссия весов и мер
361
торую всегда можно проверить. Другие предлагали
выбрать за основу длину секундного маятника на сорок
пятой параллели. Комиссия высказалась за часть мериди-
ана. В сущности говоря, оба предложения были оди-
наково хорошо обоснованы; длина секундного маятника
на сорок пятой параллели столь же незыблемая величина,
как и длина земного меридиана. Правда, для определения
длины секундного маятника требуется определить астро-
номическую секунду, т. е. время, между тем как в изме-
рения длины меридиана ничего, кроме длины, не входит.
Но вряд ли это обстоятельство могло служить серьезным
препятствием.
Для установления истинной длины меридиана, Кассини,
Мешэну и Лежандру было поручено определение расстояния
между Дюнкерком и Барселоной на основе триангуляции.
Монж и Мессье должны были определить основание соот-
ветствующих треугольников. Борда и Кулону было поручено
измерение секундного маятника на сорок пятой парал-
лели; Тиллэ, Бриссону и Вандермонду — сравнение с па-
рижским туазом и с фунтом всех мер длины и веса, имев-
ших хождение во Франции. Наконец, на Лавуазье и Гаюи
било возложено измерение веса некоторого объема
дистиллированной воды, приведенного к 0° температуры
по шкале Реомюра с поправкой на атмосферное давление.
Национальное собрание ассигновало на эти исследо-
вания триста тысяч ливров. Лавуазье, назначенный
в 1791 г. казначеем Академии Наук, принял на себя
также обязанности казначея и секретаря Комиссии весов
и мер.
В сентябре 1791 г. правительством было образовано
Кольсультационное бюро искусств и ремесел, в которое
бо1ли введены представители различных ученых учре-
ждений и обществ в том числе и Лавуазье. На это Бюро
была возложена часть функций, выполнявшихся ранее
362
Годы Революции
Академией Наук, а именно рассмотрение различных
предложений и технических изобретений, число которых
значительно возросло в тот момент. Кроме того, Бюро
должно было присуждать вознаграждения и премии отдель-
ным изобретателям. Таким образом, учреждение Бюро
явилось естественным следствием расширения функций
и задач Академии Наук во Франции в эпоху Рево-
люции.
Лавуазье выпала роль составления многочисленных
докладов и отзывов по самым разнообразным вопросам;
в частности, ему была поручена разработка системы про-
фессионального образования, о которой речь будет
ниже»
Он старался всеми мерами поддерживать научную
работу Академии в самые бурные и самые трудные годы
Революции. Он неоднократно подчеркивает, что для пре-
стижа Франции, для ее будущего необходимо, чтобы
продолжалась и развивалась та огромная теоретическая
исследовательская работа, которая велась в Академии.
Одним из способов, посредством которых Парижская
Академия Наук издавна направляла научную мысль на
наиболее интересные теоретические и практические про-
блемы,— были конкурсы на заданную тему, объявляемые
ежегодно. В бумагах Лавуазье сохранился черновой
проект конкурса на 1794 г., написанный им в 1792 г.
В этом конкурсе, как и прежде, могли участвовать все
ученые мира.
Проблема, которую он ставит, заключается в следую-
щем:
„Растения заимствуют из окружающего их воздуха,
из воды, вообще из минерального царства все материалы,
необходимые для их образования.
„Животные питаются либо растениями, либо другими
животными» которые сами питались растениями; таким
Работа в Консультационном Бюро и в Академии 363
образом все материалы, из которых они построены,
в конечном счете, извлечены из воздуха или из царства
минералов.
„Наконец, брожение, гниение и горение непрерывно
возвращают атмосферному воздуху и минеральному цар-
ству те начала, которые были позаимствованы оттуда
растениями и животными.
„Какими же путями осуществляет природа этот кру-
говорот между тремя царствами? Каким образом дости-
гает она образования веществ, способных к брожению,
горению и гниению из материалов, которые не имели
ни одного из этих свойств?"
Итак, Лавуазье предлагал ученым действительно один
из величайших вопросов биохимии. Детально разбирая
эту проблему, он особо подчеркивает, что процессы
„анимализации" и „вегетализации", являясь процессами,
диаметрально противоположными гниению, брожению
и горению, достойны самого серьезного и длительного
изучения. Он указывает, что, разумеется, не ждет, что-
бы вся эта гигантская проблема в целом была решена
одним ударом, но надеется на выяснение хотя бы неко-
торых ее основ.
Возможно, что и сам Лавуазье предполагал участвовать
в этом конкурсе; быть может, он уже наметил какие-то
пути исследования проблемы... До нас, однако, эти за-
мыслы не дошли.
Ш
20 апреля 1792 г. началась война. Против револю-
ционной Франции объединились король Пруссии и Габс-
бурги.
Людовик XVI, пойманный народом в городе Варенн
при попытке бегства за границу и возвращенный под
364
Годы Революции
арестом в Париж, продолжал еще именоваться ко-
ролем.
Наступило лето. Поражение следовало за поражением.
Паника охватила Национальное собрание. Враги наступали.
Свободы, завоеванные буржуазией у феодалов, станови-
лись под угрозу. Законодательное собрание, видя, как
с каждым часом усиливаются силы реакции, решилось,
наконец, издать несколько декретов, Направленных
к ослаблению реакционеров и к усилению защиты
столицы.
В этот момент Людовик XVI, со дня на день ожи-
давший окончательной победы интервентов и разгрома
революционеров, воспользовался своим правом монарха,
чтобы росчерком пера отменить все эти декреты.
10 июня министр внутренних дел Роллан обратился
к королю с пространным письмом, в котором слезно
уговаривал его отказаться от этого шага.
„... Ваше величество, нынешнее состояние Франции
не может долго продолжаться... — писал перепуганный
Роллан.
„Брожение достигло крайних пределов во всех
частях государства; оно закончится ужаснейшим взры-
вом, если только обоснованное доверие к намерениям
вашего величества не сможет, наконец, успокоить это
волнение.
„Сейчас больше нет времени для отступлений, нет бо-
лее средств выжидать. Револк ция в умах совершилась, она
закончится ценою крови и будет кровью скреплена, если
только мудрость не предупредит тех несчастий, которые
еще можно избежать..."
Любопытно, что именно в этот момент, когда король
решил перейти в наступление для усмирения Революции,
взоры его обратились к Лавуазье, как к подходящему
..кандидату на пост одного из министров, .. .
Письмо Лавуазье королю Людовику XVI 365
15 июня 1792 г. Людовик XVI лично предложил
„члену Академии Наук кавалеру Лавуазье* принять
на себя пост министра государственных имуществ в новом
кабинете.
На это приглашение Лавуазье ответил следующим
письмом:1
„Государь! Отнюдь не из малодушия, столь мало
свойственного моему характеру, ни из-за отсутствия
интереса к общему делу, ни даже, — что я хотел бы
особо подчеркнуть, — из-за сознания недостаточности
моих сил я вынужден отказаться от того знака доверия,
которым Ваше величество меня почтили, предложив мне
пост министра государственных имуществ.
„Во время моей работы в казначействе я был свиде-
телем высоко патриотических чувств Вашего величества,
Ваших нежных забот о благе народа, Вашей непреклон-
ной строгости принципов, Вашей неизменной честности,
и я так глубоко чувствую, что не могу даже выразить
то, от чего я отказываюсь, теряя возможность превра-
титься в орудие Ваших чувств перед нацией.
„Однако, Ваше величество, по долгу честного человека
и гражданина я вынужден принять ответственный пост
лишь постольку, поскольку я могу надеяться выполнить
свои обзательства во всем их объеме.
Я не якобинец и не фельян.1 2 Я не принадлежу
ни к какому обществу, ни к какому клубу. Привыкший
все взвешивать на весах моей совести и моего разума,
я никогда бы не мог согласиться на то, чтобы отдать
мои взгляды на усмотрение какой-либо партии. Я поклялся
1 Е. Grim а их. Lavoisier, р. 216.— Guizot. Melanges biogra-
phiques et litteraires.
2 Фельянами именовались члены контрреволюционного „Обще-
ства умеренных", основанного в 1790 г.
36б Гйды Революции
с искренним сердцем в верности как конституции, которую
Вы приняли, так и полномочиям, предоставленным народу,
так и, наконец, в верности Вам, государь, конституцион-
ному королю французов, Вам, чьи несчастья и доброде-
тели недостаточно понимаются.
„Будучи убежден, что Законодательное собрание вышло
за пределы того, что ему предоставила конституция, что
может сделать конституционный министр? Неспособный
согласовать свои принципы и свою совесть, он тщетно
взывал бы к подчинению закону, который приняли на
себя все французы в торжественной клятве. Сопротив-
ление посредством методов, предоставленных Вашему
величеству конституцией, которое он мог бы Вам посове-
товать, было бы воспринято как преступление. И я погиб
бы жертвой своего долга, а непреклонность моего харак-
тера стала бы даже источником новых бед.
„Государь, разрешите мне продолжать мои труды
и мое существование на пользу государства, занимая
менее высокие посты, где бы я мог, однако, служить
с большей пользой, вероятно, более долговечно.
„Посвящая свою деятельность народному просвеще-
нию, я постараюсь впредь разъяснять народу его обязан-
ности. В качестве солдата и гражданина я буду носить
оружие в защиту закона, в защиту безопасности бессмен-
ного представителя французского народа.
„Остаюсь, государь, с глубоким почтением Вашего
величества нижайшим и покорнейшим слугою
Лавуазье
Конец этого письма вызывает удивление. Ведь Лавуазье
нигде и никогда не имел кафедры, педагогическЪй дея-
тельностью не занимался. Где же намеревался он посвя-
тить свою деятельность народному просвещению? Но
Лавуазье не любил тратить слов впустую.
Организация Нового лицея
3$
IV
Задолго до революции в Париже было создано на
улице Валуа специальное учреждение — Лицей, где круп-
нейшие ученые читали популярные лекции перед избран-
ной аудиторией, перед сливками „света". Здесь можно
было видеть и принцев, и маршалов, и финансистов,
не всегда слушавших и редко понимавших; светские
дамы аккуратно посещали Лицей. Такова была мода.
Зал Лицея вмещал до трехсот слушателей. Здесь Мар-
монтель преподавал историю, Кондорсэ — математику,
Фуркруа — химию, Монж — физику. Публику неизменно
привлекали блестящие лекции Фуркруа, иллюстрирован-
ные яркими демонстрационными опытами. Молодой Фур-
круа здесь рассказывал о природе горения, о никчем-
ности теории флогистона, о природе воды, о новых
понятиях, введенных в физику и j химию j школой его
учителя Лавуазье.
И по словам очевидца — Николая Михайловича Карам-
зина— „слава Лавуазьерова пристрастила многих здешних
дам к химии так, что красавицы любили изъяснять неж-
ные движения сердец своих химическими операциями".1
Центром столицы, или, как писал Н. М. Карамзин,
„сердцем, душою, мозгом, извлечением Парижа" был
Палэ-Рояль (буквально: дворец короля). Когда-то здесь
помещался двор принца Орлеанского. Незадолго до
Революции предприимчивый принц превратил свою огром-
ную резиденцию со всеми залами, галереями, парком
и службами в своего рода гигантский гостиный двор.
Зрительные залы, балаганы, ларьки, лавки, магазины,
рестораны, кафэ, кабачки и притоны представляли собою
1 Н. М. Карамзин. Соч., т. IV, стр. 177.
368
Годы Революции
доходное заведение. И парижане в шутку именовали
Палэ-Рояль— „Палэ-Маршан* (Дворец торговли).
Здесь можно было найти все: от последних новинок
литературы — до гнуснейшего разврата. Здесь собирались
огромные толпы народа. В кабачках и кафэ обсуждались
последние новости, устраивались политические собрания.
В Палэ-Рояле обсуждались стратегические планы
первых революционных выступлений. В первые же дни
Революции принц Орлеанский прикинулся революционе-
ром и стал гражданином Эгалитэ (Равенство). И Палэ-
Рояль был торжественно переименован в Палэ-Эталите.
От этого изменения вывески ни сам принц, ни его поч-
тенное заведение не изменили внутреннего содержания.
И хотя в многочисленных кафэ Палэ-Эгалитэ кипели
политические дебаты и дискуссии, — тут же рядом заклю-
чались спекулятивные сделки и за занавесками совер-
шались оргии.
В центре парка Палэ-Эгалитэ находилось своеобраз-
ное удлиненной формы здание „Цирк“, когда-то манеж
для верховой езды. До Революции этот „Цирк" служил
концертным залом. После Революции это „удивительное,
единственное в своем роде",1 здание пустовало.
В один прекрасный весенний день 1792 г. „Цирк"
вдруг наполнился плотниками и малярами. В здании стали
возводить перегородки, устраивать какие-то новые поме-
щения под магазины, кафэ, рестораны и увеселитель-
ные заведения.
Между тем, торговля в городе шла из рук вон плохо.
Война, нараставшая угроза голода, обесценение бумаж-
ных денег, разорение ^множества богачей отразились
и на доходах предприятий бывшего Палэ-Рояля. Лавоч-
ники нередко часами сидели в пустующих помещениях,
1 Ibidem, стр. 158.
Организация Нового лицея
369
тщетно ожидая клиентов. Многие предприятия закрылись
И вдруг в этот момент кому-то взбрело на ум тратить
средства на устройство тут же рядом, да притом еще
не на самом бойком месте, а где-то внутри парка, новых
лавок и кафэ. Выдумка должна была казаться на ред-
кость странной.
Вскоре здесь открылось замечательное учреждение —
Новый лицей. Широковещательные афиши сообщали
о программах спектаклей, докладов и лекций:
„Основатели Нового лицея поставили себе задачей
создать в Париже в Цирке Палэ-Эгалитэ нечто вроде
свободного общества ученых и художников, чтобы при-
суждать призы и премии, чтобы организовать публичные
лекции по всем областям наук и искусств.
„В первое воскресенье каждого месяца дирекцией
устраивается публичное заседание в зале Цирка Палэ-
Эгалитэ. Эти сеансы имеют целью ознакомить публику
с открытиями, сделанными за последний месяц во всех
разветвлениях человеческого знания, о мемуарах, о кни-
гах, о гравюрах, об инструментах, о продукции природы,
о машинах, о состоянии народного просвещения, на них
будут читаться отрывки из литературы*.
Афиши сообщали об устройстве курсов по всем
областям наук: по коммерции, мореплаванию, артиллерии
и строительному делу, по иностранным языкам.
В афишах указывалось также, что лица, внесшие
абонементную плату за обучение на курсах, имеют
право бесплатного входа на спектакли и могут, таким
образом, по доступной цене „соединить приятное с по-
лезным".
Афиши сообщали, что лекции поручены: физика — бле-
стящему лектору Фуркруа, математика и механика — круп-
ному специалисту Дюма, экономика и социальные науки —
Десодрэ.
24 Дорфман
370
Годы Революции
Курсы, позволяющие быстро и по доступной цене
приобрести необходимые профессиональные знания, долж-
ны были произвести огромное впечатление.
В эти годы появилась колоссальная жажда знаний. Неда*
ром один секретный агент доносил: „Со всех сторон идут
требования о создании начальных школ; молодежь все*
мерно стремится приобрести основы республиканизма".
Создание в этот момент крупного научно-учебного учре-
ждения, где молодежь могла получить не только общее
образование, но и профессиональное образование, пред-
ставляло собою выдающееся событие. Еще никогда
старый Лицей не видел ни такого скопления народа, ни
такой подлинной жажды знаний.
4 мая 1793 г. в одном из зал собрались основатели
Нового лицея совместно с несколькими администрато-
рами старого Лицея.
С докладом о работе нового учреждения на этом
закрытом собрании выступил один из главных организа-
торов и вдохновителей Нового лицея — Антуан Лоран
Лавуазье.
Протокол заседания с текстом его речи, как и приве-
денный выше черновик афиши, был впоследствии найден
в бумагах Лавуазье.1
„В тот самый момент, — сказал он, — когда прозябает
торговля, когда изящные искусства заброшены, когда
большая часть богатых людей покинула свои насиженные
жилища, когда старый Лицей на улице Валуа уже еле
держится, когда зажиточные люди сами добровольно
подвергают себя лишениям, боясь привлечь на себя бремя
налогов, — в этот момент в лоне города Парижа создана
новая большая организация.
1 Oeuvres, t. VI, р. 559.
Речь Лавуазье на собрании учредителей Лицея
371
„Эта организация вынуждена платить одной лишь
платы за помещение шестьдесят тысяч ливров в год,
и для верности она уплатила сто тысяч ливров авансом;
эта организация устроила роскошные торговые помеще-
ния, залы для собраний и спектаклей; она создала план
бесплатного народного обучения по всем почти областям
человеческого знания; она собрала превосходных про-
фессоров; она распределяет премии и призы...
„Такого рода организация, которая не имеет ничего
кроме объектов расхода и обладает лишь крохотными
источниками дохода, в самом деле изумляет".
Лавуазье продолжал:
„Средства Нового лицея складываются из: 1) доходов
от спектаклей, 2) средств, получаемых от сдачи торговых
помещений, 3) абонементов.
„Администрация полагала, что эти три источника
дохода взаимно дополняют друг друга.
„Спектакль, устроенный в центре Парижа, в месте
обычного скопления населения, должен был привлекать
публику. Если к этому первому средству сбора многочис-
ленной публики в определенные часы добавить еще дру-
гие способы, как, например, публичные собрания, публич-
ные курсы, которые могли бы привлекать большое коли-
чество слушателей, Цирк стал бы центральным местом,
через которое текли бы огромные количества товаров
и предметов потребления. В этот момент, когда всякого
рода индустрия стала свободной, торговые помещения,
прилежащие к Цирку, могли бы сдаваться в наем
с немалой прибылью. Мы подумали также и о том,
разумеется, что абонементы, которые не только дают
право на обучение во всех областях, но, вместе
с тем, открывают возможность бесплатного входа на
спектакли, имели бы большой успех, соединяя приятное
с полезным
24-
372
Годы Революции
„Можно всецело рассчитывать на большую активность
членов дирекции, — заметил далее докладчик, — основатели
сделают все от них зависящее, чтобы всячески поддер-
жать предприятие, которое может быть особенно полез-
ным в этот момент, когда народное просвещение уже
более не существует".
Зная, повидимому, что администрация старого Лицея
стремится прибрать Новый лицей к рукам, Лавуазье как бы
невзначай добавил, что все это предприятие немедленно
увяло бы, если бы вдруг данная дирекция была отстранена.
Лавуазье особо напомнил администраторам старого
Лицея о том огромном общественно-политическом значе-
нии, которое имеет уже Новый лицей.
„Он дал в текущем году первый опыт курса социаль-
ной организации. Этот продуманный курс, подготовленный
заранее, вобравший в себя все наиболее интересное, что
существует в политической экономии,’ объяснения, отно-
сящиеся к балансу торговли, расчеты, относящиеся
к численности населения, общие взгляды о том, в чем
заключается мощь империй, о методах подъема и стиму-
лирования промышленности и оживления коммерции и
земледелия; этот курс трактует о деталях той единствен-
ной цели, существующей у всякого социального устрой-
ства, сделать людей наивозможно более счастливыми.
Замечательный курс привлечет, вероятно, большое коли-
чество слушателей и распространит, таким образом, зна-
ния, особенно полезные для человечества".
Разумеется, такого рода курсы представляли огром-
ный интерес. Любопытно, что автором курса политиче-
ской экономии был сам директор Нового лицея Шарль
Десодрэ. Кто же был этот Десодрэ? Какова была его
политическая физиономия?
Когда-то дворянин Шарль Голлар-де-Содрэ окончил
Военно-инженерную школу. Затем он служил секретарем
Биография Шарля Голлара-де-Содрэ
373
французского посольства в Швеции, в Дании и, наконец,
в Санкт-Петербурге. Здесь в 1767 г. он написал мемуар
о замерзании ртути, о котором упоминалось выше.1 Вер-
нувшись вскоре из России, де-Содрэ поступил на службу
в армию. Революция его застала в должности офицера
королевской гвардии. Во время уличных беспорядков
в день взятия Бастилии де-Содрэ спас от гибели Клуэ —
одного из ближайших сотрудников Лавуазье по Арсе-
налу.
Оправившись от легкого ранения, нанесенного ему
восставшими, де-Содрэ принялся энергично помогать
генералу Лафайету в деле организации контрреволю-
ционной национальной гвардии. Эти заслуги его перед
реакцией были высоко оценены. Близкий друг Лавуазье,
мэр города Парижа академик Байи, умудрился исходатай-
ствовать солидную пенсию нескольким „жертвам бун-
товщиков" и, в частности, командиру отряда националь-
ной гвардии де-Содрэ.
В 1792 г. этот отставной королевский офицер, ныне
переименованный в гражданина Десодрэ, был привлечен
Лавуазье к делу организации Нового лицея 1 2 в качестве...
крупнейшего специалиста по политической экономии
и сельскому хозяйству. Никто не подозревал у него
столь замечательных знаний. Гражданин Десодрэ стал
научным руководителем Нового лицея. Фактически науч-
ная программа Нового лицея была создана самим Лавуа-
зье. Но он предпочел остаться в тени, сохранив за собою
скромную роль одного из учредителей „Нового лицея
наук и искусств". Десодрэ служил, повидимому, лишь
подставной фигурой, живым рупором и политических
и экономических контрреволюционных идей Лавуазье.
1 См. стр. 297.
2 Michaud. Biographic Universelle 1812—1860, t. XIII, Desodray,
374
Г оды Революции
Повидимому, на этом новом „незаметном** посту
Лавуазье осуществлял свои торжественные обещания,
данные им недавно королю Людовику XVI:
„Занимаясь народным просвещением, я постараюсь
разъяснить народу его обязанности".
V
Деятельность учредителя „Лицея наук и искусств"
не была единственным занятием Лавуазье в эти годы.
Одновременно он занимал следующие посты: казначея
Академии Наук, казначея Комиссии весов и мер, дирек-
тора Ссудной кассы, комиссара Национальной казны
и члена Консультационного бюро.
Представляется на первый взгляд странным, что именно
в эти годы Лавуазье сосредоточил свое внимание на каз-
начейских и финансовых должностях. Но сочетание и
сплетение всех этих разнообразных финансовых функ-
ций позволяло ему, повидимому, маневрировать деньгами
и спасать свое личное состояние, переводя его частично
в иные ценности.
Лавуазье был вновь привлечен к Управлению поро-
хов. Однако ненависть и подозрения, окружавшие его
имя, заставили правительство снять его вторично с этого
поста. На сей раз ему пришлось окончательно пере-
нести свое жилье и лабораторию из пределов Арсе-
нала, и он поселился в доме № 243 по бульвару де-ля-
Мадлен.
Его деятельность в Ссудной кассе, связанная со скуп-
кой и спекуляцией конфискованными недвижимостями,
поступавшими на национальные аукционы, вызывала силь-
ные нападки. Повидимому, такого рода обвинения заста-
вили Лавуазье в феврале 1792 г. покинуть свой пост
в Национальной казне,
Лавуазье на казначейских должностях. Письмо дядюшке 375
Комиссия весов и мер позволяла ему почти бескон-
трольно сноситься с иностранными банкирами, через кото-
рых он должен был снабжать необходимыми средствами
астрономов Мешэна и Деламбра, занятых измерениями
длины меридиана в Испании. В сохранившемся письме
Лавуазье называет имя испанского банкира, от которого
им надлежит получить деньги.1
Поскольку касса Академии фактически была пуста,
Лавуазье авансировал из своих личных средств большин-
ство ее расходов с целью сохранить капитал.
Повидимому, довольно значительная часть средств
Лавуазье была вложена в недвижимости во Франции.
Это видно, например, из его собственноручного письма,
недавно найденного в Англии.8 Откровенное письмо так
метко характеризует Лавуазье вне науки, что мы позво-
ляем себе привести его целиком.
Письмо адресовано его родственнику, гражданину
Ш. А. Паризис, управлявшему, очевидно, поместьями
Лавуазье.
„Дорогой дядюшка! На основании декрета о принуди-
тельном займе я должен подать декларацию о ценности
моих имений и о размере моих доходов с них, согласно
реестровым книгам. Буду Вам крайне признателен, если
Вы распорядитесь сделать выписку из реестровых книг
в каждом районе, где имеются мои угодья.
„Вы, конечно, понимаете, что при таком способе под-
счета стоимость земли и размеры доходов окажутся зна- 1 2
1 Е. Grimaux. Lavoisier, р. 220. Как, между прочим, явствует
из этого письма, операции финансирования Мешэна и Деламбра за
границей осуществлялись Лавуазье при участии крупного парижского
банкира Лекюльтё, в доме которого по бульвару де-ля-Мадлен он в то
время проживал. Банкир Лекюльтё был тесно связан с иностранными
банками и с иностранными агентами в Париже.
2 Nature, vol. 130, 1932, р. 97.
376
Г оды Революции
чительно ниже истинных. Однако, поскольку закон ука-
зывает на необходимость пользоваться данными именно
реестровых книг, то, очевидно, было бы просто нелепо
не воспользоваться лазейкой, предоставленной самим
законом.
„Закон дает на все это дело всего лишь пятнадцать
дней, а потому нельзя терять ни одной минуты.
„Я что-то давно не получал от Вас никаких известий.
Вы, вероятно, очень заняты теперь в связи с этими бес-
численными реквизициями.
„Дорогой дядюшка! У Вас наверно легче достать бобы,
чем у нас в Париже. Здесь они исчезли совсем. Не
смогли ли бы Вы прислать нам бобов, которые я, кстати,
должен был получить в счет оброка. В ближайшую зиму,
при том положении, до которого здесь все дошло, нужда
в съестных припасах будет огромна, и бобы смогут ока-
заться нам крайне полезными.
„Примите мой сердечный привет.
Лавуазье".
18 июля 1793 г.
Год II Республики
единой и неделимой.
VI
Парижская Академия Наук продолжала регулярно
собираться, хотя ее состав заметно поредел; присутство-
вавшие обычно на заседаниях представители знати либо
эмигрировали, либо были высланы из Парижа. Однако
регулярно являлись крупнейшие ученые: Гаюи, Кузен,
Кулон, Бомэ, Кассини, Лаланд, Ламарк, Лаплас, Лагранж,
Борда, Бертолле, Фуркруа, Вик д’Азир и другие.
25 апреля 1792 г. Фуркруа сообщил Академии о том,
что Медицинское общество исключило из своего состава,
Борьба за сохранение Академии
377
во-первых, всех эмигрантов и, во-вторых, всех общепри-
знанных контрреволюционеров, и он предложил также
исключить из состава Академии Наук некоторых ее
членов, „известных своей не гражданственностью" („соп-
nus par leur incivisme"). Однако Академия в издеватель-
ской форме отклонила это предложение Фуркруа.
Между тем, в кругах Конвента все сильнее развива-
лись тенденции к закрытию всевозможных научных
обществ и всех академий в Париже и в провинции. Эти
тенденции питались из двух противоположных источни-
ков. С одной стороны, многие опасались, что названные
учреждения могли служить центрами объединения груп-
пировок, враждебных новому режиму. С другой стороны,
многие деятели и особенно художники (во главе со зна-
менитым Луи Давидом) считали, что развитию свободной
живописи и скульптуры вредят патентованные академии
искусств. Давид предлагал уничтожить эти академии „во
имя любви к искусству, особенно во имя любви к молодо-
сти".
Но он легко обобщал эти рассуждения: „Говорить
об одной академии значит говорить обо всех"...
Через посредство влиятельных деятелей — Лаканаля,
Грегуара и других Лавуазье вел отчаянную борьбу за
сохранение Академии Наук.
„Мы не станем оскорблять представителей француз-
ской нации, задавая им вопрос: полезны ли науки и искус-
ства в крупной державе, — писал он Лаканалю. — Сегодня
всем известно, что сила и мощь наций есть результат
не только плодородия ее почвы, размеров ее площади
и населения, богатства и свободы индивидов.
„Мощь наций слагается, без сомнения, из всех этих
элементов, но именно индустрии принадлежит роль при-
ведения всего в действие и создания организованного
целого.
378
Годы Революции
„Индустрия — это жизнь цивилизованного государ-
ства. .. Но эта индустрия, которая все движет, все ожив-
ляет, сама заимствует свою силу из некоего первичного
импульса, который ей дается науками.
„Мы говорили здесь не об отдельных предприятиях,
мы говорили об индустрии в целом, о национальной
промышленности... Разве не очевидно, что нельзя рас-
считывать на успех индустрии, если не усовершенство-
вать непрерывно математических, физических, химиче-
ских наук, которые должны указывать путь фабри-
кантам и инженерам в их конструкциях, в их меро-
приятиях".
Но аргументация Лавуазье била мимо цели, потому
что и Фуркруа и другие противники Академии Наук
были убеждены, что именно путем упразднения „готиче-
ских университетов и аристократических академий" и тому
подобных учреждений они способствуют развитию и про-
цветанию той свободной науки, которая единственно необ-
ходима и полезна революционной Франции.
„Долой университеты, долой Академии наук и искусств!
Нет ни начертанного заранее пути, ни начертанной формы
для гения; он сам собою поднимается в искусствах
и науках тем путем и теми средствами, которые сам
себе, выбирает", — утверждал один из депутатов
Конвента.
Депутат Букье говорил в Конвенте: „Разве свободные
нации нуждаются в касте эгоистичных и мудрствующих
ученых, ум которых постоянно блуждает по затерянным
тропам в стране мечтаний и химер.. ?
Таким образом, противопоставление отвлеченной науки
ее приложениям играло, повидимому, также немалую роль
в этой борьбе.
5 М. Berthelot. La Revolution cbimique, p. 194.
Упразднение Академии
379
Лавуазье полагал, что в новую эпоху развитие науки
требует прежде всего организации, что без органи-
зации наука погибнет, несмотря на самые искренние
намерения и порывы законодателей. И он писал: „Гра-
ждане, время не ждет. Если вы допустите, чтобы ученые,
которые составляли бывшую Академию Наук, удалились
в деревню, заняли иные положения в обществе и преда-
лись бы более прибыльным профессиям, организация
наук будет разрушена, и полувека нехватит на то, чтобы
воссоздать поколение ученых**.
И в письме к депутату Конвента геометру Арбогасту
он подчеркивает: „Иностранные державы не ждут ничего
лучшего, как воспользоваться этим обстоятельством,
дабы пересадить к себе науки и искусства, но можно
отметить, к чести французских ученых, что их любовь
к родине осталась непоколебимой и нет ни одного, кто
бы не отклонил с негодованием подобные предложения,
если бы они были им сделаны**.
Эти последние слова относились в первую очередь
к самому Лавуазье. Не подлежит никакому сомнению,
что он — крупнейший специалист своего времени по поро-
хам — мог легко найти себе приют у любого иностран-
ного государства, а деньги и помощь извне обеспечили
бы бегство.
Но Лавуазье, — возможно, из боязни окончательно
потерять свое состояние и бросить на произвол судьбы
свою замечательную лабораторию, — повидимому не по-
мышлял об эмиграции.
8 августа 1793 г. все научные общества были
упразднены, в том числе и Академия Наук. Была
образована новая Комиссия весов и мер, примерно в
старом составе. Продолжало также действовать Консуль-
тационное бюро
380
Годы Революции
VI
Как и прежде, так и теперь, несмотря на все админи-
стративные, финансовые и прочие дела, Лавуазье умуд-
рялся заниматься лабораторными исследованиями.
В течение зимы 1792 г. он и Гаюи проводили преци-
зионное измерение плотности дистиллированной воды.
В конце мая 1793 г. он совместно с Борда измерял теп-
ловое расширение меди и платины для эталона „метра".
С этой целью в саду нового обиталища Лавуазье на
бульваре де-ля-Мадлен были установлены столбы для
аппарата, сконструированного им в свое время совместно
с Лапласом. Осторожный Лаплас весною 1793 г. отстра-
нился от всех дел и удалился в маленький городок Мелен,
недалеко от Парижа, где в тишине и спокойствии принялся
за свой выдающийся труд — „Изложение системы Мира".
Между тем, Лавуазье закончил свои „Размышления
о народном образовании", начатые по инициативе депу-
тата Конвента металлурга Ассенфраца, и доложил их
Консультационному бюро. Среди многочисленных проек-
тов системы народного образования, предложенных раз-
личными деятелями Революции от Талейрана до Лепелль-
тье, проект Лавуазье занимает исключительное место.
Недаром сам он в начале своего доклада отметил: „...во
всех представленных вам планах устройства националь-
ного публичного воспитания, промышленность, повиди-
мому, была совершенно забыта".1
Доклад Лавуазье должен был быть специально посвя-
щен профессиональному образованию, но фактически он
охватывает всю систему образования в целом. Если осталь-
ные проекты во многих своих деталях недоработаны
1 Oeuvres, t. IV, р. 652.
«Размышления о народном образовании:
38/
и производят скорее впечатление деклараций, чем проек-
тов мероприятий, то проект Лавуазье додуман до конца,
разработан во всех конкретных подробностях, вплоть до
учебных планов, строго деловит и практичен.
Свои размышления о народном образовании он начи-
нает с рассмотрения формирования представлений у ре-
бенка и связывает этот ход развития с образованием.
Лавуазье — горячий сторонник сенсуализма, пропаганди-
ровавшегося философом Кондильяком. Поэтому он при-
держивается идеи, преподанной ему в свое время Руэллем:
„Нет ничего в мыслях, чего ранее не было в ощуще-
ниях" („Nihil in intellects, quod non fuerit in sensu“).
Приведем некоторые выдержки из этого капитального
труда:
„Человек рождается с чувствами и способностями, но
он не имеет прирожденных идей, его мозг — чистая доска,
не получившая еще никаких впечатлений, но готовая
к их восприятию.
„Все впечатления сообщаются человеку посредством
органов чувств и называются ощущениями.
„Но если все наши мысли сообщаются нам лишь
через органы чувств, если только упражнением наших
способностей мы научаемся узнавать свойства предметов,
окружающих нас, то отсюда следует, что появившийся
на свет ребенок принужден всему учиться и должен
пройти при помощи своих органов чувств настоящий
курс ознакомления с миром физических явлений.
„Образование первых мыслей у детей — обстоятель-
ство, поистине достойное размышления философов. Внима-
тельное наблюдение не позволяет сомневаться в том, что
ребенок знакомится со свойствами предметов, переходя
от известного к неизвестному, придерживаясь метода
последовательности, приближающегося к тому, который
так часто применяется в математике. Он не нуждается
382
Годы Революции
в дорогих приборах для этих опытов: все окружающие
его предметы используются им в качестве пособий.
„И вот именно этим путем вскоре после своего рожде-
ния он начинает проходить курс оптики и перспективы.
Вначале все предметы представляются ему расположен-
ными на одной плоскости, вскоре он научается различать
величины и расстояния, исправлять осязанием ошибки
зрения, распознавать очертание различных предметов по
тени и по игре света и тени...
„При дальнейшем росте развитие сил ребенка дает
ему возможность пройти курс механики. Палка, попавшая
ему в руки, превращается им в самый простой и в то
же время самый могучий прибор — рычаг. Мяч, отскочив-
ший от стены или прыгающий на земле, дает ему поня-
тие об ударе упругих тел и законах их обратного движе-
ния. Канавка, которую он проводит около ручейка, зна-
комит его с законами равновесия жидкостей, он изучает
это замечательное свойство, имеющее столь разно-
образные применения, благодаря которому все части
поверхности жидкости всегда располагаются на одном
уровне.
„Таковы первые уроки природы. Она их дает под
видом игр; поэтому для детей играть — значит учиться,
и тот, кто не посвятил играм первые годы своего дет-
ства, никогда не сделается человеком. Счастливое дет-
ство! Ты приобретаешь в этом первоначальном обучении
лишь правильные понятия, потому что ты их получаешь
непосредственно от вещей, потому что люди не присое-
диняют к ним ни предрассудков, ни заблуждений. Придет
время, когда тебя оторвут от этой чудесной воспитатель-
ницы, когда после того, как ты успешно пройдешь курс
физических истин, тебе придется приступить к изучению
курса моральных заблуждений. Такова, по крайней мере,
была до сих пор судьба, предназначавшаяся тебе, и вот
«Размышления о народном образовании» 383
для того, чтобы протестовать против этого нарушения
твоих прав, против нарушения прав природы, мы и пре-
доставляем тебе наш голос".
И Лавуазье показывает на отдельных ярчайших при-
мерах, чему учит ребенка практика обращения с инстру-
ментом.
„Природа дала ребенку только определенное количе-
ство сил и способностей, максимум его достижений огра-
ничен, но, присоединив к членам его тела, этим природ-
ным орудиям, еще и искусственные орудия, мы сумеем
достигнуть иных результатов, — здесь и начинается вос-
питание ребенка человеком. Попробуем сказать, как оно
может содействовать воспитанию ребенка природой, каким
образом оно должно сделаться продолжением послед-
него. ..
„Ребенок не может одной лишь силой своих рук,
одним лишь напряжением своего тела воткнуть в землю
кол, предназначенный для постройки забора, но наука
дает ему молот, масса которого, помноженная на ско-
рость, придаваемую ему рукой, очень быстро достигает
желаемого результата. Гвоздь, который нельзя воткнуть
в доску ни непосредственно силой руки, ни давлением
(разве если пустить в ход исключительно тяжелый пред-
мет), поддается удару молотка, вколачивающего его,—
вот еще один искусственный прибор, присоединенный
к руке — естественному прибору.
Молоток производит тем большее действие, чем он
тяжелее, чем к большему рычагу присоединена его масса,
иначе говоря, чем длиннее ручка; он должен вбить гвоздь,
не испортив его, не согнув, не раздавив; отсюда выте-
кает необходимость употреблять молотки различной вели-
чины с различными ручками, в зависимости от того дей-
ствия, которого желательно достигнуть; отсюда правила,
относящиеся к употреблению молотка в ремеслах, от
384
Годы Революции
молоточка часовщика до молота кузнеца, до бабы для
забивки свай в строительном деле.
„Нож вообще легко разрезает хлеб, но если бы угол,
образованный двумя плоскостями лезвия, вместо десяти —
двенадцати градусов равнялся бы тридцати, то старания
самого сильного человека были бы все же недостаточны,
чтобы заставить его проникнуть в хлеб. Отсюда вся
теория конструкции ножа, все то, что необходимо знать
для общежитейских надобностей о свойствах угла и на-
клонной плоскости...“
И Лавуазье переходит к рассмотрению изучения
ребенком основ хозяйства.
„В огромном большинстве овощей, отчасти в травах,
нужно обращать внимание не на все растение в целом:
в пшенице и ржи — на зерно, заключенное в колосе,
в шафране — на пестик и т. д. Эти элементарные наблю-
дения приводят, конечно, к знакомству с особенностями
различных частей растения, к изучению корня, стволов,
листьев, цветов, плодов и краткому объяснению функций
каждой из них. Эти предметы находятся в полях, и они
постоянно на глазах у детей; трудность состоит лишь
в том, чтобы обратить на некоторое время внимание
детей на то, что они видят ежедневно...
„Пожалуй, немногим труднее познакомить детей с более
сложными понятиями, даже с практической геометрией.
Они знакомятся с понятием о длине, ширине, глубине
почти с первых же мгновений своего существования. Труд-
ность состоит лишь в том, чтобы направить их внима-
ние и заставить думать о том, что они и так уже знают.
„Вся теория межевания вытекает из простейших поня-
тий о свойствах поверхностей: уменье измерять объем
и поверхность вытекает из определения тела: нет ни
одного поденщика или землекопа, который не был бы
в состоянии придумать способ обмерить ров или какую-
«Размышления о народном образовании»
385
нибудь яму; почему же этот человек не научился бы
извлекать из теории то, чему его легко научает
привычка?
„Экспериментальная физика снабжает все науки и всех
людей, в каких бы условиях они ни находились, необхо-
димыми им приборами; вот почему эта отрасль науки
должна войти в программу первоначального обучения..
Перечисляя, таким образом, значение отдельных пред-
метов в обучении детей, Лавуазье особо предостерегает
от обучения лишь понятиям слов, начертанных на бумаге,
а не самим понятиям.
„Пусть во всех книгах, вручаемых ребенку, главная
мысль делается наглядной благодаря гравюрам и карти*
нам, буквы пусть будут для него иероглифами возможно
долее, пусть мысль никогда не разлучается со словом".
Лавуазье наметил путь дальнейшего прогресса чело-
веческого ума.
„Делая таким образом наглядными все предметы пер-
воначального обучения, стремясь следовать повсюду
методу природы, мы сумеем не только воспитать людей,
но сумеем постепенно совершенствовать интеллектуаль-
ные способности человечества: через двадцать лет те же
самые произведения, которые теперь считаются выше
детского понимания, покажутся весьма простыми, так
как они будут содержать понятия, знакомые каждому
человеку. Следовательно, одно поколение будет перера-
батывать их для другого так, что собрание классических
произведений, созданных в различные эпохи, послужит
оценкой прогресса человеческой мысли...
„Первоначальное образование — долг общества по
отношению к детям, оно должно быть поэтому бесплат-
ным.
„Из этих же соображений первоначальные школы
должны быть расположены так, чтоб детям было удобно
25 Дорфман
386 Годы Революции
посещать их, следовательно, такая школа должна быть
в каждом муниципалитете.
„Но тут начинаются затруднения: дорога, по которой
все дети нации шли вместе вначале, начинает развет-
вляться. Дойдя до известного пункта, они не могут далее
продолжать свой путь совместно. Создаются две большие
группы. Одни желают посвятить себя в будущем обще-
ственным обязанностям и приступают к изучению язы-
ков, литературы и различных наук; другие начинают изу-
чать механические ремесла. Таким образом, образо-
вание в школах второй ступени, естественно, разде-
ляется на две части, в каждой из которых изучаются
различные науки. Первая часть несколько напоминает
то образование, которое давалось в коллежах и уни-
верситетах. Второй части еще вовсе не существует,
потому что до сих пор не было ни одной нации, действи-
тельно ограждавшей интересы своего промышленного
класса...“
Работа Лавуазье впервые рассматривает этот вопрос.
Под „промышленным классом" следует понимать весь
технический персонал от мастеровых до инженеров.
Рассмотрев механические ремесла, Лавуазье переходит
к химии:
„Курс химии должен начинаться с описания элементов
природы, находящих себе применение в этой науке,
с описания их внешних качеств и их добывания. Затем,
описывая употребление простых тел, преподаватель пока-
зывает, что химические процессы могут научно классифи-
цироваться, что соединения можно разлагать на их эле-
менты, подобно машинам, что все химические процессы
имеют сходство с горением, брожением. Он должен
бу/ ет, как и в курсах, посвященных механическим ремес-
лам, начать с общих основ, присущих большому числу
химических ремесел, и оставить на конец курса вопросы,
Размышления о народном образовании»
387
относящиеся к тем химическим ремеслам, которые тре-
буют специального углубленного изучения..
Таким образом, по мнению Лавуазье, в главных пунк-
тах округа должны быть три основных типа профессио-
нальных школ: механических, химических и смешанных
ремесел. Кроме того, там же должна быть школа обще-
ствоведения, политической экономии и коммерческих
наук.
„Элементарное образование должно быть дано как
мальчикам, так и девочкам, ибо имеется ряд искусств,
предназначенных исключительно для девочек, и необхо-
димо поэтому, чтобы им были разъяснены основные прин-
ципы этих ремесел...
„Такие школы должны быть в главных пунктах депар-
тамента, одновременно являющихся и главными пунктами
округа, но и их недостаточно для широкого народного
образования. Существует ряд профессий, которые связаны
с результатами всех человеческих знаний, в которых
нельзя иметь успеха без углубленного изучения почти всех
наук, — таковы мореплавание, кораблестроение, для кото-
рых необходимо знание геометрии, астрономии, геогра-
фии и физики; таковы инженерные науки; таковы меди-
цина и ветеринарное искусство, хирургия, фармация, тре-
бующие обширных познаний в области всех физических
наук...
„Успехи, которых может достигнуть земледелие при
помощи просвещения, просто неисчислимы: ведь земле-
делие дает более, чем вся промышленность в целом, или,
вернее, только земледелие продуктивно, потому что все
другие искусства только изменяют форму, но ничего не
прибавляют к существующим ценностям".
Подчеркнув роль техники и экономики в развитии
промышленности и сельского хозяйства, Лавуазье
пишет:
25*
388
Годы Революции
„Если существует искусство экономить силы, упрощать
методы, изобретать новые машины, совершенствовать уже
существующие, давать новые средства промышленности,
то это искусство должно входить в программу народного
образования, как и все другие. Способствовать и
поощрять его — долг власти; но это искусство суще-
ствует, и именно оно и носит название «профессии
и ремесла»".
„Таким образом, в этом смысле ученые и профес-
сионалы являются не просто теми людьми, которые
достигли последней ступени знаний в той или другой
области; это те люди, которые, достигнув этого мак-
симума, занимаются дальнейшими изысканиями, чтобы
приобщить их к уже имеющимся знаниям".
Лавуазье пытается поставить касту ученых над нацией,
возвести их на своеобразный Олимп:
„Люди, посвящающие себя великой цели новых откры-
тий, должны быть независимыми и свободными; их суще-
ствование поэтому должно быть обеспечено обществом.
Ведь всякий, вынужденный работать, чтобы жить, зависит
по меньшей мере от обстоятельств, и необходимо, чтобы
ученые были по возможности независимы", т. е., оче-
видно, материально независимы.
При этом он снимает с этих жрецов науки какие бы
то ни было обязанности перед обществом, перед народом:
„Нельзя требовать от этих людей, чтобы они препо-
давали и обучали других. От них следует лишь ожидать
изобретений и их опубликования. Но так как открытия
редки, и являются плодом долгой работы и мучительных
размышлений, то открытиями нельзя повелевать, они
не могут периодически появляться"?
1 В то время, конечно, ни о каком планировании науки не могло
быть и речи.
«Размышления о народном образовании»
389
И снова он настаивает на необходимости сохранения
Академии:
„Все изложенное не было бы выполнено, если бы
ученые, на которых возложен прогресс человеческих
знаний, жили всегда изолированно или если бы они жили
только среди людей, занимающихся наукой той же обла-
сти. Ведь все части наук и искусств связаны, ни одна
не может итти по пути прогресса, в то время как другая
значительно отстает; это одна армия, имеющая один
фронт. К тому же, большая часть работ, до сих пор не
выполненных в области наук и искусств, — это именно
те, которые требуют соединения и содействия несколь-
ких ученых. Правда, математик может работать один
над совершенствованием науки о счислении, но каково
было бы содержание его науки, если бы астроном и физик
не представляли ему постоянно своих опытов и наблю-
дений, к которым он и применяет свои вычисления. Что
представляли бы экспериментальная физика и химия
сами по себе, если бы математика не внесла в них
своего метода, своей строгости мысли и своего
счисления.
„Уже было указано, что многие искусства, и притом
вовсе не наименее важные для блага общества, нуждаются
в содействии почти всех наук. Так, мы указывали на
искусство мореплавания и военное дело. Можно было
указать и многие другие. Поэтому необходимо, чтобы
ученые устраивали в известные сроки общие собрания,
и пусть это объединение охватит все науки, даже те,
которые как будто бы почти не связаны между собой.
„Законодатели, просвещение произвело революцию,
пусть оно и послужит защитой свободе. Теперь, когда
вы закончили вашу работу, вам остается лишь исполь-
зовать тот факел, который вы держите в руках, и она
будет жить“.
390
Годы Революции
Рассматривая этот проект народного образования,
Н. К. Крупская пишет:1 „Так рисовал себе «разумное»
воспитание, долженствующее быть залогом свободы,
великий химик... План народного образования, выработан-
ный Лавуазье, говорит в сущности о том, как органи-
зовать, начиная с раннего детства, широко поставленное
политехническое образование, как связать его с индуст-
рией, с социальными науками. И потому, что точки зре-
ния Ассенфраца и Лавуазье так близко затрагивали
интересы масс, законопроект Лавуазье — Ассенфраца
был единственным в области народного образования,
который извне был поддержан рабочим классом".
Н. К. Крупская называет проект Лавуазье проектом
Лавуазье — Ассенфраца. Проект был, повидимому,
составлен Лавуазье фактически без участия Ассенфраца.
Но последний неоднократно и резко настаивал на необ-
ходимости организации профессионального образования.
Мысли, высказанные Ассенфрацем в его речи в Яко-
бинском клубе, и его „Краткие размышления о народном
образовании республиканца"1 2 весьма близки к идеям
Лавуазье, хотя гораздо менее конкретны.
Известно, что 15 сентября 1793 г. в Якобинский клуб
явилась грандиозная депутация от народных обществ,
секций и Коммуны Парижа.
Депутация обратилась со следующей речью:3 „Мы
не хотим, чтобы образование было исключительным
достоянием слишком долго пользовавшейся привилегиями
касты богатых, мы хотим его сделать достоянием всех
сограждан...
1 Н. К. Крупская. Народное образование и демократия. 1930,
стр. 77—80.
2 О. Е. Сыркина. Педагогические идеи Великой Французской
революции. 1926, стр. 85.
3 Н. К. К р упекая. Народное образование и демократия, стр. 80,
«Размышления о народном образовании»
391
„Вместо учебных заведений, которые были не чем
иным, как первоначальными школами для подготовки
жрецов, мы просим у вас устройства гимназий, где рес-
публиканская молодежь могла бы получать знания, необ
ходимые в различных ремеслах и производствах; инсти-
тутов, где она могла бы изучать элементарные основы
точных наук и языков; лицеев, где мог бы развиваться
и направлять должным образом свои силы гений".
Депутация направилась в Конвент, где повторила
свою просьбу. И в тот же день был принят декрет,
учреждавший в основном систему трех последовательных
ступеней учебных заведений в соответствии с проектом
Лавуазье. Причем во второй ступени должно было даваться
среднее профессиональное образование. Никто не упо-
мянул тогда даже имени Лавуазье, а Лаканаль заявил,
что этот проект соответствует плану Комитета народного
образования.
Однако уже через два дня декрет Конвента был
отменен отчасти как невыполнимый в текущем году
отчасти по причине отсутствия некоторых депутатов
15 сентября. Вслед за тем в Конвенте начались много-
численные дискуссии, в которых уже проект Лавуазье
не фигурировал вовсе.
До сих пор вся история с депутацией и с постанов-
лением Конвента остается не совсем ясной. Неизвестно
кто же являлся инициатором этого дела и какова была
его истинная подкладка.
Глава XV
ПРОЦЕСС ГЕНЕРАЛЬНЫХ ОТКУПЩИКОВ
И ГИБЕЛЬ ЛАВУАЗЬЕ
Революция и судьба Генерального откупа. — Откупщики задерживают
составление ликвидационного баланса. — Арест откупщиков. — Ла-
вуазье в тюрьме. — Исключение Лавуазье из Комиссии весов и мер
и из списков Лицея. — Лавуазье в роли вожака и адвоката откупщи-
ков. — Доклад Дюпена о ревизии дел Откупа. — Передача дела откуп-
щиков суду Революционного трибунала. — Речь Робеспьера в Конвенте
накануне процесса. — Гневные слова о реакционных ученых. — Ана-
лиз политической конъюнктуры. — Приговор Революционного трибу-
нала и казнь Лавуазье. — Вдова Лавуазье пытается мстить.
I
При изучении истории Французской буржуазной рево-
люции бросается в глаза та исключительная медлитель-
ность, с которой наносились удары по одному из самых
ненавистных институтов старого режима — Генеральному
откупу.
Лишь почти два года спустя после взятия Бастилии
был, наконец, расторгнут договор с откупщиками, т. е.
всего за несколько месяцев до естественного истечения
срока этого договора. И лишь в мае 1794 г., т. е. за два
Откупщики задерживают составление баланса
393
месяца до 9 термидора, был проведен судебный процесс
откупщиков, когда почти все наиболее одиозные фигуры
старого порядка уже давным давно сложили свои головы
на эшафоте.
Эта медлительность объяснялась огромным экономи-
ческим влиянием крупных буржуа и, в частности, Откупщи-
ков, особенно в первый период Революции. Достаточно
отметить, что, как сообщает Откуп в своем официаль-
ном отчете, Национальное собрание 27 мая 1791 г. поста-
новило уплатить откупщикам при ликвидации Откупа со-
рок восемь миллионов шестьсот сорок тысяч ливров от-
ступных. Далее, как явстует из некоторых материалов,
революционное правительство вело с откупщиками какие-то
переговоры о возможности возобновления договора.
После ликвидации Откупа была назначена ликвида-
ционная комиссия, которая должна была закончить свою
работу к 1 января 1793 г. Однако комиссия „не успела“
составить отчета к этому сроку, и в июне 1793 г. поте-
рявший терпение Конвент распорядился наложить печати
на кассу и бумаги Откупа. В кассе оказалось всего лишь
двадцать миллионов ливров, да и то в почти совершенно
обесцененных ассигнациях.
В сентябре все печати с документов Откупа были
вновь сняты, и откупщикам было предложено закончить
баланс к 1 апреля 1794 г. В то время вопросом ликви-
дации Откупа занялся один из бывших работников аппа-
рата Откупа, депутат Конвента А. Дюпен.
В середине ноября Конвент, в связи с обсуждением
положения различных частных компаний, вновь пере-
смотрел вопрос об Откупе. Один из депутатов, Бурдон,
воскликнул: „Вот уже в сотый раз говорят об отчете
генеральных откупщиков. Я требую, чтобы эти обще-
ственные пьявки были арестованы, и ежели они через
месяц не сдадут своего отчета, пусть Конвент передаст
394
Процесс генеральных откупщиков и гибель Лавуазье
их мечу закона*. Это предложение встретило всеобщее
сочувствие, и тотчас же был издан приказ об аресте
всех бывших сборщиков податей и всех лиц, бывших
когда-либо откупщиками.
Это был момент, когда трудящиеся массы Франции
переживали исключительно тяжелые условия. Спекуля-
ция охватила все отрасли жизни, в особенности торговлю
продуктами питания. Наступила голодная и холодная
зима 1793/94 г. Массы настойчиво требовали от прави-
тельства положить конец злоупотреблениям „скупщиков,
мошенников и спекулянтов*. Вопрос о генеральных откуп-
щиках был выдвинут как первый шаг в борьбе револю-
ционного правительства против зарвавшейся буржуазии.
Узнав во время заседания Консультативного бюро
о постановлении Конвента, Лавуазье не вернулся домой
и в течение четырех дней скрывался в Лувре.
28 ноября (8 фримэра) 1793 г. он был арестован
при неизвестных обстоятельствах и отвезен в тюрьму
Пор-Либр.
В тюремный реестр была внесена следующая запись:
От 8 фримэра.
Лавуазье, бывший откупщик.
Мотивы: для сдачи отчета
Приказ полиции.
Все остальные откупщики были арестованы за время
с 4 по 24 фримэра.
Древний монастырь Пор-Рояль, переименованный
в Пор-Либр и временно превращенный в место заклю-
чения, нисколько не напоминал собою тюрьмы, и заклю-
ченные откупщики пользовались в нем значительной
свободой. Однако, изолированные от архивов Откупа, они
не имели никакой возможности приняться за составле-
ние требуемого отчета.
Лавуазье»
Набросок,''сделанный будто бы в тюрьме.
Лавуазье в тюрьме
391
Между тем, Комиссия весов и мер направила в Коми-
тет общественной безопасности за подписью Борда
и Гаюи ходатайство об освобождении Лавуазье для про-
должения работ по определению новых мер и весов. Коми-
тет общественной безопасности оставил петицию Борда
и Гаюи без ответа, а два дня спустя Комитет народного
просвещения (в составе которого в то время находились
Гитон-де-Морво, Фуркруа, Арбогаст, Ромм и другие)
постановил немедленно удалить из состава Комиссии
весов и мер следующих лиц: Борда, Лавуазье, Лапласа,
Кулона, Бриссона и Деламбра.
Еще за несколько дней до ареста откупщиков Фур-
круа потребовал назначения комиссии для „возрождения"
Лицея искусств и наук. Лицей был переименован в Рес-
публиканский лицей, причем из списка ста его учреди-
телей семьдесят три, в том числе Лавуазье, были исклю-
чены как контрреволюционеры.
В декабре 1793 г. Конвент рассмотрел заявление
откупщиков, требовавших, чтобы их допустили к доку-
ментам Откупа для сдачи отчета. Конвент постановил
перевести откупщиков непосредственно в Дом откупа
и там и содержать их под арестом, пока не будет сдан
отчет.
Характерно, что только теперь было вынесено поста-
новление о наложении секвестра на все движимое и не-
движимое имущество откупщиков.
Квартира и лаборатория Лавуазье были опечатаны.
Однако Лавуазье был доставлен домой, где в его при-
сутствии уполномоченные Комитета народного просве-
щения Гитон-де-Морво и Фуркруа изъяли все предметы,
относящиеся к Комиссии весов и мер. Через некоторое
время помещение лаборатории Лавуазье было снова
вскрыто по просьбе Марии Лавуазье для изъятия его
рукописей по физике и химии, подготовленных к печати,
398 Процесс генеральных откупщиков и гибель Лавуазье
а также для извлечения материалов по добровольной
подписке на заем.
В конце декабря откупщики были переведены в Дом
откупа. Здесь в это время уже работала специальная реви-
зионная комиссия, назначенная Конвентом из бывших
служащих Откупа. Комиссия предъявила откупщикам
ряд вопросов, на которые им надлежало ответить. Отчет
должен был быть закончен в месячный срок.
Составление отчета Откупа и, главное, ответа на все
возводимые против Генерального откупа тягчайшие обви-
нения взял на себя по предложению своих коллег... Лаву-
азье. Таким образом, он оказался не только центральной
фигурой, вожаком откупщиков, но вместе с тем их добро-
вольным адвокатом. Впервые в своей жизни Лавуазье вдруг
вспомнил о своем юридическом образовании и взял на
себя незавидную роль адвоката воротил Генерального
откупа; он взял на себя трудную обязанность доказать,
что Генеральный откуп... честнейшая компания благо-
роднейших финансистов, чуть ли не облагодетельство-
вавших французский народ.
24 января 1794 г. отчет Генерального откупа был
готов. Отчет не признавал ни одного из обвинений.
Он был издан тогда же в виде анонимной брошюры: „От-
веты на обвинения, выдвинутые против бывших откупщи-
ков с оправдательными документами" („Reponses aux
inculpations faites contre les ci-devant fermiers generaux
avec les pieces justificatives").1
Блестящий язык „Ответа" совершенно несомненно
показывает, что автором его был Лавуазье. В нем он,
между прочим, писал, что при существовавшей организа-
ции Откупа „в его администрации не могло быть ни зло-
употреблений, ни взяточничества, ни хищения, ни сокры-
тия средств".
1 Oeuvres, t. VI*
Лавуазье в роли вожака и адвоката откупщиков 399
Ответ написан крайне вызывающим тоном и, повиди-
мому, рассчитан на то, чтобы затронуть, так сказать,
само буржуазное нутро деятелей Конвента. Так, напри-
мер, откупщики утверждают, что обвинители покушаются
на их право собственности, между тем как „националь-
ное представительство всегда рассматривало право соб-
ственности, как одну из фундаментальных основ, на ко-
торых покоится все здание социального устройства*.
С исключительной тщательностью изучил Лавуазье
каждое слово, каждую цифру довольно неуклюжего
заключения ревизионной комиссии и попытался посред-
ством хитро построенных формально-юридических дока-
зательств опрокинуть все обвинения в подлогах, в мошен-
ничестве и в обмане народа.
Мы не будем останавливаться на подробностях всего
этого дела. Полный анализ его ждет своего исследова-
теля. Упомянем лишь об одном пункте обвинения. Реви-
зоры утверждали, что откупщики систематически чрез-
мерно смачивали табак и заставляли таким образом поку-
пателей оплачивать воду по цене табака. Это обвинение
представлялось весьма серьезным, ибо оно затрагивало
карман огромной массы потребителей. Лавуазье произвел
глубокий экскурс в технику производства табака и при-
шел к категорическому выводу, будто обвинение лишено
всяких оснований.
Но сохранилось упоминавшееся нами выше1 письмо
от 1778 г., адресованное „собрату* де-ляТанту, где Ла-
вуазье описывал свое посещение табачных фабрик Бре-
тани. „Я также несколько побаиваюсь, — писал он в этом
письме,—гчто смачивание табака проводится здесь чрез-
мерно и превосходит дозволенное. Между тем, отсырев-
ший табак бродит и легко начинает преть, он приобре-
1 См. стр. 342.
Процесс генеральных откупщиков и гибель Лавуазъё
тает особого рода кислый вкус. Я припоминаю, что
однажды обнаружил начало этого процесса в табаке,
посланном из Клермонтуа. Мне кажется, что табак, виден-
ный мною теперь в Бретани и Нанте, носит уже заро-
дыши этого процесса. Вообще, на мой взгляд, в деле
смачивания табака надо быть особенно щепетильным,
и лучше принести некоторые маленькие жертвы, чем
рисковать вызвать крупное неудовольствие публики".
И Лавуазье подчеркнул тогда, что эти недостатки табака,
продаваемого Откупом, выгодно используют для себя
конкуренты Откупа — частники-перекупщики".
Таким образом, оказывается, что по крайней мере
обвинения в чрезмерном смачивании табака, выдвинутые
ревизорами, отнюдь не были голословными, как то утвер-
ждал Лавуазье, а подтверждаются его же собственным
письмом. Без сомнения и остальные пункты обвинения
были достаточно обоснованы.
Отчет откупщиков, написанный Лавуазье, был пред-
ставлен 24 января 1794 г. в комиссию Конвента по про-
верке Генерального откупа.
II
5 мая 1794 г. (16 флореаля II года) от имени Комитета
общественной безопасности, Комитетов финансов и отчет-
ности и комиссии по проверке дел Откупа на заседании
Конвента выступил Дюпен. Он сказал:
„... Граждане ревизоры выполнили возложенные на
них обязанности, они работали с неутомимым усердием,
и их доклад, принятый вашими комитетами финансов
и отчетности, может служить тому доказательством.
„Иски, которые нации надлежит предъявить бывшим
откупщикам, обоснованы бесспорными фактами. Тем
не менее, мы сочли необходимым эти основы углубить.
Передана дела откупщиков суду Революционного трибунала 401
„При каждом вновь обнаруженном гражданами ревизо-
рами факте мы обращались к бывшим генеральным откуп-
щикам; мы запрашивали у них их замечания в письмен-
ной форме. Затем мы представляли все материалы нашим
комитетам, которые их продумали и обсудили со всей
беспристрастностью, какая соответствует народным пред-
ставителям.
„Теперь настал момент, когда наши комитеты должны
довести до вашего сведения итог проверенных ими дан-
ных и разоблачить перед вами факты злоупотребления
властью, мошенничества и взяточничества всякого рода,
которое себе позволяли бывшие генеральные откупщики
и которые дают основания для предъявления к ним весьма
серьезных обвинений".1
И гражданин Дюпен приступил к чтению длинного
подробного финансового акта. Впервые оглашались цифры,
извлеченные из архивов ненавистного Генерального
откупа.
Когда гражданин Дюпен кончил свой доклад, Конвент
единогласно постановил немедленно передать бывших
генеральных откупщиков суду Революционного трибунала.
Ш
Гримо, между прочим, сообщает на основании неиз-
данных воспоминаний академика Кадэ, якобы сам Дюпен
пытался до суда изъять из процесса откупщиков дело
Лавуазье и перевести его в другую тюрьму. Он вызвал
к себе по этому вопросу Марию Лавуазье. Однако она
будто бы категорически заявила Дюпену, что ее супруг
ни в коем случае не позволит выделить себя из дела
своих коллег по Откупу. Весьма вероятно, что Мария
1 Le Moniteur Universe 1. 17 флореаля II года (6 мая 1794 г.)
26 Дорфман
402
Процесс генеральных откупщиков и гибель Лавуазье
Лавуазье не могла допустить, чтобы ее супруг бросил
на произвол судьбы ее отца, откупщика Польза.
Суд над откупщиками должен был стать своего рода
показательным и грозным процессом против дельцов
и спекулянтов, наживавшихся на бедствиях народа. При-
чем, как мы видели, уже до судебного процесса Лавуазье
был причислен к числу контрреволюционных элементов
и вместе с некоторыми другими исключен из списка
членов как Комиссии весов и мер, так и Республикан-
ского Лицея.
Нельзя ни на минуту забывать, что описываемые нами
события происходили в начале мая 1794 г., за два с по-
ловиной месяца до 9 термидора (27 июля), т. е. в самый
критический период Французской революции.
С начала 1794 г. положение на фронтах стало весьма
благоприятным: революционные армии повсюду продви-
гались вперед. В то же время внутри страны резко
обострилась борьба между тремя группировками, состав-
лявшими якобинский блок.
Партия Эбера, опиравшаяся на городскую бедноту,
имевшая большинство в Парижской коммуне, требовала
дальнейшего углубления революции, борьбы с остатками
монархии и с новой буржуазией и продолжения войны
для пропаганды и развертывания революции за рубежом.
Партия Дантона, напротив, считала революцию закон-
ченной и настаивала на снятии всяких ограничений
с буржуазия, отмене террора и заключения мира с Англией.
Робеспьер и его единомышленники, с одной стороны,
решительно противились крайним требованиям Коммуны,
с другой — они стремились к миру, пытаясь договориться
с Австрией и Пруссией. Вначале Робеспьер и Дантон
„совместно боролись против Коммуны, чтобы прежде
всего свергнуть людей, которые хотели войны для про-
паганды, распространения республиканского строя во всей
Речь Робеспьера в Конвенте накануне процесса
403
Европе".1 24 марта Эзер и его сторонники были казнены.
Вслед за тем Робеспьер обрушился на Дантона. 5 апреля
Дантон и его единомышленники были обезглавлены.
„В этом конфликте трех направлений победил Робес-
пьер, но с тех пор террор сделался для него средством
самосохранения и тем самым стал абсурдом".1 2 „В то время
террор достиг безумных размеров, он был необходим,
чтобы помочь Робеспьеру при наличных внутренних
условиях удержать власть в своих руках".3
Такова была политическая ситуация в мае 1794 г.,
в момент процесса генеральных откупщиков.
Процесс происходил 19 флореаля (8 мая), а как-раз
накануне этого дня состоялось заседание Конвента, на
котором выступил Робеспьер со своей знаменитой речью
об установлении новой религии разума и морали, культа
верховного существа. Биографы Лавуазье не обратили
до сих пор никакого внимания на содержание этой заме-
чательной речи, полный текст которой был напечатан
в правительственной газете в день процесса откупщи-
ков.4
„Теперь, когда новая Франция показала миру, как
рабы разрывают цепи и расправляются с тиранами, заявил
Робеспьер, настало время создать новую мораль по заветам
великого Жан-Жака Руссо". Эту мораль должен создать
сам простой народ, ибо ему нечего надеяться на „обра-
зованных людей", т. е. на тех блистательных представи-
телей просвещенного дворянства, которые украшали
королевскую Францию.
1 К. Маркс, Ф. Энгельс. Избранные письма. Соцэкгиз, 1947,
сгр. 413.
2 Ibidem, стр. 409.
3 Ibidem, стр. 413.
4 Le Moniteur Universe 1, 19 флореаля II года (8 мая 1794 г.),
№ 229.
26*
404
Процесс генеральных откупщиков и гибель Лавуазье
„Они, — продолжал Робеспьер, — стали бороться про-
тив революции с того момента, как их охватил страх,
как бы революция не вознесла народ выше тщеславия
отдельных личностей. Одни из них использовали свой
ум на то, чтобы подделывать республиканские принципы
и отравлять общественное мнение..., другие замкнулись
в малодушном нейтралитете".
Так говорил Робеспьер.
И в самом деле, лишь немногие представители доре-
волюционной французской науки и искусства примкнули
к якобинцам и отдали себя служению народу. Такие
ученые, как Бертолле, Монж, Гитон-де-Морво, Фуркруа,
Л. Карно, Ассенфрац, художник Л. Давид, встали в пер-
вые ряды политических деятелей Революции. Их тита-
ническому труду, изобретательности, смелости и настой-
чивости обязана была Франция своими победами над
интервентами. Это были единомышленники и соратники
Робеспьера, — некоторые из них присутствовали тут же
в зале Конвента. А остальные? И именно об этих осталь-
ных многочисленных „образованных" отщепенцах нации,
в то время в значительном большинстве эмигрировавших,
заговорил в этот день Робеспьер. Он продолжал: „В об-
щем, образованные люди опозорились в этой Революции;
и к вечному позору ума разум народа принял все на
свой собственный счет".
Обращаясь мысленно к ним, Робеспьер воскликнул:
„Вы, маленькие и тщеславные людишки, краснейте, если
можете! Чудеса, которые обессмертили эту эпоху истории
человечества, были осуществлены без вас и вопреки вам.
Здравый смысл без интриги и гений без просвещения
вознесли Францию на ту ступень величия, которая
устрашает вашу низость и подавляет ваше ничтожество.
„Какой-нибудь мастеровой оказался способным пони-
мать человеческие права, между тем как какой-нибудь
Гневные слова Робеспьера о реакционных ученых
405
сочинитель книг, бывший почти республиканцем в 1788 г.,
стал глупейшим образом защищать интересы королей
в 1793 г. Какой-нибудь земледелец распространял свет
философии в деревне, между Тэм как академик Кондорсэ,1
некогда бывший, как говорят, великим геометром, по
мнению литераторов, и великим литератором, по мне-
нию геометров, став отныне трусливым заговорщиком,
презираемым всеми партиями, непрестанно трудился
над затемнением той же деревни посредством предатель-
ской болтовни своих продажных песнопений".
Так говорил Робеспьер 18 флореаля, т. е. как-раз
накануне того дня, когда перед Революционным трибу-
налом должны были предстать генеральные откупщики
с их адвокатом и вожаком академиком Лавуазье во главе*
Не случайно именно в этот момент Робеспьер счел
необходимым вдруг заговорить с трибуны Конвента
об ученых-контрреволюционерах. Глава революционного
правительства счел нужным подчеркнуть на примере быв-
шего непременного секретаря Академии Кондорсэ, —
кстати сказать, близкого друга и единомышленника быв-
шего директора Академии Лавуазье, — что ни научная
слава, ни высокое звание академика, ни почти республи-
канские взгляды в дореволюционные годы не искупают
преступлений перед Революцией и предательства интере-
сов народа.
Не случайно именно в этот момент Робеспьер счел
необходимым напомнить, что народ вынес на собствен-
ных плечах все величайшие тяготы революционной
1 Маркиз М.-Ж. де-Кондорсэ, философ и математик, с 1785 г. по-
жизненный секретарь Академии Наук, почетный член Академий
С.-Петербурга, Турина, Филадельфии я Болоньи. Обнародовал контр-
революционное послание к народу против проекта конституции,
предложенного Конвентом. Скончался в тюрьме 28 марта 1794 г.
406 Процесс генеральных откупщиков и гибель Лавуазье
борьбы, что он и впредь не может рассчитывать на
этих образованных господ, а должен будет обойтись
без них.
Вряд ли можно считать всю эту часть речи Робеспьера
случайной. В этой патетической речи, посвященной
новой религии и новой революционной морали, Робеспьер
отчетливо разъяснил, таким образом, позицию правитель-
ства в подходе к реакционным ученым. И когда
на следующий день происходил судебный процесс откуп-
щиков и их главаря академика Лавуазье, то, разумеется,
тут же, в зале Революционного трибунала, и судьи,
и подсудимые, и публика читали в свежих, еще пах-
нувших краской номерах утренних газет приведенные
нами гневные слова Робеспьера, пресекавшие всякую
надежду на снисхождение.
Не удивительно поэтому, что никакое заступничество
не могло уже спасти Лавуазье. Не удивительно, что,
например, ходатайство Консультационного бюро, подпи-
санное Лагранжем, излагавшее огромные научные заслуги
Лавуазье и возложенные на него важнейшие поручения
по разработке новых мер, не возымело ни малейшего
действия.
Однако ни введение новой религии верховного
существа, которая, по искреннему мнению Робеспьера,
должна была облагородить сердца и воодушевить
на бескорыстное служение благу народа, ни суд над нена-
вистными „королевскими пьявками"—генеральными от-
купщиками не могли уже укрепить положение Робеспьера,
отсрочить неизбежный момент его падения.
Нужда и голод во Франции достигли в то время край-
них пределов. И между тем, как „Закон о максимуме"
довольно строго соблюдался в области зарплаты, тот
же закон в области цен на предметы первой необходи-
мости легко обходился новыми буржуа, спекулянтами
Анализ политической конъюнктуры
407
и перекупщиками, новыми „договорщиками", поставщи-
ками, владельцами фабрик и мастерских, выполнявших ка-
зенные подэяды. Цены на предметы первой необходимости
неуклонно росли, а вместе с ними росли и капиталы новой
буржуазии. С весны 1794 г. буржуазия „не столько отбива-
лась, сколько переходила в наступление"? В среде город-
ской бедноты, среди рабочих и мастеровых царило глубокое
недовольство. Плебейские массы требовали, прежде
всего, решительных шагов против буржуазии, безнака-
занно грабившей народ. Культ верховного существа
не приносил Революции никакой пользы. Более того, он
только усиливал позиции духовенства. Точно также
запоздалый процесс давно уже выбитых из седла гене-
ральных откупщиков не мог успокоить всерьез бедноту
и убедить ее в том, что правительство приступило к обуз-
данию буржуазии. Более того, этот судебный процесс
был наруку новой буржуазии, так как, не затрагивая
ни ее имущественных, ни ее личных интересов, он
на некоторое время отводил от ее головы гнев народа
и давал буржуазии передышку, т. е. возможность укре-
питься для окончательного прыжка. И, следовательно,
события развертывались таким образом, что все эти
обстоятельства влекли Лавуазье к гибели.
Было, наконец, вероятно еще одно обстоятельство,
которое неумолимо влекло к смерти любое лицо, ули-
ченное в преступных взглядах и действиях. Дело заклю-
чалось не в жестокости судей, как это пытались нередко
доказывать различные буржуазные авторы. Суть вопроса —
в философских воззрениях многих якобинцев на природу
человека. Эти воззрения отчетливо выражены, например,
в раннем сочинении Ж. П. Марата; „Философский эскиз
о человеке", опубликованном им еще в 1775 г. на англий
1 Акад. Е. В. Тар ле. Жерминаль и прериаль. 1937, стр,, 6.
408 Процесс генеральных откупщиков и гибель Лавуазье
ском языке. В этом произведении сказано; „Своими
манерами и характером своего ума каждый человек обя-
зан конструкции своего тела".1
Эта точка зрения принципиально не допускала воз-
можности ни исправления, ни изменения характера чело-
века. Каждый правонарушитель являлся, таким образом,
неудачно сконструированным и неисправимым человеческим
экземпляром, которого можно было, очевидно, либо терпеть
таким, каким он есть, ежели он не опасен, или же, в
противном случае, ликвидировать посредством быстро и
безболезненно действующей машины, изобретенной докто-
ром Гильотеном. Таков был дух эпохи. И, следовательно,
все обстоятельства складывались против Лавуазье.
IV
Предварительное следствие по делу двадцати восьми
обвиняемых откупщиков было проведено в крайней
спешке — в течение двух дней, 17 и 18 флореаля (6 и 7 мая).
19 флореаля (8 мая) состоялся судебный процесс.
И хотя отчет Дюпена говорил лишь как будто
об уголовных преступлениях против французского госу-
дарства и французского народа, Революционный трибу-
нал придал всему делу политический оборот.
Приговор гласил:
„... Установлено, что существовал заговор против
французского народа: имевший целью способствовать
всеми возможными способами успеху врагов Франции
при помощи всякого рода мошеннических проделок
в отношении французского народа: посредством подме-
шивания к табаку как воды, так и других веществ, вред-
1 Д. Baug’eard. Marat, I’Ami du peuple. Paris, 18э5.
Приговор и казнь
409
ных для здоровья граждан, потреблявших табак; посред-
ством взимания шести или десяти процентов как в качестве
прибыли по различным статьям, так и при представлении
сумм, необходимых для эксплоатации Генерального откупа,
между тем как закон допускал лишь четыре процента;
посредством удержания в своих руках сумм, которые
надлежало внести в национальную казну; посредством
обворовывания и ограбления всеми возможными спосо*
бами народа и национальной казны, дабы лишить нацию
гигантских сумм, необходимых для ведения войны с сое-
динившимися против Республики деспотами и дабы пере-
дать их этим последним...
„что:1... Жак Польз, бывший секретарь Капе,1 2
Франции и ее финансов, бывший генеральный откупщик,
проживающий в Париже,
„Антуан Лоран Лавуазье, бывший дворянин,
член бывшей Академии Наук, заместитель депутата,
Учредительного собрания, бывший генеральный откупщик,
проживающий в Париже,.. .3
„все они изобличены в том, что являются авторами
или сообщниками заговора...
„Трибунал, заслушав сообщение общественного обви-
нителя о применении закона, приговаривает вышеимено-
ванных к смертной казни, согласно статье четвертой
секции первой отдела первого второй части Уголовного,
кодекса, которая была прочтена и гласит:
„Всякое действие, всякий сговор с врагами Франции,
стремящиеся: облегчить им вторжение на территорию
французского государства или сдать им города, крепости,
1 Первым в приговоре назван Клеман Делааж, вторым — Дандре-
Баньё, третьим — Польз, четвертым — Лавуазье.
2 Капе (Capet) — так имеяовалзя бывший король Людовик XVI,
3 Следуют фамилии остальных 24 генеральных откупщиков.
410 Процесс генеральных откупщиков и гибель Лавуазье
порты, суда, склады или арсеналы, принадлежащие Фран-
ции, или предоставить им помощь войсками, деньгами,
продовольствием или амуницией, или способствовать
любым способом успеху их оружия на территории Фран-
ции, или же против морских или сухопутных сил, или
поколебать верность офицеров, солдат или других гра-
ждан по отношению к французской нации — карается
смертной казнью.1
„Объявляет, что имущество приговоренных переходит
в собственность Республики в соответствии со статьей
второй отдела второго закона от 10 марта сего года
с учетом исключений, имеющихся в сем законе.
„Приказывает, чтобы в соответствии с требованиями
общественного обвинителя настоящий приговор был при-
веден в исполнение в течение двадцати четырех часов
на площади Революции этого города, чтобы он был напе-
чатан, расклеен и обнародован на всей территории Рес-
публики.
„Вынесен и произнесен 19 флореаля II года Фран-
цузской республики единой и неделимой на публичном
заседании Трибунала, где заседали граждане Пьер Андрэ
Коффиналь, исполняя функции председателя, Этьен Фуко
и Франсуа Жозеф Денизо— судьи, которые и подпи-
сали настоящий приговор совместно с канцеляристом-
секретарем.
Коффиналь, Денизо, Фуко, Дюкре“.
В тот же день, 8 мая 1794 г., все двадцать восемь
бывших генеральных откупщиков были гильотинированы
на площади Революции.
1 Под эту статью подпадали: во-первых, все нарушения законов,
совершенные откупщиками с 1789 по 1791 г. (до ликвидации Откупа)
и, во-вторых, мошенническое изъятие ими всего дктива Откупа при
его ликвидации.
Мария Лавуазье пытается мстить
411
Суд и казнь произошли столь молниеносно, что мно-
гие узнали о происшедшем лишь из газет, где на послед-
ней странице среди объявлений о зрелищах можно было
прочесть список казненных накануне.
История деятельности Лавуазье в эпоху Революции
и все обстоятельства его гибели еще далеко не изу-
чены. После 9 термидора, „когда Робеспьер пал и нача-
лась буржуазная оргия",1 бездетной вдове Лавуазье, как
и семьям остальных откупщиков, было возвращено все
имущество и все рукописи ее супруга. Мария Лавуазье
приложила немало стараний к тому, чтобы отомстить
уцелевшему в буре событий Дюпену, обвинив его в мошен-
ничествах и подлогах. Однако даже свирепый суд тер-
мидорианской реакции не смог ни в чем уличить Дюпена
и полностью оправдал его.
Биографы Лавуазье имеют обыкновение изображать
Марию Лавуазье в качестве выдающейся ученой жен-
щины. Необходимо, однако, напомнить, что, прожив после
своего супруга еще 42 года,1 2 3 эта великосветская дама
не проявила ни малейшей склонности к научной работе.
Как мы видели, жизнь и творчество Антуана Лорана
Лавуазье полны разительных противоположностей. Свои
ошибки и преступления перед родиной он искупил позорной
смертью. Для оценки заслуг Лавуазье следует вспомнить
замечательные слова В. И. Ленина:5
„Исторические заслуги судятся не по тому, чего
не дали исторические деятели сравнительно с совре-
менными требованиями, а по тому, что они дали
нового сравнительно со своими предшественниками".
1 К. Маркс, Ф. Энгельс. Избранные письма, 1947, стр. 409.
2 Она скончалась в 1835 г.
3 В. И. Ленин. Сочинения. 4-е изд., т. 2-ой, стр. 166.
412 Гибелъ Лавуазье
Исторической заслугой Лавуазье является то, что
он развил и завершил заложенное Бойлем и созданное
Ломоносовым новое направление в химии, основанное
на последовательном применении физики и математики;
что он довел химию до уровня подлинной науки, распро-
странил это научное направление на физиологию и под-
готовил таким образом почву для возникновения новой
химии и новой физиологии девятнадцатого столетия.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ
I. ВЫСКАЗЫВАНИЯ КЛАССИКОВ МАРКСИЗМА О ЛАВУАЗЬЕ
1. К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. II, стр. 349; т. XIV,
стр. 236, 342, 432, 482, 512; т. XVIII, стр. 15, 17.
2. В. И. Л е и и н. Сочинения. 4-е изд., т. 14-ый, стр. 239.
IL ОСНОВНЫЕ ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ МАТЕ-
РИАЛОВ О ТВОРЧЕСТВЕ И ЖИЗНИ ЛАВУАЗЬЕ1
1. A. L. Lavoisier. Memoires de chimie. 2 тома, Париж, 1306.
Собрание некоторых мемуаров Лавуазье по химии с вводной
статьей Марии Лавуазье.
2. Oeuvres de Lavoisier. 6 томов, Париж, 1854—1893.
Наиболее полное собрание сочинений Лавуазье, а также
материалов его деловой переписки, заметок и черновых набро-
сков.
3. Е. Grimaux. Lavoisier (1743—1794) d’apres sa correspondence,
ses manuscrits, ses papiers de famille et d’autres documents
inedits. Париж, 1833, 3-е изд., 1899.
Наиболее полная документальная биография Лавуазье.
4. М. В е г t h е 1 о t. La Revolution chimique. Lavoisier. Париж, 1890.
Описание неопубликованных сохранившихся томов лабора-
торных дневников Лавуазье и разбор его творчества.
5. A. D е 1 a h a n t е. Une famille de Finance au XVIL-me siecle. Париж,
1896.
Содержит детали о деятельности Лавуазье в Генеральном
откупе и о процессе откупщиков.
1 Перечень сочинений Лавуазье приведен в разделе IV,
стр. 418—-435.
414
Библиографический указатель
6. В. Berthelot. Les quatorze grands Registres de laboratoire de
Lavoisier. Comptes Rendus de I’Acad, des Sciences, vol. 135,
p. 574, 1902.
Описание вновь обнаруженного второго тома лабораторных
дневников.
7. М. S р е t е г. Lavoisier’s unbekanntes Erstlings-Depositum. Zeitschrift
f. angew. Chemie. B. 45, S. 104, 1932.
Текст вновь обнаруженного, ранее неопубликованного юно-
шеского мемуара Лавуазье, не вошедшего в „Oeuvres".
До сих пор не опубликованы хранящиеся в Национальной
Библиотеке в Париже 14 томов лабораторных дневников Лавуазье
(их Описание см.: Berthelot) и 17 томов его собственноручных
заметок и записок по разнообразным вопросам (выдержки из них
см.: Grimaux, а также Oeuvres, VI).
ЛИТЕРАТУРА О ЛАВУАЗЬЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
1. Д. И. Менделеев. Основы химии. 13-ое изд. (с 8-го изд.) 1947,
т. I, стр. 24, 25, 27, 29, 33—35, 38, 50, 85, 87, 107, 108, 111, 2,0,
356, 357, 361, 362, 372, 420, 459, 460, 595, 601, т., II стр. 479.
2. М. А. Энгельгардт. Лавуазье, его жизнь и научная деятель-
ность (Жизнь замечательных людей. Изд. Ф. Павленкова). СПб.,
1891.
3. В память Лавуазье. Речи проф. Н. Д. Зелинского, И. А. Каблу-
кова и проф. Н. М. Сеченова, М., 1394.
4. О. Е. Сыркина. Педагогические идеи Великой Французской
Революции. 1925.
5. А. Л. Лавуазье. Мемуары. Избранные места в переводе Е. Н.
Троповских под ред. М. А. Блох с биографией Лавуазье. Л., 19-9.
6. Н. К. К р упекая. Народное образование и демократия, 1930.
7. М. А. Б л о х. Новые данные о Лавуазье и его эпохе. Природа,
№ 4, стр. 120, 1933.
8 Б. М. Кедров. Лавуазье — великий преобразователь химии.
Под знам. марксизма, № 12, стр. 42, 1943.
9. А. Л.Лавуазье. Предварительное рассуждение из „Начального
учебника химии". Пер. Т. В. Волковой под ред. проф. С. А.
Погодина. Успехи химии, т. ХП, вып. 5, 1943.
10. А. Л. Лавуазье. О горении вообще. Пер. Т. В. Волковой под ред.
проф. С. А. Погодина. Успехи химии, т. XII, вып. 5, 1943.
Иностранные книги и статьи
415
11. С. А. Погодин. Антуан Лоран Лавуазье — основатель химии
нового времени. Успехи химии, т. XII, вып. 5, 1943.
12. О. А. С т а р о с е л ь с к а я-Н и к и т и н а. Рецензия на книгу:
French S. J. Torch and Crucible (Жизнь и смерть А. Л. Лаву-
азье), Природа, № 1, стр. 8, 1°45.
13. О. А. С т а р о с е л ь с к а я-Н и к и т и н а. Очерки по истории
науки и техники периода французской буржуазной революции,
1789—1794, под ред. акад. С. И. Вавилова и акад. В. П. Волгина.
Изд. Акад. Наук СССР, М.-Л.. 1946.
14. Б. М. Кедров. Энгельс и естествознание, 1947.
IV. ИНОСТРАННЫЕ КНИГИ И СТАТЬИ О ЖИЗНИ
И ТВОРЧЕСТВЕ ЛАВУАЗЬЕ
1. Jerome La land е. Notice sur la vie et les ouvrages de Lavoisier.
(Magasin encyclopedique, vol. V, p. 174, 1795).
Первый по времени краткий очерк жизни и деятельности
Лавуазье.
2. A. F. F о и г с г о у. Notice sur la vie et les travaux de Lavoisier.
Париж, 1796.
Брошюра о жизни и творчестве Лавуазье.
3. A. F. F о и г с г о у. Chimie. Dictionnaire de chimie de 1’Encydo-
pedie methodique, Париж, 1797.
Подробный очерк химических исследований Лавуазье
в последние годы его жизни.
4. G. Cuvier. Lavoisier (Biographie Universelie par Michaud,
Париж, 1811).
Эта статья составлена по собственноручным запискам Марии
Лавуазье; тем не менее она содержит некоторые нетмйности,
отмеченные впоследствии биографом Grimaux (см. выше).
5. Dumas. Lemons sur la philosophic chimique. Париж, 1836.
Содержит очерк химических исследований Лавуазье.
6. Н. Корр. Geschichte der Chemie. Брауншвейг, 1843.
Содержит сжатый очерк химических исследований Лавуазье.
7. F. Hoefer. Lavoisier (Nouvelle biographie generale). Париж,
1846.
Обстоятельный очерк жизни и деятельности Лавуазье.
8. Е. Hoefer. Histoire de la Chimie. Париж, 1-е изд., 1849;
2-е изд., 1869.
416
Библиографический указатель
Содержит обстоятельный очерк жизни и исследовании
Лавуазье.
9. G. W. К a h 1 b a u m u. A. Hoffmann. Die Einfiihrung der Lavoi-
sierschen Theorie, im besjnderen in Deutschland. (Monographien
aus der Geschichte der Chemie, Heft l), Лейпциг, 1397.
Исследование вопроса о влиянии теории Лавуазье на работы
его современников, особенно в Германии.
10. М. S р е t е г. Lavoisier und seine Vorlaufer. (Sammlung chemischer u.
technischer Vortrage, Bd. 15, p. 107—21o), 1910.
Исследование вопроса о предшественниках Лавуазье и о его
приоритете.
11. М. S р е t е г. Lavoisier (G. В u g g е. Buch der grossen Chemiker
Bd. I), Берлин, 1925.
Сжатый, но подробный очерк творчества Лавуазье в области
химии и краткое изложение вопроса о его приоритете.
12. J. A. Cochrane. Lavoisier. London, 1931.
Краткий биографический очерк, не содержащий ничего
нового.
13. A. N. М е 1 d г u m. The Eighteenth Century Revolution in Science.
Calcutta—London. — N. Y. — Toronto, 1933.
Подробный анализ начального периода творчества Лавуазье.
14. A. N. М е 1 d г u m. Lavoisier early work in science. Isis, Vol. 19,
p. 330; Vol. 20, p. 39o, 1933.
Анализ начального периода творчества Лавуазье.
15. W. R. Aykroyd. Three philosophers (Lavoisier, Priestly and
Cavendish). London, 1935.
Биографические очерки Лавуазье, Пристли и Кэвендиша.
16. D. McKie. Lavoisier the father of modern chemistry. London, 1935.
Подробный очерк творчества Лавуазье.
17. S. J. French. Torch and Crucible. Tne life and death of Antoine
Lavoisier. Принстон, США, 1941.
Очерк жизни и творчества Лавуазье. Книга в основном
опирается на биографию Грим о, но содержит некоторые новые
детали. Подробная рецензия дана О. А. Старосельской-Ники-
тиной: Природа, № 1, стр. 3, 1945.
18. Н. Н а г 11 е у. A. L. Lavoisier. Proceedings of the Royal Society
of London, Ser. A, Vol. 190, № 1019, Лондон, 1947.
Доклад в Лондонском королевском обществе о жизни и дея-
тельности Лавуазье по случаю 200-летия со дня его рождения.
Перечень сочинений Лавуазье 417
V. ПЕРЕЧЕНЬ СОЧИНЕНИЙ ЛАВУАЗЬЕ
А. ФИЗИКА, МЕТЕОРОЛОГИЯ, ХИМИЯ И ФИЗИОЛОГИЯ
Книги
1. Opuscules physiques et chimiques. Париж, 1>е изд., 1774; 2-е изд.,
1801.
Небольшие работы по физике и химии.
2. Traite elementaire de chimie presente dans un ordre nouveau -et
d’apres les decouvertes modernes. Париж, 1-е изд., 1789; 2-е изд.,
1793; 3-е изд., 1801 г.
Начальный курс химии, в котором материал расположен
по-новому и согласно новейшим открытиям.
3. Essai sur le phlogistique et sur la constitution des acides, traduit
de i’anglais de M. Kirwan, avec des notes de M. M. de Morveau,
Lavoisier, de la Place, Monge, Berthollet et de Fourcroy. Париж,
1788.
Очерк о флогистоне и о составе кислот, переведенный
с английского текста г. Кирвана, с примечаниями г.г. де-Морво,
Лавуазье, де-Лаплас, Монж, Бертолле и де-Фуркруа.
Статьи и заметки
1. Deux memoires sur le gypse (1765).
Два мемуара о гипсе.
2. Sur les differents moyens qu’on pent employer pour eclairer une
grande ville (1766).
О различных способах, которые можно применять для осве-
щения большого города.
3. Recherches sur les moyens les plus surs, les plus exacts et les plus
commodes de determiner la pesanteur specifique des liquides
soit pour la physique, soit pour le commerce (1768),
Изыскание наиболее надежных, наиболее точны* и удобных
методов определения удельного веса жидкостей, пригодных как
для физики, так и для торговли.
1 В настоящий перечень не включены отзывы, отчеты и доклад-
ные записки по разнообразным, сравнительно мелким вопросам,
а также те анонимные статьи Лавуазье, рукописи которых в его
бумагах не найдены. Статьи и заметки расположены в приблизитель-
ном хронологическом порядке; у многих из них точная датировка
отсутствует. Русский текст представляет собою по возможности дослов-
ный перевод заглавия.
27 Дорфмпн
418
Библиографический указатель
4. Pesanteur absolue de 1’eau distillee.
Абсолютный (удельный) вес дистиллированной воды.
5. Experiences sur la pesanteur de differentes eaux et principale-
ment de celle de mer depuis Cadix jusqu’aux cotes de Californie.
Опыты по (удельному) весу различных вод и в особенности
морской воды от Кадикса до берегов Калифорнии.
6. Sur la nature de 1’eau et sur les experiences par lesquelles on
a pretendu prouver la possibilite de son changement en terre
(1770).
О природе воды и об экспериментах, посредством которых
делались попытки доказать возможность ее превращения в землю.
7. Memoire sur 1’usage de 1’esprit de vin dans 1’analyse des eaux
minerales (1772).
Мемуар о применении винного спирта при анализе мине-
ральных вод.
8. Memoire sur 1’acide du phosphore et sur ses combinaisons avec dif-
ferentes substances salines terreuses et metalliques (1772).
Мемуар о кислоте фосфора и ее соединениях с различными
соляными, землистыми и металлическими веществами.
9. Sur la destruction du diamant par le feu (1772).
О разрушении алмаза огнем.
10. Sur la congelation de 1’eau de mer.
О замерзании морской воды.
11. Experiences sur le passage de 1’eau en glace (1772).
Эксперименты над переходом воды в лед.
12. Reflections sur les experiences qu’on pent tenter a 1’aide du miroir
ardent (1772).
Размышления об экспериментах, которые можно попытаться
осуществить с помощью зажигательного зеркала.
13. Observations sur quelques circonstances de la cristallisation des
seis (1773).
Наблюдения о некоторых обстоятельствах кристаллизации
солей.
14. Sur 1’air inflammable.
О горючем воздухе.
15. Traite ou Histoire de 1’eau.
Трактат или история воды.
16. Extrait des experiences qui ont ete faites sur le miroir ardent.
Извлечение из опытов, сделанных с помощью зажигатель-
ного зеркала.
Перечень сочинений Лавуаяье
419
П. Reflexions sur la maniere d’appliquer les rayons solaires aux expe-
riences physiques de la maniere la plus avantag-euse.
Размышления о наивыгоднейшем способе применения сол-
нечных лучей к физическим эксперимента и.
18. Premier essai du grand verre ardent de M. Trudaine (1774).
Первое испытание большого зажигательного стекла г. Трюдэн.
19. Detail des experiences executees au moyen du grand verre ardent.
Table des matieres qui ont ete exposees au verre ardent.
Деталь опытов, осуществленных посредством большого зажи*
гательного стекла. Таблица веществ, помещенных под зажига-
тельное стекло.
20. Memoire sur la calcination de 1’etain dans les vaisseaux fermes,
et sur la cause de 1’augmentation de poids qu’acquiert ce metal
pendant cette operation (1774).
Мемуар об обжиге олова в закупоренных сосудах и о при-
чине увеличения веса металла во время этой операции.
21. Memoire sur la nature du prin?ipe qui se combine avec les metaux
pendant leur calcination et qui en augmente le poids (1775).
Мемуар о природе начала, соединяющегося с металлами при
их обжиге и увеличивающего их вес.
22. Memoire sur 1’existence de I’air dans 1’acide nitreux et sur les
moyens de decomposer et de recomposer cet acide (1776).
Мемуар о присутствии воздуха в азотистой кислоте и о спо-
собах разложения и воссоединения этой кислоты.
23. Extrait des observations sur le froid de 1776 r.
Извлечение из наблюдений над морозами 1776 г.
24. Experiences faites par 1’ordre de I’Academie sur le froid de 1776.
Premier memoire (par M. M. Bezout, Lavoisier et Vandermonde).
Second memoire (par M. M. Lavoisier, Brisson et Bezout).
Опыты, проведенные по распоряжению Академии относи-
тельно морозов 1776 г. Первый мемуар (г.г. Безу, Лавуазье
и Вандермонд). Второй мемуар (г.г. Лавуазье, Бриссон и Безу).
25. Observations sur le froid de 1’hiver 1776; documents reunis par
Lavoisier.
Наблюдения над морозами зимы 1776 г. Документы, собран-
ные Лавуазье.
26. Memoire sur la combustion du phosphore de Kunckel, et sur la
nature de 1’acide qui resulte de cette combustion (1777).
Мемуар о горении фосфора Кункеля и о природе кислоты,
образующейся в результате этого горенит.
420
Библиографический указатель
27. Experiences sur ia respiration des animaux et sur les changements
qui arrivent a fair en passant par le poumon (1777).
Опыты над дыханием животных и над изменениями, кото-
рым подвергается воздух, проходя через легкие (1777).
23. Memoire sur la combustion des chandelies dans Fair atmospherique
et dans 1’air eminemment respirable (1777).
Мемуар о горении свечей: в атмосферном воздухе и в чрезвы-
чайно удобовдыхаемом воздухе.
29. Memoire sur la dissolution du mercure dans 1’acide vitriolique, et
sur la resolution de cet acide en acide sulfureux aeriforme et en
air eminemment respirable (1777).
Мемуар о растворении ртути в купоросной кислоте и о раз-
ложении этой кислоты на воздухообразную сернистую кислоту
и чрезвычайно удобовдыхаемый воздух.
30. Experiences sur la combinaison de 1’alun avec les matieres char-
bonneuses et sur les alterations qui arrivent a Fair dans lequel
on fait bruler du pyrophore (1777).
Опыт над соединением квасцов с углесодержащими веще-
ствами и над изменениями, претерпеваемыми воздухом, в кото-
ром сжигают пирофор (фосфор).
31. Memoire sur la vitriolisation des pyrites martiales (1777).
Мемуар о превращении железистых пиритов в купорос.
32. De la combinaison de la matiere du feu avec les fluides evapora-
bles et de la formation des fluides elastiques aeriformes (1777).
О соединении материи огня с испаряемыми флюидами
и об образовании упругих воздухообразных флюидов.
33. Memoire sur la combustion en general (1777).
Мемуар о горении вообще.
34. Memoire sur une nouvelle methode distillatoire appliquee a la distil-
lation des eaux-de-vie et celle de la mer (1777).
Мемуар о новом дистилляционном методе в применении
к дистилляции водки и морской воды.
35. Memoire sur la proportion d’acide et de base qui entre dans la
composition de differents seis neutres (1777).
Мемуар о соотношении между кислотой и щелочью в составе
различных нейтральных солей.
36. Experiences et observations sur les fluides elastiques en general,
et sur Fair de Fatmosphere en particulier (1777).
Эксперименты и наблюдения об упругих флюидах вообще
и об атмосферном воздухе в частности.
37. Procede pour retirer 1’acide phosphorique des os.
Перечень сочинений Лавуазье
421
Сйособ извлечения фосфорной кислоты из костей.
38. Considerations generales sur la nature des acides et sur les prin-
cipes dont ils sont composes (1778).
Общие соображения о природе кислот и о началах, из кото-
рых они состоят.
39. Memoire sur quelques fluides qu’on peut obtenir dans 1’etat aeri-
forme a un degre de chaleur peu superieur a la temperature
moyenne de la terre (1780).
Мемуар о некоторых жидкостях, которые можно получать
в воздухообразном состоянии йри градусе теплоты, незначительно
превышающем среднюю температуру земли.
40. Memoire sur differentes combinaisons de 1’acide phosphorique
(1780).
Мемуар о различных соединениях фосфорной кислоты.
41. Memoire sur un procede particulier pour convertir le phosphore
en acide phosphorique sans combustion (1780).
Мемуар об особом способе превращения фосфора в фосфор-
ную кислоту без сжигания его.
42. Memoire sur la chaleur, par M. M. Lavoisier et de Laplace (1780)*
Мемуар о теплоте, г. г. Лавуазье и де-Лаплас.
43. Sur la pesanteur de la matiere de la chaleur.
О весомости материи теплоты.
44. Memoire dans lequel on a pour objet de prouver que 1’eau n’est
une substance simple, un element proprement dit, mats qu’elle est
susceptible de decomposition et recomposition (1781).
Мемуар, имеющий целью доказать, что вода не является
простым веществом, элементом в буквальном смысле слова, но
что она может быть подвергнута разложению и воссоединению.
45. Memoire ou I’on prouve par la decomposition de 1’eau, que ce
fluide n’est point une substance simple, et qu’il a plusieur moyens
d’obtenir en grand 1’air inflammable qui у entre eomme principe
constituant, par M. M. Meusnier et Lavoisier (1781).
Мемуар, в котором доказывается посредством разложения
воды, что эта жидкость не является простым веществом и что
имеется множество методов получения в больших количествах
горючего воздуха, входящего в ее состав в качестве начала,
г. г. Мёнье и Лавуазье.
46. Memoire sur I’electricite qu’absorbent les corps qui se reduisent
en vapeurs, par M. M. Lavoisier et de Laplace (1781).
Мемуар об электричестве, поглощаемом телами при Испа-
рении, г. г. Лавуазье и Лапласа.
422
Библиографический указатель
47. Experiences sur Feffet compare de differents combustibles (1781).
Опыты о сравнительном (тепловом) эффекте различных
видов топлива.
48. Reflexions sur la calcination et la combustion, a 1’occasion d’un
ouvrage intitule „Traite chimique de I’air et de feu“ (1781).
Размышления об обжиге и горении по поводу труда, оза-
главленного „Химический трактат о воздухе и огне".
49. Memoire sur la formation de 1’acide nomme air fixe ou a ci de
crayeux, que je designerai desormais sous 1’acide du charbon
(1781).
Мемуар об образовании кислоты, именуемой связанным
воздухом или меловой кислотой, которую я впредь буду име-
новать угольной кислотой.
50. Memoire sur les manieres d’eclairer les salles de spectacle (1781).
Мемуар о способах освещения зрительных зал.
51. Memoire sur un moyen d’augmenter considerablemen t Faction du
feu et de la chaleur dans les operations chimiques (1782).
Мемуар об одном способе значительного усиления действия
огня и теплоты при химических операциях.
52. Memoire sur Feffet que produit sur les pierres precieuses un degre
de feu tres-violent (1782).
Мемуар о действии чрезвычайно интенсивного огня на
драгоценные камни.
53. Memoire sur la combinaison de Fair nitreux avec les airs respira-
bles et sur les consequences qu’on en pent tirer, relativement
a leur degre de salubrite (1782).
Мемуар о соединении азотистого воздуха с вдыхаемыми
видами воздуха и о выводах, которые можно таким образом
извлечь относительно степени их целебности.
54. Considerations generales sur la dissolution des metaux dans les
acides (1782).
Общие соображения о растворении металлов в кислотах.
55. Memoire sur la precipitation des substances metalliques les unes
par les autres (1782).
Мемуар об осаждении одних металлических веществ дру-
гими.
56. Memoire sur Faffinite du principe oxygine avec les differentes
substances auxquelles il est susceptible de s’unir (1782).
Мемуар о сродстве кислородного начала к различным веще-
ствам, с которыми он склонен соединяться.
,57. Memoire sur 1’union du principe oxygine avec le fer (1782).
Перечень сочинений Лавуазье
423
Мемуар о соединении кислородного начала с железом.
58. Memoire sur la nature des fluides elastiques aeriformes qui se dega-
gent de quelques matieres animales en fermentation (1782).
Мемуар, о природе упругих воздухообразных флюидов,
выделяемых при брожении некоторыми животными веществами.
59. De 1’action du feu anime par 1’air vital sur les substances minera-
les les plus refractaires (1783).
О действии огня, возбуждаемого живительным воздухом
на наиболее тугоплавкие минеральные вещества.
60. Observations sur la combustion du fer pour servir de supplement
au memoire pubiie en 1782 sur la combinaison du fer avec le
principe oxygine.
Наблюдения над горением железа, служащие дополнением
к мемуару, опубликованному в 1782 г. о соединении железа
с кислородным началом.
61. Nouvelles reflexions sur 1’augmentation de poids qu’acquierent, en
brulant, le soufre et le phosphore, et sur la cause a laquelle on
doit 1’attribuer (1783).
Новые размышления об увеличении веса, происходящем
при горении серы и фосфора, и о причине, которой следует
это приписать.
62. Reflexions sur le phlogistique pour servir de suite a la theorie de
la combustion et de calcination publiee en 1777 (1783).
Размышления о флогистоне, служащие продолжением теории
горения и обжига, опубликованной в ТП1 г.
63. Thermometre des caves de 1’Observatoire. Precautions prises pour
construir et graduer ce thermometre (1785).
Термометр подвалов Обсерватории. Предосторожности, при-
нятые при конструировании и градуировке этого термометра.
64. Alterations qu’eprouve 1’air respire (1785).
Изменения, испытываемые воздухом при дыхании.
65. Reflexions sur la decomposition de 1’eau par les substances vege-
tates et animales (1786).
Размышления о разложении воды растительными и живот-
ными веществами.
66. Memoire sur la combinaison du principe oxygine avec 1’esprit de
vin, 1’huile et differents corps combustibles (1784).
Мемуар о соединении кислородного начала с винным спир-
том, растительным маслам и различными другими рорючимц
веществами.
424
Библиографический указатель
61. Memoire sur le degre de force que doit avoir le bouillon, sur sa
pesanteur specifique et sur la quantite de matiere gelatineuse
solide qu’il contient (1786).
Мемуар о крепости, которой должен обладать бульон, о его
удельном весе и о количестве содержащегося в нем твердого
студенистого вещества.
63. Note sur la precipitation des metaux les uns par les autres (1786).
Заметка об осаждении одних металлов другими.
69. Memoire sur la construction du barometre a surface plane.
Мемуар о конструкции барометра с плоской поверхностью.
70. Developpement des’dernieres experiences sur la decomposition et
la recomposition de 1’eau (1786).
Развитие последних экспериментов по разложению и воссо-
единению воды.
71. Etat des vaisseaux et ustensiles necessaires pour monter un labo-
ratoire de chimie.
Перечень сосудов и приборов, необходимых для устройства
химической лаборатории.
72. Lettre a Guyton de Morveau sur la platine (1786).
Письмо к Гитону-де-Морво о платине.
73. Sur la platine.
О платине.
74. Observations sur la platine (1790).
Замечания о платине.
75. Memoire sur la necessite de reformer et perfectionner la nomen-
clature de la chimie (1787).
Мемуар о необходимости реформы и усовершенствования
химической номенклатуры.
76. Rapport sur les nouveaux caracteres chimiques (1787).
Доклад о новых химических обозначениях.
77. Premier memoire sur la respiration des animaux, par M. M. Seguin
et Lavoisier.
Первый ^мемуар о дыхании животных г. г. Сегэн и Лавуазье.
78. Memoire sur la combustion du fer dans 1'air vital (1789).
Мемуар о горении железа в живительном воздухе.
79. De la decomposition de 1’air par le soufre, de la formation des
acides sulfureux et sulfurique, et de 1’emploi des sulfures dans
les experiences eudiometriques.
О разложении воздуха серой, об образовании сернистой
и серной кислот и о применении сернистых соединений в эвдис-
метрических измерениях.
Перечень сочинений Лавуазье
425
80. Reflexions sur le projet de Fetablissement dune manufacture de
sei d’Epsom en France.
Размышления о йроекте устройства мануфактуры по изго-
товлению английской соли во Франции.
81. Note pour Particle „Chimie".
Заметка к статье „Химия".
82. Memoire sur la fermentation spiritueuse.
Мемуар о спиртовом брожении.
83. Analyse organique elementaire.
Элементарный органический анализ.
84. Premier memoire sur la transpiration des animaux par M. M. Seguin
et Lavoisier (1790).
Первый мемуар о транспирации животных г. г. Сегэи и
Лавуазье.
85. Regies pour predire le changement de temps (1790).
Правила для предсказания перемены погоды.
86. Memoire contenant les experiences faites sur la chaleur pendant
1’hiver de 1783 a 1784 par M. M. de Laplace et Lavoisier pour
servir de supplement au memoire sur la chaleur publie en 1780
(1792).
Мемуар, содержащий опыты по теплоте, произведенные зимою
1783—1784 г.г. де-Лаплас и Лавуазье (служащие дополнением
к мемуару о теплоте, опубликованному в 1780 г.).
87. De Taction du calorique sur les corps solides, principalement sur
le verre et sur les metaux, et de 1’allongement ou raccourcisse-
ment dont ils sont susceptibles par cette action, a un degre
inferieur a celui qui est necessaire pour les faire fondre, par
M. M. de Laplace et Lavoisier.
О действии теплорода на твердые тела, главным образом
на стекло и на металлы, а также об удлинении и укорочении,
испытываемых ими при нагреве недостаточном для их рас-
плавления, г. г де-Лаплас и Лавуазье.
83. Du passage des corps solides a I’etat liquide par Taction du calo-
rique (1792).
О переходе твердых тел в жидкое состояние под действием
теплорода.
89. De Faction du calorique sur les corps liquides, depuis le terme de
leur liquefaction jusqu’a celui de leur vaporisation.
О действии теплорода иа жидкие тела от точки их пла-
вления вплоть до точки их обращения в пар.
426
Библиографический указатель
90. De quelques substances qui sont constamment dans 1’etat des fluides
aeriformes au degre de temperature et de pression habituel de
I’atmosphere,
О некотор ых веществах, пребывающих постоянно в состоя-
нии воздухообразных флюидов при обычных температуре и давле-
нии атмосферы.
91. Vues generates sur la formation et sur la constitution de 1’atmos-
phere de la terre.
Общие воззрения на образование и состав земной атмо-
сферы.
92. Appareil pour la mesure de lelasticite des vapeurs.
Аппарат для измерения упругости паров.
93. Details historiques sur la cause de 1’augmentation de poids qu’ac-
quierent les substances metalliques lorsqu’on les chauffe pendant
leur exposition a 1’air (1792).|
Исторические подробности относительно причины, вызыва-
ющей увеличение веса металлических веществ, нагреваемых
в присутствии воздуха.
94. Sur le charbon (1793).
Об угле.
95. Second memoire sur la transpiration des animaux.
Второй мемуар о транспирации животных.
Б. ГЕОЛОГИЯ И МИНЕРАЛОГИЯ
1. Observations d’histoire naturelle faites aux environs de Mezieres
en septembre 1764.
Естественно-исторические наблюдения, произведенных в окре-
стностях Мезьера в сентябре 1764 г.
2. Observations d’histoire naturelle sur la Champagne depuis Reims
jusqu’a Mezieres, faites en septembre 1764.
Естественно-исторические наблюдения в Шампани от Реймса
до Мезьера, произведенные в сентябре 1764 г.
3. Note de geologie.
Заметка по геологии.
4. Observations d’histoire naturelle sur les environs de Paris (1764).
Естественно-исторические наблюдения в окрестностях Па-
рижа.
5. Observations d’une fouille faite derriere 1’HSpital, pour la construc-
tion d’une gare a 1’usage des bateaux marchands (1763),
Перечень сочинений Лавуазье
427
Наблюдения шурфа, заложенного позади Госпиталя для
постройки пристани торговых кораблей.
6. Observations d’histoire naturelie sur les environs de Lizy, JaFerte-
sous-Jouarre et Meaux (1763).
Естественно-исторические наблюдения в окрестностях Лизи,
Ферт-су-Жуарр и Мо.
7. Observations d’histoire naturelle faites aux environs de Dourdan et
d’Orleans (1754).
Естественно-исторические наблюдения, произведенные в окре-
стностях Дурдана и Орлеана.
8. Observations d’histoire naturelle faites en Normandie en 1765.
Естественно-исторические наблюдения, произведенные в Нор-
мандии в 1765 г.
9. Detail d une coupe faite pour adoucir la pente de la montagne de
Luzarches du c3te de Champ latreux (16 aout 1765).
Деталь разреза, сделанного для уменьшения уклона горы
Люзарш со стороны Шам-Латрэ.
10. Ordre de bancs pour les environs d’Etampes.
О чередовании отложений в окрестностях Этампа.
11. Observations d’histoire naturelie sur les environs de Villers — Cot-
terets.
Естественно-исторические наблюдения в окрестностях Вил-
ле — Коттре.
12. Observations d’histoire naturelle faites dans la partie occidentale
du Valois, en mai 1766.
Естественно-исторические наблюдения, произведенные в за-
падной части Валуа в мае 1766 г.
13. Observations mineralogiques faites aux environs de Melun, Corbeil
et Arpajon pour servir a completer la carte des environs d’Etam-
pes et de Fontainebleau (aout 1766).
Минералогические наблюдения, произведенные в окрестно-
стях Мелюна, Корбея и Арпажона, служащие для дополнения
карты окрестностей Этампа и Фонтэнебло (август 1766 г.).
14. Reflexions generales et observations sur la carte mineralogique de
la partie occidentale du Valois et d’une portion de l’Ile-de-France
adjacente (1766).
Общие размышления о минералогической карте западной
части Валуа и одной прилегающей к ней части Иль-де-Франса.
15. Reflexions generales sur la carte mineralogique qui comprend la
partie orientate du Valois, le Tradenois et les environs de Reims,
428
Библиографический указатель
Общие размышления о минералогической карте, охватыва-
ющей западную часть Валуа, Траденуа и окрестности Реймса»
16. Voyage de Beauvais et du Vexin, fait en mai 1766.
Путешествие по Бовэ и Вексену, совершенное в мае 1766 г.
17. Coupe generale des montagnes les plus elevees du Vexin.
Общий разрез наивысших гор Вексена.
18. Journal d’observations mineralogiques faites dans la Brie en octobre
et novembre 1766.
Журнал минералогических наблюдений, выполненных в Бри
в октябре и ноябре 1766.
19. Resultats des observations mineralogiques et des nivellements faits
en Brie en octobre et novembre 1766.
Результаты минералогических наблюдений и нивелировок,
выполненных в Бри в октябре и ноябре 1766 г.
20. Corrections a faire a la carte de Brie.
Исправления, которые надлежит внести в карту Бри.
21. Journal de voyage fait dans une partie de Soissonnais et dans la
partie du Valois qui avoisine la Champagne (1766).
Путевой журнал, составленный в одной части Суасоннэ
и в одной части Валуа, прилегающей к Шампани.
22, Observations mineralogiques sur la Savoie.
Минералогические замечания о Савойе.
23. Observations sur le tableau geographique des Vosges (1767).
Замечания относительно географической карты Вогез.
24. Remarques sur la carte de Neufbrisach.
Замечания к карте Нёфбризаха.
25. Observations sur la carte de environs de Colmar et de Schlettstat.
Замечания относительно карты окрестностей Кольмара и
Шлеттштата.
26. Observations geographiques (environs de Vesoul, environs de Saint-
Die, environs de Bale) (1767).
Географические обозрения (окрестности Везуля, окрестности
Сэн-Диэ, окрестности Баль).
27. Note sur le sondage du terrain de Paris.
Заметка о зондировании грунта в Париже.
28. Instruction pour les voyageurs (1769).
Инструкция для путешественников.
29. De la nature des eaux d’une partie de la Franche-Compte, de
1*Alsace, de la Lorraine, de la Champagne, de la Brie et du
Valois,
Перечень сочинений Лавуазье
429
О природе вод одной части Франш-Конте, Эльзаса, Лота-
рингии, Шампани, Бри и Валуа.
30. Resultat des experiences faites sur les eaux des pays composes de
matieres refractaires ou vitrifiables, dans les montagnes des Vosges
et pays adjacents.
Результат экспериментов, которым были подвергнуты воды
из районов, состоящих из тугоплавких или стеклующихся веществ
в Вогезах и прилегающих к ним районах.
31. Resultat des experiences faites sur les eaux des pays composes de
couches horizontales de sables et de pierres sableuses qui avoisi-
nent les montagnes des Vosges.
Результат экспериментов, которым были подвергнуты воды
из районов, прилегающих к Вогезам, состоящих из горизонтальных
слоев песка и песчаников.
32. Resultat des experiences faites sur les eaux des pays composes
de couches calcaires.
Результат экспериментов, проведенных над водами из райо-
нов, состоящих из известняковых слоев.
33. Sur la nature des eaux de la ville de Rouen.
О природе вод города Руана.
34. Eboulements-naturels (evenement arrive a Pontoise) (1770).
Естественные оползни (событие, происшедшее в Понтуазе).
3S. Pieces relatives a 1’Atlas mineralogique de la France (1772—1773).
Материалы, относящиеся к Минералогическому атласу
Франции.
36. Memoire sur la nature des eaux de Rouen.
Мемуар о природе вод в Руане.
37. Lettre de М. Lavoisier sur les moyens d’amener 1’eau a Paris et
sur 1’Atlas Mineralogique de France.
Письмо г. Лавуазье о способах подачи воды в Париж
и о Минералогическом атласе Франции.
38. Analyse de quelques eaux rapportees d’Italie par B. Cassini-fils.
Анализ некоторых вод, привезенных из Италии Кассини*
сыном.
39. Mines de Poullawen et d’Huelgoat (1773).
Рудники Пуллавен и Гюльгоа.
40. Analyse de 1’eau du lac Asphaltite, par M. M. Macquer, Lavoisier
et Sage (1773).
Анализ воды Асфальтового озера (Мертвого моря) г. г. Маке,
Лавуазье и Саж.
430
Библиографический указатель
41. Experiences sur une espece de steatite blanche qui.se con vertit
seule au feu en un beau biscuit de porcelaine, par M. M. Guettard
et Lavoisier (1773).
Опыты над одним видом белого стеатита, самостоятельно
превращающимся на огне в прекрасный бисквитный фарфор,
г. г. Геттар и Лавуазье.
42. Description de deux usines de charbon de terre situees au pied
des montagnes de Voye, 1’une en Franche-Comte, 1’autre en
Alsace, avec quelques conclusions sur le charbon qu’on en tire,
par M. M. Guettard et Lavoisier (1773).
Описание двух угольных копей, расположенных у подножья
гор Вуа, одной из Фоанш-Конте, другой в Эльзасе с некоторыми
выводами относительно добываемого там угля, г.г. Геттар
и Лавуазье.
43. Observation? generales sur les couches modernes horizontales (1733).
Общие замечания о новейших горизонтальных слоях.
44. Memoire sur la hauteur des montagnes des environs de Paris
(1792).
Мемуар о высоте гор в окрестностях Парижа.
В. МАТЕРИАЛЫ УПРАВЛЕНИЯ ПОРОХОВ И СЕЛИТР
1. Observations impartiales sur la recolte du salpetre en France et
sur la fabricat.on de la poudre (1776).
Беспристрастные замечания относительно добычи селитры
во Франции и фабрикации пороха.
2. Experiences sur la cendre qu’emploient les salpetriers de Paris et
sur son usage dans la fabrication du salpetre (1777).
Эксперименты относительно золы, применяемой парижскими
селитроварами, и относительно ее применения в производстве
селитры.
3. Instruction sur 1’etablissement des nitrieres et sur la fabrication du
salpetre (1777).
Инструкция по устройству селитряниц и по производству
селитры.
4. Memoire sur la cessation de la fouille ordonnee par le resultat du
Conseil du 30 mai 1775 (1777).
Мемуар о прекращении поискового рытья согласно поста-
новлению Совета от 30 мая 1775 г.
5. Memoire, sur des terres naturellement salpetrees existantes en
France, lu a I’Academie le 5 juillet 1777 par M. M. Clouet et
Lavoisier.
Перечень сочинений Лавуазье
431
Мемуар о природных селитряных почвах, существующих
во Франции, прочитанный в Академии 5 июля 1777, г.г. Клуэ
и Лавуазье.
6. Memoire sur des terres et de pierres naturellement salpetrees dans
Touraine et dans la Saintonge par M. M. Clouet et Lavoisier
(1773).
Мемуар о природных почвах и камнях, содержащих селитру
в Турэни и Сэнтонже, г.г. Клуэ и Лавуазье,
7. Instruction pour les employes de la Ferine generale (1779).
Инструкция чиновникам Генерального откупа.
8. Memoire sur la fabrication arti.icielle du salpetre (1786).
Мемуар об'искусственном изготовлении селитры.
9. Documents et memoires relitifs au prix du salpetre (1775—1786).
Документы и мемуары в отношении цены селитры.
10. Experiences sur la decomposition du nitre par le char bon (1786).
Эксперименты о разложении селитры углем.
11. Memoire sur 1’etablissement les products et la situation de la Regie
des Poudres et salpetres (avril 1789).
Мемуар об установлении, продукции и состоянии Управле-
ния порохов и селитр (апрель 1789 г.).
12. Memoire sur le service des poudres et salpetres (1790).
Мемуар о применении порохов и селитр.
13. La Regie des poudres (1790).
Управление порохов.
14. Memoire sur la Regie des poudres (1790—1791).
Мемуар об Управлении порохов.
15. Memoire de la Regie des poudres (1791).
Мемуар относительно Управления порохов.
16. M&noire sur les poudres et salpetres, adresse au Comite de finan-
ces de 1’Assemblee nationale (1792).
Мемуар о порохах и селитрах, адресованный в Комитет
финансов Национального собрания.
17. Memoire sur les differentes methodes proposees pour determiner le
titre ou la qualite du salpetre brut (1792).
Мемуар о различных методах, предложенных для определе-
ния состава или качества неочищенной селитры.
18. Sur la detonation (1793).
О детонации.
19. Experiences sur Гог fulminant.
Опыты с гремучим золотом.
432
Библиографический указатель
Г. ЭКОНОМИКА, СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И ПОЛИТИКА
1. Fragments d’un eloge de Colbert (1771).
Фрагменты похвального слова в Кольбере.
2. Calculs des products des differehts baux de la Ferme generale avec
les details tres particuliers sur les frais de regie du bail de Lau-
rent David (1774).
Расчеты продукции при различных договорах Генерального
откупа с весьма тщательными подробностями относительно рас-
ходов по управлению при договоре Лорана Давида.
3. Rapport sur 1’organisation des travaux du Comite d’Agriculture
(1785).
Доклад об организации и работах Сельско-хозяйственного
комитета.
4. Memoire sur le Comite d’Agriculture.
Мемуар о Сельско-хозяйственном комитете
5. Memoire sur la disette des bestiaux (1786).
Мемуар о голодании скота.
6. Instruction sur le parcage des betes a laine (1786).
Инструкция о выгоне на пастбища животных, дающих шерсть.
7. Instruction sur I’agriculture pour les assemblees provinciates (1787).
Инструкция о сельском хозяйстве для провинциальных
ассамблей.
8. Memoire sur les encouragements qu’il est necessaire d’accorder
a I’agriculture (1787).
Мемуар о необходимых методах поощрения сельского хозяй-
ства.
9. Instruction sur la culture du trefle.
Инструкция о культуре клевера.
10. Resultats de quelques experiences d’agriculture et reflexions sur
leurs relations avec I’economie politique (1788).
Результаты некоторых сельско-хозяйствеиных'экспериментов
и размышления о их отношении к политической экономии.
11. Memoires presentes a I’Assemblee generate d’Orleanais (1788).
Мемуары, представленные Орлеанской генеральной
Ассамблее.
12. Memoire sur la convocation des Etats generaux (1788).
Мемуар о созыве Генеральных Штатов.
13. Instruction donnee par la noblesse de Blois a ses deputes aux
Etats generaux (1788).
IV. Перечень сочинений Лавуазье
433
Наказ дворянства уезда Блуа своим депутатам в Генераль-
ных штатах.
14. Reflexions sur les assignats et sur la liquidation de la dette exigible
ou arrieree (1790).
Размышления об ассигнациях и о ликвидации, подлежащей
взысканию, или просроченной задолженности.
J5. De la Richesse territoriale du Royaume de France (1791).
О земельном богатстве Французского королевства.
16. De 1’etat des finances en France au ler janvier 1792.
О состоянии финансов Франции на 1 января 1792 г.
17. Sur le lycee des arts (1793).
О лицее искусств.
18. Reflexions sur 1’instruction publique presentees a la Convention
nationale par le Bureau de consultation des arts et metiers, sui-
vies d’un projet de decret (1794).
Размышления о народном образовании, представленные
Национальному Конвенту Консультационным бюро искусств
и ремесел, с приложением проекта декрета.
19. Reponses aux inculpations portees contre les ci-devant fermiers avee
les pieces justificatives (1794).
Ответы на обвинения, выставленные против бывших откуп-
щиков, с приложением оправдательных материалов.
Д. СОЦИАЛЬНАЯ ГИГИЕНА И ТЕХНИКА
1. Caleuls et observations sur le projet d’etablissement d’une pompe a
feu pour fournir de 1’eau a la ville de Paris (1769).
Расчеты и замечания к проекту устройства огненного насоса
для снабжения водою города Парижа.
2. Rapport sur les prisons par M. M. Lavoisier, Tenon, Le Roy, Duha-
mel de Monceau et de Montigny (1780).
Доклад о тюрьмах г. г. Лавуазье, Тенон, Лё-Pya, Дюгамель
де-Монсо и де-Монтиньи.
3. Observations sur les prisons actuelles de la Conciergerie. Notes
pour servir du supplement au rapport sur un projet d’etablisse-
ment de nouvelles prisons (1780).
Замечания о современных тюрьмах Консьержери. Заметки,
служащие дополнением к докладу о проекте устройства новых
тюрем.
28 Дорфман
434
Библиографический указатель
4. Rapport fait а Г Academic des Sciences sur la machine aerostatique
de MM. de Montgolfier (par MM. Le Roy, Tillet, Brisson, Cadet,
Lavoisier, Bossut, de Condorcet et Desmarets) (1783).
Доклад Академии Наук об аэростатической машине г.г. Мон*
гольфье (г.г. Лё-Pya, Гайэ, Бриссон, Кадэ, Лавуазье, Боссю,
де-Кондорсэ и Демарэ).
5. Sur le' magnetisme animal (1784).
О животном магнетизме.
6. Examen d’un projet ds translation de 1’Hotel-Dieu de Paris et
d’une'nouvelle construction d’hopitaux pour les malades (1785).
Заключение о проекте ’перевода Божьего дома из Парижа
и о новой конструкции госпиталей для больных.
7. Rapport des memoires et projets pour eloigner les tueries de 1’inte-
rieur de Paris (1787).
Доклад о мемуарах и проектах об удалении боен из вну-
тренней части Парижа.
8. Rapports des commissaires charges par I’Academie du projet d’un
nouvel Hotei-Dieu (par M.M. de Lassone Daubenton, Tenon, Bailly,
Lavoisier, La Place, Coulomb, d’Arcet) (1787).
Доклады комиссаров, выделенных Академией, для рассмо-
трения проекта нового Бэжьегэ Дома [г. г. де-Лассон-Добантон,
Тенон, Байи, Лавуазье, Лаплас, Кулон и д’Арсе].
9. Reflexions generales sur la fabrication des assignats (1793).
Общие размышления об изготовлении ассигнаций.
ОГЛАВЛЕНИЕ
Стр
Предисловие................................................ 5
Глава I. Детство и юность.................................. Ц
Глава Н. Первый успех молодого ученого..................... 23
Глава III. Начало карьеры и женитьба....................... 38
Глава IV. Физик атакует химические проблемы •............. 59
Глава V. На подступах к теории флогистона................. 91
Глава VI. Сверхвысокий жар............................... 137
Глава VII. Наука и „гидроскопия" ..........................148
Глава VIII. Кислород................................. . 156
Глава IX. Вода и „горючий воздух"...................... 211
Глава X. Природа теплоты и тепловые свойства веществ . 243
Глава XI. Триумф новой химии . . . . • . 278
Глава XII. Физика и химия жизненных процессов........... 311
Глава XIII. И академик и делец.........• . . .......... 335
Глава XIX. Годы Революции .............................. 354
Глава XV. Процесс генеральных откупщиков и гибель Ла-
вуазье ................................................. 392
Библиографический указатель
413
Печатается по постановлению
Редакционно-издательского совета
Академии Наук СССР
*
Художник М. И. Разулевич
Редактор издательства А. А. Елисеев
Технический редактор Р. С. Певзнер
Корректор О. Г. Крючевская
•
РИСО АН СССР № 3067. Подписано
к печати 2IX 1948 г. Печ. л. 273U -+• 4 вклейки
Уч.-изд. л. 24. Тираж '5000 М-19793
Зак. № 1165.
1-я Типография Издательства АН СССР.
Ленинград В. О.. 9 лин., 12.
ОПЕЧАТКИ
Стра- ница Строка Напечатано Следует читать
70 9—8 снизу в течении в течение
73 2 снизу рассуждении рассуждения
76 13 сверху дистиллирова- ной дистиллиров эн- ной
80 5 сверху весом весов
80 8 сверху 10-8 и 10-9 10-6 _ ю-7
82 16 сверху определению определению
83 14 снизу многокрано многократно
93 10 снизу поглощаемом поглощаемым
108 6 снизу имеют имеет
133 12 снизу обожженого обожженного
135 2 сверху далнейших дальнейших
139 2 сверху не был прило- жен не было прило- жено
141 11 снизу (преломления (показатель пре- ломления
143 8 снизу хлопьям хлопьями
233 12 снизу его ее
234 2 снизу (стр. 228) (стр. 230)
240 2 сверху Фун фунт
254 7 снизу ПК»2 mv2
255 13—-14 сверху средней живой силой средней живой силой mv2
273 10 снизу сажалению сожалению
298 5 сверху сраведливость справедливость
344 15 снизу усопшего уче- ного, усопшему уче- ному,
361 4 снизу Кольсультаци- онное Консультацион- ное
413 2—1 снизу в разделе IV, стр. 418—435 в разделе V, стр. 417—434
426 13 снизу произведенных произведенные
Я. Г. До рф на н. Лавуазье.