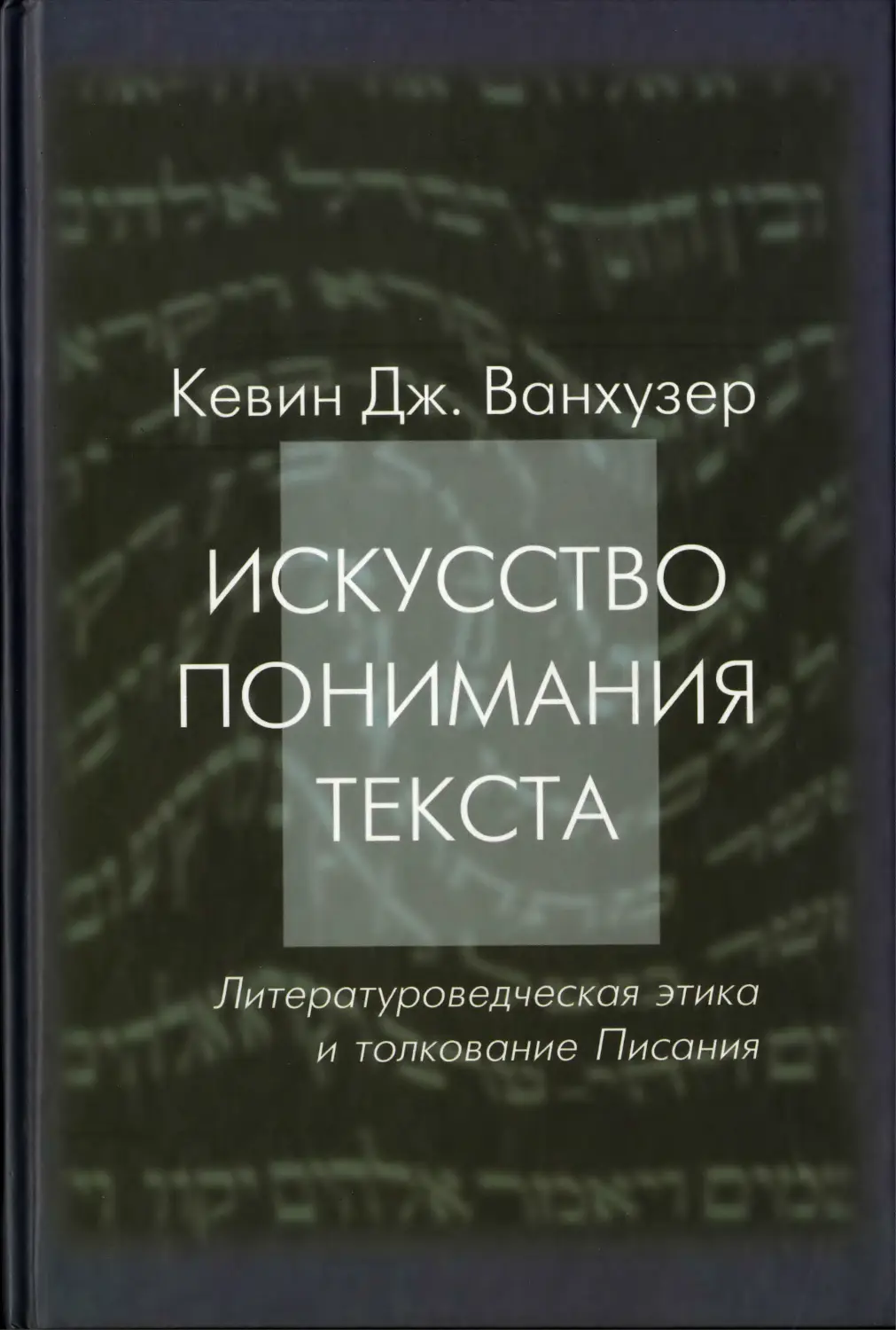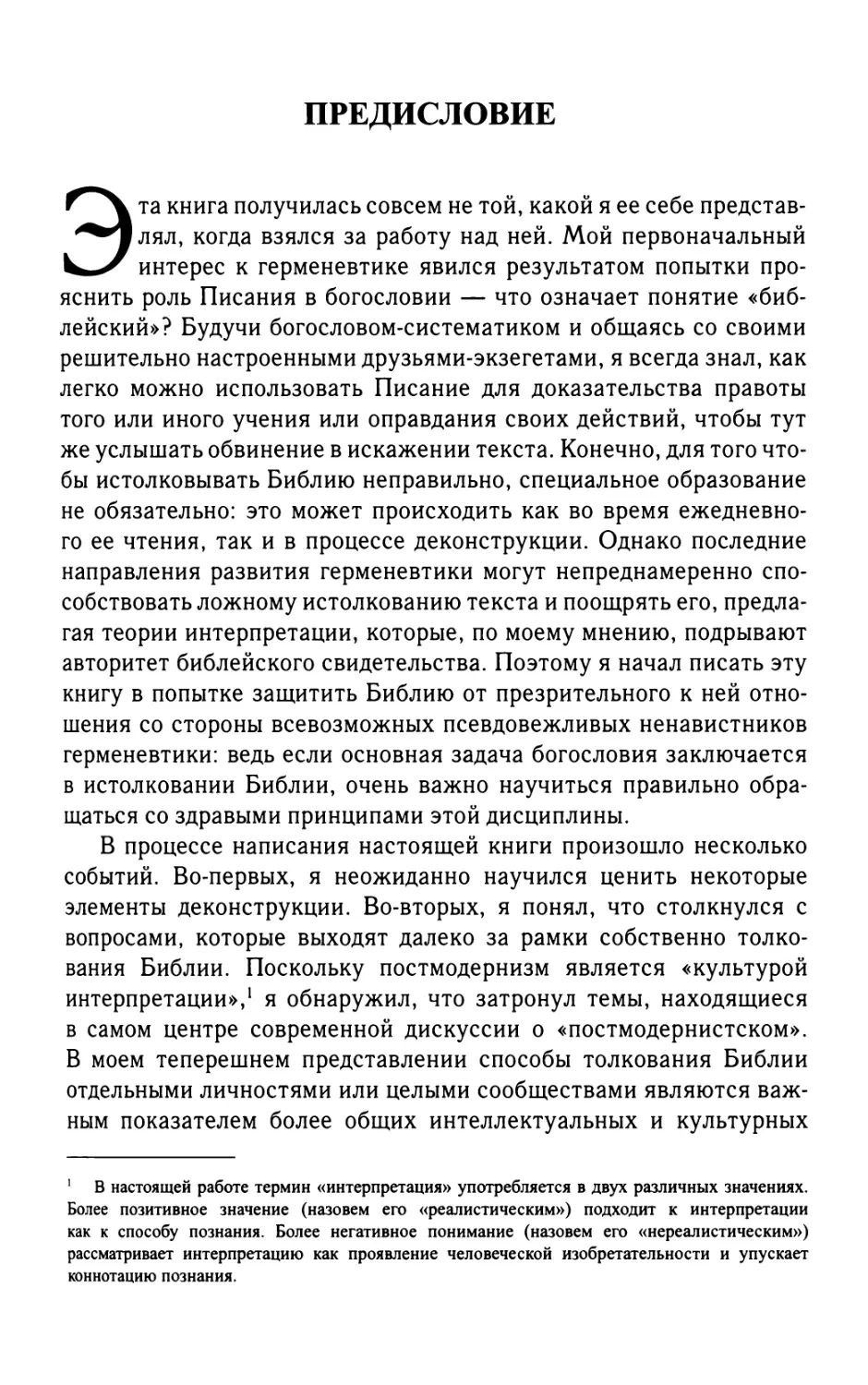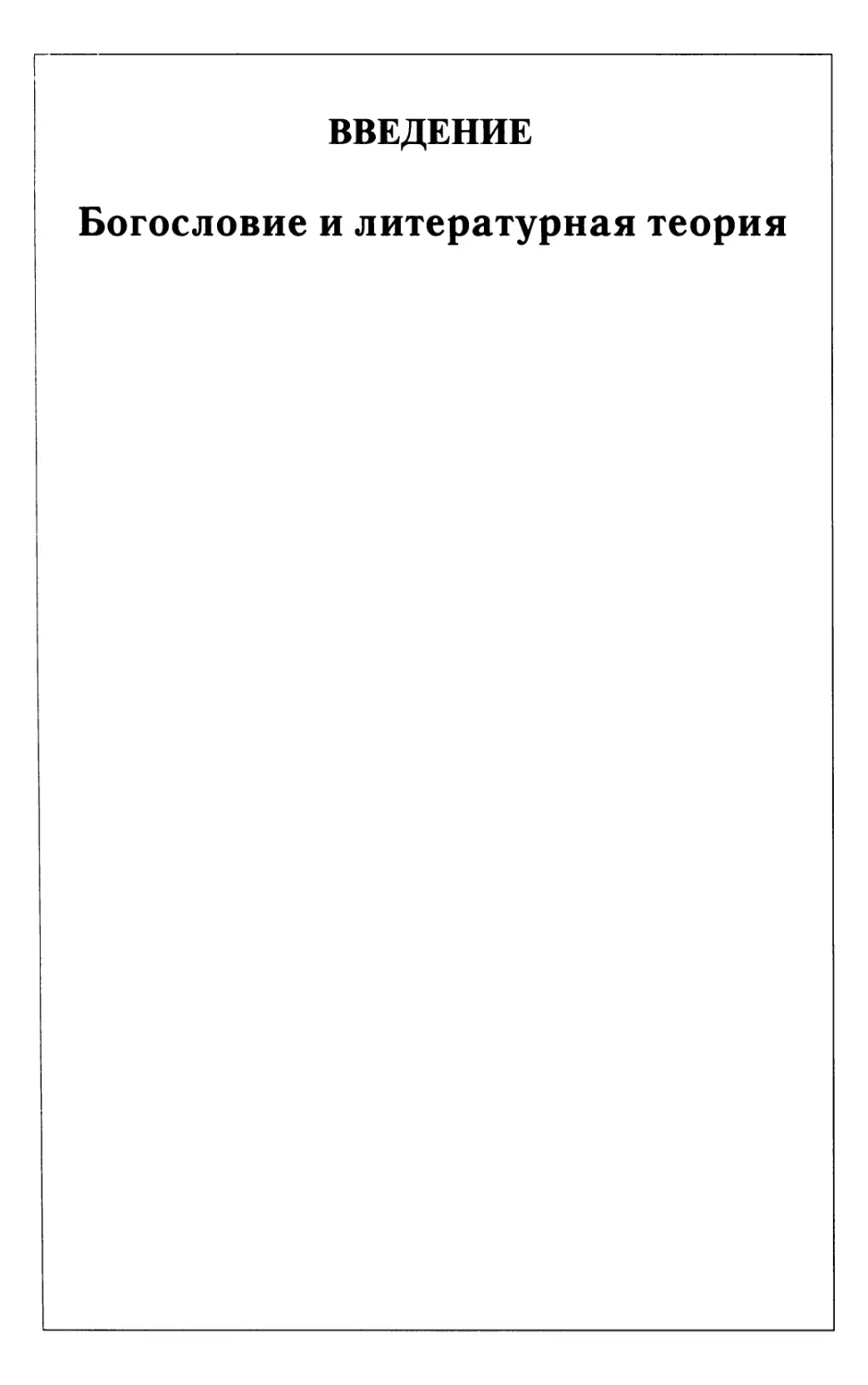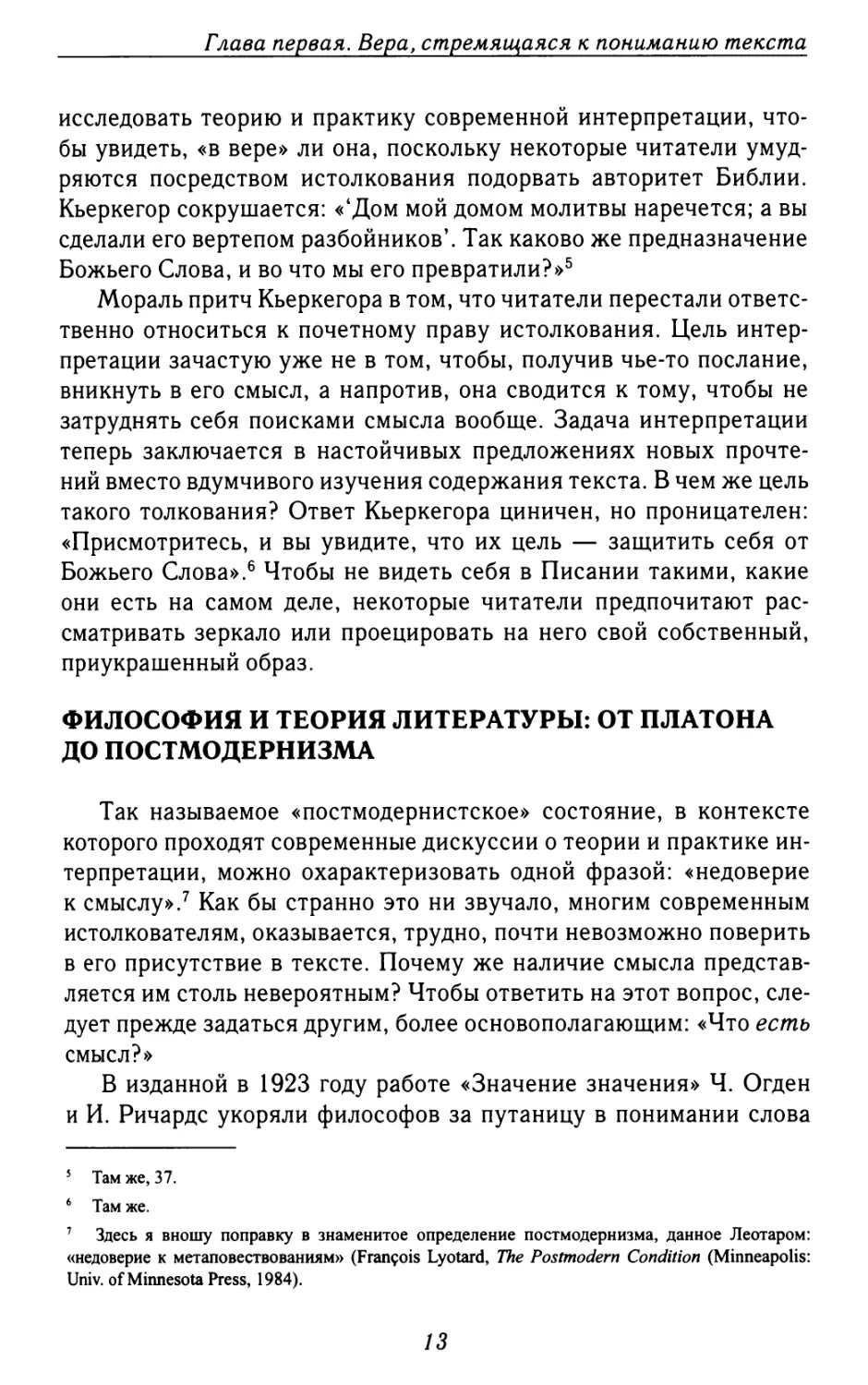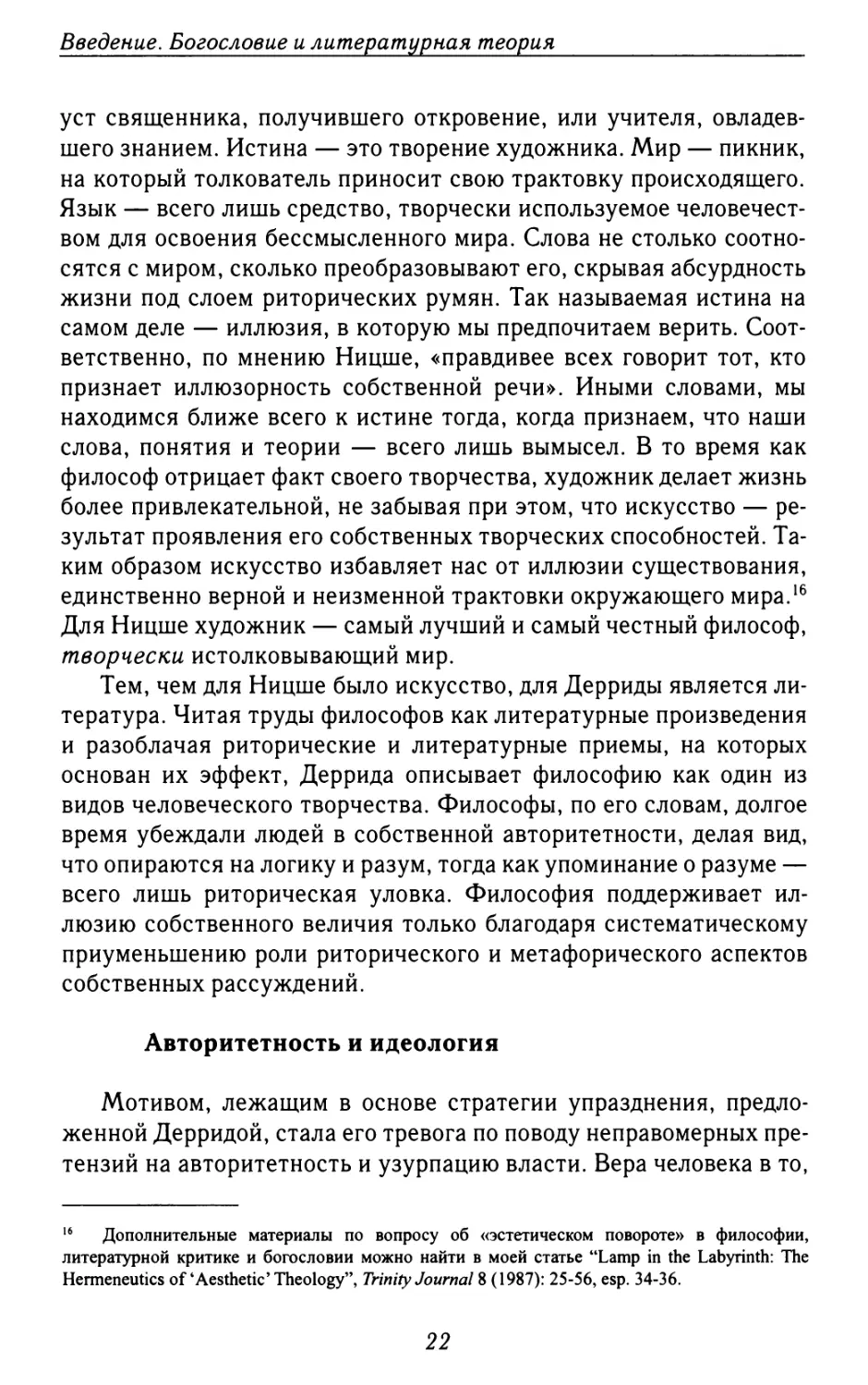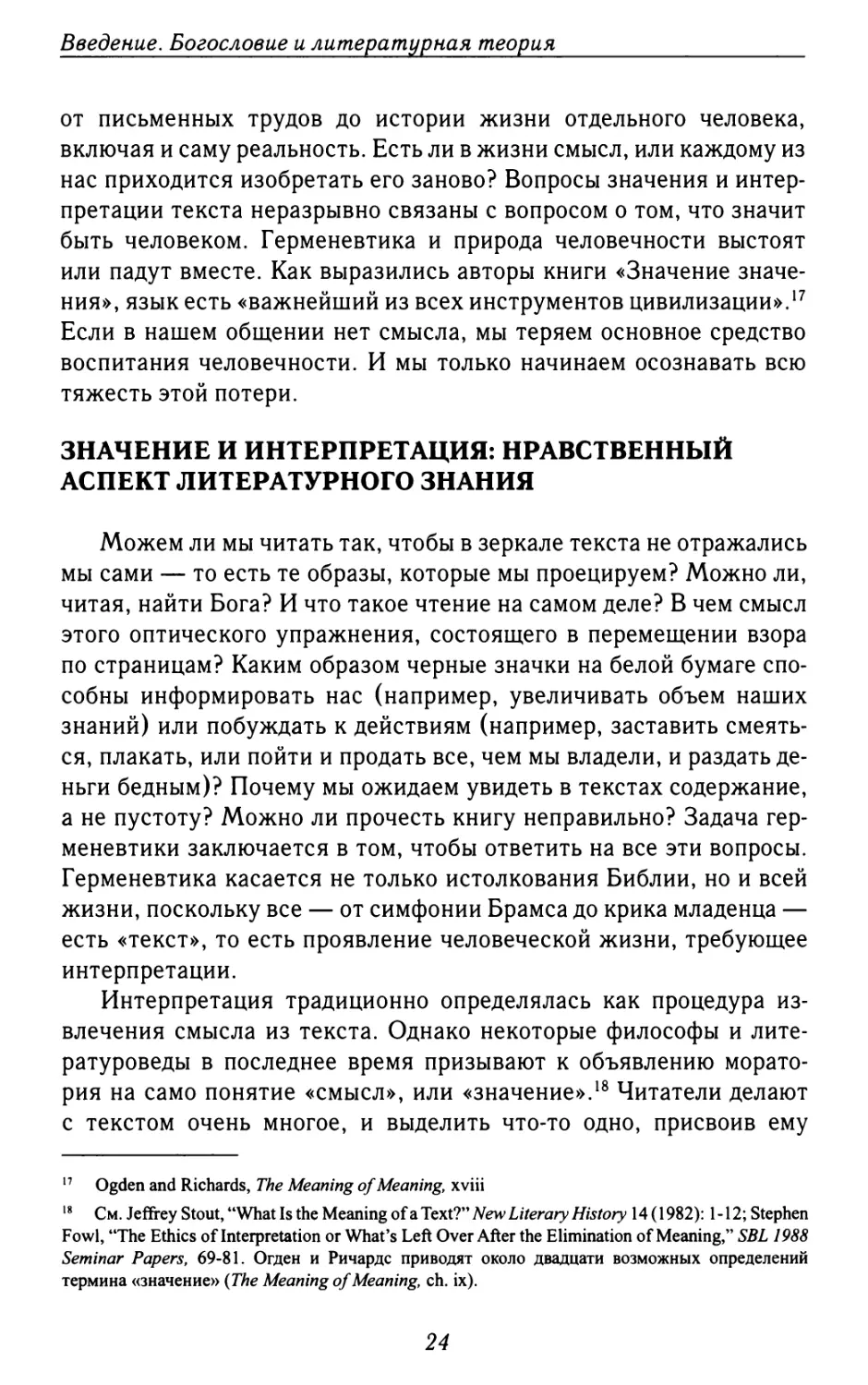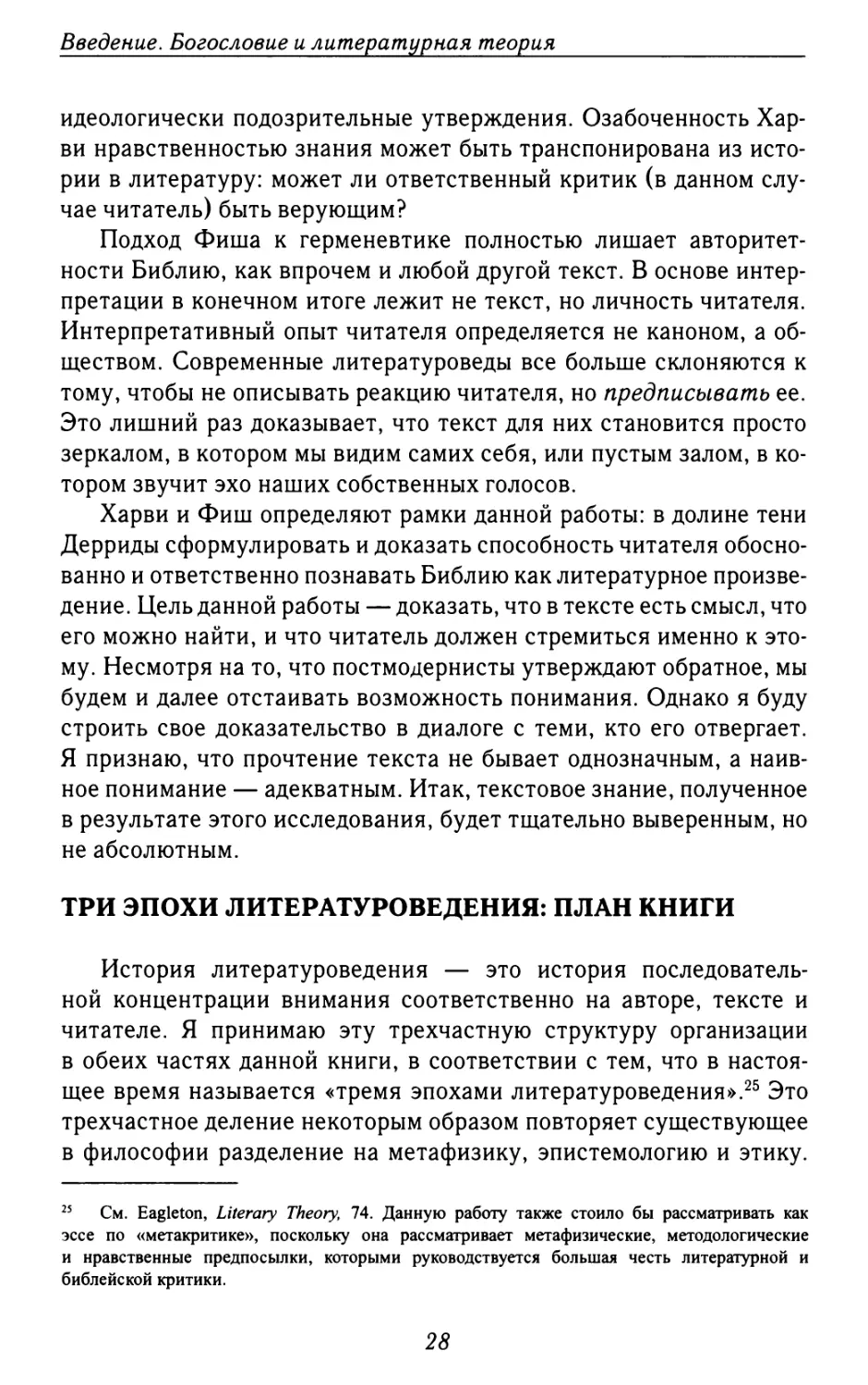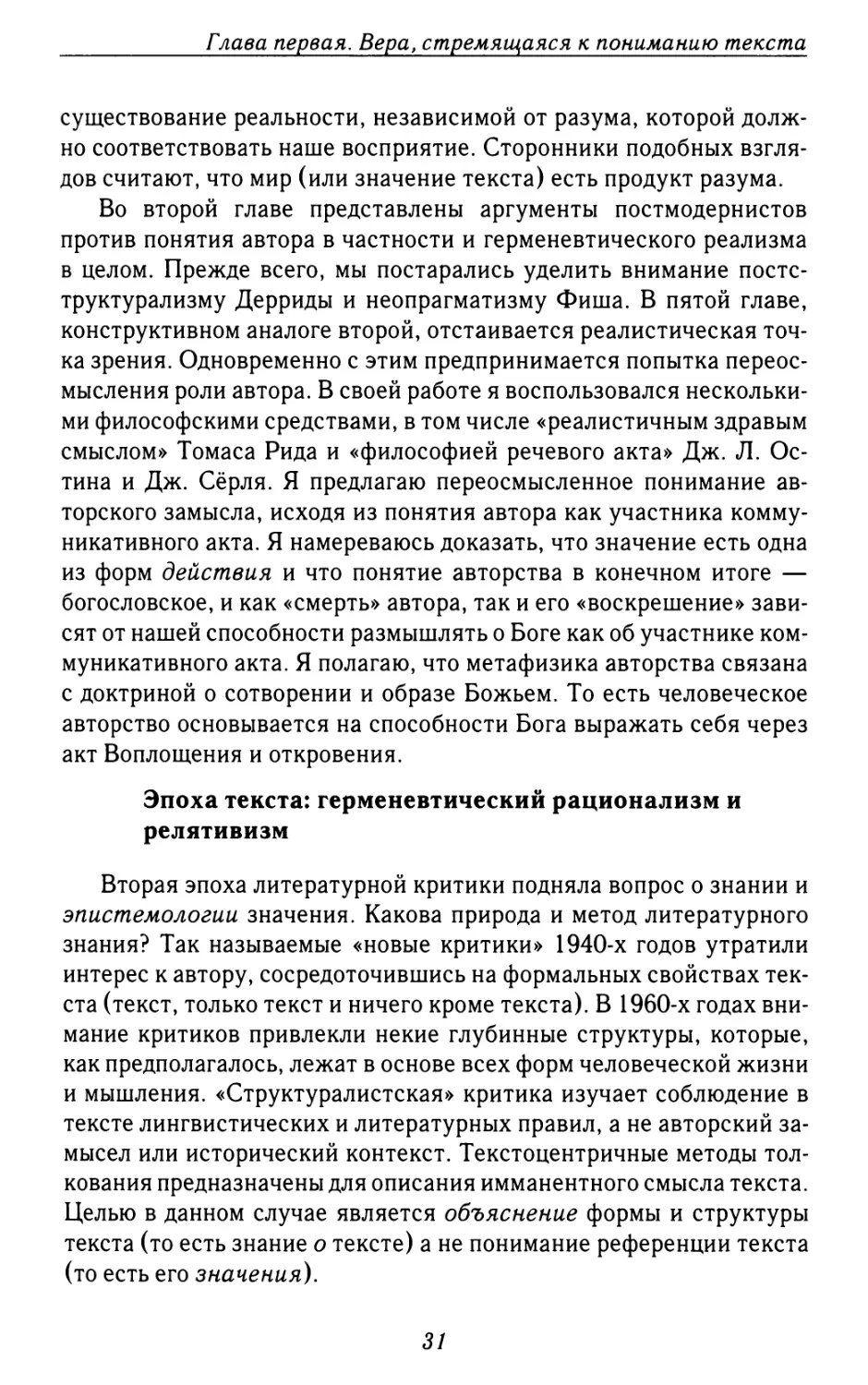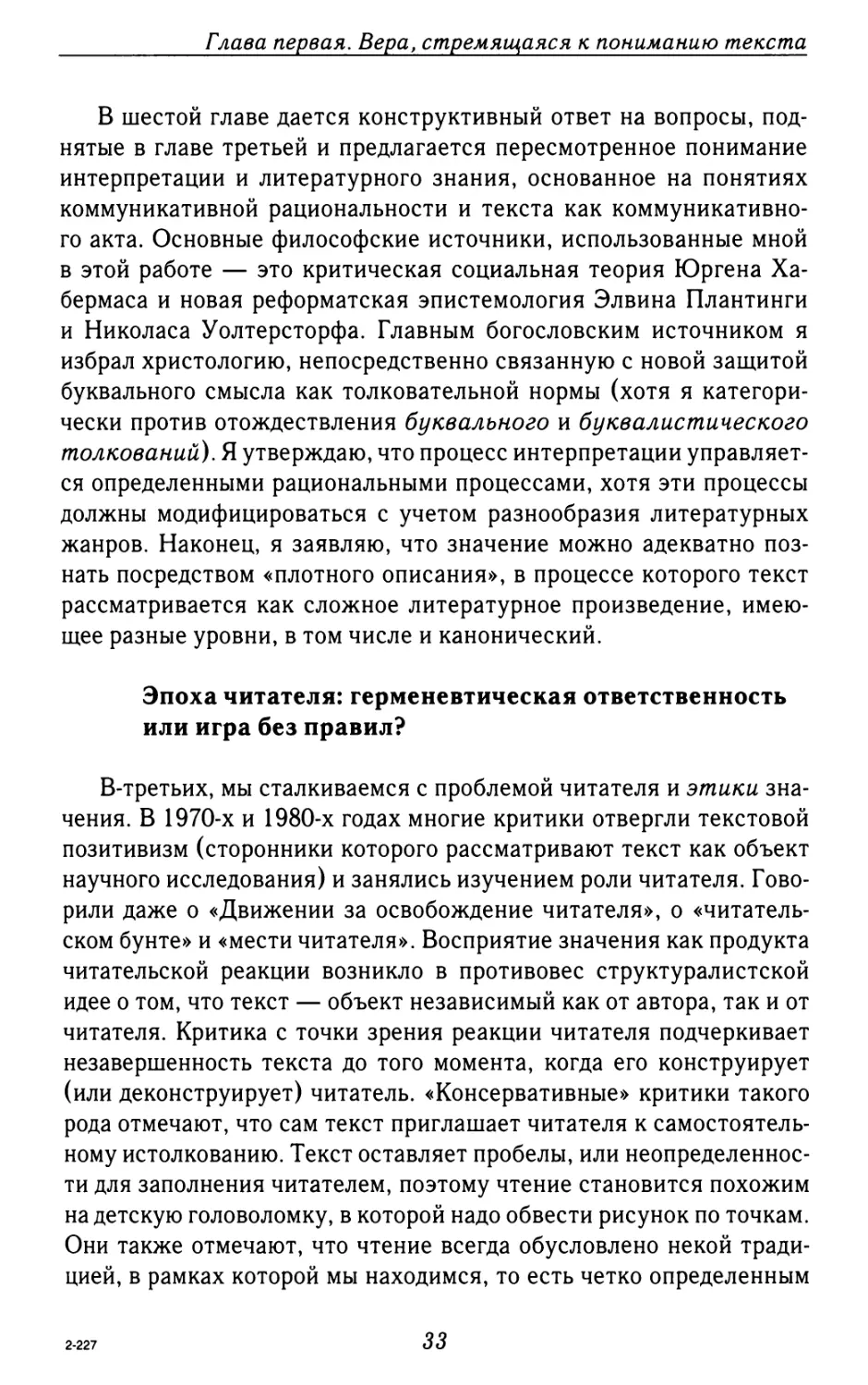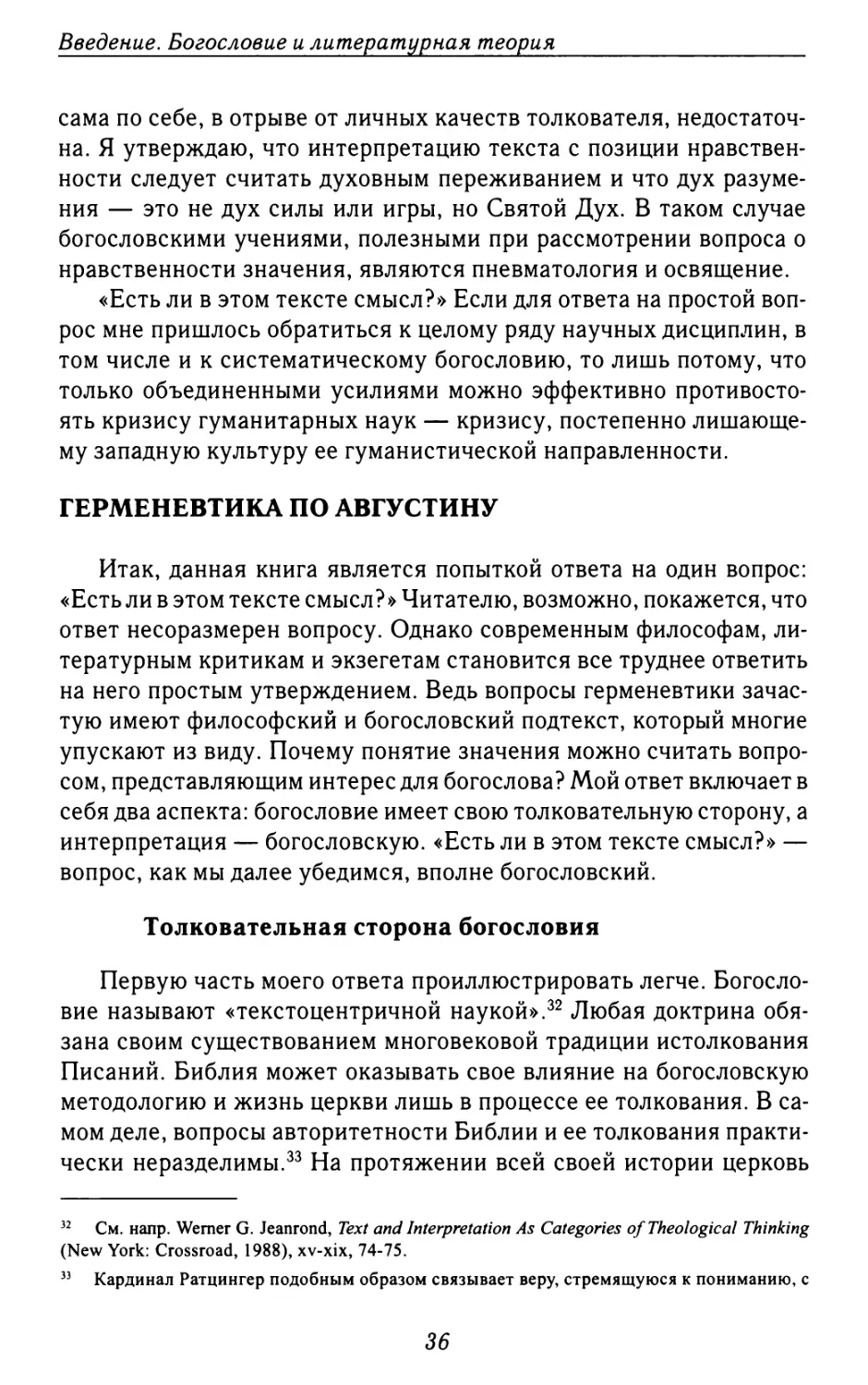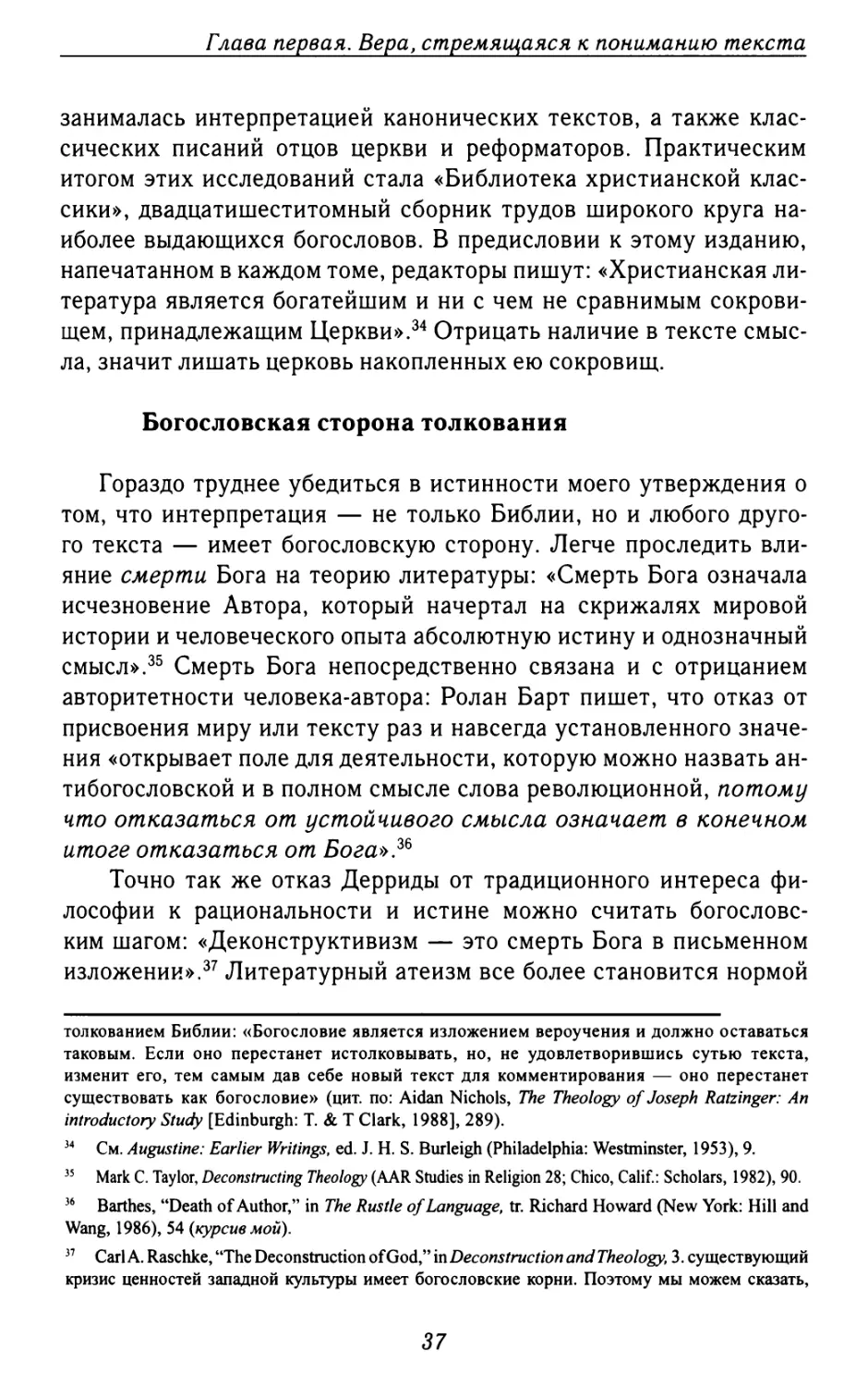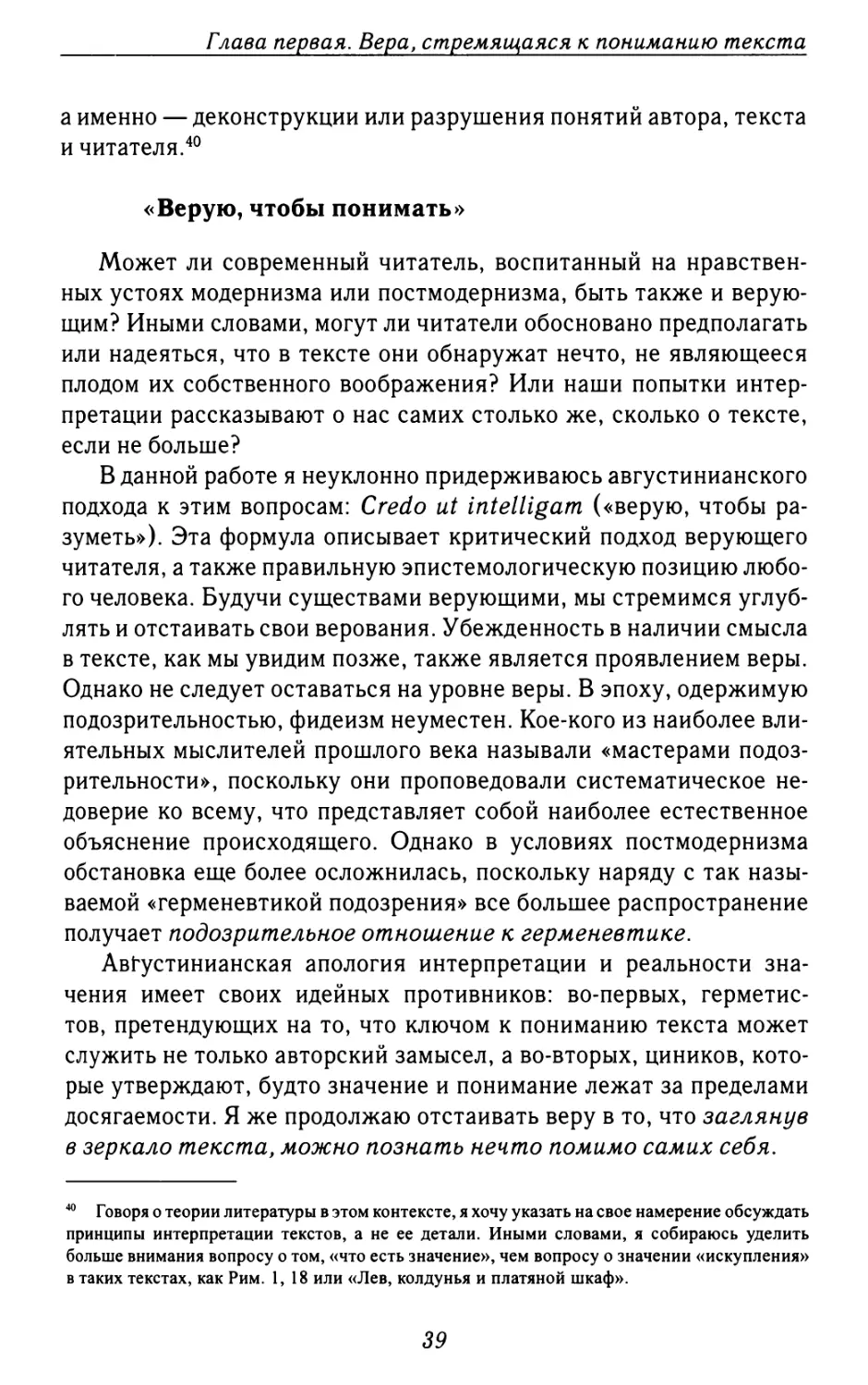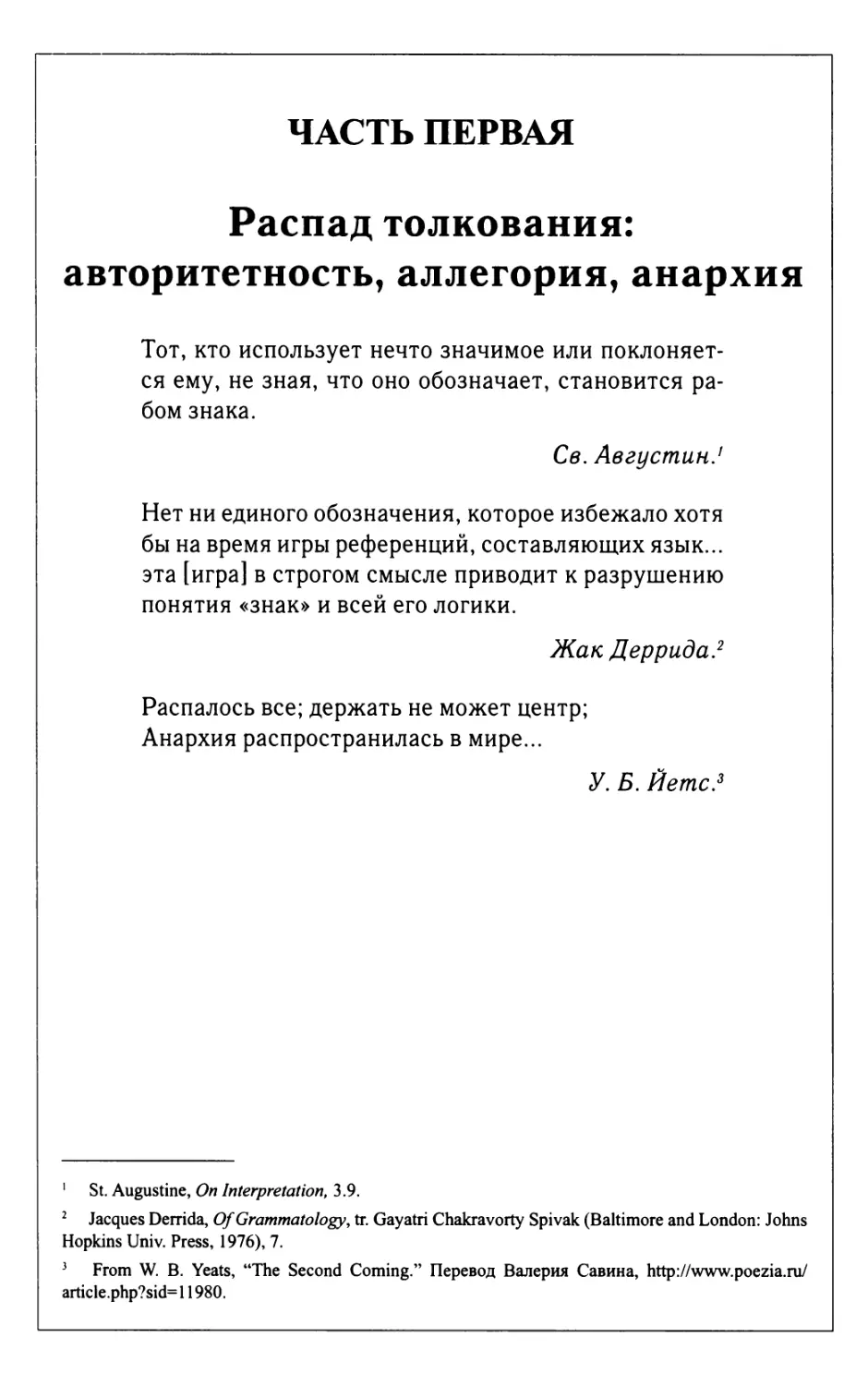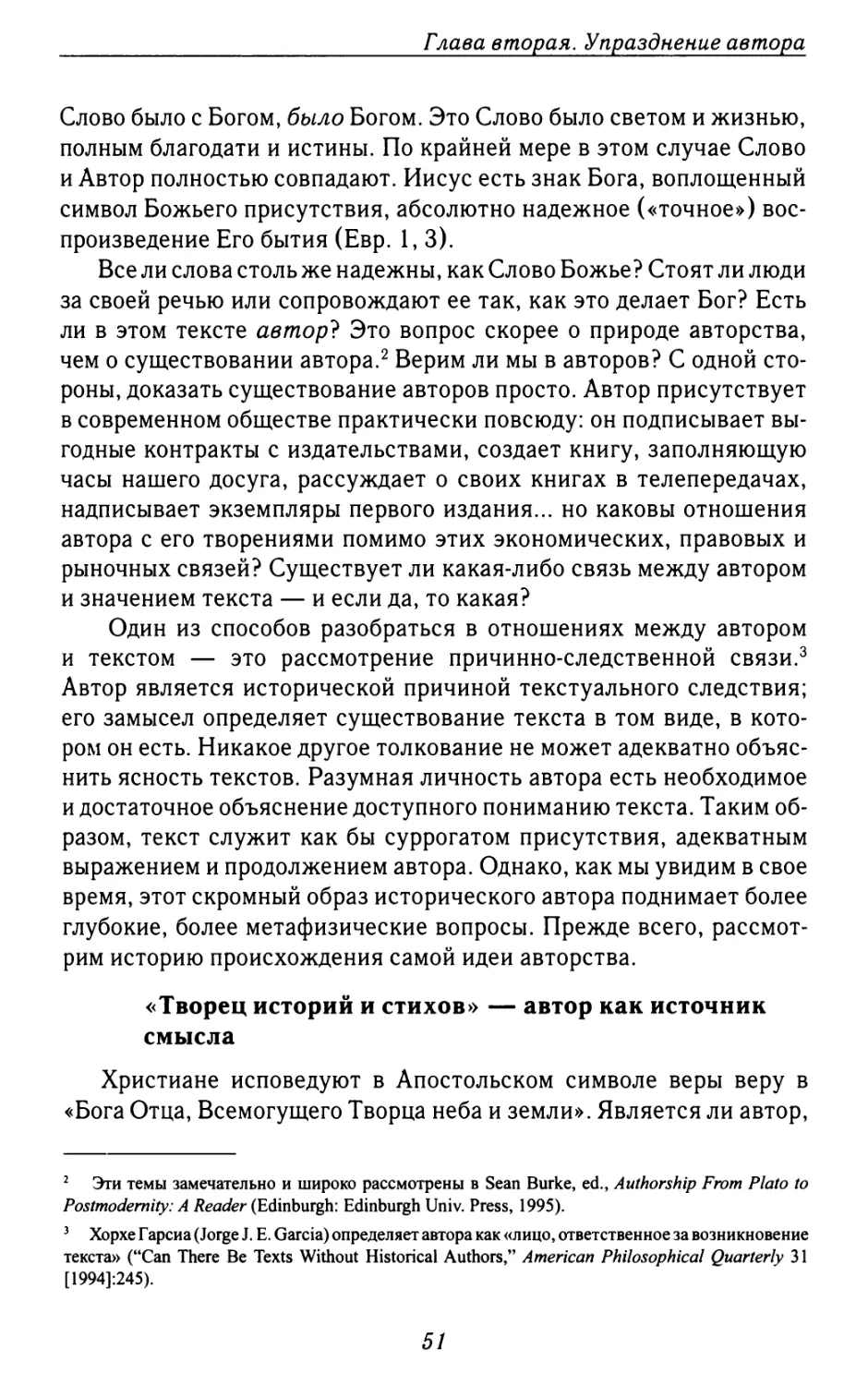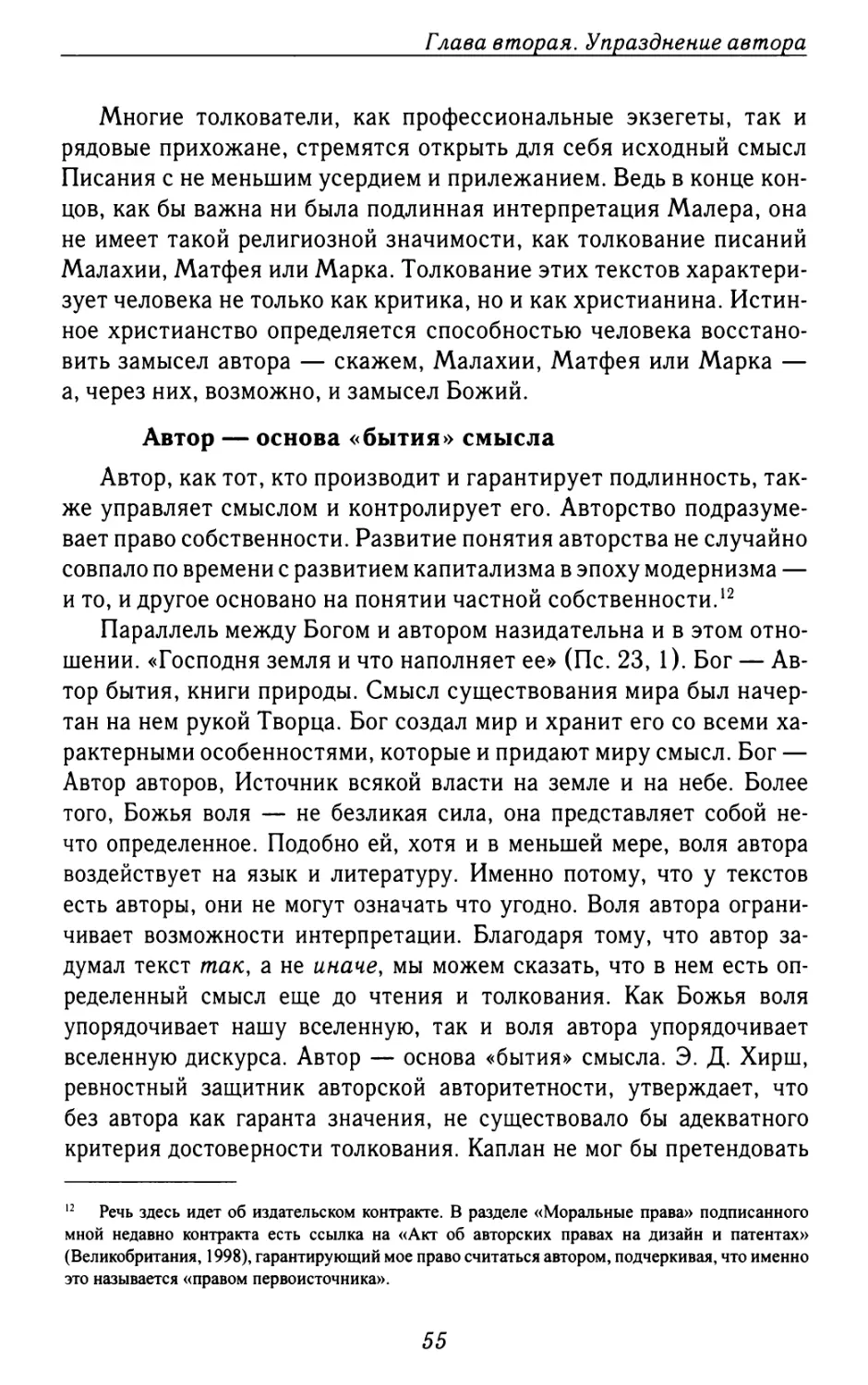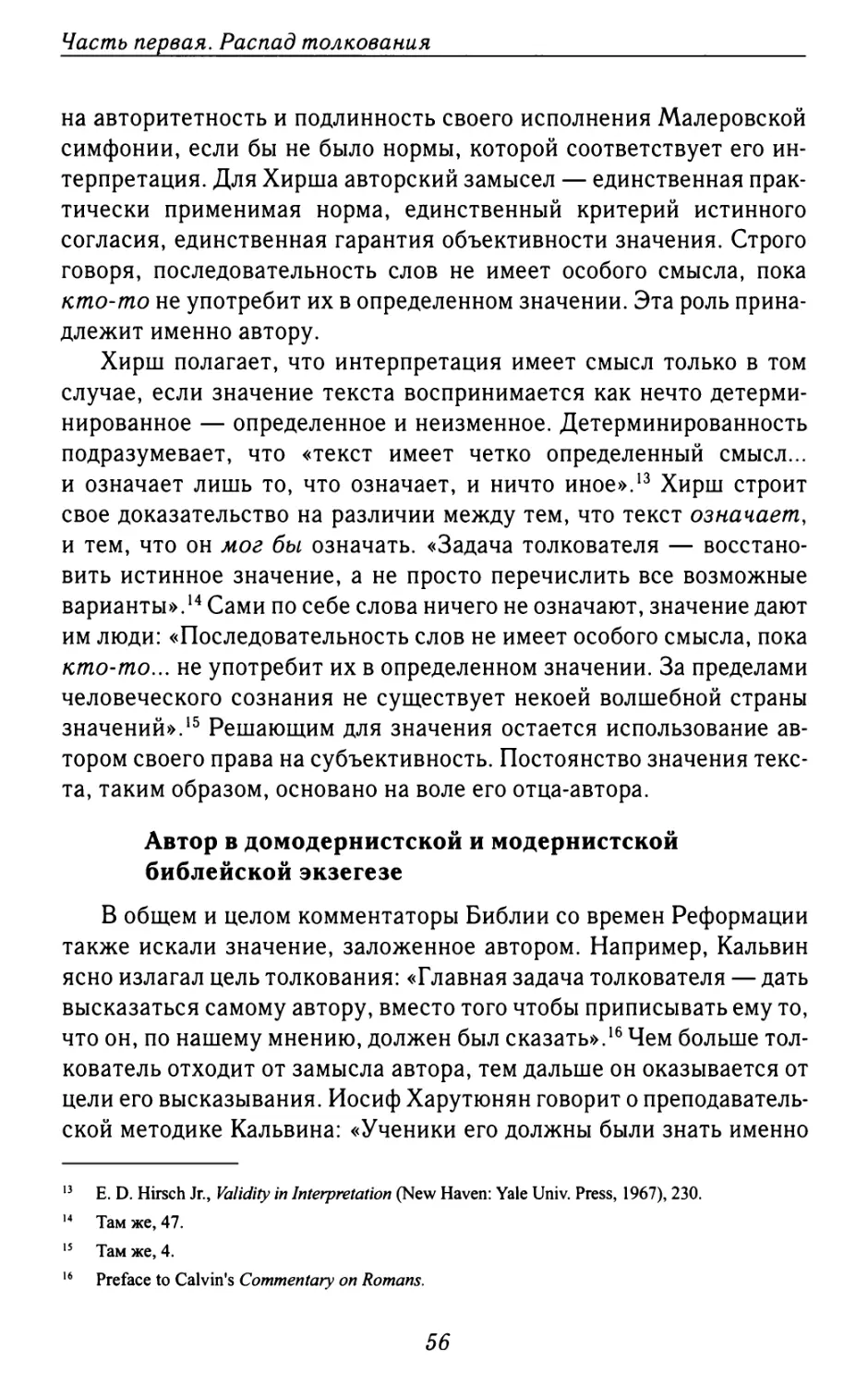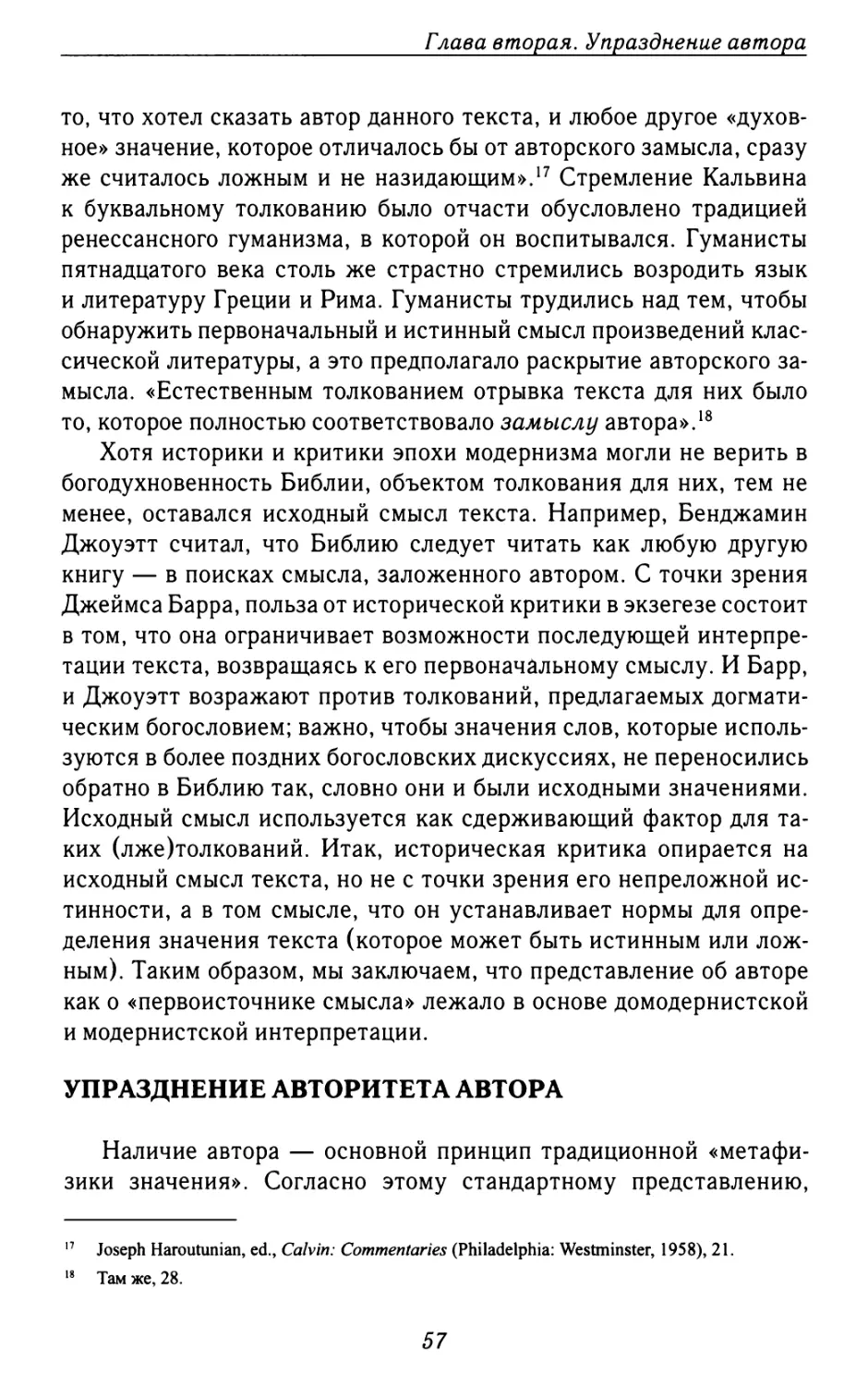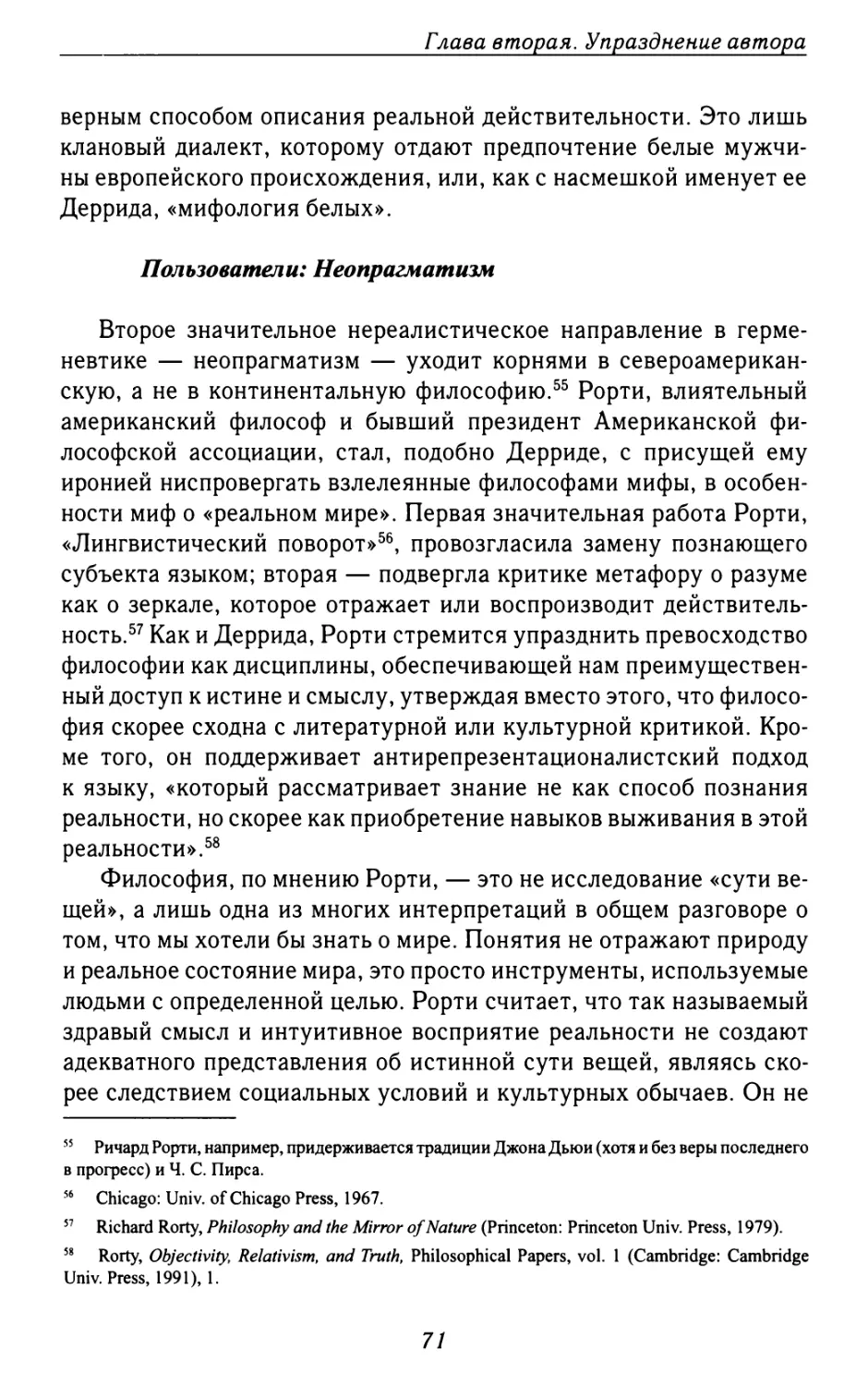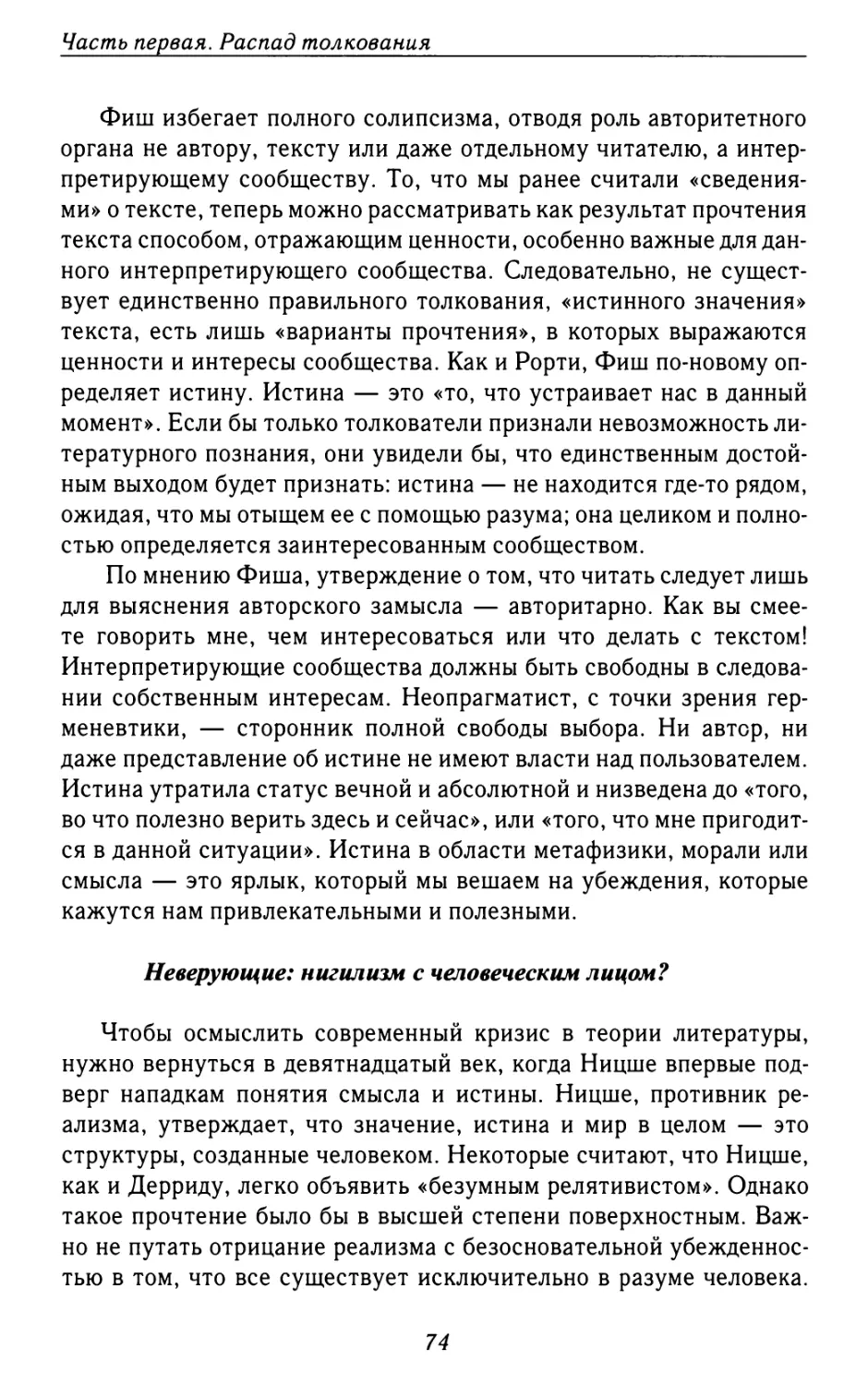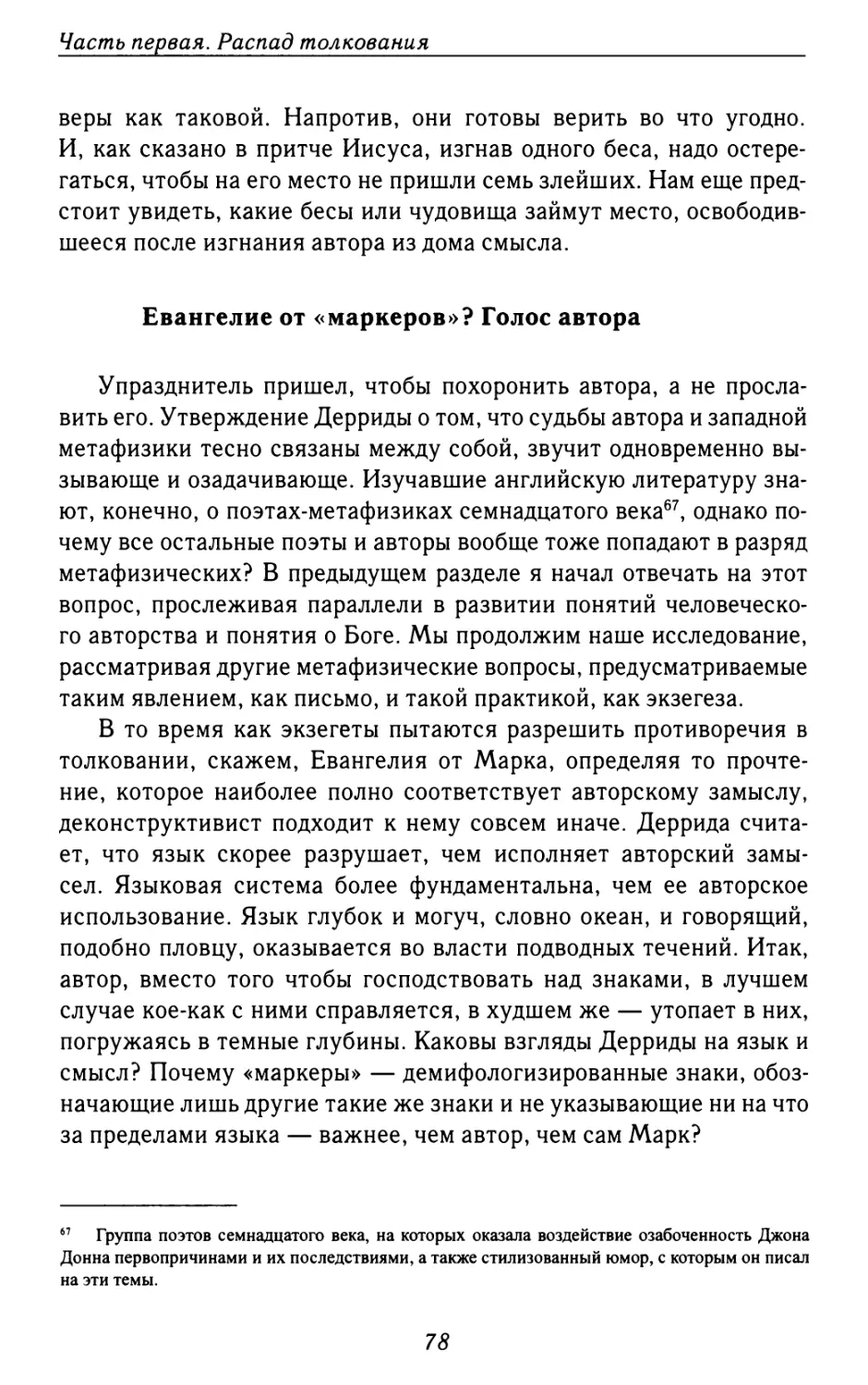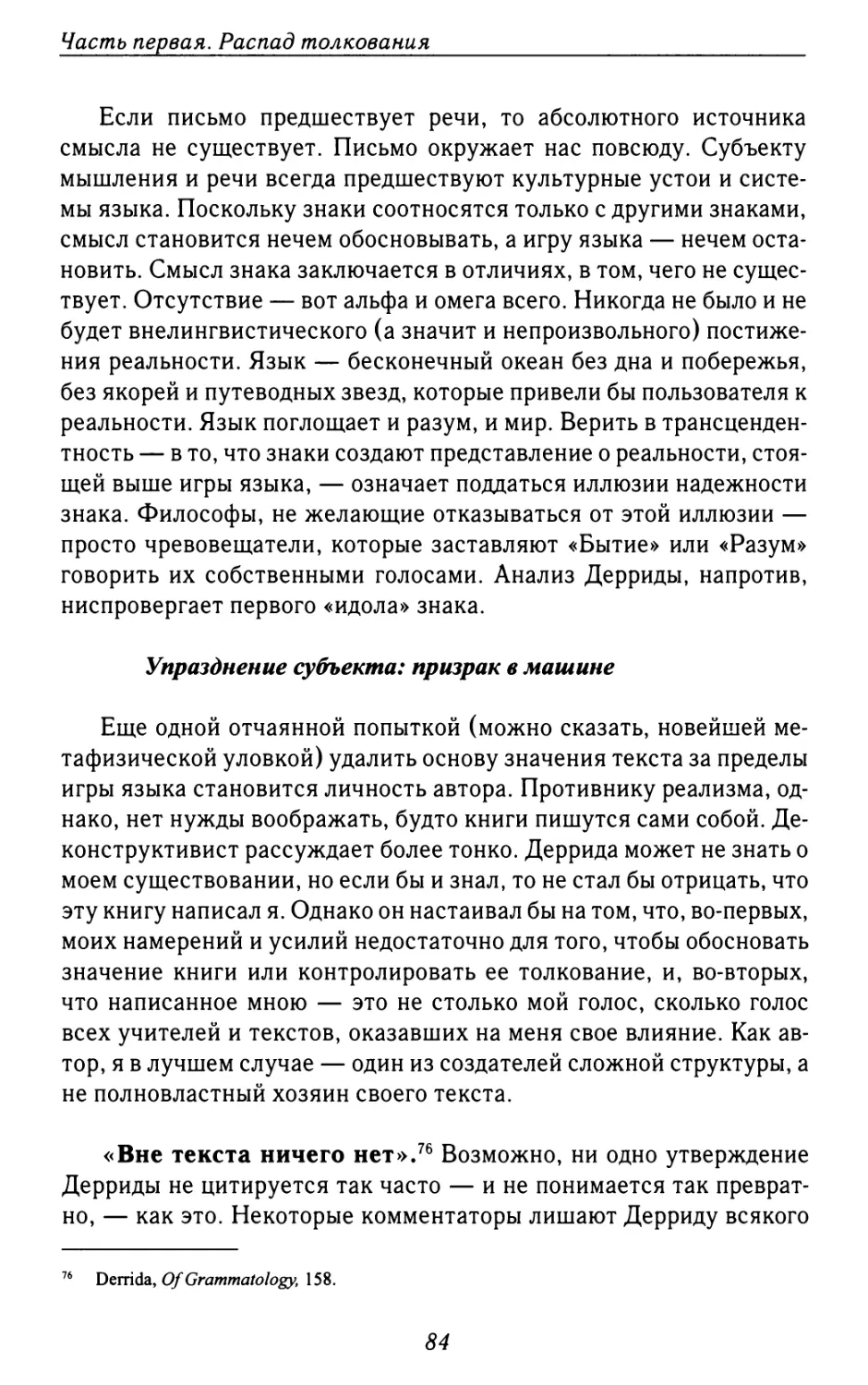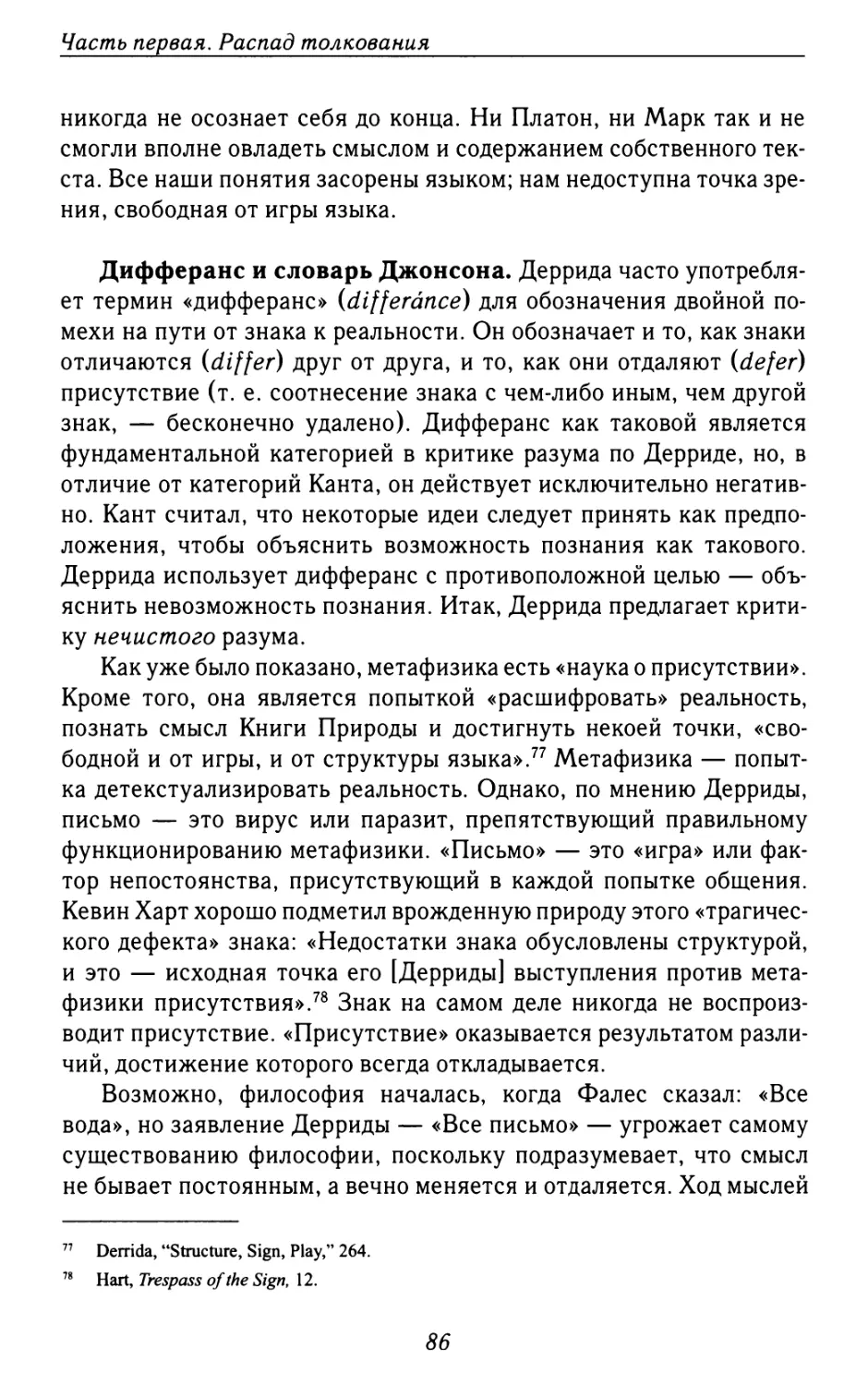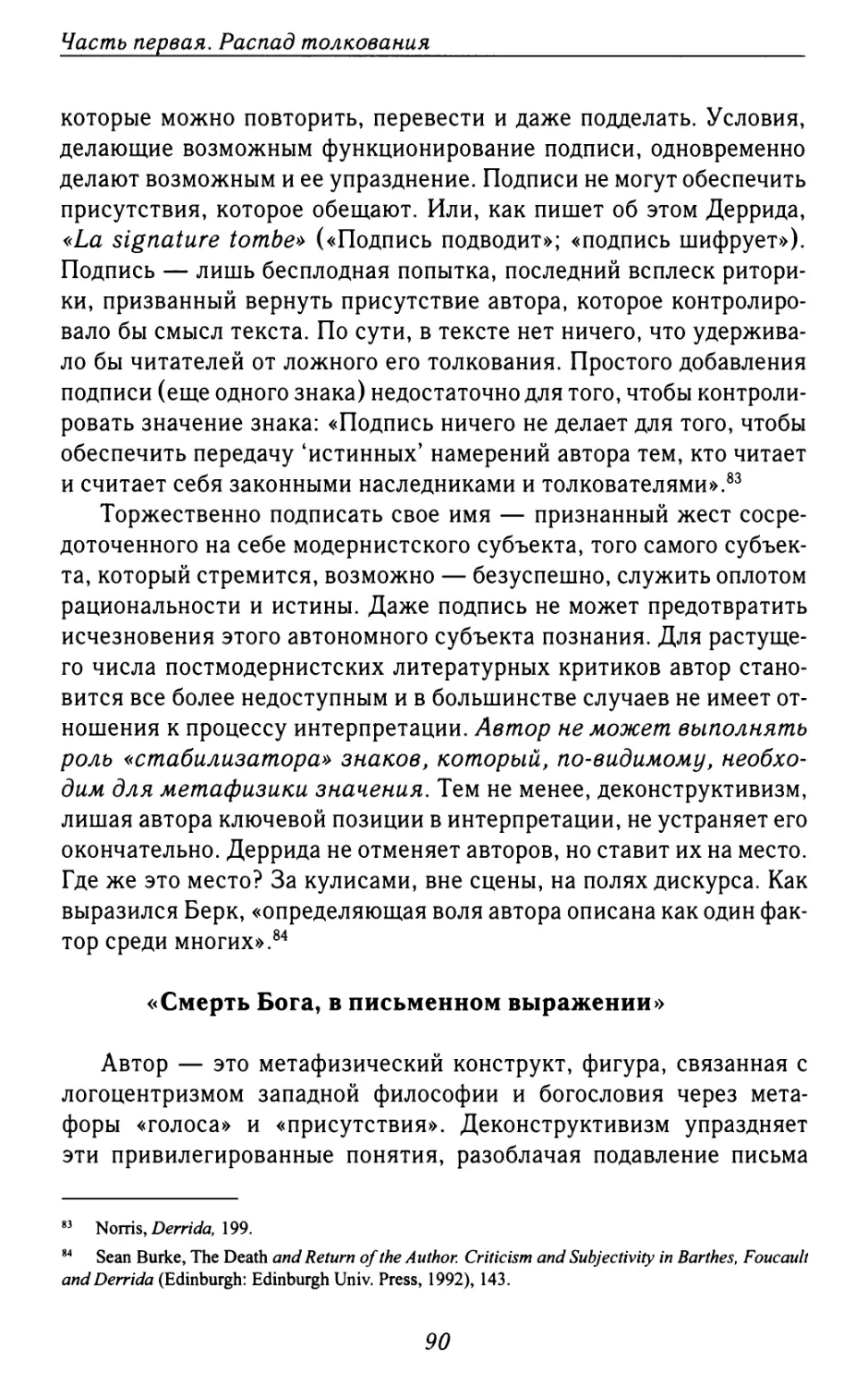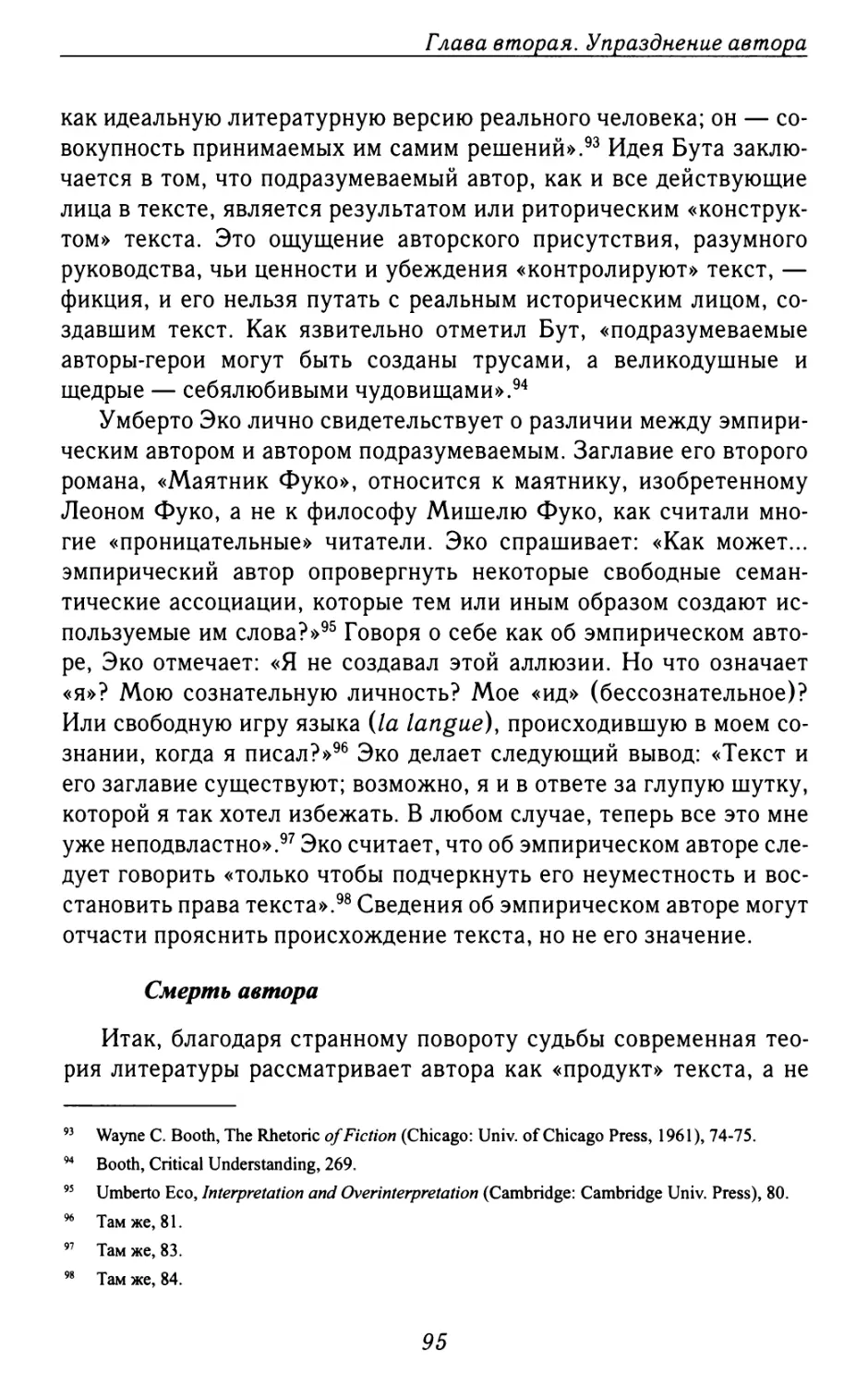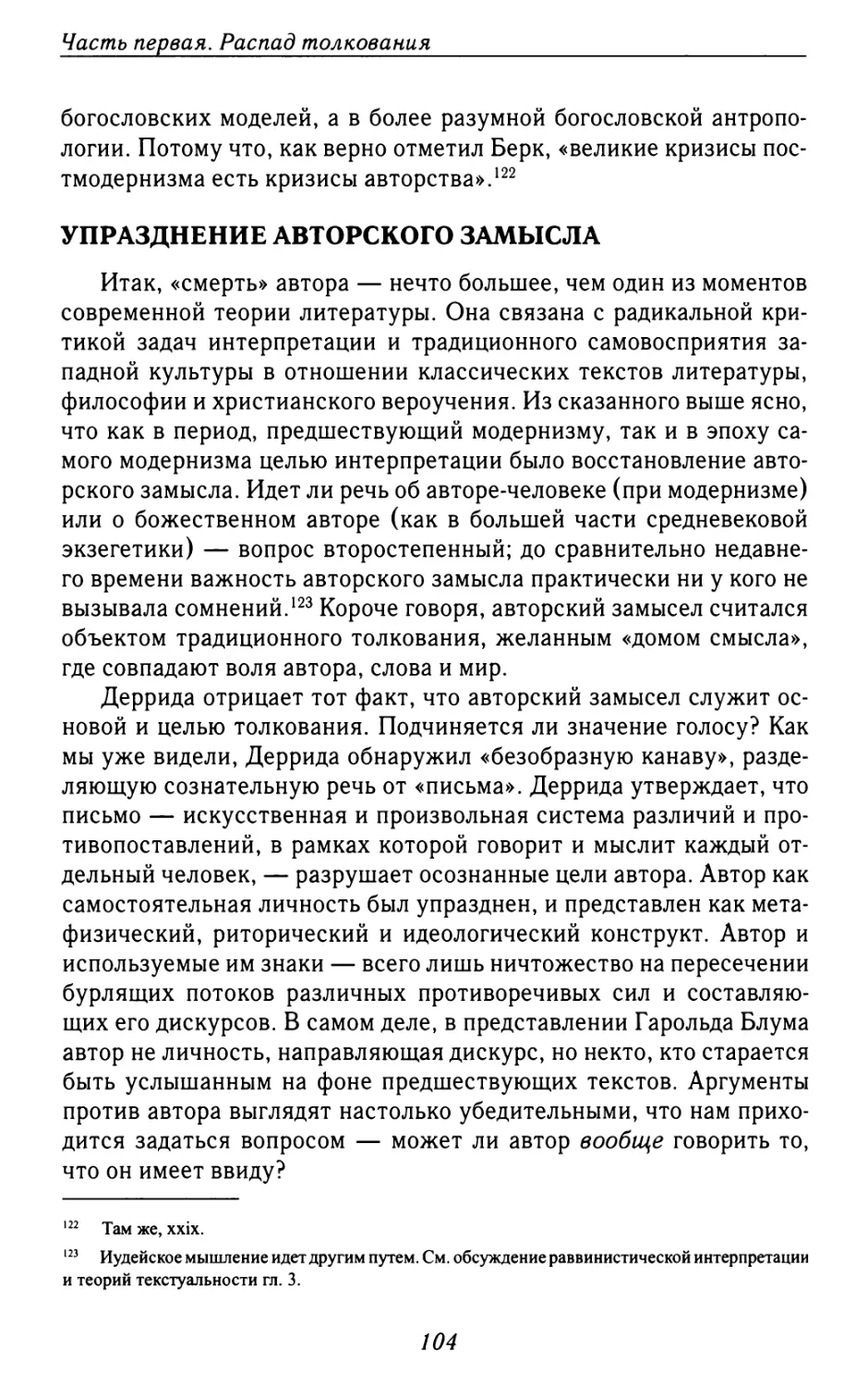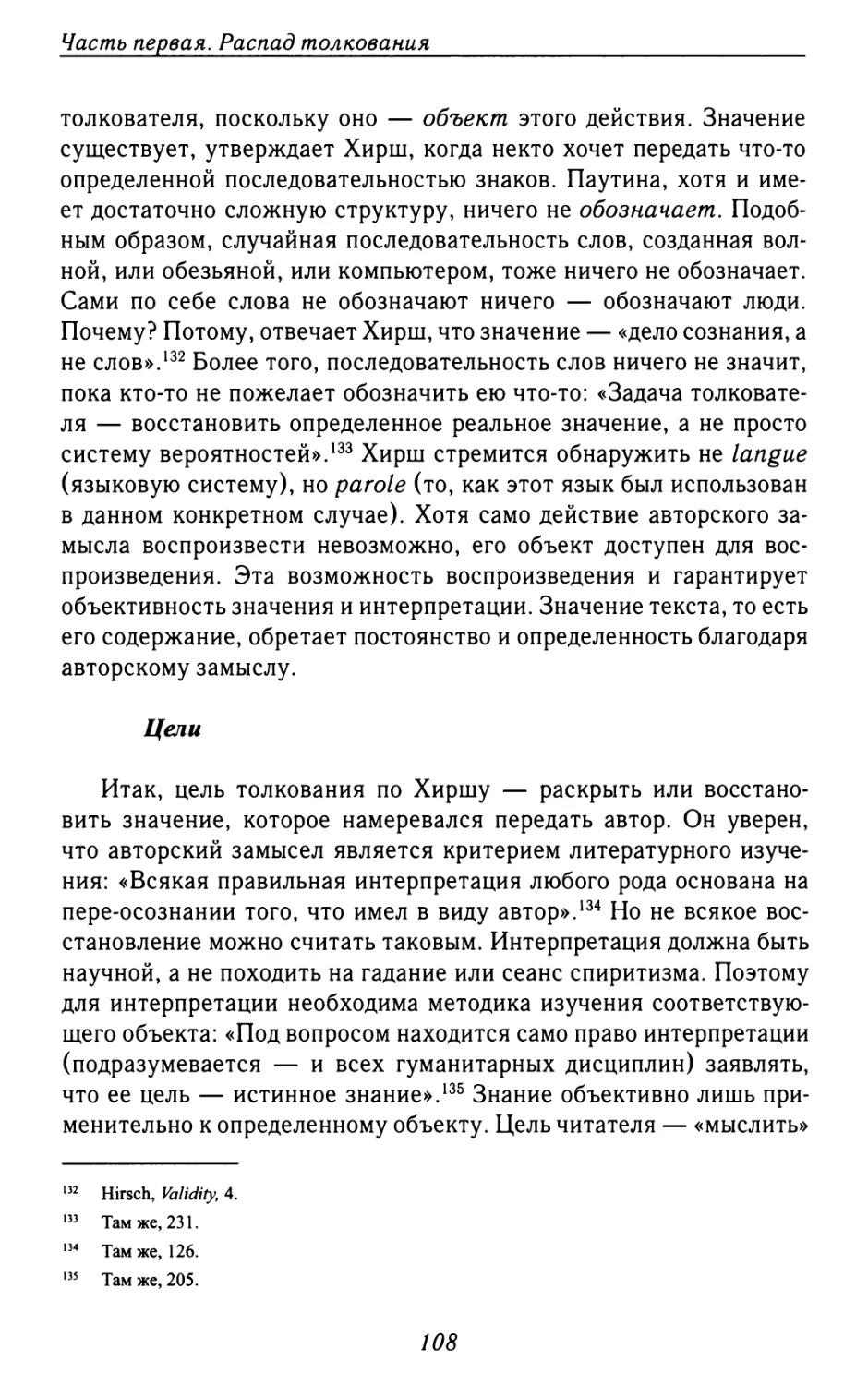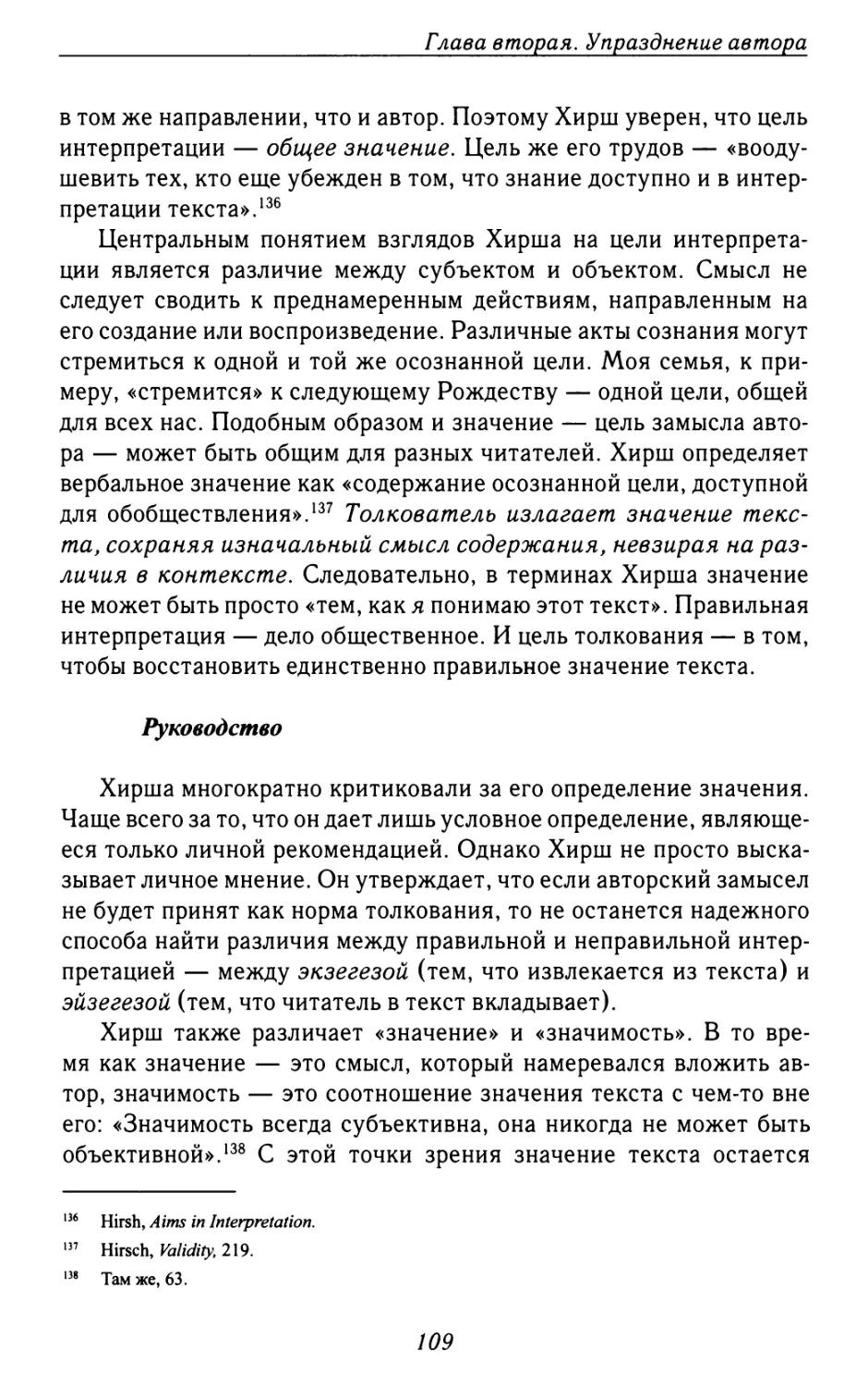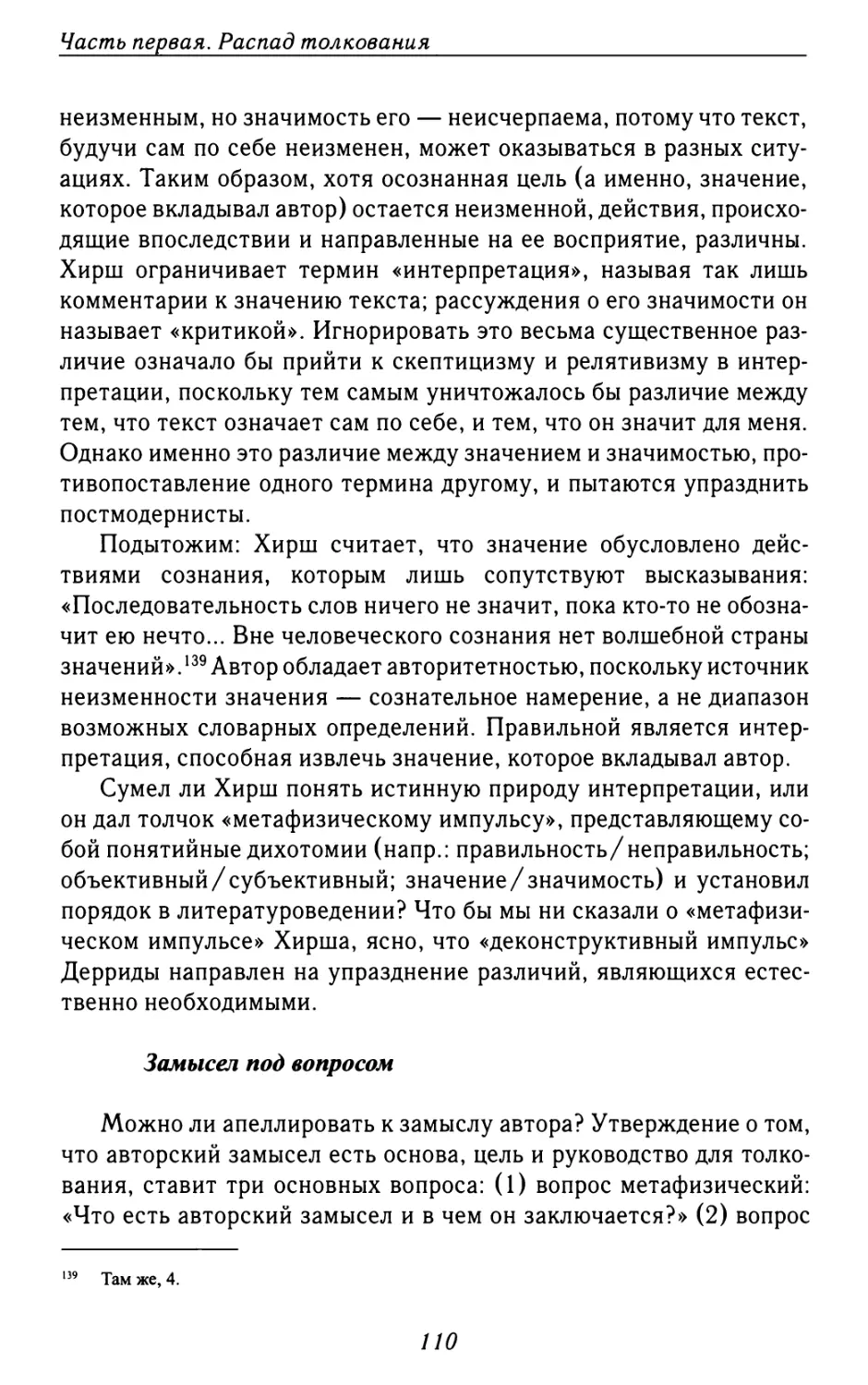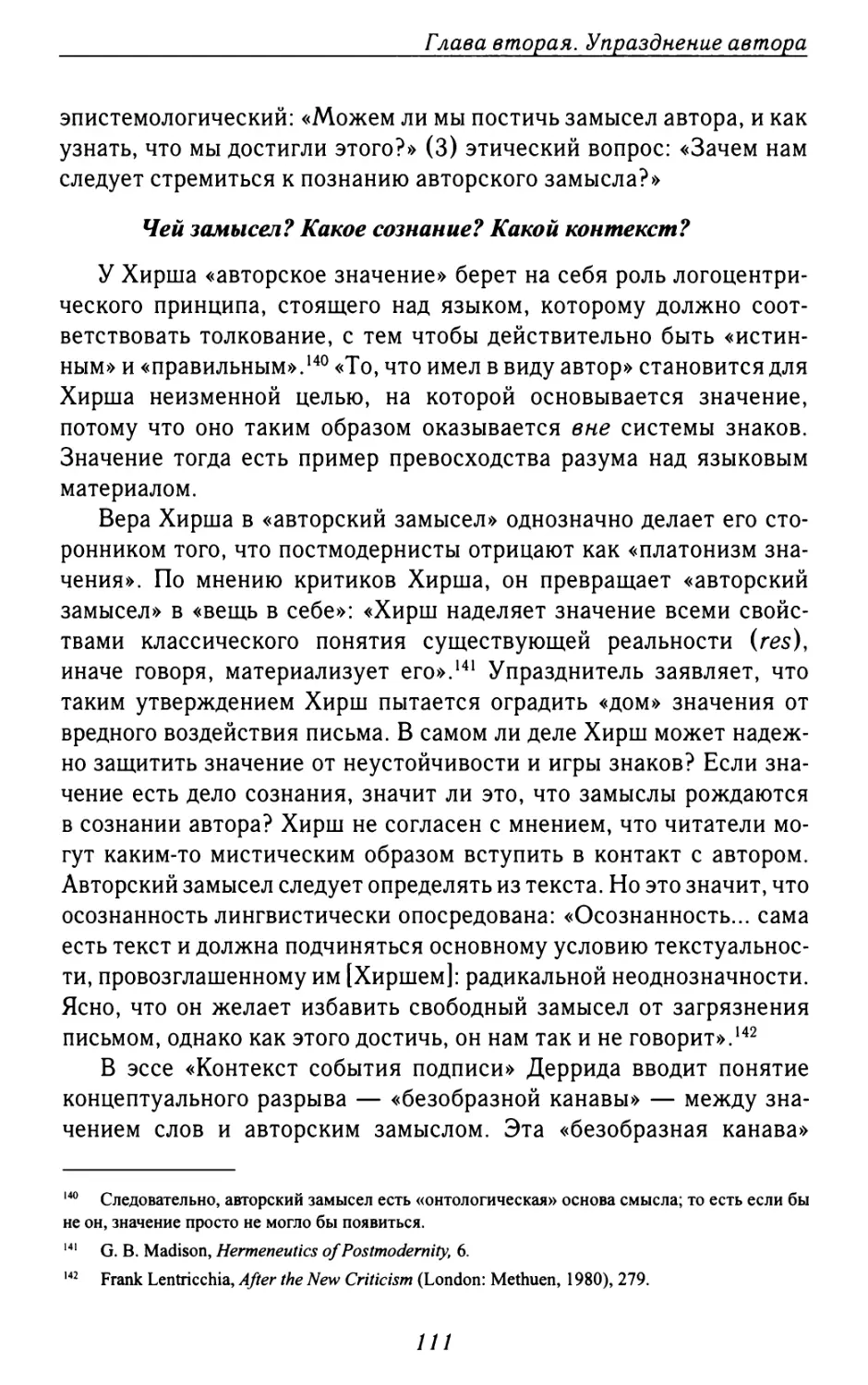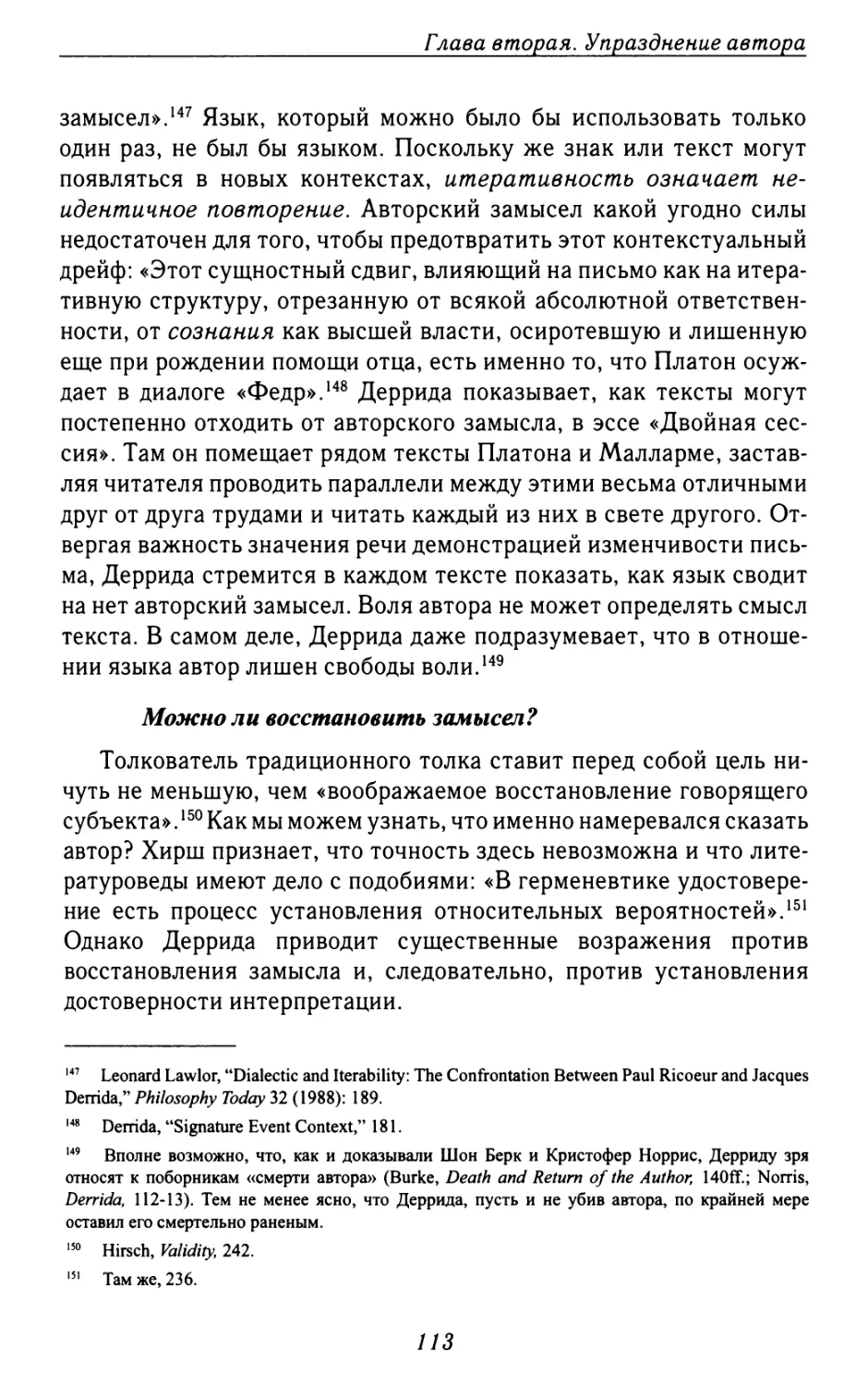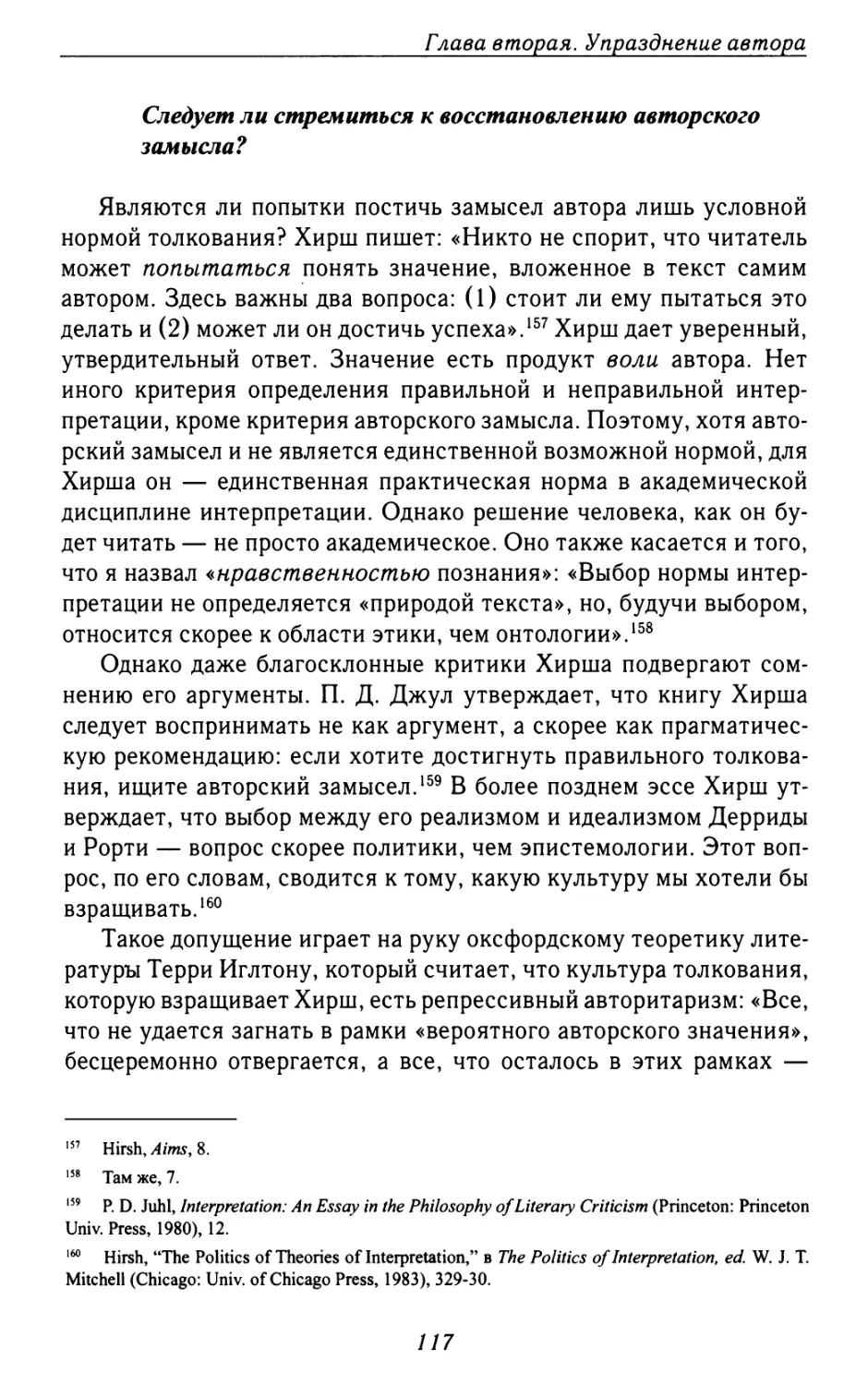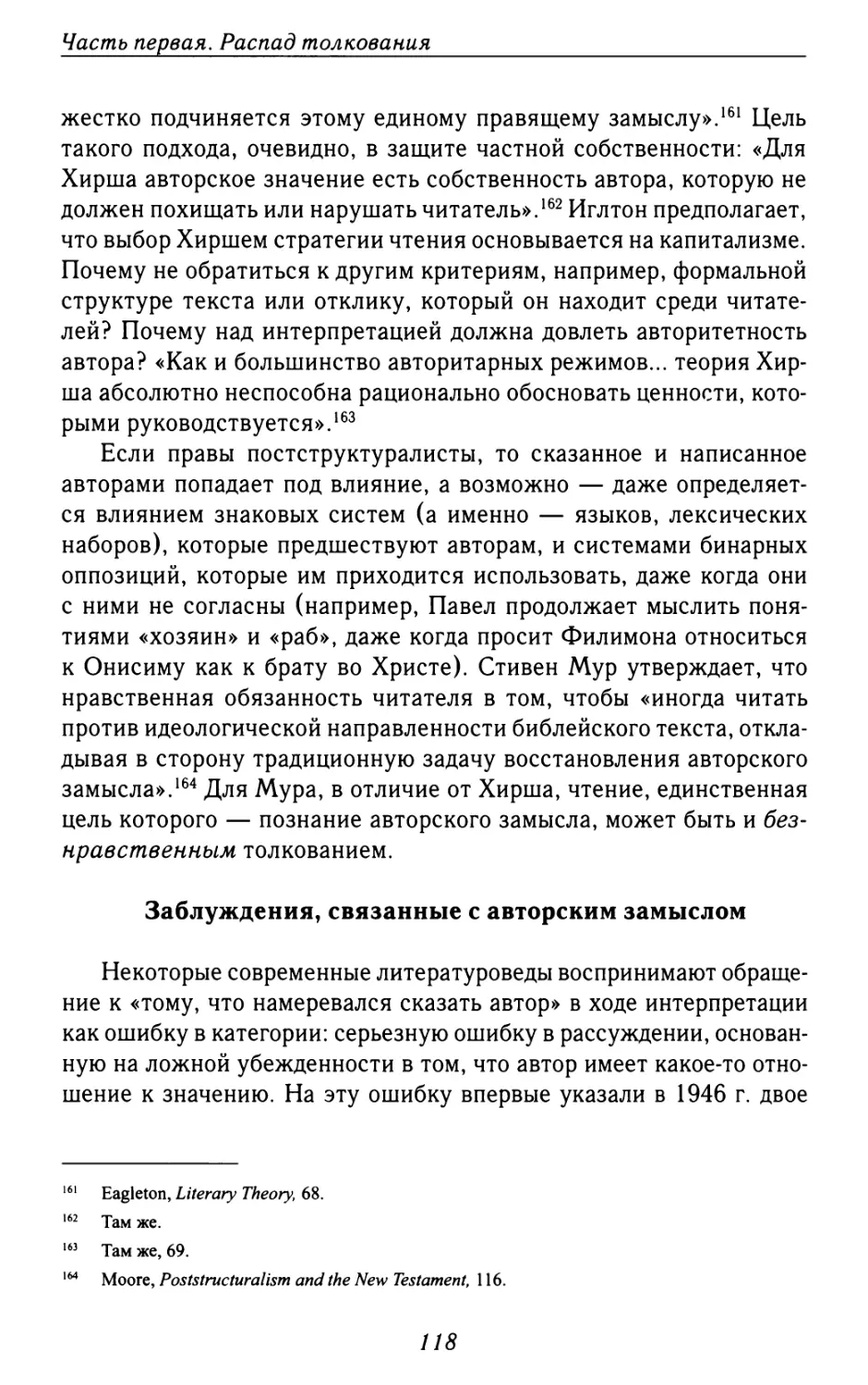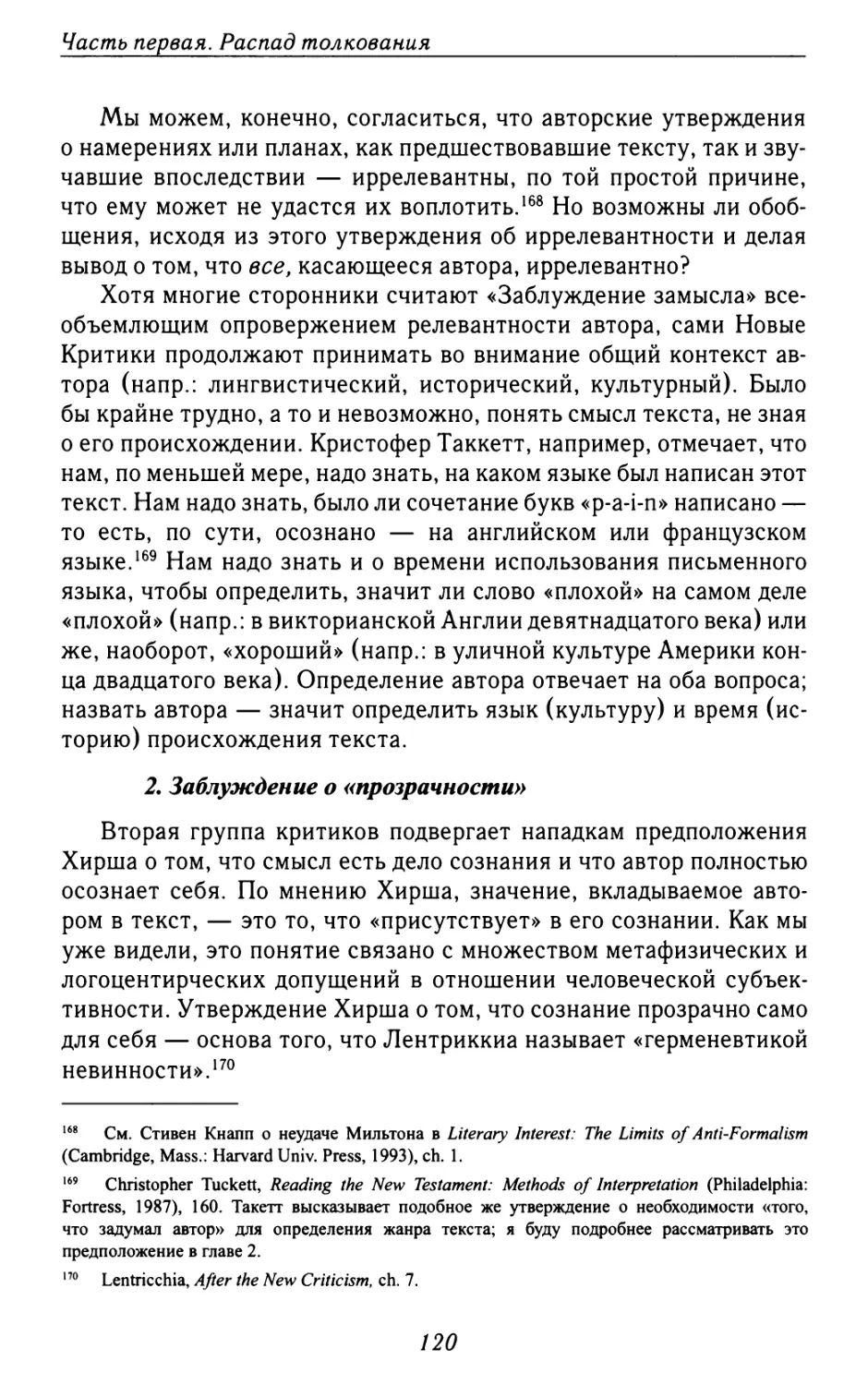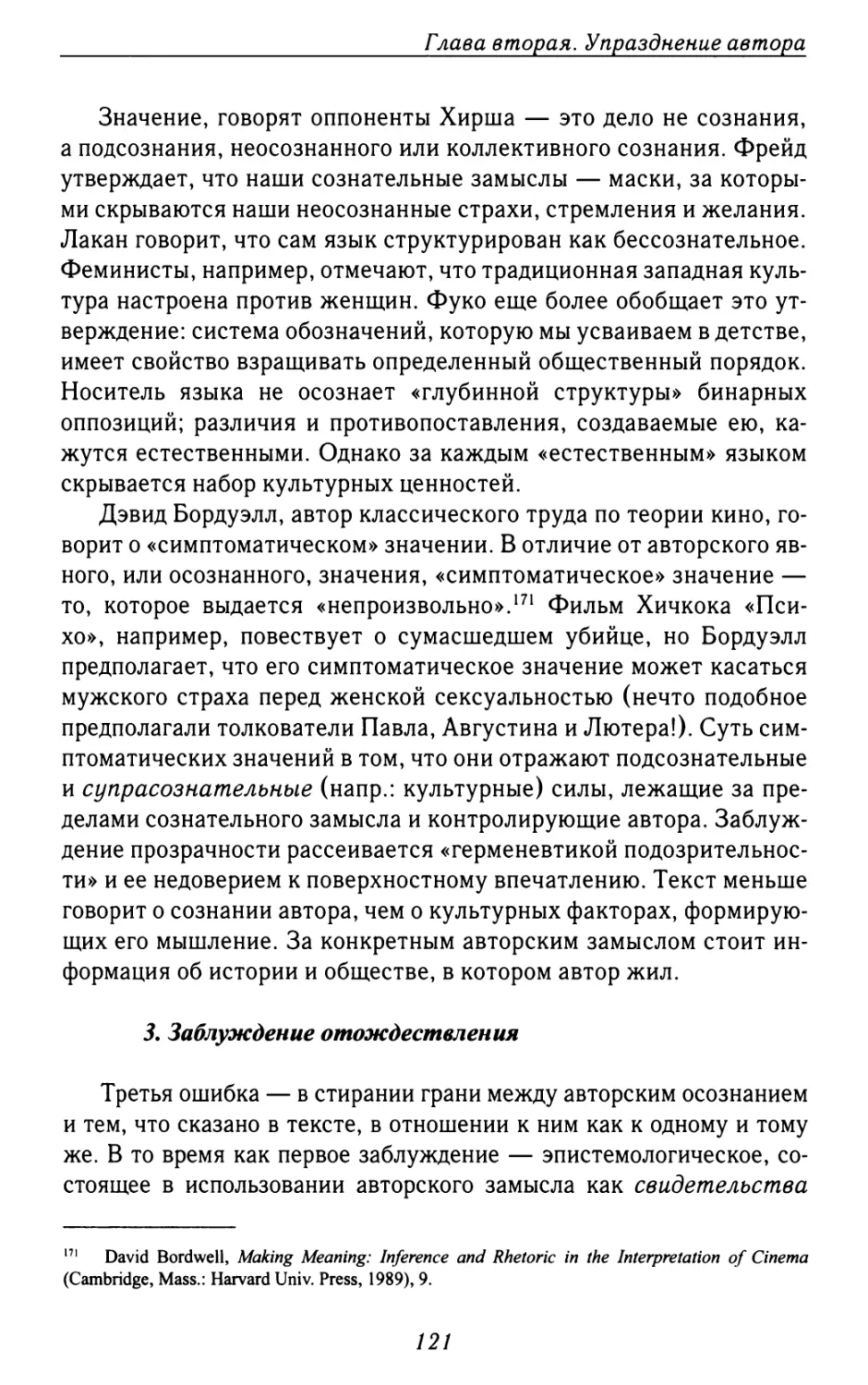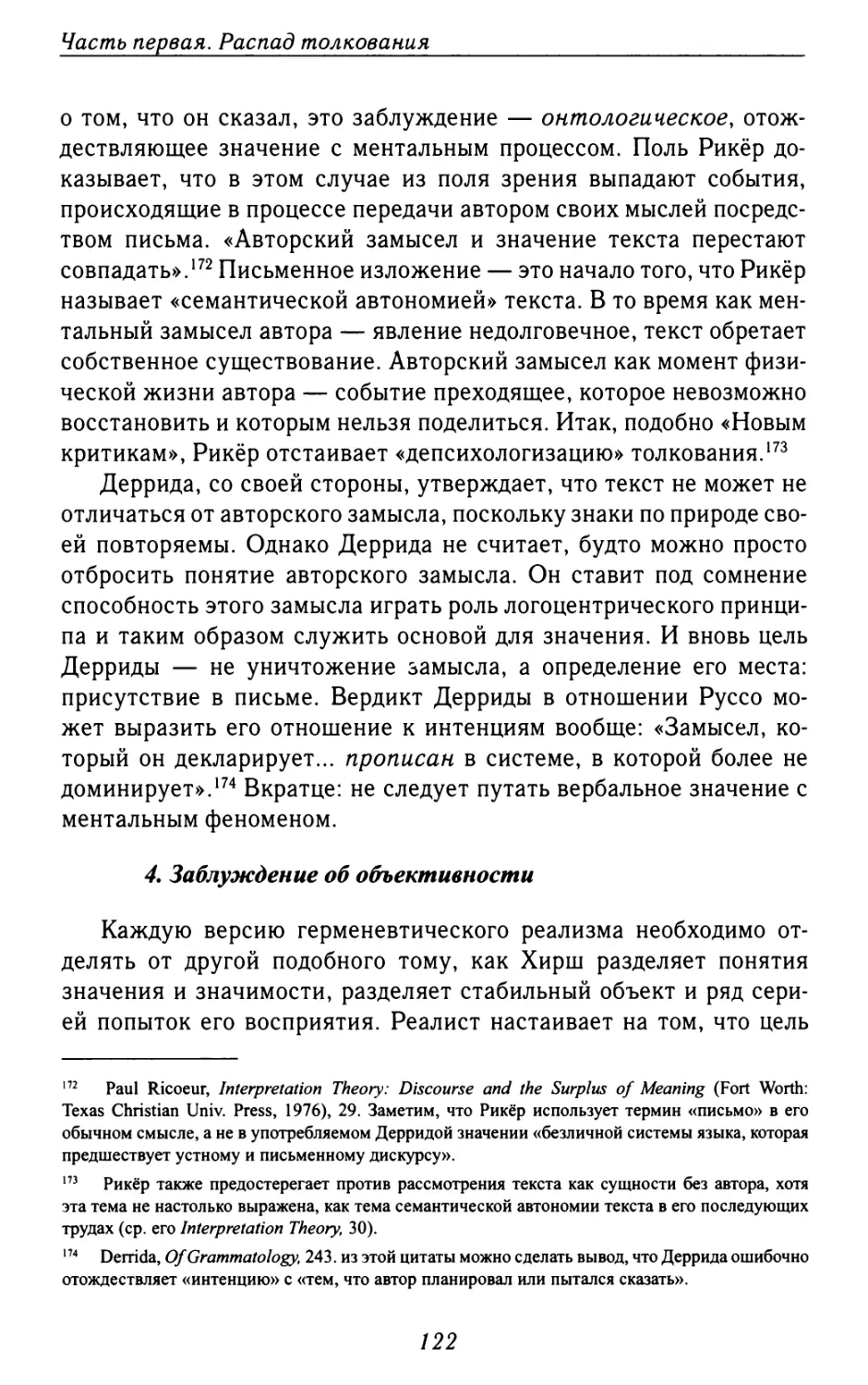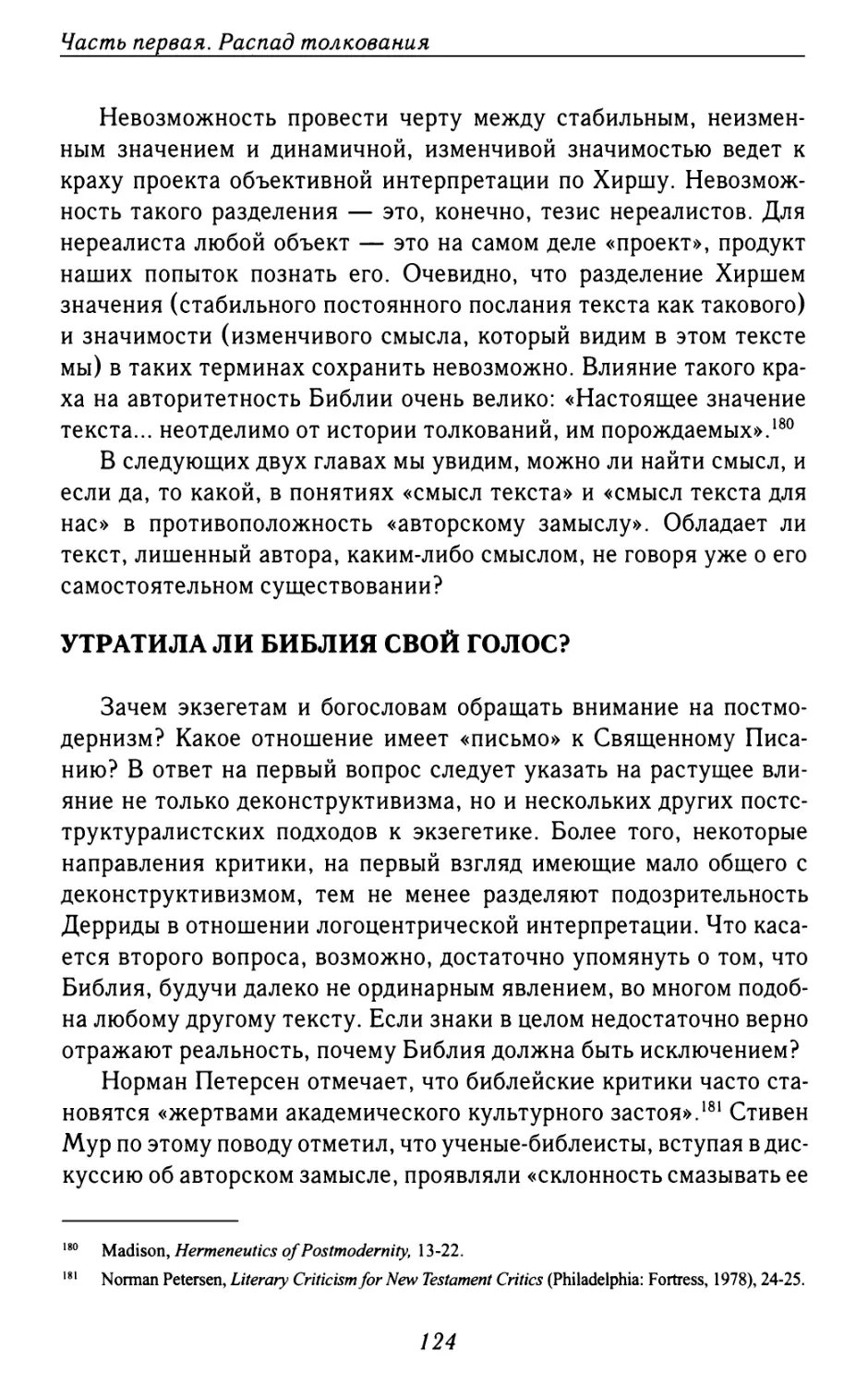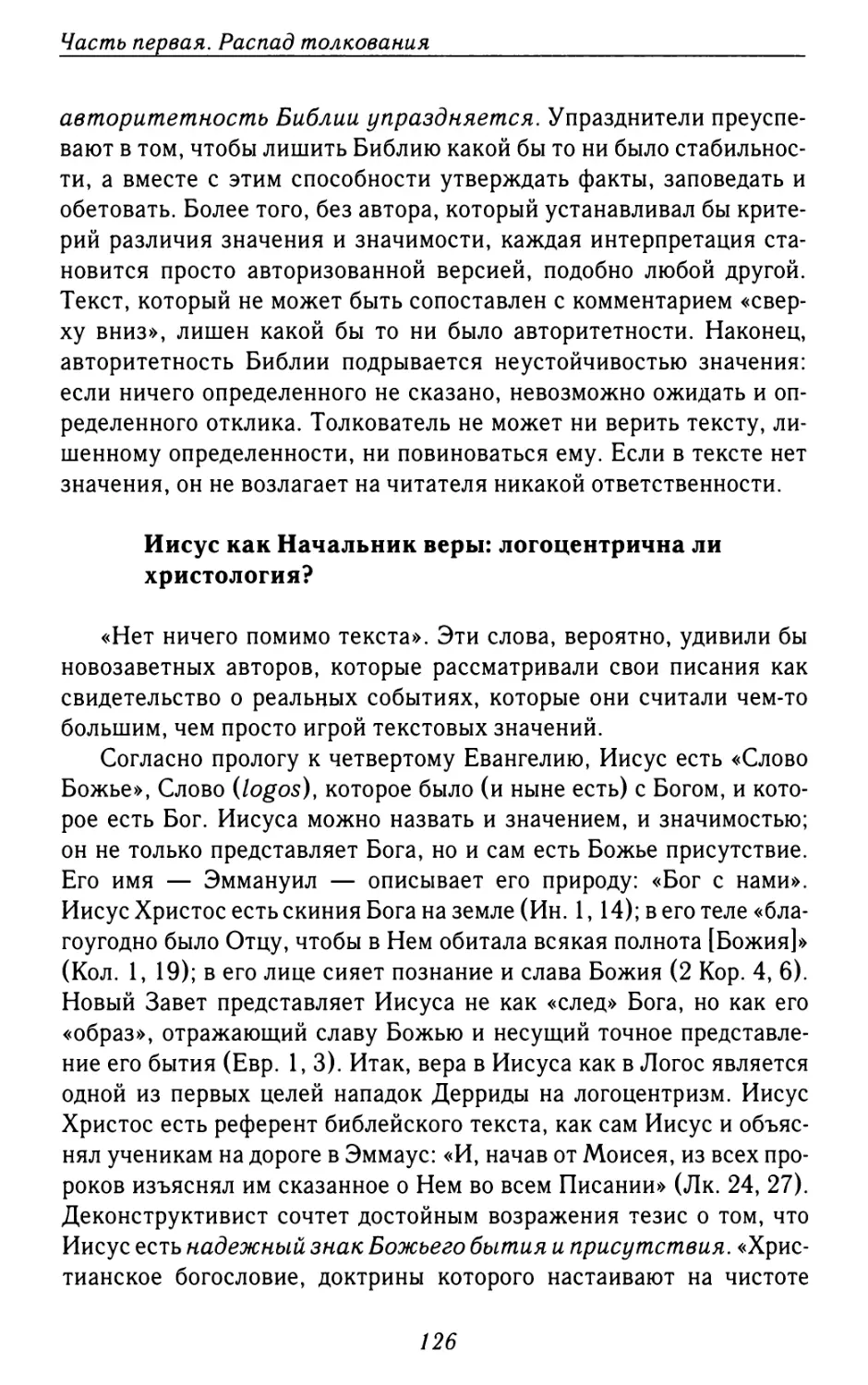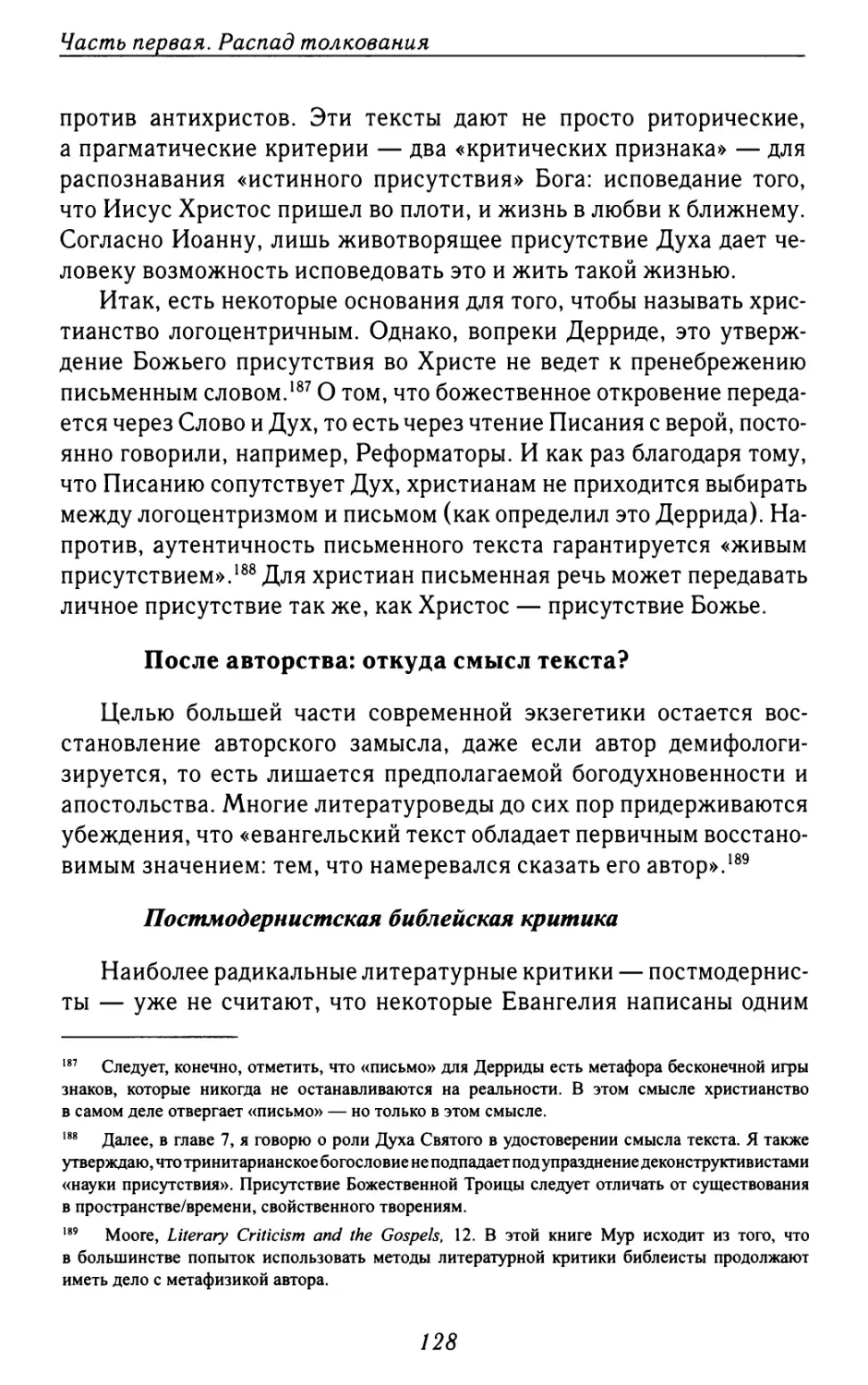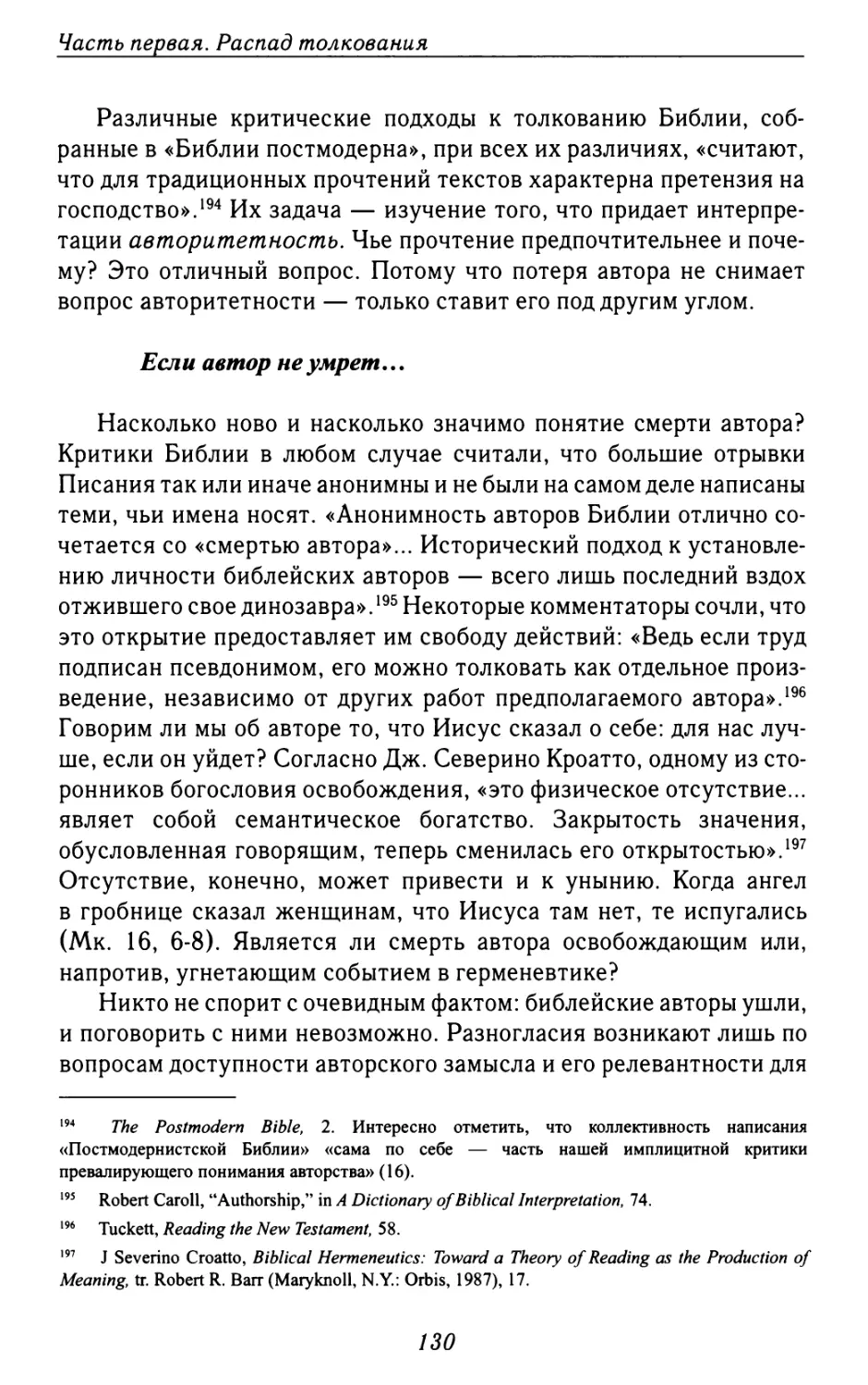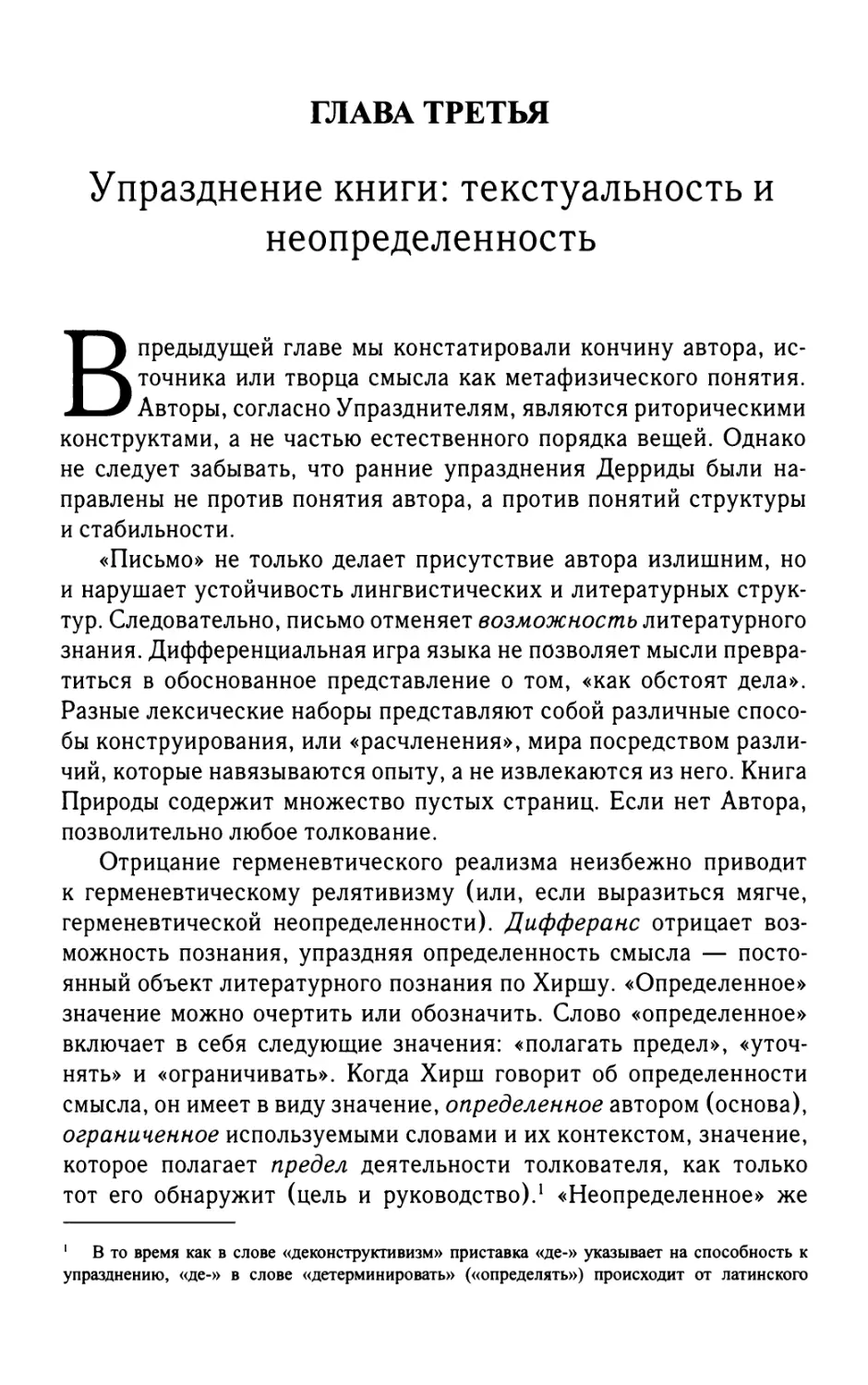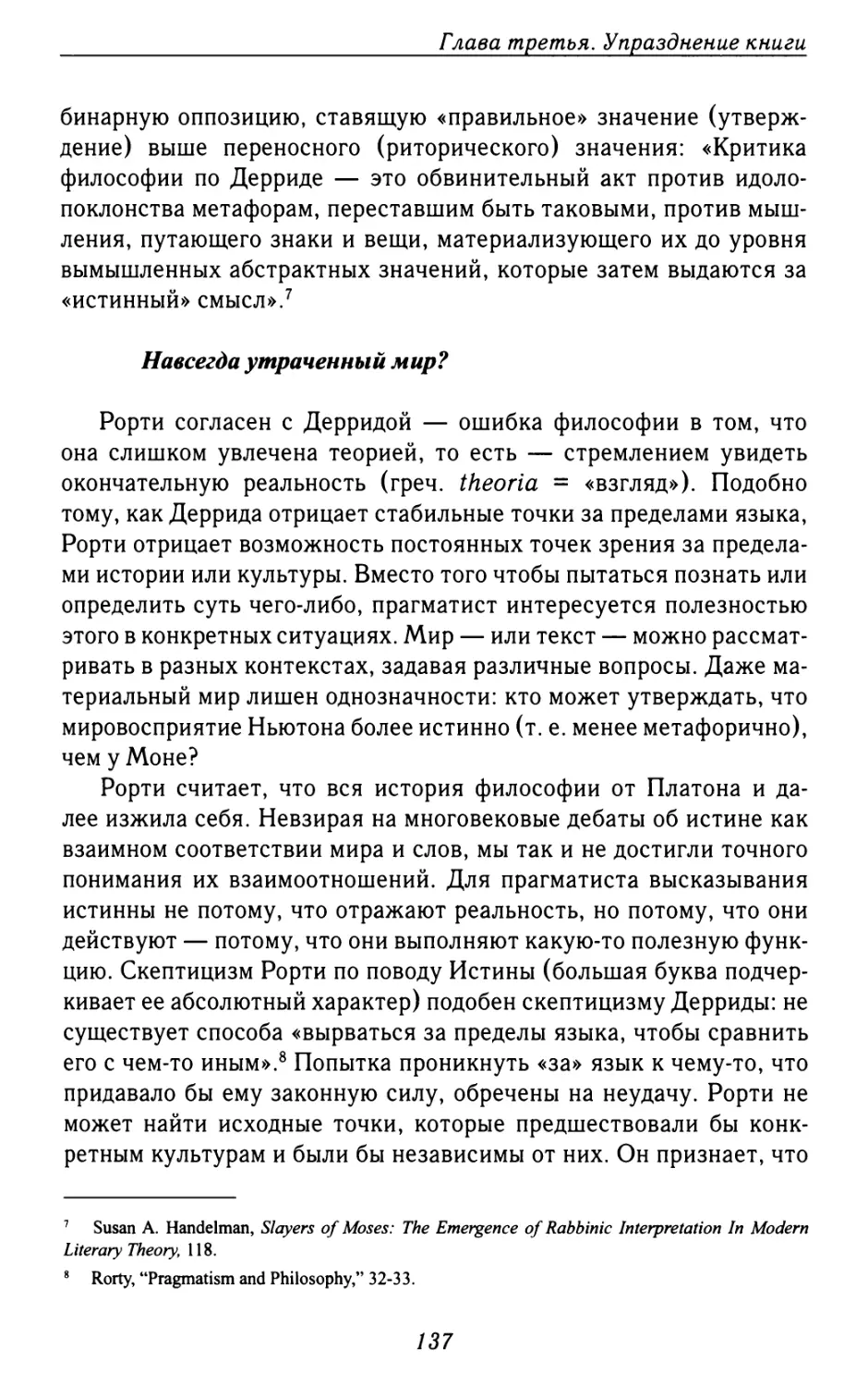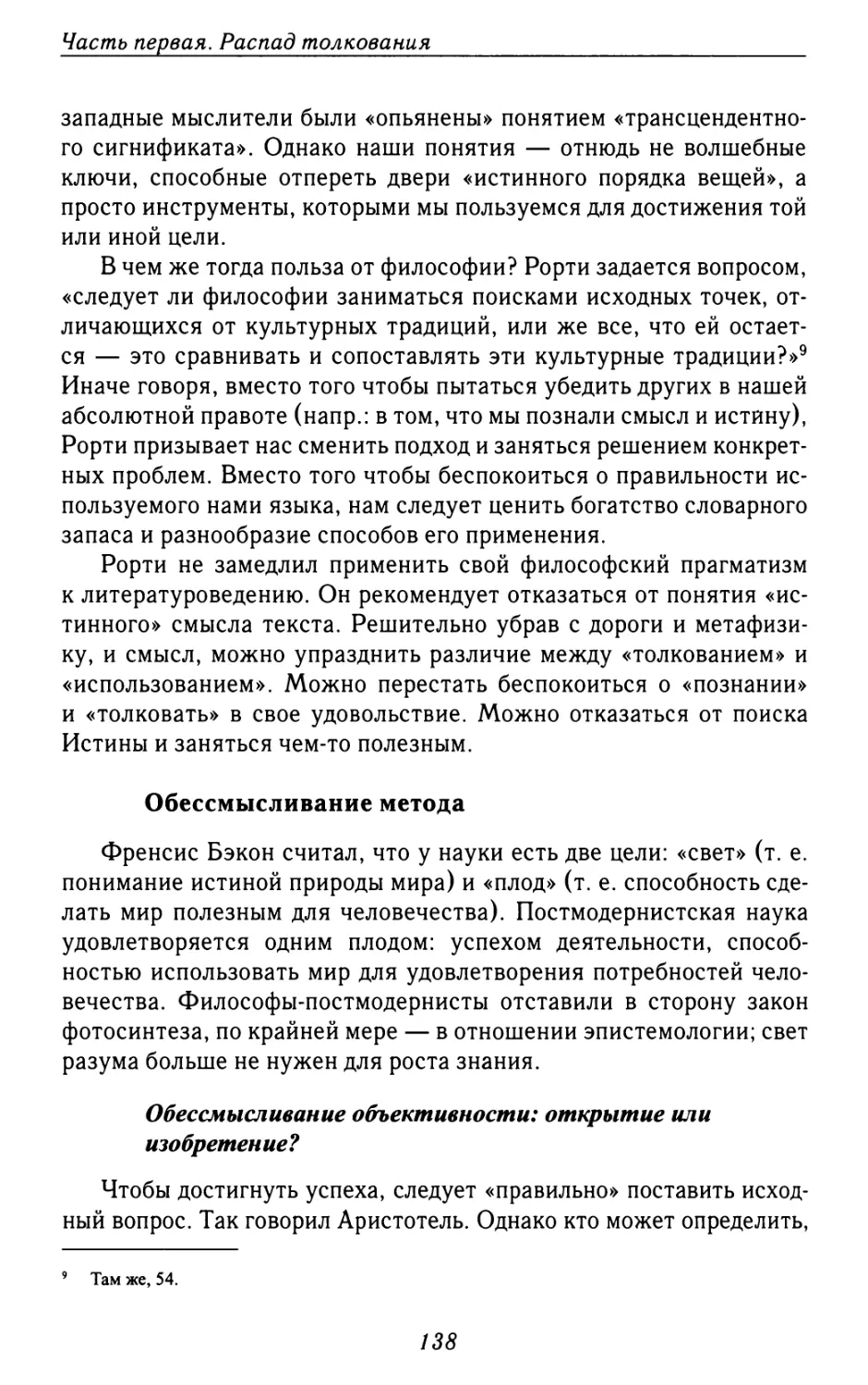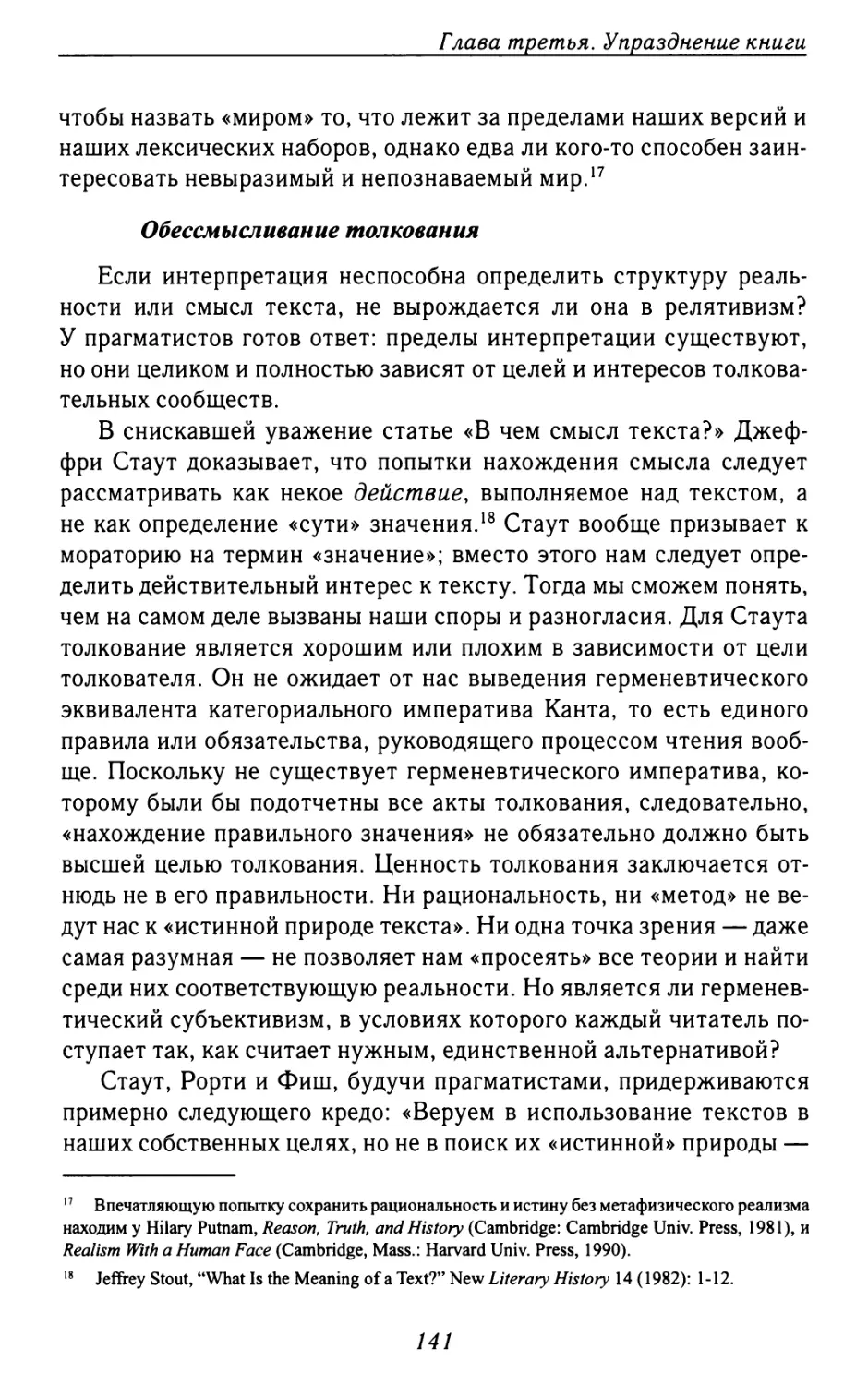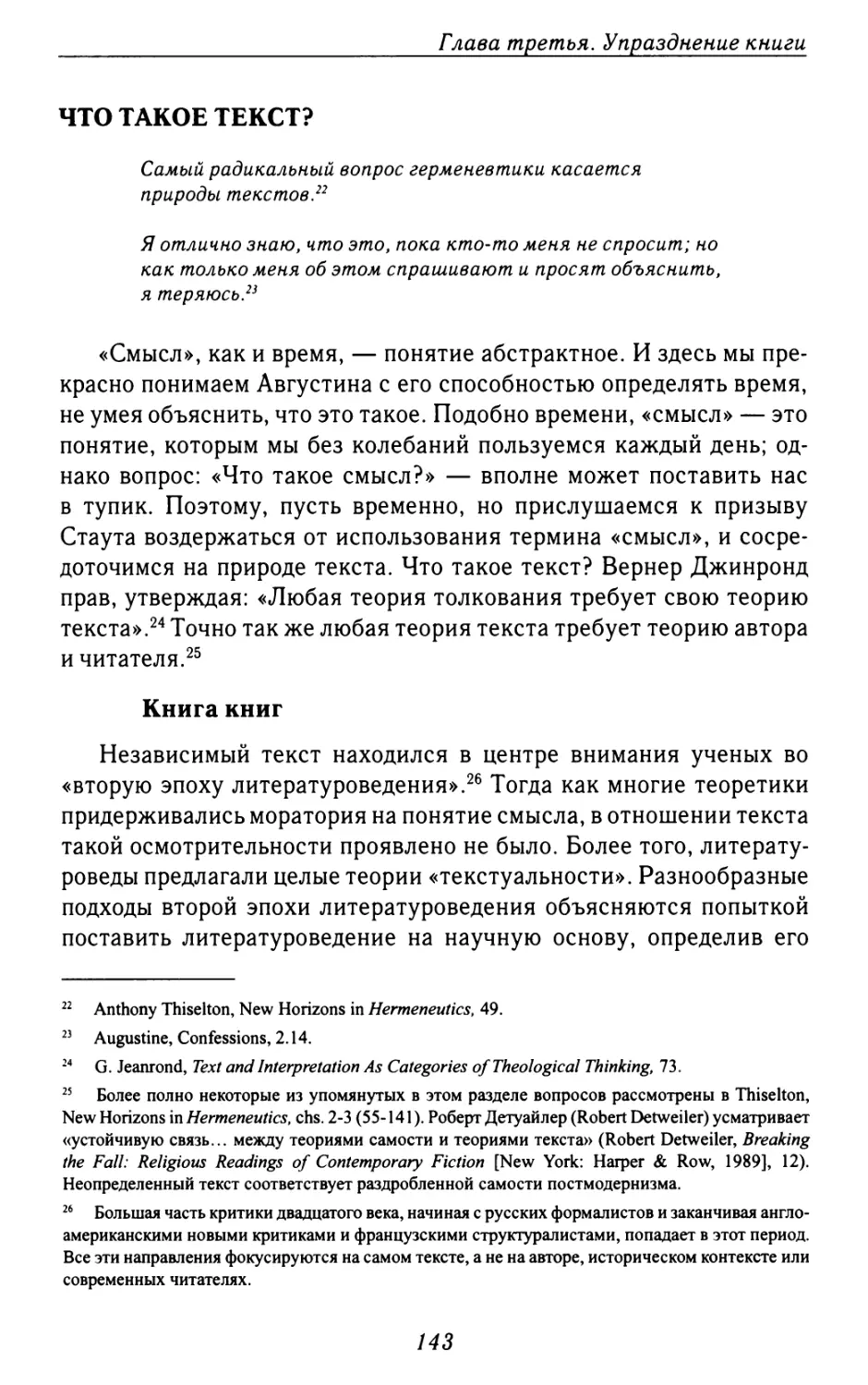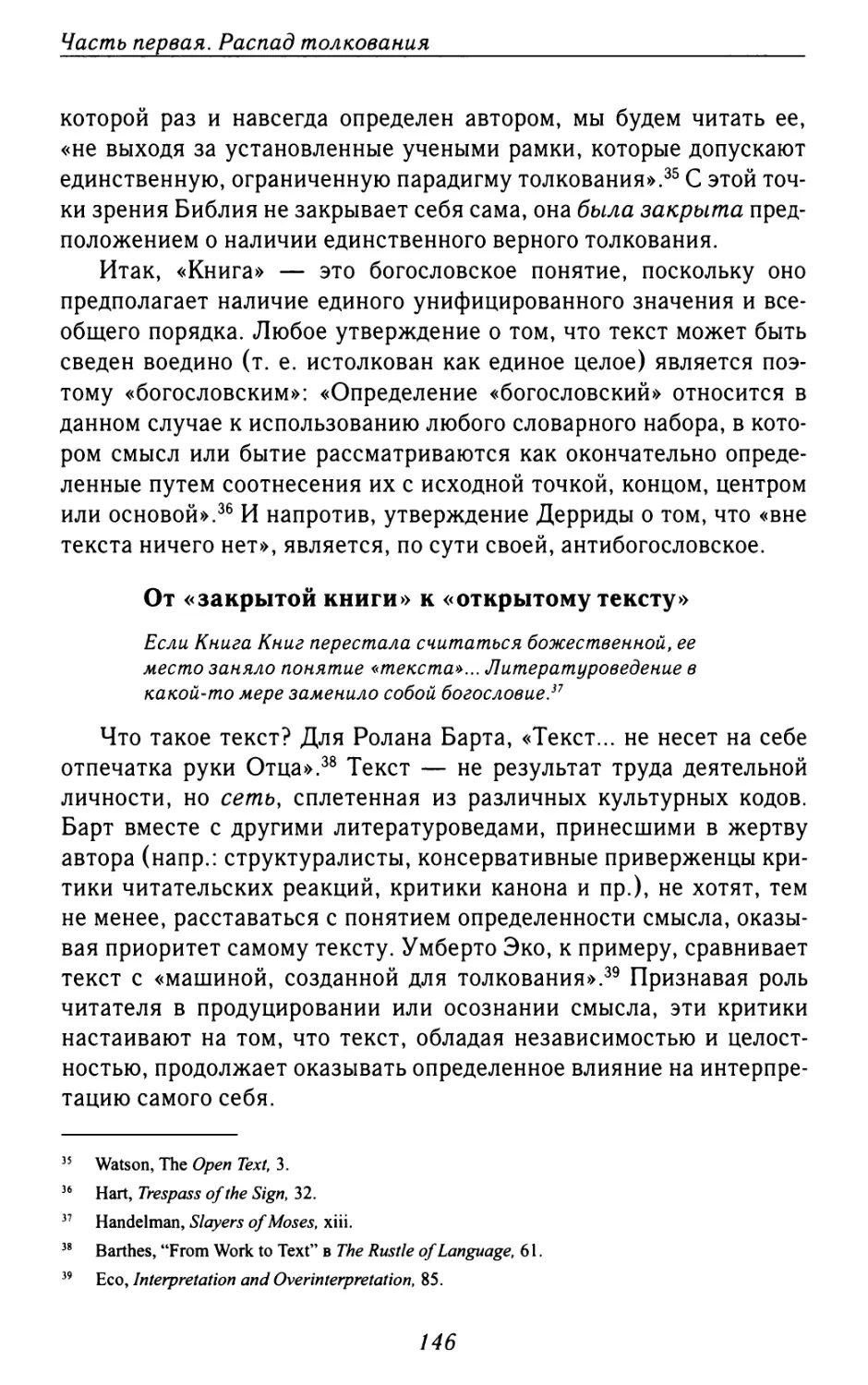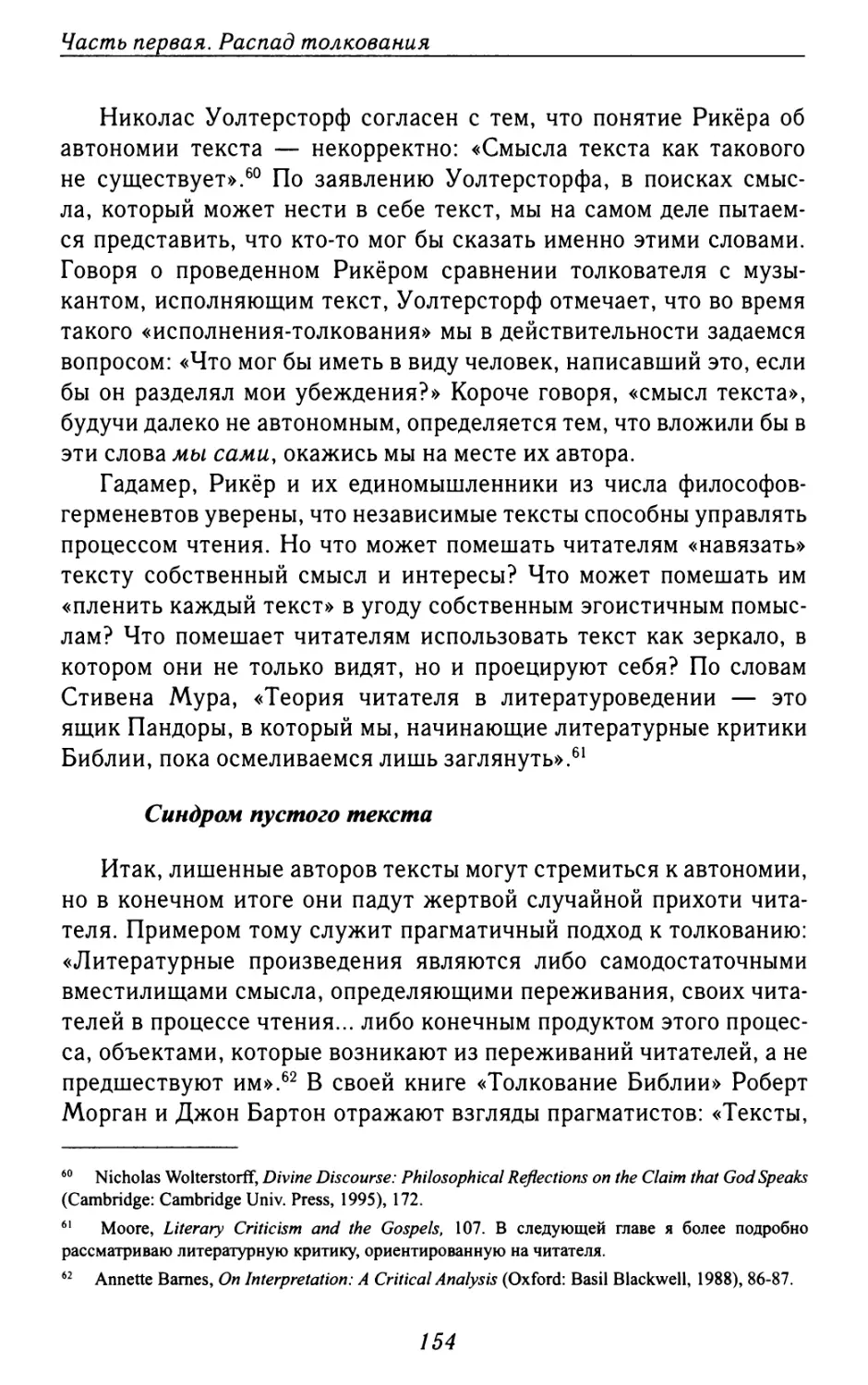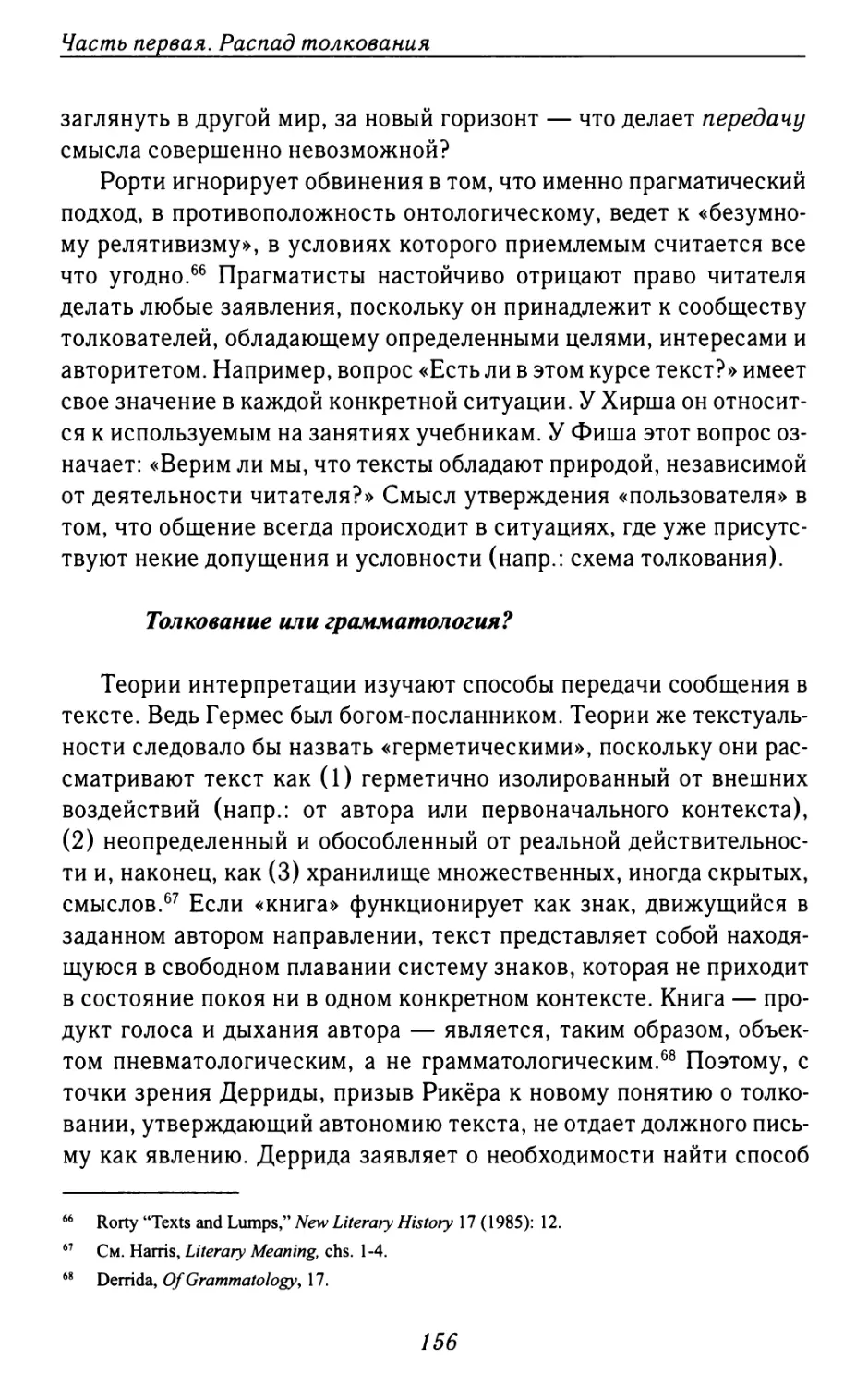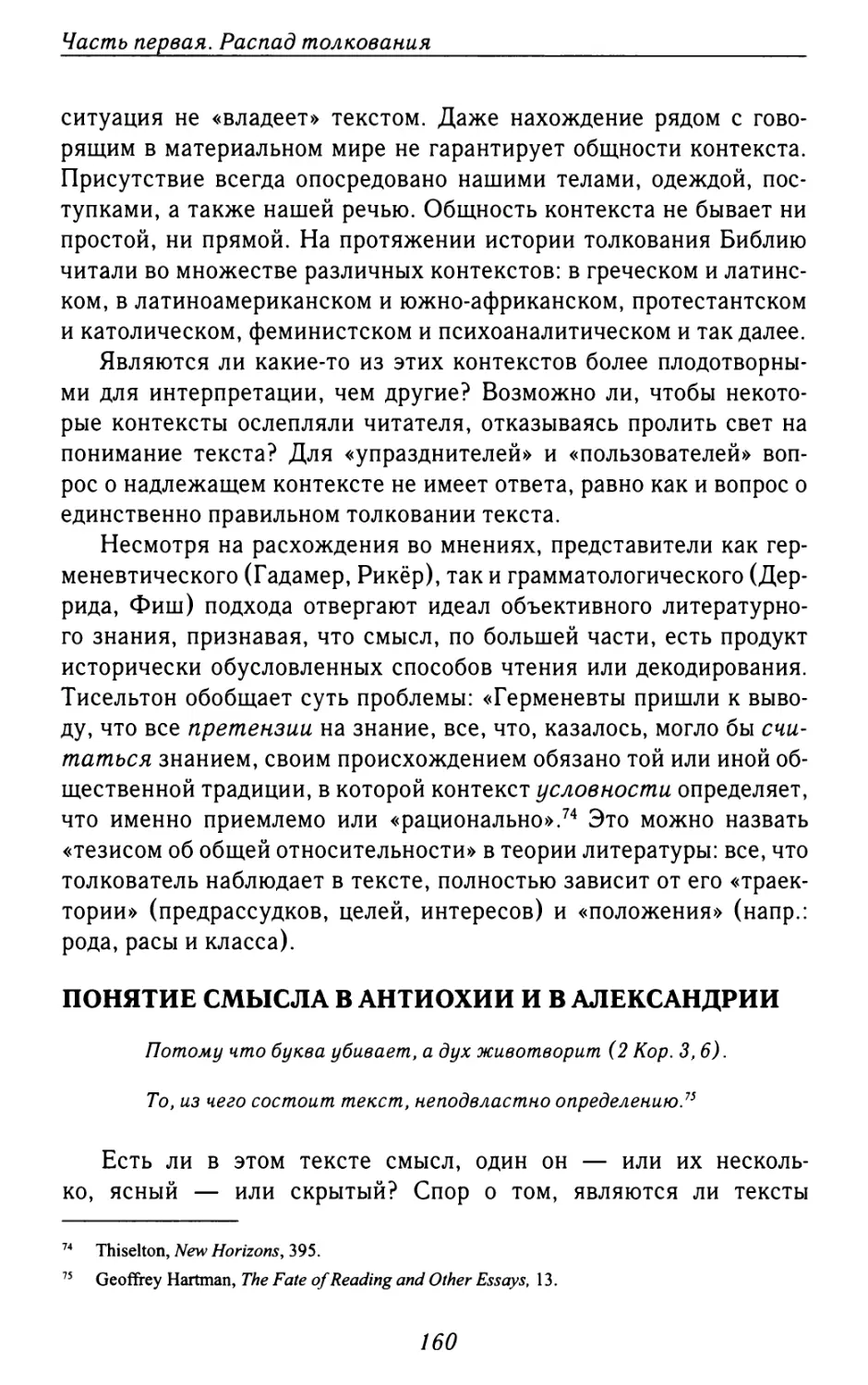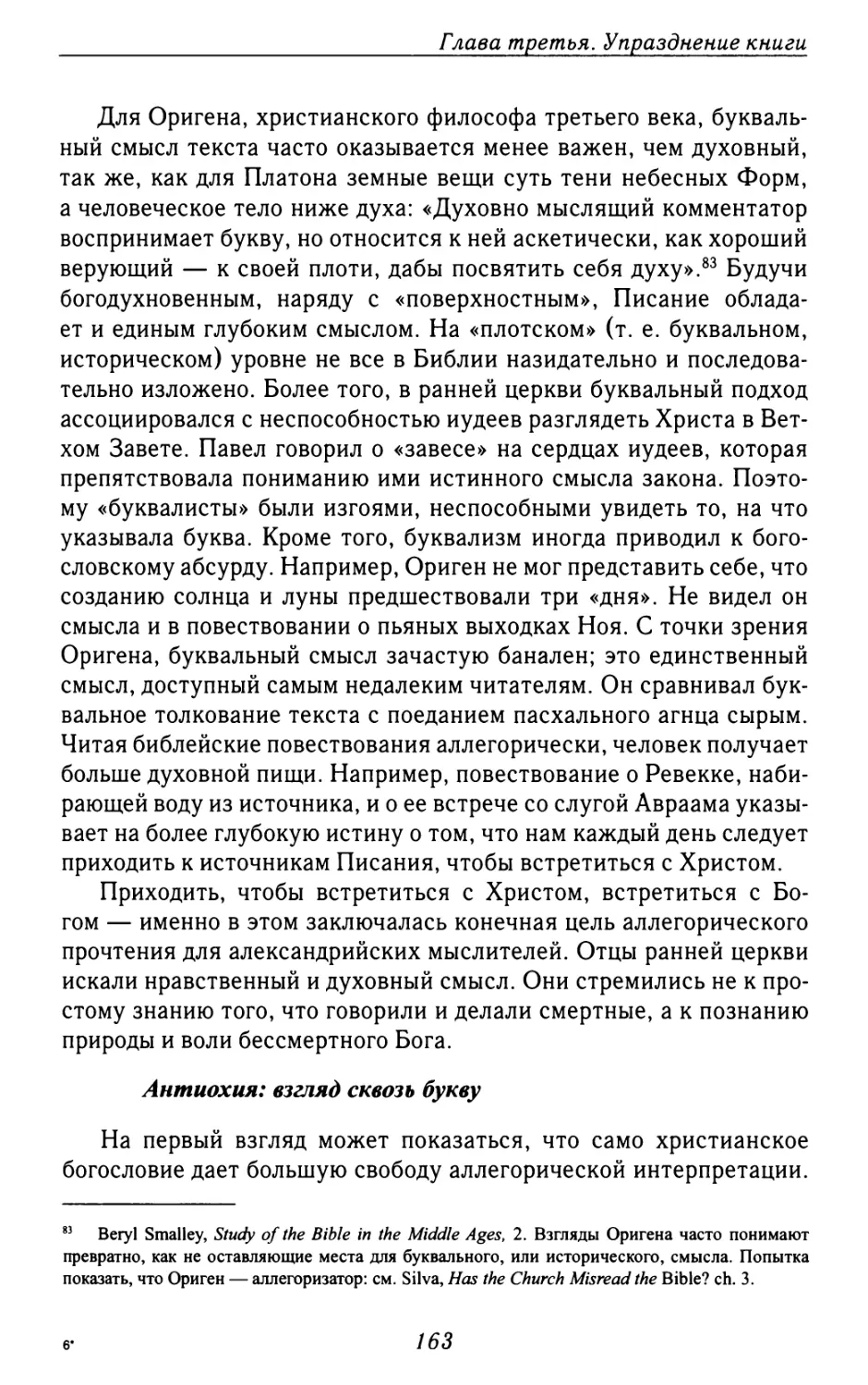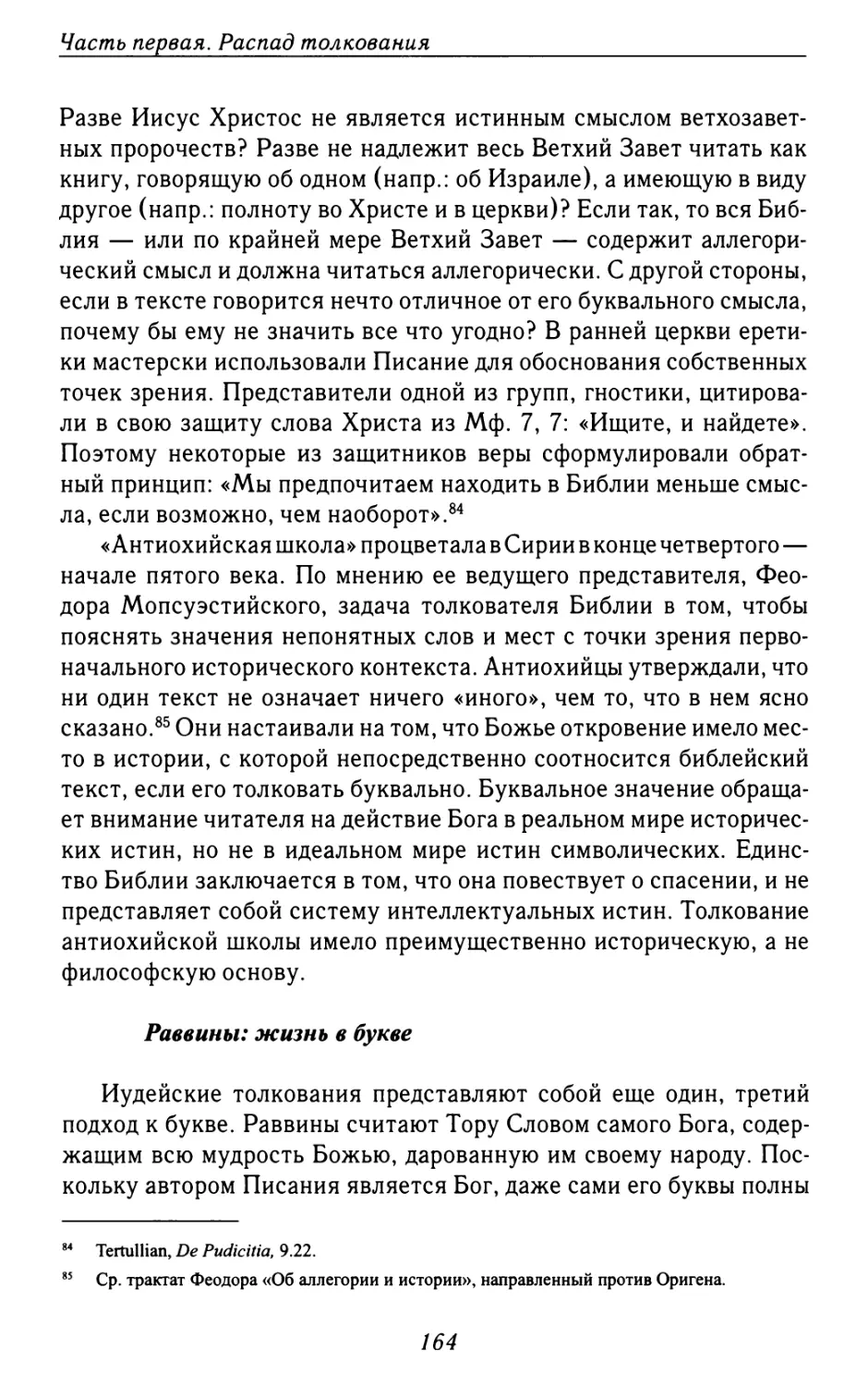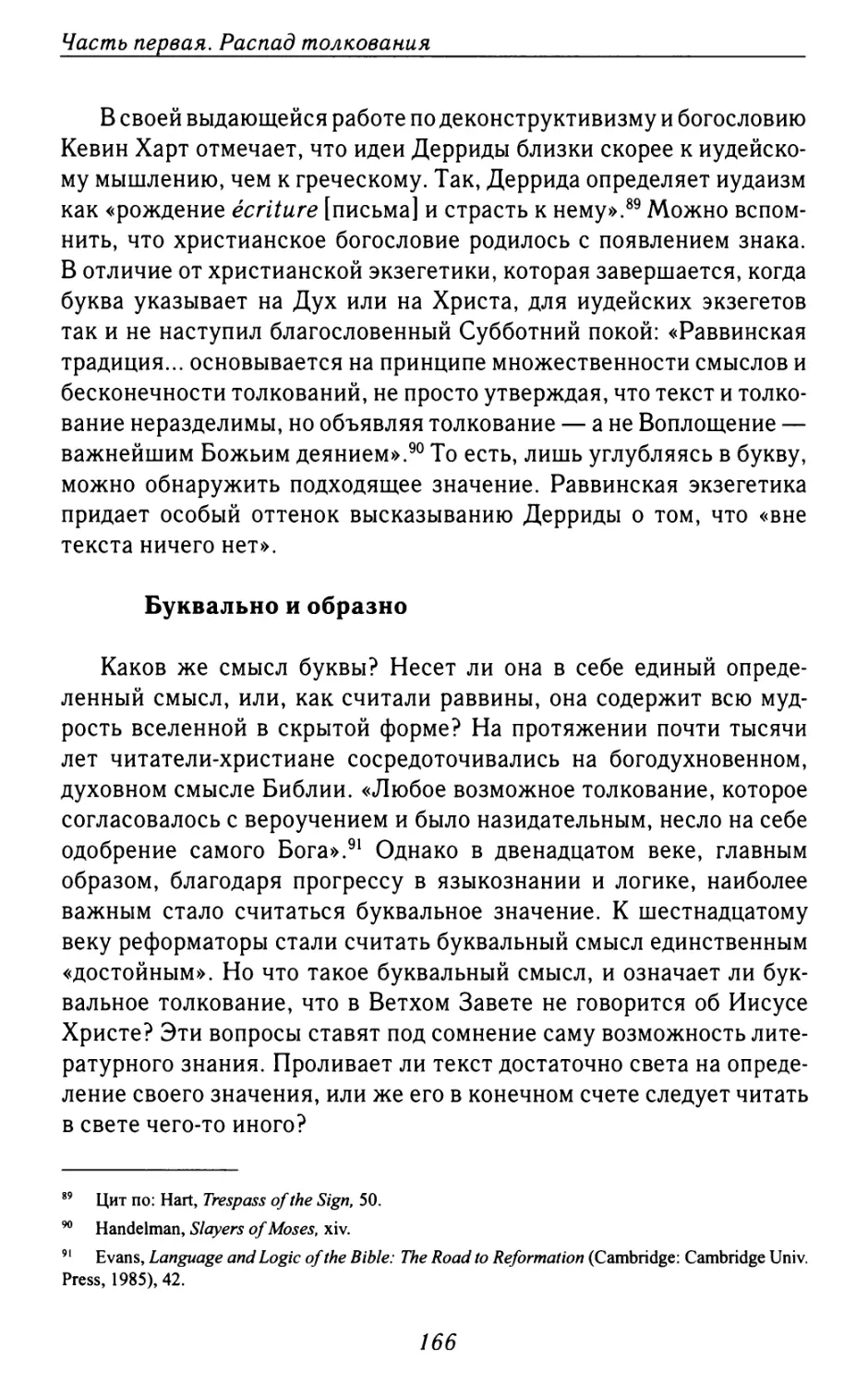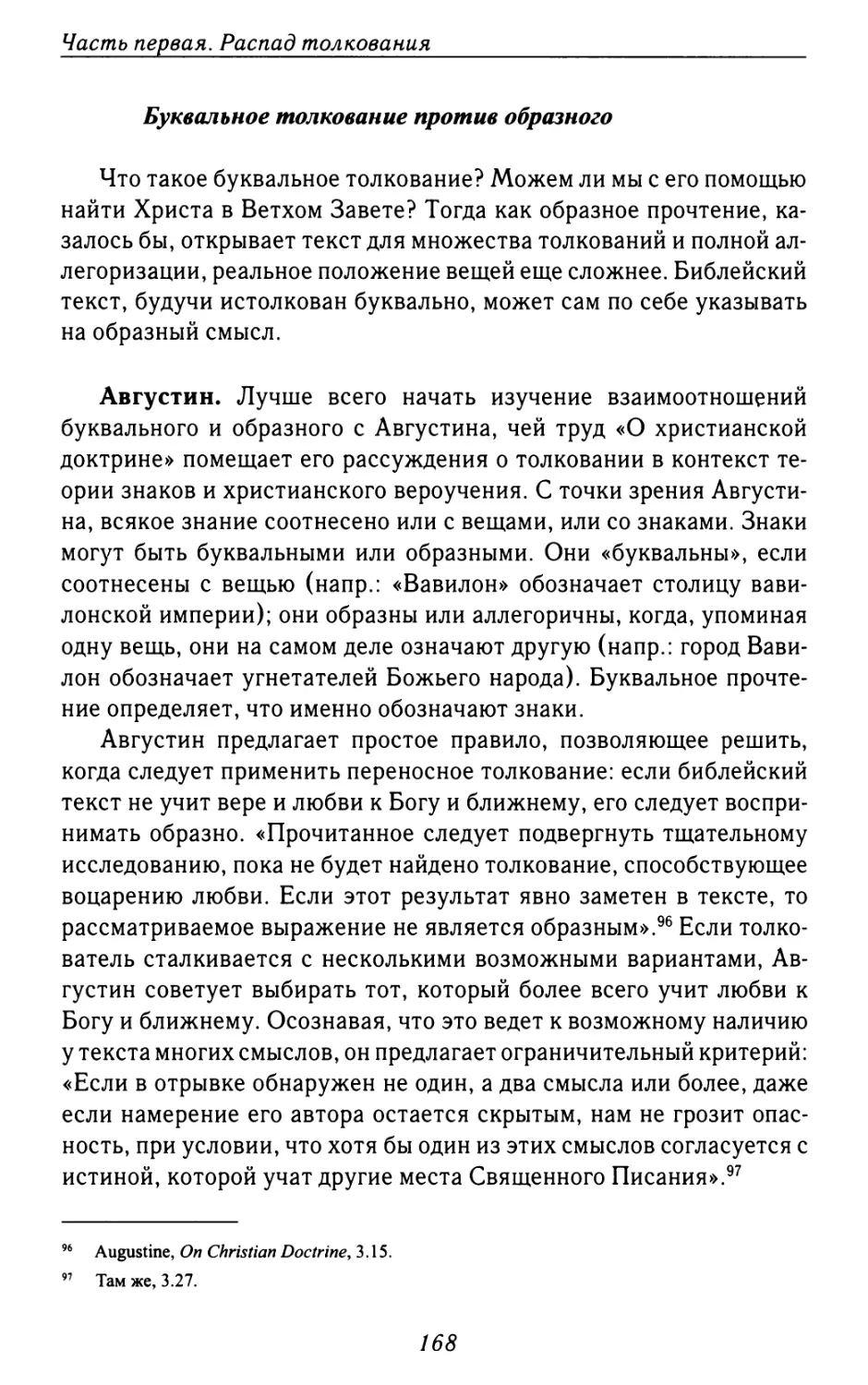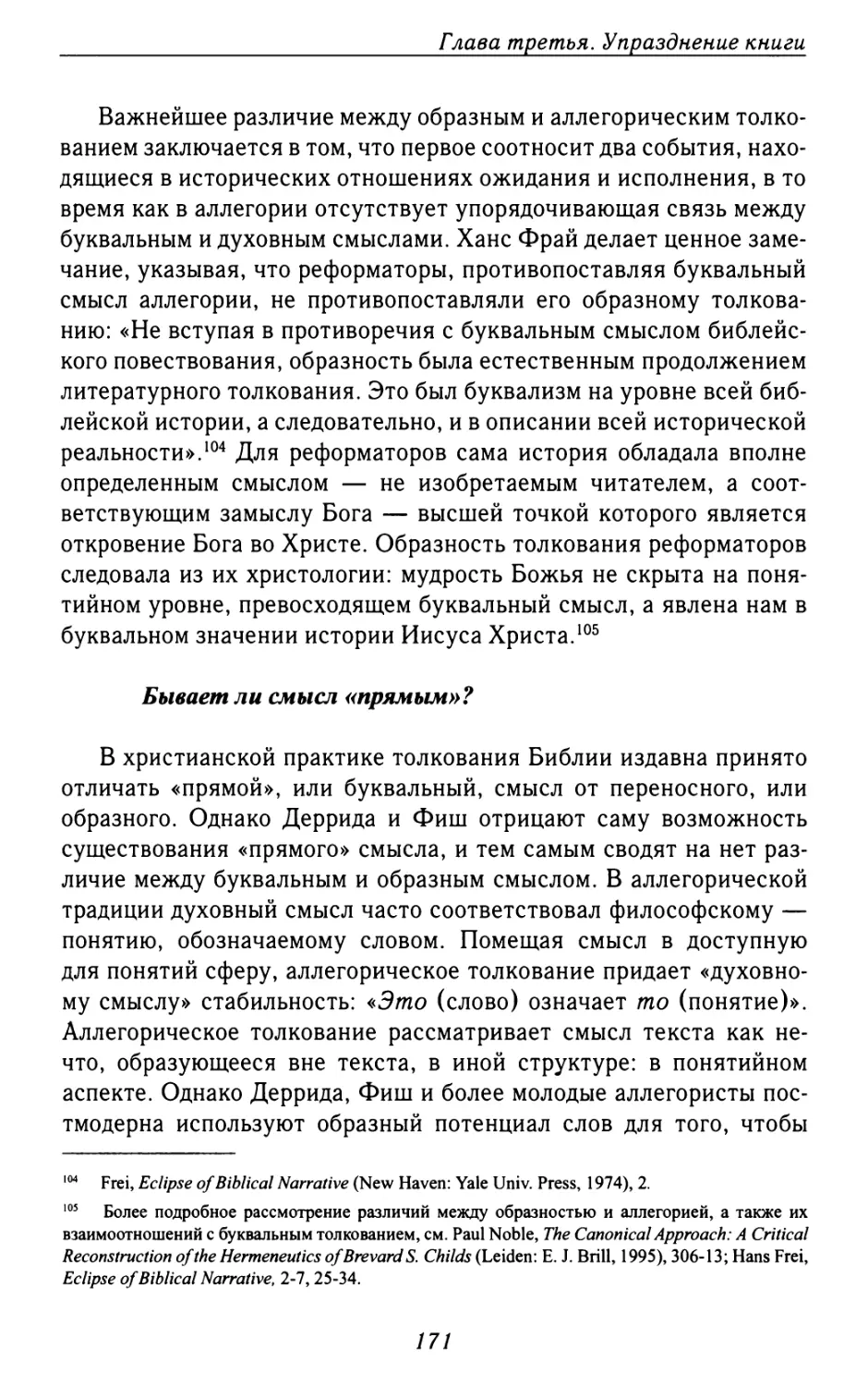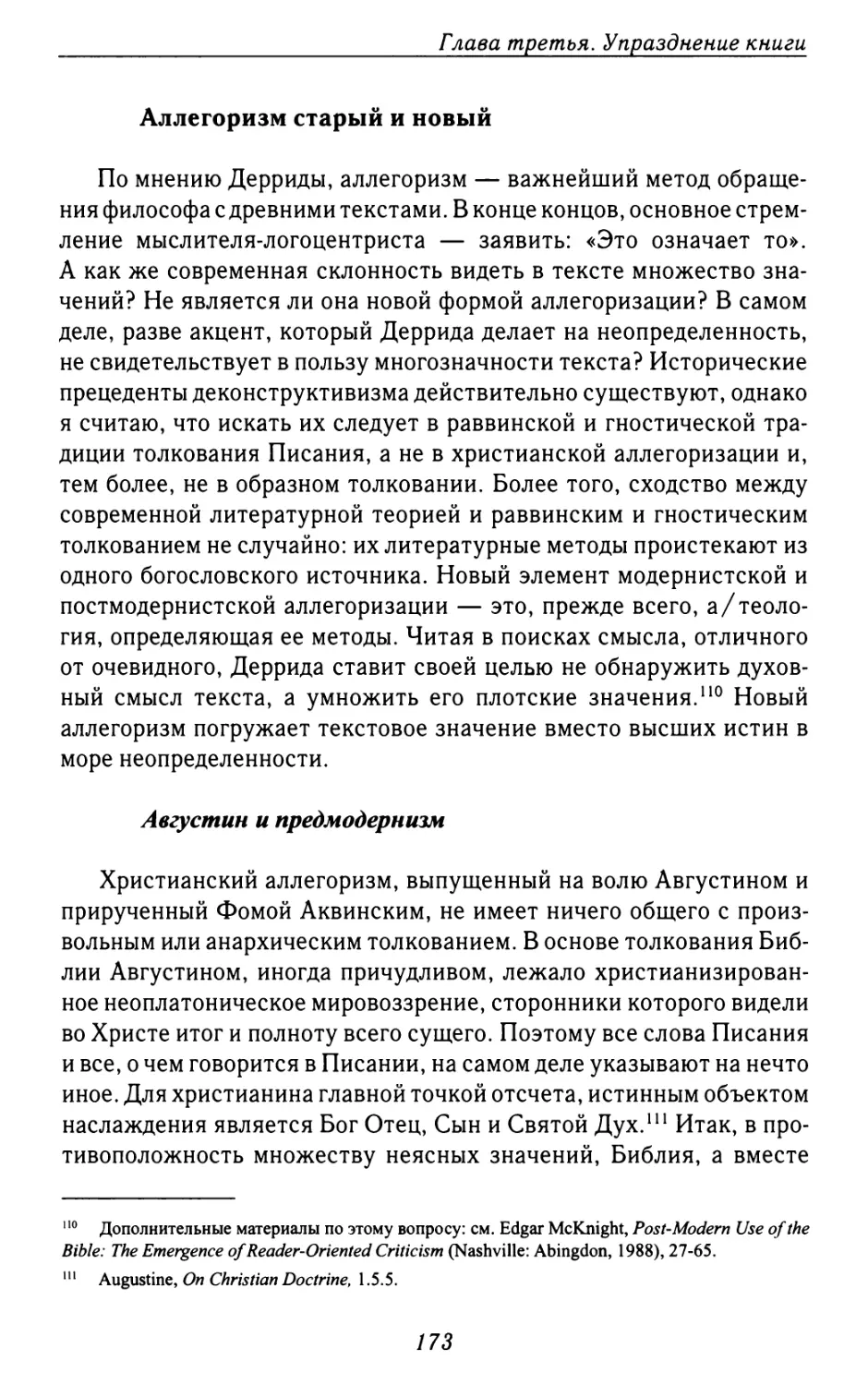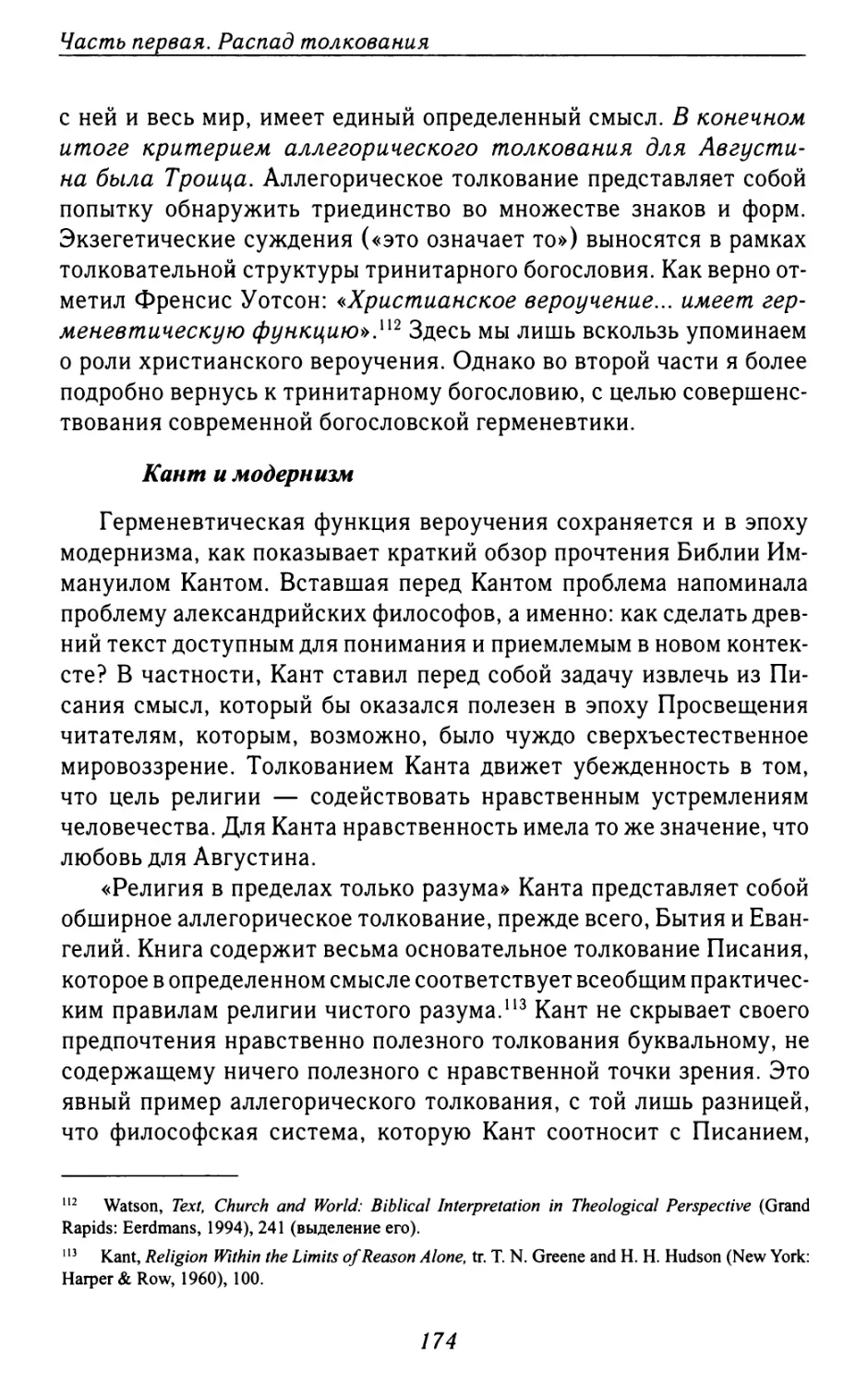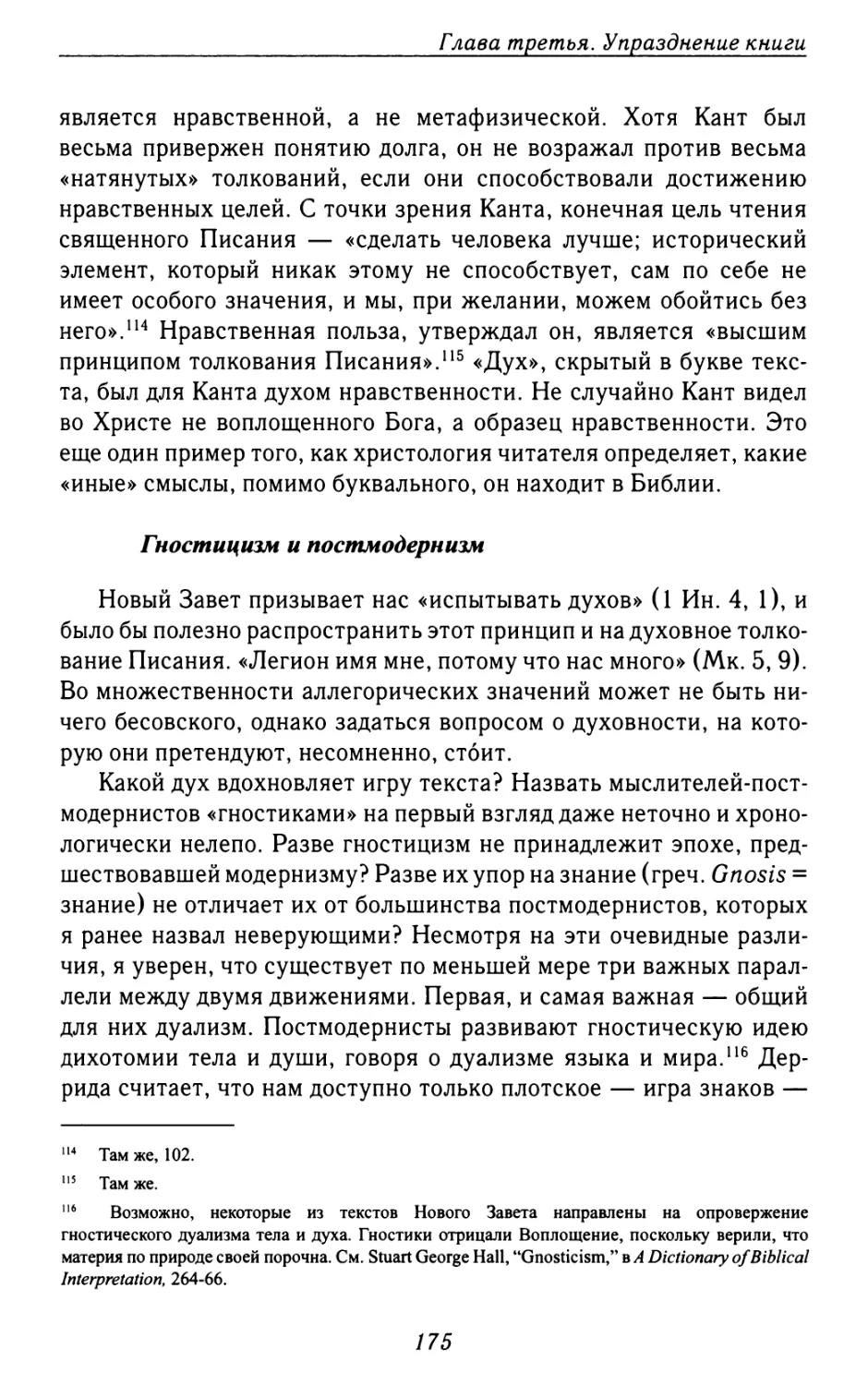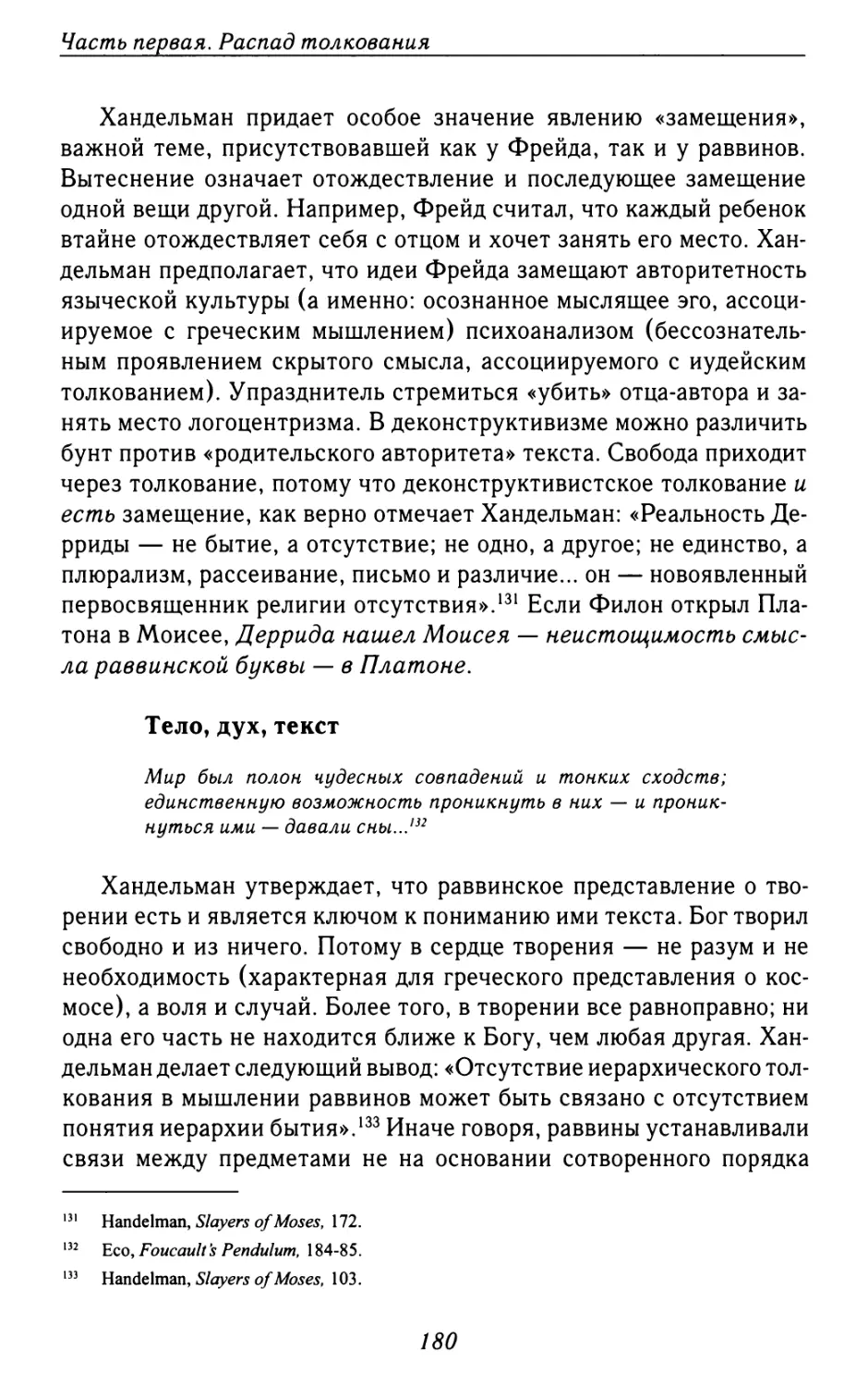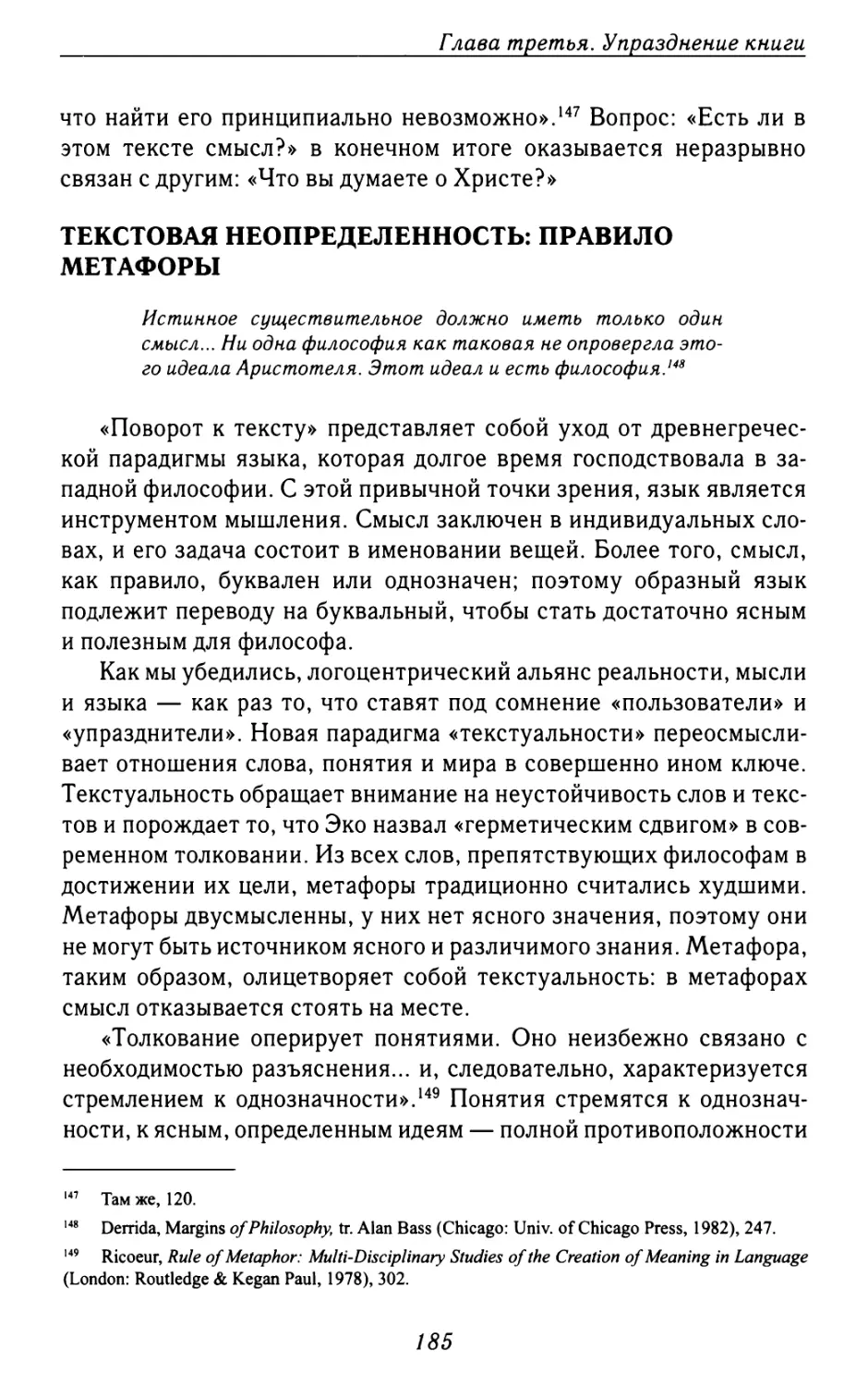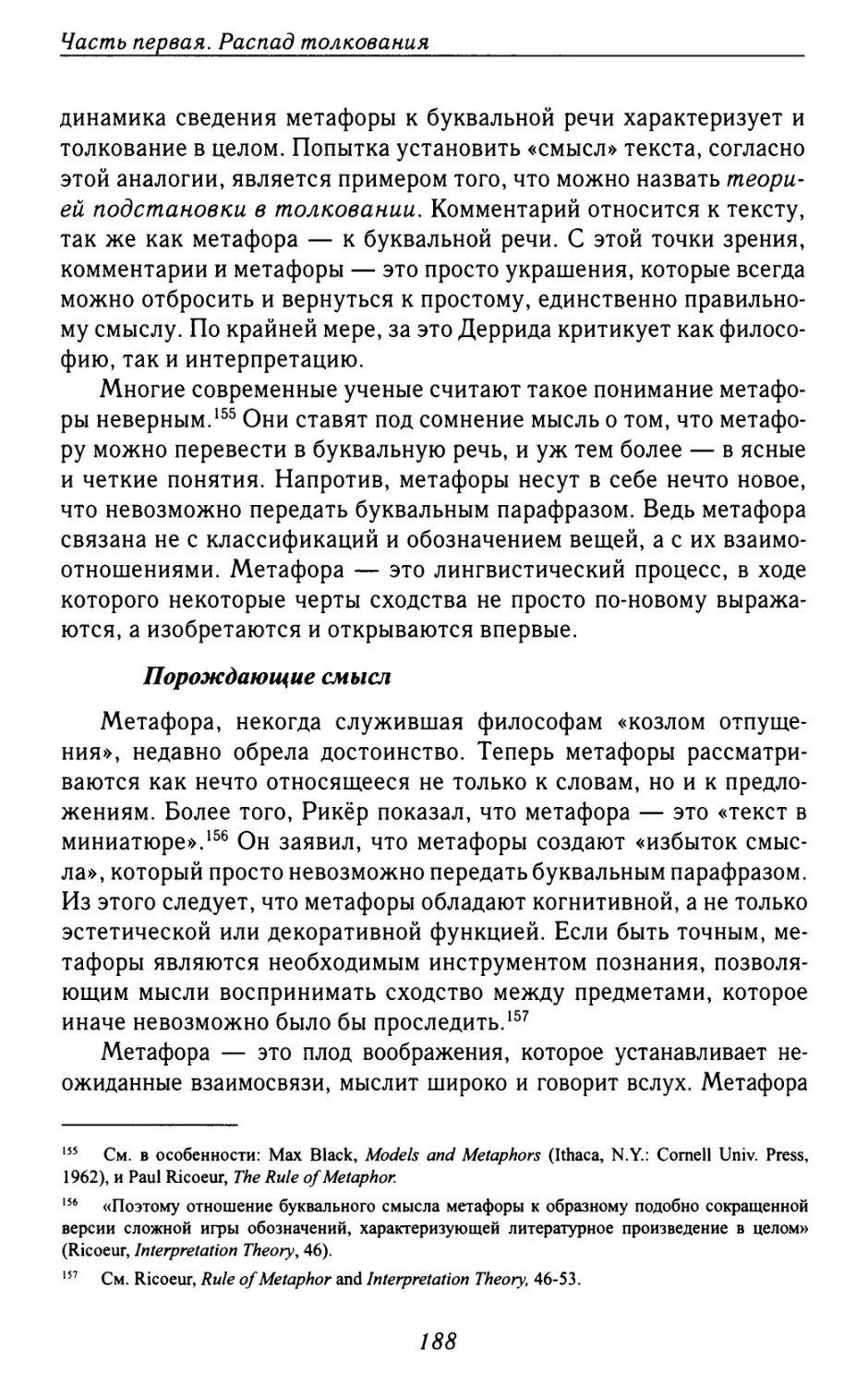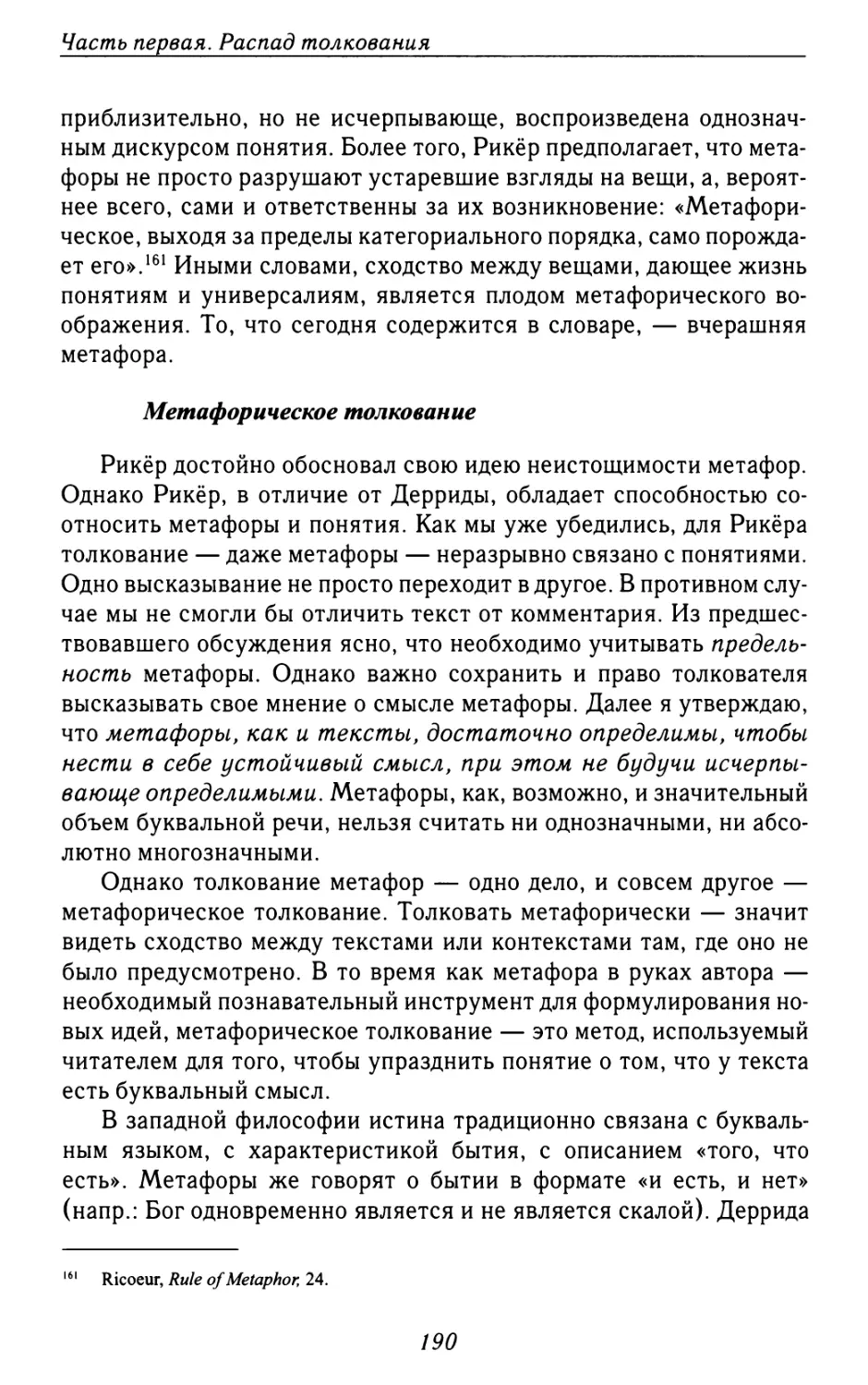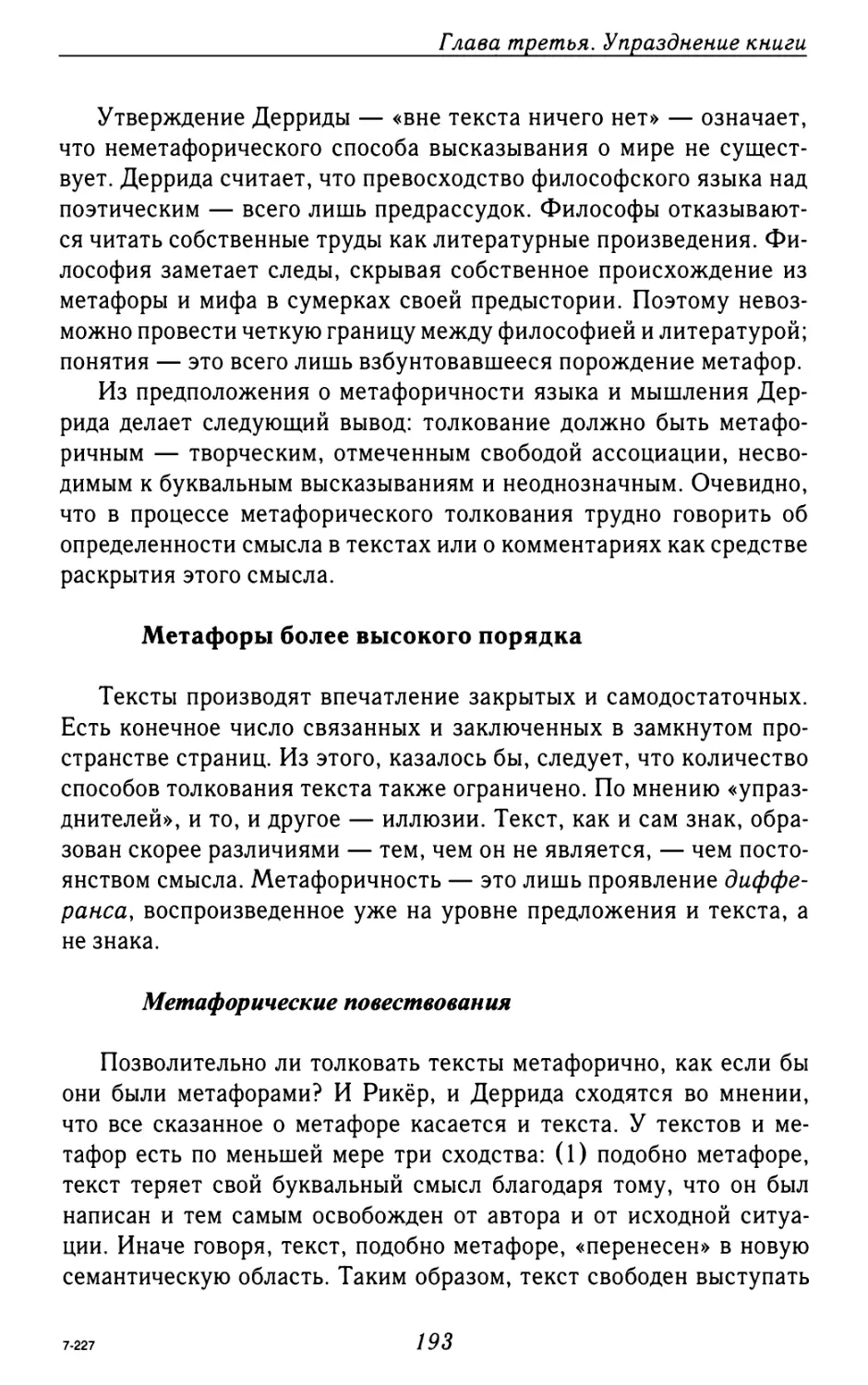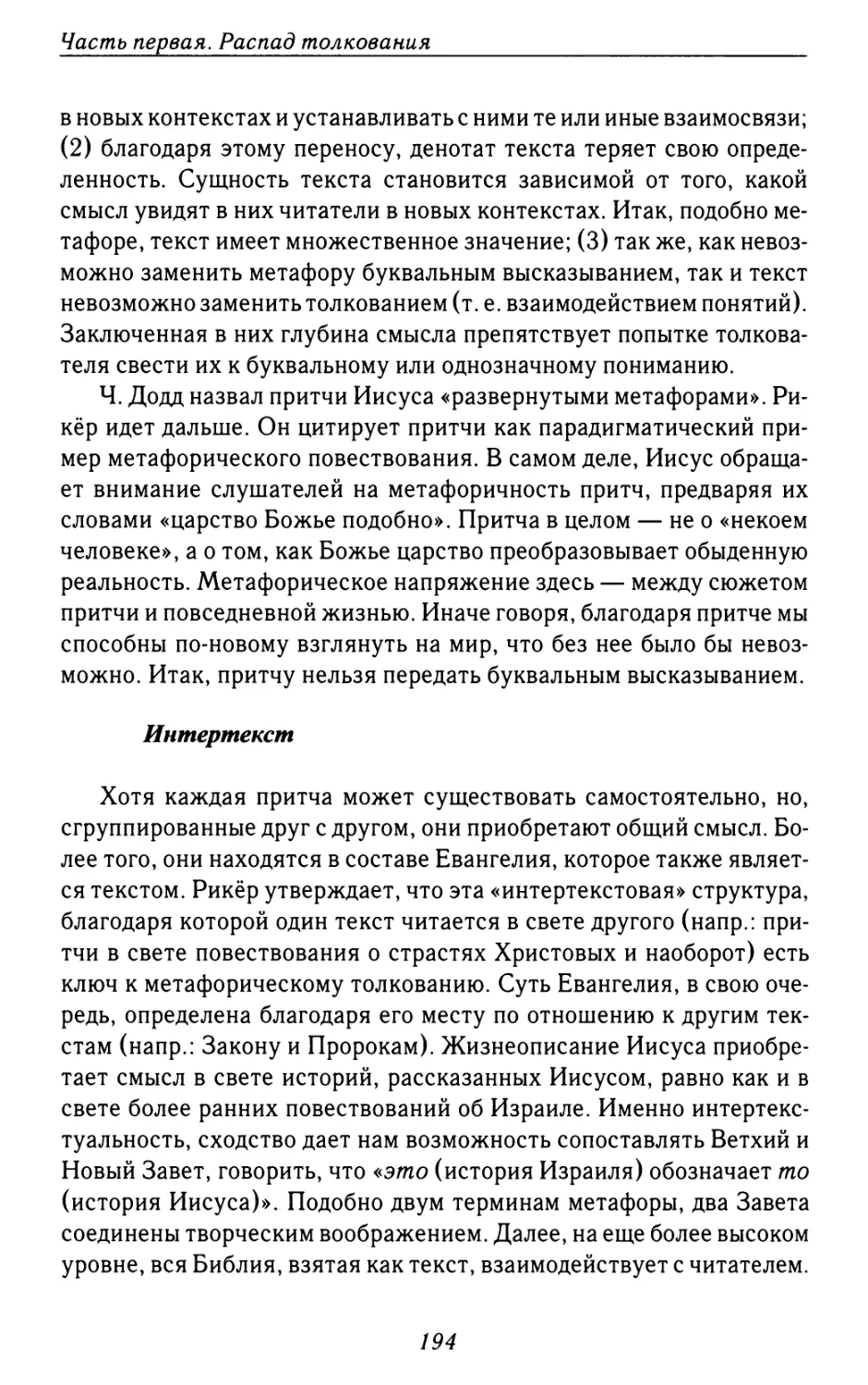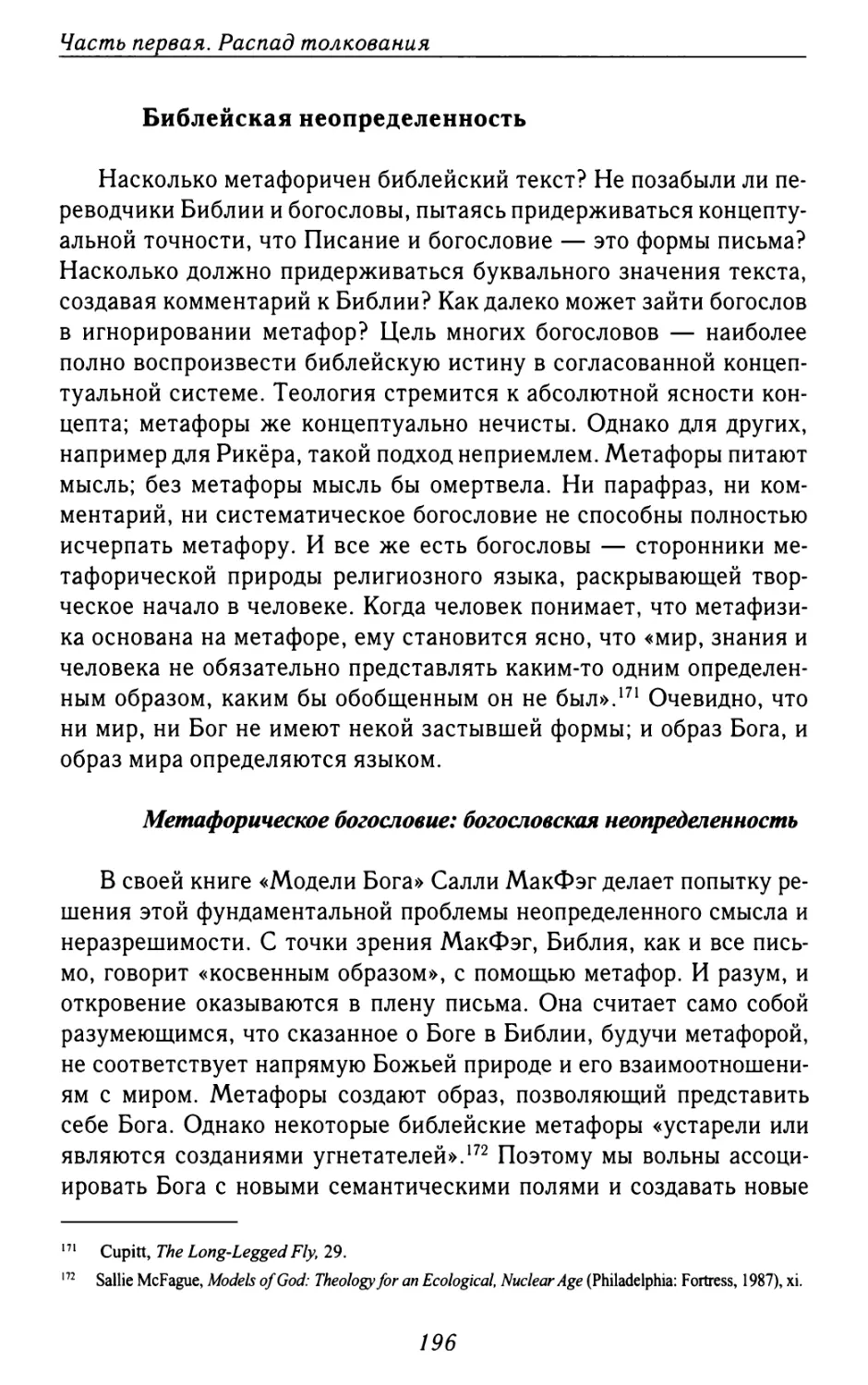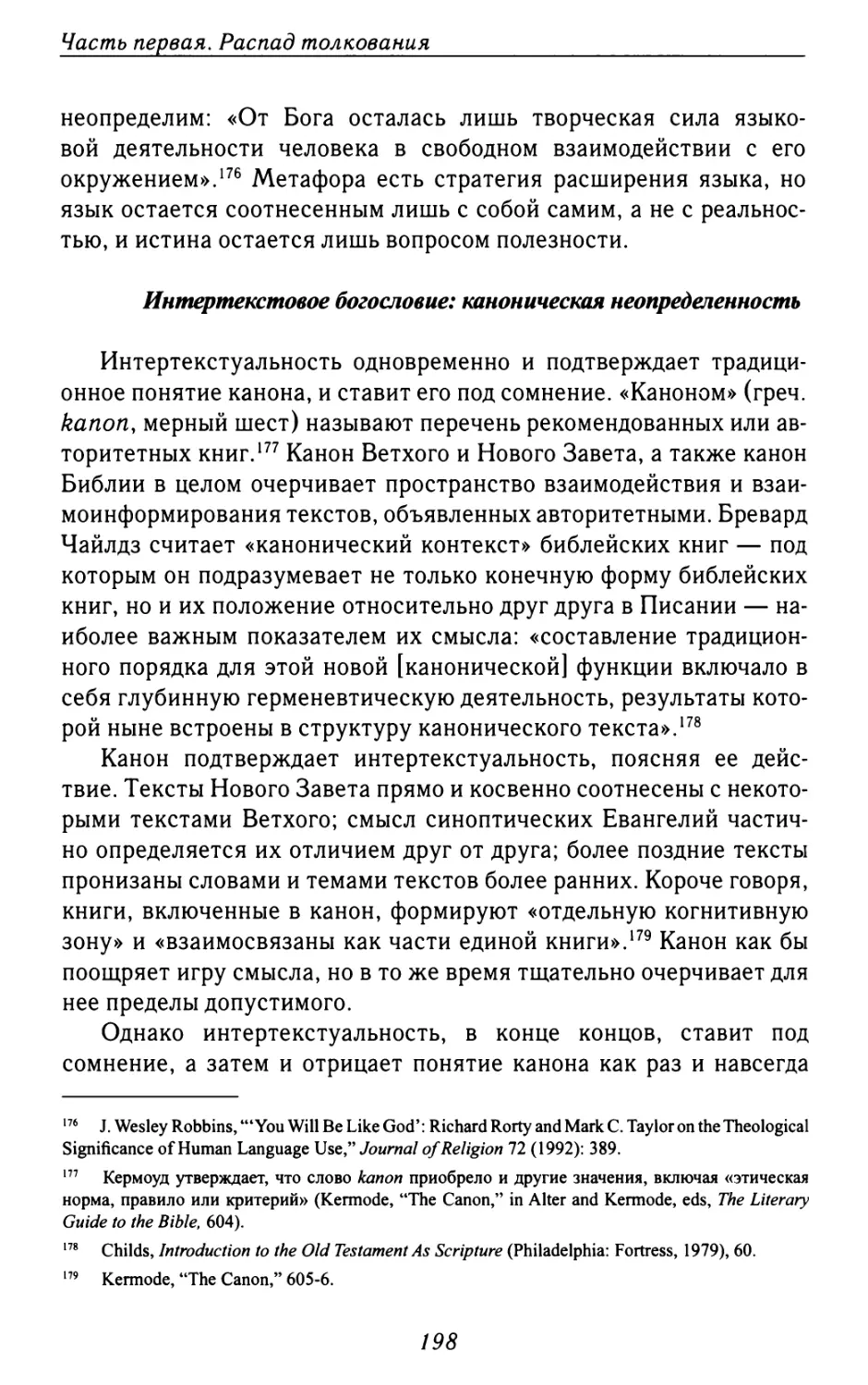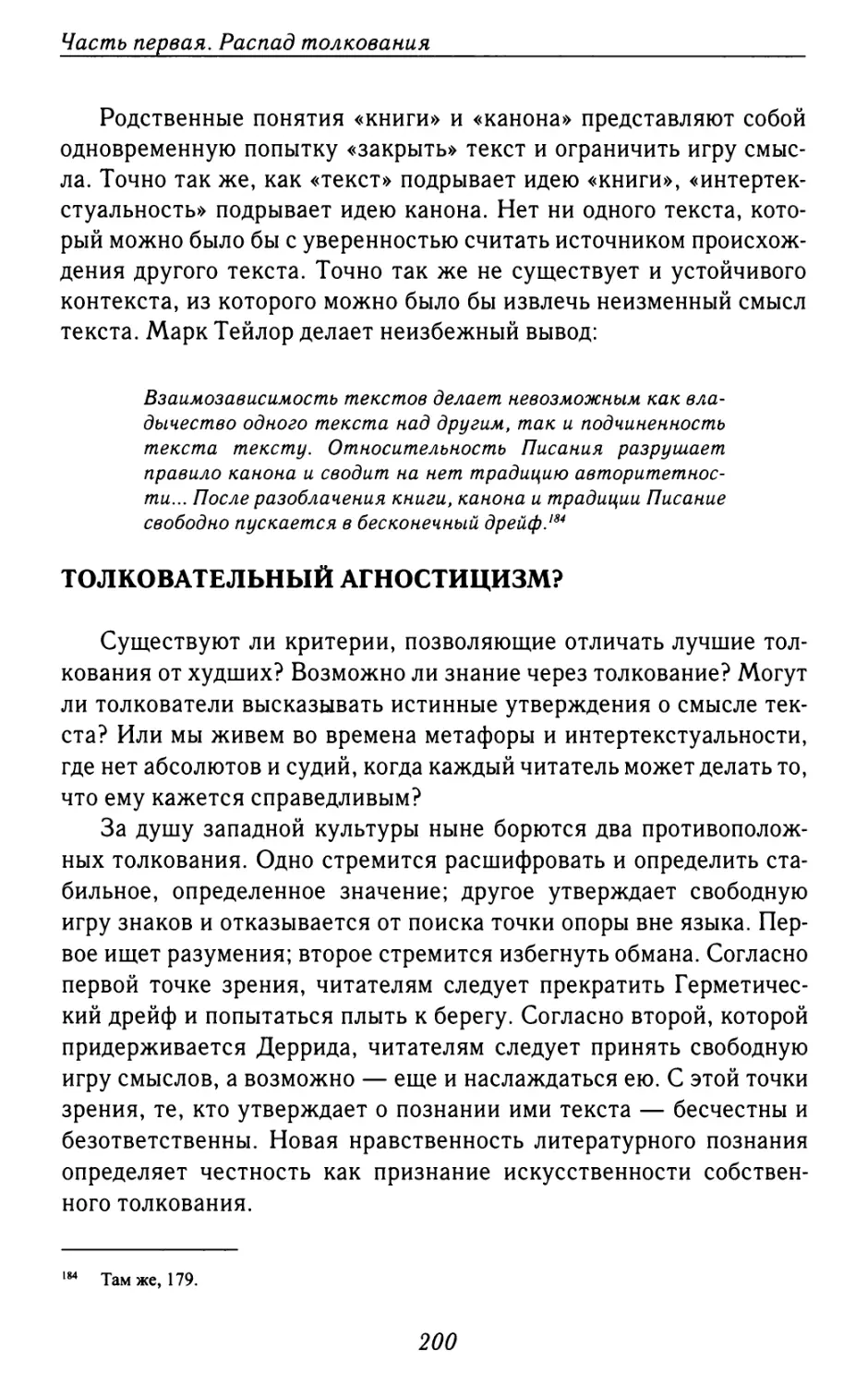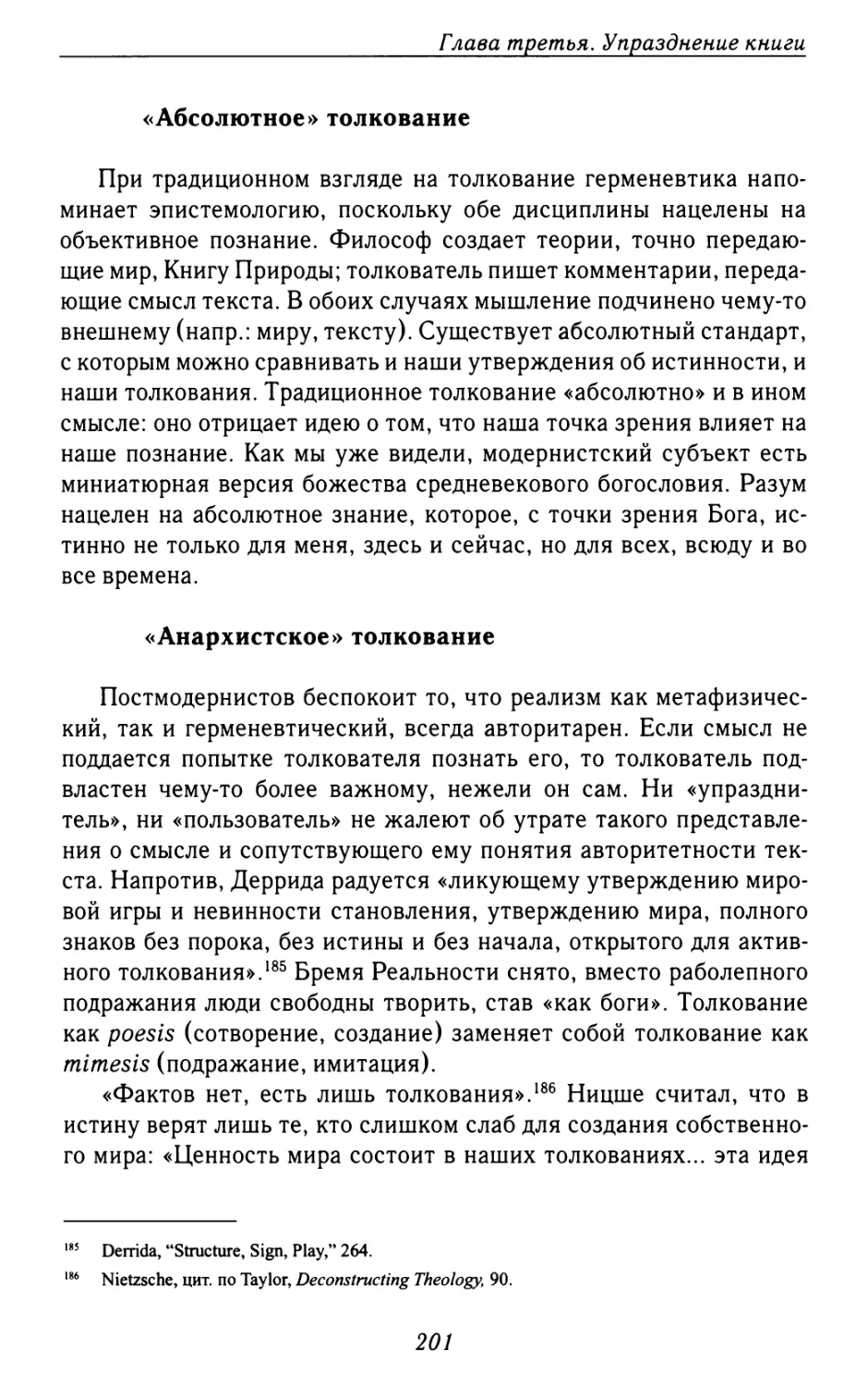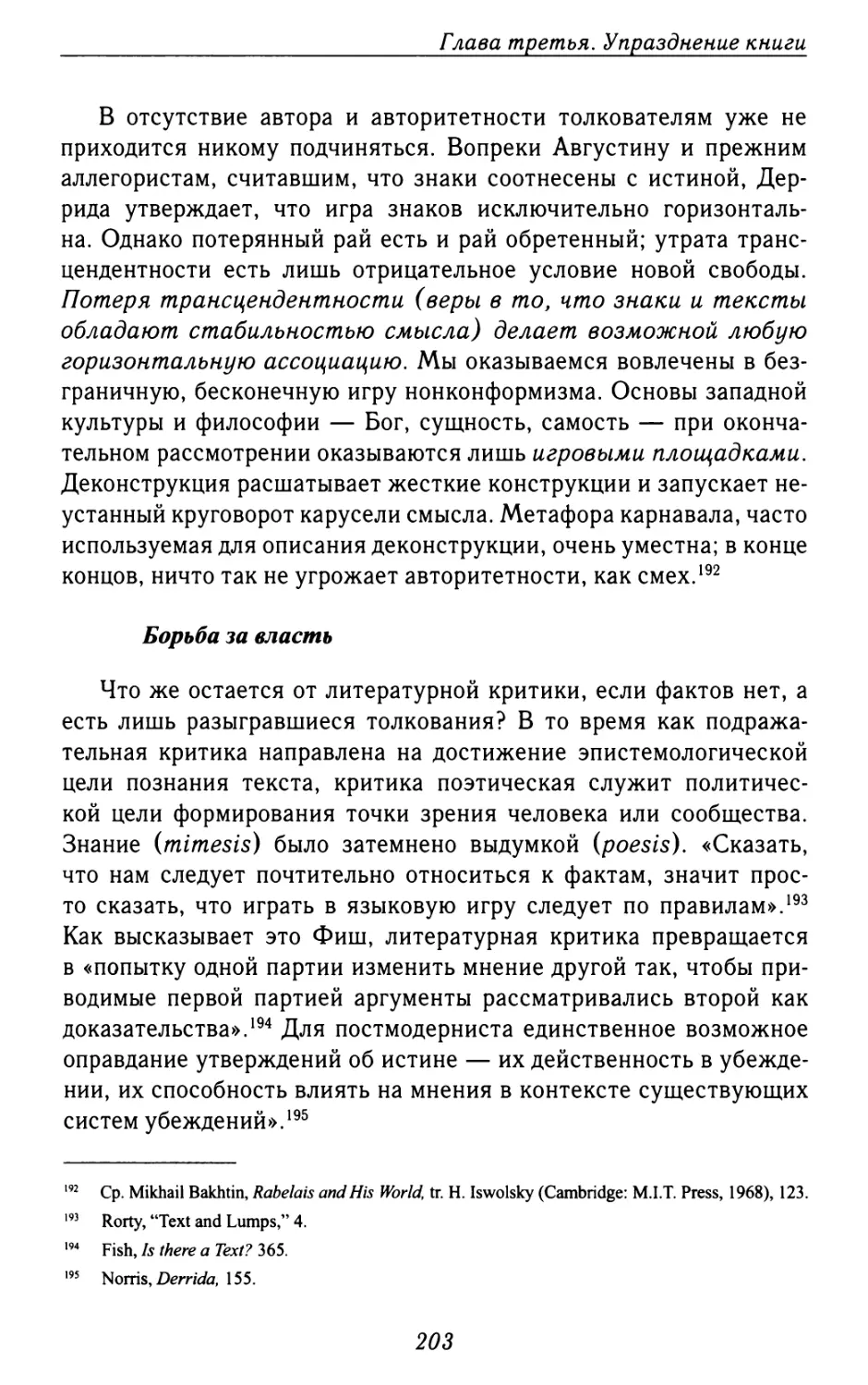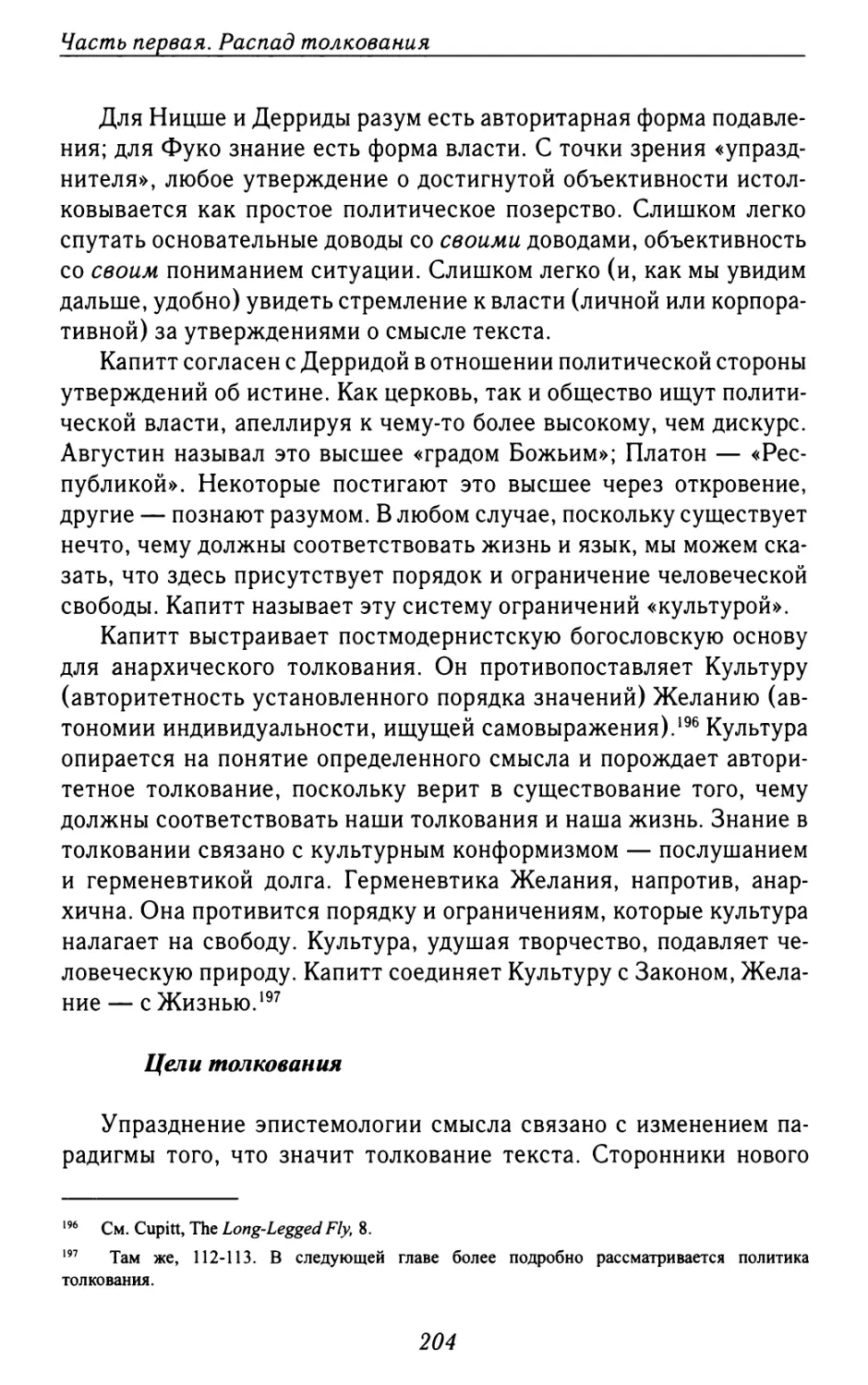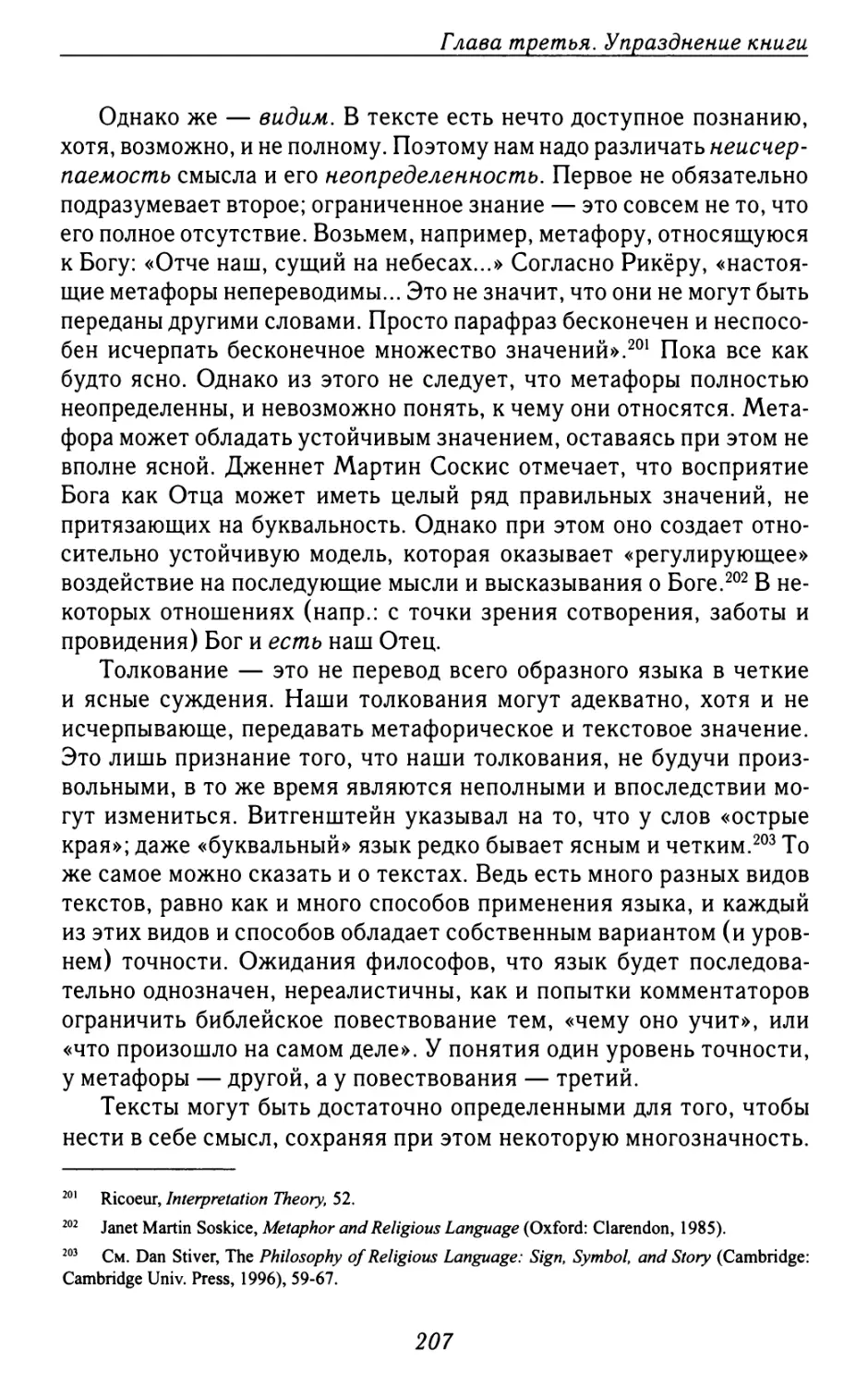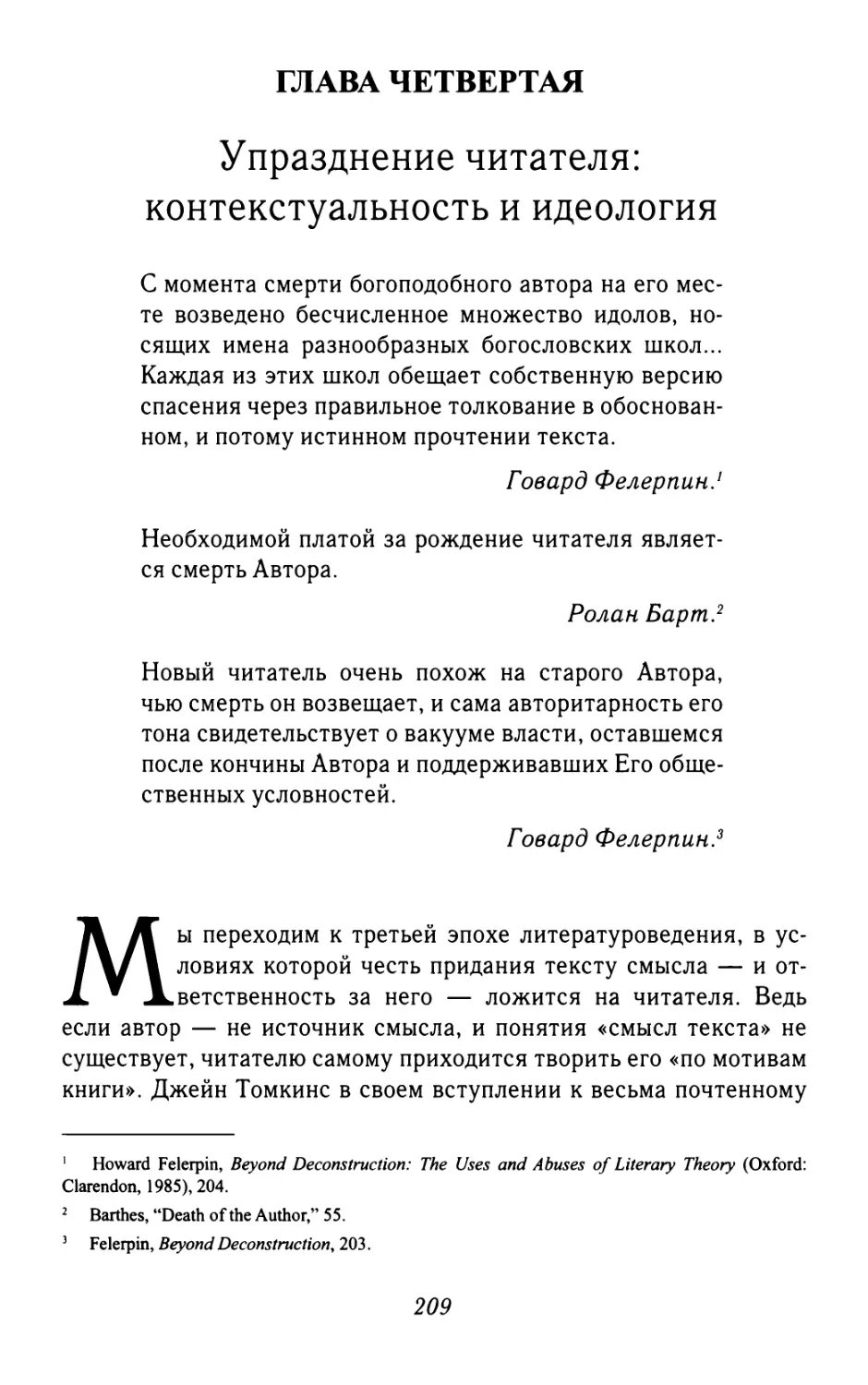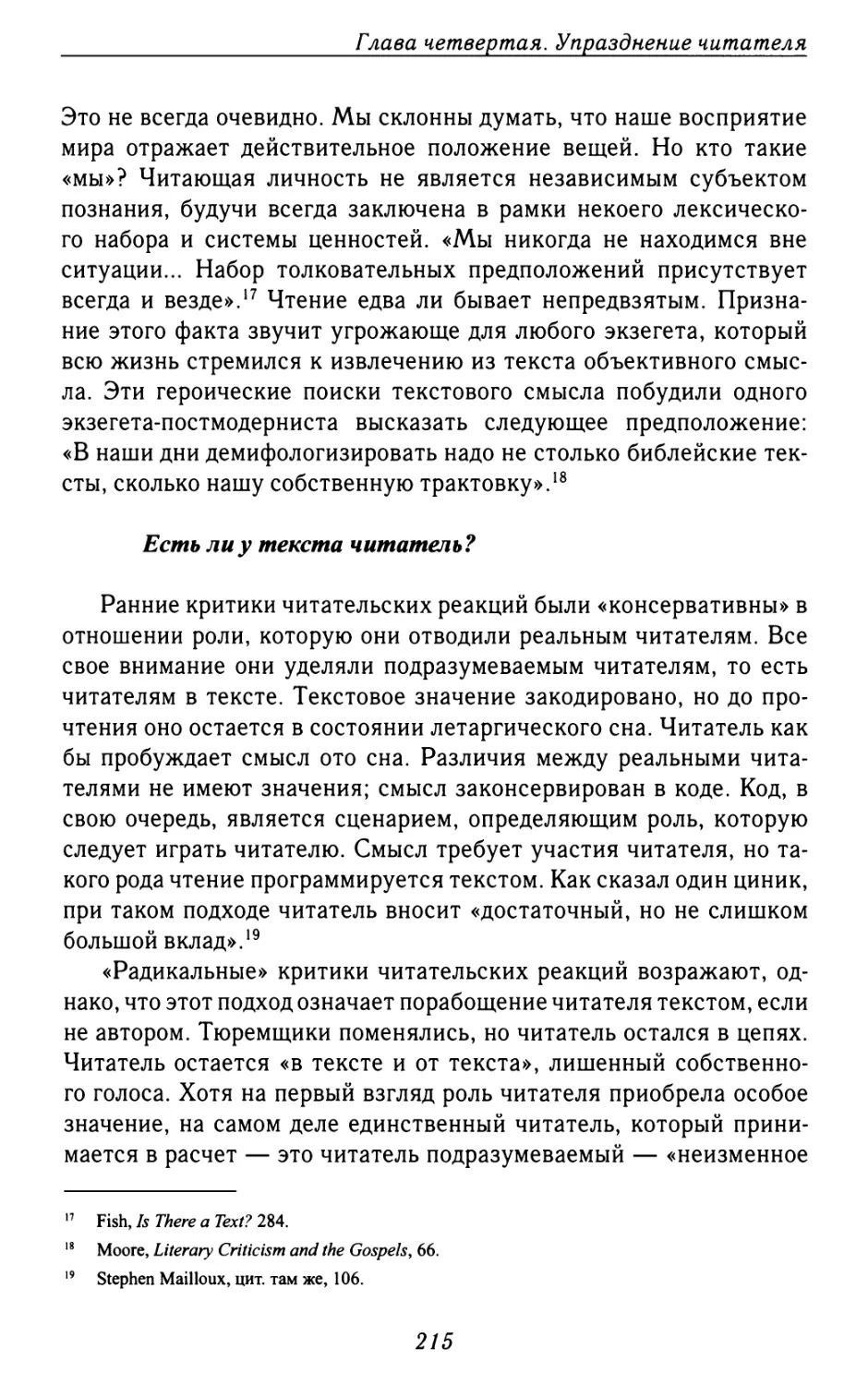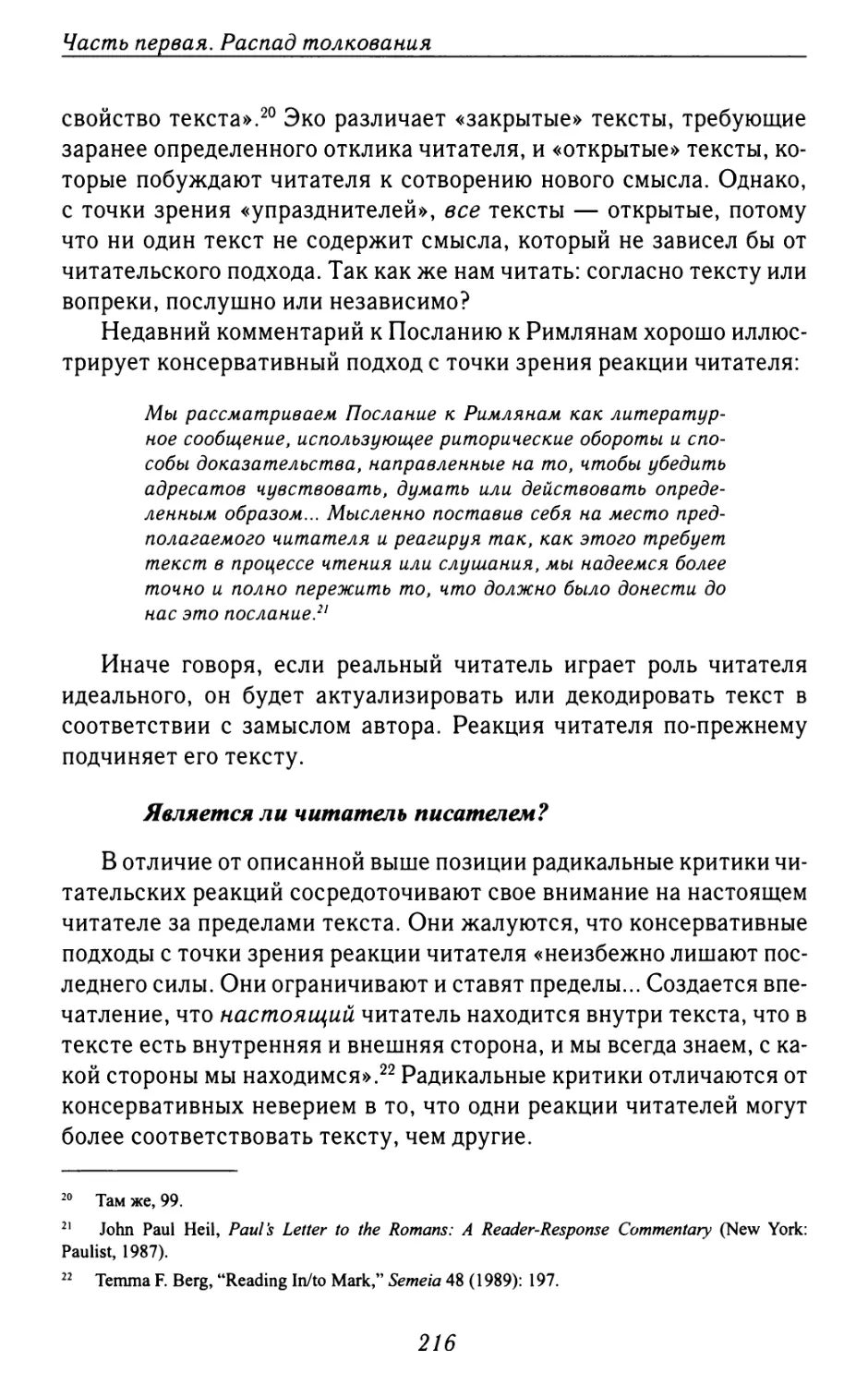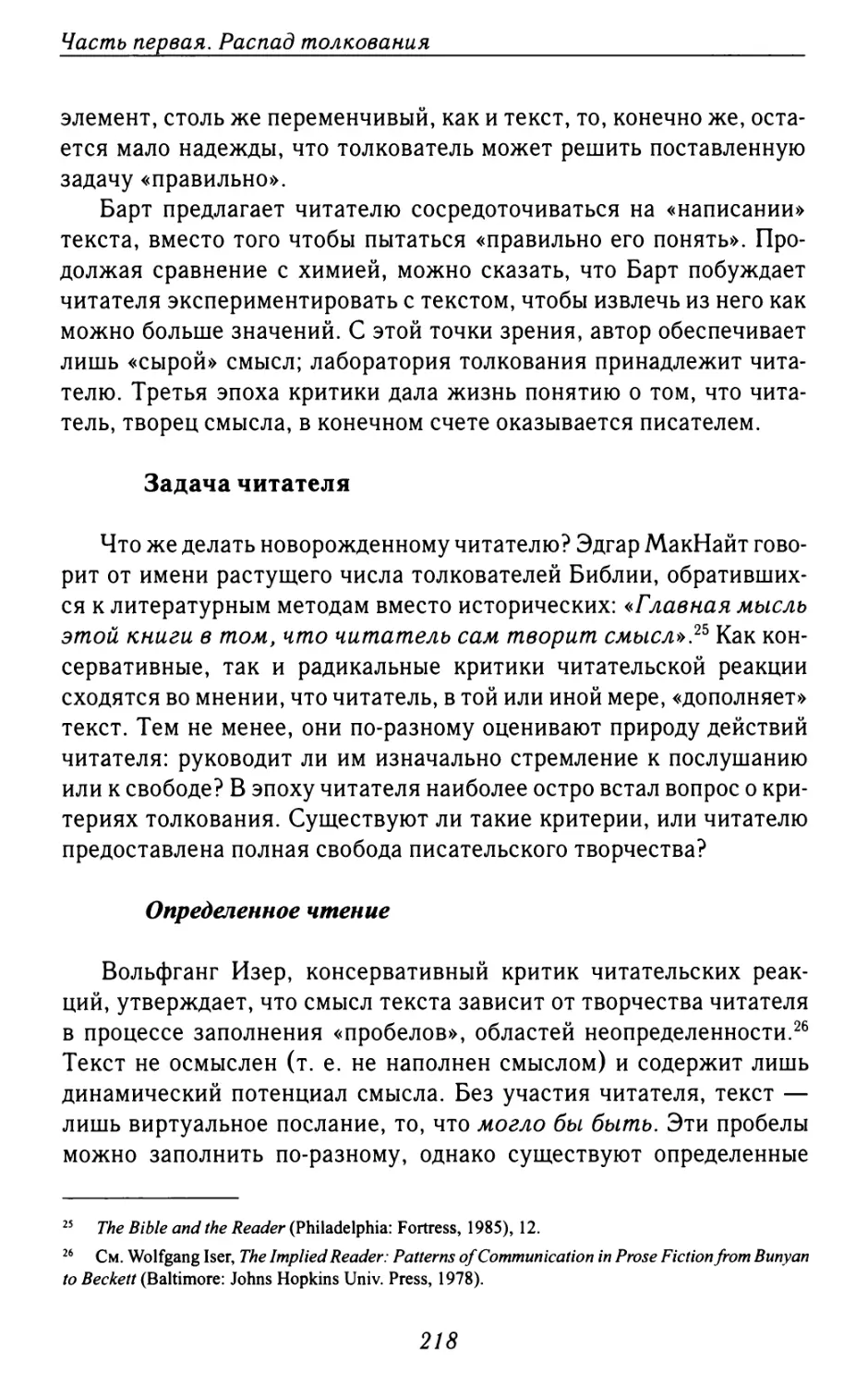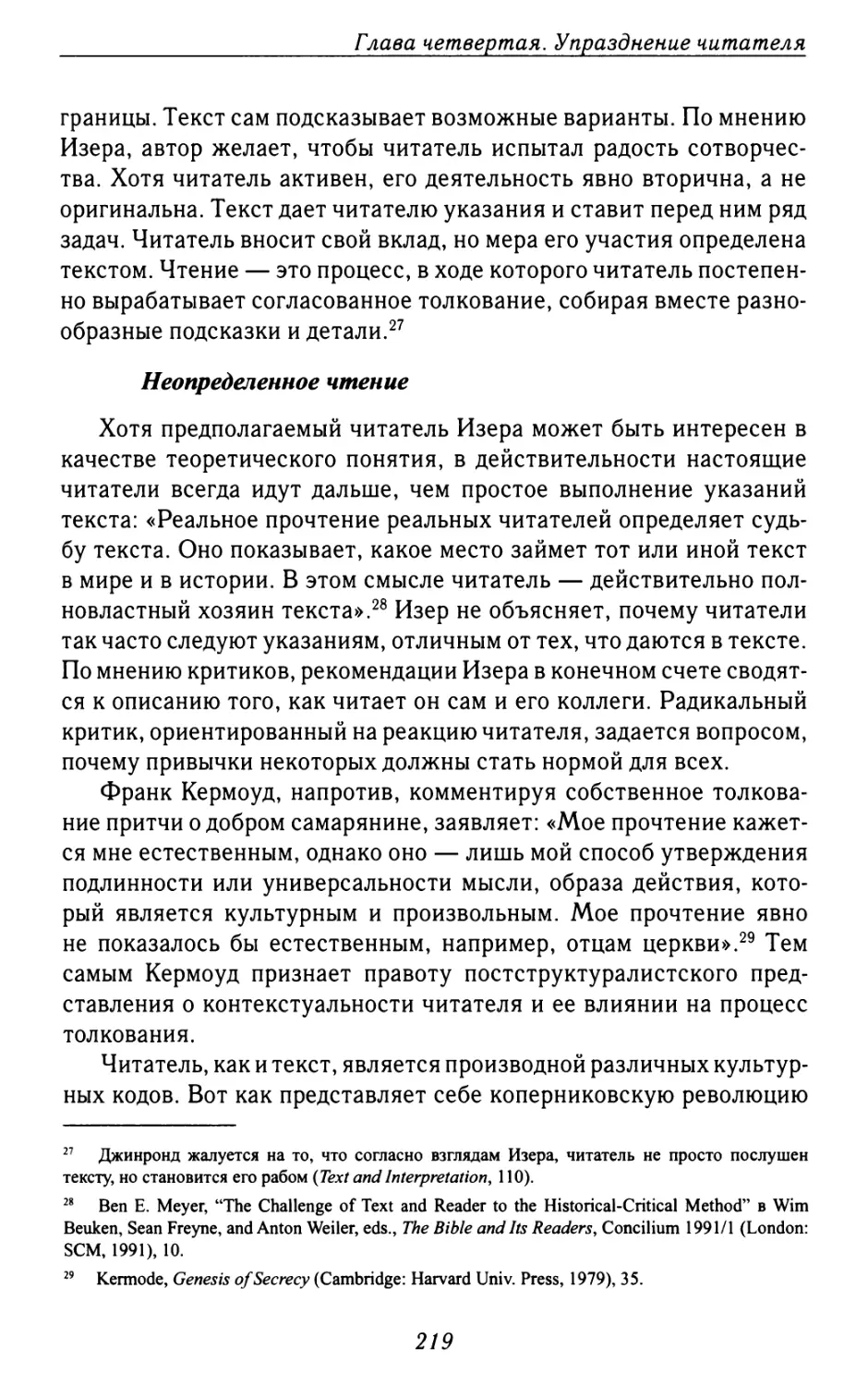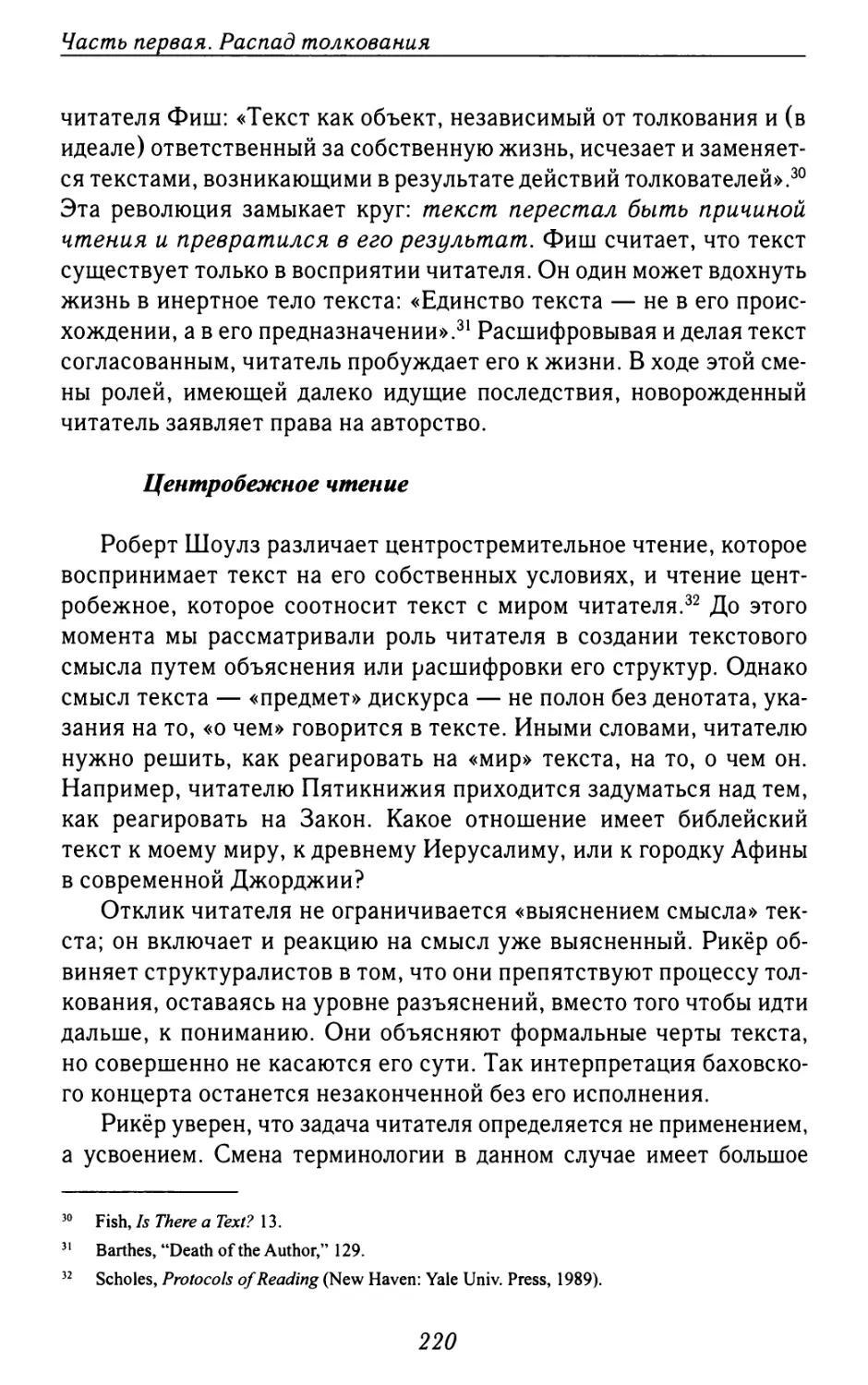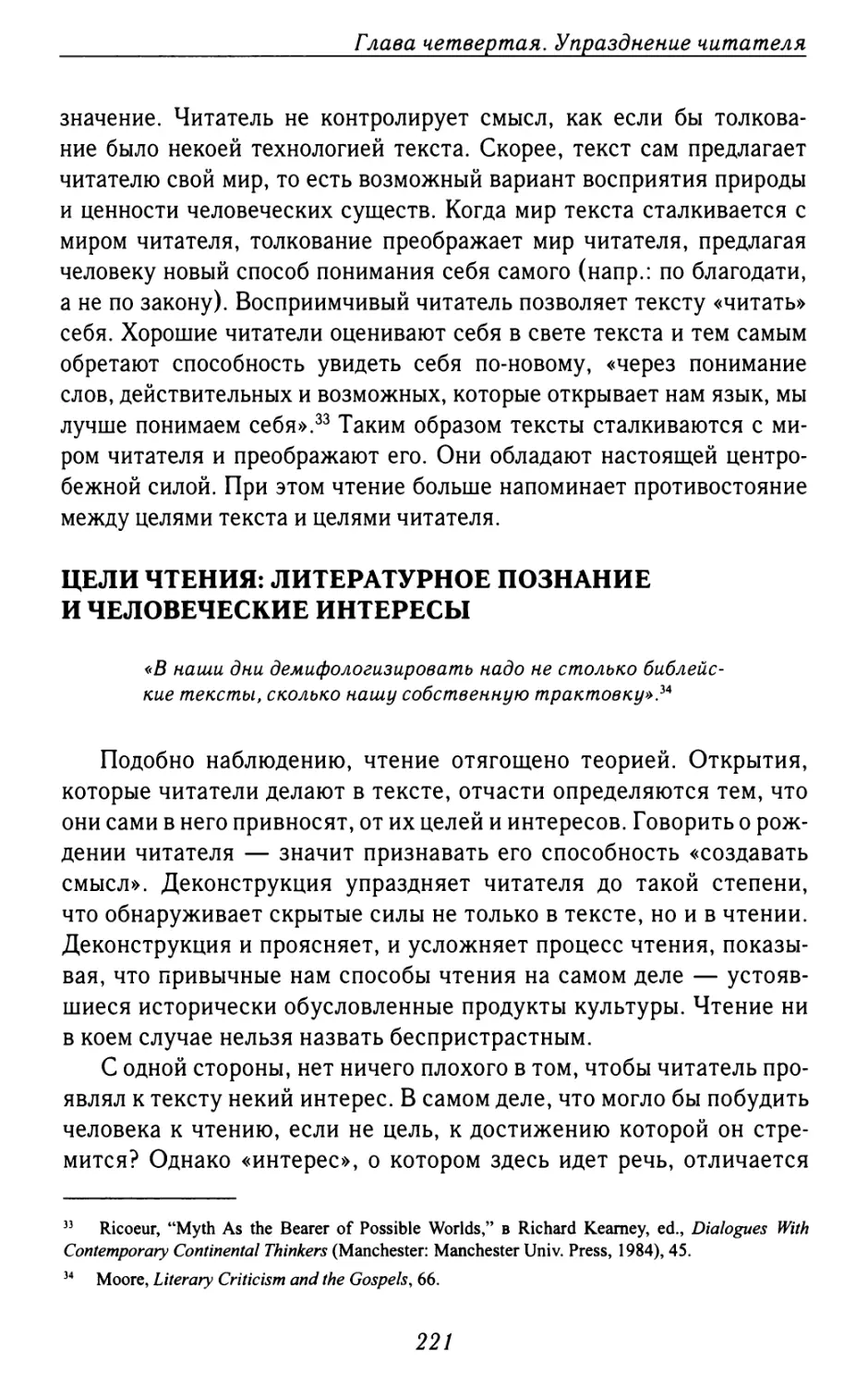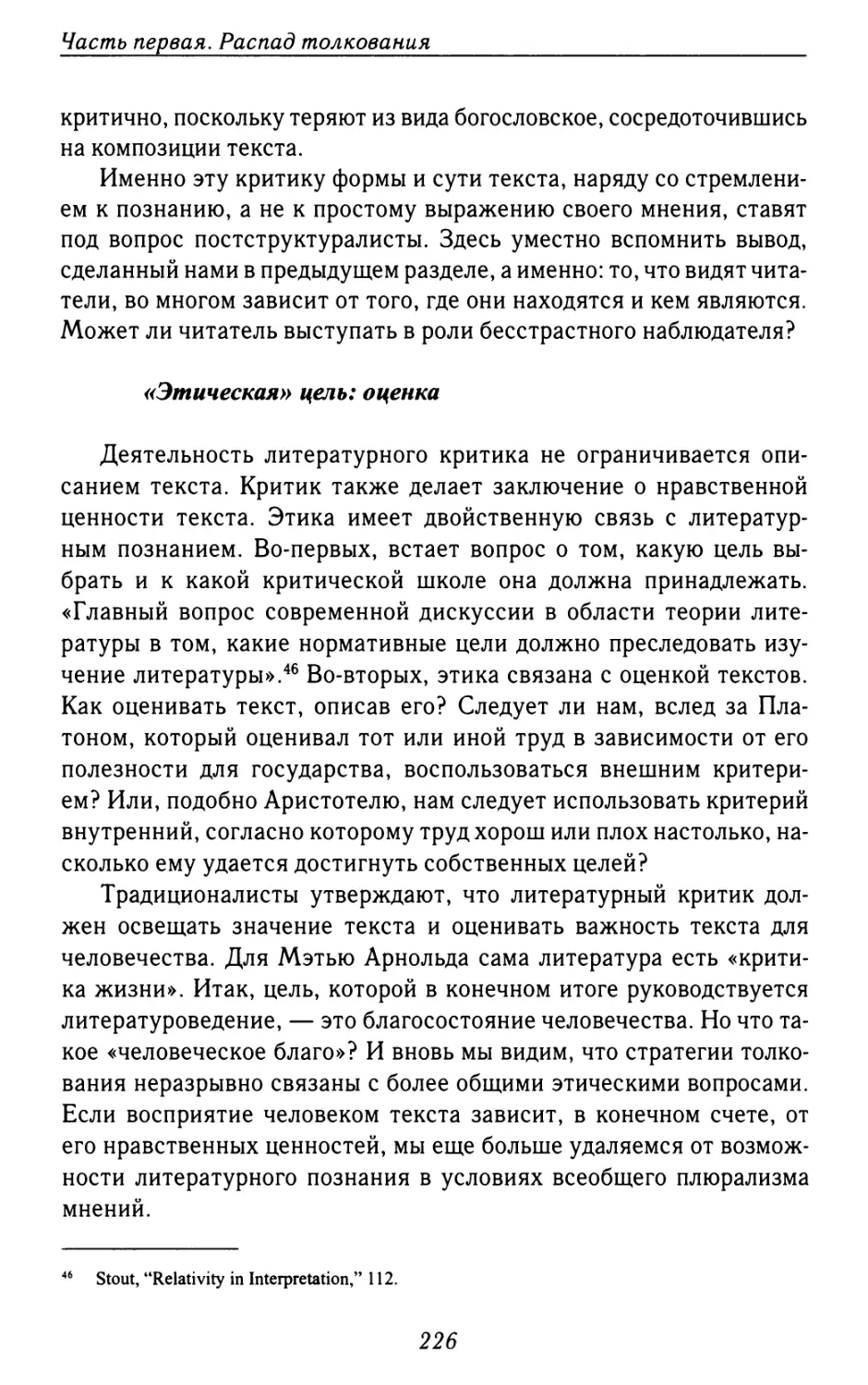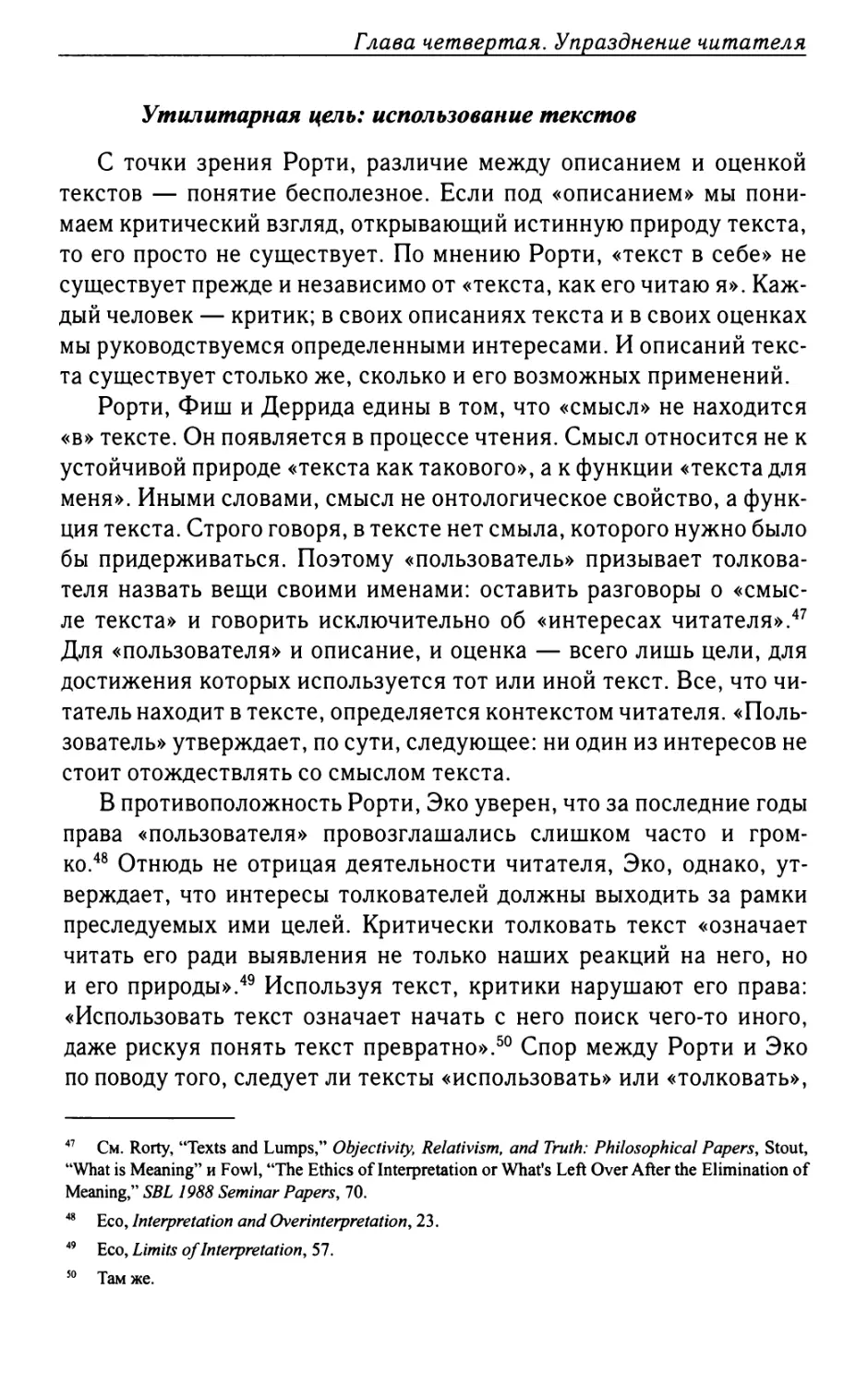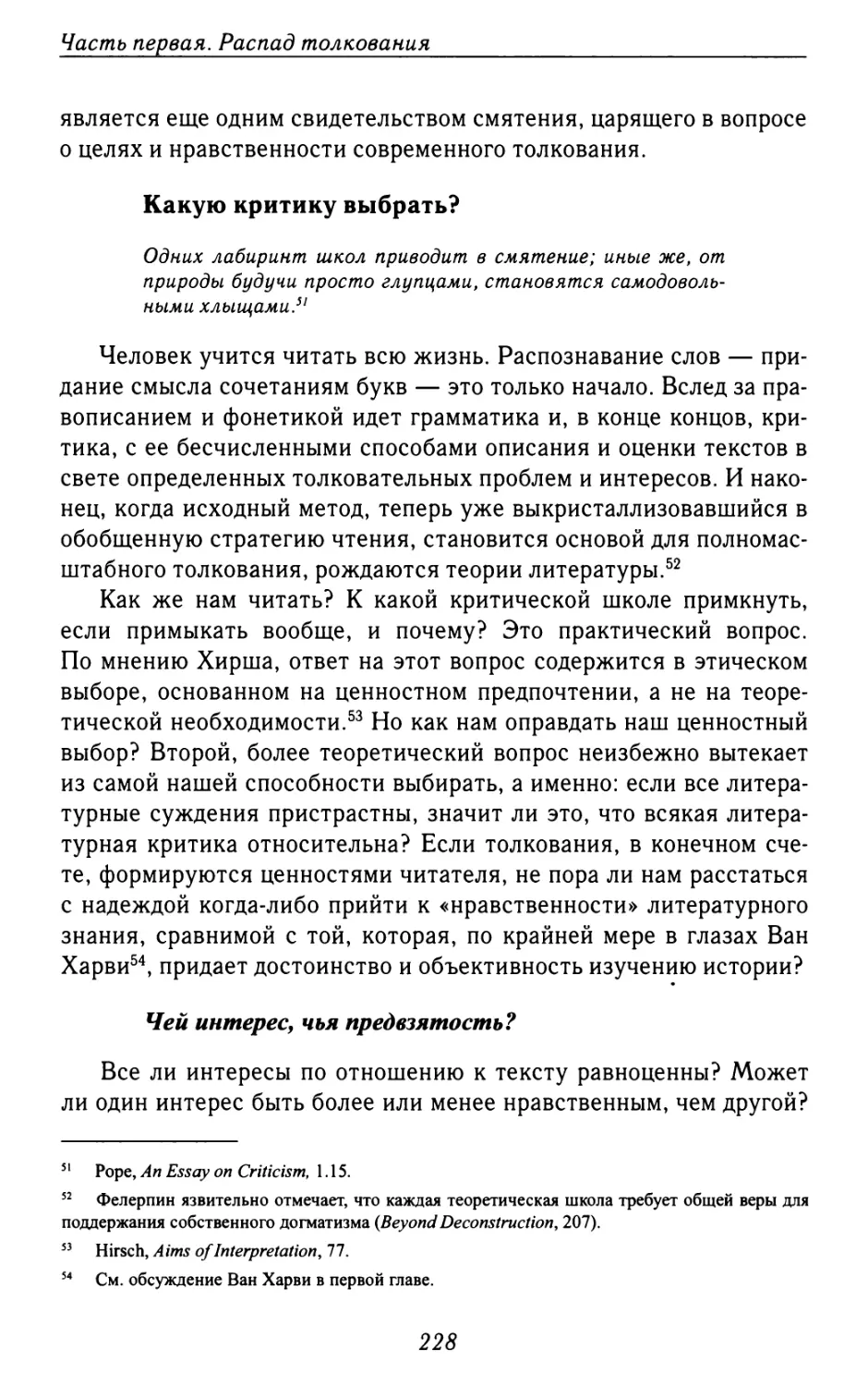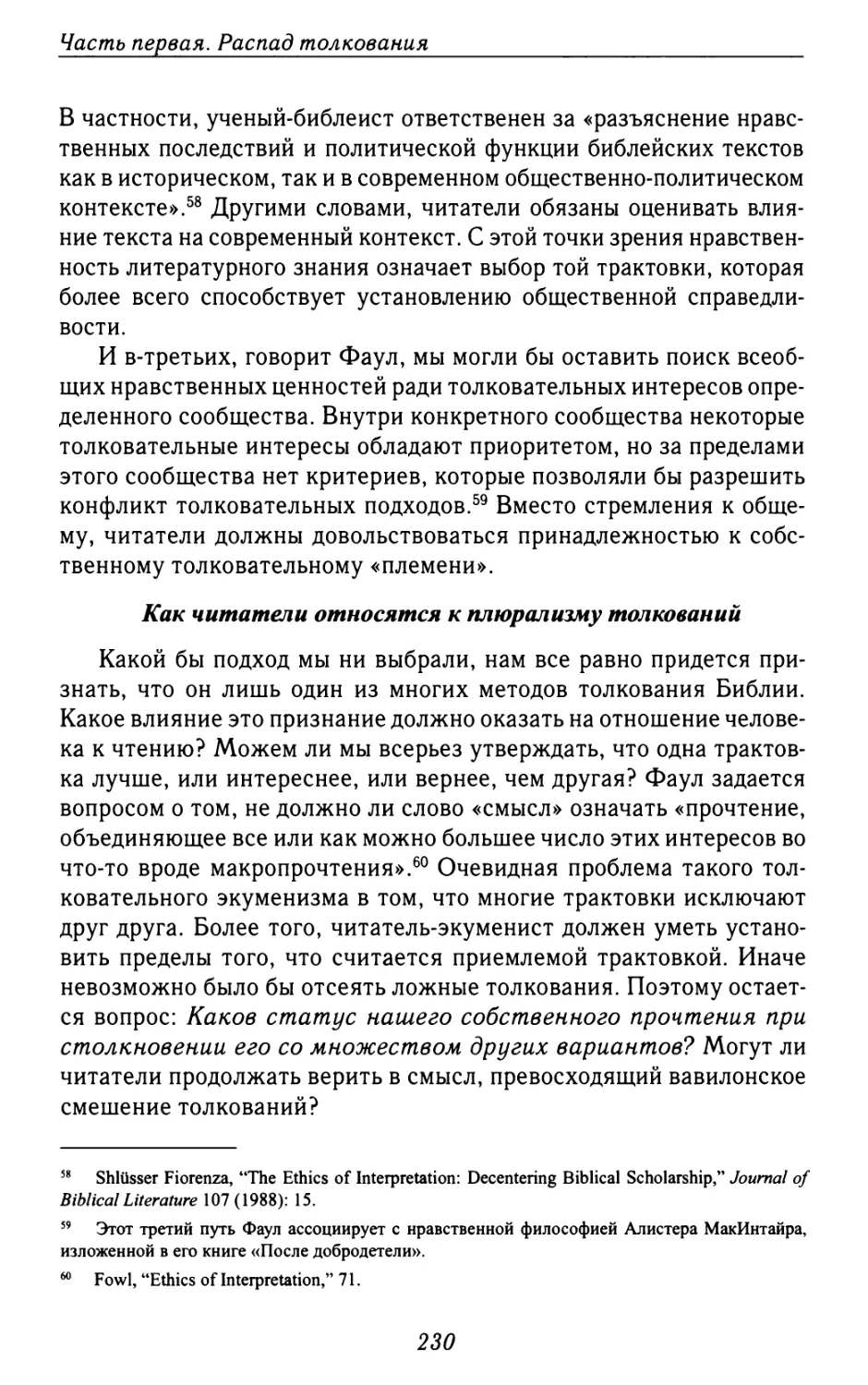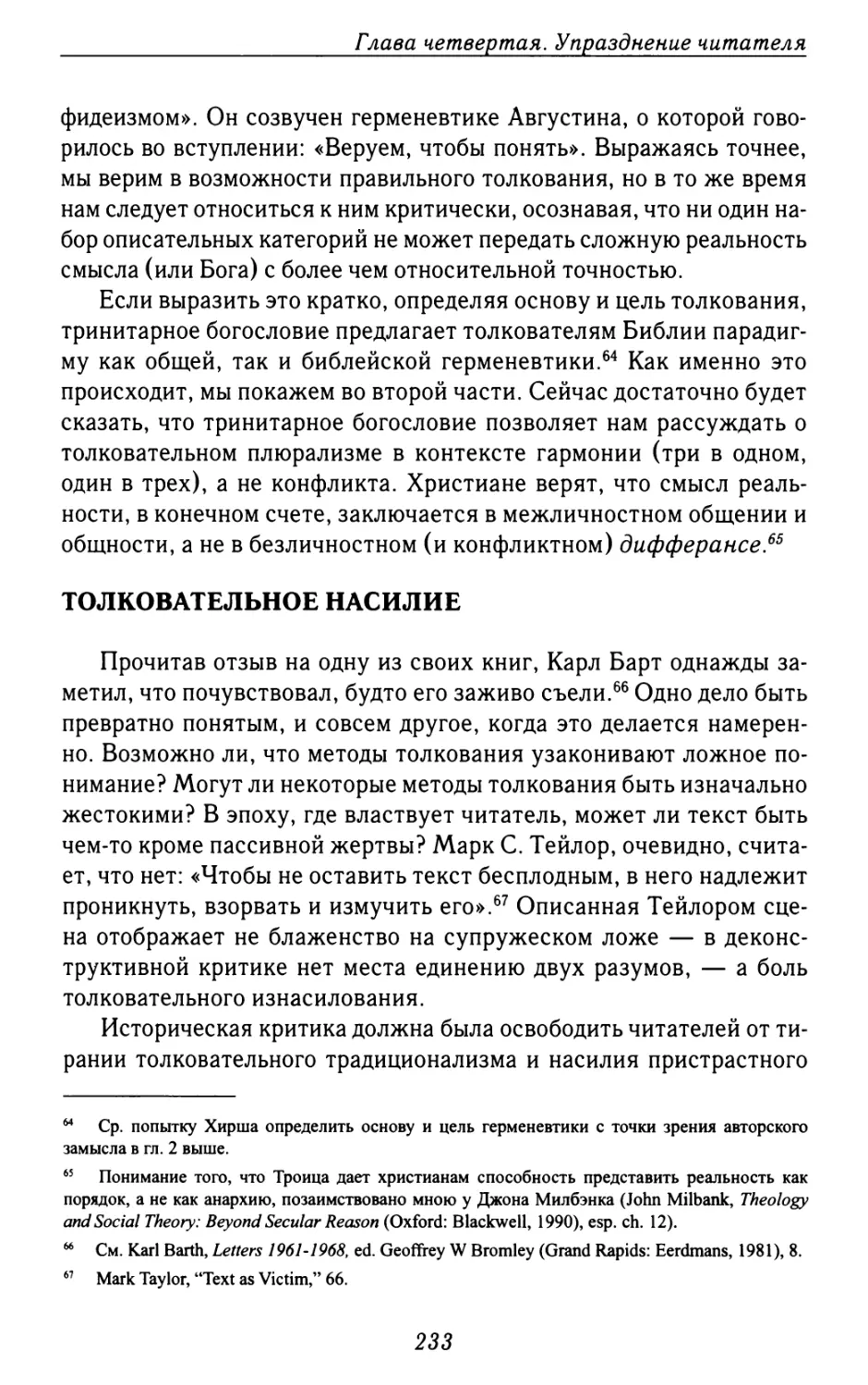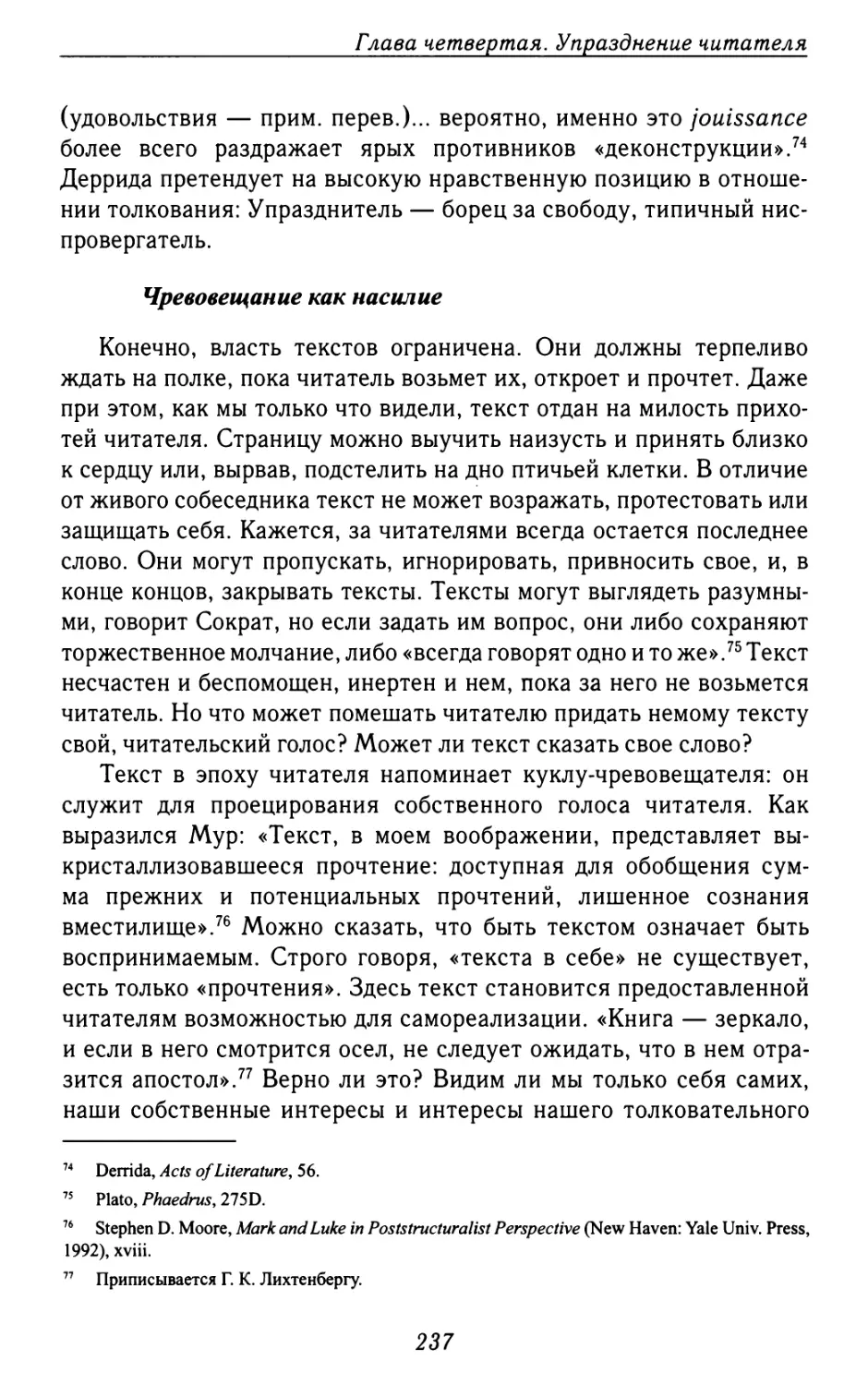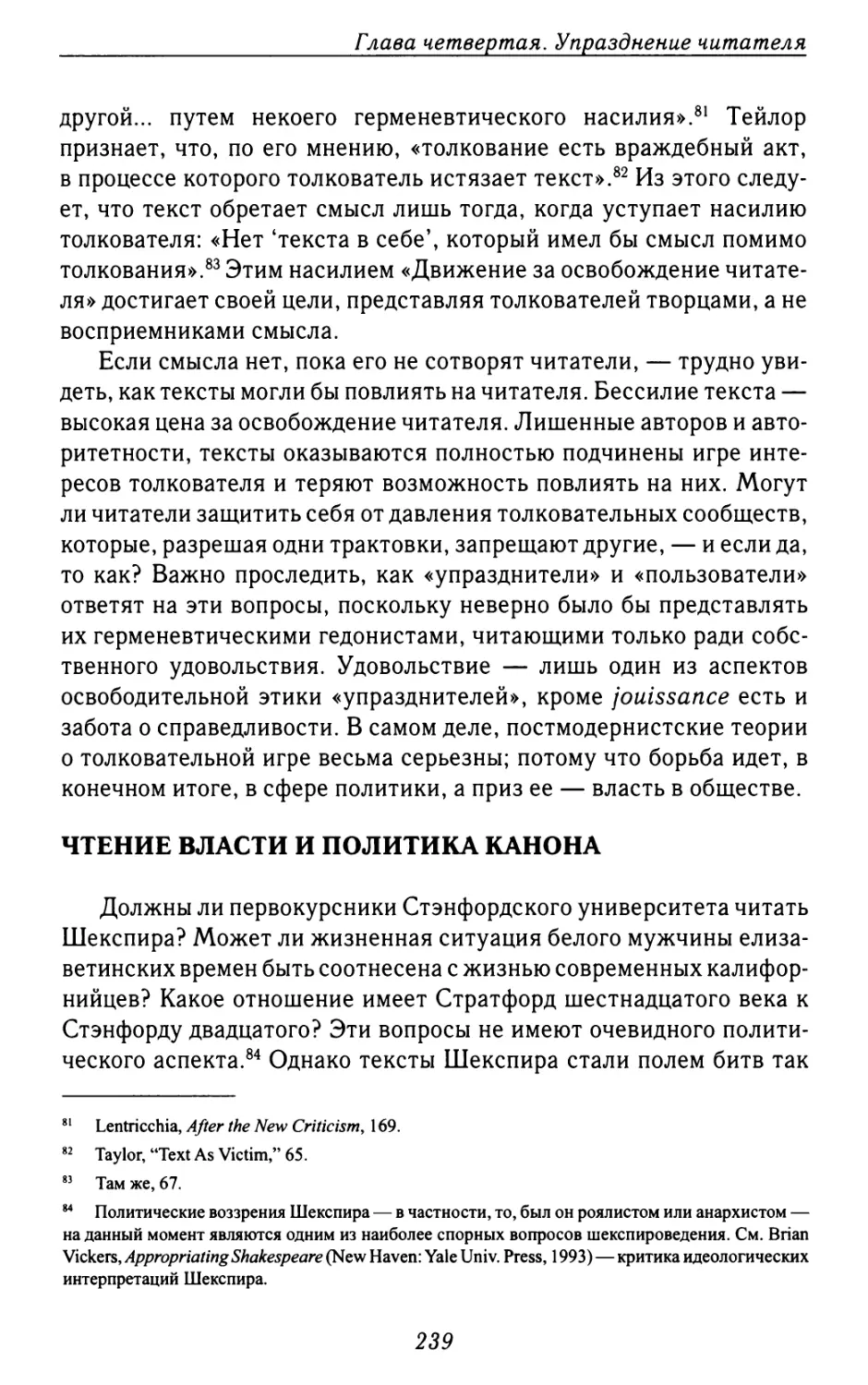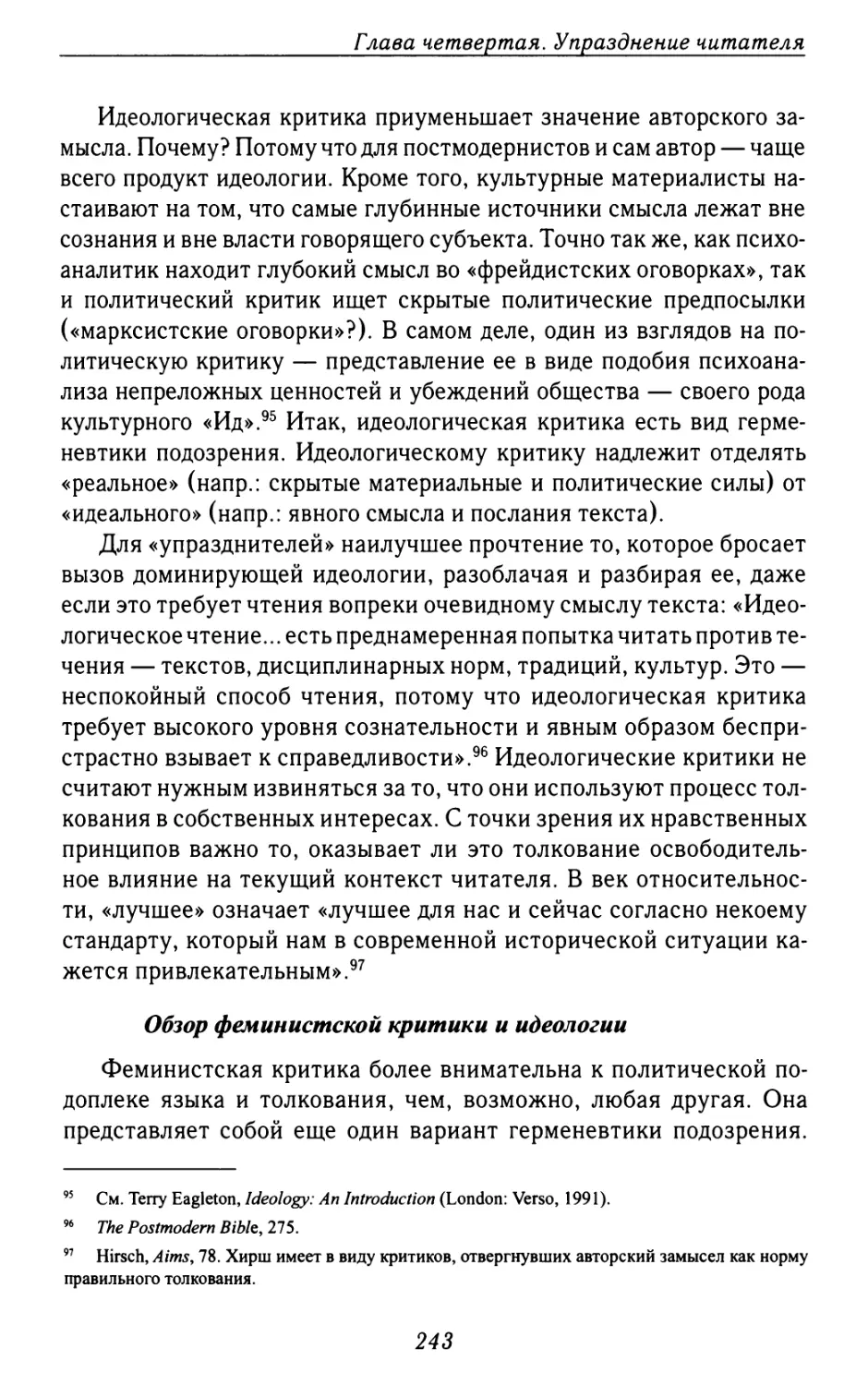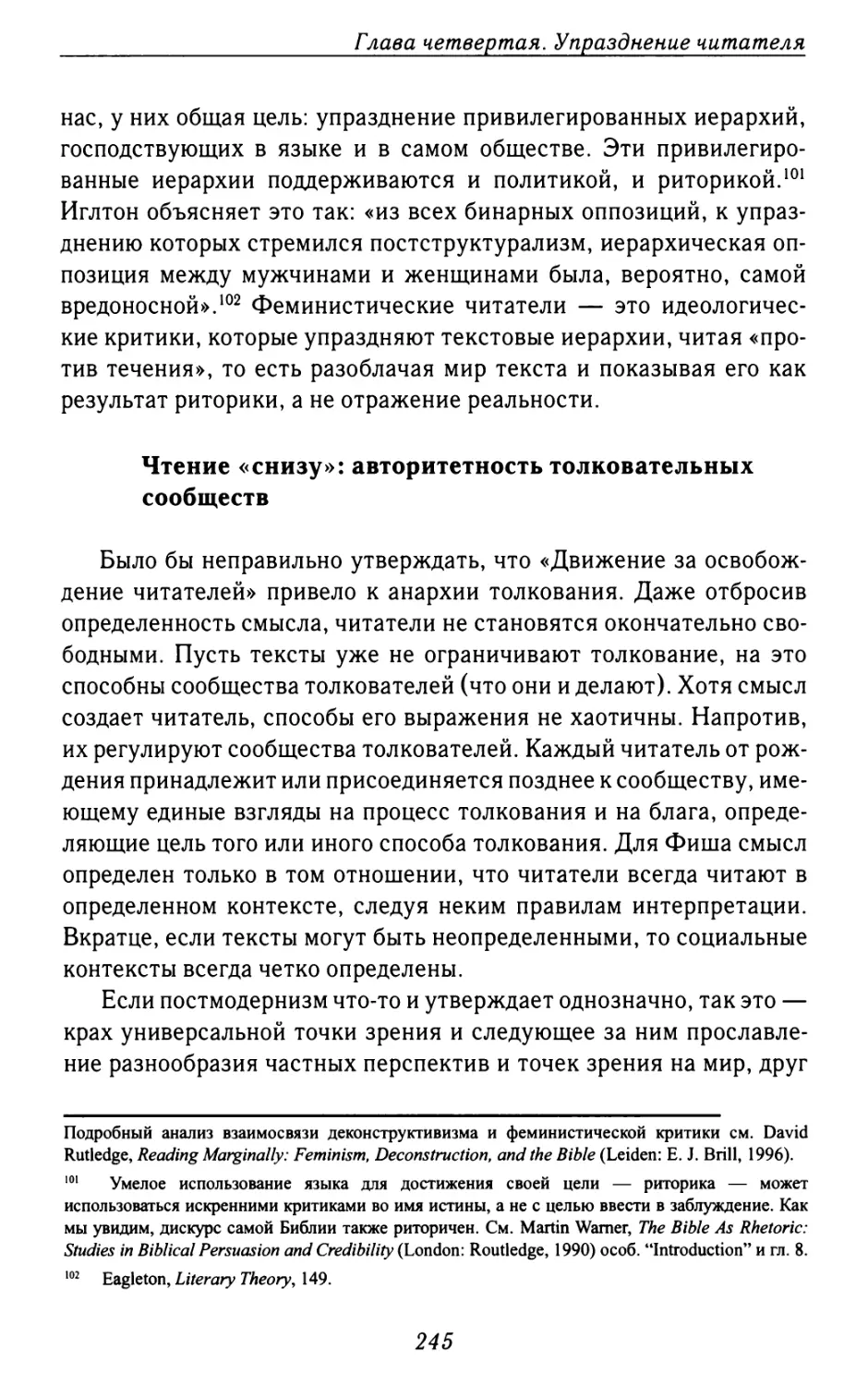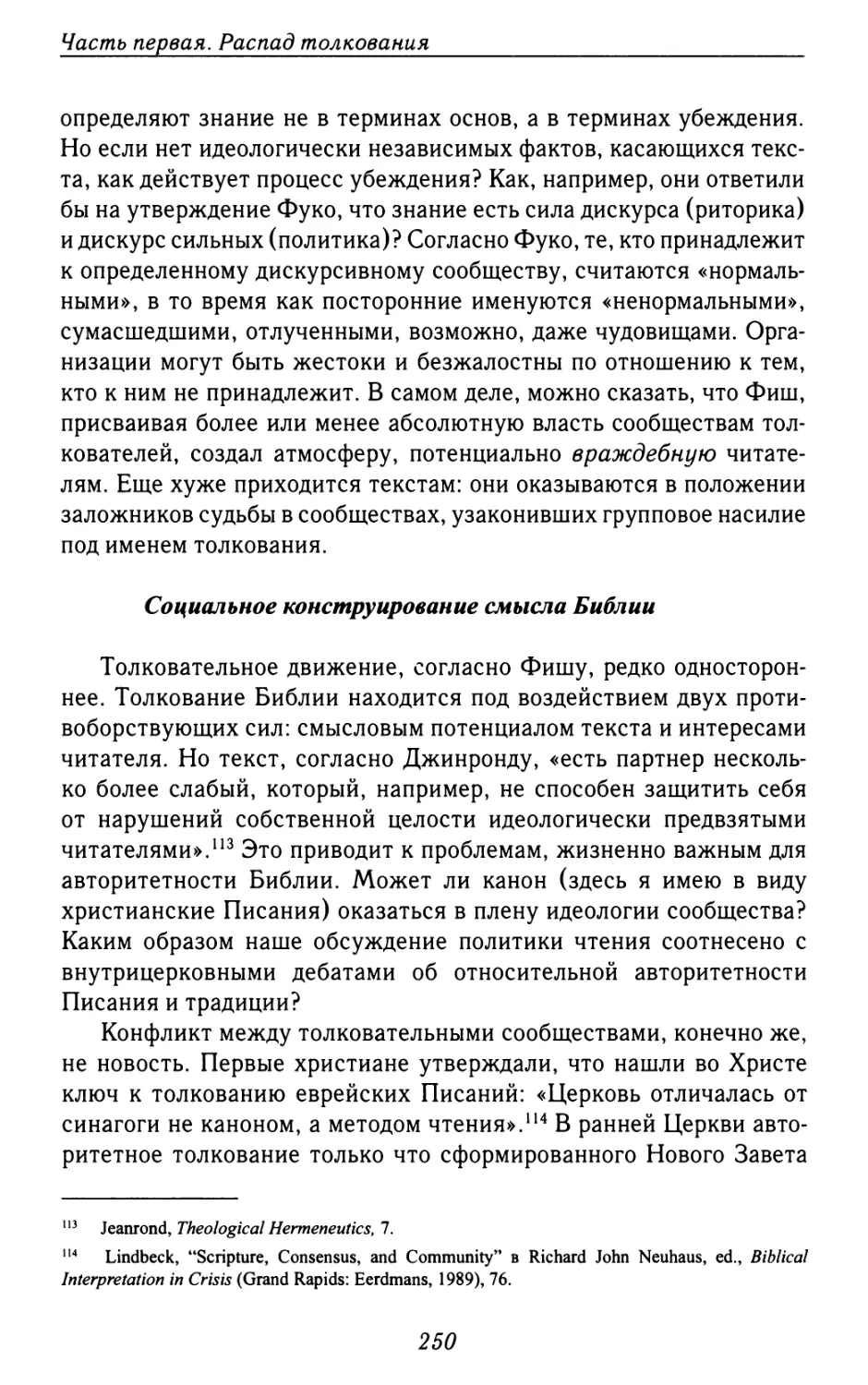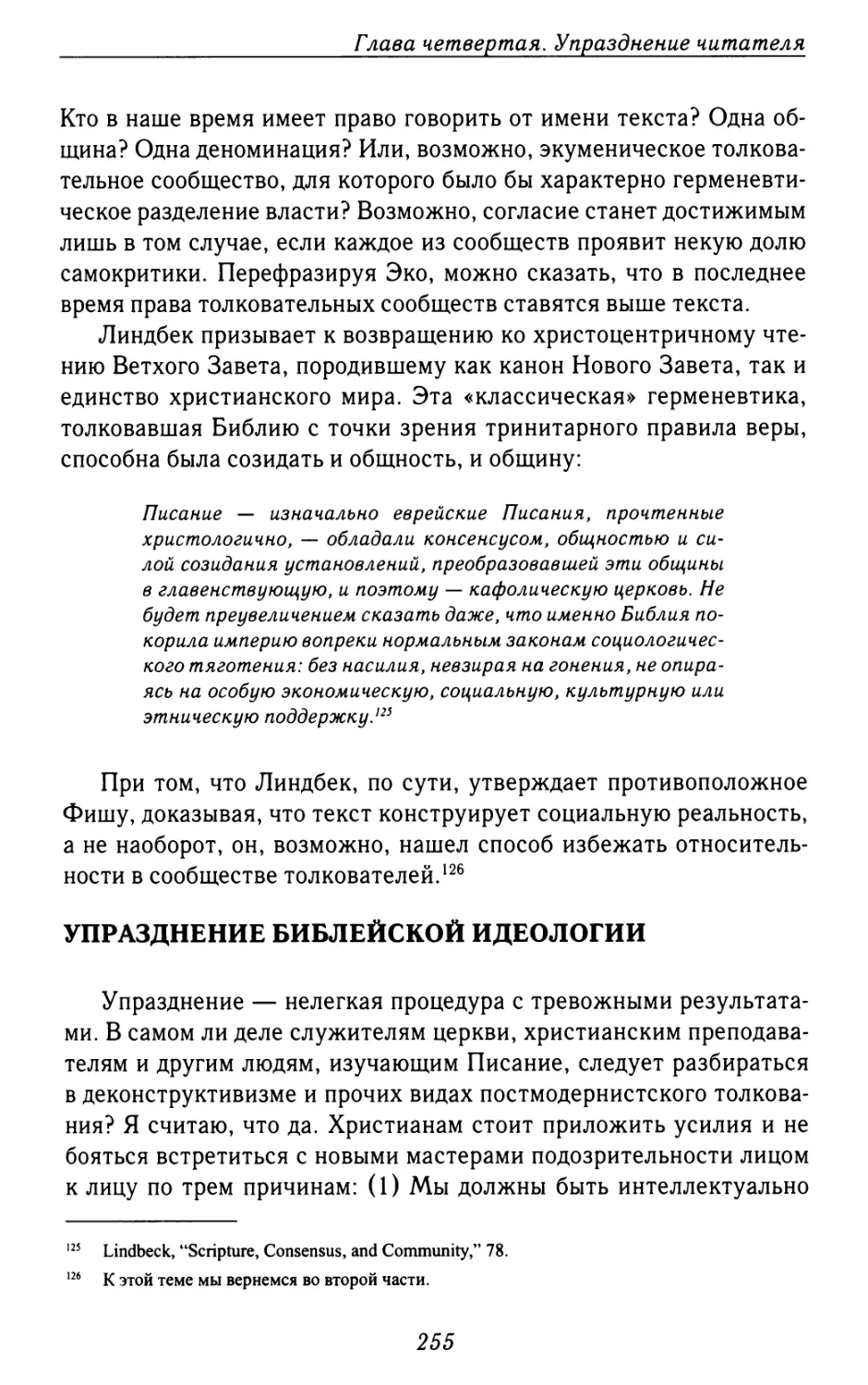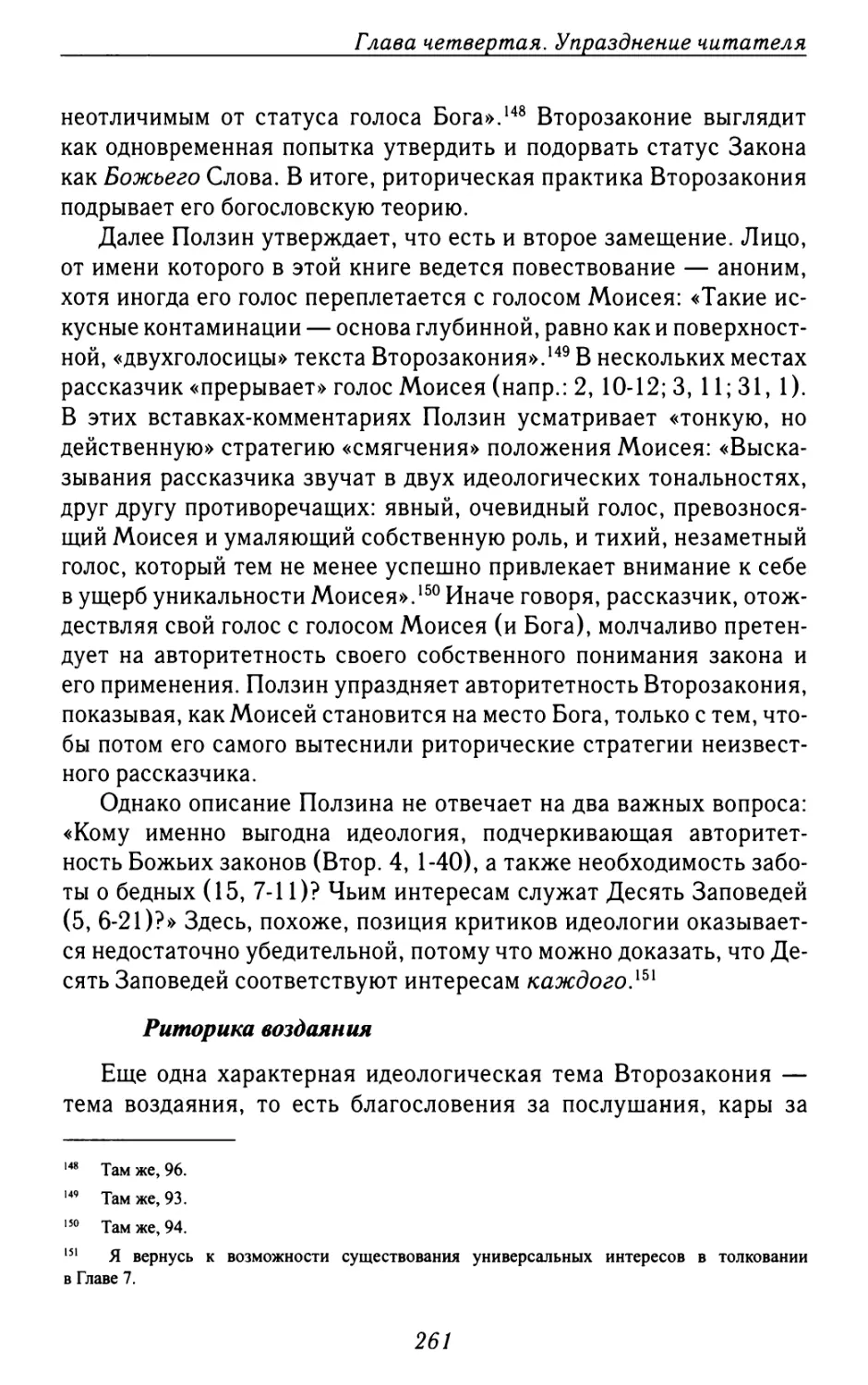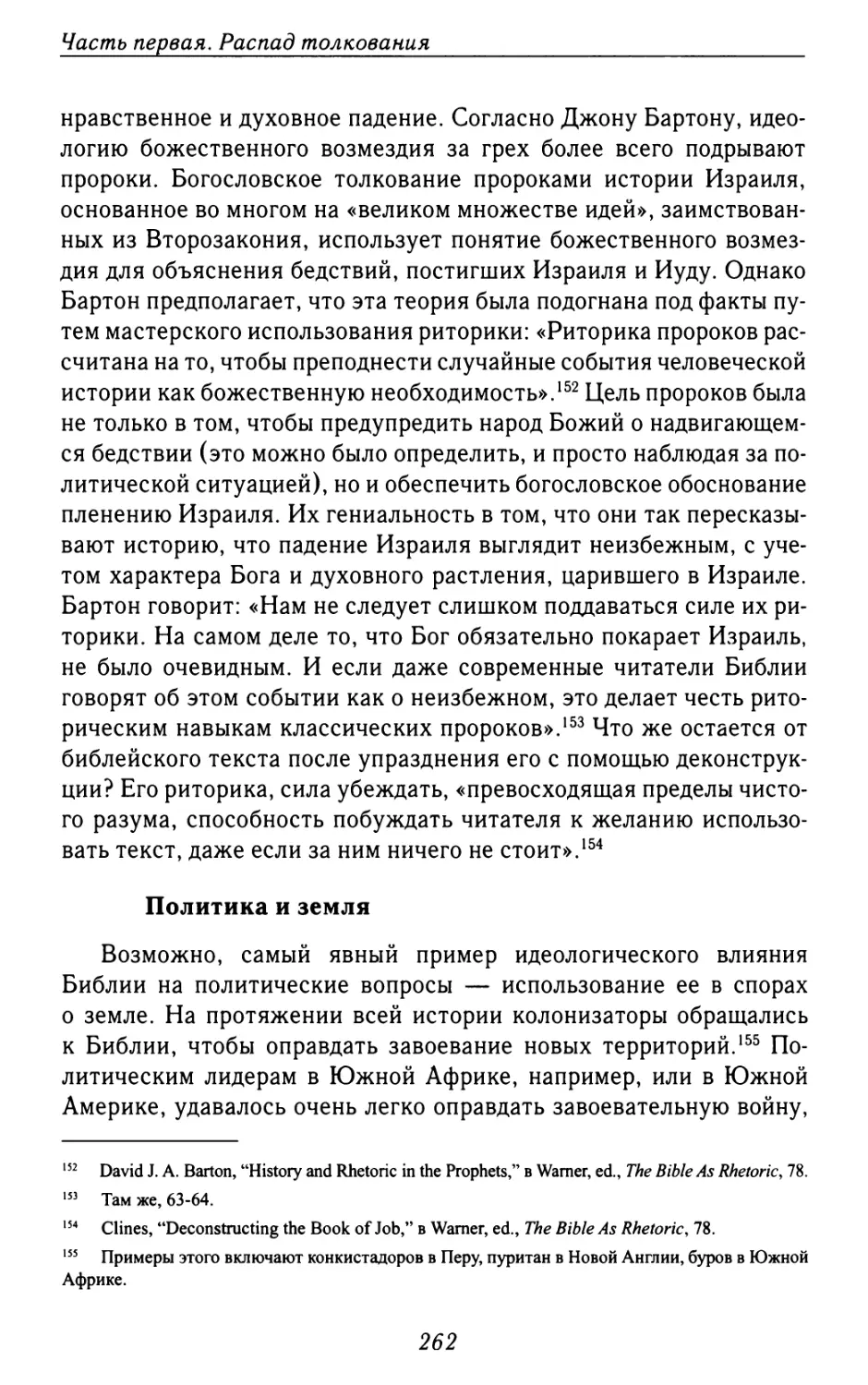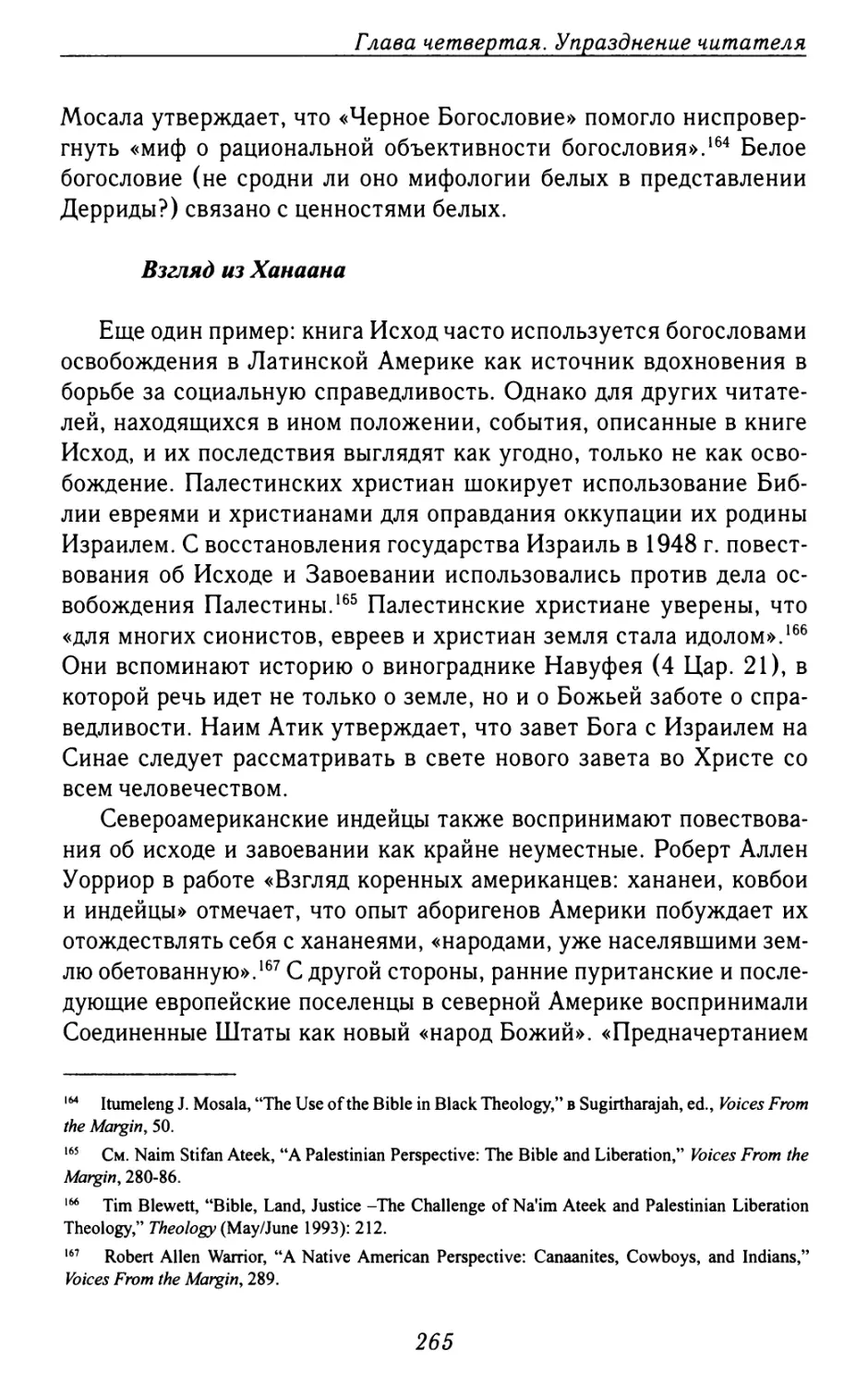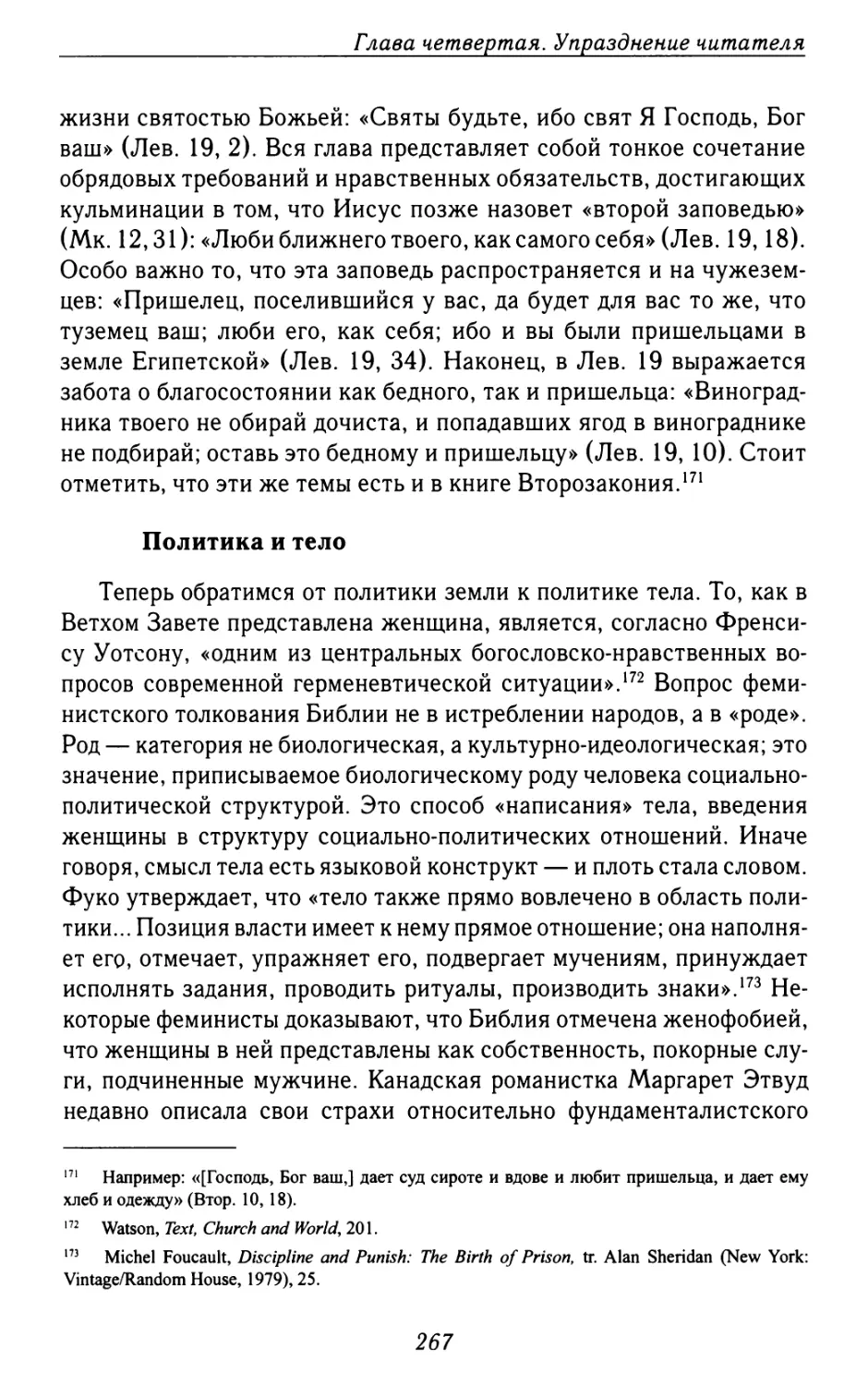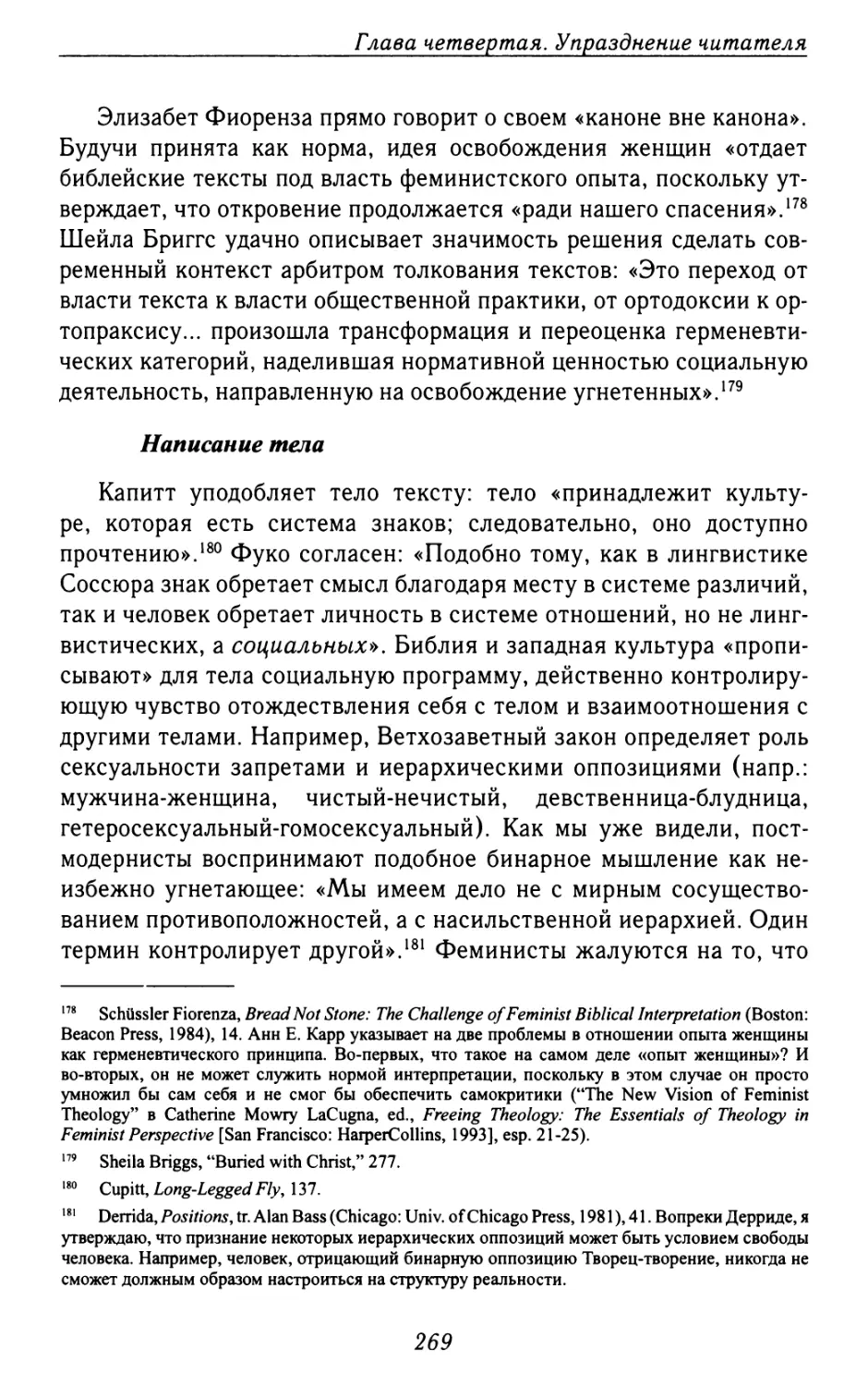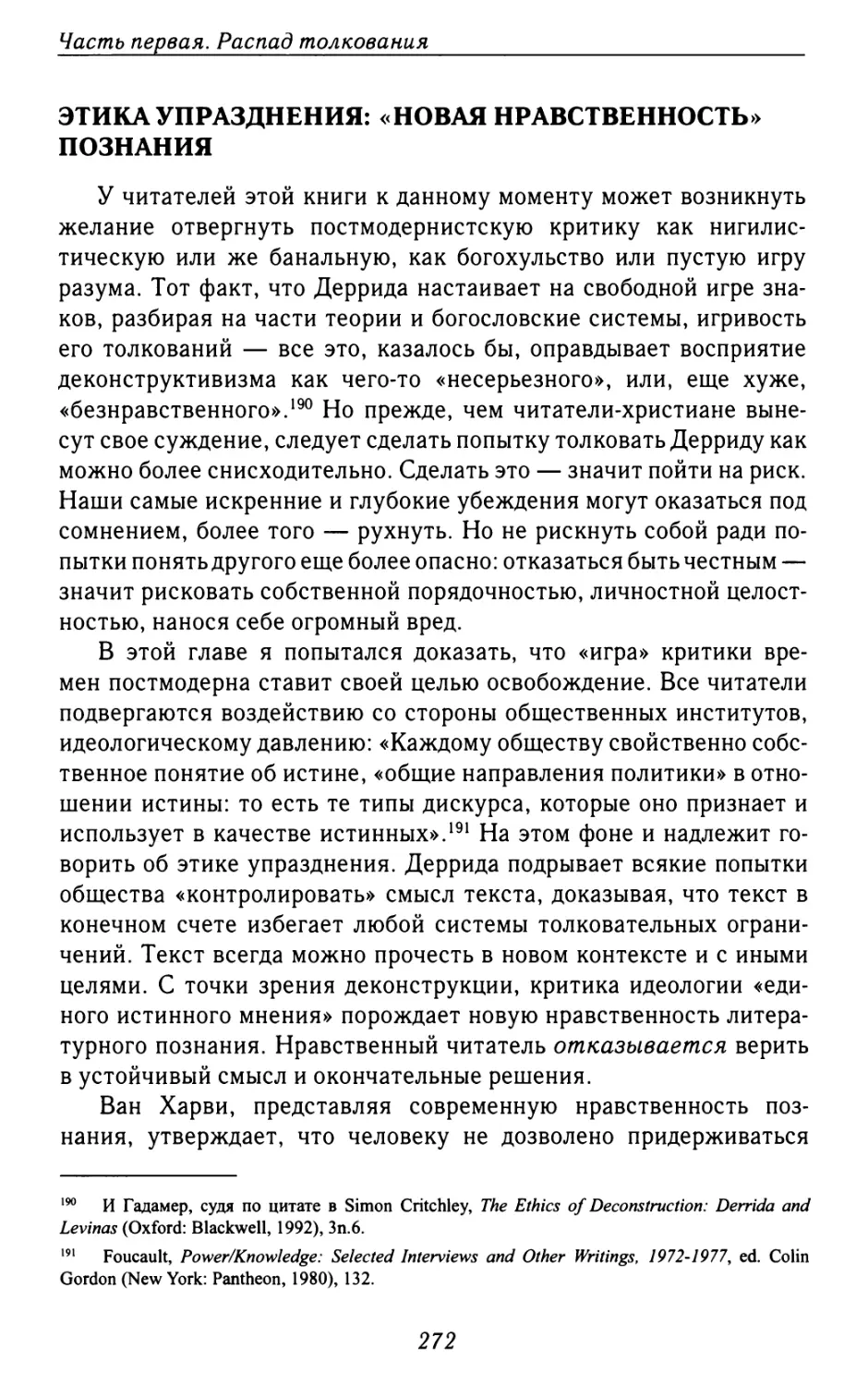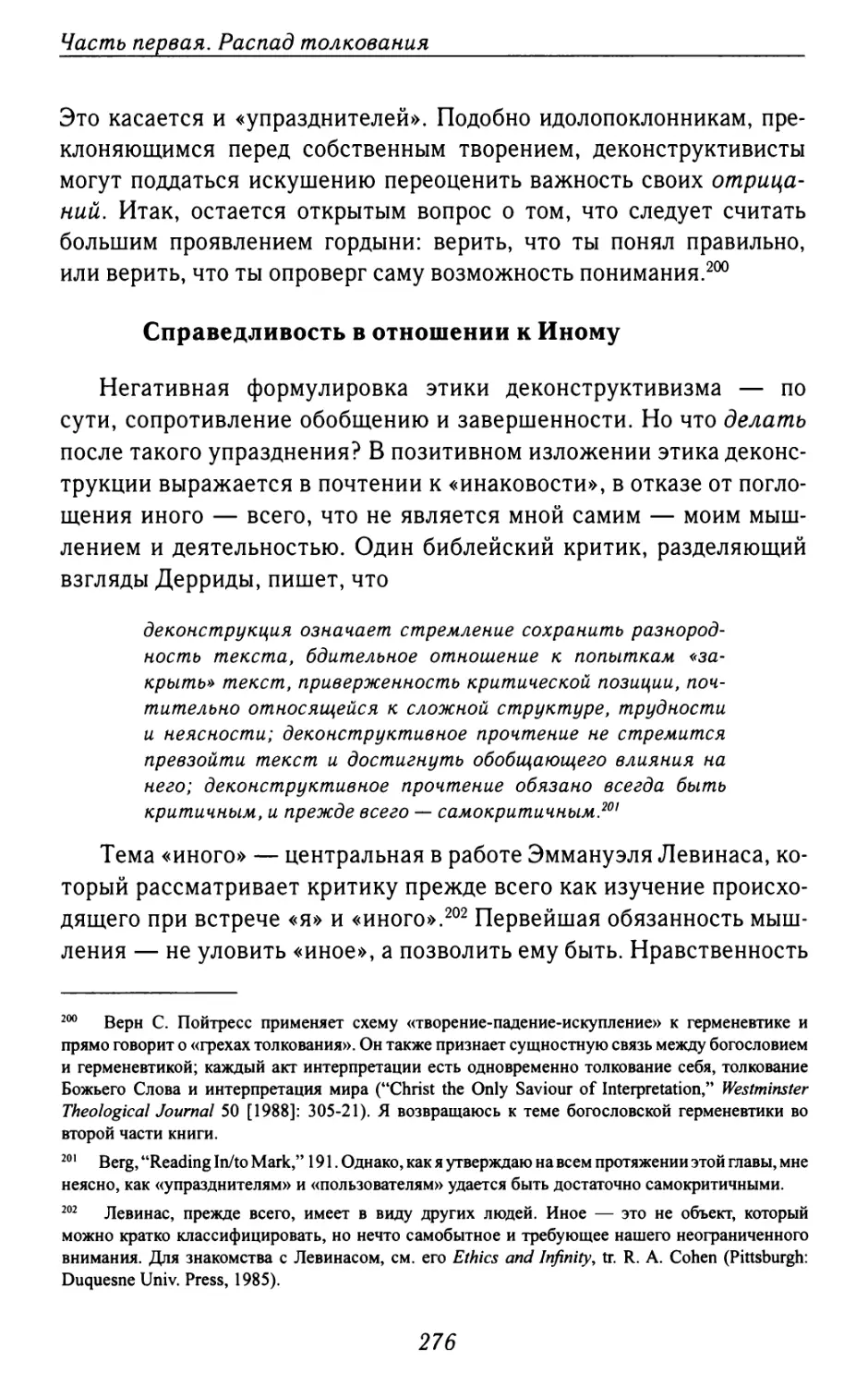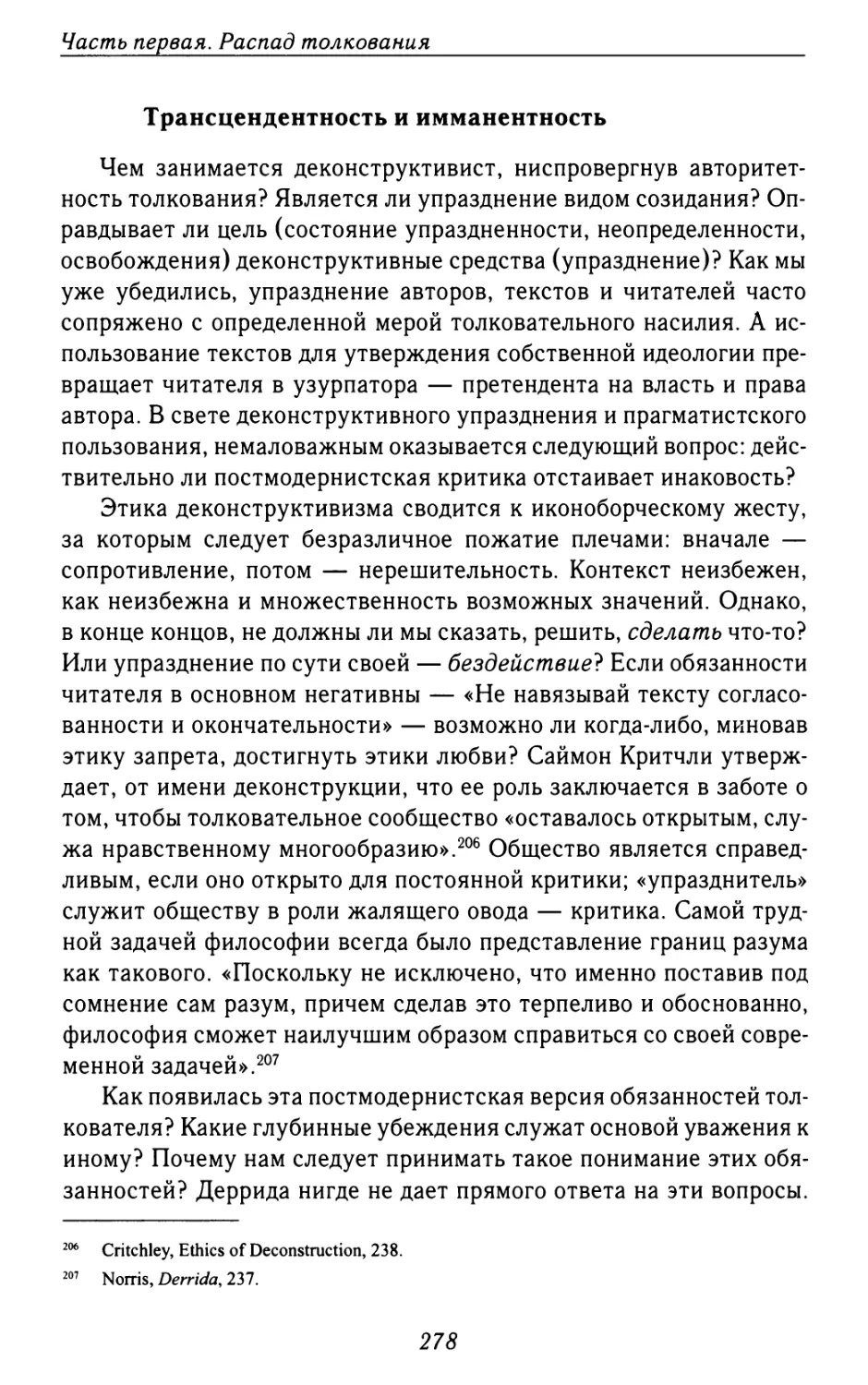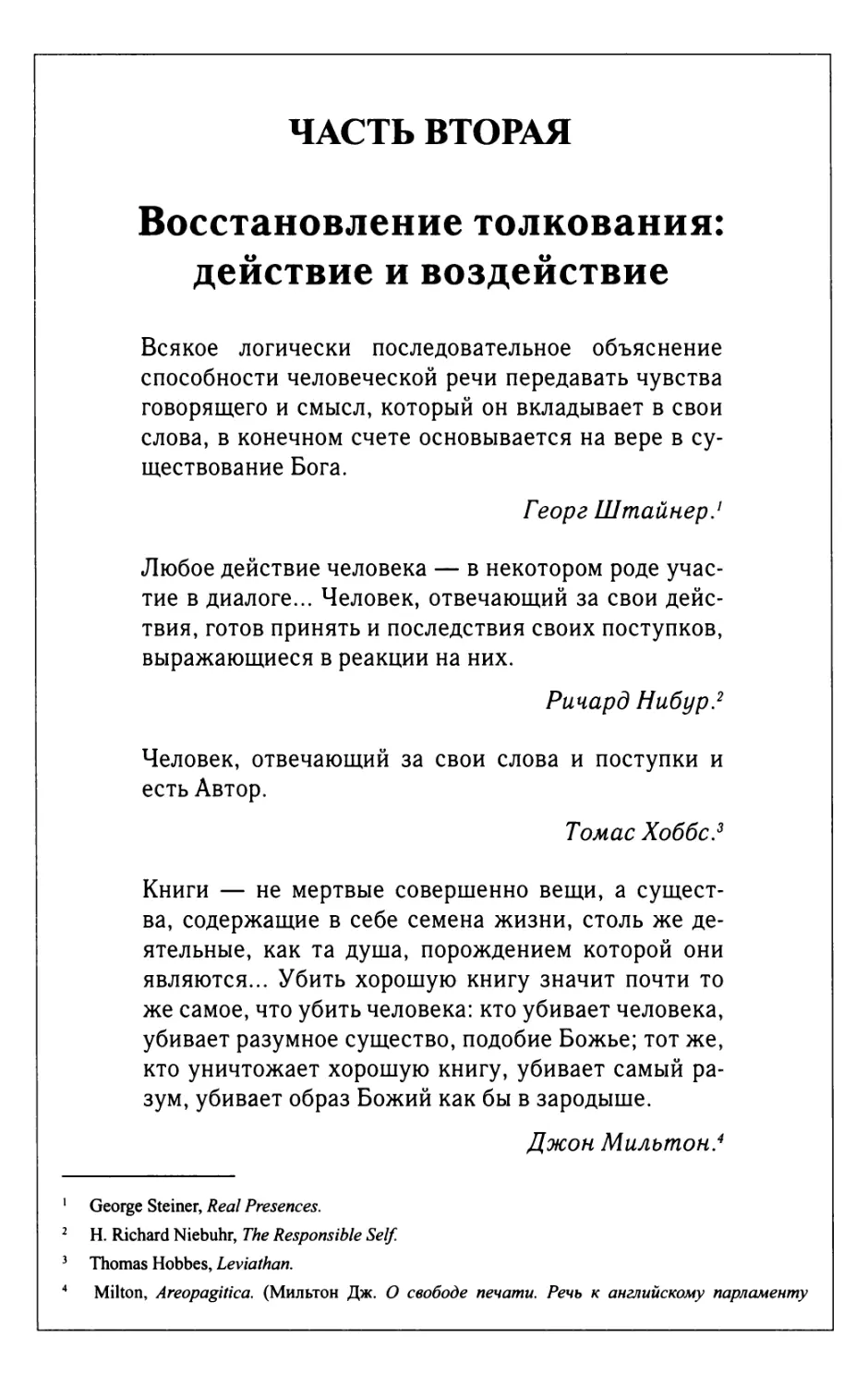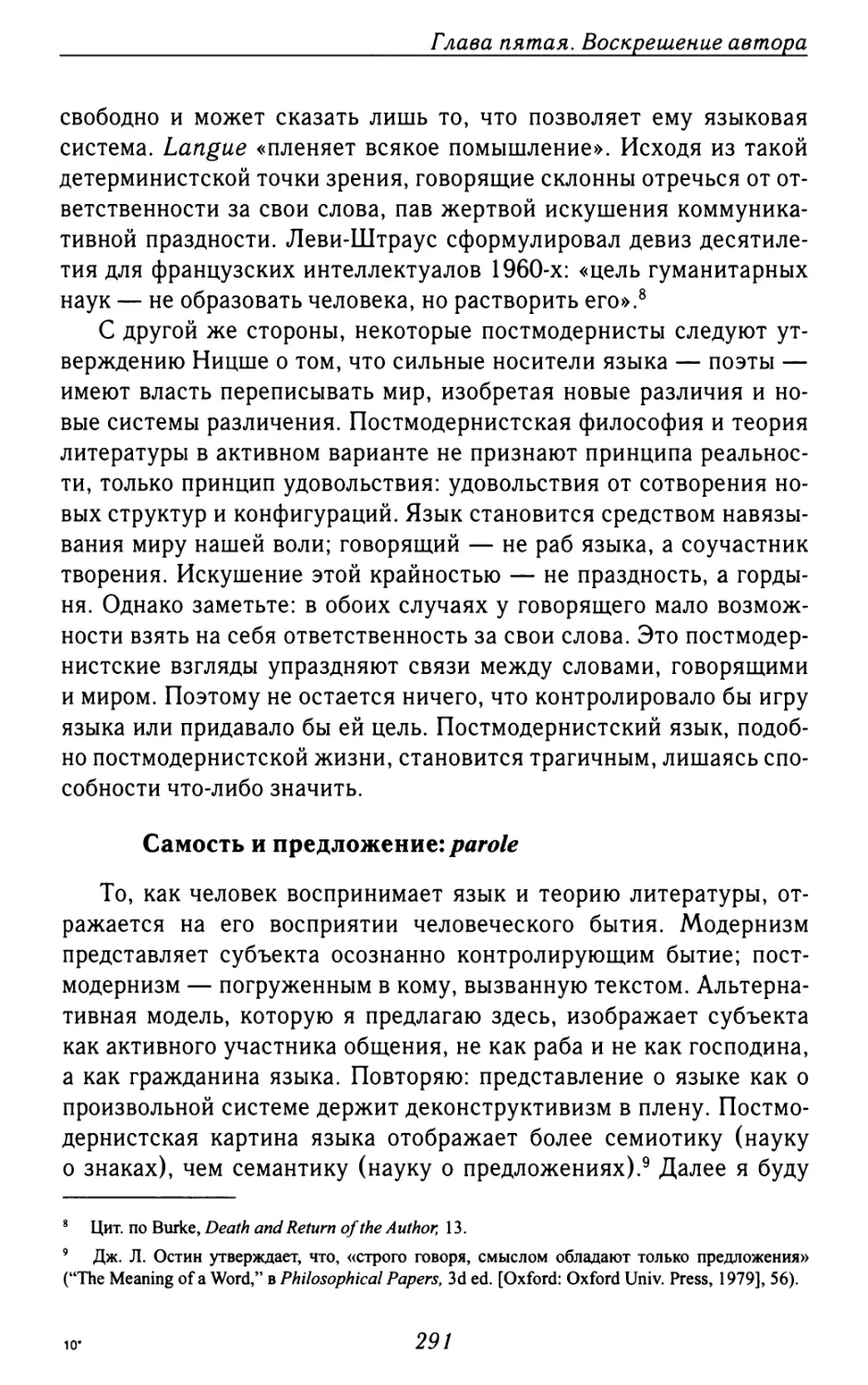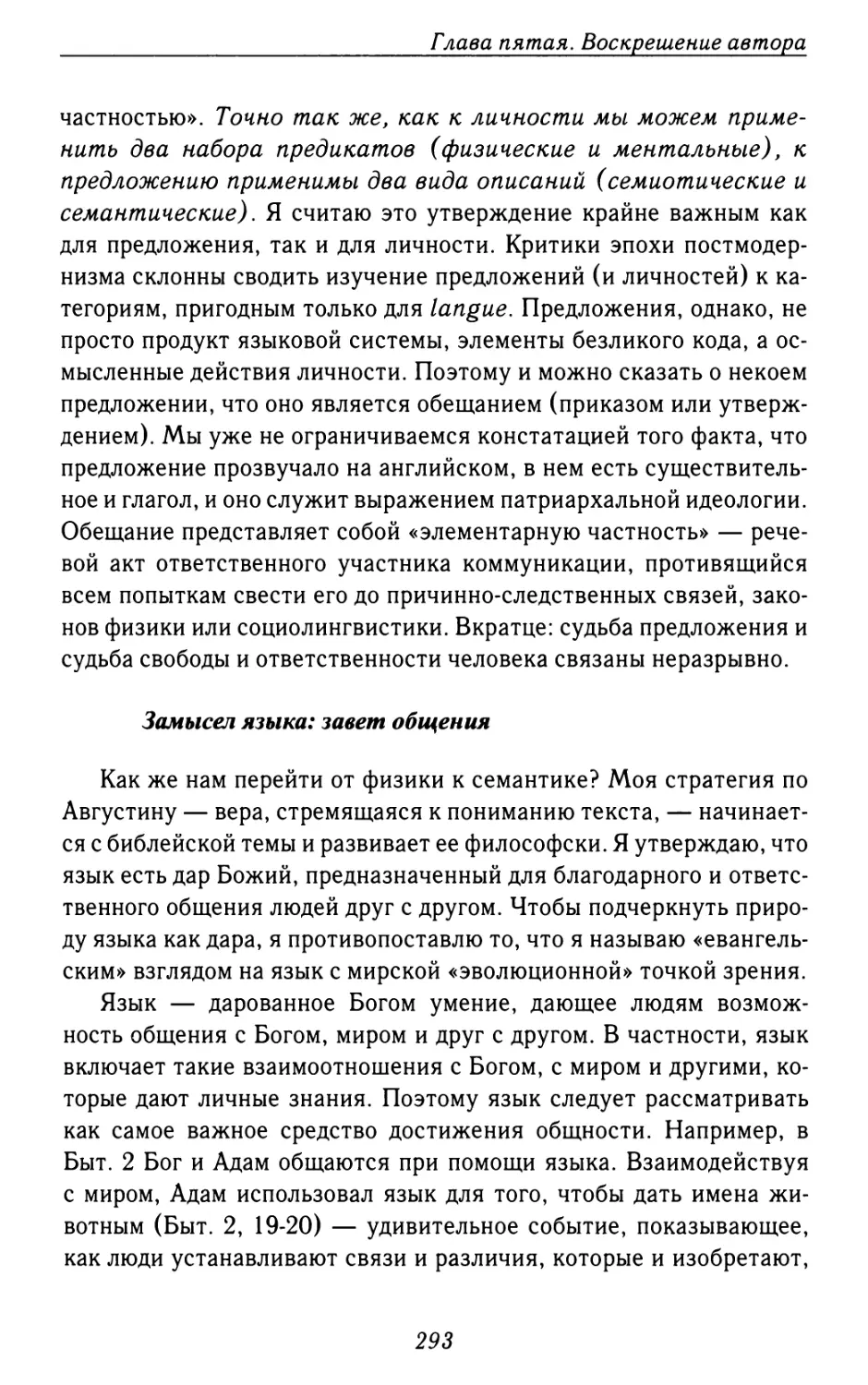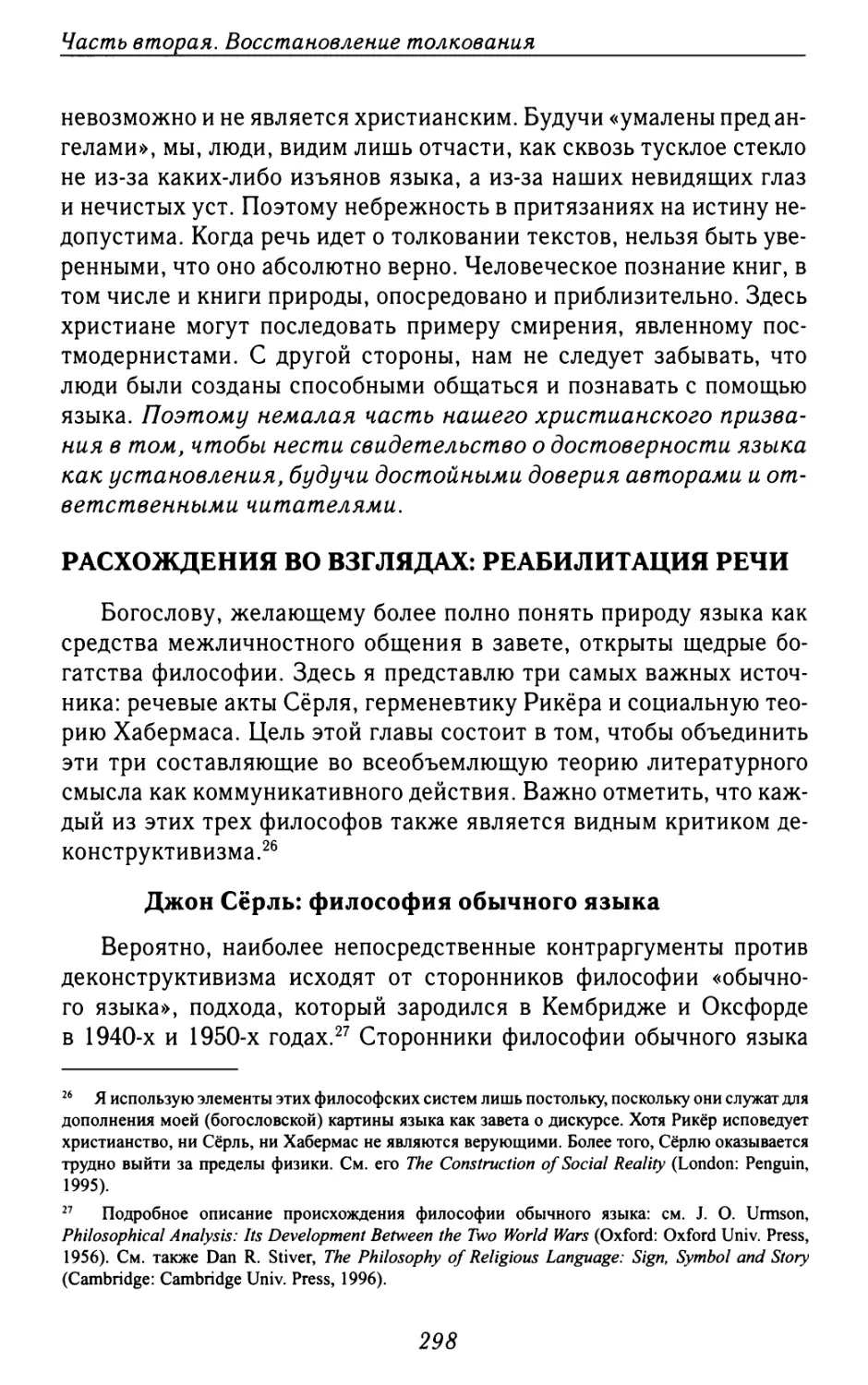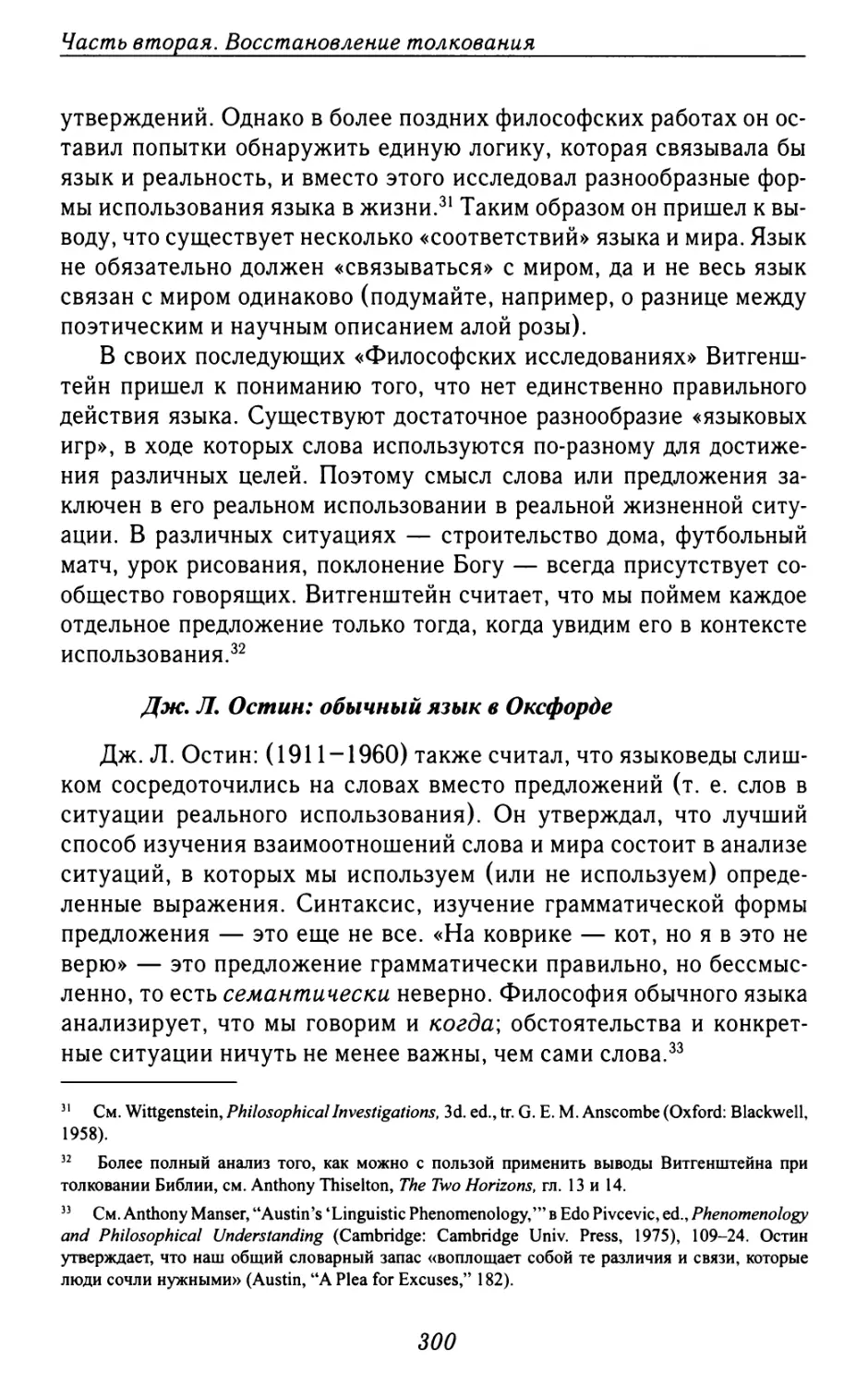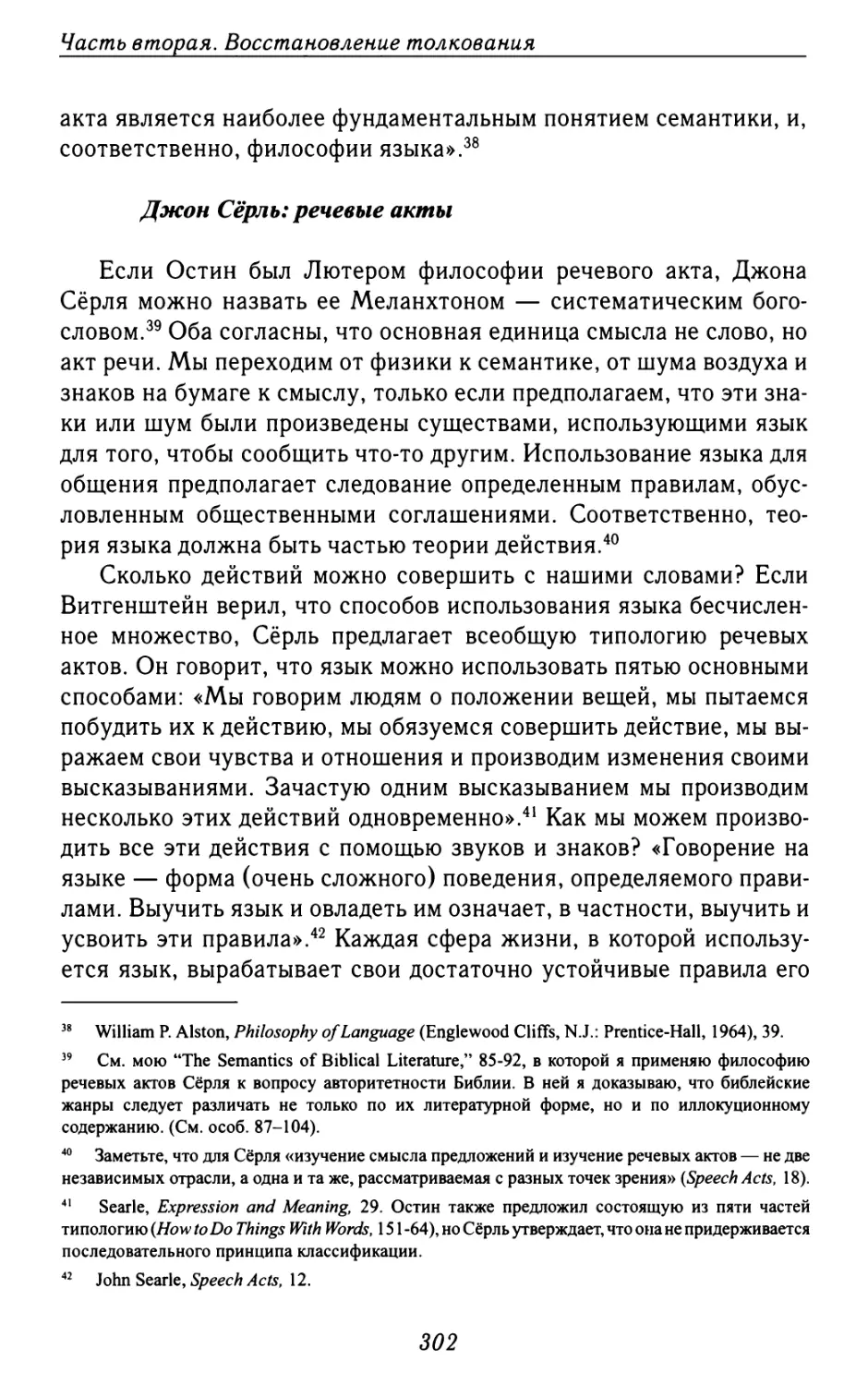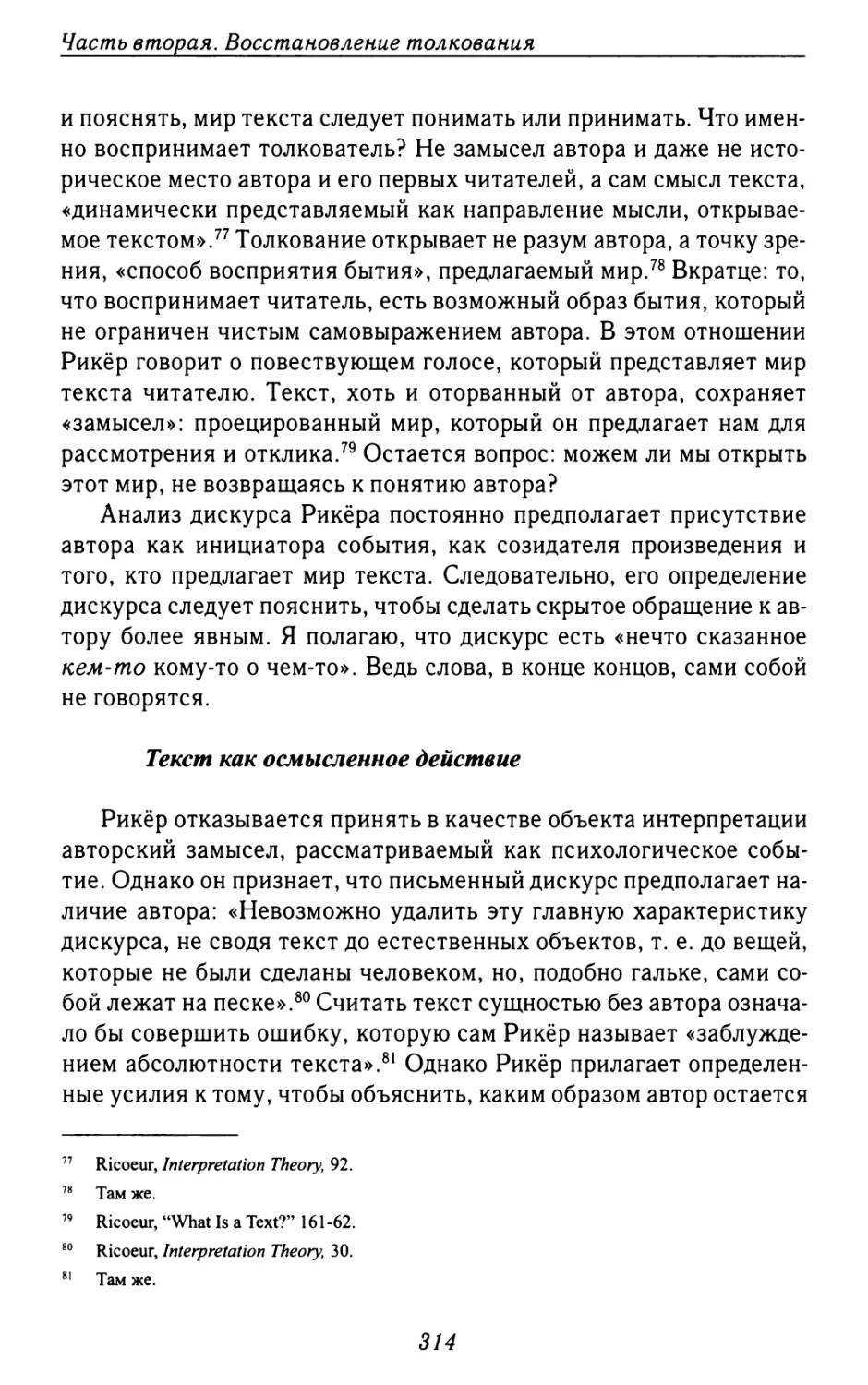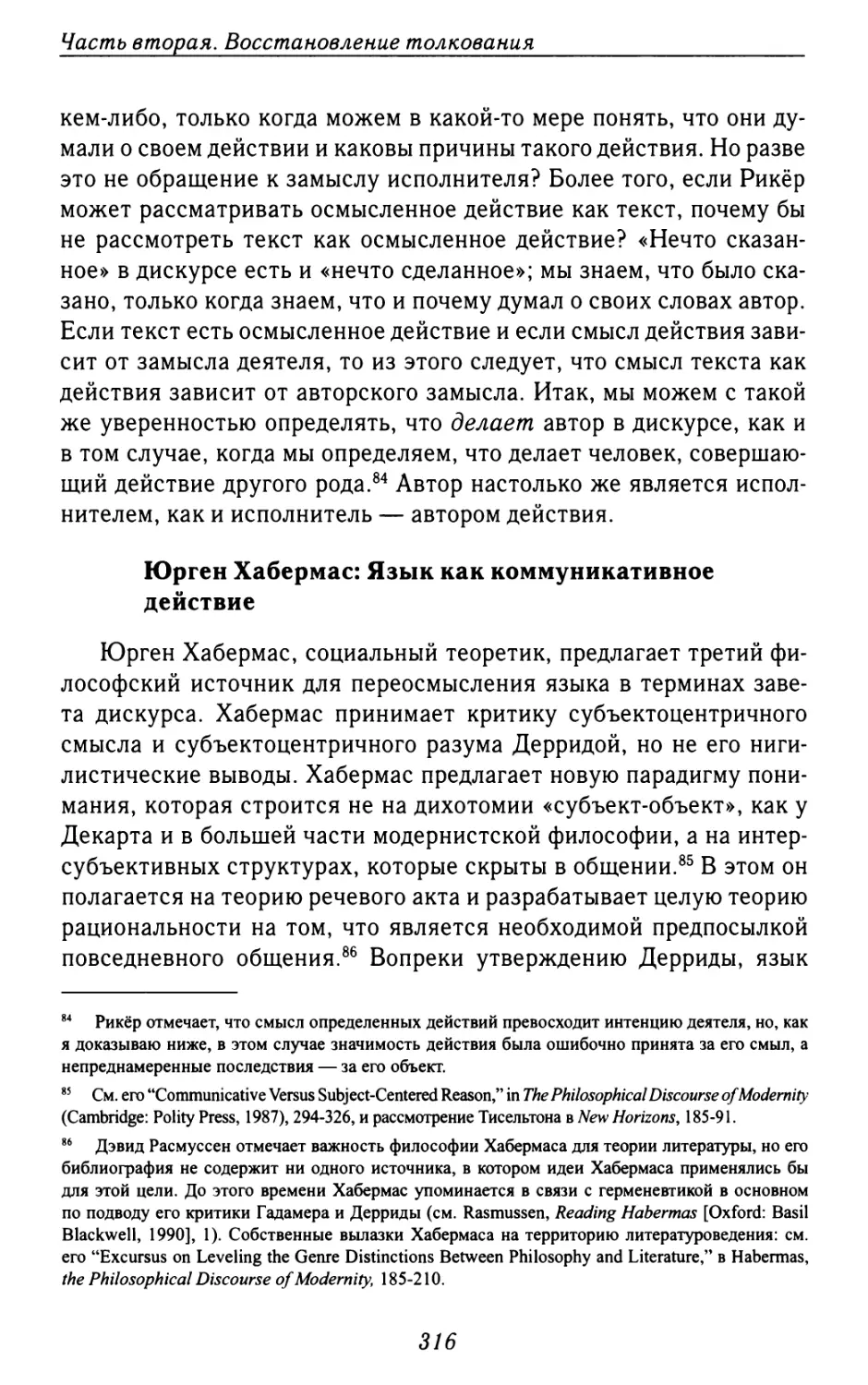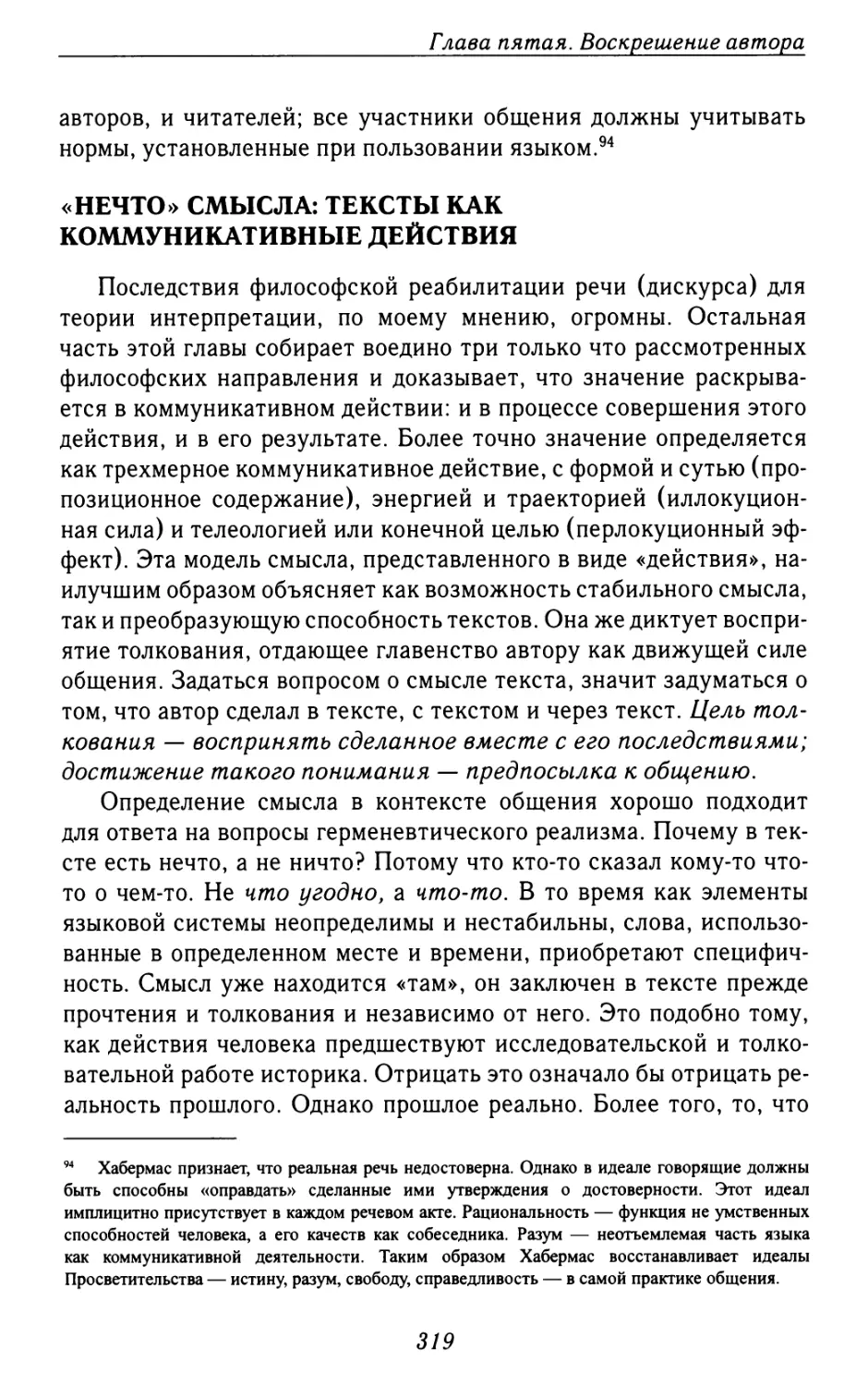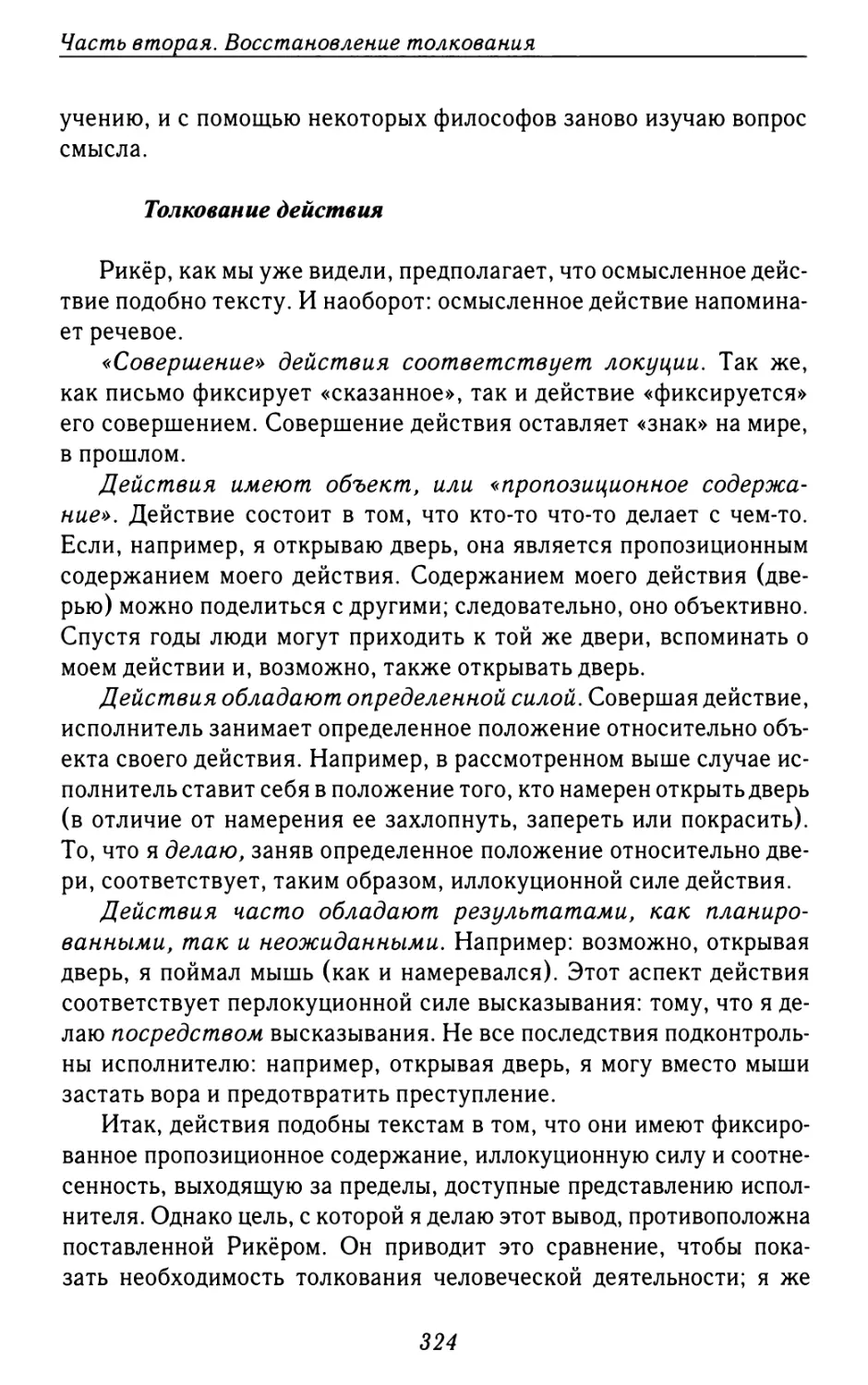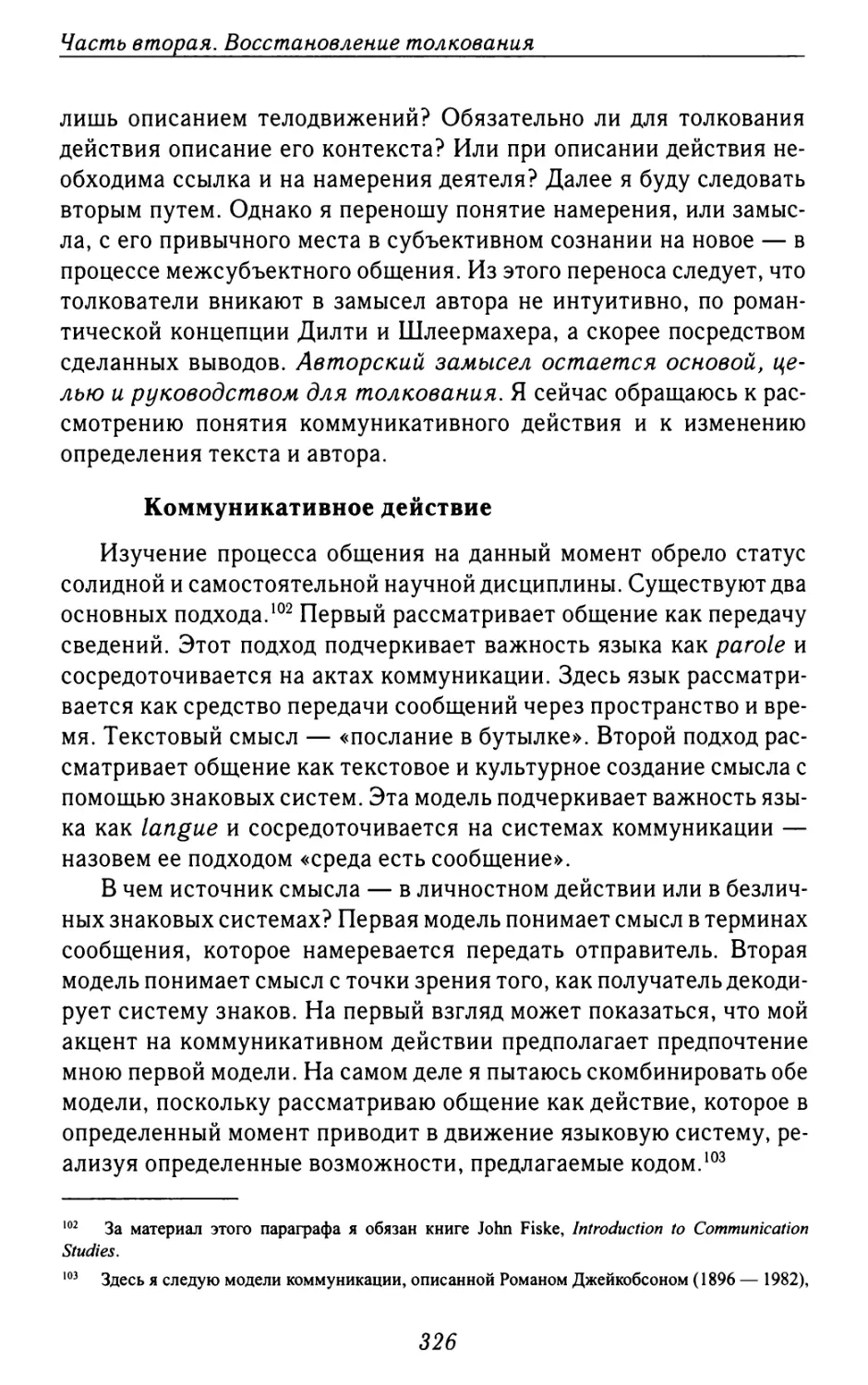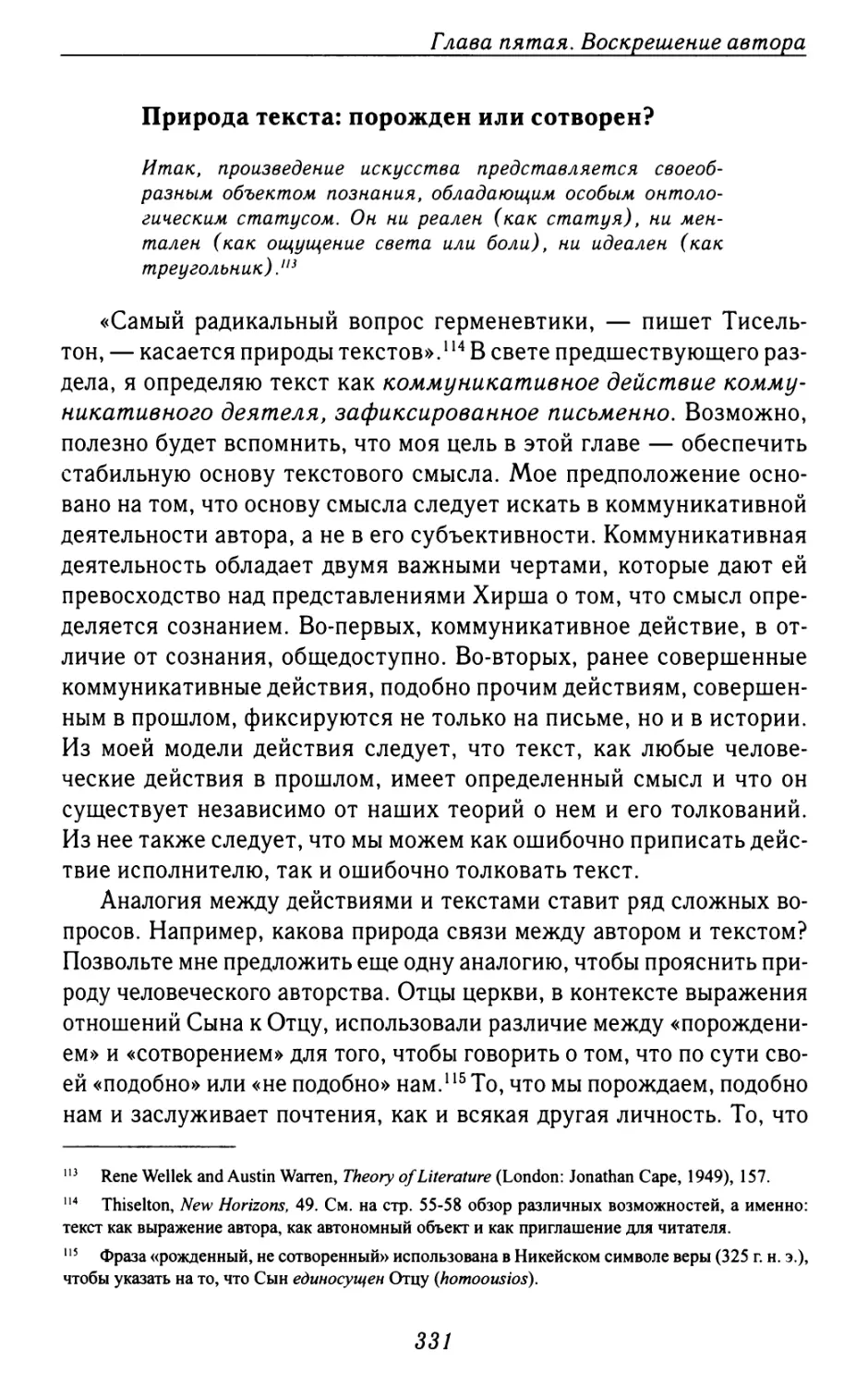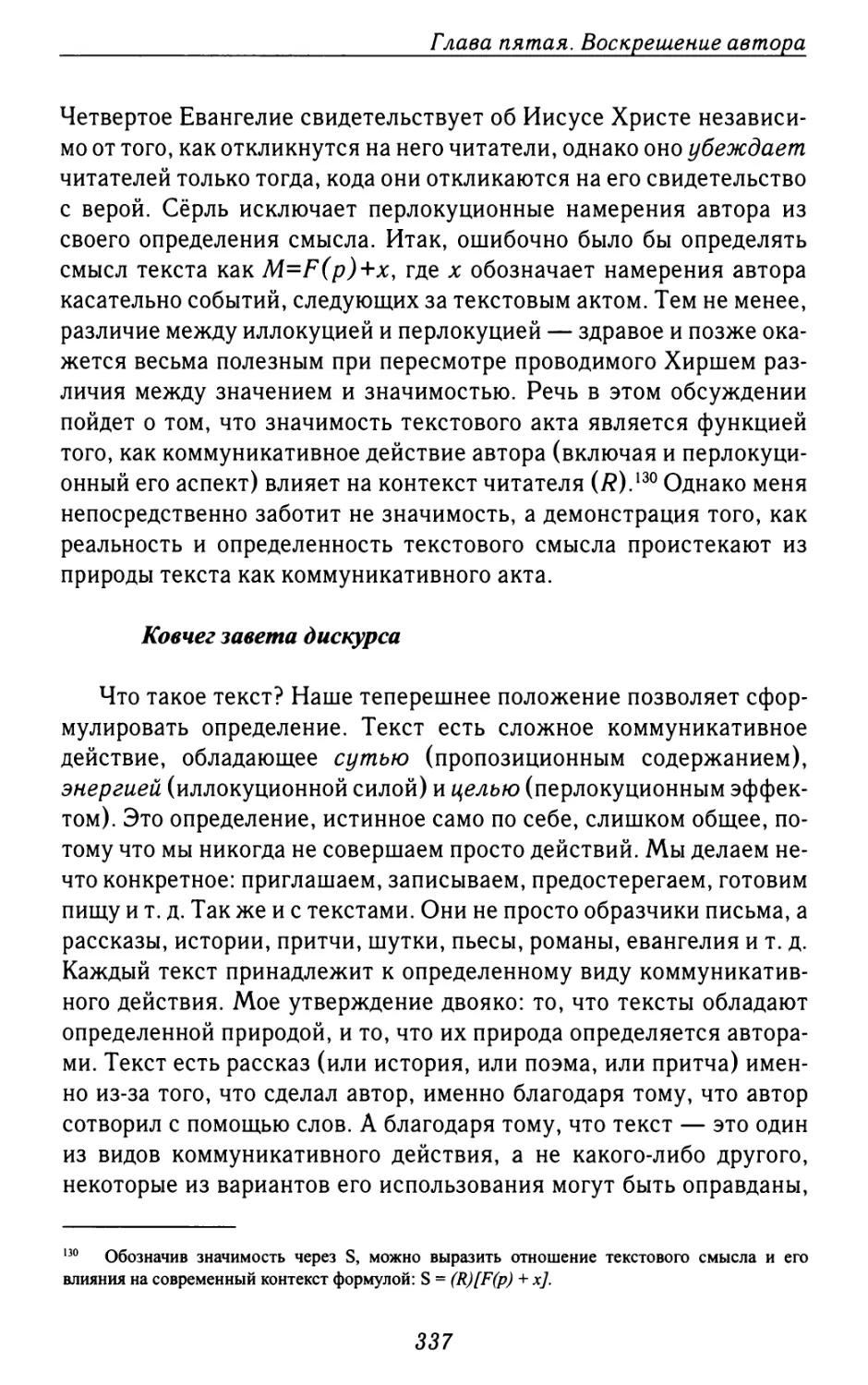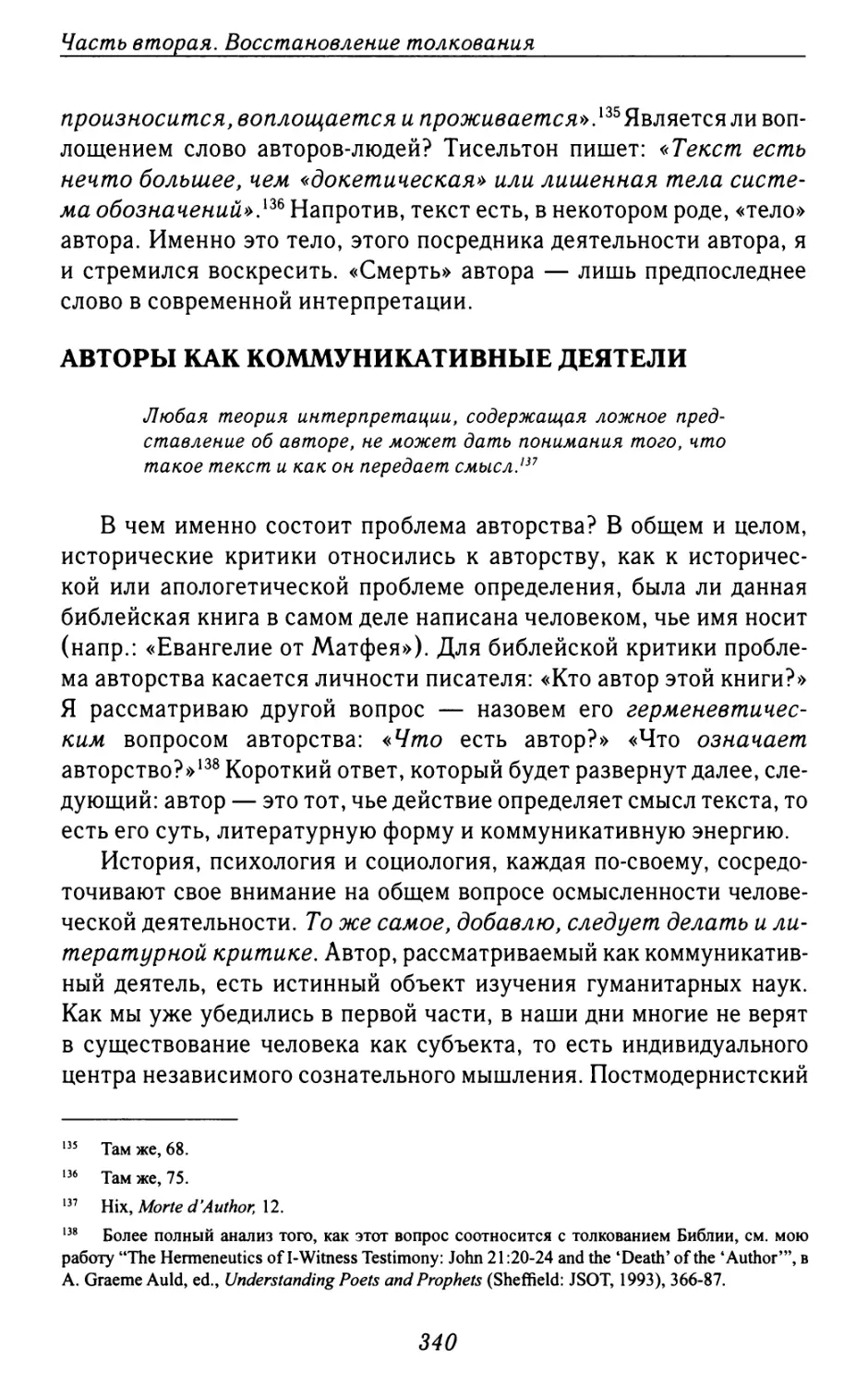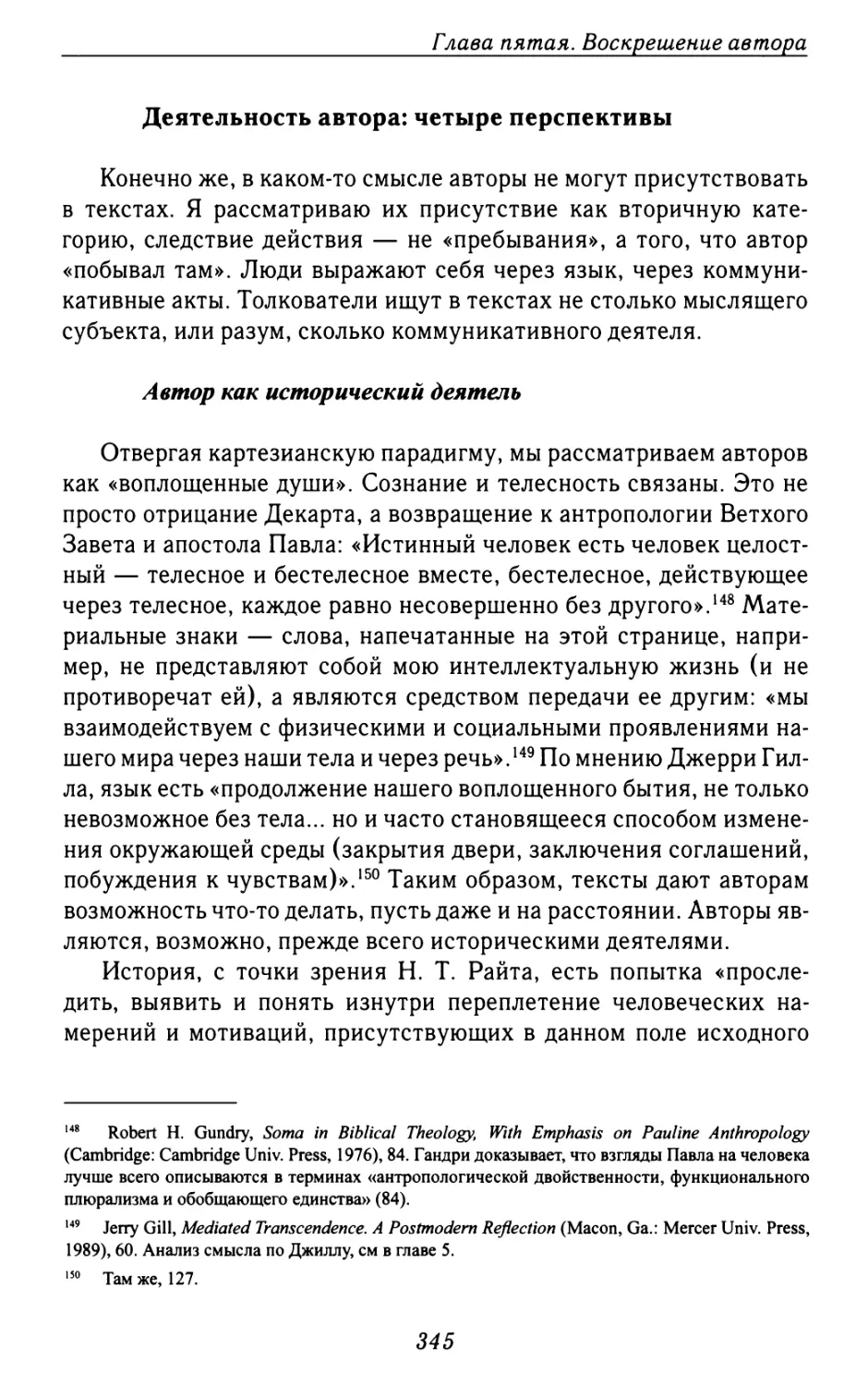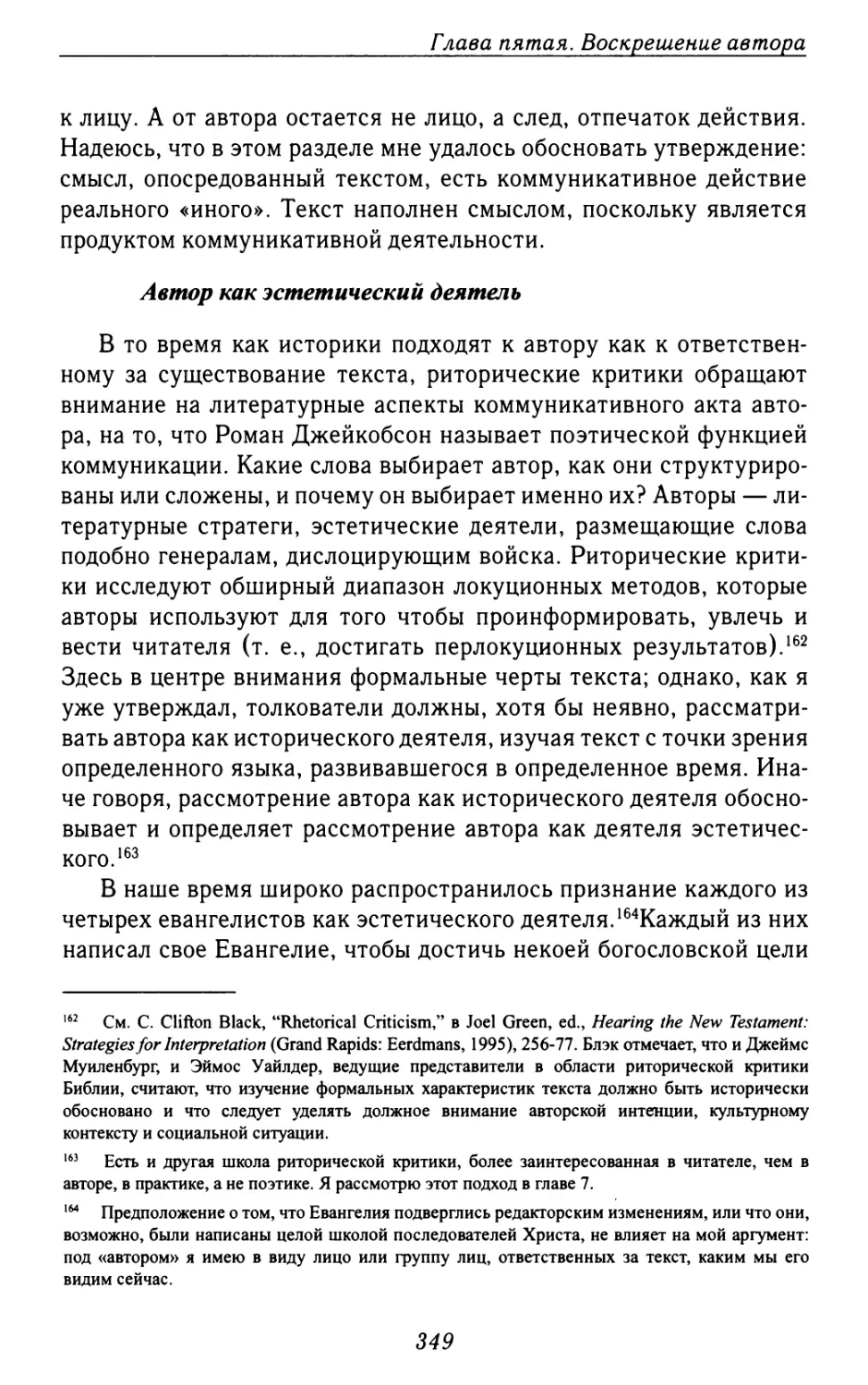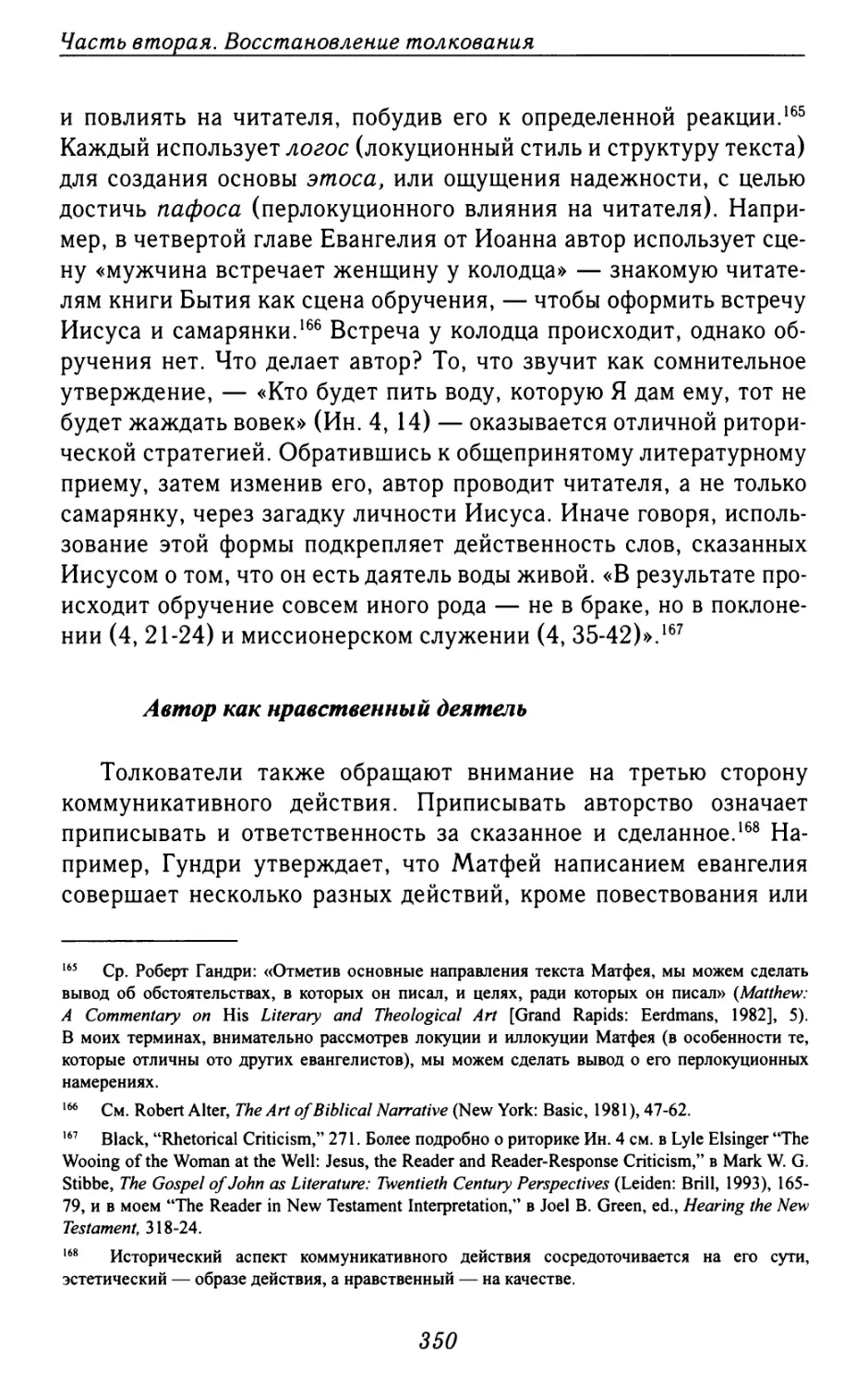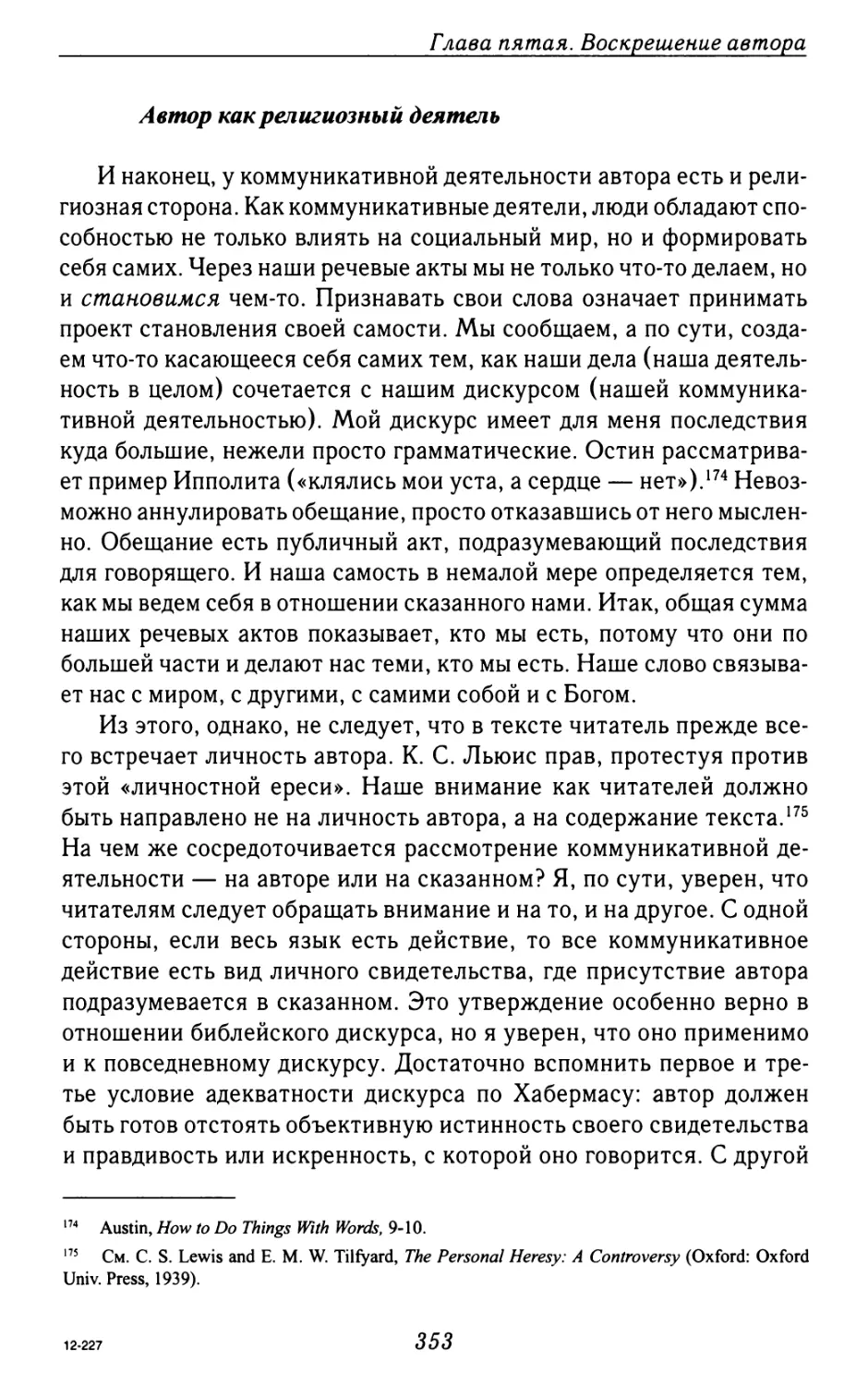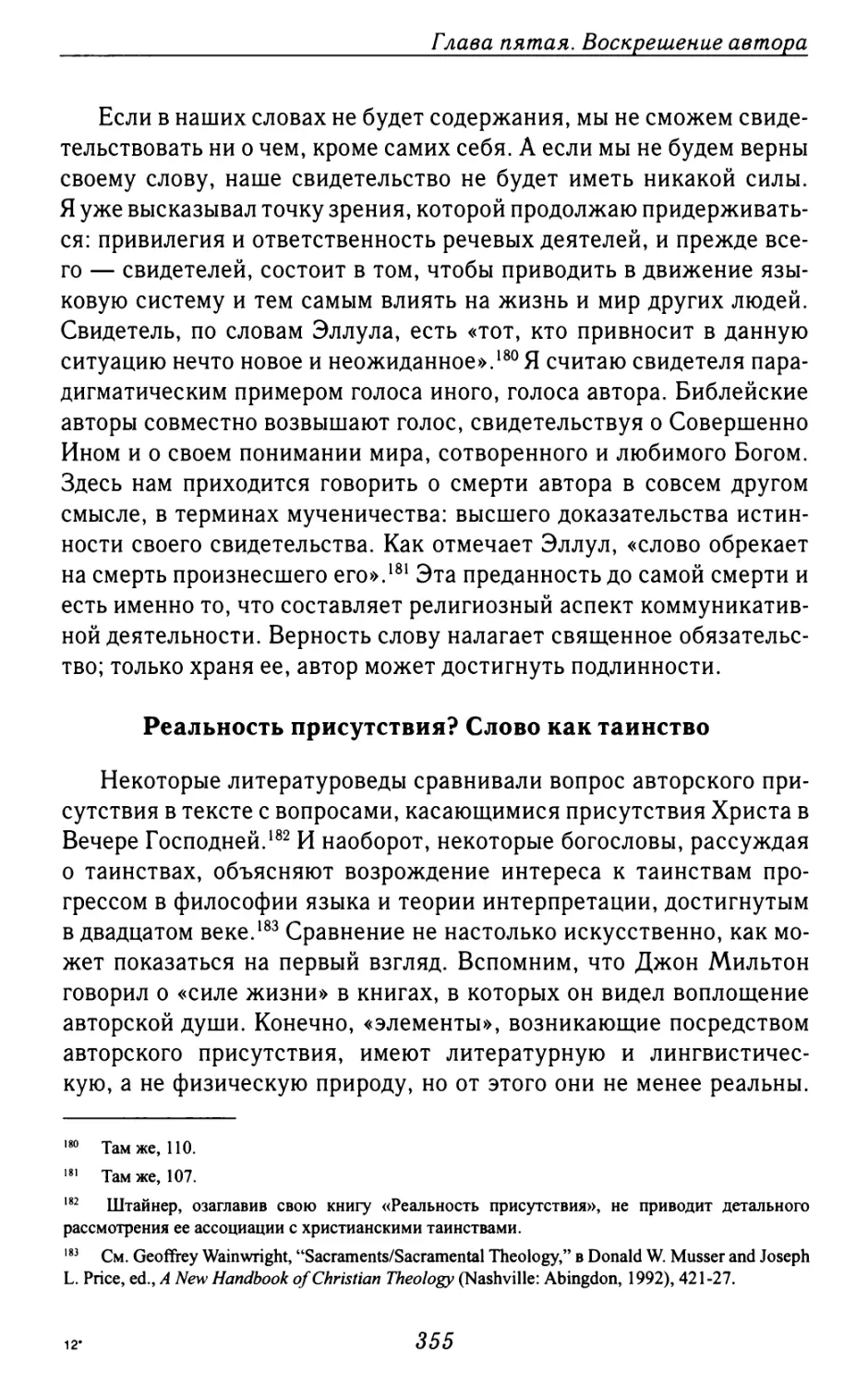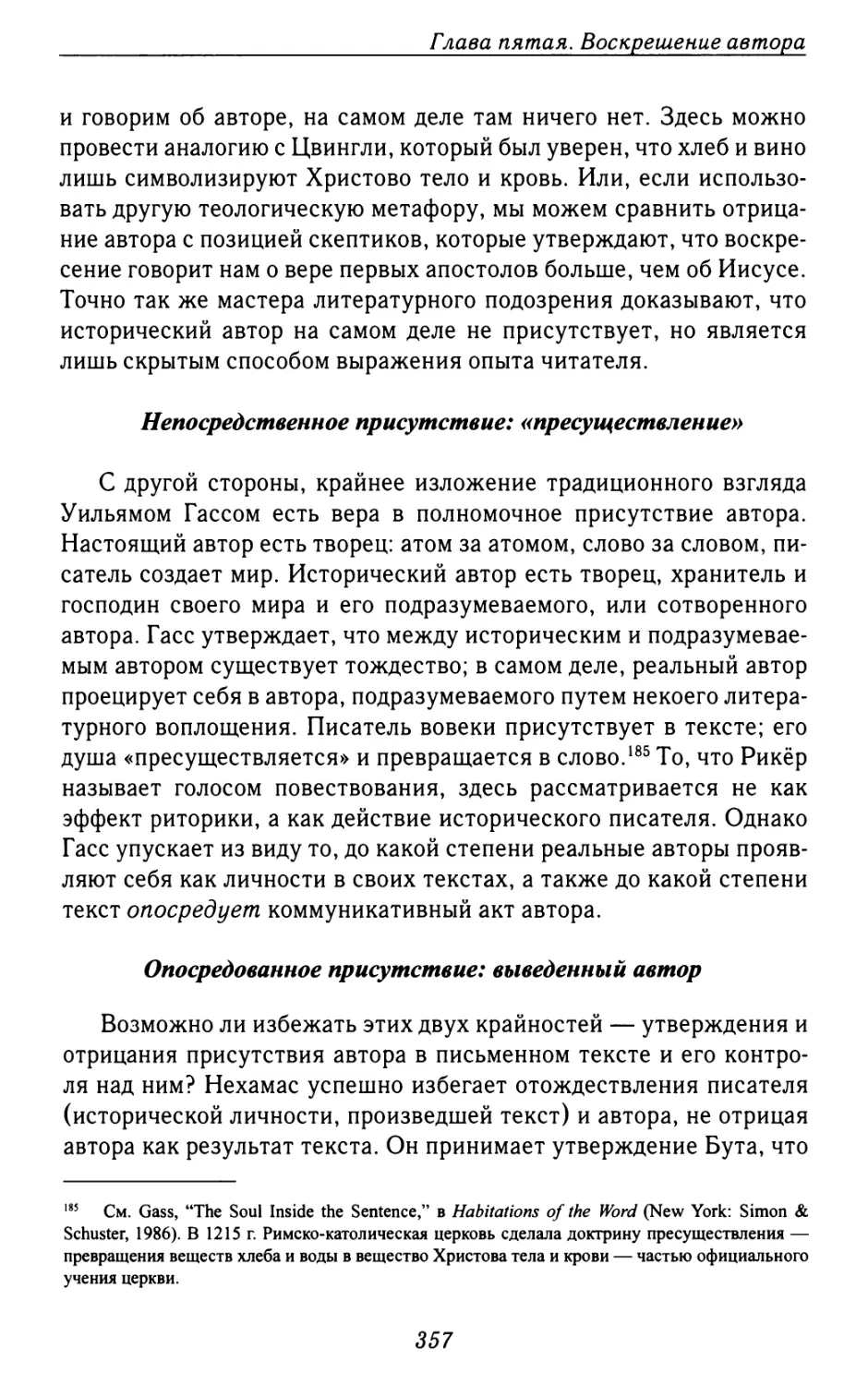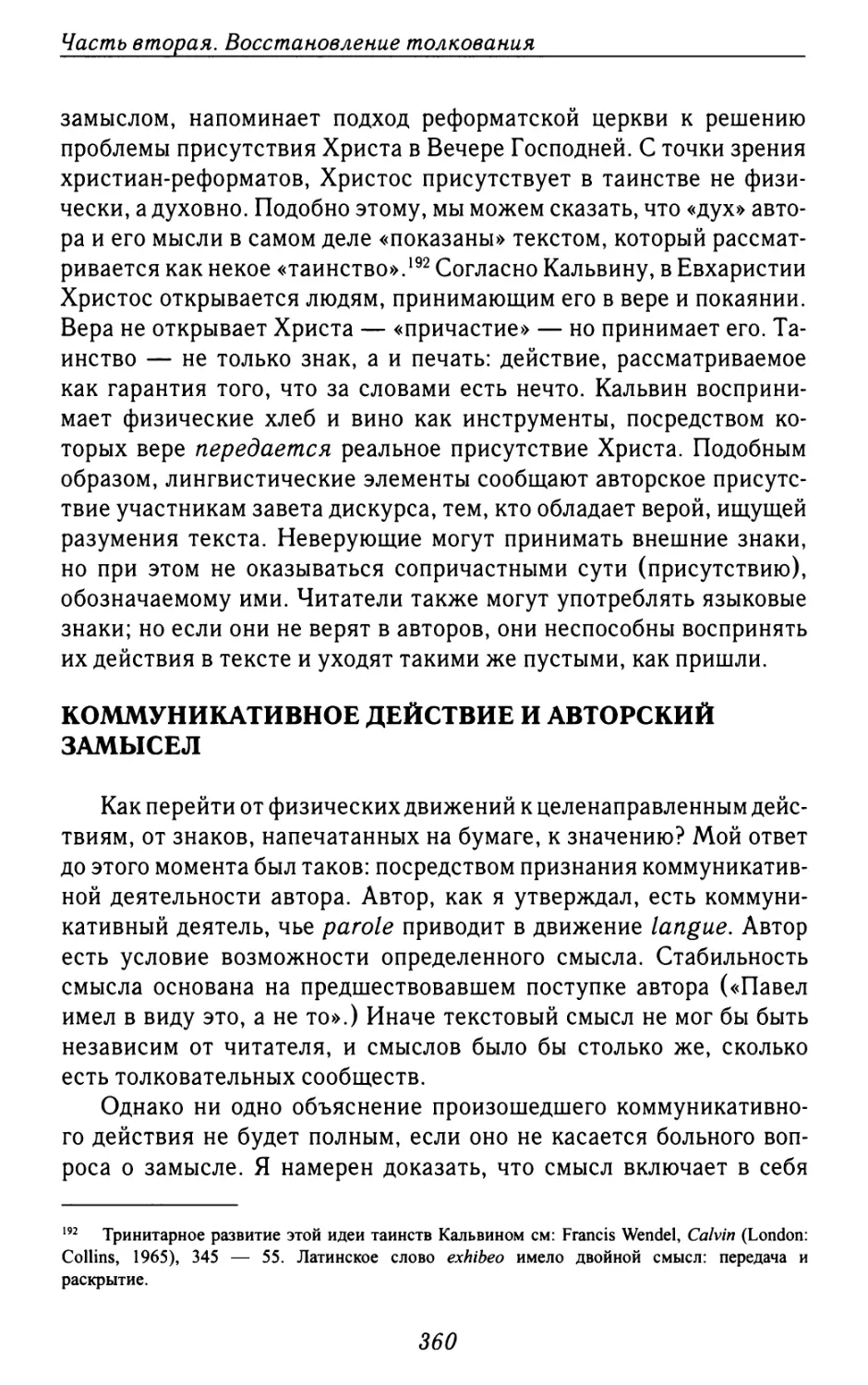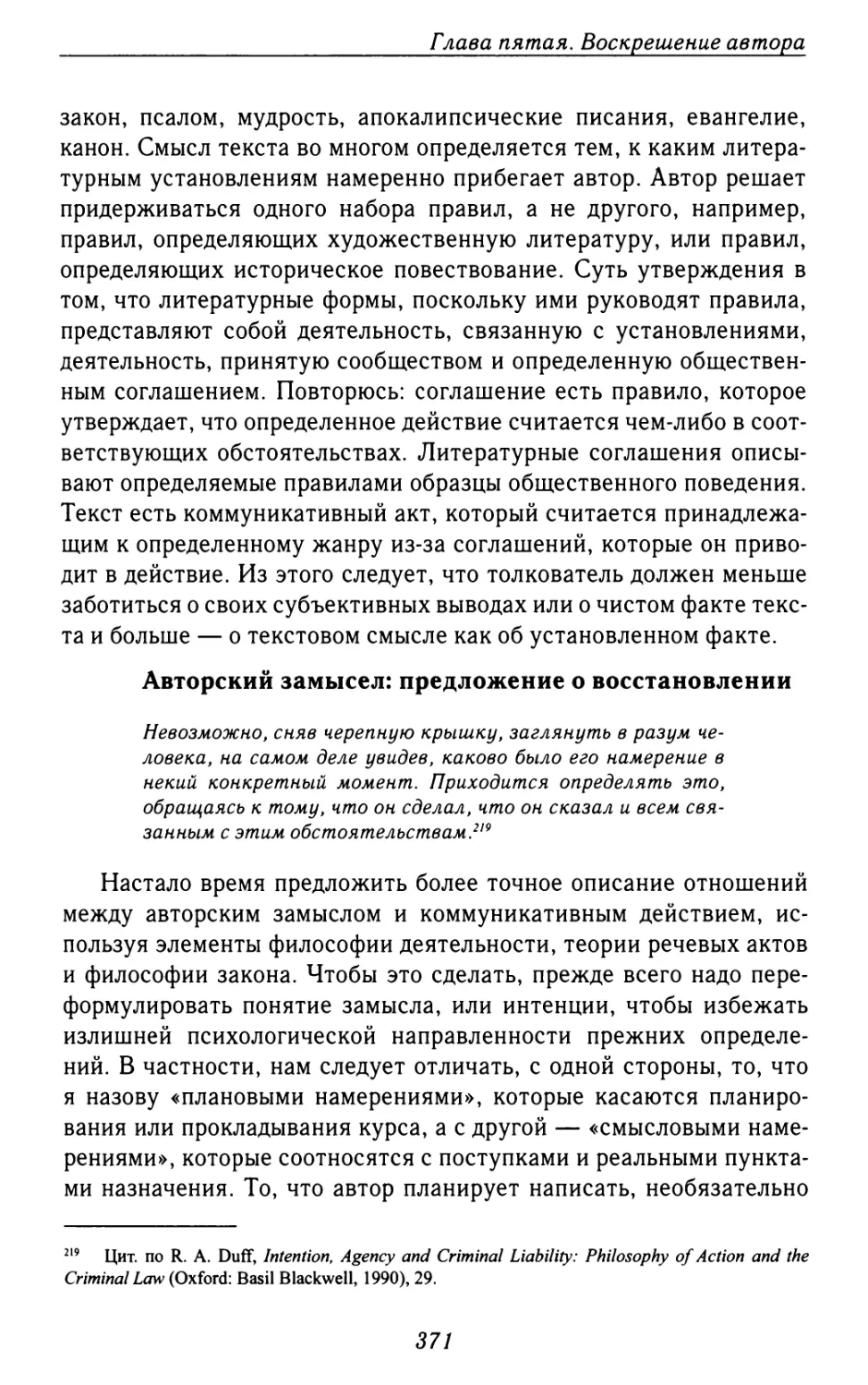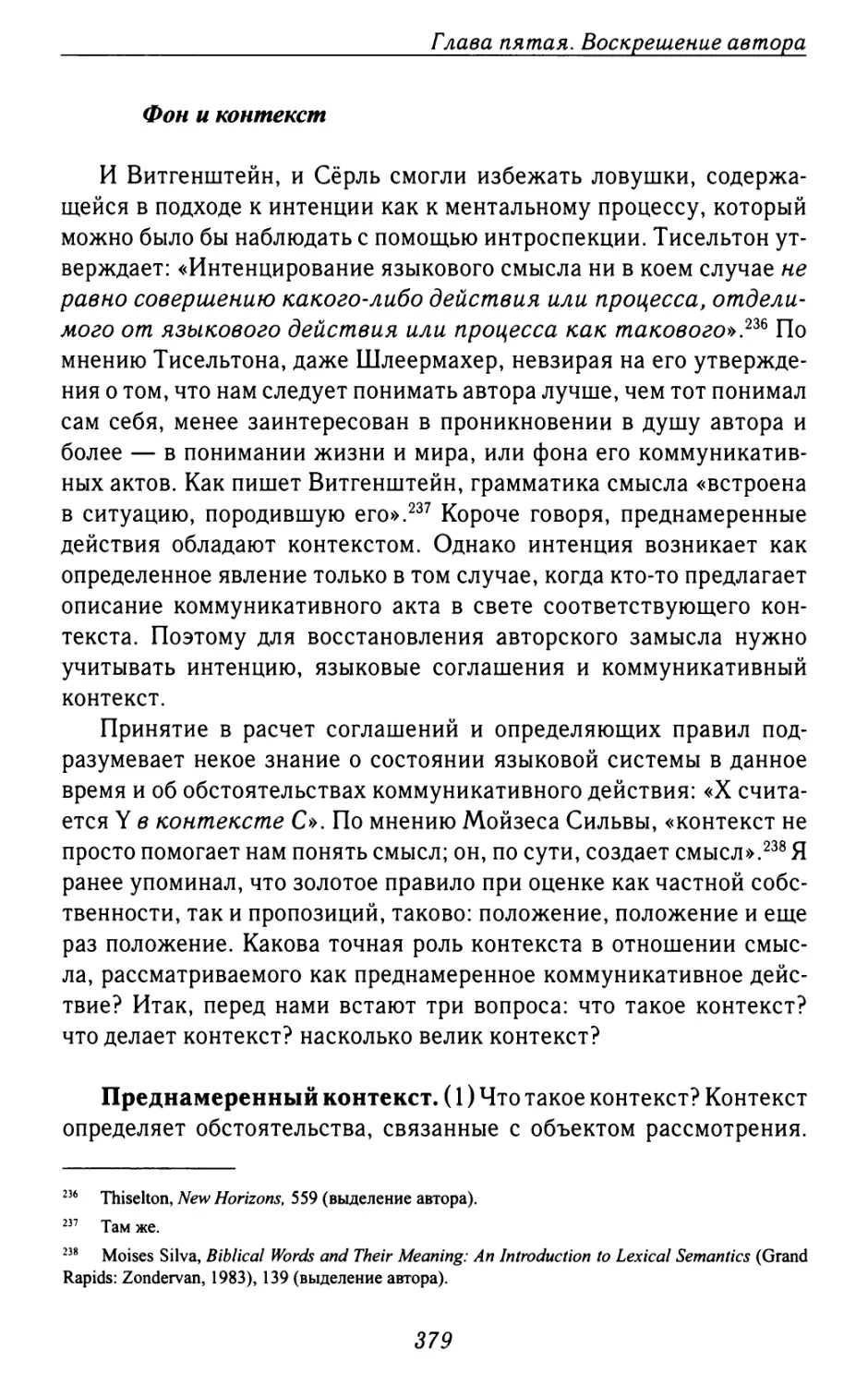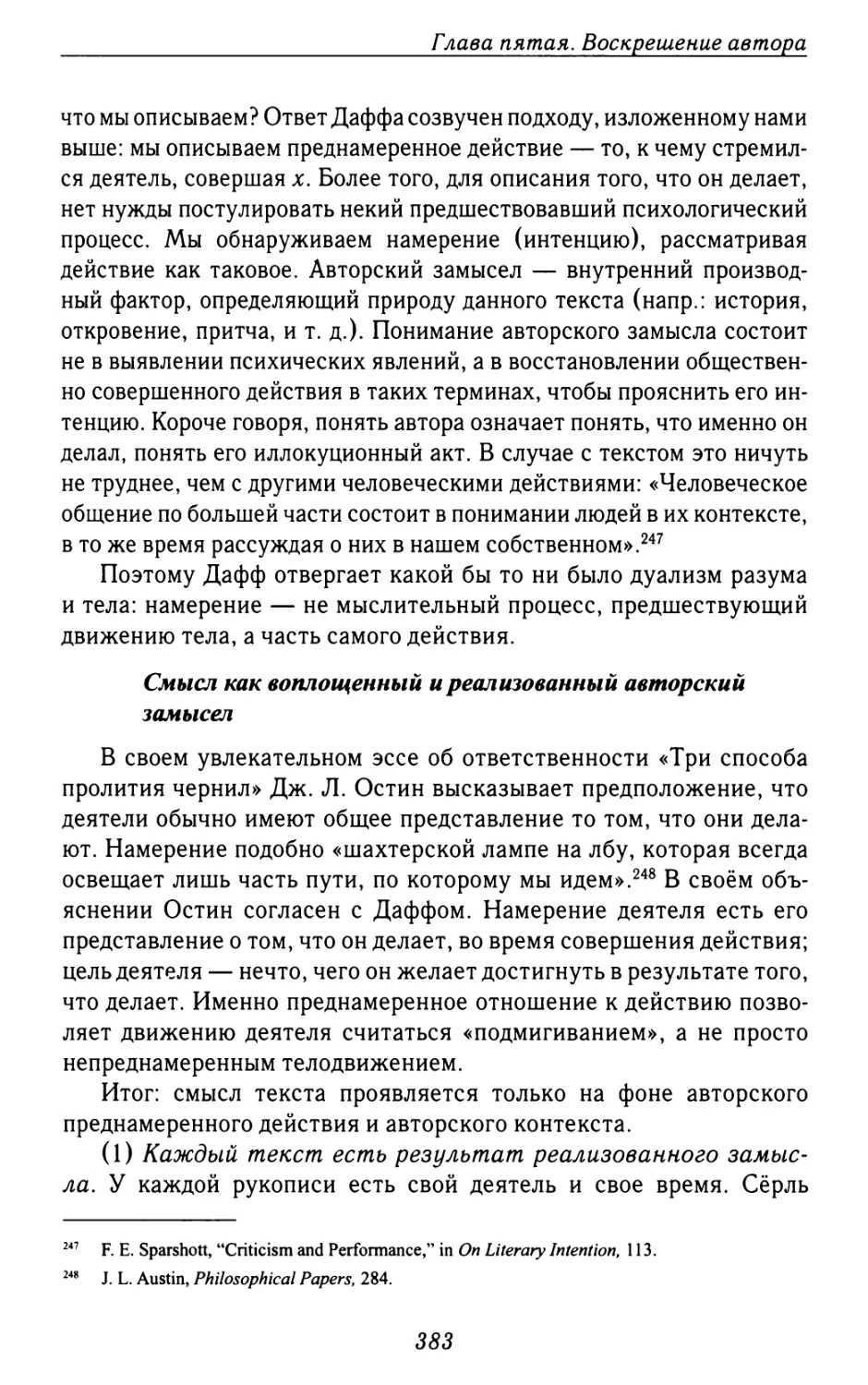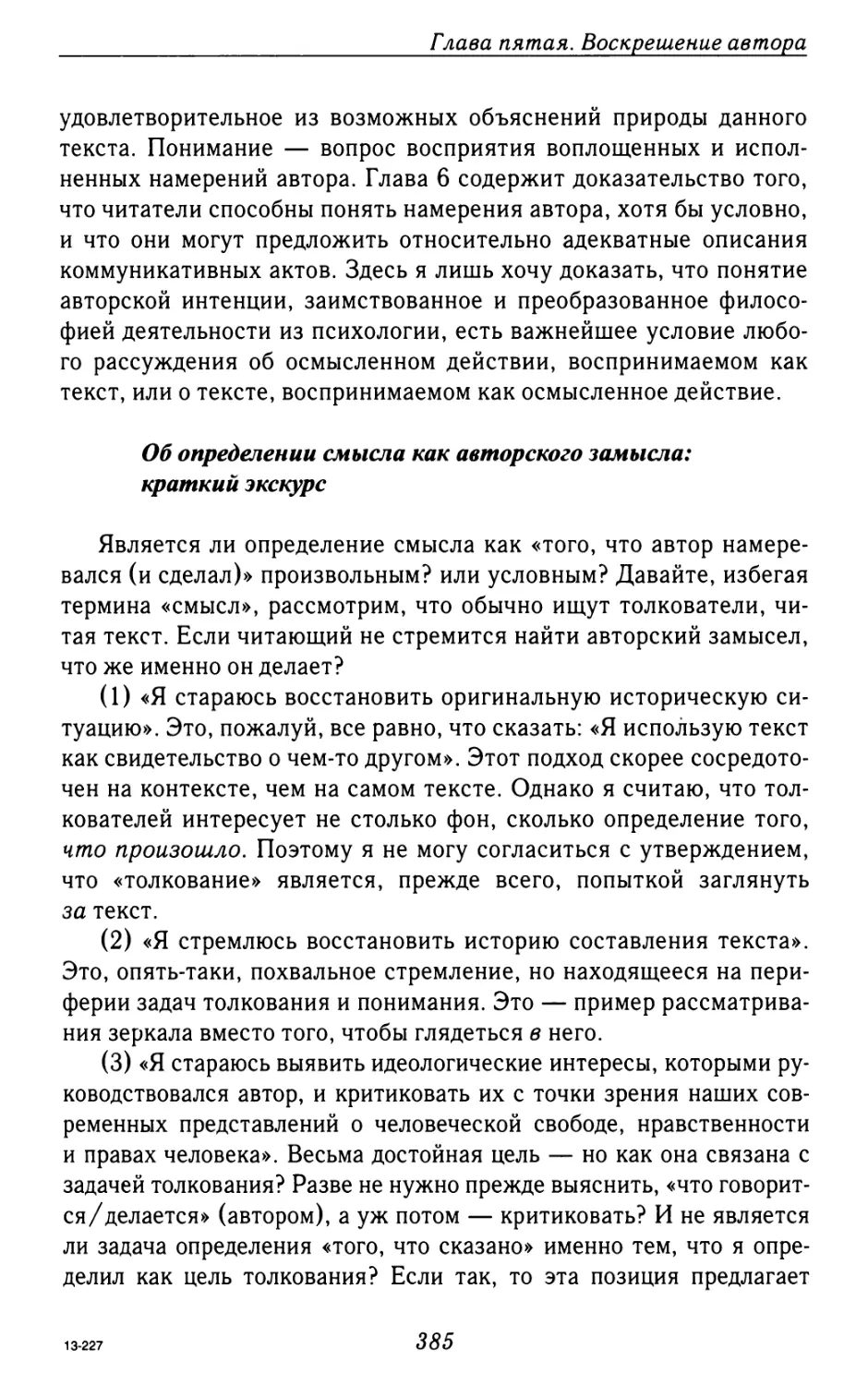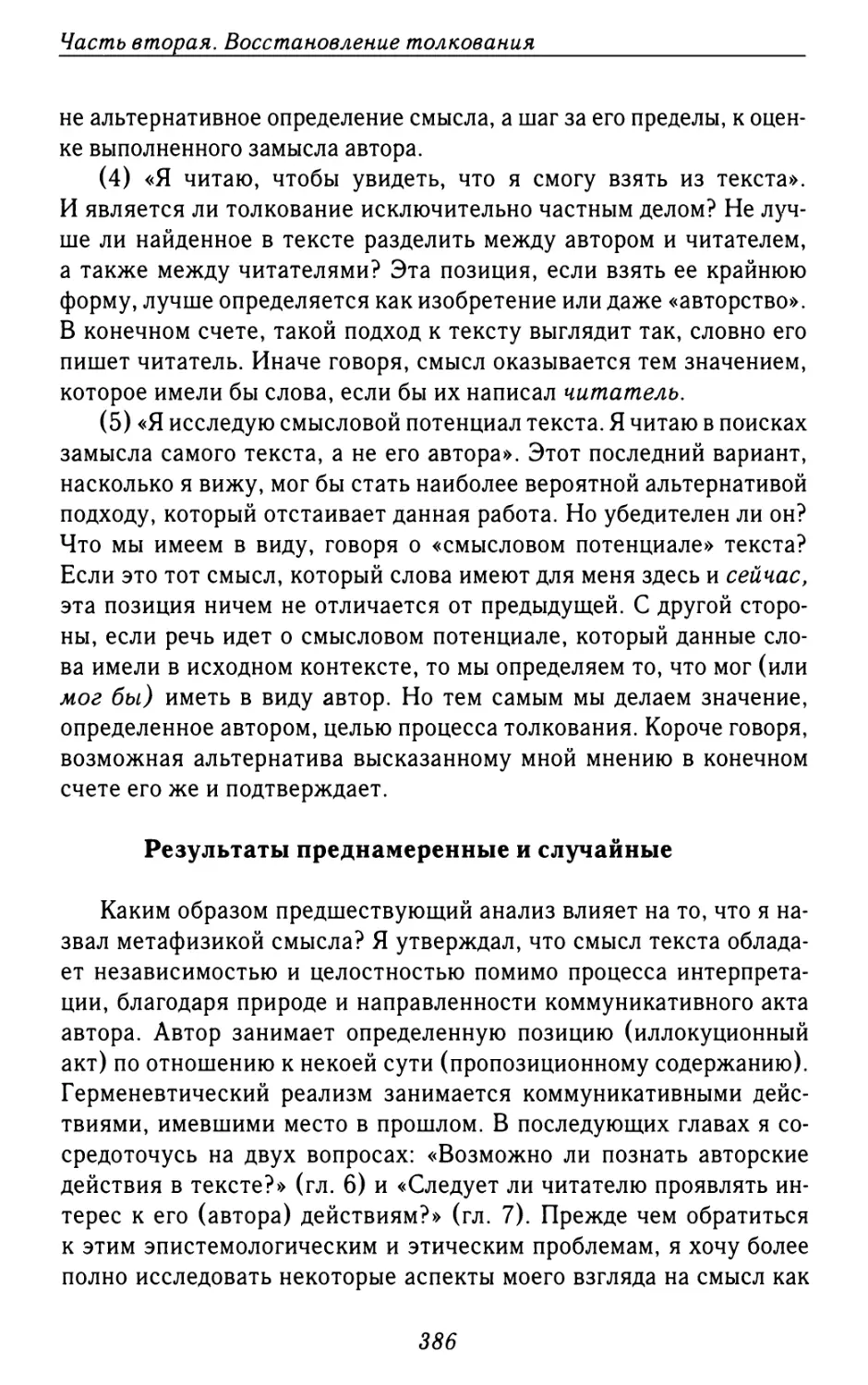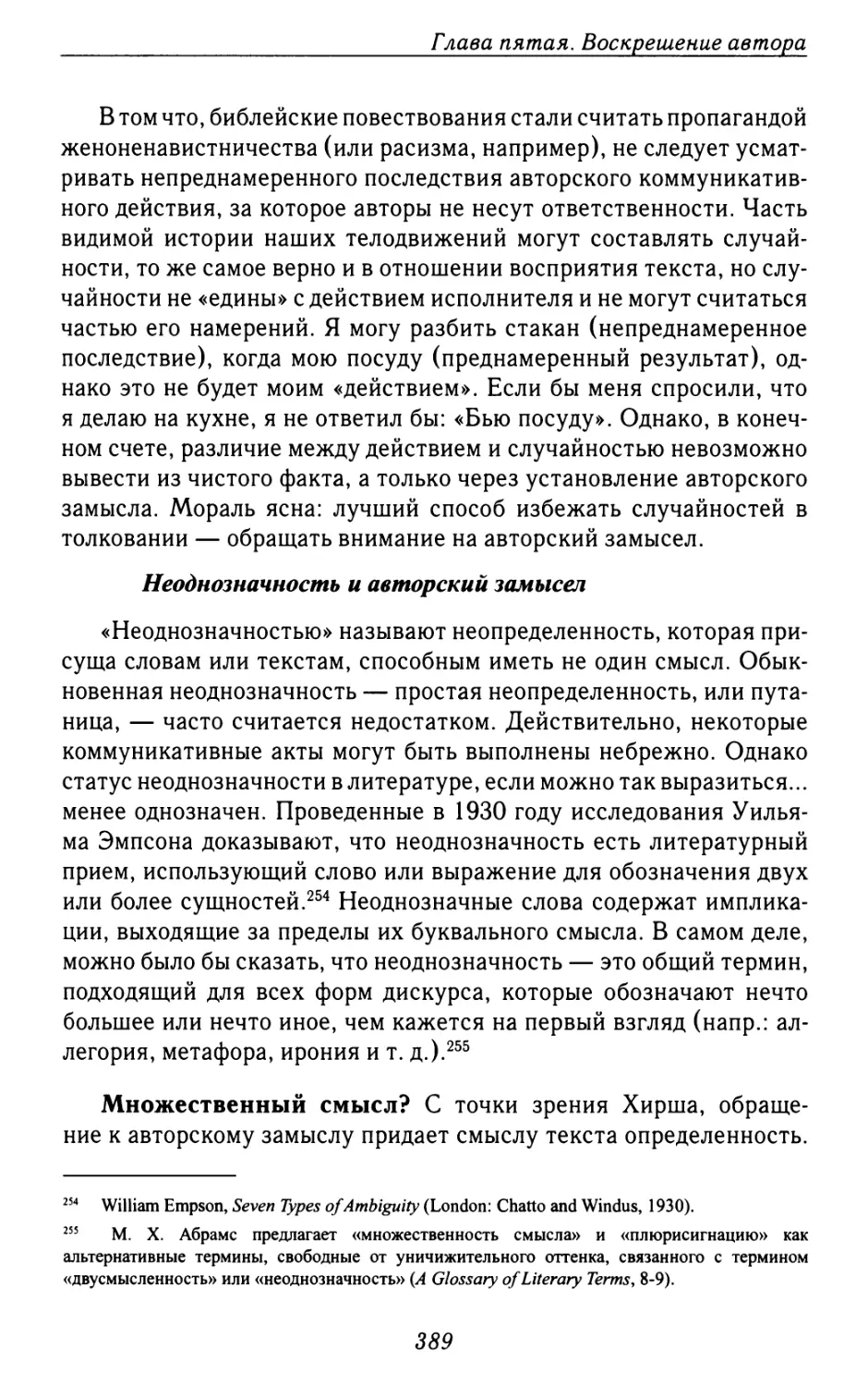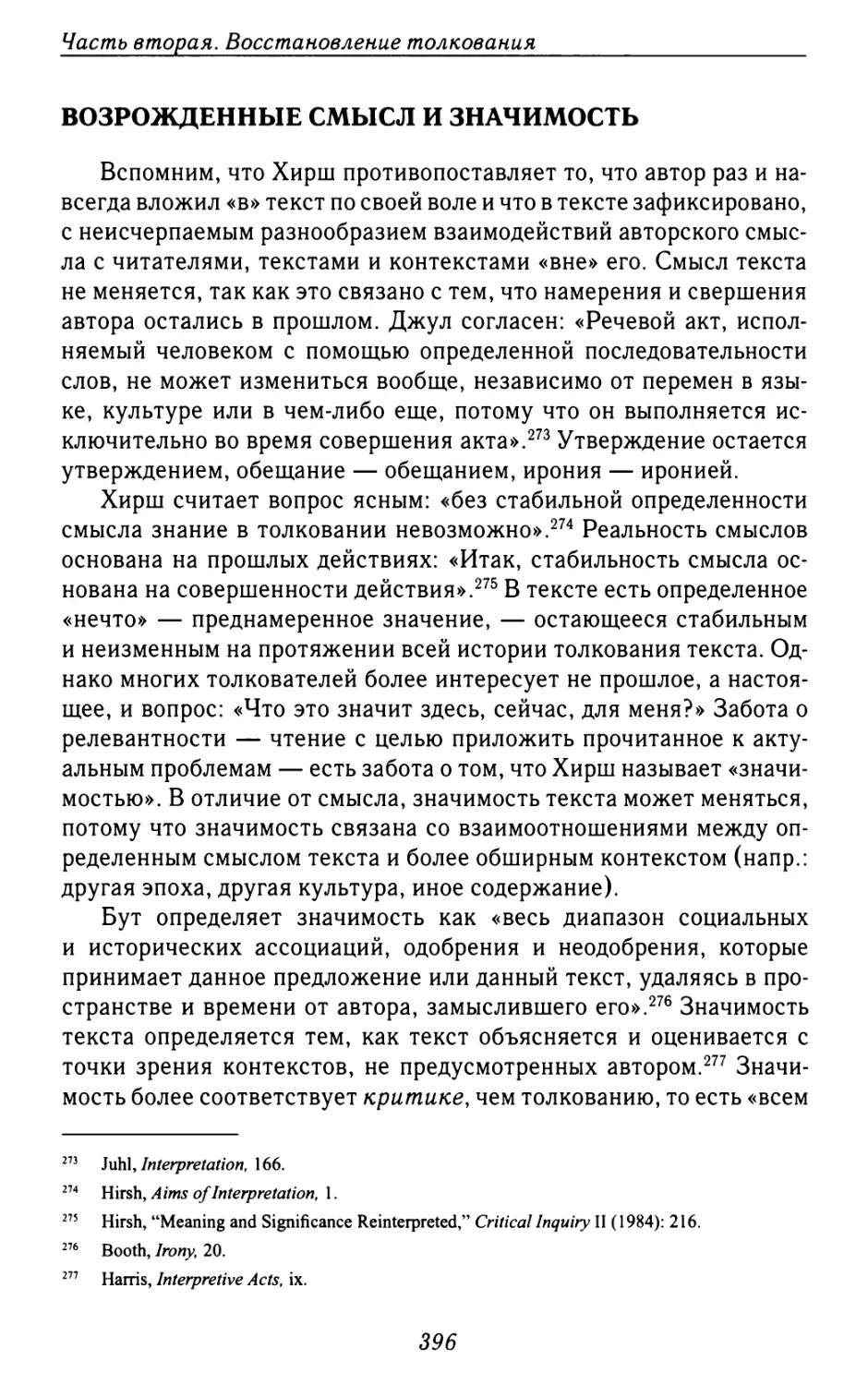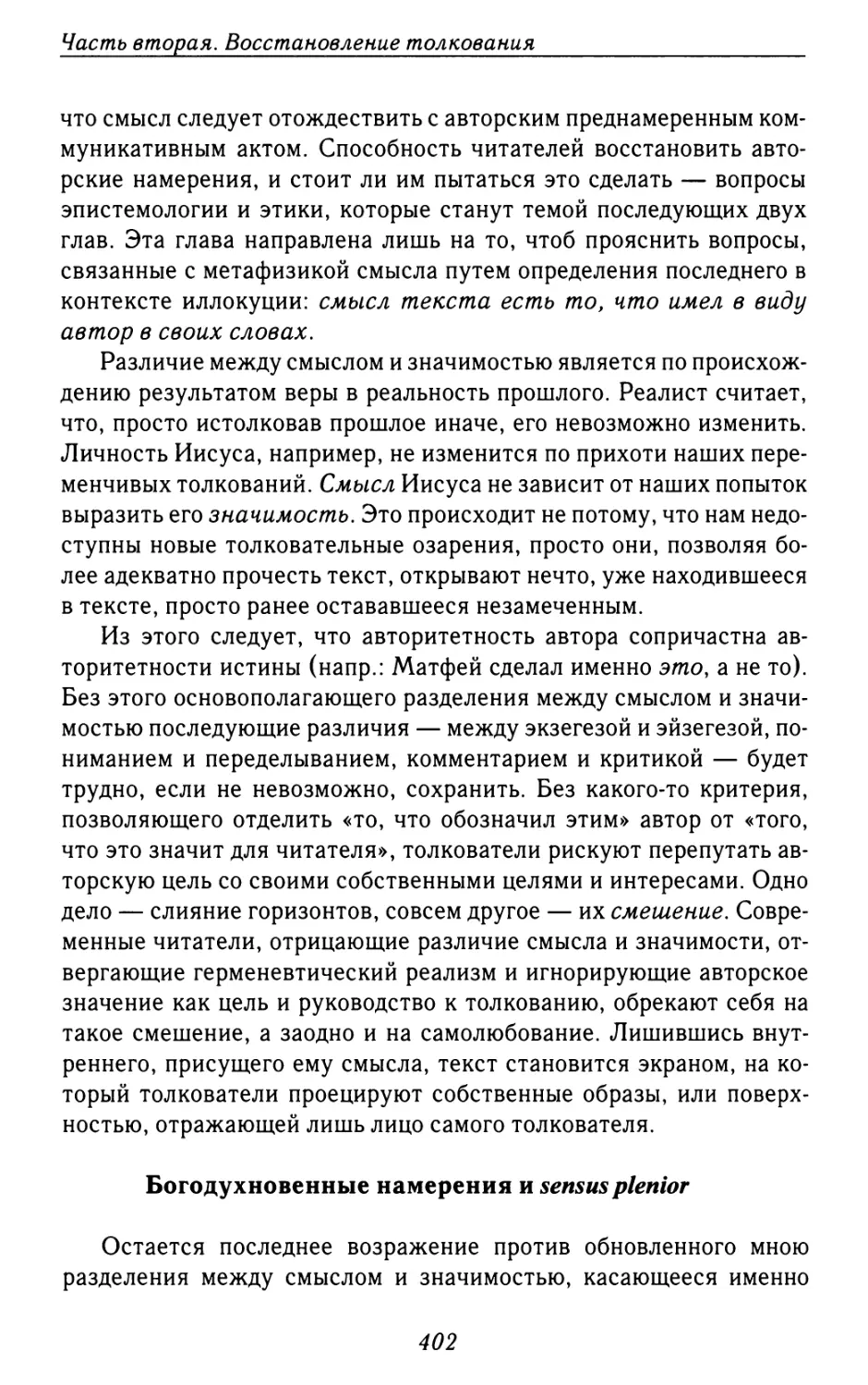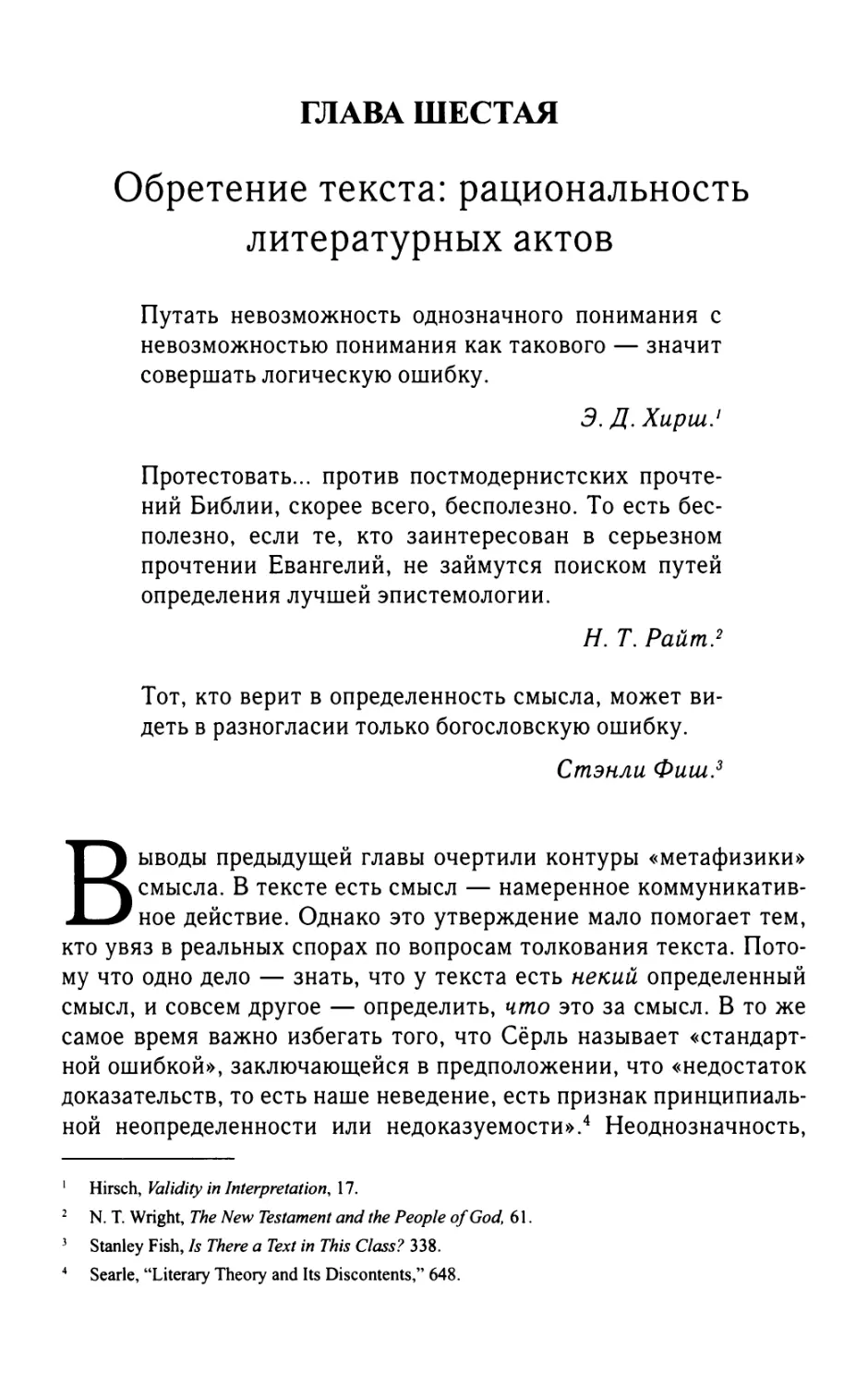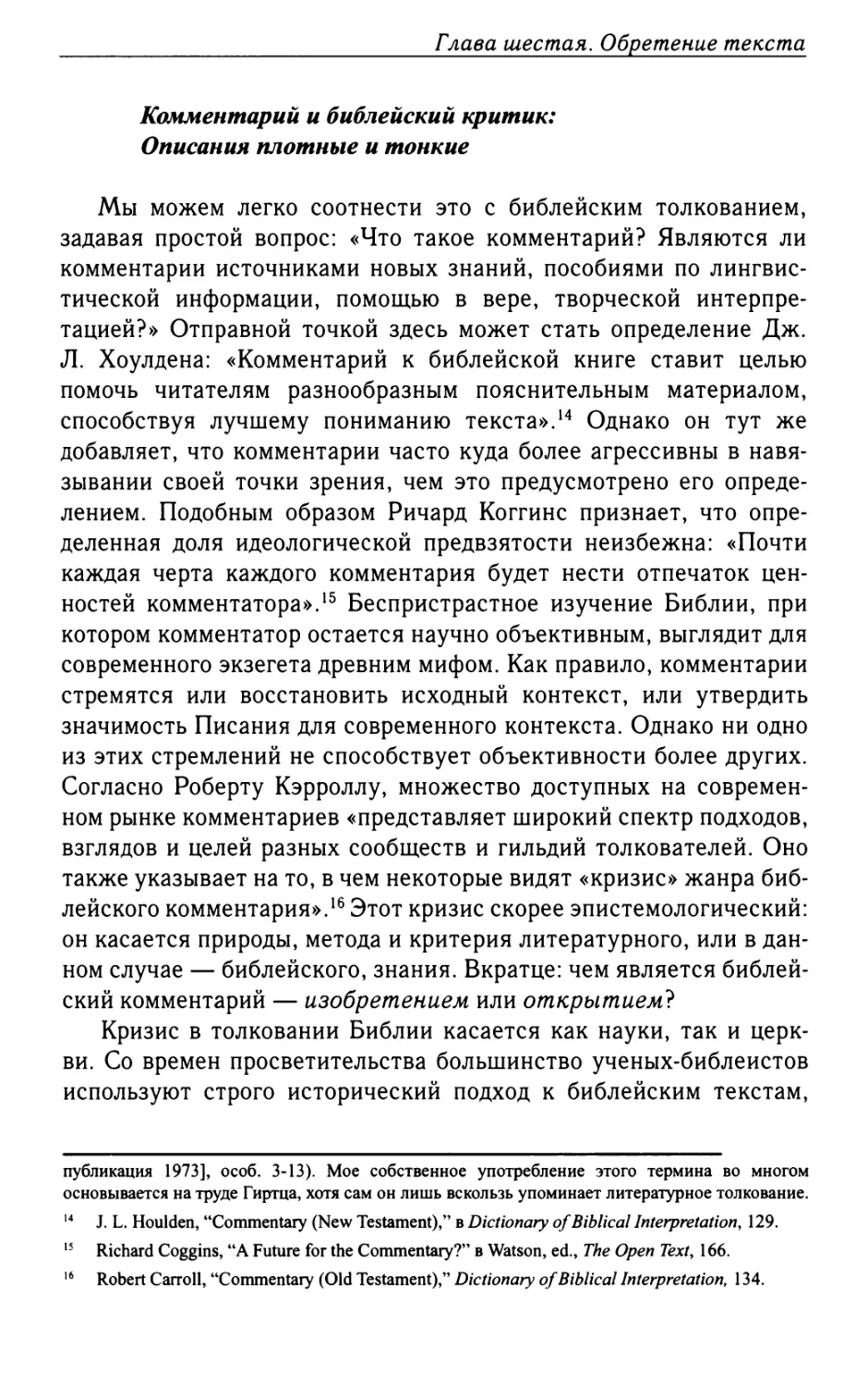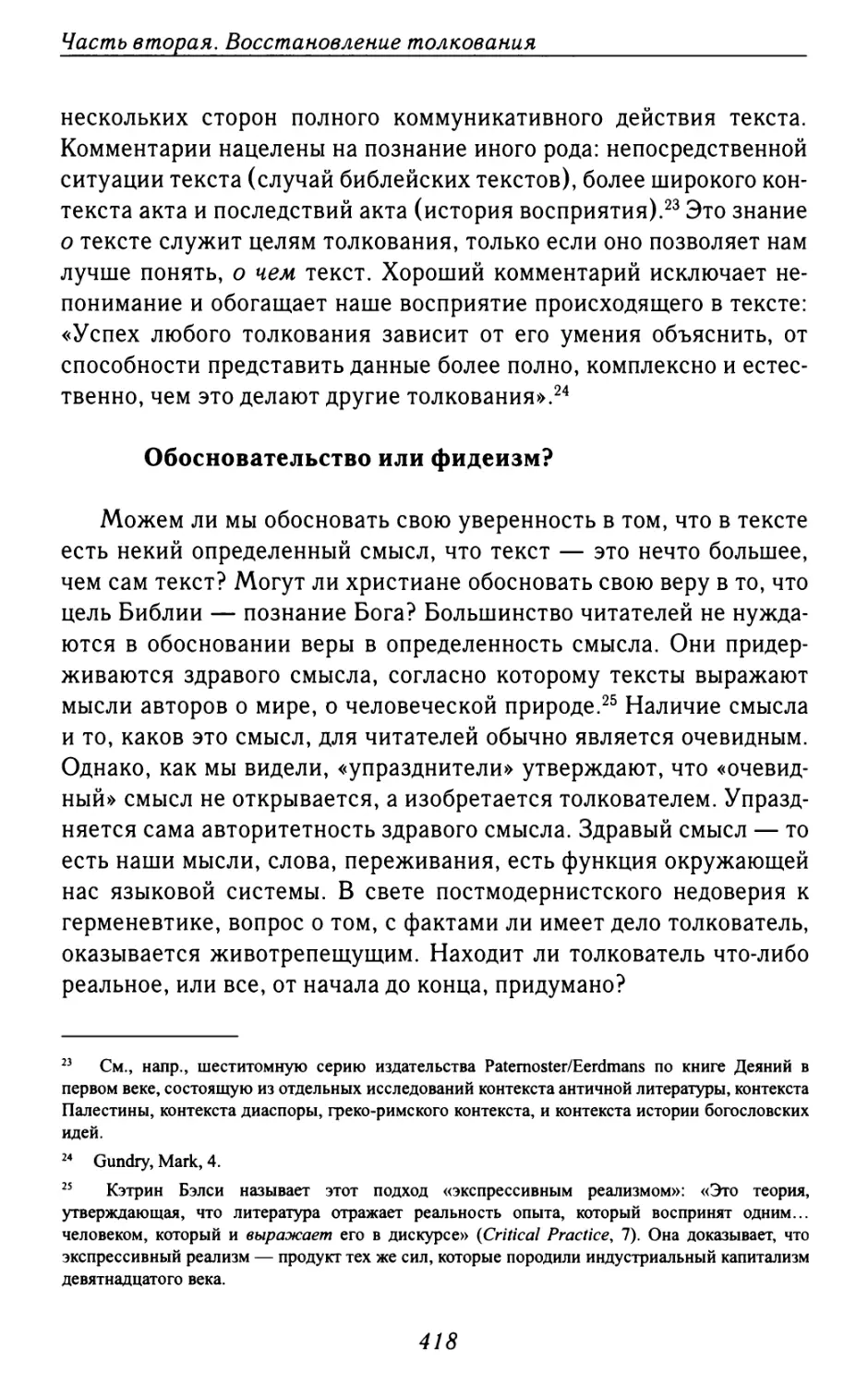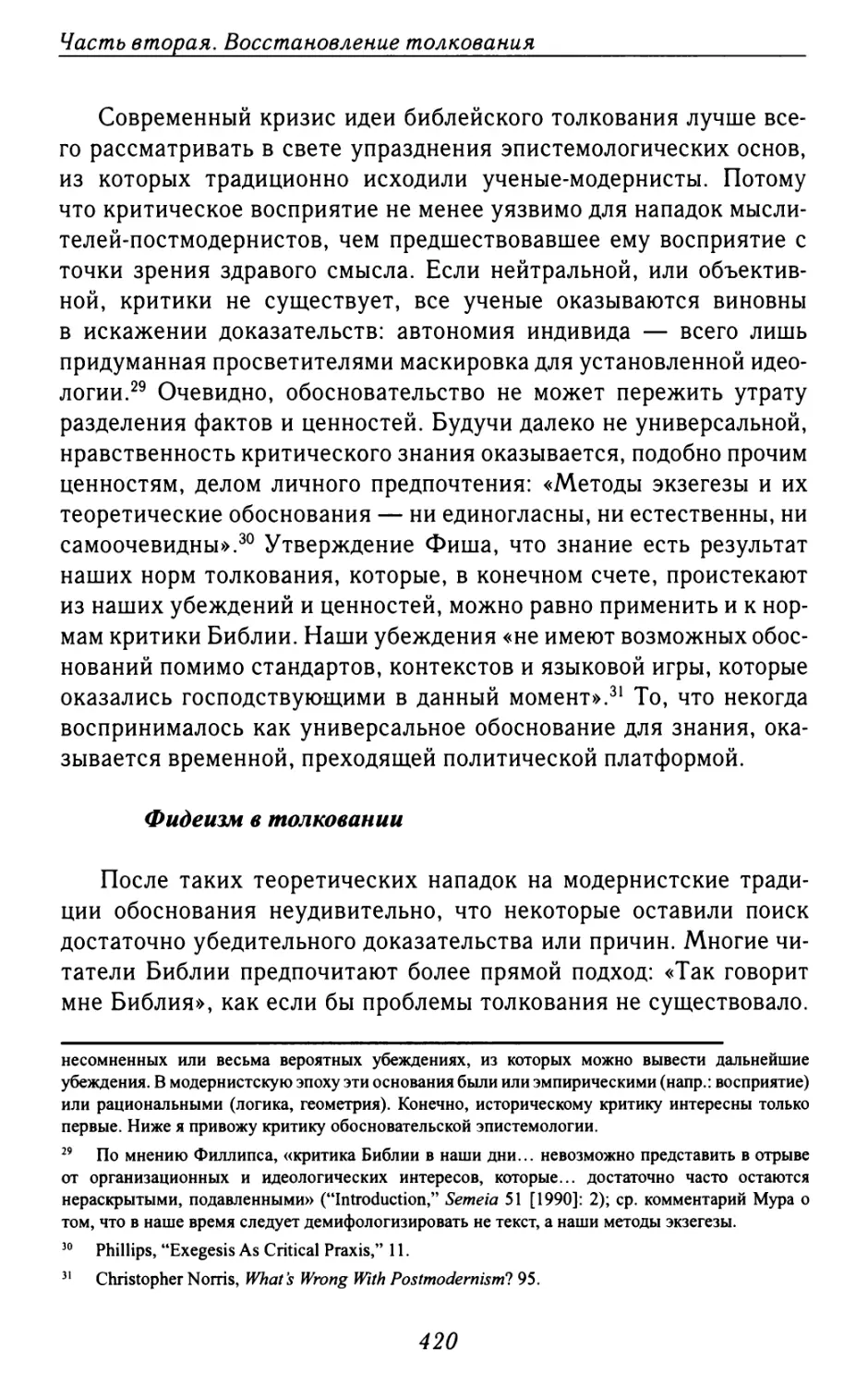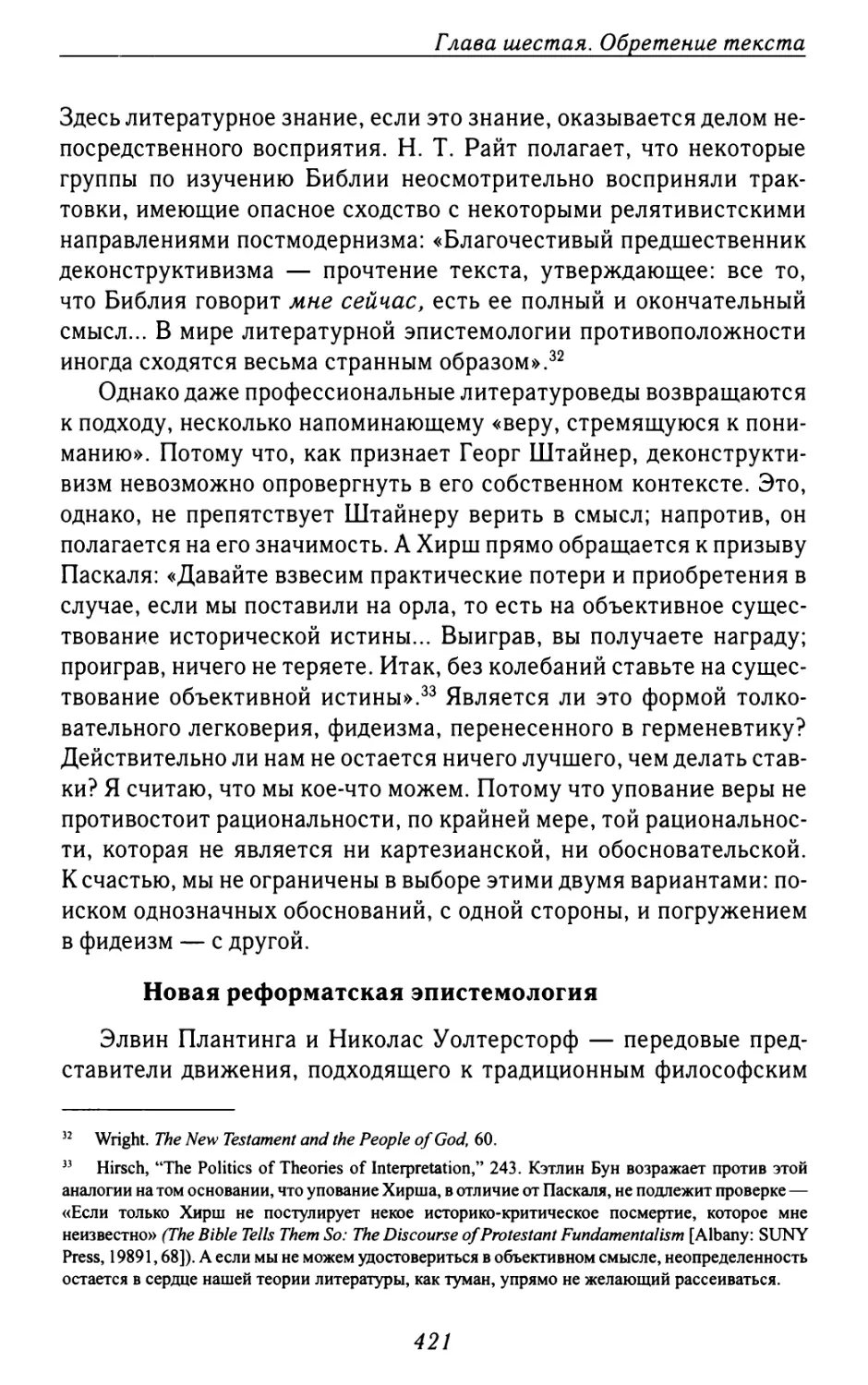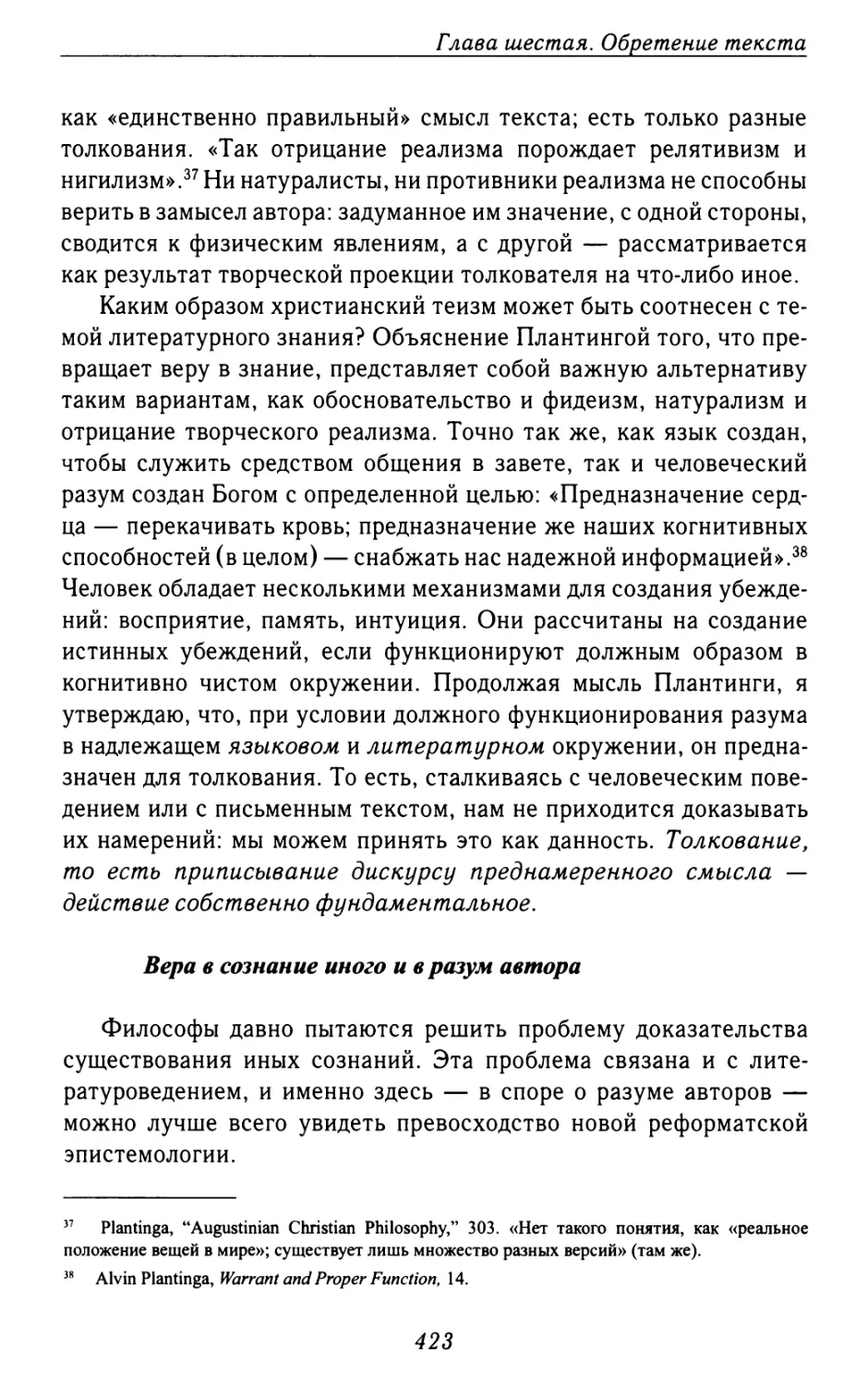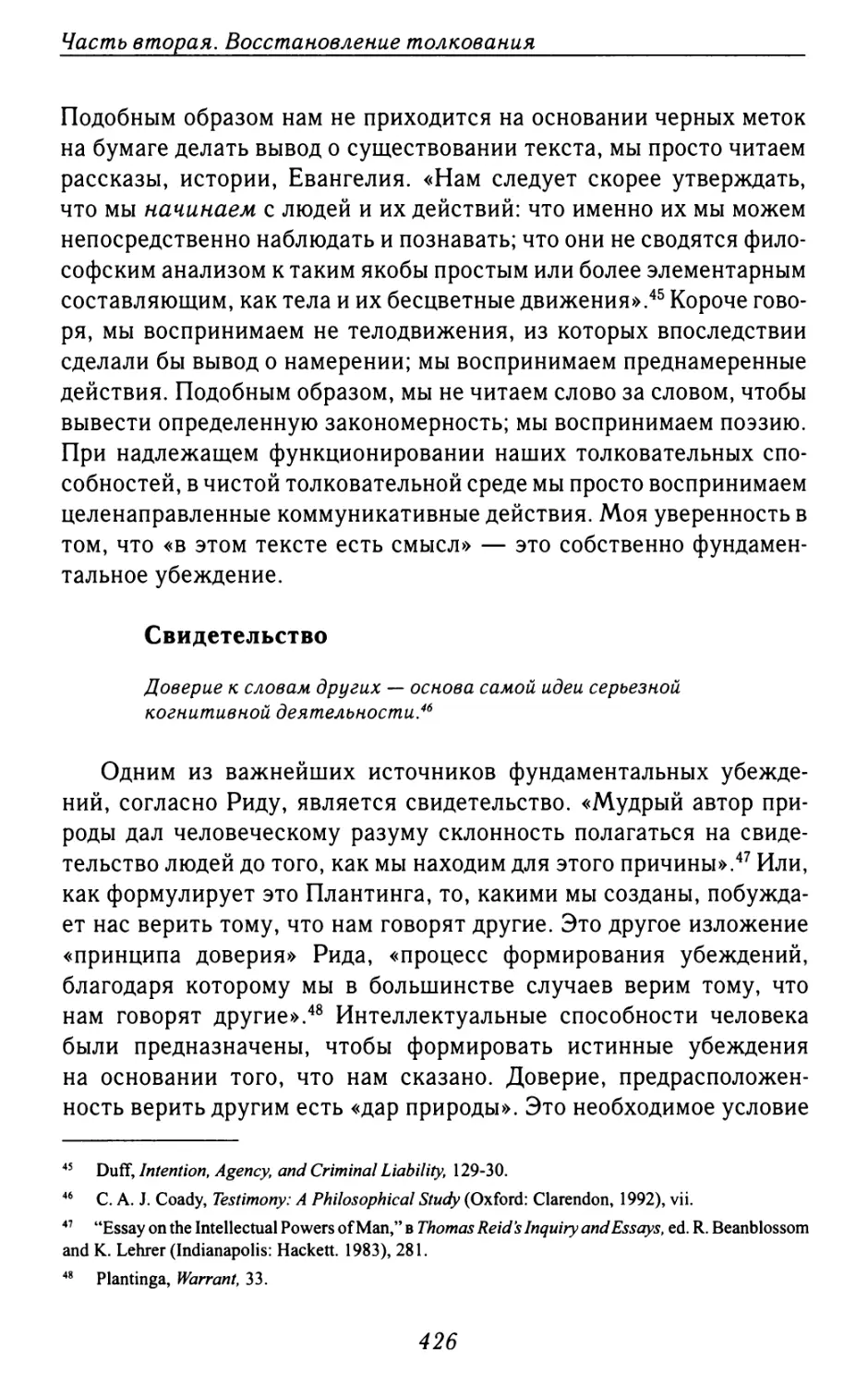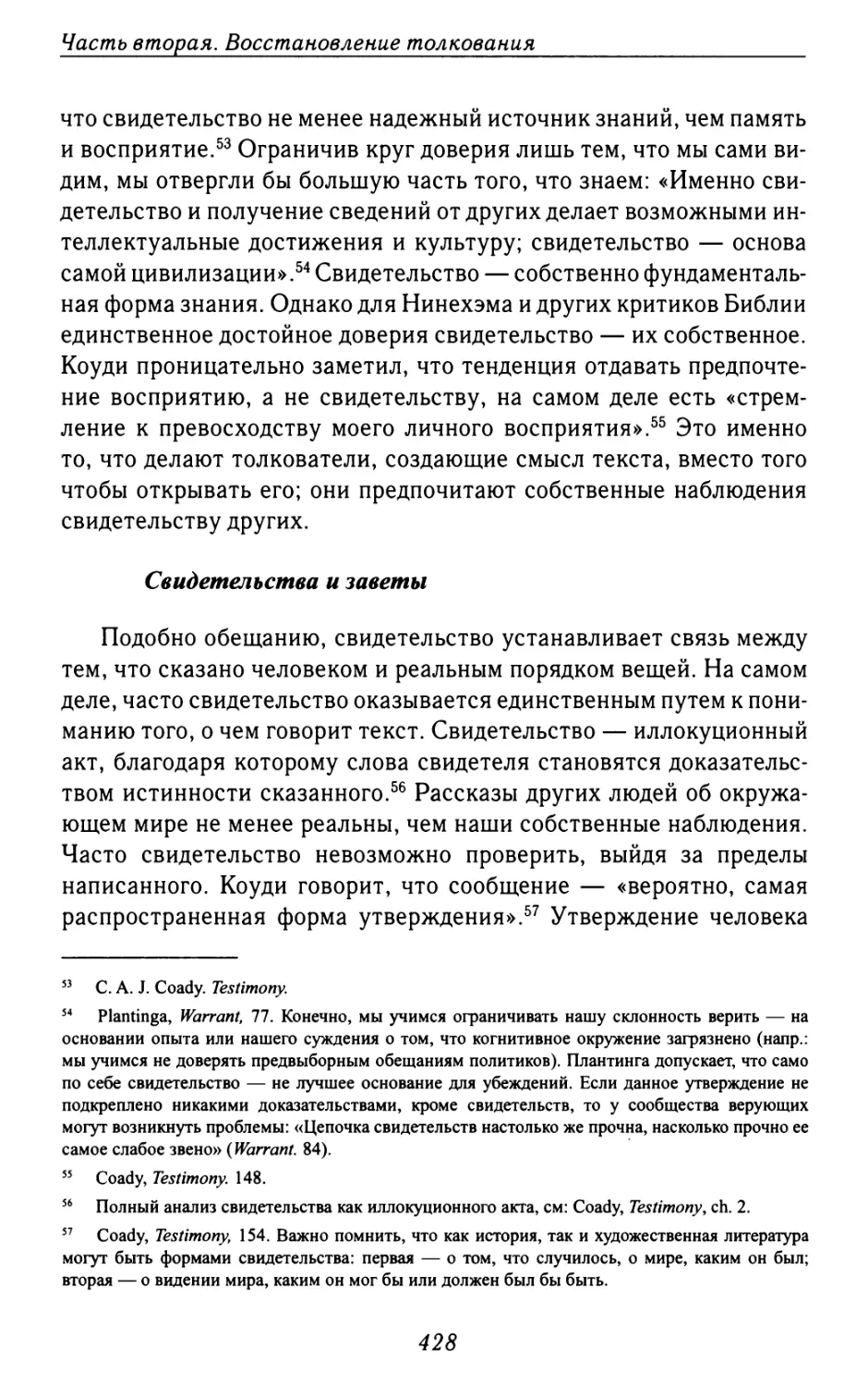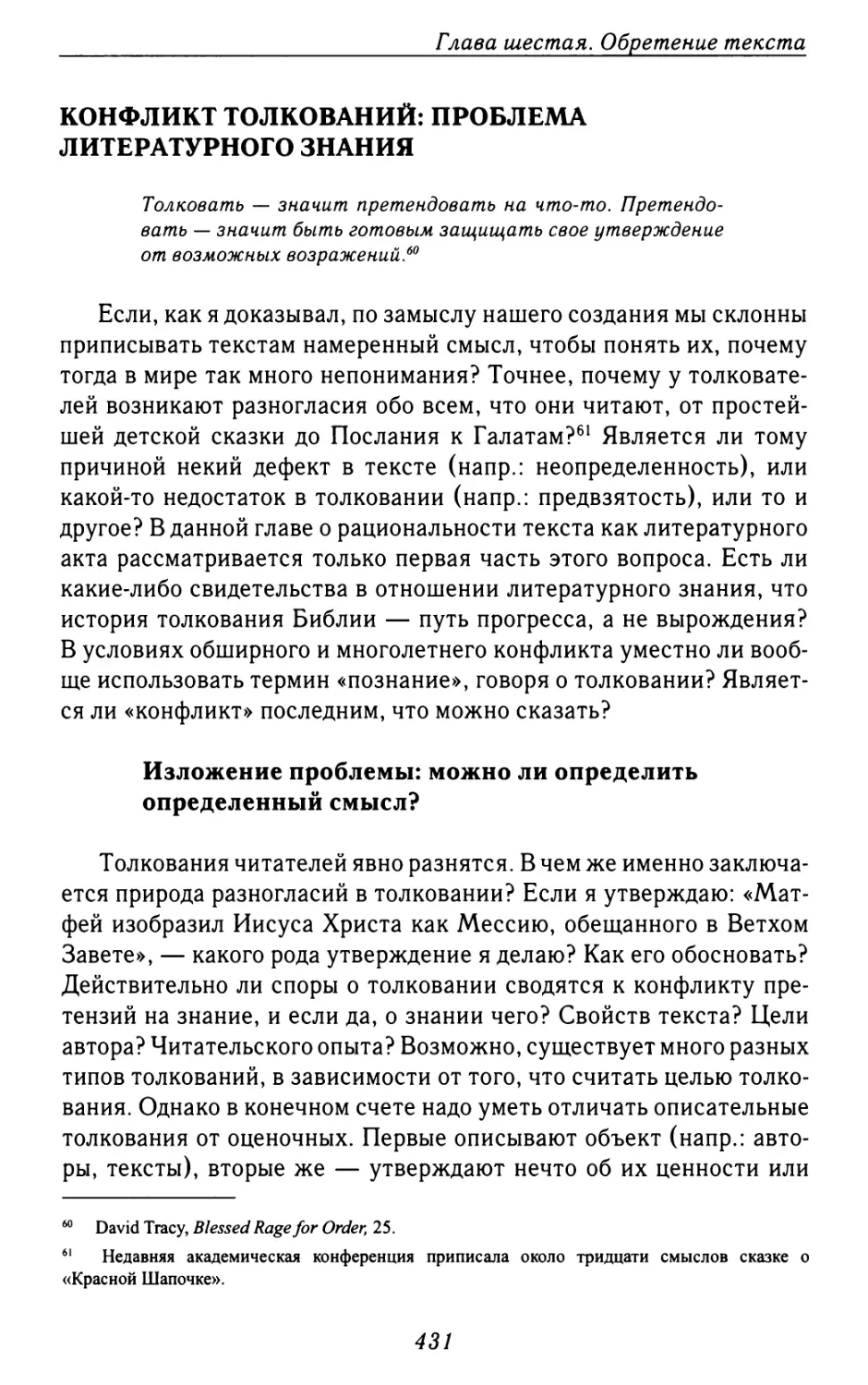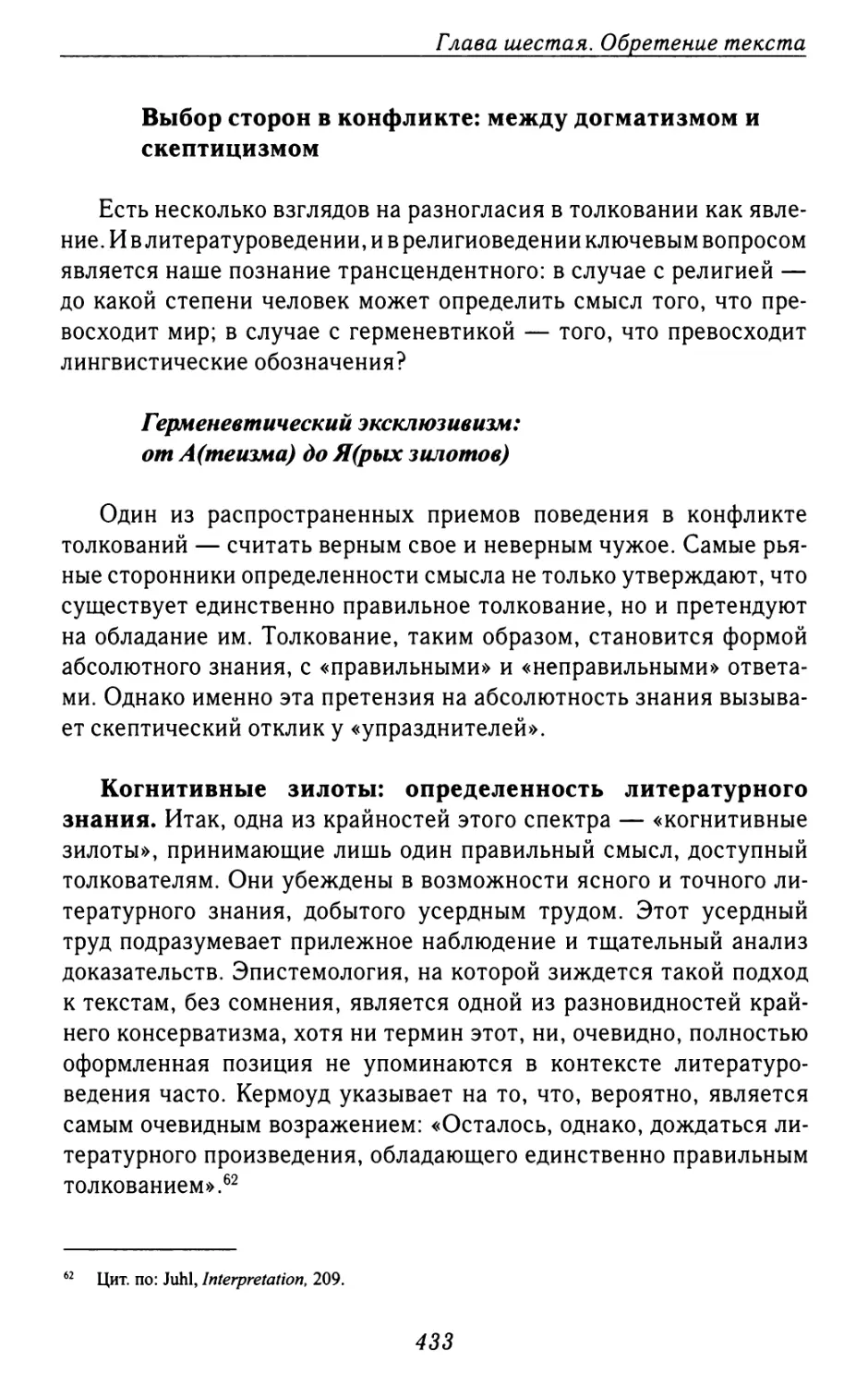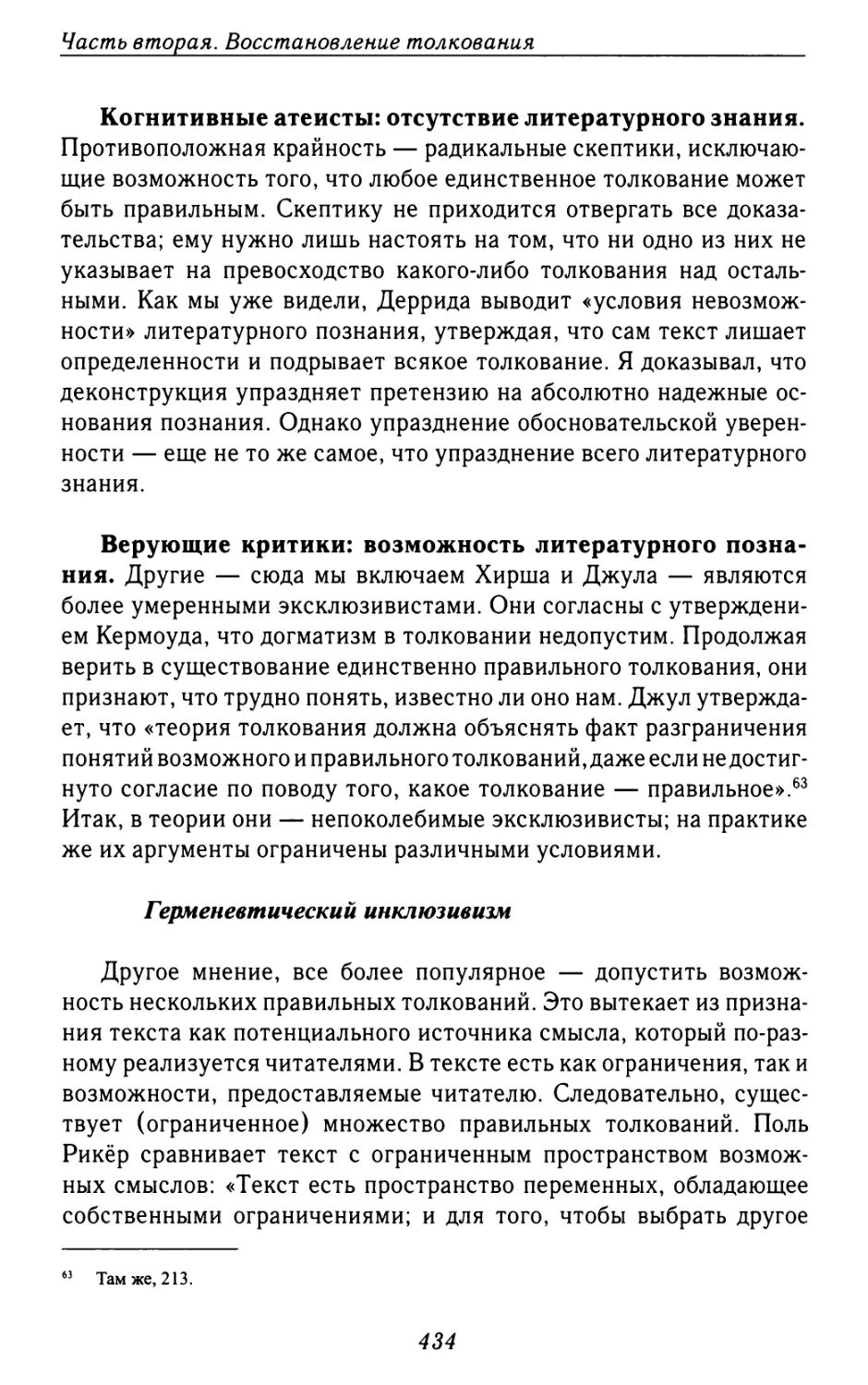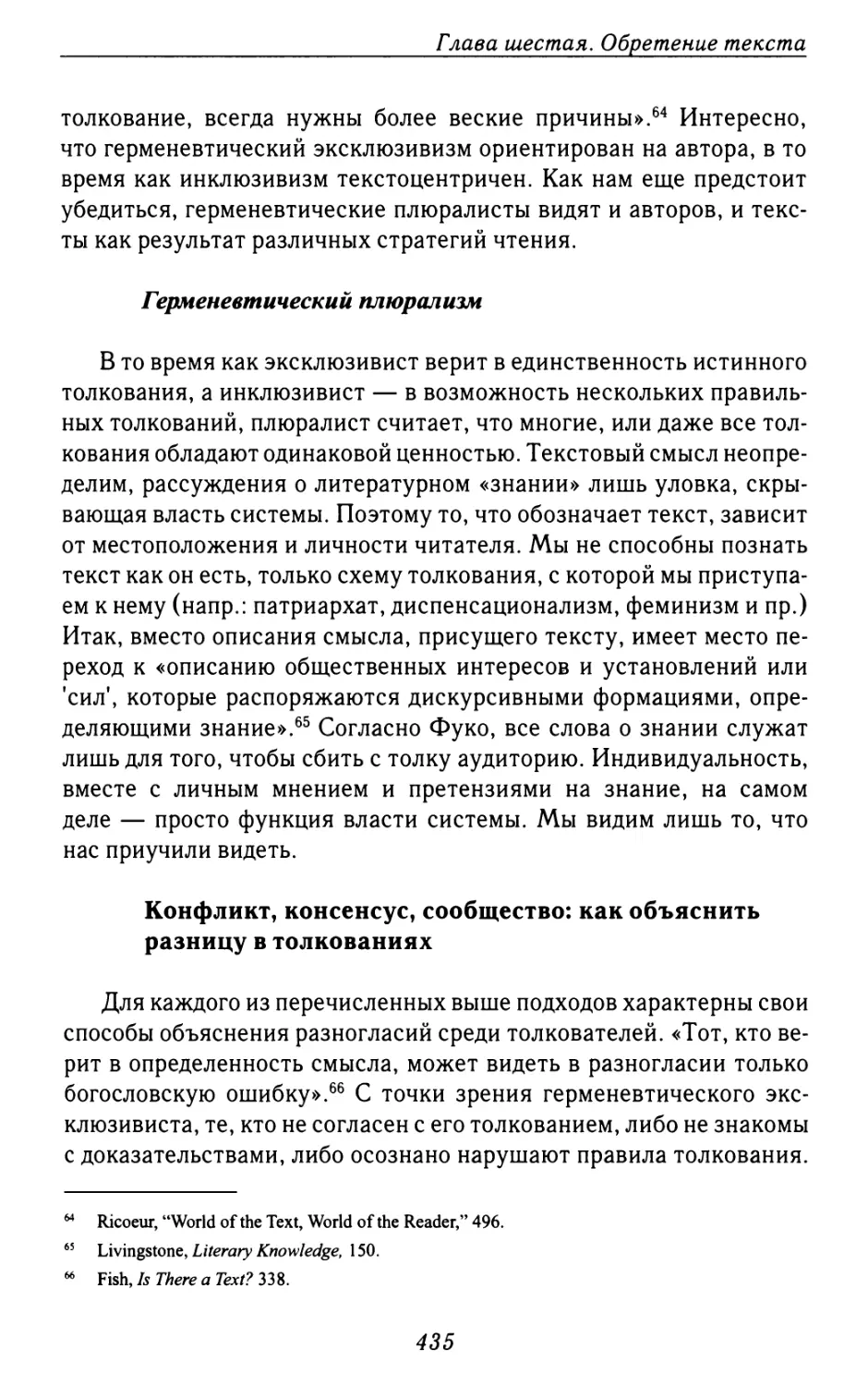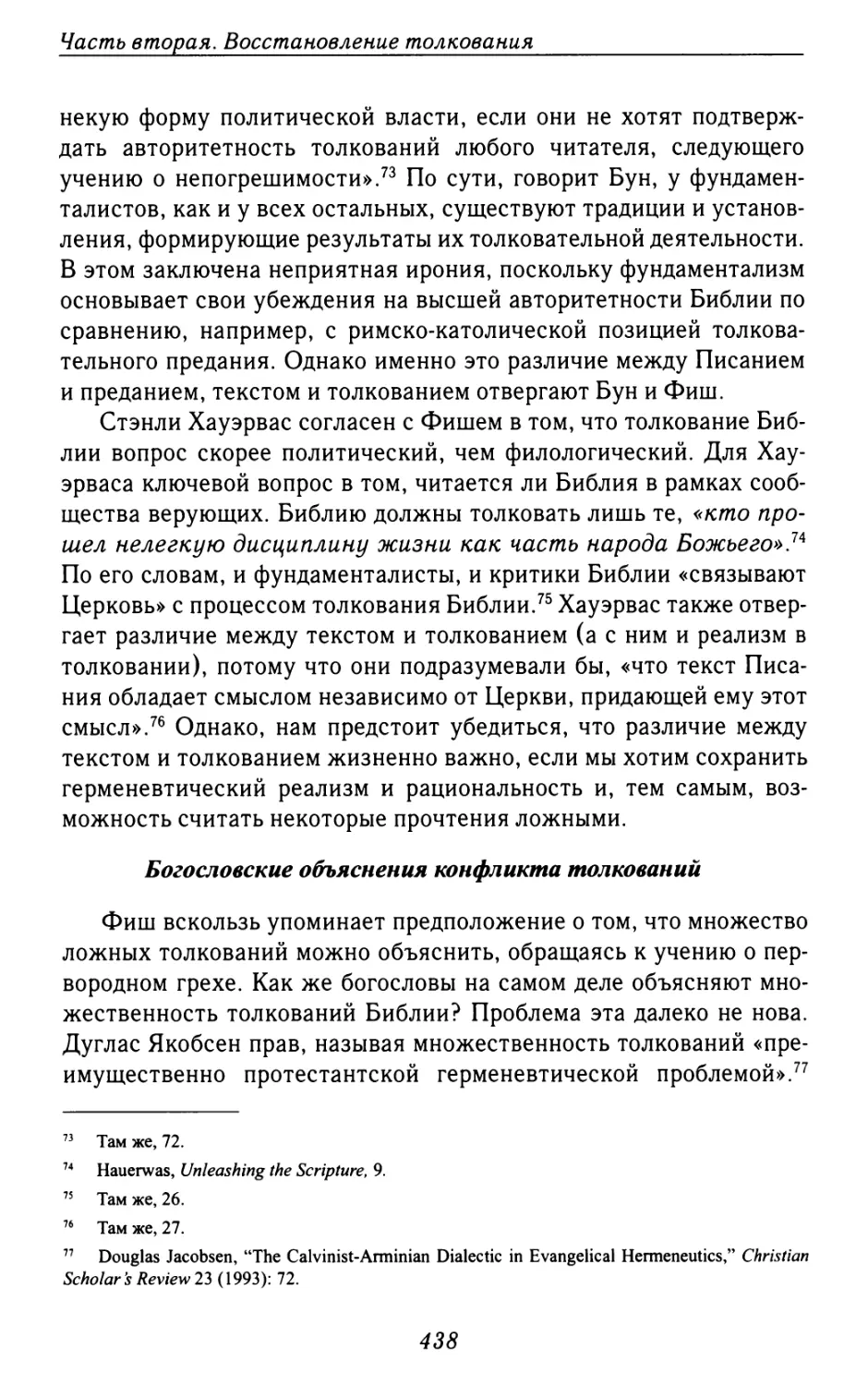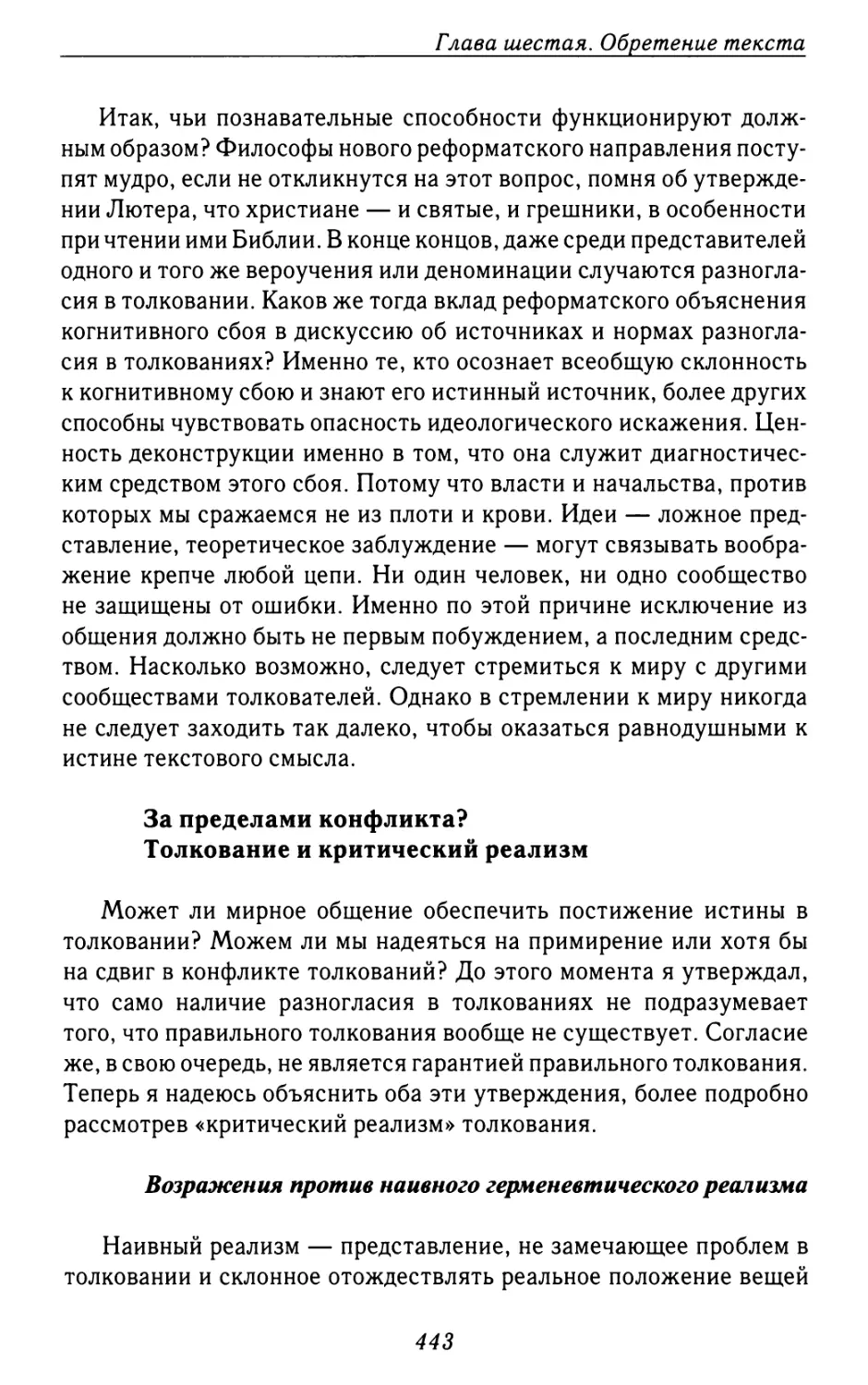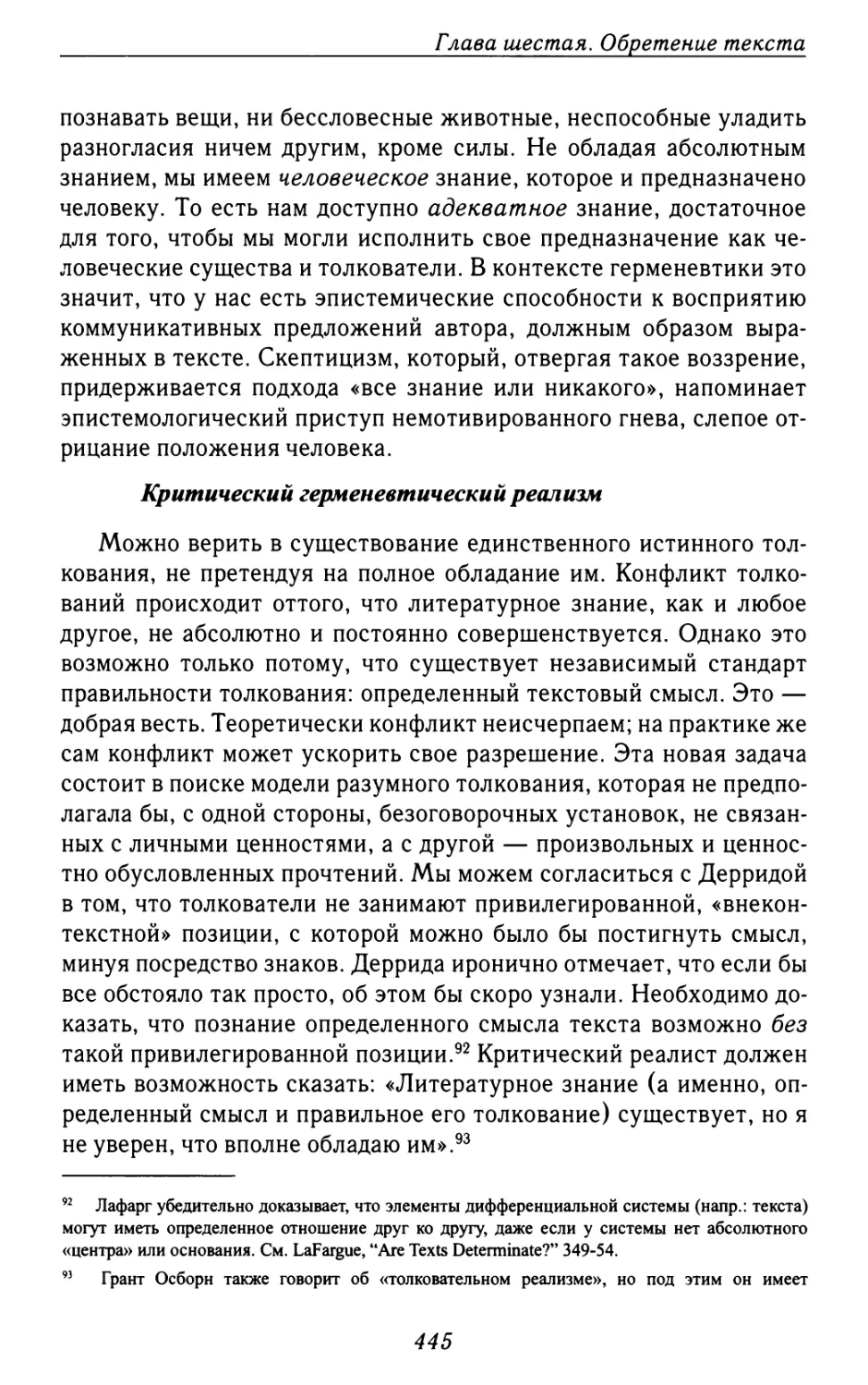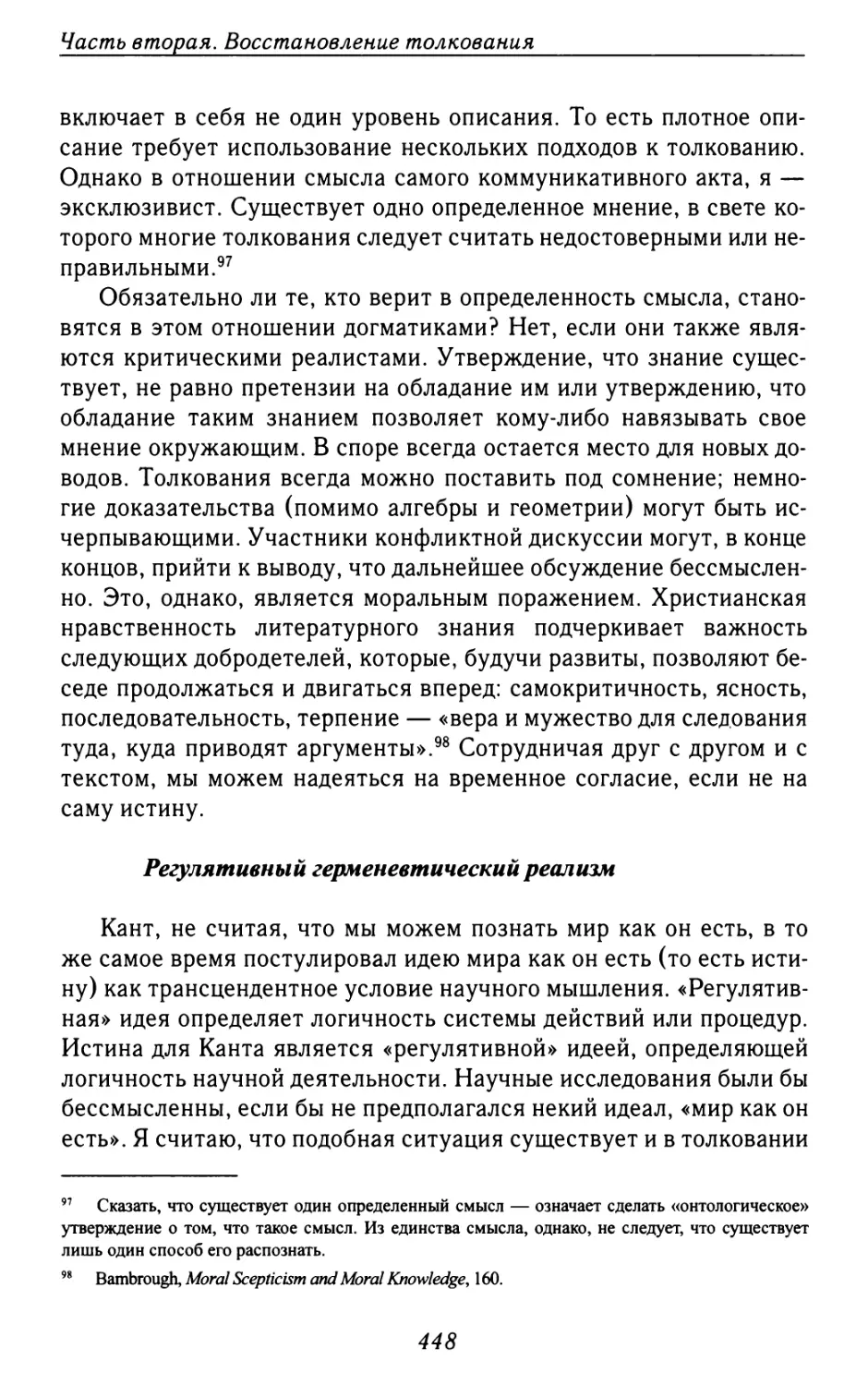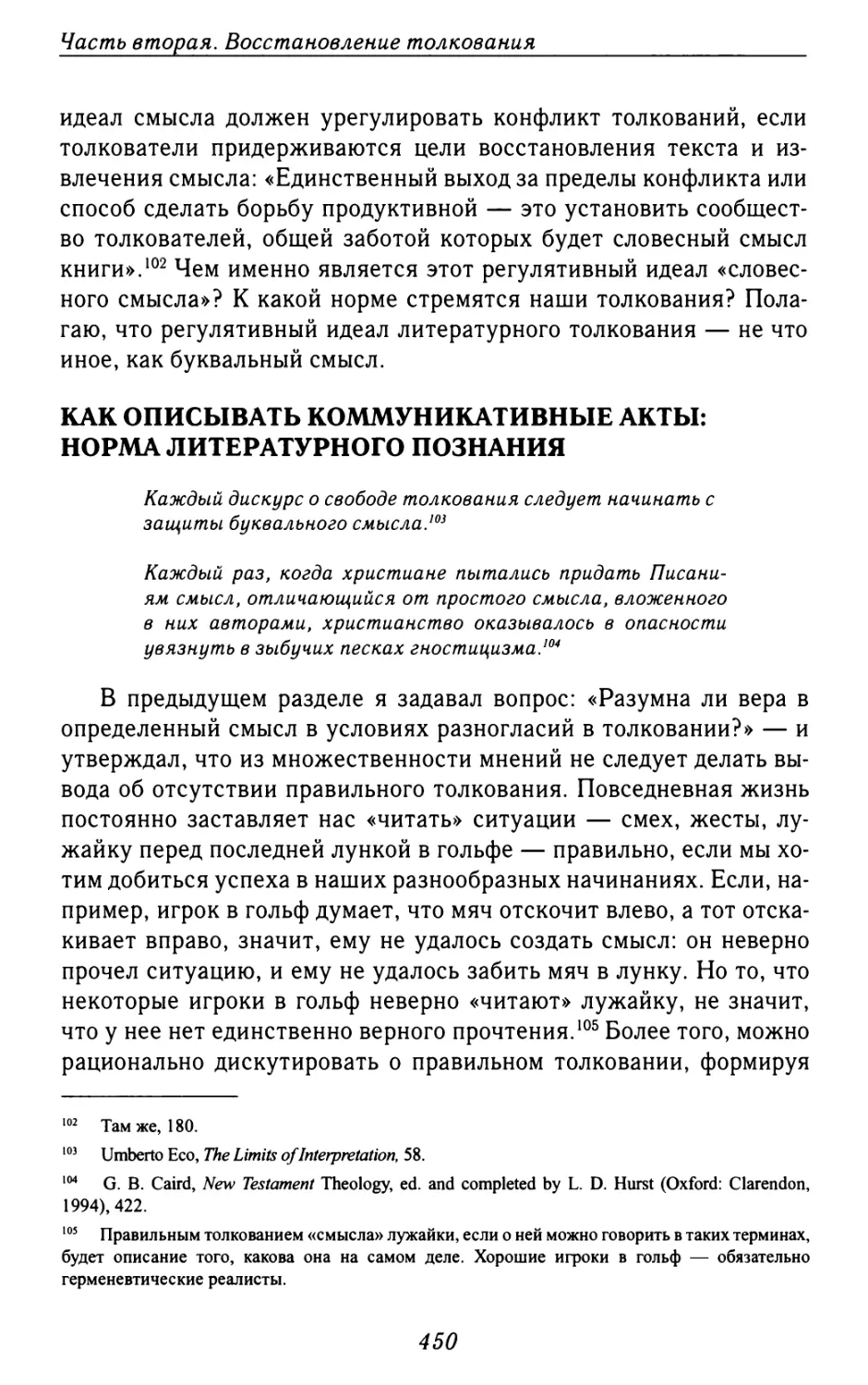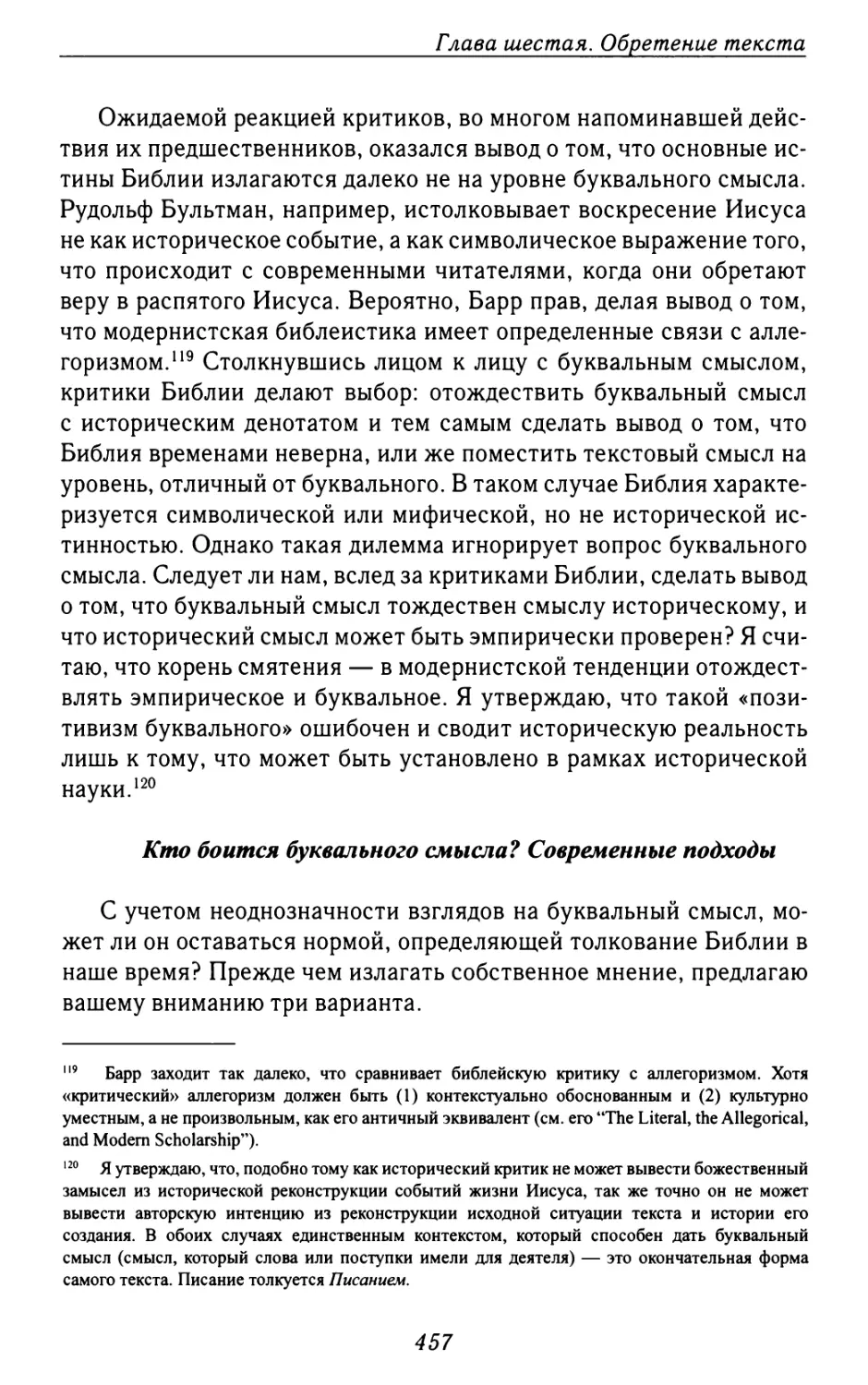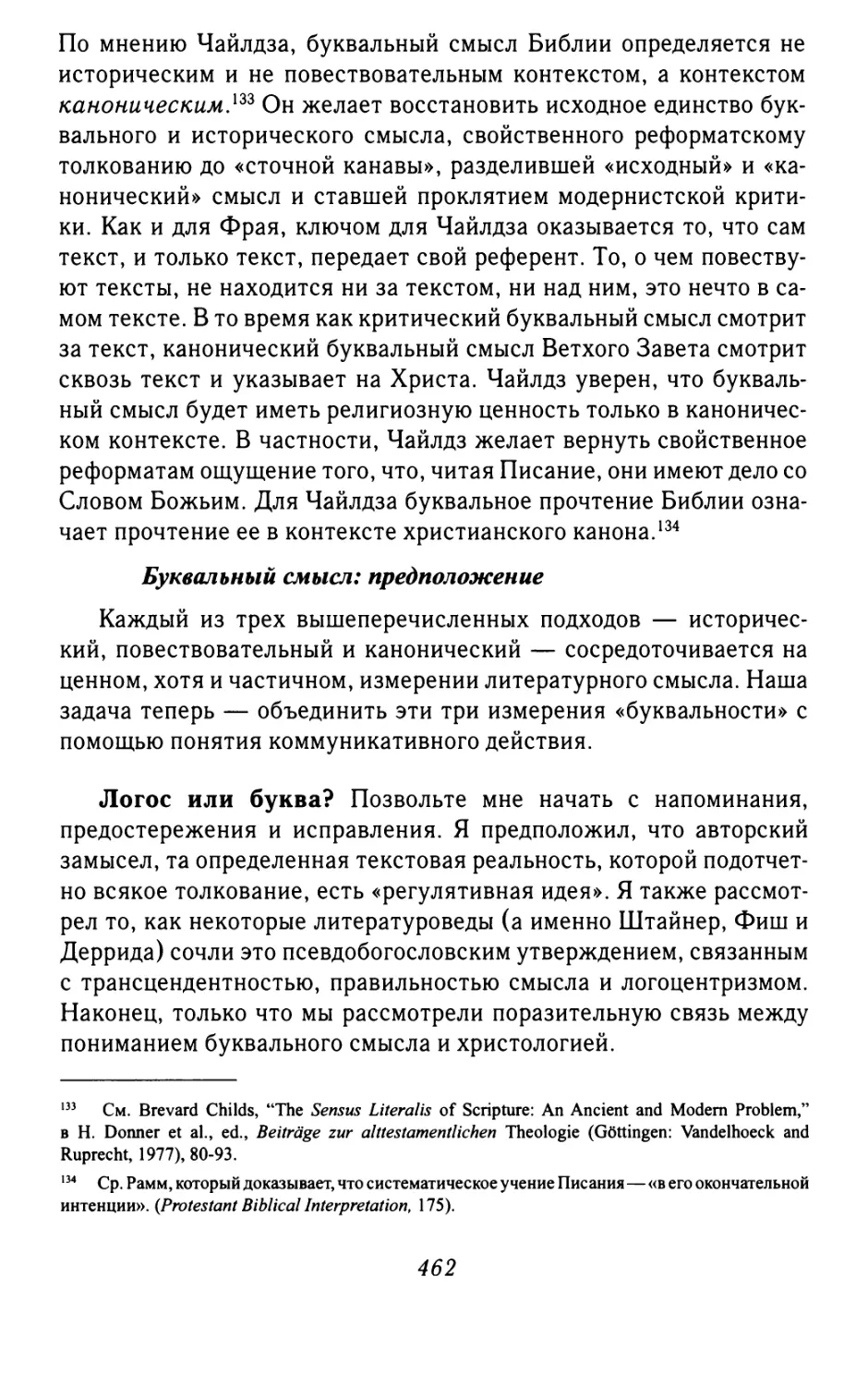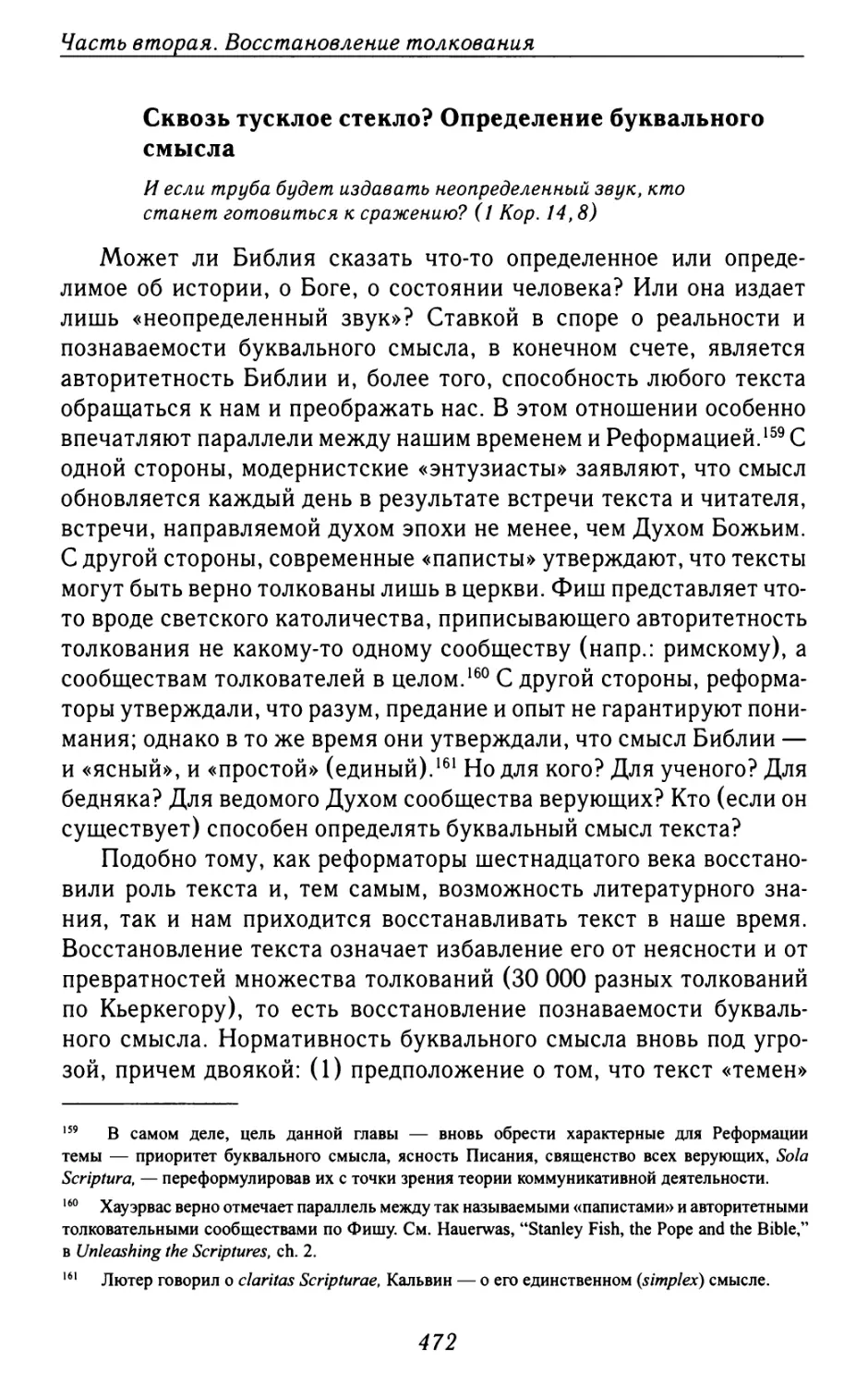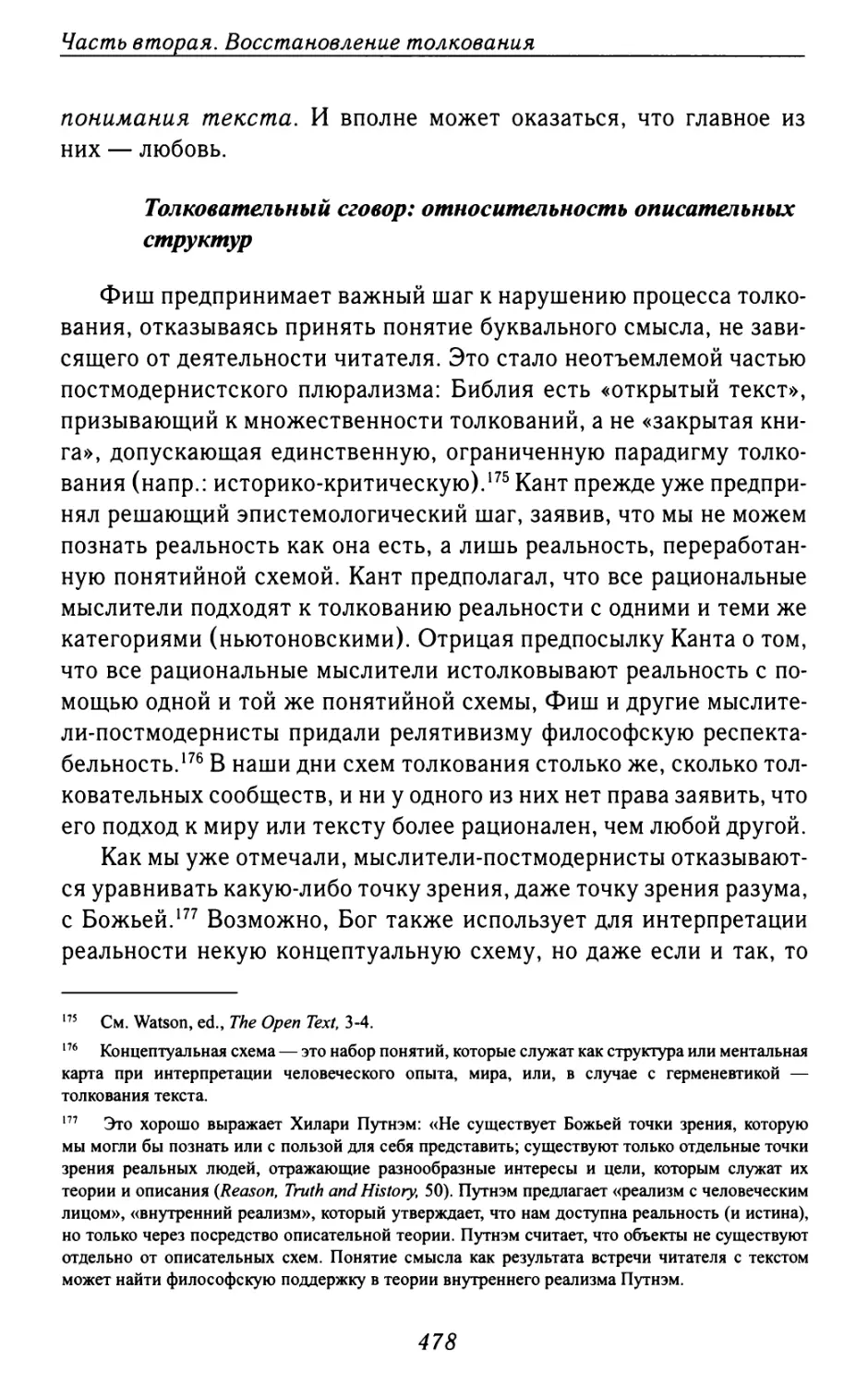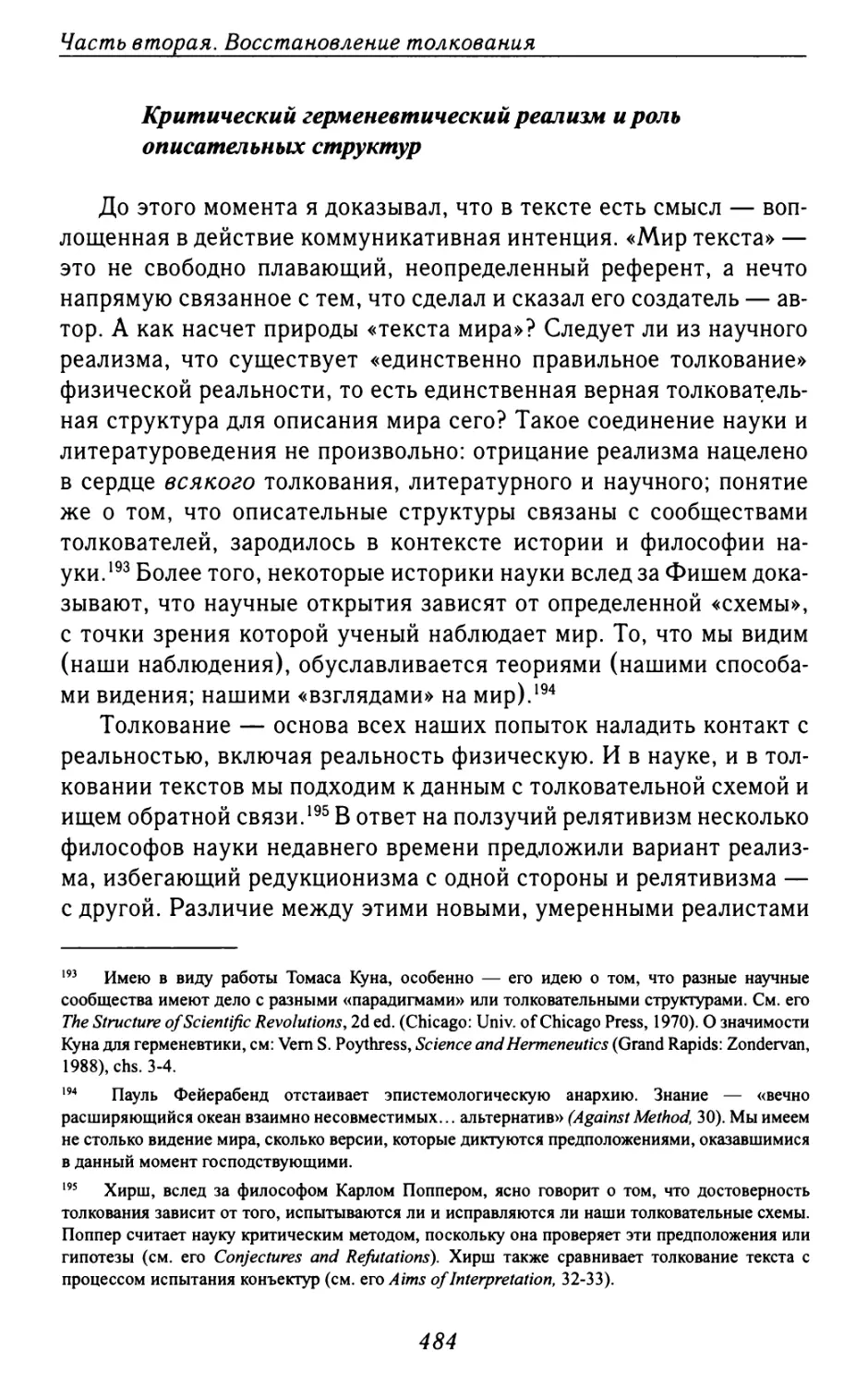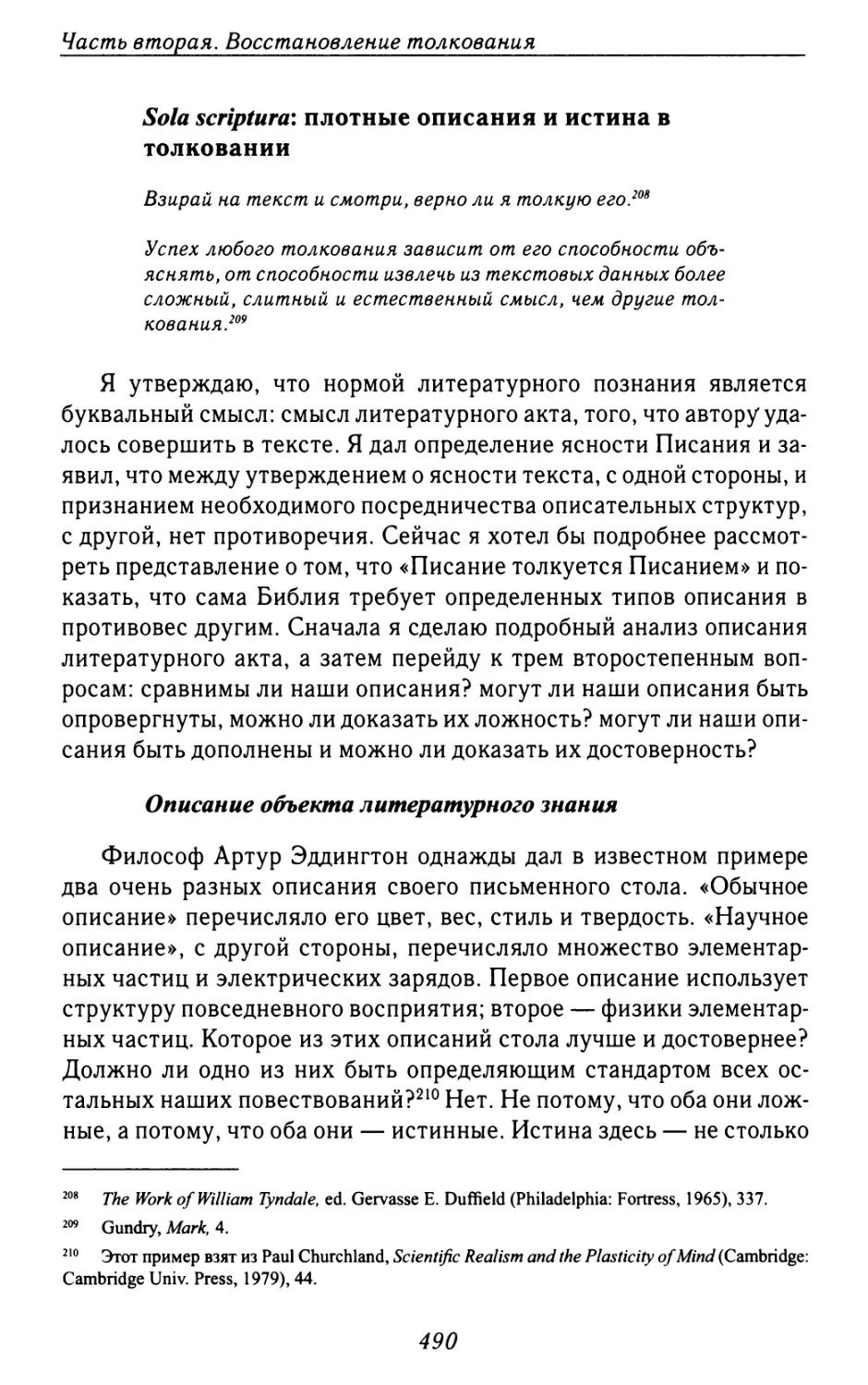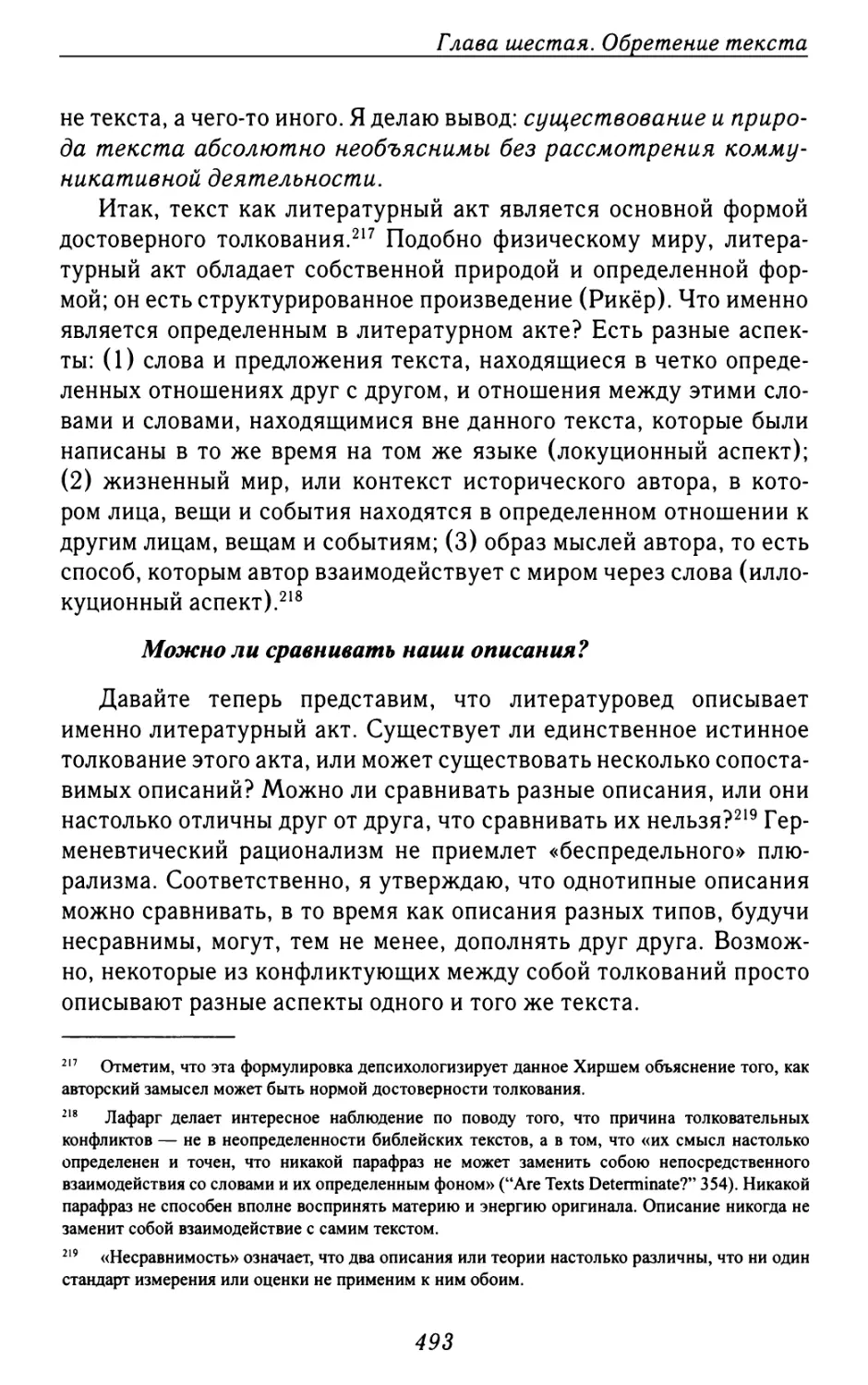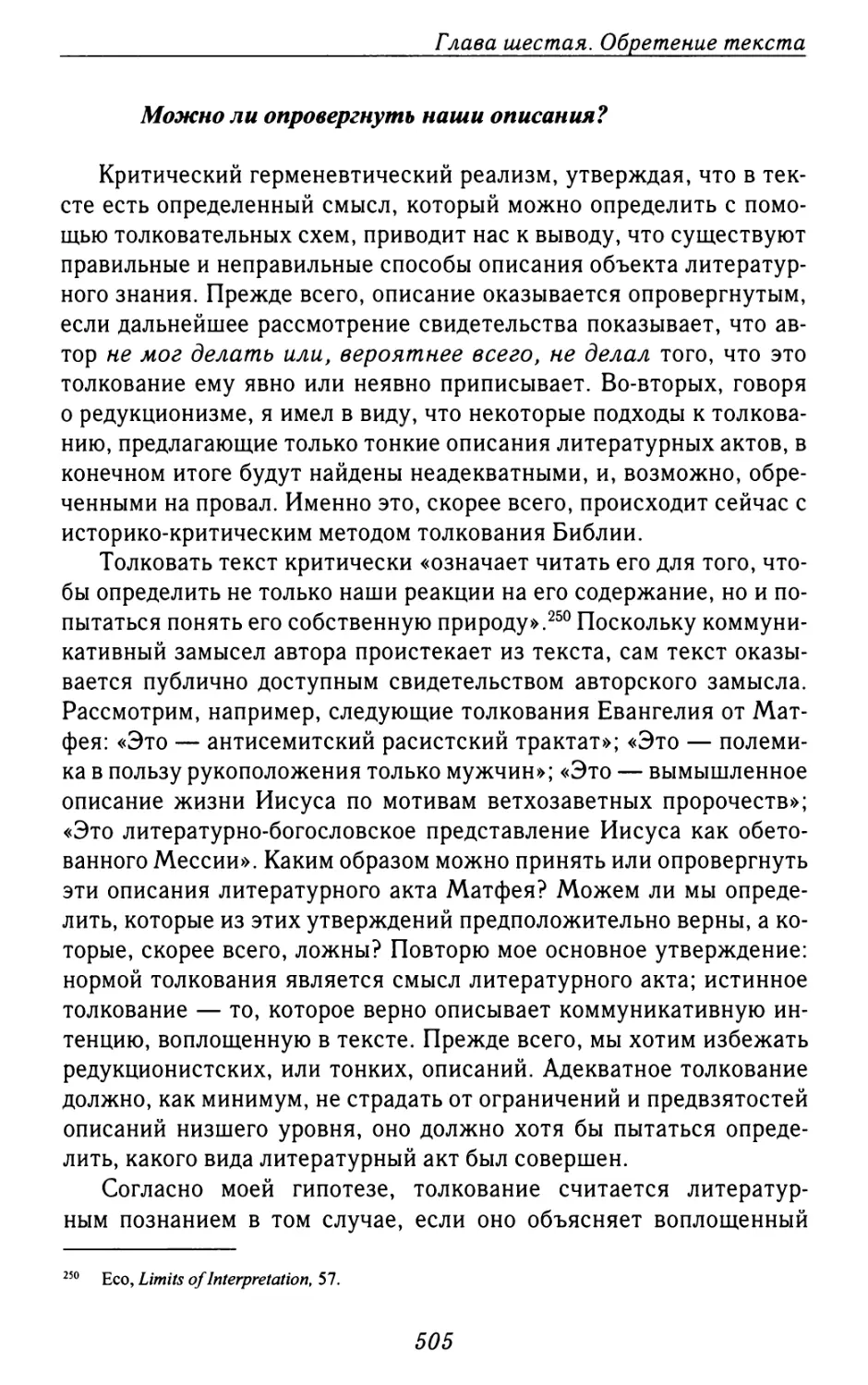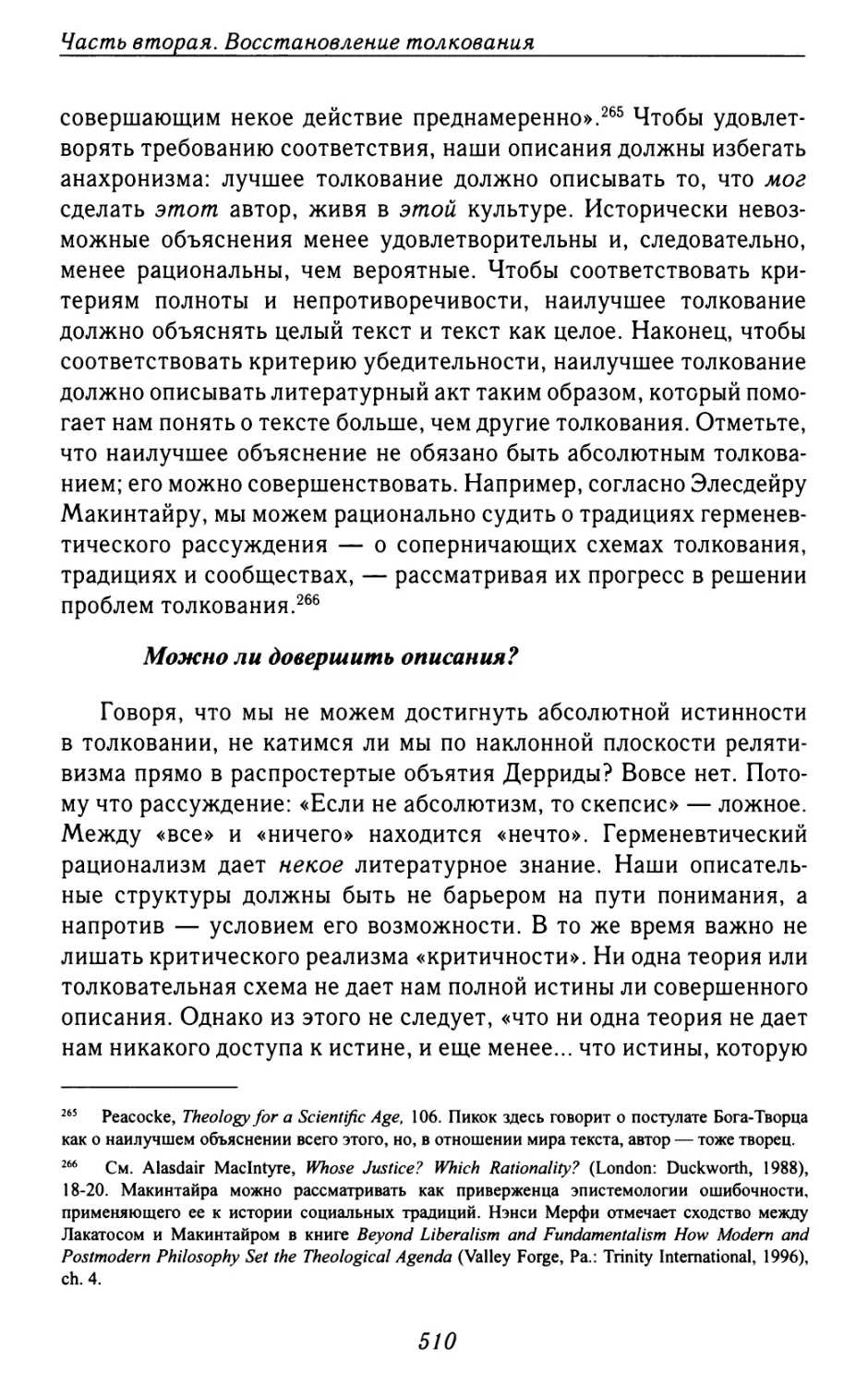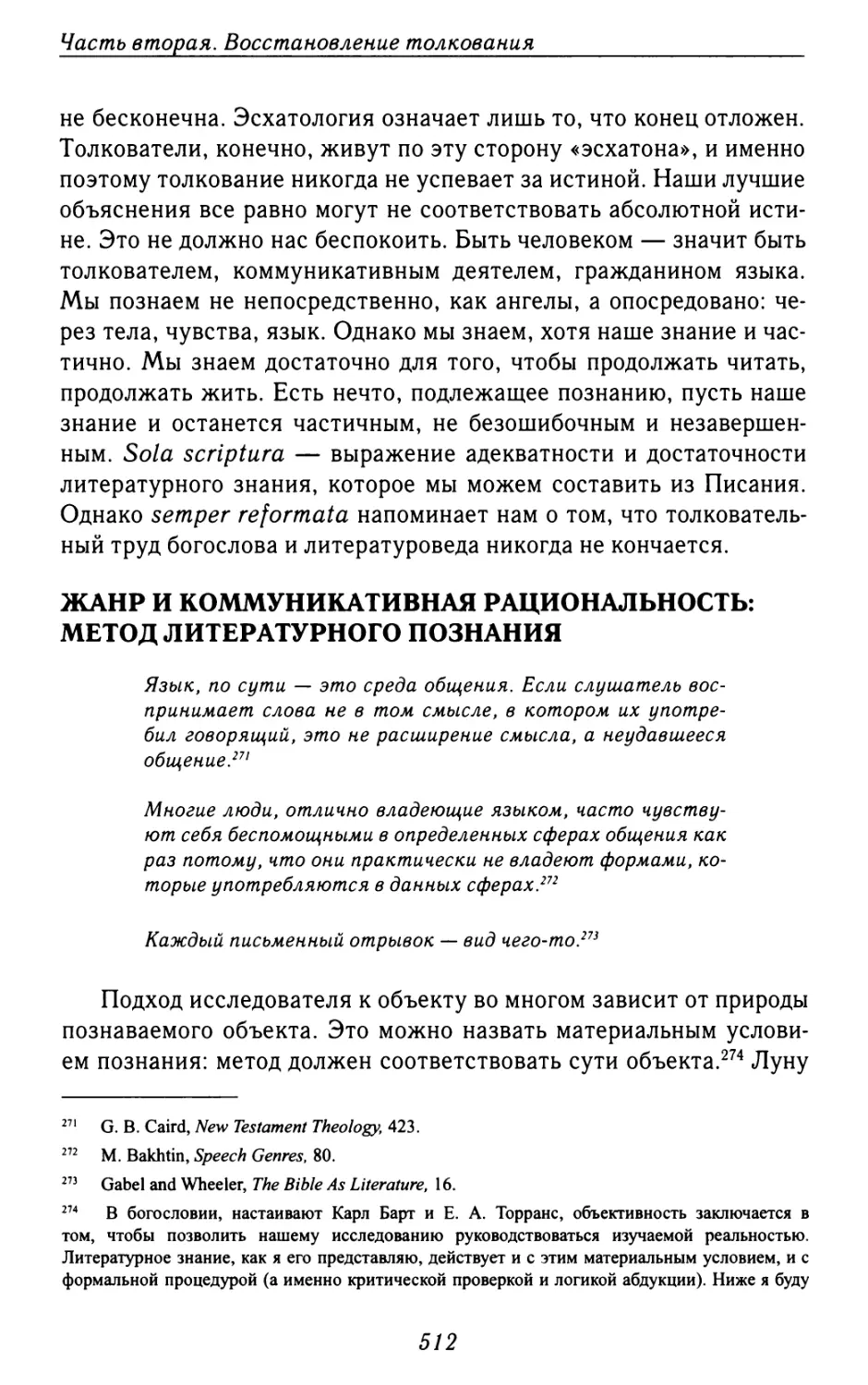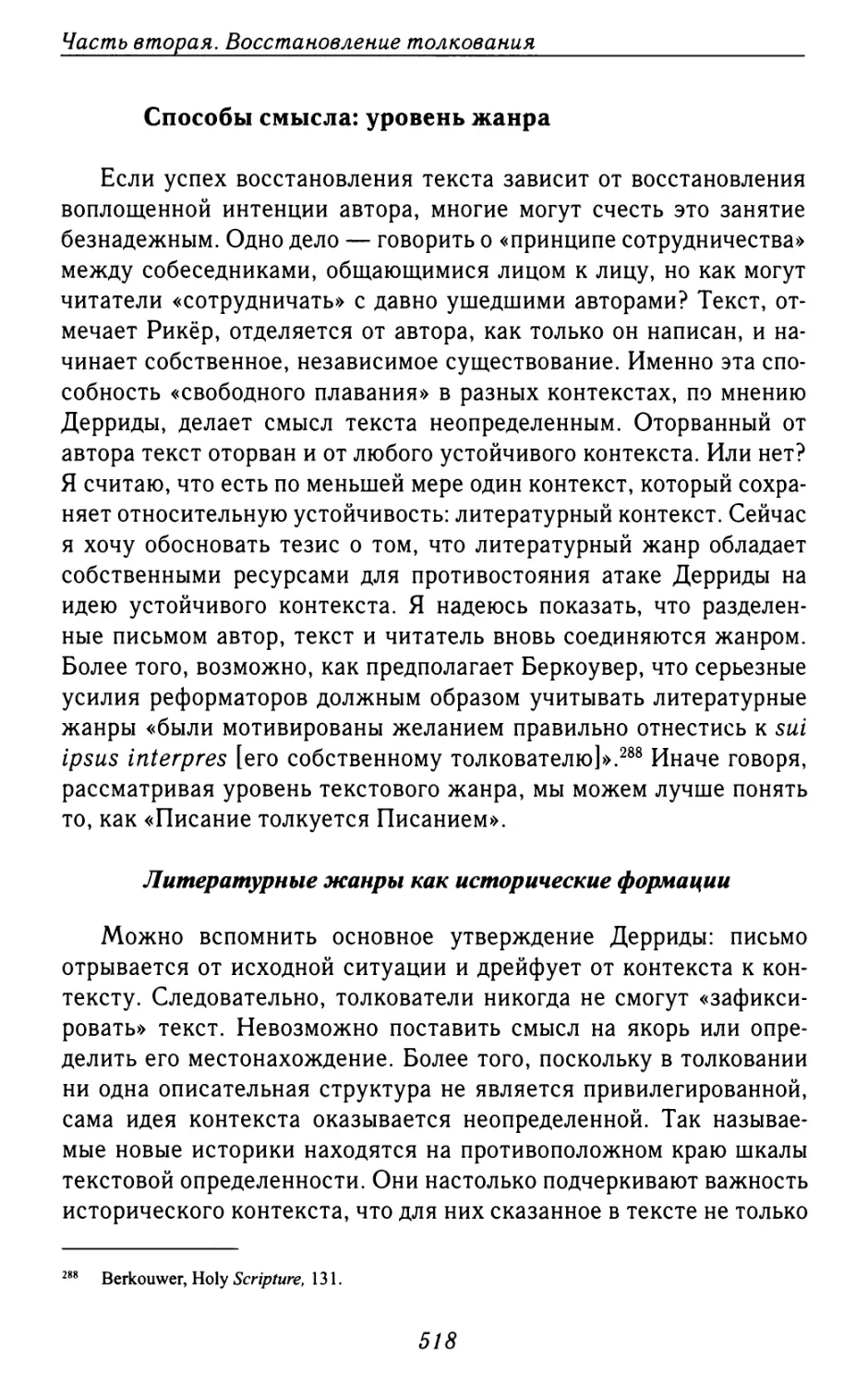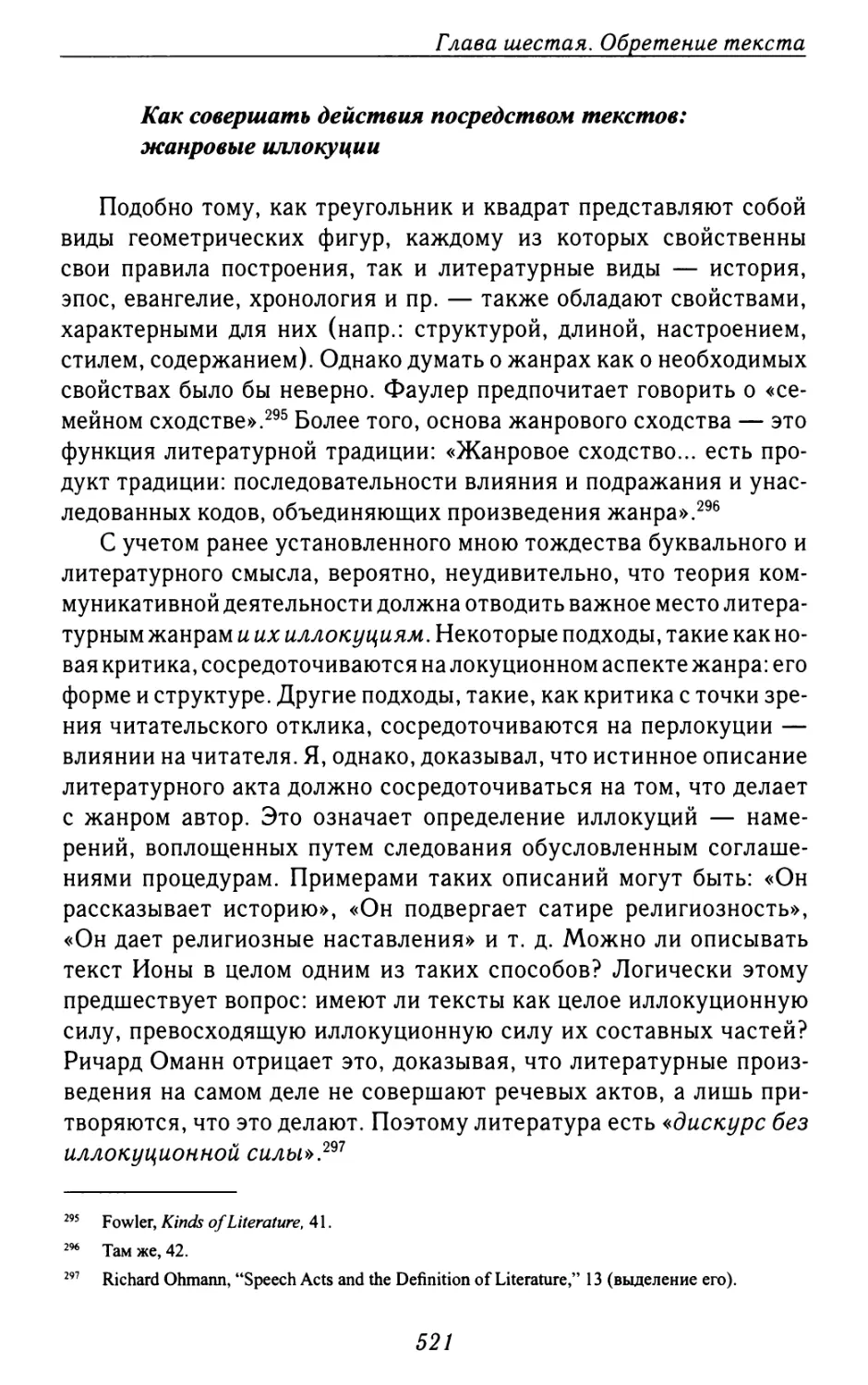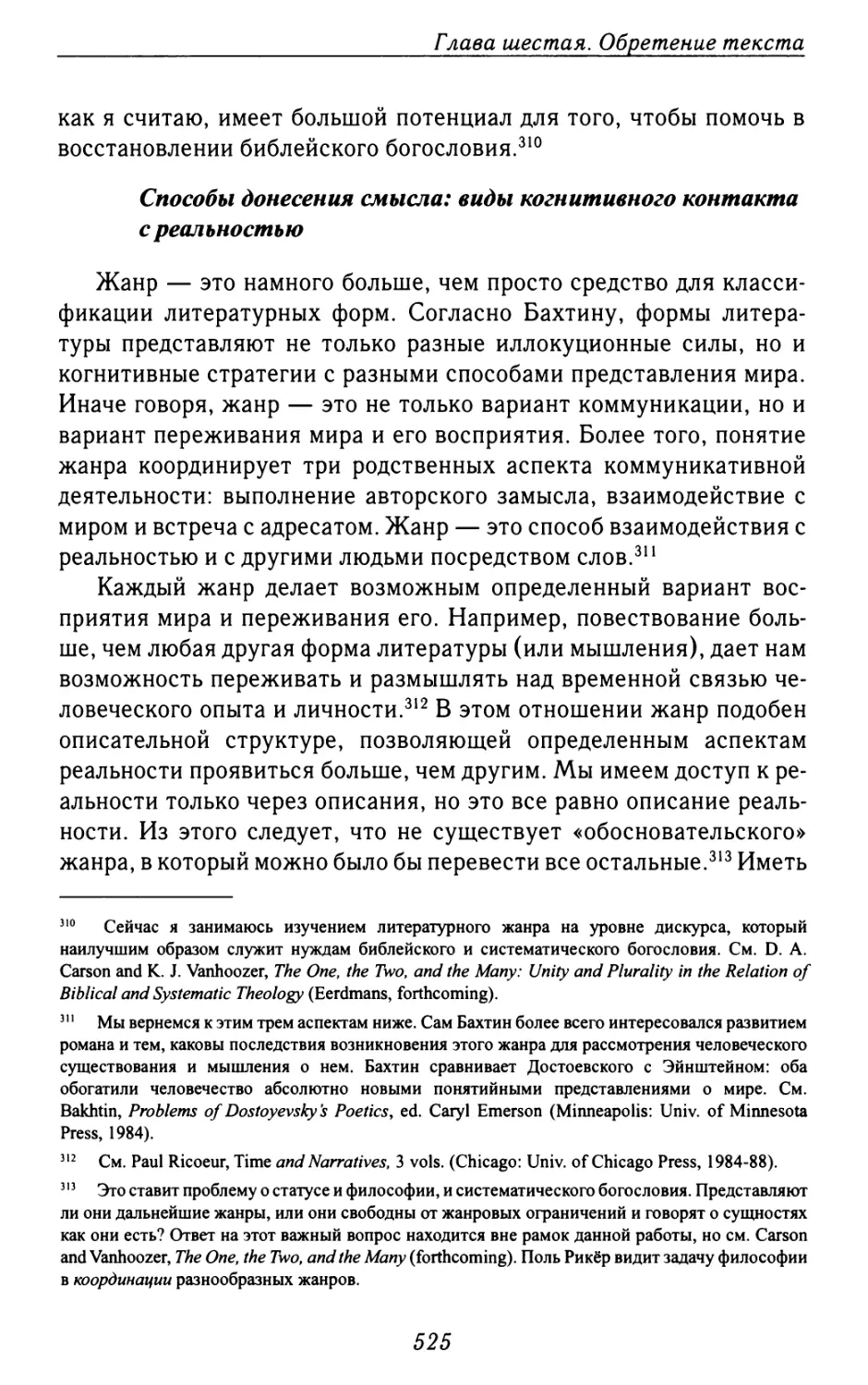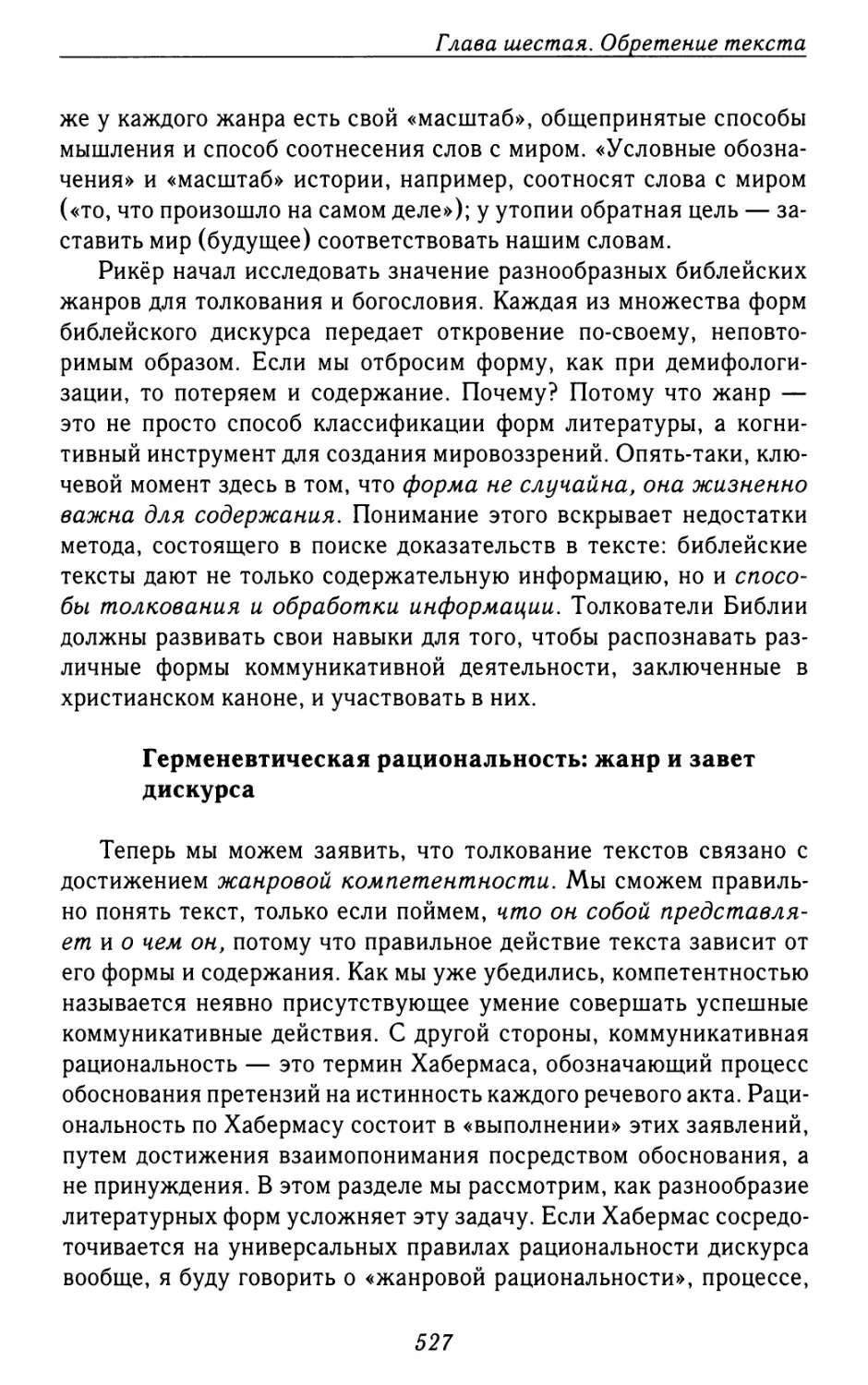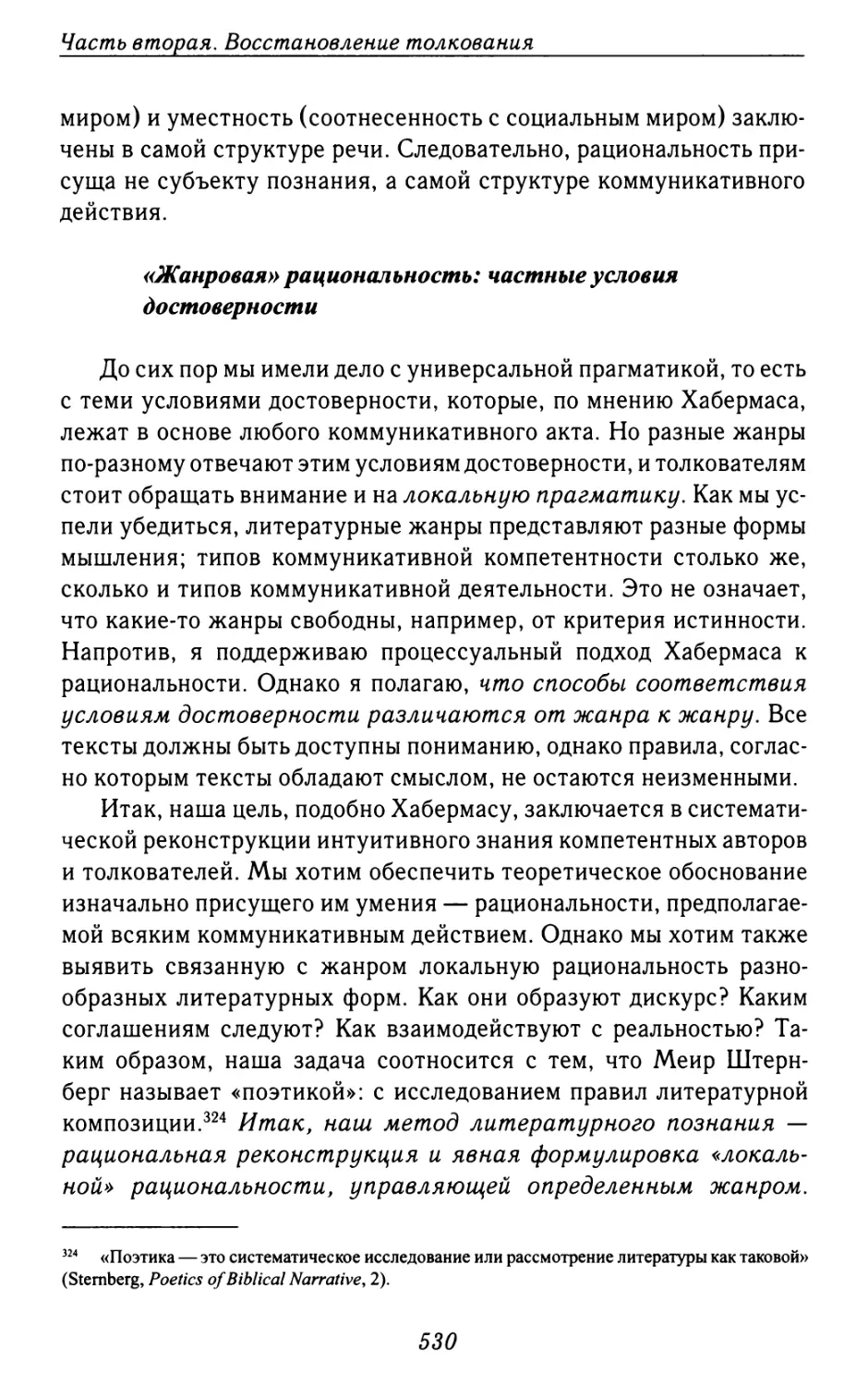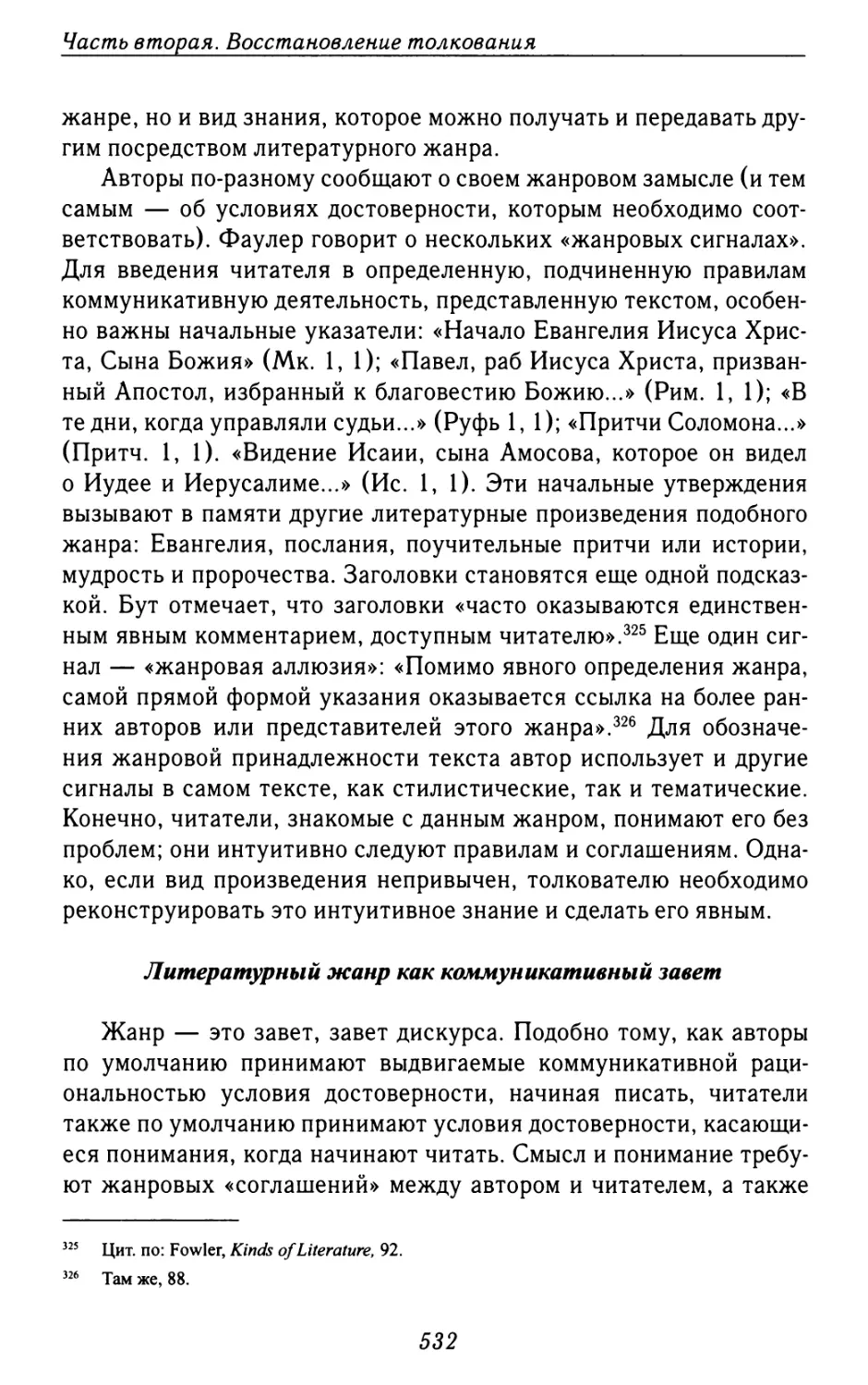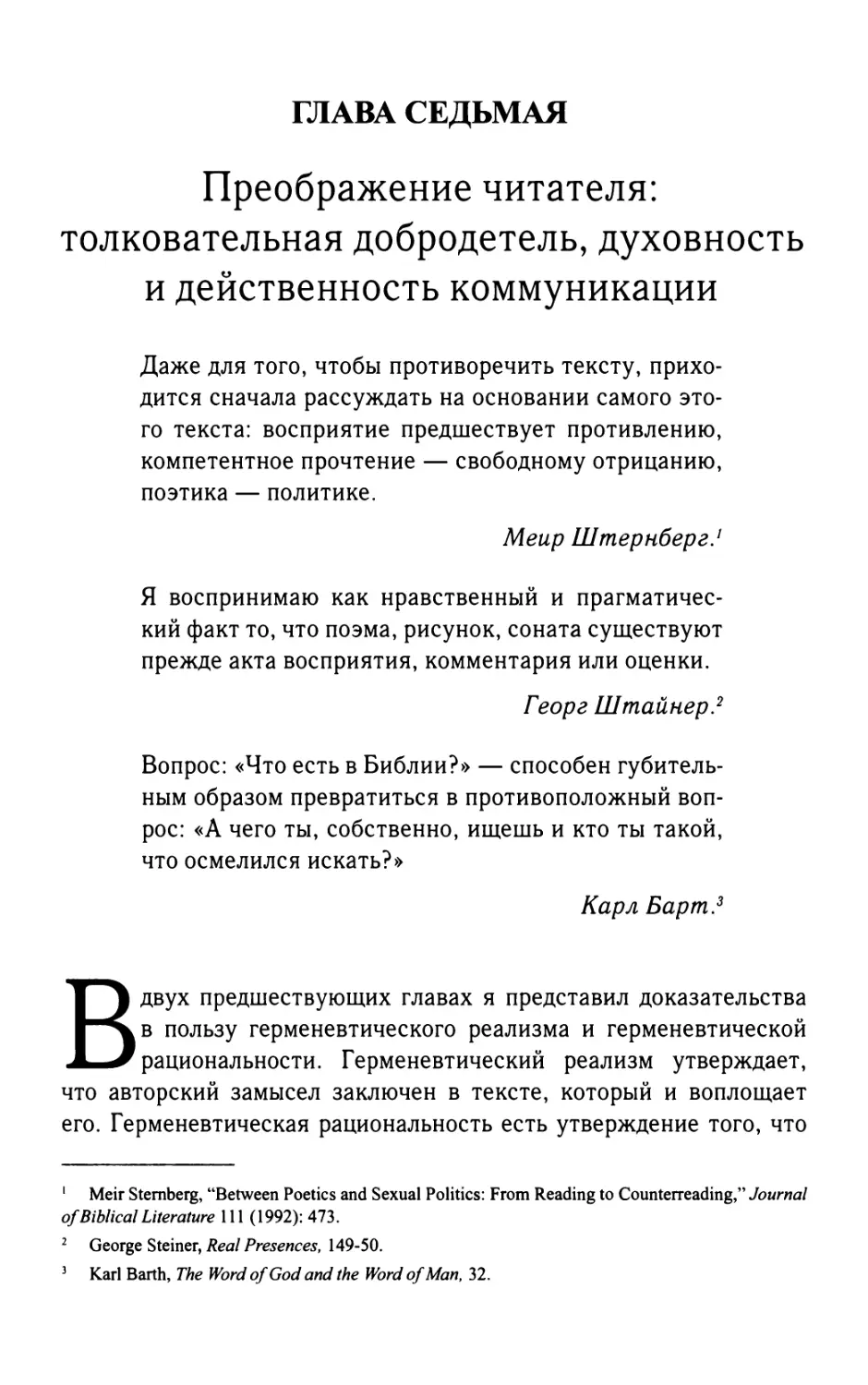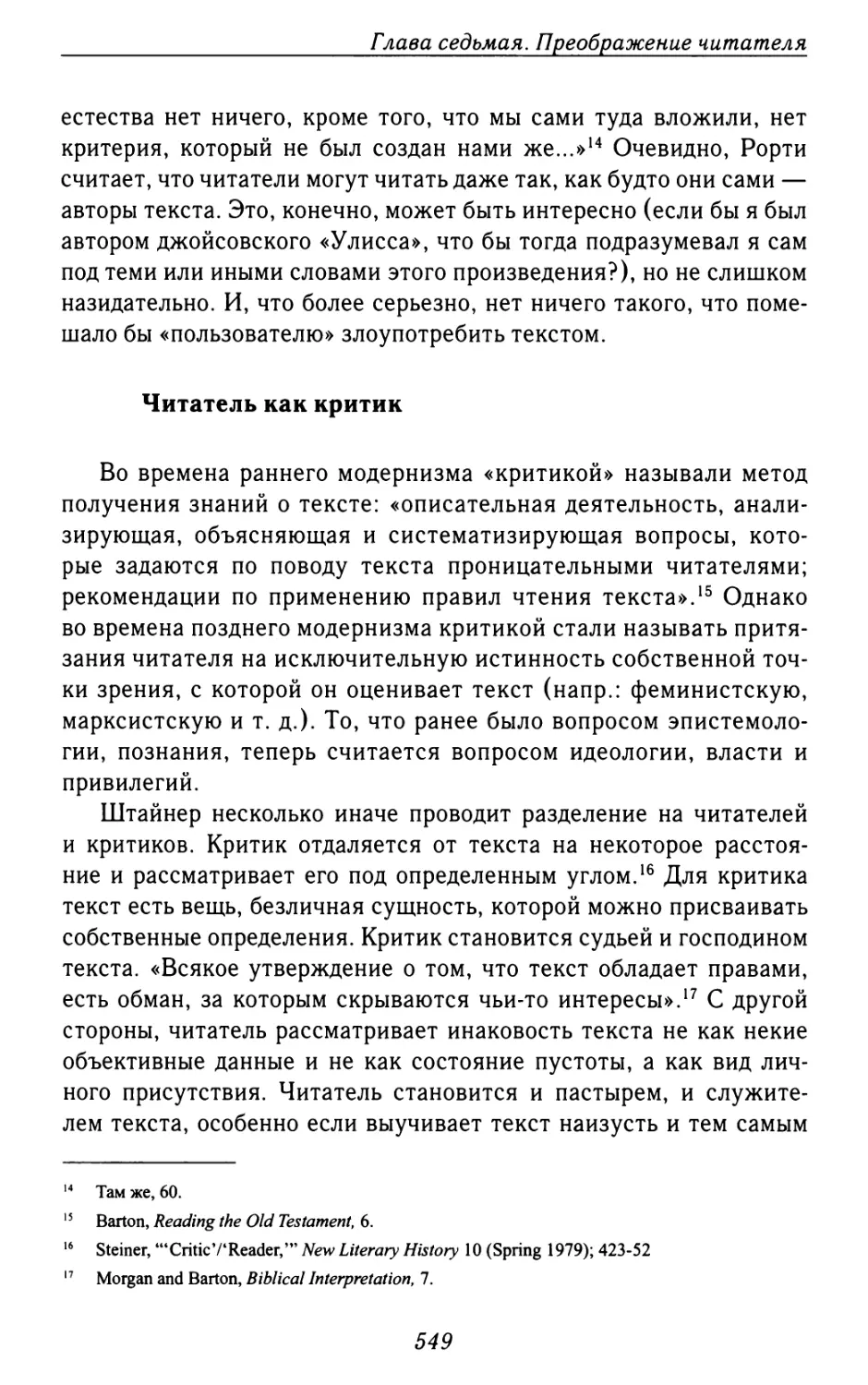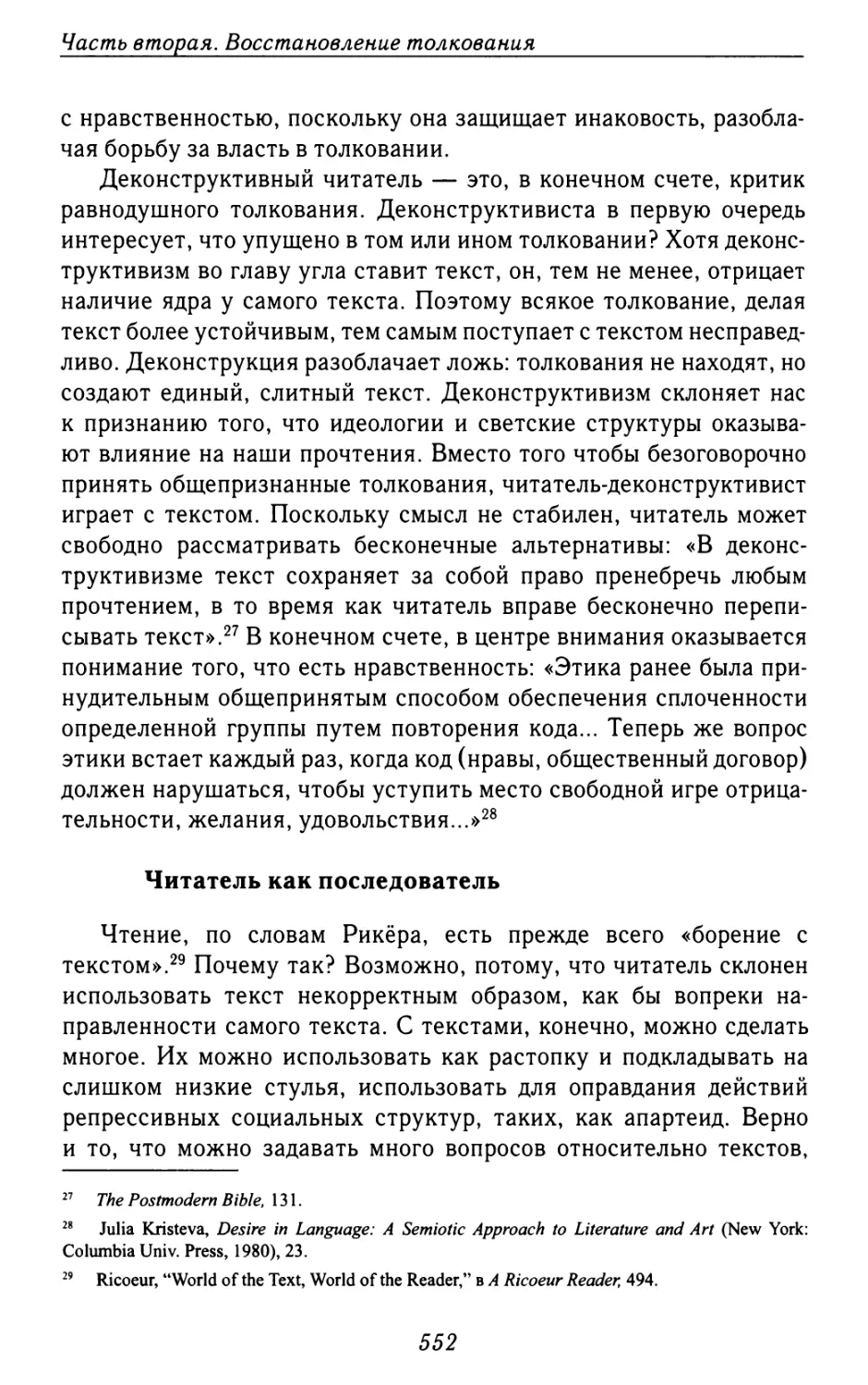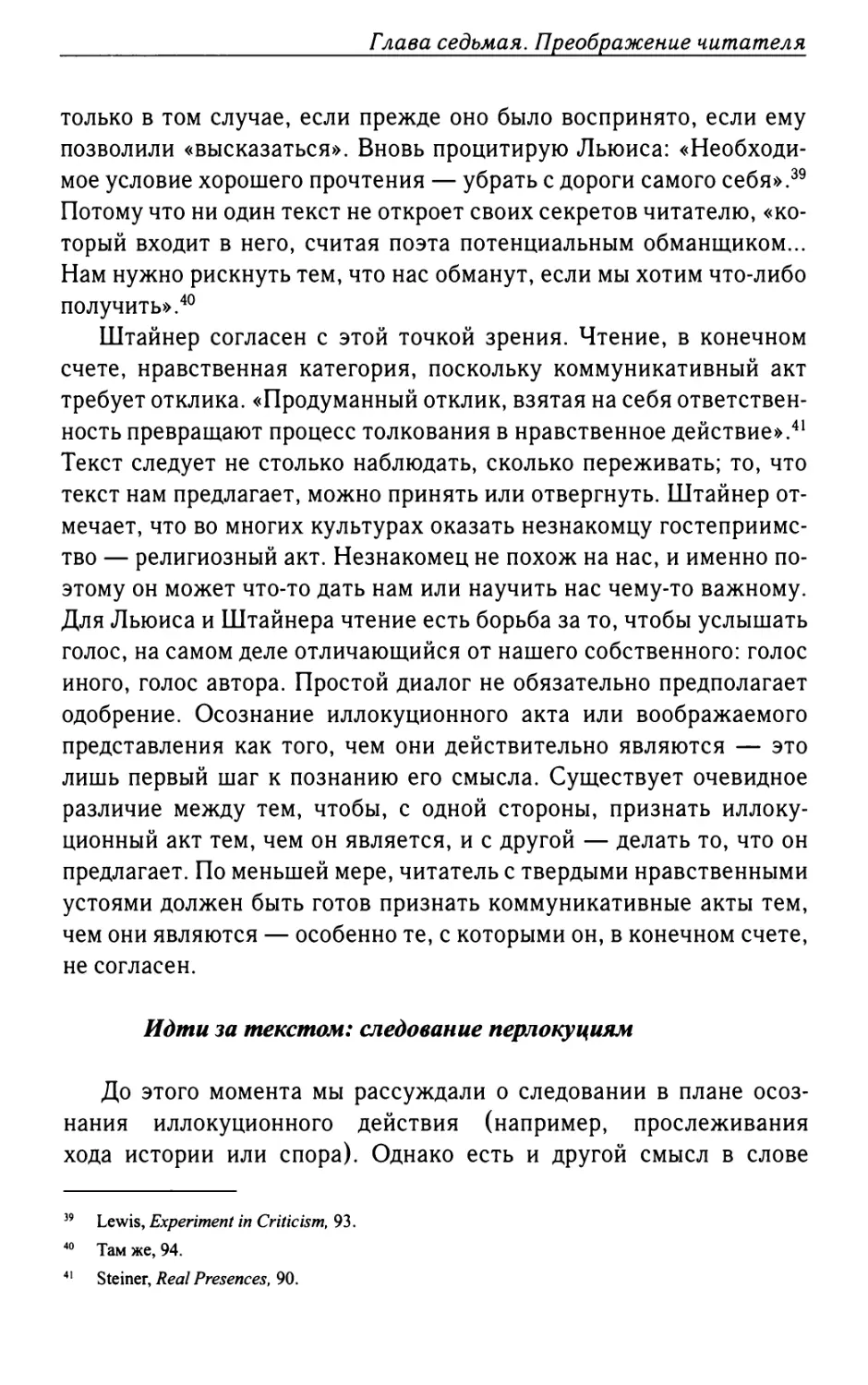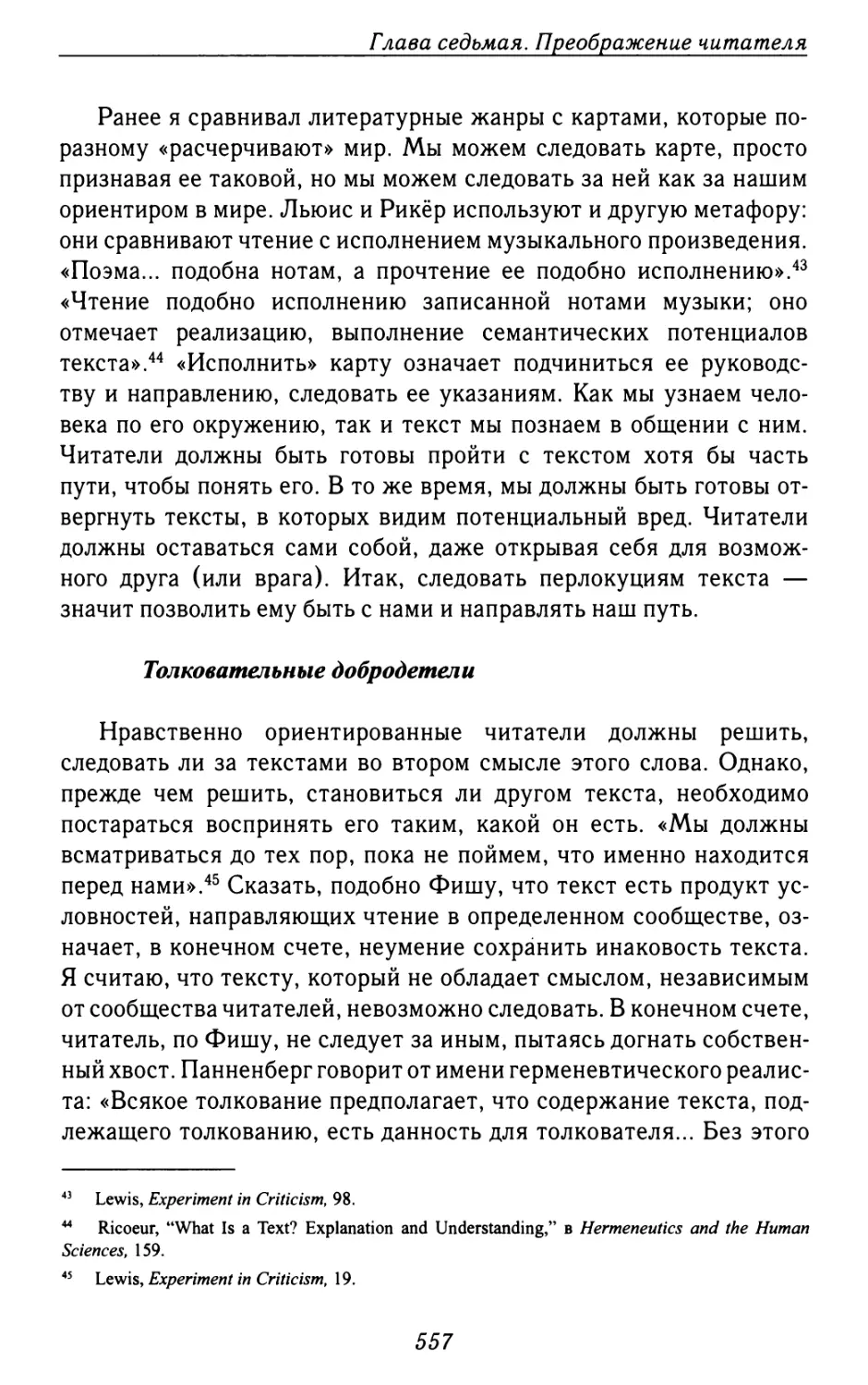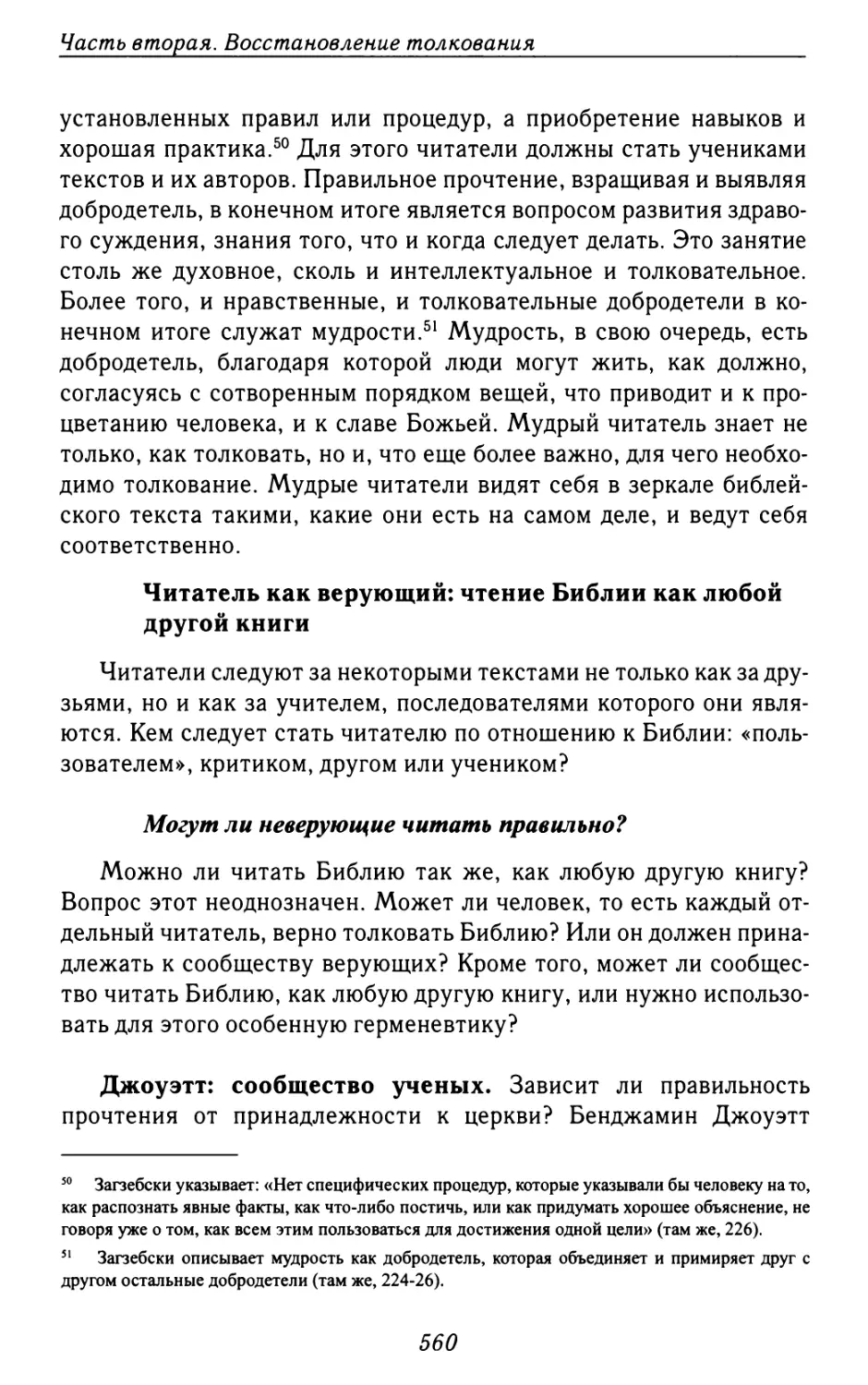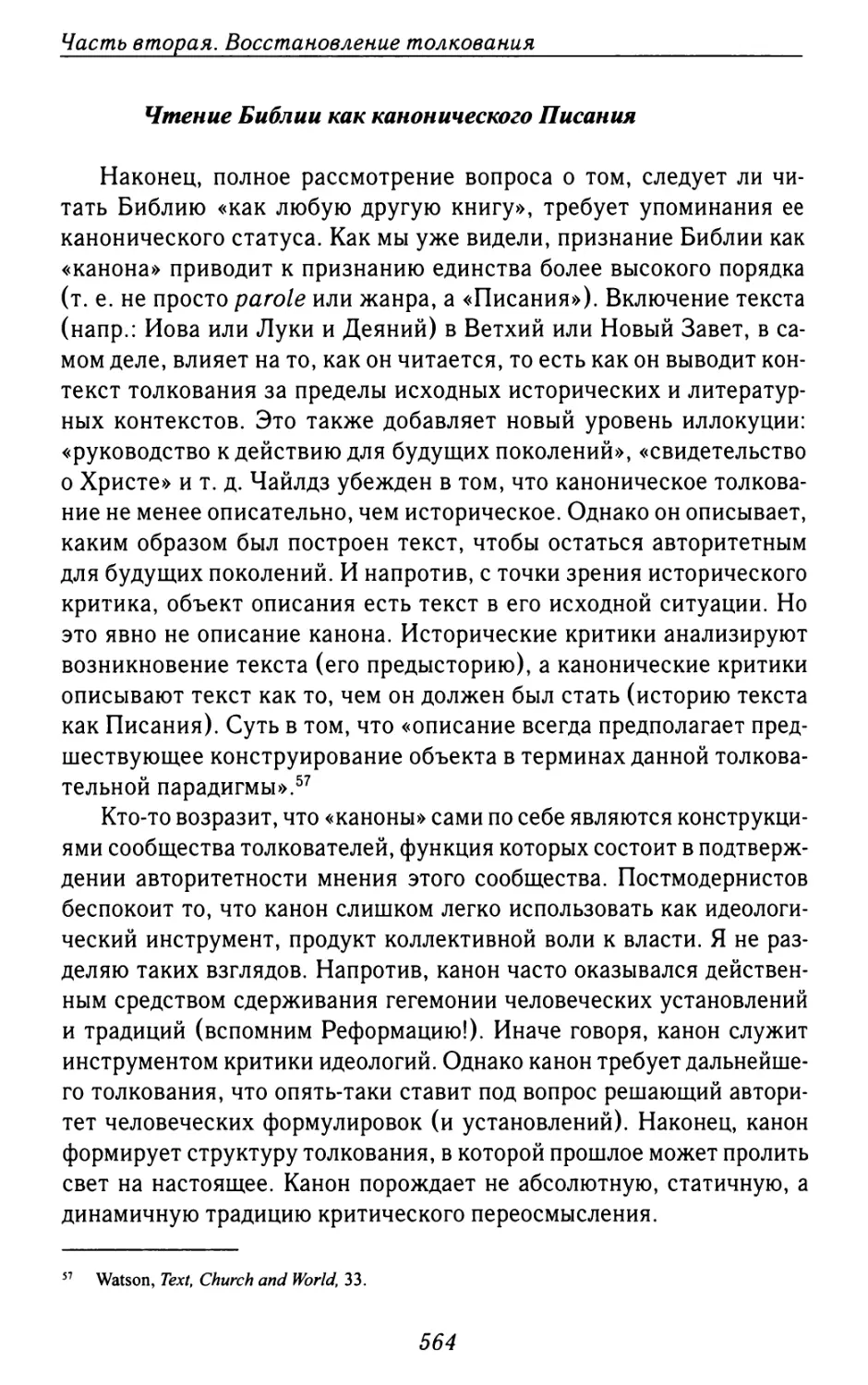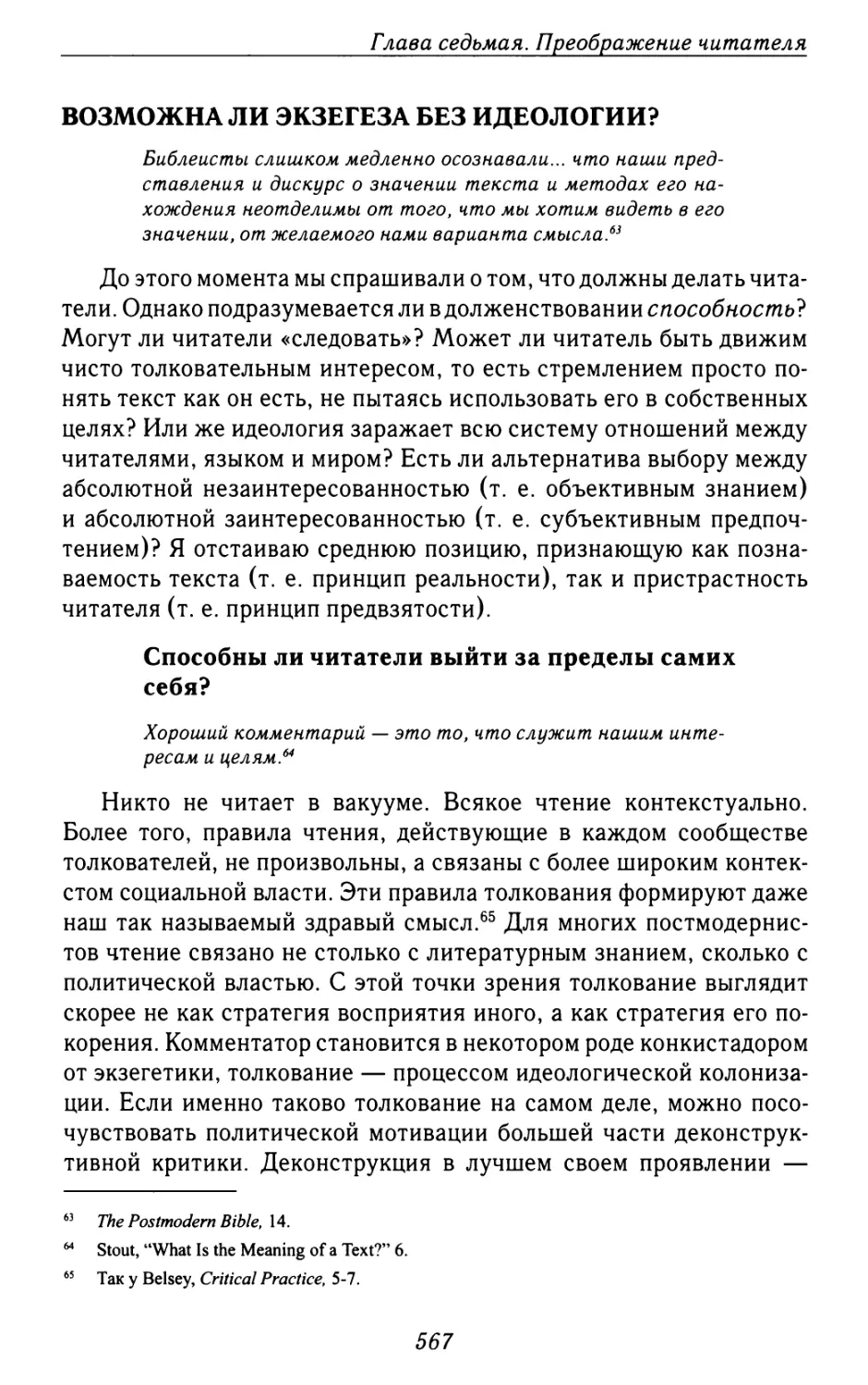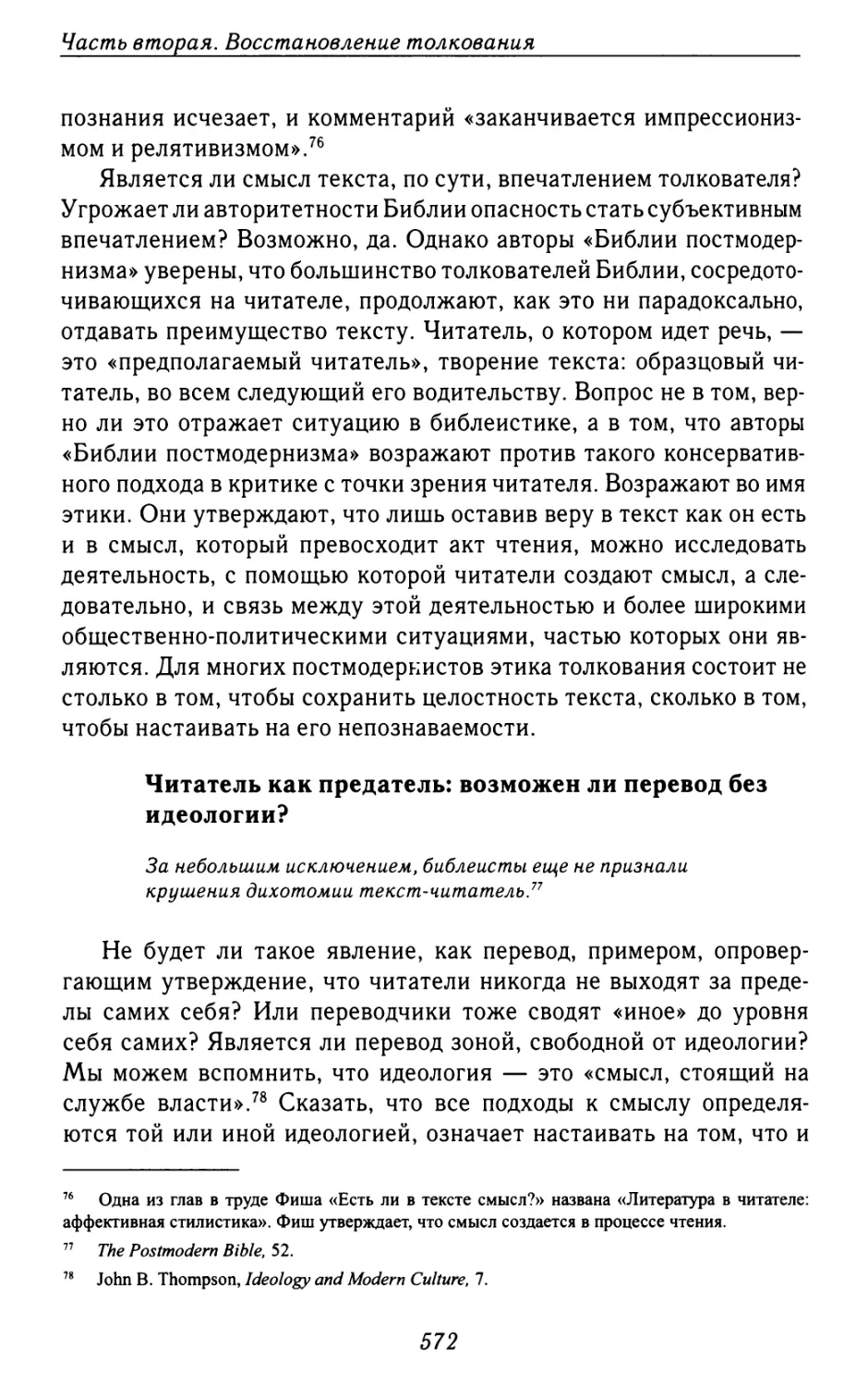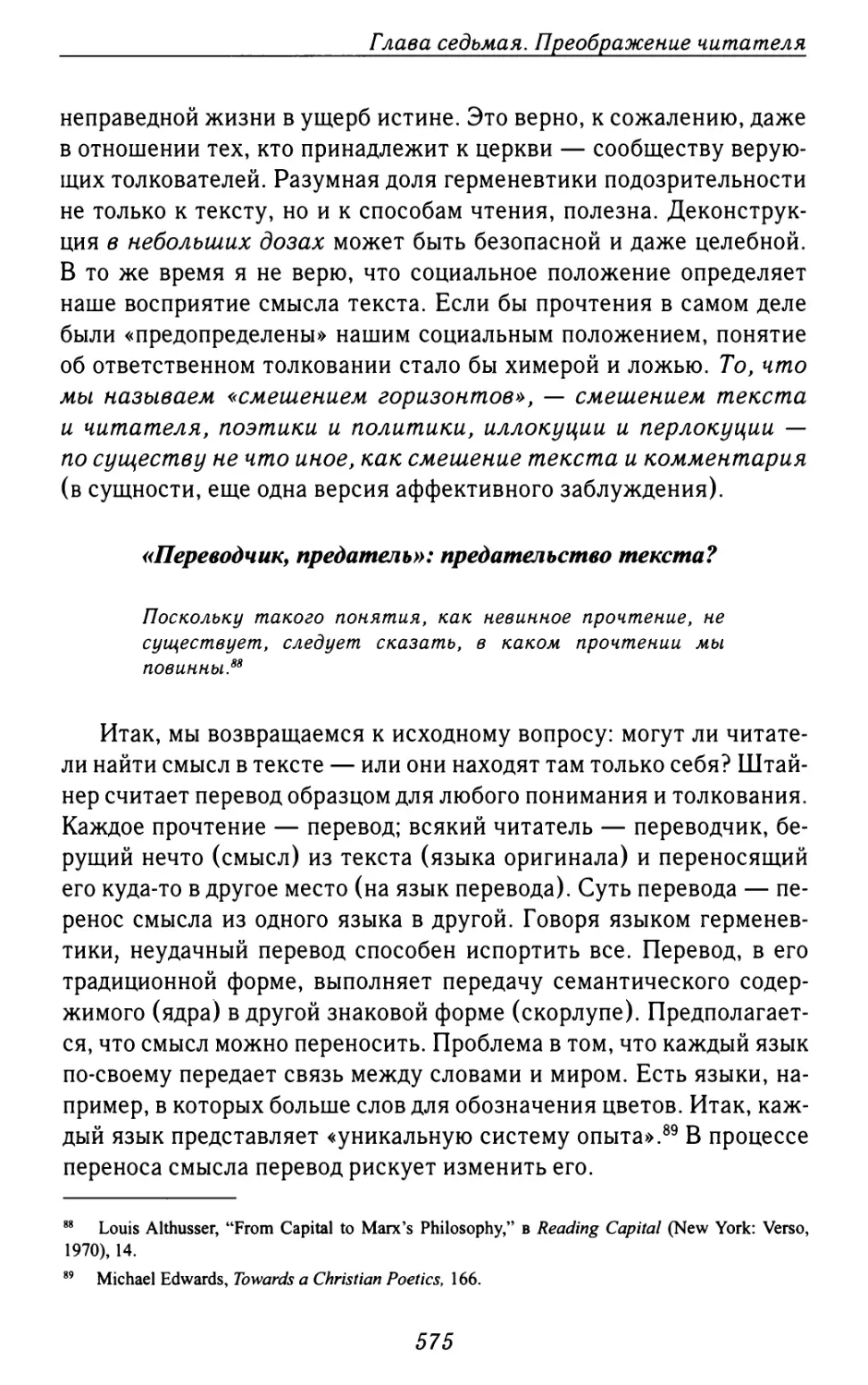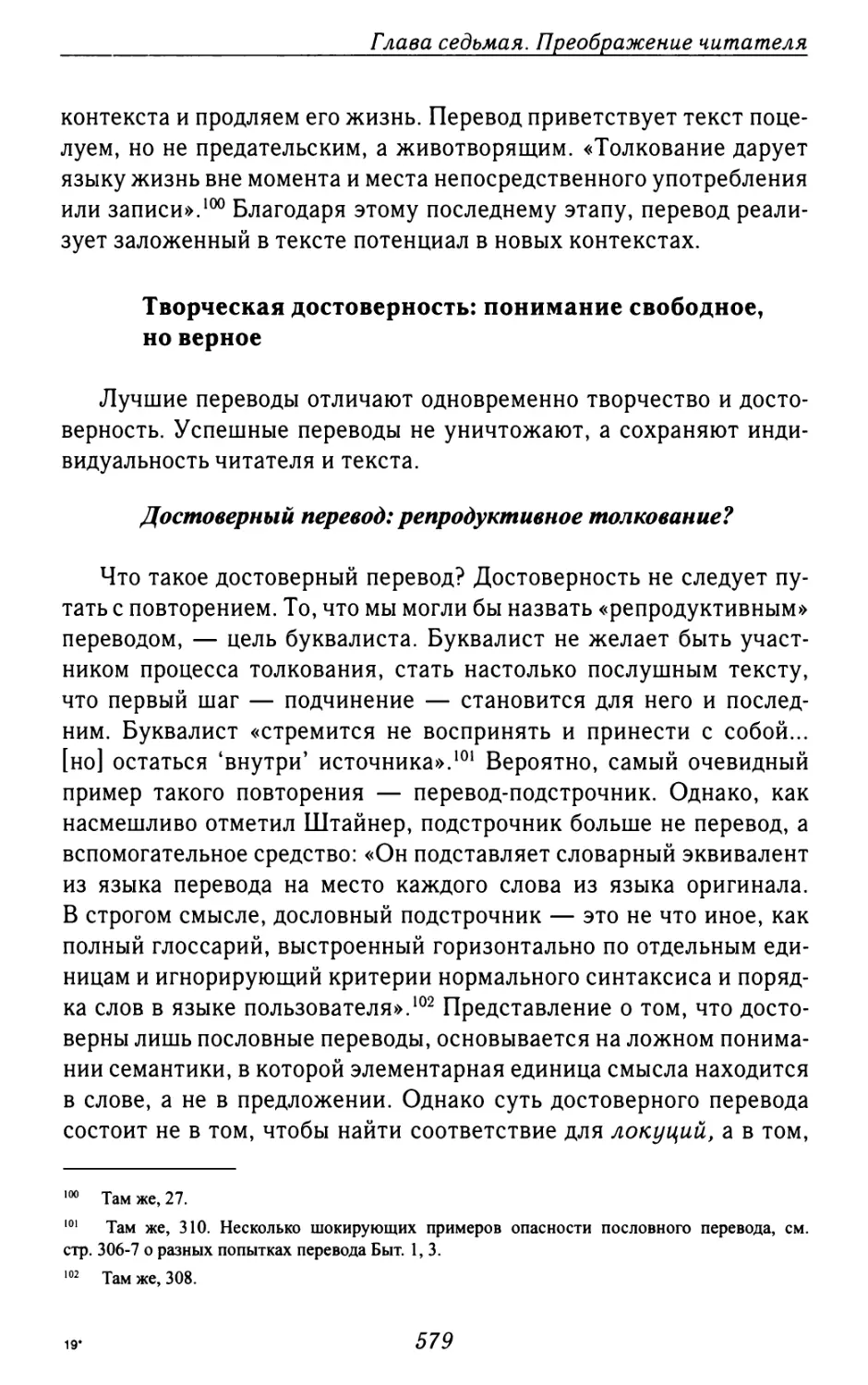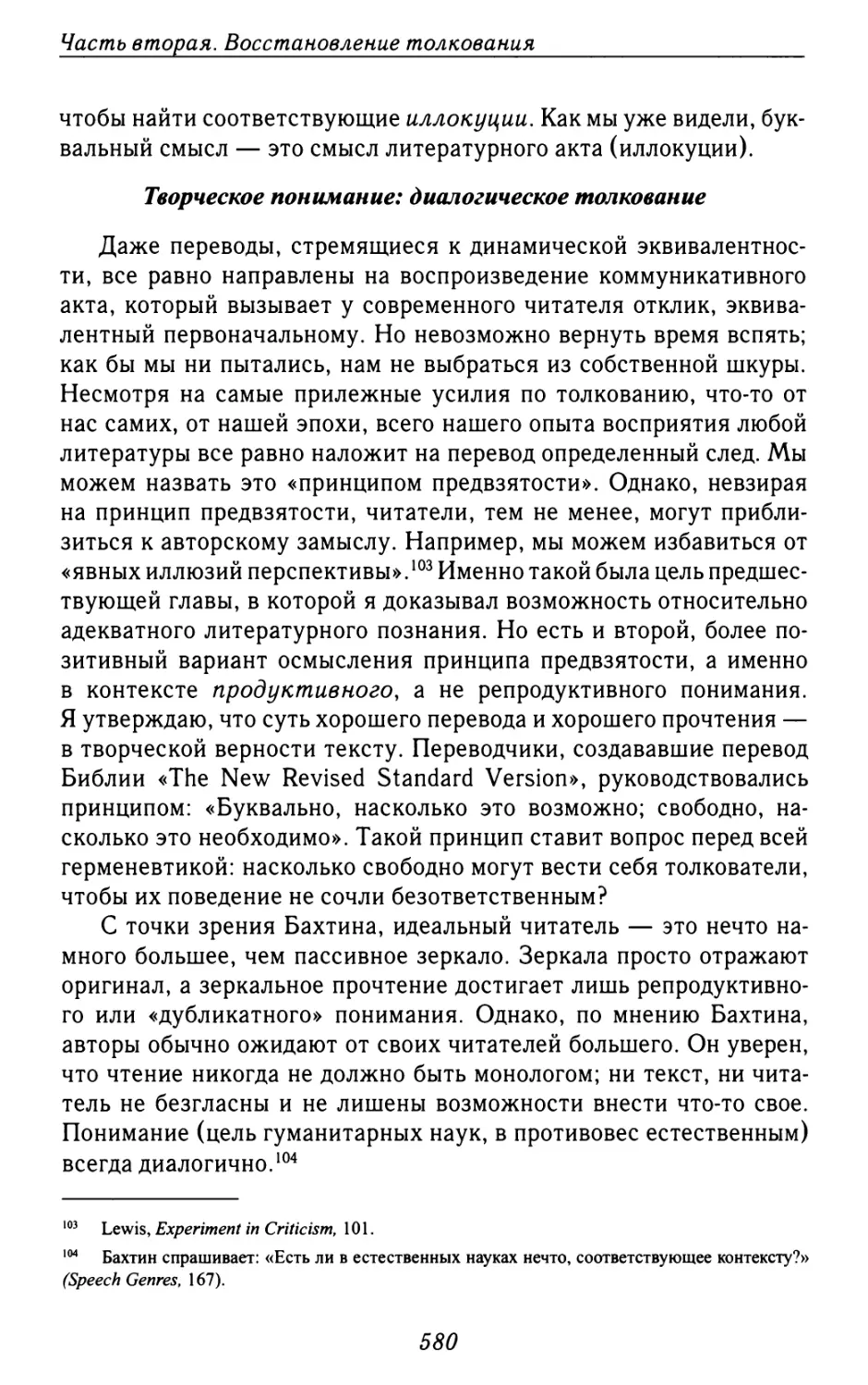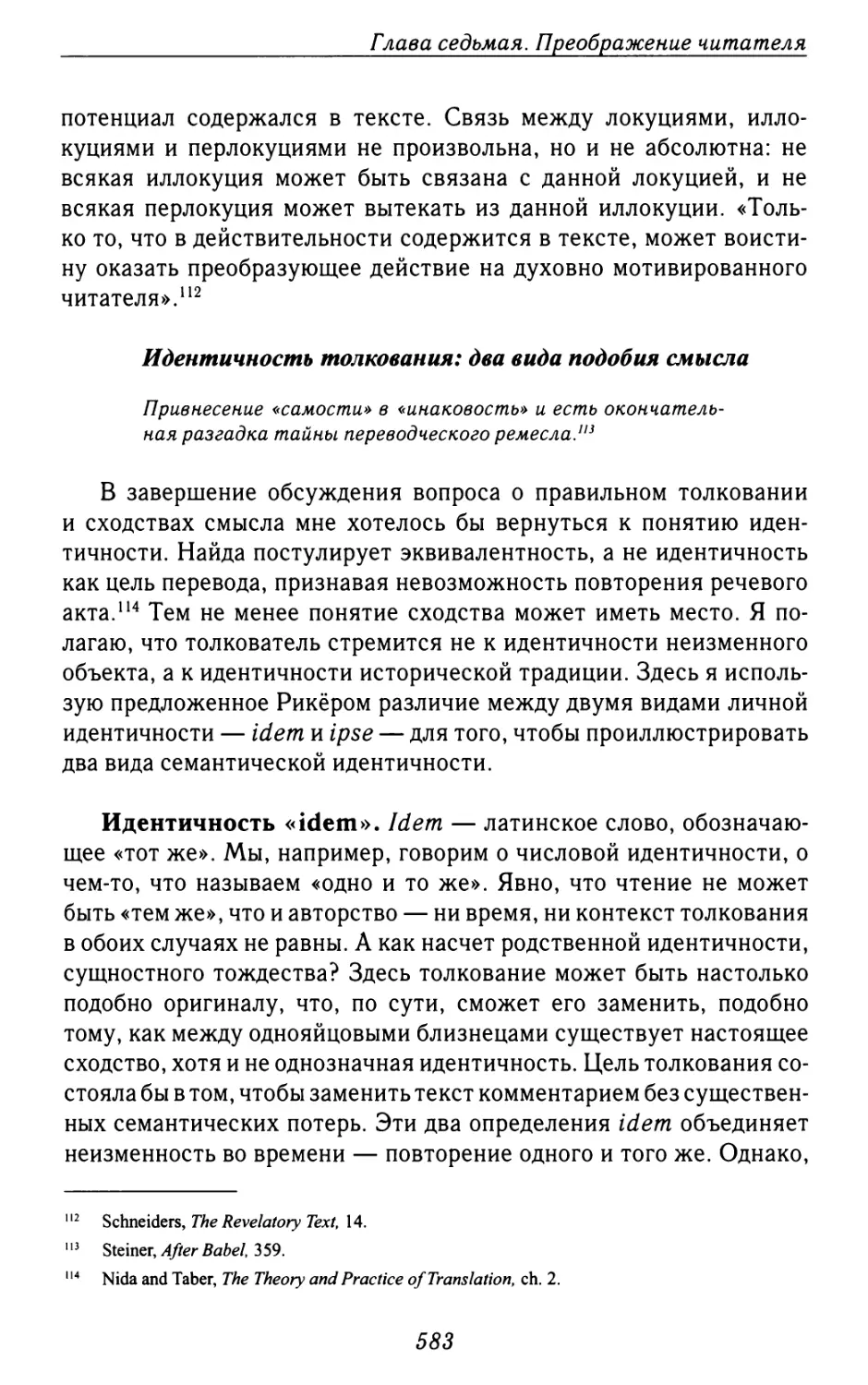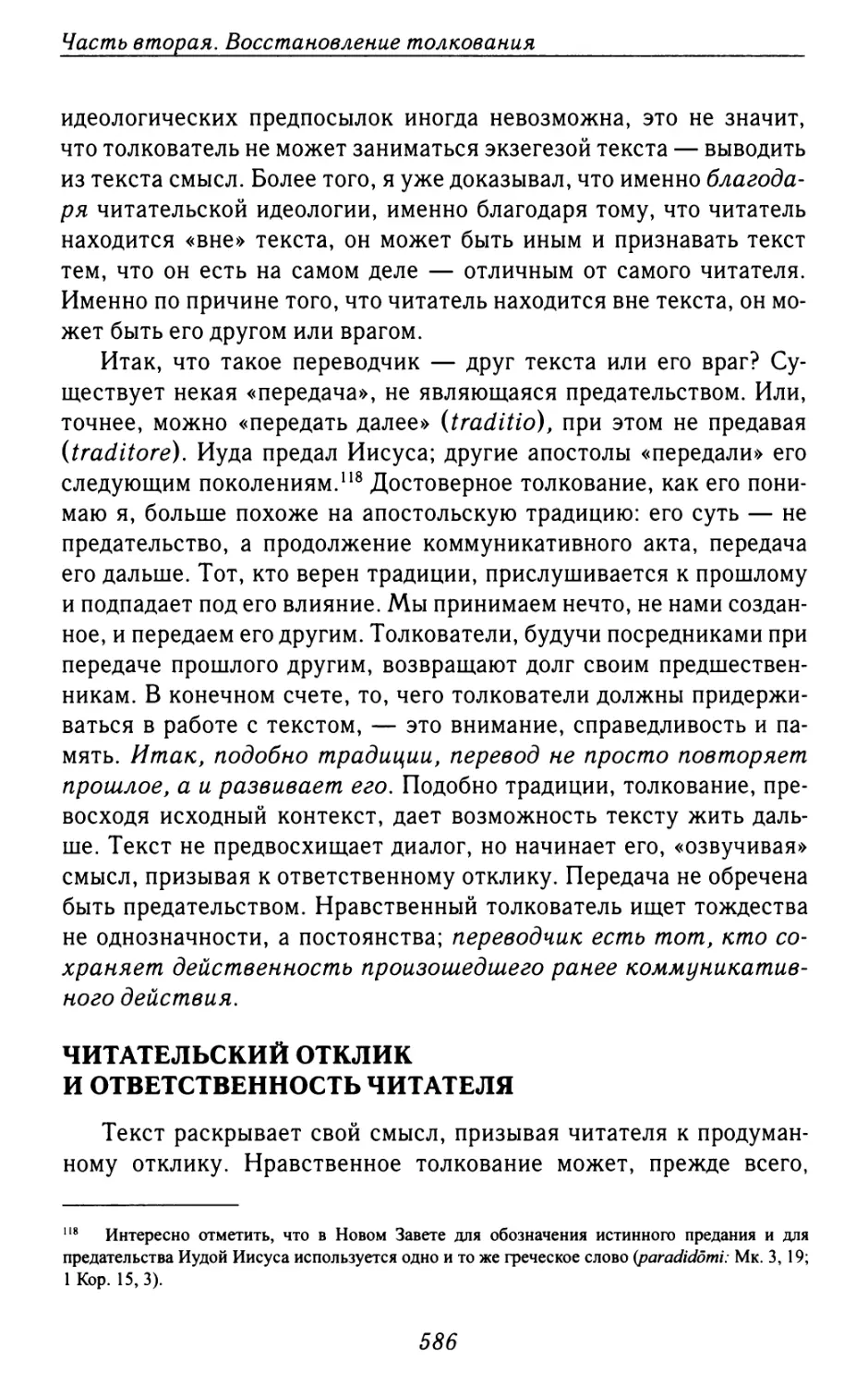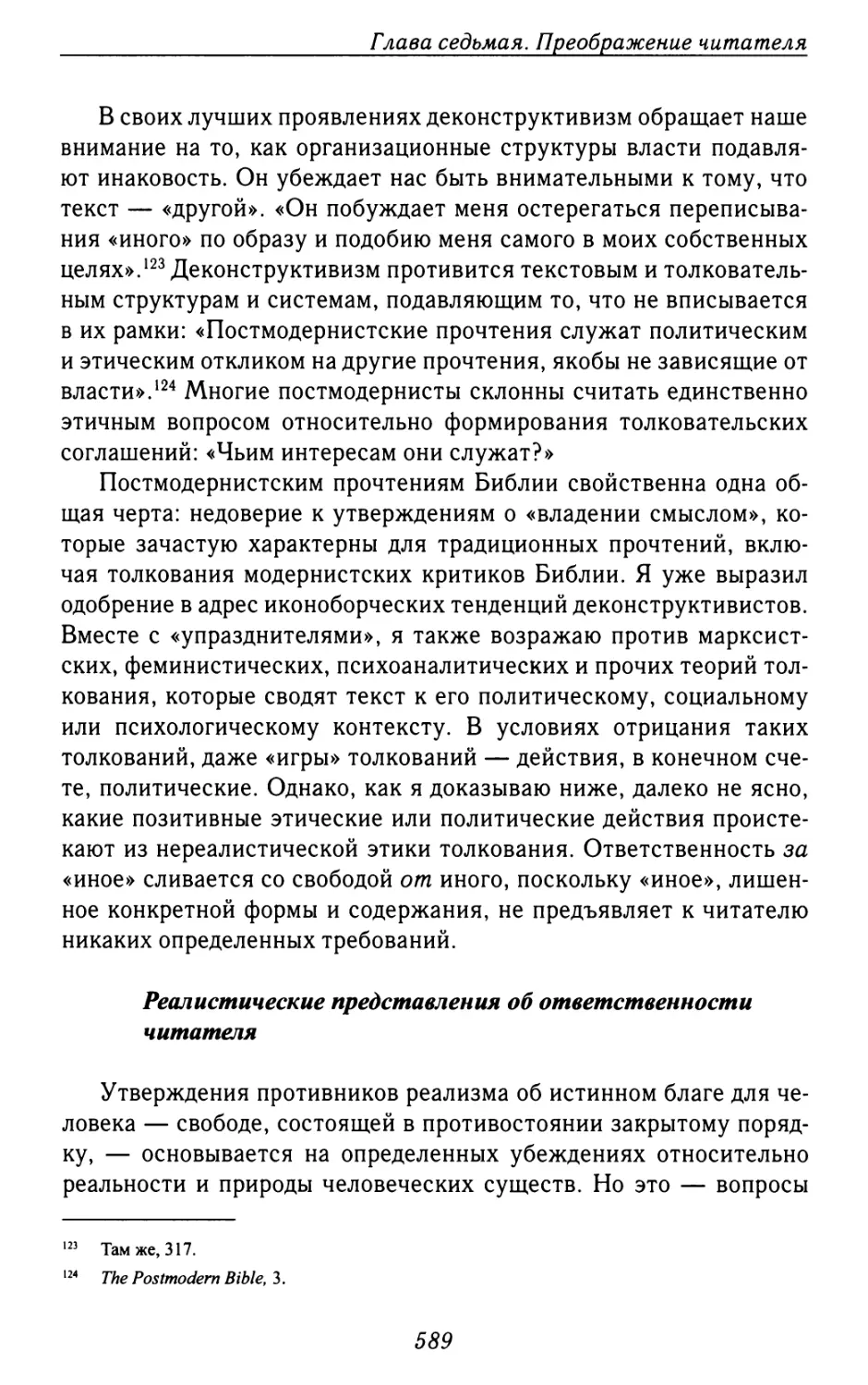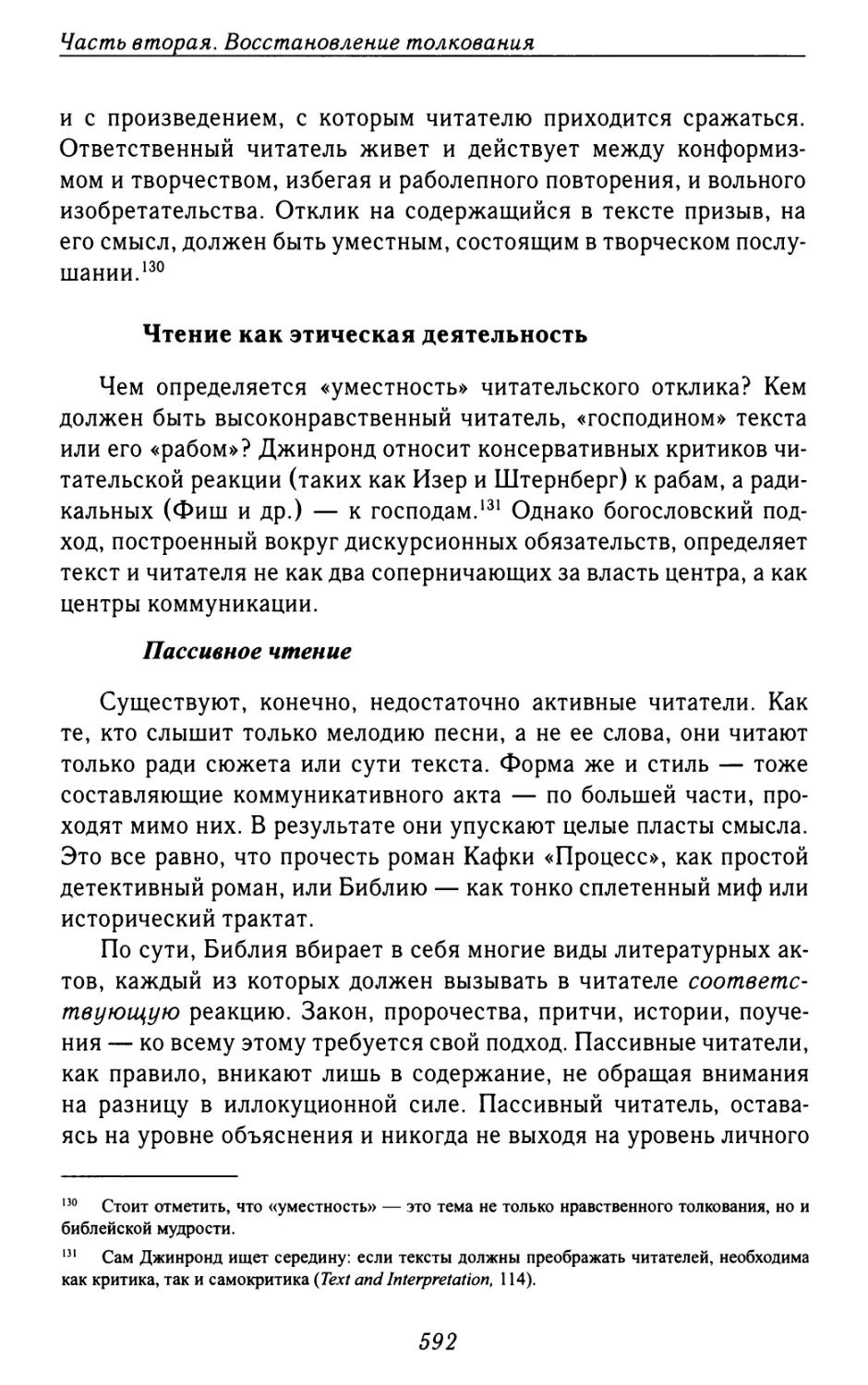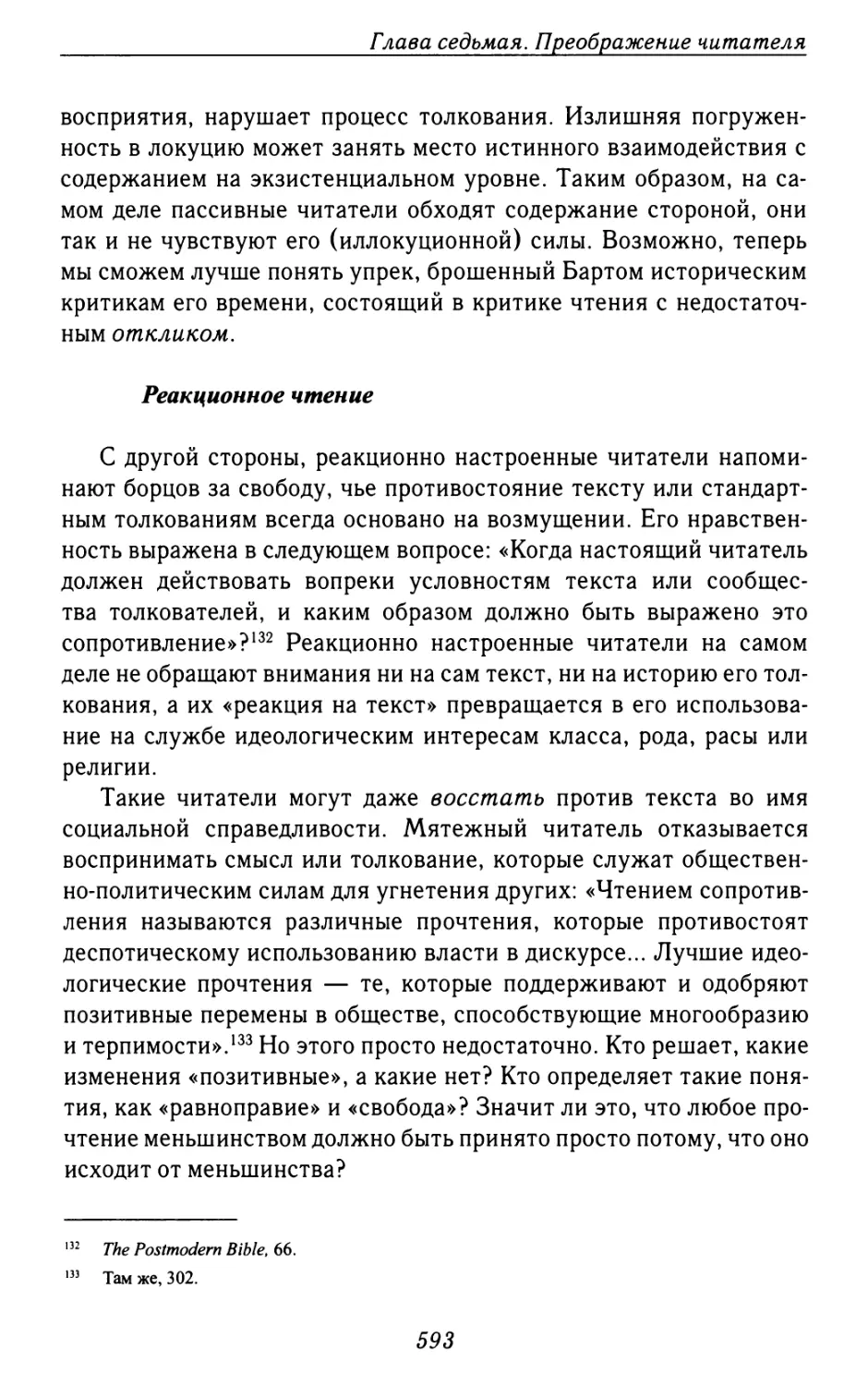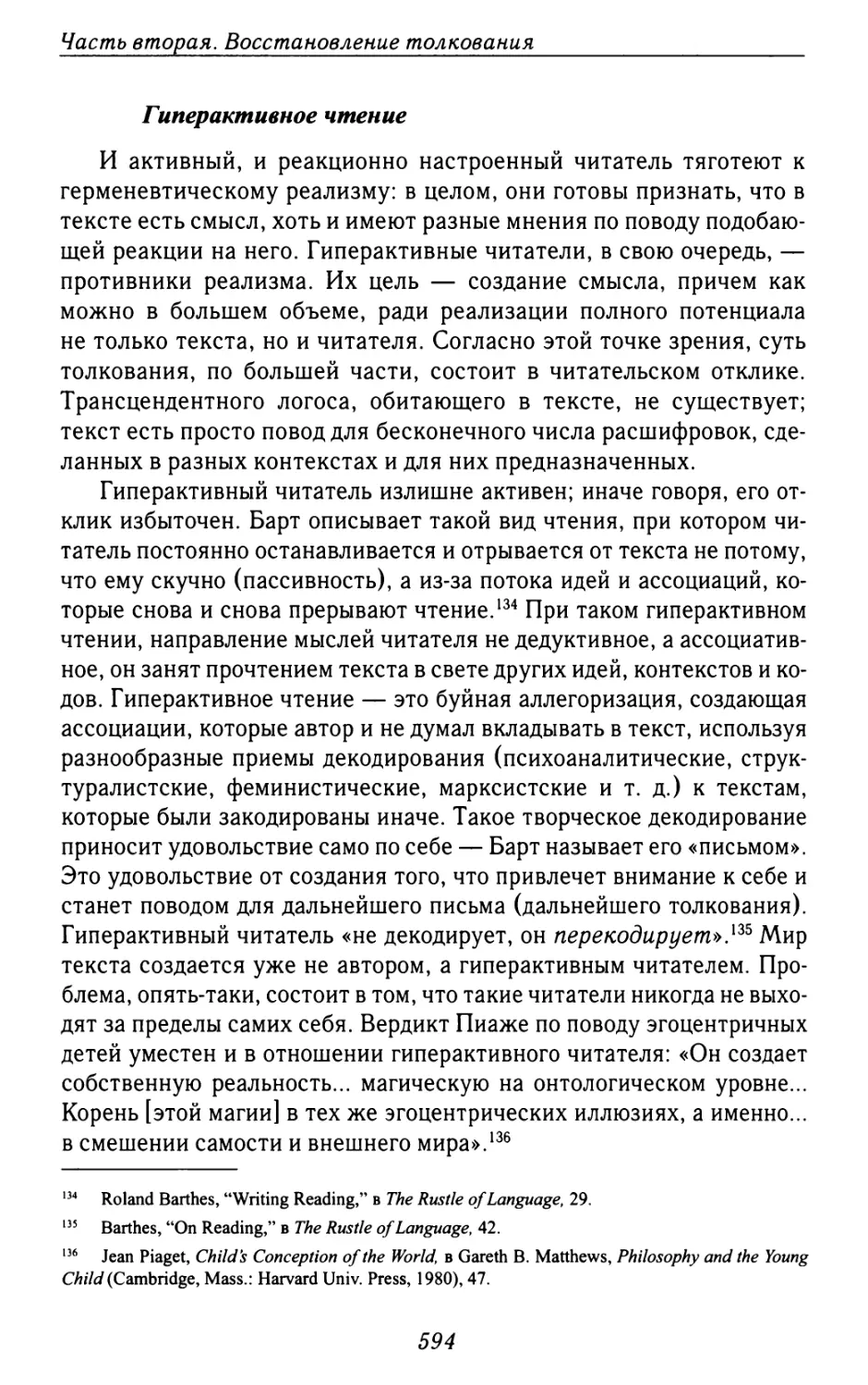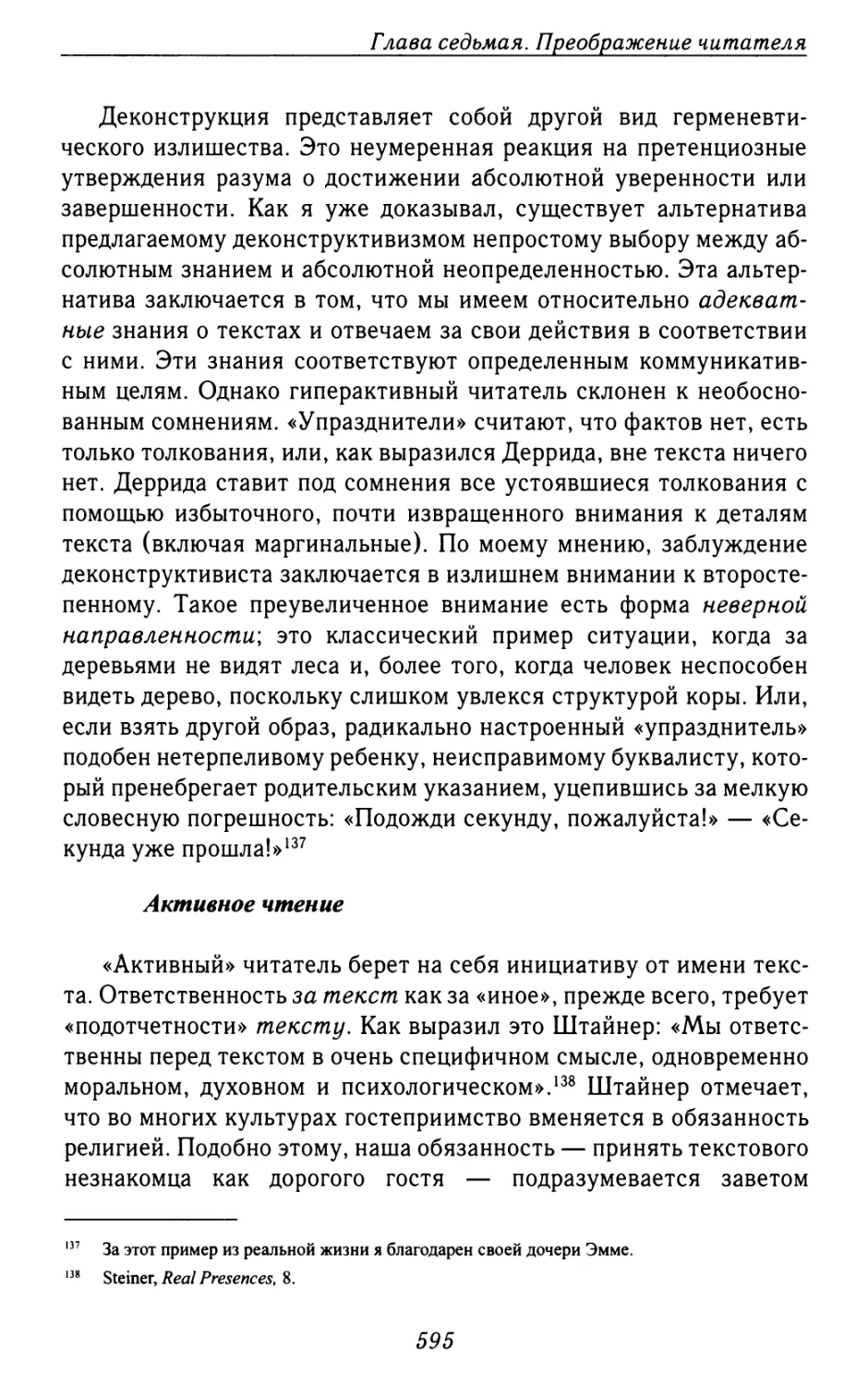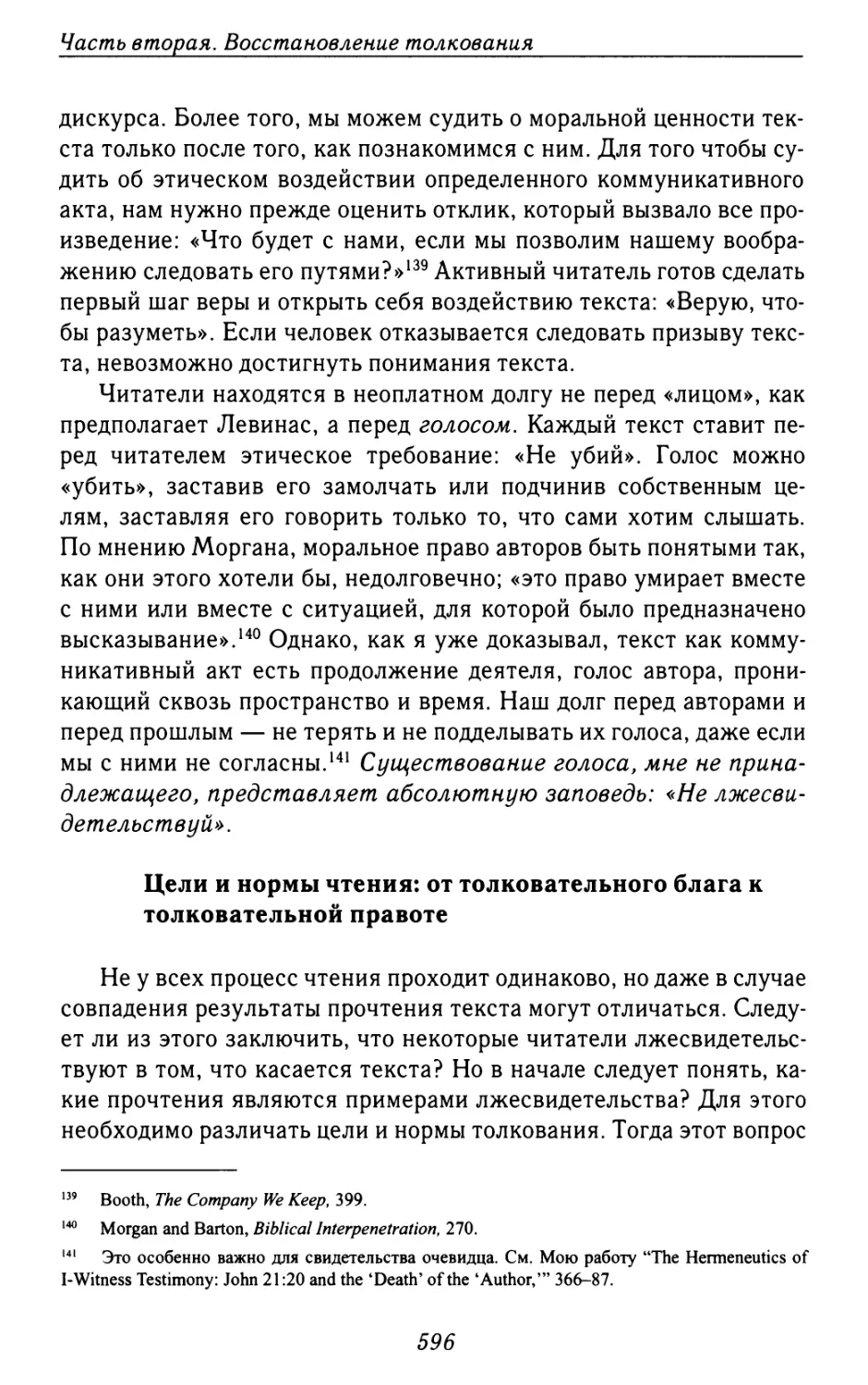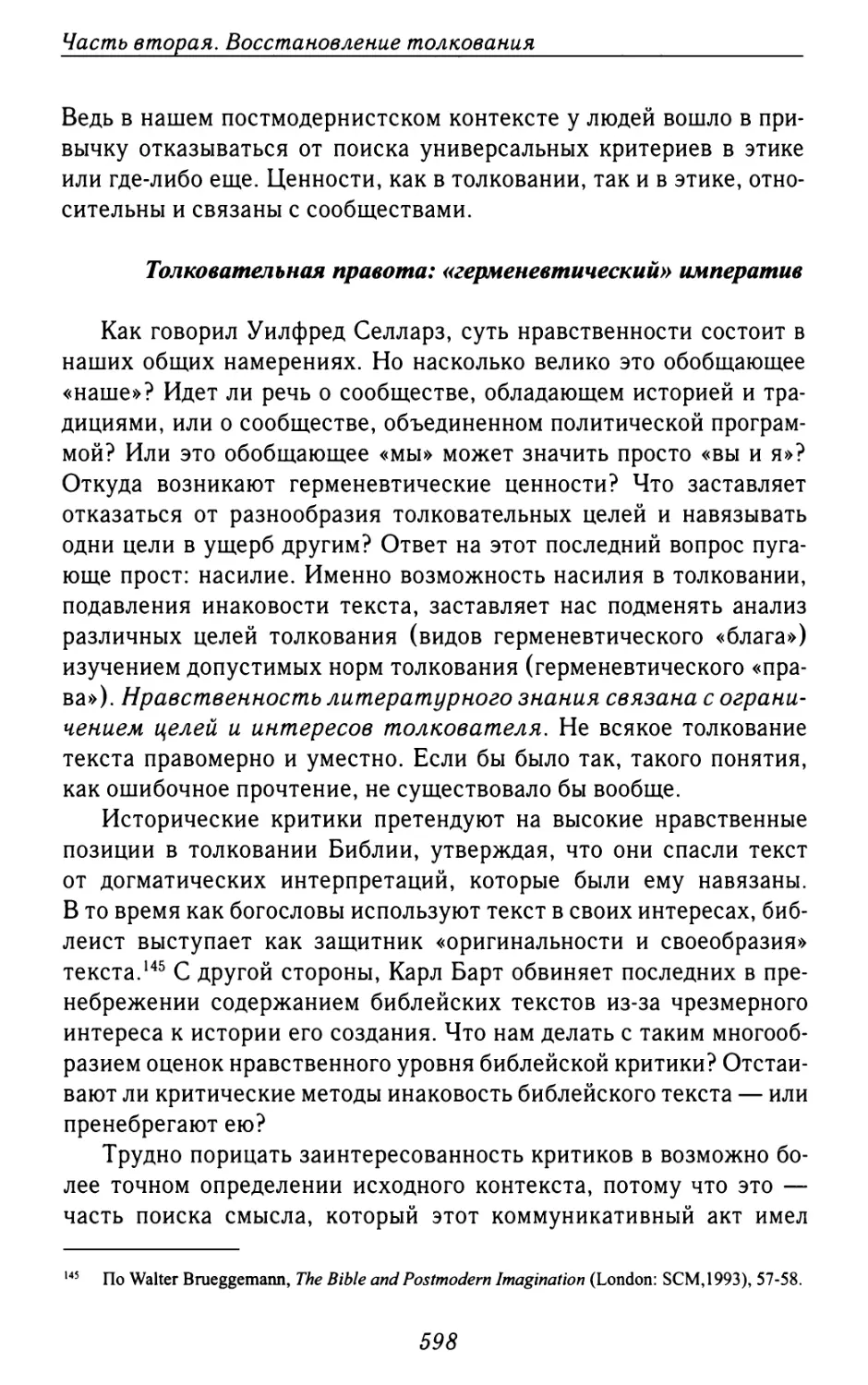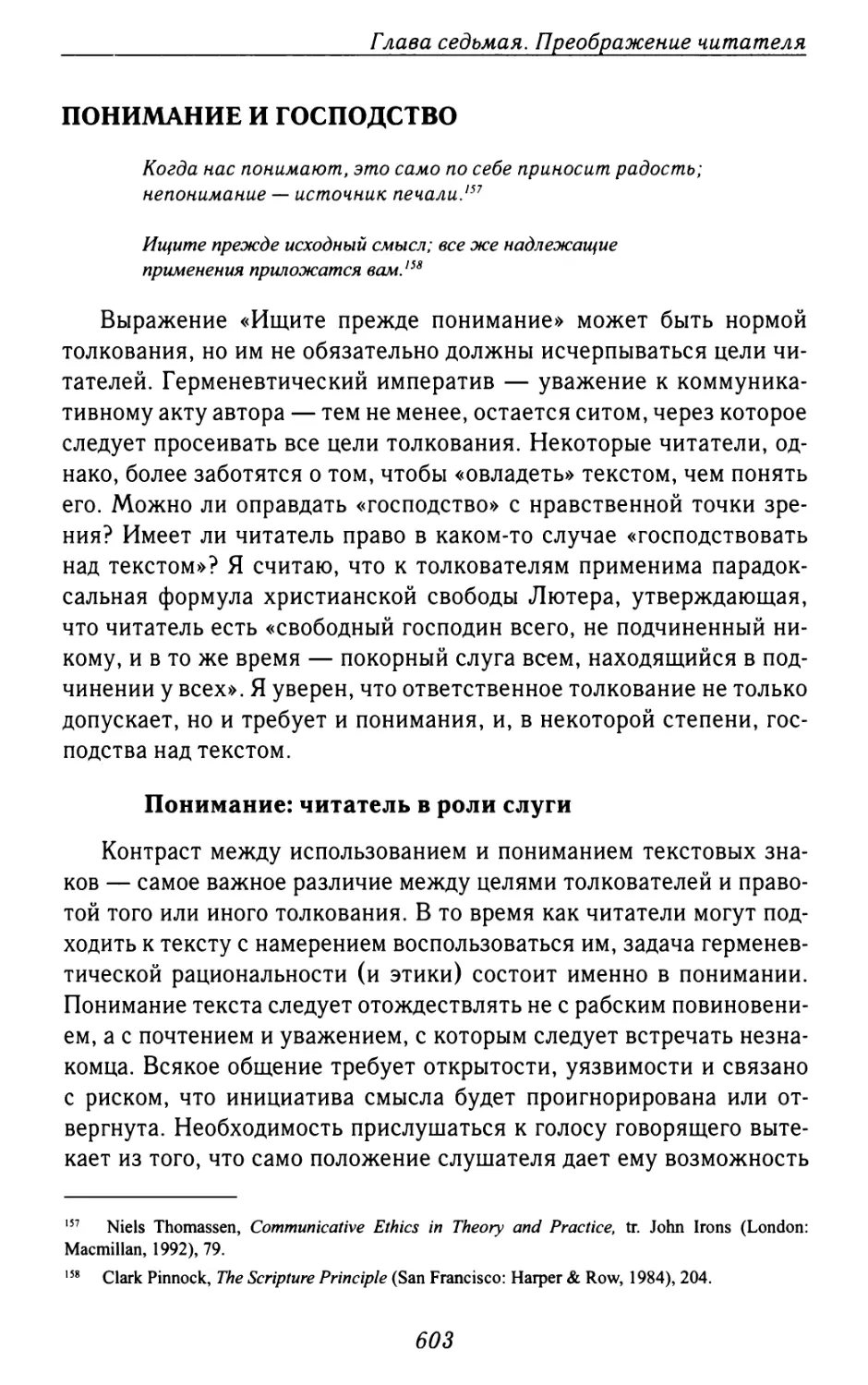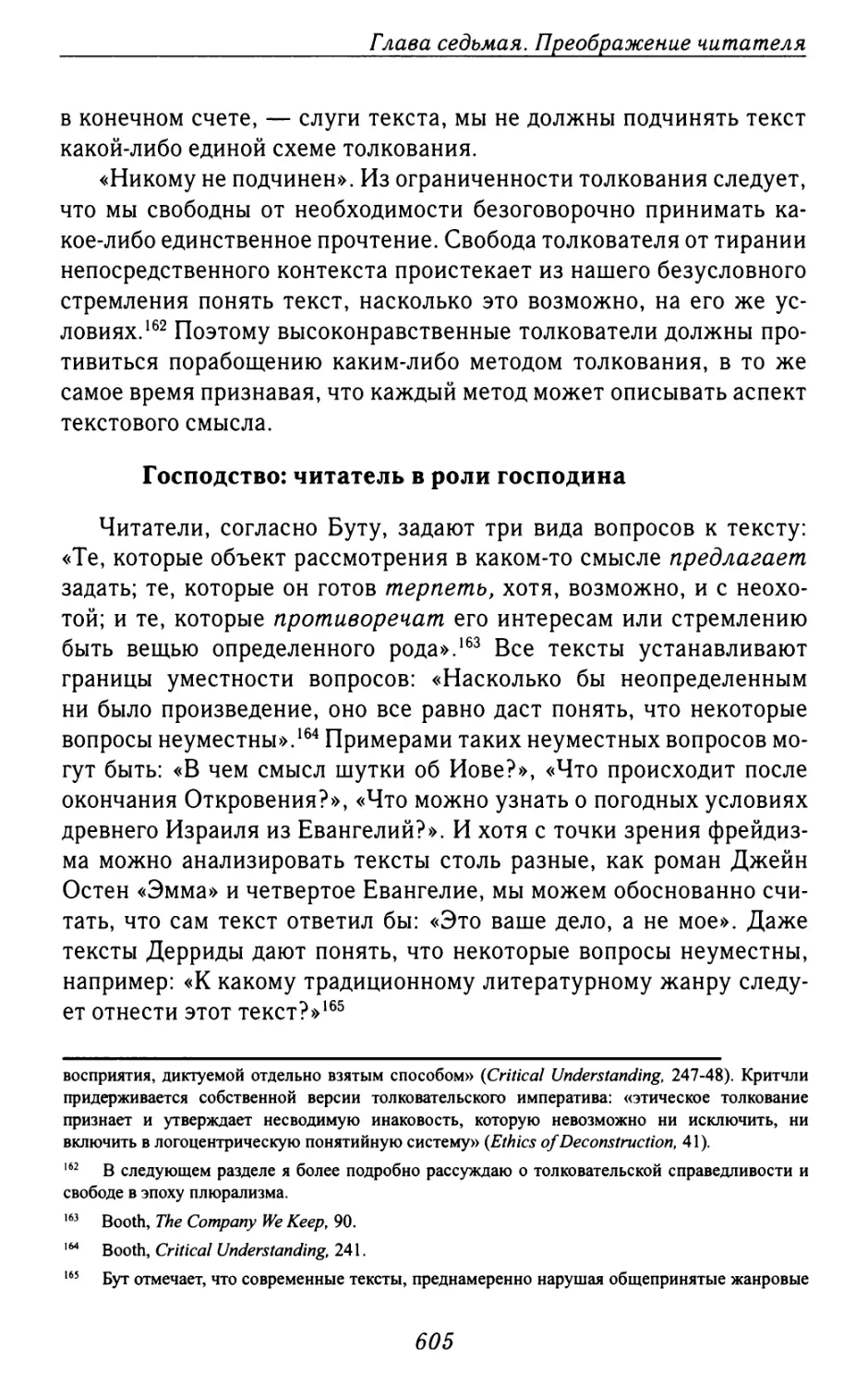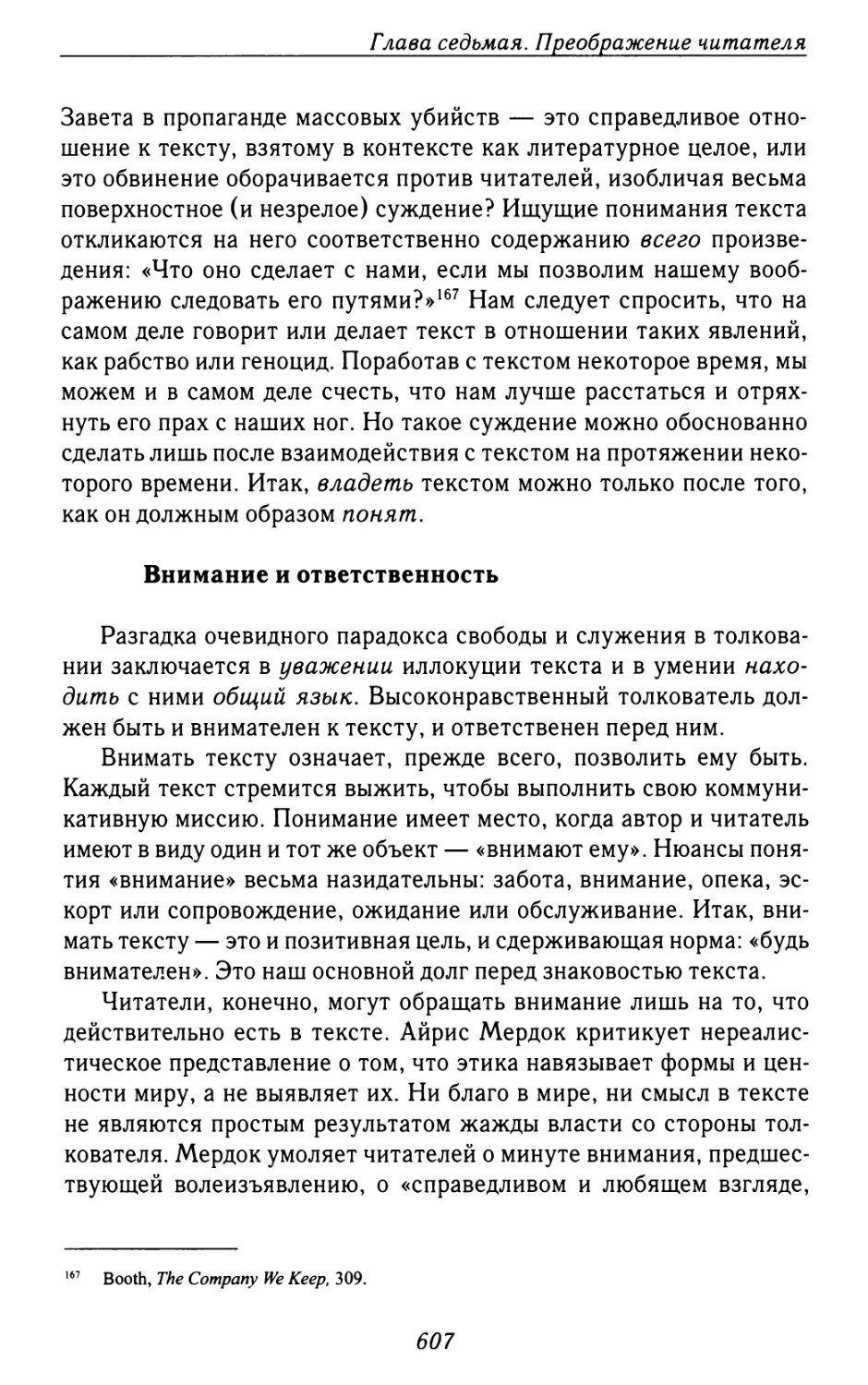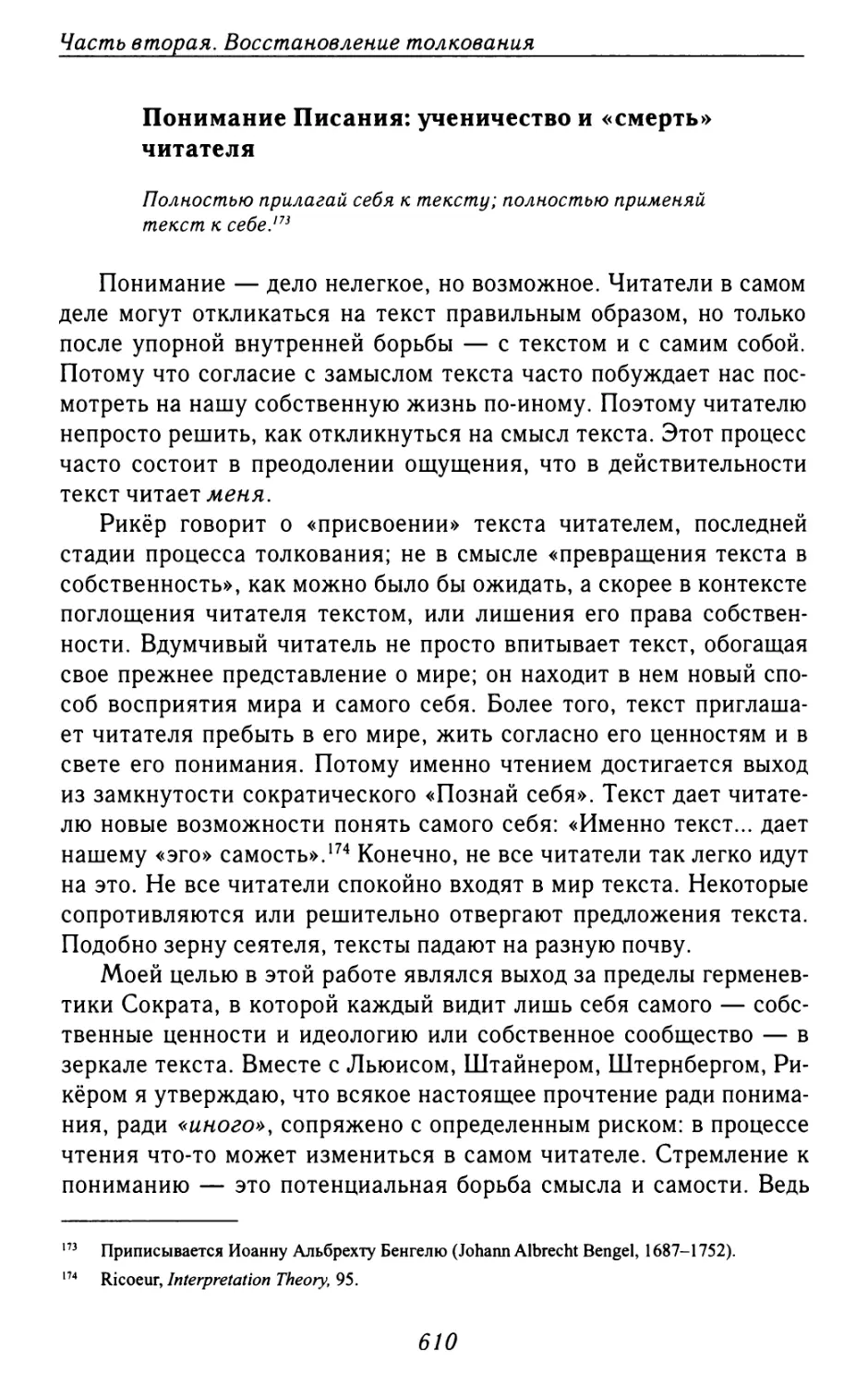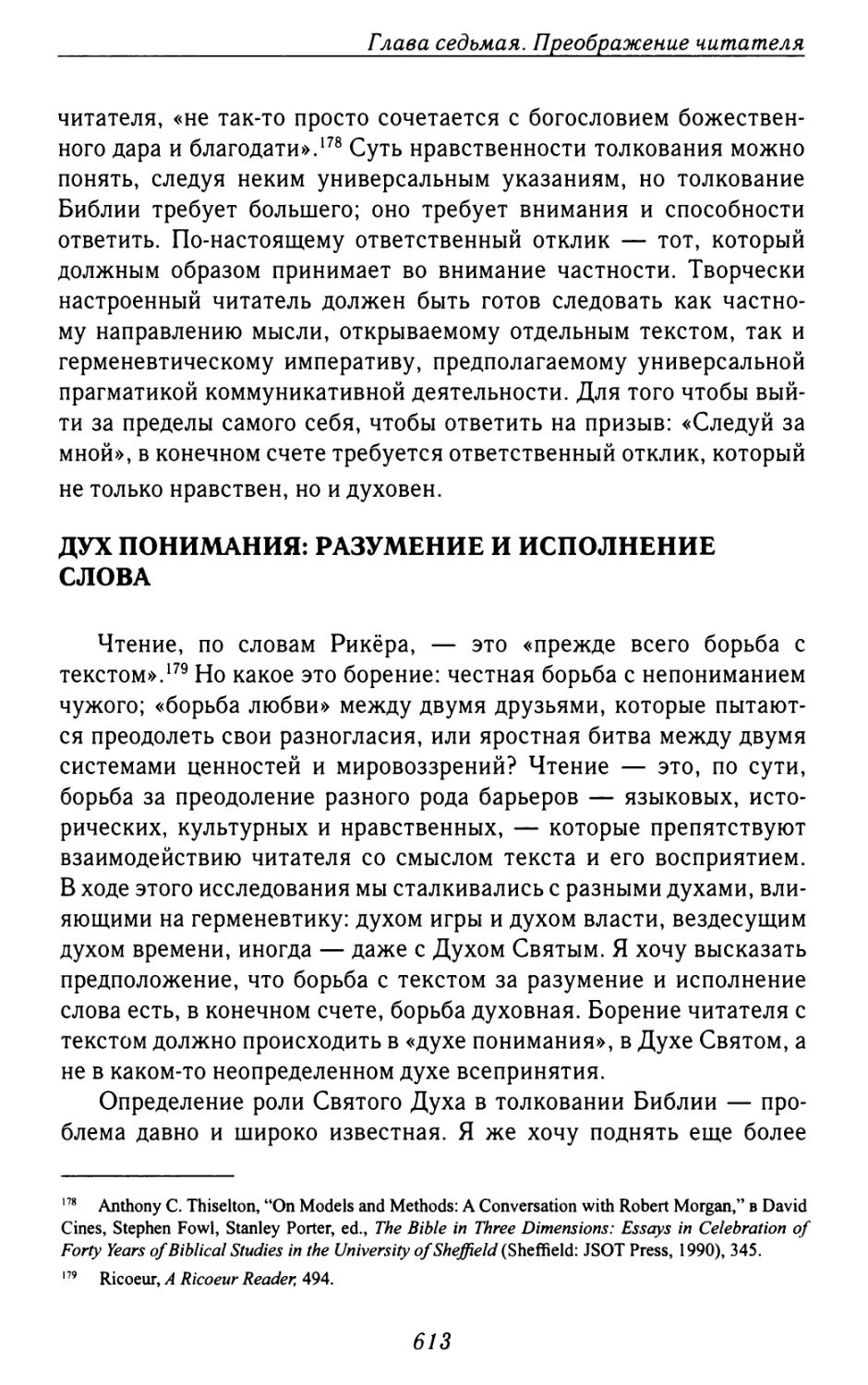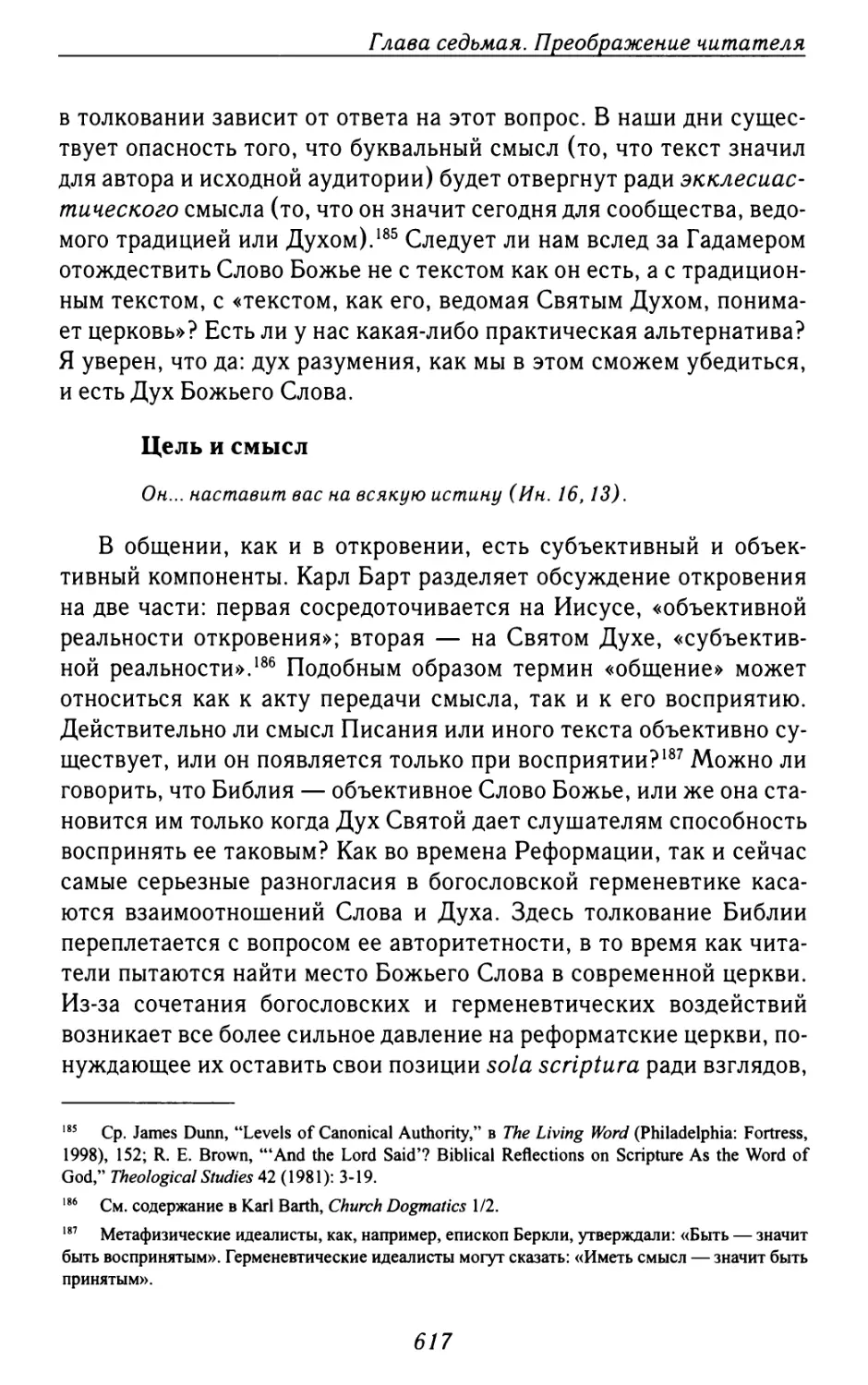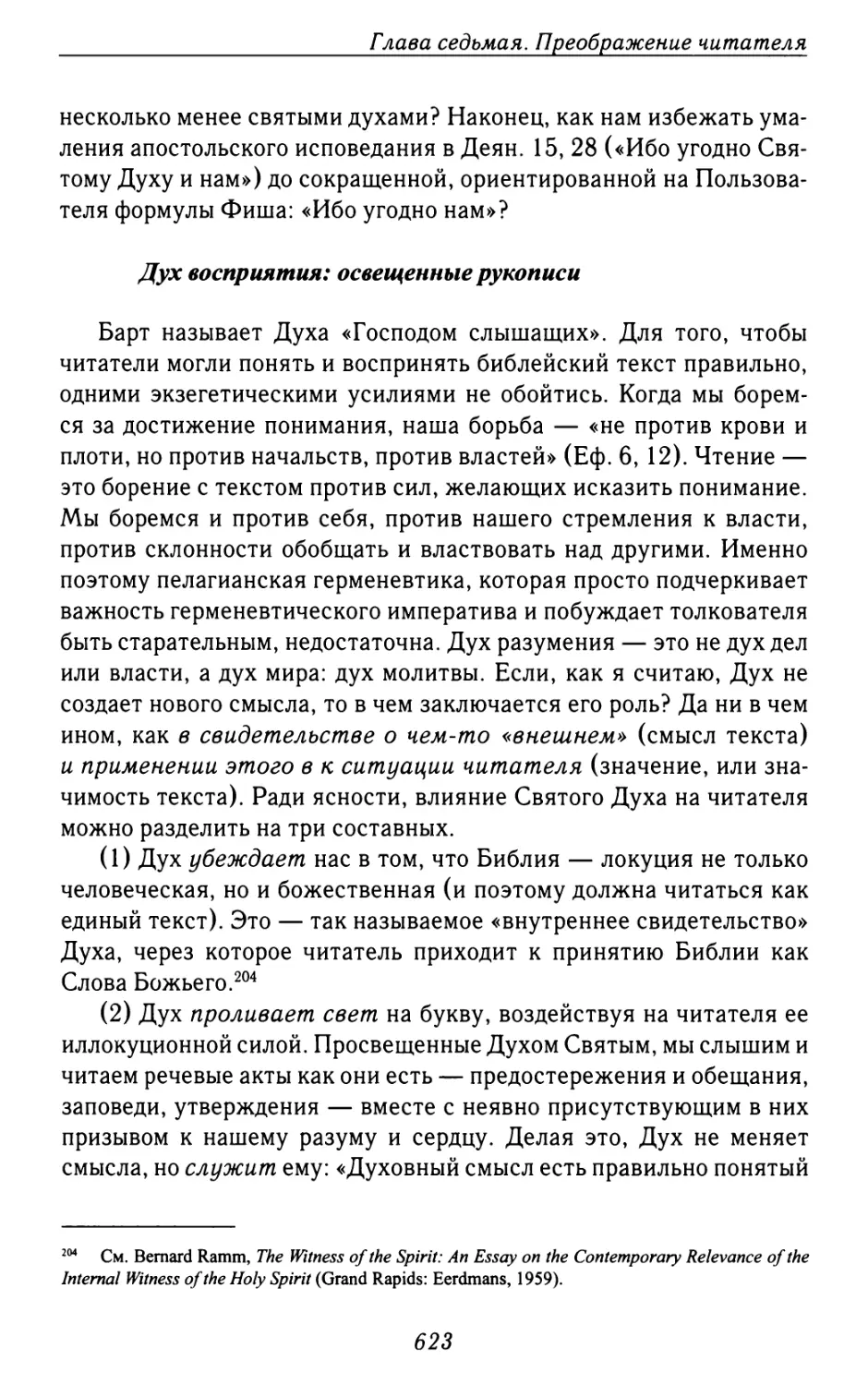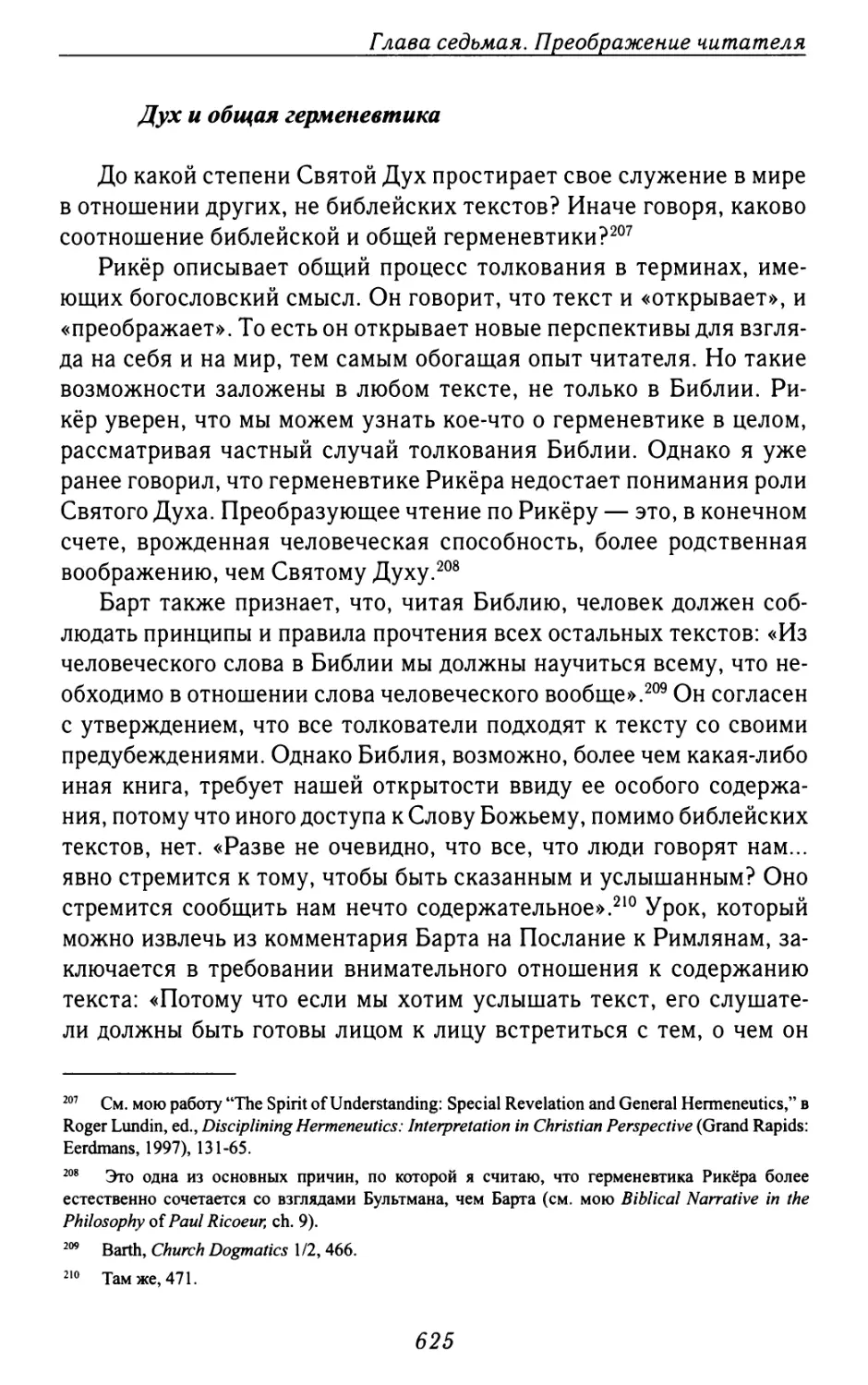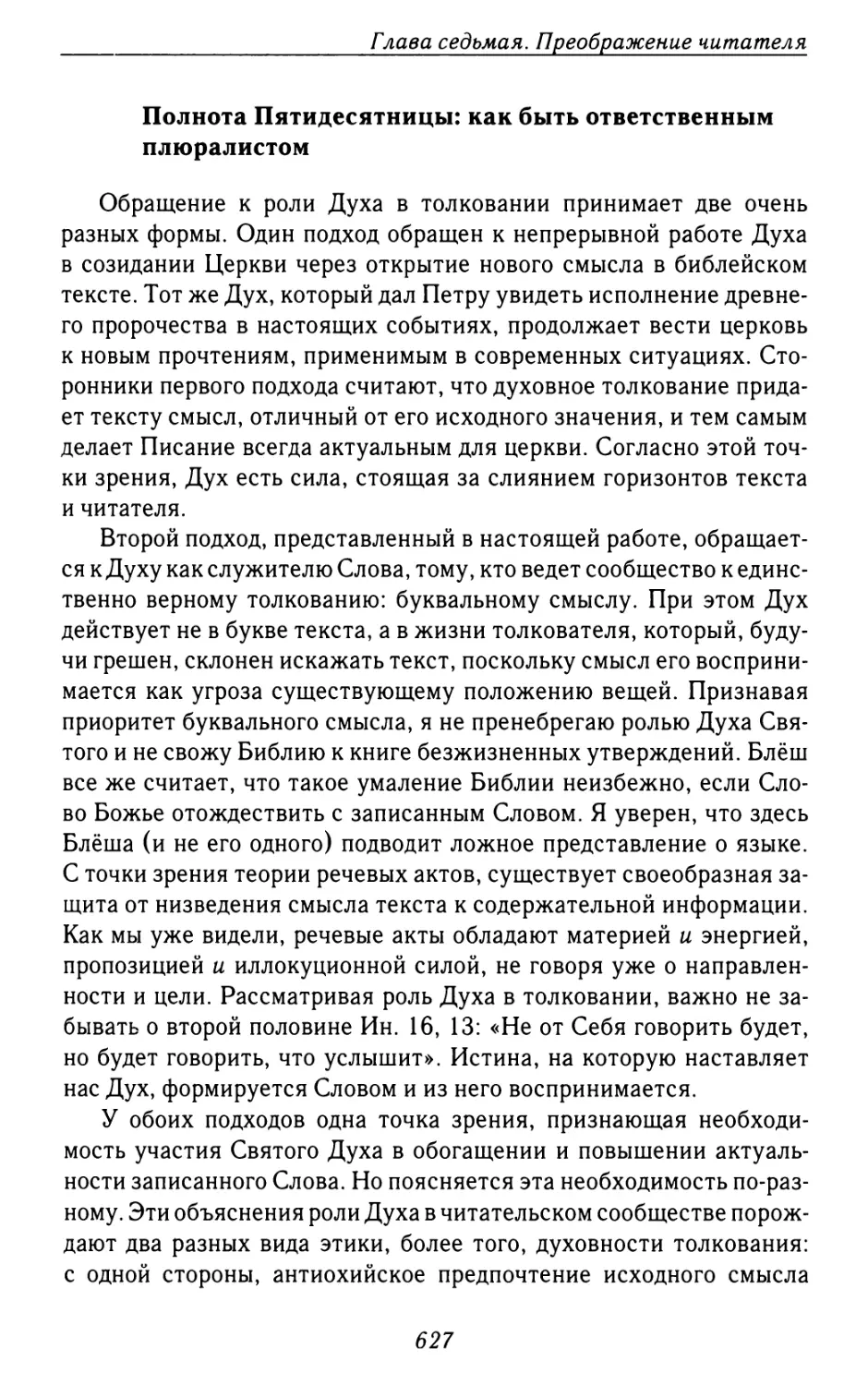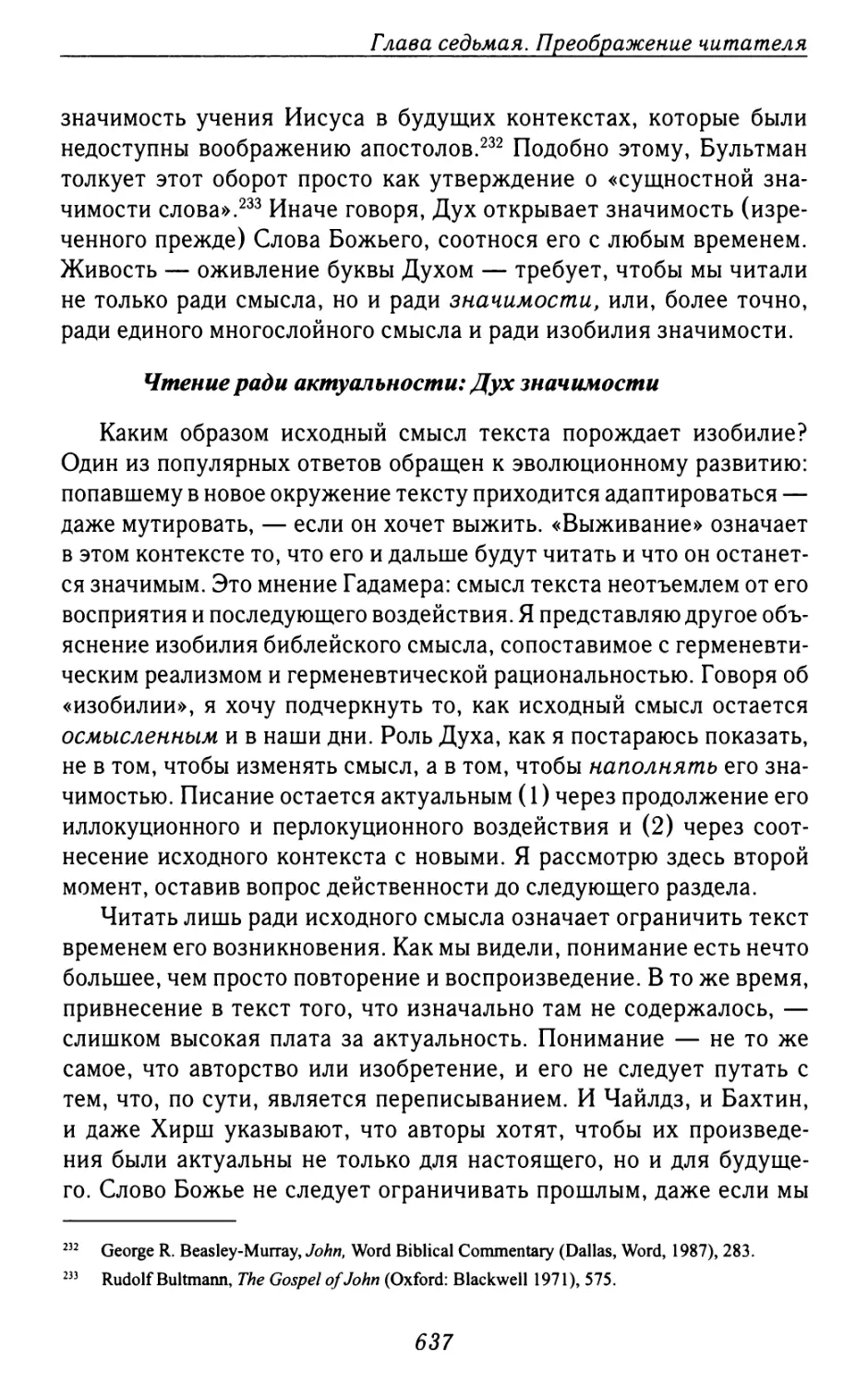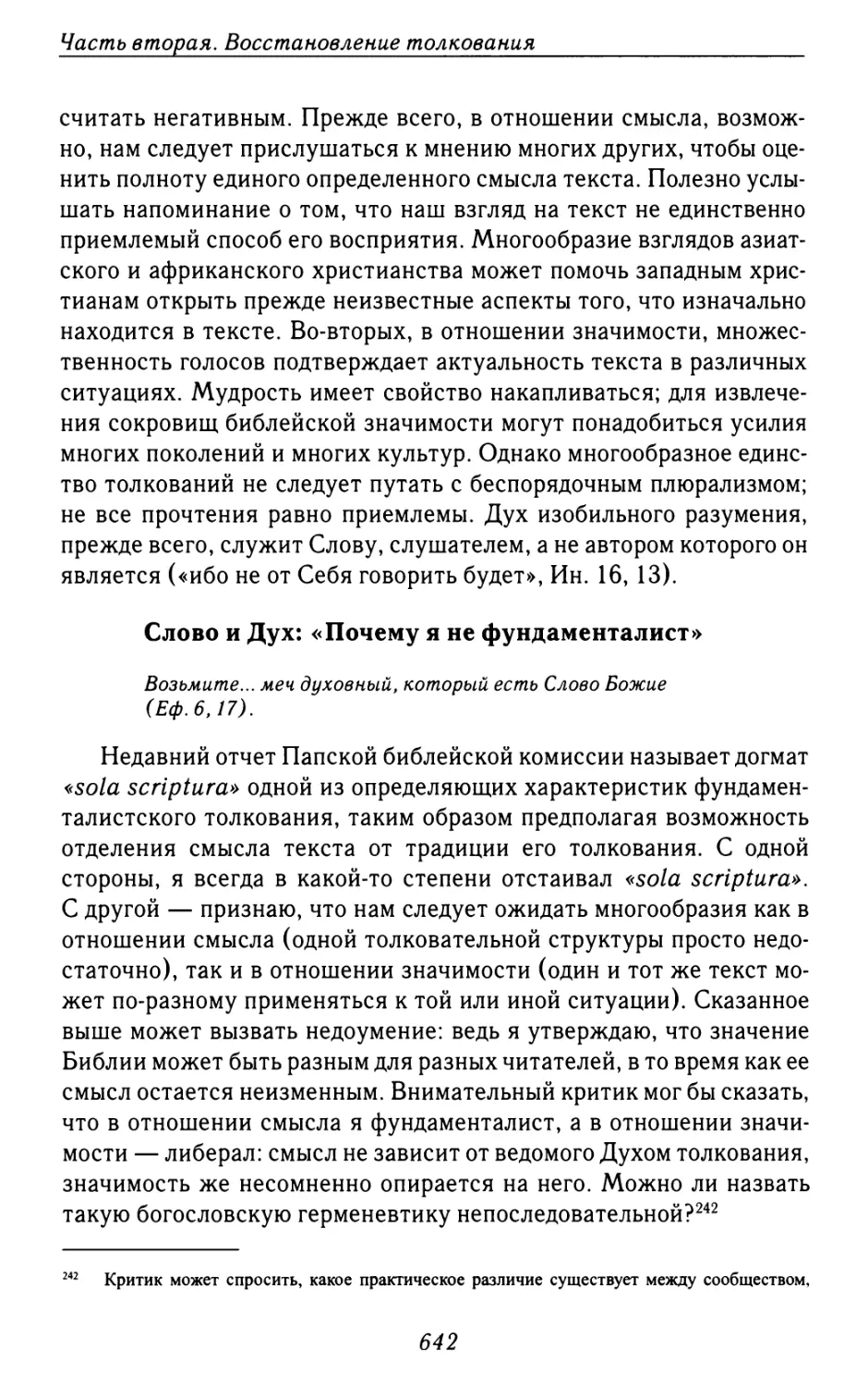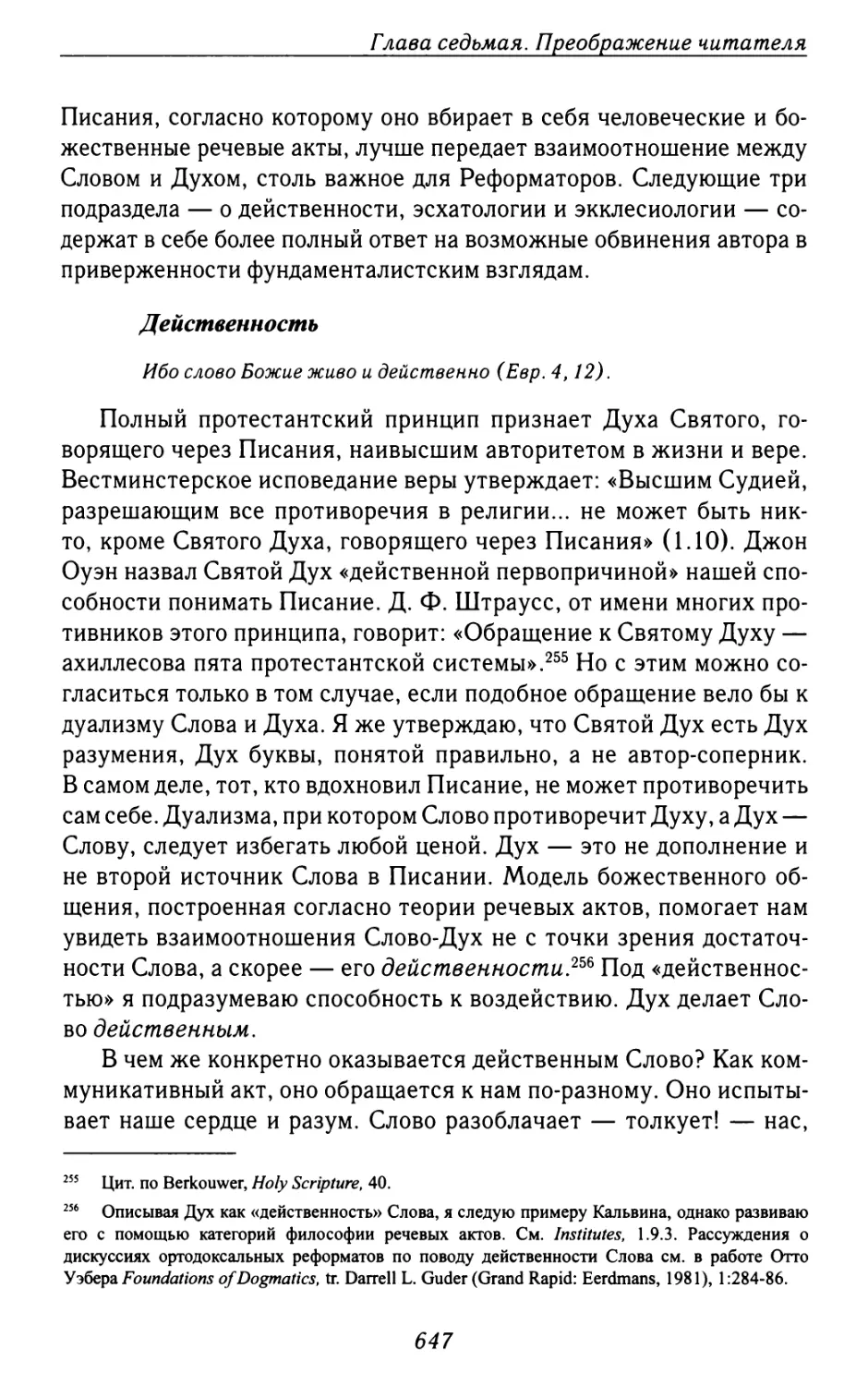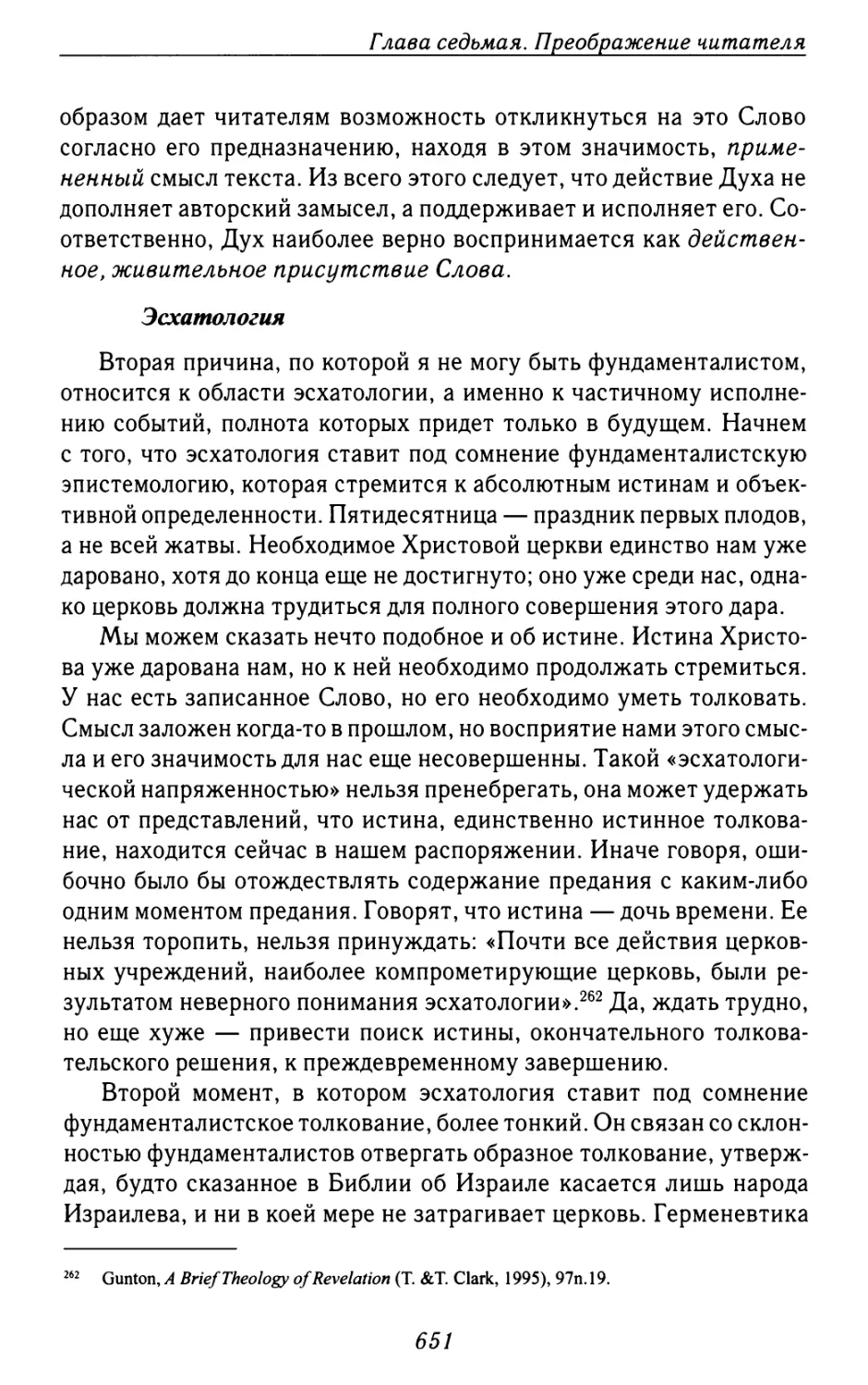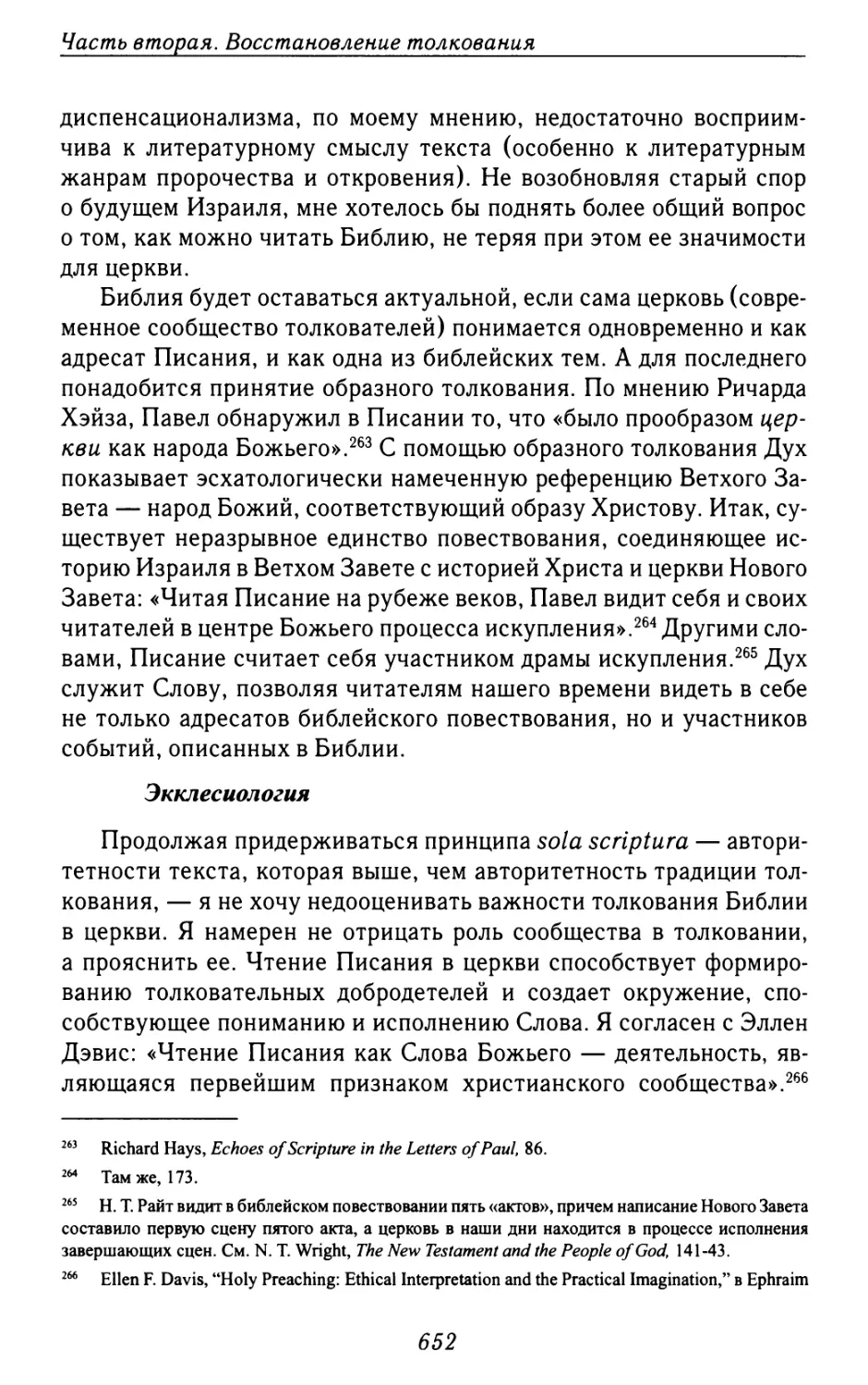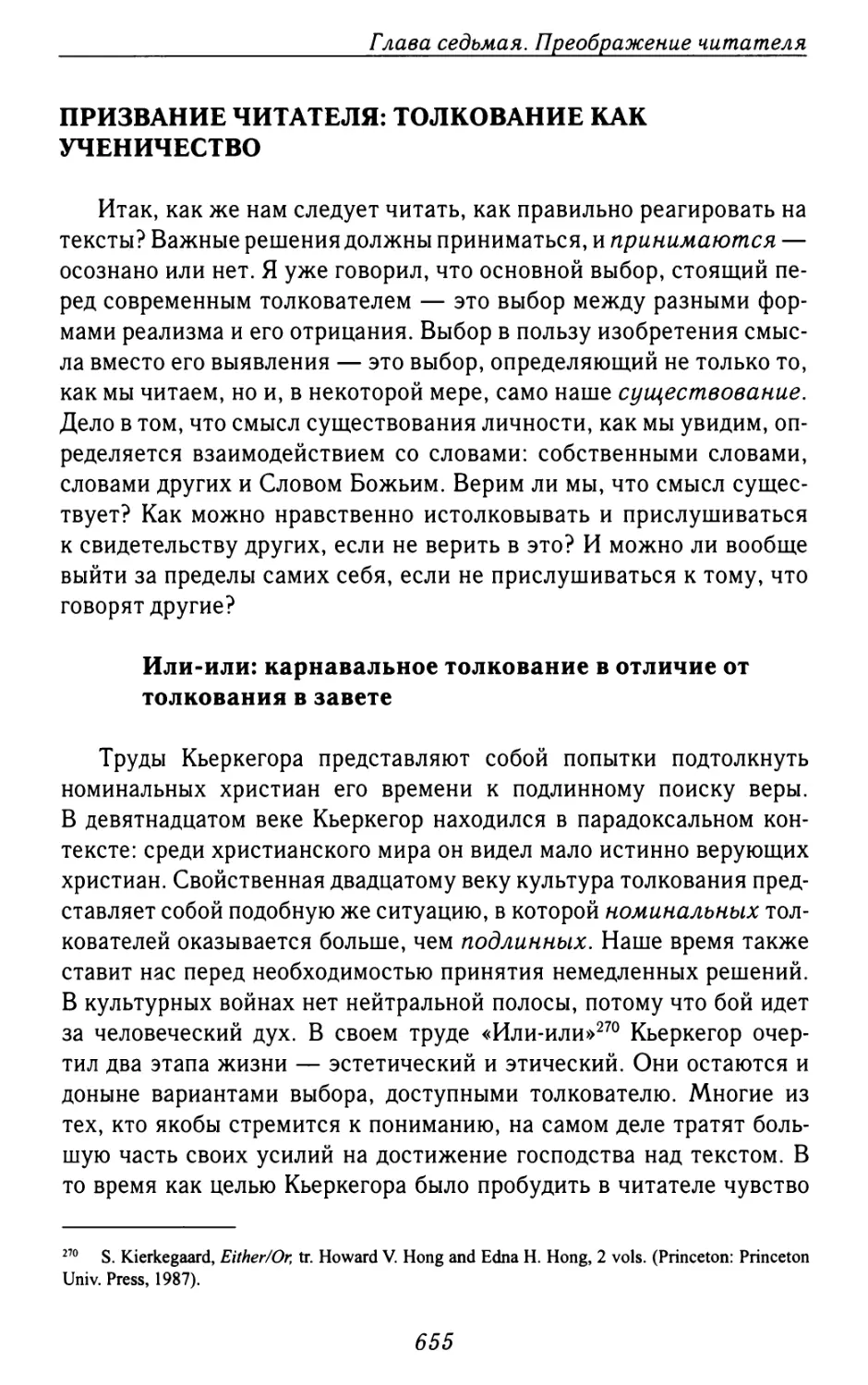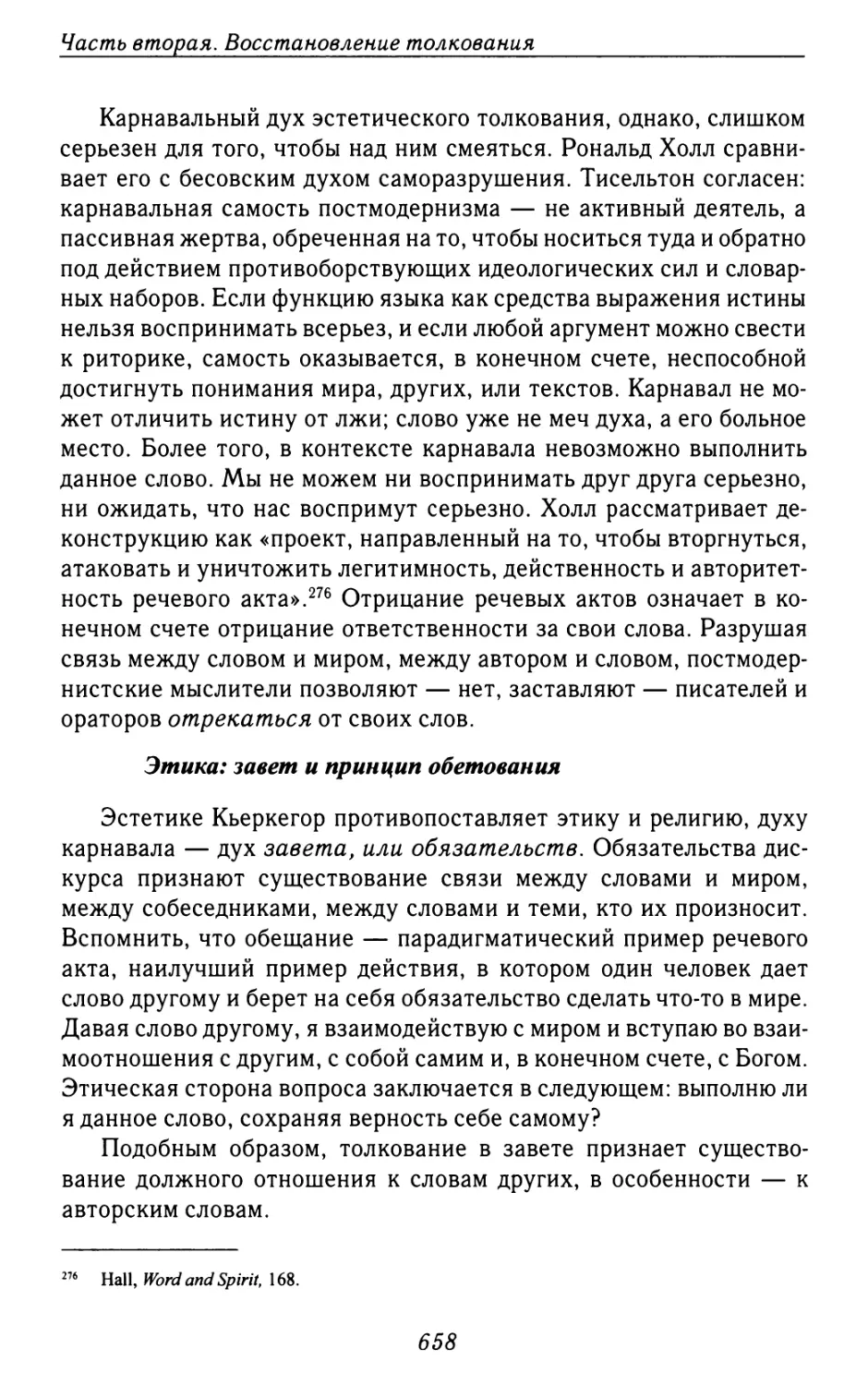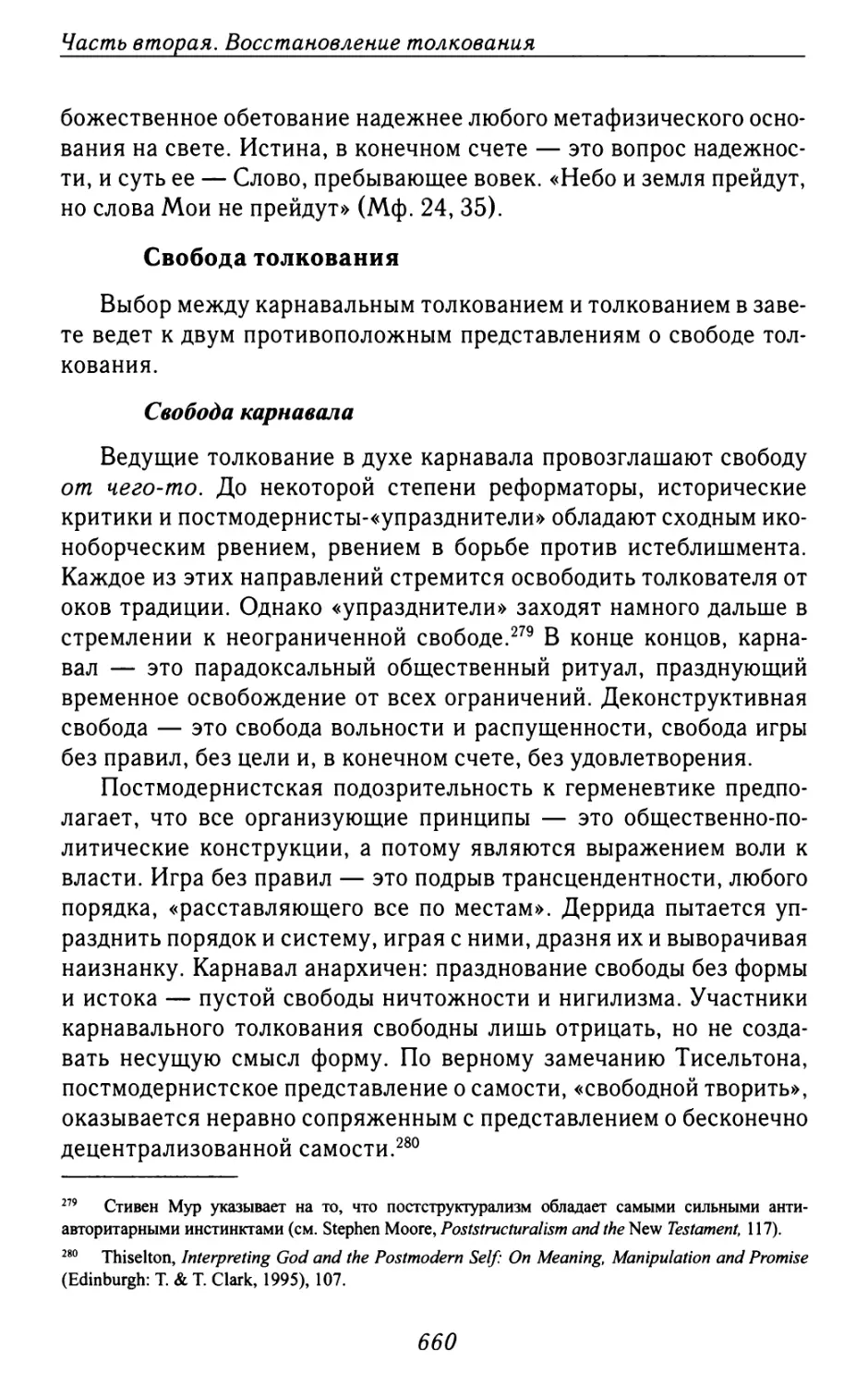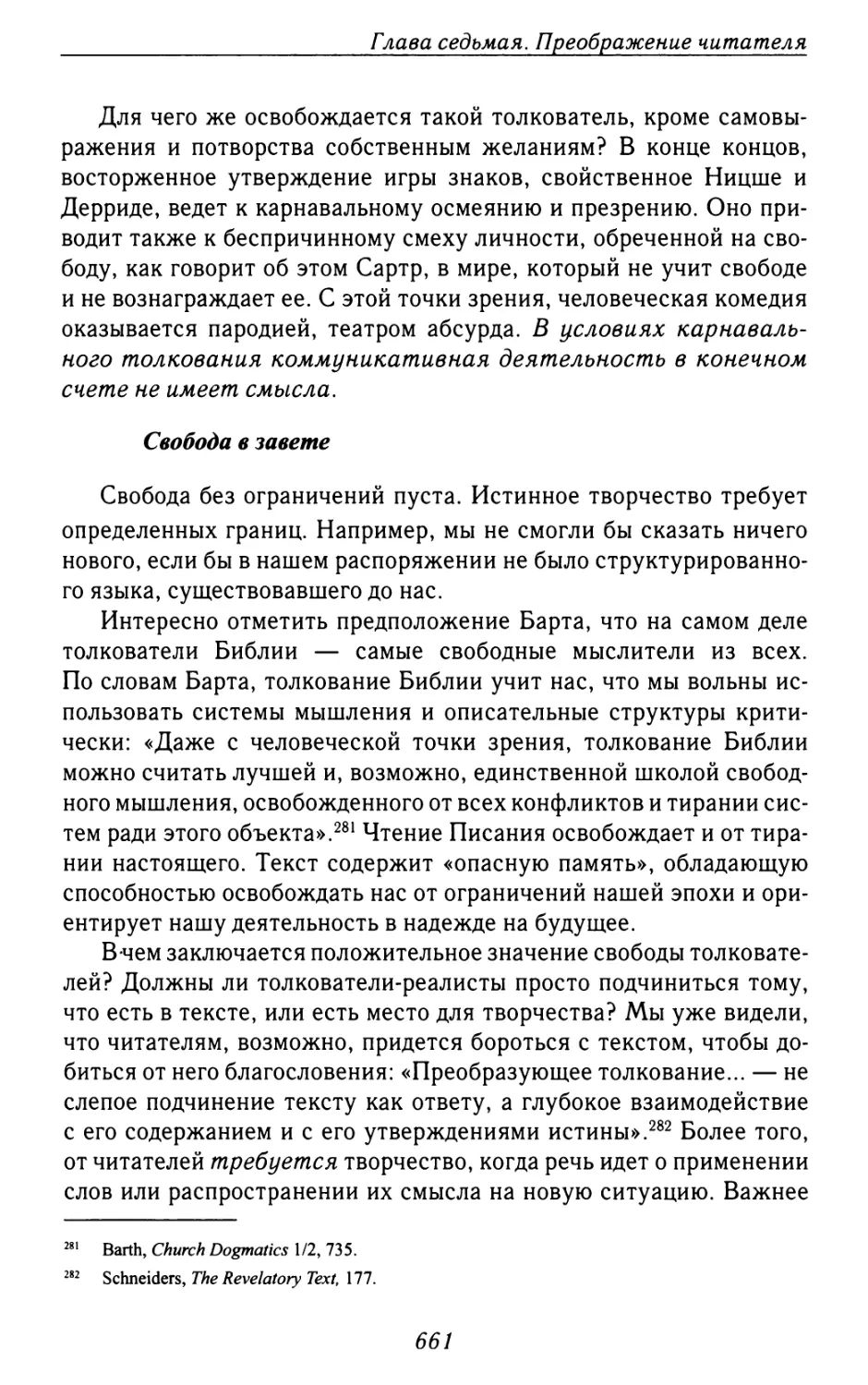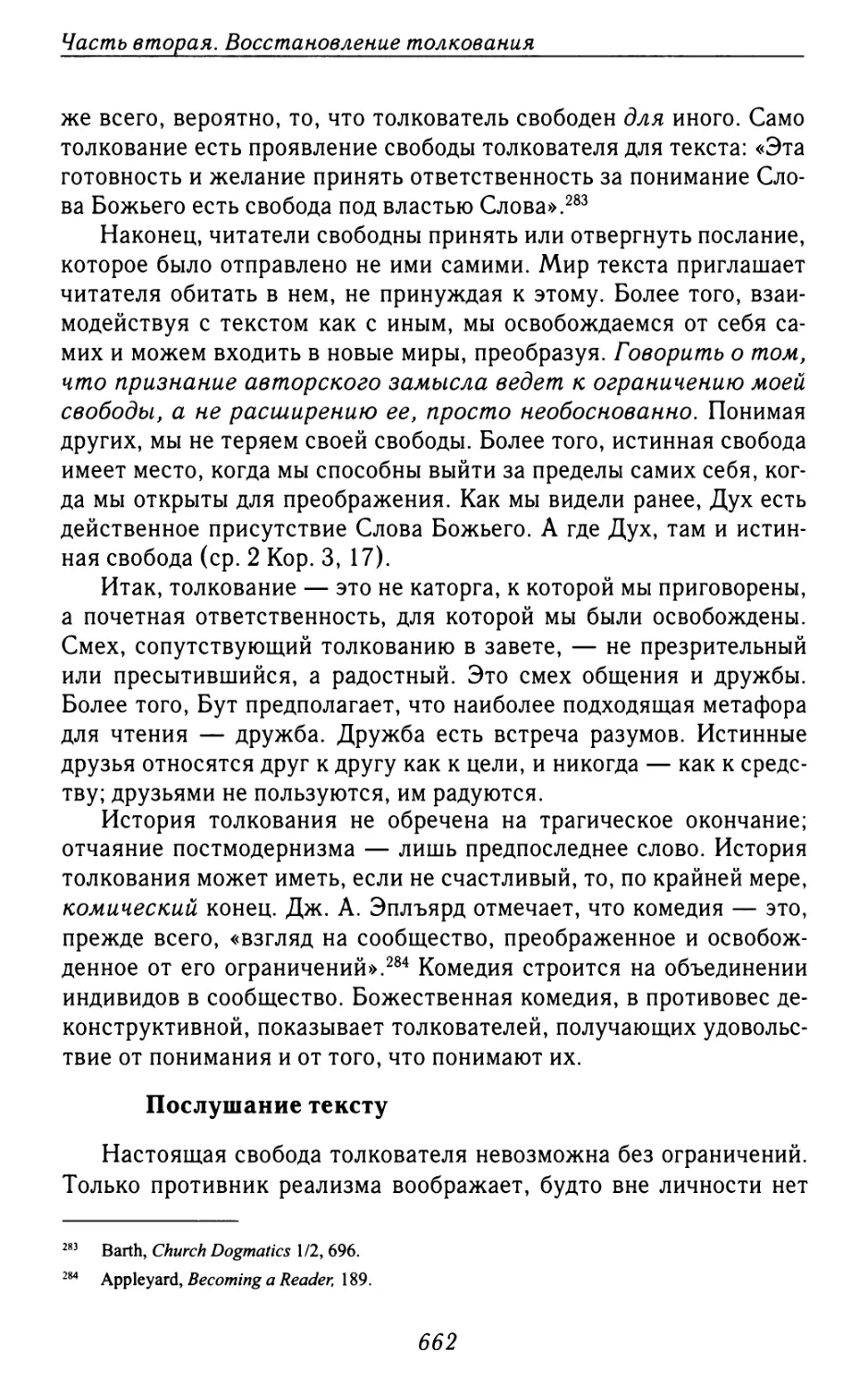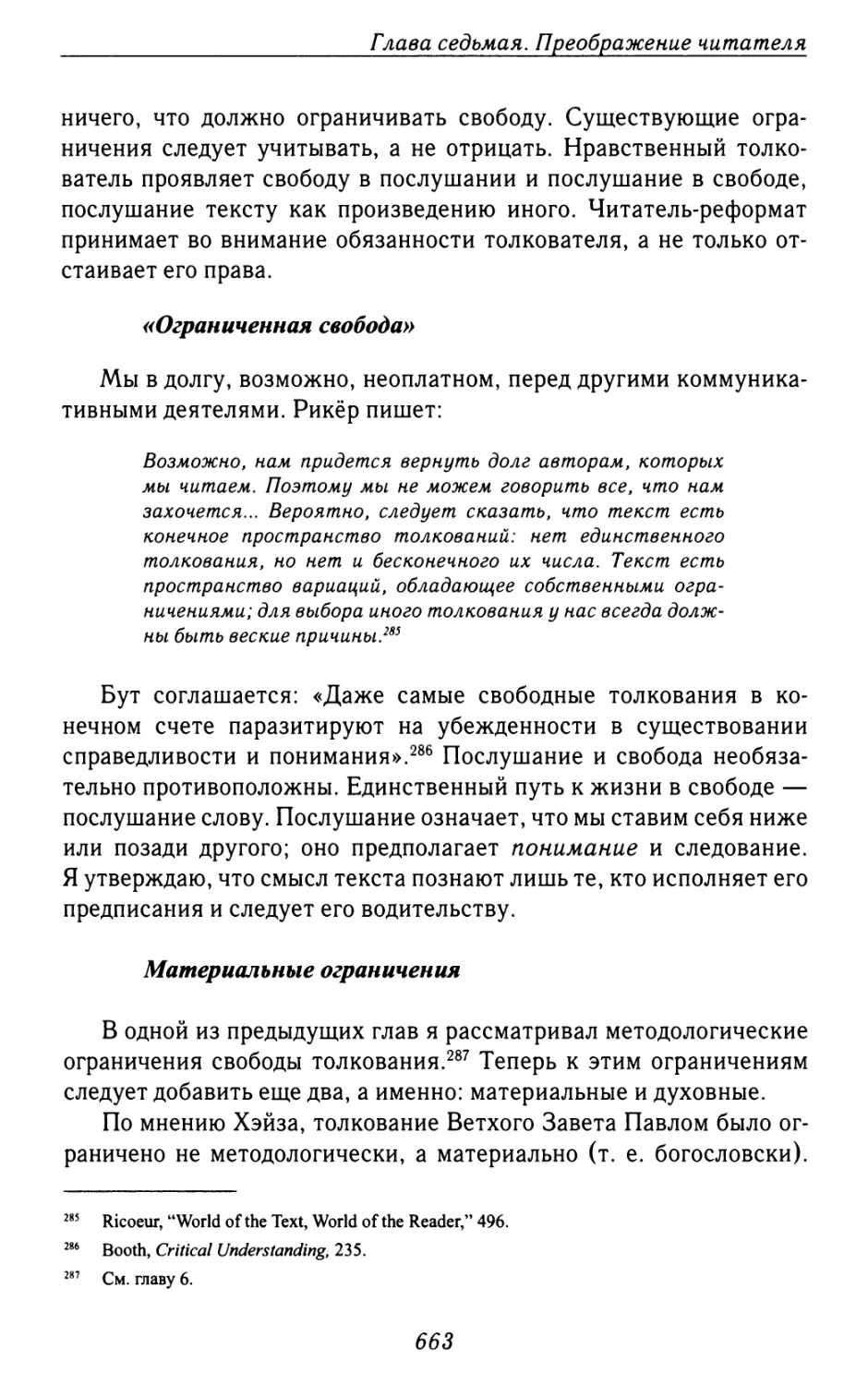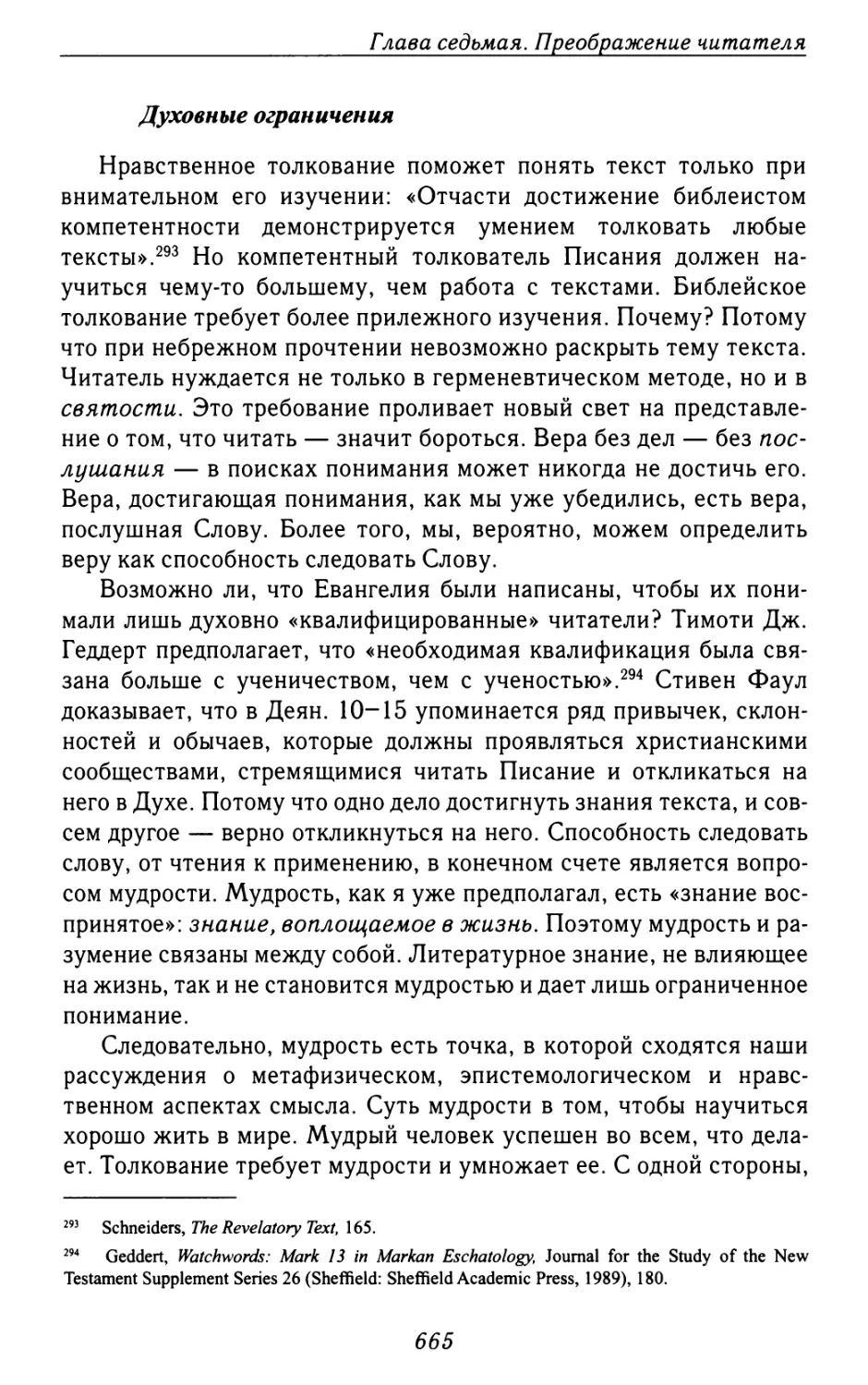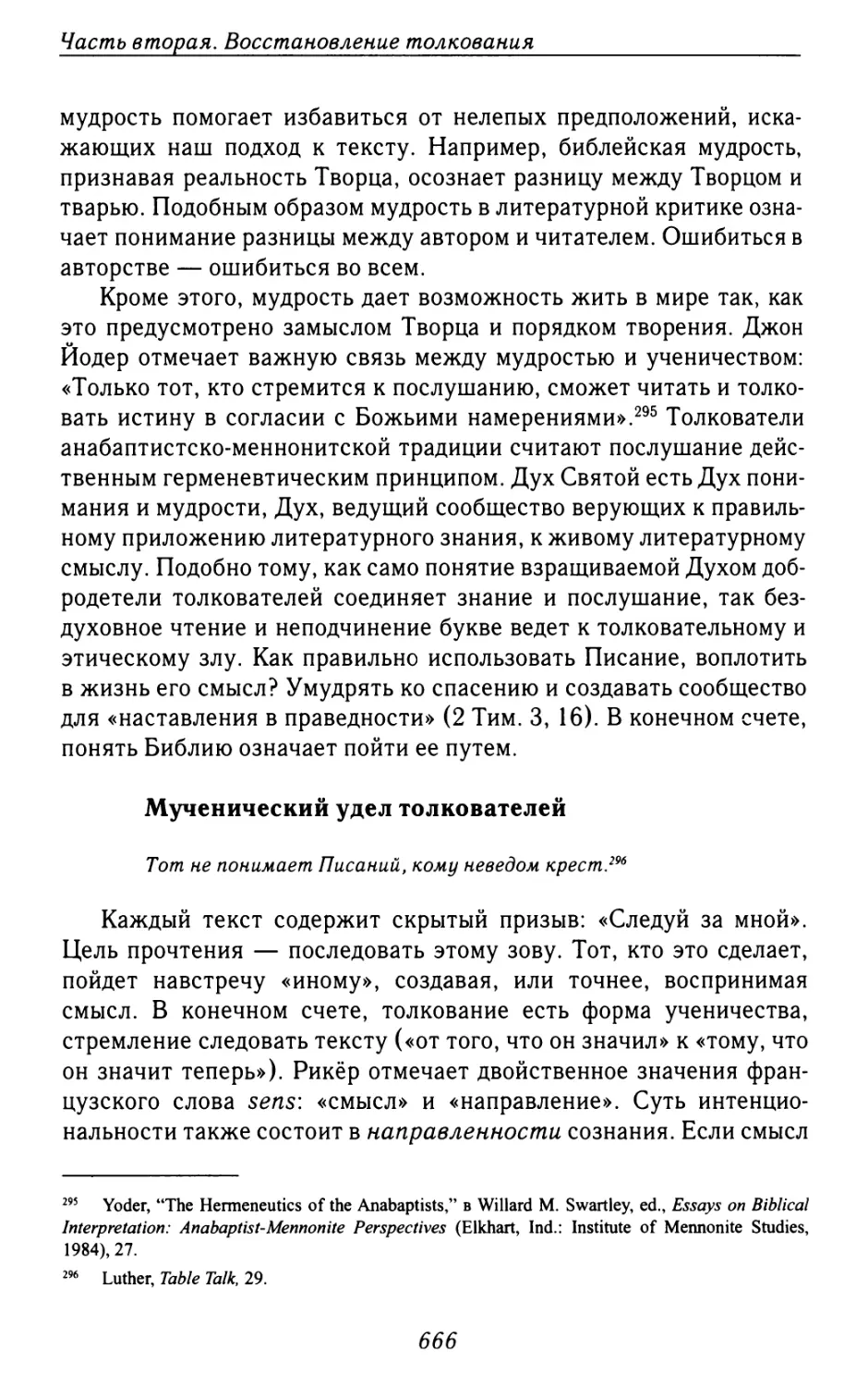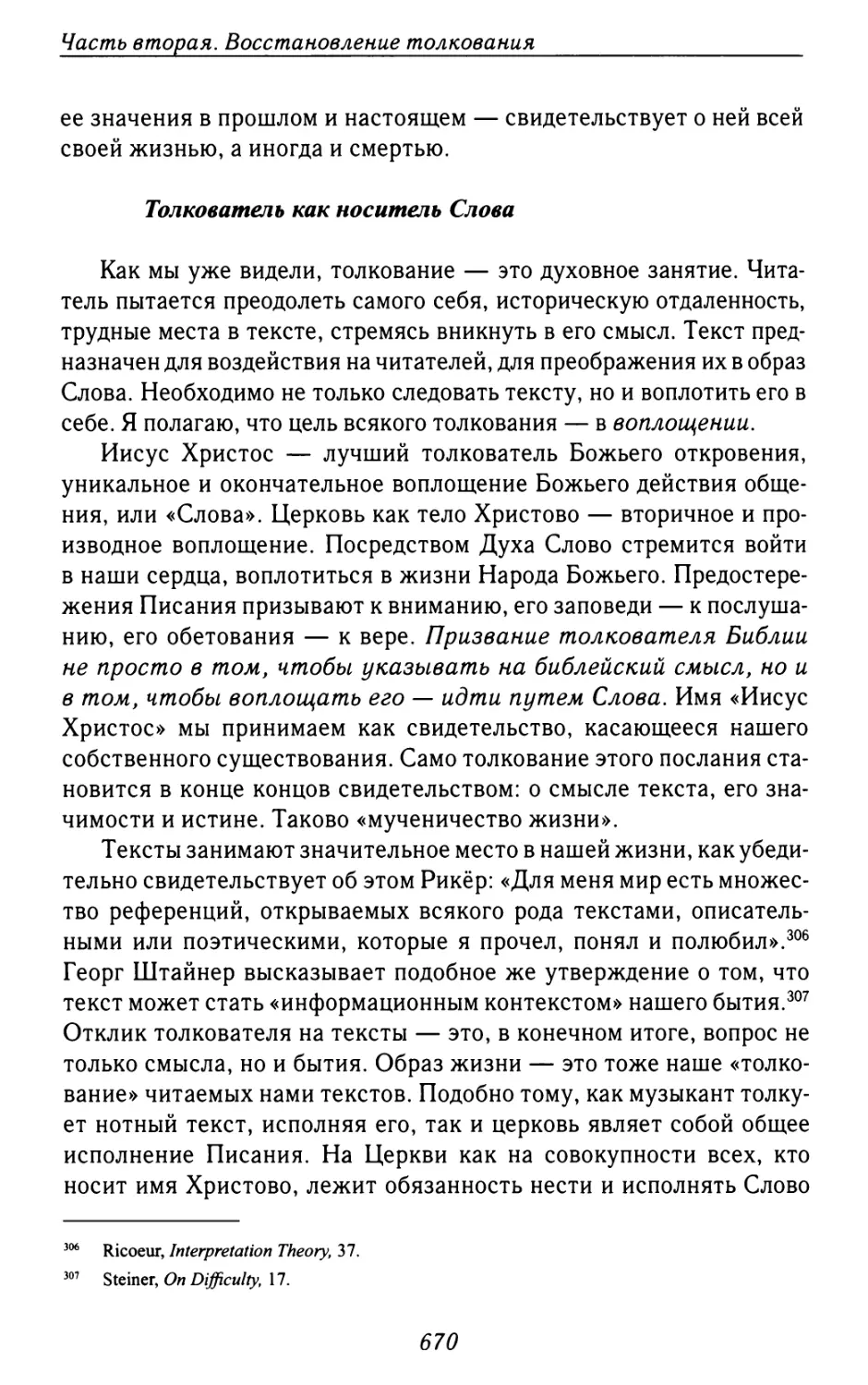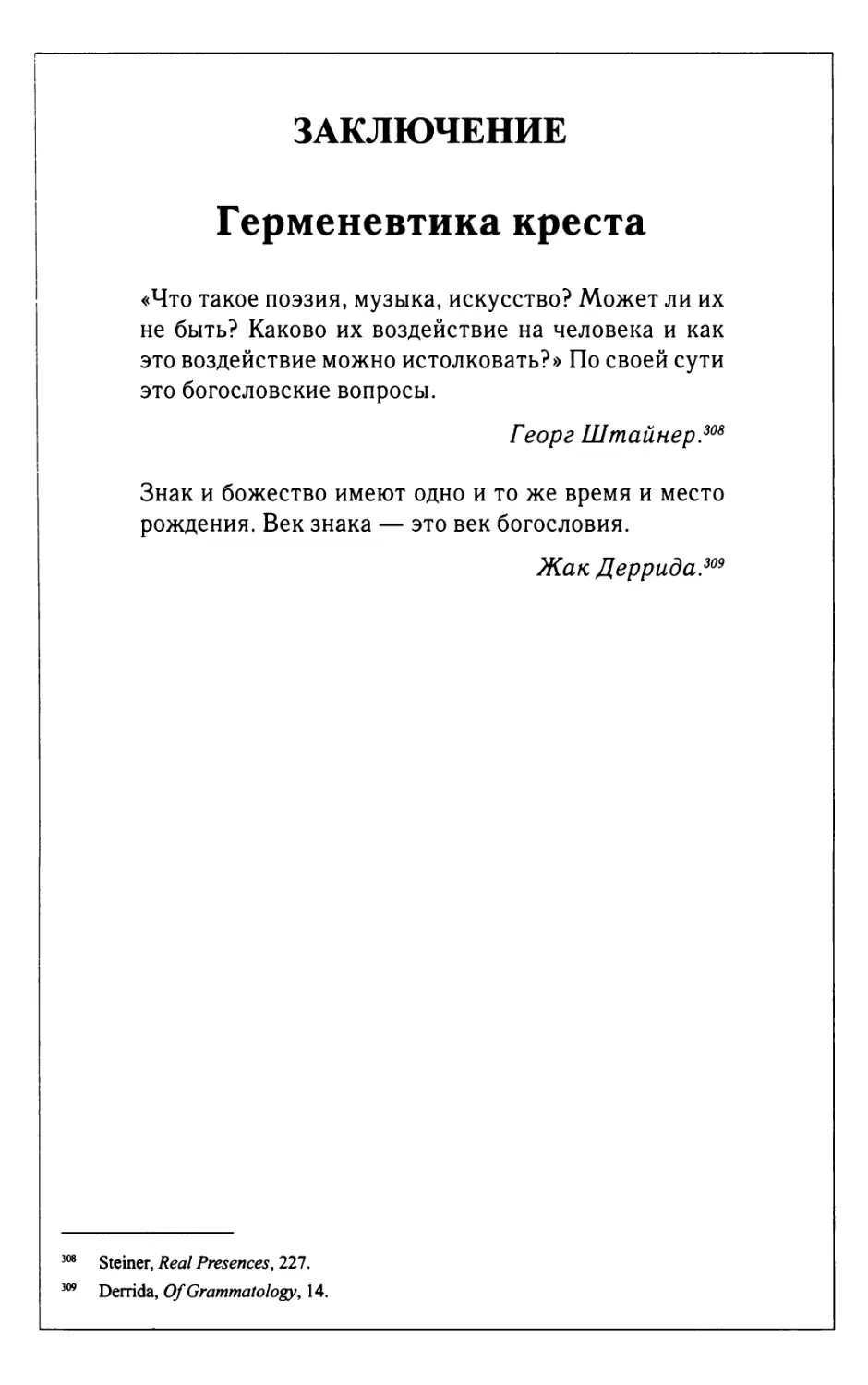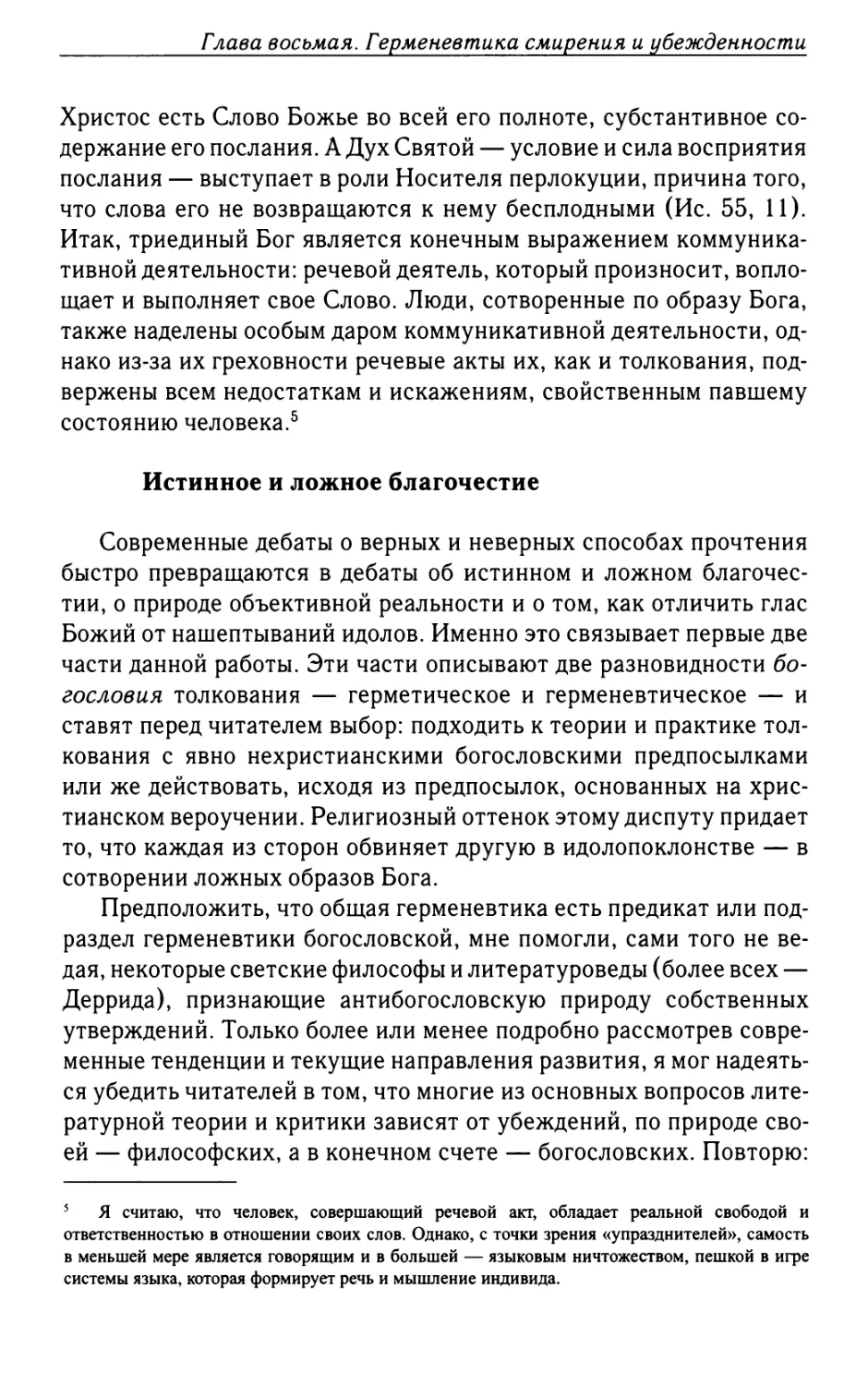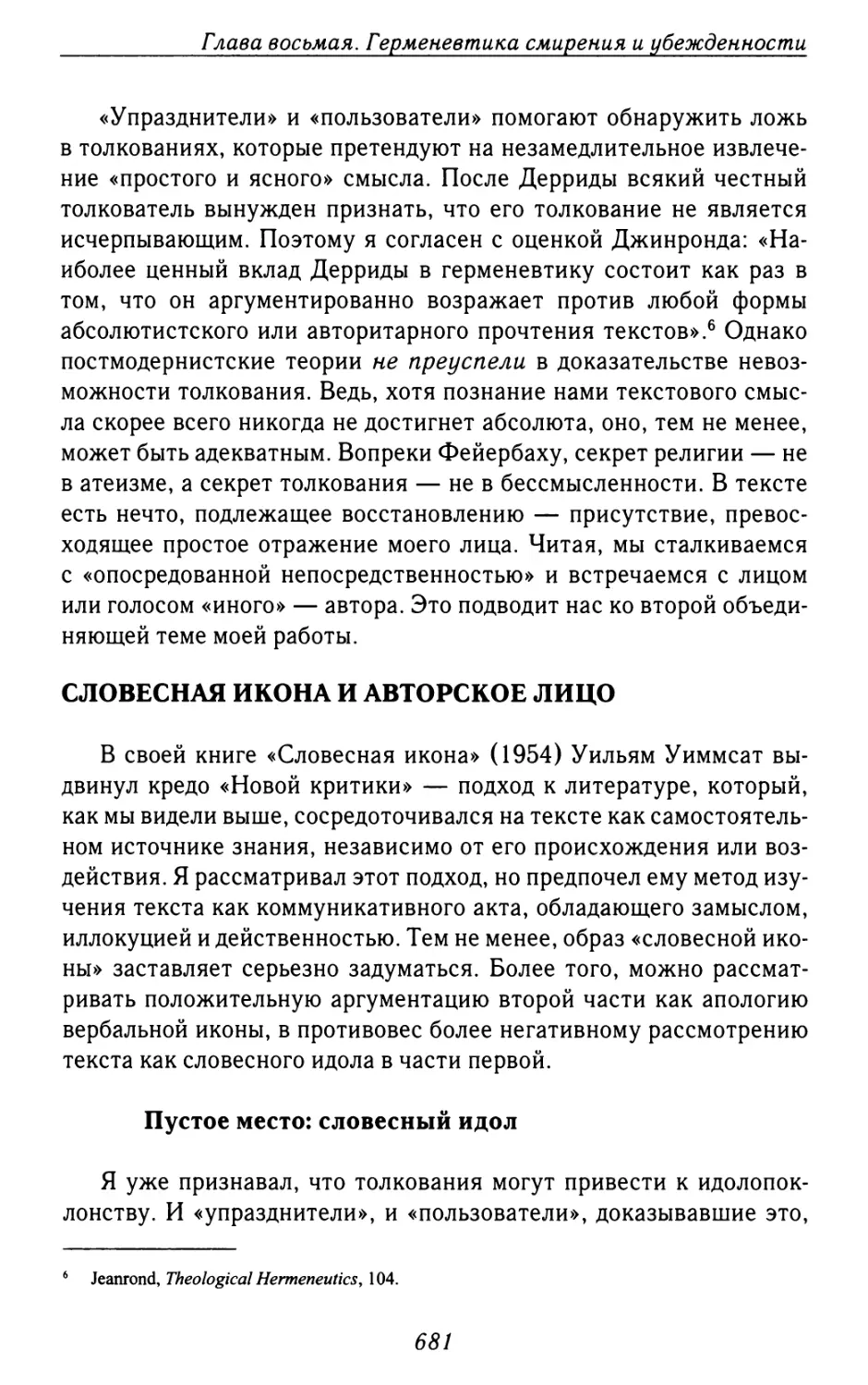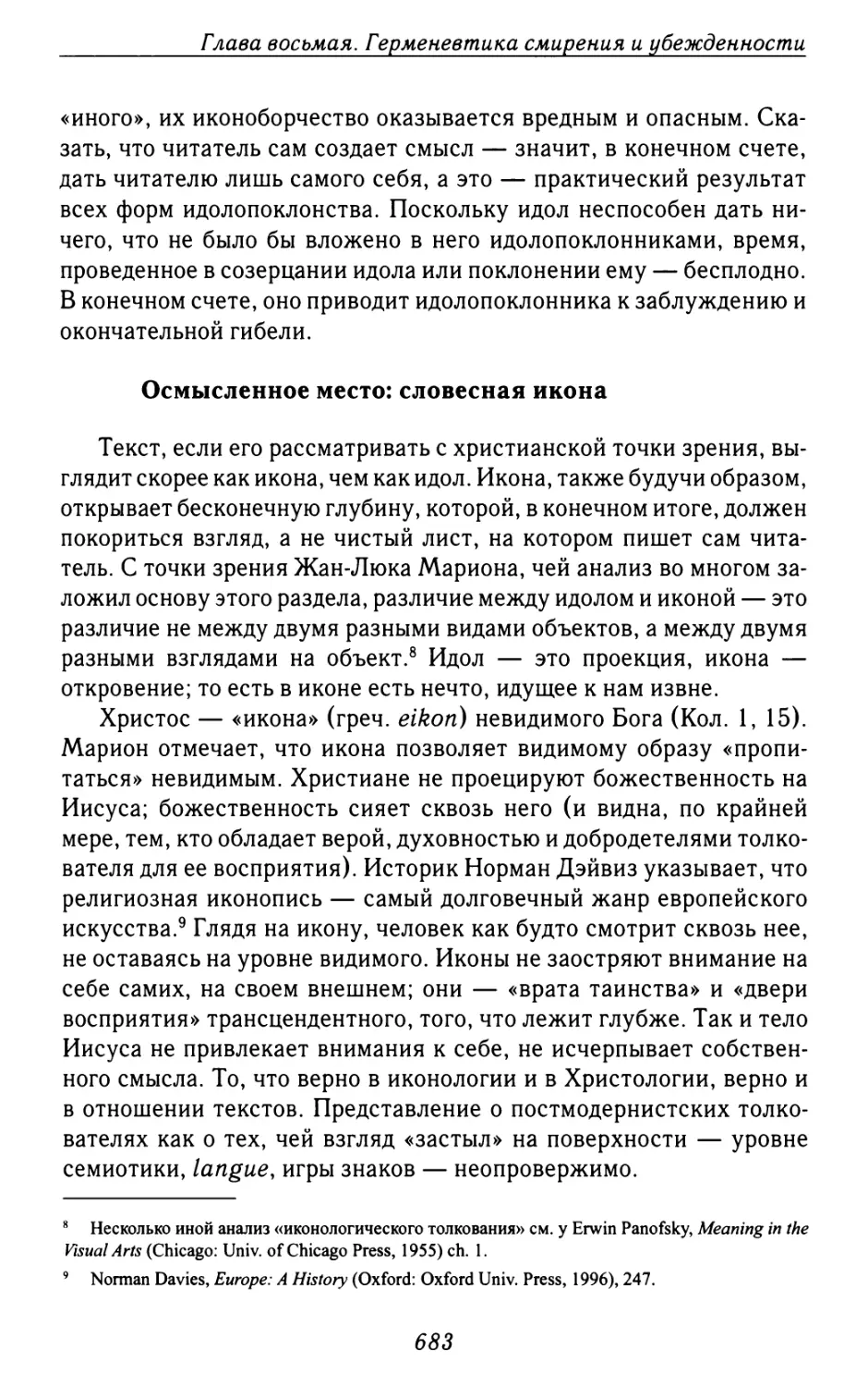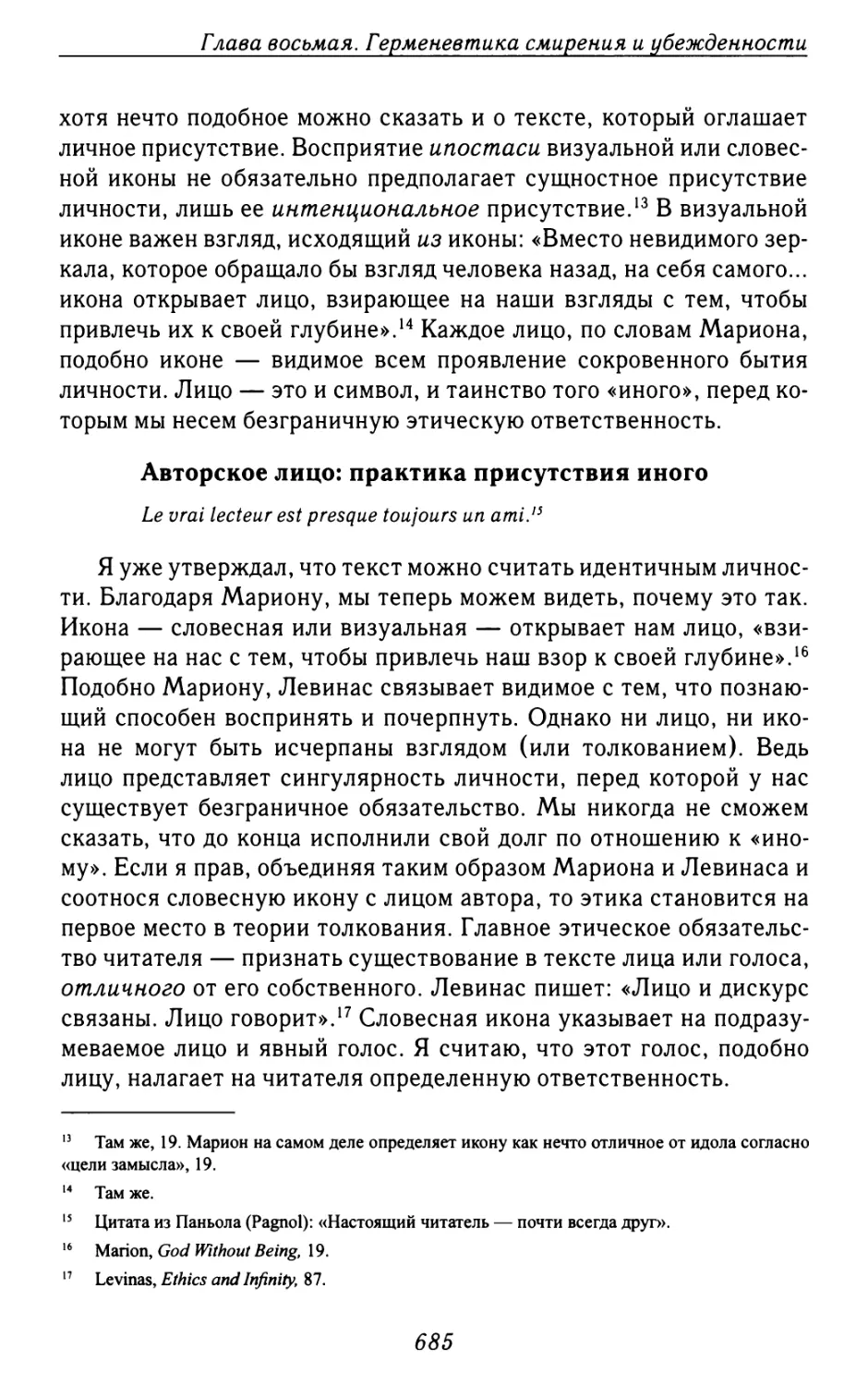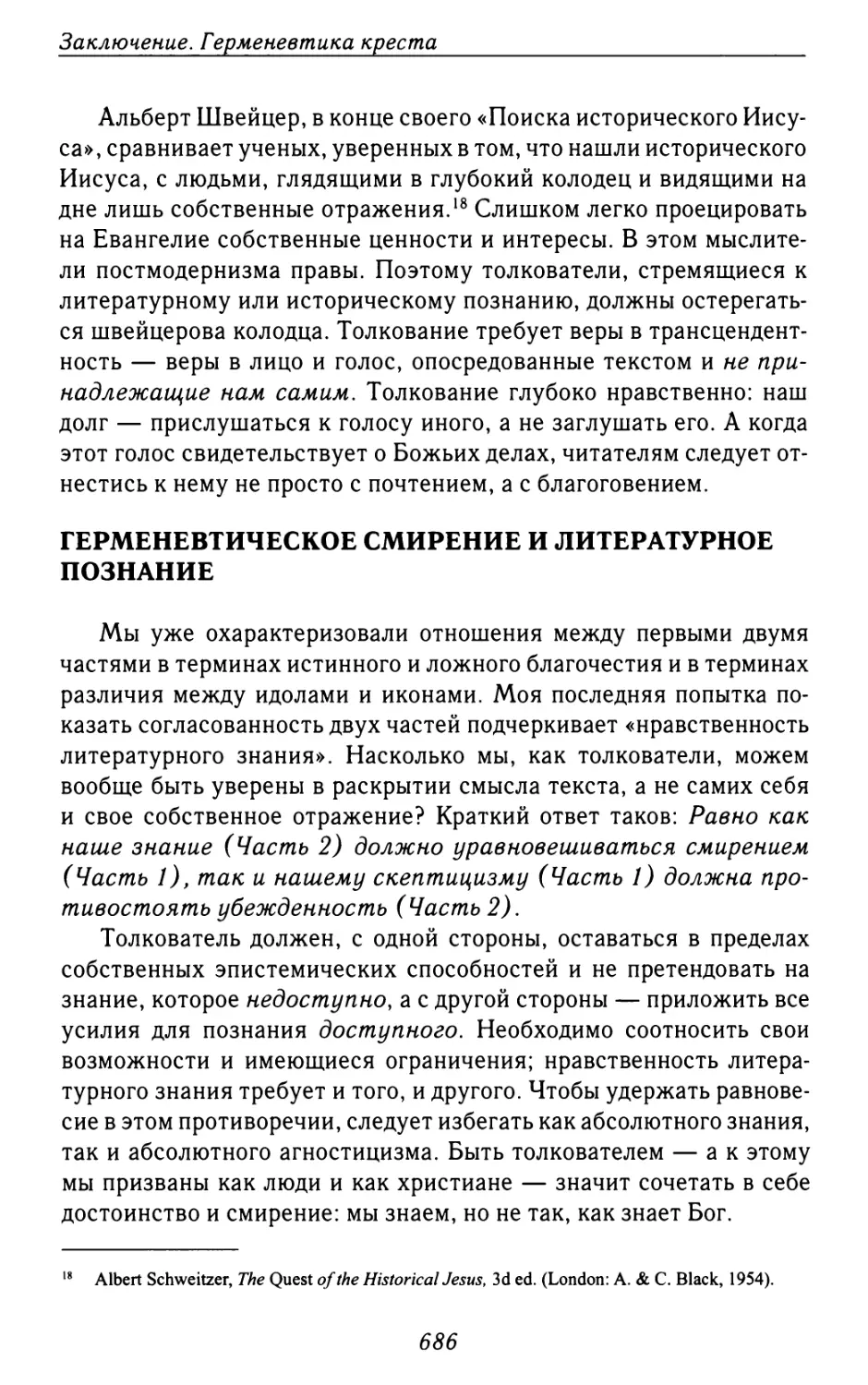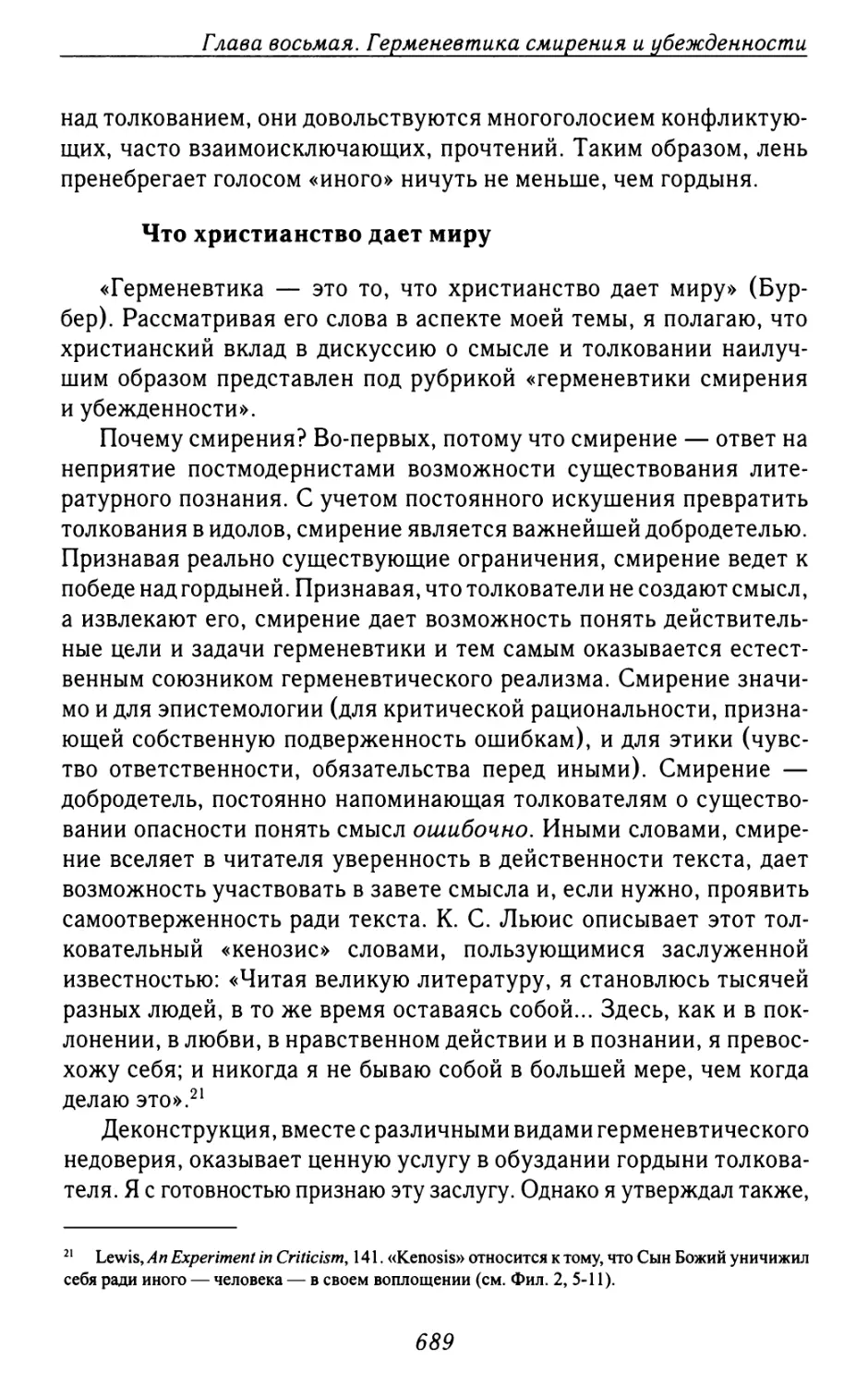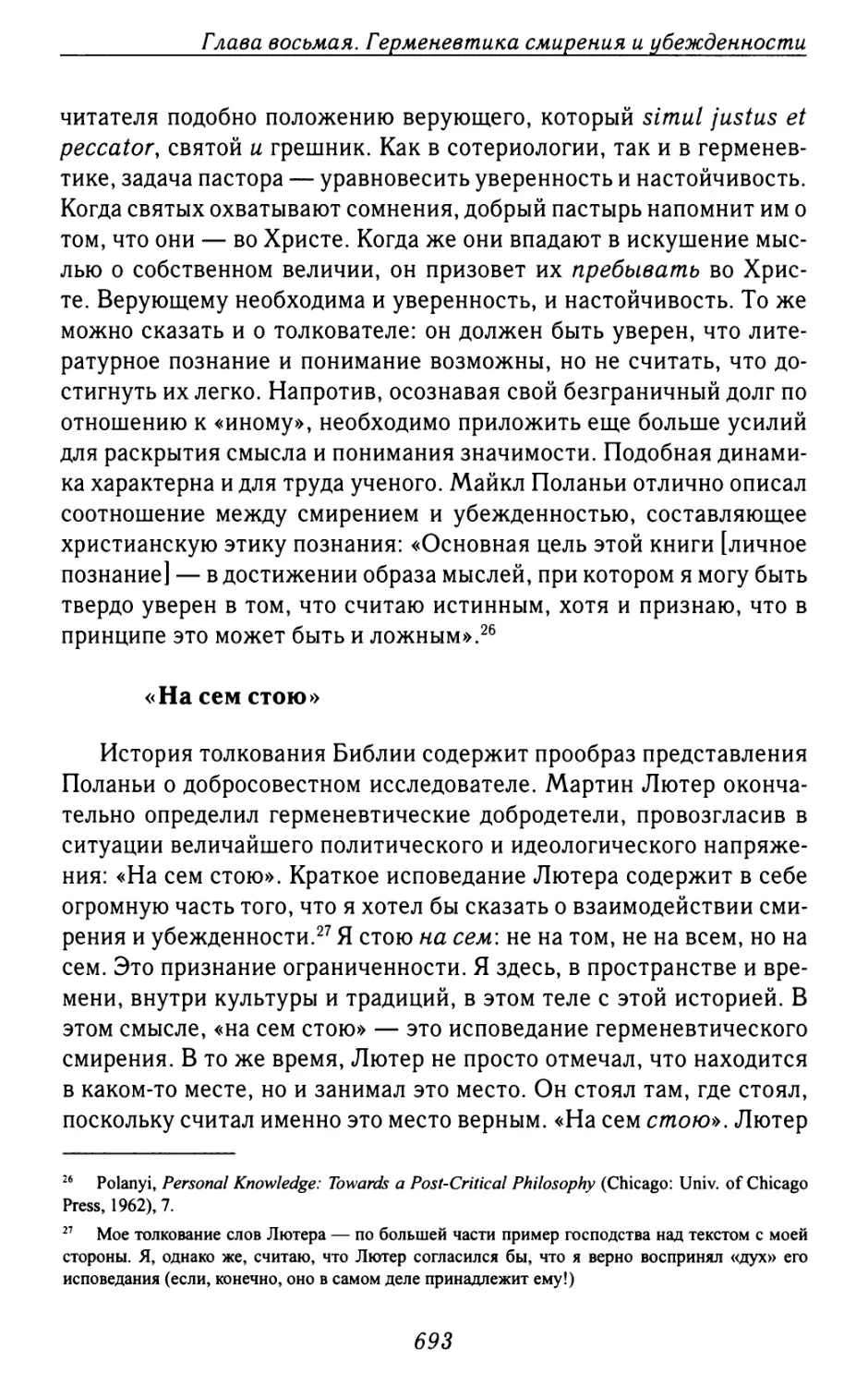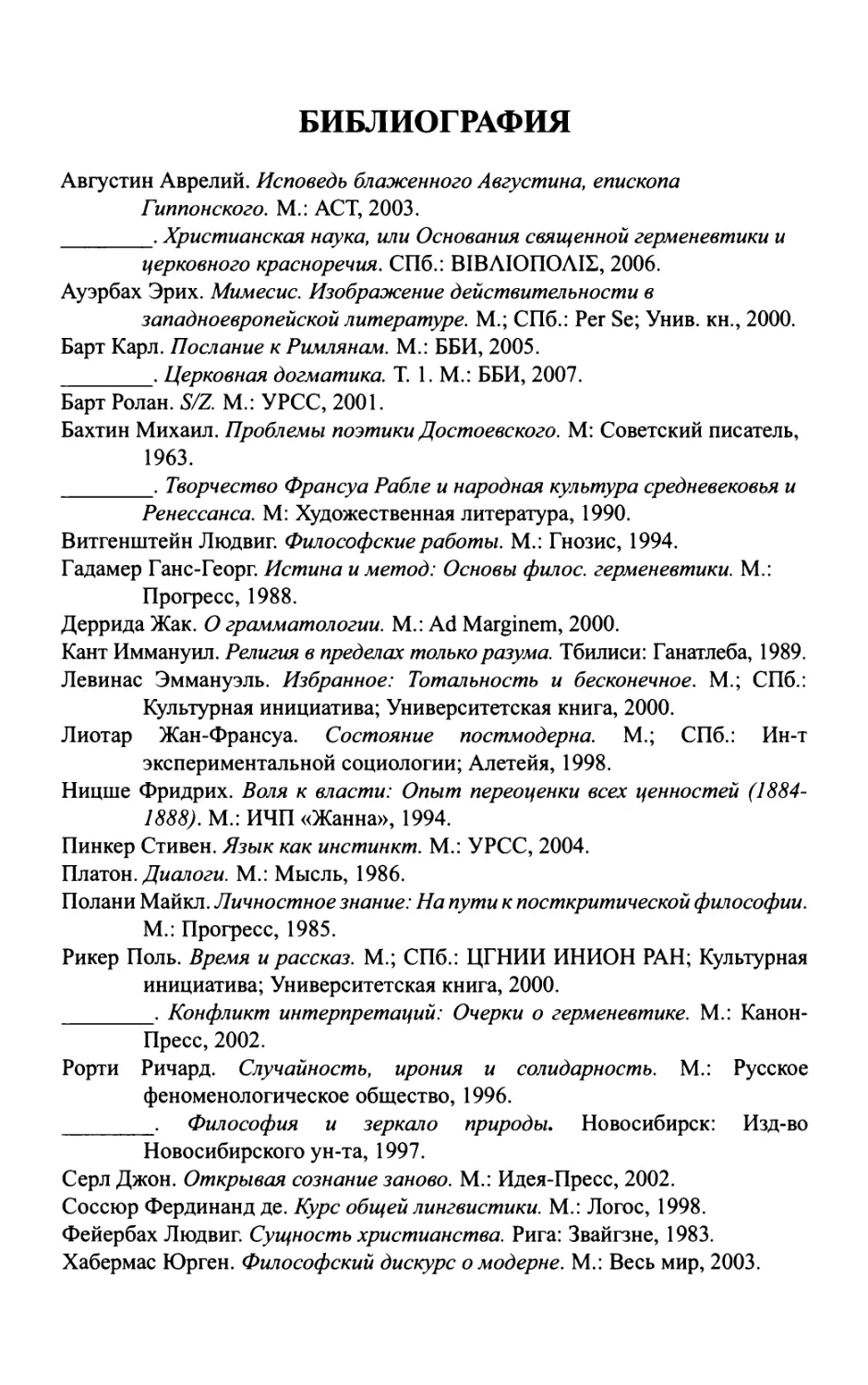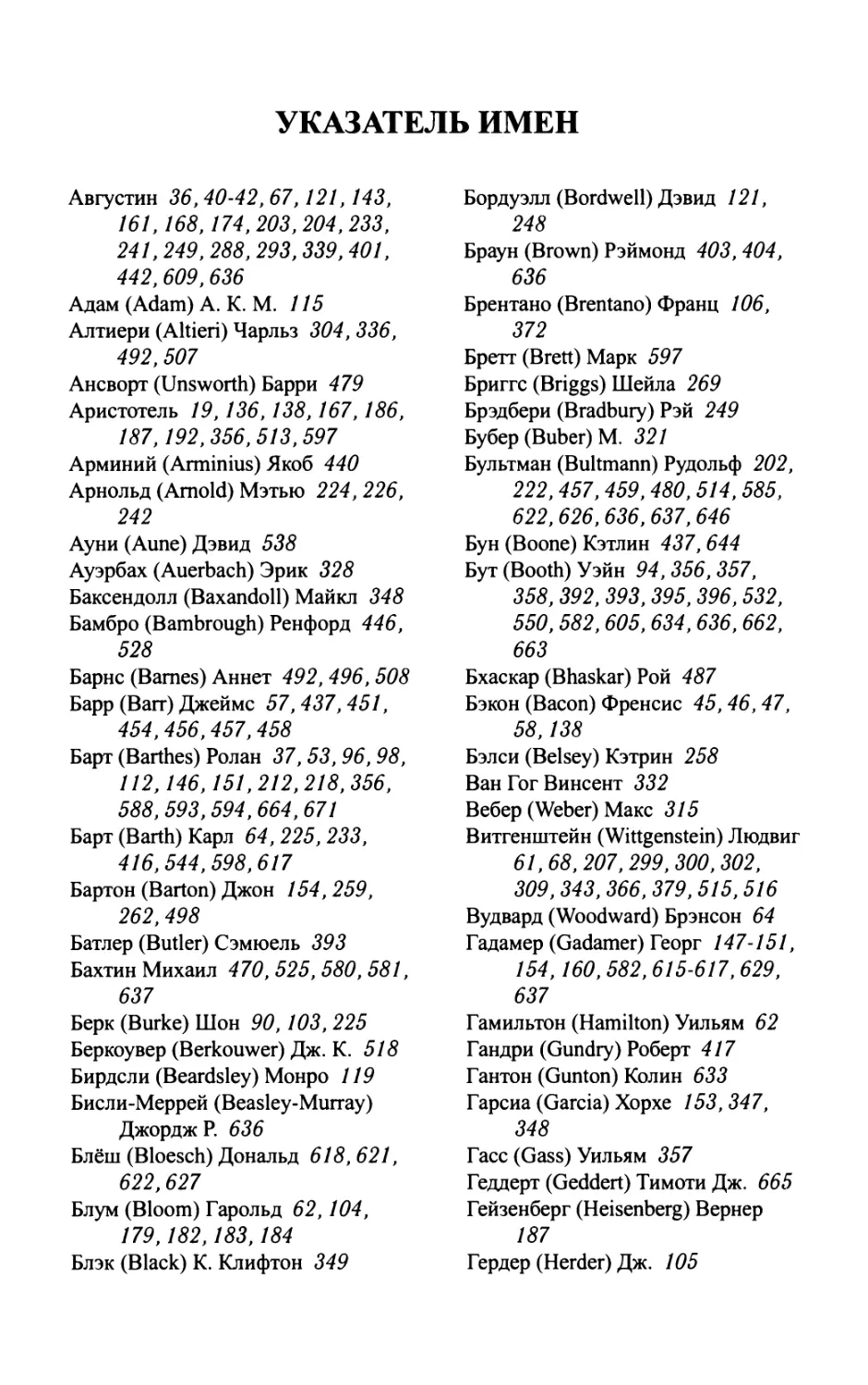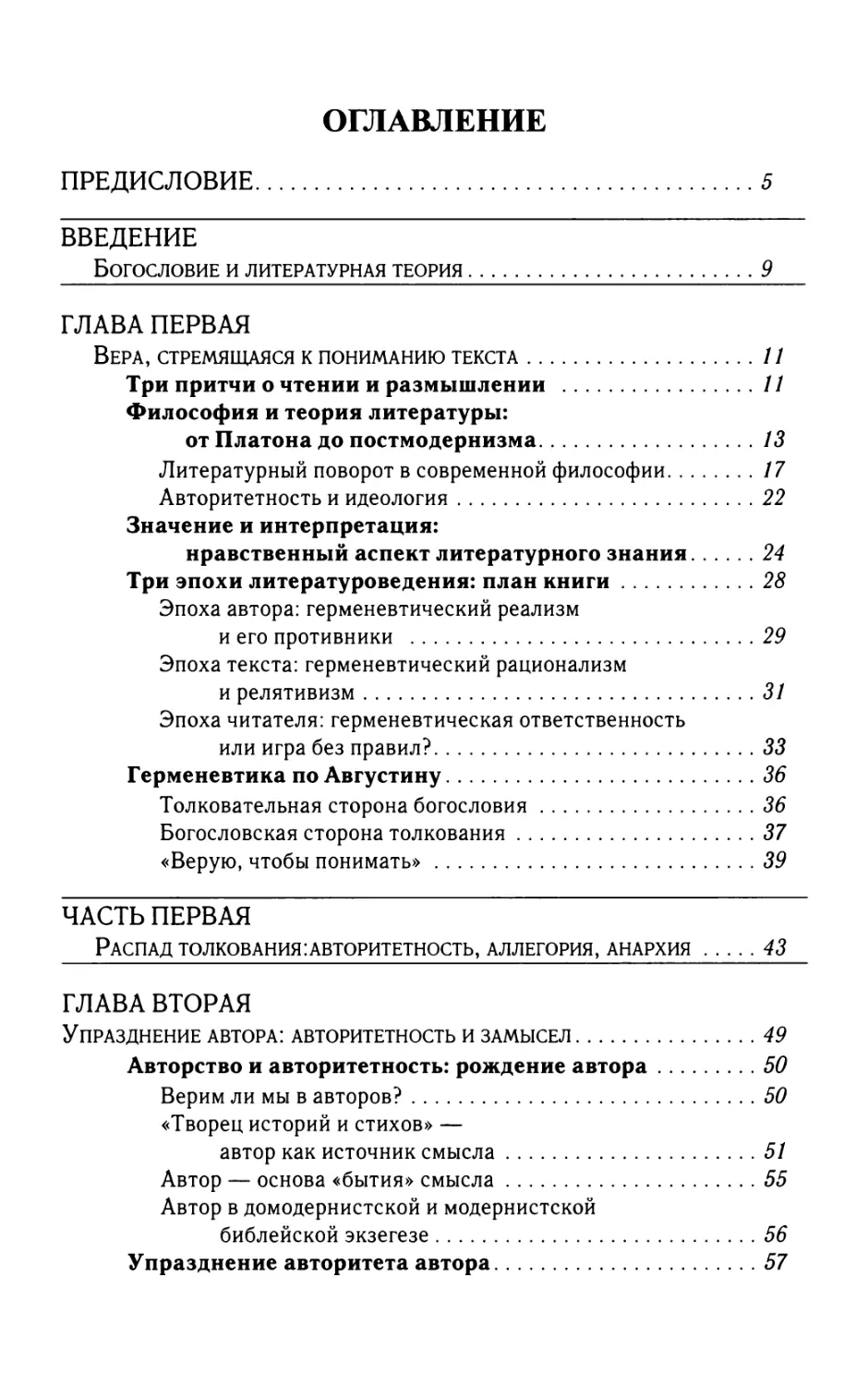Author: Ванхузер К.Дж.
Tags: библия (ветхий и новый завет) история литературы этика
ISBN: 978-966-8957-05-5
Year: 2007
Text
Кевин Дж. Ванхуз
ИСКУССТВО
ПОНИМАНИЯ
ТЕКСТА
Литеротуроведческоя этико
и толковоние Писания
ИСКУССТВО
ПОНИМАНИЯ
ТЕКСТА
The Bible,
The Reader,
and the Morality
of Literary Knowledge
Is There a
Meaning
GRAND RAPIDS, MICHIGAN 49530
Кевин Дж. Ванхузер
ИСКУССТВО
ПОНИМАНИЯ
ТЕКСТА
Литературоведческая этика
и толкование Писания
КОЛЛОКВИУМ
Черкассы • 2007
ББК 86.37-20
В17
Originally published in the U.S.A. under the title:
Is There a Meaning in This Text?
Copyright © 1998 by Kevin Vanhoozer
Grand Rapids, Michigan.
Впервые книга была издана в США под названием:
«Is There a Meaning in This Text?»
© Кевин Ванхузер, 1998
г. Гранд-Рапидс (штат Мичиган).
Посвящается Роберту Гандри - богослову, учителю, наставнику
и другу.
Ванхузер Кевин Дж.
В17 Искусство понимания текста. Литературоведческая этика и
толкование Писания. Пер. с англ. - Черкассы: Коллоквиум, 2007. - 736 с.
ISBN 978-966-8957-05-5
Опираясь на филологические и философские дисциплины, автор
проводит детальное и творческое исследование вопросов библейской
герменевтики, целью которого он ставит оживление и расширение понятия
автороцентричности толкования. Настоящий труд содержит в себе
сильный антидот основополагающим предпосылкам современной библейской
критики и предлагает конструктивную альтернативу, которая выводит на
передний план понятие авторитетности Писания и открывает новые
методы экзегетики, отдающие должное как буквальному смыслу текста, так и
его значению для конкретного читателя.
ББК 86.37-20
ISBN 0-310-21156-5 (ориг.) © Kevin Vanhoozer, 1998
ISBN 978-966-8957-05-5 (рус.) © Коллоквиум, 2007
ПРЕДИСЛОВИЕ
Эта книга получилась совсем не той, какой я ее себе
представлял, когда взялся за работу над ней. Мой первоначальный
интерес к герменевтике явился результатом попытки
прояснить роль Писания в богословии — что означает понятие
«библейский»? Будучи богословом-систематиком и общаясь со своими
решительно настроенными друзьями-экзегетами, я всегда знал, как
легко можно использовать Писание для доказательства правоты
того или иного учения или оправдания своих действий, чтобы тут
же услышать обвинение в искажении текста. Конечно, для того
чтобы истолковывать Библию неправильно, специальное образование
не обязательно: это может происходить как во время
ежедневного ее чтения, так и в процессе деконструкции. Однако последние
направления развития герменевтики могут непреднамеренно
способствовать ложному истолкованию текста и поощрять его,
предлагая теории интерпретации, которые, по моему мнению, подрывают
авторитет библейского свидетельства. Поэтому я начал писать эту
книгу в попытке защитить Библию от презрительного к ней
отношения со стороны всевозможных псевдовежливых ненавистников
герменевтики: ведь если основная задача богословия заключается
в истолковании Библии, очень важно научиться правильно
обращаться со здравыми принципами этой дисциплины.
В процессе написания настоящей книги произошло несколько
событий. Во-первых, я неожиданно научился ценить некоторые
элементы деконструкции. Во-вторых, я понял, что столкнулся с
вопросами, которые выходят далеко за рамки собственно
толкования Библии. Поскольку постмодернизм является «культурой
интерпретации»,1 я обнаружил, что затронул темы, находящиеся
в самом центре современной дискуссии о «постмодернистском».
В моем теперешнем представлении способы толкования Библии
отдельными личностями или целыми сообществами являются
важным показателем более общих интеллектуальных и культурных
1 В настоящей работе термин «интерпретация» употребляется в двух различных значениях.
Более позитивное значение (назовем его «реалистическим») подходит к интерпретации
как к способу познания. Более негативное понимание (назовем его «нереалистическим»)
рассматривает интерпретацию как проявление человеческой изобретательности и упускает
коннотацию познания.
Предисловие
тенденций.2 В-третьих, что самое важное, у меня сформировалось
более глубокое убеждение в том, что многие из спорных вопросов,
находящихся в центре дискуссий о толковании Библии, об
интерпретации в целом и постмодернистской интерпретации в
частности, на самом деле являются вопросами богословскими. Я стал
рассматривать смысл как богословское явление, обладающее некой
трансцендентностью, а теорию интерпретации — как богословскую
задачу. Итак, вместо книги по толкованию Библии я написал книгу
по богословию интерпретации. Точнее, это систематическое трини-
тарное богословие интерпретации, выдвигающее тезис о важности
христианского учения для проекта понимания текста. То, что
начиналось как труд по герменевтическому богословию, стало книгой
по богословской герменевтике.
Н. Т. Райт в своей превосходной работе по истолкованию
Евангелий не питает иллюзий по поводу объема задачи, стоящей перед
человеком, изучающим Библию в наши дни, будь он
ученым-экзегетом или проповедником. Для того чтобы в полной мере научиться
читать Евангелия как исторические, литературные и священные
тексты, требуется нечто гораздо большее, чем просто поиск
отдельных слов в словарях. Для серьезного изучения Библии
необходимо разработать эпистемологию (теорию познания) и герменевтику
(теорию интерпретации): «Любой литературовед, склонный к
философии, мог бы смело посвятить этому делу всю жизнь».3
Лично я считаю подобное предприятие еще более
всеобъемлющим, чем Райт: помимо эпистемологии, в него входят также
метафизика и этика смысла. Именно такую задачу я ставил перед собой —
ответить с заведомо христианской точки зрения на модернистские
и постмодернистские претензии к толкованию Библии, собрав
множество междисциплинарных ресурсов и соотнеся их с проблемами
смысла текста: а существует ли смысл вообще? Возможно ли его
понять? Что нам для этого делать?
Я понимаю, что современные дебаты о теориях интерпретации
могут звучать для непосвященного читателя столь же пугающе
сложно, как обсуждение неэвклидовой геометрии или квантовой
2 Это особенно характерно для западного общества, хотя и не исключительно для него. Если
бы позволяло время и место, я бы хотел подробнее поговорить о том, как формирующееся
богословие Африки и Азии истолковывает Библию, и исследовать отражающиеся в этих новых
подходах общие социальные и культурные тенденции.
3 N. Т. Wright, The New Testament and the People of God (London: SPCK, 1992), 61.
Предисловие
механики. Однако существование смысла и его поиски слишком
важны, чтобы просто оставить их специалистам. В самом деле,
поскольку протестантское богословие придает столь важное значение
священству каждого верующего, каждый христианин должен
самостоятельно разбираться в сложностях библейского толкования.
Чтение Писания для нас и честь, и обязанность.
Данная книга ставит под сомнение практически
сформировавшееся мнение о том, что смысл является лишь продуктом
взаимодействия текста и читателя. С этой точки зрения толкование
Писания зависит от церковной традиции в той же мере, что и от
канонического текста. Точка зрения, отстаиваемая здесь и
заключающаяся в том, что смысл текста существует вне зависимости от
чьих-то попыток его истолковать, стала мнением меньшинства,
пребывающего в оппозиции в парламенте современной литературной
теории.
В разные времена разные группы людей могли прочитать или
услышать любые из аргументов, приведенных ниже. Студенты
различных учебных заведений присутствовали при зарождении многих
из них. Я благодарен участникам семинара «Толкование Библии» в
Нью Колледже г. Эдинбурга, моим бывшим докторантам из
Евангельской богословской школы «Тринити», которые приняли участие
в моем семинаре «Смысл, истина и Писание», и Тиму Уорду, одному
из моих нынешних докторантов, который прочел большую часть
рукописи и внес полезные предложения. Также хотелось бы
поблагодарить студентов курса теории литературы Эдинбургского
университета за то, что они позволили богослову задавать им неудобные
вопросы по этике интерпретации. Благодарности заслуживает и
рабочая группа по истолкованию Писания Доктринальной
коллегии Церкви Шотландии — за экуменическую терпимость к моей
попытке провести грань между истинной и ложной интерпретацией.
Я особо благодарен членам этой группы за их предостережения
против невразумительности, грозящей моим усилиям по укреплению
позиций автороцентричной интерпретации через творческое
возрождение Реформатского богословия и философии речевого акта.
Я хочу выразить свою признательность Берлину Вербрюгге
из издательства «Зондерван» за его неутомимую заботу и
внимание к редакционным деталям и содержанию моего текста. Особой
благодарности заслуживает Мойзес Сильва, за то что он попросил
меня написать эту книгу, прочитывал черновые рукописи, давал
Предисловие
полезные советы, а теперь еще и рекламирует ее везде. Я должен
также поблагодарить своих дочерей Мэри и Эмму за готовность
поделиться мнениями о смысле множества книг, прочитанных нами
вместе, и за то, что им пришлось пережить если не «смерть»
автора, то, по крайней мере, длительные периоды его отсутствия. Я
особенно признателен своей жене Сильвии за напоминания о том, что
смысл текста может существовать только при условии
существования самого текста, и за ее веру в то, что текст этот когда-нибудь
все-таки появится на свет.
Эта книга посвящается Бобу Гандри, который первым натолкнул
меня на мысль о ее теме, а его труды служат примером той
практики истолкования, которую я намереваюсь описать и теоретически
обосновать. Для автора он всегда был и остается ученым, учителем,
наставником, другом, и книга эта лишь отчасти возвращает
великий долг благодарности за тридцать лет обучения и поддержки.
Кевин Дж. Ванхузер
Нью Колледж, Эдинбург
Пасха 1997
ВВЕДЕНИЕ
Богословие и литературная теория
ГЛАВА ПЕРВАЯ
Вера, стремящаяся к пониманию текста
А потом толкования — 30 000 разных толкований!
С. Кьеркегор.
Что может значить «вера, стремящаяся к пониманию текста»,
когда речь идет об изложении задачи не богословия, а
герменевтики? Является ли истолкование текстов делом веры,
или разума, или того и другого вместе? Является ли вера
необходимым условием для понимания Библии? Серен Кьеркегор приводит
три притчи о герменевтике, побуждая своих читателей заглянуть
внутрь себя. Обладают ли они верой, стремящейся к пониманию,
верой, которая, очевидно, и требуется для понимания?1
ТРИ ПРИТЧИ О ЧТЕНИИ И РАЗМЫШЛЕНИИ
Начнем с прочтения Кьеркегором Иак. 1, 22-27. Слушающий
Слово Божье и исполняющий его подобен человеку, который,
увидев себя в зеркале, запоминает отраженный в нем образ. «Как
следует смотреть на себя в зеркале Божьего Слова?» — вопрошает он
в надежде обрести истинное благословение. Отвечая на этот
вопрос, Кьеркегор утверждает, что от изучения Слова пользу получает
лишь тот, кто не просто рассматривает зеркало, но делает
следующий шаг: начинает видеть в нем себя. Поэтому притча Иакова
«предостерегает нас от рассматривания зеркала, не замечая в нем самих
себя».2
«Видеть в зеркале себя». Прочтение Кьеркегором этого
библейского образа сразу ставит перед нами проблему интерпретации — и
проблему для интерпретации. Что имеет в виду Кьеркегор, говоря
«видеть себя»? Утверждает ли он, что текст лишен содержания,
1 Seren Kierkegaard, For Self-Examination: Recommended for the Times, tr. Edna and Howard Hong
(Minneapolis: Augsburg, 1940).
2 Там же, 23.
Введение. Богословие и литературная теория
и читающий находит в нем лишь самого себя; или что человек
способен видеть себя таким, каков он есть, лишь вникнув в смысл
библейских понятий, например, греха и спасения? Иными словами,
ищет ли читатель критерии оценки текста в самом себе или находит
себя в тексте? Этот «зеркальный образ» подводит нас к вопросу,
который я считаю самым важным для современной теории
интерпретации, будь то толкование Библии или любой другой книги: есть
ли в тексте нечто, что отражает реальность, не зависящую от
читательского восприятия, или же текст лишь отражает реальность
читателя?
Вторая притча Кьеркегора под названием «Письмо
возлюбленной» повествует о человеке, получившем от любимой женщины
письмо, написанное на неизвестном ему языке. Страстно желая
его прочесть, он берет словарь и переводит письмо слово за словом.
Вошедший приятель, прервав его труд, говорит: «А, читаешь
письмо от возлюбленной». Тот отвечает: «Нет, друг мой, я бьюсь над
словарем... называя это чтением, ты просто смеешься надо мной».3
Кьеркегор показывает, что лингвистическое и историческое
исследование — это еще не настоящее чтение. Этот процесс во многом
похож на созерцание и обработку самого зеркала — рассмотрение
зеркала, а не того, что в нем отражено. Такова, по его утверждению,
опасность, угрожающая современной библейской критике.
В своей последней притче Кьеркегор предлагает нам
представить себе, что в одной стране вышел царский указ. Однако вместо
того чтобы исполнить повеление, подданные начинают
истолковывать его. Каждый день возникают новые истолкования указа —
вскоре жителям уже трудно уследить за разнообразными
предположениями. «Все толкуют указ, но никто не читает его так, чтобы
потом исполнить».4
Божье Слово — это и любовное послание, и царский указ.
Смотрим ли мы на него со стороны или пытаемся проникнуть внутрь?
Следуем ли мы ему или его «истолковываем»? Видим ли мы в нем
себя или оцениваем его по собственным критериям? Эти притчи
должны побудить читателей заглянуть внутрь себя и задуматься,
«с верою» ли они ищут понимания. То, что было истиной во времена
Кьеркегора, я полагаю, стало еще вернее в наши дни. Нам нужно
3 Там же, 26.
4 Там же, 36.
12
Глава первая. Вера, стремящаяся к пониманию текста
исследовать теорию и практику современной интерпретации,
чтобы увидеть, «в вере» ли она, поскольку некоторые читатели
умудряются посредством истолкования подорвать авторитет Библии.
Кьеркегор сокрушается: «'Дом мой домом молитвы наречется; а вы
сделали его вертепом разбойников'. Так каково же предназначение
Божьего Слова, и во что мы его превратили?»5
Мораль притч Кьеркегора в том, что читатели перестали
ответственно относиться к почетному праву истолкования. Цель
интерпретации зачастую уже не в том, чтобы, получив чье-то послание,
вникнуть в его смысл, а напротив, она сводится к тому, чтобы не
затруднять себя поисками смысла вообще. Задача интерпретации
теперь заключается в настойчивых предложениях новых
прочтений вместо вдумчивого изучения содержания текста. В чем же цель
такого толкования? Ответ Кьеркегора циничен, но проницателен:
«Присмотритесь, и вы увидите, что их цель — защитить себя от
Божьего Слова».6 Чтобы не видеть себя в Писании такими, какие
они есть на самом деле, некоторые читатели предпочитают
рассматривать зеркало или проецировать на него свой собственный,
приукрашенный образ.
ФИЛОСОФИЯ И ТЕОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ: ОТ ПЛАТОНА
ДО ПОСТМОДЕРНИЗМА
Так называемое «постмодернистское» состояние, в контексте
которого проходят современные дискуссии о теории и практике
интерпретации, можно охарактеризовать одной фразой: «недоверие
к смыслу».7 Как бы странно это ни звучало, многим современным
истолкователям, оказывается, трудно, почти невозможно поверить
в его присутствие в тексте. Почему же наличие смысла
представляется им столь невероятным? Чтобы ответить на этот вопрос,
следует прежде задаться другим, более основополагающим: «Что есть
смысл?»
В изданной в 1923 году работе «Значение значения» Ч. Огден
и И. Ричарде укоряли философов за путаницу в понимании слова
5 Там же, 37.
6 Там же.
7 Здесь я вношу поправку в знаменитое определение постмодернизма, данное Леотаром:
«недоверие к метаповествованиям» (Francois Lyotard, The Postmodern Condition (Minneapolis:
Univ. of Minnesota Press, 1984).
13
Введение. Богословие и литературная теория
«значение».8 По их утверждению, многое в языке остается тайной,
в особенности взаимоотношения между словами и тем, что они
обозначают, а также между словами и нашим мышлением. Они
призывали к интегрированному междисциплинарному подходу к этим
основополагающим вопросам. Философы двадцатого века в общем
и целом откликнулись на их призыв. В самом деле, не будет
преувеличением сказать, что язык стал центральной проблемой
современной философии. Но лишь недавно философы начали рассматривать
проблему смысла в отношении литературных текстов, равно как и в
отношении языка в целом.
Однако Платон в свое время уже затрагивал этот вопрос (как и
многие другие): «Философия есть ничто иное, как комментарий к
Платону». Платон поднял вопрос языка и смысла в одном из своих
малоизвестных диалогов, «Кратиле». Каждый из трех собеседников —
Гермоген, Кратил и Сократ — представляет разные точки зрения,
которые предвосхищают, часто удивительным образом, теории
модернизма и постмодернизма.
Основной вопрос, рассматриваемый в «Кратиле», следующий:
способны ли мы вообще утверждать истину? Дают ли нам слова
возможность познавать мир? Гермоген, ученик софистов, утверждает,
что у слов есть лишь номинальные значения: как имена рабов, они
могут быть даны или изменены по желанию хозяина. Поэтому
слова — ненадежные толкователи природы вещей, ибо между словом
и обозначаемой им сущностью нет непосредственной связи.
Предлагаемая Гермогеном картина языка как системы произвольных
соглашений в некотором роде предшествует лингвистике Соссюра —
теории, занявшей господствующее положение в ученых
дискуссиях двадцатого века.
Кратил, персонаж, по имени которого назван диалог, занимает
бескомпромиссную позицию. Название, или имя, настаивает он, —
это или совершенное выражение сущности, или просто
невразумительный звук. Позиция Кратила искусно вбирает в себя как
любимое модернистами понятие референтного значения, так и
постмодернистскую идею неопределенности значения. Его представления
занимают весьма неустойчивое положение между двумя
непримиримыми метафизическими противоположностями. С одной
стороны, он поддерживает — хотя бы для поддержания дискуссии —
London: Harcourt Brace Jovanovich, 1989 (герг.)
14
Глава первая. Вера, стремящаяся к пониманию текста
идею о том, что у каждой сущности есть истинное имя,
определенное природой. Именно это мнение мы привыкли ассоциировать с
Платоном — вечные Идеи отражены в вещах, а слова, в свою
очередь, являются отражением последних. С другой стороны, Кратил,
очевидно, на самом деле не верит в то, что мы называем
«имитационной теорией» значения. Подобно Гераклиту он убежден, что «все
меняется», и приходит к выводу о том, что людям следует не
говорить, а лишь указывать пальцем, поскольку истинное описание
постоянно изменчивой вещи невозможно. Иначе говоря, Кратил
приписывает равную изменчивость вещам (миру) и знакам (словам).
Истинное высказывание невозможно, потому что и мир, и язык
изменчивы. Кратил — постмодернист, опередивший свое время.
Сократ вступает в дискуссию, чтобы ответить на скептические
утверждения Кратила. Он придерживается промежуточной
позиции, согласно которой язык — явление одновременно и условное,
и естественное. Однако вторая часть его утверждения спорна. Что
значит говорить о вещах «естественно»? Платон полагал, что,
называя вещи, мы тем самым определяем их природу. Задача
названия или имени — описать природу вещи. В качестве библейского
обоснования здесь можно привести текст 1 Цар. 25, 25: «Каково
имя его, таков и он. Навал («безумный») — имя его, и безумие
его с ним».
В этом диалоге Платон отводит значительное место
исследованию «имитационной теории» значения. Но в самом ли деле слова
подражают миру? Сократ ссылается на этимологию, или
происхождение слова. Например, звук «р» естественно выражает скорость и
движение (то есть подражает им), поскольку «во время
произнесения этого звука язык не остается в покое, но сильнейшим образом
сотрясается».9 Звук «л» выражает скольжение, потому что
произнесение его требует скольжения языка. Поэтому в английском слове
«roll» (или в русском «ролик» — прим. перев.) нам следует видеть
плавное движение или быстрое скольжение (причем «о»
естественно выражает круговую природу этого движения). Серьезное — и
блестящее — лингвистическое заключение Сократа состоит в том,
что язык — это звукоподражание. Слова напоминают вещи.
9 "Cratylus" из The Dialogues of Plato, tr. and intro. by B. Jowett (Oxford: Clarendon, 1892, 3rd
ed. in 5 vol.), 1:372.
15
Введение. Богословие и литературная теория
Звукоподражание, конечно, едва ли могло бы выполнять
функцию общей теории значения. Каким образом слово «клоун»
напоминает настоящих клоунов? Этимология может быть поучительной,
однако дать объяснение всем словам она неспособна. В частности,
затруднительно было бы с этой точки зрения объяснить
литературное значение (или, в качестве частного случая, различия в
содержании четырех Евангелий). Сам Сократ высказывал некоторые
сомнения в правильности собственной теории, но каковы альтернативы?
Отвергнув звукоподражательную теорию, нам остается обратиться
к теории «Deus ex machina» (т. е. первые имена были даны богами)
или «Завесы древности» (т. е. мы не знаем, откуда у вещей имена).
Платона не удовлетворяла ни одна из этих идей, потому что любая
из них заставила бы его признать, что у него нет оснований верить в
правдивость речи, то есть в соответствие слов природе вещей.
Настоящая книга продолжает диалог, начатый в «Кратиле».
Моими собеседниками будут литературоведы и богословы, лингвисты
и философы. Соглашаясь со многими современными мыслителями
в том, что значение есть нечто большее, чем просто процесс
называния, я в то же время разделяю стремление Платона доказать
возможность истинного высказывания. Если для Платона
божественное происхождение языка было побочной гипотезой,
рассмотренной вскользь и отвергнутой, я не буду столь поспешен в
отрицании того, что богословие имеет отношение к вопросам языка и его
истолкования.
Скептический подход Кратила к языку и интерпретации жив и
здравствует поныне. Многие постмодернистские мыслители верят
(возможно, непоследовательно), что главной особенностью языка и
реальности является их изменчивость. Так, Джозеф Марголис
определяет «основную тему» философии одним вопросом: «Обладает
ли реальность неизменной структурой, или же она изменчива?»10
Вопрос в том, присуща ли вещам некая вечная «истинность»,
которой могут соответствовать наши истолкования. Марголис отвечает
на этот вопрос отрицательно: ни мир, ни человеческая природа не
постоянны. Скорее, человек сам постоянно творит все окружающее
посредством интерпретации. По мнению Марголиса,
воспринимаемое нами как существующая реальность на самом деле результат
10 Joseph Margolis, Interpretation Radical but Not Unruly: The New Puzzle of the Arts and History
(Berkeley: Univ. of California Press, 1995).
16
Глава первая. Вера, стремящаяся к пониманию текста
наших лингвистических действий. Например, такое простое
понятие, как «родина», на самом деле не физическая данность, а
политическая конструкция: продукт общественных устоев, касающихся
географических границ и социального устройства. Брак также
является результатом соответствующего обряда, вернее,
выражением принятых в обществе условностей, а не вечным установлением.
Даже Бог, на взгляд современного Кратила, такого, как Дон Капитт,
есть продукт человеческих действий, в данном случае — в сфере
религии.
Интерпретация, согласно Марголису, также является
деятельностью, производящей (и это очень важно) не комментарии, а сам
текст. Интерпретация — это не просто субъективное
переосмысление объективной реальности. Нет, его утверждение более
радикально. В процессе чтения толкователь создает свою версию текста,
или, скорее, его значения. Это новая роль интерпретации, которая
до сравнительно недавнего времени (примерно до середины
девятнадцатого века) играла более скромную, восстановительную роль —
прочтение словесного выражения человеческих мыслей. Марго-
лис отрицает вседозволенность как характеристику релятивизма.
Существуют критерии интерпретации, но они относительны, и,
кроме того, связаны с определенным набором общественных
устоев. Конечно же, эти обычаи меняются, они также нестабильны —
отсюда постмодернистское «недоверие к значению».
Литературный поворот в современной философии
«Проповедник, учитель, художник — классическое
вырождение».1'
Традиционно герменевтика — дисциплина о принципах, на
которых строится правильная интерпретация текста, — была делом
экзегетов и филологов. Однако с недавних пор герменевтикой
заинтересовались и философы, которые хотят разобраться не в
значении того или иного текста, а в процессе его понимания. Вопрос
«каким образом возможно понимание?» стал актуальной темой
в европейской философии.12 Это, однако, еще не совсем то, что я
11 John Updike, The Centaur, цит. по Robert W. Funk, Jesus As Precursor (Philadelphia: Fortress,
1975), 33.
12 В частности, я имею в виду работы Мартина Хайдеггера, Ханса-Георга Гадамера
и Поля Рикёра.
17
Введение. Богословие и литературная теория
имею в виду под «литературным поворотом» в современной
философии. Ведь сказать, что философия изучает принципы
литературной интерпретации — это одно; но совсем другое — утверждать,
что сама философия есть не что иное, как один из видов
интерпретации. Этим открытием мы обязаны Жаку Дерриде, отцу «деконс-
труктивизма», чей голос будет не раз звучать на страницах нашей
книги. Деконструктивизм исследует смысловую структуру текста
во всех формах дискурса, таким образом размывая то, что когда-то
было четкой границей между философией и литературой.
«Литературный поворот» в философии стал толчком к
появлению целого ряда новых работ по теории литературы. «Теоретик»
от литературы рассматривает принципы и методы интерпретации
и оценки. Теперь на первый план выходит уже не экзегетическая
задача определения того, о чем говорится в том или ином тексте, а
теоретическая — описание и объяснение того, что ищут
толкователи.13 Следовательно, литературовед должен принимать во
внимание более широкую социокультурную среду, в которой находится
толкователь. С точки зрения литературной теории мы уже не
можем ограничивать интерпретацию практической задачей
извлечения смысла текста. Нам приходится одновременно решать и
политическую задачу — выявление факторов, под влиянием которых
сформировалась позиция толкователя.
За различными теориями и приемами интерпретации текстов
просматриваются более глобальные философские вопросы. В
самом деле, проблема значения включает в себя и вопросы о природе
реальности, о ее познаваемости, а также о нравственных
критериях. Возможно, не всегда очевидно, что человек, взявший в руки
книгу, занимает четкую позицию по каждому из этих вопросов, но
я постараюсь доказать, что все равно дело обстоит именно так.
Вопрос о реальном присутствии в тексте определенного смысла — это
вопрос «метафизики» значения. Чтение также предполагает
наличие у читателя некоторых убеждений в отношении возможности
и способов понимания текста. Вопрос о том, есть ли в тексте
нечто, подлежащее познанию, относится к области «эпистемологии»
13 Для ознакомления с теорией литературы рекомендую: Terry Eagleton, Literary Theory: An
Introduction (Minneapolis: Univ. of Minnesota Press, 1983) и The Johns Hopkins Guide to Literary
Theory and Criticism, eds. Michael Groden and Martin Kreiswirth (Baltimore: Johns Hopkins Univ.
Press, 1994).
18
Глава первая. Вера, стремящаяся к пониманию текста
значения. Наконец, необходимо задуматься и о том, какую
ответственность накладывает на нас чтение Писания или любого другого
текста (если, конечно, таковая вообще существует). Реакция
читателя на содержание текста заставляет нас обратиться к вопросу об
«этике» значения. Эти три составляющие в сумме образуют
проблему, непосредственно связанную со всем вышесказанным — что
значит быть человеком, носителем значения?
Герменевтика в последнее время заняла господствующее
положение среди прочих дисциплин. Теперь мы рассматриваем ее
не просто как отдельную дисциплину, а как один из аспектов всех
интеллектуальных начинаний. Взлету герменевтики сопутствует
упадок эпистемологии. Вместо того чтобы уверенно претендовать
на абсолютное знание, даже естествоиспытатели теперь
рассматривают свои теории как всего лишь интерпретации.
Но так было не всегда. Когда-то герменевтика была Золушкой
научного мира. Такие философы, как Аристотель, могли среди
прочего написать книгу-другую об искусстве и науке интерпретации,
но даже они, как правило, не рассматривали герменевтику как
полноценную дисциплину. Решение этой задачи оставалось уделом
ученых-богословов, для которых возможность добыть средства к
существованию, а также профессиональная состоятельность
определялись способностью дать убедительный отчет о своем толковании.
Золушку пригласили на бал только в девятнадцатом веке, когда
герменевтика переросла в изучение человеческой способности к
пониманию как таковой. Вильгельм Дилти использовал различие между
«объяснением» и «пониманием» чего-либо в качестве границы
между естественными и гуманитарными науками. В конце двадцатого
века герменевтика значительно расширила круг своих интересов,
рассматривая в качестве «текстов» все что угодно, от машин до
моды. По мере укрепления позиции текстов факты постепенно
отходили на второй план. Философы-герменевтики уже рассматривают
знание не как результат бесстрастного изучения фактов, а скорее
как попытку интерпретации, в ходе которой индивид, находящийся
под влиянием определенных общественно-исторических факторов,
пытается познать чуждое посредством знакомого. Если раньше
«неистолкованный факт» служил зерном для мельницы
«объективного разума», то теперь и факт, и разум определяются
исключительно общественно-историческими предпосылками.
Герменевтика сродни историческому сознанию. Мы не познаем вещи прямо
19
Введение. Богословие и литературная теория
и непосредственно, следовательно, знание есть результат
истолкования. Реальность — это текст, подлежащий истолкованию
посредством языка, истории, культуры и традиций.
Однако часы уже бьют полночь. Герменевтика утратила свою
привлекательность в качестве философского метода в сумерках
цивилизации, имя которым — «деконструктивизм». Представление о
том, что некоторые истолкования могут быть правильными — что
они могут соответствовать чему-то, содержащемуся в тексте и не
зависящему от нас самих, — впало в немилость у нового
поколения философов-литераторов. Наиболее решительные противники
интерпретации обвиняют философию в том, что она сама — лишь
плод литературы, а философское обоснование — то же
художественное произведение. За утверждением, будто философия —
просто вид риторики, стоит нечто большее, чем риторический оборот, а
именно убежденность в том, что ни философия, ни герменевтика не
обладают привилегией в понимании сути вещей (например,
реальности или смысла). Герменевтика лишилась и своего очарования,
и своих привилегий, поскольку считается, что не существует
принципиально правильного и ложного истолкования — есть только
предпочтения.
Жак Деррида — наиболее выдающийся из новых «философов-
литераторов». Хотя во французской университетской системе он
преподает философию, его трудно отнести к какой-либо
определенной категории ученых. С одной стороны, его труды содержат
литературную критику некоторых ключевых философских текстов, но с
другой — они представляют собой скорее философское
исследование литературных произведений. Принятое в мае 1992 года
решение о присвоении ему почетной докторской степени
Кембриджского университета вызвало довольно шумные дебаты, причем
философы, как правило, осуждали, а литературные критики поддерживали
этот шаг. Почему же о Дерриде и о «деконструктивизме» (краткий
термин, которым принято обозначать его взгляды) отзываются
столь неодобрительно?
Деконструктивизм, как свидетельствует само название, — это
методология разбора или разрушения. Его цель — упразднение
некоторых различий и противоречий, которые традиционно
гарантировали философии господствующее положение среди гуманитарных
наук. Это, прежде всего, стратегия, разработанная с целью
поставить философию на место. Она также является настойчивой
20
Глава первая. Вера, стремящаяся к пониманию текста
попыткой определить границы философского познания. Дерри-
да утверждает, что ни научный анализ, ни самоанализ никогда не
помогут философам подняться над ограниченностью собственной
точки зрения и увидеть мир, или даже самих себя так, как их видел
бы Бог. Разум может называться «зеркалом природы», но отражает
он на самом деле не природу, а собственные способности. Любая
попытка «увидеть» себя объективно обречена на провал, потому
что мы находимся одновременно как внутри наблюдаемой
картины, так и вне ее. Является ли в таком случае философия этакой
«зеркальной комнатой»? Некоторые из последователей Дерриды и
большинство его критиков трактуют его учение именно так. Другие
предполагают, что расчет Дерриды более тонок: он пытается не
разбить зеркало, а указать на его «амальгаму» или оборотную сторону,
то есть неосмысленные и не подвергшиеся анализу условия,
необходимые для проведения самого философского анализа.14 Другими
словами, Деррида патрулирует границы философии, «арестовывая»
тех, кто по недомыслию их нарушает. Философы, как правило,
выделяют собственные высказывания о мире среди всех прочих: так,
например, философия оперирует логикой в поисках истины в свете
ясных и четких идей, тогда как литература использует метафоры и
другие неясные речевые приемы под ночным небом риторики.
Деррида полностью отвергает подобные представления. Он уверен, что
история западной философии есть ничто иное, как тщательно
продуманный обман; что, следовательно, истина доступна философам
не более чем всем остальным, не имевшим чести быть принятыми
в их гильдию; и, наконец, что в основе философских рассуждений,
как и всех прочих речевых форм, лежит риторика.
Конечно же, эти идеи не новы. Ницше говорил нечто подобное
еще столетие назад. Вероятно, он первым среди мыслителей
всерьез задумался над тем, как могла бы развиваться философия после
смерти Бога. Если нет абсолютной, божественной точки зрения,
есть ли тогда вообще смысл в жизни и истории? И что есть истина?
Ницше утверждал, что в отсутствии Творца смысл и порядок в мире
устанавливают люди: «В конечном счете, человек не находит в
вещах ничего, что не привнес в них сам».15 Истина уже не звучит из
14 Например, Rodolphe Gasche, The Tain of the Mirror: Derrida and the Philosophy of Reflection
Cambridge, Mass.: Harvard Univ. Press, 1986).
15 Friedrich Nietzsche, The Will to Power, tr. Walter Kauftnann (New York: Vintage, 1967), 327.
21
Введение. Богословие и литературная теория
уст священника, получившего откровение, или учителя,
овладевшего знанием. Истина — это творение художника. Мир — пикник,
на который толкователь приносит свою трактовку происходящего.
Язык — всего лишь средство, творчески используемое
человечеством для освоения бессмысленного мира. Слова не столько
соотносятся с миром, сколько преобразовывают его, скрывая абсурдность
жизни под слоем риторических румян. Так называемая истина на
самом деле — иллюзия, в которую мы предпочитаем верить.
Соответственно, по мнению Ницше, «правдивее всех говорит тот, кто
признает иллюзорность собственной речи». Иными словами, мы
находимся ближе всего к истине тогда, когда признаем, что наши
слова, понятия и теории — всего лишь вымысел. В то время как
философ отрицает факт своего творчества, художник делает жизнь
более привлекательной, не забывая при этом, что искусство —
результат проявления его собственных творческих способностей.
Таким образом искусство избавляет нас от иллюзии существования,
единственно верной и неизменной трактовки окружающего мира.16
Для Ницше художник — самый лучший и самый честный философ,
творчески истолковывающий мир.
Тем, чем для Ницше было искусство, для Дерриды является
литература. Читая труды философов как литературные произведения
и разоблачая риторические и литературные приемы, на которых
основан их эффект, Деррида описывает философию как один из
видов человеческого творчества. Философы, по его словам, долгое
время убеждали людей в собственной авторитетности, делая вид,
что опираются на логику и разум, тогда как упоминание о разуме —
всего лишь риторическая уловка. Философия поддерживает
иллюзию собственного величия только благодаря систематическому
приуменьшению роли риторического и метафорического аспектов
собственных рассуждений.
Авторитетность и идеология
Мотивом, лежащим в основе стратегии упразднения,
предложенной Дерридой, стала его тревога по поводу неправомерных
претензий на авторитетность и узурпацию власти. Вера человека в то,
16 Дополнительные материалы по вопросу об «эстетическом повороте» в философии,
литературной критике и богословии можно найти в моей статье "Lamp in the Labyrinth: The
Hermeneutics of Aesthetic' Theology", Trinity Journal 8 (1987): 25-56, esp. 34-36.
22
Глава первая. Вера, стремящаяся к пониманию текста
что он открыл для себя единственно верное Значение (или Бога,
Истину) становится превосходным оправданием для того, чтобы
заклеймить своих идейных противников как «глупцов» или
«еретиков». Деррида бросает вызов утверждениям философов и экзегетов
о том, что они пришли к неизменному и единственно верному
пониманию вещей. Оно остается истинным независимо от того, о чем
идет речь — о тексте, о событии или о мире в целом. Ни
священники, которые якобы говорят от имени Бога, ни глашатаи Разума
философы не заслуживают доверия — их «логоцентрические»
претензии на преимущественное право толкования (например, разума
или Слова Бога) — обман, который необходимо разоблачить, или,
что еще лучше, деконструировать.
Ставка в этом споре намного выше, чем простое превосходство
той или иной дисциплины. Вопрос об авторитетности в сфере
гуманитарных наук — о том, как интерпретировать историю и
литературу — соотносится с вопросом о человеческой природе как таковой.
Традиционно целью изучения гуманитарных наук было
процветание человечности. Искусство и литература культивируют истинно
человеческие ценности. Но кто, спрашивает Деррида, точно знает,
что значит «человечность» и какие ценности следует
культивировать? Почему лучше смотреть шекспировские постановки, а не
комедийные сериалы, и читать Мильтона, а не комиксы? Почему
поэзия предпочтительнее порнографии? И в самом деле — почему?
Разве не связано это каким-то образом с нашими представлениями
о культуре, которая, по нашему мнению, будет наилучшим образом
культивировать дорогие сердцу «человечные» и «человеческие»
ценности? На это Деррида, несомненно, ответил бы: «А кто такие
мы»? Можем ли «мы» решать за других? А что, если ценности,
на которых строятся гуманитарные науки, произвольно избраны
власть имущими людьми, которые смотрят на мир с точки зрения
собственного понимания социальных устоев, сексуальности,
интеллектуальности и т. д.?
В условиях современного кризиса гуманитарных наук и
связанного с ним стирания границ между философией и
литературоведением, совершенно необходимо рассматривать эти две дисциплины
в сочетании друг с другом. В свете этих проблем нам следует не
отвергать герменевтический анализ, но стремиться к его
совершенствованию. Вопрос «Есть ли в тексте смысл?» весьма
обоснован, особенно если «текстом» теперь считается все что угодно,
23
Введение. Богословие и литературная теория
от письменных трудов до истории жизни отдельного человека,
включая и саму реальность. Есть ли в жизни смысл, или каждому из
нас приходится изобретать его заново? Вопросы значения и
интерпретации текста неразрывно связаны с вопросом о том, что значит
быть человеком. Герменевтика и природа человечности выстоят
или падут вместе. Как выразились авторы книги «Значение
значения», язык есть «важнейший из всех инструментов цивилизации».17
Если в нашем общении нет смысла, мы теряем основное средство
воспитания человечности. И мы только начинаем осознавать всю
тяжесть этой потери.
ЗНАЧЕНИЕ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ: НРАВСТВЕННЫЙ
АСПЕКТ ЛИТЕРАТУРНОГО ЗНАНИЯ
Можем ли мы читать так, чтобы в зеркале текста не отражались
мы сами — то есть те образы, которые мы проецируем? Можно ли,
читая, найти Бога? И что такое чтение на самом деле? В чем смысл
этого оптического упражнения, состоящего в перемещении взора
по страницам? Каким образом черные значки на белой бумаге
способны информировать нас (например, увеличивать объем наших
знаний) или побуждать к действиям (например, заставить
смеяться, плакать, или пойти и продать все, чем мы владели, и раздать
деньги бедным)? Почему мы ожидаем увидеть в текстах содержание,
а не пустоту? Можно ли прочесть книгу неправильно? Задача
герменевтики заключается в том, чтобы ответить на все эти вопросы.
Герменевтика касается не только истолкования Библии, но и всей
жизни, поскольку все — от симфонии Брамса до крика младенца —
есть «текст», то есть проявление человеческой жизни, требующее
интерпретации.
Интерпретация традиционно определялась как процедура
извлечения смысла из текста. Однако некоторые философы и
литературоведы в последнее время призывают к объявлению
моратория на само понятие «смысл», или «значение».18 Читатели делают
с текстом очень многое, и выделить что-то одно, присвоив ему
17 Ogden and Richards, The Meaning of Meaning, xviii
18 Cm. Jeffrey Stout, "What Is the Meaning of a Text?" New Literary History 14(1982): 1-12; Stephen
Fowl, "The Ethics of Interpretation or What's Left Over After the Elimination of Meaning," SBL 1988
Seminar Papers, 69-81. Огден и Ричарде приводят около двадцати возможных определений
термина «значение» (The Meaning of Meaning, ch. ix).
24
Глава первая. Вера, стремящаяся к пониманию текста
почетное звание «объективного значения», означало бы без всяких
на то оснований признать превосходство одного подхода над
всеми остальными. Слишком поспешно определить значение означало
бы нанести упреждающий удар по приемам чтения, выбор которых
может быть продиктован разными целями и интересами. В то же
время предположение о том, что все читатели преследуют одну и ту
же цель, перестало быть очевидным.
Что же тогда придает толкованию большую весомость в
сравнении с обычным мнением? Можно избежать необходимости
превращать изложение смысла («х значит у») в перечень личных
предпочтений («Мне нравится понимать х как у»)? Как указывает
заглавие настоящей книги, я намереваюсь использовать термины
«значение» и «смысл» в качестве показателя моей уверенности в
том, что литературное познание как исследование не только самого
текста, но и его содержания — возможно.19 В то же самое время,
я понимаю тех, кто призывает к мораторию на понятие «смысл».
Большая осторожность в употреблении этого термина помогла бы
нам всем яснее представить себе направление наших поисков.
Читателям следует куда более открыто заявлять о своих целях и
намерениях в области интерпретации, и быть готовыми их отстаивать.
Если чтение и в самом деле включает в себя нравственную
сторону — высшее благо интерпретации, — тогда следует дать ему как
можно более тщательное определение. Только после
внимательного изучения действий, производимых читателями над текстом, я
осмелюсь выдвинуть предположение о том, что есть значение, и как с
ним следует обращаться.
Вернемся к заглавию. Внимательный читатель уже, возможно,
заметил намек на две книги, которые вместе очерчивают
территорию, исследованию которой посвящена настоящая работа. Первая
из них упомянута в подзаголовке. Это книга Ван Харви «Историк и
верующий: нравственность исторического знания и христианской
веры».20 Тема Харви — соотношение веры и истории в
христианском богословии — на первый взгляд не имеет отношения к моей.
Что общего у исторических познаний с герменевтикой? Но работа
19 Недавний доклад Архиерейской библейской комиссии — «Историко-критический метод —
необходимый метод изучения древних текстов» (J. L. Houlden, ed., The Interpretation of the Bible
in the Church (London: SCM, 1995), 13) — начинается с утверждения современных экзегетов о
существовании объективного познания.
20 New York: Macmillan, 1966
25
Введение. Богословие и литературная теория
Харви актуальна для нашей темы, поскольку она поднимает
вопросы о «позиции» историка, позиции, которая отражает определенную
«нравственность знания». Он наблюдает явную напряженность,
возникающую между этикой критического суждения (а именно,
знанием) с одной стороны и динамикой верования (а именно, верой)
с другой. Харви считает, что вера искажает исторические
исследования. Для историка безнравственно верить чему-либо, что не
подтверждено достаточными научными доказательствами. Настоящие
историки подходят ко всему с недоверием, отказываются верить до
тех пор, пока достаточно весомые доказательства не позволяют им
получить ясное и четкое представление о «прочитанном».
Ценности, на которых Харви строит свое суждение о
нравственности знания, уходят корнями в эпоху Просвещения. Обладающий
нравственными убеждениями историк (читай: литературовед)
независим, в то время как верующий подчинен чужой воле.
Нравственное убеждение нуждается в рациональной оценке и обосновании.
Критически осмысленный опыт настоящего является критерием
оценки утверждений, касающихся прошлого. В контексте
«нравственного» знания сомнение являе.тся добродетелью, а доверчивость —
пороком. Взывать к вере означает лишать читателя возможности
рациональной оценки. Харви заключает, что сомнение —
интеллектуальная добродетель, более «нравственная», чем вера. Данная работа
принимает вызов, брошенный Харви, однако переносит его в область
герменевтики: может ли литературное познание быть одновременно
нравственным и религиозным, критическим и христианским?
Заголовок также содержит упоминание о книге Стэнли Фиша
«Есть ли здесь текст?»21 Фиш — влиятельный литературовед, чья
карьера отражает ключевые повороты в развитии современной
герменевтики. Написанная им в 1967 книга «Настигнут грехом:
читатель в потерянном раю» исследует возможность «сатанинского
прочтения» эпической поэмы Мильтона.22 Фиш обнаружил, что
читатель, как и Адам, совершает ошибку, принимая сатану за героя,
и в процессе прочтения сам переживает падение. Значение работы
Мильтона, утверждает Фиш, определяется переживанием
читателя. Позже эта тема стала преобладающей в работах Фиша.23
21 Cambridge, Mass.: Harvard Univ. Press, 1980.
22 New York: Macmillan, 1967.
23 Как формируется переживание читателя? Некоторое время Фиш подумывал о том, что
текст является источником переживаний читателя, но позже отбросил эту идею в пользу другой:
26
Глава первая. Вера, стремящаяся к пониманию текста
С точки зрения Фиша, такое понятие, как «смысл текста» не
существует «вне» читателя. Значение не существует вне
деятельности читателя, но является ее результатом. В качестве иллюстрации
Фиш приводит короткий рассказ о студенте, который, зайдя в
аудиторию в первый день семестра, спросил преподавателя английской
литературы: «Вы пользуетесь текстом на своих занятиях?»
Преподаватель ответил: «Да, 'Антологией литературы' Нортона», на что
студент в свою очередь ответил: «Нет, я имел в виду — мы здесь
верим в текст, или все остается на усмотрение читателя?» По мнению
Фиша, это недоразумение лишний раз доказывает, что буквального
значения как такового не существует.
Верим ли мы в тексты? Нравственность веры и позиция
верующего — вопросы, которые интересуют не только Харви и Фиша, но
и любого, кто интересуется толкованием Библии. В отношении биб-
леистики, экзегетам сейчас приходится сражаться по крайней мере
на два фронта. Сдвиг парадигмы с исторических на литературные
исследования (то есть с Харви на Фиша) означает, что библеистам
теперь приходится осваивать две дисциплины. В противном случае
они рискуют не понять некоторые высказывания своих коллег. То
же самое обусловило необходимость оценки нравственности не
только исторического, но и литературного знания. Фраза
«литературное (или текстовое) знание» двусмысленна: она может
обозначать знание как самого текста, так и знание, полученное из
текста. В этой связи актуален вопрос о том, возможно ли того или иного
рода знание, не говоря уже о том, нравственно ли оно.
Энтузиазм Харви по поводу заявления лорда Эктона о том, что
«начало исторической мудрости в сомнении»24 находит отклик в
литературных теориях, поощряющих критически-недоверчивый
подход к чтению. Там, где современные историки скептически
относятся к притязаниям Библии на достоверность, современные
скептики от литературы утверждают, что у текста не может быть
раз и навсегда определенного значения или что заложенное в нем
значение предвзято и идеологически искажено. В результате
делается вывод, что Библия или ничего не утверждает, или содержит
читательские приемы сами формируют объект чтения. Рассмотрение этих двух взглядов на
значение термина «определяемый реакцией читателя» приведено в моей работе "The Reader
in NT Study," in Joel Green, ed., Hearing the New Testament: Strategies for Interpretation (Grand
Rapids: Eerdmans, 1995), 301-28.
24 Цит. по: Harvey, Historian and the Believer, 111.
27
Введение. Богословие и литературная теория
идеологически подозрительные утверждения. Озабоченность
Харви нравственностью знания может быть транспонирована из
истории в литературу: может ли ответственный критик (в данном
случае читатель) быть верующим?
Подход Фиша к герменевтике полностью лишает
авторитетности Библию, как впрочем и любой другой текст. В основе
интерпретации в конечном итоге лежит не текст, но личность читателя.
Интерпретативный опыт читателя определяется не каноном, а
обществом. Современные литературоведы все больше склоняются к
тому, чтобы не описывать реакцию читателя, но предписывать ее.
Это лишний раз доказывает, что текст для них становится просто
зеркалом, в котором мы видим самих себя, или пустым залом, в
котором звучит эхо наших собственных голосов.
Харви и Фиш определяют рамки данной работы: в долине тени
Дерриды сформулировать и доказать способность читателя
обоснованно и ответственно познавать Библию как литературное
произведение. Цель данной работы — доказать, что в тексте есть смысл, что
его можно найти, и что читатель должен стремиться именно к
этому. Несмотря на то, что постмодернисты утверждают обратное, мы
будем и далее отстаивать возможность понимания. Однако я буду
строить свое доказательство в диалоге с теми, кто его отвергает.
Я признаю, что прочтение текста не бывает однозначным, а
наивное понимание — адекватным. Итак, текстовое знание, полученное
в результате этого исследования, будет тщательно выверенным, но
не абсолютным.
ТРИ ЭПОХИ ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЯ: ПЛАН КНИГИ
История литературоведения — это история
последовательной концентрации внимания соответственно на авторе, тексте и
читателе. Я принимаю эту трехчастную структуру организации
в обеих частях данной книги, в соответствии с тем, что в
настоящее время называется «тремя эпохами литературоведения».25 Это
трехчастное деление некоторым образом повторяет существующее
в философии разделение на метафизику, эпистемологию и этику.
25 См. Eagleton, Literary Theory, 74. Данную работу также стоило бы рассматривать как
эссе по «метакритике», поскольку она рассматривает метафизические, методологические
и нравственные предпосылки, которыми руководствуется большая честь литературной и
библейской критики.
28
Глава первая. Вера, стремящаяся к пониманию текста
Я рассматриваю эти проблемы вместе, соотнося философские
вопросы с тремя эпохами литературоведения. В этой книге
рассматривается метафизика, методология и нравственность
значения — причем дважды. В первой части представлены основные
проблемы, стоящие пред современной герменевтикой. Таким образом,
она содержит мое понимание современной постмодернистской
ситуации с точки зрения христианского богословия. Во второй части
более подробно изложены мои собственные конструктивные
предложения по поводу интерпретации. Я утверждаю, что литературная
теория основывается не только на философских предпосылках, но
и на предпосылках, которые обладают неявной богословской
природой. В соответствии с этим я подхожу к метафизике,
эпистемологии и этике значения с откровенно христианской точки зрения,
с позиции тринитарного богословия.
Часть 1 необходима по трем причинам. Во-первых, потому что
претензии к традиционным формам экзегетики и герменевтики
нуждаются в отчетливом понимании и внимательном изучении.
Во-вторых, без нее невозможно доказательство моего тезиса о том,
что кризис современной теории интерпретации следует считать
богословским. В-третьих, в качестве свидетельства моей готовности
жить в соответствии с исповедуемыми мною принципами. В самом
деле, было бы странно, если бы книга о необходимости
ответственного подхода к интерпретации искажала тексты, содержащие
противоположную точку зрения. Качественная интерпретация —
нелегкий труд, и я, несомненно, еще столкнусь с собственной
предвзятостью в изложении и критическом анализе альтернативных
взглядов. Однако критике должна предшествовать любовь, даже
если тексты, о которых идет речь, отстаивают герменевтический
релятивизм и неустойчивость значения.
Эпоха автора: герменевтический реализм
и его противники
Первая эпоха литературоведения, начало которой
применительно толкования Библии было положено Реформаторами,
характеризуется интересом к замыслу автора (человеческого или
божественного). Фридрих Шлеермахер (1768-1834) предложил, по мнению
многих, классическое описание герменевтики, ориентированной
на автора. Однако Шлеермахер склонен отождествлять значение
29
Введение. Богословие и литературная теория
с психологией, и такое смешение, в конце концов, привело к
значительному падению репутации автороцентричного подхода. Для
Шлеермахера текст считается понятым, если восстановлено
сознание автора. Язык и литература выражают мысль; грамматика
обеспечивает нам доступ к психологии. Цель интерпретации — «понять
текст так же, как автор, или лучше него».26
Такой автороцентричный взгляд на интерпретацию содержит
философские импликации и предпосылки. Первая и основная
проблема касается того, что мы называем метафизикой значения.
Метафизические вопросы относятся к природе реальности.
Например: «Что есть автор?» — это метафизический вопрос. Неожиданно
большое число современных теоретиков литературы считают само
понятие авторства сомнительным, а некоторые полностью
отрицают существование автора. Авторский замысел — понятие еще
более спорное. Что такое замысел? Рождается ли он в разуме? Можно
ли его восстановить? Почему значение текста следует определять
именно с точки зрения авторского замысла?
Более глубокий вопрос касается объективности значения и
интерпретации. Является ли значение фиксированным —
автором или текстом как таковым — или свободным, меняющимся от
читателя к читателю (или же является результатом некой
комбинации вышеперечисленного)? Те, кто ссылаются на авторский
замысел, обычно делают это для того, чтобы заложить основание
стабильного, определенного и разрешимого текстового значения.
«Герменевтик-реалист» считает, что есть нечто предшествующее
интерпретации, нечто присущее тексту и познаваемое, нечто, что
необходимо принимать в расчет толкователю.27 С другой стороны,
противники герменевтического реализма (напр.: Деррида, Фиш)
отрицают существование значения вне процесса интерпретации;
истинность интерпретации зависит от отклика читателя. Поэтому
герменевтический спор о значении ведется параллельно такому же
спору в метафизике. Противники реализма в метафизике отрицают
26 См. Werner G. Jeanrond, Theological Hermeneutics: Development and Significance (London:
Macmillan, 1991), 44-50.
27 Для сравнения: определение, приведенное в Stephen Mallioux, "Rhetorical Hermeneutics,"
Critical Inquiry 11 (1985) 620-41: «герменевтический реализм утверждает, что тексты, имеющие
значение, существуют независимо от интерпретации... факты в тексте существуют объективно...
и следовательно, правильная интерпретация есть та, которая наиболее точно соответствует
автономным фактам текста»
30
Глава первая. Вера, стремящаяся к пониманию текста
существование реальности, независимой от разума, которой
должно соответствовать наше восприятие. Сторонники подобных
взглядов считают, что мир (или значение текста) есть продукт разума.
Во второй главе представлены аргументы постмодернистов
против понятия автора в частности и герменевтического реализма
в целом. Прежде всего, мы постарались уделить внимание
постструктурализму Дерриды и неопрагматизму Фиша. В пятой главе,
конструктивном аналоге второй, отстаивается реалистическая
точка зрения. Одновременно с этим предпринимается попытка
переосмысления роли автора. В своей работе я воспользовался
несколькими философскими средствами, в том числе «реалистичным здравым
смыслом» Томаса Рида и «философией речевого акта» Дж. Л.
Остина и Дж. Сёрля. Я предлагаю переосмысленное понимание
авторского замысла, исходя из понятия автора как участника
коммуникативного акта. Я намереваюсь доказать, что значение есть одна
из форм действия и что понятие авторства в конечном итоге —
богословское, и как «смерть» автора, так и его «воскрешение»
зависят от нашей способности размышлять о Боге как об участнике
коммуникативного акта. Я полагаю, что метафизика авторства связана
с доктриной о сотворении и образе Божьем. То есть человеческое
авторство основывается на способности Бога выражать себя через
акт Воплощения и откровения.
Эпоха текста: герменевтический рационализм и
релятивизм
Вторая эпоха литературной критики подняла вопрос о знании и
эпистемологии значения. Какова природа и метод литературного
знания? Так называемые «новые критики» 1940-х годов утратили
интерес к автору, сосредоточившись на формальных свойствах
текста (текст, только текст и ничего кроме текста). В 1960-х годах
внимание критиков привлекли некие глубинные структуры, которые,
как предполагалось, лежат в основе всех форм человеческой жизни
и мышления. «Структуралистская» критика изучает соблюдение в
тексте лингвистических и литературных правил, а не авторский
замысел или исторический контекст. Текстоцентричные методы
толкования предназначены для описания имманентного смысла текста.
Целью в данном случае является объяснение формы и структуры
текста (то есть знание о тексте) а не понимание референции текста
(то есть его значения).
31
Введение. Богословие и литературная теория
В эпоху текста внимание критиков было приковано к природе
толковательного рационализма. Какие методы познания текста
имеются в нашем распоряжении? Является ли герменевтика наукой
или искусством? Следует ли считать толкования, выдержавшие
испытание временем, объективно «лучшими», или здесь действуют и
субъективные факторы? Есть ли критерии, которыми можно
пользоваться для отсева ложных толкований и для деления имеющихся
толкований на лучшие и худшие? Или же значение определяется
личностью или сообществом, осуществляющими толкование?
Герменевтический релятивизм затеняет эпистемологическую
дискуссию, словно паразит, живущий за счет хозяина.
Существуют ли рациональные методы, позволяющие определить истинное
толкование текста, или все толкования произвольны? Существует
ли альтернатива герменевтической анархии, в условиях которой
каждый делает то, что ему кажется справедливым, и
герменевтическому тоталитаризму, когда убеждения индивида находятся под
абсолютным контролем со стороны властей? Можно ли судить
о вероятном значении текста или же следует считать его
безусловно неопределимым?
В третьей главе рассматриваются аргументы в пользу
герменевтического релятивизма. Для ясности я предпочитаю называть точки
зрения, исключающие возможность интерпретативного познания
«герметическими», а не герменевтическими. Гермес был
посланцем богов, «герменевтика» — наука об интерпретации посланий.
Но древние герметические писания возникли в результате того,
что Гермеса путали с Тотом, египетским богом мудрости, которого
греки знали как «Гермеса Трисмегиста» («трижды великого
Гермеса»). Однако Тот, отнюдь не являясь триединым богом-посланцем,
считался легендарным автором нескольких мистических,
философских и алхимических произведений. Поэтому термин
«герметический» употребляется для обозначения трудов, которым присущи
оккультные свойства, а также неясность — черты, типичные и для
некоторых современных литературных теорий. Деконструктивизм,
как альтернатива герменевтике, также относится к герметической
традиции.28
28 Вся книга Уэнделла В. Харриса (Wendell V. Harris), опровергающая деконструктивизм, построена
вокруг этого основного контраста (см. Literary Meaning: Reclaiming the Study of Literature
[London: Macmillan, 1996]). Знаменитая фраза Деррида «Вне текста нет ничего» показывает,
что деконструктивизм может быть герметической и в другом смысле этого слова.
32
Глава первая. Вера, стремящаяся к пониманию текста
В шестой главе дается конструктивный ответ на вопросы,
поднятые в главе третьей и предлагается пересмотренное понимание
интерпретации и литературного знания, основанное на понятиях
коммуникативной рациональности и текста как
коммуникативного акта. Основные философские источники, использованные мной
в этой работе — это критическая социальная теория Юргена Ха-
бермаса и новая реформатская эпистемология Элвина Плантинги
и Николаса Уолтерсторфа. Главным богословским источником я
избрал христологию, непосредственно связанную с новой защитой
буквального смысла как толковательной нормы (хотя я
категорически против отождествления буквального и буквалистического
толкований). Я утверждаю, что процесс интерпретации
управляется определенными рациональными процессами, хотя эти процессы
должны модифицироваться с учетом разнообразия литературных
жанров. Наконец, я заявляю, что значение можно адекватно
познать посредством «плотного описания», в процессе которого текст
рассматривается как сложное литературное произведение,
имеющее разные уровни, в том числе и канонический.
Эпоха читателя: герменевтическая ответственность
или игра без правил?
В-третьих, мы сталкиваемся с проблемой читателя и этики
значения. В 1970-х и 1980-х годах многие критики отвергли текстовой
позитивизм (сторонники которого рассматривают текст как объект
научного исследования) и занялись изучением роли читателя.
Говорили даже о «Движении за освобождение читателя», о
«читательском бунте» и «мести читателя». Восприятие значения как продукта
читательской реакции возникло в противовес структуралистской
идее о том, что текст — объект независимый как от автора, так и от
читателя. Критика с точки зрения реакции читателя подчеркивает
незавершенность текста до того момента, когда его конструирует
(или деконструирует) читатель. «Консервативные» критики такого
рода отмечают, что сам текст приглашает читателя к
самостоятельному истолкованию. Текст оставляет пробелы, или
неопределенности для заполнения читателем, поэтому чтение становится похожим
на детскую головоломку, в которой надо обвести рисунок по точкам.
Они также отмечают, что чтение всегда обусловлено некой
традицией, в рамках которой мы находимся, то есть четко определенным
33
Введение. Богословие и литературная теория
набором социальных и культурных предрассудков. Подобная
позиция читателя считается единственно возможной. С этой точки
зрения, чтение представляет собой процесс взаимодействия текста и
читателя (то есть «двух горизонтов»).29 «Радикальные» критики
подобного толка, с другой стороны, склонны оставлять за читателем
инициативу постановки вопросов к тексту, а также использования
текста в собственных целях; текст воспринимается как
предоставленная читателю возможность воплотить в жизнь собственный
замысел. С такой точки зрения, роль текста представляется
исключительно пассивной, тогда как читатель сам вкладывает в него тот или
иной смысл. Различие между двумя школами литературной
критики с позиции читательского отклика состоит в том, что радикалы
(как правило, противники герменевтического реализма) отрицают
ограниченность процесса интерпретации рамками текста.
Как правильно читать? Хотя чтение, как и наблюдение в
естественных науках, может быть отягощено теорией, должны ли мы
сделать вывод, что чтение безнадежно субъективно (то есть
произвольно)? Как, например, разобраться в зачастую противоречивых
трактовках библейских текстов? Если не существует «науки о
тексте», то каковы критерии оценки интерпретации? Фиш, выражая
точку зрения прагматистов, утверждает, что нам следует перестать
беспокоиться об интерпретации текстов и просто использовать
их. Для Фиша не существует такого понятия, как «единственная
правильная интерпретация» — только разные способы
использования текста. В четвертой главе своей книги я попытался установить
связь между этикой интерпретации и вопросами, касающимися
свободы и ответственности человека, а также вопросами политики
и идеологии.
Прагматизм Фиша и деконструктивизм Дерриды сходятся в
следующем: такого понятия, как «непредвзятое», то есть объективное
чтение — не существует. Всякое чтение обусловлено идеологическим
контекстом и управляется определенными интересами, например, к
истории текста, к тому, как текст достигает своей цели, к
отраженному в тексте отношению к женщине, к обстановке, в которой текст был
создан, к мотиву, побудившему автора к его написанию, или к тому,
как этот текст был воспринят разными группами читателей. Значение
29 См. Anthony С. Thiselton, The Two Horizons: New Testament Hermeneutics and Philosophical
Description (Grand Rapids: Eerdmans, 1980).
34
Глава первая. Вера, стремящаяся к пониманию текста
становится результатом исследования, продуктом читательской
деятельности. Текст, не обладающий собственными целями и
интересами, находится во власти читателя. Лишь слегка
преувеличивая, Марк Тейлор характеризует интерпретацию как «акт насилия,
жертвой которого является текст».30
Если читатель действительно активен, каковы его
обязательства в отношении интерпретации? Какой должна быть позиция
образцового — нравственного — читателя? Этика читателя
оказывает влияние и на эпистемологию: «Отношения между познающим и
познаваемым... склонно становиться отношениями между живым
существом и миром».31 Иначе говоря, отношение читателя к тексту
отражает образ его бытия; нравственные качества человека
определяют его подход к интерпретации. Есть ли какие-то ограничения
в том, какую позицию должен занимать читатель по отношению к
тексту? Есть ли предел у свободы толкования? По словам Фиша,
интересы читательского сообщества оказывают влияние на
отдельных читателей, но как решить, чьи интересы принять, к какой
группе присоединиться? Есть ли рациональные или этические
критерии, способные направить читателя в его поисках? Существует
ли понятие нравственности литературного знания?
В ответ на развенчание роли читателя в четвертой главе, в
главе седьмой излагается теория герменевтической ответственности.
Каких воззрений следует придерживаться читателю Библии или
любого другого текста, чтобы сохранить свои нравственные
принципы и остаться ответственным человеком и критиком? Я предлагаю
пересмотренную версию критики с точки зрения реакции читателя,
в основе которой лежат понятия коммуникативной этики и
эффективности коммуникативной деятельности. Я утверждаю, что
заинтересованность в коммуникации является и основой, и регулятивным
фактором процесса понимания. Здесь я также использовал
несколько философских источников и, составив представление о мыслящей
личности, перехожу от философии к собственно богословию. В
основе выбора принципа истолкования лежит, в конечном итоге,
представление человека о себе и, по крайней мере неявно, — его
представление о Боге. Более того, нравственность литературного знания
30 Mark С. Taylor, "Text As Victim," in Thomas Altizer et. al., Deconstruction and Theology (New
York: Crossroad, 1982), 65.
31 Parker Palmer, "Community, Conflict, and Ways of Knowing," Change (Sept/Oct 1987), 22.
r 35
Введение. Богословие и литературная теория
сама по себе, в отрыве от личных качеств толкователя,
недостаточна. Я утверждаю, что интерпретацию текста с позиции
нравственности следует считать духовным переживанием и что дух
разумения — это не дух силы или игры, но Святой Дух. В таком случае
богословскими учениями, полезными при рассмотрении вопроса о
нравственности значения, являются пневматология и освящение.
«Есть ли в этом тексте смысл?» Если для ответа на простой
вопрос мне пришлось обратиться к целому ряду научных дисциплин, в
том числе и к систематическому богословию, то лишь потому, что
только объединенными усилиями можно эффективно
противостоять кризису гуманитарных наук — кризису, постепенно
лишающему западную культуру ее гуманистической направленности.
ГЕРМЕНЕВТИКА ПО АВГУСТИНУ
Итак, данная книга является попыткой ответа на один вопрос:
«Есть ли в этом тексте смысл?» Читателю, возможно, покажется, что
ответ несоразмерен вопросу. Однако современным философам,
литературным критикам и экзегетам становится все труднее ответить
на него простым утверждением. Ведь вопросы герменевтики
зачастую имеют философский и богословский подтекст, который многие
упускают из виду. Почему понятие значения можно считать
вопросом, представляющим интерес для богослова? Мой ответ включает в
себя два аспекта: богословие имеет свою толковательную сторону, а
интерпретация — богословскую. «Есть ли в этом тексте смысл?» —
вопрос, как мы далее убедимся, вполне богословский.
Толковательная сторона богословия
Первую часть моего ответа проиллюстрировать легче.
Богословие называют «текстоцентричной наукой».32 Любая доктрина
обязана своим существованием многовековой традиции истолкования
Писаний. Библия может оказывать свое влияние на богословскую
методологию и жизнь церкви лишь в процессе ее толкования. В
самом деле, вопросы авторитетности Библии и ее толкования
практически неразделимы.33 На протяжении всей своей истории церковь
32 См. напр. Werner G. Jeanrond, Text and Interpretation As Categories of Theological Thinking
(New York: Crossroad, 1988), xv-xix, 74-75.
33 Кардинал Ратцингер подобным образом связывает веру, стремящуюся к пониманию, с
36
Глава первая. Вера, стремящаяся к пониманию текста
занималась интерпретацией канонических текстов, а также
классических писаний отцов церкви и реформаторов. Практическим
итогом этих исследований стала «Библиотека христианской
классики», двадцатишеститомный сборник трудов широкого круга
наиболее выдающихся богословов. В предисловии к этому изданию,
напечатанном в каждом томе, редакторы пишут: «Христианская
литература является богатейшим и ни с чем не сравнимым
сокровищем, принадлежащим Церкви».34 Отрицать наличие в тексте
смысла, значит лишать церковь накопленных ею сокровищ.
Богословская сторона толкования
Гораздо труднее убедиться в истинности моего утверждения о
том, что интерпретация — не только Библии, но и любого
другого текста — имеет богословскую сторону. Легче проследить
влияние смерти Бога на теорию литературы: «Смерть Бога означала
исчезновение Автора, который начертал на скрижалях мировой
истории и человеческого опыта абсолютную истину и однозначный
смысл».35 Смерть Бога непосредственно связана и с отрицанием
авторитетности человека-автора: Ролан Барт пишет, что отказ от
присвоения миру или тексту раз и навсегда установленного
значения «открывает поле для деятельности, которую можно назвать ан-
тибогословской и в полном смысле слова революционной, потому
что отказаться от устойчивого смысла означает в конечном
итоге отказаться от Бога».36
Точно так же отказ Дерриды от традиционного интереса
философии к рациональности и истине можно считать
богословским шагом: «Деконструктивизм — это смерть Бога в письменном
изложении».37 Литературный атеизм все более становится нормой
толкованием Библии: «Богословие является изложением вероучения и должно оставаться
таковым. Если оно перестанет истолковывать, но, не удовлетворившись сутью текста,
изменит его, тем самым дав себе новый текст для комментирования — оно перестанет
существовать как богословие» (цит. по: Aidan Nichols, The Theology of Joseph Ratzinger: An
introductory Study [Edinburgh: T. & T Clark, 1988], 289).
34 Cm. Augustine: Earlier Writings, ed. J. H. S. Burleigh (Philadelphia: Westminster, 1953), 9.
35 Mark С Taylor, Deconstructing Theology (AAR Studies in Religion 28; Chico, Calif.: Scholars, 1982), 90.
36 Barthes, "Death of Author," in The Rustle of Language, tr. Richard Howard (New York: Hill and
Wang, 1986), 54 {курсив мой).
37 Carl A. Raschke, "The Deconstruction of God," in Deconstruction and Theology, 3. существующий
кризис ценностей западной культуры имеет богословские корни. Поэтому мы можем сказать,
37
Введение. Богословие и литературная теория
современной действительности; постмодернистский читатель уже
не верит ни в Бога, ни в авторов. Интересно, что одно из самых
сильных заявлений в защиту объективного значения прозвучало из уст
литературного критика Георга Штайнера, который предложил явно
богословскую формулировку основного вопроса герменевтики:
«[В этом эссе] выдвигается предположение о том, что любое
логически последовательное представление о языке и его
функционировании, всякое логически последовательное объяснение
способности человеческой речи передавать чувства говорящего и смысл,
который он вкладывает в свои слова, в конечном счете основывается
на вере в существование Бога».38 Таким образом, господствующий
в современном мире герменевтический агностицизм несомненно
представляет собой богословскую проблему.
Сейчас существует больше причин для вступления богословов
в диалог с другими исследователями современной культуры, чем
когда-либо раньше. Вопросы, с которыми имеют дело философы и
теоретики литературы, носят междисциплинарный характер и
являются фундаментальными по отношению к нашей человечности,
поскольку вопрос о значении касается не только текстов, но и
человеческих действий, а также и самого хода истории. В самом деле,
вопрос о смысле текста не так уж далек от вопроса о смысле жизни.
Поскольку дебаты в гуманитарной сфере ведутся о понятии
гуманности как таковой, богословы отказываются от участия в них себе
же во вред.39 Я утверждаю, что стремление к пониманию — дело по
природе своей богословское. Поэтому богословие способно внести
значительный вклад в обсуждение не только вопроса о толковании
Библии, но и герменевтики вообще: в дискуссию о правах текста и
читателя, а также о ценностях, формирующих культуру и
культивируемых ею. Итак, данная работа представляет собой богословское
исследование истоков современного кризиса литературной теории,
что «деконструктивизм есть смерть Бога, выраженная в культуре». Анализ взаимодействия
богословия с культурой и с герменевтикой приведен в моей работе "The World Well Staged?
Theology, Culture, and Hermeneutics," in D. A. Carson and John Woodbridge, eds., God and
Culture (Grand Rapids: Eerdmans, 1993), 1-30.
38 George Steiner, Real Presences (Chicago: Univ. of Chicago Press, 1989), 3.
39 Данная книга является попыткой ответить на призыв Патриции Уорд: «Если к
началу 1990-х годов наблюдается согласие между философией морали, этикой и теорией
литературы, нам следует откликнуться на эту радостную ситуацию и привнести в нее
богословский взгляд на вещи, изменив при этом свои методы преподавания и творческие
приемы» ("'An Affair of the Heart': Ethics, Criticism, and the Teaching of Literature," Christianity
and Literature 39 [1990]: 185).
38
Глава первая. Вера, стремящаяся к пониманию текста
а именно — деконструкции или разрушения понятий автора, текста
и читателя.40
«Верую, чтобы понимать»
Может ли современный читатель, воспитанный на
нравственных устоях модернизма или постмодернизма, быть также и
верующим? Иными словами, могут ли читатели обосновано предполагать
или надеяться, что в тексте они обнаружат нечто, не являющееся
плодом их собственного воображения? Или наши попытки
интерпретации рассказывают о нас самих столько же, сколько о тексте,
если не больше?
В данной работе я неуклонно придерживаюсь августинианского
подхода к этим вопросам: Credo ut intelligam («верую, чтобы
разуметь»). Эта формула описывает критический подход верующего
читателя, а также правильную эпистемологическую позицию
любого человека. Будучи существами верующими, мы стремимся
углублять и отстаивать свои верования. Убежденность в наличии смысла
в тексте, как мы увидим позже, также является проявлением веры.
Однако не следует оставаться на уровне веры. В эпоху, одержимую
подозрительностью, фидеизм неуместен. Кое-кого из наиболее
влиятельных мыслителей прошлого века называли «мастерами
подозрительности», поскольку они проповедовали систематическое
недоверие ко всему, что представляет собой наиболее естественное
объяснение происходящего. Однако в условиях постмодернизма
обстановка еще более осложнилась, поскольку наряду с так
называемой «герменевтикой подозрения» все большее распространение
получает подозрительное отношение к герменевтике.
АвГустинианская апология интерпретации и реальности
значения имеет своих идейных противников: во-первых, герметис-
тов, претендующих на то, что ключом к пониманию текста может
служить не только авторский замысел, а во-вторых, циников,
которые утверждают, будто значение и понимание лежат за пределами
досягаемости. Я же продолжаю отстаивать веру в то, что заглянув
в зеркало текста, можно познать нечто помимо самих себя.
40 Говоря о теории литературы в этом контексте, я хочу указать на свое намерение обсуждать
принципы интерпретации текстов, а не ее детали. Иными словами, я собираюсь уделить
больше внимания вопросу о том, «что есть значение», чем вопросу о значении «искупления»
в таких текстах, как Рим. 1,18 или «Лев, колдунья и платяной шкаф».
39
Введение. Богословие и литературная теория
Поль Рикёр, описывая герменевтический круг, придерживается
определенно августинианской позиции: «Вера невозможна без
понимания, как и понимание без веры».41 Хотя Рикёр и признает, что
критика играет важную роль, первым шагом к пониманию он все
же считает веру. Выражением этой веры в значение может стать
следующее «кредо толкователя»:
Верую в герменевтический реализм
Верую в герменевтический рационализм
Верую в ответственный подход к герменевтике
Данная работа является попыткой более глубокого
проникновения в суть этих основополагающих истин путем исследования и
диалога с наиболее убедительными из современных возражений.
Если вера и в самом деле имеет непосредственное отношение к
литературному познанию, богословам следует внимательно изучить
исходные положения и убеждения философов и литературных
критиков. Взаимодействие богословия с герменевтикой имеет долгую
и славную историю. Сам Августин много говорил о чтении,
истолковании, а также о соотношении слов и вещей. Его труды являются
прекрасным руководством по разработке богословского учения,
которое легло бы в основу христианского понятия о нравственности
литературного познания. Прежде всего, Августин верил в
возможность словесного общения: «Когда вы говорите со мной, я верю, что
из ваших уст я слышу не пустые звуки, но нечто доступное моему
пониманию».42 В начале Бог сотворил язык — его благой дар
своим созданиям. Более того, это важнейший инструмент созидания
личностных отношений между людьми, а также между
человечеством и Богом. Язык как таковой есть некое семантическое таинство,
средство передачи значения через словесные символы.
Во-вторых, Августин был убежден в превосходстве понимания,
получаемого нами через общение, над самими словами: «Знание
важнее знака, потому что оно — цель, для достижения которой тот
предназначен».43 Словно обличая противников герменевтического
41 Paul Ricoeur, The Conflict of Interpretations: Essays in Hermeneutics (Evanston: Northwestern
Univ. Press, 1974), 298. Я представляю Рикёра как философа-христианина и предлагаю оценку
значимости его вклада в герменевтику для христианского богословия в работе Biblical Narrative
in the Philosophy of Paul Ricoeur: A Study in Hermeneutics and Theology (Cambridge: Cambridge
Univ. Press, 1990).
42 Augustine: Earlier Writings, 71.
43 Там же, 88.
40
Глава первая. Вера, стремящаяся к пониманию текста
реализма, Августин так ответил сказавшему «Я учу ради того,
чтобы говорить»: «Почему бы тебе не говорить ради того, чтобы
научить?»44
В-третьих, в трактате «Об истинном благочестии» Августин
говорит о том, что все ереси происходят от неспособности отличить
Творца от творения. Конечно же, Августин имеет в виду
богословские ереси. Точно так же неспособность отличить текст от
комментария, вероятнее всего, является первой из герменевтических
ересей. Читатели, рассматривающие текст как зеркало, на которое
они проецируют собственные желания и склонности, оказываются
неспособными отличить автора от читателя, становясь жертвами
своего рода толковательного идолопоклонничества.
Наконец, в отношении нравственности литературного знания,
Августин отстаивает мысль о том, что для него является основной
герменевтической добродетелью, а именно: милосердие. Его идея
коренным образом отличается от типичного современного
подхода, в котором более всего ценится недоверие и подозрительность,
стратегия, лучшим примером которой является, наверное, эссе
У. К. Клиффорда под названием «Этика веры». Клиффорд
утверждает, что безнравственно верить чему-либо, не получив прежде
достаточных доказательств: «Подведу итог: никто и никогда не вправе
верить во что-либо, не имея на то достаточно веских доказательств».45
Августин, напротив, писал в своем труде «О пользе веры»
следующее: «Если бы мы решили ничего не принимать на веру без
соответствующего научного доказательства, в человеческом обществе
не осталось бы сколько-нибудь прочных устоев».46 В отношении
чтения: «Достойна уважения вера в то, что автор был хорошим
человеком, чьи труды созданы во благо человечества и последующих
поколений».47 Следовательно, прежде всего толкователь обязан
проявить милосердие по отношению к автору. Если мы подходим
к тексту с убеждением в его пустоте, едва ли он сумеет нас чем-то
обогатить. Августин призывает читателей подходить к текстам, в
частности к классическим произведениям и в особенности к
Писанию, ожидая, что они содержат нечто ценное и истинное.
44 Там же, 89.
45 W. К. Clifford, Lectures and Essays (London: Macmillan, 1886), 346.
46 Augustine: Earlier Writings, 313. К теме необходимости веры для достижения практических
целей мы вернемся в главе 4, говоря о Томасе Риде и Элвине Плантинге.
47 Там же, 300.
41
Введение. Богословие и литературная теория
Итак, текст — это настоящий кладезь смысла. Но что если
читатели расходятся во мнениях по вопросу о том, какие богатства
могут содержать в себе эти словесные сосуды? Что происходит, если
христиане придерживаются несовместимых друг с другом
толкований Библии? Августин призывает к милосердию и в этом случае.
Его основной принцип в герменевтике — «выбирать толкование,
воспитывающее в людях любовь к Богу и к ближнему». Августинс-
кий принцип милосердия способен заметно изменить современную
ситуацию, в которой конфликт интерпретаций слишком часто
скрывает конфликт интересов и противоборствующих сил. Читатели,
которые больше не верят в значение, не могут прийти к мирному
решению споров об интерпретации. В современной сложной
ситуации читатель выступает против другого читателя и против текста.
Lego ut intelligam («Читаю, чтобы разуметь»). В эпоху,
рассматривающую интерпретацию с точки зрения жестокости и
принуждения, призыв Августина к вере и милосердию актуален как никогда.
В тексте есть нечто, созданное не самим читателем. Верующий
читатель должен не осквернять, но почитать это «другое». Потому что,
позволяя тексту сказать свое слово, читатель приходит не только к
познанию окружающего мира, но и к самопознанию.
Толковательные добродетели, рекомендуемые мною на протяжении этой книги,
входят в число важнейших добродетелей христианского
богословия: вера, надежда, любовь и смирение. Это те самые добродетели,
благодаря которым может существовать общество.
Сосуществование в определенном смысле тоже можно считать интерпретацией:
правильный подход к герменевтике лежит в основе добрососедства.
Золотое правило, как для герменевтики, так и для этики
заключается в том, чтобы относиться к текстам, к людям и к Богу с любовью
и уважением.
42
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
Распад толкования:
авторитетность, аллегория, анархия
Тот, кто использует нечто значимое или
поклоняется ему, не зная, что оно обозначает, становится
рабом знака.
Св. Августин.1
Нет ни единого обозначения, которое избежало хотя
бы на время игры референций, составляющих язык...
эта [игра] в строгом смысле приводит к разрушению
понятия «знак» и всей его логики.
Жак Деррида.2
Распалось все; держать не может центр;
Анархия распространилась в мире...
У. Б. Йетс.3
1 St. Augustine, On Interpretation, 3.9.
2 Jacques Derrida, OfGrammatology, tr. Gayatri Chakravorty Spivak (Baltimore and London: Johns
Hopkins Univ. Press, 1976), 7.
3 From W. B. Yeats, "The Second Coming." Перевод Валерия Савина, http://www.poezia.ru/
article.php?sid=11980.
Часть первая. Распад толкования
Толкование текстов — один из устоев западной истории и
культуры, во всем, о чем бы мы ни говорили — в науке, в
церкви и в обществе в целом. Колыбель западной цивилизации
по природе своей текстуальна. Многие века иудейские и
христианские Писания оказывали основное формирующее влияние на жизнь
в Европе и Северной Америке. Библия остается незаменимым
средством для понимания прошлого западной жизни и литературы.
А для членов церкви Библия — еще и незаменимый источник,
позволяющий мудро жить в настоящем.
В последнее время интерпретация текста стала задачей
малозначимой, а по мнению некоторых — и невозможной. В наши дни
изощренный критик склонен обращать на мотивы читателя не меньшее
внимание, чем на значение текста. В самом деле, даже смысл слова
«интерпретация» изменился: вместо сообщения о знании,
полученном в результате исследования смысла текста, интерпретацией
стали называть то, как читатель воспринимает текст. Новоявленные
толкователи не признают принципа реальности («так, как есть») —
только принцип удовольствия («так, как я хочу»). Что происходит
со значением и толкованием, и каковы возможные последствия
этого для западной цивилизации? Что происходит в толковании
Библии, и каковы возможные последствия этого для церкви?
В первой части проводится анализ философских предпосылок,
лежащих в основе современных попыток «упразднить» значение
слов, предложений и текстов. Я предлагаю свое понимание
современного кризиса гуманитарных наук, различая два вида
«постмодернистских» мыслителей: деконструктор, или «упразднитель», и
прагматик, или «пользователь». Эти две философские тенденции
стали основой значительной части литературоведения и теории
литературы, а также толкования Библии. Хотя происхождение их
и различно (Тисельтон считает родоначальником неопрагматизма
Ч. Пирса, а деконструктивизма — Соссюра), их сторонники в
один голос заявляют о недоверии модернистской убежденности в
научной объективности, логике и морали.4 Итак, у них общие
корни — скептицизм Фридриха Ницше и атеизм Людвига Фейербаха.
4 Anthony С. Thiselton, New Horizons in Hermeneutics: The Theory and Practice of Transforming
Biblical Reading (Grand Rapids: Zondervan, 1992), 83-84. Согласно Ричарду Рорти, «Прагматисты
и последователи Дерриды — на самом деле естественные союзники» (Rorty, "Philosophy Without
Principles," in W J. T. Mitchell, ed., Against Theory: Literary Studies and the New Pragmatism
[Chicago: Univ. of Chicago Press. 1985], 135).
44
Часть первая. Распад толкования
Поэтому о «пользователях» и «упразднителях» лучше всего думать
как о неверующих эпохи постмодернизма.5
Неверующие, конечно, были и раньше — «ибо скептиков всегда
имеете с собою» — но современная подозрительность
простирается намного шире. Контраст между неверующими эпохи
модернизма и постмодернизма можно проиллюстрировать, сравнив «полное
возрождение» науки, искусства и всего человеческого знания по
Френсису Бэкону и полную деконструкцию по Дерриде.6
Бэкон жил и творил в период расцвета английского Ренессанса.
Он был апологетом науки и верил, что с открытием индуктивного
метода человечество готово было совершить великий
эпистемологический скачок. Истину следовало познавать путем прилежного
наблюдения за природой. Концепция «полной реконструкции»
опирается на две предпосылки: первая состоит в том, что почти все
ранее считавшееся знанием было ошибкой, а вторая — что разум
«подобен зеркалу с ровной и гладкой поверхностью, пригодному для
отражения истинного порядка вещей» и поэтому является
подходящим инструментом для получения знания. Сначала кажется, что
второе утверждение Бэкона противоречит первому. По сути, Бэкон
утверждает, что разум (имеется в виду разум Средневековья)
приобрел дурные привычки.7 Анализ этих «привычек» в какой-то мере
делает Бэкона предшественником «полной деконструкции»
претензий на знание по Дерриде. Основное отличие, конечно, в том, что
Бэкон верил в возможность отполировать зеркало разума
настолько, чтобы оно отражало реальность, в то время как Деррида
отбрасывает и саму эту метафору, и предполагаемые ею возможности.
5 Недавно сходства этих двух философских учений, англосаксонского и европейского, были
рассмотрены в работе Chantal Mouffe, ed., Deconstruction and Pragmatism (London: Routledge,
1996). В «Заметках по деконструктивизму и прагматизму» ("Remarks on Deconstruction
and Pragmatism"), сам Деррида признает, что деконструктивизм «имеет много общего...
с некоторыми мотивами прагматизма» (78). Наиболее фундаментально, вероятно, их неверие в
метафизические системы. Природа, возможно, не приемлет вакуума, но не обязательно — хаоса.
Это человечество терпеть не может жить в неструктурированном мире. И «упразднители», и
«пользователи» настаивают на неестественности всякой системы, будь то в политике, науке или
в богословии.
6 Бэкон называл свою новую программу человеческого познания «великой инстаурацией
[т.е. реставрацией]».
7 У. Т. Джоунс (W. Т. Jones) сравнивает предложенные Бэконом реформы с идеями Лютера и
называет позицию Бэкона «разновидностью эпистемологического протестантизма» (A History of
Western Philosophy [New York: Harcourt Brace Jovanovich, 2d ed., 1969] 2.76).
45
Часть первая. Распад толкования
Бэкон считал, что ученые прошлого не открыли для себя
индуктивный метод по причине приверженности ложным понятиям, или
«идолам», которые побуждали их делать слишком поспешные
выводы. «Идолы племени» — порождение самой человеческой природы,
и суть их — в излишней уверенности в правильности наших
наблюдений и чувственных переживаний. «Идолы пещеры» обозначают
предрассудки отдельных индивидуумов и то, как наше положение
окрашивает наше мировосприятие. «Идолы театра» — это догмы,
«общепринятые системы», которые слепо передаются из поколения
в поколение. «Идолы рынка» связаны с неоднозначностью языка.
Бэкон считал их «самыми опасными из всех». Бэкон говорил, что
слишком легко перепутать собственное определение слова с его
истинным значением. Проблема в том, что люди часто используют
слова по-разному, и потому слова сами по себе не могут отразить
природу вещей.8 Поэтому без строгого анализа наблюдаемого мира
язык может легко ввести нас в заблуждение. В этой
подозрительности к языку Бэкон являет себя предшественником Дерриды:
«Неадекватный выбор слов удивительным образом препятствует
пониманию... Слова силой подчиняют его себе и ввергают все в
смятение... потому что люди верят, будто их разум управляет словами,
однако верно и то, что слова влияют на разумение».9
Оптимистичная уверенность Бэкона в том, что индуктивный
метод способен развенчать этих идолов, не должна заставлять нас
забыть о суровости его критики. Его характеристика «идолов»
прекрасно показывает то, как разум, подобно кривому зеркалу,
способен искажать природу вещей. Особенно хорошо он раскрывает
волевой и чувственный аспекты предвзятых мнений: «Человек более
склонен верить тому, что он хотел бы видеть».10 Подобным же
образом то, во что человек верит, побуждает его с большей
готовностью принимать все соответствующее этим убеждениям и отвергать
противоположное. Благодаря этой предопределенности, предание
обладает необоснованным авторитетом. Опять-таки Бэкон видит
выход в том, чтобы отвергнуть ветхую природу и принять
индуктивный метод естествознания. Как указывает Роджер Ландин, именно
8 Заметьте, что именно об этом говорил Платон в диалоге «Кратил».
9 Francis Bacon, Novum Organum, in The Works of Francis Bacon, eds. J. Speeding, R.L. Ellis, and
D.D. Heath (London: Longman & Co., 1968), vol. 4, Part 1, sees. 4Iff, cited in W.T. Jones, History of
Western Philosophy, 2.78-79.
10 Там же.
46
Часть первая. Распад толкования
это Чарльз Ходж рекомендует экзегетам и богословам: Библия «для
богослова то же самое, что природа для естествоиспытателя:
сокровищница фактов».11
Деррида, как и Бэкон, — мыслитель-иконоборец, хотя идолы,
которых он стремится уничтожить, имеют прямое отношение к
значению и интерпретации. Мы можем назвать их идолами знака: идол
надежности (знак соответствует реальности), идол определенности
(знак обладает единственным фиксированным смыслом) и идол
нейтралитета (знак есть описательный, а не предписывающий или
политический инструмент). Деррида не верит ни в надежность,
ни в определенность, ни в нейтральность знака. Он
стремится подорвать привилегированное положение знаков в западной
культуре путем альтернативного анализа, который сосредоточен
на их нестабильности, неопределенности и предвзятости.
Как и Бэкон, Деррида избегает обобщений и предпочитает
частности. Однако деконструктивизм не индукция, поскольку эти
частности у Дерриды не приводят ни к каким логическим заключениям.
На самом деле Деррида изучает частности с явно выраженной
целью: опровергнуть общие правила, законы и принципы.
Деконструктивизм лучше рассматривать как «редукцию» — отрицание и
неприятие всяких методологических попыток познать истину.
«Редукция» — это индукция без конца и без заключения: частности
поглощают любую попытку объединить их или справиться с их
многообразием. Деконструктивизм предлагает новую критику, однако
это критика без реализма, присущего здравому смыслу и вере в
научный метод, которые помогли Бекону не стать скептиком.
Деррида представляет свое ниспровержение идолов, как и
Бэкон до него, в терминах освобождения — от традиции, от истины,
от авторитета, и, как мы увидим дальше, от социального
притеснения. Его противники называют такую свободу «анархией». Ответ
на вопрос о том, является ли деконструктивизм настоящим
«возрождением», а не формой «нигилизма», зависит от того, сможет ли
деконструктивизм до конца сыграть свою роль освободителя.
Ожидания таковы: Деррида заявляет, будто деконструктивизм
освобождает, разрушая реальность, или, точнее, опровергая категоричные
11 Charles Hodge, Systematic Theology (Grand Rapids: Eerdmans, 1979), 1.10. См. Roger Lundin.
Anthony С Thiselton, and Clarence Walhout, The Responsibility of Hermeneutics (Grand Rapids:
Eerdmans, 1985), 20-23.
47
Часть первая. Распад толкования
заявления о том, какая интерпретация реальности верная. Потому
что «реальность» — истинная интерпретация мира и человеческих
существ — действует как смирительная рубашка, сдерживающая
человеческое творчество. Следовательно, Деррида не верит во что-
либо определенное, способное принуждать нас — будь то
география, гены или жанры — и таким образом ограничивать нашу
свободу и творчество.
Наконец, Деррида разрушает философские системы и
интерпретации для того, чтобы сохранить вещи — мир, тексты,
человеческие существа — открытыми. Деконструктивизм есть
стратегия сопротивления законченности. Редукция представляет собой
полусерьезную, полушутливую попытку разобрать вещи на части,
чтобы показать, что собрать их можно по-разному. Было бы
неверно принять игру Дерриды за простое щегольство или забавную
чепуху. Как отмечал в своих эссе Монтень: «Детские игры нельзя
считать пустяком; для них это весьма серьезная деятельность».
Так и с деконструктивистами: их игры, сыгранные всерьез и до
конца, разрушают комментарии, каноны и цивилизации.
48
ГЛАВА ВТОРАЯ
Упразднение автора:
авторитетность и замысел
Достоверность священного Писания, в соответствии
с которой ему следует верить и подчиняться,
зиждется не на свидетельстве какого бы то ни было
человека или церкви, а на Боге — авторе Писания, —
который есть сама истина.
Вестминстерское исповедание веры (1.4)
Почему существует нечто, а не ничто? Это извечный
вопрос метафизики, науки о сущности. «Есть ли в этом тексте
смысл?» — вопрос метафизический, поскольку касается
реальности значения: Почему текст не бессмыслен? Почему в тексте
содержится нечто, а не ничто? Ответ на последний вопрос обычно
включает в себя понятие автора. А именно: значение определяется
авторским намерением передать с помощью знаков определенное
сообщение. Однако, по мнению Дерриды, понятие существующего
в разуме намерения — «ментальной интенции» — метафизическая
химера, на которой строится вторичная иллюзия того, что знаки
соответствуют реальности. Представление о том, что знаки создают в
нашем разуме картину мира или каким-либо иным образом
устанавливают взаимосвязь между мыслью и реальностью, вызывает
сильнейшие возражения у Дерриды и соответствует тому, что я назвал
«идолом надежности». Наибольшему сомнению постмодернизм
подвергает утверждение о том, что знаки — надежные
показатели реального положения вещей.
В этой главе рассматривается некогда ведущая роль автора в
обосновании значения текста, а также причины, по которым
автор утратил эту роль. Звучит ли в тексте чей-либо голос, и если да,
принадлежит ли он автору? Является ли автор источником
значения текста? Может ли автор «контролировать» значение текста?
И какое отношение все эти вопросы имеют к попыткам философов
Часть первая. Распад толкования
сформулировать свою теорию природы объективной реальности
как таковой, к метафизике или, если уж на то пошло, к богословию?
Я намереваюсь доказать, что связь между так называемой «смертью
Бога» в девятнадцатом веке и смертью автора в двадцатом отнюдь
не случайна.
АВТОРСТВО И АВТОРИТЕТНОСТЬ: РОЖДЕНИЕ АВТОРА
Что есть автор? Всегда ли у текстов были авторы, или это
относительно новое понятие? У каждого ли текста есть свой автор?
Обладают ли утверждения автора о значении созданного им текста
особым авторитетом, и если да, то на чем основан такой авторитет?
Полезно рассмотреть некоторые важные факты из жизни автора,
прежде чем переходить к изучению обстоятельств его
безвременной кончины.
Связь между автором и авторитетом ясно видна из дебатов о
природе и толковании Библии.1 Большая часть людей верующих
готовы признать высший авторитет Бога. Однако такого согласия
не наблюдается, когда речь идет о местопребывании
божественного авторитета: Откуда звучит голос Божий? Кто уполномочен
говорить от его имени? Иудеи и христиане традиционно признают такое
право за пророками и апостолами. Они исповедуют Библию как
высшую норму веры и жизни, поскольку она называет себя Словом
Божьим и вместилищем этого Слова. Сам Иисус не мог воззвать к
более высокому авторитету, чем этот, предваряя Свои слова
формулой: «Написано». Конечно, далее следует сказать, что означает
написанное слово. Авторитетность без смысла — лишь пустой
формальный принцип. Споры об авторитетности быстро превращаются
в дискуссии об толковании и о том, кто определяет его
правильность. Какова же роль автора в подобных дискуссиях?
Верим ли мы в авторов?
В начале было Слово; да, но каков был статус Слова до того,
как оно было сказано? Действительно ли слова существуют прежде
тех, кто их высказывает, или же слова — это порождение разума
автора? В случае с Логосом в первой главе Иоанна мы знаем, что
1 См., напр., Bernard Ramm, The Pattern of Religious Authority (Grand Rapids: Eerdmans, 1957);
G. R. Evans, Problems of Authority in the Reformation Debates (Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1992)
50
Глава вторая. Упразднение автора
Слово было с Богом, было Богом. Это Слово было светом и жизнью,
полным благодати и истины. По крайней мере в этом случае Слово
и Автор полностью совпадают. Иисус есть знак Бога, воплощенный
символ Божьего присутствия, абсолютно надежное («точное»)
воспроизведение Его бытия (Евр. 1, 3).
Все ли слова столь же надежны, как Слово Божье? Стоят ли люди
за своей речью или сопровождают ее так, как это делает Бог? Есть
ли в этом тексте автор} Это вопрос скорее о природе авторства,
чем о существовании автора.2 Верим ли мы в авторов? С одной
стороны, доказать существование авторов просто. Автор присутствует
в современном обществе практически повсюду: он подписывает
выгодные контракты с издательствами, создает книгу, заполняющую
часы нашего досуга, рассуждает о своих книгах в телепередачах,
надписывает экземпляры первого издания... но каковы отношения
автора с его творениями помимо этих экономических, правовых и
рыночных связей? Существует ли какая-либо связь между автором
и значением текста — и если да, то какая?
Один из способов разобраться в отношениях между автором
и текстом — это рассмотрение причинно-следственной связи.3
Автор является исторической причиной текстуального следствия;
его замысел определяет существование текста в том виде, в
котором он есть. Никакое другое толкование не может адекватно
объяснить ясность текстов. Разумная личность автора есть необходимое
и достаточное объяснение доступного пониманию текста. Таким
образом, текст служит как бы суррогатом присутствия, адекватным
выражением и продолжением автора. Однако, как мы увидим в свое
время, этот скромный образ исторического автора поднимает более
глубокие, более метафизические вопросы. Прежде всего,
рассмотрим историю происхождения самой идеи авторства.
«Творец историй и стихов» — автор как источник
смысла
Христиане исповедуют в Апостольском символе веры веру в
«Бога Отца, Всемогущего Творца неба и земли». Является ли автор,
2 Эти темы замечательно и широко рассмотрены в Sean Burke, ed., Authorship From Plato to
Postmodernity: A Reader (Edinburgh: Edinburgh Univ. Press, 1995).
3 Хорхе Гарсиа (Jorge J. E. Garcia) определяет автора как «лицо, ответственное за возникновение
текста» ("Can There Be Texts Without Historical Authors," American Philosophical Quarterly 31
[1994]:245).
51
Часть первая. Распад толкования
подобно Богу, творцом, всемогущим создателем значения?
Недавние исследования раннего модернизма показывают, что
знаменитый «поворот к субъекту», равно как и сопутствовавший ему
индивидуализм имеет в действительности богословскую или скорее —
антибогословскую природу, поскольку при этом человеку
присваивались полномочия и прерогативы, прежде принадлежавшие
одному Богу. Подобно тому, как за сотворенным порядком вещей стоит
Бог, являясь источником его бытия и стабильности, так и за
текстом стоит автор. В этом отношении авторство — явно
модернистское изобретение.
Согласно так называемому «тезису об омирщении», модернизм
по сути есть преобразованная версия средневекового
христианства.4 Атрибуты средневекового понятия Бога — всевластного
субъекта, чья воля определяет все — постепенно преобразовалась в
модернистские представления о человеке: «В период модернизма
человек-мыслитель берет на себя некоторые из функций Бога как
субъекта».5 Модернистское «я» начинает напоминать абсолютного
субъекта, обладающего мышлением и волей. Этот «поворот к
субъекту» стал толчком к интеллектуальной революции, известной как
Просвещение. Модернистские философы, такие как Декарт и Кант,
были уверены в способности разума познавать мир и принимать
рациональные решения. Разумные, обладающие волей субъекты
были свободны мыслить самостоятельно, не полагаясь на традиции
и авторитеты.6 Индивид, как свободный деятель и мыслитель,
независим — сам себе закон. Итак, модернистский субъект стал
автором: создателем текстов и их значения.
Более того, модернистское «я» является источником
собственного существования. По мнению Ницше, каждый отдельный
человек является творцом всякой ценности, смысла и истины.
Субъективизм — «родина» смысла. Итак, мир и слова встречаются в
сознании индивида. Разум отражает реальность, а язык отражает мысль.
Благодаря свету разума, познающий субъект, подобно Адаму до
4 Попытка опровержения этого тезиса: см. Hans Blumenberg, The Legitimacy of the Modern Age
(Cambridge, Mass.: MIT Press, 1983).
5 Frank B. Farrell, Subjectivity, Realism, and Postmodernism—The Recovery of the World
(Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1994), 2.
6 Джон Тиль (John E. Thiel) утверждает, что богословы стали «авторами» в смысле
творческого мышления только на заре модернизма. См. его Imagination & Authority: Theological
Authorship in the Modern Tradition (Minneapolis: Fortress, 1991), ch. 1, esp. 19.
52
Глава вторая. Упразднение автора
грехопадения, видит мир таким, какой он есть, и называет вещи их
истинными именами. Следовательно, хотя авторы, несомненно,
существовали и до эпохи модернизма, только с его рассветом автор
получил статус суверенного субъекта значения. По выражению Ро-
лана Барта: «Автор — герой нашего времени, несомненно,
созданный нашим обществом, покинувшим средневековье под влиянием
английского эмпиризма, французского рационализма и личной
веры реформаторов, тем самым открыв для себя все преимущества
индивидуальности».7
Параллель между Богом и автором в модернизме также
является основанием для признания авторского авторитета. Автор —
это первоисточник. Этимология слова «авторитетность» —
«право, основанное на происхождении». Поскольку автор порождает
значение, «именно автор обладает авторитетностью, авторским
правом».8 Тот факт, что автор обладает правом собственности на
значение текста, забавно выразил Шалтай-Болтай в фантазийном
размышлении Льюиса Кэрролла о языке и логике: «Когда я
использую слово... оно означает именно то, что я в него вкладываю — ни
больше, ни меньше».9 Шалтай-Болтай здесь играет роль
модернистского субъекта, с точки зрения которого разум является отправной
точкой значения. Вопросов о том, кто хозяин, а кто — слуга, не
возникает. Активен только субъект; язык — лишь инертное средство,
используемое разумом для самовыражения.
Традиционный толкователь, читая, пытается расслышать голос
автора. Смысл — это авторское послание, которое читатель
извлекает, словно записку из бутылки. Подобно лампе Аладдина, текст
заключает в себе джинна — или даже гения. Читать — значит
сдружиться с великими умами прошлого. Цель толкования — извлечь
из текста его первоначальное значение. Для восстановления
исходного смысла библейского текста в свое время было предложено
множество методов: грамматико-исторический метод, критика
формы и редакционная критика — лишь некоторые из них. Несмотря
7 Roland Barthes, "The Death of the Author," в Burke, ed., Authorship, 125.
8 Peter Kreeft, Between Heaven and Hell, 30. Марк Тэйлор (Mark С. Taylor) язвительно
отмечает: «Поскольку Автор обладает привилегией происхождения (из которой происходят все
привилегии), Он облечен авторитетностью» (Erring: A Postmodern A/theology [Chicago: Univ. of
Chicago Press, 1984], 80, выделение мое).
9 Lewis Carroll, "Through the Looking-Glass," в The Philosopher's Alice, ed. Peter Heath (New York: St.
Martins, 1974), 193.
53
Часть первая. Распад толкования
на расхождения во взглядах на происхождение и историю создания
текста, эти подходы едины в том, что лишь восстановление
исходного значения делает толкование достоверным. Поскольку, если
источник значения — автор, то «исходное значение» тождественно
«авторскому значению». Только исходное значение является
подлинным, настоящим, авторитетным значением, заложенным
автором. Автор, авторитет, аутентичность — все это понятия, которые,
будучи связаны между собой, укрепляют представление — или
заблуждение — о надежности знака.
Подобная тенденция существует среди теоретиков и
исполнителей старинной музыки. Несколько новых классических групп
пытаются добиться известности, используя «оригинальные
инструменты» ради «аутентичности» звучания. Дирижеры, стремясь
восстановить обстоятельства жизни композитора, открывают для нас
первоначальный замысел все новых и новых произведений. Одним
из выдающихся примеров такого стремления к аутентичности
можно по праву назвать записи Густава Малера, сделанные под
руководством Гилберта Каплана.
Каплан страстно стремился к аутентичности. Миллионер и
дирижер-самоучка, Каплан нанял оркестр для исполнения его
собственной интерпретации малеровской симфонии «Воскресение».
Концерт имел такой успех, что впоследствии Каплана приглашали
дирижировать этой симфонией по всему миру. Он купил оригинал
Малера за 300000 долларов и, после тщательного изучения,
восстановил неверно звучавшую ноту фа, которую большинство
дирижеров в своем понимании гармонии заменили на соль-бемоль. Каплан
не скрывает своих целей: «Моя цель — как можно ближе подойти
к тому, что хотел сказать Малер».10 Каплан пришел к выводу, что
знаменитое адажиэтто из Пятой симфонии Малера (использовано
как музыкальная тема фильма «Смерть в Венеции») было неверно
истолковано. Он услышал в нем не плач, а песнь любви.
Фрагментам, исполнение которых у других дирижеров занимало двенадцать
или тринадцать минут, Каплан отводил всего восемь. Он укоряет
других дирижеров за то, что те не прилагают требуемых усилий для
достижения аутентичного исполнения: «Я лишь хочу сказать, что
эту вещь следует играть в соответствии с авторским замыслом
композитора. Недостаточно просто читать ноты».11
The Independent Magazine, June 20, 1992, 41.
Там же, 42.
54
Глава вторая. Упразднение автора
Многие толкователи, как профессиональные экзегеты, так и
рядовые прихожане, стремятся открыть для себя исходный смысл
Писания с не меньшим усердием и прилежанием. Ведь в конце
концов, как бы важна ни была подлинная интерпретация Малера, она
не имеет такой религиозной значимости, как толкование писаний
Малахии, Матфея или Марка. Толкование этих текстов
характеризует человека не только как критика, но и как христианина.
Истинное христианство определяется способностью человека
восстановить замысел автора — скажем, Малахии, Матфея или Марка —
а, через них, возможно, и замысел Божий.
Автор — основа «бытия» смысла
Автор, как тот, кто производит и гарантирует подлинность,
также управляет смыслом и контролирует его. Авторство
подразумевает право собственности. Развитие понятия авторства не случайно
совпало по времени с развитием капитализма в эпоху модернизма —
и то, и другое основано на понятии частной собственности.12
Параллель между Богом и автором назидательна и в этом
отношении. «Господня земля и что наполняет ее» (Пс. 23, 1). Бог —
Автор бытия, книги природы. Смысл существования мира был
начертан на нем рукой Творца. Бог создал мир и хранит его со всеми
характерными особенностями, которые и придают миру смысл. Бог —
Автор авторов, Источник всякой власти на земле и на небе. Более
того, Божья воля — не безликая сила, она представляет собой
нечто определенное. Подобно ей, хотя и в меньшей мере, воля автора
воздействует на язык и литературу. Именно потому, что у текстов
есть авторы, они не могут означать что угодно. Воля автора
ограничивает возможности интерпретации. Благодаря тому, что автор
задумал текст так, а не иначе, мы можем сказать, что в нем есть
определенный смысл еще до чтения и толкования. Как Божья воля
упорядочивает нашу вселенную, так и воля автора упорядочивает
вселенную дискурса. Автор — основа «бытия» смысла. Э. Д. Хирш,
ревностный защитник авторской авторитетности, утверждает, что
без автора как гаранта значения, не существовало бы адекватного
критерия достоверности толкования. Каплан не мог бы претендовать
12 Речь здесь идет об издательском контракте. В разделе «Моральные права» подписанного
мной недавно контракта есть ссылка на «Акт об авторских правах на дизайн и патентах»
(Великобритания, 1998), гарантирующий мое право считаться автором, подчеркивая, что именно
это называется «правом первоисточника».
55
Часть первая. Распад толкования
на авторитетность и подлинность своего исполнения Малеровской
симфонии, если бы не было нормы, которой соответствует его
интерпретация. Для Хирша авторский замысел — единственная
практически применимая норма, единственный критерий истинного
согласия, единственная гарантия объективности значения. Строго
говоря, последовательность слов не имеет особого смысла, пока
кто-то не употребит их в определенном значении. Эта роль
принадлежит именно автору.
Хирш полагает, что интерпретация имеет смысл только в том
случае, если значение текста воспринимается как нечто
детерминированное — определенное и неизменное. Детерминированность
подразумевает, что «текст имеет четко определенный смысл...
и означает лишь то, что означает, и ничто иное».13 Хирш строит
свое доказательство на различии между тем, что текст означает,
и тем, что он мог бы означать. «Задача толкователя —
восстановить истинное значение, а не просто перечислить все возможные
варианты».14 Сами по себе слова ничего не означают, значение дают
им люди: «Последовательность слов не имеет особого смысла, пока
кто-то... не употребит их в определенном значении. За пределами
человеческого сознания не существует некоей волшебной страны
значений».15 Решающим для значения остается использование
автором своего права на субъективность. Постоянство значения
текста, таким образом, основано на воле его отца-автора.
Автор в домодернистской и модернистской
библейской экзегезе
В общем и целом комментаторы Библии со времен Реформации
также искали значение, заложенное автором. Например, Кальвин
ясно излагал цель толкования: «Главная задача толкователя — дать
высказаться самому автору, вместо того чтобы приписывать ему то,
что он, по нашему мнению, должен был сказать».16 Чем больше
толкователь отходит от замысла автора, тем дальше он оказывается от
цели его высказывания. Иосиф Харутюнян говорит о
преподавательской методике Кальвина: «Ученики его должны были знать именно
13 Е. D. Hirsch Jr., Validity in Interpretation (New Haven: Yale Univ. Press, 1967), 230.
14 Там же, 47.
15 Там же, 4.
16 Preface to Calvin's Commentary on Romans.
56
Глава вторая. Упразднение автора
то, что хотел сказать автор данного текста, и любое другое
«духовное» значение, которое отличалось бы от авторского замысла, сразу
же считалось ложным и не назидающим».17 Стремление Кальвина
к буквальному толкованию было отчасти обусловлено традицией
ренессансного гуманизма, в которой он воспитывался. Гуманисты
пятнадцатого века столь же страстно стремились возродить язык
и литературу Греции и Рима. Гуманисты трудились над тем, чтобы
обнаружить первоначальный и истинный смысл произведений
классической литературы, а это предполагало раскрытие авторского
замысла. «Естественным толкованием отрывка текста для них было
то, которое полностью соответствовало замыслу автора».18
Хотя историки и критики эпохи модернизма могли не верить в
богодухновенность Библии, объектом толкования для них, тем не
менее, оставался исходный смысл текста. Например, Бенджамин
Джоуэтт считал, что Библию следует читать как любую другую
книгу — в поисках смысла, заложенного автором. С точки зрения
Джеймса Барра, польза от исторической критики в экзегезе состоит
в том, что она ограничивает возможности последующей
интерпретации текста, возвращаясь к его первоначальному смыслу. И Барр,
и Джоуэтт возражают против толкований, предлагаемых
догматическим богословием; важно, чтобы значения слов, которые
используются в более поздних богословских дискуссиях, не переносились
обратно в Библию так, словно они и были исходными значениями.
Исходный смысл используется как сдерживающий фактор для
таких (лже)толкований. Итак, историческая критика опирается на
исходный смысл текста, но не с точки зрения его непреложной
истинности, а в том смысле, что он устанавливает нормы для
определения значения текста (которое может быть истинным или
ложным). Таким образом, мы заключаем, что представление об авторе
как о «первоисточнике смысла» лежало в основе домодернистской
и модернистской интерпретации.
УПРАЗДНЕНИЕ АВТОРИТЕТА АВТОРА
Наличие автора — основной принцип традиционной
«метафизики значения». Согласно этому стандартному представлению,
17 Joseph Haroutunian, ed., Calvin: Commentaries (Philadelphia: Westminster, 1958), 21.
18 Там же, 28.
57
Часть первая. Распад толкования
автор есть полновластный властелин знака, который
управляет значением, присваивая имена вещам, используя слова для
выражения мысли и отображения мира. Именно такое представление об
авторстве и языке Деррида стремится упразднить больше, чем
какой-либо иной деятель постмодернизма, выявляя зачастую скрытые
философские и богословские идеи, которые литературные критики
принимают без рассуждений. За безобидным образом автора,
определяющего значение текста, по мнению Дерриды, кроется вся
система взглядов западной философии вместе с ее метафизическими
«подпорками». Подвергая сомнению традиционные представления
о том, кто такой автор и чем он занимается, Деррида предпринимает
не что иное, как попытку упразднить центральные идеи философии
и богословия. Это неудивительно, поскольку кризис современной
философии и теории литературы по сути своей — богословский.
Деконструкция автора по Дерриде — это более или менее прямое
следствие заявления Ницше о смерти Бога.
Противники герменевтического реализма:
упразднители, пользователи и неверующие
Реализм — это метафизическая система взглядов, в
соответствии с которой некоторые вещи существуют независимо от
разума.19 С точки зрения герменевтического реализма, значение
предшествует процессу толкования и от него не зависит.20 Наивный
реалист видит между языком и миром совершенное соответствие: мы
говорим правду, когда наши слова совпадают с действительностью,
а различия в языке отражают различия в реальном мире. Наивный
реалист вслед за Френсисом Бэконом ставит во главу угла
индукцию: достаточно наблюдать за явлениями и должным образом их
описывать. Между видимостью и реальностью нет разрыва.
Наивный герменевт-реалист подходит к текстам с той же оптимистичной
верой в преимущества наблюдения. Хороший комментатор,
подобно естествоиспытателю, объективно описывает текстовые явления.
Истинно то толкование, которое соответствует реально
существующему содержанию текста.
19 См. Timothy Williams, "Realism and Anti-realism," Ted Honderich, ed., The Oxford Companion
to Philosophy (Oxford: Oxford Univ. Press, 1995), 746-48.
20 Герменевтическая версия реализма требует небольшого уточнения этого определения:
значение может зависеть от разума автора, но в любом случае не зависит от разума читателя.
58
Глава вторая. Упразднение автора
С другой стороны, для противников реализма язык и мысли
человека не отражают объективную реальность и устойчивое
значение. То, что мы смело называем реальностью, в
действительности — дело рук человеческих, по крайней мере, отчасти. Кант
разоблачил ложное представление наивного реализма, показав,
что мир — лишь продукт человеческого опыта, преобразованного
концептуальными категориями. Категории нашего мышления не
отражают мир, а формируют его. Иными словами, они наделяют
наше восприятие качествами, которые могут быть, а могут
и не быть свойственными реальности. По словам Канта, мы не
можем знать, являются ли те или иные особенности
окружающего мира независимыми от разума, поскольку человеческое знание
ограничено тем, что мы можем пережить на опыте, а опыт всегда
подвержен влиянию категорий, вырабатываемых разумом.21
Противники реализма придают позиции Канта еще большую
радикальность, утверждая, будто категории, с помощью которых
разум влияет на опыт, не обязательны, как думал Кант, а
произвольны. Из этого следует, что общепринятого способа
интерпретации реальности нет. Особенности, составляющие естественный
порядок вещей, на самом деле не естественны и не существуют как
данности. Все они искусственны и созданы человеком.
Абсолютной, Божьей точки зрения на реальность нет, есть лишь набор
ограниченных и несовершенных человеческих представлений. Короче
говоря, совершенного представления о реальности не существует.
Противники реализма доказывают, что и язык, и мышление всегда
непосредственно связаны с той или иной системой взглядов. Для
противника реализма в герменевтике значения как такового не
существует. То, что читатель находит в тексте, зависит от избранных
им целей, категорий и перспектив. Современное болезненное
состояние постмодернистской теории литературы, в конечном итоге,
вызвано, по моему мнению, отрицанием сотворенного порядка вещей.
Своеобразная ирония заключается в том, что как для «наивных»
герменевтов-реалистов, так и для их идейных противников,
интерпретация утрачивает всякую ценность. В одном случае необходимы
лишь наблюдение и описание; а в толковании нет никакой нужды.
Человек или видит окружающий мир, или нет. Для противников
21 Кант развивает эту мысль в заслуженно ставшей знаменитой «Критике чистого разума» -
Critique of Pure Reason, tr. Norman Kemp Smith (London: Macmillan, 1933).
59
Часть первая. Распад толкования
реализма в герменевтике, с другой стороны, толкование
бесполезно, потому что нет никакой реальности, равно как и единственно
верного смысла, который требовалось бы обнаружить.22
Упразднители: деконструктивизм
Выступление Жака Дерриды на литературной конференции
1966 года в Университете Джона Хопкинса называли «самым
неожиданным событием в истории герменевтики» следующего
десятилетия.23 Даже противники Дерриды признают, что его труды
«принадлежат к важнейшим документам нашего времени».24 Натан
Скотт рассматривает деконструктивизм как новый иррационализм,
угрожающий всей гуманитарной сфере, поскольку музыка,
искусство и литература заняты передачей и толкованием классических
текстов, которые, как считалось, проливают свет на состояние
человека. Юрген Хабермас отвергает идеи Дерриды как форму
«воинствующего абсурда последних дней».25 В том же русле
высказывается и Хирш, назвавший Дерриду «самым модным на данный момент
богословом когнитивного атеизма в области теории литературы».26
Фурор, вызванный решением Кембриджского университета
присвоить ему почетную докторскую степень, вполне объясним;
деконструктивизм по сути своей является предательством тех самых
идей и ценностей, на которых покоится западная культура со
времен основания университета. В самом деле, труд Дерриды,
усомнившегося в святости разума и истины, по мнению многих,
подрывает устои самого университета. Более того, деконструктивизм,
кажется, ставит под сомнение основные убеждения и идеи,
лежащие в основании традиционных общественных институтов, а также
научных и образовательных учреждений: церкви, университета,
22 Во второй части книги, исходя из христианского мировоззрения, я отстаиваю критический
реализм в герменевтике. Смысл в самом деле существует, независимо от процесса интерпретации,
однако он недоступен вне человеческих конструктов. Более умеренные реалисты не утверждают
ни абсолютной истинности толкований, ни того, что это лишь полезные изобретения, но что
интерпретация обеспечивает истинное, хотя и частичное, познание текстового значения.
23 Richard Palmer, "Hermeneutics," in Flostad, Contemporary Philosophy, 2:470.
24 Nathan A. Scott Jr., "The New Trahison des Clercs: Reflections on the Present Crisis in
Humanitarian Studies" The Virginia Quarterly Review 62 (1986): 412.
25 Цит. по работе Christopher Norris, What's Wrong With Postmodernism? Critical Theory and the
Ends of Philosophy (London: Harvester Wheatsheaf, 1990), 50.
26 E. D. Hirsch Jr., The Aims of Interpretation (Chicago: Univ. of Chicago Press, 1976), 13.
60
Глава вторая. Упразднение автора
государства. Соответственно, его то «осуждают как орудие
терроризма», то «отвергают как безобидную академическую игру».27 По
меньшей мере один философ считает, что деконструкция привлекательна
прежде всего с психологической точки зрения: посвященные
ощущают свою принадлежность к интеллектуальной элите, говорящей на
чем-то вроде тайного языка.28 Джон Сёрль выражает мнение
большинства философов-аналитиков, упрекая Дерриду в невнимании к
современным трудам в области философии языка и за
распространение заблуждений: «Насколько мне известно, Деррида не знает почти
ничего о трудах Фреге, Рассела, Витгенштейна и прочих».29
Хотя ортодоксальные христианские богословы нечасто
обсуждают идеи Дерриды, те, кто все же говорят о нем, как правило,
настроены критически. Образ мыслей Дерриды воспринимается как
враждебный богословию, а не просто нейтральный. Поскольку де-
конструктивизм ниспровергает «идолов знака», создается
впечатление, что он направлен и против «Бога»: «Знак и божество имеют
одно и то же время и место рождения. Век знака — по сути своей,
век богословия».30 Брайан Инграффиа заявляет, что идеи
Дерриды «исключают Бога или что-либо способное занять Его место».31
Итак, с точки зрения своих противников, Деррида нигилист и
анархист, провозглашающий произвольность значения, отплясывая на
могиле Бога.
Это нелестное впечатление о Дерриде как о философе-гуляке
усугубили несколько энергичных американцев, которые вполне
могли бы быть его учениками. Литературные критики Йельского
университета и Университета Джона Хопкинса считают, что деконс-
труктивизм освобождает, стирая различие между «творческим» и
«критическим». В самом деле, некоторые из наиболее преданных
последователей Дерриды, например, прежняя герменевтическая
«мафия» Йеля — подвергают сомнению традиционное
превосходство текста над комментарием, а с ним — и само различие между
текстом и интерпретацией: «Мы вступили в эпоху, когда оспорить
27 Мнение процитировано Кристофером Норрисом, Christopher Norris, Deconstruction: Theory
and Practice (London: Methuen, 1982), xii.
28 John M. Ellis, Against Deconstruction (Princeton: Princeton Univ. Press, 1989), 151.
29 John R. Searle, "Literary Theory and Its Discontents," New Literary History 25 (1994): 637.
30 Jacques Derrida, Of Grammatology, tr. Gayatri Spivak (Baltimore: Johns Hopkins Univ. Press, 1976), 14.
3 ' Brian Ingraffia, Postmodern Theory and Biblical Theology (Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1995), 224.
61
Часть первая. Распад толкования
можно даже приоритет литературных текстов над литературно-
критическими».32 Эти критики перестали заботиться о
правильности толкований, предпочитая наслаждаться собственной свободой
интерпретации.33 Деконструктивная критика представляет собой
не что иное, как полный разрыв с традиционным понятием
объективного наблюдения и последовательной приверженности тексту.
Именно такое радикальное восприятие мыслей Дерриды дает почву
для утверждений о том, что деконструктивизм — отнюдь не
серьезный академический проект, а просто вид игры, «оторванной от
текста и якобы свободной».
У Дерриды есть и сторонники. По мнению Ричарда Рорти,
бывшего президента Американской философской ассоциации, Деррида
внес важный вклад в науку, показав, что философия, по сути, —
всего лишь один из видов литературы. Деррида стирает различие
между литературой и философией, а с ним и миф о том, что
философия обладает преимущественным правом доступа к знанию и
истине. Для Рорти западная философия — всего лишь одно
повествование среди многих других, которые рассказывают люди, чтобы
облегчить свое существование: эпистемология — это лишь способ
пережить ночь. Рорти восхищается тем, что Деррида решительно
порвал с самим понятием истины. Признание того, что ни мир, ни
текст невозможно понять «правильно», требует определенного
мужества.
Кроме того, Деррида нашел в Америке активных последователей
среди богословов и библиологов. В своих книгах Марк С. Тейлор
исследует то, что он называет «а/теологией».34 Его деконструктив-
ное богословие является попыткой осмыслить радикальные
последствия «смерти» Бога. Ведь одной из первых попыток
проникновения Тейлора в область деконструктивного богословия было его
участие в сборнике, включавшем также работы Томаса Алитцера
и Уильяма Гамильтона, авторов, ранее принадлежавших к
движению, пропагандирующему «смерть Бога». В сфере изучения Библии
32 Geoffrey Hartman, "The Interpreter: A Self-Analysis," in The Fate of Reading and Other Essays
(Chicago: Univ. of Chicago Press, 1975), 18. Среди других литературоведов Йеля, чья работа
подверглась влиянию деконструктивизма — Поль де Мэн и Гарольд Блум.
33 Норрис говорит о Хартмане как о представителе «дикого деконструктивизма» и утверждает,
что тот следует примеру Дерриды, но «редко стремится подражать строгости аргументации
последнего» (Deconstruction: Theory and practice, 98)
34 См. его Erring: A Postmodern A/theology, где он утверждает: «Деконструктивизм есть
герменевтика «смерти Бога»» (6).
62
Глава вторая. Упразднение автора
Стивен Д. Мур идет тем же путем, что и Тейлор, но уже
применительно к экзегетике, отстаивая позиции деконструктивизма
посредством изложения текстов Дерриды и деконструктивного
прочтения библейских текстов.35
Вполне естественно, что труды Дерриды обострили конфликт
между консерваторами и радикалами, правыми и левыми.
Распространенное мнение о Дерриде как о Сумасшедшем Шляпнике
от герменевтики, недавно подверглось критике в нескольких
исследованиях, представляющих Дерриду как серьезного философа.
Деконструктивизм может включать в себя игру, но игра эта
серьезна. Сам Деррида предпочитает оставаться философом, со всей
ответственностью относящимся к языку.36 По мнению Кристофера
Норриса, Деррида в поисках границ и условий деятельности разума
продолжает философскую традицию Канта.37 Норрис
подчеркивает объем и качество тщательного анализа, содержащегося в
работах Дерриды. Его книги, возможно, подрывают авторитет
некоторых общепринятых идей, но он отрицает их отнюдь не бездумно.38
Его деконструкция некоторых традиционно противоположных
понятий — логика/риторика, речь/письмо — основывается на
тщательном прочтении классических философских текстов, в том
числе Платона, Гегеля и Хайдеггера.
В последнее время все чаще слышны протесты против
изображения Дерриды как проповедника «смерти Бога». Луис Маккей
возражает против восприятия деконструкции как атеистического и
нигилистского учения.39 Кевин Харт утверждает, что естественным
собеседником деконструкции является не атеизм, а негативное
богословие, потому что Деррида отрицает не богословие как таковое,
но его метафизические разновидности, рассматривающие Бога как
35 См., напр., Moore, Poststructuralism and the New Testament: Derrida and Foucault at the
Foot of the Cross (Minneapolis: Fortress, 1994). Я нахожу слегка ироничным тот факт, что в
экзегезе текстов Дерриды Мур придерживается более консервативных норм, чем в прочтении
Нового Завета.
36 Derrida, "Remarks on Deconstruction and Pragmatism," in Chantal Mouffe, ed., Deconstruction
and Pragmatism (London: Routledge, 1996), 77, 81.
37 Cm. Christopher Norris, Derrida (London: Fontana, 1987).
38 Среди других трудов, называющих Дерриду серьезным философом, Rodolphe Gashe, The
Tain of the Mirror: Derrida and the Philosophy of Reflection, и Henry Staten, Wittgenstein and Derrida
(Lincoln: Univ. of Nebraska Press, 1984).
39 Louis Mackey, "Slouching Towards Bethlehem: Deconstructive Strategies in Theology," Anglican
Theological Review 65 (1983): 255-72.
63
Часть первая. Распад толкования
некое «Существо» высшего порядка.40 Дерриду даже ставят в один
ряд с Бартом. Грэм Уорд утверждает, что оба эти мыслители —
постмодернисты, поскольку перед ними стоит общая проблема: как
выйти за пределы языковой системы для обозначения реальности
(Деррида); как использовать слова для описания Слова (Барт),
для которой они предлагают общее решение: мы говорим с учетом
того, что наши слова ограничены инаковостью (Деррида) или
Совершенно Иным (Барт).41 Деконструктивизм здесь предстает не как
утверждение атеизма или разновидность теизма, а как одна из
стратегий постмодернистского, постметафизического богословия.
Итак, мнения литературных критиков, философов и богословов
разделились в отношении того, можно ли спасти деконструктивизм
от излишеств тех, кто слишком рьяно воплощает его идеи на
практике. Подобная неопределенность наблюдается и в обсуждении
данной темы людьми глубоко верующими. Это видно из недавних
дискуссий в таких журналах, как "Вестник христианской науки" и
"Христианство и литература". С точки зрения Дэвида Лайла
Джеффри, деконструктивизм — явление антихристианское, поскольку он
отвергает возможность того, что язык служит надежным средством
передачи языка и истины.42 Брюс Эдварде и Брэнсон Вудвард также
доказывают, что Библия, а не Деррида, должна быть основой
христианского понимания лингвистической и литературной
коммуникации.43 В то же самое время все больше библиологов используют при
чтении Библии стратегии, которые, хотя и не связаны напрямую с
именем Дерриды, очевидно сформировались под его влиянием.44
40 См. Kevin Hart, The Trespass of the Sign: Deconstruction, Theology and Philosophy (Cambridge:
Cambridge Univ. Press, 1989).
41 Graham Ward, Barth, Derrida and the Language of Theology (Cambridge: Cambridge
Univ. Press, 1995).
42 David Lyle Jeffrey, ""Caveat Lector: Structuralism, Deconstruction, and Ideology," Christian
Scholar's Review 17 (1988): 436-48.
43 Bruce Edwards and Branson Woodward, "Wise As Serpents, Harmless As Doves: Christians and
Contemporary Critical Theory," Christianity and Literature 39 (1990): 303-15.
44 Я думаю не только о явных примерах, упомянутых в посвященной Дерриде главе в
сборнике Elizabeth A. Castelli et al., eds., The Postmodern Bible (New Haven: Yale Univ. Press,
1995), но также о подходах наподобие феминистической критики, которую объединяет с
деконструктивизмом стремление упразднить привилегированные оппозиции, например,
рациональное/иррациональное, духовное/физическое, и, конечно, мужское/женское. О связи
между феминистской критикой и деконструктивизмом, см. David Rutledge, Reading Marginally:
Feminism, Deconstruction and the Bible, Biblical Interpretation 21 (Leiden: E. J. Brill, 1996).
64
Глава вторая. Упразднение автора
Цель моего собственного анализа идей Дерриды — дальнейшее
исследование связи между теорией литературы и богословием.
Ничто так ясно не указывает на богословскую природу
современного кризиса в герменевтике, как труды Дерриды. Я не стремлюсь
к тому, чтобы защищать трактовку Дерриды правыми или левыми;
в его трудах есть места, которые могут быть использованы и той,
и другой стороной в поддержку своей точки зрения. Я не намерен
ни превозносить Дерриду, ни «хоронить» его — мне хотелось бы
просто его понять. Я также не ставлю своей целью доказать, что
постмодернизм является вариантом модернизма или значительным
отступлением от него. Мой анализ можно будет считать успешным,
если он приведет к более ясному пониманию современной ситуации
в области герменевтики и толкования Библии, включая и
понимание ее богословского аспекта.
Мой собственный взгляд на идеи Дерриды нельзя назвать ни
консервативным, ни радикальным. Его скорее можно определить
как центристский: Деррида — серьезный ученый, чья критика
философии потрясает ее до самых основ и доводит до точки раскола.
Подобно Канту, он, как философ, правильно оценивает
последствия «смерти» Бога для знания и интерпретации. Впредь мы имеем
«лишь человеческое» (то есть несовершенное) знание, «лишь
человеческую» (т. е. относительную) истину. Однако он смотрит дальше
Канта, понимая, что, лишившись Бога, мы лишаемся и познающего
субъекта (героя эпохи модернизма). Деррида правильно
проанализировал современную ситуацию, или, по крайней мере, некоторые
ее стороны, однако он сделал это, не принимая в расчет
ортодоксальное христианство. Как утверждает Брайан Инграффиа,
«смерть» Бога, лежащая в основании деконструкции, относится
к Богу философов, а не к Богу, явившему себя в Иисусе Христе.45
Я считаю, что исходная позиция Дерриды, хотя и понятная сама по
себе, не является неизбежной. Его следует выслушать, однако его
слово далеко не последнее и не единственное высказывание на эту
тему. Тем не менее, иконоборчество Дерриды выполняет одну
полезную функцию: оно помогает очистить герменевтический храм от
торговцев дешевыми интерпретациями.
Упразднение структур. Деконструктивизм нельзя отождествлять
с разрушением. Это действие, состоящее не просто в уничтожении
45 Ingraffia, Postmodern Theory and Biblical Theology.
3-227 65
Часть первая. Распад толкования
чего-либо с помощью внешней силы, но в его расчленении.
Деконструкция представляет собой тщательный разбор на части, удаление
разнообразных — исторических, риторических, идеологических —
слоев особенностей, понятий, текстов и целых философских систем,
цель которого — выявить произвольную лингвистическую природу
исходной конструкции.46 Деконструктивизм — это метод глубокого
анализа, который порой оборачивается против самого предмета
анализа, приводя к внутреннему распаду всего, к чему он прикасается.
Это «анализ» в этимологическом смысле этого слова (от греческого
analusis): «развязывание». Деконструктивизм лучше всего
понимать как вид ликвидации во всех предполагаемых значениях этого
слова: упразднение, подрыв и разбор на части. По словам одного из
сторонников деконструкции, это — «верный способ создания
беспорядка; публичное оскорбление всякого нормального и привычного
образа мышления».47 Деконструктивисты заинтересованы не
столько в том, что говорится в тексте, сколько в том, как оформлено его
содержание. Подобно психоаналитику, выслушивающему супругов
не ради того, чтоб ознакомиться с их представлениями об
отношениях, но для того, чтоб увидеть состояние их взаимоотношений,
деконструктивист читает философские труды не ради изложенных
в них представлений о реальности, а желая проследить сам способ
изложения, в особенности, используемые риторические приемы.
Деррида рассматривает деконструктивизм как своеобразную
интеллектуальную терапию, которая может помочь философам,
богословам и литературным критикам взглянуть в глаза глубоко
укоренившемуся страху перед беспорядочностью языка.
Само возникновение деконструкции было моментом
ликвидации. В 1966 г. Деррида был приглашен в университет Джона Хоп-
кинса для выступления с докладом по структурализму. Вместо того
чтобы построить его на основном постулате структурализма,
гласящем что и язык, и сама мысль опираются на определенные
структуры, состоящие из бинарных оппозиций (напр.: горячий/холодный,
хорошо/плохо, свет/тьма) — Деррида, к всеобщему удивлению,
46 В этом отношении видна тесная связь с генеалогическим анализом Ницше. И Деррида, и
Ницше пытаются «демистифицировать» истины, кажущиеся абсолютными, показывая, что они
далеки от «данности» и на деле являются продуктом исторического процесса, создавшего их и
доказавшего их состоятельность.
47 Norris, Derrida, xi.
Глава вторая. Упразднение автора
упразднил или ликвидировал саму идею «структуры».48 Деконструк-
тивизм — постструктурален, поскольку он отвергает
структуралистский постулат об основополагающей системе (напр.: бинарных
оппозиций), придающей осмысленность языку и мысли. Для Дерри-
ды структурализм — еще одна попытка, подобная попытке Декарта
защититься от угрозы релятивизма, в поисках устойчивой основы
для значения. Однако в случае структурализма таким гарантом
выступает не субъект значения, а сама языковая система, которая
обеспечивает постоянство значения путем противопоставления
определенных качеств (напр, мужской/женский; белый/черный;
рациональный/иррациональный). Сами структуры —
лингвистические, семейные, социальные или философские — в конечном счете
являются произвольными и искусственными. Суть в том, что
различия — даже между истиной и ложью — не естественны, а созданы
человеком: «Индивидуальность (первооснова всех философских и
богословских оснований) определяется человеческим решением о
существенности одних различий и несущественности других».49
Упразднение философии. Как видно из вступления, у
Платона понятие значения связано с соотношением между словами и
вещами. Как вещи — лишь бледные тени вечных Идей, так и слова —
отражения вещей; в этом — суть «подражательной» теории языка
по Платону. Взгляд Августина — «значение как соотношение» —
во многом заимствован у Платона и типичен для эпохи,
предшествовавшей модернизму. В своей «Исповеди» Августин вспоминает о
том, как родители учили его говорить: «Когда они называли какую-
то вещь и, соответственно, подходили к чему-то, я видел это и
понимал, что вещь эта называется звуком, который они произносили».50
Современные философы-лингвисты большее внимание уделяют
роли разума. Однако они продолжают подчеркивать номинативную
или репрезентативную функцию языка. Слова обозначают не
только вещи, но и мысли. Язык выполняет, помимо референтной, еще
и экспрессивную функцию — это два аспекта основной функции
48 Опубликовано как "Structure, Sign, and Play in the Discourse of the Human Sciences," в Richard
Macksey and Eugene Donate, eds., The Languages of Criticism and the Sciences of Man (Baltimore:
Johns Hopkins Univ. Press, 1970).
49 А. К. М. Adam, What Is Postmodern Biblical Criticism? (Minneapolis: Fortress, 1995), 29.
50 Augustine, Confessions, 1.8.
3- 67
Часть первая. Распад толкования
языка: отображения действительности. Изучение языка в
модернистской философии достигло своей вершины в трудах Людвига
Витгенштейна, который вместе с Бертраном Расселом, утверждал,
что предназначение языка — создание истинной картины мира.
Согласно этой «теории изображения», цель слов — называть вещи,
тогда как высказывания или утверждения «изображают» факты:
«Имя обозначает предмет. Предмет же является его значением».51
Итак, как для платонистов, так и для пропозиционалистов эпохи
модернизма, суть значения заключается в отображении и указании
на предметы, факты и мир в целом. Именно на этом фоне Деррида
выступает как «постмодернистский» мыслитель, «упразднитель»
модернистских и предшествовавших им теорий значения и истины,
а также веры в то, что язык и мышление создают адекватное
представление о мире. В частности, Деррида совершает непрерывные
нападки на «логоцентризм», универсальный термин, обозначающий
озабоченность западных мыслителей значением, рациональностью
и истиной. Деконструктивизм радикален, потому что разрушает
основание традиционного западного мышления и богословия:
логос («речь», «слово», «разум»). Логоцентризм есть вера в то, что за
пределами языка существует некая постоянная точка отсчета —
разум, откровение, платонические «идеи», — благодаря чему
можно гарантировать соответствие между словами и всей системой
различий, направляющих наш опыт, и миром. Это стремление найти
центр, точку опоры, исходный пункт — что угодно, на чем можно
было бы основывать наши ценности и убеждения. Короче говоря,
логоцентризм сводится к непоколебимой уверенности в нашей
способности говорить истину: в том, что с помощью слов мы
описываем действительность, а не сами слова.
Историю логоцентризма можно назвать серией комментариев к
Платону. В чем же, по мнению Дерриды, ошибался Платон и вслед
за ним и вся западная философия? Для Дерриды, основная
ошибка Платона заключается в его идее существования некого царства
истин — вечных форм, — к которым разум имеет доступ без
вмешательства языка. Для Платона знаки имеют смысл, потому что
они соотносятся с реальностью, но только опосредовано; они лишь
имитируют или напоминают вещи или человеческие мысли,
которые в свою очередь воспроизводят вечные идеи. Для Платона знак
51 Wittgenstein, Tractatus Logico-Philosophicus (London: Routledge and Kegan Paul, 1961), 3.203.
68
Глава вторая. Упразднение автора
подменяет собой реальное присутствие вещи. Язык, по Платону,
не представляет особой сложности и находится на втором плане,
являясь не оригиналом, но производным. Он представляет собой
знак присутствия, хотя и отдаленный от него на один шаг. Это
отчасти объясняет неоднозначное отношение Платона к литературе.
Литература опасна, часто — вредна, поскольку создает заменитель
этого мира. Более того, она на два шага удалена от истины — вещи
как таковой, — будучи имитацией реального мира, который в свою
очередь является отображением мира идей. Философам
необходимо крайне бдительно относиться к языку, потому что он может не
только прояснять, но и затуманивать мышление. В самом деле, в
своих диалогах Платон пытается выяснить, как следует
использовать слова, чтобы избежать искажения мыслей. Сократа постоянно
преследует злой рок в облике софиста, который пытается убедить
слушателей не с помощью аргументов, а благодаря умелой
манипуляции средствами языка. По утверждению Платона, философская
мысль — логика, логоцентризм не имеет никакого отношения к
риторике и софистике. Умелое использование языка само по себе не
ведет к истине.
Деррида на протяжении приблизительно ста страниц
анализирует (разбирает!) диалог Платона «Федр».52 Именно в этом
диалоге Платон распространяет свою озабоченность литературой на все
виды письма. Письмо еще на шаг удалено от мысли по сравнению с
устной речью. Записать свои мысли означает подвергнуть их
риску искажения и двусмысленности. Платон, очевидно, был уверен,
что язык наиболее близок именно в форме устной речи. В ней, по
сравнению с письмом, говорящий «присутствует» и может
позаботиться о том, чтобы его слова соотносились с миром в соответствии
с его намерениями.
Деррида считает предпочтение, которое Платон отдавал речи
перед письмом, источником логоцентризма. Ирония, с готовностью
отмечает Деррида, заключается в том, что хотя Сократ не пишет,
это делает Платон. Более того, способом, избранным Платоном для
предостережения об опасности письма, оказалось именно письмо.
Деррида рассматривает допускающий двоякое толкование
греческий термин — pharmakon — который часто встречается в диалоге
«Федр» применительно к письму. Два его основные значения —
52 В книге Derrida, Dissemination, tr. Barbara Johnson (London: Athlone, 1981), 61-171.
69
Часть первая. Распад толкования
«яд» и «лекарство». Деррида утверждает, что оба значения, хотя и
противоположные, с трудом, но уживаются в тексте. По
выражению Норриса, «Письмо — это одновременно и яд, и лекарство: с
одной стороны — угроза живому присутствию подлинного (устного)
языка, с другой — незаменимое средство для каждого желающего
записать, передать или как-либо сохранить это присутствие».53
Иначе говоря, тщательный анализ использованного Платоном термина
«pharmakon» подрывает аргументацию Платона. Однако то, что
верно в отношении этого диалога, верно и в отношении метафизики
в целом. По мнению Дерриды, у любой системы есть свои слабые
места, выдающие факт их сотворенности, есть их искусственность
и, следовательно, произвольность. Таким образом Деррида
показывает, как созданные нами произвольные структуры (например,
рассуждения Платона о философии и литературе, речи устной и
письменной) исключают то, на что опираются сами: «Деконструировать
означает распознать в системе ее слабые места, в которых она
способна создавать иллюзию устойчивости только благодаря
исключению и пренебрежению тем, что она не может переварить,
абсолютно неусвояемого, тем, что для системы является 'чужим'».54
Философы, с позиции Дерриды, в большинстве своем
восприняли пренебрежительное отношение Платона к литературе и письму.
В отличие от литературных критиков, их, по собственному
утверждению, интересуют прежде всего вопросы бытия и рациональности,
а не литературные фантазии и игра воображения. Однако Деррида
предполагает, что очевидный успех Сократа в диалоге мог в
большей степени зависеть от искусной риторики, чем от
приписываемой ему способности рационального проникновения в вечный
порядок вещей. То, что кажется разумным, на самом деле просто звучит
убедительно. Так называемый «голос» разума кажется наиболее
убедительным тем, кто разделяет ценности философов. Понимание
этого упраздняет философию, а с ней — и реализм. Потому что в
свете воззрений Дерриды идеи Платона нельзя считать ни
необходимыми, ни вечными, они представляют собой всего лишь
временную понятийную структуру. Ни язык, ни понятия не имеют связи
с реальностью. Напротив, сама философия представляется одним
из видов литературы. Метафизика отнюдь не является единственно
53 Norris, Derrida, 37-8.
54 The Postmodern Bible, 120.
70
Глава вторая. Упразднение автора
верным способом описания реальной действительности. Это лишь
клановый диалект, которому отдают предпочтение белые
мужчины европейского происхождения, или, как с насмешкой именует ее
Деррида, «мифология белых».
Пользователи: Неопрагматизм
Второе значительное нереалистическое направление в
герменевтике — неопрагматизм — уходит корнями в
североамериканскую, а не в континентальную философию.55 Рорти, влиятельный
американский философ и бывший президент Американской
философской ассоциации, стал, подобно Дерриде, с присущей ему
иронией ниспровергать взлелеянные философами мифы, в
особенности миф о «реальном мире». Первая значительная работа Рорти,
«Лингвистический поворот»56, провозгласила замену познающего
субъекта языком; вторая — подвергла критике метафору о разуме
как о зеркале, которое отражает или воспроизводит
действительность.57 Как и Деррида, Рорти стремится упразднить превосходство
философии как дисциплины, обеспечивающей нам
преимущественный доступ к истине и смыслу, утверждая вместо этого, что
философия скорее сходна с литературной или культурной критикой.
Кроме того, он поддерживает антирепрезентационалистский подход
к языку, «который рассматривает знание не как способ познания
реальности, но скорее как приобретение навыков выживания в этой
реальности».58
Философия, по мнению Рорти, — это не исследование «сути
вещей», а лишь одна из многих интерпретаций в общем разговоре о
том, что мы хотели бы знать о мире. Понятия не отражают природу
и реальное состояние мира, это просто инструменты, используемые
людьми с определенной целью. Рорти считает, что так называемый
здравый смысл и интуитивное восприятие реальности не создают
адекватного представления об истинной сути вещей, являясь
скорее следствием социальных условий и культурных обычаев. Он не
55 Ричард Рорти, например, придерживается традиции Джона Дьюи (хотя и без веры последнего
в прогресс) и Ч. С. Пирса.
56 Chicago: Univ. of Chicago Press, 1967.
57 Richard Rorty, Philosophy and the Mirror of Nature (Princeton: Princeton Univ. Press, 1979).
58 Rorty, Objectivity, Relativism, and Truth, Philosophical Papers, vol. 1 (Cambridge: Cambridge
Univ. Press, 1991), 1.
71
Часть первая. Распад толкования
внемлет манящему зову абсолютных структур и определяет
прагматизм как убежденность в том, что «нет иных пределов исследования,
кроме разговорных».59 Мы вольны подходить к миру с любым
количеством «лексических наборов» или образов мышления и речи. Тем
самым Рорти заменяет стремление к познанию искусством ведения
разговора, то есть риторикой.
Хотя «авторизованной версии» реальности (или текста) не
существует, Рорти признает несколько возможных вариантов.
Нет единственной истинной философии, есть лишь разнообразные
способы высказывания о мире — варианты философствования.
Мы никогда не сможем избежать участия в некоей социально
обусловленной произвольной «беседе». Иными словами, нам не
обойтись без языка. Рорти задается вопросом: «Можно ли
вообще серьезно воспринимать вездесущность языка?»60 Можем ли мы
признать, что наши притязания на истину отражают лишь
определенные лингвистические навыки, которые в совокупности
составляют произвольные социальные условности? Язык — не гладкая
поверхность, в которой отражается реальность; он больше похож
на мутное стекло, сквозь которое мы видим лишь «отчасти». Здесь
Рорти согласен с Дерридой: мы никогда не сможем вырваться за
пределы языка, стать выше его и обеспечить соответствие
наших слов реальному миру.
Если Рорти, будучи философом, звучит скорее как
литературный критик, то Стэнли Фиш, литературный критик, более склонен
к философии. Фиш принимает прагматизм Рорти и применяет его в
интерпретации текстов. Подобно Рорти, Фиш упраздняет различие
между толкованием текстов и их использованием. В частности, он
отвергает утверждение о том, что «правильное» толкование
текста заключается в раскрытии авторского замысла автора. Идея
автора полезна для достижения определенных целей, но не следует
обманывать себя мыслью о том, что данное понятие имеет прямое
соответствие в тексте. Не следует также думать, что единственное
предназначение текста — предоставить нам сведения об авторе.
Мы читаем книги по самым разным причинам: в образовательных
целях, для развлечения, обретения душевного спокойствия или
даже ухода от реальности.
Rorty, Consequences of Pragmatism (Minneapolis: Univ. of Minnesota Press, 1982), 165.
Rorty, "Pragmatism and Philosophy," in Baynes (ed.), After Philosophy, 57.
72
Глава вторая. Упразднение автора
Есть ли в этом тексте смысл? Если этот вопрос подразумевает
наличие некоей заключающей в себе смысл сущности еще до
начала процесса толкования, своеобразного словесного сосуда, в
котором так или иначе «содержится» значение, то Фиш ответил бы
отрицательно: «Текст как сущность, независимая от толкования...
уходит, и на смену ему приходят тексты, возникающие в
результате нашей интерпретации».61 Текст — не столько пространственный
объект, наполняемый смыслом, сколько временное событие, в ходе
которого и появляется смысл. Иными словами, смысл заключен не
в инертной объективной сущности (тексте), но в динамичном
переживании прочтения. Фиш идет по стопам Канта. Мы можем
познавать только «phenomena», вещи, доступные нашему опыту, или,
точнее, вещи, допускаемые в наше сознание аппаратом восприятия,
а также понятийным аппаратом. Вещи в себе, или «noumena», как
их называл Кант, непознаваемы и не важны для достижения
практических целей. Для Фиша текст в себе, самостоятельное явление
или реальность, просто не вписывается в общую картину. Это
бесполезное понятие. Итак, единственным текстом в классе и
единственным смыслом в тексте оказываются текст и смысл,
производимые читателями в процессе интерпретации деятельности.
Значимость воззрений Фиша не следует недооценивать: по его мнению,
исторической причиной возникновения текста и творцом значения
является не автор, а читатель. Для Фиша, комментарий (то есть
результат- интерпретации) действительно предшествует тексту.
Фиш отводит интерпретации соответствующее место, относя
ее к деятельности читателя. Более того, читатель всегда находится
в определенном интерпретирующем окружении, которое диктует
свое прочтение текста. Индивид не обладает свободой выбора
подходов к толкованию, будучи в значительной мере предрасположен
к вполне конкретным действиям и реакциям на тексты. Очевидно,
что Фиш шагнул далеко за пределы модернистских представлений
о всемогущем субъекте познания. Теперь между разумом индивида
и миром стоит целый набор культурно обусловленных
переживаний, действий и способов мышления. Интерпретация ограничена не
текстом (напр.: данностью, реальностью или миром), а
интерпретирующим сообществом. Отвести интерпретации достойное место —
значит признать авторитет интерпретирующих сообществ.
61 Fish, Is There a Text?, 13.
73
Часть первая. Распад толкования
Фиш избегает полного солипсизма, отводя роль авторитетного
органа не автору, тексту или даже отдельному читателю, а
интерпретирующему сообществу. То, что мы ранее считали
«сведениями» о тексте, теперь можно рассматривать как результат прочтения
текста способом, отражающим ценности, особенно важные для
данного интерпретирующего сообщества. Следовательно, не
существует единственно правильного толкования, «истинного значения»
текста, есть лишь «варианты прочтения», в которых выражаются
ценности и интересы сообщества. Как и Рорти, Фиш по-новому
определяет истину. Истина — это «то, что устраивает нас в данный
момент». Если бы только толкователи признали невозможность
литературного познания, они увидели бы, что единственным
достойным выходом будет признать: истина — не находится где-то рядом,
ожидая, что мы отыщем ее с помощью разума; она целиком и
полностью определяется заинтересованным сообществом.
По мнению Фиша, утверждение о том, что читать следует лишь
для выяснения авторского замысла — авторитарно. Как вы
смеете говорить мне, чем интересоваться или что делать с текстом!
Интерпретирующие сообщества должны быть свободны в
следовании собственным интересам. Неопрагматист, с точки зрения
герменевтики, — сторонник полной свободы выбора. Ни автор, ни
даже представление об истине не имеют власти над пользователем.
Истина утратила статус вечной и абсолютной и низведена до «того,
во что полезно верить здесь и сейчас», или «того, что мне
пригодится в данной ситуации». Истина в области метафизики, морали или
смысла — это ярлык, который мы вешаем на убеждения, которые
кажутся нам привлекательными и полезными.
Неверующие: нигилизм с человеческим лицом?
Чтобы осмыслить современный кризис в теории литературы,
нужно вернуться в девятнадцатый век, когда Ницше впервые
подверг нападкам понятия смысла и истины. Ницше, противник
реализма, утверждает, что значение, истина и мир в целом — это
структуры, созданные человеком. Некоторые считают, что Ницше,
как и Дерриду, легко объявить «безумным релятивистом». Однако
такое прочтение было бы в высшей степени поверхностным.
Важно не путать отрицание реализма с безосновательной
убежденностью в том, что все существует исключительно в разуме человека.
74
Глава вторая. Упразднение автора
Даже противники реализма верят, что нас окружает физическая
реальность. Вопрос скорее в том, не относятся ли наш язык и
мысли о мире прежде всего к нам самим: к тому, как мы видим, что мы
ощущаем, как мы говорим, и, следовательно, как мы
воспринимаем окружающий мир. С точки зрения противников реализма, ничто
нельзя считать естественной данностью; все, что мы видим вокруг
себя, сформировано культурой. Все значимые различия, дающие
нам возможность упорядочить свой опыт — например, различие
между деревьями и животными, между деревьями и другими
растениями, между одним деревом и другим, между одним временем года
и другим отражают не «естественный порядок вещей», а культурно-
лингвистический, рукотворный порядок. В кратком изложении, все
значимые различия, которые преобразуют человеческий опыт
в осмысленный мир, в конечном счете оказываются
лингвистическими конструктами. Противник реализма — это неверующий,
для которого слова и понятия представляют собой ничто иное, как
человеческое творение.
Неверующие — Деррида, Рорти, Ницше — едины в своем
противостоянии Платону. Именно Платон считается родоначальником
«литературного жанра» философии, в попытке найти язык и
понятия, которые приблизительно или полно соответствовали бы
истине, существующему порядку вещей. Платон верил в
трансцендентность, в стабильную реальность, которая стоит вне и выше игры
языка и которую должны воспроизводить язык и мышление. Ницше
отвергает христианство, называя его «платонизмом для
простонародья». По словам Рорти, «прагматисты полагают, что
платоническая традиция изжила себя»62 — вежливый способ указать на ее
несостоятельность! Рорти характеризует собственное направление
прагматизма так: «Это постпозитивистское направление в
аналитической философии схоже с традицией Ницше-Хайдеггера-Дерри-
ды. Его представители также начинают с критики платонизма и
приходят к критике философии как таковой».63 Подобным образом
Деррида развенчивает попытку Платона постичь вечную истину
посредством разума. В деконструктивизме неотъемлемо
присутствует подозрительность к метафизике и недоверие к
размышлениям о сущностях. Деррида. Рорти и Ницше единогласно отвергают
Rorty, "Pragmatism and Philosophy," 27.
Там же, 36.
75
Часть первая. Распад толкования
метафизический импульс как ложно направленный в сторону
«трансцендентности», то есть внеязыковой реальности, которая, тем не
менее, может быть представлена средствами языка. Для неверующего
герменевтика всякая теория о смысле и истине, предполагающая
веру в трансцендентное, есть форма «поклонения знаку».64
С точки зрения неверующих, логоцентризм — в платонической
или христианской версии — это форма идолопоклонства.
Неверующий не допускает возможности существования
трансцендентного — возможность того, что за знаком может стоять нечто
конкретное. Ницше утверждает: «Я не создаю новых идолов.
Ниспровержение идолов (так я называю 'идеалы') — вот чем я занимаюсь».65
Будучи противником реализма, Ницше утверждал, что
интерпретировать нечего, что нет истины, которую мы должны открывать для
себя в процессе чтения. «Фактов нет, есть только интерпретации».66
Таково кредо противника реализма в герменевтике.
Прежде всего, противники реализма отвергают авторов: как
Создателя неба и земли, так и творцов текстовых значений.
Опять-таки, речь идет не об авторе как исторической причине
возникновения текста. Неверующие подвергают сомнению существование
автора как метафизической сущности, как обоснование или надежное
прибежище смысла. Они возражают против метафизики автора,
потому что, по их мнению, она ведет к политике авторитаризма,
которая ограничивает возможности читателей и сужает простор для
интерпретации. Деррида — вождь интеллектуального «движения
Сопротивления», ведущего партизанскую войну против притязаний
метафизики за освобождение «иного». Иерархия, установленная
философией — истина/ложь; философия/литература;
нормальный/гомосексуальный — на самом деле ничто иное, как структуры
власти. Попытки метафизиков избавиться от неоднозначности и
двусмысленности очищают язык так же, как одержимые
собственным величием люди пытаются добиться чистоты расы. «Чистка
языка» — ни в коем случае не окончательное решение проблемы, а
лишь признание ее существования.
64 Во второй части я буду доказывать, что на самом деле недовольство трансцендентностью
связано не столько с Платоном, сколько с Иисусом Христом. В убеждениях неверующих
мы видим не столько аскетическое направление мысли, сколько еще одну разновидность
богословия.
65 Friedrich Nietzsche, Ecco Homo, в On the Genealogy of Morals and Ecco Homo, tr and ed. Walter
Kaufmann (New York: Vintage, 1989), 218.
66 Nietzsche, Will to Power, par. 481.
76
Глава вторая. Упразднение автора
Нетрудно увидеть последствия этой критики «веры в истину»
для истории богословия. В христианском понимании еретиком по
определению был тот, кто придерживался мнения, отличного от
позиции церкви. Быть «ортодоксом» значит придерживаться
правильного мнения. В спорах об авторитете автора на самом деле
решается вопрос о том, кто имеет право толковать и кто толкует верно.
Для противников реализма логоцентричная философия, как и
интерпретация, есть форма систематичного исключения. Всякие
попытки ограничить игру смысла и истины представляют собой
безосновательное подавление той или иной группы людей. Христиане
до недавнего времени отвергали иудаистские толкования Ветхого
Завета; французы до недавнего времени заявляли свои права на
Алжир. Деррида, французский еврей, родившийся в Алжире,
вспоминает, что в детстве ему пришлось испытывать ощущение полного
одиночества. Философия Дерриды в целом может рассматриваться
как реакция на стремление властей отгораживаться от «чужих».
С этой точки зрения, системы верований, как религиозные, так и
рациональные, практикуют систематическое отторжение мнений,
не совпадающих с общепринятым. И Афины, и Иерусалим, будучи
по-своему логоцентричны, используют понятие о власти для
оправдания того, что на самом деле является авторитаризмом. Итак, для
победы над авторитаризмом следует упразднить авторитет автора.
Толкование должно быть доступно каждому, не только автору.
Обязательно ли отрицание реализма в герменевтике, всегда ли
герменевтический нереализм ведет к герменевтическому
нигилизму? Не всегда. Отказываясь признавать истину и реальный мир,
Деррида, Рорти и Ницше верят в человечество — в человеческое
творчество и права человека. (Вопрос о том, верят ли они в
человеческую свободу, будет рассмотрен ниже). Для противников
реализма не существует данностей — нет вечных истин, нет пределов
тому, что мы можем сказать и как дифференцировать мир. Итак, с
одной стороны, нигилист не верит ни во что; с другой же он
утверждает, что люди способны изобретать ценности и истину. Назовем
это нигилизм с человеческим лицом: в мире и в тексте нет ничего,
что не было бы творением человека или сообщества людей.
Вопрос в следующем: может ли такой нигилизм с человеческим лицом
сохранить человечность и человеческие ценности? Как отметил
Г. К. Честертон, те, кто перестают верить в Бога, не утрачивают
77
Часть первая. Распад толкования
веры как таковой. Напротив, они готовы верить во что угодно.
И, как сказано в притче Иисуса, изгнав одного беса, надо
остерегаться, чтобы на его место не пришли семь злейших. Нам еще
предстоит увидеть, какие бесы или чудовища займут место,
освободившееся после изгнания автора из дома смысла.
Евангелие от «маркеров»? Голос автора
Упразднитель пришел, чтобы похоронить автора, а не
прославить его. Утверждение Дерриды о том, что судьбы автора и западной
метафизики тесно связаны между собой, звучит одновременно
вызывающе и озадачивающе. Изучавшие английскую литературу
знают, конечно, о поэтах-метафизиках семнадцатого века67, однако
почему все остальные поэты и авторы вообще тоже попадают в разряд
метафизических? В предыдущем разделе я начал отвечать на этот
вопрос, прослеживая параллели в развитии понятий
человеческого авторства и понятия о Боге. Мы продолжим наше исследование,
рассматривая другие метафизические вопросы, предусматриваемые
таким явлением, как письмо, и такой практикой, как экзегеза.
В то время как экзегеты пытаются разрешить противоречия в
толковании, скажем, Евангелия от Марка, определяя то
прочтение, которое наиболее полно соответствует авторскому замыслу,
деконструктивист подходит к нему совсем иначе. Деррида
считает, что язык скорее разрушает, чем исполняет авторский
замысел. Языковая система более фундаментальна, чем ее авторское
использование. Язык глубок и могуч, словно океан, и говорящий,
подобно пловцу, оказывается во власти подводных течений. Итак,
автор, вместо того чтобы господствовать над знаками, в лучшем
случае кое-как с ними справляется, в худшем же — утопает в них,
погружаясь в темные глубины. Каковы взгляды Дерриды на язык и
смысл? Почему «маркеры» — демифологизированные знаки,
обозначающие лишь другие такие же знаки и не указывающие ни на что
за пределами языка — важнее, чем автор, чем сам Марк?
67 Группа поэтов семнадцатого века, на которых оказала воздействие озабоченность Джона
Донна первопричинами и их последствиями, а также стилизованный юмор, с которым он писал
на эти темы.
78
Глава вторая. Упразднение автора
Упразднение логоцентризма: речь и письмо
Деррида рассматривает метафизику, как тройную веревку,
крепко связавшую воображение западных мыслителей. Три ее нити —
язык, разум и мир. «Логоцентризм» — термин, введенный Дерридой
для обозначения веры в то, что смысл слов и истинность идей имеют
авторитетный источник или центр (напр, разум), имеющий прямой
доступ к миру. Благодаря логосу — деятельности разума — мир
«присутствует» в разуме в форме идеи. Объектом познания
является в первую очередь разум самого познающего субъекта, однако
мир все же «присутствует» в нем, по крайней мере, в отраженном
виде. Упраздняя логоцентризм, Деррида считает, что тем самым он
демифологизирует авторство, а следовательно — и авторитетность
голоса автора. Является ли умерщвление автора, совершаемое
Дерридой («мы убиваем, чтобы вскрыть») убийством — или это
просто герменевтическая эвтаназия, лишь ускоряющая
неминуемую кончину автора? Чтобы ответить правильно, следует
внимательно рассмотреть улики. Итак, мы переходим к подробному
анализу смерти автора, чтобы решить, является ли деконструктивизм
философским преступлением, и если да, то в какой мере.
Голос: говорящее присутствие. Деррида определяет
метафизику как «науку о присутствии», науку, основанную на логоцен-
тричном предположении о том, что существует неизменная истина
(«царство бытия»), находящаяся «вне» или «выше» языка («царства
знака»). Метафизика предположительно вводит независимый
критерий (а именно: «то, что реально существует») для оценки наших
теорий и интерпретаций мира (а именно — «того, что, по нашему
мнению, существует, есть»). Деррида считает, что эта
приверженность метафизике является причиной, по которой философы
предпочитают речь письму, уже потому, что устная речь более близко
и непосредственно связана с человеком-субъектом, чем письмо.
С помощью разума мы воспринимаем суть вещей в идеях, а затем
мы выражаем их словами. Логоцентризм отстаивает гармоничный
союз реальности, мышления и языка. Поэтому логоцентричная
герменевтика ориентирована на голос, поскольку он рассматривается
как замена непосредственного присутствия автора. Однако
Деррида отвергает мысль о существовании «оригинала», с которым можно
сверять наши теории и интерпретации. У нас нет непосредственного
79
Часть первая. Распад толкования
доступа ни к чему реальному. Напротив, всякий доступ к миру
опосредован разумом, который в свою очередь определяется той
или иной языковой системой. Отсюда «проблема присутствия»:
метафизика основана на иллюзии.
Деррида утверждает, что речь всегда была парадигмой
присутствия в западном мышлении («В начале был Логос»). Декарт, отец
современной философии, верил, что человек-субъект способен,
благодаря саморефлексии, получать четкое и определенное
представление (по крайней мере — о себе). Значение также рождается
в сознании говорящего, поскольку значение есть отображение идей
в словах. Итак, сознание — основа постоянства смысла, а
толкование правильно — или неправильно — в том случае, если оно
соответствует — или не соответствует — замыслу автора. Авторы,
разумеется, не имеют нужды в истолковании; они непосредственно
знают, что имеют в виду, поскольку имеют прямой и
непосредственный доступ к собственным мыслям. Можно сказать, что
декартовский субъект знает собственный разум в совершенстве. Значение
непосредственно присутствует в сознании. Вот почему при
традиционном толковании смысл текста определяется автором. «Голос»
есть говорящее присутствие — присутствие говорящего, прямой
репортаж из сознания автора. Соответственно, «голос» становится
метафорой события, в котором соединяются слово, мысль и мир, а
следовательно — и авторского авторитета. Логоцентризм убеждает
нас в том, что разум автора — безопасное место, служащее
основой значения и знания. Поэтому логоцентризм следует понимать
как «платонизм значения».68
Для Дерриды философское повествование представляет собой
«мифологию белых, принимающую вид западной культуры и ее
же отражающую: белый человек принимает собственную
мифологию — свой логос, мифос собственной идиомы — за
универсальную форму того, что он по-прежнему называет Разумом».69
Логоцентризм — предпочтение разума — есть «ничто иное, как самая
оригинальная и выразительная форма этноцентризма».70 В итоге
автор также оказывается мифологическим существом. Говорить об
68 Эту фразу я заимствовал у Хабермаса, который использует ее для описания взглядов
Декарта на субъект познания. См. Jiirgen Habermas, Philosophical Discourses of Modernity,
tr. Frederick G. Lawrence (Cambridge: Polity Press, 1987), 171.
69 Derrida, "White Mythology," New Literary History 5 (1974): 9-11.
70 Derrida, Of Grammatology, 3.
80
Глава вторая. Упразднение автора
авторитетном голосе автора означает поддаваться иллюзии о том,
что текст воспроизводит речь автора, а эта речь, в свою очередь,
воспроизводит авторское мышление.
В своей характеристике деконструкции я хочу подчеркнуть
связь между упразднением автора и упразднением
метафизического аспекта богословия и философии. В обоих случаях упраздняется
утверждение о том, что язык соответствует некоему внеязыковому
присутствию. «Голос» — будь то голос разума или голос автора —
объединяет понятия речи и присутствия. Философия и богословие
утверждают, что могут говорить от имени «власть имеющих»: Бога,
Разума, Бытия или какого-либо иного принципа, позволяющего им
обосновывать свои убеждения чем-то вне самого языка. Например,
голос Разума столетиями выступает в роли светского заменителя
голоса Бога. Подобным же образом литературные критики и
экзегеты утверждают, будто говорят от имени «решающего» голоса
автора. Почему, спрашивает Деррида, устная речь должна иметь
преимущество перед письмом?
Письмо: молчаливое отсутствие. Там, где Платон видит
знаки, имитирующие вещи, Деррида видит только знаки — знаки,
связанные не с какой-то высшей реальностью, но лишь горизонтально —
с другими знаками. Деррида вслед за швейцарским лингвистом
Фердинандом Соссюром утверждает, что значение есть функция
различия между знаками. Для Соссюра лингвистический знак —
«это связь не между вещью и именем, но между понятием
[сигнификатом] и набором звуков [сигнификатором]»71. Знак обретает
смысл не благодаря его соотнесенности с вещью, а благодаря
отличию от других знаков (например, слово «жара» не есть «холод» или
«тепло» и т. д., отлично оно и от таких слов как «пара», «жаба» и
пр.). Знак получает определенное значение благодаря своему
месту в системе знаков, от которых отличается. Для Соссюра, как и
для Дерриды, значение всегда заключено в отличии, и никогда —
в соотношении.
Значение знака, или «сигнификатора», по Соссюру, — это не
реалия, с которой соотнесен знак, а понятие, или «сигнификат»,
который произвольно ассоциируется со знаком. Лишь условно
считается, что буквы Б-О-Г обозначают божественную, а не собачью
Saussure, Course in General Linguistics (New York: McGraw-Hill, 1959), 66.
81
Часть первая. Распад толкования
сущность (англ. "god" — бог, "dog" — собака. — прим. перев.).
Слово, в конечном итоге, не имеет сходства ни с чем, кроме других
слов.72 «Красный» означает то, что означает, потому что это не
слово «классный», «квасной» или «крестный», а также потому, что оно
не значит «синий», «зеленый», «пурпурный» или «розовый».
Иначе говоря, «красный» — это произвольный знак, который
обретает значение благодаря системе лингвистических отличий. Именно
это, по сути, видит в языке Деррида: систему знаков, которые
имеют смысл лишь благодаря своему отличию друг от друга.
Соссюр различает языковую систему (langue) и отдельные
речевые акты (parole). Деррида отмечает, что речь и мысль всегда
носят второстепенный, производный характер, тогда как
языковая система — первична. Без языка мысль хаотична: «Нет идей,
определенных заранее, ничто не выделяется из общей массы
вещей и явлений вплоть до введения лингвистической структуры».73
По Соссюру, структура langue произвольна; разные языки
используют разные наборы различий. Грани между зеленым, серым, синим
и коричневым цветами в валлийском языке проведены иначе, чем в
английском. Валлийское glas (синий) включает оттенки, которые
по-английски назывались бы серым или зеленым. Обозначения
цветов, как и язык в целом, образуют систему различий, которая
воспринимается говорящими как естественная, будучи на самом
деле произвольной и условной. Мир, представляющий собой
общую сумму категорий, оппозиций и связей, является не данностью,
а текстом. Человек, изучающий язык, например, ребенок,
усваивает набор отличных друг от друга понятий, «которые определяют не
данные сущности, а созданные социумом сигнификаты».74
Такой анализ языка разрушает идеальное представление о
чистом присутствии. Осознав последствия представлений Дерриды о
письме, мы увидим, что присутствие — просто мираж. Смысл
текста — это не обозначаемая вещь, а бесконечное замещение одного
72 Немногочисленные исключения, в основном — случаи звукоподражания, подтверждают
общее правило.
73 Saussure, Course in General Linguistics, 110 Следует отметить, что Деррида применяет
лингвистику Соссюра к философии в целом, так, как Соссюр себе этого даже не представлял.
Тисельтон отмечет, что Деррида практически превратил соссюровское понятие «дифферанса» в
мировоззрение {New Horizons in Hermeneutics, ch. 3). См. также Martin Krampen, "Ferdinand de
Saussure and the Development of Semiology," в М. Krampen, ed., Classics of Semiotics (New York:
Pendulum, 1987), 59-88, особ. 78-83.
74 Catherine Belsey, Critical Practice (London: Routledge, 1980), 44.
82
Глава вторая. Упразднение автора
знака другим, бесконечная игра знаков, которая так и не
останавливается на чем-то в реальном мире. Деррида утверждает, что
обнаружил систематическое отрицание Письма, анализируя тексты
Платона, Руссо, Гегеля и других философов. В то время, как Хай-
деггер обвинял философов в том, что они забыли о вопросе Бытия,
Деррида обвиняет их в том, что они забывают и подавляют вопрос
Письма.75 Почему философы ополчились против Письма? Потому
что Письмо является угрозой логоцентризму, утверждению о том,
что философия и богословие имеют доступ к чему-то за
пределами системы языка и игры значения, а именно — к «голосу» или
«присутствию». Письмо опасно, потому что оно заменяет реальное,
живое присутствие речи произвольными безжизненными знаками,
тем самым делая истину — совпадение языка и реальности —
недостижимой. Итак, за авторитетом автора на самом деле стоит
только предвзятое отношение западных метафизиков.
Для Дерриды значение — это бесконечная дифференциальная
игра сигнификаторов. Знаки обретают смысл лишь благодаря
своему отличию от прочих знаков. В результате, значение всегда
горизонтально и никогда не бывает вертикальным. Оно имманентно
языку, не трансцендентно. В терминологии Дерриды нет такого
понятия, как «трансцендентный сигнификат», внеязыковой референт,
который каким-то образом избегает бесконечной игры языка. В
целом, Деррида упраздняет основную предпосылку метафизики —
наличие доступа к авторитетному логосу, гарантирующему
соответствие языка и реальности — доказывая, что письмо предшествует
речи. Точно так же, как langue предшествует parole, так и
языковая система (письмо) предшествует любой попытке что-то сказать
(речи). Более того, письмо предшествует и мысли. «Письмо» — это
общий термин Дерриды, описывающий очень характерную для
человека ситуацию, когда нам приходится обходиться
посредничеством знаков (интерпретацией) вместо непосредственного понимания
(интуиции). «Письмо» обозначает отдаление присутствия:
присутствие «отдаляется», поскольку доступ к нему возможен только через
систему знаков. «Письмо» — это то, что заменяет нам
присутствие. В письме мы живем, и движемся, и существуем.
75 Кевин Харт, комментируя «Потерянный рай» Мильтона, предполагает, что первородным
грехом Адама было как раз стремление к непосредственному знанию. Только Бог знает без
знаков, то есть без необходимости интерпретировать. (Hart, The Trespass of the Sign, 3-4).
83
Часть первая. Распад толкования
Если письмо предшествует речи, то абсолютного источника
смысла не существует. Письмо окружает нас повсюду. Субъекту
мышления и речи всегда предшествуют культурные устои и
системы языка. Поскольку знаки соотносятся только с другими знаками,
смысл становится нечем обосновывать, а игру языка — нечем
остановить. Смысл знака заключается в отличиях, в том, чего не
существует. Отсутствие — вот альфа и омега всего. Никогда не было и не
будет внелингвистического (а значит и непроизвольного)
постижения реальности. Язык — бесконечный океан без дна и побережья,
без якорей и путеводных звезд, которые привели бы пользователя к
реальности. Язык поглощает и разум, и мир. Верить в
трансцендентность — в то, что знаки создают представление о реальности,
стоящей выше игры языка, — означает поддаться иллюзии надежности
знака. Философы, не желающие отказываться от этой иллюзии —
просто чревовещатели, которые заставляют «Бытие» или «Разум»
говорить их собственными голосами. Анализ Дерриды, напротив,
ниспровергает первого «идола» знака.
Упразднение субъекта: призрак в машине
Еще одной отчаянной попыткой (можно сказать, новейшей
метафизической уловкой) удалить основу значения текста за пределы
игры языка становится личность автора. Противнику реализма,
однако, нет нужды воображать, будто книги пишутся сами собой. Де-
конструктивист рассуждает более тонко. Деррида может не знать о
моем существовании, но если бы и знал, то не стал бы отрицать, что
эту книгу написал я. Однако он настаивал бы на том, что, во-первых,
моих намерений и усилий недостаточно для того, чтобы обосновать
значение книги или контролировать ее толкование, и, во-вторых,
что написанное мною — это не столько мой голос, сколько голос
всех учителей и текстов, оказавших на меня свое влияние. Как
автор, я в лучшем случае — один из создателей сложной структуры, а
не полновластный хозяин своего текста.
«Вне текста ничего нет».76 Возможно, ни одно утверждение
Дерриды не цитируется так часто — и не понимается так
превратно, — как это. Некоторые комментаторы лишают Дерриду всякого
76 Derrida, Of Grammatology, 158.
84
Глава вторая. Упразднение автора
доверия, делая поверхностный вывод о том, что он не верит в
существование таких вещей, как дуб или «Форд-эскорт». Такое
прочтение просто смехотворно. Деррида на самом деле утверждает,
что все является частью знаковой системы. Даже объекты природы
«записаны», то есть классифицированы той или иной языковой
системой. Например, ель определяется для меня исключительно
культурной традицией, а именно — ее ролью в семейном праздновании
Рождества. Мне трудно думать о ели с другим набором коннотаций.
Подобным образом автомобиль «Форд» обладает свойственными
ему коннотациями, поскольку является частью знаковой
системы, включающей также «Хонды», «Пежо» и «Ягуары». Значение
«Форда-эскорт» определяется его отличием от других автомобилей
(включая и другие модели Форда). «Эскорт» — текст в контексте
других автомобилей. Нет такого понятия, как «абсолютный Форд»,
чье значение можно было бы рассматривать в культурном
вакууме. Напротив: то значение, которое мы ассоциируем с «Фордом»,
настолько же зависит от положения этих машин на рынке и от их
производства, как и от того места, которое «Форд» занимает в
знаковой системе, включающей «Ягуар», «Фольксваген», «Шевроле»
и «Тойоту». Деррида отрицает наличие какого-либо присутствия,
бытия или определенной реальности за пределами игры знаков.
Не существует исходной точки или «дома» значения, нет ничего
вне частных и случайных языковых систем, и, следовательно, нет
ничего, что позволило бы сделать значение устойчивым,
постоянным и определенным.
Здесь уместно вспомнить известный анекдот об индусском
философе, который был уверен, что мир покоится на спине верблюда.
Когда его спросили, на чем стоит верблюд, он ответил: «Там до
самого низа — верблюды». Дерриде, несомненно, понравился бы
такой ответ. Если бы экзегет традиционного толка сказал, что его
толкование Евангелия основано на Марке, Деррида, несомненно,
ответил бы: «Нет, там лишь маркеры до самого низа». Мы никогда не
попадем в авторское присутствие Марка, перед нами только
маркеры, указывающие на другие маркеры (или Маркеры, указывающие
на Матфея и Луку). Теперь понятно, как далеко Деррида отстоит от
Декарта. В представлении философов-модернистов, в основе
философии лежит сознание («Я мыслю, следовательно, я существую»),
Деррида рассматривает и само сознание как сформировавшееся
под воздействием языка. Однако, по мнению Дерриды, субъект
85
Часть первая. Распад толкования
никогда не осознает себя до конца. Ни Платон, ни Марк так и не
смогли вполне овладеть смыслом и содержанием собственного
текста. Все наши понятия засорены языком; нам недоступна точка
зрения, свободная от игры языка.
Дифферанс и словарь Джонсона. Деррида часто
употребляет термин «дифферанс» (differdnce) для обозначения двойной
помехи на пути от знака к реальности. Он обозначает и то, как знаки
отличаются (differ) друг от друга, и то, как они отдаляют (defer)
присутствие (т. е. соотнесение знака с чем-либо иным, чем другой
знак, — бесконечно удалено). Дифферанс как таковой является
фундаментальной категорией в критике разума по Дерриде, но, в
отличие от категорий Канта, он действует исключительно
негативно. Кант считал, что некоторые идеи следует принять как
предположения, чтобы объяснить возможность познания как такового.
Деррида использует дифферанс с противоположной целью —
объяснить невозможность познания. Итак, Деррида предлагает
критику нечистого разума.
Как уже было показано, метафизика есть «наука о присутствии».
Кроме того, она является попыткой «расшифровать» реальность,
познать смысл Книги Природы и достигнуть некоей точки,
«свободной и от игры, и от структуры языка».77 Метафизика —
попытка детекстуализировать реальность. Однако, по мнению Дерриды,
письмо — это вирус или паразит, препятствующий правильному
функционированию метафизики. «Письмо» — это «игра» или
фактор непостоянства, присутствующий в каждой попытке общения.
Кевин Харт хорошо подметил врожденную природу этого
«трагического дефекта» знака: «Недостатки знака обусловлены структурой,
и это — исходная точка его [Дерриды] выступления против
метафизики присутствия».78 Знак на самом деле никогда не
воспроизводит присутствие. «Присутствие» оказывается результатом
различий, достижение которого всегда откладывается.
Возможно, философия началась, когда Фалес сказал: «Все
вода», но заявление Дерриды — «Все письмо» — угрожает самому
существованию философии, поскольку подразумевает, что смысл
не бывает постоянным, а вечно меняется и отдаляется. Ход мыслей
Derrida, "Structure, Sign, Play," 264.
Hart, Trespass of the Sign, 12.
86
Глава вторая. Упразднение автора
Дерриды здесь сложен, но весьма важен. С его точки зрения,
значение никогда не присутствует в знаке как таковом, поскольку оно
состоит в различии между знаками. Деконструировать означает
показать, что значения как свойства знака просто не существует;
значение — просто функция дифферанса, отличия знаков от других
знаков и бесконечно удаленного присутствия. «Значение»
оказывается мифическим горшком с золотом, который находится на другом
конце радуги чтения и который отдаляется по мере нашего
приближения к нему. Мы никогда не знаем, что именно обозначает знак;
обращаясь к словарю, мы находим там лишь другие знаки.
Значение — дифференциально и поэтому никогда не останавливается на
каком-либо неязыковом или внеязыковом явлении. Значение
можно стабилизировать лишь путем подавления присущего ему
дифферанса: «Письмо — это бесконечное вытеснение значения, которое
и управляет языком, и помещает его навсегда за пределы
достижения постоянного, удостоверяющего самого себя знания».79
Конечно же, можно возразить, что Деррида напрасно сгущает
краски. Некоторые знаки очень легко соотнести с реальностью,
например, заглянув в словарь. «Словарь английского языка» Сэмюеля
Джонсона был издан в 1755 г. Автор пользовался цитатами, в
основном елизаветинского периода, для того, чтобы проиллюстрировать
использование слов и обосновать предлагаемые им определения.
В свое время Джонсона называли «человеком, придавшим
стабильность языку своей страны».
Но, глядя на определение слова, мы находим лишь другие слова.
Возьмите, к примеру, определение овса по Джонсону: «Зерно, коим
в Англии преимущественно питаются лошади, а в Шотландии —
люди». Это определение говорит нам о докторе Джонсоне и его
временах не меньше, чем об определяемом слове. На чем основан
авторитет словарей? Цель современных словарей — описание узуса,
или обычного употребления слова. Однако узус часто меняется, а с
ним — и лингвистическая система, частью которой является знак.
В предисловии к своему Словарю доктор Джонсон повторяет
Платона, уже тогда предвидя отчаянное положение знака в эпоху
постмодернизма: «Я еще не настолько «погряз» в лексикографии,
чтобы забыть, что слова — порождения земли, а вещи — небес.
Язык — лишь инструмент науки, а слова — обозначения идей.
79 Norris, Deconstruction: Theory and Practice, 29.
87
Часть первая. Распад толкования
Хотел бы я, однако, чтобы эти инструменты были менее
подвержены тлению и чтобы знаки были постоянны, как постоянны
обозначаемые ими вещи».80 Эта цитата — пример двух ключевых логоцен-
трических постулатов: существования обязательного соответствия
между мыслью и реальностью и того факта, что слова есть
непосредственное выражение мысли. Однако, завершая свои
размышления, Джонсон признает разрушительную, неопределенную
природу языка. Желание написать словарь связано с логоцентричным
стремлением обрести постоянство в сфере значения.
Но с точки зрения противника реализма в герменевтике,
словарь не показывает нам, какие слова следует соотносить с
вещами: «Потому что словарь обнаруживает относительность и диффе-
ренциальность значений».81 Словарь не позволяет нам проследить
значение от знака до вещи, а лишь косвенно — от знака до иного
знака. Это метафизическая версия так называемого писательского
камня преткновения: между нами и миром стоит языковая система.
Более того, таких систем много. В этом-то вся беда. Не
существует единственного способа соотнесения языка с миром. Доктор
Джонсон отлично понимал, что система языка никогда не
закрывается и не останавливается в своем развитии. Поэтому ничто и нигде
не присутствует в чистом виде. Даже настоящий момент —
присутствие настоящего — констатируется с помощью того, что таковым не
является. Настоящее можно понять лишь с учетом прошлого и
будущего, в контексте того, что уже прошло, и того, что еще не настало.
Подписи и отписки: исчезновение субъекта. Среди всех
слов, связанных с автором, ни одно не находится так близко к нему,
как подпись. В устной речи подписью человека является его голос,
верный признак, по которому можно узнать говорящего. В
письменной же речи нас представляет наша подпись. Если текст —
замена физического присутствия автора (ср. слова Павла: «Для того я
и пишу сие в отсутствии» — 2 Кор. 13, 10), то подпись — это
печать, удостоверяющая авторский авторитет («Мое, Павлово,
приветствие собственноручно» — 1 Кор. 16, 21). Подписи
определяют характер отношений между автором и текстом с точки зрения
Johnson, "Preface" to Dictionary of the English Language, 1755.
Don Cupitt, The Long-Legged Fly: A Theology of Language and Desire (London: SCM, 1987), 21.
88
Глава вторая. Упразднение автора
собственности и ответственности. Поэтому нас не должно удивлять
то, что Деррида в нескольких своих работах обращается к вопросу о
подписи. Может ли подпись быть гарантом авторитета автора в его
отсутствие?
Как правило, подписи рассматриваются как знак присутствия
отсутствующего автора. Подпись автора может быть утверждением
авторского юридического права на текст или, в случае с чеком,
обещанием и признанием финансового обязательства. Подпись
принято выносить за пределы текста: это указывает на происхождение
текста из авторского сознания. Подписывая текст, автор
подтверждает, что он является подлинным выражением его воли. Тем самым
подпись символизирует понятие о том, что автора следует считать
источником как происхождения текста, так и контроля над ним.
По мнению Дерриды, традиционные толкователи упускают из
виду тот факт, что подписи — тоже знаки. Как таковые, они
принадлежат к совокупности знаков, которые, как мы уже видели,
препятствуют трансцендентности. Автор — это часть «мифологии белых»,
еще один кандидат на роль «стабилизатора» «трансцендентного
сигнификата». Само ощущение присутствия автора, по словам
Дерриды, есть не более чем эффект письма. Более того, знаковая система
избегает контроля со стороны индивидуального присутствия или
речи, а подписи, будучи знаками, ускользают от своих «владельцев».
Подпись функционирует в отсутствие автора. Как таковые, подписи
имеют большее отношение к отсутствию, чем к присутствию.
Подписи тоже являются знаками, бессильными обозначить что-либо за
пределами текста. Подписи также отмечены дифферансом; как и все
знаки, они не соответствуют своему источнику.
Деррида утверждает, что характерным признаком знака
является его способность к повторяемости вне первоначального
контекста: «Именно этот существенный сдвиг, влияющий на письмо как
на многократно повторяющуюся структуру, отрезанную от всякой
абсолютной ответственности, от сознания как высшего
авторитета, осиротевшую и лишенную поддержки отца уже в момент своего
рождения, осуждает Платон в диалоге «Федр».82 Следовательно,
каждый знак, каждый маркер по сути своей оторван от
предполагаемого первоисточника. Для утверждения своего уникального
присутствия, автор Евангелия от Марка вынужден использовать маркеры,
82 Derrida, "Signature Event Context," Glyph 1 (1977): 181.
89
Часть первая. Распад толкования
которые можно повторить, перевести и даже подделать. Условия,
делающие возможным функционирование подписи, одновременно
делают возможным и ее упразднение. Подписи не могут обеспечить
присутствия, которое обещают. Или, как пишет об этом Деррида,
«La signature tombe» («Подпись подводит»; «подпись шифрует»).
Подпись — лишь бесплодная попытка, последний всплеск
риторики, призванный вернуть присутствие автора, которое
контролировало бы смысл текста. По сути, в тексте нет ничего, что
удерживало бы читателей от ложного его толкования. Простого добавления
подписи (еще одного знака) недостаточно для того, чтобы
контролировать значение знака: «Подпись ничего не делает для того, чтобы
обеспечить передачу 'истинных' намерений автора тем, кто читает
и считает себя законными наследниками и толкователями».83
Торжественно подписать свое имя — признанный жест
сосредоточенного на себе модернистского субъекта, того самого
субъекта, который стремится, возможно — безуспешно, служить оплотом
рациональности и истины. Даже подпись не может предотвратить
исчезновения этого автономного субъекта познания. Для
растущего числа постмодернистских литературных критиков автор
становится все более недоступным и в большинстве случаев не имеет
отношения к процессу интерпретации. Автор не может выполнять
роль «стабилизатора» знаков, который, по-видимому,
необходим для метафизики значения. Тем не менее, деконструктивизм,
лишая автора ключевой позиции в интерпретации, не устраняет его
окончательно. Деррида не отменяет авторов, но ставит их на место.
Где же это место? За кулисами, вне сцены, на полях дискурса. Как
выразился Берк, «определяющая воля автора описана как один
фактор среди многих».84
«Смерть Бога, в письменном выражении»
Автор — это метафизический конструкт, фигура, связанная с
логоцентризмом западной философии и богословия через
метафоры «голоса» и «присутствия». Деконструктивизм упраздняет
эти привилегированные понятия, разоблачая подавление письма
83 Norris, Derrida, 199.
84 Sean Burke, The Death and Return of the Author. Criticism and Subjectivity in Barthes, Foucault
and Derrida (Edinburgh: Edinburgh Univ. Press, 1992), 143.
90
Глава вторая. Упразднение автора
в интеллектуальной истории Запада. До этого я представлял де-
конструктивизм как критику метафизики. В следующей главе мы
рассмотрим деконструктивизм как критику разума. Эти два
направления критики сходятся у Дерриды в критику независимого
субъекта. Критика субъекта познания по Дерриде упраздняет
модернистское понятие автора, поскольку это понятие включает в себя образ
автономного субъекта. Модернистскому «повороту к субъекту»
соответствует постмодернистский поворот от субъекта. Смерть
автора следует из смерти субъекта, и, как мы увидим далее, эти две
смерти связаны с третьей — смертью Бога. Во второй части я
попытаюсь вернуть автора к жизни. Однако этому непременно должно
предшествовать решение более насущной задачи.
Анонимные авторы?
Картезианский субъект, или cogito, породил автономного
автора, который четко и ясно говорит своим собственным голосом.
Постоянство значения обеспечивается за счет постоянства автора
как субъекта. Однако различие между душой и телом — это еще
одна иерархическая оппозиция, которую взялся упразднить Дер-
рида. Картезианский дуализм души и тела создает ложное
впечатление, будто мысли субъекта неуязвимы для превратностей
судьбы, воздействующих на тело. Понятие о существовании духовного
мира — смысла, рациональности, истины — или «истинного» мира
за пределами мира материального, физического — это как раз один
из идолов, которых стремился ниспровергнуть Ницше. Сознание —
данность в понятии Декарта — современными скептиками
воспринимается как иллюзия. Картезианский субъект слишком
бестелесен, абстрактен, чтобы в него можно было и дальше верить. Жизнь
разума помещается не в каком-то абстрактном, обособленном
духовном царстве, как, очевидно, считал Декарт; она подвержена
действию различных материальных сил — биологических,
психологических, экономических, политических — которые формируют
и ограничивают его.
Мастера подозрения: поворот от субъекта. Так
называемые «мастера подозрения» — Фрейд, Маркс и Ницше —
доказывают, каждый по-своему, что человеческий субъект не обладает ни
самосознанием, ни возможностью самостоятельного присутствия.
91
Часть первая. Распад толкования
Не является человек-субъект и чистым разумом, невосприимчивым
к воздействию истории и культуры. Ситуация владеет нами
больше, чем мы — ею; традиции, культура и язык творят нас в большей
мере, чем создаются нами. Поскольку сознание подвержено
бессознательным психологическим, социальным и историческим
воздействиям, оно — уже не хозяин в собственном доме.
Модернистский «дом» смысла — всевластное сознание автора — был
построен на песке, и теперь обрушился. В немалой степени именно этот
вопрос о первичности человека-субъекта или исторической
ситуации отделяет модернистов от постмодернистов. Дэвид Трэйси
пишет о модернистах: «Они были практически уверены в способности
рефлексии исключать сознание и делать его полупрозрачным, если
не вполне прозрачным».85 Для постмодернистов характерна идея о
том, что сознание не прозрачно даже для самого себя. Итак,
единственный путь к самопознанию лежит через критику сознания и
герменевтику подозрительности.
Фрейд был первооткрывателем глубокого и темного
неизведанного континента подсознания. Именно он обнаружил дефект в
картезианском основании, а именно — иррациональные
субструктуры человеческого сознания в желаниях тела. В своей книге
«Толкование снов» Фрейд утверждает, что сны обозначают нечто иное,
чем кажется на первый взгляд. Сны говорят на искаженном языке
подавленных желаний.86 Например, мы можем думать, что знаем,
почему приняли то или иное решение, но осознанный мотив отнюдь
не обязательно является нашим истинным мотивом. С точки зрения
Фрейда, сознание — уже не триумфальное шествие к
самопознанию, а преграда на пути интерпретации. Если то, что мы говорим
осознано, скрывает неосознанные желания, нам следует выйти за
пределы сказанного, чтобы добраться до того, что мы
действительно имели в виду.
Жак Лакан, психоаналитик, объединивший идеи Фрейда и
структурной лингвистики, описывает язык как «структурное
бессознательное». Наша самость находится не за языком, но в самой его
толще, среди бурлящих течений противоборствующих дискурсов
85 David Tracy, Plurality and Ambiguity: Hermeneutics, Religion, Hope (San Francisco:
Harper & Row, 1987), 77.
86 Cm. Paul Ricoeur, Freud and Philosophy: An Essay on Interpretation (New Haven: Yale Univ.
Press, 1970). Рикёр делает вывод, что сознание — не данность, но герменевтическая задача. То,
кем мы являемся, воспринимается только через интерпретацию того, что мы делаем.
92
Глава вторая. Упразднение автора
и лексических наборов, определяющих образ мышления и речи
человека. Далее, если язык — структура произвольная, а логос
формируется языком, то и сам логос — лишь произвольный способ
мировосприятия. Вопреки Канту, разум не бывает «чистым». Итак,
объективного понятия субъекта, существовавшего до
возникновения языка, не существует.87
В то время как Фрейд умаляет роль сознания, вскрывая
глубинные психологические мотивы, зачастую скрытые за причинами,
которые мы предлагаем себе и другим, Маркс развенчивает
самопознание, выставляя на первый план общественно-политические
факторы, формирующие субъективность: «Не сознание определяет
бытие, но общественное бытие определяет сознание».88
Маркс отвергает приоритет сознания, помещая индивида в сеть
институтов и идеологических отношений. Автор — не поэт, не
творец чего-то нового, а лишь пешка в игре политических сил. Мастера
подозрения в конечном итоге ставят под подозрение способность
субъекта властвовать над самим собой, человек-субъект —
животное не разумное, а политическое. И не разум, а материальность —
состояние бытия в животном теле — разоблачает миф о
всевластном сознании.
Конечно же, авторы — не исключение. То, что представляется
рациональным дискурсом, на самом деле может являться
выражением скрытой идеологии, скажем, подавляемой
гомосексуальности. Писания Апостола Павла, с точки зрения некоторых
критиков, могут служить как примером политической пропаганды, так
и проявлением подавляемого бессознательного. Послание к
Римлянам было подвергнуто психоанализу, а «пасторские послания»
прочитаны как псевдополитические документы, поддерживающие
определенную форму церковного церковью. Итак, нельзя и далее
игнорировать «влияние бессознательного на сознательное, роль
преконцептуального и неконцептуального в концептуальном,
присутствие иррационального — системы желания, жажды власти —
в самом ядре рационального... невозможно игнорировать и
социальный характер, присущий «структурам сознания».89
Независимый субъект познания был решительно упразднен: «Когда субъект
87 Jacques Lacan, Ecrits: A Selection, tr. Alan Sheridan (New York: W. W. Norton, 1977).
88 Цит. по: Thiselton, New Horizons, 382.
89 Thomas McCarthy, "Introduction," в Habermas, Philosophical Discourse of Modernity, ix.
93
Часть первая. Распад толкования
познания лишается статуса первоисточника смысла, а сам смысл
рассматривается в контексте системы условностей, которая может
ускользнуть от восприятия субъектом познания — самость стало
невозможно отождествлять с сознанием».90 Сознание уступило
место телу. Тайна независимого субъекта познания в том, что на самом
деле он — лишь проекция тела, находящегося в определенных
культурных и исторических условиях, и его желаний.
Многие не хотят допустить тихого успения субъекта в ночи де-
конструктивизма. Натан Скотт осуждает отказ от субъекта,
поскольку утрата авторства ведет к утрате свободы и ответственности:
«Учение, завезенное недавно из Парижа, утверждает, что люди —
всего лишь лингвистически запрограммированные механизмы, рабы
языка, а вовсе не его распорядители».91 Мы вновь убеждаемся, что
споры, ведущиеся в сфере гуманитарных наук определяют взгляды
на суть человеческого бытия — тему, к которой мы в свое время
вернемся.
Подразумеваемые авторы. Еще один аргумент против
авторского влияния исходит от самих литературных критиков, для
которых идея «голоса автора» — свидетельство не метафизического, а
риторического присутствия. По мнению Уэйна Бута, влиятельного
литературного критика из Чикагского университета, основная
причина того, что мы не можем считать авторов полновластными
хозяевами своих текстов в том, «что у нас могут быть различные
представления об авторе».92 Прежде всего, есть человек из плоти и крови,
создавший текст — настоящий, исторический, «эмпирический» автор.
Далее — драматический автор, «первое лицо», от которого идет
повествование во многих рассказах и чей голос звучит во многих поэтических
произведениях. Этот голос — например, голос, повествующий от имени
Дэвида Копперфильда («Я родился»), не следует путать с эмпирическим
автором; Чарльз Диккенс — не Дэвид Копперфильд.
Между автором из плоти и крови и рассказчиком стоит
промежуточная фигура: подразумеваемый автор. Этот автор «подразумевается»
общим духом литературного произведения: «Мы воспринимаем его
90 Jonathan Culler, Structuralist Poetics: Structuralism, Linguistics, and the Study of Literature
(London: Routledge, 1975), 28.
91 Scott, "The New Trahison des Clercs, "417.
92 Wayne C. Booth, Critical Understanding: The Powers and Limits of Pluralism (Chicago: Univ. of
Chicago Press, 1979), 268. Здесь Бут определяет пять разных смыслов, в которых человек может
называться автором.
94
Глава вторая. Упразднение автора
как идеальную литературную версию реального человека; он —
совокупность принимаемых им самим решений».93 Идея Бута
заключается в том, что подразумеваемый автор, как и все действующие
лица в тексте, является результатом или риторическим
«конструктом» текста. Это ощущение авторского присутствия, разумного
руководства, чьи ценности и убеждения «контролируют» текст, —
фикция, и его нельзя путать с реальным историческим лицом,
создавшим текст. Как язвительно отметил Бут, «подразумеваемые
авторы-герои могут быть созданы трусами, а великодушные и
щедрые — себялюбивыми чудовищами».94
Умберто Эко лично свидетельствует о различии между
эмпирическим автором и автором подразумеваемым. Заглавие его второго
романа, «Маятник Фуко», относится к маятнику, изобретенному
Леоном Фуко, а не к философу Мишелю Фуко, как считали
многие «проницательные» читатели. Эко спрашивает: «Как может...
эмпирический автор опровергнуть некоторые свободные
семантические ассоциации, которые тем или иным образом создают
используемые им слова?»95 Говоря о себе как об эмпирическом
авторе, Эко отмечает: «Я не создавал этой аллюзии. Но что означает
«я»? Мою сознательную личность? Мое «ид» (бессознательное)?
Или свободную игру языка {la langue), происходившую в моем
сознании, когда я писал?»96 Эко делает следующий вывод: «Текст и
его заглавие существуют; возможно, я и в ответе за глупую шутку,
которой я так хотел избежать. В любом случае, теперь все это мне
уже неподвластно».97 Эко считает, что об эмпирическом авторе
следует говорить «только чтобы подчеркнуть его неуместность и
восстановить права текста».98 Сведения об эмпирическом авторе могут
отчасти прояснить происхождение текста, но не его значение.
Смерть автора
Итак, благодаря странному повороту судьбы современная
теория литературы рассматривает автора как «продукт» текста, а не
93 Wayne С. Booth, The Rhetoric of Fiction (Chicago: Univ. of Chicago Press, 1961), 74-75.
94 Booth, Critical Understanding, 269.
95 Umberto Eco, Interpretation and Overinterpretation (Cambridge: Cambridge Univ. Press), 80.
96 Там же, 81.
97 Там же, 83.
98 Там же, 84.
95
Часть первая. Распад толкования
его первоисточник. Логоцентрическое понятие принципа
постоянства значения было объявлено метафизической фикцией.
Однако представление об авторе как о властелине текстового значения
было чем-то большим, нежели чем просто метафизической ошибкой.
Некоторые критики доказывают, что понятие автора — это
идеологический конструкт, выполняющий политическую функцию и
служащий орудием подавления. По мнению таких критиков, смерть
автора необходима для жизни текста и освобождения читателя.
Две французских эпитафии. Ролан Барт и Мишель Фуко
написали по эпитафии — надгробной надписи — для автора. С
точки зрения Ролана Барта, автор — это модернистское изобретение,
продукт индивидуализма, который сопутствовал рационализму
Просвещения и пиетизму Реформации. Он жалуется на то, что
традиционное толкование находится в плену культа личности: «Образ
литературы в современной культуре непоколебимо сосредоточен на
авторе, его личности, его истории, его вкусах, его пристрастиях».99
Барт восхищается французским поэтом Малларме за то, что тот
первым увидел «необходимость поставить язык как таковой на
место личности, которая прежде считалась его хозяином».100
Малларме хотел, чтобы его тексты говорили сами за себя; автор должен
умереть, чтобы дать жизнь письму: «Письмо заставляет умолкнуть
все голоса, отменяет все исходные точки».101 Конечно же,
Малларме знает, что в нем кроется историческая причина возникновения
его стихов, но, поставив на первое место письмо, он признает, что
лишь соткал вместе слова, которые «спряли» до него другие.
Письмо — это пространство, в котором теряется отдельный субъект.
Как только текст оторван от автора, его «расшифровка»
становится бессмысленной: «Дать тексту Автора означает установить
его пределы, присвоить ему окончательное значение и «закрыть»
письмо».102 Текст — это перекресток, где встречаются
многочисленные писания, происходящие из разных времен и культур. Здесь
Барт повторяет структуралистскую идею о том, что индивид —
лишь место пересечения многочисленных языков и идеологий:
99 Roland Barthes, "The Death of the Author," в Burke, ed., Authorship, 126.
100 Там же.
101 Там же, 125.
102 Там же, 129.
96
Глава вторая. Упразднение автора
национализма, модернизма, фундаментализма, феминизма и пр.
Так и текст представляет собой не «последовательность слов,
несущую в себе единое «богословское» значение (послание Автора-
Бога), но пространство со многими измерениями, где смешиваются
и сталкиваются разнообразные писания — из которых ни одно не
оригинально».103
Самое удивительное в заявлении Барта о смерти автора — ее
связь со смертью Бога. Подобно Дерриде, Барт доказывает, что вера
в значение, во что-то, стоящее вне игры языковых знаков, носит, по
сути своей, богословский характер. Автор — Бог своего текста: его
создатель, первоисточник и хозяин. Читатель вынужден
довольствоваться ролью слуги, пассивно принимая значение, которое он,
как манну небесную, получает из руки творца. Однако,
освободившись от автора, текст становится игровой площадкой, на которой
читатели могут проявлять собственные творческие способности.
Смерть автора необходима для того, чтобы отказаться от
приписывания тексту «настоящего» значения. Отрицание реализма требует
смерти автора, чтобы перевернуть с ног на голову традиционный
«платонизм смысла». Не будучи более сведенным к единому
посланию с единственной правильной интерпретацией, текст
открывается для множества прочтений; постоянство значения оказывается по
сути нарушенным — и плод авторитета увядает на текстовой лозе.
Согласно более традиционному взгляду на интерпретацию,
подлинность любой из книг Библии и ее место в каноне
определяются тем, кто был ее автором. Считалось, что апокрифические
тексты неизвестного или недостоверно установленного
происхождения имели меньший авторитет.104 В древней церкви установление
подлинности было крайне важно, и споры об авторстве сводились
не столько к академическим дебатам, сколько к борьбе за власть.
Ранняя церковь сознавала возможность подделок и не терпела их.105
Даже в наше время многие споры между консерваторами и
либералами ведутся по поводу авторства отдельных библейских книг. Еще
в конце девятнадцатого столетия Уильям Робертсон Смит попал под
суд по обвинению в ереси за отрицание того, что Моисей был
автором Пятикнижия и лишился профессорской кафедры в Абердине.
103 Там же, 128.
104 См. Robert Carroll, "Authorship," в A Dictionary of Biblical Interpretation, eds. R. J. Coggins
and J. L. Houlden (Philadelphia: Trinity Press International, 1990), 73.
105 Cm. Margaret Barker, "Pseudonymity," in A Dictionary of Biblical Interpretation, 568-71.
4-227
97
Часть первая. Распад толкования
Те, кто приняли это решение, очевидно, смогли увидеть то, что
теперь стало очевидным: утратив авторов, тексты не имеют ни
авторитета, ни четко определенного смысла.
Что, спрашивает Мишель Фуко, представляет собой автор?
Зачем присваивать тексту чье-то имя? При рассмотрении этих
вопросов Фуко прежде всего интересует, как функционирует
понятие автора. Идея авторства действует как принцип, позволяющий
объединить несколько текстов и относиться к ним так, словно они
составляют логически связанную группу. Например, понятие
«Павел» служит средством, позволяющим нам устранить
несоответствия между Посланиями к Римлянам, Галатам, Коринфянам, Ефе-
сянам и т. д. В дополнение к тому, что понятие автора обеспечивает
единство в рамках одного текста, оно также снимает противоречия,
которые в противном случае можно было бы обнаружить в серии
текстов. Автор избавляет нас от последствий герменевтического
релятивизма и неопределенности значения. Толкователям, вероятно,
хотелось бы верить в некое разумное присутствие, определяющее
текст, но подобные убеждения Фуко называет проявлением
нечестности, если не идолопоклонства. Автор — всего лишь временная
мера, предпринятая толкователями, в страхе перед перспективой
бесконечности значений: «Автор выступает в роли принципа
экономии в условиях разрастания значений... итак, автор — это
идеологическая фигура, с помощью которой мы маскируем свой страх
перед безудержным разрастанием количества значений».106
В отношении природы исторического автора, Фуко, как и Барт,
уверен, что язык и мышление человека формируются под влиянием
господствующего лексического набора данной эпохи и культуры.
Для Фуко вопрос: «Что представляет собой автор?» перестает быть
метафизическим. Автор не рождается субъектом, но становится
им, подвергаясь воздействию системы отличий — то есть
подчиняясь языку. Предлагая еще одну версию отрицания реализма в
герменевтике, Фуко исследует историю идей и институтов и приходит
к выводу о том, что «порядок вещей» не является данностью или
даже необходимостью. Не существует истины, справедливой в
отношении всех человеческих существ. Читателям романа «Гордость
и предубеждение» могли казаться абсолютной истиной слова о том,
106 Michel Foucault, "What is an Author?" в Textual Strategies, ed. Josue V. Harari (London:
Methuen, 1979), 159.
98
Глава вторая. Упразднение автора
что «неженатый мужчина, обладающий достаточным состоянием,
непременно нуждается в жене», но Фуко утверждал бы, что Джейн
Остен просто отобразила «режим» знания/истины/власти, в
условиях которого формировался менталитет той эпохи. В наше
время, говорит Фуко, мы научились заменять понятие «Человек»
понятием «Язык». Более того, Фуко объявляет о смерти «Человека»:
независимого субъекта, владеющего собственной речью, больше
нет. Автор также превратился в идею, надобность в которой отпала
раз и навсегда. Вместо вопроса «Кто настоящий автор?» или «Что
он имел в виду?», Фуко призывает нас задаться новыми
вопросами: «Какова идеология текста? Какие цели он преследует? Кто его
контролирует?» Однако за всеми этими вопросами скрывается еще
один, задаваемый все более безразличным тоном: «Какая разница,
кто это написал?»
Между атеизмом и гуманизмом. Судьбы автора в
традиционной литературной критике и Бога в традиционном богословии
неразрывно связаны между собой. Смерть одного привела к смерти
другого. Для неверующего ни Бог, ни смысл не являются объективной
реальностью. Во что же верят неверующие? Возможно ли вообще
думать или действовать, не придерживаясь никаких
метафизических посылок? Роуэн Уильяме предлагает полезное альтернативное
определение метафизики в попытке прояснить те основные
представления о реальности, которые диктует нам практика.107 Суть в
том, что на практике каждый придерживается того или иного
мировоззрения. На каких же убеждениях основывается
деконструктивизм? На атеистических? В самом ли деле деконструктивизм есть
«смерть Бога в письменном выражении»?108
Несколько богословов попытались определить, что может
представлять собой богословие после деконструкции. Карл Рашке
считает, что богословие сводится к «составлению эпитафий».109
«Умирающий» Бог (то есть Бог, в которого стало невозможно верить
большинству обитателей модернистской и постмодернистской эпохи) —
это Бог метафизики и богословия, Высшее Существо, Абсолют,
всеведущий Субъект. Должна ли смерть метафизического божества
107 Rowan Williams, "Between Politics and Metaphysics," Modern Theology 11 (1995): 3-22.
108 Эта фраза взята из Carl A. Rashke, "The Deconstruction of God," 3.
109 Там же.
Часть первая. Распад толкования
знаменовать собой конец богословия? Можно ли рассматривать
деконструктивизм как «негативное богословие в письменном
выражении», где «негативное» богословие обозначает представление
о том, что Бога невозможно познать человеческими категориями?
Несколько комментаторов Дерриды отметили сходство между диф-
ферансом и Богом негативного богословия.110 Да и сам Деррида
утверждает: «Язык начался без нас, в нас и до нас. Именно это
богословы называют Богом».111
Пока слишком рано делать выводы о том, окажутся ли
союзниками деконструктивизм и негативное богословие. Я лично считаю,
что в планы Дерриды едва ли входит, упразднив Бога метафизики,
впустить его обратно через черный ход дифферанса. Однако моя
главная мысль заключается в том, что представление об
авторе-человеке тесно связано с представлениями о Боге. Неверующие
отвергают традиционную картину как Бога, так и автора, поскольку
обе эти картины предполагают наличие некоего разумного
действующего лица, находящегося вне языка и контролирующего его,
обеспечивая соответствие слов миру и гарантируя надежность
и истинность речи. Людвиг Фейербах, возможно, величайший из
«мастеров подозрения», упразднил богословский реализм,
высказав предположение, что на самом деле Бог есть не что иное, как
проекция человеческих ценностей и убеждений. «Бог» — это
искусственная конструкция, в которой человеческие существа воплощают
свое осознание бесконечности. По Фейербаху, осознание
присутствия Бога и самосознание неразличимы: «Божество — это не что
иное, как человек, или, точнее, человеческая природа, очищенная
и освобожденная от ограниченности отдельно взятого человека,
воплощенная в конкретном существе, т. е. рассматриваемая и
почитаемая как иное, отдельное бытие. Все атрибуты божественной
природы являются, по сути, атрибутами природы человеческой».112
Фейербах подытожил эту «деконструкцию» Бога краткой
формулировкой: «Секрет религии кроется в атеизме».
С точки зрения неверующих постмодернистов, автор
является проекцией читателя, во многом подобно тому, как Бог, для
110 Бог негативного богословия — это Бог, о котором ничего нельзя сказать определенно, кроме
того, что он есть тайна, недосягаемая для человеческого языка и понятий.
1'' Derrida, "How to Avoid Speaking: Denials," в Harold Coward and Toby Foshay, eds., Derrida and
Negative Theology (Albany: SUNY Press, 1992), 99.
112 Ludwig Feuerbach, The Essence of Christianity (Buffalo: Prometheus Books, 1989), 14.
100
Глава вторая. Упразднение автора
Фейербаха, оказался проекцией человеческого существа. Если
Фейербах обнаружил в атеизме секрет религии, то Деррида находит
в отсутствии секрет присутствия. Все наши привычные лексические
наборы и системы мышления предназначены для сокрытия
ужасной истины: за текстом нет никакого авторитетного присутствия.
Ни выше, ни ниже того, что мы говорим, нет ничего, что
«привязывало» бы его к реальности.
Это приводит нас к последнему из «мастеров подозрения» —
Чарльзу Дарвину. И Рорти, и Деррида, как, вероятно, и «пользователи»
и «упразднители» в целом, видят мир как противоборство
безликих сил. Рорти признает, что «истоки прагматизма — в
натурализме Дарвина».113 Бытие мира, включая человечество, — результат
цепи случайностей, произошедших в космосе. Деррида также идет
по стопам Дарвина, хотя и менее явно. Великие системы, которые
стремится упразднить деконструктивизм, являются
искусственными попытками придать устойчивость «чему-то по сути своей
нестабильного и хаотичного».114 Иначе говоря, для Дерриды
постоянство всегда рукотворно и неестественно. Хаос и нестабильность —
«первичные истины» постмодернизма как такового. Потому что,
если принять дарвиновскую предпосылку, различие между
исходным совершенством и последующим падшим состоянием просто
перестает существовать. Поэтому ни Рорти, ни Деррида не могут
признать возможности устойчивой структуры, которая была бы
частью сотворенного порядка, и поэтому — благом; для них всякая
структура — лишь тщетная попытка создать временную
стабильность из внутренне нестабильного и мятежного мира.
Остается вопрос: какое видение Бога и человека являет нам
практика деконструктивизма и упразднения автора? Похоже,
герменевтический нереализм породил две противоположных картины
интерпретации после смерти автора; для одной из них характерно
неискоренимое чувство усталости от мира, для другой — чувство
неуемной радости. Иначе говоря, является ли потеря Бога, а с ним —
и смысла, причиной для скорби или радости?
Труды Марка С. Тейлора и Дона Капитта, ведущих
американского и английского представителей деконструктивистского
113 Rorty, "Remarks on Deconstruction and Pragmatism," в Mouffe, ed., Deconstruction and
Pragmatism, 15.
114 Там же, 83.
101
Часть первая. Распад толкования
богословия соответственно, пропитаны
маниакально-депрессивными перепадами скорби и облегчения, вызванных смертью Бога,
автора и смысла.115 С одной стороны, Тейлор и Капитт радуются
падению власти: «Бог» ограничивает возможности человечества
так же, как «Смысл» ограничивает возможности читателя. С точки
зрения этих мыслителей век автора был веком притеснения.
«Реальность» — стабильный порядок вещей, определяемый словами с
постоянными значениями, — ограничивает человеческую свободу.
В отношении языка Капитт — Пользователь: «Слова — только шум,
который мы используем для достижения целей чисто человеческих.
Им не нужны Значения...»116 Как и Ницше, Тейлор и Капитт
пытаются обратить потерю смысла в чистую прибыль для человечества.
Потому что лишь тогда, когда мы оставляем надежду на лучшую
жизнь вне этого мира и на обнаружение скрытого смысла жизни,
мы становимся способны полностью отдаться этой жизни. Мы
можем резвиться на поверхности мира, в пене, которую мы сами
наделяем теми или иными качествами. Для Капитта высшее благо
человека — не в будущей жизни, а в этой: «Счастье, обретаемое
в момент, когда человек осознает свою полную погруженность и
вплетенность в бесконечную изменчивость вещей, называется
состоянием экстатической имманентности».117 Удивительным
образом переворачивая Платона с ног на голову, противники
реализма утверждают, что все существующие в мире отличия
являются порождением наших слов. «С точки зрения противников
реализма, мы — единственные творцы значений, истин и ценностей,
а наши теоретические постулаты, такие, как «Бог», «гравитация»
или «справедливость», не существуют помимо языка, на котором
мы говорим о них, и практического применения, которое мы для
них находим».118
В своей статье 1966 года Деррида различает две возможных
реакции на кончину логоцентризма: можно скорбеть и писать
эпитафии, а можно — радоваться и писать панегирики. Ницше пошел
вторым путем, торжественно провозгласив безудержно свободную
115 О его нереализме: см. Mark С. Taylor, Erring: A Postmodern A/Theology, and Don Cupitt, The
Long-Legged Fly, особ, главы 15, 16 "The Mourning is Over" и "On the Level," и Don Cupitt, The
Last Philosophy (London: SCM, 1995).
116 Cupitt, The Last Philosophy, 33.
117 Там же, 119.
118 Там же, 148.
102
Глава вторая. Упразднение автора
игру мира «без истины, без происхождения, открытую для
активной интерпретации».119 Нигилизм — отрицание смысла, авторитета
и власти — следует не только принимать, но и утверждать.
Только утвердив смерть автора, мы сможем избавиться от «платонизма
смысла», который не дает нам, как читателям, познать собственные
творческие способности.
В самом ли деле «смерть» автора, или связанный с нею
нигилизм, освобождают, — или ликование преждевременно? Уместны
ли радость и свобода в связи со «смертью» Бога? Тейлор и Капитт,
как это ни иронично, хотели бы, чтобы мы поверили, что так и
есть на самом деле, и признают непоследовательность
собственного утверждения с веселой невозмутимостью. Нечто большее, чем
простое пожатие плечами, могло бы означать, что они пытаются
утверждать истину. По сути, их воззрения паразитируют на
деконструкции метафизики и на упразднении автора.
Более детально вопрос о «смерти» автора будет рассмотрен во
второй части. Но одно критическое наблюдение можно привести,
не откладывая. Шон Берк утверждает, что заявления о «смерти»
автора спровоцированы высказываниями философов Романтизма
(напр.: Шиллинга и Фихте), которые изначально преувеличивали
силу творческого воображения. Для таких поэтов, как Уодсворт,
Природа «уже не просто данность, но нечто, нуждающееся в
эстетическом завершении».120 Поэт, перестав быть просто
привилегированным наблюдателем Божьего творения, рассматривается теперь
как подражатель божественному акту творения. Поэтому Иоанн
Герде и сказал: «Автор превратился в Бога-Творца».121 Берк с
сожалением отмечает, что понятие Бога стало ассоциироваться с
понятием автора. По его мнению, Упразднители протестуют против
ложного представления личности автора как абсолютного творца
языка. Модели автора или слишком трансцендентны, или слишком
имманентны: в первом случае, автор — господин языка, во втором —
его раб. Автор — или самостоятельная личность, или вообще
не личность. Как мы постараемся доказать во второй части, воля
человека — в частности, его свобода и ответственность — в
самом деле под угрозой, и назрела необходимость не в отвержении
119 Derrida, "Structure, Sign, Play," 164.
120 Burke, Authorship, xx.
121 Цит. по Burke, Authorship, xxii.
103
Часть первая. Распад толкования
богословских моделей, а в более разумной богословской
антропологии. Потому что, как верно отметил Берк, «великие кризисы
постмодернизма есть кризисы авторства».122
УПРАЗДНЕНИЕ АВТОРСКОГО ЗАМЫСЛА
Итак, «смерть» автора — нечто большее, чем один из моментов
современной теории литературы. Она связана с радикальной
критикой задач интерпретации и традиционного самовосприятия
западной культуры в отношении классических текстов литературы,
философии и христианского вероучения. Из сказанного выше ясно,
что как в период, предшествующий модернизму, так и в эпоху
самого модернизма целью интерпретации было восстановление
авторского замысла. Идет ли речь об авторе-человеке (при модернизме)
или о божественном авторе (как в большей части средневековой
экзегетики) — вопрос второстепенный; до сравнительно
недавнего времени важность авторского замысла практически ни у кого не
вызывала сомнений.123 Короче говоря, авторский замысел считался
объектом традиционного толкования, желанным «домом смысла»,
где совпадают воля автора, слова и мир.
Деррида отрицает тот факт, что авторский замысел служит
основой и целью толкования. Подчиняется ли значение голосу? Как
мы уже видели, Деррида обнаружил «безобразную канаву»,
разделяющую сознательную речь от «письма». Деррида утверждает, что
письмо — искусственная и произвольная система различий и
противопоставлений, в рамках которой говорит и мыслит каждый
отдельный человек, — разрушает осознанные цели автора. Автор как
самостоятельная личность был упразднен, и представлен как
метафизический, риторический и идеологический конструкт. Автор и
используемые им знаки — всего лишь ничтожество на пересечении
бурлящих потоков различных противоречивых сил и
составляющих его дискурсов. В самом деле, в представлении Гарольда Блума
автор не личность, направляющая дискурс, но некто, кто старается
быть услышанным на фоне предшествующих текстов. Аргументы
против автора выглядят настолько убедительными, что нам
приходится задаться вопросом — может ли автор вообще говорить то,
что он имеет ввиду?
122 Там же, xxix.
123 Иудейское мышление идет другим путем. См. обсуждение раввинистической интерпретации
и теорий текстуальности гл. 3.
104
Глава вторая. Упразднение автора
Определение значения: замысел автора как основа,
цель и руководство толкования
Ниже я изложу доводы в защиту определения значения и
толкования в контексте авторского замысла, исследуя магистерскую
диссертацию Э. Д. Хирша на тему «Обоснованность интерпретации».124
Я выбрал работу Хирша в качестве отправной точки по нескольким
причинам. Во-первых, хотя по профессии он — литературовед,
многие экзегеты считают Хирша самым стойким защитником автора и
объективности в интерпретации. Во-вторых, он — один из главных
поборников герменевтического реализма и правильной
интерпретации в условиях современности; он убежден, что текстовое
значение неизменно и определимо и что толкования могут быть верными
и обоснованными. В-третьих, работы Хирша привлекли
значительное внимание; изучению его взглядов посвящены многие главы и
даже книги. И в-четвертых, Хирш является ярким представителем
той самой автороцентричной литературной критики, против
которой возражают Упразднители и Пользователи.125
Основа
Хирш определяет смысл как послание, которое автор стремится
передать посредством текста. Интерпретация есть поиск смысла,
или послания, которое намеревается передать автор. Для Хирша
все зависит от объективности и постоянства авторского замысла,
который определяет значение. Именно благодаря замыслу автора,
значение текста остается всегда неизменным (и потому может быть
доступно многим читателям).
Важно отличать версию авторского замысла по Хиршу от
другого, более психологичного взгляда, который тесно связан с
романтическим стремлением к переживанию и сопереживанию, чем поиску
научного знания. В частности, в немецком романтизме труды гения
считались выражением его «я». Например в 1778 году Гердер
написал, что «живое чтение, стремление прочувствовать душу автора,
124 Работа, которая, кстати, была напечатана в 1967— в том же году, что и Speech and Phenomena
Дерриды, деконструкция теории знаков Гуссерля.
125 Говоря «в-четвертых», я, конечно, оставляю возможность того, что есть и иная версия
автороцентричной критики и авторского замысла, которые не попадают под критику,
направленную против Хирша. Эта иная версия детально изложена в гл. 5.
105
Часть первая. Распад толкования
есть единственный способ чтения и наиболее глубокое средство
саморазвития».126 Жорж Пуле и женевская критическая школа не
так давно поддержали этот взгляд на текст как на вербальное
воплощение сознания автора. Цель чтения — стать настолько
восприимчивым, чтобы восстановить сознание автора, а возможно — даже
поучаствовать в нем. С этой точки зрения, хорошее толкование есть
встреча разумов автора и читателя. Как выразил это Пуле: «Читая,
как следует... я мыслю, как другой человек... Мое сознание ведет
себя так, словно оно принадлежит другому».127
Важно также понять различие между взглядами Хирша и тех,
кто утверждают что у текста есть независимый смысл. Тексты не
обладают самостоятельным значением, а тем более — жизнью. Они не
порождают себя и не меняются со временем. С точки зрения Хирша,
«значение текста» — это просто «авторское значение». Между
ними нет значительного или доказуемого различия. Утверждая
такую тождественность, Хирш, тем самым, заявляет: текстов без
авторов не бывает. Если, например, волна случайно выложит гальку на
берегу в узор, который будет напоминать фразу «быть или не быть»,
Хирш не называет это текстом. Далее, ошибкой было бы пытаться
толковать гальку, поскольку она, в строгом смысле, не несет
послания.128 Замысел — необходимое условие существования значения.
Но что значит замысел? В повседневной жизни мы
употребляем это слово, говоря о том, что человек намеревается сделать.
Мы говорим о преднамеренном поступке в противоположность
нечаянному. Даже в этом обычном значении слово «замысел»
указывает на ментальный процесс. Однако Хирш использует это слово в
более узком, философском смысле, обращаясь к феноменологии
Эдмунда Гуссерля.129 «Замысел», или «интенциональность» означает,
126 Цит. по М. Н. Abrams, A Glossary of Literary Terms, 4th ed. (New York: Holt, Rhinehart and
Winston, 1981), 134.
127 Poulet, "Phenomenology of Reading," New Literary History 1 (1969-70), цит. по Abrams,
A Glossary of Literary Terms, 134-35. Следует отметить, что Пуле часто пользовался трудами автора
(напр.: перепиской, дневниками), чтобы восстановить более полную картину авторского «я».
128 Если только у нас не будет причин считать, что галька была уложена невидимым или
божественным автором. Пример с галькой на берегу широко рассмотрен в литературе. См.,
в особенности, Steven Knapp and Walter Benn Michaels, "Against Theory," Critical Inquiry 8 (1982):
723-42; John R. Searle, "Literary Theory and Its Discontents," 649-56, Jorge J. E. Garcia, "Can There
Be Texts Without Historical Authors," 245-53.
129 Хирш утверждает, что теория смысла по Эдмунду Гуссерлю — самое подробное,
проницательное и убедительное объяснение значения из известных ему. (Hirsch, Validity, 58).
Франц Брентано, один из важных предшественников феноменологии, считал интенциональность
106
Глава вторая. Упразднение автора
что человеческое сознание всегда обращено к чему-то, на что-то
направлено. Изначально Гуссерль направил свои усилия как раз
против романтической психологизации, которая сосредоточивалась
на переживании человека, а не на объекте этого переживания.130
Поэтому ошибкой было бы объединять Хирша с романтическими
представлениями о восстановлении psyche автора.
Гуссерль, по мнению Хирша, проводит критическое различие
между актом сознания и объектом сознания. Природа сознания
такова, что оно всегда осознает что-то. Невозможно просто
осознавать. Даже при пробуждении мы уже осознаем, что проснулись
и что начался новый день. Тот факт, что сознание — это всегда
осознание существования чего-то, отделяет ментальные
процессы от физических. Ментальные процессы — акты сознания —
всегда направлены на что-то (напр.: мысль, убеждение, надежду,
восприятие).131 Замысел — это действие, в котором сознание
направлено на что-то. Каждое осознанное — интенциональное —
действие сознания имеет цель, на которую оно (сознание)
ориентировано. Например, осознанной целью веры является суждение,
в то время как осознанной целью выбора является возможность.
Сознание интенционально, потому что всегда направлено на что-
то. На самом деле, любое проявление сознания — восприятие,
память, желание, воля и вера, как и понимание смысла значения, —
осознанно. Например, все знают о существовании бананов
(банан же, напротив, не может ничего знать). Очевидно, что Хирш
шагнул за пределы обычного психологического понимания
осознанности (например, рассматривая в качестве объекта замысел
автора). Итак, Хирш подразумевает под авторским замыслом
объект (напр.: послание), осознаваемый автором. Значение текста не
следует путать с субъективным ментальным действием автора или
определяющей характеристикой ментальных процессов, в противоположность физическим.
Гуссерль учился с Брентано и использовал его выводы для того, чтобы пересмотреть теорию
Декарта о человеке как субъекте. См. W. Т. Jones, A History of Western Philosophy, 2d ed. rev. (New
York: Harcourt Brace Jovanovich, 1975), 5:106-7, 250-75.
130 Следует отметить, что Хирш ограничивается цитированием ранней работы Гуссерля,
Logical Investigations. Позже Гуссерль стал на сторону «трансцендентального идеализма», заняв
позиции, которые были бы диаметрально противоположны воззрениям Хирша. Более подробно
о взаимоотношениях Гуссерля и Хирша см. G.B. Madison, Hermeneutics ofPostmodernity: Figures
and Themes (Bloomington: Indiana Univ. Press, 1988), 7-12.
131 Философия Гуссерля называется «феноменологией», потому что в центре ее внимания —
феномены, то есть объекты, появляющиеся в сознании в результате актов сознания.
107
Часть первая. Распад толкования
толкователя, поскольку оно — объект этого действия. Значение
существует, утверждает Хирш, когда некто хочет передать что-то
определенной последовательностью знаков. Паутина, хотя и
имеет достаточно сложную структуру, ничего не обозначает.
Подобным образом, случайная последовательность слов, созданная
волной, или обезьяной, или компьютером, тоже ничего не обозначает.
Сами по себе слова не обозначают ничего — обозначают люди.
Почему? Потому, отвечает Хирш, что значение — «дело сознания, а
не слов».132 Более того, последовательность слов ничего не значит,
пока кто-то не пожелает обозначить ею что-то: «Задача
толкователя — восстановить определенное реальное значение, а не просто
систему вероятностей».133 Хирш стремится обнаружить не langue
(языковую систему), но parole (то, как этот язык был использован
в данном конкретном случае). Хотя само действие авторского
замысла воспроизвести невозможно, его объект доступен для
воспроизведения. Эта возможность воспроизведения и гарантирует
объективность значения и интерпретации. Значение текста, то есть
его содержание, обретает постоянство и определенность благодаря
авторскому замыслу.
Цели
Итак, цель толкования по Хиршу — раскрыть или
восстановить значение, которое намеревался передать автор. Он уверен,
что авторский замысел является критерием литературного
изучения: «Всякая правильная интерпретация любого рода основана на
пере-осознании того, что имел в виду автор».134 Но не всякое
восстановление можно считать таковым. Интерпретация должна быть
научной, а не походить на гадание или сеанс спиритизма. Поэтому
для интерпретации необходима методика изучения
соответствующего объекта: «Под вопросом находится само право интерпретации
(подразумевается — и всех гуманитарных дисциплин) заявлять,
что ее цель — истинное знание».135 Знание объективно лишь
применительно к определенному объекту. Цель читателя — «мыслить»
132 Hirsch, Validity, 4.
133 Там же, 231.
134 Там же, 126.
135 Там же, 205.
108
Глава вторая. Упразднение автора
в том же направлении, что и автор. Поэтому Хирш уверен, что цель
интерпретации — общее значение. Цель же его трудов —
«воодушевить тех, кто еще убежден в том, что знание доступно и в
интерпретации текста».136
Центральным понятием взглядов Хирша на цели
интерпретации является различие между субъектом и объектом. Смысл не
следует сводить к преднамеренным действиям, направленным на
его создание или воспроизведение. Различные акты сознания могут
стремиться к одной и той же осознанной цели. Моя семья, к
примеру, «стремится» к следующему Рождеству — одной цели, общей
для всех нас. Подобным образом и значение — цель замысла
автора — может быть общим для разных читателей. Хирш определяет
вербальное значение как «содержание осознанной цели, доступной
для обобществления».137 Толкователь излагает значение
текста, сохраняя изначальный смысл содержания, невзирая на
различия в контексте. Следовательно, в терминах Хирша значение
не может быть просто «тем, как я понимаю этот текст». Правильная
интерпретация — дело общественное. И цель толкования — в том,
чтобы восстановить единственно правильное значение текста.
Руководство
Хирша многократно критиковали за его определение значения.
Чаще всего за то, что он дает лишь условное определение,
являющееся только личной рекомендацией. Однако Хирш не просто
высказывает личное мнение. Он утверждает, что если авторский замысел
не будет принят как норма толкования, то не останется надежного
способа найти различия между правильной и неправильной
интерпретацией — между экзегезой (тем, что извлекается из текста) и
эйзегезой (тем, что читатель в текст вкладывает).
Хирш также различает «значение» и «значимость». В то
время как значение — это смысл, который намеревался вложить
автор, значимость — это соотношение значения текста с чем-то вне
его: «Значимость всегда субъективна, она никогда не может быть
объективной».138 С этой точки зрения значение текста остается
136 Hirsh, Aims in Interpretation.
137 Hirsch, Validity, 219.
138 Там же, 63.
109
Часть первая. Распад толкования
неизменным, но значимость его — неисчерпаема, потому что текст,
будучи сам по себе неизменен, может оказываться в разных
ситуациях. Таким образом, хотя осознанная цель (а именно, значение,
которое вкладывал автор) остается неизменной, действия,
происходящие впоследствии и направленные на ее восприятие, различны.
Хирш ограничивает термин «интерпретация», называя так лишь
комментарии к значению текста; рассуждения о его значимости он
называет «критикой». Игнорировать это весьма существенное
различие означало бы прийти к скептицизму и релятивизму в
интерпретации, поскольку тем самым уничтожалось бы различие между
тем, что текст означает сам по себе, и тем, что он значит для меня.
Однако именно это различие между значением и значимостью,
противопоставление одного термина другому, и пытаются упразднить
постмодернисты.
Подытожим: Хирш считает, что значение обусловлено
действиями сознания, которым лишь сопутствуют высказывания:
«Последовательность слов ничего не значит, пока кто-то не
обозначит ею нечто... Вне человеческого сознания нет волшебной страны
значений».139 Автор обладает авторитетностью, поскольку источник
неизменности значения — сознательное намерение, а не диапазон
возможных словарных определений. Правильной является
интерпретация, способная извлечь значение, которое вкладывал автор.
Сумел ли Хирш понять истинную природу интерпретации, или
он дал толчок «метафизическому импульсу», представляющему
собой понятийные дихотомии (напр.: правильность/неправильность;
объективный/субъективный; значение/значимость) и установил
порядок в литературоведении? Что бы мы ни сказали о
«метафизическом импульсе» Хирша, ясно, что «деконструктивный импульс»
Дерриды направлен на упразднение различий, являющихся
естественно необходимыми.
Замысел под вопросом
Можно ли апеллировать к замыслу автора? Утверждение о том,
что авторский замысел есть основа, цель и руководство для
толкования, ставит три основных вопроса: (1) вопрос метафизический:
«Что есть авторский замысел и в чем он заключается?» (2) вопрос
139 Там же, 4.
ПО
Глава вторая. Упразднение автора
эпистемологический: «Можем ли мы постичь замысел автора, и как
узнать, что мы достигли этого?» (3) этический вопрос: «Зачем нам
следует стремиться к познанию авторского замысла?»
Чей замысел? Какое сознание? Какой контекст?
У Хирша «авторское значение» берет на себя роль логоцентри-
ческого принципа, стоящего над языком, которому должно
соответствовать толкование, с тем чтобы действительно быть
«истинным» и «правильным».140 «То, что имел в виду автор» становится для
Хирша неизменной целью, на которой основывается значение,
потому что оно таким образом оказывается вне системы знаков.
Значение тогда есть пример превосходства разума над языковым
материалом.
Вера Хирша в «авторский замысел» однозначно делает его
сторонником того, что постмодернисты отрицают как «платонизм
значения». По мнению критиков Хирша, он превращает «авторский
замысел» в «вещь в себе»: «Хирш наделяет значение всеми
свойствами классического понятия существующей реальности (res),
иначе говоря, материализует его».141 Упразднитель заявляет, что
таким утверждением Хирш пытается оградить «дом» значения от
вредного воздействия письма. В самом ли деле Хирш может
надежно защитить значение от неустойчивости и игры знаков? Если
значение есть дело сознания, значит ли это, что замыслы рождаются
в сознании автора? Хирш не согласен с мнением, что читатели
могут каким-то мистическим образом вступить в контакт с автором.
Авторский замысел следует определять из текста. Но это значит, что
осознанность лингвистически опосредована: «Осознанность... сама
есть текст и должна подчиняться основному условию
текстуальности, провозглашенному им [Хиршем]: радикальной неоднозначности.
Ясно, что он желает избавить свободный замысел от загрязнения
письмом, однако как этого достичь, он нам так и не говорит».142
В эссе «Контекст события подписи» Деррида вводит понятие
концептуального разрыва — «безобразной канавы» — между
значением слов и авторским замыслом. Эта «безобразная канава»
140 Следовательно, авторский замысел есть «онтологическая» основа смысла; то есть если бы
не он, значение просто не могло бы появиться.
141 G. В. Madison, Hermeneutics of Postmodernity, 6.
142 Frank Lentricchia, After the New Criticism (London: Methuen, 1980), 279.
Часть первая. Распад толкования
отрицает связь между последовательностью слов и любым единым
контекстом, потому что назначение авторского замысла как раз
в том, чтобы определить смысл последовательности слов, связав
ее с определенным контекстом. Для Дерриды ключевое свойство
знаков — их повторяемость в отсутствие того, кто их произвел:
«Однако знак обладает характеристикой читаемости даже тогда,
когда момент его создания невозвратимо утрачен, и я не знаю, что
предполагаемый автор-писатель осознано намеревался сказать в
момент написания, т. е. предоставления знаку свойственной ему
изменчивости».143
Деррида отрицает не понятие замысла, а его способность
составлять значение текста. «Вопрос в том, — сказала Алиса — можем ли
мы заставлять слова значить то одно, то другое».144 Суть же в том,
что человек, который пишет, использует для этого язык и
вынужден подчиняться его правилам и логике. Критическое прочтение
должно быть направлено на «определенное, не воспринимаемое
автором соотношение того, что ему подвластно, и того, чем он не
управляет в структурах употребляемого им языка».145
Субъективность и осознанность не предшествуют формам жизни и языковым
системам, но являются их функцией. Поэтому замысел никогда не
бывает полностью самодостаточным и прозрачным, даже для того,
кому принадлежит. Как сказал Ролан Барт: «Я — не невинный
субъект, предшествующий тексту... Это «я», подходящее к тексту, уже
само по себе — множество других текстов».146 Кратко говоря, если
«я», личность человека, не имеет постоянства вне игры языка, то и
замысел его иметь не может.
Если для Хирша язык по сути своей осознан, то для Дерриды он
по сути своей «итеративен», то есть — воспроизводим в отрыве от
оригинального замысла (повторяем, но с отличием). Язык первичен
по отношению к авторскому замыслу и превосходит его. Язык
просто невозможно привязать к отдельному замыслу или контексту.
«Цитировать можно всегда, а значит, возможно цитирование вне
контекста, против воли автора. Повторяемость исключает любой
143 Derrida, "Signature Event Context," 182.
144 Lewis Carroll, "Through the Looking-Glass," в The Philosopher s Alice, ed. Peter Heath (New
York: St Martin's, 1974), 193.
145 Derrida, Of Grammatology, 158.
146 Цит. по: Hoy, "Must We Mean What We Say?" в Brice R. Wacterhauser, ed., Hermeneutics and
Modern Philosophy (Albany, N.Y: SUNY Press, 1986), 408 (перевод мой).
112
Глава вторая. Упразднение автора
замысел».147 Язык, который можно было бы использовать только
один раз, не был бы языком. Поскольку же знак или текст могут
появляться в новых контекстах, итеративность означает
неидентичное повторение. Авторский замысел какой угодно силы
недостаточен для того, чтобы предотвратить этот контекстуальный
дрейф: «Этот сущностный сдвиг, влияющий на письмо как на
итеративную структуру, отрезанную от всякой абсолютной
ответственности, от сознания как высшей власти, осиротевшую и лишенную
еще при рождении помощи отца, есть именно то, что Платон
осуждает в диалоге «Федр».148 Деррида показывает, как тексты могут
постепенно отходить от авторского замысла, в эссе «Двойная
сессия». Там он помещает рядом тексты Платона и Малларме,
заставляя читателя проводить параллели между этими весьма отличными
друг от друга трудами и читать каждый из них в свете другого.
Отвергая важность значения речи демонстрацией изменчивости
письма, Деррида стремится в каждом тексте показать, как язык сводит
на нет авторский замысел. Воля автора не может определять смысл
текста. В самом деле, Деррида даже подразумевает, что в
отношении языка автор лишен свободы воли.149
Можно ли восстановить замысел?
Толкователь традиционного толка ставит перед собой цель
ничуть не меньшую, чем «воображаемое восстановление говорящего
субъекта».150 Как мы можем узнать, что именно намеревался сказать
автор? Хирш признает, что точность здесь невозможна и что
литературоведы имеют дело с подобиями: «В герменевтике
удостоверение есть процесс установления относительных вероятностей».151
Однако Деррида приводит существенные возражения против
восстановления замысла и, следовательно, против установления
достоверности интерпретации.
147 Leonard Lawlor, "Dialectic and Iterability: The Confrontation Between Paul Ricoeur and Jacques
Derrida," Philosophy Today 32 (1988): 189.
148 Derrida, "Signature Event Context," 181.
149 Вполне возможно, что, как и доказывали Шон Берк и Кристофер Норрис, Дерриду зря
относят к поборникам «смерти автора» (Burke, Death and Return of the Author, 140ff.; Norris,
Derrida, 112-13). Тем не менее ясно, что Деррида, пусть и не убив автора, по крайней мере
оставил его смертельно раненым.
150 Hirsch, Validity, 242.
151 Там же, 236.
113
Часть первая. Распад толкования
Против восстановления. Для Дерриды интерпретация —
задача восстановления авторского замысла — становится
невозможной из-за природы самого языкового знака. Как мы уже видели, суть
знака — это не вещь, обозначаемая им, а его отличие от других
знаков. Более того, повторяемость знака — его постоянное
свойство. Из этого вытекает фундаментальная проблема: когда знак, или
текст, повторяется (или читается) в новом контексте, как нам
определить, которые из его обозначений соотносятся с оригинальным
контекстом (а именно — с авторским замыслом), а какие —
принадлежат новому? «Письменный знак несет в себе силу,
разрушающую его же контекст». 152 Повторюсь: итеративность —
неидентичная повторяемость. Услышанное в другом контексте может
отличаться от того, что намеревался сказать автор. И никакой
авторский замысел не убережет от этого «контекстуального сдвига».
Итеративность упраздняет интенциональность.
Итак, с точки зрения многих критиков-постмодернистов,
«авторский замысел» — просто название, которое мы
присваиваем понравившимся нам толкованиям. Предпочтительнее говорить
не о «реконструкции», а просто о «конструкциях». В конце концов,
единственный, кто в этой ситуации говорит от имени автора — это
толкователь. И помимо самого процесса интерпретации, нет иного
пути выявить замысел автора.
Против удостоверения. Герменевтический оптимизм Хирша
(некоторые сказали бы — наивность) отчасти объясняет
холодность, с которой его приняли другие литературоведы. Хирш,
вопреки своим оппонентам, утверждает, что объективное знание в
интерпретации возможно. Постмодернистский слух улавливает здесь
подозрительное сходство с герменевтической версией наивного
реализма, утверждающего, что мы можем получить прямой доступ
к миру или значению как таковым, словно наш разум и его
осознанные действия не мешают этому. Но даже естествоиспытатели
нашего времени признают, что наряду с непосредственным
наблюдением существует еще и теория. Откуда мы знаем, что
совпадение между нашими теориями и реальностью есть на самом деле, а
не просто возможно или вероятно? Поверить в подобное не менее
проблематично и в отношении авторского намерения. Как узнать,
Derrida, "Signature Event Context," 182.
114
Глава вторая. Упразднение автора
что нам удалось постичь его? С другой стороны, если постижение
авторского замысла — идеальная, но практически недостижимая
цель толкования, остается вопрос о критериях достоверности:
«Если понятие авторского замысла — лишь регулятивно,
толкователю не с чем критически сравнивать собственное понимание».153
Конечно, разве не может критик сверить реконструкции
авторского замысла с прошлым, как сделал бы историк? И, конечно же,
прошлое — устойчивая основа для смысла, не так ли? Как сказала
Червонная Королева Алисе, когда та попыталась по-иному
объяснить возникновение молнии: «Поздно исправляться. Когда ты что-
то сказала, тем самым ты это подтвердила, и придется мириться
с последствиями». Противники реализма, однако, настаивают на
том, что и в прошлом невозможно найти реальность. Как отмечает
А. К. М. Адам: «Опять-таки, как в случае с «авторским замыслом»,
так и с «прошлым»: когда толкователь-модернист настаивает, что
его интерпретация текста лучшая, потому что подтверждается
историческим документом, он всегда говорит лишь о собственной
интерпретации этого исторического документа».154
Против обобщения. Деконструктивизм, как упоминалось
выше, уместнее всего объединить с традицией критики разума.
Философия Дерриды, даже более чем у Канта, — философия
ограничений. В конечном итоге, Деррида опровергает утверждение, что
именно эти понятия должны быть рациональными. Каждый набор
категорий, каждый набор различий и каждый способ
концептуализации мира равно относителен, ситуативен и контекстуален —
никогда не бывая абсолютным, трансцендентным и
универсальным. Полностью принимая эту точку зрения, можно заметить,
что сама грань между философией и поэзией, которая так
беспокоила Платона, выглядит несколько искусственной. Можно
понять, почему Ницше утверждал, что истины — это просто
метафоры. Можно понять, почему некоторые деконструктивисты
могут называть метафизику просто хорошей историей (метапо-
вествованием) или почему философию могут считать видом
эпической поэзии. Потому что власть философии, как и всей большой
153 David С. Ноу, The Critical Circle: Literature, History and Philosophical Hermeneutics (Berkley:
Univ. of California Press, 1978), 33.
154 K. M. Adam, What Is Postmodern Biblical Criticism ? 21.
115
Часть первая. Распад толкования
литературы, состоит в способности языка формировать наше
понимание мира, образ слов и мыслей об этом мире.
Деррида противится всему, что направляет метафизический
импульс к обобщению, к достижению некоего единообразия, к
достижению господства над чем-то путем низведения его до
постижимого разумом размера. Принимая определение языка как системы
различий, данное Соссюром, Деррида отвергает мысль о том, что
эти различия могут составлять систему. «Дифферанс» по сути
своей асистематичен. Поскольку человеческое мышление происходит
при посредстве языка и поскольку люди не способны обрести точку
зрения вне языка, мы просто не имеем средств для достижения
этого обобщенного будущего. Притворяться, что это не так, означает
использовать тоталитарные методы — принуждать других принять
тот набор различий, который по какой-то причине считается
привлекательным. Такого порядка в мире — или в интерпретации —
можно добиться только путем подавления (часто насильственного)
элементов, противоречащих нашим попыткам обобщения.
Деконструктивизм есть стратегия «детотализации». Деконстру-
ировать текст означает разобщение не текста как такового (нам он
недоступен), а текста, каким он был создан в виде некой
конструкции, обладающей единым, согласованным и целостным значением.
Кевин Харт описывает деконструкцию как демонстрацию того, что
ни один текст не может быть тотализирован (сочтен цельным) без
дополнения его сигнификации.155 То есть Деррида не уничтожает
понятия авторского замысла, а показывает ее неспособность
справиться с заданием (т. е. с функцией основы, цели и руководства
толкования). Харт верно заметил связь между тотализацией,
трансцендентным и теологическим: «Любое утверждение того, что текст
может быть целостным, — богословское».156 «Богословие» и
«метафизика» для Дерриды являются описанием стремления к цельности
и требованием ее же. Деррида, как и Ницше, уверен, что
стремление к единству есть по сути своей скрытое стремление к власти.
Деконструктивизм противится «автору», потому что видит
авторство, в конечном итоге, как тоталитарное понятие.
155 Hart, Trespass of the Sign, ix.
156 Там же, 32.
ив
Глава вторая. Упразднение автора
Следует ли стремиться к восстановлению авторского
замысла?
Являются ли попытки постичь замысел автора лишь условной
нормой толкования? Хирш пишет: «Никто не спорит, что читатель
может попытаться понять значение, вложенное в текст самим
автором. Здесь важны два вопроса: (1) стоит ли ему пытаться это
делать и (2) может ли он достичь успеха».157 Хирш дает уверенный,
утвердительный ответ. Значение есть продукт воли автора. Нет
иного критерия определения правильной и неправильной
интерпретации, кроме критерия авторского замысла. Поэтому, хотя
авторский замысел и не является единственной возможной нормой, для
Хирша он — единственная практическая норма в академической
дисциплине интерпретации. Однако решение человека, как он
будет читать — не просто академическое. Оно также касается и того,
что я назвал «нравственностью познания»: «Выбор нормы
интерпретации не определяется «природой текста», но, будучи выбором,
относится скорее к области этики, чем онтологии».158
Однако даже благосклонные критики Хирша подвергают
сомнению его аргументы. П. Д. Джул утверждает, что книгу Хирша
следует воспринимать не как аргумент, а скорее как
прагматическую рекомендацию: если хотите достигнуть правильного
толкования, ищите авторский замысел.159 В более позднем эссе Хирш
утверждает, что выбор между его реализмом и идеализмом Дерриды
и Рорти — вопрос скорее политики, чем эпистемологии. Этот
вопрос, по его словам, сводится к тому, какую культуру мы хотели бы
взращивать.160
Такое допущение играет на руку оксфордскому теоретику
литературы Терри Иглтону, который считает, что культура толкования,
которую взращивает Хирш, есть репрессивный авторитаризм: «Все,
что не удается загнать в рамки «вероятного авторского значения»,
бесцеремонно отвергается, а все, что осталось в этих рамках —
157 HirsMwiw,8.
158 Там же, 7.
159 P. D. Juhl, Interpretation: An Essay in the Philosophy of Literary Criticism (Princeton: Princeton
Univ. Press, 1980), 12.
160 Hirsh, "The Politics of Theories of Interpretation," в The Politics of Interpretation, ed. W. J. T.
Mitchell (Chicago: Univ. of Chicago Press, 1983), 329-30.
117
Часть первая. Распад толкования
жестко подчиняется этому единому правящему замыслу».161 Цель
такого подхода, очевидно, в защите частной собственности: «Для
Хирша авторское значение есть собственность автора, которую не
должен похищать или нарушать читатель».162 Иглтон предполагает,
что выбор Хиршем стратегии чтения основывается на капитализме.
Почему не обратиться к другим критериям, например, формальной
структуре текста или отклику, который он находит среди
читателей? Почему над интерпретацией должна довлеть авторитетность
автора? «Как и большинство авторитарных режимов... теория
Хирша абсолютно неспособна рационально обосновать ценности,
которыми руководствуется».163
Если правы постструктуралисты, то сказанное и написанное
авторами попадает под влияние, а возможно — даже
определяется влиянием знаковых систем (а именно — языков, лексических
наборов), которые предшествуют авторам, и системами бинарных
оппозиций, которые им приходится использовать, даже когда они
с ними не согласны (например, Павел продолжает мыслить
понятиями «хозяин» и «раб», даже когда просит Филимона относиться
к Онисиму как к брату во Христе). Стивен Мур утверждает, что
нравственная обязанность читателя в том, чтобы «иногда читать
против идеологической направленности библейского текста,
откладывая в сторону традиционную задачу восстановления авторского
замысла».164 Для Мура, в отличие от Хирша, чтение, единственная
цель которого — познание авторского замысла, может быть и
безнравственным толкованием.
Заблуждения, связанные с авторским замыслом
Некоторые современные литературоведы воспринимают
обращение к «тому, что намеревался сказать автор» в ходе интерпретации
как ошибку в категории: серьезную ошибку в рассуждении,
основанную на ложной убежденности в том, что автор имеет какое-то
отношение к значению. На эту ошибку впервые указали в 1946 г. двое
161 Eagleton, Literary Theory, 68.
162 Там же.
163 Там же, 69.
164 Moore, Poststructuralism and the New Testament, 116.
118
Глава вторая. Упразднение автора
литературоведов.165 Однако, в свете упразднения автора, я считаю,
что мы можем выделить четыре основных «заблуждения,
связанных с авторским замыслом». Любая последующая попытка воззвать
к авторскому замыслу (например, та, которую я предпринимаю
во второй части книги) должна быть свободна от этих ошибок.
1. Заблуждение о «релевантности»
«Новая критика» — существовавшее в средине двадцатого
века движение в английской и американской теории литературы,
утверждавшее приоритет автономии и формального единства
текста вместо личности или биографии автора. У. К. Уимсатт и Монро
Бирдсли заявили в знаменитом эссе 1946 года, озаглавленном
«Заблуждение замысла», что авторский замысел не релевантен для
каких-либо целей в сфере толкования. Утверждать обратное —
означает путать вопрос психологии с вопросом интерпретации. Я буду
называть их возражение «Заблуждением о релевантности» или,
более специфично, «Заблуждением привнесенной биографии».
Уимсатт и Бирдсли были убеждены, что текст как вербальная
сущность отлично функционирует и сам по себе. События личной
жизни автора не имеют связи со значением его текста. Автороцен-
тричные критики постоянно совершают ошибку в категории, путая
психологию с семантикой. «То, что хотел сделать автор, ничуть
не поможет понять то, что он сделал».ш В то время как Хирш
заявляет, что смысл есть «дело сознания», Уимсат и Бирдсли считают,
что «смысл можно установить только читая слова, а не выясняя,
что именно автор желал бы этими словами сказать».167 Новая
критика — вид литературного формализма; формалисты утверждают,
что значение — продукт лингвистических условностей, а не
авторского намерения.
165 W. К. Wimsatt Jr. and M. Beardsley, "The Intentional Fallacy," в The Verbal Icon: Studies in the
Meaning of Poetry (Lexington: Univ. of Kentucky Press, 1954).
166 Эту конкретную формулировку заблуждения я считаю здравой, неверно путать смысл
текста с тем, что планировал сказать автор. Важно отметить, что Уимсатт и Бирдсли понимают
«интенцию» в ее обычном смысле, то есть как «замысел или план в сознании автора», а не в
терминологическом смысле, характерном для подхода Хирша ("Intentional Fallacy," 4). Уимсатт
повторил свое возражение двадцать лет спустя в "Genesis: A Fallacy Revisited," в Molina, ed.,
On Literary Intention, 137-38.
167 Цитировано Джоном Бартоном в Reading the Old Testament: Method in Biblical Study (London:
Darton, Longman & Todd, 1984), 150.
119
Часть первая. Распад толкования
Мы можем, конечно, согласиться, что авторские утверждения
о намерениях или планах, как предшествовавшие тексту, так и
звучавшие впоследствии — иррелевантны, по той простой причине,
что ему может не удастся их воплотить.168 Но возможны ли
обобщения, исходя из этого утверждения об иррелевантности и делая
вывод о том, что все, касающееся автора, иррелевантно?
Хотя многие сторонники считают «Заблуждение замысла»
всеобъемлющим опровержением релевантности автора, сами Новые
Критики продолжают принимать во внимание общий контекст
автора (напр.: лингвистический, исторический, культурный). Было
бы крайне трудно, а то и невозможно, понять смысл текста, не зная
о его происхождении. Кристофер Таккетт, например, отмечает, что
нам, по меньшей мере, надо знать, на каком языке был написан этот
текст. Нам надо знать, было ли сочетание букв «p-a-i-n» написано —
то есть, по сути, осознано — на английском или французском
языке.169 Нам надо знать и о времени использования письменного
языка, чтобы определить, значит ли слово «плохой» на самом деле
«плохой» (напр.: в викторианской Англии девятнадцатого века) или
же, наоборот, «хороший» (напр.: в уличной культуре Америки
конца двадцатого века). Определение автора отвечает на оба вопроса;
назвать автора — значит определить язык (культуру) и время
(историю) происхождения текста.
2. Заблуждение о «прозрачности»
Вторая группа критиков подвергает нападкам предположения
Хирша о том, что смысл есть дело сознания и что автор полностью
осознает себя. По мнению Хирша, значение, вкладываемое
автором в текст, — это то, что «присутствует» в его сознании. Как мы
уже видели, это понятие связано с множеством метафизических и
логоцентирческих допущений в отношении человеческой
субъективности. Утверждение Хирша о том, что сознание прозрачно само
для себя — основа того, что Лентриккиа называет «герменевтикой
невинности».170
168 См. Стивен Кнапп о неудаче Мильтона в Literary Interest: The Limits of Anti-Formalism
(Cambridge, Mass.: Harvard Univ. Press, 1993), ch. 1.
169 Christopher Tuckett, Reading the New Testament: Methods of Interpretation (Philadelphia:
Fortress, 1987), 160. Такетт высказывает подобное же утверждение о необходимости «того,
что задумал автор» для определения жанра текста; я буду подробнее рассматривать это
предположение в главе 2.
170 Lentricchia, After the New Criticism, ch. 7.
120
Глава вторая. Упразднение автора
Значение, говорят оппоненты Хирша — это дело не сознания,
а подсознания, неосознанного или коллективного сознания. Фрейд
утверждает, что наши сознательные замыслы — маски, за
которыми скрываются наши неосознанные страхи, стремления и желания.
Лакан говорит, что сам язык структурирован как бессознательное.
Феминисты, например, отмечают, что традиционная западная
культура настроена против женщин. Фуко еще более обобщает это
утверждение: система обозначений, которую мы усваиваем в детстве,
имеет свойство взращивать определенный общественный порядок.
Носитель языка не осознает «глубинной структуры» бинарных
оппозиций; различия и противопоставления, создаваемые ею,
кажутся естественными. Однако за каждым «естественным» языком
скрывается набор культурных ценностей.
Дэвид Бордуэлл, автор классического труда по теории кино,
говорит о «симптоматическом» значении. В отличие от авторского
явного, или осознанного, значения, «симптоматическое» значение —
то, которое выдается «непроизвольно».171 Фильм Хичкока «Пси-
хо», например, повествует о сумасшедшем убийце, но Бордуэлл
предполагает, что его симптоматическое значение может касаться
мужского страха перед женской сексуальностью (нечто подобное
предполагали толкователи Павла, Августина и Лютера!). Суть
симптоматических значений в том, что они отражают подсознательные
и супрасознательные (напр.: культурные) силы, лежащие за
пределами сознательного замысла и контролирующие автора.
Заблуждение прозрачности рассеивается «герменевтикой
подозрительности» и ее недоверием к поверхностному впечатлению. Текст меньше
говорит о сознании автора, чем о культурных факторах,
формирующих его мышление. За конкретным авторским замыслом стоит
информация об истории и обществе, в котором автор жил.
3. Заблуждение отождествления
Третья ошибка — в стирании грани между авторским осознанием
и тем, что сказано в тексте, в отношении к ним как к одному и тому
же. В то время как первое заблуждение — эпистемологическое,
состоящее в использовании авторского замысла как свидетельства
171 David Bordwell, Making Meaning: Inference and Rhetoric in the Interpretation of Cinema
(Cambridge, Mass.: Harvard Univ. Press, 1989), 9.
121
Часть первая. Распад толкования
о том, что он сказал, это заблуждение — онтологическое,
отождествляющее значение с ментальным процессом. Поль Рикёр
доказывает, что в этом случае из поля зрения выпадают события,
происходящие в процессе передачи автором своих мыслей
посредством письма. «Авторский замысел и значение текста перестают
совпадать».172 Письменное изложение — это начало того, что Рикёр
называет «семантической автономией» текста. В то время как
ментальный замысел автора — явление недолговечное, текст обретает
собственное существование. Авторский замысел как момент
физической жизни автора — событие преходящее, которое невозможно
восстановить и которым нельзя поделиться. Итак, подобно «Новым
критикам», Рикёр отстаивает «депсихологизацию» толкования.173
Деррида, со своей стороны, утверждает, что текст не может не
отличаться от авторского замысла, поскольку знаки по природе
своей повторяемы. Однако Деррида не считает, будто можно просто
отбросить понятие авторского замысла. Он ставит под сомнение
способность этого замысла играть роль логоцентрического
принципа и таким образом служить основой для значения. И вновь цель
Дерриды — не уничтожение замысла, а определение его места:
присутствие в письме. Вердикт Дерриды в отношении Руссо
может выразить его отношение к интенциям вообще: «Замысел,
который он декларирует... прописан в системе, в которой более не
доминирует».174 Вкратце: не следует путать вербальное значение с
ментальным феноменом.
4. Заблуждение об объективности
Каждую версию герменевтического реализма необходимо
отделять от другой подобного тому, как Хирш разделяет понятия
значения и значимости, разделяет стабильный объект и ряд
серией попыток его восприятия. Реалист настаивает на том, что цель
172 Paul Ricoeur, Interpretation Theory: Discourse and the Surplus of Meaning (Fort Worth:
Texas Christian Univ. Press, 1976), 29. Заметим, что Рикёр использует термин «письмо» в его
обычном смысле, а не в употребляемом Дерридой значении «безличной системы языка, которая
предшествует устному и письменному дискурсу».
173 Рикёр также предостерегает против рассмотрения текста как сущности без автора, хотя
эта тема не настолько выражена, как тема семантической автономии текста в его последующих
трудах (ср. его Interpretation Theory, 30).
174 Derrida, OfGrammatology, 243. из этой цитаты можно сделать вывод, что Деррида ошибочно
отождествляет «интенцию» с «тем, что автор планировал или пытался сказать».
122
Глава вторая. Упразднение автора
интерпретации по-настоящему независима, что она стоит выше
толкования как такового. «Стоит только сделать допущение, что
характеристики значения могут меняться, не станет способа
отыскать настоящую Золушку среди претенденток. Нет той хрустальной
туфельки, по которой можно было бы ее узнать...»175 С другой
стороны, герменевтические нереалисты считают значение объективно
неопределимым. Нет никакой хрустальной туфельки, есть лишь
скользкие лыжи, на которых значение безудержно скользит к
значимости, и значение текста становится неотделимым от того, что
текст значит для нас.
Хирш называет тех, кто считает надуманным различие между
значением и значимостью, «догматическими релятивистами» или
«когнитивными атеистами».176 Он делает этот вывод, исходя из
устаревшего бинарного противопоставления (а именно: объективное/
субъективное) и не менее устаревшей позитивистской концепции
науки.177 Философы науки, такие, как Томас Кун, утверждают, что
научное знание — не копирование реальности, а ее
конструирование. Теории и предположения, которые мы приносим в мир — то,
что Рорти называет нашим «лексическим набором» — определяют
то, что мы находим в мире. Согласно этому возражению, менять
надо не столько определение значения по Хиршу, сколько
устаревшие понятия о научном познании.
Для нереалиста цель сознания не существует без субъективных
действий сознания, определяющих его. Поздний Гуссерль,
заигрывая с идеализмом, похоже, считал, что цель сознания не имеет ни
существования, ни смысла в отрыве от сознания. Он удержался от
сползания в субъективизм лишь утверждением того, что ни одно
индивидуальное сознание не определяет реальности; реальность —
«идеальный объект всех возможных действий сознания».178 Это
утверждение не субъективизм, оно более сродни
интерсубъективизму и авторитету интерпретирующего сообщества по Фишу:
«Реальность зависима не от мысли как таковой, а от того, что
думаете о ней вы, я или любое ограниченное количество людей».179
175 Hirsch, Validity, 46.
176 Hirsch. Aims, 3.
177 Madison, Hermeneutics of Postmodernity, 13-22.
178 Там же, 11.
179 С. S. Peirce, "How to Make Our Ideas Clear," in The Collected Papers of Charles Sanders Peirce,
ed. Hartshorne and Weiss (Cambridge, Mass.: Harvard Univ. Press, 1931-35,1958), 5:408.
123
Часть первая. Распад толкования
Невозможность провести черту между стабильным,
неизменным значением и динамичной, изменчивой значимостью ведет к
краху проекта объективной интерпретации по Хиршу.
Невозможность такого разделения — это, конечно, тезис нереалистов. Для
нереалиста любой объект — это на самом деле «проект», продукт
наших попыток познать его. Очевидно, что разделение Хиршем
значения (стабильного постоянного послания текста как такового)
и значимости (изменчивого смысла, который видим в этом тексте
мы) в таких терминах сохранить невозможно. Влияние такого
краха на авторитетность Библии очень велико: «Настоящее значение
текста... неотделимо от истории толкований, им порождаемых».180
В следующих двух главах мы увидим, можно ли найти смысл, и
если да, то какой, в понятиях «смысл текста» и «смысл текста для
нас» в противоположность «авторскому замыслу». Обладает ли
текст, лишенный автора, каким-либо смыслом, не говоря уже о его
самостоятельном существовании?
УТРАТИЛА ЛИ БИБЛИЯ СВОЙ ГОЛОС?
Зачем экзегетам и богословам обращать внимание на
постмодернизм? Какое отношение имеет «письмо» к Священному
Писанию? В ответ на первый вопрос следует указать на растущее
влияние не только деконструктивизма, но и нескольких других
постструктуралистских подходов к экзегетике. Более того, некоторые
направления критики, на первый взгляд имеющие мало общего с
деконструктивизмом, тем не менее разделяют подозрительность
Дерриды в отношении логоцентрической интерпретации. Что
касается второго вопроса, возможно, достаточно упомянуть о том, что
Библия, будучи далеко не ординарным явлением, во многом
подобна любому другому тексту. Если знаки в целом недостаточно верно
отражают реальность, почему Библия должна быть исключением?
Норман Петерсен отмечает, что библейские критики часто
становятся «жертвами академического культурного застоя».181 Стивен
Мур по этому поводу отметил, что ученые-библеисты, вступая в
дискуссию об авторском замысле, проявляли «склонность смазывать ее
Madison, Hermeneutics of Postmodernity, 13-22.
Norman Petersen, Literary Criticism for New Testament Critics (Philadelphia: Fortress, 1978), 24-25.
124
Глава вторая. Упразднение автора
сложности».182 Каковы последствия смерти автора для толкования
Библии? Похоже, есть некая связь между крушением авторской
монополии на значение, с одной стороны, и безудержным ростом
подходов к интерпретации — с другой. Если стабильной основы
смысла не существует (нет герменевтического реализма), то в конечном
итоге нет ничего, способного сдерживать и направлять наши
толкования. Если упразднено различие между текстом и
комментарием, образ, отраженный в зеркале текста, становится на самом деле
туманным. В этом случае невозможно сказать точно, видим ли мы
то послание, которое намеревался вложить в текст автор, или это
просто наше собственное отражение.
Толкование Библии и авторитетность
Исторически авторитетность библейских текстов была всегда
тесно связана с вопросом об их авторстве. Считалось, что
пророческое или апостольское происхождение текста — важнейший
критерий для его канонизации. Далее, комментаторы со времен
Ренессанса и Реформации ставили целью экзегезы постижение
авторского замысла. Стоит отметить, что первые труды по библейской
критике того периода ставили под вопрос авторство пророков или
апостолов. Например, в семнадцатом веке Томас Гоббс заявил, что
Моисей не мог быть автором всего Пятикнижия. Приблизительно
в то же время Спиноза предположил, что все двенадцать книг от
Бытия до Четвертой книги Царств, вероятно, написаны Ездрой.
Однако даже самые радикальные исторические критики,
отрицавшие, что Моисей, Павел или евангелисты написали книги, носящие
их имена, все равно считали, что значение текста тождественно
авторскому замыслу, кто бы ни был автором, и что этот замысел
возможно постичь, изучая текст и условия его возникновения.
Личность автора была существенна для значения текста, даже если она
ставилась под сомнение. Однако постмодернистский литературный
критик не слышит голоса автора; нет того, кто способен установить
или воспрепятствовать игре возможных текстовых значений.
Каково влияние подобной «безгласности автора» на
авторитетность Библии? Ответ краток, но последствия его весьма серьезны:
182 Stephen D. Moore, Literary Criticism and the Gospels: The Theoretical Challenge (New Haven:
Yale Univ. Press, 1989), 54 n. 12.
125
Часть первая. Распад толкования
авторитетность Библии упраздняется. Упразднители
преуспевают в том, чтобы лишить Библию какой бы то ни было
стабильности, а вместе с этим способности утверждать факты, заповедать и
обетовать. Более того, без автора, который устанавливал бы
критерий различия значения и значимости, каждая интерпретация
становится просто авторизованной версией, подобно любой другой.
Текст, который не может быть сопоставлен с комментарием
«сверху вниз», лишен какой бы то ни было авторитетности. Наконец,
авторитетность Библии подрывается неустойчивостью значения:
если ничего определенного не сказано, невозможно ожидать и
определенного отклика. Толкователь не может ни верить тексту,
лишенному определенности, ни повиноваться ему. Если в тексте нет
значения, он не возлагает на читателя никакой ответственности.
Иисус как Начальник веры: логоцентрична ли
христология?
«Нет ничего помимо текста». Эти слова, вероятно, удивили бы
новозаветных авторов, которые рассматривали свои писания как
свидетельство о реальных событиях, которые они считали чем-то
большим, чем просто игрой текстовых значений.
Согласно прологу к четвертому Евангелию, Иисус есть «Слово
Божье», Слово (logos), которое было (и ныне есть) с Богом, и
которое есть Бог. Иисуса можно назвать и значением, и значимостью;
он не только представляет Бога, но и сам есть Божье присутствие.
Его имя — Эммануил — описывает его природу: «Бог с нами».
Иисус Христос есть скиния Бога на земле (Ин. 1,14); в его теле «бла-
гоугодно было Отцу, чтобы в Нем обитала всякая полнота [Божия]»
(Кол. 1, 19); в его лице сияет познание и слава Божия (2 Кор. 4, 6).
Новый Завет представляет Иисуса не как «след» Бога, но как его
«образ», отражающий славу Божью и несущий точное
представление его бытия (Евр. 1, 3). Итак, вера в Иисуса как в Логос является
одной из первых целей нападок Дерриды на логоцентризм. Иисус
Христос есть референт библейского текста, как сам Иисус и
объяснял ученикам на дороге в Эммаус: «И, начав от Моисея, из всех
пророков изъяснял им сказанное о Нем во всем Писании» (Лк. 24, 27).
Деконструктивист сочтет достойным возражения тезис о том, что
Иисус есть надежный знак Божьего бытия и присутствия.
«Христианское богословие, доктрины которого настаивают на чистоте
126
Глава вторая. Упразднение автора
начала — creation ex nihilo, непорочное зачатие Марии и рождение
Иисуса от Девы — составляет парадигму метафизики присутствия.
Поэтому Деррида в нескольких словах говорит о «философской или
христианской идее чистого начала».183
Как мы увидим далее, деконструктивизм подобен иудейской
традиции, когда комментарии к священным текстам сами
обретали статус священных и порождали новые комментарии.184 Вывод:
христианство отдает предпочтение речи — живому слову — чего
не делает иудаизм. Однако было бы преувеличением сказать, что
«христианство породило недоверие к письменной речи».185 Деррида
не вполне оправданно связывает христианство с предубеждениями
логоцентризма. Конечно, начало имеет большое значение.
Евангелия Марка и Иоанна начинаются с греческого слова,
обозначающего «начало» (arche). Подобным образом, в Евр. 12, 2 Иисус назван
«Начальником» (archegos) нашей веры. Далее в том же письме
Он именуется «вождем спасения» (Евр. 2, 10). Иисус — не
только знак присутствия Божьего, но и тот, кто порождает творение и
спасение. Высшая власть Иисуса проистекает из его «авторства».
Более того, Библия, по сути, определяет жизнь и смерть, небеса и
ад в терминах присутствия и отсутствия Бога. История спасения —
повествование о том, как человек вновь обретает присутствие
Божье, благодаря благому дару Божьему — Христу.186
Послания Иоанна описывают познание Бога в терминах
взаимоотношений жизни в преображающем присутствии Логоса. В этих
же посланиях мы находим решительную защиту принципа
бивалентное™. Иоанн говорит о том, что вера может быть или истинной,
или ложной. Или Христос — «дом», место Божьего присутствия,
истины, света и полноты благодати и бытия, или — нет. Сам Иисус
явно придерживался логоцентрического взгляда: «Я свет миру»;
«Я еемь путь и истина и жизнь» (Ин. 8, 12; 14, 6). Христология здесь
выглядит полностью Логосоцентричной: Иисус Христос как
начало и центр не только значения и истины, но и радости, свободы и
полноты жизни. В Иоанновых посланиях много предостережений
183 Hart, Trespass of the Sign, 36.
184 Более полно эта связь будет рассмотрена в следующей главе. См. Susan Handelmann, The
Slayers of Moses: The Emergence of Rabbinic Interpretation in Modern Literary Theory (Albany:
SUNY Press, 1982).
185 Norris, Derrida, 229.
186 Ср. Деян. 3, 15: «А Начальника жизни убили. Сего Бог воскресил из мертвых».
127
Часть первая. Распад толкования
против антихристов. Эти тексты дают не просто риторические,
а прагматические критерии — два «критических признака» — для
распознавания «истинного присутствия» Бога: исповедание того,
что Иисус Христос пришел во плоти, и жизнь в любви к ближнему.
Согласно Иоанну, лишь животворящее присутствие Духа дает
человеку возможность исповедовать это и жить такой жизнью.
Итак, есть некоторые основания для того, чтобы называть
христианство логоцентричным. Однако, вопреки Дерриде, это
утверждение Божьего присутствия во Христе не ведет к пренебрежению
письменным словом.187 О том, что божественное откровение
передается через Слово и Дух, то есть через чтение Писания с верой,
постоянно говорили, например, Реформаторы. И как раз благодаря тому,
что Писанию сопутствует Дух, христианам не приходится выбирать
между логоцентризмом и письмом (как определил это Деррида).
Напротив, аутентичность письменного текста гарантируется «живым
присутствием».188 Для христиан письменная речь может передавать
личное присутствие так же, как Христос — присутствие Божье.
После авторства: откуда смысл текста?
Целью большей части современной экзегетики остается
восстановление авторского замысла, даже если автор
демифологизируется, то есть лишается предполагаемой богодухновенности и
апостольства. Многие литературоведы до сих пор придерживаются
убеждения, что «евангельский текст обладает первичным
восстановимым значением: тем, что намеревался сказать его автор».189
Постмодернистская библейская критика
Наиболее радикальные литературные критики —
постмодернисты — уже не считают, что некоторые Евангелия написаны одним
187 Следует, конечно, отметить, что «письмо» для Дерриды есть метафора бесконечной игры
знаков, которые никогда не останавливаются на реальности. В этом смысле христианство
в самом деле отвергает «письмо» — но только в этом смысле.
188 Далее, в главе 7, я говорю о роли Духа Святого в удостоверении смысла текста. Я также
утверждаю, что тринитарианское богословие не подпадает под упразднение деконструктивистами
«науки присутствия». Присутствие Божественной Троицы следует отличать от существования
в пространстве/времени, свойственного творениям.
189 Moore, Literary Criticism and the Gospels, 12. В этой книге Мур исходит из того, что
в большинстве попыток использовать методы литературной критики библеисты продолжают
иметь дело с метафизикой автора.
128
Глава вторая. Упразднение автора
автором, или что они связаны единством цели. Постмодернистский
читатель пробуждается от сна о стабильности смысла. Например,
работа Джеймса Доузи «Голос Луки: смятение и ирония в
Евангелии от Луки» является тщательным анализом противоречивых
высказываний и взглядов, которые он находит в Евангелии от Луки.
Используя, среди прочих методов, статистический анализ, Доузи
утверждает, что точка зрения рассказчика отличается от точки
зрения Иисуса и мнения «настоящего» автора. Рассказчик не
вызывает доверия и пишет, придерживаясь богословской перспективы,
которая не является точкой зрения автора: «В каком-то смысле автор
объединяется с Иисусом против собственного рассказчика».190 Мур
задает трудный вопрос: «Выпустив на волю какофонию голосов,
способен ли Доузи прекратить их прения, подчинив эту какофонию
главенствующему голосу автора и его точке зрения?»191 Вторя
подозрениям о том, что автор на самом деле — лишь идеологический
конструкт, Мур спрашивает: «Если его рассматривать не просто как
историческую фигуру, пытающуюся в свое отсутствие управлять
нашим научным дискурсом из некоей удаленной точки вне
дискурса, предшествующей ему, — то кем или чем он окажется еще?»192
Кто или что есть «Лука»? Постмодернистский ответ
бескомпромиссен: «Лука» — это имя, которое мы присваиваем самому лучшему
нашему толкованию; «Лука» — проекция нашего стремления к
объединяющему центру и основе текстового значения; «Лука» —
выражение воли читателя; «Лука» — это я сам.
Деконструктивизм не отдает предпочтения никому, так что ни
один из голосов — ни рассказчика, ни автора, ни читателя — не
является доминирующим. Желание выделить каждый голос
объясняет, почему Упразднители уделяют особое внимание тому, что
выглядит неуместным или второстепенным в данном тексте. Мур
уверен, что консервативная библейская критика предпочитает не
замечать противоречия и трудные места в тексте, поскольку они
нарушали бы единство, сформированное «тотализирующим авторским
замыслом».193 Поскольку автор уже не рассматривается как лицо
контролирующее, толкователи не могут апеллировать к «автору»
как гаранту верной интерпретации.
190 James Dawsey, The Lucan Voice: Confusion and Irony in the Gospel of Luke (Macon, Ga.: Mercer
Univ. Press, 1986), 110.
191 Moore, Literary Criticism and the Gospels, 32.
192 Там же, 38.
193 Там же, 34.
5-227
129
Часть первая. Распад толкования
Различные критические подходы к толкованию Библии,
собранные в «Библии постмодерна», при всех их различиях, «считают,
что для традиционных прочтений текстов характерна претензия на
господство».194 Их задача — изучение того, что придает
интерпретации авторитетность. Чье прочтение предпочтительнее и
почему? Это отличный вопрос. Потому что потеря автора не снимает
вопрос авторитетности — только ставит его под другим углом.
Если автор не умрет...
Насколько ново и насколько значимо понятие смерти автора?
Критики Библии в любом случае считали, что большие отрывки
Писания так или иначе анонимны и не были на самом деле написаны
теми, чьи имена носят. «Анонимность авторов Библии отлично
сочетается со «смертью автора»... Исторический подход к
установлению личности библейских авторов — всего лишь последний вздох
отжившего свое динозавра».195 Некоторые комментаторы сочли, что
это открытие предоставляет им свободу действий: «Ведь если труд
подписан псевдонимом, его можно толковать как отдельное
произведение, независимо от других работ предполагаемого автора».196
Говорим ли мы об авторе то, что Иисус сказал о себе: для нас
лучше, если он уйдет? Согласно Дж. Северино Кроатто, одному из
сторонников богословия освобождения, «это физическое отсутствие...
являет собой семантическое богатство. Закрытость значения,
обусловленная говорящим, теперь сменилась его открытостью».197
Отсутствие, конечно, может привести и к унынию. Когда ангел
в гробнице сказал женщинам, что Иисуса там нет, те испугались
(Мк. 16, 6-8). Является ли смерть автора освобождающим или,
напротив, угнетающим событием в герменевтике?
Никто не спорит с очевидным фактом: библейские авторы ушли,
и поговорить с ними невозможно. Разногласия возникают лишь по
вопросам доступности авторского замысла и его релевантности для
194 The Postmodern Bible, 2. Интересно отметить, что коллективность написания
«Постмодернистской Библии» «сама по себе — часть нашей имплицитной критики
превалирующего понимания авторства» (16).
195 Robert Caroll, "Authorship," in A Dictionary of Biblical Interpretation, 74.
196 Tuckett, Reading the New Testament, 58.
197 J Severino Croatto, Biblical Hermeneutics: Toward a Theory of Reading as the Production of
Meaning, tr. Robert R. Barr (Maryknoll, N.Y.: Orbis, 1987), 17.
130
Глава вторая. Упразднение автора
толкования. Кроатто считает, что Библия, будучи привязана к
авторам, становится «закрытым кладом» смысла, реликтом отдаленных
времен и народов. Он хочет, чтобы текст говорил языком наших
дней, в современной ситуации, и уверен, что значение должно
определяться современными прочтениями: «Мы читаем текст, г не
автора».198 И вновь: «Авторы «умирают» в самом процессе
кодирования своего послания. Запись смысла в любом повествовании или
тексте — творческий акт, в котором творец, в переносном смысле,
жертвует жизнью».199 Если автор не умрет, «текстовое значение»
не оживет.
Поэтому многие читатели-постмодернисты не тратят времени
на сочинение эпитафий автору, но напротив — празднуют это
событие. «Празднование» это заключается в создании новых, образных
интерпретаций, не ограниченных более требованием
воспроизводить в каком-то приближении авторский замысел. Интерпретация
становится непрерывным празднеством, затерянным в лабиринтах
языка среди постоянно движущихся узоров, созданных игрой
текстовых значений, которая разрушает любые попытки
стабилизировать путь от знака к вещи. «Значение находится в постоянном
процессе формирования, деформирования и реформирования».200
С этой точки зрения, смерть автора есть Великая хартия
вольностей для творческой интерпретации. Высказывание Достоевского
о смерти Бога легко применимо к современной ситуации в теории
литературы: «Если Автора нет, все дозволено». Однако к чему
приводит такой вывод — к веселью или отчаянию? Я вижу три причины
для того и для другого: да, для веселья, но беспокойного, с
осознанием того, что мы танцуем на краю пропасти.
(1) Если умирает автор, с ним умирает понятие
человека как независимой личности. Цель деконструктивного анализа
текстов — выявить разнообразные социолингвистические и
политические силы, формирующие авторский дискурс. С точки зрения
постструктурализма трудно представить, что наши действия или
высказывания на самом деле происходят по собственной
инициативе, а не являются событием, происходящим помимо нашей воли.
Мы можем вспомнить здесь, что автор — лишь один из факторов
198 Там же, 46.
199 Там же, 16-17.
200 Taylor, Erring, 179.
Часть первая. Распад толкования
в обширной системе знаков, идей и сил, которой невозможно
овладеть и которую невозможно контролировать. Насколько свободны
(и ответственны) говорящие и толкователи? Если авторы не
способны быть авторами, может ли вообще кто-либо оставаться
самостоятельной личностью? Это — крайне важный вопрос, и не только
для герменевтики; потому что вовсе не ясно, к чему ведет
свобода упразднения текстов — к освобождению личности или же к ее
отрицанию?
(2) Если умирает автор, с ним умирает возможность
истинного понимания текста. Нам остается предложенный Де-
рридой выбор между двумя толкованиями интерпретации: читать в
поиске истины или читать, освободившись от стремления к истине.
Следует ли нам оставить поиск истины (как уже предложил Рорти
и другие пророки постструктурализма) и посвятить себя
разоблачению ложных претензий на истину или единство смысла? Если
первая проблема приводит к неспособности человека действовать
самостоятельно, то вторая приводит к невозможности
комментировать Библию. В чем смысл комментария, как не в попытке
прояснить авторский замысел? Постмодернизм приводит ни больше
ни меньше как к кризису легитимизации в изучении Библии.
Поэтому Ричард Коггинс прав, спрашивая: «Можно ли отличить
комментарий от орудия пропаганды?»201
(3) Если умирает автор, с ним умирает возможность
наличия в тексте смысла. Этот третий вывод может быть не столь
очевиден. Я вернусь к нему в следующей главе, где мы более подробно
исследуем попытки интерпретации текста без автора. Постановка
вопроса такова: что есть «значение текста», если это не осознанный
авторский замысел? Краткий ответ, более подробно изложенный в
главе 4, заключается в том, что автор, на самом деле, никогда не
отсутствовал. Читатель просто занял его место.
201 Richard Coggins, "A Future for the Commentary?" во Francis Watson, ed., The Open Text: New
Directions for Biblical Studies? (London: SCM, 1993), 174.
132
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
Упразднение книги: текстуальность и
неопределенность
В предыдущей главе мы констатировали кончину автора,
источника или творца смысла как метафизического понятия.
Авторы, согласно Упразднителям, являются риторическими
конструктами, а не частью естественного порядка вещей. Однако
не следует забывать, что ранние упразднения Дерриды были
направлены не против понятия автора, а против понятий структуры
и стабильности.
«Письмо» не только делает присутствие автора излишним, но
и нарушает устойчивость лингвистических и литературных
структур. Следовательно, письмо отменяет возможность литературного
знания. Дифференциальная игра языка не позволяет мысли
превратиться в обоснованное представление о том, «как обстоят дела».
Разные лексические наборы представляют собой различные
способы конструирования, или «расчленения», мира посредством
различий, которые навязываются опыту, а не извлекаются из него. Книга
Природы содержит множество пустых страниц. Если нет Автора,
позволительно любое толкование.
Отрицание герменевтического реализма неизбежно приводит
к герменевтическому релятивизму (или, если выразиться мягче,
герменевтической неопределенности). Дифферанс отрицает
возможность познания, упраздняя определенность смысла —
постоянный объект литературного познания по Хиршу. «Определенное»
значение можно очертить или обозначить. Слово «определенное»
включает в себя следующие значения: «полагать предел»,
«уточнять» и «ограничивать». Когда Хирш говорит об определенности
смысла, он имеет в виду значение, определенное автором (основа),
ограниченное используемыми словами и их контекстом, значение,
которое полагает предел деятельности толкователя, как только
тот его обнаружит (цель и руководство).1 «Неопределенное» же
1 В то время как в слове «деконструктивизм» приставка «де-» указывает на способность к
упразднению, «де-» в слове «детерминировать» («определять») происходит от латинского
Часть первая. Распад толкования
значение, с другой стороны, лишено всякой устойчивости. Оно
«свободно» — неограниченно, неясно, открыто.
Если считать весь определенный порядок результатом
творческого толкования, становится трудно верить в ту или иную систему
понятий или схему интерпретации. Убедившись в отсутствии основы для
определенности смысла, невозможно верить в четкие определения
или окончательные толкования. Но как же тогда отличить научный
комментарий от мнения дилетанта? Если мы говорим о
нравственности литературного знания, нам нужны критерии, позволяющие
отличить ложное (т.е. плохое, неверное, неправильное)толкование от
истинного (т. е. хорошего, достоверного, правильного).
Какие возможности контролировать смысл и его толкование
остаются после исчезновения автора? Многие литературоведы
двадцатого века утверждают, что текст может выстоять и сохранить
смысл сам по себе. Некоторые даже определяют теорию
интерпретации как науку о тексте. Значение определяется не авторским
замыслом, а литературными условностями, такими как организация
текста, его стиль и коды. Однако, как мы увидим далее, ни текст,
ни автор не переживают деконструкции. Независимый текст дает
не больше возможностей для ограничения игры толкований, чем
заглушаемый голос безымянного автора. Текстуальность
ниспровергает идола определенности, а с ним — и саму возможность
литературного познания.
ОБЕССМЫСЛИВАНИЕ СМЫСЛА?
Критика автора — только один из аспектов наступления
противников реализма на философию и литературоведение. Более
крупной мишенью как для «упразднителей», так и для
«пользователей», является понятие смысла, наряду с поиском знания в
процессе толкования, к которому оно нас побуждает. Постмодернистское
отрицание эпистемологии (то есть попыток определить природу и
критерии знания) изображает практику толкования в совершенно
ином свете. Крушение метафизики смысла приводит к кризису
методов толкования.
предлога, обозначающего «до самого дна, тщательно» и обладает усилительным значением:
«полностью исчерпать». Итак, «определить», или «детерминировать», несет в себе оттенок
конечности и закрытости.
134
Глава третья. Упразднение книги
Обессмысливание метафизики
Традиционные читатели склонны поддаваться влиянию
«авторитетного значения». Как мы убедились, Деррида упраздняет эту
авторитетность, разоблачая метафизику, на которой она
покоится, как «мифологию белых». Противники реализма утверждают,
что сам вопрос о соотношении между нашими словами и бытием
вырождается в бессмыслицу. Если мы не обладаем иным доступом
к реальности — или к «тексту как он есть» — помимо языка,
бессмысленно рассуждать о том, соответствует ли наш язык миру.
Обессмысливание Аристотеля
Связь между метафизикой смысла и эпистемологией толкования
лучше всего прослеживается не у Платона, а у Аристотеля,
благодаря трактатам последнего о языке, логике и научном методе.
Особенно поучительно одновременное рассмотрение таких его трудов, как
«Метафизика» и «О толковании». С точки зрения Аристотеля,
метафизика — это наука о «первичных сущностях», о началах, о Бытии.
Наше представление о вещи становится истинным, когда ее форма
(eidos — образ, идея) присутствует в нашем сознании. Слова —
это знаки, указывающие за пределы самих себя и дающие
возможность «представить» вещь как таковую. Мысль воспроизводит
реальность, речь воспроизводит мысль, а письмо воспроизводит
устную речь.2 Толкование и метафизика сливаются в определении
истины по Аристотелю: «Назвать существующее существующим, или
несуществующее — несуществующим, означает сказать истину».3
Сами по себе существительные не истинны и не ложны. Только
суждения — предложения, в которых о субъекте что-то
утверждается — могут быть истинными или ложными, и только истинные
суждения могут рассказать нам что-то о мире. Другие применения
языка ни истинны, ни ложны. «Молитва, например, есть
предложение, но она не содержит в себе ни истины, ни лжи. Не будем
касаться таковых, ибо изучение их относится скорее к сфере риторики
2
Aristotle, On Interpretation, 1.16a 3.
Aristotle, Metaphysics, Bk. 4, 7.1 1011b.
135
Часть первая. Распад толкования
или поэзии».4 Пользуясь этим критерием, Аристотель отличал
философию, с ее стремлением к истине, от литературы. Философы
делают утверждения; для них важна способность дать
характеристику предмета или явления. Разум воспринимает истинную природу
вещей через утверждения. В общем и целом западная философия и
литературоведение, а также толкование Библии, сформировались
именно под влиянием категорий Аристотеля.5
По мнению Дерриды, Аристотель оказывал предпочтение
философии перед литературой только потому, что забыл о «поэтическом»
происхождении философии или намеренно обошел его вниманием.
Понятие идеи (eidos), например, само по себе метафора. Ведь на
самом деле разум не «видит» ни формы, ни сути вещей. Более того,
слова не могут «указывать» за пределы самих себя; они неспособны
сделать вещь видимой, поскольку знаки связаны лишь с другими
знаками.
С точки зрения Дерриды, Аристотель совершил первородный
грех философии, приняв свой дискурс (а именно — метафизику) за
язык небес. Он стал жертвой «мифологии белых», которая вбирает
в себя и отражает западную культуру: «Белый человек
принимает собственную мифологию (индоевропейскую мифологию), свой
логос — мифос собственной идиомы — за универсальную форму
того, что он все еще жаждет назвать Разумом».6
Деррида возражает против утверждения Аристотеля о
существовании «правильной» формы высказывания, а именно
утверждения, в котором слова «привязаны» к вещам, словно ярлыки.
Не существует внеметафизической сферы, в которой мы говорим и
мыслим. Как мы убедились ранее, Деррида утверждает, что мы
никогда не выходим за пределы текстов или языка. Это не значит, что
«все есть язык». Просто мы не обладаем доступом к миру помимо
языка. То есть метафизика у нас никогда не обходится без метафор.
Эта идея Дерриды упраздняет аристотелевский поиск
определенного значения и верного утверждения. В частности, он упраздняет
4 Aristotle, De interpretatione, 1.17а 4.
5 Мур отмечает: «Почти не было бы преувеличением сказать, что modus operandi (способ
действия — прим. перев.) лиги библеистов полностью состоял в adequatio intellectus et rei
(уравнении разума и реальности — прим. перев.), а целью толкования было соответствие
существенным семантическим свойствам библейских текстов, свойствам, содержащимся в
текстах и ожидающим, пока их откроют» (Moore, Literary Criticism and the Gospels, 121).
6 Derrida, "White Mythology," 9-11.
136
Глава третья. Упразднение книги
бинарную оппозицию, ставящую «правильное» значение
(утверждение) выше переносного (риторического) значения: «Критика
философии по Дерриде — это обвинительный акт против
идолопоклонства метафорам, переставшим быть таковыми, против
мышления, путающего знаки и вещи, материализующего их до уровня
вымышленных абстрактных значений, которые затем выдаются за
«истинный» смысл».7
Навсегда утраченный мир?
Рорти согласен с Дерридой — ошибка философии в том, что
она слишком увлечена теорией, то есть — стремлением увидеть
окончательную реальность (греч. theoria = «взгляд»). Подобно
тому, как Деррида отрицает стабильные точки за пределами языка,
Рорти отрицает возможность постоянных точек зрения за
пределами истории или культуры. Вместо того чтобы пытаться познать или
определить суть чего-либо, прагматист интересуется полезностью
этого в конкретных ситуациях. Мир — или текст — можно
рассматривать в разных контекстах, задавая различные вопросы. Даже
материальный мир лишен однозначности: кто может утверждать, что
мировосприятие Ньютона более истинно (т. е. менее метафорично),
чем у Моне?
Рорти считает, что вся история философии от Платона и
далее изжила себя. Невзирая на многовековые дебаты об истине как
взаимном соответствии мира и слов, мы так и не достигли точного
понимания их взаимоотношений. Для прагматиста высказывания
истинны не потому, что отражают реальность, но потому, что они
действуют — потому, что они выполняют какую-то полезную
функцию. Скептицизм Рорти по поводу Истины (большая буква
подчеркивает ее абсолютный характер) подобен скептицизму Дерриды: не
существует способа «вырваться за пределы языка, чтобы сравнить
его с чем-то иным».8 Попытка проникнуть «за» язык к чему-то, что
придавало бы ему законную силу, обречены на неудачу. Рорти не
может найти исходные точки, которые предшествовали бы
конкретным культурам и были бы независимы от них. Он признает, что
7 Susan A. Handelman, Slayers of Moses: The Emergence of Rabbinic Interpretation In Modem
Literary Theory, 118.
8 Rorty, "Pragmatism and Philosophy," 32-33.
137
Часть первая. Распад толкования
западные мыслители были «опьянены» понятием
«трансцендентного сигнификата». Однако наши понятия — отнюдь не волшебные
ключи, способные отпереть двери «истинного порядка вещей», а
просто инструменты, которыми мы пользуемся для достижения той
или иной цели.
В чем же тогда польза от философии? Рорти задается вопросом,
«следует ли философии заниматься поисками исходных точек,
отличающихся от культурных традиций, или же все, что ей
остается — это сравнивать и сопоставлять эти культурные традиции?»9
Иначе говоря, вместо того чтобы пытаться убедить других в нашей
абсолютной правоте (напр.: в том, что мы познали смысл и истину),
Рорти призывает нас сменить подход и заняться решением
конкретных проблем. Вместо того чтобы беспокоиться о правильности
используемого нами языка, нам следует ценить богатство словарного
запаса и разнообразие способов его применения.
Рорти не замедлил применить свой философский прагматизм
к литературоведению. Он рекомендует отказаться от понятия
«истинного» смысла текста. Решительно убрав с дороги и
метафизику, и смысл, можно упразднить различие между «толкованием» и
«использованием». Можно перестать беспокоиться о «познании»
и «толковать» в свое удовольствие. Можно отказаться от поиска
Истины и заняться чем-то полезным.
Обессмысливание метода
Френсис Бэкон считал, что у науки есть две цели: «свет» (т. е.
понимание истиной природы мира) и «плод» (т. е. способность
сделать мир полезным для человечества). Постмодернистская наука
удовлетворяется одним плодом: успехом деятельности,
способностью использовать мир для удовлетворения потребностей
человечества. Философы-постмодернисты отставили в сторону закон
фотосинтеза, по крайней мере — в отношении эпистемологии; свет
разума больше не нужен для роста знания.
Обессмысливание объективности: открытие или
изобретение?
Чтобы достигнуть успеха, следует «правильно» поставить
исходный вопрос. Так говорил Аристотель. Однако кто может определить,
9 Там же, 54.
138
Глава третья. Упразднение книги
какие вопросы правильные? Аристотель, как мы убедились ранее,
хотел знать, что можно утверждать о сущем. С точки зрения
классической и модернистской философии, идеал познания должен занимать
привилегированную позицию сверху и парадигмы восприятия (напр.:
eidos, theoria). «Упразднители» и «пользователи» настаивают на том,
что ни один человек или группа людей не имеет привилегированной
точки зрения (даже философы), поскольку никто не может
посмотреть на мир «как он есть на самом деле» (т. е. без помощи
какой-либо лингвистической схемы). Следовательно, восприятие человеком
мира или текстового значения есть функция метода интерпретации,
который он использует. Эпистемология — особенно идеал
объективного познания — также оказывается «мифологией белых».
В какой-то мере недавние события в истории науки
подтверждают эту мысль. Многие современные философы науки отвергли бы
предположение о том, что научные теории позволяют нам видеть
мир как он есть, или что они приводят к «единственной верной
интерпретации» физической реальности. Напротив: теории
представляют собой сложные модели или понятийные структуры, которые
зачастую вырастают из корневой метафоры (напр.: мир как машина
или как организм).10 Ученые всегда подходят к миру, пользуясь уже
готовой понятийной структурой, по крайней мере — временно; и
каково бы ни было значение слова «объективный», оно не может
значить «видящий истинную природу вещей», независимый от той
или иной точки зрения.
В своем труде «Против метода» Пауль Фейерабенд — среди
философов науки, возможно, он ближе всех к деконструктивистам —
делает следующий вывод из контекстно-обусловленной природы
научной мысли: если соответствие реальности — задача для науки
необязательная, да и невозможная, то нет единого набора правил —
единой теории интерпретации, которой должен был бы следовать
ученый.11 Восприятие мира — «Книги» Природы — зависит от стратегии
интерпретации, с которой человек к ней подходит. Фейерабенд
понимает знание как «вечно растущий океан взаимно несовместимых
10 См. Stephen Pepper, World Hypothesis: A Study in Evidence (Los Angeles: Univ. of California
Press, 1970).
11 Feyerabend, Against Method: Outline of an Anarchistic Theory of Knowledge (London: New
Left Books, 1975). О взаимовлиянии науки и герменевтики, см. Vern S. Poythress, Science and
Hermeneutics (Grand Rapids: Zondervan, 1988).
139
Часть первая. Распад толкования
(а возможно — даже несопоставимых) альтернатив».12 Критики
Фейерабенда утверждают, что его позиция вырождается в
субъективизм: «Возможно, суть его высказывания в том, что так «веселее»
заниматься наукой».13 Так или иначе, наука неспособна достигнуть
объективности, желанного абсолютного взгляда на мир.
Знание всегда относительно и связано с теоретической или ин-
терпретативной структурой. С этим, похоже, согласились
большинство современных философов, ученых и литературоведов. Отсюда —
эпистемологический вопрос, обращенный как к ученому, так и к
литературоведу: если суть интерпретации уже не в том, чтобы сделать
«правильный вывод» — то в чем же? Винсент Лейч предлагает один
из возможных ответов: «Литературная критика, как известно, —
это скорее творчество, нежели открытие, а мы знаем, что критика —
это скорее личное мнение и произведение, чем демонстрация и
доказательство».14 Даже это высказывание для постмодернистов
звучит слишком близко к идеалу научной объективности. Как мы
только что убедились, научные теории также представляют собой
проявления творчества и своим происхождением обязаны
метафорическому воображению.15 Чем же заняты познающие и
истолковывающие, если не совершением открытий? По мнению Нельсона
Гудмэна, они создают новые миры.16 Существует не один мир, но
бесконечное множество. Знание в постмодернистском мире
всегда контекстуально, всегда связано с определенной перспективой,
с той или иной точкой зрения. Очевидно, что после смерти Бога
взгляд с Божьей точки зрения невозможен. Не существует
«авторизованной версии» реальности, есть только множество
альтернативных, иногда противоречащих друг другу, версий. Гудмэн приходит
к выводу, что понятие «мир» имеет смысл лишь в пределах
конкретной «версии». Все потенциальные толкователи мира видят его
только через призму определенного лексического набора, из «окна»
собственной «версии». Альтернативный подход заключается в том,
12 Feyerabend, Against Method, 30.
13 Frederick Suppe, "Afterword," to The Structure of Scientific Theories (Urbana-Champaign: Univ.
of Illinois Press, 1977), 641.
14 Vincent B. Leitch, Deconstructive Criticism: An Advanced Introduction (London: Hutchinson,
1983), 264.
15 Более подробно о роли метафорического воображения в науке см. Магу Hesse, Revolutions
and Reconstructions in the Philosophy of Science (Bloomington: Indiana Univ. Press, 1980).
16 Nelson Goodman, Ways ofWorldmaking (Indianapolis: Hackett, 1978).
140
Глава третья. Упразднение книги
чтобы назвать «миром» то, что лежит за пределами наших версий и
наших лексических наборов, однако едва ли кого-то способен
заинтересовать невыразимый и непознаваемый мир.17
Обессмысливание толкования
Если интерпретация неспособна определить структуру
реальности или смысл текста, не вырождается ли она в релятивизм?
У прагматистов готов ответ: пределы интерпретации существуют,
но они целиком и полностью зависят от целей и интересов
толковательных сообществ.
В снискавшей уважение статье «В чем смысл текста?»
Джеффри Стаут доказывает, что попытки нахождения смысла следует
рассматривать как некое действие, выполняемое над текстом, а
не как определение «сути» значения.18 Стаут вообще призывает к
мораторию на термин «значение»; вместо этого нам следует
определить действительный интерес к тексту. Тогда мы сможем понять,
чем на самом деле вызваны наши споры и разногласия. Для Стаута
толкование является хорошим или плохим в зависимости от цели
толкователя. Он не ожидает от нас выведения герменевтического
эквивалента категориального императива Канта, то есть единого
правила или обязательства, руководящего процессом чтения
вообще. Поскольку не существует герменевтического императива,
которому были бы подотчетны все акты толкования, следовательно,
«нахождение правильного значения» не обязательно должно быть
высшей целью толкования. Ценность толкования заключается
отнюдь не в его правильности. Ни рациональность, ни «метод» не
ведут нас к «истинной природе текста». Ни одна точка зрения — даже
самая разумная — не позволяет нам «просеять» все теории и найти
среди них соответствующую реальности. Но является ли
герменевтический субъективизм, в условиях которого каждый читатель
поступает так, как считает нужным, единственной альтернативой?
Стаут, Рорти и Фиш, будучи прагматистами, придерживаются
примерно следующего кредо: «Веруем в использование текстов в
наших собственных целях, но не в поиск их «истинной» природы —
17 Впечатляющую попытку сохранить рациональность и истину без метафизического реализма
находим у Hilary Putnam, Reason, Truth, and History (Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1981), и
Realism With a Human Face (Cambridge, Mass.: Harvard Univ. Press, 1990).
18 Jeffrey Stout, "What Is the Meaning of a Text?" New Literary History 14 (1982): 1-12.
141
Часть первая. Распад толкования
они таковой не имеют». Смысл не содержится в тексте, как орех —
в скорлупе: смысл — это то, что мы хотим знать о тексте.
Методы (теории) толкования — это не более чем способы, с помощью
которых мы развиваем собственные интересы и придаем им
достоинство. Осознав, что в тексте как таковом нет «смысла», который
следует искать, мы можем, подобно Фишу, перестать беспокоиться
и полюбить толкование.
Если метафизика — это миф, то что остается от философии?
от литературоведения? Конечно, какие-либо утверждения о
найденном «смысле» мира или текстов совершенно непозволительны.
После уничтожения метафизики остается, если можно так
выразиться, «сравнительная герменевтика»: анализ и
критика того, как видят и толкуют представители разных
культур. Спор уступает место беседе и повествованию, а философия
становится «назидательным дискурсом», не претендуя более на
познание.19 Вспомните утверждение противников реализма: не
существует четкого представления об истине, блаженного или
какого-либо иного — есть лишь версии.
С точки зрения прагматистов бесполезно задаваться вопросом,
которое из описаний — верное. Критериев, свободных от
культурных условностей, просто не существует. Критерий существует
лишь в контексте установленного общественного порядка, потому
что та или иная группа людей нуждается в том, чтобы «получить
определенный результат».20 Означает ли это отсутствие каких-либо
пределов тому, что могут извлечь из текста или сделать с ним
толкователи? Кто вправе судить о правомерности того или иного
подхода или метода толкования? Кто обладает реальной властью
ограничить умножение толкований? «Попытка ограничить число
смысловых контекстов или остановить бесконечно растворяющееся в
самом себе непостоянство письма была объявлена авторитарной».21
Пока неясно, каким образом «пользователи» и «упразднители»
намереваются проплыть между Сциллой авторитаризма и Харибдой
анархии в толковании.
19 Rorty, Philosophy and the Mirror of Nature, 372.
20 Rorty, "Pragmatism and Philosophy," 59.
21 Stefan Collini, "Introduction: Interpretation Terminable and Interminable," в Есо, Interpretation
and Over interpretation, 7.
142
Глава третья. Упразднение книги
ЧТО ТАКОЕ ТЕКСТ?
Самый радикальный вопрос герменевтики касается
природы текстов.22
Я отлично знаю, что это, пока кто-то меня не спросит; но
как только меня об этом спрашивают и просят объяснить,
я теряюсь23
«Смысл», как и время, — понятие абстрактное. И здесь мы
прекрасно понимаем Августина с его способностью определять время,
не умея объяснить, что это такое. Подобно времени, «смысл» — это
понятие, которым мы без колебаний пользуемся каждый день;
однако вопрос: «Что такое смысл?» — вполне может поставить нас
в тупик. Поэтому, пусть временно, но прислушаемся к призыву
Стаута воздержаться от использования термина «смысл», и
сосредоточимся на природе текста. Что такое текст? Вернер Джинронд
прав, утверждая: «Любая теория толкования требует свою теорию
текста».24 Точно так же любая теория текста требует теорию автора
и читателя.25
Книга книг
Независимый текст находился в центре внимания ученых во
«вторую эпоху литературоведения».26 Тогда как многие теоретики
придерживались моратория на понятие смысла, в отношении текста
такой осмотрительности проявлено не было. Более того,
литературоведы предлагали целые теории «текстуальности». Разнообразные
подходы второй эпохи литературоведения объясняются попыткой
поставить литературоведение на научную основу, определив его
22 Anthony Thiselton, New Horizons in Hermeneutics, 49.
23 Augustine, Confessions, 2.14.
24 G. Jeanrond, Text and Interpretation As Categories of Theological Thinking, 73.
25 Более полно некоторые из упомянутых в этом разделе вопросов рассмотрены в Thiselton,
New Horizons in Hermeneutics, chs. 2-3 (55-141). Роберт Детуайлер (Robert Detweiler) усматривает
«устойчивую связь... между теориями самости и теориями текста» (Robert Detweiler, Breaking
the Fall: Religious Readings of Contemporary Fiction [New York: Harper & Row, 1989], 12).
Неопределенный текст соответствует раздробленной самости постмодернизма.
26 Большая часть критики двадцатого века, начиная с русских формалистов и заканчивая
англоамериканскими новыми критиками и французскими структуралистами, попадает в этот период.
Все эти направления фокусируются на самом тексте, а не на авторе, историческом контексте или
современных читателях.
143
Часть первая. Распад толкования
объект — независимый текст — и установив его методы и средства
достижения цели.27 Интересно отметить, что одной из первых
потерь, понесенных в результате возросшего интереса к тексту, было
понятие «книги».
Что стоит за современной тенденцией проводить четкую
границу между «книгой» и «текстом»? Словарное определение книги в
какой-то мере помогает увидеть ее причину: «Рукописное или
печатное произведение, состоящее из страниц, склеенных или сшитых
вместе, и заключенное в обложку».28 Это краткое определение,
подразумевающее присутствие автора, единство и «завершенность»,
сочетает в себе все то, что не устраивает теоретиков литературы в
понятии книги. Деррида, например, открывает свой труд «О
грамматологии» главой под названием «Конец книги и начало письма».
Мы обнаруживаем, что «книга» символизирует «идол
определенности», иллюзию наличия у текстов постоянного смысла.
Книга — это нечто большее, чем сумма всех слов и предложений,
которые в ней содержатся. Это — совокупность, стройное целое,
обладающее тематической согласованностью — своеобразным
идеологическим «клеем». Книги закрыты, или скорее — замкнуты волей
автора, символом которой является обложка. Деррида отмечает:
Идея книги есть идея цельности знака, определенной или
неопределенной... Понятие книги, которое всегда
соотносится с естественной целостностью, полностью противоречит
сути письма. Это энциклопедическая защита богословия и
логоцентризма от подрывного влияния письма... от диффе-
ранса в целом.29
Идея книги предполагает целостность и совокупность, и
поэтому Деррида говорит о ее внутренней богословской природе. Книги
стабилизируют, контролируют и останавливают игру смысла.
Понятие книги как познаваемого единства требует
направляющего присутствия автора, того, чей замысел лежит в основе
дискурса как смыслонесущего целого; книга есть произведение
автора.30 Книги — это письмо, «удерживаемое в надлежащих пределах
27 Классическое выражение этой цели находим в Northrop Frye, Anatomy of Criticism (Princeton:
Princeton Univ. Press, 1957).
28 "Book," в The Concise Oxford Dictionary of Current English, 8th ed.
29 Derrida, Of Grammatology, 18.
30 Во второй части я вернусь к понятию текста как произведения, то есть результата действия автора.
144
Глава третья. Упразднение книги
властью автора».31 В самом деле, что еще могло бы придать тексту
индивидуальность, если не факт его создания определенным автором
в определенный момент?»32 С точки зрения «упразднителей», верить
в книги — означает поддаться иллюзии метафизики, идеи о том, что
голос, звучащий вне игры языка, может подняться над
бесконечными неясностями письма и создать самодостаточное произведение.
Образ «книги природы» предполагает, что физический мир как
таковой составляет наделенное смыслом целое. Средневековые
богословы приводили упорядоченность природы в доказательство
существования Бога, чьей «подписью», вне всякого сомнения,
отмечена книга природы. Метафора книги предполагает взаимосвязь ее
содержания. Энциклопедии восемнадцатого и девятнадцатого века
стали, наверное, самыми амбициозными попытками утвердить
всеобщую согласованность бытия. Библию можно назвать книгой
парадигм, поскольку она стремится к полноте, повествуя об истории
взаимоотношений Бога с миром и человечеством. Библия есть
Книга книг, открывающая перед нами конец всякого окончания: смысл
истории. Понятие Библии как Книги книг, конечно, имеет смысл
только в том случае, если ее автор — Творец вселенной.
Характерные особенности книги — единство, контролирующее
присутствие автора, завершенность — наиболее ярко проявляются в
Библии: «Христианство есть религия книги, а Западная культура —
культура книжная... Важно помнить, что понятие книги носит
богословский характер».33 Нортроп Фрай воспринимает царство
литературы как самоуправляемую словесную вселенную, а Библию —
как «великий код», обеспечивающий ее расшифровку. Поэтому
Библия — «закрытая» книга с навеки определенными значениями,
и ее образная структура создают намного более обширное (логоцен-
трическое) единство в европейской литературе.34 Френсис Уотсон
упоминает о втором, отличном от этого способе восприятия Библии
как «закрытой книги». Если считать, что Библия — книга, смысл
31 Norris, Derrida, 63.
32 Knapp and Michaels, "Reply to Rorty," в Against Theory, 141.
33 Taylor. Erring, 76. См. также красноречивый призыв Георга Штайнера к возвращению к
буквальности и культуре, основанной на книгах, "After the Book," в On Difficulty and Other
Essays (Oxford: Oxford Univ. Press, 1978), 186-203.
34 Cm. Northrop Frye, The Great Code: The Bible and Literature (London: Routledge and Kegan
Paul, 1982); Words With Power, Being a Second Study of the Bible and Literature (New York: Harcourt
Brace Jovanovich, 1990).
145
Часть первая. Распад толкования
которой раз и навсегда определен автором, мы будем читать ее,
«не выходя за установленные учеными рамки, которые допускают
единственную, ограниченную парадигму толкования».35 С этой
точки зрения Библия не закрывает себя сама, она была закрыта
предположением о наличии единственного верного толкования.
Итак, «Книга» — это богословское понятие, поскольку оно
предполагает наличие единого унифицированного значения и
всеобщего порядка. Любое утверждение о том, что текст может быть
сведен воедино (т. е. истолкован как единое целое) является
поэтому «богословским»: «Определение «богословский» относится в
данном случае к использованию любого словарного набора, в
котором смысл или бытие рассматриваются как окончательно
определенные путем соотнесения их с исходной точкой, концом, центром
или основой».36 И напротив, утверждение Дерриды о том, что «вне
текста ничего нет», является, по сути своей, антибогословское.
От «закрытой книги» к «открытому тексту»
Если Книга Книг перестала считаться божественной, ее
место заняло понятие «текста»... Литературоведение в
какой-то мере заменило собой богословие.37
Что такое текст? Для Ролана Барта, «Текст... не несет на себе
отпечатка руки Отца».38 Текст — не результат труда деятельной
личности, но сеть, сплетенная из различных культурных кодов.
Барт вместе с другими литературоведами, принесшими в жертву
автора (напр.: структуралисты, консервативные приверженцы
критики читательских реакций, критики канона и пр.), не хотят, тем
не менее, расставаться с понятием определенности смысла,
оказывая приоритет самому тексту. Умберто Эко, к примеру, сравнивает
текст с «машиной, созданной для толкования».39 Признавая роль
читателя в продуцировании или осознании смысла, эти критики
настаивают на том, что текст, обладая независимостью и
целостностью, продолжает оказывать определенное влияние на
интерпретацию самого себя.
35 Watson, The Open Text, 3.
36 Hart, Trespass of the Sign, 32.
37 Handelman, Slayers of Moses, xiii.
38 Barthes, "From Work to Text" в The Rustle of Language, 61.
39 Eco, Interpretation and Overinterpretation, 85.
146
Глава третья. Упразднение книги
И деконструктивисты, и прагматисты рассматривают текст как
«лишенный сущностного присутствия».40 Текст — это всего лишь
игровая площадка толкования; место, где словесные горки, качели и
песочницы, позволяют читателю упражнять собственное
воображение. Текст — это возможность, которой можно воспользоваться по-
разному. В самом деле, поскольку текст нельзя воспринять во всей
полноте, но можно использовать, употребление текста немыслимо
отличить от злоупотребления им: «Толкование есть враждебный
акт, в процессе которого толкователь истязает текст».41
Разговор о текстах, а не о книгах, означает нечто большее, чем
просто смену терминологии. Это смена парадигмы. Это участие
в эпистемологическом сдвиге, столь же радикальном, как переход
от науки Ньютона к науке Эйнштейна. Если Книга всегда
ассоциировалась с чем-то неизменным, текст больше напоминает
взаимодействие изменчивых сил. В то время как книгу можно было
изучать как дискретный объект, удаленный от субъекта-толкователя,
текст становится заметен только при наблюдении его с разных
точек зрения. Понимание этого закладывает основы «особой теории
относительности» в интерпретации. Противопоставляя книгу как
метафизический объект тексту как методологическому полю, Барт
пишет: «Текст познается лишь в деятельности, в производстве
результата»}2 Это означает, что само существование текста
зависит от процесса его интерпретации, чего нельзя сказать о книге.
Такие перемены созвучны общему переходу от реализма к его
отрицанию в современном литературоведении. Вопрос, который я хотел бы
исследовать сейчас, когда мы обращаемся к рассмотрению трех
недавно возникших теорий текстуальности, в том, возможно ли в свете
этого эпистемологического сдвига говорить о «значении текста».
Горизонт текста — Гадамер и Рикёр
Возможно, никто из философов двадцатого века не сделал
для герменевтики больше, чем Ганс-Георг Гадамер и Поль
Рикёр. Гадамер и Рикёр, идя сходными путями, пытались
объяснить возможность интерпретации после метафизического сдвига,
40 См. Moore, Literary Criticism and the Gospels, 133.
41 Taylor, "Text As Victim," в Deconstruction and Theology, 65.
42 Barthes, "From Work to Text," 58.
147
Часть первая. Распад толкования
выразившегося в отрицании автора, и после эпистемологического
сдвига, повлекшего за собой отказ от ньютоновской
объективности. Невзирая на различия между ними, Гадамер и Рикёр
согласны в том, что предпочтение следует отдавать тексту, а не автору,
рассматривая текст как источник возможных смыслов, из
которого каждый читатель черпает свою интерпретацию. Короче говоря,
текст имеет потенциальный смысл, но его истинное значение
является результатом взаимодействия с читателем.
Объяснение или понимание? Слияние горизонтов.
Определяет ли текст свое толкование, или оно само определяет текст?
Гадамер и Рикёр отвергают эту дилемму и совмещают два подхода.
Смысл есть результат двустороннего взаимодействия между
читателем и текстом. Понимание текста отличается от познания
объектов в картезианской эпистемологии, где объект отражается в
мышлении субъекта. Читателя нельзя считать бесстрастным
наблюдателем; а смысл — чем-то, подлежащим «объяснению». Напротив,
понимание — это процесс, происходящий при «участии»
толкователя в тексте. Знаменитый образ «герменевтического круга»
предполагает, что субъект всегда заранее вовлечен в объект, который
подлежит пониманию.43
Читатель, будучи далеко не бесстрастным наблюдателем,
занимает позицию, которая ограничивает и направляет то, что
доступно пониманию, находясь не вне, но внутри истории, которая
сама по себе есть результат предшествующих толкований. Гадамер
называет такую культурно-историческую позицию «горизонтом».
Горизонт человека определяет для него границы видимого.
Горизонт человека непосредственно связан с его предубеждениями, с
привычкой смотреть на мир определенным образом. Иначе говоря,
читатель всегда подходит к тексту с определенным
«предварительным пониманием». Но в то же время текст имеет собственный
горизонт, поскольку отражает предубеждения исторической ситуации.
Поэтому толкование подобно диалогу, в котором читатель
подвергается воздействию текста, в то время как текст открывается для
43 Подробный анализ теории интерпретации Гадамера см. в David Hoy, The Critical Circle:
Literature and History in Contemporary Hermeneutics; Anthony C. Thiselton, The Two Horizons:
New Testament Hermeneutics and Philosophical Description (Grand Rapids: Eerdmans, 1980), ch.
11; Joel C. Weinsheimer, Gadamer s Hermeneutics, Tradition and Reason (Palo Alto, Calif: Stanford
Univ. Press, 1987).
148
Глава третья. Упразднение книги
интересов и предубеждений читателя. Суть понимания «в слиянии
горизонтов» текста и читателя.
Если понимание — это слияние горизонтов, единственного
правильного понимания текста не существует, потому что каждый
читатель рассматривает текст в контексте своего горизонта. Из-за
этого непостоянства невозможно вывести единую формулу
герменевтического слияния. В то время как для Хирша объект
толкования всегда один и тот же (а именно — авторское значение), для Га-
дамера понимание — это событие повторяемое: «Понимание текста
всегда означает применение его к себе с осознанием того, что даже
понимаемый по-иному, это — все тот же текст, который лишь
представляется нам по-разному».44 Итак, смысл не находится «внутри»
текста; скорее он заключен в акте прочтения. Смысл — это
результат слияния толкований.
Хотя Хирш осуждает взгляды Гадамера как излишне
субъективные, на фоне современных представлений они выглядят
вполне консервативно. Гадамер продолжает считать, что в тексте
присутствует нечто, являющееся одним из определяющих факторов
толкования. Говоря о горизонте текста, Гадамер утверждает, что
чтение не есть акт сотворения из ничего, оно представляет собой
совместное творчество, поскольку текст, через словесный смысл,
обогащает читателя. Хотя замысел автора недоступен, чтение
направляется замыслом текста.45
Мир и дело текста. Рикёр определяет «текст» как «дискурс,
зафиксированный письменно».46 Как и устный дискурс, текст что-то
о чем-то сообщает. У него есть смысл (то, что в нем говорится) и
денотат (то, о чем он). Однако письмо есть нечто большее, чем
просто новая среда для дискурса; оно имеет значительное влияние на
его содержание. Рикёр утверждает: «Диалог был взорван.
Взаимоотношения между письмом и чтением не являются более частным
случаем отношений между говорением и слушанием».47 По мнению
44 Hans-Georg Gadamer, Truth and Method (New York: Seabury, 1975), 359.
45 Во второй части я буду доказывать, вопреки утверждению Гадамера, что замысел текста на
самом деле невозможно отделить от замысла автора.
46 Рикёр рассматривает и речь, и письмо как виды «дискурса». Поэтому он возражает против
утверждения Дерриды о том, что письмо коренным образом отличается от речи; см. Ricoeur,
Interpretation Theory, 26.
47 Ricoeur, Interpretation Theory, 29.
149
Часть первая. Распад толкования
Рикёра, отделение текста от автора — не потеря, которую следует
оплакивать, а повод для радости. Автономия текста обуславливает
«избыточность» его смысла, то есть способность выйти за рамки
исходной ситуации и обратиться к читателям в настоящем: «Значение
текста уже не совпадает с тем, что имел в виду автор; с этого
момента текстовое значение и значение психологическое различны по
своему предназначению».48 Текст обладает тройной семантической
автономией: он не зависит ни от автора, ни от аудитории, для
которой был первоначально предназначен, ни от исходного референта.
Благодаря письму, «жизнь текста не ограничивается горизонтом
его автора».49
Описание Рикёром действия и мира текста проясняет
представление Гадамера о горизонте текста. Горизонт текста включает
в себя как смысл, так и денотат. Прежде всего, текст обладает
автономией и собственным смыслом. Текст это не просто
последовательность слов и предложений, а «композиция», труд, обладающий
определенным жанром и стилем, словесное произведение. Что еще
более важно, для Рикёра структура текста есть фактор,
несколько ограничивающий толкование. Герменевтический круг нельзя
назвать порочным, потому что предположения читателя сверяются
с формальными характеристиками текста (напр.: стилем,
синтаксисом, структурой). Среди формальных методов, которыми можно
воспользоваться для изучения структуры текста, Рикёр прежде
всего обращается к структуралистским приемам. Однако он считает,
что структуралисты ошибаются, слишком задерживаясь на уровне
внутритекстового анализа. Одно дело — рассечь текст, как
инертный объект, выявляя и изучая его грамматические составляющие и
разъясняя его литературные коды, и совсем другое — относиться к
тексту как к живому развивающемуся объекту, который
действительно вторгается в мир читателя и изменяет его.
Поскольку текст независим от автора, он обладает собственной
лексической и структурной целостностью. Будучи независимым от
первоначального контекста, он также является своим собственным
денотатом. В устном дискурсе денотат определяется
способностью говорящего указать жестом или как-то иначе определить тему
разговора. Однако на письме автор и читатель далеки друг от друга.
Ricoeur, Hermeneutics and the Human Sciences (Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1985), 139.
Ricoeur, Interpretation Theory, 30.
150
Глава третья. Упразднение книги
Первоначальный контекст может существенно отличаться от
современного контекста читателя.50 Однако именно отказ от прямого
денотата (т. е. словесного указания типа «вот это») является
условием вторичного денотата. Неспособность текста показать, о чем в
нем говорится, обусловливает создание им целого «мира».
Пересмотренное представление о смысле и денотате по Рикёру
уточняет понятие Гадамера о слиянии горизонтов. Рикёр уверен,
что мы, толкователи, не обнаруживаем чужого разума за текстом;
скорее нам открывается возможный взгляд на вещи, мир,
возможно, существующий перед текстом. Текст, по Рикёру, соотносится с
миром, но не в качестве его эмпирического описания. Вместо того
чтобы описывать реальные ситуации, тексты представляют нам
возможные взгляды на мир и способы обитания в нем.51 Слияние
горизонтов непосредственно связано с декодированием смысла
текста и раскрытием его денотата.
Роль читателя. Теперь ясно, почему Барт сравнивает переход от
книги к тексту с эйнштейновским переворотом в науке. Положение
наблюдателя (или читателя) частично определяет то, что он увидит
(или поймет). То, что человек видит, зависит от его «положения» —
точки зрения, которая включает в себя его историю, ценности и
предубеждения. С этой точки зрения, текст обладает только
потенциальным значением, пока читатель не «пробудит» его и не наполнит
его смыслом: «Тексты оживают, лишь когда в них начинают
участвовать люди».52 Однако остается вопрос: можно ли говорить о «смысле
текста» или его «замысле» после исчезновения автора?
Толкование, с точки зрения Рикёра, соответствует двум
аспектам текста: оно объясняет структуру текста как письменного
произведения и одновременно является реакцией на мир, опосредованной
и раскрываемый текстом. Итак, текст подобен музыкальной
партитуре; его можно проанализировать (напр.: с точки зрения темы
и ее развития, гармонии и мелодики, общей формы и пр.) — или
50 Рикёр пишет: «В устном общении окончательным критерием диапазона денотата
обсуждаемого является возможность показать ту вещь, о которой идет речь, в ситуациях,
знакомых и говорящему, и слушателю». Interpretation Theory, 34.
51 Более полное исследование того, как Рикёр применяет это понимание к тексту Писания,
см. в моей книге Biblical Narrative in the Philosophy of Paul Ricoeur: A Study in Hermeneutics and
Theology.
52 Jeanrond, Theological Hermeneutics, 78.
151
Часть первая. Распад толкования
исполнить. Простой анализ нот, однако, еще не является
интерпретацией: «Чтение подобно исполнению музыки с листа; оно
знаменует собой реализацию, раскрытие семантических возможностей
текста».53 Аналогия с исполнением музыкального произведения
служит иллюстрацией слияния горизонтов: текст представляет
собой нечто определенное, подлежащее закреплению, и в то же время
оставляет некоторую свободу выбора для исполнителя.54
Большинство имевших место случаев заимствования
литературных методов библеистами соответствуют этому
консервативному варианту «критики читательских реакций». В тексте имеются
пробелы, или неопределенности, заполнить которые призван
читатель, однако руководство для этого содержится в самом тексте.
Вольфганг Изер сравнивает читателей с людьми, которые, глядя на
одни и те же звезды, видят разные образы в одном и том же
созвездии: «Звезды» литературного текста неподвижны; но линии,
соединяющие их — изменчивы».55 Изер и Рикёр подчеркивают участие
читателя в «созидании смысла»; все же читатель, по их мнению,
не создает смысл «из ничего», а следует указаниям самого текста.
Хотя в толковании есть место неопределенности (не все
исполнители играют сонаты Бетховена одинаково), но она всегда ограничена
текстом. Текст и ограничивает, и освобождает читателя; он
приглашает к толкованию — и он же очерчивает его пределы. Рикёр
обобщает свою позицию следующим образом: «Вероятно, следует
сказать, что текст обладает ограниченным множеством толкований:
нет единого толкования, но нет, с другой стороны, и бесконечного
их числа. Текст представляет собой множество вариантов,
обладающее внутренними ограничениями...»56 Понятие о том, что текст
обладает собственным горизонтом, который взаимодействует с
горизонтом читателя, приводит нас к толкованию Библии, в котором
«читатель участвует в достаточной мере, но не слишком активно».57
Так ли это? Обладает ли целостностью текст, оторванный от
автора, и способен ли читатель его уважать?
53 Ricoeur, "What Is a Text?" in Hermeneutics and the Human Sciences, 159.
54 Френсис Янг исследует аналогию между текстом и партитурой в отношении Писания в
книге The Art of Performance: Towards a Theology of Holy Scripture (London: Darton, Longman &
Todd, 1990).
55 Wolfgang Iser, The Implied Reader (Baltimore: Johns Hopkins Univ. Press, 1974), 282.
56 Ricoeur, "World of the Text, World of the Reader," в A Ricoeur Reader: Reflection and Imagination,
ed. Mario J. Valdes (London: Harvester Wheatsheaf, 1991), 496.
57 Фраза заимствована у Стефана Мэйю, цит. по Moore, Literary Criticism and the Gospels, 106.
152
Глава третья. Упразднение книги
Давайте вернемся к примеру с галькой, образующей на
морском берегу узор, напоминающий гамлетовскую строку: «Быть или
не быть». Правомерно ли сказать, что галька составляет текст,
обладающий собственным «замыслом» и смысловым потенциалом?
Можно попытаться определить, был ли причиной возникновения
текста автор, то есть некто, наделенный разумом и пожелавший
передать таким образом некое послание. Можно ли назвать этот
узор из гальки текстом, если точно известно, что он создан
волнами? (Здесь я исхожу из того, что толкователь — натуралист и не
сошлется на вмешательство свыше). Хорхе Гарсиа различает
материал, из которого создан текст (напр.: черные знаки на белом
листе, водоросли) и сам текст (словесное обращение), и указывает,
что «причины, породившие их, не обязательно совпадают».58 Волны
сами по себе могут быть причиной возникновения узора из гальки,
но они не способны создать текст, поскольку не имеют намерения
передать нам какое-либо послание. Следовательно, в данном
случае, «автором» текста будет первый, кто сумеет разглядеть в узоре
из гальки осмысленное послание.
Суть этого примера — в том, что «смысл текста» логически
неотделим от «замысла автора». Если мы не можем соотнести набор
знаков с кем-то, кто намеревался вложить в них смысл, то не сможем и
определить наличие у него смыслового потенциала, поскольку
диапазон смысловых возможностей слова зависит, по крайней мере, от
используемого языка и от исторической эпохи. Иначе говоря, смысл
последовательности слов зависит от того, можно ли установить
их связь с реально существовавшим автором. Вывод, сделанный
Гарсиа, достоин того, чтобы процитировать его полностью:
Текст вне исторического контекста безгласен. Сделанный
мной вывод носит метафизический характер, поскольку
имеет отношение к следующему факту: чтобы нечто
обрело смысл и стало знаком, а знаки, в свою очередь, составили
текст, они должны быть соответствующим образом
подобраны и наполнены смыслом в определенном сочетании в
конкретный исторический момент. В противном случае оно
остается тем же, чем было. Тексты вне истории
перестают быть текстами.59
58 Garcia, "Can There Be Texts Without Historical Authors?" 247.
59 Там же, 252.
153
Часть первая. Распад толкования
Николас Уолтерсторф согласен с тем, что понятие Рикёра об
автономии текста — некорректно: «Смысла текста как такового
не существует».60 По заявлению Уолтерсторфа, в поисках
смысла, который может нести в себе текст, мы на самом деле
пытаемся представить, что кто-то мог бы сказать именно этими словами.
Говоря о проведенном Рикёром сравнении толкователя с
музыкантом, исполняющим текст, Уолтерсторф отмечает, что во время
такого «исполнения-толкования» мы в действительности задаемся
вопросом: «Что мог бы иметь в виду человек, написавший это, если
бы он разделял мои убеждения?» Короче говоря, «смысл текста»,
будучи далеко не автономным, определяется тем, что вложили бы в
эти слова мы сами, окажись мы на месте их автора.
Гадамер, Рикёр и их единомышленники из числа философов-
герменевтов уверены, что независимые тексты способны управлять
процессом чтения. Но что может помешать читателям «навязать»
тексту собственный смысл и интересы? Что может помешать им
«пленить каждый текст» в угоду собственным эгоистичным
помыслам? Что помешает читателям использовать текст как зеркало, в
котором они не только видят, но и проецируют себя? По словам
Стивена Мура, «Теория читателя в литературоведении — это
ящик Пандоры, в который мы, начинающие литературные критики
Библии, пока осмеливаемся лишь заглянуть».61
Синдром пустого текста
Итак, лишенные авторов тексты могут стремиться к автономии,
но в конечном итоге они падут жертвой случайной прихоти
читателя. Примером тому служит прагматичный подход к толкованию:
«Литературные произведения являются либо самодостаточными
вместилищами смысла, определяющими переживания, своих
читателей в процессе чтения... либо конечным продуктом этого
процесса, объектами, которые возникают из переживаний читателей, а не
предшествуют им».62 В своей книге «Толкование Библии» Роберт
Морган и Джон Бартон отражают взгляды прагматистов: «Тексты,
60 Nicholas Wolterstorff, Divine Discourse: Philosophical Reflections on the Claim that God Speaks
(Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1995), 172.
61 Moore, Literary Criticism and the Gospels, 107. В следующей главе я более подробно
рассматриваю литературную критику, ориентированную на читателя.
62 Annette Barnes, On Interpretation: A Critical Analysis (Oxford: Basil Blackwell, 1988), 86-87.
154
Глава третья. Упразднение книги
как мертвецы, не имеют ни прав, ни целей, ни интересов. Их можно
использовать по усмотрению читателя или толкователя».63 Вместе
с Фишем они утверждают, что текст не отличается постоянством.
Он недостаточно «прочен». Свойства, приобретаемые текстом,
зависят от пережитого его читателем. Текст становится показателем
того, для чего его используют.
Вопреки мнению философов-герменевтов, рассмотренному нами
выше, прагматисты отрицают наличие в тексте «замысла». Текст
не «стремится к достижению какой-либо цели». Они уверены, что
подобный антропоморфизм восходит к дискредитировавшим себя
автороцентричным идеям. Фиш переворачивает представление Ри-
кёра о толковании с ног на голову: толкование текста читателем не
подчиняется замыслу текста, напротив, замысел текста
определяется читательским толкованием. «Я «увидел» то, что позволили —
или заставили — увидеть мои принципы толкования, и в свою
очередь, приписал «увиденное» тексту и замыслу».64 Этот переворот
в теории интерпретации, совершенный Фишем, можно сравнить с
тем, что совершил для науки Коперник: не толкование
сообразуется с текстом, а текст — с толкованием. После этого
революционного шага хваленая автономия текста, по сути, исчезает:
«Субъекты, ранее рассматривавшиеся как соперники в борьбе за
право ограничивать толкование (текст, читатель, автор), теперь
предстают как его результат».65
Мы не должны искажать взгляды противников реализма в
герменевтике. Фиш не утверждает, что полки книжных магазинов на
самом деле пусты и заполнены лишь воображением покупателей.
Конечно же, книги существуют. По его мнению, увиденное нами
в тексте — структурные модели, смысл — есть результат
толкования. Итак, отнюдь не будучи автономным, текст, по крайней мере
частично, определяется (а не просто пробуждается к жизни)
нашим толкованием. Всякое описание текста подвержено влиянию
наших вопросов и контекста. Определенный смысл текста
является функцией конкретной ситуации, в которой находятся
толкователи. Можно ли назвать Фиша герменевтиком-солипсистом? Видят
ли читатели на «дне» текста лишь себя самих, вместо того чтобы
Robert Morgan and John Barton, Biblical Interpretation (Oxford: Oxford Univ. Press, 1988), 7.
Fish, "Interpreting the Variorum" в Is There a Text? 163.
Fish, /5 There a Text?, 16-17.
155
Часть первая. Распад толкования
заглянуть в другой мир, за новый горизонт — что делает передачу
смысла совершенно невозможной?
Рорти игнорирует обвинения в том, что именно прагматический
подход, в противоположность онтологическому, ведет к
«безумному релятивизму», в условиях которого приемлемым считается все
что угодно.66 Прагматисты настойчиво отрицают право читателя
делать любые заявления, поскольку он принадлежит к сообществу
толкователей, обладающему определенными целями, интересами и
авторитетом. Например, вопрос «Есть ли в этом курсе текст?» имеет
свое значение в каждой конкретной ситуации. У Хирша он
относится к используемым на занятиях учебникам. У Фиша этот вопрос
означает: «Верим ли мы, что тексты обладают природой, независимой
от деятельности читателя?» Смысл утверждения «пользователя» в
том, что общение всегда происходит в ситуациях, где уже
присутствуют некие допущения и условности (напр.: схема толкования).
Толкование или грамматология?
Теории интерпретации изучают способы передачи сообщения в
тексте. Ведь Гермес был богом-посланником. Теории же
текстуальности следовало бы назвать «герметическими», поскольку они
рассматривают текст как (1) герметично изолированный от внешних
воздействий (напр.: от автора или первоначального контекста),
(2) неопределенный и обособленный от реальной
действительности и, наконец, как (3) хранилище множественных, иногда скрытых,
смыслов.67 Если «книга» функционирует как знак, движущийся в
заданном автором направлении, текст представляет собой
находящуюся в свободном плавании систему знаков, которая не приходит
в состояние покоя ни в одном конкретном контексте. Книга —
продукт голоса и дыхания автора — является, таким образом,
объектом пневматологическим, а не грамматологическим.68 Поэтому, с
точки зрения Дерриды, призыв Рикёра к новому понятию о
толковании, утверждающий автономию текста, не отдает должного
письму как явлению. Деррида заявляет о необходимости найти способ
Rorty "Texts and Lumps," New Literary History 17 (1985): 12.
Cm. Harris, Literary Meaning, chs. 1-4.
Derrida, OfGrammatology, 17.
156
Глава третья. Упразднение книги
взаимодействия с текстами за пределами герменевтики и
толкования: грамматологии.
Текстуальность. Деррида вводит термин «грамматология» для
обозначения науки о «письме», не руководствующейся более логоцен-
тризмом. В грамматологии чернила — это, пожалуй, единственное,
что остается неизменным; автор, смысл, денотат, даже контекст —
все исчезает. В отличие от книги, заключенной в обложку и
имеющей четкую структуру определенного целого, текст представляет
собой совершенно открытую и неопределенную сеть знаков и других
текстов. Текст — не светильник ногам нашим и не свет стезе нашей,
а бесконечный лабиринт, ведущий одновременно всюду и никуда.
В то время как цель герменевтики — «понять» текст, определив его
смысл, грамматология настаивает на том, что смысл текста
неопределим: «снять с текста шкуру» можно не одним способом.
Грамматология изучает письмо не как средство передачи
сообщения, а как место дифферанса. Латинское слово textere означает
«ткать, сплетать». Для Дерриды текст — это ткань, сплетенная из
знаков, которая, в свою очередь, вплетена в другие ткани, другие
тексты. Грамматология представляет собой систематическую
попытку «расплести» эти ткани на отдельные нити. Выражение «вне
текста ничего нет» означает, что язык и мышление, каждое слово
и каждое понятие являются частями всемирной сети знаков.
Между текстами существует тесная взаимосвязь. Текстуальность
означает, что знания, не опосредованного той или иной
знаковой системой, не существует. Толкователь никогда не находит
объекта, в свою очередь не допускающего множество толкований.
Опять-таки, Деррида не утверждает, что все — текст, превращая
мир в библиотеку. Скорее, как напоминает нам Харт: «С точки
зрения Дерриды, окружающая действительность не только текст, но
также и текст».69 Если она отчасти является текстом, мы никогда
не сумеем проникнуть в суть вещей; никогда не доберемся до
внетекстовой, самоочевидной реальности, которая позволила бы
остановить процесс толкования. Деконструкция упраздняет логоцент-
ризм, вскрывая внутреннюю структуру каждого отдельного логоса
(напр.: сознания, авторского замысла, идеи, откровения).
Утверждение текстуальности оказывается утверждением множественности
Hart, Trespass of the Sign, 165.
157
Часть первая. Распад толкования
и неопределимости значений. Ничего внетекстового, к чему можно
было бы воззвать, чтобы прекратить неумолимое шествие
неопределенности, просто не существует.
Итак, текстуальность отнюдь не утверждает автономию текста,
но напротив, подрывает ее. Утверждение текстуальности есть
утверждение незавершенности текста как такового. Текст не
единое целое. Более того, деконструкция является попыткой найти
те точки, где части текста не согласуются между собой. Даже
самым тщательным образом сконструированный текст выдает свою
незавершенность; представляя собой систему различий, каждый
текст в конечном итоге подвержен распаду. Деррида
обнаруживает конфликт между очевидным содержанием текста и тем, какой
смысл в него систематически пытаются вложить: «Деконструи-
ровать — значит найти слабые места в системе, точки, в которых
она может изображать уверенность лишь путем исключения и
пренебрежения тем, что она не в состоянии вобрать в себя и что
является «иным» по отношению к ней самой».70 Почему разногласия
неизбежны? Причина не в том, что авторы неспособны мыслить
логически. Им приходится мыслить в пределах знаковых систем —
лексических наборов, в основе которых лежат бинарные
оппозиции, чья произвольная структура не может быть окончательно
обоснована. Герменевтика стремится отсечь незакрепленные нити,
чтобы уберечь целое от распада, но Деррида утверждает, что за
таким подавлением скрывается лишь игра различий. Грамматология
предполагает упразднение любого толкования, воспринимающего
текст как бесшовную одежду. Грамматолог намеренно выискивает
свободные нити — противоборствующие силы, которые
сталкиваются в тексте.
Контекстуальность. Основное правило в герменевтике — как
и в торговле недвижимостью — таково: «Место, место и еще раз
место». В случае определения значения, «место» означает контекст.
Именно контекст помогает понять, относится ли выражение «Это —
ключ» к инструменту, к музыкальной тональности или к роднику.
Контекст указывает и на историческое место текста (напр.: Кто его
автор? Зачем он был написан? Когда?) и на место, занимаемое им в
литературе (напр.: Это библейский текст или нет? В каком жанре
70 The Postmodern Bible, 120.
158
Глава третья. Упразднение книги
написан? На каком языке?). Читатель также имеет свой контекст,
включающий как историческую ситуацию, так и место в
сообществе толкователей.
Деррида отрицает зависимость текста не только от авторов и
первоначального контекста, но и от любого определяющего
контекста, включая читательский: «Письменный знак несет в себе силу,
отрывающую его от контекста, то есть от коллективного
присутствия, определившего момент его написания».71 Возможность того,
что текст оторвется от своей исходной точки и первоначального
контекста, не является внеязыковой. Она скорее обусловливает
возможность существования языка как такового. Именно поэтому
текстовое значение неопределимо: ведь тексты не имеют
придающего им устойчивость контекста. С одной стороны, можно читать
тексты, ничего не зная об их происхождении. С другой стороны,
наша трактовка контекстуальна, она — лишь один из вариантов
прочтения. Например, слово hypostasis перемещается от одной
системы денотатов к другой. Оно появляется во 2 Кор. 9,4, у Ориге-
на, а также на Халкидонском соборе 451 года. Что оно значит на
самом деле? Этот вопрос уже поставлен неправильно. «Настоящего»,
абсолютного значения, не связанного с конкретным контекстом,
не существует. «Итеративность», как вы, возможно, помните,
означает повторяемость знаков в совершенно отличных друг от друга
ситуациях. То, что верно в отношении отдельных знаков, верно и в
отношении всего текста. Книга Исход может иметь один смысл для
читающих ее иудеев, другой — для пуритан семнадцатого века и
третий — для общины бедняков в Латинской Америке.72
Хирш обосновывает объективность интерпретации
возможностью передачи смысла. Но требует ли передача смысла общности
контекста? Как можно сделать контекст общим? Джонатан Каллер
отмечает: «Некоторые тексты осиротели более других».73 Деррида
не согласен с этим утверждением. Все тексты оторваны от своих
отцов, от породившего их присутствия. Ни один человек, ни одна
71 Derrida, "Signature Event Context", 182.
72 А. Дранти и Чарльз Гудвин в книге Rethinking Context (Cambridge: Cambridge Univ. Press,
1992), утверждают, что и сами контексты следует рассматривать как нечто динамичное, а не
статическое. Контексты — это не только фактор, сдерживающий язык; они сами — его продукт.
Деррида идет еще дальше: не следует считать контексты чем-то, принадлежащим к миру и
доступным для анализа; напротив, контексты и сами — продукт толкования. Отсюда вопрос
Дерриды: можем ли мы точно определить, что имеется в виду под «контекстом»?
73 Jonathan Culler, Structuralist Poetics, 133.
159
Часть первая. Распад толкования
ситуация не «владеет» текстом. Даже нахождение рядом с
говорящим в материальном мире не гарантирует общности контекста.
Присутствие всегда опосредовано нашими телами, одеждой,
поступками, а также нашей речью. Общность контекста не бывает ни
простой, ни прямой. На протяжении истории толкования Библию
читали во множестве различных контекстов: в греческом и
латинском, в латиноамериканском и южно-африканском, протестантском
и католическом, феминистском и психоаналитическом и так далее.
Являются ли какие-то из этих контекстов более
плодотворными для интерпретации, чем другие? Возможно ли, чтобы
некоторые контексты ослепляли читателя, отказываясь пролить свет на
понимание текста? Для «упразднителей» и «пользователей»
вопрос о надлежащем контексте не имеет ответа, равно как и вопрос о
единственно правильном толковании текста.
Несмотря на расхождения во мнениях, представители как
герменевтического (Гадамер, Рикёр), так и грамматологического (Дер-
рида, Фиш) подхода отвергают идеал объективного
литературного знания, признавая, что смысл, по большей части, есть продукт
исторически обусловленных способов чтения или декодирования.
Тисельтон обобщает суть проблемы: «Герменевты пришли к
выводу, что все претензии на знание, все, что, казалось, могло бы
считаться знанием, своим происхождением обязано той или иной
общественной традиции, в которой контекст условности определяет,
что именно приемлемо или «рационально».74 Это можно назвать
«тезисом об общей относительности» в теории литературы: все, что
толкователь наблюдает в тексте, полностью зависит от его
«траектории» (предрассудков, целей, интересов) и «положения» (напр.:
рода, расы и класса).
ПОНЯТИЕ СМЫСЛА В АНТИОХИИ И В АЛЕКСАНДРИИ
Потому что буква убивает, а дух животворит (2 Кор. 3, 6).
То, из чего состоит текст, неподвластно определению.75
Есть ли в этом тексте смысл, один он — или их
несколько, ясный — или скрытый? Спор о том, являются ли тексты
74 Thiselton, New Horizons, 395.
75 Geoffrey Hartman, The Fate of Reading and Other Essays, 13.
160
Глава третья. Упразднение книги
определенными и подлежащими единому «буквальному»
толкованию или же они неопределенны и открыты для множественных
«духовных» толкований, едва ли можно назвать новым. В самом деле,
в иудейской и раннехристианской экзегетике большинство
толкователей принимали как данность наличие у текста нескольких
значений. Более того, ранних иудейских и христианских мыслителей
не беспокоила множественность толкований, они даже получали
от этого удовольствие. Способность обнаружить значение, которое
отличалось бы от очевидного, считалось необходимым условием
актуальности Библии.76 Библейские авторы и сами перерабатывали
ранние тексты для их последующего применения в различных
ситуациях: «Раввины, Августин и Лютер прекрасно знали, что Библия,
несмотря на свою текстуальную разнородность, читается как книга,
которая объясняет сама себя».77
Однако между древними христианскими аллегористами и их
постхристианскими коллегами существует огромная разница.
Ранние христиане, находя значения за пределами буквального, как
правило, ограничивали их число и неизменно подчиняли их
богословским ограничениям. Говорить о понятии смысла в Антиохии и
Александрии означает, в конечном итоге, прийти к осознанию того,
что взгляд человека на буквальный и духовный смысл текста связан
с его представлением о воплощении Слова Божьего. Комментарий
читателя неразрывно связан с его христологией.
Буква и дух
История толкования Библии сложна, но занимательна.78 Здесь
я хотел бы проследить развитие лишь одной из ее сюжетных
линий: конфликт между буквальным толкованием, с одной стороны,
76 Мойзес Сильва проницательно замечает: «Верующему, который желает применить в своей
жизни истину Писания, очень трудно избежать аллегорического толкования» (Has the Church
Misread the Bible? The History of Interpretation in the Light of Current Issues [Grand Rapids:
Zondervan, 1987], 63).
77 Gerald L. В runs, "Midrash and Allegory: The Beginnings of Scriptural Interpretation," в Robert
Alter and Frank Kermode, eds. The Literary Guide to the Bible (Cambridge, Mass: Harvard Univ.
Press, 1987), 626.
78 Cm. Robert Grant and David Tracy, A Short History of Biblical Interpretation (Philadelphia:
Fortress, 1984); Moises Silva, Has the Church Misread the Gospel? G. R. Evans, The Language
and Logic of the Bible: The Earlier Middle Ages (Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1984); Beryl
Smalley, The Study of the Bible in the Middle Ages (Oxford: Basil Blackwell, 1983, 3d ed.).
6-227 161
Часть первая. Распад толкования
и мидрашским и аллегорическим толкованием с другой. Крайне
важно с самого начала различать аллегорию как вид текста и
аллегорию как принцип толкования. В аллегорическом тексте смысл
намеренно заложен, по крайней мере, на двух разных уровнях (см.
Гал. 4). Аллегорическое толкование рассматривает текст как
означающий нечто иное (от греч. allos — иной, другой), что явствует из
его очевидного значения.79
Александрия: взгляд за пределы буквы
Аллегорическое толкование имеет смысл в текстах,
оказавшихся в чуждой им культуре и понятийном контексте. Аллегорическое
прочтение Библии представляло собой выход из трудного
положения, как для иудеев, так и для христиан, которые хотели
представить Писание в выгодном свете перед греческими интеллектуалами
древней Александрии.80 Филон, иудейский философ первого века,
утверждал, что греческую философию можно найти в Моисеевой
мудрости, если знать, где искать, и искать настойчиво. Через
аллегорию Филон ощущал дух в букве иудейского закона и таким
образом обнаруживал идеи Платона у Моисея: «По сути, комментируя
Писание, Филон пытался объяснить, как перевести язык Библии на
язык нравственной философии».81 В отношении библейских имен,
например, аллегористы из Александрии пользовались такими
тождествами, как Адам = естественный разум, Ева = чувства, Египет =
тело, Израиль = душа и т. д.
Точно так же христиане доказывали, что Христа можно найти
и в Ветхом Завете. В общем и целом, аллегорическое толкование
являлось мощным средством, позволявшим применить древние
тексты к решению современных проблем. Оно представляло собой
стратегию толкования, утверждающую, что «это означает то». Как
таковое, оно было важнейшим способом познания скрытого смысла
текста с вполне определенной целью: соотнесение его с
современностью.82
79 Гераклит, один из первых теоретиков аллегории, в первом веке до нашей эры определил ее как
«высказывание, в котором говорится одно, а обозначается нечто иное» (Homeric Questions, 5.2).
80 См. Frances Young, "Alexandrian Interpretation," in Dictionary of Biblical Interpretation, 10-12.
81 Bruns, "Midrash and Allegory," 638.
82 Харт находит ту же цель — тотализацию — ив аллегорической герменевтике Александрии,
и во всей западной философии: Trespass of the Sign, 57-59.
162
Глава третья. Упразднение книги
Для Оригена, христианского философа третьего века,
буквальный смысл текста часто оказывается менее важен, чем духовный,
так же, как для Платона земные вещи суть тени небесных Форм,
а человеческое тело ниже духа: «Духовно мыслящий комментатор
воспринимает букву, но относится к ней аскетически, как хороший
верующий — к своей плоти, дабы посвятить себя духу».83 Будучи
богодухновенным, наряду с «поверхностным», Писание
обладает и единым глубоким смыслом. На «плотском» (т. е. буквальном,
историческом) уровне не все в Библии назидательно и
последовательно изложено. Более того, в ранней церкви буквальный подход
ассоциировался с неспособностью иудеев разглядеть Христа в
Ветхом Завете. Павел говорил о «завесе» на сердцах иудеев, которая
препятствовала пониманию ими истинного смысла закона.
Поэтому «буквалисты» были изгоями, неспособными увидеть то, на что
указывала буква. Кроме того, буквализм иногда приводил к
богословскому абсурду. Например, Ориген не мог представить себе, что
созданию солнца и луны предшествовали три «дня». Не видел он
смысла и в повествовании о пьяных выходках Ноя. С точки зрения
Оригена, буквальный смысл зачастую банален; это единственный
смысл, доступный самым недалеким читателям. Он сравнивал
буквальное толкование текста с поеданием пасхального агнца сырым.
Читая библейские повествования аллегорически, человек получает
больше духовной пищи. Например, повествование о Ревекке,
набирающей воду из источника, и о ее встрече со слугой Авраама
указывает на более глубокую истину о том, что нам каждый день следует
приходить к источникам Писания, чтобы встретиться с Христом.
Приходить, чтобы встретиться с Христом, встретиться с
Богом — именно в этом заключалась конечная цель аллегорического
прочтения для александрийских мыслителей. Отцы ранней церкви
искали нравственный и духовный смысл. Они стремились не к
простому знанию того, что говорили и делали смертные, а к познанию
природы и воли бессмертного Бога.
Антиохия: взгляд сквозь букву
На первый взгляд может показаться, что само христианское
богословие дает большую свободу аллегорической интерпретации.
83 Beryl Smalley, Study of the Bible in the Middle Ages, 2. Взгляды Оригена часто понимают
превратно, как не оставляющие места для буквального, или исторического, смысла. Попытка
показать, что Ориген — аллегоризатор: см. Silva, Has the Church Misread the Bible? ch. 3.
6* 163
Часть первая. Распад толкования
Разве Иисус Христос не является истинным смыслом
ветхозаветных пророчеств? Разве не надлежит весь Ветхий Завет читать как
книгу, говорящую об одном (напр.: об Израиле), а имеющую в виду
другое (напр.: полноту во Христе и в церкви)? Если так, то вся
Библия — или по крайней мере Ветхий Завет — содержит
аллегорический смысл и должна читаться аллегорически. С другой стороны,
если в тексте говорится нечто отличное от его буквального смысла,
почему бы ему не значить все что угодно? В ранней церкви
еретики мастерски использовали Писание для обоснования собственных
точек зрения. Представители одной из групп, гностики,
цитировали в свою защиту слова Христа из Мф. 7, 7: «Ищите, и найдете».
Поэтому некоторые из защитников веры сформулировали
обратный принцип: «Мы предпочитаем находить в Библии меньше
смысла, если возможно, чем наоборот».84
«Антиохийская школа» процветала в Сирии в конце четвертого —
начале пятого века. По мнению ее ведущего представителя, Фео-
дора Мопсуэстийского, задача толкователя Библии в том, чтобы
пояснять значения непонятных слов и мест с точки зрения
первоначального исторического контекста. Антиохийцы утверждали, что
ни один текст не означает ничего «иного», чем то, что в нем ясно
сказано.85 Они настаивали на том, что Божье откровение имело
место в истории, с которой непосредственно соотносится библейский
текст, если его толковать буквально. Буквальное значение
обращает внимание читателя на действие Бога в реальном мире
исторических истин, но не в идеальном мире истин символических.
Единство Библии заключается в том, что она повествует о спасении, и не
представляет собой систему интеллектуальных истин. Толкование
антиохийской школы имело преимущественно историческую, а не
философскую основу.
Раввины: жизнь в букве
Иудейские толкования представляют собой еще один, третий
подход к букве. Раввины считают Тору Словом самого Бога,
содержащим всю мудрость Божью, дарованную им своему народу.
Поскольку автором Писания является Бог, даже сами его буквы полны
Tertullian, De Pudicitia, 9.22.
Ср. трактат Феодора «Об аллегории и истории», направленный против Оригена.
164
Глава третья. Упразднение книги
глубокого смысла. Тора указывает не столько на что-то одно, сколько
на все сущее. Толкование является средством, с помощью которого
Тора обращается к каждому последующему поколению в различных
ситуациях.86 Раввины верили также, что Писание намеренно
осталось незавершенным, и нуждается в дополнении устной Торы, то
есть — авторитетного толкования писаного закона, данного Богом
Моисею и переданного его последователями раввинским школам.
Итак, Тора одновременно совершенна и не завершена. Она
содержит в себе все — но это можно обнаружить лишь благодаря
процессу постоянного толкования, или мидраша (от корня darash —
искать, вглядываться, исследовать). Мидраш отвечает на вопрос
«Что это значит?», стремясь преодолеть расстояние между текстом
и ситуацией, в которой находится толкователь.
Подобно аллегорическому толкованию, мидраш часто идет
дальше поверхностного значения, которое на первый взгляд допускает
текст.87 Раввинские комментарии носят скорее творческий, чем
описательный характер, и непосвященный читатель чаще видит в
них эйзегезу — привнесение в Писание идей, не предусмотренных
автором. Однако с точки зрения раввинов мидраш лишь
извлекает скрытый в Писании божественный смысл. Иначе говоря,
толкование представляет собой дальнейшее божественное откровение.
Поэтому неудивительно, что и раввинские комментарии
становятся авторитетными: «Возведение позднего комментария на уровень
предшествовавшего ему исходного текста — одно из удивительных
свойств раввинского толкования».88 Хотя толкования разных
раввинов часто противоречили друг другу, столкновения авторитетов
при этом не происходило, поскольку авторитетностью обладал весь
диалог — как часть устной Торы, открытой Моисею. «Текст» здесь
не столько автономный объект, предшествующий традиции,
сколько одна из сторон традиции толкования. Несомненно, достижение
цели литературного познания — извлечение определенного
смысла — вряд ли возможно в контексте такого рода герменевтики, где
толкование является одним из аспектов текста, а текст — аспектом
толкования.
86 Джинронд перечисляет четыре метода толкования в иудейской экзегетике, Jeanrond,
Theological Hermeneutics, 16-18.
87 Яков Нойзнер различает три вида мидраша и описывает то, что он называет «мидраш как
притча», как аллегорический подход. См. его What is Midrash? (Philadelphia: Fortress, 1987),
7-12,80-101.
88 Susan Handelman, Slayers of Moses, 41.
165
Часть первая. Распад толкования
В своей выдающейся работе по деконструктивизму и богословию
Кевин Харт отмечает, что идеи Дерриды близки скорее к
иудейскому мышлению, чем к греческому. Так, Деррида определяет иудаизм
как «рождение ecriture [письма] и страсть к нему».89 Можно
вспомнить, что христианское богословие родилось с появлением знака.
В отличие от христианской экзегетики, которая завершается, когда
буква указывает на Дух или на Христа, для иудейских экзегетов
так и не наступил благословенный Субботний покой: «Раввинская
традиция... основывается на принципе множественности смыслов и
бесконечности толкований, не просто утверждая, что текст и
толкование неразделимы, но объявляя толкование — а не Воплощение —
важнейшим Божьим деянием».90 То есть, лишь углубляясь в букву,
можно обнаружить подходящее значение. Раввинская экзегетика
придает особый оттенок высказыванию Дерриды о том, что «вне
текста ничего нет».
Буквально и образно
Каков же смысл буквы? Несет ли она в себе единый
определенный смысл, или, как считали раввины, она содержит всю
мудрость вселенной в скрытой форме? На протяжении почти тысячи
лет читатели-христиане сосредоточивались на богодухновенном,
духовном смысле Библии. «Любое возможное толкование, которое
согласовалось с вероучением и было назидательным, несло на себе
одобрение самого Бога».91 Однако в двенадцатом веке, главным
образом, благодаря прогрессу в языкознании и логике, наиболее
важным стало считаться буквальное значение. К шестнадцатому
веку реформаторы стали считать буквальный смысл единственным
«достойным». Но что такое буквальный смысл, и означает ли
буквальное толкование, что в Ветхом Завете не говорится об Иисусе
Христе? Эти вопросы ставят под сомнение саму возможность
литературного знания. Проливает ли текст достаточно света на
определение своего значения, или же его в конечном счете следует читать
в свете чего-то иного?
89 Цит по: Hart, Trespass of the Sign, 50.
90 Handelman, Slayers of Moses, xiv.
91 Evans, Language and Logic of the Bible: The Road to Reformation (Cambridge: Cambridge Univ.
Press, 1985), 42.
166
Глава третья. Упразднение книги
Буквальный смысл
Большинство словарей определяют буквальный смысл как
основное, общеупотребительное значение термина. Буквальное
значение «просто и ясно». Для Аристотеля буквальный смысл
существительного — это тот предмет, с которым оно обычно
ассоциируется. Метафора же есть «отклонение от нормы», почему
Аристотель и относит метафорический язык к области риторики, а не
философии. Образный язык есть «отклонение от того, что носители
языка воспринимают как обычное, или стандартное значение или
сочетание слов, используемое с целью достижения какого-то
особого смысла или эффекта».92 Метафоры, сравнения, синекдохи —
все это «тропы», уводящие читателя в сторону от привычного,
«правильного» языка.
В последующем рассуждении крайне важно отличать
буквальный смысл Писания от буквалистического толкования. Буквалис-
тическое прочтение может заключаться в требовании сохранения
смысла на уровне обычного словоупотребления даже там, где
предусмотрен переход на совершенно иной уровень. Достаточно на
минуту задуматься над этим, чтобы увидеть недостатки такого
прочтения: никто, разумеется, не думает, что у Иисуса есть петли и ручка,
когда он называет себя дверью. Буквальное же толкование может
включать в себя и переносные значения, если это соответствует
замыслу автора. Многие Отцы церкви сохранили здравое уважение к
буквальному смыслу, даже укоряя иудеев за буквализм,
помешавший им увидеть указания на Христа в Ветхом Завете.
Было бы весьма прискорбной ошибкой путать приверженность
антиохийцев буквальному смыслу с примитивным буквализмом.
Иоанн Златоуст, еще один представитель антиохийской школы,
писал: «Не следует рассматривать слова в изоляции, иначе
возникает множество нелепостей; нам надлежит исследовать замысел
автора».93 Для антиохийцев буквальный смысл «включал в себя весь
спектр авторских значений, вместе с его метафорами и образами».94
Берил Смолли называет Феодора «первым и, вполне возможно,
единственным античным комментатором, который применил
литературную критику в процессе изучения текста».95
92 М. Н. Abrams, Glossary of Literary Terms, 63.
93 Цит по: Regina Schwartz, ed., The Book and the Text: The Bible and Literary Theory (Oxford:
Basil Blackwell, 1990), 4.
94 Smalley, Study of the Bible in the Middle Ages, 14.
95 Там же, 15.
167
Часть первая. Распад толкования
Буквальное толкование против образного
Что такое буквальное толкование? Можем ли мы с его помощью
найти Христа в Ветхом Завете? Тогда как образное прочтение,
казалось бы, открывает текст для множества толкований и полной ал-
легоризации, реальное положение вещей еще сложнее. Библейский
текст, будучи истолкован буквально, может сам по себе указывать
на образный смысл.
Августин. Лучше всего начать изучение взаимоотношений
буквального и образного с Августина, чей труд «О христианской
доктрине» помещает его рассуждения о толковании в контекст
теории знаков и христианского вероучения. С точки зрения
Августина, всякое знание соотнесено или с вещами, или со знаками. Знаки
могут быть буквальными или образными. Они «буквальны», если
соотнесены с вещью (напр.: «Вавилон» обозначает столицу
вавилонской империи); они образны или аллегоричны, когда, упоминая
одну вещь, они на самом деле означают другую (напр.: город
Вавилон обозначает угнетателей Божьего народа). Буквальное
прочтение определяет, что именно обозначают знаки.
Августин предлагает простое правило, позволяющее решить,
когда следует применить переносное толкование: если библейский
текст не учит вере и любви к Богу и ближнему, его следует
воспринимать образно. «Прочитанное следует подвергнуть тщательному
исследованию, пока не будет найдено толкование, способствующее
воцарению любви. Если этот результат явно заметен в тексте, то
рассматриваемое выражение не является образным».96 Если
толкователь сталкивается с несколькими возможными вариантами,
Августин советует выбирать тот, который более всего учит любви к
Богу и ближнему. Осознавая, что это ведет к возможному наличию
у текста многих смыслов, он предлагает ограничительный критерий:
«Если в отрывке обнаружен не один, а два смысла или более, даже
если намерение его автора остается скрытым, нам не грозит
опасность, при условии, что хотя бы один из этих смыслов согласуется с
истиной, которой учат другие места Священного Писания».97
Augustine, On Christian Doctrine, 3.15.
Там же, 3.27.
168
Глава третья. Упразднение книги
Пусть это, возможно, и не буквальное толкование, но его уж
точно нельзя назвать произвольным или неопределенным.
Буквальный смысл определяет, на что указывают знаки; правило веры
и принцип любви определяют, на что указывают вещи. С точки
зрения Августина, и знак, и вещь непосредственно соотносятся с
чем-то весьма определенным. Более того, Августин — сторонник
тщательного анализа буквального смысла как фактора,
сдерживающего произвольную трактовку.98 Учение Августина представляет
собой сочетание александрийского и антиохийского подходов.
Фома Аквинский. Образное толкование стало более
проблематичным с развитием богословия как университетской дисциплины.
В начальных главах своей «Суммы теологии» Фома Аквинский
рассматривает возможные возражения против множественности
значений в Писании. Множественность смысла (1) неуместна в науке,
которой является богословие, (2) неуместна, если является
творением толкователя и (3) неприемлема, если не предусмотрена
автором. Бог, конечно же, может использовать простые и ясные
высказывания для обозначения чего-то иного. «Буквальный смысл — это
все, что хотел сказать вдохновляемый Богом автор, а духовный —
то значение, которое Бог придает священной истории».99 Это
различие очень важно. Для Фомы Аквинского двусмыслен не знак, а вещь,
им обозначаемая: «Граница между буквальным и духовным
смыслом проходит теперь между значениями, сознательно вложенными
в текст авторами, и значениями, им неизвестными и обладающими
вечной ценностью, которые вложил туда Бог, направлявший их
сознательный и неосознанный труд».100 Фома Аквинский —
достойный представитель толкователей двенадцатого века, с
зарождавшимся у них чувством языка и логики и стремлением анализировать
98 По сути, большая часть Книги 3 трактата «О христианском вероучении» {On Christian
Doctrine) касается стратегий избавления текста от многозначности, путем, например, обращения
к контексту или выбора смысла, соответствующего правилу веры. Опять-таки, александрийское
толкование, вероятно, было не настолько буквалистическим, как считалось ранее. В то время как
Августин подчеркивал важность божественной любви как нормы толкования, Ориген говорил
о значении мудрости. Хотя фон Харнак отвергает толкование Оригена как форму «библейской
алхимии», недавние исследования указывают на то, что у аллегорического толкования была
своя собственная система. См. Frances Young, "Alexandrian Interpretation," 10-12.
99 Smalley, Study of the Bible in the Middle Ages, 41. Подробный анализ четырех аспектов смысла
Писания, преобладавших в Средние века, см. Henri de Lubac, Exegese medievale: les quatre sens
del'ecriture (Paris: Aubier, 1959).
100 G. R. Evans, The Language and Logic of the Bible: The Road to Reformation, 43.
169
Часть первая. Распад толкования
и прояснять сложные для понимания буквальные утверждения
Писания, вместо того чтобы каждый раз прибегать к аллегории.
Реформаторы. Эпоха Возрождения принесла с собой новую
волну интереса к грамматическому и историческому изучению
текстов на языках оригинала. Реформаторы также стремились
восстановить исходный смысл, который, по их мнению, был погребен под
вековыми пластами духовного толкования. Лютер, в частности,
отказывался терпеть аллегорический метод; ведь в руках аллегорис-
тов Библия была подобна дышлу, которое можно было повернуть
так, а можно — эдак. Лютер говорил: «Я считаю, что вкладывать
в Писание несколько смыслов не просто опасно и бесполезно для
назидания. Это также и подрывает авторитетность Писания,
значение которого должно быть всегда одним и тем же».101 С точки
зрения Лютера авторитетный смысл Писания не скрыт, а ясен: «Дух
Святой — самый доступный для понимания писатель на земле и
на небесах; поэтому его слова не могут иметь иного смысла,
кроме одного, самого простого, который мы называем библейским или
буквальным».102
В то же время Лютер признавал, подобно антиохийцам, что
«буквальный смысл» может включать в себя и смысл духовный, если это
соответствует замыслу автора.103 Понимание этого позволяет
вывести важный принцип герменевтики, а именно: аллегорическое
толкование — чтение с целью найти иной смысл, кроме очевидного, —
применимо лишь в том случае, если текст действительно
является аллегорией.
Аллегоричны ли поиски в Ветхом Завете Христа? Аллегоричен
ли сам Ветхий Завет? Реформаторы, утверждая, что многие
ветхозаветные тексты прямо указывают на Христа, в то же время не
называли свои толкования аллегорическими и не рассматривали Библию
как книгу, полную аллегорий. Они рассматривали ключевые фигуры,
действия и события Ветхого Завета как «образы» и «тени», которые,
будучи частью реальной истории, в то же время служили
прообразами более поздних лиц, действий и событий в Новом Завете.
101 Luther, WA, 42.657-58.
102 Цит. по: Farrar, History of Interpretation (Grand Rapids: Baker, 1961), 329.
103 См., например, комментарий Лютера к Быт. 2, 7 в его «Комментарии к Бытию».
170
Глава третья. Упразднение книги
Важнейшее различие между образным и аллегорическим
толкованием заключается в том, что первое соотносит два события,
находящиеся в исторических отношениях ожидания и исполнения, в то
время как в аллегории отсутствует упорядочивающая связь между
буквальным и духовным смыслами. Ханс Фрай делает ценное
замечание, указывая, что реформаторы, противопоставляя буквальный
смысл аллегории, не противопоставляли его образному
толкованию: «Не вступая в противоречия с буквальным смыслом
библейского повествования, образность была естественным продолжением
литературного толкования. Это был буквализм на уровне всей
библейской истории, а следовательно, и в описании всей исторической
реальности».104 Для реформаторов сама история обладала вполне
определенным смыслом — не изобретаемым читателем, а
соответствующим замыслу Бога — высшей точкой которого является
откровение Бога во Христе. Образность толкования реформаторов
следовала из их христологии: мудрость Божья не скрыта на
понятийном уровне, превосходящем буквальный смысл, а явлена нам в
буквальном значении истории Иисуса Христа.105
Бывает ли смысл «прямым»?
В христианской практике толкования Библии издавна принято
отличать «прямой», или буквальный, смысл от переносного, или
образного. Однако Деррида и Фиш отрицают саму возможность
существования «прямого» смысла, и тем самым сводят на нет
различие между буквальным и образным смыслом. В аллегорической
традиции духовный смысл часто соответствовал философскому —
понятию, обозначаемому словом. Помещая смысл в доступную
для понятий сферу, аллегорическое толкование придает
«духовному смыслу» стабильность: «Это (слово) означает то (понятие)».
Аллегорическое толкование рассматривает смысл текста как
нечто, образующееся вне текста, в иной структуре: в понятийном
аспекте. Однако Деррида, Фиш и более молодые аллегористы
постмодерна используют образный потенциал слов для того, чтобы
104 Frei, Eclipse of Biblical Narrative (New Haven: Yale Univ. Press, 1974), 2.
105 Более подробное рассмотрение различий между образностью и аллегорией, а также их
взаимоотношений с буквальным толкованием, см. Paul Noble, The Canonical Approach: A Critical
Reconstruction of the Hermeneutics ofBrevardS. Childs (Leiden: E. J. Brill, 1995), 306-13; Hans Frei,
Eclipse of Biblical Narrative, 2-7, 25-34.
171
Часть первая. Распад толкования
расшатать устойчивые понятия. «Упразднитель» противится
уверенности, с которой аллегорист определяет скрытый смысл: «Ни
один текст, — утверждает Деррида, — не может быть без
остатка переведен на язык философии; всегда остается нечто,
противящееся формализации».106 Более того, с точки зрения Дерриды сам
смысл становится «аллегорией текста».107 Фиш согласен: «Не
существует буквального смысла, если под ним понимается четкий и
ясный смысл, не зависящий от контекста и от замысла говорящего
или слушателя, смысл, который, существуя прежде толкования,
ограничивает его».108
«Прямой» смысл — буквальный или аллегорический — есть
плоть от плоти метафизики присутствия. Как может слово или
текст иметь прямое значение, не имея даже надлежащего
контекста? Проблема рассуждений о надлежащем смысле в том, что он
раньше времени обрывает игру знаков. По мнению многих
толкователей-постмодернистов, любое обращение к естественному или
высшему порядку, предшествующему языку и толкованию, лого-
центрично и этноцентрично.
Для Дерриды «прямой» смысл {lesenspropre) указывает
одновременно на обоснованность {propriety) и принадлежность {property).
Споры о литературном значении — это споры о том, кому
принадлежит смысл. Споры о толковании, в действительности, — борьба
за власть. Требовать от читателя приверженности «правильному»
смыслу текста, по мнению Дерриды, значит в каком-то смысле
угнетать его; такими же способами угнетения являются представления
о том, как «правильно» одеваться или писать картины. Угнетение —
неизбежное следствие претензии на обладание истиной. Деррида
заявляет, что угнетение «правильным толкованием» является, в
конечном итоге, источником всего угнетения в мире.109
106 Hart, Trespass of the Sign, 154.
107 Там же, 155.
108 Fish, Doing What Comes Naturally: Change, Rhetoric, and the Practice of Theory in Literary and
Legal Studies (Oxford: Clarendon, 1989), 4. Данное Фишем определение буквального чрезмерно
узкое (см. Gregory Currie, "Text Without Context: Some Errors of Stanley Fish," Philosophy and
Literature 15 [1991]: 212-28). Во второй части я предложу альтернативный подход, основанный
на «буквальном смысле» по Джону Сёрлю: John Searle Expression and Meaning (Cambridge:
Cambridge Univ. Press, 1979).
109 См. его "Violence and Metaphysics: An Essay on the Thought of Emmanuel Levinas," в Writing
and Difference, tr. Alan Bass (London: Routledge & Kegan Paul, 1978), 79-153.
172
Глава третья. Упразднение книги
Аллегоризм старый и новый
По мнению Дерриды, аллегоризм — важнейший метод
обращения философа с древними текстами. В конце концов, основное
стремление мыслителя-логоцентриста — заявить: «Это означает то».
А как же современная склонность видеть в тексте множество
значений? Не является ли она новой формой аллегоризации? В самом
деле, разве акцент, который Деррида делает на неопределенность,
не свидетельствует в пользу многозначности текста? Исторические
прецеденты деконструктивизма действительно существуют, однако
я считаю, что искать их следует в раввинской и гностической
традиции толкования Писания, а не в христианской аллегоризации и,
тем более, не в образном толковании. Более того, сходство между
современной литературной теорией и раввинским и гностическим
толкованием не случайно: их литературные методы проистекают из
одного богословского источника. Новый элемент модернистской и
постмодернистской аллегоризации — это, прежде всего,
а/теология, определяющая ее методы. Читая в поисках смысла, отличного
от очевидного, Деррида ставит своей целью не обнаружить
духовный смысл текста, а умножить его плотские значения.110 Новый
аллегоризм погружает текстовое значение вместо высших истин в
море неопределенности.
Августин и предмодернизм
Христианский аллегоризм, выпущенный на волю Августином и
прирученный Фомой Аквинским, не имеет ничего общего с
произвольным или анархическим толкованием. В основе толкования
Библии Августином, иногда причудливом, лежало
христианизированное неоплатоническое мировоззрение, сторонники которого видели
во Христе итог и полноту всего сущего. Поэтому все слова Писания
и все, о чем говорится в Писании, на самом деле указывают на нечто
иное. Для христианина главной точкой отсчета, истинным объектом
наслаждения является Бог Отец, Сын и Святой Дух.111 Итак, в
противоположность множеству неясных значений, Библия, а вместе
110 Дополнительные материалы по этому вопросу: см. Edgar McKnight, Post-Modern Use of the
Bible: The Emergence of Reader-Oriented Criticism (Nashville: Abingdon, 1988), 27-65.
1'' Augustine, On Christian Doctrine, 1.5.5.
173
Часть первая. Распад толкования
с ней и весь мир, имеет единый определенный смысл. В конечном
итоге критерием аллегорического толкования для
Августина была Троица. Аллегорическое толкование представляет собой
попытку обнаружить триединство во множестве знаков и форм.
Экзегетические суждения («это означает то») выносятся в рамках
толковательной структуры тринитарного богословия. Как верно
отметил Френсис Уотсон: «Христианское вероучение... имеет
герменевтическую функцию»}12 Здесь мы лишь вскользь упоминаем
о роли христианского вероучения. Однако во второй части я более
подробно вернусь к тринитарному богословию, с целью
совершенствования современной богословской герменевтики.
Кант и модернизм
Герменевтическая функция вероучения сохраняется и в эпоху
модернизма, как показывает краткий обзор прочтения Библии
Иммануилом Кантом. Вставшая перед Кантом проблема напоминала
проблему александрийских философов, а именно: как сделать
древний текст доступным для понимания и приемлемым в новом
контексте? В частности, Кант ставил перед собой задачу извлечь из
Писания смысл, который бы оказался полезен в эпоху Просвещения
читателям, которым, возможно, было чуждо сверхъестественное
мировоззрение. Толкованием Канта движет убежденность в том,
что цель религии — содействовать нравственным устремлениям
человечества. Для Канта нравственность имела то же значение, что
любовь для Августина.
«Религия в пределах только разума» Канта представляет собой
обширное аллегорическое толкование, прежде всего, Бытия и
Евангелий. Книга содержит весьма основательное толкование Писания,
которое в определенном смысле соответствует всеобщим
практическим правилам религии чистого разума.113 Кант не скрывает своего
предпочтения нравственно полезного толкования буквальному, не
содержащему ничего полезного с нравственной точки зрения. Это
явный пример аллегорического толкования, с той лишь разницей,
что философская система, которую Кант соотносит с Писанием,
112 Watson, Text, Church and World: Biblical Interpretation in Theological Perspective (Grand
Rapids: Eerdmans, 1994), 241 (выделение его).
113 Kant, Religion Within the Limits of Reason Alone, tr. T. N. Greene and H. H. Hudson (New York:
Harper & Row, 1960), 100.
174
Глава третья. Упразднение книги
является нравственной, а не метафизической. Хотя Кант был
весьма привержен понятию долга, он не возражал против весьма
«натянутых» толкований, если они способствовали достижению
нравственных целей. С точки зрения Канта, конечная цель чтения
священного Писания — «сделать человека лучше; исторический
элемент, который никак этому не способствует, сам по себе не
имеет особого значения, и мы, при желании, можем обойтись без
него».114 Нравственная польза, утверждал он, является «высшим
принципом толкования Писания».115 «Дух», скрытый в букве
текста, был для Канта духом нравственности. Не случайно Кант видел
во Христе не воплощенного Бога, а образец нравственности. Это
еще один пример того, как христология читателя определяет, какие
«иные» смыслы, помимо буквального, он находит в Библии.
Гностицизм и постмодернизм
Новый Завет призывает нас «испытывать духов» (1 Ин. 4, 1), и
было бы полезно распространить этот принцип и на духовное
толкование Писания. «Легион имя мне, потому что нас много» (Мк. 5, 9).
Во множественности аллегорических значений может не быть
ничего бесовского, однако задаться вопросом о духовности, на
которую они претендуют, несомненно, стоит.
Какой дух вдохновляет игру текста? Назвать
мыслителей-постмодернистов «гностиками» на первый взгляд даже неточно и
хронологически нелепо. Разве гностицизм не принадлежит эпохе,
предшествовавшей модернизму? Разве их упор на знание (греч. Gnosis =
знание) не отличает их от большинства постмодернистов, которых
я ранее назвал неверующими? Несмотря на эти очевидные
различия, я уверен, что существует по меньшей мере три важных
параллели между двумя движениями. Первая, и самая важная — общий
для них дуализм. Постмодернисты развивают гностическую идею
дихотомии тела и души, говоря о дуализме языка и мира.116 Дер-
рида считает, что нам доступно только плотское — игра знаков —
114 Там же, 102.
115 Там же.
116 Возможно, некоторые из текстов Нового Завета направлены на опровержение
гностического дуализма тела и духа. Гностики отрицали Воплощение, поскольку верили, что
материя по природе своей порочна. См. Stuart George Hall, "Gnosticism," в A Dictionary of Biblical
Interpretation, 264-66.
175
Часть первая. Распад толкования
и никогда духовное (напр.: мир, реальность, истина). Эту мысль
удачно выразил Рональд Холл: «Дух письма, согласно данному Де-
рридой определению, есть постоянный разрыв, постоянное
отделение, постоянное парение, постоянная игра знаков. Дух письма по
сути лишен тела и представляет собой отрыв от мира».117 Гностики
и «упразднители» отвергают Воплощение — одно из основных
постулатов христианства о том, что Слово стало плотью.
Во-вторых, гностики и деконструктивисты подчеркивают, что
спасение достигается через истинное знание. Конечно, Деррида
формулирует это несколько иначе. Знание, которое, по его мнению,
несет освобождение, отличается от того, к чему стремились
гностики. Однако суть деконструктивизма, как и гностицизма, в том,
что определенный вид знания — знание дифферанса и его
последствий — освобождает от ложных обобщений и систем угнетения. С
осознанием того, что единого устойчивого порядка бытия не
существует, приходит свобода произвольно ассоциировать вещи между
собой. Освобождение наступает не через отрицание, а через
признание дифферанса.
И наконец, познание тайных закономерностей языка
достигается не столько путем рациональных пояснений, сколько благодаря
средствам скорее таинственным, нежели методическим. Гнозис
достигается не в свете разума, а более сомнительными средствами
полумистической интуиции.
Современный упор на «свободную игру» в толковании при
поверхностном сравнении напоминает раннее аллегорическое
толкование, поскольку оба подхода поощряют существование
множественных смыслов. Однако, как мы уже убедились,
раннехристианский аллегоризм не был лишен ни принципов, ни оснований.
В своем аллегорическом толковании Отцы церкви
руководствовались положениями неоплатонической философии и тринитарного
богословия. Деконструктивисты, напротив, гордятся отсутствием
каких-либо ограничений: ничто не остановит свободную игру
знаков. Нет ни неоплатонического «Единого», ни христианского
триединства, которое наполняет знак смыслом и останавливает игру
значений. И Деррида, и прагматисты отвергают метафизику
присутствия. Но так ли легко избавиться от метафизики? Может ли
117 Ronald Hall, Word and Spirit: A Kierkegaardian Critique of the Modern Age (Bloomington:
Indiana Univ. Press, 1993), 178.
176
Глава третья. Упразднение книги
«упразднитель» или «пользователь» обойтись без определенных
предположений о природе окружающей действительности? Может
ли случиться так, что в современной теории литературы мы
наблюдаем возвращение ранее отвергнутого, а именно —
дохристианского понимания реальности?
Возвращение герметического и раввинского толкования
в постмодернизме. Идея «скрытого» смысла текстов, не
доступного никому, кроме узкого круга посвященных, существует давно.
«Герметической литературой» называют собрание работ,
приписываемых Гермесу Трисмегисту, человеку большой учености,
знакомому как с греческой философией, так и с египетской магией. В его
трудах говорится о познании божественного. Мыслители-герметис-
ты предполагали, что устройство вселенной, описанное греческими
математиками и рационалистами, можно опровергнуть и что «во
вселенной можно обнаружить новые тайные связи и
взаимоотношения между вещами».118 Герметические мыслители исследовали
тайные взаимосвязи между вещами, связи, основанные не на
рациональных категориях, таких, как причина и следствие, а скорее на
обнаруженных ими сходствах. В христианском неоплатонизме
истину отличает внутренняя согласованность. Наш язык, возможно,
не в силах описать Бога, но реальность в конечном счете не
противоречит сама себе. Однако мыслители-герметисты были уверены,
что «язык, чем более он многозначен и двусмыслен, чем чаще он
использует символы и метафоры, тем более пригоден для именования
Единства, в котором сливаются противоположности».119 Загадка
герметической мудрости — еще одна тайна: реальность изначально
противоречива и несогласованна.120
Умберто Эко отмечает активное влияние мыслителей-герме-
тистов на протяжении всей западной истории — в том числе и на
гностиков второго века, на экзистенционалистов века двадцатого, а
возможно, и на деконструктивистов. Все эти разноликие движения
объединяет некое презрение к «простому» смыслу. Эко отмечает
несколько параллелей между древним герметизмом и
постмодернистским упором на «текстуальность»: (1) текст открыт и способен
118 Eco, Interpretation and Over interpretation, 34.
119 Там же, 32.
120 Это напоминает скептицизм Кратила, утверждавшего, что, поскольку все течет, ни одно
высказывание не может быть осмысленным и истинным.
177
Часть первая. Распад толкования
вступать в бесконечное число сочетаний; (2) чтобы восстановить
текст, необходимо отвергнуть его притязания на смысл,
подозревая, что «каждая строка скрывает еще один, тайный, смысл, а
слова, вместо того чтобы говорить, скрывают невысказанное»;121 (3)
настоящий читатель понимает, что «секрет текста — в его пустоте»;122
(4) истина вбирает в себя противоположности.123
Второй роман Эко «Маятник Фуко» — это одновременно
притча о постмодернизме и басня об опасностях гностического
избытка толкования: «Если на мир посмотреть определенным образом,
можно увидеть, что все в нем взаимосвязано».124 Тайна эта выходит
за пределы дискурсивного познания. «Электричество,
радиоактивность, атомная энергия — истинный посвященный знает, что все
это метафоры, маски, привычная ложь или, в лучшем случае, лишь
жалкие суррогаты забытой предвечной силы, которую ищет
посвященный — и которую он однажды познает».125 Герой «Маятника
Фуко» оказывается пленником собственного поиска тайного
знания: «Я начал сомневаться во всем, что меня окружало: в домах, в
вывесках магазинов, в облаках на небе, в гравюрах в библиотеке —
я просил их поведать мне не поверхностную историю, а иную,
глубокую, которую они, конечно же, скрывали, и которую в конце
концов должны были открыть благодаря принципу мистического
сходства».126 Установление подобной взаимосвязи между вещами,
по мнению рассказчика, «наводит на мысль о том, что каждая
деталь мира, каждый голос, каждое написанное или сказанное слово
обладает не только буквальным смыслом, повествуя нам о Тайне.
Правило простое: подозревай, только подозревай. Подтекст можно
найти даже в дорожном знаке с надписью: «Не сорить».127
Новый аллегоризм деконструктивистов, различающий много
уровней скрытого смысла, является полной противоположностью
своего христианского предшественника. В христианском
аллегоризме знаки и вещи передают «разумные и однозначные слова Бога»;
121 Eco, Interpretation andOverinterpretation, 39.
122 Там же, 40.
123 Там же, 18-20.
124 Eco, Foucault's Pendulum (London: Picador, 1990), 315.
125 Там же, 289-90.
126 Там же, 361.
127 Там же, 377-78.
178
Глава третья. Упразднение книги
в герметизме тексты несут в себе «иррациональные и
неопределенные высказывания Гермеса».128 Теперь мы вправе сформулировать
общее правило, описывающее взаимоотношения между смыслом
и метафизикой: текстовое значение определенно и разрешимо
лишь в той степени, в какой таковым является понятие о
реальности, которым оно, в конечном счете, руководствуется.
Сьюзен Хандельман, с несколько иной точки зрения,
указывает, что «между трудами наиболее выдающихся современных
(еврейских) мыслителей, Фрейда, Дерриды и Блума, и раввинскими
методами толкования наблюдается поразительно глубокое
структурное сходство».129 Если Фрейд исследует подробности снов в
поисках признаков подавленных неосознанных желаний, раввины
изучают детали Торы в поисках бесконечной мудрости Божьей.
И для Фрейда, и для раввинов поверхностный смысл содержит в
себе смысл скрытый. Фрейдистский психоанализ и иудейский
мидраш представляют собой сходные стратегии толкования;
каждый из них обнаруживает в своем тексте — Торе или сне — все
новые и новые слои скрытого смысла.
Фрейд, подобно раввинам и Дерриде, ищет смысл в местах
потаенных, на окраинах сознания. Сны в особенности стали
«триумфальным путем к бессознательному» именно потому, что они
неподвластны контролю со стороны сознания. Фрейд исследует
сны весьма педантично: «То, что более ранние авторы считали
произвольной импровизацией, для нас равнозначно Священному
Писанию».130 Фрейд был уверен, что сны обладают своей
собственной логикой: не логикой силлогизма, а логикой сопоставления.
Бессознательное устроено подобно языку, великому интертексту,
сопоставляющему идеи, чувства и вещи в процессе свободных
ассоциаций. Присмотревшись внимательно, можно обнаружить
неожиданные связи и сходства между вещами, которые кажутся
лишенными логической или рациональной связи. Например, вещь или
цвет могут приобрести для человека особое значение в результате
пережитой им травмы (этим средством неоднократно и с большим
успехом пользовался в своих фильмах Альфред Хичкок).
128 Eco, Limits of Interpretation (Bloomington: Indiana Univ. Press, 1990), 20.
129 Handelman, Slayers of Moses, xv. См. также «Рассуждения о еврейском характере» Дерриды:
Christopher Norris, Derrida, 228-30.
130 Sigmund Freud, Interpretation of Dreams (New York: Avon, 1965), 552.
179
Часть первая. Распад толкования
Хандельман придает особое значение явлению «замещения»,
важной теме, присутствовавшей как у Фрейда, так и у раввинов.
Вытеснение означает отождествление и последующее замещение
одной вещи другой. Например, Фрейд считал, что каждый ребенок
втайне отождествляет себя с отцом и хочет занять его место.
Хандельман предполагает, что идеи Фрейда замещают авторитетность
языческой культуры (а именно: осознанное мыслящее эго,
ассоциируемое с греческим мышлением) психоанализом
(бессознательным проявлением скрытого смысла, ассоциируемого с иудейским
толкованием). Упразднитель стремиться «убить» отца-автора и
занять место логоцентризма. В деконструктивизме можно различить
бунт против «родительского авторитета» текста. Свобода приходит
через толкование, потому что деконструктивистское толкование и
есть замещение, как верно отмечает Хандельман: «Реальность Де-
рриды — не бытие, а отсутствие; не одно, а другое; не единство, а
плюрализм, рассеивание, письмо и различие... он — новоявленный
первосвященник религии отсутствия».131 Если Филон открыл
Платона в Моисее, Деррида нашел Моисея — неистощимость
смысла раввинской буквы — в Платоне.
Тело, дух, текст
Мир был полон чудесных совпадений и тонких сходств',
единственную возможность проникнуть в них — и
проникнуться ими — давали сны...132
Хандельман утверждает, что раввинское представление о
творении есть и является ключом к пониманию ими текста. Бог творил
свободно и из ничего. Потому в сердце творения — не разум и не
необходимость (характерная для греческого представления о
космосе), а воля и случай. Более того, в творении все равноправно; ни
одна его часть не находится ближе к Богу, чем любая другая.
Хандельман делает следующий вывод: «Отсутствие иерархического
толкования в мышлении раввинов может быть связано с отсутствием
понятия иерархии бытия».133 Иначе говоря, раввины устанавливали
связи между предметами не на основании сотворенного порядка
131 Handelman, Slayers of Moses, 172.
132 Eco, Foucaults Pendulum, 184-85.
133 Handelman, Slayers of Moses, 103.
180
Глава третья. Упразднение книги
бытия, где всему отведено определенное место, а на основании
сопоставления — свободной ассоциации. Эти связи подрывают
логику и отрицают возможность прямого или буквального толкования.
Можно сказать, что в начале была текстуальность...
Если Эко и Хандельман правы, современная теория литературы,
философия и богословие еще более тесно переплетены, чем можно
было ожидать. Если Бог мертв или недоступен, невозможна
«прямая» связь между знаком и вещью или вещей между собой — есть
только «свободные ассоциации», свободная игра знака со знаком и
знака с вещью. «Свободная ассоциация» Фрейда, раввинские
соответствия, «свободная игра знаков» Дерриды — все это виды
гностической игры понятий, соединенных не логически, а случайным
образом. Современная теория литературы неизбежно подтверждает
замечание Честертона о том, что люди, перестав верить в Бога, не
верят в ничто; они верят во все что угодно.
Два литературоведа, оба из Йеля, приводят пример того, что я
назвал новым гностическим аллегоризмом. Литературные теории
Гарольда Блума и Поля де Мэна предполагают, каждая по-своему,
что-то вроде дихотомии тела и духа в отношении смысла, хотя бы
для того, чтобы только отрицать способность языка соответствовать
миру или способность интерпретации постичь буквальный смысл
текста. Блум и де Мэн, таким образом, являют собой пример того,
что с точки зрения христианского богословия один из критиков
назвал «крайним проявлением излишней духовности и
гипертекстуальности, направленным против доктрины о воплощении».134
В книге «Боязнь влияния» Блум (сам себя называющий
иудейским гностиком) сравнивает образ автора с мильтоновским
сатаной. Подобно сатане, автор недоволен ролью второй скрипки после
прежних творцов-авторов. Авторы не желают признавать, что их
тексты — лишь производные, а не оригинал, что они ничего не
могут сказать, не используя множества литературных и понятийных
аллюзий. Поэтому, чтобы утвердить свою индивидуальность, автору
приходится отказаться от «отчества» и писать сатанинские стихи:
«Современный поэт — образ героический, поскольку он, подобно
сатане, отвергает «воплощение Божьего сына», отвергает творение
134 David Dawson, Literary Theory (Minneapolis: Fortress, 1995), 12. Раман Селден (Raman
Selden) называет предложенное Блумом сочетание аллегории, фрейдистской психологии и
кабалистической мистики «смелым» (A Reader s Guide to Contemporary Literary Theory, 2d ed.
[London: Harvester Wheatsheaf, 1989], 95)
181
Часть первая. Распад толкования
как нечто, устроенное Богом».135 Ему остается либо мятеж, либо
отказ от собственного творчества, от способности творить подобно
Богу. Ложь мильтоновского сатаны, по мнению Блума, является
героическим утверждением своей самобытности.
Читатели находятся в ничуть не меньшей опасности потерять
себя, чем поэты, если только и они не проявят творчество через
лжепрочтение, которое Блум практически отождествляет с
толкованием.136 Традиционные литературоведы, разумеется, недовольны
таким описанием их науки: «Мысль Блума о том, что толкование —
это поэзия, порождает толковательную анархию».137 Лучшая
критика или комментарий, с точки зрения Блума, — один из видов
поэтического воспроизведения или форм авторства. Здесь можно
вспомнить убежденность раввинов в том, что их комментарии к Торе были
также частью текста. И Блум в работе «Каббала и критика» вполне
уместно проводит параллель между экзотерическими
комментариями раввинов и творческим лжепрочтением критика.138
В более поздней книге «Поэзия и подавление» Блум описывает
романтизм как поиск гностической свободы от боязни подпасть под
влияние закона или природы: гностицизм реализует стремление
Блума к определенному поэтическому опыту и к позиции критика,
освобожденной от всего, что в нашем представлении преследуемо
образом отца и привязано к обществу.139 С одной стороны, Блум
допускает интертекстуальность — тот факт, что все письмо и
толкование представляет собой сеть взаимосвязанных текстов; однако
в то же время он высказывает убежденность в том, что «сильный»
толкователь способен подняться над уровнем столкновения текста
с текстом и создать свою неповторимую творческую ассоциацию:
«Воображение избегает низведения до текстуальности, лишь
благодаря превращению в бестелесный дух».140 Блум оставляет нас
наедине с лишенным тела духом-творцом, витающим над морем
интертекстуальности.
Поль де Мэн, литературный критик из Йеля, друг и последователь
Дерриды, противопоставляет символ и аллегорию как противоречащие
135 Handelman, Slayers of Moses, 182.
136 См. Bloom, A Map of Misreading (Oxford: Oxford Univ. Press, 1975).
137 Lentriccia, After the New Criticism, 339.
138 Bloom, Kabbala and Criticism (New York: Continuum, 1975).
139 Lentriccia, After the New Criticism, 341.
140 Dawson, Literary Theory, 44.
182
Глава третья. Упразднение книги
друг другу способы понимания. Символ олицетворяет веру в то, что
знак может стать воплощением реальности, тогда как аллегория
служит напоминанием о том, что между знаками и реальностью,
которую они стремятся отобразить, неизбежно существует разрыв.
Аллегория выше символа, поскольку привлекает внимание к
собственному произвольному характеру. Таким образом, де Мэн
отрицает утверждаемое Блумом превосходство творческого воображения
над текстуальностью и интертекстуальностью. Де Мэн использует
аллегорическое толкование для того, чтобы «упразднить ту самую
уверенность в познаваемости смысла и логики, которая управляет
большинством стилей толкования».141 Литературовед, считающий,
что овладел игрой текстовых образов и обнаружил стабильный,
определенный смысл, глубоко заблуждается, поскольку язык по сути
своей образен и не соотносится с реальностью.
Итак, де Мэн — еще одни представитель того, что я называю
«новым аллегоризмом». Его аллегоризм стремится не достичь
высшего смысла, а доказать его недосягаемость. Его аллегоризм
лишен определенного «иного» смысла.142 Другими словами, новый
аллегорист отличается от более раннего признанием
неопределимости иного смысла. Сама интертекстуальная природа
текстов противится аллегорическому закрытию текста. Единственная
«истина» аллегоризации заключается в открытии ею дифферанса.
Де Мэн указывает, что аллегория и ирония имеют одинаковую
структуру, поскольку «в обоих случаях отношения знака и
значения прерывисты».143 В отличие от классической аллегории, которая
стремится зафиксировать смысл текста в постоянной системе
истин, ирония есть «систематическое упразднение... понимания».144
Новые аллегористы видят в текстах мозаику из предыдущих
текстов, проявление сил бессознательного, нечто столь же
неясное, как и сам мир. Все утверждения противоположного
отметаются, как имеющие отношение к понятию «отцовства». «Отцы» —
Отцы церкви, биологические отцы, отцы-авторы — заявляют свои
141 Norris, The Contest of the Faculties: Philosophy and Theory After Deconstruction (London:
Methuen, 1985), 41.
142 Явно богословская природа позиции де Мэна заметнее всего в его эссе «Риторика
временности» ("The Rhetoric of Temporality").
143 Paul de Man, Blindness and Insight, 2d ed. (London: Methuen, 1983), 209.
144 Paul de Man, Allegories of Reading: Figured Language in Rousseau, Nietzsche, Rilke and Proust
(New Haven: Yale Univ. Press, 1979), 301.
183
Часть первая. Распад толкования
претензии и навязывают чувство вины своим детям, которые
стремятся освободиться от бремени послушного конформизма и
логических связей. По мнению новых аллегористов, как тексты, так и
комментарии содержат видимые признаки того, что они составлены
из других текстов. Итак, текстуальность противится
авторитетности, и именно поэтому текст обречен на вечное сиротство.
Как я утверждал выше, толкование читателя столь же
определено, как и его мировоззрение. Мировоззрение многих
постмодернистов, как я предполагаю, характеризуется отсутствием понятия
сотворенного или логичного порядка. Постмодернистское
мировоззрение представляет собой смешение произвольных связей,
системы различий, которые не может вместить ни одна структура, — то
есть дифферанса.
Литературные теории, составляющие новый аллегоризм, по
меткому выражению Доусона, являются «суррогатным богословием».145
Если выразиться точнее, это — богословие, отрицающее
воплощение. Гностическая сверхдуховность Блума отвергает идею наличия
в тексте смысла. Он — приверженец герменевтического докетизма,
который воскрешает ересь, согласно которой Христос только
казался (греч. dokeo, казаться) обладателем настоящего
человеческого тела. Блум помещает смысл в иную сферу — сферу духа, —
которую он ассоциирует с воображением и отделяет от языка
текста. Де Мэн — не меньший противник воплощения, но по
противоположной причине. Он — гипертекстуалист, который
отождествляет смысл с интертекстуальностью и бесконечной игрой знаков:
«Де Мэн предлагает гиперкенозис (или полное опустошение)
собственного «я» и смысла в букву».146
Итак, постмодернистский взгляд на соотношение языка и мира
основан на определенном мировоззрении. С христианской точки
зрения христология является ключом к пониманию истинной
природы мира и заблуждений нового аллегоризма. Вновь цитирую
Доусона: «Христианское повествование о воплощении утверждает,
что высший смысл таинственным образом глубоко переплетен со
всем материальным, что есть в жизни... Блум, напротив, настаивает
на том, что смысл следует искать где-то в ином месте, а де Мэн —
145 Dawson, Literary Theory, 118.
146 Там же, 12.
184
Глава третья. Упразднение книги
что найти его принципиально невозможно».147 Вопрос: «Есть ли в
этом тексте смысл?» в конечном итоге оказывается неразрывно
связан с другим: «Что вы думаете о Христе?»
ТЕКСТОВАЯ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ: ПРАВИЛО
МЕТАФОРЫ
Истинное существительное должно иметь только один
смысл... Ни одна философия как таковая не опровергла
этого идеала Аристотеля. Этот идеал и есть философия.148
«Поворот к тексту» представляет собой уход от
древнегреческой парадигмы языка, которая долгое время господствовала в
западной философии. С этой привычной точки зрения, язык является
инструментом мышления. Смысл заключен в индивидуальных
словах, и его задача состоит в именовании вещей. Более того, смысл,
как правило, буквален или однозначен; поэтому образный язык
подлежит переводу на буквальный, чтобы стать достаточно ясным
и полезным для философа.
Как мы убедились, логоцентрический альянс реальности, мысли
и языка — как раз то, что ставят под сомнение «пользователи» и
«упразднители». Новая парадигма «текстуальности»
переосмысливает отношения слова, понятия и мира в совершенно ином ключе.
Текстуальность обращает внимание на неустойчивость слов и
текстов и порождает то, что Эко назвал «герметическим сдвигом» в
современном толковании. Из всех слов, препятствующих философам в
достижении их цели, метафоры традиционно считались худшими.
Метафоры двусмысленны, у них нет ясного значения, поэтому они
не могут быть источником ясного и различимого знания. Метафора,
таким образом, олицетворяет собой текстуальность: в метафорах
смысл отказывается стоять на месте.
«Толкование оперирует понятиями. Оно неизбежно связано с
необходимостью разъяснения... и, следовательно, характеризуется
стремлением к однозначности».149 Понятия стремятся к
однозначности, к ясным, определенным идеям — полной противоположности
147 Там же, 120.
148 Derrida, Margins of Philosophy, tr. Alan Bass (Chicago: Univ. of Chicago Press, 1982), 247.
149 Ricoeur, Rule of Metaphor: Multi-Disciplinary Studies of the Creation of Meaning in Language
(London: Routledge & Kegan Paul, 1978), 302.
185
Часть первая. Распад толкования
метафоре. Итак, целью толкования, как и философии,
представляется ясное недвусмысленное знание. Доступно ли читателю
литературное знание — не исчерпывающее, а хотя бы частичное? Толкование
может быть связано с понятиями, но деконструктивизм ставит под
сомнение всякое утверждение о постоянстве и целостности понятий.
Деррида намерен деконструировать саму идею о том, что «значение
может быть познано в виде истинного, самоидентичного понятия».150
Деррида обвиняет философов в том, что они забыли о своих
корнях — о письме, в особенности о двух свойствах письма:
метафоричности и интертекстуальности, которые препятствуют
мыслителям, желающим, чтобы язык «остановился» и мог быть
истолкован. Метафоричность подрывает устойчивость понятий;
интертекстуальность подрывает постоянство контекста. В то время как
в предыдущей главе деконструктивисты упразднили бытие, здесь
они, похоже, упраздняют знание. Понятия упраздняются в момент
разоблачения их метафоричности как фигур речи, выдающих себя
за особые ключи, предоставляющие доступ к реальности. Если
толкование связано с понятиями, понятия — метафоры, а метафора —
это «письмо», то вне текста воистину ничего нет. Можно сказать,
что текстуальность представляет собой упразднение
толкования. В конечном счете, Деррида бросает вызов предрассудкам
философов, убежденных, что разум может каким-то образом
избавиться от метафоры.
Чем метафоры удобны для пользователя
Аристотель, как мы видели выше, описал «правильные»
отношения языка и реальности с точки зрения утверждений. Язык
осмыслен и истинен, если сказанное соответствует существующему:
С есть П (субъект-предикат). Логика Аристотеля имеет дело с
отношениями между правильными высказываниями такого рода. «Если
бы можно было сказать, что у слова есть бесконечное количество
смыслов, очевидно, рассуждение было бы невозможным;
потому что не иметь единого смысла означает не иметь никакого».151
С другой стороны, образная речь полностью нарушает законы
логики. Например, истинно ли утверждение: «Господь — мой пастырь»?
Это зависит от того, имеют ли метафоры определенное значение.
150 Norris, Derrida, 19.
15' Aristotle, Metaphysics, Bk 4.1006a 34-b 13.
186
Глава третья. Упразднение книги
Деррида утверждает, что и понятия, и тексты крайне
метафоричны и не могут сводиться к буквальному языку. Поэтому возникает
вопрос о том, могут ли метафоры (и тексты, поскольку им присуща
метафоричность) быть истолкованы, т. е. обрести постоянные
значения. Следует ли переносить принцип неопределенности Гейзен-
берга из физики в теорию литературы?152 Является ли
неопределимость окончательным вердиктом по делу о конфликте толкований?
Девиантное поведение?
Знаменитое определение метафоры, данное Аристотелем, на
века сослало ее на задворки философии: «Метафора состоит в
назывании вещи именем, принадлежащим чему-то иному».153 С этой
общепринятой точки зрения, метафора представляет собой
неправильное именование, отклонение от буквального. В метафоре имя
переносится со своего надлежащего места туда, где его быть не
должно. Томас Хоббс называл метафору злоупотреблением речью;
он помещал ее где-то между самообманом и ложью. В метафоре
слова «используются не в том смысле, в котором предназначены, и
таким образом производят обманчивое впечатление».154 Метафоры
заимствуют коннотации, принадлежащие одной вещи, и без всяких
законных оснований присваивают их другой.
Аристотель представляет так называемую «заместительную
теорию» метафоры: одно имя (образное) занимает место другого
(буквального) на основании предполагаемого сходства.
Подразумевается, что метафора не открывает и не выражает ничего нового, лишь
более изящно передает то, что можно было бы сказать буквально.
С этой точки зрения, которой до недавнего времени придерживалось
большинство философов, метафора просто украшает язык.
Традиционный ответ на вопрос: «Можно ли толковать метафору?» —
положителен. Метафора успешно истолкована, если ее вскрыли,
преобразовали в буквальную речь и тем самым свели к стоявшему
за ней буквальному сходству.
Что общего у анализа метафоры по Аристотелю с
интерпретацией литературных произведений? Вот что: можно сказать, что
152 Принцип неопределенности Вернера Гейзенберга, сформулированный в 1927, утверждает,
что возможно определить или положение элементарной частицы, или ее импульс, но не обе эти
характеристики одновременно.
153 Aristotle, Poetics, 1457b 7-8.
154 Thomas Hobbes, Leviathan (New York: Liberal Arts, 1958), ch. 4 (39).
187
Часть первая. Распад толкования
динамика сведения метафоры к буквальной речи характеризует и
толкование в целом. Попытка установить «смысл» текста, согласно
этой аналогии, является примером того, что можно назвать
теорией подстановки в толковании. Комментарий относится к тексту,
так же как метафора — к буквальной речи. С этой точки зрения,
комментарии и метафоры — это просто украшения, которые всегда
можно отбросить и вернуться к простому, единственно
правильному смыслу. По крайней мере, за это Деррида критикует как
философию, так и интерпретацию.
Многие современные ученые считают такое понимание
метафоры неверным.155 Они ставят под сомнение мысль о том, что
метафору можно перевести в буквальную речь, и уж тем более — в ясные
и четкие понятия. Напротив, метафоры несут в себе нечто новое,
что невозможно передать буквальным парафразом. Ведь метафора
связана не с классификаций и обозначением вещей, а с их
взаимоотношениями. Метафора — это лингвистический процесс, в ходе
которого некоторые черты сходства не просто по-новому
выражаются, а изобретаются и открываются впервые.
Порождающие смысл
Метафора, некогда служившая философам «козлом
отпущения», недавно обрела достоинство. Теперь метафоры
рассматриваются как нечто относящееся не только к словам, но и к
предложениям. Более того, Рикёр показал, что метафора — это «текст в
миниатюре».156 Он заявил, что метафоры создают «избыток
смысла», который просто невозможно передать буквальным парафразом.
Из этого следует, что метафоры обладают когнитивной, а не только
эстетической или декоративной функцией. Если быть точным,
метафоры являются необходимым инструментом познания,
позволяющим мысли воспринимать сходство между предметами, которое
иначе невозможно было бы проследить.157
Метафора — это плод воображения, которое устанавливает
неожиданные взаимосвязи, мыслит широко и говорит вслух. Метафора
155 См. в особенности: Max Black, Models and Metaphors (Ithaca, N.Y.: Cornell Univ. Press,
1962), и Paul Ricoeur, The Rule of Metaphor.
156 «Поэтому отношение буквального смысла метафоры к образному подобно сокращенной
версии сложной игры обозначений, характеризующей литературное произведение в целом»
(Ricoeur, Interpretation Theory, 46).
157 См. Ricoeur, Rule of Metaphor and Interpretation Theory, 46-53.
188
Глава третья. Упразднение книги
действует, «стирая прежние логические границы ради
обнаружения новых сходств, которые обошли вниманием более ранние
классификации».158 В отличие от символов, которые привязаны к
вещам, метафоры — свободные творения дискурса. Напряжение
в метафоре возникает не между двумя словами (напр.: «Бог»,
«скала»), а скорее между противоречащими друг другу толкованиями
высказывания («Бог — скала»). Буквальное толкование абсурдно, и
именно его абсурдность побуждает искать метафорического
толкования. Ассоциация идей в метафорическом высказывании не является
результатом ни индукции, ни дедукции; ни научное наблюдение, ни
логические размышления не располагают к метафорам. Более того,
метафора ниспровергает логику; ее называют «умышленной ошибкой
категории».
Все это отнюдь не является утверждением иррациональности
метафоры. Напротив, многие научные открытия — результат
«новизны взгляда» (например, Ньютон увидел мир как
«механистическую вселенную»). Философы науки с удовольствием представляют
научные модели как крупномасштабные метафоры. Мэри Гессе
указывает, что рациональность состоит не в чем ином, как в постоянной
адаптации языка к нашему миру, границы которого постоянно
расширяются, «а метафора — одно из основных средств достижения
этой цели».159 Благодаря метафоре, мы можем поместить
незнакомое в контекст привычного, чтобы понять его по-новому (напр.: свет
как волна или поток частиц). Метафора может оказаться таким же
мощным средством исследования мира, как микроскоп. Ведь,
преобразовывая язык, метафоры позволяют нам взглянуть на мир иначе.
По мнению Рикёра, метафоры не просто переоформляют
смысл — они его создают. Таким образом, они открывают новые
возможности для восприятия и категоризации реальности.
Творческая сила метафоры позволяет Рикёру сделать важный вывод:
«Настоящие метафоры непереводимы».160 Итак, метафора
представляет собой нечто гораздо большее, чем второстепенный
заменитель буквального высказывания. Поэтому Рикёр утверждает, что
метафора имеет избыток смысла, превосходящий буквальный, и
поэтому выполняет когнитивную функцию, которая может быть лишь
158 Ricoeur, "Creativity in Language: Word, Polysemy, Metaphor," в The Philosophy of Paul Ricoeur
(Boston: Beacon, 1978), 131.
159 Mary Hesse, Models and Analogies in Science (Notre Dame: Univ. of Notre Dame Press, 1966), 259.
160 Ricoeur, Interpretation Theory, 52.
189
Часть первая. Распад толкования
приблизительно, но не исчерпывающе, воспроизведена
однозначным дискурсом понятия. Более того, Рикёр предполагает, что
метафоры не просто разрушают устаревшие взгляды на вещи, а,
вероятнее всего, сами и ответственны за их возникновение:
«Метафорическое, выходя за пределы категориального порядка, само
порождает его».161 Иными словами, сходство между вещами, дающее жизнь
понятиям и универсалиям, является плодом метафорического
воображения. То, что сегодня содержится в словаре, — вчерашняя
метафора.
Метафорическое толкование
Рикёр достойно обосновал свою идею неистощимости метафор.
Однако Рикёр, в отличие от Дерриды, обладает способностью
соотносить метафоры и понятия. Как мы уже убедились, для Рикёра
толкование — даже метафоры — неразрывно связано с понятиями.
Одно высказывание не просто переходит в другое. В противном
случае мы не смогли бы отличить текст от комментария. Из
предшествовавшего обсуждения ясно, что необходимо учитывать
предельность метафоры. Однако важно сохранить и право толкователя
высказывать свое мнение о смысле метафоры. Далее я утверждаю,
что метафоры, как и тексты, достаточно определимы, чтобы
нести в себе устойчивый смысл, при этом не будучи
исчерпывающе определимыми. Метафоры, как, возможно, и значительный
объем буквальной речи, нельзя считать ни однозначными, ни
абсолютно многозначными.
Однако толкование метафор — одно дело, и совсем другое —
метафорическое толкование. Толковать метафорически — значит
видеть сходство между текстами или контекстами там, где оно не
было предусмотрено. В то время как метафора в руках автора —
необходимый познавательный инструмент для формулирования
новых идей, метафорическое толкование — это метод, используемый
читателем для того, чтобы упразднить понятие о том, что у текста
есть буквальный смысл.
В западной философии истина традиционно связана с
буквальным языком, с характеристикой бытия, с описанием «того, что
есть». Метафоры же говорят о бытии в формате «и есть, и нет»
(напр.: Бог одновременно является и не является скалой). Деррида
Ricoeur, Rule of Metaphor, 24.
190
Глава третья. Упразднение книги
читает историю западной философии как историю
систематического подавления метафоры: в частности, метафизика подавляет
понятие «нет». Метафора «переносит» смысл из одной сферы в другую,
тогда как метафизика переносит конкретный образ в область
абстрактной истины. «Мета» означает вынос слов «за пределы».162Для
Дерриды это «нарушение границ» и есть первородный грех
философии: метафорическое «подобно» путают с метафизическим «есть».163
Короче говоря, метафизика является попыткой буквального
толкования «того, что есть». Проблема, как ее видит Деррида, в
том, что язык — да и сама реальность, если можно так выразиться,
метафорична по природе своей; понятие «и есть, и нет» лучше
отражает дифферанс вещей. Вместо того чтоб быть одной из многих
фигур речи, метафора для Дерриды является ключом к языку и
реальности в общем. Деконструктивизм обнаруживает
метафорическое «и есть, и нет» в основании метафизического «есть».164
Сумасшедший из книги Ницше впервые возвестил европейцам
эпохи модернизма о смерти Бога. Смертельный удар метафизике —
попытке описания окружающей действительности — к тому
времени уже нанес Кант. Ницше оставалось только определить
последствия смерти Бога для языка и толкования. Одно из последствий
было очевидным: без Бога мир не имеет конечного смысла. Какой
бы смысл мы ни нашли в мире, он в любом случае является нашим
собственным творением. По мнению Ницше, метафора является
инструментом, с помощью которого люди придают миру смысл. Мы
не столько открываем, сколько устанавливаем связи между
вещами. Что же тогда есть истина? Истина, по словам Ницше, — это
подвижная армия метафор; истины — это иллюзии, об
иллюзорности которых забыли. То, что мы называем буквальным, или прямым,
смыслом — например, «ножка стула» — на самом деле метафора,
которая умерла или была забыта.
Философы предпочитают доверять своему иллюзорному
восприятию реальности; они предпочитают ложь истине. Однако
162 Там же, 288.
163 Именно на это нарушение, или «грех», намекает название книги Кевина Харта «Грех знака»
("The Trespass of the Sign").
164 Более полное обсуждение этого вопроса, см: Handelman, Slayers of Moses. Сравнительный
анализ взглядов Рикёра и Дерриды на метафору: см. S. H. Clark, Paul Ricoeur (London: Routledge,
1990), 137-47; Mario Valdes, "Introduction," A Ricoeur Reader (London: Harvester Wheatsheaf,
1991), 21-25. Более полный анализ собственно теории метафоры по Рикёру, См Vanhoozer,
Biblical Narrative in the Philosophy of Paul Ricoeur, 56-85. Мнение самого Рикёра о взглядах
Дерриды можно найти в работе The Rule of Metaphor, 284-95.
191
Часть первая. Распад толкования
Ницше считал жизненно важным признание философских систем
фикцией. Если мы этого не сделаем, они вернутся, чтобы и
дальше угнетать нас, поскольку теорию, провозглашенную истиной,
трудно опровергнуть. «Истина», в понимании Ницше, препятствует
дальнейшему исследованию; она подавляет творчество, не говоря
уже о человечности как таковой. Метафоры же удобны в
использовании; они дают возможность творчески воспринимать мир и даже
побуждают нас к этому.
Язык — как и мысль — по сути своей метафоричен и
характеризуется скорее свободными, творческими ассоциациями
(горизонтальные взаимоотношения между словами), чем естественными или
логическими связями (вертикальные взаимоотношения между
словами и миром). Как выразился Дон Капитт, «смысл знака — всегда
косвенный и дифференциальный, а не референтный».165 Только
воздействие метафоры отличает «растения» от «животных», изобретая
кажущиеся различия. Вопрос о том, относить ли человека к
животным (Аристотель определял человека как «разумное животное»),
относится не к метафизике или естественному порядку вещей, а к
метафоре. Эпистемология опирается, в конечном счете, на фигуру
речи. По крайней мере, такова постмодернистская версия:
реальность является плодом языковой практики, а основную роль в
сотворении мира играет метафора. С этой точки зрения метафизика —
это лишь результат весьма убедительной пропаганды.
Правило метафоры по Дерриде лучше всего, вероятно,
выражается словами «пленяя всякое помышление». Ни одной мысли, идее
или понятию не дано освободиться от письма и выйти на внеязы-
ковой уровень, с которого они могли бы изрекать истину в высшей
инстанции. Если нет ничего вне Оюета-)языка, то метафизика в
основе своей метафорична. Противоречие между «есть и нет»
нарушает чистоту и четкость логики Аристотеля. Философские понятия
пытаются избежать неоднозначности, но это достигается только за
счет подавления игры тождества и различия, лежащих в основе
метафоры. Деррида не скрывает последствий метафорического «и
есть, и нет» для силлогистического рассуждения: «Метафоричность
есть логика осквернения и осквернение логики».166 Итак,
метафора обозначает неизбежное пленение мысли языком.
Cupitt, The Long-Legged Fly, 100.
Derrida, La Dissemination (Paris: Seuil, 1992), 149.
192
Глава третья. Упразднение книги
Утверждение Дерриды — «вне текста ничего нет» — означает,
что неметафорического способа высказывания о мире не
существует. Деррида считает, что превосходство философского языка над
поэтическим — всего лишь предрассудок. Философы
отказываются читать собственные труды как литературные произведения.
Философия заметает следы, скрывая собственное происхождение из
метафоры и мифа в сумерках своей предыстории. Поэтому
невозможно провести четкую границу между философией и литературой;
понятия — это всего лишь взбунтовавшееся порождение метафор.
Из предположения о метафоричности языка и мышления
Деррида делает следующий вывод: толкование должно быть
метафоричным — творческим, отмеченным свободой ассоциации,
несводимым к буквальным высказываниям и неоднозначным. Очевидно,
что в процессе метафорического толкования трудно говорить об
определенности смысла в текстах или о комментариях как средстве
раскрытия этого смысла.
Метафоры более высокого порядка
Тексты производят впечатление закрытых и самодостаточных.
Есть конечное число связанных и заключенных в замкнутом
пространстве страниц. Из этого, казалось бы, следует, что количество
способов толкования текста также ограничено. По мнению «упраз-
днителей», и то, и другое — иллюзии. Текст, как и сам знак,
образован скорее различиями — тем, чем он не является, — чем
постоянством смысла. Метафоричность — это лишь проявление диффе-
ранса, воспроизведенное уже на уровне предложения и текста, а
не знака.
Метафорические повествования
Позволительно ли толковать тексты метафорично, как если бы
они были метафорами? И Рикёр, и Деррида сходятся во мнении,
что все сказанное о метафоре касается и текста. У текстов и
метафор есть по меньшей мере три сходства: (1) подобно метафоре,
текст теряет свой буквальный смысл благодаря тому, что он был
написан и тем самым освобожден от автора и от исходной
ситуации. Иначе говоря, текст, подобно метафоре, «перенесен» в новую
семантическую область. Таким образом, текст свободен выступать
7-227 193
Часть первая. Распад толкования
в новых контекстах и устанавливать с ними те или иные взаимосвязи;
(2) благодаря этому переносу, денотат текста теряет свою
определенность. Сущность текста становится зависимой от того, какой
смысл увидят в них читатели в новых контекстах. Итак, подобно
метафоре, текст имеет множественное значение; (3) так же, как
невозможно заменить метафору буквальным высказыванием, так и текст
невозможно заменить толкованием (т. е. взаимодействием понятий).
Заключенная в них глубина смысла препятствует попытке
толкователя свести их к буквальному или однозначному пониманию.
Ч. Додд назвал притчи Иисуса «развернутыми метафорами». Ри-
кёр идет дальше. Он цитирует притчи как парадигматический
пример метафорического повествования. В самом деле, Иисус
обращает внимание слушателей на метафоричность притч, предваряя их
словами «царство Божье подобно». Притча в целом — не о «некоем
человеке», а о том, как Божье царство преобразовывает обыденную
реальность. Метафорическое напряжение здесь — между сюжетом
притчи и повседневной жизнью. Иначе говоря, благодаря притче мы
способны по-новому взглянуть на мир, что без нее было бы
невозможно. Итак, притчу нельзя передать буквальным высказыванием.
Интертекст
Хотя каждая притча может существовать самостоятельно, но,
сгруппированные друг с другом, они приобретают общий смысл.
Более того, они находятся в составе Евангелия, которое также
является текстом. Рикёр утверждает, что эта «интертекстовая» структура,
благодаря которой один текст читается в свете другого (напр.:
притчи в свете повествования о страстях Христовых и наоборот) есть
ключ к метафорическому толкованию. Суть Евангелия, в свою
очередь, определена благодаря его месту по отношению к другим
текстам (напр.: Закону и Пророкам). Жизнеописание Иисуса
приобретает смысл в свете историй, рассказанных Иисусом, равно как и в
свете более ранних повествований об Израиле. Именно
интертекстуальность, сходство дает нам возможность сопоставлять Ветхий и
Новый Завет, говорить, что «это (история Израиля) обозначает то
(история Иисуса)». Подобно двум терминам метафоры, два Завета
соединены творческим воображением. Далее, на еще более высоком
уровне, вся Библия, взятая как текст, взаимодействует с читателем.
194
Глава третья. Упразднение книги
Наконец, жизнь читателя — тоже своего рода текст, составляемый,
в свою очередь, разными формами современного дискурса (напр.;
религиозным, социальным, политическим, семейным и пр.).167
Поэтому Рикёр рассматривает интертекстуальность как подвид
метафоры. Два текста, не имеющие буквальной или логической
связи, рассматриваются, тем не менее, вместе — ив результате этого
живого взаимодействия образуется новый смысл, возникает
«сходство». В то время как метафора ассоциирует два семантических поля
(напр.: «Бог» и «скала»), интертекстуальность ассоциирует два или
более текстовых поля, эффективно создавая новый контекст для
прочтения текста.168 Интертекстуальность означает, что тексты
открыты — открыты для влияния предшествовавших текстов и для
контекста современных читателей.
Таким образом, интертекстуальность — еще один способ
высказать то же, что утверждал Деррида, говоря: «Вне текста ничего
нет», то есть «текста в себе» не существует. Строго говоря, текст
становится таковым, лишь взаимодействуя с другими, отличными
от него текстами. Текст есть «событие в отношениях, а не
подлежащая анализу сущность».169 Текст есть часть сети текстов, ни
имеющей ни центра, ни начала, ни конца. Некоторые критики
используют интертекстуальность как оправдание «свободной игры» текста.
Если сдерживающего контекста нет, почему бы не извлекать
фрейдистские, марксистские, феминистические, структуралистские и
т. д., например, из «Винни-Пуха» или заодно уж — Евангелия от
Марка?170 Именно в этом цель Упразднителей: систематически
снимать один слой текстуальной конструкции за другим. Деконс-
труктивизм действует как вид понятийной «критики источников»,
который прослеживает историю разнообразных текстовых
традиций, заключенных в данном тексте. Каждый текст можно считать
интертекстом: он одновременно является и не является текстом.
167 Подробнее о взглядах Рикёра на интертекстуальность как на «библейское воображение»
см. мою книгу Biblical Narrative in the Philosophy of Paul Ricoeur, 199-204.
168 Богословие Бультмана, например, можно рассматривать как результат прочтения им Павла,
Лютера и Хайдеггера в свете друг друга.
169 Bloom, Kaballa and Criticism, 106.
170 Фредерик Круз в книге «Загадка Пуха» (Frederick С. Crews, The Pooh Perplex (London:
Robin Clark, 1979) предлагает остроумную пародию на этот и другие подходы к толкованию,
показывая, как их можно применить к историям А. А. Милна.
г 195
Часть первая. Распад толкования
Библейская неопределенность
Насколько метафоричен библейский текст? Не позабыли ли
переводчики Библии и богословы, пытаясь придерживаться
концептуальной точности, что Писание и богословие — это формы письма?
Насколько должно придерживаться буквального значения текста,
создавая комментарий к Библии? Как далеко может зайти богослов
в игнорировании метафор? Цель многих богословов — наиболее
полно воспроизвести библейскую истину в согласованной
концептуальной системе. Теология стремится к абсолютной ясности
концепта; метафоры же концептуально нечисты. Однако для других,
например для Рикёра, такой подход неприемлем. Метафоры питают
мысль; без метафоры мысль бы омертвела. Ни парафраз, ни
комментарий, ни систематическое богословие не способны полностью
исчерпать метафору. И все же есть богословы — сторонники
метафорической природы религиозного языка, раскрывающей
творческое начало в человеке. Когда человек понимает, что
метафизика основана на метафоре, ему становится ясно, что «мир, знания и
человека не обязательно представлять каким-то одним
определенным образом, каким бы обобщенным он не был».171 Очевидно, что
ни мир, ни Бог не имеют некой застывшей формы; и образ Бога, и
образ мира определяются языком.
Метафорическое богословие: богословская неопределенность
В своей книге «Модели Бога» Салли МакФэг делает попытку
решения этой фундаментальной проблемы неопределенного смысла и
неразрешимости. С точки зрения МакФэг, Библия, как и все
письмо, говорит «косвенным образом», с помощью метафор. И разум, и
откровение оказываются в плену письма. Она считает само собой
разумеющимся, что сказанное о Боге в Библии, будучи метафорой,
не соответствует напрямую Божьей природе и его
взаимоотношениям с миром. Метафоры создают образ, позволяющий представить
себе Бога. Однако некоторые библейские метафоры «устарели или
являются созданиями угнетателей».172 Поэтому мы вольны
ассоциировать Бога с новыми семантическими полями и создавать новые
171 Cupitt, The Long-Legged Fly, 29.
172 Sallie McFague, Models of God: Theology for an Ecological, Nuclear Age (Philadelphia: Fortress, 1987), xi.
196
Глава третья. Упразднение книги
модели или картины воображения. Хотя богословие — «в основном
выдумка», МакФэг утверждает, что некоторые выдумки могут
оказаться лучше других. Но что означает в этом контексте «лучше»?
Явно не то же, что «более точное представление».
Основной критерий МакФэг в отношении ценности метафоры —
ее «уместность в наше время».173 Она излагает позицию
прагматистов: выбирайте те метафоры о Боге и отношении Бога к миру,
которые наилучшим образом способствуют
предпочитаемому вами образу жизни.174 Она считает, что такие метафоры, как
«мать» или «возлюбленный» более точно передают отношение Бога
к человечеству, чем традиционные метафоры отца и царя.
Подобным образом она предлагает рассматривать мир как Божье «тело»,
а не как «Божье царство». Такая модель более благоприятна для
«зеленого» богословия и поэтому более уместна (а именно — более
полезна) в наш экологический век.
Взгляд МакФэг на библейские метафоры вполне совпадает с
прагматическим подходом Рорти к языку в целом. Язык считается
истинным, если слова пригодны для определенного употребления.
Рорти утверждает, что метафоры выживают по принципу
уместности и полезности. Метафоры, доказавшие свою чрезвычайную
полезность, могут быть возведены в ранг понятий. Рорти сморит на
рост языка с дарвиновской позиции: время от времени случайная
языковая мутация оказывается более полезной для человечества.
Хорошие метафоры — всего лишь совпадения, случившиеся в
языковой практике:
Насколько мы знаем — и насколько это должно нас
интересовать, метафорическое использование слова «ousia»
Аристотелем, слова «agape» — апостолом Павлом и слова
«gravitas» — Ньютоном было результатом космического
излучения, нарушившего тонкую структуру каких-то
важных клеток в мозгу каждого из них... Вряд ли важно, как
именно это произошло. Результат оказался великолепным.
Прежде такого не случалось.175
Итак, повсюду метафоры. О Боге невозможно сказать ни
одного слова, которое не было бы метафорой. «Бог» прагматистов
173 Там же, 13.
174 Там же, 192п37и196п13.
175 Richard Rorty, Contingency, Irony, and Solidarity (Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1989), 16.
197
Часть первая. Распад толкования
неопределим: «От Бога осталась лишь творческая сила
языковой деятельности человека в свободном взаимодействии с его
окружением».176 Метафора есть стратегия расширения языка, но
язык остается соотнесенным лишь с собой самим, а не с
реальностью, и истина остается лишь вопросом полезности.
Интертекстовое богословие: каноническая неопределенность
Интертекстуальность одновременно и подтверждает
традиционное понятие канона, и ставит его под сомнение. «Каноном» (греч.
kanon, мерный шест) называют перечень рекомендованных или
авторитетных книг.177 Канон Ветхого и Нового Завета, а также канон
Библии в целом очерчивает пространство взаимодействия и
взаимоинформирования текстов, объявленных авторитетными. Бревард
Чайлдз считает «канонический контекст» библейских книг — под
которым он подразумевает не только конечную форму библейских
книг, но и их положение относительно друг друга в Писании —
наиболее важным показателем их смысла: «составление
традиционного порядка для этой новой [канонической] функции включало в
себя глубинную герменевтическую деятельность, результаты
которой ныне встроены в структуру канонического текста».178
Канон подтверждает интертекстуальность, поясняя ее
действие. Тексты Нового Завета прямо и косвенно соотнесены с
некоторыми текстами Ветхого; смысл синоптических Евангелий
частично определяется их отличием друг от друга; более поздние тексты
пронизаны словами и темами текстов более ранних. Короче говоря,
книги, включенные в канон, формируют «отдельную когнитивную
зону» и «взаимосвязаны как части единой книги».179 Канон как бы
поощряет игру смысла, но в то же время тщательно очерчивает для
нее пределы допустимого.
Однако интертекстуальность, в конце концов, ставит под
сомнение, а затем и отрицает понятие канона как раз и навсегда
176 J. Wesley Robbins, '"You Will Be Like God': Richard Rorty and Mark C. Taylor on the Theological
Significance of Human Language Use," Journal of Religion 72 (1992): 389.
177 Кермоуд утверждает, что слово капоп приобрело и другие значения, включая «этическая
норма, правило или критерий» (Kermode, "The Canon," in Alter and Kermode, eds, The Literary
Guide to the Bible, 604).
178 Childs, Introduction to the Old Testament As Scripture (Philadelphia: Fortress, 1979), 60.
179 Kermode, "The Canon," 605-6.
198
Глава третья. Упразднение книги
закрепленного текста. Это происходит двумя способами. Прежде
всего, интертекстуальность ставит под сомнение наличие у текста
устойчивого смысла: «Канонический подход полагается на
возможность... того, что у текста есть способность быть не
синонимичным самому себе — иначе говоря, одна и та же последовательность
слов может иметь разный смысл в разных контекстах».180
Например, Псалом 22 имеет один смысл сам по себе, другой — если его
рассматривать как часть Псалмов в целом, и еще один — когда его
цитирует Иисус. Следовательно, «Смысл текста... никогда не
присутствует в нем вполне. Смысл всегда находится в процессе
формирования, деформирования и реформирования».181
Во-вторых, интертекстуальность ставит под сомнение понятие
того, что Писание толкуется Писанием, что библейские тексты
следует читать в свете друг друга. Современная критика Библии
утверждает, что канон есть позднее и произвольное наслоение на
книги, содержащиеся в нем. Иначе говоря, канон — незаконная
ограда, возведенная вокруг Писания, в то время как sola scriptura —
попытка, опять-таки незаконная, создать зону, свободную от
толкователей. «Упразднитель» сносит ограду и делает текст открытым
для ассоциаций с другими текстами и контекстами. Мы уже
заметили сходство между деконструкцией и раввинским толкованием.
С типичной страницы Талмуда звучат голоса разных эпох и стран:
«Тексты отражают друг друга, взаимодействуют, проникают друг в
друга».182 Интертекстуальность есть свободная ассоциация разных
голосов, центробежная сила, взрывающая центростремительные
ограничения канона. Смысл — это не столько нечто заключенное
в тексте, сколько что-то происходящее между ними. Именно
потому, что это «между» не может быть стабилизировано,
интертекстуальность подрывает определенность смысла. Понятие
интертекстуальности размывает границу между текстом и
комментарием почти до полного ее исчезновения. Если текста как такового
не существует, толкование «на самом деле неотделимо от
возникновения самого текста».183
180 Barton, Reading the Old Testament, 172.
181 Taylor, Erring, 179.
182 Handelman, Slayers of Moses, 47.
183 Taylor, Erring, 180.
199
Часть первая. Распад толкования
Родственные понятия «книги» и «канона» представляют собой
одновременную попытку «закрыть» текст и ограничить игру
смысла. Точно так же, как «текст» подрывает идею «книги»,
«интертекстуальность» подрывает идею канона. Нет ни одного текста,
который можно было бы с уверенностью считать источником
происхождения другого текста. Точно так же не существует и устойчивого
контекста, из которого можно было бы извлечь неизменный смысл
текста. Марк Тейлор делает неизбежный вывод:
Взаимозависимость текстов делает невозможным как
владычество одного текста над другим, так и подчиненность
текста тексту. Относительность Писания разрушает
правило канона и сводит на нет традицию
авторитетности... После разоблачения книги, канона и традиции Писание
свободно пускается в бесконечный дрейф.184
ТОЛКОВАТЕЛЬНЫЙ АГНОСТИЦИЗМ?
Существуют ли критерии, позволяющие отличать лучшие
толкования от худших? Возможно ли знание через толкование? Могут
ли толкователи высказывать истинные утверждения о смысле
текста? Или мы живем во времена метафоры и интертекстуальности,
где нет абсолютов и судий, когда каждый читатель может делать то,
что ему кажется справедливым?
За душу западной культуры ныне борются два
противоположных толкования. Одно стремится расшифровать и определить
стабильное, определенное значение; другое утверждает свободную
игру знаков и отказывается от поиска точки опоры вне языка.
Первое ищет разумения; второе стремится избегнуть обмана. Согласно
первой точке зрения, читателям следует прекратить
Герметический дрейф и попытаться плыть к берегу. Согласно второй, которой
придерживается Деррида, читателям следует принять свободную
игру смыслов, а возможно — еще и наслаждаться ею. С этой точки
зрения, те, кто утверждает о познании ими текста — бесчестны и
безответственны. Новая нравственность литературного познания
определяет честность как признание искусственности
собственного толкования.
184 Там же, П9.
200
Глава третья. Упразднение книги
«Абсолютное» толкование
При традиционном взгляде на толкование герменевтика
напоминает эпистемологию, поскольку обе дисциплины нацелены на
объективное познание. Философ создает теории, точно
передающие мир, Книгу Природы; толкователь пишет комментарии,
передающие смысл текста. В обоих случаях мышление подчинено чему-то
внешнему (напр.: миру, тексту). Существует абсолютный стандарт,
с которым можно сравнивать и наши утверждения об истинности, и
наши толкования. Традиционное толкование «абсолютно» и в ином
смысле: оно отрицает идею о том, что наша точка зрения влияет на
наше познание. Как мы уже видели, модернистский субъект есть
миниатюрная версия божества средневекового богословия. Разум
нацелен на абсолютное знание, которое, с точки зрения Бога,
истинно не только для меня, здесь и сейчас, но для всех, всюду и во
все времена.
«Анархистское» толкование
Постмодернистов беспокоит то, что реализм как
метафизический, так и герменевтический, всегда авторитарен. Если смысл не
поддается попытке толкователя познать его, то толкователь
подвластен чему-то более важному, нежели он сам. Ни «упраздни-
тель», ни «пользователь» не жалеют об утрате такого
представления о смысле и сопутствующего ему понятия авторитетности
текста. Напротив, Деррида радуется «ликующему утверждению
мировой игры и невинности становления, утверждению мира, полного
знаков без порока, без истины и без начала, открытого для
активного толкования».185 Бремя Реальности снято, вместо раболепного
подражания люди свободны творить, став «как боги». Толкование
как poesis (сотворение, создание) заменяет собой толкование как
mimesis (подражание, имитация).
«Фактов нет, есть лишь толкования».186 Ницше считал, что в
истину верят лишь те, кто слишком слаб для создания
собственного мира: «Ценность мира состоит в наших толкованиях... эта идея
Derrida, "Structure, Sign, Play," 264.
Nietzsche, цит. по Taylor, Deconstructing Theology, 90.
201
Часть первая. Распад толкования
пронизывает все, что я пишу».187 То, что считается «фактом»,
родственно толкованию. Бультман делает подобное наблюдение в
отношении толкования Евангелий: то, каковы факты, зависит от того,
какие предпосылки мы привносим. Если нет не истолковываемой
основы факта, наши толкования — то, что мы считали открытиями
текстовых фактов — на деле оказываются сотворенными нами же
фикциями. Толкование — уже процесс не познания, но
изобретения. Кончина герменевтики — теорий понимания и литературного
познания — порождает бесконечность смысловой игры.
Игра антиномий
Если литературных фактов не существует, литературоведение
становится формой игры. Единственная обязанность критика —
уберечь толкование от обобщения, от претензий на обнаружение
смысла текста. Критик делает это, упраздняя текст, вскрывая
противоречивость его логики и освобождая знаки для игры. «Игра» становится
правилом метафорической интертекстуальности. В игре толкования
много участников, но нет победителей. И деконструктивизм, и
прагматизм категорически утверждают, что «в глубине нашей сущности
нет ничего, чего мы не вложили бы туда сами, нет иных критериев,
кроме созданных нами в процессе создания обычая».188
«Упразднитель» вскрывает игру дифференциальных
взаимоотношений знака со знаком, текста с текстом и текста с контекстом.
Сама «игра» есть термин, обозначающий отсутствие
трансцендентного сигнификата — цели традиционного поиска толкователями
«смысла» текста.189 Например, Деррида толкует диалог Платона
о mimesis в свете короткой поэмы в прозе Малларме о миме, чьи
движения ничему не подражают. Между этими текстами нет ни
логической, ни исторической связи — только языковое сходство,
основанное на термине «подражательный». В то время как
философия стремится лишить понятия двусмысленности,
литература «действует в сфере, губительной для альтернативы и логики
подлинности».190 Чтение Дерриды «воплощает неправомерную
безнравственность всеобъемлющей относительности».191
Nietzsche, The Will to Power, 330.
Rorty, "Pragmatism and Philosophy," 60.
Hoy, "Must We Mean What We Say?" 410.
Derek Attridge, в Derrida, Acts of Literature (London: Routledge, 1992), 128.
Taylor, Erring, 166.
202
Глава третья. Упразднение книги
В отсутствие автора и авторитетности толкователям уже не
приходится никому подчиняться. Вопреки Августину и прежним
аллегористам, считавшим, что знаки соотнесены с истиной, Дер-
рида утверждает, что игра знаков исключительно
горизонтальна. Однако потерянный рай есть и рай обретенный; утрата
трансцендентности есть лишь отрицательное условие новой свободы.
Потеря трансцендентности (веры в то, что знаки и тексты
обладают стабильностью смысла) делает возможной любую
горизонтальную ассоциацию. Мы оказываемся вовлечены в
безграничную, бесконечную игру нонконформизма. Основы западной
культуры и философии — Бог, сущность, самость — при
окончательном рассмотрении оказываются лишь игровыми площадками.
Деконструкция расшатывает жесткие конструкции и запускает
неустанный круговорот карусели смысла. Метафора карнавала, часто
используемая для описания деконструкции, очень уместна; в конце
концов, ничто так не угрожает авторитетности, как смех.192
Борьба за власть
Что же остается от литературной критики, если фактов нет, а
есть лишь разыгравшиеся толкования? В то время как
подражательная критика направлена на достижение эпистемологической
цели познания текста, критика поэтическая служит
политической цели формирования точки зрения человека или сообщества.
Знание {mimesis) было затемнено выдумкой (poesis). «Сказать,
что нам следует почтительно относиться к фактам, значит
просто сказать, что играть в языковую игру следует по правилам».193
Как высказывает это Фиш, литературная критика превращается
в «попытку одной партии изменить мнение другой так, чтобы
приводимые первой партией аргументы рассматривались второй как
доказательства».194 Для постмодерниста единственное возможное
оправдание утверждений об истине — их действенность в
убеждении, их способность влиять на мнения в контексте существующих
систем убеждений».195
192 Ср. Mikhail Bakhtin, Rabelais and His World, tr. H. Iswolsky (Cambridge: M.I.T. Press, 1968), 123.
193 Rorty, "Text and Lumps," 4.
194 Fish, Is there a Text? 365.
195 Norris, Derndfo, 155.
203
Часть первая. Распад толкования
Для Ницше и Дерриды разум есть авторитарная форма
подавления; для Фуко знание есть форма власти. С точки зрения «упразд-
нителя», любое утверждение о достигнутой объективности
истолковывается как простое политическое позерство. Слишком легко
спутать основательные доводы со своими доводами, объективность
со своим пониманием ситуации. Слишком легко (и, как мы увидим
дальше, удобно) увидеть стремление к власти (личной или
корпоративной) за утверждениями о смысле текста.
Капитт согласен с Дерридой в отношении политической стороны
утверждений об истине. Как церковь, так и общество ищут
политической власти, апеллируя к чему-то более высокому, чем дискурс.
Августин называл это высшее «градом Божьим»; Платон —
«Республикой». Некоторые постигают это высшее через откровение,
другие — познают разумом. В любом случае, поскольку существует
нечто, чему должны соответствовать жизнь и язык, мы можем
сказать, что здесь присутствует порядок и ограничение человеческой
свободы. Капитт называет эту систему ограничений «культурой».
Капитт выстраивает постмодернистскую богословскую основу
для анархического толкования. Он противопоставляет Культуру
(авторитетность установленного порядка значений) Желанию
(автономии индивидуальности, ищущей самовыражения).196 Культура
опирается на понятие определенного смысла и порождает
авторитетное толкование, поскольку верит в существование того, чему
должны соответствовать наши толкования и наша жизнь. Знание в
толковании связано с культурным конформизмом — послушанием
и герменевтикой долга. Герменевтика Желания, напротив,
анархична. Она противится порядку и ограничениям, которые культура
налагает на свободу. Культура, удушая творчество, подавляет
человеческую природу. Капитт соединяет Культуру с Законом,
Желание — с Жизнью.197
Цели толкования
Упразднение эпистемологии смысла связано с изменением
парадигмы того, что значит толкование текста. Сторонники нового
196 См. Cupitt, The Long-legged Fly, 8.
197 Там же, 112-113. В следующей главе более подробно рассматривается политика
толкования.
204
Глава третья. Упразднение книги
аллегоризма, метафорического толкования и герменевтики Желания
более не признают принципа реальности (того, чем является текст).
Для них существует только принцип удовольствия (то, каким я хочу
видеть текст для себя, для нас). Я пытался показать, как конец
толкования в качестве средства получения знаний о смысле текста
указывает не столько на конец толкования, сколько на начало новой
цели толкования — самореализации через творческую игру.
Какова цель деконструктивизма? Зачем нужна деконструкция,
если не для того, чтобы сделать заявление о чем-то, претендующем на
истину? Можно вспомнить, что Норрис рассматривает Дерриду как
продолжателя кантианского направления — исследования
природы и пределов Разума. Критика Разума Дерридой более радикальна,
чем у Канта, поскольку Деррида считает, что Разум есть то, что
служит нашим этико-политическим интересам.198 За рациональностью
стоит ценность (этика) и власть (политика). Деконструктивизм —
что-то вроде «софистической кислоты», разъедающей слои
риторики, благодаря которым ценности выглядели как истины. Цель
деконструкции — дестабилизировать любое толкование текста,
претендующее на истинность.
Деконструктивная литературная критика анархична: без
происхождения и без контроля. Однако эта «анархия — не
нигилистическое уничтожение всякого авторитета, а уверенность в
множественности авторитетов».199 «Упразднитель» играет одним
авторитетным голосом против другого, чтобы не допустить обобщения
и тоталитаризма. Конфликт толкований, то есть конфликт между
двойственной интерпретацией толкования — (Культура/закон/
обязанность против Желания/свободы/игры) — связан с более
глубинным конфликтом ценностей. За дебатами о природе
интерпретации стоят конфликтующие представления о том, что значит
на самом деле — быть человеком. Наличие определенного смысла в
тексте в конечном итоге связано с наличием определенного смысла
в человеческой жизни. Современные дискуссии по вопросам
герменевтики уходят корнями не только в эпистемологические споры о
целях толкования, но и в этические — о смысле жизни.
Желание стремится к освобождению от герменевтических,
эпистемологических и этических ограничений. Для Ницше интерпретация
См. Derrida "The Principle of Reason: The University in the Eyes of Its Pupils," Diacritics, 29 (1983): 3-20.
Handelman, Slayers of Moses, 204.
205
Часть первая. Распад толкования
стала «средством покорения того, что ставит под сомнение
собственную независимость».200 Для постмодерниста суть толкования — не в
приобретении знаний, не в исполнении своего эпистемологического
долга по отношению к тексту, а в исполнении желания.
Соответственно, Ницше и Капитт не оплакивают ни кончину Бога, ни гибель
книги — авторский смысл должен умереть, чтобы жил толкователь.
«Адекватное» толкование
Нет ли альтернативы выбору между абсолютным и
анархическим толкованием, или между гностическим поиском скрытого
смысла и агностическим отказом от этого поиска? Мы видели, что
понятие абсолютного текста в конце концов растворяется в море
относительности. Текст, лишенный автора, далеко не обеспечивает
определенности смысла, порождая множественные значения
(аллегорическое, метафорическое, интертекстовое). И настолько же,
насколько неопределенность неотъемлема от текста, неопределимость
кажется неотъемлемой от процесса толкования. Конечным
результатом упразднения эпистемологии смысла становится очередной
переход авторитетности, на сей раз от текста — к читателю.
Есть и третья возможность, альтернатива как абсолютному, так
и анархическому толкованию, которую я более полно
рассматриваю во второй части книги. Это вид толкования, не абсолютного, но
и не произвольного, дающего адекватные знания — достаточные
понимания. Толкователи могут не знать всего, но они часто знают
достаточно — а достаточные литературные знания могут
обеспечить ответственное толкование. В противовес скептицизму «уп-
разднителей», я утверждаю, что толкование — не столь
бескомпромиссный вопрос. Нам нет нужды выбирать между смыслом, который
абсолютно определен, и смыслом полностью неопределенным. Не
приходится делать выбор и между смыслом, который присутствует
в тексте, и смыслом, который бесконечно отдален. Вполне
возможно, что отдаленность смысла — явление временное, а не
постоянное. Однажды мы познаем, как познаны сами. Как будет видно из
второй части книги, даже эсхатология играет роль в богословской
герменевтике. Ныне же мы видим «гадательно, как сквозь тусклый
текст».
Цит. по: Scott, "New Trahison," 410.
206
Глава третья. Упразднение книги
Однако же — видим. В тексте есть нечто доступное познанию,
хотя, возможно, и не полному. Поэтому нам надо различать
неисчерпаемость смысла и его неопределенность. Первое не обязательно
подразумевает второе; ограниченное знание — это совсем не то, что
его полное отсутствие. Возьмем, например, метафору, относящуюся
к Богу: «Отче наш, сущий на небесах...» Согласно Рикёру,
«настоящие метафоры непереводимы... Это не значит, что они не могут быть
переданы другими словами. Просто парафраз бесконечен и
неспособен исчерпать бесконечное множество значений».201 Пока все как
будто ясно. Однако из этого не следует, что метафоры полностью
неопределенны, и невозможно понять, к чему они относятся.
Метафора может обладать устойчивым значением, оставаясь при этом не
вполне ясной. Дженнет Мартин Соскис отмечает, что восприятие
Бога как Отца может иметь целый ряд правильных значений, не
притязающих на буквальность. Однако при этом оно создает
относительно устойчивую модель, которая оказывает «регулирующее»
воздействие на последующие мысли и высказывания о Боге.202 В
некоторых отношениях (напр.: с точки зрения сотворения, заботы и
провидения) Бог и есть наш Отец.
Толкование — это не перевод всего образного языка в четкие
и ясные суждения. Наши толкования могут адекватно, хотя и не
исчерпывающе, передавать метафорическое и текстовое значение.
Это лишь признание того, что наши толкования, не будучи
произвольными, в то же время являются неполными и впоследствии
могут измениться. Витгенштейн указывал на то, что у слов «острые
края»; даже «буквальный» язык редко бывает ясным и четким.203 То
же самое можно сказать и о текстах. Ведь есть много разных видов
текстов, равно как и много способов применения языка, и каждый
из этих видов и способов обладает собственным вариантом (и
уровнем) точности. Ожидания философов, что язык будет
последовательно однозначен, нереалистичны, как и попытки комментаторов
ограничить библейское повествование тем, «чему оно учит», или
«что произошло на самом деле». У понятия один уровень точности,
у метафоры — другой, а у повествования — третий.
Тексты могут быть достаточно определенными для того, чтобы
нести в себе смысл, сохраняя при этом некоторую многозначность.
201 Ricoeur, Interpretation Theory, 52.
202 Janet Martin Soskice, Metaphor and Religious Language (Oxford: Clarendon, 1985).
203 Cm. Dan Stiver, The Philosophy of Religious Language: Sign, Symbol, and Story (Cambridge:
Cambridge Univ. Press, 1996), 59-67.
207
Часть первая. Распад толкования
Края текста могут быть острыми, но они, тем не менее, есть.
Литературное знание, подобно знанию научному, одновременно
адекватно (т. е. достаточно для понимания и использования) и временно
(т. е. допускает исправления в свете дальнейших исследований).
Как мы сумеем убедиться во второй части книги, тексты не несут
в себе единственного возможного смысла, который позволил бы
свести их до единого буквального, однозначного уровня. Напротив,
текст как коммуникативный акт может быть рассмотрен на
нескольких разных уровнях. Однако для понимания текста толкователю не
обязательно сводить его к однозначному высказыванию. Критика
такого герменевтического позитивизма «упразднителями» вполне
обоснована. Толкователям необходима компетентность: умение
определить, какой именно смысл передан в тексте и насколько ясно и
четко это сделано. Толкователь должен стремиться не только к
знаниям, но и к мудрости — к близкому знакомству с разнообразием
языка и способности оценить его по достоинству. Герменевтика —
это нечто большее, чем штампованное применение
методологических принципов; герменевтика требует здравого суждения. Мой
вопрос о наличии смысла в тексте не найдет окончательного ответа,
пока мы не задумаемся о том, есть ли у читателя глаза и уши —
нравственная и эстетическая чуткость, мудрость и способность
судить, — чтобы воспринять его.
208
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
Упразднение читателя:
контекстуальность и идеология
С момента смерти богоподобного автора на его
месте возведено бесчисленное множество идолов,
носящих имена разнообразных богословских школ...
Каждая из этих школ обещает собственную версию
спасения через правильное толкование в
обоснованном, и потому истинном прочтении текста.
Говард Фелерпин.1
Необходимой платой за рождение читателя
является смерть Автора.
Ролан Барт.2
Новый читатель очень похож на старого Автора,
чью смерть он возвещает, и сама авторитарность его
тона свидетельствует о вакууме власти, оставшемся
после кончины Автора и поддерживавших Его
общественных условностей.
Говард Фелерпин.3
Мы переходим к третьей эпохе литературоведения, в
условиях которой честь придания тексту смысла — и
ответственность за него — ложится на читателя. Ведь
если автор — не источник смысла, и понятия «смысл текста» не
существует, читателю самому приходится творить его «по мотивам
книги». Джейн Томкинс в своем вступлении к весьма почтенному
1 Howard Felerpin, Beyond Deconstruction: The Uses and Abuses of Literary Theory (Oxford:
Clarendon, 1985), 204.
2 Barthes, "Death of the Author," 55.
3 Felerpin, Beyond Deconstruction\ 203.
209
Часть первая. Распад толкования
труду о критике читательских реакций отмечает поворот к отрицанию
герменевтического реализма следующим образом: «Смысл
существует исключительно в представлении читателя».4 Поэтому толкование
становится «скорее творчеством, нежели открытием... в меньшей мере
демонстрацией и доказательством, и в большей — индивидуальным
созиданием и озарением».5 В эпоху читателя смысл находится не за
текстом и не внутри его, а скорее перед ним.
Чтение — один из первых навыков, приобретаемых детьми в школе.
И пока мы не начинаем его анализировать, чтение не вызывает у нас
особых затруднений. Что представляет собой читатель? И что такое
чтение, если не деятельность, направленная куда-то за пределы наших
собственных мыслей? Что такое чтение, если не вера, стремящаяся к
пониманию? Эти вопросы о читателе и чтении столь же противоречивы,
как и рассмотренные нами выше вопросы об авторе и тексте. Каждая
теория литературы, в конечном счете, — теория чтения. Более того,
предпочтение одной трактовки всем остальным приводит к возникновению
этики и даже богословия толкования.
С традиционной точки зрения, читатель издалека созерцает
авторский замысел или словесный смысл. Читатели одновременно активны
и пассивны: листая страницы и расшифровывая напечатанные на ней
знаки, они получают нечто, не являющееся результатом их
собственного творчества. Ф. Р. Ливис, например, считал, что задача критика
состоит в извлечении из классических литературных произведений
универсальных нравственных истин во благо «обычного читателя».
Однако даже с этой традиционной точки зрения чтение может представлять
опасность: «Оно способно менять наши взгляды, пробуждать эмоции и
побуждать к действиям».6 К тому же современная теория литературы
ставит под сомнение предполагаемую бесстрастность читателя и
объективность его наблюдений. Читатель не tabula rasa, не чистый лист;
напротив, обнаруженное читателем в тексте во многом определяется
тем, что он сам в него привносит. Наблюдения читателя не объективны,
но «отягощены теорией». Более того, такие «пользователи», как Фиш,
утверждают, что именно способы прочтения нами текста
устанавливают пределы нашего познания. Итак, последний идол, ниспровергаемый
постмодернистской теорией, есть «идол беспристрастия».
4 Jane R. Tomkins, "An Introduction to Reader-Response Criticism," in Reader-Response Criticism:
From Formalism to Post-structuralism (Baltimore: Johns Hopkins Univ. Press, 1980), ix.
5 Vincent B. Leitch, Deconstructive Criticism, 264.
6 Margaret Davies, "Reader-Response Criticism," A Dictionary of Biblical Interpretation, 578.
210
Глава четвертая. Упразднение читателя
Неудивительно, что в центре внимания современной теории
литературы находится читатель. Поворот к читателю — логическое
следствие отрицания герменевтического реализма. Если текст как
таковой не имеет своего значения, то представляется разумным,
что обнаруженный читателями смысл был туда вложен. В эту
третью эпоху критики смысл становится проекцией читателя, а
толкование — средством не воссоздания, а создания смысла. Понятно,
почему теоретики постмодернизма резко критикуют выделяемые
Марксом «средства производства».7 Вопрос о наличии в тексте
смысла превращается в вопрос о том, кто контролирует процесс
толкования. Когда речь идет о создании смысла, в чьих руках
оказывается власть?
В наше время толкование — это уже не столько вопрос о
содержании текста, сколько о том, что делает с ним читатель, или скорее
даже кто этот читатель. Личность человека оказывает
значительное, возможно, определяющее влияние на его восприятие текста.
Скажи мне, кто ты, и я скажу, как ты читаешь. Смысл заключен не
в сознании автора и не в структуре текста, а в положении читателя.
Третья эпоха литературной критики выводит на передний план не
текстуальность, а контекстуальность.
И «упразднители», и «пользователи» подвергают нападкам миф
об объективном читателе. Цель чтения не в накоплении знаний, а
в передаче культуры и удовлетворении желаний. Ключевой вопрос
третьей эпохи критики таков: «Чье прочтение Библии наиболее
достойно внимания и почему?» Ответ на этот вопрос безошибочно
указывает на политические убеждения человека. Если, по словам
Фуко, претензии на знание на самом деле лишь проявления власти,
принятие решения о том, чье толкование имеет наибольший вес,
оказывается, в конечном счете, вопросом политическим. Конечно,
для контекстуалиста все имеет политический оттенок: «Какова бы
ни была очевидная политика текста, ее всегда можно сделать...
глашатаем политики читателя... Это процесс систематически
неверного толкования, один из видов злоупотребления текстом».8
7 Маркс считал, что материальные (напр.: экономические, социальные) условия определяют
образ мыслей и систему ценностей в обществе. Он также считал, что способ производства
определяет идеологию общества. Как мы увидим далее, третья эпоха литературоведения также
обращается к материальному (а именно, к политике) для разрешения конфликта толкований.
8 Felerpin, Beyond Deconstmction, 33.
211
Часть первая. Распад толкования
РОЖДЕНИЕ ЧИТАТЕЛЯ
Для издателей и книготорговцев читатели — это, прежде
всего, потребители; «ненасытные» читатели «глотают» книги. Барт
возражает против такого потребительского взгляда на толкование,
где текст рассматривается «как шкаф, где хранятся надежно
запертые, разложенные по полочкам значения».9 Барт видит в читателе
не только потребителя, но и создателя смысла. В традиционном
представлении о толковании, однако, читатель не обладал
свободой творчества в отношении смысла. Терри Иглтон,
соответственно, называет третью эпоху критики «Движением за освобождение
читателя». Литературоведение, ориентированное на читателя,
служит интересам угнетенных читателей, «которые были низведены
до состояния пролетариата классом авторов».10
Так было не всегда. Еще в 1960-х структуралисты
рассматривали читателя как пассивного наблюдателя текстовых кодов и
условностей. Код, разумеется, остается инертным и бессмысленным,
пока кто-то не придаст ему смысл. Однако с конца 1960-х центр
внимания сместился на деятельность читателя по декодированию и
перекодированию.11 Текст остается незавершенным, пока не вызовет
у читателя определенный отклик.
Постструктуралисты, убежденные в изначальном
непостоянстве природы знаковых систем, изучают влияние положения
читателя (напр.: социального, исторического, богословского) на
процесс толкования.12 Поэтому их позиция больше всего подходит
для объяснения того, как один текст может породить множество
разных толкований. За завесой объективности скрываются некие
вполне обоснованные притязания. Чтение, перефразируя
знакомое выражение, представляет собой отягощенный теорией вид
наблюдения. Каковы критерии сотворения читателями смысла
9 Barthes, S/Z (New York: Hill and Wang, 1974), 200-201.
10 Eagleton, Against the Grain: Essays 1975-85 (London: Verso, 1986), esp. ch. 13: "The Revolt of
the Reader," 181.
11 Джон Бартон полагает, что структурализм тоже был одной из теорий чтения, поскольку
«предписывал 'правильные' методы не восстановления авторского замысла, а создания
современного прочтения того, что им было написано» {Reading the Old Testament, 126).
12 Постструктурализм стремится отвергнуть научные притязания структурализма на
литературное знание. Раман Селден верно отметил: «Если структурализм героичен в своем
стремлении овладеть миром сотворенных человеком знаков, постструктурализм — комичен и
антигероичен в своем отказе воспринимать такие притязания всерьез».
212
Глава четвертая. Упразднение читателя
и кем они установлены? Эти вопросы ведут к обсуждению не только
нравственного, но и политического аспекта литературного знания.
Традиционные представления о читателе окончательно упразднены
постмодернистским подозрением, что толкование — это лишь
замысловатое прикрытие жажды власти со стороны отдельного
человека или целого сообщества.
Что такое читатель?
По мнению Эко, текст — это машина, предназначенная для того,
чтобы вызвать определенный отклик у идеальных читателей.
Риторическая критика анализирует приемы, диктующие отклик
послушного читателя. Изучая способы достижения текстом своей цели,
такого рода критика указывает читателю на объект, подлежащий
описанию. Однако в строгом смысле слова идеального читателя не
существует; он всего лишь производная, побочный продукт текста.
Этот призрачный, бесплотный читатель — плод риторики текста.
Отождествление текста с риторикой, с точки зрения приемов
и методов убеждения, ведет, в конечном итоге, к анализу
откликов настоящих читателей. Следует отличать идеальных читателей,
составляющих часть текста, от их реальных (исторических,
реальных, эмпирических) двойников, живущих за пределами текста.
«Эмпирический читатель — это просто актер, строящий догадки о
том, каким должен быть Образцовый Читатель данного текста».13
Еще один подход к толкованию — критика восприятия — изучает
историю того, как тексты воспринимаются реальными читателями
прошлого и настоящего.14 Переместить центр внимания
критики с риторики на восприятие означает перейти от парадигмы
текстуальности к парадигме контекстуальности: «Читатели,
не являвшиеся первоначальными адресатами текста, придавали
ему смысл в своем контексте с учетом собственных нужд».15
Вероятно, потребности баптистов в штате Джорджия двадцатого века
отличаются от того, в чем нуждались галаты в первом веке,
которым и было адресовано письмо Павла. Однако Послание к Галатам
13 Umberto Eco, Limits of Interpretation, 59.
14 Дополнительную информацию о теории восприятия можно найти в следующих книгах:
Hans Robert Jauss, Toward an Aesthetic of Reception Theory (Minneapolis: Univ. of Minnesota Press,
1982), и Robert С Holub, Reception Theory: A Critical Introduction (London: Methuen, 1984).
15 McKnight, Postmodern Use of the Bible, 174.
213
Часть первая. Распад толкования
и поныне читается и применяется как в Атланте (столица
Джорджии — прим. пер.), так и по всему миру. Могут ли члены
современного Южно-баптистского союза или любой другой деноминации
играть роль идеального читателя посланий Павла? Или же
положение реальных читателей — их этническая принадлежность, пол и
общественный статус — не позволяют им достичь идеала?
Место читателя
Как учил Эйнштейн, то, что мы видим, определяется нашим
положением и скоростью. То же самое происходит с положением
читателя. Образованные монахи двенадцатого века читали Библию
иначе, чем выпускники современных семинарий. Каждый
читатель живет в условиях определенной культуры, времени и
традиций. Объективное чтение невозможно, всякое чтение отягощено
теорией. Нет невинного взгляда, нет беспристрастной личности.
Задумайтесь, например, над смыслом следующего далеко не
беспристрастного описания общественно-политической позиции
американских читателей-постмодернистов:
Большая часть влиятельных кафедр литературы в Америке
находится во власти преступного, антигосударственного
объединенного марксистского фронта феминистов,
сторонников критики читательских реакций, семиотов и деконс-
труктивистов, которым, как это принято у левых, движет
политическая ненависть к демократическому капитализму
и метафизическая ненависть к выражению и
представлению в литературе неизменных составляющих
человеческого бытия.16
Способность видеть тексты, как они есть, иллюзорна. Каждый
читатель видит лишь то, что можно увидеть с высоты своего
положения в обществе, пространстве и времени. Чтение представляет
собой диалог между текстом и читателем, между дискурсивными
приемами, вписанными в текст, и теми, которые формируют
культуру читателя. Таким образом, чтение не является исключением
из теории относительности. Нравится нам это или нет,
приходится признать, что текст определяется тем, кто мы и где находимся.
16 D. D. Todd, в рецензии на труд Robert Alters The Pleasure of Reading in an Ideological Age i
журнале Philosophy and Literature 14 (1990): 421.
214
Глава четвертая. Упразднение читателя
Это не всегда очевидно. Мы склонны думать, что наше восприятие
мира отражает действительное положение вещей. Но кто такие
«мы»? Читающая личность не является независимым субъектом
познания, будучи всегда заключена в рамки некоего
лексического набора и системы ценностей. «Мы никогда не находимся вне
ситуации... Набор толковательных предположений присутствует
всегда и везде».17 Чтение едва ли бывает непредвзятым.
Признание этого факта звучит угрожающе для любого экзегета, который
всю жизнь стремился к извлечению из текста объективного
смысла. Эти героические поиски текстового смысла побудили одного
экзегета-постмодерниста высказать следующее предположение:
«В наши дни демифологизировать надо не столько библейские
тексты, сколько нашу собственную трактовку».18
Есть ли у текста читатель?
Ранние критики читательских реакций были «консервативны» в
отношении роли, которую они отводили реальным читателям. Все
свое внимание они уделяли подразумеваемым читателям, то есть
читателям в тексте. Текстовое значение закодировано, но до
прочтения оно остается в состоянии летаргического сна. Читатель как
бы пробуждает смысл ото сна. Различия между реальными
читателями не имеют значения; смысл законсервирован в коде. Код, в
свою очередь, является сценарием, определяющим роль, которую
следует играть читателю. Смысл требует участия читателя, но
такого рода чтение программируется текстом. Как сказал один циник,
при таком подходе читатель вносит «достаточный, но не слишком
большой вклад».19
«Радикальные» критики читательских реакций возражают,
однако, что этот подход означает порабощение читателя текстом, если
не автором. Тюремщики поменялись, но читатель остался в цепях.
Читатель остается «в тексте и от текста», лишенный
собственного голоса. Хотя на первый взгляд роль читателя приобрела особое
значение, на самом деле единственный читатель, который
принимается в расчет — это читатель подразумеваемый — «неизменное
17 Fish, Is There a Text? 284.
18 Moore, Literary Criticism and the Gospels, 66.
19 Stephen Mailloux, цит. там же, 106.
215
Часть первая. Распад толкования
свойство текста».20 Эко различает «закрытые» тексты, требующие
заранее определенного отклика читателя, и «открытые» тексты,
которые побуждают читателя к сотворению нового смысла. Однако,
с точки зрения «упразднителей», все тексты — открытые, потому
что ни один текст не содержит смысла, который не зависел бы от
читательского подхода. Так как же нам читать: согласно тексту или
вопреки, послушно или независимо?
Недавний комментарий к Посланию к Римлянам хорошо
иллюстрирует консервативный подход с точки зрения реакции читателя:
Мы рассматриваем Послание к Римлянам как
литературное сообщение, использующее риторические обороты и
способы доказательства, направленные на то, чтобы убедить
адресатов чувствовать, думать или действовать
определенным образом... Мысленно поставив себя на место
предполагаемого читателя и реагируя так, как этого требует
текст в процессе чтения или слушания, мы надеемся более
точно и полно пережить то, что должно было донести до
нас это послание.21
Иначе говоря, если реальный читатель играет роль читателя
идеального, он будет актуализировать или декодировать текст в
соответствии с замыслом автора. Реакция читателя по-прежнему
подчиняет его тексту.
Является ли читатель писателем?
В отличие от описанной выше позиции радикальные критики
читательских реакций сосредоточивают свое внимание на настоящем
читателе за пределами текста. Они жалуются, что консервативные
подходы с точки зрения реакции читателя «неизбежно лишают
последнего силы. Они ограничивают и ставят пределы... Создается
впечатление, что настоящий читатель находится внутри текста, что в
тексте есть внутренняя и внешняя сторона, и мы всегда знаем, с
какой стороны мы находимся».22 Радикальные критики отличаются от
консервативных неверием в то, что одни реакции читателей могут
более соответствовать тексту, чем другие.
20 Там же, 99.
21 John Paul Heil, Paul's Letter to the Romans: A Reader-Response Commentary (New York:
Paulist, 1987).
22 Temma F. Berg, "Reading In/to Mark," Semeia 48 (1989): 197.
216
Глава четвертая. Упразднение читателя
И «упразднители», и «пользователи», утверждая
неопределенность смысла и предвзятость толкования, принадлежат к
радикальному течению в критике читательских реакций. Я уже
высказывал предположение, что поворот к читателю является логическим
следствием отрицания герменевтического реализма. Радикальная
теория читательского отклика просто распространяет Кантову
критику понятия «вещи в себе» на текст. Будучи перенесена в
литературоведение, Кантова «революция Коперника» полностью меняет
традиционную картину толкования: уже не чтение подчиняется
тексту, а текст — чтению. Смысл текста является, по крайней
мере частично, творением читателя.23 Однако, в отличие от Канта,
радикальные критики читательских реакций отвергают мысль о том,
что все разумные читатели трактуют мир (или текст) одинаково.
Как же тогда читатели переходят от текста к толкованию?
Процесс, в ходе которого смысл извлекали древние герметисты,
как мы уже видели, был слишком непродуманным. Он состоял из
интуитивных, бессистемных, исключающих познание действий,
скрытых в глубинах души. Новые аллегористы не отстают от своих
предшественников в своем желании догадываться о смысле, вместо
того чтобы логически выводить его из текста. Уже в 1950-х годах
Нортроп Фрай сравнивал текстоцентричный подход к толкованию
с «мистической религией, лишенной евангелия, или с химией на
алхимическом этапе ее развития».24
Сравнение с химией уместно. Однако самым важным составом
здесь оказывается состав читателя: его характер, история его
жизни, надежды и чаяния, отличающие одного человека от другого.
Итак, единственная причина, объясняющая наличие
множественных толкований одного и того же текста, заключается в том, что
разные читатели реагируют по-разному. Периодическая таблица
герменевтических элементов включает не только текстуальные, но
и контекстуальные факторы. Постструктуралисты уже не верят в
алхимию; химические процессы толкования можно объяснить путем
анализа ингредиентов (общественно-политического, религиозного,
идеологического), характерных для того или иного читателя, в тот
момент, когда происходит слияние горизонтов. Если читатель —
23 Ср. пересмотренное кантианство Хилари Путнэм: «Разум и мир, взятые вместе, создают
мир и разум» (Reason, Truth, and History, xi).
24 Felerpin, Beyond Deconstruction, 27.
217
Часть первая. Распад толкования
элемент, столь же переменчивый, как и текст, то, конечно же,
остается мало надежды, что толкователь может решить поставленную
задачу «правильно».
Барт предлагает читателю сосредоточиваться на «написании»
текста, вместо того чтобы пытаться «правильно его понять».
Продолжая сравнение с химией, можно сказать, что Барт побуждает
читателя экспериментировать с текстом, чтобы извлечь из него как
можно больше значений. С этой точки зрения, автор обеспечивает
лишь «сырой» смысл; лаборатория толкования принадлежит
читателю. Третья эпоха критики дала жизнь понятию о том, что
читатель, творец смысла, в конечном счете оказывается писателем.
Задача читателя
Что же делать новорожденному читателю? Эдгар МакНайт
говорит от имени растущего числа толкователей Библии,
обратившихся к литературным методам вместо исторических: «Главная мысль
этой книги в том, что читатель сам творит смысл».25 Как
консервативные, так и радикальные критики читательской реакции
сходятся во мнении, что читатель, в той или иной мере, «дополняет»
текст. Тем не менее, они по-разному оценивают природу действий
читателя: руководит ли им изначально стремление к послушанию
или к свободе? В эпоху читателя наиболее остро встал вопрос о
критериях толкования. Существуют ли такие критерии, или читателю
предоставлена полная свобода писательского творчества?
Определенное чтение
Вольфганг Изер, консервативный критик читательских
реакций, утверждает, что смысл текста зависит от творчества читателя
в процессе заполнения «пробелов», областей неопределенности.26
Текст не осмыслен (т. е. не наполнен смыслом) и содержит лишь
динамический потенциал смысла. Без участия читателя, текст —
лишь виртуальное послание, то, что могло бы быть. Эти пробелы
можно заполнить по-разному, однако существуют определенные
25 The Bible and the Reader (Philadelphia: Fortress, 1985), 12.
26 Cm. Wolfgang Iser, The Implied Reader: Patterns of Communication in Prose Fiction from Bunyan
to Beckett (Baltimore: Johns Hopkins Univ. Press, 1978).
218
Глава четвертая. Упразднение читателя
границы. Текст сам подсказывает возможные варианты. По мнению
Изера, автор желает, чтобы читатель испытал радость
сотворчества. Хотя читатель активен, его деятельность явно вторична, а не
оригинальна. Текст дает читателю указания и ставит перед ним ряд
задач. Читатель вносит свой вклад, но мера его участия определена
текстом. Чтение — это процесс, в ходе которого читатель
постепенно вырабатывает согласованное толкование, собирая вместе
разнообразные подсказки и детали.27
Неопределенное чтение
Хотя предполагаемый читатель Изера может быть интересен в
качестве теоретического понятия, в действительности настоящие
читатели всегда идут дальше, чем простое выполнение указаний
текста: «Реальное прочтение реальных читателей определяет
судьбу текста. Оно показывает, какое место займет тот или иной текст
в мире и в истории. В этом смысле читатель — действительно
полновластный хозяин текста».28 Изер не объясняет, почему читатели
так часто следуют указаниям, отличным от тех, что даются в тексте.
По мнению критиков, рекомендации Изера в конечном счете
сводятся к описанию того, как читает он сам и его коллеги. Радикальный
критик, ориентированный на реакцию читателя, задается вопросом,
почему привычки некоторых должны стать нормой для всех.
Франк Кермоуд, напротив, комментируя собственное
толкование притчи о добром самарянине, заявляет: «Мое прочтение
кажется мне естественным, однако оно — лишь мой способ утверждения
подлинности или универсальности мысли, образа действия,
который является культурным и произвольным. Мое прочтение явно
не показалось бы естественным, например, отцам церкви».29 Тем
самым Кермоуд признает правоту постструктуралистского
представления о контекстуальности читателя и ее влиянии на процесс
толкования.
Читатель, как и текст, является производной различных
культурных кодов. Вот как представляет себе коперниковскую революцию
27 Джинронд жалуется на то, что согласно взглядам Изера, читатель не просто послушен
тексту, но становится его рабом {Text and Interpretation, 110).
28 Ben E. Meyer, "The Challenge of Text and Reader to the Historical-Critical Method" в Wim
Beuken, Sean Freyne, and Anton Weiler, eds., The Bible and Its Readers, Concilium 1991/1 (London:
SCM, 1991), 10.
29 Kermode, Genesis of Secrecy (Cambridge: Harvard Univ. Press, 1979), 35.
219
Часть первая. Распад толкования
читателя Фиш: «Текст как объект, независимый от толкования и (в
идеале) ответственный за собственную жизнь, исчезает и
заменяется текстами, возникающими в результате действий толкователей».30
Эта революция замыкает круг: текст перестал быть причиной
чтения и превратился в его результат. Фиш считает, что текст
существует только в восприятии читателя. Он один может вдохнуть
жизнь в инертное тело текста: «Единство текста — не в его
происхождении, а в его предназначении».31 Расшифровывая и делая текст
согласованным, читатель пробуждает его к жизни. В ходе этой
смены ролей, имеющей далеко идущие последствия, новорожденный
читатель заявляет права на авторство.
Центробежное чтение
Роберт Шоулз различает центростремительное чтение, которое
воспринимает текст на его собственных условиях, и чтение
центробежное, которое соотносит текст с миром читателя.32 До этого
момента мы рассматривали роль читателя в создании текстового
смысла путем объяснения или расшифровки его структур. Однако
смысл текста — «предмет» дискурса — не полон без денотата,
указания на то, «о чем» говорится в тексте. Иными словами, читателю
нужно решить, как реагировать на «мир» текста, на то, о чем он.
Например, читателю Пятикнижия приходится задуматься над тем,
как реагировать на Закон. Какое отношение имеет библейский
текст к моему миру, к древнему Иерусалиму, или к городку Афины
в современной Джорджии?
Отклик читателя не ограничивается «выяснением смысла»
текста; он включает и реакцию на смысл уже выясненный. Рикёр
обвиняет структуралистов в том, что они препятствуют процессу
толкования, оставаясь на уровне разъяснений, вместо того чтобы идти
дальше, к пониманию. Они объясняют формальные черты текста,
но совершенно не касаются его сути. Так интерпретация баховско-
го концерта останется незаконченной без его исполнения.
Рикёр уверен, что задача читателя определяется не применением,
а усвоением. Смена терминологии в данном случае имеет большое
Fish, Is There a Text? 13.
Barthes, "Death of the Author," 129.
Scholes, Protocols of Reading (New Haven: Yale Univ. Press, 1989).
220
Глава четвертая. Упразднение читателя
значение. Читатель не контролирует смысл, как если бы
толкование было некоей технологией текста. Скорее, текст сам предлагает
читателю свой мир, то есть возможный вариант восприятия природы
и ценности человеческих существ. Когда мир текста сталкивается с
миром читателя, толкование преображает мир читателя, предлагая
человеку новый способ понимания себя самого (напр.: по благодати,
а не по закону). Восприимчивый читатель позволяет тексту «читать»
себя. Хорошие читатели оценивают себя в свете текста и тем самым
обретают способность увидеть себя по-новому, «через понимание
слов, действительных и возможных, которые открывает нам язык, мы
лучше понимаем себя».33 Таким образом тексты сталкиваются с
миром читателя и преображают его. Они обладают настоящей
центробежной силой. При этом чтение больше напоминает противостояние
между целями текста и целями читателя.
ЦЕЛИ ЧТЕНИЯ: ЛИТЕРАТУРНОЕ ПОЗНАНИЕ
И ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ИНТЕРЕСЫ
«В наши дни демифологизировать надо не столько
библейские тексты, сколько нашу собственную трактовку»?*
Подобно наблюдению, чтение отягощено теорией. Открытия,
которые читатели делают в тексте, отчасти определяются тем, что
они сами в него привносят, от их целей и интересов. Говорить о
рождении читателя — значит признавать его способность «создавать
смысл». Деконструкция упраздняет читателя до такой степени,
что обнаруживает скрытые силы не только в тексте, но и в чтении.
Деконструкция и проясняет, и усложняет процесс чтения,
показывая, что привычные нам способы чтения на самом деле —
устоявшиеся исторически обусловленные продукты культуры. Чтение ни
в коем случае нельзя назвать беспристрастным.
С одной стороны, нет ничего плохого в том, чтобы читатель
проявлял к тексту некий интерес. В самом деле, что могло бы побудить
человека к чтению, если не цель, к достижению которой он
стремится? Однако «интерес», о котором здесь идет речь, отличается
33 Ricoeur, "Myth As the Bearer of Possible Worlds," в Richard Kearney, ed., Dialogues With
Contemporary Continental Thinkers (Manchester: Manchester Univ. Press, 1984), 45.
34 Moore, Literary Criticism and the Gospels, 66.
221
Часть первая. Распад толкования
от простого любопытства. Суть его скорее в наличии определенных
конкретных целей. Наука, например, исходит из
инструментального интереса, заинтересованности в объяснении явлений природы
и контроле над ней. Без этого интереса наука просто не была бы
возможна. Какие же мотивы движут чтением и толкованием?
Этот вопрос не нов. В 1950-х Рудольф Бультман заявил, что все
читатели подходят к библейскому тексту с определенными
исходными установками. Бультман признает, что Библию можно читать
с разными целями: психологическими, историческими,
культурными и т. д., которые обычно продиктованы положением человека.
Платона можно читать, желая больше узнать об истории древних
Афин или о философском понятии истины. Бультман особенно
стремился выяснить, что побуждает человека к чтению Библии.
По его мнению, религиозные устремления продиктованы
интересом к смыслу человеческого существования. Мы читаем Библию,
чтобы выяснить, какие возможности открыты перед людьми.
Заинтересованность Бультмана в пределах человеческих возможностей
в конце концов привела его к разработке теории экзистенциального
толкования. Он стал воспринимать Библию как собрание мифов,
истинный смысл которых соотносится с человеческим
существованием, а не с Богом, воспринимаемым как некое сверхъестественное
существо.35
Подход Бультмана показывает, как заинтересованность
толкователя может вылиться в полноценную теорию толкования. Однако
даже столь существенная тема, как смысл человеческого бытия, не
исчерпывает диапазон интересов, с которыми читатели подходят
к текстам: «Текст может быть прочитан даже теми, кому не
предназначался, и с целью, для которой не был написан. Литературное
произведение может быть прочитано ради определения
географического положения, а библейский текст — в поисках определенных
грамматических структур».36 Однако эти интересы зачастую не
совпадают с интересами текста. Здесь уместно вспомнить мрачное
замечание Моргана: «Тексты, подобно мертвецам, не имеют ни прав,
ни целей, ни интересов».37 То есть именно читатель решает подойти
к тексту с определенным набором вопросов, проблем и ожиданий.
35 См. Bultmann, "The New Testament and Mythology," в Hans Werner Bartsch, ed., Kerygma and
Myth: A Theological Debate, 2d. ed. (London: SPCK, 1964), 1:1-44.
36 Bernard С Lategan, "Introduction: Coming to Grips With the Reader," Semeia 48 (1989): 8.
37 Barton and Morgan, Biblical Interpretation, 7.
222
Глава четвертая. Упразднение читателя
Интересы, направляющие чтение, будь то интерес к стоящей за
текстом истории, грамматике текста или собственному
существованию перед текстом, определяются читательским выбором».38
Каковы некоторые типичные интересы? Приводим примерный и
далеко не исчерпывающий перечень целей (назовем их «правящие
интересы»), приведших к возникновению целых школ толкования:
1. Авторский замысел (грамматико-историческая критика);
2. История создания текста (критика источника, формы,
редакции и традиции);
3. Литературные или структурные особенности текста
(структуралистская критика);
4. Воздействие текста на читателя и достижение им своих
целей (риторическая критика);
5. Возможные способы существования в мире, описанные в
тексте (экзистенциалистская критика);
6. Изображение в тексте женщин (феминистская критика);
7. Вклад текста в социальные преобразования или его
сопротивление им (критика либерационизма);
8. Сопротивление текста единому толкованию (деконструк-
тивная критика).
Что же сказать о смысле текста? Можно ли и к нему подходить
предвзято? Проблема заключается в том, что сторонники каждого
из перечисленных выше интересов могут иметь свои представления
о понятии «смысла». Другими словами, каждый может утверждать,
что ищет в тексте смысл (или, в случае с деконструктивистами,
доказывать, что всякие поиски смысла тщетны). Нам легче теперь
оценить остроту критики «упразднителей»: все утверждения о
«чтении в поисках смысла» — на деле лишь тайные стратегии
достижения собственных целей и вытеснения других. Итак,
рассуждения о смысле на самом деле только прикрывают собственные
интересы.39 Толкователи беззастенчиво воплощают собственные
замыслы, утверждая при этом, что просто открывают «естественный»
38 Поскольку интересы читателя не вытекают из самого текста, их можно назвать
«внетекстовыми». Критику внетекстового богословия (т. е. толкующего Библию исходя из
некоей понятийной структуры, не выведенной из самого текста) см. в George Lindbeck, The
Nature of Doctrine: Religion and Theology in a Postliberal Age (Philadelphia: Westminster, 1984).
39 К этому я вернусь во второй части, где непосредственно опровергну предположение о том,
что, поскольку читатель находит в тексте лишь себя самого и собственное мнение, тексты не
имеют адресата и не могут оказывать на читателя никакого влияния.
223
Часть первая. Распад толкования
смысл. Но так называемое «естественное» толкование на поверку
оказывается следствием определенной общественно-политической
практики. То, что для одного — «здравый смысл», для другого —
предрассудок.
Цели и этика толкования
За каждым методом толкования стоит определенная цель, а за
ней — понятие о благе толкования. Говорить об этике толкования —
значит задаться вопросом о том, существует ли некое общее благо,
к которому должны стремиться все толкователи.
«Критическая» цель: описание
Джон Финнис, философ-юрист, уверен, что существуют некие
общие блага. Одно из таких благ — знание, в котором
заинтересованы все стремящиеся к истине. Человеческое общество всегда
проявляет заботу об истине и стремится к ней, утверждает Финнис,
независимо от географического положения или частных интересов.40
А что, если явная цель человека — приобретение литературного
знания, знания о происхождении, природе и содержании текста?
Ведь традиционная литературная критика считалась формой
познания, как свидетельствуют следующие высказывания. Например,
Александр Поуп ожидал от критика практически исчерпывающих
познаний о тексте:
Ты, кто стремится к верности суждений,
Знай досконально характер каждого из древних;
Его историю, тему, цель — на каждой странице;
Не имея перед глазами всего этого одновременно,
Ты сможешь лишь придираться, но не критиковать.41
Более века спустя Мэтью Арнольд сформулировал не менее
строгие критерии: «Я связан моим собственным определением
критики: это непредвзятое стремление узнавать и распространять
то лучшее, что известно о мире и мыслительной деятельности его
40 John Finnis, Natural Law and Natural Rights (Oxford: Clarendon, 1980), 81-85. Конечно,
«упразднитель» не преминет подвергнуть критике утверждение Финниса о том, что забота об
истине — «естественное», а не «политическое» явление.
41 Alexander Pope, An Essay on Criticism, 1.118-23.
224
Глава четвертая. Упразднение читателя
обитателей».42 Т. С. Эллиот в двадцатом веке соглашается с ним:
«Можно предположить, что критик, желающий оправдать
собственное существование, должен обуздать свои личные
предрассудки и прихоти... и уладить свои разногласия с как можно большим
числом коллег в процессе совместных поисков истины».43
Вышеприведенные высказывания представляют точку зрения
«традиционалистов», предполагающих, что исторические и
филологические методы могут помочь в познании текста. Знание, к
которому стремятся традиционалисты, относится, по большей части, к
авторскому замыслу.44 Те, кто подходят к библейскому тексту с ис-
торико-критическими методами, преследуют точно такие же цели.
В каждом из этих случаев предполагается, что критик способен
приобрести определенные знания, хотя бы приблизительные.
За знанием следует применение. Традиционалист отводит
критику двоякую роль: выяснить смысл текста, а затем оценить его
значимость для своих современников. Текстуалисты, такие, как
«Новые критики», удовлетворяются выполнением лишь первой
части этой задачи. Они не видят нужды оправдывать изучение
литературы чем-либо еще, желая превратить изучение литературы в
самостоятельную академическую дисциплину и даже в науку. Для
«Новых критиков» литература и литературная критика
совершенно независимы: литература — это неповторимая форма языка, а
категории литературной критики неразрывно с ней связаны. Мир
литературного текста герметично изолирован от всех внешних
интересов, будь то психология, нравственность или религия.
Однако, как указывает Э. Д. Хирш, не все тексты стремятся быть
«литературными». Сосредоточиваясь на формальных особенностях
текста, мы рискуем пропустить его суть. К. С. Льюис отмечал:
«Полагаю, что те, кто говорят о чтении Библии «как литературного
произведения», упускают самую суть; это все равно, что читать Берка,
не проявляя интереса к политике, или Энеиду без всякого интереса к
истории Рима».45 Карл Барт высказывается весьма похожим образом
об исторических критиках, которые читают Библию недостаточно
42 Matthew Arnold, "The Function of Criticism at the Present Time," в Essays in Criticism (London:
Macmillan, 1865).
43 T. S. Elliot, "The Function of Criticism," в Selected Essays (London: Faber & Faber, 1932), i.
44 Cm. M. H. Abrams, "The Limits of Pluralism: The Deconstructive Angel," Critical Inquiry 3
(1977): 426, и Lentricchia, After the New Criticism, 178.
45 С S. Lewis, Reflections on the Psalms (London: Geoffrey Bles, 1958), 2-3.
8-227
225
Часть первая. Распад толкования
критично, поскольку теряют из вида богословское, сосредоточившись
на композиции текста.
Именно эту критику формы и сути текста, наряду со
стремлением к познанию, а не к простому выражению своего мнения, ставят
под вопрос постструктуралисты. Здесь уместно вспомнить вывод,
сделанный нами в предыдущем разделе, а именно: то, что видят
читатели, во многом зависит от того, где они находятся и кем являются.
Может ли читатель выступать в роли бесстрастного наблюдателя?
«Этическая» цель: оценка
Деятельность литературного критика не ограничивается
описанием текста. Критик также делает заключение о нравственной
ценности текста. Этика имеет двойственную связь с
литературным познанием. Во-первых, встает вопрос о том, какую цель
выбрать и к какой критической школе она должна принадлежать.
«Главный вопрос современной дискуссии в области теории
литературы в том, какие нормативные цели должно преследовать
изучение литературы».46 Во-вторых, этика связана с оценкой текстов.
Как оценивать текст, описав его? Следует ли нам, вслед за
Платоном, который оценивал тот или иной труд в зависимости от его
полезности для государства, воспользоваться внешним
критерием? Или, подобно Аристотелю, нам следует использовать критерий
внутренний, согласно которому труд хорош или плох настолько,
насколько ему удается достигнуть собственных целей?
Традиционалисты утверждают, что литературный критик
должен освещать значение текста и оценивать важность текста для
человечества. Для Мэтью Арнольда сама литература есть
«критика жизни». Итак, цель, которой в конечном итоге руководствуется
литературоведение, — это благосостояние человечества. Но что
такое «человеческое благо»? И вновь мы видим, что стратегии
толкования неразрывно связаны с более общими этическими вопросами.
Если восприятие человеком текста зависит, в конечном счете, от
его нравственных ценностей, мы еще больше удаляемся от
возможности литературного познания в условиях всеобщего плюрализма
мнений.
Stout, "Relativity in Interpretation," 112.
226
Глава четвертая. Упразднение читателя
Утилитарная цель: использование текстов
С точки зрения Рорти, различие между описанием и оценкой
текстов — понятие бесполезное. Если под «описанием» мы
понимаем критический взгляд, открывающий истинную природу текста,
то его просто не существует. По мнению Рорти, «текст в себе» не
существует прежде и независимо от «текста, как его читаю я».
Каждый человек — критик; в своих описаниях текста и в своих оценках
мы руководствуемся определенными интересами. И описаний
текста существует столько же, сколько и его возможных применений.
Рорти, Фиш и Деррида едины в том, что «смысл» не находится
«в» тексте. Он появляется в процессе чтения. Смысл относится не к
устойчивой природе «текста как такового», а к функции «текста для
меня». Иными словами, смысл не онтологическое свойство, а
функция текста. Строго говоря, в тексте нет смыла, которого нужно было
бы придерживаться. Поэтому «пользователь» призывает
толкователя назвать вещи своими именами: оставить разговоры о
«смысле текста» и говорить исключительно об «интересах читателя».47
Для «пользователя» и описание, и оценка — всего лишь цели, для
достижения которых используется тот или иной текст. Все, что
читатель находит в тексте, определяется контекстом читателя.
«Пользователь» утверждает, по сути, следующее: ни один из интересов не
стоит отождествлять со смыслом текста.
В противоположность Рорти, Эко уверен, что за последние годы
права «пользователя» провозглашались слишком часто и
громко.48 Отнюдь не отрицая деятельности читателя, Эко, однако,
утверждает, что интересы толкователей должны выходить за рамки
преследуемых ими целей. Критически толковать текст «означает
читать его ради выявления не только наших реакций на него, но
и его природы».49 Используя текст, критики нарушают его права:
«Использовать текст означает начать с него поиск чего-то иного,
даже рискуя понять текст превратно».50 Спор между Рорти и Эко
по поводу того, следует ли тексты «использовать» или «толковать»,
47 См. Rorty, "Texts and Lumps," Objectivity, Relativism, and Truth: Philosophical Papers; Stout,
"What is Meaning" и Fowl, "The Ethics of Interpretation or What's Left Over After the Elimination of
Meaning," SBL 1988 Seminar Papers, 70.
48 Eco, Interpretation and Over interpretation, 23.
49 Eco, Limits of Interpretation, 57.
50 Там же.
Часть первая. Распад толкования
является еще одним свидетельством смятения, царящего в вопросе
о целях и нравственности современного толкования.
Какую критику выбрать?
Одних лабиринт школ приводит в смятение; иные же, от
природы будучи просто глупцами, становятся
самодовольными хлыщами.51
Человек учится читать всю жизнь. Распознавание слов —
придание смысла сочетаниям букв — это только начало. Вслед за
правописанием и фонетикой идет грамматика и, в конце концов,
критика, с ее бесчисленными способами описания и оценки текстов в
свете определенных толковательных проблем и интересов. И
наконец, когда исходный метод, теперь уже выкристаллизовавшийся в
обобщенную стратегию чтения, становится основой для
полномасштабного толкования, рождаются теории литературы.52
Как же нам читать? К какой критической школе примкнуть,
если примыкать вообще, и почему? Это практический вопрос.
По мнению Хирша, ответ на этот вопрос содержится в этическом
выборе, основанном на ценностном предпочтении, а не на
теоретической необходимости.53 Но как нам оправдать наш ценностный
выбор? Второй, более теоретический вопрос неизбежно вытекает
из самой нашей способности выбирать, а именно: если все
литературные суждения пристрастны, значит ли это, что всякая
литературная критика относительна? Если толкования, в конечном
счете, формируются ценностями читателя, не пора ли нам расстаться
с надеждой когда-либо прийти к «нравственности» литературного
знания, сравнимой с той, которая, по крайней мере в глазах Ван
Харви54, придает достоинство и объективность изучению истории?
Чей интерес, чья предвзятость?
Все ли интересы по отношению к тексту равноценны? Может
ли один интерес быть более или менее нравственным, чем другой?
51 Pope, An Essay on Criticism, 1.15.
52 Фелерпин язвительно отмечает, что каждая теоретическая школа требует общей веры для
поддержания собственного догматизма (BeyondDeconstruction, 207).
53 Hirsch, Aims of Interpretation, 77.
54 См. обсуждение Ван Харви в первой главе.
228
Глава четвертая. Упразднение читателя
Существуют ли общие требования, предъявляемые ко всем
читателям, которые приступают к анализу «Путешествия Гулливера» или
Евангелия от Марка? Есть ли у нас право или обязанность
поставить ту или иную трактовку под сомнение, а возможно, и объявить
ее ложной? Существует ли такое явление, как «плохое»
толкование? Джеффри Стаут и другие прагматисты отрицают
существование герменевтического эквивалента нравственного императива.55
Возьмем, например, следующий принцип: «Не пренебреги
авторским замыслом». Каким авторитетом можно было бы обосновать
эту герменевтическую заповедь?
Толкователи Библии сталкиваются с теми же вопросами. В 1988 г.
Стивен Фаул в обращении к Обществу библейской литературы
отметил, что по большей части толковательные интересы империалис-
тичны и вытесняют все остальные. Фаул видит три пути, открытые
современному экзегету. Во-первых, мы можем просто радоваться
множественности толковательных интересов. Чтобы избавиться от
интересов заведомо глупых и извращенных, можно принять
«единственный критерий приемлемости толковательного интереса,
состоящий в том, что он должен интересовать достаточное количество
толкователей для поддержания диалога».56 Однако, как ясно
указывает Фаул, здесь немедленно возникает проблема. Например, кто
решает, какие интересы достаточно интересны? «Один вопрос, на
который никогда не сможет ответить плюралистическое
сообщество иначе, как на практической основе, заключается в том, следует
ли его членам предпочесть один интерес другому».57
Во-вторых, мы можем следовать той стратегии толкования,
которая наиболее способствует сохранению мира, свободы и
справедливости в обществе. Элизабет Шлюссер Фиоренза говорит,
например, что у читающих Библию есть обязательства по отношению к
своему контексту: выбирать те модели толкования, которые имеют
нравственные последствия. Она утверждает, что экзегеза
Писания — деятельность социально обусловленная и влекущая за собой
нравственные и политические последствия и, соответственно,
налагающая на читателя нравственные и политические обязательства.
55 Stout, "Relativity of Interpretation," 104.
56 Fowl, "The Ethics of Interpretation," 75. Неопрагматисты предпочитают ответ следующего
рода: «Будем же радоваться разнообразию толкований как свидетельству того, что наши тексты
интересны более чем с одной точки зрения (там же, 8).
57 Там же, 76.
229
Часть первая. Распад толкования
В частности, ученый-библеист ответственен за «разъяснение
нравственных последствий и политической функции библейских текстов
как в историческом, так и в современном общественно-политическом
контексте».58 Другими словами, читатели обязаны оценивать
влияние текста на современный контекст. С этой точки зрения
нравственность литературного знания означает выбор той трактовки, которая
более всего способствует установлению общественной
справедливости.
И в-третьих, говорит Фаул, мы могли бы оставить поиск
всеобщих нравственных ценностей ради толковательных интересов
определенного сообщества. Внутри конкретного сообщества некоторые
толковательные интересы обладают приоритетом, но за пределами
этого сообщества нет критериев, которые позволяли бы разрешить
конфликт толковательных подходов.59 Вместо стремления к
общему, читатели должны довольствоваться принадлежностью к
собственному толковательному «племени».
Как читатели относятся к плюрализму толкований
Какой бы подход мы ни выбрали, нам все равно придется
признать, что он лишь один из многих методов толкования Библии.
Какое влияние это признание должно оказать на отношение
человека к чтению? Можем ли мы всерьез утверждать, что одна
трактовка лучше, или интереснее, или вернее, чем другая? Фаул задается
вопросом о том, не должно ли слово «смысл» означать «прочтение,
объединяющее все или как можно большее число этих интересов во
что-то вроде макропрочтения».60 Очевидная проблема такого
толковательного экуменизма в том, что многие трактовки исключают
друг друга. Более того, читатель-экуменист должен уметь
установить пределы того, что считается приемлемой трактовкой. Иначе
невозможно было бы отсеять ложные толкования. Поэтому
остается вопрос: Каков статус нашего собственного прочтения при
столкновении его со множеством других вариантов? Могут ли
читатели продолжать верить в смысл, превосходящий вавилонское
смешение толкований?
58 Shltisser Fiorenza, "The Ethics of Interpretation: Decentering Biblical Scholarship," Journal of
Biblical Literature 107(1988): 15.
59 Этот третий путь Фаул ассоциирует с нравственной философией Алистера МакИнтайра,
изложенной в его книге «После добродетели».
60 Fowl, "Ethics of Interpretation," 71.
230
Глава четвертая. Упразднение читателя
Ниже я предлагаю альтернативную классификацию, чтобы
сопоставить ее со списком возможных откликов на плюрализм
толкований, составленным Фаулом. Следующие четыре положения
представляют своего рода богословские способы отношения к
возможности литературного познания в условиях плюрализма
толкований.61
Толковательный догматизм. Толкователи-догматики
утверждают, что существует один единственный правильный подход
к смыслу текста: их собственный. Они испытывают непоколебимую
уверенность в собственных толкованиях. Согласно этому подходу,
существует единственный истинный смысл: «точка зрения Бога».
Толковательный догматизм приводит к монизму в критике; текст
может быть правильно описан лишь одним набором категорий.
Догматиков не удивляет тот факт, что другие воспринимают мир
по-иному, чем они сами, просто эти люди еще не достигли просветления.
Толковательный атеизм. По другую сторону «баррикад»
находятся толкователи-«атеисты», не верующие в смысл. В тексте нет
ничего, что надлежало бы правильно понимать. Поэтому
толкователи-атеисты не верят и в собственные толкования, придерживаясь
позиций нигилизма. Нет ничего, что выходило бы за пределы игры
знаков или их использования. Назначение толкования, с их точки
зрения, в том, чтобы быть интересным, или в том, чтобы
противоречить и раздражать догматиков.
Толковательный политеизм. Толкователи-политеисты,
число которых быстро растет, верят, что существует много целей
толкования и точек зрения, причем все они имеют полное право на
существование. Описание текста человеком определяется набором
интересов и ожиданий, предшествующих и сопутствующих
процессу чтения. А значит, текст может иметь много значений, в том
числе и противоречивых. Мое толкование имеет право существовать,
но такое же право имеют и толкования других критических школ.
Такой диалог убеждений в области интерпретации —
распространенное явление в наши дни. Однако политеисты не верят в некую
61 За нижеследующий материал я благодарен Уэйну Буту и его анализу разновидностей
плюрализма в работе Critical Understanding, гл. 1.
231
Часть первая. Распад толкования
«высшую теорию», которая в конце концов позволит приверженцам
разных методов сравнить и обобщить результаты своих
исследований. Политеисты никогда не будут говорить на одном языке и
поклоняться в одном храме.
Толковательное тринитарианство. Учение о Троице может
на первый взгляд не иметь прямого отношения к разногласиям
между теоретиками литературы. Здесь я хотел бы лишь упомянуть о
подходе, который более полно будет рассмотрен во второй части книги.
Первое и самое важное: ортодоксальные христиане верят, что
Бог открывает себя миру тройственно. В библейском тринитар-
ном богословии Бог одновременно считается автором, посланием и
способностью восприятия: «В начале был акт общения».62 Бог
Иисуса Христа сам «толкует» себя. Воплощение, посредством
которого Бог выходит за пределы самого себя ради того, чтобы явить
себя людям, лежит в основе человеческого общения,
свидетельствуя о том, что у нас есть возможность войти в жизнь другого
человека и достигнуть понимания.
Во-вторых, существует некая методологическая аналогия
между богословием и теорией литературы, основанная на их
совместных поисках трансцендентного: того, что превосходит мир (Бога) и
того, что превосходит язык (смысла).
В-третьих, особенно в отношении плюрализма, следует
отметить следующую параллель. Подобно тому, как каждая из
ипостасей Троицы представляет собой отличное от других представление
о едином истинном Боге, так существует и ограниченный
плюрализм представлений о смысле.63 И если полнота познания Бога нам
недоступна, это не мешает нам, исходя из откровения самого Бога,
делать одни заявления (напр.: «Бог есть любовь», «Иисус Христос —
единородный Сын Божий») и отвергать другие (напр.: «Любовь есть
Бог» или «Иисус Христос был просто человеком»). Возможность
опосредованного, или полученного через откровение знания разительно
отличается от стерильной дихотомии между абсолютным знанием
(толковательным догматизмом) и абсолютным скептицизмом
(толковательным атеизмом). Этот подход можно назвать «критическим
62 Ср. изложение Карлом Бартом доктрины об откровении с тринитарной точки зрения в книге
«Церковная догматика» 1/1.
63 Во второй части я рассмотрю параллели между тремя триадами: Отец, Сын и Дух; автор,
текст и читатель; метафизика, эпистемология и этика.
232
Глава четвертая. Упразднение читателя
фидеизмом». Он созвучен герменевтике Августина, о которой
говорилось во вступлении: «Веруем, чтобы понять». Выражаясь точнее,
мы верим в возможности правильного толкования, но в то же время
нам следует относиться к ним критически, осознавая, что ни один
набор описательных категорий не может передать сложную реальность
смысла (или Бога) с более чем относительной точностью.
Если выразить это кратко, определяя основу и цель толкования,
тринитарное богословие предлагает толкователям Библии
парадигму как общей, так и библейской герменевтики.64 Как именно это
происходит, мы покажем во второй части. Сейчас достаточно будет
сказать, что тринитарное богословие позволяет нам рассуждать о
толковательном плюрализме в контексте гармонии (три в одном,
один в трех), а не конфликта. Христиане верят, что смысл
реальности, в конечном счете, заключается в межличностном общении и
общности, а не в безличностном (и конфликтном) дифферансе.65
ТОЛКОВАТЕЛЬНОЕ НАСИЛИЕ
Прочитав отзыв на одну из своих книг, Карл Барт однажды
заметил, что почувствовал, будто его заживо съели.66 Одно дело быть
превратно понятым, и совсем другое, когда это делается
намеренно. Возможно ли, что методы толкования узаконивают ложное
понимание? Могут ли некоторые методы толкования быть изначально
жестокими? В эпоху, где властвует читатель, может ли текст быть
чем-то кроме пассивной жертвы? Марк С. Тейлор, очевидно,
считает, что нет: «Чтобы не оставить текст бесплодным, в него надлежит
проникнуть, взорвать и измучить его».67 Описанная Тейлором
сцена отображает не блаженство на супружеском ложе — в деконс-
труктивной критике нет места единению двух разумов, — а боль
толковательного изнасилования.
Историческая критика должна была освободить читателей от
тирании толковательного традиционализма и насилия пристрастного
64 Ср. попытку Хирша определить основу и цель герменевтики с точки зрения авторского
замысла в гл. 2 выше.
65 Понимание того, что Троица дает христианам способность представить реальность как
порядок, а не как анархию, позаимствовано мною у Джона Милбэнка (John Milbank, Theology
and Social Theory: Beyond Secular Reason (Oxford: Blackwell, 1990), esp. ch. 12).
66 Cm. Karl Barth, Letters 1961-1968, ed. Geoffrey W Bromley (Grand Rapids: Eerdmans, 1981), 8.
67 Mark Taylor, "Text as Victim," 66.
233
Часть первая. Распад толкования
толкования. Библеист эпохи модернизма подходил к тексту
непредвзято, с методологией и набором критических инструментов,
которыми, в принципе, мог воспользоваться кто угодно, независимо от
расы, вероисповедания и цвета кожи. Философы-модернисты в то
же время искали универсальные критерии рациональности.
Универсальные критерии как в религиозной философии, так и в экзегетике
рассматривались как единственный практический способ
прекратить столетиями длившиеся религиозные войны между
единоверцами, толковавшими Библию в соответствии с принципами своей
деноминации. С конца восемнадцатого века и приблизительно до
середины двадцатого библейская критика считалась настоящей
наукой. Читатели-модернисты сделали судьбоносный вывод: читать
критически значит отрицать собственную индивидуальность и
контекст.68 Целью толкования было обнаружение смысла, подходящего
для всех времен и народов.
В эпоху объективности, «эйзегеза» — привнесение в текст того,
чего там раньше не было, считалась тягчайшим герменевтическим
грехом.69 Еще Кальвин призывал читателей уважать текст:
«Использовать Писание для собственного удовольствия, играть им, словно
теннисным мячом, как делали многие до нас — дерзость, граничащая
со святотатством».70 Однако с точки зрения современного,
постмодернистского критика, эйзегеза практически тождественна
толкованию, поскольку всякое чтение контекстуально — «пристрастно», —
а объективного смысла не существует. В век читателя эйзегеза, как
и понятие ереси, относится к вымирающим видам.
Критики-постмодернисты не замедлили указать на наивность
мнимой непредвзятости модернистской экзегетики. Историческая
критика, предположительно позволяющая людям разного круга и
религиозных убеждений встретиться и беседовать на равных, на
самом деле носит империалистический и одновременно шовинистский
характер: «Эта модель — явный продукт не просто европейской
мысли, а мужской европейской мысли».71 Под маской беспристрастия
68 См. анализ модернистского библейского толкования в работе Ф. Сеговии «Текст как
иное: к латиноамериканской герменевтике» в статье Дэниэла Смит-Кристофера: Daniel Smith-
Christopher, Text and Experience: Towards a Cultural Exegesis of the Bible (Sheffield: Sheffield
Academic Press, 1995), 277-85.
69 Cm. Margaret Davies, "Exegesis," в A Dictionary of Biblical Interpretation, 220.
70 Цит. по Bernard Ramm, Protestant Bible Interpretation: A Textbook of Hermeneutics, 3d ed.
(Grand Rapids: Baker, 1970), 58.
71 Segovia, "Text As Other," 283.
234
Глава четвертая. Упразднение читателя
историко-критическая модель на самом деле обесчеловечила
читателя, требуя, чтобы все контекстуальные факторы и
приверженности были отброшены прежде, чем начнется толкование Библии.
Точно так же, как исторические критики обвиняли своих
предшественников в том, что они облекли текст в экклесиастическую
смирительную рубашку догматических систем, постмодернисты
обвиняют их самих в том, что они надевают на него академические оковы
европейских либерально-демократических ценностей.
Современная критика модернизма поднимает важный вопрос,
касающийся этики толкования: существует ли толковательный
подход, исключающий толковательное насилие? Интересно отметить,
что как модернисты, так и постмодернисты претендуют на высокие
нравственные стремления к справедливости и освобождению.
Герменевтика освобождения: между свободой и
принуждением
Какой вид критики — историко-критический или
постструктуралистский — имеет больше оснований претендовать на звание
«герменевтики освобождения»? Это очень важный вопрос, но я не
намерен пока отвечать на него. Однако я хотел бы сделать одно
предварительное заявление: если исторический критик стремится
освободить читателя от традиции, постмодернист стремится
освободить читателя от текста. Феминисты и прочие идеологически
настроенные критики сходятся в том, что читатели слишком
долго находились в рабстве идеологий порабощения, заключенных в
библейских текстах. Деррида пренебрежительно говорит о
«рабах-толкователях, беспрекословно исполняющих предначертанное
господином».72
По мнению «упразднителей» и «пользователей», на самом деле
толковательное насилие совершают те, кто утверждает
существование правильного (а значит — и неправильного) прочтения. В
контексте постмодернистской герменевтики деспотичным
считается само утверждение о наличии нравственности толкования и
универсальных норм, в противовес плюрализму этических принципов.
Более того, заявление о том, что существует правильное
прочтение, определенным образом связано с понятиями Бога и смысла —
с понятием о существовании трансцендентного, независимого от
72 Цит. по Taylor, "Text As Victim," 58.
235
Часть первая. Распад толкования
процесса толкования, подчиняющего себе читателя. Ведет ли
отрицание трансцендентного постмодернистами к большей или
меньшей свободе? Ведет ли освобождение читателя от тирании
традиций и четко определенных текстов к истинной свободе или к новой
форме рабства (а также к старой форме толковательного насилия,
а именно — эйзегезе?)
Упразднение связующего
Как мы можем вспомнить, Деррида упраздняет традиционное
представление о смысле как об авторском замысле путем разрыва
связи между текстом и его исходным контекстом. Исходный
контекст более не определяет circumstantia literarum, «то, как
написано». Читая тексты в свете других текстов и контекстов, читатель
заставляет написанное означать нечто иное. Деррида, как мы,
возможно, помним, провозглашает радостный, жизнеутверждающий
стиль толкования, прославляющий свободу от раз и навсегда
установленного порядка и тоталитарных систем. Таким образом, и
тексты, и люди становятся полностью открыты — «свободны».
Но так ли это? Возможно, исходный контекст уже не довлеет
над чтением, однако тот или иной контекст остается определяющим
фактором. Коллектив авторов «Библии постмодерна» утверждает,
что «чтение и толковательные стратегии социально, политически и
институционально обусловлены и... черпают энергию и силу в
субъективных позициях читателей и толкователей».73 Является ли эта
«сила», приписываемая контексту читателя, освободительной или
угнетающей? В самом ли деле свобода игры текста ведет к свободе
читателя? Каков смысл освобождения в контексте герменевтики?
Деконструкцию можно назвать освободительной в двух
смыслах. Упразднение освобождает, прежде всего, в смысле «свободы
от», поскольку она противится установлению текстовых (и
культурных) рамок. Освободившись от большей части скрытых
текстовых стратегий идеологического подавления, читатель будто
бы освобождается для дальнейшего толкования. Объединение и
абсолютистское толкование упраздняются ради высвобождения
бесконечной множественности прочтений. «Последствие, если не
цель, деконструкции — в высвобождении запретного jouissance
73 Postmodern Bible, 267.
236
Глава четвертая. Упразднение читателя
(удовольствия — прим. перев.)... вероятно, именно это jouissance
более всего раздражает ярых противников «деконструкции».74
Деррида претендует на высокую нравственную позицию в
отношении толкования: Упразднитель — борец за свободу, типичный
ниспровергатель.
Чревовещание как насилие
Конечно, власть текстов ограничена. Они должны терпеливо
ждать на полке, пока читатель возьмет их, откроет и прочтет. Даже
при этом, как мы только что видели, текст отдан на милость
прихотей читателя. Страницу можно выучить наизусть и принять близко
к сердцу или, вырвав, подстелить на дно птичьей клетки. В отличие
от живого собеседника текст не может возражать, протестовать или
защищать себя. Кажется, за читателями всегда остается последнее
слово. Они могут пропускать, игнорировать, привносить свое, и, в
конце концов, закрывать тексты. Тексты могут выглядеть
разумными, говорит Сократ, но если задать им вопрос, они либо сохраняют
торжественное молчание, либо «всегда говорят одно и то же».75 Текст
несчастен и беспомощен, инертен и нем, пока за него не возьмется
читатель. Но что может помешать читателю придать немому тексту
свой, читательский голос? Может ли текст сказать свое слово?
Текст в эпоху читателя напоминает куклу-чревовещателя: он
служит для проецирования собственного голоса читателя. Как
выразился Мур: «Текст, в моем воображении, представляет
выкристаллизовавшееся прочтение: доступная для обобщения
сумма прежних и потенциальных прочтений, лишенное сознания
вместилище».76 Можно сказать, что быть текстом означает быть
воспринимаемым. Строго говоря, «текста в себе» не существует,
есть только «прочтения». Здесь текст становится предоставленной
читателям возможностью для самореализации. «Книга — зеркало,
и если в него смотрится осел, не следует ожидать, что в нем
отразится апостол».77 Верно ли это? Видим ли мы только себя самих,
наши собственные интересы и интересы нашего толковательного
74 Derrida, Acts of Literature, 56.
75 Plato, Phaedrus, 275D.
76 Stephen D. Moore, Mark and Luke in Poststructuralist Perspective (New Haven: Yale Univ. Press,
1992), xviii.
77 Приписывается Г. К. Лихтенбергу.
237
Часть первая. Распад толкования
сообщества — в этом зеркале? Мы вновь пришли к притче, с
которой начиналась эта книга, и к вопросу Кьеркегора о том, как читать
Библию, чтобы обрести благословение.
Шалтай-Болтай, отвечая на вопрос Алисы о том, может ли он
заставить слова принимать разный смысл, отвечает, что все дело
в том, кто хозяин, слово или читатель. Постмодернистская
критика созвучна герменевтике Страны чудес: словари не имеют какой-
либо святости или метафизической авторитетности, лишь простую
силу большинства. Тексты имеют тот смысл, который вкладывают
в них толковательные сообщества. Итак, что же значит быть
хозяином? Или, если поставить вопрос более остро: кто кем управляет?
Вероятно, суть заключается в вопросе: может ли текст изменять
читателя, или это подвластно исключительно толкователю?
«Диалог» между текстом и читателем в третью эпоху критики
«эгоистично сдвинут в сторону настоящего: критика — не
проявление почтения к истине прошлого или истине «других», ее
следует считать производной свойственного нашему времени умения
понимать».78 С точки зрения Иглтона, «нет прочтения, которое не
было бы заодно и переписыванием».79 Джордж Стайер оплакивает
потерю постмодернизмом традиционного различия между
авторами и читателями: «Удаление интенциональности из исходного
текста, отрицание стабильного ядра обозначения — это не только
эпистемологическая игра. Оно влечет за собой постулат о
равенстве «конструктора» и деконструктора, текста и комментария».80
Проблема, если выразить ее кратко, в том, что деконструкти-
висты уже не могут провести четкой грани между литературой и
критикой. Если независимого текста, достойного «правильного»
понимания, не существует, если все, что мы в тексте видим, есть
функция наших читательских интересов, то между текстом и
нашим его прочтением нет разницы. Если текст не имеет
собственной целостности, значит, читатели свободны делать с ним, что сами
пожелают. Они могут отвергнуть то, что говорит текст, и говорить
о том, что он значит для них. Однако в жертву такой
толковательной свободе приходится принести сам текст. Толкование в эпоху
читателя стало «подстановкой... одной цепочки символов на место
78 Barthes, Critical Essays, tr. Richard Howard (Evanston: Northwestern Univ. Press, 1972), 260.
79 Eagleton, Literary Theory, 12.
80 George Steiner, "Narcissus and Echo: A Note on Current Arts of Reading," American Journal of
Semiotics, 1 (1981): 8.
238
Глава четвертая. Упразднение читателя
другой... путем некоего герменевтического насилия».81 Тейлор
признает, что, по его мнению, «толкование есть враждебный акт,
в процессе которого толкователь истязает текст».82 Из этого
следует, что текст обретает смысл лишь тогда, когда уступает насилию
толкователя: «Нет 'текста в себе', который имел бы смысл помимо
толкования».83 Этим насилием «Движение за освобождение
читателя» достигает своей цели, представляя толкователей творцами, а не
восприемниками смысла.
Если смысла нет, пока его не сотворят читатели, — трудно
увидеть, как тексты могли бы повлиять на читателя. Бессилие текста —
высокая цена за освобождение читателя. Лишенные авторов и
авторитетности, тексты оказываются полностью подчинены игре
интересов толкователя и теряют возможность повлиять на них. Могут
ли читатели защитить себя от давления толковательных сообществ,
которые, разрешая одни трактовки, запрещают другие, — и если да,
то как? Важно проследить, как «упразднители» и «пользователи»
ответят на эти вопросы, поскольку неверно было бы представлять
их герменевтическими гедонистами, читающими только ради
собственного удовольствия. Удовольствие — лишь один из аспектов
освободительной этики «упразднителей», кроме jouissance есть и
забота о справедливости. В самом деле, постмодернистские теории
о толковательной игре весьма серьезны; потому что борьба идет, в
конечном итоге, в сфере политики, а приз ее — власть в обществе.
ЧТЕНИЕ ВЛАСТИ И ПОЛИТИКА КАНОНА
Должны ли первокурсники Стэнфордского университета читать
Шекспира? Может ли жизненная ситуация белого мужчины
елизаветинских времен быть соотнесена с жизнью современных калифор-
нийцев? Какое отношение имеет Стратфорд шестнадцатого века к
Стэнфорду двадцатого? Эти вопросы не имеют очевидного
политического аспекта.84 Однако тексты Шекспира стали полем битв так
81 Lentricchia, After the New Criticism, 169.
82 Taylor, "Text As Victim," 65.
83 Там же, 67.
84 Политические воззрения Шекспира — в частности, то, был он роялистом или анархистом —
на данный момент являются одним из наиболее спорных вопросов шекспироведения. См. Brian
Vickers, Appropriating Shakespeare (New Haven: Yale Univ. Press, 1993)—критика идеологических
интерпретаций Шекспира.
239
Часть первая. Распад толкования
называемой «культурной войны», в которой сражение идет не за
землю, а за территорию человеческого духа.85 Спор о том, должен
ли Шекспир быть частью обязательной программы, — это спор не
столько о Шекспире, сколько о понятии ядра общих ценностей.
Спросить о том, верит ли человек в «канон» английской литературы —
список классических книг — значит задать вопрос о возможности
трансконтекстуального, неизменного блага. Сама идея о том, что
текст может обладать «непреходящей ценностью» — анафема для
тех, кто желает во имя свободы восстать против власти и передать
читателю права «творения смысла». Идея «предписанных» текстов,
которые надлежит читать «предписанным» способом, не дает
толкователю возможности играть, изобретая смысл и достигая
самореализации.86 Более того, понятие канона подразумевает также, что
эти предписанные тексты диктуют и образ жизни, поскольку они
определяют, что именно ценно в человеческих существах. Кратко
говоря, существование канона предполагает определенные
последствия для человеческого бытия. Традиционные литературоведы
лелеют канон как собрание книг, содержащих сокровища
нравственных знаний о природе и смысле человеческого бытия.
С другой стороны, противящиеся понятию канона поступают
так по причинам не только литературным, но и нравственным и
политическим. Они отказываются признавать неизменные ценности,
стоящие над конкретными ситуациями текстов и читателей. Ни
читатели, ни тексты не могут быть «нейтральны»; они имеют
историческую и культурную позицию. Утверждать, что это не так, и
говорить о «трансконтекстуальных ценностях» — это еще одна уловка
власть имущих, стремящихся скрыть свои интересы под маской
«истины». Это означает подмену универсальных интересов и ценностей
нашими собственными интересами и ценностями. «Движение за
освобождение читателя» получило свое название в соответствии
с движущими им политическими мотивами, а именно —
желанием представить тексты и толкования как результаты деятельности
общественно-культурной власти. Герменевтика
подозрительности должна применяться к самой практике критики, в особенности
85 Обзор герменевтической культуры я даю в книге «Хорошо поставленный мир» "The World
Well Staged?", в особенности стр. 25-30.
86 Студенты Стэнфорда протестовали против идеи канона и отстаивали свое право на свободу
толкования, скандируя: «Долой засилье западной культуры!»
240
Глава четвертая. Упразднение читателя
к понятию литературного канона.87 Культурные войны в
гуманитарной сфере представляют собой ни больше ни меньше чем
ожесточенную битву за сам человеческий дух. Споры о смысле на самом
деле оказываются политической борьбой за провозглашение личной
свободы и достижения материальных и прочих жизненных благ. И
в самом деле: вполне возможно, что такие этические и
политические соображения обеспечивают основную мотивацию для
отрицания герменевтического реализма.
Вера или неверие в литературный канон в этом случае может
быть отражением политических и богословских взглядов человека.
Эта связь — важная часть моего тезиса: постмодернистская атака
на герменевтику — кризис не только в гуманитарных науках, но и
в самом понятии человечности. Центр дискуссии о смысле — спор
о природе и смысле человеческой свободы и жизненного блага,
как свидетельствует следующая цитата из Иглтона: «Приемлемы
любые методы или теории, способствующие достижению
стратегической цели освобождения человека, создания «лучших людей»
через социалистическое преобразование общества».88 Собственная
немарксистская позиция Иглтона ясна, однако в конце он считает
решенным жизненно важный вопрос о том, кто определяет
«лучших людей» и как это сделать.89 Вопрос, поставленный
герменевтикой освобождения, таков: «Что значит быть человеком?»
Идеология и толкование
Идеология — часть того, что в нашем обществе
определяет «реальное».90
«Лучшее» прочтение то, которое создает «лучших людей».
Возможно, это правда (вспомним веру Августина в то, что лучшее
прочтение есть то, которое способствует любви к Богу и ближнему),
«лучший» и «наилучший» немогутбытьвернымикритериями,покане
будут определены. Далеко не очевидно, что причины, побуждающие
87 Это — светский аналог призыва Мура к демифологизации библиологами своего процесса
чтения {Literary Criticism, 172).
88 Eagleton, Literary Theory, 211.
89 Во второй части я буду обосновывать утверждение о том, что отрицание реализма на самом
деле не способствует освобождению человека.
90 Thompson, Studies in the Theory of Ideology (Cambridge: Polity, 1984), 5.
241
Часть первая. Распад толкования
одно толковательное сообщество ценить текст, окажут то же
действие и на другие. Знаменитое определение критики Мэтью
Арнольдом — усилие по познанию и передаче «лучшего» из того, что люди
сказали и помыслили — стремится к универсальности, но на самом
деле игнорирует вопрос: «Лучшее для кого?»91
Политическое положение идей
«Упразднители» и «пользователи» едины в утверждении того,
что идеи и ценности всегда находятся в определенных социальных
контекстах. Идеи создаются и используются для определенных
целей, что по сути означает просто их «материальную
обусловленность». Согласно так называемым культурным материалистам,
ценности, придающие сущность культуре, всегда связаны с причиной,
изначально являющейся политической: проявлением власти в
обществе. Любой ответ на вопрос о том, какие книги лучше всего
читать (напр.: канон) и каким образом их лучше всего читать (напр.:
критика) будут поэтому связаны с обобществленной волей к власти
и неким идеологическим интересом. Иглтон отмечает, что
«идеология» обозначает «связь того, что мы говорим и во что верим, со
структурой власти и отношениями власти в обществе, в котором
мы живем».92 И еще одно, более краткое и в то же время серьезное
определение идеологии таково: «Смысл на службе власти».93
Чтение не бывает непредвзятым: невозможно прочесть что-либо
с иной точки зрения, чем своя собственная. Для Иглтона
толкование всегда идеологично. Толковать — создавать смысл — означает
служить чьим-то интересам: «Изучать идеологию... означает
изучать способы, которыми смысл (или обозначение) служит
поддержанию отношений или доминирования».94 В самом деле, борьба за
«средства производства» смысла — одна из самых яростных битв,
сотрясающих общество (напр.: феминистская революция).
Ценностное суждение о том, что и как читать, является выражением не
стремления к объективному знанию, а к власти над людьми — как
духовной, так и физической.
91 См. предисловие к изданию 1883 года: Matthew Arnold, Literature and Dogma.
92 Eagleton, Literary Theory, 14.
93 John B. Thompson, Ideology and Modern Culture: Critical Social Theory in the Era of Mass
Communication (Palo Alto, Calif: Stanford Univ. Press, 1990), 7.
94 John B. Thompson, Studies in the Theory of Ideology, 4.
242
Глава четвертая. Упразднение читателя
Идеологическая критика приуменьшает значение авторского
замысла. Почему? Потому что для постмодернистов и сам автор — чаще
всего продукт идеологии. Кроме того, культурные материалисты
настаивают на том, что самые глубинные источники смысла лежат вне
сознания и вне власти говорящего субъекта. Точно так же, как
психоаналитик находит глубокий смысл во «фрейдистских оговорках», так
и политический критик ищет скрытые политические предпосылки
(«марксистские оговорки»?). В самом деле, один из взглядов на
политическую критику — представление ее в виде подобия
психоанализа непреложных ценностей и убеждений общества — своего рода
культурного «Ид».95 Итак, идеологическая критика есть вид
герменевтики подозрения. Идеологическому критику надлежит отделять
«реальное» (напр.: скрытые материальные и политические силы) от
«идеального» (напр.: явного смысла и послания текста).
Для «упразднителей» наилучшее прочтение то, которое бросает
вызов доминирующей идеологии, разоблачая и разбирая ее, даже
если это требует чтения вопреки очевидному смыслу текста:
«Идеологическое чтение... есть преднамеренная попытка читать против
течения — текстов, дисциплинарных норм, традиций, культур. Это —
неспокойный способ чтения, потому что идеологическая критика
требует высокого уровня сознательности и явным образом
беспристрастно взывает к справедливости».96 Идеологические критики не
считают нужным извиняться за то, что они используют процесс
толкования в собственных интересах. С точки зрения их нравственных
принципов важно то, оказывает ли это толкование
освободительное влияние на текущий контекст читателя. В век
относительности, «лучшее» означает «лучшее для нас и сейчас согласно некоему
стандарту, который нам в современной исторической ситуации
кажется привлекательным».97
Обзор феминистской критики и идеологии
Феминистская критика более внимательна к политической
подоплеке языка и толкования, чем, возможно, любая другая. Она
представляет собой еще один вариант герменевтики подозрения.
95 См. Terry Eagleton, Ideology: An Introduction (London: Verso, 1991).
96 The Postmodern Bible, 275.
97 Hirsch, Aims, 78. Хирш имеет в виду критиков, отвергнувших авторский замысел как норму
правильного толкования.
243
Часть первая. Распад толкования
То, что принято называть «феминистским толкованием», не
является определенным методом чтения, скорее это целый ряд подходов
к тексту, противящихся патриархату — идеологии,
поддерживающей те социальные структуры, которые дают преимущество
мужчинам и ущемляют права женщин.98 За разнообразием феминистской
критики стоит превалирующая забота о справедливом отношении к
женщинам (и в некоторой мере — другим маргинальным группам).
Акт чтения фундаментально нравственен: толкуй таким способом,
который наиболее благоприятен для женщин нашего времени.
Идеологические критики знают, что тексты не только отражают
систему человеческих отношений, но и склонны ее воспроизводить.
Это — идеологическая функция литературы: сохранять отношения
власти, структурирующие общество. Оформляя то, как мы видим
мир и самих себя, повествования хранят и устанавливают
социальную власть. Те, кто контролирует способ использования языка,
контролируют самый действенный инструмент формирования
человеческого сознания. Для феминистического критика, тексты —
будь это романы или реклама (или, как мы увидим далее, Писание) —
не отражают реальный мир (напр.: женщин как они есть на самом
деле), но «конструируют» его, представляя определенное
культурное понимание роли женщины как «естественное». Патриархат,
узаконивая господство мужчин над женщинами, пытается «скрыть
фактическую сущность реальности как социального, так и
исторического продукта и вернуть ее в мир природы».99 Пол — в меньшей
степени биологическая константа и в большей — социальный
конструкт, продукт языка и текстов. «Он» — местоимение третьего лица
единственного числа — намного больше, чем просто часть речи;
систематическое употребление его для обозначения как мужчин,
так и женщин — политический инструмент подавления женщин и,
на самом деле, их отрицания.
Интересы феминистской и деконструктивной критики,
зародившихся в 1960-х, кое в чем совпадают.100 И, что важнее всего для
98 См. "Feminist Criticism" в Irena R. Makaryk, Encyclopedia of Contemporary Literary Theory:
Approaches, Scholars, Terms (Toronto: Univ. of Toronto Press, 1993), 39-52,1.
99 Christine Gledhill, "Recent Developments in Feminist Criticism," в Film Theory and Criticism:
Introductory Readings, 4th ed., ed. Gerald Mast, Mashall Cohen, and Leo Braudy (Oxford: Oxford
Univ. Press, 1992), 99.
100 Иглтон отмечает, что деконструктивизм возник вследствие студенческих революций
1968: «Будучи неспособен разрушить структуры государственной власти, постструктурализм
вместо этого нашел возможность подорвать структуры языка» (Eagleton, Literary Theory, 142).
244
Глава четвертая. Упразднение читателя
нас, у них общая цель: упразднение привилегированных иерархий,
господствующих в языке и в самом обществе. Эти
привилегированные иерархии поддерживаются и политикой, и риторикой.101
Иглтон объясняет это так: «из всех бинарных оппозиций, к
упразднению которых стремился постструктурализм, иерархическая
оппозиция между мужчинами и женщинами была, вероятно, самой
вредоносной».102 Феминистические читатели — это
идеологические критики, которые упраздняют текстовые иерархии, читая
«против течения», то есть разоблачая мир текста и показывая его как
результат риторики, а не отражение реальности.
Чтение «снизу»: авторитетность толковательных
сообществ
Было бы неправильно утверждать, что «Движение за
освобождение читателей» привело к анархии толкования. Даже отбросив
определенность смысла, читатели не становятся окончательно
свободными. Пусть тексты уже не ограничивают толкование, на это
способны сообщества толкователей (что они и делают). Хотя смысл
создает читатель, способы его выражения не хаотичны. Напротив,
их регулируют сообщества толкователей. Каждый читатель от
рождения принадлежит или присоединяется позднее к сообществу,
имеющему единые взгляды на процесс толкования и на блага,
определяющие цель того или иного способа толкования. Для Фиша смысл
определен только в том отношении, что читатели всегда читают в
определенном контексте, следуя неким правилам интерпретации.
Вкратце, если тексты могут быть неопределенными, то социальные
контексты всегда четко определены.
Если постмодернизм что-то и утверждает однозначно, так это —
крах универсальной точки зрения и следующее за ним
прославление разнообразия частных перспектив и точек зрения на мир, друг
Подробный анализ взаимосвязи деконструктивизма и феминистической критики см. David
Rutledge, Reading Marginally: Feminism, Deconstruction, and the Bible (Leiden: E. J. Brill, 1996).
101 Умелое использование языка для достижения своей цели — риторика — может
использоваться искренними критиками во имя истины, а не с целью ввести в заблуждение. Как
мы увидим, дискурс самой Библии также риторичен. См. Martin Warner, The Bible As Rhetoric:
Studies in Biblical Persuasion and Credibility (London: Routledge, 1990) особ. "Introduction" и гл. 8.
102 Eagleton, Literary Theory, 149.
245
Часть первая. Распад толкования
на друга и на наши тексты. Взгляды постмодернистов всегда
контекстуальны и универсальными никогда не будут. Постмодернизм,
однако, не знаменует конца всякой авторитетности. Это относится
только к общим нормам; частные же остаются в силе. Толкование
всегда происходит «снизу», его формирует контекстуально
обусловленная позиция читателя и регулирует авторитетность норм,
выработанных в сообществе. Поэтому, если толкование и в самом
деле есть форма «чтения для обретения власти», остается понять,
о чьей власти идет речь и ведет ли она к свободе. Поскольку в то
время об истине говорили как о силе, дающей свободу (Ин. 8, 32),
постмодернисты считают истину средством, с помощью которого
сильные оправдывают свое господство над слабыми. Это ведет к
ключевой проблеме критика-постмодерниста: на что опираться,
когда угнетатель — не текст, а контекст? Для того ли
пророки постмодернизма выводят нас из канонического рабства, чтобы
поработить господствующим интересам толковательного
сообщества? Остается вопрос: является ли исход из модернизма (и смысла)
избавлением или новым порабощением?
Социальное конструирование текстового смысла
Другие дисциплины, включая природоведение и гуманитарные
науки, регулярно обращаются к авторитетности толковательного
сообщества как к компромиссной альтернативе между
объективистским реализмом с одной стороны и субъективистским
релятивизмом — с другой. Это вполне ожидаемая ситуация: я уже доказывал,
что современные тенденции в герменевтике лишь отображают в
миниатюре более общие интеллектуальные и культурные тенденции.
Говорить о рождении читателя как о междисциплинарном событии,
означает согласиться, что знание всегда обусловлено контекстом.
Как мы видели ранее, «пользователи» утверждают, что и
литературное и научное знание, в конечном счете, функция интересов
сообщества. Когда речь идет о представлении «реальности», физика
не предпочтительнее лирики; и то, и другое рассматривается как
продукты социальных обычаев, порожденных, в свою очередь,
разнообразными интересами. «Пользователь» воспринимает «факты»
как результат практики толкования, а не ее основание.103
Ср. Хилари Путнэм: «Единственный критерий факта — его рациональность для восприятия».
246
Глава четвертая. Упразднение читателя
Мы никогда не читаем текст как он есть, а только так, как нас
научило наше сообщество. Фиш говорит, что мы никогда не сможем
вырваться за пределы норм, господствующих в нашем сообществе;
теоретическая высота, на которую следовало бы подняться, не
существует. «Теория» — это просто описание уже существующей
практики, которую кто-то пожелал риторически оправдать.104 На
самом деле наши интеллектуальные условности управляются не
«теорией», а идеологией: массой предрассудков, интересов и
ценностей, которые мы можем рационализировать, но никогда не
сможем разумно обосновать.
Социология литературного знания. Герменевтику Фиша,
ориентированную на читателя, от полного релятивизма спасает
лишь его утверждение, что читатели создают смысл вместе.
Факты становятся фактами лишь по общему соглашению. Фиш не
высказывает смехотворных утверждений, подобных такому: «Мира на
самом деле нет, вы все придумываете сами на ходу». Скорее он
говорит: «То, что вы видите, всегда определено и окрашено
толковательными обычаями вашего сообщества». Тем самым он меняет смысл
утверждения Кальвина о том, что Писание есть очки для восприятия
веры, на противоположный; по мнению Фиша, текст
рассматривается сквозь очки, надетые на человека верующим сообществом.
Может ли Фиш на самом деле избегнуть субъективизма,
обращаясь к интерсубъективизму? «Бессмысленного релятивизма»
избежать удастся, но культурный релятивизм, при котором критерии
знания, истины и блага зависят от сообщества, так легко не
сбросить со счетов. Смысл не существует объективно (в тексте), а
соотнесен с сообществами толкователей и их интересами. «В конце
концов я пришел к пониманию того, что определение реального и
нормативного произошло в рамках сообществ толкователей».105 Таким
образом, Фиш выбирает если не релятивизм, то герменевтическую
версию специальной теории относительности: то, что видит в тексте
толкователь, зависит от его положения в пространстве и времени,
его сообщества. «Текст как сущность, независимая от толкования...
заменяется текстами, которые возникают как последствие нашей
толковательной деятельности».106 Литературное знание состоит
104 Fish, Doing What Comes Naturally, 380.
105 Fish, Is There a Text? 15.
106 Там же, 13.
247
Часть первая. Распад толкования
не в согласовании толкований с текстом, а в согласовании текста с
обобществленным толкованием.107
Цель литературной критики — не в определении правильного
способа чтения или достижения литературного знания, а скорее в
«установлении, с использованием политических средств и средств
убеждения (что по сути одно и то же) того набора толковательных
предпосылок, с точки зрения которого будет отныне
рассматриваться всякое свидетельство (а также факты, замыслы и все прочее)».108
Контекст, опять-таки, имеет огромное значение. Личность
толкователя находит свое отражение в читаемом им тексте.
Влияние текста на читателя? Там, где правит читатель,
реальность отступает. Кредо прагматиста по Фишу кратко излагается
так: «Верую, что тексты, факты, авторы и замыслы — все
порождается толкованием».109 Фиш усматривает в литературном знании
нечто вроде самоисполняющегося пророчества: «читатели видят то,
что их учат видеть».110 Буквальный смысл определяется
установленным порядком; «естественный» смысл поощряется сообществом.
Верно ли передан опыт читателя в описании толкования по
Фишу? Может ли он объяснить, как тексты преобразовывают
читателей, или как можно читать тексты критически вопреки
уложениям читательского сообщества? Фиш не может дать ответа. Вне
нашего контекста нет ничего, на что мы могли бы опереться для
борьбы с ним, потому что все, что мы видим (факты) — уже
продукт условностей интерпретации. Поэтому мы приходим к выводу,
что в классе Фиша нет текста, способного сопротивляться
толкованию.111
В описании процесса толкования Фишем отсутствует
объяснение того, как тексты могут бросать вызов читателям и их
сообществам, а возможно, и изменять их. С точки зрения Фиша, трудно
107 Современная теория и критика кинематографии является отличным примером
междисциплинарной природы теорий интерпретации. В теории и критике кинематографии мы
видим ту же самую герменевтику подозрительности и тех же самых идеологических критиков
(Маркса, феминистов, деконструктивистов и пр.). Дэвид Бордуэлл демонстрирует, как «институт
конструирует и ограничивает то, что думают и говорят его члены» (Making Meaning, xii).
108 Fish, Is There a Text? 16.
109 Там же.
110 Грегори Керри называет тезис Фиша «интернализмом» ("Text Without Context," 213).
111 Неясно, толкованием чего является для Фиша толкование.
248
Глава четвертая. Упразднение читателя
понять, как текст может критиковать доминирующую идеологию
или подвергнуть критике цель или метод чтения какого бы то ни
было толковательного сообщества. Это — основной камень
преткновения в описании литературного знания Пользователями. Если
исключены все обращения к тексту как таковому, если вся
аргументация относительна и опирается на нормы отдельно взятых
сообществ толкователей, единственным способом разрешения
противоречий оказывается принцип большинства. Фиш осознает эту
проблему: «Всегда ли прав сильный? В каком-то смысле ответ, который
я должен дать — «да», поскольку в отсутствии независимой от
толкования перспективы всегда будет главенствовать какая-то
перспектива толкования, одержавшая верх над своими соперниками».112
Трудно представить, как объяснил бы Фиш, к примеру, опыт
прочтения Писания Лютером, принесшего ему радость открытия
чего-то нового вопреки герменевтическим устоям современного ему
общества.
Могут ли тексты противостоять неверным трактовкам, ставить
под сомнение наши подходы и убеждения, ниспровергать
литературные теории? Вспомните историю обращения Августина, опыт,
изменивший жизнь, к которому привела детская песня,
побудившая Августина «взять и прочесть». Как прочтение одного стиха из
Библии смогло сыграть столь большую роль в формировании жизни
Августина? Почему чтение, занятие потенциально опасное,
способно потрясти мир? Почему в некоторых обществах есть списки не
предписанных, а запретных книг? В книге «451° по Фаренгейту» Рэй
Брэдбери представил себе тоталитарное общество будущего, где
работа пожарного состоит в сожжении «опасных» книг. Оружием
подпольного движения сопротивления были просто классические
литературные произведения (канон), которые заучивались наизусть
его членами. Как мы, с точки зрения Фиша, могли бы объяснить
удивительную способность книг изменять нас? Фиш не дает ответа.
Наконец, мы могли бы спросить Фиша, сдерживает или
поощряет его схема толковательное насилие. Действительно, в понимании
Фиша нет места толкователю-террористу или одинокому борцу за
справедливость: одиночки действуют в рамках систем. С одной
стороны, как указывает Нибур, корпоративная гордыня сильнее и
страшнее личностной. Фиш и Рорти, как последовательные прагматисты,
Fish, Doing What Comes Naturally, 10.
249
Часть первая. Распад толкования
определяют знание не в терминах основ, а в терминах убеждения.
Но если нет идеологически независимых фактов, касающихся
текста, как действует процесс убеждения? Как, например, они ответили
бы на утверждение Фуко, что знание есть сила дискурса (риторика)
и дискурс сильных (политика)? Согласно Фуко, те, кто принадлежит
к определенному дискурсивному сообществу, считаются
«нормальными», в то время как посторонние именуются «ненормальными»,
сумасшедшими, отлученными, возможно, даже чудовищами.
Организации могут быть жестоки и безжалостны по отношению к тем,
кто к ним не принадлежит. В самом деле, можно сказать, что Фиш,
присваивая более или менее абсолютную власть сообществам
толкователей, создал атмосферу, потенциально враждебную
читателям. Еще хуже приходится текстам: они оказываются в положении
заложников судьбы в сообществах, узаконивших групповое насилие
под именем толкования.
Социальное конструирование смысла Библии
Толковательное движение, согласно Фишу, редко
одностороннее. Толкование Библии находится под воздействием двух
противоборствующих сил: смысловым потенциалом текста и интересами
читателя. Но текст, согласно Джинронду, «есть партнер
несколько более слабый, который, например, не способен защитить себя
от нарушений собственной целости идеологически предвзятыми
читателями».113 Это приводит к проблемам, жизненно важным для
авторитетности Библии. Может ли канон (здесь я имею в виду
христианские Писания) оказаться в плену идеологии сообщества?
Каким образом наше обсуждение политики чтения соотнесено с
внутрицерковными дебатами об относительной авторитетности
Писания и традиции?
Конфликт между толковательными сообществами, конечно же,
не новость. Первые христиане утверждали, что нашли во Христе
ключ к толкованию еврейских Писаний: «Церковь отличалась от
синагоги не каноном, а методом чтения».114 В ранней Церкви
авторитетное толкование только что сформированного Нового Завета
113 Jeanrond, Theological Hermeneutics, 7.
114 Lindbeck, "Scripture, Consensus, and Community" в Richard John Neuhaus, ed., Biblical
Interpretation in Crisis (Grand Rapids: Eerdmans, 1989), 76.
250
Глава четвертая. Упразднение читателя
было толкованием «авторитетного» сообщества. Именно потому,
что читатели могут проявлять насилие по отношению к тексту, Ири-
ней отказывал еретикам в праве толковать Писание. Был лишь один
канонический «контекст», в рамках которого надлежало читать и
толковать Библию, а именно — апостольская церковь. Отцы церкви
считали, что правильное прочтение происходит только в настоящей
христианской общине.
Однако к шестнадцатому веку существовало несколько общин,
претендовавших на звание «христианский». В 1546 г. на Тридент-
ском соборе Римско-католическая церковь заявила, что в отношении
веры и нравственности никто не смеет ставить под сомнение
толкование организованной церкви, «чья задача — определять истинный
смысл и толкование Святого Писания».115 Эта толковательная
привилегия церковной иерархии — именно то, что поставил под
сомнение Мартин Лютер. Лютер заявил, что каждый христианин имеет
право толковать Библию. Он также утверждал, что Библия ясна и
понятна каждому, кто следует грамматике текста и водительству
Духа. Подобно ему, Кальвин доказывал, что смысл и авторитетность
Писания не зависит от церкви. Писание само подтверждает
собственную авторитетность: «Писание Писанием толкуется».116 Этой
фразой реформаторы указывали, что трудные для понимания места
следует читать в свете более понятных. Тем самым они утверждали,
что имеют критерий, позволяющий отличить истинное прочтение
Писания от официального толкования, одобренного церковью.
Толковательная свобода протестантизма была, однако, вскоре
ограничена лютеранским и реформатским исповеданиями веры,
установившими пределы прочтений, приемлемых в соответствующих
общинах. К семнадцатому веку конфликт толкований между
соперничающими конфессионными общинами привел к настоящим
религиозным войнам. По мнению Линдбека, эти религиозные
конфликты проложили дорогу модернизму и просветительству:
«Общепринятые истины пошатнуло христианское братоубийство (вселившее
больше тревоги, чем когда-либо прежде в истории Запада,
поскольку происходило между официальными церквями), и многие,
отвернувшись от прочных основ, обратились к личному рассуждению и
115 Цит. по Jeanrond, Theological Hermeneutics, 170. Бернард Рамм высказывает полезное
предположение о том, что в этом и состоит римо-католическая «формальная теория» ясности
Писания {Evangelical Heritage: A Study in Historical Theology [Grand Rapids: Baker, 1981], 32).
116 Cm. Calvin, Institiutes, 1.7.
251
Часть первая. Распад толкования
опыту».117 Просвещенные критики восемнадцатого века достаточно
часто делали вывод о том, что библейские тексты, на которые
опирается доктринальная практика того или иного
конфессионального сообщества, на самом деле не поддерживают такое толкование.
Модернизм заменил власть священника властью ученого. В ученых
кругах интерес верующего к религиозному использованию Библии
был вытеснен научным интересом к истории ее написания.118
Итак, мы подходим к современной, постмодернистской
ситуации, в которой отказались от поиска постоянства вне языка. Рорти
называет эту ситуацию «постфилософской», то есть такой, в
которой «ни священники, ни физики, ни лирики, ни партия не считались
более «разумными», «научными» или «глубокими», чем кто-либо
иной».119 В мире постмодернизма «здравый смысл» подразумевает
не некий универсальный стандарт, а смысл, принятый в отдельном
сообществе. Как и в ранней церкви, так и в наши дни
авторитетность связана с сообществами, хотя сейчас значительно труднее
доказать их апостольское происхождение.
Следует отметить, что в нексторых трудах, написанных
богословами в последнее время, поддерживается представление Фиша об
авторитетности сообществ толкователей. Здесь я рассмотрю
только два.120 Первый, «Текст и опыт: к культурной экзегезе Библии»,
призывает читателей толковать Писание, исходя из уникальности
их культурно обусловленного положения. «Культурная экзегеза»
изучает различия в понимании Писания разными группами людей.
В многокультурном мире множество разнообразных прочтений —
явление вполне ожидаемое. Никто не спорит о том, поликультурен
ли мир, но по поводу значительности этого факта существуют
разные мнения. Некоторые доказывают, что прочтения определенных
групп — бедных, женщин, афро-американцев и т. д. — должны
иметь больший вес, чем другие. Латиноамериканские «богословы
117 Lindbeck, "Scripture, Consensus, and Community," 84.
118 На протяжении большей части двадцатого века критики Библии стремились найти способ
гармонично сочетать эти две толковательные структуры — религиозную и критическую.
См. Barton and Morgan, Biblical Interpretation, особ, гл. 1, 6 и 8.
119 Rorty, "Pragmatism and Philosophy," 56.
120 Среди других работ, которые можно упомянуть: R. Sugirtharajah, ed., Voices From the
Margin: Interpreting the Bible in the Third World (Maryknoll, N.Y.: Orbis, 1991), и Cain Hope Felder,
ed., Stony the Road We Trod: African-American Biblical Interpretation (Minneapolis: Fortress, 1991).
252
Глава четвертая. Упразднение читателя
освобождения», например, считают правильным чтение с точки
зрения бедных. Хотя последние и не являются апостольским
сообществом, их считают авторитетными толкователями, поскольку
контекст бедных подобен контексту тех, для кого была написана
Библия, и их положение дает им право трактовать Писание
вопреки идеологии.
Однако в целом авторы сборника «Текст и опыт», говоря о
важности культурного контекста человека, не заходят так далеко, как
Фиш, и не утверждают, что смысл создают толковательные
сообщества. Авторитетность толковательных сообществ не абсолютна,
а вторична по отношению к тексту. Они высказывают
предположение, что множественность перспектив, взятых вместе, дает нам
возможность лучше понять исторический смысл библейских текстов:
Итак, мы хотели бы узнать у богословов освобождения,
могут ли бедные бразильские крестьяне, читая Библию,
способствовать пониманию того, что значит текст для
кого-то другого, кроме них самих... В этом заключен вопрос
культурной экзегезы Библии. Может ли пресвитер-индеец,
студент или ученый из Индии или Африки дать нам всем
новые представления об историческом значении текста?121
Эта стратегия чтения без отказа от нравственности
литературного знания особенно важна в контексте разнообразия культур в
современном мире, и я намерен вернуться к ней в свое время.
«Освобождение Писания: избавление Библии из американского
рабства» Стэнли Хауэрваса представляет собой более
последовательное воплощение идей Фиша. С точки зрения Хауэрваса,
считать, что отдельные читатели могут сами по себе найти «смысл»
Библии, опасно. Здравого смысла для понимания Библии
недостаточно. Напротив, для правильного прочтения Библии читатели
нуждаются в помощи церкви — авторитетного толковательного
сообщества. Только библейские критики и фундаменталисты
считают, что Библия имеет объективный смысл. Вторую главу своей
книги Хауэрвас уместно назвал «Стэнли Фиш, папа и Библия».
Он согласен с Фишем в том, что тексты — продукт толкования:
«Настоящего смысла» писем Павла к коринфянам просто не
существует, в чем мы убеждаемся, осознав, что они уже не письма Павла,
121 Daniel Smith-Christopher, Text and Experience: Towards a Cultural Exegesis of the Bible
(Sheffield: Sheffield Academic Press, 1995), 16.
253
Часть первая. Распад толкования
а Писания Церкви».122 Как и для Фиша, для Хауэрваса ключевым
вопросом является вопрос норм толкования: для чего мы читаем?
Это, по словам Хауэрваса, политический вопрос, касающийся
ценности толкования. Когда речь идет о политике толкования, Фиш и
папа римский едины: только церковь как толковательное
сообщество имеет власть определять ценности.123
Конечно же, существует огромная разница между
утверждением о том, что для нахождения независимого смысла текста нужно
несколько различных перспектив, и утверждением о том, что
каждая перспектива создает другой текст, обладающий собственным
смыслом. Хауэрваса можно прочесть двояко. С одной стороны, он
мог иметь в виду, что читатели не смогут понять смысл Библии, если
не будут посвященными христианами. С другой стороны, он мог
полагать, что текст становится Писанием только при определенном
его прочтении. Второй вариант поднимает вопросы о
божественной власти и положении Слова Божьего. Кто выше — Слово или
церковь? Если последняя, что мешает толковательным
сообществам стать авторитарными? Что именно значит «читать в контексте
церкви»? Что важнее: в какой из церквей следует читать Библию,
чтобы толковать ее правильно? Предложения Фиша, в конечном
счете, намного лучше соответствуют римско-католическому
контексту, чем контексту церквей, рожденных реформацией, которые
считают авторитетность текста выше авторитетности
толковательной традиции.
У христианских общин есть, по крайней мере, избранный текст.
В эпоху постмодернизма, как и в ранней церкви, существуют
разногласия по вопросу «канона» трудов, надежно хранящих важнейшие
ценности, и если канон необходим, какие тексты должны быть в него
включены. Постмодернизму присуще смятение, характерное и для
ранней церкви, в поисках того, кто обладает правом определять
важность вопросов и «кто наделен властью говорить о них истинно».124
122 Stanley Hauerwas, Unleashing the Scripture: Freeing the Bible From Captivity to America
(Nashville: Abingdon, 1993), 20.
123 Решение о том, какими нормами и ценностями следует руководствоваться при толковании,
есть решение «метакритическое». Мне трудно согласиться с Фишем и Хауэрвасом, потому
что они не приводят достаточного обоснования для того, чтобы предпочесть один набор норм
другому, и в том, что избранная ими норма не особо открыта для самоисправления. Скотт С. Сэй
утверждает, что Карл Барт также признает авторитетность толковательных сообществ и поэтому
в некоторых важных вопросах созвучен с Фишем ("The Wild and Crooked Tree: Barth, Fish and
Interpretive Communities," Modern Theology 12 [1966]: 435-58).
124 Gary A. Phillips, "Exegesis As Critical Praxis: Reclaiming History and Text from a Postmodern
Perspective," Semeia 51 (1990): 14.
254
Глава четвертая. Упразднение читателя
Кто в наше время имеет право говорить от имени текста? Одна
община? Одна деноминация? Или, возможно, экуменическое
толковательное сообщество, для которого было бы характерно
герменевтическое разделение власти? Возможно, согласие станет достижимым
лишь в том случае, если каждое из сообществ проявит некую долю
самокритики. Перефразируя Эко, можно сказать, что в последнее
время права толковательных сообществ ставятся выше текста.
Линдбек призывает к возвращению ко христоцентричному
чтению Ветхого Завета, породившему как канон Нового Завета, так и
единство христианского мира. Эта «классическая» герменевтика,
толковавшая Библию с точки зрения тринитарного правила веры,
способна была созидать и общность, и общину:
Писание — изначально еврейские Писания, прочтенные
христологично, — обладали консенсусом, общностью и
силой созидания установлений, преобразовавшей эти общины
в главенствующую, и поэтому — кафолическую церковь. Не
будет преувеличением сказать даже, что именно Библия
покорила империю вопреки нормальным законам
социологического тяготения: без насилия, невзирая на гонения, не
опираясь на особую экономическую, социальную, культурную или
этническую поддержку.125
При том, что Линдбек, по сути, утверждает противоположное
Фишу, доказывая, что текст конструирует социальную реальность,
а не наоборот, он, возможно, нашел способ избежать
относительности в сообществе толкователей.126
УПРАЗДНЕНИЕ БИБЛЕЙСКОЙ ИДЕОЛОГИИ
Упразднение — нелегкая процедура с тревожными
результатами. В самом ли деле служителям церкви, христианским
преподавателям и другим людям, изучающим Писание, следует разбираться
в деконструктивизме и прочих видах постмодернистского
толкования? Я считаю, что да. Христианам стоит приложить усилия и не
бояться встретиться с новыми мастерами подозрительности лицом
к лицу по трем причинам: (1) Мы должны быть интеллектуально
125 Lindbeck, "Scripture, Consensus, and Community," 78.
126 К этой теме мы вернемся во второй части.
255
Часть первая. Распад толкования
честны, даже снисходительны. Слишком многие критики отвергли
деконструктивизм, не постаравшись его понять. Сожжением
соломенных чучел ничего не добьешься. (2) Постмодернизм — явление
междисциплинарное, вызвавшее кризис как в культуре, так и в
христианстве. Трудно преподавать Слово, мало понимая культурный
контекст. (3) Деконструкция и прочие способы постмодернистского
толкования приобретают все более прочные позиции как в научных
кругах, так и в церкви. В выпуске Semeia за 1982 год Роберт Дету-
айлер написал, что Деррида «представляет собой, вероятно,
величайшую угрозу традиционному изучению Библии в наше время».127
Однако толкователи Библии по-разному отреагировали на его
заявление. Некоторые экзегеты видят в деконструкции угрозу не
только своей профессии, но и исповеданию своей веры. Другие
приветствуют развенчание Дерридой мифа о научной объективности.
Для второй группы деконструктивизм — явление освободительное,
направленное против тоталитарных систем толкования. Из всего
этого вырисовывается такая картина: стоит перестать
притворяться, будто деконструктивизма не существует, — возможно, у него
есть чему поучиться.128
Позиция пользователей сравнительно проста. Читать Библию
с точки зрения собственного опыта, заявляя, что «Библия значит
для меня то-то и то-то» — достаточно просто. Библию можно
использовать для оправдания или осуждения образа жизни.
«Пользователи» готовы использовать текст в интересах своего сообщества,
каковы бы они ни были; «упразднители», напротив, поясняют,
почему текст противится подчинению любой единой системе идей и
ценностей, любому единому контексту или опыту. Однако и
«упразднители», и «пользователи» согласны в том, что именно их подход
способствует освобождению человека.
Толкователям-протестантам не приходится сожалеть об
упразднении идеологически мотивированных толкований Библии.
Большинство, в принципе, согласны с тем, что Библию нельзя
использовать как средство для достижения какой-то внешней цели.
Третья статья Барменской Декларации (1934) гласит: «Мы
отвергаем лжеучение о том, что церкви могло быть позволено передавать
127 Detweiler, "Introduction", Semeia 23 (1982): 2.
128 Я рассматриваю такую возможность во второй части, где высказываю предположение, что
немножко деконструктивизма может пойти на пользу. В малых дозах деконструктивизм ведет не
к отчаянию, а к большему смирению.
256
Глава четвертая. Упразднение читателя
форму ее послания и порядка кому бы то ни было по ее желанию
или по прихоти господствующих на тот момент идеологических и
политических убеждений».129 На практике трудно бывает провести
границу между использованием и толкованием Писания. Однако
это различие остается жизненно важным.
Вопрос, однако, несколько осложняется, если идеологическим
считать не толкование, а сам библейский текст. С одной стороны,
можно назвать Библию идеологической литературой. Общее
определение идеологии звучит как «системы допущений и убеждений,
с помощью которых оценивается все, что есть в повествовании».130
Для Меира Штернберга идеология текста связана с мировоззрением,
которое он предлагает читателю: «Одной из универсалий письма
остается то, что репрезентация никогда не оторвана от оценки».131 Тексты
идеологичны, поскольку в них отражены определенные отношения,
ценности, предпосылки. Итак, идеология — синоним мировоззрения.
Поэтому идеология, как и риторика, может использоваться и с
благой целью, и с порочной. Историю, например, можно рассказать
как пример нравственной истины, а можно с ее помощью обосновать,
например, божественное право земных королей.132 Библия —
литература идеологическая, поскольку она, воздействуя на читателя своей
риторикой, стремится перестроить его разум и сердце, сообразуя его
мировоззрение с собственным.133 По мнению Штернберга,
мировоззрение Библии уникально: «Если Библия идеологически уникальна —
а я считаю, что так и есть, — ее уникальность состоит как в
мировоззрении, отраженном в ней, так и в риторике, с помощью которой оно
передано».134 Один из аспектов библейской идеологии — различие
между Богом и людьми в знании. Бог всеведущ; человеческое знание
ограничено.135 Риторика Библии направлена на убеждение читателя
129 "The Barmen Declaration," в Clifford Green, ed., Karl Barth: Theologian of Freedom (London:
Collins, 1989), 149. Текст Барменской декларации по большей части написан Карлом Бартом.
130 Moore, Literary Criticism and the Gospels, 56.
131 Meir Steinberg, The Poetics of Biblical Narrative: Ideological Literature and the Drama of
Reading (Bloomington: Indiana Univ. Press, 1985), 37. Штернберг считает, что важно не спутать
идеологию текста с идеологией читателя, поэтику с политикой.
132 В этой связи я считаю интересным то, что в Библии установление монархии в Израиле
описано как событие далеко не положительное. См. напр. 1 Цар. 12.
133 Steinberg, Poetics of Biblical Narrative, 482; ср. Ауэрбах: «Нам следует найти себе место в этом
мире, ощутить себя частью в его структуре вселенской истории» {Mimesis: The Representation of
Reality in Western Literature [Princeton: Princeton Univ. Press, 1953], 15).
134 Steinberg, Poetics of Biblical Interpretation, 3 7.
135 Штернберг доказывает, что это когнитивное противопоставление встроено в саму структуру
библейского повествования и, следовательно, формирует опыт чтения.
9-227
257
Часть первая. Распад толкования
в необходимости принятия Слова Божьего. Если, как утверждает
Кэтрин Бэлси, «роль идеологии в том, чтобы созидать людей как
субъектов»,т то мы можем сказать, что единственная цель
библейского повествования — в том, чтобы созидать людей как субъектов,
находящихся в завете с Богом и послушании ему. Конечно, если
Библия представляет божественную идеологию, нет нужды считать ее
угнетающей и безнравственной.
С другой стороны, многие критики продолжают связывать
идеологию со злоупотреблением властью. Марксисты, культурные
материалисты и «новые историки» подчеркивают происхождение
идей (и, следовательно, идеологий) из конкретных
социально-политических контекстов. Эти идеологические критики с равной
остротой демонстрируют интересы современных читателей (напр.: в
экономических системах, построенных на различии по полу, расе и
классу) и разоблачают тексты как социальный продукт.137 Критики
идеологии считают, что она представляет собой подмену
естественной реальности языковой.138 Такое заблуждение далеко не
безобидно, поскольку позволяет власть имущим навязывать свою систему
ценностей всем остальным: «Идеология оправдывает господство
правящего класса, представляя его идеи и нормы как естественные,
справедливые и общепринятые».139 С этой точки зрения, идеология
есть преднамеренное искажение реальности, скрывающее
истинную (т. е. произвольную) природу социальных отношений с целью
оправдания общественного порядка, при котором один класс
господствует над другим. Рассуждение об идеологии Библии вместо
богословия «привлекает внимание к социальным и политическим
аспектам библейской мысли».140 Итак, один из способов
упразднения Библии состоит в разоблачении исторической
обусловленности ее идей социально-политическими конфликтами прошлого.141
136 Belsey, Critical Practice, 5 8.
137 См. статью Кристофера Рауленда (Christopher Rowland, "Materialist Interpretation,"
в A Dictionary of Biblical Interpretation, 430-32).
138 Paul de Man, The Resistance to Theory (Minneapolis: Univ. of Minnesota Press, 1989), 11.
139 Douglas Kellner, "Marxist Criticism," в Encyclopedia of Contemporary Literary Theory, 96.
Это понимание идеологии является доминирующим в социальной теории марксизма. См. Sam
Solecki, "Ideology," в Encyclopedia of Contemporary Literary Theory, 559.
140 Carroll, "Ideology," в Dictionary of Biblical Interpretation, 309 (см. особ. N. К. Gottwald, The
Tribes of Yahweh[\919]).
141 Богословский вопрос, поднимаемый идеологической критикой, состоит в том, как Библия,
если она — продукт не только Божьего действия, но и человеческого, может передавать слово
Божьего откровения без идеологических (и культурных) дополнений.
255
Глава четвертая. Упразднение читателя
Политика и Закон: деконструкция Второзакония
Чтобы свести воедино аргументы предшествующих разделов и
проиллюстрировать деконструкцию в действии, я предлагаю
понаблюдать, как два критика Библии, Роберт Ползин и Джон Бартон,
«упраздняют» мировоззрение Второзакония.142 Второзаконие
особенно уязвимо для деконструктивного анализа, поскольку
излагает ценностную систему и понимание власти, полагающуюся на
аргументы о (божественном) «происхождении» и (божественной)
«речи».143 Второзаконие «излагает закон» и санкционирует его
условия теологией справедливого воздаяния.
Упразднить текст — значит вскрыть политические и
религиозные интересы, стоящие за дискурсом Второзакония. Список
вероятных кандидатов на роль заинтересованных сторон включает
священников из колена Левия, которым была доверена книга
Закона, пророков религиозной реформы, или сообщество книжников и
законодателей.144 И Тора (Моисеево Пятикнижие), и история
Второзакония (Иисуса Навина — 4 Царств) — политические
документы, которые, мастерски используя риторику, указывают, что закон
и пророческое толкование истории Израиля проистекают из слова
самого Бога и им же наделены властью. «Центральная идеология
Второзакония касается божественного слова, зачастую
переданного при участии пророков».145
Риторика власти
Речь и письмо — ведущие темы как у Дерриды, так и во
Второзаконии. В главе 31 Второзакония Моисей завершает проповедь,
142 Библиологи называют «историей Второзакония» все библейские книги от Второзакония
до 4 Царств (исключая Руфь). Смысл этого состоит в представлении о том, что богословие,
или идеология, Второзакония пронизывает повествование об истории Израиля от Моисея
до вавилонского пленения. Основная тема этой истории — в том, что обладание землей
обусловлено послушанием закону. Мартин Норт, ученый, впервые предложивший эту теорию,
считал, что эти книги были написаны одним автором, хотя для того, о чем говорю я, достаточно
предположить наличие «единой идеологии», а не одного автора или редактора. См. A. D. Н.
Mayes, "Deuteronomistic History," in A Dictionary of Biblical Interpretation, 174-76.
143 Еврейское заглавие этой книги, debarim, означает «слова».
144 Позже высказывались предположения о том, что эта книга была написана позднее, а
именно — в ранние годы правления царя Иосии, непосредственно перед тем, как книга Закона
была «найдена», как это описано в 4 Цар. 22, 8-20. Пример такого критического подхода к этой
книге см. Ronald E. Clements, "Deuteronomy, the Book of," в Brace M. Metzger and Michael D.
Coogan, eds., The Oxford Companion to the Bible (Oxford: Oxford Univ. Press., 1993), 164-68.
145 Carroll, "Ideology," 310.
9* 259
Часть первая. Распад толкования
фиксирует ее письменно (31, 9), назначает Иисуса Навина своим
преемником и помещает Закон в ковчег. Более того, письменный
закон надлежало регулярно читать, чтобы последующие поколения
могли «услышать» голос Божий (31, 10-11). Закон становится
олицетворением Божьего присутствия. Как мы видели ранее, основная
цель Дерриды — подорвать иерархию, отдающую речи
предпочтение перед письмом. «Библия не исключение из этого
предпочтения, поскольку она состоит из Божьего слова, продиктованного
и записанного».146 Чтобы упразднить это предпочтение, будущий
деконструктивист подвергает текст Второзакония тщательному
анализу. Например, само название «Второзаконие» означает
«второй закон», и это подразумевает отдаление от исходной речи Бога.
Второзаконие есть «итерация» Декалога, прежде данного на Синае,
для новой ситуации и в новом контексте.
Роберт Ползин разбирает Второзаконие, тщательно рассекая
риторику власти. Подобно Дерриде, он умножает толковательные
хлебы, устраивая пир из второстепенных деталей. На первый взгляд,
Второзаконие — повествование, в котором лишь две роли со
словами: Моисей и Бог. В центре внимания Божий закон, изложенный
словами Моисея. Однако Ползин замечает искусную попытку
сгладить различие между голосом Моисея и Бога. Первое обращение
Моисея к народу (1,6 — 4, 40) объясняет, как Моисей говорит от
имени Бога. Половина речи состоит из описания прямого общения
с Богом: между голосом Моисея и голосом Бога существует явное
различие. Однако во второй речи (5, 1 — 28, 68) Моисей
передает речь Бога косвенно. В этом незаметном повороте стиля Ползин
усматривает большую идеологическую значимость: это
риторическое средство отождествления толкования Моисея со словами
самого Бога. «Этот контраст между подчиненным стилем первой речи
Моисея и чрезвычайно авторитетным провозглашением закона во
второй — основное композиционное средство, с помощью
которого автор Второзакония превозносит власть Моисея как учителя».147
Что бы еще ни говорили Моисей или автор повествования о Слове
Божьем, текст делает авторитетный статус голоса Моисея «почти
146 Kerry McKeever, "How to Avoid Speaking of God: Poststructuralist Philosophies and Biblical
Hermeneutics," Journal of Literature and Theology 6 (1992): 233.
147 Polzin, "Deuteronomy," в The Literary Guide to the Bible, 95. См. также Robert Polzin, Moses
and the Deuteronomist. A Literary Study of the Deuteronomic History. (New York: Seabury, 1980).
260
Глава четвертая. Упразднение читателя
неотличимым от статуса голоса Бога».148 Второзаконие выглядит
как одновременная попытка утвердить и подорвать статус Закона
как Божьего Слова. В итоге, риторическая практика Второзакония
подрывает его богословскую теорию.
Далее Ползин утверждает, что есть и второе замещение. Лицо,
от имени которого в этой книге ведется повествование — аноним,
хотя иногда его голос переплетается с голосом Моисея: «Такие
искусные контаминации — основа глубинной, равно как и
поверхностной, «двухголосицы» текста Второзакония».149 В нескольких местах
рассказчик «прерывает» голос Моисея (напр.: 2, 10-12; 3, 11; 31, 1).
В этих вставках-комментариях Ползин усматривает «тонкую, но
действенную» стратегию «смягчения» положения Моисея:
«Высказывания рассказчика звучат в двух идеологических тональностях,
друг другу противоречащих: явный, очевидный голос,
превозносящий Моисея и умаляющий собственную роль, и тихий, незаметный
голос, который тем не менее успешно привлекает внимание к себе
в ущерб уникальности Моисея».150 Иначе говоря, рассказчик,
отождествляя свой голос с голосом Моисея (и Бога), молчаливо
претендует на авторитетность своего собственного понимания закона и
его применения. Ползин упраздняет авторитетность Второзакония,
показывая, как Моисей становится на место Бога, только с тем,
чтобы потом его самого вытеснили риторические стратегии
неизвестного рассказчика.
Однако описание Ползина не отвечает на два важных вопроса:
«Кому именно выгодна идеология, подчеркивающая
авторитетность Божьих законов (Втор. 4, 1-40), а также необходимость
заботы о бедных (15, 7-11)? Чьим интересам служат Десять Заповедей
(5, 6-21)?» Здесь, похоже, позиция критиков идеологии
оказывается недостаточно убедительной, потому что можно доказать, что
Десять Заповедей соответствуют интересам каждого.151
Риторика воздаяния
Еще одна характерная идеологическая тема Второзакония —
тема воздаяния, то есть благословения за послушания, кары за
148 Там же, 96.
149 Там же, 93.
150 Там же, 94.
151 Я вернусь к возможности существования универсальных интересов в толковании
в Главе 7.
261
Часть первая. Распад толкования
нравственное и духовное падение. Согласно Джону Бартону,
идеологию божественного возмездия за грех более всего подрывают
пророки. Богословское толкование пророками истории Израиля,
основанное во многом на «великом множестве идей»,
заимствованных из Второзакония, использует понятие божественного
возмездия для объяснения бедствий, постигших Израиля и Иуду. Однако
Бартон предполагает, что эта теория была подогнана под факты
путем мастерского использования риторики: «Риторика пророков
рассчитана на то, чтобы преподнести случайные события человеческой
истории как божественную необходимость».152 Цель пророков была
не только в том, чтобы предупредить народ Божий о
надвигающемся бедствии (это можно было определить, и просто наблюдая за
политической ситуацией), но и обеспечить богословское обоснование
пленению Израиля. Их гениальность в том, что они так
пересказывают историю, что падение Израиля выглядит неизбежным, с
учетом характера Бога и духовного растления, царившего в Израиле.
Бартон говорит: «Нам не следует слишком поддаваться силе их
риторики. На самом деле то, что Бог обязательно покарает Израиль,
не было очевидным. И если даже современные читатели Библии
говорят об этом событии как о неизбежном, это делает честь
риторическим навыкам классических пророков».153 Что же остается от
библейского текста после упразднения его с помощью
деконструкции? Его риторика, сила убеждать, «превосходящая пределы
чистого разума, способность побуждать читателя к желанию
использовать текст, даже если за ним ничего не стоит».154
Политика и земля
Возможно, самый явный пример идеологического влияния
Библии на политические вопросы — использование ее в спорах
о земле. На протяжении всей истории колонизаторы обращались
к Библии, чтобы оправдать завоевание новых территорий.155
Политическим лидерам в Южной Африке, например, или в Южной
Америке, удавалось очень легко оправдать завоевательную войну,
152 David J. A. Barton, "History and Rhetoric in the Prophets," в Warner, ed., The Bible As Rhetoric, 78.
153 Там же, 63-64.
154 Clines, "Deconstructing the Book of Job," в Warner, ed., The Bible As Rhetoric, 78.
155 Примеры этого включают конкистадоров в Перу, пуритан в Новой Англии, буров в Южной
Африке.
262
Глава четвертая. Упразднение читателя
приводя пример завоевания Ханаана Израилем. С другой стороны,
обездоленные отождествляли свою участь с другим моментом из
истории Израиля: исходом из Египта. Эти голоса «отверженных»
протестуют против использования Библии как доказательства их
национального небытия. Дэвид Джоблинг видит связь между де-
конструктивизмом и богословием освобождения в том, что оба эти
движения критикуют любое богословие, претендующее на
универсальную применимость, забывая о том, что идеи возникают в
конкретном социо-историческом контексте. Джоблинг констатирует:
«Я уверен, что эта связь радикального литературного метода и
радикальных политических убеждений будет неоценимо важна для
изучения Библии».156
Чтение с обездоленными
Богословы освобождения читают Писание не для того, чтобы
иначе толковать мир, но для того, чтобы изменить его. Исходная
точка толкования Библии для них — положение бедных и
угнетенных. Смысл Библии, прочитанной не в университете, а в гетто,
воспринимается по-другому.157 Чтение Библии с точки зрения бедных
«предпочитает применение объяснению».158 Например, бедняки в
Латинской Америке рассматривают тексты, говорящие об
освобождении, как прямо относящиеся к ним. Для таких читателей смысл
не вопрос теории, а понятие практическое и животрепещущее.159
Переживание бедности, по словам Карлоса Местерса,
«настолько же важный «текст» для богослова освобождения, как и текст
самого Писания».160 Трудно сказать, обеспечивает ли это
переживание эпистемологические или нравственные условия для
толкования Библии; возможно, и те, и другие. Если текст всегда читается
156 David Jobling, "Writing the Wrongs of the World: The Deconstruction of the Biblical Text In the
Context of Liberation Theologies," Semeia 51 (1990): 81.
157 Согласно Кристоферу Рауленду, европейские и американские ученые-библеисты, которые
считают, что «нормальное» толкование — это толкование, ищущее исходного смысла текста,
также представляют собой «влиятельную заинтересованную сторону, которая... контролирует
каноны смыслопроизводства» (Christopher Rowland, "Materialist Interpretation," 431).
158 Dan Cohn-Sherbok, "Liberation Theology," Dictionary of Biblical Interpretation, 397.
159 Я согласен с этим. Во второй части я сравниваю толкователя с учеником; однако я
утверждаю, что именно текст, а не современный контекст, должен играть определяющую роль
в применении смысла.
160 См. Christopher Rowland, "Materialist Interpretation," 430.
263
Часть первая. Распад толкования
в социальном контексте, где господствуют определенные интересы,
положение бедных позволяет им найти смысл, ускользающий от
богатых. Местерс признает, что при толковании «снизу» особое
внимание «уделяется не смыслу текста как таковому, а его значению
для людей, читающих его».161 Для Местерса, основной текст — это
опыт жизни сообщества (т. е. современный контекст). Именно это
внимание к общественно-политическому положению читателя
побуждает Тисельтона задать герменевтике освобождения несколько
трудных вопросов: «Является ли она только отражением
горизонтов протестующего сообщества в самоутверждении, или же она
предлагает социальную критику, благодаря которой все (или
многие) сообщества могут пережить исправление, преобразование и
расширение горизонтов?»162
Чтение Писания с точки зрения черного южноафриканца
позволило Итумеленгу Дж. Мосале увидеть идеологический конфликт
в самой Библии, а именно: между Богом безземельных крестьян
(напр.: израильтян до и сразу после исхода) и Богом правящего
класса и класса землевладельцев (напр.: во время периода
монархии, после завоевания обетованной земли). Мосала уверен, что и
библейский текст, и процесс чтения Библии — место «классового
конфликта». Он объясняет различие идеологий в Библии, соотнося
текст с классовым контекстом, в котором он возник. До монархии
народ жил в сельскохозяйственных, эгалитарных сообществах.
Завоевание земель Давидом привело к возникновению систем
землевладения и налогообложения. Книга Михея содержит, по словам
Мосалы, обе идеологии, но монархическая идеология (гл. 4-7)
господствует: «Основные темы монархической идеологии —
стабильность, благодать, восстановление, сотворение, всеобщий мир,
сострадание, спасение. Они находятся в резком контрасте с
идеологией Израиля до монархии, содержащей такие темы как
справедливость, солидарность, борьба, бдительность».163 Хотя книга
Михея — документ правящего класса, Мосала уверен, что «на полях»
ее слышен еще один голос, поддерживающий угнетенное «домонар-
хическое» темнокожее население Южной Африки нашего времени.
161 Цит. там же.
162 Thiselton, New Horizons, 410.
163 Itumeleng J. Mosala, "Biblical Hermeneutics of Liberation: The Case of Micah," в R. S.
Sugirtharajah, ed., Voices From the Margin: Interpreting the Bible in the Third World (London:
S.P.C.K., 1991), 114.
264
Глава четвертая. Упразднение читателя
Мосала утверждает, что «Черное Богословие» помогло
ниспровергнуть «миф о рациональной объективности богословия».164 Белое
богословие (не сродни ли оно мифологии белых в представлении
Дерриды?) связано с ценностями белых.
Взгляд из Ханаана
Еще один пример: книга Исход часто используется богословами
освобождения в Латинской Америке как источник вдохновения в
борьбе за социальную справедливость. Однако для других
читателей, находящихся в ином положении, события, описанные в книге
Исход, и их последствия выглядят как угодно, только не как
освобождение. Палестинских христиан шокирует использование
Библии евреями и христианами для оправдания оккупации их родины
Израилем. С восстановления государства Израиль в 1948 г.
повествования об Исходе и Завоевании использовались против дела
освобождения Палестины.165 Палестинские христиане уверены, что
«для многих сионистов, евреев и христиан земля стала идолом».166
Они вспоминают историю о винограднике Навуфея (4 Цар. 21), в
которой речь идет не только о земле, но и о Божьей заботе о
справедливости. Наим Атик утверждает, что завет Бога с Израилем на
Синае следует рассматривать в свете нового завета во Христе со
всем человечеством.
Североамериканские индейцы также воспринимают
повествования об исходе и завоевании как крайне неуместные. Роберт Аллен
Уорриор в работе «Взгляд коренных американцев: хананеи, ковбои
и индейцы» отмечает, что опыт аборигенов Америки побуждает их
отождествлять себя с хананеями, «народами, уже населявшими
землю обетованную».167 С другой стороны, ранние пуританские и
последующие европейские поселенцы в северной Америке воспринимали
Соединенные Штаты как новый «народ Божий». «Предначертанием
164 Itumeleng J. Mosala, "The Use of the Bible in Black Theology," в Sugirtharajah, ed., Voices From
the Margin, 50.
165 Cm. Nairn Stifan Ateek, "A Palestinian Perspective: The Bible and Liberation," Voices From the
Margin, 280-86.
166 Tim Blewett, "Bible, Land, Justice -The Challenge of Na'im Ateek and Palestinian Liberation
Theology," Theology (May/June 1993): 212.
167 Robert Allen Warrior, "A Native American Perspective: Canaanites, Cowboys, and Indians,"
Voices From the Margin, 289.
265
Часть первая. Распад толкования
судьбы» Америки было «наполнить континент, данный Провидением
для свободного развития наших ежегодно растущих миллионов».168
Экспансия на запад оправдывалась подобием между Израилем и
Северной Америкой. Сравнение проводили настолько близко, что
некоторые пуританские проповедники, очевидно, «любили
говорить о коренных американцах как об амаликитянах и хананеях,
иначе говоря, о народах, которые, если не обратятся, подлежат
уничтожению».169 Уорриор делает следующий герменевтический
вывод: описанное в книге Иисуса Навина завоевание обеспечило
белых поселенцев идеологией, оправдывавшей истребление
коренных народов. Политическое толкование Библии способствовало не
просто колонизации, а геноциду.
Бесспорно, Библию использовали для угнетения определенных
людей или народов. Но чья здесь вина — библейской идеологии
или того, как Библию толковали? Как я буду доказывать в главе 7,
чтение также не избегло влияния первородного греха. Духовное
состояние читателя, точно так же, как и его социальное положение,
влияет на процесс толкования, и в этом еще одна причина
сохранить независимый «смысл текста» в противовес интересам
толкователей. Для того, чтобы критиковать использование Ветхого Завета,
скажем, европейскими колонизаторами, нет нужды читать Маркса.
Потому что сам текст достаточно убедителен для того, чтобы
обеспечить необходимые возражения и помешать попыткам
использования его в чуждых политических целях.170
Я уже говорил, что Десять Заповедей соответствуют
интересам каждого. Другие тексты Ветхого Завета также излагают то,
что можно назвать идеологией святости и социальной
справедливости. Например, Лев. 19 обосновывает предписания о святости
168 John L. O'Sullivan, цит. по J. E. Johnson, "Manifest Destiny," в Dictionary of Christianity in
America, ed. Daniel G. Reid, et al. (Downers Grove, 111.: Inter Varsity 1990), 703.
169 Там же, 293.
170 А как же повествование о завоевании Земли Обетованной? Могут ли христиане применять
книгу Иисуса Навина в новых стиуациях (как, например, крестоносцы и конкистадоры?) Если
бы мне пришлось формулировать адекватный ответ, я избрал бы стратегию обращения к более
полному каноническому контексту всего библейского текста. Из непосредственного литературного
контекста становится ясно, что завоевание Ханаана должно было стать единовременным
событием. Оно относилось к выполнению отдельного обетования, данного Аврааму, и поэтому
не может служить источником общего принципа. Более того, земля была не просто владением, а
«средством достижения блага, обетованного покоя» (Brevard Chi Ids, Biblical Theology of the Old
and New Testaments [London: SCM, 1992], 146). И наконец, в контексте всего канона, не Иисус
Навин, а Иисус Христос вводит свой народ в новый, эсхатологический покой (Евр. 4, 1-11).
266
Глава четвертая. Упразднение читателя
жизни святостью Божьей: «Святы будьте, ибо свят Я Господь, Бог
ваш» (Лев. 19, 2). Вся глава представляет собой тонкое сочетание
обрядовых требований и нравственных обязательств, достигающих
кульминации в том, что Иисус позже назовет «второй заповедью»
(Мк. 12,31): «Люби ближнего твоего, как самого себя» (Лев. 19,18).
Особо важно то, что эта заповедь распространяется и на
чужеземцев: «Пришелец, поселившийся у вас, да будет для вас то же, что
туземец ваш; люби его, как себя; ибо и вы были пришельцами в
земле Египетской» (Лев. 19, 34). Наконец, в Лев. 19 выражается
забота о благосостоянии как бедного, так и пришельца:
«Виноградника твоего не обирай дочиста, и попадавших ягод в винограднике
не подбирай; оставь это бедному и пришельцу» (Лев. 19, 10). Стоит
отметить, что эти же темы есть и в книге Второзакония.171
Политика и тело
Теперь обратимся от политики земли к политике тела. То, как в
Ветхом Завете представлена женщина, является, согласно
Френсису Уотсону, «одним из центральных богословско-нравственных
вопросов современной герменевтической ситуации».172 Вопрос
феминистского толкования Библии не в истреблении народов, а в «роде».
Род — категория не биологическая, а культурно-идеологическая; это
значение, приписываемое биологическому роду человека социально-
политической структурой. Это способ «написания» тела, введения
женщины в структуру социально-политических отношений. Иначе
говоря, смысл тела есть языковой конструкт — и плоть стала словом.
Фуко утверждает, что «тело также прямо вовлечено в область
политики... Позиция власти имеет к нему прямое отношение; она
наполняет его, отмечает, упражняет его, подвергает мучениям, принуждает
исполнять задания, проводить ритуалы, производить знаки».173
Некоторые феминисты доказывают, что Библия отмечена женофобией,
что женщины в ней представлены как собственность, покорные
слуги, подчиненные мужчине. Канадская романистка Маргарет Этвуд
недавно описала свои страхи относительно фундаменталистского
171 Например: «[Господь, Бог ваш,] дает суд сироте и вдове и любит пришельца, и дает ему
хлеб и одежду» (Втор. 10, 18).
172 Watson, Text, Church and World, 201.
173 Michel Foucault, Discipline and Punish: The Birth of Prison, tr. Alan Sheridan (New York:
Vintage/Random House, 1979), 25.
267
Часть первая. Распад толкования
толкования в своем романе «Рассказ служанки». Что если бы
христиане-фундаменталисты получили власть в Соединенных Штатах?
Этвуд считает, что они возродили бы статус служанки и
использовали бы женское тело как средство для производства детей.
Феминистское богословие — общий термин для обозначения
нескольких отдельных движений. «Цель в том, чтобы дать всем
увидеть, что так называемое «всеобщее» богословие предвзято
игнорировало женщину и ее мировоззрение».174 Объединяет эти
движения критика идеологии, в данном случае патриархальной (т. е.
правления мужчин), и предпочтение опыта и интересов женщин.
Феминистская герменевтика разделяет с деконструктивизмом
недоверие к стабильности смысла и сопутствующему понятию
правильного толкования.175
Феминистская герменевтика Библии
По мнению Элизабет Шлюссер Фиорензы, «феминистская
теория утверждает, что все тексты — продукт андроцентрической
патриархальной культуры и истории».176 Задача, которую ставит
перед собой читатель-феминист — толковать Библию так, чтобы
снять потенциал угнетения, раскрывая в то же время ее
освободительную силу. Это может привести к такому толкованию Библии,
при котором значение текста (в современном контексте) не будет
ограничено тем, что текст говорит явно (в собственном,
композиционном контексте). Феминистское толкование стремится
освободить текст от его собственных идеологических
ограничений. Элизабет Фиоренза утверждает, что «канон откровения» для
богословской оценки «не может быть выведен из самой Библии, но
может формироваться только в борьбе женщины за освобождение
от всякого патриархального угнетения».177 Иначе говоря, основа
толковательной авторитетности находится вне текста, в
социальной деятельности, способствующей освобождению женщины.
174 Ann Loades, "Feminist Theology," in David F. Ford, ed., The Introduction to Christian Theology
in the Twentieth Century (Oxford: Blackwell, 1989), 2:250.
175 See Toril Moi, Sexual/Textual Politics: Feminist Literary Theory (London: Methuen, 1985).
176 Elisabeth Schtissler Fiorenza, In Memory of Her: A Feminist Theological Reconstruction of
Christian Origins (New York: Crossroad, 1983), xv.
177 Там же, 32; ср. Ellen К. Wondra, "By Whose Authority? The Status of Scripture in Contemporary
Feminist Theologies," Anglican Theological Journal 75 (1993): 83-101.
268
Глава четвертая. Упразднение читателя
Элизабет Фиоренза прямо говорит о своем «каноне вне канона».
Будучи принята как норма, идея освобождения женщин «отдает
библейские тексты под власть феминистского опыта, поскольку
утверждает, что откровение продолжается «ради нашего спасения».178
Шейла Бриггс удачно описывает значимость решения сделать
современный контекст арбитром толкования текстов: «Это переход от
власти текста к власти общественной практики, от ортодоксии к ор-
топраксису... произошла трансформация и переоценка
герменевтических категорий, наделившая нормативной ценностью социальную
деятельность, направленную на освобождение угнетенных».179
Написание тела
Капитт уподобляет тело тексту: тело «принадлежит
культуре, которая есть система знаков; следовательно, оно доступно
прочтению».180 Фуко согласен: «Подобно тому, как в лингвистике
Соссюра знак обретает смысл благодаря месту в системе различий,
так и человек обретает личность в системе отношений, но не
лингвистических, а социальных». Библия и западная культура
«прописывают» для тела социальную программу, действенно
контролирующую чувство отождествления себя с телом и взаимоотношения с
другими телами. Например, Ветхозаветный закон определяет роль
сексуальности запретами и иерархическими оппозициями (напр.:
мужчина-женщина, чистый-нечистый, девственница-блудница,
гетеросексуальный-гомосексуальный). Как мы уже видели,
постмодернисты воспринимают подобное бинарное мышление как
неизбежно угнетающее: «Мы имеем дело не с мирным
сосуществованием противоположностей, а с насильственной иерархией. Один
термин контролирует другой».181 Феминисты жалуются на то, что
178 Schiissler Fiorenza, Bread Not Stone: The Challenge of Feminist Biblical Interpretation (Boston:
Beacon Press, 1984), 14. Анн Е. Карр указывает на две проблемы в отношении опыта женщины
как герменевтического принципа. Во-первых, что такое на самом деле «опыт женщины»? И
во-вторых, он не может служить нормой интерпретации, поскольку в этом случае он просто
умножил бы сам себя и не смог бы обеспечить самокритики ("The New Vision of Feminist
Theology" в Catherine Mowry LaCugna, ed., Freeing Theology: The Essentials of Theology in
Feminist Perspective [San Francisco: HarperCollins, 1993], esp. 21-25).
179 Sheila Briggs, "Buried with Christ," 277.
180 Cupitt, Long-Legged F/y, 13 7.
181 Derrida, Positions, tr. Alan Bass (Chicago: Univ. of Chicago Press, 1981), 41. Вопреки Дерриде, я
утверждаю, что признание некоторых иерархических оппозиций может быть условием свободы
человека. Например, человек, отрицающий бинарную оппозицию Творец-творение, никогда не
сможет должным образом настроиться на структуру реальности.
269
Часть первая. Распад толкования
в культурной системе христианского патриархата «тело»
(ассоциирующееся с женщиной, в основном, благодаря христианскому
толкованию образа Евы в Бытии) всегда помещалось ниже «разума»
или «духа». Эти и другие языковые противопоставления «наносят
тело на карту» и колонизируют сексуальность.
Патриархат рассматривает тело в контексте одной культурно
сформированной привилегированной иерархической оппозиции:
«мужчина-разум-речь» главенствует над «женщина-тело-письмо».
В самом деле, некоторые феминисты доказывают, что различие по
роду и есть ключевая иерархическая оппозиция: иначе говоря,
родовое различие вместе с подразумеваемым доминированием
мужчины является основной моделью для всех угнетающих
противопоставлений.182 Деррида придумал термин «фаллогоцентризм» как
обозначение связанности западной метафизики (логоцентризма) с
идеей мужского превосходства (фаллоцентризмом).183 Юлия Крис-
тева, идя по стопам Фрейда и Жака Лакана, предполагает, что
фаллос является трансцендентным обозначаемым современной
западной патриархии; в патриархии господствует право закона, право,
выражающееся в символе «отец».184 Итак, с помощью Фрейда и Де-
рриды читатели-феминисты стремятся упразднить и патриархию, и
«отеческую власть» библейского текста.185
Феминистские читатели Библии желают читать так, чтобы это
«позволяло им применять написанное к себе как к женщинам».186
Их не особо интересует замысел исторического автора: «Споры о
замысле — испытания на отцовство... они связаны с
патриархальной необходимостью установления принципов определения того,
какие идеи принадлежат к законному потомству автора, а какие
незаконны».187 Для феминистских читателей толкование Библии
авторитетно только в том случае, если оно освобождает угнетенных
и рождает человеческую свободу. Однако для некоторых борьба за
освобождение приобрела ожесточенный характер. Мэри Дэйли,
радикальная феминистка-богослов, считает, что язык Библии
182 См., например, Gerda Lerner, The Creation of Patriarchy (Oxford: Oxford Univ. Press, 1986).
183 Cm. "Choreographies," в Derrida, The Ear of the Other, особ. 171, 179, 11; и Derrida, Acts of
Literature, 57-60.
184 Cm. Eagleton, Literary Theory, 187-88.
185 Handelman, Slayers of Moses, ch. 7.
186 Cm. Susan Lochrie Graham, "Silent Voices: Women in the Gospel of Mark," Semeia (1991): 146.
187 Там же, 147.
270
Глава четвертая. Упразднение читателя
способствует патриархату и призывает к «кастрации языка и
образов, которые сохраняют структуры женофобского мира».188
Кастрация лишь завершающий из целого ряда актов насилия, которое
обрушивают на текст идеологические критики, — и все во имя
освобождения читателя. Конечно, после кастрации текст не может не
заговорить фальцетом.
Несомненно, Библию можно читать с самых разных
перспектив; некоторые из них, безусловно, чужды оригинальным авторам.
Однако не все варианты толкования полезны, и не все —
нравственны. Феминисты используют идею освобождения как основание для
чтения «против текста»; но если всякое чтение контекстуально и
отягощено теорией, не является ли феминистское толкование
просто заменой одной идеологии на другую? Идеологическое толкование
в этом смысле напоминает логическую ошибку, при которой
спорный вопрос считается заранее решенным: результат толкования
(т. е. «вывод» из процесса чтения — освобождение женщин) уже
заключен в заинтересованности толкователя (т. е. «предпосылке»,
из которой исходит толкование, — восприятии опыта женщин как
нормы толкования). Тисельтон верно описал последствия
использования библейского текста как подпорки для какой-то точки
зрения: «Преобладающе прагматическое использование библейских
текстов имеет статус проявлений самооправдания и
потенциальной манипуляции».189 Если опыт и интерес сообщества — контекст
современности — обеспечивает рамки для толкования Библии, что
произойдет, если сами рамки порочны? Счесть контекст и читателя
приоритетным фактором означает оградить собственное
толковательное сообщество от возможности критики со стороны текста.
Чтение таким способом подобно отражению в зеркале текста
собственного лица, герменевтической стратегии, обрекающей
толковательное сообщество вечно разглядывать собственное отражение.
Такая нарциссическая герменевтика имеет мало шансов углубить
самопознание, или, по этой же причине, достигнуть подлинного
освобождения.
188 Цит. по Deborah F. Middleton, "Feminist Interpretation," in Dictionary of Biblical Interpretation, 232.
189 Thiselton, New Horizons, 452. Если мы собираемся читать Библию с перспективы «нашего»
опыта, насколько специфичными нам надо быть, если мы хотим избежать изолирования
кого-либо? Некоторые феминистические толкователи Библии считают, что опыт темнокожей
женщины значительно отличается от опыта женщины белой. Но что делает это различие более
важным, чем, например, различие в возрасте — двадцать или сорок лет, в происхождении — с
севера или с юга, или в цвете волос — темном или светлом?
271
Часть первая. Распад толкования
ЭТИКА УПРАЗДНЕНИЯ: «НОВАЯ НРАВСТВЕННОСТЬ»
ПОЗНАНИЯ
У читателей этой книги к данному моменту может возникнуть
желание отвергнуть постмодернистскую критику как
нигилистическую или же банальную, как богохульство или пустую игру
разума. Тот факт, что Деррида настаивает на свободной игре
знаков, разбирая на части теории и богословские системы, игривость
его толкований — все это, казалось бы, оправдывает восприятие
деконструктивизма как чего-то «несерьезного», или, еще хуже,
«безнравственного».190 Но прежде, чем читатели-христиане
вынесут свое суждение, следует сделать попытку толковать Дерриду как
можно более снисходительно. Сделать это — значит пойти на риск.
Наши самые искренние и глубокие убеждения могут оказаться под
сомнением, более того — рухнуть. Но не рискнуть собой ради
попытки понять другого еще более опасно: отказаться быть честным —
значит рисковать собственной порядочностью, личностной
целостностью, нанося себе огромный вред.
В этой главе я попытался доказать, что «игра» критики
времен постмодерна ставит своей целью освобождение. Все читатели
подвергаются воздействию со стороны общественных институтов,
идеологическому давлению: «Каждому обществу свойственно
собственное понятие об истине, «общие направления политики» в
отношении истины: то есть те типы дискурса, которые оно признает и
использует в качестве истинных».191 На этом фоне и надлежит
говорить об этике упразднения. Деррида подрывает всякие попытки
общества «контролировать» смысл текста, доказывая, что текст в
конечном счете избегает любой системы толковательных
ограничений. Текст всегда можно прочесть в новом контексте и с иными
целями. С точки зрения деконструкции, критика идеологии
«единого истинного мнения» порождает новую нравственность
литературного познания. Нравственный читатель отказывается верить
в устойчивый смысл и окончательные решения.
Ван Харви, представляя современную нравственность
познания, утверждает, что человеку не дозволено придерживаться
190 И Гадамер, судя по цитате в Simon Critchley, The Ethics of Deconstruction: Derrida and
Levinas (Oxford: Blackwell, 1992), 3n.6.
191 Foucault, Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings, 1972-1977, ed. Colin
Gordon (New York: Pantheon, 1980), 132.
272
Глава четвертая. Упразднение читателя
твердых убеждений в отсутствие достаточного обоснования.
Традиции попадают под сомнение первыми: убеждения находятся под
подозрением, пока не будет доказана их невиновность.
Модернистский субъект познания имеет следующие нравственные
обязательства: (1) критически относиться к вере; (2) быть объективным; (3)
отвечать за собственные критические суждения и (4) основывать свои
суждения только на доказательствах. Современная
постмодернистская этика познания идет гораздо дальше. Если язык определяет,
а не обнаруживает структуру и существенные признаки текста (и
мира), то нравственное отношение к познанию состоит в
отказе от веры — «не верую, чтобы устоять». В отсутствие
возможности существования «авторизованной версии» единственно верная
нравственная позиция — сопротивление каждой версии,
претендующей на роль авторитетной. Плантинга верно объяснил логику этой
позиции: «Так антиреализм порождает релятивизм и нигилизм».192
Поскольку, признав правоту Дерриды, читатель ясно видит суть
каждого утверждения, претендующего на знание и истинность.
По словам Плантинги: «Единожды «увидев»... что такого понятия,
как чистая истина, не существует, вы поймете... тщетность,
глупость и жалкую, обманчивую природу стремления к
интеллектуальному познанию».193
Деконструкция догмы: упразднение знания как
объекта поклонения
Каковы последствия этой «новой нравственности» познания для
толкования Библии? Они весьма значительны. Под подозрение
попадает уже не одно какое-то утверждение о познании, то или другое
толкование; сомнения вызывает уже сама идея (и идеал) знания.
В самом деле, идея толкования и идеал понимания стали почти
невероятными. Утрата веры постмодернистскими критиками и
теоретиками является, как я уже доказывал, следствием
предшествовавшего ей богословского события: «смерти» Бога.
Так называемые проповедники «смерти Бога» 1960-х
рассматривали кончину Бога как крушение идола, деконструкцию плода
192 Alvin Plantinga, "Augustinian Christian Philosophy," Monist 75 (1992): 303. Плантинга
именует отрицание реализма «творческим антиреализмом».
193 Там же, 304.
273
Часть первая. Распад толкования
воображения философов — высшего существа классического
теизма.194 Возвещая две смерти — Бога и автора — деконструктивизм
провозглашает заодно и кончину смысла (т. е. определенного
текстового значения) и толкования (т. е. правильного понимания).
Смерть Бога также ознаменовала собой рождение читателя и того,
что Плантинга называет «творческим антиреализмом»:
прославление присущей человеку власти устраивать и дифференцировать
мир по своему усмотрению. «Смерть Бога, выраженная в
письменной форме», становится источником непрерывного торжества
толкования. Признавая рукотворную природу мира и толкования,
читатель обретает свободу вечного чтения. Новая нравственность
литературного знания, отвергающая понимание, включает в себя
один важнейший принцип: «Не верь в абсолютное». Джон Капуто
недвусмысленно исповедует свое неверие: «Я отвергаю все, что
пытается возвыситься над вечной изменчивостью... Я пишу... снизу, и
всех, кто поступает иначе, прошу пояснить, как они достигли столь
высокого положения... Цель всегда состоит в том, чтобы избежать
иллюзии, будто наши установления и обычаи, наш разум и наша
вера упали с неба».195
Является ли вера в единственное истинное толкование
идолопоклонством? Толкования вряд ли можно назвать «кумирами» или
«изображениями», требующими поклонения. С другой стороны,
«изображение» есть подобие чего-то. И как изображение отражает
оригинал, так и толкование отражает текст. Однако Писание
утверждает, что трансцендентный Бог не может быть ни назван, ни
изображен. «Способность назвать и изобразить что-либо означает
способность властвовать над этим, контролировать его и
манипулировать им».196 Возможно ли, что под именем толкования некоторые
стремятся «контролировать» если не самого Бога, то Божье Слово?
Не угрожает ли нам опасность спутать собственное толкование —
которое всегда второстепенно, контекстуально и никогда не бывает
194 Carl A. Raschke, "The Deconstruction of God," 3. Эту цитату стоит привести полностью:
«Деконструктивизм, который следует рассматривать как внутренний мотив богословия
двадцатого века, а не как враждебную программу, есть, при окончательном рассмотрении,
смерть Бога, выраженная письменно, классификация «Слова» «плотью», затопление
имманентностью».
195 Caputo, Radical Hermeneutics: Repetition, Deconstruction, and the Hermeneutic Project
(Bloomington: Indiana Univ. Press, 1987), 279, 272.
196 Darrell J. Fasching, "Idolatry," в Donald W Musser and Joseph L. Price, ed., A New Handbook of
Christian Theology (Nashville: Abingdon, 1992), 246.
274
Глава четвертая. Упразднение читателя
окончательным — с текстом; опасность, которую можно было бы
назвать идолопоклонством литературного знания? Если так,
то важно добавить, что идолопоклонство заключается не в вере
в единственное истинное толкование, а в убежденности, что
этим толкованием обладаем именно мы.
Книга Исайи представляет идолопоклонство как одну из граней
греха гордыни.197 Верить в абсолютность наших толкований — все
равно что поклоняться нашим собственным творениям; это равно
утверждению, что мы смотрим глазами Бога. Введенное Дерридой
понятие дифферанса ниспровергнет идеологические толкования,
претендующие на полноту отображения текста: «Как критика,
деконструкция ничего не утверждает; она лишь показывает, как любой текст
противится полной формализации путем создания дополнения».198
И сейчас мне хотелось бы дать высокую оценку деконструкти-
визму, постоянно бросающему вызов гордыне толкователей.
Польза деконструктивизма, с точки зрения Дэвида Клайнза, в
том, что он упраздняет догму: «Деконструктивный подход
уничтожает догму как таковую, а признание того, что подвергаемый
деконструкции текст утверждает разные философские системы, избавляет
нас от привязанности к любой из них как к догме».199 Сердце человека
жаждет догмы и чувства безопасности, обретаемого вместе с
уверенностью в своей абсолютной правоте. Опасность догмы в том, что ею
можно обосновать не только веру, но и фашизм: абсолютное знание
развращает абсолютно. Возможно, мы могли бы сказать, что деконс-
труктивизм, подобно самой книге Второзакония, носит
педагогическую функцию. Подобно Закону, напоминающему нам о недостатке
у нас святости, деконструктивизм напоминает нам о недостатках
нашего толкования. Однако куда же приводит нас деконструкция?
Ниспровергнув кумиров, Идолов Знака, что ставит она на их место?
Ничего, кроме пустоты. Очистив дом смысла от автора, Упраздни-
тель может обнаружить, что семь духов злейших прежнего пришли и
овладели текстом (ср. Мф. 12,45). Конечно, читатели всегда
занимают определенную позицию; толкование не бывает внеконтекстным.
Однако слишком легко оказывается забыть об этой позиции, и еще
легче — забыть о том, что моя точка зрения — небеспристрастна.
См. Barton, "History and Rhetoric in the Prophets," в Bible As Rhetoric, 62.
Hart, Trespass of the Sign, 144-45.
Clines, "Deconstructing the Book of Job," 79.
275
Часть первая. Распад толкования
Это касается и «упразднителей». Подобно идолопоклонникам,
преклоняющимся перед собственным творением, деконструктивисты
могут поддаться искушению переоценить важность своих
отрицаний. Итак, остается открытым вопрос о том, что следует считать
большим проявлением гордыни: верить, что ты понял правильно,
или верить, что ты опроверг саму возможность понимания.200
Справедливость в отношении к Иному
Негативная формулировка этики деконструктивизма — по
сути, сопротивление обобщению и завершенности. Но что делать
после такого упразднения? В позитивном изложении этика
деконструкции выражается в почтении к «инаковости», в отказе от
поглощения иного — всего, что не является мной самим — моим
мышлением и деятельностью. Один библейский критик, разделяющий
взгляды Дерриды, пишет, что
деконструкция означает стремление сохранить
разнородность текста, бдительное отношение к попыткам
«закрыть» текст, приверженность критической позиции,
почтительно относящейся к сложной структуре, трудности
и неясности; деконструктивное прочтение не стремится
превзойти текст и достигнуть обобщающего влияния на
него; деконструктивное прочтение обязано всегда быть
критичным, и прежде всего — самокритичным.201
Тема «иного» — центральная в работе Эммануэля Левинаса,
который рассматривает критику прежде всего как изучение
происходящего при встрече «я» и «иного».202 Первейшая обязанность
мышления — не уловить «иное», а позволить ему быть. Нравственность
200 Верн С. Пойтресс применяет схему «творение-падение-искупление» к герменевтике и
прямо говорит о «грехах толкования». Он также признает сущностную связь между богословием
и герменевтикой; каждый акт интерпретации есть одновременно толкование себя, толкование
Божьего Слова и интерпретация мира ("Christ the Only Saviour of Interpretation," Westminster
Theological Journal 50 [1988]: 305-21). Я возвращаюсь к теме богословской герменевтики во
второй части книги.
201 Berg, "Reading In/to Mark," 191. Однако, как я утверждаю на всем протяжении этой главы, мне
неясно, как «упразднителям» и «пользователям» удается быть достаточно самокритичными.
202 Левинас, прежде всего, имеет в виду других людей. Иное — это не объект, который
можно кратко классифицировать, но нечто самобытное и требующее нашего неограниченного
внимания. Для знакомства с Левинасом, см. его Ethics and Infinity, tr. R. A. Cohen (Pittsburgh:
Duquesne Univ. Press, 1985).
276
Глава четвертая. Упразднение читателя
в постмодернистском понимании ставит под сомнение попытку
познающего покорить иное или овладеть им, поместив его в
систему идей. Более того, этика ставит под вопрос философию,
поскольку сама философия представляет собой попытку избавиться от
всех форм инаковости, «преобразовав их отличия в Тождество».203
В частности, модернистская философия, поставив на первое место
эпистемологию, сводит инаковость к общей, стирающей границы
понятийной системе. Философия как таковая становится формой
интеллектуального империализма: «Покоритесь категориям моим».
Однако для постмодернистских мыслителей, черпающих
вдохновение у Левинаса и Дерриды, «царство нравственного дискурса
превосходит все данные понятийные структуры, но делает это путем
терпеливого исследования их границ».204
Деррида в конечном счете стремится упразднить любое
прочтение, подавляющее инаковость — текста, различных контекстов —
ради обобщающего толкования. Толкование становится «тотализиру-
ющим», претендуя на полноту и всесторонний характер. Деконструк-
тивный анализ обнаруживает части текста, которые можно прочесть
вопреки самому тексту или вопреки читательскому толкованию.
Деконструкция обнаруживает и то, в какой степени все толкования
обусловлены историческим и общественно-политическим
контекстом. Деконструктивист сомневается в правомерности определения
значения текста путем провозглашения одного из возможных
контекстов решающим, равно как и в правомерности попытки оказаться
выше всех ограниченных и частных контекстов. Однако, поскольку
читатели лишены возможности отдать предпочтение тому или
иному контексту, смысл оказывается безнадежно неопределимым.205
Итак, справедливость по отношению к тексту как к иному
означает упразднение всякой попытки его понять. Понять
означает «взять себе» — классически эгоистичный, а не нравственный,
жест. Итак, с точки зрения Дерриды, суть этики деконструкции —
в утверждении неизбежной инаковости текста и неизбежной
неопределимости надлежащего контекста для его толкования.
203 Critchley, Ethics of Deconstruction, 6. Левинас определяет философию как «алхимию,
преобразующую инаковость в тождество» (6), а этику — как «уважение к инаковости» (12).
204 Norris, Derrida, 224.
205 Критчли называет деконструктивизм «философией сомнения», выделяя эту сторону
неопределимости (Ethics of Deconstruction, 42). Обоснование центрального положения
«неопределимости» у Дерриды: см. Gary A. Phillips, "'You Are Either Here, Неге, Неге, or Here':
Deconstruction's Troublesome Interplay" Semeia 71 (1995): 207-8.
277
Часть первая. Распад толкования
Трансцендентность и имманентность
Чем занимается деконструктивист, ниспровергнув
авторитетность толкования? Является ли упразднение видом созидания?
Оправдывает ли цель (состояние упраздненности, неопределенности,
освобождения) деконструктивные средства (упразднение)? Как мы
уже убедились, упразднение авторов, текстов и читателей часто
сопряжено с определенной мерой толковательного насилия. А
использование текстов для утверждения собственной идеологии
превращает читателя в узурпатора — претендента на власть и права
автора. В свете деконструктивного упразднения и прагматистского
пользования, немаловажным оказывается следующий вопрос:
действительно ли постмодернистская критика отстаивает инаковость?
Этика деконструктивизма сводится к иконоборческому жесту,
за которым следует безразличное пожатие плечами: вначале —
сопротивление, потом — нерешительность. Контекст неизбежен,
как неизбежна и множественность возможных значений. Однако,
в конце концов, не должны ли мы сказать, решить, сделать что-то?
Или упразднение по сути своей — бездействие} Если обязанности
читателя в основном негативны — «Не навязывай тексту
согласованности и окончательности» — возможно ли когда-либо, миновав
этику запрета, достигнуть этики любви? Саймон Критчли
утверждает, от имени деконструкции, что ее роль заключается в заботе о
том, чтобы толковательное сообщество «оставалось открытым,
служа нравственному многообразию».206 Общество является
справедливым, если оно открыто для постоянной критики; «упразднитель»
служит обществу в роли жалящего овода — критика. Самой
трудной задачей философии всегда было представление границ разума
как такового. «Поскольку не исключено, что именно поставив под
сомнение сам разум, причем сделав это терпеливо и обоснованно,
философия сможет наилучшим образом справиться со своей
современной задачей».207
Как появилась эта постмодернистская версия обязанностей
толкователя? Какие глубинные убеждения служат основой уважения к
иному? Почему нам следует принимать такое понимание этих
обязанностей? Деррида нигде не дает прямого ответа на эти вопросы.
Critchley, Ethics of Deconstruction, 238.
Norris, Derrida, 237.
278
Глава четвертая. Упразднение читателя
Я полагаю, что этика деконструктивизма происходит из его
молчаливого богословия; или, если выразиться точнее, из понимания им
трансцендентности и имманентности. С одной стороны, инаковость
текста превосходит все попытки познать его; с другой — все
попытки познания имманентны, направлены «снизу», движимы частными
интересами и отягощены политическими разногласиями.
Деррида считает, что трансцендентность приводит к непознаваемости.
Знание же, с другой стороны, всегда имманентно, всегда
относительно — то есть связано с тем или иным контекстом. Итак,
имманентность подразумевает неразрешимость.208
Задаваться вопросом об обязанностях толкователя — о благе
толкования — означает перейти не только от нравственного к
богословскому, но и от критического к метакритическому.209 Мета-
критика исследует критические принципы и предлагаемые
критерии успешного прочтения. Ее меньше интересует вопрос «как», и
больше — «почему»; а именно: почему читатели должны
предпочитать один набор целей интерпретации другому?210 Или
проще: зачем вообще читать? Это — не праздный вопрос в
постмодернистском контексте, когда многие читатели скептически относятся
к возможности понимания. Впредь современные герменевтические
теории должны быть готовы дать разумный, нравственный и в
конечном итоге богословский отчет в том толковательном уповании,
которое в них подразумевается.211
Тем временем представляется, что читатели-постмодернисты
обречены на неверие. Новая нравственность литературного познания
противится вере во что-либо, даже в собственные толкования.
Я уже говорил о том, что деконструктивизм — это не
«бессмысленный релятивизм» и не вид нигилистической игры. Релятивистские
208 Следует, однако, отметить, что взгляды Дерриды на различие трансцендентного и имманентного
нельзя назвать христианскими. Хотя некоторые пытались связать Дерриду и негативное богословие,
ставящее Бога выше человеческого языка и понятий, Деррида до сих пор вежливо отклонял такие
комплименты. Подробное рассмотрение взаимоотношений Дерриды и негативного богословия см.
Kevin Hart, The Trespass of the Sign, 184-86, ed, Derrida and Negative Theology.
209 Cm. Barrie A. Wilson, "Metacriticism," в Encyclopedia of Contemporary Literary Theory, 102-10.
210 Тисельтон верно отмечает, что сама природа текстов должна оказывать некое влияние на
формулировку целей толкования — предположение, которое я более детально рассмотрю в гл. 6
(см. Thiselton, New Horizons, 316-18).
211 Эту задачу я постараюсь решить во второй части книги. Другая такая попытка предпринята
Вольфхартом Панненбергом, который отмечает, что смысл относится к взаимодействию частей
и целых, и разрабатывает богословское обоснование, в котором будущее отношений Бога и
мира, предвосхищенное в Иисусе Христе, является окончательным контекстом для толкования.
См. Thiselton, New Horizons, 331-38.
279
Часть первая. Распад толкования
и нигилистические моменты в деконструктивизме служат
глубинной нравственной цели: не позволить познающему читателю надеть
на иное смирительную рубашку «общей теории». Однако, невзирая
на предполагаемую заботу об ином, постмодернистам, как я уже
говорил, нелегко оказывается встретиться лицом к лицу с иным. Как
может критик-постмодернист уважать иное, если его присутствие
всегда отдалено, а его слова — всегда неопределенны? Делает ли
критик-постмодернист что-либо для измученного текста — или
просто проходит мимо? Возможно ли, что при всей их риторике о
нравственности, критики-постмодернисты на самом деле боятся встречи с
иным? А в чем еще может выражаться страх перед встречей с иным —
будь то с текстом или с личностью, — как не в страхе того, что эта
встреча может изменить нас, что мы можем быть «упразднены»?
Чтобы избежать этой угрозы, всегда присутствующей в чтении,
возникает желание претендовать на абсолютное знание — взгляд
глазами Бога. Я уже признавал, что деконструктивизм помогает
предотвратить этот безнравственный ход. Толкователям следует
противиться искушению «стать как боги». Однако деконструктивизм
предлагает не менее заманчивую возможность — отсутствие
определенного слова, которому был бы подотчетен читатель («Истинно ли
сказал Бог?»). Иначе говоря, искушение постмодернизма — в претензии
на абсолютное незнание. Если смысл неопределим — если не было
сказано ничего конкретного, определенного или точного — о какой
ответственности может идти речь? Лишившись власти автора и
текста, читатели-постмодернисты оказались в нравственной ситуации,
подобной положению Израиля во время судей, когда не было царя и
«каждый делал то, что ему казалось справедливым» (Суд. 21, 25).
При окончательном рассмотрении нам приходится отвергнуть
постмодернистское утверждение о том, что подозрение —
критический момент — исчерпывает нравственность толкования. При
том, что абсолютное знание в самом деле может подавлять иное, я
утверждаю, что и постмодернистский скептицизм неадекватен для
удовлетворения потребностей иного. К счастью, есть альтернатива
и абсолютному знанию, и абсолютной неопределенности.212
Подобающий страх перед иным, перед автором, воистину есть начало
познания.
212 Альтернатива, впервые обозначенная в конце гл. 3 и более полно рассмотренная во
второй части книги, — это адекватное, или достаточное знание — достаточное для общения
между человеческими существами, которые, будучи сотворены по образу Божьему, являются
коммуникативными агентами.
280
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Восстановление толкования:
действие и воздействие
Всякое логически последовательное объяснение
способности человеческой речи передавать чувства
говорящего и смысл, который он вкладывает в свои
слова, в конечном счете основывается на вере в
существование Бога.
Георг Ш тайне р.1
Любое действие человека — в некотором роде
участие в диалоге... Человек, отвечающий за свои
действия, готов принять и последствия своих поступков,
выражающиеся в реакции на них.
Ричард Нибур.2
Человек, отвечающий за свои слова и поступки и
есть Автор.
Томас Хоббс.3
Книги — не мертвые совершенно вещи, а
существа, содержащие в себе семена жизни, столь же
деятельные, как та душа, порождением которой они
являются... Убить хорошую книгу значит почти то
же самое, что убить человека: кто убивает человека,
убивает разумное существо, подобие Божье; тот же,
кто уничтожает хорошую книгу, убивает самый
разум, убивает образ Божий как бы в зародыше.
Джон Мильтон.4
1 George Steiner, Real Presences.
2 H. Richard Niebuhr, The Responsible Self.
3 Thomas Hobbes, Leviathan.
4 Milton, Areopagitica. (Мильтон Дж. О свободе печати. Речь к английскому парламенту
Часть вторая. Восстановление толкования
Можно ли продолжать разговор о литературной этике
после развития деконструкции? Ван Харви настаивает на
том, что современный богослов должен
придерживаться тех же критериев рациональности, которые состоят в обиходе в
других академических дисциплинах. Соглашаясь с этими словами,
Дэвид Трэйси добавляет: «Моральная ответственность богослова
в процессе научного познания должна заставить его относиться
критически к собственным традиционным убеждениям».5 Но ведь
именно это превосходство научного познания над всем остальным
и попадает под знак вопроса деконструкции — да и постмодернизма
в целом. Как когда-то разносилось в пух и прах традиционное
толкование Библии модернистскими критиками, почитающими своим
моральным долгом поставить под сомнение традиции во имя
светского здравомыслия, так теперь постмодернистские критики во имя
чувствительности к межкультурным различиям не оставляют
следа от притворной объективности их предшественников. Различия и
инаковость постмодернистского пантеона пришли на место
рационального мышления и универсальности.
Литературная этика — словосочетание, которое, после
продолжительной осады деконструктивизма, может легко застрять
костью в горле. Как мы уже видели, Деррида разбивает иллюзию
о всяком естественном порядке, естественном смысле,
естественном законе путем деконструкции самого понятия естественности,
обуславливая его произвольными историческими и культурными
составными. Нет ничего естественного, ничего универсального,
нет простого смысла. Как и язык, все остальное тоже никогда не
становится более чем социальной конструкцией. Критиков эпохи
постмодернизма не провести притязаниями на какое-то познание, в
котором они видят лишь замаскированное стремление к власти —
символ политической борьбы. Как же теперь поступать с Писанием
читателю постмодернистской эпохи?
Георг Штайнер, известный литературный критик и
«истинный жрец чтения»,6 которого никак не назовешь сторонником
деконструкции, все же признает, что это течение нельзя назвать
(Ареопагитика). Пер. с англ. под ред. П. Когана с предисловием А. Рождественского. М.:
Издание С. Скирмонта, 1907.)
5 Tracy, Blessed Rage for Order (New York: Seabury, 1978), 7.
6 Фраза взята из предисловия к книге Nathan A. Scott Jr. and Roland A. Sharp, Reading George
Steiner (Baltimore: Johns Hopkins Univ. Press, 1994), ix.
282
Часть вторая. Восстановление толкования
непоследовательным: «Отказ от постулатов священного — это
отказ от самой идеи конкретного, постижимого значения понятия
'значение'».7 Идею же «светской поэтики» — соприкосновения с
языком и литературой, не выходящего за их же пределы, — Штай-
нер считает если не внутренне противоречивой, то по крайней мере
неспособной объяснить, каким образом слова могут содержать
информацию и воздействовать на кого-то. Читая, слушая музыку,
наслаждаясь шедеврами живописи, человек ищет соприкосновения с
чем-то большим, чем со знаками, звуками и формами: он ищет что-то
духовное — какое-то «реальное присутствие», достигаемое
посредством знаков, звуков и форм. Многие постмодернистские мыслители
принимают допущение Дерриды о том, что век знака по своей
природе теологичен, но затем отвергают существование и смысла, и Бога.
Эпохе постмодернизма не хватает грандиозности и глубины.
Сказать, что за пределами текста не существует никакого смысла, —
это ограничить понятие смысла областью языкознания, сделать его
полностью имманентным. Штайнер же призывает читателя сделать
ставку на существенность смысла, его трансцендентность.8 Он ясно
понимает, что «самый главный отказ течения деконструкции —
это богословское отречение и что одному виду веры (в неверие)
может противостоять лишь другой вид веры».9 Поэтому
провозглашение Дерриды о смерти смысла лишь указывает на неразрывную
связь между литературоведением и богословием. Деконструкти-
визм, совершенно ненамеренно, в чем есть немалая доля иронии,
подтверждает, что Бог — необходимое условие существования
всякого значения и толкования.10
Во второй части я ставлю перед собой задачу исследовать
богословие, на котором строится вышеупомянутый «другой вид веры» и
ставка на трансцендентность. Исследование это будет проводиться
с христианской точки зрения, и, таким образом, я надеюсь
представить конструктивную альтернативу «ответственному чтению»
Дерриды, альтернативу, основанную на христианской вере в то, что
Бог общается с человеком («В начале было Слово») и что человек,
7 Steiner, Real Presences.
8 Там же, 4.
9 Nathan A. Scott, Jr., "Steiner on Interpretation," in Reading George Steiner, 4.
10 Я думаю, именно это имел в виду Штайнер, когда писал: «Рассуждения о творчестве и смысле
при соприкосновении с текстом, музыкой, искусством возможны только благодаря богословию.
Значение понятия 'значение' — это трансцендентальный постулат» (Real Presences, 216).
283
Часть вторая. Восстановление толкования
созданный по образу Бога, в свою очередь выступает
коммуникативным деятелем. Не желая прибегать к нацеленной полемике, я строю
критику деконструкции на общем диалоге — ведь, в отличие от
полемики, для проведения диалога нет необходимости иметь
множество точек соприкосновения с оппонентом. Диалог может состояться,
даже если собеседники не имеют согласия о самом предмете спора.
Именно по этой причине я выбираю диалог, а не полемику с Дерри-
дой: мы с ним подходим к вопросу совершенно с разных сторон, да и
сам вопрос представляет для нас различные ценности. Если начать
последовательно опровергать позиции деконструкции, то всему
ходу полемики неизменно придется следовать деконструктивному
подходу, точно так же, как постмодернистским литературоведам
пришлось прибегнуть к образу мышления модернизма для его же
деконструкции. Вместо этого мне хотелось бы найти новый подход
к вопросу о смысле текста, вдохновение на который проистекает из
христианского понимания Бога, языка и трансцендентности.11
Вторая часть делится на три подраздела; ее структура троична.
Я к прибегаю к понятию Троицы не для того, чтобы оправдать
конкретный критический подход, как это делал Ориген в своем
разделении тела, души и духа, но потому, что любое размышление о смысле
и о толковании — это, по сути, богословское размышление. В свете
христианской веры в Бога — творца, искупителя и освятителя, —
мы вправе говорить, что Бог — Отец, Сын и Дух — открывает себя
человеку. Божье откровение выражается в творении, Христе и
церкви. Триединый Бог — коммуникативный агент (Отец и
автор), коммуникативное действие (Слово и текст) и
коммуникативный исход (Дух и сила восприятия). Я предлагаю строить
любой разговор об общении по образу троичного откровения. Ведь
Бог, о котором читаем в Писании, говорит, в отличие от
глухонемых идолов. Согласно Евр. 1, 1 и Никейско-Константинопольскому
символу веры, Бог «говорил в пророках» (est locutus perprophetas).
Богословское христианское описание герменевтики, как и всего
другого, должно выправить абстрагированные понятия смысла и
толкования, полученные в результате отказа от явно
христианских убеждений. В последующих главах я обращаюсь к различным
доктринам — о сотворении, о воплощении и об освящении — для
11 Несмотря на все, что Штайнер писал о богословских исходных предпосылках теории
литературы, на самом деле он не говорит ничего конкретного о Боге.
284
Часть вторая. Восстановление толкования
того, чтобы пролить свет христианской веры на такие
герменевтические понятия, как автор, текст и читатель.
Кроме того, в своих попытках выработать христианский подход
к вопросу о смысле, я отчасти следую постмодернистскому призыву
уважать других. Ведь христианская вера — это тоже что-то другое.
Элвин Плантинга занимает отличную от Харви позицию по
вопросу об этике всякого познавательного процесса, призывая
христианских философов выработать свой собственный образ мышления,
проводить собственные исследования. Нам нужно «не плавание по
современным течениям, а побольше христианской уверенности».12
Так как философия — это углубленное пояснение дофилософских
убеждений, Плантинга считает, что христиане не только могут, но и
должны строить свои рассуждения о Боге, мире и человеке на
христианских предпосылках. К этому списку мне бы хотелось добавить
теперь и смысл. Так как распад толкования вызван богословской
ошибкой, для ее исправления нам опять же понадобится
богословие. Кроме того, христианское богословие гораздо лучше, чем де-
конструктивизм, подходит для выполнения морального долга перед
«другими». Христианская история сама по себе свидетельствует об
уважении и любви Бога к другим. Евангелие — это история
отречения Бога от самого себя ради кого-то другого — человека. Смогут
ли читатели сделать что-то похожее ради автора?
Итак, вторая часть настоящей работы — ответ на призыв План-
тинги выработать позитивную христианскую философию. Каким
образом начать размышлять о смысле и толковании в свете учения
о Троице? Что, к примеру, можно сказать о метафизическом,
методологическом и этическом аспектах толкования в свете учений о
сотворении, воплощении и искуплении? Попытка дать ответы на эти
вопросы схожа с недавним переосмыслением социальной теории в
свете христианского вероучения. Джон Милбэнк утверждает, что
богословие не должно подчиняться теории общественного
устройства, рожденной и «воспитанной» на светском мировоззрении,
которое либо изменило христианское учение, либо отказалось от него
вообще. То же самое я хочу сделать и в области литературоведения.
Так называемые светские теории литературы — не что иное, как
замаскированное антибогословие. Как мы уже видели, убеждение
12 Эти слова были произнесены в инаугурационной речи Плантинги при вступлении им в
должность профессора философии Нотрдамского университета 4 ноября 1983 г. "Advice to
Christian Philosophers," 10. См. также Plantinga, "Augustinian Christian Philosophy," esp. 308-17.
285
Часть вторая. Восстановление толкования
Дерриды о том, что дифферанс — основа существования человека,
представляет собой полную противоположность действительности
и напрочь отрицает учение о сотворении. Христианское богословие,
замечает Милбэнк, не признает подобного изначального насилия.
Христианство развенчивает миф о том, что «различие, нетотализа-
ция и неопределенность смысла обязательно подразумевает
деспотизм и насилие».13 Сотворенный мир не хаотичен, не противоречив —
он зиждется на Божьем обетовании, задуман и предназначен для
радости и покоя.
Итак, вдохновленный советом Плантинги и примером Милбэн-
ка, я попытаюсь в настоящей части своей работы развить
богословский диалог с деконструктивизмом и разработать альтернативную
теорию литературы. Что произойдет, если мы примем на вооружение
христианское представление о действительности, познании и
морали? Нам придется заново преодолеть как будто уже покоренные
вершины, основываясь в этот раз на новых богословских предпосылках
и с новыми философскими представлениями. Время от времени наш
путь будет пересекаться с изысканиями других постмодернистских
«странников», и тогда нам придется с большой осторожностью
пробираться сквозь капризы произвольностей и бездны отчаяния.
13 Milbank, Theology and Social Theory, 5.
286
ГЛАВА ПЯТАЯ
Воскрешение автора: смысл как
коммуникативный акт
Общепринятые знаки есть то, при помощи чего
живые существа передают друг другу, насколько они
на это способны, движения своей души или что-то,
что они ощутили и поняли. Нет иной причины для
обозначения, кроме извлечения и передачи другому
разуму мыслительной деятельности того, кто
производит знаки.
Августин.1
Проблема автора в толковании — лишь один из ряда
родственных метафизических, эстетических и
этических вопросов о философском субъекте.
X. Л. Хикс.2
«Окончательное отрицание» смысла в структурной
и деконструктивной теориях на деле есть не
отрицание смысла, а отрицание человеческой способности
его контролировать; это — потеря веры в
способность человека к действию.
Джон К. Шерифф.3
Страх автора есть начало познания. Мы видели, что для
беспокойства о безопасности автора существуют веские
причины: когда столь многие критики провозглашают смерть
автора, вполне естественно тревожиться за свою жизнь. Но есть ли
место «страху авторов» в смысле «почтения к ним»? Можем ли мы,
1 Augustine, On Christian Doctrine, 2.2.3.
2 Hix, Morte d'Author: An Autopsy (Philadelphia: Temple Univ. Press, 1990), 12.
3 John K. Sheriff, The Fate of Meaning: Charles Peirce, Structuralism, and Literature (Princeton:
Princeton Univ. Press, 1989), 140.
Часть вторая. Восстановление толкования
например, и далее осмысленно использовать фразу, которая
обычно ставится после знака авторского права во вновь публикуемых
книгах: «Моральное право автора защищено»?
Вопрос о природе авторства означает в то же время вопрос и о
том, что значит быть человеком. Человеческие существа есть homo
loquens (существа говорящие). Однако каковы именно наши
взаимоотношения с языком, и насколько значимо занимаемое им
место? Деррида видит говорящего человека скорее рабом, чем
хозяином языка. В самом деле, именно потому, что языком невозможно
овладеть или придать ему устойчивость, критики-постмодернисты
продолжают говорить о смерти автора и о смерти субъекта. С точки
зрения критиков-постмодернистов, языковая система
упорядочивает как речь, так и мышление.
К счастью, категории «хозяин» и «раб» не исчерпывают список
возможных описаний взаимоотношений человека и языка. В этой
главе я рассматриваю образ автора как гражданина языка, со
всеми сопутствующими правами и обязанностями. Язык
действительно среда, в которой мы пребываем, но это — не открытое поле и не
тюрьма. Язык подобен городу, имеющему как общую структуру, так
и разнообразные районы; городу, в пределах которого говорящий
пользуется свободой передвижения.
Августин считал, что город языка существует, чтобы привести
человека ко граду Божьему. Язык необходим для общения, и
знаками следует пользоваться для этой же цели. Августин разделяет
полезное (uti) и приятное (frui). Высшая цель человеческой жизни —
наслаждение Богом. Язык, при надлежащем его использовании,
является одним из основных средств, ведущих к этой радости.
Деррида же, напротив, отвергает аспект полезности и сосредоточивается
на jouissance, удовольствии, получаемым от языка: «Пришествие
письма есть пришествие игры».4 Вероятно, нет лучшего контраста
между двумя теориями языка, чем тот, на который указывает
различие между христианской «радостью» и постмодернистской «игрой».
Этот контраст приводит нас и к одному из центральных
утверждений этой главы. Воспринимать язык и людей с точки зрения
христианского вероучения означает признать жизненную важность
и взаимосвязь общения и общности. Уважать моральное право
автора означает, прежде всего, воспринимать, а не переделывать
4 Derrida, OfGrammatology, 7. См. также отличную статью Бренды Дин Шильдген: "Augustine's
Answer to Jacques Derrida in the de Doctrina Christiana," New Literary History 25 (1994): 383-97.
288
Глава пятая. Воскрешение автора
то, что он сообщает. Это восприятие, в свою очередь, есть основа
литературного познания, которое, вероятно, может стать основой
для личного познания, для общности, преодолевающей
пространство и время. При окончательном рассмотрении видно, что мирская
картина языка держит Дерриду в плену. Следующие страницы
содержат то, что, надеюсь, будет иным, более правдивым
представлением о языке и о тех, кто пишет и читает на нем.5
ФИЗИКА ОБЕЩАНИЯ — ОТ КОДИРОВАНИЯ К
ОБЩНОСТИ
Философ Джон Сёрль видит проблему смысла как «переход от
физики к семантике».6 Каким образом физические звуки и видимые
знаки становятся словесным посланием: например, обещанием?
Как нам перейти от движущихся молекул, или морфем, к смыслу?
Как нам объяснить тот факт, что стихотворение трогает нас до слез,
обещание пробуждает твердую надежду, а притча побуждает
продать все, что мы имеем и раздать деньги бедным? Как объяснить
сотни ежедневных взаимодействий, отмеченных простыми фразами
(«Войдите»; «Потише, пожалуйста»; «С вас 4 доллара 99 центов»;
«Я тебя люблю»), которые определяют течение нашей жизни?
Может ли деконструктивизм адекватно объяснить то, что так или
иначе происходит ежедневно, а именно общение? Мы возвращаемся
к вопросам метафизики смысла, но здесь метафизика относится к
тем взглядам на природу вещей, которые являются важнейшими в
нашем общении. Если мы зададимся вопросом, почему такое
действие, как обещание, имеет далеко не произвольный смысл, нам
придется углубиться в метафизику.
Давайте в дальнейшем рассматривать значение не как свойство
слов или текстов (значение как существительное), а как
человеческое действие {значение как глагол). Или, если выразиться точнее,
слово, или текст, обладает смыслом только тогда, когда некая
личность обозначает им что-то. «Смысл», как и «поступок», относится
5 Деррида придерживается не просто нехристианских взглядов на язык, но, согласно Джону
Сёрлю, до-виттгенштейновских, и поэтому устаревших с философской точки зрения. См. Searle,
"Literary Theory and Its Discontents," 639.
6 John Searle, Intentionality: An Essay in the Philosophy of Mind (Cambridge: Cambridge Univ.
Press, 1983), 26.
289
Часть вторая. Восстановление толкования
не только к тому, что было сделано, но и к самому процессу
совершения этого действия. Поэтому о словах можно сказать то же, что и
об оружии: не слова убивают (утверждают, спрашивают, обещают
и т. д.): это делают люди. Поэтому смысл не есть неопределенная
сущность, и уж точно — не промежуточное состояние спящего
текста, нуждающегося в пробуждении к жизни, а вполне определенное
действие. Обычный язык намного точнее характеризуется как
«форма поведения, следующая правилам», чем как «игра без правил».7 И
языковые знаки, и человеческие самости с точки зрения новой
модели отличаются от своих деконструированных двойников. Потому
что с понятием смысла как формы действия автор
возвращается, но не в облике картезианского всемогущего, обладающего
самосознанием субъекта, а как участник процесса общения. Я
утверждаю, что смысл не так связан с игрой языковых элементов в
безличной знаковой системе, как с ответственностью участников
ситуаций межсубъектного общения.
Самость и знак: langue
Как мы видели в первой части книги, постструктуралисты
считают, что смысл герметически заключен в системе языка. Знаки
обладают смыслом лишь как часть языкового кода. Langue (язык
формального кода) предшествует parole (языку в использовании).
Эти языковые коды определяют, как мы говорим, думаем и
действуем; поэтому langue относится и к более широким культурно-
политическим системам, в переплетении которых мы
оказываемся. Деррида указывает, что langue в целом произволен; элементы
можно разместить по-разному. Языковой код связан не с миром, а с
самим собой («вне текста ничего нет»). То, что ранее считалось
«естественными» явлениями (см., напр.: Леви-Штраус о родственных
связях), сейчас рассматривается как произвольные социальные
установления. Учась языку, человек усваивает и систему различий и
разделений (напр.: «Инцест грамматически неправилен»).
Что же происходит с носителем языка, субъектом, в
постмодернистских моделях языка? Ответ сложен и, возможно,
противоречив. С одной стороны, субъект утратил способность говорить
7 John Searle, Speech Acts: An Essay in the Philosophy of Language (Cambridge: Cambridge Univ.
Press, 1969), 12.
290
Глава пятая. Воскрешение автора
свободно и может сказать лишь то, что позволяет ему языковая
система. Langue «пленяет всякое помышление». Исходя из такой
детерминистской точки зрения, говорящие склонны отречься от
ответственности за свои слова, пав жертвой искушения
коммуникативной праздности. Леви-Штраус сформулировал девиз
десятилетия для французских интеллектуалов 1960-х: «цель гуманитарных
наук — не образовать человека, но растворить его».8
С другой же стороны, некоторые постмодернисты следуют
утверждению Ницше о том, что сильные носители языка — поэты —
имеют власть переписывать мир, изобретая новые различия и
новые системы различения. Постмодернистская философия и теория
литературы в активном варианте не признают принципа
реальности, только принцип удовольствия: удовольствия от сотворения
новых структур и конфигураций. Язык становится средством
навязывания миру нашей воли; говорящий — не раб языка, а соучастник
творения. Искушение этой крайностью — не праздность, а
гордыня. Однако заметьте: в обоих случаях у говорящего мало
возможности взять на себя ответственность за свои слова. Это
постмодернистские взгляды упраздняют связи между словами, говорящими
и миром. Поэтому не остается ничего, что контролировало бы игру
языка или придавало бы ей цель. Постмодернистский язык,
подобно постмодернистской жизни, становится трагичным, лишаясь
способности что-либо значить.
Самость и предложение: parole
То, как человек воспринимает язык и теорию литературы,
отражается на его восприятии человеческого бытия. Модернизм
представляет субъекта осознанно контролирующим бытие;
постмодернизм — погруженным в кому, вызванную текстом.
Альтернативная модель, которую я предлагаю здесь, изображает субъекта
как активного участника общения, не как раба и не как господина,
а как гражданина языка. Повторяю: представление о языке как о
произвольной системе держит деконструктивизм в плену.
Постмодернистская картина языка отображает более семиотику (науку
о знаках), чем семантику (науку о предложениях).9 Далее я буду
8 Цит. по Burke, Death and Return of the Author, 13.
9 Дж. Л. Остин утверждает, что, «строго говоря, смыслом обладают только предложения»
("The Meaning of a Word," в Philosophical Papers, 3d ed. [Oxford: Oxford Univ. Press, 1979], 56).
ю- 291
Часть вторая. Восстановление толкования
противопоставлять языковую систему и ее реальное
использование, безличный языковой код с «заветом дискурса».
Знак более высокого порядка?
Я считаю, что Рикёр делает важный первый шаг в сторону
альтернативной картины, утверждая, что предложение есть не просто
знак более высокого порядка, а нечто совершенно новое: «Логос
языка требует, по меньшей мере, имени и глагола, и в
переплетении их рождается первая единица языка и мысли».10 Платон давно
утверждал, что слова сами по себе не истинны и не ложны; но
предложения — язык в использовании, язык как дискурс — соединяют
слова в «синтез, который выходит за пределы слов».11 Иначе говоря,
предложение есть нечто большее, чем просто сумма частей, и
представляет уровень сложности и уникальности, недоступный
описанию семиотикой. Рикёр видит семиотику и семантику как «две
науки, которые соответствуют двум видам единиц, характерным для
языка — знаку и предложению».12 Рикёр здесь выражает
фундаментальное различие между семиотикой и семантикой: «Для меня
различие между семантикой и семиотикой — ключ ко всей проблеме
языка».13 В общем, семантика есть наука о предложениях, то есть о
языке, используемом в определенных ситуациях.
Какое отношение имеет этот взгляд на предложения к природе
самости? Только это: и предложение, и самость являются тем, что
философ П. Ф. Стросон называет «элементарными частностями»14 —
элементарными понятиями, которые невозможно объяснить чем-
либо более простым. Стросон отвергает попытки объяснить
личность в терминах чего-либо иного, будь это структуры родства или
химия, культурные установления или генетический код.
Предложение (во многом по тем же причинам), тоже является «элементарной
10 Ricoeur, Interpretation Theory, 1.
1' Там же. Ср. Richard Harland, Beyond Superstructuralism (New York: Routledge, 1993), который
доказывает, что и деконструктивизм, и философия обычного языка пренебрегают синтагмой
(словами, взятыми вместе как синтаксическая единица). С другой стороны, Джон К. Шерифф
утверждает, что троичная теория знака Ч. С. Пирса более верна, чем структуралистский и
постструктуралистский дуализм обозначаемого и знака. См. Sheriff, The Fate of Meaning, ch. 4.
12 Ricoeur, Interpretation Theory, 7.
13 Там же, 8. Различие между семиотикой и семантикой: см. всю главу 1.
14 В Individuals: An Essay in Descriptive Metaphysics (London: Methuen, 1957).
292
Глава пятая. Воскрешение автора
частностью». Точно так же, как к личности мы можем
применить два набора предикатов (физические и ментальные), к
предложению применимы два вида описаний (семиотические и
семантические). Я считаю это утверждение крайне важным как
для предложения, так и для личности. Критики эпохи
постмодернизма склонны сводить изучение предложений (и личностей) к
категориям, пригодным только для langue. Предложения, однако, не
просто продукт языковой системы, элементы безликого кода, а
осмысленные действия личности. Поэтому и можно сказать о некоем
предложении, что оно является обещанием (приказом или
утверждением). Мы уже не ограничиваемся констатацией того факта, что
предложение прозвучало на английском, в нем есть
существительное и глагол, и оно служит выражением патриархальной идеологии.
Обещание представляет собой «элементарную частность» —
речевой акт ответственного участника коммуникации, противящийся
всем попыткам свести его до причинно-следственных связей,
законов физики или социолингвистики. Вкратце: судьба предложения и
судьба свободы и ответственности человека связаны неразрывно.
Замысел языка: завет общения
Как же нам перейти от физики к семантике? Моя стратегия по
Августину — вера, стремящаяся к пониманию текста, —
начинается с библейской темы и развивает ее философски. Я утверждаю, что
язык есть дар Божий, предназначенный для благодарного и
ответственного общения людей друг с другом. Чтобы подчеркнуть
природу языка как дара, я противопоставлю то, что я называю
«евангельским» взглядом на язык с мирской «эволюционной» точкой зрения.
Язык — дарованное Богом умение, дающее людям
возможность общения с Богом, миром и друг с другом. В частности, язык
включает такие взаимоотношения с Богом, с миром и другими,
которые дают личные знания. Поэтому язык следует рассматривать
как самое важное средство достижения общности. Например, в
Быт. 2 Бог и Адам общаются при помощи языка. Взаимодействуя
с миром, Адам использовал язык для того, чтобы дать имена
животным (Быт. 2, 19-20) — удивительное событие, показывающее,
как люди устанавливают связи и различия, которые и изобретают,
293
Часть вторая. Восстановление толкования
и открывают мир.15 Принимая во внимание, что в Писании
центральное место занимает не только именование, но и речь в целом (напр.:
хвала, пророчество, обещания, проповедь и пр.) и что во многих
местах Библии говорится о правильном использовании языка
(например, Иакова 3), становится ясно, что говорящие ответственны
за свои слова перед Богом. Что еще более важно, Библия
показывает Бога как важнейшего из говорящих. Большая часть того, что он
делает, принимает форму речи: обетования, прощения, заповеди и
так далее. Бог христианских Писаний есть Бог, общающийся с
человеческими существами в основном посредством языка. Конечно,
Бог способен воплотить свое слово с полнотой, недоступной людям:
Божье Слово стало плотью. Итак, Божье слово есть то, что Бог
говорит, делает и то, что Бог собой представляет.
Как существа, сотворенные по образу Божьему, люди также
обладают способностью общаться и понимать, хотя, как и все
человеческие способности, она также пострадала при грехопадении.16
Однако верно и то, что, кроме «достоинства пострадавшего»
(Паскаль), человек обладает и достоинством быть участником
общения. С этой привилегией приходит и ответственность. В Ветхом
Завете судьбы людей и целых народов зависели от их отклика на
Божье слово, данное через Закон и Пророков. Суть истории
Израиля, как и истории всего человечества, в том, что люди способны
понимать Слово Божье и слова вообще. Новый Завет идет еще
дальше: он показывает способность языка (напр.: притчей и проповеди)
преображать жизнь человека.
Итак, я утверждаю, что язык имеет первоначальное
предназначение.17 Язык, как и разум (еще один дар свыше), был создан
Богом с определенной целью. Этот замысел определяет, когда
наши коммуникативные способности используются надлежащим
15 Майкл Эдварде цитирует комментарий Мильтона по поводу того, что Адам «верно
именовал» животных, поскольку «понимал их природу». Вопрос не в том, были ли имена,
данные Адамом, произвольными знаками или нет; речь идет о том, что Адам использовал язык
для взаимодействия с миром и познания окружающей действительности. См. Michael Edwards,
Towards a Christian Poetics (Grand Rapids: Eerdmans, 1984), 9.
16 Книга Эдвардса «К христианской поэтике» (Towards a Christian Poetics) по большой части
является попыткой осмыслить язык в контексте христианской схемы Сотворения-Грехопадения-
Искупления.
17 Здесь я использую объяснение замысла человеческого разумения Плантингой, данное в его
книге Warrant and Proper Function (Oxford: Oxford Univ. Press, 1993), 11-17, 21-31: «Замысел
чего-то — это то, как эта вещь «должна» функционировать»).
294
Глава пятая. Воскрешение автора
образом. Их правильное использование ведет к достижению целей,
для которых они предназначены. Например, назначение наших
познавательных способностей в том, чтобы создавать представления
и верования, соответствующие действительности. Я считаю, что,
правильно используя свои коммуникативные способности, мы
приходим к истинному толкованию — пониманию. Конечно же, с
помощью наших способностей мы обретем понимание только в том
случае, когда (1) они правильно функционируют, (2) если общение
происходит в соответствующих обстоятельствах. Это важные
условия. В отношении первого мы уже видели, что читатели часто
обременены склонностями и интересами, которые препятствуют
надлежащему функционированию их способностей к толкованию.
Во-вторых, как следует из христианского учения о грехопадении, ни
наши способности, ни среда нашего общения не совершенны.
Коммуникативная среда порочна, искажена тем, что люди используют
язык как средство принуждения, а не общения и единения. Тем не
менее, замысел, по которому мы созданы, побуждает нас верить,
что всякое предложение знаменует собой попытку общения.
Плантинга доказывает в отношении эпистемологии, что,
по-видимому, «не существует четкого естественно-исторического
определения понятия «надлежащее функционирование».18 Это может
касаться и языка и толкования. Как мы видели ранее, смерть Бога
побуждает теоретиков литературы эпохи постмодернизма
провозгласить и смерть автора, и неопределимость смысла. Если Бога нет,
как можно говорить о «надлежащем функционировании» языка?
Похоже, перед нами две конкурирующие гипотезы: эволюционная
психология и евангельское богословие. Согласно первой, язык есть
случайный продукт природы.19 С точки зрения эволюционной
психологии, основное предназначение языка, как и прочих
способностей человека, — выживание и воспроизводство. Язык полезен для
того, чтобы понимать окружающих, а умение ладить друг с другом
помогает выжить (и облегчает воспроизведение). Однако
эволюционистам незачем определять язык иначе, чем просто полезным
инструментом взаимодействия с миром — инструментом
манипуляции, а не общения, не говоря уже о средстве передачи смысла
18 Там же, ix.
19 Горячая защита эволюционной теории языка: см Steven Pinker, The Language Instinct: How
the Mind Creates Language (New York: William Morrow, 1994), I.
295
Часть вторая. Восстановление толкования
и истины. В самом деле, они и не способны объяснить язык иначе,
чем с инструментальной точки зрения.
Суть вопроса, как пишет Плантинга, «в том, существует ли
удовлетворительное природное объяснение или анализ понятия
надлежащего функционирования».20 Он отмечает, что природная
эволюция не дает достаточного повода верить, что познавательные
способности человека могут дать истинное представление о чем-
либо. Это «Дилемма Дарвина»: Дарвин не был уверен, можно ли
полагаться на человеческий разум, который развился от низших
животных. Я же сейчас рассматриваю то, что можно назвать
«Дилеммой Дерриды» — сомнение в том, надежен ли язык как средство
общения и передачи знаний о мире.21 Итак, эволюционная
психология не может убедительно доказать, что цель наших языковых
способностей — общение и понимание.
Если исходить не из «Дилеммы Дерриды», а из христианского
вероучения, можно сформулировать следующее утверждение:
согласно замыслу, язык должен служить средой общения в завете
с Богом, с другими и с миром. Завет общения имеет две стороны:
межсубъективная связь между говорящими и объективная связь
между языком и реальностью. Во-первых, язык — это среда, с
помощью которой мы общаемся с другими.22 Говорящие ответственны
за свои языковые действия, например, за то, чтобы держать данное
обещание. Язык — не код, определяющий субъекта, а завет,
наделяющий носителя языка достоинством и ответственностью. Итак,
язык как установление не снимает с говорящих ответственности, а
обосновывает ее. Во-вторых, язык — та среда, в которой мы
соотносим себя с миром и стремимся к его познанию.23 Ученые
используют язык не только для того, чтобы называть и классифицировать
различные явления, но и для того, чтобы формировать (с помощью
метафор) модели для понимания мира в его более сложных
проявлениях. Именно эту связь между нашими словами и миром ставят под
20 Plantinga, Warrant and Proper Function, 198.
21 Возражение Плантинги против замкнутого круга попыток натуралистов избавиться от
сомнений путем приведения аргументов касается также и Дерриды: если он сомневается в
способности языка сообщать другим мысли, зачем писать книги о деконструкции?
22 Я доказываю, что коммуникативная деятельность есть неотъемлемый ингредиент
богословской антропологии в "Human Being, Individual and Social," в Colin Gunton, ed., The
Cambridge Companion to Christian Doctrine (Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1997).
23 Эдварде отмечает, что именование животных Адамом было не коммуникацией, а «откликом
на реальность»
296
Глава пятая. Воскрешение автора
сомнение «упразднители», по меткому выражению Георга Штайне-
ра: «Именно в этом разрыве между словом и миром состоит одна
из немногих настоящих духовных революций в западной истории,
определяющая модернизм как таковой».24 По сравнению с
нарушением этого завета, говорит он далее, «даже политические
перевороты и великие войны в современной истории Европы остаются, не
побоюсь этого слова, явлениями поверхностными».25
Можем ли мы сохранять веру в то, что некоторые из наших
высказываний осмыслены и истинны? Можем ли мы продолжать
перед лицом деконструктивизма верить в связь наших слов с нашим
миром? Можем ли мы вернуться к доверию завета? Уверен, мы
можем и должны это сделать. И я не вижу причин, препятствующих
восприятию языка и литературы, исходя из заведомо христианских
предпосылок, согласно которым изначальное предназначение
языка — в том, чтобы дать человеку больше возможностей
взаимодействия с миром и другими людьми. Эти два аспекта завета на самом
деле связаны между собой. Понимание того, что слова могут быть
посредниками мира («принцип реальности»), есть условие для их
использования как средства общественного взаимодействия
(«принцип ответственности»). Например, обещание делает возможным
трехстороннюю связь между говорящим, миром, в котором что-то
должно быть сделано, и слушающим. Если же с другой стороны в
наших словах нет никакого смысла, то ни ответа, ни
ответственности в толковании ждать не приходится. «Упразднитель», как мы
видели ранее, считает ответственным толкованием противление
попыткам связать наши слова с миром, с существующим порядком
вещей. Неверующие постмодернисты считают, что понятия истины
и реальности порабощают; только упразднив притязания на
истину, человек может быть свободен. Однако для верующего
христианина понятия истины и реальности есть основа свободы: мы
освобождаемся истиной, но не от нее.
Однако несомненно, что связь между словом и миром стала
проблематичной. С одной стороны, в падшем мире язык
неспособен точно соответствовать своему предназначению. О
возвращении к невинности Эдема не может быть и речи. Картезианская
уверенность, абсолютное знание, основанное на субъекте познания,
24 Steiner, Real Presences, 93.
25 Там же, 95.
297
Часть вторая. Восстановление толкования
невозможно и не является христианским. Будучи «умалены пред
ангелами», мы, люди, видим лишь отчасти, как сквозь тусклое стекло
не из-за каких-либо изъянов языка, а из-за наших невидящих глаз
и нечистых уст. Поэтому небрежность в притязаниях на истину
недопустима. Когда речь идет о толковании текстов, нельзя быть
уверенными, что оно абсолютно верно. Человеческое познание книг, в
том числе и книги природы, опосредовано и приблизительно. Здесь
христиане могут последовать примеру смирения, явленному
постмодернистами. С другой стороны, нам не следует забывать, что
люди были созданы способными общаться и познавать с помощью
языка. Поэтому немалая часть нашего христианского
призвания в том, чтобы нести свидетельство о достоверности языка
как установления, будучи достойными доверия авторами и
ответственными читателями.
РАСХОЖДЕНИЯ ВО ВЗГЛЯДАХ: РЕАБИЛИТАЦИЯ РЕЧИ
Богослову, желающему более полно понять природу языка как
средства межличностного общения в завете, открыты щедрые
богатства философии. Здесь я представлю три самых важных
источника: речевые акты Сёрля, герменевтику Рикёра и социальную
теорию Хабермаса. Цель этой главы состоит в том, чтобы объединить
эти три составляющие во всеобъемлющую теорию литературного
смысла как коммуникативного действия. Важно отметить, что
каждый из этих трех философов также является видным критиком де-
конструктивизма.26
Джон Сёрль: философия обычного языка
Вероятно, наиболее непосредственные контраргументы против
деконструктивизма исходят от сторонников философии
«обычного языка», подхода, который зародился в Кембридже и Оксфорде
в 1940-х и 1950-х годах.27 Сторонники философии обычного языка
26 Я использую элементы этих философских систем лишь постольку, поскольку они служат для
дополнения моей (богословской) картины языка как завета о дискурсе. Хотя Рикёр исповедует
христианство, ни Сёрль, ни Хабермас не являются верующими. Более того, Сёрлю оказывается
трудно выйти за пределы физики. См. его The Construction of Social Reality (London: Penguin,
1995).
27 Подробное описание происхождения философии обычного языка: см. J. О. Urmson,
Philosophical Analysis: Its Development Between the Two World Wars (Oxford: Oxford Univ. Press,
1956). См. также Dan R. Stiver, The Philosophy of Religious Language: Sign, Symbol and Story
(Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1996).
298
Глава пятая. Воскрешение автора
убеждены в том, что язык можно понять только в ситуации и
обстоятельствах его использования. Их девиз, прямо противоположный
девизу Дерриды, можно было бы сформулировать так: «Нет ничего
(т. е. ни высказывания, ни текста) вне контекста». Для философов
обыкновенного языка так называемый «литературный поворот» не
является неразрешимой проблемой, напротив, это решение
некоторых давно назревших философских проблем. Обычному языку, как и
здравому смыслу, доверено хранить человеческую мудрость,
собрание всех разделений и связей, которые люди сочли нужным создать.
Штайнер представляет то, что мы назвали бы
герменевтическим реализмом здравого смысла: «Я считаю нравственным и
прагматическим фактом то, что поэма, рисунок или соната
предшествуют восприятию, комментарию и формированию мнения».28 Иногда
необходимо повторять и «банальные» утверждения типа: «Мир
превосходит его образ в моем сознании».29 Далее следует философская
защита нескольких герменевтических различий, истинность
которых принимают даже постмодернисты, по крайней мере, на
практике. Метафизический вопрос о природе смысла возникает только
тогда, когда мы спрашиваем, из чего состоят убеждения, на
которых более, чем на наших личных предпочтениях, строятся
повседневные разговоры.
Людвиг Витгенштейн: обычный язык в Оксфорде
С точки зрения Людвига Витгенштейна (1889-1951),
скептические философские представления о языке основаны на ложной
картине взаимоотношений языка и мира. Витгенштейн одно время
сам был в плену так называемой «образной теории смысла», в
соответствии с которой язык всегда соотнесен с миром одинаково.30
Каждое слово отображает некую вещь в мире, а каждое истинное
утверждение отображает некий факт или положение дел в мире.
Он даже считал, что мир есть просто общая сумма всех истинных
28 Steiner, Real Presences, 149-50. Штайнер далее говорит, что текст есть проявление свободы;
он не обязан был быть таким, какой он есть. Истолковательская свобода — второстепенная и
производная.
29 См. Alan Montefiore, "Philosophy, Literature and the Restatement of a Few Banalities" Monist
69 (1986): 56-67.
30 Витгенштейн, кажется, считал, что логическая структура истинного утверждения
«отображает» некое положение дел в мире. См. его Tractatus Logico-Philosophicus (London:
Routledge & Kegan Paul, 1961). Позже он отказался от этого мнения.
299
Часть вторая. Восстановление толкования
утверждений. Однако в более поздних философских работах он
оставил попытки обнаружить единую логику, которая связывала бы
язык и реальность, и вместо этого исследовал разнообразные
формы использования языка в жизни.31 Таким образом он пришел к
выводу, что существует несколько «соответствий» языка и мира. Язык
не обязательно должен «связываться» с миром, да и не весь язык
связан с миром одинаково (подумайте, например, о разнице между
поэтическим и научным описанием алой розы).
В своих последующих «Философских исследованиях»
Витгенштейн пришел к пониманию того, что нет единственно правильного
действия языка. Существуют достаточное разнообразие «языковых
игр», в ходе которых слова используются по-разному для
достижения различных целей. Поэтому смысл слова или предложения
заключен в его реальном использовании в реальной жизненной
ситуации. В различных ситуациях — строительство дома, футбольный
матч, урок рисования, поклонение Богу — всегда присутствует
сообщество говорящих. Витгенштейн считает, что мы поймем каждое
отдельное предложение только тогда, когда увидим его в контексте
использования.32
Дж. Л. Остин: обычный язык в Оксфорде
Дж. Л. Остин: (1911-1960) также считал, что языковеды
слишком сосредоточились на словах вместо предложений (т. е. слов в
ситуации реального использования). Он утверждал, что лучший
способ изучения взаимоотношений слова и мира состоит в анализе
ситуаций, в которых мы используем (или не используем)
определенные выражения. Синтаксис, изучение грамматической формы
предложения — это еще не все. «На коврике — кот, но я в это не
верю» — это предложение грамматически правильно, но
бессмысленно, то есть семантически неверно. Философия обычного языка
анализирует, что мы говорим и когда; обстоятельства и
конкретные ситуации ничуть не менее важны, чем сами слова.33
31 См. Wittgenstein, Philosophical Investigations, 3d. ed., tr. G. E. M. Anscombe (Oxford: Blackwell,
1958).
32 Более полный анализ того, как можно с пользой применить выводы Витгенштейна при
толковании Библии, см. Anthony Thiselton, The Two Horizons, гл. 13 и 14.
33 См. Anthony Manser, "Austin's 'Linguistic Phenomenology,'" в Edo Pivcevic, ed., Phenomenology
and Philosophical Understanding (Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1975), 109-24. Остин
утверждает, что наш общий словарный запас «воплощает собой те различия и связи, которые
люди сочли нужными» (Austin, "A Plea for Excuses," 182).
300
Глава пятая. Воскрешение автора
Философы традиционно сосредоточивались на истинности или
ложности языка, однако Остин предполагает, что многие
предложения, которые выглядят как утверждения, на самом деле
таковыми не являются. Остин сравнивает язык с набором инструментов;
он даже назвал свою самую важную книгу «Что можно сделать с
помощью слов».34 Основная мысль Остина в том, что высказывания
тоже представляют собой своеобразные действия', многие
высказывания являются перформативами («Прошу прощения» «Спорю
на доллар!»).35 Дело не в том, что мои слова представляют или, тем
более, отображают некий физический или мыслительный акт; нет,
само высказывание — правильно произнесенное в
соответствующих обстоятельствах — и есть действие, состоящее, например, в
просьбе о прощении.
Остин выделяет три разных действия со словами, три вида
лингвистических актов: (1) локуционный акт: произнесение слов
(напр.: слова «Привет»); (2) иллокуционный акт: то, что мы делаем,
произнося эти слова (напр.: приветствие, обещание, приказ и пр.);
(3) перлокуционный акт: то, чего мы этим добиваемся (напр.:
убеждение, удивление).36 В то время как локуция соотносится со
знаковой системой или langue, иллокуции и перлокуции связаны с
предложениями, с языком в действии, то есть parole. Понятие ил-
локуционного акта позволяет Остину отделять содержание того,
что мы говорим (напр.: смысл или референция нашего
предложения) от его цели (т. е. ради чего мы используем содержание нашего
предложения). Важность понятия иллокуции у Остина, полагаю,
побуждает нас уделить особое внимание роли говорящего или
автора как деятеля. Тот, кто говорит, тем самым действует. Именно
этот аспект иллокуции — то, что делается путем написания или
произнесения чего-либо — упускают из виду «упразднители». Для
них текст — это код, который нужно разгадать, а не сила, с
которой нужно считаться. Однако Остин не думает, что речь можно так
легко оторвать от говорящего: «Наше слово связывает нас».37
Уильям Эштон подчеркивает важность открытия Остина: «Если
анализировать смысл в этом направлении, понятие иллокуционного
34 J. L. Austin, How to Do Things With Words, 2d ed. (Cambridge: Harvard Univ. Press, 1975).
35 См. его же "Performative Utterances," в Philosophical Papers, 233-52.
36 Cm. Austin, How to Do Things With Words, особ, лекции 8, 9 и 10.
37 Там же, 10.
301
Часть вторая. Восстановление толкования
акта является наиболее фундаментальным понятием семантики, и,
соответственно, философии языка».38
Джон Сёрль: речевые акты
Если Остин был Лютером философии речевого акта, Джона
Сёрля можно назвать ее Меланхтоном — систематическим
богословом.39 Оба согласны, что основная единица смысла не слово, но
акт речи. Мы переходим от физики к семантике, от шума воздуха и
знаков на бумаге к смыслу, только если предполагаем, что эти
знаки или шум были произведены существами, использующими язык
для того, чтобы сообщить что-то другим. Использование языка для
общения предполагает следование определенным правилам,
обусловленным общественными соглашениями. Соответственно,
теория языка должна быть частью теории действия.40
Сколько действий можно совершить с нашими словами? Если
Витгенштейн верил, что способов использования языка
бесчисленное множество, Сёрль предлагает всеобщую типологию речевых
актов. Он говорит, что язык можно использовать пятью основными
способами: «Мы говорим людям о положении вещей, мы пытаемся
побудить их к действию, мы обязуемся совершить действие, мы
выражаем свои чувства и отношения и производим изменения своими
высказываниями. Зачастую одним высказыванием мы производим
несколько этих действий одновременно».41 Как мы можем
производить все эти действия с помощью звуков и знаков? «Говорение на
языке — форма (очень сложного) поведения, определяемого
правилами. Выучить язык и овладеть им означает, в частности, выучить и
усвоить эти правила».42 Каждая сфера жизни, в которой
используется язык, вырабатывает свои достаточно устойчивые правила его
38 William P. Alston, Philosophy of Language (Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall, 1964), 39.
39 См. мою "The Semantics of Biblical Literature," 85-92, в которой я применяю философию
речевых актов Сёрля к вопросу авторитетности Библии. В ней я доказываю, что библейские
жанры следует различать не только по их литературной форме, но и по иллокуционному
содержанию. (См. особ. 87-104).
40 Заметьте, что для Сёрля «изучение смысла предложений и изучение речевых актов — не две
независимых отрасли, а одна и та же, рассматриваемая с разных точек зрения» {Speech Acts, 18).
41 Searle, Expression and Meaning, 29. Остин также предложил состоящую из пяти частей
типологию {How to Do Things With Words, 151 -64), но Сёрль утверждает, что она не придерживается
последовательного принципа классификации.
42 John Searle, Speech Acts, 12.
302
Глава пятая. Воскрешение автора
использования. В повседневной речи, когда говорящих и
слушателей объединяет контекст, обычно не возникает трудностей в
определении текущей языковой игры и действующих на тот момент правил.
Когда же возникает неуверенность, действующие правила
определяются путем помещения речевого акта в определенный контекст.43
Как дать обещание. Рассмотрим, например, обещание. Каким
образом я с помощью речи могу обязать себя совершить в будущем
некие действия? Чтобы понять природу обещания, важно отличать
пропозициональное содержание, включающее утверждение и
отношение с точки зрения говорящего. Например, «насыщение пяти
тысяч Иисусом» есть утверждение о насыщении Иисусом и имеет
отношение к Иисусу и пяти тысячам людей. Многие философы
утверждают, что способностью иметь отношение к чему-либо обладают
только суждения, однако Сёрль настаивает на том, что это свойство
всех речевых актов. Следовательно, суждение следует отделять от
утверждения. Утверждение в форме суждения означает, что
говорящий занял по отношению к нему определенную позицию; а именно,
он уверен в ее истинности. Однако говорящий может занимать
разные позиции по отношению к одному и тому же утверждению:
«Иисус накормил пять тысяч»
«Накормил ли Иисус пять тысяч?»
«Иисус, накорми пять тысяч!»
«Вот если бы Иисус накормил пять тысяч».
Иначе говоря, с одним и тем же высказыванием говорящие могут
поступить по-разному; они могут утверждать, спрашивать,
приказывать, желать. Сёрль называет то, что делают с высказыванием,
иллокуционным актом. «Индикатор иллокуционнной силы
указывает на то, как следует воспринимать высказывание».44 Он обозначает
высказывание р, а иллокуционную силу как F. Итак, символьным
выражением речевого акта будет F(p), где (р) обозначает
содержание высказывания, a F — отношение к нему говорящего.
43 Русский теоретик литературы Михаил Бахтин говорит о «речевых жанрах». В каждой сфере
использования языка, по его словам, развиваются собственные относительно устойчивые типы,
или «жанры» (М. М. Bakhtin, Speech Genres and Other Late Essays, tr. Vein W. McGee (Austin:
Univ of Texas Press, 1986), 60-102. Я более подробно рассматриваю роль жанра в достижении
литературного знания в следующей главе.
44 Searle, Speech Acts, 30.
303
Часть вторая. Восстановление толкования
Чтобы дать обещание, нужно соответствовать нескольким
условиям. Во-первых, пропозиция должна обозначать будущее
действие, с предикацией говорящему (невозможно дать обещание о
прошлом; невозможно обещать за других). Итак, существует «условие
содержания пропозиции» для обещаний и других речевых актов.
Есть также и «условие искренности», указывающее, что говорящий
в самом деле собирается совершить действие А. И наконец, что
самое важное, говорящий должен иметь намерение принять на себя
обязательство совершить А. Из этого следует, что говорящий
желает, чтобы слушатель воспринял высказывание как обещание. Это —
«сущностное условие» речевого акта.
В то время как Остин и Сёрль, в основном, изучают
предложения устной речи, некоторые другие философы и теоретики
литературы применяют философию речевых актов более широко и
распространяют ее на литературную теорию (и на толкование Библии).45
По мнению литературного критика Чарльза Алтиери, тексты
«лучше всего рассматривать как действия, совершаемые на нескольких
уровнях нашего рассмотрения».46 Важно определить, что
делается с текстами. Нет препятствий для анализа таких литературных
форм как трагедия, история, повесть и даже Евангелие в качестве
примеров «поведения, определяемого правилами».47 И грамматика,
и грамматология — только часть истории смысла и толкования.
Наравне с вопросом формы должен ставиться вопрос смысла. Тексты
есть осмысленные действия и акты смысла.
Диалог Сёрль-Деррида. Сёрль считает общение основной
целью существования языка. Смысл состоит в намерении передать
нечто другому человеку. Говорящий намеревается добиться
определенного результата — в особенности понимания — от слушателя.
45 См. в особенности Sandy Petrey, Speech Acts and Literary Theory (London: Routledge, 1990);
Mary Louise Pratt, Towards a Speech Act Theory of Literary Discourse (Bloomington: Indiana Univ.
Press, 1977); Susan Snaider Lanser, The Narrative Act: Point of View in Prose Fiction (Princeton:
Princeton Univ. Press, 1981); В изучении Библии: см. Hugh С. White, "Introduction: Speech Act
Theory and Literary Criticism," Semeia 41 (1988): 1-24 (весь выпуск посвящен теории речевых
актов и библиологии); Dietmar Neufeld, Reconceiving Texts As speech Acts: An Analysis of 1 John
(Leiden: E.J. Brill, 1994).
46 Charles Altieri, Act and Quality: A Theory of Literary Meaning and Humanistic Understanding
(Amherst: Univ. of Massachusetts Press, 1981), 10.
47 J. Eugene Botha, Jesus and the Samaritan Woman: A Speech Act Reading of John 4:1-42 (Leiden:
E.J. Brill, 1991).
304
Глава пятая. Воскрешение автора
В свете этого утверждения неудивительно, что Сёрль является
одним из самых последовательных критиков деконструктивизма.
В самом деле, его дискуссия с Дерридой (отчасти проходившая на
страницах New York Review of Books) одновременно знаменита и
печально известна.
Эссе Дерриды «Знак, событие, контекст» имеет целью
упразднение введенного Остином понятия перформативного
высказывания, понятия, которое Деррида считает классическим примером
склонности философии к предпочтению речи (присутствия) письму
(отсутствию).48 Деррида признает, что неопределенность можно
уменьшить путем определения контекста речевого акта, но
сомневается, что условия контекста могут быть абсолютно
определимыми. Может ли анализ Остина существовать в отсутствии точного
научного представления о контексте? Деррида ссылается на свое
же грамматологическое утверждение о том, что язык не столько ин-
тенционален, сколько итеративен и что знаки могут повторяться
в разных ситуациях: «Написанный знак несет в себе силу,
отрывающую его от контекста».49 Язык — это именно то, что может быть
воспринято вне контекста, что также означает «вне власти
автора». Речевые акты полностью поглощаются письмом в том
значении, которое придает ему Деррида: «система различий, ни в чем не
совпадающих с настоящими интенциями индивидуальной речи».50
Будучи оторван от автора, речевой акт имеет иной смысл,
отличный от того, что он имел в исходном контексте.
В ответ Сёрль обвиняет Дерриду в проявлении излишнего
внимания к мелким деталям текста, и тем самым в намеренном и
извращенном игнорировании хода основной мысли Остина.51 В ходе игры
слов он умудряется процитировать весь текст Сёрля, в основном,
вне контекста, чтобы показать, что авторы не могут
контролировать собственные тексты и ограничивать способы их толкования.52
Сёрль, возможно, не считает деконструктивизм серьезной
философией, однако он уверен, что Деррида затрагивает важную
48 Derrida, "Signature Event Context," Glyph 1 (1977): 172-97.
49 Там же, 182.
50 Norris, Deconstruction: Theory and Practice, 110.
51 Searle, "Reiterating the Differences," Glyph 1 (1977): 198-208.
52 Cm. "Limited Inc. abc" in Glyph 2 (1977): 162-254. Вся дискуссия, вместе с ценным
дополнением Дерриды об «этике» дискуссии, можно найти в Derrida, Limited Inc. (Evanston:
Northwestern Univ. Press, 1988).
305
Часть вторая. Восстановление толкования
тему, совершая при этом серьезную ошибку.53 Вопрос в том, есть
ли какое-либо основание у знания, смысла и нравственности.
Деррида не ошибся, увидев, что наши ощущения, логика, сознание не
могут служить таким основанием, потому что они уже «замутнены»
языком. Он уверен, что философия речевых актов полагается на
несколько противопоставлений (напр.: обычное использование языка
против аномального), которые подрываются итеративностью знака.
Однако ошибка Дерриды в его выводе о том, что четких оснований
для определения авторского замысла знания или смысла не
существует. Иначе говоря, Деррида просит нас выбрать между
абсолютной уверенностью и полным скептицизмом. Сёрль укоряет Дерриду
за то, что он вновь и вновь совершает ошибку своей излишней
категоричностью «черно-белого зрения»: «Если различие невозможно
сделать точным и однозначным, без пограничной полосы, значит
это вообще не различие».54 Возможно, мы не способны «проверить»
наличие у говорящего тех или иных намерений, но, по словам Сёр-
ля, мы можем узнать это «самыми разными способами».55 Наши
знания текстовых актов могут не основываться на метафизической
уверенности, но это не значит, что оснований вообще нет.
Литературное знание основано на сложной системе лингвистических и
социальных установлений.56
Герменевтический реализм здравого смысла. Деррида
сознает, что деконструктивизм не годится для повседневного
дискурса; обычно условности языка оказываются действенными. Однако
он возражает против построения философами теории смысла на
53 Searle, "The World Turned Upside Down," обзор книги Джонатана Каллера Jonathan Culler On
Deconstruction, New York Times Review of Boob (Oct. 27, 1983), 74-79.
54 Searle, "Literary Theory and Its Discontents," 638.
55 Searle, "The World Turned Upside Down," 79.
56 Тисельтон соглашается. Деррида отделяет язык от межсубъектных суждений и
общепринятых действий. Однако библейское свидетельство состояло не только в словах, а и
в делах. Витгенштейн отмечает: «Обычное человеческое поведение есть система референций,
с помощью которой мы толкуем неизвестный язык» (Цит. по New Horizons, 591). Деятели-
люди по своему выбору приводят в действие ту или иную часть потенциальной системы в
любой конкретный момент. Более продолжительное рассуждение на эту тему содержится
в следующей главе. Диагноз, поставленный Сёрлем Дерриде, небесспорен. В собственном
анализе произошедшей дискуссии Деррида высказывает мысль о том, что это Сёрль пытается
все упростить с помощью своих простых различий (напр.: серьезный-несерьезный), в то время
как он сам, Деррида, стремится вывести на свет сложность и запутанность. ("Afterword: Toward
an Ethic of Discussion," 127-28).
306
Глава пятая. Воскрешение автора
этих повседневных условностях, как если бы они принадлежали к
должному, или естественному, порядку истины. Именно в этом
суть его спора с философией речевого акта. Остин рассматривает
аномальные случаи для того, чтобы пролить свет на «нормальные».
Деррида протестует, утверждая, что эта иерархическая оппозиция
(напр.: между нормальным и аномальным, межу «серьезным» и
«несерьезным») — произвольна и идеологична, подобно всем прочим.
Деррида утверждает, что «нормальность» или «здравый смысл»,
возводимые на пьедестал философами, являются на самом деле просто
произвольными установлениями, свидетельством корпоративной
воли к власти.57 Иначе говоря, то, что кажется «нормальным»,
всегда является функцией данного контекста интерпретации. Это
серьезный вклад Дерриды в дискуссию о знании. Он напоминает нам о
неестественности нашей философии, политики и нравственности:
«Я утверждаю, что не существует стабильности, которая была бы
абсолютной, вечной, нематериальной, естественной и т. д. Но это
подразумевается самим понятием стабильности. Стабильность
непостоянна; по определению, она всегда склонна к изменениям».58
Со своей стороны, Сёрль настаивает, что Деррида преступно
пренебрег несколькими достаточно основополагающими
различиями. Во-первых, Деррида спутал языковые «типы» и языковые
«признаки». Тип предложения относится к его форме, например, к
словам «Он горячий». Признак предложения относится к частному
случаю употребления этих слов (т. е. их использованию в
определенном контексте). Тип предложения («Он горячий») может быть
характеристикой температуры предмета, характера человека, а
также иметь другие значения в зависимости от ситуации. Деррида
ошибочно полагает, что предложение «Он горячий» имеет
неопределимый смысл, потому что может повторяться в разнообразных
контекстах (напр.: за обеденным столом, в больнице или в семейной
ссоре). Сёрль приводит утверждение, являющееся одновременно
тонким и важным, а именно: повторяется только тип предложения,
в то время как «признак» предложения остается явно
определенным, привязанным к контексту говорящего. Сёрль отмечает: «То,
что кто-то может совершить иной речевой акт с другим признаком
того же типа... вовсе не влияет на роль значения высказывания
57 В этом же состоит суть защиты Дерриды Норрисом против Сёрля в Derrida, 178-80.
58 Derrida, "Afterword," 151.
307
Часть вторая. Восстановление толкования
говорящего в определении речевого акта».59 Иначе говоря, то, что
я использую одни и те же слова («он горячий») в одной ситуации
для обозначения чего-то иного, чем мой друг в другой ситуации, не
избавляет ни мою, ни его речь от определенности смысла.
Сёрль проводит и другое разделение, еще более важное для
вопроса герменевтического реализма: «Крайне важно отличать
вопросы о существующем (онтологию) от вопросов о том, что нам
известно о существующем (эпистемологии)».60 Часто мы с
абсолютной точностью не знаем, что намеревался сказать кто-то, но это не
имеет никакого отношения к вопросу о наличии в тексте
определенного смысла. Одно дело — столкнуться с проблемой толкования
из-за недостатка данных о замысле автора. В этом случае природа
затруднения — эпистемологическая, и мы можем искать
дополнительные данные. С другой стороны, если мы сталкиваемся с
толковательной трудностью из-за предполагаемого нами отсутствия
факта авторского замысла — тогда это онтологическая проблема,
и никакое количество данных здесь не поможет. Сёрль отмечает:
«Стандартная ошибка состоит в предположении, будто недостаток
данных, то есть наше невежество, свидетельствует о
принципиальной неопределенности или неопределимости».61 Деррида ошибочно
пытается сделать онтологические выводы из эпистемологической
проблемы.
Необходимо отметить, что диалог Сёрль-Деррида
закончился чем-то вроде пата, ни одна из сторон не уступила ни пяди.
По справедливому замечанию Норриса, Деррида изначально
отрицает предпосылки Сёрля о том, «что язык надлежащим образом
адаптирован для передачи смысла».62 Возможно и Сёрлю, самому
видному представителю философии речевого акта, следовало
задуматься над тем, что именно делает с языком Деррида. Ответ,
конечно, состоит в том, что Деррида упраздняет: упраздняет восприятие
смысла, нравственности и истины с точки зрения «нормального»
здравого смысла.
X. П. Грайс, еще один философ обычного языка, признает, что он
иногда испытывает искушение бесов редукционизма, натурализма
59 Searle, "Literary Theory and Its Discontents," 660.
60 Там же, 648.
61 Там же.
62 Norris, Deconstruction: Theory and Practice, 112.
308
Глава пятая. Воскрешение автора
и скептицизма. Он противостоит их посулам, изобличая их
«минимализм». Такие позиции игнорируют явления, присутствие которых
требует объяснения, и ограничивают доступные философу ресурсы,
запрещая определенные термины (напр.: интенцию).63 Деконструк-
тивизм, отказываясь воспринимать говорящего и предложение как
несводимые исходные точки, проявляет материалистическую
тенденцию сведения разума к материи. В самом деле,
постструктуралистская теория литературы в целом склонна определять
семантику в несемантических терминах: она старается объяснить
предложение с точки зрения чего-то более базового, а именно — знаков.
В этой тщеславной попытке гибнут многие понятия здравого смысла
(напр.: касающиеся отношения говорящих и их речи). Если
помните, мое утверждение состоит в том, что автор и предложение —
элементарные частности. Без этих фундаментальных понятий мы
просто не сможем говорить о других вещах, таких, как речь и смысл. Мы
можем назвать сведение постструктуралистами предложений и
говорящих к элементам дифференциальной знаковой системы
«семиотическим заблуждением».64 Этот редукционистский шаг приводит
лишь к обедненному пониманию языка как среды общения в завете.
Однако понятие иллокуции, по справедливому утверждению Дани-
еля Паттэ, заостряет основное внимание на «производстве смысла
автором».65 Однако, как мы увидим далее, иллокуция не обязательно
предполагает возвращение к традиционной психологической
модели авторской интенции. В свете философии речевого акта автор
возвращается как коммуникативный агент — участник общения.
Язык: установление, данное свыше? Витгенштейн, Остин
и Сёрль отвечают мастерам подозрительности эпохи постмодерна,
показывая, как обычно действует язык, и утверждая, что обычно
язык действует достаточно хорошо.66 Их акцент на использование
63 Краткий обзор позиции Грайса: см. Richard E. Grandy and Richard Warner, ed., Philosophical
Grounds of Rationality (Oxford: Clarendon, 1986), 1-44. См. отклик Грайса в той же работе.
64 Намек на аналогию с натуралистическим заблуждением — попыткой определить
нравственное («добро») в неэтических терминах, опровергнутой Дж. И. Муром, реалистом
здравого смысла, — преднамеренный.
65 Daniel Patte, "Speech Act Theory and Biblical Exegesis," Semeia 41(1988): 91
66 X. П. Грайс утверждает, что Остин считал обычный язык инструментом, «чудесно
приспособленным для удовлетворения множества наших потребностей и желаний в
коммуникации» (в Grandy and Warner, Philosophical Grounds, 57).
309
Часть вторая. Восстановление толкования
языка в конкретных контекстах с определенными целями
позволяет этим философам найти точку опоры для сознания вне сознания.
Точнее говоря, язык и мир встречаются не в сознании субъекта, а
во взаимодействии между субъектами. Рассмотрим такое явление,
как брак. С точки зрения Сёрля, человек вступает в брак, совершая
речевой акт «Да» в соответствующих обстоятельствах. В западной
культуре эти обстоятельства подразумевают наличие двух
разнополых партнеров, которые приносят при свидетелях клятвы верности
на всю жизнь. Это правило, или «установление», которое позволяет
считать этот речевой акт «вступлением в брак». Чтобы понять
речевой акт, необходимо рассмотреть язык, общественные
установления и намерения говорящих.
Что если бы Деррида заявил, что этот на первый взгляд
«естественный» обычай на деле является неестественной практикой,
основанной на патриархальной идеологии? Является ли брак (или
обещание) только произвольным общественным установлением?
Возможно ли, что брак как установление соответствует чему-то
еще более фундаментальному: возможно, божественному
установлению, то есть структуре творения? Может ли это быть одним
из способов, которыми, используя терминологию Сёрля, Бог
гарантирует язык? Наше слово может связывать нас, но если смотреть
с позиций деконструктивизма, не должна ли эта связь
основываться на чем-то большем, чем просто общественное установление?
Деконструкция может стать смертью Бога, записанной посредством
языка, и Сёрль, может быть, ничуть не преуспеет, подменяя
обществом Бога. Без явного богословского момента, возможно, даже
философия речевых актов не сможет восстановить доверие к языку
и авторитетность автора. Тем не менее, представители философии
обычного языка находятся в авангарде тех, кто противостоит
попыткам деконструктивистов упразднить условия общения. Благодаря
философии речевых действий, автор начал вновь обретать голос.
Поль Рикёр: Язык как дискурс
Применимы ли принципы обычного языка к литературным
текстам? Чтобы понять это, я обращаюсь к нашему второму
философскому источнику: теории интерпретации Поля Рикёра. Невзирая на
то, что Рикёр, на первый взгляд, отрицает авторский замысел как
310
Глава пятая. Воскрешение автора
основу и цель толкования, я уверен, что в его работах есть
важные, на первый взгляд незаметные указания на то, что автор очень
даже жив.67
Текст как письменный дискурс
Мы уже видели, что Рикёр отказывается сводить семантику к
семиотике. Сосредоточиваться на предложениях — использовании
языка в конкретном контексте — означает сосредоточиваться на
языке как «дискурсе»: кто-то говорит что-то о чем-то. Текст —
не только лингвистическое явление, не лишенный мира и автора
объект, который можно было бы полностью объяснить с точки
зрения его собственных структурных связей. Это была бы урезанная,
неполная картина, потому что за рамками ее остается дискурс как
таковой. Если язык рассматривается как мир в себе, он перестает
выглядеть посредником между разумом и миром. Стоит отметить,
что Рикёр определяет текст как «любой дискурс, зафиксированный
письменно».68 Тексты позволяют осуществлять общение на
расстоянии, поскольку письмо сохраняет дискурс. Иначе говоря, письмо
не разделяет авторов и читателей, но дает возможность донести до
читателей смысл текста. В самом деле, текст — основное средство,
которое есть у человечества для преодоления пространственных,
временных и культурных расстояний.
Итак, Деррида и Рикёр представляют собой две
противоположности постструктурализма, две различные реакции на
структуралистскую теорию языка как закрытую знаковую систему.69 Теорию
67 См. главу 3 выше, где я привожу критику попыток Рикёра сформулировать независимый
«смысл текста».
68 Ricoeur, "What Is a Text? Explanation and Understanding," 145.
69 Энтони Тисельтон и Уэнделл В. Харрис критикуют Дерриду зато, как он развивает проведенное
Соссюром различие между langue и parole. Согласно Тисельтону, Соссюр открывает возможность
для безграничности толкований только тогда, когда его лингвистику раздувают до размеров
мировоззрения, основанного на генеалогической критике Фрейда и Ницше: «Использование
герменевтики подозрительности как метода коренным образом отличается от превращения
принципа подозрительности в мировоззрение» (Thiselton, New Horizons, 126). Уэнделл Харрис
соглашается: использованиезнаковоснованонадолингвистическомуровнеобщепринятыхдействий,
происходящих в конкретных контекстах (Harris, Interpretive Acts, 158). Более того, хотя знаки
произвольны, процесс, при котором смысл приписывается словам, таковым не является. Мы
обозначаем ощущения и вещи способом, который оказывается полезен; различия служат
человеческим целям. Более того, перемены в langue происходят вследствие перемен в parole, а те часто
случаются из-за событий неязыковых по своей природе. «Сердце стратегий деконструкции... — в
слиянии того, что можно сказать о слове с точки зрения langue с тем, что истинно с точки зрения
parole» (там же, 25). Я лично предпочитаю говорить, что parole вытекает из langue.
зи
Часть вторая. Восстановление толкования
интерпретации Рикёра называли «самым действенным
противовесом деконструктивизму в рамках постструктуральной критики».70
Основное различие межу двумя мыслителями заключается в
понимании сути смысла.71 Деррида воспринимает язык как систему
замкнутой референции без центра или устойчивой структуры. Ри-
кёр видит в языке структуру, существующую не ради себя самой, а
для того, чтобы открывать для нас мир. Дискурс обладает смыслом
(нечто сказанное), денотатом (о чем-то) и целью (кому-то).
Для Дерриды автор — не причина текста, а его результат —
побочный продукт письма. Рикёр, напротив, поддерживает
утверждение философии речевого акта о том, что язык представляет собой
общественную практику коммуникации. С одной стороны, Рикёр
отделяет смысл от авторов. Написанный текст независим от автора;
он обретает самостоятельное бытие. С другой стороны, он
утверждает, что текст есть дискурс. В конце концов, эти два утверждения
могут оказаться противоречащими друг другу, однако на данный
момент я ставлю себе цель развить мысль Рикёра о том, что текст
есть пример дискурса. Будучи дискурсом, текст предлагает
читателю нечто для усвоения. В этом «упование» Рикёра, его «вторая
коперникова революция»: идея о том, что самость не источник, а
восприемник смысла, идущего «извне». Герменевтика не просто
знание о тексте, а понимание его влияния. В самом деле,
справедливо будет сказать, что вся философия Рикёра есть исследование
того, как тексты могут оказывать на читателей преобразующее
влияние. Поскольку тексты могут воздействовать на нас, они обладают
собственной силой — семантической, а не физической.72
Событие и смысл. Дискурс для Рикёра — явление
двухмерное. Оно сопричастно как langue (статической системе языка), так
и parole (активному использованию языка). Это и событие
(говорение), и смысл (сказанное), хотя в письме событийный аспект
дискурса исчезает. Согласно Рикёру, текст фиксирует смысл дискурса,
70 A Ricoeur Reader, 17. Рикёр атакует попытку Дерриды объединить метафорический и
метафизический дискурс, литературу и философию (см. его The Rule of Metaphor, 284-89, 294).
В противоположность Дерриде, Рикёр рассматривает и речь, и письмо как формы дискурса
{Interpretation Theory, 26).
71 Так у Mario Valdes, "Introduction," в A Ricoeur Reader, 23.
72 С.Х. Кларк говорит, что работа Рикёра поднимает вопрос о том, как порождается смысл —
гуманистически или сакраментально. {Paul Ricoeur, 8-9).
312
Глава пятая. Воскрешение автора
а не событие. Далее, Рикёр видит авторский замысел как часть
события дискурса. Событие преходяще и не может быть
восстановлено. Подобным образом исчезает и замысел — ментальное событие
в сознании автора. Рикёр ценит «значение», смысл, передаваемый
знаками, отделяя его от авторского замысла, который он
рассматривает как психологическое событие. Письмо фиксирует не событие
смысла, а смысл события: «Бытие текста избегает конечности
горизонта, в котором живет автор. То, что означает текст, отныне более
важно, чем то, что имел в виду автор во время его написания».73
В тексте передается не жизненный опыт автора, а его смысл.
Дискурс можно определять снова и снова, делиться им, поскольку он
обладает собственной идентичностью: «так, как сказано».74
Труд и мир. «Герменевтика... остается искусством определения
дискурса в действии».75 Рикёр занимает промежуточное положение
между традиционным подходом, сосредоточенным на замысле
автора, и упраздняющим его подходом Дерриды. В тексте есть смысл,
но он отделен от автора. Будучи зафиксированным письменно,
дискурс свободен от контекста ситуации, в которой возник, и от
психологии автора. Рикёр развивает понятие дискурса с помощью двух
последующих понятий: труд и мир. (1) Будучи дискурсом, текст
есть структурированный труд, нечто произведенное, созданное.
Текст есть структурированное произведение языка, которое может
быть методологически исследовано и объяснено. Текст,
рассматриваемый как произведение, имеет принцип организации (форма,
жанр) и принцип индивидуальности (стиль). Рикёр признает, что
понятие автора возникает вновь — как соотносительное понятие
индивидуальности текста. В самом деле, автор появляется вновь —
как «ремесленник языкового труда», хотя Рикёр и не развивает это
понятие далее.76
(2) Дискурс всегда имеет тему. Рикёр называет то, на что
указывает дискурс, «миром текста». С одной стороны, язык указывает не
сам на себя. Однако то, на что он указывает, есть не жизнь и душа
автора, а мир текста. Если текст как труд следует анализировать
73 A Ricoeur Reader, 325.
74 Там же, 321.
75 Ricoeur, "The Hermeneutical Function of Distanciation," в Hermeneutics and the Human
Sciences, 138.
76 Там же, 137-38.
313
Часть вторая. Восстановление толкования
и пояснять, мир текста следует понимать или принимать. Что
именно воспринимает толкователь? Не замысел автора и даже не
историческое место автора и его первых читателей, а сам смысл текста,
«динамически представляемый как направление мысли,
открываемое текстом».77 Толкование открывает не разум автора, а точку
зрения, «способ восприятия бытия», предлагаемый мир.78 Вкратце: то,
что воспринимает читатель, есть возможный образ бытия, который
не ограничен чистым самовыражением автора. В этом отношении
Рикёр говорит о повествующем голосе, который представляет мир
текста читателю. Текст, хоть и оторванный от автора, сохраняет
«замысел»: проецированный мир, который он предлагает нам для
рассмотрения и отклика.79 Остается вопрос: можем ли мы открыть
этот мир, не возвращаясь к понятию автора?
Анализ дискурса Рикёра постоянно предполагает присутствие
автора как инициатора события, как созидателя произведения и
того, кто предлагает мир текста. Следовательно, его определение
дискурса следует пояснить, чтобы сделать скрытое обращение к
автору более явным. Я полагаю, что дискурс есть «нечто сказанное
кем-то кому-то о чем-то». Ведь слова, в конце концов, сами собой
не говорятся.
Текст как осмысленное действие
Рикёр отказывается принять в качестве объекта интерпретации
авторский замысел, рассматриваемый как психологическое
событие. Однако он признает, что письменный дискурс предполагает
наличие автора: «Невозможно удалить эту главную характеристику
дискурса, не сводя текст до естественных объектов, т. е. до вещей,
которые не были сделаны человеком, но, подобно гальке, сами
собой лежат на песке».80 Считать текст сущностью без автора
означало бы совершить ошибку, которую сам Рикёр называет
«заблуждением абсолютности текста».81 Однако Рикёр прилагает
определенные усилия к тому, чтобы объяснить, каким образом автор остается
77 Ricoeur, Interpretation Theory, 92.
78 Там же.
79 Ricoeur, "What Is a Text?" 161 -62.
80 Ricoeur, Interpretation Theory, 30.
81 Там же.
314
Глава пятая. Воскрешение автора
важен для толкования. Мне кажется, он хочет сказать, что
авторский замысел становится одним из аспектов текста, подобно тому,
как ремесленник, вырезая, окрашивая и совершая иные действия,
проецирует себя на свое изделие. Однако вместо этого он говорит
о «замысле» текста. Но, строго говоря, тексты не имеют
замыслов и не способны к действию. Мы не приписываем действенность
книгам, не хвалим и не порицаем их, мы направляем нашу хвалу
или обвинения в адрес авторов. Потому что только личность может
сказать кому-то что-то о чем-то.
Интересно, что Рикёр распространяет свою теорию
интерпретации и на гуманитарные науки, что наиболее заметно в его эссе
«Модель текста: рассмотрение осмысленного действия как текста».82
Здесь он сравнивает дискурс с другими формами человеческой
деятельности. Точно так же, как дискурс может быть
зафиксирован на письме, деятельность может быть овеществлена. Вместе с
Максом Вебером, Рикёр определяет объект социальных наук как
«осмысленно ориентированное поведение».83 Действие, как и
дискурс, имеет смысловой аспект наряду с событийным. Интригует
то, что Рикёр использует понятия философии речевого акта для
рассмотрения смыслового аспекта действия. (1) Действие
обладает структурой локуционного акта: оно имеет пропозиционное
содержание (напр.: s производит действие у по отношению к мячу).
(2) Действие обладает и иллокуционными свойствами: (напр.:
ударив по мячу, 5 забивает гол). Итак, подобно речевому акту, действие
можно определить согласно его иллокуционной силе (что делает х,
производя действие у). И наконец, действие, подобно перлокуции,
приводит к определенным результатам (напр.: выигрышу в игре).
Люди производят действия, оставляющие «следы», которые в
совокупности образуют нечто вроде «документа» человеческой
деятельности и могут «читаться» и идентифицироваться вновь.
Рикёр уделяет много времени исследованию аналогии между
текстами и действиями. Он утверждает, что и тексты, и действия
характеризуются многоголосием, способны обладать
множественным смыслом. Однако, как показывали многие философы действия,
мы можем знать, «что» было совершено, только если знаем
«почему» это было сделано. Иначе говоря, мы понимаем, что было сделано
82 Ricoeur, Hermeneutics and the Human Sciences, 197-221.
83 Там же, гл 8.
315
Часть вторая. Восстановление толкования
кем-либо, только когда можем в какой-то мере понять, что они
думали о своем действии и каковы причины такого действия. Но разве
это не обращение к замыслу исполнителя? Более того, если Рикёр
может рассматривать осмысленное действие как текст, почему бы
не рассмотреть текст как осмысленное действие? «Нечто
сказанное» в дискурсе есть и «нечто сделанное»; мы знаем, что было
сказано, только когда знаем, что и почему думал о своих словах автор.
Если текст есть осмысленное действие и если смысл действия
зависит от замысла деятеля, то из этого следует, что смысл текста как
действия зависит от авторского замысла. Итак, мы можем с такой
же уверенностью определять, что делает автор в дискурсе, как и
в том случае, когда мы определяем, что делает человек,
совершающий действие другого рода.84 Автор настолько же является
исполнителем, как и исполнитель — автором действия.
Юрген Хабермас: Язык как коммуникативное
действие
Юрген Хабермас, социальный теоретик, предлагает третий
философский источник для переосмысления языка в терминах
завета дискурса. Хабермас принимает критику субъектоцентричного
смысла и субъектоцентричного разума Дерридой, но не его
нигилистические выводы. Хабермас предлагает новую парадигму
понимания, которая строится не на дихотомии «субъект-объект», как у
Декарта и в большей части модернистской философии, а на
интерсубъективных структурах, которые скрыты в общении.85 В этом он
полагается на теорию речевого акта и разрабатывает целую теорию
рациональности на том, что является необходимой предпосылкой
повседневного общения.86 Вопреки утверждению Дерриды, язык
84 Рикёр отмечает, что смысл определенных действий превосходит интенцию деятеля, но, как
я доказываю ниже, в этом случае значимость действия была ошибочно принята за его смыл, а
непреднамеренные последствия — за его объект.
85 См. его "Communicative Versus Subject-Centered Reason," in The Philosophical Discourse of Modernity
(Cambridge: Polity Press, 1987), 294-326, и рассмотрение Тисельтона в New Horizons, 185-91.
86 Дэвид Расмуссен отмечает важность философии Хабермаса для теории литературы, но его
библиография не содержит ни одного источника, в котором идеи Хабермаса применялись бы
для этой цели. До этого времени Хабермас упоминается в связи с герменевтикой в основном
по подводу его критики Гадамера и Дерриды (см. Rasmussen, Reading Habermas [Oxford: Basil
Blackwell, 1990], 1). Собственные вылазки Хабермаса на территорию литературоведения: см.
его "Excursus on Leveling the Genre Distinctions Between Philosophy and Literature," в Habermas,
the Philosophical Discourse of Modernity, 185-210.
316
Глава пятая. Воскрешение автора
не загрязняет рациональность, а, как видно будет в дальнейшем,
содержит ее.
Хабермас уверен, что задача философа — в восстановлении
норм, скрытых в дискурсе. Он начинает с объяснения
коммуникативной компетенции. Под компетентностью он имеет в виду тип
имплицитного, интуитивного знания, являющегося необходимым
условием всякого успешного общения.87 Коммуникативная
компетенция включает в себя намного больше, чем просто
грамматическая правильность. Компетенция в равной мере касается и langue,
и parole — использования языка, или того, что Хабермас называет
«универсальной прагматикой»: общие и индивидуальные
предпосылки лингвистического понимания.88 Он имеет в виду род
трансцендентной игры языка с универсальными правилами, в которую
играют все говорящие на языке, независимо от того, что они
обсуждают. В частности, каждый компетентный речевой акт должен
отвечать трем «условиям адекватности»:
1. Он должен быть истинным (то есть представлять нечто во
внешнем, объективном мире).
2. Он должен быть правдивым (то есть искренне выражать
внутренний, субъективный мир замысла говорящего).
3. Он должен быть правилен (то есть занимать
соответственное ему место в общественном контексте).
В любом речевом акте «мы понимаем смысл только тогда,
когда знаем условия, при которых он может быть воспринят как
адекватный».89 Хабермас распространяет понятие адекватности за
пределы истинности пропозиций и включает также перформатив-
ный аспект речевого акта. Иначе говоря, есть стандарты не только
для правильной референции, но и для правильного использования.
Итак, Хабермас предписывает толкователям не отделять речевые
акты от контекста, в котором они совершены, и от говорящих.
87 Ноам Хомский выводит теорию лингвистической компетенции, которая сосредоточивается
на владении определенными универсальными грамматическими правилами. Хомский приводит
нас только к langue, в то время как Хабермаса интересуют универсальные правила использования
языка во взаимодействии, в parole.
88 Одна из целей Хабермаса — в том, чтобы избежать критики, которую Деррида направляет
против Остина, а именно: того, что критерии успешности речевого акта чисто условны и
поэтому произвольны.
89 Habermas, Philosophical Discourse, 313.
317
Часть вторая. Восстановление толкования
От участников общения ожидается, что они смогут, если надо,
отстоять утверждения об адекватности, высказанные имплицитно.
Совершая речевой акт, говорящий подразумевает, что он готов при
необходимости отстоять условия адекватности, предполагаемые
речевым актом. Следовательно, компетентность говорящего
определяется его способностью «соединить координаты» объективного,
субъективного и межсубъективного мира: не только формировать
грамматически правильные предложения, но и должным образом
соотносить сказанное с собственным контекстом. Даже очевидное
утверждение обязывает говорящего принять предположение о
рациональности, имплицитно присутствующее во всяком общении.
Итак, согласно этой точке зрения, каждый из говорящих, вовсе не
исчезая из дискурса, ответственен за обоснованность сказанного.
В то время как для модернистских философов язык есть
средство представления мира, для Хабермаса язык в первую очередь
является средством координирования человеческой деятельности:
«Язык есть средство общения, служащее для понимания».90 Можно
сказать, что смысл стал уже делом не сознания, а общения.
Предложение значит то, «что вложили бы в него члены языкового
сообщества, если бы они решили его произнести».91 Итак, Хабермас
рассматривает язык в рамках социальной теории (как средство
координирования деятельности), а не эпистемологии (как
средство представления сущностей в разуме).92 Итак, соглашаясь с Де-
рридой в том, что субъект перестал быть носителем суверенного
сознания, он не отвергает субъекта, а возвращает его как «одного
из многих», то есть участника общения.93 Это касается также и
90 Habermas, The Theory of Communicative Action, tr. Thomas McCarthy (Boston: Beacon, 1984), 1:101.
91 Freadman and Miller, Rethinking Theory: A Critique of Contemporary Literary Theory and an
Alternative Account (Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1992), 212.
92 Habermas, Theory of Communicative Action, 1:274.
93 Может ли Хабермас объяснить эту взаимную подчиненность и единство человеческих
существ просто обращаясь к тому, что неявно присутствует в общении? Гельмут Пойкерт, в книге
Science, Action, and Fundamental Theology: Towards a Theology of Communicative Action (Cambridge,
Mass: MIT Press, 1984) утверждает, что для последовательности понятия рациональности по
Хабермасу оно должно обладать и богословским аспектом. Только богословие, а не какой-
то вид теории общественного соглашения, может служить нормативной базой для теории
деятельности и сопутствующему ей требованию всеобщей солидарности (напр.: солидарность
с действием немыслима для модернизма, но не для христианского богословия). Вопрос в том,
что объединяет человечество: достаточно ли сходств, основанных на общей биологии, или даже
на общей социальной ситуации, для того, чтобы обеспечить универсальную общность?
318
Глава пятая. Воскрешение автора
авторов, и читателей; все участники общения должны учитывать
нормы, установленные при пользовании языком.94
«НЕЧТО» СМЫСЛА: ТЕКСТЫ КАК
КОММУНИКАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ
Последствия философской реабилитации речи (дискурса) для
теории интерпретации, по моему мнению, огромны. Остальная
часть этой главы собирает воедино три только что рассмотренных
философских направления и доказывает, что значение
раскрывается в коммуникативном действии: и в процессе совершения этого
действия, и в его результате. Более точно значение определяется
как трехмерное коммуникативное действие, с формой и сутью (про-
позиционное содержание), энергией и траекторией (иллокуцион-
ная сила) и телеологией или конечной целью (перлокуционный
эффект). Эта модель смысла, представленного в виде «действия»,
наилучшим образом объясняет как возможность стабильного смысла,
так и преобразующую способность текстов. Она же диктует
восприятие толкования, отдающее главенство автору как движущей силе
общения. Задаться вопросом о смысле текста, значит задуматься о
том, что автор сделал в тексте, с текстом и через текст. Цель
толкования — воспринять сделанное вместе с его последствиями;
достижение такого понимания — предпосылка к общению.
Определение смысла в контексте общения хорошо подходит
для ответа на вопросы герменевтического реализма. Почему в
тексте есть нечто, а не ничто? Потому что кто-то сказал кому-то что-
то о чем-то. Не что угодно, г что-то. В то время как элементы
языковой системы неопределимы и нестабильны, слова,
использованные в определенном месте и времени, приобретают
специфичность. Смысл уже находится «там», он заключен в тексте прежде
прочтения и толкования и независимо от него. Это подобно тому,
как действия человека предшествуют исследовательской и
толковательной работе историка. Отрицать это означало бы отрицать
реальность прошлого. Однако прошлое реально. Более того, то, что
94 Хабермас признает, что реальная речь недостоверна. Однако в идеале говорящие должны
быть способны «оправдать» сделанные ими утверждения о достоверности. Этот идеал
имплицитно присутствует в каждом речевом акте. Рациональность — функция не умственных
способностей человека, а его качеств как собеседника. Разум — неотъемлемая часть языка
как коммуникативной деятельности. Таким образом Хабермас восстанавливает идеалы
Просветительства — истину, разум, свободу, справедливость — в самой практике общения.
319
Часть вторая. Восстановление толкования
было сделано, будь то физическое или коммуникативное
воздействие, неотделимо от исполнителя (или автора) и его намерений.
Толкователь лишь воспринимает действие как оно есть. Если бы
смысл был функцией восприятия текста читателями, тексты
невозможно было бы понять неправильно и ложного толкования просто
не существовало бы. Однако из герменевтического реализма
следует, что оно возможно. Приписывать тексту смысл, не
соответствующий замыслу автора, означает пренебрегать реальностью,
которая характерна для ревизионистской истории. Привнесение наших
собственных идей в библейский текст может быть
герменевтическим эквивалентом отрицания того, что Холокост имел место.
Задаваться вопросом о текстовом смысле значит, по сути,
задуматься о том, что было сделано авторами, с учетом достигнутого
эффекта. Понимание природы и содержания общения (напр.:
проповедей, речей, поэм, романов) есть цель толкования. Конечно же,
мы можем задавать и другие вопросы о текстах (напр.: «Что
рассказывают нам пьесы Шекспира о состоянии английского языка в
елизаветинский период?»), однако не все они будут именно
вопросами толкования в том смысле этого термина, в котором его
использую я. Но поскольку наши вопросы касаются толкования, они
будут связаны с каким-либо аспектом текста как
коммуникативного действия. Итак, основной единицей литературного
толкования является текст, рассматриваемый как сложный процесс
взаимного общения.
Метафизика человеческого действия:
написание мира
У речевого акта есть и четвертая сторона: интерлокуционная.
Язык есть средство «общественного взаимодействия посредством
посланий».95 Эта последняя характеристика выделяет суть завета
дискурса, а именно: то, что он есть средство личностного
общения и достижения общности. Общение разительно отличается от
причинно-следственного взаимодействия. Люди взаимодействуют
друг с другом не только по необходимости (причина и следствие),
но и по желанию (действие и ответное действие). То, как мы
используем язык, изменяет мир («перо сильнее меча»): «Действовать,
95 John Fiske, Introduction to Communication Studies, 2d ed. (London: Routledge, 1990), 2.
320
Глава пятая. Воскрешение автора
в наиболее общем смысле, означает принимать на себя
инициативу, начинать... приводить что-то в движение (именно таково
исходное значение латинского слова agere)».96 Индивидуальность, по
большей части, определяется умением общаться. С точки зрения
христианского богословия, личности не являются полностью
определимыми ни с точки зрения языка (социолингвистики), ни с точки
зрения генов (социобиология). Напротив, человеческие личности
есть действующие участники завета, чья история, подобно истории
Израиля, во многом зависит от того, как они распорядятся своей
свободой общения и уяснят свои обязанности в этом процессе.97
«Действием» можно назвать процесс или результат, «энергию»
или «форму и суть» того, что кто-либо делает. Более того, часть
действия остается событием даже по его завершении — его «след»
и, возможно, результат. Эти понятийные различия поясняют, в
каком именно смысле автор есть деятель и каким образом автор
соотнесен с текстом. Возможно, наиболее значительным является
различие между «действием» и «событием».
Дискурс: действие или событие?
Судьбоносное определение Вильгельмом Дилти (1833-1911)
разницы между естественными и гуманитарными науками
проложило путь тому, что можно назвать «вторым пришествием»
герменевтики.98 Цель естественных наук — объяснение
происходящего в природе путем формулирования универсальных
причинно-следственных законов (напр.: законы притяжения,
движения, сохранения энергии и пр.). С другой стороны,
гуманитарные науки направлены на понимание человеческого
поведения. Дилти утверждает, что в гуманитарной сфере мы постигаем
не движение, а «разум», «дух» или «пережитый опыт».
Движение человеческого духа, его свободу невозможно изучать
методами естественных наук, поскольку те игнорируют волевой и
96 Hannah Arendt, The Human Condition (Chicago: Univ. of Chicago Press, 1958), 177.
97 Я думаю об истории Второзакония (ветхозаветные книги от Иисуса Навина до 4 Царств),
повествующей об истории Израиля как об истории того, как люди откликались на Слово Божье.
98 «Первое пришествие» состоялось во время толкования христианами Ветхого Завета (ср.
замечание Бубера: «Христианство дает миру герменевтику»). О значимости работы Дилти
для герменевтики, см. Ricoeur, Hermeneutics and the Human Sciences, chs. 2-3, и Thiselton, New
Horizons, 247-51. Различие, указанное Дилти, отражает отмеченные ранее Кантом различия
между природой и свободой, фактом и ценностью.
11-227 321
Часть вторая. Восстановление толкования
интенциональныи аспект личного опыта, тем самым сводя знания к
подсчетам. Дилти утверждал, что гуманитарные науки нуждаются
в герменевтическом рассуждении — методе восприятия того, что
свойственно именно человеческому опыту. История есть великий
«документ», выражение жизни и мышления человека, и задача
герменевтики — восприятие смысла прошлых действий человечества.
Дилти определяет это как восприятие целого (жизни или текста)
в свете частностей и наоборот." Однако Дилти полагает, что цель
понимания — в том, чтобы мысленно вернуться к разуму
автора, воссоздать психологию автора и вновь пережить опыт автора.
Но это означало бы искать смысл за пределами дискурса,
сосредоточиваться на субъекте, а не на его действии.
Дилти прав, рассматривая человеческую деятельность как
качественно отличную от природных явлений; он, однако, ошибается,
ориентируя гуманитарные науки на субъективное сознание, а не
на межсубъективное взаимодействие. Излишний упор на
субъективность приводит, как мы видели ранее, к попытке ее упразднения
Дерридой. Вместо этого герменевтика должна сосредоточиваться
на языке как речевом акте. Речевой акт есть нечто большее, чем
природное событие, чем просто свистящий звук воздуха,
проходящего через наши дыхательные пути, больше, чем то, что могла
бы объяснить физика. Действие не «случается», а «совершается».
О том, что мы делаем, мы обычно говорим не в контексте научных
обоснований и всеобщих законов, а в контексте причин, желаний,
целей и мотивов. В ответ на вопрос: «Каково действие?» мы
поясняем намерения деятеля. В ответ на вопрос: «Почему он сделал то
или иное?» мы объясняем его мотивы. Проще говоря: мы объясняем
человеческие действия и понимаем их с помощью категорий,
чуждых естественным наукам. Ни один ученый не заботится о мотивах
бильярдных шаров или намерениях электронов, изучая движение
тех или других. Однако к движению человеческих существ мы
подходим с совершенно иным набором вопросов. Потому что
гуманитарные науки изучают осмысленную человеческую
деятельность. Ирония состоит в том, что большая часть современной
теории литературы изучает тексты без особой связи с их авторами.
Как я уже утверждал, это не просто ошибка толкования. Она носит
и этический характер; большая часть постмодернистской теории
Это одна из версий так называемого герменевтического круга.
322
Глава пятая. Воскрешение автора
игнорирует представление о человеческой личности как о
свободном и ответственном деятеле. Поскольку если язык «произносит»
человека, то автор становится лишь звеном в цепи семиотических
причин и следствий, а не деятелем, способным заставить языковую
систему действовать по-новому.
Происходящее в природе есть «процесс», который мы
объясняем, соотнося причины и следствия с помощью научных законов.
В гуманитарной сфере, напротив, имеют место «проекты», которые
мы понимаем, прослеживая намерения деятелей путем изучения
исторического значения их действий. Ошибка большинства
постмодернистских литературных теорий в том, что они изучают текст
так, будто его можно объяснить не природной, а культурной
необходимостью, то есть через идеологические коды, которые якобы
управляют мышлением, языком и поведением человека. Как я уже
упоминал, это приводит к низведению предложения (и самости)
до уровня знака (и системы). Фундаментальные проблемы такого
«семиотического материализма» в том, что он не может объяснить
суть коммуникативного действия и способности людей быть
участниками общения в завете.
Деятель обладает способностью быть причиной, способностью
делать — врожденной и неотъемлемой. Действовать — означает
брать на себя инициативу, начинать, приводить что-то в движение;
действие есть актуализация силы.100 Сказать, что «дьявол (или мое
воспитание, или мои гены и пр.) заставили меня сделать это» —
означает сказать, что выбор человека было вызван чем-то вне его
самого. Такое утверждение — не что иное, как отречение от
способности действовать, от свободы и ответственности. Как мы видели
ранее, некоторые постмодернистские мыслители уверены, что на
самом деле существует лишь видимая, а не реальная способность
действовать. Было бы, конечно, большим преувеличением сказать,
что только христиане верят в свободу и ответственность; однако
светскими теориями часто бывает трудно объяснить эти
исключительно человеческие качества. Отсюда общий кризис
гуманитарных наук. Я рассматриваю этот кризис, обращаясь к христианскому
100 Согласно G. H. von Wright, Explanation and Understanding (Ithaca: Cornell Univ. Press, 1971),
деятели могут по своей воле вмешиваться в ход дел в природе. Деятели могут быть причиной
событий, приводя в движение «системы» — физические, семиотические. Когда они это делают,
понятия причины и действия совпадают. Фон Райт говорил лишь о природных системах; но
я думаю, что мы можем развить его идеи и говорить о вмешательстве деятеля в языковую
систему.
и- 323
Часть вторая. Восстановление толкования
учению, и с помощью некоторых философов заново изучаю вопрос
смысла.
Толкование действия
Рикёр, как мы уже видели, предполагает, что осмысленное
действие подобно тексту. И наоборот: осмысленное действие
напоминает речевое.
«Совершение» действия соответствует локуции. Так же,
как письмо фиксирует «сказанное», так и действие «фиксируется»
его совершением. Совершение действия оставляет «знак» на мире,
в прошлом.
Действия имеют объект, или «пропозиционное
содержание». Действие состоит в том, что кто-то что-то делает с чем-то.
Если, например, я открываю дверь, она является пропозиционным
содержанием моего действия. Содержанием моего действия
(дверью) можно поделиться с другими; следовательно, оно объективно.
Спустя годы люди могут приходить к той же двери, вспоминать о
моем действии и, возможно, также открывать дверь.
Действия обладают определенной силой. Совершая действие,
исполнитель занимает определенное положение относительно
объекта своего действия. Например, в рассмотренном выше случае
исполнитель ставит себя в положение того, кто намерен открыть дверь
(в отличие от намерения ее захлопнуть, запереть или покрасить).
То, что я делаю, заняв определенное положение относительно
двери, соответствует, таким образом, иллокуционной силе действия.
Действия часто обладают результатами, как
планированными, так и неожиданными. Например: возможно, открывая
дверь, я поймал мышь (как и намеревался). Этот аспект действия
соответствует перлокуционной силе высказывания: тому, что я
делаю посредством высказывания. Не все последствия
подконтрольны исполнителю: например, открывая дверь, я могу вместо мыши
застать вора и предотвратить преступление.
Итак, действия подобны текстам в том, что они имеют
фиксированное пропозиционное содержание, иллокуционную силу и
соотнесенность, выходящую за пределы, доступные представлению
исполнителя. Однако цель, с которой я делаю этот вывод, противоположна
поставленной Рикёром. Он приводит это сравнение, чтобы
показать необходимость толкования человеческой деятельности; я же
324
Глава пятая. Воскрешение автора
доказываю, что понимание текстов, в конечном итоге, сводится к
толкованию человеческой деятельности. Мое утверждение
имеет две стороны: (1) если мы можем толковать действия, то и
тексты тоже; (2) действия могут быть истолкованы только с учетом их
исполнителей.
Конечно, аналогия между текстом и действием не является
толковательной панацеей. Существуют трудности и в восприятии
смысла действий. Это, однако, не мешает нам понимать, что
именно делают другие люди. Изучение действий других людей
занимает большую часть жизни, так как сама жизнь есть постоянное
взаимодействие между нашими действиями и действиями других.
Случаются и эпизоды, сбивающие с толку (напр.: необъяснимое
поведение), но обычно мы способны понять, что делают люди,
окружающие нас. Однако в философии действия есть четыре проблемы,
осложняющие доказательство с моей точки зрения.
(1) Когда начинается и когда кончается действие? Какова его
продолжительность?™1 Это важные вопросы, поскольку действия
происходят во времени и обладают последовательностью. В
отношении текстов, недостаточно ответить: «Они заканчиваются
последней страницей». Как нам различить действие и его результат?
Являются ли результаты «частью» действия? Можно ли их считать
частью действия, когда они случайны? Например, правильно ли
сказать, что Библия «увековечивает патриархат»? Является ли это
частью действия Библии — непреднамеренным эффектом — или
же это ложное понимание того, что Библия делает и говорит?
(2) Как отличить цельное действие от его составных частей? То
есть что превращает последовательность эпизодов в целое и полное
действие (например, как вертикальные возвратно-поступательные
движения руки включаются в завершенный акт покраски дома?)
(3) Где заканчивается исполнитель и начинается его действие?
До какой степени можно отождествлять исполнителя с его
действиями и их последствиями? Можем ли мы вообще говорить о том,
что считается действием («что») в отрыве от понятия исполнителя
(«кто»)? Когда можно считать, что текст начинает самостоятельное
существование, и возможно ли это вообще?
(4) В свете заданных выше вопросов, как можно описывать или
толковать действие? Ограничивается ли толкование действий всего
101 Мы далее увидим, что вопрос о том, где начинается и кончается смысл, переплетен с крайне
важным различием между смыслом и значимостью.
325
Часть вторая. Восстановление толкования
лишь описанием телодвижений? Обязательно ли для толкования
действия описание его контекста? Или при описании действия
необходима ссылка и на намерения деятеля? Далее я буду следовать
вторым путем. Однако я переношу понятие намерения, или
замысла, с его привычного места в субъективном сознании на новое — в
процессе межсубъектного общения. Из этого переноса следует, что
толкователи вникают в замысел автора не интуитивно, по
романтической концепции Дилти и Шлеермахера, а скорее посредством
сделанных выводов. Авторский замысел остается основой,
целью и руководством для толкования. Я сейчас обращаюсь к
рассмотрению понятия коммуникативного действия и к изменению
определения текста и автора.
Коммуникативное действие
Изучение процесса общения на данный момент обрело статус
солидной и самостоятельной научной дисциплины. Существуют два
основных подхода.102 Первый рассматривает общение как передачу
сведений. Этот подход подчеркивает важность языка как parole и
сосредоточивается на актах коммуникации. Здесь язык
рассматривается как средство передачи сообщений через пространство и
время. Текстовый смысл — «послание в бутылке». Второй подход
рассматривает общение как текстовое и культурное создание смысла с
помощью знаковых систем. Эта модель подчеркивает важность
языка как langue и сосредоточивается на системах коммуникации —
назовем ее подходом «среда есть сообщение».
В чем источник смысла — в личностном действии или в
безличных знаковых системах? Первая модель понимает смысл в терминах
сообщения, которое намеревается передать отправитель. Вторая
модель понимает смысл с точки зрения того, как получатель
декодирует систему знаков. На первый взгляд может показаться, что мой
акцент на коммуникативном действии предполагает предпочтение
мною первой модели. На самом деле я пытаюсь скомбинировать обе
модели, поскольку рассматриваю общение как действие, которое в
определенный момент приводит в движение языковую систему,
реализуя определенные возможности, предлагаемые кодом.103
102 За материал этого параграфа я обязан книге John Fiske, Introduction to Communication
Studies.
103 Здесь я следую модели коммуникации, описанной Романом Джейкобсоном (1896 — 1982),
326
Глава пятая. Воскрешение автора
Не все действия — коммуникативны, и не все действия
включают в себя передачу смысла. Некоторые действия направлены на
манипуляцию, а не на общение. Например, движение руки к
дверной ручке и поворот ее — действие не коммуникативное, а, по
определению Хабермаса, «стратегическое». Здесь успех измеряется
с точки зрения способности его исполнителя достичь результата
и намеченной цели. С другой стороны, коммуникативное действие
направлено на достижение понимания. В частности, оно должно
помочь в некоторых жизненных ситуациях говорящему и
слушателю свободно согласовывать свои действия. Хабермас считает, что
это различие весьма важно для здорового общественного
взаимодействия по двум причинам. Во-первых, соглашения, достигнутые в
условиях понимания, более плодотворны, чем те, к которым
приходят по принуждению. Во-вторых, социальная справедливость есть
по большей мере вопрос свободного, беспрепятственного общения.
И рациональность, и справедливость требуют, чтобы носители
языка пользовались им для того, чтобы в процессе общения достигать
понимания.
Теория коммуникативной деятельности по Хабермасу
одновременно и поддерживает мою модель смысла как деятельности, и
ставит ее под сомнение. Его анализ норм, имплицитно
присутствующих во всяком общении, помог мне завершить мою работу о
замысле языка. Однако его особое внимание к вопросу рациональности
общения, в конечном итоге, излишне суживает взгляд на процесс
понимания. Его дихотомия между действием, ориентированным на
«успех», и действием, ориентированным на «достижение
понимания», вызывает тревогу: Если авторы используют для достижения
своих целей риторику (напр.: убеждение), является ли их действие
стратегическим или коммуникативным? К чему стремятся
добросовестные авторы: манипулировать своими читателями или
облегчить им понимание? Это не пустой академический вопрос, потому
что Хабермас знает, что язык есть форма власти, которой можно
воспользоваться или для наставления (когда говорящие стремятся
к разумному согласию), или для внушения идей (когда говорящие
пользуются языком как идеологическим орудием).
которая подчиняет функцию кода высшей функции коммуникации. Джейкобсон выделяет шесть
факторов дискурса: говорящий, слушатель, среда, код, ситуация и послание. См. его "Linguistics
and Poetics," в Т. A. Sebeok, ed, Style In Language (Cambridge, Mass.: MIT Press, 1960), 350-77.
327
Часть вторая. Восстановление толкования
С точки зрения Эрика Ауэрбаха, притязания Библии на
истину «тираничны»: «Мир повествований Писания не ограничивается
притязаниями на исторически верную реальность, а претендует на
статус единственно реального мира, предназначенного
властвовать... Повествования Писания... стремятся подчинить нас».104 Если
оценка Ауэрбаха верна, следует ли из этого, что библейская
литература скорее совершает стратегическое действие, чем призывает
к общению? Согласиться с этим — значит признать правоту
постмодернистских «мастеров подозрения». Межличностное общение
автора и читателя в этом случае не рационально и ориентировано
не на понимание, а на манипуляцию.
В целом, Хабермас невысоко оценивает стратегические речевые
действия. Некоторые виды дискурса (реклама, логические ошибки,
ложь) рассматривают человека как объект манипуляции, а не
личность, достойную уважения. Следуя западной философской
традиции, Хабермас утверждает, что риторика паразитирует на логике —
темная сторона дискурса. Он считает, что более оригинальным и
правильным является такое использование языка, которое
направлено на достижение понимания, в котором говорящие и
слушающие осознают свою непременную обязанность обосновывать
сказанное.105 Поскольку основной интерес для Хабермаса
представляет рациональность, он признает общение истинным, исходя
единственно из его результата, а именно, приводит ли оно к достижению
понимания в смысле разумного соглашения. Стараться достичь
иного результата для него означает превратить речевое действие из
коммуникативного в стратегическое.
Хабермас, изменив определение различий, данное Остином,
считает, что иллокуционнные действия коммуникативны, в то
время как перлокуционные — по сути своей носят стратегический
характер. Стоит уделить время более подробному рассмотрению
этого разделения. Иллокуционный акт нацелен исключительно на
то, чтобы быть понятым буквально: «Посредством иллокуционного
акта говорящий дает слушающему возможность понять его
намерения, т. е. чтобы сказанное им было понято как приветствие, приказ,
104 Erich Auerbach, Mimesis (Princeton: Princeton Univ. Press, 1953), 14-15.
105 Это утверждение небесспорно, что сразу отмечают критики Хабермаса. См. Stephen White,
The Recent Work ofJurgen Habermas: Reason, Justice and Modernity (Cambridge: Cambridge Univ.
Press, 1988), 45-46; David M. Rasmussen, Reading Habermas (Oxford: Basil Blackwell, 1990),
27-28,38-41.
328
Глава пятая. Воскрешение автора
предупреждение, объяснение и так далее. Его коммуникативное
намерение не выходит за пределы желания донести до слушающего
буквальное содержание его высказывания».106 Перлокуционный акт,
напротив, направлен на достижение дополнительной цели вместе
с простым пониманием. Например, говоря «Привет!», я могу не
только приветствовать человека, но и надеяться на то, что он
пригласит меня на обед. Хабермас считает, что иллокуционного
результата можно добиться, не производя перлокуционного. Человек
может понять мои слова как приветствие без необходимости отвечать
на него (и без необходимости приглашать меня на обед). Хабермас
делает вывод, что перлокуционные эффекты являются внешними
по отношению к смыслу высказывания: «Перлокуционная цель
говорящего (как и вообще цели действий, направленных на
достижение результата) не следует явному содержанию речевого акта; эту
цель можно определить только через намерение деятеля».107
Конечно, возможно использование иллокуций в перлокуцион-
ных целях. В самом деле, некоторые авторы открыто признают пер-
локуционность своих целей: «Сие же написано, дабы вы уверовали,
что Иисус есть Христос» (Ин. 20,31). То, что Четвертое Евангелие
делает в письменном дискурсе (иллокуционный акт
повествования), направлено на достижение, кроме понимания,
дополнительного перлокуционного результата (убеждения). Однако когда это
происходит, действие перестает быть коммуникативным в строгом
понимании Хабермаса и становится стратегическим —
ориентированным не на понимание, а на успех (напр.: привлечение читателя
ко Христу). Таким образом, Хабермас, похоже, утверждает, что
назначение языка состоит исключительно в иллокуциях: «Итак,
описание перлокуционных результатов следует отнести к контексту
телеологических действий, выходящих за пределы речевого акта».108
Я считаю, что взгляды Хабермаса приводят к чрезвычайно
узкому пониманию общения. Более того, они основаны на заблуждении,
потому что разница между иллокуционным и перлокуционным
не есть различие между коммуникативным и
стратегическим действием. Неверно утверждать, что предназначение языка
состоит только в выражении иллокуционного момента. Напротив,
106 Jurgen Habermas, Theory of Communicative Action, 1:290.
107 Там же.
108 Там же, 1:291.
329
Часть вторая. Восстановление толкования
многие иллокуционные акты рассчитаны на достижение
эффектов, превосходящих просто понимание. В самом деле, Хабермас и
сам сознает, что иллокуции часто могут быть «стратегическими».
Он приводит следующий пример: «Н предупредил S, чтобы тот не
ставил свою фирму в известность».109 Учитывая то, что Хабермас
рассматривает коммуникативную деятельность в контексте
иллокуции, следовало бы ожидать, что Хабермас будет определять
иллокуционный успех в терминах того, понял ли S, что Н
высказал предупреждение. Но разве говорящие на самом деле
предупреждают лишь затем, чтобы у слушающих возникло восприятие их
высказывания как предупреждения? Конечно, нет. На самом деле
Хабермас дает более либеральное определение иллокуционного
успеха: «Если, например, S не дает извещения, это не перлокуци-
онно достигнутый результат, а последствие соглашения,
достигнутого в результате общения».110 Здесь, полагаю, Хабермас отходит
от анализа Остина и Сёрля и собственной приверженности к
разделению коммуникативной и стратегической деятельности. Суть
дела в том, что говорящие, как и авторы, являются одновременно
и иллокуционными, и перлокуционными деятелями.
Следовательно, толкование текстов есть вопрос понимания целенаправленных
действий — коммуникативных и стратегических.111 Таким
образом, когда я говорю о коммуникативных действиях по отношению
к текстам, я имею в виду полную, четырехмерную реальность,
описываемую теорией речевых действий, а не только иллокуционное
измерение, как это принято у Хабермаса.112
109 Там же.
110 Там же.
111 Я вернусь к вопросу, вызвавшему озабоченность Хабермаса, ниже, где обращусь к различию
между иллокуцией и перлокуцией в попытке пойти дальше Хирша и более прочно обосновать
различие между смыслом и значимостью.
иг Четыре измерения здесь — локуционное, иллокуционное, перлокуционнное и
интерлокуционное. Вопреки Остину, Хабермас просит нас не путать «коммуникационные
действия» с «коммуникативной деятельностью». Его так беспокоит этот момент вследствие его
интереса к описанию общественного порядка, характеризуемого разумным единогласием, а не
риторической манипуляцией. В самом деле, его беспокойство о том, что риторика подрывает
рациональность, по сути тождественно озабоченности, выраженной Платоном в «Республике»,
труде, также посвященном общественной теории. Более подробно эти вопросы освещены
в Jonathan Culler, "Communicative Competence and Normative Force", New German Critique
35 (1985): 135-37.
330
Глава пятая. Воскрешение автора
Природа текста: порожден или сотворен?
Итак, произведение искусства представляется
своеобразным объектом познания, обладающим особым
онтологическим статусом. Он ни реален (как статуя), ни
ментален (как ощущение света или боли), ни идеален (как
треугольник) J13
«Самый радикальный вопрос герменевтики, — пишет Тисель-
тон, — касается природы текстов».114 В свете предшествующего
раздела, я определяю текст как коммуникативное действие
коммуникативного деятеля, зафиксированное письменно. Возможно,
полезно будет вспомнить, что моя цель в этой главе — обеспечить
стабильную основу текстового смысла. Мое предположение
основано на том, что основу смысла следует искать в коммуникативной
деятельности автора, а не в его субъективности. Коммуникативная
деятельность обладает двумя важными чертами, которые дают ей
превосходство над представлениями Хирша о том, что смысл
определяется сознанием. Во-первых, коммуникативное действие, в
отличие от сознания, общедоступно. Во-вторых, ранее совершенные
коммуникативные действия, подобно прочим действиям,
совершенным в прошлом, фиксируются не только на письме, но и в истории.
Из моей модели действия следует, что текст, как любые
человеческие действия в прошлом, имеет определенный смысл и что он
существует независимо от наших теорий о нем и его толкований.
Из нее также следует, что мы можем как ошибочно приписать
действие исполнителю, так и ошибочно толковать текст.
Аналогия между действиями и текстами ставит ряд сложных
вопросов. Например, какова природа связи между автором и текстом?
Позвольте мне предложить еще одну аналогию, чтобы прояснить
природу человеческого авторства. Отцы церкви, в контексте выражения
отношений Сына к Отцу, использовали различие между
«порождением» и «сотворением» для того, чтобы говорить о том, что по сути
своей «подобно» или «не подобно» нам.115 То, что мы порождаем, подобно
нам и заслуживает почтения, как и всякая другая личность. То, что
113 Rene Wellek and Austin Warren, Theory of Literature (London: Jonathan Cape, 1949), 157.
114 Thiselton, New Horizons, 49. См. на стр. 55-58 обзор различных возможностей, а именно:
текст как выражение автора, как автономный объект и как приглашение для читателя.
115 Фраза «рожденный, не сотворенный» использована в Никейском символе веры (325 г. н. э.),
чтобы указать на то, что Сын единосущен Отцу (homoousios).
331
Часть вторая. Восстановление толкования
мы творим, будучи отлично от нас, не заслуживает того же почтения.
Можем ли мы применить это различие к отношениям между авторами
и текстами? Являются ли коммуникативные действия по сути своей
«подобными» деятелям или «отличными» от них? Как можно
охарактеризовать тексты — как «порождение» или как «сотворение»?
Ранее я спрашивал, где кончается деятель и начинается
действие. До какой степени мое действие, мой дискурс или мой текст
«тождественны» мне? В какой-то мере это вопрос «идентичности».
Здесь мы можем воспользоваться предложением Рикёра различать
два вида «идентичности». Первый — это единство сущности,
тождество, проистекающее из общности качеств, имеющей место при
порождении.116 Отношения авторов и текстов явно лишены такого
тождества по той простой причине, что тексты — не люди, и, тем
более, — не авторы. Однако тексты и не вполне отчуждены от
авторов: произведение искусства не просто физическое или ментальное
явление — оно обладает свойствами обоих. Онтология
произведений искусства — литературы, музыки, живописи — не поддается
делению на «порожденное или сотворенное». Произведение
искусства не вполне тождественно своему творцу и не вполне отлично
от него. Будем рассматривать произведение искусства как нечто
совершаемое — не как «я» и не как то, что мной «создано», а как то,
что я совершаю.
Природа произведения искусства, полагаю, лучше
соответствует второму смыслу идентичности по Рикёру: постоянство самости.
Самость относится не к тождественности сути, а к сохранению
постоянства личностей на протяжении времени. Рикёр уверен, что
самоопределение личности — самость, не тождество — касается
отношений между делами и словами человека. Этот второй
вариант идентичности помогает объяснить связь между деятелем и его
действием, художником и его произведением, связь, позволяющую
нам сказать: «Это Пикассо», когда речь явно идет не о человеке,
а о картине. Мы говорим: «Это Пикассо», потому что
воспринимаем некую общность с тем, что сделал Пикассо. Это его работа.117
Конечно же, не все сделанное художником есть произведение
искусства или коммуникативное действие. Без сомнения, Ван Гог
116 Paul Ricoeur, Oneself As Another, tr. Kathleen Blarney (Chicago: Univ. of Chicago Press, 1992).
117 Здесь можно вспомнить замечание Рикёра о том, что автор есть основа индивидуального
стиля произведения.
332
Глава пятая. Воскрешение автора
много ходил по Провансу, но то, что он снашивал при этом туфли,
вовсе не было коммуникативным действием; хотя созданное им
изображение пары крестьянских туфель является именно таковым.
Мы можем соотнести обе пары туфель с Ван Гогом, но лишь
нарисованная пара что-то сообщает. В чем же разница меж двумя парами
туфель? Лишь в том, что изображение крестьянских туфель
связано о, мыслью Ван Гога.118
Ричард Уолхайм, искусствовед, помещает живопись «однозначно
в пределы теории деятельности» и доказывает, что суть произведения
искусства как коммуникативного действия — в мысли, которая
руководила его творцом, мысли, которая «порождает его и определяет его
характер».119 Как я постараюсь доказать ниже, действие невозможно
даже описать, не ссылаясь при этом на намерения деятеля.
Художник придает смысл материалам, совершая над ними некое действие,
воплощая свой замысел. Цитата из Мильтона в начале второй части
предполагает, что книги создаются по образу своих разумных
творцов, точно так же, как разумные творения — по образу Божьему.
Даже те, кто, подобно Дерриде, не верят в авторов, не разрывают
связи с собственной коммуникативной деятельностью. Произведение
Дерриды «Глас» представляет собой хитроумное наложение текстов
Гегеля и Жене с вкраплениями собственных шутливых
размышлений Дерриды о законах авторских прав и о месте имен собственных
в письме. Один комментатор был настолько поражен этой работой,
что оставил ее без внимания, поскольку она «сводит на нет все
усилия, направленные на ее описательный анализ или обзор».120 Однако
А. Д. Наттолл, шекспировед, отмечает, что «трудно представить,
каким еще образом Деррида мог бы оставить более явный след в книге,
чем таким чудаковатым и совершенно неестественным устранением
автора. Каждая страница [«Глас»] с назойливым красноречием
твердит о личности автора».121 В конечном итоге Деррида оказывается
неспособным нарушить завет дискурса; даже деконструктивные
тексты остаются коммуникативными действиями, отображающими
личность совершивших их коммуникативных деятелей.
118 Совершенно иной анализ работ Ван Гога: см. Martin Heidegger, "The Origin of the Work of
Art," in Poetry, Language, Thought, tr. Albert Hofstadter (New York: Harper & Row, 1971), 3Iff.
119 Richard Wollheim, Painting As an Art (Princeton: Princeton Univ. Press, 1987), 17-18.
120 Norris, Derrida, 46.
121 A. D. Nuttall, A New Mimesis: Shakespeare and the Representation of Reality (London:
Methuen, 1983), 37.
333
Часть вторая. Восстановление толкования
Текстовые акты
«Значение», как я утверждал выше, может указывать и на
процесс совершения действия, и на совершенный поступок (акт). Если
проект есть «нечто, подлежащее выполнению», то текст можно
назвать завершенным коммуникативным проектом. Яснее это можно
выразить так: текст есть сложный коммуникативный акт,
совершенный в прошлом, однако способный приводить к результатам в
настоящем. Текст — это одновременно и законченный
коммуникативный проект, и коммуникативный снаряд, способный проникнуть
в жизнь и мир читателей и изменить их.
Можем ли мы распространить формулу речевых актов Сёрля —
M=F(p) — и на тексты? Или же формула смыла текста более
сложна? Через несколько лет после публикации Речевых актов Сёрля,
литературовед Ричард Оманн обратился к иллокуциям с целью
решить пресловутую проблему: как определить литературу.
Большинство попыток определить литературу сосредоточиваются на
форме (локуции) или результате (перлокуции). Оманн, однако,
разделяет литературу и обычный дискурс, предполагая, что
литературные произведения лишь притворяются иллокуционными актами:
«Литературное произведение есть дискурс абстрагированный,
или отделенный от условий и обстоятельств, которые делают
иллокуционный акт возможным; следовательно, это дискурс,
лишенный иллокуционной силы».122 Предполагаемое отсутствие у
текста настоящих иллокуционных свойств, однако, противоречит
моему утверждению о том, что тексты, подобно речевым актам,
являются средством социального взаимодействия и поэтому входят в
завет дискурса. Оманн считает, что литературные тексты на самом
деле не утверждают, не предостерегают, не увещевают и так далее.
Такая точка зрения, полагаю, неспособна объяснить, как текст
может влиять на нас и побуждать к чему-либо. С точки зрения Оманна,
текст есть «акт» лишь в театральном смысле этого слова, а автор —
актер, а не деятель.
Однако, по мнению Марии Луизы Пратт, автор литературного
произведения не просто подражает, а совершает реальный
иллокуционный акт: не акт-утверждение, но акт-демонстрацию состояния.
122 Richard Ohmann, "Speech Acts and the Definition of Literature," Philosophy and Rhetoric 4
(1971): 13 (курсив автора). Ср. Ohmann, "Literature As Act," в Seymour Chatman, ed., Approaches
to Poetics (New York: Columbia Univ. Press, 1973), 81-107.
334
Глава пятая. Воскрешение автора
Пратт указывает, что авторы в повествованиях на самом деле что-
то делают: «словесно демонстрируют положение дел, предлагая
тем, к кому текст обращен, присоединиться к ним в его созерцании,
оценке и отклике на него».123 Итак, повествования могут иметь
подлинную иллокуционную силу; в том, что можно назвать «актом
повествования», автор проецирует на читателя мир. В повествовании
(/?) лучше всего рассматривать не как пропозиционное содержание,
а как сюжет.
Сьюзен Лансер находит теорию речевых актов особенно
полезной при изучении точки зрения, то есть авторской перспективы
мира, изображенного в тексте: «В теории речевых действий я нашла
философское обоснование понимания литературы как
коммуникативного действия и текста — как сообщения в контексте, а также
отличные новые инструменты для анализа дискурса».124 Одно дело —
демонстрировать мир, совсем другое — занять по отношению к
нему какую-то нормативную позицию (напр.: хвалить,
рекомендовать, осуждать, насмехаться и пр.). Позиция автора, сверх и
помимо иллокуционной силы самого повествования (напр.:
демонстрации), также несет определенное сообщение читателю: «Тогда
речевые акты на уровне повествования становятся равны действиям
персонажа на уровне historie [рассказа]».125 Иначе говоря, тексты
не только раскрывают мир, но предлагают способ его восприятия:
«Во многом подобно библейским притчам, основным иллоку-
ционным действием текста является идеологическое
назидание; его основной призыв таков: услышь мое слово, поверь и
пойми».126 Следовательно, предназначение литературных текстов
не только в передаче информации, но и в том, чтобы обеспечить то,
что Лансер называет «культурной коммуникацией»: поучением, как
123 Pratt, Toward a Speech Act Theory, 136.
124 Susan Snaider Lanser, The Narrative Act, 7. И Пратт, и Лансер отвергают различение обычного
и литературного дискурса. Пратт определяет свою цель как разработку «общей теории» дискурса.
{Toward a Speech Act Theory, vii). С точки зрения Лансер, «литература коммуникативна и по
использованию, и по замыслу, и различение «литературного» и «обычного» языка, к которому
склонны поэты, не подтверждается лингвистическими исследованиями» (The Narrative Act,
65). Опять-таки, это далеко не просто академический спор. От того, будет ли человек читать
Писание с точки зрения общей или специальной герменевтики, зависит восприятие Библии
читателем как обычного дискурса или как литературного произведения.
125 Lanser, The Narrative Act, 227.
126 Там же, 293 (курсив мой). По мнению Лансер, автор не может не выражать мировоззрение,
свойственное его историческому контексту: «Итак, голос текста наделен авторитетностью его
создателя и сообщества, которое его опубликовало и произвело».
335
Часть вторая. Восстановление толкования
быть человеком. Конечно, читатели могут отвергнуть точку зрения
автора, однако неправильное ее понимание или полное
пренебрежение ею означает полную потерю возможности общения и
взаимопонимания.
Я согласен с Чарльзом Алтиери в том, что литературные
тексты «лучше всего рассматривать как действия, совершаемые на
нескольких уровнях нашего восприятия».127 Философия речевого
действия позволяет нам определить по крайней мере три уровня с
достаточной степенью точности. Различие между локуционными,
иллокуционными и перлокуционными актами закладывает
надежное основание и для поэтики (изучения разных форм текстовых
актов), и для риторики (изучения функций текстовых актов). Лансер
приблизилась к тому, чтобы предложить описание разных уровней
«текстового акта»: «пропозиционное содержание, иллокуционное
содержание и контекст речевого акта вместе определяют
общепринятое перлокуционное воздействие, риторическое влияние,
которое окажет дискурс».128
Рассмотрим Четвертое Евангелие как сложное
коммуникативное действие. Пусть р здесь обозначает и литературную форму, и
содержание текста — как четко упорядоченного произведения, и
как мира людей и событий. Это — локуционный аспект
Четвертого Евангелия: повествование (р) — сюжет («страдания Иисуса за
нас»). Иллокуционный аспект F обозначает то, что делает
евангелист, рассказывая р: показывает мир и свидетельствует о
Христе. Все вновь осложняется, когда мы рассматриваем перлоку-
ционный аспект. С одной стороны, Четвертое Евангелие явно было
написано с целью убедить читателей в том, что Иисус есть Христос
(Ин. 20,31), с другой — до сих пор не ясно, является ли эта цель
частью смысла текста. Вместе с Хабермасом, Сёрль отрицает
способность перлокуции играть какую-либо роль в определении смысла:
«Я не приемлю мысли о том, что намерения, определяющие смысл,
представляют собой стремление оказать влияние на аудиторию».129
Последующий отклик и поведение аудитории — факторы внешние
и часто нестабильные, и поэтому не могут рассматриваться как
часть того, что делает речевое действие тем, чем оно является.
127 Charles Altieri, Act and Quality, 10.
128 Lanser, The Narrative Act, 73.
129 John Searle, Intentionality, 161.
336
Глава пятая. Воскрешение автора
Четвертое Евангелие свидетельствует об Иисусе Христе
независимо от того, как откликнутся на него читатели, однако оно убеждает
читателей только тогда, кода они откликаются на его свидетельство
с верой. Сёрль исключает перлокуционные намерения автора из
своего определения смысла. Итак, ошибочно было бы определять
смысл текста как M=F(p)+x, где х обозначает намерения автора
касательно событий, следующих за текстовым актом. Тем не менее,
различие между иллокуцией и перлокуцией — здравое и позже
окажется весьма полезным при пересмотре проводимого Хиршем
различия между значением и значимостью. Речь в этом обсуждении
пойдет о том, что значимость текстового акта является функцией
того, как коммуникативное действие автора (включая и перлокуци-
онный его аспект) влияет на контекст читателя (/?).130 Однако меня
непосредственно заботит не значимость, а демонстрация того, как
реальность и определенность текстового смысла проистекают из
природы текста как коммуникативного акта.
Ковчег завета дискурса
Что такое текст? Наше теперешнее положение позволяет
сформулировать определение. Текст есть сложное коммуникативное
действие, обладающее сутью (пропозиционным содержанием),
энергией (иллокуционной силой) и целью (перлокуционным
эффектом). Это определение, истинное само по себе, слишком общее,
потому что мы никогда не совершаем просто действий. Мы делаем
нечто конкретное: приглашаем, записываем, предостерегаем, готовим
пищу и т. д. Так же и с текстами. Они не просто образчики письма, а
рассказы, истории, притчи, шутки, пьесы, романы, евангелия и т. д.
Каждый текст принадлежит к определенному виду
коммуникативного действия. Мое утверждение двояко: то, что тексты обладают
определенной природой, и то, что их природа определяется
авторами. Текст есть рассказ (или история, или поэма, или притча)
именно из-за того, что сделал автор, именно благодаря тому, что автор
сотворил с помощью слов. А благодаря тому, что текст — это один
из видов коммуникативного действия, а не какого-либо другого,
некоторые из вариантов его использования могут быть оправданы,
130 Обозначив значимость через S, можно выразить отношение текстового смысла и его
влияния на современный контекст формулой: S = (R)[F(p) + х].
337
Часть вторая. Восстановление толкования
а другие — неуместны. Приемлемые варианты использования
являются функцией текста как такового, что в свою очередь
оказывается функцией авторского действия.131
Автор не только первопричина текста, но и деятель,
определяющий то, чем является текст. Иначе говоря, автор ответственен и
за существование текста (тот факт, что он имеется в наличии),
и за его конкретную природу (то, чем он является). Тем не менее,
текст остается самим собой даже в отсутствии автора. Такой текст,
как завещание, например, становится самим собой именно при
условии отсутствия автора. Автор, пишущий завещание, тем самым
приводит в действие юридическую и языковую системы и налагает
на читателя обязательство не пренебрегать его намерениями.
Насколько же большее обязательство возлагается на читателей
Нового Завета, когда в последних строках читателю предписывают ни
слова не добавлять и не отнимать (Откр. 22, 18-19).132 Все тексты,
не только библейские, содержат перед авторами подобные
обязательства, налагаемые на читателя. Итак, вопреки Дерриде и Фишу,
я утверждаю, что смысл текста определяется не отдельными
читателями и даже не целыми сообществами толкователей. Напротив:
суть действия определяется не тем, как оно было воспринято,
но тем, что в него вкладывалось. Я согласен с Николасом Уол-
терсторфом, еще одним герменевтом-реалистом, сказавшим: «Одно
действие может восприниматься как совсем иное, даже когда его
никто таковым не считает».133 Я могу воспринимать роман
«Гордость и предубеждение» Джейн Остен как трагедию, однако от
этого он таковым не станет. Возможно, в тринадцатилетнем возрасте
я упустил элементы социальной комедии и сатиры, однако они там
131 Каждый текст есть вид коммуникативного действия; каждый текст принадлежит
определенному литературному жанру. В следующей главе я рассматриваю то, как читатели
определяют конкретные коммуникативные действия, имевшие место в тексте.
132 Подобная формула содержится и во Втор. 4,2. Мередит Клайн указывает, что тексты древних
договоров часто завершались церемониальными проклятиями в адрес тех, кто отважился бы
изменить их условия (смысл!). Далее он предполагает, что и Ветхий, и Новый Завет имеют
нечто общее с этими древними соглашениями, и делает вывод: «Слово «Завет» обозначает нечто
большее, чем одно из очевидных подразделений библейского текста. Документы, из которых
составляется Библия, по самой своей природе, которая оказывается юридической — являются
заветом». {The Structure of Biblical Authority [Grand Rapids: Eerdmans, 1972], 75). Если выразить
это в терминах философии речевых действий, «завет» оказывается не только пропозиционным
содержанием Библии, но и ее иллокуционной силой.
133 Nicholas Wolterstorff, Works and Worlds of Art (Oxford: Clarendon, 1980), 205. Ср. важные
мысли по поводу этого вопроса в Thiselton, New Horizons, 615-16.
338
Глава пятая. Воскрешение автора
все равно были. Природа коммуникативного действия, иначе
говоря, не меняется от того, как его истолковали. Гуманитарным наукам
присуща определенная объективность.
Итак, текст есть коммуникативное действие, зафиксированное
письменно. Коммуникативная «материя» (пропозиционное
содержание) и «энергия» (иллокуционная сила) вписаны в него. Более
того, тексты обладают определенным импульсом;
коммуникативное действие, порожденное автором, сохраняет свою силу, где бы
его ни толковали. Истинное толкование сохраняет текстовую
материю и энергию. Деконструкция позволяет им рассеяться.
В постмодернистском мире знаки часто оказываются лишь
блуждающими огнями; я же утверждаю, что знаки передают смысл.
В трактате о толковании Августин отмечает, что поклонение знаку,
а не тому, на что он указывает, есть идолопоклонство.
Постмодернистский текстуалист рискует оказаться поклонником знаковой
игры. Но для того, кто верит в смысл, текст есть семантическое
таинство, выступающее в качестве посредника иного: авторского
взгляда на мир, свидетельства очевидца.
Что такое текст? Поскольку личная идентичность автора
связана с его словом, автор может сказать о тексте — по аналогии,
если не онтологически — «сие есть тело мое». Мой текст —
конкретный знак и печать моих коммуникативных прав и
обязанностей, ковчег завета дискурса. Если текст есть коммуникативное
действие, зафиксированное письменно, то авторы-люди воистину
«воплощены» в своих текстах. Подобно тому, как деятель
производит определенные действия, совершая телодвижения, так и автор
совершает определенные действия через тело своего произведения.
Как иначе мог бы письменный дискурс служить средством
социального взаимодействия (коммуникации) и межличностного общения
(сопричастности)? Текст — продолжение самого себя в мир через
коммуникативную деятельность. Тисельтон не зря отмечает связь
между христианской доктриной и литературным толкованием:
«В богословском отношении герменевтика воплощенного текста
отражает христологию воплощения, в которой откровение
действует через переплетение слова и дела».134 Божественный автор облек
свое послание человеческой плотью: «Во Христе истина Божья
134 Thiselton, New Horizons, 75.
339
Часть вторая. Восстановление толкования
произносится, воплощается и проживается».135 Является ли
воплощением слово авторов-людей? Тисельтон пишет: «Текст есть
нечто большее, чем «докетическая» или лишенная тела
система обозначений».136 Напротив, текст есть, в некотором роде, «тело»
автора. Именно это тело, этого посредника деятельности автора, я
и стремился воскресить. «Смерть» автора — лишь предпоследнее
слово в современной интерпретации.
АВТОРЫ КАК КОММУНИКАТИВНЫЕ ДЕЯТЕЛИ
Любая теория интерпретации, содержащая ложное
представление об авторе, не может дать понимания того, что
такое текст и как он передает смысл.137
В чем именно состоит проблема авторства? В общем и целом,
исторические критики относились к авторству, как к
исторической или апологетической проблеме определения, была ли данная
библейская книга в самом деле написана человеком, чье имя носит
(напр.: «Евангелие от Матфея»). Для библейской критики
проблема авторства касается личности писателя: «Кто автор этой книги?»
Я рассматриваю другой вопрос — назовем его
герменевтическим вопросом авторства: «Что есть автор?» «Что означает
авторство?»138 Короткий ответ, который будет развернут далее,
следующий: автор — это тот, чье действие определяет смысл текста, то
есть его суть, литературную форму и коммуникативную энергию.
История, психология и социология, каждая по-своему,
сосредоточивают свое внимание на общем вопросе осмысленности
человеческой деятельности. То же самое, добавлю, следует делать и
литературной критике. Автор, рассматриваемый как
коммуникативный деятель, есть истинный объект изучения гуманитарных наук.
Как мы уже убедились в первой части, в наши дни многие не верят
в существование человека как субъекта, то есть индивидуального
центра независимого сознательного мышления. Постмодернистский
135 Там же, 68.
136 Там же, 75.
137 Hix,Morted'Author, 12.
138 Более полный анализ того, как этот вопрос соотносится с толкованием Библии, см. мою
работу "The Hermeneutics of I-Witness Testimony: John 21:20-24 and the 'Death' of the 'Author'", в
A. Graeme Auld, ed., Understanding Poets and Prophets (Sheffield: JSOT, 1993), 366-87.
340
Глава пятая. Воскрешение автора
поворот к языку вытесняет говорящего и мыслящего субъекта с
привилегированных позиций, которые он занимал в эпоху
модернизма. Однако детерминизм социолингвистики вселяет, как я считаю,
отчаяние в человеческое сообщество. Автор, которого модернизм
рассматривал как хозяина своих слов, был полностью лишен
этого статуса постмодернизмом. Я утверждаю, что существует
средняя позиция. Между крайними положениями, владыки языка и его
раба, находится нечто среднее — статус субъекта как гражданина.
Словесные действия включают межсубъективные лингвистические
соглашения и индивидуальные намерения, а также литературные
изобретения, позволяющие по-новому взаимодействовать с миром и
друг с другом.
Библейские повествования изображают людей как речевых
деятелей, участвующих в завете дискурса. Присутствие личности,
как человеческой, так и божественной, во многом определяется
отношением между говорящим и его словами. Большая часть истории
Израиля определяется данными и нарушенными обетованиями.
Далее я покажу, каким образом модель коммуникативной
деятельности ведет к более адекватному взгляду на самость, чем
постмодернистская дезинтеграция или стандартная картезианская
картина, преобладавшая в ранней модернистской философии.139 Более
того, взгляд на автора как на коммуникативного деятеля позволяет
исправить предпринятую романтизмом попытку восстановить мир
авторского мышления. Я уверен, что восстановление хода мысли
автора важно, но наилучшим образом это делается не с помощью
интуиции, а с помощью исторического вывода, путем анализа
общедоступного коммуникативного действия автора. В этом разделе
я проанализирую деятельность автора с четырех
взаимодополняющих сторон и в конце вернусь к вопросу присутствия автора,
вопрошая текст: «Есть там кто-нибудь?»140
«Я мыслю, следовательно, я действую»
Cogito, ergo sum («Я мыслю, следовательно, я существую).
Как мы уже видели, предложенный Декартом образ обособленного
139 См. мою работу "Human Being, Individual and Social," 158-88.
140 pj Т. Райт использует этот вопрос как вступление для краткого рассуждения о роли
авторского замысла. Я оставляю этот важный вопрос для следующей главы.
341
Часть вторая. Восстановление толкования
суверенного субъекта доминировал в раннем модернистском
представлении о человеке.141 Он породил ряд противопоставлений —
субъект и объект, разум и тело, мысль и язык, — которые
разрушительно действовали на герменевтику и в конечном итоге
подготовили почву для деконструктивизма. Картезианский дуализм —
представление о том, что человеческий разум есть вид реальности,
совершенно отличающийся от всего остального в мире, осложняет
задачу как гуманитарных наук, так и герменевтики. С позиций
обособленного мышления (cogito) трудно объяснить действие или
взаимоотношения с другими: «Сделав «мыслю» первичным постулатом
философии, мы не просто создаем дуализм между теоретическим
и практическим опытом, а превращаем действие в нечто
логически неопределимое, в таинство... в которое вынуждены верить, но
которое никогда не сможем понять».142 Имея «мыслю» в качестве
исходной точки, невозможно объяснить индивидуальное действие
или общественное взаимодействие. Дихотомии субъект/объект
и разум/тело препятствуют пониманию человеческой личности:
ведь как можно изучить «ментальную субстанцию»?
В отношении герменевтики картезианская антропология
порождает три проблемы:
(1) Каким образом можно восстановить ментальные интенции?
Одно дело утверждать, что обладающий самостью субъект осознает
самого себя, но как нам узнать других? В картезианском понимании
человеческой личности, герменевтическое стремление Шлеермахе-
ра — пережить интеллектуальный опыт автора, чтобы толкователи
могли узнать автора лучше, чем тот знает самого себя, — выглядит
в лучшем случае наивностью, а в худшем — обманом. И, как мы
видели, представление о чистом сознании, не замутненном
языком, становится легкой добычей для Дерриды. Деррида упраздняет
картезианскую картину и отрицает возможность того, что
человеческий разум существует в некоем ментальном мире, находящемся
где-то вне материального (напр.: телесного, исторического,
социального и лингвистического).
(2) Играют ли какую-либо роль общественные соглашения?
Чарльз Тейлор отмечает, что одним из отрицательных последствий
141 Блестящий анализ влияния такого представления на современное богословие находим у
Фергуса Керра в работе Theology After Wittgenstein (Oxford: Basil Blackwell, 1986), ch. 1.
142 John Macmurray, The Self As Agent (London: Faber & Faber, 1957), 73.
342
Глава пятая. Воскрешение автора
картезианского дуализма является атомизм. Человеческая
личность выглядит как обособленный индивид, «метафизически
независимый от общества».143 Такой взгляд не только делает
невозможной социальную теорию, но и затрудняет понимание других.
(3) Является ли язык чем-то большим, чем инструмент, с
помощью которого мыслящие субъекты дают имена предметам и
манипулируют понятиями? В эпоху модернизма смысл, по большей
части, рассматривался как суть обозначаемого идеями или вещами.
Герменевтика и гуманитарные науки в эпоху постмодернизма,
похоже, зашли в тупик (и похоронили там автора) только из-за
отсутствия альтернативы картезианскому субъекту. Однако сейчас у
нас есть жизнеспособная альтернатива в виде коммуникативного
деятеля. В таком случае, авторство следует понимать не в
контексте суверенного субъективного сознания, а скорее в терминах
межсубъектной (коммуникативной) деятельности. Суть дела в
следующем: коммуникативные деятели — не бестелесные разумы, а
наделенные телом личности, составляющие часть языкового
сообщества. Поэтому для понимания языка необходимо понять
жизнь использующих его людей. Как отмечает Фергус Керр,
Именно наша телесность составляет основу
принципиальной возможности того, что мы можем освоить какой-либо
из естественных языков на земле. В противовес
метафизическому пониманию самости, согласно которому тела
становятся преградой между нами и препятствуют встрече
разумов, Витгенштейн напоминает нам о самоочевидном
факте: основанием для понимания друг друга служит
человеческое тело, обладающее многогранностью выражения и
реакции.144
Язык, устный или письменный, образует то, что Чарльз Тейлор
именует общественным пространством.145 В устном дискурсе
действия говорящего создают контекст, на фоне которого сказанное им
обретает смысл. Мы воспринимаем крик: «Помогите!» как срочную
просьбу о помощи, когда слышим его от человека, находящегося в
явно опасном положении. Конечно, в случае с письменным текстом
143 Charles Taylor, Human Agency and Language: Philosophical Papers 1 (Cambridge: Cambridge
Univ. Press, 1985), 8.
144 Kerr, Theology After Wittgenstein, 109.
145 Taylor, Human Agency and Language, 259.
343
Часть вторая. Восстановление толкования
мы не видим тело, реакцию или жесты автора, чтобы определить его
контекст. Тем не менее, как всякое человеческое действие,
коммуникативное действие в конечном счете обретает смысл только на
фоне некоего контекста. В следующей главе мы исследуем понятие
литературного жанра, чтобы увидеть, как сами тексты напоминают
общественные действия. Здесь я лишь показываю, что авторы
являются коммуникативными деятелями, которые создают смысл и в
своем общественном поведении руководствуются определенными
правилами. Ни авторство, ни толкование не имеют смысла, если
считать язык делом исключительно личным.
Итак, автор, утраченный как мыслящий субъект картезианства,
возвращается как коммуникативный деятель — тот, кто
вкладывает в свои слова смысл, кто приводит в действие языковую систему
и литературную форму, для того чтобы они определенным образом
действовали и достигали определенной цели. Поэтому мы можем
принять определение автора, данное С. К. Барретом: «Человек (или
группа людей), которые готовы принять ответственность за книгу,
как мы читаем ее в древних рукописях».146
Приписывая автору достоинство коммуникативной
деятельности, я никоим образом не умаляю значение революции, инициатором
которой стал Соссюр, определяющий язык как дифференциальную
систему знаков (langue). Смысл не зависит только от
индивидуального сознания. Есть общественные соглашения, которые
приходится учитывать коммуникативным деятелям для совершения
определенных действий (напр.: обещания). Я не отрицаю langue,
лишь определяю его место. Более того, я ставлю автора как
исторического деятеля лицом к лицу с системой языка. Именно автор
активизирует систему языка, он же инициирует дискурс как событие,
он же и «осмысливает», имеет что-то в виду.147 Смысл текста —
не безликое постоянное свойство, а динамичное действие
личности, зафиксированное на письме. И хотя не все формы деятельности
могут считаться смыслообразующими, все формы смысла — виды
действия. Понятия текстового смысла и осмысленного действия
взаимосвязаны.
146 С. К. Barrett, The Gospel According to St. John, 2d ed. (London: SPCK, 1978), 5.
147 Здесь я говорю об использовании неприродных знаков или символов. Природный знак, как,
например, дым, поднимающийся от костра, не является коммуникативным актом (если только
это не дымовой сигнал, которым пользовались коренные американцы, но в этом случае дым
становится неприродным сигналом).
344
Глава пятая. Воскрешение автора
Деятельность автора: четыре перспективы
Конечно же, в каком-то смысле авторы не могут присутствовать
в текстах. Я рассматриваю их присутствие как вторичную
категорию, следствие действия — не «пребывания», а того, что автор
«побывал там». Люди выражают себя через язык, через
коммуникативные акты. Толкователи ищут в текстах не столько мыслящего
субъекта, или разум, сколько коммуникативного деятеля.
Автор как исторический деятель
Отвергая картезианскую парадигму, мы рассматриваем авторов
как «воплощенные души». Сознание и телесность связаны. Это не
просто отрицание Декарта, а возвращение к антропологии Ветхого
Завета и апостола Павла: «Истинный человек есть человек
целостный — телесное и бестелесное вместе, бестелесное, действующее
через телесное, каждое равно несовершенно без другого».148
Материальные знаки — слова, напечатанные на этой странице,
например, не представляют собой мою интеллектуальную жизнь (и не
противоречат ей), а являются средством передачи ее другим: «мы
взаимодействуем с физическими и социальными проявлениями
нашего мира через наши тела и через речь».149 По мнению Джерри Гил-
ла, язык есть «продолжение нашего воплощенного бытия, не только
невозможное без тела... но и часто становящееся способом
изменения окружающей среды (закрытия двери, заключения соглашений,
побуждения к чувствам)».150 Таким образом, тексты дают авторам
возможность что-то делать, пусть даже и на расстоянии. Авторы
являются, возможно, прежде всего историческими деятелями.
История, с точки зрения Н. Т. Райта, есть попытка
«проследить, выявить и понять изнутри переплетение человеческих
намерений и мотиваций, присутствующих в данном поле исходного
148 Robert H. Gundry, Soma in Biblical Theology, With Emphasis on Pauline Anthropology
(Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1976), 84. Гандри доказывает, что взгляды Павла на человека
лучше всего описываются в терминах «антропологической двойственности, функционального
плюрализма и обобщающего единства» (84).
149 Jerry Gill, Mediated Transcendence. A Postmodern Reflection (Macon, Ga.: Mercer Univ. Press,
1989), 60. Анализ смысла по Джиллу, см в главе 5.
150 Там же, 127.
345
Часть вторая. Восстановление толкования
исследования».151 Это попытка проследить последовательность
событий и намерений посредством повествования-объяснения.
Центральным понятием модели Райта является понятие исторических
деятелей; смысл истории лежит «в интенциональности участников
событий».152 Историка интересует, что и почему произошло на
самом деле. Чтобы ответить на эти вопросы, необходимо знать что-то
о деятеле и что-то о мире, в котором он оставил свой след: культуре,
политической ситуации, социальной структуре и так далее. Поиск
«чистых фактов» или знания с нейтральной точки зрения
невозможен; историческое познание включает в себя толкование. Однако
верно и противоположное, и это значимо для герменевтики:
толкование включает в себя исторические знания.
Сам Райт стремится понять Иисуса. В частности, он хочет
понять Иисуса так, чтобы это не было простым отражением его,
Райта, ценностей. Не было бы ни истинного знания, ни, тем более,
возможности личностного общения, если бы Райт, подобно прежним
искателям исторического Иисуса, пытался найти в нем только себя
самого и свои собственные ценности. В то время как читатели
рискуют увидеть в зеркале текста самих себя, историки зачастую видят
собственное лицо на дне глубокого колодца, принимая его за лицо
Иисуса. Поэтому попытка Райта описать лицо, которое отличалось
бы от его собственного, крайне важна как с богословской, так и с
исторической точки зрения.153 Ведь христиане могут познать Бога,
познавая Иисуса Христа. Иисус — Слово, ставшее плотью — есть
воплощенная душа Бога, божественное действие откровения,
позволяющее нам познать Бога издали. Если мы не обретем знание
того, что и почему делал Иисус, его жизнь будет казаться
бессмысленной, а Бог навеки останется скрытым. Каково значение события
Христа? Оно далеко не такое, каким хотят его видеть современные
толкователи. Это — путь к теологическому солипсизму и
идолопоклонству. Нет, значение Христа как события есть функция того,
как Бог, божественный коммуникативный деятель, действовал
в человеке, Иисусе из Назарета. Хотя нам, может быть, трудно
151 Wright, The New Testament and the People of God (London: S.P.C.K., 1992), 91.
152 Там же, 95. Райт признает, что «смысл» можно усматривать как в соотнесенности с
настоящим или последствиях прошедших действий, так и на ином уровне, в божественном
замысле, который открывается при более широком взгляде. Я буду рассматривать уровни
коммуникативной интенциональности в следующей главе.
153 Утверждение Райта о том, что он этого достиг, см. в его Jesus and the Victory of God
(Minneapolis: Fortress, 1996), xv. Я вернусь к теме лица в Заключении данной работы.
346
Глава пятая. Воскрешение автора
понять смысл этого, но он, тем не менее, существует, и в основании
его лежит присутствие Бога Отца — исторического деятеля.154
История — это изучение человеческих намерений: «Мы
пытаемся выяснить, как воспринимали свои действия участники события,
что они хотели или пытались сделать» (и я добавил бы — того, что
они действительно сделали).155 Райт особенно стремится выяснить
«цель» личности (основное направление жизни человека) и
«намерение» (специфическое применение цели в конкретной ситуации).
Что Иисус собирался сделать в иудаизме? С какими намерениями
он шел в Иерусалим?156 Реалист считает, что, в принципе, ответ на
эти вопросы возможен. Как в отношении Иисуса, так и в
отношении евангелистов. Райт прав, призывая историков Нового Завета
принимать Евангелия как данность, а не что-то иное.157
Интересоваться смыслом Евангелий — означает интересоваться тем, что
сделали их авторы.
В итоге: понимание текста включает в себя определение того,
что сделал автор, потому что текст есть коммуникативное
действие, зафиксированное письменно. Хорхе Гарсиа158 делает верное
метафизическое замечание о том, что тексты без исторических
авторов даже не возникли бы, потому что смысл возможен лишь
в том случае, если кто-то что-то имеет или имел в виду. Смысл
существует только, когда кто-то что-то делает со словами. Значение
(существительное) существует только там, где кто-то что-то имел
в виду, потому что значение — не естественное событие, а
преднамеренный поступок. Из этого следует историчность смысла. То, что
кто-то делает с языком, зависит от конкретного языка, состояния
этого языка и от лингвистических и литературных ресурсов,
находящихся в распоряжении говорящего в конкретное время в данном
месте. Чтобы понять последовательность знаков «p-a-i-n»,
например, нужно как минимум знать, использовал автор английский или
154 Новозаветный ответ — в том, что Бог был во Христе, примиряя все с собою (Кол. 1, 20;
ср. 2 Кор. 5, 19).
155 Wright, The New Testament and the People of God, 109.
156 Ответ Райта на эти жизненно важные вопросы см. в его Jesus and the Victory of God,
99-109 игл. 11-12.
157 Если автор отвечает за окончательную форму текста, то мое определение автора можно
беспрепятственно расширить, включив туда и редакторов, и вообще всякого, кто приложил
руку к созданию формы и сути текста. Интересно, что Райт на самом деле не согласовывает
свои высказывания о важности целей и интенций для изучения истории со своими же
герменевтическими рассуждениями об авторах.
158 См. Garcia, "Can There Be Texts Without Historical Authors?"
347
Часть вторая. Восстановление толкования
французский язык. Как отмечает Гарсиа, «знаки, подобно текстам,
есть исторические сущности, продукты установлений, чей смысл
время от времени меняется».159 Тексты без авторов не являются ни
историческим, ни коммуникативным действием.
Толкователь стремится понять — в тексте ли, в произведении
искусства или в музыке, или в любом другом осмысленном
действии, — что и почему совершил деятель. Подобным образом
толкователи Библии стараются понять коммуникативные действия,
зафиксированные письменно. Опять-таки, под коммуникативным
действием я понимаю не только передачу информации, но также и
все действия авторов со словами, предложениями и более
объемными литературными формами. Итак, толкование и историческое
знание идут рука об руку; понимание коммуникативного действия
будет неполным, если нет понимания целей и намерений деятеля,
потому что только они делают из действия то, чем оно является.
Искусствовед Майкл Баксендолл доказывает, что мы «думаем о
картинах... как о продуктах целенаправленного действия, и поэтому —
как о чем-то, имеющем причину».160 Мы объясняем, почему рисунок
или текст именно таковы, делая при этом вывод (из их структуры,
из проблемы, которую стремился решить художник, из ресурсов,
которые были ему доступны и т. д.) о том, как, вероятно, действовал
автор. Если бы мы просто использовали понятия, заимствованные
из физического мира (напр.: большое, плоское, красное, пигмент),
было бы практически невозможно объяснить, как возникло
произведение искусства и как оно обрело смысл. Мы можем описывать
чувства, переживаемые нами при виде его, но это не вывело бы нас
за пределы самопознания.
Почему есть нечто — текст, произведение искусства, — а не
ничто? Потому что автор-человек в определенном месте в
определенный момент времени активировал доступные ему
лингвистические ресурсы, привел в действие систему языка и сделал нечто,
чтобы изменить общество и мир.161 Действительно, лицо автора
недоступно нашему взору; чтение книги — не то же, что беседа лицом
159 Там же, 251.
160 Michael Baxandall, Patterns of Intention: On the Historical Explanation of Pictures (New Haven:
Yale Univ. Press, 1985), vi.
161 См. с определением Баксендолл а: «Описание намерения — это не повествование о
том, что происходило в уме художника, а аналитическое восстановление того, каковы были
его цель и средства, вывод о которых мы делаем из соотнесения объекта с определимыми
обстоятельствами» (там же, 109).
348
Глава пятая. Воскрешение автора
к лицу. А от автора остается не лицо, а след, отпечаток действия.
Надеюсь, что в этом разделе мне удалось обосновать утверждение:
смысл, опосредованный текстом, есть коммуникативное действие
реального «иного». Текст наполнен смыслом, поскольку является
продуктом коммуникативной деятельности.
Автор как эстетический деятель
В то время как историки подходят к автору как к
ответственному за существование текста, риторические критики обращают
внимание на литературные аспекты коммуникативного акта
автора, на то, что Роман Джейкобсон называет поэтической функцией
коммуникации. Какие слова выбирает автор, как они
структурированы или сложены, и почему он выбирает именно их? Авторы —
литературные стратеги, эстетические деятели, размещающие слова
подобно генералам, дислоцирующим войска. Риторические
критики исследуют обширный диапазон локуционных методов, которые
авторы используют для того чтобы проинформировать, увлечь и
вести читателя (т. е., достигать перлокуционных результатов).162
Здесь в центре внимания формальные черты текста; однако, как я
уже утверждал, толкователи должны, хотя бы неявно,
рассматривать автора как исторического деятеля, изучая текст с точки зрения
определенного языка, развивавшегося в определенное время.
Иначе говоря, рассмотрение автора как исторического деятеля
обосновывает и определяет рассмотрение автора как деятеля
эстетического.163
В наше время широко распространилось признание каждого из
четырех евангелистов как эстетического деятеля. 164Каждый из них
написал свое Евангелие, чтобы достичь некоей богословской цели
162 См. С. Clifton Black, "Rhetorical Criticism," в Joel Green, ed., Hearing the New Testament:
Strategies for Interpretation (Grand Rapids: Eerdmans, 1995), 256-77. Блэк отмечает, что и Джеймс
Муиленбург, и Эймос Уайлдер, ведущие представители в области риторической критики
Библии, считают, что изучение формальных характеристик текста должно быть исторически
обосновано и что следует уделять должное внимание авторской интенции, культурному
контексту и социальной ситуации.
163 Есть и другая школа риторической критики, более заинтересованная в читателе, чем в
авторе, в практике, а не поэтике. Я рассмотрю этот подход в главе 7.
164 Предположение о том, что Евангелия подверглись редакторским изменениям, или что они,
возможно, были написаны целой школой последователей Христа, не влияет на мой аргумент:
под «автором» я имею в виду лицо или группу лиц, ответственных за текст, каким мы его
видим сейчас.
349
Часть вторая. Восстановление толкования
и повлиять на читателя, побудив его к определенной реакции.165
Каждый использует логос (локуционный стиль и структуру текста)
для создания основы этоса, или ощущения надежности, с целью
достичь пафоса (перлокуционного влияния на читателя).
Например, в четвертой главе Евангелия от Иоанна автор использует
сцену «мужчина встречает женщину у колодца» — знакомую
читателям книги Бытия как сцена обручения, — чтобы оформить встречу
Иисуса и самарянки.166 Встреча у колодца происходит, однако
обручения нет. Что делает автор? То, что звучит как сомнительное
утверждение, — «Кто будет пить воду, которую Я дам ему, тот не
будет жаждать вовек» (Ин. 4, 14) — оказывается отличной
риторической стратегией. Обратившись к общепринятому литературному
приему, затем изменив его, автор проводит читателя, а не только
самарянку, через загадку личности Иисуса. Иначе говоря,
использование этой формы подкрепляет действенность слов, сказанных
Иисусом о том, что он есть даятель воды живой. «В результате
происходит обручение совсем иного рода — не в браке, но в
поклонении (4, 21-24) и миссионерском служении (4, 35-42)».167
Автор как нравственный деятель
Толкователи также обращают внимание на третью сторону
коммуникативного действия. Приписывать авторство означает
приписывать и ответственность за сказанное и сделанное.168
Например, Гундри утверждает, что Матфей написанием евангелия
совершает несколько разных действий, кроме повествования или
165 Ср. Роберт Гандри: «Отметив основные направления текста Матфея, мы можем сделать
вывод об обстоятельствах, в которых он писал, и целях, ради которых он писал» {Matthew:
A Commentary on His Literary and Theological Art [Grand Rapids: Eerdmans, 1982], 5).
В моих терминах, внимательно рассмотрев локуции и иллокуции Матфея (в особенности те,
которые отличны ото других евангелистов), мы можем сделать вывод о его перлокуционных
намерениях.
166 См. Robert Alter, The Art of Biblical Narrative (New York: Basic, 1981), 47-62.
167 Black, "Rhetorical Criticism," 271. Более подробно о риторике Ин. 4 см. в Lyle Elsinger "The
Wooing of the Woman at the Well: Jesus, the Reader and Reader-Response Criticism," в Mark W. G.
Stibbe, The Gospel of John as Literature: Twentieth Century Perspectives (Leiden: Brill, 1993), 165-
79, и в моем "The Reader in New Testament Interpretation," в Joel B. Green, ed., Hearing the New
Testament, 318-24.
168 Исторический аспект коммуникативного действия сосредоточивается на его сути,
эстетический — образе действия, а нравственный — на качестве.
350
Глава пятая. Воскрешение автора
демонстрации мира. Он «напоминает истинным ученикам об их
обязанности повиноваться закону Христа и возвещать его, невзирая
на гонения», и «предупреждает лжеучителей и тех, кто поддается
искушению следовать их беззаконному пути наименьшего
сопротивления, о том, что ослушников ожидают вечные муки».169 Этика
авторства относится к иллокуционной форме авторского дискурса,
к свойству «что», а не «как», коммуникативного действия.
Теория речевых актов покоится на крепком этическом
фундаменте.170 Остин рассматривает обещание как парадигматический
речевой акт, хотя «напоминание» и «предостережение» также могут
быть этическими актами. Подчеркивая перформативную природу
языка (т. е. язык как деятельность, как дело, как то, чем мы
занимаемся), Остин напоминает, что мы ответственны за все сказанное
нами, а не только за обещания. Поэтому все речевые акты обладают
в какой-то мере и свойством «обязывания». И, как утверждает Ха-
бермас, каждый говорящий обязан при необходимости обосновать
достоверность сказанного им (а именно: истинность, правдивость,
уместность). Более того, такое явление, как клевета, напоминает
нам, что наши коммуникативные действия связаны и с
определенными юридическими обязательствами, не только с нравственными.
Авторы обладают замечательной властью приводить в
движение систему языка, совершать поступки на расстоянии и
проникать в жизнь и мир неопределенного числа возможных читателей.
Достоинство коммуникативного деятеля предполагает
определенную свободу и налагает определенную ответственность. Автор, как
действенная причина своего поступка-текста, находится под
влиянием исторического контекста, но не под полным его контролем.
Культурные и идеологические силы могут действовать, оставляя,
тем не менее, возможность для выражения своих размышлений
и воображения. Именно в этом суть утверждения об авторах как
об ответственных гражданах языка, обладающих властью
приводить язык в действие: «Слепота всех детерминистских
моделей литературного текста проявляется в том, что они избегают
совместимости».171
169 Gundry, Matthew, 9.
170 См. Henry Staten, Wittgenstein andDerrida, ch. 3 (особ. 113 — 14).
171 Burke, The Death and Return of the Author, 156.
351
Часть вторая. Восстановление толкования
Никто не отрицает, что говорящие говорят, а писатели —
пишут, то есть что они есть историческая причина дискурса. Понятие
автора как эстетического деятеля также относительно
общепринято. Конфликт в толковании возникает обычно вокруг того, что
именно было сделано и было ли сделано вообще. Постмодернисты
отрицают способность автора достигать чего-либо с помощью
текста; учитываются исключительно цели и интересы читателя. Если
смысл рассматривается как влияние, оказываемое текстом на
читателя, то остается мало места для автора как этического деятеля.
С другой стороны, некоторые постмодернисты, возможно,
непоследовательно, возлагают на автора ответственность не только за
сказанное, но и за его последствия. Слишком легко перепутать
коммуникативное действие и его результаты. Остин сознавал эту
проблему: «Необходимо провести черту между совершаемым нами
действием (здесь — иллокуцией) и его последствиями».172 Но как
провести эту черту? С помощью какого критерия мы разделяем
действие автора и реакцию читателя?
Полного ответа на этот последний вопрос придется подождать
до следующей главы. Достаточно будет сказать, что это проблема
философии деятельности, и что жизненно важную подсказку дает
юридическая теория. X. Л. А. Харт, философ закона, спрашивает:
«Каково отличие действия от простого телодвижения?» и отвечает:
мы связываем ответственность с первым, но не со вторым.173 Харт
считает, что утверждения типа «он это сделал» следует толковать
в контексте судебных решений. Если мы последуем анализу Хар-
та, толкование превращается в процесс рассуждения, при котором
противоречащие друг другу описания действия
противопоставляются и опровергаются. Толкование текста, в конечном счете,
основывается на вменении: приписывании коммуникативному деятелю
замыслов и намерений.
172 Austin, How to Do Things With Words, 111.
173 Я рассматриваю позицию Харта более подробно в следующем разделе в связи с вопросом
авторской интенции. Интересно, что Остин считает: легче отделить действие от его последствий,
если это действие — иллокуция, высказывание. Определения физических действий часто
включают в себя их естественные последствия (напр.: преломление хлеба, мытье посуды,
дорога в город), в то время как вокабуляр имен для действий-высказываний «кажется явно
созданным таким образом, чтобы отметить разрыв, регулярно происходящий в некоей точке
между действием (высказыванием нами чего-либо) и его последствиями (которые обычно не
содержат выказывания чего бы то ни было)» (How to Do Things With Words, 112).
352
Глава пятая. Воскрешение автора
Автор как религиозный деятель
И наконец, у коммуникативной деятельности автора есть и
религиозная сторона. Как коммуникативные деятели, люди обладают
способностью не только влиять на социальный мир, но и формировать
себя самих. Через наши речевые акты мы не только что-то делаем, но
и становимся чем-то. Признавать свои слова означает принимать
проект становления своей самости. Мы сообщаем, а по сути,
создаем что-то касающееся себя самих тем, как наши дела (наша
деятельность в целом) сочетается с нашим дискурсом (нашей
коммуникативной деятельностью). Мой дискурс имеет для меня последствия
куда большие, нежели просто грамматические. Остин
рассматривает пример Ипполита («клялись мои уста, а сердце — нет»).174
Невозможно аннулировать обещание, просто отказавшись от него
мысленно. Обещание есть публичный акт, подразумевающий последствия
для говорящего. И наша самость в немалой мере определяется тем,
как мы ведем себя в отношении сказанного нами. Итак, общая сумма
наших речевых актов показывает, кто мы есть, потому что они по
большей части и делают нас теми, кто мы есть. Наше слово
связывает нас с миром, с другими, с самими собой и с Богом.
Из этого, однако, не следует, что в тексте читатель прежде
всего встречает личность автора. К. С. Льюис прав, протестуя против
этой «личностной ереси». Наше внимание как читателей должно
быть направлено не на личность автора, а на содержание текста.175
На чем же сосредоточивается рассмотрение коммуникативной
деятельности — на авторе или на сказанном? Я, по сути, уверен, что
читателям следует обращать внимание и на то, и на другое. С одной
стороны, если весь язык есть действие, то все коммуникативное
действие есть вид личного свидетельства, где присутствие автора
подразумевается в сказанном. Это утверждение особенно верно в
отношении библейского дискурса, но я уверен, что оно применимо
и к повседневному дискурсу. Достаточно вспомнить первое и
третье условие адекватности дискурса по Хабермасу: автор должен
быть готов отстоять объективную истинность своего свидетельства
и правдивость или искренность, с которой оно говорится. С другой
174 Austin, How to Do Things With Words, 9-10.
175 См. С S. Lewis and E. M. W. Tilfyard, The Personal Heresy: A Controversy (Oxford: Oxford
Univ. Press, 1939).
12-227 353
Часть вторая. Восстановление толкования
стороны, ни один автор не говорит исключительно о себе. Автор
прежде всего — свидетель.
Верность речи означает готовность принять на себя
ответственность за сказанное. Если речевые деятели говорят истину и их
свидетельство верно, между ними и их произведениями возникает
религиозная связь. Постоянство самости есть не продолжение
бытия некоей неизменной метафизической сущности (напр.: «бытие
как присутствие» по Дерриде), а скорее динамическое постоянство
правдивой речи — соблюдение обещания, верности в
коммуникативных действиях и верности им самим: «Постоянство правдивой
речи находит парадигму в духе библейского Бога, чье слово...
пребывает вечно».176 Итак, для того, чтобы верить в автора, нет нужды
принимать метафизику присутствия. Нужно лишь предположить,
что текст есть результат предшествовавшего ему
коммуникативного действия. Голос, звучащий в тексте, воплощает дух автора не
каким-то мистическим, а общедоступным образом.
Постмодернистская теория литературы привела, по большей
части, к забвению и этической, и религиозной стороны
коммуникативной деятельности. Потому что оторвать автора от текста —
значит уничтожить всякую ответственность за смысл. Жак Эллул
скорбит об обезличивании языка: «Слово стало анонимным и
поэтому неважным, поскольку единственная реальность его
подразумевала наличие двух живых личностей, которые... нуждались в
общении».177 Он даже говорит о некоей «ненависти» к языку со
стороны некоторых теоретиков, стремящихся любой ценой
отдалиться от того, что имел в виду другой человек, «поскольку это может
быть важным».178 Вопрос состоит в том, может ли завет дискурса
сохраняться вне какого-либо общего богословского контекста, или
то, что составляет завет, остается на уровне произвольного
общественного установления. Эллул не питает иллюзий по поводу того,
чем это грозит: «Разрыв между говорящим и его словом имеет
решающее значение. Если за словами нет личности, они оказываются
пустым шумом».179
176 Hall, Word and Spirit, 191.
177 Jacques Ellul, The Humiliation of the Word (Grand Rapids: Eerdmans, 1985), 157.
178 Там же, 173.
179 Там же, 157.
354
Глава пятая. Воскрешение автора
Если в наших словах не будет содержания, мы не сможем
свидетельствовать ни о чем, кроме самих себя. А если мы не будем верны
своему слову, наше свидетельство не будет иметь никакой силы.
Я уже высказывал точку зрения, которой продолжаю
придерживаться: привилегия и ответственность речевых деятелей, и прежде
всего — свидетелей, состоит в том, чтобы приводить в движение
языковую систему и тем самым влиять на жизнь и мир других людей.
Свидетель, по словам Эллула, есть «тот, кто привносит в данную
ситуацию нечто новое и неожиданное».180Я считаю свидетеля
парадигматическим примером голоса иного, голоса автора. Библейские
авторы совместно возвышают голос, свидетельствуя о Совершенно
Ином и о своем понимании мира, сотворенного и любимого Богом.
Здесь нам приходится говорить о смерти автора в совсем другом
смысле, в терминах мученичества: высшего доказательства
истинности своего свидетельства. Как отмечает Эллул, «слово обрекает
на смерть произнесшего его».181 Эта преданность до самой смерти и
есть именно то, что составляет религиозный аспект
коммуникативной деятельности. Верность слову налагает священное
обязательство; только храня ее, автор может достигнуть подлинности.
Реальность присутствия? Слово как таинство
Некоторые литературоведы сравнивали вопрос авторского
присутствия в тексте с вопросами, касающимися присутствия Христа в
Вечере Господней.182 И наоборот, некоторые богословы, рассуждая
о таинствах, объясняют возрождение интереса к таинствам
прогрессом в философии языка и теории интерпретации, достигнутым
в двадцатом веке.183 Сравнение не настолько искусственно, как
может показаться на первый взгляд. Вспомним, что Джон Мильтон
говорил о «силе жизни» в книгах, в которых он видел воплощение
авторской души. Конечно, «элементы», возникающие посредством
авторского присутствия, имеют литературную и
лингвистическую, а не физическую природу, но от этого они не менее реальны.
180 Там же, 110.
181 Там же, 107.
182 Штайнер, озаглавив свою книгу «Реальность присутствия», не приводит детального
рассмотрения ее ассоциации с христианскими таинствами.
183 См. Geoffrey Wainwright, "Sacraments/Sacramental Theology," в Donald W. Musser and Joseph
L. Price, ed., Л New Handbook of Christian Theology (Nashville: Abingdon, 1992), 421-27.
12* 355
Часть вторая. Восстановление толкования
Тексты в самом деле могут быть средством познания, возможно,
даже благодати, но в каком смысле можно говорить о
«воплощенной душе» автора в тексте, если автора физически уже нет? Можно
вспомнить, что Фуко рассматривает автора как простую проекцию
читательской интерпретации текстов. Может ли аналогия с
Евхаристией дать нам возможность представить автора как нечто иное,
чем просто «призрак из машины»? Что можно иметь в виду, говоря
о «реальном присутствии» автора в тексте?
Символическое присутствие: подразумеваемый автор
Аристотель в своем трактате «Риторика» указывал на то, что
оратор создает образ себя самого — определенный характер, или
маску — убеждая слушателей в том, что он — разумный или
порядочный человек. То же верно и в отношении авторов. Уэйн Бут
называет проецируемую персону «подразумеваемым автором», в
противоположность автору реальному. «Подразумеваемый автор»
есть риторический конструкт, используемый для создания
ощущения авторского присутствия. Такое ощущение почти реального
авторского присутствия есть, по словам риторов, результат
воздействия текста. То есть «голос», который, как нам кажется, мы слышим
в тексте, на деле — не голос автора, а плод воображения.
Александр Нехамас добавляет еще одно разделение. Он
отделяет писателя («реальная личность, обладающая определенным
явным местом в истории, действительная причина возникновения
текста») от автора («формальная причина... постулированная для
объяснения характеристик текста и... возникающая благодаря
взаимодействию текста и критика»).184 Писатель есть «творческий автор»;
подразумеваемый автор есть «сотворенный автор». Писатель —
объяснение возникновения текста, но подразумеваемый автор есть
объяснение его смысла. Настоящий вопрос касается
происхождения подразумеваемого автора: чем он порождается — писателем,
текстом или читателем?
Барт и Фуко следуют Фейербаху, для которого «Бог» есть
просто проекция высших мыслей человечества, и утверждают, что
«автор» есть просто проекция наилучшего толкования читателя.
С этой точки зрения, авторское присутствие есть фикция; хотя мы
184 Nehamas, "What an Author Is," Journal of Philosophy 83 (1986): 686.
356
Глава пятая. Воскрешение автора
и говорим об авторе, на самом деле там ничего нет. Здесь можно
провести аналогию с Цвингли, который был уверен, что хлеб и вино
лишь символизируют Христово тело и кровь. Или, если
использовать другую теологическую метафору, мы можем сравнить
отрицание автора с позицией скептиков, которые утверждают, что
воскресение говорит нам о вере первых апостолов больше, чем об Иисусе.
Точно так же мастера литературного подозрения доказывают, что
исторический автор на самом деле не присутствует, но является
лишь скрытым способом выражения опыта читателя.
Непосредственное присутствие: «пресуществление»
С другой стороны, крайнее изложение традиционного взгляда
Уильямом Гассом есть вера в полномочное присутствие автора.
Настоящий автор есть творец: атом за атомом, слово за словом,
писатель создает мир. Исторический автор есть творец, хранитель и
господин своего мира и его подразумеваемого, или сотворенного
автора. Гасс утверждает, что между историческим и
подразумеваемым автором существует тождество; в самом деле, реальный автор
проецирует себя в автора, подразумеваемого путем некоего
литературного воплощения. Писатель вовеки присутствует в тексте; его
душа «пресуществляется» и превращается в слово.185 То, что Рикёр
называет голосом повествования, здесь рассматривается не как
эффект риторики, а как действие исторического писателя. Однако
Гасс упускает из виду то, до какой степени реальные авторы
проявляют себя как личности в своих текстах, а также до какой степени
текст опосредует коммуникативный акт автора.
Опосредованное присутствие: выведенный автор
Возможно ли избежать этих двух крайностей — утверждения и
отрицания присутствия автора в письменном тексте и его
контроля над ним? Нехамас успешно избегает отождествления писателя
(исторической личности, произведшей текст) и автора, не отрицая
автора как результат текста. Он принимает утверждение Бута, что
185 См. Gass, "The Soul Inside the Sentence," в Habitations of the Word (New York: Simon &
Schuster, 1986). В 1215 г. Римско-католическая церковь сделала доктрину пресуществления —
превращения веществ хлеба и воды в вещество Христова тела и крови — частью официального
учения церкви.
357
Часть вторая. Восстановление толкования
разные труды одного итого же писателя могут иметь разных
предполагаемых авторов, но продолжает определять «автора» в
контексте общих черт нескольких текстов, написанных одним и тем же
человеком. «Автор» для Нехамаса есть фигура, предполагаемая
разными текстами при их сопоставлении: «автор» есть деятель,
постулируемый как принцип единства текстов, отличающихся в других
отношениях. Итак, мы можем говорить о «предполагаемом авторе»
Тома Сойера, об «авторе» всех книг, написанных Марком Твеном, и
о «писателе» Сэмюеле Клеменсе. Каково же тогда отношение
Марка Твена («сотворенного автора») к Сэмюелю Клеменсу (автору
реальному)? Можем ли мы прочесть «Гекльберри Финна» так, словно
он написан Джейн Остен, Чарльзом Диккенсом или, если уж на
то пошло, Норманом Мэйлером? С точки зрения Нехамаса — нет:
«Автора следует конструировать как возможный исторический
вариант писателя, как персонаж, которым мог бы быть писатель».186
Толкование должно руководствоваться исторически достоверным
ответом на вопрос: «Кто это написал?» Поэтому «замысел автора
зависит от того, что мог иметь в виду писатель».187
Определение Нехамаса проясняет природу реального
присутствия автора. Мы можем согласиться с Бутом в том, что
предполагаемый автор находится где-то посредине между вымышленным
персонажем и исторически существовавшим писателем. Однако,
поскольку автор должен быть исторически вероятной версией
писателя, мы можем назвать последнего «выведенным» автором.
Я полагаю, что исторический автор должен быть выведен из самого
текста, включая его «сотворенного» или предполагаемого автора.
Бут прав, предостерегая против отождествления какого-либо из
голосов текста с историческим автором. Все, что мы читаем, есть
продукт решений автора: «Нам следует всегда помнить о том, что,
хотя автор в некоторой степени способен выбрать себе
маскировку, он не способен выбрать полное исчезновение».188 Итак, понятие
предполагаемого автора не должно вытеснять понятие автора
исторического как коммуникативного деятеля.
186 Nehamas, "Writer, Text, Work, Author," в Anthony J. Cascardi, ed., Literature and the Question
of Philosophy (Baltimore: Johns Hopkins Univ. Press, 1987), 285 (курсив мой).
187 Nehamas, "The Postulated Author: Critical Monism As a Regulative Ideal," Critical Inquiry
8(1981): 145.
188 Booth, Rhetoric of Fiction, 20.
358
Глава пятая. Воскрешение автора
Настоящий автор обязательно определится, что и как делать:
он решает, следовать ли определенным установлениям или
игнорировать их, быть искренним или неискренним. Намерения, которые
стремятся восстановить толкователи, не следует отождествлять с
психологией автора, то есть с мотивами, побудившими человека
писать. Сосредоточиваясь на коммуникативной деятельности, я
интересуюсь не мотивами, стоящими за поступком, а скорее природой,
структурой и содержанием литературного действия как такового.
Толкователи стремятся понять, что говорит или делает в своей
работе исторический автор, причем это включает в себя то, что
исторический автор делает с предполагаемым автором и через него.
Читатели, конечно, вправе обращать внимание на определенные
аспекты повествования, не задаваясь вопросом о том, что автор
пытался сделать через него. Однако, если этот вопрос игнорировать,
понимание того, что происходит в тексте в целом, значительно
уменьшается.189
Хотя единственное, что нам доступно — словесные знаки, из
этого не следует, что смысл есть не что иное, как словесные знаки.
Действие человека есть нечто большее, чем сумма его
телодвижений. Подобно этому, предложение есть нечто большее, чем сумма
его частей. Смысл есть нечто большее, чем словарь и синтаксис (он
«трансцендентен»), однако он не может быть воспринят помимо них
(он «имманентен»). «Языковые поступки и события — жизненно
важная часть реальности, настолько же существенная и значимая,
как стулья, прыжки, личности и идеи».190 Иначе говоря,
неосязаемая реальность (смысл) существует и доступна через реальность
осязаемую (знаки и звуки) без сведения о ней и без
отождествления с ней: «Смысл ни вычитывается из языка, ни вчитывается в
него; мы взаимодействуем со смыслом в языке».191
Представление, которое я развиваю здесь о том, что
литературные труды служат связующим звеном между нами и авторским
189 П. Д. Джул согласен с этим. Не подразумеваемый, а реальный автор утверждает пропозиции,
выраженные в произведении. И считает их истинными. Когда Гек Финн решается пойти против
своей совести и спасти своего чернокожего друга, даже если из-за этого он сам попадет в
ад, автор говорит, что «Гек Финн не делает ничего худого, и его так называемая внутренняя
совесть на самом деле оказывается всего лишь произвольными ценностями его общества». (См.
Louis D. Rubin, The Teller of the Tale [Seattle: Univ. of Washington Press, 1967], 18; Цит. по Juhl,
Interpretation, 190).
190 Gill, Mediated Transcendence, 120.
191 Там же, 126.
359
Часть вторая. Восстановление толкования
замыслом, напоминает подход реформатской церкви к решению
проблемы присутствия Христа в Вечере Господней. С точки зрения
христиан-реформатов, Христос присутствует в таинстве не
физически, а духовно. Подобно этому, мы можем сказать, что «дух»
автора и его мысли в самом деле «показаны» текстом, который
рассматривается как некое «таинство».192 Согласно Кальвину, в Евхаристии
Христос открывается людям, принимающим его в вере и покаянии.
Вера не открывает Христа — «причастие» — но принимает его.
Таинство — не только знак, а и печать: действие, рассматриваемое
как гарантия того, что за словами есть нечто. Кальвин
воспринимает физические хлеб и вино как инструменты, посредством
которых вере передается реальное присутствие Христа. Подобным
образом, лингвистические элементы сообщают авторское
присутствие участникам завета дискурса, тем, кто обладает верой, ищущей
разумения текста. Неверующие могут принимать внешние знаки,
но при этом не оказываться сопричастными сути (присутствию),
обозначаемому ими. Читатели также могут употреблять языковые
знаки; но если они не верят в авторов, они неспособны воспринять
их действия в тексте и уходят такими же пустыми, как пришли.
КОММУНИКАТИВНОЕ ДЕЙСТВИЕ И АВТОРСКИЙ
ЗАМЫСЕЛ
Как перейти от физических движений к целенаправленным
действиям, от знаков, напечатанных на бумаге, к значению? Мой ответ
до этого момента был таков: посредством признания
коммуникативной деятельности автора. Автор, как я утверждал, есть
коммуникативный деятель, чье parole приводит в движение langue. Автор
есть условие возможности определенного смысла. Стабильность
смысла основана на предшествовавшем поступке автора («Павел
имел в виду это, а не то».) Иначе текстовый смысл не мог бы быть
независим от читателя, и смыслов было бы столько же, сколько
есть толковательных сообществ.
Однако ни одно объяснение произошедшего
коммуникативного действия не будет полным, если оно не касается больного
вопроса о замысле. Я намерен доказать, что смысл включает в себя
192 Тринитарное развитие этой идеи таинств Кальвином см: Francis Wendel, Calvin (London:
Collins, 1965), 345 — 55. Латинское слово exhibeo имело двойной смысл: передача и
раскрытие.
360
Глава пятая. Воскрешение автора
и материальные знаки (звуки, буквы), и ментальное направление
(замысел, или интенцию). Однако ни телодвижения (знаки сами
по себе), ни психологические интенции (чистое сознание)
недостаточны без другой половины. Мое намерение в этом разделе двояко:
показать, как и почему авторский замысел важен для толкования,
и предложить пересмотренное, освобожденное от ошибок
объяснение этого противоречивого понятия.
За пределы заблуждения замысла
Во второй главе я обращался к «сточной канаве» Дерриды,
чтобы привлечь внимание к разрыву между авторским замыслом и
последовательностью слов. Там я задавал метафизические,
эпистемологические и этические вопросы о замысле автора: где он
находится, доступен ли он для нас и почему мы должны быть
заинтересованы в его нахождении? Прежде чем перейти к изложению моего
собственного понимания, может быть, полезно кратко рассмотреть
то, что происходило с понятием авторского замысла в
литературоведении и философии речевых актов со времен Хирша. Желательно
также вспомнить, что в этой главе рассматривается онтология или
метафизика, то есть авторский замысел как обоснование
определимого смысла текста. Эпистемологический вопрос — как
обнаружить смысл, который намеревался вложить автор — будет
рассмотрен в следующей главе.
Понятие замысла (интенции) в литературоведении
последних лет
Литературоведы продолжают спорить о природе и
нормативности авторского замысла. У. К. Уимсатт в статье, написанной лет
через двадцать после «Заблуждения замысла», вновь повторяет свой
прежний тезис о нерелевантности автора для определения
текстового смысла. Литературоведы могут выбирать изучение «эпохи,
автора, труда».193 Сам Уимсатт утверждает, что смысл слов
зависит более от langue той эпохи, чем от parole автора. Важнейшие
альтернативы Новой критике Уимсатта рассматривают смысл как
функцию или langue (напр.: структурализм) или взаимодействие
W. К. Wimsatt, "Genesis: A Fallacy Revisited," 137.
361
Часть вторая. Восстановление толкования
текста и читателя (напр.: постструктурализм и большинство
постмодернистских подходов). Однако перечисленные ниже
литературоведы составляют меньшинство, находящееся в оппозиции и
утверждающее, что авторский замысел продолжает оставаться
основой и целью толкования.194
Джул. П. Д. Джул настаивает на том, что «адекватность
интерпретации» Хирша является не столько доказательством, сколько
предупреждением (или угрозой): читайте в поисках авторского
замысла, иначе приготовьтесь к анархии в толковании. Джул
предлагает более рациональную основу для того, чтобы сделать авторский
замысел критерием смысла текста. Он доказывает, что между
утверждениями о смысле текста и утверждениями об авторском
замысле существует логическая связь.195 Например, утверждать,
что определенный отрывок ироничен, значит просто утверждать
нечто об авторском замысле. Далее Джул заявляет, что критикам
это известно, хотя они и не желают признавать это; он указывает,
что каждое обращение к какому-либо свойству текста есть скрытое
обращение к предполагаемому замыслу автора. Почему это должно
быть так? Потому, говорит Джул, что всякое толкование стремится
объяснить текст в целом. Однако рассуждение о целостности
означает рассуждение о цели — цели, которой намеревался достигнуть
194 Ср. Denis Dutton, "Why Intentionalism Won't Go Away," в Anthony J. Cascardi, Literature
and the Question of Philosophy, 192-209. Литературоведы не одиноки среди интенционалистов.
Бен Майер в работе «95 тезисов общей и библейской герменевтики» определяет коммуникацию
как «волю к передаче замысла» (Ben Meyer, Critical Realism and the New Testament [Allison
Park, Pa.: Pickwick Publications, 1989], 18). Майер, специалист по Новому Завету, излагает
свой герменевтический реализм так: «Прежде всего текст возлагает на читателя обязательство
воспринимать его соответственно его же замыслу». (17) Замысел есть «формальный смысл»
текстовой уникальной конфигурации и согласованности. Майер считает, что Хиршу не удалось
отделить внешний фактор авторского замысла (напр.: авторский план написания текста) от
авторской интенции, являющейся внутренней частью текста (напр.: того, что автор сделал в
тексте). Объект толкования — не авторский план, а сама природа коммуникативного действия.
Меир Штернберг соглашается с этим. «Заблуждение замысла» Уимсатта и Бирдсли критикует
толкования, полагающиеся на «внешние» интенции, касающиеся цели и психологии автора.
Штернберг отмечает: «Наша единственная забота как толкователей Библии — интенция
«воплощенная» или «олицетворенная» {The Poetics of Biblical Narrative, 9). Интенция есть
краткое обозначение структуры смысла и предполагаемого соглашениями результата, на
достижение которого направлен текст: того, какой смысл несет язык в рамках коммуникативного
контекста в целом». (9).
195 По мнению Джула, отношения между смыслом текста и авторской интенцией —
аналитические: одно понятие предполагает другое.
362
Глава пятая. Воскрешение автора
автор.196 Толкование дает объяснение свойств текста, которое
должно соотноситься с некоей общей целью, чтобы адекватно объяснять
эти свойства. Иначе говоря, при поиске однозначной трактовки
текста приходится объяснять человеческое действие: «То, как мы
представляем себе литературное произведение, если я не
ошибаюсь, логически связано с тем, какую, по нашему мнению, цель
ставил автор, и поэтому зависит от многих (обычно скрытых)
предположений об авторских убеждениях, отношениях, интересах... и
так далее».197 Нравится это критикам или нет, им приходится
рассматривать текст как целенаправленное действие человека. Джул
говорит: «Я стремился доказать, что смысл литературного
произведения по сути подобен смыслу речевого акта личности».198
Кнапп и Михаэле. В то время как Хирш обращается к
интенции на этическом основании, а Джул — на основании логики,
Стивен Кнапп и Уолтер Бен Михаэле обращаются к онтологии. Их
утверждение одновременно просто и удивительно: смысл и есть
интенция, замысел автора, а толкование и есть поиск замысла.
В их знаменитом эссе «Против теории» они доказывают, что текст
означает именно то, что намеревался сказать в нем автор. И
только «теория» воображает, что возможно существование «смысла без
замысла» или какого-то иного источника смысла. Следовательно,
мысль о том, что авторский замысел нуждается в теоретическом
обосновании — абсурд или того хуже, поскольку она «создает
иллюзию выбора между различными способами толкования».199 Сама
идея осмысленного знака или текста (в противоположность
случайному или произвольному сочетанию знаков или слов) требует
постулата о сознательном намерении. Увидев стих Ин. 3, 16,
написанный на песке, можно или приписать эти знаки действию
сознательного деятеля, или счесть их непреднамеренным результатом.
Во втором случае, если эти знаки будут сочтены случайными, они
перестают быть словами, а лишь напоминают их по виду. Смысл без
196 «Более явно, целостность и сложность являются критериями текстового смысла только
поскольку они являются критериями авторской интенции» (R. D. Juhl, Interpretation, 87).
197 Там же, 216.
198 Там же, 240.
199 Knapp and Michaels, "Against Theory," 18. Кнапп и Михаэле критикуют Джула также и за
представление о необходимости теоретического обоснования интенции, как будто толкование
без нее в принципе возможно (19-20).
363
Часть вторая. Восстановление толкования
замысла невозможен.200 Как только мы признаем это, проблема (и
нужда в дальнейшем доказательстве) исчезает. Как только знаки
рассматриваются как непреднамеренные, они становятся и
бессмысленными. «Против теории» является одновременно и самым
сильным аргументом в пользу авторского замысла, и самым
сильным аргументом против практической полезности понятия о
замысле: «Как только мы видим, что смысл текста идентичен авторскому
замыслу, проект обоснования смысла авторским замыслом
становится внутренне противоречивым».201
Во втором эссе «Против теории 2: герменевтика и деконструк-
тивизм» Кнапп и Михаэле возражают Рикёру и Дерриде, критикам,
каждый из которых по-своему предполагает, будто текстовый смысл
может быть чем-то иным, помимо авторского замысла.202 Кнапп и
Михаэле повторяют свое утверждение о том, что только авторский
замысел может служить возможным объектом любого логически
последовательного толкования. Нет иного приемлемого критерия,
который позволил бы потенциальному толкователю определить
последовательность знаков как текст. Без обращения к
авторскому замыслу невозможно даже определить язык текста: «Мы
старались, как могли, найти, а не сумев найти, старались придумать
причину, позволяющую кому-либо настаивать на прочтении текста
как имеющего смысл на языке, на котором автор написал его, и в то
же время настаивать на несущественности авторского замысла».203
С точки зрения Кнаппа и Михаэлса, лингвистические условности
не являются независимыми хранилищами смысла, они лишь
способы сообщения о намерениях личности.
В том, как бескомпромиссно Кнапп и Михаэле отвергают
искушение теоретического доказательства идентичности авторского
замысла и смысла текста, многое достойно восхищения. Для них
решающий вопрос не в том, стоит ли стремиться обнаружить
авторский замысел, а в том, стоит ли толковать. Принимая решение
200 Кнапп и Михаэле отрицают разделение между смыслом говорящего и смыслом предложения,
между parole и langue. По их мнению, языковая система — представленная словарем — есть
просто указатель частых употреблений слов, а не матрица абстрактных прединтенциональных
возможных смыслов (ср. 20п.12).
201 Там же, 12.
202 Knapp and Michaels, "Against Theory 2: Hermeneutics and Deconstruction," Critical Inquiry 14
(1987/88): 49-68.
203 Steven Knapp and Walter Benn Michaels, "Reply to John Searle," New Literary History 25
(1994): 671.
364
Глава пятая. Воскрешение автора
толковать, мы тем самым рассматриваем последовательность
знаков как язык, а следовательно, как нечто, считающееся продуктом
деятеля, обладающего замыслом. Соглашаясь с их
(онтологическим) отождествлением смысла с авторским замыслом, я считаю,
однако, что есть аргументы и в пользу дальнейшей теоретической
защиты этого понятия. Прежде всего, отстаивать понятие авторского
замысла необходимо потому, что многие литературоведы, особенно
постмодернисты, отрицают такое отождествление. Поэтому
существует постоянная необходимость апологетики авторского замысла.
Во-вторых, хотя Кнапп и Михаэле настаивают на том, что смысл
следует отождествлять с замыслом, они не объясняют, что именно
имеется в виду под замыслом. Поэтому остается систематическая
задача определения авторского замысла — задача, к которой я
вернусь ниже.
Интенция (замысел) в теории речевых актов
Сёрль отделяет свое определение интенции от определения,
данного другим речевым философом, Полом Грайсом. По мнению
Грайса, сказать, что говорящий S что-то обозначил через х, значит
сказать, что S намеревался через высказывание х оказать на
слушателя Н определенное воздействие, для того чтобы слушатель понял
намерение говорящего.204 Если я говорю: «Привет!» — мой замысел
в том, чтобы вы поняли мое намерение вас приветствовать.
Согласно Сёрлю, такое объяснение смысла, будучи ценным, в то же время
имеет два важных недостатка. Во-первых, определяя смысл в
контексте намерения добиться некоего влияния на слушателя, Грайс
рискует спутать иллокуционный и перлокуционный акт. Однако
для Сёрля смысл, по сути, связан только с иллокуцией, а не с
перлокуцией. Высказав утверждение, я достигаю успеха в
коммуникации, если получаю иллокуционый результат (а именно: слушатель
понимает мое высказывание как утверждение). Успех в сообщении
смысла, который я вкладываю в высказывание, вовсе не значит, что
слушатель со мной согласится. Как верно высказал это Сёрль:
«Характерный для смысла целевой результат есть понимание».205
204 Н. P. Grice, "Meaning," Philosophical Review 66 (1957): 377-88; см. также Н. P. Grice, "Utterer's
meaning and Intentions," Philosophical Review 78 (1969): 147-77.
205 Searle, Speech Acts, 47 (курсив мой).
365
Часть вторая. Восстановление толкования
Во-вторых, объяснение Грайса «не показывает, до какой
степени смысл может быть обусловлен правилами и соглашениями».206
Смысл, вкладываемый говорящим, весьма случайным образом
связан со смыслом предложения. И с этим разделением между
авторским замыслом и языковым соглашением мы подходим к
разногласию между самими теоретиками речевых актов. Некоторые,
подобно Грайсу, считают смысл прежде всего обусловленным
интенцией; другие подчеркивают важность соглашений. Сила теории
Сёрля, на мой взгляд, состоит в ее способности учитывать оба
фактора; поэтому модель Сёрля может объяснить, как речевой деятель
преднамеренно приводит в движение языковую систему.207 Сёрль
утверждает, что авторы побуждают читателей к пониманию своего
намерения совершить х, используя общепринятые языковые
средства, которые читатели ассоциируют с совершением х. В качестве
простого примера: я сообщаю о своем намерении жениться на
женщине, когда в соответствующих условиях говорю «Да».
Литературный смысл, конечно же, более сложен, но и он содержит то же
сочетание элементов личного замысла и общепринятых соглашений.
Соглашения и коллективный замысел. Что определяет
природу коммуникативного действия? Одного замысла недостаточно,
как ясно показывает пример Витгенштейна: «Попробуйте сказать
«тепло», имея в виду «холодно». На деле мы сообщаем наши
намерения, используя принятые в языке соглашения. Я сообщаю свое
намерение приветствовать вас, говоря «Привет!» в
соответствующих обстоятельствах. Во Франции я использовал бы другое
принятое языковое средство: «Bonjour!».
Важно отличать скромную роль языковых соглашений от
лингвистического детерминизма, поглощающего намерения автора, с
которым мы имели дело в первой части: «Индивидуальному автору, или
субъекту, приписывалось отсутствие инициативы, экспрессивных
206 Там же, 43.
207 Петри обвиняет Сёрля, для которого философия языка есть один из разделов философии
разума, в недооценке роли социальных соглашений. Как будет показано далее, Сёрль на
самом деле уделяет достаточно внимания роли социальных и лингвистических соглашений, в
частности, в своей более поздней книге, The Construction of Social Reality (London: Penguin,
1995). Обзор напряженных взаимоотношений интенционалистов и конвенционалистов в теории
речевого акта, см. Hugh С. White, "Introduction: Speech Act Theory and Literary Criticism," Semeia
41 (1988): 1-24. См. также Р. F. Strawson, "Intention and Convention in Speech Acts," в его Logico-
Linguistic Papers (London: Methuen, 1971).
366
Глава пятая. Воскрешение автора
намерений и изобретательности в сотворении литературного
произведения. Вместо этого сознательная «самость» сама провозглашается
продуктом языковых соглашений».208 Для постмодернистов автор —
просто пустое место, на котором прописывает себя безличная
система языковых соглашений. Придавая такое значение общественно
сконструированным соглашениям, автора превращают из языкового
деятеля в результат использования языка.209 По-моему, вполне
возможно, и необходимо учитывать языковые и литературные
соглашения в теории коммуникативной деятельности и замысла. Отдельные
авторы не могут определять смысл слова с помощью чистой
интенции, какой бы искренней и сильной она не была. В самом деле, многое
из того, что мы делаем со словами и текстами, не было бы возможно
без языковых соглашений. Язык есть форма поведения,
руководствующаяся правилами: соглашениями и заветом.
Почему языковая система не является безличным и
независимым вторым источником смысла, наряду с намерением? Потому что
словарь не описывает ни личное намерение говорящего, ни
безличную языковую систему, а лишь фиксирует «интенции многих
разных личностей, говорящих во многих разных ситуациях».210
Словарное определение — не набор абстрактных возможных смыслов,
а запись того, как слово на самом деле использовалось в
различных контекстах. Лингвистические и литературные соглашения —
инструменты, созданные сообществом людей, которые совместно
координируют свою деятельность и делают то, что без языка было
бы просто невозможным.211 В завете дискурса интенция и
соглашения являются взаимодополняющими, а не противоборствующими
принципами. Грамматика не падает с неба, но отражает
общепринятые соглашения о том, как правильно использовать язык:
«Языки, будучи человеческими установлениями, неразрывно связаны
208 Abrams, Л Glossary of Literary Terms, 189.
209 Некоторые теоретики речевого акта сами оказываются антиинтенциональными в подходе
к анализу речевого акта. Сэнди Петри критикует утверждение Сёрля о том, что историчность
или вымышленность текста зависит исключительно от интенции автора: «Когда речь заходит
о том, что делают слова, мы весьма заблуждаемся, сосредоточиваясь как бы то ни было на
происходящем внутри, в то время как язык действует вовне» (Petrey, Speech Acts and Literary
Theory, 84).
210 Freadman and Miller, Rethinking Literary Theory, 131.
211 Английское слово «соглашение» {convention) происходит от латинского корня convenire,
означающего «сходиться, собираться вместе».
367
Часть вторая. Восстановление толкования
с намерениями людей».212 В самом деле, соглашение можно
определить как выражение коллективного намерения.213 Эта идея дает
возможность прояснить вопрос и далее, чем я сейчас и займусь.
Определяющие правила и установленные факты. Смысл
не есть «чистый факт», как, например, то, что предмет сделан из
нержавеющей стали и весит пять грамм. Смысл невозможно
воспринимать с помощью физических наук; нет герменевтических
счетчиков Гейгера, которые улавливали бы не радиоактивность, а
коммуникативную активность. Однако из этого не следует, что смысла
не существует или что смысл — герменевтическая галлюцинация
читателя. Потому что в мире есть нечто большее, чем чистые
факты. Предмет из нержавеющей стали, весящий пять грамм,
может быть вилкой. То, что он является вилкой — факт
установленный, то есть факт, зависящий от коллективного решения. Потому
что не только мое субъективное мнение объявляет предмет вилкой;
это на самом деле — вилка. Однако вилкой она будет только по
отношению к сообществу, которое предназначило ей такую роль.
Возможно, в неких первобытных культурах предметы, подобные вилке,
служат оружием. Я утверждаю, что установленные факты
существуют благодаря коллективному решению, от этого не переставая
быть фактами.
Различие между «чистыми» фактами и фактами
установленными и тонкое, и жизненно важное одновременно. Это то важнейшее
различие, которое позволяет Сёрлю объяснить, как он переходит от
физики к семантике. Поэтому оно достойно пристального внимания.
Сёрль излагает это различие так: «Чистый факт существует
независимо от любого человеческого установления; установленные факты
могут существовать лишь в рамках человеческих установлений».214
Давайте, например, посмотрим на такое человеческое
установление, как бейсбол. Когда Хэнк Аарон отправил мяч за ограждение в
центре поля, он совершил круговую пробежку. Это установленный
212 Searle, "Structure and Intention in Language: A Reply to Knapp and Michaels," New Literary
History 25 (1994): 680.
213 Сёрль предпочитает говорить о «коллективных интенциях». Примеры их — игра в бейсбол,
игра в шахматы, поклонение Богу—все те случаи, когда участники придерживаются одинакового
набора убеждений в том, что они делают, и принимают одни и те же правила в отношении того,
как делать это должным образом. См. Searle, The Construction of Social Reality, ch. 1.
214 Там же, 27.
368
Глава пятая. Воскрешение автора
факт. Газеты сообщают о таких установленных фактах: «Хэнк
Аарон, совершив круговую пробежку, выигрывает матч». С точки
зрения физики объяснить этот факт невозможно. Физик может
рассчитать силу и траекторию полета мяча после удара битой, однако
попытки определить «круговую пробежку» с помощью физических
инструментов обречены на неудачу. Утверждения об
установленных фактах не сводятся к набору утверждений о физических
происшествиях или состояниях. «Установленные факты существуют, так
сказать, над чистыми фактами».215
Как нам перейти от физики к «круговой пробежке», от чистых
фактов — к фактам установленным? Недостающее звено здесь —
коллективная интенция. Сферический предмет становится
бейсбольным мячом только благодаря коллективному решению считать
его таковым, точно так же как и слово «бейсбольный мяч»
обозначает предмет благодаря коллективному решению присвоить знакам
именно такой смысл. Более того, бейсбольный мяч становится чем-
то большим, когда сообщество присваивает ему новый статус,
например, понятие круговой пробежки в деятельности,
обусловленной правилами и именуемой бейсболом. Посредством
коллективного решения предметы — и письменные знаки — становятся чем-то
большим, чем чистый факт. Вопрос о наличии в тексте смысла
для Сёрля сводится в конечном итоге к вопросу об
установленных фактах.
Установленные факты основываются на системе того, что Сёрль
называет «определяющими правилами». Определяющее правило
имеет вид: «X считается Y в контексте С». В контексте игры в
бейсбол мяч, выбитый за ограждение, считается «круговой пробежкой».
Это правило излагает коллективное решение (считать X за Y в
контексте С), и это правило является определяющим, потому что без
него не было бы круговых пробежек. Заметим, что эти правила
являются необходимым условием определенной деятельности (напр.:
бейсбола); но который именно X считается Y — вопрос соглашения,
и потому он произволен (в бейсбол можно играть мягкими и
твердыми мячами разных размеров). Мы можем следующим образом
215 Там же, 35. Хотя Сёрль об этом и не упоминает, я считаю, что его комментарии о
несводимости установленных фактов напоминают то, что ученые называют «проистеканием».
См. ниже о смысле, проистекании и производных качествах. Петри настаивает на том, что
установленные факты реальны: «Хотя различие между бракосочетанием и ударом по голове —
это явно различие между установленным и чистым фактом, является ли один из них более
реальным, чем другой?» (Speech Acts and Literary Theory, 18).
369
Часть вторая. Восстановление толкования
связать этот анализ со смыслом. Говорение на языке и написание
текста — дело, касающееся установленных фактов и
определяющих правил, дело авторского замысла и коллективного решения.
Определяющие правила создают новые формы поведения.216
Поведение, соответствующее определяющему правилу, может
быть описано способами, которые были бы невозможны, если бы
не существовало правила. Обещание, круговая пробежка,
причастие — все это установленные факты. Язык особенно богатое
установление, причем его разнообразные определяющие правила дают
возможность совершать множество видов действий, невозможных
в других условиях (напр.: бракосочетание, крещение, посвящение
и пр.).217 То, какие именно действия совершаются, зависит от
правил, которых необходимо придерживаться при этом, и соглашений,
к которым преднамеренно обращаются. Мы не сможем правильно
описать коммуникативное действие, если не будем знать чего-то
об определяющих правилах, действовавших на момент его
совершения, потому что мы не сможем узнать, чем именно считается
X (напр.: телодвижения или знаки на бумаге).
Путь от физики к семантике на данный момент должен быть
ясен. Письменные знаки и физические события считаются частью
коммуникативного действия только на фоне определяющих правил,
отражающих коллективное соглашение считать X за Y. Восприятие
одного за другое есть суть процесса, посредством которого
коллективные решения наполняют смыслом языковые явления.
Определение смысла в терминах авторского замысла, в конечном счете,
приводит нас к поиску определяющих правил и установленных
фактов, благодаря которым движения или знаки считаются
коммуникативной деятельностью.
Однако, если мы хотим применить понятие установленных
фактов к литературе и к Библии, нам надо пойти дальше Сёрля.
Библейские тексты и литературные произведения в целом я бы назвал
своего рода «установлениями», с собственным набором
определяющих правил.218 Полное понимание Писания включает
восприятие правил, определяющих такие установления как пророчество,
216 Searle, Speech Acts, 35.
217 Сёрль утверждает, что язык «изначально является основой установленной реальности»,
причиной того, что установленные факты могут обозначать или символизировать что-либо
кроме себя самих {Construction of Social Reality, 59).
218 Литературный жанр рассматривается более углубленно в следующей главе.
370
Глава пятая. Воскрешение автора
закон, псалом, мудрость, апокалипсические писания, евангелие,
канон. Смысл текста во многом определяется тем, к каким
литературным установлениям намеренно прибегает автор. Автор решает
придерживаться одного набора правил, а не другого, например,
правил, определяющих художественную литературу, или правил,
определяющих историческое повествование. Суть утверждения в
том, что литературные формы, поскольку ими руководят правила,
представляют собой деятельность, связанную с установлениями,
деятельность, принятую сообществом и определенную
общественным соглашением. Повторюсь: соглашение есть правило, которое
утверждает, что определенное действие считается чем-либо в
соответствующих обстоятельствах. Литературные соглашения
описывают определяемые правилами образцы общественного поведения.
Текст есть коммуникативный акт, который считается
принадлежащим к определенному жанру из-за соглашений, которые он
приводит в действие. Из этого следует, что толкователь должен меньше
заботиться о своих субъективных выводах или о чистом факте
текста и больше — о текстовом смысле как об установленном факте.
Авторский замысел: предложение о восстановлении
Невозможно, сняв черепную крышку, заглянуть в разум
человека, на самом деле увидев, каково было его намерение в
некий конкретный момент. Приходится определять это,
обращаясь к тому, что он сделал, что он сказал и всем
связанным с этим обстоятельствам.219
Настало время предложить более точное описание отношений
между авторским замыслом и коммуникативным действием,
используя элементы философии деятельности, теории речевых актов
и философии закона. Чтобы это сделать, прежде всего надо
переформулировать понятие замысла, или интенции, чтобы избежать
излишней психологической направленности прежних
определений. В частности, нам следует отличать, с одной стороны, то, что
я назову «плановыми намерениями», которые касаются
планирования или прокладывания курса, а с другой — «смысловыми
намерениями», которые соотносятся с поступками и реальными
пунктами назначения. То, что автор планирует написать, необязательно
219 Цит. по R. A. Duff, Intention, Agency and Criminal Liability: Philosophy of Action and the
Criminal Law (Oxford: Basil Blackwell, 1990), 29.
371
Часть вторая. Восстановление толкования
тождественно тому, что автору удается сделать. Необходимо
объяснение, выражающее авторский замысел в терминах действия, а
не психологии.
Интенция и действие
Только намерение позволяет нам рассматривать действия как
нечто большее, чем просто телодвижения или письменные знаки.
Мое объяснение авторского замысла не замыкается только на
психологии, но в то же время не сводит человеческие поступки до
уровня безличных событий.
Замысел и внимание: следование направлению.
Некоторые философы, включая Сёрля, определяют интенциональность в
терминах «направленности». Осознавать что-либо — значит
направить свое мышление на объект.220 Сознание есть всегда осознава-
ние чего-то. Состояния разума всегда направленны: убеждения,
страхи и надежды связаны с чем-то. Не все, что содержится в
сознании, существует на самом деле (напр.: страшилище под кроватью).
Итак, интенция есть функция направленности разума на
определенный объект или идею. Этимология слова «интенция» (от латинского
tendere) поучительна сама по себе: «простираться или тянуться в
сторону чего-то, целиться во что-то».221 Это напоминает нам о
стремлении поэта уловить невыразимое — момент и вечность — с
помощью слов. На самом деле, язык — основное средство, с помощью
которого разум направляет свое внимание на объекты, надежды,
убеждения, страхи и так далее, независимо от того, кто говорит —
поэт, философ или фермер. Мышление, речь и действие равно
интенциональны.222 Намерение — подумать, сказать или сделать
220 Термин «интенция» был использован для обозначения направленности сознания немецким
философом Францем Брентано в произведении, написанном в 1874, «Психология с эмпирической
точки зрения». Труд Брентано в конечном итоге привел к появлению феноменологии (науки
о содержании сознания), к теории интенциональности Гуссерля, и опосредованно через
Гуссерля — к произведению Хирша «Обоснованность в толковании». Хирш также воспользовался
метафорой направленности, но он сосредоточивается на сознании, а не на действии. Хирш
определяет сознание как «отношение между актом осознания и его объектом» (Validity, 218).
221 Дж. Л. Остин отмечает: «Ни одно слово никогда не достигает полного забвения своего
происхождения» (J. L. Austin "Three Ways of Spilling Ink," in Philosophical Papers, 283).
222 Тисельтон верно отметил, что «намерение» не является отдельным действием. Вместе с
Витгенштейном он задается вопросом, что следует делать по команде «Намеревайтесь...» Суть
в том, что намерение — не отдельное действие, а качество действия, поэтому намерения лучше
воспринимать как наречия (См. Thiselton, New Horizons, 559-60).
372
Глава пятая. Воскрешение автора
что-либо — всегда направлено на объект: мышление — на мысль;
речь — на утверждение; действие — на проект. Ранее я определял
смысл формулой F(p). Интенция, по сути, связана с тем, что
делает субъект, имея в отношении р — пропозиции, сюжета, даже
проецируемого мира — определенную нацеленность.
Вкратце: авторская интенция, или замысел, касается
«направленности» его коммуникативного действия. Это суть того, что автор
делает, определенным образом соотнося себя со своими словами.
Я использую эту фразу — соотнося себя — в значении как
«направленности», так и «заботливого отношения». Что делает автор,
соотнося себя со словами? Только это: автор направляет намерение на
объект (напр.: пропозиционное содержание, на которое
направлена деятельность автора) и позицию (отношение автора к объекту).
Или, используя обозначения Сёрля, автор направляет намерение
на F(p) — и содержание, и энергию иллокуционной силы.
Сёрль считает речевые акты парадигмой того, что происходит в
интенциональности в целом. В речевом акте внимание говорящего
направлено на объект (напр.: пропозиционное содержание)
определенным образом (напр.: утверждающим, связывающим,
директивным и т. д.). Итак, действовать преднамеренно означает уделять
внимание совершаемому действию. Я могу увидеть
пропозиционное содержание «Моисей, идущий в Египет» по-разному: я могу
придать ему силу утверждения, вопроса, приказа и так далее. То,
как я воспринимаю эту пропозицию, и есть моя интенция. В самом
деле, большей части смятения в герменевтических дебатах можно
было бы избежать, обращаясь к понятиям авторского внимания
или «смысла, воспринятого автором».
Тем не менее мы можем согласиться с Рикёром и сказать, что
задуманное автором значение текста равно не пережитому
писателем опыту, а тому, что этот текст означает для каждого,
подчиняющегося его «направленности».223 Автор замышляет свой текст, как
определенный вид коммуникативного акта с определенным
объектом и определенной силой. Интенция текста — это «направление,
которое он открывает для жизни и мысли».224 Согласно теории
речевых актов, именно авторская иллокуционная сила определяет вид
223 Ricoeur, Hermeneutics and the Human Sciences, 161 -62.
224 Возможно, то, что французское слово sens, обозначающее «смысл», имеет и значение
«направление» — не просто совпадение.
373
Часть вторая. Восстановление толкования
направленности — то, что Сёрль называет направлением
соответствия — между высказыванием и миром.
Возьмем, например, высказывание «Иисус, ходящий по воде».
Различие между разными направлениями соответствия является
именно различием между разными видами иллокуции. Убеждения
и утверждения имеют направленность от мира к слову:
высказывание «Иисус ходил по воде» стремится привести слова в
соответствие с миром. Директивы — иллокуционные акты, которые
пытаются побудить слушателя к действию — обладают направленностью
от слова к миру: «Иисус, ходи по воде!»225 Направленность (и вид)
соответствия между словами и миром определяется авторским
замыслом.226 Понимание возможно в том случае, если и автор, и
читатель воспринимают одно и то же одинаковым образом.227 Итак,
я делаю вывод, что толкование по большей части состоит в
следовании направлениям: направлению авторского внимания (напр.: по
отношению к пропозиции), направлению соответствия между
словами и миром (напр.: вид иллокуции).
Основное коммуникативное действие: смысл как
производное качество. Ранее я доказывал, что и самость, и
предложение представляют собой неделимые единицы. Таково же и
действие человека. Мы воспринимаем себя в этом мире как деятелей,
225 Обещания также обладают направленностью от мира к слову. Экспрессивные речевые акты,
такие как например, извинения, благодарности и поздравления, имеют пустую направленность
соответствия, в то время как декларативные («Ты уволен!»; «Сдаюсь») обладают двойной
направленностью соответствия, поскольку мир меняется в соответствии со словами, если слова
используются для того, чтобы произвести изменение в мире. Более подробно о направленности
соответствия, см. Searle, "A Taxonomy of Illocutionary Acts," in Expression and Meaning, и Daniel
Vanderveken, Meaning and Speech Acts, vol. I Principles of Language Use (Cambridge: Cambridge
Univ. Press, 1990), 103-10.
226 Иногда автор объявляет о своем намерении в этом вопросе общепринятыми средствами,
такими как восклицательный или вопросительный знак. Вопросительный знак придает совсем
иную иллокуционную силу пропозиционному содержанию: «Иисус ходил по воде?»
227 Мой онтологический анализ авторской интенции несет в себе и эпистемологические
последствия: хорошее толкование есть обращение внимания на то, что имел в виду автор. В
самом деле, здесь возможен и этический вывод. Айрис Мердок заимствует понятие внимания
у Симоны Уайль, чтобы передать идею «справедливого и любящего взгляда, направленного
на индивидуальную реальность» (Iris Murdoch, The Sovereignty of Good [London: Routledge and
Kegan Paul, 1970, 34]) Мердок считает, что только полностью сосредоточившись на том, что
действительно есть, человек может понять, что следует делать в определенной ситуации. Хотя
она говорит об этике, я считаю, что подобный процесс имеет место и при толковании текстов.
Нравственный читательский отклик состоит во внимательном, справедливом и любящем
восприятии того, что находится в тексте.
374
Глава пятая. Воскрешение автора
имеющих намерения. Фома Аквинский описывал человеческое
действие в терминах добровольного продвижения к некоей цели.
Он отличал добровольное действие от принудительного: действие,
навязанное деятелю, есть насилие, потому что проистекает из
внешнего, а не внутреннего источника. Преднамеренное действие —
добровольное, а не навязанное. Действия добровольны не потому,
что некое «мыслительное событие» (волевой акт) предшествовало
телодвижению, а потому, что они происходят «с определенной
мерой веры, инициативы и желания со стороны деятеля».228 Так же и
с авторами: нет нужды постулировать некую интеллектуальную
деятельность сверх того, что авторы делают со словами. Интенция —
не ментальное событие, предшествующее коммуникативному
действию. Напротив, интенция связана с тем, что деятель совершает по
отношению к объекту действия.
Рассмотрим подмигивание. Мы моргаем очень часто — без
принуждения и непреднамеренно. Однако мы можем моргнуть и
преднамеренно, например, увидев на другом конце заполненной людьми
комнаты друга. Как нам перейти от физики к семантике, от
непроизвольного к произвольному, от рефлекса к преднамеренному
действию? Одно и то же движение тела — быстрое закрытие и открытие
глазного века — может быть действием или не действием.
Подмигивание является коммуникативным актом только потому, что было
задумано как таковой. Более того, подмигивание, как и круговая
пробежка — установленный факт, который невозможно объяснить
чистыми фактами и причинами более низкого уровня без
значительной потери в процессе объяснения: «Следовательно, ни одно
объяснение происходящих событий, если они являются
преднамеренными, не может адекватно представить «часть» реального мира,
в которой происходят действия, совершаемые деятелями, если это
объяснение целиком и полностью полагается исключительно на
физические законы причины и следствия и избегает всякой ссылки
на свободу человеческого действия».229 Пытаться объяснить
преднамеренные действия в терминах действий непроизвольных столь
же неверно, как и сводить коммуникативные акты к семиотическим
законам.
228 Brian Davies, The Thought of Thomas Aquinas (Oxford: Clarendon, 1992), 221.
229 Frank G. Kirkpatrick, Together Bound: God, History and the Religious Community (Oxford:
Oxford Univ. Press, 1994), 60.
375
Часть вторая. Восстановление толкования
Я согласен с философом Эдуардом Полсом в том, что деятели
исполняют свои замыслы с помощью инфраструктур, которые, будучи
взяты сами по себе, могут быть объяснены с помощью
редукционистского подхода, без учета интенции. Механизм подмигивания можно
объяснить с точки зрения рефлексов и нервной системы. (Языковая
система — еще одна подобная инфраструктура, хотя Поле и не
рассматривает ее отдельно). Однако даже подробное физиологическое
объяснение движения глаза может быть недостаточным: оно может
нам помочь понять моргание, но не подмигивание. В конечном
счете именно намерение деятеля и определяет природу действия: «Это
значит, что в метафизическом смысле предел способности
объяснения достигнут тогда, когда мы, наконец, проникаем в суть того
или иного действия, или, точнее, в самые его истоки — в намерение
совершившего его деятеля».230
Далее Поле доказывает, что целостность действия, а именно то,
что делает его целым и завершенным, есть окончательное
объяснение того, что объединяет действие. Это очень важный момент. Его
смысл в том, что действие невозможно понять, анализируя его
составные части. Вернемся к примеру подмигивания: углубившись в
анализ нервных импульсов и мышечных движений на уровне тела,
мы в конечном итоге теряем именно то, что объединяет эту
последовательность событий и делает его подмигиванием;
следовательно, мы полностью теряем коммуникативный акт. Как выражает это
Блэйк: «Мы убиваем, расчленяя». Более того, единство действия
покрывает всю временную последовательность, необходимую для
его выполнения. Намереваясь подмигнуть, я порождаю и
объединяю все инфраструктурные системы, которые необходимо привести
в действие для выполнения подмигивания. Каждый из этих этапов
можно рассмотреть отдельно, однако ни один из них не является
местом пребывания интенции. Но если подмигивание есть, на самом
деле, коммуникативный акт, объяснение его было бы неполным и
недостоверным без ссылки на интенцию, которой он был порожден
и совершен. Интенция, или замысел — это не первый этап в серии
событий, порождающих действие, а принцип, который объединяет
все действие целиком.231 В отношении действия целое оказывается
больше, чем сумма его частей.
230 Там же, 68.
231 См. Edward Pols, Meditations on a Prisoner: Towards Understanding Action and Mind
(Edwardswille: Southern Illinois Univ. Press, 1975).
376
Глава пятая. Воскрешение автора
Давайте теперь применим этот анализ к коммуникативной
деятельности. Авторский замысел есть порождающая и
объединяющая сила, приводящая языковую систему (инфраструктуру) в
движение, чтобы сделать со словами нечто, на что сама система не
способна. Авторская интенция — единственная причина,
действительно способная объяснить сущность текста как такового.
Важно понять местонахождение причины текста на должном уровне:
не на уровне инфраструктуры (знаковой системы) и не на уровне
надстройки (идеологии), а на уровне завершенного действия —
уровне, на который было обращено внимание автора. Авторский
замысел — необходимое условие восприятия текста как единого и
завершенного акта.
Мое объяснение интенции противостоит тому, что я называю
«семиотикой исключения» — тенденции сводить смысл к
движущимся морфемам или объяснять смысл в терминах имманентности
языковой системы. Переформулированное мной понимание
авторского замысла подтверждается, насколько я понимаю, и
последними достижениями в области изучения сознания.232 Сознание и
преднамеренное действие в целом требуют описания с помощью иного
набора предикатов и другого типа объяснения, чем то, которое
предлагают натуралисты (Дарвин) или текстуалисты, например, Дерри-
да. Воспользовавшись довольно специфической терминологией
дискуссии о разуме и теле, мы можем сказать, что смысл, как и разум,
следует считать «производным качеством». Производное качество
есть характеристика явления более высокого порядка (напр.:
мозга), которое достигло такого уровня сложности в организации, что
проявляет новые свойства (напр.: интеллектуальные, а не
физические) и требует для их описания новых категорий (напр.: разум).
Нэнси Мерфи делает важный вывод из понятия производного
качества: «Новые понятия, необходимые для описания
производных качеств, неприменимы на более низком уровне и не
сводятся к понятиям более низкого уровня, (т. е. не
истолковываются через них)».233 Производность можно проиллюстрировать на
232 Я благодарен за многие из идей этого раздела Филиппу Клейтону [Philip Clayton, God and
Contemporary Science (Edinburgh: Edinburgh Univ. Press, 1998), ch. 9]. Важно отметить, что мое
объяснение смысла возвращается к сознанию, хотя и с другими философскими ресурсами, чем
использовавшиеся у Хирша.
233 Nancey Murphy, Anglo-American Postmodernity: Philosophical Perspectives on Science,
Religion and Ethics (Boulder, Colo.: Westview, 1997), 20.
377
Часть вторая. Восстановление толкования
примере биологии. Клетка — сложное явление, производное
малых инфраструктур (молекул и атомов), и ее изучением занимается
специальная наука (биохимия). Мыслительные процессы зависят
от биологических инфраструктур, но не ограничены только их
категориями. Таким образом, состояние разума «вытекает из»
физических состояний.234 Такое понимание разума, с одной стороны,
является наиболее адекватным научным объяснением сознания, а
с другой — соответствует христианскому пониманию человека как
существа, сотворенного по подобию Божьему.235
И разум, и смысл, и самость, и предложение — явления более
высокого порядка, новые «существа», оторванные, по крайней мере,
в некоторых отношениях, от низших форм (напр.: состояний мозга,
langue), порождающих их. Итак, теория производности включает в
себя три составных теории: теорию адекватности объяснения,
теорию причинной деятельности и теорию существующего
(онтологическая теория). Более того, теория производности — эффективный
противовес постмодернистским тенденциям, которые сводят
явления более высокого уровня (напр.: смысл) до уровня низших,
материалистических понятий (напр.: знаковым системам). Я уверен,
что теория коммуникативной деятельности дает более полное
объяснение того, как элементы низших уровней языка оказываются
задействованными в более сложных литературных формах, лучше
всего указывая, что необходимо для пояснения того, как создается
текстовый смысл. Авторский замысел, или интенция, будучи
воспринят с точки зрения способности действовать, разъясняет, как
мы переходим от физики к семантике. Я верю в реальность
авторского замысла, потому что иначе я не могу объяснить
происхождение смысла, то есть то, как смысл «вытекает» из
письменных знаков.
234 Хотя понятие «проистекания» взято из специальных дискуссий, касающихся производных
качеств в естественных науках, я уверен, что оно является и ответом на вопрос Сёрля о том, как
перейти от физики к семантике. Достаточно техническое обсуждение этого вопроса см. Elias
Е. Savellos and Omit D. Yalcin, ed., Supervenience: New Essays (Cambridge: Cambridge Univ. Press,
1995).
235 Cm. W Mark Richardson, "The Theology of Human Agency and the Neurobiology of Learning,"
в W. Mark Richardson and Wesley J. Wildman, ed., Religion and Science: History, Method, Dialogue
(New York: Routledge, 1996), 356-59. См. также Arthur Peacocke, Theology for a Scientific Age, rev.
ed. (London: SCM, 1993), 300-302.
378
Глава пятая. Воскрешение автора
Фон и контекст
И Витгенштейн, и Сёрль смогли избежать ловушки,
содержащейся в подходе к интенции как к ментальному процессу, который
можно было бы наблюдать с помощью интроспекции. Тисельтон
утверждает: «Интенцирование языкового смысла ни в коем случае не
равно совершению какого-либо действия или процесса,
отделимого от языкового действия или процесса как такового».236 По
мнению Тисельтона, даже Шлеермахер, невзирая на его
утверждения о том, что нам следует понимать автора лучше, чем тот понимал
сам себя, менее заинтересован в проникновении в душу автора и
более — в понимании жизни и мира, или фона его
коммуникативных актов. Как пишет Витгенштейн, грамматика смысла «встроена
в ситуацию, породившую его».237 Короче говоря, преднамеренные
действия обладают контекстом. Однако интенция возникает как
определенное явление только в том случае, когда кто-то предлагает
описание коммуникативного акта в свете соответствующего
контекста. Поэтому для восстановления авторского замысла нужно
учитывать интенцию, языковые соглашения и коммуникативный
контекст.
Принятие в расчет соглашений и определяющих правил
подразумевает некое знание о состоянии языковой системы в данное
время и об обстоятельствах коммуникативного действия: «X
считается Y в контексте С». По мнению Мойзеса Сильвы, «контекст не
просто помогает нам понять смысл; он, по сути, создает смысл».238 Я
ранее упоминал, что золотое правило при оценке как частной
собственности, так и пропозиций, таково: положение, положение и еще
раз положение. Какова точная роль контекста в отношении
смысла, рассматриваемого как преднамеренное коммуникативное
действие? Итак, перед нами встают три вопроса: что такое контекст?
что делает контекст? насколько велик контекст?
Преднамеренный контекст. (1) Что такое контекст? Контекст
определяет обстоятельства, связанные с объектом рассмотрения.
236 Thiselton, New Horizons, 559 (выделение автора).
237 Там же.
238 Moises Silva, Biblical Words and Their Meaning: An Introduction to Lexical Semantics (Grand
Rapids: Zondervan, 1983), 139 (выделение автора).
379
Часть вторая. Восстановление толкования
В процессе толкования рассматривается природа
коммуникативного действия. В частности, нам надо определить связанные
обстоятельства и фоновые правила, позволяющие считать
последовательность слов или предложение коммуникативным актом
определенного рода. Давайте определим контекст как разнообразные
факторы, которые следует учитывать вместе с текстом, чтобы понять
авторский замысел. Для этой цели может понадобиться целый ряд
обстоятельств, или контекстов: исторические, языковые,
литературные, канонические, социологические и так далее.
(2) Что делает контекст? Авторский замысел всегда находится
в окружении убеждений и действий, формирующих фон
коммуникативного действия. Представьте себе фон, как доску, на которой
ведется игра, обусловленная некими правилами. Доска для игры в
«монополию» будет отличаться от шахматной доски;
следовательно, различными будут и понятия хода. Мишель Лафарг доказывает,
что толкователям Библии следует стремиться к восстановлению
не просто мысли автора, а фона, менталитета: «Авторские
ассоциации между словами и образами, языковые и литературные
соглашения, управляющие его речью, то, что заботило его в жизни,
и его взаимосвязь с собственным текстом».239 Иначе говоря,
толкователи должны восстанавливать не только авторский замысел, но
и коллективные интенции, определяющие состояние языковых и
литературных соглашений определенного времени, потому что
господствующие коллективные интенции в общем и целом формируют
жизненный мир автора. Узнавая контекст, мы обретаем
способность толковать слова автора так, как их толковал он сам, «видеть
реальность так, как ее видел он».240 Уэнделл Харрис говорит о «кой-
ноэтическом» толковании, чтобы подчеркнуть важность контекста
для понимания: «Смысл зависит от того, смогут ли автор,
заглядывая вперед, и читатель, оглядываясь назад, оказаться в общем
контексте... Общий контекст — это то, что знают другие и что, как им
известно, знаем мы».241
(3) Насколько велик контекст? Это зависит от многого:
обстоятельства, необходимые для понимания текста, могут относиться
239 Michael LaFargue, "Are Texts Determinate? Derrida, Barth, and the Role of the Biblical Scholar,'
Harvard Theological Review 81 (1988): 354.
240 Там же, 356.
241 Wendell V. Harris, Interpretive Acts, 158.
380
Глава пятая. Воскрешение автора
к автору, к форме литературы, к общим фоновым знаниям или к
знанию конкретной ситуации. Сёрль убедительно доказывает, что
интенции имеют смысл только на «фоне» допущений и
общепринятых обычаев, интенциями не являющихся. Например, когда человек
заявляет: «Я баллотируюсь на пост президента Соединенных
Штатов», эти слова будут иметь смысл только на фоне
непреднамеренных обстоятельств, а именно: существования страны под
названием «Соединенные Штаты», периодически избирающей президента.
Я предлагаю выбрать настолько широкий (или настолько узкий)
контекст толкования текста, насколько это требуется для того,
чтобы коммуникативный акт автора имел смысл. Релевантными
являются те обстоятельства, которые позволяют нам определить
«игровую доску» и «игру», которая на ней ведется. Часто сам текст —
литературный контекст — является достаточным доказательством
авторского намерения в выборе определенной формы
коммуникативного поведения, подчиненного правилам.
Юридический контекст. Определение намерения деятеля
часто бывает в буквальном смысле вопросом жизни и смерти.
Например, определение намерений в зале суда означает обвинение в
совершении действий и назначение ответственности. Традиционно
поступок человека не считают преступлением, не рассмотрев
прежде metis rea («интеллектуальную составляющую поступка»).
Поступок не преступен, если не преступна мысль. Однако намерения,
оставшиеся неисполненными («плановыми», как назвал я их выше),
не претворившиеся в действие, не составляют вины с юридической
точки зрения. Р. А. Дафф, философ закона, определяет интенцию
как «действие с целью достичь результата».242 Интенция отлична и
от «желания», и от «предвидения». Интенция — это «действие для
того, чтобы». До этой точки анализ Даффа и мой собственный
соответствуют друг другу; авторский замысел состоит не в том, что
автор собирался сделать, и не в том, каких последствий своего
действия ожидал автор, а в том, что автор на самом деле делал —
и сделал. Связь между интенцией и иллокуцией (тем, что человек
делает путем говорения) остается прочной.
Интересно отметить, что разница, которую усматривает Дафф
между «результатом» действия и его «последствием», в точности
R. A. Duff, Intention, Agency and Criminal Liability, 43.
381
Часть вторая. Восстановление толкования
соответствует разнице между иллокуцией и перлокуцией.243 Дафф
верно отметил: «Я «намерен» совершить то, что я решил; но я не
могу замыслить последствия, которые мне неподвластны».244
«Результат» есть то, что происходит, когда совершается действие
(например, то, что человек делает посредством говорения). Результат
можно назвать одной из составляющих действия: продвижение
пищи по пищеводу — результат глотания. Если пища не
продвигается, значит, я не глотнул. «Определить намерения деятеля
означает уловить взаимосвязь между его действием и контекстом...
то, что деятель сочтет успехом или провалом своего действия».245
«Последствие» действия, с другой стороны, — это событие,
проистекающее из действия или им вызванное. Вследствие глотания,
например, я могу утолить голод. А может, и нет (возможно, я попрошу
добавки). Последствия не связаны с действием так прочно, как
результаты. Последствия не являются частью действия, а находятся
за его пределами. Последствия связаны с внешними, перлокуцион-
ными целями. Как таковые они находятся вне границ
преднамеренного действия.
Я предполагаю, что перлокуционные намерения направлены
на достижение последствий. Иллокуционный же акт определяется
ответом на вопрос: «Что ты делаешь?» — отвечая на этот вопрос,
мы определяем то, что свидетельствовало бы об
удовлетворительном результате действия. Сёрль посвятил целую главу в «Речевых
Актах» анализу необходимых и достаточных условий успешного
исполнения иллокуционного акта обещания. «Пропозиционное»
условие обещания заключается в том, что говорящий должен
утверждать, что в будущем выполнит некое действие. «Сущностное»
условие обещания — в том, что утверждение считается
обязательством совершить действие в будущем. Эти условия должны
выполняться для того, чтобы действие имело «результат» и вообще было
выполнено.246
В юридическом контексте правильное описание действия
оказывается жизненно важным, потому что такие описания определяют
ответственность исполнителя — вину или заслугу. Вопрос следующий:
243 Там же, 42.
244 Там же, 50.
245 Там же, 131.
246 Searle, Speech Acts, 57-61.
382
Глава пятая. Воскрешение автора
что мы описываем? Ответ Даффа созвучен подходу, изложенному нами
выше: мы описываем преднамеренное действие — то, к чему
стремился деятель, совершая х. Более того, для описания того, что он делает,
нет нужды постулировать некий предшествовавший психологический
процесс. Мы обнаруживаем намерение (интенцию), рассматривая
действие как таковое. Авторский замысел — внутренний
производный фактор, определяющий природу данного текста (напр.: история,
откровение, притча, и т. д.). Понимание авторского замысла состоит
не в выявлении психических явлений, а в восстановлении
общественно совершенного действия в таких терминах, чтобы прояснить его
интенцию. Короче говоря, понять автора означает понять, что именно он
делал, понять его иллокуционный акт. В случае с текстом это ничуть
не труднее, чем с другими человеческими действиями: «Человеческое
общение по большей части состоит в понимании людей в их контексте,
в то же время рассуждая о них в нашем собственном».247
Поэтому Дафф отвергает какой бы то ни было дуализм разума
и тела: намерение — не мыслительный процесс, предшествующий
движению тела, а часть самого действия.
Смысл как воплощенный и реализованный авторский
замысел
В своем увлекательном эссе об ответственности «Три способа
пролития чернил» Дж. Л. Остин высказывает предположение, что
деятели обычно имеют общее представление то том, что они
делают. Намерение подобно «шахтерской лампе на лбу, которая всегда
освещает лишь часть пути, по которому мы идем».248 В своём
объяснении Остин согласен с Даффом. Намерение деятеля есть его
представление о том, что он делает, во время совершения действия;
цель деятеля — нечто, чего он желает достигнуть в результате того,
что делает. Именно преднамеренное отношение к действию
позволяет движению деятеля считаться «подмигиванием», а не просто
непреднамеренным телодвижением.
Итог: смысл текста проявляется только на фоне авторского
преднамеренного действия и авторского контекста.
(1) Каждый текст есть результат реализованного
замысла. У каждой рукописи есть свой деятель и свое время. Сёрль
247 F. E. Sparshott, "Criticism and Performance," in On Literary Intention, 113.
248 J. L. Austin, Philosophical Papers, 284.
383
Часть вторая. Восстановление толкования
определяет «смысловую интенцию» как интенцию, «с которой
совершается действие и которая делает действие таким, как оно есть».249
Я доказывал, что в смысле есть нечто большее, чем одни знаки,
указывающие на другие. Это «большее» и есть авторский замысел;
однако этот термин обозначает не столько скрытые
мыслительные процессы, сколько направленность текста как осмысленного
действия. Намерение нельзя свести к простым, непреднамеренным
событиям; это производное свойство необходимо для того, чтобы
объяснить, какой иллокуционный акт был исполнен в тексте. То,
что мы видим в тексте, есть преднамеренное действие автора:
«Личность и действие, таким образом, логически являются основными
категориями; эти понятия невозможно объяснить путем анализа, с
помощью которого пытаются разложить их на предполагаемые
простые составляющие».250
(2) Каждый текст есть воплощенный замысел. Письмо
фиксирует исполненный замысел автора в устойчивой словесной
структуре. Заблуждением было бы говорить о намерении, когда речь идет
о некоем интеллектуальном событии, предшествующем тексту, а не
о замысле, воплощенном в тексте. По мнению Натана Скотта,
«словесное значение состоит из тех намерений автора, которые
воплощены в его тексте и которые, благодаря господствующим в языке
соглашениям, могут быть разделены с читателями».251 Моя цель в
этом разделе — заложить основу четкого различия между
«плановыми намерениями» и «смысловыми намерениями», помогающими
отделить сферу компетенции толкователя от работы психолога.
Есть ли в тексте смысл? Чтобы правильно определить смысл,
необходимо описать преднамеренное действие автора, а не план,
который автор намеревался исполнить в своей работе, и не
реакцию, которые автор надеялся вызвать, а то, что автор делал во
время написания, так или иначе обращаясь с используемыми им
словами. Реальность, перед которой ответственны толкователи и
которой должны соответствовать их описания, если они претендуют
на истинность, основывается на воплощенном и выполненном
авторском замысле. Только этот уровень позволяет нам найти наиболее
249 Searle, Intentionality, 164.
250 Duff, Intention, Agency and Criminal Liability, 130. Дафф кратко излагает свои взгляды на
роль интенции в литературоведении на с. 132.
251 Nathan A. Scott Jr., "The New Trahison des Clercs: Reflections on the Present Crisis in Humanistic
Studies," The Virginia Quarterly Review 62 (1986): 418-19.
384
Глава пятая. Воскрешение автора
удовлетворительное из возможных объяснений природы данного
текста. Понимание — вопрос восприятия воплощенных и
исполненных намерений автора. Глава 6 содержит доказательство того,
что читатели способны понять намерения автора, хотя бы условно,
и что они могут предложить относительно адекватные описания
коммуникативных актов. Здесь я лишь хочу доказать, что понятие
авторской интенции, заимствованное и преобразованное
философией деятельности из психологии, есть важнейшее условие
любого рассуждения об осмысленном действии, воспринимаемом как
текст, или о тексте, воспринимаемом как осмысленное действие.
Об определении смысла как авторского замысла:
краткий экскурс
Является ли определение смысла как «того, что автор
намеревался (и сделал)» произвольным? или условным? Давайте, избегая
термина «смысл», рассмотрим, что обычно ищут толкователи,
читая текст. Если читающий не стремится найти авторский замысел,
что же именно он делает?
(1) «Я стараюсь восстановить оригинальную историческую
ситуацию». Это, пожалуй, все равно, что сказать: «Я использую текст
как свидетельство о чем-то другом». Этот подход скорее
сосредоточен на контексте, чем на самом тексте. Однако я считаю, что
толкователей интересует не столько фон, сколько определение того,
что произошло. Поэтому я не могу согласиться с утверждением,
что «толкование» является, прежде всего, попыткой заглянуть
за текст.
(2) «Я стремлюсь восстановить историю составления текста».
Это, опять-таки, похвальное стремление, но находящееся на
периферии задач толкования и понимания. Это — пример
рассматривания зеркала вместо того, чтобы глядеться в него.
(3) «Я стараюсь выявить идеологические интересы, которыми
руководствовался автор, и критиковать их с точки зрения наших
современных представлений о человеческой свободе, нравственности
и правах человека». Весьма достойная цель — но как она связана с
задачей толкования? Разве не нужно прежде выяснить, «что
говорится/делается» (автором), а уж потом — критиковать? И не является
ли задача определения «того, что сказано» именно тем, что я
определил как цель толкования? Если так, то эта позиция предлагает
13-227 355
Часть вторая. Восстановление толкования
не альтернативное определение смысла, а шаг за его пределы, к
оценке выполненного замысла автора.
(4) «Я читаю, чтобы увидеть, что я смогу взять из текста».
И является ли толкование исключительно частным делом? Не
лучше ли найденное в тексте разделить между автором и читателем,
а также между читателями? Эта позиция, если взять ее крайнюю
форму, лучше определяется как изобретение или даже «авторство».
В конечном счете, такой подход к тексту выглядит так, словно его
пишет читатель. Иначе говоря, смысл оказывается тем значением,
которое имели бы слова, если бы их написал читатель.
(5) «Я исследую смысловой потенциал текста. Я читаю в поисках
замысла самого текста, а не его автора». Этот последний вариант,
насколько я вижу, мог бы стать наиболее вероятной альтернативой
подходу, который отстаивает данная работа. Но убедителен ли он?
Что мы имеем в виду, говоря о «смысловом потенциале» текста?
Если это тот смысл, который слова имеют для меня здесь и сейчас,
эта позиция ничем не отличается от предыдущей. С другой
стороны, если речь идет о смысловом потенциале, который данные
слова имели в исходном контексте, то мы определяем то, что мог (или
мог бы) иметь в виду автор. Но тем самым мы делаем значение,
определенное автором, целью процесса толкования. Короче говоря,
возможная альтернатива высказанному мной мнению в конечном
счете его же и подтверждает.
Результаты преднамеренные и случайные
Каким образом предшествующий анализ влияет на то, что я
назвал метафизикой смысла? Я утверждал, что смысл текста
обладает независимостью и целостностью помимо процесса
интерпретации, благодаря природе и направленности коммуникативного акта
автора. Автор занимает определенную позицию (иллокуционный
акт) по отношению к некоей сути (пропозиционному содержанию).
Герменевтический реализм занимается коммуникативными
действиями, имевшими место в прошлом. В последующих главах я
сосредоточусь на двух вопросах: «Возможно ли познать авторские
действия в тексте?» (гл. 6) и «Следует ли читателю проявлять
интерес к его (автора) действиям?» (гл. 7). Прежде чем обратиться
к этим эпистемологическим и этическим проблемам, я хочу более
полно исследовать некоторые аспекты моего взгляда на смысл как
386
Глава пятая. Воскрешение автора
коммуникативное действие. Наиболее важный из этих вопросов —
непреднамеренные результаты коммуникативного действия.
Являются ли они неотъемлемой частью смысла текста?
Случайности и внимание автора
Каково соотношение между тем, что намеревается совершить
автор, и тем, что на самом деле происходит, когда кто-то читает
текст? В контексте теории закона спор о намерении деятеля
часто касается последствий его действия. Например, когда миссис
Хайем зажгла спичку, собиралась ли она кого-то убить или
только устроить пожар?252 Является ли частью моего «замысла» то, в
чем я усматриваю возможные или вероятные последствия моего
действия? Мог ли Ницше предугадать то, как Гитлер воспримет его
идею Сверхчеловека? Намеревался ли автор повествования о
патриархах в книге Бытия пропагандировать патриархат? Следует ли
возлагать на библейских авторов ответственность за все
последовавшие способы употребления их текста? Именно эти вопросы
составляют суть различия между императивами авторского замысла
и читательского восприятия.
Миссис Хайем был вынесен приговор по обвинению в
убийстве, потому что суд решил, что намерения деятеля включают в себя
возможные или весьма вероятные последствия действия. Дафф,
в свою очередь, различает преднамеренные результаты действия
(ради которых деятель совершает действие) и предвиденные
побочные результаты (которых деятель может ожидать и которые могут
оказаться для него желательными или нежелательными). Исходя
из юридических и литературных соображений, я считаю, что
важно также различать преднамеренный результат (иллокуцию),
представляемые, или желательные последствия (перлокуцию) и
последствия, не вызванные преднамеренно и непредвиденные
(случайность). Действительно, авторы часто стремятся добиться с
помощью своих коммуникативных актов чего-то большего, чем простое
252 Дафф передает обстоятельства дела: миссис Хайем, в приступе ревности, налила бензина
в отверстие почтового ящика на двери своего любовника, подожгла его и вернулась домой. От
пожара погибли двое детей, и миссис Хайем обвинили в убийстве. Она признала позже, что
осознавала свое действие как опасное, однако настаивала, что не намеревалась вредить детям
или убивать их, — только напугать их мать и заставить ее уехать из города. См. Duff, Intention,
Agency and Criminal Liability, 1-3.
is- 387
Часть вторая. Восстановление толкования
понимание. Однако, как мы отмечали ранее, авторы не властны над
этими дальнейшими, перлокуционными результатами. Более того,
последствия коммуникативного действия часто непредсказуемы.
Коммуникативный акт автора никогда не бывает единственным
фактором, определяющим перлокуционный результат. Поэтому
только об иллокуции можно говорить как о внутреннем свойстве
действия. В строгом смысле, последствия не должны
рассматриваться как часть внутренней структуры действия.
Повинны ли повествования о патриархах в пропаганде
патриархата? Этические утилитаристы уверены, что действие является
хорошим или плохим исключительно исходя из его результата.
В литературной теории эквивалентом такого подхода —
рассуждения о том, хорош текст или плох, — является реакция читателей.
С этой точки зрения, воспринимать повествования о патриархах
как женоненавистнические означает сделать их таковыми. С
другой стороны, противники утилитаризма, как, например, Дафф,
считают, что нравственная значимость действия определяется не
результатами, а намерениями, которые ее формируют.253 Здесь вопрос
не в том, следует ли воспринимать Бытие как
женоненавистнический текст, а в том, намеревались ли его авторы пропагандировать
женоненавистничество. Смысл коммуникативного акта зависит не
от его результата (напр.: того, как он будет воспринят читателями),
а от направленности и целевой структуры действия автора. Иначе
говоря, смысл определяется собственно действием — иллокуцией
и ее преднамеренным результатом, — а не непредвиденными
последствиями. Изобразить мир, в котором правят мужчины, как это
сделано в повествованиях о патриархах, не обязательно значит
хвалить его. Различие между описанием и предписанием крайне
важно в оценке библейских текстов, если собственно действием
повествования является «изображение мира». В любом случае,
основная цель повествований о патриархах не давать предписания
для обустройства общества, а проследить историю Божьего
действия в завете с Израилем. То, что повествования о патриархах
могут читаться и подвергаться критике как пропаганда патриархата,
следует рассматривать как непреднамеренное последствие текста,
не являющееся поэтому частью его смысла (т. е. не как часть того,
что делали авторы).
Duff, Intention, Agency and Criminal Liability, 111.
388
Глава пятая. Воскрешение автора
В том что, библейские повествования стали считать пропагандой
женоненавистничества (или расизма, например), не следует
усматривать непреднамеренного последствия авторского
коммуникативного действия, за которое авторы не несут ответственности. Часть
видимой истории наших телодвижений могут составлять
случайности, то же самое верно и в отношении восприятия текста, но
случайности не «едины» с действием исполнителя и не могут считаться
частью его намерений. Я могу разбить стакан (непреднамеренное
последствие), когда мою посуду (преднамеренный результат),
однако это не будет моим «действием». Если бы меня спросили, что
я делаю на кухне, я не ответил бы: «Бью посуду». Однако, в
конечном счете, различие между действием и случайностью невозможно
вывести из чистого факта, а только через установление авторского
замысла. Мораль ясна: лучший способ избежать случайностей в
толковании — обращать внимание на авторский замысел.
Неоднозначность и авторский замысел
«Неоднозначностью» называют неопределенность, которая
присуща словам или текстам, способным иметь не один смысл.
Обыкновенная неоднозначность — простая неопределенность, или
путаница, — часто считается недостатком. Действительно, некоторые
коммуникативные акты могут быть выполнены небрежно. Однако
статус неоднозначности в литературе, если можно так выразиться...
менее однозначен. Проведенные в 1930 году исследования
Уильяма Эмпсона доказывают, что неоднозначность есть литературный
прием, использующий слово или выражение для обозначения двух
или более сущностей.254 Неоднозначные слова содержат
импликации, выходящие за пределы их буквального смысла. В самом деле,
можно было бы сказать, что неоднозначность — это общий термин,
подходящий для всех форм дискурса, которые обозначают нечто
большее или нечто иное, чем кажется на первый взгляд (напр.:
аллегория, метафора, ирония и т. д.).255
Множественный смысл? С точки зрения Хирша,
обращение к авторскому замыслу придает смыслу текста определенность.
254 William Empson, Seven Types of Ambiguity (London: Chatto and Windus, 1930).
255 M. X. Абраме предлагает «множественность смысла» и «плюрисигнацию» как
альтернативные термины, свободные от уничижительного оттенка, связанного с термином
«двусмысленность» или «неоднозначность» {A Glossary of Literary Terms, 8-9).
389
Часть вторая. Восстановление толкования
Очевидно, Хирш воспринимает неоднозначность как помеху для
верного толкования. Легко понять причины этого. Абсолютная
неоднозначность сделала бы весь труд толкователей тщетным. Если
текст неоднозначен от начала до конца, то в нем нет ничего, к чему
читатель мог бы стремиться и, соответственно, принимать. Однако
небольшая доля неоднозначности не причинит вреда. В самом деле,
авторы могут намереваться сообщить нечто отличное от того, что
они говорят явно.256 В некоторых случаях, конечно,
неоднозначность непреднамеренна: у автора, по небрежности или неведению,
получается небрежный коммуникативный акт.257 В других случаях,
однако, неоднозначность умышленна. В самом деле, вовсе не
противореча своей теории коммуникативной деятельности, я считаю, что
некоторые формы неоднозначности объяснимы только авторскими
намерениями.
Выполнять действия, коммуникативные или какие-либо иные,
означает обращать внимание на то, что ты делаешь. Может ли
автор иметь два намерения и делать два дела одновременно? Бывает
ли так, что автор намеревается сообщить нечто иное, чем то, что
он сам явно осознает? Некоторые критики считают, что да: «Я
уверен, что единственный смысл в произведении искусства, который
чего-то стоит, этот тот смысл, о котором его создатель ничего не
знает».258 Я не согласен с этим. Те описания действия — его
внутренней структуры, его иллокуций, — которые считаются
настоящим толкованием, возможны лишь тогда, когда автор осознает, что
он делает. Я проиллюстрирую этот тезис, рассмотрев три сферы
толкования, в которых существует неопределенность: аллюзию,
иронию и различие истории и беллетристики. Все утверждения
256 Например, авторы могут намереваться передать метафорой целый диапазон смысла. Тем
не менее, я уверен, что и здесь мы можем утвердительно говорить об авторском намерении.
Однако в случае с образной речью автор намеревается представить неопределенный диапазон
«общепринятых ассоциаций». Например, определение Иисусом себя самого словами «хлеб
жизни» имеет большой ассоциативный потенциал, однако направлено на определенное
содержание (напр.: Иисус как хлеб, дающий жизнь). Более того, некоторые из этих ассоциаций
не настолько уместны, как другие. Я считаю, что мы можем с достаточной долей уверенности
сказать, что Иисус имел в виду одни ассоциации (напр.: питательный), а не другие (напр.:
нарезанный ломтиками).
257 И Сёрль, и Остин осознают, что речевой акт может быть неудачен. Остин говорит о том,
что высказывания могут «дать осечку», и когда это происходит, «акт, который должен был
быть совершен, теряет силу и не производит воздействия» (How to Do Things With Words, 25).
Подобным образом Сёрль говорит о «дефектных действиях» (Speech Acts, 54).
258 Roger Fry, цит. по David Newton de Molina, ed., On Literary Intention, 14.
390
Глава пятая. Воскрешение автора
о том, что в тексте имеется ссылка на некий предшествующий текст,
что он ироничен или что он — художественный, а не
документальный, логически и онтологически зависят от того, что на самом деле
делал автор.
Аллюзия. Аллюзия, или намек, есть непрямое указание на что-
то — лицо, место, событие или другой текст. Аллюзия особенно
важна при изучении Библии, с учетом сложной взаимосвязи
Ветхого и Нового Завета. Возможно, самое важное в этой
символической взаимосвязи — типология, или изучение образов, то есть
рассмотрение того, как события и личности Ветхого Завета
соотносятся с последующими событиями и личностями Нового Завета.
В типологии аллюзия может относиться не только к прошлому, но
и к будущему. Согласно утверждениям Павла и некоторых отцов
ранней церкви, Адам есть «образ» или «тень» — непрямое указание
на Христа.
Умберто Эко, будучи одновременно литературоведом и автором
романов, делает несколько интересных комментариев о том, как
автор чувствует себя, когда читатель говорит ему, что он имел в
виду. Он рассказывает о том, как назвал одного из персонажей в
«Маятнике Фуко» Касобоном, по имени реально существовавшего
филолога. «Я понимал, что мало кто из читателей сумеет уловить
намек, но понимал также и то, что, с точки зрения стратегии
текста, это и не было необходимо».259 Однако прежде чем закончить
работу над «Маятником Фуко», он выяснил, что имя Касобон носит
и один из персонажей романа Джорджа Эллиота «Ветер перемен».
Кстати, герой этого произведения увлекался мифологией, которая
занимала не последнее место и в романе Эко. Это побудило Эко
задуматься: не читал ли он когда-то давно «Ветер перемен» и не было
ли это неосознанным фактором, побудившим его выбрать имя
Касобон. Размышления Эко хорошо иллюстрируют вопрос: всегда ли
смысл совпадает с тем, что автор делает осознанно?
С точки зрения герменевтического реализма, которую излагает
данная работа, то, содержит ли текст аллюзию на
предшествовавший ему текст, логически зависит от того, что автор мог сделать,
работая со словами. Для того чтобы автор мог сослаться на имя
или фразу, необходимо, чтобы он знал ее. Аллюзия без авторской
Eco, Interpretation, 82.
391
Часть вторая. Восстановление толкования
интенции — логическое противоречие. Если бы автор Нового
Завета написал дословно одну из ветхозаветных фраз, но при этом
не знал ее ранее, это было бы просто случайное совпадение, а не
аллюзия.
Ирония. Такое явление, как ирония, не менее поучительно.
Сама по себе последовательность слов не может указывать на
иронию, потому что ирония, по определению, есть вид высказывания,
в котором смысл противоположен словам: «искусство высказать
нечто, не сказав этого на самом деле».260 Иронию крайне трудно
определить. Однако именно неуловимость словесной иронии делает
ее пробным камнем для проверки нашего утверждения, что смысл
есть результат коммуникативного действия. Уэйк Бут отмечает,
что «ирония — чрезвычайно удобный путь ко всему искусству
толкования».261 Еще одна причина для исследования роли
авторского намерения в иронии заключается в том, что ирония — форма,
которую предпочитает большинство критиков-деконструктивистов.
В самом деле, ирония превратилась чуть ли не в мировоззрение
среди тех, кто верит, что ни один текст не имеет в виду того, что в нем
сказано. Приверженец иронии обречен, подобно Ницше, оставаться
в неудобном положении того, кто считает истиной недоступность
истины. Однако более пристальный взгляд на словесную иронию
позволяет увидеть, что и там, где смысл противоположен словам,
толкование состоит в определении авторского замысла.
Я считаю иронию видом коммуникативной деятельности.
«Словесная ирония предполагает наличие того, кто осознанно и
преднамеренно использует этот прием».262 Бут согласен с тем, что
ирония — преднамеренна и умышленна: «Это не просто неосознанно
оставленные «окна» или случайные высказывания, позволяющие
тому, кто настойчиво ищет иронию, рассматривать их как
отражение реальности в личности автора».263 Ироничность слова или
речевого акта зависит «не от изобретательности читателя, а от
интенций, определяющих творческий акт».264 Слова «Радуйся, Царь
D. С. Muecke, The Compass of Irony (London: Methuen, 1969), 5.
Booth, A Rhetoric of Irony (Chicago: Univ. of Chicago Press, 1974), 44.
Muecke, The Compass of Irony, 42.
Booth, A Rhetoric of Irony, 5.
Там же, 91.
392
Глава пятая. Воскрешение автора
иудейский!» (Мк. 15,18) ироничны, потому что читателю известно,
что солдаты не верят в то, что говорят. Однако, будучи передано
в Евангелии от Марка, это насмешливое именование оказывается
примером не только словесной, но и драматической иронии,
потому что насмешники, не ведая того, говорили об Иисусе правду: он
действительно Царь Иудейский. Мк. 15,18 — хороший пример
эффекта, которого можно добиться с помощью слов.
Бут цитирует высказывание Сэмюеля Батлера как еще один
пример иронии: «В самом деле, я еле спасся; однако, по прихоти
случая, Провидение оказалось на моей стороне».265 Это
предложение трудно воспринять буквально; люди, верящие в случай, обычно
не верят в провидение, и наоборот. Читателям приходится
восстанавливать авторский смысл, чтобы понять ироничность
высказывания. Большинство читателей не испытывают никакого чувства
неопределенности, потому что автор делает ироничность
высказывания достаточно очевидной. В самом деле, всякое указание на то, что
текст ироничен, обнаруженное читателями, «может быть изложено
в форме, позволяющей сделать вывод о подразумеваемом замысле
автора».266
Для того чтобы увидеть в тексте ироничность, необходимы три
шага: (1) отвергнуть буквальный смысл из-за взаимной
противоречивости слов или из-за того, что слова противоречат чему-то еще,
известному читателям (напр.: невозможно одновременно верить в
случайности и провидение); (2) сделать вывод о знаниях и
убеждениях автора: в здравом ли он уме? противоречит ли он сам себе?
намеревался ли он сказать нечто отличное от поверхностного
смысла текста? (3) Выбрать восстановленный смысл, который
гармонично сочетается с теми убеждениями, которые читатель по
умолчанию предполагает в авторе.
Текстовая двусмысленность может быть понята как ирония,
только исходя из представлений человека об авторской интенции —
о том, что стремился сделать автор в своем тексте. В свою
очередь, автору приходится исходить из предположений о знаниях
и возможных предположениях читателей — как о мире, так и о
прочтении текстов. Бут утверждает, что для успеха иронии автор
265 Там же, 19.
266 Там же, 52. Бут отмечает, что один из критиков девятнадцатого века предлагал авторам
использовать особый знак препинания, напоминающий перевернутый вопросительный знак,
«как текстовое обозначение того, что отрывок текста был задуман как ирония» (55).
393
Часть вторая. Восстановление толкования
и читатель должны иметь: общий язык, общее жизненное
пространство и общий литературный опыт. В то время как авторы
действительно иногда предполагают нечто иное, чем кажется на первый
взгляд, эти три общих свойства, или горизонта, делают общение
возможным. Они же, более или менее точно, совпадают с тем, что
Хирш именует «тремя горизонтами» толкования текста.
(1) Прежде всего, существует лингвистический горизонт (напр.:
диапазон значений, которыми в определенное время могло бы
обладать слово или текст). Одни и те же слова могут иметь разный
смысл в устах разных людей. По крайней мере, сведения об
авторе текста позволяют нам определить положение текста в истории
языка. Даже авторы «Заблуждения замысла» знали, что факты
биографии помогают нам определить смысл слов автора. Что,
например, имел виду Гамлет, говоря о своем дяде: «I'll tent him to the
quick»?267 Тот факт, что в елизаветинской Англии слово «tent»
означало «испытать», а не «палатка», помогает нам понять, что Гамлет
хотел установить причастность своего дяди к убийству, а вовсе не
отправить его спешно в палаточный лагерь. «Даже самые твердые
оппоненты «заблуждения замысла» не станут отрицать, что слова
могут иметь определимый смысл и что этот смысл может в какой-то
мере зависеть от личности автора».268
(2) Хирш также говорит о горизонте автора. Толкователям
необходимо ознакомиться с «типичными смыслами авторского
ментального мира и мира его опыта»269 Что означает ознакомление с
коллективными интенциями, формирующими мир автора, и с
личными намерениями автора. Здесь уместно вспомнить комментарий
Джула по поводу прочтения одним критиком Джона Донна:
«Несомненно, Донн не думал обо всех тех ассоциациях, которые
упоминает Хоуг, но, конечно, он имел в виду нечто подобное».270 Критик
выявляет то, что могло существовать «в глубине сознания Донна».
(3) Наконец, существует общий горизонт, набор литературных
ожиданий, общих у автора и читателя, создающий имплицитное
ощущение целого.
267 Shakespeare, Hamlet, Act 2, scene ii.
268 Tuckett, Reading the New Testament, 161.
269 Hirsch, Validity in Interpretation, 223.
270 Juhl, Interpretation, 132.
394
Глава пятая. Воскрешение автора
История или вымысел? Конечно, до некоторой степени,
литературные жанры сами по себе неоднозначны. Но и здесь, не
стоит ли сказать, что они есть то, что они есть. Благодаря авторскому
намерению, художественная литература, например, в конечном
итоге, определяется тем, что автор осознает свое действие. Сёрль
указывает, что не существует текстового маркера, который
однозначно определял бы художественное произведение как вымысел, а
не историю.271 «Штамм Андромеда» Майкла Крайтона,
научно-фантастическое произведение, начинается словами: «Это описание
реальных событий». Единственный фактор, делающий повествование
художественным, а не историческим — это направленность
авторского внимания, определяющее «соответствие» между словами и
миром (или частичный отказ от такого соответствия, как в
художественной литературе). Бут признает, что его поразил тот факт, что
истиной в последней инстанции для критика оказывается то, что
автор — кем бы он ни был — сделал либо не сделал».272
Восстановление намерений подразумеваемого автора основано на выводах об
авторской интенции, которые в свою очередь зависят от того, как
был воспринят нами текст в целом и что мы знаем о внетекстовых
фактах.
Подведу итог: я утверждаю, что авторское намерение, или
замысел, не следует путать ни с тем, что автор планировал написать,
ни с тем, чего он преднамеренно добивается. Смысл определяется
тем, на чем и как сосредоточено авторское внимание.
Насколько сфокусировано внимание автора? Не сообщают ли говорящие
что-либо непреднамеренно — через жесты и положение тела,
например? Может ли быть, что авторы сообщают что-то о своем
историческом контексте, социальном положении, господствующей
идеологии, чего они сами тоже не замечают? Следует ли нам
ограничивать смысл тем, на чем осознано сосредоточивался автор, или
смысл может включать и то, что автор осознавал по умолчанию или
не осознавал вовсе? Итак, всегда ли неприемлемы действия
читателя, направленные на поиск в тексте того, о чем автор не знал или не
мог знать? Такие вопросы требуют от нас еще одного шага,
оправдывающего отождествление смысла с авторской интенцией.
271 Searle, "The Logical Status of Fictional Discourse," New Literary History 6 (1975): 319-32.
272 Booth, A Rhetoric of Irony, 121.
395
Часть вторая. Восстановление толкования
ВОЗРОЖДЕННЫЕ СМЫСЛ И ЗНАЧИМОСТЬ
Вспомним, что Хирш противопоставляет то, что автор раз и
навсегда вложил «в» текст по своей воле и что в тексте зафиксировано,
с неисчерпаемым разнообразием взаимодействий авторского
смысла с читателями, текстами и контекстами «вне» его. Смысл текста
не меняется, так как это связано с тем, что намерения и свершения
автора остались в прошлом. Джул согласен: «Речевой акт,
исполняемый человеком с помощью определенной последовательности
слов, не может измениться вообще, независимо от перемен в
языке, культуре или в чем-либо еще, потому что он выполняется
исключительно во время совершения акта».273 Утверждение остается
утверждением, обещание — обещанием, ирония — иронией.
Хирш считает вопрос ясным: «без стабильной определенности
смысла знание в толковании невозможно».274 Реальность смыслов
основана на прошлых действиях: «Итак, стабильность смысла
основана на совершенности действия».275 В тексте есть определенное
«нечто» — преднамеренное значение, — остающееся стабильным
и неизменным на протяжении всей истории толкования текста.
Однако многих толкователей более интересует не прошлое, а
настоящее, и вопрос: «Что это значит здесь, сейчас, для меня?» Забота о
релевантности — чтение с целью приложить прочитанное к
актуальным проблемам — есть забота о том, что Хирш называет
«значимостью». В отличие от смысла, значимость текста может меняться,
потому что значимость связана со взаимоотношениями между
определенным смыслом текста и более обширным контекстом (напр.:
другая эпоха, другая культура, иное содержание).
Бут определяет значимость как «весь диапазон социальных
и исторических ассоциаций, одобрения и неодобрения, которые
принимает данное предложение или данный текст, удаляясь в
пространстве и времени от автора, замыслившего его».276 Значимость
текста определяется тем, как текст объясняется и оценивается с
точки зрения контекстов, не предусмотренных автором.277
Значимость более соответствует критике, чем толкованию, то есть «всем
Juhl, Interpretation, 166.
Hirsh, Aims of Interpretation, 1.
Hirsh, "Meaning and Significance Reinterpreted," Critical Inquiry II (1984): 216.
Booth, Irony, 20.
Harris, Interpretive Acts, ix.
396
Глава пятая. Воскрешение автора
неограниченно множественным толкованиям, которые могут быть
даны любой работе отдельными людьми или сообществами,
следующими своим собственным интересам, не связанным интенциями».278
Это — объект критики (напр.: политической, феминистической,
фрейдистской). Например, разные читатели могут подходить к
изложенным в данной работе доводам с собственных позиций. Некоторые
могут счесть мою попытку привлечь внимание к различию между
смыслом и значимостью признаком психологического расстройства.
Другие могут назвать мое стремление сохранить определенность
смысла частью женоненавистнического заговора, стремящегося
изобразить автора как авторитетный образ отца, автора как хозяина
смысла. Однако эти попытки «объяснить и опровергнуть» мои
коммуникативные акты не следует путать с попытками их понять.
Объяснять, почему я что-то делаю — совсем не то же, что понимать, что
именно я делаю.
Поэтому перед читателями стоят две задачи,
коммуникативная и стратегическая: «Мы читаем с двоякой целью: понять
то, что имеет в виду автор, и соотнести смысл с тем, что нам
известно, во что мы верим, познания чего ищем, или во что можем
поверить».279 Первая задача: толкование как таковое имеет целью
«восстановление смысла, вложенного автором, пытающееся,
насколько возможно, учесть контекст, в который, по ожиданиям
автора, поместила бы его текст или высказывание аудитория, которой
они предназначались».280 Здесь сложность в том, что нужно «стать
способным толковать слова [автора] так, как толковал их он, и
видеть реальность так, как он ее видел».281 Вторая задача вторична
именно потому, что зависит от успешного завершения первой;
использовать значение текста в некоммуникативных целях можно
только после того, как коммуникативный акт был понят как
таковой. Герменевтический реализм, в конечном счете, опирается на
различие между смыслом и значимостью, на различии между
«объектом познания и контекстом, в котором он познается».282
278 Booth, Irony, 19. Бен Ф. Майер подобным образом различает «толкование» и «анализ».
Цель толкования — выявить авторскую интенцию. «Анализ» касается всех второстепенных
прочтений (напр.: структурных, социоэкономических, критики формы), направленных на
решение проблем, не связанных с определением природы авторского коммуникативного акта.
279 Harris, Interpretive Acts, 169.
280 Там же, viii-ix.
281 LaFargue, "Are Texts Determinate?" 356.
282 Hirsh, Aims of Interpretation, 3.
397
Часть вторая. Восстановление толкования
Каково отношение моего определения смысла в терминах
коммуникативной деятельности к проводимому Хиршем различию
между смыслом и значимостью? Я отвечу на этот вопрос, прежде
всего переформулировав различие смысла/значимости в терминах
объема внимания автора. Во-вторых, понятие об «оригинальном
авторском контексте» по Хиршу нуждается в уточнении, особенно в
отношении Библии, где возможность божественно-человеческого
авторства — Божьей речи — может, на первый взгляд, полностью
опровергнуть различие между прошлым и настоящим действием.
Несмотря на эти уточнения, я согласен с Хиршем в том, что
авторское значение, его интенция должны оставаться определяющим
принципом в толковании. Итак, я делаю вывод, что в отношении
толкования различие между смыслом и значимостью остается и
осмысленным, и весьма значимым.
Объем внимания автора
Намерение, как я его определяю, отличается от «планирования».
Однако у авторов могут быть планы и в отношении того, каких
последствий, помимо понимания, они хотели бы добиться своими
коммуникативными актами, хотя авторы не могут полностью
контролировать то, как люди воспринимают их тексты. Создание текста,
который был бы не только осмысленным, но и значимым, требует и
коммуникативного, и стратегического действия. В то время как
коммуникативное действие производит результат —
предостережение, обещание, утверждение — независимо от отклика
читателя, и нацелено только на достижение понимания, последствия
стратегического действия не являются частью действия как такового.
В первом приближении я предлагаю считать смысл делом
иллокуции, а значимость — перлокуции.
Автор, конечно, может попытаться достигнуть перлокуционно-
го эффекта. Мои перлокуционные намерения в этом разделе,
например, состоят в том, чтобы убедить читателя в разумности различия
между смыслом и значимостью. Я могу достигнуть — или не
достигнуть — этого перлокуционного результата. Однако мой успех или
неуспех на перлокуционном уровне не влияет на то, что я сказал
(смысл) в тексте. Если мне не удастся вас убедить, это (надеюсь)
не означает, что мои аргументы бессмысленны, а, скорее, что вы,
восприняв смысл раздела (аргумента) и поняв излагаемые мною
398
Глава пятая. Воскрешение автора
утверждения, сочли аргумент недостаточным или не вполне
убедительным для того, чтобы сделать вывод в его пользу. В этом случае
мое перлокуционное намерение окажется неисполненным, а текст
мой будет сочтен незначительным. Перлокуционные намерения
регулярно остаются неисполненными, что, однако, не угрожает
возможности общения, потому что перлокуционные
интенции относятся не к действию, а к результатам воздействия
смысла. Если же, с другой стороны, мне не удается достигнуть
иллокуционного намерения, то сам коммуникативный акт
оказывается ущербным. Мои утверждения оказываются не
утверждениями, мои обещания — не обещаниями, мои доказательства — не
доказательствами. Итак, иллокуционное намерение составляет
суть коммуникативного действия и смысла, чего нельзя сказать о
перлокуционном.
Теперь займемся осложнениями. Различие смысл/значимость
противопоставляет действие автора желаемым результатам,
которые автору неподвластны (напр.: перлокуциям, желательной
значимости), с одной стороны, и непредвиденным последствиям текста
для современного читателя (напр.: случайности, непреднамеренная
значимость) — с другой. Что же нам, однако, делать со случаями,
когда автор намеревается обратиться к читателям в контексте,
отличном от авторского? Куда отнести такие интенции — к
планированию или смыслу? Мы уже видели, что письмо позволяет
авторам осуществлять коммуникацию на расстоянии. Но что такое
объем внимания автора?
Недавно Хирш выдвинул доводы в пользу того, что он именует
«транс-историческими интенциями».283 Желая сохранить различие
между смыслом и значимостью, он в то же время недоволен
ограничением авторского смысла рамками исходного контекста и
содержанием. Высказывая утверждение, подобное сделанному Бревардом
Чайлдзом о «канонической интенциональности», Хирш видит в
авторах тех, кто намеренно обращается к будущему: «Мы намерены
дать смыслу возможность выйти за пределы временных ограничений
нашего внимания и знания».284 Литература, подобно библейскому
283 Е. D. Hirsch, "Transhistorical Intentions and the Persistence of Allegory," New Literary history
25 (1994), 549-67.
284 E. D. Hirsch, "Meaning and Significance Reinterpreted," 202. О Чайлдзе я буду говорить ниже.
Сейчас достаточно сказать, что, по его мнению, создатели канона имели явное намерение придать
ему способность функционировать и сохранять авторитетность на протяжении поколений.
399
Часть вторая. Восстановление толкования
канону или политической конституции, есть «инструмент,
созданный для широкого и постоянного употребления в будущем».285
За изменениями, которые Хирш вносит в различие смысл/
значимость, стоит беспокойство о релевантности. Подразумевает
ли «прошлое» оторванность от настоящего? В некоторых случаях
смысл устаревает; исходное значение текстов сегодня уже мало
значит. Хирш, однако, не собирается делать устаревшие тексты
значимыми с помощью творческого толкования, потому что это
низводит текст до положения рупора толкователя. Он избирает иную
стратегию, говоря об открытых авторских намерениях. Например,
сонеты Шекспира отражают не только любовь самого Шекспира,
но и человеческую любовь в целом: «Читая сонет Шекспира с
мыслями о той, кого люблю я, а не о его Смуглой Леди, я изменяю не его
смысл-намерение, а его наполнение и исполнение». Природа
текстового смысла в том, чтобы принимать множественность будущих
исполнений, при этом не меняясь».286 Следовательно, если я
соотнесу сонеты с моей любимой, это будет примером не значимости, а
смысла, даже если сам Шекспир имел в виду не ее. Второй пример:
когда Джозеф Пристли пишет в «Наблюдениях за разными видами
воздуха» (1772) о «дефлогистированном воздухе», историки науки
знают, что он желал указать на то, что мы сейчас именуем
кислородом. Иначе говоря, Пристли имел в виду кислород, хотя и не
так явно, как это делают современные ученые. Суть утверждения
в том, что авторский смысл может претерпевать некоторый
пересмотр мысленного содержания, не меняясь при этом по сути. Хирш,
вслед за Солом Крипке, утверждает, что слова могут не утратить
смысла даже тогда, когда исходные мысли авторов, отразившиеся в
них, оказываются неадекватными или устаревшими.287 Пристли
говорил о кислороде, потому что он имел в виду (т. е. направлял наше
внимание) на кислород, хотя пропозициональное содержание, с
которым он работал — «дефлогистированный воздух» — не могло
послужить адекватным описанием.
285 Там же, 209.
286 Там же, 210.
287 Крипке предлагает «причинную теорию» референции, которая утверждает, что референция
устанавливается не определенными описаниями, а причинно-следственной цепью, которая
связывает говорящего и то, что он намерен обозначить; Пристли говорил о том же, что
упоминают впоследствии другие ученые, хоть и под другим именем. См. Kripke, Naming and
Necessity (Cambridge, Mass.: Harvard Univ. Press, 1972). Альтернативное мнение: см. Searle,
Intentionality, 249.
400
Глава пятая. Воскрешение автора
Из понятия исторического намерения по Хиршу следует, что
иногда речь идет о практическом применении смысла, а не
значимости, в оппозиции смысл-значимость. В самом деле, Хирш готов
даже принять легкую форму аллегорического толкования, при
которой современные читатели читают авторов так, словно они имели в
виду нечто иное, нежели сказанное (Пристли говорил «дефлогисти-
рованный воздух», имея при этом в виду «кислород»).288 Интересно,
что Хирш использует подход Августина, избегавшего крайностей.
С одной стороны, погружения в прошлое вместе с «оригиналис-
тами», с другой — пренебрежения прошлым с их противниками:
«Толкование всегда должно идти дальше авторской буквы, но
никогда — дальше авторского духа».289
В этой главе я стремился убедить толкователей переосмыслить
авторский замысел в терминах коммуникативной деятельности,
чтобы избежать деконструктивного упразднения субъекта и
сопутствующей ему смерти автора. Намерение реализуется и
воплощается в тексте, а значит, именно к тексту следует обращаться
в поисках ответа на то, что автор хотел выразить в своих словах.
Как мы уже убедились, коммуникативные действия, в отличие от
других действий, обладают явно выраженным началом и концом.
Различие между смыслом и значимостью по сути дела
состоит в различии между законченным действием и преднамеренно
или непреднамеренно вызванными последствиями. Одно дело —
описание действия, другое — описание произведенных им
разнообразных эффектов. Я бы предположил, что «аллегории» Хирша
следует рассматривать не как новые акты или непреднамеренные
последствия, а как применения исходного смысла. Поэтому я
предпочел бы говорить о смысле как о «преднамеренном авторском
значении» и о значимости как о «расширенном авторском значении».
Когда авторы успешно реализуют свои намерения, мы можем
сказать, что смысл совершен; когда этот смысл применяется к
другим текстам и контекстам и тем самым достигается перлоку-
ционный эффект, следует говорить о применении смысла.
Однако до этого момента я редко упоминал о критериях оправданного
применения (это задача последующих глав); я доказывал лишь то,
288 Здесь Хирш, возможно, впадает в рассуждение об интенции в психологическом смысле, то
есть о «плановых интенциях».
289 Hirsch, "Transhistorical Intentions," 558. Отношение буквы и духа в толковании Библии
будет отдельной темой в главе 7.
401
Часть вторая. Восстановление толкования
что смысл следует отождествить с авторским преднамеренным
коммуникативным актом. Способность читателей восстановить
авторские намерения, и стоит ли им пытаться это сделать — вопросы
эпистемологии и этики, которые станут темой последующих двух
глав. Эта глава направлена лишь на то, чтоб прояснить вопросы,
связанные с метафизикой смысла путем определения последнего в
контексте иллокуции: смысл текста есть то, что имел в виду
автор в своих словах.
Различие между смыслом и значимостью является по
происхождению результатом веры в реальность прошлого. Реалист считает,
что, просто истолковав прошлое иначе, его невозможно изменить.
Личность Иисуса, например, не изменится по прихоти наших
переменчивых толкований. Смысл Иисуса не зависит от наших попыток
выразить его значимость. Это происходит не потому, что нам
недоступны новые толковательные озарения, просто они, позволяя
более адекватно прочесть текст, открывают нечто, уже находившееся
в тексте, просто ранее остававшееся незамеченным.
Из этого следует, что авторитетность автора сопричастна
авторитетности истины (напр.: Матфей сделал именно это, а не то).
Без этого основополагающего разделения между смыслом и
значимостью последующие различия — между экзегезой и эйзегезой,
пониманием и переделыванием, комментарием и критикой — будет
трудно, если не невозможно, сохранить. Без какого-то критерия,
позволяющего отделить «то, что обозначил этим» автор от «того,
что это значит для читателя», толкователи рискуют перепутать
авторскую цель со своими собственными целями и интересами. Одно
дело — слияние горизонтов, совсем другое — их смешение.
Современные читатели, отрицающие различие смысла и значимости,
отвергающие герменевтический реализм и игнорирующие авторское
значение как цель и руководство к толкованию, обрекают себя на
такое смешение, а заодно и на самолюбование. Лишившись
внутреннего, присущего ему смысла, текст становится экраном, на
который толкователи проецируют собственные образы, или
поверхностью, отражающей лишь лицо самого толкователя.
Богодухновенные намерения и sensusplenior
Остается последнее возражение против обновленного мною
разделения между смыслом и значимостью, касающееся именно
402
Глава пятая. Воскрешение автора
толкования Библии. Не мог ли божественный автор иметь в виду
более полный смысл (sensus plenior), чем тот, который могли
иметь в виду авторы-люди? Если так, что следует почитать «Словом
Божьим» — смысл Библии, ее значимость или то и другое?
Вкратце: должно ли учение о вдохновенности Библии влиять на подход к
толкованию библейского текста, и если да, то как?
Вера в божественное авторство была основой средневекового
поиска множественного смысла в Писании: «Все значения,
которые человеческая изобретательность способна извлечь из Писания
и которые не противоречат истинной вере, могут быть восприняты
как вложенные туда Богом. Ни один человек-толкователь не может
придумать того, что Бог не замыслил».290 Фома Аквинский,
например, верил, что Бог выстраивает события в истории с
определенным смыслом. Здесь он исходил из богословского допущения, «что
Божественное провидение может использовать вещи для
обозначения иных сущностей».291 Речь не просто о том, что слова обладают
более полным смыслом, а о том, что обозначаемые текстом
сущности могут, в свою очередь, что-то обозначать. Фома Аквинский
ограничивает возможные злоупотребления таким «более полным»
толкованием, оставляя богословский приоритет за буквальным
смыслом: «Ничто необходимое для веры не содержится в Писании
лишь в духовном смысле, не будучи в другом месте Писания
изложено буквально».292
Современные библиологи продолжают сталкиваться с
конфликтами между тем, «что это значило» для автора оригинала, и тем,
«что это значит» для современной церкви. Наиболее заметно это
напряжение становится при рассмотрении «более полного смысла»,
который авторы Нового Завета смогли увидеть в Ветхом. Рэймонд
Браун, один из ведущих католических библиологов, подразделяет
смысл на буквальный (то значение, которое видел автор),
канонический (что это значило для тех, кто первыми сочли этот текст
Писанием) и современный (что это значит в наше время в
контексте христианского сообщества). Итак, существует два пути выхода
смысла за пределы того, что, возможно, имел в виду автор: (1) когда
290 Evans, "Medieval Interpretation," Dictionary of Biblical Interpretation, 439.
291 Цит. по John Hilary Martin, "The Four Senses of Scripture: Lessons from the Thirteenth Century,"
Pacifica: Australian Theological Studies 2 (1989): 1 OOn.31.
292 Summa Theologica, la 1.10. Я рассматриваю понятие буквального смысла в следующей
главе.
403
Часть вторая. Восстановление толкования
текст читается в контексте канона в целом и (2) когда текст
читается в свете церковного предания. Поэтому Браун готов принять
«более полный» смысл, настаивая, однако, на том, чтобы авторское
интенциональное значение оставалось «осознанным
контролирующим критерием».293
Конкретный пример: намеревался ли автор Ис. 53 предсказать,
указать, или как-либо еще обозначить страдания Христовы, т. е.
событие, которое еще не произошло на момент написания данной
главы? Именно этот текст служит наиболее явным примером того,
что читатели-христиане говорят о Ветхом Завете в целом, а именно,
что он повествует об Иисусе Христе. Возможно ли придерживаться
убеждений, что смысл есть коммуникативное действие, и при этом
утверждать, что Ветхий Завет обладает «более полным смыслом»,
чем тот, который могли намеренно вложить в него авторы-люди?
Вероятно, да, но лишь при условии признания возможности
божественного авторства.294 Каким образом исполняется и воплощается
божественная интенция, и как она соотносится с интенцией
авторов-людей? Ответ состоит, полагаю, в том, чтобы видеть в каноне
божественный коммуникативный акт.295 Давайте посмотрим, каким
образом божественное авторство придает новую глубину понятию
транс-исторической интенции по Хиршу.
Хирш признает, что даже некоторые небиблейские тексты
(напр.: Конституция США), по-видимому, приобрели смысл,
выходящий за рамки того, что намеревались сказать их исторические
авторы. Однако Хирш уверен и в том, что создатели конституции,
293 Raymond E. Brown, The Critical Meaning of the Bible (London: Geoffrey Chapman, 1981),
33. Cp. Brown, The "Sensus Plenior" of Sacred Scripture (Baltimore: St. Mary's Univ. Press, 1955).
Анализ и критика позиции Брана: см. Douglas Moo, "The Problem of Sensus Plenior" в D. A.
Carson and John D. Woodbridge, Hermeneutics, Authority, and Canon (Grand Rapids: Baker, 1995),
особ. 201-4. Как будет ясно далее, я принимаю первое из предложенных Брауном расширений
понятия буквального смысла, но не второе. Прочтение Писания церковью влияет не на его
смысл, а лишь на значимость.
294 Я согласен с суждением Пола Вобла о предложенном Бревардом Чайлдзом понятии
«канонической интенции»: «Только божественное авторство может объяснить появление
смысла, который Чайлдз надеется найти в Библии» (Noble, The Canonical Approach, 206).
Ни коллективным авторством, ни более поздней редакторской деятельностью невозможно
объяснить то, как канон Ветхого Завета, созданного человеком документа, указывал на Иисуса
Христа.
295 Мы не рассматриваем, каким именно образом Бог может быть автором. Существует
несколько возможностей, от традиционного тезиса о двойном действии (напр.: согласованности)
до недавнего предположения Уолтерсторфа о том, что Библия есть «дискурс, воспринятый
Богом» (см. Wolterstorff, Divine Discourse, 51-54).
404
Глава пятая. Воскрешение автора
вероятнее всего, хотели, чтобы их текст был применим в ситуациях,
заведомо находившихся за пределами их явного знания: «В
некоторых жанрах текста автор вынужден согласиться, что порожденные
его волей последствия выйдут далеко за пределы того, что он точно
знает».296 Бревард Чайлдз также утверждает, что создатели канона
желали, чтобы Писание сохраняло авторитетность и для
последующих поколений. Не следует забывать о том, что отдельные люди-
авторы книг Писания часто стремились к тому, чтобы их читатели
воспринимали сказанное не просто как человеческие слова, а как
Слово Божье.297
Я утверждаю, что «более полный» смысл Писания — смысл,
ассоциирующийся с божественным авторством — возникает лишь на
уровне всего канона. Как доказывал Вольфхарт Панненберг, смысл
вообще — смысл слов или событий — зависит от взаимоотношения
части и целого.298 Например, смысл исторического события не
становится явным сразу же. Но если окончательным контекстом для
определения смысла частей оказывается вся история, следует ли
из этого, что смысл действия, коммуникативного или иного,
меняется вместе с ходом истории, или что он обретает «более полный
смысл» за пределами того, что мог бы иметь в виду деятель? В
отношении истории Панненберг соглашается с тем, что мы узнаем
истинный смысл события только по завершении истории, когда целое
будет закончено. Конечно, толкование с точки зрения завершенной
истории практически неосуществимо, поэтому наши толкования
исторических событий всегда частичны, временны и представляют
собой лишь «взгляд снизу». Тем не менее, Панненберг утверждает,
что суждения о смысле всегда включают в себя предвосхищение
целого.™
Как же решить проблему sensus plenior? Может ли смысл
библейского текста выходить за пределы того, что могли иметь в
виду авторы-люди? Я считаю, что ответ зависит от того, какое —
или точнее, чье — преднамеренное действие мы толкуем. Текст
296 Hirsch, Validity in Interpretation, 123.
297 См., например, 1 Фесе. 2, 13.
298 Wolfhart Pannenberg, Theology and the Philosophy of Science (Philadelphia: Westminster, 1976),
ch. 3. Панненберг, в частности, использует Дилти как источник представления о герменевтике
и гуманитарных науках.
299 В отношении истории Панненберг говорит, что воскресение Иисуса Христа предвосхищает
конец истории и тем самым открывает смысл целого.
405
Часть вторая. Восстановление толкования
следует читать в свете задуманного автором контекста, то есть
на фоне, который наилучшим образом поможет нам ответить
на вопрос, что делает автор. Потому что именно в связи с такого
рода контекстом текст открывает свой максимальный, самый
полный, смысл. Следовательно, если мы читаем Библию как
Слово Божье, я полагаю, что контекст, в котором открывается
этот максимальный смысл, есть канон, взятый как единый
коммуникативный акт. Книги Писания, взятые отдельно, могут
предвосхищать целое, но лишь канон будет его воплощением.
Иначе говоря, если мы согласимся, что Бог есть тот самый
божественный автор, то канон в целом становится коммуникативным
действием, подлежащим описанию. Важно отметить, что канон —
одновременно и законченное, и общедоступное коммуникативное
действие, и, как таковой, открывает путь к божественному
замыслу. Проблема «более полного смысла» Писания и определения
замысла божественного автора и есть проблема выбора избранного
им контекста, который наилучшим образом позволяет максимально
отобразить коммуникативное действие, воплощенное в Писании.
Таким образом, сказать, что у Библии есть «более полный смысл»,
означает сосредоточиться на изначально задуманном
(божественным) автором значении на уровне канонического акта. Лучше
сказать, канон в целом становится единым актом, объединяющим
принципом которого является божественный замысел.
Божественный замысел вытекает из интенции авторов-людей. Итак,
вдохновенность оказывается производным качеством Ветхого и
Нового Заветов.300 Тот факт, что весь канон указывает на Иисуса,
основано на первоначально избранном значении нескольких книг,
однако только к этому не сводится; единство Писания
проявляется исключительно на уровне канона. Канон, как и живая клетка,
есть явление более высокого уровня, проявляющее новые свойства
и требующее новых категорий (напр.: божественного замысла) для
адекватного описания.
В заключение: канон есть законченный и завершенный
коммуникативный акт, построенный божественным авторским замыслом.
300 Следует ли из этого, что божественный замысел противоречит интенциям авторов-людей?
Я вижу следующий выход из этого противоречивого положения. Если мы возвращаемся к
понятию «вытекания», то божественную интенцию мы можем рассматривать как «производное
качество» разнообразных человеческих коммуникативных актов, составляющих Писание.
В следующей главе я рассматриваю эту возможность более подробно, разделяя уровни
коммуникативной деятельности.
406
Глава пятая. Воскрешение автора
Божественный замысел не противоречит интенции
автора-человека, а проистекает из нее. Подобным же образом, канон не
меняет смысл Ис. 53 и не противоречит ему, а вытекает из него и
точнее указывает на обозначаемую им сущность. Говоря о
Страдающем Рабе, Исайя говорил о Христе (а именно: о том, что Бог по
благодати своей сделал для Израиля и для мира), подобно тому,
как Пристли, говоря о дефлогистированном воздухе, имел в виду
кислород. Короче говоря: двойное авторство Писания определяет, а
не опровергает, мой анализ смысла в терминах коммуникативного
действия.
Является ли Слово Божье лишь вопросом прошлого
коммуникативного действия? Разве Бог не говорит с людьми в наше время?301
Богословы и левого, и правого толка обращаются к Духу Святому
как к источнику, дополняющему Слово. Ведет ли Дух сообщество к
более полному смыслу, выходящему за пределы «того, что имелось
в виду»? Должным образом ответ на этот вопрос будет дан лишь
в последующих главах. Мое утверждение состоит в том, что Дух
связан с написанным Словом, как значимость связана со смыслом.
В отношении герменевтики роль Духа состоит в том, чтобы быть
Духом значимости, применяя, а не изменяя смысл.302 В то же время,
Библия заботится и о собственной релевантности, то есть о том,
чтобы ее смысл был применим и в новых контекстах. Между
контекстом автора и контекстом читателя стоят несколько текстовых
контекстов — повествования, общий, канонический, — которые
позволяют нам простирать смысл Библии в настоящее. Итак,
обратимся к рассмотрению вопроса о том, каким образом можно познать
смысл, и к возможности того, что сам библейский текст и является
наиболее приемлемым контекстом для собственного толкования.
301 Я рассматриваю эти вопросы более подробно в "The Bible — Its Relevance Today", в David
W. Torrance, ed., God, Family and Sexuality (Carberry: Handsel, 1997), 9-30.
302 Экзегеза может дать нам знание смысла текста, а Дух дает мудрость.
407
ГЛАВА ШЕСТАЯ
Обретение текста: рациональность
литературных актов
Путать невозможность однозначного понимания с
невозможностью понимания как такового — значит
совершать логическую ошибку.
Э.Д.Хирш.1
Протестовать... против постмодернистских
прочтений Библии, скорее всего, бесполезно. То есть
бесполезно, если те, кто заинтересован в серьезном
прочтении Евангелий, не займутся поиском путей
определения лучшей эпистемологии.
И. Т. Райт.2
Тот, кто верит в определенность смысла, может
видеть в разногласии только богословскую ошибку.
Стэнли Фиш.3
Выводы предыдущей главы очертили контуры «метафизики»
смысла. В тексте есть смысл — намеренное
коммуникативное действие. Однако это утверждение мало помогает тем,
кто увяз в реальных спорах по вопросам толкования текста.
Потому что одно дело — знать, что у текста есть некий определенный
смысл, и совсем другое — определить, что это за смысл. В то же
самое время важно избегать того, что Сёрль называет
«стандартной ошибкой», заключающейся в предположении, что «недостаток
доказательств, то есть наше неведение, есть признак
принципиальной неопределенности или недоказуемости».4 Неоднозначность,
1 Hirsch, Validity in Interpretation, 17.
2 N. Т. Wright, The New Testament and the People of God, 61.
3 Stanley Fish, Is There a Text in This Class? 338.
4 Searle, "Literary Theory and Its Discontents," 648.
Часть вторая. Восстановление толкования
как следствие удаленности читателя во времени или культурным
контекстом, может быть в значительной мере устранена хорошим
образованием.
В этой главе рассматриваются некоторые эпистемологические
вопросы, возникающие из представления о смысле как о
коммуникативном действии. Является ли толкование формой познания? Если
да, то основано ли это познание на доказательствах? Какого рода
доказательствах? Что остается от рациональности после
бескомпромиссной критики картезианского объективизма «упразднителями»?
На самом ли деле существует такое понятие, как правильность и
неправильность толкования, и если да, то как его определить? Верны
или неверны толкования? Можно ли доказать их правильность или
ошибочность? Простое утверждение реальности текстового смысла
— пустые слова, если об этом смысле невозможно ничего узнать.
Итак, на кону — возможность эпистемологии смысла и ясное и
четкое представление о «литературном познании».
Конечно, читатель не остается абсолютно пассивным в процессе
познания, потому что разум — не чистый лист, на котором объект
литературного познания просто прописывает себя. Однако
утверждение о том, что толкователь, имея дело с текстом, может познать
лишь собственный разум, было бы преувеличением. Я, напротив,
хочу доказать, что текст может быть источником доказательств и
инструментом познания не только об авторе (т. е., что он написал,
что он сделал), но также и о том, что автор чувствует, знает,
наблюдает и воображает.5 В самом деле, большая часть того, что мы
находим в текстах — свидетельство о чем-то, отличном от самого
текста или его автора. Конечно, ни авторы, ни сами тексты не
способны контролировать читательские толкования. Из этого,
однако, не следует, что авторский замысел недоступен или что текст
может означать все, что видят в нем читатели. Текст занимает
среднее положение между автором и читателем как воплощенный
замысел, который, через разнообразные текстовые стратегии,
простирает суть и способ авторского мировидения в мир читателя,
позволяя читателю соответствующим образом отреагировать на ту же
самую суть. В частности, есть несколько текстовых контекстов —
повествовательный, общий, канонический, — которые позволяют
5 К. С. Льюис утверждает, что литературоведы должны прежде всего рассматривать
содержание, «реальные сущности», о которых говорят тексты, а не стиль или личность автора
(см. С. S. Lewis, The Personal Heresy).
410
Глава шестая. Обретение текста
современным читателям Библии перейти от того, «что она значила»,
к тому, «что она значит». Я утверждаю, что сам текст является
наиболее приемлемым контекстом для собственного толкования, если
читатели рассматривают этот текст на уровне литературного и
канонического акта. Я полагаю, что литературное знание есть вопрос
о том, что в ином контексте было названо «плотным описанием».6
Чтобы вновь обрести текст как источник знаний и толкование
как средство познания, нам нужно рассмотреть четыре вопроса.
(1) Прежде всего, какова природа литературного познания?
Ни фидеизм, ни обосновательство сами по себе не способны дать
достаточное объяснение нравственности литературного знания.
С другой стороны, толкование — это не только вопрос
представления неопровержимых доказательств. Я утверждаю, что текстовое
познание — это скорее вопрос веры в свидетельство, и такая вера
вполне вписывается в эпистемические права толкователя.
(2) далее я рассматриваю основную проблему литературного
познания — конфликт толкований. Отчаяние по поводу
принципиальной достижимости литературного знания превратилось в
своего рода лихорадку. Верующие в толкование сегодня
воспринимаются с тем же сожалением (или презрением), что и
фундаменталисты; в постмодернистском литературоведении скептицизм —
добродетель, подобная благочестию. Толкования могут быть
полезны для той или иной цели, для того или иного сообщества
толкователей; но их уже нельзя называть «истинными». Итак, для того,
чтобы говорить о литературном знании, необходимо уяснить
природу конфликта и найти из него выход, избегая релятивизма с одной
стороны и абсолютизма — с другой.
(3) Из сказанного выше следует третий вопрос, касающийся
норм литературного познания. Интересно отметить, что
современные позиции являются отражением тех, что были в ходу в спорах о
толковании Библии в четвертом и шестнадцатом веках, потому что
возможность верного толкования связана с противоречивым
понятием буквального смысла, а тот, в свою очередь, связан со
взглядами толкователей на значимость Иисуса Христа. Здесь я
представляю новое обоснование реконструированного буквального смысла
и доказываю, что литературное знание в большой степени есть
вопрос достаточно «плотного» описания коммуникативных актов.
6 Философом Гилбертом Райлом и после него антропологом Клиффордом Гиртцом
(см. ниже).
411
Часть вторая. Восстановление толкования
(4) Последний вопрос касается метода литературного
познания. Я утверждаю, что подход к толкованию должен определяться
объектом литературного познания, который является не чем иным,
как определенным видом литературного акта. Каждый
литературный акт подразумевает рациональность, соответствующую его
виду. Лучший способ узнать, что было сделано — это воспринять
весь акт в целом, или, в случае с текстом, литературный жанр.
Задача этой главы заключается в том, чтобы построить модель
толкования, отвечающую требованиям герменевтической
рациональности и дающую литературное знание, которое, не будучи
абсолютным, является достаточным. Мой вклад в эпистемологию
смысла в том, чтобы подчеркнуть, насколько литературоведение
является не просто проблемой нравственности знания, а проблемой, в
конечном счете требующей обращения к богословским ресурсам —
а именно, добродетелям надежды, веры, послушания и любви; веры
в то, что в тексте присутствует нечто реальное и требующее
отклика; надежды на то, что сообщество толкователей может, хотя бы
в идеале, достигнуть разумного соглашения; послушания, то есть
уважения к контексту самого текста и следования буквальному
смыслу; любовь — в том, чтобы толкователь вникал в текст,
принимая его условия.7
ВЕРА В СМЫСЛ
КАК ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ВЕРНАЯ ОСНОВА:
ПРИРОДА ЛИТЕРАТУРНОГО ЗНАНИЯ
Дэвид Юм однажды спросил: «Что является источником
нравственности — знания или чувства?» Тот же вопрос можно задать и о
смысле: «Рождается ли смысл из познания текста читателем или из
переживания (эмоционального, идеологического, эстетического)
им текста?» Очевидно, сам текст — важнейший источник
литературного знания, но каким образом взаимодействие с текстом ведет
к литературному познанию? В качестве первого шага предложим
предварительное определение «литературного познания».
7 Я согласен с призывом Н. Т. Райта к «эпистемологии любви»: «Я отстаиваю... эпистемологию
или герменевтику любви как единственный вид теории, которая должным образом воспринимает
сложную природу текстов в целом, истории в целом, и Евангелий в частности». (The New
Testament and the People of God, 64).
412
Глава шестая. Обретение текста
Литературное познание
Многие современные литературоведы относятся к
словосочетанию «литературное познание» как к оксюморону, вместо того чтобы
почтить его определением. Они возражают, утверждая, что
изучение литературы носит недостаточно «научный» характер. Другие
отвергают это отношение, как позитивистский предрассудок,
называя его «сайентизмом» (от англ. science — наука. Прим. перев.).
Объяснение не ограничено Книгой Природы. Существует, однако,
и второе возражение против понятия литературного познания, а
именно — общая неопределенность вопроса, стоящего за всем
процессом толкования как такового: «Что это значит?» Этот поиск едва
ли увенчается определением «дисциплины» познания. Что же тогда
является подходящим объектом литературного познания?8
Познание и литературный критик
«Литературное познание» может обозначать одну из двух вещей:
или знание о тексте (напр.: об обстоятельствах его составления)
или знание того, о чем этот текст (напр.: его содержания).
Последнее понимание господствовало в классической Греции и в
гуманистической традиции в целом, где литературу было принято
рассматривать как средство нравственного наставления. Считалось,
что хорошая литература повествует о хороших людях, их ценностях
и добродетелях. Гуманитарные науки традиционно были средством
воспитания лучших человеческих качеств. Литература — и
историческая, и художественная — помогает лучше понять положение
человека.9 Она — лаборатория человеческих возможностей.10
8 Об этих и подобных вопросах см. Paisley Livingstone, Literary Knowledge: Humanistic Inquiry
and the Philosophy of Science, (Ithaca: Cornell Univ. Press, 1988).
9 Алтиери предполагает, что литература дает нам возможность более сложно и разнообразно
различать человеческую деятельность, тем самым расширяя наше знание о состоянии человека
{Act of Quality, ch. 8).
10 Мэтью Арнольд, возможно, величайший из гуманистов викторианской эпохи, считал, что
литература открывает пред нами «лучшее, что есть в познании мира и его осмыслении»; в
частности, поэзию он считал, по сути, «критикой жизни». Ливингстон считает, что литературное
знание может обогатить другие дисциплины. Литературное знание служит для того, чтобы
«ставить под вопрос и уточнять, придавать глубину и совершенствовать гипотезы других
антропологических дисциплин» {Literary Knowledge, 260). С христианской точки зрения мы
можем добавить, что библейские тексты служат для того, чтобы ставить под вопрос и уточнять
наши представления о том, что на самом деле значит — быть человеком.
413
Часть вторая. Восстановление толкования
Другие литературоведы предпочитают получать знания о
тексте: о общественно-исторических условиях и последствиях, о его
лингвистических, литературных и эстетических чертах. С этой
точки зрения, сам текст и есть объект описания и объяснения.
Какие объяснения приличествуют литературным объектам? С точки
зрения Пейсли Ливингстона, «объяснять — значит давать причины
существования определенного положения дел; причины
приводятся путем соотнесения конкретного объясняемого случая с более
общей закономерностью».11 Ирония заключается в том, что многие
литературные критики так никогда и не задаются вопросом,
который я называю «собственно вопросом толкования»; спеша
анализировать и объяснять текст, они не пытаются понять, о чем он. Что
получится из критика, который рассуждает об отражении в романе
общественно-исторических условий его написания, неосознанных
психических процессов его творца или патриархальной идеологии
того времени, но никогда — о том, что, собственно, имел в виду
автор. Среди перечисленного выше могут быть и истинные описания,
однако являются ли они описанием коммуникативного действия?
Знание о тексте — необязательно то же самое, что знание того, о
чем этот текст (а именно его смысла).
«Что это значит?» перестает быть неопределенным вопросом.
Целью предшествующей главы было определение природы
текстового смысла в контексте коммуникативной деятельности. Поэтому
основными вопросами толкования стали вопросы о материи и
энергии текста: о содержании и иллокуционной силе текста, о том, что
и как хотел сказать автор. Способов изучения текста существует
много, однако многие из них в лучшем случае вскользь касаются
задачи определения их смысла. То, что определяет интеллектуальные
усилия в процессе толкования, лучше всего подытоживается
понятием «плотного описания» Гилберта Райла.12 Для Райла это
означало — достаточно уместно — описание действий с тем, чтобы не
потерять их интенциональность. Описание достаточно плотное,
если оно позволяет воспринять и оценить все то, что автор
делает с текстом.13
11 Livingstone. Literary Knowledge, 230.
12 См. "Thinking and Reflecting," и "The Thinking of Thoughts," в Gilbert Ryle, Collected Papers,
vol. 2 (1971).
13 Клиффорд Гиртц весьма уместно употребил понятие «плотного описания» в культурной
антропологии в своем труде The Interpretation of Cultures (London: Fontana, 1993 [первая
414
Глава шестая. Обретение текста
Комментарий и библейский критик:
Описания плотные и тонкие
Мы можем легко соотнести это с библейским толкованием,
задавая простой вопрос: «Что такое комментарий? Являются ли
комментарии источниками новых знаний, пособиями по
лингвистической информации, помощью в вере, творческой
интерпретацией?» Отправной точкой здесь может стать определение Дж.
Л. Хоулдена: «Комментарий к библейской книге ставит целью
помочь читателям разнообразным пояснительным материалом,
способствуя лучшему пониманию текста».14 Однако он тут же
добавляет, что комментарии часто куда более агрессивны в
навязывании своей точки зрения, чем это предусмотрено его
определением. Подобным образом Ричард Коггинс признает, что
определенная доля идеологической предвзятости неизбежна: «Почти
каждая черта каждого комментария будет нести отпечаток
ценностей комментатора».15 Беспристрастное изучение Библии, при
котором комментатор остается научно объективным, выглядит для
современного экзегета древним мифом. Как правило, комментарии
стремятся или восстановить исходный контекст, или утвердить
значимость Писания для современного контекста. Однако ни одно
из этих стремлений не способствует объективности более других.
Согласно Роберту Кэрроллу, множество доступных на
современном рынке комментариев «представляет широкий спектр подходов,
взглядов и целей разных сообществ и гильдий толкователей. Оно
также указывает на то, в чем некоторые видят «кризис» жанра
библейского комментария».16 Этот кризис скорее эпистемологический:
он касается природы, метода и критерия литературного, или в
данном случае — библейского, знания. Вкратце: чем является
библейский комментарий — изобретением или открытием?
Кризис в толковании Библии касается как науки, так и
церкви. Со времен просветительства большинство ученых-библеистов
используют строго исторический подход к библейским текстам,
публикация 1973], особ. 3-13). Мое собственное употребление этого термина во многом
основывается на труде Гиртца, хотя сам он лишь вскользь упоминает литературное толкование.
14 J. L. Houlden, "Commentary (New Testament)," в Dictionary of Biblical Interpretation, 129.
15 Richard Coggins, "A Future for the Commentary?" в Watson, ed., The Open Text, 166.
16 Robert Carroll, "Commentary (Old Testament)," Dictionary of Biblical Interpretation, 134.
Часть вторая. Восстановление толкования
сосредоточиваясь на «фактах», а не на «ценностях».17 И
либеральные, и консервативные экзегеты рассматривают текст как средство
достижения исторической достоверности, то есть реконструкции
происходившего на самом деле. В частности, критики Библии
тратят значительные интеллектуальные ресурсы на доблестную, хотя,
в конечном счете, бесполезную попытку восстановить историю
создания текста. Историко-критический метод зачастую вытеснял
другие методы прочтения Библии и, по крайней мере в ученой
среде, рассматривался как единственный подход к тексту. Конечным
результатом стало чтение библейских текстов в отрыве от их
литературного и богословского контекста как части канонического
Писания. Восприятие книги Бытия в контексте Ветхого Завета в
целом или в контексте всей Библии считалось неприемлемым с
научной точки зрения.18
Карл Барт в знаменитой защите своего явно богословского
толкования Послания к римлянам утверждает: «Я с сожалением вижу,
что современные комментаторы ограничиваются толкованием
текста, которое я даже не назвал бы комментарием, а лишь первым
шагом к комментарию».19 Барт обвиняет исторических критиков в
недостаточной критичности, потому что, стремясь объяснить
словотворчество или определить для себя, которые из фрагментов
текста более древние, они так и не доходят до восприятия содержания
текста. Барт отмечает: «По крайней мере для меня, основным
вопросом остается вопрос истиной природы толкования».20 Можно ли
назвать историческую критику примером истинного толкования —
17 См., напр., Hans W. Frei, The Eclipse o/Biblical Narrative, 5: «Теперь существует логическое
различие между рассказами и «реальностью», которую они изображают. Описанный
библейский мир и реальный исторический мир сразу же начали разделяться в мышлении и
восприятии, невзирая на то, воспринималось ли это описание как соответствующее реальности
(Соцеюс и Бенгель) или не соответствующее ей (Спиноза)». Дихотомия факт/ценность — явно
модернистская: факты доступны для общественного познания, в то время как ценности — дело
частное. Проблема в том, чтобы определить, является ли толкование Библии вопросом фактов
или ценностей. Библейского критика-модерниста ожидает дилемма между историческими
фактами, не имеющими религиозной ценности, и религиозными ценностями, лишенными
фактического обоснования.
18 Из этого следует, что ученые-библеисты не могли придерживаться выдвинутого
реформаторами правила «Писание толкует Писанием». Одна из целей, которые я ставлю в этой
главе — вернуть этот важный принцип толкования с помощью понятия о «плотном описании».
19 Barth, The Epistle to the Romans, 6th ed. (Oxford: Oxford Univ. Press, 1968), 6.
20 Там же, 9.
416
Глава шестая. Обретение текста
вопрос спорный. Но мы с достаточной степенью уверенности
можем сказать, что большая часть современных исследований
Библии является примером того, что Райл именует «тонким
описанием». С точки зрения Райла, тонким описанием, к примеру,
подмигивания было бы кратчайшее объяснение («быстрое сокращение
мышц правого века»). Это описание тонкое, потому что не
включает более широкого контекста события, позволившего бы увидеть в
нем преднамеренное действие. Вследствие этого тонкие описания
страдают бедностью смысла. В качестве примера плотного
описания Райл представляет мальчика, который пародирует
подмигивание своего товарища. Движение то же самое, однако это не
моргание и не подмигивание, а насмешка, и контекст, формирующий фон
этого описания, еще более сложен. Суть в том, что толкование, как
в культурной антропологии и истории, так и в критике Библии, по
сути есть «плотное» описание того, что делают люди.
К счастью, некоторые библеисты продолжают утверждать, что
цель комментария состоит в том, чтобы помочь читателю лучше
понять, что автор сделал и что он имел в виду. Как сказал Гандри,
«Намерения библейских авторов должны играть главную роль в
нашем толковании христианства».21 Цель комментария в том,
чтобы исследовать сказанное и сделанное для восприятия авторского
коммуникативного замысла; чтобы проследить мысль автора не
назад, к его разуму, а вперед, к сути его дискурса. Нет необходимости
представлять, что евангелист всегда обдумывал заранее или
планировал то, что он собирался сделать — это путь к заблуждению.
Гандри признает, что невозможно определить, какие действия Марка
были заранее спланированными, а какие — спонтанными. Но это
не должно отвлекать толкователя от цели — определения того, что
Марк сделал на самом деле.22
Из природы толкования следует, что основная задача
комментатора Библии — понять природу и содержание авторского
коммуникативного действия. Комментарий, упускающий из виду этот
аспект, будет не столько толкованием текста, сколько
критическим изучением неких случайных или фрагментарных аспектов
литературного акта. Истинный комментарий есть анализ одной или
2' Robert Gundry, Matthew, 63 8.
22 Robert Gundry, Mark: A Commentary on His Apology for the Cross (Grand Rapids: Eerdmans,
1993), 24.
Часть вторая. Восстановление толкования
нескольких сторон полного коммуникативного действия текста.
Комментарии нацелены на познание иного рода: непосредственной
ситуации текста (случай библейских текстов), более широкого
контекста акта и последствий акта (история восприятия).23 Это знание
о тексте служит целям толкования, только если оно позволяет нам
лучше понять, о чем текст. Хороший комментарий исключает
непонимание и обогащает наше восприятие происходящего в тексте:
«Успех любого толкования зависит от его умения объяснить, от
способности представить данные более полно, комплексно и
естественно, чем это делают другие толкования».24
Обосновательство или фидеизм?
Можем ли мы обосновать свою уверенность в том, что в тексте
есть некий определенный смысл, что текст — это нечто большее,
чем сам текст? Могут ли христиане обосновать свою веру в то, что
цель Библии — познание Бога? Большинство читателей не
нуждаются в обосновании веры в определенность смысла. Они
придерживаются здравого смысла, согласно которому тексты выражают
мысли авторов о мире, о человеческой природе.25 Наличие смысла
и то, каков это смысл, для читателей обычно является очевидным.
Однако, как мы видели, «упразднители» утверждают, что
«очевидный» смысл не открывается, а изобретается толкователем.
Упраздняется сама авторитетность здравого смысла. Здравый смысл — то
есть наши мысли, слова, переживания, есть функция окружающей
нас языковой системы. В свете постмодернистского недоверия к
герменевтике, вопрос о том, с фактами ли имеет дело толкователь,
оказывается животрепещущим. Находит ли толкователь что-либо
реальное, или все, от начала до конца, придумано?
23 См., напр., шеститомную серию издательства Paternoster/Eerdmans по книге Деяний в
первом веке, состоящую из отдельных исследований контекста античной литературы, контекста
Палестины, контекста диаспоры, греко-римского контекста, и контекста истории богословских
идей.
24 Gundry, Mark, 4.
25 Кэтрин Бэлси называет этот подход «экспрессивным реализмом»: «Это теория,
утверждающая, что литература отражает реальность опыта, который воспринят одним...
человеком, который и выражает его в дискурсе» {Critical Practice, 7). Она доказывает, что
экспрессивный реализм — продукт тех же сил, которые породили индустриальный капитализм
девятнадцатого века.
418
Глава шестая. Обретение текста
Основательность толкования
Задолго до деконструктивизма философы старались отделить
открытие от изобретения, знание — от простого мнения. Что
нужно добавить к убеждению или толкованию, чтобы обосновать его?
Мнение становится знанием, согласно общепринятому объяснению
времен модернизма, если для этого существует достаточно причин
или доказательств. Мы можем вспомнить высказывание
Клиффорда о том, что в любом случае нельзя верить чему-либо при
недостатке доказательств. Харви также считал, что «нравственность»
знания есть вопрос выполнения эпистемических обязанностей.
Бездоказательная вера не только иррациональна, но и безнравственна.
Для мыслителей-модернистов суждение является интеллектуально
порядочным, только если оно основано на достаточном
доказательстве или причинах, и это касается как литературных, так и
исторических толкований.
В общем и целом модернистская библейская критика была
попыткой ответить на вызов, брошенный Клиффордом. Для многих
библеистов достаточное доказательство было критически
реконструированным историческим доказательством. Так называемое
«введение» к библейской книге, стандартная особенность
модернистских комментариев, приводит исторические данные (в
особенности внебиблейские свидетельства из археологии или других
древних текстов), помогающие реконструировать историю составления
текста.26 Первой реакцией библейских критиков было, в
соответствии с утверждением лорда Эктона, «начало мудрости в истории —
сомнение», недоверие к внешним чертам текста и стремление,
проникая глубже, достигнуть исторической реальности.27 Книга Бытия
выглядит как единое произведение одного автора (Моисея),
однако «истинная» (т. е. исторически реконструированная) история ее
написания — вопрос иного плана. Задача критического
комментария — обеспечить достаточную основу из фактов о тексте,
которые потом можно использовать для формирования толковательных
суждений. Я считаю модернистскую библеистику хорошим
примером «обосновательской» эпистемологии.28
26 Более полное рассмотрение: см. F. Gerald Downing, "Historical-Critical Method," in Dictionary
of Biblical Interpretation, 284-85; Edgar Krentz, The Historical-Critical Method (Philadelphia:
Fortress, 1975); Morgan and Barton, Biblical Interpretation, chs. 2-4, 6.
27 Цит. по: Harvey, The Historian and the Believer, 111.
28 Обосновательство (foundationalism) — это теория о том, что знания основываются на
и- 419
Часть вторая. Восстановление толкования
Современный кризис идеи библейского толкования лучше
всего рассматривать в свете упразднения эпистемологических основ,
из которых традиционно исходили ученые-модернисты. Потому
что критическое восприятие не менее уязвимо для нападок
мыслителей-постмодернистов, чем предшествовавшее ему восприятие с
точки зрения здравого смысла. Если нейтральной, или
объективной, критики не существует, все ученые оказываются виновны
в искажении доказательств: автономия индивида — всего лишь
придуманная просветителями маскировка для установленной
идеологии.29 Очевидно, обосновательство не может пережить утрату
разделения фактов и ценностей. Будучи далеко не универсальной,
нравственность критического знания оказывается, подобно прочим
ценностям, делом личного предпочтения: «Методы экзегезы и их
теоретические обоснования — ни единогласны, ни естественны, ни
самоочевидны».30 Утверждение Фиша, что знание есть результат
наших норм толкования, которые, в конечном счете, проистекают
из наших убеждений и ценностей, можно равно применить и к
нормам критики Библии. Наши убеждения «не имеют возможных
обоснований помимо стандартов, контекстов и языковой игры, которые
оказались господствующими в данный момент».31 То, что некогда
воспринималось как универсальное обоснование для знания,
оказывается временной, преходящей политической платформой.
Фидеизм в толковании
После таких теоретических нападок на модернистские
традиции обоснования неудивительно, что некоторые оставили поиск
достаточно убедительного доказательства или причин. Многие
читатели Библии предпочитают более прямой подход: «Так говорит
мне Библия», как если бы проблемы толкования не существовало.
несомненных или весьма вероятных убеждениях, из которых можно вывести дальнейшие
убеждения. В модернистскую эпоху эти основания были или эмпирическими (напр.: восприятие)
или рациональными (логика, геометрия). Конечно, историческому критику интересны только
первые. Ниже я привожу критику обосновательской эпистемологии.
29 По мнению Филлипса, «критика Библии в наши дни... невозможно представить в отрыве
от организационных и идеологических интересов, которые... достаточно часто остаются
нераскрытыми, подавленными» ("Introduction," Semeia 51 [1990]: 2); ср. комментарий Мура о
том, что в наше время следует демифологизировать не текст, а наши методы экзегезы.
30 Phillips, "Exegesis As Critical Praxis," 11.
31 Christopher Norris, What's Wrong With Postmodernism? 95.
420
Глава шестая. Обретение текста
Здесь литературное знание, если это знание, оказывается делом
непосредственного восприятия. Н. Т. Райт полагает, что некоторые
группы по изучению Библии неосмотрительно восприняли
трактовки, имеющие опасное сходство с некоторыми релятивистскими
направлениями постмодернизма: «Благочестивый предшественник
деконструктивизма — прочтение текста, утверждающее: все то,
что Библия говорит мне сейчас, есть ее полный и окончательный
смысл... В мире литературной эпистемологии противоположности
иногда сходятся весьма странным образом».32
Однако даже профессиональные литературоведы возвращаются
к подходу, несколько напоминающему «веру, стремящуюся к
пониманию». Потому что, как признает Георг Штайнер, деконструкти-
визм невозможно опровергнуть в его собственном контексте. Это,
однако, не препятствует Штайнеру верить в смысл; напротив, он
полагается на его значимость. А Хирш прямо обращается к призыву
Паскаля: «Давайте взвесим практические потери и приобретения в
случае, если мы поставили на орла, то есть на объективное
существование исторической истины... Выиграв, вы получаете награду;
проиграв, ничего не теряете. Итак, без колебаний ставьте на
существование объективной истины».33 Является ли это формой
толковательного легковерия, фидеизма, перенесенного в герменевтику?
Действительно ли нам не остается ничего лучшего, чем делать
ставки? Я считаю, что мы кое-что можем. Потому что упование веры не
противостоит рациональности, по крайней мере, той
рациональности, которая не является ни картезианской, ни обосновательской.
К счастью, мы не ограничены в выборе этими двумя вариантами:
поиском однозначных обоснований, с одной стороны, и погружением
в фидеизм — с другой.
Новая реформатская эпистемология
Элвин Плантинга и Николас Уолтерсторф — передовые
представители движения, подходящего к традиционным философским
32 Wright. The New Testament and the People of God, 60.
33 Hirsch, "The Politics of Theories of Interpretation," 243. Кэтлин Бун возражает против этой
аналогии на том основании, что упование Хирша, в отличие от Паскаля, не подлежит проверке —
«Если только Хирш не постулирует некое историко-критическое посмертие, которое мне
неизвестно» (The Bible Tells Them So: The Discourse of Protestant Fundamentalism [Albany: SUNY
Press, 19891,68]). А если мы не можем удостовериться в объективном смысле, неопределенность
остается в сердце нашей теории литературы, как туман, упрямо не желающий рассеиваться.
421
Часть вторая. Восстановление толкования
вопросам с конкретно христианской точки зрения.34 Каким образом
христианская философия (и богословие) может повлиять на
литературную эпистемологию? Плантинга доказывает, что с
христианской точки зрения разум был создан для формирования истинных
убеждений. Я хочу применить это понятие к герменевтике, чтобы
доказать, что вера в определенный смысл текста (а именно
коммуникативного действия) далеко не аморальна, а напротив, «верна
и основательна». Как только мы сможем установить это важное
убеждение, касающееся текста, мы сможем далее рассматривать
основные убеждения, касающиеся того, о чем текст.
Является ли толкование собственно фундаментальным?
Плантинга выделяет три конкурирующие мировоззрения,
«соперничающие за духовное господство на Западе»: неувядающий
натурализм, творческий антиреализм и христианство.35
Натурализм рассматривает человеческое бытие на том же уровне, что и
реальность, существующую вне человеческого общества; он
склонен к эволюционным и общественно-биологическим объяснениям
всего человеческого опыта, от любви до лингвистики. Однако, за
исключением нескольких теоретиков языка, это мировоззрение не
привлекло многих теоретиков литературы, и мы не будем
обсуждать его далее, ограничившись наблюдением Штайнера о том, что
осмысленный язык, в конечном счете, дается Богом.36 Второе
мировоззрение, отрицание творческого реализма, имеет куда
большее отношение к нашей теме, утверждая, что, в конечном итоге, за
создание структуры как «естественного», так и культурного мира
отвечают люди. Противники творческого реализма приписывают
роль упорядочения реальности человеческому, а не
божественному разуму. Человек не может сказать: «Да будет свет», но он может
придать миру форму, и делает это, давая миру разнообразные
имена. В литературоведении и «упразднители», и «пользователи»
являются противниками творческого реализма. Нет такого понятия,
34 Введение в этот подход, см.: Kelly Clark, Return to Reason (Grand Rapids: Eerdmans, 1990).
35 Plantinga, "Augustinian Christian Philosophy." 296.
36 Выдающимся представителем натурализма в философии является Уиллард Куин, который
часто применял свою теорию к вопросам языка, особенно — в Word and Object (Cambridge.
Mass.: Harvard Univ. Press, 1960) и Pursuit of Truth (Cambridge. Mass.: Harvard Univ. Press, 1990).
См. также Steven Pinker, The Language Instinct: How the Mind Creates Language.
422
Глава шестая. Обретение текста
как «единственно правильный» смысл текста; есть только разные
толкования. «Так отрицание реализма порождает релятивизм и
нигилизм».37 Ни натуралисты, ни противники реализма не способны
верить в замысел автора: задуманное им значение, с одной стороны,
сводится к физическим явлениям, а с другой — рассматривается
как результат творческой проекции толкователя на что-либо иное.
Каким образом христианский теизм может быть соотнесен с
темой литературного знания? Объяснение Плантингой того, что
превращает веру в знание, представляет собой важную альтернативу
таким вариантам, как обосновательство и фидеизм, натурализм и
отрицание творческого реализма. Точно так же, как язык создан,
чтобы служить средством общения в завете, так и человеческий
разум создан Богом с определенной целью: «Предназначение
сердца — перекачивать кровь; предназначение же наших когнитивных
способностей (в целом) — снабжать нас надежной информацией».38
Человек обладает несколькими механизмами для создания
убеждений: восприятие, память, интуиция. Они рассчитаны на создание
истинных убеждений, если функционируют должным образом в
когнитивно чистом окружении. Продолжая мысль Плантинги, я
утверждаю, что, при условии должного функционирования разума
в надлежащем языковом и литературном окружении, он
предназначен для толкования. То есть, сталкиваясь с человеческим
поведением или с письменным текстом, нам не приходится доказывать
их намерений: мы можем принять это как данность. Толкование,
то есть приписывание дискурсу преднамеренного смысла —
действие собственно фундаментальное.
Вера в сознание иного и в разум автора
Философы давно пытаются решить проблему доказательства
существования иных сознаний. Эта проблема связана и с
литературоведением, и именно здесь — в споре о разуме авторов —
можно лучше всего увидеть превосходство новой реформатской
эпистемологии.
37 Plantinga, "Augustinian Christian Philosophy," 303. «Нет такого понятия, как «реальное
положение вещей в мире»; существует лишь множество разных версий» (там же).
38 Alvin Plantinga, Warrant and Proper Function, 14.
423
Часть вторая. Восстановление толкования
Следуя Томасу Риду, Плантинга доказывает, что некоторые
убеждения формируются на основании не доказательств, а
«интуиции», того, что Рид именует «здравым смыслом».39 Здравый смысл
по Риду сводится к следующему: у нас нет практической
альтернативы уверенности в том, что наши когнитивные способности (напр,
восприятие, память) в основном надежны.40 Нам не приходится
доказывать реальность окружающего мира; концепция мира
появляется у нас в результате восприятия. Следовательно, вера в
окружающий мир — убеждение «фундаментальное», не зависящее от
каких-либо предшествующих убеждений. Убеждения «собственно»
фундаментальны, если наши способности, предназначенные для их
формирования, действуют должным образом в надлежащем
когнитивном окружении. Отвечая на вопрос о том, что я ел на обед, я не
нуждаюсь в зондировании желудка; моя память находит в сознании
готовое убеждение, и я отвечаю: «Копченую говядину и ржаные
хлопья». Суть в том, что нам не нужны обосновательские
доказательства наших фундаментальных убеждений.
В отношении текста вопрос приобретает следующий вид:
«Является ли вера в преднамеренный смысл собственно
фундаментальной?» С одной стороны, вера в текстовый смысл не похожа,
на первый взгляд, на убеждения, которые формируются
благодаря самопознанию, памяти или восприятию. Однако между верой в
преднамеренный смысл и верой в существование иных сознаний,
кроме нашего собственного, существует интересная параллель.
В самом деле, именно в том разделе Плантинга, пусть вкратце,
касается вопроса смысла.41 Когда наши познавательные способности
работают должным образом, нам не приходится искать
доказательство того, что наши ближние также наделены сознанием. Подобно
этому, нам нет нужды доказывать наличие смысла (напр.:
преднамеренного действия другого человека) в тексте. Читая книгу,
39 Полезное введение: см. Keith Lehrer, Thomas Reid (New York: Routledge, 1989). Рид был
шотландским мыслителем восемнадцатого века, который стремился опровергнуть скептицизм
своего соотечественника Дэвида Юма.
40 Лерер комментирует: «Один из основных принципов нашей природы — в том, что мы
доверяем нашим способностям» (Thomas Reid, 18).
41 См. Plantinga, Warrant, 75n.l6 and 135n.l8. Плантинга доказывает, что в нормальных
условиях мы без труда определяем, что имеет в виду человек, когда он, указывая на кролика,
говорит: «кролик», смысл оказывается неопределенным только тогда, когда (а) когнитивные
способности человека не функционируют должным образом или (б) когнитивное окружение
оказывается загрязненным.
424
Глава шестая. Обретение текста
мы просто делаем те или иные выводы об авторе. Уверенность в
том, что там что-то есть — «в» теле, «в» книге — не нуждается в
доказательствах; это — убеждение собственно фундаментальное.42
В отношении человеческого действия, мы очевидно вменяем ему
преднамеренный характер; в случае с текстами, мы вменяем им
коммуникативное намерение. С христианской точки зрения можно
сказать, что Бог сотворил нас с языковыми способностями,
чтобы мы могли понимать друг друга и общаться друг с другом (и
с ним). Таково предназначение homo interpretans.
Поиск доказательства существования иных сознаний не
является проблемой литературоведения, да и не должен ею быть. Я
утверждаю, что экзегеты просто обнаруживают в себе веру в разум
(и преднамеренное действие автора) в результате чтения текста.
Комментарий — к Библии или другой книге — исходит из
«уверенности в возможности осмысленного диалога».43 Кальвин также
считал, что первым шагом к пониманию является вера.44
Современное нежелание верить в авторов или говорить об их интенциях —
признак сбоя в толковании или заблуждения в эпистемологии.
Важно, чтобы рассуждения о сознаниях или разумах других
людей не воспринимались как указание на дуализм разума и тела (или
разума и текста). Дуалист воспринимает внешнее поведение (или
текстовые денные) как доказательства, на основании которых
делаются выводы о внутреннем состоянии деятеля (или автора). Но
мы осмысливаем действия других людей (или тексты) иначе.
Вместо того чтобы делать выводы об интенции на основании поведения,
мы просто толкуем телодвижения (или текстовые данные) как
элементарные действия. То есть, если наши когнитивные
способности функционируют надлежащим образом в соответствующем
когнитивном окружении, мы не делаем выводов из телодвижений или
текстовых знаков о том, чем кто-то занят, мы просто понимаем, что
человек, скажем, наливает чашку чая или рассказывает историю.
42 Плантинга признает, что в этом случае возможно (хотя и крайне маловероятно), что я
оказываюсь жертвой беса, вводящего меня в заблуждение. Из этого не обязательно следует,
что мои убеждения безосновательны, — лишь то, что я не смогу иметь «уверенность, которой
искал Декарт» (Warrant, 76). Однако Плантинга говорит именно о том, что знание не требует
картезианской уверенности.
43 Gundry М?г*. 17.
44 Комментарий Кальвина к 2 Пет. 1, 20, в Joseph Haroutunan, ed., Calvin: Commentaries, The
Library of Christian Classics (Philadelphia: Westminster, 1958), 89.
425
Часть вторая. Восстановление толкования
Подобным образом нам не приходится на основании черных меток
на бумаге делать вывод о существовании текста, мы просто читаем
рассказы, истории, Евангелия. «Нам следует скорее утверждать,
что мы начинаем с людей и их действий: что именно их мы можем
непосредственно наблюдать и познавать; что они не сводятся
философским анализом к таким якобы простым или более элементарным
составляющим, как тела и их бесцветные движения».45 Короче
говоря, мы воспринимаем не телодвижения, из которых впоследствии
сделали бы вывод о намерении; мы воспринимаем преднамеренные
действия. Подобным образом, мы не читаем слово за словом, чтобы
вывести определенную закономерность; мы воспринимаем поэзию.
При надлежащем функционировании наших толковательных
способностей, в чистой толковательной среде мы просто воспринимаем
целенаправленные коммуникативные действия. Моя уверенность в
том, что «в этом тексте есть смысл» — это собственно
фундаментальное убеждение.
Свидетельство
Доверие к словам других — основа самой идеи серьезной
когнитивной деятельности.46
Одним из важнейших источников фундаментальных
убеждений, согласно Риду, является свидетельство. «Мудрый автор
природы дал человеческому разуму склонность полагаться на
свидетельство людей до того, как мы находим для этого причины».47 Или,
как формулирует это Плантинга, то, какими мы созданы,
побуждает нас верить тому, что нам говорят другие. Это другое изложение
«принципа доверия» Рида, «процесс формирования убеждений,
благодаря которому мы в большинстве случаев верим тому, что
нам говорят другие».48 Интеллектуальные способности человека
были предназначены, чтобы формировать истинные убеждения
на основании того, что нам сказано. Доверие,
предрасположенность верить другим есть «дар природы». Это необходимое условие
45 Duff, Intention, Agency, and Criminal Liability, 129-30.
46 C. A. J. Coady, Testimony: A Philosophical Study (Oxford: Clarendon, 1992), vii.
47 "Essay on the Intellectual Powers of Man," в Thomas Reid's Inquiry and Essays, ed. R. Beanblossom
and K. Lehrer (Indianapolis: Hackett. 1983), 281.
48 Plantinga, Warrant, 33.
426
Глава шестая. Обретение текста
сосуществования и общения субъектов,49 жизненно важное
основание в литературной эпистемологии, потому что, в основном,
именно благодаря доверию мы узнаем, о чем говорится в тексте.
Принцип доверия: вера в слова других
Доверие — не то же самое, что наивность, как, похоже, думал
Джон Локк и другие модернистские критики.50 Локк определяет
веру как согласие с суждениями, данное не на основании
достаточных причин или доказательств, а лишь на основании доверия к
говорящему, что для Локка вообще не является основанием.
Модернистские критики Библии, в общем и целом, склонны согласиться с
ним.51 С точки зрения Дэнниса Нинехэма, библеист должен
придерживаться герменевтики подозрительности: «Сама его порядочность
и независимость как историка не позволяют ему воспринимать его
«источники» безусловно».52 Это касается как вопроса авторства, так
и вопроса истины. Как мы видели из предыдущих глав,
герменевтику подозрительности доводят до крайности деконструктивисты,
отрицая само существование определимого смысла. Очевидно,
тексты, лишенные определенного смысла, не могут быть источниками
знания; они не могут свидетельствовать, сообщать, исповедовать.
Рид сравнивает приверженность принципу недоверия
(герменевтике систематической подозрительности) с нарушением нашей
естественной природы. Если бы наш разум не был склонен верить
тому, что нам говорят, мы почти никогда и ничего не принимали
бы, потому что немногие убеждения могут быть обоснованы
достаточно убедительными доказательствами. Такой строгий
аскетический критерий, к тому же, обеднил бы нашу эпистемологию,
потому что мы лишились бы основного источника литературного
знания: свидетельства. Философ К. А. Дж. Коуди недавно заявил,
49 Доверие лучше всего действует, если люди говорят правду. Более того, дарованные нам Богом
познавательные способности предполагают взаимодействие всего человеческого сообщества.
50 Доверие включает в себя и другие факторы, кроме наивности. «Мы можем просто признать,
что стандартные знаки-предостережения от обмана, заблуждения или ошибки отсутствуют»
(Coady, Testimony, 47).
51 Более полное объяснение этой точки зрения и последующего спора: См. мою "The
Hermeneutics of I-Witness Testimony," 366-87.
52 Dennis Nineham, "Eye-Witness Testimony and the Gospel Tradition. HI" Journal of Theological
Studies 11 (1960): 258.
427
Часть вторая. Восстановление толкования
что свидетельство не менее надежный источник знаний, чем память
и восприятие.53 Ограничив круг доверия лишь тем, что мы сами
видим, мы отвергли бы большую часть того, что знаем: «Именно
свидетельство и получение сведений от других делает возможными
интеллектуальные достижения и культуру; свидетельство — основа
самой цивилизации».54 Свидетельство — собственно
фундаментальная форма знания. Однако для Нинехэма и других критиков Библии
единственное достойное доверия свидетельство — их собственное.
Коуди проницательно заметил, что тенденция отдавать
предпочтение восприятию, а не свидетельству, на самом деле есть
«стремление к превосходству моего личного восприятия».55 Это именно
то, что делают толкователи, создающие смысл текста, вместо того
чтобы открывать его; они предпочитают собственные наблюдения
свидетельству других.
Свидетельства и заветы
Подобно обещанию, свидетельство устанавливает связь между
тем, что сказано человеком и реальным порядком вещей. На самом
деле, часто свидетельство оказывается единственным путем к
пониманию того, о чем говорит текст. Свидетельство — иллокуционный
акт, благодаря которому слова свидетеля становятся
доказательством истинности сказанного.56 Рассказы других людей об
окружающем мире не менее реальны, чем наши собственные наблюдения.
Часто свидетельство невозможно проверить, выйдя за пределы
написанного. Коуди говорит, что сообщение — «вероятно, самая
распространенная форма утверждения».57 Утверждение человека
53 С. A. J. Coady. Testimony.
54 Plantinga, Warrant, 77. Конечно, мы учимся ограничивать нашу склонность верить — на
основании опыта или нашего суждения о том, что когнитивное окружение загрязнено (напр.:
мы учимся не доверять предвыборным обещаниям политиков). Плантинга допускает, что само
по себе свидетельство — не лучшее основание для убеждений. Если данное утверждение не
подкреплено никакими доказательствами, кроме свидетельств, то у сообщества верующих
могут возникнуть проблемы: «Цепочка свидетельств настолько же прочна, насколько прочно ее
самое слабое звено» (Warrant. 84).
55 Coady, Testimony. 148.
56 Полный анализ свидетельства как иллокуционного акта, см: Coady, Testimony, ch. 2.
57 Coady, Testimony, 154. Важно помнить, что как история, так и художественная литература
могут быть формами свидетельства: первая — о том, что случилось, о мире, каким он был;
вторая — о видении мира, каким он мог бы или должен был бы быть.
428
Глава шестая. Обретение текста
о том, «что Р» при нормальных условиях имеет достаточно причин
для того, чтобы ему поверить. Следовательно, свидетельство —
надежный и необходимый источник знаний.
Достаточно плотное описание Евангелий будет рассматривать
их как свидетельства о чем-то ином, чем они сами. В свете
сказанного реконструкция, выполненная историческим критиком,
выглядит заметно тонкой; попытка выйти за пределы свидетельства
ведет не к приобретению, а к потере литературного знания. Это
происходит потому, что знание, приобретаемое нами через
свидетельства, — не опосредованное, а основное. В случае с Евангелиями,
тексты — единственный доступ к описываемым событиям, который
у нас есть. Очевидно, что скептический критик находится в менее
выгодном положении, чем верующий, когда дело доходит до
восприятия содержания Евангелий: «Попытка выйти за пределы этих
свидетельств дает нам возможность сказать не больше, а меньше,
чем говорят они сами».58
Библейские критики слишком долго стремились понять
библейский текст, пренебрегая его явным свидетельством и вместо этого
пытаясь устроить перекрестный допрос внетекстовых свидетелей
(напр.: других древних литературных источников, археологических
свидетельств и пр.). Это, как я уже показывал, ведет нас лишь к
тонкому описанию. Потому что недоверие читателя к
свидетельству лишает его важнейшего средства познания того, о чем говорит
Библия. Один из основных результатов возрождения свидетельства
состоит в том, что толкователи Библии вновь могут рассматривать
текст и то, о чем он говорит, а не то, что якобы за ним стоит. При
толковании свидетельства доверие куда более плодотворно, чем
подозрительность. Наши способности к толкованию предназначены
для того, чтобы воспринимать слова других людей с верой, если нет
убедительных причин для обратного.
Плантинга делает удивительное заявление о том, что
большинство наших убеждений «таково, что сама возможность
формирования их зависит от свидетельства. Потому что, если бы не было
свидетельства как источника веры, скорее всего, не существовало бы
и языка, кроме самых рудиментарных его форм».59 Из этого
предположения следует, что многие наши убеждения зависят от сложных
58 Francis Fiorenza, Foundational Theology: Jesus and the Church (New York: Crossroad, 1986), 41.
59 Plantiga, Warrant, 78.
429
Часть вторая. Восстановление толкования
языковых форм, например, литературных текстов. Именно это я и
хочу доказать в отношении Евангелий, а также всего Ветхого и
Нового Завета. Библия есть коллективное свидетельство иудейского
и христианского сообщества о Божьем откровении в истории и в
Иисусе Христе. Библия, воспринятая в целом как божественный
коммуникативный акт, есть Божье свидетельство о самом себе.
Однако содержание Библии раскрывается при восприятии ее не как
материала для исторической реконструкции, а как свидетельства.
Только читая Библию как свидетельство и предлагая плотное
описание свидетельства как коммуникативного акта, можно обрести
как знание о тексте, так и познание того, о чем этот текст: Божьего
примирения с людьми в Иисусе Христе.
В этом разделе мы пришли к нескольким важным выводам,
которые приближают нас к полноценной литературной эпистемологии.
Самое важное: мы увидели, что литературное знание может быть
двояким — знание о тексте (напр.: вид коммуникативного действия
в тексте) и знание, о чем этот текст. Затем, мы увидели важность
плотного описания текста для формирования правильного взгляда
на него (напр.: как на коммуникативное действие). Лучшее
знание о тексте то, которое имеет отношение к процессу толкования,
т. е. знание того, что делал автор. Я доказывал, что толкование
есть собственно фундаментальная познавательная деятельность,
потому что придание намеренного смысла письменным текстам —
действие вполне естественное и уместное. Потом мы обратились к
свидетельству, как к связующему звену между тем, что делают
библейские авторы (свидетельствуют) и содержанием текста (завет).
Наконец, я высказал утверждение о том, что библейские тексты,
как свидетельства, являются приемлемым источником
литературного знания и, в конечном счете, знания о Боге. Моей целью было
показать высокообразованным господам, пренебрегающим
литературным познанием, что доверие к авторам и их словам не
нуждается в дальнейшем обосновании. Является ли «конфликт» последним
словом, сказанным о толковании?
430
Глава шестая. Обретение текста
КОНФЛИКТ ТОЛКОВАНИЙ: ПРОБЛЕМА
ЛИТЕРАТУРНОГО ЗНАНИЯ
Толковать — значит претендовать на что-то.
Претендовать — значит быть готовым защищать свое утверждение
от возможных возражений.60
Если, как я доказывал, по замыслу нашего создания мы склонны
приписывать текстам намеренный смысл, чтобы понять их, почему
тогда в мире так много непонимания? Точнее, почему у
толкователей возникают разногласия обо всем, что они читают, от
простейшей детской сказки до Послания к Галатам?61 Является ли тому
причиной некий дефект в тексте (напр.: неопределенность), или
какой-то недостаток в толковании (напр.: предвзятость), или то и
другое? В данной главе о рациональности текста как литературного
акта рассматривается только первая часть этого вопроса. Есть ли
какие-либо свидетельства в отношении литературного знания, что
история толкования Библии — путь прогресса, а не вырождения?
В условиях обширного и многолетнего конфликта уместно ли
вообще использовать термин «познание», говоря о толковании?
Является ли «конфликт» последним, что можно сказать?
Изложение проблемы: можно ли определить
определенный смысл?
Толкования читателей явно разнятся. В чем же именно
заключается природа разногласий в толковании? Если я утверждаю:
«Матфей изобразил Иисуса Христа как Мессию, обещанного в Ветхом
Завете», — какого рода утверждение я делаю? Как его обосновать?
Действительно ли споры о толковании сводятся к конфликту
претензий на знание, и если да, о знании чего? Свойств текста? Цели
автора? Читательского опыта? Возможно, существует много разных
типов толкований, в зависимости от того, что считать целью
толкования. Однако в конечном счете надо уметь отличать описательные
толкования от оценочных. Первые описывают объект (напр.:
авторы, тексты), вторые же — утверждают нечто об их ценности или
60 David Tracy, Blessed Rage for Order, 25.
61 Недавняя академическая конференция приписала около тридцати смыслов сказке о
«Красной Шапочке».
431
Часть вторая. Восстановление толкования
значимости. Строго говоря, только описания могут претендовать на
знание и, следовательно, обладать истинностью или ложностью.
Согласно данному объяснению, претензия на литературное
знание есть утверждение о том, чем является некий текст и о чем
он. Мы хотим знать, как правильно описать коммуникативное
действие. Поэтому первичная цель толкования — определить
«что», «почему» и «из чего» происходит в данном тексте,
рассматриваемом как коммуникативное действие. Вопросы «кто»,
«когда» и «где» — второстепенны, хотя и они могут пролить свет на
первичные вопросы. Суть сейчас в том, насколько возможно с
помощью достаточной осведомленности погасить конфликт и найти
верные ответы на эти вопросы.
Является ли толкование Библии формой рационального
исследования? Этот вопрос становится определенно важным в
постмодернистском окружении. Возможно ли распознать и отвергнуть
ложные толкования (ложное знание), или же смысл относителен
и определяется сообществом толкователей? Какова альтернатива,
с одной стороны, познавательной анархии (когда каждый трактует
текст, как ему нравится), и, с другой, — познавательному
тоталитаризму (где убеждения человека диктуются существующей властью,
то есть структурами государства или церкви)? Уверенность в том,
что в библейском тексте действительно есть смысл, была бы для нас
малоутешительна, если бы мы не могли, хотя бы приблизительно,
сказать, что это за смысл. Конечно, часть проблемы разрешения
конфликтов в толковании состоит в том, что разные толкователи
исходят из разных определений смысла. Нельзя ответить на вопрос
о возможности «определения определенного смысла», не установив
прежде, занимаются ли читатели одним и тем же. Я уже изложил
свои доводы в пользу определения смысла в контексте
коммуникативной деятельности. Но и при этом толкователи могут
соглашаться с таким определением и одновременно не понимать друг друга,
потому что и сама коммуникативная деятельность может быть
описана по-разному. Однако, в конечном счете, конфликт толкований
вызван скорее сложностью коммуникативной деятельности, чем
неопределенностью, присущей языку и текстуальности.
Следовательно, деконструктивное отчаяние по поводу возможности
правильного толкования не обязательно должно стать последним
словом в этом вопросе.
432
Глава шестая. Обретение текста
Выбор сторон в конфликте: между догматизмом и
скептицизмом
Есть несколько взглядов на разногласия в толковании как
явление. И в литературоведении, и в религиоведении ключевым вопросом
является наше познание трансцендентного: в случае с религией —
до какой степени человек может определить смысл того, что
превосходит мир; в случае с герменевтикой — того, что превосходит
лингвистические обозначения?
Герменевтический эксклюзивизм:
от А(теизма) до Я(рых зилотов)
Один из распространенных приемов поведения в конфликте
толкований — считать верным свое и неверным чужое. Самые
рьяные сторонники определенности смысла не только утверждают, что
существует единственно правильное толкование, но и претендуют
на обладание им. Толкование, таким образом, становится формой
абсолютного знания, с «правильными» и «неправильными»
ответами. Однако именно эта претензия на абсолютность знания
вызывает скептический отклик у «упразднителей».
Когнитивные зилоты: определенность литературного
знания. Итак, одна из крайностей этого спектра — «когнитивные
зилоты», принимающие лишь один правильный смысл, доступный
толкователям. Они убеждены в возможности ясного и точного
литературного знания, добытого усердным трудом. Этот усердный
труд подразумевает прилежное наблюдение и тщательный анализ
доказательств. Эпистемология, на которой зиждется такой подход
к текстам, без сомнения, является одной из разновидностей
крайнего консерватизма, хотя ни термин этот, ни, очевидно, полностью
оформленная позиция не упоминаются в контексте
литературоведения часто. Кермоуд указывает на то, что, вероятно, является
самым очевидным возражением: «Осталось, однако, дождаться
литературного произведения, обладающего единственно правильным
толкованием».62
Цит. по: Juhl, Interpretation, 209.
433
Часть вторая. Восстановление толкования
Когнитивные атеисты: отсутствие литературного знания.
Противоположная крайность — радикальные скептики,
исключающие возможность того, что любое единственное толкование может
быть правильным. Скептику не приходится отвергать все
доказательства; ему нужно лишь настоять на том, что ни одно из них не
указывает на превосходство какого-либо толкования над
остальными. Как мы уже видели, Деррида выводит «условия
невозможности» литературного познания, утверждая, что сам текст лишает
определенности и подрывает всякое толкование. Я доказывал, что
деконструкция упраздняет претензию на абсолютно надежные
основания познания. Однако упразднение обосновательской
уверенности — еще не то же самое, что упразднение всего литературного
знания.
Верующие критики: возможность литературного
познания. Другие — сюда мы включаем Хирша и Джула — являются
более умеренными эксклюзивистами. Они согласны с
утверждением Кермоуда, что догматизм в толковании недопустим. Продолжая
верить в существование единственно правильного толкования, они
признают, что трудно понять, известно ли оно нам. Джул
утверждает, что «теория толкования должна объяснять факт разграничения
понятий возможного и правильного толкований, даже если не
достигнуто согласие по поводу того, какое толкование — правильное».63
Итак, в теории они — непоколебимые эксклюзивисты; на практике
же их аргументы ограничены различными условиями.
Герменевтический инклюзивизм
Другое мнение, все более популярное — допустить
возможность нескольких правильных толкований. Это вытекает из
признания текста как потенциального источника смысла, который
по-разному реализуется читателями. В тексте есть как ограничения, так и
возможности, предоставляемые читателю. Следовательно,
существует (ограниченное) множество правильных толкований. Поль
Рикёр сравнивает текст с ограниченным пространством
возможных смыслов: «Текст есть пространство переменных, обладающее
собственными ограничениями; и для того, чтобы выбрать другое
63 Там же, 213.
434
Глава шестая. Обретение текста
толкование, всегда нужны более веские причины».64 Интересно,
что герменевтический эксклюзивизм ориентирован на автора, в то
время как инклюзивизм текстоцентричен. Как нам еще предстоит
убедиться, герменевтические плюралисты видят и авторов, и
тексты как результат различных стратегий чтения.
Герменевтический плюрализм
В то время как эксклюзивист верит в единственность истинного
толкования, а инклюзивист — в возможность нескольких
правильных толкований, плюралист считает, что многие, или даже все
толкования обладают одинаковой ценностью. Текстовый смысл
неопределим, рассуждения о литературном «знании» лишь уловка,
скрывающая власть системы. Поэтому то, что обозначает текст, зависит
от местоположения и личности читателя. Мы не способны познать
текст как он есть, только схему толкования, с которой мы
приступаем к нему (напр.: патриархат, диспенсационализм, феминизм и пр.)
Итак, вместо описания смысла, присущего тексту, имеет место
переход к «описанию общественных интересов и установлений или
'сил1, которые распоряжаются дискурсивными формациями,
определяющими знание».65 Согласно Фуко, все слова о знании служат
лишь для того, чтобы сбить с толку аудиторию. Индивидуальность,
вместе с личным мнением и претензиями на знание, на самом
деле — просто функция власти системы. Мы видим лишь то, что
нас приучили видеть.
Конфликт, консенсус, сообщество: как объяснить
разницу в толкованиях
Для каждого из перечисленных выше подходов характерны свои
способы объяснения разногласий среди толкователей. «Тот, кто
верит в определенность смысла, может видеть в разногласии только
богословскую ошибку».66 С точки зрения герменевтического экс-
клюзивиста, те, кто не согласен с его толкованием, либо не знакомы
с доказательствами, либо осознано нарушают правила толкования.
64 Ricoeur, "World of the Text, World of the Reader," 496.
65 Livingstone, Literary Knowledge, 150.
66 Fish, Is There a Text? 338.
435
Часть вторая. Восстановление толкования
Так или иначе, они «не попадают в цель», совершая таким образом
грех толкователя. Однако не все эксклюзивисты столь догматичны.
Джул рассматривает разногласия в толковании как неизбежные
потому, что факты, касающиеся авторского замысла, часто
неубедительны: «Поэтому, когда доказательств недостаточно, зачастую
легко удается убедить себя в том, что автор в определенном месте
«вероятнее всего» имел в виду именно то, что согласуется с
нашими убеждениями».67 Но в то же время Джул и Хирш отмечают, что
многое из того, что считается разногласием в толковании, на самом
деле оказывается разногласием по поводу значимости
произведения, а не его смысла.
Авторитетность сообществ толкователей
Фиш по-другому объясняет конфликт толкований. В
произведении «Что делает толкование приемлемым?» он утверждает, что
разногласия невозможно разрешить путем еще более тщательного
изучения фактов, «поскольку сами факты возникают только в
контексте некоей точки зрения».68 Невозможно обращаться к тексту
для разрешения разногласий в толковании, потому что сам текст
является продуктом толкования. Иначе говоря, мы никогда не читаем
текст таким, каков он есть, а только таким, как его толкуют нормы
и процедуры сообщества толкователей. В рамках сообщества,
следующего одним и тем же толковательным принципам, мы находим
не релятивизм, а согласие. В самом деле, для Фиша литературное
познание — это просто другое название согласия в толковании. Мы
можем исключить эколого-эскимосско-феминистическое прочтение
Послания к Ефесянам не потому, что текст этого не позволяет, а
потому, что «в настоящее время не существует толковательной
стратегии, позволяющей его произвести».69 Итак, хотя приемы
исключения некоторых искусственных прочтений и существуют (никто
не хочет быть наивным релятивистом), «источник этих приемов —
не текст, а признанные на данный момент стратегии толкования, то
есть создания текста».70
67 Juhl, Interpretation, 233.
68 Fish, Is There a Text? 338.
69 Там же, 346. В исходном примере Фиша упоминается эскимосское прочтение «Розы для
Эмили» Фолкнера.
70 Там же, 347.
436
Глава шестая. Обретение текста
Фиш рассматривает литературное знание как вопрос
консенсуса в сообществе. «Правильное» толкование — то, на которое мы
имеем право в свете процедур толкования и обычаев, принятых в
нашем сообществе. Разные толкования одного и того же текста
существуют потому, что их производят разные толковательные
сообщества. Это не наивный, а изощренный релятивизм —
релятивизм культурный. С этой точки зрения, стандарты толкования
существуют, однако они не универсальны и не определяются
текстом. Но вера герменевтического реалиста в наличие у текста
определенного смысла — для Фиша лишь иллюзия. С точки зрения
неопрагматизма, толковательное согласие между консервативным
эксклюзивизмом и либеральным инклюзивизмом — всего лишь
вопрос политики консенсуса, то есть задача не интеллектуальная,
а политическая.
Кэтлин С. Бун проверяет гипотезу Фиша, изучая способы
толкования Библии протестантскими фундаменталистами. Здесь
«фундаменталисты» — название определенного толковательного
сообщества, объединенного богословскими и, по сути, идеологическими
убеждениями, определяющими прочтение ими Библии. Считая, что
они читают текст, весь текст и ничего кроме текста, они на самом
деле «пишут» или толкуют его. Доктрины фундаменталистов, как,
например, непогрешимость и сотворение, порождают «множество
отфильтрованных толкований», которые пытаются, подчас
отчаянно, обеспечить прочтение, соответствующее определенному
набору убеждений. Например, библеисты-фундаменталисты
реконструируют разночтения в Евангелиях путем гармонизации, что иногда
приводит к странным результатам (петух прокричал шесть раз).71
Бун задает интересный вопрос: могут ли фундаменталисты
одновременно «контролировать» толкование и утверждать, что «ничто,
кроме текста, не обладает авторитетностью»?72 По ее мнению,
фундаменталисты сталкиваются со следующей дилеммой: им
приходится или подтверждать легитимность толкований всякого
приверженца доктрины о непогрешимости, или использовать некую форму
политической власти. «Фундаменталисты попадают в ту самую
западню, которой пытаются избежать. Им приходится использовать
71 Boone, The Bible Tells Them So, 64. Джеймс Барр критиковал фундаменталистов по тем же
причинам (см. его Fundamentalism, 55-72, о гармонизации).
72 Boone, The Bible Tells Them So, 73.
437
Часть вторая. Восстановление толкования
некую форму политической власти, если они не хотят
подтверждать авторитетность толкований любого читателя, следующего
учению о непогрешимости».73 По сути, говорит Бун, у
фундаменталистов, как и у всех остальных, существуют традиции и
установления, формирующие результаты их толковательной деятельности.
В этом заключена неприятная ирония, поскольку фундаментализм
основывает свои убеждения на высшей авторитетности Библии по
сравнению, например, с римско-католической позицией
толковательного предания. Однако именно это различие между Писанием
и преданием, текстом и толкованием отвергают Бун и Фиш.
Стэнли Хауэрвас согласен с Фишем в том, что толкование
Библии вопрос скорее политический, чем филологический. Для Хау-
эрваса ключевой вопрос в том, читается ли Библия в рамках
сообщества верующих. Библию должны толковать лишь те, «кто
прошел нелегкую дисциплину жизни как часть народа Божьего».74
По его словам, и фундаменталисты, и критики Библии «связывают
Церковь» с процессом толкования Библии.75 Хауэрвас также
отвергает различие между текстом и толкованием (а с ним и реализм в
толковании), потому что они подразумевали бы, «что текст
Писания обладает смыслом независимо от Церкви, придающей ему этот
смысл».76 Однако, нам предстоит убедиться, что различие между
текстом и толкованием жизненно важно, если мы хотим сохранить
герменевтический реализм и рациональность и, тем самым,
возможность считать некоторые прочтения ложными.
Богословские объяснения конфликта толкований
Фиш вскользь упоминает предположение о том, что множество
ложных толкований можно объяснить, обращаясь к учению о
первородном грехе. Как же богословы на самом деле объясняют
множественность толкований Библии? Проблема эта далеко не нова.
Дуглас Якобсен прав, называя множественность толкований
«преимущественно протестантской герменевтической проблемой».77
73 Там же, 72.
74 Hauerwas, Unleashing the Scripture, 9.
75 Там же, 26.
76 Там же, 27.
77 Douglas Jacobsen, "The Calvinist-Arminian Dialectic in Evangelical Hermeneutics," Christian
Scholar's Review 23 (1993): 72.
438
Глава шестая. Обретение текста
Чтобы осветить современные направления мысли евангельских
христиан по этому вопросу, он сопоставляет «кальвинистский» и
«арминианский» ответы. Проблема эта не только богословская, но
и практическая: человек или придерживается собственного
сообщества истины и исключает все остальные (Якобсен называет это
«монистическим отделением»), или же общается и учится чему-то
у тех, кто читает Библию иначе (Якобсен ассоциирует этот подход
с арминианским стремлением к «плюралистическому диалогу»).
Опять-таки, мы можем провести параллель между дискуссиями,
ведущимися в области религиозного богословия и тем, что мы
называем «богословием литературного знания»: каким образом может
быть обоснована претензия на знание, будь то в толковании Библии
или в исследовании религий, в плюралистическом
постмодернистском мире, мире, где эпистемология находится в кризисе и требует
реанимации?78
Старое реформатское. Якобсен рассмотрел в качестве
представителя кальвинистского подхода не Кальвина, а Франца Турре-
тина. Турретин верит, что истинный смысл текста ясен для тех, кто
читает его надлежащим образом (напр.: со вниманием, молитвой и
при просвещении Духа Святого); «те, кто ложно понимает Писание,
оказываются в таком положении из-за греховного стремления
ложно прочесть текст».79 Напротив, правильное толкование есть то,
которое раскрывает содержание текста. Фиш обрушивается на такой
подход с уничижительной критикой, презрительно именуя всякую
попытку предоставить тексту право голоса как «шаг,
переполненный смирением».80 Оценка ТурретинаЯкобсеном не менее
язвительна: «Хитрый ход. Турретин утверждает, что все остальные толкуют
Библию, а ортодокс просто открывает истинный смысл Писаний».81
Поскольку Турретин уверен, что учение Писания ясно изложено в
доктринах реформаторов, возникает искушение воспринять всякое
несогласие с ортодоксальным учением реформаторов как признак
ложного и злонамеренного прочтения самой Библии.
78 Я рассматривал этот общий вопрос в "The Trials of Truth: Mission, Martyrdom, and the
Epistemology of the Cross," в Andrew Kirk and Kevin Vanhoozer, ed., To Stake a Claim: Christian
Mission on in Epistemological Crisis (Maryknoll, N.Y.: Orbis, forthcoming).
79 Jacobsen, "Calvinist-Arminian Dialectic," 74.
80 Fish, Is There a Text? 353.
81 Jacobsen, "Calvinist-Arminian Dialectic," 76-77.
439
Часть вторая. Восстановление толкования
Арминианское. Из краткого рассмотрения взглядов Арминия
Якобсен делает три вывода о том, как справляться с разнообразием
толкований. Прежде всего следует признать, что толкование —
нелегкий труд. Не всегда следует подозревать других в порочных
мотивах: «Первейшая причина разногласий и заблуждений — не злой
умысел, а неведение».82 Во-вторых, поскольку толкование — труд
нелегкий, люди склонны гордиться достигнутыми результатами и
навязывать их другим. Арминий призывает толкователей признать
неизбежность субъективного элемента в их трудах, тем самым
допуская, что у других есть чему поучиться. И наконец, вместо того
чтобы избегать тех, с кем мы не согласны, следует вести диалог.
Даже если разногласия сохранялись, Арминий не желал прерывать
общение: «В конечном счете, Арминий, очевидно, ценил мир между
христианами, придерживающимися различных взглядов, больше,
чем единство вероучения и чистоту догмы».83
Либеральное и экуменическое. То, что Якобсен называет
«арминианским» подходом к конфликту толкований, стало в
секуляризованной модернистской форме господствующим воззрением
западного мира не только в отношении толкования Библии. Уол-
терсторф отмечает, что либералистское решение проблемы
религиозного разногласия — толерантность — весьма характерно для
Джона Локка. Это решение особенно заметно в американской
церковной политике (напр.: в разделении государства и церкви), но
характерно и для европейских общин. Локк полагал, что наше
общежитие должно быть построено на разуме, который модернисты
считали источником общего знания. Уолтерсторф отмечает: «Для
либерального решения основой является разделение частной и
общественной сферы».84 В отношении общественной истины
необходимо разумное согласие; но в области религии и личных
взглядов каждого достаточно терпимости. Это решение,
модифицированное Кантом, превратилось в дихотомию факт-ценность; разум,
82 Там же, 79.
83 Там же, 80. Ср. предположение Дэвида Трэйси о том, что рациональность должна принимать
форму беседы (David Tracy, The Analogical Imagination).
84 Wolterstorff, "Between the Pincers of Increased Diversity and Supposed Irrationality," в William
J. Wainwright, ed., God, Philosophy and Academic Culture: A Discussion Between Scholars in theAAR
and the АРА (Atlanta: Scholars, 1996).
440
Глава шестая. Обретение текста
в особенности наука, позволяет нам познавать факты, в то время как
ценности — вопрос частный и не должны навязываться другим.
Вернемся к толкованию и литературному знанию. В наше
посткантианское и постмодернистское время факты, в основном,
ограничены физическим миром. Любой другой аспект реальности уже
был перетолкован с точки зрения той или иной концептуальной
структуры (помидоры — фрукты или овощи, и что делает их
одним, а не другим?) Западные мыслители проявляют наименьшую
терпимость в сфере естественных наук. Выразив несогласие, вы
рискуете оказаться жертвой академического остракизма. Однако
повсюду, за этим исключением, мы наблюдаем толерантность,
потому что все мы осознаем, что находимся в одной кантовой лодке —
будучи отчуждены от вещей в себе, мы вынуждены смотреть на
мир сквозь призму концептуальных структур. Поскольку канто-
вых структур нам не избежать даже в церкви, будем по крайней
мере терпимы ко взглядам друг друга, не начиная из-за этого
войну. Таков либерально-экуменический консенсус. Короче говоря,
либеральным решением конфликта толкований может стать
попытка поместить толкования на одну сторону с
ценностями в противовес фактам. Претензии на знание о тексте касаются
лишь «фактов» его создания, то есть тонкого описания.
Исторические критики, говоря о «достоверных результатах», продолжают
цепляться за миф об объективности, а именно — за идею о том, что
их историческая реконструкция нейтральна с точки зрения
ценностей, а их наблюдения не отягощены теорией. Однако в общем и
целом «толкование» уже рассматривается не как дело общественной
истины, а как вопрос личного предпочтения.85
Новое реформатское. Обязателен ли выбор между
стремлением к знанию и стремлением к терпимости? Я, например, вовсе
не хотел бы выбирать между истиной и миром или между
кальвинистской объективностью и арминианской субъективностью. Ведь
верить в существование верного толкования текста — одно дело,
но в то, что им обладает только твое сообщество — совсем другое.
85 Именно это мне втолковывали на семинаре по Рикёру, когда я имел неосторожность высказать
перед студентами на занятии по литературной компаративистике, что некоторые тексты можно
прочесть неправильно. Все как одни ответили: «Могу читать так, как мне нравится».
441
Часть вторая. Восстановление толкования
На первый взгляд позиция новых реформатских мыслителей
кажется столь же эксклюзивистской, как и взгляды их
предшественников. Плантинга утверждает, что христианская философия в
варианте Августина признает различие веры и неверия, града
Божьего и забот мира сего. Более того, Плантинга уподобляет текущие
интеллектуальные дебаты битве за душу западной цивилизации.86
Конфликт толкований в корне является духовным: «Христианским
философам следует распознавать духовную подоплеку
разнообразных философских и псевдофилософских течений, бурлящих вокруг
нас».87 Возможно, причина разногласий в толковании не в
недостатках текста, а в недостатке, присущем всем нам. Что такое учение о
первородном грехе, как не утверждение о всеобщем когнитивном
сбое, признание того, что исходный замысел был искажен путем
незаконных манипуляций? Не только наши когнитивные способности
оказываются иногда неспособными служить нам как следует; сама
среда, в которой мы живем, пропитана когнитивной и моральной
скверной. Сбой в познании возможен не только на личном уровне,
но и на коллективном.88
Понимая это, легко заметить недостаток мировоззрения Фиша.
По его мнению, авторитетностью обладает сообщество
толкователей, действующее в «нормальных» условиях в соответствии с
«нормальными» принципами. Однако, как убедительно доказывает
Плантинга, норма функционирования не является показателем его
правильности. Правильность — это соответствие замыслу, тогда
как норма — категория статистики.89 Это критически важное
различие не упомянуто в данном Фишем объяснении толковательной
ситуации, и на это есть свои причины. Потому что признать, что
нормальные толковательные процессы могут не быть
правильными, означает поставить под сомнение авторитетность
толковательного сообщества как такового, единственную защиту Фиша от
окончательного релятивизма.
86 Plantinga, "Augustinian Christian Philosophy," 295.
87 Там же, 307.
88 Большая часть работы Юргена Хабермаса направлена на анализ идеологического искажения
коммуникативной деятельности. История Израиля, пересказанная в истории Второзакония, —
хороший пример духовных корней коллективного когнитивного сбоя.
89 См. Plantinga, Warrant, 9,199ff. «Вероятно, большинство котов подвергли кастрации; из этого
вряд ли можно сделать вывод о том, что те, которые кастрации не подверглись, ненормальны и не
могут нормально функционировать» (201). Плантинга доказывает, что объяснения нормальности
функционирования лучше всего действуют в сочетании со сверхъестественным теизмом.
442
Глава шестая. Обретение текста
Итак, чьи познавательные способности функционируют
должным образом? Философы нового реформатского направления
поступят мудро, если не откликнутся на этот вопрос, помня об
утверждении Лютера, что христиане — и святые, и грешники, в особенности
при чтении ими Библии. В конце концов, даже среди представителей
одного и того же вероучения или деноминации случаются
разногласия в толковании. Каков же тогда вклад реформатского объяснения
когнитивного сбоя в дискуссию об источниках и нормах
разногласия в толкованиях? Именно те, кто осознает всеобщую склонность
к когнитивному сбою и знают его истинный источник, более других
способны чувствовать опасность идеологического искажения.
Ценность деконструкции именно в том, что она служит
диагностическим средством этого сбоя. Потому что власти и начальства, против
которых мы сражаемся не из плоти и крови. Идеи — ложное
представление, теоретическое заблуждение — могут связывать
воображение крепче любой цепи. Ни один человек, ни одно сообщество
не защищены от ошибки. Именно по этой причине исключение из
общения должно быть не первым побуждением, а последним
средством. Насколько возможно, следует стремиться к миру с другими
сообществами толкователей. Однако в стремлении к миру никогда
не следует заходить так далеко, чтобы оказаться равнодушными к
истине текстового смысла.
За пределами конфликта?
Толкование и критический реализм
Может ли мирное общение обеспечить постижение истины в
толковании? Можем ли мы надеяться на примирение или хотя бы
на сдвиг в конфликте толкований? До этого момента я утверждал,
что само наличие разногласия в толкованиях не подразумевает
того, что правильного толкования вообще не существует. Согласие
же, в свою очередь, не является гарантией правильного толкования.
Теперь я надеюсь объяснить оба эти утверждения, более подробно
рассмотрев «критический реализм» толкования.
Возражения против наивного герменевтического реализма
Наивный реализм — представление, не замечающее проблем в
толковании и склонное отождествлять реальное положение вещей
443
Часть вторая. Восстановление толкования
с видимым — был действенно опровергнут с нескольких точек
зрения. Концепция разума, просто воспринимающего мир как он есть,
упускает из виду то, как наше восприятие формируется теориями,
не говоря уже о возможности когнитивного сбоя. Для нас
жизненно важно осознать, что возражения против наивного реализма не
опровергают реализм как таковой. Я уверен, что и критический, и
регулятивный реализм смогут избежать обвинений, направленных
против наивного реализма.
Кант, как мы уже видели, разоблачил привлекательное, хотя и
излишне упрощенное отождествление внешнего вида и
реальности. Он утверждал, что наши понятия соответствуют не тому, каков
мир (текст) сам по себе, но лишь тому, как мы его воспринимаем. И
«пользователи», и «упразднители» приняли идею Канта о том, что
наблюдатель /читатель начинает изучение данных, уже владея
определенными принципами толкования.
Мыслители-постмодернисты пошли еще дальше Канта, отвергая его предположение, что все
подходят к исследованию данных с одним и тем же понятийным
аппаратом, одним и тем же лексическим набором. Современные
мыслители, в общем и целом, склонны считать, что эти концептуальные
и лингвистические структуры обусловлены культурой.90
Деррида высказывает утверждение, кантианское по своей
природе, что объект познания — текст — не существует сам по себе.
Наивное убеждение фундаменталистов в том, что наблюдатель
есть объективный субъект, не влияющий на процесс познания,
следует отвергнуть как опасное заблуждение, каким оно и
является. Нельзя не восхищаться тем, как ясно и четко Деррида
опровергает миф о нейтралитете. Однако, подобно другим скептикам,
он не может полностью отвергнуть стремление к объективности.
Если «совершенное» знание нам недоступно, он отказывается от
знания вообще. Однако переход от наивности к упрямому
скептицизму — достижение, по меньшей мере, сомнительное. Возможно,
Дерриде, как и прочим постмодернистам, следует
прислушаться к совету Уолтерсторфа: «Кант — не смертельная болезнь. Его
можно пережить».91 Люди не ангелы, способные непосредственно
90 Майкл Дамметг, например, уверен, что истина — это то, что мы сочли правильным
утверждением в данное время. Истина относительна в том смысле, что почитаемое нами истинным
сегодня завтра может оказаться ложным. См. Michael Dummett, "Realism," Synthese 52 (1982): 55-112.
91 Wolterstorff, "Between the Pincers," 20.
444
Глава шестая. Обретение текста
познавать вещи, ни бессловесные животные, неспособные уладить
разногласия ничем другим, кроме силы. Не обладая абсолютным
знанием, мы имеем человеческое знание, которое и предназначено
человеку. То есть нам доступно адекватное знание, достаточное
для того, чтобы мы могли исполнить свое предназначение как
человеческие существа и толкователи. В контексте герменевтики это
значит, что у нас есть эпистемические способности к восприятию
коммуникативных предложений автора, должным образом
выраженных в тексте. Скептицизм, который, отвергая такое воззрение,
придерживается подхода «все знание или никакого», напоминает
эпистемологический приступ немотивированного гнева, слепое
отрицание положения человека.
Критический герменевтический реализм
Можно верить в существование единственного истинного
толкования, не претендуя на полное обладание им. Конфликт
толкований происходит оттого, что литературное знание, как и любое
другое, не абсолютно и постоянно совершенствуется. Однако это
возможно только потому, что существует независимый стандарт
правильности толкования: определенный текстовый смысл. Это —
добрая весть. Теоретически конфликт неисчерпаем; на практике же
сам конфликт может ускорить свое разрешение. Эта новая задача
состоит в поиске модели разумного толкования, которая не
предполагала бы, с одной стороны, безоговорочных установок, не
связанных с личными ценностями, а с другой — произвольных и
ценностно обусловленных прочтений. Мы можем согласиться с Дерридой
в том, что толкователи не занимают привилегированной, «внекон-
текстной» позиции, с которой можно было бы постигнуть смысл,
минуя посредство знаков. Деррида иронично отмечает, что если бы
все обстояло так просто, об этом бы скоро узнали. Необходимо
доказать, что познание определенного смысла текста возможно без
такой привилегированной позиции.92 Критический реалист должен
иметь возможность сказать: «Литературное знание (а именно,
определенный смысл и правильное его толкование) существует, но я
не уверен, что вполне обладаю им».93
92 Лафарг убедительно доказывает, что элементы дифференциальной системы (напр.: текста)
могут иметь определенное отношение друг ко другу, даже если у системы нет абсолютного
«центра» или основания. См. LaFargue, "Are Texts Determinate?" 349-54.
93 Грант Осборн также говорит об «толковательном реализме», но под этим он имеет
445
Часть вторая. Восстановление толкования
Можем ли мы обладать знанием, не имея определенной
исходной точки или преимущественного положения? В этом отношении
литературное знание можно сравнить с навигацией. Читатели,
стремясь сориентироваться в содержании текста, подобны
морякам, определяющим свое положение в море. Корабль находится в
определенном месте даже тогда, когда никто не может указать его
с абсолютной точностью. Стоит отметить, что капитану для
определения его положения нет необходимости в каком-либо
обосновании. Пространственная ориентация относительна и производится с
использованием любых объектов в качестве ориентиров (напр.:
солнце, звезды, маяки, суша и пр.): «Не существует определенных
объектов или мест, которые были бы абсолютными ориентирами или
центрами координат для определения всех остальных объектов».94
Мы можем достигнуть определенности в тексте или в открытом
море благодаря тому, что ориентируемся не с помощью
абсолютно фиксированных эпистемологических координат, а с помощью
точек, фиксированных относительно друг друга. Смысл слова
может не быть ни неизменным, ни абсолютным, но это не признак
отсутствия определенности смысла. У языка может не быть
абсолютного центра или основания (например, единого ключа
толкования), но его термины тем не менее сохраняют определенность по
отношению друг к другу.
Толкования — это попытки сориентироваться. Некоторых
литературоведов больше интересуют условия или последствия
коммуникативной деятельности, я же утверждаю, что основные вопросы
толкования — «как», «что» и «почему» текста, рассматриваемого
как коммуникативный акт.95 Общественно-исторические условия
в виду, что нам следует быть реалистами в отношении толковательного процесса. В частности,
мы должны рассматривать процесс толкования как «продолжающийся диалог между...
читательскими сообществами» (Grant Osborne, The Hermeneutical Spiral, 413). Самым важным
вопросом здесь становится следующий: «Как дискуссия между сообществами толкователей может
быть рациональной»? Вовсе непонятно, каким образом возможно рациональное течение дискуссии
между сообществами толкователей на основаниях, предлагаемых Дерридой или Фишем.
94 Эту цитату, вместе с заключенной в ней аналогией, я позаимствовал у Ренфорда Бамбро
(Renford Bambrough, Reason, Truth and God (London: Methuen, 1969), 94). См. также широкое
использование им аналогии с ориентиром в Moral Scepticism and Moral Knowledge (London:
Routledge and Kegan Paul, 1979), гл. 8.
95 Ливингстон предлагает литературоведам сосредоточиваться на условиях и последствиях
текстов. Таким путем он надеется интегрировать литературоведение и другие отрасли гуманитарных
наук: «Достижение хотя бы приблизительно точного понимания места работы в конкретной системе
взаимодействия требует надежного знания социальной истории, о которой идет речь» (Livingstone,
Literary Knowledge, 255).
446
Глава шестая. Обретение текста
и последствия коммуникации, конечно, тоже можно изучать, однако
они имеют лишь косвенное (и очень незначительное) отношение к
вопросу смысла и понимания. Толкование, как я утверждаю,
прежде всего направлено на понимание самого коммуникативного акта:
его «материи» (а именно пропозиционного содержания),
«энергии» (а именно иллокуционной силы) и «импульса» (а именно —
перлокуционного воздействия). Толкование есть гипотеза о
природе коммуникативного действия, а не (по крайней мере, не в первую
очередь) о его последствиях. Толкования могут быть правильными
и неправильными, потому что запланированные результаты
коммуникативного действия обладают определенностью, не
свойственной его последствиям.
Рациональность в толковании связана не с наличием неких
абсолютных обоснований в виде доказательств, касающихся истории
создания текста или авторских стратегических интенций. Не
существует и точки зрения, сторонники которой занимали бы столь
привилегированное положение, чтобы избежать необходимости
критически проверять свои гипотезы. Более того, герменевтическая
рациональность состоит как раз не в том, чтобы искать для своих
гипотез надежный фундамент, а в том, чтобы подвергать их критике.
Герменевтическая рациональность, подобно ее научному аналогу,
по сути своей является процессом критического испытания своих
гипотез о природе и цели литературных актов.96 Рациональность
толкования, по сути, обусловлена его способностью выдержать
испытание критикой. При таком взгляде на герменевтическую
рациональность возможно сочетание веры в определенность смысла и
наличия конфликта толкований.
В отношении методов, с помощью которых мы приходим к
пониманию определенного смысла, я — плюралист. Некоторые методы
особенно хорошо применимы к описанию определенных аспектов
коммуникативного акта, другие — более уместны для описания
других аспектов. К этой теме я в свое время вернусь. Я также и ин-
клюзивист, поскольку верю, что единственно правильный смысл
96 См. напр., Karl Popper, Conjectures and Refutations: The Growth of Scientific Knowledge (London:
Routledge and Kegan Paul, 1963), и особенно Imre Lakatos, ed. Criticism and the Growth of Knowledge
(Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1970). Два разных способа применения идей Лакатоса к
богословскому объяснению, см: Nancey Murphy, Theology in an Age of Scientific Reasoning, и Philip
Clayton, Explanation From Physics to Theology (New Haven Press, 1989).
447
Часть вторая. Восстановление толкования
включает в себя не один уровень описания. То есть плотное
описание требует использование нескольких подходов к толкованию.
Однако в отношении смысла самого коммуникативного акта, я —
эксклюзивист. Существует одно определенное мнение, в свете
которого многие толкования следует считать недостоверными или
неправильными.97
Обязательно ли те, кто верит в определенность смысла,
становятся в этом отношении догматиками? Нет, если они также
являются критическими реалистами. Утверждение, что знание
существует, не равно претензии на обладание им или утверждению, что
обладание таким знанием позволяет кому-либо навязывать свое
мнение окружающим. В споре всегда остается место для новых
доводов. Толкования всегда можно поставить под сомнение;
немногие доказательства (помимо алгебры и геометрии) могут быть
исчерпывающими. Участники конфликтной дискуссии могут, в конце
концов, прийти к выводу, что дальнейшее обсуждение
бессмысленно. Это, однако, является моральным поражением. Христианская
нравственность литературного знания подчеркивает важность
следующих добродетелей, которые, будучи развиты, позволяют
беседе продолжаться и двигаться вперед: самокритичность, ясность,
последовательность, терпение — «вера и мужество для следования
туда, куда приводят аргументы».98 Сотрудничая друг с другом и с
текстом, мы можем надеяться на временное согласие, если не на
саму истину.
Регулятивный герменевтический реализм
Кант, не считая, что мы можем познать мир как он есть, в то
же самое время постулировал идею мира как он есть (то есть
истину) как трансцендентное условие научного мышления.
«Регулятивная» идея определяет логичность системы действий или процедур.
Истина для Канта является «регулятивной» идеей, определяющей
логичность научной деятельности. Научные исследования были бы
бессмысленны, если бы не предполагался некий идеал, «мир как он
есть». Я считаю, что подобная ситуация существует и в толковании
97 Сказать, что существует один определенный смысл — означает сделать «онтологическое»
утверждение о том, что такое смысл. Из единства смысла, однако, не следует, что существует
лишь один способ его распознать.
98 Bambrough, Moral Scepticism and Moral Knowledge, 160.
448
Глава шестая. Обретение текста
текста. Даже Деррида признает, что толковательная деятельность
предполагает нечто подобное истине: «Реконструкция контекста не
бывает совершенной и безупречной, хоть и является регулятивным
идеалом в этике чтения, толкования или дискуссии».99 Подобным
образом, попытка обнаружить авторский замысел остается
незавершенным процессом, который может потребовать разнообразных
описательных структур: «Сказать, что определенный текст
обладает «единым» смыслом, не обязательно означает представить этот
смысл как монаду — единое, неизменное, неделимое утверждение,
которое читателю нужно просто вычленить и перефразировать».100
Как отмечает Майкл Фокс, одна из причин конфликта толкований
в том, что авторы часто намеренно допускают это: «Большая часть
того, что называют неопределенностью, на самом деле — удачное
подражание определенной, но сложной реальности».101
Герменевтический реализм не утверждает, что все должно быть просто и
ясно. Потому что реальность, а она включает и реальность
коммуникативного акта, может быть крайне сложной.
Я считаю, что смысл есть регулятивная идея, ориентирующая
толкование и определяющая логичность толкования как
деятельности. Идея смысла — определенного и сложного авторского акта,
не зависящего от деятельности толкователя — нужна для того,
чтобы осмыслить толковательную деятельность и конфликт
толкований. Потому что смысл может превосходить даже лучшие из наших
толкований, а истина их заведомо превосходит. Человеческие
знания остаются на уровне несовершенных и далеко не безошибочны.
Согласие, само по себе, не гарантия того, то сообщество
толкователей право. В конечном счете, идеал единственно правильного
толкования должен оставаться эсхатологической целью; в этой жизни
мы не можем всегда знать, что мы знаем. Или, в более позитивном
изложении, смысл есть регулятивная идея, которая
ориентирует и направляет толковательную деятельность. Хотя мы не
можем считать, что история толкования Библии свидетельствует
о прогрессе, мы, по крайней мере, можем быть уверены в том, что
99 Derrida, "Ethic of Discussion," 131 (выделение мое); ср. Лафарг, который цитирует
высказывания Дерриды об «удвоении комментария» как еще один пример своего предположения
о том, что определенный текстовый смысл доступен познанию (LaFargue, "Are Texts Determinate?"
350).
100 Fox, "The Uses of Indeterminacy," 175.
101 Там же, 190.
449
Часть вторая. Восстановление толкования
идеал смысла должен урегулировать конфликт толкований, если
толкователи придерживаются цели восстановления текста и
извлечения смысла: «Единственный выход за пределы конфликта или
способ сделать борьбу продуктивной — это установить
сообщество толкователей, общей заботой которых будет словесный смысл
книги».102 Чем именно является этот регулятивный идеал
«словесного смысла»? К какой норме стремятся наши толкования?
Полагаю, что регулятивный идеал литературного толкования — не что
иное, как буквальный смысл.
КАК ОПИСЫВАТЬ КОММУНИКАТИВНЫЕ АКТЫ:
НОРМА ЛИТЕРАТУРНОГО ПОЗНАНИЯ
Каждый дискурс о свободе толкования следует начинать с
защиты буквального смысла.103
Каждый раз, когда христиане пытались придать
Писаниям смысл, отличающийся от простого смысла, вложенного
в них авторами, христианство оказывалось в опасности
увязнуть в зыбучих песках гностицизма.104
В предыдущем разделе я задавал вопрос: «Разумна ли вера в
определенный смысл в условиях разногласий в толковании?» — и
утверждал, что из множественности мнений не следует делать
вывода об отсутствии правильного толкования. Повседневная жизнь
постоянно заставляет нас «читать» ситуации — смех, жесты,
лужайку перед последней лункой в гольфе — правильно, если мы
хотим добиться успеха в наших разнообразных начинаниях. Если,
например, игрок в гольф думает, что мяч отскочит влево, а тот
отскакивает вправо, значит, ему не удалось создать смысл: он неверно
прочел ситуацию, и ему не удалось забить мяч в лунку. Но то, что
некоторые игроки в гольф неверно «читают» лужайку, не значит,
что у нее нет единственно верного прочтения.105 Более того, можно
рационально дискутировать о правильном толковании, формируя
102 Там же, 180.
103 Umberto Eco, The Limits of Interpretation, 58.
104 G. В. Caird, New Testament Theology, ed. and completed by L. D. Hurst (Oxford: Clarendon,
1994), 422.
105 Правильным толкованием «смысла» лужайки, если о ней можно говорить в таких терминах,
будет описание того, какова она на самом деле. Хорошие игроки в гольф — обязательно
герменевтические реалисты.
450
Глава шестая. Обретение текста
гипотезы и испытывая их текстом. В данном разделе мы переходим
от проблемы литературного смысла к критериям, которые
используются для разрешения разногласий в толковании. Если авторская
интенция воплощена в тексте, то окончательным критерием
правильного или неправильного толкования будет сам текст,
рассматриваемый как литературный акт.
Тело, текст, история:
буквальный смысл и христология
Как... воплощенное Слово Божье обладает двумя природами,
одной человеческой и видимой, другой же — божественной
и невидимой; так и письменное слово Божье обладает
двойным смыслом: одним внешним, то есть историческим, или
буквальным; другим — внутренним, то есть мистическим,
или духовным.106
Что мы имеем в виду под «буквальным смыслом»? Может ли он
служить нормой толкования? Какое отношение он имеет к христо-
логии? Это далеко не простые вопросы. Как отмечает Джеймс Барр,
«нет другой сферы человеческого мышления, в котором понятие
'буквального' используется так часто, как в понимании Библии».107
В третьей главе я сопоставлял буквальные и аллегорические
способы прочтения Библии. Мы видели, что буквалисты подчеркивали
важность исторической информации, в то время как аллегористов
скорее интересовали символические и философские истины.
Текущая задача состоит в том, чтобы более тщательно обозначить
понятие буквального смысла и определить, как он может служить
нормой толкования. Слишком долго буквальный смысл
отождествляли с «буквой», а ту, в свою очередь, — с объектами, на которые
указывают отдельные слова. Вместо этого, я предлагаю определить
буквальный смысл как «смысл литературного акта». По моему
мнению, буквальное толкование в меньшей мере связано с
определением объектов в мире, а в большем — с определением
коммуникативных актов, их природы и объектов.
1 °* Robert Bellarmine, щгг. по William Whitaker, A Disputation on Holy Scripture Against the Papists, tr. W
Fitzgerald (Cambridge, 1849), 404.
107 James Barr, "The Literal, the Allegorical, and Modem Scholarship," в Journal of the Study of the Old
Testament 44 (1989): 3.
15*
451
Часть вторая. Восстановление толкования
Вероятно, нигде богословский аспект толкования не выступает
на передний план столь явно, как в дискуссии о буквальном
смысле Писания. Потому что, как я доказывал раньше, смысл является
настолько же определенным или неопределенным, как и
представление о предельной реальности. Или смысл (и Бог) выше буквы и
понятийной определимости, как утверждает негативное
богословие, или же смысл (и Бога) можно познать (не исчерпывающе, а
достаточно, чтобы обрести мудрость ко спасению) при посредстве
определенного коммуникативного акта (напр.: Слова), как
утверждает позитивное богословие откровения. Короче говоря:
существует корреляция — по крайней мере, в толковании Библии, а
возможно, и в целом — между доктриной Бога и буквальным смыслом.
Потому что если Иисус (Слово, ставшее плотью) есть «экзегеза»
Отца (Ин. 1, 18), то предельная реальность обладает определенным
смыслом.108
Воплощение, согласно Писанию и христианскому преданию,
есть буквальное телесное выражение Бога. То есть Логос не просто
облекся видимостью плоти, а в самом деле стал плотью.109 Иисус
есть «образ ипостаси Его» (Евр. 1, 3), «единосущный (homoousious)
Отцу».110 «Бог», можно сказать, имеет буквальный смысл «Иисус
Христос», и, следовательно, им обладает и мир. Я хочу рассмотреть
следующую параллель: тело Иисуса относится к его смыслу
(«Христос»), как буква — к смыслу текста. В обоих случаях все зависит от
контекста описания. Каков смысл буквы текста? Каков смысл тела
Христова? Христология в полном объеме, конечно же, не
поместится в рамки этой главы. Интересно, однако, то, как тело Иисуса
приобретает все более определенный смысл в рамках
последовательной серии расширяющихся контекстов описания. Такой подход
108 Ср. вольный пересказ Ин. 1, 1 Джоном МакКуарри: «Смысл есть основа всего сущего»
(John Macquarrie, "God and the World: One Reality or Two?" Theology 75 [1972]: 400). Верить в
Бога — означает верить, что мир находится в более широком контексте, в котором он обладает
определенным смыслом.
109 Представление о том, что Иисус Христос имел лишь видимость физического тела, известно
как «докетическая ересь», от греческого глагола «казаться» (dokeo).
110 Альтернативные переводы Евр. 1, 3 на английский: «явный образ его личности» ("the
express image of his person", KJV), «отпечаток самого естества Божия» ("God's very being",
NEB), «истинный отпечаток его природы» ("the very stamp of his nature", RSV), и «точное
отражение его бытия» ("the exact representation of his being", NIV). Греческий термин homoousios
(«единосущный») взят из Никейского символа веры, который утверждает буквальную
божественность Сына.
452
Глава шестая. Обретение текста
позволяет мне избежать сведения значимости тела Иисуса до
физического уровня, точно так же, как позже я откажусь от сведения
буквального смысла к его наиболее примитивному уровню, а
именно, эмпирическим объектам, именованным отдельными словами.
Тело Иисуса — это, прежде всего, физическое тело из плоти,
крови и костей.111 Но мы можем высказаться с еще большей
определенностью. Тело Иисуса было телом из иудейской плоти,
предположительно, с типичными для этой нации физическими
характеристиками и с генетическим наследием, которое можно было
проследить до династии иудейских царей: «Который родился от
семени Давидова по плоти» (Рим. 1, 3). Это, в принципе, могла бы
подтвердить биохимия. Однако следующее свойство тело Иисуса
настолько же важно и настолько же реально. Его тело
рассматривается как «плоть греховная» (Рим. 8, 3) и сделалось жертвой за
грех (Евр. 10, 5-10). Наконец, в воскресении тело Иисуса восстало
как «тело духовное» (1 Кор. 15, 44), хотя, согласно Павлу, духовное
тело не менее реально и исторично, чем физическое (15, 3-11).
Итак, плоть Иисуса была физической, иудейской, греховной и
духовной. Ограничить то, что может быть сказано о теле Христовом,
лишь физическим уровнем было бы проявлением излишнего
редукционизма. Конечно, все зависит от контекста, в котором
описывается тело Иисуса. Я утверждаю здесь, что научный и физический
аспект не являются исчерпывающим описанием каждого важного
качества тела Христова. Мы узнаем о других важных свойствах
тела Иисуса из повествовательного контекста, объединяющего
историю Иисуса и историю Израиля, историю левитского
священства и храма, историю Божьего высшего замысла сотворения мира.
Повествовательный контекст не только Евангелия, но и Ветхого
Завета, необходим, если мы желаем дать «плотное описание» тела
Иисуса. Только рассмотрев все четыре уровня описания, мы можем
сказать, что Бог делал во Христе: открывал Себя миру (Ин. 1,18)
и примирял мир с собою (Кол. 1, 20). Только рассмотрев текст как
литературный акт, требующий нескольких уровней описания, мы
можем сказать, что именно автор делает в тексте; и только
объяснив, что делает автор, мы можем дать достаточно «плотное
описание» буквального смысла. Как мы узнаем, что наше описание
111 Павел говорит о «теле Плоти Его» (Кол. 1, 22), Иоанн — о том, что Он пришел «во плоти»
(1 Ин. 4, 2). Есть еще множество других свидетельств того, что телесное бытие Иисуса было
реальным, например, то, что он ел, спал, уставал, пролил кровь и умер.
453
Часть вторая. Восстановление толкования
авторского действия достаточно плотное? Я уверен, что сам текст
обычно является достаточным свидетельством этому. Более того,
одна из моих целей — вернуться к реформатскому пониманию того,
что «непреложные правила толкования Писаний содержатся в
самом Писании».112 Это утверждение того, что мы могли бы назвать
«герменевтической самодостаточностью» Писания, предполагает,
что текст сам содержит контексты, необходимые для определения
его буквального смысла.
Буквальный и исторический: модернистская критика
Библии
Те, кто обращаются к буквальному смыслу как возможной
норме современной герменевтики, рискуют быть принятыми за
«буквалистов». «Она воспринимает Библию буквально», — эти слова
часто звучат как критика, если не как окончательный приговор одной
из трактовок. Однако эта враждебность «буквальности» далеко не
нова. Попытка Джеймса Барра определить «буквальность» может
помочь нам понять причину такого положения вещей.
Барр предлагает «вещественность» как первое приближение к
«буквальности»: «Вещественность предлагает простое, основанное
на здравом смысле однозначное соответствие между сущностями,
упомянутыми в тексте, и словами текста».113 Во-вторых,
«буквальный» имеет коннотацию «исторический», хотя Барр признает, что и
это неоднозначно. «Историческое» толкование, как указывает Барр,
может иметь разное значение для библеиста-модерниста:
сосредоточение на том, что имели в виду писатели во время написания и
редактирования, сосредоточение на древнейшей известной
форме текста или использование текста, чтобы определить, что же на
самом деле произошло.114 В контексте Реформации историческим
толкованием считается предпочтение того смысла, которым слова
обладали бы для своих авторов. Кальвин, например, подчеркивает
важность задачи толкователя «открыть замысел автора... Чем
больше он уходит от авторского смысла, тем больше он отходит от
собственного пути и тем дальше оказывается от цели».115
112 Westminster Confession of Faith, 1.9.
113 Вагг, "Literality" Faith and Philosophy 6 (1989): 415.
114 Ban, "The Literal, the Allegorical, and Modern Scholarship," 9.
115 Цит. по: Richard C. Gamble, "Brevitas et facilitas: Toward an Understanding of Calvin's
454
Глава шестая. Обретение текста
Объяснение Кальвином стиха 2 Кор. 3, 6 («потому что буква
убивает, а дух животворит») также тесно связано с его
пониманием буквального смысла. Он оспаривает известное толкование этого
места Оригеном. Ориген доказывал, что под «буквой» следует
понимать грамматический и простой смысл Писания, а не, как полагает
Кальвин, Ветхий Завет:
Это место было искажено и ложно толковано прежде всего
Оригеном, а затем и другими, что породило весьма вредное
заблуждение о том, что Писание не только бесполезно, но на
самом деле вредно, если воспринимать его не аллегорически.
Это заблуждение стало источником многих бед... Термины
«буква» и «дух» не имеют никакого отношения к методам
толкования Писаний и связаны с его силой и плодом.116
Как ясно показывает эта цитата, то, что Кальвин имел в виду
под буквальным толкованием, ни в коем случае не следует путать
с дубовым «буквализмом». Буквальный смысл слова «буква» во
2 Кор. 3, 6 зависит, по мнению Кальвина, от контекста более
широкого повествования, а именно, от канонического. Кальвин, будучи
знаком с научными достижениями гуманизма эпохи Возрождения,
хорошо владел риторикой и без труда распознавал речевые
обороты или литературные связи. На самом деле мы можем сказать, что
для Кальвина литературный смысл и был буквальным.117 К этому
предположению я вернусь ниже.
Кто практикует буквальное толкование в наши дни,
фундаменталисты или библеисты-модернисты? Прежде, чем мы сможем
ответить на этот вопрос, следует рассмотреть то, во что превратился
буквальный смысл в эпоху модернизма. Ханс Фрай предполагает,
Hermeneutics," Westminster Theological Journal 47 (1985): 2n.5. Ср. утверждение Иосифа
Харутюняна о том, что «буквализм» Кальвина ориентирован на восстановление авторского
замысла; см. Joseph Haroutunian "Introduction" to Calvin: Commentaries (The Library of Christian
Classics; London: SCM, 1958), 27-28.
116 Calvin 5 Commentaries: The Second Epistle of Paul the Apostle to the Corinthians, tr. T. A. Small
(Edinburgh: Oliver and Boyd, 1964), 43.
117 Уильям Уитакер, говоря от имени английской реформатской церкви, в 1588 г. писал: «Мы
утверждаем, что существует единственный истинный, верный и подлинный смысл Писания,
происходящий из правильного понимания слов, который мы именуем буквальным; мы также
утверждаем, что аллегории... являются не разными смыслами, а различными применениями
и употреблениями того самого единого смысла» {Disputation on Holy Scripture, tr. W Fitzgerald
[Cambridge, 1849], 404).
455
Часть вторая. Восстановление толкования
что значение слова «буквальный» в эпоху Просветительства
пережило заметное изменение, состоявшее в том, что его антонимом
стало не «аллегорическое», а «очевидное». То есть в эпоху
модернизма буквальный смысл превратился в смысл критический, а
именно в историческую реальность, скрытую за текстом.
Библейский критик ищет историческую реальность за
очевидными фактами текста. Однако рамки исторической реальности
сместились. В мире модернизма реальность, по большей части,
определяется естественными науками (и натурализмом как
мировоззрением). Фрай обвиняет критиков Библии в том, что они
всматриваются в смысл текста в отрыве от его литературной формы с целью
поместить его в факты за текстом или же — в некую
мифологическую истину над текстом: «И в том, и в другом случае —
истории, аллегории или мифа — смыслом повествований оказывалось,
в конечном счете, нечто отличное от самих повествований или
описаний».118 То есть критик использовал буквальный смысл как
средство достижения другой цели. Историческое толкование стало
критическим методом, цель которого — попытаться заглянуть за
букву ради реконструкции исходного исторического контекста или
процесса написания текста. Критики Библии не являются
законными преемниками буквального толкования.
Интересно, что христология остается стандартом
буквального смысла Писания, причем двояким. В отношении Ветхого
Завета главный вопрос — в том, говорится ли в Еврейских Писаниях о
Христе. По мнению исторического критика, для которого исходный
смысл важнее всего, это невозможно (он, как и многие противники
сверхъестественного, полагает, что тексты эти — документы
исключительно человеческие). В таком случае читать исторически —
означает отрицать принадлежность Ветхого Завета к литературе
Церкви. Далее, в отношении Нового Завета, если Бог не стал на
самом деле человеком, как быть с евангельскими
повествованиями? Интересно отметить, Барр полагает, что библеисты-модернис-
ты на самом деле не были столь привержены буквальному смыслу,
поскольку они видели, что Библия, будучи прочитана буквально,
кажется ложной.
118 Frei, Eclipse of Biblical Narrative, И. Барр возражает против такой характеристики критики
Библии. Он доказывает, что критики Библии использовали буквальный смысл Библии, чтобы
достигнуть ее «богословского смысла», то есть «богословия, которое действовало в разуме тех, кто
создавал библейскую литературу» (Ватт, "The Literal, the Allegorical, and Modern Scholarship," 12).
456
Глава шестая. Обретение текста
Ожидаемой реакцией критиков, во многом напоминавшей
действия их предшественников, оказался вывод о том, что основные
истины Библии излагаются далеко не на уровне буквального смысла.
Рудольф Бультман, например, истолковывает воскресение Иисуса
не как историческое событие, а как символическое выражение того,
что происходит с современными читателями, когда они обретают
веру в распятого Иисуса. Вероятно, Барр прав, делая вывод о том,
что модернистская библеистика имеет определенные связи с
аллегоризмом.119 Столкнувшись лицом к лицу с буквальным смыслом,
критики Библии делают выбор: отождествить буквальный смысл
с историческим денотатом и тем самым сделать вывод о том, что
Библия временами неверна, или же поместить текстовый смысл на
уровень, отличный от буквального. В таком случае Библия
характеризуется символической или мифической, но не исторической
истинностью. Однако такая дилемма игнорирует вопрос буквального
смысла. Следует ли нам, вслед за критиками Библии, сделать вывод
о том, что буквальный смысл тождествен смыслу историческому, и
что исторический смысл может быть эмпирически проверен? Я
считаю, что корень смятения — в модернистской тенденции
отождествлять эмпирическое и буквальное. Я утверждаю, что такой
«позитивизм буквального» ошибочен и сводит историческую реальность
лишь к тому, что может быть установлено в рамках исторической
науки.120
Кто боится буквального смысла? Современные подходы
С учетом неоднозначности взглядов на буквальный смысл,
может ли он оставаться нормой, определяющей толкование Библии в
наше время? Прежде чем излагать собственное мнение, предлагаю
вашему вниманию три варианта.
119 Барр заходит так далеко, что сравнивает библейскую критику с аллегоризмом. Хотя
«критический» аллегоризм должен быть (1) контекстуально обоснованным и (2) культурно
уместным, а не произвольным, как его античный эквивалент (см. его "The Literal, the Allegorical,
and Modern Scholarship").
120 Я утверждаю, что, подобно тому как исторический критик не может вывести божественный
замысел из исторической реконструкции событий жизни Иисуса, так же точно он не может
вывести авторскую интенцию из реконструкции исходной ситуации текста и истории его
создания. В обоих случаях единственным контекстом, который способен дать буквальный
смысл (смысл, который слова или поступки имели для деятеля) — это окончательная форма
самого текста. Писание толкуется Писанием.
457
Часть вторая. Восстановление толкования
Буквальный смысл как историческое соотнесение. Этот
первый вариант объединяет, как ни странно, фундаменталистов и
модернистских критиков Библии, хотя и с разными
последствиями. Я говорю об убежденности, что буквальный смысл библейского
текста следует отождествлять с обычным значением
содержащихся в нем слов. Сторонники этого подхода склонны отождествлять
смысл текста с историческим денотатом слов — с эмпирическим
смыслом буквы текста. Здесь «буквальное восприятие Библии»
означает определение событий и личностей, о которых в ней сказано.
Фундаменталисты уверены, что библейское повествование точно
(то есть эмпирически, физически, исторически) описывает то, что
действительно случилось, даже если это включает в себя
представление о сотворении мира за шесть суток. Библейскому критику
также интересна история, в частности, как рассуждали авторы, как
текст стал таким, какой он есть, и что на самом деле произошло.
Однако, в отличие от фундаменталиста, критик Библии может прийти
к выводу, что ее значение, рассматриваемое буквально, ложно. То
есть буквально сказанное в Библии не обязательно «произошло на
самом деле».
Барр возражает, что ни фундаменталисты, ни критики не
практикуют буквальное толкование последовательно; и те, и другие
уходят на другой уровень смысла: в одном случае, когда под угрозой
оказывается непогрешимость, в другом — когда под угрозой
либеральные ценности. Другие возражают, что этот тип либерального
подхода полагается на бездуховный, индивидуалистский способ
прочтения, как если бы толкователь мог быть автономным
субъектом познания. Бернард Рамм, например, обвиняет
фундаменталистов в приверженности «сокращенному» протестантскому принципу
до такой степени, что они верят в собственную способность
толковать Слово без помощи Духа.121 Но, вероятно, самой серьезной
проблемой отождествления буквального смысла с историческим
денотатом является недостоверное понимание того, как на самом
деле действуют язык и литература. Соотнесение с исторической
или эмпирической реальностью — только одна из функций языка.
Более того, именно это последовательное отождествление смысла
с денотатом, в конечном счете, вызывает обвинение в буквализме.
В этом отношении эмпирически направленные фундаменталисты
Я вернусь к обвинению Рамма ниже, в гл. 7.
458
Глава шестая. Обретение текста
имеют нечто общее с демифологизаторами, такими как Ориген и
Бультман, а именно: неспособность оценить литературную
сторону текста. Согласно Уайлзу, «Ориген был полностью лишен
поэтической восприимчивости. Буквальный смысл Писаний для него
означает именно буквальное значение слов».122 Такой буквализм
мышления при толковании текста приближается к
функциональной неграмотности.
Фундаменталисты и либеральные критики, как ни странно,
оказываются на одном и том же прокрустовом ложе — модернизме.
И те, и другие повинны в том, что Роуэн Уильяме называет
«катастрофическим усыханием» буквального смысла.123 То есть ни один
из подходов не выходит за рамки самых тонких описаний
буквального смысла. Однако буквальное толкование есть нечто большее,
чем однозначно описательное и точное представление
исторических фактов. Далее: и фундаменталисты, и модернистские критики
разделяют убеждение в том, что разум можно использовать как для
толкования Писаний (напр.: определения его исторических
референтов), так и для того, чтобы подтвердить его смысл или счесть
его ложным. Таким образом, содержание буквального смысла
оказывается под контролем позитивистского взгляда, согласно
которому истину можно эмпирически охарактеризовать и проверить.124
В итоге: модернистская эпистемология не только затемняет, но и
гибельно искажает буквальный смысл, обрекая толкование на
тонкие, буквалистские описания эмпирических референтов.
Буквальный смысл как повествовательное соотнесение.
Фрай видит явную связь между тем, что христиане как
сообщество, с одной стороны, воспринимают буквальный смысл как
главенствующий, а с другой — признают, что Бог был во Христе. Простое,
общепринятое в христианском сообществе прочтение признает
неповторимость личности Иисуса Христа. Именно буквальное
прочтение Евангелий доказывает, что они являются историями об
122 Maurice Wiles, "Origen As Biblical Scholar," The Cambridge History of the Bible (Cambridge
Univ. Press, 1970), 1:470.
123 Rowan Williams, "The Literal Sense," Modern Theology 7 (1990): 124.
124 Вердикт Фрая ясен: «Невозможно достаточно часто и достаточно выразительно указывать
на то, что либералы и фундаменталисты, при внешних различиях, на самом деле одинаково
путают аскриптивный и дескриптивный буквализм в отношении Иисуса в области понимания
текста с аскриптивным и дескриптивным буквализмом в области познания исторической
реальности» (Frei, Types of Christian Theology [New Haven: Yale Univ. Press, 1992], 84).
459
Часть вторая. Восстановление толкования
Иисусе Христе, а не чем-либо иным: «Я убежден, что...
богословское прочтение есть прочтение текста, а не прочтение источника,
как читают его историки».125 Связь между христологией и
герменевтикой очень крепка. Иисус есть тот, о ком повествует текст, будучи
истолкован буквально.
Фрай блестяще показывает, что смысл и истина Евангелий
затемняются всякий раз, когда кто-либо пытается толковать в
терминах независимого (напр.: внетекстового) описания их содержания.
Так происходит и в гностицизме, и при демифологизации, когда
библейские повествования толкуются «без приписывания этим
повествованиям первенства или центрального положения в
определении вопросов истины».126 То же самое происходит в любом
толковании, в ходе которого Евангелия рассматриваются не как
истории об Иисусе, а как истории о чем-то ином:
экзистенциальных возможностях, социальном освобождении, правах женщин и
т. д. Короче говоря, буквальный смысл Евангелий отступает в тень
всякий раз, когда кто-то толкует тексты «путем независимого
описания их содержания».127 Невозможно определить суть текста, не
пройдя через его форму. Брюс Маршалл обнаруживает связь
между буквальным смыслом и христологией: «Если модернисты
допустили ошибку в библейском толковании повествований, причиной
этого, в конечном счете, была допущенная ими христологическая
ошибка: они не смогли разглядеть в повествовании Иисуса, как
того, кто эпистемически первичен и в этом смысле является
логическим основанием и определением всего, что мы говорим о Боге и
о себе».128 Фрай добавляет: «В основном по причине этой
центральности повествования об Иисусе христианская традиция толкования
на Западе приписала буквальному смыслу явное первенство при
чтении Писаний».129 Фрай предлагает, чтобы вместо толкования
125 Там же, 11. Фрай отмечает, что такое согласие распространяется на основополагающее
отождествление Иисуса в качестве аскриптивного субъекта Евангелий, но не на «реального»
Иисуса. Иными словами, хотя традиция ясно утверждает, что в Евангелиях повествуется об
Иисусе (а не о чем-либо или о ком-либо другом), неясно, какого рода субъектом является сам
Иисус (исторической личностью или персонажем повествования).
126 Bruce Marshall, "Meaning and Truth in Narrative Interpretation: A Reply to George Schner,"
Modern Theology 8 (1992): 176.
127 Там же.
128 Там же, 178-79.
129 Frei, "The 'Literal Reading* of Biblical Narrative in the Christian Tradition: Does it Stretch or
Will It Break?" in The Bible and the Narrative Tradition, ed. Frank (Oxford Univ. Press, 1986), 39.
460
Глава шестая. Обретение текста
текста с помощью наших категории и концептуальных схем мы
позволили тексту толковать все остальное, включая читателей.
Буквально толковать Библию означает позволить библейскому тексту
«поглотить мир», а не наоборот.130
Сам Фрай считает, что библейские повествования, будучи
буквально толкованы, определяют Иисуса в его отношении к Богу как
воскресшего Христа. Как это буквальное определение
соотносится с историческим Иисусом (напр.: с историческим Иисусом
библейской критики), Фраю нелегко ответить, поскольку отношение
Иисуса и Бога не относится к сфере «исторических фактов». Фрай
утверждает, что Евангелия «буквально» утверждают истину об
Иисусе, но он осторожно относится к объяснению «буквально
истинного» в терминах некоей внетекстовой структуры, например,
критически реконструированной истории. Фрай считает буквальный
смысл Библии, как и ее содержание, чем-то единственным в своем
роде. Настаивая на определенном буквальном смысле Евангелий,
Фрай, в то же время, довольствуется их несколько неопределенным
денотатом. Суть утверждения в том, что не существует иного
способа описания референта, помимо текста. Евангелия есть
свидетельства, а не источники или ресурсы для исторической реконструкции.
В терминах, которые я более полно объясню ниже, можно сказать,
что реальность Иисуса дана нам только в повествовательном
описании}*1
Буквальный смысл в каноническом смысле. БревардЧайлдз
доказывает, что неспособность исторической критики читать
Библию как Писание проистекает из ошибочных взглядов на
буквальный смысл: «Для реформатов буквальный смысл был
литературным смыслом, но для ученых критиков он стал буквалистским».132
130 Фрай, вслед за Джорджем Линдбеком, называет это «интратекстуальностью» и
противопоставляет «экстратекстуальности». См. Lindbeck, The Nature of Doctrine.
131 В конечном счете, Фрай в своей защите буквального толкования обращается к консенсусу
сообщества; на протяжении истории Западной церкви буквальный смысл считался важнейшим.
Именно сообщество согласилось не отрицать буквального отнесения к Иисусу (напр.: того, что Иисус
пришел во плоти). Фрай признает, что если бы победил гностицизм, духовное прочтение было бы
«простым» смыслом. Таким образом, Фрай приходит к подтверждению объяснения происхождения
толкования, данного Фишем. В данном случае учение церкви служит правилом толковательной
деятельности. Фрай доказывает, что лишь во времена Реформации буквальный смысл стал
авторитетен сам по себе, помимо толковательного предания. (Frei, "Literal Reading", 42).
132 Paul Noble, "The Sensus Literalis: Jowett, Childs, and Ватт," Journal of Theological Studies 54
(1993): 15.
461
По мнению Чайлдза, буквальный смысл Библии определяется не
историческим и не повествовательным контекстом, а контекстом
каноническим.133 Он желает восстановить исходное единство
буквального и исторического смысла, свойственного реформатскому
толкованию до «сточной канавы», разделившей «исходный» и
«канонический» смысл и ставшей проклятием модернистской
критики. Как и для Фрая, ключом для Чайлдза оказывается то, что сам
текст, и только текст, передает свой референт. То, о чем
повествуют тексты, не находится ни за текстом, ни над ним, это нечто в
самом тексте. В то время как критический буквальный смысл смотрит
за текст, канонический буквальный смысл Ветхого Завета смотрит
сквозь текст и указывает на Христа. Чайлдз уверен, что
буквальный смысл будет иметь религиозную ценность только в
каноническом контексте. В частности, Чайлдз желает вернуть свойственное
реформатам ощущение того, что, читая Писание, они имеют дело со
Словом Божьим. Для Чайлдза буквальное прочтение Библии
означает прочтение ее в контексте христианского канона.134
Буквальный смысл: предположение
Каждый из трех вышеперечисленных подходов —
исторический, повествовательный и канонический — сосредоточивается на
ценном, хотя и частичном, измерении литературного смысла. Наша
задача теперь — объединить эти три измерения «буквальности» с
помощью понятия коммуникативного действия.
Логос или буква? Позвольте мне начать с напоминания,
предостережения и исправления. Я предположил, что авторский
замысел, та определенная текстовая реальность, которой
подотчетно всякое толкование, есть «регулятивная идея». Я также
рассмотрел то, как некоторые литературоведы (а именно Штайнер, Фиш и
Деррида) сочли это псевдобогословским утверждением, связанным
с трансцендентностью, правильностью смысла и логоцентризмом.
Наконец, только что мы рассмотрели поразительную связь между
пониманием буквального смысла и христологией.
133 См. Brevard Childs, "The Sensus Literalis of Scripture: An Ancient and Modern Problem,"
в H. Donner et al., ed., Beitrdge zur alttestamentlichen Theologie (Gtittingen: Vandelhoeck and
Ruprecht, 1977), 80-93.
134 Ср. Рамм, который доказывает, что систематическое учение Писания—«в его окончательной
интенции». {Protestant Biblical Interpretation, 175).
462
Глава шестая. Обретение текста
Теперь — предостережение. Есть, по меньшей мере, две
стратегии избегания авторитетности буквального смысла. Первая состоит
в полном отрицании его реальности. Противники
герменевтического реализма считают буквальный смысл просто побочным
продуктом наших литературных теорий.135 Какой бы логос ни обитал в
букве, его вдохнул туда толкователь. Такой толковательный атеизм
характерен для неопрагматизма Фиша, считающего смысл
продуктом наших обычаев. Фиш занимает по отношению к
литературоведению то же положение, что Фейербах — по отношению
к христологии; для этих мастеров подозрительности
трансцендентное (Христос для Фейербаха, смысл для Фиша) —
всегда лишь проекция человека. Нормы для исключения смыслов
возможны (напр.: мы можем сказать: «это прочтение ложное»), но
источник их, напоминает нам Фиш, «не текст, а признанные на этот
момент стратегии толкования или производства текста».136 Иначе
говоря, ложное прочтение не то, которое противоречит тексту, а то,
которое противоречит существующему консенсусу.
Есть и второй, более богословский способ не позволить логосу
соединиться с буквой. Это путь не атеизма, а негативного
богословия, традиции, которая рассматривает Бога как находящегося вне
всякого философского и языкового определения. Как Библия может
буквально говорить о Боге, если язык конечен, а Бог безграничен?137
Итак, негативное богословие, говоря словами Тиллиха,
провозглашает «Бога вне Бога», то есть Бога вне пределов достижимого для
буквального языка и метафизических представлений.138 Мы уже
наблюдали сходство между грамматологией Дерриды и раввинис-
тической увлеченностью священной буквой Торы. С этой точки
135 Fish, Is There a Text? 338.
136 Там же, 347.
137 За последнее время много было сказано о неадекватности языка для общения с Богом.
Однако важно отметить, что мы можем сказать больше, чем означают произнесенные нами
отдельные слова. Существительное не элементарная частица смысла; эта честь принадлежит
предложению, которое описывают как неограниченное использование ограниченных
средств. Там, где отдельные слова оказываются неспособны «назвать» или определить Бога,
предложения могут успешно передать то, что выходит за эмпирические рамки. Евангелия,
например, используют обычный человеческий язык для того, чтобы рассказать о том, как Бог
стал человеком.
138 Кроссан предположил, что образ мыслей Дерриды допускает негативное богословие
(Crossan, Cliffs of Fall [New York: Seabury 1980]). Кевин Харт, напротив, доказывает, что Деррида
не богослов ни в позитивном, ни в негативном отношении (Kevin Hart, The Trespass of the Sign,
184-86).
463
Часть вторая. Восстановление толкования
зрения, освященность буквы ведет к тому, что текст не может быть
ни переведен, ни «расшифрован»: «Однако там, где раввины видят
в неистощимой полноте Божьего слова опору для своей экзегетики,
Деррида обращается к виду негативизма, la differance, который
бесконечно порождает смысл».139 Деррида рассматривает только
обозначения, а не обозначаемое. В отрицательном богословии
священная буква не открывает, а бесконечно отдаляет логос. Итак, перед
лицом буквального смысла как нормы толкования можно отрицать
или его существование (Фиш), или его познаваемость (Деррида).
И наконец, исправление: «И Слово стало плотию, и обитало с
нами» (Ин. 1, 14). Доктрина Воплощения исправляет как атеизм,
так и негативное богословие; облако непознаваемости рассеялось
рождественским утром. Трансцендентное обозначаемое стало
знаком, Божье Слово облеклось человеческой формой.140 Итак, «тело»
уже не препятствие, а условие для откровения. Как Логос обитал в
плоти Иисуса, так и смысл обитает в теле текста. «В позитивном
богословии Отец открывается Сыном в Духе и через Духа, тем самым
утверждая Бога, который может быть описан, хоть и несовершенно,
с помощью положительной и отрицательной предикации».141
Истина, как скрытая, так и открытая, лежит под покровом человечности
Иисуса. Подобно этому, под покровом букв находится смысл.142
Конечно, буквальный смысл не следует просто отождествлять с
физическим телом Слова или со словарным определением слов. Вновь
используем привычное понятие: буквальный смысл проистекает
из буквы, но не может быть к ней сведен.143
139 Hart, "Poetics of the Negative," 317.
140 Согласно Чарльзу Мартиндейлу, доктрина воплощения соответствует центральному
парадоксу толкования, а именно тому, «что всякий текст следует рассматривать как
трансисторический и в то же время обусловленный определенным моментом истории» (Charles
Martindale, Redeeming the Text [Cambridge; Cambridge Univ. Press, 1993], 104).
141 Hart, "The Poetics of the Negative," 286. Я благодарен Стивену Ноллу за привлечение моего
внимания к троичным аспектам буквального смысла в Stephen Noll, "Reading the Bible as the
Word of God," Churchman 107 (1993): 227-53.
142 Cp. Morris Inch, "The Place of the Incarnation in Biblical Interpretation," в Samuel J. Schutz and
Morris A. Inch, ed., Interpreting the Word of God (Chicago: Moody. 1976), 162-77.
143 Ключом здесь опять является христология. Невозможно вывести божественное откровение
из тела Иисуса. Только в других контекстах, на более высоких описательных уровнях, мы
можем видеть Иисуса как Христа и Сына Божьего. «Христос» проистекает из «Иисуса». Его
божественность не сводится к его человечности, но и не может обсуждаться в отрыве от нее.
464
Глава шестая. Обретение текста
Буквальность, а не буквализм. Вместо того чтобы
сталкивать между собой рассмотренные выше стороны буквального
смысла, я буду рассматривать их как аспекты коммуникативной
деятельности. Мы можем начать с физического уровня буквы, ее
«материальности». Буквы и слова — «сырье» литературного акта.
Однако «буквальное» не следует сводить к langue (напр.: к месту
слова в языковой системе), потому что буквальный смысл
заключен не в словах, рассматриваемых отдельно, а в коммуникативных
актах, рассмотренных в их коммуникативном контексте. Важно
отличать локуционный акт (акт использования слов в связной речи)
от акта иллокуционного (акта, совершаемого путем использования
слов). Я утверждаю, что буквальный смысл относится не только к
локуции; каждое высказывание обладает и иллокуционной силой
(напр.: утверждения, направления, экспрессии и пр.).
Рассмотрение буквального смысла в контексте локуций или словарных
определений предлагает тончайшее из возможных описаний.
Слишком легко отождествить буквальный смысл слова с его
словарным определением. Проблема такого шага двоякая.
Во-первых, словарь — это просто обзор того, как люди обычно используют
слова; следовательно, определения не неизменны и не абсолютны,
а лишь относительно определены. Во-вторых, что более важно,
элементарная единица смысла — речевой акт, а не отдельные слова.
Буквальный смысл утверждения Иисуса «Я есмь дверь» —
функция его речевого акта (метафорического утверждения), а не слов,
рассмотренных отдельно (и поэтому вне контекста). Где же искать
буквальный смысл: в langue или в parole? Прежде чем слова
используются в определенном коммуникативном акте, они обладают
только потенциалом (напр.: ограниченным числом возможностей)
смысла. Следовательно, только на уровне акта-предложения можно
говорить о настоящем буквальном смысле. Буквальный смысл —
это всегда совместное произведение семантики и парадигматики,
общепринятого соглашения и интенции.
Следует избегать ересей-крайностей, одна из которых
переоценивает букву, а другая недооценивает ее, то есть утверждения о
том, что буквальный смысл не имеет никакого отношения к
букве, и утверждения, что буквальный смысл связан только с буквой.
Буква — необходимое средство совершения коммуникативного
действия и передачи интенции, однако она — лишь необходимое,
но не достаточное условие смысла. Толкование «буквалистично»
465
Часть вторая. Восстановление толкования
только в том случае, если толкователь пренебрегает
двойственностью происхождения смысла и сводит буквальный смысл к букве
(т. е. langue).HA Я ни в коем случае не хочу защищать буквалис-
тическое прочтение, герменевтический эквивалент культа тела.
Напротив, я доказываю, что буквалистическое прочтение не
вполне «буквально», что оно недостаточно и лишь «тонко» буквально,
поскольку игнорирует роль авторского замысла в
коммуникативном акте. Игнорировать роль иллокуций означает впасть в
«буквализм», который также можно назвать «локуционизмом».145 С другой
стороны, те, кто ищут авторский замысел, реализованный в тексте,
рассматривают коммуникативный акт как то, что можно назвать
«духом буквы».
Что такое «буквализм»? Это топорное и в то же время тонкое
толкование, неспособное выйти за пределы стандартных значений слов
и выражений (локуций) или выявить способ авторского восприятия
этих значений (иллокуций). Поэтому буквализм есть короткое
замыкание буквального смысла, поскольку он оказывается
неспособным оценить намерение автора и придать его высказыванию
определенную силу. Очень важно отличать буквалистское толкование от
буквального. Первое порождает не буквальное и, в конечном счете,
неграмотное прочтение, неспособное распознать иносказательные
варианты использования языка, такие как метафора, сатира и так
далее. Напротив, последнее рассматривает то, что именно делают
авторы, определенным образом управляя своими словами.
«Буквалистское» толкование подобно подстрочному пословному
переводу, дающему словесно точное, или «формальное соответствие», но
рискующему упустить основной (иллокуционный) смысл.
Буквальное толкование подобно переводу, стремящемуся к
динамическому соответствию и воспроизводящему литературный смысл. Итак,
здесь имеет место различие между «эмпирически настроенными»
толкователями, которые, стремясь к фактическому соответствию,
принимают лишенную воображения, почти позитивистскую точку
144 «Сердце деконструктивной стратегии... — объединение того, что можно истинно
утверждать о слове с точки зрения langue с тем, что верно с точки зрения parole» (Wendell Harris,
Interpretive Acts, 25).
145 И напротив: пренебрегать ролью языковых соглашений значит впадать в герменевтический
«спиритизм», в чем некоторые обвиняют Барта, для которого Библия становится Словом Божьим
только через благодатное действие Духа. Однако есть свидетельства в пользу противоположного,
того, что Барт не совсем игнорирует букву текста. См. ниже раздел о ясности.
466
Глава шестая. Обретение текста
зрения на вещи, и «литературно мыслящими» читателями, которые
воспринимают контекст и знакомы с тем, как действует
литературный текст. Толкователи впадают в заблуждение либо при аллегори-
зации дискурса, который следовало воспринимать буквально, или
при «буквализации» дискурса, который был задуман как образный.
Рассмотрим, например, буквальный смысл слов «Очи Господни
обращены на праведников» (Пс. 33, 16). По мнению Дональда
Дэвидсона, буквальный смысл определяет условие истинности, которому
привержен говорящий, если он серьезен. Однако мы не можем
определить эти условия, не определяя контекста дискурса и, добавлю,
природы коммуникативного акта. Здесь псалмопевец говорит о
божественном знании, о «заботе» Бога о своем народе. Условие
истинности для говорящего не имеет никакого отношения к зрительным
органам тела божества, речь идет о Божьем всеведении. Заметьте,
что здесь автор вложил в свои слова не два смысла, буквальный и
метафорический, а всего один. Автор хотел, чтобы читатель
воспринял его высказывание как метафору. Итак, он совершает
коммуникативный акт метафорического утверждения. Слово «очи», как
элемент langue, обладает нормальным повседневным значением.
Но langue не определяет буквального смысла термина, это может
сделать только реальное употребление слова. «Метафорический
смысл — это всегда смысл высказывания того, кто говорит».146
Буквальное толкование стремится к пониманию, определяя
природу и содержание литературного акта. Буквалистское
толкование, в свою очередь, пренебрегает иллокуционным замыслом и
сосредоточивается на общепринятых значениях изолированных
слов. Отсюда мое предположение: буквальный смысл есть смысл
литературного акта. Я считаю, что тело текста — материал, с
которым работает коммуникативный агент, — есть необходимое,
но недостаточное условие литературного акта. Тело текста
передает его дух, однако дух нельзя свести к телу. Напротив, дух (читай:
иллокуционный замысел) проистекает из тела (локуционного
события). Буквальное, то есть литературное, толкование
воспринимает коммуникативный контекст и тем самым оказывается способным
определить коммуникативный акт. Мы воспринимаем
буквальный смысл высказывания, если определяем его пропозиционное
146 Searle, Expression and Meaning, 11.
467
Часть вторая. Восстановление толкования
содержание и его иллокуционную силу, то есть понимаем, что оно
есть: приказ, утверждение, шутка, ирония, притча и пр.147
Буквальное восприятие Библии. Буквально воспринимать
Библию означает читать ее в поисках литературного смысла,
смысла ее коммуникативного акта. Это влечет за собой, прежде всего,
справедливость по отношению к пропозиционному, поэтическому и
целевому аспекту каждого текста как коммуникативного акта, и во-
вторых — соотнесение их с Библией, рассматриваемой как единый
божественный коммуникативный акт: Слово Божье.148
(1) Пропозиционное соотнесение. Я доказывал выше, что
буквальный смысл нельзя отождествлять с историческим денотатом.
Тем не менее, соотнесение есть один из аспектов
коммуникативного действия, и, следовательно, буквального смысла. Потому что
каждый коммуникативный акт имеет свой объект, а именно
пропозиционное содержание. А пропозиционное содержание определяет
некий референт — объект коммуникативного акта, то, о чем этот
акт. Конечно, не все референты обязательно историчны, и не все
исторические референты доступны для эмпирической проверки.
Важная часть моего доказательства состоит в том, что некоторые
референты доступны нам только «в описании».149
(2) Поэтическая форма. «Поэтический» здесь указывает не на
поэзию, а скорее на факт, что текст есть сочинение, нечто
«сделанное» (греч. poi sis), материя, которой придали форму. Далее в этой
главе я соотнесу литературную форму и вид совершаемого автором
литературного акта. Буквальный смысл настолько же обусловлен
поэтической формой, насколько и референцией; более того, наш
основной способ понять, о чем текст — это сам текст, форма, в
которой выражена суть. Для Фрая буквальный смысл повествования —
147 Притча — расширенная метафора — «всегда обладает буквальным смыслом и
интенцированным образным смыслом, который для посвященных должен быть настолько же
понятным, насколько и буквальный смысл» (Mark Gaipa and Robert Scholes, "On the Very Idea of
a Literal Meaning," in Literary Theory After Davidson, 69-70).
148 Я благодарен Стивену Ноллу за троичное рассмотрение буквального смысла (Stephen Noll,
"Reading the Bible As the Word of God"), хотя и несколько изменил его. Эти три аспекта также
соответствуют трем основным категориям Штернберга (Stemberg, Poetics of Biblical Narrative):
исторической, эстетической и идеологической, а также понятию философии речевых актов о
пропозиционном содержании, иллокуционой силе и перлокуционной значимости.
149 Френсис Уотсон согласен. Наше познание реальности часто опосредовано текстами;
познание Иисуса Христа — всегда. Уотсон называет эту позицию «интратекстуальный реализм»
(Watson, Text, Church, and the World, 152).
468
Глава шестая. Обретение текста
это сам рассказ, и буквальный денотат — мир повествования, а не
мир историка. Помещать смысл или референцию Евангелий в
некий иной мир (а именно историческую реконструкцию библейского
критика или демифологизированную реконструкцию
экзистенциалиста) означает отходить от буквального прочтения. Мы можем
обобщить утверждение Фрая и сказать, что реальность, о которой
говорит Библия, передается нам через посредство разных
литературных форм. Это — эпистемологическое утверждение,
являющееся неотъемлемой частью герменевтики критического реализма:
утверждение о том, что реальность Иисуса Христа передана нам
только в библейских текстах, не равнозначно «онтологическому
утверждению о том, что вне текста ничего нет».150 То есть референт
текста дан нам только в текстовом описании.
(3) Педагогическая природа и функция. Третий аспект
буквального смысла, в отличие от двух предыдущих категорий, является
специфически библейским. Я имею в виду характер Библии как
Писания и канона, ее природу как руководство для сообщества
верующих. Иан Прован утверждает, что мы как академические
критики или как верующие, не сможем правильно воспринимать
Ветхий Завет, если не признаем, что каждый текст был предназначен
его авторами для прочтения как Писания и вместе с остальными
Писаниями: «Игнорировать контекст Писания, в котором теперь
находится книга, — означает пренебречь свойством, весьма
важным для ее природы».151 Это также означает, что «написание
Писания» — одна из составляющих более общего литературного акта.
Если буквальный смысл есть смысл литературного акта, то
канонический контекст вполне может обеспечить наиболее
всеобъемлющую описательную структуру для определения ее природы и
содержания как «Писания». Канонический замысел, одновременно
«педагогический» и «эсхатологический», направлен на приведение
людей к Богу в настоящем и в будущем.152
150 Там же, 152.
151 Iain Provan, I & 2 Kings (Sheffield: Sheffield Academic Press, 1997), ch. 6 (особ. 99-107).
152 Стивен Нолл предлагает тем, кто заинтересован в буквальном смысле, спрашивать не
только: «Что произошло?», но и: «К чему это все идет?» ("Reading the Bible," 237). Роуэн
Уильяме соглашается: «Мы можем попробовать переосмыслить буквальный смысл Писания как
смысл эсхатологический. Диахроническое прочтение истории, которую мы называем историей
спасения, означает «прочтение» нашего собственного времени в сообществе верующих... как
того, что может быть интегрировано в эту историю» (Rowan Williams, "The Literal Sense of
Scripture," 132).
469
Часть вторая. Восстановление толкования
(4) В конечном счете, буквальное восприятие Библии
означает восприятие ее как свидетельства об Иисусе Христе. Канон есть
коллективный коммуникативный акт-свидетельство о чем-то
реальном и историческом: о направленных на откровение и искупление
действиях Бога в истории Израиля и, что еще более важно, в
истории Иисуса Христа. Буквально ли Ветхий Завет является
свидетельством об Иисусе Христе? Буквально ли истинны Евангелия?
В предыдущей главе я доказывал, что так называемый «более
полный смысл» некоторых библейских отрывков может быть объяснен
божественным авторством. Исходя из этого понимания, я хочу
теперь предположить, что этот «более полный смысл» является,
на самом деле, буквальным смыслом, взятым на уровне
наиболее плотного описания.
Понятие «более полного буквального смысла» нашло свое
светское подтверждение в работе Михаила Бахтина. Бахтин предлагает
интересное объяснение того, как смысл произведения может
расширяться. С точки зрения Бахтина, литературные формы несут в
себе потенциал смысла, который писатели могут ощущать, но
никогда не контролируют вполне. Потенциал произведения — это его
способность действовать в будущих обстоятельствах, способность,
которую Чайлдз как раз и именует канонической функцией.
Авторский труд направляется ощущением того, что литературный акт
обладает скрытым потенциалом, как и его желанием явно
выразить то, что он имеет в виду. Сосредоточиваться исключительно на
том, что явно осознает автор (или первые читатели) — значит, по
мнению Бахтина, «замкнуть» произведение «внутри эпохи».153 Но
ведь функция канона в том и состоит, чтобы служить руководством
для будущих поколений и обеспечивать описательную структуру,
внутри которой следует понимать будущие события (напр.:
событие Иисуса Христа). Латентный потенциал текста в самом деле
существует, будучи сокрыт в накопленной мудрости, которую
несет литературная форма.154 Это значит, что буквальный смысл —
смысл литературного акта — может иногда быть
неопределенным или незавершенным. Однако — и это критически важно —
153 М. М. Bakhtin, Speech Genres and Other Late Essays, 4.
154 См. в особенности Gary Saul Morson and Caryl Emerson, Mikhail Bakhtin: Creation of a
Prosaics (Palo Alto: Stanford Univ. Press, 1990), ch. 7.
470
Глава шестая. Обретение текста
неопределенность, о которой мы говорим, преднамеренна, более
того, она — определенная характеристика смысла текста.155
Ветхозаветные пророчества и апокалипсис, например, замышлялись как
описание того, что сами авторы понимали лишь приблизительно.
Поэтому плотное описание, например, Исайи 53 требует обширного
объяснения литературного акта. То, что часто кажется переносным
или образным толкованием, может на самом деле оказаться
попыткой описания определенного, хотя и сложного, литературного акта:
свидетельства об истории спасения.
Если существует более полный смысл, то он находится на
уровне Бога, собирающего вместе разнообразные частные и открытые
коммуникативные акты и намерения авторов-людей в один
«великий канонический Замысел».156 Данное Ноллом определение
«канонической интенциональности» заставляет задуматься:
«Вдохновляющее действие Духа Святого и труд сообщества верующих
над сохранением предания приводят к созданию окончательного
текста Писания, образцового для всех последующих поколений
верующих».157 Ветхозаветные Писания свидетельствуют о
милостивом действии Божьем. Сочетание их с Новым Заветом не придает
им «духовности», а «уточняет» их денотат. Иисус Христос —
самое полное воплощение Божьей благодатной деятельности в
Израиле и в мире — является буквальным референтом библейского
свидетельства.158
155 Рассматривая отношения двух Заветов, Кальвин говорит о том, что Ветхий завет —
«буквален», а Новый Завет — «духовен» {Institutes, 2.11.7-8). Он, однако же, утверждает также,
что суть свидетельства (напр.: о завете благодати) одинакова в обоих Заветах, хотя Новый Завет
делает более явным и специфичным, а следовательно — более славным то, что в Ветхом Завете
было скрытым и неопределенным, (см. Institutes, 2.10.2, 23).
156 Noll, "Reading the Bible As the Word of God," 234.
157 Там же, 232.
158 В отличие от Барта, я не верю в то, что Библия указывает на Иисуса Христа лишь
благодаря чуду благодати Божьей. Человеческий иллокуционный акт, на уровне канона, уже
«свидетельствует». Я считаю, что Барт смешивает иллокуционный и перлокуционный аспекты
коммуникативного действия (см. мою статью "God's Mighty Speech Acts: The Doctrine of
Scripture Today," в Philip E. Satterthwaite and David F. Wright, ed., A Pathway Into the Holy Scripture
[Grand Rapids: Eerdmans, 1994], 143-81). Хансингер отмечает, что для Барта темой библейского
повествования является живое присутствие или обращение Бога (Hunsinger, How to Read Karl
Barth, 49; ср. на с. 172 формулировку соотношения между когнитивной и перформативной
стороной Писания, которая ближе к моей собственной). Отметим, однако, что если критическое
толкование означает, как предполагает Барт, проникновение в то, о чем действительно говорит
текст, то мы можем сказать, только в этом смысле, что буквальный смысл равен критическому.
471
Часть вторая. Восстановление толкования
Сквозь тусклое стекло? Определение буквального
смысла
И если труба будет издавать неопределенный звук, кто
станет готовиться к сражению? (1 Кор. 14,8)
Может ли Библия сказать что-то определенное или
определимое об истории, о Боге, о состоянии человека? Или она издает
лишь «неопределенный звук»? Ставкой в споре о реальности и
познаваемости буквального смысла, в конечном счете, является
авторитетность Библии и, более того, способность любого текста
обращаться к нам и преображать нас. В этом отношении особенно
впечатляют параллели между нашим временем и Реформацией.159 С
одной стороны, модернистские «энтузиасты» заявляют, что смысл
обновляется каждый день в результате встречи текста и читателя,
встречи, направляемой духом эпохи не менее, чем Духом Божьим.
С другой стороны, современные «паписты» утверждают, что тексты
могут быть верно толкованы лишь в церкви. Фиш представляет что-
то вроде светского католичества, приписывающего авторитетность
толкования не какому-то одному сообществу (напр.: римскому), а
сообществам толкователей в целом.160 С другой стороны,
реформаторы утверждали, что разум, предание и опыт не гарантируют
понимания; однако в то же время они утверждали, что смысл Библии —
и «ясный», и «простой» (единый).161 Но для кого? Для ученого? Для
бедняка? Для ведомого Духом сообщества верующих? Кто (если он
существует) способен определять буквальный смысл текста?
Подобно тому, как реформаторы шестнадцатого века
восстановили роль текста и, тем самым, возможность литературного
знания, так и нам приходится восстанавливать текст в наше время.
Восстановление текста означает избавление его от неясности и от
превратностей множества толкований (30 000 разных толкований
по Кьеркегору), то есть восстановление познаваемости
буквального смысла. Нормативность буквального смысла вновь под
угрозой, причем двоякой: (1) предположение о том, что текст «темен»
159 В самом деле, цель данной главы — вновь обрести характерные для Реформации
темы — приоритет буквального смысла, ясность Писания, священство всех верующих, Sola
Scriptura, — переформулировав их с точки зрения теории коммуникативной деятельности.
160 Хауэрвас верно отмечает параллель между так называемыми «папистами» и авторитетными
толковательными сообществами по Фишу. См. Hauerwas, "Stanley Fish, the Pope and the Bible,"
в Unleashing the Scriptures, ch. 2.
161 Лютер говорил о claritas Scripturae, Кальвин — о его единственном {simplex) смысле.
472
Глава шестая. Обретение текста
и неясен, бесконечный лабиринт без выхода; (2) предположение о
том, что процесс толкования порождает препятствия — схемы,
экраны, интересы, идеологии, — которые навсегда отдаляют смысл
как он есть от восприятия пытающегося его познать.
Есть ли в тексте нечто, предшествующее процессу толкования,
нечто, что нам следует обнаружить и за что мы ответственны? Если
смысл становится понятным при непосредственном
соприкосновении читателя и текста, из этого неизбежно следует, что смысл
не пребывает в самом тексте, и, следовательно, будет меняться и
развиваться, встречаясь с новыми читателями и попадая в новые
контексты. Чтобы решить этот вопрос, я прежде всего рассмотрю
то, что значит ясность Писания в эпоху постмодерна. Потом
перейду от ясности к сообществу и предложу критическое рассмотрение
тезиса Фиша о том, что процесс толкования регулируется властью
сообщества толкователей, а не текста. Действительно ли дело
обстоит так, как говорит Фиш — мы видим текст как сквозь тусклое
стекло, если вообще видим?
Ясность Писания: филология и психология
Вначале важно определиться, с чем не следует отождествлять
ясность Писания. Прежде всего, она не отменяет толкования.
Смысл Библии не будет дан нам посредством некоего
мистического процесса герменевтического впитывания. Не значит это и того,
что независимый толкователь способен, вооружившись лишь
критическими методиками, извлечь смысл из текста. Ясность
Писания означает, что Библия в целом достаточно однозначна для того,
чтобы любой благонамеренный человек, верующий во Христа,
мог толковать каждую ее часть с относительной достоверностью.
В контексте Реформации ясность Писания была основным
оружием в противоборстве с авторитетностью господствовавшего
толковательного сообщества Рима.
Полезным оказывается наблюдение Тисельтона,
различающего три разных использования реформатского понятия ясности.
В отношении утверждения, что смысл Писания в принципе
нестабилен и не определен, ясность Писания является
герменевтическим принципом.162 В отношении претензий на то, что Библия может
162 Лютер возражает против утверждения Эразма о невозможности достижения твердых
толковательных выводов, которые могли бы вести к действию, потому что учение Писания
неопределенное и неясное. В частности, Лютер реагирует на скептицизм Эразма в отношении
473
Часть вторая. Восстановление толкования
толковаться лишь авторитетным сообществом толкователей (а
именно официальным учением церкви), ясность становится
критическим принципом.163 И наконец, в отношении утверждений, что
определенный смысл Писания не может быть достаточно познан,
чтобы назидать и влиять на жизнь христиан, ясность действует как
эпистемологический принцип.
Лютер говорит о «внешней» ясности, которая значит, что лишь
благонамеренный толкователь, следующий правилам языка (я бы
добавил, литературы) может открыть интенциональный смысл
автора.164 Рамм называет это «филологическим» принципом
протестантизма. Филология — это не просто наука о словах, а «полная
программа понимания литературного произведения».165
Филология — любовь к учению и литературе, любовь к словам в
контексте, любовь к речевым актам — контролирует толкование Библии
в протестантизме.166 Для филолога слова есть инструмент света
и истины; для грамматолога, если вспомнить, слова обманчивы и
темны. Призыв Лютера к внешней ясности не следует, однако,
путать с наивным объективизмом; разум толкователя не бывает
пассивным наблюдателем, как если бы нейтральность была гарантией
познания. Наоборот, филология говорит о любви к словам. И
ясность Писания всегда предполагает благонамеренность
толкователя и, предположительно, также принадлежность его к сообществу
верующих.167
ясности Библейского учения о свободе воли. Согласно Тисельтону, «Лютер критикует
утверждение о невозможности высказывания утверждений, претендующих на истину на
основании библейских текстов» (New Horizons, 182).
163 Тисельтон отмечает, что для Реформаторов убеждение в ясности Писания не предполагало
безразличия ни к толковательной теории, ни к толковательной традиции (Thiselton, New
Horizons, 179).
164 Беркоувер говорит о произошедшем после Реформации сдвиге, в результате которого
ясность стали ассоциировать не с посланием, а со словами: «Таким образом Писание
оказывается изолировано от контекста спасения, и ясность уже подразумевает не понятность
религиозного учения... [а] теоретическую и вербальную ясность, доступную для восприятия
и понимания естественного ума... Согласно Реформаторам, сила, обеспечивающая эту связь
между посланием и словами, есть сила Духа» Holy Scripture [Grand Rapids: Eerdmans, 1975],
275). Я буду рассматривать жизненно важный вопрос о связи Слова и Духа в следующей главе.
165 Ramm, Protestant Biblical Interpretation, 114.
166 В наши дни филология относится к научному изучению языков, однако исторически
она имела дело с более широкой программой понимания литературных текстов: «Истинно
филологический дух... в толковании Библии целью своей ставит обнаружение исходного
смысла и интенции текста. Его цель — экзегеза — выведение смысла из текста, и он избегает
эйзегезы — привнесения смысла в текст». (Ramm, Protestant Biblical Interpretation, 115).
167 Лютер признает, что многие тексты в Писании неясны, однако причина этого не в том,
474
Глава шестая. Обретение текста
Внешняя ясность Писания означает, что в принципе — то есть
если наши познавательные и толковательные способности
действуют как должно — буквальный смысл основной линии или послания
Библии может быть понят.168 Или, если выразить это в терминах
данной работы, внешняя ясность Писания означает, что толкователь
может правильно воспринять объект литературного познания —
авторские локуционные и иллокуционные акты.
Следует ли из внешней ясности Писания то, что разумные
индивиды могут самостоятельно толковать его для себя? Нужно ли
добавлять к разуму веру, чтобы понять смысл Библии? Лютер,
считая высшей властью канон, а не церковные советы, в то же время
«не стремился заменить предание субъективным мнением, подобно
тому, как это делает рационализм, начиная с эпохи Просвещения».169
Причина в том, что отдельный человек видит, как сквозь тусклое
стекло (1 Кор. 13, 12). Настоящая проблема связана не с текстом, а
с сердцем и разумом толкователя. Поэтому Лютер говорит о нужде
во «внутренней» ясности, появляющейся вследствие просвещения
толкователя Духом Святым, которое позволяет читателю видеть
Библию как она есть, а именно — как свидетельство о Христе.
Учитывая ослепляющее действие греха, и Лютер, и Кальвин
верили, что истины Божьи могут уразуметь лишь те, кто просвещен
Святым Духом, то есть те, кто исходит из верных предпосылок.170
Представление Лютера о «внутренней ясности» — о
необходимости того, чтобы толкователь был «правильно настроен» — является
столь же проницательной критикой субъекта познания, как и все,
что впоследствии было предложено постмодернистами. Субъект
познания времен Просветительства был заслужено разоблачен как
что их автор выразился неясно, и не в запутанности содержания, а в том, «что нам неизвестен
их словарный набор и грамматика» ("On the Bondage of the Will," в Е. Gordon Rupp and Philip
S. Watson, ed., Luther and Erasmus: Free Will and Salvation [Philadelphia: Westminster, 1969], 110).
168 Тисельтон (вслед за Бейссером, Беркоувером и Раммом) проводит различие между взглядами
Лютера на ясность Писания и свободной от контекста «очевидностью» смысла. Внешняя ясность
соотносится с целью — служить для познания Христа. Это — функциональная способность
нести весть о Христе. (New Horizons, 184-85). Беркоувер считает, что впоследствии дискуссия о
ясности стала вопросом слов вместо функции спасения (Holy Scripture, 275). Более подробное
обсуждение взглядов Лютера на ясность Писания: см. Friedrich Beisser, Claritas Scripturae bei
Martin Luther (Gottingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1966).
169 Thiselton, New Horizons, 182.
170 «Воистину, для многих людей многое остается малопонятным; но причина этого не в
неясности Писания, а в слепоте или лености тех, кто не желает приложить усилия и взглянуть
на чистейшую истину». (Luther, "On the Bondage of the Will," 111).
475
Часть вторая. Восстановление толкования
химера, а с ним — и представление о том, что внутренней ясности
достаточно для понимания. Никто не приходит к тексту с «чистым
разумом»; понимание — вопрос того, есть ли у человека «нужные
предрассудки», точнее, есть ли у него то, что я в следующей главе
называю толковательными добродетелями. Весьма нечестно было
бы обвинять текст в неясности, когда на самом деле причина
неясности — в психологии человека, субъекта познания.
Кальвин сформулировал доктрину о «внутреннем
свидетельстве» Духа в противовес трем альтернативным объяснениям
(Церковному Преданию, новым откровениям Святого Духа и
рациональным (обосновательским) доказательствам) того, как человек
обретает уверенность, что Писания есть Слово Божье. Можем ли мы
соотнести понятие Кальвина о внутреннем свидетельстве с
представлением Лютера о внутренней ясности? Очень важно не
ошибиться в определении того, на что делали ударение реформаторы.
Внутренняя ясность и внутреннее свидетельство имеют, конечно,
значение для эпистемологии, однако их роль — не в обеспечении
независимых и непосредственных свидетельств правильного
смысла или субъективной уверенности в нем. Напротив, внутренняя
ясность связана познавательными способностями толкователя,
действующими должным образом в надлежащем окружении. Итак,
внутренняя ясность — способ не короткого замыкания
толковательной рациональности, а выполнения ее требований.
«Ни одно пророчество в Писании не предназначено для
единоличного толкования...» (2 Пет. 1, 20, парафраз). Этот текст,
поясняет Кальвин, не воспрещает отдельным людям толковать
Писание, а указывает, что для них «было бы неблагочестиво исходить
из того, что родилось в их собственных головах. Даже если бы все
люди мира пришли к согласию и единомыслию, результат все равно
был бы частным, их собственным».171 По мнению Лютера,
толкователи Писания часто затемняют его ясный смысл, подменяя истину
ложью. Проблема идеалов Просветительства — личной автономии
и объективного знания — в том, что реальные субъекты познания
поражены пороком. Лютер говорит, что субъективные прочтения
следует судить «судом Писания в присутствии Церкви».172
171 Calvin: Commentaries, Library of Christian Classics, 88.
172 Luther, "On the Bondage of the Will," 159.
476
Глава шестая. Обретение текста
Улучшает ли положение толкователя его принадлежность к
сообществу? Не всегда. Реформаторы — герменевтические реалисты;
с точки зрения Лютера и Кальвина, согласие само по себе не
гарантирует правильности толкования. Более того, существует реальная
опасность излишне высокой оценки собственной традиции
толкования. То есть не возражая против традиции как таковой, они в то же
время сопротивлялись всякой своекорыстной попытке обращения к
авторитетности традиции.173 Возвысить толковательную традицию
над Писанием означает, в конечном итоге, пойти за Фишем и
признать, что текст создается сообществом. Тем самым предание
оказывается дополнением к Писанию, а не комментарием к нему.
Идея ясности Библии не устраняет нужды в толковании, а
напротив, делает труд толкования еще более важным. Ясность
Писания означает, что понимание возможно, а не то, что оно легко.174
Восстановление текста не означает примирения всех
конфликтующих толкований. Ясность Писания — не абсолютная ценность
и не абстрактное свойство, а определенная функция,
относящаяся к его цели — свидетельствовать о Христе. Иначе говоря,
ясность Писания не означает, что мы будем знать все, что можно
знать о тексте, но что мы будем знать достаточно для того, чтобы
иметь возможность и обязанность отреагировать на его
содержание. Ясность Писания — это не столько вопрос его очевидности,
сколько вопрос действенности', Библия достаточно ясна для того,
чтобы ее коммуникативный акт был успешен.
Вот то, что касается объективного аспекта литературного
познания. Внешняя ясность Писания — необходимое, но не достаточное
условие литературного познания, поскольку, как мы уже видели,
существует и субъективный компонент: психология толкователя,
готовность читателя иметь дело с содержанием. В следующей главе
мы увидим, что у литературного знания есть и нравственная, и
реляционная составляющие. На будущее: богословские
добродетели являются также и добродетелями эпистемологическими,
что побуждает нас говорить о вере, надежде и любви, ищущих
173 Тридентский собор утвердил право церкви «судить об истинности смысла и толкования
святых Писаний» (Denzinger, The Sources of Catholic Dogma [1957], sec. 786).
174 Беркоувер комментирует: «Касательно исповедания ясности, можно без преувеличения
сказать, что в практической жизни многие оказались бы более согласны с утверждением
из 2 Пет. 3, 16 о Павловых посланиях, «в которых есть нечто неудобовразумительное» {Holy
Scripture, 269).
477
Часть вторая. Восстановление толкования
понимания текста. И вполне может оказаться, что главное из
них — любовь.
Толковательный сговор: относительность описательных
структур
Фиш предпринимает важный шаг к нарушению процесса
толкования, отказываясь принять понятие буквального смысла, не
зависящего от деятельности читателя. Это стало неотъемлемой частью
постмодернистского плюрализма: Библия есть «открытый текст»,
призывающий к множественности толкований, а не «закрытая
книга», допускающая единственную, ограниченную парадигму
толкования (напр.: историко-критическую).175 Кант прежде уже
предпринял решающий эпистемологический шаг, заявив, что мы не можем
познать реальность как она есть, а лишь реальность,
переработанную понятийной схемой. Кант предполагал, что все рациональные
мыслители подходят к толкованию реальности с одними и теми же
категориями (ньютоновскими). Отрицая предпосылку Канта о том,
что все рациональные мыслители истолковывают реальность с
помощью одной и той же понятийной схемы, Фиш и другие
мыслители-постмодернисты придали релятивизму философскую
респектабельность.176 В наши дни схем толкования столько же, сколько
толковательных сообществ, и ни у одного из них нет права заявить, что
его подход к миру или тексту более рационален, чем любой другой.
Как мы уже отмечали, мыслители-постмодернисты
отказываются уравнивать какую-либо точку зрения, даже точку зрения разума,
с Божьей.177 Возможно, Бог также использует для интерпретации
реальности некую концептуальную схему, но даже если и так, то
175 См. Watson, ed., The Open Text, 3-4.
176 Концептуальная схема — это набор понятий, которые служат как структура или ментальная
карта при интерпретации человеческого опыта, мира, или, в случае с герменевтикой —
толкования текста.
177 Это хорошо выражает Хилари Путнэм: «Не существует Божьей точки зрения, которую
мы могли бы познать или с пользой для себя представить; существуют только отдельные точки
зрения реальных людей, отражающие разнообразные интересы и цели, которым служат их
теории и описания (Reason, Truth and History, 50). Путнэм предлагает «реализм с человеческим
лицом», «внутренний реализм», который утверждает, что нам доступна реальность (и истина),
но только через посредство описательной теории. Путнэм считает, что объекты не существуют
отдельно от описательных схем. Понятие смысла как результата встречи читателя с текстом
может найти философскую поддержку в теории внутреннего реализма Путнэм.
478
Глава шестая. Обретение текста
людям она недоступна. Эта мысль ярко выражена в романе Барри
Ансворта «Моралите», в котором труппа средневековых актеров
решается на воспроизведение реального события, как выясняется,
произошедшего в данной местности убийства, вместо привычной
библейской истории. Монах, который временно примкнул к труппе,
встревожен, поскольку трансцендентный смысл этого события не
открыт им настолько, как, скажем, смысл Адамова греха или смысл
рождения и смерти Христа (через Писание). Монах возражает:
«Актеры, как и прочие люди, должны использовать Божий смысл, они
не могут создавать свой собственный, это — ересь, это — источник
всех наших бед, это — причина изгнания наших прародителей».178
Один из актеров возражает против его логики и богословия: «Люди
могут придавать вещам смысл... Это не грех, потому что наши
смыслы временны и могут меняться». То есть в отсутствие абсолютного
знания, все мы — толкователи-актеры, обязанные создавать смысл,
который, в лучшем случае, окажется интересным и полезным в
рамках определенных ситуаций и сообществ. Но может ли такая «игра»
удостоиться, хотя бы на время, права называться знанием?
Сам буквальный смысл, по утверждению Фиша, всегда
является продуктом некоей толковательной деятельности, некого способа
прочтения. Разве множественность описательных структур не
превращает само понятие литературного познания в насмешку? Если
смысл и истина привязаны к схеме, значит ли это, что текстов и
«реальностей» существует столько же, сколько схем? Из
релятивизма Фиша следует, что, например, если он и Хирш разошлись в
понимании поэмы «Потерянный рай» Мильтона, он мог бы сказать
(будучи последовательным в своих утверждениях), что они прочли
разные тексты. Если бы они когда-либо вместе преподавали курс по
Мильтону, уместно было бы спросить: «В этом классе два текста?»
Что есть история толкования — путь прогресса и
возрастания литературного познания или просто отражение изменчивости
культурной моды? Каким образом Фиш объяснит, например,
смену общепринятого мнения ученых по поводу «Потерянного рая»?
Состоит ли его причина в том, что эксперты обнаружили в тексте
нечто прежде не замеченное, некий новый «факт»? Вовсе нет. По
мнению Фиша, новое согласие отражает перемену в ценностях,
обычаях и идеологии ученых. То же самое верно и в отношении
Barry Unsworth, Morality Play (London: Penguin, 1996), 64.
479
Часть вторая. Восстановление толкования
знания в целом: «Нет дисциплины, насколько бы научно
достоверной она ни казалась, которая не порождена определенным
контекстом дополнительных ценностей и убеждений на фоне
предположений, предпосылок, обеспечивающих для них единственно
возможное обоснование».179 Подобно тому как, согласно знаменитому
заявлению Бультмана, Евангелия рассказывают нам об апостолах
(т. е. об авторах) больше, чем об Иисусе, Фиш мог бы сказать, что
наши толкования рассказывают нам о себе больше, чем об Иисусе
или евангелистах.
«Видеть в тексте себя». Поскольку это выражение означает
проекцию самого себя на текст, оно вряд ли может называться
примером литературного познания. Однако даже научные термины,
слова, которые мы используем для описания увиденного, имеют смысл
только относительно определенных теоретических структур.
Например, Кеплер и Тихо Браге, два астронома шестнадцатого века,
наблюдали на рассвете в восточном небе один и тот же объект,
но видели не одно и то же.180 То, что воспринимали их оптические
рецепторы, было сходным, однако это было пропущено через
различные концептуальные схемы: «Видят люди, а не их глаза».181 То,
что мы видим в Писании или на небосводе, есть функция
концептуальной схемы, к которой мы принадлежим. Фиш и Хирш, Кеплер
и Браге — члены различных толковательных сообществ. Если мой
Мильтон отличается от вашего Мильтона, из этого следует, что
наши толкования несопоставимы (несравнимы), а раз их нельзя
сравнить, они не могут конфликтовать. Конечно, цена, уплаченная
за такой герменевтический пацифизм — потеря настоящего
диалога. Является ли знание относительным, привязанным к понятийным
структурам и толковательным схемам? Этот тупик возвращает нас
к нашему исходному поиску: создаем ли мы Мильтона, которого
читаем, или солнце, которое видим?
Дональд Дэвидсон, философ, протестует против самой идеи
«понятийной схемы».182 Реальность не может быть привязана к схеме
179 Norris, What's Wrong With Postmodernism? 93.
180 Norwood Hanson, Pattern of Discovery (Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1958).
181 Цит. по Livingstone, Literary Knowledge, 93.
182 Donald Davidson, "On the Very Idea of a Conceptual Scheme," в Relativism: Cognitive and
Moral, ed. Michael Krausz and Jack W Meiland (Notre Dame: Univ. of Notre Dame Press, 1982).
480
Глава шестая. Обретение текста
прежде всего потому, что реальность только одна.183 Можно
осмысленно сказать, что мы по-разному воспринимаем реальность, но
не что мы воспринимаем разные реальности. Во-вторых, как нам
узнать, что у кого-то иная понятийная схема? Сказать, что у кого-то
настолько отличные от наших убеждения, что их нельзя сравнивать,
означало бы утверждать, что эти убеждения нам известны (потому
что мы понимаем их и знаем, что они отличаются от наших).
Однако, если я могу понять других путем перевода их языков на мой,
это значит, что наши понятийные системы не настолько
несопоставимы.184 На самом деле, люди, использующие разные понятийные
схемы, часто оказываются способны достигнуть взаимопонимания,
если не согласия: иначе как бы могли марксисты и капиталисты,
структуралисты и постструктуралисты, реформаты и арминиане
спорить друг с другом?185
Существование разнообразных сообществ, использующих
разные понятийные структуры, представляется бесспорным. Дэвидсон
доказывает, что это разнообразие не должно подразумевать
невозможности взаимного сравнения или исправления:
Даже если мы не способны познавать мир помимо нашего
толкования его, это не означает, что мир и есть это самое
толкование. Если бы было так, наши толкования не могли
бы меняться и не могли бы подвергаться успешному и
убедительному опровержению; они, однако, меняются, как и
мы сами меняем и улучшаем наши теории в соответствии с
нашим меняющимся опытом.186
183 Согласно Джону У. Куперу, Божий сотворенный порядок — это контекст, в рамках которого
обретают форму разнообразные толковательные схемы. Однако восприятие сотворенного
порядка — не просто действие чистого разума, оно включает в себя точки зрения (перспективы),
связанные с приверженностями. Купер придерживается «перспективного реализма»: John W.
Cooper, "Reformed Apologetics and the Challenge of Post-Modem Relativism," Calvin Theological
Journal 28 [1993]: 108-20).
184 Cm. Thomas Kent, "Interpretation and Triangulation: A Davidsonian Critique of Reader-Oriented
Literary Theory" in Literary Theory After Davidson, 37-58.
185 Здесь уместны замечания Дэвидсона о «триангуляции». Мы знаем лишь наш собственный
разум — наш язык, наши понятия — лишь через «триангуляцию» с другими пользователями
языка и с объектами, составляющими наш общий мир (см. Kent, "Interpretation and Triangulation").
Философия Дэвидсона только сейчас начинает применяться в литературоведении. Обозрение
того, как критика релятивизма Дэвидсоном применялась в литературоведении: см. Michael
Fisher, "Davidson and the Politics of Relativism: A Response," в Literary Theory After Davidson,
286-94.
186 Reed Way Dasenbrock, "Do We Write the Text We Read?" in Literary Theory After Davidson, 29.
16-227 481
Часть вторая. Восстановление толкования
Поэтому модель Дэвидсона «допускает возможность обучения
на опыте, чего не допускает и не может допустить модель Фиша, при
которой толкователи всегда уверены в своих толкованиях».187
Подобным образом, возможность учиться с помощью текстов
«наиболее важная причина для чтения и изучения литературы: вырваться
за пределы нашего собственного круга убеждений и предпосылок
ради встречи с другой точкой зрения».188 Все, что может признать
Фиш, — это то, что мы встречаемся с другими толкованиями: «В
своей системе он не дает нам возможности счесть чем-то иным сам
текст».189 В самом деле, отрицание реализма Фишем привязывает
его к убеждению, что для текста «быть — означает быть
толкованным». Быть частью сообщества толкователей, считает Фиш,
означает видеть лишь то, что позволяет схема этого сообщества.
С точки зрения Фиша, авторитетность сообщества толкователей
является во всех отношениях абсолютной. В этом плане
утверждение о нормативности буквального смысла есть контрудар по
авторитетности толковательных сообществ.
По поводу взглядов Фиша на роль толковательных сообществ
и герменевтического релятивизма, к которому они явно приводят,
можно задать и другие вопросы. Прежде всего, он одновременно и
утверждает, и отрицает наличие универсальных категорий для
толкования. С одной стороны, он отрицает то, что одна схема может
иметь категории, соответствующие истинному положению вещей;
с другой же — он уверен, что его собственное объяснение
положения дел в толковании соответствует реальности. Более того, он
дает свое объяснение толкования тем, кто принадлежит к другим
сообществам толкователей, и явно намеревается переубедить их.
Однако если мы видим только то, что позволяют нам видеть наши
собственные схемы толкования, каким образом Фиш намеревается
общаться с нами и убеждать нас? Не опровергает ли такой
релятивизм сам себя, или, по меньшей мере, не противоречит ли он сам
себе внутренне? Ведь релятивист «регулярно участвует в общении
187 Там же, 28.
188 Там же, 31. Ср. комментарий К. С. Льюиса о том, что мы читаем ради обретения
«расширения нашего бытия... Мы хотим видеть другими глазами, воображать иным
воображением, чувствовать сердцем кого-то другого, а не только собственными» (С. S. Lewis,
An Experiment in Criticism, 137). Встреча с иной точкой зрения возможна только при наличии в
тексте точки зрения, отличной от моей собственной. Это, в свою очередь, предполагает, что все
тексты обладают в какой-то мере характеристикой свидетельства.
189 Там же.
482
Глава шестая. Обретение текста
и оценке других концептуальных систем, в то же время
подразумевая, что не имеет на это оснований».190
Во-вторых, не является ли толковательный релятивизм сам
себя увековечивающим? Если авторитетность заключается в
сообществах толкователей, а не в текстах, то тексты не могут ставить
под сомнение традицию толкователей. Но почему тогда столь
многие сообщества считают необходимым запрещать некоторые книги,
считая их опасными? Не является ли само существование «Перечня
запрещенных книг» красноречивым свидетельством того, что
тексты способны возвышать свое мнение вопреки голосу сообщества?
Приведенные выше причины не позволяют наделить
сообщества толкователей авторитетностью. Тем не менее, разве не может
такое сообщество быть в какой-то мере полезным для
литературного знания? Зададим вопрос более конкретно: есть ли какая-либо
польза от принадлежности к церкви при толковании Библии? Если
да, то не по тем причинам, о которых говорит Фиш. Не потому, что
церковь каким-то образом создает лучший смысл, и не потому, что
понятийная схема церкви обязательно более адекватна, чем
имеющаяся в распоряжении ученых. Я полагаю, суть здесь в том, что
Церковь представляет собой сообщество толкователей, которых
объединяет интерес к буквальному смыслу Библии,191 а
возможно, и в том, что церковь есть сообщество, в котором взращиваются
толковательные добродетели — интеллектуальные, нравственные
и духовные. Потому что не только интересы сообщества, но и его
добродетели создают подходящую среду для получения
литературного знания. Короче говоря, литературное знание
обусловлено не только наличием правильных описаний, но и наличием
правильной предрасположенности. Литературное познание, как
и познание вообще, связано, в конечном счете, с нравственностью,
эпистемическими правами и обязанностями и интеллектуальными
добродетелями.192
190 Cooper, "Reformed Apologetics and the Challenge of Post-Modem Relativism," 115.
191 Потому что, как отмечает Фрай, их объединяет первостепенная забота об уникальной
значимости Иисуса Христа, темы евангельских повествований.
192 Здесь я особенно полагаюсь на Linda Trinkhaus Zagzebski, Virtues of the Mind: an Inquiry Into
the Nature of Virtue and the Ethical Foundations of Knowledge (Cambridge: Cambridge Univ. Press,
1996). В гл. 7 я более подробно рассмотрю толковательную этику. В данной главе я особенно
интересуюсь этическими аспектами литературного познания. Однако описание того, что я
называю «толковательными добродетелями», объединяет обе главы.
16- 483
Часть вторая. Восстановление толкования
Критический герменевтический реализм и роль
описательных структур
До этого момента я доказывал, что в тексте есть смысл —
воплощенная в действие коммуникативная интенция. «Мир текста» —
это не свободно плавающий, неопределенный референт, а нечто
напрямую связанное с тем, что сделал и сказал его создатель —
автор. А как насчет природы «текста мира»? Следует ли из научного
реализма, что существует «единственно правильное толкование»
физической реальности, то есть единственная верная
толковательная структура для описания мира сего? Такое соединение науки и
литературоведения не произвольно: отрицание реализма нацелено
в сердце всякого толкования, литературного и научного; понятие
же о том, что описательные структуры связаны с сообществами
толкователей, зародилось в контексте истории и философии
науки.193 Более того, некоторые историки науки вслед за Фишем
доказывают, что научные открытия зависят от определенной «схемы»,
с точки зрения которой ученый наблюдает мир. То, что мы видим
(наши наблюдения), обуславливается теориями (нашими
способами видения; нашими «взглядами» на мир).194
Толкование — основа всех наших попыток наладить контакт с
реальностью, включая реальность физическую. И в науке, и в
толковании текстов мы подходим к данным с толковательной схемой и
ищем обратной связи.195 В ответ на ползучий релятивизм несколько
философов науки недавнего времени предложили вариант
реализма, избегающий редукционизма с одной стороны и релятивизма —
с другой. Различие между этими новыми, умеренными реалистами
193 Имею в виду работы Томаса Куна, особенно — его идею о том, что разные научные
сообщества имеют дело с разными «парадигмами» или толковательными структурами. См. его
The Structure of Scientific Revolutions, 2d ed. (Chicago: Univ. of Chicago Press, 1970). О значимости
Куна для герменевтики, см: Vern S. Poythress, Science and Hermeneutics (Grand Rapids: Zondervan,
1988), chs. 3-4.
194 Пауль Фейерабенд отстаивает эпистемологическую анархию. Знание — «вечно
расширяющийся океан взаимно несовместимых... альтернатив» (Against Method, 30). Мы имеем
не столько видение мира, сколько версии, которые диктуются предположениями, оказавшимися
в данный момент господствующими.
195 Хирш, вслед за философом Карлом Поппером, ясно говорит о том, что достоверность
толкования зависит от того, испытываются ли и исправляются ли наши толковательные схемы.
Поппер считает науку критическим методом, поскольку она проверяет эти предположения или
гипотезы (см. его Conjectures and Refutations). Хирш также сравнивает толкование текста с
процессом испытания конъектур (см. его Aims of Interpretation, 32-33).
484
Глава шестая. Обретение текста
и более ранними, наивными реалистами заключается в том, что
первые осознают неизбежность описательных структур. Отличаются
умеренные реалисты от противников реализма своей уверенностью
в том, что первые считают, что, по крайней мере, некоторые
описательные структуры далеко не искажают реальность и необходимы
для познания определенных ее аспектов. Я уверен, что многие, хотя
и на все, из этих доводов в пользу научного реализма могут быть не
менее уместны в отношении литературного знания.
Подобно миру, текст существует независимо от наших
попыток его толковать. Вопрос, который я рассматривал на протяжении
этой главы, таков: обладают ли мир и текст стабильным смыслом —
дифференцированной структурой, врожденной природой — и
доступна ли она познанию. «Обоснователи» прежде были уверены,
что такая структура существует, что разум способен отобразить ее
и что это отображение и считается знанием. Новые реалисты
продолжают верить, что мир существует и ведет себя независимо от
того, как мы его опишем, но добавляют, что мы способны познавать
мир только с помощью определенных описаний, которые сами
историчны и временны. Они временны, потому что мир может
«противиться»; он может сопротивляться нашим попыткам
воздействовать на него и описывать его определенным образом. Поэтому
одни описательные структуры позволяют нам «прочитывать» мир
лучше, чем другие, тем самым «улучшая читаемость природы».196
Тексты могут быть неспособны к такому сопротивлению, однако и
они могут противиться описаниям и способам использования,
нарушающим их природу.
Вопрос не в том, можем ли мы заниматься толкованием без схем
и описательных структур (конечно, нет), а в том, обязательно ли
эти структуры вносят искажения в реальность, которую они
пытаются описать. Более умеренный реализм, который я представляю
здесь, не только признает неизбежность описательных структур,
но и утверждает, что они, тем не менее, могут позволить нам
распознавать реальность, хотя и нечетко. Теории Фиша, напротив,
никогда не способны на большее, «чем воспроизводить
существующие идеи согласия по поводу того, что считается компетентным,
196 Roy Bhaskar, Philosophy and the Idea of Freedom (Oxford: Blackwell, 1991), 30-31. Бхаскар
делит свою книгу на две части: «Анти-Рорти» и «В пользу критического реализма».
485
Часть вторая. Восстановление толкования
квалифицированным прочтением».197 Проблема с определением
истины как согласия — того, как определенное сообщество видит и
описывает реальность — в том, что ничему не позволено
считаться причиной для критики существующего положения вещей. Фиш
отказывается признать, «что убеждения способны меняться... в
результате открытий».198
Одно дело — утверждать, что все толкование обременено
теориями, и совсем другое — считать, что все текстовые свидетельства
в литературоведении «полностью определяются точкой зрения,
теорией или предрассудками читателя».199 Толкования не бывают
истинными, правильными или обоснованными просто потому, что
некоторые толкователи считают их таковыми: «Мы ищем открытий, а
не изобретений».200Sola scriptura — напоминание о том, что
текстовый смысл не зависит от наших схем толкования и, следовательно,
что наши толкования остаются второстепенными комментариями,
которые никогда не приобретут статуса самого текста.
Представление о том, что читатели создают или конструируют смысл,
отвергает sola scriptura и оказывается окончательно нереалистичным:
«В вопросах онтологии, оно [отрицание реализма] исповедует или
полное воздержание (никакие конструкты знания нельзя считать
относящимися к чему-либо), или полную распущенность
(существует столько же реальностей, сколько и конструктов)».201 Новая
нравственность литературного знания уже не ценит адекватности
в отражении реальности. Реалист, с другой стороны, остается в
завете дискурса и практикует достоверность; цель толковательных
схем не в том, чтобы затемнить смысл, а в том, чтобы передавать и
освобождать его. Толковательные схемы играют служебную роль,
подобно повитухе; они не рождают смысл, а способствуют его
рождению.
Некоторые из наших подходов к толкованию могут быть
взаимоисключающими, но не обязательно все. Вполне может быть, что
различные толковательные схемы дополняют друг друга и каждая
из них представляет верное понимание какой-то из сторон одного
197 Norris, What's Wrong With Postmodernism? 108.
198 Там же, Ю6.
199 Livingstone, Literary Knowledge, 82.
200 Там же, 63.
201 Там же, 87.
486
Глава шестая. Обретение текста
и того же текста. Итак, хотя единой верной толковательной схемы
может и не существовать, из этого не следует, что одна схема так
же хороша, как и любая другая. Каждая схема может быть сочтена
хорошей или плохой относительно ее же цели. Если цель состоит в
том, чтобы определить, как было написано Евангелие от Матфея,
критика источника может быть наилучшей толковательной схемой.
Однако, если цель состоит в том, чтобы определить собственные
богословские склонности Матфея, более пригодным инструментом
окажется критика редакции. Важно отметить, что критик
источника и критик редакции используют различные схемы для того, чтобы
описать разные аспекты одного и того же текста. То же самое
делают и феминистические, фрейдистские, структуралистские критики,
критики с точки зрения читательского отклика и даже деконструк-
тивисты. В то же время, не все попытки описания могут считаться
настоящим толкованием. Я оставляю термин «толкование» для
попытки понять литературный акт. Оправдано ли такое ограничение,
надеюсь, будет видно из следующего раздела.
Полезно указанное Бхаскаром различие между (1)
представлением о том, что все убеждения возникают в некоем социальном
контексте («эпистемическая относительность»), и (2)
представлением о том, что все убеждения одинаково достоверны в том смысле,
что нет рациональных оснований предпочитать одно из них другому
(«релятивизм суждений»). Можно принять (1) (и тем самым
избежать эпистемологического абсолютизма), но отвергнуть (2) (тем
самым избегая эпистемологического релятивизма).
Релятивисты, как говорит Бхаскар, ошибочно выводят второе из первого.202
Реформаторы согласились бы с тем, что все толкования временны
{semper reformata предполагает возможность изменения наших
толкований), но не с тем, что все толкования равно достоверны.
Критический реализм утверждает, что теории описывают
существующее (отсюда «реализм») и что теории могут быть истинными
или ложными (поэтому «критический»). Критический реализм не
утверждает, что наши теории или описания должны быть
«абсолютно» правильны. Более того, именно этот подход к знанию по
принципу «все или ничего» порождает скептицизм. Однако, к счастью,
существует и третий путь, выход из вредоносной дилеммы «все или
ничего», а именно — нечто. Некоторые описательные структуры
Roy Bhaskar, Scientific Realism and Human Emancipation (London: Verso, 1986), 54.
487
Часть вторая. Восстановление толкования
могут обеспечить некое толковательное познание. «Это — красная
сфера», — утверждение, которое в некоторых обстоятельствах
может быть приемлемым для обозначения того, что человек видит на
восточном небосклоне зимним утром. С другой стороны, это
предложение может подвергнуться «референционному уточнению»;
описания могут становиться все более и более точными. Человек
говорит: «Это — гигантская газообразная огненная сфера». При
этом он имеет в виду не иное солнце, а использует другую
описательную структуру.
Я не хотел бы вызвать недоразумения относительно этого
.жизненно важного момента: критический реализм не усматривает
противоречия в том, чтобы, с одной стороны, верить в «существующее
положение вещей», не зависящее от нашего описания, и, с другой
стороны, применять несколько разных толковательных структур
для описания этого «положения вещей». Сказать, что существует
истина в мире или истинный смысл, необязательно означает то же
самое, что заявить о своей приверженности единственной схеме
толкования. Как спрашивает Харти Филд: «Как может
существовать единственное истинное и полное описание того, каков мир?
Понятия, которые мы используем в описании мира, не неизменны».203
С точки зрения критического или умеренного реалиста, мир есть
нечто существующее, независимое и определенное, однако не
подлежащее описанию без толковательных схем и лишь частично
доступное с помощью каждой отдельной схемы. Однако понятия, которыми
мы пользуемся для описания мира или текста, тоже не вполне
произвольны. «Нельзя сказать, что любой интерес с нашей стороны
будет достаточен, если мы исследуем то, какова реальность на самом
деле».204 Ни мир, ни текст не вполне равнодушны к нашим
описаниям. Как говорит Франк Фаррелл: «Сама реальность "образовывает"
нашу способность воспринимать ее, позволяя нам понять, например,
что интерес к механическому движению очень малых частиц
вещества поможет нам понять строение природы лучше, чем интерес к
магическому управлению веществами».205 И хотя Фаррелл не
проводит связи между «образованием нашего восприятия» и
нравственностью познания, я это делаю: библейский текст будет направлять
203 Harty Field, "Realism and Relativism," Journal of Philosophy 84 (1982): 553.
204 Farrell, Subjectivity, Realism, and Postmodernism, 167.
205 Там же, 169.
488
Глава шестая. Обретение текста
наши попытки понять его, только если мы будем терпеливы,
внимательны и в самом деле открыты для восприятия этого смысла.
То есть наши описательные структуры на самом деле не
конструируют реальность, но некоторые стороны реальности
проявляются или выходят на свет только при определенном описании.
Некоторые вещи, о которых мы хотим сказать, «могут проявиться
как определенные, только если мы применим определенный набор
понятий».206 Например, работу Парламента невозможно описать
понятиями физики элементарных частиц. Потому умеренный
реалист признает, «что мы нуждаемся в плюрализме лексических
наборов для того, чтобы достоверно описать существующее
положение вещей».207 Итак, при том, что мы неминуемо подходим к тексту
с толковательной схемой, мы, тем не менее, можем увидеть именно
смысл текста, а не только наше собственное отражение. Наше
знание о существующем — в мире или в тексте, — оставаясь
неполным, все равно может быть истинным. Итак, критический реализм
находится в промежуточном положении между
эпистемологическим абсолютизмом («существует единственная верная схема
толкования») и эпистемологическим релятивизмом («каждая схема
толкования настолько же хороша, как и любая другая»).
В итоге, хотя мы не можем полностью избежать толковательных
схем и описательных структур, текст, тем не менее, и в самом деле
может образовывать наши способности восприятия литературы.
Идеи, внушаемые сообществом толкователей, не обязаны быть
последним словом. Напротив, если текст образовывает наши
способности к толкованию, то сама Библия может быть подобна «школе».
В самом деле, именно этот образ использует Кальвин для примера
авторитетности Библии: Писания есть классная комната, Дух —
учитель, а Сын — предмет изучения. Нам нужно толковательное
сообщество, но не потому, что только оно обладает единственной
истинной схемой толкования, а потому, что церковь является или,
по крайней мере, должна являться сообществом, которое (1)
проявляет толковательные (этические, духовные) добродетели и (2)
разделяет общий интерес к смыслу текста и желание слышать слово
Божье. Итак, роль сообщества в толковании — не наставничество,
а служение.
206 Там же, 167.
207 Там же, 129.
489
Часть вторая. Восстановление толкования
Sola scriptural плотные описания и истина в
толковании
Взирай на текст и смотри, верно ли я толкую его.208
Успех любого толкования зависит от его способности
объяснять, от способности извлечь из текстовых данных более
сложный, слитный и естественный смысл, чем другие
толкования.209
Я утверждаю, что нормой литературного познания является
буквальный смысл: смысл литературного акта, того, что автору
удалось совершить в тексте. Я дал определение ясности Писания и
заявил, что между утверждением о ясности текста, с одной стороны, и
признанием необходимого посредничества описательных структур,
с другой, нет противоречия. Сейчас я хотел бы подробнее
рассмотреть представление о том, что «Писание толкуется Писанием» и
показать, что сама Библия требует определенных типов описания в
противовес другим. Сначала я сделаю подробный анализ описания
литературного акта, а затем перейду к трем второстепенным
вопросам: сравнимы ли наши описания? могут ли наши описания быть
опровергнуты, можно ли доказать их ложность? могут ли наши
описания быть дополнены и можно ли доказать их достоверность?
Описание объекта литературного знания
Философ Артур Эддингтон однажды дал в известном примере
два очень разных описания своего письменного стола. «Обычное
описание» перечисляло его цвет, вес, стиль и твердость. «Научное
описание», с другой стороны, перечисляло множество
элементарных частиц и электрических зарядов. Первое описание использует
структуру повседневного восприятия; второе — физики
элементарных частиц. Которое из этих описаний стола лучше и достовернее?
Должно ли одно из них быть определяющим стандартом всех
остальных наших повествований?210 Нет. Не потому, что оба они
ложные, а потому, что оба они — истинные. Истина здесь — не столько
208 The Work of William Tyndale, ed. Gervasse E. Duffield (Philadelphia: Fortress, 1965), 337.
209 Gundry, Mark, 4.
210 Этот пример взят из Paul Churchland, Scientific Realism and the Plasticity of Mind (Cambridge:
Cambridge Univ. Press, 1979), 44.
490
Глава шестая. Обретение текста
вопрос совершенного соответствия, сколько достоверного
ответа-, в классе есть стол, и оба описания относительно адекватно
отвечают этому факту. Речь идет не о том, что столов два; стол один,
но он описан двумя разными способами с двумя разными целями.
Что описывают литературные критики? Штейн Хаугом Олсен
считает, что толкование состоит в описании частей текста; нет
дальнейшего «смысла», который был бы вне «тела» текста или выше
него.211 То есть литературная критика ограничена описанием
эстетических черт, которые делают текст достойным внимания. Пейсли
Ливингстон, в отличие от него, предпочитает описывать социо-
историческую ситуацию текста и использовать текст для того,
чтобы по очереди высвечивать определенные аспекты его социоисто-
рической ситуации.212 Я лично считаю, что толкование должно
описывать текст как литературный акт. Я не буду вновь
приводить аргументы в пользу такого определения текста. Вместо этого
я сосредоточусь на том, что именно подлежит описанию, если
объектом литературного знания на самом деле является интенциональ-
ный авторский смысл.
Основная цель интерпретации — понимание текста. Однако
понимание включает в себя нечто большее, чем знание о тексте.
Суть понимания в том, чтобы войти в когнитивный контакт
с действием автора в тексте, а также с содержанием
самого текста. Далее, понимание включает в себя восприятие
целого, т. е. сочетание фрагментарных частей текста между собой;
понимание включает в себя восприятие «структуры целого куска
реальности».213 Просто описать эстетические свойства текста или
его общественно-историческое происхождение еще не значит
объяснить, что есть текст и почему он таков. Напротив, мы
воспринимаем смысл текста, когда понимаем не какой-либо факт,
касающийся текста, а сам текст.
Говоря кратко, суть моего тезиса заключается в том, что
наиболее адекватными описаниями текстов являются те, которые
стремятся воспринять текст как сложный коммуникативный акт.
Конечно, читатели и экзегеты не всегда делают именно это. Убедительны
211 Stein Haugom Olsen, The End of Literary Theory (Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1987),
53-72.
212 Livingstone, Literary Knowledge, ch. 7.
213 Zagzebski, Virtues of the Mind, 49.
491
Часть вторая. Восстановление толкования
ли в этом случае мои аргументы в пользу определения текста как
коммуникативного действия? Я считаю, что да. Что самое важное,
нам нужно обращаться к замыслу (интенции) деятеля, чтобы
достоверно описать его действие.214 Например, нам надо знать, что отказ
человека от еды был задуман как голодовка, если мы хотим понять
этот акт как политический жест. То, что мы пытаемся описать, как
говорит Алтиери, — это замысел, воплощенный в произведении.215
Замысел произведения «есть целенаправленность, обладающая
общественной определенностью, подобно соглашениям... которая
гарантирует полную силу личных предикатов».216 Опять-таки, любое
описание, не учитывающее авторский замысел, навсегда останется
«тонким».
Мне могут возразить: «Не является ли утверждение о том, что
существует единственная правильная толковательная структура,
формой эпистемологического абсолютизма?» Признавая внешнее
сходство, я, тем не менее, утверждаю, что различие есть. Прежде
всего, сказать, что литературный акт есть норма толкования — не
то же самое, что утверждать преимущество одной описательной
структуры над другими; как мы увидим далее, коммуникативные
акты допускают, более того — требуют более одной
описательной структуры. Это потому, что наши описания — не однозначные
отображения, они направлены по-разному и «нацелены» на разные
аспекты литературного акта. Во-вторых, хотя текст и можно
рассматривать по-разному, причем каждый из способов рассмотрения
может быть обусловлен правомерными интересами, но
рассматривать текст, не сводя его до уровня естественного объекта,
практически невозможно, если не учитывать в процессе описания
замысел автора. Конечно, ничто не может воспрепятствовать критику
давать безличные описания текста или делиться собственной
реакцией на его прочтение. Однако первый вид описаний не дает
литературного знания (если, конечно, не включить в него такие данные,
как размер, цвет и вес книг), а последние — являются описаниями
214 Аннет Варне соглашается: «Вопреки мнению Дерриды, я полагаю, что замысел
художника — важная информация, если человек ставит перед собой задачу определить, что есть в
произведении, какова его суть» (On Interpretation: A Critical Analysis, 166).
215 Алтиери здесь идет по стопам Квентина Скиннера, который признает различие «между
раскрытием смысла, выявляющего замысел, и замыслом вложить в текст определенный смысл,
который может и не осуществиться» (Altieri, Act and Quality, 146).
216 Там же, 146.
492
Глава шестая. Обретение текста
не текста, а чего-то иного. Я делаю вывод: существование и
природа текста абсолютно необъяснимы без рассмотрения
коммуникативной деятельности.
Итак, текст как литературный акт является основной формой
достоверного толкования.217 Подобно физическому миру,
литературный акт обладает собственной природой и определенной
формой; он есть структурированное произведение (Рикёр). Что именно
является определенным в литературном акте? Есть разные
аспекты: (1) слова и предложения текста, находящиеся в четко
определенных отношениях друг с другом, и отношения между этими
словами и словами, находящимися вне данного текста, которые были
написаны в то же время на том же языке (локуционный аспект);
(2) жизненный мир, или контекст исторического автора, в
котором лица, вещи и события находятся в определенном отношении к
другим лицам, вещам и событиям; (3) образ мыслей автора, то есть
способ, которым автор взаимодействует с миром через слова (илло-
куционный аспект).218
Можно ли сравнивать наши описания?
Давайте теперь представим, что литературовед описывает
именно литературный акт. Существует ли единственное истинное
толкование этого акта, или может существовать несколько
сопоставимых описаний? Можно ли сравнивать разные описания, или они
настолько отличны друг от друга, что сравнивать их нельзя?219
Герменевтический рационализм не приемлет «беспредельного»
плюрализма. Соответственно, я утверждаю, что однотипные описания
можно сравнивать, в то время как описания разных типов, будучи
несравнимы, могут, тем не менее, дополнять друг друга.
Возможно, некоторые из конфликтующих между собой толкований просто
описывают разные аспекты одного и того же текста.
217 Отметим, что эта формулировка депсихологизирует данное Хиршем объяснение того, как
авторский замысел может быть нормой достоверности толкования.
218 Лафарг делает интересное наблюдение по поводу того, что причина толковательных
конфликтов — не в неопределенности библейских текстов, а в том, что «их смысл настолько
определенен и точен, что никакой парафраз не может заменить собою непосредственного
взаимодействия со словами и их определенным фоном» ("Are Texts Determinate?" 354). Никакой
парафраз не способен вполне воспринять материю и энергию оригинала. Описание никогда не
заменит собой взаимодействие с самим текстом.
219 «Несравнимость» означает, что два описания или теории настолько различны, что ни один
стандарт измерения или оценки не применим к ним обоим.
493
Часть вторая. Восстановление толкования
Описание сложных действий. Даже простые действия могут
быть описаны разными способами: одно и то же действие можно
описать как «щелкнул выключателем», «включил свет» и «спугнул
вора»... Или нет? Если я не знал, что на первом этаже дома вор, и
просто спустился в кухню за водой, я не стал бы впоследствии
описывать мой акт включения света как «отпугивание вора». Почему
нет? Потому что, щелкая выключателем, я не думал об отпугивании
воров (хотя и думал о том, чтобы включить свет). Ричард Уолхайм
объясняет: «Каждому описанию действия соответствует мысль,
и, по определенному описанию, действие является намеренным,
если оно было продиктовано соответствующей мыслью. Мысль
руководит действием, если она и порождает его, и определяет его
характер».220 Тот факт, что вор испугался, было непреднамеренным
последствием того, что я включил свет. Мы можем вспомнить, что
действия нельзя достоверно толковать, рассматривая только
телодвижения деятеля или случайные последствия. Такие тонкие
описания упускают из виду само действие.
А как насчет категорий речевого акта? Обеспечивают ли они
плотность описания? Некоторые критики обвиняют теорию
речевых актов в том, что она полагается на примитивное понимание
интенции, при котором одно ментальное состояние объясняет смысл
целого текста.221 Другие обвиняют Сёрля в том, что он
придерживается модели «одно предложение — один речевой акт», игнорируя
более широкий социальный (и литературный) контекст.222 Возьмем,
например, акт написания письма. Как его описывать? Рассмотрим
различные возможности: он взял перо; он двигал пером по
прямолинейным и искривленным траекториям; он написал слово
«предопределив»; он послал приветствия; он обратился к ефесянам; он связал
вместе несколько предложений об избрании; он объяснил важность
события Иисуса Христа. Сколько таких описаний необходимо для
того, чтобы понять литературный акт, известный нам как Послание
к Ефесянам? Сколько таких актов могут быть описаны с помощью
понятийной схемы философии речевых актов?
Может быть, что, в конечном счете, философия речевых актов
окажется неприменимой к процессу описания.223 Однако не следует
220 Richard WoMheim, Painting As an Art, 18.
221 Livingstone, Literature and Rationality, 78.
222 Jacob L. Mey, Pragmatics: An Introduction (Oxford: Blackwell, 1993), 148.
223 Сам я не настолько пессимистичен по этому поводу, как, похоже, другие. Лансер и Пратт
494
Глава шестая. Обретение текста
описывать коммуникативное действие атомистически, по одному
слову или по одному предложению. Напротив, одной из основных моих
целей было показать то, что литературные акты представляют собой
более высокий уровень коммуникативной сложности, чем знаки и
предложения, и поэтому требуют для своего описания новых
понятий, уместных для форм литературы — речевых актов более высокого
порядка.224 Я действительно утверждал, что предложение —
элементарная единица смысла, но предложения могут составлять сложные
коммуникативные акты, точно так же как другие простые действия
(напр.: забивание гвоздей, пиление, сверление) могут стать
составляющими более сложного акта (напр.: изготовления книжного шкафа).
Обладают ли смыслом целые тексты, подобно высказываниям?
Имеет ли смысл спрашивать не только: «Что означает выражение
«вечная жизнь» в Ин. 3, 16?» но и: «В чем заключается смысл
Четвертого Евангелия?» Да, имеет. Текст, хоть он и состоит из многих
частей, тем не менее, является полным и законченным действием.
Для Аристотеля мифос, или «сюжет» текста, есть средство,
благодаря которому «цели, причины и случай сходятся во временном
единстве целого и полного действия».225 Итак, подобно сюжетам,
которые они передают, тексты также являются объединенным
действием, требующим для описания нового набора понятий. Итак,
текст — это крупномасштабный коммуникативный акт, сложный
проект смысла.
Описание и предписание реакций. Не всякое толкование
нацелено на описание того, что автор делал со своими словами.
Некоторые описывают то, что чувствовал читатель; то, как текст
использовался для поддержки несправедливых общественных структур;
то, как текст использовался в освободительной борьбе угнетенных;
или даже то, как прочесть текст, словно его написал кто-то другой.
«Общество библейской литературы» проводит семинары,
посвященные истории толкования, семиотике и экзегезе, женщинам в
мире Библии, идеологической критике, психологии и библеисти-
ки, роли Библии в средиземноморской культуре и традициях — и
это лишь некоторые из них. На каждом из семинаров поднимаются
положили хорошее начало применению теории речевых актов к текстам, а Нойфилд применил
некоторые из их методик к Первому посланию Иоанна.
224 Я рассматриваю некоторые из них в следующем разделе о литературном жанре.
225 Paul Ricoeur, Time and Narrative (Chicago Univ. of Chicago Press, 1984), 1 :ix.
495
Часть вторая. Восстановление толкования
свои особые вопросы и используются собственные описательные,
или предписывающие, структуры. Можно ли считать все эти
подходы настоящим толкованием? Можно ли их считать истинными?
Сколько из них мы можем воспринимать как описание
литературного акта?
Аннет Барнс придерживается широких взглядов на то, что
значит описание толкователями литературного акта:
Здесь я полагалась на то, что считаю неопровержимой
истиной, а именно — на то, что есть много способов
правильно охарактеризовать действие, и не все они будут ясно
указывать на замысел того или иного действия, или
согласовываться с этим замыслом... Художники, создавая
произведения искусства, совершают определенные действия,
они — деятели, и то, что они делают — это не простое
осуществление их намерений, даже если им удается воплотить
свой замысел в жизнь.226
Интересно, что сама Барнс неизменно отдает предпочтение
тому, что я назвал «буквальным смыслом» коммуникативных
актов, потому что она говорит, что не все приемлемые толкования
обязательно «истинны». Например, известно, что Грант Вуд
намеревался изобразить на своей картине «Американская готика»
мужчину и его дочь, но нет ничего, что препятствует восприятию этой
картины как изображения мужа и жены. Почему нет? Потому что,
по словам Барнс, «ложное» толкование более интересно (и поэтому
приемлемо) чем «истинное» (напр.: то, которое соответствует
коммуникативному намерению автора). Ее критерии истины в
толковании замечательно просты: «Проявление успешно исполненного
художественного замысла достаточно для установления
истинности в толковании».227 Однако она предполагает далее, что не все
толковательные высказывания должны быть направлены на истину: в
конце концов, почему «истинный» должно быть более важным
критерием для оценки толкований, чем «интересный»?228
226 Barnes, On Interpretation, 57.
227 Там же, 56.
228 Полный ответ на этот вопрос требовал бы сравнения и, вероятно, иерархического
построения различных ценностей. Здесь я не могу рассматривать этические и богословские
обоснования для предпочтения «истины» «развлечению». В данном контексте я постулирую
знание как ценность. В следующей главе я также подкрепляю свою теорию толкования путем
обращения к справедливости (по отношению к автору).
496
Глава шестая. Обретение текста
Действительно — почему? Для противника реализма в
герменевтике вопрос истины — спорный. Как мы видели ранее,
плюралисты не регулируют толкование за счет отказа от литературного
смысла как нормы. Читатели, конечно, могут говорить о своем
собственном опыте прочтения текста. Это их право, которое я не
оспариваю. Формула: «Что это значит для меня» практически
неопровержима, подобно: «Я вижу это так» или «Мне так кажется». Такие
утверждения трудно проверить или опровергнуть, потому что они
сообщают о субъективном переживании другого человека. Я
оспариваю, однако, претензию, часто остающуюся невысказанной, на
то, что такие заявления помогают в понимании текста; более того,
я сомневаюсь в том, что такие сообщения вообще можно считать
примером настоящего толкования. Описания опыта читателя,
которые, конечно, в самом деле могут быть «интересны», не могут
быть нормативными, если невозможно доказать, что они обладают
потенциалом для ясного понимания буквального смысла текста. По
моему мнению, опыт читателя порождает толковательное
понимание только в том случае, если он способствует пониманию текста
этим читателем и, в принципе, всеми остальными.
Другие литературоведы описывают другие аспекты текста.
Который из них можно назвать источником литературного знания?
До какой степени, например, следует описывать
общественно-исторические условия, чтобы обрисовать контекст? Должны ли мы
описывать последствия литературных актов, и если да, то какие —
непосредственные или долгосрочные? Опять-таки, хотя все это —
обоснованные вопросы, их не стоит путать с пониманием самого
текста. Они могут давать знание, но будет ли это литературное
знание, знание о том, как автор использовал слова и что он имел в
виду? Смысл коммуникативного действия не следует путать с
описанием исходных обстоятельств его создания или его последующей
значимости.
Уровни описания. Что такое литературный акт? Как мы уже
видели, автор действует на разных уровнях: локуционном, илло-
куционном и перлокуционном. Текст — это содержательный,
поэтический и целенаправленный авторский акт, у которого есть три
условия обоснованности: правдивость (искренность), истинность
(соответствие) и уместность (согласованность). Следовательно,
есть несколько уровней и аспектов литературного акта, которые
497
Часть вторая. Восстановление толкования
могут быть рассмотрены. Возьмем, например, книгу Ионы. Автор
много говорит о человеке по имени Иона и его несчастьях, включая
знаменитый эпизод с китом. Он излагает эти утверждения в
повествовательной форме. Итак, можно описывать «акт повествования»:
отношения между рассказчиком и содержанием (точку зрения), а
также то, как было составлено повествование (риторику).229
Далее, в повествовательных текстах мы можем отличать «уровень
представленной последовательности действий и уровень
толковательных актов».230 Иначе говоря, можно описывать происходящее
в рассказе {р — пропозиционное содержание, сюжет), а можно
описывать то, что делал автор, относясь к своему повествованию
именно таким образом (иллокуцию). Какой вид литературного акта
представляет собой книга Ионы: историю, беллетристику, сатиру,
богословие, или некое сочетание всего этого? Что она делает и
истинность чего утверждает?
Трудно определить, который из заданных выше вопросов
наиболее важен для описания смысла литературного акта, известного
нам как книга Ионы. Многие толкователи Библии предпочитают
не выбирать вообще. Мы можем вспомнить предложение Стаута
отказаться от термина «смысл» и вместо этого говорить об
интересах толкователей: «Хороший комментарий — это то, что служит
нашим интересам и целям».231 Подобным образом для Бартона
разнообразные методы толкования Библии отражают разные
интересы и цели, на которых они построены. «Библейские «методы» —
это в действительности не методы, а теории: теории, приводящие
к формализации интеллектуальных догадок о смысле библейских
текстов».232 Стаут верно воспринимает вопрос: «Суть современных
разногласий в литературоведении — вопрос о том, какие
нормативные цели должны быть у того, кто изучает литературу».233 В самом
деле, большой части этих разногласий можно было бы избежать,
если бы толкователи перестали говорить о смысле и прямо
говорили, что именно они описывают (или предписывают) и почему.
Было бы полезно, например, знать, что цель определенного подхода
229 См. Snaider, The Narrative Act.
230 Altieri, Act and Quality, 257.
231 Stout, "What Is the Meaning of a Text?" 6. Подобно ему, Ливингстон уверен, что вопрос «Что
это значит?» слишком неточен (см. его Literary Knowledge, ch 6).
232 John Barton, Reading the Old Testament: Method in Biblical Study, 205.
233 Stout, "The Relativity of Interpretation," 112.
498
Глава шестая. Обретение текста
в том, чтобы прочесть текст так, словно он написан читателем.
Можно сомневаться в ценности такого подхода, но, по крайней мере, это
прояснило бы цель действия определенных форм критики с точки
зрения читательского отклика. Я лично явным образом высказал
свою цель в толковании Библии: обретение литературного знания,
открытие того, что делает со словами автор, и того, о чем эти слова.
Я утверждаю, что это — верный отклик на текст как
коммуникативный акт, потому что он учитывает замысел о языке (и литературе)
и повышает мое самопознание именно благодаря тому, что дает мне
познать нечто иное, чем я сам.
Еще одна важная причина, чтобы сосредоточиться на
литературных актах, состоит в необходимости избежать
редукционистских подходов, дающих только тонкие описания.234 В данной работе
я выступаю против онтологического редукционизма, утверждая,
что смысл — это не просто вопрос взаимоотношений между
знаками. Авторский замысел, как мы уже видели, использует знаки,
создавая более высокий уровень организации и целей. Кроме того, я
отвергаю методологический редукционизм и настаиваю на том, что
мы можем отдать литературным актам должное, только используя
для их объяснения несколько описательных структур. Объектом
толкования и литературного познания является литературный акт,
и этот объект требует более одной описательной структуры,
причем некоторые из них оперируют на разных уровнях объяснения.
Последний момент достоин более подробного рассмотрения.
Здесь вновь пригодится параллель между научной и
литературной теорией. Современная наука рассматривает мир как иерархию
сложности. Артур Пикок пишет: «Соответственно разным уровням
иерархии природы, существуют науки, изучающие определенный
уровень».235 Каждый уровень требует своей науки и своего набора
понятий. Пикок выделяет четыре четко разграниченных уровня:
физический мир, живые организмы, поведение живых организмов
и человеческая культура. Он отмечает, что только люди
охватывают все четыре уровня. Я предлагаю определить подобный же
иерархический строй и для коммуникативной деятельности: знаковые
системы, речевые акты, литературные акты. Отмечу по ходу, что
Библия охватывает все три уровня.
234 См. "Reductionism," в Ted Hondreich, ed., The Oxford Companion to Philosophy, (Oxford:
Oxford Univ. Press, 1995), 750-51.
235 Peacocke, Theology for a Scientific Age, 39.
499
Часть вторая. Восстановление толкования
Пока метод остается в рамках соответствующего ему уровня,
описания, которые он дает, будут совместимы. Однако слишком
часто бывает так, что приверженцы одного метода выходят за его
пределы и стремятся покорить другие уровни. Структурализм, к
примеру, стремится объяснить речевые акты и акты литературные,
используя понятия, место которым — на уровне знаковых систем
(на уровне langue, а не parole). Вопрос в том, могут ли описания
и понятия одного метода толкования сводиться к описаниям и
понятиям другого, или поглощаться ими. Один из примеров такого
редукционизма в науке — попытка объяснить человека, от его
лимфатических узлов до способности любить, с точки зрения
эволюционной биологии или генетики.236
Наиболее решительная форма тенденции к объяснению явлений
высшего уровня терминами описаний низшего уровня — та,
которую можно назвать редукционизмом типа «не что иное, как»;
например, в утверждении: «Комплексы более высокого порядка — не
что иное, как атомы и молекулы, рассматриваемые в процессе».237
Такого рода материализм обрекает нематериальные явления
(мысли, надежды и желания) на нереальность, подобно тому, как Юм
некогда отправил в огонь метафизику. Параллель между
редукционистскими тенденциями и деконструктивизмом провести очень
легко: в обоих случаях целое радикально анализируется
(разбирается на части) с целью разрушить его. Упразднение самости
эволюционной биологией находит параллель в литературоведении в
упразднении предложения семиотикой. Сведение ментальных
категорий к физическим соответствует деконструктивному
утверждению о том, что тексты — это «не что иное, как»
дифференциальные знаковые системы. Семантическое «упразднение» напоминает
другие знаменитые попытки «сведения человеческого» —
например, объяснение человеческого поведения Б. Ф. Скиннером с точки
зрения кондиционирования (воспитания), или объяснение
человеческого поведения Фрейдом с точки зрения бессознательного.
Деконструктивизм и прагматизм — примеры того, что
можно назвать социосемиологией, редукционистским подходом,
236 В журнале "Time" в 1996 году была напечатана статья, в которой прелюбодеяние
рассматривалось с точки зрения эволюционной биологии. Если бы неверность можно
было полностью объяснить с точки зрения биохимии человека, целый уровень дискурса —
нравственный — был бы полностью уничтожен.
237 Peacocke, Theology for a Scientific Age, 40.
500
Глава шестая. Обретение текста
который уничтожает коммуникативную деятельность,
рассматривая смысл и толкование в терминах идеологических
знаковых систем и сообществ толкователей. Ближайшая параллель
в науке с постмодернистским сведением литературной теории —
это, вероятно, социобиология, которая обосновывает все
социальное поведение биологическими причинами.238 Оба подхода —
социобиологический и «социосемиологический» — действенны в
уничтожении как осмысленного действия, так и действий смысла.
Артур Пикок доказывает, возражая редукционистам, что
понятия, уместные на одном уровне, не всегда могут быть объяснены в
терминах другого: «Нет смысла, в котором элементарные частицы
могут быть сочтены более реальными, чем, например,
бактериальная клетка, человек или социальный факт».239 Подобным образом, в
отношении литературной теории нет смысла, в котором знаки или
социоисторические контексты могут быть сочтены «более
реальными», чем коммуникативные интенции или действия автора.
Каждый уровень описания относится к чему-то несводимо
реальному. Сосредоточиваться на смысле как коммуникативном действии,
в конечном счете, означает выбрать экспансионистский, а не
редукционистский подход к описательным структурам и
литературному знанию.
Тенденция сводить все разнообразие человеческого опыта к
одному уровню описания опасна, потому что она объясняет
реальность меньше, а не больше. В самом деле, редукционистские
теории не столько объясняют что-то, сколько дают повод это
игнорировать. Они не сохраняют явление, а приносят его в жертву
на алтаре единства теории. Что именно мы теряем, рассматривая
коммуникативную деятельность как эпифеномен, вторичный
симптом, идеологии? Я считаю, что мы теряем цель языка, его
предназначение согласно замыслу. С христианской точки зрения, язык
обеспечивает опорную структуру для свободы и ответственности,
а также — наиболее важное средство взаимодействия
человеческих существ.240 Опять-таки, с христианской точки зрения язык
238 Более полное рассмотрение социобиологии см: там же, 226.
239 Там же, 41.
240 Грех подрывает это средство вместе со всеми остальными аспектами человеческого бытия.
Сатану, поскольку он истолковывает Божьи слова для своих собственных целей, можно назвать
первым из радикальных критиков с точки зрения читательского отклика — первым из тех,
кто заменил голос автора собственным: «Истинно ли сказал Бог?» Богословский нереализм в
501
Часть вторая. Восстановление толкования
не просто обуславливает нашу мысль, а дает нам возможность
мыслить свободно. Замена коммуникативного действия описанием
социальных и организационных структур власти — это не только
промах по герменевтической цели, но и уничтожение
коммуникативной свободы и ответственности, того, что мы делаем с нашими
словами.
Существует ли нормативный уровень описания? Можем ли мы
выстроить разные уровни иерархически? Есть ли «базовое»
описание текста, которое было бы правдивее других? Деррида, если
помните, протестует против того, чтобы считать какой-либо контекст
привилегированным. Пикок согласен: «Ни одно описание на каком-
либо одном уровне не может быть адекватным... ни один уровень не
обладает онтологическим приоритетом».241 В то же время он хочет
избежать окончательного дробления разных уровней. Конечная цель
для Пикока заключена «в том, чтобы описание принимало во
внимание все уровни исследования, анализа и описания, и соединяло их в
единое понимание».242 Человек как существо требует
биологического описания, но, как отмечает Пикок, то, что свойственно
исключительно человеку, находится выше биологического уровня.243 Точно
так же текст семиотичен, однако то, что характерно
исключительно для текста, тоже превосходит этот уровень. Текст есть продукт
определенного человека, представителя определенной культуры;
следовательно, наши методы описания должны учитывать интенци-
ональный аспект текста.244 Пикок доказывает, что невозможно
объяснить человека, пользуясь исключительно категориями
естественных наук. По выражению Питера Мореа: «До сей поры опыт
человеческого бытия не может быть даже воспринят никем, кроме поэтов,
романистов и драматургов; он определенно не поддается научному
описанию».245 Пикок согласен: именно этот «многоуровневый
характер человеческого бытия на деле составляет истинную суть бытия
конечном счете оказывается мятежным противлением необходимости отвечать какому-либо
голосу, кроме собственного.
241 Peacocke, Theology for a Scientific Age, 224-25.
242 Там же, 225.
243 Там же, 244.
244 Текст может быть совместным или даже международным продуктом, но это лишь
осложняет, а не опровергает картину, которую я здесь набрасываю.
245 Peter Morea, Personality: An Introduction to the Theories of Psychology (London: Penguin,
1990), 154-55).
502
Глава шестая. Обретение текста
личности».™ Подобным образом в моей модели коммуникативной
деятельности учитываются разнообразные уровни того, что
составляет саму суть бытия литературного акта.
Если объект нашего описания — коммуникативный акт, нам
полезно будет рассмотреть то, что Сёрль называет его
«существенным» условием.247 Смысл существования языка и литературы —
социальное взаимодействие. Так называемый «коммуникативный
принцип» утверждает, что если люди говорят или пишут, «они
делают это с намерением сообщить что-то кому-то».248 Коммуникация —
основная причина производства и потребления текстов. Принцип
коммуникации указывает на то, что социальное взаимодействие
есть суть и речевых, и литературных актов. Коммуникация — это
акт, упорядочивающий все остальные акты, которые включаются
в создание произведения письменного дискурса. Если мы не
воспримем коммуникативную направленность и ошибемся здесь, мы
ошибемся во всем.
Писание толкует Писание. Что, в свете предшествовавших
рассуждений, могут значить слова «Писание толкуется
Писанием»? Это значит, что Библия сама указывает, какого рода описания
будут наиболее уместны. Вернемся к Ионе. Книга Ионы —
сложная реальность, требующая для полного толкования разнообразных
описательных структур, действующих на разных уровнях. Для
начала, на самом элементарном уровне, ее можно анализировать по
одному предложению, фрагментарно. В этом случае мы получим
информацию, а не понимание. Такое прочтение подобно слишком
близкому рассмотрению полотна, нарисованного
художником-импрессионистом: видны только разрозненные мазки. Только сделав
шаг назад, мы начинаем видеть картину (напр.: «Руанский собор
на рассвете»). То же самое происходит с большинством
литературных актов; их смысл становится виден, только если мы «делаем
шаг назад» и рассматриваем целое. Следовательно, сам текст, в его
246 Peacocke, Theology for a Scientific Age, 246.
247 Существенное условие речевого акта — то, что позволяет ему считаться обещанием,
утверждением, предостережением и пр.
248 Mey, Pragmatics, 55. Возможные исключения из этого правила включают в себя людей,
которые говорят только с собой и пишут только для себя. Но я утверждаю, что даже здесь
язык выполняет коммуникативную функцию, поскольку человек, который говорит или пишет,
относится к себе как к иному.
503
Часть вторая. Восстановление толкования
полной и окончательной форме, и есть наилучшее свидетельство
для определения того, что делает автор.
Итак, на уровне целого, книга Ионы — это повествование с
началом, серединой и концом, которое можно анализировать в терминах
его литературной структуры. На уровне повествования, Иону лучше
всего описывать как рассказ — но рассказ о чем: Боге, Ионе, народе
Ниневии, большом ките? Что делает автор помимо «рассказывания
истории»? Один из возможных ответов, которого придерживаются
несколько комментаторов: Иона — это сатира на религиозное
самодовольство Израиля и критика израильского этноцентризма.249
В самом деле, на уровне целого, задавшись вопросом: «Какое это
повествование?», трудно не увидеть рассказ как сатиру. Нелепо
также утверждать, что основной целью автора рассказа об Ионе было
сообщение о существовании в Средиземном море определенных
видов животного мира. Толкования, которые никогда не поднимаются
выше уровня событий, описанных в истории, независимо от того,
отрицают они их или подтверждают, не могут предложить ничего
лучше тонкого описания. Напротив, иллокуционный акт «сатиры на
религиозность» проявляется только на уровне толкования,
использующего новый набор литературно-критических понятий. Наконец,
на каноническом уровне, книга Ионы является частью обширного
свидетельства о Божьей справедливости, сострадании и милости к
тем, кто кается, и к тем, кто не кается.
Итак, во-первых, при том, что существуют разные уровни
описания текста, наша конечная цель в толковании — принять во
внимание как можно больше этих уровней. Они выстроены в сложную
иерархию, где более высокие (литературные) уровни проистекают
из низших (лингвистических). Девиз этого подхода —
интеграция, а не редукция. Во-вторых, наши описания должны быть
нацелены на свойства, характерные для текстов, в отличие от других
видов сущностей. И наконец, мы должны сосредоточиться на том,
что существенно важно в тексте. Я считаю, что описание текстов
как коммуникативной деятельности прекрасно удовлетворит все
эти три условия достоверного толкования — толкования, которое
дает литературное знание.
249 См., напр., James S. Ackerman, "Jonah," в Alter and Kermoil, Literary Guide to the Bible, 234-
43.
504
Глава шестая. Обретение текста
Можно ли опровергнуть наши описания?
Критический герменевтический реализм, утверждая, что в
тексте есть определенный смысл, который можно определить с
помощью толковательных схем, приводит нас к выводу, что существуют
правильные и неправильные способы описания объекта
литературного знания. Прежде всего, описание оказывается опровергнутым,
если дальнейшее рассмотрение свидетельства показывает, что
автор не мог делать или, вероятнее всего, не делал того, что это
толкование ему явно или неявно приписывает. Во-вторых, говоря
о редукционизме, я имел в виду, что некоторые подходы к
толкованию, предлагающие только тонкие описания литературных актов, в
конечном итоге будут найдены неадекватными, и, возможно,
обреченными на провал. Именно это, скорее всего, происходит сейчас с
историко-критическим методом толкования Библии.
Толковать текст критически «означает читать его для того,
чтобы определить не только наши реакции на его содержание, но и
попытаться понять его собственную природу».250 Поскольку
коммуникативный замысел автора проистекает из текста, сам текст
оказывается публично доступным свидетельством авторского замысла.
Рассмотрим, например, следующие толкования Евангелия от
Матфея: «Это — антисемитский расистский трактат»; «Это —
полемика в пользу рукоположения только мужчин»; «Это — вымышленное
описание жизни Иисуса по мотивам ветхозаветных пророчеств»;
«Это литературно-богословское представление Иисуса как
обетованного Мессии». Каким образом можно принять или опровергнуть
эти описания литературного акта Матфея? Можем ли мы
определить, которые из этих утверждений предположительно верны, а
которые, скорее всего, ложны? Повторю мое основное утверждение:
нормой толкования является смысл литературного акта; истинное
толкование — то, которое верно описывает коммуникативную
интенцию, воплощенную в тексте. Прежде всего, мы хотим избежать
редукционистских, или тонких, описаний. Адекватное толкование
должно, как минимум, не страдать от ограничений и предвзятостей
описаний низшего уровня, оно должно хотя бы пытаться
определить, какого вида литературный акт был совершен.
Согласно моей гипотезе, толкование считается
литературным познанием в том случае, если оно объясняет воплощенный
Eco, Limits of Interpretation, 57.
505
Часть вторая. Восстановление толкования
коммуникативный замысел автора через определенные плотные
описания литературного акта. Правильные толкования описывают
убеждения, мысли и чувства, которые вели и формировали текст как
коммуникативный акт.251 Толкование текстов по большей части
состоит в приписывании иллокуций автору. Такое предприятие
далеко не бессмысленно; напротив, нечто подобное составляет суть
судебного процесса. Согласно теоретикам закона, намерения
автора вполне доступны изучению путем процесса критического
исследования, в ходе которого наши гипотезы о том, что сделал автор,
рассматриваются в сравнении со свидетельствами, особенно со
свидетельствами текста.252
X. Л. А. Харт, философ закона, следующим образом излагает
различие между действием человека и простым телодвижением.
Мы готовы считать интенциональным и ответственным первое, но
не второе. Приписывание интенции и описание иллокуции — это
действия, использующие понятия более высокого уровня (напр.:
приписывание) с целью плотного описания текстов как
литературных актов. С точки зрения этого исследования, интересно
предположение Харта о том, что высказывания типа «он сделал это»
сравнимы с судебными решениями. «Приписывание» — результат
совещательного процесса, в ходе которого сопоставляются и
обсуждаются противоположные описания.253 Для описания интенции
необходимо восстановить процесс мышления, воплощенный в
тексте. Деятель действует по какой-то причине. И коммуникативное
действие — не исключение; авторы делают что-то со словами по
251 Дж. И. Пакер утверждает, что его цель — в достижении «полного, интегрированного
понимания, построенного из библейского материала таким образом, что, узнай авторы
различных книг о том, что я сделал из того, чему они учили, они кивнули бы головой и сказали
бы, что я понял их верно» (Packer, "In Quest of Canonical Interpretation," в Robert K. Johnston, ed.
The Use of the Bible in Theology: Evangelical Options [Atlanta: John Knox, 1985], 47). Чуть другой
подход к взаимоотношениям текста, описания и интенций, см: Michael Baxandall, Patterns of
Intention: On the Historical Explanation of Pictures.
252 Среди внетекстовых проверок точности наших описаний могут быть следующие:
согласованность с другими литературными произведениями того же автора; утверждения о
своем замысле, которые мог сделать сам автор; возможности и ресурсы культуры, к которой
принадлежит автор (т. е. чтобы избежать анахронических описаний).
253 По вопросу различия между описанием и аскрипцией (приписыванием), см. Joel Feinberg,
Doing and Deserving, 139 ff.; см. также J. R. Lucas: «Ответственность предполагает необходимость
давать ответ... Я могу одинаково верно сказать, что ответственен за действие и что отвечаю за
него. А если я должен отвечать, отвечать нужно на вопрос: «Почему ты это сделал?»; отвечая на
него, я отвечаю за свое действие» {Responsibility [Oxford: Oxford Univ. Press, 1993], 5).
506
Глава шестая. Обретение текста
некой причине. Плотные описания литературных актов подобным
образом приписывают автору интенцию. Описывая литературный
акт как то или иное, мы тем самым делаем выводы об авторской
интенции: «Невозможно, сняв черепную крышку, заглянуть в разум
человека и на самом деле увидеть, каковы были его намерения в тот
или иной момент. Это приходится определять, исходя из того, что
он сделал, что он сказал и каковы обстоятельства дела».254
Алтиери сравнивает работу толкователя с присяжными,
которым нужно принять решение по поводу «противоречивых описаний
действия».255 Эти «присяжные» — любой читатель или группа
читателей, которые сталкиваются с конкурирующими толкованиями
одного и того же текста.256 В частности, присяжные должны решить,
почему текст таков, каков он есть. Текст — результат авторских
решений, и есть вероятные основания для того, чтобы определить,
каковы были эти решения и почему они были приняты.
«Определить намерение деятеля значит воспринять отношение между его
действием и контекстом... то, что он сочтет успехом или неудачей
своего действия».257 Преднамеренные действия совершаются не без
причины. Преднамеренные коммуникативные действия
совершаются по коммуникативным причинам. Эти причины определяют
уместность тех или иных описаний, а также результат, который может
быть получен с помощью конкретного коммуникативного акта.
Всегда ли коммуникативные акты настолько прозрачны,
открыты для простых описаний и не противоречащих друг другу
предписаний? Не обязательно. Франк Кермоуд доказывает, что Натаниель
Готорн преднамеренно собирался написать неоднозначный текст,
который открыт для нескольких разных толкований. Алтиери
определенно прав, но лишь когда он проводит различие между
понятиями неоднозначного текста и «определенного текстового акта».258
Мы с немалой точностью можем описать литературный акт Го-
торна как «преднамеренно неоднозначное утверждение». Есть
254 Цит. по Duff, Intention, Agency and Criminal Liability, 29.
255 Altieri, Act and Quality, 158.
256 Алтиери считает, что задача присяжных — в определении смысла (напр.: преднамеренного
действия). «Значимость» подобна тем видам факторов, которые может учитывать судья, выбирая
соответствующее наказание (там же, 159).
257 Duff, Intention, Agency, and Criminal Liability, 131.
258 Altieri, Act and Quality, 231.
507
Часть вторая. Восстановление толкования
и другие примеры книг, написанных с целью сбить читателя с толку,
а не ради общения с ним (напр.: «Улисс» Джеймса Джойса).
Однако чаще бывает, что книги, которые считают неопределенными (и,
предположительно, не поддающимися описанию) являются, скорее,
произведениями достаточно сложными, требующими описания на
нескольких уровнях. Это не означает, что все, чем является текст,
возникло в результате преднамеренного действия автора. Авторы
порой не стараются отразить в тексте собственную
интеллектуальную и социальную историю или, если уж на то пошло, состояние
определенного языка на момент написания, но неминуемо это
делают. Однако чтение только ради получения сведений о состоянии
языка в определенное время не приведет к пониманию текста; на
это способно только толкование, описывающее текст как
литературный акт.
Штернберг убедительно опровергает тех, кто говорит, что
восстановить исходный авторский замысел невозможно, поскольку
мы отделены от автора временем и иной культурой: «Из этого не
следует, что мы не можем приблизиться к такому состоянию путем
воображения и обучения — подобно тому, как мы изучаем правила
любой другой культурной игры — и, тем более, что нам не следует
прилагать к этому усилия, или что мы их не прилагаем».259 Никто
еще не утверждал, что древнееврейский придуман теми, кто изучает
Ветхий Завет! Поэтому Штернберг спрашивает: «Является ли язык
в большей или меньшей степени историческим материалом, чем
традиции искусства, модель реальности и система ценностей?»260
Герменевтический рационализм — поиск литературного
смысла — лучше всего рассматривать как форму вывода о наилучшем
объяснении (абдукцию), а не как пример дедукции или индукции.261
Толкователь ищет литературного знания, объяснения того, как и
почему текст таков, каков он есть, и о чем он. Это делается путем
приписывания автору намерений, объясняющих причину того, что
текст именно таков, как в частностях, так и в целом.
Критическое толкование идет дальше, строя догадки или гипотезы о том,
259 Sternberg, Poetics of Biblical Narrative, 10.
260 Там же.
261 Ниже я широко использую работу Питера Липтона: Peter Lipton, Inference to the Best
Explanation (London: Routledge, 1991). Аннет Варне предлагает нечто подобное, а именно: то, что
толковательные утверждения можно опровергнуть, указав соответствующие противоположные
возможности {On Interpetation, 116).
508
Глава шестая. Обретение текста
что автор делал со своими словами. С этой точки зрения,
толкование не базируется на «доказательствах» существования
авторского замысла; достоверность его объяснений отражена в постановке
вопросов о содержании текста, возможными ответами на которые
являются определенные описания литературного акта. Наиболее
серьезные толкования обычно невозможно счесть ложными или
отвергнуть, исходя только из лексических доказательств. В
конфликтах толкований обычно сталкиваются две схемы, причем
каждая претендует на наилучшее объяснение одних и тех же данных.
Описание научного объяснения Питером Липтоном верно
трактует конфликтную природу толкования: «Объясняется не просто то,
«что это», а «почему это, а не иное».262 Успешное толкование — то,
которое обеспечивает наилучшее объяснение, почему текст таков,
каков он есть, а не иной.
Кто определяет, какое толкование оказывается «лучшим»?
Зависит ли понятие «лучше», как и понятие «красиво», от хода
мысли того, кто смотрит? Липтон рассматривает два варианта:
«объяснение, наилучшим образом обоснованное» («самое вероятное»)
и «объяснение, ведущее к более полному пониманию» («самое
привлекательное»).263 Липтон считает, что первое из них
игнорирует вопрос сам по себе, и поэтому утверждает, что нам следует
предпочесть самое привлекательное объяснение, то, «которое,
будучи истинным, дало бы наиболее полное понимание».264 В
контексте герменевтики «самая привлекательная» теория обеспечивает
наилучшее понимание только в том случае, если она объясняет
литературный акт как сложное целое, то есть если она адекватно
описывает происходящее на каждом из важных уровней (т. е. ло-
куционном, иллокуционном, литературном). Например, мы
делаем вывод, что, по утверждению Матфея, Иисус есть обещанный в
Ветхом Завете Мессия, не посредством цитирования одного стиха.
Он использует те же критерии (соответствие, полнота,
согласованность, убедительность), с которыми подходят к оценке научных
теорий, применительно ко всему Евангелию.
Наилучшее объяснение текста — то, «которым
произошедшее явление объясняется как вызванное разумным деятелем,
262 Lipton, Inference to the Best Explanation, 35.
263 Там же, 59.
264 Там же, 186.
509
Часть вторая. Восстановление толкования
совершающим некое действие преднамеренно».265 Чтобы
удовлетворять требованию соответствия, наши описания должны избегать
анахронизма: лучшее толкование должно описывать то, что мог
сделать этот автор, живя в этой культуре. Исторически
невозможные объяснения менее удовлетворительны и, следовательно,
менее рациональны, чем вероятные. Чтобы соответствовать
критериям полноты и непротиворечивости, наилучшее толкование
должно объяснять целый текст и текст как целое. Наконец, чтобы
соответствовать критерию убедительности, наилучшее толкование
должно описывать литературный акт таким образом, который
помогает нам понять о тексте больше, чем другие толкования. Отметьте,
что наилучшее объяснение не обязано быть абсолютным
толкованием; его можно совершенствовать. Например, согласно Элесдейру
Макинтайру, мы можем рационально судить о традициях
герменевтического рассуждения — о соперничающих схемах толкования,
традициях и сообществах, — рассматривая их прогресс в решении
проблем толкования.266
Можно ли довершить описания?
Говоря, что мы не можем достигнуть абсолютной истинности
в толковании, не катимся ли мы по наклонной плоскости
релятивизма прямо в распростертые объятия Дерриды? Вовсе нет.
Потому что рассуждение: «Если не абсолютизм, то скепсис» — ложное.
Между «все» и «ничего» находится «нечто». Герменевтический
рационализм дает некое литературное знание. Наши
описательные структуры должны быть не барьером на пути понимания, а
напротив — условием его возможности. В то же время важно не
лишать критического реализма «критичности». Ни одна теория или
толковательная схема не дает нам полной истины ли совершенного
описания. Однако из этого не следует, «что ни одна теория не дает
нам никакого доступа к истине, и еще менее... что истины, которую
265 Peacocke, Theology for a Scientific Age, 106. Пикок здесь говорит о постулате Бога-Творца
как о наилучшем объяснении всего этого, но, в отношении мира текста, автор — тоже творец.
266 См. Alasdair Maclntyre, Whose Justice? Which Rationality? (London: Duckworth, 1988),
18-20. Макинтайра можно рассматривать как приверженца эпистемологии ошибочности,
применяющего ее к истории социальных традиций. Нэнси Мерфи отмечает сходство между
Лакатосом и Макинтайром в книге Beyond Liberalism and Fundamentalism How Modern and
Postmodern Philosophy Set the Theological Agenda (Valley Forge, Pa.: Trinity International, 1996),
ch.4.
510
Глава шестая. Обретение текста
можно предавать и воспринимать, не существует».267 Истинные,
хотя и не полные, описания литературных актов возможны.
Критический реализм, как в науке, так и в литературоведении,
находится между абсолютизмом и релятивизмом. «Научные
объяснения успешны... настолько, насколько они относятся — частично и с
приблизительной истинностью — к независимой от разума
природе, которая не вполне вызвана, создана, составлена или определена
самой структурой науки».268
В отношении нравственности литературного знания, ключевой
вопрос заключается в том, как достигнуть адекватности
толкования без толковательного абсолютизма. Под адекватностью я имею
в виду способность достичь поставленной цели. Какова же цель?
Общение и понимание. Мы как читатели стремимся достигнуть не
толкования, которое полностью соответствовало бы тексту
(чтобы это ни значило), а толкования, которое адекватно реагирует
на него. Реагируя на текст, мы позволяем ему исполнить
предназначение, ради которого он был послан. Дело в том, что люди успешно
общаются и понимают то, что читают каждый день.269 Однако
Библия отличается тем, что ее требования к отклику более жесткие.
Соответственно, адекватная реакция на Писание — одновременно
и нравственная, и эпистемологическая задача. В самом деле,
познание — дело, в конечном счете, нравственное, более того, духовное.
И догматизм, и скептицизм — это и нравственные, и
эпистемологические ошибки. С точки зрения нашей греховной природы и
человеческой склонности ошибаться, иконоборческий протест Дерри-
ды против тотализации толкований, будучи односторонним, может,
тем не менее, быть весьма уместным.
Окончательный контекст, в свете которого — и только в этом
свете — будет виден настоящий смысл всего, — это
эсхатологический, теологический горизонт.270 Все человеческое познание
частично, до самого конца истории, когда будет дано окончательное
суждение. Поэтому дифферанс — это не последнее слово; отсрочка
267 Bambrough, Moral Scepticism.
268 Livingstone, Literary Knowledge, 34.
269 Ср. Уэнделл Харрис: «Я начал спрашивать, какого рода теория может быть воздвигнута,
если спрашивать не о том, возможна ли коммуникация, а, с учетом того, что мы общаемся, о
том, как это происходит» (Interpretive Acts, viii).
270 Согласно панненберговской версии герменевтического круга, динамика части-целого, в
котором ищет ориентации понимание, свойственна и для истории человечества.
511
Часть вторая. Восстановление толкования
не бесконечна. Эсхатология означает лишь то, что конец отложен.
Толкователи, конечно, живут по эту сторону «эсхатона», и именно
поэтому толкование никогда не успевает за истиной. Наши лучшие
объяснения все равно могут не соответствовать абсолютной
истине. Это не должно нас беспокоить. Быть человеком — значит быть
толкователем, коммуникативным деятелем, гражданином языка.
Мы познаем не непосредственно, как ангелы, а опосредовано:
через тела, чувства, язык. Однако мы знаем, хотя наше знание и
частично. Мы знаем достаточно для того, чтобы продолжать читать,
продолжать жить. Есть нечто, подлежащее познанию, пусть наше
знание и останется частичным, не безошибочным и
незавершенным. Sola scriptura — выражение адекватности и достаточности
литературного знания, которое мы можем составить из Писания.
Однако semper reformata напоминает нам о том, что
толковательный труд богослова и литературоведа никогда не кончается.
ЖАНР И КОММУНИКАТИВНАЯ РАЦИОНАЛЬНОСТЬ:
МЕТОД ЛИТЕРАТУРНОГО ПОЗНАНИЯ
Язык, по сути — это среда общения. Если слушатель
воспринимает слова не в том смысле, в котором их
употребил говорящий, это не расширение смысла, а неудавшееся
общение.271
Многие люди, отлично владеющие языком, часто
чувствуют себя беспомощными в определенных сферах общения как
раз потому, что они практически не владеют формами,
которые употребляются в данных сферах.272
Каждый письменный отрывок — вид чего-то.273
Подход исследователя к объекту во многом зависит от природы
познаваемого объекта. Это можно назвать материальным
условием познания: метод должен соответствовать сути объекта.274 Луну
271 G. В. Caird, New Testament Theology, 423.
272 M. Bakhtin, Speech Genres, 80.
273 Gabel and Wheeler, The Bible As Literature, 16.
274 В богословии, настаивают Карл Барт и Е. А. Торранс, объективность заключается в
том, чтобы позволить нашему исследованию руководствоваться изучаемой реальностью.
Литературное знание, как я его представляю, действует и с этим материальным условием, и с
формальной процедурой (а именно критической проверкой и логикой абдукции). Ниже я буду
512
Глава шестая. Обретение текста
не изучают с помощью микроскопа, а «водяные лилии» Моне — с
помощью секундомера. Не следует также изучать слова, речевые
акты, литературу и письмо с помощью одних и тех же
инструментов, потому что они представляют собой разнообразные уровни
нарастающей сложности, которые требуют новых описательных
понятий. Это можно проиллюстрировать следующим образом:
Объект познания — данные
Канон
Жанр
Parole
Langue
Метод познания — дисциплина
Критика канона, библейское богословие
Критика жанра, литературная критика
Философия речевого акта, анализ
дискурса
Лингвистика, семиотика, синтаксис
В таком иерархическом порядке более сложные объекты
проистекают из более простых. Таким образом, канон состоит из
разнообразия литературных форм, которые в свою очередь состоят из
разнообразных высказываний, а те, в свою очередь — из разных
слов.275
Этот раздел представляет важнейшее толковательное понятие,
жизненно важное для правильного рассуждения о литературных
актах, и поэтому жизненно важное для герменевтического
рационализма: жанр.276 «Жанр» (от латинского «genus» — род) есть вид
литературы. Со времен Платона и Аристотеля критики по-разному
упорядочивали литературу, выделяя разные классы. Хотя все
тексты есть литературные акты, не все акты одинаковы. Древняя схема
классификации включала в себя поэзию, эпос и драму. Аристотель
писал трактаты о комедии и трагедии.277 Со времен Ренессанса
доказывать, что библейское свидетельство есть форма литературного и богословского знания,
соответствующая обоим условиям.
275 То же говорит и Алистер Фаулер: «Воспринимая произведение, читатель вынужден
конструировать каждую его черту на своем уровне, интерпретируя сигналы на более низком
уровне организации. Из чернильных знаков мы выводим буквы...» (Fowler: Kinds of Literature:
An Introduction to the Theory of Genres and Modes [Oxford: Clarendon, 1982], 257).
276 Отметим, что Фаулер, в своем авторитетном исследовании, признает центральную роль
авторской интенции (там же, 256). Важно также отметить, что Фаулер посвятил эту книгу Э. Д.
Хиршу!
277 К сожалению, сохранилось лишь его произведение о трагедии, Поэтика.
17-227 513
Часть вторая. Восстановление толкования
и до восемнадцатого века эти жанры рассматривались как
неизменные, что-то вроде биологических видов, которые не способны ни
скрещиваться, ни эволюционировать. Не так давно Нортроп Фрай
предложил четырехчастичную теорию жанра, в которой основные типы —
комедия, трагедия, роман и ирония — представляют постоянные
формы воображения человека.278
Однако понятие жанра есть нечто большее, чем просто прием
для классификации литературы. Представление о существовании
разных форм литературы — не просто полезный инструмент для
библиотекаря. Интерес к литературной форме не следует путать
и с тем, что называется «критикой формы» в изучении Нового
Завета. Критики формы, такие как Бультман, изучают короткие
отрывки (напр.: из Евангелий) и прослеживают их до более ранних
устных преданий, которые выполняли определенные социальные
функции (напр.: назидательные высказывания, притчи и пр.).
Однако результатом критики формы стало отделение этих отрывков
от их литературного контекста ради соотнесения их с исторически
реконструированными социальными или религиозными
ситуациями. Напротив, сосредоточиваться на жанре означает воспринимать
тексты как литературно целостные сущности, единые
коммуникативные акты, хотя это и не должно исключать их способность иметь
и другие социальные функции.
Литературные акты обладают сутью, иллокуционной
энергией, перлокуционной траекторией и определенной литературной
формой. Крайне важно принимать во внимание этот «жанровый»
аспект, поскольку, как мы определили ранее, буквальный смысл
текста — это его литературный смысл, который можно
воспринимать только путем определения жанра. Я доказывал, что
понимание — это вопрос восприятия того, что делает в тексте автор.
Потому что невозможно просто «делать» — делать можно только
что-то. Можно попутно отметить, что свойственная консерваторам
от теологии тенденция предлагать «тексты-доказательства» —
метод абстрагирования отдельных утверждений от их более
обширного литературного контекста — настолько же вреден для понимания,
как и критика формы. Хотя они и принадлежат к разным концам
богословского спектра, хотя их учения о Писании весьма
различны, толковательная практика критиков формы и консервативных
См. статью "Genre" в М. Н. Abrams, A Glossary of Literary Terms, 70-71.
514
Глава шестая. Обретение текста
богословов равно атомистична и не буквальна, равно способна
вызвать короткое замыкание процесса толкования.
Коммуникативная компетенция: жанр как форма
социального поведения, управляемая правилами
Сёрль сказал, что язык есть подчиненная правилам форма
поведения. В разных контекстах слова ведут себя по-разному. Мы
приобретаем грамматические знания, когда понимаем правила,
которыми руководствуется определенный коммуникативный акт в
определенном контексте. В контексте солнечной астрономии «корона»
будет обозначать нечто совсем иное, чем в контексте геральдики.
Важным вкладом Витгенштейна было то, что он указал на
существование разных «грамматик», ассоциирующихся с разными
формами жизни. Говорение на языке и понимание его — вопросы
практического навыка, обучения тому, что, когда, где и как сказать.
Когда мы вступаем в диалог с кем-то, мы автоматически следуем
нескольким правилам: мы позволяем человеку заканчивать
начатые им предложения; мы учитываем контекст диалога; мы отвечаем
на уточняющие вопросы. «Кооперативный принцип» Пола Грайса
формулирует правила, которые обычно неявным образом
управляют беседой компетентных говорящих. Этот принцип указывает, что
говорящие должны всегда обеспечивать уместное количество
релевантной информации, с учетом контекста; высказываться настолько
ясно, насколько требует ситуация; говорить правду. «Суть
коммуникации не в логике или истинности, а в сотрудничестве; не в том,
что я говорю, а в том, что я могу сказать с учетом обстоятельств и
того, что я должен сказать, учитывая ожидания моего партнера по
диалогу».279 Почему говорящие должны сотрудничать? Потому что
отказ от сотрудничества был бы асоциальным и нелогичным. Отход
от «принципа кооперации» делает общение невозможным. Смысл
находится не на уровне самого языка и не на уровне индивида, а в
подчиняющемся определенным правилам межличностном
взаимодействии.
Мое желание — исследовать возможность «кооперативного
принципа» в сфере не только устной речи, но и письменных текстов.
Я утверждаю, что литературные жанры являются
коммуникативными актами более высокого порядка, существующими на уровне
Mey, Pragmatics, 57.
Часть вторая. Восстановление толкования
большей организационной сложности. Подобно тому, как мы
развиваем языковую компетентность, чтобы понимать, как используются
слова в повседневных контекстах, нам нужно развивать и литературную
компетентность, чтобы понимать разные типы текстов. В контексте
лингвистики, Хомский использует «компетентность» для обозначения
приобретенного носителями имплицитного знания родного языка.280
Джонатан Каллер расширил значение термина, включив в него
понимание литературных соглашений и правил.281 Теоретик
литературы стремится теоретически объяснить правила, которые управляют
определенной литературной формой, понимаемой как упорядоченное
коммуникативное действие. Итак, литературная компетенция связана
с тем, что я называю «жанровой рациональностью», то есть
«характерной для определенного типа литературы». Правила, которыми
управляется определенный литературный жанр, не находятся вне текста,
а заключены в нем же. Я предполагаю, что понимание текстов — это
вопрос усвоения этих правил и способности следовать им. Поэтому и
письмо, и чтение требуют «коммуникативной компетентности», т. е.
практического умения воспринимать грамматические и жанровые
правила. Литературная теория — просто попытка обеспечить
теоретическое объяснение того, что делают компетентные читатели.
Далее, литературные жанры подобны языковым играм. Задача
толкователя — определить, которая из игр (напр.: эпос, история,
хронология, пророчество, притча и т. д.) имеет место; только тогда
отдельные «ходы» обретают смысл. Хирш соглашается: «понимание
смысла высказывания подобно усвоению правил игры».282 Как
показал Витгенштейн, языковые игры соотносятся с формой жизни; ни
одна языковая игра не представляет сути языка, точно так же, как
ни одна форма жизни не представляет ее сути. Напротив, языковых
игр столько же, сколько видов человеческой деятельности, и во
многих из них развились собственные правила, не говоря уже об
особенном лексическом наборе. Если слова, как предполагает
Витгенштейн, подобны инструментам, то, возможно, жанры лучше всего
представлять как процесс использования этих инструментов.283
280 Хомский уверен, что говорящие обладают врожденной способностью к грамматике, хотя
он приписывает эту способность разума биологии человека, а не замыслу о языке. См. Maria-
Luisa Rivero, "Chomsky," в Encyclopedia of Contemporary Literary Theory, 271-73.
281 Cm. Johathan Culler, Structuralist Poetics.
282 Hirsch, Validity in Interpretation, 70.
283 Бахтин создал термин «речевого жанра» для того, чтобы назвать повседневное
516
Глава шестая. Обретение текста
Жанры способствуют межличностному взаимодействию,
обеспечивая относительно стабильные типы коммуникативных форм.
Их определяют по их основным коммуникативным функциям (напр.:
политическая речь, политический комментарий, спортивный
комментарий). «Жанры — общепринятые и повторяемые схемы устной
и письменной речи, которые способствуют общению между людьми
в определенных социальных ситуациях».284 Я считаю, что
литературные жанры лучше всего воспринимать как режимы
коммуникативной деятельности, а не как отдельные коммуникативные акты:
«Режим — любая форма социально установленной кооперативной
человеческой деятельности, которая является сложной и внутрен-
не согласованной... и направлена на достижение какой-то цели». ьь
В частности, жанры — это режимы литературной деятельности,
обеспечивающие возможность сложного взаимодействия с
реальностью и с другими людьми. Из этого следует, что понимание — это
не просто вопрос определения языковой игры, но и участия в
коммуникативной деятельности в определенном режиме.286 Джинронд
предполагает, что текстовые жанры требуют соответствующих
«жанров чтения».287 Например, текст, первичным
коммуникативным замыслом которого была история, будет понят неправильно,
если читать его как «фэнтези» (и наоборот). Понимание — вопрос
коммуникативной компетентности, практического навыка,
выработка которого во многом похожа на усвоение языка, навыка,
который дает толкователю способность распознавать формы
коммуникативной деятельности и участвовать в них. Читателей, которые
неспособны должным образом сочетать текстовые жанры и жанры
чтения, следует считать герменевтически некомпетентными.
употребление языка в каждодневной жизни. Природа и формы речевых жанров настолько же
разнообразны, как и формы социальной деятельности, с которой они связаны (напр.: списки
покупок, военные приказы, парламентские заявления, медицинские диагнозы и пр.). В то время
как для Витгенштейна речевые жанры могут быть языковыми играми высокого порядка, Бахтин
склонен рассматривать языковые игры как жанры низшего порядка. См. Bakhtin, Speech Genres
and Other Late Essays.
284 James L. Bailey, "Genre Analysis," в Joel Green, ed., Hearing the New Testament, 200.
285 David Kelsey, парафраз Alasdair Maclntyre, в То Understand God Truly: What's Theological
About a Theological School (Louisville, Ky: Westminster/John Knox, 1992), 118.
286 Эта форма игры весьма отлична от той, которую провозглашает деконструктивизм. Там у
«игры» не было правил; игра, которую описываю я, подчинена правилам.
287 См. Werner Jeanrond, Text and Interpretation, 94-119.
517
Часть вторая. Восстановление толкования
Способы смысла: уровень жанра
Если успех восстановления текста зависит от восстановления
воплощенной интенции автора, многие могут счесть это занятие
безнадежным. Одно дело — говорить о «принципе сотрудничества»
между собеседниками, общающимися лицом к лицу, но как могут
читатели «сотрудничать» с давно ушедшими авторами? Текст,
отмечает Рикёр, отделяется от автора, как только он написан, и
начинает собственное, независимое существование. Именно эта
способность «свободного плавания» в разных контекстах, по мнению
Дерриды, делает смысл текста неопределенным. Оторванный от
автора текст оторван и от любого устойчивого контекста. Или нет?
Я считаю, что есть по меньшей мере один контекст, который
сохраняет относительную устойчивость: литературный контекст. Сейчас
я хочу обосновать тезис о том, что литературный жанр обладает
собственными ресурсами для противостояния атаке Дерриды на
идею устойчивого контекста. Я надеюсь показать, что
разделенные письмом автор, текст и читатель вновь соединяются жанром.
Более того, возможно, как предполагает Беркоувер, что серьезные
усилия реформаторов должным образом учитывать литературные
жанры «были мотивированы желанием правильно отнестись к sui
ipsus interpres [его собственному толкователю]».288 Иначе говоря,
рассматривая уровень текстового жанра, мы можем лучше понять
то, как «Писание толкуется Писанием».
Литературные жанры как исторические формации
Можно вспомнить основное утверждение Дерриды: письмо
отрывается от исходной ситуации и дрейфует от контекста к
контексту. Следовательно, толкователи никогда не смогут
«зафиксировать» текст. Невозможно поставить смысл на якорь или
определить его местонахождение. Более того, поскольку в толковании
ни одна описательная структура не является привилегированной,
сама идея контекста оказывается неопределенной. Так
называемые новые историки находятся на противоположном краю шкалы
текстовой определенности. Они настолько подчеркивают важность
исторического контекста, что для них сказанное в тексте не только
Berkouwer, Holy Scripture, 131.
518
Глава шестая. Обретение текста
определимо, но и определяется его социоисторическим
положением. Некоторые феминистические критики, например, доказывают,
что традиционные жанры — это исторический продукт
патриархального устройства общества.289
Понятие литературного жанра позволяет избежать такой
дихотомии между неопределенностью контекста с одной стороны и
контекстным детерминизмом — с другой. Прежде всего,
литературные жанры, будучи режимами коммуникации, имеют социальное и
историческое местоположение. То есть сами литературные жанры
обладают определенным историческим контекстом. Мы можем
проследить, например, появление и развитие романа в восемнадцатом
веке и соотнести его с переменами в социальном положении и
мировоззрениях. В отличие от форм Платона, литературные формы
меняются и обладают историей. Можно изучать историю
литературной формы (напр.: трагедии) во времени или изучать литературную
форму, как она существовала в определенное время (напр.:
греческую трагедию, елизаветинскую трагедию). Итак, каждая
литературная форма обладает определенным историческим контекстом.
Во-вторых, как раз благодаря тому, что письмо не требует
общности ситуационного контекста, жанр создает возможность
общего литературного контекста. Алистер Фаулер говорит, что жанр
компенсирует отсутствие ситуационной общности двумя путями:
«Во-первых, он обеспечивает ситуацию литературного
контекста; во-вторых, он укрепляет сигнальную систему дополнительными
правилами кодирования».290 Литературная форма — это не
ограничение того, что может сделать автор, а средство, дающее ему
возможность сказать что-то о чем-то кому-то на расстоянии.
В-третьих, правила, управляющие литературными формами,
гибкие. Согласно Фаулеру, «каждое литературное произведение
меняет жанры, к которым относится».291 Это соответствует тому,
что я говорил прежде о коммуникативных деятелях, приводящих
систему языка в действие, выдвигая инициативы смысла. Фаулер
красноречиво указывает на свободу, которую предоставляют
авторам жанры: «Вовсе не препятствуя автору, жанры обеспечивают
289 См. обзор древних и современных подходов к жанру в Frans de Bruyn, "Genre Criticism,"
Encyclopedia of Contemporary Literary Theory, 79-85.
290 Fowler, Kinds of Literature, 22.
291 Там же, 23.
519
Часть вторая. Восстановление толкования
ему поддержку. Они, можно сказать, предоставляют ему
пространство для письма — обитель для опосредованной определенности;
соразмерное ментальное пространство; литературную матрицу, с
помощью которой он упорядочивает свой опыт во время
построения текста».292 Автор пользуется свободой в определенных рамках;
автор — гражданин языка. Литературный жанр поддерживает
конструктивную напряженность между коммуникативной
свободой и детерминизмом. Автор может изменить некоторые
требования данного жанра, но не все сразу. Подобно тому, как
смысл слова относительно стабилен в любой момент по отношению
к языковой системе, так и жанры, как исторические формации,
определимы подобным образом. Значимость жанра как исторической
формации для толкования в том, что он обеспечивает весомое
доказательство в пользу распознания и уничтожения
анахронистических толкований на уровне литературных актов.
Как же быть с текстами, чьи авторы и исходные контексты
неизвестны? Вспомним, что жанр — путь к литературному познанию.
Рассуждая об анонимном Послании к Евреям, Тисельтон отмечает,
что толкователь хочет получить не имя или биографию автора, а
чувство текстовой целостности, «которое представляет видение
человеческого разума и которое принадлежит к некоему более
обширному контексту жизненного мира».293 Мы
реконструируем вид мысли и жизненной ситуации, отраженной в тексте. Такая
мысль, как и жанр, который ее отражает, имеет исторический
контекст, влияющий на нее, но ее не предопределяющий. Понимание
исторической формации литературных жанров позволяет
толкователю выдвинуть начальную догадку о том, какой именно
литературный акт был совершен, однако нам не следует забывать, что жанры
позволяют авторам предлагать и новые варианты смысла.294
Литературный акт не только подвержен влиянию исторического
контекста, но и способен, в свою очередь, влиять на него.
292 Там же, 31.
293 New Horizons, 261 (выделение его).
294 Спор о жанре Евангелий длится издавна. Можно ли сказать, что они представляют собой
отдельную литературную форму — что они sui generis, жанр сами по себе — поскольку нужно
было выразить нечто особенное, уникальное? См. С. Н. Talbert What is a Gospel? The Genre
of the Canonical Gospels (Philadelphia: Fortress, 1977); E L. Shuler, A Genre for the Gospels: The
Biographical Character of Matthew (Philadelphia: Fortress, 1982) David Aune, The New Testament in
Its Literary Environment (Philadelphia: Westminster, 1987).
520
Глава шестая. Обретение текста
Как совершать действия посредством текстов:
жанровые иллокуции
Подобно тому, как треугольник и квадрат представляют собой
виды геометрических фигур, каждому из которых свойственны
свои правила построения, так и литературные виды — история,
эпос, евангелие, хронология и пр. — также обладают свойствами,
характерными для них (напр.: структурой, длиной, настроением,
стилем, содержанием). Однако думать о жанрах как о необходимых
свойствах было бы неверно. Фаулер предпочитает говорить о
«семейном сходстве».295 Более того, основа жанрового сходства — это
функция литературной традиции: «Жанровое сходство... есть
продукт традиции: последовательности влияния и подражания и
унаследованных кодов, объединяющих произведения жанра».296
С учетом ранее установленного мною тождества буквального и
литературного смысла, вероятно, неудивительно, что теория
коммуникативной деятельности должна отводить важное место
литературным жанрам и их иллокуциям. Некоторые подходы, такие как
новая критика, сосредоточиваются на локуционном аспекте жанра: его
форме и структуре. Другие подходы, такие, как критика с точки
зрения читательского отклика, сосредоточиваются на перлокуции —
влиянии на читателя. Я, однако, доказывал, что истинное описание
литературного акта должно сосредоточиваться на том, что делает
с жанром автор. Это означает определение иллокуций —
намерений, воплощенных путем следования обусловленным
соглашениями процедурам. Примерами таких описаний могут быть: «Он
рассказывает историю», «Он подвергает сатире религиозность»,
«Он дает религиозные наставления» и т. д. Можно ли описывать
текст Ионы в целом одним из таких способов? Логически этому
предшествует вопрос: имеют ли тексты как целое иллокуционную
силу, превосходящую иллокуционную силу их составных частей?
Ричард Оманн отрицает это, доказывая, что литературные
произведения на самом деле не совершают речевых актов, а лишь
притворяются, что это делают. Поэтому литература есть «дискурс без
иллокуционной силы».297
295 Fowler, Kinds of Literature, 41.
296 Там же, 42.
297 Richard Ohmann, "Speech Acts and the Definition of Literature," 13 (выделение его).
521
Часть вторая. Восстановление толкования
На возражения Оманна нашли ответ, и на мой взгляд —
удовлетворительный, теоретики литературы, которые ввели новые
понятия в философию речевого акта. По большей части, обсуждение
сосредоточивалось на повествовании, но подобные выводы можно
сделать и в отношении других литературных форм. Итак, давайте
возьмем повествование в качестве примера сложного литературного
акта. Существует ли повествовательная иллокуция? На одном
уровне, иллокуция будет «повествование». Это в самом деле истинное
описание в своих пределах, однако оно нуждается в дополнении,
потому что, рассказывая истории, авторы могут делать очень многое.
То, что они делают, по словам Марии Луизы Пратт, и важно, и
чудесно: они открывают миры.298 Это значит, что рассказы не просто
делают утверждения, потому что мир, описанный в тексте, может
вовсе не соответствовать ни одному реальному положению вещей.
Нет, повествование показывает толкованный мир. Однако
повествование способно высказать утверждение более высокого порядка:
оно может быть утверждением мировоззрения. Например, неявный
смысл романа Камю «Посторонний» («L'Etranger») можно
приблизительно выразить так: «Жизнь абсурдна». Камю делает такое
утверждение, демонстрируя мир, в котором люди принимают решения
и совершают поступки без какого-либо ясного представления о том,
зачем они это делают. Утверждение «Жизнь абсурдна» проистекает
из романа; это — иллокуционный акт высокого порядка, жанровая
иллокуция. Конечно, нет нужды сводить каждое произведение к
утверждению. Поэтому предпочтительно рассматривать жанровую
иллокуцию повествований как «изображающую мир как...».
Анализ Пратт был углублен Сьюзен Шнайдер Лансер, которая
говорит, что в дополнение к демонстрации мира авторы
повествований придерживаются определенной позиции по отношению к
нему.299 Исследование Лансер рассматривает то, что она именует
«повествовательным актом»: точку зрения, которую автор
высказывает и с которой мир текста презентуется читателю.300 Иначе
298 Pratt, Toward a Speech Act Theory of Literary Discourse, 136-49.
299 Лансер прямо высказывает свою признательность теории речевых актов в Lanser, The
Narrative Act, 7-8.
300 О точке зрения, см. классический труд Wayne Booth, The Rhetoric of Fiction, и M. H. Abrams,
"Point of View," in A Glossary of Literary Terms, 142-45. О чем бы ни шла речь в повествовании,
говорит Бут, «авторское суждение всегда присутствует в нем» (с. 20). Это качество точки зрения
означает, что повествование — это всегда и свидетельство.
522
Глава шестая. Обретение текста
говоря, то, как рассказывается история, показывает авторское
видение мира текста. Говорить о «точке зрения» в повествовании
означает, тем самым, признать, что авторский голос и видение
непрямым образом сообщаются в демонстрации мира и через нее.301
Решив писать в жанре повествования, авторы занимают
определенную позицию по отношению к мирам, которые демонстрируют, и,
соответственно, сообщают идеологию, «мировоззрение». Лансер
особенно интересуется идеологической функцией точки зрения, в
частности, тем, как сообщаются ценности и оценки.302
Литературный акт рассказчика, в самом деле, является «демонстрацией», но в
то же время он сопровождается оценочными иллокуционными
актами — похвалой, насмешкой, издевкой, сомнением. Иллокуционная
сила повествования включает в себя не только демонстрацию
воображаемых миров, но и осуждение или похвалу в их адрес. Лансер
доказывает, что цель литературных актов не в том, чтобы сообщать
информацию о «здесь и сейчас» (т. е. непосредственном контексте
автора), а в том, чтобы обеспечивать «коммуникацию культуры», то
есть информацию, важную для того, чтобы понять состояние
человечества и научиться способствовать его процветанию. По мнению
Лансер, культурная коммуникация происходит четырьмя
способами: обучением, внушением, информацией и примером
(повествовательная художественная литература). Ее вывод стоит привести
полностью: «Во многом подобно библейской притче, основное илло-
куционное действие романа — идеологическое наставление;
основной призыв его — услышьте меня, поверьте и поймите».303 Итак,
канон литературных произведений служит во многом тем же
целям, что и библейский канон: вести будущие поколения.
Понятие жанра, я полагаю, описывает иллокуционный акт на
уровне целого, помещая части в общем единстве, которое служит
301 Это сообщение непрямое, потому что взгляды реального автора могут не совпадать со
взглядами автора предполагаемого. Тем не менее, реальный автор на самом деле общается с
читателями, благодаря текстово опосредованному голосу предполагаемого автора.
302 Более того, именно этот фокус на связи между высказыванием и его социальным контекстом
делает философию речевых актов привлекательной для проводимого Лансер исследования
точки зрения в литературе. Анализ речевого акта показывает, что точка зрения «выражает и
структурирует отношения говорящего к словесному акту, к слушателям, и к пропозиционному
материалу» {The Narrative Act, 79). Я, однако, считаю, что Лансер переоценивает степень того,
как социальное положение автора определяет его идеологическую точку зрения.
303 Там же, 293. Меир Штернберг приходит к весьма схожим выводам в отношении
ветхозаветной литературы в Meir Sternberg, The Poetics of Biblical Narrative.
523
Часть вторая. Восстановление толкования
осмысленной цели. Из этого следует, что жанр есть ключ к
толкованию коммуникативной деятельности. Недостаточно понимать
значение слов; нужно иметь какое-то представление об иллокуци-
онном смысле всего утверждения: «Наша позиция по отношению
к литературному жанру книги определяет все толкование нами
этой книги».304 Обращаться к понятию жанра значит признавать,
по умолчанию, соглашение о том, как следует писать тексты и как
их следует читать. То есть текст способен что-то сообщить только в
том случае, если читатель может следовать правилам литературной
игры, которую ведет автор. Жанр — это не что иное, как
«контролирующая идея целого».305 По словам Хирша, «все понимание
словесного смысла неизбежно связано с жанром».306
Теория жанра особенно важна для толкования Библии.307
Потому что Библия — это не одна, а много разных книг, с широким
репертуаром иллокуций. Иллокуционная сила Павловых посланий,
например, не столько в «демонстрации истории Иисуса», сколько
в «пояснении истории Иисуса».308 Один комментатор полагает, что
иллокуционная сила Первого послания Иоанна состоит в
«исповедании Христа».309 Другие литературные формы могут обладать
собственными характерными иллокуционными силами: мудростью
(«похвала жизненному пути»); апокалипсисом («демонстрация
конца мира», «увещевание»), псалмом («прославление творения»,
«обращение к Богу»). И все эти разнообразные литературные
формы, взятые вместе как Писание, могут на каноническом уровне
иметь еще одну иллокуционную силу: «провозглашение Божьего
спасения»; «свидетельство о Христе». Это только приблизительные
определения, потому что у жанров тоже есть острые углы. Следует
приложить немало усилий на уровне дискурса, на уровне, который,
304 Ramm, Protestant Biblical Interpretation, 145.
305 Hirsch, Validity in Interpretation, 79.
306 Там же, 76; ср. Магу Gerhart, "Generic Competence in Biblical Hermeneutics," Semeia 43
(1988).
307 О центральной роли жанра в толковании Библии, см: Grant Osborne, The Hermeneutical
Spiral, Part Two; и Longman, Literary Approaches to Biblical Interpretation, 76-83.
зов рИЧард Б. Хэйз выявляет «повествовательную субструктуру» мышления Павла в Richard В.
Hays, The Faith of Jesus Christ (Chico, Calif.: Scholars, 1983).
309 Neufeld, Reconceiving Texts As Speech Acts, 135. Акт исповедания требует приверженности
как фактическому содержимому, так и религиозной позиции. Акт исповедания Христа
«оказывает действие на формирование самости и приводит в действие общий коммуникативный
замысел Первого послания Иоанна» (58).
524
Глава шестая. Обретение текста
как я считаю, имеет большой потенциал для того, чтобы помочь в
восстановлении библейского богословия.310
Способы донесения смысла: виды когнитивного контакта
с реальностью
Жанр — это намного больше, чем просто средство для
классификации литературных форм. Согласно Бахтину, формы
литературы представляют не только разные иллокуционные силы, но и
когнитивные стратегии с разными способами представления мира.
Иначе говоря, жанр — это не только вариант коммуникации, но и
вариант переживания мира и его восприятия. Более того, понятие
жанра координирует три родственных аспекта коммуникативной
деятельности: выполнение авторского замысла, взаимодействие с
миром и встреча с адресатом. Жанр — это способ взаимодействия с
реальностью и с другими людьми посредством слов.311
Каждый жанр делает возможным определенный вариант
восприятия мира и переживания его. Например, повествование
больше, чем любая другая форма литературы (или мышления), дает нам
возможность переживать и размышлять над временной связью
человеческого опыта и личности.312 В этом отношении жанр подобен
описательной структуре, позволяющей определенным аспектам
реальности проявиться больше, чем другим. Мы имеем доступ к
реальности только через описания, но это все равно описание
реальности. Из этого следует, что не существует «обосновательского»
жанра, в который можно было бы перевести все остальные.313 Иметь
310 Сейчас я занимаюсь изучением литературного жанра на уровне дискурса, который
наилучшим образом служит нуждам библейского и систематического богословия. См. D. А.
Carson and К. J. Vanhoozer, The One, the Two, and the Many: Unity and Plurality in the Relation of
Biblical and Systematic Theology (Eerdmans, forthcoming).
311 Мы вернемся к этим трем аспектам ниже. Сам Бахтин более всего интересовался развитием
романа и тем, каковы последствия возникновения этого жанра для рассмотрения человеческого
существования и мышления о нем. Бахтин сравнивает Достоевского с Эйнштейном: оба
обогатили человечество абсолютно новыми понятийными представлениями о мире. См.
Bakhtin, Problems of Dostoyevsky's Poetics, ed. Caryl Emerson (Minneapolis: Univ. of Minnesota
Press, 1984).
312 Cm. Paul Ricoeur, Time and Narratives, 3 vols. (Chicago: Univ. of Chicago Press, 1984-88).
313 Это ставит проблему о статусе и философии, и систематического богословия. Представляют
ли они дальнейшие жанры, или они свободны от жанровых ограничений и говорят о сущностях
как они есть? Ответ на этот важный вопрос находится вне рамок данной работы, но см. Carson
and Vanhoozer, The One, the Two, and the Many (forthcoming). Поль Рикёр видит задачу философии
в координации разнообразных жанров.
525
Часть вторая. Восстановление толкования
в своем авторском распоряжении репертуар жанров — мудрость,
откровение, притча и пр. — означает способность
взаимодействовать с миром и с другими людьми разнообразными способами,
которые иначе были бы невозможны. В этом отношении жанр —
средство обучения, а не просто выражения чего-то, что человек уже
знает. Здесь уместна параллель с метафорой. Метафоры не были
бы столь необходимы, если бы обозначаемое ими можно было
выразить иначе. Рикёр, как мы видели, доказывал, что метафора —
незаменимый когнитивный инструмент.314 Я думаю то же о жанрах.
Литературные жанры вносят столь же незаменимый
когнитивный и практический вклад в человеческий опыт и социальное
взаимодействие. Более того, Бахтин уверен, что жанры являются
носителями традиционной мудрости, позволяющими одному
поколению передавать опыт другим: «Жанры... накапливают формы
восприятия и толкования определенных аспектов мира».315 Автор,
связавшись с жанром, может пользоваться его значительными
когнитивными ресурсами.316 Каждый жанр — это форма мышления,
«адаптированная для концептуализации определенных аспектов
реальности».317 Соотнося жанр с предшествовавшим обсуждением
иллокуции повествования, жанр можно описать как
«формообразующую идеологию».318
Представьте себе все возможные библейские жанры:
пророчество, апокалипсис, гимн, повествование, закон и пр. как разные
виды карт. Каждая карта отражает определенные
географические аспекты для достижения тех или иных целей:
информирования, предостережения, ободрения, указания, убеждения и т. д.
У каждого жанра — свои «условные обозначения» и свой
«масштаб». «Условные обозначения» поясняют содержание текста.
Подобно тому, как разные карты выделяют разные аспекты
реальности (напр.: дороги, геологические свойства, исторические события),
так и разные литературные жанры выбирают и рассматривают
некоторые аспекты реальности более подробно, чем другие. Точно так
314 См. Paul Ricoeur, The Rule of Metaphor (Toronto: Univ. of Toronto Press, 1977).
315 M. Bakhtin, Speech Genres and Other Late Essays, 5.
316 Один из комментаторов Бахтина предпочитает говорить о «парадигмах коммуникации»
(см. Walter L. Reed, Dialogues of the Word: The Bible As Literature According to Bakhtin (Oxford:
Oxford Univ. Press, 1993), 47.
317 Emerson and Morson, Mikhail Bakhtin: Creation of a Prosaics, 276.
318 Там же, 283.
526
Глава шестая. Обретение текста
же у каждого жанра есть свой «масштаб», общепринятые способы
мышления и способ соотнесения слов с миром. «Условные
обозначения» и «масштаб» истории, например, соотносят слова с миром
(«то, что произошло на самом деле»); у утопии обратная цель —
заставить мир (будущее) соответствовать нашим словам.
Рикёр начал исследовать значение разнообразных библейских
жанров для толкования и богословия. Каждая из множества форм
библейского дискурса передает откровение по-своему,
неповторимым образом. Если мы отбросим форму, как при
демифологизации, то потеряем и содержание. Почему? Потому что жанр —
это не просто способ классификации форм литературы, а
когнитивный инструмент для создания мировоззрений. Опять-таки,
ключевой момент здесь в том, что форма не случайна, она жизненно
важна для содержания. Понимание этого вскрывает недостатки
метода, состоящего в поиске доказательств в тексте: библейские
тексты дают не только содержательную информацию, но и
способы толкования и обработки информации. Толкователи Библии
должны развивать свои навыки для того, чтобы распознавать
различные формы коммуникативной деятельности, заключенные в
христианском каноне, и участвовать в них.
Герменевтическая рациональность: жанр и завет
дискурса
Теперь мы можем заявить, что толкование текстов связано с
достижением жанровой компетентности. Мы сможем
правильно понять текст, только если поймем, что он собой
представляет и о чем он, потому что правильное действие текста зависит от
его формы и содержания. Как мы уже убедились, компетентностью
называется неявно присутствующее умение совершать успешные
коммуникативные действия. С другой стороны, коммуникативная
рациональность — это термин Хабермаса, обозначающий процесс
обоснования претензий на истинность каждого речевого акта.
Рациональность по Хабермасу состоит в «выполнении» этих заявлений,
путем достижения взаимопонимания посредством обоснования, а
не принуждения. В этом разделе мы рассмотрим, как разнообразие
литературных форм усложняет эту задачу. Если Хабермас
сосредоточивается на универсальных правилах рациональности дискурса
вообще, я буду говорить о «жанровой рациональности», процессе,
527
Часть вторая. Восстановление толкования
с помощью которого открыто реконструируются правила, неявно
управляющие определенными литературными формами. Что
касается литературных актов, жанр произведения определяет контекст,
в котором действует «принцип сотрудничества». Жанр создает
контекст сотрудничества, а жанровая компетенция требует
соблюдения как общих правил, управляющих всем дискурсом,
так и частных правил, определяющих конкретные
литературные формы.
Общая рациональность: универсальные условия
достоверности
Эту главу об эпистемологии смысла уместно будет закончить
обращением к философу, который стремится найти в речевых
актах рациональность, присущую всякой коммуникативной
деятельности.319 Как мы уже убедились, Хабермас верит, что обнаружил
универсальные стандарты рациональности, которые изначально
существуют не в разуме субъекта (как полагали Декарт, Кант и
большинство модернистских философов), а в самом языке.
Рациональность подразумевается коммуникативной деятельностью,
ориентированной на взаимное понимание и согласие. Хабермаса
интересует то, что можно назвать «трансцендентными соглашениями»
коммуникации: необходимые условия лингвистической
коммуникации между людьми. Задача философов — выявление
универсальных основ коммуникативной деятельности.320 Они достигают этого
путем, который Хабермас именует «рациональной
реконструкцией», цель которой — «четкое и ясное описание правил, которыми
должен владеть компетентный пользователь языка для того, чтобы
формировать грамматически правильные предложения и
употреблять их приемлемым образом».321
319 Здесь я также вынужден высказать определенное предостережение или оговорку: как и в
случае с Ридом, Плантингой, Бамбро и другими, Хабермас тоже не ведет речь о литературном
понимании как таковом, хотя толкование можно счесть «действием, направленным на достижение
понимания между субъектами». Отметим также, что коммуникативная компетентность
включает в себя некоторые прагматические черты высказываний (напр.: иллокуции), в отличие
от лингвистической компетентности, которая относится только к langue (напр.: к локуциям).
320 См. в частности Jurgen Habermas, "Philosophy As Stand-in and Interpreter," в After Philosophy,
296-315 (особ. 310).
321 Habermas, "What Is Universal Pragmatics?" в Communication and the Evolution of Society, tr.
Thomas McCarthy (London: Heinemann, 1979), 26.
528
Глава шестая. Обретение текста
«Повседневная коммуникативная деятельность, в которой
деятели должны достигнуть понимания, должна доказать свою
ценность».322 Что именно должны доказывать речевые акты?
Каковы условия достоверности речевого акта? Говорящие должны быть
готовы показать не только то, что их акт доступен пониманию, но и
то, что он правдив, истинен и уместен. Если мы не уверены, что
акт соответствует этим условиям, сама возможность коммуникации
исчезает. Коммуникативная компетентность включает в себя нечто
большее, чем компетенцию грамматическую; она предусматривает
способность сопоставлять предложения с внешней реальностью и
социумом. Речь идет не просто о соотнесении слов и мира, а,
скорее, об использовании слов должным образом в соответствующем
контексте, об «универсальной прагматике». Каждый речевой акт по
умолчанию утверждает, что соответствует, или может
соответствовать при проверке этим универсальным условиям достоверности.
Я уже говорил, что понятие жанра координирует три аспекта
коммуникативной деятельности: воплощение авторского замысла,
словесное взаимодействие слов с миром и взаимодействие с
адресатом. Эти три аспекта жанра соответствуют трем условиям
достоверности по Хабермасу. Смысл коммуникативного акта — от
самого скромного речевого акта до наиболее сложного литературного
жанра — это не только вопрос его пропозиционного содержания,
но и того, как он взаимодействует с реальностью и устанавливает
межличностные отношения. Каждый коммуникативный акт
предполагает правдивое выражение авторского замысла (субъективное
условие), истинное указание на что-то в реальном мире
(объективное условие), а также установление правильных межличностных
отношений (межсубъектное условие). Речевой акт компетентного
говорящего способен выполнить все эти условия.323
Хабермас уверен, что, выявив свойственную коммуникативной
деятельности рациональность, он избежит критики Дерриды,
утверждающего, что толкование обусловлено соглашениями и потому
произвольно. Напротив, такие идеалы как истина (соотнесенность
со внешним миром), правдивость (соотнесенность со внутренним
322 Habermas, The Philosophical Discourse of Modernity, 199.
323 Хабермас нацеливает свой анализ на обоснование социальной теории, основной частью
которой является понятие справедливости, основанное на универсальных нормах, присущих
коммуникативной деятельности. См. Habermas, Justification and Application: Remarks on
Discourse Ethics (Cambridge, Mass.: MIT Press, 1993).
529
Часть вторая. Восстановление толкования
миром) и уместность (соотнесенность с социальным миром)
заключены в самой структуре речи. Следовательно, рациональность
присуща не субъекту познания, а самой структуре коммуникативного
действия.
«Жанровая» рациональность: частные условия
достоверности
До сих пор мы имели дело с универсальной прагматикой, то есть
с теми условиями достоверности, которые, по мнению Хабермаса,
лежат в основе любого коммуникативного акта. Но разные жанры
по-разному отвечают этим условиям достоверности, и толкователям
стоит обращать внимание и на локальную прагматику. Как мы
успели убедиться, литературные жанры представляют разные формы
мышления; типов коммуникативной компетентности столько же,
сколько и типов коммуникативной деятельности. Это не означает,
что какие-то жанры свободны, например, от критерия истинности.
Напротив, я поддерживаю процессуальный подход Хабермаса к
рациональности. Однако я полагаю, что способы соответствия
условиям достоверности различаются от жанра к жанру. Все
тексты должны быть доступны пониманию, однако правила,
согласно которым тексты обладают смыслом, не остаются неизменными.
Итак, наша цель, подобно Хабермасу, заключается в
систематической реконструкции интуитивного знания компетентных авторов
и толкователей. Мы хотим обеспечить теоретическое обоснование
изначально присущего им умения — рациональности,
предполагаемой всяким коммуникативным действием. Однако мы хотим также
выявить связанную с жанром локальную рациональность
разнообразных литературных форм. Как они образуют дискурс? Каким
соглашениям следуют? Как взаимодействуют с реальностью?
Таким образом, наша задача соотносится с тем, что Меир
Штернберг называет «поэтикой»: с исследованием правил литературной
композиции.324 Итак, наш метод литературного познания —
рациональная реконструкция и явная формулировка
«локальной» рациональности, управляющей определенным жанром.
324 «Поэтика — это систематическое исследование или рассмотрение литературы как таковой»
(Sternberg, Poetics of Biblical Narrative, 2).
530
Глава шестая. Обретение текста
Мы познаем смысл коммуникативного акта, когда понимаем, чем он
является и какие правила определяют его успешное выполнение.
Что происходит с универсальными условиями
достоверности, когда мы рассматриваем их в свете частных жанровых рацио-
нальностей? В какой степени «принцип сотрудничества» Грайса
и «универсальная прагматика» Хабермаса позволяют менять их в
соответствии с локальными условиями? Условие искренности,
согласно которому дискурс должен быть правдивым, искренним
выражением субъективности, я считаю неизменным. Однако то, как
тексты взаимодействуют с миром и с людьми, зависит от того,
какой именно литературный акт совершается. Смысл жанровой
компетентности — в правильном использовании предложений в
контексте определенной литературной формы; например, соотношение
предложения и реальности зависит от того, какой вид
литературного акта мы совершаем. И история, и беллетристика стремятся к
истине — соответствию миру, — но по-разному, в рамках различных
описательных структур. От историка читатель ожидает описания
событий прошлого; романист, напротив, отстаивает утверждение
иного рода: «Жизнь — такова». Все формы дискурса воплощают
замысел, соотнесены с миром и взаимодействуют с читателем — но
не все одинаково.
Третье требование Хабермаса к достоверному дискурсу — то,
что он должен быть уместен в той или иной ситуации — порождает
особые проблемы для литературного жанра. Разве мы не видели,
что уникальный эффект письма — в том, что он разрывает
контекстную цепь, которой говорящие привязаны к слушателям? Можно
вспомнить, что тексты отдаляются от авторов. Ясно, что автор и
читатель не всегда находятся в одной и той же ситуации, не говоря
уже о культуре, стране или столетии. Казалось бы, литературные
акты не могут соответствовать требованию достоверности,
касающемуся общества: уместности. Но это впечатление обманчиво; я
утверждаю, что мир текста — на самом деле мир общий. Контекст,
объединяющий авторов и читателей — это литературный контекст:
если быть более точным, это контекст жанра, охватывающий
свойственные ему правила обсуждения, описания и выделения
определенных аспектов реального мира. Автор взаимодействует с
читателем и реальностью не вопреки, а благодаря посредничеству текста,
вместе с характерным для него мироощущением. Здесь
литературное познание приобретает новый смысл: не только знание о самом
531
Часть вторая. Восстановление толкования
жанре, но и вид знания, которое можно получать и передавать
другим посредством литературного жанра.
Авторы по-разному сообщают о своем жанровом замысле (и тем
самым — об условиях достоверности, которым необходимо
соответствовать). Фаулер говорит о нескольких «жанровых сигналах».
Для введения читателя в определенную, подчиненную правилам
коммуникативную деятельность, представленную текстом,
особенно важны начальные указатели: «Начало Евангелия Иисуса
Христа, Сына Божия» (Мк. 1,1); «Павел, раб Иисуса Христа,
призванный Апостол, избранный к благовестию Божию...» (Рим. 1,1); «В
те дни, когда управляли судьи...» (Руфь 1,1); «Притчи Соломона...»
(Притч. 1,1). «Видение Исайи, сына Амосова, которое он видел
о Иудее и Иерусалиме...» (Ис. 1,1). Эти начальные утверждения
вызывают в памяти другие литературные произведения подобного
жанра: Евангелия, послания, поучительные притчи или истории,
мудрость и пророчества. Заголовки становятся еще одной
подсказкой. Бут отмечает, что заголовки «часто оказываются
единственным явным комментарием, доступным читателю».325 Еще один
сигнал — «жанровая аллюзия»: «Помимо явного определения жанра,
самой прямой формой указания оказывается ссылка на более
ранних авторов или представителей этого жанра».326 Для
обозначения жанровой принадлежности текста автор использует и другие
сигналы в самом тексте, как стилистические, так и тематические.
Конечно, читатели, знакомые с данным жанром, понимают его без
проблем; они интуитивно следуют правилам и соглашениям.
Однако, если вид произведения непривычен, толкователю необходимо
реконструировать это интуитивное знание и сделать его явным.
Литературный жанр как коммуникативный завет
Жанр — это завет, завет дискурса. Подобно тому, как авторы
по умолчанию принимают выдвигаемые коммуникативной
рациональностью условия достоверности, начиная писать, читатели
также по умолчанию принимают условия достоверности,
касающиеся понимания, когда начинают читать. Смысл и понимание
требуют жанровых «соглашений» между автором и читателем, а также
325 Цит. по: Fowler, Kinds of Literature, 92.
326 Там же, 88.
532
Глава шестая. Обретение текста
между словами и миром. Эти две стороны завета соответствуют
двум основным функциям языка: взаимодействию с другими
личностями (через иллокуцию) и взаимодействию с реальностью
(через пропозиции). Интересно отметить, что в истории
литературоведения именно романтики девятнадцатого века восстали против
показавшихся им жесткими жанровых правил. Некоторые авторы
романтизма отвергали жанровые нормы «как тиранические узы,
связавшие человеческие чувства».327 Бенедетто Кроче, например,
отвергал идею о том, что тексты обладают жанровым сходством,
утверждая, что каждое произведение — жанр само по себе. В этом
отношении, похоже, постмодернистский мятеж против
устойчивого смысла — прямое наследие романтизма.
Между автором и читателем. Вступление в завет
свидетельствует о том, что между двумя сторонами установлены
взаимоотношения и что стороны принимают на себя взаимные обязательства.
Участие в общении также означает обретение как прав, так и
обязанностей. В следующей главе я рассмотрю эти коммуникативные
права и обязанности более подробно. Здесь я, в основном,
сосредоточиваю свое внимание на том, как нравственная позиция читателя
может помочь в литературном познании.
Первый шаг к пониманию — это определение жанра текста, то
есть вида рассматриваемого коммуникативного действия.
Следующий шаг — восстановление соответствующей рациональности,
особой формы мышления и мировосприятия, которая и
упорядочивает данный жанр, и управляет им. Литературный акт
представляет собой единое целое благодаря тому, что он принадлежит к
определенному жанру: «Тема произведения — это тема целостного
высказывания как определенного общественно-исторического акта.
Следовательно, она неотделима от всей ситуации высказывания
настолько же, насколько она неотделима от языковых элементов».328
Следовательно, жанр действует как мост между авторским и
читательским горизонтами смысла. Автор закладывает в текст
определенный набор жанровых правил, с тем чтобы читатель
распознал их. Со своей стороны, толкователи, приступая к тексту,
заведомо обладают пониманием — тем, что Дэвидсон называет
327 Frans de Bruyn, "Genre Criticism," 80.
328 Медведев, цит. по Emerson and Morson, Mikhail Bakhtin, 273.
533
Часть вторая. Восстановление толкования
«предварительной теорией».329 Эта предварительная теория —
догадка о жанре текста; она может соответствовать или не
соответствовать авторской структуре толкования. Один читатель,
например, может читать «Гордость и предубеждение» как историческую
трагедию, другой — как социальную комедию. Однако
компетентный читатель по ходу чтения будет менять свою предварительную
теорию посредством выведения наилучшего объяснения.
Определить жанр текстового произведения — значит определить, какая
«текстовая игра» в нем ведется, какие действуют правила и как
слова сочетаются с миром. Только целое наделяет смыслом свои
части. Итак, жанр — это объединяющий уровень описания текста,
который выявляет воплощенный замысел, специфическую природу
и сущностную функцию коммуникативного акта.
Понимание текста — ожидаемый результат жанрового
принципа сотрудничества, по которому авторы и читатели соглашаются
придерживаться одного и того же набора правил. Понимание
текста подразумевает подход к нему «уместным» образом, в
соответствии с тем, какого рода актом он является. Именно по этой причине
процесс понимания текста содержит в себе свойства завета.
Авторы и читатели должны соглашаться, по крайней мере, в том, какой
акт выполняется, хотя они могут и не соглашаться по поводу
многого другого (например, того, точен ли текст и хорош ли он, и т. д.).
Авторы обычно ожидают, что их иллокуционный замысел будет
распознан (иначе зачем писать?). Читатели обычно считают, что
авторам известен объем знаний их аудитории, и поэтому
компенсируют любые предполагаемые пробелы в тексте. Жанр способствует
процессу общения именно путем ориентирования авторов и
читателей в сторону общего литературного контекста. Однако завет
дискурса не вполне равноправен: исходный текст — это «нормативная
база», в то время как толкование подобно «исполнению».330 Так
пианист, исполняя сонату Моцарта, следует нормам композитора
(и нормам жанра «сонаты»). Исполнение, хотя и является
неотъемлемой частью толкования, подчинено нотной записи. То же самое
верно для текстов и толкований. В этом завете верность написанному
необходима для того, чтобы получить обещанное благословение —
329 Davidson, "A Nice Derangement of Epitaphs," in Truth and Interpretation: Perspectives on the
Philosophy of Donald Davidson, ed. Ernest LePore (Oxford: Basil Blackwell, 1986), 433-46.
330 Так в Wolterstorff, Works and Worlds of Art.
534
Глава шестая. Обретение текста
понимание. Понимание — это соглашение в завете между
компетентными авторами и компетентными читателями о том, что любой
текст подчинен правилам.
Между словами и миром. Давайте теперь расширим наше
понимание завета дискурса, включив в него и отношения между
словами и миром. Коммуникативная деятельность подразумевает, что
сказанные нами слова всегда о чем-то. Следует вспомнить: то, на
что могут указывать слова, не ограничено эмпирическим
соотнесением. Мы должны избегать повторения ошибки логических
позитивистов, с точки зрения которых всякое осмысленное предложение
должно отражать некое эмпирическое состояние. В то же время я
уверен, что каждый речевой акт и каждый жанр так или иначе
взаимодействуют с миром. Можно вспомнить, что, по словам Сёрля,
некоторые слова соответствуют миру (напр.: утверждения и
выражения эмоций), в то время как другие нацелены на то, чтобы
заставить мир соответствовать нашим словам (напр.: поручения,
директивы). Это разделение, будучи правильным, в то же время слишком
жесткое, чтобы пригодиться при определении множества способов
взаимодействия различных жанров с реальностью.
То, что жанры — это «мировоззрения», избирательные
взгляды, ограниченные перспективы, не делает невозможной связь с
реальностью, разрушая лишь «миф о полном и всеобъемлющем
представлении реальности».331 Раньше мы сравнивали жанры с
картами. Как правило, карты выделяют только некоторые черты или
свойства из всего объекта изображения. Более того,
соотнесенность карт с миром различна, и иногда — значительно.
Достаточно сравнить дорожную карту, например, с историческим атласом
или геологическим обзором, чтобы увидеть, насколько разными
могут быть карты, не теряя при этом соотнесенности с миром. Так
же и тексты не обязательно должны соответствовать реальности
в масштабе один к одному. Герменевтика, учитывающая
разнообразие коммуникативной деятельности, не обязана делать это
решающее редукционистское допущение. Слова не являются
«естественным» воспроизведением реальности. Если бы было так, смысл
в самом деле был бы равен денотатам используемых слов. Я же,
напротив, утверждаю, что литературные акты действуют с помощью
Livingstone, Literary Knowledge, 207.
535
Часть вторая. Восстановление толкования
жанровых соглашений. Из этого не следует, однако, что сама
реальность — продукт соглашения. Выход из этого парадокса в том,
чтобы вместе с А. Д. Наттоллом заявить, что «всякое
соотнесение с реальностью (включая указывание пальцем) обусловлено
соглашениями».332
Есть огромная разница между утверждением о том, что
тексты подчиняются соглашениям, и о том, что наше понятие
реальности — лишь соглашение. Сказать, что тексты подчиняются
соглашениям — значит просто вновь напомнить, что
коммуникативные акты подчинены правилам. Повествования могут представлять
мир по-разному. Нам нет нужды выбирать между подражанием как
зеркалом природы и подражанием как общественным соглашением.
Как и в случае с выбором между абсолютным знанием и
скептицизмом, мы и здесь должны отвергнуть дихотомию: нет единого
способа соответствия слов миру, но это не значит, что таких способов
нет вообще. Каждый жанр вырабатывает специфические для него
правила взаимоотношений слов и мира: «Мы можем использовать
слова просто для того, чтобы подытожить известный материал или
указать на него. Или же, слова могут быть использованы для того,
чтобы вызвать в воображении знание об известном материале».333
Некоторые жанры (напр.: история, репортаж) расширяют наш
запас содержательных знаний. Другие жанры (напр.: поэзия, роман)
расширяют наши знания, углубляя или усиливая осознание того,
что нам уже известно. Наттолл предполагает, что художественная
литература увеличивает наш опыт {connaitre), а не
интеллектуальные знания (savoir): «Понятие опыта, переживания сразу
объясняет причину, по которой мы предпочитаем картину Рембрандта
фотографии».334На что больше похожи Евангелия — на
фотокопии или на портреты? Ни одни из жанров не «более истинен» чем
другой; каждый из них нацелен на свой способ взаимодействия
332 A. D. Nuttall, A New Mimesis: Shakespeare and the Representation of Reality, 53.
333 Там же, 74.
334 Там же, 78. Ср. Слова К. С. Льюиса о различии между «вкусить» и «увидеть» (С. S.
Lewis, "Myth Become Fact," в God in the Dock [Grand Rapids: Eerdmans, 1970]. Алтиери считает,
что литература увеличивает объем наших знаний о реальности, поскольку она помогает нам
выделить более сложные и разнообразные различия в человеческих отношениях: «Тексты
дают доступ к знаниям не потому, что описывают частности, а потому, что они воплощают в
себе способы восприятия фактов». (Altieri, Act and Quality, 12). Ливингстон, со своей стороны,
говорит, что тексты дают доступ к знанию, потому что проливают свет на общественно-
исторические ситуации.
536
Глава шестая. Обретение текста
с реальностью и на свой вариант точности. Но этот вопрос следует
задать, хотя бы для того, чтобы избежать ошибок в толковании. Не
следует ожидать от художественных текстов исторических знаний,
а от исторических текстов — знаний научных. Вид получаемых
нами при чтении литературных знаний зависит от того, какую
литературу мы читаем.
В конечном итоге, следует сказать, что авторов и читателей
объединяет не только мир текста, но и реальный мир. Общий мир
текста позволяет авторам взаимодействовать с читателями и
рассуждать о реальности (в рамках определенной описательной или
жанровой структуры). Итак, сутью литературного знания
оказывается знание чего-либо о тексте (т. е. о его литературной форме) и,
следовательно, чего-то о том, о чем этот текст (т. е. о его
содержании). Я предполагаю, что толкователь приобретает оба вида знания,
«пребывая» в тексте. Согласно Майклу Поланьи, «всякое познание
носит личный характер и сводится к непосредственному
пребыванию в ситуации».335
Нам не придется далеко ходить в поисках причины. Если
жанр — это вид коммуникативной практики, лучший способ
освоить его правила — стать подмастерьем. Это — лучший способ
воспитания литературной чувствительности и достижения не только
жанровой компетентности, но и мастерства. Однако такое знание
имеет свою цену, потому что пребывание в тексте требует от
толкователя хотя бы временно забыть о самом себе, ради того, чтобы
понять другого. Возможно, именно это имеет в виду Н. Т. Райт,
описывая свой критический реализм как «эпистемологию любви».336 И,
конечно, именно об этом говорил К. С. Льюис, рассуждая о
хорошем чтении, которое требует «поставить себя на место другого и
тем самым превзойти нашу собственную коммуникативную
ограниченность. Приходя к пониманию чего-то, мы отвергаем факты,
какими видим их мы сами, чтобы увидеть их такими, как они есть
на самом деле».337 В познании, как и в любви, истинны
парадоксальные слова Господа: «Кто потеряет душу свою, тот обретет ее». Итак,
суть понимания жанра — в пребывании в коммуникативных актах
автора. Литературное знание, в конечном счете, связано не только
335 Michael Polanyi and Harry Prosch, Meaning (Chicago: Univ. of Chicago Press, 1975), 44.
336 N. T. Wright, The New Testament and the People of God, 64.
337 С S. Lewis, An Experiment in Criticism (Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1961), 138.
537
Часть вторая. Восстановление толкования
с теоретическим, но и с личным познанием, не только с savoir, но
и с connaitre.
Между словами и Словом. Моя защита литературного
познания во многом полагается на устойчивость литературного
жанра. Однако предшествующие рассуждения ставят перед
толкователями Библии следующий вопрос: является ли жанром также и
канон? Это вопрос непростой. С одной стороны, некоторые
оспаривают мое утверждение о том, что отдельные библейские книги
представляют собой определенные жанры. Например, Дэвид Ауни
перечисляет двадцать разных жанров, которые он насчитал только
в Евангелиях, включая высказывания Иисуса, притчи, поговорки,
истории о чудесах, родословия и молитвы.338 Однако их лучше
всего описывать как «под-жанры», поскольку они, встраиваясь в
общее повествование, подчинены тексту в целом; их независимость
относительна. С другой стороны, разнообразные литературные
жанры в самой Библии также обладают лишь относительной
независимостью, поскольку они предназначены для достижения более
обширной коммуникативной цели. В контексте Писания каждый из
литературных жанров Библии обретает дополнительную иллоку-
ционную силу, а именно: «исповедание веры» или «свидетельство о
Христе». Иначе говоря, статус части канона позволяет проявиться
дополнительному уровню сложности: уровню «свидетельства».339
Жанры Библии, будучи разными по форме, частично совпадают по
содержанию и функции. Выше я предположил, что в отношении
канонического замысла нам, возможно, придется обратиться к
понятию божественного авторства. Соответственно, мы можем сказать,
что канон представляет собой человеческий дискурс,
направляемый Богом; все вместе разнообразные книги Библии составляют
Слово Божье.
В заключение: жанры по-разному взаимодействуют с читателем
и воспроизводят реальность. Присутствие правил и соглашений не
препятствует соотнесению с реальностью, хотя способ, вид
«карты» мира, рисуемой текстом, разнится от жанра к жанру. У текстов
338 См. David E. Aune, The New Testament in Its Literary Environment (Philadelphia: Westminster,
1987).
339 Рикёр выдвигает предложение, подобное этому. Писание содержит множество жанров,
которые, в свою очередь, делают одно и то же: «называют Бога» (Ricoeur, Figuring the Sacred:
Religion, Narrative and Imagination (Minneapolis: Fortress, 1995), 224.
538
Глава шестая. Обретение текста
множество различных объектов, и они могут передавать их
разнообразными способами. Разнообразие жанров — еще одно
подтверждение критического реализма. Ни одна форма дискурса, ни
одна описательная структура не исчерпывает всего, что можно
сказать о мире, человечестве или Боге. Разнообразие библейских
жанров приносит двойную пользу: Писание может передавать разные
аспекты реальности и по-разному обращаться к читателю (напр.: к
его разуму, воле или сердцу). Доступ к реальности Иисуса или к
чему бы то ни было еще, о чем говорит Писание, опосредован
текстом. Однако процесс посредничества не гарантирован. Потому что,
хотя коммуникативный акт и может быть успешно выполнен и хотя
в тексте действительно может присутствовать смысл, нет гарантии,
что толкователь будет вести себя разумно, или, более того,
нравственно. Завет дискурса может быть нарушен. Коммуникативная
деятельность требует не только герменевтической рациональности, но
и коммуникативной нравственности. Литературное знание требует
наличия не только соответствующих методов толкования, но и
надлежащих толковательных добродетелей. Потому что читатель —
это тоже коммуникативный деятель, и оживить коммуникативный
акт может только читательский отклик.
539
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
Преображение читателя:
толковательная добродетель, духовность
и действенность коммуникации
Даже для того, чтобы противоречить тексту,
приходится сначала рассуждать на основании самого
этого текста: восприятие предшествует противлению,
компетентное прочтение — свободному отрицанию,
поэтика — политике.
Меир Штернберг.1
Я воспринимаю как нравственный и
прагматический факт то, что поэма, рисунок, соната существуют
прежде акта восприятия, комментария или оценки.
Георг Штайнер.2
Вопрос: «Что есть в Библии?» — способен
губительным образом превратиться в противоположный
вопрос: «А чего ты, собственно, ищешь и кто ты такой,
что осмелился искать?»
Карл Барт.3
В двух предшествующих главах я представил доказательства
в пользу герменевтического реализма и герменевтической
рациональности. Герменевтический реализм утверждает,
что авторский замысел заключен в тексте, который и воплощает
его. Герменевтическая рациональность есть утверждение того, что
1 Meir Stemberg, "Between Poetics and Sexual Politics: From Reading to Counterreading," Journal
of Biblical Literature 111 (1992): 473.
2 George Steiner, Real Presences, 149-50.
3 Karl Barth, The Word of God and the Word of Man, 32.
Часть вторая. Восстановление толкования
форма и содержание коммуникативного акта — то, что он собой
представляет, и то, о чем он, — доступны познанию с
относительной достоверностью. Автор — коммуникативный деятель, а текст —
коммуникативное действие, обладающее материей (препозиционным
содержанием) и энергией (иллокуционной силой). Подобно стрелам,
тексты также обладают определенной траекторией и
направленностью (перлокуционной целью). Однако, что касается третьей
составляющей, то немаловажную роль играет реакция читателя.
«Для каждого коммуникативного действия существует равная
и противоположная ему коммуникативная реакция». Не совсем
так. Читатели не всегда следуют третьему закону движения
Ньютона. Но в процессе чтения непременно возникает определенная
реакция, пусть даже это будет безразличие. Толкования, которые
не затрагивают вопрос личного взаимодействия читателя с формой
и содержанием текста, остаются неполными. Используя понятие
риторики по Аристотелю, в этой главе я буду рассматривать не
характер авторского дискурса и не логос самого дискурса, а пафос,
ассоциируемый с чтением, то есть влияние текстов на читателей.4
Если в тексте есть смысл, можно ли говорить о верных и неверных
реакциях на него? Вопрос касается не создания
коммуникативного акта, а его восприятия, или потребления; не столько
коммуникативной деятельности, сколько действенности коммуникации.
Соответственно, главной темой этой главы стало применение, а не
разъяснение, перлокуция, а не иллокуция, действие Святого Духа,
а не Слова. После метафизики и эпистемологии настало время для
этики смысла и понятия «правоты толкования».
Суть литературного познания не заключается в простом
восприятии фактов. Большинство авторов пишут не только с целью
передачи информации, но и стараются определенным образом повлиять
на своих читателей. Понимание — это не просто интеллектуальное
действие, в процессе которого человеческий разум отмечает смысл
и денотат отдельных предложений. Завет дискурса включает
момент личностного восприятия. Можно читать ради иллокуционного
смысла (интеллектуальное восприятие) или перлокуционного
воздействия (экзистенциальное преобразование). Ни в одном из этих
4 Цель литературного акта — оказать воздействие на потенциального читателя. Заметьте, что
распространенной перлокуционной целью литературного акта является побуждение читателя к
дальнейшему действию.
542
Глава седьмая. Преображение читателя
случаев читатель не остается полностью пассивным. Текст — это
и коммуникативный акт, и объект толкования. Смысл текста, как я
намерен доказать далее, есть ответственность читателя.
Действительно ли читатели берут на себя определенные
обязательства, изучая текст, и если это так, то какие? Ответ на этот
вопрос зависит от того, верит ли человек, что смысл независим от
процесса чтения. Таким образом, эта глава исследует позиции
сторонников и противников герменевтического реализма по
отношению к этике, или нравственной стороне толкования. Достоевский
однажды сказал: «Если Бога нет, то все позволено». Подобный
этический вакуум возникает в случае смерти автора. Если смысл —
творение читателя, то разве может текст влиять на нас? Если не
существует устойчивого смысла помимо толковательной
деятельности читателя, то, кроме этой деятельности, нет ничего, что нам
следует принимать во внимание.
Некоторые радикальные сторонники критики читательской
реакции сделали заключение, причем достаточно последовательное,
что роль читателя — игра и созидание. Они доказывают, что
незачем выходить за пределы эстетики к этике. Я возражаю против
такого неудачного деления смысла на абсолютно познаваемый и
абсолютно неопределимый. Ни один из этих вариантов не
признает за читателем права на осмысленное суждение. Я утверждаю,
что читая, мы сталкиваемся с «иным», которое вызывает у
нас определенную реакцию. Вслед за Штайнером я рассматриваю
это качество текста как момент трансцендентности в толковании;
именно реакция на голос, отличный от нашего собственного,
придает чтению богословский оттенок. Интересно, что деконструкти-
визм тоже берет на себя, по крайней мере на словах, роль
защитника интересов «иного». В своих последних работах Деррида снова и
снова обращается к теме нравственности. Как мы увидим, Штайнер
и Деррида представляют два разных подхода — богословский и ан-
тибогословский — к тому, как должным образом учитывать инако-
вость текста.
В этой главе сопоставляются соперничающие подходы к
этике толкования, каждый из которых обусловлен влиянием одного
из факторов: игры, власти, мира. Реформация читателя (то есть
подход к нравственности толкования с явно богословской точки
зрения) включает в себя пять этапов. Прежде всего, это —
использование читателем текста, критика текста и «следование» за ним.
543
Часть вторая. Восстановление толкования
Настоящий читатель — это последователь текста, идущий по его
иллокуциям и перлокуциям в поисках понимания. Во-вторых, я
рассматриваю вопрос о том, может ли читатель, который
неизбежно подходит к тексту с определенными идеологическими
взглядами, в принципе быть заинтересованным именно в толковании, а не
в некоей цели за пределами толкования как такового. Существует
ли «категорический императив», универсальное моральное
правило чтения? Вопрос этот заставляет меня, в-третьих, разделить
правоту и благо толкования, этику целей и нравственные
нормативы толкования. Далее, наши рассуждения об этике толкования
подводят нас к вопросу о том, в какой мере ответственность за
толкование предполагает свободу толкователя. Что именно имеется в
виду под свободой толкования? До какой степени тексты
предопределяют толкования, и насколько смысл текста зависит от действий
толкователей? Могут ли читатели следовать за текстом, сохраняя
свободу чтения?
Наконец, до какой степени обсуждение этики толкования
должно опираться на богословие толкования? Иначе говоря, до какой
степени нравственность литературного познания предполагает и
духовность литературного познания? До какой степени возможно
истинное понимание Библии — или любого другого
коммуникативного действия — без помощи Святого Духа, учитывая падшее
состояние человека? Могут ли читатели избежать толковательного
насилия над текстом без помощи Духа мира, без перлокуционной
силы, явленной в день Пятидесятницы, которую Барт называет
«Господом слышащих»? Постмодернистские толкователи,
желающие принять во внимание «иное» — Слово, — должны и читать в
надлежащем духе. Потому что хорошие читатели подходят к
тексту с правильными побуждениями, а не только с правильными
методами, с должными толковательными добродетелями, а не только
с необходимыми герменевтическими разработками. Суть
толкования, в конечном счете, — вопрос не только технологии или даже
нравственности, а скорее религии и богословия. Возможно, лишь
с точки зрения христианства язык выглядит не как система
различий, отражающих политическую власть, а как форма божественно
установленной коммуникативной деятельности, которая может
выполняться ответственно или безответственно, для славы Божьей
или на погибель человечеству.
544
Глава седьмая. Преображение читателя
ЧИТАТЕЛЬ КАК ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ,
КРИТИК ИЛИ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬ
Как следует поступать читателям? Следующая притча
предлагает начало ответа. Хауэрвас в одной из своих проповедей
пересказывает эпизод на дороге в Эммаус, историю о последовавших за
Иисусом до креста, но не на крест.5 Тот, кто пошел за Иисусом до
креста (но не далее) — это почитатель; тот, кто берет крест —
последователь. В отличие от последователя, почитатель идет за
Иисусом лишь до определенного момента. Хауэрвас показывает здесь
разницу в отношениях к Иисусу двух путников на дороге в Эммаус
применительно к реакции читателя на текст Евангелия; в обоих
случаях это — следование не до конца. Путники на дороге в Эммаус не
узнали Иисуса; он был им незнаком. Они не смогли верно прочесть
Писания — или ситуацию. Соответственно, перлокуционный
эффект — «дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос» (Ин. 20, 31)
— не был достигнут. Почитатели Иисуса следуют за
свидетельством Библии только до определенного момента; они не способны
понять, что это значит для них, и воспринять его перлокуционный
эффект. Подобным образом, для многих читателей текст остается
лишь «незнакомцем», которого почитают и за которым следуют «до
определенного момента». Подобно направлявшимся в Эммаус
ученикам, странствующий читатель может познакомиться с текстом,
так и не достигнув момента понимания, так и не придя к личному
познанию «неведомого нового мира Библии», так и не решив, кто
этот незнакомец — друг или враг.
Пример Хауэрваса составляет часть его доказательства, что
христиане способны читать Библию верно, только будучи
членами толковательного сообщества верующих. Подобно тому, как мы
не сможем узнать Иисуса с первого взгляда, так невозможно и
понять текст, просто читая его: «Говорить, что мы узнали бы Иисуса,
если бы он на дороге в Эммаус присоединился к нам, подобно
утверждению, что для понимания Писания все, что нам нужно — это
открыть и прочесть его».6 Как подчеркивает Хауэрвас, путники на
дороге в Эммаус знали библейский текст. Однако они не смогли
применить или воспринять его в новой ситуации — в присутствии
5 Hauerwas, Unleashing the Scripture, 47-62.
6 Там же, 49.
18-227
545
Часть вторая. Восстановление толкования
воскресшего Иисуса. Хауэрвас считает, что лишь те, кто уже
следует (члены сообщества верующих толкователей) будут обладать
подготовкой, необходимой для следования тексту не только до
определенной точки, но до той степени, когда текст преображает сам
способ видения и следования.
Должны ли читатели всегда быть почитателями и
последователями и никогда — критиками? Следует ли ответственным
читателям, не проявляя своих критических способностей, усилием воли
подавлять неверие? Или, может быть, ответственное чтение
требует от читателя суждения о содержании прочитанного? Не верно
ли, что некоторые тексты не достойны ни почтения, ни следования,
а пригодны лишь для того, чтобы их с отвращением отвергли? Не
может ли быть, что некоторые перлокуционные эффекты окажутся
вредны для читателя и тем самым подействуют против блага
человечества? Как же нам тогда читать? Являются ли одни способы
прочтения более нравственными и более ответственными, чем другие?
Дж. А. Эплъярд доказывает, что способы чтения развиваются
с детства до взрослого возраста.7 Читатели-подростки читают для
того, чтобы воспринять смысл или найти образец для подражания.
Они, в строгом смысле, не «видят» текст; для них он подобен
прозрачному окну в мир. Студент, изучая литературу (например,
поэтику или риторику), вырабатывает в себе интерес к ее структуре и
функционированию и начинает воспринимать текст как экран, на
который проецируется та или иная сторона мира. Взрослый, или
«прагматик», сознательно использует текст тем или иным способом
(напр.: для ухода от действительности, для поиска истины, для
получения удовольствия от текста, для того чтобы поставить перед
собой определенную задачу). Один из наиболее сильных
побудительных мотивов для чтения — стремление понять самого себя,
интегрировать свой личный опыт в коллективную мудрость нашей
культуры: «Чтение начинается как социальная деятельность, как
инициация в сообщество и в общественное видение человеческой
жизни... читатель меняется и развивается через диалектику
самости и культуры».8 То есть взрослые читатели ищут не только
литературного знания, но и мудрости. Давайте теперь рассмотрим
7 J. A. Appleyard, Becoming a Reader: The Experience of Fiction From Childhood to Adulthood
(Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1990).
8 Там же, 190.
546
Глава седьмая. Преображение читателя
способы чтения более подробно. В самом ли деле существуют
правильные и неправильные, мудрые и глупые способы прочтения?
Читатель как пользователь
Когда я использую слово... оно значит то, что я хочу — ни
больше, ни меньше.
Льюис Кэрролл.
Высказывание Шалтай-Болтая — краткое изъявление воли
толкователя к власти над языком. Это стремление, знакомое многим
толкователям: «Когда я читаю текст, он значит именно то, что я
хочу». Однако такая позиция неспособна дать достаточное
обоснование для чтения. Зачем читать, если и так известно, что ты
найдешь в тексте именно себя?
В третью эпоху литературоведения многие современные
критики с радостью присвоили большинство нравственных прав
читателю, а не тексту. Утверждение авторского права, с помощью
которого писатели «закрепляют за собой и нравственное право называться
автором данного произведения», запрещает всего лишь
использование авторского языка без разрешения. Очевидно, что моральное
право автора не распространяется на толкование или
использование текста читателями. Известно резкое высказывание Роберта
Моргана: «Тексты, подобно мертвецам, не имеют прав, целей или
интересов. Они могут быть использованы так, как того пожелают
читатели или толкователи. Если толкователь решает учесть
авторский замысел, он делает так потому, что это в его интересах».9
Согласно этой точке зрения, вопрос о том, как читать текст, не
нравственный, а прагматический.
Итак, может ли чтение быть независимым от нравственности?
В условиях постмодернизма единственные нравственные
критерии, которые регулярно употребляются в дискуссиях толкователей,
являются утилитарными. Например: «Предпочтение следует
отдавать тем прочтениям, которые наилучшим образом служат
интересам определенных групп». Как отмечает Рорти, мы не ответственны
ни перед кем, кроме исторических сообществ.10 Различие между
хорошим и плохим прочтением связано с определенной целью,
Morgan and Barton, Biblical Interpretation, 1.
Rorty, Objectivity, Relativism, and Truth, 198.
18*
547
Часть вторая. Восстановление толкования
ради которой они были предложены. Более того, Рорти
определяет «хороший» как «тот, который служит человеческим интересам».
Благо — в толковании или в чем-либо еще — относительно и
связано с человеческими целями и интересами. Что же до критериев,
они — «лишь временные убежища, созданные с утилитарными
целями».11 Вопрос, с одной стороны, состоит в том, следует ли
толкователю искать универсальные критерии, независимые от
интересов сообщества, или, с другой стороны, является ли этика лишь
вопросом сравнительного толкования.
Рорти признает, что его взгляды на толкование идут рука об руку
с более общим взглядом на человека и общество, согласно которому
ни одна группа не может претендовать на самое верное понимание.
В рамках такой культуры толкователи «не могли бы стать теми, кто
знает Тайну, кто добился Истины — просто людьми, способными
в полной мере проявлять истинную человеческую сущность».12
Однако такое утверждение несколько неискренне, поскольку сам
Рорти придерживается определенных убеждений о том, что есть
«благо» для человека. Представление об этом благе оказывается, в
конечном счете, обусловленным нашими взглядами на
человечество. Рорти предпочитает (а с учетом его теории истины, ничем
большим, чем личное предпочтение, это быть не может) рассматривать
человека как существо «одинокое, ограниченное, лишенное связи с
чем-либо вне его самого».13 Если положение человека в самом деле
таково, говорит он, толкователям следует оставить поиск
правильных ответов и, вместо этого, заняться обменом как можно большим
количеством идей. Его этика толкования прямо вытекает из его
взгляда на то, что значит быть человеком.
И вновь ключевым объектом становится реализм. Приближают
ли нас толкования к смыслу, существовавшему прежде них и
независимо от них? Возможно ли понять текст верно (или неверно)?
Или же мы можем делать с текстами все, что нам угодно, лишь бы
только это служило какой-то цели — даже если эта цель не состоит
в достижении понимания? Например, может ли прагматик когда-
либо критиковать интересы сообщества как неуместные или
безнравственные? Похоже, нет, если в самом деле «в глубине нашего
1' Rorty, "Pragmatism and Philosophy," в After Philosophy 59.
12 Там же, 56.
13 Там же, 61.
548
Глава седьмая. Преображение читателя
естества нет ничего, кроме того, что мы сами туда вложили, нет
критерия, который не был создан нами же...»14 Очевидно, Рорти
считает, что читатели могут читать даже так, как будто они сами —
авторы текста. Это, конечно, может быть интересно (если бы я был
автором джойсовского «Улисса», что бы тогда подразумевал я сам
под теми или иными словами этого произведения?), но не слишком
назидательно. И, что более серьезно, нет ничего такого, что
помешало бы «пользователю» злоупотребить текстом.
Читатель как критик
Во времена раннего модернизма «критикой» называли метод
получения знаний о тексте: «описательная деятельность,
анализирующая, объясняющая и систематизирующая вопросы,
которые задаются по поводу текста проницательными читателями;
рекомендации по применению правил чтения текста».15 Однако
во времена позднего модернизма критикой стали называть
притязания читателя на исключительную истинность собственной
точки зрения, с которой он оценивает текст (напр.: феминистскую,
марксистскую и т. д.). То, что ранее было вопросом
эпистемологии, познания, теперь считается вопросом идеологии, власти и
привилегий.
Штайнер несколько иначе проводит разделение на читателей
и критиков. Критик отдаляется от текста на некоторое
расстояние и рассматривает его под определенным углом.16 Для критика
текст есть вещь, безличная сущность, которой можно присваивать
собственные определения. Критик становится судьей и господином
текста. «Всякое утверждение о том, что текст обладает правами,
есть обман, за которым скрываются чьи-то интересы».17 С другой
стороны, читатель рассматривает инаковость текста не как некие
объективные данные и не как состояние пустоты, а как вид
личного присутствия. Читатель становится и пастырем, и
служителем текста, особенно если выучивает текст наизусть и тем самым
14 Там же, 60.
15 Barton, Reading the Old Testament, 6.
16 Steiner, "'CriticV'Reader,'" New Literary History 10 (Spring 1979); 423-52
17 Morgan and Barton, Biblical Interpretation, 7.
549
Часть вторая. Восстановление толкования
предоставляет ему (тексту) возможность действенного
присутствия в своей жизни.
И критики, и читатели утверждают, что их толкование
нравственно. С одной стороны, критики основывают свое утверждение о
нравственности на том, что они заботятся о современной ситуации
и о влиянии текста на общество. Изложенные в тексте
представления о том, какой должна быть жизнь, указывают они, могут быть
искаженными. Следовательно, критика текста, вплоть до его
деконструкции, может быть самым нравственным откликом и лучшим
способом освобождения человечества. С другой стороны, читатели
утверждают, что они этичны, потому что стремятся отдать должное
тексту и принять в свою жизнь его нравственное содержание.
Литература имеет дело с вопросом смысла жизни и показывает нам,
каким может быть этот смысл. Так или иначе, за последнее время
толкование стало вопросом нравственности как для читателей, так
и для критиков.
Уэйн Бут, подобно Штайнеру, предпочитает читателей
критикам. Начать с сомнения и удаления означает уничтожить исходные
данные. Мы читаем, чтобы преображаться; герменевтика
подозрительности сводит преображение на нет. Поэтому Бут предлагает
«дружбу» как основную метафору для чтения.18 Штайнер, в свою
очередь, предпочитает «гостеприимство».19 Реальное присутствие
«иного», голоса и коммуникативного деятеля, который вторгается
в нашу жизнь, требует, хотя бы вначале, вежливого приема. Артур
Куиллер-Кауч, считая, что вся литература назидает, советует
читателю «довериться любому шедевру и его действию,
направленному на нас и на других».20 Конечно, можно стать бездумным рабом
текста. Однако не все тексты заслуживают такого почтения.
Феминисты считают, что глубокие патриархальные корни текстов
следует ставить под сомнение. «Человеческие, этические и
политические отклики читателя, будучи продуктом социального контекста...
в конечном итоге требуют критики тем текста или критики кодов,
из которых данный текст создан».21
18 См. Wayne Booth, The Company We Keep: An Ethics of Fiction (Berkeley: Univ. of California
Press, 1988).
19 Натан Скотт, в свою очередь, называет Штайнера «истинным священником чтения» (Nathan
Scott, Reading Steiner, ix).
20 Цит. по Frank Gloversmith, ed., The Theory of Reading (Sussex: Harvester Press, 1984), x.
21 Appleyard, Becoming a Reader, 117.
550
Глава седьмая. Преображение читателя
Толкование нравственно еще в одном смысле, соотносящемся не
с моральным содержанием текста, а с самим процессом толкования.
Некоторые формы критики сосредоточиваются не на текстах, а на
традиционных методах их прочтения. Например, Элизабет Шлюс-
сер Фиоренза утверждает, что традиционная библеистика, будучи
далеко не беспристрастным направлением науки, на самом деле
обусловлена своим социальным положением. Утверждая
невозможность объективного толкования, Фиоренза отстаивает «этику
подотчетности», которая берет на себя ответственность за
этические последствия библейских текстов и их смысла».22 Иначе говоря,
критик должен судить о предполагаемом эффекте, произведенном
текстом и его толкованием, исходя из политических критериев.
В частности, высоконравственный критик, как правило, должен
задуматься над вопросом: «Как повлияет библейский текст на
читателя, разделяющего его взгляды?»23 Френсис Янг соглашается:
высоконравственное прочтение требует уважения к инаковости текста с
учетом возможного воздействия его на читателя: «Ответственный
подход к прочтению заключается в глубоком понимании смысла и в
объективной оценке потенциальных возможностей текста».24
Даже критики-деконструктивисты все чаще говорят о
нравственном превосходстве своих взглядов на толкование.25 Как мы
уже видели, деконструкция — это не столько метод толкования,
сколько стратегия упразднения толкований.
Критики-деконструктивисты заявляют о своей нравственности, поскольку они с
уважением относятся к инаковости текста. Потому что «иное» — это то,
что исключает главенствующую роль человека, что не может быть
до конца осмыслено человеческим разумом и не укладывается в
понятийные схемы. «Иное» — это то, что нарушает процесс
толкования. Итак, деконструктивизм есть «критическое напоминание
об обязательстве, которое налагают тексты на читателей, —
ответить «Иному» посредством практического взаимодействия с
определенным текстом».26 То есть деконструкция обязательно связана
22 Elisabeth Schussler Fiorenza, "The Ethics of Biblical Interpretation," 15.
23 Там же.
24 Young, "The Pastoral Epistles and the Ethics of Reading," Journal for the Study of the New
Testament 45 (1992): 120.
25 Cm. Simon Critchley, The Ethics of Deconstruction.
26 Gary A. Phillips, "The Ethics of Reading Deconstructively, or Speaking Face-to-Face: The
Samaritan Woman Meets Derrida at the Well," в Elizabeth Struthers Malbon and Edgar McKnight, ed.,
The New Literary Criticism and the New Testament (Sheffield: Sheffield Univ. Press, 1994), 287.
551
Часть вторая. Восстановление толкования
с нравственностью, поскольку она защищает инаковость,
разоблачая борьбу за власть в толковании.
Деконструктивный читатель — это, в конечном счете, критик
равнодушного толкования. Деконструктивиста в первую очередь
интересует, что упущено в том или ином толковании? Хотя деконс-
труктивизм во главу угла ставит текст, он, тем не менее, отрицает
наличие ядра у самого текста. Поэтому всякое толкование, делая
текст более устойчивым, тем самым поступает с текстом
несправедливо. Деконструкция разоблачает ложь: толкования не находят, но
создают единый, слитный текст. Деконструктивизм склоняет нас
к признанию того, что идеологии и светские структуры
оказывают влияние на наши прочтения. Вместо того чтобы безоговорочно
принять общепризнанные толкования, читатель-деконструктивист
играет с текстом. Поскольку смысл не стабилен, читатель может
свободно рассматривать бесконечные альтернативы: «В деконс-
труктивизме текст сохраняет за собой право пренебречь любым
прочтением, в то время как читатель вправе бесконечно
переписывать текст».27 В конечном счете, в центре внимания оказывается
понимание того, что есть нравственность: «Этика ранее была
принудительным общепринятым способом обеспечения сплоченности
определенной группы путем повторения кода... Теперь же вопрос
этики встает каждый раз, когда код (нравы, общественный договор)
должен нарушаться, чтобы уступить место свободной игре
отрицательности, желания, удовольствия...»28
Читатель как последователь
Чтение, по словам Рикёра, есть прежде всего «борение с
текстом».29 Почему так? Возможно, потому, что читатель склонен
использовать текст некорректным образом, как бы вопреки
направленности самого текста. С текстами, конечно, можно сделать
многое. Их можно использовать как растопку и подкладывать на
слишком низкие стулья, использовать для оправдания действий
репрессивных социальных структур, таких, как апартеид. Верно
и то, что можно задавать много вопросов относительно текстов,
27 The Postmodern Bible, 131.
28 Julia Kristeva, Desire in Language: A Semiotic Approach to Literature and Art (New York:
Columbia Univ. Press, 1980), 23.
29 Ricoeur, "World of the Text, World of the Reader," в A Ricoeur Reader, 494.
552
Глава седьмая. Преображение читателя
не являющихся объектом толкования (напр.: сколько весит Моби
Дик, что говорится в пьесе «Макбет» о состоянии английского
языка в шестнадцатом веке, что говорит книга Бытия о древней
космологии Ближнего востока и пр.). Такие вопросы вовсе не помогают
нам понять текст как коммуникативный акт. Читатели, которые
используют текст не надлежащим образом или задают вопросы, не
касающиеся его темы, поймут, что чтение — это борение,
поскольку они читают «против течения» текста. Однако были и собственно
толковательные причины для борения с текстом.
Позволить тексту говорить: следование иллокуциям
«Первое, чего требует от нас любое произведение, — сдаться
на его милость. Смотрите. Слушайте. Принимайте».30 По мнению
К. С. Льюиса, мы принимаем произведение, когда «наше
восприятие, воображение и все чувства находятся в согласии с замыслом
художника».31 Вдумчивый читатель «относится к чтению каждого
произведения, воспринимая его всей душой».32 Читатель должен
следовать духу и замыслу автора: «То, что сказано в шутку,
следует и понимать как шутку; то, что сказано серьезно, серьезно и
воспринимать».33 Но к сожалению, многие читатели используют
тексты как некий инструмент; число тех, кто внутренне принимает
их, относительно мало. Пользуются текстом как подручным
средством только недостаточно верующие люди. Такой читатель
воспринимает текст как средство для достижения собственной цели.
«Пользователи» сопротивляются влиянию текста как отдельного
литературного акта. Однако текст, которым пользуются, вместо
того чтобы его воспринимать, заключает человека в замкнутый
круг. Пользователь обречен на герменевтику самолюбования по
Сократу: читай самого себя.
Когда Льюис говорит о «принятии», он ведет речь не о простом
безразлично-созерцательном прочтении, а о состоянии активного
послушания. Читатель откликается на призыв текста: «Смотри.
30
31
32
33
С. S. Lewis,
Там же,
Там же,
Там же.
88.
11.
An Experiment in Criticism,
19.
Часть вторая. Восстановление толкования
Слушай». Высоконравственный критик воспринимает текст как
настоящее «Иное», а не как простую проекцию или отражение
читателя. Если бы критики придерживались нравственных позиций,
предполагает Льюис, было бы меньше разговоров о собственных
расположениях или предубеждениях читателя. «Могу ли я с
уверенностью сказать, что критика с позиции личной оценки помогла
мне понять и воспринять какое-либо великое литературное
произведение или его часть?»34 Его ответ — решительное «нет»:
«Узнайте, о чем писал автор, что значили трудные для понимания слова,
разгадайте недомолвки — и вы совершите больше, чем могли бы
сделать сто новых толкований или оценок».35
Льюис признает, что его взгляды не понравятся «бдительным»
критикам, для которых критика — это «форма социальной и
этической гигиены».36 Именно такова позиция значительной части
постмодернистской критики, согласно которой чтение есть проявление
воли к власти: с его помощью тексты подчиняются преобладающим
понятиям в структуре ценностей сообщества. Сейчас важнее, чем
когда-либо прежде, осознавать, какое понятие «блага» лежит за
оценочными суждениями критика. Предостережение Льюиса
весьма полезно: «Вам придется принять их (подразумеваемое) понятие
блага, если вы хотите принять их критику. То есть вы можете
почитать их как критиков, только если преклоняетесь перед ними, как
перед мудрецами».37 Многие из так называемых нравственных
критиков предполагают, что их мудрость выше мудрости автора.
Более уместный этический подход состоит в том, чтобы
признать за текстом право «высказаться» первым. Такой подход
начинается с вопроса об иллокуционном аспекте текста. Мы судим
о коммуникативном акте, прежде всего, исходя из намеченной им
цели и интересов, по действию, которое ему удается или не
удается совершить. Цитируя Льюиса: «Первое условие способности того
или иного читателя судить о любом произведении, от штопора до
собора, есть понимание его характера, назначения и возможных
способов его использования».38 Но судить о произведении можно
34 Там же, 121.
35 Там же.
36 Там же, 124.
37 Там же, 127.
38 Lewis, A Preface to Paradise Lost (Oxford: Oxford Univ. Press, 1942), 1.
554
Глава седьмая. Преображение читателя
только в том случае, если прежде оно было воспринято, если ему
позволили «высказаться». Вновь процитирую Льюиса:
«Необходимое условие хорошего прочтения — убрать с дороги самого себя».39
Потому что ни один текст не откроет своих секретов читателю,
«который входит в него, считая поэта потенциальным обманщиком...
Нам нужно рискнуть тем, что нас обманут, если мы хотим что-либо
получить».40
Штайнер согласен с этой точкой зрения. Чтение, в конечном
счете, нравственная категория, поскольку коммуникативный акт
требует отклика. «Продуманный отклик, взятая на себя
ответственность превращают процесс толкования в нравственное действие».41
Текст следует не столько наблюдать, сколько переживать; то, что
текст нам предлагает, можно принять или отвергнуть. Штайнер
отмечает, что во многих культурах оказать незнакомцу
гостеприимство — религиозный акт. Незнакомец не похож на нас, и именно
поэтому он может что-то дать нам или научить нас чему-то важному.
Для Льюиса и Штайнера чтение есть борьба за то, чтобы услышать
голос, на самом деле отличающийся от нашего собственного: голос
иного, голос автора. Простой диалог не обязательно предполагает
одобрение. Осознание иллокуционного акта или воображаемого
представления как того, чем они действительно являются — это
лишь первый шаг к познанию его смысла. Существует очевидное
различие между тем, чтобы, с одной стороны, признать иллоку-
ционный акт тем, чем он является, и с другой — делать то, что он
предлагает. По меньшей мере, читатель с твердыми нравственными
устоями должен быть готов признать коммуникативные акты тем,
чем они являются — особенно те, с которыми он, в конечном счете,
не согласен.
Идти за текстом: следование перлокуциям
До этого момента мы рассуждали о следовании в плане
осознания иллокуционного действия (например, прослеживания
хода истории или спора). Однако есть и другой смысл в слове
Lewis, Experiment in Criticism, 93.
Там же, 94.
Steiner, Real Presences, 90.
Часть вторая. Восстановление толкования
«следование», выходящий за пределы простого признания иллоку-
ционных свойств. Например, мы говорим о следовании
инструкциям. Когда Иисус говорит: «Следуй за мной», мы воспринимаем его
слова как руководство к действию; однако мы следуем за Иисусом
в ином смысле, когда не только слушаем, что он говорит, но и идем,
куда он зовет — то есть когда мы изменяем наше поведение. Здесь
следует понимать разницу между объяснением и применением.
Текст может стать чем-то большим, чем просто партнером по
диалогу; он может стать педагогом, просвещающим нас и открывающим
новую жизнь в мире. Большинство авторов хотят не только быть
понятыми, но и оказать некое влияние на своих читателей. Надо ли
толкователям, стремящимся понять текст, следовать не только
иллокуциям, но и перлокуциям текста? Должны ли толкователи быть
не только слушателями, но и исполнителями слова?
Рикёр описывает последнюю стадию понимания как личное
восприятие, во время которого читатель принимает воздействие
текста. Недостаточно объяснить, что текст значил; нужно понять,
что он значит сегодня, каким образом он входит в жизнь индивида
и общества. Это различие между объяснением (анализом локуций
и иллокуций) и применением (восприятием иллокуций и
перлокуций). На этом этапе, критика состоит не просто в том, чтобы
определить сказанное текстом, а в том, чтобы решить, является ли
сказанное текстом хорошим, истинным и достойным того, чтобы
ему следовать. Применение имеет отношение к тому, что читатель
непосредственно взаимодействует с требованиями текста. Для Ри-
кёра текст есть средство, с помощью которого мы обретаем
понимание самого себя. Это не сократическая идея самопознания, а скорее
представление о том, что мы понимаем себя по-новому в свете
текста. В самом деле, будучи далеко не проекцией читателя, текст
проецирует чувство самости на «эго». Рикёр говорит о процессе
«лишения собственности» «эго» в ходе чтения: «Именно текст, с его
универсальной властью разоблачения, дает нашему «эго» самость».42
Это, вероятно, окончательный перлокуционный эффект. Согласно
Рикёру, при чтении текста мы, в конечном счете, понимаем сами
себя, собственное положение как ограниченного временем
существа с определенными способностями. Читая тексты, мы приходим к
пониманию состояния человека.
42 Ricoeur, "Appropriation," в Hermeneutics and the Human Sciences, 193.
556
Глава седьмая. Преображение читателя
Ранее я сравнивал литературные жанры с картами, которые по-
разному «расчерчивают» мир. Мы можем следовать карте, просто
признавая ее таковой, но мы можем следовать за ней как за нашим
ориентиром в мире. Льюис и Рикёр используют и другую метафору:
они сравнивают чтение с исполнением музыкального произведения.
«Поэма... подобна нотам, а прочтение ее подобно исполнению».43
«Чтение подобно исполнению записанной нотами музыки; оно
отмечает реализацию, выполнение семантических потенциалов
текста».44 «Исполнить» карту означает подчиниться ее
руководству и направлению, следовать ее указаниям. Как мы узнаем
человека по его окружению, так и текст мы познаем в общении с ним.
Читатели должны быть готовы пройти с текстом хотя бы часть
пути, чтобы понять его. В то же время, мы должны быть готовы
отвергнуть тексты, в которых видим потенциальный вред. Читатели
должны оставаться сами собой, даже открывая себя для
возможного друга (или врага). Итак, следовать перлокуциям текста —
значит позволить ему быть с нами и направлять наш путь.
Толковательные добродетели
Нравственно ориентированные читатели должны решить,
следовать ли за текстами во втором смысле этого слова. Однако,
прежде чем решить, становиться ли другом текста, необходимо
постараться воспринять его таким, какой он есть. «Мы должны
всматриваться до тех пор, пока не поймем, что именно находится
перед нами».45 Сказать, подобно Фишу, что текст есть продукт
условностей, направляющих чтение в определенном сообществе,
означает, в конечном счете, неумение сохранить инаковость текста.
Я считаю, что тексту, который не обладает смыслом, независимым
от сообщества читателей, невозможно следовать. В конечном счете,
читатель, по Фишу, не следует за иным, пытаясь догнать
собственный хвост. Панненберг говорит от имени герменевтического
реалиста: «Всякое толкование предполагает, что содержание текста,
подлежащего толкованию, есть данность для толкователя... Без этого
43 Lewis, Experiment in Criticism, 98.
44 Ricoeur, "What Is a Text? Explanation and Understanding," в Hermeneutics and the Human
Sciences, 159.
45 Lewis, Experiment in Criticism, 19.
557
Часть вторая. Восстановление толкования
предположения достоверность следования тексту невозможно
было бы отличить от свободы поэтического сочинения».46
Я считаю, что только реалист может с уважением относиться к
содержанию текста, поскольку противник реализма не видит в нем
ничего достойного уважения. Как выразился Плантинга: «Верности
истине сопутствует представление о том, что истина в самом деле
существует».47 Быть верным чему-либо означает «считать это
истинным, а не просто правильным, по мнению кого бы то ни было».48
С другой стороны, существует глубинная связь между отрицанием
реализма и интеллектуальным (или этическим) безразличием. Я
полагаю, что христианские толкователи — реалисты во всех
отношениях. Суть христианской мудрости заключается в том, чтобы
жить в соответствии с сотворенным Богом порядком, открытым и
обретенным во Христе. Глупость же, напротив — в том, чтобы жить
вопреки ему.
Уважение к содержанию текста (а именно: выполненному
намерению и скрытому в нем приглашению) — нравственная
добродетель. Есть и другие добродетели, свойственные читателям, которые
следуют тексту, а не собственным склонностям. Давайте назовем
их «добродетелями толкования». Толковательная добродетель
есть расположение ума и сердца, проистекающее из
стремления к пониманию, к когнитивному контакту со смыслом
текста.** Иначе говоря, толковательная добродетель — это то, что
способствует литературному познанию. Проявляя добродетели в
толковании, читатели показывают не просто надлежащее, а
отличное функционирование своих когнитивных способностей. Я уже
рассматривал значение веры, надежды и любви для герменевтики.
К этим богословским добродетелям можно добавить еще четыре:
(1) Честность. Честность в толковании означает, прежде
всего, признание собственных убеждений и заранее составленных
предположений. Читателям необходимо ясно представлять
собственные цели и интересы (в этом отношении честность есть форма
внутренней ясности). Неискренний толкователь с гораздо меньшей
46 Pannenberg, Systematic Theology (Grand Rapids: Eerdmans, 1991), 1:15.
47 Plantinga, "Augustinian Christian Philosophy," 304.
48 Там же.
49 Здесь я привожу адаптированное определение интеллектуальной добродетели, взятое из
отличного описания в Zagzebski, Virtues of the Mind, 165-96.
558
Глава седьмая. Преображение читателя
вероятностью способен воспринимать тексты, которые, как ему
кажется, ставят под сомнение его самые заветные убеждения,
привычки или желания. Он более склонен к тому, чтобы заглушить
голос «иного».
(2) Открытость. Читатель открытый готов услышать и
обсудить любые идеи, включая и те, которые противоречат его
собственным, без предубеждений и озлобленности. Ограниченность — это
порок для толкователя; читатели замкнутые или неспособны, или
не желают выйти за пределы собственного мнения. Тем самым они
лишают текст возможности превзойти читателя и преобразить его.
Читатели проявляют толковательскую открытость, принимая текст
как «иное», вежливо и с уважением, принимая и другие
толкования. Заметим, что открытость предполагает готовность меняться;
литературное знание — временное и не безусловно точное.
(3) Внимание. Добродетельный читатель, будучи далеко не
эгоцентричен, сосредоточен на тексте. Сосредоточение внимания на
тексте есть форма уважения и предполагает наличие родственных
добродетелей, таких как терпение, прилежание и неравнодушие.
Внимательный читатель должен быть наблюдательным, то есть
замечать детали, распознавать разные уровни литературного акта и
разуметь природу целого.
(4) Послушание. Послушный толкователь есть тот, кто следует
за текстом, а не за собственными желаниями. Это не значит, что
он непременно делает то, что предлагает ему текст, но, по крайней
мере, он читает текст так, как задумал автор. Это значит, что жанр
чтения соответствует жанру текста. Это значит, что история
читается как история, откровение — как откровение и так далее.
Только послушный читатель может пребывать в тексте и обрести все то
знание, которое текст может дать.
Как воспитать в себе эти добродетели? К. С. Льюис говорил, что
предназначение великих литературных произведений в том, чтобы
воспитывать наши чувства и развивать воображение для верного
восприятия мира и себя самих. Литература учит нас, например,
видеть разницу между добром и злом, между благородным и подлым,
между настоящим и выдуманным. Здесь мы встречаемся с еще
одной версией герменевтического круга: чтение развивает наши
толковательные добродетели; те, в свою очередь, помогают нам читать
более углубленно. Развитие толковательных добродетелей — это
не «тридцать шесть шагов к лучшей экзегезе». Это не соблюдение
559
Часть вторая. Восстановление толкования
установленных правил или процедур, а приобретение навыков и
хорошая практика.50 Для этого читатели должны стать учениками
текстов и их авторов. Правильное прочтение, взращивая и выявляя
добродетель, в конечном итоге является вопросом развития
здравого суждения, знания того, что и когда следует делать. Это занятие
столь же духовное, сколь и интеллектуальное и толковательное.
Более того, и нравственные, и толковательные добродетели в
конечном итоге служат мудрости.51 Мудрость, в свою очередь, есть
добродетель, благодаря которой люди могут жить, как должно,
согласуясь с сотворенным порядком вещей, что приводит и к
процветанию человека, и к славе Божьей. Мудрый читатель знает не
только, как толковать, но и, что еще более важно, для чего
необходимо толкование. Мудрые читатели видят себя в зеркале
библейского текста такими, какие они есть на самом деле, и ведут себя
соответственно.
Читатель как верующий: чтение Библии как любой
другой книги
Читатели следуют за некоторыми текстами не только как за
друзьями, но и как за учителем, последователями которого они
являются. Кем следует стать читателю по отношению к Библии:
«пользователем», критиком, другом или учеником?
Могут ли неверующие читать правильно?
Можно ли читать Библию так же, как любую другую книгу?
Вопрос этот неоднозначен. Может ли человек, то есть каждый
отдельный читатель, верно толковать Библию? Или он должен
принадлежать к сообществу верующих? Кроме того, может ли
сообщество читать Библию, как любую другую книгу, или нужно
использовать для этого особенную герменевтику?
Джоуэтт: сообщество ученых. Зависит ли правильность
прочтения от принадлежности к церкви? Бенджамин Джоуэтт
50 Загзебски указывает: «Нет специфических процедур, которые указывали бы человеку на то,
как распознать явные факты, как что-либо постичь, или как придумать хорошее объяснение, не
говоря уже о том, как всем этим пользоваться для достижения одной цели» (там же, 226).
51 Загзебски описывает мудрость как добродетель, которая объединяет и примиряет друг с
другом остальные добродетели (там же, 224-26).
560
Глава седьмая. Преображение читателя
в эссе 1860 года «О толковании Писания» яростно отвергает это
предположение.52 Он доказывает, что Библию нужно читать,
используя инструменты исторической и литературной науки, «как
любую другую книгу». Чтение Библии «как любой другой книги» для
Джоуэтта является «основным принципом» толкования. В его эссе
подразумевается, что критик, стоящий в стороне от традиционных
верований и обычаев, находится в более выгодном положении,
позволяющем видеть то, о чем на самом деле говорится в тексте.
Критический подход разрешает читателям «бороться с затемнением
истинного смысла библейских текстов, вызванного традиционным
толкованием, которое им навязывают».53 По мнению Джоуэтта,
только те читатели, которые не спешат верить тексту (т. е. те, кто
отказывается следовать перлокуциям текста) могут быть
объективны по отношению к нему. «Критический дух» спасет буквальный
(исходный) смысл и изгонит «семь иных смыслов», которые
вселились на его место.
Но возможно ли быть абсолютно беспристрастным? Вероятно,
критики Библии подменили «христианские» интересы интересами
Просвещения (напр.: нейтральностью, объективностью,
безразличием). Требование Джоуэтта читать Библию «как любую другую
книгу» уже предполагает наличие некой общей теории целей
толкования. «Критический дух» Джоуэтта, как и породивший его дух
модернистского индивидуализма, должен быть испытан с точки
зрения толковательных добродетелей и Святого Духа.
Хауэрвас: сообщество верующих. Стэнли Хауэрвас, впадая
в другую крайность, доказывает, что Библию не следует читать как
любую другую книгу: «Библия не является и не должна быть
книгой для всех, она должна быть доступна только тем, кто, несмотря
на выпавшие ему испытания, остается частью народа Божьего».54
Хауэрвас утверждает, что здесь необходимы не научные
доказательства, а святость жизни. По словам Френсиса Уотсона:
Вопрос в том, предпочтительнее ли заниматься
толкованием, предполагая относительное или полное отделение от
52 Benjamin Jowett, The Interpretation of Scripture and Other Essays (London: George Routledge
&Sons, 1907).
53 Noble, "The Sensus Literalis: Jowett, Childs, and Barr," 3.
54 Hauerwas, Unleashing, 33-34.
561
Часть вторая. Восстановление толкования
верований, ценностей и практики церковного сообщества,
или же возможно с самого начала серьезно относиться к
ожиданиям, соответствующим жанру библейских текстов
как священному Писанию религиозного сообщества.55
Иначе говоря, неверующий и невоцерковленный человек скорее
неправильно истолкует Писание, чем верующий и активный член
церкви. Джоуэтт ошибался, считая, что достаточно обладать
надлежащими научными инструментами. Он упустил из виду
нравственную и духовную стороны толкования. Хауэрвас считает
толковательные добродетели заведомо христианскими, то есть присущими
сообществу христианских читателей.
Хауэрвас ставит под сомнение две «догмы» критики:
объективность и аполитичность библейской критики. Он утверждает, что
любая попытка толковать Библию «на ее собственных условиях»
бессмысленна. Библия не несет смысла в отрыве от церкви. Однако
в борьбе против объективности смысла Хауэрвас приближается к
отрицанию реализма Фишем, согласно которому суть смысла — в
том, как текст прочитывается сообществом. Это прискорбно и
бесполезно. Мы можем согласиться с Хауэрвасом в том, что духовная
подготовка важна для толкования Библии, не потому, что она
создает смысл текста, а потому, что она помогает нам открыть и
понять смысл, уже присутствующий в тексте.
Стивен И. Фаул и Грегори Джоунс доказывают, подобно Хау-
эрвасу, что верное чтение Писания — деятельность моральная и
духовная.56 Читать Слово Божье должным образом — значит
позволить ему совершать преображающее действие по отношению к
сообществу толкователей. Поэтому основным критерием
правильного толкования Библии становится жизнь, полная святости. Люди
учатся быть верными читателями, приобретая христианские
добродетели посредством участия в христианском сообществе. Хотя
важность, которую Фаул и Джоунс видят в следовании смыслу
читателями и воплощении его в жизнь, более чем уместна, в их
объяснении есть определенные недостатки, поскольку оно слишком
сообразуется с духом постмодернизма. Прежде всего, даже сообщества
55 Watson, Text, Church and World, 229.
56 Stephen E. Fowl and Gregory Jones, Reading in Communion: Scripture and Ethics in Christian
Life (Grand Rapids: Eerdmans, 1991).
562
Глава седьмая. Преображение читателя
толкователей могут ошибаться. Именно это, вероятно, Иисус
ставил в вину религиозным лидерам своего времени: они исследовали
Писания, но не видели, что те указывали на Христа (Ин. 5, 39-40).
Это, в свою очередь, приводит к очевидному вопросу: которое из
сообществ предпочтительнее? В истории церкви мы находим много
свидетельств того, что конфликт толкований — это не больше и не
меньше как конфликт сообществ толкователей. Невозможно
разрешить этот конфликт простым предпочтением одного сообщества
другому. Кроме того, что именно означает читать Писание в
церкви: необходимо быть крещенным членом церкви, или читать во
время богослужения? Наконец, мы видим, что «верность» понимается
Фаулом и Джоунсом прежде всего с нравственной точки зрения.
В их объяснении мало места отводится собственно богословскому
моменту в процессе толкования. Короче говоря: им не удается
соотнести ученичество в области толкования с природой и результатом
действия Духа в том или ином сообществе.
Сообщество святых (и грешников). Ни одно сообщество
толкователей не может быть непогрешимым. Если мы, читая
библейский текст, позволим ему сформировать наше представление о
церкви как о сообществе толкователей, нам придется признать, что
это — сообщество святых и грешников. Христиане считают
достоверность своих толкований (описания и применения ими
библейского смысла) результатом водительства Духа, а не академической
дисциплины, и, тем более, не своих усилий. Это следует и из
богословской антропологии, и из понимания того, что Дух действует
благодатью через веру. Христианская доктрина, как я уже
утверждал, обладает герменевтической значимостью. Я предпочитаю
говорить не о том, что нам надо читать Библию как любую другую
книгу, а о том, что нам следует читать любую другую книгу так, как мы
научились читать Библию, то есть в духе понимания,
позволяющем тексту быть тем, чем он является, и делать то, для чего
он задуман. Правило Джона Оуэна для правильного толкования
Библии следует распространить на герменевтику в целом: «Пусть
чтению предшествует молитва». Правильное прочтение в целом
требует явно богословской герменевтики и ресурсов,
превосходящих сократическую религию. Как мы увидим далее,
толковательные добродетели суть ничто иное, как плод Духа.
563
Часть вторая. Восстановление толкования
Чтение Библии как канонического Писания
Наконец, полное рассмотрение вопроса о том, следует ли
читать Библию «как любую другую книгу», требует упоминания ее
канонического статуса. Как мы уже видели, признание Библии как
«канона» приводит к признанию единства более высокого порядка
(т. е. не просто parole или жанра, а «Писания»). Включение текста
(напр.: Иова или Луки и Деяний) в Ветхий или Новый Завет, в
самом деле, влияет на то, как он читается, то есть как он выводит
контекст толкования за пределы исходных исторических и
литературных контекстов. Это также добавляет новый уровень иллокуции:
«руководство к действию для будущих поколений», «свидетельство
о Христе» и т. д. Чайлдз убежден в том, что каноническое
толкование не менее описательно, чем историческое. Однако он описывает,
каким образом был построен текст, чтобы остаться авторитетным
для будущих поколений. И напротив, с точки зрения исторического
критика, объект описания есть текст в его исходной ситуации. Но
это явно не описание канона. Исторические критики анализируют
возникновение текста (его предысторию), а канонические критики
описывают текст как то, чем он должен был стать (историю текста
как Писания). Суть в том, что «описание всегда предполагает
предшествующее конструирование объекта в терминах данной
толковательной парадигмы».57
Кто-то возразит, что «каноны» сами по себе являются
конструкциями сообщества толкователей, функция которых состоит в
подтверждении авторитетности мнения этого сообщества. Постмодернистов
беспокоит то, что канон слишком легко использовать как
идеологический инструмент, продукт коллективной воли к власти. Я не
разделяю таких взглядов. Напротив, канон часто оказывался
действенным средством сдерживания гегемонии человеческих установлений
и традиций (вспомним Реформацию!). Иначе говоря, канон служит
инструментом критики идеологий. Однако канон требует
дальнейшего толкования, что опять-таки ставит под вопрос решающий
авторитет человеческих формулировок (и установлений). Наконец, канон
формирует структуру толкования, в которой прошлое может пролить
свет на настоящее. Канон порождает не абсолютную, статичную, а
динамичную традицию критического переосмысления.
57 Watson, Text, Church and World, 33.
564
Глава седьмая. Преображение читателя
Конечно, только те, кто находится в контексте сообщества
верующих, будут читать Библию как «Писание», то есть как
руководство в жизни и мышлении. Меняется ли смысл Библии, если ее
читать как Писание? Сказать, что это так — означает превратить
сообщество толкователей в сообщество авторитетных авторов.
Я полагаю, что рассмотрение Библии как «Писания» более всего
соответствует не иллокуционному, а перлокуционному аспекту
коммуникативного действия. То есть Писание предназначено для того,
чтобы при посредстве коммуникативного действия вести ко Христу
и праведности Божьей. Определение Библии как Писания делает
ее предостережения и обетования чем-то иным, переориентирует
на более высокую цель — «умудрить во спасение».
Я утверждаю, что все тексты предъявляют к читателю
определенные требования. Чтение текста в чем-то подобно встрече «Я» и
«Ты». Эта встреча, по красноречивому описанию Левинаса, этична
по самой своей сути: молчаливая просьба «не убий» написана на
лице «иного». Аналог этого лица — голос автора, который также
просит о том, чтобы его не угнетали, не поглощали и не превращали
в средство, которым читатель пользуется ради какой-то своей цели.
Мы «убиваем» текст, подавляя его голос; мы «убиваем, анализируя»
(Уодсворт). «Как с людьми, так и с книгами и субъективист, и
объективист стремятся доминировать, первый — навязывая свой
(предположительно субъективный) смысл, второй — навязывая смысл
'истинный».58 В обоих случаях, «иному» не дают возможности
высказаться. Предполагаемый читатель Писания несет, кроме
негативного обязательства не убивать, дальнейшее, собственно
позитивное обязательство: следовать, веровать и исполнять. Настоящее
понимание предполагает прохождение второго поприща:
«читателя приглашают войти в этот мир, став учеником, слушателем
слова, последователем Иисуса».59 Короче говоря, идеальный читатель
Писания должен быть учеником. «Как Писание... Лука и Деяния
предполагали читателя, который (уже или потенциально) является
христианином».60 Читателя приглашают, более того — вызывают
для того, чтобы он обитал в мире текста, пребывал в слове Божьем.
58 Martindale, Redeeming the Text, 32.
59 Schneiders, The Revelatory Text: Interpreting the New Testament as Sacred Scripture (San
Francisco: Harper, 1991), 168.
60 William S. Kurz, "Luke and Acts As Canonical," Reading Luke-Acts: Dynamics of Biblical
Narrative (Louisville, Ky.: Westminster/John Knox), 105.
565
Часть вторая. Восстановление толкования
Нашей окончательной целью при чтении и следовании Библии
как Писанию должно быть познание Бога.61 Заметим также, что на
этом уровне самосознания мы приходим к истинному познанию себя;
как говорит Кальвин, невозможно познать себя, не познав Бога. Да,
Библию можно читать «как любую другую книгу», однако данный
вопрос касается того, как читателям нужно реагировать на
Библию, если она в самом деле Слово Божье. Возможно, ключ здесь —
на дороге в Эммаус. Ученики на той дороге узнали Иисуса только
после того, как он объяснял им, кто он есть, из Писания. То есть
его личность была явлена при посредстве текста.62 Хорошее
толкование подобным образом проявляется только через признание и
следование. Суть достижения понимания — в том, чтобы узнать,
как откликнуться на что-то (или на кого-то) сообразно его природе.
Мы доказываем, что понимаем текст, если надлежащим образом
откликаемся на него. Например, доказательством, что мы знаем, что
такое молоток, служит правильное его использование. Подобным
образом мы показываем, что понимаем Писание, когда признаем
Христа, мудрость Божью, и следуем за Ним.
Всякое понимание текста есть, по сути, дело богословское,
встреча с тем, что превосходит нас и может изменить нас, если мы
подойдем к нему в должном духе. Таков основной тезис моего
доказательства. Добродетели толкователя — добродетели духовные:
без веры, открытости для трансцендентного мы никогда не сможем
найти в тексте что-то, что не было бы нашим собственным
творением или нашим отражением. Поэтому борение с текстом есть, в
конечном счете, духовное борение с текстом и с собой. Потому что
Евангелия призывают нас умереть для себя, для прежних дел, для
прежнего самовосприятия. Итак, борьба читателя с текстом
может идти насмерть. Это, по меньшей мере, борцовский поединок,
при котором мы можем просить благословения, а получить вывих
бедра.
61 Charles Wood, Formation of Christian Understanding: An Essay in Theological Hermeneutics
(Philadelphia: Westminster, 1981), 30.
62 Интересно отметить, что момент узнавания не наступил до того, как они вместе преломили
хлеб (Лк. 24, 30-31) Это «чтение в причастии» может быть примером того, что имеют в виду
Фаул и Джонс.
566
Глава седьмая. Преображение читателя
ВОЗМОЖНА ЛИ ЭКЗЕГЕЗА БЕЗ ИДЕОЛОГИИ?
Библеисты слишком медленно осознавали... что наши
представления и дискурс о значении текста и методах его
нахождения неотделимы от того, что мы хотим видеть в его
значении, от желаемого нами варианта смысла.63
До этого момента мы спрашивали о том, что должны делать
читатели. Однако подразумевается ли в долженствовании способность?
Могут ли читатели «следовать»? Может ли читатель быть движим
чисто толковательным интересом, то есть стремлением просто
понять текст как он есть, не пытаясь использовать его в собственных
целях? Или же идеология заражает всю систему отношений между
читателями, языком и миром? Есть ли альтернатива выбору между
абсолютной незаинтересованностью (т. е. объективным знанием)
и абсолютной заинтересованностью (т. е. субъективным
предпочтением)? Я отстаиваю среднюю позицию, признающую как
познаваемость текста (т. е. принцип реальности), так и пристрастность
читателя (т. е. принцип предвзятости).
Способны ли читатели выйти за пределы самих
себя?
Хороший комментарий — это то, что служит нашим
интересам и целям.64
Никто не читает в вакууме. Всякое чтение контекстуально.
Более того, правила чтения, действующие в каждом сообществе
толкователей, не произвольны, а связаны с более широким
контекстом социальной власти. Эти правила толкования формируют даже
наш так называемый здравый смысл.65 Для многих
постмодернистов чтение связано не столько с литературным знанием, сколько с
политической властью. С этой точки зрения толкование выглядит
скорее не как стратегия восприятия иного, а как стратегия его
покорения. Комментатор становится в некотором роде конкистадором
от экзегетики, толкование — процессом идеологической
колонизации. Если именно таково толкование на самом деле, можно
посочувствовать политической мотивации большей части деконструк-
тивной критики. Деконструкция в лучшем своем проявлении —
The Postmodern Bible, 14.
Stout, "What Is the Meaning of a Text?" 6.
Так у Belsey, Critical Practice, 5-7.
567
Часть вторая. Восстановление толкования
это стратегия для упразднения привилегированных иерархии:
лингвистических и социальных, философских и богословских — способ
освобождения «иного» от идеологического порабощения
сообществом толкователей.
Дэвид Клайнз согласен с тем, что экзегеза контекстуальна, но
проводит здесь экономическую, а не политическую аналогию. Он
принимает рыночную философию, или теорию толкования «с
точки зрения конечного пользователя», согласно которой толкование
считается оправданным, если оно «пользуется спросом», если оно
удовлетворяет потребность читателя-потребителя.66 На
современном рынке библейских толкований бестселлерами оказываются
идеологические прочтения, критикующие Библию за
политическую некорректность. Клайнз спрашивает, можно ли вообще
считать нравственным традиционное толкование, при котором
читатели стремятся найти интенциональное авторское значение. Потому
что, если этические и идеологические ценности читателя на самом
деле находятся вне текста, «понимание» означало бы отказ от
собственных убеждений. Разве не является само предположение о том,
что задача библеистов состоит в толковании текста, по сути
«систематическим подавлением наших нравственных инстинктов»?67
Следует ли из того, что всякое толкование контекстуально
обусловлено (неоспоримый факт человеческой ограниченности), что
«нет единого подлинного смысла, который нам надлежит найти,
независимо от нашей собственной позиции»68? Действительно, мы
не можем ни исключить себя из процесса чтения, ни отделить себя
самих от своих толкований. Но следует ли из этого, что мы можем
«объяснить» (или опровергнуть, объяснив) чье-то прочтение,
исходя из социального положения читателя? Значит ли это, что
толкование говорит нам нечто лишь о читателях и ничего — о текстах?
Остановиться на «пользующихся спросом» толкованиях —
значит предпочесть обновленную, модную версию теории истины,
основанной на всеобщем согласии. Однако рыночные факторы вряд
ли можно назвать удовлетворительным критерием для
правильности толкования. Подозреваю, что Клайнз и сам в это не верит.
Потому что, исходя из чисто рыночной позиции, разве мог бы он
66 См. Clines, "Possibilities and Priorities of Biblical Interpretation in an International Perspective,"
Biblical Interpretation 1 (1993): 80.
67 Там же, 87.
68 Там же, 78.
568
Глава седьмая. Преображение читателя
спорить с фундаменталистским прочтением библейских текстов,
прочтением, которое он явно хочет оспорить? Вместо того чтобы
отстаивать идею свободного рынка, на котором читатели
являются поставщиками идеологических прочтений, не стоит ли нам
признать, что каждый выбор в отношении того, как читать, содержит
скрытое заявление о нормах целей толкования? Тогда на первый
план выходит вопрос: «Почему я должен купить ваше толкование,
а не какое-то иное?» В эпоху плюрализма каждый читатель должен
быть готов дать отчет не только в своем уповании, но и в своей
герменевтике (1 Пет. 3, 15).
Норман Холланд, один из основателей критики читательской
реакции, использует фрейдистский психоаналитический подход,
чтобы доказать, что читатели, на самом деле, никогда не выходят за
рамки самих себя: «Читая, мы все используем литературное
произведение для того, чтобы символизировать и, в конечном счете,
воспроизводить самих себя».69 Согласно Холланду, у каждого человека
есть «тема идентичности», которую он «находит» в каждом тексте.
Эта герменевтика и религия Сократа — «познай себя» — мстит
своим последователям. Потому что познание одного себя
означает обреченность на заключение в своей самости. Сократический
подход не предполагает выхода за пределы себя. Подход Роберта
Фаулера к Евангелию от Марка подобен подходу Холланда тем, что
и он рассматривает комментарии и толкования библейских
критиков как «замаскированные сообщения критика о его собственном
опыте прочтения библейских текстов».70 Фаулер приписывает это
понимание Фишу и утверждению о том, что говорить об авторском
замысле (т. е. смысле) на самом деле означает говорить о себе.
«Видеть себя в зеркале текста» здесь, вероятно, звучит в наиболее
экстремальном нарциссическом варианте.
Могут ли толкователи когда-либо выходить за пределы самих
себя? Это, в конечном счете, касается не только психологии, но и
философии, и этики. Эммануэль Левинас ставит более общий
вопрос: «Может ли самость когда-либо встретиться с «иным», или и
разум, и толкование, в конечном итоге, приводят к погружению в
самого себя?» Левинас обвиняет традиционную философию в том,
69 Цит. по The Postmodern Bible, 28; см. Holland, "Unity Identity Text Self," PMLA 90(1975): 813-
22. См. также Gregor Campbell, "Holland, Norman N.," в Encyclopedia of Contemporary Literary
Theory, 362-63.
70 Robert Fowler, Let the Reader Understand (Minneapolis: Fortress, 1991), 1.
569
Часть вторая. Восстановление толкования
что она пленяет всякое помышление с помощью тоталитарных
методов, признающих лишь то, что соответствует его же
предварительной схеме толкования.71 Разум неизбежно находит сам себя —
собственную систему, собственную схему толкования — всякий
раз, когда думает об объектах или, по той же причине, о текстах.
Мысль перерабатывает «иного», превращая и впитывая его в
«такого же» — в «меня». Для Левинаса эпистемология по сути своей
редукционна и поэтому безнравственна; познание не признает
инаковость, но подавляет ее.72 По Левинасу, «этика» указывает на
способ взаимоотношения с иным, который отказывается от
сведения его к тождественности (напр.: самости, системе), позволяя
«иному» быть. Здесь мы подходим к ключевому моменту кризиса в
постмодернистском толковании, а именно к тому, может ли «иное»
существовать для противника реализма в герменевтике, если
толкование по сути своей есть лишь проекция самого себя?
Я утверждаю, что задача этики толкования — стоять на страже
инаковости текста: сохранять его способность говорить читателю
нечто и влиять на него, тем самым создавая возможность
трансцендентности, выхода за пределы самости. Ни библейская
герменевтика, ни герменевтика в целом не должна следовать
предположению Фейербаха о том, что все, что мы находим, — Бог, смысл —
есть лишь проекция нас самих. Герменевтическим эквивалентом
утверждения Фейербаха о том, что богословие есть, на самом деле,
антропология, стало бы утверждение о том, что чтение — на
самом деле авторство, а экзегеза — на самом деле эйзегеза.
Постмодернистская подозрительность по отношению к герменевтике есть
также подозрительность к трансцендентности, то есть недоверие к
тому, что мы, как читатели, способны воспринимать нечто,
исходящее извне. Именно эта постмодернистская подозрительность к
герменевтике угрожает свести иного (автора) до тождества с
читательской самостью.
71 Левинас говорит, что «греческое» (философское, логоцентрическое) мышление стремится
«примирить противоположности и разногласия с помощью хода мысли, который в конечном
счете сводит их к аспектам единого всеобъемлющего понимания» (см. Norris, Derrida, 230). См.
также Critchley, The Ethics of Deconstruction, 4-9.
72 В данной работе я стремился доказать существование эпистемологии смысла,
направленной на достижение литературного познания и не сводящей его к познающему. То
есть сама эпистемология может обладать этической стороной. В последующих разделах я
буду рассматривать такого рода эпистемологию в контексте духовности и толковательных
добродетелей.
570
Глава седьмая. Преображение читателя
«Смысл... всегда реализуется в точке восприятия».73 Если смысл
есть событие, то сосредоточение на чтении подорвет представление
о том, что смысл объективно присутствует как потенциальный
объект для познания. Авторы «Библии постмодернизма» явно
высказывают это убеждение: «Деконструктивизм отвергает все теории
смысла, утверждающие, что смысл содержится в тексте. Смысл не
содержится в тексте, но привносится в него и налагается на него».74
Если не существует строго определенных различий между тем, что
есть в тексте, и тем, что есть в читателе, как могут разные
читатели одного и того же текста извлекать из него одинаковый смысл?
Можем ли мы вообще утверждать, что два разных читателя
читают один и тот же текст? Определенные группы могут быть не
готовы для восприятия определенного смысла в определенное время
(напр.: племя аборигенов не готово воспринимать специальную
теорию относительности Эйнштейна; европеец-буржуа
девятнадцатого века не был готов к провозглашенной Ницше смерти Бога, и т.
д.). Если смысл есть продукт наших целей и приемов толкования,
то текст есть лишь второе «я» читателя.
Поставить читателя на первое место — означает, в конечном
счете, стать на позиции герменевтического нереализма. В
опубликованном в 1946 году эссе Уимсатт и Бирдсли определили
«аффективное заблуждение» как ошибку, состоящую в оценке поэмы по
ее воздействию — в частности, эмоциональному — на читателя.
Это заблуждение основано на «ошибочном отождествлении поэмы
и ее результатов (того, что она есть, и того, что она делает)».7Ъ
Если переформулировать это в контексте данного доказательства,
аффективное заблуждение путает иллокуцию с
перлокуцией. Спрашивается, не совершает ли подобную же ошибку
критика читательской реакции? Могут ли критики, ставящие на первое
место читательский отклик, и далее видеть разницу между тем,
что говорит текст, и тем, как он влияет на читателя? Как отлично
понимали Уимсатт и Бэрдсли, аффективное заблуждение имеет
далеко идущие последствия: сам текст как объект литературного
73 Martindale, Redeeming the Text, 3.
74 The Postmodern Bible, 130.
75 W K. Wimsatt and Monroe С Beardsley "The Affective Fallacy," в W K. Wimsatt, The Verbal
Icon (Lexington, KY: Univ. of Kentucky Press, 1954), 21. Это произведение сопровождалось эссе
тех же авторов об интенциональном заблуждении, предостерегавшим против отождествления
смысла и автора.
571
Часть вторая. Восстановление толкования
познания исчезает, и комментарии «заканчивается
импрессионизмом и релятивизмом».76
Является ли смысл текста, по сути, впечатлением толкователя?
Угрожает ли авторитетности Библии опасность стать субъективным
впечатлением? Возможно, да. Однако авторы «Библии
постмодернизма» уверены, что большинство толкователей Библии,
сосредоточивающихся на читателе, продолжают, как это ни парадоксально,
отдавать преимущество тексту. Читатель, о котором идет речь, —
это «предполагаемый читатель», творение текста: образцовый
читатель, во всем следующий его водительству. Вопрос не в том,
верно ли это отражает ситуацию в библеистике, а в том, что авторы
«Библии постмодернизма» возражают против такого
консервативного подхода в критике с точки зрения читателя. Возражают во имя
этики. Они утверждают, что лишь оставив веру в текст как он есть
и в смысл, который превосходит акт чтения, можно исследовать
деятельность, с помощью которой читатели создают смысл, а
следовательно, и связь между этой деятельностью и более широкими
общественно-политическими ситуациями, частью которых они
являются. Для многих постмодернистов этика толкования состоит не
столько в том, чтобы сохранить целостность текста, сколько в том,
чтобы настаивать на его непознаваемости.
Читатель как предатель: возможен ли перевод без
идеологии?
За небольшим исключением, библеисты еще не признали
крушения дихотомии те кет-читатель.77
Не будет ли такое явление, как перевод, примером,
опровергающим утверждение, что читатели никогда не выходят за
пределы самих себя? Или переводчики тоже сводят «иное» до уровня
себя самих? Является ли перевод зоной, свободной от идеологии?
Мы можем вспомнить, что идеология — это «смысл, стоящий на
службе власти».78 Сказать, что все подходы к смыслу
определяются той или иной идеологией, означает настаивать на том, что и
76 Одна из глав в труде Фиша «Есть ли в тексте смысл?» названа «Литература в читателе:
аффективная стилистика». Фиш утверждает, что смысл создается в процессе чтения.
77 The Postmodern Bible, 52.
78 John B. Thompson, Ideology and Modern Culture, 7.
572
Глава седьмая. Преображение читателя
переводы, и толкования политически обусловлены: они участвуют
во взаимоотношениях между институтами власти. В самом ли деле
идеология неминуемо предает всякую попытку толкования или
перевода? Если так, то не только библейские комментарии
оказываются комментариями политическими, но и каждый перевод
Библии также служит иному господину, кроме смысла.
Смешение горизонтов
Если в некоторых текстах содержатся, например,
патриархальные предрассудки, должен ли высоконравственный переводчик
восстановить равенство полов? Требует ли справедливость того, чтобы
мы иногда заменяли местоимения мужского рода на женский?
Можем ли мы, например, безнаказанно обращаться в молитве
Господней к «Матери нашей, Родительнице, сущей на небесах»? Может
ли читатель вносить и другие изменения в тексты, считающиеся
политически некорректными? Возможно ли сохранить четкие
различия между переводом, написанием комментария и цензурой? Здесь
уместно вспомнить актуальный вопрос Коггинса: «Может ли
комментарий отличаться от орудия пропаганды?»79
В работе «Сопротивляющийся читатель» Джудит Феттерли
утверждает, что великие произведения американской
литературы патриархальны, и что, прочитывая их, и мужчины, и женщины
учатся «осознавать себя в мужском роде».80 Читатель-феминист
должен уметь сопротивляться, а не поддаваться этой угнетающей
идеологии.81 Подобным образом, некоторые феминисты также
спорят с тем, что крест был частью Божьего замысла спасения:
Христианство — жестокое богословие, прославляющее
страдание. Удивительно ли, что в современном обществе
столько жестокости, когда доминирующий богословский
образ в культуре — это образ «божественной
жестокости к ребенку»: Бог-Отец, требующий страданий и смерти
79 Coggins, "A Future for the Commentary?" в Francis Watson, ed, The Open Text, 174.
Согласно собственным взглядам Коггинса каждое толкование требует субъективного выбора,
превращающего каждую версию в своеобразный комментарий.
80 Judith Fetterley, The Resisting Reader: A Feminist Approach to American Fiction (Bloomington:
Indiana Univ. Press, 1978), xii.
81 Стоит отметить, что эта позиция не отрицает смысловой реализм: сопротивляться следует
только тому, что действительно существует, — материи и силе.
573
Часть вторая. Восстановление толкования
собственного сына и приводящий их в исполнение? Если
христианство должно нести свободу угнетенным, оно само
должно освободиться от этого богословия.82
Френсис Янг признает, что некоторые отрывки из Пасторских
посланий служили для устрашения: «Богословие Пасторских
посланий представляет нам целую культуру подчинения».83 Она
предполагает, что нравственное прочтение состоит в том, чтобы быть
«верной» тексту, оставаясь при этом «верной» себе. Могут ли читатели
относиться к тексту одновременно с уважением и подозрением?84
Штернберг логично разделяет идеологию текста, раскрытие
которой — цель поэтики, и идеологию читателя, являющуюся
объектом политики. Штернберг с готовностью признает, что никакое
прочтение не свободно от идеологии. Однако поэтическая
компетентность требует, чтобы читатель был настроен в соответствии
с идеологией текста. В отношении Библии, подразумевается, что
«читатель, не способный или не желающий постулировать догматы
веры (от Бога и дальше вниз) лишается компетентности, как
безнадежный читатель».85 Читателям, в конечном счете, приходится
выбирать между герменевтическим реализмом и нереализмом: «Мы
или реконструируем целое, насколько можем, в свете
предполагаемой интенции писателя... или создаем, по сути, вновь изобретая,
все, что нам нравится».86 В конечном счете, выбора не так и много:
«Даже для того, чтобы противоречить тексту, приходится сначала
рассуждать на основании самого этого текста: восприятие
предшествует противлению, компетентное прочтение — свободному
отрицанию, поэтика — политике».87
Отождествлять смысл текста и последствия его воздействия
может быть заманчиво, но, в конечном счете, безнравственно
и нечестно. Читатели, как и все остальные, — грешники, склонные к
82 Joanne Carlson Brown and Rebecca Parker, "For God So Loved the World?" в Christianity,
Patriarchy, and Abuse: A Feminist Critique (New York: Pilgrim, 1989), 26-27.
83 Young, Theology of the Pastoral Epistles (Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1994), 147.
84 Ответ Янг на этот вопрос принимает следующий вид: «Нам следует искать «дух» текста,
соотносящийся со специфическими частностями исторического момента его создания»
(Там же, 149).
85 Steinberg, "Biblical Poetics and Sexual Politics," 469.
86 Там же.
87 Там же, 473.
574
Глава седьмая. Преображение читателя
неправедной жизни в ущерб истине. Это верно, к сожалению, даже
в отношении тех, кто принадлежит к церкви — сообществу
верующих толкователей. Разумная доля герменевтики подозрительности
не только к тексту, но и к способам чтения, полезна.
Деконструкция в небольших дозах может быть безопасной и даже целебной.
В то же время я не верю, что социальное положение определяет
наше восприятие смысла текста. Если бы прочтения в самом деле
были «предопределены» нашим социальным положением, понятие
об ответственном толковании стало бы химерой и ложью. То, что
мы называем «смешением горизонтов», — смешением текста
и читателя, поэтики и политики, иллокуции и перлокуции —
по существу не что иное, как смешение текста и комментария
(в сущности, еще одна версия аффективного заблуждения).
«Переводчик, предатель»: предательство текста?
Поскольку такого понятия, как невинное прочтение, не
существует, следует сказать, в каком прочтении мы
повинны.88
Итак, мы возвращаемся к исходному вопросу: могут ли
читатели найти смысл в тексте — или они находят там только себя? Штай-
нер считает перевод образцом для любого понимания и толкования.
Каждое прочтение — перевод; всякий читатель — переводчик,
берущий нечто (смысл) из текста (языка оригинала) и переносящий
его куда-то в другое место (на язык перевода). Суть перевода —
перенос смысла из одного языка в другой. Говоря языком
герменевтики, неудачный перевод способен испортить все. Перевод, в его
традиционной форме, выполняет передачу семантического
содержимого (ядра) в другой знаковой форме (скорлупе).
Предполагается, что смысл можно переносить. Проблема в том, что каждый язык
по-своему передает связь между словами и миром. Есть языки,
например, в которых больше слов для обозначения цветов. Итак,
каждый язык представляет «уникальную систему опыта».89 В процессе
переноса смысла перевод рискует изменить его.
88 Louis Althusser, "From Capital to Marx's Philosophy," в Reading Capital (New York: Verso,
1970), 14.
89 Michael Edwards, Towards a Christian Poetics, 166.
575
Часть вторая. Восстановление толкования
«Traduttore, traditore» («переводчик, предатель»). Этот
афоризм выражает «закон Вавилонской башни»: перевод текста всегда
ведет к потере определенной части смысла. Передавать смысл
значит предавать его (как Иуда «предал» Иисуса). Перевод начинается
поцелуем, но заканчивается предательством. Проблема в том, что
одни и те же слова, будучи повторены в другом контексте (пять
минут или пять веков спустя), могут означать нечто иное. Проблема
еще более остра, потому что действия переводчика — частное
проявление единой мысли, которая поглощает «иное», сводя его к «тому
же», — действие, по мнению Левинаса, крайне безнравственное.
Вспомним, что Деррида основывает деконструктивизм на
«итеративности», на понятии о том, что одни и те же слова могут
повторяться в разных контекстах. Из итеративности следует, что мои
слова в устах кого-то другого могут иметь другой смысл.
«Итеративность меняет».90 Как выразился Штайнер: «В строгом смысле,
ни одно высказывание не повторяется во времени».91 А поскольку
контекст невозможно определить с исчерпывающей точностью,
невозможно восстановить и исходный контекст, а значит, повторить
такой же речевой акт. Поскольку контекст чтения меняется, то и
текст меняется тоже. По словам Дерриды: «Я уверен, что текст не
возвращается».92 Итак, Деррида воспринимает перевод не как
передачу смысла оригинала, а как «выживание, то есть разрастание
оригинала».93 Ситуация разворачивается поразительным образом,
и теперь уже оригинал зависит от перевода, получая возможность
существовать дальше. Прав ли Деррида? Могут ли тексты
продолжать существование только путем мутации, приспособления к
новым условиям? Значит ли это, что перевод не сможет передать
смысл на другой язык?
Будет переводчик предателем или нет — зависит, в конечном
счете, от того, какой смысл он придает понятию «такой же».
Какого сходства стремится достигнуть переводчик в своей работе:
90 Derrida, Limited Inc, 200.
91 Steiner, After Babel: Aspects of Language and Translation (London: Oxford Univ. Press, 1975),
244.
92 Derrida, Ear of the Other, 157. Что же нам, однако, делать с тем, что труды Дерриды
были переведены с французского на английский? Собственно говоря, по вопросу, который
деконструктивизм ставит в отношении практики перевода, был написан целый том (Joseph F
Graham, ed, Difference in Translation [Ithaca: Cornell Univ. Press, 1985]).
93 Derrida, Ear of the Other, 122.
576
Глава седьмая. Преображение читателя
«эквивалентности» или «тождественности»? Дискуссии по поводу
двух видов сходства не прекращаются в современной теории
перевода. Состоит ли суть сходства в словесной эквивалентности?
Должен ли хороший перевод сохранять то же количество слов и
их порядок? Те, кто придерживаются такого мнения, стремятся к
«формальной» эквивалентности. В формальной эквивалентности
важно словесное соответствие, подобный перевод можно назвать
дословным. В качестве примера можно привести перевод
латинской Вульгаты Уиклиффа (1384 г.), который и не пытался строить
предложения в соответствии с правилами английской грамматики.
«Этот метод отражает бытовавшее в Средние века убеждение, что
для сохранения святости оригинала перевод должен быть
абсолютно буквален».94 Св. Иероним протестовал против более ранних
форм такого преувеличенного буквализма, утверждая, что
переводить следует «смысл — смыслом, а не слово — словом».95
Есть и другой подход к достижению точности в переводе.
«Динамическая» эквивалентность нацелена на сходство эффекта. Важно
передать не только содержание, но и характер речевого акта, чтобы
текст оказывал то же самое воздействие, совершал тот же
коммуникативный акт в новой ситуации. Здесь важно не столько локу-
ционное, сколько иллокуционное и перлокуционное соответствие.
Согласно этой точке зрения, цель перевода — достигнуть
«эквивалентного отклика» в новом контексте.96 Однако, чтобы сохранить
характер и содержание (пропозицию и иллокуцию) сообщения,
часто бывает необходимо изменить его форму (локуцию).
Есть ли какие-либо основания считать, что два
коммуникативных контекста — например, Палестина первого века и Париж
двадцатого — могут быть эквивалентны? Юджин Найда
перечисляет четыре фактора, которые, как он считает, формируют основу
человеческого общения. Все люди обладают сходными
мыслительными процессами, сходными реакциями тела, похожим диапазоном
культурного опыта (материального, социального, языкового,
религиозного и т. д.) и способностью приспосабливать реакции своего
поведения к окружающим. Иначе говоря, мы — деятели, живущие
94 G. Lloyd Jones, «Translation (to the KJV)», в Dictionary of Biblical Interpretation, 704.
95 Цит. по Eugene A. Nida, Toward a Science of Translating (Leiden: E. J. Brill, 1964), 13.
96 Eugene A. Nida and Charles R. Taber, The Theory and Practice of Translation (Leiden: E.J. Brill,
1974).
19-227
577
Часть вторая. Восстановление толкования
в общем мире; мы — речевые деятели, которые устанавливают
между собой контакт сходным социальным образом. Перевод
динамической эквивалентности пытается сохранить общую иллокуционную
силу коммуникативного акта. Хороший перевод обеспечивает
точную контекстуализацию коммуникативного акта в другом языке.
Является ли «эквивалентность» достижимой целью толкования
или перевода? Согласно Штайнеру, опыт переводчика — это
прежде всего опыт взаимодействия с нетождественным, с несводимой
сингулярностью, упрямым единством текста. Как напоминает нам
Штайнер, Св. Иероним сравнивает перевод с завоеванием городов и
захватом рабов, со «смыслом, плененным и приведенным домой».97
Это возвращает нас к тому, что беспокоило Левинаса в толковании
вообще: чтобы понять текст, необходимо его взять в плен. Однако,
если перевод должен преследовать нравственные цели, переводчик
должен вести переговоры с «иным», с тем, что оказывается
невозможно поместить в его собственные схемы толкования. Перевод
есть борьба с текстом за сохранение души смысла, в попытке
обрести новое для нее тело. Штайнер верит, что все тексты
сопротивляются попыткам сделать их пропозиционно прозрачными; язык
«труден». Успешный перевод — это вид «очевидного
невероятного», герменевтическое чудо.
Желающие стать чудотворцами, по словам Штайнера, должны
пройти через несколько этапов. Первый — начинать перевод с
доверием, с верой в то, что «в тексте содержится нечто, подлежащее
пониманию».98 Толкование начинается всплеском веры в то, что
«нечто существует», что в тексте есть смысл («верую, чтобы
разуметь»). Второй шаг агрессивный: мы разгадываем шифр,
«выслеживаем» смысл, проникаем вглубь. Далее, мы переносим форму и
содержание в наш собственный контекст: мы ее «одомашниваем».
С четвертым этапом — этапом восстановления — мы приступаем
к главному в этике толкования, потому что здесь переводчик
озвучивает голос текста, наделяя его способностью и далее влиять на
читателей.99 При переводе мы освобождаем текст от его исходного
97 Steiner, After Babel, 298.
98 Там же, 296.
99 Переводчик делает все, что от него зависит, чтобы «воспроизвести баланс сил», нацеливаясь
на «сохранение энергии смысла», потому что «книги должны находиться как в формальном, так
и в нравственном равновесии» (там же, 302-303).
578
Глава седьмая. Преображение читателя
контекста и продляем его жизнь. Перевод приветствует текст
поцелуем, но не предательским, а животворящим. «Толкование дарует
языку жизнь вне момента и места непосредственного употребления
или записи».100 Благодаря этому последнему этапу, перевод
реализует заложенный в тексте потенциал в новых контекстах.
Творческая достоверность: понимание свободное,
но верное
Лучшие переводы отличают одновременно творчество и
достоверность. Успешные переводы не уничтожают, а сохраняют
индивидуальность читателя и текста.
Достоверный перевод: репродуктивное толкование?
Что такое достоверный перевод? Достоверность не следует
путать с повторением. То, что мы могли бы назвать «репродуктивным»
переводом, — цель буквалиста. Буквалист не желает быть
участником процесса толкования, стать настолько послушным тексту,
что первый шаг — подчинение — становится для него и
последним. Буквалист «стремится не воспринять и принести с собой...
[но] остаться 'внутри' источника».101 Вероятно, самый очевидный
пример такого повторения — перевод-подстрочник. Однако, как
насмешливо отметил Штайнер, подстрочник больше не перевод, а
вспомогательное средство: «Он подставляет словарный эквивалент
из языка перевода на место каждого слова из языка оригинала.
В строгом смысле, дословный подстрочник — это не что иное, как
полный глоссарий, выстроенный горизонтально по отдельным
единицам и игнорирующий критерии нормального синтаксиса и
порядка слов в языке пользователя».102 Представление о том, что
достоверны лишь пословные переводы, основывается на ложном
понимании семантики, в которой элементарная единица смысла находится
в слове, а не в предложении. Однако суть достоверного перевода
состоит не в том, чтобы найти соответствие для локуций, а в том,
100 Там же, 27.
101 Там же, 310. Несколько шокирующих примеров опасности пословного перевода, см.
стр. 306-7 о разных попытках перевода Быт. 1,3.
102 Там же, 308.
579
Часть вторая. Восстановление толкования
чтобы найти соответствующие иллокуции. Как мы уже видели,
буквальный смысл — это смысл литературного акта (иллокуции).
Творческое понимание: диалогическое толкование
Даже переводы, стремящиеся к динамической
эквивалентности, все равно направлены на воспроизведение коммуникативного
акта, который вызывает у современного читателя отклик,
эквивалентный первоначальному. Но невозможно вернуть время вспять;
как бы мы ни пытались, нам не выбраться из собственной шкуры.
Несмотря на самые прилежные усилия по толкованию, что-то от
нас самих, от нашей эпохи, всего нашего опыта восприятия любой
литературы все равно наложит на перевод определенный след. Мы
можем назвать это «принципом предвзятости». Однако, невзирая
на принцип предвзятости, читатели, тем не менее, могут
приблизиться к авторскому замыслу. Например, мы можем избавиться от
«явных иллюзий перспективы».103 Именно такой была цель
предшествующей главы, в которой я доказывал возможность относительно
адекватного литературного познания. Но есть и второй, более
позитивный вариант осмысления принципа предвзятости, а именно
в контексте продуктивного, а не репродуктивного понимания.
Я утверждаю, что суть хорошего перевода и хорошего прочтения —
в творческой верности тексту. Переводчики, создававшие перевод
Библии «The New Revised Standard Version», руководствовались
принципом: «Буквально, насколько это возможно; свободно,
насколько это необходимо». Такой принцип ставит вопрос перед всей
герменевтикой: насколько свободно могут вести себя толкователи,
чтобы их поведение не сочли безответственным?
С точки зрения Бахтина, идеальный читатель — это нечто
намного большее, чем пассивное зеркало. Зеркала просто отражают
оригинал, а зеркальное прочтение достигает лишь
репродуктивного или «дубликатного» понимания. Однако, по мнению Бахтина,
авторы обычно ожидают от своих читателей большего. Он уверен,
что чтение никогда не должно быть монологом; ни текст, ни
читатель не безгласны и не лишены возможности внести что-то свое.
Понимание (цель гуманитарных наук, в противовес естественным)
всегда диалогично.104
103 Lewis, Experiment in Criticism, 101.
104 Бахтин спрашивает: «Есть ли в естественных науках нечто, соответствующее контексту?»
(Speech Genres, 167).
580
Глава седьмая. Преображение читателя
Толкование не копирует оригинал, а становится его метафорой:
«Вместо того чтобы подражать инаковости оригинала, перевод
устанавливает взаимоотношения между двумя текстами... двумя
языками, в конечном счете — двумя культурами и, возможно, двумя
историческими моментами».105 Майкл Эдварде проводит аналогию
между изменениями, производимыми переводом, и искуплением.
Перевод — это «... возможность для воссоздания: подобно тому,
как язык, вместо того чтобы копировать мир, производит над ним
некое действие, так и перевод, не дублируя оригинал, может
производить над ним и его миром определенные действия».106 «Трагедия»
всякого перевода в том, что он никогда не сравнится с оригиналом;
«величие» его — в том, что он может в чем-то его превзойти
(продолжить и усилить его). Христианские переводчики более, чем кто-
либо иной, должны быть людьми, надеющимися на воссоздание.
Творческое понимание приводит к преобразованию мира
«иного» в свой собственный, оставляя каждый из них в
неприкосновенности, не теряя горизонта ни текста, ни читателя и не
смешивая их между собой. Как мы уже заметили, историческая
критика склонна замыкать смысл текста во времени его создания, тем
самым лишая всякого смысла творческую деятельность читателя.
«Замкнуть» произведения в его собственной эпохе означает
ограничить его тем, что Бахтин называет «малым временем». С другой
стороны, если бы смысл текста был лишь тем, что делает из него
читатель, это точно так же ограничило бы текст в эпохе настоящего —
снова «малое время». Разве перевод не стал бы более точен, если
бы полностью исключил влияние современных читателей? Бахтин
считает, что нет: «Существует влиятельная, но односторонняя и
потому ошибочная идея о том, что для лучшего понимания
иностранной культуры надо стать ее частью, забыв собственную... но если
бы это было единственной стороной понимания, оно свелось бы к
простому копированию».107 Однако, лишь сохраняя собственную
культуру, можно правильно воспринимать и понимать культуру
«иного». Смысл раскрывается лишь при встрече и контакте с другим
смыслом: возникает своего рода диалог, который обогащает обе
105 Edwards, Towards a Christian Poetics, 167.
106 Там же, 169-70.
107 Bakhtin, Speech Genres, 6-7.
581
Часть вторая. Восстановление толкования
культуры.108 Главное, чтобы этот диалог не привел к слиянию или
смешению этих горизонтов в нечто третье, не похожее ни на то, ни
на другое. Вопреки Гадамеру, «слияние горизонтов» — это еще не
настоящий диалог, потому что вместо сохранения двух отдельных
голосов возникает один.
Бахтин не утверждает, что при творческом подходе читатели
вкладывают в текст что-то, чего в нем заведомо не было. И хотя
всегда присутствует возможность искажения текста, неверного
его понимания, в условиях правильного восприятия автор
предстает перед читателем в роли «иного». Разгадка парадокса
творческой достоверности, по мнению Бахтина, находится в природе
литературного акта и литературного жанра. Смысл может расширяться
со временем, благодаря потенциалу, неотъемлемому от
коммуникативной деятельности: «Семантические феномены могут
существовать в скрытой форме, потенциально, и открываться только в
семантических культурных контекстах последующих эпох, которые
смогут создать для этого благоприятные условия».109 В этом был
смысл четвертого этапа Штайнера, следуя которому, переводчик
передает истинный смысл текста. Достоверность в переводе или в
толковании не должна быть ни буквалистичной, ни дубликатной:
«Если истинный перевод в чем-то превосходит оригинал,
следовательно, исходный текст изначально содержит в себе потенциальные
возможности для этого, ранее не реализованные».110 Бут согласен:
«Ценности, которые выходят на поверхность в каждом новом
сообществе дискурса, определяются не только тем, что это сообщество
намерено предпринять по отношению к содержанию произведения,
но и тем, что «предпримет» делать само произведение».111 «Король
Лир», разумеется, останется трагедией по мере своего «развития»,
подобно тому, как эмбрион человека в процессе роста не перестает
быть человеком. Однако смысл «Короля Лира» продолжает
раскрываться благодаря творчески настроенным читателям.
Именно расстояние, на котором читатель находится от текста,
создает возможность диалога и условия для раскрытия полного
смыслового потенциала текста. Важно, однако, чтобы смысловой
Там же, 7.
Там же, 5.
Steiner, After Babel, 302.
Booth, The Company We Keep, 86.
582
Глава седьмая. Преображение читателя
потенциал содержался в тексте. Связь между локуциями,
иллокуциями и перлокуциями не произвольна, но и не абсолютна: не
всякая иллокуция может быть связана с данной локуцией, и не
всякая перлокуция может вытекать из данной иллокуции.
«Только то, что в действительности содержится в тексте, может
воистину оказать преобразующее действие на духовно мотивированного
читателя».112
Идентичность толкования: два вида подобия смысла
Привнесение «самости» в «инаковость» и есть
окончательная разгадка тайны переводческого ремесла.113
В завершение обсуждения вопроса о правильном толковании
и сходствах смысла мне хотелось бы вернуться к понятию
идентичности. Найда постулирует эквивалентность, а не идентичность
как цель перевода, признавая невозможность повторения речевого
акта.114 Тем не менее понятие сходства может иметь место. Я
полагаю, что толкователь стремится не к идентичности неизменного
объекта, а к идентичности исторической традиции. Здесь я
использую предложенное Рикёром различие между двумя видами личной
идентичности — idem и ipse — для того, чтобы проиллюстрировать
два вида семантической идентичности.
Идентичность «idem». Idem — латинское слово,
обозначающее «тот же». Мы, например, говорим о числовой идентичности, о
чем-то, что называем «одно и то же». Явно, что чтение не может
быть «тем же», что и авторство — ни время, ни контекст толкования
в обоих случаях не равны. А как насчет родственной идентичности,
сущностного тождества? Здесь толкование может быть настолько
подобно оригиналу, что, по сути, сможет его заменить, подобно
тому, как между однояйцовыми близнецами существует настоящее
сходство, хотя и не однозначная идентичность. Цель толкования
состояла бы в том, чтобы заменить текст комментарием без
существенных семантических потерь. Эти два определения idem объединяет
неизменность во времени — повторение одного и того же. Однако,
112 Schneiders, The Revelatory Text, 14.
113 Steiner, After Babel, 359.
114 Nida and Taber, The Theory and Practice of Translation, ch. 2.
583
Часть вторая. Восстановление толкования
с учетом реалий толкования (например, того факта, что толкование
не разделяет места и времени с исходным коммуникативным актом),
трудно говорить о неизменности во времени. Поскольку, как мы
видели, вместе со временем изменяется и контекст. Идентичность
«idem» кажется более уместной в естественных науках, где два
события могут считаться идентичными, если они произошли в одних
и тех же условиях. Конечно, проблема с толкованием текста —
в том, что условия, т. е. контексты автора и читателя
соответственно, никогда не бывают одними и теми же.
Идентичность «ipse». Обязательно ли одинаковость смысла
(семантическая идентичность) предполагает постоянство во
времени? Рикёр обращается к другой модели временного постоянства,
для того чтобы отличить личностную идентичность, или «самость»
(ipse), от тождества безличных вещей. Ipse предлагает модель
постоянства, свойственную личностям, а не вещам. Я утверждаю, что
единство смысла более подобно личностной идентичности, чем
безличной одинаковости.115 Когда человек выполняет данное
обещание, это — вопрос не тождества, а постоянства. Постоянство
самости — не просто повторение одного и того же. Как отмечает Рикёр:
«Постоянство характера — это одно, постоянство в дружбе —
совсем другое».116 Полное представление о личном тождестве должно
включать в себя объяснение и характера, и постоянства самости.
Поскольку обещание — это парадигматический пример того, как
личность держит слово, мы можем сделать вывод, что личностное
постоянство сродни иллокуционному постоянству. И наоборот,
можно сказать, что тождество смысла есть, по большей части,
вопрос идентичности ipse — постоянства, а не числового тождества.
Ранее я доказывал, что тексты, как коммуникативные акты,
обладают неявной целью. Более того, эта цель — двоякая: каждый
коммуникативный акт должен рассматриваться в рамках своего
жанра (иллокуции) с учетом целей, ради которых он был создан
(перлокуции). Конечно, как мы видели ранее, текст, в отличие от
человека, не в состоянии взять на себя инициативу в толковании.
115 Рикёр признает, что «характер» — устоявшиеся склонности и приобретенные привычки —
предполагает некое тождество самости, но он отрицает, что тождество характера полностью
описывает личностную идентичность (Oneself As Another, 119-23).
116 Там же, 123.
584
Глава седьмая. Преображение читателя
Ситуация текст-читатель асимметрична. Поскольку текст является
беспомощным «иным», все, что он может сделать — привлечь к себе
наше внимание. Сможет ли читатель ответственно откликнуться на
этот призыв? Памятуя о сдвоенных понятиях динамической
эквивалентности и идентичности ipse, мы можем разрешить парадокс
творческой достоверности, предложив следующее определение
творческого понимания: толкования, являющиеся творческими
и достоверными, проявляют по отношению к тексту не
тождество, а постоянство. В частности, верное толкование должно
отражать те же материю, силу и направленность, которые
характеризовали исходное коммуникативное действие.
Можем ли мы провести аналогию между текстами и
личностной идентичностью («самостью») еще дальше? Почему некоторые
тексты по-разному влияют на разных читателей? Разве это
происходит не по той же причине, по которой и сам я по-разному влияю
на людей? Оставаясь самим собой, я по-разному общаюсь с
разными людьми. Что еще более важно, суть того, что делает меня мною,
состоит в том, как я взаимодействую с другими, как моя личность
проявляется в моем уникальном взаимодействии с другими
личностями и через него.117 То же, вероятно, истинно и в отношении
текстов. Текст остается тем, что он есть, но может по-разному влиять
и по-разному взаимодействовать с другими. Далее, текст не может
быть сам собою без посредства иных — без читателей. Читатель
необходим, чтобы воспринять и реализовать коммуникативный
потенциал текста. Интересно, что посредническая роль «иного»
рассматривается Аристотелем в «Никомахейской этике» в разделе о
дружбе. Дружба выводит на передний план вопрос взаимности.
Друга любят не ради выгоды и даже не ради удовольствия. В дружбе
понятия «дать» и «принять» взаимны. Однако в случае толкования
читателю приходится брать инициативу на себя; потому что текст —
это и возможная жертва, и возможный друг.
Рудольф Бультман задает знаменитый вопрос: «Может ли
существовать экзегеза без исходных предпосылок?» Просто задать
этот вопрос — уже означает предложить очевидный ответ:
толкование всегда предвзято. Толкователь никогда не стоит на тех же
позициях, что и автор. Читатели никогда не смогут полностью
восстановить исходный смысл оригинала. Однако, хотя экзегеза без
См. мою работу «Human Being, Individual and Social», особ. 173-75.
585
Часть вторая. Восстановление толкования
идеологических предпосылок иногда невозможна, это не значит,
что толкователь не может заниматься экзегезой текста — выводить
из текста смысл. Более того, я уже доказывал, что именно
благодаря читательской идеологии, именно благодаря тому, что читатель
находится «вне» текста, он может быть иным и признавать текст
тем, что он есть на самом деле — отличным от самого читателя.
Именно по причине того, что читатель находится вне текста, он
может быть его другом или врагом.
Итак, что такое переводчик — друг текста или его враг?
Существует некая «передача», не являющаяся предательством. Или,
точнее, можно «передать далее» (traditio), при этом не предавая
(traditore). Иуда предал Иисуса; другие апостолы «передали» его
следующим поколениям.118 Достоверное толкование, как его
понимаю я, больше похоже на апостольскую традицию: его суть — не
предательство, а продолжение коммуникативного акта, передача
его дальше. Тот, кто верен традиции, прислушивается к прошлому
и подпадает под его влияние. Мы принимаем нечто, не нами
созданное, и передаем его другим. Толкователи, будучи посредниками при
передаче прошлого другим, возвращают долг своим
предшественникам. В конечном счете, то, чего толкователи должны
придерживаться в работе с текстом, — это внимание, справедливость и
память. Итак, подобно традиции, перевод не просто повторяет
прошлое, а и развивает его. Подобно традиции, толкование,
превосходя исходный контекст, дает возможность тексту жить
дальше. Текст не предвосхищает диалог, но начинает его, «озвучивая»
смысл, призывая к ответственному отклику. Передача не обречена
быть предательством. Нравственный толкователь ищет тождества
не однозначности, а постоянства; переводчик есть тот, кто
сохраняет действенность произошедшего ранее
коммуникативного действия.
ЧИТАТЕЛЬСКИЙ ОТКЛИК
И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧИТАТЕЛЯ
Текст раскрывает свой смысл, призывая читателя к
продуманному отклику. Нравственное толкование может, прежде всего,
118 Интересно отметить, что в Новом Завете для обозначения истинного предания и для
предательства Иудой Иисуса используется одно и то же греческое слово (paradiddmi: Мк. 3, 19;
1 Кор. 15,3).
586
Глава седьмая. Преображение читателя
относиться к оценке читателем нравственной ценности текста.
Однако само чтение — уже акт толкования, неотъемлемая часть
завета дискурса, за который читатель и в самом деле отвечает. Подобно
другим человеческим действиям, способ чтения тоже открыт для
восприятия, включая и нравственную оценку. В частности, читатель
ответственен за то, как он подходит к смыслу. В этом разделе я
постарался провести границу между этикой толкования, которая имеет
дело с разнообразными целями толкования и правами читателя, и
нравственностью толкования, которая относится к универсальным
нормам толкования и обязанностям читателя. Вопрос в том, в чем
больше состоит суть читательского отклика: в правах толкователя
или в его обязанностях? В чем отличие одного от другого?
Реализм и ответственность
Было бы слишком просто противопоставить друг другу
герменевтику ответственности и игривую эстетическую позицию
некоторых постмодернистских мыслителей. Это было бы также
чрезмерным упрощением, так как в нескольких недавних работах, включая
и работы самого Дерриды, содержатся возражения против того,
что деконструкция приводит к нигилистической текстовой игре без
правил. Суть вопроса скорее в различии между разными смыслами
«ответственности». На самом деле, деконструктивизму не чуждо
понятие нравственности, хотя, возможно, это не настолько очевидно:
если у текста нет определенного смысла, тогда и об ответственном
отклике читателя говорить не представляется возможным.
Нравственности деконструкции противопоставляется нравственность
ответственного дискурса, считающая особо важным уделить
внимание смыслу, вместо того чтобы отдалять его. Отсюда наш вопрос:
О какой нравственности и чьей ответственности идет речь?
Нереалистические представления об ответственности
читателя
Те, кто не считает, что в тексте есть определенный смысл,
может считать себя вправе изобрести его. Фиш, например,
пытается показать, что отклик читателя — это не просто его реакция
на смысл текста, но что именно этот отклик и есть смысл текста.
Винсент Б. Лейтч считает само собой разумеющимся, что чтение —
587
Часть вторая. Восстановление толкования
в большей мере творение, чем открытие.119 Более того, он считает,
что критики, рассуждающие о воспринятом ими «текстовом
смысле», поступают нечестно. Основная обязанность противника
реализма в герменевтике — бесконечно продолжать «игру» смысла.
Ролан Барт считает, что читатели получают удовольствие от текста
независимо от того, находят ли они в нем некий новый смысл.
Задачей литературного критика, по его словам, не должно быть сведение
текста к стабильному сигнификату (определенному смыслу),
достаточно того, что «текст сохраняет способность что-либо значить».120
Здесь мы скорее можем говорить о «воле к игре», чем о «жажде
власти». Основной момент отрицания реализма заключается в том,
чтобы ничто не ограничивало игру толкований. Если нет смысла, то
нет и того, на что следует откликаться или перед чем брать на себя
ответственность.
Деконструктивисты в последнее время заявляют о нравственном
превосходстве своей позиции, продолжая превозносить игру
толкований, у которой появилась политическая цель.121 Они доказывают,
что «упразднители» проявляют уважение к инаковости текста тем,
что сопротивляются сложившимся способам прочтения и
методам толкования. То есть, ответственно подходя к чтению текстов,
мы сможем освободить текст (и самих себя) от контроля
идеологического толкования. Упразднение возвращает текст из
«Вавилонского пленения» «единственно истинного толкования».
Деконструкция нравственна, поскольку она читает вопреки стандартным
прочтениям, пытаясь отыскать, что же упущено или подавлено.
«Деконструкция — это не хирургическая операция, призванная
исправить нездоровый текст, и не вскрытие текста умершего. Это
активное вовлечение читателя — нравственное и практическое —
во взаимодействие с живым текстом и с «Иным», которое приходит
к читателю как дар и как вызов».122 Можно сказать, что
деконструкция представляет собой поиск признаков жизни в тексте.
119 Vincent В. Leitch, "Reflection on the Responsibility of the Literary Critic," appendix to
Deconstructive Criticism.
120 Roland Barthes, "Wrestling With the Angel: Textual Analysis of Genesis 32:23-33," в Barthes,
The Semiotic Challenge (New York: Hill and Wang, 1988), 260.
121 Cm. Critchley's The Ethics ofDeconstntction, Phillips's "The Ethics of Reading Deconstructively"
и J. Hillis Miller's The Ethics of Reading (New York: Columbia Univ. Press, 1987).
122 Phillips, "The Ethics of Reading Deconstructively," 287.
588
Глава седьмая. Преображение читателя
В своих лучших проявлениях деконструктивизм обращает наше
внимание на то, как организационные структуры власти
подавляют инаковость. Он убеждает нас быть внимательными к тому, что
текст — «другой». «Он побуждает меня остерегаться
переписывания «иного» по образу и подобию меня самого в моих собственных
целях».123 Деконструктивизм противится текстовым и
толковательным структурам и системам, подавляющим то, что не вписывается
в их рамки: «Постмодернистские прочтения служат политическим
и этическим откликом на другие прочтения, якобы не зависящие от
власти».124 Многие постмодернисты склонны считать единственно
этичным вопросом относительно формирования толковательских
соглашений: «Чьим интересам они служат?»
Постмодернистским прочтениям Библии свойственна одна
общая черта: недоверие к утверждениям о «владении смыслом»,
которые зачастую характерны для традиционных прочтений,
включая толкования модернистских критиков Библии. Я уже выразил
одобрение в адрес иконоборческих тенденций деконструктивистов.
Вместе с «упразднителями», я также возражаю против
марксистских, феминистических, психоаналитических и прочих теорий
толкования, которые сводят текст к его политическому, социальному
или психологическому контексту. В условиях отрицания таких
толкований, даже «игры» толкований — действия, в конечном
счете, политические. Однако, как я доказываю ниже, далеко не ясно,
какие позитивные этические или политические действия
проистекают из нереалистической этики толкования. Ответственность за
«иное» сливается со свободой от иного, поскольку «иное»,
лишенное конкретной формы и содержания, не предъявляет к читателю
никаких определенных требований.
Реалистические представления об ответственности
читателя
Утверждения противников реализма об истинном благе для
человека — свободе, состоящей в противостоянии закрытому
порядку, — основывается на определенных убеждениях относительно
реальности и природы человеческих существ. Но это — вопросы
123 Там же, 317.
124 The Postmodern Bible, 3.
589
Часть вторая. Восстановление толкования
метафизики, которую можно определить как дискурс о
познаваемой структуре, лежащей в основе наших склонностей, о том, «что
придает им характер чего-то большего, чем просто произвольный
выбор».125 В основе многих нереалистичных подходов к
толкованию, по моему мнению, лежит предположение, что язык, как и
человеческое бытие в целом, есть, по сути, борьба за власть. Это,
однако, метафизика неодарвинистского натурализма, а не взгляд на
реальность, формируемый на основе учений о сотворении и
искуплении. За каждым представлением об этике толкования, включая и
деконструктивизм, стоит набор предпосылок, касающихся
реального положения дел.
Основная проблема постмодернистского освобождения
читателя от доминирующих толкований — неспособность освободить
читателя от самого себя. Ирония освобождения от установленного
порядка в том, что постмодернистская самость становится свободной
и ответственной, только выхолащивая все, что ей противостояло.
Утверждение, что смысл есть то, что налагают на нас
организационные идеологии и обычаи, считается постмодернистами
освободительным, потому что если ничего нет, то ничто и не может
предъявлять ко мне претензии. Следует ли нам, дополняя Дерриду,
сказать, что вне нас ничего нет? Именно такая логика, похоже, стоит
за большой частью постмодернистского мышления. Независимая
реальность, обладающая собственным порядком, ограничивала бы
мое творчество и ставила бы под вопрос мою свободу.
С другой стороны, богословская герменевтика стойко
придерживается реализма в отношении смысла. Богословская
интерпретация толкования утверждает, что в тексте есть нечто, выходящее
за пределы моей самости. С этой точки зрения, читатели могут
воспринять из чужого коммуникативного акта нечто, что может
взаимодействовать с их бытием, а возможно — расширить и
усилить его. Как герменевтические реалисты решают вопрос инако-
вости текста? Если в текстах в самом деле есть смысл, выходящий
за рамки собственно процесса толкования, как должен
реагировать на него читатель? Ответ прост. Читатель должен признавать
текст как нечто иное, откликаться на содержание текста, на то, что
Штайнер именует «реальным присутствием». Если выразиться
точнее, это означает признание, что всякий коммуникативный акт —
Так у Rowan Williams, "Between Politics and Metaphysics," 6.
590
Глава седьмая. Преображение читателя
словесное произведение, посредством которого автор сообщает
что-то кому-то. Это означает признание материи текста (смысла
и референции), его энергии (иллокуционной силы) и телеологии
(перлокуции). Например, в отношении притч Иисуса следует
признать, что эти тексты метафорически описывают царство Божье и
призывают читателя встать на правильный путь. Тисельтон прав,
подчеркивая речевой характер притч: «Они атакуют и обличают,
утверждают и отстаивают».126 Притчи Иисуса влекут за собой
дальнейшие действия (толкование, оценку, следование и пр.). Они
открывают миры повествования, которые сталкиваются с миром
читателя. Почему чтение притчи может повлиять на жизнь читателя
так же, как физический контакт с чем-либо? Не потому ли, что при
чтении мы сталкиваемся с чужими утверждениями? Этика
толкователя-реалиста характеризуется ответственностью перед «иным»,
а не свободой от него.
На самом деле, читатели ответственны перед текстом вдвойне:
они должны определить, каким видом коммуникативного действия
является текст, и откликнуться на это действие соответствующим
образом. Нравственный отклик на текст — это «подходящий»
отклик. Джинронд говорит о том же: «От текста, в основе которого
лежит эстетика, можно ожидать, что он побудит читателя
предпочесть эстетический жанр чтения. Богословский текст, вероятно,
побудит читателя использовать богословский жанр чтения».127 Итак,
суть ответственности — в правильном отклике на текст. Более
того, как указывает Ричард Нибур, рассуждая об этимологии слов,
ответственная личность есть «ответчик»}2* Быть ответственным
человеком означает быть способным ответить. Быть
ответственным означает участвовать в диалоге с тем, что не является тобой
самим: «Смысл не вчитывается с языка и не вносится в него — мы
встречаемся с ним в языке... Мы 'встречаем' смысл, то есть
взаимодействуем с ним, а не просто подвергаемся его воздействию».129
Взаимодействие с текстом есть взаимодействие с произведением
и с «образом» автора, на который читатель должен отреагировать,
126 Thiselton, The Responsibility ofHermeneutics, 99.
127 Jeanrond, Theological Hermeneutics, 116.
128 H. Richard Niebuhr, "The Meaning of Responsibility," в James M. Gustafson and James T. Lancy,
ed., On Being Responsible: Issues in Personal Ethics (London: SCM, 1969), 31.
129 Gill, Mediated Transcendence, 127.
591
Часть вторая. Восстановление толкования
и с произведением, с которым читателю приходится сражаться.
Ответственный читатель живет и действует между
конформизмом и творчеством, избегая и раболепного повторения, и вольного
изобретательства. Отклик на содержащийся в тексте призыв, на
его смысл, должен быть уместным, состоящим в творческом
послушании.130
Чтение как этическая деятельность
Чем определяется «уместность» читательского отклика? Кем
должен быть высоконравственный читатель, «господином» текста
или его «рабом»? Джинронд относит консервативных критиков
читательской реакции (таких как Изер и Штернберг) к рабам, а
радикальных (Фиш и др.) — к господам.131 Однако богословский
подход, построенный вокруг дискурсионных обязательств, определяет
текст и читателя не как два соперничающих за власть центра, а как
центры коммуникации.
Пассивное чтение
Существуют, конечно, недостаточно активные читатели. Как
те, кто слышит только мелодию песни, а не ее слова, они читают
только ради сюжета или сути текста. Форма же и стиль — тоже
составляющие коммуникативного акта — по большей части,
проходят мимо них. В результате они упускают целые пласты смысла.
Это все равно, что прочесть роман Кафки «Процесс», как простой
детективный роман, или Библию — как тонко сплетенный миф или
исторический трактат.
По сути, Библия вбирает в себя многие виды литературных
актов, каждый из которых должен вызывать в читателе
соответствующую реакцию. Закон, пророчества, притчи, истории,
поучения — ко всему этому требуется свой подход. Пассивные читатели,
как правило, вникают лишь в содержание, не обращая внимания
на разницу в иллокуционной силе. Пассивный читатель,
оставаясь на уровне объяснения и никогда не выходя на уровень личного
130 Стоит отметить, что «уместность» — это тема не только нравственного толкования, но и
библейской мудрости.
131 Сам Джинронд ищет середину: если тексты должны преображать читателей, необходима
как критика, так и самокритика (Text and Interpretation, 114).
592
Глава седьмая. Преображение читателя
восприятия, нарушает процесс толкования. Излишняя
погруженность в локуцию может занять место истинного взаимодействия с
содержанием на экзистенциальном уровне. Таким образом, на
самом деле пассивные читатели обходят содержание стороной, они
так и не чувствуют его (иллокуционной) силы. Возможно, теперь
мы сможем лучше понять упрек, брошенный Бартом историческим
критикам его времени, состоящий в критике чтения с
недостаточным откликом.
Реакционное чтение
С другой стороны, реакционно настроенные читатели
напоминают борцов за свободу, чье противостояние тексту или
стандартным толкованиям всегда основано на возмущении. Его
нравственность выражена в следующем вопросе: «Когда настоящий читатель
должен действовать вопреки условностям текста или
сообщества толкователей, и каким образом должно быть выражено это
сопротивление»?132 Реакционно настроенные читатели на самом
деле не обращают внимания ни на сам текст, ни на историю его
толкования, а их «реакция на текст» превращается в его
использование на службе идеологическим интересам класса, рода, расы или
религии.
Такие читатели могут даже восстать против текста во имя
социальной справедливости. Мятежный читатель отказывается
воспринимать смысл или толкование, которые служат
общественно-политическим силам для угнетения других: «Чтением
сопротивления называются различные прочтения, которые противостоят
деспотическому использованию власти в дискурсе... Лучшие
идеологические прочтения — те, которые поддерживают и одобряют
позитивные перемены в обществе, способствующие многообразию
и терпимости».133 Но этого просто недостаточно. Кто решает, какие
изменения «позитивные», а какие нет? Кто определяет такие
понятия, как «равноправие» и «свобода»? Значит ли это, что любое
прочтение меньшинством должно быть принято просто потому, что оно
исходит от меньшинства?
132 The Postmodern Bible, 66.
133 Там же, 302.
593
Часть вторая. Восстановление толкования
Гиперактивное чтение
И активный, и реакционно настроенный читатель тяготеют к
герменевтическому реализму: в целом, они готовы признать, что в
тексте есть смысл, хоть и имеют разные мнения по поводу
подобающей реакции на него. Гиперактивные читатели, в свою очередь, —
противники реализма. Их цель — создание смысла, причем как
можно в большем объеме, ради реализации полного потенциала
не только текста, но и читателя. Согласно этой точке зрения, суть
толкования, по большей части, состоит в читательском отклике.
Трансцендентного логоса, обитающего в тексте, не существует;
текст есть просто повод для бесконечного числа расшифровок,
сделанных в разных контекстах и для них предназначенных.
Гиперактивный читатель излишне активен; иначе говоря, его
отклик избыточен. Барт описывает такой вид чтения, при котором
читатель постоянно останавливается и отрывается от текста не потому,
что ему скучно (пассивность), а из-за потока идей и ассоциаций,
которые снова и снова прерывают чтение.134 При таком гиперактивном
чтении, направление мыслей читателя не дедуктивное, а
ассоциативное, он занят прочтением текста в свете других идей, контекстов и
кодов. Гиперактивное чтение — это буйная аллегоризация, создающая
ассоциации, которые автор и не думал вкладывать в текст, используя
разнообразные приемы декодирования (психоаналитические,
структуралистские, феминистические, марксистские и т. д.) к текстам,
которые были закодированы иначе. Такое творческое декодирование
приносит удовольствие само по себе — Барт называет его «письмом».
Это удовольствие от создания того, что привлечет внимание к себе и
станет поводом для дальнейшего письма (дальнейшего толкования).
Гиперактивный читатель «не декодирует, он перекодирует».135 Мир
текста создается уже не автором, а гиперактивным читателем.
Проблема, опять-таки, состоит в том, что такие читатели никогда не
выходят за пределы самих себя. Вердикт Пиаже по поводу эгоцентричных
детей уместен и в отношении гиперактивного читателя: «Он создает
собственную реальность... магическую на онтологическом уровне...
Корень [этой магии] в тех же эгоцентрических иллюзиях, а именно...
в смешении самости и внешнего мира».136
134 Roland Barthes, "Writing Reading," в The Rustle of Language, 29.
135 Barthes, "On Reading," в The Rustle of Language, 42.
136 Jean Piaget, Child's Conception of the World, в Gareth B. Matthews, Philosophy and the Young
Child (Cambridge, Mass.: Harvard Univ. Press, 1980), 47.
594
Глава седьмая. Преображение читателя
Деконструкция представляет собой другой вид
герменевтического излишества. Это неумеренная реакция на претенциозные
утверждения разума о достижении абсолютной уверенности или
завершенности. Как я уже доказывал, существует альтернатива
предлагаемому деконструктивизмом непростому выбору между
абсолютным знанием и абсолютной неопределенностью. Эта
альтернатива заключается в том, что мы имеем относительно
адекватные знания о текстах и отвечаем за свои действия в соответствии
с ними. Эти знания соответствуют определенным
коммуникативным целям. Однако гиперактивный читатель склонен к
необоснованным сомнениям. «Упразднители» считают, что фактов нет, есть
только толкования, или, как выразился Деррида, вне текста ничего
нет. Деррида ставит под сомнения все устоявшиеся толкования с
помощью избыточного, почти извращенного внимания к деталям
текста (включая маргинальные). По моему мнению, заблуждение
деконструктивиста заключается в излишнем внимании к
второстепенному. Такое преувеличенное внимание есть форма неверной
направленности', это классический пример ситуации, когда за
деревьями не видят леса и, более того, когда человек неспособен
видеть дерево, поскольку слишком увлекся структурой коры. Или,
если взять другой образ, радикально настроенный «упразднитель»
подобен нетерпеливому ребенку, неисправимому буквалисту,
который пренебрегает родительским указанием, уцепившись за мелкую
словесную погрешность: «Подожди секунду, пожалуйста!» —
«Секунда уже прошла!»137
Активное чтение
«Активный» читатель берет на себя инициативу от имени
текста. Ответственность за текст как за «иное», прежде всего, требует
«подотчетности» тексту. Как выразил это Штайнер: «Мы
ответственны перед текстом в очень специфичном смысле, одновременно
моральном, духовном и психологическом».138 Штайнер отмечает,
что во многих культурах гостеприимство вменяется в обязанность
религией. Подобно этому, наша обязанность — принять текстового
незнакомца как дорогого гостя — подразумевается заветом
137 За этот пример из реальной жизни я благодарен своей дочери Эмме.
138 Steiner, Real Presences, 8.
595
Часть вторая. Восстановление толкования
дискурса. Более того, мы можем судить о моральной ценности
текста только после того, как познакомимся с ним. Для того чтобы
судить об этическом воздействии определенного коммуникативного
акта, нам нужно прежде оценить отклик, который вызвало все
произведение: «Что будет с нами, если мы позволим нашему
воображению следовать его путями?»139 Активный читатель готов сделать
первый шаг веры и открыть себя воздействию текста: «Верую,
чтобы разуметь». Если человек отказывается следовать призыву
текста, невозможно достигнуть понимания текста.
Читатели находятся в неоплатном долгу не перед «лицом», как
предполагает Левинас, а перед голосом. Каждый текст ставит
перед читателем этическое требование: «Не убий». Голос можно
«убить», заставив его замолчать или подчинив собственным
целям, заставляя его говорить только то, что сами хотим слышать.
По мнению Моргана, моральное право авторов быть понятыми так,
как они этого хотели бы, недолговечно; «это право умирает вместе
с ними или вместе с ситуацией, для которой было предназначено
высказывание».140 Однако, как я уже доказывал, текст как
коммуникативный акт есть продолжение деятеля, голос автора,
проникающий сквозь пространство и время. Наш долг перед авторами и
перед прошлым — не терять и не подделывать их голоса, даже если
мы с ними не согласны.141 Существование голоса, мне не
принадлежащего, представляет абсолютную заповедь: «Не
лжесвидетельствуй».
Цели и нормы чтения: от толковательного блага к
толковательной правоте
Не у всех процесс чтения проходит одинаково, но даже в случае
совпадения результаты прочтения текста могут отличаться.
Следует ли из этого заключить, что некоторые читатели
лжесвидетельствуют в том, что касается текста? Но в начале следует понять,
какие прочтения являются примерами лжесвидетельства? Для этого
необходимо различать цели и нормы толкования. Тогда этот вопрос
139 Booth, The Company We Keep, 399.
140 Morgan and Barton, Biblical Interpenetration, 270.
141 Это особенно важно для свидетельства очевидца. См. Мою работу "The Hermeneutics of
I-Witness Testimony: John 21:20 and the 'Death' of the 'Author,'" 366-87.
596
Глава седьмая. Преображение читателя
будет звучать так: «Все ли цели толкования («блага») одинаково
приемлемы и правомерны?» Проводя черту различия между этикой
(дискурс о «благе») и нравственностью (дискурс о «праве»), я
следую соглашению, представителем которого, среди прочих, является
Рикёр: «Я оставляю термин «этика» для цели завершенной жизни,
а термин «нравственность» — для выражения этой цели в рамках
норм, характеризуемых одновременно и претензией на
универсальность, и сдерживающим влиянием».142
Толковательные блага
Аристотель определяет «благо» как «то, для чего предназначены
вещи».143 Марк Бретт предлагает полезное разделение на
«толковательные интересы» (цели, которые лежат в основе определенных
методов толкования) и «идеологические интересы» (цели,
отражающие более широкий контекст этических и политических
убеждений читателя).144 Меня, однако, интересует этическая значимость
толковательных целей читателя. Бретт отмечает, что «метод сам
по себе не является этикой», но далее говорит о том, что
определенные толковательные интересы — не уточняя, какие именно —
нуждаются в этической защите. Теперь рассмотрим более сложный
вопрос: какие толковательные цели, или «блага», можно считать
нравственно обоснованными критериями? Например, является ли
намерение восстановить историю создания текста правомерным
толковательным интересом, или же оно аморально с точки зрения
литературного знания? (И кто это определяет?)
У разных сообществ толкователей цели весьма различны. То,
что толкователь считает «благом» в своей деятельности, до
некоторой степени зависит от того, к какому сообществу читателей он
принадлежит. У исторических критиков — свое понимание
толковательного «блага», у критиков читательской реакции — другое,
у читателей-деконструктивистов — третье. Предположить, что
определенный толковательный интерес — к примеру,
заинтересованность в восстановлении истории создания текста в некотором
смысле — аморален, было бы, на первый взгляд, несколько странно.
142 Ricoeur, Oneself As A nother, 170.
143 Aristotle, Nichomachecm Ethics, 1094al. Этика здесь характеризуется с телеологической
точки зрения, рассматривающей благо в контексте целей и предназначений.
144 Brett, "The Future of Reader Criticisms?" в Watson, ed., The Open Text, 13-31.
597
Часть вторая. Восстановление толкования
Ведь в нашем постмодернистском контексте у людей вошло в
привычку отказываться от поиска универсальных критериев в этике
или где-либо еще. Ценности, как в толковании, так и в этике,
относительны и связаны с сообществами.
Толковательная правота: «герменевтический» императив
Как говорил Уилфред Селларз, суть нравственности состоит в
наших общих намерениях. Но насколько велико это обобщающее
«наше»? Идет ли речь о сообществе, обладающем историей и
традициями, или о сообществе, объединенном политической
программой? Или это обобщающее «мы» может значить просто «вы и я»?
Откуда возникают герменевтические ценности? Что заставляет
отказаться от разнообразия толковательных целей и навязывать
одни цели в ущерб другим? Ответ на этот последний вопрос
пугающе прост: насилие. Именно возможность насилия в толковании,
подавления инаковости текста, заставляет нас подменять анализ
различных целей толкования (видов герменевтического «блага»)
изучением допустимых норм толкования (герменевтического
«права»). Нравственность литературного знания связана с
ограничением целей и интересов толкователя. Не всякое толкование
текста правомерно и уместно. Если бы было так, такого понятия,
как ошибочное прочтение, не существовало бы вообще.
Исторические критики претендуют на высокие нравственные
позиции в толковании Библии, утверждая, что они спасли текст
от догматических интерпретаций, которые были ему навязаны.
В то время как богословы используют текст в своих интересах, биб-
леист выступает как защитник «оригинальности и своеобразия»
текста.145 С другой стороны, Карл Барт обвиняет последних в
пренебрежении содержанием библейских текстов из-за чрезмерного
интереса к истории его создания. Что нам делать с таким
многообразием оценок нравственного уровня библейской критики?
Отстаивают ли критические методы инаковость библейского текста — или
пренебрегают ею?
Трудно порицать заинтересованность критиков в возможно
более точном определении исходного контекста, потому что это —
часть поиска смысла, который этот коммуникативный акт имел
По Walter Brueggemann, The Bible and Postmodern Imagination (London: SCM,1993), 57-58.
598
Глава седьмая. Преображение читателя
для автора и первых читателей. Однако Барт, вероятно, прав, когда
говорит, что библейские критики недостаточно объективны. Они
отдают предпочтение одной стороне текста в ущерб остальным.
Исторические критики остановились на одном уровне описания,
если пользоваться категориями из предыдущей главы. Ошибочно
считать, что нам ясна природа и цель коммуникативного акта, если
на деле мы изучили лишь его предысторию. Ограничить толкование
этим уровнем смысла означало бы, в конечном счете, редуцировать
его. И именно здесь оказывается полезна категория
герменевтической правоты и заблуждения, в борьбе с редукционизмом в
толковании. Некоторые толковательные интересы безнравственны не
потому, что они побуждают к определенным действиям, а потому, что
они оказываются к этому неспособны. Ограничить полноту
текстового смысла до того или иного аспекта означает опуститься в самом
толковании на уровень ниже герменевтики — к «тонкому»
описанию, которое может дать некоторое знание, но не понимание. Итак,
безнравственность толковательного интереса состоит не столько в
том, как он действует, сколько в том, что при этом упускается из
вида. Редуцированные толкования вызывают безразличный
отклик. Их грех есть грех упущения, сообщения неполной истины.
Другая форма насилия в толковании — преднамеренный
настрой против читаемого текста. Проблема здесь не столько в самом
прочтении, сколько в хищении смысла — насильственном
исключении его путем обмана. Хорошим примером этого служит явление
ревизионизма в истории. Ревизионисты судят об истории, исходя
из идеологических убеждений. Например, Роберт Гнузе
утверждает, исходя из эволюционного подхода к истории религии, что
различие между хананеями и израильтянами, в плане религиозных
вопросов, может быть «надуманным».146 Отделенность Израиля от
прочих народов, которая так явно проявляется в Пятикнижии и в
исторических книгах, по словам Гнузе, фиктивна. Выраженный
монотеизм Израиля был «мутацией» в эволюционном развитии
религии. На самом деле за всей исторической реконструкцией Гнузе
стоит богословие процесса. Он уверен, что Бог действует не
через прерывистые импульсы, а путем постоянного «давления». Для
современных христиан это значит, что нам следует рассматривать
146 Gnuse, "New Directions in Biblical Theology: The Impact of Contemporary Scholarship in the
Hebrew Bible," Journal ofthe American Academy of Religion 62 (1994): 893-918.
599
Часть вторая. Восстановление толкования
себя не как оппозицию этому миру, а как катализатор
эволюционного развития монотеизма. Короче говоря, богословие Гнузе
(идеологический интерес) определяет его подход к библейскому тексту
(толковательный интерес). То же искушение, которое испытывали
богословы-догматики, поселилось, как это ни иронично, в доме
библейской критики — а именно, стремление подогнать библейский
текст под богословские интересы.
Произвольна ли норма авторского замысла, как утверждали
некоторые из критиков Хирша?147 Хирш, отвечая на эту критику,
пытается достичь определенной универсальности в своих предписаниях,
применяя свое понимание норм толкования к Кантовому
рассуждению о нравственном законе. Кант считал, что любой разумный
человек обязательно придет к пониманию того, что к людям следует
относиться как к цели, и никогда — как к средству. Для Канта
уважение к личности было универсальным требованием разума.148 Хирш,
защищая права автора, обращается к Канту: «Относиться к словам
автора как к зерну для собственной мельницы — в нравственном
отношении аналогично использованию другого человека как средство
достижения своей цели».149 Хирш постулирует следующую
«фундаментальную этическую максиму для толкования»: «Если не
существует высшей ценности, требующей пренебрежения
авторской интенцией (т. е. исходным смыслом), мы, чье призвание —
толкование, не должны ею пренебрегать». 15° Используя слова
автора в собственных целях, мы нарушаем нормы толкования,
«подобно тому, как мы нарушаем этические нормы, используя других
людей как средство для достижения своих целей».151 Толкователь
147 Иглтон сетует, что Хирш, «подобно большинству авторитарных режимов... вовсе
неспособен дать рациональное обоснование собственных руководящих ценностей». (Literary
Theory, 69). Даже П. Д. Джул, сочувствующий критик, признает, что определение смысла по
Хиршу — условное, это рекомендация, а не требование (Interpretation, 12, 23-27).
148 Интересно, что в отношении толкования Кант предложил просветительскую версию
взглядов Августина: читайте так, чтобы это способствовало нравственному прогрессу. Кант
видел высшую цель толкования Библии — цель практического разума (например, руководство
разума для свободы человека) — в нравственной полезности. В большой части идеологической
критики прослеживается кантовский мотив: выбор того прочтения, которое наилучшим образом
способствует проявлению доброты и справедливости в отношениях с ближними. Однако
очевидная универсальность этого правила выглядит слишком натянутой и рушится в свете
диспута о сути блага для человека.
149 Hirsch, Aims of Interpretation, 91.
150 Там же, 90 (выделение автора).
151 Там же.
600
Глава седьмая. Преображение читателя
подчинен «основному моральному императиву речи, суть которого
в уважении авторского замысла».152
Однако самую амбициозную попытку сформулировать
универсальную моральную норму для коммуникативной деятельности мы
находим у Хабермаса.153 Он признает, что мы живем во время,
когда существует плюрализм мнений по вопросу того, что есть
«благо». Если мы не хотим прибегать к насилию в решении этического
вопроса, мы должны четко понять, что есть благо для всех. Чтобы
подойти к проблеме с нравственной точки зрения, нам надо
подняться над собственным общественно-историческим контекстом,
чтобы понять возможные последствия данной дискуссии для всех
ее участников.154 Норма имеет ценность, если она соответствует
более высоким интересам, и поэтому подлежит «универсализации»:
«Универсализация, основной принцип этики дискурса,
предполагает специфическую процедуру, благодаря которой нормы, ранее
отвергавшиеся, принимаются, если их последствия воспринимают
все без принуждения».155 Идеал общения без принуждения неявно
присутствует в каждом речевом акте. Никто не совершает
коммуникативного акта, устного или письменного, не надеясь, что его, в
конце концов, поймут, что его дискурс будет принят так, как был
задуман, а не искажен и превращен в нечто иное. Коммуникативная
деятельность предполагает надежду, что мы не падем
жертвой толковательского насилия.
Правота толкования определяет норму, соответствующую
интересам каждого, поскольку она запрещает применение насилия:
«Поступай с дискурсом другого так, как ты хотел бы, чтобы
поступали с твоим». Хабермас не изобретает эту норму толкования
произвольно и не выводит ее, подобно Канту, из абстрактной идеи долга.
Напротив, и рациональность, и моральность изначально и постоянно
присущи коммуникативной деятельности.
«Трансцендентально-прагматический» подход Хабермаса привлекает внимание к правилам,
подразумеваемым заветом дискурса. Норма трансцендентальна,
поскольку не может быть определена без внутреннего прагматического
152 Там же, 92.
153 Хабермас также отделяет этику (напр.: то, что в сообществе считается «благом») от морали
(напр.: того, что все считают «правильным»).
154 Habermas, Justification and Application, 24.
155 Rasmussen, Reading Habermas, 61.
601
Часть вторая. Восстановление толкования
противоречия. Даже деконструктивисты читают отзывы на свои
книги и возражают, если их ложно поняли. Они противоречат сами себе,
когда их действия идут вразрез с предпосылкой их теорий. Возьмем,
например, высказывание: «Ни одно утверждение не является
осмысленным». Трудно, если вообще возможно, заявлять это искренне и
последовательно. Такой речевой акт приводит к перформативному
противоречию. Напротив, норма толкования применима, если
доказать, что это необходимо для понимания. То, что можно назвать
«герменевтическим императивом», определяет норму, внутренне
присущую коммуникативной деятельности.
Мы можем применять произвольные рекомендации Хирша об
уважении авторского замысла с универсальным моральным
требованием Хабермаса, показав, что все заинтересованы в уважении к
авторам и их литературных актов. Как мы уже убедились, неявная
цель коммуникативной деятельности, принцип, который не только
регулирует, но и определяет действие как коммуникативное — это
желание достичь понимания. Итак, понимание намерения
коммуникативного деятеля соответствует интересам каждого,
поскольку является неотъемлемым аспектом
коммуникативной деятельности. Подобно этому, поиск понимания также
отвечает интересам каждого, потому что отказ от этого поиска нарушил
бы повседневную практику общения. Сделав это заключение, мы не
утверждаем, что нам доступна некая внеисторическая, нейтральная
точка зрения — взгляд «глазами Бога». Герменевтический
императив — это не «взгляд из пустоты», а «взгляд отовсюду», поскольку
всеобщее согласие по этому вопросу существует если не в теории,
то на практике. Само наше участие в коммуникативной
деятельности является конкретным (хотя зачастую молчаливым)
свидетельством нашего согласия с этим принципом. Голос коммуникативного
деятеля ставит перед нами моральное требование: «Услышь меня.
Выслушай меня. Пойми. Не лжесвидетельствуй».156
156 Конечно, многие тексты выражают стремление автора не к тому, чтобы их поняли, а к тому,
чтобы манипулировать читателями (напр.: пропаганда). Следует ли читателям придерживаться
завета дискурса даже там, где его нарушает сам текст? Я не знаю, что ответил бы на этот вопрос
Хабермас. В основном, он сосредоточивался на аргументированном дискурсе. Я, со своей
стороны, считаю необходимым признать, что большая часть того, что мы говорим и пишем,
является манипуляцией, попыткой повлиять на мысли и поступки других людей посредством
языка. Тем не менее, я все равно считаю такой дискурс коммуникативной деятельностью и
настаиваю на том, что толкователям следует сначала точно определить содержание дискурса,
и лишь затем осуждать его.
602
Глава седьмая. Преображение читателя
ПОНИМАНИЕ И ГОСПОДСТВО
Когда нас понимают, это само по себе приносит радость;
непонимание — источник печали.157
Ищите прежде исходный смысл; все же надлежащие
применения приложатся вам.ш
Выражение «Ищите прежде понимание» может быть нормой
толкования, но им не обязательно должны исчерпываться цели
читателей. Герменевтический императив — уважение к
коммуникативному акту автора — тем не менее, остается ситом, через которое
следует просеивать все цели толкования. Некоторые читатели,
однако, более заботятся о том, чтобы «овладеть» текстом, чем понять
его. Можно ли оправдать «господство» с нравственной точки
зрения? Имеет ли читатель право в каком-то случае «господствовать
над текстом»? Я считаю, что к толкователям применима
парадоксальная формула христианской свободы Лютера, утверждающая,
что читатель есть «свободный господин всего, не подчиненный
никому, и в то же время — покорный слуга всем, находящийся в
подчинении у всех». Я уверен, что ответственное толкование не только
допускает, но и требует и понимания, и, в некоторой степени,
господства над текстом.
Понимание: читатель в роли слуги
Контраст между использованием и пониманием текстовых
знаков — самое важное различие между целями толкователей и
правотой того или иного толкования. В то время как читатели могут
подходить к тексту с намерением воспользоваться им, задача
герменевтической рациональности (и этики) состоит именно в понимании.
Понимание текста следует отождествлять не с рабским
повиновением, а с почтением и уважением, с которым следует встречать
незнакомца. Всякое общение требует открытости, уязвимости и связано
с риском, что инициатива смысла будет проигнорирована или
отвергнута. Необходимость прислушаться к голосу говорящего
вытекает из того, что само положение слушателя дает ему возможность
157 Niels Thomassen, Communicative Ethics in Theory and Practice, tr. John Irons (London:
Macmillan, 1992), 79.
158 Clark Pinnock, The Scripture Principle (San Francisco: Harper & Row, 1984), 204.
603
Часть вторая. Восстановление толкования
отвергнуть инициативу смысла и даже злоупотребить ею. Стоит
отметить, что, по одному из мнений, историческим истоком
коммуникативной этики является притча о добром самарянине.159 Кто наш
ближний? Каждый говорящий или пишущий, каждый стремящийся
к общению.
Первой реакцией ответственного читателя должно быть
уважение: признание текста тем, чем он является. В частности, читатели
должны уважать цель текста как коммуникативного акта.
Герменевтический императив — достижение понимания — означает, что
читатели должны, прежде всего, относится к тексту не как к
средству (тому, что подлежит использованию), а как к цели (тому, что
должно быть воспринято). Понять текст означает узнать в его локу-
циях и иллокуциях то, что они есть, а не то, чем, по нашему мнению,
они должны быть. Высоконравственный толкователь воспринимает
истинную природу и содержание текста как коммуникативного
акта. Понимающий читатель видит в тексте то же самое, что
замыслил автор. Понимать текст означает признавать его содержание и
подвергнуть себя воздействию его иллокуционной силы. Это наша
основная обязанность как читателей. Понимание означает
восприятие смыслового потенциала текста, того, что я называю его
материей (содержанием) и энергией. Поскольку читатели признают то,
что есть в тексте, они являются покорными слугами текста.160
«Всем подчинен». С учетом сложности литературных актов,
читатели должны быть готовы признать, что многие методы
толкования могут, в самом деле, быть полезны в стремлении к
пониманию. Толкователь-христианин должен признать, что другие
вполне могли заметить нечто, чего он сам не увидел.161 Поскольку мы,
159 Томассеном (Thomassen) в дискуссии с датским богословом К. Е. Логструпом (Logstrup):
Communicative Ethics in Theory and Practice, 117.
160 Джинронд уничтожает различие между пониманием и владением, настаивая на том,
что понимание должно включать критику как текста, так и ситуации, в которой происходит
толкование. Я считаю, что понимание включает оценку только в том случае, если мы хотим
попытаться определить, насколько успешно текст воплотил авторский замысел (напр.:
насколько вьщающимся образцом коммуникативного акта определенного рода он является).
Однако образцовые качества коммуникативного акта указывают лишь на то, что мы могли бы
назвать неявным изложением «предназначения текста»: свойственных ему целей и стремлений,
направленных на достижение определенного результата. Критика «предназначения» текста как
безнравственного — всегда проявление «взгляда сверху», т. е. господства.
161 Бут высказал подобное же утверждение: «Поскольку любой отдельно взятый способ
критики будет неизбежно упускать, игнорировать или искажать данные, обнаруживаемые
другими способами, я должен использовать многие способы, если не хочу сводить чудесное
разнообразие человеческих достижений — как в литературе, так и в критике — до монотонности
604
Глава седьмая. Преображение читателя
в конечном счете, — слуги текста, мы не должны подчинять текст
какой-либо единой схеме толкования.
«Никому не подчинен». Из ограниченности толкования следует,
что мы свободны от необходимости безоговорочно принимать
какое-либо единственное прочтение. Свобода толкователя от тирании
непосредственного контекста проистекает из нашего безусловного
стремления понять текст, насколько это возможно, на его же
условиях.162 Поэтому высоконравственные толкователи должны
противиться порабощению каким-либо методом толкования, в то же
самое время признавая, что каждый метод может описывать аспект
текстового смысла.
Господство: читатель в роли господина
Читатели, согласно Буту, задают три вида вопросов к тексту:
«Те, которые объект рассмотрения в каком-то смысле предлагает
задать; те, которые он готов терпеть, хотя, возможно, и с
неохотой; и те, которые противоречат его интересам или стремлению
быть вещью определенного рода».163 Все тексты устанавливают
границы уместности вопросов: «Насколько бы неопределенным
ни было произведение, оно все равно даст понять, что некоторые
вопросы неуместны».164 Примерами таких неуместных вопросов
могут быть: «В чем смысл шутки об Иове?», «Что происходит после
окончания Откровения?», «Что можно узнать о погодных условиях
древнего Израиля из Евангелий?». И хотя с точки зрения
фрейдизма можно анализировать тексты столь разные, как роман Джейн
Остен «Эмма» и четвертое Евангелие, мы можем обоснованно
считать, что сам текст ответил бы: «Это ваше дело, а не мое». Даже
тексты Дерриды дают понять, что некоторые вопросы неуместны,
например: «К какому традиционному литературному жанру
следует отнести этот текст?»165
восприятия, диктуемой отдельно взятым способом» {Critical Understanding, 247-48). Критчли
придерживается собственной версии толковательского императива: «этическое толкование
признает и утверждает несводимую инаковость, которую невозможно ни исключить, ни
включить в логоцентрическую понятийную систему» {Ethics of Deconstruction, 41).
162 В следующем разделе я более подробно рассуждаю о толковательской справедливости и
свободе в эпоху плюрализма.
163 Booth, The Company We Keep, 90.
164 Booth, Critical Understanding, 241.
165 Бут отмечает, что современные тексты, преднамеренно нарушая общепринятые жанровые
605
Часть вторая. Восстановление толкования
Но неуместные вопросы, однако, приходится задавать.
Поскольку у читателей есть свои цели и свои интересы, маловероятно, что
они будут задавать лишь те вопросы, которые вызывает текст и без
которых невозможно его прочтение. Бут приводит в пример
ситуацию, в условиях которой вопрос о подлинности неуместен, но, тем
не менее, важен. Читающий с целью понимания признает
требования, предъявляемые текстом, тогда как господствующий над
текстом читатель выбирает необходимые «силовые меры»воздействия
на этот текст.166 Властвовать над текстом означает считать
собственные взгляды или собственные вопросы первостепенными.
Но не всякое «владение» тождественно господству. В самом деле,
владение текстом иногда оказывается проявлением уважения к
тексту, признания его актуальности в современной ситуации. Я
постараюсь доказать ниже, что владение библейским текстом —
это правильный отклик в той степени, в которой он направлен на
понимание значимости текста.
Конечно, возможно признавать и даже уважать инаковость и в
то же время оспаривать ее. Понимание вовсе не обязательно
предполагает согласие; если бы было так, то не было бы и споров.
Поэтому важно четко формулировать различия в наших взглядах. Мы не
можем ни согласиться с текстом, ни оспорить его, пока не придем к
пониманию. Например, прежде чем ставить под сомнение
содержание текста, следует определить, сказано ли это всерьез или с
иронией. Опять-таки, здесь имеет место вопрос распознания иллокуцион-
ного акта. Прежде чем мы сможем понять, какие из «неуместных»
вопросов уместны, нам нужно определить вид коммуникативного
акта (жанр), к которому принадлежит текст!
Среди критиков Библии слишком распространено господство
над текстом без понимания его. Толкователи часто ставят на
первое место свое понимание текста, а не его очевидное содержание.
Рассмотрим, например, такое явление, как геноцид, в описании
захвата обетованной земли или рабство в повествованиях о
патриархах. Многие критики порицают и осуждают позицию Ветхого
Завета в этих вопросах. Но разве эти тексты защищают геноцид или
рабовладение без ограничений? В самом ли деле обвинение Ветхого
традиции, тем не менее сохраняют некое единое стремление, а именно — стремление не
поддаваться принятой классификации, и могут быть соответственно поняты (там же).
166 Более полный пример см. в приведенном Бутом — зачастую весьма забавном — списке
неуместных вопросов, которые могут быть заданы по сказке о трех поросятах (там же, 243).
606
Глава седьмая. Преображение читателя
Завета в пропаганде массовых убийств — это справедливое
отношение к тексту, взятому в контексте как литературное целое, или
это обвинение оборачивается против читателей, изобличая весьма
поверхностное (и незрелое) суждение? Ищущие понимания текста
откликаются на него соответственно содержанию всего
произведения: «Что оно сделает с нами, если мы позволим нашему
воображению следовать его путями?»167 Нам следует спросить, что на
самом деле говорит или делает текст в отношении таких явлений,
как рабство или геноцид. Поработав с текстом некоторое время, мы
можем и в самом деле счесть, что нам лучше расстаться и
отряхнуть его прах с наших ног. Но такое суждение можно обоснованно
сделать лишь после взаимодействия с текстом на протяжении
некоторого времени. Итак, владеть текстом можно только после того,
как он должным образом понят.
Внимание и ответственность
Разгадка очевидного парадокса свободы и служения в
толковании заключается в уважении иллокуции текста и в умении
находить с ними общий язык. Высоконравственный толкователь
должен быть и внимателен к тексту, и ответственен перед ним.
Внимать тексту означает, прежде всего, позволить ему быть.
Каждый текст стремится выжить, чтобы выполнить свою
коммуникативную миссию. Понимание имеет место, когда автор и читатель
имеют в виду один и тот же объект — «внимают ему». Нюансы
понятия «внимание» весьма назидательны: забота, внимание, опека,
эскорт или сопровождение, ожидание или обслуживание. Итак,
внимать тексту — это и позитивная цель, и сдерживающая норма: «будь
внимателен». Это наш основной долг перед знаковостью текста.
Читатели, конечно, могут обращать внимание лишь на то, что
действительно есть в тексте. Айрис Мердок критикует
нереалистическое представление о том, что этика навязывает формы и
ценности миру, а не выявляет их. Ни благо в мире, ни смысл в тексте
не являются простым результатом жажды власти со стороны
толкователя. Мердок умоляет читателей о минуте внимания,
предшествующей волеизъявлению, о «справедливом и любящем взгляде,
Booth, The Company We Keep, 309.
607
Часть вторая. Восстановление толкования
направленном на конкретную реальность».168 Только после того как
мы обратим внимание на то, что действительно есть в тексте,
станут очевидными надлежащие варианты отклика. Мердок
предполагает, что, когда ситуация в самом деле ясна, становится понятным,
как нам следует реагировать. Более того, внимательное отношение
к тому, что есть, побуждает нас к соответствующему отклику,
отклику, который Мердок сравнивает с «послушанием». Мердок
считает, что реальность обладает характерной для нее структурой. То
же самое, добавлю, верно и по отношению к тексту. Внимание к
тексту на разных уровнях и с разными структурами толкования все
более проявляет свойственную ему рациональность.
Лишь рассмотрев коммуникативные цели текста, мы можем
перейти к определению наших разногласий. Деконструктивная этика,
в конечном счете, неспособна взаимодействовать с «иным»,
вопреки частым риторическим восхвалениям «разнообразия». По
верному замечанию Джиллиан Роуз, «'иное' представляют ложно — как
что-то другое и ничего больше».169 Если «иное» — настолько иное,
что о нем ничего нельзя сказать или сделать, оно не может
произвести никакого конкретного изменения в нашей жизни. Если смысл,
согласно утверждению Дерриды, скрыт в бесконечных глубинах
текста, читатель может так и не проявить к нему интереса. Весьма
странная форма уважения инаковости. Постмодернистская
риторика, восхваляющая иное, неизменно приводит к постмодернистской
этике безразличия к иному. Деконструктивные критики
«ожидают» текста, но лишь в том смысле, в котором Владимир и Эстрагон
ожидали Годо: всегда ожидая, никогда не встречают; всегда читая,
никогда не откликаются. Будучи действенным «противоядием» от
гордыни, деконструктивизм легко вырождается в толковательную
праздность: проигнорировать текст, вместо того чтобы
прислушаться к нему. Праздный читатель неспособен отреагировать на смысл,
который, хоть и неявно, но все же присутствует в тексте. Диффе-
ранс здесь не подразумевает ни восхваления «иного», ни полной
его отмены.170 Толкователям не стоит довольствоваться
достигнутым, однако им не следует и терять надежду; смысл не лежит на
поверхности текста, но и не тонет в недоступных глубинах. Он есть
Iris Murdoch, The Sovereignty of Good (London: Routledge & Kegan Paul, 1970), 34.
Gillian Rose, Judaism and Modernity: Philosophical Essays (Oxford: Blackwell, 1993), 8.
Так у Williams, "Between Politics and Metaphysics," 3-22.
608
Глава седьмая. Преображение читателя
в тексте и готов открыться тем, кто подойдет к нему с вниманием и
уважением.
Внимательный читатель изучает Писание как сложный
коммуникативный акт, обладающий исторической (референтной),
эстетической (формальной) и идеологической (оценочной) составными.
По мнению Штернберга, на привнесение в текст своей идеологии
существует не больше оснований, чем на простое его рассмотрение
в качестве упражнения по грамматике: «Мы или воссоздаем целое,
стараясь сделать это возможно лучше в свете предполагаемого
авторского замысла... или создаем, по сути, вновь изобретая все по
своему усмотрению... соответственно, в процессе изобретения
бессмысленно говорить о внимании как о необходимом условии».171
Поэтому высоконравственные толкователи обращают внимание на
реально существующие категории: язык, литературные
соглашения, модель реальности и систему ценностей. Альтернатива,
состоящая в подмене всего этого нашими собственными изобретениями,
сводит на нет само понятие внимания.
Должное внимание к тексту требует большего, чем следование
лишь его локуциям (langue). Компетентный переводчик
внимателен и к иллокуции и перлокуции, к материи и энергии текста.
Толкования — это не просто отражения или характеристики наших
чувств, а попытки описать коммуникативные акты и добиться на
них соответствующего отклика. Каким должен быть отклик
читателей? Это, конечно, зависит от того, с чем мы сталкиваемся в том
или ином тексте. Неповиновение приказу может означать полное
понимание текста (признание лишь иллокуционного акта) или
осознание своего превосходства над ним (признание его
недостойным исполнения). Я постараюсь доказать ниже, что читательский
отклик, в конечном счете, обуславливается толковательной
добродетелью. Августин определяет «добродетель» как «упорядоченную
любовь»: «Уравновешенное состояние чувств, при котором каждой
вещи придается тот вид и уделяется та степень любви, которые ей
причитаются».172 Всякий текст требует к себе уважения. Но какой
дальнейший отклик на текст последует от читателя, зависит от вида
и качества текстового смысла и склонностей самого читателя.
171 Sternberg, "Biblical Poetics and Sexual Politics," 469.
172 С S. Lewis, Abolition of Man (New York: Macmillan, 1947), 26.
20-227
609
Часть вторая. Восстановление толкования
Понимание Писания: ученичество и «смерть»
читателя
Полностью прилагай себя к тексту; полностью применяй
текст к себе.173
Понимание — дело нелегкое, но возможное. Читатели в самом
деле могут откликаться на текст правильным образом, но только
после упорной внутренней борьбы — с текстом и с самим собой.
Потому что согласие с замыслом текста часто побуждает нас
посмотреть на нашу собственную жизнь по-иному. Поэтому читателю
непросто решить, как откликнуться на смысл текста. Этот процесс
часто состоит в преодолении ощущения, что в действительности
текст читает меня.
Рикёр говорит о «присвоении» текста читателем, последней
стадии процесса толкования; не в смысле «превращения текста в
собственность», как можно было бы ожидать, а скорее в контексте
поглощения читателя текстом, или лишения его права
собственности. Вдумчивый читатель не просто впитывает текст, обогащая
свое прежнее представление о мире; он находит в нем новый
способ восприятия мира и самого себя. Более того, текст
приглашает читателя пребыть в его мире, жить согласно его ценностям и в
свете его понимания. Потому именно чтением достигается выход
из замкнутости сократического «Познай себя». Текст дает
читателю новые возможности понять самого себя: «Именно текст... дает
нашему «эго» самость».174 Конечно, не все читатели так легко идут
на это. Не все читатели спокойно входят в мир текста. Некоторые
сопротивляются или решительно отвергают предложения текста.
Подобно зерну сеятеля, тексты падают на разную почву.
Моей целью в этой работе являлся выход за пределы
герменевтики Сократа, в которой каждый видит лишь себя самого —
собственные ценности и идеологию или собственное сообщество — в
зеркале текста. Вместе с Льюисом, Штайнером, Штернбергом, Ри-
кёром я утверждаю, что всякое настоящее прочтение ради
понимания, ради «иного», сопряжено с определенным риском: в процессе
чтения что-то может измениться в самом читателе. Стремление к
пониманию — это потенциальная борьба смысла и самости. Ведь
173 Приписывается Иоанну Альбрехту Бенгелю (Johann Albrecht Bengel, 1687-1752).
174 Ricoeur, Interpretation Theory, 95.
610
Глава седьмая. Преображение читателя
понимать Библию как Писание означает не только понять ее
иллокуцию, но также открыться для того, ради чего она создана — для
ее перлокуций. Следовать тексту означает умереть для своей
самости ради того, чтобы вновь обрести ее.
Толкование Библии — один из основных способов
формирования характера в церкви. Характер, как и сообщество, формируется
под воздействием Слова. В самом деле, богословская цель
толкования Библии — возрастать в познании Бога, в мудрости и
праведности. Это — telos чтения Библии как Писания (2 Тим. 3, 16). Из этого
вытекает, что читатели откликаются на Библию как на Писание,
если следуют ей, то есть понимают ее соответственно Божьему
замыслу. Церковь — это сообщество читателей, признающих свой
неоплатный долг перед Писанием, потому что Библия требует от
них полного внимания и открытого сердца.
По мнению Джона А. Дарра, чтение Евангелий формирует
характер. Важно, что при этом проявляются характеры литературных
персонажей (к примеру, Петра и Иуды) и, что еще более важно,
формируется характер читателя, который разделяет взгляды
подразумеваемого автора на изложенный в тексте материал (действия,
отношения, идеи). Даже склонности читателей развиваются
посредством чтения Писаний, которые учат их понимать, «что
только истинно, что честно, что справедливо, что чисто» (Флп. 4, 8).
Приобретая новое мировоззрение, читатели начинают видеть в
новом свете и самих себя. Например, компетентные читатели Луки
и Деяний начинают видеть в себе верующих свидетелей событий,
окружающих жизнь Иисуса Христа. Итак, текст делает
читателей верными учениками: «Феофил представляет здесь идеального
читателя, того самого потенциального, начинающего верующего
(«Друга Божьего»), само имя которого подразумевает, что он
благорасположен, открыт для восприятия и, более того, стремится к
свидетельствованию и пониманию».175 Подобным же образом
читатели четвертого Евангелия, насколько они понимают и принимают
обещание, предложенное или предписанное текстом, становятся
верующими учениками-последователями и принимают напутствие
и далее пребывать в роли любимого ученика, который
свидетельствует об истине.176
175 Darr, On Character Building: The Reader and the Rhetoric of Characterization in Luke-Acts
(Louisville, Ky.: Westminster/John Knox, 1992), 55.
176 См. мою работу "The Hermeneutics of I-Witness Testimony," 348-85.
20- 611
Часть вторая. Восстановление толкования
Читать Библию с христианской точки зрения — значит уметь
использовать слово, понятие или текст «согласно Писанию».
Читатели, учившиеся в сообществе верующих, приобретают навыки
чтения Библии как Писания, то есть следования ее иллокуциям и
перлокуциям таким образом, чтобы смысл был и достигнут, и
применен. Цель именно христианского понимания — в познании Бога
Иисуса Христа: динамическом, личном познании, которое в
конечном счете ведет к праведности (2 Тим. 3, 16). Читать Библию ради
христианского понимания — значит взаимодействовать с текстами
в диалоге о Боге и, в конечном счете, в диалоге с Богом. Таким
образом, библейский текст создает пространство, в котором читатель
открывается для божественной коммуникативной деятельности.
Толкование Писания ведет к личной встрече, после которой ни
один читатель, способный к восприятию, не остается прежним.
В самом деле, откликаясь на библейский текст, читатели умирают
для прежних способов толкования Бога, мира и себя самих и, если
выразить это словами апостола Павла, «преобразуются
обновлением ума своего» (Рим. 12, 2). Итак, отнюдь не прославляя рождение
читателя, христиане, стремящиеся к пониманию текста, знают, что
толкование Библии требует его смерти. Желание видеть в тексте
себя, прочно занявшее господствующие позиции в эпоху читателя,
препятствует возможности истинного преображения. Изучая
герменевтику Кальвина, Т. Ф. Торранс отмечает, что именно в момент,
когда мы острее всего ощущаем на себе воздействие Писания
(когда наш разум наиболее подвержен искушению), может
происходить настоящее толкование. Потому что именно тогда «мы можем
услышать нечто, что мы сами не могли бы сказать, и действительно
узнать нечто новое, что не смогли бы сами придумать».177
Является ли понимание, или присвоение смысла, по сути лишь
следованием герменевтическим правилам? Могут ли читатели
достигнуть преобразования самих себя посредством толкования?
Если да, то сократический императив «познай себя» превращается
в «спаси себя». Напротив, истинное понимание включает больше,
чем простое следование правилам; оно включает развитие
способности к отклику — и «толковательной добродетели». По верному
замечанию Тисельтона, представление о том, что все зависит от
177 Т. Е. Тоггапсе, The Hermeneutics of John Calvin (Edinburgh: Scottish Academic Press, 1988),
158.
612
Глава седьмая. Преображение читателя
читателя, «не так-то просто сочетается с богословием
божественного дара и благодати».178 Суть нравственности толкования можно
понять, следуя неким универсальным указаниям, но толкование
Библии требует большего; оно требует внимания и способности
ответить. По-настоящему ответственный отклик — тот, который
должным образом принимает во внимание частности. Творчески
настроенный читатель должен быть готов следовать как
частному направлению мысли, открываемому отдельным текстом, так и
герменевтическому императиву, предполагаемому универсальной
прагматикой коммуникативной деятельности. Для того чтобы
выйти за пределы самого себя, чтобы ответить на призыв: «Следуй за
мной», в конечном счете требуется ответственный отклик, который
не только нравствен, но и духовен.
ДУХ ПОНИМАНИЯ: РАЗУМЕНИЕ И ИСПОЛНЕНИЕ
СЛОВА
Чтение, по словам Рикёра, — это «прежде всего борьба с
текстом».179 Но какое это борение: честная борьба с непониманием
чужого; «борьба любви» между двумя друзьями, которые
пытаются преодолеть свои разногласия, или яростная битва между двумя
системами ценностей и мировоззрений? Чтение — это, по сути,
борьба за преодоление разного рода барьеров — языковых,
исторических, культурных и нравственных, — которые препятствуют
взаимодействию читателя со смыслом текста и его восприятием.
В ходе этого исследования мы сталкивались с разными духами,
влияющими на герменевтику: духом игры и духом власти, вездесущим
духом времени, иногда — даже с Духом Святым. Я хочу высказать
предположение, что борьба с текстом за разумение и исполнение
слова есть, в конечном счете, борьба духовная. Борение читателя с
текстом должно происходить в «духе понимания», в Духе Святом, а
не в каком-то неопределенном духе всепринятия.
Определение роли Святого Духа в толковании Библии —
проблема давно и широко известная. Я же хочу поднять еще более
178 Anthony С. Thiselton, "On Models and Methods: A Conversation with Robert Morgan," в David
Cines, Stephen Fowl, Stanley Porter, ed., The Bible in Three Dimensions: Essays in Celebration of
Forty Years of Biblical Studies in the University ofSheffield (Sheffield: JSOT Press, 1990), 345.
179 Ricoeur, Л Ricoeur Reader, 494.
613
Часть вторая. Восстановление толкования
сложный вопрос о роли Святого Духа в общей герменевтике. Если
я прав, если истинное толкование предполагает трансцендентность
(встречу в тексте с чем-то, сотворенным не нами) и вся
герменевтика оказывается, в конечном счете, богословской герменевтикой, то
вполне уместно вести речь о Духе в разделе об этике толкования.
Ранее я высказывал предположение, что текст можно
по-настоящему уважать только тогда, когда читатель, ради восприятия «иного»,
готов «умереть» для себя. Теперь же следует спросить: «Возможно
ли, что такая готовность — не только плод нравственного подхода,
но и результат воздействия духовного — плод Духа Святого?»
Восприятие читателем Писания и Духа
Восьмая глава Неемии — яркий пример духовной стороны
восприятия. Ездра, на деревянном возвышении, сооруженном
специально для этой цели, готовится приступить к чтению закона
Моисеева израильскому народу, вернувшемуся в Иерусалим из изгнания.
Израильтяне в буквальном смысле слова стоят «подтекстом»
открытого Писания.180 Реакция, последовавшая за чтением, показывает,
что народ действительно понял текст: они поклонились. Сравните
этот отклик с откликом прежних царей и священников, которые не
сумели понять и исполнить закон (Неем. 9, 34) — их
систематическое непослушание воспрепятствовало пониманию библейского
текста. Ездра же не удовлетворился одним прочтением закона, он
устроил семидневное празднество чтения, за которым, на восьмой
день, последовало торжественное собрание. Каждый раз за
чтением Писания следовал «читательский» отклик: народ исповедовал
свои грехи (9, 2) и поклонялся (9, 3). Здесь не было мертвой
буквы — текст обращался непосредственно к сердцу и разуму людей.
Важно, что восприятие ими текста стало поводом для перемены и
обновления. Итак, Неем. 8 служит моделью для рассмотрения
читательского восприятия в терминах духовного обновления. Во второй
главе Деяний описан еще один «праздник толкования», на котором
был «воспринят» и сам Дух, и Писание.181 Здесь мы видим действие
180 «И открыл Ездра книгу пред глазами всего народа, потому что он стоял выше всего народа.
И когда он открыл ее, весь народ встал» (Неем. 8, 5).
18' Праздник Пятидесятницы был праздником урожая, и, согласно иудейскому преданию, закон
Моисеев был дан в этот день. Деян. 2 поднимает интересные вопросы в области толкования
текста. Какова значимость дара «языков»? Были ли это иностранные языки? Если да, это
повествование может указывать на снятие вавилонского проклятия.
614
Глава седьмая. Преображение читателя
другого текста (пророчества Иоиля и некоторых псалмов в
проповеди Петра), за которыми, как и в Неем. 8, последовало покаяние
многих: «Услышав это, они умилились сердцем» (Деян. 2, 37). В данном
случае отклик читателей включил в себя и крещение.
Неем. 8 и Деян. 2 поднимают интригующий вопрос о том, как
восприятие Слова читателем соотносится с восприятием Духа
верующим. На основании только этих двух мест Писания можно
сделать вывод о том, что суть правильного понимания — в прочтении
текста в сообществе и в духе покаяния. Однако связь между
прошлым текста и его действием в настоящем объясняется историей
восприятия данного текста. Некоторые критики полагают, что мы
узнаем текст только в процессе его воздействия на нас. Итак,
можно ли считать, что восприятие текста сообществом, будь оно
водимо Духом или нет, меняет смысл текста или создает новый смысл?
По мнению Гадамера, сопричастность традиции — условие
всякого понимания. Текст может обладать материей и энергией, но он
также занимает определенное место на определенном временном
отрезке, и его положение может меняться. И тексты, и читатели
полностью историчны; и те, и другие несут признаки культурной
обусловленности. Гадамер, отрицая миф об объективности, настаивает
на том, что место читателя в истории и традиции — важная
составляющая всего процесса понимания. Предубеждения читателя —
вовсе не тщательно оберегаемая им тайна: они связывают его с
прошлым. Гадамер не считает смысл чем-то неизменным в тексте, но
и не отождествляет его с реакцией читателя. Смысл текста — это
результат взаимодействия того и другого. Ганс Роберт Яусс, бывший
ученик Гадамера и один из основателей школы теории восприятия
из немецкого города Констанц, избрал историю восприятия
текста предметом пристального изучения. Исторический смысл текста
определяется им не ее внутренними свойствами или
гениальностью автора, а тем, как она принимается последующими
поколениями на протяжении истории.182 Вкладываемый смысл и прочтения
предыдущих эпох понимаются как предыстория современного
толкования. Ситуации, описанные в Неем 8 и Деян. 2, — это просто
два примера универсального явления, а именно — понимания
через сопричастность традиции сообщества. Гадамер считает, что
Hans Robert Jauss, Toward an Aesthetic of Reception.
615
Часть вторая. Восстановление толкования
«дух понимания» полностью историчен — дух живой традиции, дух
«слияния горизонтов».
В этом подходе содержатся две проблемы. Во-первых, как
указывает Хабермас, читатели неспособны критически относиться к
собственной традиции, если сопричастность ей есть условие для
понимания. Может ли Гадамер когда-либо обратиться к тексту
вопреки традиции его толкования, и если да, то как? Если же нет, то
непонятно, как предотвратить превращение сообщества толкователей
из просто авторитетного в авторитарное, а то и фашистское. Ведь
если в качестве критического принципа не может быть использован
сам текст, к чему тогда можно обратиться? Во-вторых, «смешивать»
текст с историей его толкования означает отказаться от реализма в
пользу прагматизма. Результат действия прагматизма, описанный
Ч. С. Пирсом, слишком похож на объяснение смысла по Гадамеру:
«Рассмотрим, какое воздействие способно оказать практическое
влияние на наш объект. Наше представление об этом воздействии
станет также и нашим представлением о самом объекте».183
Смешение горизонтов в конечном счете становится жертвой
аффективного заблуждения: «Аффективное заблуждение состоит в ошибочном
отождествлении самого произведения и его воздействия на
читателя — крайний случай эпистемологического скептицизма».184
Гадамер считает, что понимание всегда обусловлено традицией:
читатели никогда не подходят к тексту как он есть, а лишь через
восприятие его определенным сообществом. Толкователь всегда
оказывается частью исторически последовательных воздействий
текста. Неясно, однако, является ли воздействие текста на сообщество
читателей частью его объективного смысла или его развивающейся
значимости. Проблема подхода Гадамера именно в том, что он не
может определить это различие. Отличие смысла от значимости
еще труднее сохранить в толковании Библии, потому что
понимание церкви считается не только «традиционным», но и «духовным».
Итак, мы возвращаемся к нашему исходному вопросу: состоит ли
роль Духа в том, чтобы развивать или же создавать новый смысл
текста в процессе истории и традиции его восприятия? Роль Духа
183 Collected Papers of Charles Sanders Peirce, ed. Charles Hartshome and Paul Weiss (Cambridge,
Mass.: Harvard Univ. Press, 1931-35), 5:401.
184 W. K. Wimsatt Jr. and Monroe Beardsley "The Affective Fallacy," в Wimsatt and Beardsley, The
Verbal Icon, 21.
616
Глава седьмая. Преображение читателя
в толковании зависит от ответа на этот вопрос. В наши дни
существует опасность того, что буквальный смысл (то, что текст значил
для автора и исходной аудитории) будет отвергнут ради экклесиас-
тического смысла (то, что он значит сегодня для сообщества,
ведомого традицией или Духом).185 Следует ли нам вслед за Гадамером
отождествить Слово Божье не с текстом как он есть, а с
традиционным текстом, с «текстом, как его, ведомая Святым Духом,
понимает церковь»? Есть ли у нас какая-либо практическая альтернатива?
Я уверен, что да: дух разумения, как мы в этом сможем убедиться,
и есть Дух Божьего Слова.
Цель и смысл
Он... наставит вас на всякую истину (Ин. 16,13).
В общении, как и в откровении, есть субъективный и
объективный компоненты. Карл Барт разделяет обсуждение откровения
на две части: первая сосредоточивается на Иисусе, «объективной
реальности откровения»; вторая — на Святом Духе,
«субъективной реальности».186 Подобным образом термин «общение» может
относиться как к акту передачи смысла, так и к его восприятию.
Действительно ли смысл Писания или иного текста объективно
существует, или он появляется только при восприятии?187 Можно ли
говорить, что Библия — объективное Слово Божье, или же она
становится им только когда Дух Святой дает слушателям способность
воспринять ее таковым? Как во времена Реформации, так и сейчас
самые серьезные разногласия в богословской герменевтике
касаются взаимоотношений Слова и Духа. Здесь толкование Библии
переплетается с вопросом ее авторитетности, в то время как
читатели пытаются найти место Божьего Слова в современной церкви.
Из-за сочетания богословских и герменевтических воздействий
возникает все более сильное давление на реформатские церкви,
понуждающее их оставить свои позиции sola scriptura ради взглядов,
185 Ср. James Dunn, "Levels of Canonical Authority," в The Living Word (Philadelphia: Fortress,
1998), 152; R. E. Brown, "'And the Lord Said'? Biblical Reflections on Scripture As the Word of
God," Theological Studies 42 (1981): 3-19.
186 См. содержание в Karl Barth, Church Dogmatics 1/2.
187 Метафизические идеалисты, как, например, епископ Беркли, утверждали: «Быть — значит
быть воспринятым». Герменевтические идеалисты могут сказать: «Иметь смысл — значит быть
принятым».
617
Часть вторая. Восстановление толкования
согласно которым Писание есть неотделимая часть живой и
духовной традиции Церкви, ее предания.
Я предлагаю переосмыслить взаимоотношения Слова и Духа в
аспекте теории речевых актов. Третий термин теории речевых
актов — перлокуция — особым образом связан с третьим лицом
Троицы. Мы знаем, что перлокуционным воздействием называется то,
что речевой акт стремится получить от читателя помимо иллокуци-
онного воздействия, состоящего в достижении понимания. К
примеру, одна из моих перлокуционных целей в написании этой книги
состоит в том, чтобы убедить читателя в богословской сущности
общей герменевтики. Сейчас крайне важно отметить, что перлоку-
ционное воздействие, ради которого писался мой текст, связано с
его иллокуционным актом совсем не случайно. Более того, здесь
уместно тринитарное рассуждение о «происхождении»: как Дух
происходит от Отца и Сына, так и литературное действие
происходит от автора, перлокуция (убеждения, увещевания) — от
иллокуции (утверждений, предложений).188 Итак, у каждого текста есть
смысловая цель, которую мы можем предварительно определить в
терминах иллокуционного успеха: цель литературного действия —
совершить задуманное автором (Ис. 55, 11). Подобным образом и
Божье Слово в Писании имеет цель, а это, в свою очередь,
определяет намерения Духа. В чем же заключается цель деятельности
Духа по отношению к Слову?
Водимое Духом сообщество толкователей
Дональд Блёш отмечает, что и Отцы церкви, и Реформаторы
видели в Слове Божьем больше, чем просто текст: Слово Божье,
которое живо и действенно.189 Именно Дух, по его утверждению,
наполняет жизнью мертвые буквы. Более того, когда Бог
обращается через Писание, он не просто повторяет сказанное ранее. Как
тогда понимать эту божественную коммуникативную деятельность?
188 Мне хорошо известно, что не все богословы принимают утверждение^/zo^we («и от Сына»).
Это сложный вопрос. Я не хотел бы ставить всю мою герменевтическую теорию в зависимость
от filioque. Я считаю, что тот же вывод в отношении перлокуций, проистекающих из иллокуций,
можно получить и с помощью Бартового анализа откровений в терминах «дающего откровение»,
«откровения» и «откровенности».
189 Donald G. Bloesch, Holy Scripture: Revelation, Inspiration & Interpretation (Downers Grove,
111.: InterVarsity, 1994), 21-22.
618
Глава седьмая. Преображение читателя
Если Бог говорит что-то новое, возможно ли, что он противоречит
сам себе, истолковывает по-новому сказанное им же раньше? Мне
кажется, экзегетам и богословам здесь следует быть особо
осторожными и не перестараться с разделением смысла текста на «то, что
это значило» и «то, что это значит»; нужно остерегаться
противопоставления Слова с Духом. Дух — это не дополнение к
письменному Слову в стиле Дерриды. Каково же отношение Духа к Слову,
каким образом под его влиянием Слово становится актуальным?
На основании прочтения Деян. 2 Джеймс МакКлендон
доказывает, что Писание обращено непосредственно к читателям
нашего времени: Петр провозглашает, что событие Пятидесятницы
и есть смысл пророчества Иоиля.190 Такое толкование — не
просто утверждения Петра, а результат водительства Духа. Однако
только участие Петра в жизни сообщества верующих позволило
ему увидеть в современном событии смысл древних слов пророка.
По словам Ричарда Хэйза, именно Дух дает Павлу возможность
толковать Ветхий Завет как обещание, находящее свое
окончательное исполнение в церкви. Другими словами, Павел читает Писание
в свете своего опыта в Духе, а не наоборот.191 Стало быть чтение
в Духе значит провозглашение древних обетовании и пророчеств
свершившимися в настоящее время. Только чтение с молитвой,
открытое для влияния Святого Духа, помогает воспринять
истинный смысл текста, который иначе так и остался бы мертвой буквой.
Ведомая Духом экзегеза «восстанавливает толковательную
деятельность духовного сообщества как связующее звено между
текстом и читателем».192
Хауэрвас согласен с этим. Писание можно верно читать и
толковать только в верующем и живущем согласно вере сообществе —
в церкви.193 Церковь заинтересована не в некоем «объективном»
смысле текста, «но в том, как Дух, присутствующий в Евхаристии,
190 James W. McClendon Jr., Ethics: Systematic Theology (Nashville: Abingdon, 1986), 1:31-33.
191 Richard B. Hays, Echoes of Scripture in the Letters of Paul (New Haven: Yale Univ.
Press, 1989), 108.
192 Curtis Freeman, "Toward a Sensus Fidelium for an Evangelical Church: Postconservatives
and Postliberals on Reading Scripture," в Timothy Phillips and D. Ockholm, Nature of Confession:
Evangelicals and Postliberals in Dialogue (Downers Grove, 111.: InterVarsity, 1996), 170 и n. 42,
с цитатами из Фиша и Хауэрваса.
193 Hauerwas, Unleashing the Scriptures, ch. 2.
619
Часть вторая. Восстановление толкования
проявляется и в Писании».194 Чтобы читать Писание правильно,
толкователь нуждается не в научных инструментах, а в
наставлении в святости. Сама по себе попытка толковать Библию «в ее
собственном контексте» — самонадеянная попытка познать
Иисуса «по плоти». По словам Хауэрваса, как только читатель
перестает воспринимать письма Павла к коринфским христианам как
простую переписку и принимает их как церковное Писание,
понятие «истинный смысл посланий Павла к коринфянам» перестает
существовать. Полезные качества текстов важнее правильного их
понимания: «Смысл — это применение, которое я нахожу для этих
текстов ради созидания Церкви».195 Вопрос, возникающий в
результате такого подхода, важен и тревожен: как может церковь
познать, что Бог говорит через Писание, если суть его послания не
совпадает со смыслом, содержащимся в словах текста? Здесь
Хауэрвас, конечно же, обращается к понятию о водительстве Духа,
что в данном контексте довольно проблематично: во-первых,
зачастую водительство Духа трудно распознать или отличить от
человеческого соглашения, и, во-вторых, оно переносит авторитетность
Божьего Слова из библейского текста в традицию его толкования,
или предание.
Взгляды Хауэрваса восходят к использованию ранней
церковью апостольской традиции как герменевтического принципа.
В разрешении толковательных конфликтов с еретическими
группами основным критерием было «правило веры». По мнению Тертул-
лиана и Иринея, Писание можно правильно понять только в живой
традиции, которая сохраняется в апостольской преемственности.
Считалось, что Предание сохраняет не только содержание, о чем
свидетельствовало изначальное единодушие церкви,
преемственность от первых апостолов, но и контекст (т. е. сообщество
толкователей). Иначе говоря, только в контексте церкви, сообщества
верующих толкователей, читатели могут обладать интересами
и способностями, необходимыми для правильного прочтения.196
194 Там же, 23. Хауэрвас отмечает, что православные не менее настойчиво утверждают, что
Писание имеет смысл только как часть живого предания и практики церкви. В этом свете
интересно было бы услышать объяснение Хауэрваса по поводу того, как Лютер смог читать
текст вопреки традиции, которая привела к искаженному пониманию таинств.
195 Там же, 41.
196 См. Georges Florovsky, "The Function of Tradition in the Ancient Church," в Bible, Church,
Tradition: An Easter Orthodox View (Belmont, Mass: Nordland, 1972), ch. 5.
620
Глава седьмая. Преображение читателя
Георгий Флоровский, православный богослов, утверждает, что
решающим критерием правильного толкования становится
согласие соборной церкви, лучше всего изложенное в ранних символах
веры. Согласно этой точке зрения, судить о правильности
толкования может лишь церковь, обладающая не канонической, а
«харизматической авторитетностью, основанной на водительстве Духа:
Ибо угодно Святому Духу и нам».197
Стивен Фаул доказывает, что способ толкования Писаний
связан со способом толкования действия Духа в сообществе. В книге
Деяний, например, Петр приходит к новому пониманию Ветхого
Завета и слов Иисуса в результате принятия дара Духа
язычниками: «Переживание в Духе обеспечивает «очки» для прочтения
Писания, и не наоборот».198 Хэйз соглашается и добавляет, что Павел
также отдает предпочтение «герменевтическому приоритету
переживания в Духе» над текстом Писания.199 Джеймс Данн
придерживается мнения, что для ранних христиан авторитетным Словом
Божьим был не сам библейский текст и не их собственное
восприятие Божьей воли, а взаимодействие прежнего откровения (Слова)
и откровения нынешнего (Духа).200 Важен не исходный смысл
текста, а тот, который толкуется в свете события, называемого
«Иисусом Христом». Промежуток между прошлым текста и современным
контекстом, таким образом, перекрывается понятием
«преемственности живого предания».201
Если «то, что это значит» можно распознать только в свете
водимой Духом традиции, как нам объяснить отклик читателей в
Неем. 8 на давно забытый текст? Блёш высказывает мнение
многих наших современников, когда говорит, что статус Библии как
откровения «заключен не в ее словах как таковых, но в Духе
Божьем, который наполняет слова смыслом и силой».202 Библия не
просто книга, как любая другая, — ее слова наполняет смыслом
Святой Дух. Эта картина, как бы привлекательно она ни выглядела,
197 Там же, 103.
198 Stephen Fowl, "How the Spirit Reads and How to Read the Spirit," in The Bible in Ethics, ed.
John W. Rogerson, Margaret Davies, and M. Daniel Carroll, JSOT Supplement Series 207 (Sheffield:
Sheffield Academic Press, 1995), 358.
199 Hays, Echoes of Scripture, 108.
200 Dunn, The Living Word, 119.
201 Там же, 154.
202 Bloesch, Holy Scripture, 27.
621
Часть вторая. Восстановление толкования
несовершенна в одном важном отношении: что именно происходит
со смыслом слов, когда Дух придает им жизнь? Зависит ли
современный смысл текста от его использования Духом — например,
чтобы направить читателя ко Христу?
Существуют интересные параллели между «историческо-пнев-
матической» герменевтикой Блёша и дихотомией между
историческим Иисусом и Христом веры. Например, Бультман отличал
Historie, знание того, каким на самом деле был Иисус, достигаемое
путем исторического исследования, от Geschichte, восприятия
значимости Иисуса, достигаемого только верой. Подобным образом
Блёш отделяет историческое исследование текста от освещения его
Духом, без которого нам невозможно «обрести смысл-откровение
того, что известно из истории».203 Основной вопрос и для Бультма-
на, и для Блёша звучит так: насколько произвольна связь смысла
откровения (Слова, Христа) с историческим смыслом
(человеческими словами, человеком Иисусом)? Ставки здесь высоки, потому
что, отделяя исторического Иисуса от Христа веры, Бультман, в
конечном счете, почти напрочь теряет первого. Я считаю, что
существует такая же опасность утратить буквальный смысл Писания
(«то, что это значило») или, по крайней мере, подчинить его
использованию Писания Духом в сообществе («то, что это значит»). Итак,
до какой степени заблуждаются консерваторы и либералы, отделяя
буквальный смысл библейского текста от его духовного значения?
Как я уже говорил ранее, дух времени ожесточенно противится
реализму. И смысл, и истину принято считать продуктом
человеческих размышлений или культурной практики. Итак, я вновь
возвращаюсь к вопросу герменевтического реализма, только в этот раз —
под рубрикой пневматологии. Находится ли смысл внутри
текста, или же он рождается в результате встречи текста и ведомого
Духом читателя? Или, если поставить вопрос еще острее, должен
ли смысл текста содержать описание всех его воздействий? Если
«то, что это значит» распознается лишь изнутри ведомого Духом
предания, как объяснить отклик читателей в Неем. 8, которые уже
не принадлежали к живому преданию, или отклик читателей в
Деян. 2, чье восприятие текста положило начало новому преданию?
Более того, как нам отличить толкование ведомого Духом
сообщества от других, более земных толкований, направляемых, вероятно,
203 Там же, 200.
622
Глава седьмая. Преображение читателя
несколько менее святыми духами? Наконец, как нам избежать
умаления апостольского исповедания в Деян. 15, 28 («Ибо угодно
Святому Духу и нам») до сокращенной, ориентированной на
Пользователя формулы Фиша: «Ибо угодно нам»?
Дух восприятия: освещенные рукописи
Барт называет Духа «Господом слышащих». Для того, чтобы
читатели могли понять и воспринять библейский текст правильно,
одними экзегетическими усилиями не обойтись. Когда мы
боремся за достижение понимания, наша борьба — «не против крови и
плоти, но против начальств, против властей» (Еф. 6, 12). Чтение —
это борение с текстом против сил, желающих исказить понимание.
Мы боремся и против себя, против нашего стремления к власти,
против склонности обобщать и властвовать над другими. Именно
поэтому пелагианская герменевтика, которая просто подчеркивает
важность герменевтического императива и побуждает толкователя
быть старательным, недостаточна. Дух разумения — это не дух дел
или власти, а дух мира: дух молитвы. Если, как я считаю, Дух не
создает нового смысла, то в чем заключается его роль? Да ни в чем
ином, как в свидетельстве о чем-то «внешнем» (смысл текста)
и применении этого в к ситуации читателя (значение, или
значимость текста). Ради ясности, влияние Святого Духа на читателя
можно разделить на три составных.
(1) Дух убеждает нас в том, что Библия — локуция не только
человеческая, но и божественная (и поэтому должна читаться как
единый текст). Это — так называемое «внутреннее свидетельство»
Духа, через которое читатель приходит к принятию Библии как
Слова Божьего.204
(2) Дух проливает свет на букву, воздействуя на читателя ее
иллокуционной силой. Просвещенные Духом Святым, мы слышим и
читаем речевые акты как они есть — предостережения и обещания,
заповеди, утверждения — вместе с неявно присутствующим в них
призывом к нашему разуму и сердцу. Делая это, Дух не меняет
смысла, но служит ему: «Духовный смысл есть правильно понятый
204 См. Bernard Ramm, The Witness of the Spirit: An Essay on the Contemporary Relevance of the
Internal Witness of the Holy Spirit (Grand Rapids: Eerdmans, 1959).
623
Часть вторая. Восстановление толкования
буквальный смысл».205 Различие между «буквой» и «духом» состоит
как раз в различии между прочтением слов и восприятием
прочтенного. Подобно этому, разница между «естественным» и
«просвещенным» пониманием — это разница между мнением и глубокой
убежденностью.
(3) Что именно просветляет Дух — голову или сердце? Пол
Нобл, изучая каноническую герменевтику Чайлдза, доказывает,
что эпистемический прогресс возможен только в том случае, если
человек изначально допускает возможность собственной ошибки.
Для того, чтобы критический реализм мог применяться на
практике, «толкователь должен обладать определенными аффективными
качествами, такими, как способность к учению».206 Просвещение
нашего разума Духом зависит от того, было ли прежде
преображено сердце. Итак, последний вид воздействия Духа на читателя —
освящение. Кроме того, Дух последовательно избавляет нас от
идеологических и идолопоклоннических предрассудков, которые
препятствуют восприятию нами смысла текста. Дух очищает нас,
прежде всего, от герменевтического греха, от насилия в
толковании, искажающего инаковость текста. Читать под влиянием Духа
не значит привносить в текст какой-то новый смысл, но просто
позволить букве быть, или, что еще лучше, позволить ей достигнуть то,
ради чего она была послана: «Слово Мое не возвращается ко Мне
тщетным, но исполняет то, что Мне угодно, и совершает то, для
чего Я послал его» (Ис. 55, 11). Итак, Дух убеждает, просветляет и
освящает читателя, чтобы тот мог лучше служить Слову.
Однако можно согласиться с Хауэрвасом в том, что Библию
лучше всего читать в контексте дисциплинированных читателей, не
потому, что смысл Библии не существует помимо ведомого Духом
сообщества, а потому что церковь — это место, где Дух наделяет
праведностью и готовностью слушать Слово. Призыв к духовному
прочтению и утверждение реализма смысла не противоречат друг
другу. Более того, как предполагает Неем. 8, именно через Слово
Дух действует, дисциплинируя сообщество. Само Писание полезно
для наставления в праведности (2 Тим. 3,16). Наиболее же полезным
оказывается его действие в сообществе добродетельных
толкователей, чья основная цель — открыть себя для воздействия текста.
205 Комментарий Чарльза Вуда на Лютера: Charles Wood, "Finding the Life of a Text," в
An Introduction to Theological Study (Valley Forge, Pa.: Trinity Press International, 1994), 102.
206 Noble, The Canonical Approach, 298.
624
Глава седьмая. Преображение читателя
Дух и общая герменевтика
До какой степени Святой Дух простирает свое служение в мире
в отношении других, не библейских текстов? Иначе говоря, каково
соотношение библейской и общей герменевтики?207
Рикёр описывает общий процесс толкования в терминах,
имеющих богословский смысл. Он говорит, что текст и «открывает», и
«преображает». То есть он открывает новые перспективы для
взгляда на себя и на мир, тем самым обогащая опыт читателя. Но такие
возможности заложены в любом тексте, не только в Библии.
Рикёр уверен, что мы можем узнать кое-что о герменевтике в целом,
рассматривая частный случай толкования Библии. Однако я уже
ранее говорил, что герменевтике Рикёра недостает понимания роли
Святого Духа. Преобразующее чтение по Рикёру — это, в конечном
счете, врожденная человеческая способность, более родственная
воображению, чем Святому Духу.208
Барт также признает, что, читая Библию, человек должен
соблюдать принципы и правила прочтения всех остальных текстов: «Из
человеческого слова в Библии мы должны научиться всему, что
необходимо в отношении слова человеческого вообще».209 Он согласен
с утверждением, что все толкователи подходят к тексту со своими
предубеждениями. Однако Библия, возможно, более чем какая-либо
иная книга, требует нашей открытости ввиду ее особого
содержания, потому что иного доступа к Слову Божьему, помимо библейских
текстов, нет. «Разве не очевидно, что все, что люди говорят нам...
явно стремится к тому, чтобы быть сказанным и услышанным? Оно
стремится сообщить нам нечто содержательное».210 Урок, который
можно извлечь из комментария Барта на Послание к Римлянам,
заключается в требовании внимательного отношения к содержанию
текста: «Потому что если мы хотим услышать текст, его
слушатели должны быть готовы лицом к лицу встретиться с тем, о чем он
207 См. мою работу "The Spirit of Understanding: Special Revelation and General Hermeneutics," в
Roger Lundin, ed., Disciplining Hermeneutics: Interpretation in Christian Perspective (Grand Rapids:
Eerdmans, 1997), 131-65.
208 Это одна из основных причин, по которой я считаю, что герменевтика Рикёра более
естественно сочетается со взглядами Бультмана, чем Барта (см. мою Biblical Narrative in the
Philosophy of Paul Ricoeur, ch. 9).
209 Barth, Church Dogmatics 1/2,466.
210 Там же, 471.
625
Часть вторая. Восстановление толкования
написан».211 Барт говорит, что такой «библеистский» метод равно
применим и для изучения Лао-Цзы и Гёте.212 Барт спрашивает:
«Существует ли способ проникнуть в сердце документа — любого
документа! — не принимая во внимание, что его дух будет говорить
с нашим духом через написанные слова?»213 Он приходит к
неожиданному выводу, с которым я вполне согласен: опыт толкования
Библии позволяет читателю лучше всего оценить, что значит отдать
должное инаковости текста. Общая герменевтика является как бы
подклассом герменевтики библейской. Следует ли из этого, что Дух
есть Господь слушающих — не только Писание, но и любой текст?
Бультман указывает на отличие философа от богослова, говоря,
что первый может анализировать условия аутентичного опыта, но
только богословие может объявить об их выполнении. С
христианской точки зрения, всякая аутентичность, которая есть в
человеческом существе — в бытии или разумении — есть дар от Бога.
Деррида прав, выявляя множество источников принуждения и
искажения в процессе коммуникации. Наша туманная когнитивная и
духовная среда затрудняет понимание всех текстов. Эгоистичные
читатели не хотят понимать «иное», особенно если оно
предъявляет к ним свои требования. Себялюбие искажает толкование, как и
любую другую деятельность. Конечно, не всякий текст чего-то
требует от нас, не всякий текст поднимает вопросы нашего понимания
самих себя так, как это делает Библия. Если явной угрозы не
заметно, у читателей будет меньше причин сопротивляться смыслу
текста. Тем не менее, уникальная роль Духа в том, чтобы преодолевать
расстояния, препятствующие пониманию. Не всякое расстояние —
остается необходимость тяжелого исторического и
филологического труда, — но, в частности, моральное и духовное. Дух дает нам
возможность не стать жертвой самообмана, он не наделяет наш
разум чудесными способностями, но изливает благодать в наше
сердце. Действие Духа в толковании совершает переориентацию
тех способностей, которые у нас уже есть. Дух Святой
способствует пониманию в целом, взращивая толковательные добродетели и
в отдельных личностях, и в сообществе верующих. Именно в этом
смысле «обновление ума нашего» (Рим. 12, 2) помогает восприятию
текстового смысла.
Jungel, KarlBarth: Л Theological Legacy (Philadelphia: Westminster, 1986), 75.
Barth, "Preface to the Second Edition," The Epistle to the Romans, 12.
"The Preface to the Third Edition," The Epistle to the Romans, 18.
626
Глава седьмая. Преображение читателя
Полнота Пятидесятницы: как быть ответственным
плюралистом
Обращение к роли Духа в толковании принимает две очень
разных формы. Один подход обращен к непрерывной работе Духа
в созидании Церкви через открытие нового смысла в библейском
тексте. Тот же Дух, который дал Петру увидеть исполнение
древнего пророчества в настоящих событиях, продолжает вести церковь
к новым прочтениям, применимым в современных ситуациях.
Сторонники первого подхода считают, что духовное толкование
придает тексту смысл, отличный от его исходного значения, и тем самым
делает Писание всегда актуальным для церкви. Согласно этой
точки зрения, Дух есть сила, стоящая за слиянием горизонтов текста
и читателя.
Второй подход, представленный в настоящей работе,
обращается к Духу как служителю Слова, тому, кто ведет сообщество к
единственно верному толкованию: буквальному смыслу. При этом Дух
действует не в букве текста, а в жизни толкователя, который,
будучи грешен, склонен искажать текст, поскольку смысл его
воспринимается как угроза существующему положению вещей. Признавая
приоритет буквального смысла, я не пренебрегаю ролью Духа
Святого и не свожу Библию к книге безжизненных утверждений. Блёш
все же считает, что такое умаление Библии неизбежно, если
Слово Божье отождествить с записанным Словом. Я уверен, что здесь
Блёша (и не его одного) подводит ложное представление о языке.
С точки зрения теории речевых актов, существует своеобразная
защита от низведения смысла текста к содержательной информации.
Как мы уже видели, речевые акты обладают материей и энергией,
пропозицией и иллокуционной силой, не говоря уже о
направленности и цели. Рассматривая роль Духа в толковании, важно не
забывать о второй половине Ин. 16, 13: «Не от Себя говорить будет,
но будет говорить, что услышит». Истина, на которую наставляет
нас Дух, формируется Словом и из него воспринимается.
У обоих подходов одна точка зрения, признающая
необходимость участия Святого Духа в обогащении и повышении
актуальности записанного Слова. Но поясняется эта необходимость
по-разному. Эти объяснения роли Духа в читательском сообществе
порождают два разных вида этики, более того, духовности толкования:
с одной стороны, антиохийское предпочтение исходного смысла
627
Часть вторая. Восстановление толкования
(а именно исторического коммуникативного акта), а с другой —
александрийская предрасположенность к смыслу духовному. Мы
видели, что этика толкования означает уважение к тексту как к
«иному». Можем ли мы придерживаться ее, если наше толкование
текста искажает его смысл?214 Тенденция духовного толкования к
множественности прочтений ставит перед толкователем Библии не
только нравственные, но и богословские проблемы. Апостол Павел,
столкнувшись с расколами в церквях, увещевал читателей
«сохранять единство Духа» (Еф. 4, 3). Христиане — члены тела Христова
(1 Кор. 12, 12). В то же время, Павел признает разнообразие в
церкви, различие даров (12, 4-6).
Современный плюрализм требует этики толкования,
сообразующейся с учением о Духе, избегающей как абсолютизма, так и
произвольности толкования. Церковь одна, но прочтений много.
Поэтому нам следует сочетать единство и плюрализм в толковании
Библии. Каков статус толкований, проистекающих из сообщества,
одновременно единого и множественного? Как Дух разумения
соотнесен со Словом и с сообществом толкователей Слова? Я уверен,
что понятие множественного единства совместимо с
критическим реализмом и тринитарианским богословием, которое защищает
эта работа. На будущее: библейский текст может обладать
разнообразной, даже неисчерпаемой значимостью, но при этом иметь
определенный смысл. Иначе говоря, альтернативой абсолютистским и
произвольным прочтениям Писания будет прочтение,
прославляющее его многообразие.
Один и много: сколько смыслов вмещает в себя текст?
Как нам объяснить тот неоспоримый факт, что один и тот же
текст часто порождает массу толкований, многие из которых
противоречат друг другу, а некоторые и взаимно исключают друг
друга? В предыдущей главе я говорил о том, что смысл текста может
быть понят на разных уровнях, которые необходимо объединить
для того, чтобы понять, какую цель преследовал автор. С точки
зрения Рикёра, исторический вопрос: «Что говорил текст?» подчинен
214 Это определение аллегории дано Френсис Янг: Frances Young, "Allegory and the Ethics of
Reading," The Open Text, 111.
628
Глава седьмая. Преображение читателя
герменевтическому: «Что этот текст говорит мне?»215 Верно ли это?
До какой степени «то, что это значит» зависит от авторского
действия меньше, чем от читателя или, если на то пошло, от действия
Духа?
«Единое»: монисты. Толкователи-монисты доказывают, что
существует единственно правильное толкование, которое все
читатели, независимо от контекста или метода, должны признавать
как верное и истинное. Может показаться, что эта работа
отстаивает монизм в толковании, и в какой-то мере это так и есть. Однако
многое зависит от того, как определить монизм. Левинас, как мы
видели ранее, постоянно критикует философские и
толковательные подходы, использующие только те методы, которые никогда не
разойдутся с уже достигнутыми выводами. «Греческое» мышление,
типичное как для древней, так и для модернистской философии,
подавляет различия с помощью процесса систематических
размышлений, сводящего «иное» к «тому же». Левинас призывает
уважительно относиться к миру (и, соответственно, к текстам) и признавать
«иное», избегая насилия со стороны разума. «Иное» являет собой
нравственный призыв к постоянной открытости и ответственности,
что для Левинаса является «неограниченным» нравственным
требованием. Подобным образом, деконструктивная этика
противления — это требование продолжения дискуссии, а не прекращения
ее под давлением якобы достигнутого соглашения.
Монизм, который я отстаиваю, — это не метафизическое учение
о простоте смысла, а скорее — эпистемологическое учение о том,
что текст, в конечном итоге, обладает истинным, и потому единым,
толкованием. Как мы в свое время увидим, моя версия монизма,
подобно породившему его реализму, ведет не к насильственному
объединению, а к критическому и многогранному единству.
Наивный монизм, представители которого, не задумываясь, поспешно
отождествляют одно из множества толкований с единственным
и истинным (регулятивным идеалом), недооценивают сложность
текстов. Некоторые, как например, последователь Гадамера Дэвид
Хой, избегают такого упрощения и поэтому не хотят высказывать
единое истинное мнение даже в качестве регулятивного идеала.
Такой идеал являет собой «рекомендацию толкователям о том,
как избежать непоследовательности и критически оценивать свои
Ricoeur, "Between the Text and Its Readers," в A Ricoeur Reader, 409.
629
Часть вторая. Восстановление толкования
толкования в сравнении с другими, с большим числом прочтений,
принимающих во внимание больше аспектов текста».216 Однако Хой
не думает, что этот процесс когда-либо закончится, или что
критический монизм — это единственная рациональная позиция.
Постмодернистские критики не оставляют места для иллюзий по поводу
того, что им удастся подняться выше этого диалога и конфликта
толкований. Следует ли из этого, что толерантность, не делающая
различий, — это единственная нравственная позиция перед лицом
плюрализма толкований?
«Много»: плюралисты. Можно различить несколько видов
плюрализма в толковании.
(1) Прежде всего, существует плюрализм авторского замысла.
Никто не отрицает, что авторский замысел не всегда очевиден в том
или ином тексте и что на этот счет может существовать несколько
правдоподобных предположений. В самом деле, монист видит свою
задачу в том, чтобы свести количество вариантов к одному,
наиболее вероятному. Но мы уже убедились в том, что литературные
акты сложны и могут быть описаны как «совершение действий» на
разных уровнях. В случае с Писанием, однако, все еще более
осложняется. Фома Аквинский признает, что Бог есть автор
буквального смысла, но тут же добавляет, что в качестве знаков Бог может
использовать и референты. Поэтому «то, что это значит» — вопрос
провидения в не меньшей мере, чем вопрос пропозиций. Бог может
сказать сколько угодно через «то, что говорит текст».217 Итак, даже
те, для кого авторский замысел очень важен для толкования,
должны и далее считаться с плюрализмом.
(2) В отношении Библии мы можем выделить еще один вид
плюрализма: плюрализм на уровне текста. Модернистские
исторические критики, к примеру, относятся к каждому этапу истории
создания текста как ко квази-тексту, подлежащему толкованию. Эти,
более ранние, этапы традиции рассматриваются отдельно от текста
в его окончательной форме, от текста как единого канона, от
текста как церковного Писания. Иначе говоря, существует множество
внутритекстовых взаимоотношений и общих контекстов.
Например, что касается формирования канона, Данн отмечает
постоянное взаимодействие того, что уже входило в состав канона, и нового
216 David Hoy and Thomas McCarthy, Critical Theory (Oxford: Blackwell, 1994), 200.
217 Cm. Eugene F. Rogers, "How the Virtues of an Interpreter Presuppose and Perfect Hermeneutics:
The Case of Thomas Aquinas," Journal of Religion 76 (1996): 80.
630
Глава седьмая. Преображение читателя
восприятия сообществом присутствия Бога. К примеру, Псалом 21,
помещенный в один канон с повествованиями о страстях
Христовых, уже невозможно воспринимать в свете одного лишь Ветхого
Завета. «Признавать разные уровни и разнообразие канонической
авторитетности означает признавать, что Бог вполне может
говорить по-разному из поколения в поколение».218 Такое вот
разнообразие речи Бога и «возвышает Дух над Библией».219
(3) Стоит учесть также множественность читателей и
читательских контекстов. Поликультурность обрела свое место в
толковании Библии, точно так же, как когда-то в этике. Проведено
немало исследований о том, как род, раса или класс человека (или
сочетание всех этих характеристик) влияют на прочтение им
текстов.220 По словам одного литературного критика, «для того чтобы
служить нуждам и интересам разных читателей, текстам следует
содержать разные смыслы».221 Опять-таки, вопрос в том, как может
существовать единственно правильный смысл, если он появляется
в результате встречи текста и читателя — особенно если в этой
встрече участвует Дух многообразия. «Для учения, исповедующего
веру в Духа Святого, восприятие и проявление канонической
авторитетности никогда не может состоять только в утверждении 'так
говорит Библия1».222
(4) Наконец, существует плюрализм методов чтения. Роберт
Таннехилл констатирует, что «методологический плюрализм
достоин поощрения, так как у каждого метода будут белые пятна,
заполнить которые можно только с помощью иного подхода».223 Один
и тот же текст можно изучать с помощью нескольких правомерных
подходов, каждый из которых соответствует разным целям
толкования, вопросам и интересам. Тисельтон верно отметил, что многие
из призывающих к многообразию методов толкования, кажется,
218 Dunn, The Living Word, 156.
219 Там же, 131.
220 Ср. R. S. Sugirtharajah, Voices From the Margin: Interpreting the Bible in the Third World
(Maryknoll, N.Y.: Orbis, 1971); Cain Hope Felder, ed., Stony the Road We Trod: African American
Biblical Interpretation (Minneapolis: Fortress, 1991); Daniel Smith-Christopher, ed., Text and
Experience: Towards a Cultural Exegesis of the Bible (Sheffield: Sheffield Academic Press, 1995).
221 R. Crossman, "Do Readers Make Meaning?" в S. Suleiman and R. Crossman, ed., The Reader in
the Text (Princeton: Princeton Univ. Press, 1980), 162.
222 Dunn, The Living Word, 159. Данн продолжает считать, что задача читателя — восстановление
интенционального авторского смысла.
223 Robert Tannehill, The Narrative Unity of Luke-Acts (Philadelphia: Fortress 1990), 2:4.
631
Часть вторая. Восстановление толкования
предполагают, «что эти стратегии невозможно упорядочить и
оценить... относительно разных задач или природы разных текстов».224
Он говорит, что стратегии чтения отражают интересы и
мировоззрения (и, как я старался показать, также и богословие). Конечно,
некоторые интересы слишком узки, чтобы счесть их в должной мере
толковательными; то есть они не приводят к пониманию текста как
коммуникативного действия. Поэтому, при неоспоримом
существовании плюрализма способов прочтения, цель второй части
настоящей работы состояла в том, чтобы указать: не все толковательные
интересы равны.
Не следует путать доказательства в пользу множественности с
доказательствами в пользу плюрализма. Множественность
описывает сложность современной ситуации в толковании; плюрализм
предписывает определенное к ней отношение. Плюрализм — это
идеология, которая усматривает в существовании взаимно
несовместимых толкований нечто приемлемое. Я не могу с этим
согласиться и считаю, что плюрализм как идеология — плох. С одной
стороны, как отметил Н. Т. Райт, плюрализм поощряет существующее
в нашей культуре прославление самореализации — опасность,
которой подвержены и пиетистские, и постмодернистские прочтения,
поскольку в тех и других смысл Библии рассматривается только в
контексте современности. Плюрализм поощряет эгоцентрические
прочтения, поскольку он превращает приемлемость в собственных
глазах в достаточный герменевтический критерий. С другой
стороны, если одно толкование настолько же правильно, как и другое,
читателям необязательно «прилежно рассматривать» текст.
Плюралист не так обеспокоен конфликтом толкований, у него меньше
желания рассмотреть или решить этот конфликт, а значит, и
меньше надежды на это. Если различия на самом деле не важны,
очевидно, естественным отношением к конфликту толкований будет
безразличие.
Плюрализм может быть столь же нетерпимым, как любая
идеология. Те, кто настаивает на абсолютной терпимости и плюрализме
как самоценных нравственных целях, часто принуждают
окружающих разделять свои взгляды, а в противном случае просто
игнорируют их! Плюралисты, как это ни иронично, непоследовательны,
поскольку сами остаются «закрытыми» для предположения, что
224 Thiselton, New Horizons, 549.
632
Глава седьмая. Преображение читателя
единственно верное толкование в самом деле возможно. Итак,
плюрализм как идеология столь же тоталитарен, как и прочие формы
абсолютизма.
Наконец, плюрализм не имеет осмысленной этики толкования.
Как отмечает Уильям Швайкер в своем отзыве о работе Даниеля
Паттэ «Этика толкования Библии», единственным фактором,
сдерживающим творческие толкования читателя (поскольку сам текст
не может служить критерием), остается туманное понятие заботы
об «ином», то есть обо всем, на что могут повлиять наши
толкования (исключая автора!).225 Согласно верному наблюдению Швайке-
ра, такая забота бесполезна. Плюралист не может объяснить, какие
критерии следует использовать для определения благотворности
или вреда того или иного толкования. Любое суждение такого рода
заключает разнообразие в рамки нормативности, тем самым сводя
на нет стремление к многообразию.
Многообразие Пятидесятницы. В отличие от монистов и
плюралистов, христианские читатели имеют основания верить в
существование общей окончательной истины, как и в то, что эта
истина может не быть монистической. Как недавно доказывал
Колин Гантон, христианское учение о Троице предлагает
уникальное решение проблемы единства и множественности, а именно
понятие триединства, единства множественного вида.226 Итак,
недостаточно заявить о поддержке или отрицании многообразия в
толковании. Нужно также уточнить, какое именно многообразие мы
отрицаем или поддерживаем. Я отрицаю любую множественность,
предполагающую, что смысл текста меняется по прихоти читателя,
под влиянием сообщества толкователей или в результате
водительства Духа. С другой стороны, я утверждаю «многообразие
Пятидесятницы», которое утверждает, что к единому истинному
толкованию лучше всего приближаться с помощью
разнообразных методов и контекстов толкования. Слово остается нормой
толкования, однако ни одна культура или схема толкования
недостаточна, чтобы полностью исчерпать его смысл, не говоря уже о
значимости.
225 См. Schweicker, review of Daniel Pattes, Ethics of Biblical Interpretation, in Journal of Religion
76 (1996): 355-57.
226 Cm. Colin Gunton, The One, the Three, and the Many: God, Citation and the Culture of Modernity
(Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1993).
633
Часть вторая. Восстановление толкования
Уэйн Бут в своем прекрасном произведении «Христианское
понимание: сильные и слабые стороны плюрализма» смягчает
плюрализм в толковании тремя взаимосвязанными критериями:
справедливостью, пониманием и живостью.221 Я считаю, что эти
ценности лучше всего рассматривать как толковательные добродетели —
качества или привычки духовного читателя.
(1) Справедливость. Справедливое отношение к тексту,
прежде всего, предполагает существование «иного» (авторского
замысла), вместо того чтобы переделывать его по образу самого себя
или своих желаний. Кроме того, справедливое отношение к тексту
побуждает нас рассматривать его так, как он того требует. То есть
чтобы отдать должное тексту, необходимо правильно воспринять
разные уровни, составляющие его коммуникативный акт. Точно
так же, как оценка человеческого существа была бы неполной, если
бы закончилась на уровне химического анализа, так и толкование
текста неполно, если оно остается на семиотическом,
лингвистическом или историческом уровне, не выходя на семантический и
интенциональный уровень. Далее, справедливость требует того,
чтобы наши суждения были честными и разумными. Рациональный
дискурс — о мире или о мире текста — исходит из допущения, «что
один из взглядов на данное содержание лучше, чем соперничающие
с ним взгляды, что аргументация, будучи должным образом
приведена, в конечном счете покажет нам, который из взглядов — именно
тот».228 Бескомпромиссный плюралист отрицает это. Но
критический плюралист, признавая необходимость рационального дискурса,
отмечает, что наилучшее описание может быть многогранным или
множественным.
(2) Понимание. Понимание приходит, когда одному человеку
удается понять то, что говорит или делает другой человек.
Герменевтика формулирует принципы и методы для восприятия природы
и содержания коммуникативного действия. Понять текст —
означает прийти к выводу об интенции и информации, опосредованной
текстом. Бут предлагает вариант «клятвы Гиппократа» для
будущих литературных критиков: «Я буду стараться избегать
публикации какой-либо книги или статьи, пока не смогу понять ее,
227 Booth, Critical Understanding: The Powers and Limits of Pluralist, 219-32.
228 Hoy and McCarthy, Critical Theory, 241.
634
Глава седьмая. Преображение читателя
то есть пока у меня не будет причин думать, что я могу дать такое ее
объяснение, которое и сам автор мог бы признать справедливым».229
Итак, нравственное толкование прислушивается к
герменевтическому императиву и к Золотому правилу; они определяют параметры
плюрализма в толковании. В этом смысле Дух разумения обладает
ограничивающим действием. Читатель действует в рамках
определенных параметров, имеющих метафизическую, рациональную и
нравственную природу. В метафизическом плане читатель
ограничен текстом, его содержанием; в эпистемологическом — канонами
коммуникативной рациональности и убедительной аргументации; в
нравственном же плане — обязательством отдавать иному должное
и понимать его.
(3) Живость. Читатели в самом деле участвуют, и даже
творчески, в создании смысла текстов применительно к новым
контекстам. Рядом со справедливостью и разумением стоит добродетель
«живости». Этот третий критерий несет явно богословский
оттенок, хотя сам Бут не заостряет на нем внимания: Дух обладает не
только сдерживающим, но и животворящим действием. Я
предполагаю, что именно Дух дает жизнь тексту, однако не дополняет при
этом букву и не выходит за рамки буквального смысла. Простым
примером такого «оживления» может быть успешный (напр.:
динамически эквивалентный) перевод. Перевод на современный язык
может придать древнему тексту жизнь, не меняя при этом его
смысла. Такую «живость» толкования, вероятно, лучше всего
иллюстрирует пример церковного предания. Церковное предание
возрастает в результате попыток сообщества сохранить послание текста
и раскрыть его подтекст. Развитие доктрины, например,
рассматривалось как возрастание понимания Библии. Живое предание
не противоречит любви к писаному Слову. Более того, мы можем
сказать, что Дух оживляет Слово, пробуждая в читателях любовь к
нему. Пневматология и филология вполне совместимы.
Живость Духа в толковании проявляется в разнообразии
прочтений. Отдельные толкования могут вносить ценный вклад, даже не
утверждая, что ими сказано все, что можно сказать. Подобно тому,
как многие члены составляют одно тело, так и многие прочтения
могут составить одно верное толкование. Стоит ли сторонникам
реализма в герменевтике избавляться от некоторых комментаторов,
229 Booth, Critical Understanding, 351.
635
Часть вторая. Восстановление толкования
чтобы уничтожить разнообразие толкований? Было бы лучше, если
бы, скажем, не было толкований четвертого Евангелия Рудольфом
Бультманом или Рэймондом Брауном, Б. Ф. Уэсткоттом,
Августином или, если уж на то пошло, если бы Ориген оставил нас без
своих аллегорических причуд? Бут напоминает о том, что, когда мы
занимаемся толкованием, необходимо постараться понять не
только тексты, но и их разнообразных читателей: «Ищите критическую
истину, но старайтесь быть справедливыми, старайтесь избегать
излишнего отрицания критиков, старайтесь понимать их».230
Разнообразие как таковое — не проклятие, а дар. Иначе
зачем нам вообще четыре Евангелия, четыре «толкования» единого
«события Иисуса Христа»? Мы обеднели бы, если бы у нас было
только одно, два или три. Тем не менее, мы можем одновременно
утверждать, что у события Иисуса Христа есть единый истинный
смысл и что для выражения его необходимы все четыре Евангелия,
взятые вместе. Если это так, то не можем ли мы сказать и то, что,
хотя у Четвертого Евангелия может быть единое истинное
толкование, для выражения его могут понадобиться усилия нескольких
толкователей? Критический герменевтический реализм, который
подчеркивает многоуровневую природу литературных актов,
должен привести нас к ожиданию того, что единственно истинный
смысл может быть богаче, чем любое его толкование. Да, Дух есть
Дух единства, но это единство — и дар, и задача. Это живое
единение, гармоничное единение многих голосов, а не единообразие. Это
единство диалога, а не монолога. Это то нравственное единство —
единство любви, — которое принимает оправданные разногласия,
не пытаясь свести их к единому мнению.
Обращенные к ученикам слова Христа в конце Ин. 16, 13 о том,
что Дух «будущее возвестит» им, может, на первый взгляд,
показаться основой для утверждений о том, что Дух ведет читателя за
пределы буквального смысла текста. Однако некоторые экзегеты
склонны верить, что слова Иисуса говорят, что Дух будет толковать
«каждому последующему поколению современную значимость
того, что сказал и сделал Иисус».231 Джордж Р. Бисли-Меррей,
например, видит в этой фразе указание на то, что Дух будет прояснять
230 Там же, 346.
231 Raymond Brown, "The Paraclete in the Fourth Gospel," в New Testament Studies 13 (1966-67):
116 (выделение мое).
636
Глава седьмая. Преображение читателя
значимость учения Иисуса в будущих контекстах, которые были
недоступны воображению апостолов.232 Подобно этому, Бультман
толкует этот оборот просто как утверждение о «сущностной
значимости слова».233 Иначе говоря, Дух открывает значимость
(изреченного прежде) Слова Божьего, соотнося его с любым временем.
Живость — оживление буквы Духом — требует, чтобы мы читали
не только ради смысла, но и ради значимости, или, более точно,
ради единого многослойного смысла и ради изобилия значимости.
Чтение ради актуальности: Дух значимости
Каким образом исходный смысл текста порождает изобилие?
Один из популярных ответов обращен к эволюционному развитию:
попавшему в новое окружение тексту приходится адаптироваться —
даже мутировать, — если он хочет выжить. «Выживание» означает
в этом контексте то, что его и дальше будут читать и что он
останется значимым. Это мнение Гадамера: смысл текста неотъемлем от его
восприятия и последующего воздействия. Я представляю другое
объяснение изобилия библейского смысла, сопоставимое с
герменевтическим реализмом и герменевтической рациональностью. Говоря об
«изобилии», я хочу подчеркнуть то, как исходный смысл остается
осмысленным и в наши дни. Роль Духа, как я постараюсь показать,
не в том, чтобы изменять смысл, а в том, чтобы наполнять его
значимостью. Писание остается актуальным (1) через продолжение его
иллокуционного и перлокуционного воздействия и (2) через
соотнесение исходного контекста с новыми. Я рассмотрю здесь второй
момент, оставив вопрос действенности до следующего раздела.
Читать лишь ради исходного смысла означает ограничить текст
временем его возникновения. Как мы видели, понимание есть нечто
большее, чем просто повторение и воспроизведение. В то же время,
привнесение в текст того, что изначально там не содержалось, —
слишком высокая плата за актуальность. Понимание — не то же
самое, что авторство или изобретение, и его не следует путать с
тем, что, по сути, является переписыванием. И Чайлдз, и Бахтин,
и даже Хирш указывают, что авторы хотят, чтобы их
произведения были актуальны не только для настоящего, но и для
будущего. Слово Божье не следует ограничивать прошлым, даже если мы
232 George R. Beasley-Мштау, John, Word Biblical Commentary (Dallas, Word, 1987), 283.
233 Rudolf Bultmann, The Gospel of John (Oxford: Blackwell 1971), 575.
637
Часть вторая. Восстановление толкования
отождествляем его с писаным Словом. Суть того, как Дух
наставляет читателей на всякую истину, — во взращивании свойственной
Пятидесятнице беседы о правильном толковании первоначального
смысла и ныне существующей значимости Слова.
Утверждения, что текст обладает единым, хотя и не
упрощенческим, смыслом, с одной стороны, и множественной значимостью — с
другой, не противоречат друг другу. Джул, например, утверждает:
«С учетом определенности смысла, произведение может быть
неисчерпаемо, то есть читатели разных периодов способны соотносить
смысл с их личным переживанием или с меняющимися
историческими, политическими и общественными условиями».234 Я
доказывал, что основной объект понимания — не современная значимость
текста, а текст, рассматриваемый как совершенное ранее
коммуникативное действие. Однако толкование, как я уже указывал, может
выходить за пределы понимания. Тексты, написанные в прошлом,
продолжают влиять на нас. Например, поняв Четвертое Евангелие
и восприняв его призыв уверовать во Христа, я еще должен
откликнуться на его призыв и увидеть, как моя воля, преображенная
верой, повлияет на всю остальную мою жизнь. Толкование остается
неполным без оценки значимости текста, его осмысленности.
Только в этом случае Писание, в самом деле, может служить высшей
нормой веры и жизни сообщества верующих.
Вспомним, что Хирш уточнил это различие между значимостью
и смыслом и теперь считает, что авторы намереваются регулярно
обращаться к будущим читателям и тем самым превзойти свою
исходную ситуацию: «Литература — это инструмент, как
правило, предназначенный для широкого и постоянного употребления
в будущем».235 В то же самое время, он и далее твердо
придерживается герменевтического реализма: «Стабильность смысла
обусловлена... тем, что он сформулирован в прошлом».236 Становится
уместным вопрос: «Действительно ли каждый прошлый смысл —
смысл несомненно устаревший? Смысл, заложенный в текст в
прошлом, — утратил ли он свою актуальность»? Некоторые оттенки
смысла действительно стареют; их исходное значение не обладает
достаточной значимостью в наши дни. Однако устаревший смысл
234 Juhl, Interpretation, 226.
235 Hirsch, "Meaning and Significance Reinterpreted," 209.
236 Там же, 216.
638
Глава седьмая. Преображение читателя
обычно ограничен; он не касается общечеловеческих тем. И
напротив, Хирш приводит пример шекспировского сонета: «Перечитывая
сонет Шекспира своей возлюбленной, я не изменяю его
смысла-интенции, несмотря на то, что он был изначально адресован 'Смуглой
Леди', но использую его по назначению. Характер текстового
смысла не отвергает множественность будущих исполнений и
нисколько при этом не изменяется».237 Поскольку любовь —
универсальная человеческая тема, сонеты, воспевающие любовь, не теряют
значимости.
Интересно, что актуальность — не всегда добродетель. Можно
быть излишне актуальным. Некоторые тексты настолько узко
нацелены на определенную ситуацию, что им почти нечего сказать о
другой. Быть слишком актуальным — значит, рисковать навсегда
остаться в собственной эпохе. Другая крайность — выдавать за
актуальность последний крик моды. Текст, который слишком легко
подстраивается под культурный горизонт, может легко оказаться в
ловушке на другом конце спектра времени — в настоящем. И
прошлый, и настоящий смысл могут «устаревать» и быстро выйти из
употребления.
Точно так же, как авторы часто обращаются к будущим
поколениям, так и читатели читают, стремясь найти в текстах
прошлого что-то, значимое для настоящего: «Уподобление собственному
опыту — это неявный, всепроникающий, которому, как правило,
не приходится учить, отклик на рассказы».238 Хирш призывает
воспользоваться августиновским подходом, избегающим крайностей
как «оригиналистов», так и их противников: «Толкование должно
идти дальше буквы писателя, но никогда не заходить дальше его
духа».239 Хирш называет аллегорическими толкования, которые
учитывают реально существующую связь между исходным
референтом и его восприятием в наши дни. Однако такое определение
аллегории — вовсе не новый смысл, а скорее приложение или
преломление смысла исходного. Стремление сделать текст
актуальным путем аллегории не должно реализоваться за счет
искажения авторского замысла, но может быть проявлением уважения к
нему. То, что некогда называли «духовным смыслом» текста, может
237 Там же, 210.
238 Hirsch, "Transhistorical Intentions and the Persistence of Allegory," 533.
239 Там же, 558.
639
Часть вторая. Восстановление толкования
теперь рассматриваться как выражение значимости буквы. Этот
вывод, если он правилен, имеет далеко идущие последствия для
толкования Библии. Он означает, что для актуальности текста нет
нужды его искажать.
Текст современен, если проливает свет на определенную
проблему или задачу. В этом смысле Библия не всегда актуальна: она не
поможет в изготовлении воздушного змея или расщеплении атома.
С другой стороны, Библия может быть актуальна в таких областях,
о которых ее авторы даже не подозревали (напр.: изготовление
ядерного оружия или изменение генов человека). Поскольку все
книги Библии связаны общей темой о мессианском искуплении,
она никогда не теряет своей злободневности. Своей способностью
освещать проблемы современности она обязана не только
канонической форме, но своему христологическому содержанию.
Сама Библия содержит наставление, как перейти от «того, что
это значило» к «тому, что это значит». Это неотъемлемая часть
способности Библии функционировать как Писание для будущих
поколений. Сам христианский канон побуждает читателя к смене
контекста ее содержания. В самом деле, взаимоотношения Ветхого
и Нового Завета — классический пример повторной контекстуа-
лизации. Авторы Нового Завета должны были ответить на вопрос
о том, что имел в виду Ветхий Завет, в свете «события Христа».
Однако, сменив контекст Ветхого Завета в свете Христа, Новый
Завет не изменил его смысл, а прояснил его денотат — Божье
благодатное провидение для Израиля и для мира. В обоих Заветах
сохраняется актуальность Божьего обещания создать для себя народ
и актуальность божественного действия во исполнение этого
обещания. Обетование, создавшее Израиль, позднее было применено и
к церкви. Поэтому то, что Бог в Духе говорит нам сегодня в Ветхом
Завете — это не что иное, как значимость текста, его расширенный
смысл. Значимость — это просто «смысл, взятый в другом
контексте». Подобно тому, как Иисус Христос меняет контекст смысла
Ветхого Завета, церковь призвана изменить контекст смысла
Иисуса Христа.240 В итоге, Слово Божье сегодня (значимость) есть
функция Слова Божьего в тексте (смысла), которое в свою
очередь свидетельствует о живом и вечном Слове Божьем в Троице
(референции).
См. ниже о призвании толкователя.
640
Глава седьмая. Преображение читателя
Итак, понятность Библии основана на том, что Дух ведет
церковь к распространению смысла Писания на настоящее; таким
образом, она проявляет свою значимость для современности. Это
утверждение можно выразить следующей формулой:
актуальность Библии = смысл как откровение + относительная
значимость. Смысл Писания дан как откровение и зафиксирован
каноническим контекстом; значимость Слова относительна и открыта
для современных контекстов. Содержимое Библии — откровение:
она сообщает нам о том, чего мы иначе не узнали бы. Отметим, что
откровение, как и смысл, дано в результате состоявшегося в
прошлом коммуникативного действия (восприятие которого, конечно
же, происходит в настоящем). Значимость, напротив, соотнесена
с определенным контекстом и определенными читателями. Один и
тот же смысл может иметь разное воздействие в разных ситуациях.
Итак, термин «объективность» оказывается неприменимым к
значимости даже в идеале. Однако относительность не подразумевает
произвола; в новой ситуации проявляется или применяется тот же
самый определенный смысл или один из его аспектов. Именно
потому, что Библия может осмысленно обратиться к современности, мы
рассматриваем значимость не как проблему, а как совершенство
библейского текста.241
Определение значимости текста — неотъемлемая сторона
толкования, которую, однако, не следует путать с восприятием авторского
замысла, так как это восприятие относится к вопросу исторического
и литературного познания. Для правильного определения
значимости необходима еще и мудрость, потому что суть значимости не в
приобретении знания, а в его оценке и должном использовании.
Теперь, вероятно, понятно, почему толкованием Библии лучше
всего заниматься в контексте сообщества верующих. Не потому, что
сообщество с помощью Духа создает новый смысл, а потому, что
мудрость есть дело общее, требующее толковательных добродетелей —
добродетелей, которые лучше всего взращиваются Духом
понимания в контексте сообщества.
Многообразием Пятидесятницы не следует пренебрегать.
Легко подшучивать над разнообразием мнений
комментаторов Библии и богословов, говоря: «Они напились сладкого вина»
(Деян. 2, 13). Я считаю, что такое разнообразие не обязательно
См. мою работу "The Bible — Its Relevance for Today," 9-30.
.7 641
Часть вторая. Восстановление толкования
считать негативным. Прежде всего, в отношении смысла,
возможно, нам следует прислушаться к мнению многих других, чтобы
оценить полноту единого определенного смысла текста. Полезно
услышать напоминание о том, что наш взгляд на текст не единственно
приемлемый способ его восприятия. Многообразие взглядов
азиатского и африканского христианства может помочь западным
христианам открыть прежде неизвестные аспекты того, что изначально
находится в тексте. Во-вторых, в отношении значимости,
множественность голосов подтверждает актуальность текста в различных
ситуациях. Мудрость имеет свойство накапливаться; для
извлечения сокровищ библейской значимости могут понадобиться усилия
многих поколений и многих культур. Однако многообразное
единство толкований не следует путать с беспорядочным плюрализмом;
не все прочтения равно приемлемы. Дух изобильного разумения,
прежде всего, служит Слову, слушателем, а не автором которого он
является («ибо не от Себя говорить будет», Ин. 16, 13).
Слово и Дух: «Почему я не фундаменталист»
Возьмите... меч духовный, который есть Слово Божие
(Еф.6,17).
Недавний отчет Папской библейской комиссии называет догмат
«sola scriptura» одной из определяющих характеристик
фундаменталистского толкования, таким образом предполагая возможность
отделения смысла текста от традиции его толкования. С одной
стороны, я всегда в какой-то степени отстаивал «sola scriptura».
С другой — признаю, что нам следует ожидать многообразия как в
отношении смысла (одной толковательной структуры просто
недостаточно), так и в отношении значимости (один и тот же текст
может по-разному применяться к той или иной ситуации). Сказанное
выше может вызвать недоумение: ведь я утверждаю, что значение
Библии может быть разным для разных читателей, в то время как ее
смысл остается неизменным. Внимательный критик мог бы сказать,
что в отношении смысла я фундаменталист, а в отношении
значимости — либерал: смысл не зависит от ведомого Духом толкования,
значимость же несомненно опирается на него. Можно ли назвать
такую богословскую герменевтику непоследовательной?242
Критик может спросить, какое практическое различие существует между сообществом,
642
Глава седьмая. Преображение читателя
Сокращенный протестантский принцип
Позвольте мне прояснить суть противоречия. Прежде всего,
действительно ли мой подход — подход фундаменталиста,
жаждущего объективной определенности, призывая каждого человека
толковать Библию самостоятельно, используя собственный
здравый смысл?243 Не совсем так. Напротив, я придерживаюсь
критического реализма, призывая к стремлению достичь необходимого
уровня знания, не забывая, что познание напрямую зависит от
толковательных добродетелей читателя.
Во-вторых, предполагает ли мой подход, что соответствие
историческим фактам — обязательный критерий истинности
Библии? Не обязательно. Я уже говорил, что литературные жанры
по-разному взаимодействуют с реальностью, оперируя
разнообразными иллокуционными силами, не только утвердительными
предложениями. В этом я отхожу от позиций фундаментализма,
считая, что не все Писание должно быть фактически истинным.
Фундаменталисты же на протяжении большей части двадцатого
века выделялись среди остальных христианских направлений
фразой «доверяющие Библии», опираясь на авторитетность буквально
истолкованной Библии.244 Рамм заявляет, что фундаменталисты
«никогда не сознавали, до какой степени они были порождением
научной эпохи».245 Ирония заключается в том, что толкование
фундаменталистов оставалось в плену ошибочного модернистского
представления о смысле и истине:
«Толкователи-фундаменталисты... склонны строить свое понимание истины на канонах научного
эмпиризма».246 В стремлении отстоять истинность Библии
фундаменталисты толкуют все повествования, как точные исторические
или научные записи.247 В предыдущей главе я указывал на различия
ведомым за пределы буквального смысла Духом, влияющим на традиции, и сообществом,
ведомым Духом к изобилию буквального смысла как такового, поскольку в обоих случаях
имеет место множественность толкования. Ответ, следующий из моей приверженности
герменевтическому реализму, в том, что в первом случае существует риск отрыва предания от
Слова и тем самым — от возможности исправлений со стороны Слова.
243 См. описание фундаментализма Фрименом в Freeman, "Toward a Sensus Fidelium for an
Evangelical Church," 166.
244 С. Т. Mclntyre, "Fundamentalism," в Evangelical Dictionary of Theology, 435.
245 Ramm, The Witness of the Spirit, 126.
246 Mark Corner, "Fundamentalism," Dictionary of Biblical Interpretation, 244.
247 James Barr, The Bible in the Modern World, 168; ср. его Fundamentalism, 46-55.
2i- 643
Часть вторая. Восстановление толкования
между буквалистским толкованием, которое оперирует понятием
смысла как референции, и буквальным толкованием,
воспринимающим буквальный смысл, но как коммуникативный акт.
В-третьих, просматриваются ли в моих высказываниях в
пользу критического реализма или критического плюрализма
необоснованные предпочтения тому сообществу, к которому принадлежу
я сам? Другими словами, неужели мои слова на самом деле
означают, что только я один знаю, какие толкования верны? Конечно,
это не так. Кэтлин Бун высказывает свое понимание заблуждения
фундаменталистской герменевтики: «Как правило, от
фундаменталистов слышно, что только они воспринимают истинный,
объективный, абсолютный, определенный смысл Библии».248 Критика
Бун деконструктивна: хотя фундаменталисты и призывают:
«Вернитесь к тексту!» — на самом деле они зачастую отождествляют
тексты с собственными способами их прочтения. «То, что это
значило» становится «тем, что это значит для нас сейчас». Итак,
фундаментализм, проповедуя авторитетность текста, на деле
практикует авторитетность сообщества толкователей.
Таким образом то, что казалось одним из самых консервативных
подходов к тексту (фундаментализм), на деле оказывается одним
из наиболее радикальных: отдавая предпочтение собственному
сообществу, фундаменталисты странным образом оказываются в
одном ряду со Стэнли Фишем. Ирония здесь остра и болезненна:
исповедуя послушание Слову, фундаменталист, на самом деле, его
использует. По мнению Бун, фундаментализм — доведенное до
абсурда утверждение Реформаторов о том, что «Писание толкует
само себя».
Фундаментализм в действительности предлагает выход из
лабиринта, в который слишком часто заходит процесс толкования
Библии. Однако этот выход ведет не в Землю Обетованную, а
обратно в Египет; уверенность, к которой они стремятся, может быть
достигнута лишь с использованием некоей организующей власти.
Но, как мы уже убедились, путать собственные слова со словами
Библии означает поклоняться золотому тельцу собственного
изготовления. Бун верно подметила затруднительное положение
фундаменталистов: «Каким образом контролирует процесс толкования
248 Kathleen С. Boone, The Bible Tells Them So: The Discourse of Protestant Fundamentalism
(Albany: SUNY Press, 1989), 69.
644
Глава седьмая. Преображение читателя
фундаменталист, если он утверждает, что авторитетностью не
обладает ничто, кроме текста?»249
Я считаю, что фундаменталисты правы в стремлении сохранить
реализм смысла и в желании позволить Библии «говорить без
помех». Однако их реализм несколько наивен, когда они
отождествляют смысл текста либо с основной пропозицией, якобы в нем
содержащейся, либо с собственным вариантом толкования. Как
мы видели, реализм на уровне «метафизики» смысла не
обязательно предполагает объективистскую эпистемологию. Мы должны не
просто утверждать свои толкования, а проверять их, во-первых,
непрестанно сверяя их с самим текстом и, во-вторых, вступая в
более широкий диалог с другими толкователями. Фундаменталисты,
как правило, отказываются от второго испытания, тем самым
полностью игнорируя герменевтическую проблему. При этом иногда
создается впечатление, будто основная трудность толкования
состоит в «принятии» Библии, а не в определении смысла и его
применении.250 В отношении спектра нравственности литературного
знания, фундаменталисты склоняются к догматизму. Хауэрвас
критикует фундаменталистов за предположение о том, что их толкование
объективно и нейтрально, и за представления о том, что они могут
извлекать истину из Писания без нелегкой дисциплины жизни в
христианском сообществе. Одна из задач первой части настоящей
работы состояла в том, чтобы умерить такое самовозвышение
предположением, что наши экзегетические открытия могут оказаться
ни чем иным, как проекцией самих себя, проявлением не веры, а
ницшеанской «жажды власти».
Фундаменталисты подчас отстаивают монизм как по
отношению к значимости, так и по отношению к смыслу; ведь о какой
определенности в вопросах веры может идти речь, если о современном
значении текста с уверенностью ничего сказать нельзя? Однако,
как мы уже видели, значимость текста — это вопрос выбора, а не
вывода. Для того, чтобы перевести смысл текста на новую
ситуацию, необходимо нечто большее, чем просто готовность следовать
определенному набору экзегетических методов: здесь нужна
мудрость. Фундаменталист спешит сказать: «Знаю» там, где ему
следовало бы сказать: «Верую».
249 Там же, 73.
250 Mark Comer, "Fundamentalism," 245.
645
Часть вторая. Восстановление толкования
Чрезмерное стремление к объективной определенности влияет
на то, как некоторые читают Библию.251 Неуместное стремление
почтить «Святое Писание» ведет многих фундаменталистов к
прочтению Библии как сборнику истинных утверждений. Проблема,
по моему мнению, не столько в отождествлении ими Библии со
Словом Божьим, сколько в их теории смысла и референции.
Фундаменталисты пребывают в плену представления о смысле. Это
представление отождествляет смысл текста с его референтом, то
есть с эмпирическим или историческим соответствием.252 Эта
теория смысла и истины по сути своей модернистская, она
порождает буквалистские толкования и согласования, в которых все части
Библии читаются так, словно их основная цель — сообщить об
историческом факте. Если Бультман отрицает историчность
библейских текстов вообще, то фундаменталисты находят исторический
материал в каждом отрывке. Однако в этой работе я всеми силами
пытался противопоставить буквалистскому толкованию
буквальное (или литературное), которое старается донести до читателя
разные жанры Писания и разные формы коммуникативного
действия. Хотя, как и все речевые акты, Библия содержит пропозиции,
ее нельзя свести к коллекции текстов-доказательств.
В своем стремлении к объективной определенности и
нейтральности, оперируя текстом как набором пропозиционных утверждений
и предполагая, что значимость текста не распознается, а выводится
логически, фундаменталисты придерживаются позиции, которую
Бернард Рамм окрестил «сокращенным протестантским принципом».253
Сокращенным, потому что он сосредоточен на Слове, оттесняя Дух
на обочину богословия и герменевтики. «Писание толкуется
Писанием» в контексте фундаментализма стало частью религиозного
поклонения книге. В контексте же реформатского богословия, напротив,
«Писание толкуется Писанием» можно перефразировать: «Бог,
говоря в Писании и через Писание, толкует Писание».254 Определение
251 Нэнси Мерфи доказывает, что и консервативное, и либеральное богословие попало под
влияние модернистской философии, занимающей далеко не последнее место в их теории знания
(обосновательство) и смысла (пропозиционализм против экспрессионизма). См. Nancey Murphy,
Beyond Liberalism and Fundamentalism.
252 Ср. Гандри: «Определив жанр, которому намеревался следовать автор, мы определяем и
критерии, с помощью которых сможем рассуждать о правдивости и смысле его литературного
творения», в Gundry "A Theological Postscript," Matthew, 638.
253 Ramm, The Pattern of Religious Authority, 29.
254 Я беру этот парафраз из Лейденского синопсиса. Цит. по Heinrich Heppe, Reformed
Dogmatics, 35.
646
Глава седьмая. Преображение читателя
Писания, согласно которому оно вбирает в себя человеческие и
божественные речевые акты, лучше передает взаимоотношение между
Словом и Духом, столь важное для Реформаторов. Следующие три
подраздела — о действенности, эсхатологии и экклесиологии —
содержат в себе более полный ответ на возможные обвинения автора в
приверженности фундаменталистским взглядам.
Действенность
Ибо слово Божие живо и действенно (Евр. 4,12).
Полный протестантский принцип признает Духа Святого,
говорящего через Писания, наивысшим авторитетом в жизни и вере.
Вестминстерское исповедание веры утверждает: «Высшим Судией,
разрешающим все противоречия в религии... не может быть
никто, кроме Святого Духа, говорящего через Писания» (1.10). Джон
Оуэн назвал Святой Дух «действенной первопричиной» нашей
способности понимать Писание. Д. Ф. Штраусе, от имени многих
противников этого принципа, говорит: «Обращение к Святому Духу —
ахиллесова пята протестантской системы».255 Но с этим можно
согласиться только в том случае, если подобное обращение вело бы к
дуализму Слова и Духа. Я же утверждаю, что Святой Дух есть Дух
разумения, Дух буквы, понятой правильно, а не автор-соперник.
В самом деле, тот, кто вдохновил Писание, не может противоречить
сам себе. Дуализма, при котором Слово противоречит Духу, а Дух —
Слову, следует избегать любой ценой. Дух — это не дополнение и
не второй источник Слова в Писании. Модель божественного
общения, построенная согласно теории речевых актов, помогает нам
увидеть взаимоотношения Слово-Дух не с точки зрения
достаточности Слова, а скорее — его действенности.256 Под
«действенностью» я подразумеваю способность к воздействию. Дух делает
Слово действенным.
В чем же конкретно оказывается действенным Слово? Как
коммуникативный акт, оно обращается к нам по-разному. Оно
испытывает наше сердце и разум. Слово разоблачает — толкует! — нас,
255 Цит. по Berkouwer, Holy Scripture, 40.
256 Описывая Дух как «действенность» Слова, я следую примеру Кальвина, однако развиваю
его с помощью категорий философии речевых актов. См. Institutes, I.9.3. Рассуждения о
дискуссиях ортодоксальных реформатов по поводу действенности Слова см. в работе Отто
У эбера Foundations of Dogmatics, tr. Darrell L. Guder (Grand Rapid: Eerdmans, 1981), 1:284-86.
647
Часть вторая. Восстановление толкования
толкователей. Кальвин верил, что даже читатели с сердцем,
закрытым для Библии, не могут полностью избежать ее влияния. Отто
Уэбер критикует богословские взгляды ортодоксальных
реформаторов семнадцатого века, которые доказывали, что действенность
Библии есть ее неотъемлемое свойство, а не сила, придаваемая
Писанию Духом. Но критика Уэбера неточна: понятие
коммуникативного действия позволяет нам определить два вида действенности —
иллокуционную и перлокуционную — и связать действие Духа
именно со второй.257
Иллокуционная действенность. Иллокуционная
действенность обусловлена смыслом. Действие, о котором идет речь,
касается восприятия читателем авторского иллокуционного замысла.
Другими словами, это и есть «понимание», метафора понимается
как метафора, предостережение — как предостережение и т. д.
Именно это имел в виду Лютер, говоря о «внешней ясности»
Слова. Предполагающееся коммуникативное намерение — опознание
иллокуционного замысла — это общее свойство всех текстов, а не
только Библии. Предположение, что учительство церкви или
просвещение Духом Святым есть необходимое условие понимания,
ставит это под вопрос.
В каком-то смысле, Дух придает Слову действенность, давая
возможность почувствовать полную силу коммуникативного
действия — его иллокуцию, не изменяя при этом буквального смысла.
Дух сопутствует разнообразным иллокуционным актам, включая и
акт свидетельства о Христе, тем самым способствуя их
правильному восприятию. Дух делает понимание возможным. Но разве — тут
можно возразить — это так уж необходимо? В самом ли деле без
действия Духа понять Библию невозможно? А можно ли надеяться
понять роман, газету, дорожный знак? В ответ на это возражение
следует вспомнить, насколько часто читатель, в силу своих
предрассудков или идеологических убеждений, искажает прочтение.
Это случается всякий раз, когда он сталкивается с текстами,
требующими отказа от привычного поведения, не говоря уже о
подавлении в себе «ветхого человека» и собственных амбиций.
Толкование никогда не происходит в окружении когнитивно и духовно
257 Дух является и локуционной действенностью Слова, поскольку, будучи его вдохновителем,
Дух подводит авторов-людей к употреблению слов, соответствующих божественному замыслу.
648
Глава седьмая. Преображение читателя
«чистом». Евангелие отвергают, потому что смысл его был однажды
воспринят, хотя и смутно, а потом вновь упущен. Но и в этом
случае Слово совершает то, «для чего [Бог] послал его» (Ис. 55, 11),
поскольку в нем узнают коммуникативный акт, задуманный
автором. Образ Божий в каждом человеке дает нам возможность
действовать согласно своему предназначению, зачастую переступая
через себя. Роль Духа в толковании — не в изменении смысла, а в
возвращении нам способности к осмыслению текста.
Перлокуционная действенность.
Дух Божий направляет чтение и проповедь Слова,
превращая его в действенное средство убеждения и обращения
грешников.258
Путь, по которому Дух ведет сообщество нашего времени к
полному пониманию истины, лучше всего, я полагаю, рассмотреть в
разделе о перлокуционном воздействии. Вспомним, что перлокуция
происходит в результате говорения; перлокуционное воздействие —
воздействие речевого акта на слушателя или читателя, следующее
за иллокуционным (т. е. после того как достигнуто понимание).
Например, высказав утверждение (иллокуция), я могу с помощью него
убедить своего слушателя (перлокуция). Перлокуции связаны с
устремленными в будущее намерениями автора (напр.: «Сие же
написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос» [Ин. 20, 31]).
Предостерегая кого-то от перехода дороги в неположенном месте, я
могу достигнуть и перлокуционного эффекта — предотвратив
аварию, спасти жизнь. Так что понимание — очень важно.
Различие между иллокуцией и перлокуцией проливает свет на
учение Павла: «Душевный человек не принимает того, что от Духа
Божия» (1 Кор. 2, 14). Если этот стих говорит о перлокуционном
воздействии, то смысл его состоит в том, что человек не духовный
не принимает слова Библии, «душевный человек» не может
поверить истине или увидеть ее значимость.259 Итак, Дух открывает
258 Вестминстерское вероисповедание, вопрос 89.
259 Более полное обоснование использования термина «принять» в данном смысле: см. Daniel
Fuller, "The Holy Spirit's Role in Biblical Interpretation," в W. Ward Gasque and William Sanford LaSor,
ed., Scripture, Tradition, and Interpretation (Grand Rapids :Eerdmans, 1978), 189-98. Противоположное
мнение: см. Миллард Эриксон — он утверждает, что суть проблемы — в том, что неверующие не
принимают по причине непонимания (Millard Erickson, Christian Theology, 249).
649
Часть вторая. Восстановление толкования
разум и сердце читателей, чтобы слова произвели воздействие,
ради которого были написаны: воздействие иллокуционного
понимания и результат перлокуционного послушания. Опять-таки, роль
Духа не в том, чтобы придать Слову новый смысл, а в том, чтобы
наполнить силой уже существующий смысл.
Итак, работа Духа заключается в содействии к восприятию
иллокуции и достижению соответствующего перлокуционного
результата — веры, послушания, хвалы и так далее. Слово —
неотъемлемый инструмент свойственной Духу (перлокуционной) силы
убеждения.260 Дух безгласен без Слова, а Слово бессильно без Духа.
Слово и Дух вместе составляют речевой акт Бога. Как верно
отмечает Рамм, Слово не действует ex opere operato (само по себе. —
Прим. ред.).261 Так заблуждаются те, кто следует сокращенному
протестантскому принципу, наделяя сам текст жизнью и силой
Духа, вследствие чего личное восприятие читателя уже не имеет
никакого веса. Сокращенный протестантский принцип таким
образом приводит к неоправданному сокращению процесса толкования.
Святой Дух — это Дух Слова, Дух Христов. Он несет читателю
весть о Христе — суть всего Писания. Библия — средство
убеждающего воздействия Духа, инструмент, с помощью которого Он
приводит человека к вере во Христа. Повторю свое утверждение:
Дух не меняет семантику библейской литературы и не добавляет
ничего к откровению. Смысл Писания — благая весть об Иисусе
Христе — уже наличествует в Слове. Дух есть «Господь
слушающих» не потому, что Он изменяет значение библейского текста, а
потому, что ведет и направляет воздействие коммуникативной
деятельности Писания. Перефразируя Барта, мы можем сказать, что
Дух есть «Господь перлокуционного воздействия». Благодаря Духу,
Слово Божье не возвращается к нему бесплодным, но совершает то,
для чего было послано (Ис. 55, 11). Дух вдохновляет, где хочет —
но не чем хочет. Доктрина Троицы, filioque, находит важную
параллель в герменевтике: как Дух исходит от Отца и от Сына, так и
перлокуция исходит от локуции и иллокуции. Итак, Дух
свидетельствует не о себе самом, а о Логосе, совершенном Смысле, и таким
260 Рамм отмечает, что фундаментализм «утратил понимание характера Писания как средства,
дав Писанию независимое, отдельное существование... Поэтому среди фундаменталистов
выражение «Слово» стало богословским синонимом выражения «Слово и Дух» у реформатских
богословов» (Witness of the Spirit, 125).
261 Ramm, The Witness of the Spirit, 125.
650
Глава седьмая. Преображение читателя
образом дает читателям возможность откликнуться на это Слово
согласно его предназначению, находя в этом значимость,
примененный смысл текста. Из всего этого следует, что действие Духа не
дополняет авторский замысел, а поддерживает и исполняет его.
Соответственно, Дух наиболее верно воспринимается как
действенное, живительное присутствие Слова.
Эсхатология
Вторая причина, по которой я не могу быть фундаменталистом,
относится к области эсхатологии, а именно к частичному
исполнению событий, полнота которых придет только в будущем. Начнем
с того, что эсхатология ставит под сомнение фундаменталистскую
эпистемологию, которая стремится к абсолютным истинам и
объективной определенности. Пятидесятница — праздник первых плодов,
а не всей жатвы. Необходимое Христовой церкви единство нам уже
даровано, хотя до конца еще не достигнуто; оно уже среди нас,
однако церковь должна трудиться для полного совершения этого дара.
Мы можем сказать нечто подобное и об истине. Истина
Христова уже дарована нам, но к ней необходимо продолжать стремиться.
У нас есть записанное Слово, но его необходимо уметь толковать.
Смысл заложен когда-то в прошлом, но восприятие нами этого
смысла и его значимость для нас еще несовершенны. Такой
«эсхатологической напряженностью» нельзя пренебрегать, она может удержать
нас от представлений, что истина, единственно истинное
толкование, находится сейчас в нашем распоряжении. Иначе говоря,
ошибочно было бы отождествлять содержание предания с каким-либо
одним моментом предания. Говорят, что истина — дочь времени. Ее
нельзя торопить, нельзя принуждать: «Почти все действия
церковных учреждений, наиболее компрометирующие церковь, были
результатом неверного понимания эсхатологии».262 Да, ждать трудно,
но еще хуже — привести поиск истины, окончательного толкова-
тельского решения, к преждевременному завершению.
Второй момент, в котором эсхатология ставит под сомнение
фундаменталистское толкование, более тонкий. Он связан со
склонностью фундаменталистов отвергать образное толкование,
утверждая, будто сказанное в Библии об Израиле касается лишь народа
Израилева, и ни в коей мере не затрагивает церковь. Герменевтика
Gunton, A Brief Theology of Revelation (Т. &Т. Clark, 1995), 97n.l9.
651
Часть вторая. Восстановление толкования
диспенсационализма, по моему мнению, недостаточно
восприимчива к литературному смыслу текста (особенно к литературным
жанрам пророчества и откровения). Не возобновляя старый спор
о будущем Израиля, мне хотелось бы поднять более общий вопрос
о том, как можно читать Библию, не теряя при этом ее значимости
для церкви.
Библия будет оставаться актуальной, если сама церковь
(современное сообщество толкователей) понимается одновременно и как
адресат Писания, и как одна из библейских тем. А для последнего
понадобится принятие образного толкования. По мнению Ричарда
Хэйза, Павел обнаружил в Писании то, что «было прообразом
церкви как народа Божьего».263 С помощью образного толкования Дух
показывает эсхатологически намеченную референцию Ветхого
Завета — народ Божий, соответствующий образу Христову. Итак,
существует неразрывное единство повествования, соединяющее
историю Израиля в Ветхом Завете с историей Христа и церкви Нового
Завета: «Читая Писание на рубеже веков, Павел видит себя и своих
читателей в центре Божьего процесса искупления».264 Другими
словами, Писание считает себя участником драмы искупления.265 Дух
служит Слову, позволяя читателям нашего времени видеть в себе
не только адресатов библейского повествования, но и участников
событий, описанных в Библии.
Экклесиология
Продолжая придерживаться принципа sola scriptura —
авторитетности текста, которая выше, чем авторитетность традиции
толкования, — я не хочу недооценивать важности толкования Библии
в церкви. Я намерен не отрицать роль сообщества в толковании,
а прояснить ее. Чтение Писания в церкви способствует
формированию толковательных добродетелей и создает окружение,
способствующее пониманию и исполнению Слова. Я согласен с Эллен
Дэвис: «Чтение Писания как Слова Божьего — деятельность,
являющаяся первейшим признаком христианского сообщества».266
263 Richard Hays, Echoes of Scripture in the Letters of Paul, 86.
264 Там же, 173.
265 H. Т. Райт видит в библейском повествовании пять «актов», причем написание Нового Завета
составило первую сцену пятого акта, а церковь в наши дни находится в процессе исполнения
завершающих сцен. См. N. Т. Wright, The New Testament and the People of God, 141-43.
266 Ellen F. Davis, "Holy Preaching: Ethical Interpretation and the Practical Imagination," в Ephraim
652
Глава седьмая. Преображение читателя
Церковь есть сообщество, деятельность которого посвящена
познанию смысла Библии и свидетельству о ее непреходящей
значимости. Прежде всего, за пределами сообщества верующих
невозможно познать значимость Писания. Ученые-библеисты могут
писать комментарии о том, «что это значило»; но, чтобы уяснить то,
«что это значит ныне» — нужно собрание, живое общение. Итак,
сообщество толкователей в самом деле играет важную
герменевтическую роль, но (как мы убедимся далее) роль эта состоит не в
создании смысла, а в свидетельстве о нем.
На то, что некоторые вещи воспринимаются в Библии с
трудом, есть две причины. Первая — это расстояние, историческое и
нравственное, между текстом и толкователем. Понимание требует
не только разума, но и покаяния, не только учености, но и веры.
Во-вторых, из этого следует, что наши навыки понимания и
мышления нуждаются в преображении. Нам надо научиться видеть мир
в свете Слова, а не пытаться втиснуть Слово в мирские
мировоззрения, куда оно зачастую помещается с трудом. То есть Библия
часто остается недоступной потому, что нам не хватает
воображения, чтобы в нее проникнуть. Как мы уже видели, церковь — это
сообщество, считающее себя частью продолжения истории Иисуса.
Церковь — это сообщество, верящее, что насколько бы странным
и непривлекательным ни казался отрывок, «в нем есть нечто для
нас, нечто, что мы сможем обрести через труд прилежного,
внимательного слушания, которое и есть основной акт послушания
(ср. лат. ob-abudire [рус. no-слушание. — Прим. ред.])».267 Церковь
должна быть сообществом читателей, сердце, разум и воображение
которых открыты для восприятия текста, и которые стремятся
воплотить его — историю, обетования, заповеди, закон — в новых
контекстах.
«То, что это значит» — в конечном счете, вопрос не теории, а
практики, не простого знания, а мудрости. Как понять, какое
толкование воспринимает значимость текста? Как нам оценить
разнообразные суждения о том, что этот текст значит в современном
контексте? Я полагаю, мы можем найти критерий для этого в
проявлении мудрости, в должном использовании литературного знания.
Radner and George R. Sumner, ed., Reclaiming Faith: Essays on Orthodoxy in the Episcopal Church
and the Baltimore Declaration (Grand Rapids: Eerdmans, 1993), 198.
267 Там же, 198.
653
Часть вторая. Восстановление толкования
У тех, чей разум и видение формировались библейским
повествованием и другими видами коммуникативной деятельности,
вырабатывается христианский habitus — образ жизни, который
вырабатывает навыки мышления, ощущений и поведения. Читать и понимать —
означает развивать христианское мировоззрение, духовную
ориентацию и образ жизни, полный любви. Сила Духа проявляется в
мудрости. Тот, кто должным образом применяет «то, что это
значило», свидетельствует о действенности Слова. Можно пойти
и дальше: я предлагаю следующие четыре критерия для
определения «служения Слова», совершаемого Духом среди современных
читателей. Те толкования значимости Библии предпочтительны, в
которых проявляются:
1. верность (толкования, которые распространяют смысл
текста на новые ситуации);
2. плодотворность (толкования, которые вдохновляют
читателя и производят плоды Духа);
3. силу (толкования, которые назидают сообщество,
разрешают конфликты, способствуют единству);
4. уместность (толкования, которые воплощают праведность
Божью и представляют Христа в современном контексте).
Свидетельство Духа направлено не только на отдельных людей,
но прежде всего на церковь в целом.268 Однако церковь — не столько
судья, разрешающий конфликт толкований, сколько постоянный
свидетель смысла и значимости Писания. Один из документов
Второго ватиканского Совета называет церковь, читающую
Писание, «Ученицей Духа Святого».269 Реформаторы ранее сравнивали
церковь с классной комнатой, в которой верующие приобретают
познание пути Христового. Христиане изучают в Писании Божье
толкование реальности, итог которого — история Иисуса Христа.
Итак, у христиан есть класс (церковь), предмет (путь Иисуса
Христа) и учитель (Дух). И в этом классе действительно есть текст.
Florovsky, Bible, Church, Tradition, 26.
Dei Verbum, par. 23.
654
Глава седьмая. Преображение читателя
ПРИЗВАНИЕ ЧИТАТЕЛЯ: ТОЛКОВАНИЕ КАК
УЧЕНИЧЕСТВО
Итак, как же нам следует читать, как правильно реагировать на
тексты? Важные решения должны приниматься, и принимаются —
осознано или нет. Я уже говорил, что основной выбор, стоящий
перед современным толкователем — это выбор между разными
формами реализма и его отрицания. Выбор в пользу изобретения
смысла вместо его выявления — это выбор, определяющий не только то,
как мы читаем, но и, в некоторой мере, само наше существование.
Дело в том, что смысл существования личности, как мы увидим,
определяется взаимодействием со словами: собственными словами,
словами других и Словом Божьим. Верим ли мы, что смысл
существует? Как можно нравственно истолковывать и прислушиваться
к свидетельству других, если не верить в это? И можно ли вообще
выйти за пределы самих себя, если не прислушиваться к тому, что
говорят другие?
Или-или: карнавальное толкование в отличие от
толкования в завете
Труды Кьеркегора представляют собой попытки подтолкнуть
номинальных христиан его времени к подлинному поиску веры.
В девятнадцатом веке Кьеркегор находился в парадоксальном
контексте: среди христианского мира он видел мало истинно верующих
христиан. Свойственная двадцатому веку культура толкования
представляет собой подобную же ситуацию, в которой номинальных
толкователей оказывается больше, чем подлинных. Наше время также
ставит нас перед необходимостью принятия немедленных решений.
В культурных войнах нет нейтральной полосы, потому что бой идет
за человеческий дух. В своем труде «Или-или»270 Кьеркегор
очертил два этапа жизни — эстетический и этический. Они остаются и
доныне вариантами выбора, доступными толкователю. Многие из
тех, кто якобы стремится к пониманию, на самом деле тратят
большую часть своих усилий на достижение господства над текстом. В
то время как целью Кьеркегора было пробудить в читателе чувство
270 S. Kierkegaard, Either/Or, tr. Howard V. Hong and Edna H. Hong, 2 vols. (Princeton: Princeton
Univ. Press, 1987).
655
Часть вторая. Восстановление толкования
ответственности за себя самого, моя цель — пробудить в читателе
чувство ответственности за смысл: за значение текста.
Эстетика: карнавал и принцип удовольствия
Согласно Кьеркегору, для «эстетического» образа жизни
свойственна сосредоточенность на ближайшем окружении и собственном
удовольствии. Термином эстетический Кьеркегор намеревался
передать способ существования, посвященный чувственной жизни.
Жизнь эстетическая — это жизнь без обязательств, жизнь одним
днем, жизнь, не признающая универсальных ценностей,
стремящаяся каждый момент получать удовольствие. Однако в итоге такое
существование оканчивается полным отчаянием и
характеризуется скептицизмом и растущей усталостью от жизни. Кьеркегор
называет это «болезнью к смерти». В отношении герменевтики, Барт
называл это «болезнью дерзкого и произвольного привнесения в
текст лишнего».271
Ницше — один из выдающихся «эстетических» мыслителей
модернизма. Он следовал дионисийскому духу мятежного
самозабвения, а не аполлонову духу порядка и самодисциплины. Как мы уже
видели, он считал, что самый действенный способ ниспровержения
власти и иерархии заключен в игре. Он был уверен, что
провозглашение смерти Бога приведет к освобождению человечества и
утверждению жизни. Поскольку Бог мертв, нет и истины, которую
можно было бы возвещать. Из этого следует, что наиболее истинно
говорит тот, кто осознает иллюзорность своей речи. Поэтому так
называемый «сверхчеловек» Ницше способен создавать
собственные ценности, собственный мир. Идея о Боге (или об определенном
смысле) просто подавляет человеческое творчество. Итак, для
Ницше эстетическое существование — единственный доступный для
человека выбор, и он приложил много усилий к тому, чтобы этот
выбор выглядел выбором в пользу свободы.
Деррида также считает, что критика логоцентричности ведет
к освобождению, к игре знаков. Как мы уже видели, бесконечная
игра знаков отвергает любую попытку достичь постоянства
смысла. Подобно Ницше, Деррида с восторгом утверждает «игру мира...
Barth, Church Dogmatics, 1/2, 470 (курсив мой).
656
Глава седьмая. Преображение читателя
знаков без порока, без истины и без начала».272 Ницше и Деррида
улавливают дух значительной части постмодернистского
толкования — того, что я называю «духом карнавала».273 Во время
средневековых карнавалов все становится с ног на голову: шуты
становятся королями, а короли — шутами, а все святое оскверняется.
Все авторитетное и серьезное подвергается осмеянию и
ниспровержению. Более того, один из критиков предположил, что основным,
хотя, возможно, и непреднамеренным воздействием работ Дерриды
был «импульс карнавала», который охватил гуманитарные науки и
перевернул их.274 Смотреть на мир с позиции Ницше и Дерриды и
видеть в нем дионисийский карнавал — значит праздновать его
открытость и неопределенность. Однако дух карнавала — это, в
конечном счете, мятежный дух, упраздняющий власть, смеясь над
нею: «Деконструкция подрывает изнутри систему, которую
освободительное движение стремится изменить извне... Карнавал как
социальное явление есть насмешка угнетенных над угнетающей
структурой, содержащаяся в ироническом подражании
господствующим со стороны подчиненных, полная перестановка ролей».275
Итак, карнавал — подходящая метафора для описания
постмодернистской ситуации.
Среди важнейших карнавальных перестановок ролей, которые
рассматривались в ходе этого исследования, особо выделяются
две. Первая — это смена ролей автора и читателя. Характерным
утверждением постмодернизма стало то, что читатель «пишет» смысл
текста. Вторая перестановка ролей, между Творцом и творением,
имеет еще более далеко идущие последствия. Модернистские и
постмодернистские мастера подозрительности подразумевают, что
Бог, или разговор о Боге (напр.: Библия и богословие) есть лишь
проекция творения-человека. Согласно Капитту, настоящий смысл
рассуждений о Боге — в божественности человечества; именно
мы придаем миру форму, создаем ценности, изобретаем предметы
веры. Соответственно, дух карнавала есть дух самозабвения,
шумного веселья и отрицания.
272 Derrida, Writing and Difference, 292.
273 Мой анализ карнавала выведен из анализа этого понятия Михаилом Бахтиным в его
исследовании произведений Рабле.
274 Dominick LaCapra, Rethinking Intellectual History: Texts, Contexts, Language (Ithaca: Cornell
Univ. Press, 1983), 22.
275 Jobling, "Writing the Wrongs of the World," 103, 107.
657
Часть вторая. Восстановление толкования
Карнавальный дух эстетического толкования, однако, слишком
серьезен для того, чтобы над ним смеяться. Рональд Холл
сравнивает его с бесовским духом саморазрушения. Тисельтон согласен:
карнавальная самость постмодернизма — не активный деятель, а
пассивная жертва, обреченная на то, чтобы носиться туда и обратно
под действием противоборствующих идеологических сил и
словарных наборов. Если функцию языка как средства выражения истины
нельзя воспринимать всерьез, и если любой аргумент можно свести
к риторике, самость оказывается, в конечном счете, неспособной
достигнуть понимания мира, других, или текстов. Карнавал не
может отличить истину от лжи; слово уже не меч духа, а его больное
место. Более того, в контексте карнавала невозможно выполнить
данное слово. Мы не можем ни воспринимать друг друга серьезно,
ни ожидать, что нас воспримут серьезно. Холл рассматривает
деконструкцию как «проект, направленный на то, чтобы вторгнуться,
атаковать и уничтожить легитимность, действенность и
авторитетность речевого акта».276 Отрицание речевых актов означает в
конечном счете отрицание ответственности за свои слова. Разрушая
связь между словом и миром, между автором и словом,
постмодернистские мыслители позволяют — нет, заставляют — писателей и
ораторов отрекаться от своих слов.
Этика: завет и принцип обетования
Эстетике Кьеркегор противопоставляет этику и религию, духу
карнавала — дух завета, или обязательств. Обязательства
дискурса признают существование связи между словами и миром,
между собеседниками, между словами и теми, кто их произносит.
Вспомнить, что обещание — парадигматический пример речевого
акта, наилучший пример действия, в котором один человек дает
слово другому и берет на себя обязательство сделать что-то в мире.
Давая слово другому, я взаимодействую с миром и вступаю во
взаимоотношения с другим, с собой самим и, в конечном счете, с Богом.
Этическая сторона вопроса заключается в следующем: выполню ли
я данное слово, сохраняя верность себе самому?
Подобным образом, толкование в завете признает
существование должного отношения к словам других, в особенности — к
авторским словам.
Hall, Word and Spirit, 168.
658
Глава седьмая. Преображение читателя
Глубина нашего участия в коммуникативной деятельности
проявляет наши взгляды не только на предмет толкования, но и на свое
призвание в жизни. Согласно христианскому пониманию
коммуникативной деятельности и толкования, личность — это не
воплощение жажды власти и не место, на котором происходит конфликт
толкований, а коммуникативный деятель в определяемых
взаимными обязательствами отношениях.277 Пребывать во
взаимоотношениях, обусловленных определенными обязательствами (заветом),
означает быть связанным с другими посредством слов, взывать к
другому и отвечать на его призыв. Вера, по своей сути, также
определяется взаимоотношениями, обусловленными заветом и, по
большей части, опосредованными словами («вера от слушания»).
То, что самость имеет форму повествования, следует, в основном,
из завета дискурса: настоящее бытие человека обусловлено его
прошлым и его будущим, особенно тем, как он способен
распорядиться своим словом.
Нравственно ориентированные собеседники воспринимают
слово как нечто скрепляющее, как связь между личностями, связь
между языком и миром. В свете завета дискурса мы видим, что
связь между языком и миром не является постоянным
метафизическим свойством, но существует благодаря устойчивости
надежно действующей речи. Без чувства постоянства мы сойдем с ума;
жить или общаться в состоянии непрерывной изменчивости просто
невозможно. Нравственное отношение к языку, с другой стороны,
дает возможность «сохранения постоянства исторического
сознания, и именно эта неразрывность обетования и обеспечивает
стабильность во времени и над временем среди случайностей».278
Иначе говоря, чувство надежных нравственных взаимоотношений
между собеседниками, между словами и толкователями предотвращает
растворение личности в игре языка. Придя к пониманию этого, мы
замыкаем круг наших рассуждений, возвращаясь к метафизике —
только в этот раз с (не-деконструктивным) различием. Ответ на
вопрос: «Почему существует нечто, а не ничто?» таков: «Потому
что так сказал Бог». В конечном счете, различия, которые
определили структуру мира — это не естественная данность и не
человеческая выдумка, а выражение Слова Божьего. Для христианина
277 См. мою работу "Human Being, Individual and Social."
278 Hall, Word and Spirit, 192.
659
Часть вторая. Восстановление толкования
божественное обетование надежнее любого метафизического
основания на свете. Истина, в конечном счете — это вопрос
надежности, и суть ее — Слово, пребывающее вовек. «Небо и земля прейдут,
но слова Мои не прейдут» (Мф. 24, 35).
Свобода толкования
Выбор между карнавальным толкованием и толкованием в
завете ведет к двум противоположным представлениям о свободе
толкования.
Свобода карнавала
Ведущие толкование в духе карнавала провозглашают свободу
от чего-то. До некоторой степени реформаторы, исторические
критики и постмодернисты-«упразднители» обладают сходным
иконоборческим рвением, рвением в борьбе против истеблишмента.
Каждое из этих направлений стремится освободить толкователя от
оков традиции. Однако «упразднители» заходят намного дальше в
стремлении к неограниченной свободе.279 В конце концов,
карнавал — это парадоксальный общественный ритуал, празднующий
временное освобождение от всех ограничений. Деконструктивная
свобода — это свобода вольности и распущенности, свобода игры
без правил, без цели и, в конечном счете, без удовлетворения.
Постмодернистская подозрительность к герменевтике
предполагает, что все организующие принципы — это
общественно-политические конструкции, а потому являются выражением воли к
власти. Игра без правил — это подрыв трансцендентности, любого
порядка, «расставляющего все по местам». Деррида пытается
упразднить порядок и систему, играя с ними, дразня их и выворачивая
наизнанку. Карнавал анархичен: празднование свободы без формы
и истока — пустой свободы ничтожности и нигилизма. Участники
карнавального толкования свободны лишь отрицать, но не
создавать несущую смысл форму. По верному замечанию Тисельтона,
постмодернистское представление о самости, «свободной творить»,
оказывается неравно сопряженным с представлением о бесконечно
децентрализованной самости.280
279 Стивен Мур указывает на то, что постструктурализм обладает самыми сильными
антиавторитарными инстинктами (см. Stephen Moore, Poststructuralism and the New Testament, 117).
280 Thiselton, Interpreting God and the Postmodern Self: On Meaning, Manipulation and Promise
(Edinburgh: T. & T. Clark, 1995), 107.
660
Глава седьмая. Преображение читателя
Для чего же освобождается такой толкователь, кроме
самовыражения и потворства собственным желаниям? В конце концов,
восторженное утверждение игры знаков, свойственное Ницше и
Дерриде, ведет к карнавальному осмеянию и презрению. Оно
приводит также к беспричинному смеху личности, обреченной на
свободу, как говорит об этом Сартр, в мире, который не учит свободе
и не вознаграждает ее. С этой точки зрения, человеческая комедия
оказывается пародией, театром абсурда. В условиях
карнавального толкования коммуникативная деятельность в конечном
счете не имеет смысла.
Свобода в завете
Свобода без ограничений пуста. Истинное творчество требует
определенных границ. Например, мы не смогли бы сказать ничего
нового, если бы в нашем распоряжении не было
структурированного языка, существовавшего до нас.
Интересно отметить предположение Барта, что на самом деле
толкователи Библии — самые свободные мыслители из всех.
По словам Барта, толкование Библии учит нас, что мы вольны
использовать системы мышления и описательные структуры
критически: «Даже с человеческой точки зрения, толкование Библии
можно считать лучшей и, возможно, единственной школой
свободного мышления, освобожденного от всех конфликтов и тирании
систем ради этого объекта».281 Чтение Писания освобождает и от
тирании настоящего. Текст содержит «опасную память», обладающую
способностью освобождать нас от ограничений нашей эпохи и
ориентирует нашу деятельность в надежде на будущее.
В чем заключается положительное значение свободы
толкователей? Должны ли толкователи-реалисты просто подчиниться тому,
что есть в тексте, или есть место для творчества? Мы уже видели,
что читателям, возможно, придется бороться с текстом, чтобы
добиться от него благословения: «Преобразующее толкование... — не
слепое подчинение тексту как ответу, а глубокое взаимодействие
с его содержанием и с его утверждениями истины».282 Более того,
от читателей требуется творчество, когда речь идет о применении
слов или распространении их смысла на новую ситуацию. Важнее
281 Barth, Church Dogmatics \/2, 735.
282 Schneiders, The Revelatory Text, 177.
661
Часть вторая. Восстановление толкования
же всего, вероятно, то, что толкователь свободен для иного. Само
толкование есть проявление свободы толкователя для текста: «Эта
готовность и желание принять ответственность за понимание
Слова Божьего есть свобода под властью Слова».283
Наконец, читатели свободны принять или отвергнуть послание,
которое было отправлено не ими самими. Мир текста приглашает
читателя обитать в нем, не принуждая к этому. Более того,
взаимодействуя с текстом как с иным, мы освобождаемся от себя
самих и можем входить в новые миры, преобразуя. Говорить о том,
что признание авторского замысла ведет к ограничению моей
свободы, а не расширению ее, просто необоснованно. Понимая
других, мы не теряем своей свободы. Более того, истинная свобода
имеет место, когда мы способны выйти за пределы самих себя,
когда мы открыты для преображения. Как мы видели ранее, Дух есть
действенное присутствие Слова Божьего. А где Дух, там и
истинная свобода (ср. 2 Кор. 3, 17).
Итак, толкование — это не каторга, к которой мы приговорены,
а почетная ответственность, для которой мы были освобождены.
Смех, сопутствующий толкованию в завете, — не презрительный
или пресытившийся, а радостный. Это смех общения и дружбы.
Более того, Бут предполагает, что наиболее подходящая метафора
для чтения — дружба. Дружба есть встреча разумов. Истинные
друзья относятся друг к другу как к цели, и никогда — как к
средству; друзьями не пользуются, им радуются.
История толкования не обречена на трагическое окончание;
отчаяние постмодернизма — лишь предпоследнее слово. История
толкования может иметь, если не счастливый, то, по крайней мере,
комический конец. Дж. А. Эплъярд отмечает, что комедия — это,
прежде всего, «взгляд на сообщество, преображенное и
освобожденное от его ограничений».284 Комедия строится на объединении
индивидов в сообщество. Божественная комедия, в противовес де-
конструктивной, показывает толкователей, получающих
удовольствие от понимания и от того, что понимают их.
Послушание тексту
Настоящая свобода толкователя невозможна без ограничений.
Только противник реализма воображает, будто вне личности нет
283 Barth, Church Dogmatics 1/2, 696.
284 Appleyard, Becoming a Reader, 189.
662
Глава седьмая. Преображение читателя
ничего, что должно ограничивать свободу. Существующие
ограничения следует учитывать, а не отрицать. Нравственный
толкователь проявляет свободу в послушании и послушание в свободе,
послушание тексту как произведению иного. Читатель-реформат
принимает во внимание обязанности толкователя, а не только
отстаивает его права.
«Ограниченная свобода»
Мы в долгу, возможно, неоплатном, перед другими
коммуникативными деятелями. Рикёр пишет:
Возможно, нам придется вернуть долг авторам, которых
мы читаем. Поэтому мы не можем говорить все, что нам
захочется... Вероятно, следует сказать, что текст есть
конечное пространство толкований: нет единственного
толкования, но нет и бесконечного их числа. Текст есть
пространство вариаций, обладающее собственными
ограничениями; для выбора иного толкования у нас всегда
должны быть веские причины.285
Бут соглашается: «Даже самые свободные толкования в
конечном счете паразитируют на убежденности в существовании
справедливости и понимания».286 Послушание и свобода
необязательно противоположны. Единственный путь к жизни в свободе —
послушание слову. Послушание означает, что мы ставим себя ниже
или позади другого; оно предполагает понимание и следование.
Я утверждаю, что смысл текста познают лишь те, кто исполняет его
предписания и следует его водительству.
Материальные ограничения
В одной из предыдущих глав я рассматривал методологические
ограничения свободы толкования.287 Теперь к этим ограничениям
следует добавить еще два, а именно: материальные и духовные.
По мнению Хэйза, толкование Ветхого Завета Павлом было
ограничено не методологически, а материально (т. е. богословски).
285 Ricoeur, "World of the Text, World of the Reader," 496.
286 Booth, Critical Understanding, 235.
287 См. главу 6.
663
Часть вторая. Восстановление толкования
Хэйз (вслед за Бартом) утверждает, что метод толкования никогда
не должен господствовать над содержанием текста. Наверное,
лучше всего это видно на примере музыки. Исполнители
«подчиняются» нотной записи, берут нужные ноты в правильном порядке.
Интересно, что мой учитель музыки неизменно призывал меня «любить»
ноты. В случае с толкованием подчинение тексту и любовь к нему
могут оказаться одним и тем же. Высоконравственный толкователь
должен прежде всего позволить тексту оставаться самим
собой.288 Это касается всех текстов, не только Библии. Говоря
словами Барта: «Разве не верно, что все, что говорят нам люди, очевидно
стремится... быть сказанным и понятым? Таким образом оно хочет
стать сущностным содержимым. Оно хочет, чтобы мы подошли к
нему с истинной объективностью, с интересом к нему самому».289
Любопытно, что Барт отмечает способность Библии как
письменного текста вносить вклад в свою свободу. Только будучи дискурсом,
зафиксированным письменно, Библия может обладать
определенным общедоступным смыслом, который противится попыткам
приручить его или отнести к категории какой-либо идеологии.290
По мнению Барта, постановка герменевтического вопроса о
Писании приводит к «высшему материальному вопросу богословия:
Кто есть Бог, и кто есть я?»291 Конечно же, Библия очень многое
говорит о Боге и человечестве, но для Барта она на самом деле
говорит только одно: «Иисус Христос». В его имя она
«провозглашает Бога в его богатстве и милости, и человека в его нужде и
беспомощности».292 Свидетельство, по самой своей природе, есть
слово иного. Истинная свобода толкования означает подчинение
всех человеческих понятий и идей библейскому свидетельству.
Истинная свобода есть свобода под властью Слова.
288 Я по-своему сформулировал мнение Барта. Свобода Слова, как я ее вижу, не означает,
что Слово Божье свободно течет из слов людей, писавших Библию, но что Бог Дух свободен
использовать или не использовать эти слова как свидетельство или придавать этим словам
перлокуционную действенность.
289 Barth, Church Dogmatics 1/2,471.
290 «Поэтому, если [церковь] стремится узреть Иисуса Христа, она направлена и привязана
к его основному знаку и, следовательно, к знаку этого знака... она направлена и привязана к
Писанию» (там же, 583).
291 Werner G. Jeanrond, "Karl Barth's Hermeneutics," в Nigel Biggar, ed., Reckoning With Barth:
Essays in Commemoration of the Centenary of Karl Barth s Birth (London: Mowbray, 1988), 84.
292 Barth, Church Dogmatics 1/2, 720.
664
Глава седьмая. Преображение читателя
Духовные ограничения
Нравственное толкование поможет понять текст только при
внимательном его изучении: «Отчасти достижение библеистом
компетентности демонстрируется умением толковать любые
тексты».293 Но компетентный толкователь Писания должен
научиться чему-то большему, чем работа с текстами. Библейское
толкование требует более прилежного изучения. Почему? Потому
что при небрежном прочтении невозможно раскрыть тему текста.
Читатель нуждается не только в герменевтическом методе, но и в
святости. Это требование проливает новый свет на
представление о том, что читать — значит бороться. Вера без дел — без
послушания — в поисках понимания может никогда не достичь его.
Вера, достигающая понимания, как мы уже убедились, есть вера,
послушная Слову. Более того, мы, вероятно, можем определить
веру как способность следовать Слову.
Возможно ли, что Евангелия были написаны, чтобы их
понимали лишь духовно «квалифицированные» читатели? Тимоти Дж.
Геддерт предполагает, что «необходимая квалификация была
связана больше с ученичеством, чем с ученостью».294 Стивен Фаул
доказывает, что в Деян. 10-15 упоминается ряд привычек,
склонностей и обычаев, которые должны проявляться христианскими
сообществами, стремящимися читать Писание и откликаться на
него в Духе. Потому что одно дело достигнуть знания текста, и
совсем другое — верно откликнуться на него. Способность следовать
слову, от чтения к применению, в конечном счете является
вопросом мудрости. Мудрость, как я уже предполагал, есть «знание
воспринятое»: знание, воплощаемое в жизнь. Поэтому мудрость и
разумение связаны между собой. Литературное знание, не влияющее
на жизнь, так и не становится мудростью и дает лишь ограниченное
понимание.
Следовательно, мудрость есть точка, в которой сходятся наши
рассуждения о метафизическом, эпистемологическом и
нравственном аспектах смысла. Суть мудрости в том, чтобы научиться
хорошо жить в мире. Мудрый человек успешен во всем, что
делает. Толкование требует мудрости и умножает ее. С одной стороны,
293 Schneiders, The Revelatory Text, 165.
294 Geddert, Watchwords: Mark 13 in Markan Eschatology, Journal for the Study of the New
Testament Supplement Series 26 (Sheffield: Sheffield Academic Press, 1989), 180.
665
Часть вторая. Восстановление толкования
мудрость помогает избавиться от нелепых предположений,
искажающих наш подход к тексту. Например, библейская мудрость,
признавая реальность Творца, осознает разницу между Творцом и
тварью. Подобным образом мудрость в литературной критике
означает понимание разницы между автором и читателем. Ошибиться в
авторстве — ошибиться во всем.
Кроме этого, мудрость дает возможность жить в мире так, как
это предусмотрено замыслом Творца и порядком творения. Джон
Йодер отмечает важную связь между мудростью и ученичеством:
«Только тот, кто стремится к послушанию, сможет читать и
толковать истину в согласии с Божьими намерениями».295 Толкователи
анабаптистско-меннонитской традиции считают послушание
действенным герменевтическим принципом. Дух Святой есть Дух
понимания и мудрости, Дух, ведущий сообщество верующих к
правильному приложению литературного знания, к живому литературному
смыслу. Подобно тому, как само понятие взращиваемой Духом
добродетели толкователей соединяет знание и послушание, так
бездуховное чтение и неподчинение букве ведет к толковательному и
этическому злу. Как правильно использовать Писание, воплотить
в жизнь его смысл? Умудрять ко спасению и создавать сообщество
для «наставления в праведности» (2 Тим. 3, 16). В конечном счете,
понять Библию означает пойти ее путем.
Мученический удел толкователей
Тот не понимает Писаний, кому неведом крест.296
Каждый текст содержит скрытый призыв: «Следуй за мной».
Цель прочтения — последовать этому зову. Тот, кто это сделает,
пойдет навстречу «иному», создавая, или точнее, воспринимая
смысл. В конечном счете, толкование есть форма ученичества,
стремление следовать тексту («от того, что он значил» к «тому, что
он значит теперь»). Рикёр отмечает двойственное значения
французского слова sens: «смысл» и «направление». Суть интенцио-
нальности также состоит в направленности сознания. Если смысл
295 Yoder, "The Hermeneutics of the Anabaptists," в Willard M. Swartley, ed., Essays on Biblical
Interpretation: Anabaptist-Mennonite Perspectives (Elkhart, Ind.: Institute of Mennonite Studies,
1984), 27.
296 Luther, Table Talk, 29.
666
Глава седьмая. Преображение читателя
указывает направление мысли и жизни, задача толкователя —
следовать в этом направлении. Каждый смысл — это безмолвный
призыв к толкователю следовать за ним, хотя бы путем внимательного
изучения. Читатель — это ученик, тот, кто всматривается в Слово,
размышляет над ним и исполняет его. Толкователь, в конечном
счете, не раб и не господин текста, а скорее его свидетель. Читатели,
откликающиеся на текст в свободе и послушании завета,
заслуживают звания «мучеников» за Слово.
Толкователь как свидетель Слова
Наши познания из области библейской герменевтики
применимы для герменевтики вообще. Это особенно верно, я считаю, в
отношении представления о читателе как о свидетеле смысла.
Понятие «свидетеля» имеет богатые богословские коннотации. Отец
свидетельствует о Слове (1 Ин. 5, 9); Христос есть свидетель о Боге
Отце; Писания свидетельствуют о Христе (Лк. 24); Дух
свидетельствует о Писании и о Христе (1 Ин. 5, 7); церковь свидетельствует о
Слове и Духе. Итак, свидетельствовать о смысле Писания означает
участвовать в начатой Богом коммуникативной деятельности,
охватывающей канон, церковь и мир.
Кальвин подчеркивал роль Святого Духа в качестве важнейшего
свидетеля, а также и того, кто делает всякое свидетельство
возможным: «Дело Духа [состоит] в том, чтобы запечатлеть в разуме
нашем то же учение, которое несет нам Евангелие».297 Барт
предлагает считать Писание «свидетелем» откровения. «Настоящий
свидетель не тождествен объекту свидетельства, он скорее указывает на
него».298 Каждый текст свидетельствует об авторских убеждениях,
желаниях, представлениях и т. д. Барт уверен, что текст указывает
не на себя самого, а на свое содержание. Если читатель видит лишь
«пустое место» вместо того, на что указывает автор, «это говорит
либо об экстраординарной природе содержимого текста, либо о
состоянии читателя».299
Можем ли мы выбирать способы свидетельства и использовать
их для характеристики отношений Писания и толкования? Я считаю,
297 Цит. по Ramm, Witness of the Spirit, 16.
298 Barth, Church Dogmatics 111, 463.
299 Там же, 469. К. С. Льюис согласен с тем, что важна не личность автора; важно субъектное
содержание текста. См. его полемику с Тиллярдом в The Personal Heresy.
667
Часть вторая. Восстановление толкования
что можем. Текст есть коммуникативный акт, а толкование —
свидетельство его смысла. Иначе говоря, толкование есть
свидетельство авторского коммуникативного акта. Сами евангелисты —
пример толкователя как свидетеля. Каждый из евангелистов, по сути,
писал толкование истории Иисуса, коммуникативного действия «Бога
с нами». Каждое Евангелие стремится толковать смысл «Иисуса
Христа», значимость жизни, смерти и воскресения Того, в ком писатели
увидели истинный денотат ветхозаветного закона, пророчеств и
мудрости. Нравственные толкователи и верные свидетели, евангелисты
являют собой пример свободы толкования и послушания. И хотя их
деятельность ограничивалась Писаниями Ветхого Завета и
реальностью Иисуса Христа, они были свободны в освещении разных сторон
коммуникативного акта Божьего откровения и его значимости.
Каждое из Евангелий — призыв к читателям
присоединиться к участникам описываемых событий. Текст Луки направлен
на то, «чтобы убедить читателей стать верующими свидетелями
'совершенно известных между нами событий'» (Лк. 1, I).300
Четвертое Евангелие написано, «дабы вы уверовали...» (Ин. 20, 31).
«Настоящие читатели повествования — это те, кто может
представить себя участником повествования и уверовать, что
Иисус есть Христос».301 Евангелие от Марка не только повествует о
жизни Иисуса, но и показывает, «что будет (или должно быть) с
учениками».302 А Евангелие от Матфея посвящает наставлениям в
ученичестве целую главу, в которой Иисус говорит: «Кто
принимает вас, принимает Меня» (Мф. 10, 40). Здесь Иисус отождествляет
себя самого (объект свидетельства) с теми, кто свидетельствует о
Нем.303 Евангелие от Матфея завершается Великим Поручением,
призывом свидетельствовать об истинном смысле учения и
жизни Иисуса. Призвание свидетеля — давать свидетельство:
говорить не своей властью, не от себя, но только то, что он
услышит (Ин. 16, 13). (Было бы, по меньшей мере, странно, если
бы люди-толкователи были более свободны в своих толкованиях,
300 Darr, On Character Building, 53.
301 Margaret Davies, Rhetoric and Reference in the Fourth Gospel (Sheffield: JSOT Press, 1992), 373.
302 Geddert, Watchwords, 180.
303 Гандри комментирует этот стих: «Эти высказывания указывают на то, что готовность
рисковать собой, принимая гонимых учеников, свойственна истинным ученикам. Только
ложные ученики отказались бы» (Gundry, Matthew, 202). Расширяя это утверждение, мы можем
сказать, что лишь те, кто защищает апостольское свидетельство, могут считаться истинными
учениками.
668
Глава седьмая. Преображение читателя
чем сам Дух). Поскольку само понятие свидетельства применимо
в равной мере к общей и богословской герменевтике, можно дать
следующий наказ высоконравственному толкователю: «Не
лжесвидетельствуй». Итак, толкователь — тот, кто верно
свидетельствует о смысле текста.
Церкви реформатской традиции отделяют собственные
исповедания веры от письменного Слова, которое считается высшим
авторитетом. Толкование Библии есть дискурс второго уровня; это
свидетельство нашего времени об апостольском свидетельстве.304
Представление о том, что смысл возникает при взаимодействии
текста и ведомой Духом традиции в конечном счете стирает
границу между текстом и комментарием, а без этой границы трудно
оспорить ложное свидетельство. Тисельтон прав, утверждая, что
«радикальное или эксклюзивное подчеркивание роли читающего
сообщества в создании смысла сводит «два горизонта»
герменевтики к одному единому горизонту».ш На данный момент должно
быть ясно, почему герменевтический нереализм, который
воспринимает смысл как нечто созданное, а не найденное, безнравствен;
нереалистическое толкование может быть интересным для
прочтения, но абсолютно ненадежным как свидетельство, поскольку не
указывает ни на что, кроме себя самого.
Толкователь, не будучи очевидцем прошлых событий,
свидетельствует о реальности, ясности и действенности прошлого
коммуникативного действия. Толкователь должен правдиво и верно
свидетельствовать о смысле текста. Такой свидетель, как добрый
самарянин (который не оставил без внимания «иного»,
лежавшего израненным у дороги), относится к тексту внимательно, как к
«иному». В этом смысле всякий читатель берет на себя
нравственное обязательство верно свидетельствовать о нем. Свидетельство
о смысле текста, очевидно, достойно доверия лишь настолько,
насколько его достоин сам свидетель. Лжесвидетельство — неверное
толкование, неверное понимание, определенные формы господства
над текстом — весьма часто встречаются в наше время. В конце
четвертого Евангелия мы видим, каким должно быть внимание.
Следование Петра за Иисусом, в конце концов, приводит и его к распятию
(Ин. 21,25). Точно так же истинный свидетель жизни Христовой —
304 Ср. представление Эбелинга о том, что история церкви есть история толкования Библии.
305 Thiselton, New Horizons, 546.
669
Часть вторая. Восстановление толкования
ее значения в прошлом и настоящем — свидетельствует о ней всей
своей жизнью, а иногда и смертью.
Толкователь как носитель Слова
Как мы уже видели, толкование — это духовное занятие.
Читатель пытается преодолеть самого себя, историческую отдаленность,
трудные места в тексте, стремясь вникнуть в его смысл. Текст
предназначен для воздействия на читателей, для преображения их в образ
Слова. Необходимо не только следовать тексту, но и воплотить его в
себе. Я полагаю, что цель всякого толкования — в воплощении.
Иисус Христос — лучший толкователь Божьего откровения,
уникальное и окончательное воплощение Божьего действия
общения, или «Слова». Церковь как тело Христово — вторичное и
производное воплощение. Посредством Духа Слово стремится войти
в наши сердца, воплотиться в жизни Народа Божьего.
Предостережения Писания призывают к вниманию, его заповеди — к
послушанию, его обетования — к вере. Призвание толкователя Библии
не просто в том, чтобы указывать на библейский смысл, но и
в том, чтобы воплощать его — идти путем Слова. Имя «Иисус
Христос» мы принимаем как свидетельство, касающееся нашего
собственного существования. Само толкование этого послания
становится в конце концов свидетельством: о смысле текста, его
значимости и истине. Таково «мученичество жизни».
Тексты занимают значительное место в нашей жизни, как
убедительно свидетельствует об этом Рикёр: «Для меня мир есть
множество референций, открываемых всякого рода текстами,
описательными или поэтическими, которые я прочел, понял и полюбил».306
Георг Штайнер высказывает подобное же утверждение о том, что
текст может стать «информационным контекстом» нашего бытия.307
Отклик толкователя на тексты — это, в конечном итоге, вопрос не
только смысла, но и бытия. Образ жизни — это тоже наше
«толкование» читаемых нами текстов. Подобно тому, как музыкант
толкует нотный текст, исполняя его, так и церковь являет собой общее
исполнение Писания. На Церкви как на совокупности всех, кто
носит имя Христово, лежит обязанность нести и исполнять Слово
306 Ricoeur, Interpretation Theory, 37.
307 Steiner, On Difficulty, 17.
670
Глава седьмая. Преображение читателя
Божье, более того, быть этим Словом. Заложенное автором
значение должно постоянно распространяться — воплощаться в слова,
поступки и жизнь читающих его. Лесли Ньюбигин призывает
церковь быть «герменевтикой Евангелий». Задача богословия, как его
видел Барт, состоит в оценке жизни Церкви с точки зрения
Божьего Слова. Именно поэтому смысл текста следует отличать от его
толкования: Церковь — не Слово, а живой комментарий.
«Слово Христово да вселяется в вас обильно» (Кол. 3, 16).
Павел уверен, что понимание и восприятие Писаний производит
воздействие. Те, кто следует Слову, для кого следование Слову
становится основной целью в жизни, приходят к воплощению Божьей
праведности. Читатели, «несущие» слово — это те, в ком Слово
растет, кто свидетельствует о нем, исполняя его. Они и принесут
плод. Именно об этом говорила притча Христова, в которой он
сравнил свои слова с зерном, попадающим на разного рода почву
(Мф. 13, 18-23). Те, кто слышит Слово, но не понимает его, — в
ответе за свое непонимание (13, 19). Кто невнимателен и чье
восприятие Слова неглубокое (13, 20-22), в конечном итоге теряют веру.
(Мы избавлены от описания того, что происходит с зерном,
посеянным в бездну «упразднителей».) И напротив, тот, кто понимает
Слово, приносит плоди процветает (13, 23).
Притча о сеятеле, вместе с Христовым толкованием ее, обладает
огромной герменевтической важностью, поскольку она прямо
связывает тему ученичества и понимания. Следовать Слову означает
расти в понимании. Рост требует стойкости, основного качества в
испытании временем. Понимание Слова Божьего — это наше
призвание, призыв к миссионерству и ученичеству. В третьем веке
Киприан, епископ карфагенский, видел проявление
стократного плода зерна, упавшего на добрую почву, в мучениках
церкви. Мученик — это тот, для кого свидетельство важнее жизни
(ср. Откр. 12, 11). Его нельзя заставить замолчать. Мученик
отдает свою жизнь ради смысла, воплощением которого он стал.
Поэтому герменевтическая привилегия — провозглашаемый
протестантами принцип «священства всех верующих» — ведет к
ответственности за герменевтику, призванию «мученика» — свидетеля,
страдающего за смысл.
671
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Герменевтика креста
«Что такое поэзия, музыка, искусство? Может ли их
не быть? Каково их воздействие на человека и как
это воздействие можно истолковать?» По своей сути
это богословские вопросы.
Георг Ш тайне р.308
Знак и божество имеют одно и то же время и место
рождения. Век знака — это век богословия.
ЖакДеррида.309
308 Steiner, Real Presences, 227.
309 Derrida, OfGrammatology, 14.
ГЛАВА ВОСЬМАЯ
Герменевтика смирения и убежденности
ак литературный прием, заключение традиционно дает
автору возможность свести воедино все свои аргументы и
продемонстрировать их общую согласованность. Преследуя
именно эту цель, мне хотелось бы предложить читателям несколько
способов соотнесения друг с другом содержания первых двух частей
настоящей книги. Поскольку заключение подводит к логическому
завершению всего материала, было бы вполне естественно
повторить отдельные аргументы, предложенные в книге, и дать читателю
возможность осмыслить работу как единое целое. Каждый
последующий подраздел осветит суть материала предыдущих глав с
различных точек зрения, а читатель может решить для себя: «Какова
моя роль в этом тексте?»
ТРИНИТАРНАЯ ГЕРМЕНЕВТИКА
Прежде всего, я попытался выявить философские и
богословские предпосылки, на которых строятся дебаты о толковании
Библии — как древние, так и современные. Вполне очевидно, что
богословие имеет герменевтический характер, поскольку его задача —
толкование Писания. Однако на протяжении этой работы я ставил
своей целью показать, что имеет место и обратное: герменевтика
имеет богословский характер, так как толкование текстов вообще
основано на представлении о Боге и человеке, которые в какой-то
степени, зачастую неявно, всегда присутствуют во взглядах
толкователей на автора, текст и читателя. Данная работа настойчиво
призывает литературоведов и философов сделать эти неявные
богословские убеждения явными.
От богословской герменевтики к герменевтике
тринитарной
Убежденность в присутствии в тексте чего-то, созданного не
читателем, — это вера в трансцендентное, а чтение с целью
взаимодействия с чем-то помимо простой игры знаков — это, если использовать
Заключение. Герменевтика креста
фразу Штайнера, упование на трансцендентность, надежда на
возможность преображения. И верующие (тот же Штайнер), и
неверующие (возьмем, к примеру, Дерриду) придерживаются на этот счет
одного мнения, хотя первые утверждают, что такой смысл реален, а
вторые отрицают это. Неверующие — «упразднители» и
«пользователи» — отрицают существование определенного послания текста,
превосходящего поверхностную игру. Следовательно, споры о природе
толкования в конечном счете носят богословский характер,
поскольку не исключают возможности трансцендентного.
Итак, с одной стороны, мы должны читать Библию как любой
другой текст, хотя и учитывая должным образом признаки, по
которым она отличается от прочих книг (напр.: ее божественное и
человеческое авторство, каноническую форму, ее функцию в
качестве Писания). С другой стороны, нам следует читать любой текст
с теми же богословскими предпосылками, которые мы приносим в
изучение Библии и открываем в ходе этого изучения.
Утверждение, что вся герменевтика носит богословский характер, само по
себе претенциозно, но не полно. В этой книге я утверждаю, что
лучшая общая герменевтика — герменевтика тринитарная.
Действительно, Библию следует толковать как любую другую
книгу, ведь каждая книга должна толковаться с позиций тринитар-
ного богословия.1
Мне не хотелось бы быть понятым превратно. Троица — это
не просто общий пример интеллектуального процесса, и здесь не
стоило бы прибегать к философским категориям в попытке дать
определение Троицы. Также у меня нет желания использовать трини-
тарную доктрину в качестве обоснования определенного подхода к
толкованию, как это делал Ориген в своих рассуждениях о теле,
душе и духе текста. Мое обращение к Троице исходит из
понимания того, что кризис литературы в отношении смысла текста
связан с более широким философским кризисом реализма,
рациональности и правоты и что этот кризис, выраженный словом
«постмодернизм», в свою очередь, имеет явно богословский
характер. Ведь именно ницшеанское провозглашение «смерти Бога»
в конечном счете привело к «смерти автора». Можно вспомнить,
что деконструктивизм стал герменевтическим выражением смерти
1 Только на таком основании мы можем обеспечить возможность осмысленного
межличностного общения. Альтернатива — натуралистическое, эволюционное объяснение —
видит в языке инструмент господства и манипуляции, а не общения.
676
Глава восьмая. Герменевтика смирения и убежденности
Бога.2 Однако Ницше совершил существенную богословскую
ошибку, причина которой — в ложном понимании Бога. Точнее говоря,
в отказе от тринитарного его понимания. Мое обращение к трини-
тарной герменевтике отражает попытку подобрать лекарство,
которое соответствовало бы диагнозу. Болезнь вырождения, медленно
разрушающая западную цивилизацию, — это результат отказа от
христианского Бога и Евангелия.
В ходе этого исследования мы рассмотрели ряд тройственных
сочетаний:
1. литературная триада: автор-текст-читатель;
2. традиционное тройственное сочетание философии:
метафизика-эпистемология-этика;
3. три ключевых вопроса толкования, проистекающие из этих
областей философии: герменевтический реализм —
герменевтическая рациональность — герменевтическая
ответственность;
4. три компонента речевого акта: локуции-иллокуции-перло-
куции;
5. три основных учения христианства:
сотворение-откровение (или воплощение) — освящение;
6. Божественное триединство: Отец-Сын-Святой Дух.
Так в чем же состоит роль тринитарного богословия согласно
проведенному мной анализу? Стараясь не использовать Троицу в
качестве примера или доказательства какого-то отвлеченного
утверждения, я воспользовался необыкновенно интересной
предпосылкой Штайнера, что Бог каким-то образом является гарантом
языка, объясняя это с заведомо христианской точки зрения. Таким
образом, Троица занимает место кантовского
«трансцендентного условия», совершенно необходимого, как он признает, для
существования всякого осмысленного общения между людьми.
С христианской точки зрения, Бог в первую очередь выступает в
роли коммуникативного деятеля, который общается с
человечеством посредством слов и Слова. В самом деле, само Божье бытие —
это акт откровения, составляющий завет дискурса и в то же время
исполняющий его: говорящий (Отец), Слово (Сын) и восприятие
(Дух) взаимосвязаны.3 Человеческое общение точно так же связано
2 Издается все больше работ, критикующих модернизм за отрицание определенного,
нетринитарного понимания Бога. См. в особенности Gunton, The One, the Three, and the Many.
3 Широко известно рассуждение Карла Барта, приходящее к учению о Троице путем анализа
Божьего откровения в Иисусе Христе (см. его Church Dogmatics I/I).
677
Заключение. Герменевтика креста
с заветом, хотя мы не можем выразить себя в коммуникативном
акте и быть уверенными в его действенности так, как это может
сделать Бог с помощью Слова и Духа. Люди наделены
способностью коммуникативного действия — но не в совершенстве.
В современной теории литературы слишком много искажений
или прямых отказов от ортодоксальных христианских взглядов.
Результат утраты христианского учения о Боге в теориях
толкования текста можно увидеть с помощью триад, перечисленных выше.
Отрицать, что Бог словом вызвал бытие, отличное от него самого,
означает отказывать Богу в локуциях и иллокуциях; это значит —
отвергать parole Творца вообще как понятие. Но это означает
также отрицание идеи, что сотворенному порядку присущ смысл
и авторский замысел. Это, в свою очередь, ведет к отрицанию
метафизического реализма, утверждающего, что в «книгу» природы
изначально заложен порядок, или структура. Далее, отрицание
метафизического реализма порождает другие формы отрицания
реализма, включая и герменевтический. Если смысла нет как такового,
тогда нет и предмета познания, и толкователи ни за что не несут
ответственность. В результате каждый читатель может смело
провозгласить «смерть автора», и таким образом «набирает полный ход
деятельность антибогословская... ведь отказавшись от постоянства
смысла, человек, по сути, отвергает Бога».4
Таково постмодернистское «богословие». Опираясь на
идеологию плюрализма, оно превращает читателя в писателя. Итак,
постмодернистский скептицизм противопоставляет себя не только
модернизму, но и христианскому богословию. Тезис, на котором
построена данная работа, принимает тринитарный
коммуникативный акт Бога за модель, а не просто пример любого вида общения
и восприятия. Бог есть Бог говорящий. Согласно символам веры,
Отец est locutus per prophetas. Значительная часть деяний Бога —
сотворение, предостережения, заповеди, обетования, прощение,
общение, утешение и т. д. — совершается посредством речевых
актов. Более того, речевая деятельность Бога — высший пример
ясности и действенности.
Теория речевой деятельности служит дополнительным
свидетельством в пользу тринитарного богословия общения. Если Отец
производит локуцию, то Сын является его главной иллокуцией.
Barthes, "Death of the Author," 54.
678
Глава восьмая. Герменевтика смирения и убежденности
Христос есть Слово Божье во всей его полноте, субстантивное
содержание его послания. А Дух Святой — условие и сила восприятия
послания — выступает в роли Носителя перлокуции, причина того,
что слова его не возвращаются к нему бесплодными (Ис. 55, 11).
Итак, триединый Бог является конечным выражением
коммуникативной деятельности: речевой деятель, который произносит,
воплощает и выполняет свое Слово. Люди, сотворенные по образу Бога,
также наделены особым даром коммуникативной деятельности,
однако из-за их греховности речевые акты их, как и толкования,
подвержены всем недостаткам и искажениям, свойственным павшему
состоянию человека.5
Истинное и ложное благочестие
Современные дебаты о верных и неверных способах прочтения
быстро превращаются в дебаты об истинном и ложном
благочестии, о природе объективной реальности и о том, как отличить глас
Божий от нашептываний идолов. Именно это связывает первые две
части данной работы. Эти части описывают две разновидности
богословия толкования — герметическое и герменевтическое — и
ставят перед читателем выбор: подходить к теории и практике
толкования с явно нехристианскими богословскими предпосылками
или же действовать, исходя из предпосылок, основанных на
христианском вероучении. Религиозный оттенок этому диспуту придает
то, что каждая из сторон обвиняет другую в идолопоклонстве — в
сотворении ложных образов Бога.
Предположить, что общая герменевтика есть предикат или
подраздел герменевтики богословской, мне помогли, сами того не
ведая, некоторые светские философы и литературоведы (более всех —
Деррида), признающие антибогословскую природу собственных
утверждений. Только более или менее подробно рассмотрев
современные тенденции и текущие направления развития, я мог
надеяться убедить читателей в том, что многие из основных вопросов
литературной теории и критики зависят от убеждений, по природе
своей — философских, а в конечном счете — богословских. Повторю:
5 Я считаю, что человек, совершающий речевой акт, обладает реальной свободой и
ответственностью в отношении своих слов. Однако, с точки зрения «упразднителей», самость
в меньшей мере является говорящим и в большей — языковым ничтожеством, пешкой в игре
системы языка, которая формирует речь и мышление индивида.
Заключение. Герменевтика креста
сущностное различие между разнообразными постмодернистскими
подходами к толкованию и подходом, представленным здесь,
следует искать на уровне мировоззрения, то есть на богословском
уровне. Я считаю толкование попыткой выявить авторский замысел, во
всей его сложности, и соотнести его с настоящим. Учения о
сотворении, воплощении, откровении и примирении — основные
богословские идеи, вдохновляющие и направляющие мой подход. С
другой стороны, постмодернистские критики, как правило, относятся
к восприятию абсолютного смысла как к иллюзии и рассматривают
толкования, направленные на трансцендентное, как
идолопоклонство. Исходя из этого, неверующие нашего времени стоят на
позициях разнообразных нравственных систем, оправдывающих неверие
и основанных на разного рода негативном богословии и атеизме.
Деррида видит в Боге скорее отсутствие, нежели присутствие чего-
то, а толкование сводит к простому разбору языковых знаков.
«Богословие» деконструктивизма поддерживает взгляд на мир
и на тексты как на множество безликих сил, лишенных любой
трансцендентной основы или смысла. Современные противники
реализма вслед за Фейербахом объясняют веру в Бога и в смысл
субъективизмом и жаждой власти. Я с готовностью признаю
частичную правоту такой позиции и допускаю, что субъективности
избежать невозможно. Мы видим и мир, и текст не так, как их видит
Бог, а через ограниченные и ненадежные структуры. Я утверждаю,
что некоторые литературные структуры или жанры Писания
реалистичнее других. Однако «упразднители» не признают ни
возможности, ни действенности подлинного когнитивного контакта с
реальностью. Постмодернисты не могут объяснить ни литературное
знание, ни библейское откровение. Однако, согласно Писанию и
христианскому преданию, Бог говорит, открывает себя, его Дух
сопутствует Слову, начиная с вдохновения и заканчивая написанием
и восприятием.
В конечном счете, и «упразднители», и «пользователи»
поражают герменевтику лишь в пяту. Постмодернистское недоверие к
герменевтике не всесторонне. По сути, даже постмодернисты уверены,
что они иногда встречают в текстах нечто большее, чем собственное
отражение. Недоверие не может стать устойчивым
мировоззрением; это путь к сумасшествию. Таким образом, укус постмодернизма
наиболее уязвляет самолюбивого толкователя, но он не смертелен,
если понять систему его нравственных ценностей.
680
Глава восьмая. Герменевтика смирения и убежденности
«Упразднители» и «пользователи» помогают обнаружить ложь
в толкованиях, которые претендуют на незамедлительное
извлечение «простого и ясного» смысла. После Дерриды всякий честный
толкователь вынужден признать, что его толкование не является
исчерпывающим. Поэтому я согласен с оценкой Джинронда:
«Наиболее ценный вклад Дерриды в герменевтику состоит как раз в
том, что он аргументированно возражает против любой формы
абсолютистского или авторитарного прочтения текстов».6 Однако
постмодернистские теории не преуспели в доказательстве
невозможности толкования. Ведь, хотя познание нами текстового
смысла скорее всего никогда не достигнет абсолюта, оно, тем не менее,
может быть адекватным. Вопреки Фейербаху, секрет религии — не
в атеизме, а секрет толкования — не в бессмысленности. В тексте
есть нечто, подлежащее восстановлению — присутствие,
превосходящее простое отражение моего лица. Читая, мы сталкиваемся
с «опосредованной непосредственностью» и встречаемся с лицом
или голосом «иного» — автора. Это подводит нас ко второй
объединяющей теме моей работы.
СЛОВЕСНАЯ ИКОНА И АВТОРСКОЕ ЛИЦО
В своей книге «Словесная икона» (1954) Уильям Уиммсат
выдвинул кредо «Новой критики» — подход к литературе, который,
как мы видели выше, сосредоточивался на тексте как
самостоятельном источнике знания, независимо от его происхождения или
воздействия. Я рассматривал этот подход, но предпочел ему метод
изучения текста как коммуникативного акта, обладающего замыслом,
иллокуцией и действенностью. Тем не менее, образ «словесной
иконы» заставляет серьезно задуматься. Более того, можно
рассматривать положительную аргументацию второй части как апологию
вербальной иконы, в противовес более негативному рассмотрению
текста как словесного идола в части первой.
Пустое место: словесный идол
Я уже признавал, что толкования могут привести к
идолопоклонству. И «упразднители», и «пользователи», доказывавшие это,
Jeanrond, Theological Hermeneutics, 104.
681
Заключение. Герменевтика креста
заслуживают нашей благодарности. Хочу, однако, возразить
против их дальнейшего утверждения о том, что текст есть идол —
немая вещь, а не коммуникативный акт; пустота, а не голос. «Не
делай себе кумира... не поклоняйся им и не служи им» (Исх. 20,
4-5). Запрет идолопоклонства в Библии широко известен. Однако
какое отношение он имеет к герменевтике? Только одно: и в
религии, и при чтении текста, идол, о котором идет речь — конструкция
социальная. Неверующий видит «Бога» и «смысл» как результат
поклонения и толкования, а не как необходимое для них условие.
Последствия отношения к тексту как к идолу — социальной
конструкции сообщества читателей — являются, по моему мнению,
далеко идущими. Важнейшее из них — в том, что это приводит к
отрицанию герменевтического реализма: взгляд на текст как на
идола предполагает, что поклоняющийся ему (читатель) наделяет
его властью. Смысл создается читателем, а не наделяется автором.
Ведь идолы — и это хорошо понимали авторы Библии — на самом
деле немы; они не говорят, не сообщают ничего нового.
Идол, если вернуться к метафоре, с которой я начал эту
работу — это зеркало, в котором читатель видит только себя самого:
собственные убеждения, собственные ценности, собственный
образ. Божественность идола есть лишь мера самого себя. Идолы есть
проекция человеческой воли к власти. Идол ограничивает
божественное полем зрения человека; именно потому, что идолы созданы
людьми, они и не могут помочь нам заглянуть — или выйти — за
пределы нас самих. Читатели относятся к тексту как к идолу
всякий раз, когда считают его своим творением. Согласно этой точке
зрения, читатель есть автор, писатель или создатель текста. Идол,
в конченом счете, отображает лишь своего создателя — читателя-
бога. Поэтому идол действует «как зеркало, а не как портрет».7
Поскольку постмодернистские «упразднители» и
«пользователи» борются с искушением превратить толкование в идола — честь
им и хвала. Но поскольку их иконоборчество приводит к
пренебрежению текстом, а их подозрительность лишает текст способности
говорить — они заходят слишком далеко. «Очищая храм», они
позволяют проникнуть в него другим духам, или сами занимают место
7 Аналогия с иконой используется весьма неожиданным образом в Jean-Luc Marion, God Without
Being (Chicago: Univ. of Chicago Press, 1984), 12. Мариона интересует не столько герменевтика,
сколько богословие. Он считает, что попытка представить Бога как метафизическую реальность
с понятием бытия обречена стать жертвой понятийного идолопоклонства.
682
Глава восьмая. Герменевтика смирения и убежденности
«иного», их иконоборчество оказывается вредным и опасным.
Сказать, что читатель сам создает смысл — значит, в конечном счете,
дать читателю лишь самого себя, а это — практический результат
всех форм идолопоклонства. Поскольку идол неспособен дать
ничего, что не было бы вложено в него идолопоклонниками, время,
проведенное в созерцании идола или поклонении ему — бесплодно.
В конечном счете, оно приводит идолопоклонника к заблуждению и
окончательной гибели.
Осмысленное место: словесная икона
Текст, если его рассматривать с христианской точки зрения,
выглядит скорее как икона, чем как идол. Икона, также будучи образом,
открывает бесконечную глубину, которой, в конечном итоге, должен
покориться взгляд, а не чистый лист, на котором пишет сам
читатель. С точки зрения Жан-Люка Мариона, чей анализ во многом
заложил основу этого раздела, различие между идолом и иконой — это
различие не между двумя разными видами объектов, а между двумя
разными взглядами на объект.8 Идол — это проекция, икона —
откровение; то есть в иконе есть нечто, идущее к нам извне.
Христос — «икона» (греч. eikon) невидимого Бога (Кол. 1, 15).
Марион отмечает, что икона позволяет видимому образу
«пропитаться» невидимым. Христиане не проецируют божественность на
Иисуса; божественность сияет сквозь него (и видна, по крайней
мере, тем, кто обладает верой, духовностью и добродетелями
толкователя для ее восприятия). Историк Норман Дэйвиз указывает, что
религиозная иконопись — самый долговечный жанр европейского
искусства.9 Глядя на икону, человек как будто смотрит сквозь нее,
не оставаясь на уровне видимого. Иконы не заостряют внимание на
себе самих, на своем внешнем; они — «врата таинства» и «двери
восприятия» трансцендентного, того, что лежит глубже. Так и тело
Иисуса не привлекает внимания к себе, не исчерпывает
собственного смысла. То, что верно в иконологии и в Христологии, верно и
в отношении текстов. Представление о постмодернистских
толкователях как о тех, чей взгляд «застыл» на поверхности — уровне
семиотики, langue, игры знаков — неопровержимо.
8 Несколько иной анализ «иконологического толкования» см. у Erwin Panofsky, Meaning in the
Visual Arts (Chicago: Univ. of Chicago Press, 1955) ch. 1.
9 Norman Davies, Europe: A History (Oxford: Oxford Univ. Press, 1996), 247.
683
Заключение. Герменевтика креста
Давайте дополним понятие словесной иконы. Св. Иоанн Дамас-
кин (ок. 675-749), один из восточных отцов церкви, говорил о
разнице между поклонением Богу и почитанием людей или предметов.
Почитая икону, человек обращается не к краске и холсту, а к тому,
о чем она свидетельствует.10 Икона — трансцендентное
свидетельство о трансцендентности. Но именно такой вывод мы
ранее сделали о текстах: задача толкования — выйти за пределы себя
самого ради встречи с воплощенным замыслом. Толкование есть
попытка истинного свидетельства о том, что сделано или сказано
иным. Подобным образом, состояние, необходимое для созерцания
иконы — это «внимательный покой». У нее невозможно отнять ее
смысл; иконой или текстом не столько овладевают, сколько
внимают им. Таким образом, сравнение Библии со словесной иконой
ведет не к поклонению перед ней, а к разумению Святого Писания, к
идее о том, что текст указывает на нечто иное.
Стоит упомянуть и еще одну характерную черту икон. Как
правило, религиозные иконы очерчивают лики — Бога, Христа,
святых. О чьем же лике может идти речь в тексте, словесной иконе?
Текст очерчивает «подразумеваемое лицо» автора и опосредует его
присутствие. Марион утверждает: «Текст принадлежит не себе
самому, а Тому, Кто в нем воплощен».11 Это предположение
показывает, насколько велико расстояние между Уимсаттом и новыми
критиками с одной стороны, и Марионом — с другой, в
использовании термина «икона». Для Мариона, икона — это лик, которым
невозможно «овладеть» в качестве объекта теоретического познания.
Общеизвестно, что, без труда узнавая лица, мы не можем
объяснить, как это происходит. Распознание лиц требует определенного
рода личного познания, а не просто владения основами
физиогномики. Возможно, существует аналогия между распознанием лиц и
толкованием? Может, цель чтения Писаний состоит как раз в том,
чтобы привлечь и направить взгляд на лик Христа?
Второй Никейский собор (787 г.) утверждает: «Почитающий
икону почитает в ней ипостась того, кто изображен на ней».12
В иконе важнее всего — ее содержание — ощущение личного
присутствия. Отцы церкви, конечно же, говорили об изображении лика,
10 См. Symeon Lash, "Icons," в New Dictionary of Theology, 275.
1' Marion, God Without Being, 1.
12 Цит. там же, 18.
684
Глава восьмая. Герменевтика смирения и убежденности
хотя нечто подобное можно сказать и о тексте, который оглашает
личное присутствие. Восприятие ипостаси визуальной или
словесной иконы не обязательно предполагает сущностное присутствие
личности, лишь ее интенциональное присутствие.13 В визуальной
иконе важен взгляд, исходящий из иконы: «Вместо невидимого
зеркала, которое обращало бы взгляд человека назад, на себя самого...
икона открывает лицо, взирающее на наши взгляды с тем, чтобы
привлечь их к своей глубине».14 Каждое лицо, по словам Мариона,
подобно иконе — видимое всем проявление сокровенного бытия
личности. Лицо — это и символ, и таинство того «иного», перед
которым мы несем безграничную этическую ответственность.
Авторское лицо: практика присутствия иного
Le urai lecteur est presque toujours un ami.15
Я уже утверждал, что текст можно считать идентичным
личности. Благодаря Мариону, мы теперь можем видеть, почему это так.
Икона — словесная или визуальная — открывает нам лицо,
«взирающее на нас с тем, чтобы привлечь наш взор к своей глубине».16
Подобно Мариону, Левинас связывает видимое с тем, что
познающий способен воспринять и почерпнуть. Однако ни лицо, ни
икона не могут быть исчерпаны взглядом (или толкованием). Ведь
лицо представляет сингулярность личности, перед которой у нас
существует безграничное обязательство. Мы никогда не сможем
сказать, что до конца исполнили свой долг по отношению к
«иному». Если я прав, объединяя таким образом Мариона и Левинаса и
соотнося словесную икону с лицом автора, то этика становится на
первое место в теории толкования. Главное этическое
обязательство читателя — признать существование в тексте лица или голоса,
отличного от его собственного. Левинас пишет: «Лицо и дискурс
связаны. Лицо говорит».17 Словесная икона указывает на
подразумеваемое лицо и явный голос. Я считаю, что этот голос, подобно
лицу, налагает на читателя определенную ответственность.
13 Там же, 19. Марион на самом деле определяет икону как нечто отличное от идола согласно
«цели замысла», 19.
14 Там же.
15 Цитата из Паньола (Pagnol): «Настоящий читатель — почти всегда друг».
16 Marion, God Without Being, 19.
17 Levinas, Ethics and Infinity, 87'.
685
Заключение. Герменевтика креста
Альберт Швейцер, в конце своего «Поиска исторического
Иисуса», сравнивает ученых, уверенных в том, что нашли исторического
Иисуса, с людьми, глядящими в глубокий колодец и видящими на
дне лишь собственные отражения.18 Слишком легко проецировать
на Евангелие собственные ценности и интересы. В этом
мыслители постмодернизма правы. Поэтому толкователи, стремящиеся к
литературному или историческому познанию, должны
остерегаться швейцерова колодца. Толкование требует веры в
трансцендентность — веры в лицо и голос, опосредованные текстом и не
принадлежащие нам самим. Толкование глубоко нравственно: наш
долг — прислушаться к голосу иного, а не заглушать его. А когда
этот голос свидетельствует о Божьих делах, читателям следует
отнестись к нему не просто с почтением, а с благоговением.
ГЕРМЕНЕВТИЧЕСКОЕ СМИРЕНИЕ И ЛИТЕРАТУРНОЕ
ПОЗНАНИЕ
Мы уже охарактеризовали отношения между первыми двумя
частями в терминах истинного и ложного благочестия и в терминах
различия между идолами и иконами. Моя последняя попытка
показать согласованность двух частей подчеркивает «нравственность
литературного знания». Насколько мы, как толкователи, можем
вообще быть уверены в раскрытии смысла текста, а не самих себя
и свое собственное отражение? Краткий ответ таков: Равно как
наше знание (Часть 2) должно уравновешиваться смирением
(Часть 1), так и нашему скептицизму (Часть 1) должна
противостоять убежденность (Часть 2).
Толкователь должен, с одной стороны, оставаться в пределах
собственных эпистемических способностей и не претендовать на
знание, которое недоступно, а с другой стороны — приложить все
усилия для познания доступного. Необходимо соотносить свои
возможности и имеющиеся ограничения; нравственность
литературного знания требует и того, и другого. Чтобы удержать
равновесие в этом противоречии, следует избегать как абсолютного знания,
так и абсолютного агностицизма. Быть толкователем — а к этому
мы призваны как люди и как христиане — значит сочетать в себе
достоинство и смирение: мы знаем, но не так, как знает Бог.
18 Albert Schweitzer, The Quest of the HistoricalJesus, 3d ed. (London: A. & C. Black, 1954).
686
Глава восьмая. Герменевтика смирения и убежденности
Можно ли доказать то, что интуитивно ощущает реалист — что
мы услышали голос «иного», голос автора или, если уж на то
пошло, голос Бога? Нет, будучи критическим реалистом, я научился
смирению, наблюдая конфликт толкований и упразднение
литературной гордости и предубеждения. Читатели, обладающие
чувством меры, вряд ли встанут на позиции толковательного
идолопоклонства. Здесь, опять-таки, открываемое нами для себя в Писании
оказывается верным и для герменевтики в целом. Согласно
блестящему наблюдению Штернберга, сами Писания вписывают
когнитивное различие между Богом и человечеством в ткань
библейского повествования, в котором столько неожиданных моментов,
что «единственное познание, должным образом получаемое — это
осознание нашей ограниченности».19 В то же время читатели, ясно
понимающие суть коммуникативной деятельности, не станут
жертвой толковательного скептицизма. Как мы убедились в шестой
главе, Бог создал человеческий разум для поиска и понимания смысла
коммуникативной деятельности.
Два «смертных греха» толкователя
Таких грехов два: гордыня и леность. Если в этой книге мне
удалось доказать, что в процессе чтения возможно сохранить
равновесие между познанием и смирением, то я достиг цели.
На страницах этой книги нам не раз приходилось говорить с
различными проявлениями толковательной гордыни. Этот грех
присущ как консерваторам, так и либералам, потому что не признает
никаких границ и развращает толкователя. Прежде всего, гордыня
вселяет в нас уверенность, что мы добрались до сути смысла, хотя
еще не приложили необходимых для этого усилий. Толкователь,
обуянный гордыней, уверен в себе и считает свое знание
абсолютным. По словам Тейлора, «деконструкция западной богословской
традиции выявляет неоднократные человеческие попытки занять
господствующее положение. Очевидно, причиной этой борьбы
послужило мнение о том, что мастерства можно достичь, обеспечив
«присутствие» путем преодоления «отсутствия», а идентичность —
путем подавления разногласий.20 Читатели, считающие свое
19 Steinberg, The Poetics of Biblical Narrative, 47.
20 Taylor, Erring, 15. Как я доказывал, присутствие, которого мы как читатели можем
достигнуть, есть иконическое присутствие, передающее смысл, но не отдающее его без остатка.
687
Заключение. Герменевтика креста
понимание текста единственно верным, в стремлении «овладеть»
текстом почитают свои комментарии выше самого текста.
Гордыня в них заглушает голос «иного». Именно она представляет собой
основное искушение для фундаменталиста, стремящегося к
определенности и законченности толкования.
Однако, как я уже говорил, гордыней болеет не одна партия
толкователей. Представители радикально левого крыла
герменевтической теории также подвержены ее влиянию. Как ни странно,
гордиться собственным скептицизмом так же просто, как и
определенностью — особенно для скептика, утверждающего, что познание
невозможно. Некоторые из наиболее изощренных «упразднителей»
самоуверенно сообщают нам (посредством текстов!) о смерти
автора. Но пренебрежение реальностью требований, предъявляемых к
нам автором, в конечном счете означает отказ от признания инако-
вости текста. В настойчивых проявлениях такого отрицания есть
нечто тревожное. Сосредоточение на собственном «я», на
собственном удовольствии, по мнению Пиаже, есть один из самых низких
уровней развития ребенка. Нежелание откликнуться на подлинную
инаковость текста может быть герменевтическим эквивалентом
сосредоточенного сосания большого пальца. И, наконец, стремление
скептика осмеять и унизить своих противников свидетельствует о
его гордыне, а иногда и о сумасшествии и отчаянии. Самые
уродливые проявления гордыни в толкователе ведут к унижению другой
стороны и самого текста.
Леность толкователя — своего рода тень его гордыни, ее
двойник. В то время как гордыня необоснованно претендует на знание,
лень столь же необоснованно утверждает невозможность
литературного познания. Гордыня не признает ограничений читателя;
лень же отвергает его свободу и ответственность. Не обольщайтесь:
лень для толкователя — грех столь же губительный, как и гордыня,
потому что лень порождает безразличие, невнимательность и
бездействие. Лень — еще одно имя кьеркегоровской «эстетической»
стадии существования: путь не имеющих твердых убеждений и не
способных на преданность. В частности, лень заставляет читателя
оставить попытки услышать текст. Представители правого крыла
богословия проявляют леность, когда, отказываясь от толкования
текста, полагаются на то, что кто-то другой — Дух,
телепроповедник, учитель — откроет им его смысл. Подобную же лень проявляют
и представители левого крыла, когда, вместо того чтобы работать
688
Глава восьмая. Герменевтика смирения и убежденности
над толкованием, они довольствуются многоголосием
конфликтующих, часто взаимоисключающих, прочтений. Таким образом, лень
пренебрегает голосом «иного» ничуть не меньше, чем гордыня.
Что христианство дает миру
«Герменевтика — это то, что христианство дает миру» (Бур-
бер). Рассматривая его слова в аспекте моей темы, я полагаю, что
христианский вклад в дискуссию о смысле и толковании
наилучшим образом представлен под рубрикой «герменевтики смирения
и убежденности».
Почему смирения? Во-первых, потому что смирение — ответ на
неприятие постмодернистами возможности существования
литературного познания. С учетом постоянного искушения превратить
толкования в идолов, смирение является важнейшей добродетелью.
Признавая реально существующие ограничения, смирение ведет к
победе над гордыней. Признавая, что толкователи не создают смысл,
а извлекают его, смирение дает возможность понять
действительные цели и задачи герменевтики и тем самым оказывается
естественным союзником герменевтического реализма. Смирение
значимо и для эпистемологии (для критической рациональности,
признающей собственную подверженность ошибкам), и для этики
(чувство ответственности, обязательства перед иными). Смирение —
добродетель, постоянно напоминающая толкователям о
существовании опасности понять смысл ошибочно. Иными словами,
смирение вселяет в читателя уверенность в действенности текста, дает
возможность участвовать в завете смысла и, если нужно, проявить
самоотверженность ради текста. К. С. Льюис описывает этот
толковательный «кенозис» словами, пользующимися заслуженной
известностью: «Читая великую литературу, я становлюсь тысячей
разных людей, в то же время оставаясь собой... Здесь, как и в
поклонении, в любви, в нравственном действии и в познании, я
превосхожу себя; и никогда я не бываю собой в большей мере, чем когда
делаю это».21
Деконструкция, вместе с различными видами герменевтического
недоверия, оказывает ценную услугу в обуздании гордыни
толкователя. Я с готовностью признаю эту заслугу. Однако я утверждал также,
21 Lewis, An Experiment in Criticism, 141. «Kenosis» относится к тому, что Сын Божий уничижил
себя ради иного — человека — в своем воплощении (см. Фил. 2, 5-11).
689
Заключение. Герменевтика креста
что унижение толкования и смысла, к которому приводит такое
упразднение, не тождественно смирению. Я утверждал, что смирение — это
исключительно христианский вклад в герменевтику, и это мое
утверждение дает основу для дальнейших комментариев.
Как мы уже видели, толкование конца двадцатого века
изобилует идеологическими конфликтами. Идеологические цели и
интересы читателей приобретают при этом большую важность, чем цели
и интересы авторов или текстов. Постмодернистский кризис
толкования — это, в действительности, кризис обоснования его
правильности. Чей голос, чье толкование, чья цель весомее и почему? Куль-
туроведы все чаще предостерегают от всякой претензии на знание,
в чем они усматривают попытку захватить власть. Фуко, например,
вообще готов признать «нравственность литературного знания»
явным противоречием. На этом фоне недоверия Библия выделяется
своей явной антиидеологической направленностью. Библия
обладает своего рода иммунитетом от стремления к власти. В самом
деле, несколько ярких моментов библейского повествования
включают, пусть и не всегда явную, критику гордости и предубеждения.
Более того, по большей части, именно через нелегкий опыт
толкования Библии читатели приобретают свободную от идеологии
добродетель смирения. Возможно, именно это имел в виду Барт, отмечая,
что толкователи Библии — самые свободные из мыслителей.
Верно ли, что Библия представляет собой исключение из
правила Ницше, согласно которому истина — рабыня властолюбия?
Правда ли, что Писание провозглашает нечто вроде
«антиидеологической идеологии»? Я уже отмечал важность для герменевтики
отделения творца от творения. Именно злонамеренное
пренебрежение этим привело и к грехопадению, и к вавилонской башне, и,
следовательно, к жажде власти и смешению языков — в общем, к
нарушению общения.22 Высшая точка ветхозаветной критики
идеологии — вторая заповедь, запрещающая идолопоклонство,
подчеркивающая абсолютное различие между Богом, Автором-Творцом, с
одной стороны, и человеком, толкующим существом, с другой.
В Новом Завете Иисус учит, что кроткие и смиренные
наследуют землю: «Славлю Тебя, Отче, Господи неба и земли, что Ты утаил
22 Ср.: Августин о замысле Моисея в Быт. 1 (Confessions, 12.24-25) и о том, как справиться со
множественностью толкований. Гордыня — главный грех толкователя. См. также высказывание
Кальвина о том, что конфликты толкований способствуют нашему смирению и общению с
другими толкователями (Calvin, Commentaries, 75-6).
690
Глава восьмая. Герменевтика смирения и убежденности
сие от мудрых и разумных и открыл то младенцам» (Мф. 11, 25).
В свете полной зависимости человечества от Бога, смирение —
самое честное и правильное для нас качество. Апостол Павел
указывает: «То, что для человека — юродство, есть мудрость Божия»
(1 Кор. 1, 18-25). Более того, именно богословие креста по Павлу
наилучшим образом предостерегает человека от стремления к
власти и, как следствия этого — идеологии. Идеология — главный идол
разума и иллюзия того, что смысл, подобно злополучной башне, в
конечном счете создается сообществом. Крест Христа содержит
мудрость, противоречащую окружающей нас культуре; он учит, что
для обретения себя нужно прежде умереть для себя. Это особенно
верно в контексте толкования, потому что, только отказавшись от
ложного понимания, можно обрести понимание истинное.
Христианство подчеркивает контраст между «герменевтикой
креста» и «герменевтикой славы».23 Те, кто толкуют в соответствии
с герменевтикой славы, наслаждаются собственным искусством,
навязывая авторам собственные теории толкования, в результате
чего тексты утрачивают свой настоящий смысл. Конечно, такая
«слава» недолговечна. Но с точки зрения герменевтики смирения,
мы, напротив, обретаем понимание — Бога, текстов, «иного» и
себя самих — только когда, отставив в сторону собственные
притязания, приводим свои теории толкования в точное соответствие
тексту. Еще одно, последнее, учение завершает доказательство в
пользу герменевтического смирения. Это — эсхатология, которую
мы ранее уже рассматривали. Здесь мне остается лишь добавить,
что поиск единственно истинного толкования необходимо вести с
надеждой, повторяя: «Еще не свершилось». Понимание того, что
смысл и значимость текста — не наша собственность, но лишь
отчасти исполненное обетование, зачастую оказывается самым
действенным противоядием от гордыни в толковании.
Однако герменевтика смирения — лишь одна сторона того, что
христианство дает герменевтике в целом. Смирение должно
уравновешиваться убежденностью. Почему? Здесь, вероятно, лучше всего
начать с эсхатологии — с темы проповеди самого Иисуса о том, что
царство Божье уже среди нас.24 «Уже» — эсхатологическая тема
23 Я вношу поправки в противопоставление Лютером богословия креста и богословия славы,
изложенное в его труде "Heidelberg Disputation."
24 Я имею в виду «реализованную эсхатологию», которая ассоциируется с толкованием
Христовых притч Ч. Доддом: С. Н. Dodd, The Parables of the Kingdom (London: Nisbet, 1961).
См. также N. Т. Wright, Jesus and the Victory of God (Minneapolis: Fortress, 1996), chs. 6-8.
691
Заключение. Герменевтика креста
не менее важная, чем «еще не свершилось». Существует
эсхатологическое уточнение, уместное и в эпистемологии: абсолютное
знание в настоящий момент недостижимо, но достаточное — вполне
доступно. То есть мы знаем кое-что о Боге на основании откровения,
которое уже дано нам во Христе. Действительно, здесь уже можно
говорить о «реализованной эпистемологии». Бог высказал
утверждение об истинности в кресте Христовом. Он подтвердил его
воскресением. Конечно, это — одна из сторон достоверности, которая
«еще не свершилась» — только в последний день мы будем знать
окончательно. Тем не менее, апостол Павел призывал
толкователей к проявлению смелости во имя Евангелия. Хотя смысл Библии
в будущем, возможно, откроется более полно, общая история,
изложенная в ней, доступна нам в достаточной мере, чтобы побудить
нас к дерзновенному свидетельству. Только такая уверенность,
преданность и убежденность в том, что может быть познано, поможет
отказаться от скептицизма и лености. Толкование, не связанное
обязательствами, не достойно внимания.
Как я уже утверждал, Бог сотворил людей по своему образу,
наделив их способностью к общению. Божий замысел
включает возможность прийти к пониманию через словесное общение.
Не является ли единственным основанием для общения с другими
надежда, что они понимают нас? Отчаяние, вызванное
несовершенством языка, не должно омрачать радости, обусловленной его
возможностями. «Герменевтика убежденности» призывает
читателей твердо придерживаться их коммуникативных убеждений.
Всякое познание начинается с обязательства, но на этом не
заканчивается. Герменевтика убежденности здесь означает веру в то,
что читательские добродетели, вытекающие из мотивации в пользу
литературного познания, являются также и надежным средством
достижения когнитивного контакта со смыслом.25 Вера не только
стремится к пониманию, но нередко и достигает его.
Герменевтику смирения и убежденности следует сохранять в
конструктивном равновесии. Отдавая предпочтение одному в ущерб
другому, мы вскоре станем жертвой одного из смертных грехов
толкователя. Уделив должное внимание обоим, мы сможем избежать
и герменевтического догматизма, и скептицизма. Итак, положение
25 Здесь я заимствую (и поправляю) данное Загзебски определение познания как «когнитивного
контакта с реальностью, проистекающего из дел интеллектуальной добродетели» (Virtues of the
Mind, 270).
692
Глава восьмая. Герменевтика смирения и убежденности
читателя подобно положению верующего, который simul Justus et
peccator, святой и грешник. Как в сотериологии, так и в
герменевтике, задача пастора — уравновесить уверенность и настойчивость.
Когда святых охватывают сомнения, добрый пастырь напомнит им о
том, что они — во Христе. Когда же они впадают в искушение
мыслью о собственном величии, он призовет их пребывать во
Христе. Верующему необходима и уверенность, и настойчивость. То же
можно сказать и о толкователе: он должен быть уверен, что
литературное познание и понимание возможны, но не считать, что
достигнуть их легко. Напротив, осознавая свой безграничный долг по
отношению к «иному», необходимо приложить еще больше усилий
для раскрытия смысла и понимания значимости. Подобная
динамика характерна и для труда ученого. Майкл Поланьи отлично описал
соотношение между смирением и убежденностью, составляющее
христианскую этику познания: «Основная цель этой книги [личное
познание] — в достижении образа мыслей, при котором я могу быть
твердо уверен в том, что считаю истинным, хотя и признаю, что в
принципе это может быть и ложным».26
«На сем стою»
История толкования Библии содержит прообраз представления
Поланьи о добросовестном исследователе. Мартин Лютер
окончательно определил герменевтические добродетели, провозгласив в
ситуации величайшего политического и идеологического
напряжения: «На сем стою». Краткое исповедание Лютера содержит в себе
огромную часть того, что я хотел бы сказать о взаимодействии
смирения и убежденности.27 Я стою на сем: не на том, не на всем, но на
сем. Это признание ограниченности. Я здесь, в пространстве и
времени, внутри культуры и традиций, в этом теле с этой историей. В
этом смысле, «на сем стою» — это исповедание герменевтического
смирения. В то же время, Лютер не просто отмечал, что находится
в каком-то месте, но и занимал это место. Он стоял там, где стоял,
поскольку считал именно это место верным. «На сем стою». Лютер
26 Polanyi, Personal Knowledge: Towards a Post-Critical Philosophy (Chicago: Univ. of Chicago
Press, 1962), 7.
27 Мое толкование слов Лютера — по большей части пример господства над текстом с моей
стороны. Я, однако же, считаю, что Лютер согласился бы, что я верно воспринял «дух» его
исповедания (если, конечно, оно в самом деле принадлежит ему!)
693
Заключение. Герменевтика креста
страстно отстаивал свое толкование Библии, потому что считал его
верным по отношению к смыслу самого текста. То есть Лютер
стоял за текст и вместе с текстом, против традиции его толкования.
Итак, позиция Лютера есть проявление герменевтической
убежденности.
«На сем стою». Это был ответ, данный Лютером на сложный
герменевтический вопрос. Он стоял перед императором
Священной Римской империи на Вормском сейме, обвиняемый в ереси и
под угрозой отлучения от церкви и смертной казни.
Допрашивающий обратился к нему: «Мартин, как ты можешь считать, что лишь
ты понимаешь Писание верно?» — этим, возможно, предвосхищая
постмодернистское предположение, что толкователи видят в
текстах только самих себя. В ответ Лютер заявил, что традиция
толкования не способна поколебать его уверенность. Только Писание
может убеждать: «Моя совесть пленена Словом Божьим».28 Лютер
настаивал на том, что «мудрость правит посредством Слова, а не
силой».29 Он считал речь особым даром Бога человечеству, потому
что посредством речи — чтения и проповеди Писания — приходят
вера и понимание. В конечном итоге, Лютер придерживался
убеждения, что текст и его смысл не зависимы от процесса толкования и
поэтому способны преображать читателя. Более того, один из
верных признаков истинной протестантской герменевтики
заключается в том, что она допускает возможность преобразования.
Герменевтика смирения и убежденности вполне может стать
необходимым условием реформации восприятия нами самих себя и традиции
толкования. Возможно, она является и достаточным условием для
этого. И уж точно: она является условием достоверного
толкования, то есть истинного свидетельства о смысле текста.
Ни стояние, ни понимание, однако, не являются последним
словом в толковании. Последнее слово остается за послушанием.
Церковь должна быть сообществом смиренно убежденных верующих
толкователей, чье сознание, запечатленное Духом, пленено Словом
и чьи комментарии и традиции все более стремятся к воплощению
смысла и значимости текста. Читатели, трудящиеся и молящиеся
над текстом, толкующие его свободно и ответственно, следующие
28 Более полное описание этого случая: см. Roland H. Bainton, Here I Stand: A Life of Martin
Luther (New York: Abingdon-Cokesbury, 1950), ch. 10.
29 Luther, Table Talk, 25.
694
Глава восьмая. Герменевтика смирения и убежденности
за смыслом текста, будут преображаться, все более уподобляясь
окончательному объекту библейского свидетельства. Ставшие на
этот путь и идущие по нему — поймут и устоят, тем самым
исполнив свое призвание свидетелей Слова и мучеников за него. Это —
верующие толкователи, которые, подобно псалмопевцу, берут
книгу и идут, воспевая:
Слово Твое — светильник ноге моей и свет стезе моей
(Пс. 118,105).
695
БИБЛИОГРАФИЯ
Августин Аврелий. Исповедь блаженного Августина, епископа
Гиппонского. М.: ACT, 2003.
. Христианская наука, или Основания священной герменевтики и
церковного красноречия. СПб.: В1ВЛЮПОАИ, 2006.
Ауэрбах Эрих. Мимесис. Изображение действительности в
западноевропейской литературе. М; СПб.: Per Se; Унив. кн., 2000.
Барт Карл. Послание к Римлянам. М.: ББИ, 2005.
. Церковная догматика. Т. 1. М: ББИ, 2007.
Барт Ролан. S/Z. М: УРСС, 2001.
Бахтин Михаил. Проблемы поэтики Достоевского. М: Советский писатель,
1963.
. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и
Ренессанса. М: Художественная литература, 1990.
Витгенштейн Людвиг. Философские работы. М.: Гнозис, 1994.
Гадамер Ганс-Георг. Истина и метод: Основы филос. герменевтики. М:
Прогресс, 1988.
Деррида Жак. О грамматологии. М.: Ad Marginem, 2000.
Кант Иммануил. Религия в пределах только разума. Тбилиси: Ганатлеба, 1989.
Левинас Эммануэль. Избранное: Тотальность и бесконечное. М; СПб.:
Культурная инициатива; Университетская книга, 2000.
Лиотар Жан-Франсуа. Состояние постмодерна. М; СПб.: Ин-т
экспериментальной социологии; Алетейя, 1998.
Ницше Фридрих. Воля к власти: Опыт переоценки всех ценностей (1884-
1888). М.: ИЧП «Жанна», 1994.
Пинкер Стивен. Язык как инстинкт. М.: УРСС, 2004.
Платон. Диалоги. М: Мысль, 1986.
Полани Майкл. Личностное знание: На пути к посткритической философии.
М.: Прогресс, 1985.
Рикер Поль. Время и рассказ. М.; СПб.: ЦГНИИ ИНИОН РАН; Культурная
инициатива; Университетская книга, 2000.
. Конфликт интерпретаций: Очерки о герменевтике. М.: Канон-
Пресс, 2002.
Рорти Ричард. Случайность, ирония и солидарность. М.: Русское
феноменологическое общество, 1996.
. Философия и зеркало природы. Новосибирск: Изд-во
Новосибирского ун-та, 1997.
Серл Джон. Открывая сознание заново. М.: Идея-Пресс, 2002.
Соссюр Фердинанд де. Курс общей лингвистики. М.: Логос, 1998.
Фейербах Людвиг. Сущность христианства. Рига: Звайгзне, 1983.
Хабермас Юрген. Философский дискурс о модерне. М.: Весь мир, 2003.
Библиография
Abrams, M. H. "The Limits of Pluralism: The Deconstructive Angel." Critical
Inquiry 3(1977): 425-38.
. A Glossary of Literary Terms. 4th ed. New York: Holt, Rinehart and
Winston, 1981.
Adam, А. К. М. "The Sign of Jonah: A Fish-Eye View." Semeia 51 (1990):
177-91.
. What Is Postmodern Biblical Criticism? Minneapolis: Fortress, 1995.
Alston, William P. Philosophy of Language. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-
Hall, 1964.
Alter, Robert. The Art of Biblical Narrative. New York: Basic, 1981.
Alter, Robert, and Frank Kermode, ed. The Literary Guide to the Bible. Cambridge,
Mass: Harvard Univ. Press, 1987.
Altieri, Charles. Act and Quality: A Theory of Literary Meaning and Humanistic
Understanding. Amherst: Univ. of Massachusetts Press, 1981.
Appleyard, J. A. Becoming a Reader: The Experience of Fiction from Childhood
to Adulthood. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1990.
Arendt, Hannah. The Human Condition. Chicago: Univ. of Chicago Press, 1958.
Arnold, Matthew. "The Function of Criticism at the Present Time." Pp. 1—41 in
Essays in Criticism. London: Macmillan, 1865.
Ateek, Nairn Stifan. "A Palestinian Perspective: The Bible and Liberation."
Pp. 280-86 in Sugirtharajah, Voices from the Margin.
Attridge, Derek. "Derrida and the Questioning of Literature." Pp. 1-29 in Derrida,
Acts of Literature.
Auerbach, Erich. Mimesis: The Representation of Reality in Western Literature.
Princeton: Princeton Univ. Press, 1953.
Augustine. Confessions. Tr. R. S. Pine-Coffin. London: Penguin, 1961.
. On Christian Doctrine. Tr. D. W. Robertson, Jr. Indianapolis: Bobbs-
Merrill Educational Publishing, 1958.
. The Literal Meaning of Genesis. Tr. John Hammond Taylor. New York:
Newman, 1982.
Augustine: Earlier Writings. Ed. J. H. S. Burleigh. The Library of Christian
Classics. Philadelphia: Westminster, 1953.
Austin, J. L. How to Do Things with Words. 2d ed. Cambridge, Mass: Harvard
Univ. Press, 1975.
. Philosophical Papers. 3d ed. Oxford: Oxford Univ. Press, 1979.
Bakhtin, Mikhail. Rabelais and His World. Tr. H. Iswolsky. Cambridge, Mass:
MIT Press, 1968.
. Problems of Dostoyevskys Poetics. Ed. Caryl Emerson. Minneapolis:
Univ. of Minnesota Press, 1984.
. Speech Genres and Other Late Essays. Tr. Vern W. McGee. Austin: Univ.
of Texas Press, 1986.
Bambrough, Reason, Truth and God. London: Methuen, 1969.
697
Библиография
. Moral Scepticism and Moral Knowledge. London: Routledge and Kegan
Paul, 1979.
Barker, Margaret. "Pseudonymity." Pp. 568-71 in Coggins and Houlden, ed.,
A Dictionary of Biblical Interpretation.
Barnes, Annette. On Interpretation: A Critical Analysis. Oxford: Basil Blackwell,
1988.
Barr, James. The Bible in the Modern World. London: SCM, 1973.
. Fundamentalism. Philadelphia: Westminster, 1978.
. "The Literal, the Allegorical, and Modern Scholarship." Journal for the
Study of the Old Testament 44 (1989): 3-17.
. "Literality." Faith and Philosophy 6 (1989): 412-28.
Barth, Karl. The Epistle to the Romans. 6th ed. Oxford: Oxford Univ. Press,
1968.
. Church Dogmatics. Edinburgh: T. and T. Clark, 1956-69.
Barthes, Roland. S/Z. New York: Hill and Wang, 1974.
. The Rustle of Language. Tr. Richard Howard. New York: Hill and Wang,
1986.
. "The Death of the Author." Pp. 125-30 in Burke, ed., Authorship from
Plato to Postmodernity.
Barton, John. Reading the Old Testament: Method in Biblical Study. London:
Darton, Longman and Todd, 1984.
. "History and Rhetoric in the Prophets." Pp. 51-64 in Warner, ed. The Bible
As Rhetoric.
Baxandall, Michael. Patterns of Intention: On the Historical Explanation of
Pictures. New Haven: Yale Univ. Press, 1985.
Baynes, Kenneth, James Bohman, and Thomas McCarthy, ed. After Philosophy:
End or Transformation? Cambridge, Mass, and London: MIT Press,
1987.
Berg, Temma F. "Reading In/to Mark." Semeia 48 (1989): 187-206.
Berkouwer, G. C. Holy Scripture. Studies in Dogmatics. Grand Rapids: Eerdmans,
1975.
Belsey, Catherine. Critical Practice. London and New York: Routledge, 1980.
Bhaskar, Roy. Scientific Realism and Human Emancipation. London: Verso,
1986.
. Philosophy and the Idea of Freedom. Oxford: Blackwell, 1991.
Bloesch, Donald G. Holy Scripture: Revelation, Inspiration and Interpretation.
Christian Foundations. Downers Grove, 111.: Inter Varsity, 1994.
Bloom, Harold. A Map of Misreading. Oxford: Oxford Univ. Press, 1975.
. Kabbala and Criticism. New York: Continuum, 1975.
Boone, Kathleen С The Bible Tells Them So: The Discourse of Protestant
Fundamentalism. Albany: SUNY Press, 1989.
698
Библиография
Booth, Wayne C. The Rhetoric of Fiction. Chicago: Univ. of Chicago Press,
1961.
. A Rhetoric of Irony. Chicago: Univ. of Chicago Press, 1974.
. Critical Understanding: The Powers and Limits of Pluralism. Chicago:
Univ. of Chicago Press, 1979.
. The Company We Keep: An Ethics of Fiction. Berkeley: Univ. of California
Press, 1988.
Bordwell, David. Making Meaning: Inference and Rhetoric in the Interpretation
of Cinema. Cambridge, Mass.: Harvard Univ. Press, 1989.
Botha, J. Eugene. Jesus and the Samaritan Woman: A Speech Act Reading of John
4:1-42. Leiden: E. J. Brill, 1991.
Brown, Raymond E. The Critical Meaning of the Bible. London: Geoffrey
Chapman, 1981.
. " 'And the Lord Said'? Biblical Reflections on Scripture As the Word of
God." Theological Studies 42 (1981): 3-19.
Brueggemann, Walter. The Bible and Postmodern Imagination: Texts under
Negotiation. London: SCM, 1993.
Bruns, Gerald L. "Midrash and Allegory: The Beginnings of Scriptural
Interpretation." Pp. 625-46 in Alter and Kermode, ed., The Literary
Guide to the Bible.
Bultmann, Rudolf. "The New Testament and Mythology." Pp. 1-44 in Hans
Werner Bartsch, ed. Kerygma and Myth: A Theological Debate. 2d ed.
London: S.P.C.K., 1964.
Burke, Sean. The Death and Return of the Author: Criticism and Subjectivity
in Barthes, Foucault and Derrida. Edinburgh: Edinburgh Univ. Press,
1992.
, ed. Authorship from Plato to Postmodernity: A Reader. Edinburgh:
Edinburgh Univ. Press, 1995.
Calvin: Commentaries. Ed. Joseph Haroutunian. The Library of Christian Classics.
Philadelphia: Westminster, 1958.
Caputo, John D. Radical Hermeneutics: Repetition, Deconstruction, and the
Hermeneutic Project. Bloomington: Indiana Univ. Press, 1987.
Carroll, Robert. "Authorship." Pp. 72-74 in Coggins and Houlden, ed.,
A Dictionary of Biblical Interpretation.
. "Ideology." Pp. 309-11 in Coggins and Houlden, ed., A Dictionary of
Biblical Interpretation.
Castelli, Elizabeth A., Stephen D. Moore, Gary A. Phillips, and Regina M.
Schwartz, ed. The Postmodern Bible. New Haven: Yale Univ. Press,
1995.
Childs, Brevard S. "The Sensus Literalis of Scripture: An Ancient and Modern
Problem." Pp. 80-93 in H. Donner et. al., ed. Beitragezuralttestamentlichen
Theologie. Gottingen: Vandenhoeck and Ruprecht, 1977.
699
Библиография
. Introduction to the Old Testament As Scripture. Philadelphia: Fortress,
1979.
. Biblical Theology of the Old and New Testaments. London: SCM, 1992.
Clark, S. H. PaulRicoeur. London: Routledge, 1990.
Clayton, Philip. God and Contemporary Science. Grand Rapids: Eerdmans and
Edinburgh: Edinburgh Univ. Press, 1998.
Clifford, W. K. Lectures and Essays. London: Macmillan, 1886.
Clines, David J. A., Stephen Fowl, and Stanley E. Porter, ed. The Bible in Three
Dimensions: Essays in Celebration of Forty Years of Biblical Studies in
the Univ. of Sheffield. Sheffield: Sheffield Academic Press (JSOT Supple.
Ser. 87), 1990.
Clines, David J. A. "Deconstructing the Book of Job." Pp. 65-80 in Warner, ed.,
The Bible As Rhetoric.
. "Possibilities and Priorities of Biblical Interpretation in an International
Perspective." Biblical Interpretation 1 (1993): 67-87.
Coady, C. A. J. Testimony: A Philosophical Study. Oxford: Clarendon, 1992.
Coggins, R. J. "A Future for the Commentary?" Pp. 163-75 in Watson, ed.,
The Open Text.
Coggins, R. J., and J. L. Houlden, ed. A Dictionary of Biblical Interpretation.
London: SCM and Philadelphia: Trinity Press International, 1990.
Cooper, John W. "Reformed Apologetics and the Challenge of a Post-Modern
Relativism." Calvin Theological Journal'28 (1993): 108-20.
Cotterell, Peter, and Max Turner. Linguistics and Biblical Interpretation. London:
S.P.C.K., 1989.
Crews, Frederick C. The Pooh Perplex: A Student Casebook. London: Robin
Clark, 1979.
Critchley, Simon. The Ethics of Deconstruction: Derrida and Levinas. Oxford:
Blackwell, 1992.
Croatto, J. Severino. Biblical Hermeneutics: Toward a Theory of Reading
As the Production of Meaning. Tr. Robert R. Barr. Maryknoll, N.Y.:
Orbis, 1987.
Culler, Jonathan. Structuralist Poetics: Structuralism, Linguistics and the Study of
Literature. London: Routledge, 1975.
Cupitt, Don. The Long-Legged Fly: A Theology of Language and Desire. London:
SCM, 1987.
. The Last Philosophy. London: SCM, 1995.
Currie, Gregory. "Text Without Context: Some Errors of Stanley Fish." Philosophy
and Literature 15 (1991): 212-28.
Darr, John A. On Character Building: The Reader and the Rhetoric of
Characterization in Luke-Acts. Louisville: Westminster/John Knox,
1992.
Dasenbrock, Reed Way, ed. Literary Theory After Davidson. University Park, Pa:
Pennsylvania State Univ. Press, 1993.
700
Библиография
Davies, Margaret. "Exegesis." Pp. 220-22 in Coggins, ed., A Dictionary of Biblical
Interpretation.
. Rhetoric and Reference in the Fourth Gospel. Sheffield: JSOT Press,
1992.
Davis, Ellen F. "Holy Preaching: Ethical Interpretation and the Practical
Imagination." Pp. 197-224 in Ephraim Radner and George R. Sumners,
ed., Reclaiming Faith: Essays on Orthodoxy in the Episcopal Church and
the Baltimore Declaration. Grand Rapids: Eerdmans, 1993.
Dawsey, James. The Lukan Voice: Confusion and Irony in the Gospel of Luke.
Macon, Ga: Mercer Univ. Press, 1986.
Dawson, David. Literary Theory. Guides to Theological Inquiry. Minneapolis:
Fortress Press, 1995.
De Bruyn, Frans. "Genre Criticism." Pp. 79-85 in Makaryk, ed., Encyclopedia of
Contemporary Literary Theory.
De Man, Paul. Allegories of Reading: Figural Language in Rousseau, Nietzsche,
Rilke, and Proust. New Haven: Yale Univ. Press, 1979.
. Blindness and Insight: Essays in the Rhetoric of Contemporary Criticism.
2d ed. London: Methuen, 1983.
. The Resistance to Theory. Minneapolis: Univ. of Minnesota Press, 1989.
Derrida, Jacques. "Structure, Sign and Play in the Discourse of the Human
Sciences." Pp. 247-65 in Richard Macksey and Eugene Donato, ed.,
The Languages of Criticism and the Sciences of Man. Baltimore: Johns
Hopkins Univ. Press, 1970.
. La Dissemination. Paris: Seuil, 1972.
. "Violence and Metaphysics: An Essay on the Thought of Emmanuel
Levinas." Pp. 79-153 in Writing and Difference. Tr. Alan Bass. London:
Routledge and Kegan Paul, 1978.
. "White Mythology: Metaphor in the Text of Philosophy." New Literary
History 5 (1974): 5-74.
. OfGrammatology. Tr. Gayatri Chakravorty Spivak. Baltimore and London:
Johns Hopkins Univ. Press, 1976.
. "Signature Event Context." Glyph 1 (1977): 172-97.
. "Limited Inc abc." Glyph 2 (1977): 162-254.
. Dissemination. Tr. Barbara Johnson. London: Athlone, 1981.
. Positions. Tr. Alan Bass. Chicago: Univ. of Chicago Press, 1981.
. Margins of Philosophy. Tr. Alan Bass. Chicago: Univ. of Chicago Press,
1982.
. "The Principle of Reason: The University in the Eyes of Its Pupils."
Diacritics 29 (1983): 3-20.
. The Ear of the Other: Otobiography, Transference, Translation. Ed.
Christie McDonald. Tr. Peggy Kamuf. Lincoln and London: Univ. of
Nebraska Press, 1988.
701
Библиография
. "Afterword: Toward an Ethic of Discussion." Pp. 111-54 in Limited Inc.
Evanston, 111.: Northwestern Univ. Press, 1988.
. "How to Avoid Speaking: Denials." In Harold Coward and Toby Foshay,
ed., Derrida and Negative Theology. Albany, NY: SUNY Press, 1992.
. Acts of Literature. Ed. Derek Attridge. New York and London: Routledge,
1992.
. "Remarks on Deconstruction and Pragmatism.'Tp. 77-88 in Mouffe, ed.,
Deconstruction and Pragmatism.
Detweiler, Robert, ed. Derrida and Biblical Studies: Semeia 23 (1982).
Duff, R. A. Intention, Agency and Criminal Liability: Philosophy of Action and the
Criminal Law. Oxford: Basil Blackwell, 1990.
Dunn, James D. G. The Living Word. Philadelphia: Fortress, 1988.
Eagleton, Terry. Literary Theory: An Introduction. Minneapolis: Univ. of
Minnesota Press and Oxford: Blackwell, 1983.
. Against the Grain: Essays 1975-85. London: Verso, 1986.
. Ideology: An Introduction. London: Verso, 1991.
Eco, Umberto. The Limits of Interpretation. Bloomington: Indiana Univ. Press,
1990.
. Foucaults Pendulum. London: Picador, 1990.
Eco, Umberto, with Richard Rorty, Jonathan Culler, and Christine Brooke-Rose.
Ed. Stefan Collini. Interpretation and Over interpretation. Cambridge:
Cambridge Univ. Press, 1992.
Edwards, Bruce, and Branson Woodward. "Wise As Serpents, Harmless As
Doves: Christians and Contemporary Critical Theory." Christianity and
Literature 39 (1990): 303-15.
Edwards, Michael. Towards a Christian Poetics. Grand Rapids: Eerdmans, 1984.
Eliot, T. S. "The Function of Criticism." In Selected Essays. London: Faber and
Faber, 1932.
. "The Frontiers of Criticism." Pp. 103-18 in On Poetry and Poets. London:
Faber and Faber, 1957.
Ellis, John. Against Deconstruction. Princeton: Princeton Univ. Press, 1989.
Ellul, Jacques. The Humiliation of the Word. Grand Rapids: Eerdmans, 1985.
Evans, G. R. The Language and Logic of the Bible: The Earlier Middle Ages.
Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1984.
. The Language and Logic of the Bible: The Road to Reformation. Cambridge:
Cambridge Univ. Press, 1985.
. Problems of Authority in the Reformation Debates. Cambridge: Cambridge
Univ. Press, 1992.
Farrar, Frederic W. History of Interpretation. Grand Rapids: Baker, 1961.
Farrell, Frank B. Subjectivity, Realism, and Postmodernism: The Recovery of the
World. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1994.
702
Библиография
Felder, Cain Hope, ed. Stony the Road We Trod: African-American Biblical
Interpretation. Minneapolis: Fortress, 1991.
Felerpin, Howard. Beyond Deconstruction: The Uses and Abuses of Literary
Theory. Oxford: Clarendon, 1985.
Feuerbach, Ludwig. The Essence of Christianity. Tr. George Eliot. Buffalo: New
York: Prometheus Books, 1989.
Feyerabend, Paul. Against Method: Outline of an Anarchistic Theory of Knowledge.
London: New Left Books, 1975.
Fiorenza, Elisabeth Schussler. In Memory of Her: A Feminist Theological
Reconstruction of Christian Origins. New York: Crossroad, 1983.
. Bread Not Stone: The Challenge of Feminist Biblical Interpretation.
Boston: Beacon, 1984.
. "The Ethics of Interpretation: Decentering Biblical Scholarship." Journal
of Biblical Literature 107(1988): 101-15.
Fish, Stanley. Is There a Text in This Class? The Authority of Interpretive
Communities. London and Cambridge, Mass: Harvard Univ. Press,
1980.
. Surprised by Sin: The Reader in Paradise Lost. New York: Macmillan,
1987.
. Doing What Comes Naturally: Change, Rhetoric, and the Practice of
Theory in Literary and Legal Studies. Oxford: Clarendon, 1989.
Fiske, John. Introduction to Communication Studies. 2d ed. London: Routledge,
1990.
Florovsky, Georges. Bible, Church, Tradition: An Eastern Orthodox View.
Belmont, Mass.: Nordland, 1972.
Foucault, Michel. "What is an Author?" Pp. 141-60 in Josue V. Harari, Textual
Strategies. London: Methuen, 1979.
Fowl, Stephen. "The Ethics of Interpretation or What's Left Over After the
Elimination of Meaning." Pp. 69-81 in SBL 1990 Seminar Papers
(Atlanta: Scholars, 1990).
. "How the Spirit Reads and How to Read the Spirit." Pp. 348-63 in John
Rogerson, et al., ed., The Bible in Ethics.
Fowl, Stephen E., and Gregory Jones. Reading in Communion: Scripture and
Ethics in Christian Life. Grand Rapids: Eerdmans, 1991.
Fowler, Alistair. Kinds of Literature: An Introduction to the Theory of Genres and
Modes. Oxford: Clarendon, 1982.
Fowler, Robert M. Let the Reader Understand: Reader-Response Criticism and
the Gospel of Mark. Minneapolis: Fortress, 1991.
Fox, Michael V. "The Uses of Indeterminacy." Semeia 71 (1995): 173-92.
Freadman, Richard, and Seumas Miller. Re-thinking Theory: A Critique of
Contemporary Literary Theory and an Alternative Account. Cambridge:
Cambridge Univ. Press, 1992.
703
Библиография
Freeman, Curtis. "Towards a Sensus Fidelium for an Evangelical Church:
Postconservatives and Postliberals on Reading Scripture." Pp. 162-79
in Timothy Phillips and D. Ockholm, ed. The Nature of Confession:
Evangelicals and Postliberals in Dialogue. Downers Grove, 111.:
Inter Varsity, 1996.
Frei, Hans. The Eclipse of Biblical Narrative. A Study in Eighteenth and Nineteenth
Century Hermeneutics. New Haven: Yale Univ. Press, 1974.
. "The 'Literal Reading' of Biblical Narrative in the Christian Tradition:
Does It Stretch or Will It Break?" Pp. 36-77 in Frank McConnell, ed. The
Bible and the Narrative Tradition. New York: Oxford Univ. Press, 1986.
. Types of Christian Theology. Ed. George W. Hunsinger and William C.
Placher. London and New Haven: Yale Univ. Press, 1992.
Frye, Northrop. Anatomy of Criticism: Four Essays. Princeton: Princeton Univ.
Press, 1957.
. The Great Code: The Bible and Literature. London: Routledge and Kegan
Paul, 1982.
. Words with Power, Being a Second Study of the Bible and Literature. New
York: Harcourt Brace Jovanovich, 1990.
Gabel, John B. and Wheeler, Charles B. The Bible As Literature: An Introduction.
New York and Oxford: Oxford Univ. Press, 1986.
Gadamer, Hans-Georg. Truth and Method. New York: Seabury, 1975.
Gaipa, Mark, and Robert Scholes. "On the Very Idea of a Literal Meaning."
Pp. 160-79 in Dasenbrock, ed., Literary Theory After Davidson.
Gamble, Richard C. "Brevitas etfacilitas: Toward an Understanding of Calvin's
Hermeneutic." Westminster Theological Journal 47 (1985): 1-17.
Garcia, Jorge J. E. "Can There Be Texts Without Historical Authors?" American
Philosophical Quarterly 31 (1994): 245-53.
Gasche, Rodolphe. The Tain of the Mirror: Derrida and the Philosophy of
Reflection. Cambridge, Mass: Harvard Univ. Press, 1986.
Gass, William. Habitations of the Word. New York: Simon and Schuster, 1985.
Geddert, Timothy J. Watchwords: Mark 13 in Markan Eschatology. JSNT Suppl.
Series 26. Sheffield: Sheffield Academic Press, 1989.
Geertz, Clifford. The Interpretation of Cultures: Selected Essays. London: Fontana,
1993.
Gill, Jerry. Mediated Transcendence. A Postmodern Reflection. Macon, Ga.:
Mercer Univ. Press, 1989.
Gloversmith, Frank, ed. The Theory of Reading. Sussex: Harvester, 1984.
Goodman, Nelson. Ways of Worldmaking. Indianapolis: Hackett, 1978.
Graham, Susan Lochrie. "On Scripture and Authorial Intent: A Narratological
Proposal." Anglican Theological Journal 11 (1995): 307-20.
Grant, Robert, and David Tracy. A Short History of Biblical Interpretation. 2d ed.
Philadelphia: Fortress, 1984.
704
Библиография
Grice, H. P. "Meaning." Philosophical Review 66 (1957): 377-88.
. "Utterer's Meaning and Intentions." Philosophical Review 78 (1969):
147-77.
Groden, Michael, and Martin Kreiswirth, ed. The Johns Hopkins Guide to Literary
Theory and Criticism. Baltimore: Johns Hopkins Univ. Press, 1994.
Gundry, R. H. Soma in Biblical Theology, With Emphasis on Pauline Anthropology.
Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1976.
. Matthew: A Commentary on His Literary and Theological Art. Grand
Rapids: Eerdmans, 1982.
. Mark: A Commentary on His Apology for the Cross. Grand Rapids:
Eerdmans, 1993.
Gunton, Colin. The One, the Three and the Many: God, Creation and the Culture
of Modernity. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1993.
. A Brief Theology of Revelation. Edinburgh: T. & T. Clark, 1995.
Habermas, Jiirgen. "Philosophy As Stand-in and Interpreter." Pp. 296-313 in
Baynes, ed., After Philosophy.
. "What is Universal Pragmatics?" Pp. 1-68 in Communication and the
Evolution of Society. Tr. Thomas McCarthy. London: Heinemann, 1979.
. The Theory of Communicative Action. Vol. I. Reason and the Rationalization
of Society. Tr. Thomas McCarthy. Boston: Beacon, 1984.
. Philosophical Discourses of Modernity. Tr. Frederick G. Lawrence.
Cambridge: Polity, 1987.
. Justification and Application: Remarks on Discourse Ethics. Cambridge,
Mass: MIT Press, 1993.
Hagen, Kenneth. Luther s Approach to Scripture As Seen in His "Commentaries "
on Galatians 1519-1538. Tubingen: J. С. В. Mohr, 1993.
Hall, Ronald L. Word and Spirit: A Kierkegaardian Critique of the Modern Age.
Bloomington: Indiana Univ. Press, 1993.
Handelmann, Susan. The Slayers of Moses: The Emergence of Rabbinic
Interpretation in Modern Literary Theory. Albany: SUNY Press, 1982.
Harris, Wendell V. Interpretive Acts: In Search of Meaning. Oxford: Clarendon,
1988.
. Literary Meaning: Reclaiming the Study of Literature. London: Macmillan,
1996.
Hart, Kevin. The Trespass of the Sign: Deconstruction, Theology and Philosophy.
Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1989.
. "The Poetics of the Negative." Pp. 281-340 in Prickett, ed., Reading the
Text: Biblical Criticism and Literary Theory.
Hartman, Geoffrey H. The Fate of Reading and Other Essays. Chicago: Univ. of
Chicago Press, 1975.
Harvey, Van. The Historian and the Believer: The Morality of Historical Knowledge
and Christian Belief. New York: Macmillan, 1966.
23-227
705
Библиография
Hauerwas, Stanley. Unleashing the Scripture: Freeing the Bible from Captivity to
America. Nashville, Tenn.: Abingdon, 1993.
Hays, Richard. The Faith of Jesus Christ: An Investigation of the Narrative
Substructure of Paul s Theology in Galatians 3:1 - 4:11. SBL Dissertation
Series 56. Chico, Calif.: Scholars, 1983.
. Echoes of Scripture in the Letters of Paul. New Haven: Yale Univ. Press,
1989.
Heidegger, Martin. Poetry, Language, Thought. Tr. Albert Hofstadter. New York:
Harper and Row, 1971.
Heil, John Paul. Paul s Letter to the Romans: A Reader-Response Commentary.
New York: Paulist, 1987.
Hesse, Mary. Models and Analogies in Science. Notre Dame: Univ. of Notre Dame
Press, 1966.
Hirsch, E. D., Jr. Validity in Interpretation. New Haven: Yale Univ. Press, 1967.
. The Aims of Interpretation. Chicago: Univ. of Chicago Press, 1976.
. "The Politics of Theories of Interpretation." In W. J. T. Mitchell, ed. The
Politics of Interpretation. Chicago: Univ. of Chicago Press, 1983.
. "Meaning and Significance Reinterpreted." Critical Inquiry 11 (1984):
202-24.
. "Transhistorical Intentions and the Persistence of Allegory." New Literary
History 25 (1994): 549-67.
Hix, H. L. Morte d'Author: An Autopsy Philadelphia: Temple Univ. Press, 1990.
Holub, Robert С Reception Theory: A Critical Introduction. London: Methuen,
1984.
Honderich, Ted. ed. The Oxford Companion to Philosophy. Oxford: Oxford Univ.
Press, 1994.
Houlden, J. H., ed. The Interpretation of the Bible in the Church. London: SCM,
1995.
Hoy, David, and Thomas McCarthy. Critical Theory. Great Debates in Philosophy.
Oxford: Blackwell, 1994.
Hoy, David. The Critical Circle: Literature, History and Philosophical
Hermeneutics. Berkeley: Univ. of California Press, 1978.
. "Must We Mean What We Say? The Grammatological Critique of
Hermeneutics." Pp. 397^ 15 in Brice R. Wachterhauser, ed. Hermeneutics
and Modern Philosophy. Albany: SUNY Press, 1986.
Ingraffia, Brian. Postmodern Theory and Biblical Theology. Cambridge:
Cambridge Univ. Press, 1995.
Iser, Wolfgang. The Implied Reader: Patterns of Communication in Prose Fiction
from Bunyan to Beckett. Baltimore: Johns Hopkins Univ. Press, 1974.
Jacobsen, Douglas. "The Calvinist-Arminian Dialectic in Evangelical
Hermeneutics." Christian Scholars Review 23 (1993): 72-89.
Jakobson, Roman. "Linguistics and Poetics." Pp. 350-77 in T. A. Sebeok, ed. Style
in Language. Cambridge, Mass: MIT Press, 1960.
706
Библиография
Jauss, Hans Robert. Towards an Aesthetic of Reception Theory. Minneapolis:
Univ. of Minnesota Press, 1982.
Jeanrond, Werner G. Text and Interpretation As Categories of Theological
Thinking. New York: Crossroad, 1988.
. "Karl Barth's Hermeneutics." Pp. 80-97 in Nigel Biggar, ed. Reckoning
with Barth: Essays in Commemoration of the Centenary of Karl Barth's
Birth. London: Mowbray, 1988.
.Theological Hermeneutics: Development and Significance. London:
Macmillan, 1991.
Jeffrey, David Lyle. "Caveat Lector: Structuralism, Deconstruction, and Ideology."
Christian Scholar s Review 17 (1988): 436-48.
Jobling, David. "Writing the Wrongs of the World: The Deconstruction of the
Biblical Text in the Context of Liberation Theologies." Semeia 51 (1990):
81-118.
Jowett, Benjamin. The Interpretation of Scripture and Other Essays. London:
George Routledge and Sons, n.d.
Juhl, P. D. Interpretation: An Essay in the Philosophy of Literary Criticism.
Princeton: Princeton Univ. Press, 1980.
Jungel, Eberhard. Karl Barth: A Theological Legacy. Tr. Garrett E. Paul.
Philadelphia: Westminster, 1986.
Kant, Immanuel. Religion Within the Limits of Reason Alone. Tr. T. N. Greene and
H. H. Hudson. New York: Harper and Row, 1960.
Kent, Thomas. "Interpretation and Triangulation: A Davidsonian Critique of
Reader-Oriented Literary Theory." Pp. 37-58 in Dasenbrock, ed., Literary
Theory after Davidson.
Kermode, Frank. The Genesis of Secrecy: On the Interpretation of Narrative.
Cambridge, Mass: Harvard Univ. Press, 1979.
Kerr, Fergus. Theology After Wittgenstein. Oxford: Basil Blackwell, 1986.
Kierkegaard, Soren. For Self-Examination: Recommended for the Times. Tr. Edna
and Howard Hong. Minneapolis: Augsburg, 1940.
Kirkpatrick, Frank G. Together Bound: God, History and the Religious Community.
Oxford: Oxford Univ. Press, 1994.
Knapp, Steven, and Walter Benn Michaels. "Against Theory." Pp. lla—30 in
Mitchell, ed., Against Theory.
. "Reply to Rorty." Pp. 139-46 in Mitchell, ed., Against Theory.
. "Against Theory 2: Hermeneutics and Deconstruction." Critical Inquiry
14 (1987/88): 49-68.
. "Reply to John Searle." New Literary History 25 (1994): 669-75.
Knapp, Steven. Literary Interest: The Limits of Anti-Formalism. Cambridge,
Mass, and London: Harvard Univ. Press, 1993.
Kristeva, Julia. Desire in Language: A Semiotic Approach to Literature and Art.
New York: Columbia Univ. Press, 1980.
23*
707
Библиография
Kurz, William S. Reading Luke-Acts: Dynamics of Biblical Narrative. Louisville:
Westminster/ John Knox, 1993.
LaFargue, Michael. "Are Texts Determinate? Derrida, Barth, and the Role of the
Biblical Scholar." Harvard Theological Review 81 (1988): 341-57.
Lanser, Susan Snaider. The Narrative Act: Point of View in Prose Fiction. Princeton:
Princeton Univ. Press, 1981.
Lategan, Bernard C. "Introduction: Coming to Grips with the Reader." Semeia 48
(1989): 3-17.
Lawlor, Leonard. "Dialectic and Iterability: The Confrontation between Paul
Ricoeur and Jacques Derrida." Philosophy Today 32 (1988): 181-94.
Lehrer, Keith. Thomas Reid. The Arguments of the Philosophers. London and
New York: Routledge, 1989.
Leitch, Vincent B. Deconstructive Criticism: An Advanced Introduction. London:
Hutchinson, 1983.
Lentricchia, Frank. After the New Criticism. London: Methuen and Chicago: Univ.
of Chicago Press, 1980.
Levinas, Emmanuel. Ethics and Infinity. Tr. R. A. Cohen. Pittsburgh: Duquesne
Univ. Press, 1985.
Lewis, С S., and E. M. W. Tillyard. The Personal Heresy: A Controversy. Oxford:
Oxford Univ. Press, 1939.
Lewis, C. S. A Preface to Paradise Lost. Oxford: Oxford Univ. Press, 1942.
. Reflections on the Psalms. London: Geoffrey Bles, 1958.
. An Experiment in Criticism. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1961.
. "Myth Became Fact." Pp. 63-67 in God in the Dock: Essays on Theology
and Ethics. Ed. Walter Hooper. Grand Rapids: Eerdmans, 1970.
Lindbeck, George A. The Nature of Doctrine: Religion and Theology in a
PostliberalAge. Philadelphia: Westminster, 1984.
. "Scripture, Consensus, and Community." Pp. 74-101 in Richard John
Neuhaus, ed. Biblical Interpretation in Crisis: The Ratzinger Conference
on Bible and Church. Encounter Series. Grand Rapids: Eerdmans, 1989.
Lipton, Peter. Inference to the Best Explanation. London: Routledge, 1991.
Livingstone, Paisley. Literary Knowledge: Humanistic Inquiry and the Philosophy
of Science. Ithaca: Cornell Univ. Press, 1988.
. Literature and Rationality: Ideas of Agency in Theory and Fiction.
Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1991.
Longman, Tremper III. Literary Approaches to Biblical Interpretation. Foundations
of Contemporary Interpretation. Grand Rapids: Zondervan, 1987.
Lundin, Roger, Anthony Thiselton, and Clare Walhout. The Responsibility of
Hermeneutics. Grand Rapids: Eerdmans and Exeter: Paternoster, 1985.
Lyotard, Francois. The Postmodern Condition: A Report on Knowledge.
Minneapolis: Univ. of Minnesota Press, 1984.
Mackey, Louis. "Slouching Towards Bethlehem: Deconstructive Strategies in
Theology." Anglican Theological Review 65 (1983): 255-72.
708
Библиография
Macmurrary, John. The Self As Agent. London: Faber and Faber, 1957.
Madison, G. B. The Hermeneutics ofPostmodernity: Figures and Themes. Studies
in Phenomenology and Existential Philosophy. Bloomington: Indiana
Univ. Press, 1988.
Mailloux, Stephen. "Rhetorical Hermeneutics." Critical Inquiry 11 (1985): 620-
41.
Makaryk, Irena R., ed. Encyclopedia of Contemporary Literary Theory:
Approaches, Scholar, Terms. Toronto: Univ. of Toronto Press, 1993.
Malbon, Elizabeth Struthers, and Edgar V. McKnight, ed. The New Literary
Criticism and the New Testament. Sheffield: Sheffield Univ. Press, 1994.
Margolis, Joseph. Interpretation Radical but Not Unruly: The New Puzzle of the
Arts and History. Berkeley: Univ. of California Press, 1995.
Marion, Jean-Luc. God Without Being: Hors-Texte. Tr. Thomas A. Carlson.
Chicago: Univ. of Chicago Press, 1991.
Marshall, Bruce D. "Meaning and Truth in Narrative Interpretation: A Reply to
George Schner." Modern Theology 8 (1992): 173-79.
Martindale, Charles. Redeeming the Text: Latin Poetry and the Hermeneutics of
Reception. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1993.
Mayes, A. D. H. "Deuteronomistic History." Pp. 174-76 in Coggins and Houlden,
ed., A Dictionary of Biblical Interpretation.
McFague, Sallie. Models of God: Theology for an Ecological, Nuclear Age.
Philadelphia: Fortress, 1987.
McKeever, Kerry. "How to Avoid Speaking about God: Poststructuralist
Philosophers and Biblical Hermeneutics." Journal of Literature and
Theology 6 (1992): 228-38.
McKnight, Edgar V. The Bible and the Reader: An Introduction to Literary
Criticism. Philadelphia: Fortress, 1985.
. Post-Modern Use of the Bible: The Emergence of Reader-Oriented
Criticism. Nashville, Term.: Abingdon, 1988.
Metzger, Bruce M., and Michael D. Coogan. The Oxford Companion to the Bible.
Oxford: Oxford Univ. Press, 1993.
Mey, Jacob L. Pragmatics: An Introduction. Oxford: Blackwell, 1993.
Meyer, Ben F. Critical Realism and the New Testament. Allison Park, Pa.:
Pickwick, 1989.
."The Challenges of Text and Reader to the Historical-Critical Method." Pp.
3-12 in Wim Beuken, Sean Freyne, and Anton Weiler, eds. The Bible and
Its Readers. Concilium 1991/1. London: SCM, 1991.
Milbank, John. Theology and Social Theory: Beyond Secular Reason. Oxford:
Blackwell, 1990.
Mitchell, W. J. T. ed., Against Theory: Literary Studies and the New Pragmatism.
Chicago: Univ. of Chicago Press, 1985.
Moi, Toril. Sexual/Textual Politics: Feminist Literary Theory. London: Methuen,
1985.
709
Библиография
Molina, David Newton-de. On Literary Intention. Edinburgh: Edinburgh Univ.
Press, 1976.
Montefiore, Alan. "Philosophy, Literature and the Restatement of a Few Banalities."
Monist 69 (1986): 56-67.
Moore, Stephen D. Literary Criticism and the Gospels: The Theoretical Challenge.
New Haven: Yale Univ. Press, 1989.
. Poststructuralism and the New Testament: Derrida and Foucault at the
Foot of the Cross. Minneapolis: Fortress, 1994.
Morgan, Robert, with John Barton. Biblical Interpretation. Oxford Bible Series.
Oxford: Oxford Univ. Press, 1988.
Morson, Gary Saul, and Caryl Emerson, eds. Mikhail Bakhtin: Creation of a
Prosaics. Palo Alto, Calif: Stanford Univ. Press, 1990.
Mouffe, Chantal, ed. Deconstruction and Pragmatism. London: Routledge, 1996.
Muecke, D. C. The Compass of Irony. London: Methuen, 1969.
Murphy, Nancey. Beyond Liberalism and Fundamentalism: How Modern and
Postmodern Philosophy Set the Theological Agenda. Valley Forge, Pa.:
Trinity Press International, 1996.
. Anglo-American Postmodernity: Philosophical Perspectives on Science,
Religion, and Ethics. Boulder, Colo: Westview, 1997.
Nehemas, Alexander. "The Postulated Author: Critical Monism As a Regulative
Ideal." Critical Inquiry 8 (1981): 133-49.
. "What an Author Is." Journal of Philosophy 83 (1986): 685-91.
. "Writer, Text, Work, Author." Pp. 265-91 in Anthony J. Cascardi, ed.
Literature and the Question of Philosophy. Baltimore: Johns Hopkins
Univ. Press, 1987.
Neufeld, Dietmar. Reconceiving Texts As Speech Acts: An Analysis of 1 John.
Leiden: E. J. Brill, 1994.
Neusner, Jacob. What is Midrash? Philadelphia: Fortress, 1987.
Nida, Eugene A. Toward a Science of Translating. Leiden: E. J. Brill, 1964.
Nida, Eugene A., and Charles R. Taber. The Theory and Practice of Translation.
Leiden: E. J. Brill, 1974.
Niebuhr, H. Richard. "The Meaning of Responsibility." Pp. 19-38 in James M.
Gustafson and James T. Laney, ed. On Being Responsible: Issues in
Personal Ethics. London: SCM, 1969.
Nietzsche, Friedrich. The Will to Power. Tr. Walter Kaufmann. New York: Vintage,
1967.
Noble, Paul R. "The Sensus Literalis: Jowett, Childs, and Barr." Journal of
Theological Studies 54 (1993): 1-23.
. "Hermeneutics and Post-Modernism: Can We Have a Radical Reader-
Response Theory? Part I." Religious Studies 30 (1994): 419-36.
710
Библиография
. "Hermeneutics and Post-Modernism: Can We Have a Radical Reader-
Response Theory? Part II." Religious Studies 31 (1995): 1-22.
. The Canonical Approach: A Critical Reconstruction of the Hermeneutics
ofBrevardS. Childs. Leiden: E. J. Brill, 1995.
Noll, Stephen. "Reading the Bible As the Word of God." Churchman 107 (1993):
227-53.
Norris, Christopher. Deconstruction: Theory and Practice. London: Methuen,
1982.
. Contest of the Faculties: Philosophy and Theory after Deconstruction.
London: Methuen, 1985.
. Derrida. Fontana Modern Masters. London: Fontana, 1987.
. What's Wrong with Postmodernism? Critical theory and the Ends of
Philosophy. London: Harvester Wheatsheaf, 1990.
Novitz, David. "The Rage for Deconstruction." Monist 69 (1986): 39-55.
Nuttall, A. D. A New Mimesis: Shakespeare and the Representation of Reality.
London: Methuen, 1983.
Ogden, C.K., and I. A. Richards. The Meaning of Meaning: A Study of the Influence
of Language Upon Thought and of the Science of Symbolism. New York
and London: Harcourt Brace Jovanovich, 1989.
Ohmann, Richard. "Speech Acts and the Definition of Literature." Philosophy and
Rhetoric 4 (1971): 1-19.
. "Literature As Act." Pp. 81-107 in Seymour Chatman, ed. Approaches to
Poetics. New York: Columbia Univ. Press, 1973.
Olsen, Stein Haugom. The End of Literary Theory. Cambridge: Cambridge Univ.
Press, 1987.
Osborne, Grant R. The Hermeneutical Spiral: A Comprehensive Introduction to
Biblical Interpretation. Downers Grove, 111.: Inter Varsity, 1991.
Packer, J. I. "In Quest of Canonical Interpretation." Pp. 35-55 in Robert K.
Johnston, ed. The Use of the Bible in Theology: Evangelical Options.
Atlanta: John Knox, 1985.
Patte, Daniel. "Speech Act Theory and Biblical Exegesis." Semeia 41 (1988):
85-102.
Peacocke, Arthur. Theology for a Scientific Age. Rev. ed. London: SCM, 1993.
Pepper, Stephen. World Hypotheses: A Study in Evidence. Los Angeles: Univ. of
California Press, 1970.
Petersen, Norman R. Literary Criticism for New Testament Critics. Philadelphia:
Fortress, 1978.
Petrey, Sandy. Speech Acts and Literary Theory. London: Routledge, 1990.
Peukert, Helmut. Science, Action and Fundamental Theology: Towards a Theory
of Communicative Action. Cambridge, Mass: MIT Press, 1984.
Phillips, Gary A. "Exegesis As Critical Practice: Reclaiming History and Text
from a Postmodern Perspective." Semeia 51 (1990): 7-49.
711
Библиография
. "The Ethics of Reading Deconstructively, or Speaking Face-to-Face: The
Samaritan Woman Meets Derrida at the Well." Pp. 283-325 in Elizabeth
Struthers Malbon and Edgar McKnight, The New Literary Criticism and
the New Testament.
." 'You Are Either Here, Here, Here, or Here': Deconstruction's Troublesome
Interplay." &?теш 71 (1995): 193-211.
Pinker, Stephen. The Language Instinct: How the Mind Creates Language. New
York: William Morrow, 1994.
Pinnock, Clark H. The Scripture Principle. San Francisco: Harper and Row,
1984.
Plantinga, Alvin. "Advice to Christian Philosophers," an inaugural lecture to the
John A. O'Brien Professor of Philosophy at the Univ. of Notre Dame
(Nov. 4, 1983).
. "Augustinian Christian Philosophy." Monist 75 (1992): 291-320.
. Warrant and Proper Function. New York and Oxford: Oxford Univ. Press,
1993.
Plato. The Dialogues of Plato. Tr. Benjamin Jowett. Oxford: Clarendon, 1892.
Polanyi, Michael. Personal Knowledge: Towards a Post-Critical Philosophy.
Chicago: Univ. of Chicago Press, 1962.
Pols, Edward. Meditations on a Prisoner: Towards Understanding Action and
Mind. Edwardsville: Southern Illinois Univ. Press, 1975.
Polzin, Robert. Moses andthe Deuteronomist: A Literary Study of the Deuteronomic
History. New York: Seabury, 1980.
. "Deuteronomy." Pp. 92-101 in Alter, ed., The Literary Guide to the Bible.
Poythress, Vern S. Science and Hermeneutics. Foundations of Contemporary
Interpretation. Grand Rapids: Zondervan, 1988.
. "Christ the Only Savior of Interpretation." Westminster Theological
Journal 50 (1988): 305-21.
Pratt, Mary Louise. Towards a Speech Act Theory of Literary Discourse.
Bloomington: Indiana Univ. Press, 1977.
Prickett, Stephen. Words and the Word: Language, Poetics and Biblical
Interpretation. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1986.
, ed. Reading the Text: Biblical Criticism and Literary Theory. Oxford:
Blackwell, 1991.
Provan, Iain. 7 and 2 Kings. Sheffield: Sheffield Academic Press, 1997.
Putnam, Hilary. Reason, Truth, and History. Cambridge: Cambridge Univ. Press,
1981.
. Realism with a Human Face. Cambridge, Mass: Harvard Univ. Press, 1990.
Ramm, Bernard. The Pattern of Religious Authority. Grand Rapids: Eerdmans,
1957.
. The Witness of the Spirit: An Essay on the Contemporary Relevance of the
Internal Witness of the Holy Spirit. Grand Rapids: Eerdmans, 1959.
712
Библиография
. Protestant Biblical Interpretation: A Textbook of Hermeneutics. 3d ed.
Grand Rapids: Baker, 1970.
. The Evangelical Heritage: A Study in Historical Theology. Grand Rapids:
Baker, 1981.
Raschke, Carl A. "The Deconstruction of God." Pp. 1-33 in Thomas Altizer, et al.,
ed. Deconstruction and Theology. New York: Crossroad, 1982.
Rasmussen, David M. Reading Habermas. Oxford: Basil Blackwell, 1990.
Reed, Walter L. Dialogues of the Word: The Bible As Literature According to
Bakhtin. Oxford: Oxford Univ. Press, 1993.
Ricoeur, Paul. Freud and Philosophy: An Essay on Interpretation. New Haven:
Yale Univ. Press, 1970.
. The Conflict of Interpretations: Essays in Hermeneutics. Evanston:
Northwestern Univ. Press, 1974.
. Interpretation Theory: Discourse and the Surplus of Meaning. Fort Worth,
Tex.: Texas Christian Univ. Press, 1976.
. The Rule of Metaphor: Multi-Disciplinary Studies of the Creation of
Meaning in Language. Trs. R. Czerny, K. McLaughlin, and J. Costello.
London: Routledge and Kegan Paul, 1978.
. "Creativity in Language: Word, Polysemy, Metaphor." Pp. 120-33 in The
Philosophy of Paul Ricoeur.
. The Philosophy of Paul Ricoeur: An Anthology of His Work. Eds. Charles
E. Reagan and David Stewart. Boston: Beacon, 1978.
. "Myth As the Bearer of Possible Worlds." Pp. 36-45 in Richard Kearney,
ed. Dialogues with Contemporary Continental Thinkers. Manchester:
Manchester Univ. Press, 1984.
. Hermeneutics and the Human Sciences: Essays on Language, Action and
Interpretation. Ed. John B. Thompson. Cambridge: Cambridge Univ.
Press, 1985.
. Time and Narrative. 3 vols. Chicago: Univ. of Chicago Press, 1984-88.
. A Ricoeur Reader: Reflection and Imagination. Ed. Mario J. Valdes. New
York and London: Harvester Wheatsheaf, 1991.
. Oneself As Another. Tr. Kathleen Blarney. Chicago: Univ. of Chicago
Press, 1992.
. Figuring the Sacred: Religion, Narrative and Imagination. Ed. Mark I.
Wallace. Minneapolis: Fortress, 1995.
Robbins, J. Wesley. " 'You Will Be Like God': Richard Rorty and Mark C. Taylor
on the Theological Significance of Human Language Use." Journal of
Religion 72 (1992): 389-402.
Rogers, Eugene F. Jr. "How the Virtues of an Interpreter Presuppose and Perfect
Hermeneutics: The Case of Thomas Aquinas." Journal of Religion 76
(1996): 64-81.
Rogerson, John W., Margaret Davies, and M. Daniel Carroll, ed. The Bible in Ethics.
JSOT Suppl. Series 207. Sheffield: Sheffield Academic Press, 1995.
713
Библиография
Rorty, Richard. The Linguistic Turn. Chicago: Univ. of Chicago Press, 1967.
. Philosophy and the Mirror of Nature. Princeton: Princeton Univ. Press,
1979.
. Consequences of Pragmatism. Minneapolis: Univ. of Minnesota Press,
1982.
. "Texts and Lumps." New Literary History 17 (1985): 1-15.
. "Pragmatism and Philosophy." Pp. 26-66 in Baynes, ed., After
Philosophy.
. Contingency, Irony, and Solidarity. Cambridge: Cambridge Univ. Press,
1989.
. Objectivity, Relativism, and Truth. Philosophical Papers. Vol. 1. Cambridge:
Cambridge Univ. Press, 1991.
. "Philosophy without Principles." Pp. 132-38 in Mitchell, ed., Against
Theory.
. "Remarks on Deconstruction and Pragmatism." Pp. 13-18 in Mouffe, ed.,
Deconstruction and Pragmatism.
Rowland, Christopher. "Materialist Interpretation." Pp. 430-32 in Coggins, ed.,
A Dictionary of Biblical Interpretation.
Rutledge, David. Reading Marginally: Feminism, Deconstruction and the Bible.
Biblical Interpretation 21. Leiden: E. J. Brill, 1996.
Saussure, Ferdinand de. Course in General Linguistics. New York: McGraw-Hill,
1959.
Saye, Scott С "The Wild and Crooked Tree: Barth, Fish, and Interpretive
Communities." Modern Theology 12 (1996): 435-58.
Schildgen, Brenda Deen. "Augustine's Answer to Jacques Derrida in the de
Doctrina Christiana." New Literary History 25 (1994): 383-97.
Schneiders, Sandra M. The Revelatory Text: Interpreting the New Testament As
Sacred Scripture. San Francisco: Harper, 1991.
Scholes, Robert. Protocols of Reading. New Haven: Yale Univ. Press, 1989.
Schwartz, Regina, ed. The Book and the Text: The Bible and Literary Theory.
Oxford: Basil Blackwell, 1990.
Scott, Nathan A. Jr. "The New Trahison des Clercs: Reflections on the Present
Crisis in Humanistic Studies." The Virginia Quarterly Review 62 (1986):
402-21.
Scott, Nathan A., and Ronald A. Sharp, ed. Reading George Steiner. London and
Baltimore: The Johns Hopkins Univ. Press, 1994.
Searle, John R. Speech Acts: An Essay in the Philosophy of Language. Cambridge:
Cambridge Univ. Press, 1969.
. "The Logical Status of Fictional Discourse." New Literary History 6
(1975): 319-32.
. "Reiterating the Differences." Glyph 1 (1977): 198-208.
. Expression and Meaning: Studies in the Theory of Speech Acts. Cambridge:
Cambridge Univ. Press, 1979.
714
Библиография
. "The World Turned Upside Down," review of Jonathan Culler's On
Deconstruction. Pp. 74-79 in New York Times Review of Books (Oct. 27,
1983).
. Intentionality: An Essay in the Philosophy of Mind. Cambridge: Cambridge
Univ. Press, 1983.
. "Literary Theory and Its Discontents." New Literary History 25 (1994):
637-67.
. "Structure and Intention in Language: A Reply to Knapp and Michaels."
New Literary History 25 (1994): 677-81.
Seely, David. Deconstructing the New Testament. Biblical Interpretation Series.
Leiden: E. J. Brill, 1994.
. The Construction of Social Reality. London: Penguin, 1995.
Segovia, Fernando F. "The Text As Other: Towards a Hispanic American
Hermeneutic." Pp. 277-85 in Daniel Smith-Christopher, ed., Text and
Experience.
Selden, Raman. A Reader s Guide to Contemporary Literary Theory. 2d ed. New
York and London: Harvester Wheatsheaf, 1989.
. "Literary Theory and Its Discontents." New Literary History 25 (1984):
637-67.
Sheriff, John K. The Fate of Meaning: Charles Peirce, Structuralism, and
Literature. Princeton: Princeton Univ. Press, 1989.
Silva, Moises. Biblical Words and Their Meaning: An Introduction to Lexical
Semantics. Grand Rapids: Zondervan, 1983.
. Has the Church Misread the Bible? The History of Interpretation in the
Light of Current Issues. Foundations of Contemporary Interpretation;.
Grand Rapids: Zondervan, 1987.
Smalley, Beryl. The Study of the Bible in the Middles Ages. 3d ed. Oxford: Basil
Blackwell, 1983.
Smith-Christopher, Daniel, ed. Text and Experience: Towards a Cultural Exegesis
of the Bible. Sheffield: Sheffield Academic Press, 1995.
Soskice, Janet Martin. Metaphor and Religious Language. Oxford: Clarendon,
1985.
Staten, Henry. Wittgenstein and Derrida. Lincoln: Univ. of Nebraska Press,
1984.
Steiner, George. After Babel: Aspects of Language and Translation. London and
New York: Oxford Univ. Press, 1975.
. On Difficulty and Other Essays. Oxford: Oxford Univ. Press, 1978.
. " 'CriticV'Reader.'" New Literary History 10 (1979): 423-52.
. "Narcissus and Echo: A Note on Current Arts of Reading." American
Journal of Semiotics 1 (1981): 1-12.
. Real Presences. Chicago: Univ. of Chicago Press, 1989.
Sternberg, Meir. The Poetics of Biblical Narrative: Ideological Literature and the
Drama of Reading. Bloomington: Indiana Univ. Press, 1985.
715
Библиография
. "Biblical Poetics and Sexual Politics: From Reading to Counterreading."
Journal of Biblical Literature 111 (1992): 463-88.
Stiver, Dan. The Philosophy of Religious Language: Sign, Symbol, and Story.
Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1996.
Stout, Jeffrey. "The Relativity of Interpretation." Monist 69 (1986): 103-18.
. "What Is the Meaning of a Text?" New Literary History 14 (1982): 1-12.
Strawson, P. F. Individuals: An Essay in Descriptive Metaphysics. London:
Methuen, 1957.
. Logico-Linguistic Papers. London: Methuen, 1971.
Sugirtharajah, R. S., ed. Voices from the Margin: Interpreting the Bible in the
Third World. Maryknoll, N.Y.: Orbis, 1991.
Swartley, Willard M. ed. Essays on Biblical Interpretation: Anabaptist-Mennonite
Perspectives. Elkhart, Ind.: Institute of Mennonite Studies, 1984.
Taylor, Charles. Human Agency and Language: Philosophical Papers
1. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1985.
Taylor, Mark С "Text As Victim." Pp. 58-78 in Thomas Altizer, et al., ed.
Deconstruction and Theology. New York: Crossroad, 1982.
. Deconstructing Theology. AAR Studies in Religion 28. Chico, Calif.:
Scholars, 1982.
. Erring: A Postmodern A/theology. Chicago: Univ. of Chicago Press,
1984.
Thiel, John E. Imagination and Authority: Theological Authorship in the Modern
Tradition. Minneapolis: Fortress, 1991.
Thiselton, Anthony C. The Two Horizons: New Testament Hermeneutics and
Philosophical Description. Grand Rapids: Eerdmans, 1980.
. "On Models and Methods: A Conversation with Robert Morgan." Pp. 337—
567 in David J. A. Clines, ed., The Bible in Three Dimensions.
. New Horizons in Hermeneutics: The Theory and Practice of Transforming
Biblical Reading. Grand Rapids: Zondervan, 1992.
. Interpreting God and the Postmodern Self: On Meaning, Manipulation
and Promise. Scottish Journal of Theology: Current Issues in Theology.
Edinburgh: T. & T. Clark, 1995.
Thomassen, Niels. Communicative Ethics in Theory and Practice. Tr. John Irons.
London: Macmillan, 1992.
Thompson, John B. Studies in the Theory of Ideology. Cambridge: Polity, 1984.
. Ideology and Modern Culture: Critical Social Theory in the Era of Mass
Communication. Palo Alto, Calif.: Stanford Univ. Press, 1990.
Tomkins, Jane P., ed. Reader-Response Criticism: From Formalism to Post-
Structuralism. Baltimore: Johns Hopkins Univ. Press, 1980.
Tracy, David. Blessed Rage for Order: The New Pluralism in Theology.
Minneapolis: Winston Seabury, 1975.
. Plurality and Ambiguity: Hermeneutics, Religion, Hope. San Francisco:
Harper and Row, 1987.
716
Библиография
Tuckett, Christopher. Reading the New Testament: Methods of Interpretation.
Philadelphia: Fortress, 1987.
Vanderveken, Daniel. Meaning and Speech Acts; vol. 1. Principles of Language
Use. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1990.
Vanhoozer, Kevin J. "The Semantics of Biblical Literature: Truth and Scripture's
Diverse Literary Forms." Pp. 49-104 in D. A. Carson and John D.
Woodbridge, ed. Hermeneutics, Authority, and Canon. Grand Rapids:
Zondervan, 1986.
. "A Lamp in the Labyrinth: The Hermeneutics of 'Aesthetic' Theology."
Trinity Journal 8 (1987): 25-56.
. Biblical Narrative in the Philosophy of Paul Ricoeur: A Study in
Hermeneutics and Theology. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1990.
. "The World Well Staged? Theology, Culture, and Hermeneutics." Pp.
1-30 in D. A. Carson and John Woodbridge, ed. God and Culture. Grand
Rapids: Eerdmans, 1993.
. "The Hermeneutics of I-Witness Testimony: John 21:20-24 and the 'Death'
of the 'Author.' " Pp. 366-78 in A. Graeme Auld, ed. Understanding
Poets and Prophets. Sheffield: JSOT Press, 1993.
. "God's Mighty Speech Acts: The Doctrine of Scripture Today." Pp. 143—
81 in Philip E. Sattherwaite and David F. Wright, eds. A Pathway into the
Holy Scripture. Grand Rapids: Eerdmans, 1994.
. "The Reader in NT Study." Pp. 301-28 in Joel Green, ed. Hearing the
New Testament: Strategies for Interpretation. Grand Rapids: Eerdmans,
1995.
. "The Bible — Its Relevance Today." Pp. 9-30 in David W. Torrance, ed.
God, Family and Sexuality. Carberry, Scotland: Handsel, 1997.
. "Human Being, Individual and Social." Pp. 158-88 in Colin Gunton,
ed. The Cambridge Companion to Christian Doctrine. Cambridge:
Cambridge Univ. Press, 1997.
. "The Spirit of Understanding: Special Revelation and General
Hermeneutics." Pp. 131-65 in Roger Lundin, ed. Disciplining
Hermeneutics: Interpretation in Christian Perspective. Grand Rapids:
Eerdmans, 1997.
. "The Trials of Truth: Mission, Martyrdom, and the Epistemology of the
Cross." In Andrew Kirk and Kevin Vanhoozer, ed. To Stake a Claim:
Christian Mission in Epistemological Crisis. Maryknoll, N.Y.: Orbis,
1998.
Vickers, Brian. Appropriating Shakespeare. New Haven: Yale Univ. Press, 1993.
Walhout, Clarence, and Leland Ryken, Leland, eds. Contemporary Literary
Theory: A Christian Appraisal. Grand Rapids: Eerdmans, 1991.
Ward, Graham. Barth, Derrida and the Language of Theology. Cambridge:
Cambridge Univ. Press, 1995.
717
Библиография
Ward, Patricia. " 'An Affair of the Heart': Ethics, Criticism, and the Teaching of
Literature." Christianity and Literature 39 (1990): 181-91.
Warner, Martin, ed. The Bible As Rhetoric: Studies in Biblical Persuasion and
Credibility. Warwick Studies in Philosophy and Literature. London:
Routledge, 1990.
Warrior, Robert Allen. "A Native American Perspective: Canaanites, Cowboys,
and Indians." Pp. 287-95 in Sugirtharajah, Voices from the Margin.
Watson, Francis. Text, Church and World: Biblical Interpretation in Theological
Perspective. Grand Rapids: Eerdmans, 1994.
Watson, Francis, ed. The Open Text: New Directions for Biblical Studies? London:
SCM, 1993.
White, Hugh C. "Introduction: Speech Act Theory and Literary Criticism." Semeia
41 (1988): 1-24.
Williams, Rowan. "The Literal Sense of Scripture." Modern Theology 1 (1990):
121-34.
. "Between Politics and Metaphysics." Modern Theology 11 (1995): 3-22.
Williams, Timothy. "Realism and Anti-Realism." Pp. 746-48 in Honderich, ed.,
The Oxford Companion to Philosophy.
Wimsatt, W. K. and Beardsley, Monroe. "The Intentional Fallacy." Pp. 3-18 in
Wimsatt, The Verbal Icon.
. The Verbal Icon: Studies in the Meaning of Poetry. Lexington: Univ. of
Kentucky Press, 1954.
. "Genesis: A Fallacy Revisited." Pp. 116-38 in Molina, ed., On Literary
Intention.
Wittgenstein, Ludwig. Tractatus Logico-Philosophicus. London: Routledge and
KeganPaul, 1961.
. Philosophical Investigations. 3d ed. Tr. G. E. M. Anscombe. Oxford:
Blackwell, 1958.
Wollheim, Richard. Painting As an Art. Princeton: Princeton Univ. Press, 1987.
Wolterstorff, Nicholas. Works and Worlds of Art. Oxford: Clarendon, 1980.
. Divine Discourse: Philosophical Reflections on the Claim That God
Speaks. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1995.
. "Between the Pincers of Increased Diversity and Supposed Irrationality."
Pp. 13-20 in William J. Wainwright, ed. God, Philosophy and Academic
Culture: A Discussion Between Scholars in the AAR an the АРА. Atlanta:
Scholars, 1996.
Wondra, Ellen K. "By Whose Authority? The Status of Scripture in Contemporary
Feminist Theologies." Anglican TheologicalJournal 75 (1993): 83-101.
Wood, Charles M. The Formation of Christian Understanding: An Essay in
Theological Hermeneutics. Philadelphia: Westminster, 1981.
. An Invitation to Theological Study. Valley Forge, Pa.: Trinity Press
International, 1994.
718
Библиография
Wright, N. Т. The New Testament and the People of God. London: S.P.C.K.,
1992.
Yoder, John Howard. "The Hermeneutics of the Anabaptists." Pp. 11-28 in
Swartley, ed., Essays on Biblical Interpretation: Anabaptist-Mennonite
Perspectives.
Young, Frances. The Art of Performance: Towards a Theology of Holy Scripture.
London: Darton, Longman and Todd, 1990.
. "Alexandrian Interpretation." Pp. 10-12 in Coggins and Houlden, ed., A
Dictionary of Biblical Interpretation.
. "The Pastoral Epistles and the Ethics of Reading." Journal for the Study of
the New Testaments (1992): 105-20.
. The Theology of the Pastoral Epistles. Cambridge: Cambridge Univ. Press,
1994.
. "Interpretative Genres and the Inevitability of Pluralism." Journal for the
Study of the New Testament 59 (1995): 93-110.
Zagzebski, Linda Trinkhaus. Virtues of the Mind: An Inquiry into the Nature of
Virtue and the Ethical Foundations of Knowledge. Cambridge: Cambridge
Univ. Press, 1996.
Zuck, Roy B. "The Role of the Holy Spirit in Hermeneutics." Bibiotheca Sacra
141 (1984): 120-30.
719
УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН
Августин 36,40-42, 67,121,143,
161,168,174,203,204,233,
241,249,288,293,339,401,
442, 609, 636
Адам (Adam) А. К. М. 115
Алтиери (Altieri) Чарльз 304, 336,
492, 507
Ансворт (Unsworth) Барри 479
Аристотель 19,136,138,167,186,
187,192, 356, 513, 597
Арминий (Arminius) Якоб 440
Арнольд (Arnold) Мэтью 224,226,
242
Ауни (Aune) Дэвид 538
Ауэрбах (Auerbach) Эрик 328
Баксендолл (Baxandoll) Майкл 348
Бамбро (Bambrough) Ренфорд 446,
528
Барнс (Barnes) Аннет 492,496,508
Барр (Вагг) Джеймс 57,437,451,
454,456,457,458
Барт (Barthes) Ролан 37, 53,96,98,
112,146,151,212,218,356,
588, 593,594, 664, 671
Барт (Barth) Карл 64, 225, 233,
416,544,598,617
Бартон (Barton) Джон 154, 259,
262,498
Батлер (Butler) Сэмюель 393
Бахтин Михаил 470,525,580,581,
637
Берк (Burke) Шон 90,103, 225
Беркоувер (Berkouwer) Дж. К. 518
Бирдсли (Beardsley) Монро 119
Бисли-Меррей (Beasley-Murray)
Джордж Р. 636
Блёш (Bloesch) Дональд 618,621,
622, 627
Блум (Bloom) Гарольд 62,104,
179,182,183,184
Блэк (Black) К. Клифтон 349
Бордуэлл (Bordwell) Дэвид 121,
248
Браун (Brown) Рэймонд 403, 404,
636
Брентано (Brentano) Франц 106,
372
Бретт (Brett) Марк 597
Бриггс (Briggs) Шейла 269
Брэдбери (Bradbury) Рэй 249
Бубер (Buber) M. 321
Бультман (Bultmann) Рудольф 202,
222,457,459,480,514,585,
622,626,636, 637,646
Бун (Воопе) Кэтлин 437, 644
Бут (Booth) Уэйн 94, 356, 357,
358, 392, 393, 395, 396, 532,
550,582,605, 634,636, 662,
663
Бхаскар (Bhaskar) Рой 487
Бэкон (Bacon) Френсис 45, 46, 47,
58,138
Бэлси (Belsey) Кэтрин 258
Ван Гог Винсент 332
Вебер (Weber) Макс 315
Витгенштейн (Wittgenstein) Людвиг
61,68,207,299,300,302,
309,343,366,379,515,516
Вудвард (Woodward) Брэнсон 64
Гадамер (Gadamer) Георг 147-151,
154,160,582,615-617,629,
637
Гамильтон (Hamilton) Уильям 62
Гандри (Gundry) Роберт 417
Гантон (Gunton) Колин 633
Гарсиа (Garcia) Хорхе 153,347,
348
Гасс (Gass) Уильям 357
Геддерт (Geddert) Тимоти Дж. 665
Гейзенберг (Heisenberg) Вернер
187
Гердер (Herder) Дж. 105
Указатель имен
Гессе (Hesse) Мэри 189
Гилл (Gill) Джерри 345
Гиртц (Geertz) Клиффорд 411,414,
415
Гнузе (Gnuse) Роберт 599, 600
Грайс (Grice) X. Пол 308, 365, 366,
515, 531
Гудмэн (Goodman) Нельсон 140
Гуссерль (Husserl) Эдмунд 107,
123
Данн (Dunn) Джеймс 621,630
Дарвин Чарльз 101,296,377
Дарр (Darr) Джон А. 611
Дафф (Duff) Р. А. 381,382,383,
387, 388
Декарт Рене 52,67,80,85,91,316,
341,345,528
де Мэн (de Man) Поль 181,182,
183,184
Деррида (Derrida) Жак 20-23, 30,
45,47,48,58,61-71,75-91,
100-104,111-116,122,127,
128,135-137,144,156-160,
166,171-176,180,186,188,
190-195,200-205,227,235-
237,256,270, 272,277-279,
282,288,290,304-312,333,
342,377,434,444,445,449,
462,464,502, 543, 576,595,
626,656, 657,660, 679,680
Детуайлер (Detweiler) Роберт 256
Джейкобсон (Jakobson) Роман 349
Джеффри (Jeffrey) Дэвид Лайл 64
Джинронд (Jeanrond) Вернер 143,
250,517,591,592,681
Джоблинг (Jobling) Дэвид 263
Джонсон (Johnson) Сэмюель 86-88
Джоунс (Jones) Грегори 562, 563
Джоунс (Jones) У. Т. 45
Джоуэтт (Jowett) Бенжамин 57,
560,561,562
Джул (Mil) П. Д. / / 7,362, 363,
394,396,434,436,638
Дилти (Dilthey) Вильгельм 19,321,
322, 326
. 194
Достоевский Федор 543
Доузи (Dawsey) Джеймс 129
Доусон (Dawson) Д. 184
Дэвидсон (Davidson) Дональд 467,
480,481,482,533
Дэвис (Davis) Эллен 652
Дэйвиз (Davies) Норманн 683
Дэйли (Daly) Мэри 270
Загзебски (Zagzebski) Л. Т. 560,
692
Иглтон (Eaglton) Терри 117,118,
212,238,241,242,245
Иероним 577, 578
Изер (Iser) Вольфганг 152, 218,
219, 592
Инграффиа (Ingraflia) Брайан 61,65
Иоанн Дамаскин 684
Иоанн Златоуст 167
Ириней 251
Йодер (Yoder) Джон 666
Каллер (Culler) Джонатан 159,516
Кальвин Жан 56, 57, 234, 247,
251,360,425,439,454,455,
475,476,477,489,566,612,
648, 667
Камю Альберт 522
Кант Иммануил 52, 59, 63, 65, 73,
86,93,115,141,174,175,
191,205,217,440,444,448,
478, 528,600,601
Капитт (Cupitt) Дон 17,101,102,
103,192,204,206,269, 657
Каплан (Kaplan) Гилберт 54, 55
Капуто (Caputo) Джон 274
Карр (Сагг) Анн Е. 269
Кеплер (Kepler) Дж. 480
Кермоуд (Kermode) Франк 219,
433,434,507
Керр (Кегг) Фергус 34 3
Киприан 671
Клайн (Kline) Мередит 338
Клайнз (Clines) Дэвид 275, 568
Кларк (Clark) С. X. 312
Клейтон (Clayton) Филипп 377
721
Указатель имен
Клиффорд (Clifford) УК. 41,419
Кнапп (Кпарр) Стивен 363, 364,
365
Коггинс (Coggins) Ричард 132,
415,573
Коуди (Coady) К. А. Дж. 427,428
Крайтон (Crichton) Майкл 395
Кратил 14,15,16,17
Крипке (Kripke) Солом 400
Кристева (Kristeva) Юлия 270
Критчли (Critchley) Саймон 278
Кроатто (Croatto) Дж. Северино
130,131
Кроче (Сгосе) Бенедетто 533
Круз (Crews) Фредерик 195
Куин (Quine) Уиллард 422
Кун (Kuhn) Томас 123,484
Купер (Cooper) Джон У 481
Кьеркегор (Kierkegaard) Серен 11-
13,238,472,655,656,658
Кэрролл (Carroll) Льюис 53
Кэрролл (Carroll) Роберт 415
Лакан (Lacan) Жак 92,121, 270
Ландин (Lundin) Роджер 46
Лансер (Lanser) Сьюзен 335, 336,
522, 523
Лафарг (LaFargue) Мишель 380
Левинас (Levinas) Эммануэль 276,
277,565,569, 570, 576,578,
596, 629,685
Леви-Штраус (Levi-Strauss) К. 290,
291
Лейтч (Leitch) Винсент Б. 587
Лентриккиа (Lentricchia) Ф. 120
Лерер (Lehrer) К. 424
Ливингстон (Livingstone) Пейсли
413,414,446,491
Ливис (Leavis) Ф. Р. 210
Линдбек (Lindbeck) Джордж 251,
255
Липтон (Lipton) Питер 509
Локк (Locke) Джон 427,440
Льюис (Lewis) К. С. 225,353,537,
553-557,559,610,689
Лютер Мартин 121,161,170,249,
251,302,443,474,475,476,
477,603, 648, 693,694
Майер (Meyer) Бен Ф. 362, 397
Макинтайр (Maclntyre) Элесдейр
510
Маккей (Mackey) Луис 63
МакКлендон (McClendon) Джеймс
619
МакНайт (McKnight) Эдгар 218
МакФэг (McFague) Салли 196,197
Малер Густав 54,55
Малларме (Mallarme) С. 96,113,
202
Марголис (Margolis) Джозеф 16,17
Марион (Marion) Жан-Люк 683,
684,685
Маркс Карл 91,93,211,266
Мартиндейл (Martindale) Чарльз
464
Маршалл (Marshall) Брюс 460
Мердок (Murdoch) Айрис 607, 608
Мерфи (Murphy) Нэнси 377
Местерс (Mesters) Карлос 263,264
Милбэнк (Milbank) Джон 285, 286
Мильтон (Milton) Джон 23, 26,
333,355,479,480
Михаэле (Michaels) Уолтер Бен
363, 364, 365
Морган (Morgan) Роберт 154, 222,
547, 596
Мосала (Mosala) Итумеленг Дж.
264,265
Мур (Moore) Стивен Д. 63,118,
124,129,154,237
Найда (Nida) Юджин 577, 583
Наттолл (Nuttall) А. Д. 333, 536
Нехамас (Nehamas) Александр
356,357, 358
Нибур (Niebuhr) Ричард 249, 591
Нинехэм (Nineham) Дэннис 427,
428
722
Указатель имен
Ницше Фридрих 21,22,44, 52, 58,
74-77,91,115,116,191,192,
201,204-206,291,387,392,
571,656,657,661,677,690
Нобл (Noble) Пол 624
Нойзнер (Neusner) Яков 165
Нолл (Noll) Стивен 464,468, 471
Норрис (Norris) Кристофер 63, 70,
205, 308
Ньюбигин (Newbigin) Лесли 671
Ньютон Исаак 137,147,189, 542
Огден (Ogden) Ч. 13
Олсен (Olsen) Штейн Хаугом 491
Оманн (Ohmann) Ричард 334,521,
522
Ориген 159,163,284,455,459,
636, 676
Осборн (Osborne) Грант 445, 446,
524
Остен (Austen) Джейн 99, 338,
358, 605
Остин (Austin) Дж. Л. 31,300,301,
302,304, 305,307,309, 328,
330,351,352,353,383
Оуэн (Owen) Джон 563,647
Пакер (Packer) Джеймс 506
Панненберг (Pannenberg)
Вольфхарт 405, 557
Паскаль Блез 294
Паттэ (Patte) Даниель 309,633
Петерсен (Petersen) Норманн 124
Петри (Petrey) Сэнди 366, 367, 369
Пиаже (Piaget) Ж. 594, 688
Пикок (Реасоске) Артур 499,501,
502
Пирс (Pierce) Ч. С. 44,616
Плантинга (Plantinga) Элвин 273,
274,285,295,296,421,422,
424,426,429,442, 558
Платон 13,14,15,16, 63,67,68,
69,70,75,81,83,86,87,89,
102,113,115,135,137,162,
163,180,202, 204, 222, 226,
292,513, 519
Пойкерт (Peukert) Гельмут 318
Пойтресс (Poythress) Верн 276
Поланьи (Polanyi) Майкл 537, 693
Ползин (Polzin) Роберт 259-261
Поле (Pols) Эдуард 376
Поппер (Popper) Карл 484
Поуп (Pope) Александр 224
Пратт (Pratt) Мария Луиза 334,
335, 522
Пристли (Priestly) Джозеф 400,
401,407
Прован (Provan) Иан 333,469
Пуле (Poulet) Жорж 106
Путнэм (Putnam) Хилари 217,246,
478
Райл (Ryle) Гилберт 414,417
Райт (Wright) H. Т. 6, 345, 346,
347,421,537,632
Рамм (Ramm) Бернард 458,474,
643, 646, 650
Расмуссен (Rasmussen) Дэвид 316
Рассел (Russell) Бертран 61,68
Рауленд (Rowland) Кристофер 258,
263
Рашке (Raschke) Карл 99
Рид (Reid) Томас 31,424,426,427
Рикёр (Ricoeur) Поль 40,122,147-
156,160,188-190,193-196,
207, 220, 292, 298, 310-316,
324, 332, 357,364, 373,434,
518,526, 527, 552, 556, 557,
583,584,597, 610, 613, 625,
628, 663, 666, 670
Ричарде (Richards) И. 13
Рорти (Rorty) Ричард 62, 71, 72,
74,75,77,101,117,123,132,
137,138,141,156,197,227,
249,252, 547,548, 549
Роуз (Rose) Джиллиан 608
Сартр (Sartre) Жан-Поль 661
Сеговия (Segovia) Ф. 234
Селларз (Sellars) Уилфред 598
Сёрль (Searle) Джон 61,289,298,
302-310, 336, 337, 365-369,
373, 374, 379,38-383, 395,
409,503,515
723
Указатель имен
Сильва (Silva) Мойзес 7
Скотт (Scott) Натан 60,94, 384
Смолли (Smalley) Берилл 167
Сократ 14,15,16, 69, 70, 237, 553,
569, 610,612
Соскис (Soskice) Дженнет Мартин
207
Соссюр (Saussure) Фердинанд 14,
44,81,82,116,269,344
Стаут (Stout) Джеффри 141,143,
229,498
Стросон (Strawson) П. Ф. 292
Сэй (Saye) Скотт С. 254
Такетт (Tuckett) Кристофер 120
Таннехилл (Tannehill) Роберт 631
Твен Марк 358
Тейлор (Taylor) Марк С. 35, 62, 63,
101,102,103,200,233,239,
342,687
Тейлор (Taylor) Чарльз 343
Тертуллиан 620
Тиллих (Tillich) П. 463
Тисельтон (Thiselton) Энтони 44,
160,264,271,331,339,340,
379,473,520,591,612,631,
658, 660,669
Томкинс (Tomkins) Джейн 209
Торранс (Torrance) Т. Ф. 612
Турретин (Turretin) Франц 439
Уайлз (Wiles) Морис 459
Уайль (Weil) Симона 374
Уильяме (Williams) Роуэн 99, 459
Уимсатт (Wimsatt) УК. 119,361,
571,684
Уодсворт (Wordsworth) Уильям
103, 565
Уолтерсторф (Wolterstorf!) Николас
33,154,338,421,440,444
Уолхайм (Wollheim) Ричард 333,
494
Уорд (Ward) Грэм 64
Уорриор (Warrior) Роберт Ален
265, 266
Уотсон (Watson) Френсис 145,174,
267, 561
Уэбер (Weber) Отто 648
Фаррелл (Farrell) Франк 488
Фаул (Fowl) Стивен 229,230,231,
519,562,563,621,665
Фаул ер (Fowler) Ал истер 519
Фаулер (Fowler) Роберт 569
Фейерабенд (Feyerabend) Пауль
139,140
Фейербах (Feuerbach) Людвиг 44,
100,101,356,570,680,681
Фелерпин (Felerpin) Говард 228
Феодор Мопсуэстийский 164,167
Феттерли (Fetterley) Джудит 573
Филд (Field) Харти 488
Филлипс (Phillips) Г. А. 420
Филон Александрийский 162,180
Финнис (Finnis) Джон 224
Фиоренза (Fiorenza) Элизабет
Шлюссер 229, 268, 269, 551
Фиш (Fish) Стэнли 26-31,34,35,
72-74,123,141,142,155,
156,171,172,203,210,220,
227,245-255,338,409,420,
436-439,442,462-464,472,
473,477-486,557,562,569,
587, 592,623, 644
Флоровский Георгий 621
Фокс (Fox) Майкл 449
Фома Аквинский 169,375,403,
630
фон Райт (von Wright) Г. X. 323
Фрай (Frei) Ханс 171,455,456,
459,460,461
Фрай (Frye) Нортроп 145,217,514
Фреге (Frege) Г. 61
Фрейд Зигмунд 91,92,93,121,
179,180,181,270,500
Фримен (Freeman) К. В. 643
Фуко (Foucault) Мишель 95-99,
121,178,204,211,250,267,
269,356,391,435,690
724
Указатель имен
Хабермас (Habermas) Юрген 33,
60,298,316-318,327-330,
336,351,353,527-531,601,
602, 616
Хайдеггер (Heidegger) Мартин 63,
75,83
Хандельман (Handelmann) Сьюзен
179,180,181
Харви (Harvey) Ван 25, 26, 27, 28,
228,272,282,285,419
Харрис (Harris) Уэнделл В. 380
Харт (Hart) Кевин 63, 86,116,166,
Харт (Hart) X. Л. А. 352, 506
Харутюнян (Haroutunian) Иосиф 56
Хауэрвас (Hauerwas) Стэнли 253,
254,438,545,546,561,562,
619, 620, 624, 645
Хикс (Hix) X. Л. 287
Хирш (Hirsch) Э. Д. 55, 56,60,
105-114,117-124,133,149,
156,159,225,228,331,337,
361-363,389,390,394,396,
398-401,404,421,434,436,
479,480, 516, 524, 600, 602,
637-639
Хоббс (Hobbes) Томас 187
Ходж (Hodge) Чарльз 47
Хой (Ноу) Дэвид 629, 630
Холл (Hall) Рональд 176,658
Холланд (Holland) Норманн 569
Хомский (Chomsky) Ноам 317,516
Хоулден (Houlden) Дж. Я. 415
Хэйз (Hays) Ричард 619,621,652,
663,664
Цвингли Ульрих 357
Чайлдз (Childs) Бревард 198, 399,
405,461,462,470,564,624,
637
Честертон Г. К. 77,181
Швайкер (Schweicker) Уильям 633
Швейцер (Schweitzer) Альберт 686
Шекспир Уильям 239,240,320,
400,639
Шерифф (Sheriff) Джон К. 287, 292
Шильдген (Schildgen) Бренда Дин
288
Шлеермахер (Schleiermacher)
Фридрих 29,326,342,379
Шоулз (Scholes) Роберт 220
Штайнер (Steiner) Георг 38,281-
283,297,299,421,422,462,
543, 549,550, 555,575-579,
582, 590, 595, 610, 670, 676,
677
Штернберг (Steinberg) Меир 257,
508,530,541,574,592,609,
610,687
Штраусе (Strauss) Д. Ф. 647
Эдварде (Edwards) Брюс 64
Эдварде (Edwards) Майкл 581
Эддингтон (Eddington) Артур 490
Эйнштейн Альберт 147,151, 214,
571
Эко (Есо) Умберто 95,146,177,
178,181,185,213,216,227,
255, 391
Эллиот (Eliot) Джордж 391
Эллиот (Eliot) Т. С. 225
Эллул (Ellul) Жак 354, 355
Эмпсон (Empson) Уильям 389
Эплъярд (Appleyard) Дж. А. 546,
662
Этвуд (Atwood) Маргарет 267, 268
Юм (Hume) Дэвид 412,500
Якобсен (Jacobsen) Дуглас 438,
439,440
Янг (Young) Френсис 551,574
Яусс (Jauss) Ганс Роберт 615
725
ОГЛАВЛЕНИЕ
ПРЕДИСЛОВИЕ 5
ВВЕДЕНИЕ
Богословие и литературная теория 9
ГЛАВА ПЕРВАЯ
Вера, стремящаяся к пониманию текста //
Три притчи о чтении и размышлении //
Философия и теория литературы:
от Платона до постмодернизма 13
Литературный поворот в современной философии 17
Авторитетность и идеология 22
Значение и интерпретация:
нравственный аспект литературного знания 24
Три эпохи литературоведения: план книги 28
Эпоха автора: герменевтический реализм
и его противники 29
Эпоха текста: герменевтический рационализм
и релятивизм 31
Эпоха читателя: герменевтическая ответственность
или игра без правил? 33
Герменевтика по Августину 36
Толковательная сторона богословия 36
Богословская сторона толкования 37
«Верую, чтобы понимать» 39
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
Распад толкования:авторитетность, аллегория, анархия 43
ГЛАВА ВТОРАЯ
Упразднение автора: авторитетность и замысел 49
Авторство и авторитетность: рождение автора 50
Верим ли мы в авторов? 50
«Творец историй и стихов» —
автор как источник смысла 51
Автор — основа «бытия» смысла 55
Автор в домодернистской и модернистской
библейской экзегезе 56
Упразднение авторитета автора 57
Оглавление
Противники герменевтического реализма:
упразднители, пользователи и неверующие 58
Упразднители: деконструктивизм 60
Пользователи: Неопрагматизм 71
Неверующие: нигилизм с человеческим лицом? 74
Евангелие от «маркеров»? Голос автора 78
Упразднение логоцентризма: речь и письмо 79
Упразднение субъекта: призрак в машине 84
«Смерть Бога, в письменном выражении» 90
Анонимные авторы? 91
Смерть автора 95
Упразднение авторского замысла 104
Определение значения: замысел автора как основа,
цель и руководство толкования 105
Основа 105
Цели 108
Руководство 109
Замысел под вопросом ПО
Чей замысел? Какое сознание? Какой контекст?.... ///
Можно ли восстановить замысел? 113
Следует ли стремиться
к восстановлению авторского замысла? 117
Заблуждения, связанные с авторским замыслом 118
1. Заблуждение о «релевантности» 119
2. Заблуждение о «прозрачности» 120
3. Заблуждение отождествления 121
4. Заблуждение об объективности 122
Утратила ли Библия свой голос? 124
Толкование Библии и авторитетность 125
Иисус как Начальник веры:
логоцентрична ли христология? 126
После авторства: откуда смысл текста? 128
Постмодернистская библейская критика 128
Если автор не умрет 130
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
Упразднение книги: текстуальность и неопределенность 133
Обессмысливание смысла? 134
Обессмысливание метафизики 135
Обессмысливание Аристотеля 135
Навсегда утраченный мир? 137
Обессмысливание метода 138
727
Оглавление
Обессмысливание объективности:
открытие или изобретение? 138
Обессмысливание толкования 141
Что такое текст? 143
Книга книг 143
От «закрытой книги» к «открытому тексту» 146
Горизонт текста — Гадамер и Рикёр 147
Синдром пустого текста 154
Толкование или грамматология? 156
Понятие смысла в Антиохии и в Александрии 160
Буква и дух 161
Александрия: взгляд за пределы буквы 162
Антиохия: взгляд сквозь букву 163
Раввины: жизнь в букве 164
Буквально и образно 166
Буквальный смысл 167
Буквальное толкование против образного 168
Бывает ли смысл «прямым»? 171
Аллегоризм старый и новый 173
Августин и предмодернизм 173
Кант и модернизм 174
Гностицизм и постмодернизм 175
Тело, дух, текст 180
Текстовая неопределенность: правило метафоры 185
Чем метафоры удобны для пользователя 186
Девиантное поведение? 187
Порождающие смысл 188
Метафорическое толкование 190
Метафоры более высокого порядка 193
Метафорические повествования 193
Интертекст 194
Библейская неопределенность 196
Метафорическое богословие:
богословская неопределенность 196
Интертекстовое богословие:
каноническая неопределенность 198
Толковательный агностицизм? 200
«Абсолютное» толкование 201
«Анархистское» толкование 201
Игра антиномий 202
Борьба за власть 203
Цели толкования 204
«Адекватное» толкование 206
728
Оглавление
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
Упразднение читателя: контексту ал ьность и идеология 209
Рождение читателя 212
Что такое читатель? 213
Место читателя 214
Есть ли у текста читатель? 215
Является ли читатель писателем? 216
Задача читателя 218
Определенное чтение 218
Неопределенное чтение 219
Центробежное чтение 220
Цели чтения: литературное познание
и человеческие интересы 221
Цели и этика толкования 224
«Критическая» цель: описание 224
«Этическая» цель: оценка 226
Утилитарная целы использование текстов 227
Какую критику выбрать? 228
Чей интерес, чья предвзятость? 228
Как читатели относятся
к плюрализму толкований 230
Толковательное насилие 233
Герменевтика освобождения:
между свободой и принуждением 235
Упразднение связующего 236
Чревовещание как насилие 237
Чтение власти и политика канона 239
Идеология и толкование 241
Политическое положение идей 242
Обзор феминистской критики и идеологии 243
Чтение «снизу»: авторитетность
толковательных сообществ 245
Социальное конструирование текстового смысла. . . 246
Социальное конструирование смысла Библии 250
Упразднение библейской идеологии 255
Политика и Закон: деконструкция Второзакония 259
Риторика власти 259
Риторика воздаяния 261
Политика и земля 262
Чтение с обездоленными 263
Взгляд из Ханаана 265
Политика и тело 267
729
Оглавление
Феминистская герменевтика Библии 268
Написание тела 269
Этика упразднения:
«новая нравственность» познания 272
Деконструкция догмы: упразднение знания
как объекта поклонения 273
Справедливость в отношении к Иному 276
Трансцендентность и имманентность 278
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Восстановление толкования: действие и воздействие 281
ГЛАВА ПЯТАЯ
Воскрешение автора: смысл как коммуникативный акт 287
Физика обещания — от кодирования к общности 289
Самость и знак: langue 290
Самость и предложение:parole 291
Знак более высокого порядка? 292
Замысел языка: завет общения 293
Расхождения во взглядах: реабилитация речи 298
Джон Сёрль: философия обычного языка 298
Людвиг Витгенштейн: обычный язык в Оксфорде. .. 299
Дж. Л. Остин: обычный язык в Оксфорде 300
Джон Сёрль: речевые акты 302
Поль Рикёр: Язык как дискурс 310
Текст как письменный дискурс 311
Текст как осмысленное действие 314
Юрген Хабермас: Язык как коммуникативное действие .. . 316
«Нечто» смысла: тексты
как коммуникативные действия 319
Метафизика человеческого действия: написание мира .... 320
Дискурс: действие или событие? 321
Толкование действия 324
Коммуникативное действие 326
Природа текста: порожден или сотворен? 331
Текстовые акты 334
Ковчег завета дискурса 337
Авторы как коммуникативные деятели 340
«Я мыслю, следовательно, я действую» 341
Деятельность автора: четыре перспективы 345
Автор как исторический деятель 345
730
Оглавление
Автор как эстетический деятель 349
Автор как нравственный деятель 350
Автор как религиозный деятель 353
Реальность присутствия? Слово как таинство 355
Символическое присутствие:
подразумеваемый автор 356
Непосредственное присутствие:
«пресуществление» 357
Опосредованное присутствие: выведенный автор. . . 357
Коммуникативное действие и авторский замысел 360
За пределы заблуждения замысла 361
Понятие замысла (интенции)
в литературоведении последних лет 361
Интенция (замысел) в теории речевых актов 365
Авторский замысел: предложение о восстановлении 371
Интенция и действие 372
Фон и контекст 379
Смысл как воплощенный
и реализованный авторский замысел 383
Об определении смысла как авторского замысла:
краткий экскурс 385
Результаты преднамеренные и случайные 386
Случайности и внимание автора 387
Неоднозначность и авторский замысел 389
Возрожденные смысл и значимость 396
Объем внимания автора 398
Богодухновенные намерения и sensusplenior 402
ГЛАВА ШЕСТАЯ
Обретение текста: рациональность литературных актов 409
Вера в смысл как действительно верная основа:
природа литературного знания 412
Литературное познание 413
Познание и литературный критик 413
Комментарий и библейский критик:
Описания плотные и тонкие 415
Обосновательство или фидеизм? 418
Основательность толкования 419
Фидеизм в толковании 420
Новая реформатская эпистемология 421
Является ли толкование
собственно фундаментальным? 422
Вера в сознание иного и в разум автора 423
731
Оглавление
Свидетельство 426
Принцип доверия: вера в слова других 427
Свидетельства и заветы 428
Конфликт толкований:
проблема литературного знания 431
Изложение проблемы: можно ли определить
определенный смысл? 431
Выбор сторон в конфликте:
между догматизмом и скептицизмом 433
Герменевтический эксклюзивизм:
от А(теизма) до Я(рых зилотов) 433
Герменевтический инклюзивизм 434
Герменевтический плюрализм 435
Конфликт, консенсус, сообщество:
как объяснить разницу в толкованиях 435
Авторитетность сообществ толкователей 436
Богословские объяснения конфликта толкований.. . 438
За пределами конфликта?
Толкование и критический реализм 443
Возражения против наивного
герменевтического реализма 443
Критический герменевтический реализм 445
Регулятивный герменевтический реализм 448
Как описывать коммуникативные акты:
норма литературного познания 450
Тело, текст, история: буквальный смысл и христология . . . 451
Буквальный и исторический:
модернистская критика Библии 454
Кто боится буквального смысла?
Современные подходы 457
Буквальный смысл: предположение 462
Сквозь тусклое стекло?
Определение буквального смысла 472
Ясность Писания: филология и психология 473
Толковательный сговор: относительность
описательных структур 478
Критический герменевтический реализм
и роль описательных структур 484
Sola script ига: плотные описания и истина в толковании. . . 490
Описание объекта литературного знания 490
Можно ли сравнивать наши описания? 493
Можно ли опровергнуть наши описания? 505
732
Оглавление
Можно ли довершить описания? 510
Жанр и коммуникативная рациональность:
метод литературного познания 512
Коммуникативная компетенция: жанр как форма
социального поведения, управляемая правилами .... 515
Способы смысла: уровень жанра 518
Литературные жанры
как исторические формации 518
Как совершать действия посредством текстов:
жанровые иллокуции 521
Способы донесения смысла: виды
когнитивного контакта с реальностью 525
Герменевтическая рациональность:
жанр и завет дискурса 527
Общая рациональность:
универсальные условия достоверности 528
«Жанровая» рациональность:
частные условия достоверности 530
Литературный жанр
как коммуникативный завет 532
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
Преображение читателя: толковательная добродетель,
духовность и действенность коммуникации 541
Читатель как пользователь,
критик или последователь 545
Читатель как пользователь 547
Читатель как критик 549
Читатель как последователь 552
Позволить тексту говорить:
следование иллокуциям 553
Идти за текстом: следование перлокуциям 555
Толковательные добродетели 557
Читатель как верующий:
чтение Библии как любой другой книги 560
Могут ли неверующие читать правильно? 560
Чтение Библии как канонического Писания 564
Возможна ли экзегеза без идеологии? 567
Способны ли читатели выйти за пределы самих себя? 567
Читатель как предатель:
возможен ли перевод без идеологии? 572
Смешение горизонтов 573
«Переводчик, предатель»:
предательство текста? 575
733
Оглавление
Творческая достоверность:
понимание свободное, но верное 579
Достоверный перевод:
репродуктивное толкование? 579
Творческое понимание:
диалогическое толкование 580
Идентичность толкования:
два вида подобия смысла 553
Читательский отклик и ответственность читателя 586
Реализм и ответственность 587
Нереалистические представления
об ответственности читателя 587
Реалистические представления
об ответственности читателя 589
Чтение как этическая деятельность 592
Пассивное чтение 592
Реакционное чтение 593
Гиперактивное чтение 594
Активное чтение 595
Цели и нормы чтения: от толковательного блага
к толковательной правоте 596
Толковательные блага 597
Толковательная правота:
<<герменевтический» императив 598
Понимание и господство 603
Понимание: читатель в роли слуги 603
Господство: читатель в роли господина 605
Внимание и ответственность 607
Понимание Писания: ученичество и «смерть» читателя . . . 610
Дух понимания: разумение и исполнение Слова 613
Восприятие читателем Писания и Духа 614
Цель и смысл 617
Водимое Духом сообщество толкователей 618
Дух восприятия: освещенные рукописи 623
Дух и общая герменевтика 625
Полнота Пятидесятницы:
как быть ответственным плюралистом 627
Один и много: сколько смыслов
вмещает в себя текст? 625
Чтение ради актуальности: Дух значимости 637
Слово и Дух: «Почему я не фундаменталист» 642
Сокращенный протестантский принцип 643
734
Оглавление
Действенность 647
Эсхатология 651
Экклесиология 652
Призвание читателя: толкование как ученичество 655
Или-или: карнавальное толкование
в отличие от толкования в завете 655
Эстетика: карнавал и принцип удовольствия 656
Этика: завет и принцип обетования 658
Свобода толкования 660
Свобода карнавала 660
Свобода в завете 661
Послушание тексту 662
«Ограниченная свобода» 663
Материальные ограничения 663
Духовные ограничения 665
Мученический удел толкователей 666
Толкователь как свидетель Слова 667
Толкователь как носитель Слова 670
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Герменевтика креста 673
ГЛАВА ВОСЬМАЯ
Герменевтика смирения и убежденности 675
Тринитарная герменевтика 675
От богословской герменевтики
к герменевтике тринитарной 675
Истинное и ложное благочестие 679
Словесная икона и авторское лицо 681
Пустое место: словесный идол 681
Осмысленное место: словесная икона 683
Авторское лицо: практика присутствия иного 685
Герменевтическое смирение
и литературное познание 686
Два «смертных греха» толкователя 687
Что христианство дает миру 689
«На сем стою» 693
БИБЛИОГРАФИЯ 696
УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН 720
735
Науково-популярне видання
Ванхузер Кевш Дж.
Мистецтво розумшня тексту.
Лггературознавча етика та тлумачення Писания.
(росшською мовою)
Перекладам Владислав Четирко
Головний редактор Олександр Буковецъкий
Техшчний редактор Ярослав Тимонъко
Шдписано до друку 09.08.07. Формат 60x90/16.
Ilanip офсетний. Друк офс. Гарнпура QuantAntiqua.
Ум. друк. арк. 46. Тираж 1 000 прим.
Зам. № 227.
Видавництво „Колокв1ум"
а/с 63, м. Черкаси, 18000.
Тел. (0472) 71 25 16
E-mail: main@colloquium-publishing.com
Свщоцтво про внесения до державного реестру
видавщв, виптвниюв i розповсюджувач1в видавничо'1 пpoдyкцii'
ДК№2331 вщ 3.11.2005 р.
Надруковано з оригшал-макету замовника
ДП «Видавництво i друкарня «Таврида»
вул. Генерала Васильева, 44, м. Симферополь, 95040
Если когда-то казалось, что понимание любого текста автоматически приходит с его прочтением, то
нынешнему читателю, искушенном) в тонкостях современного литературоведения, уже не нужно
доказывать, что не все так просто. «Искусство понимания текста» - детальное и творческое
исследование вопросов библейской герменевтики, опирающееся на филологические и философские
дисциплины с точки зрения христианского богословия. Эта работа станет весомым вкладом в предмет
толкования Писания и будет интересна и полезна не одной группе читателей. Автор ставит своей
целью оживить и расширить понятие автороцентричности толкования, а 1акже придать уверенности
читателю, стремящемуся достичь понимания библейских текстов. Труд Ванхузера содержи! в себе
сильный антидот основополагающим предпосылкам современной библейской критики и предлагает
конструктивную альтернативу, которая выводит на передний план понятие авторитетности Писания
и открывает новые методы экзегетики, отдающие должное как буквальному смыслу текста, так и его
значению для конкретного читателя.
Редко можно найти такую книгу, которая соединяла бы в себе глубину исследовательского
нотация и ясность в изложении, продемонстрированную в настоящей работе. Защитники авторского
замысла зачастую искажают представления своих противников, выступающих за
неопределенность смысла. О Ванхузере этого сказать нельзя - он не только прекрасно разбирается во
взглядах оппонентов, но и умеет оценить по достоинству их положительные стороны. Одно это уже
привлекает читателя к труду Ванхузера. Даже те, кто не разделяет его убеждений, согласятся,
что настоящая работа - наиболее серьезное выступление в защиту автороцентричности
толкования на сегодняшний день. Кроме того, читатель почерпнет много полезной информации о
современных течениях в области философии и литературоведения.
Moitiec Сильва
профессор библеистики, Богословская семинария Гордон-Конвелл
Я очень рад выходу в свет «Искусства понимания текста» Кевина Ванхузера одного из немногих
мыслителей, которые понимают тонкости современной герменевтики достаточно глубоко, чтобы
осветить литературоведческую и семиотическую стороны этой дисциплины, не принижая в то
же время роль автора текста в качестве активного деятеля коммуникативного процесса. В конце
своей работы Ванхузер приходит к совершенному правильному заключению, что настоящая
герменевтика должна обязательно отражать христианское учение о Боговоплощеиии, кресте и Троице.
Энтони Тиселыпон
профессор богословия, Нопжингемскийуниверситет
Действительно «твердая пища», которая затрагивает основы основ герменевтики библейского
текста.
Василий Новаковец
преподаватель герменевтики и гомилетики. Одесский богословский семинария
Кевин Дж. Ванхузер, автор и редактор многочисленных трудов и сборников статей,
посвященных вопросам толкования Библии, преподавал богословие и
религиоведение в Нью колледже при Эдинбургском университете. В настоящее время занимает
должность профессора систематического богословия в Евангельской богословской
семинарии «Тринити» в г. Дирфилд (США).