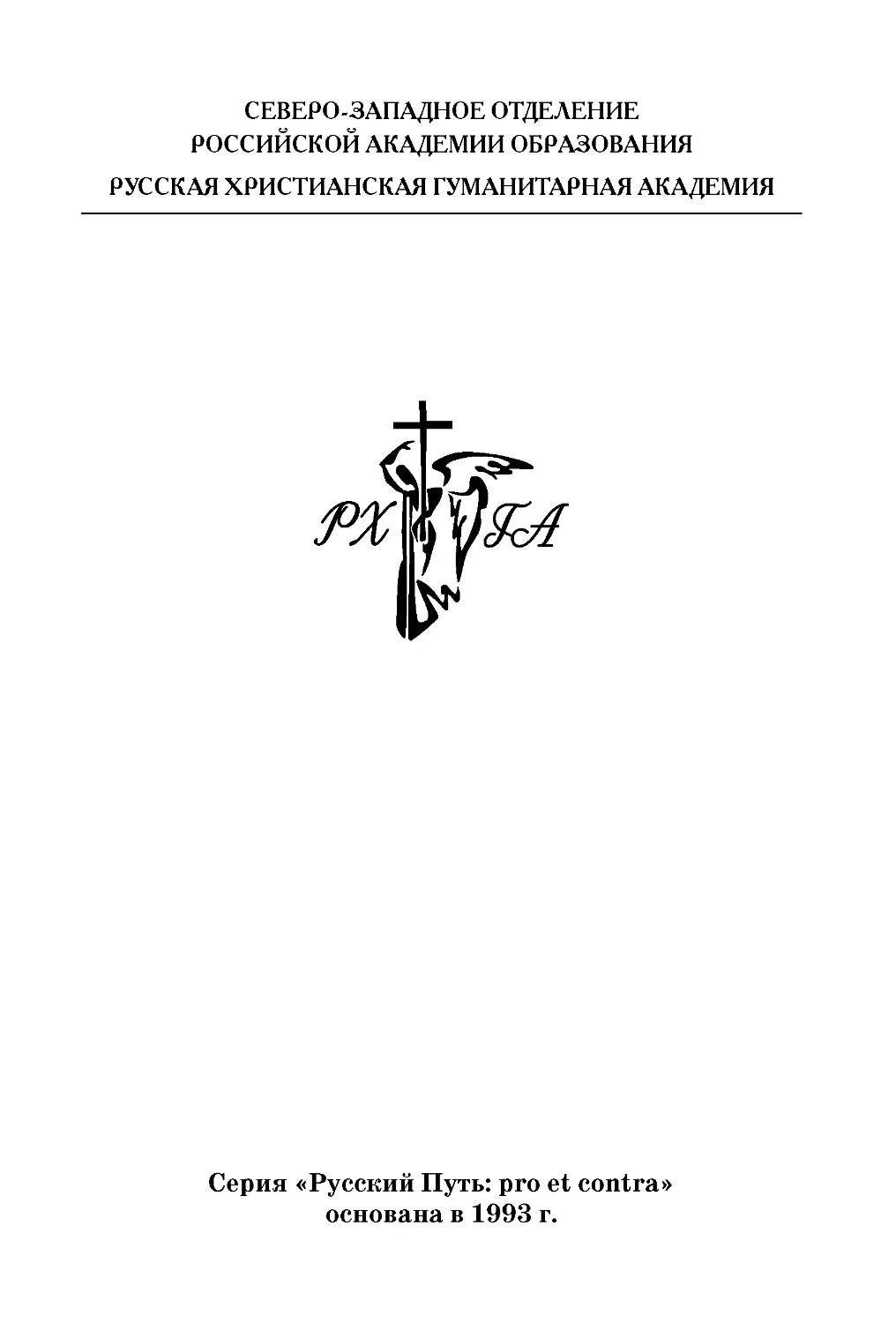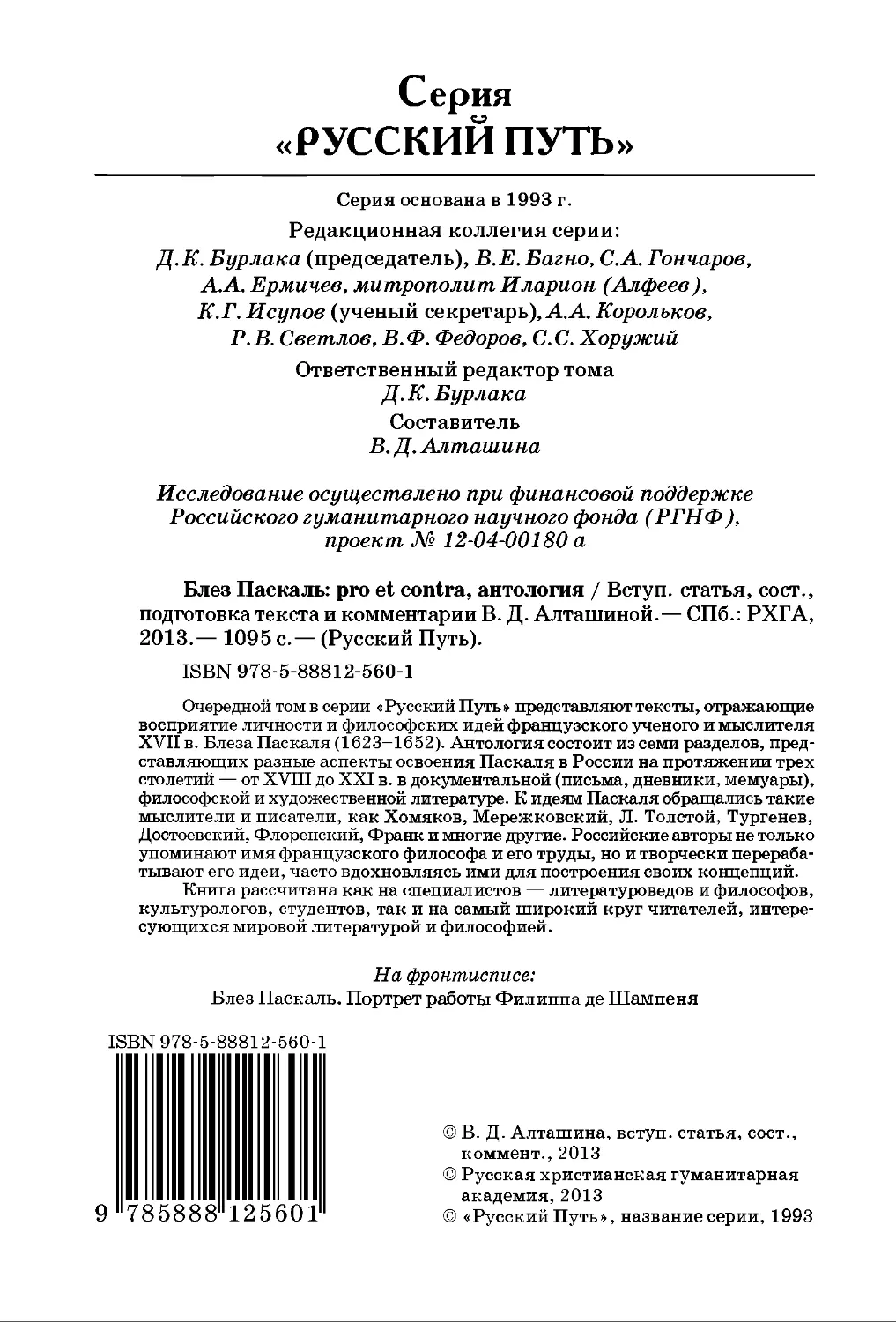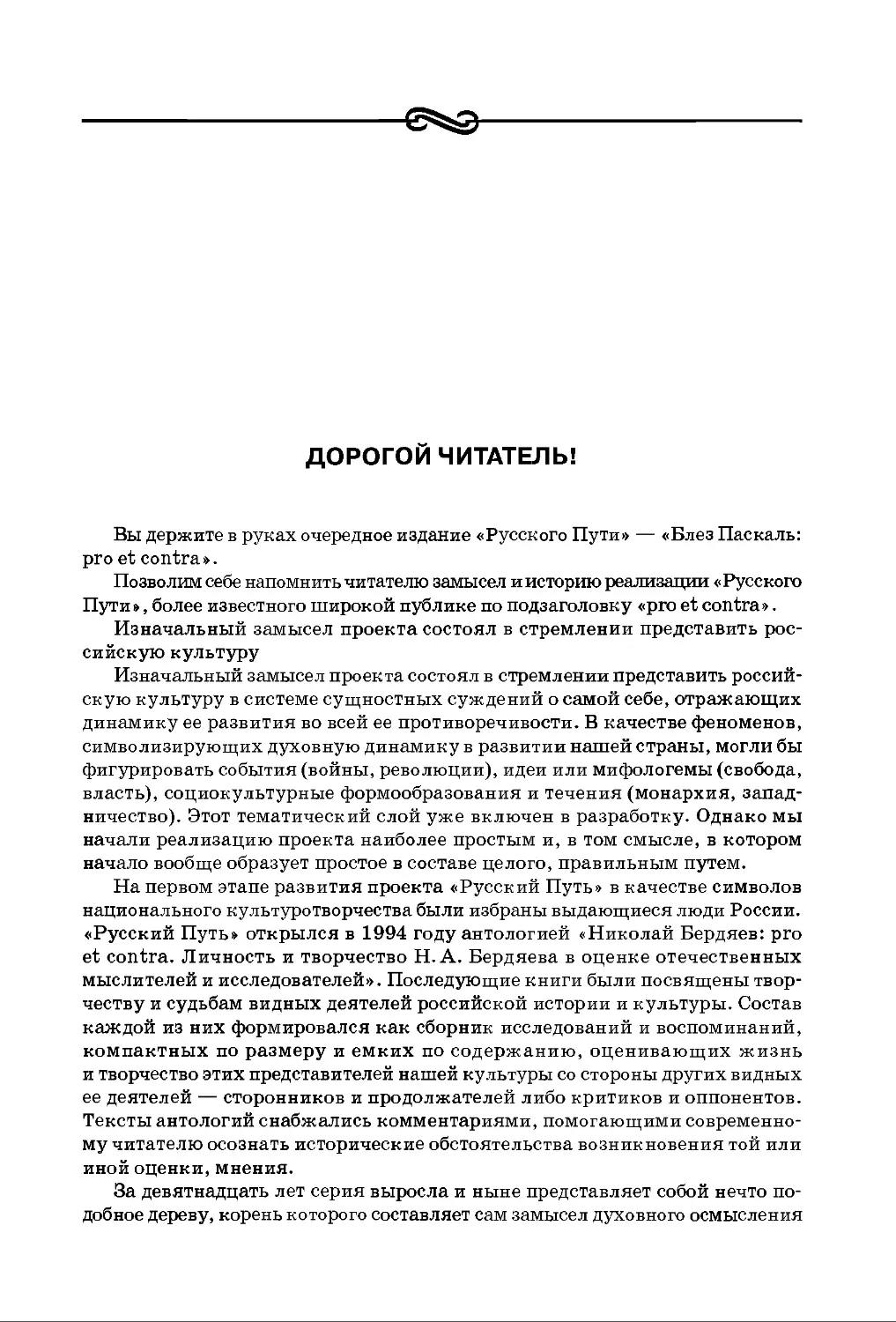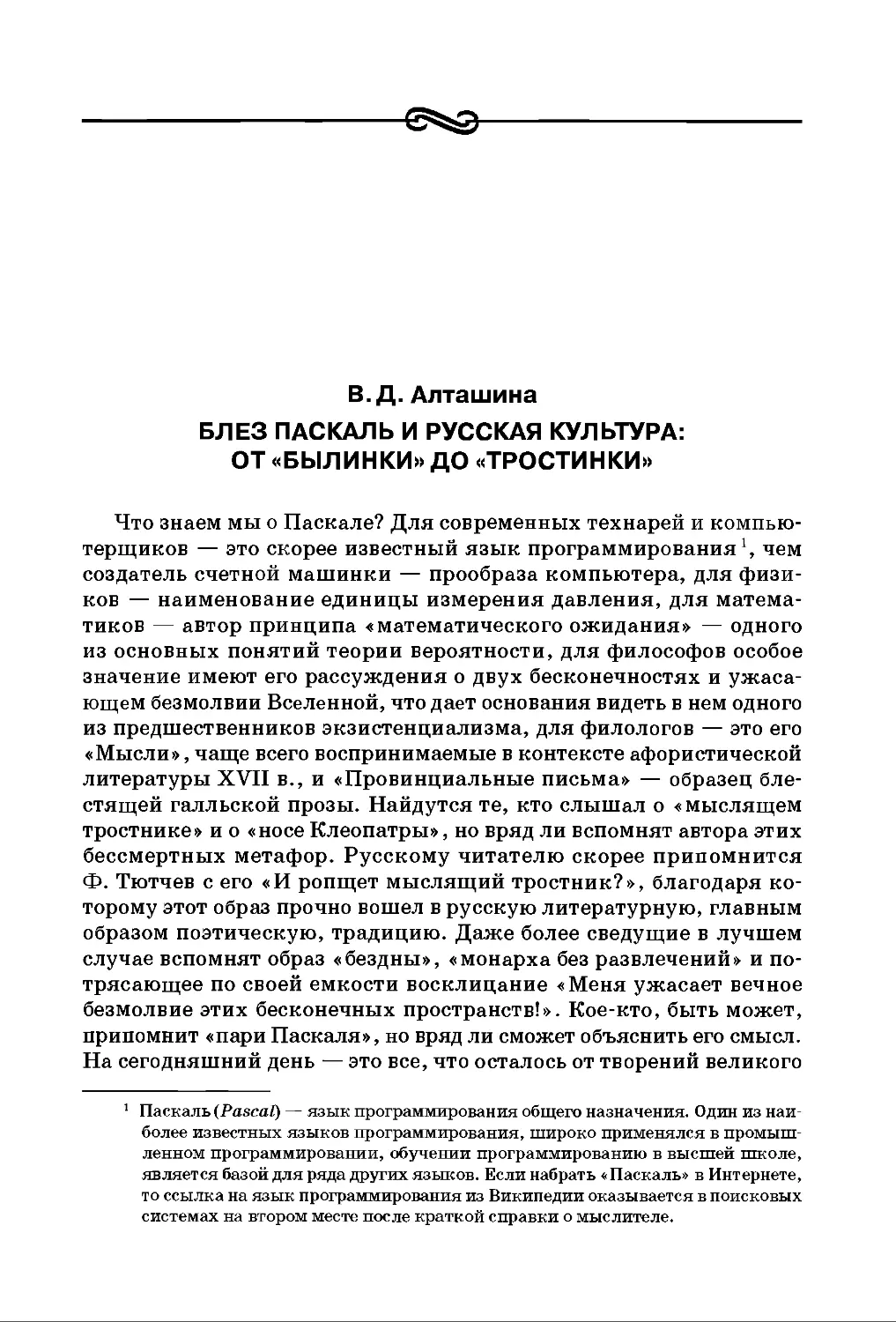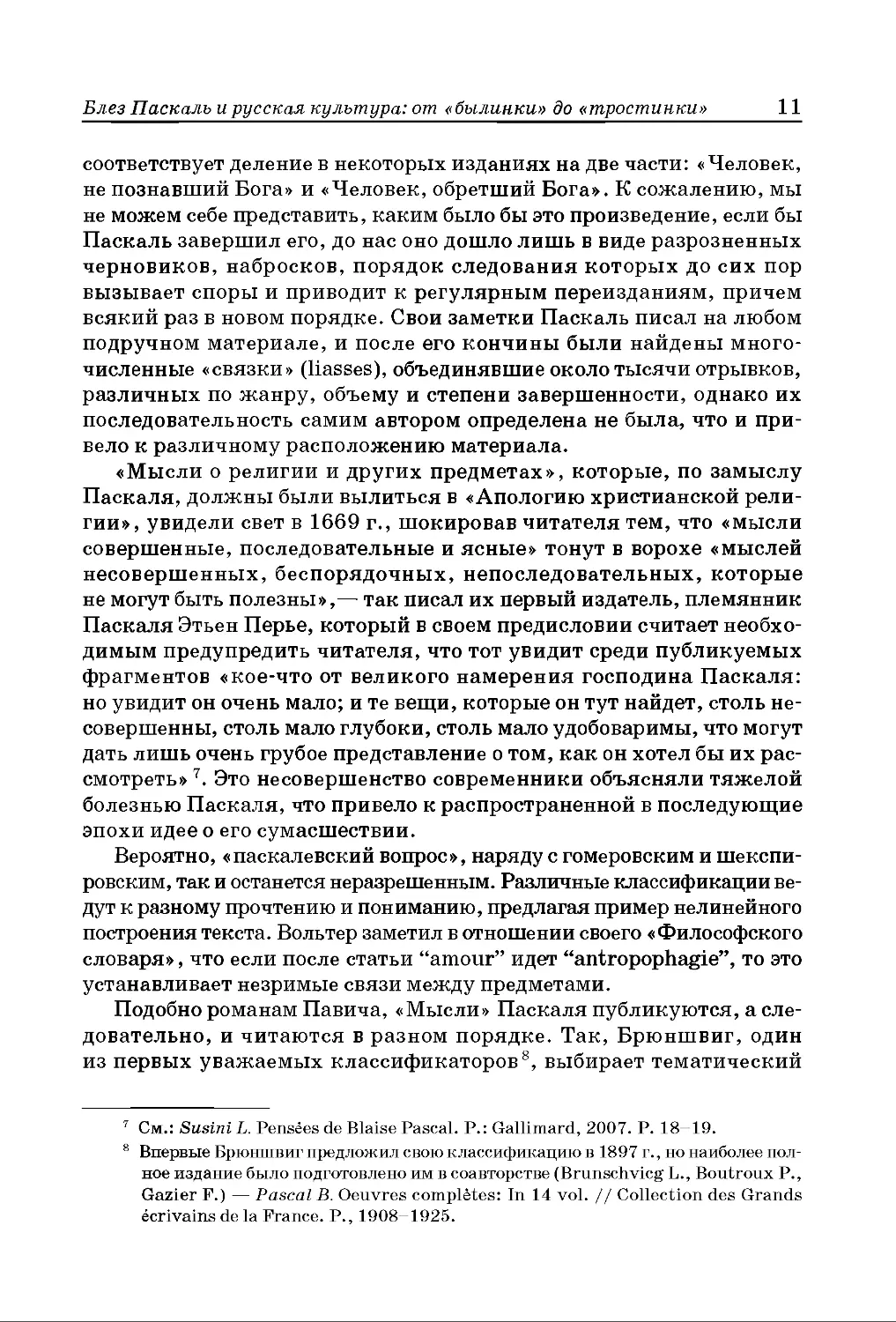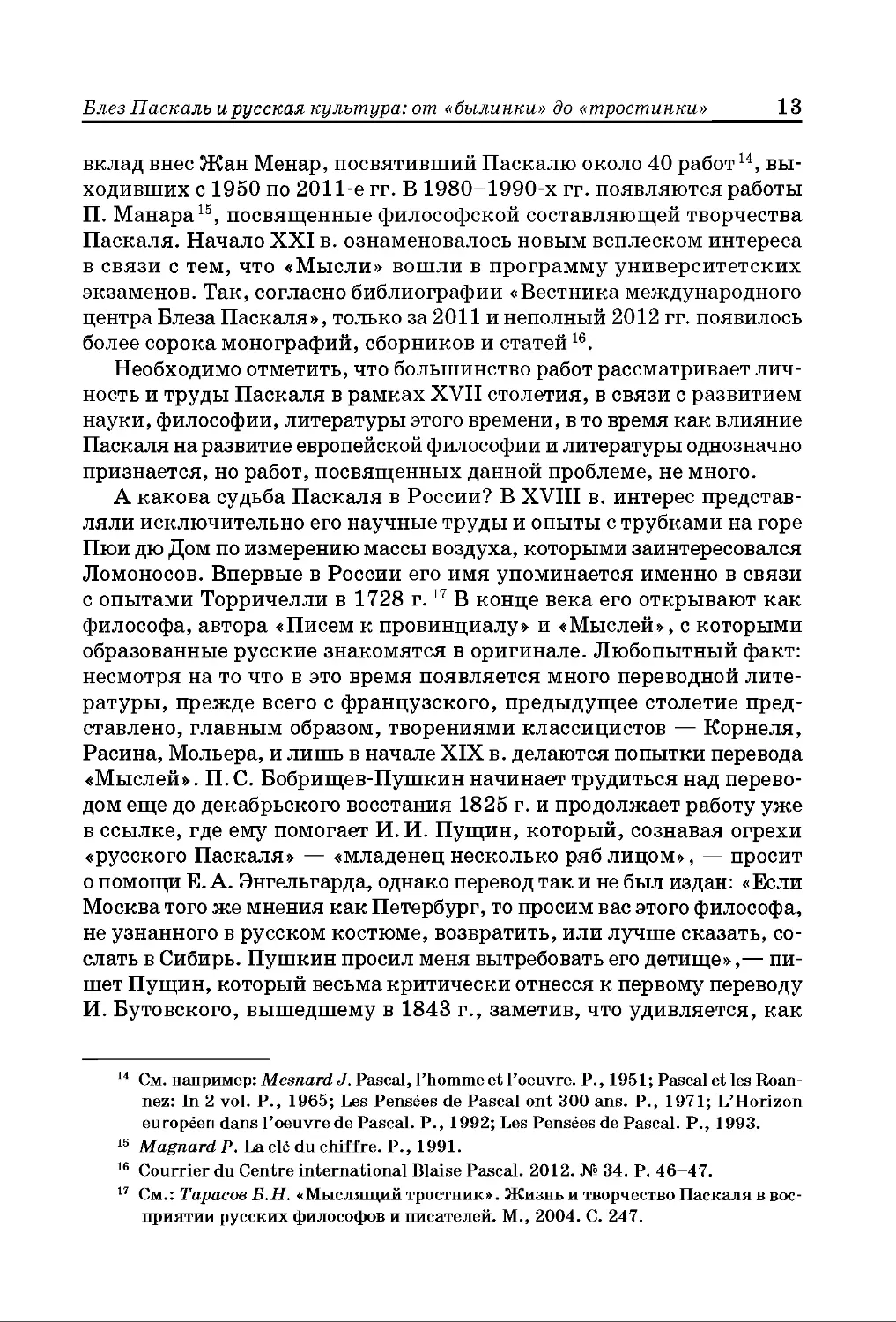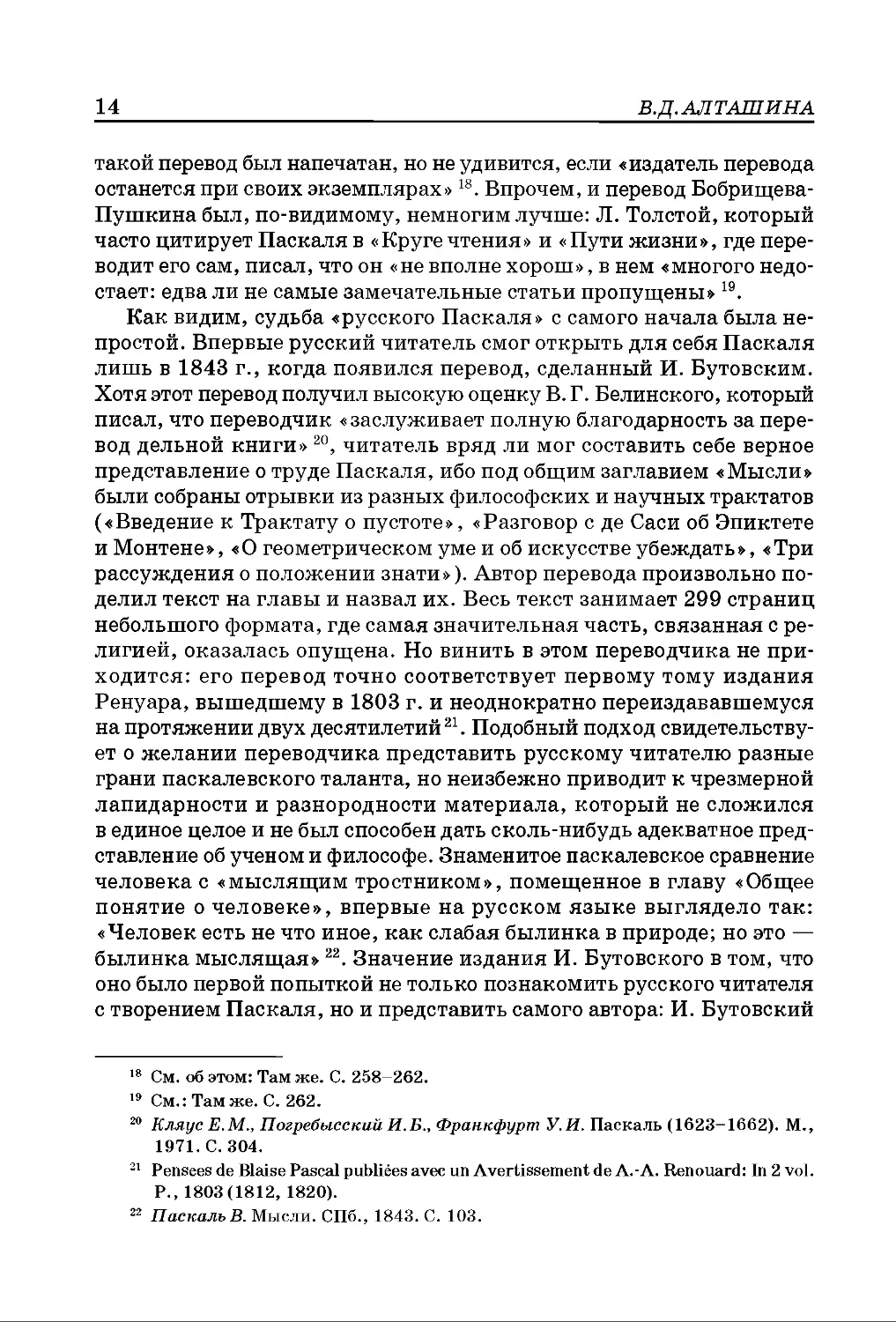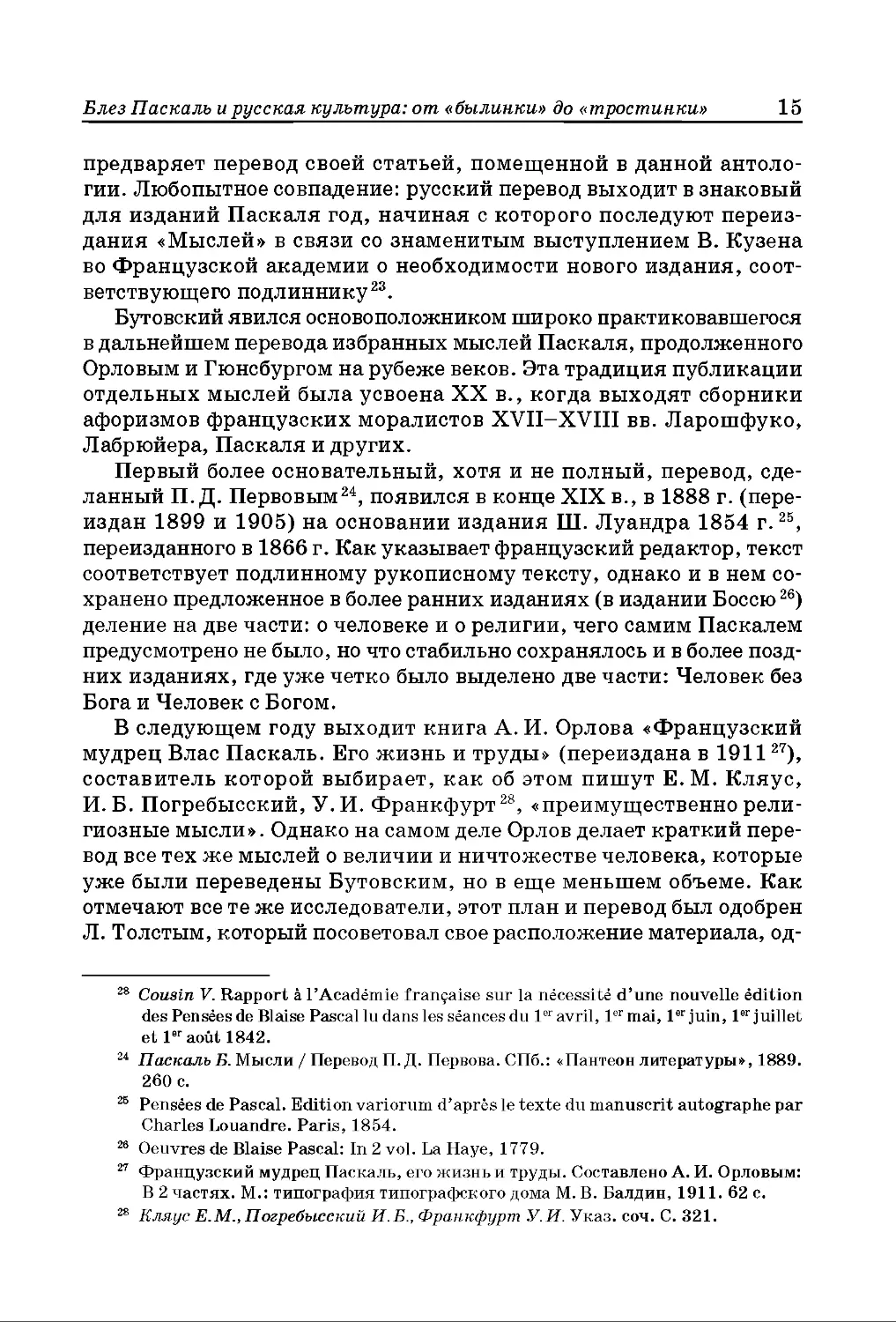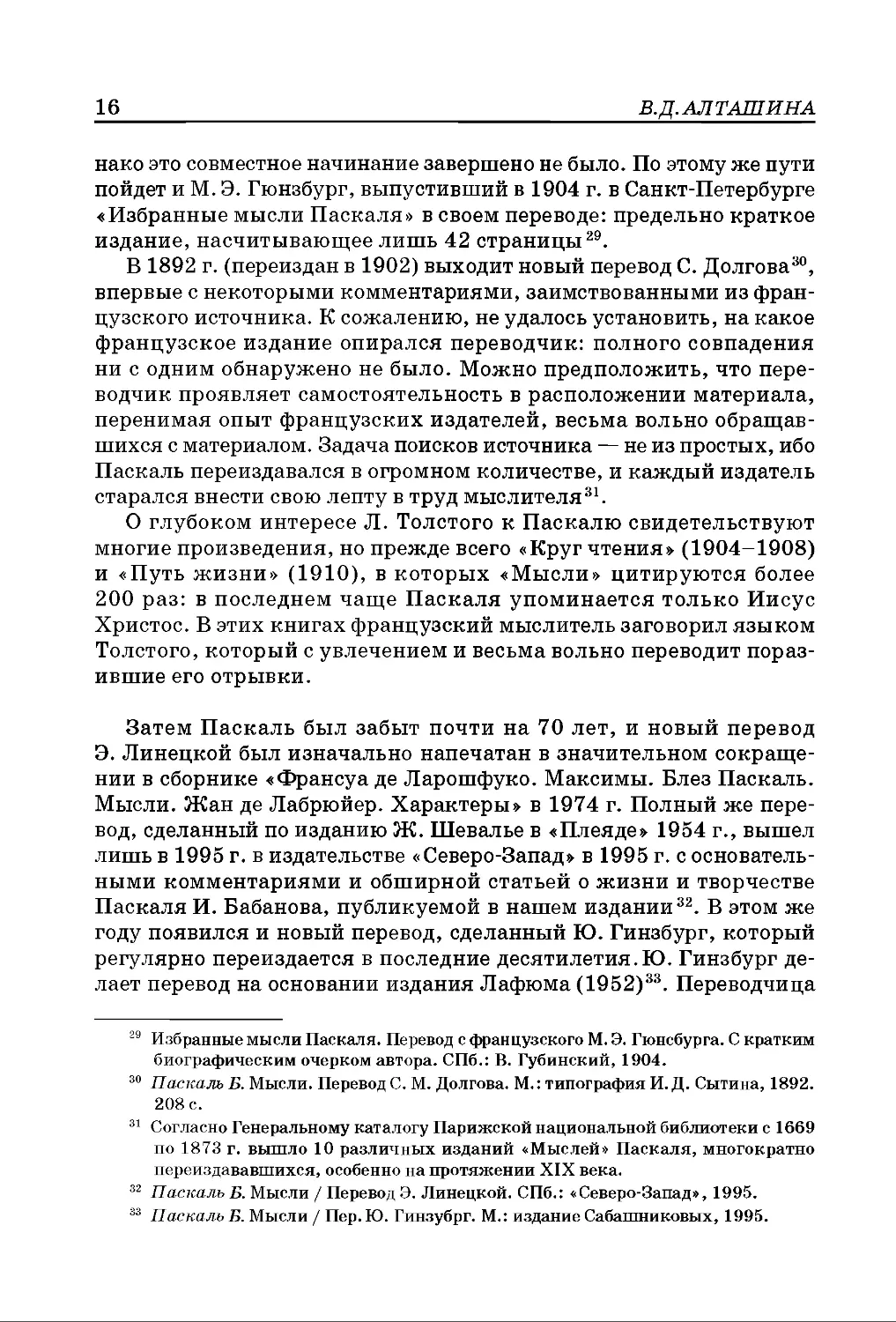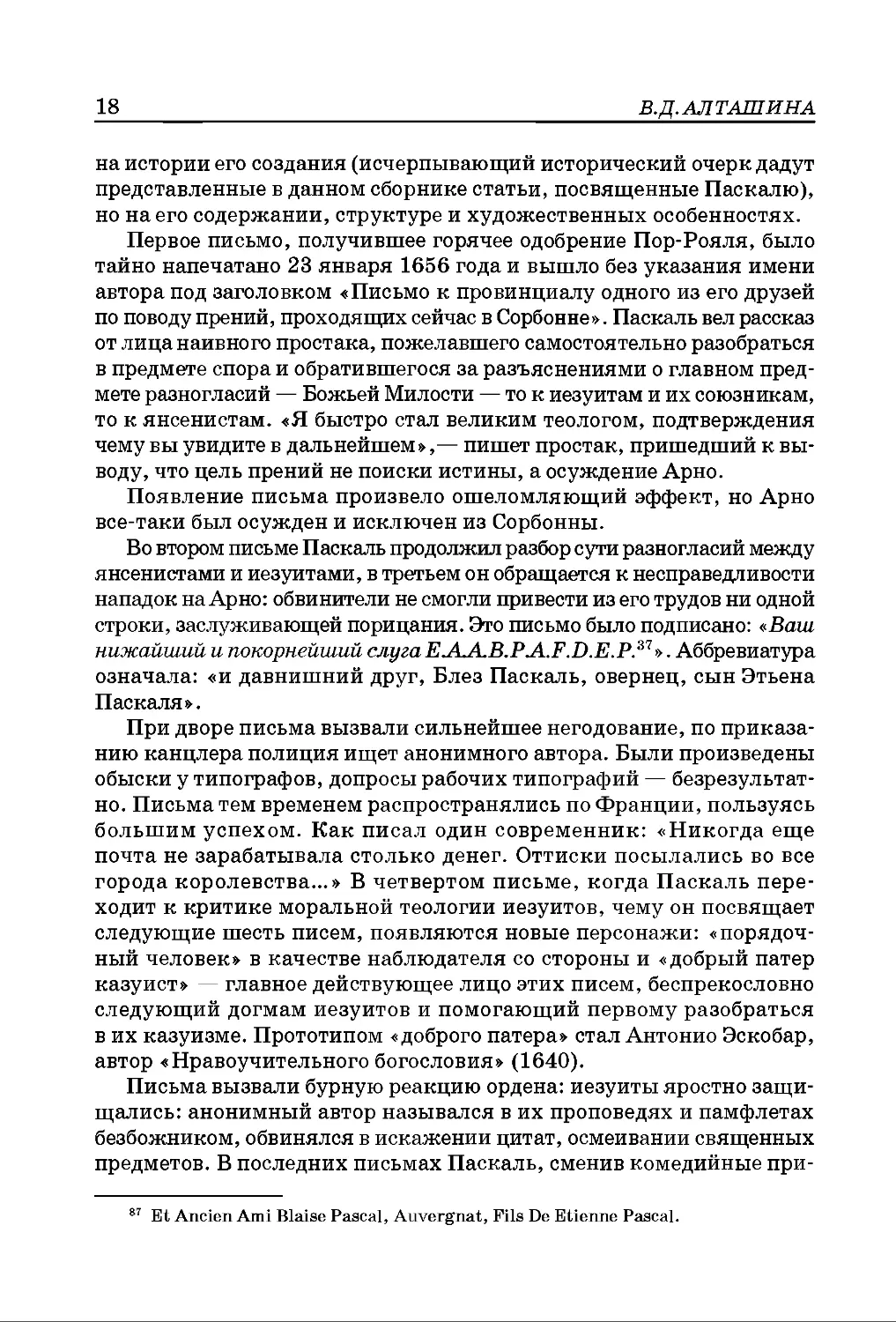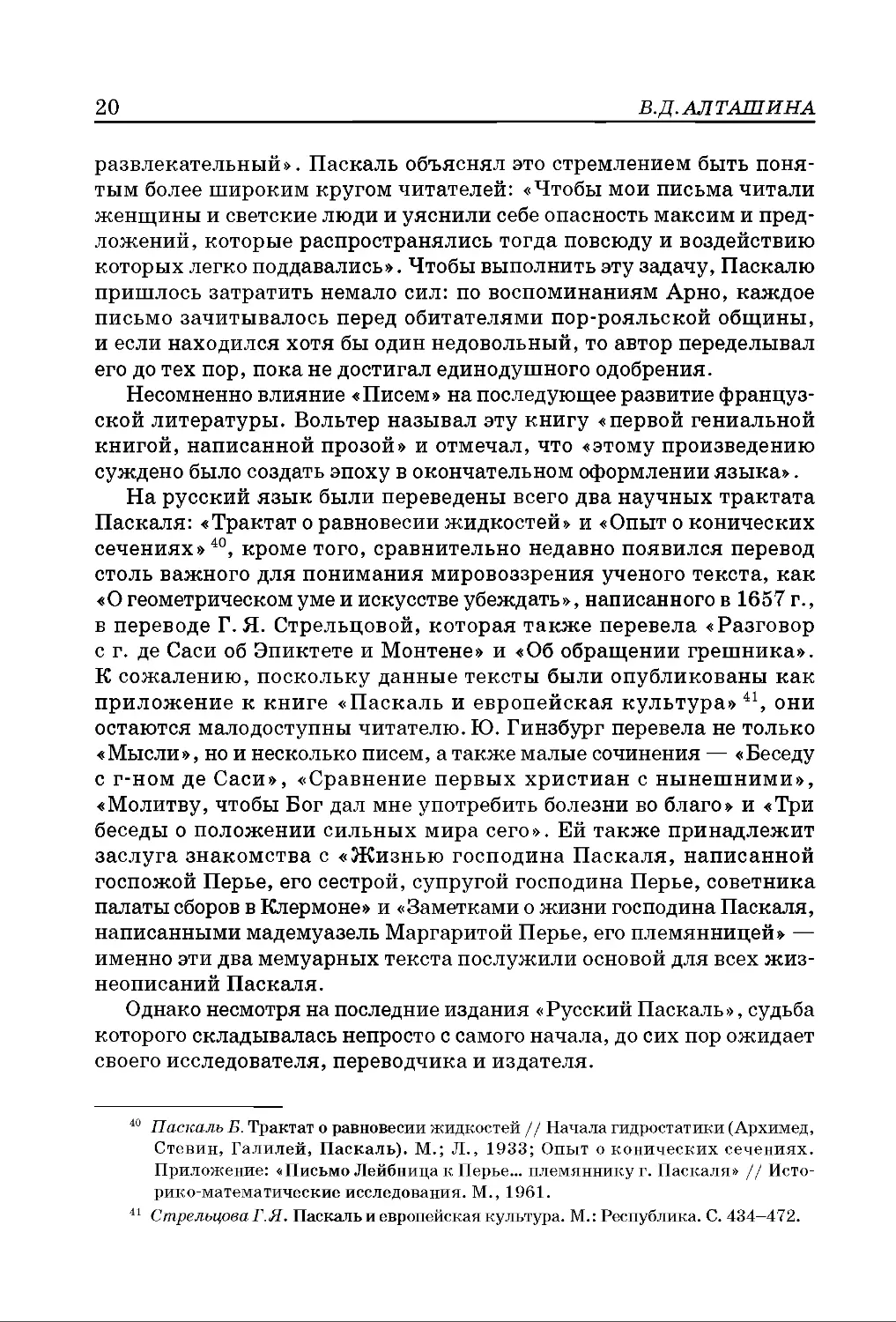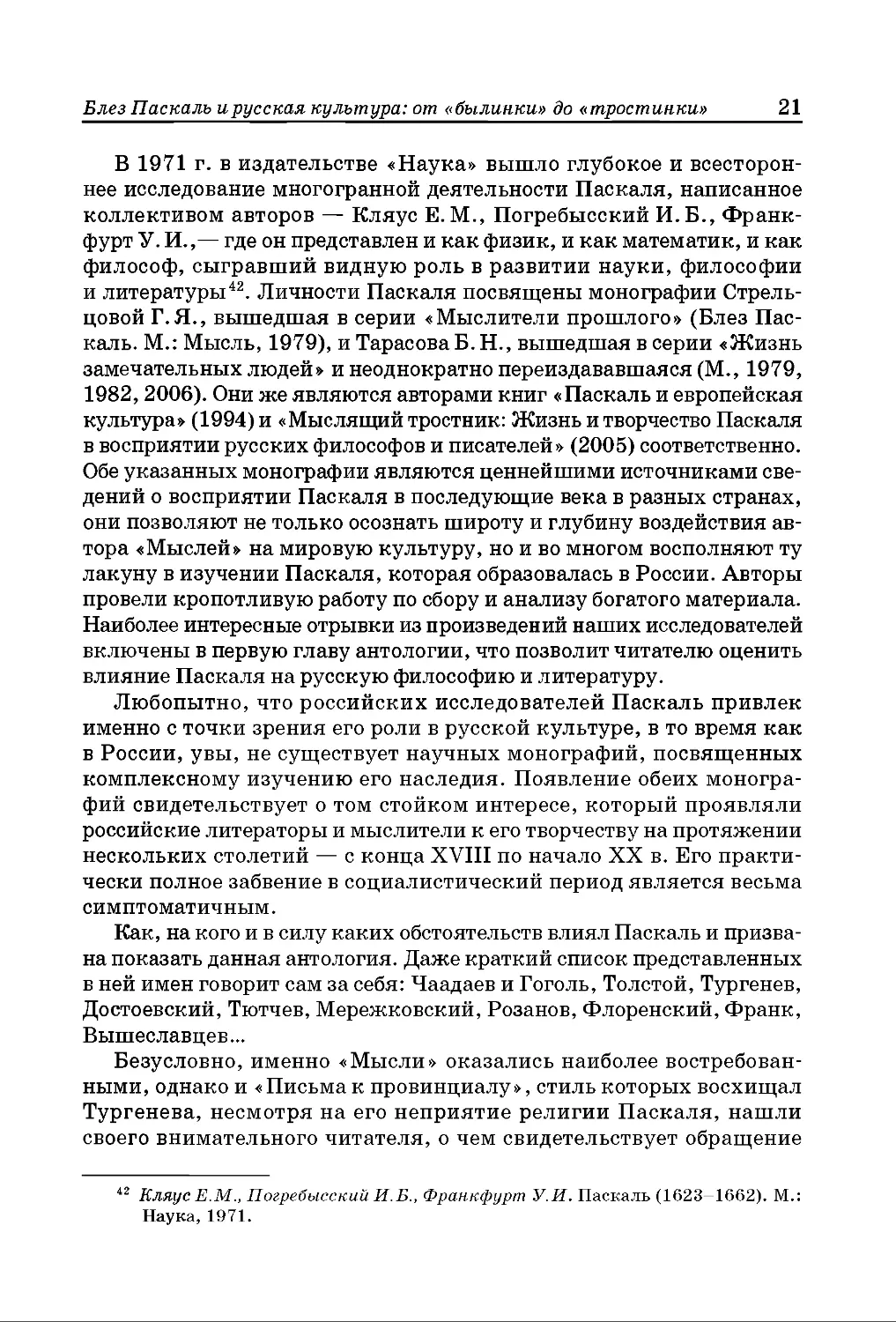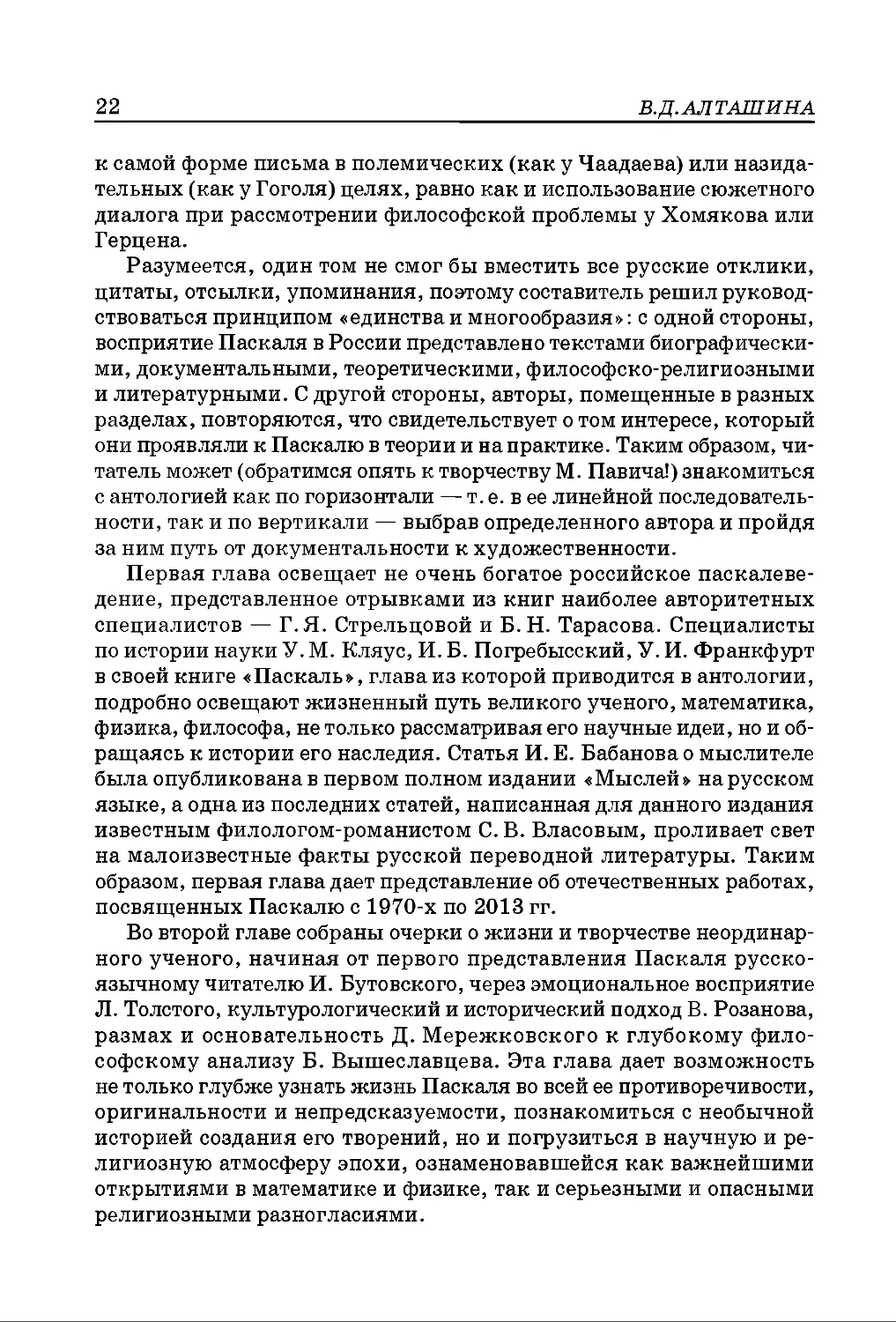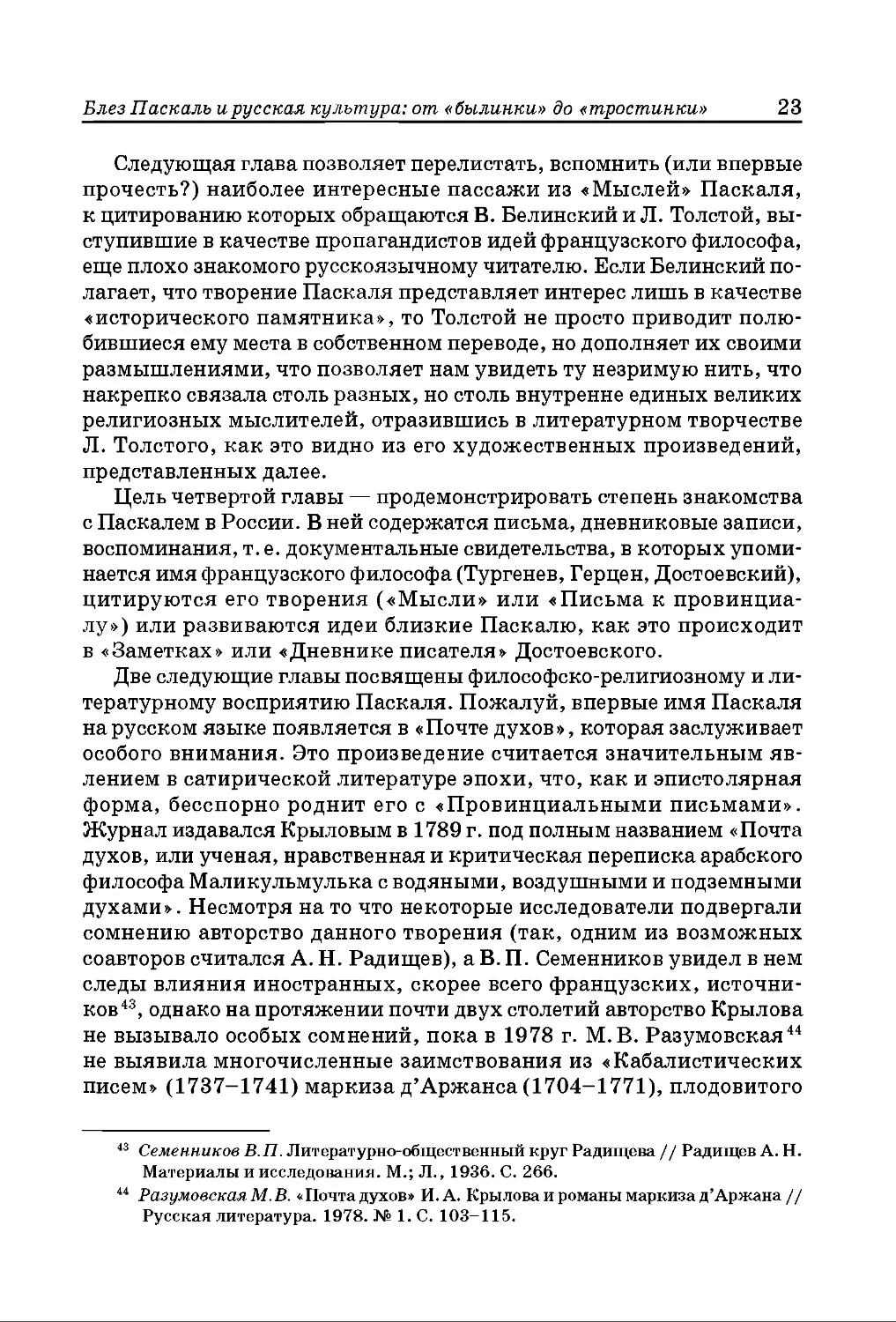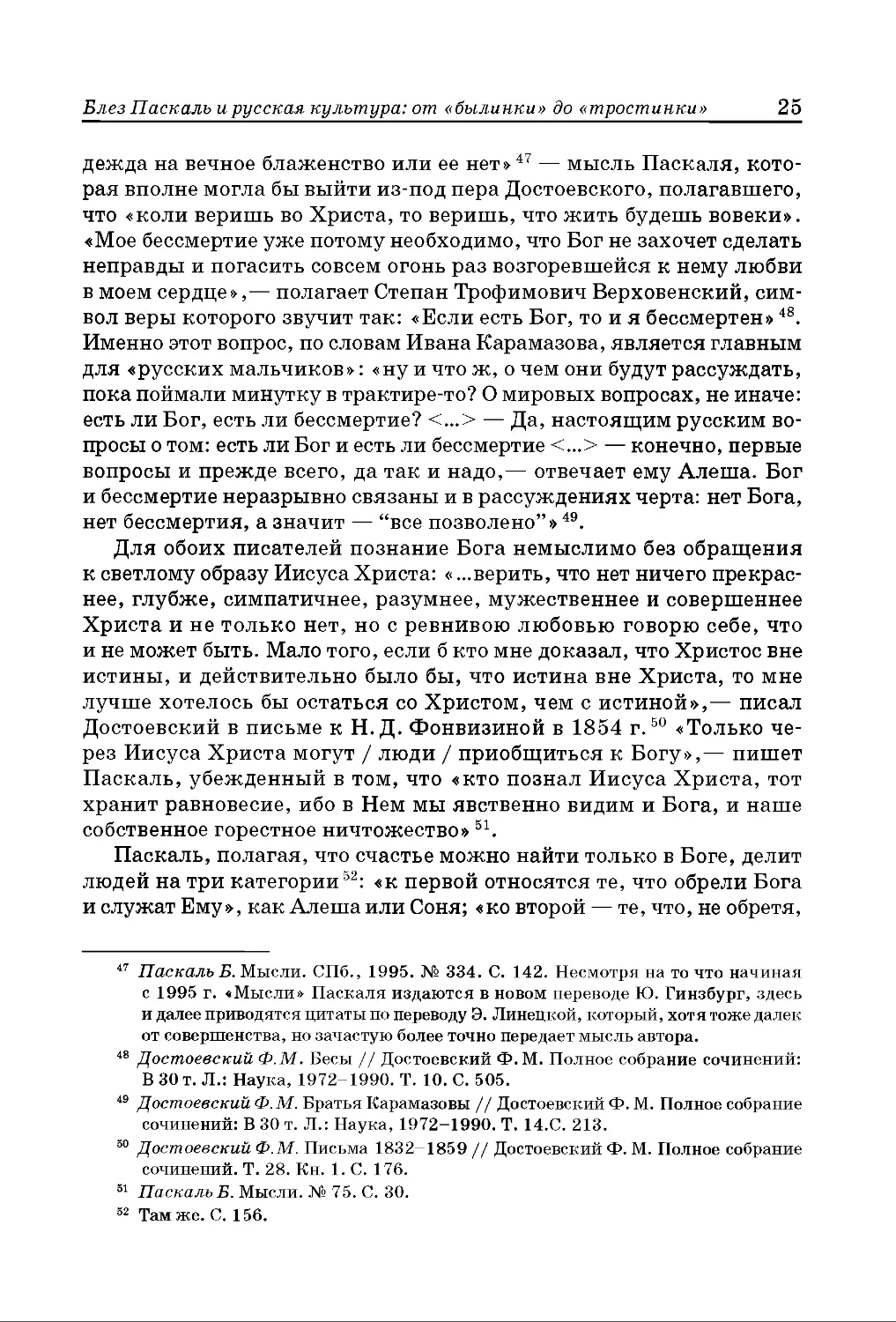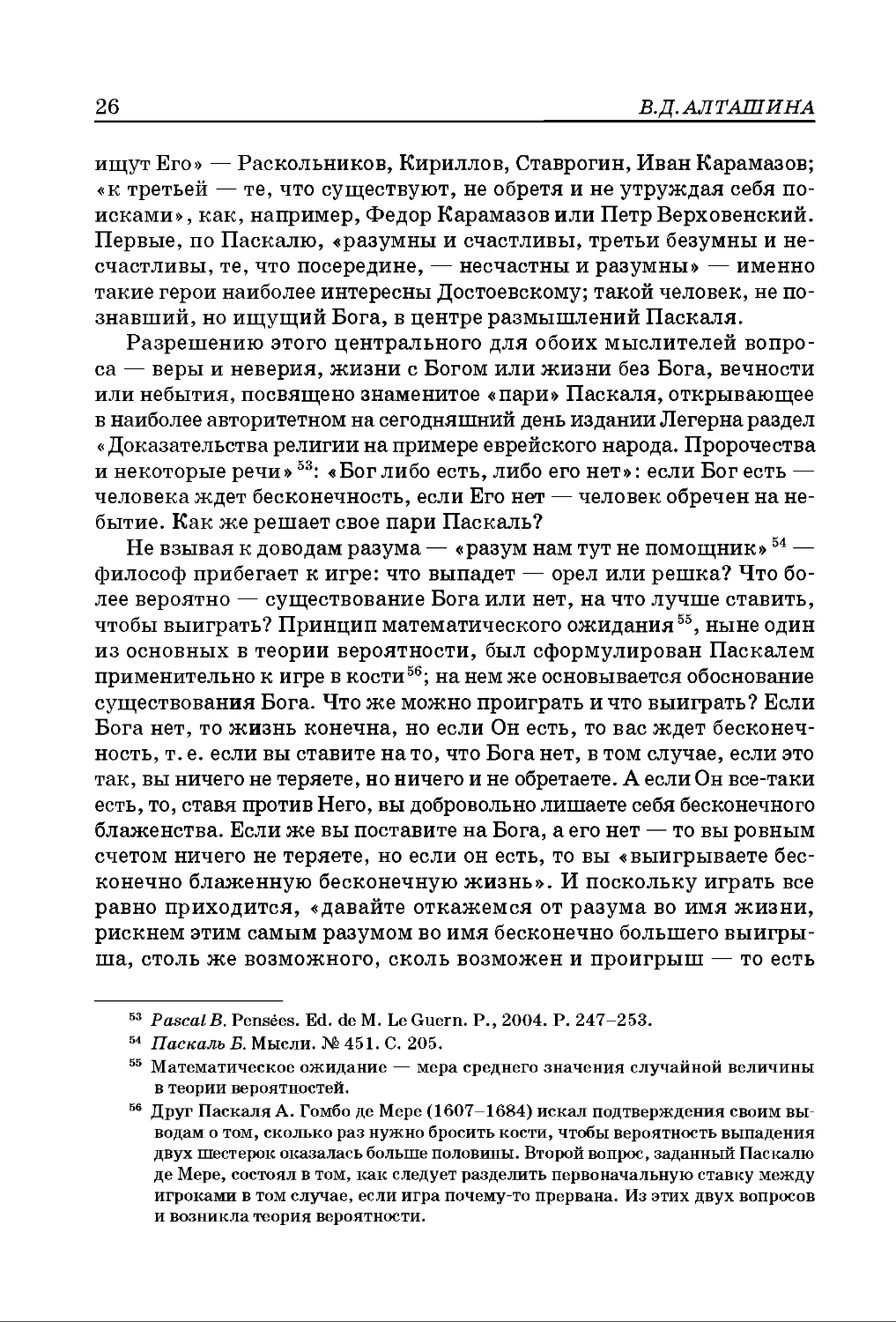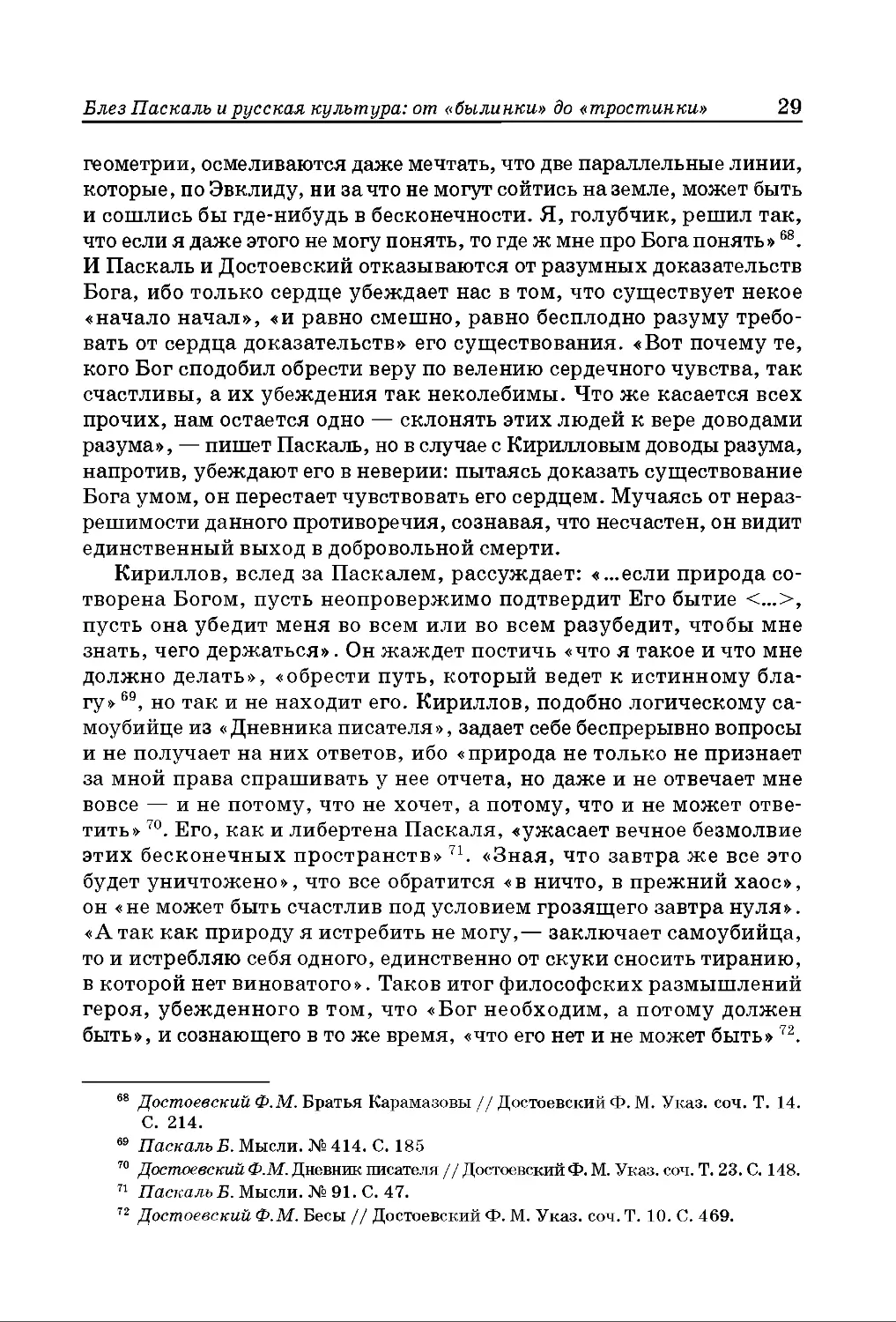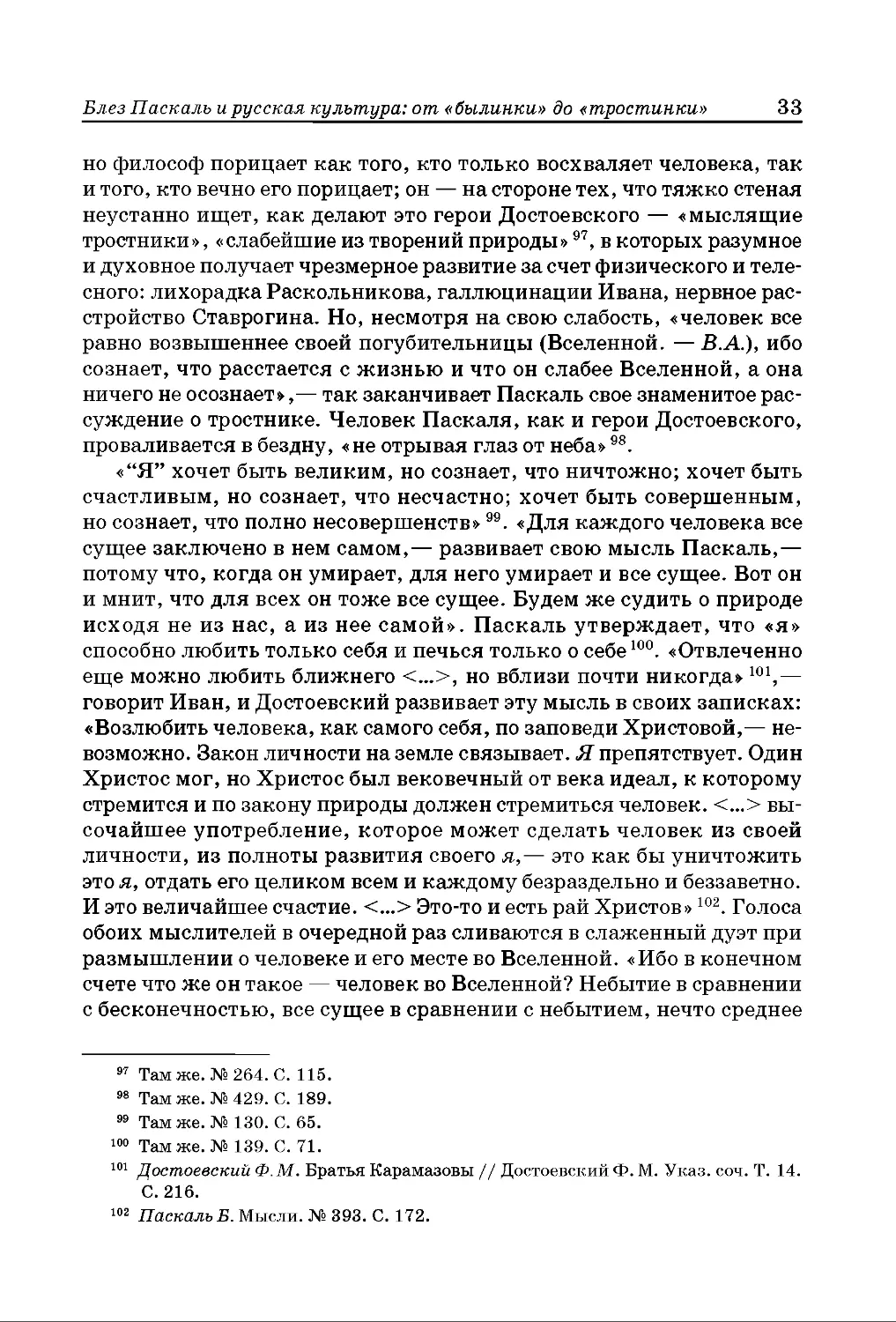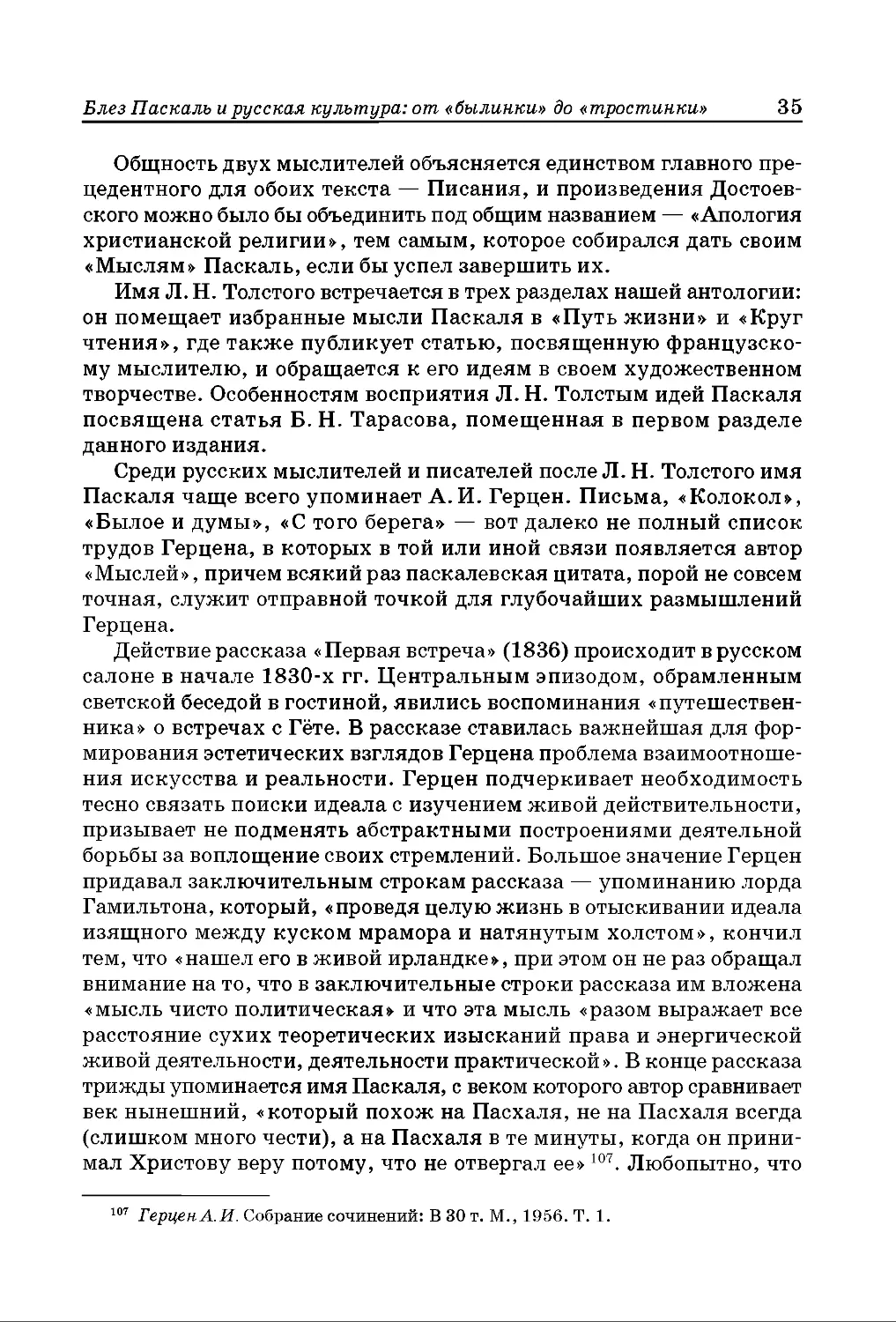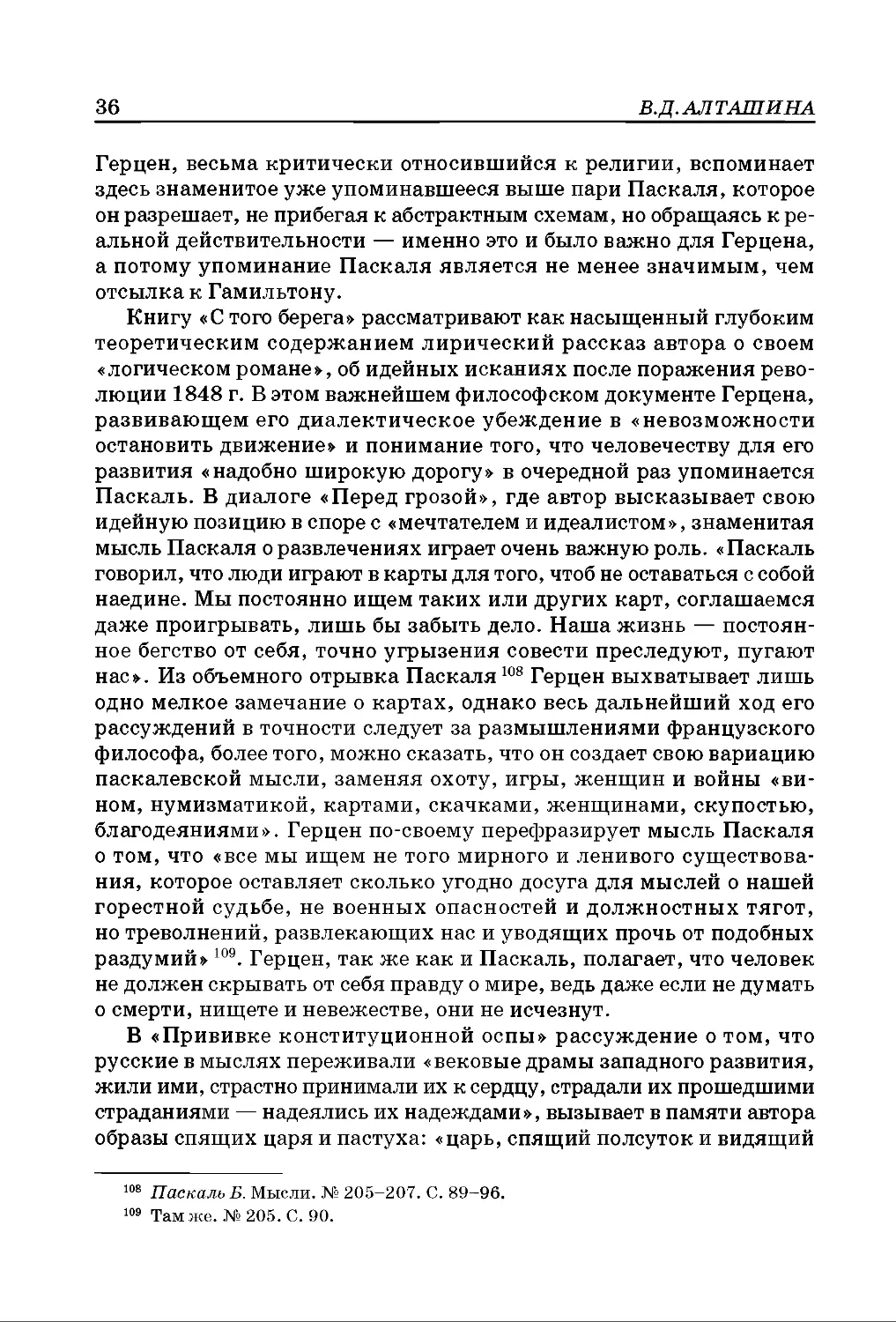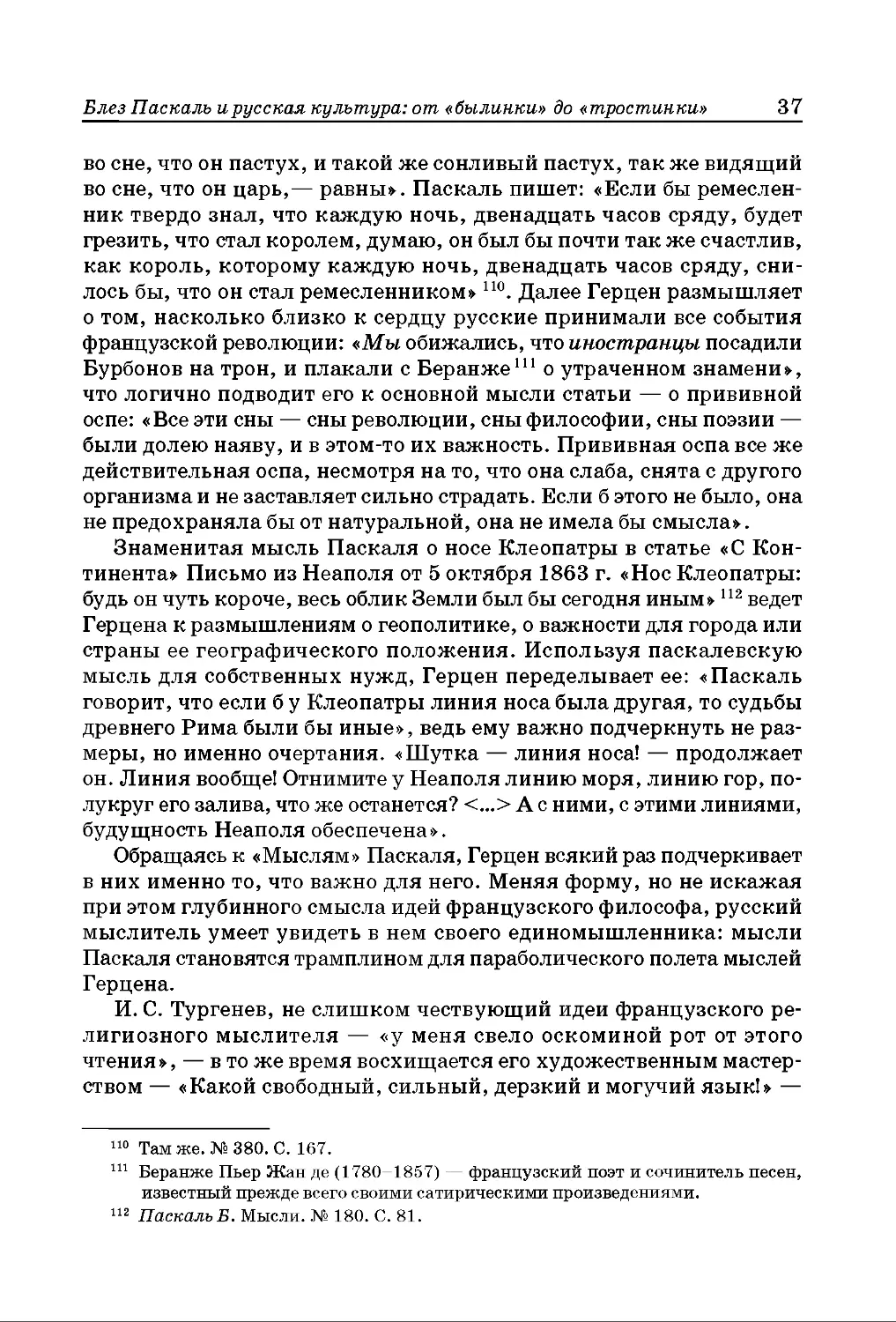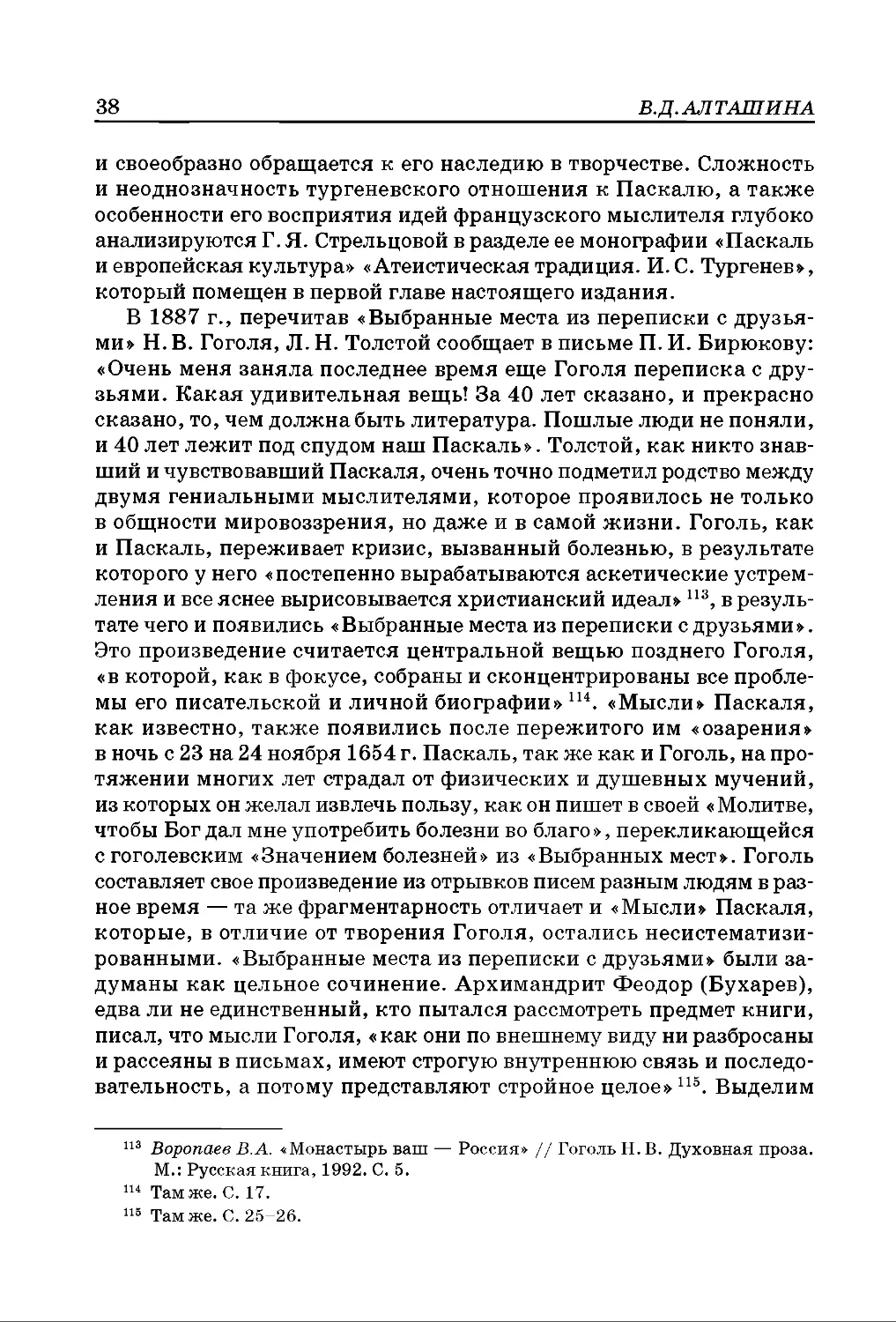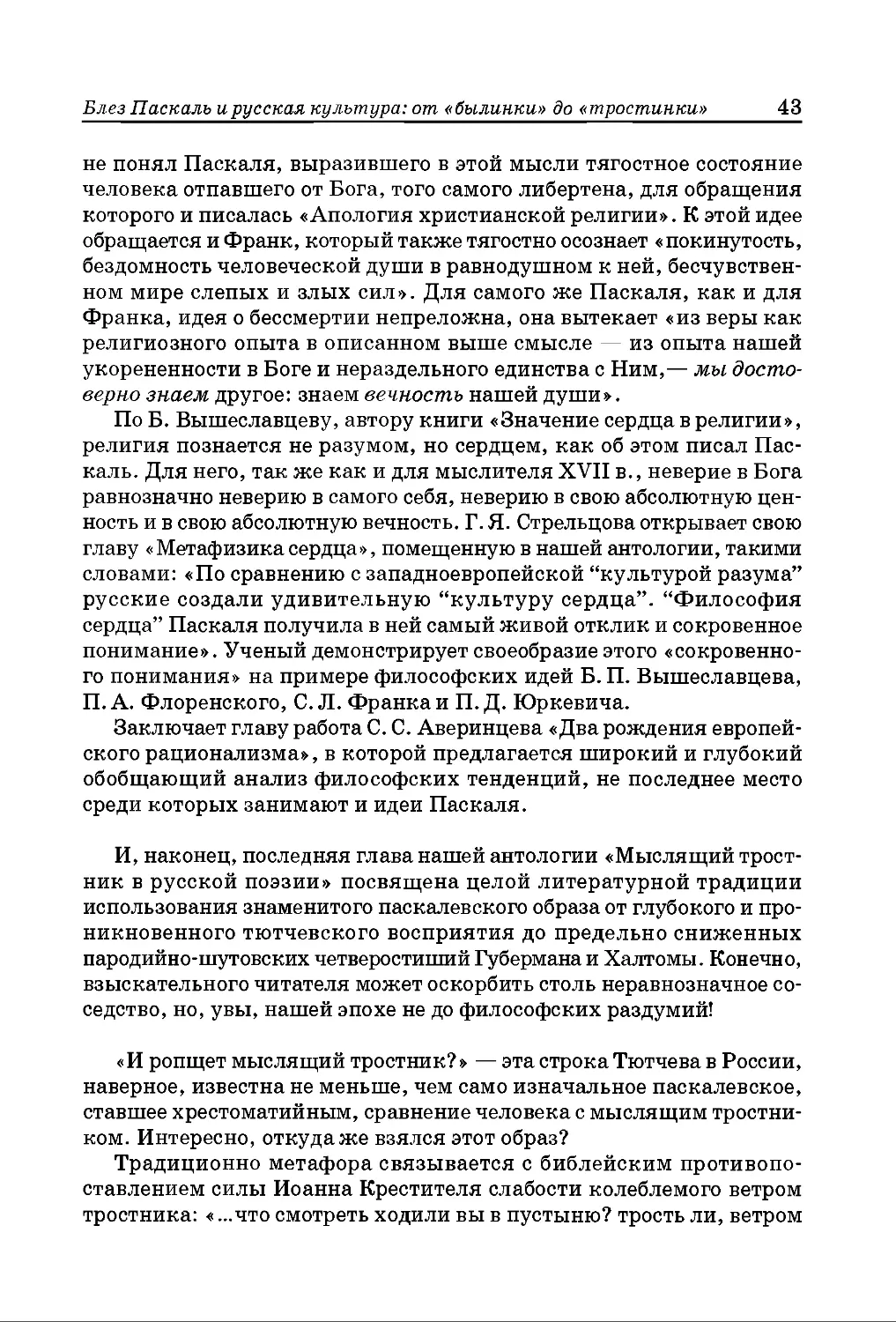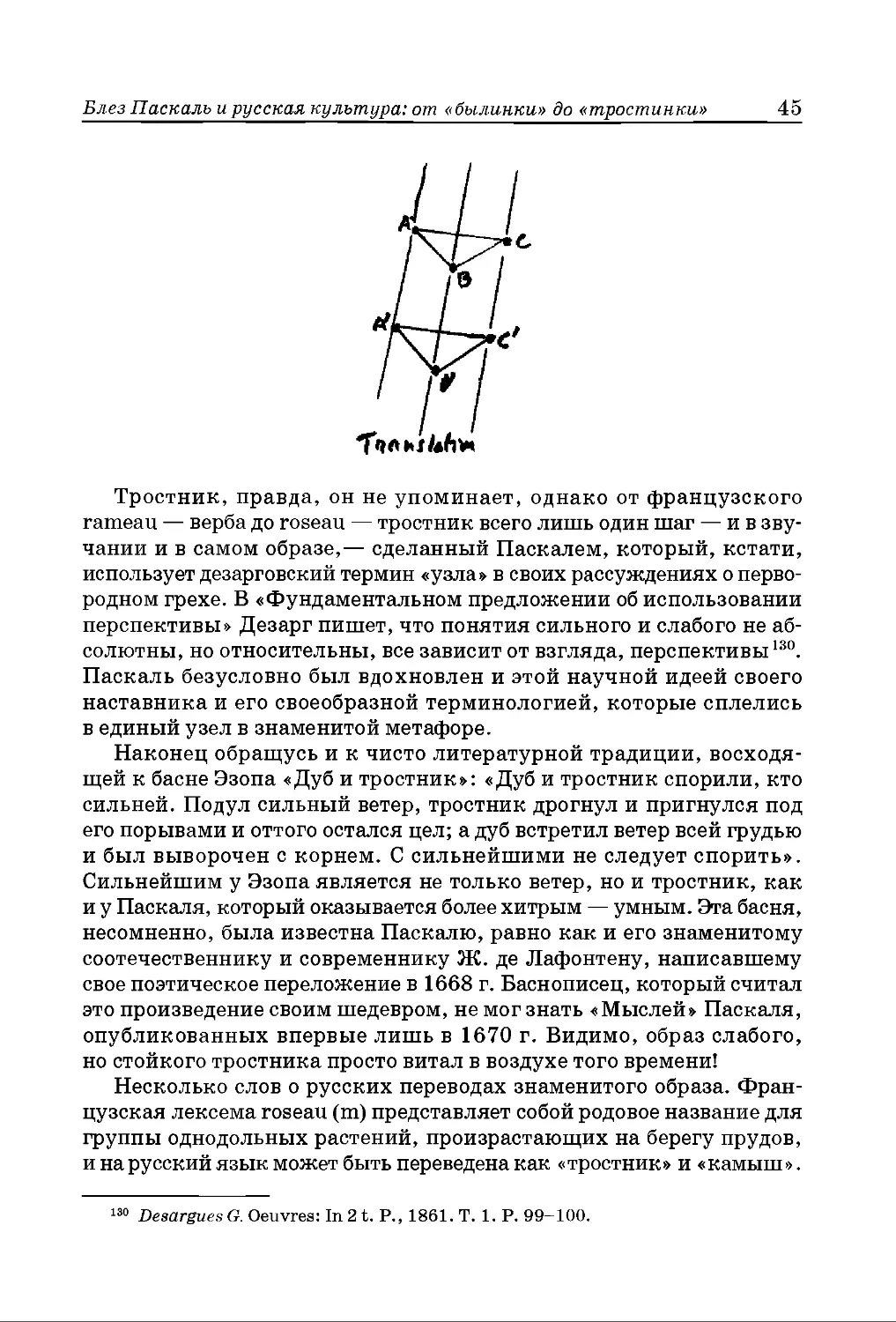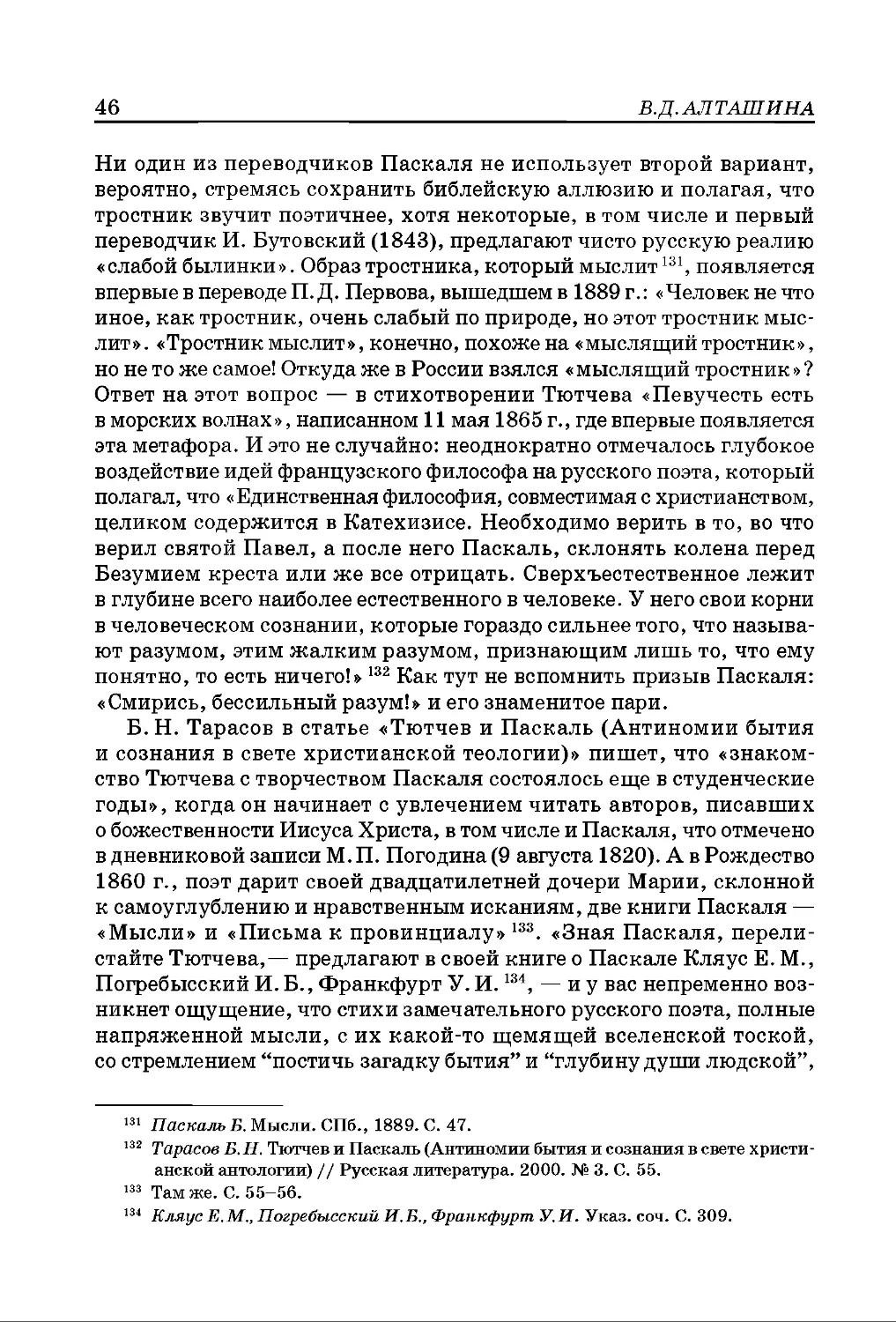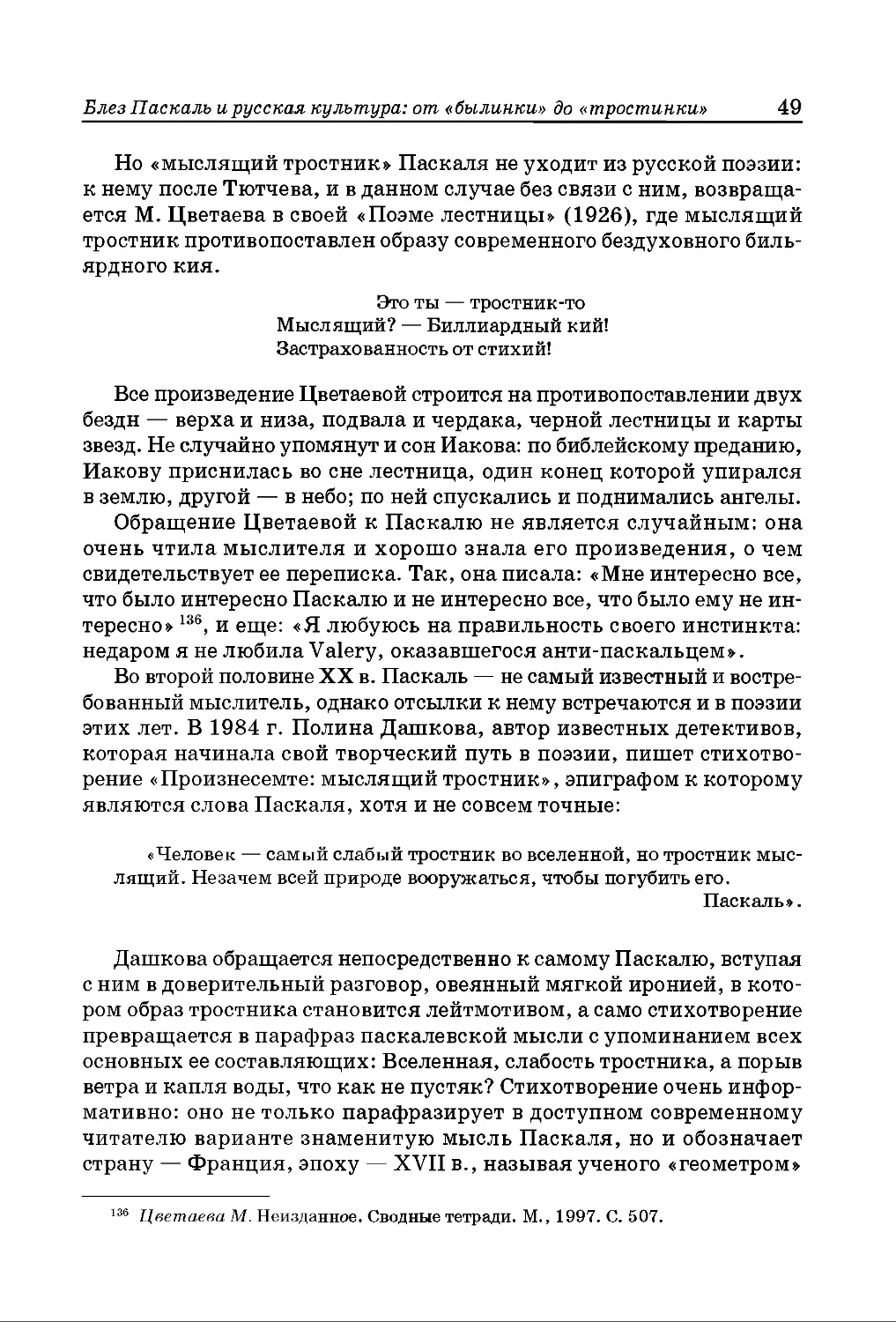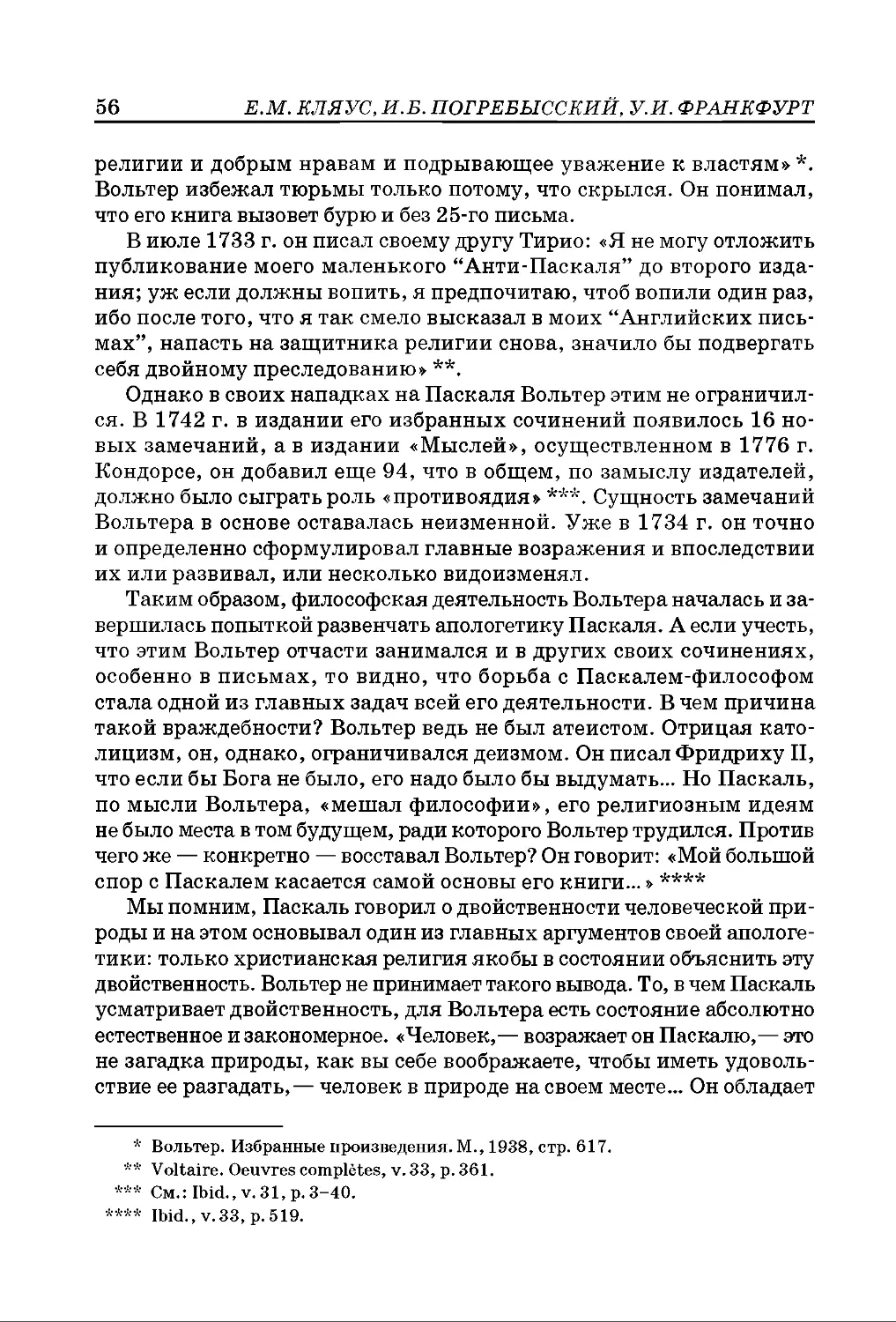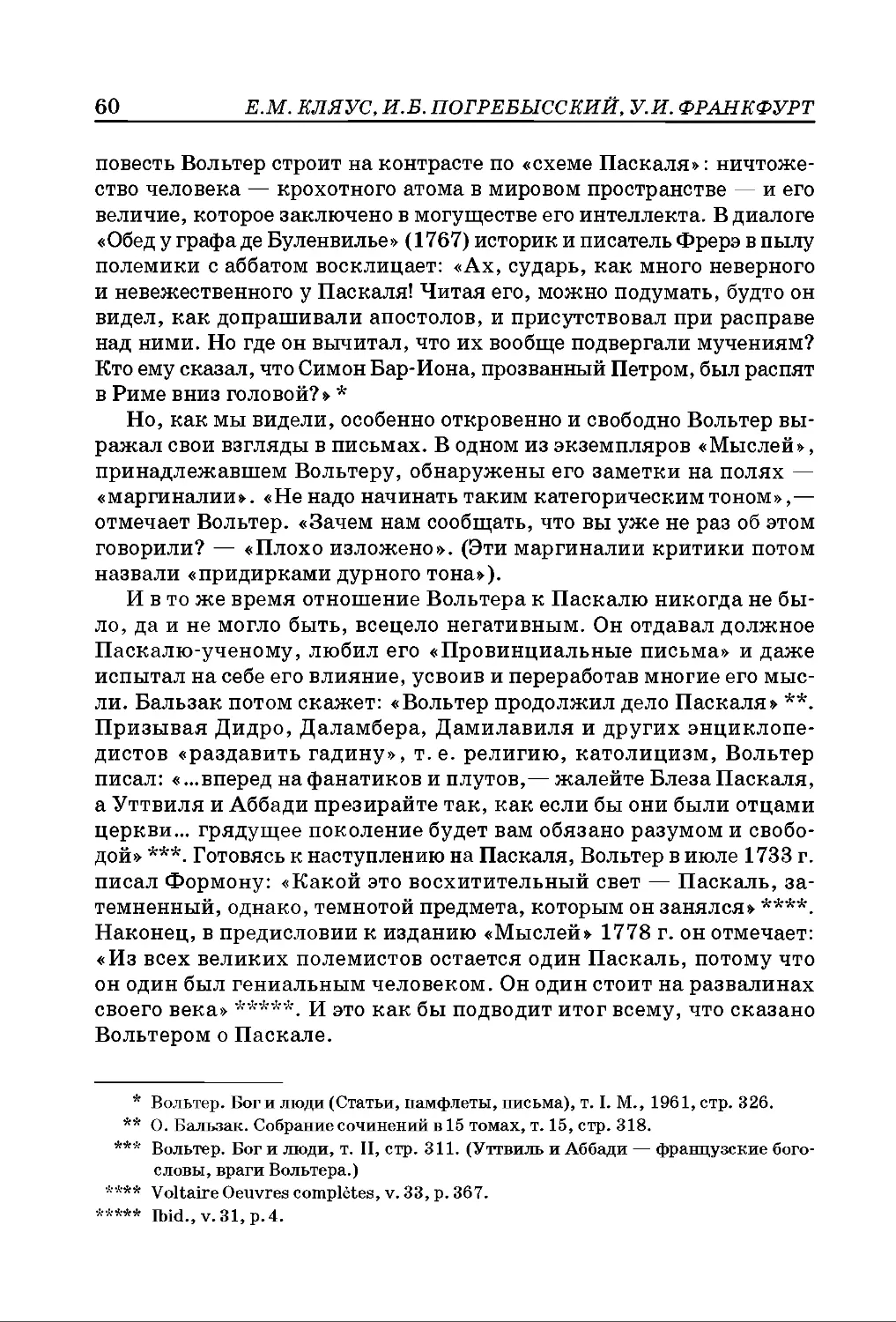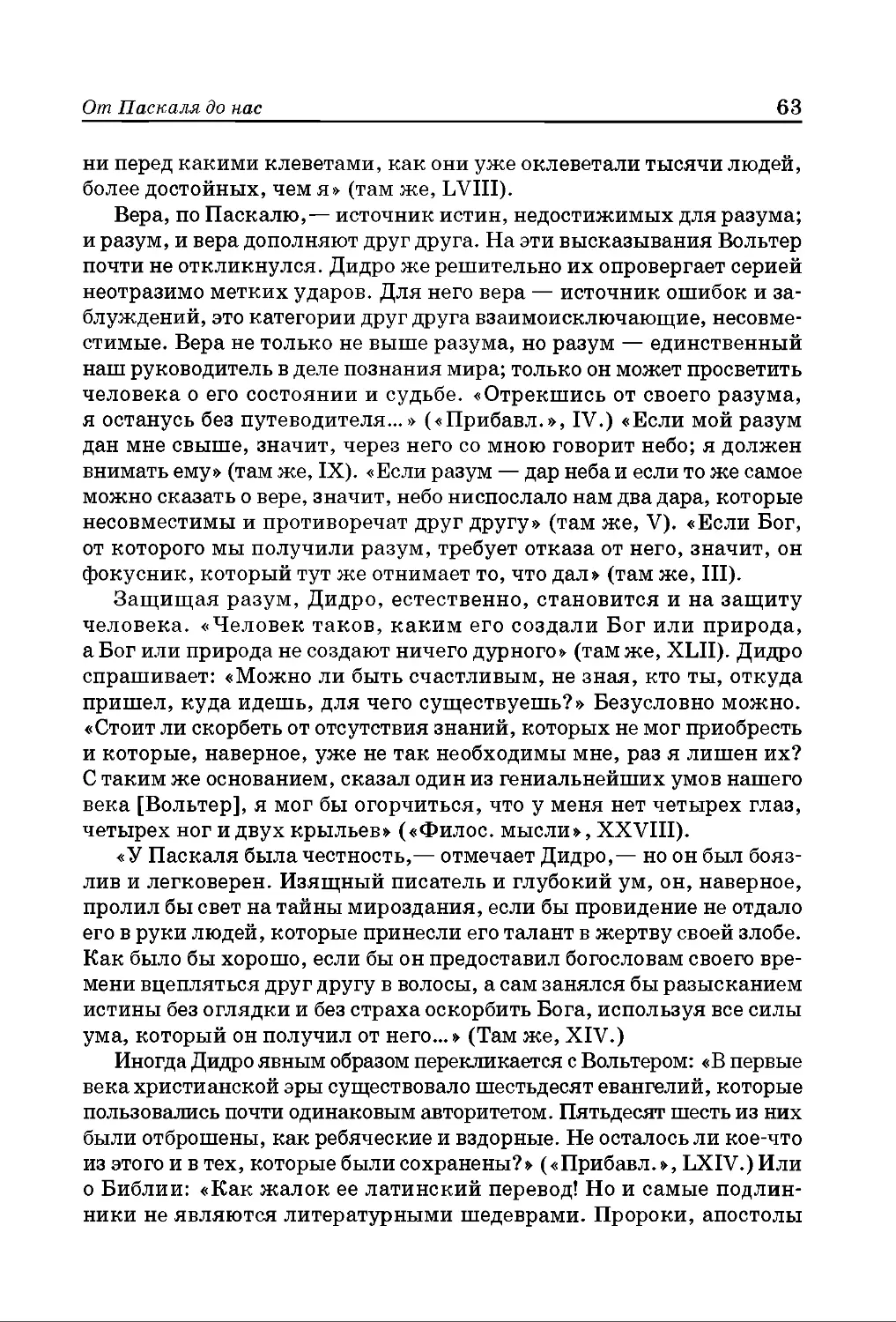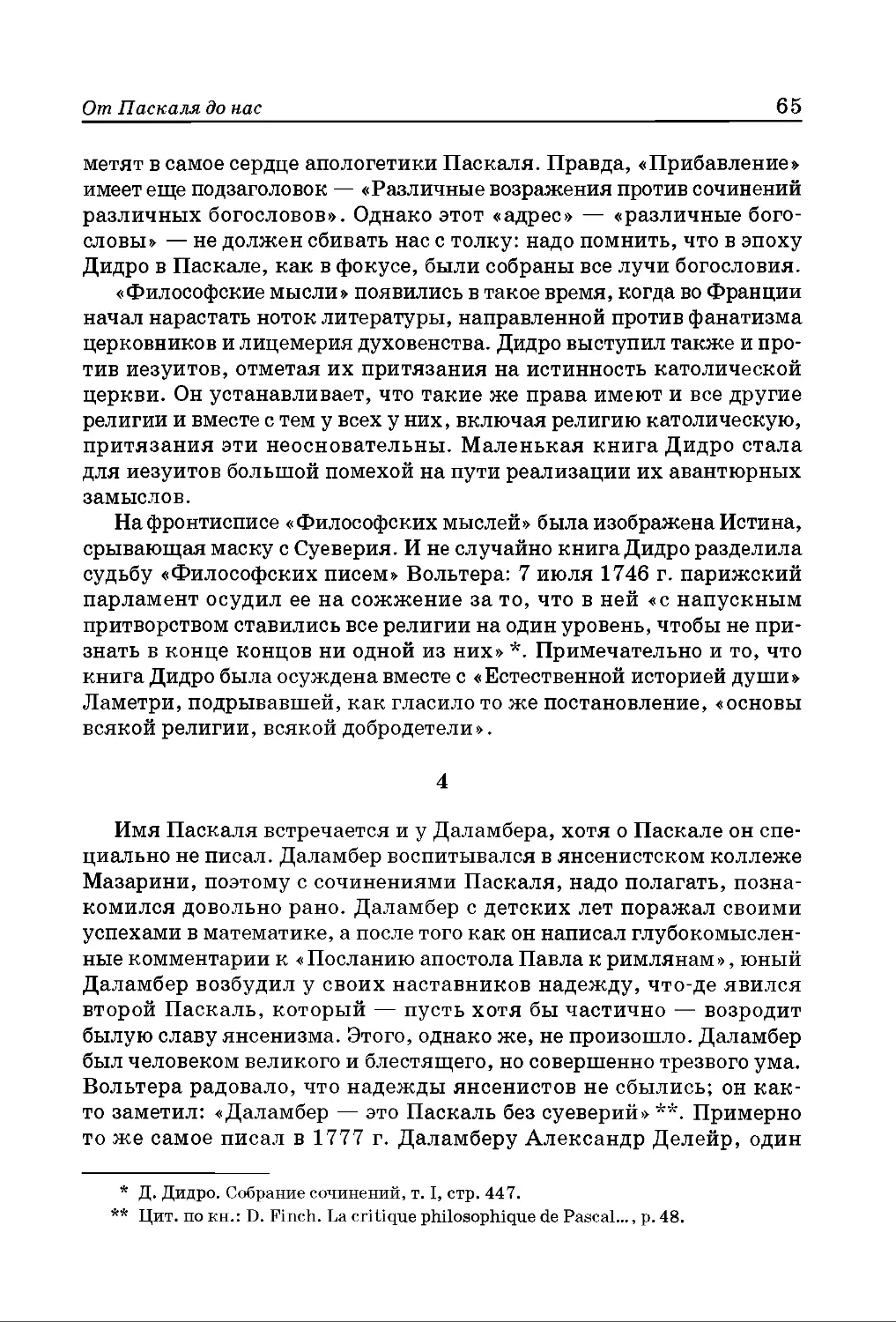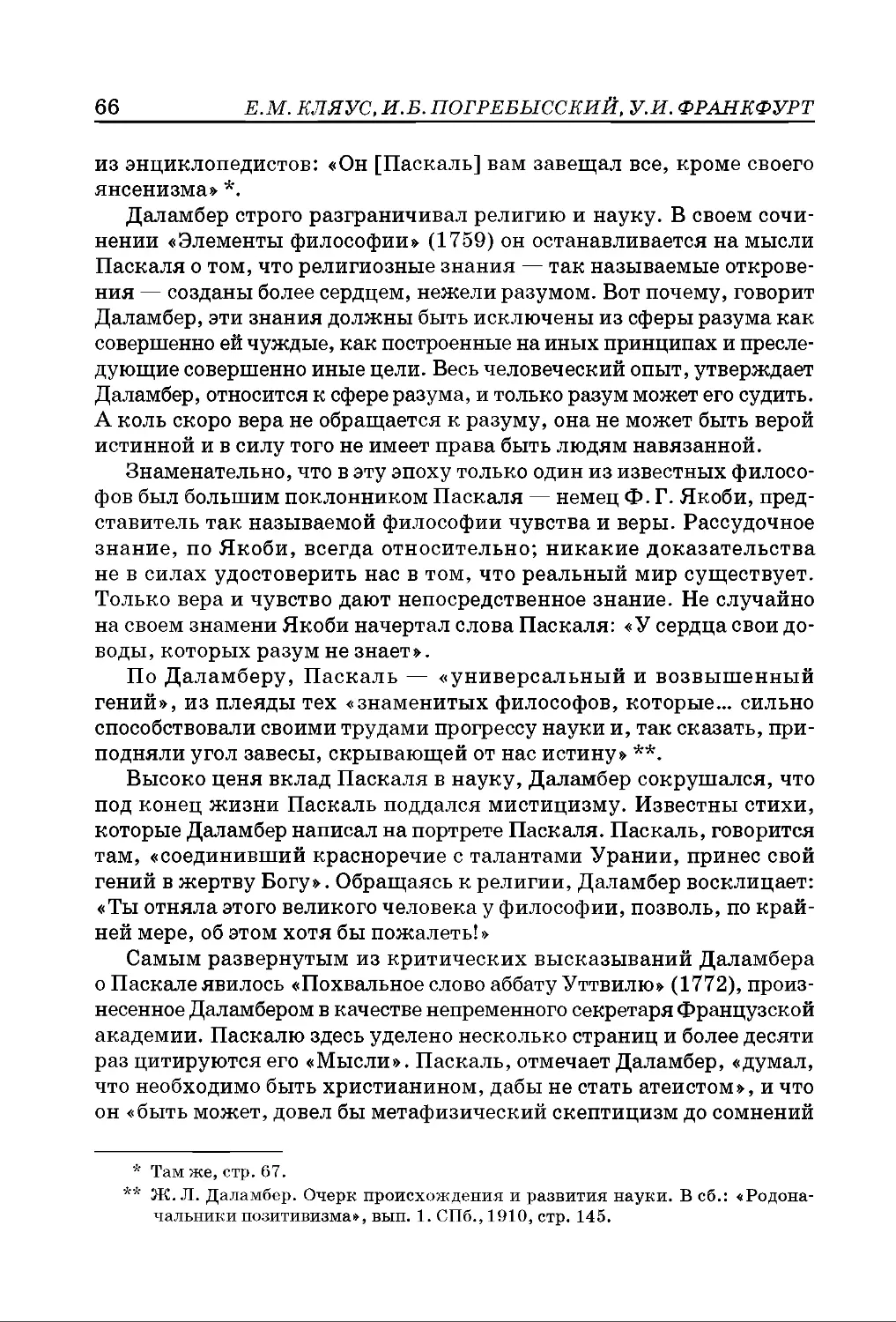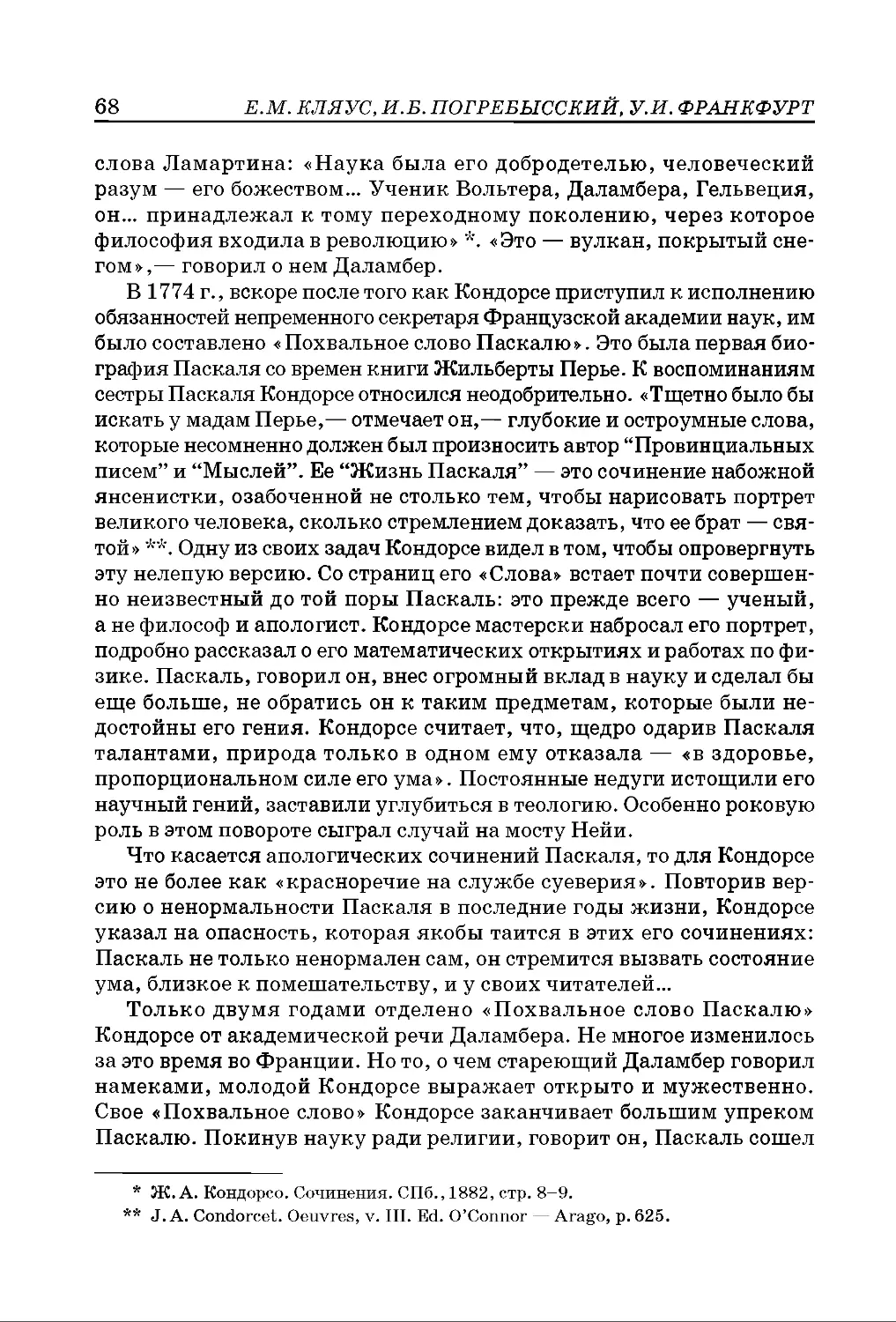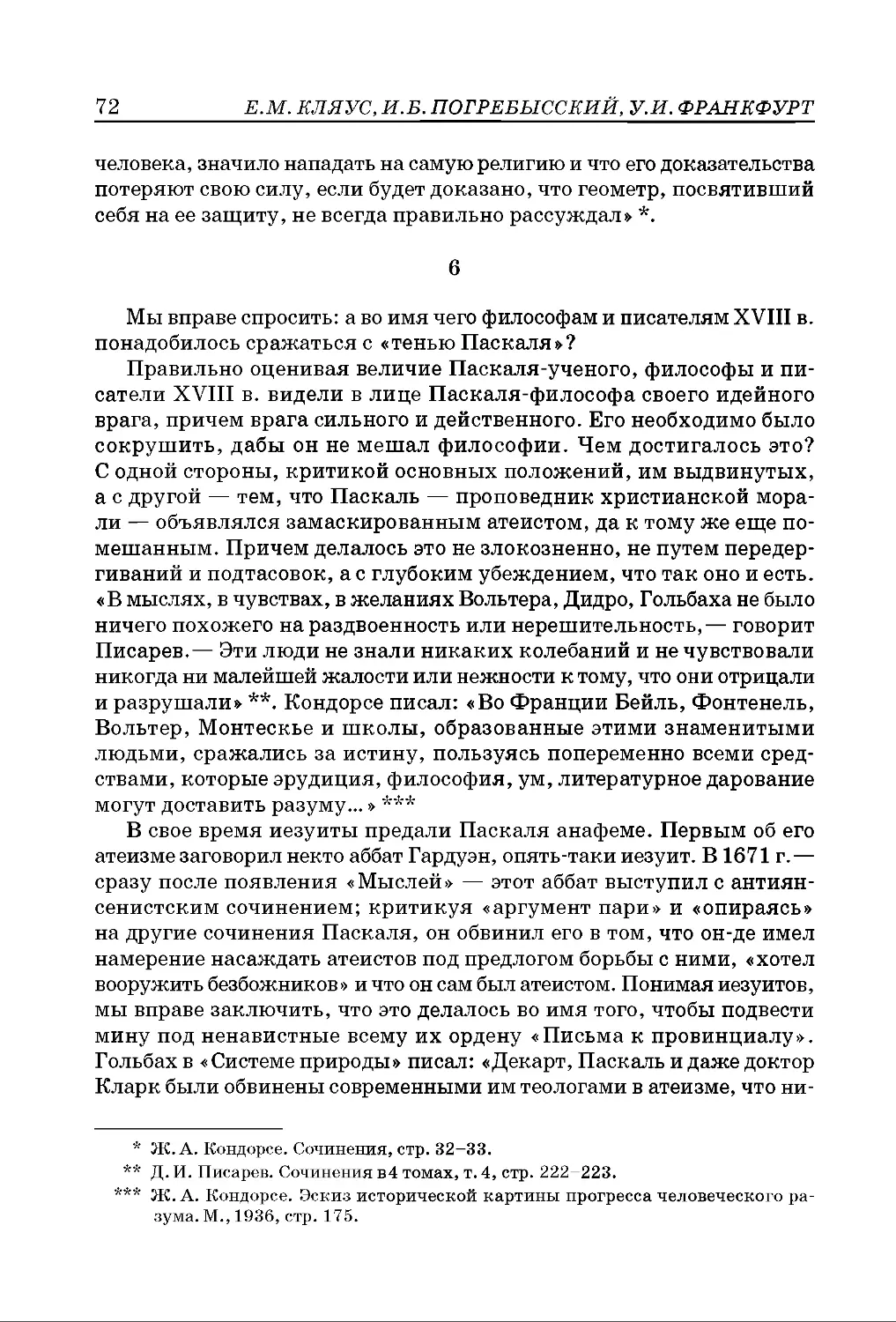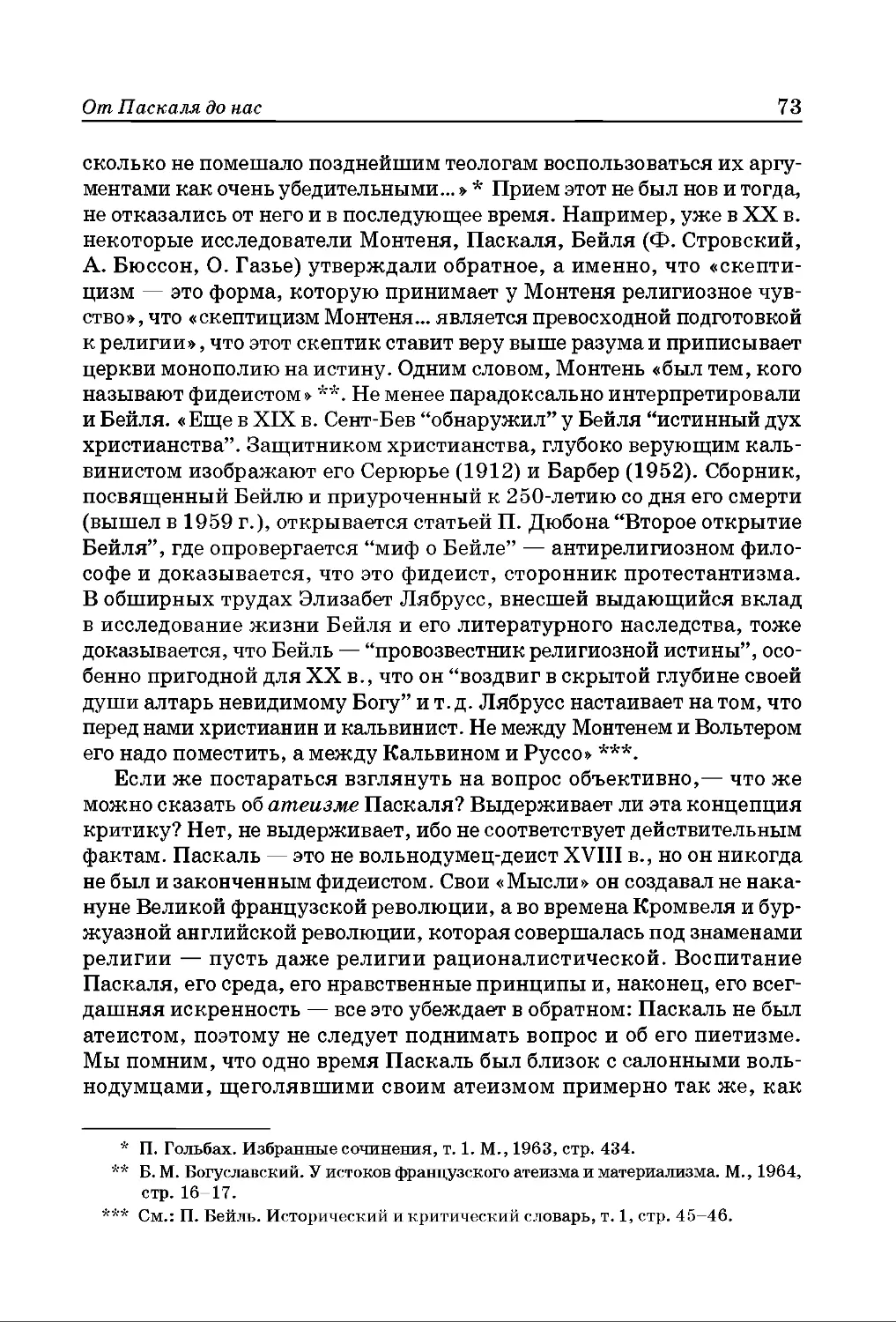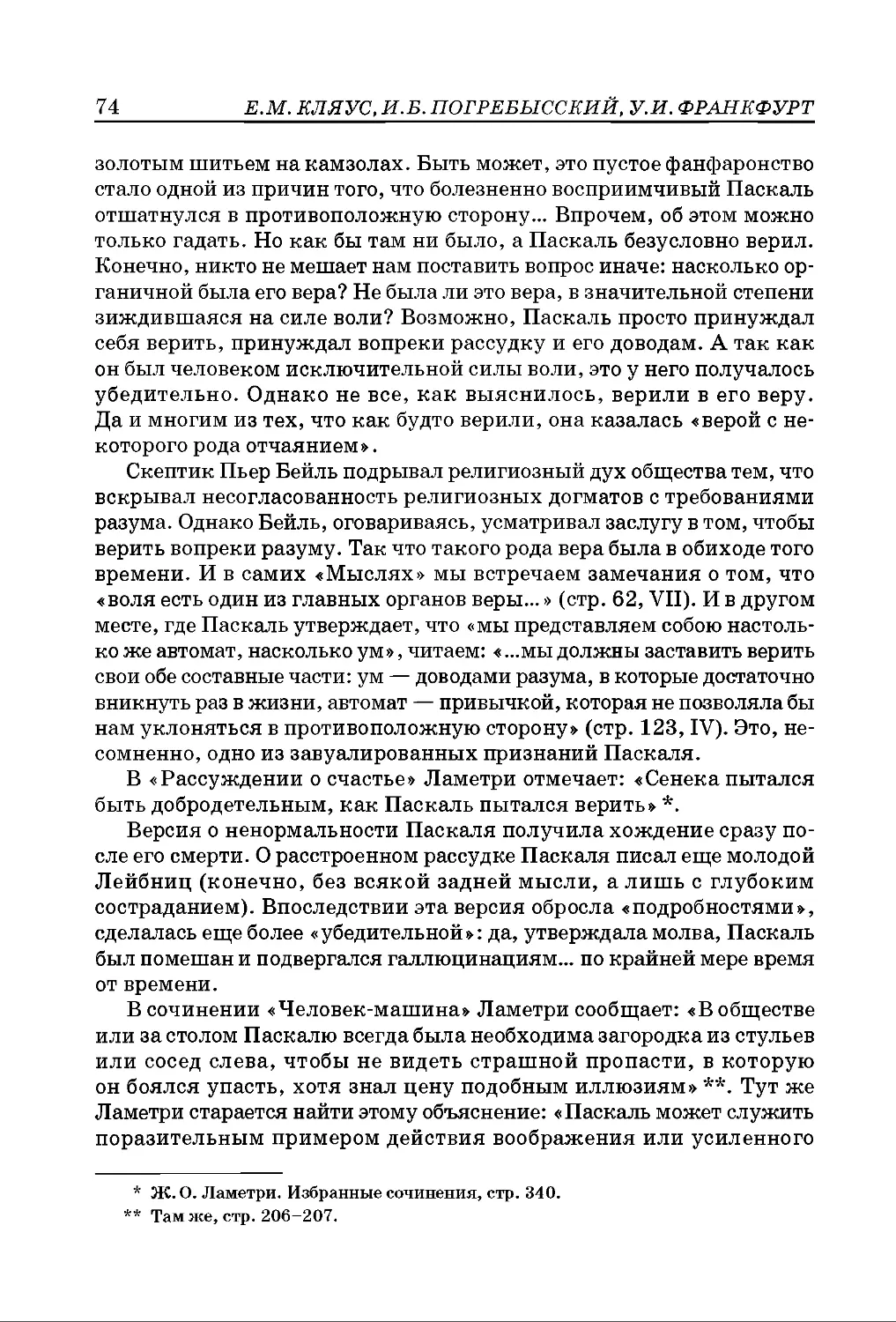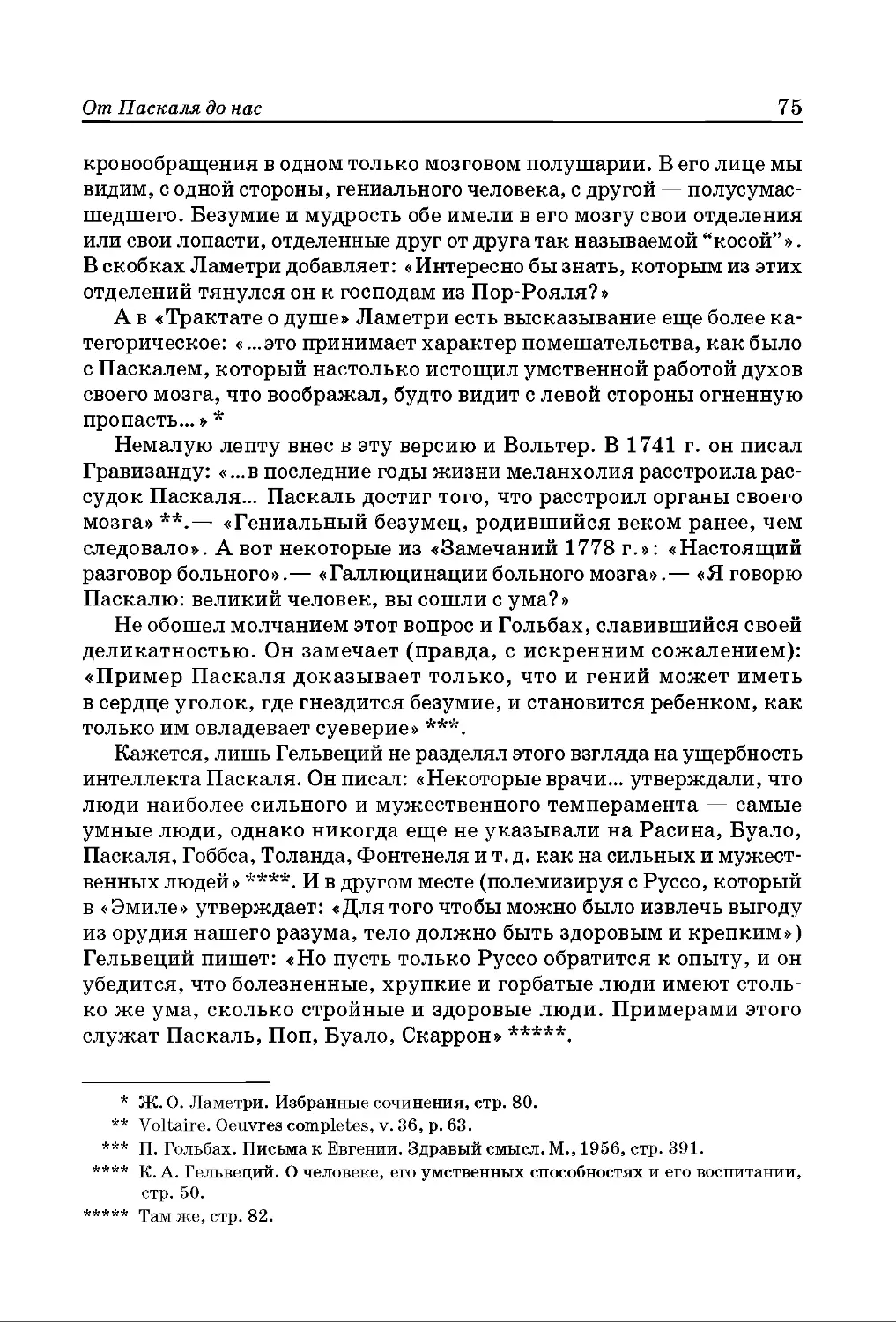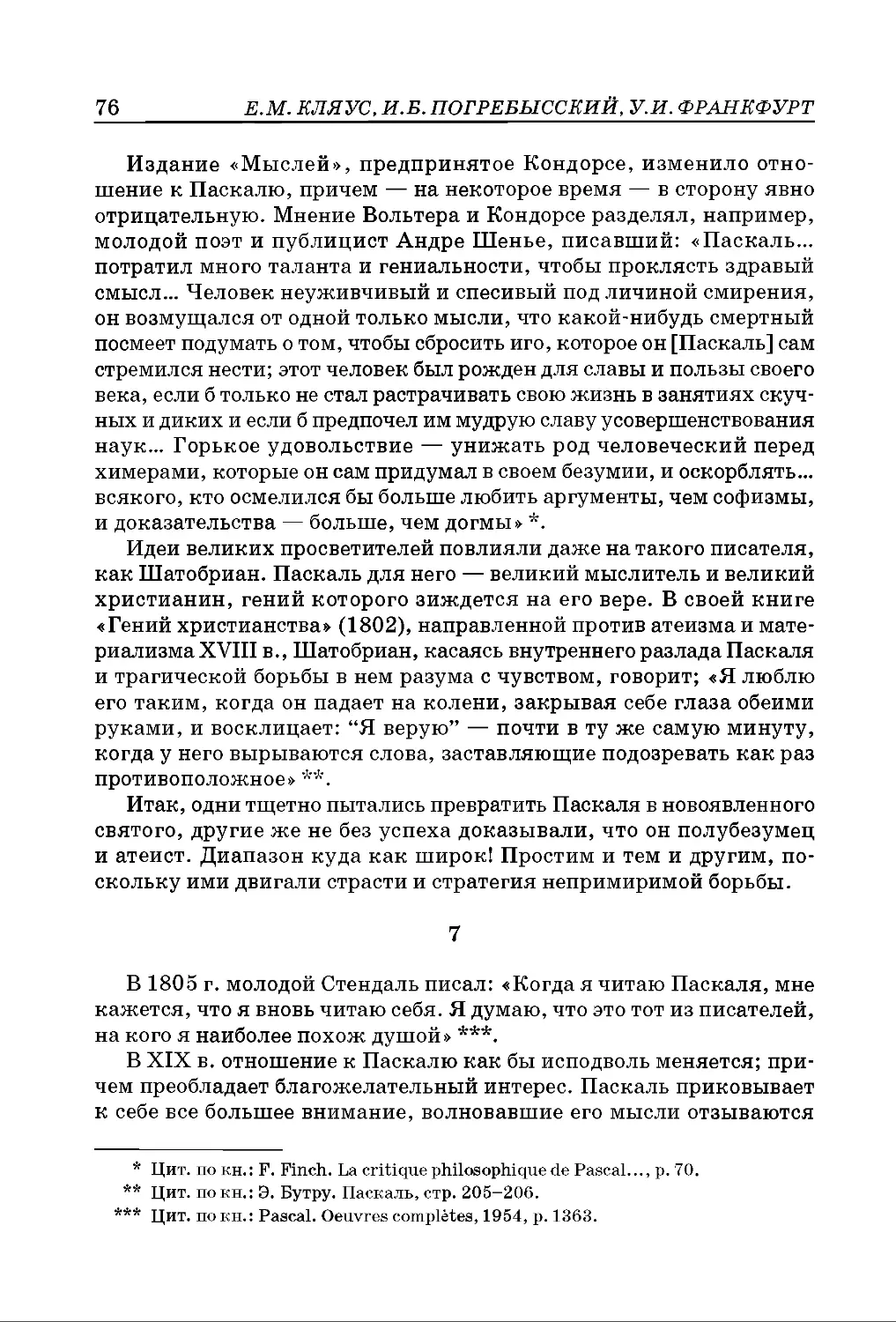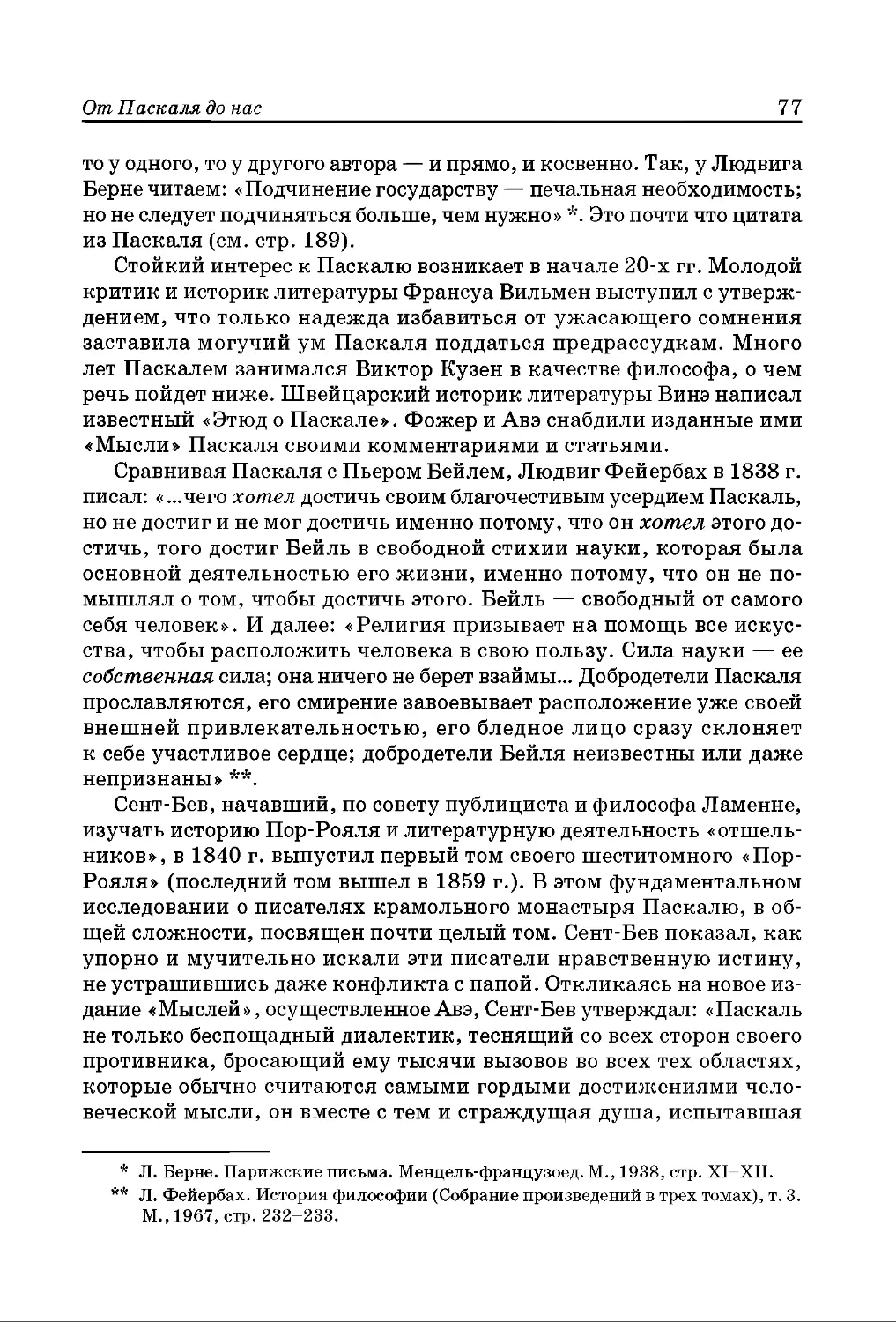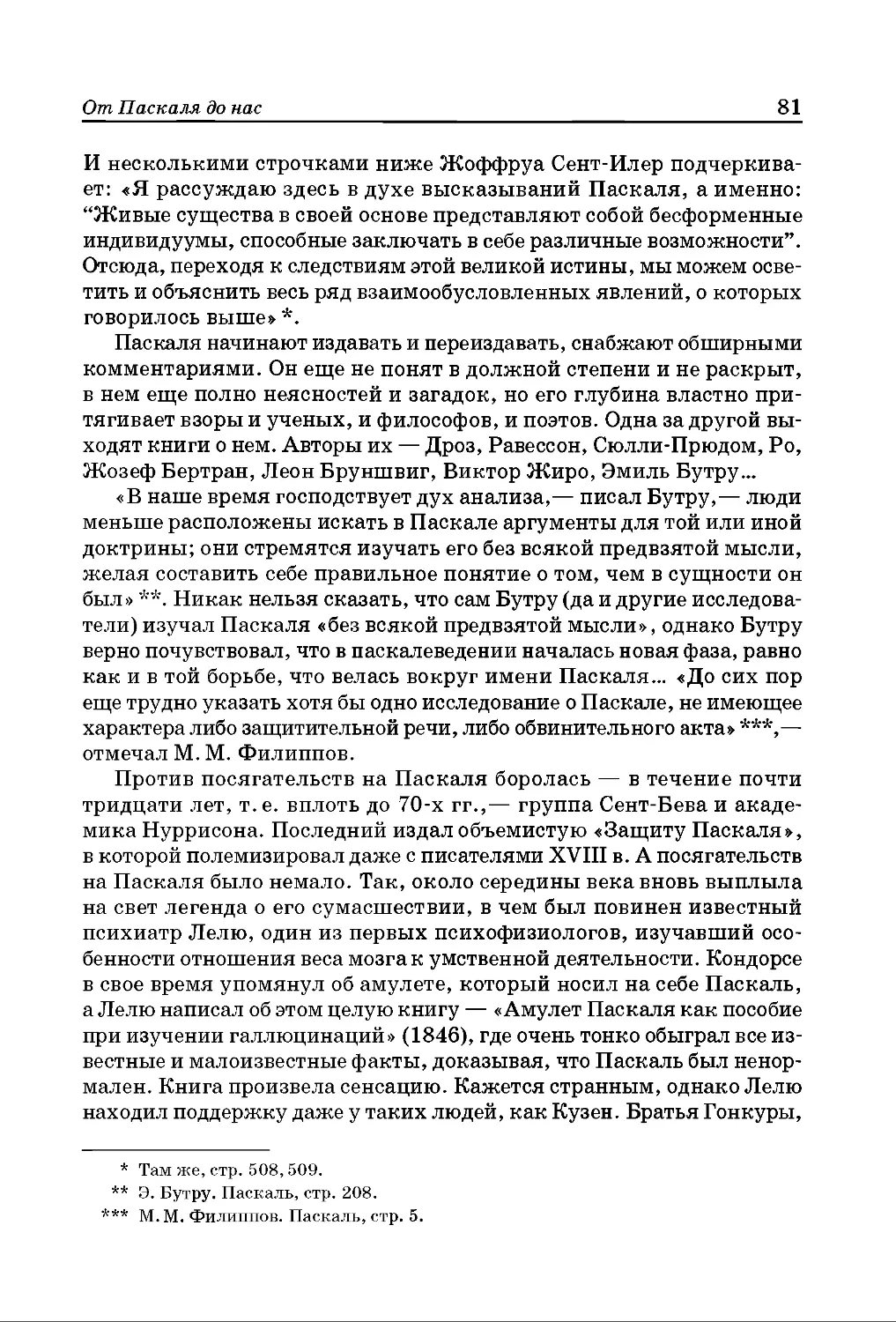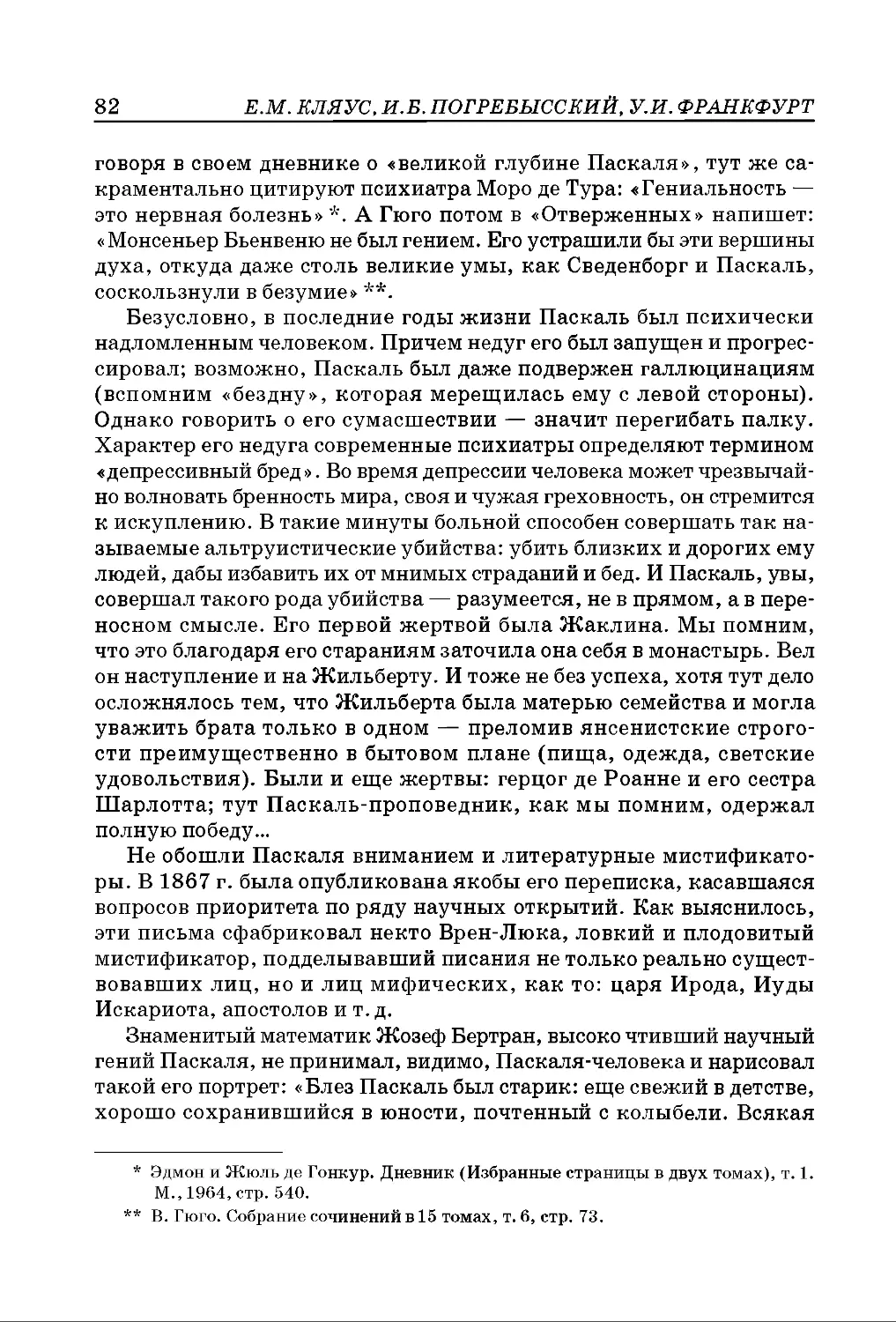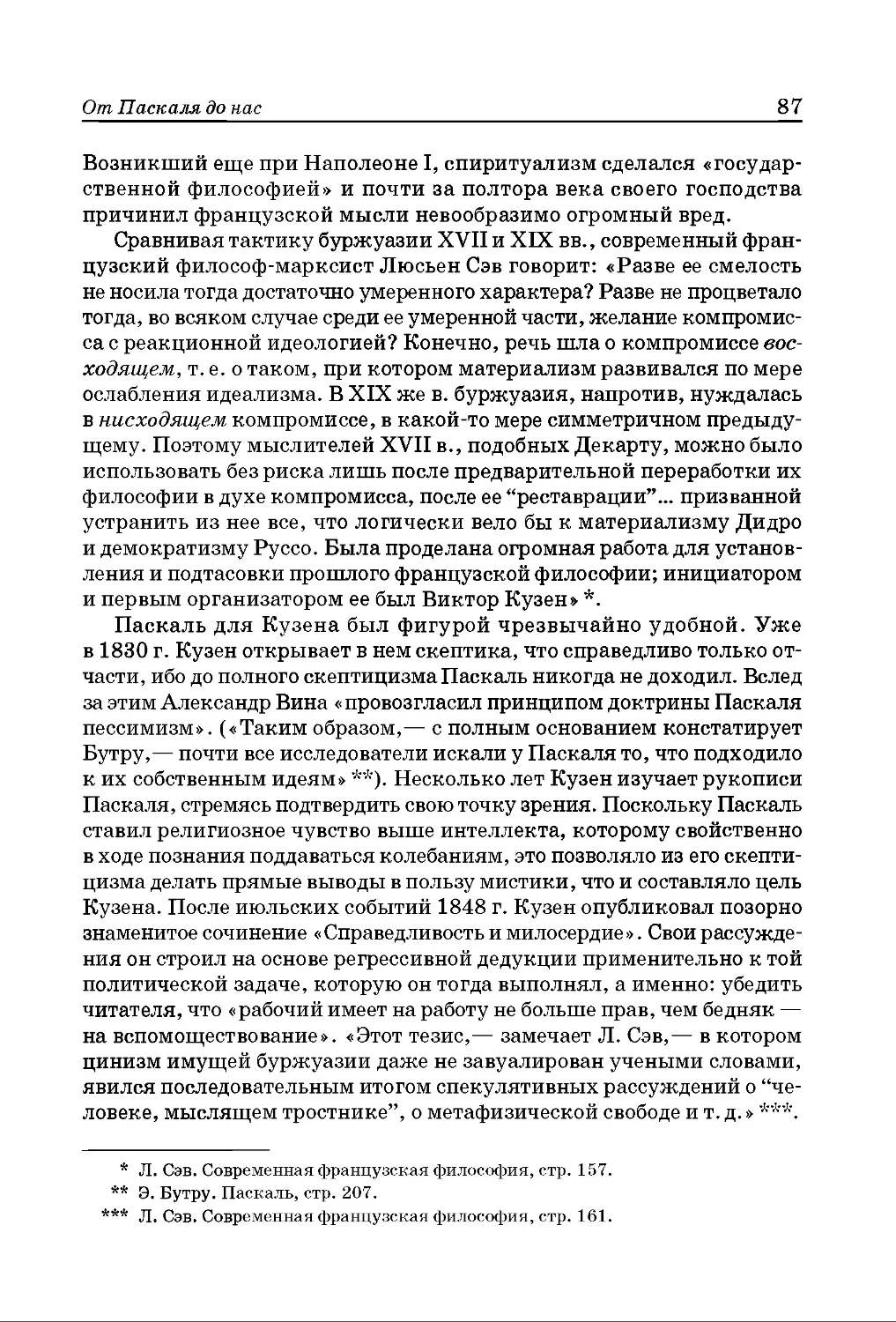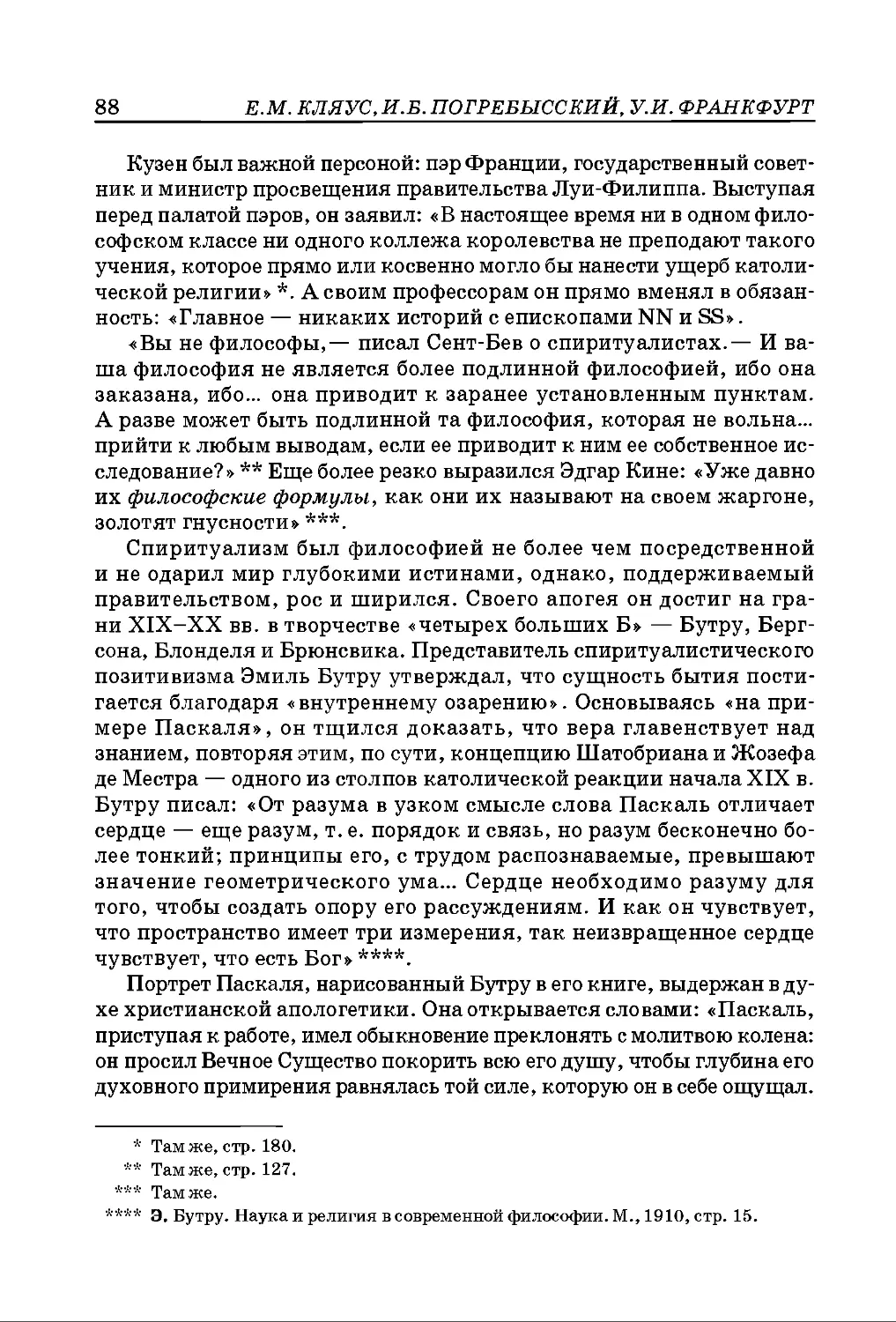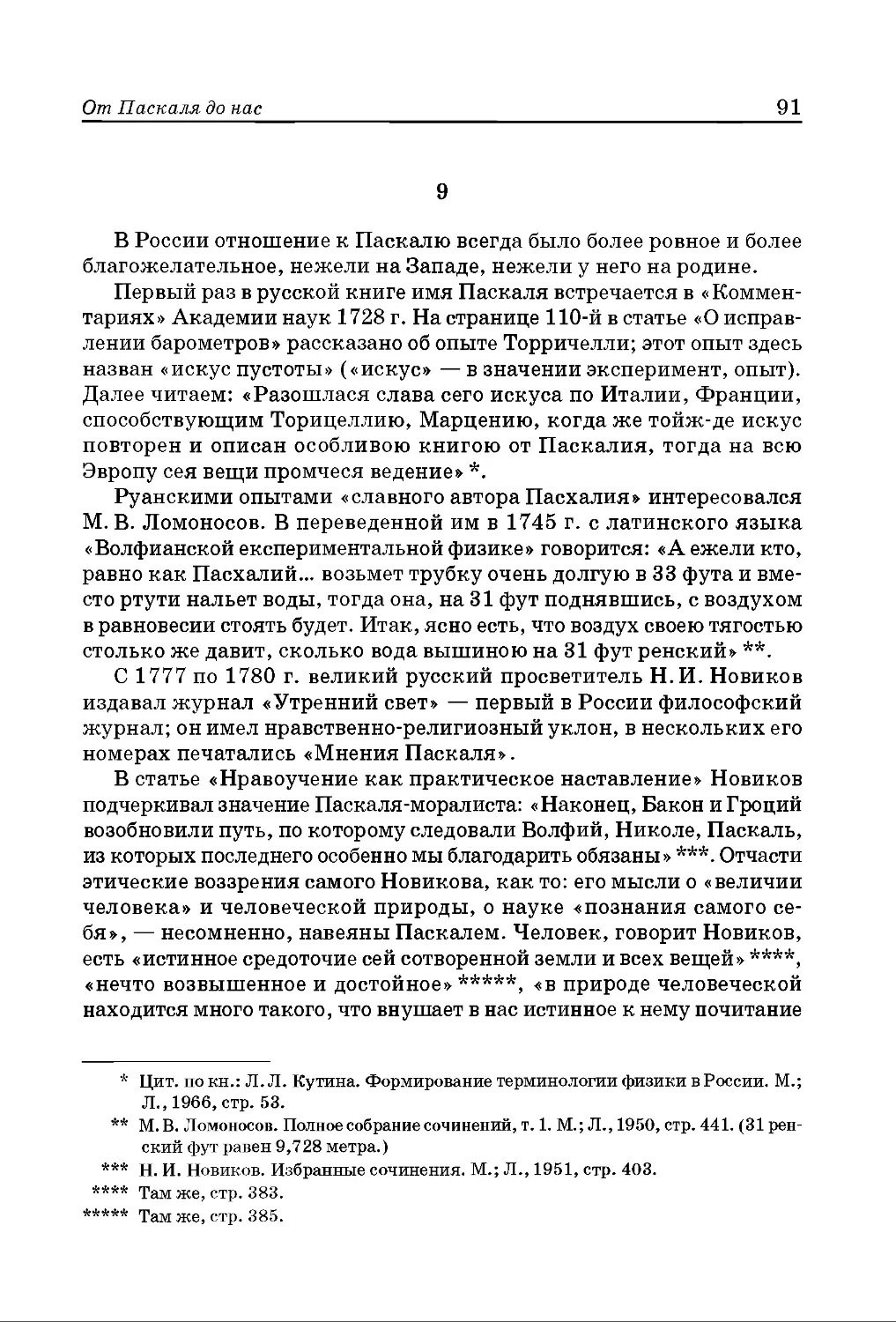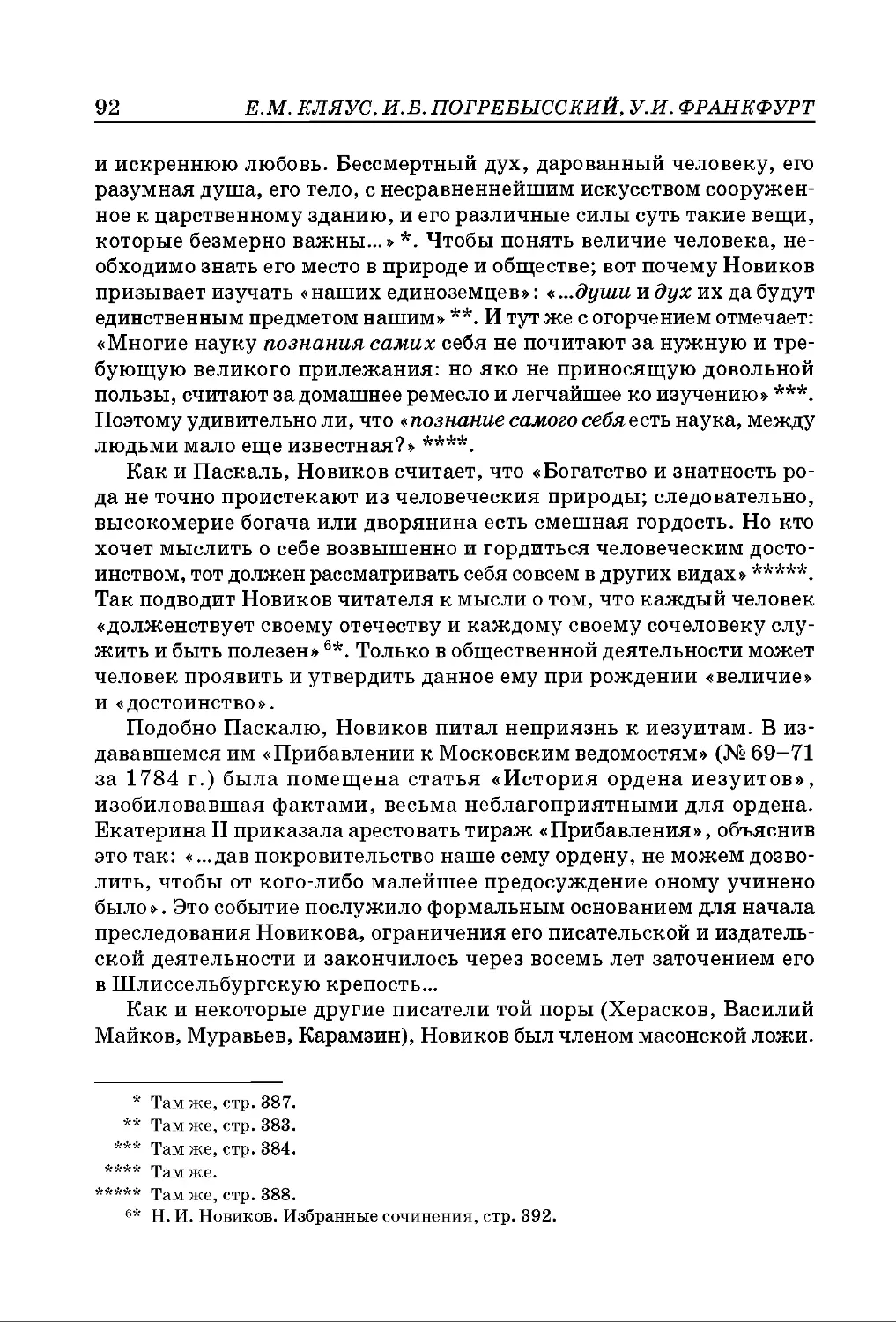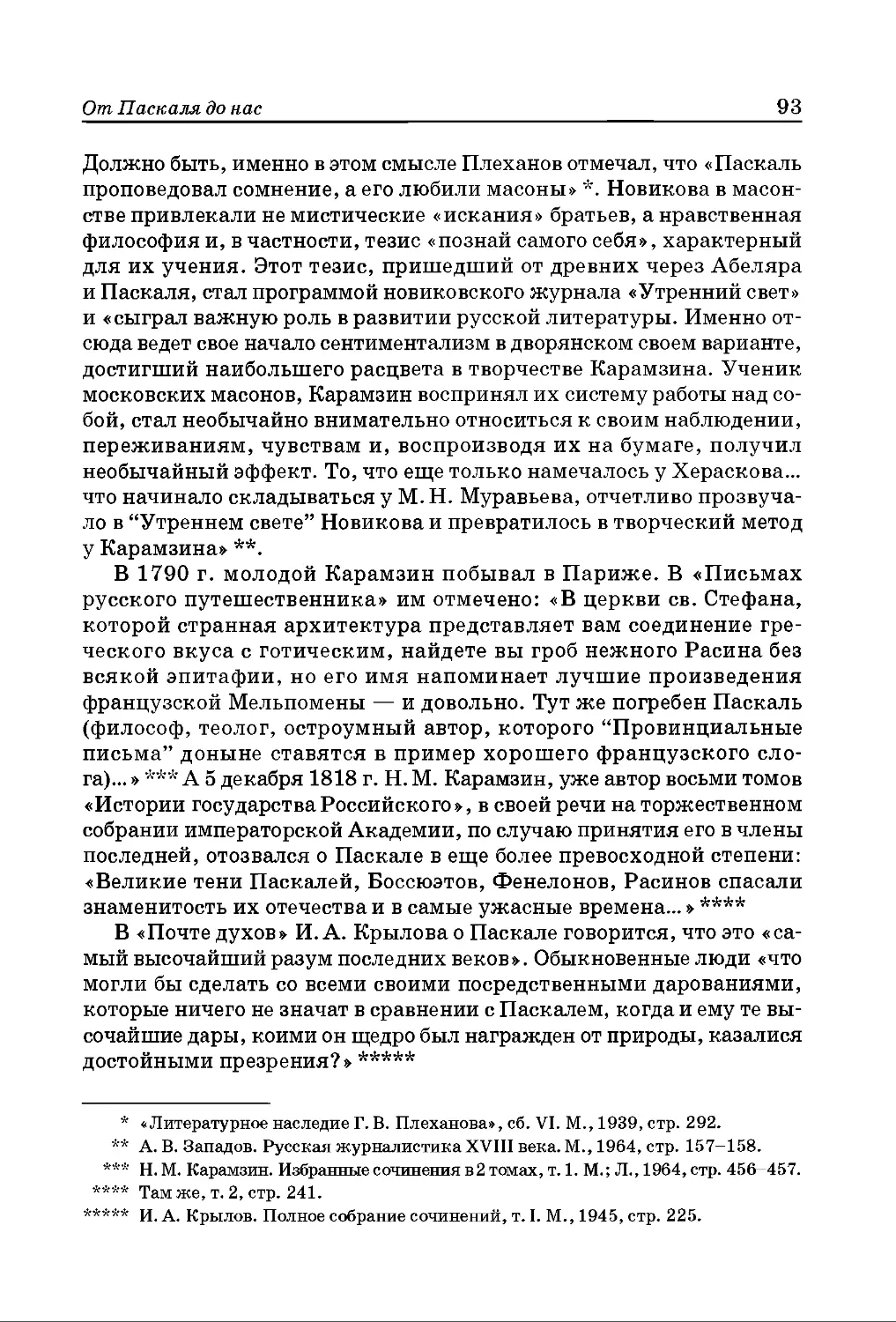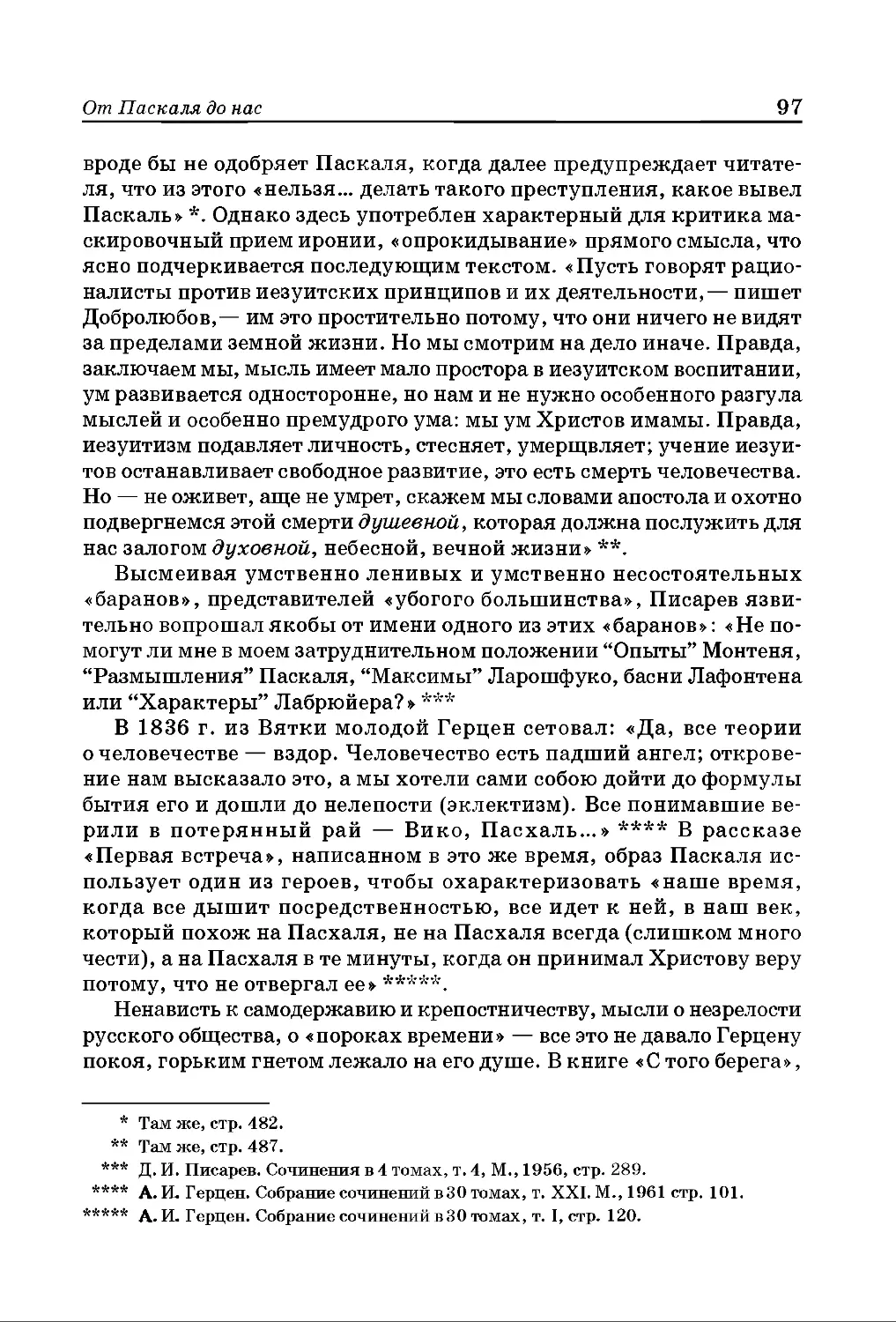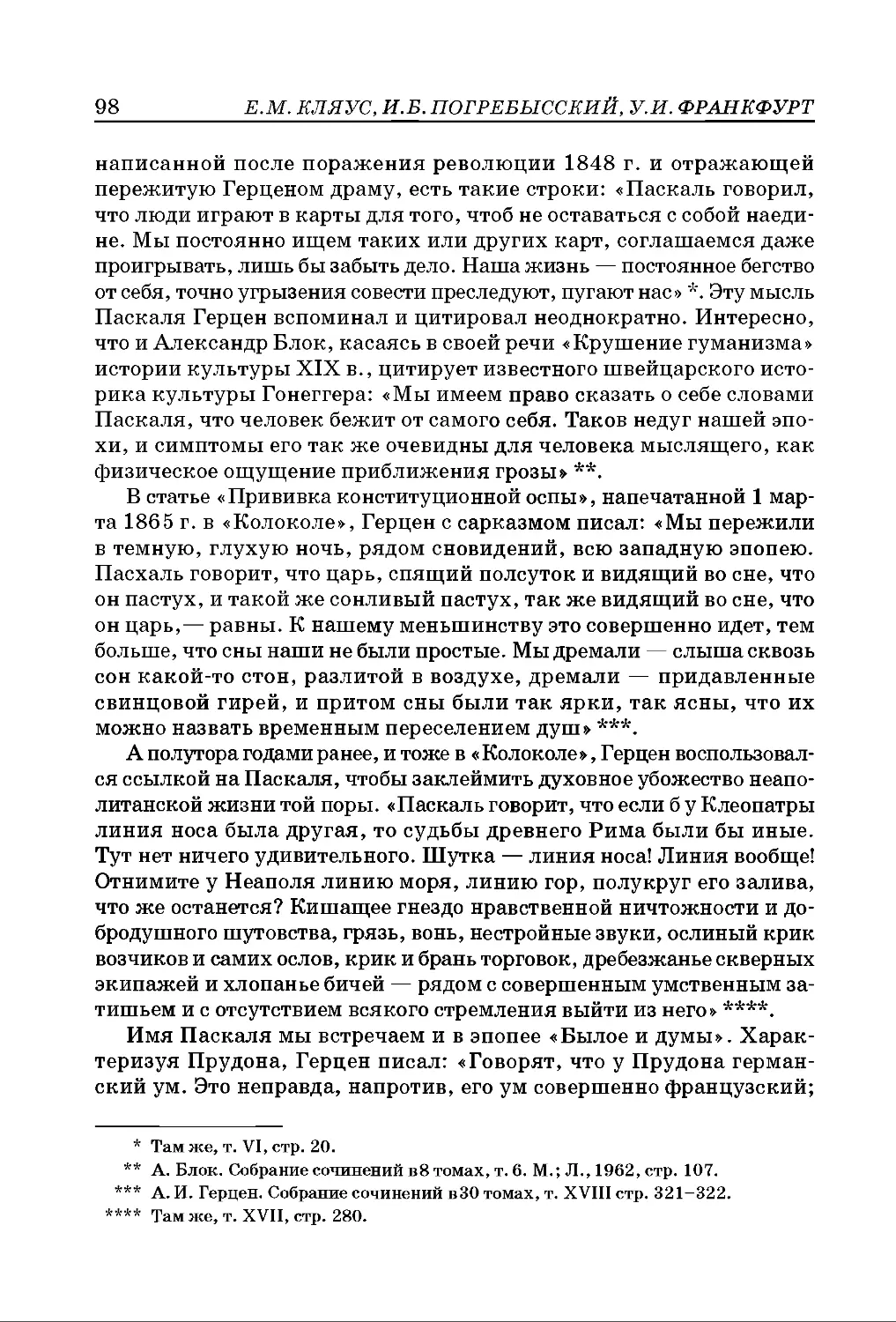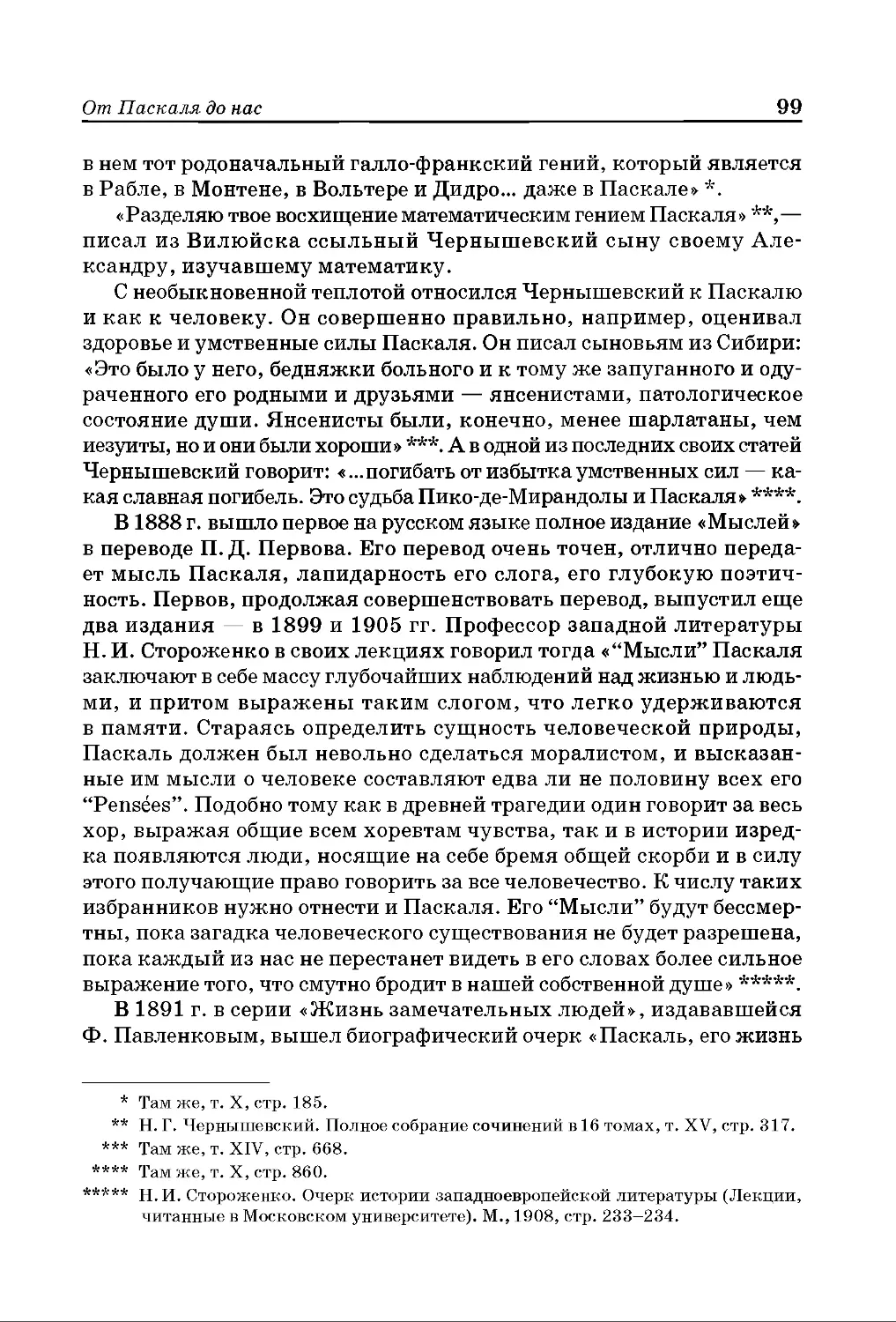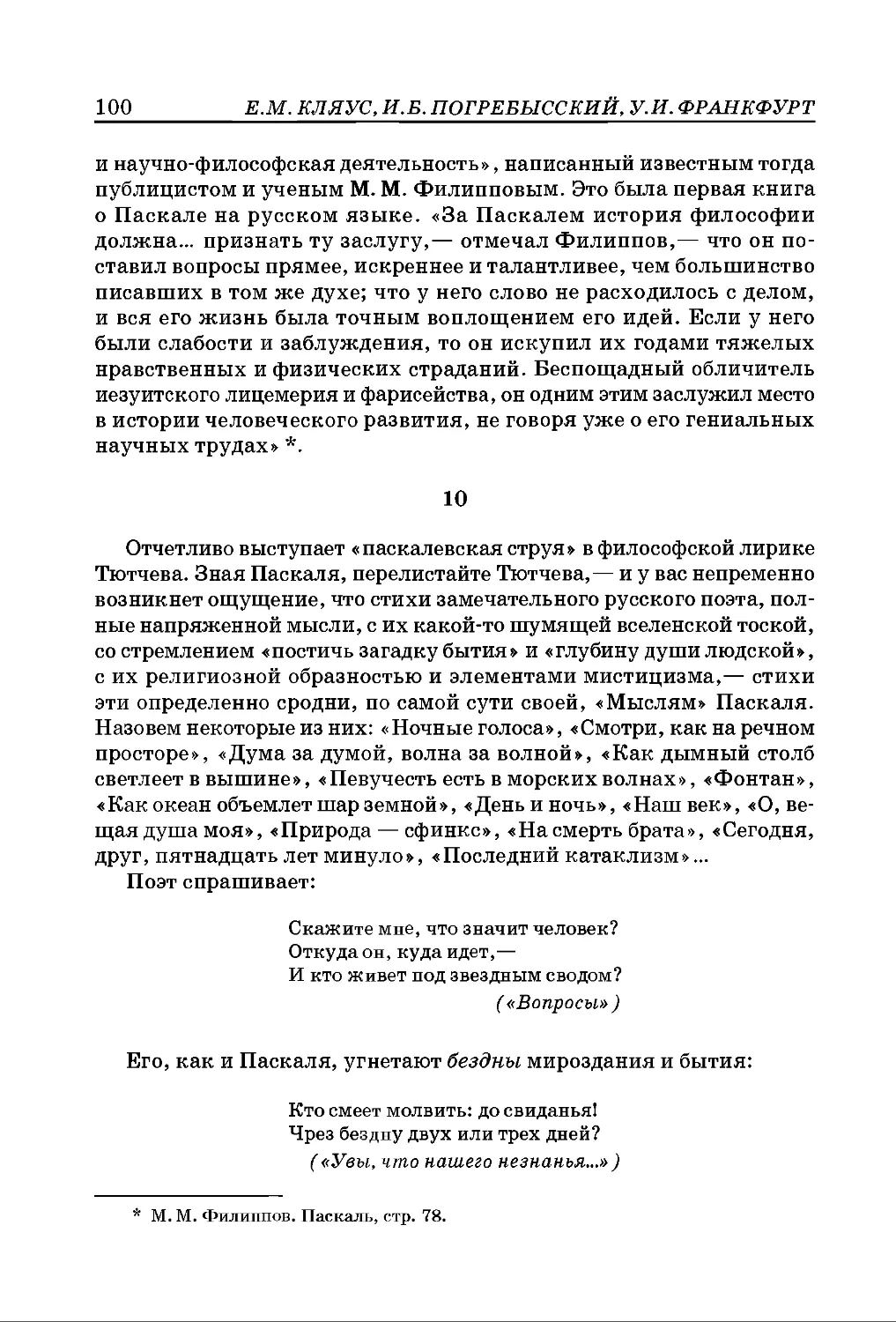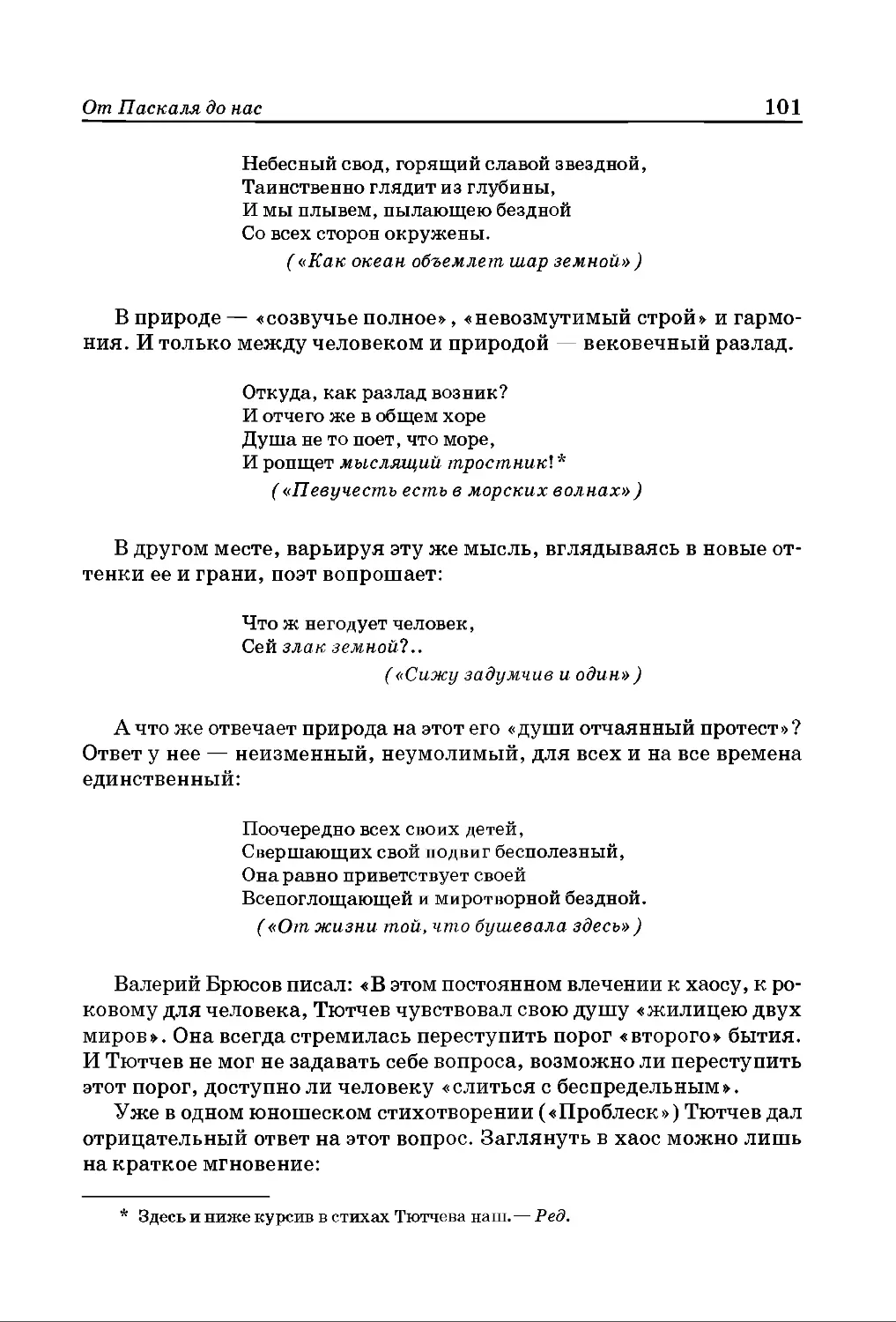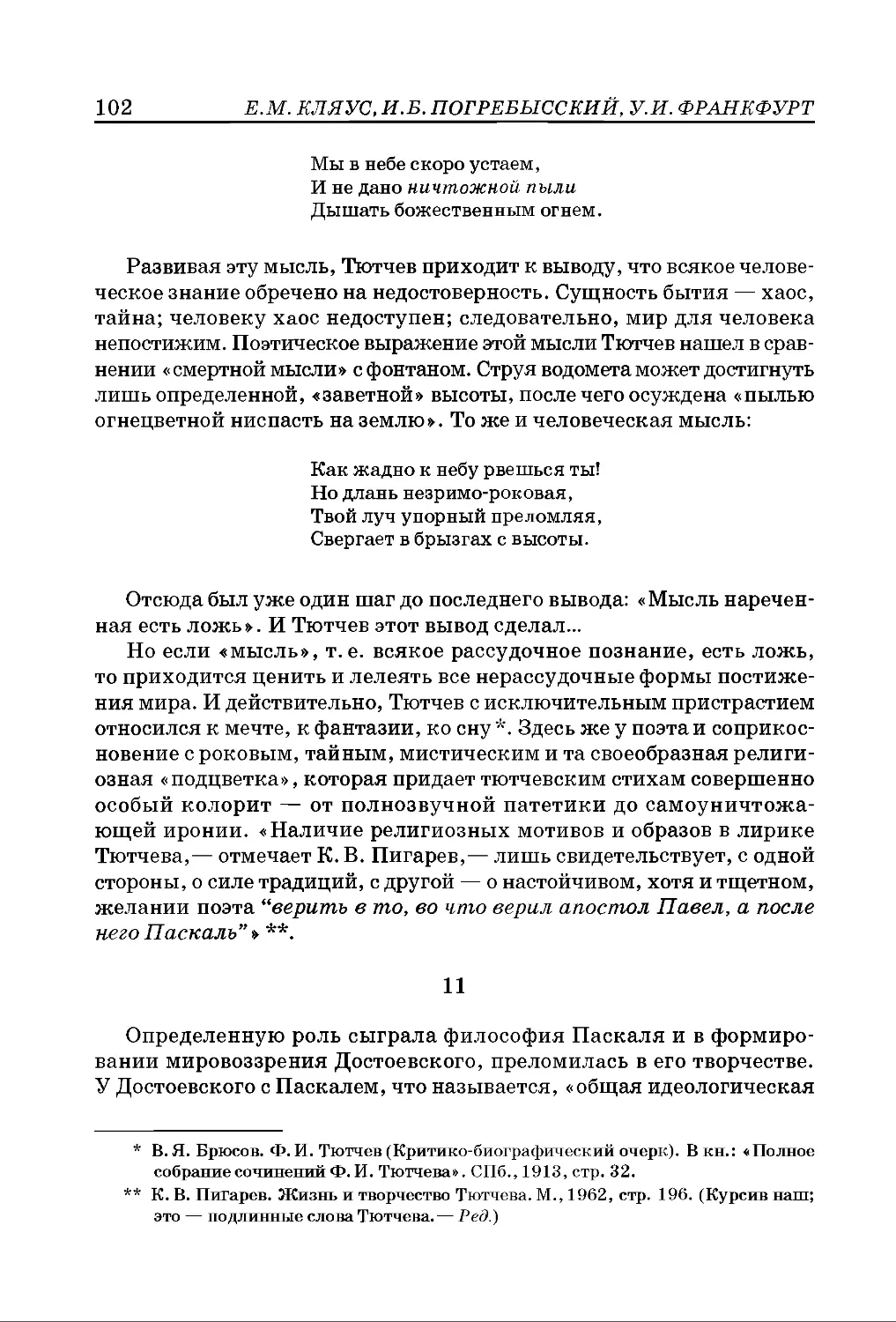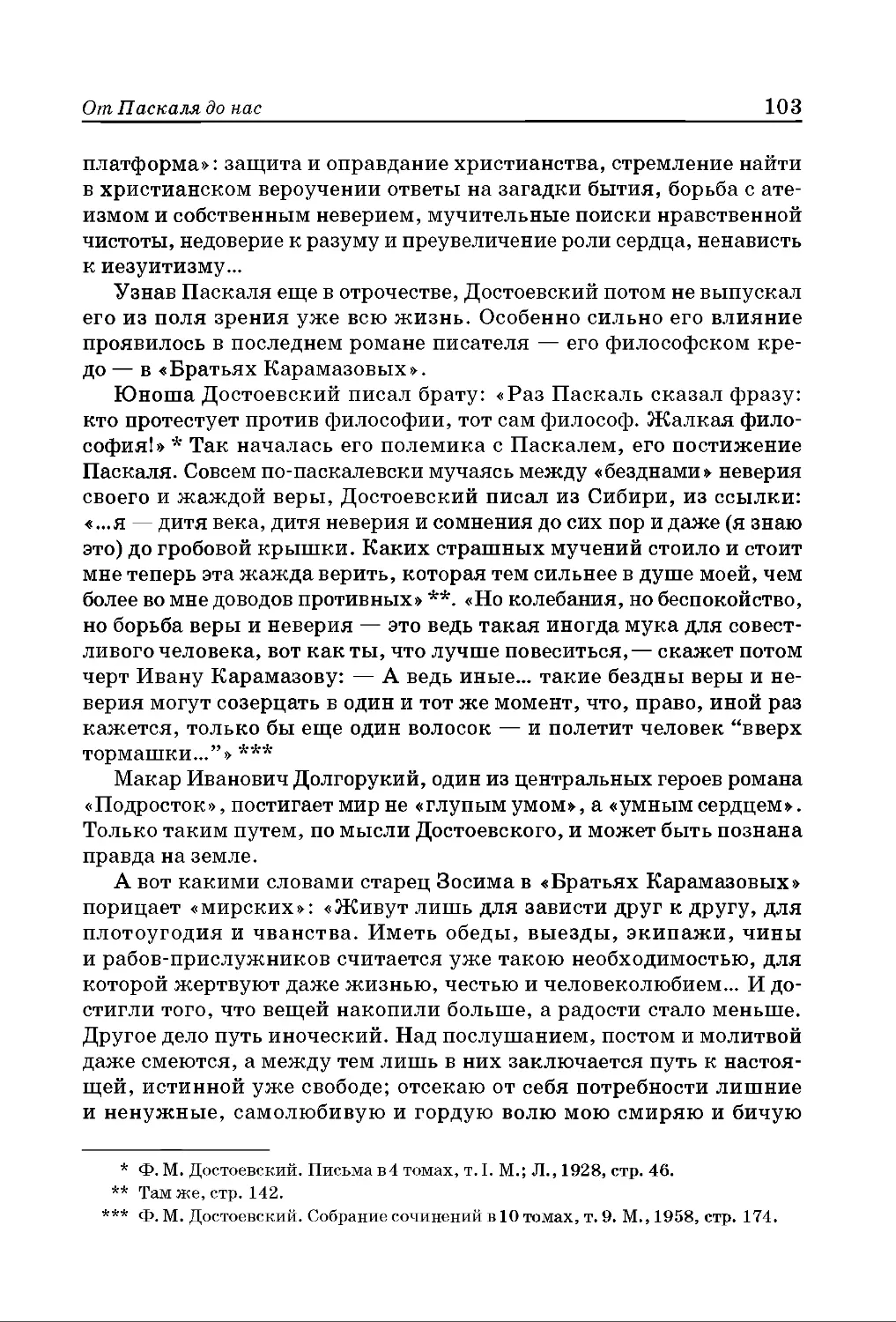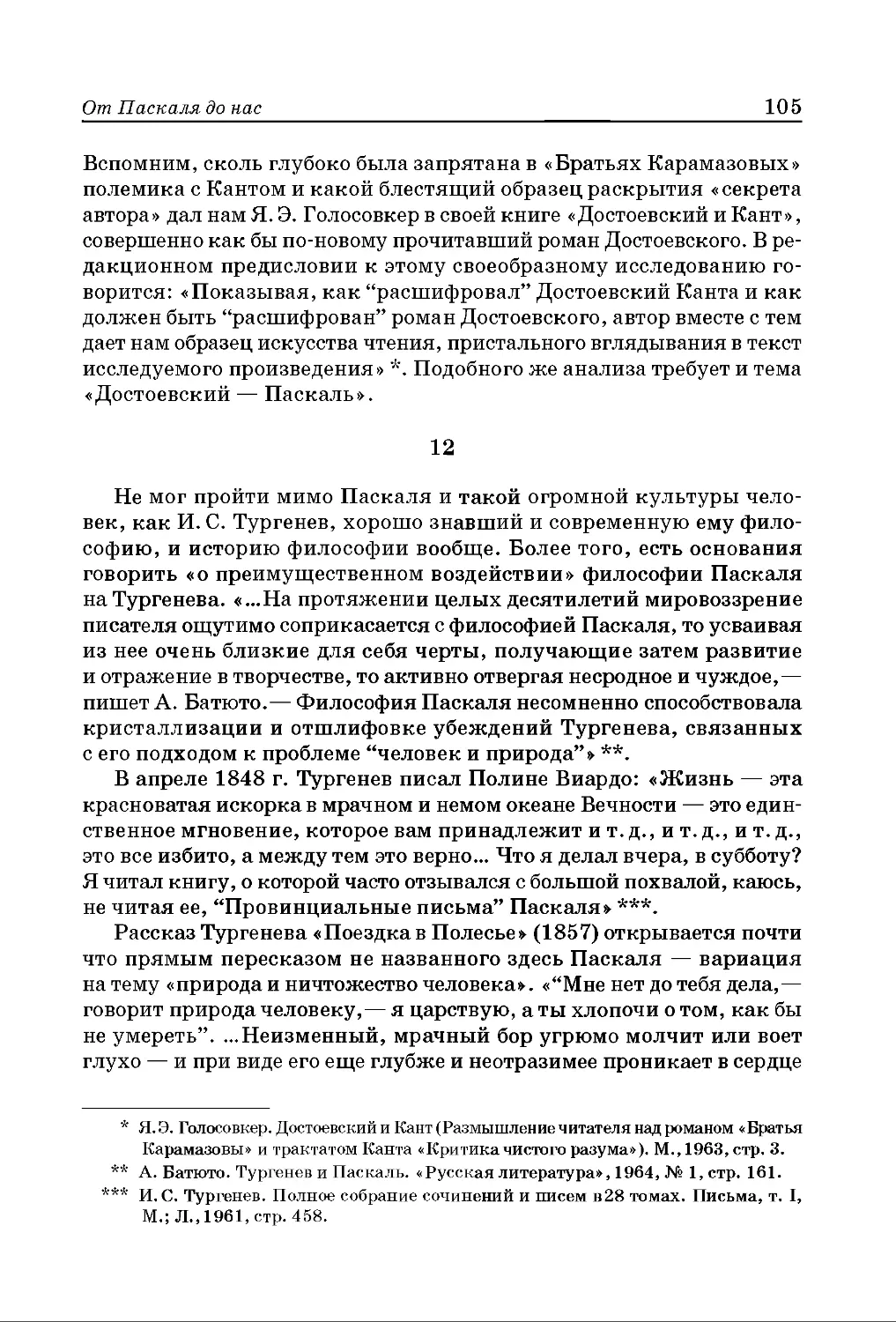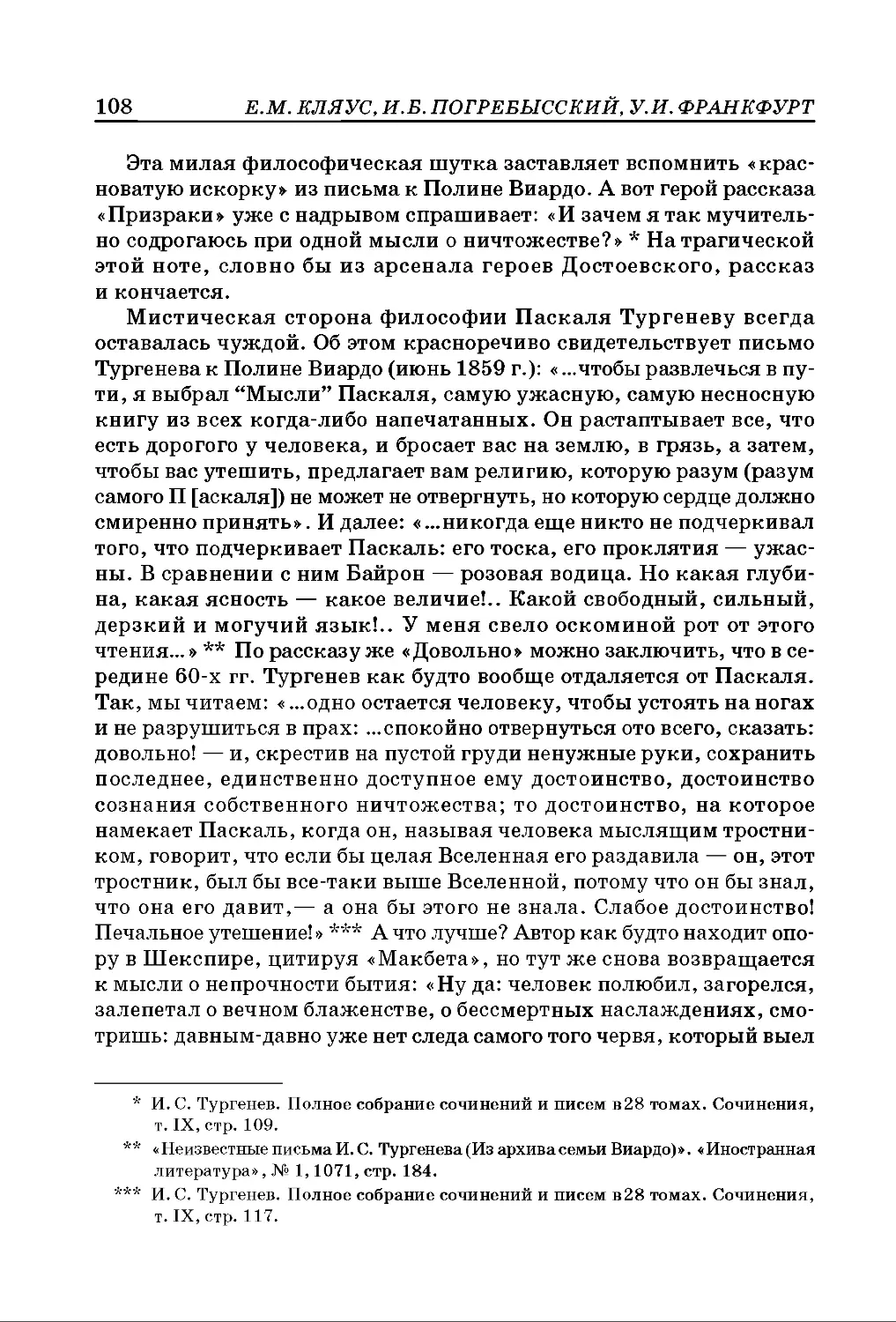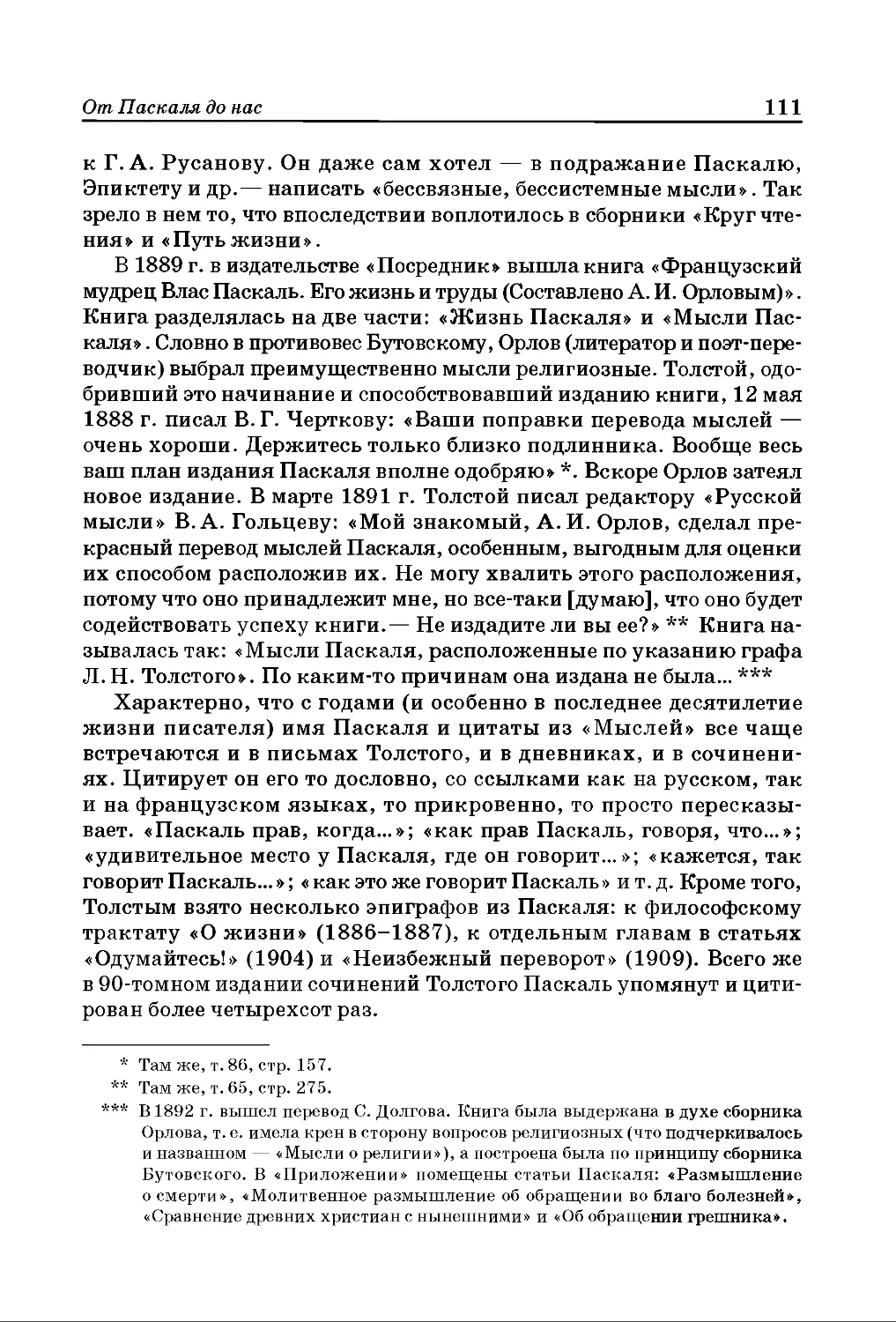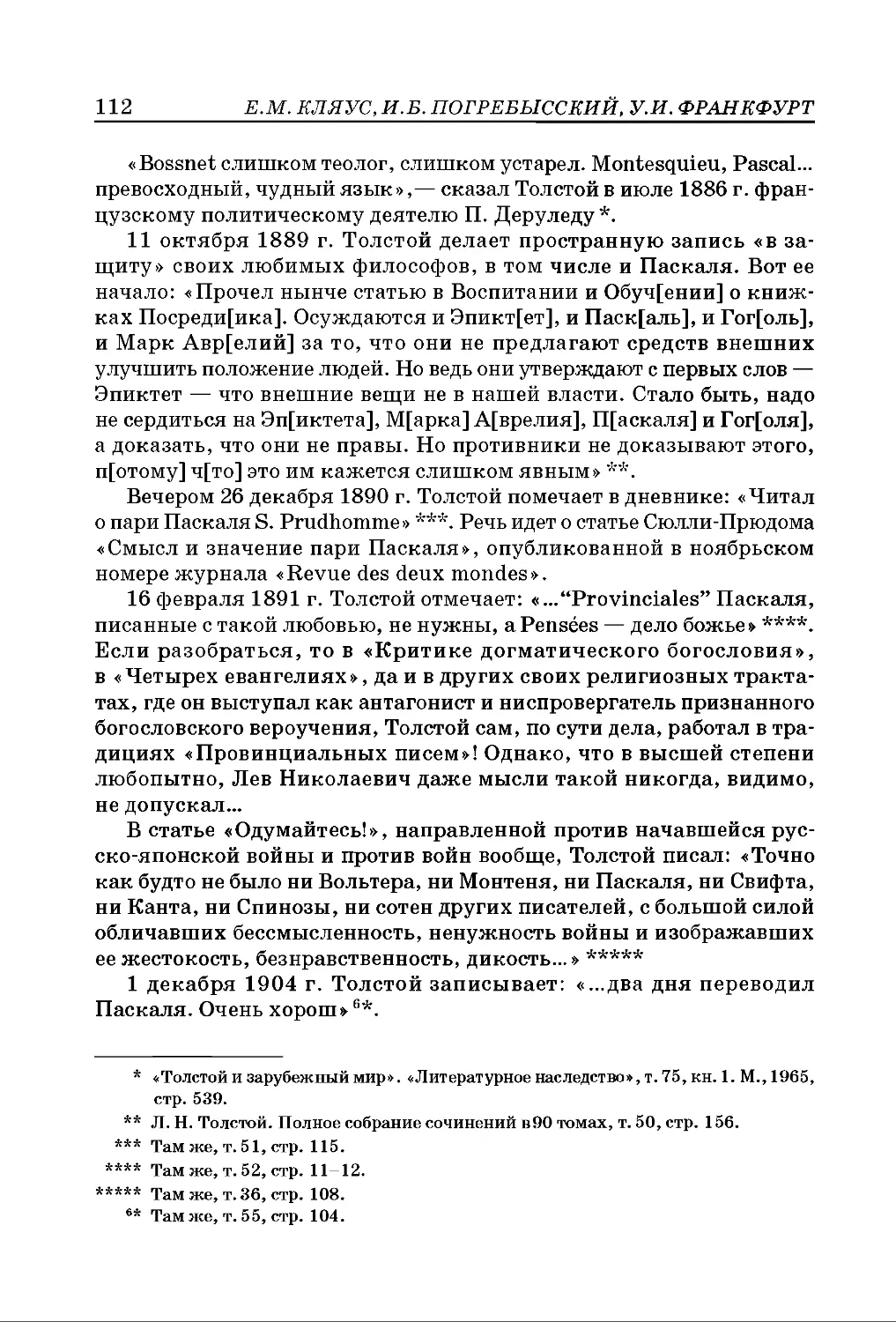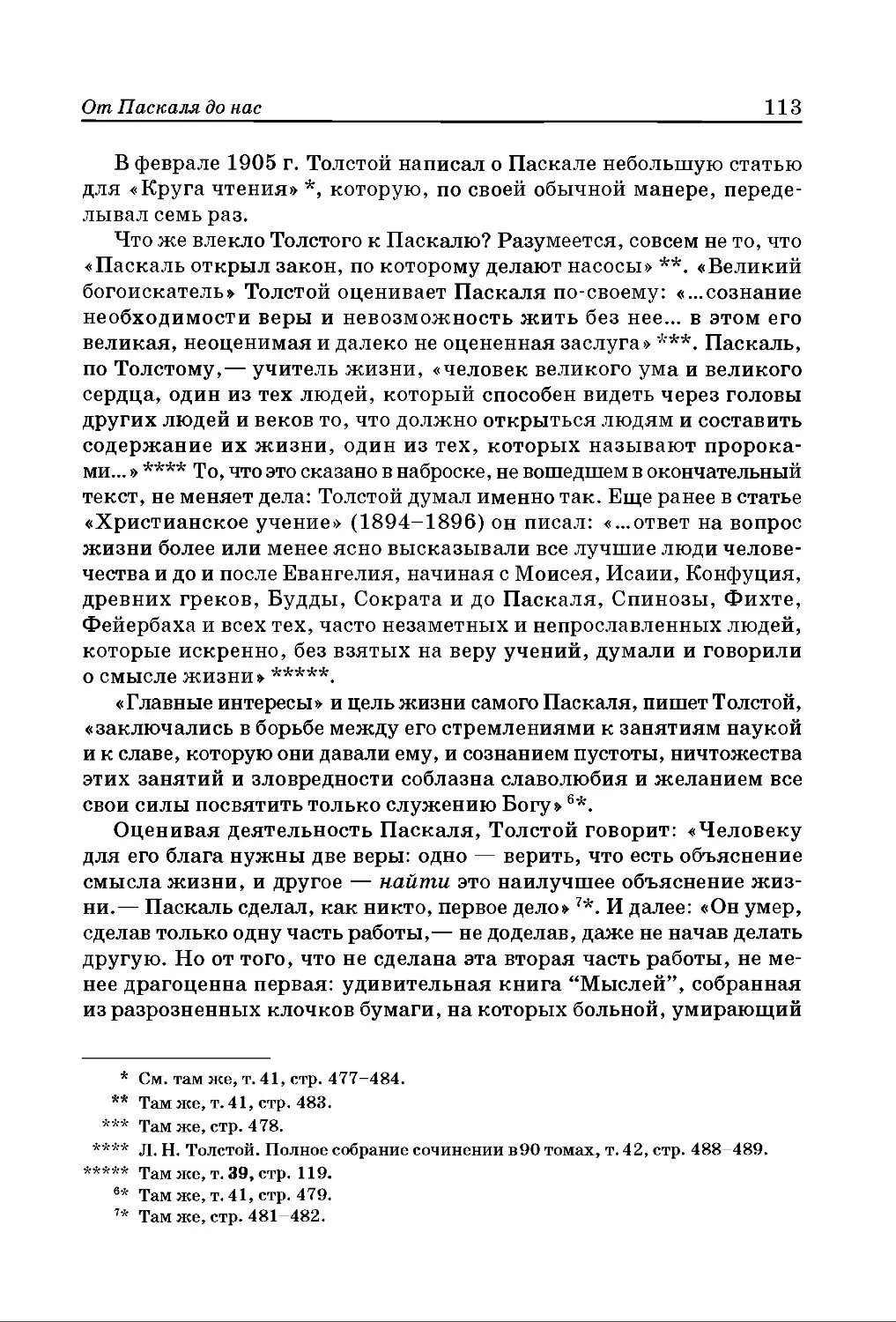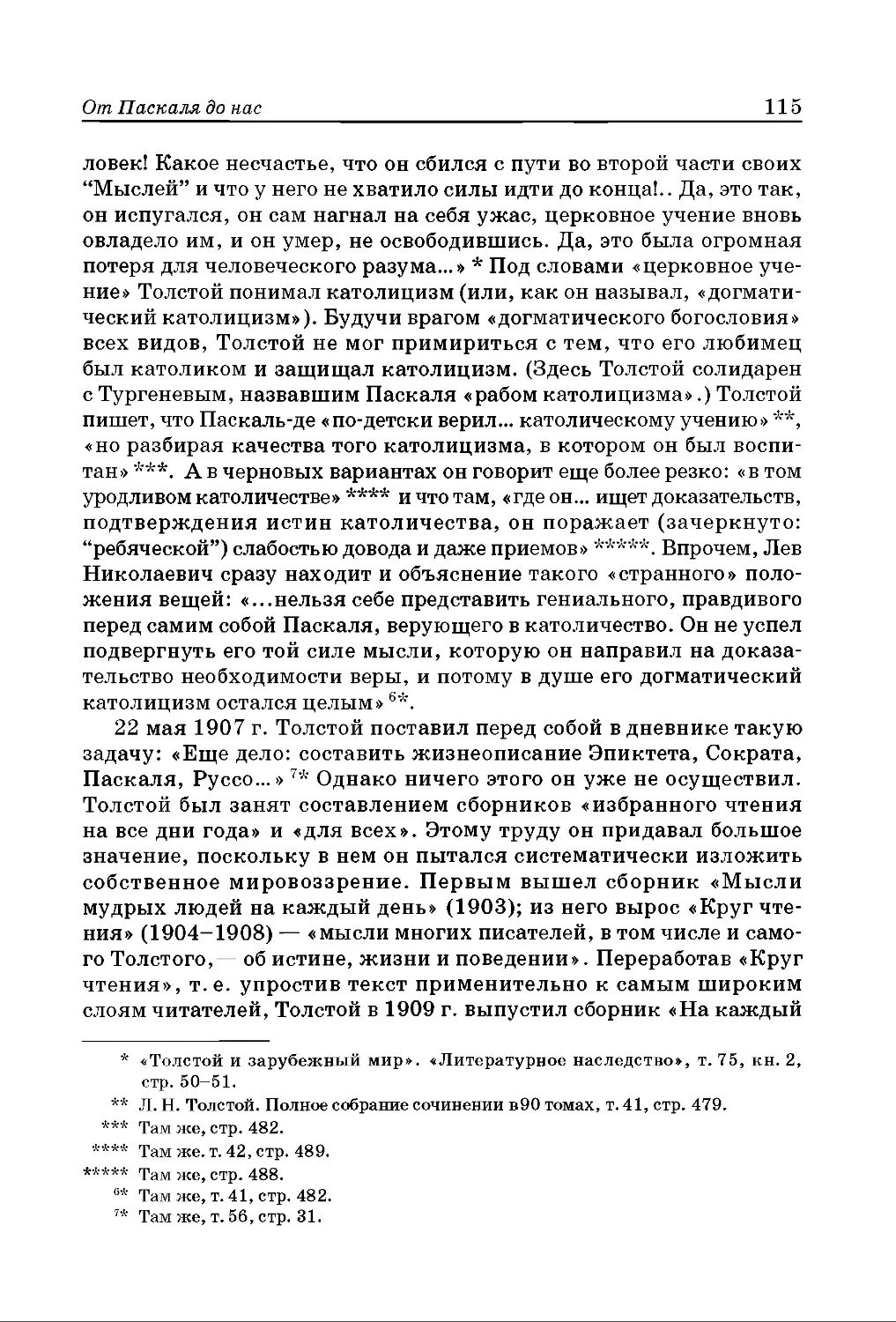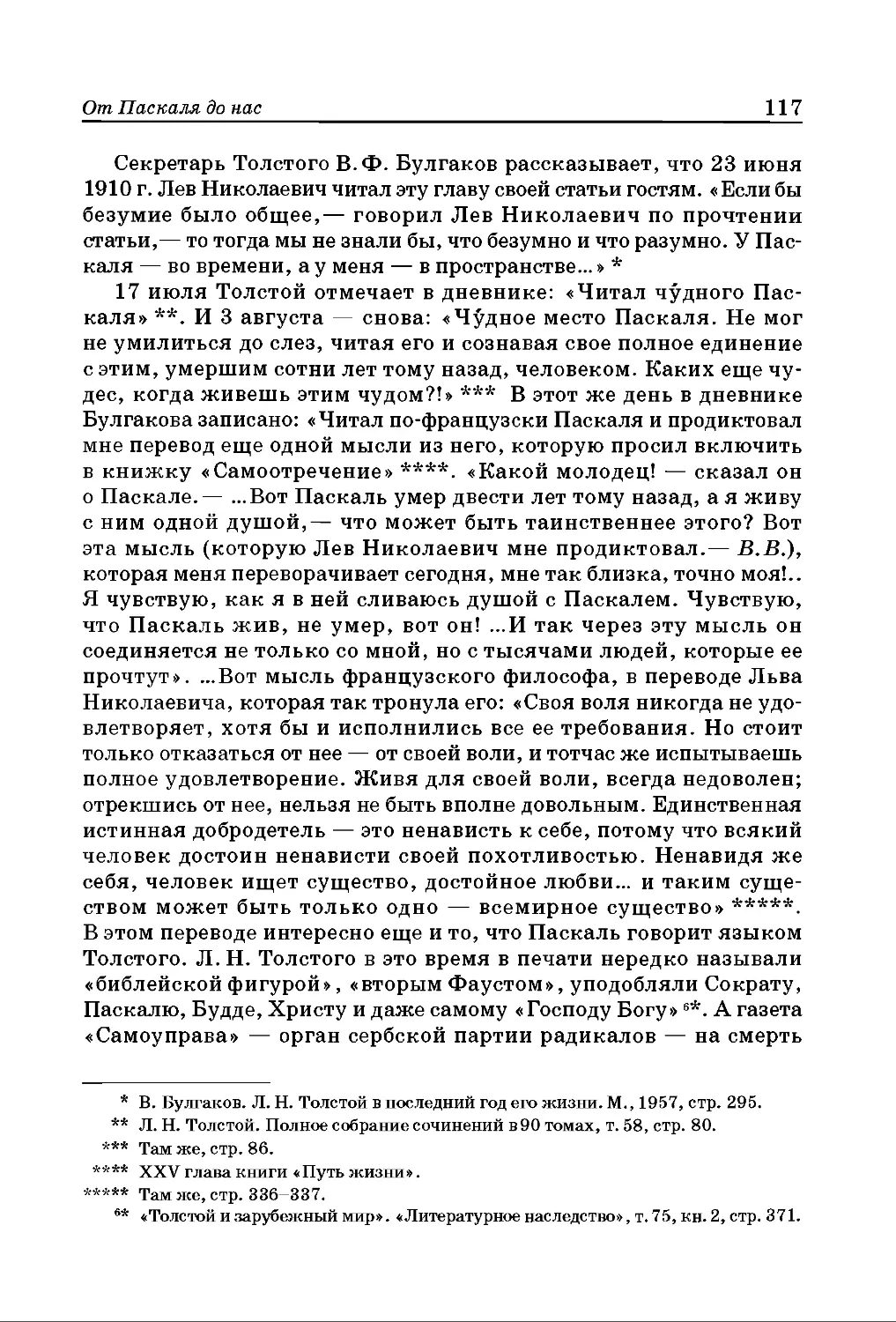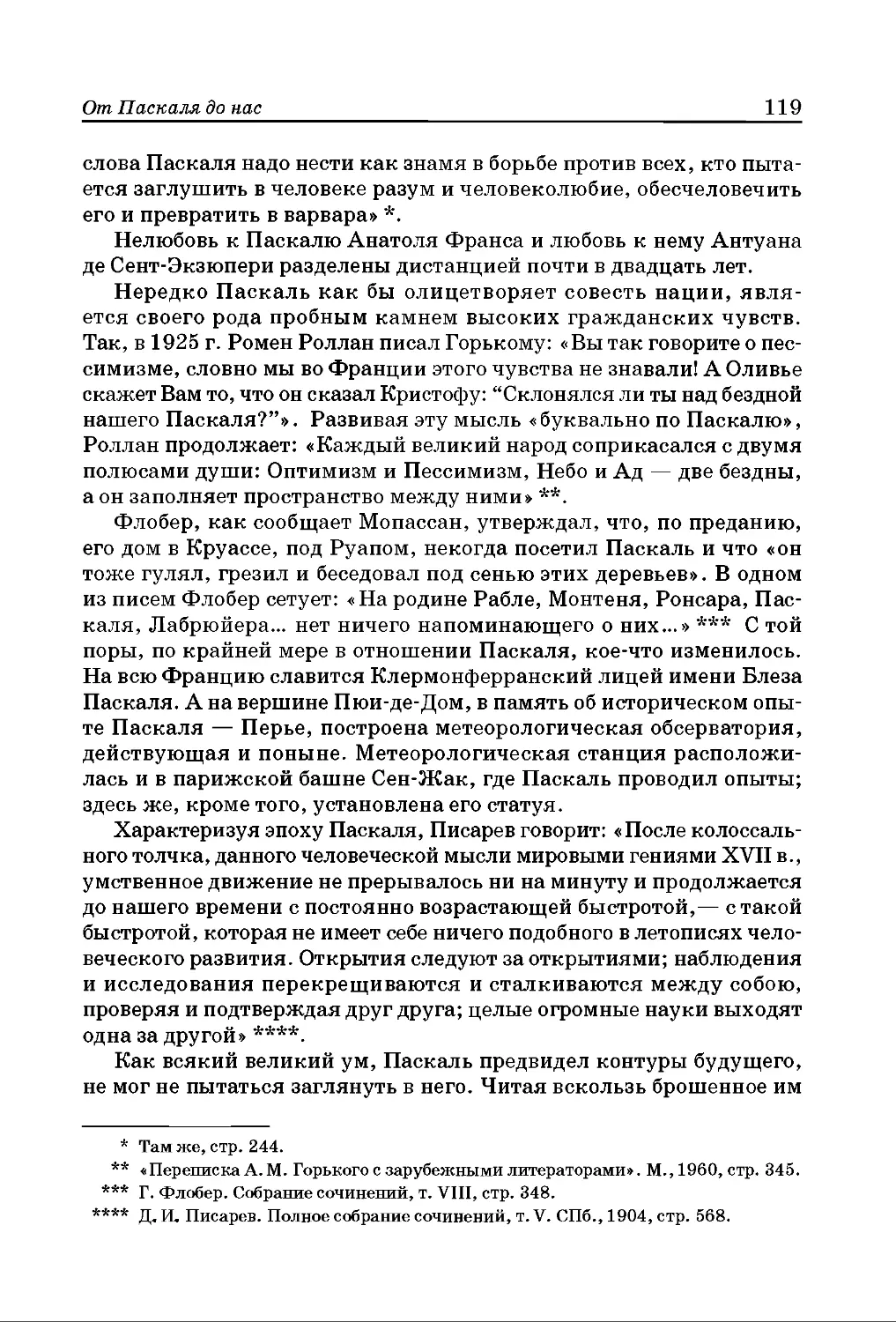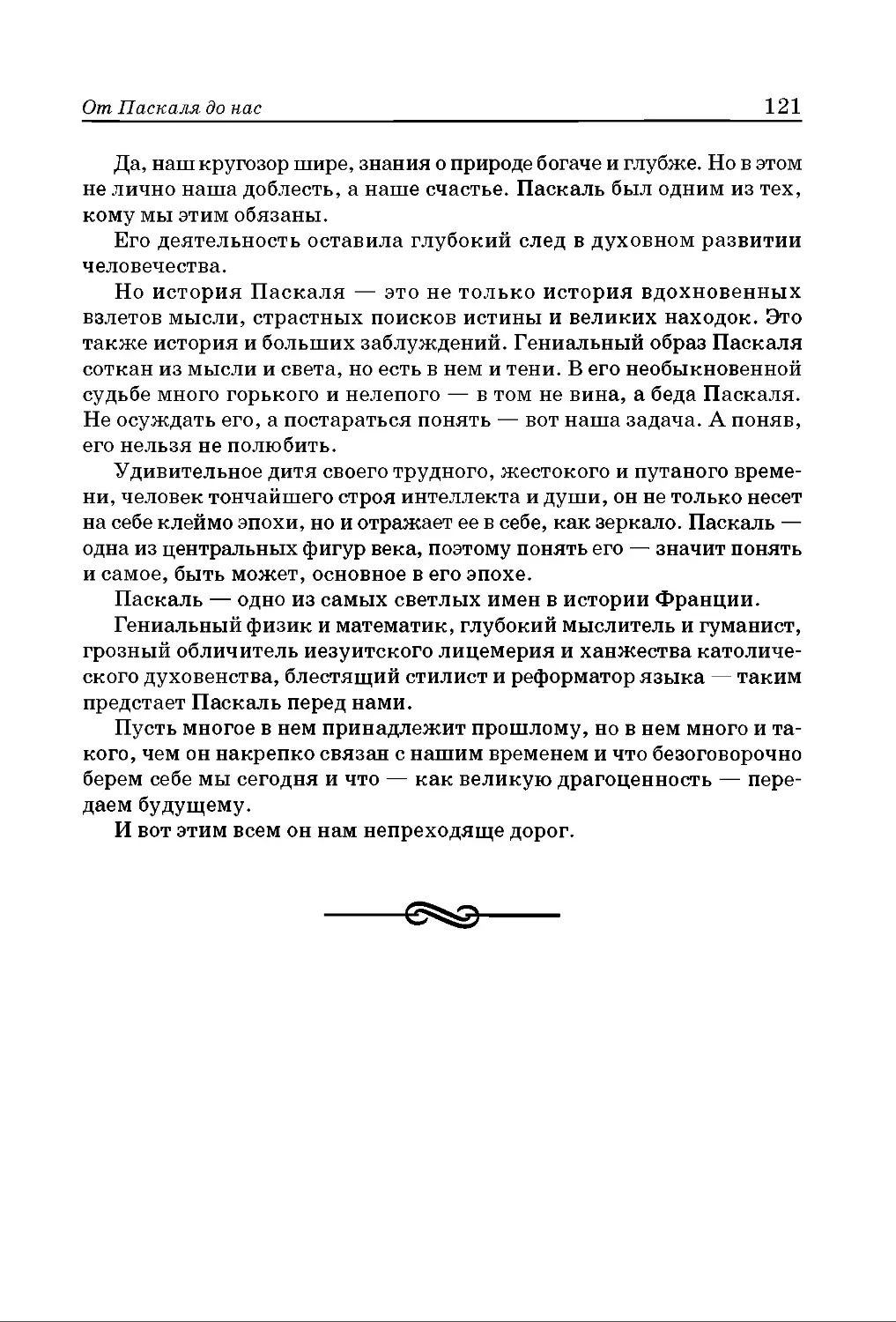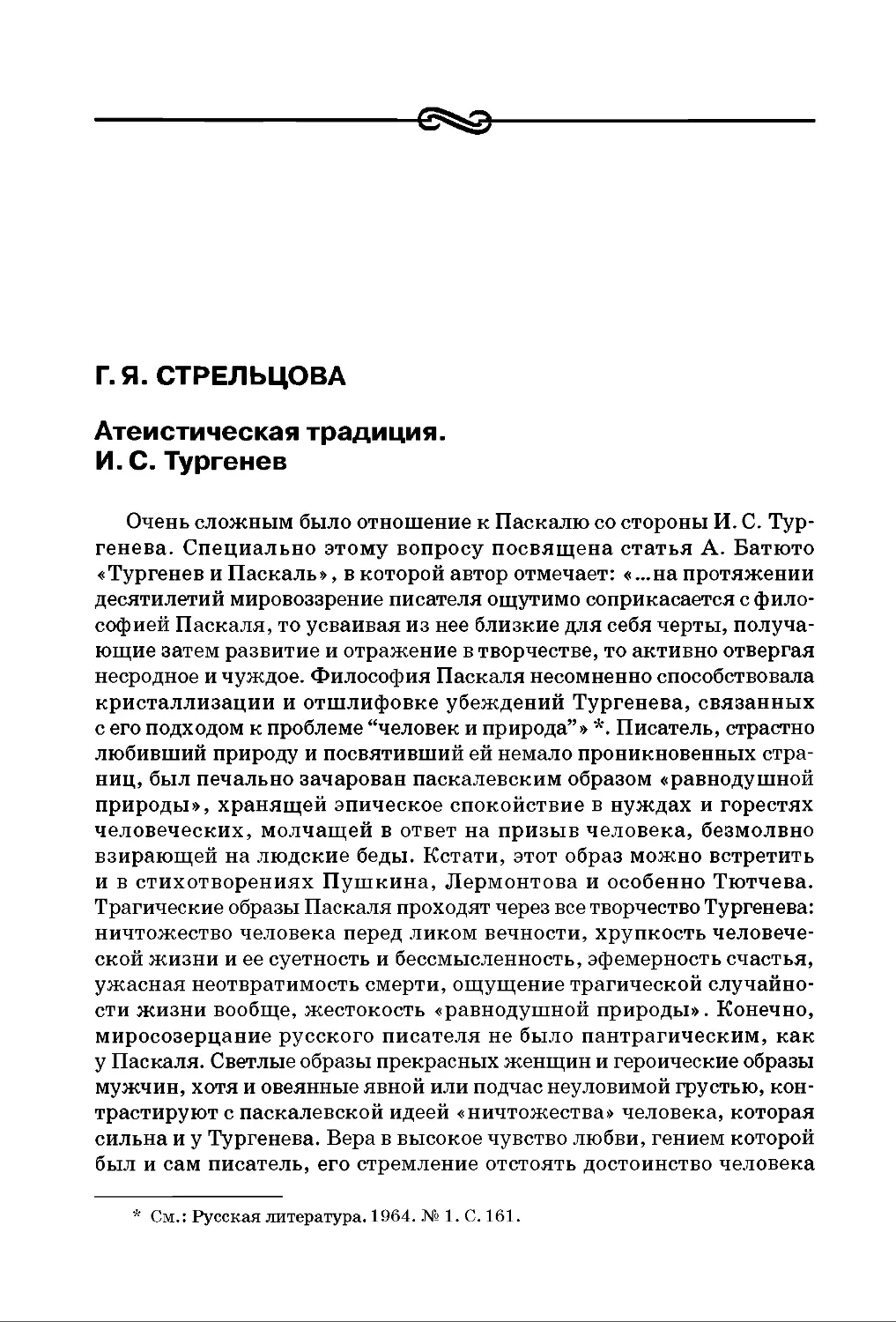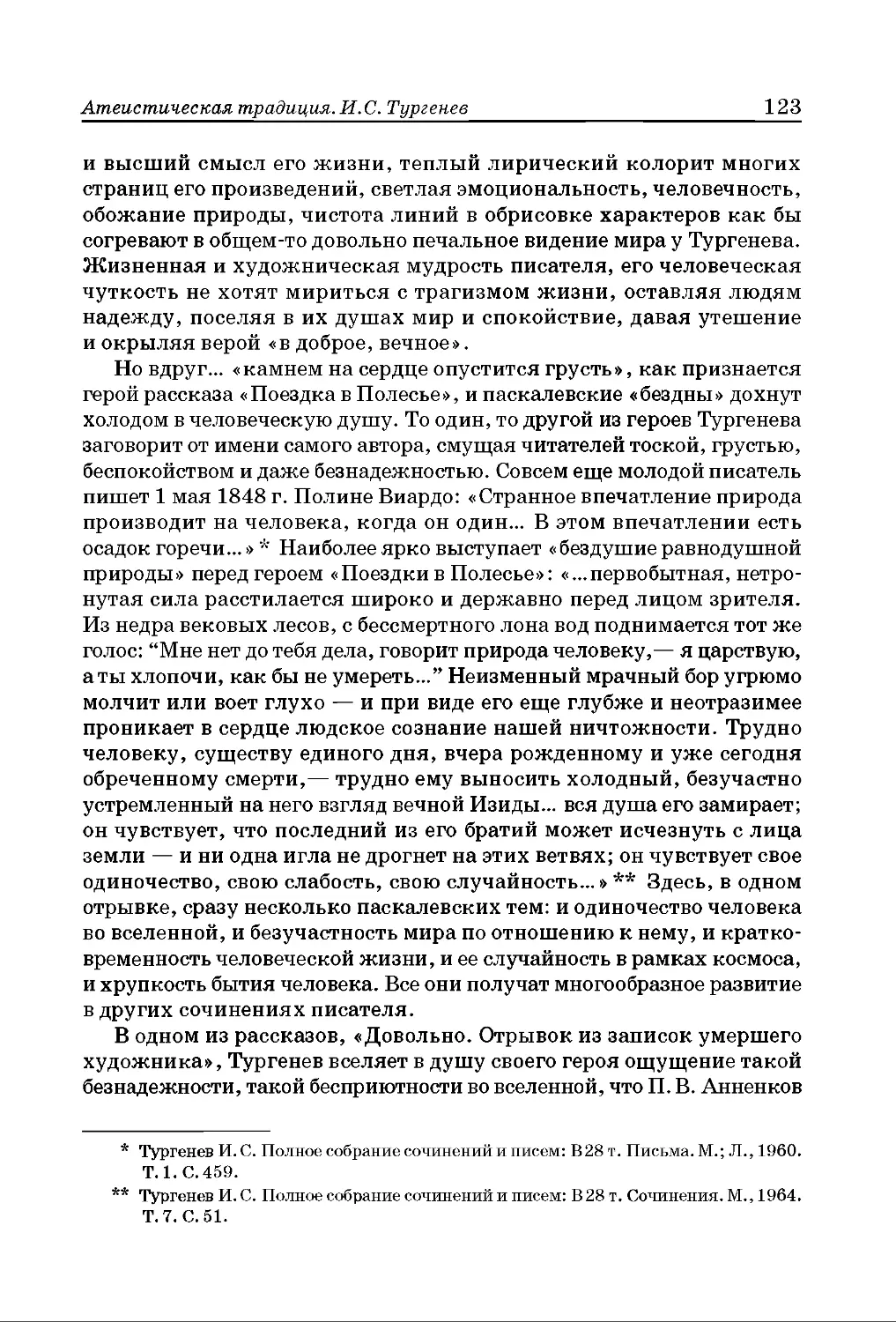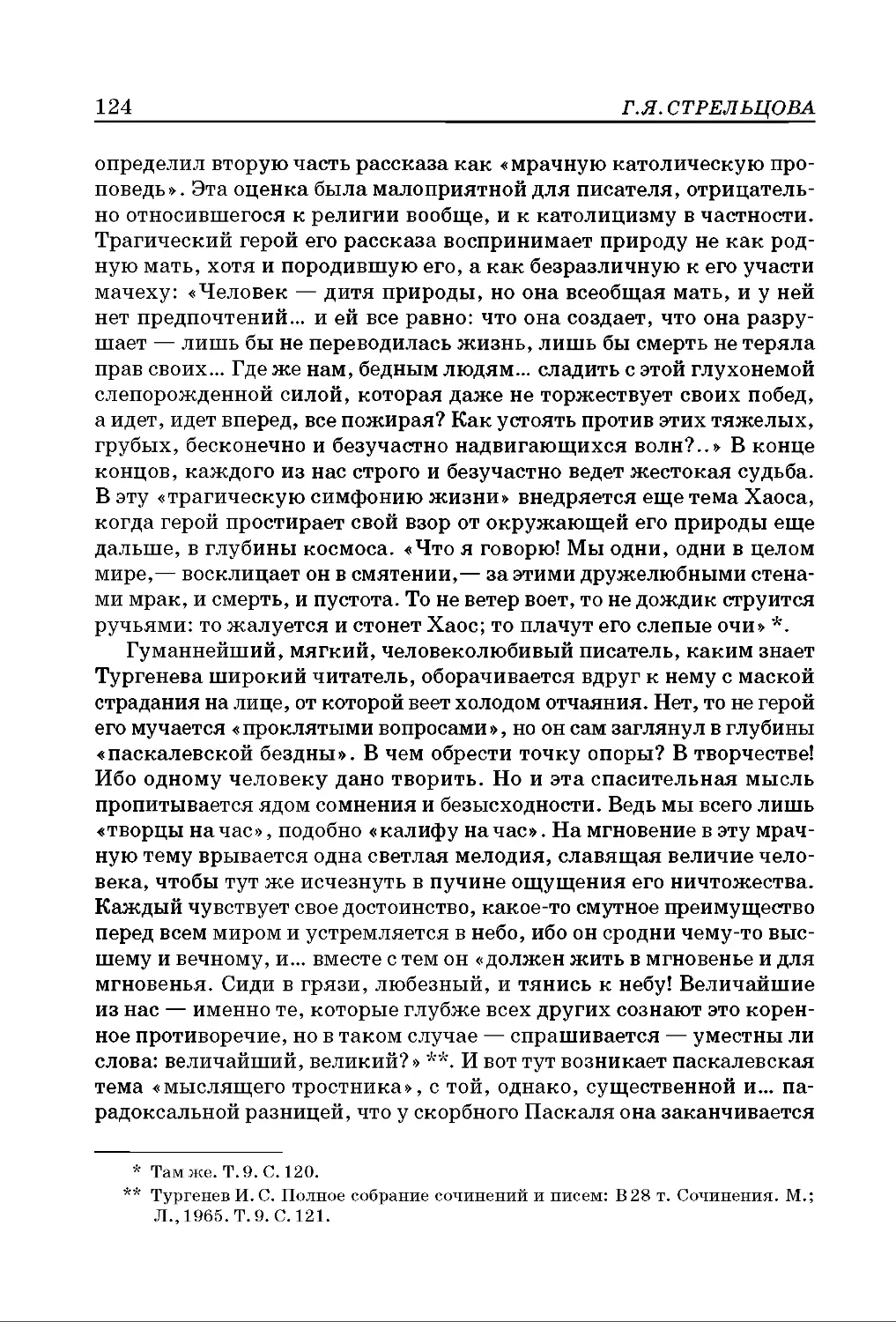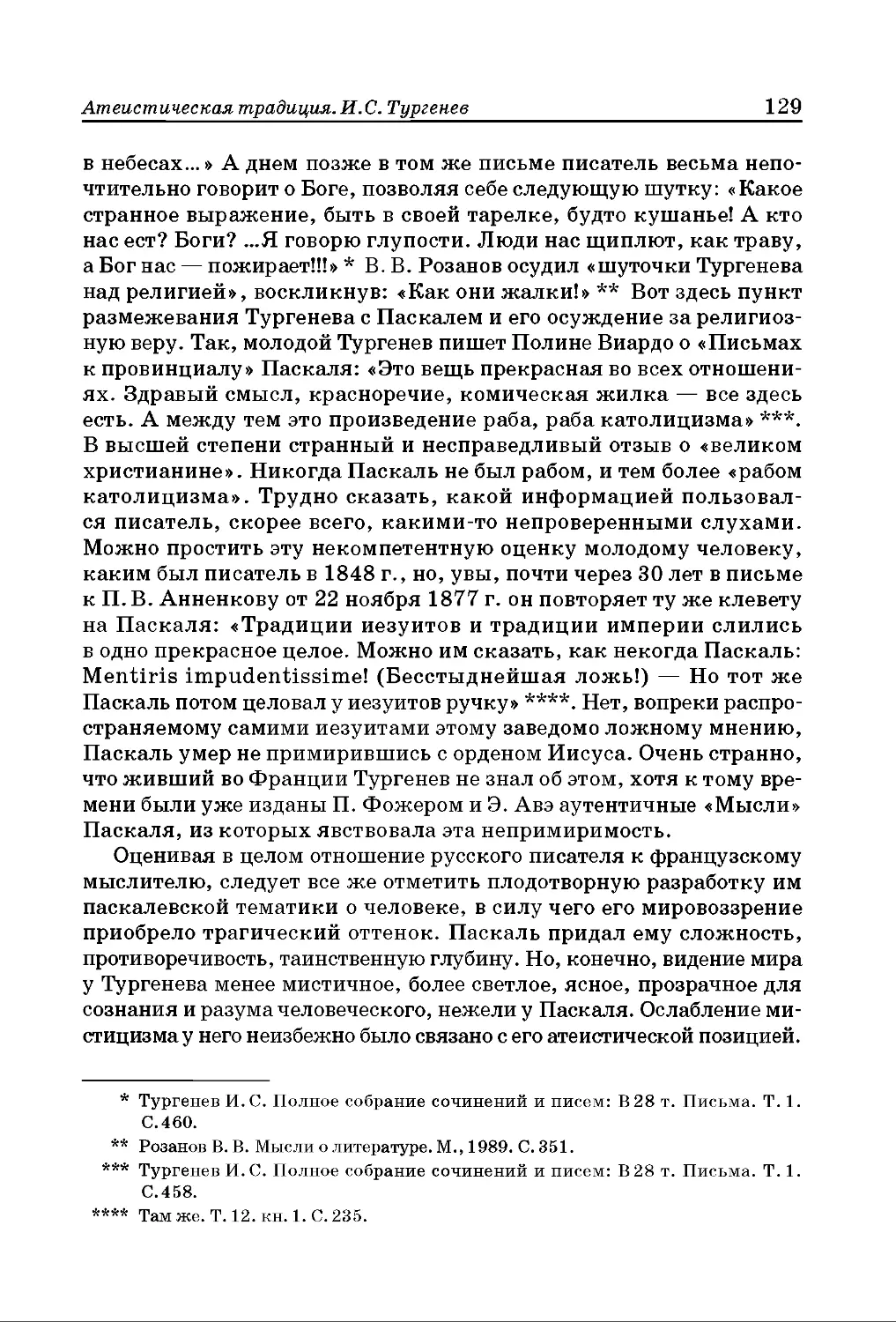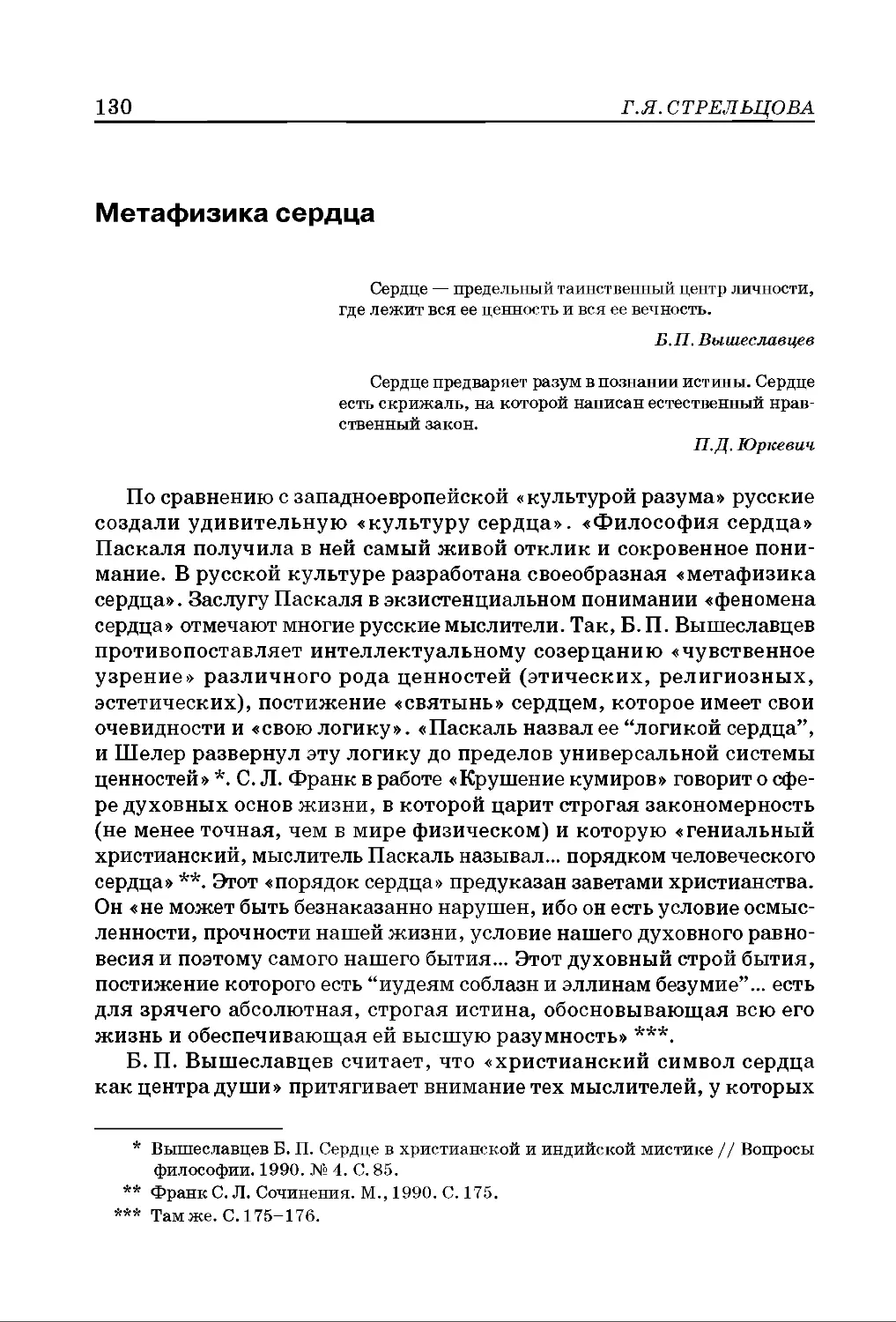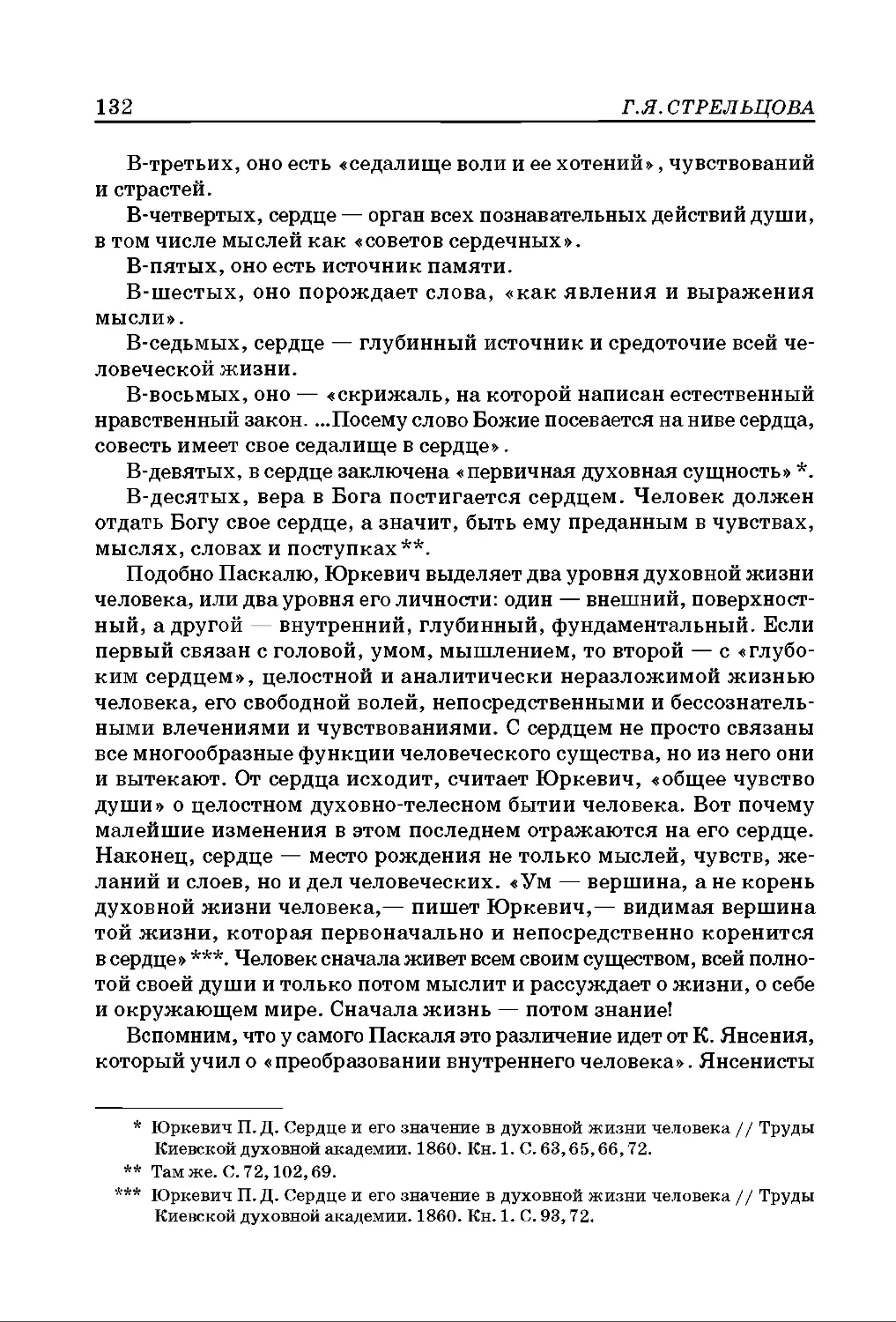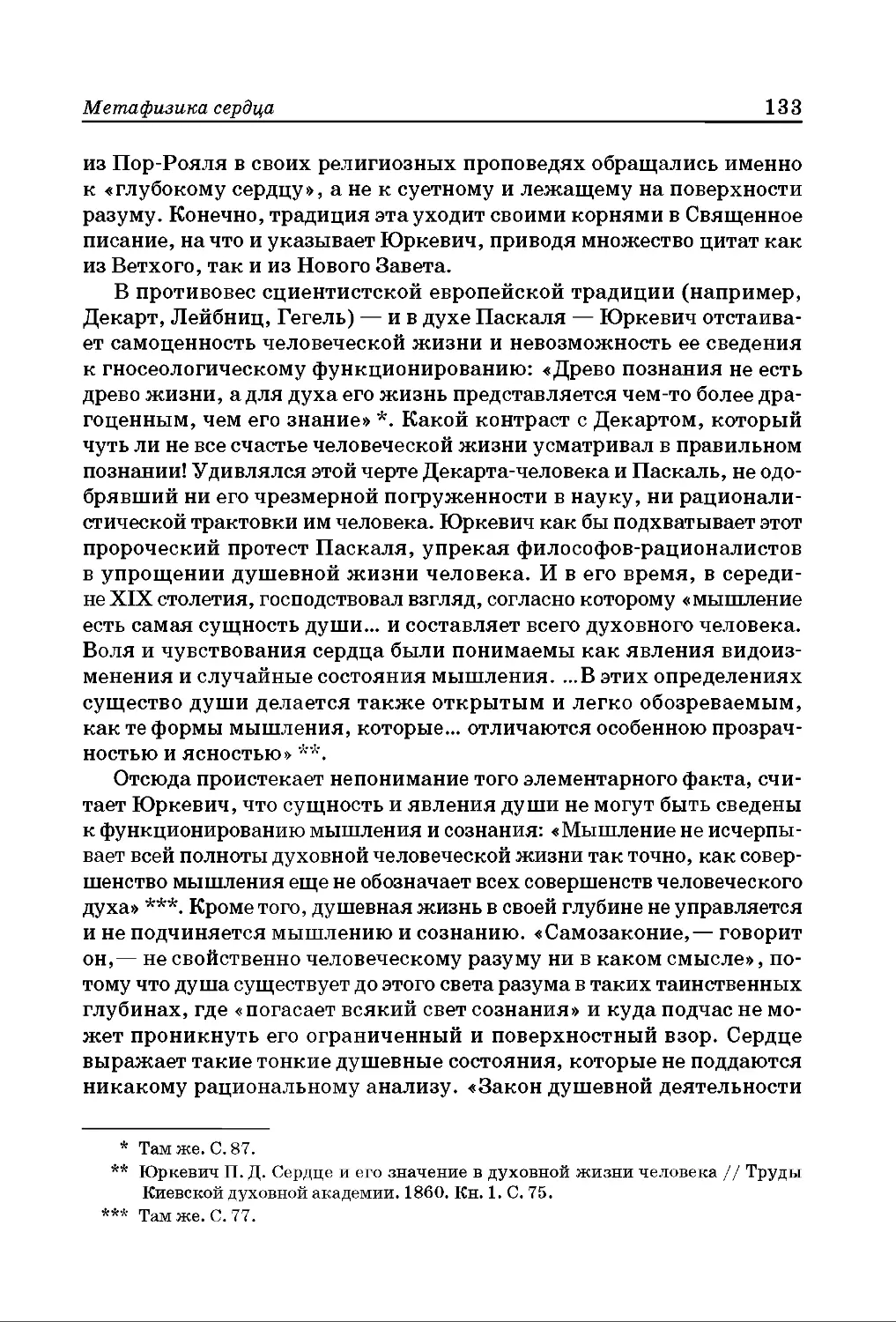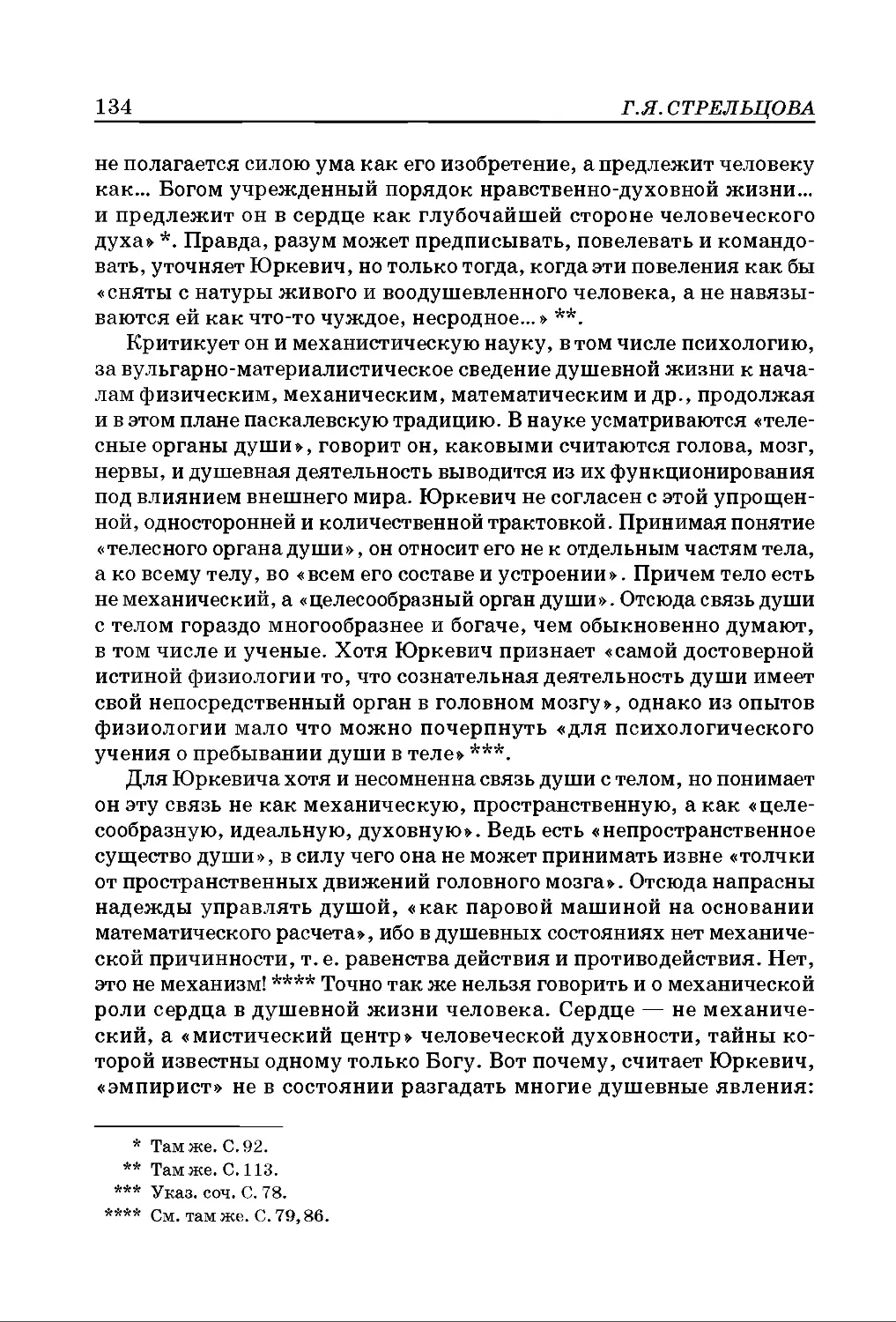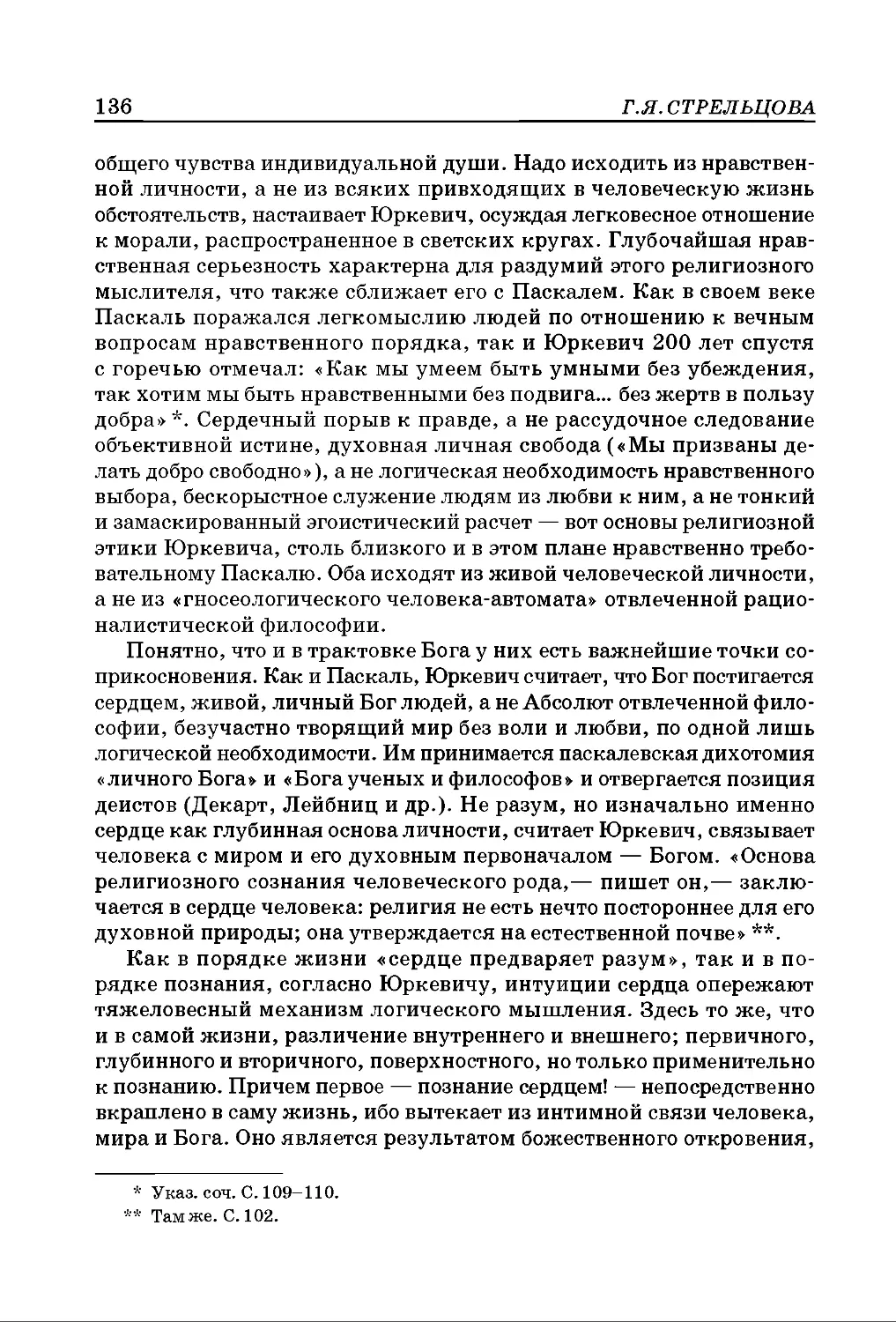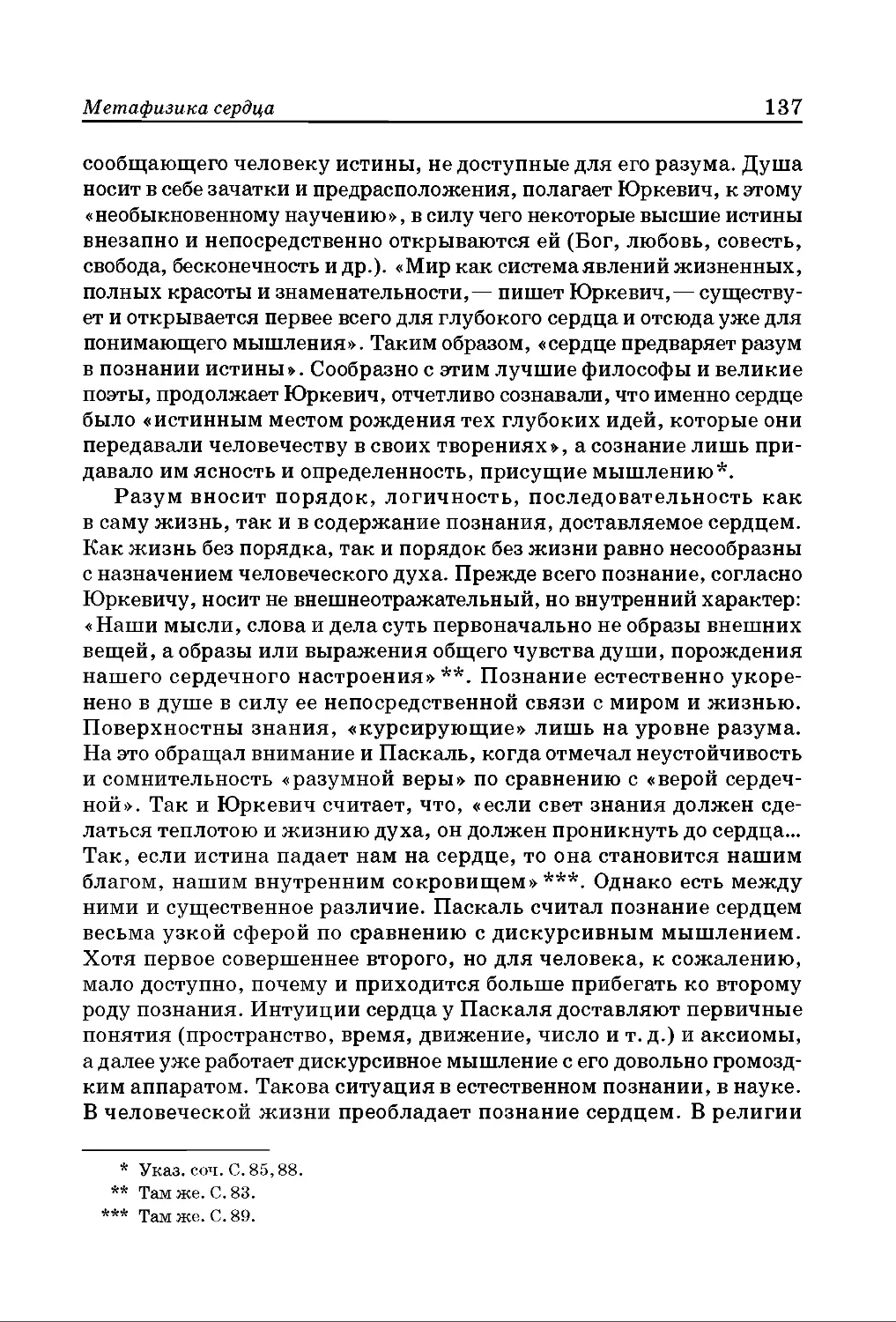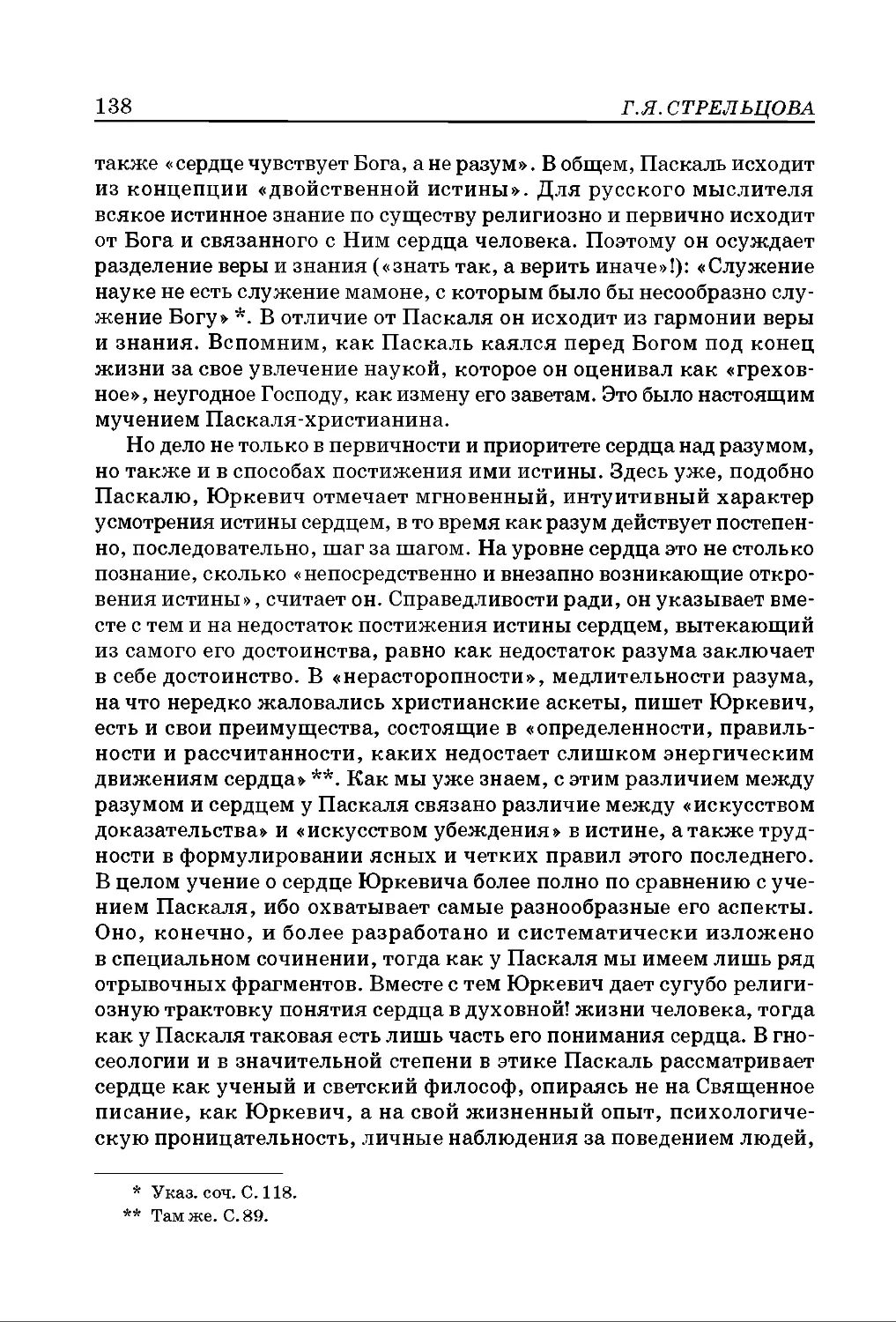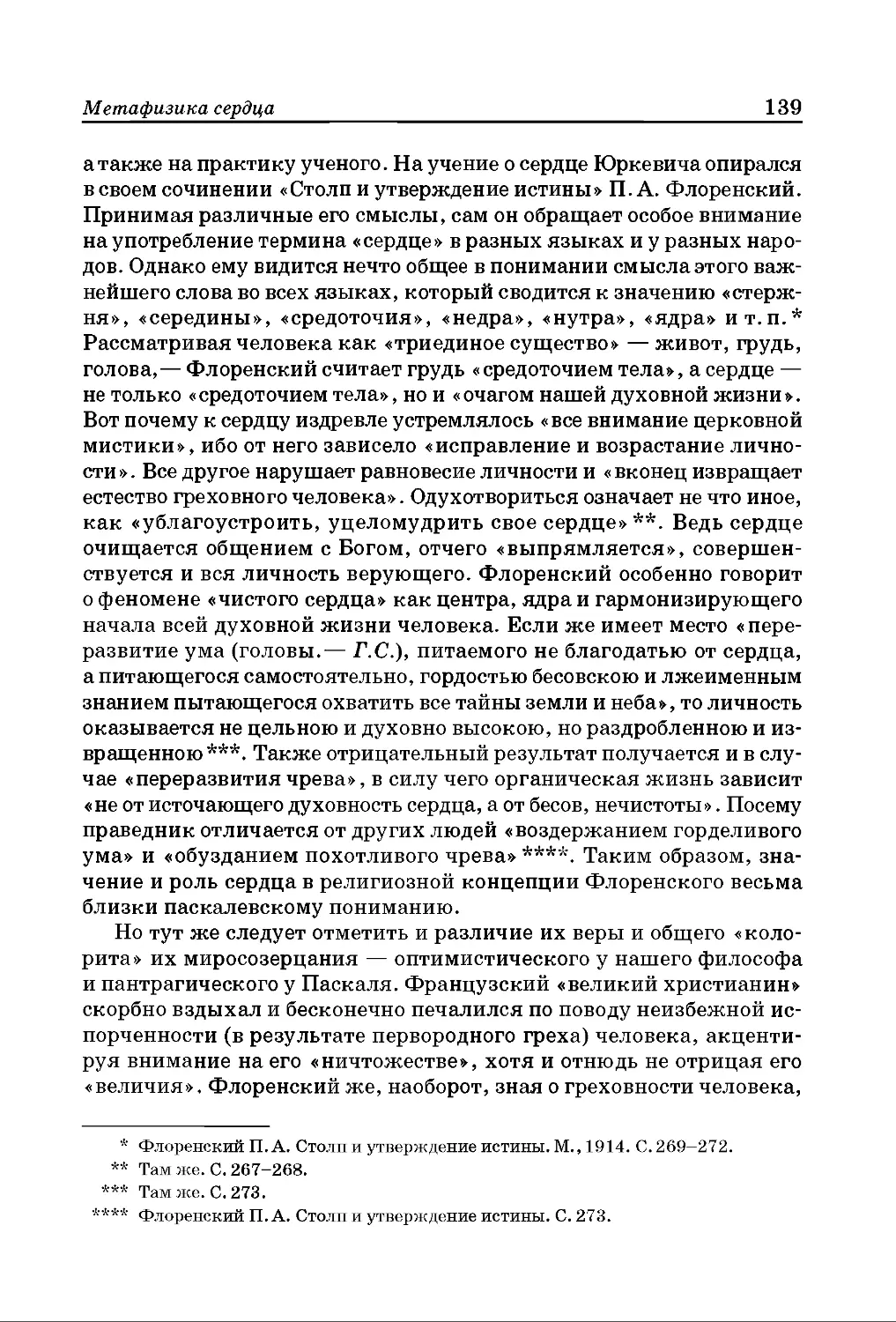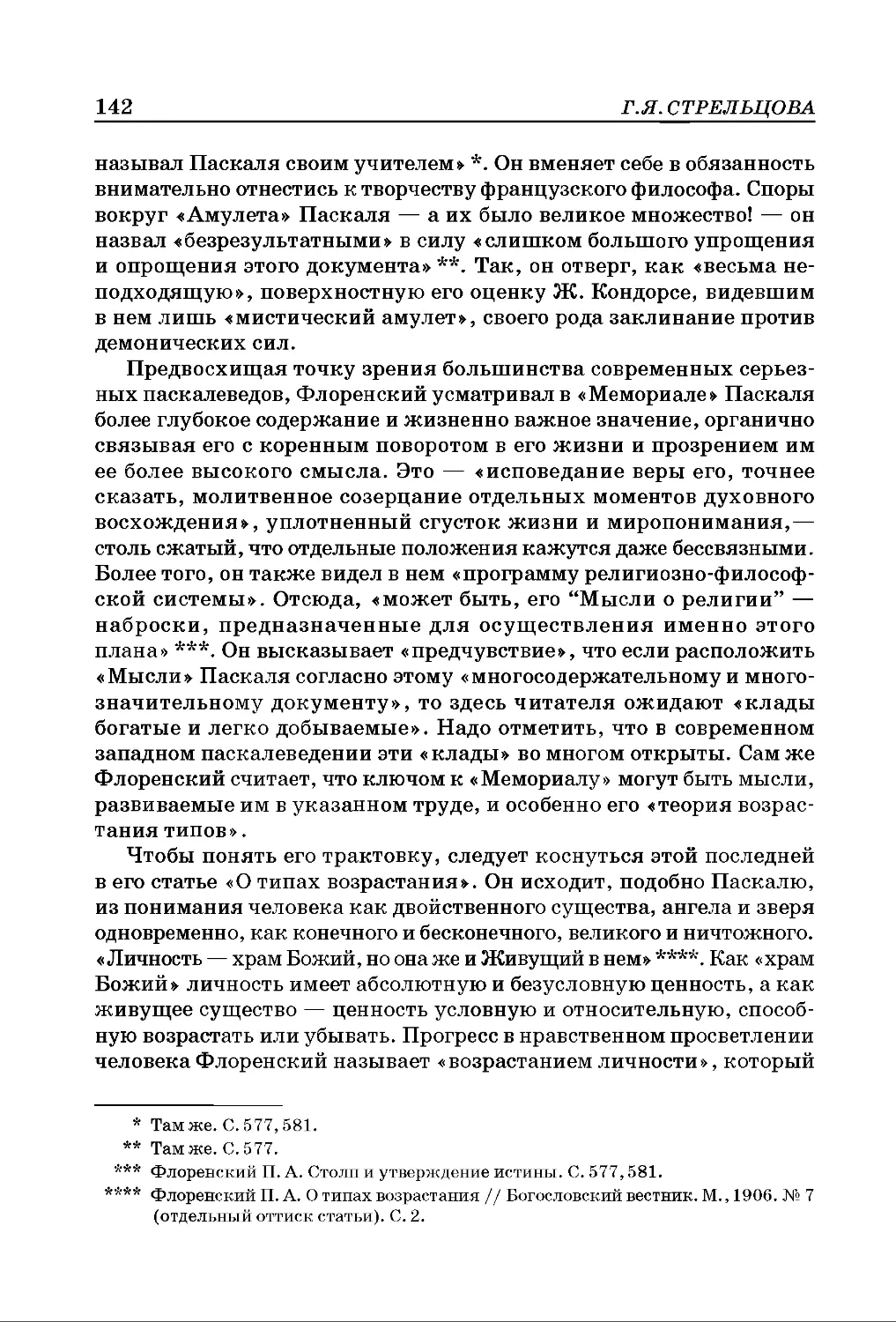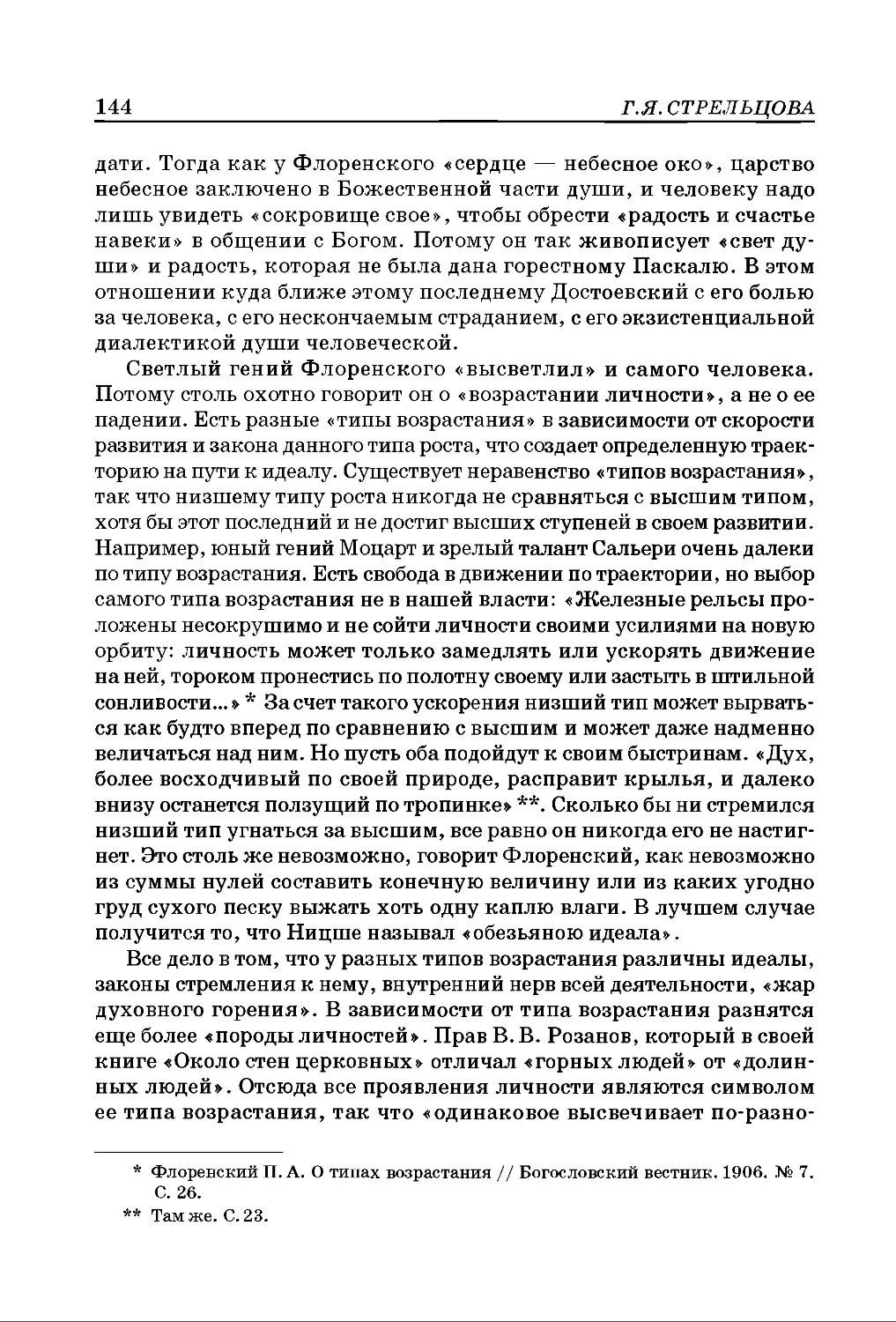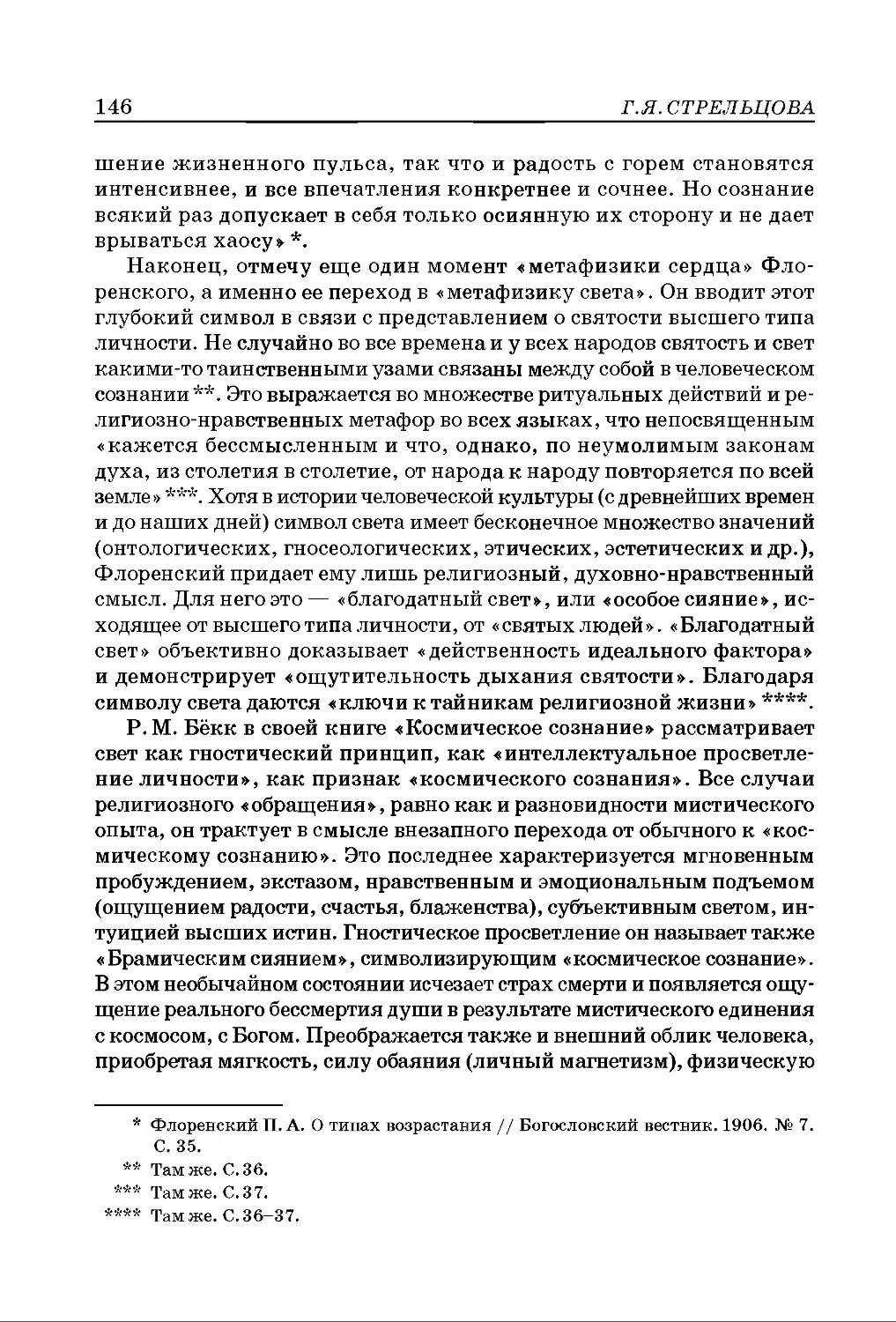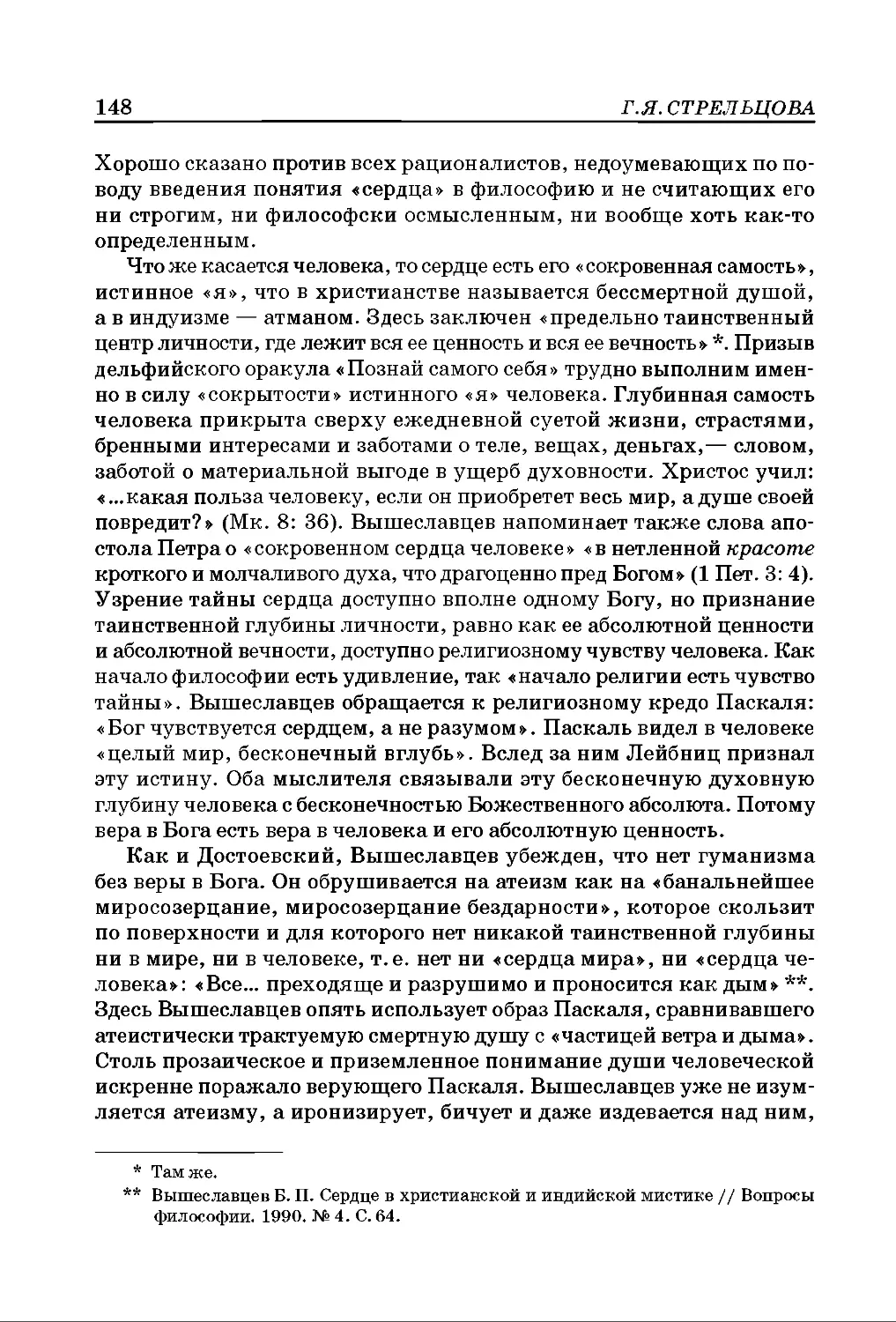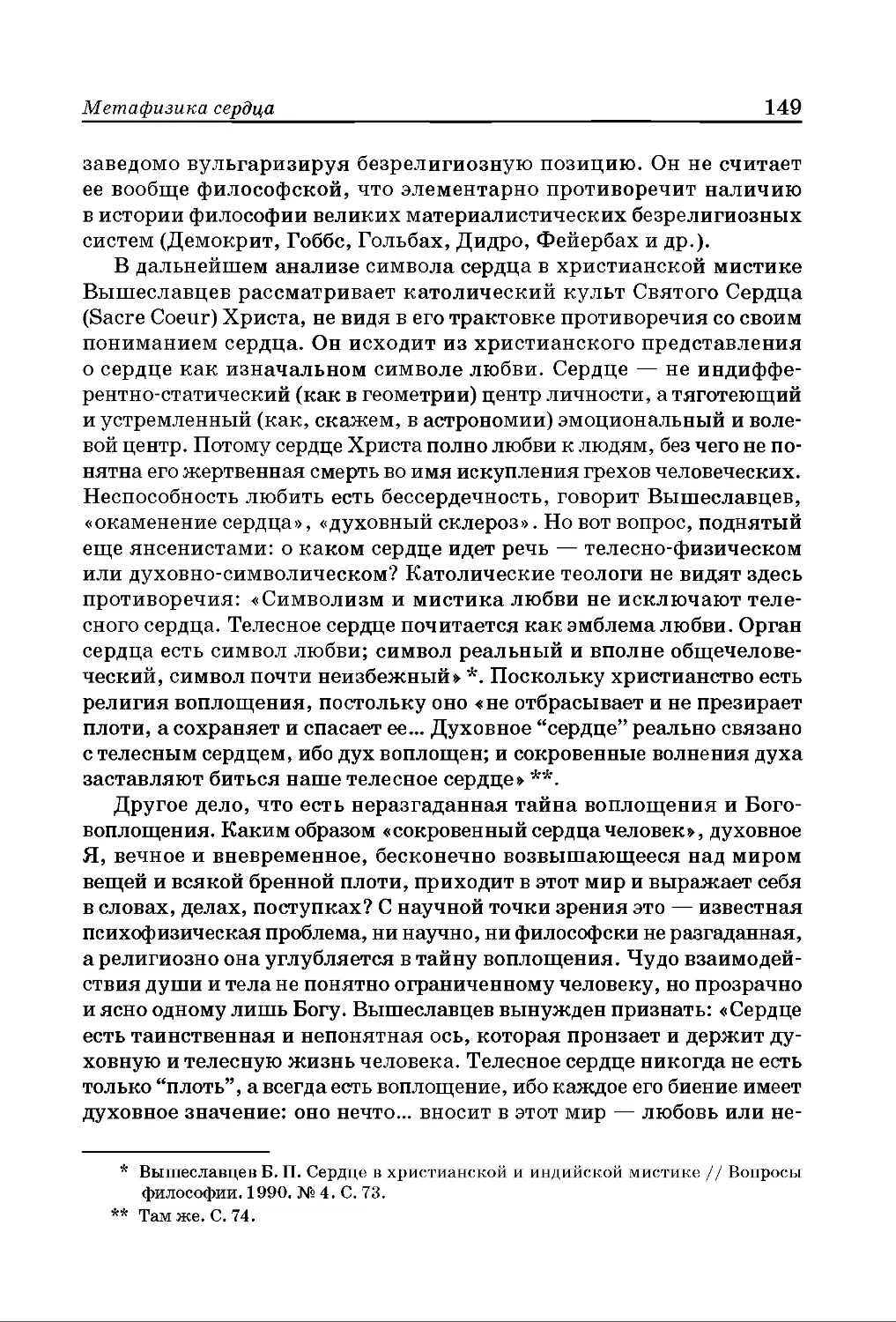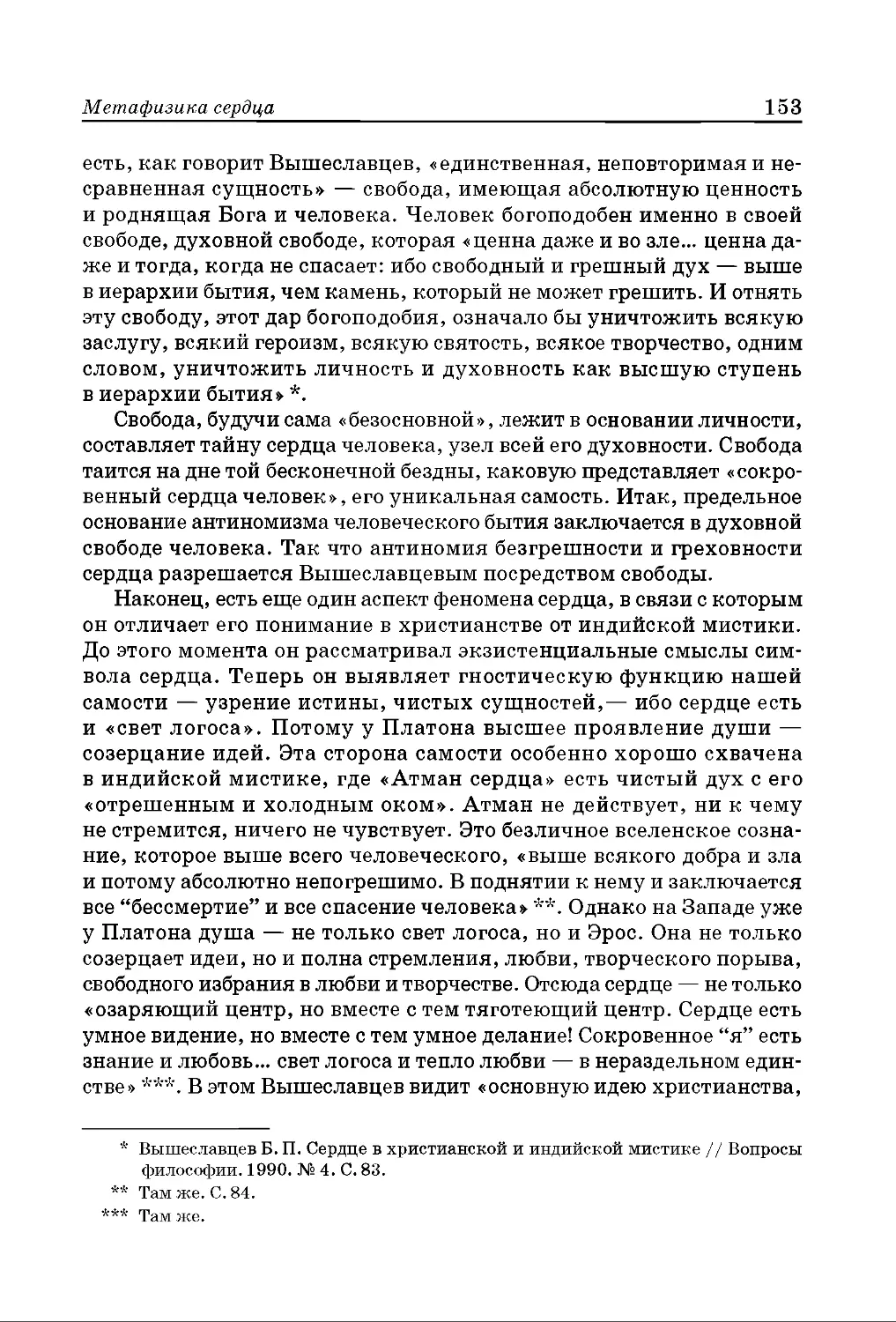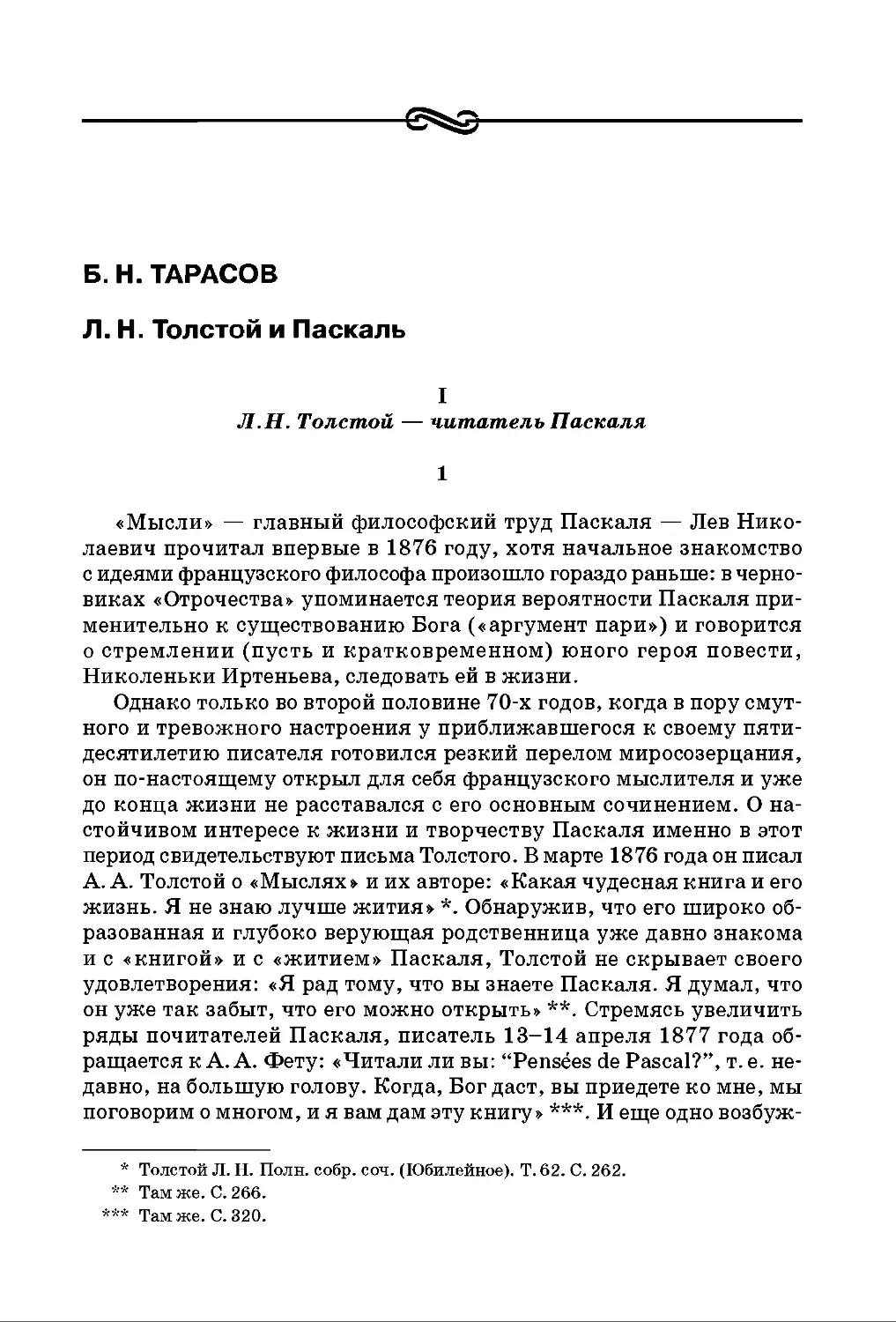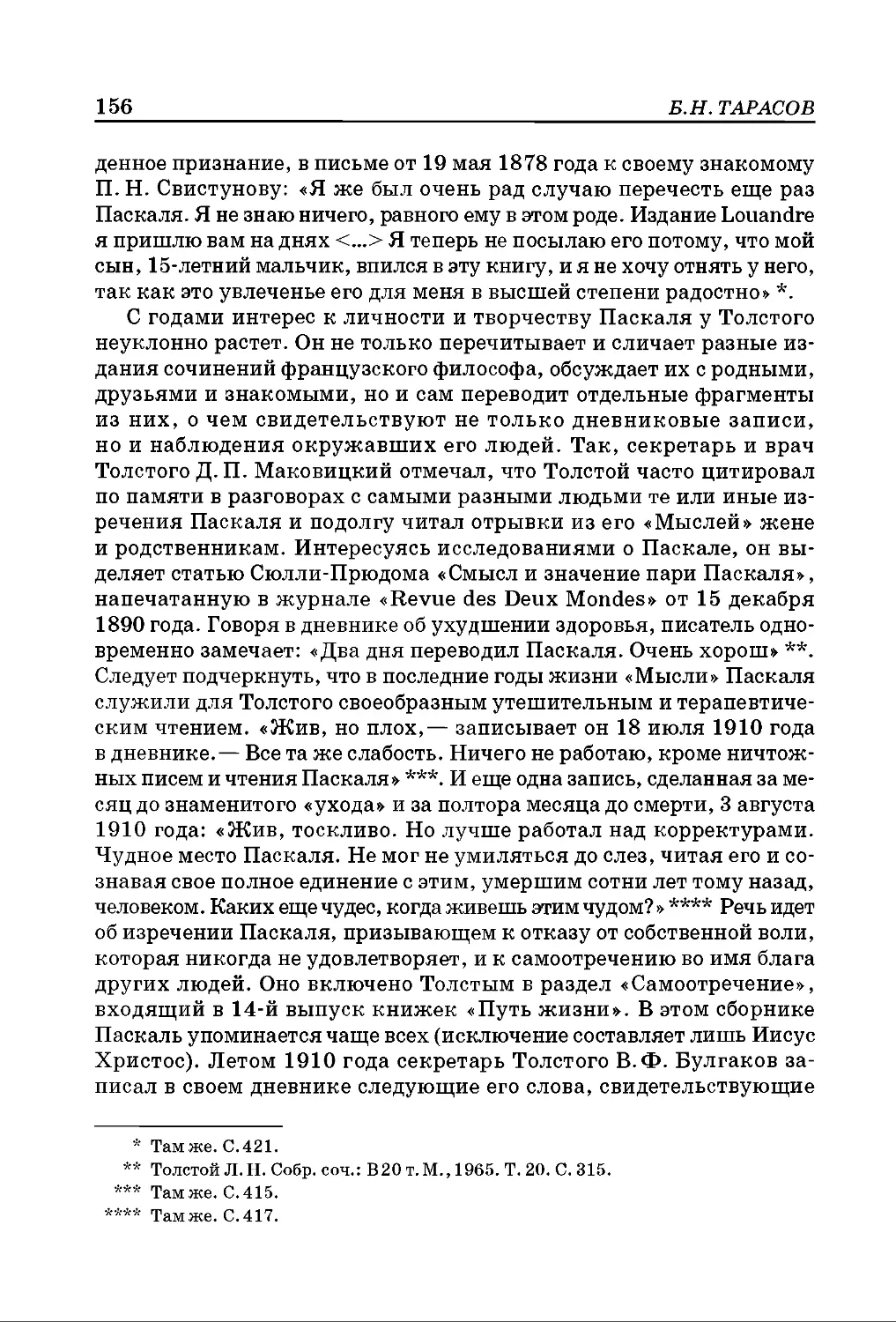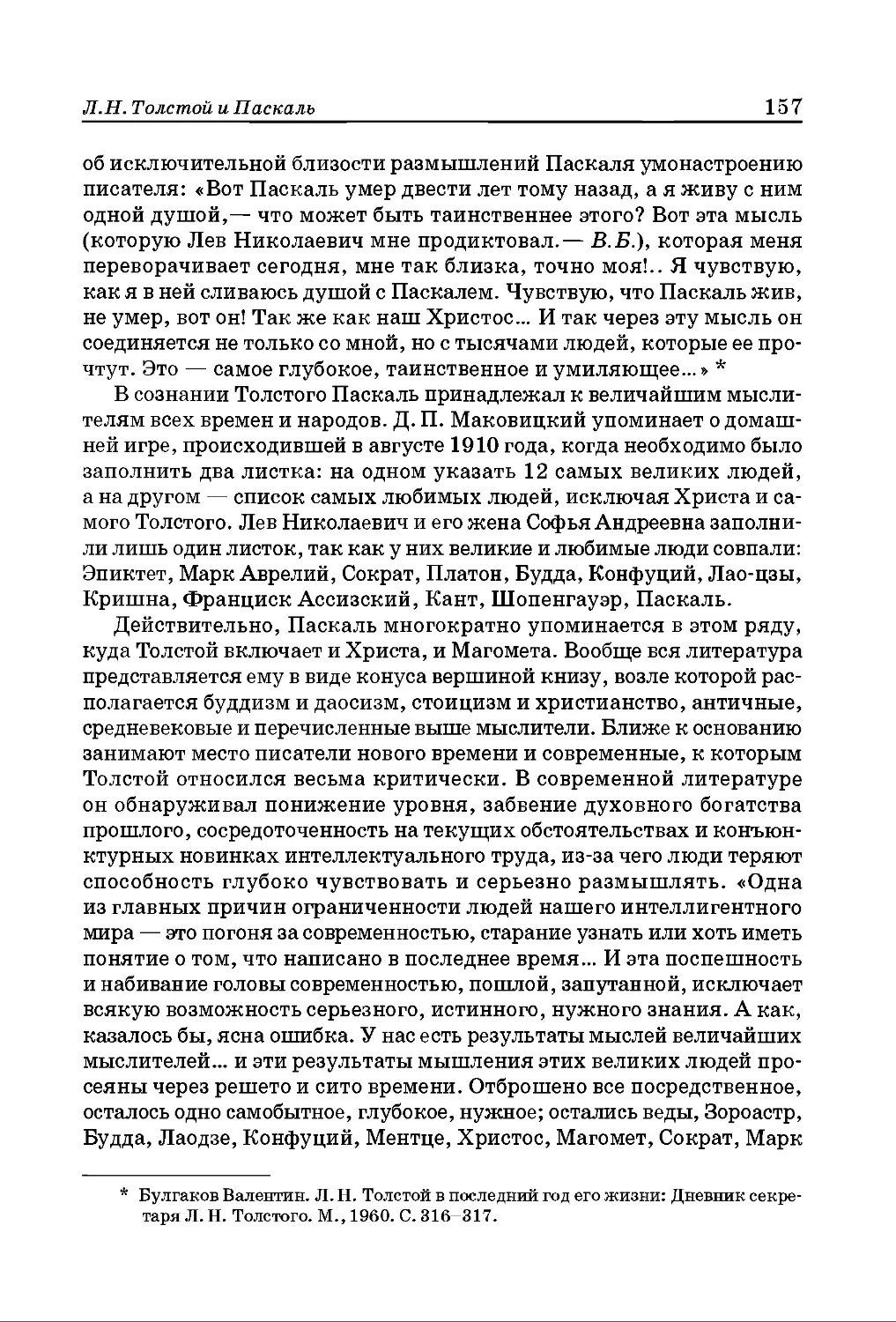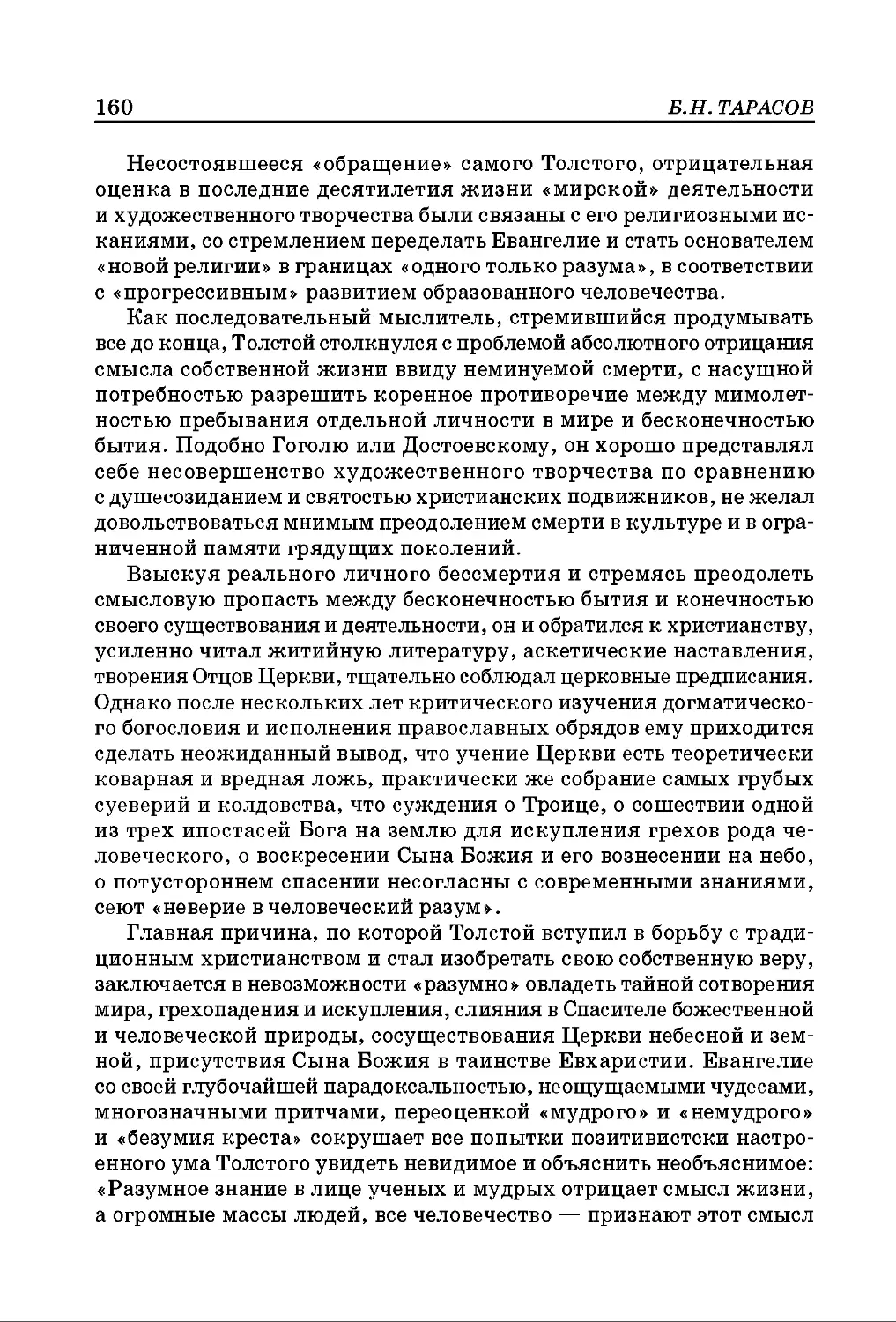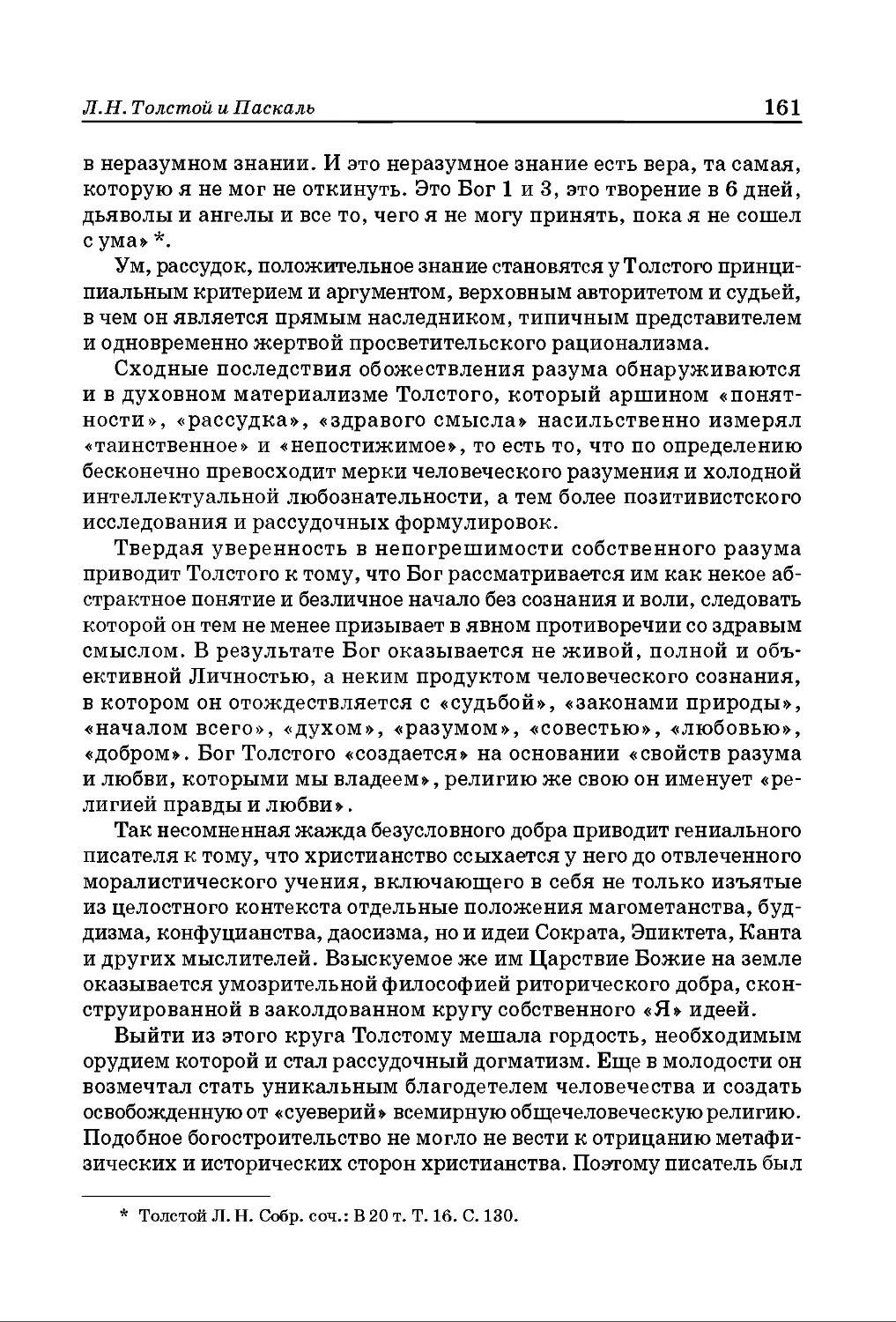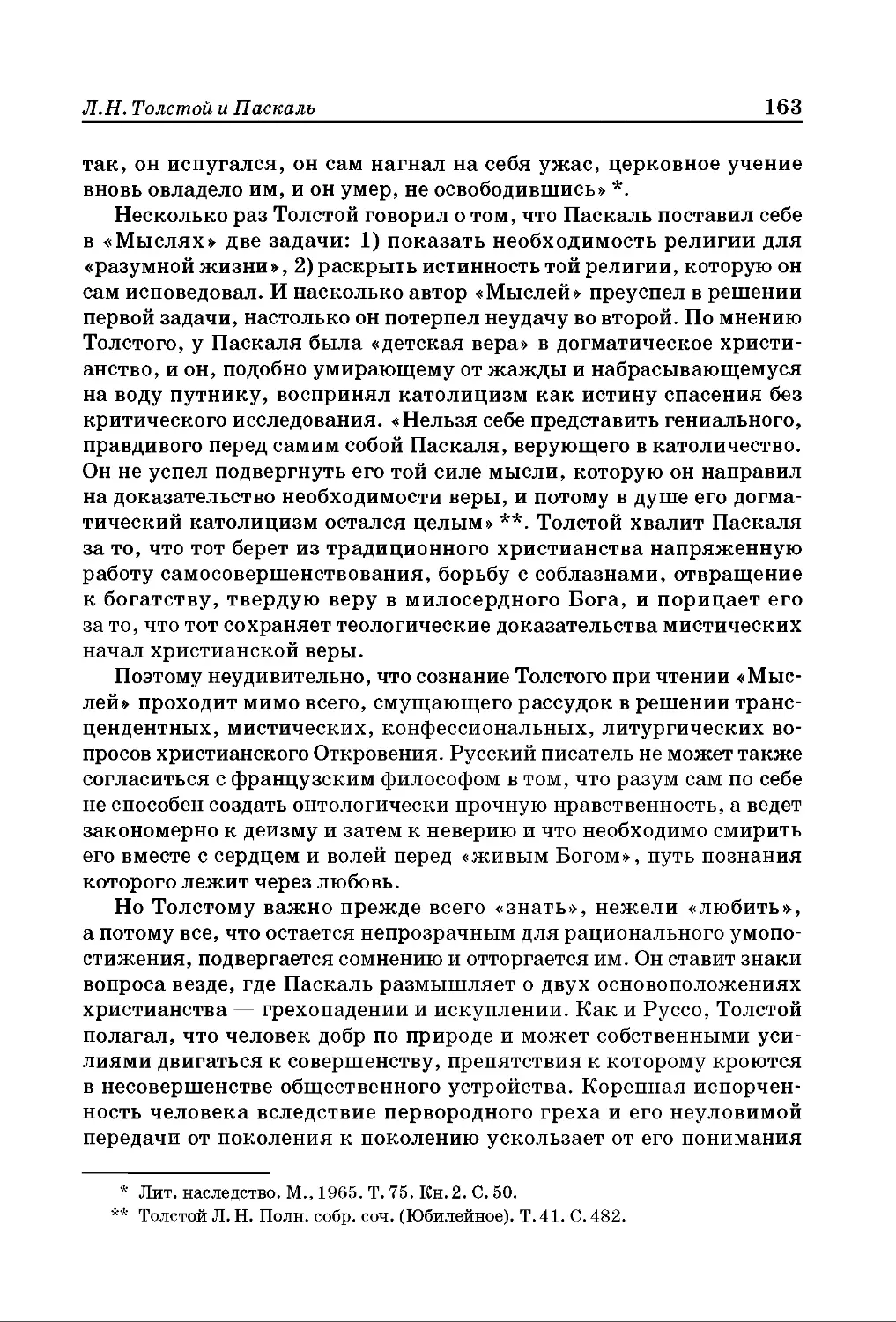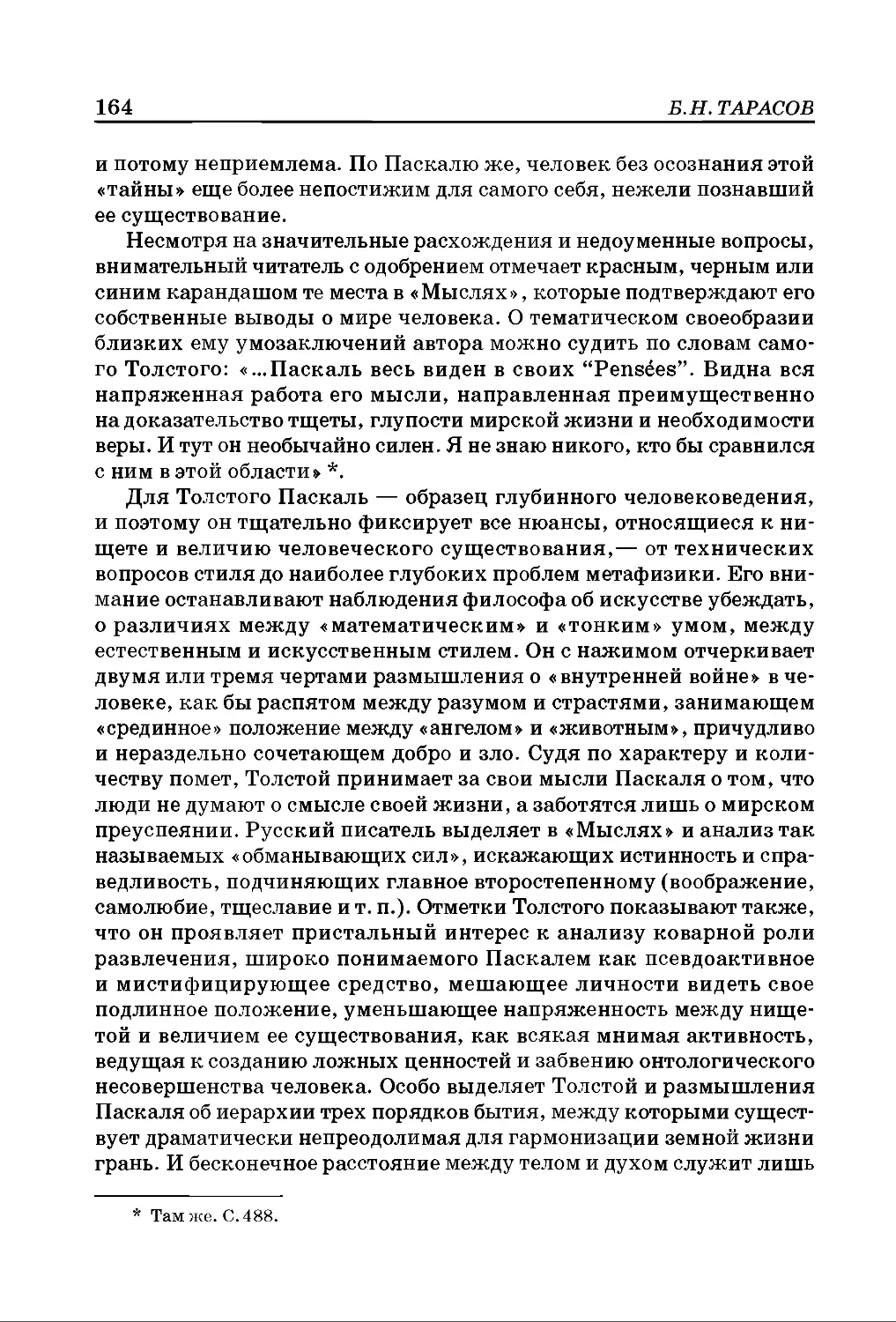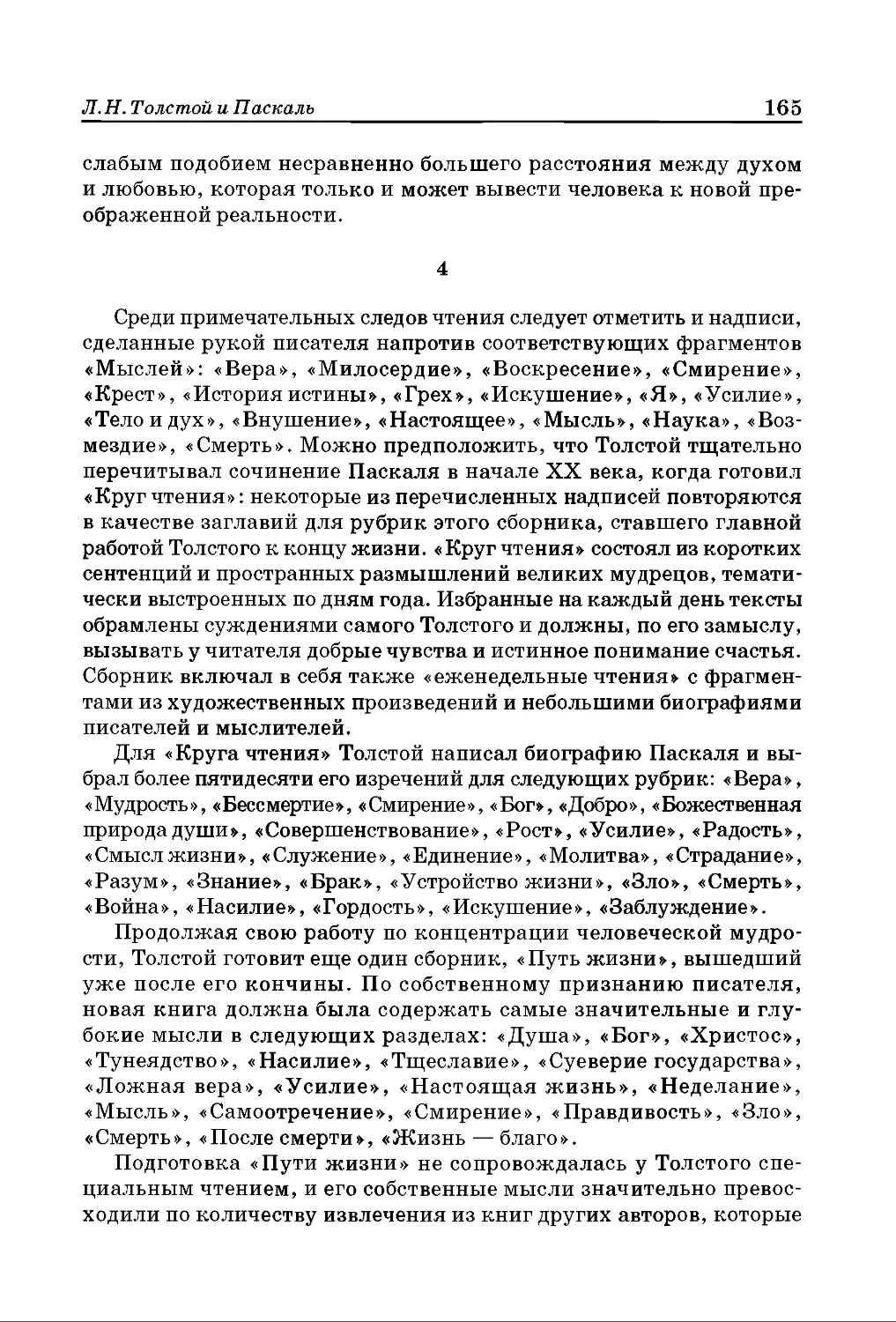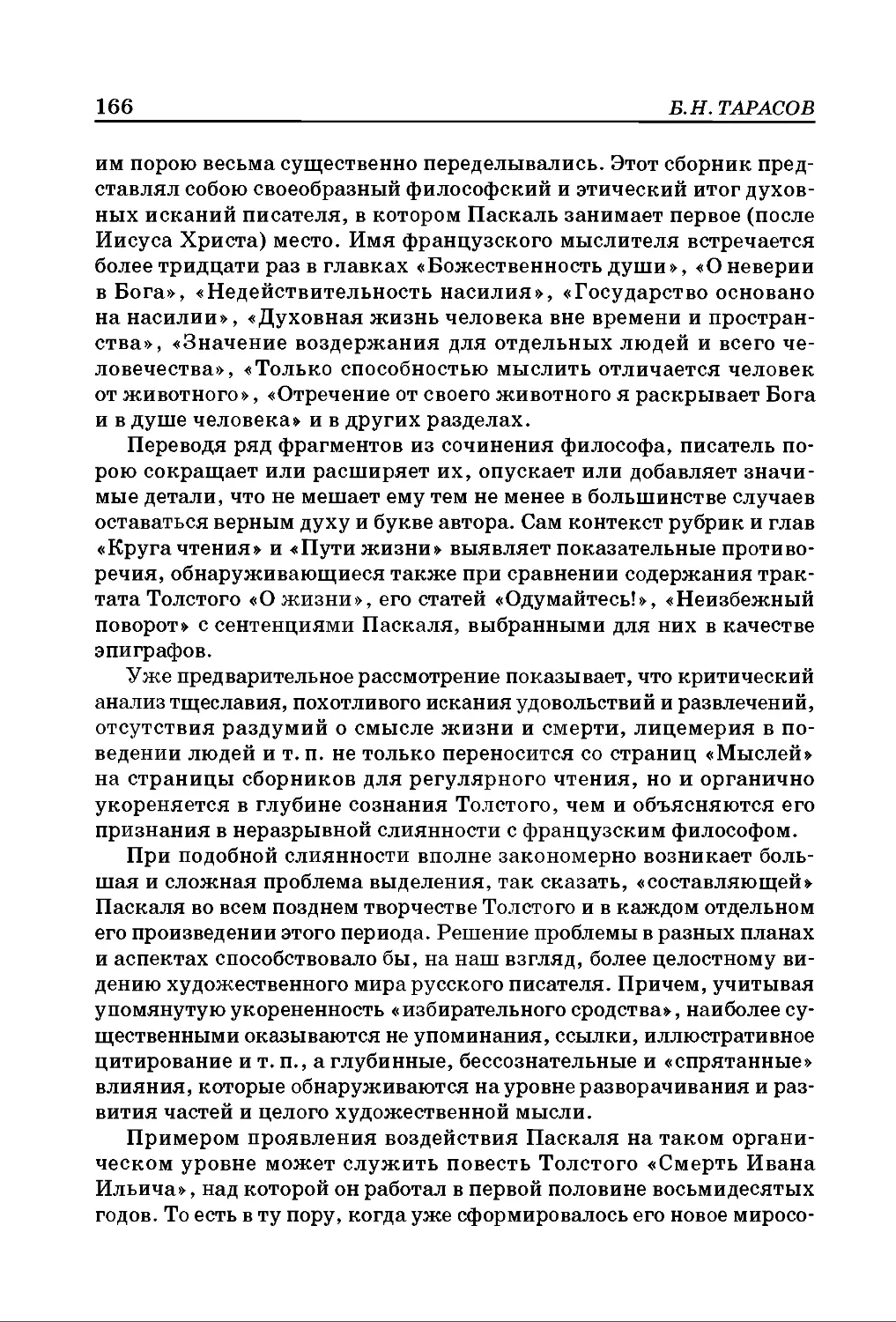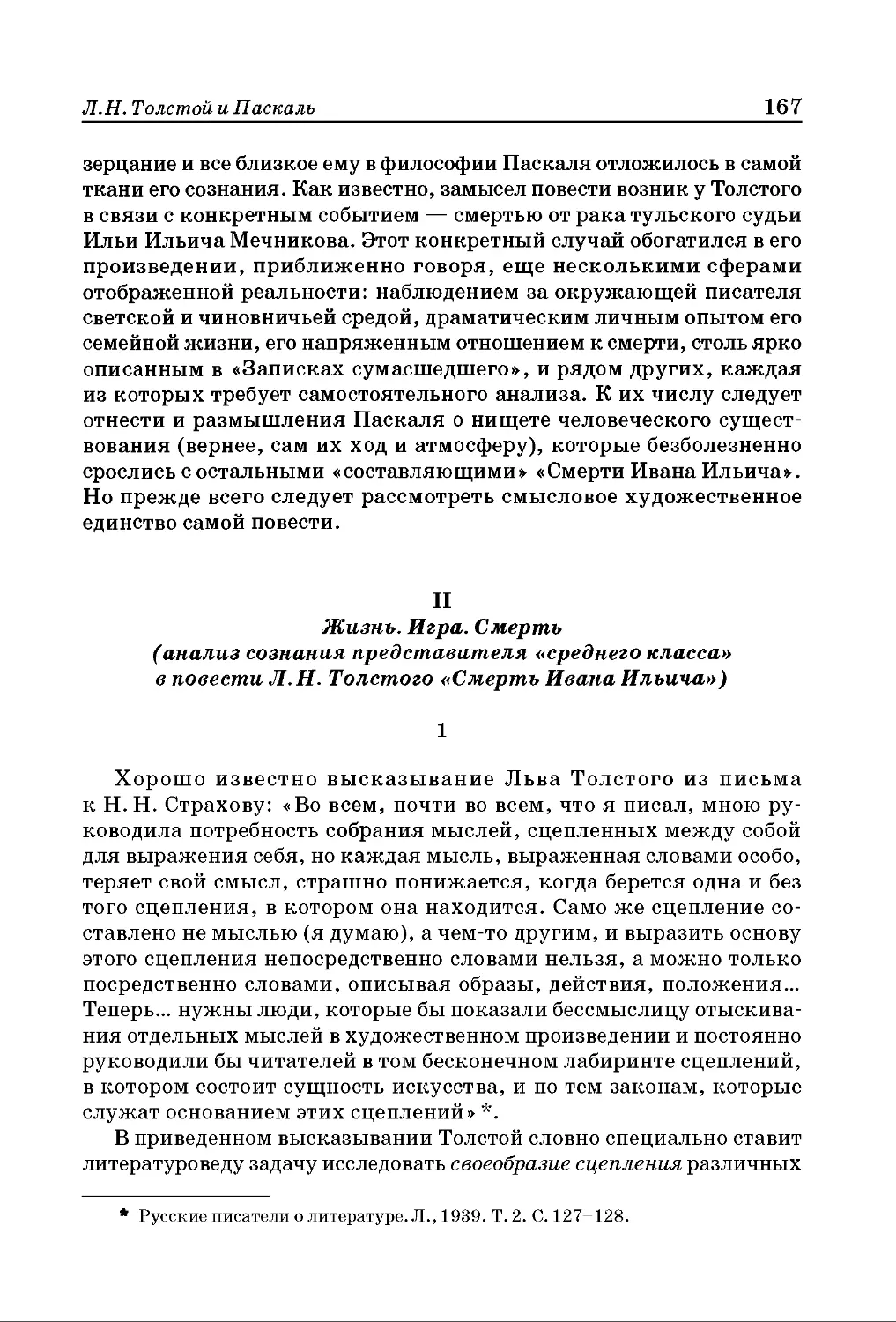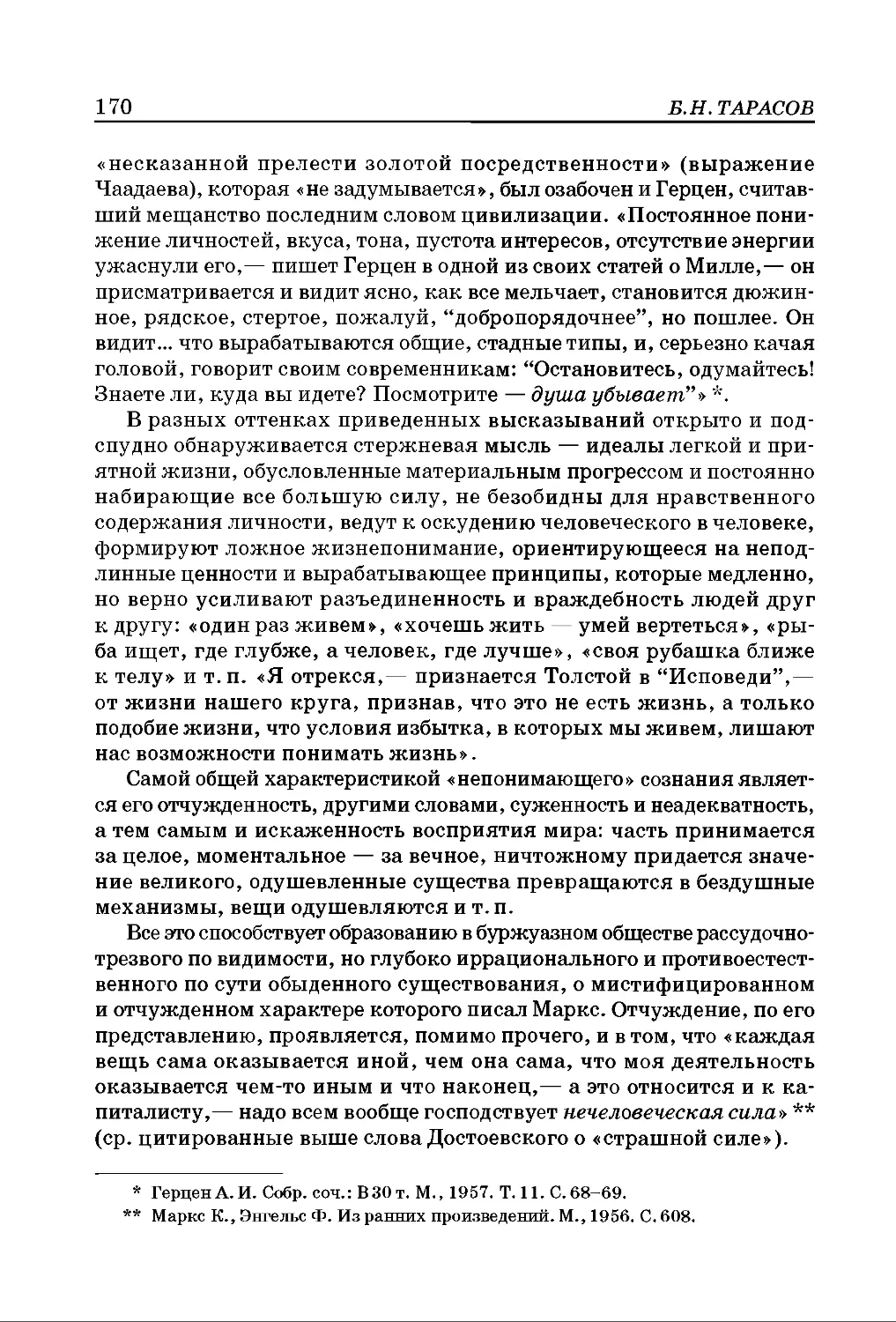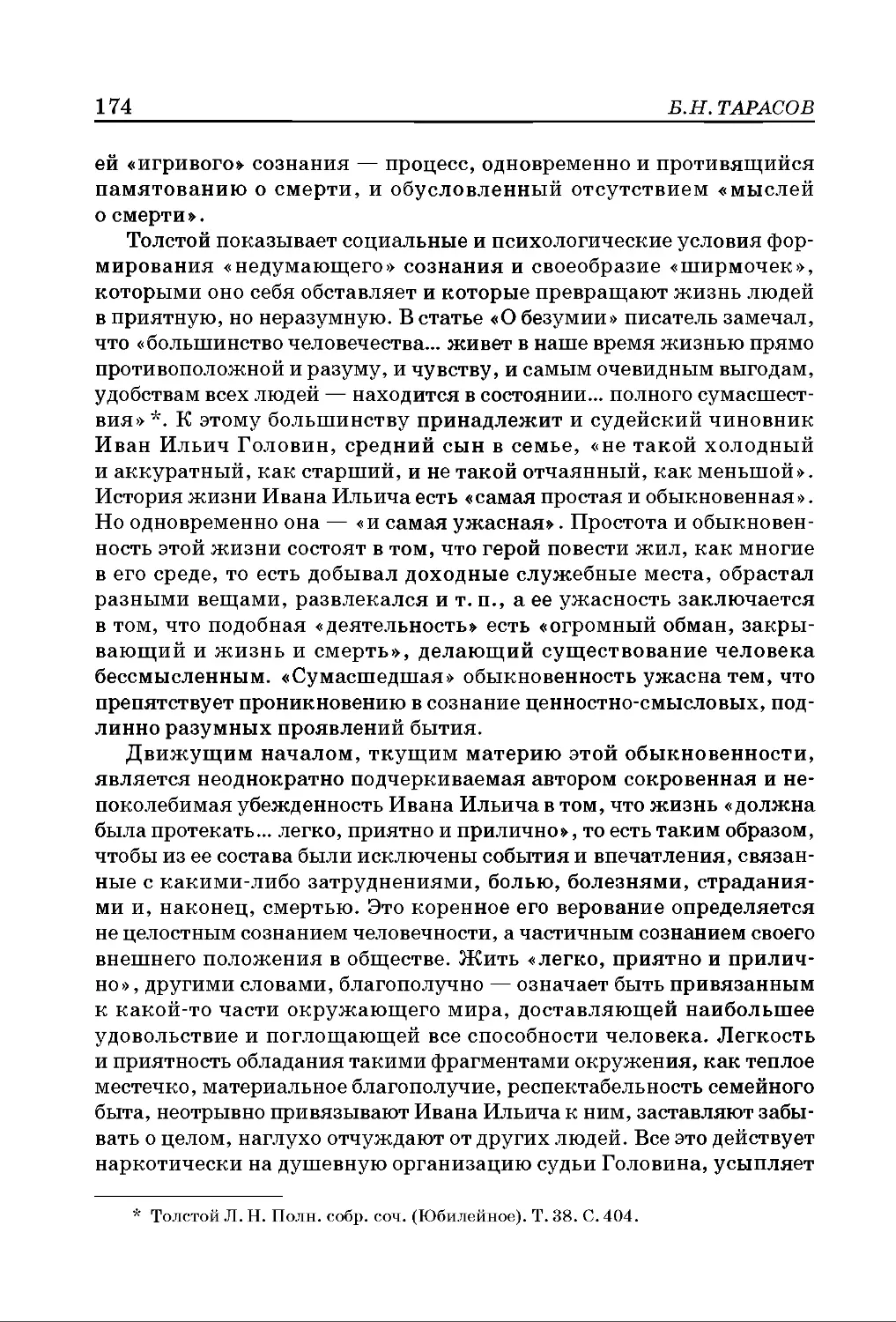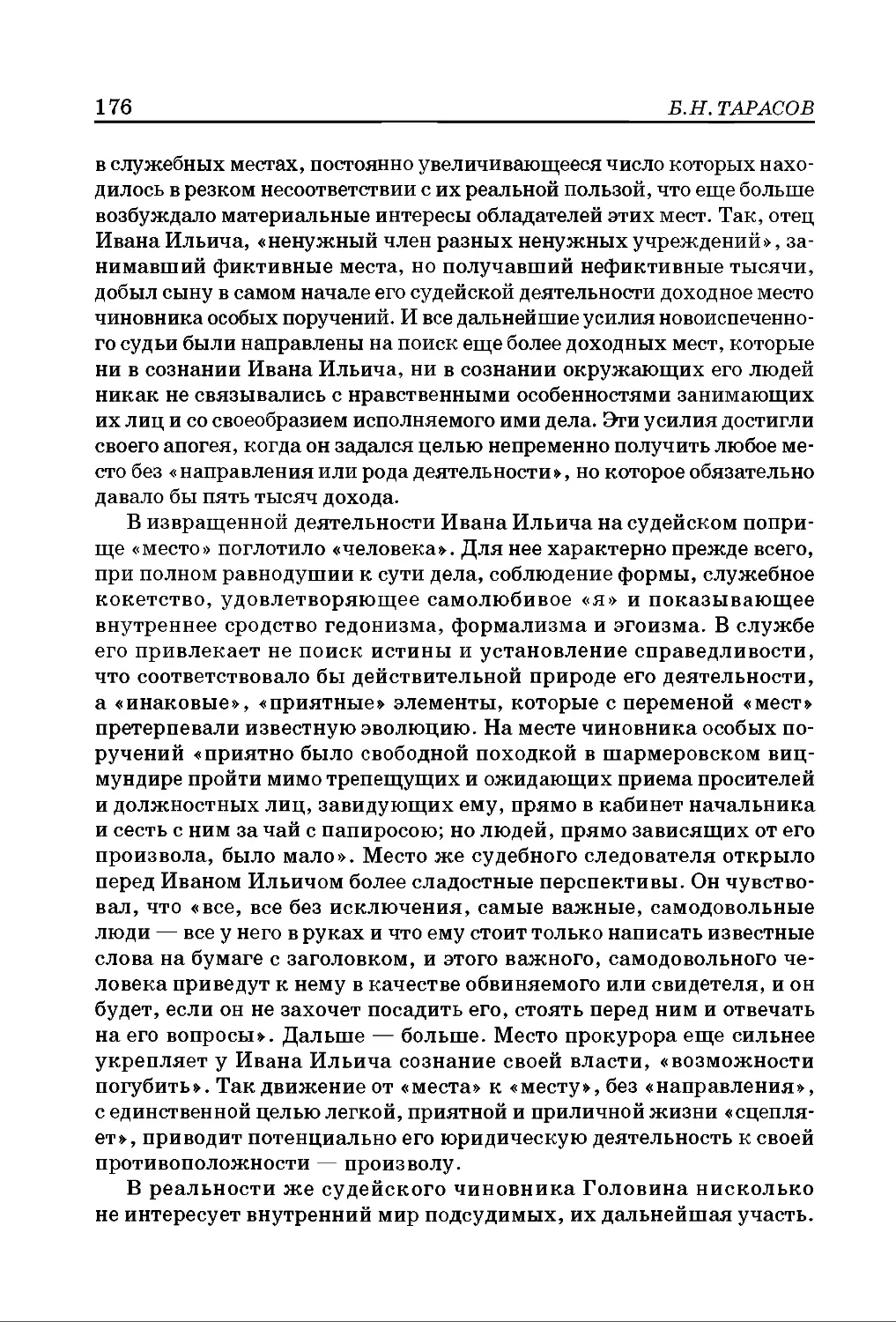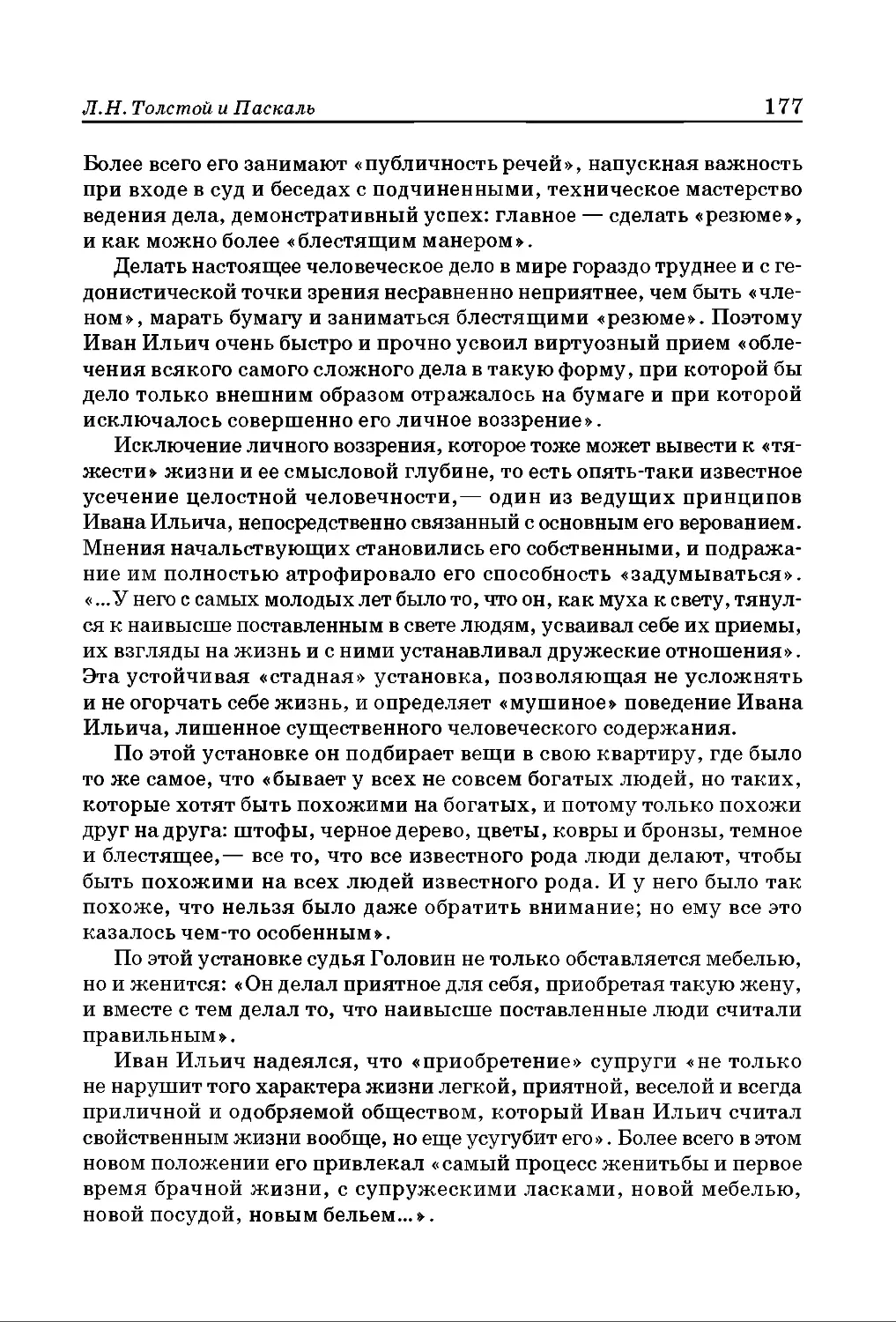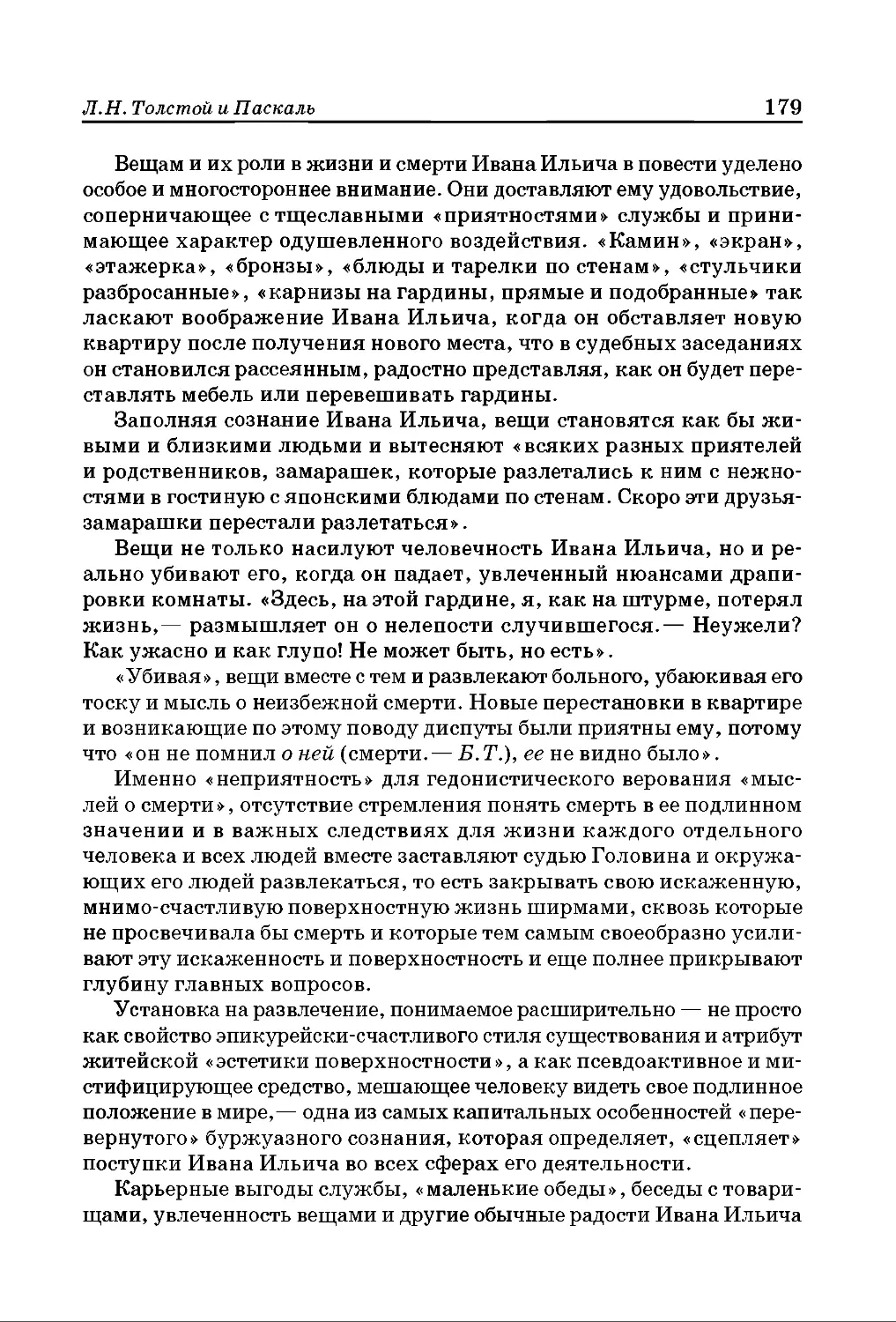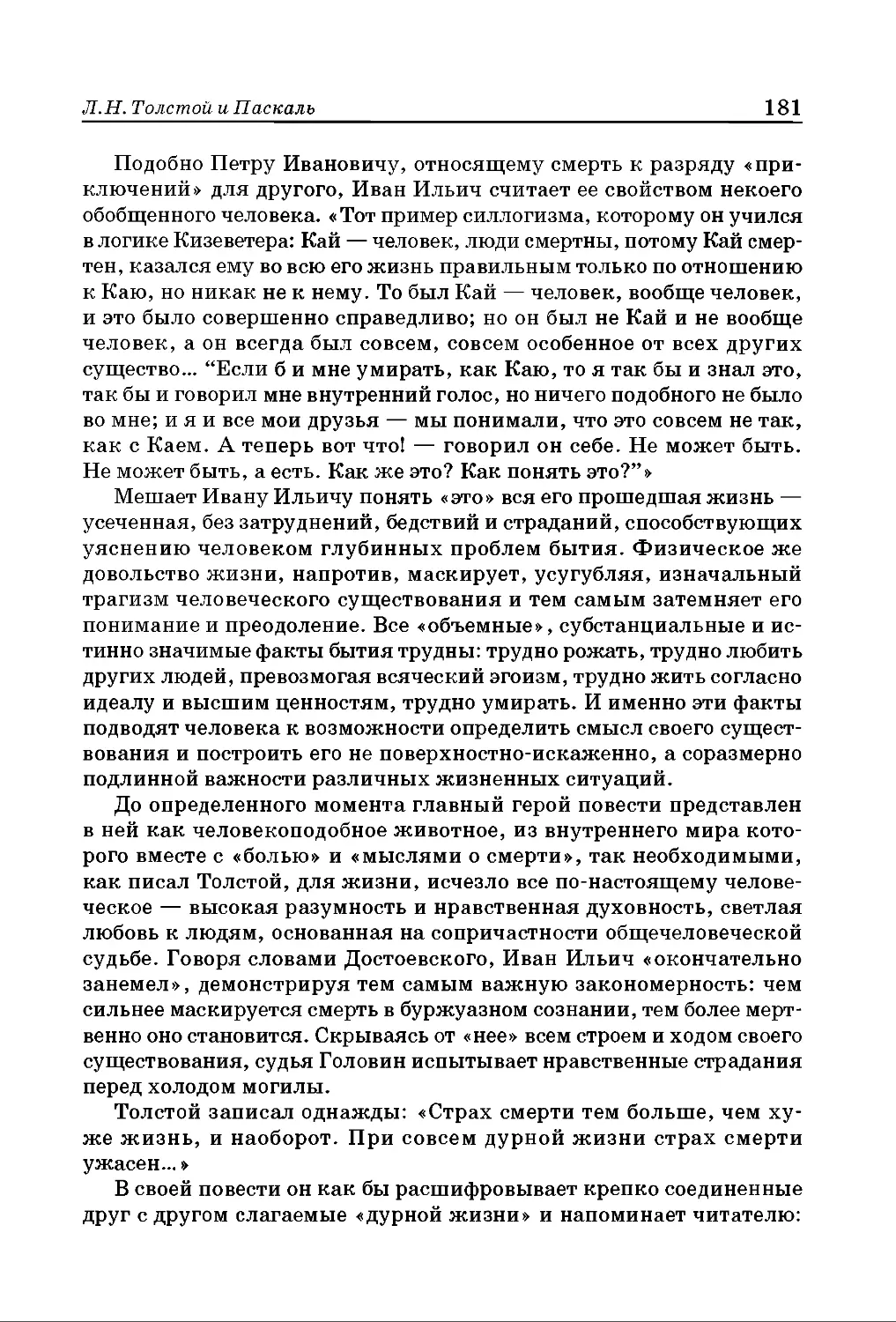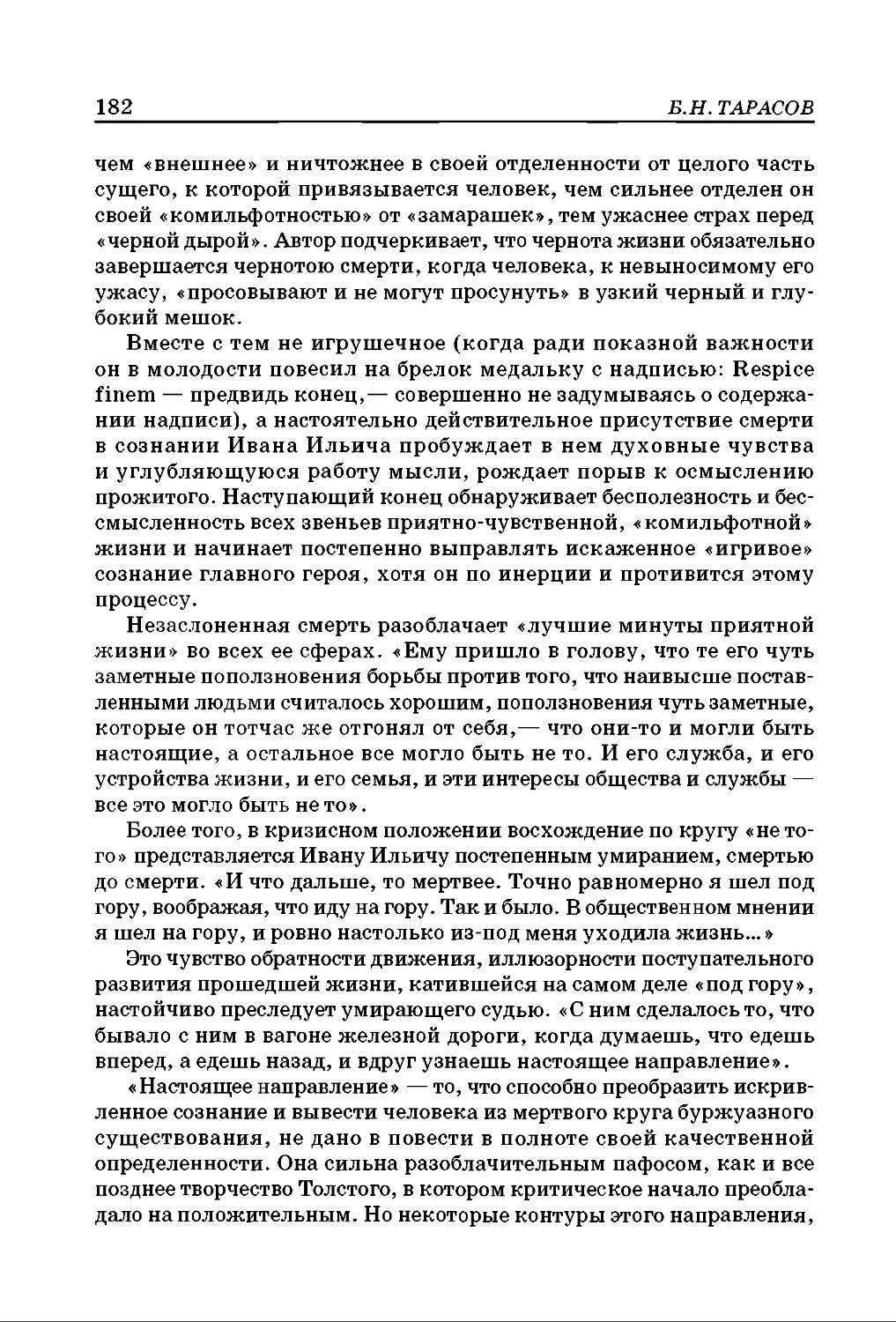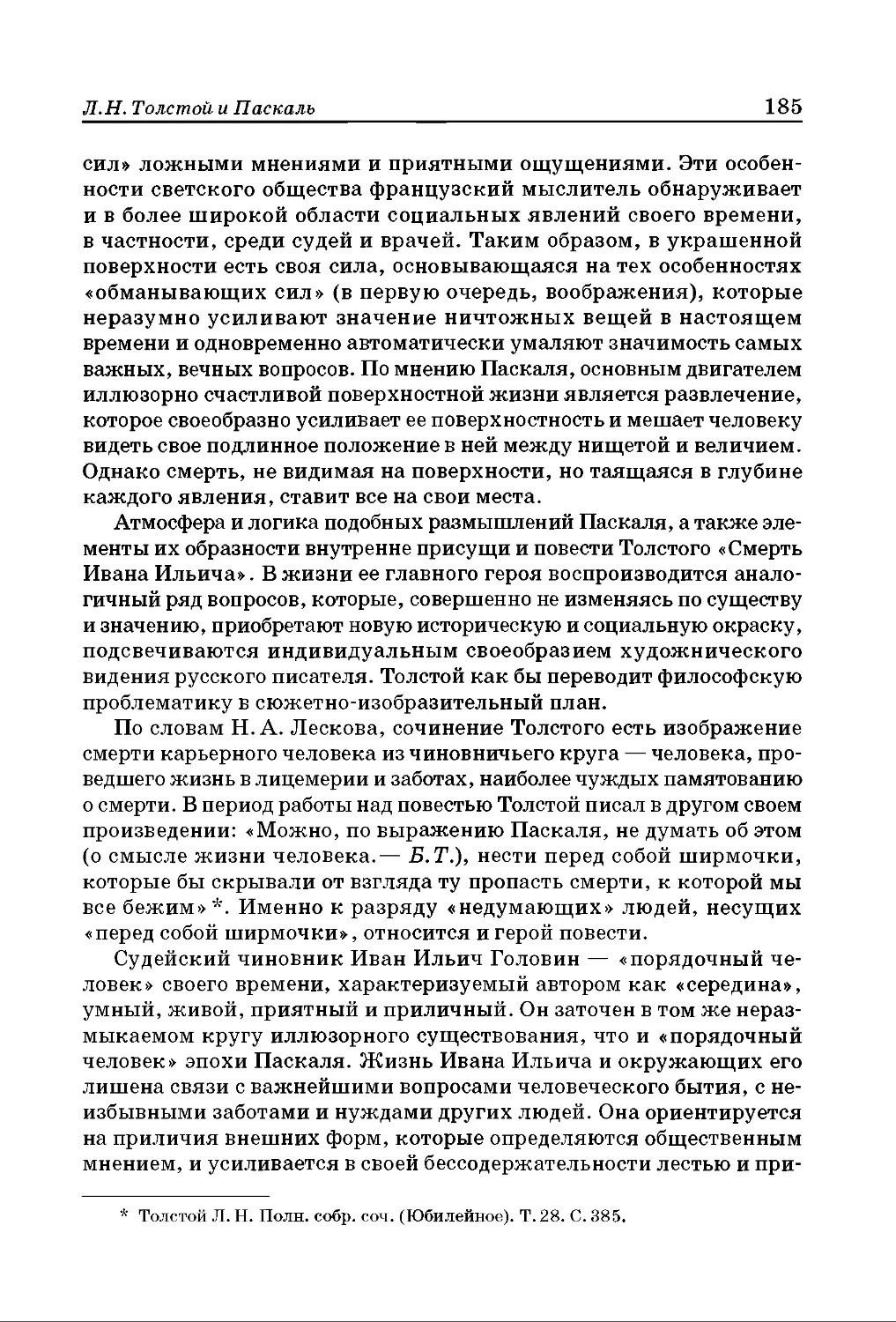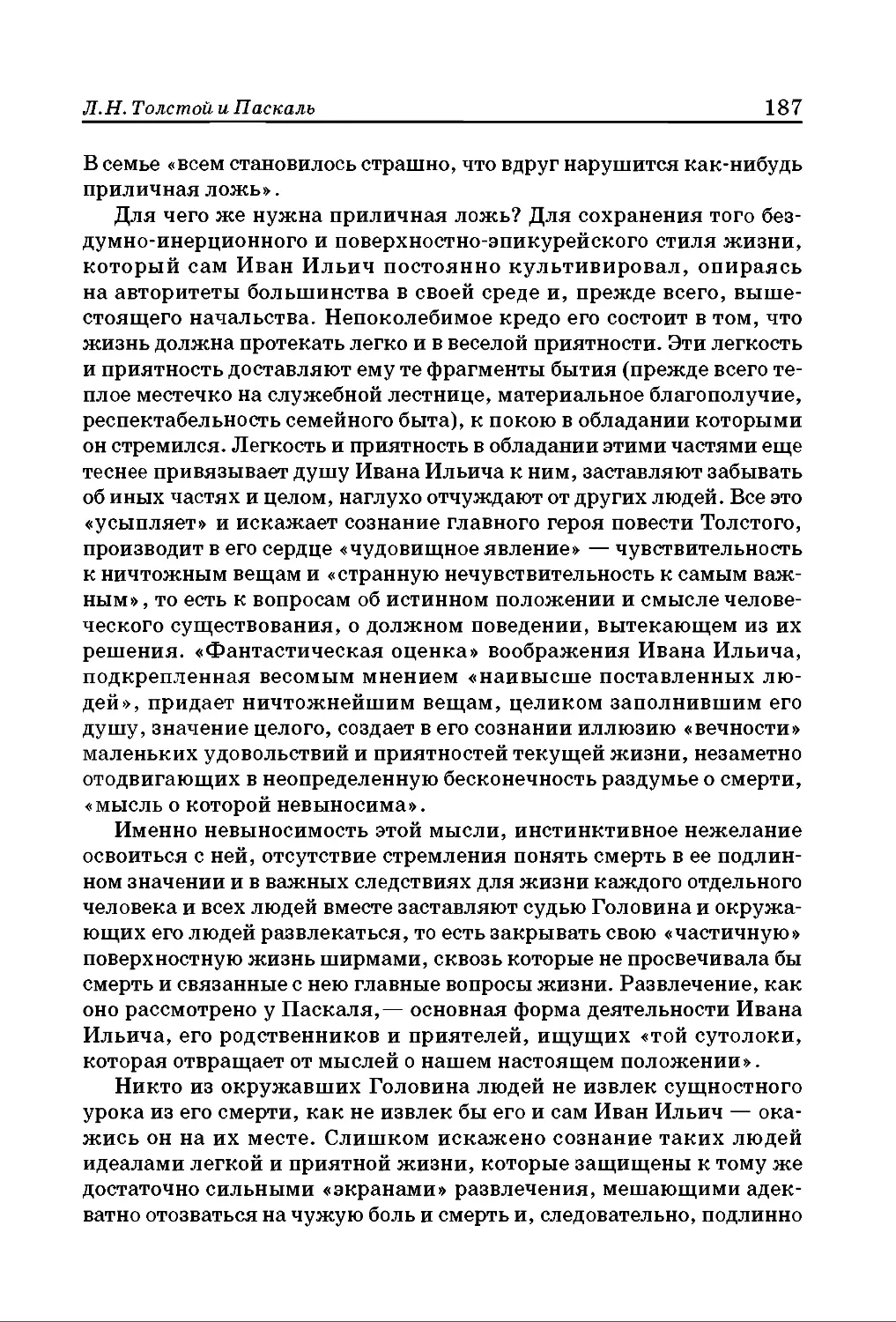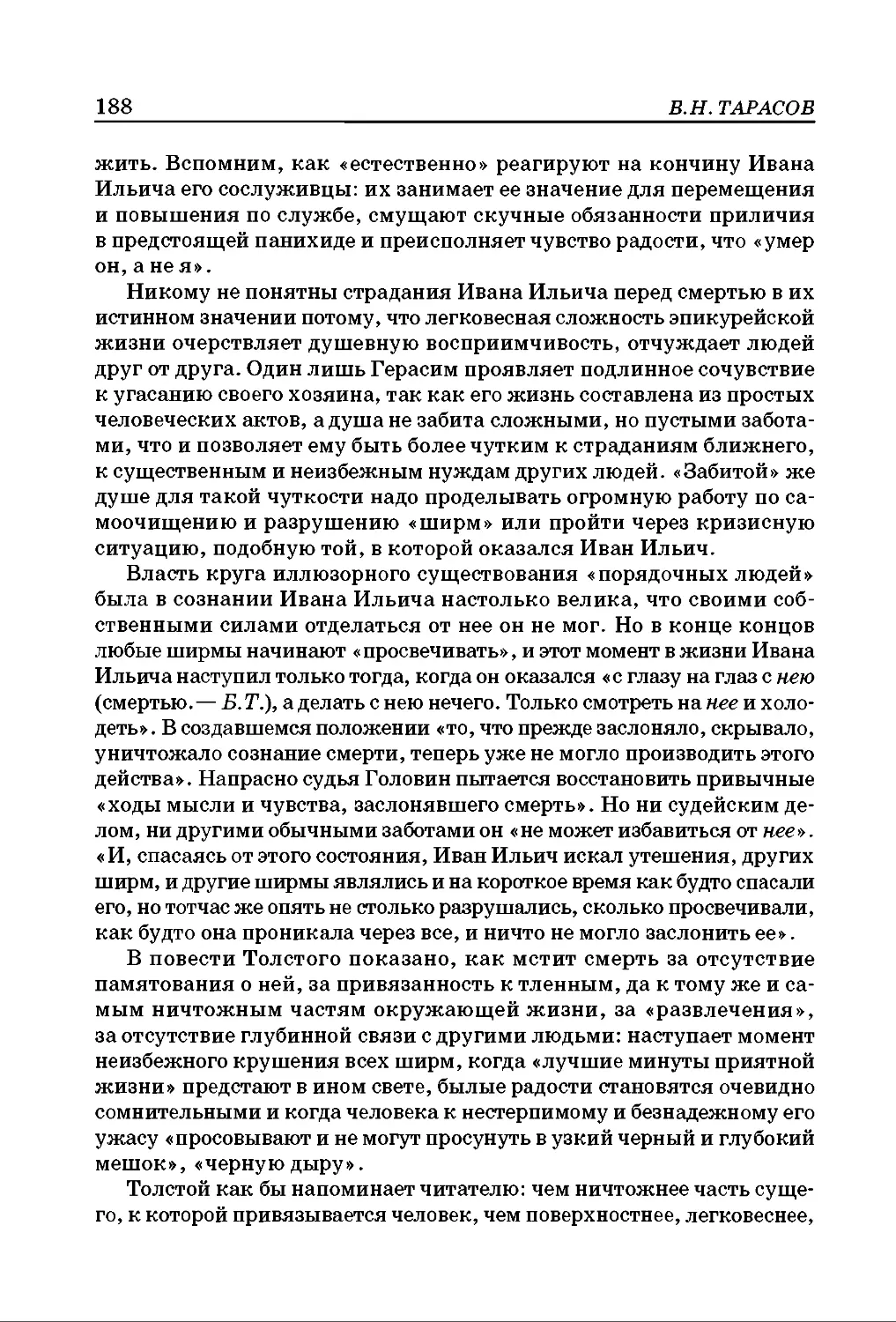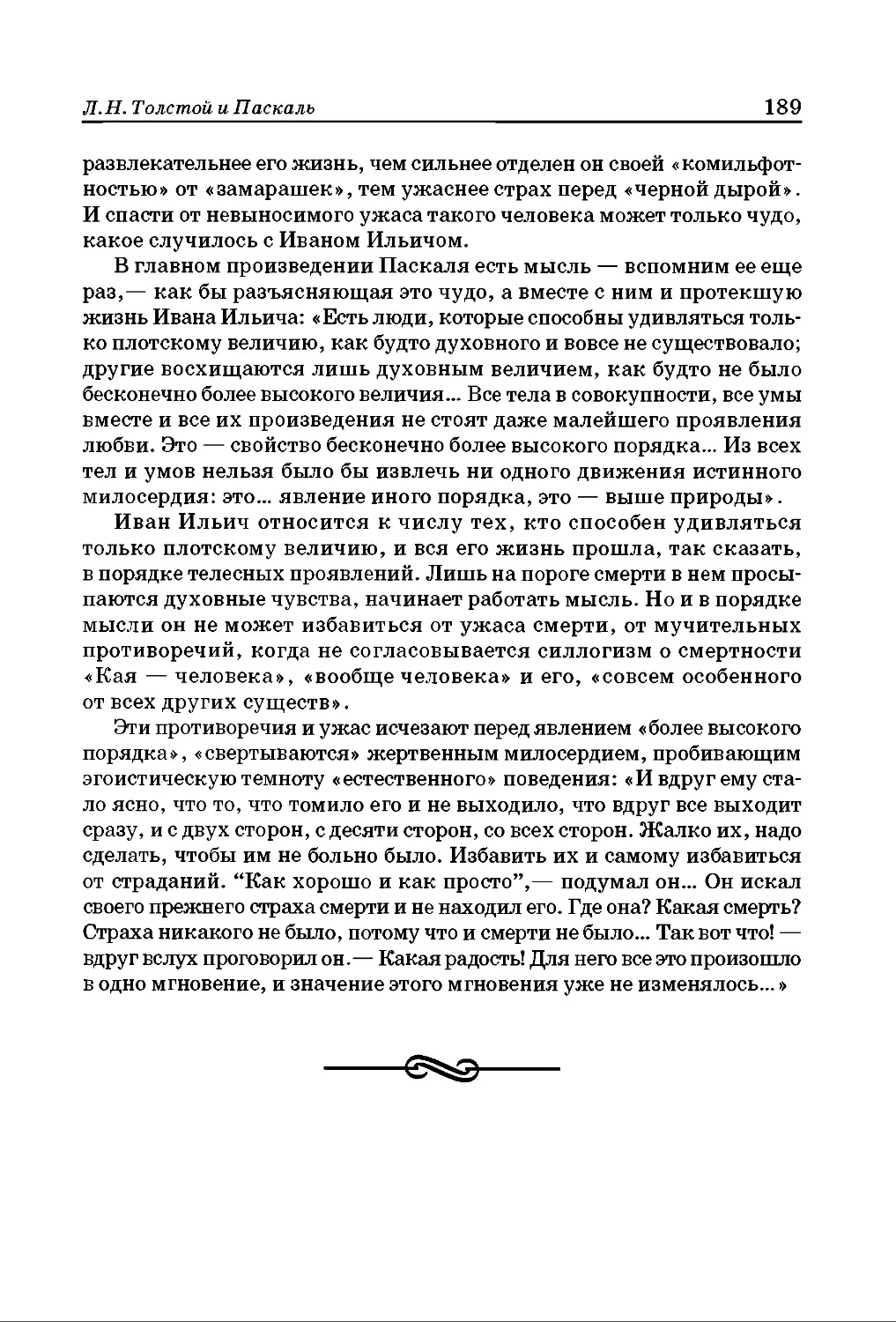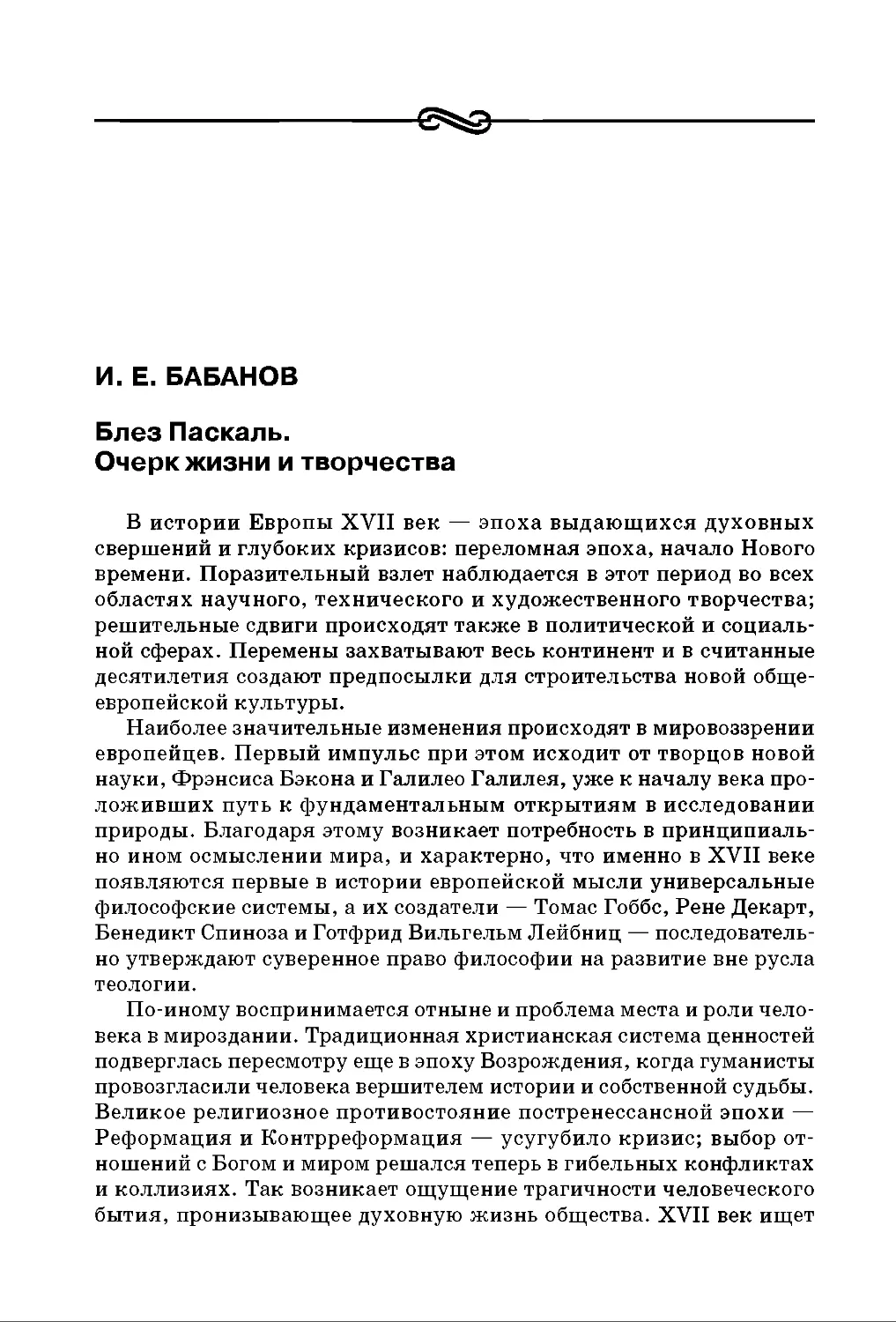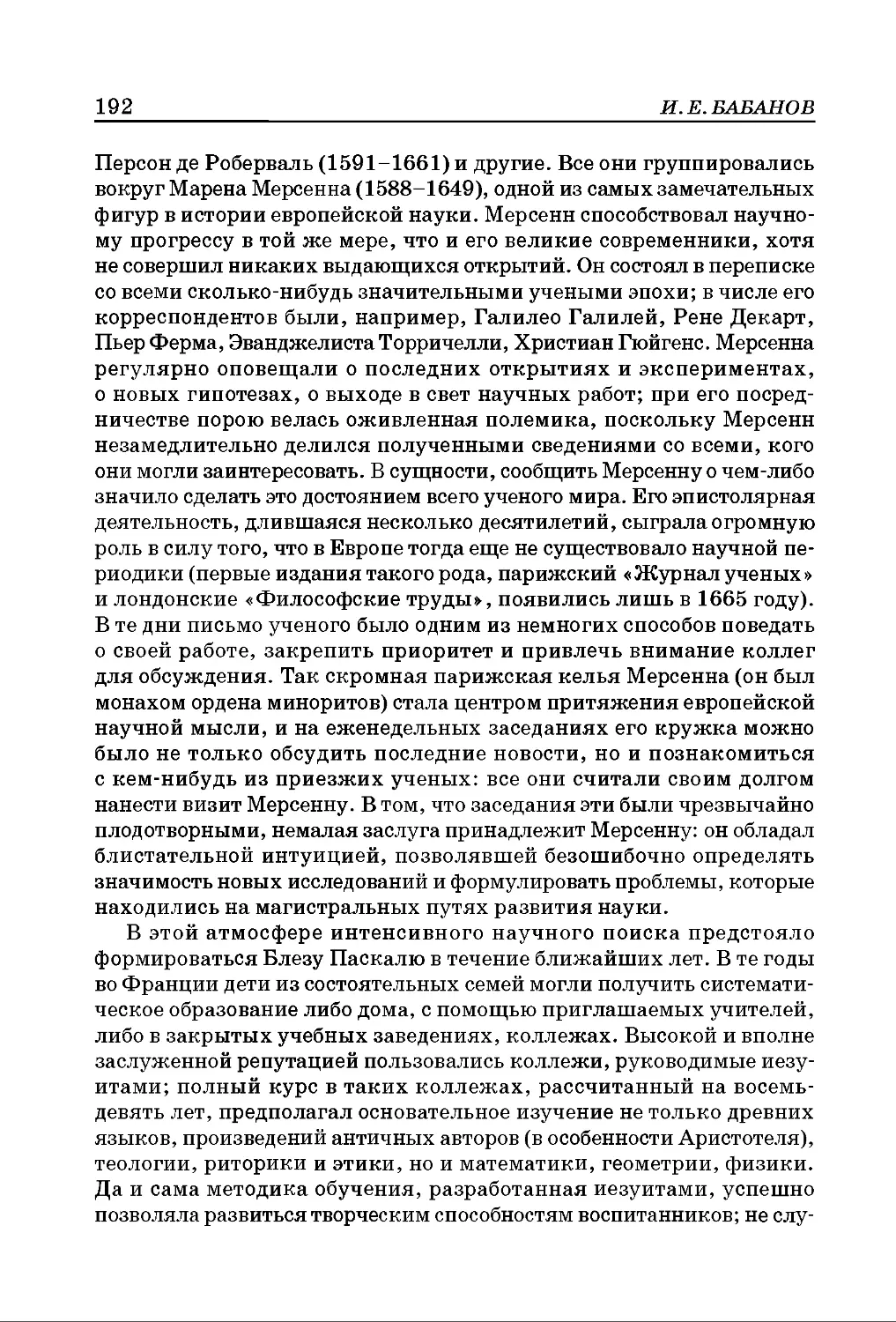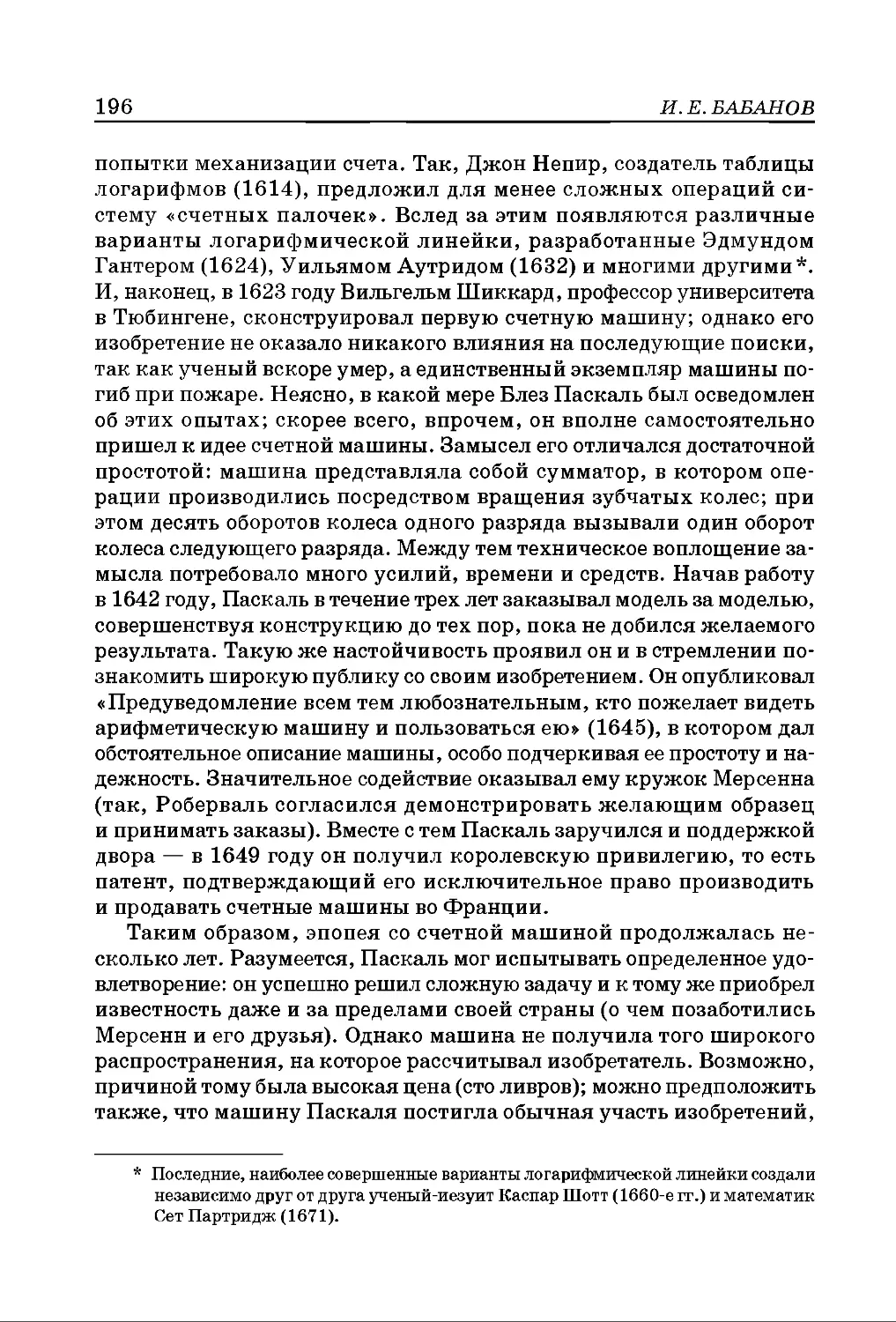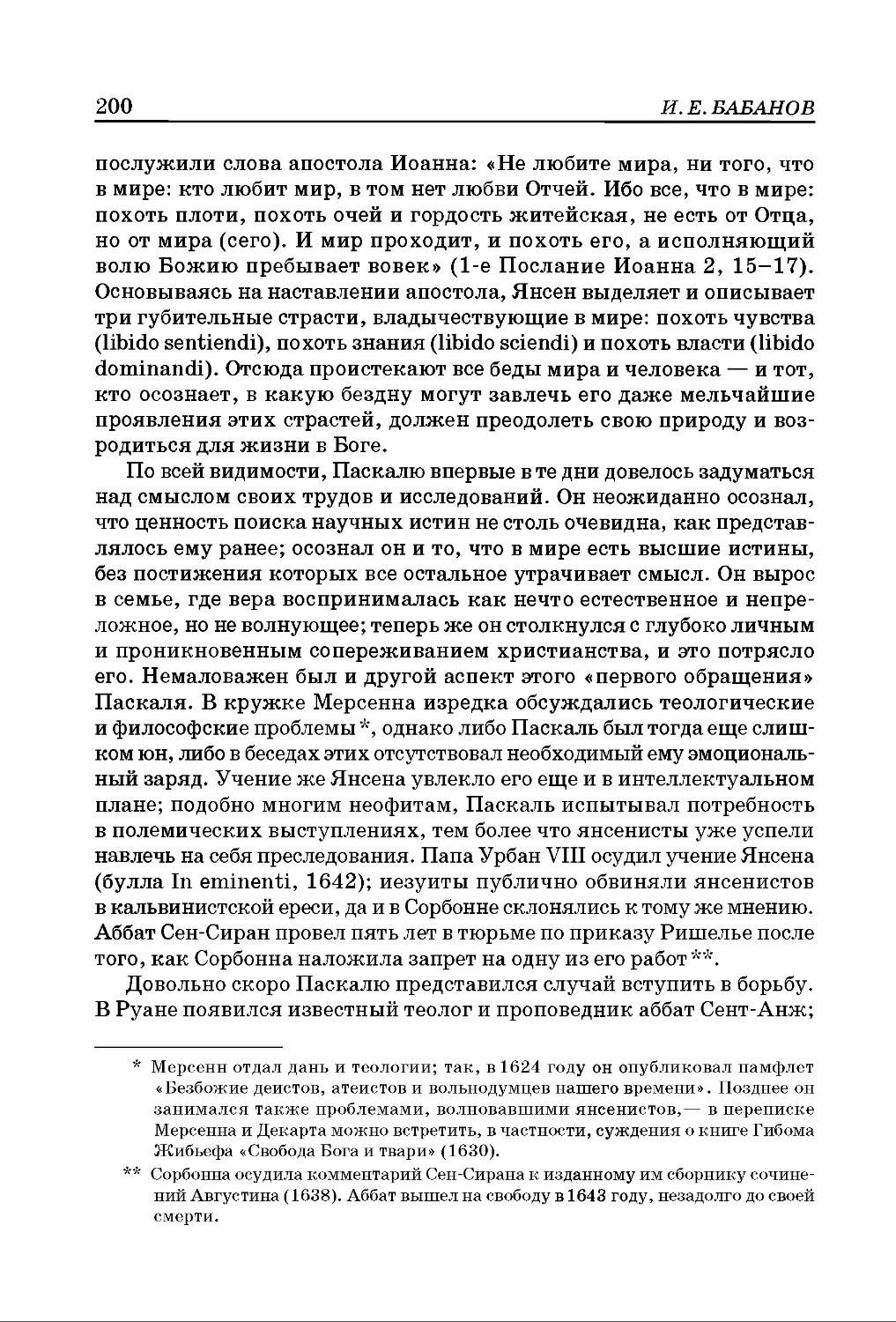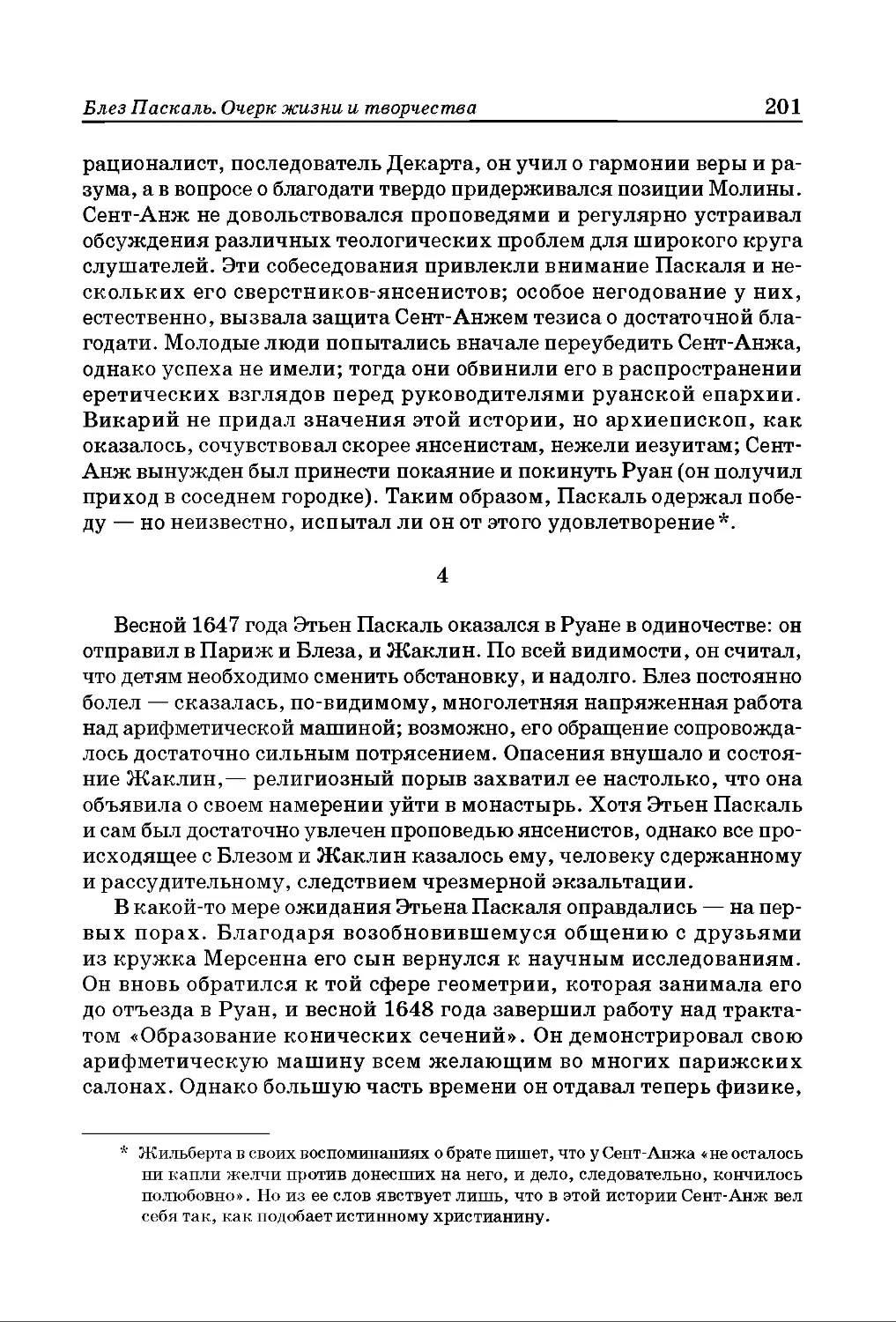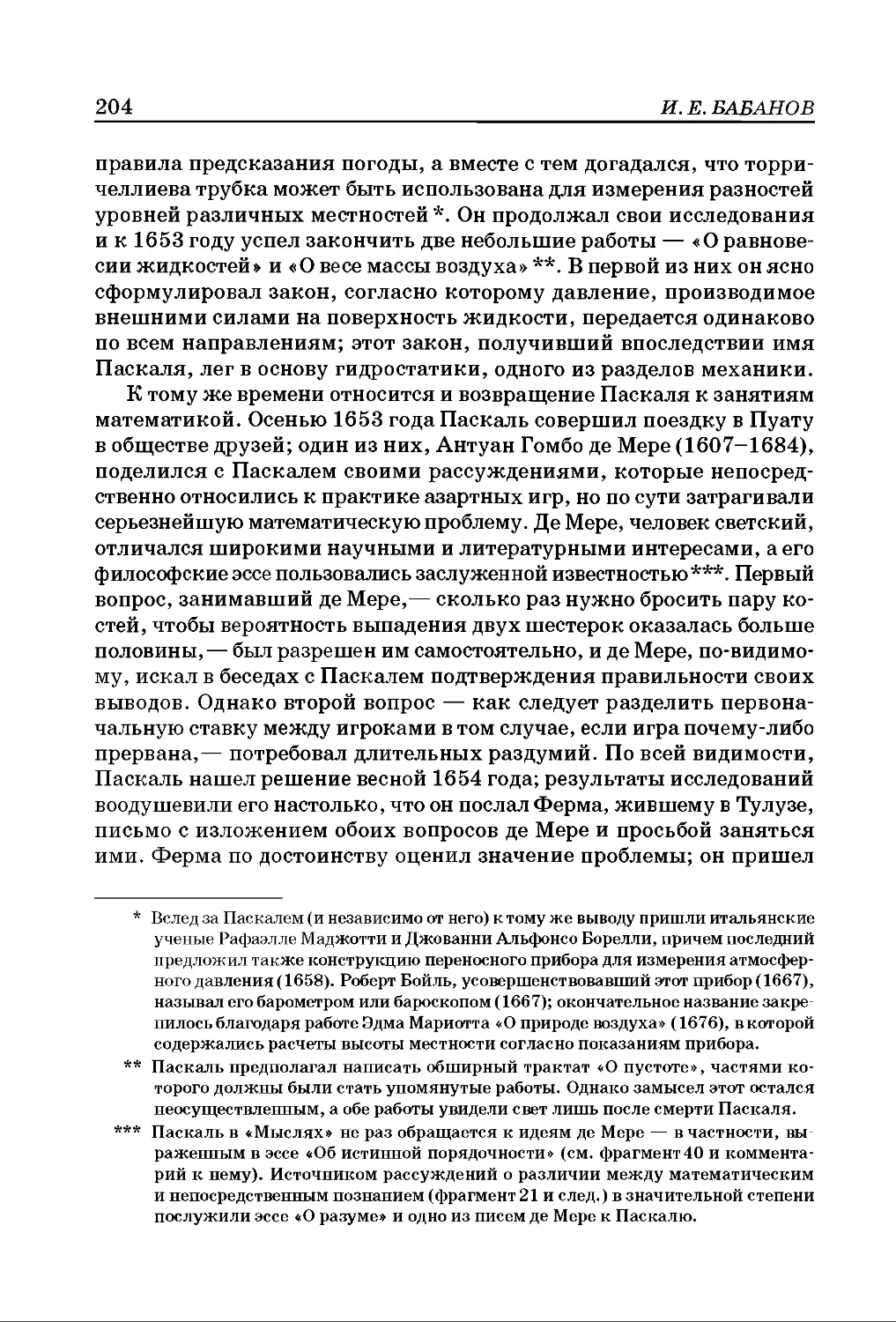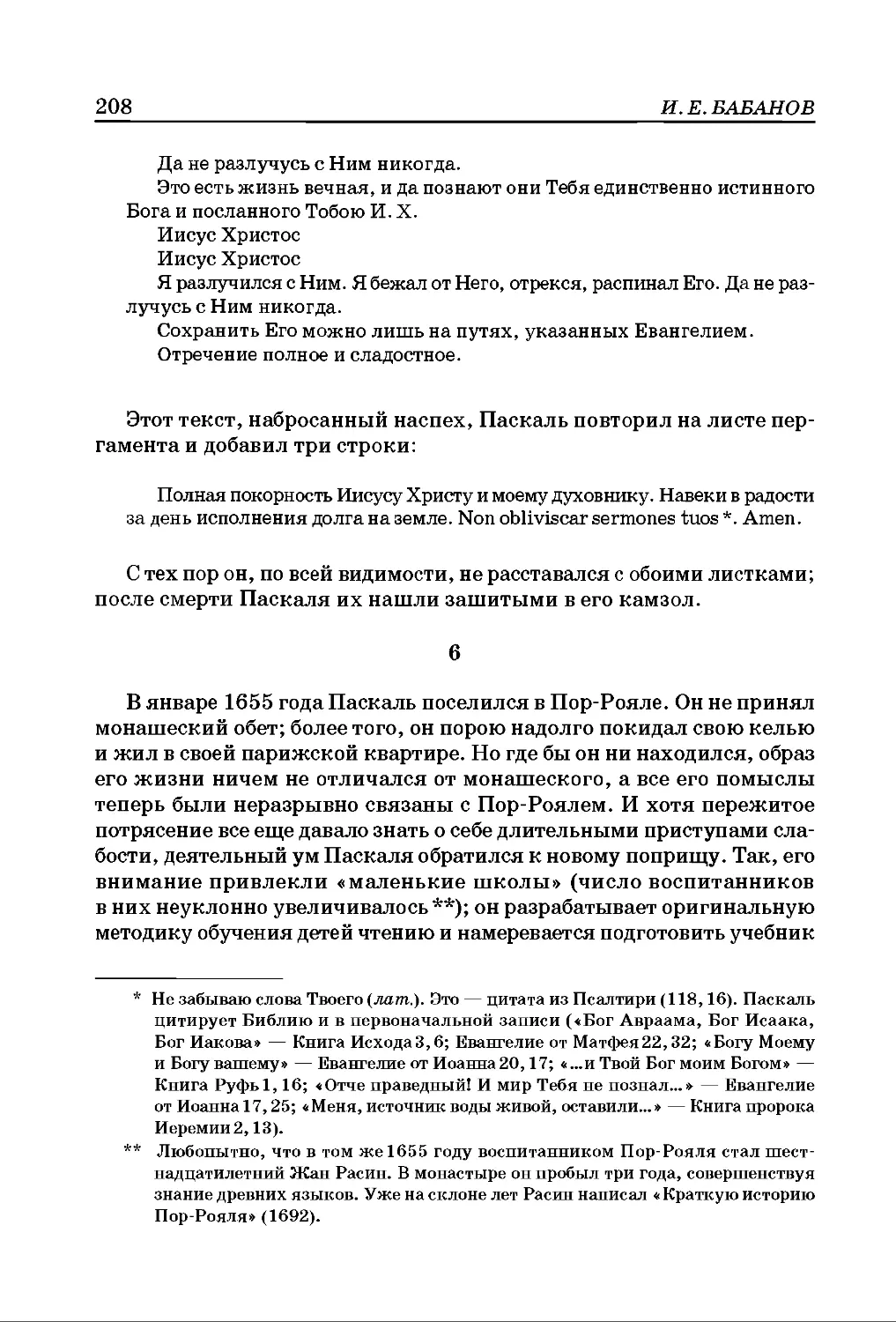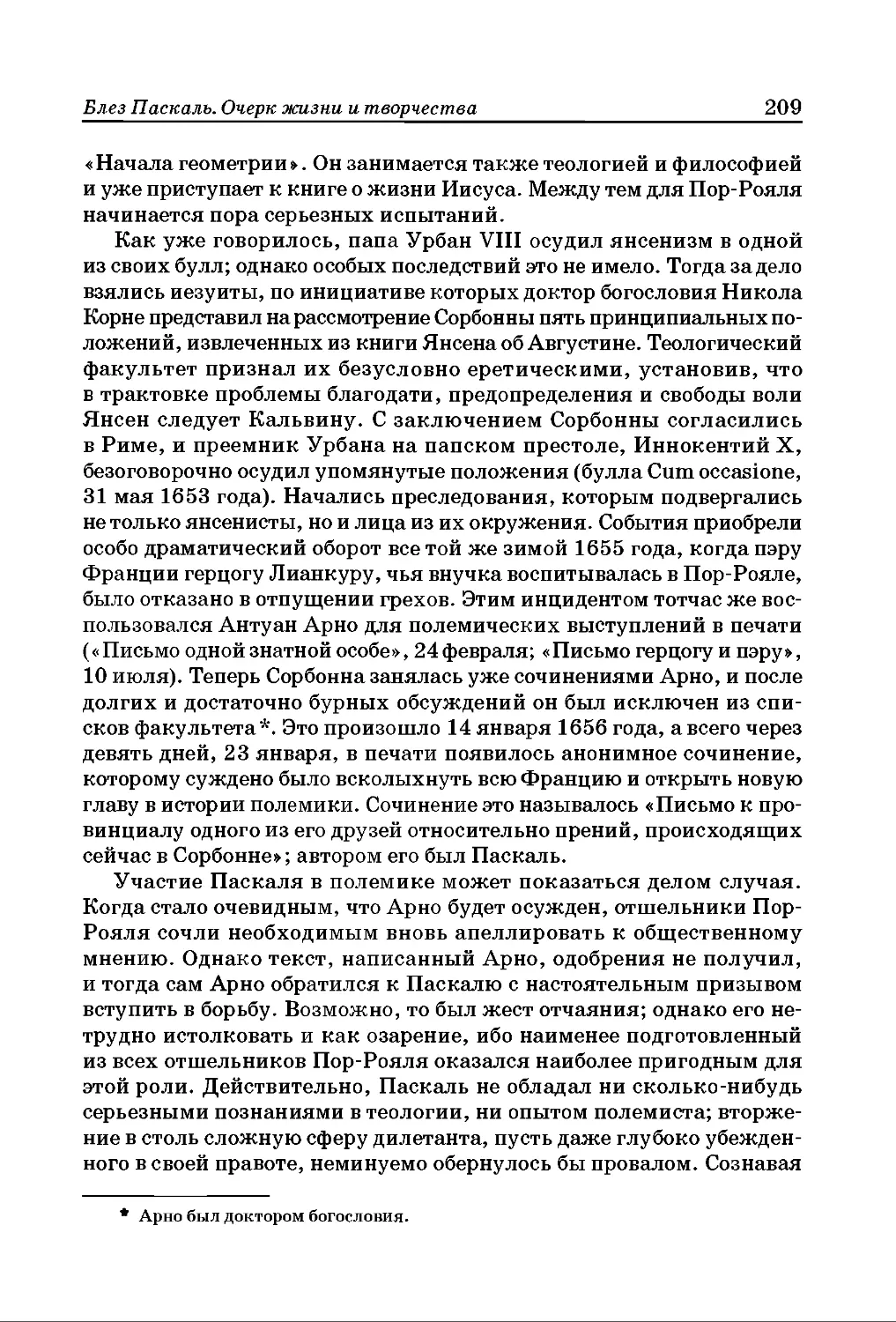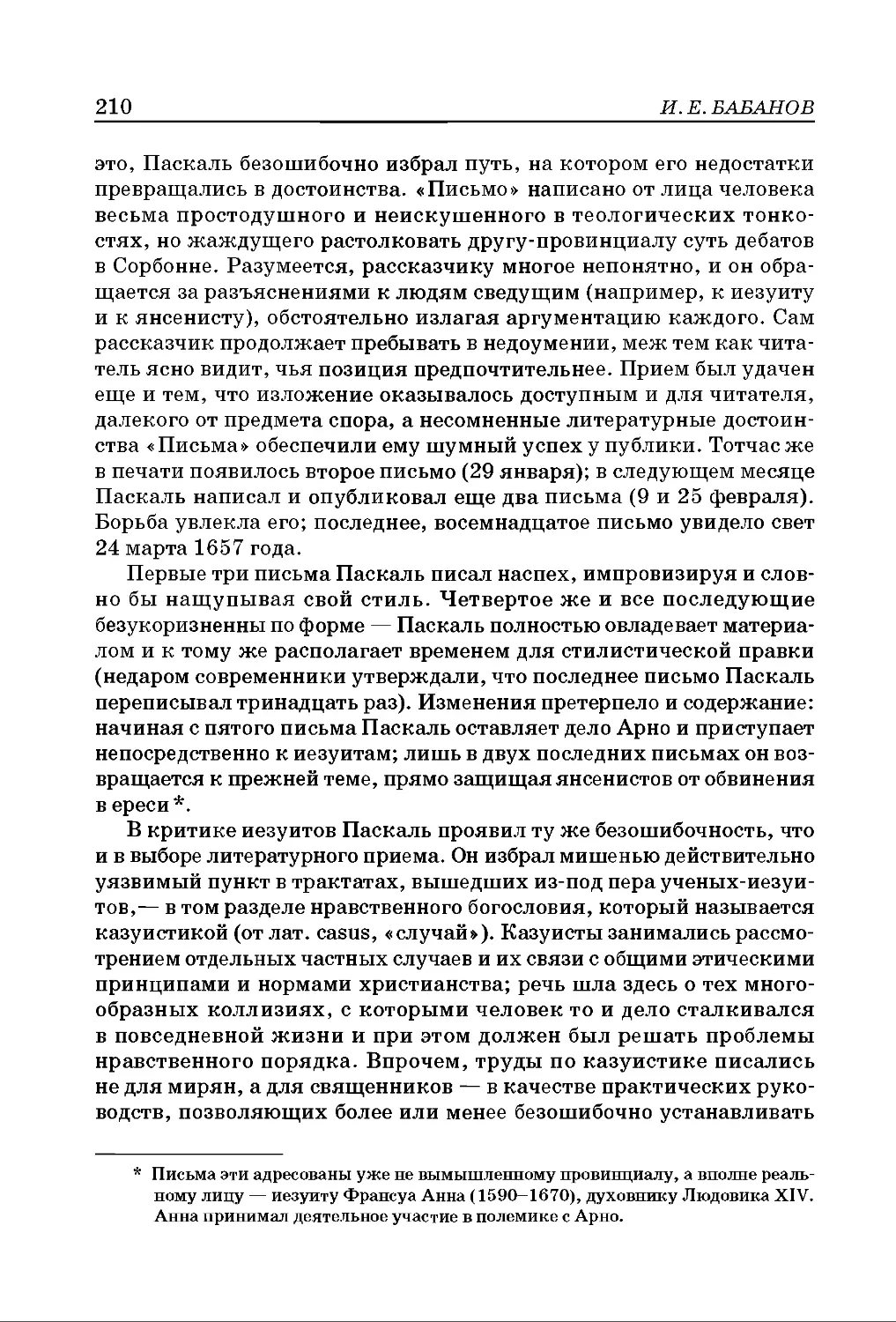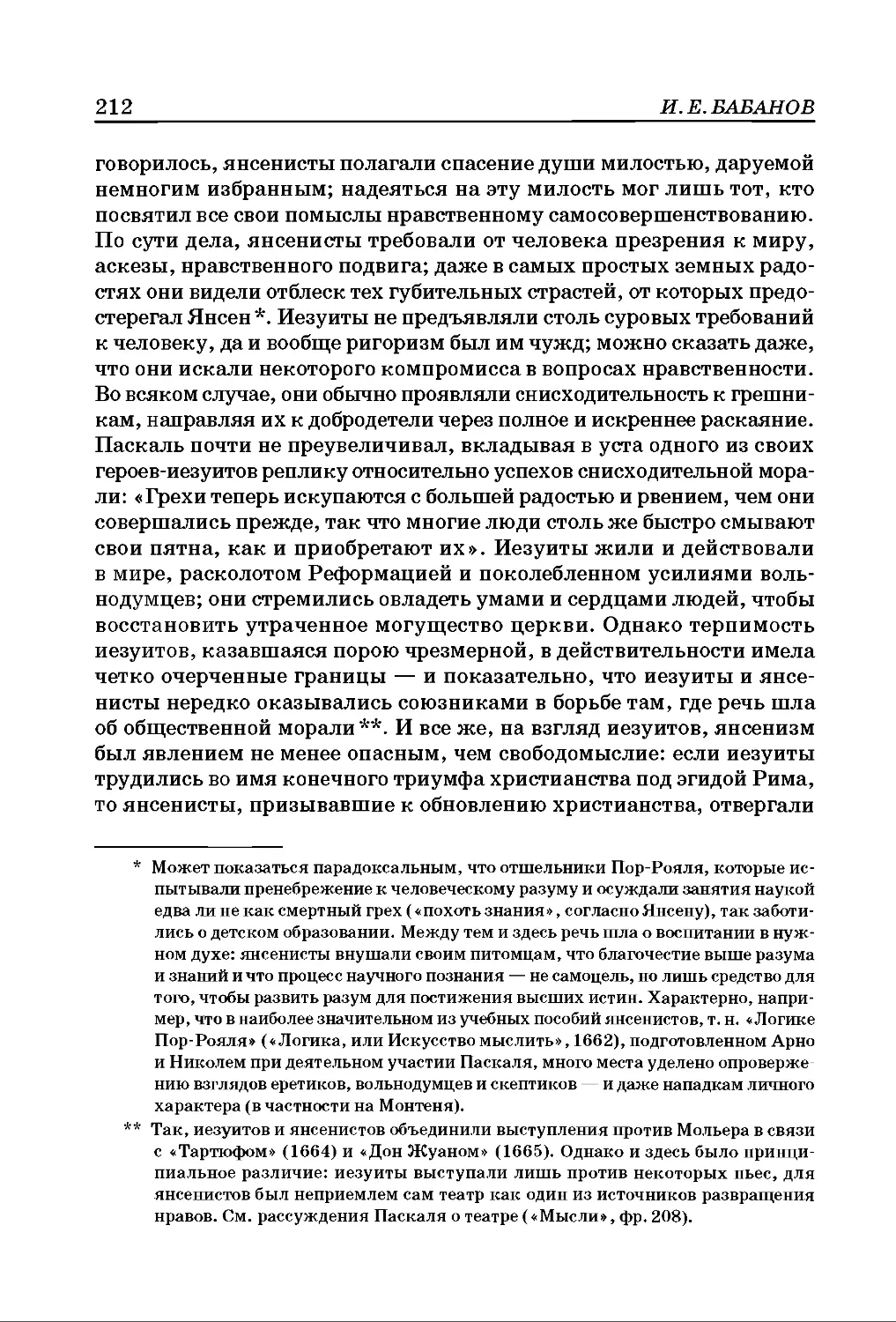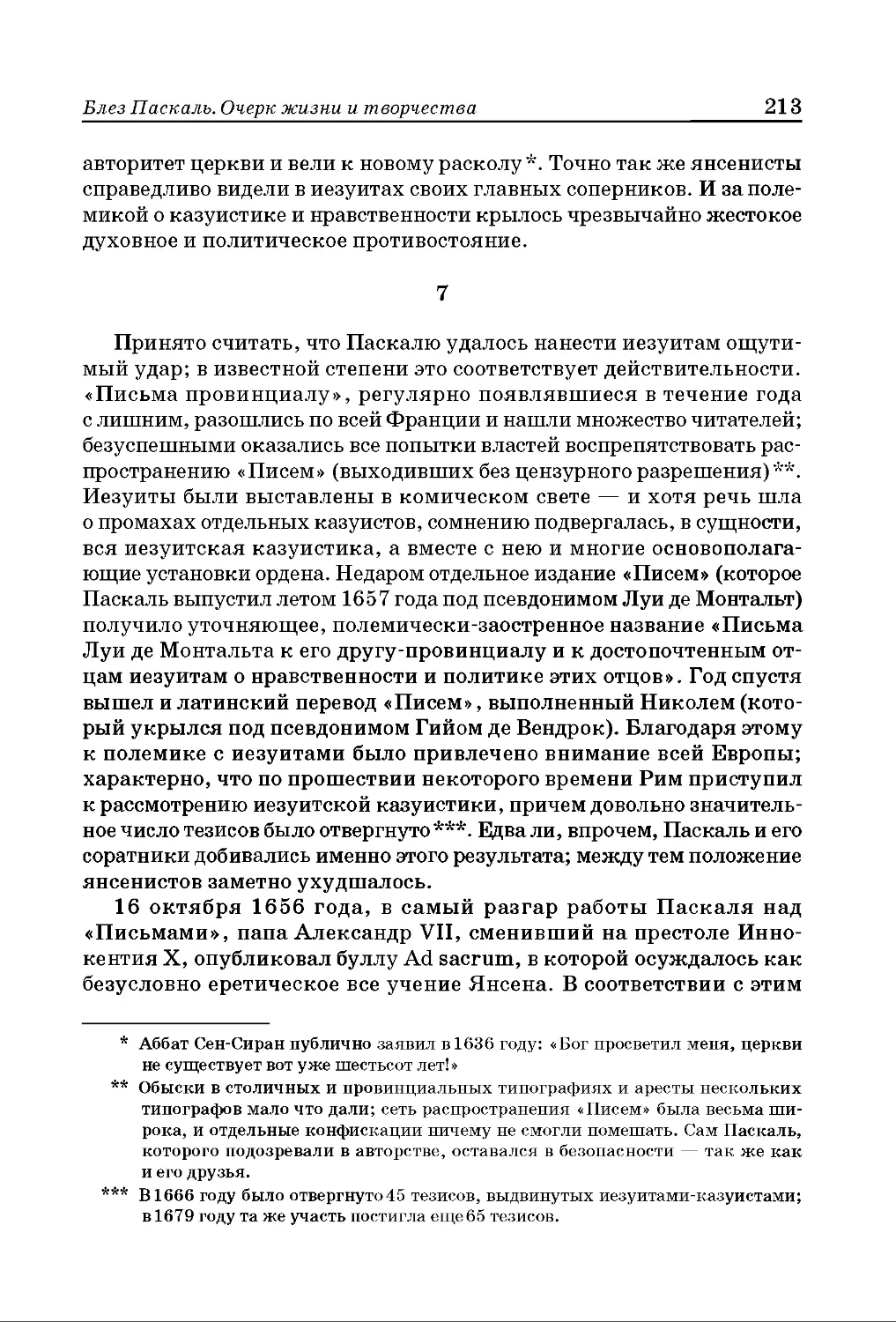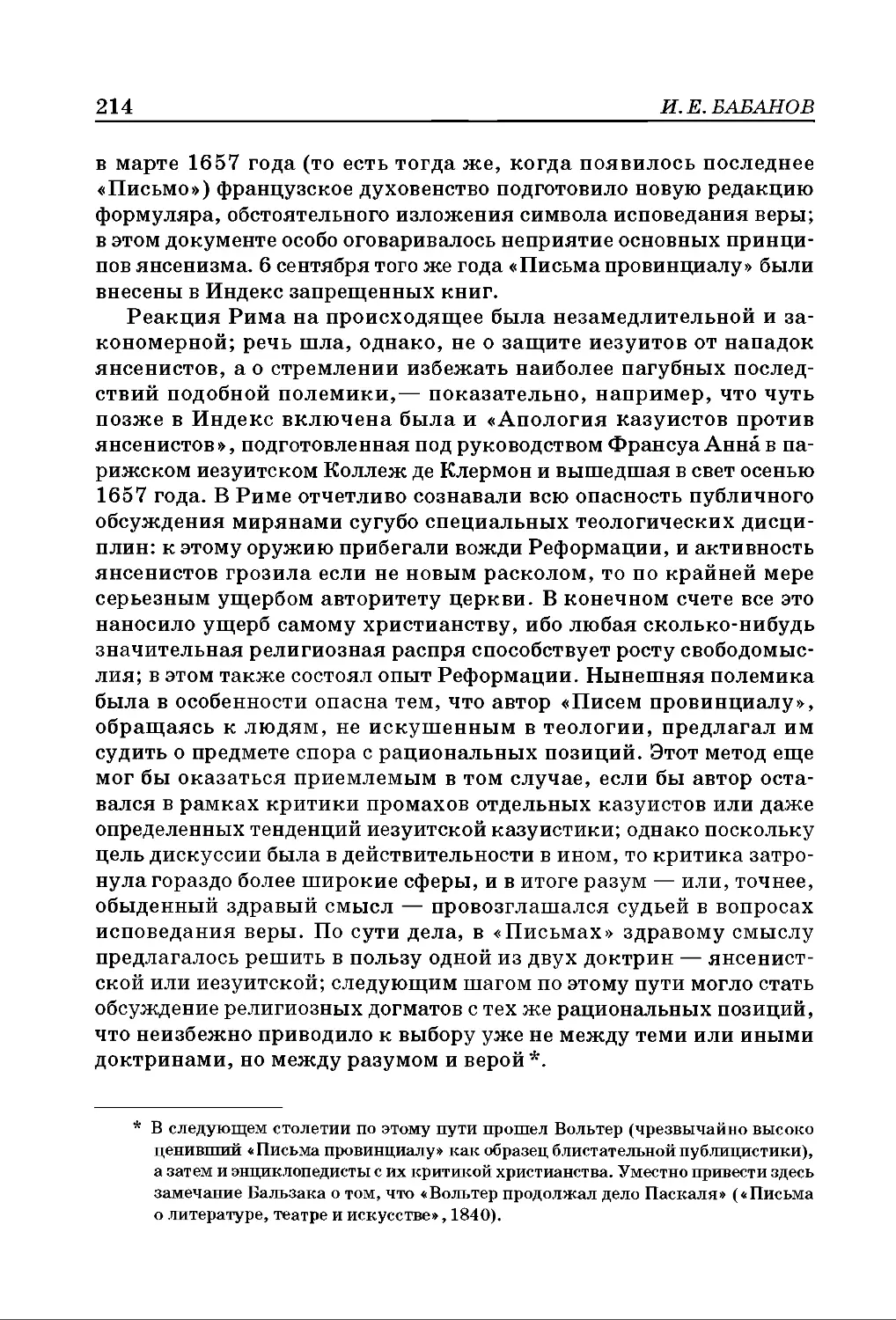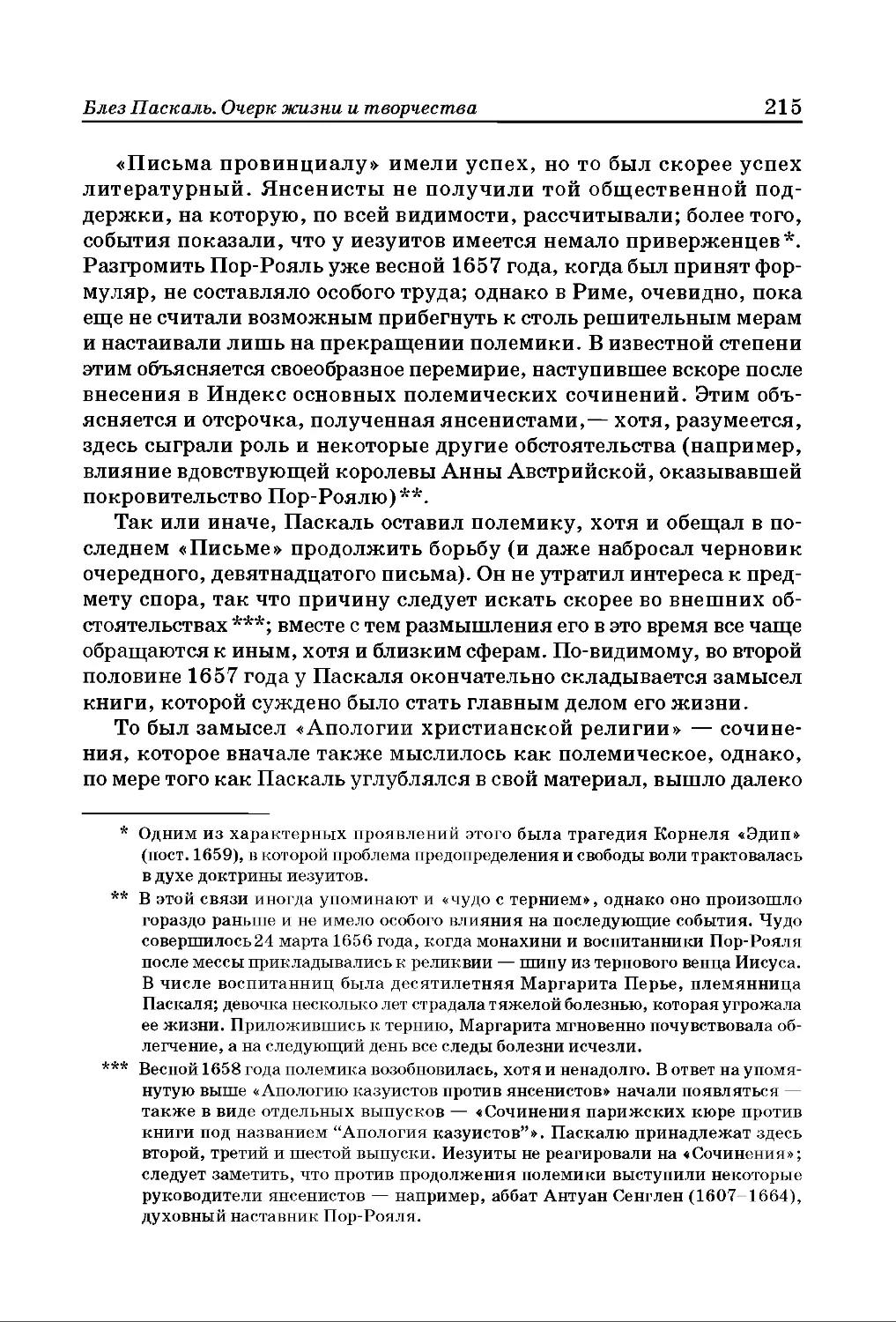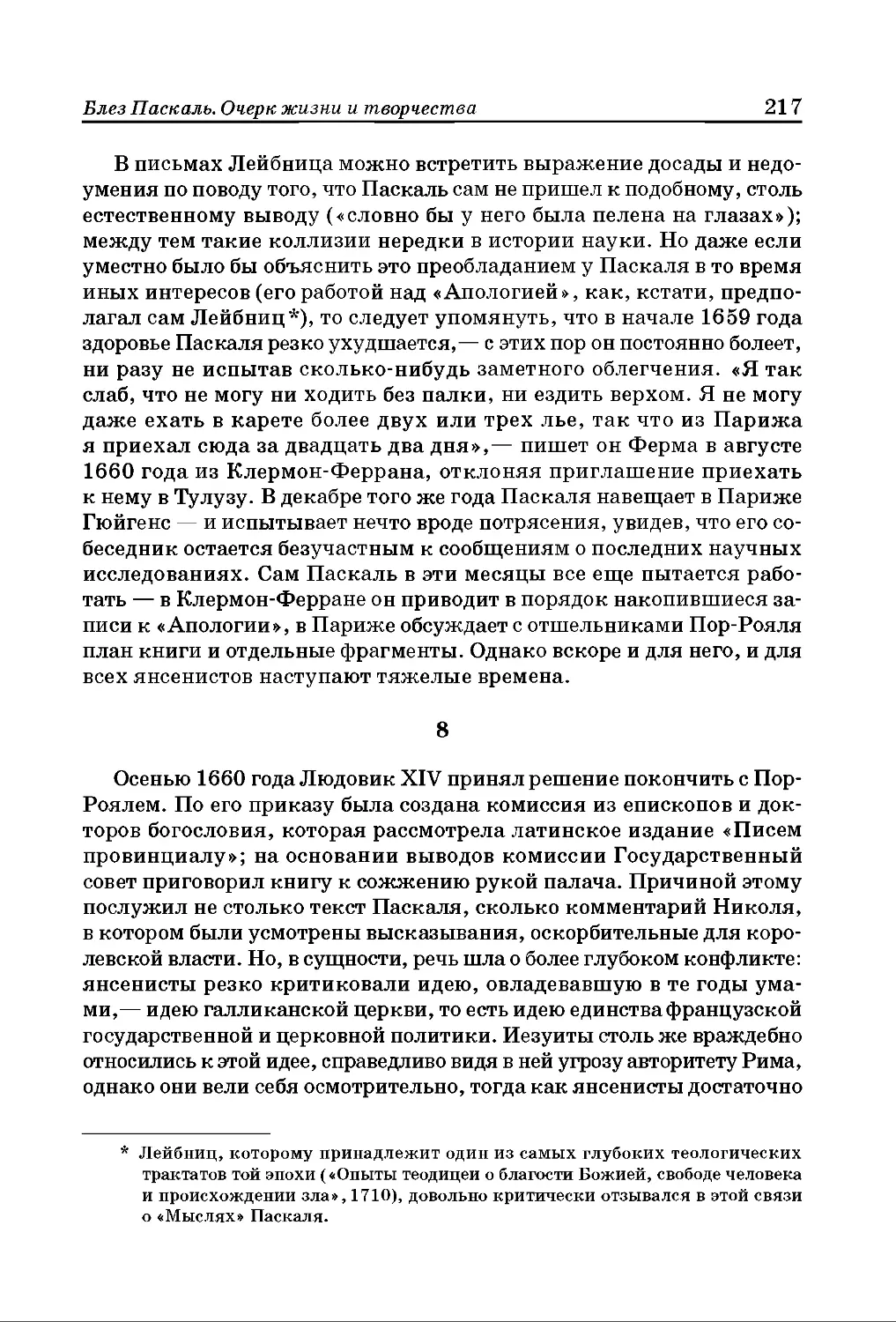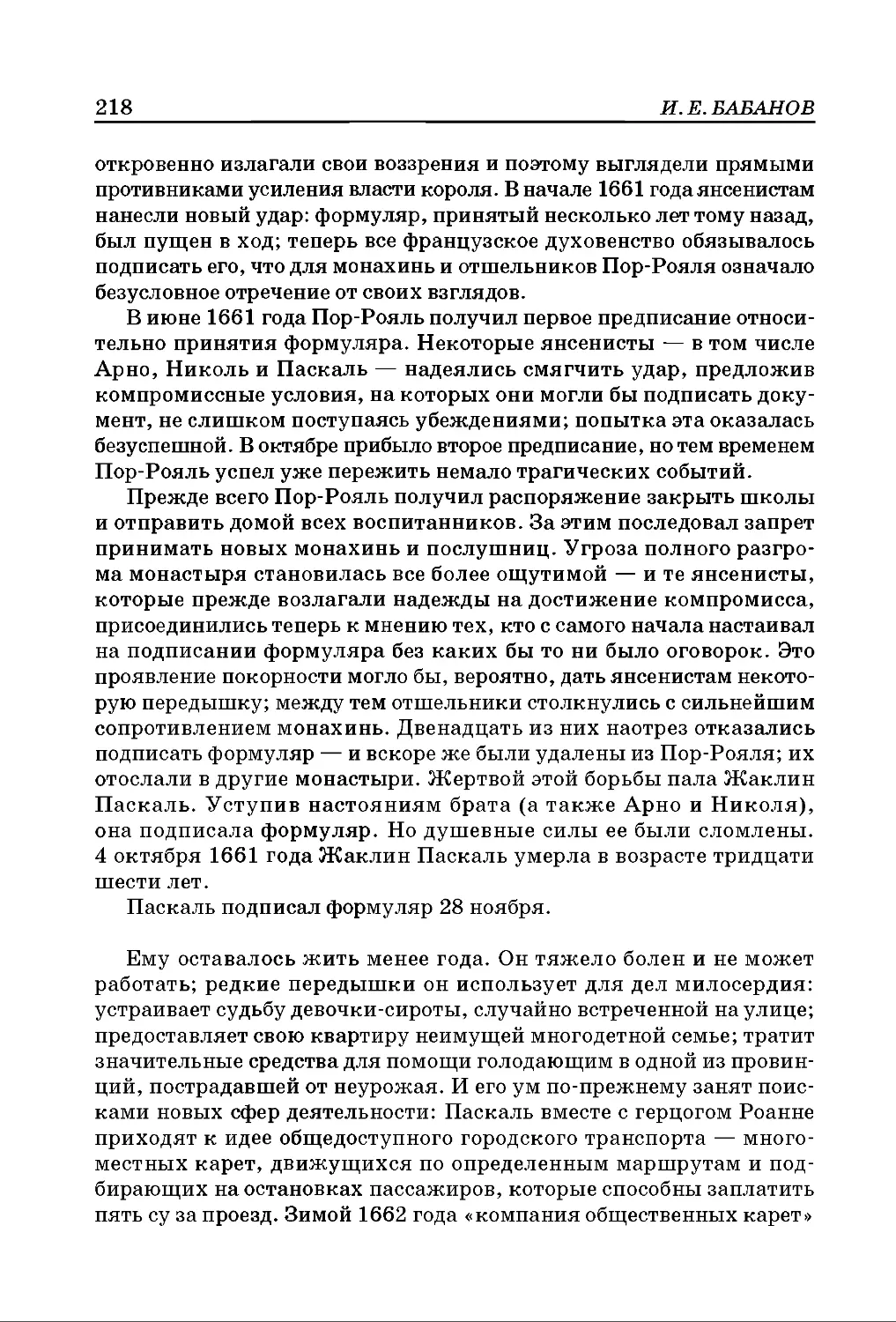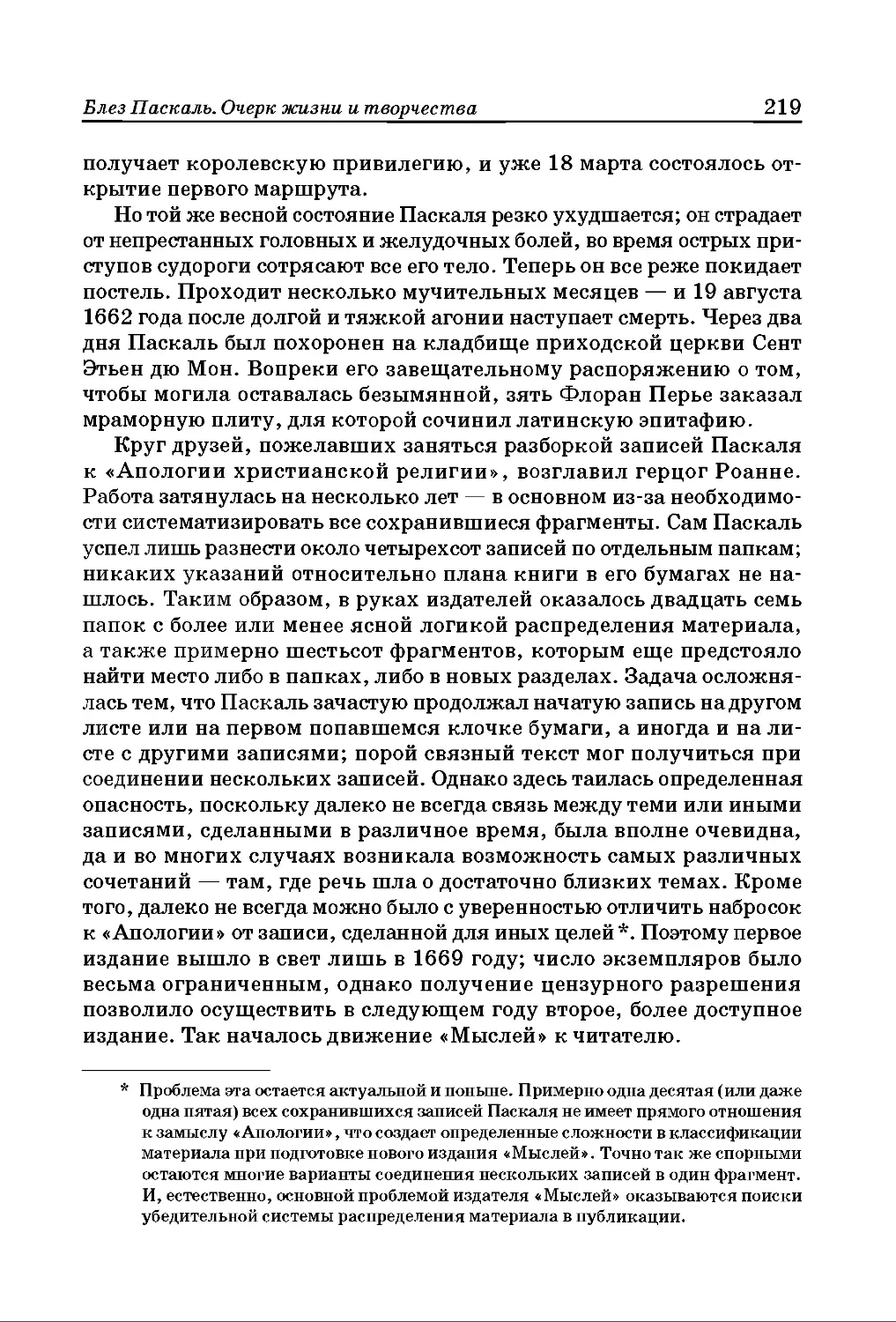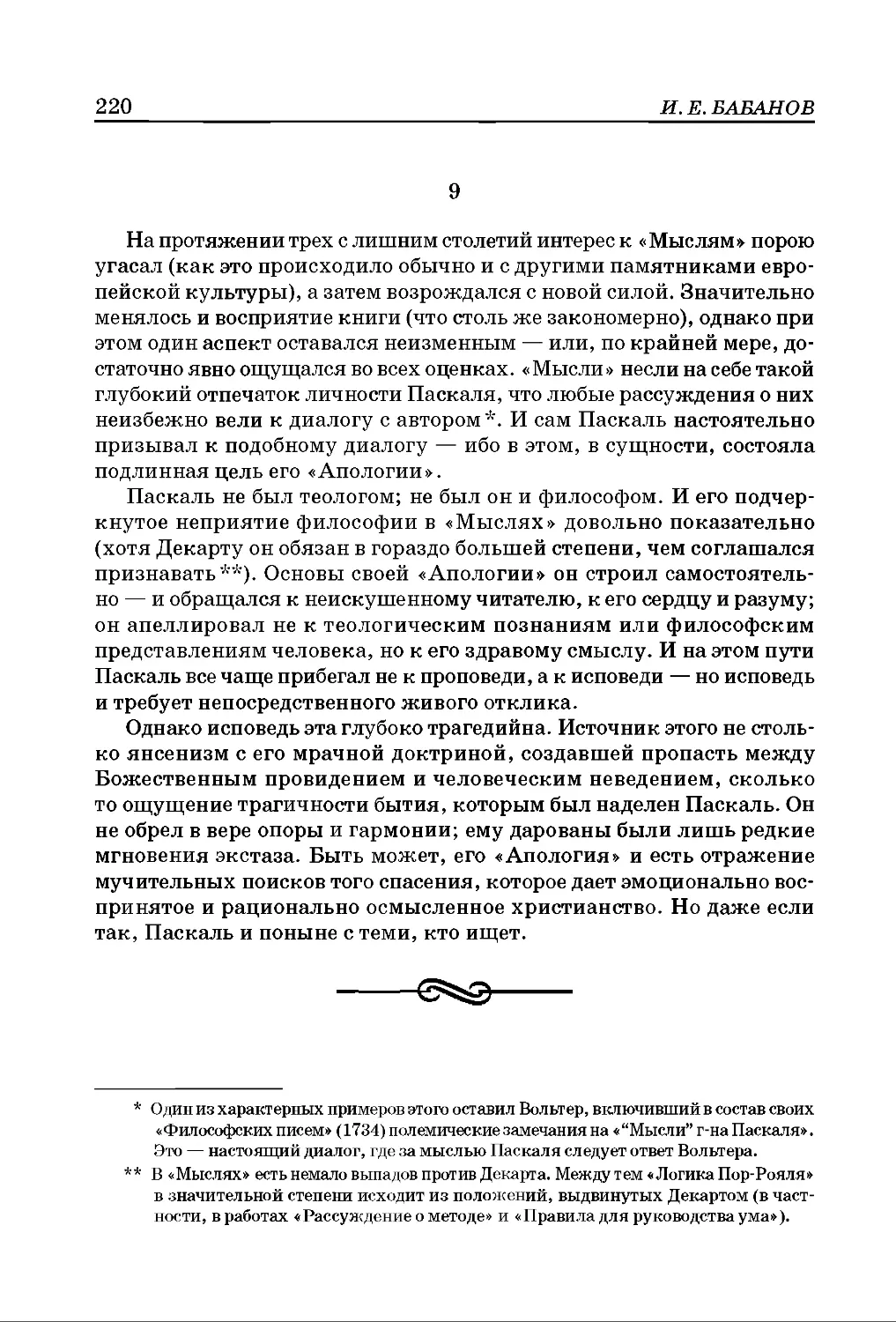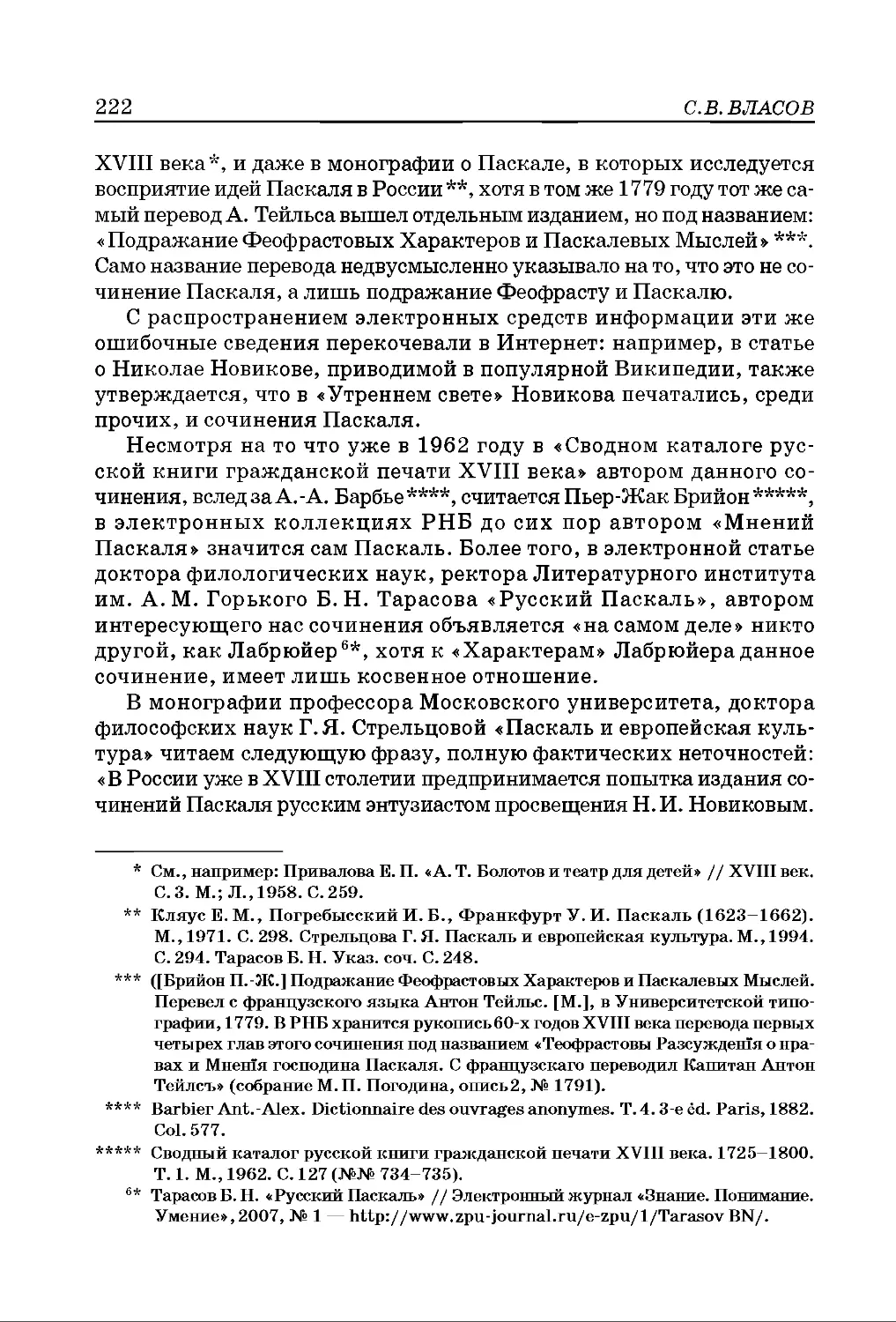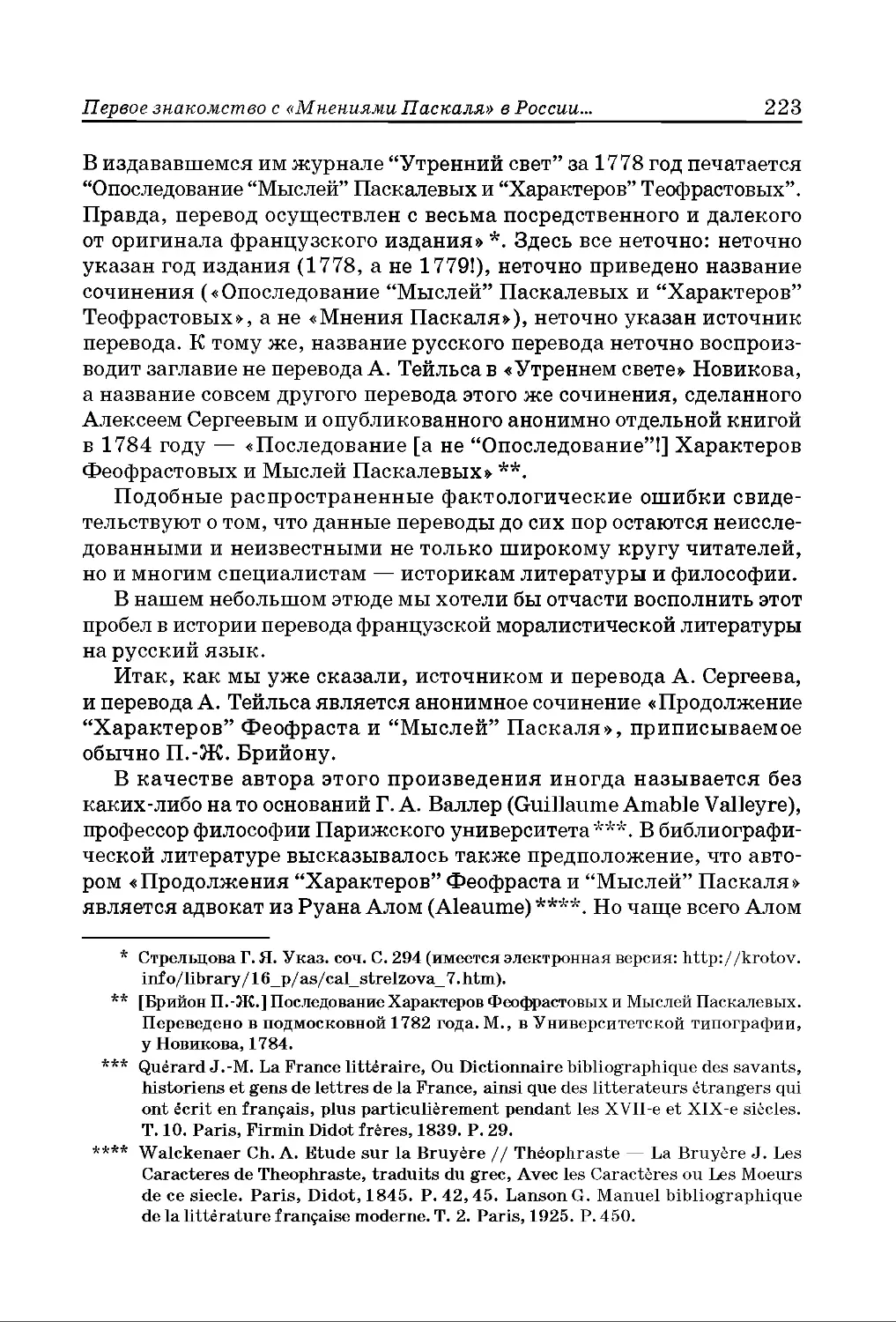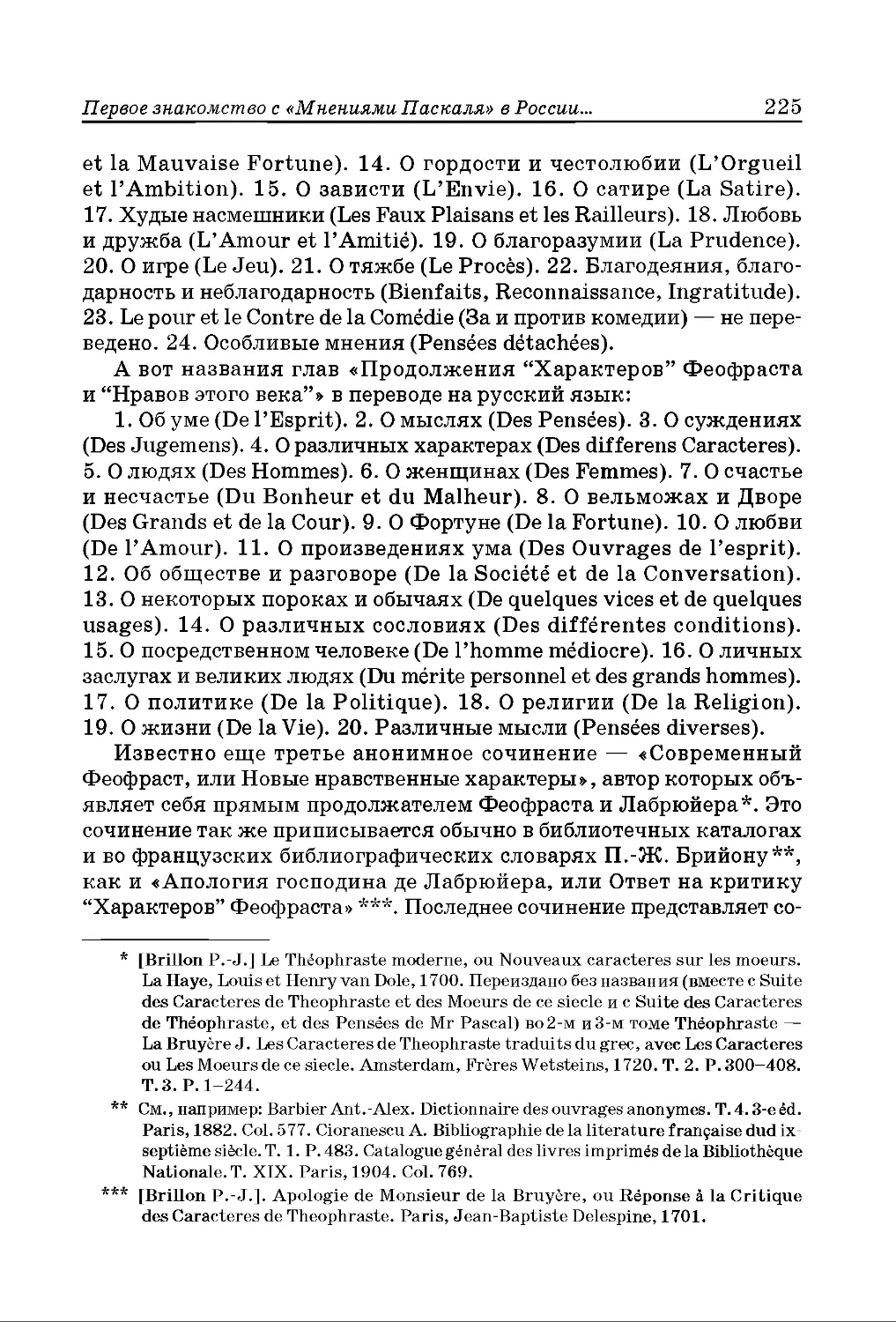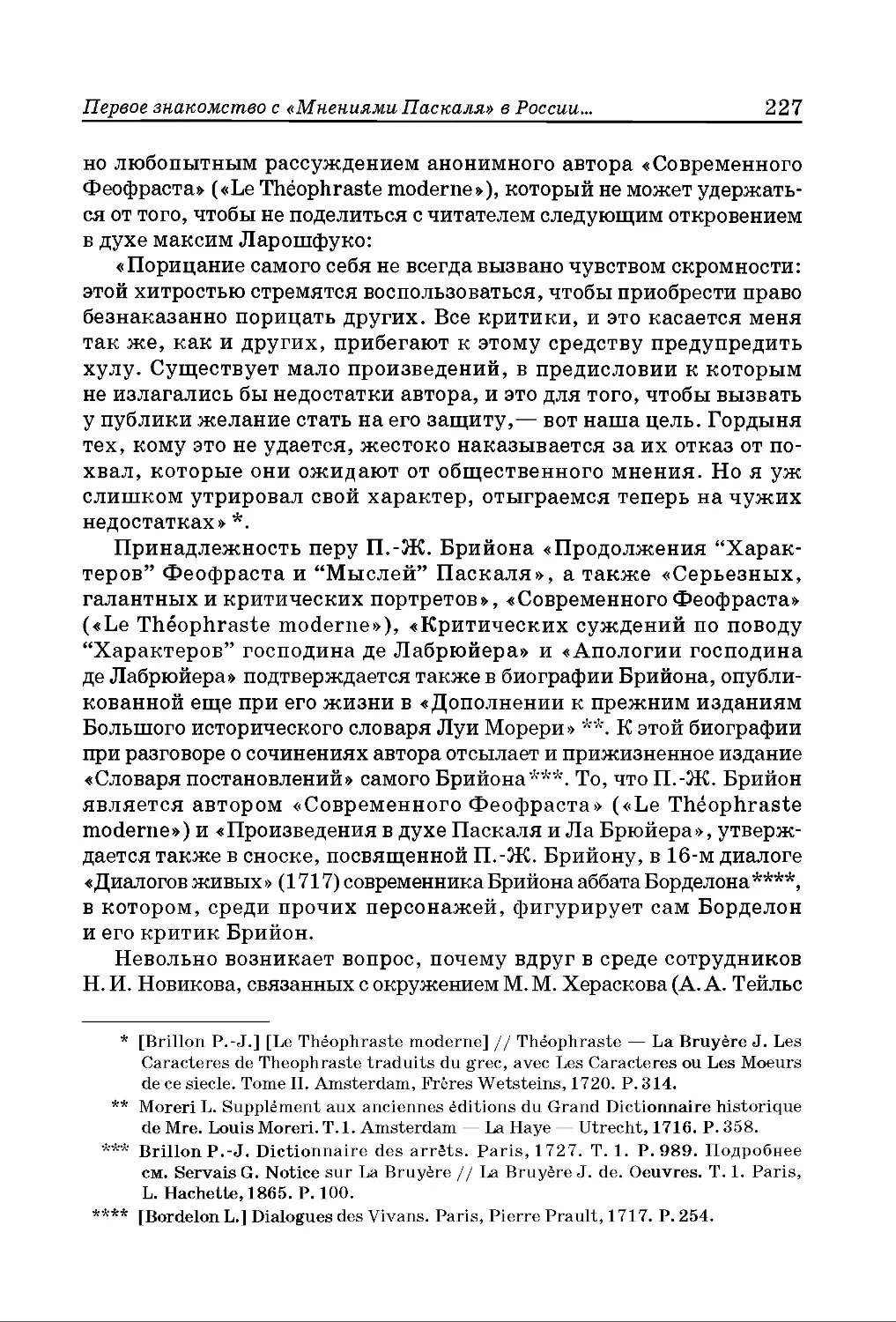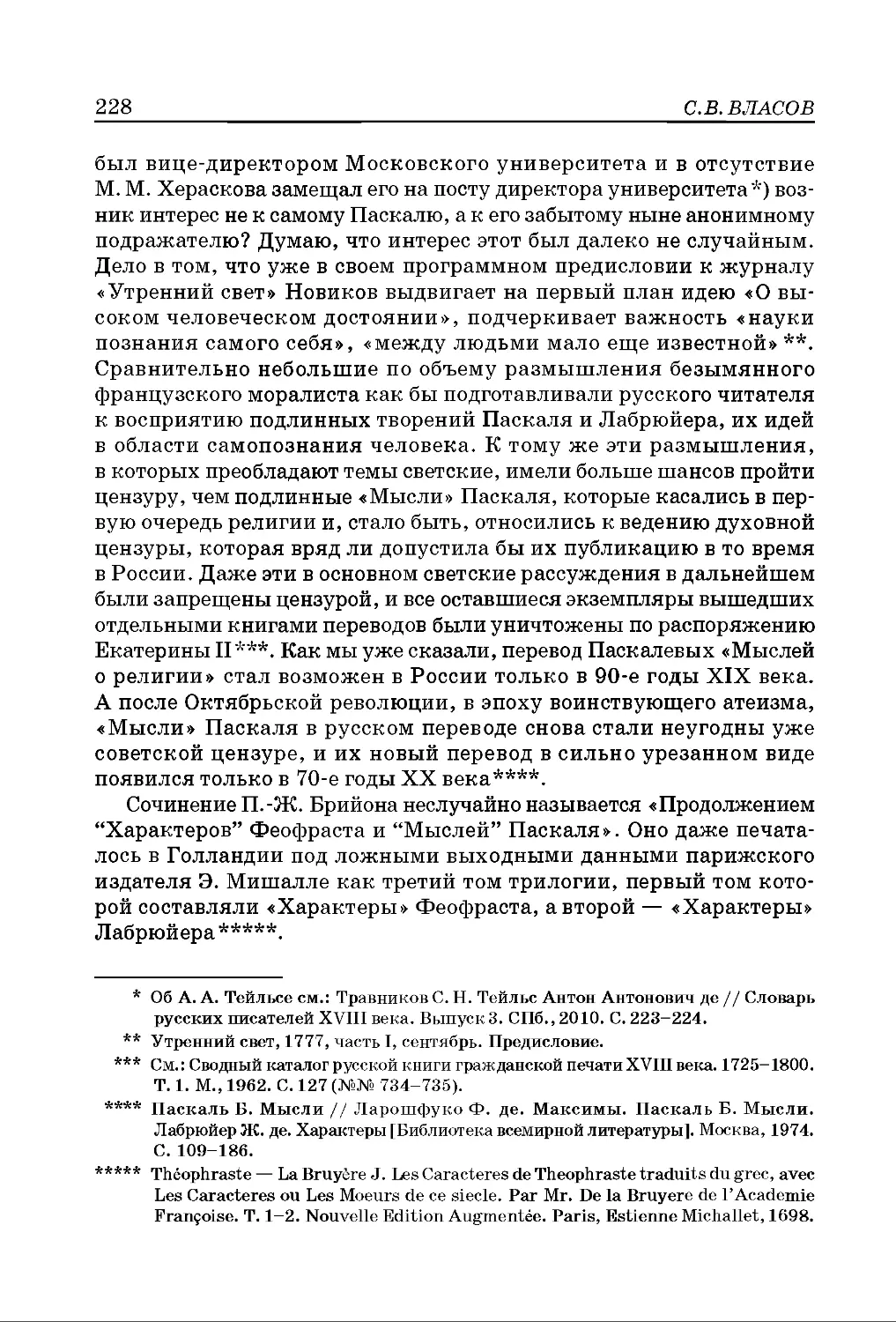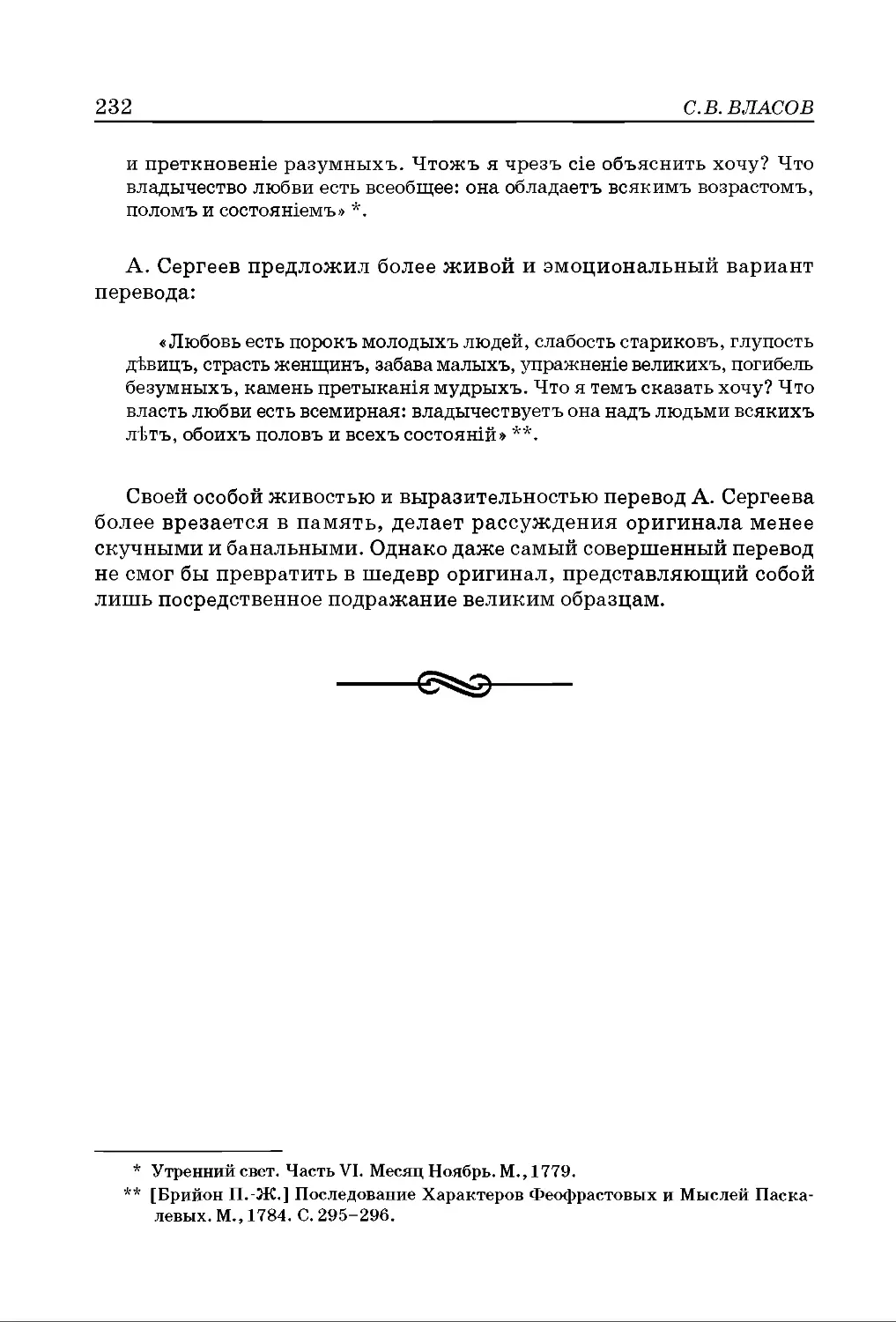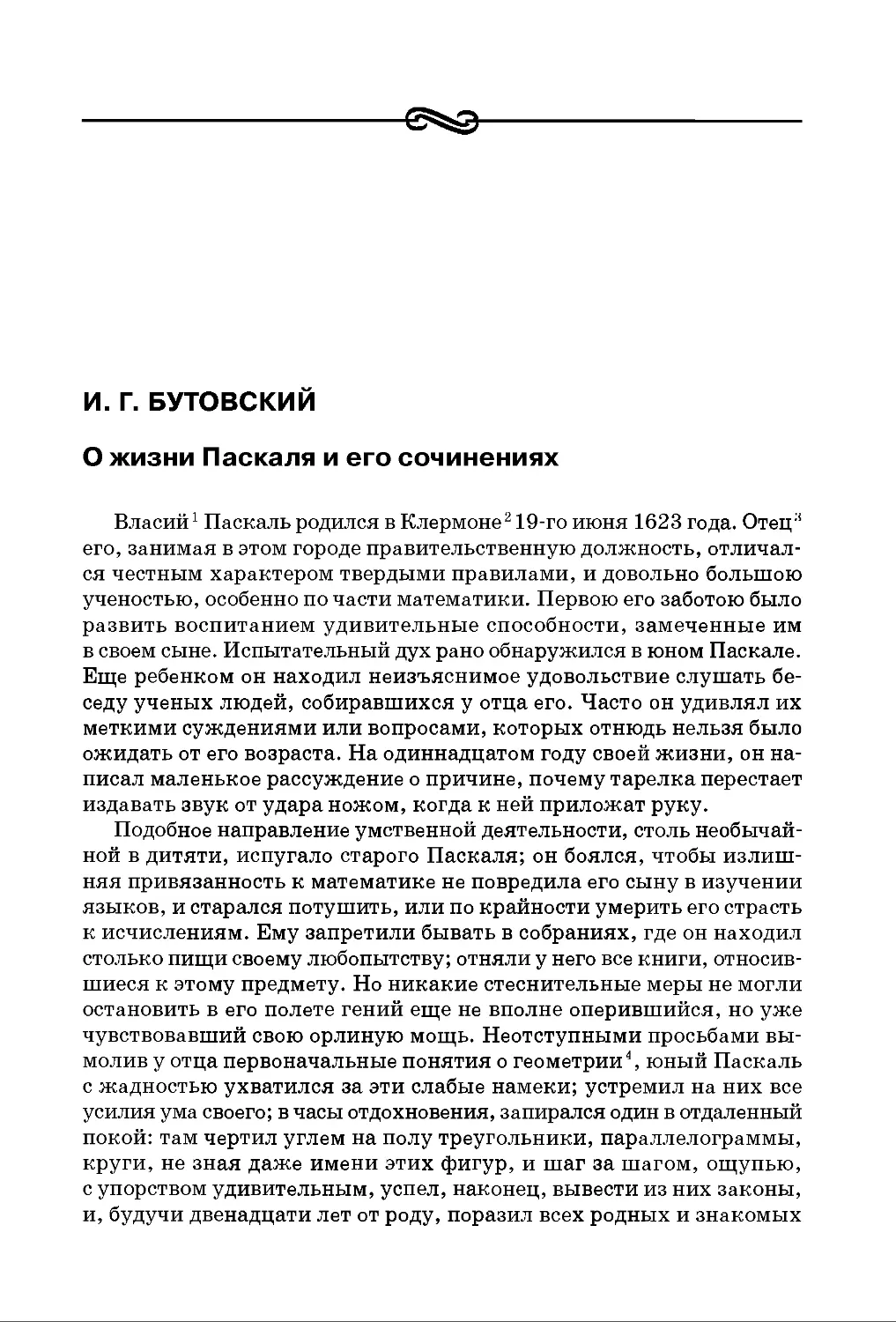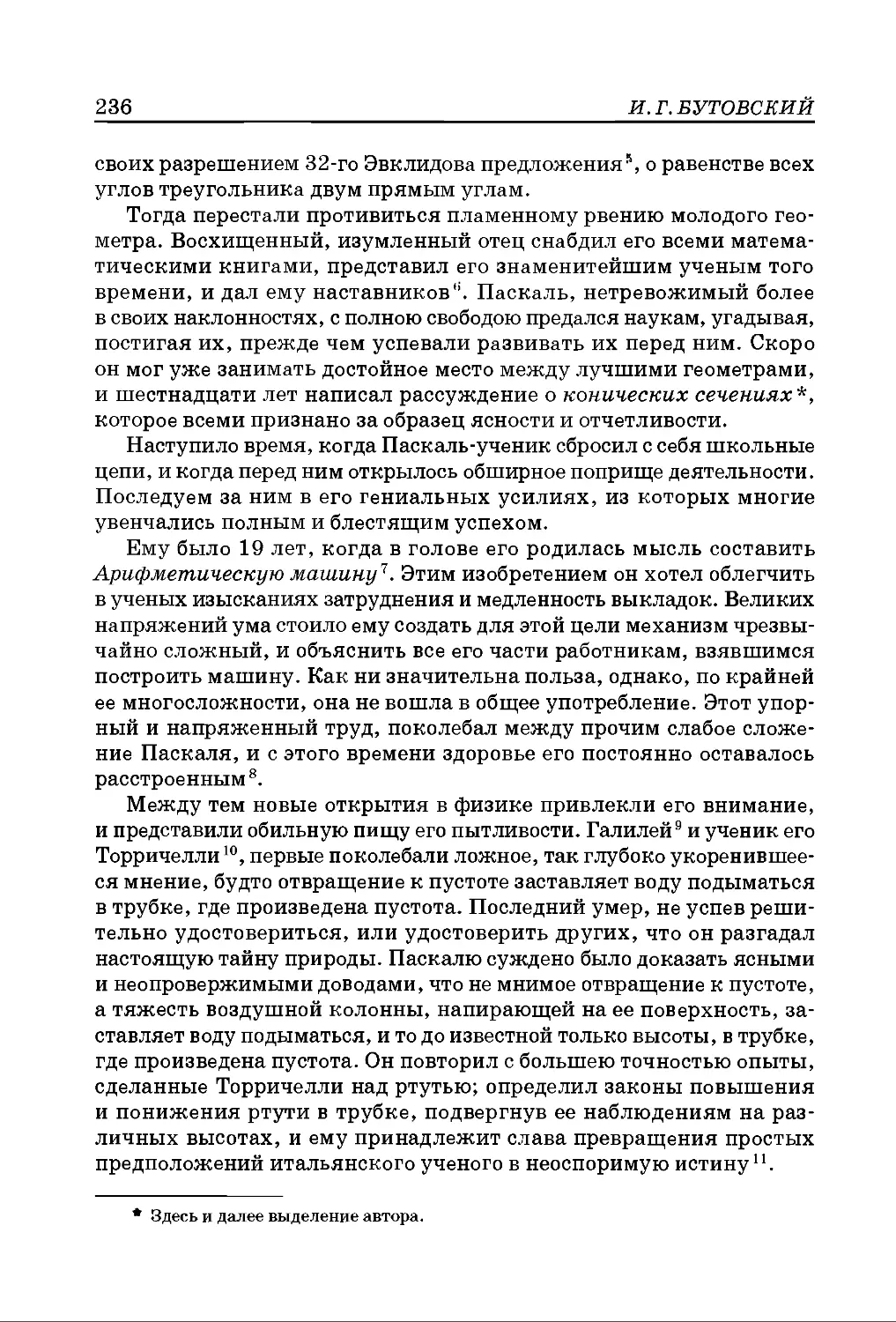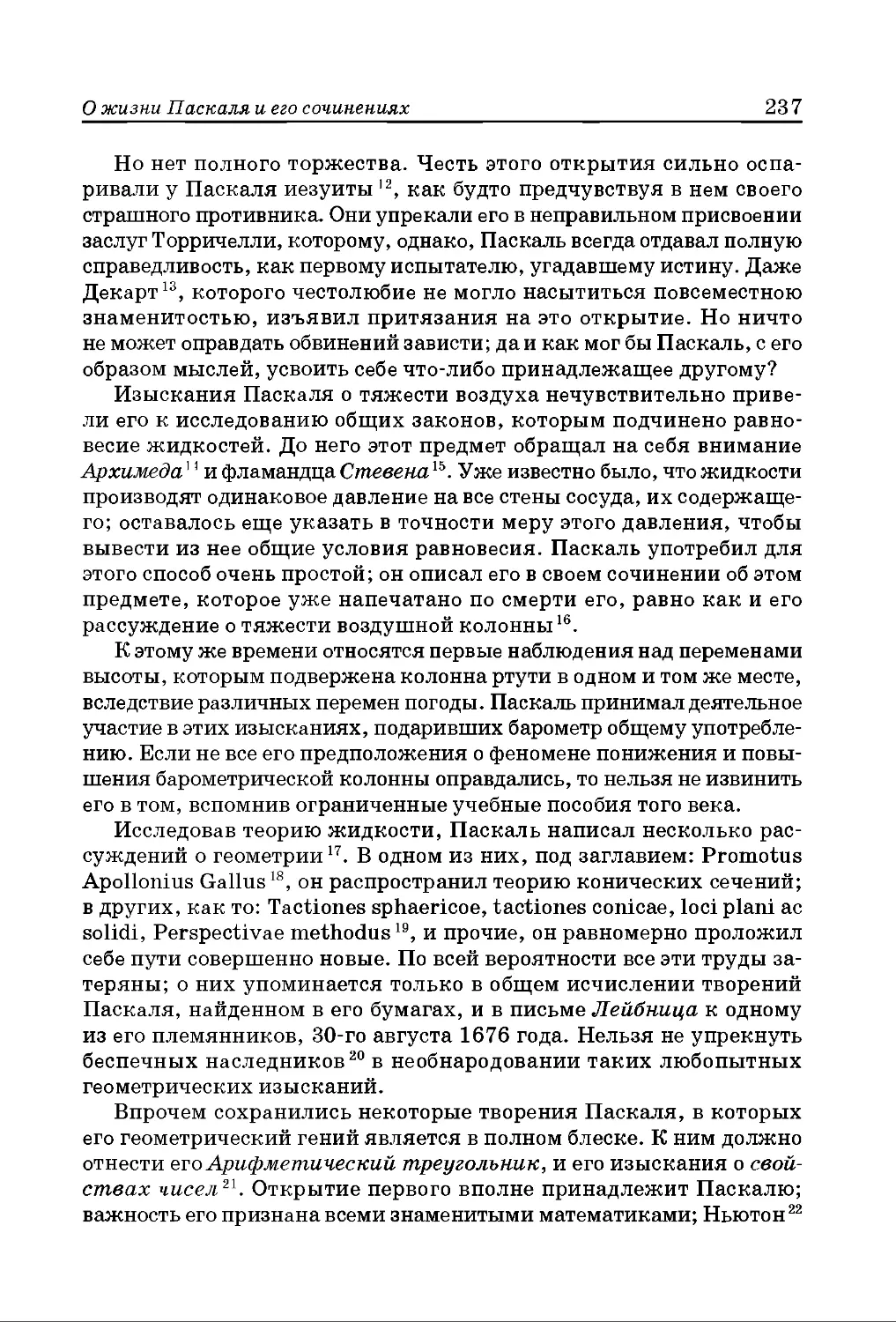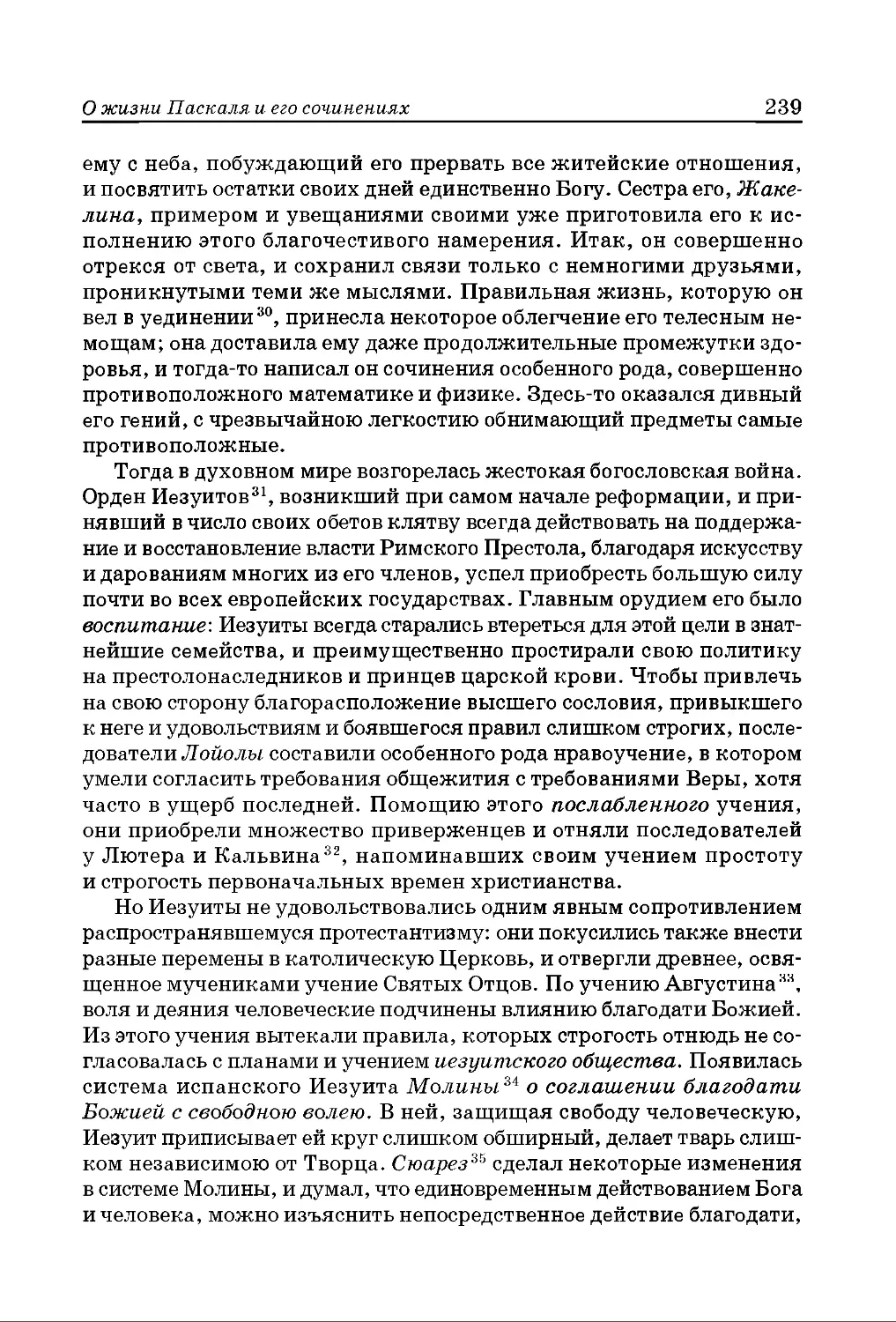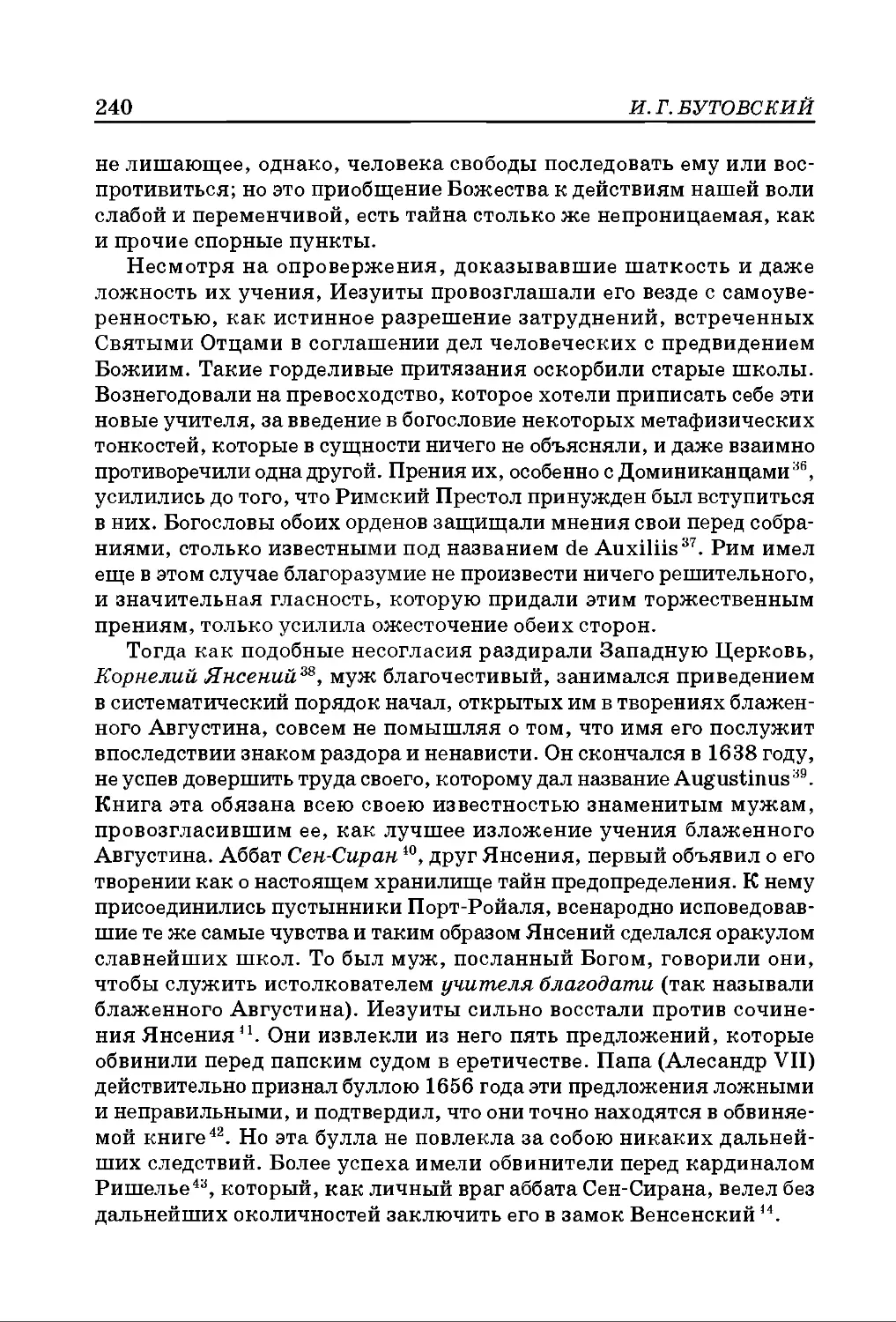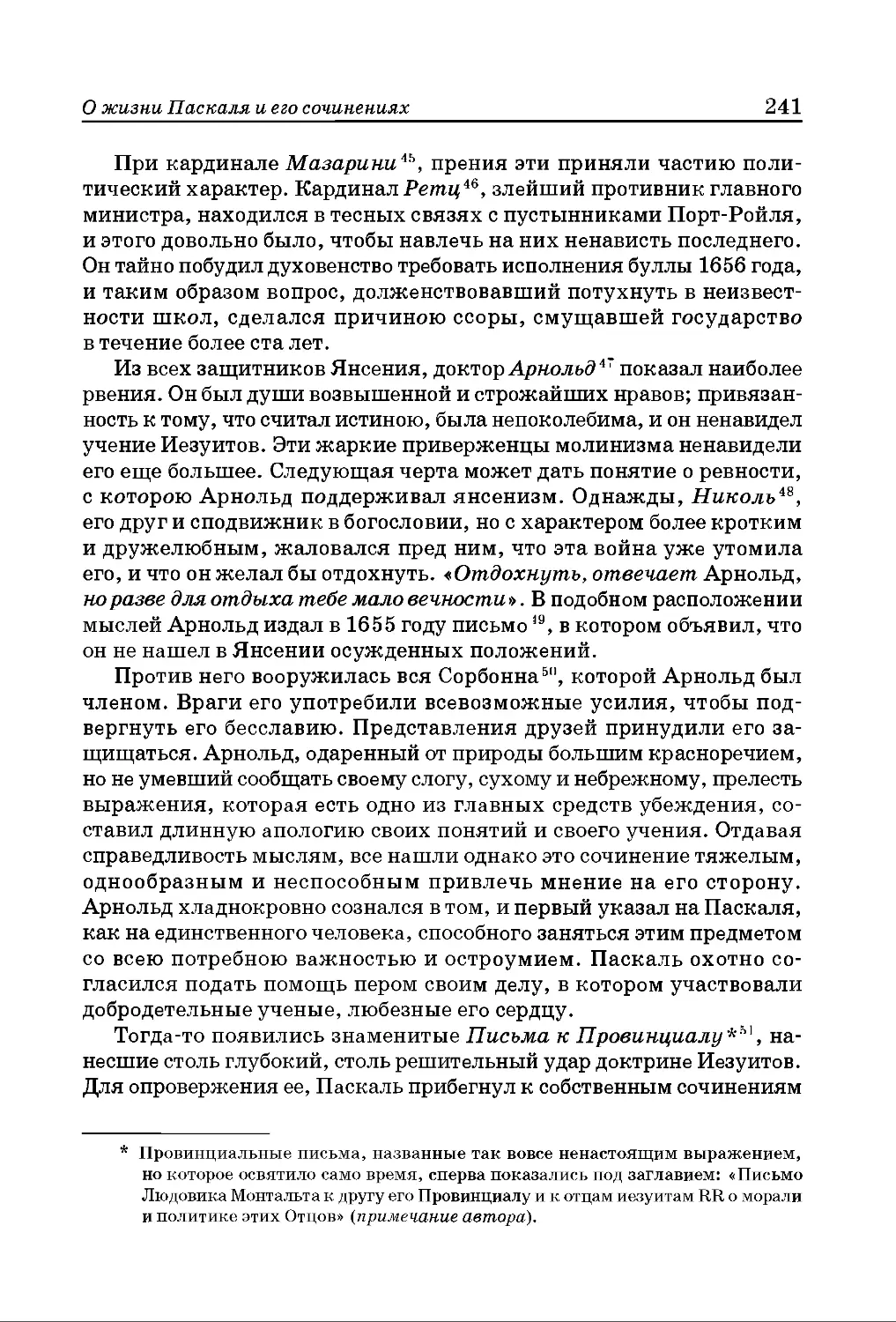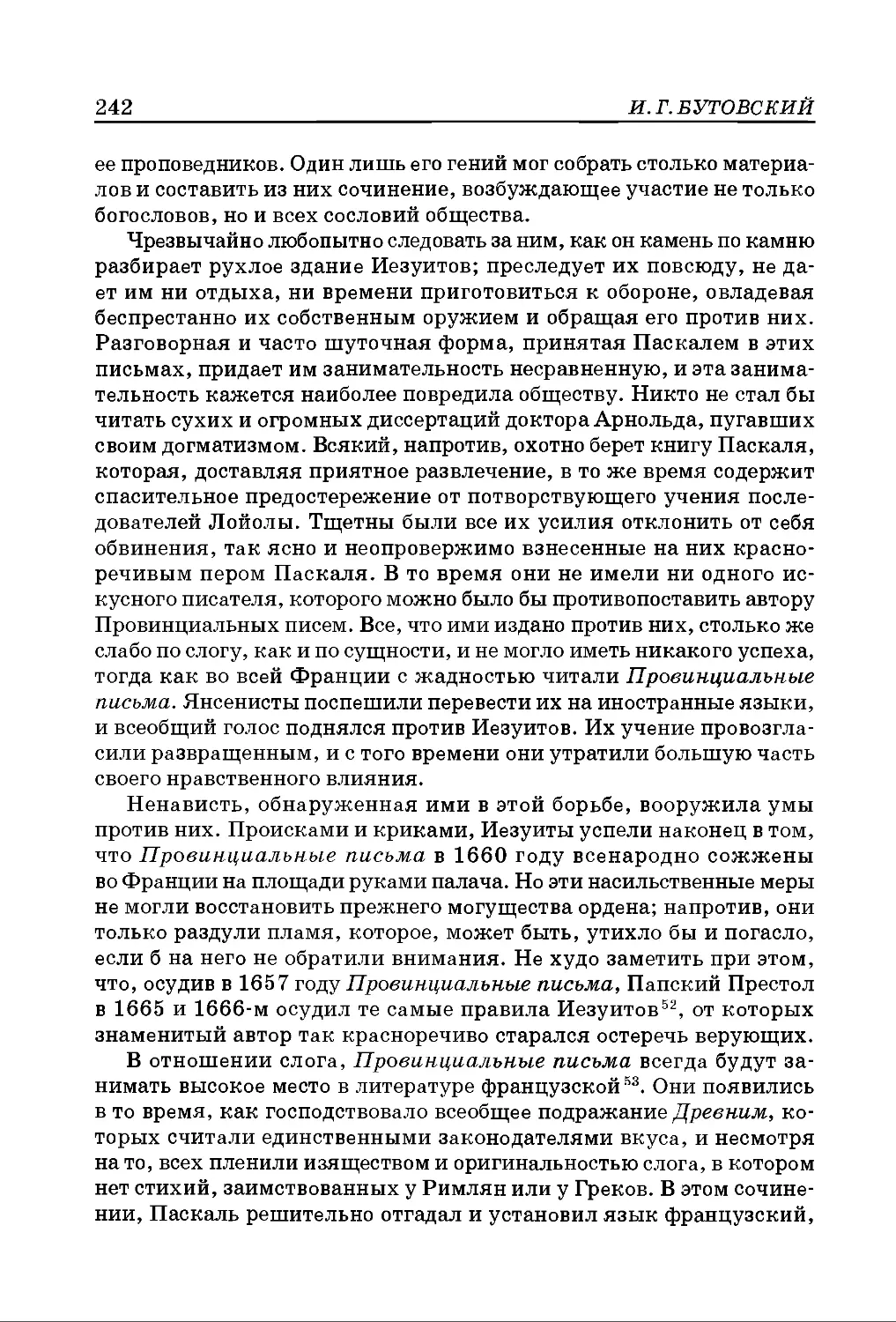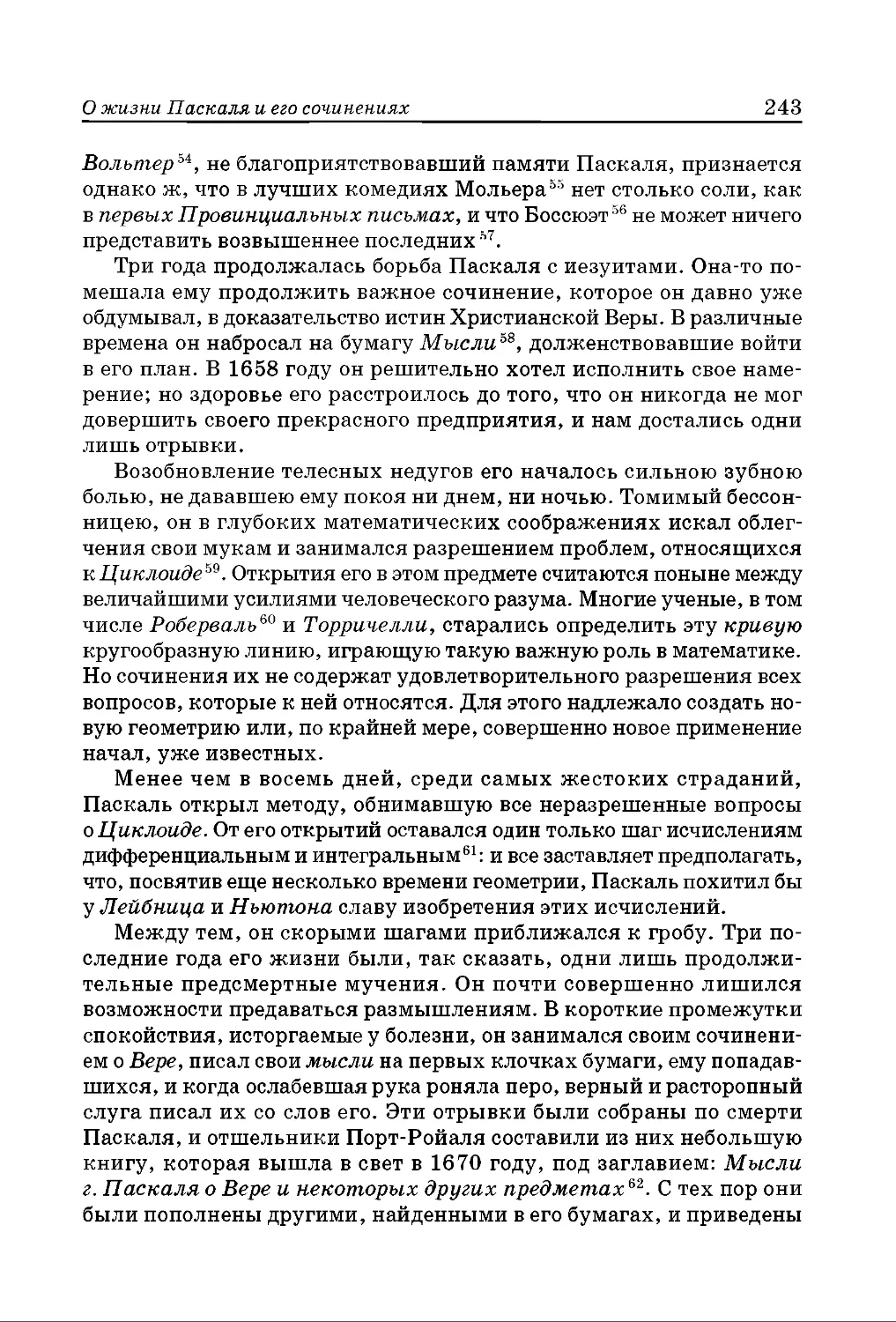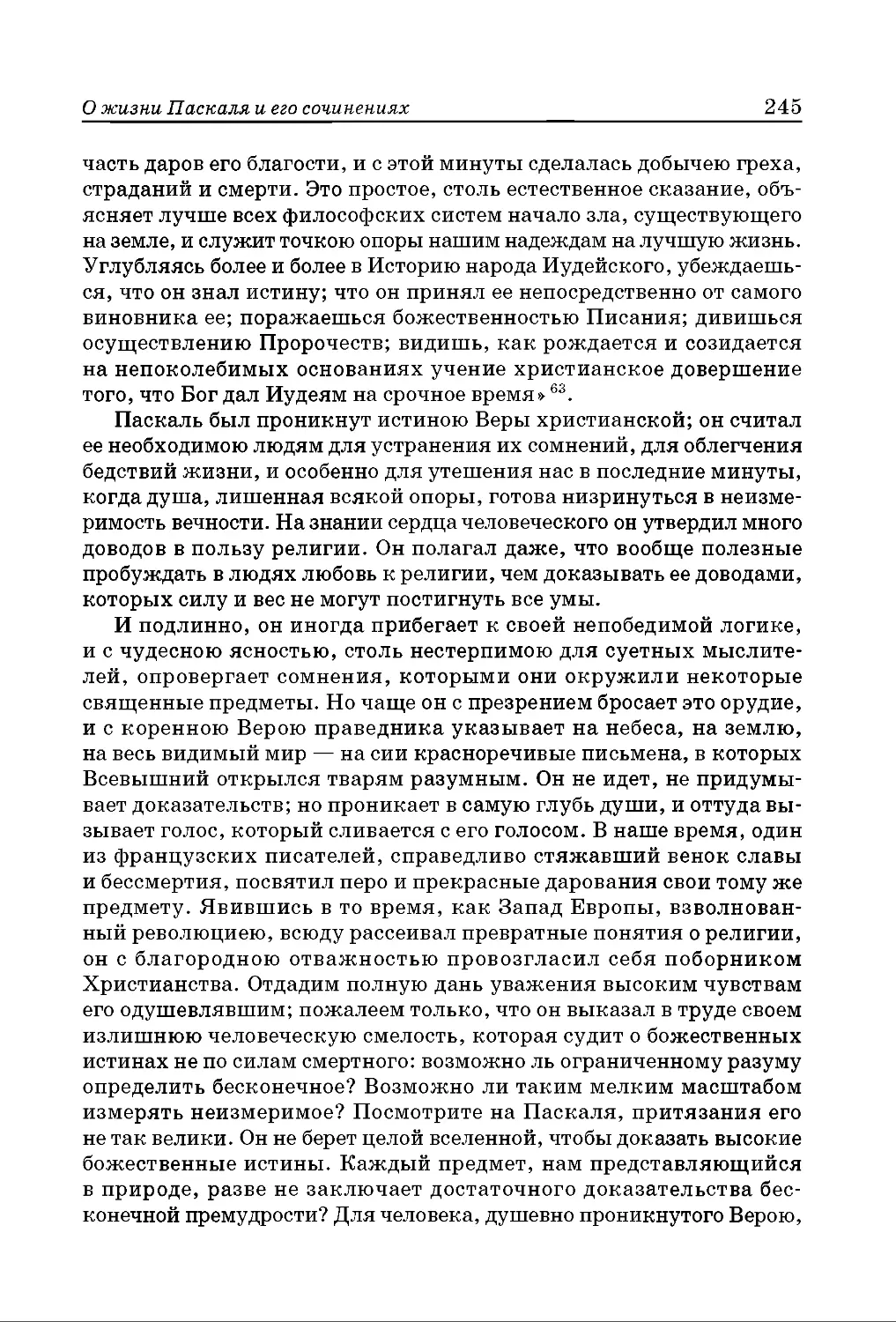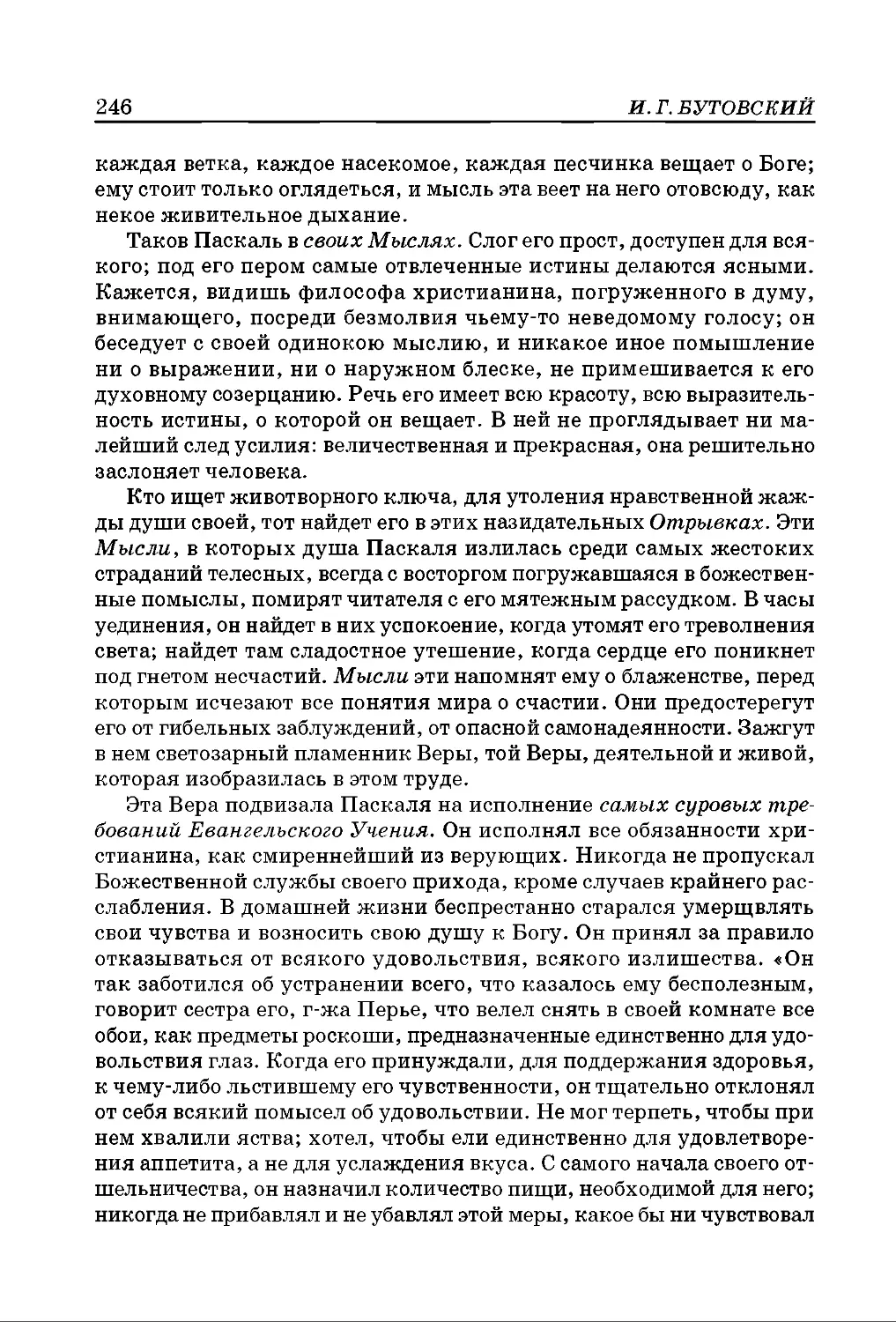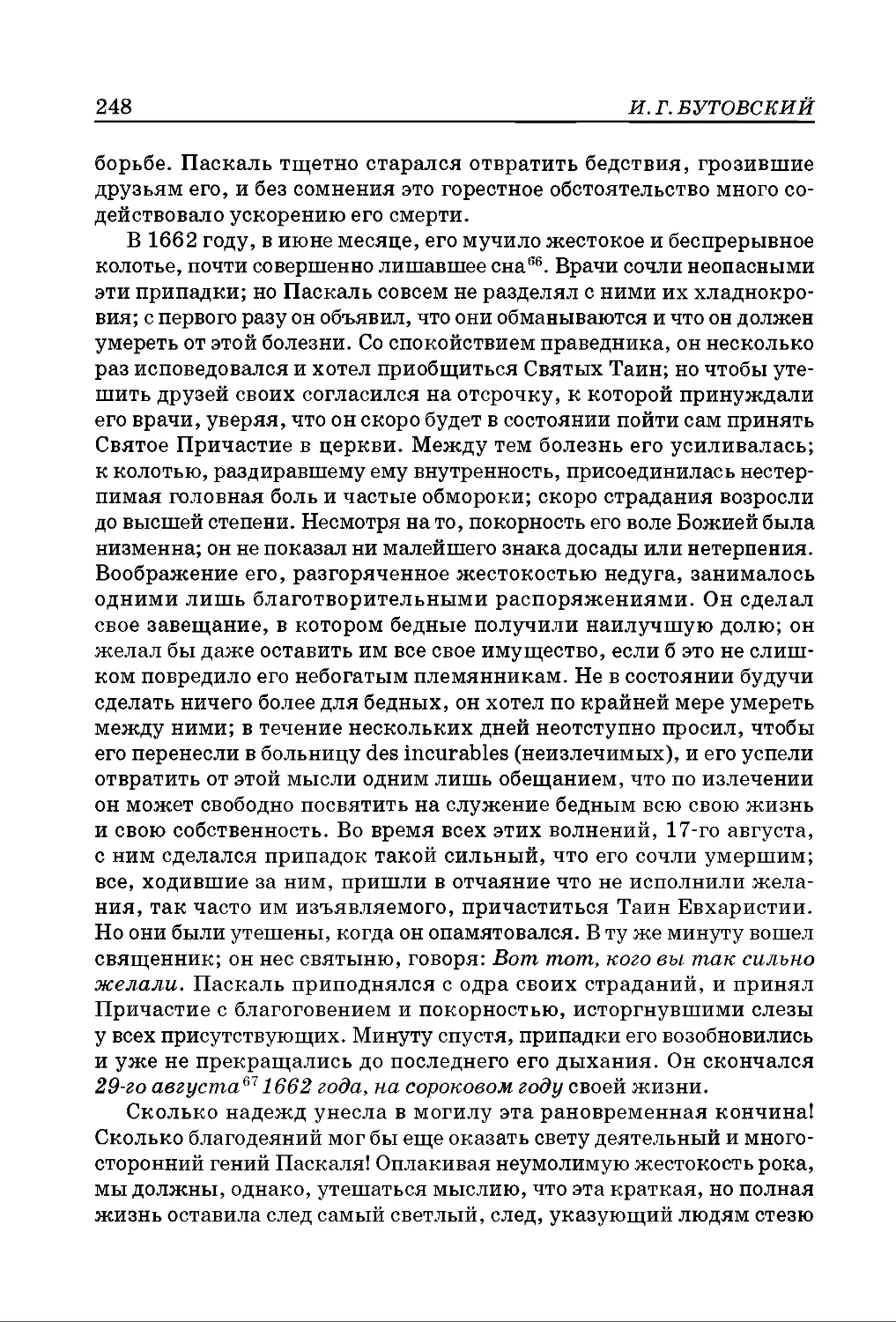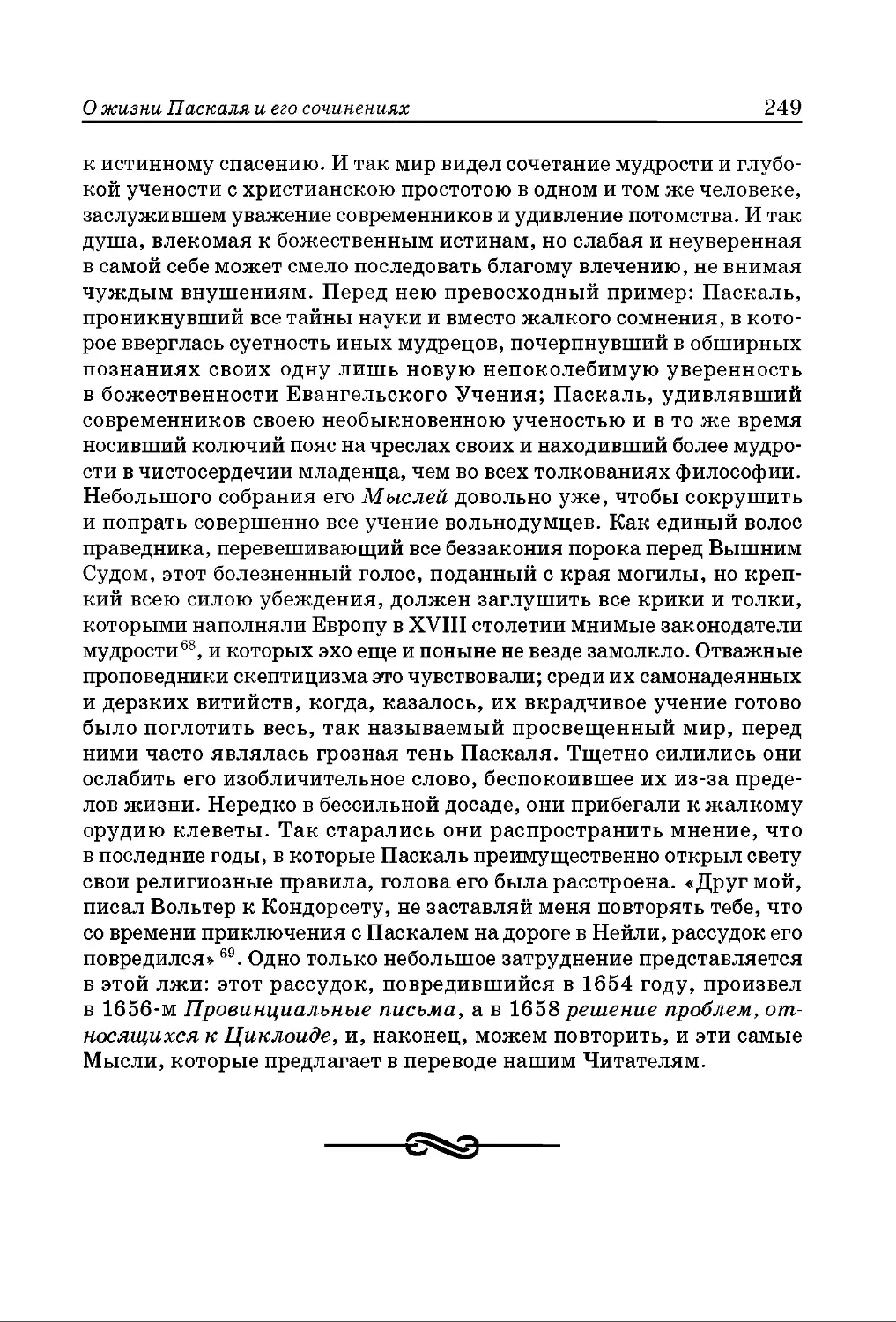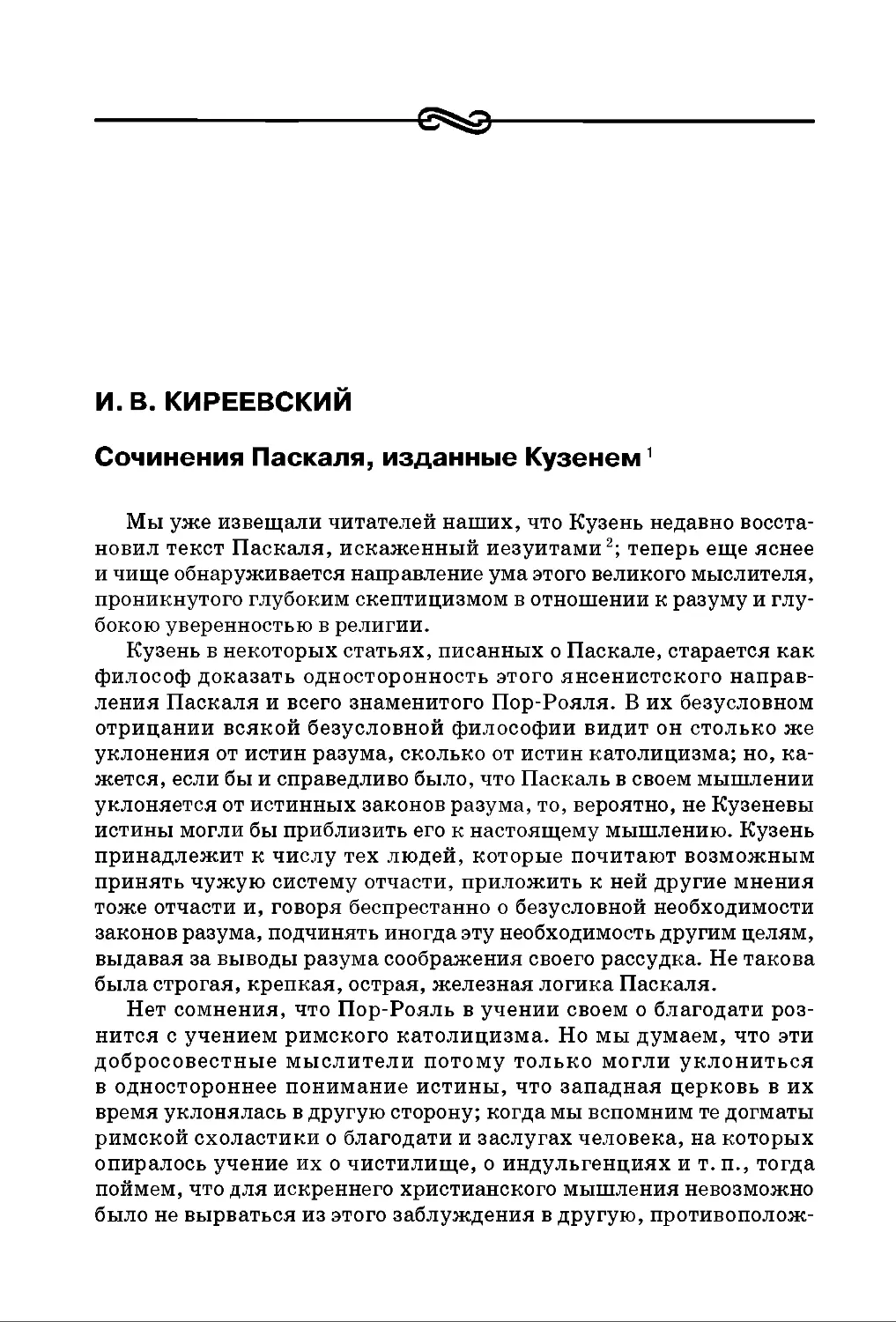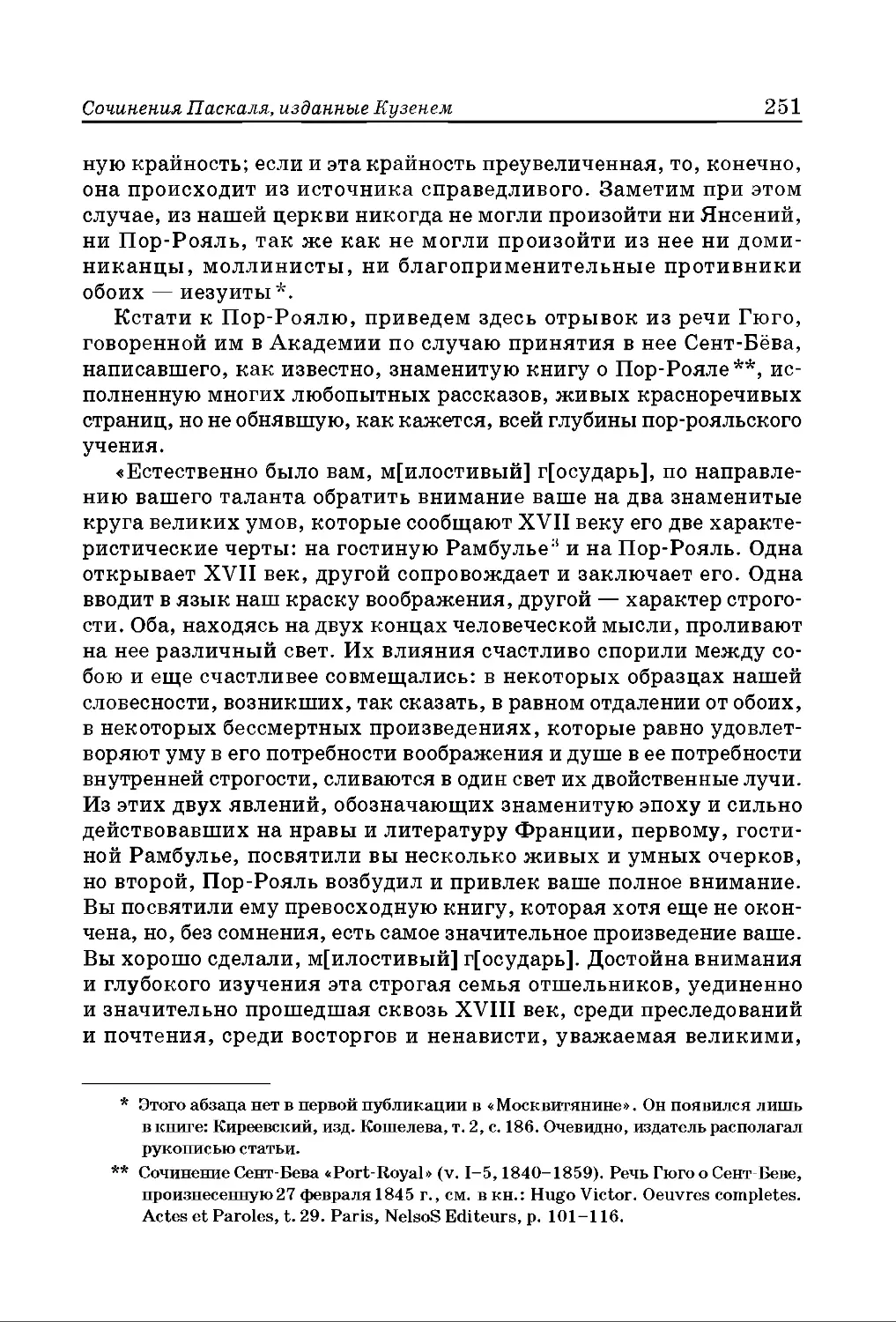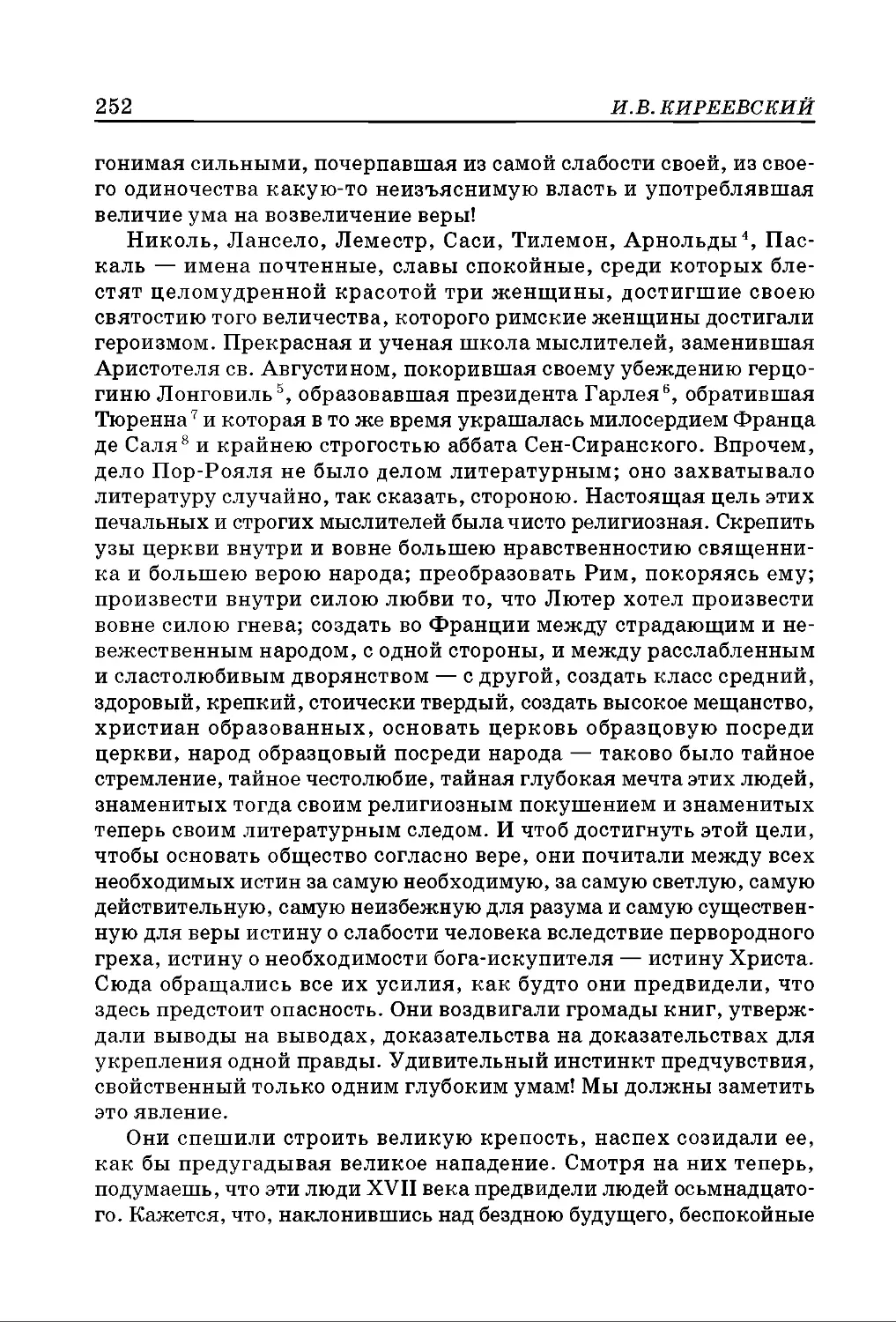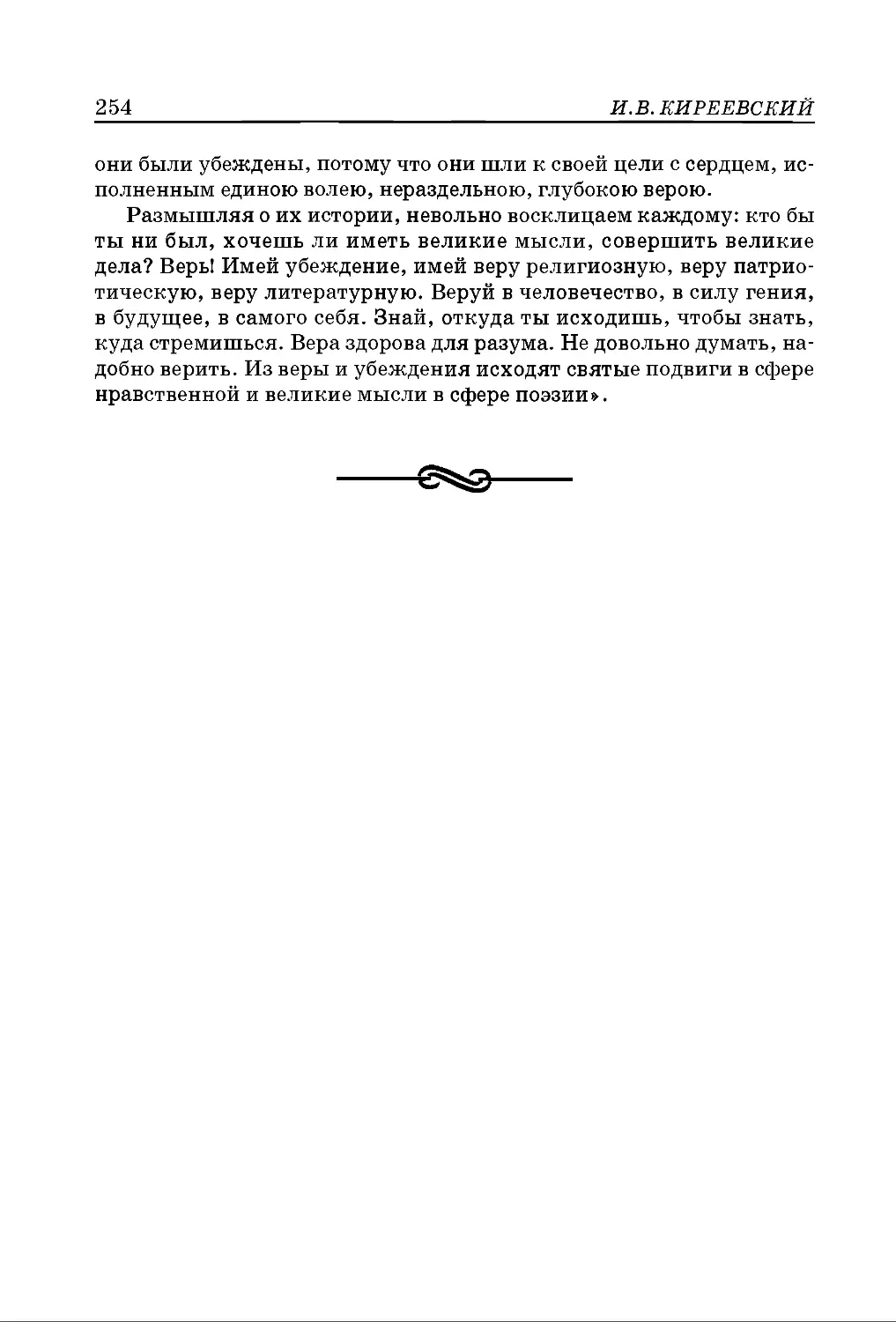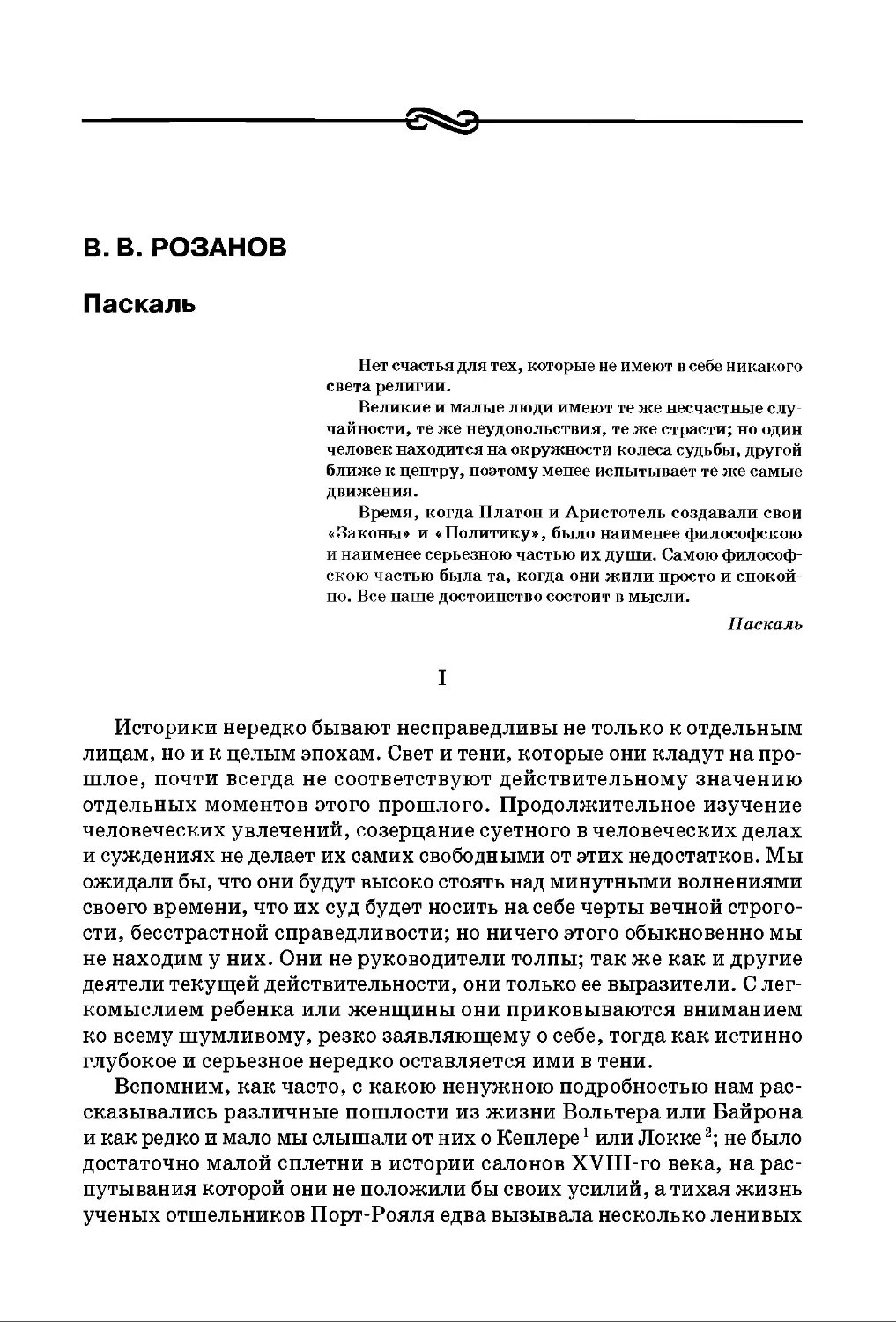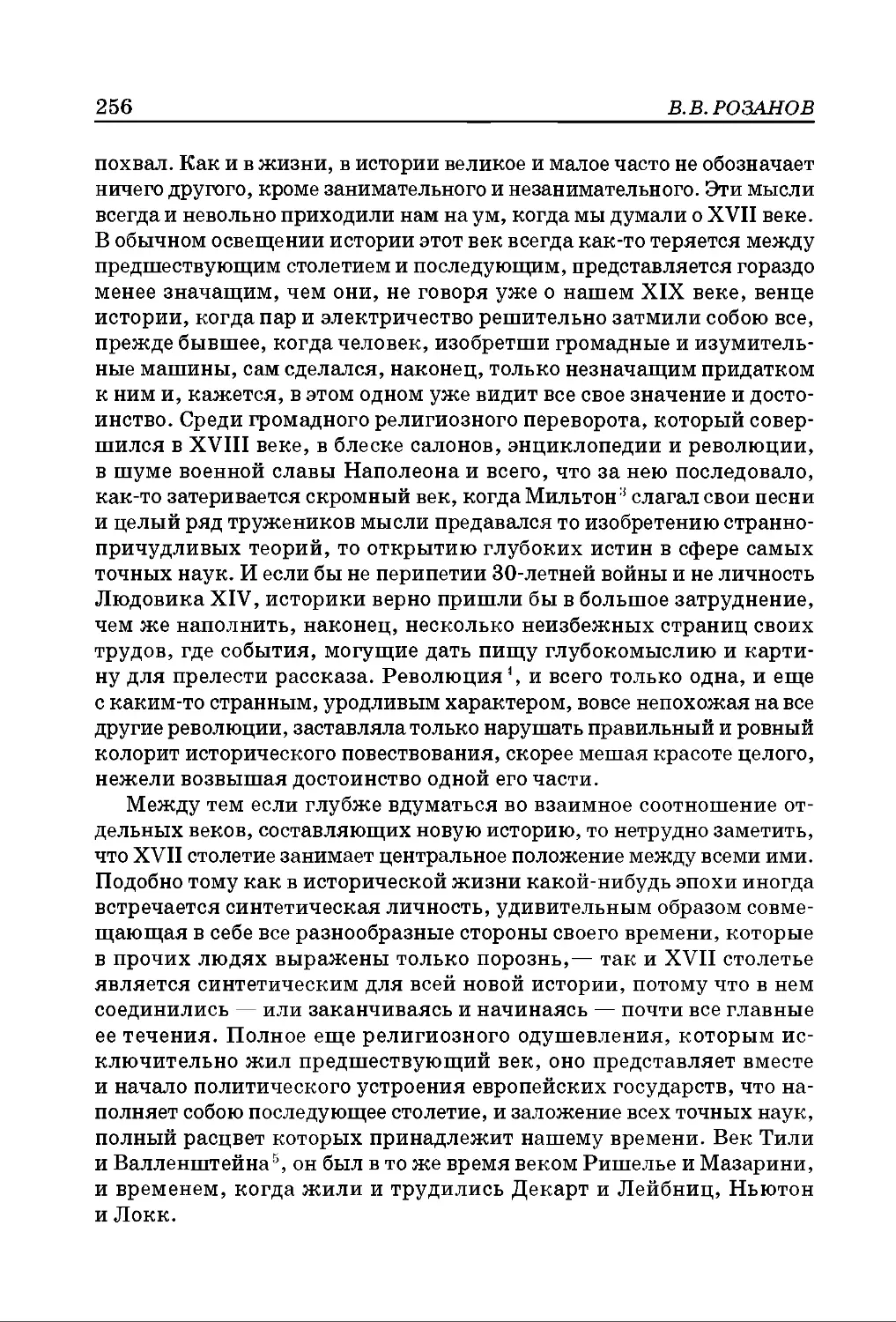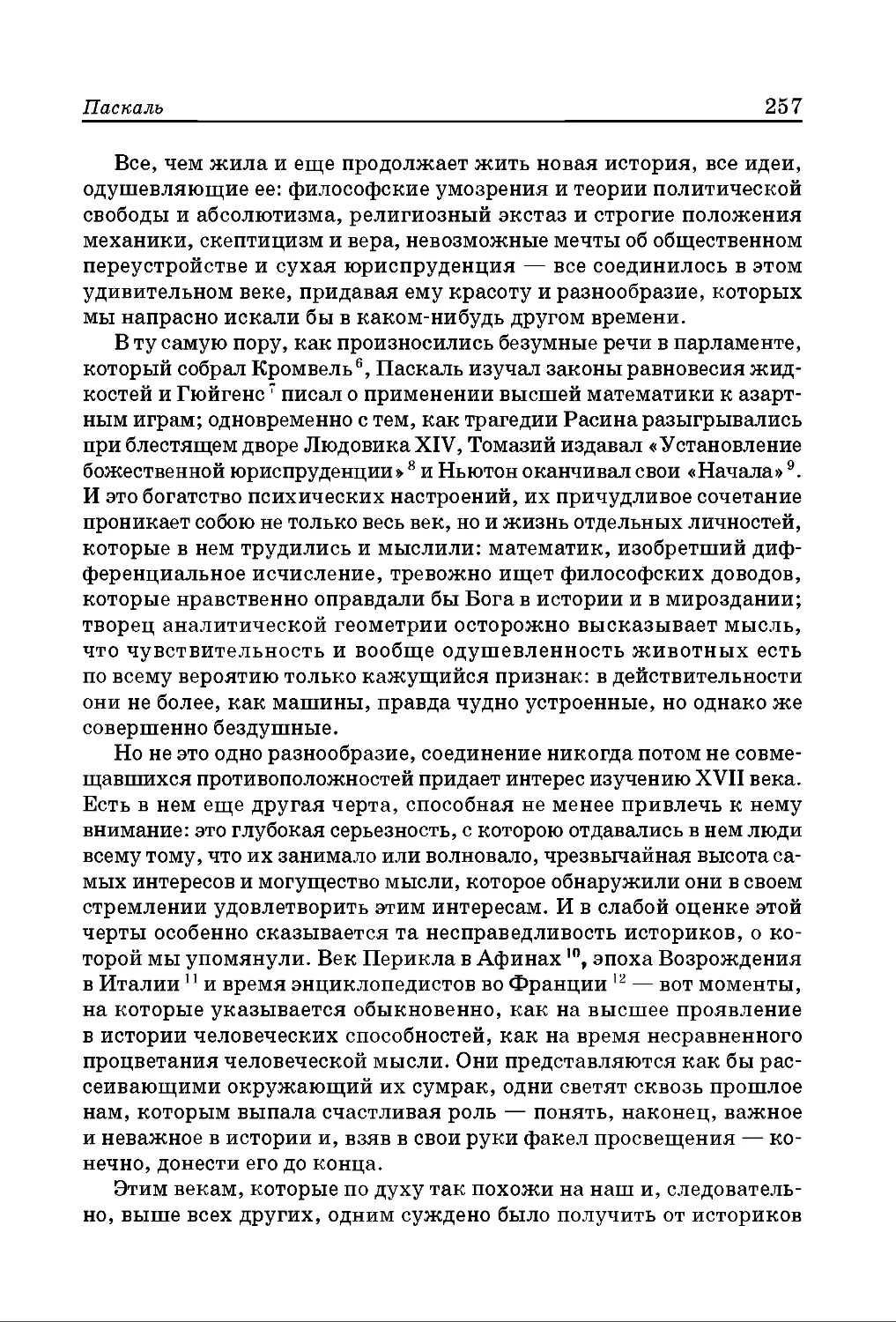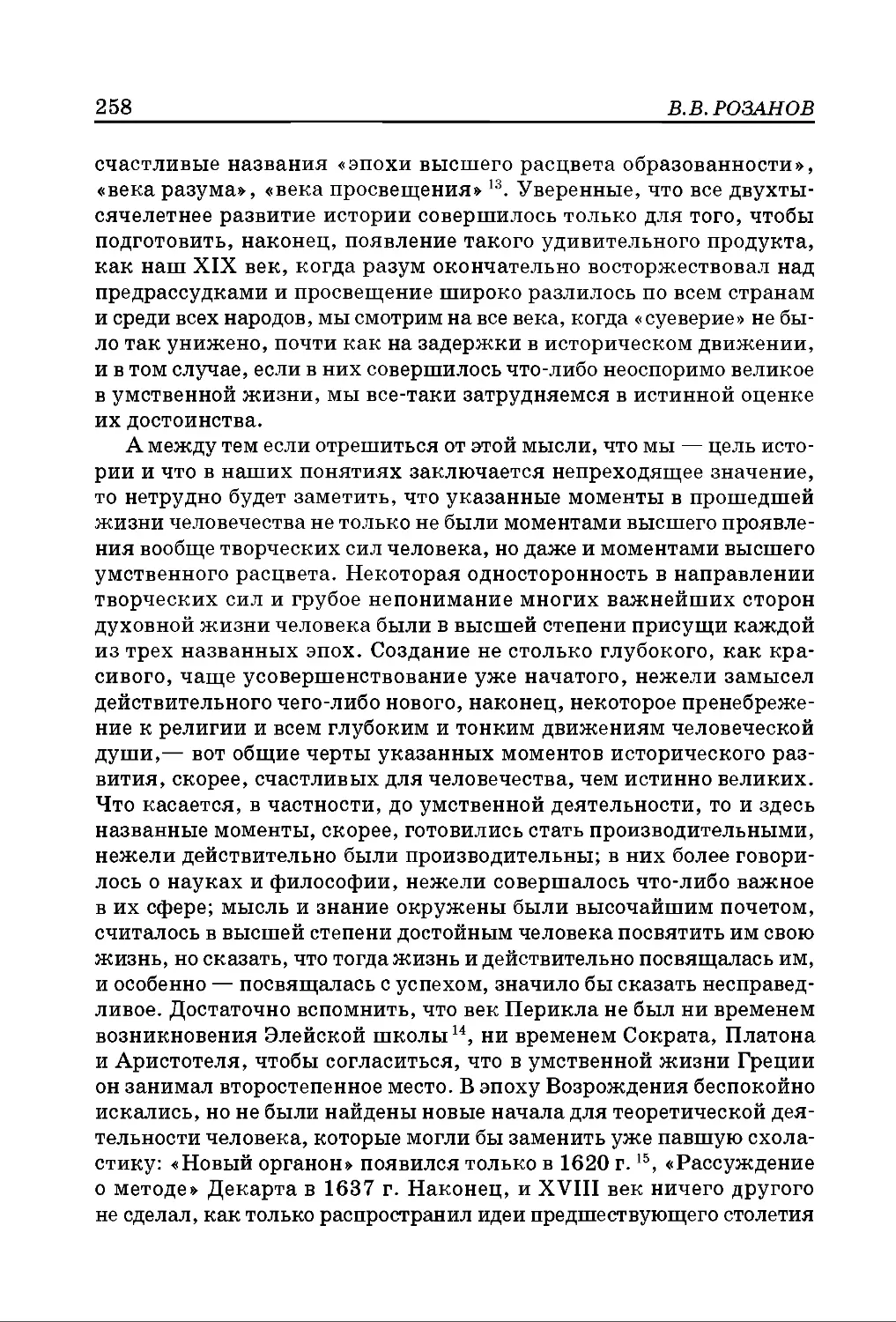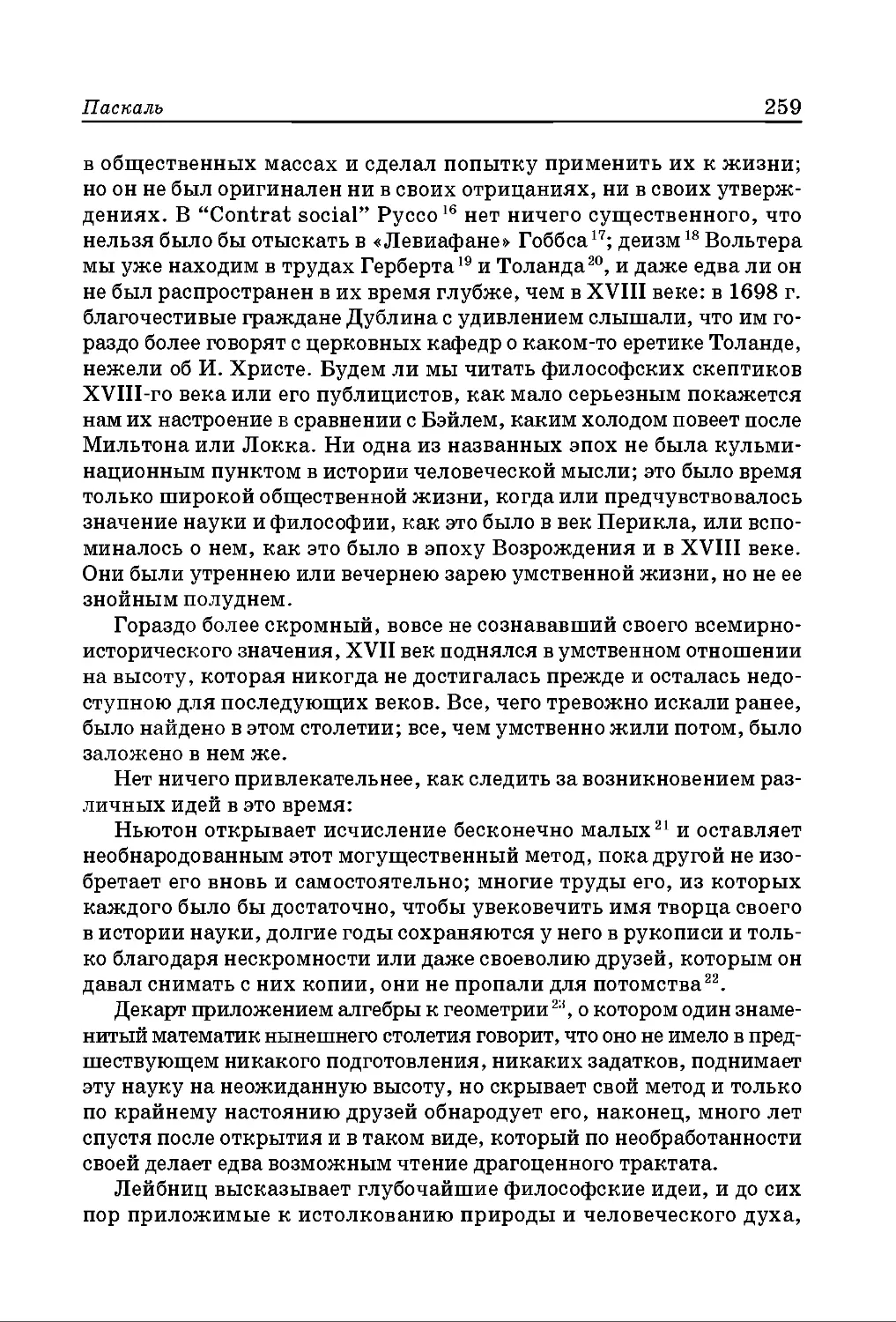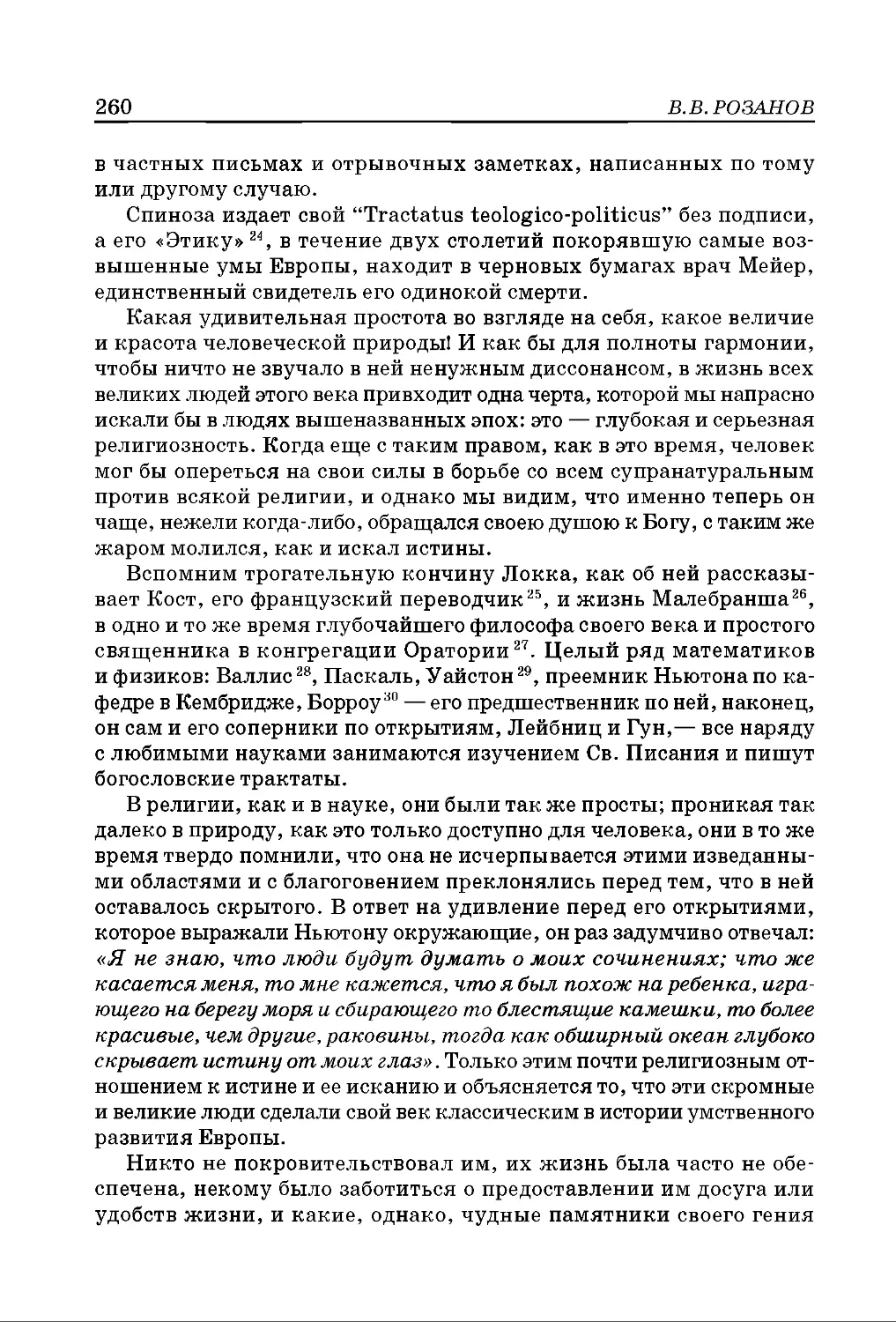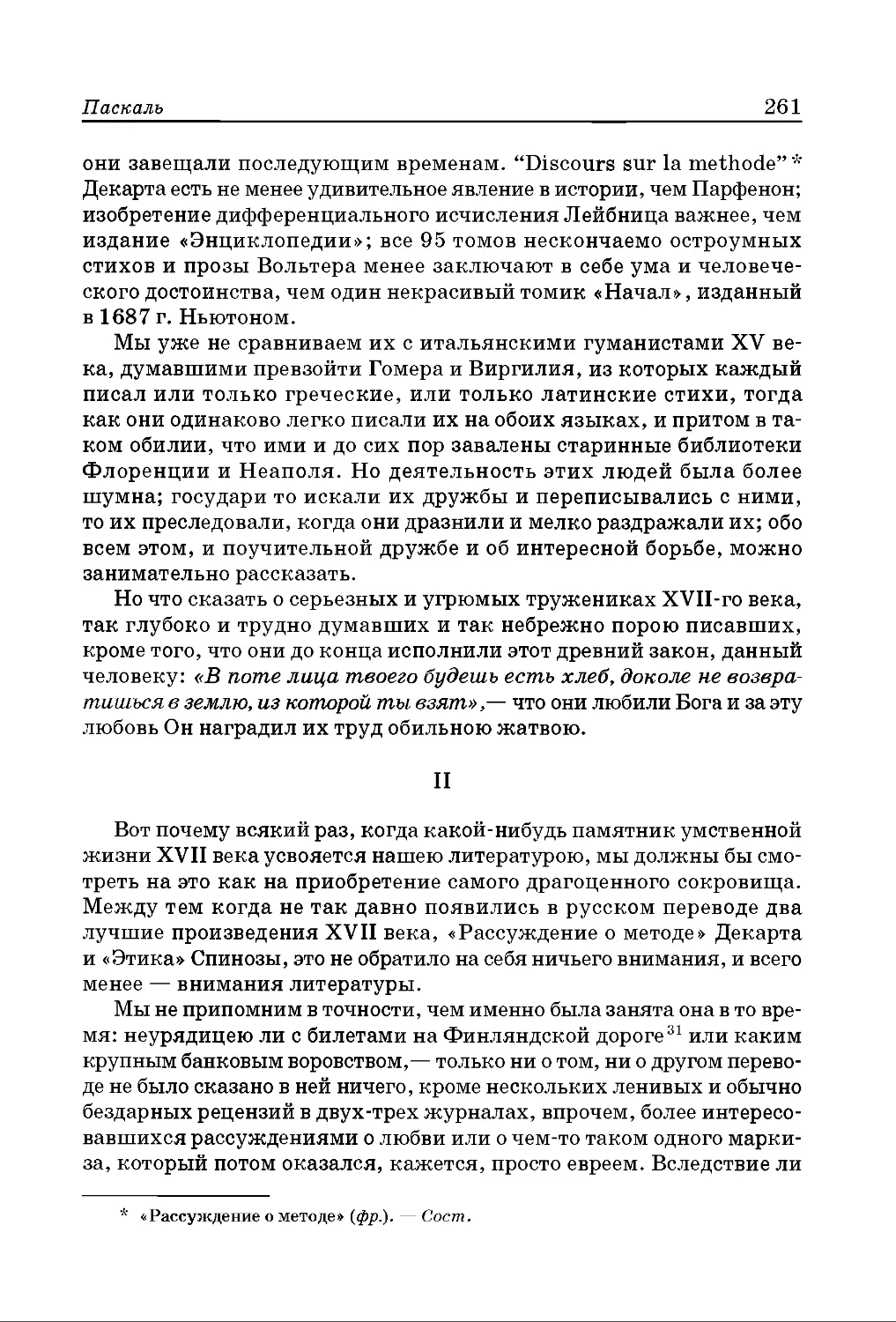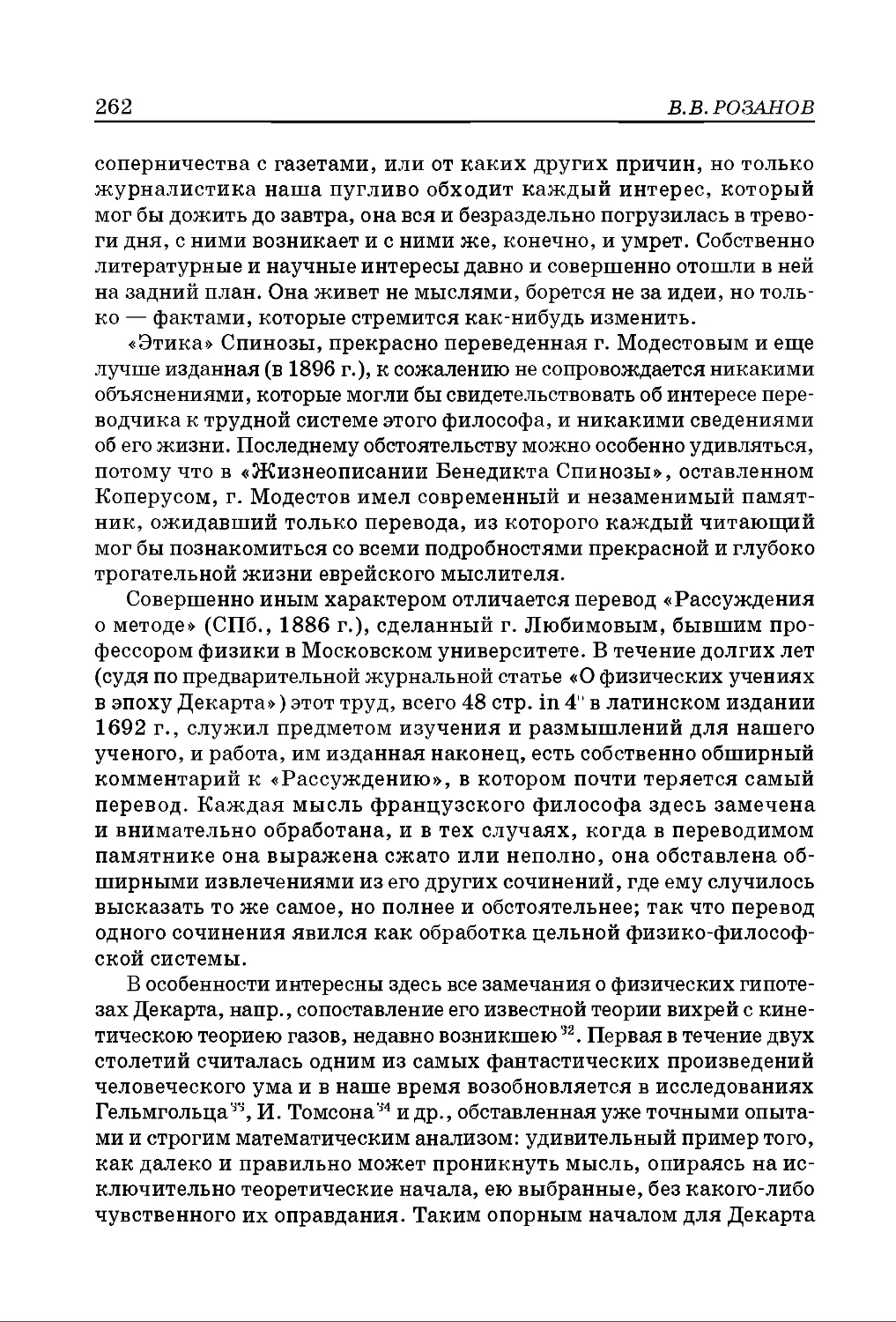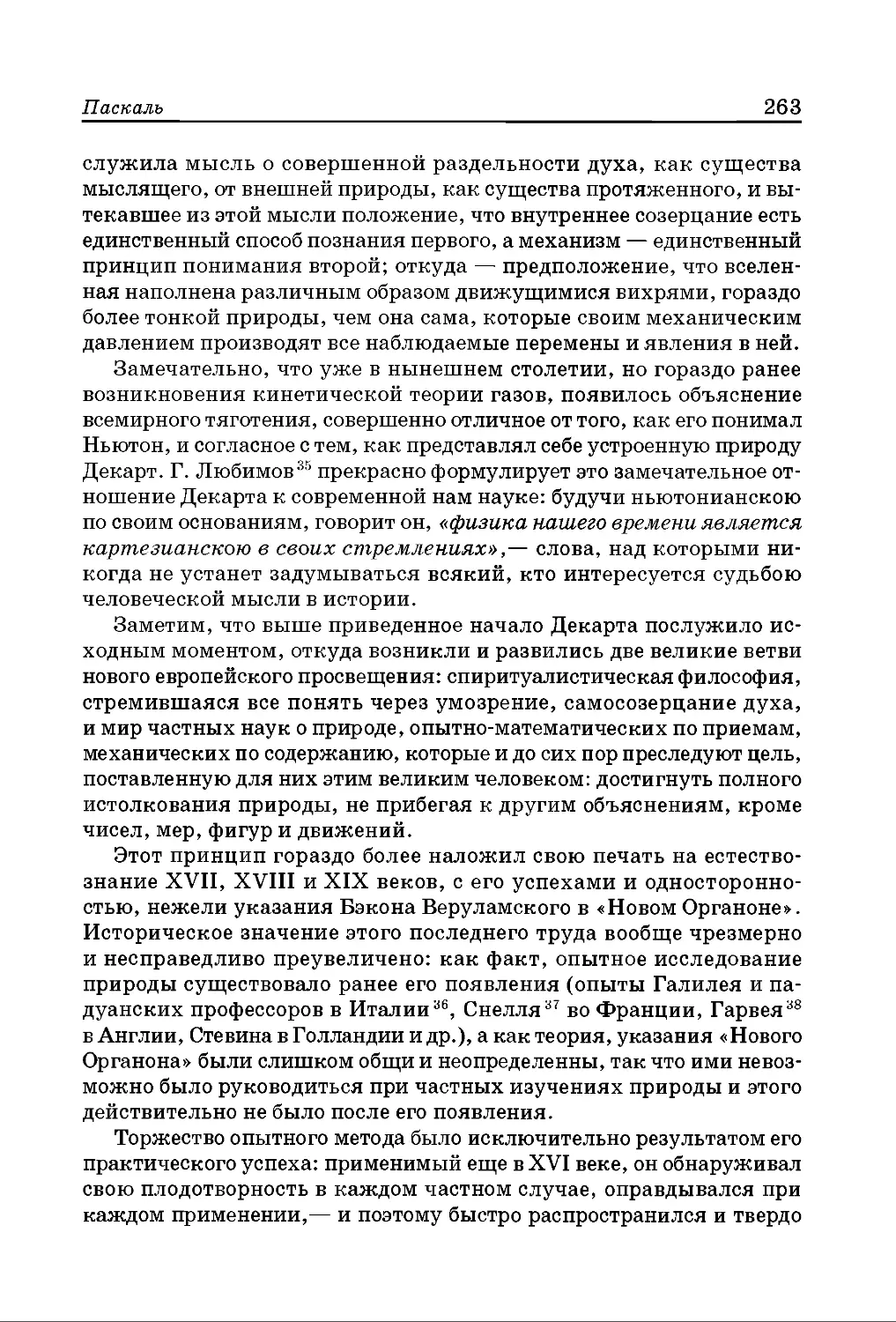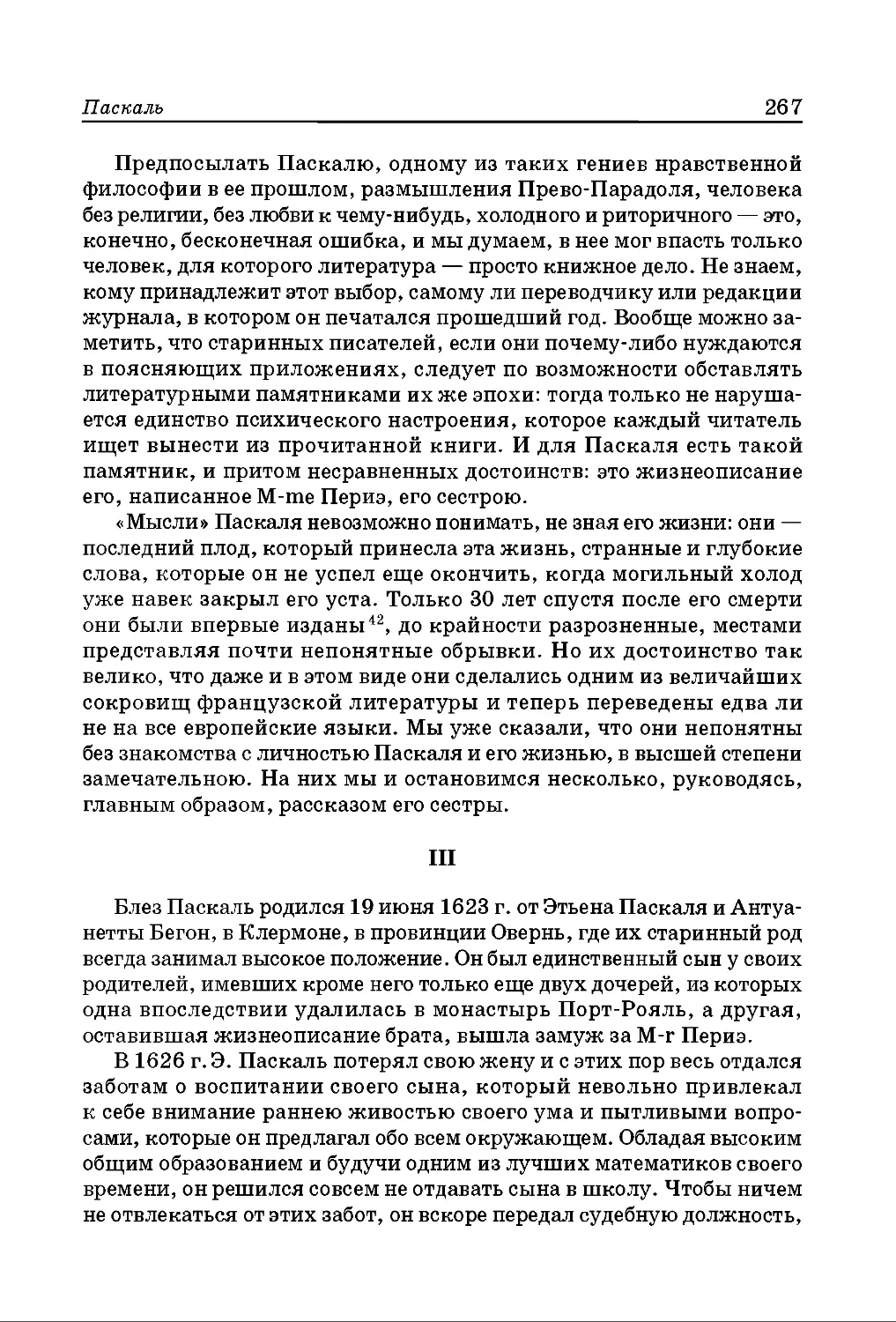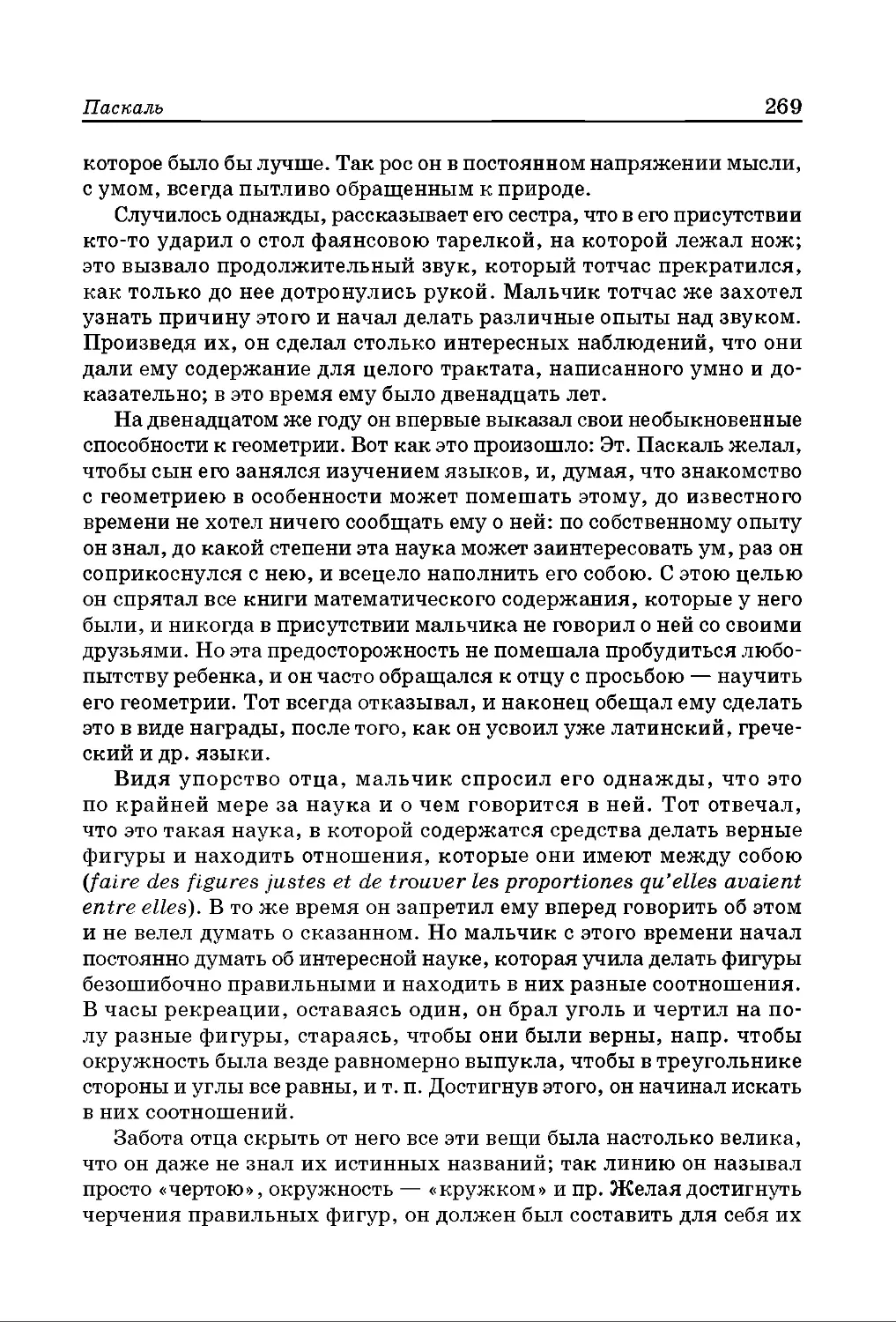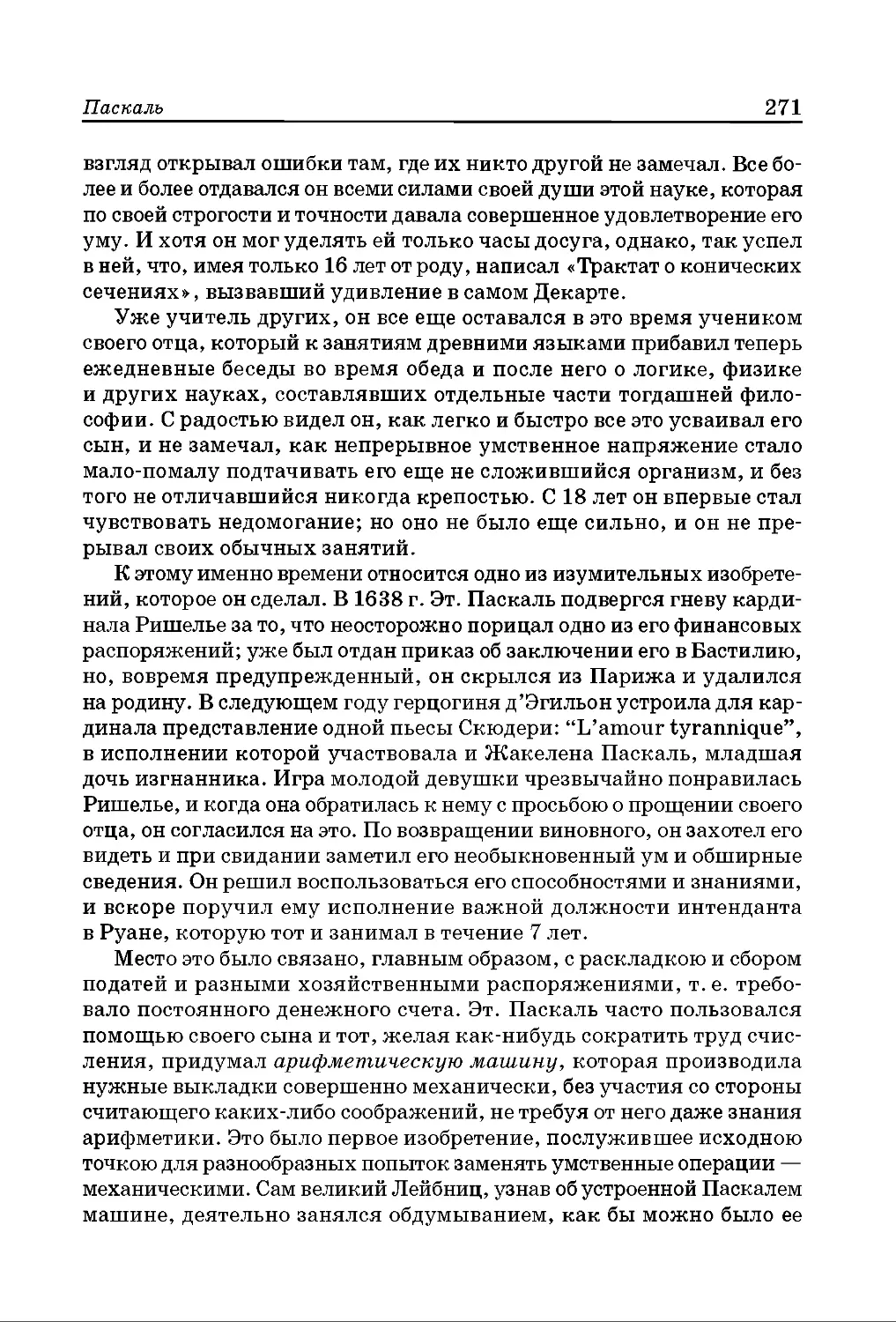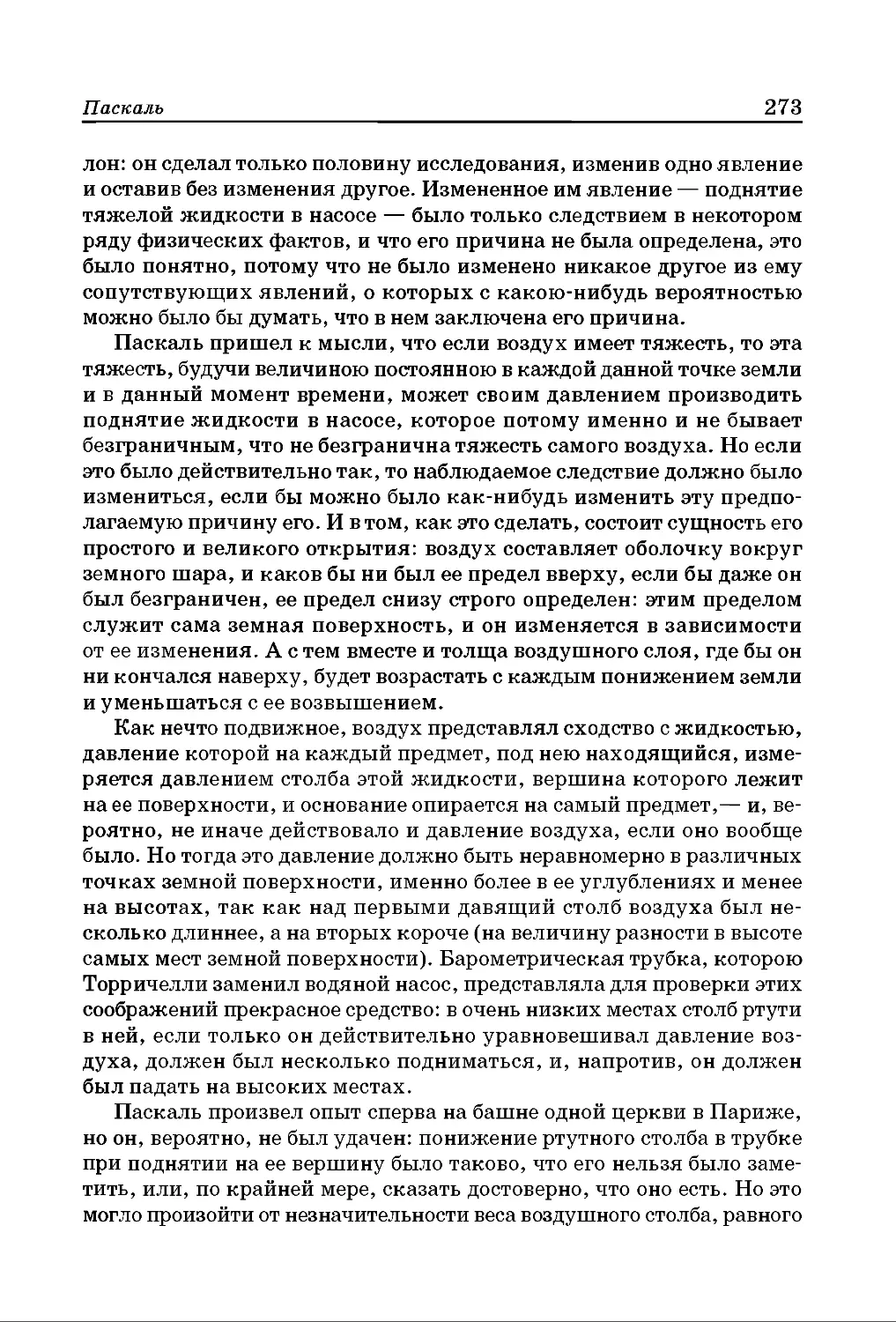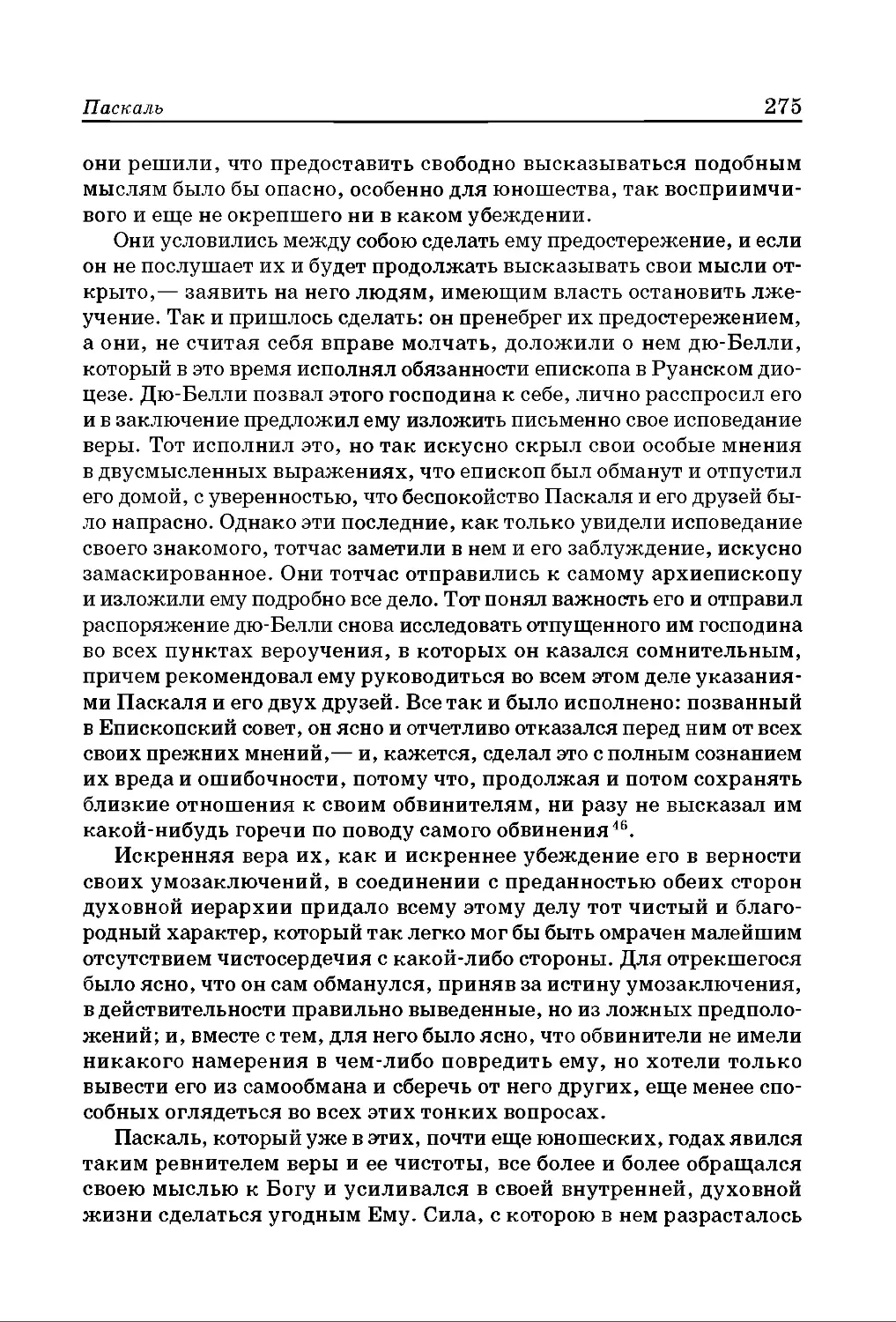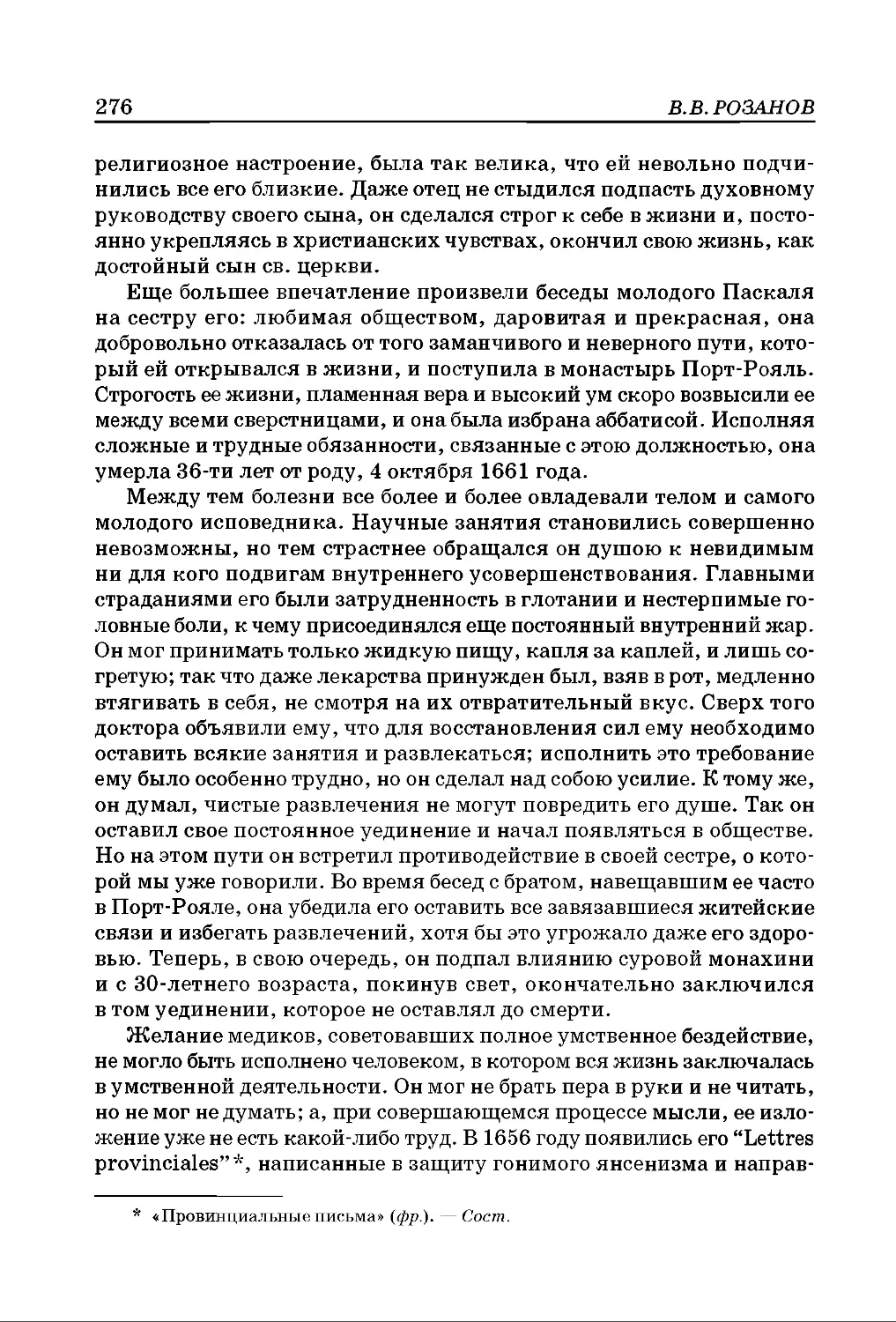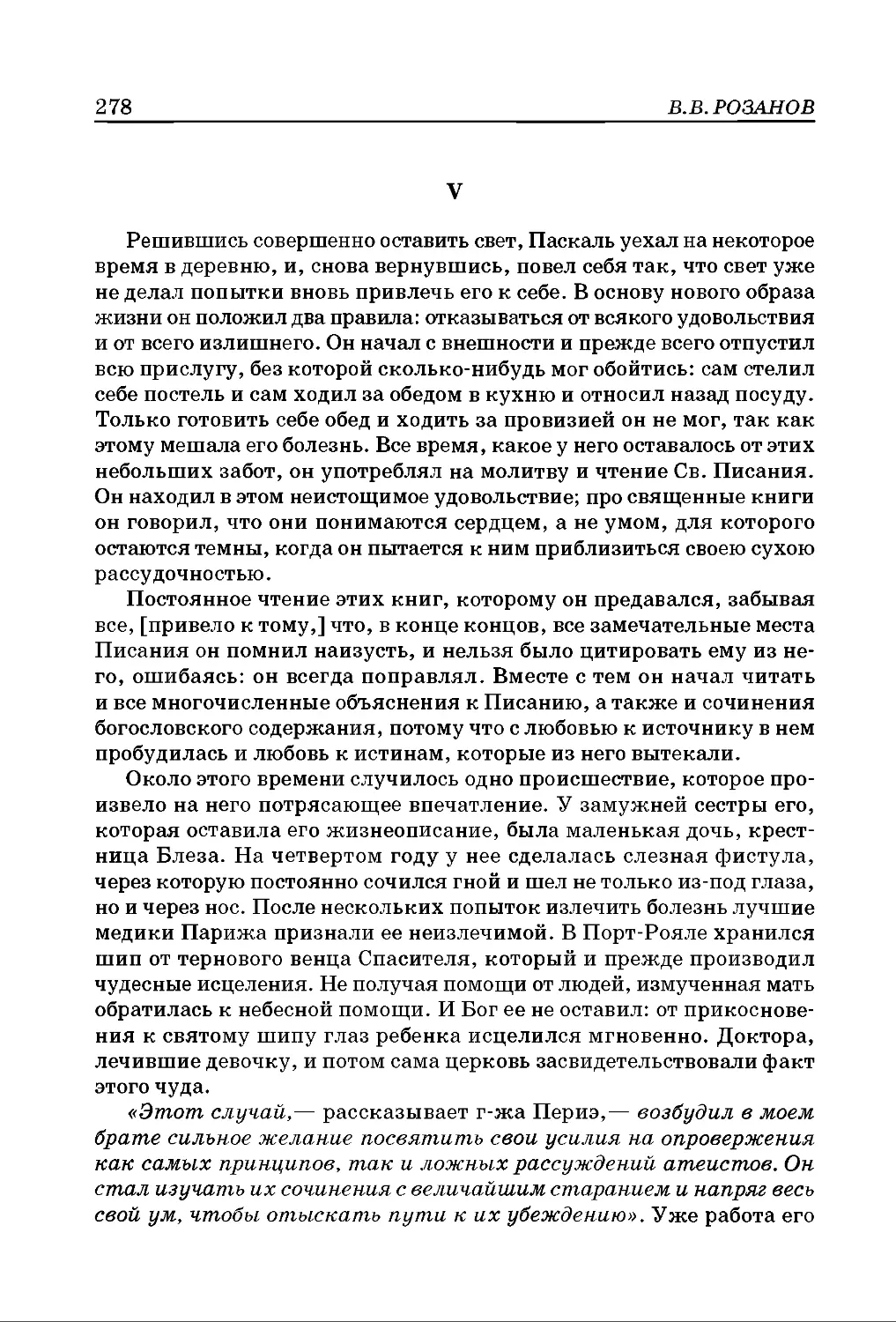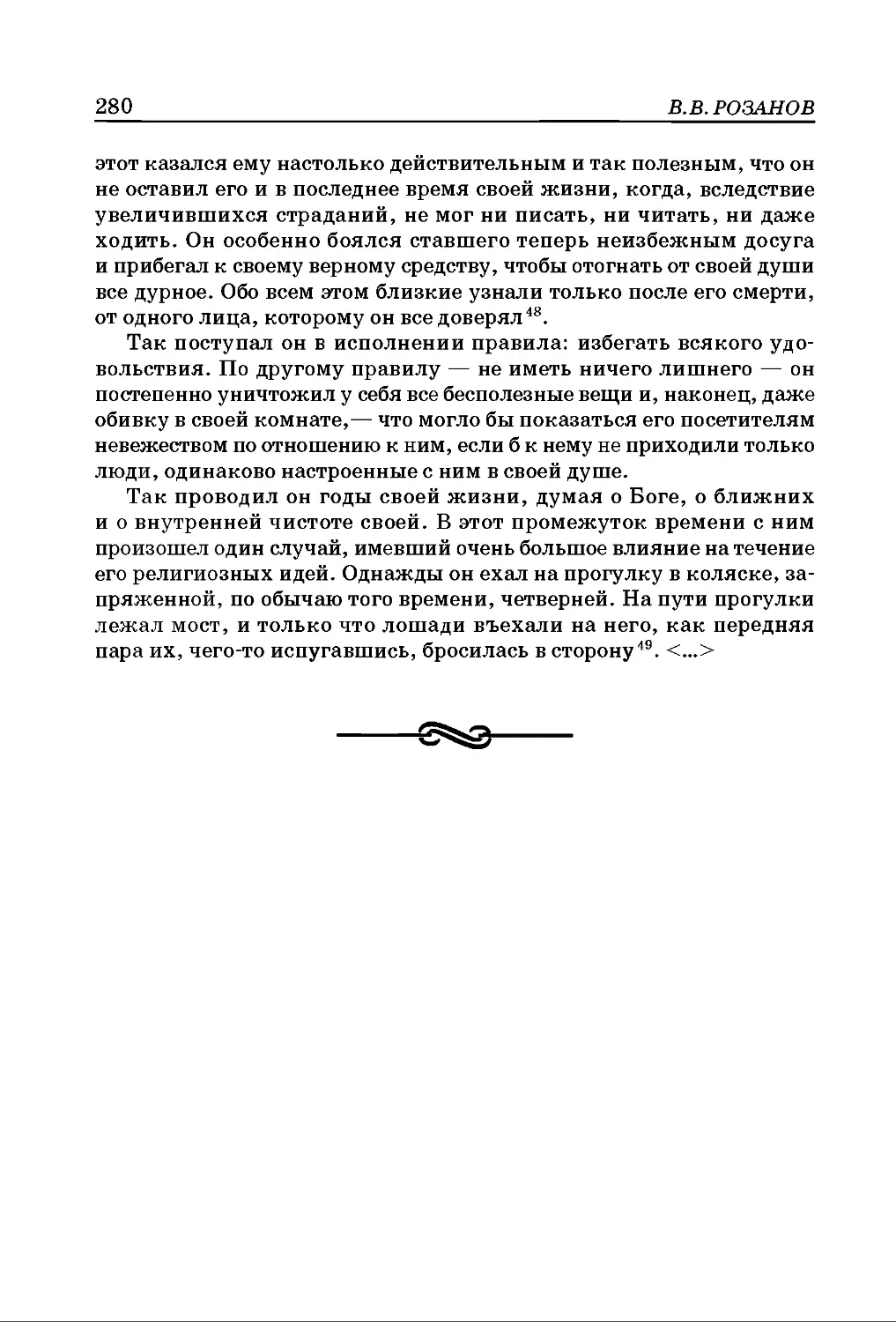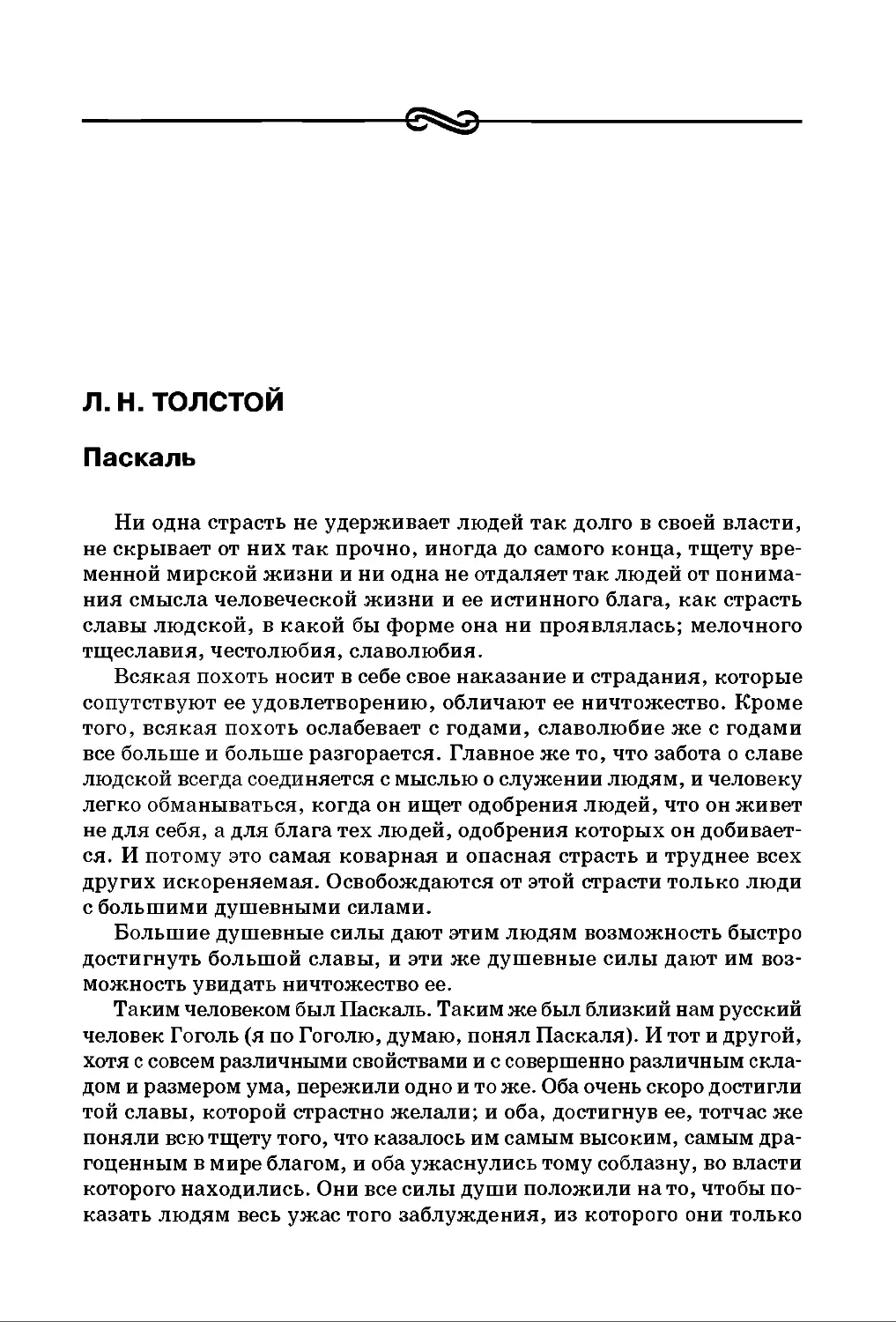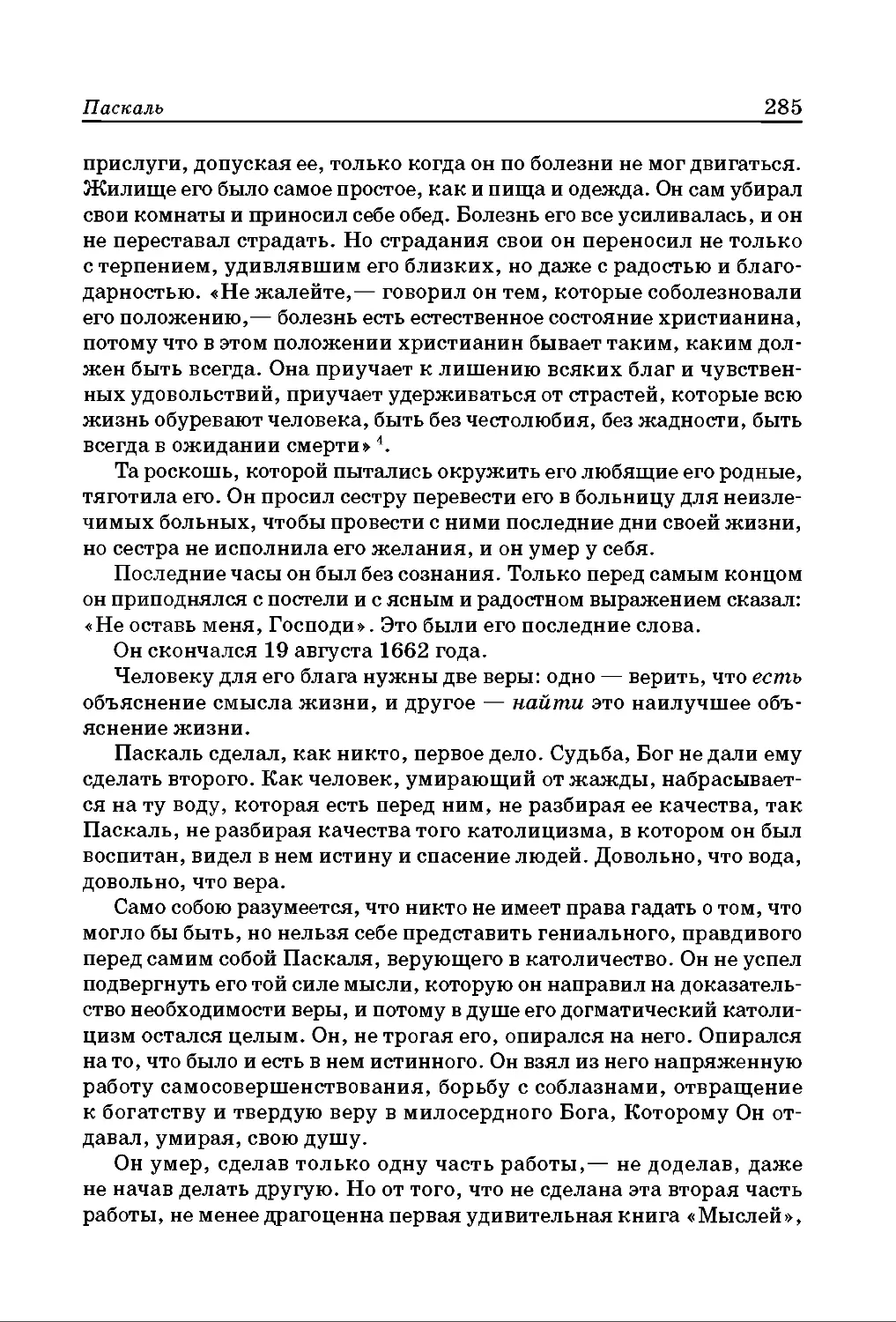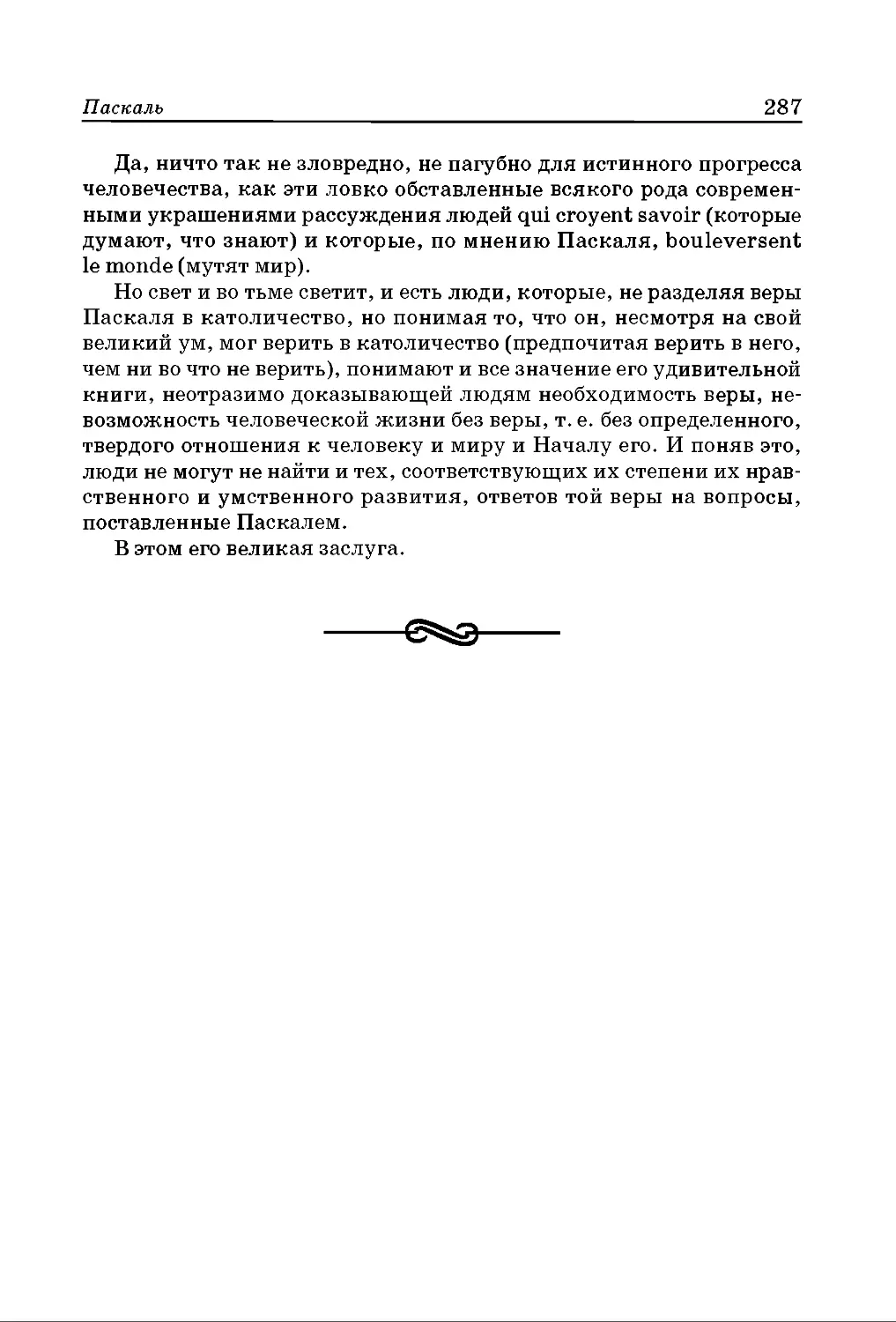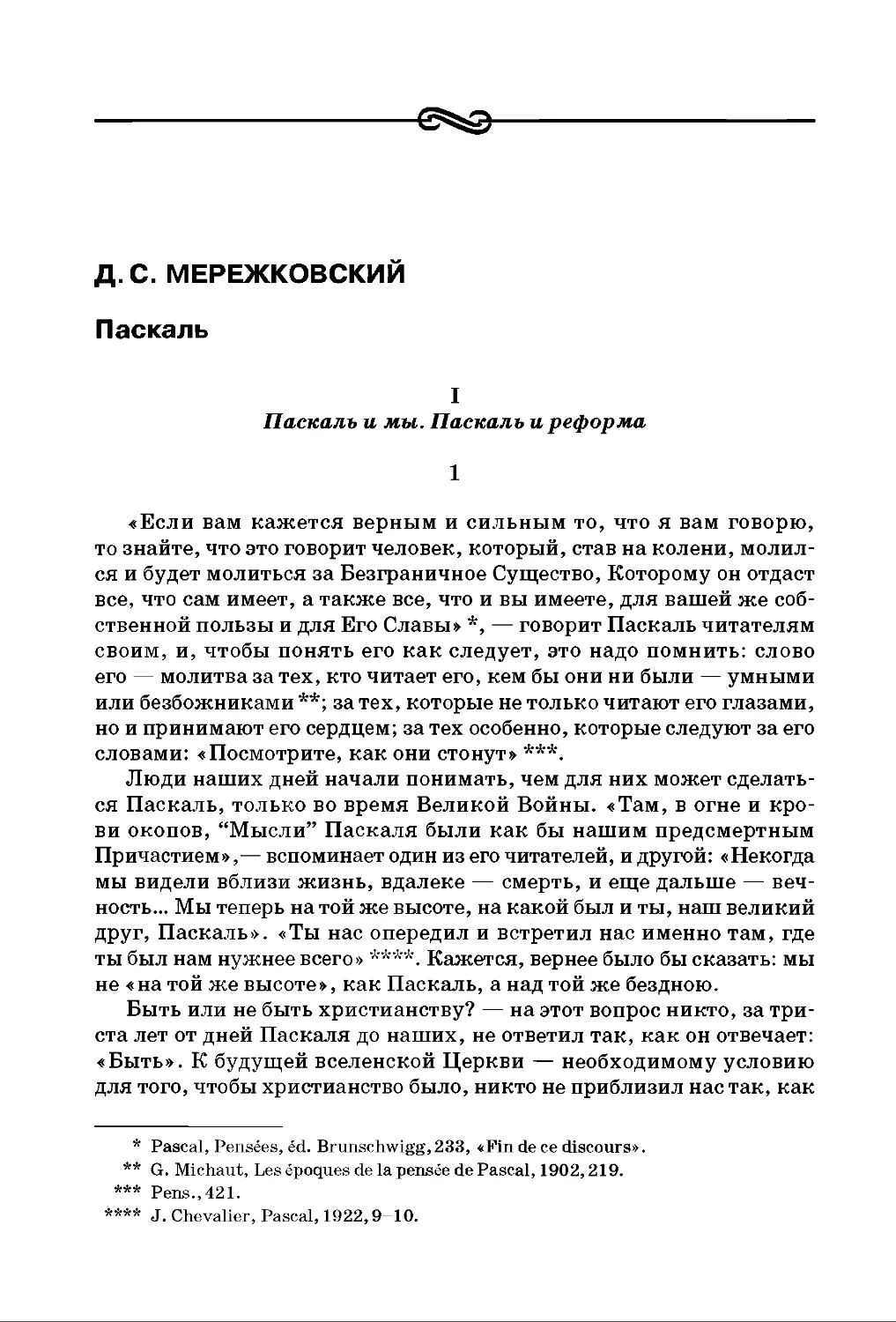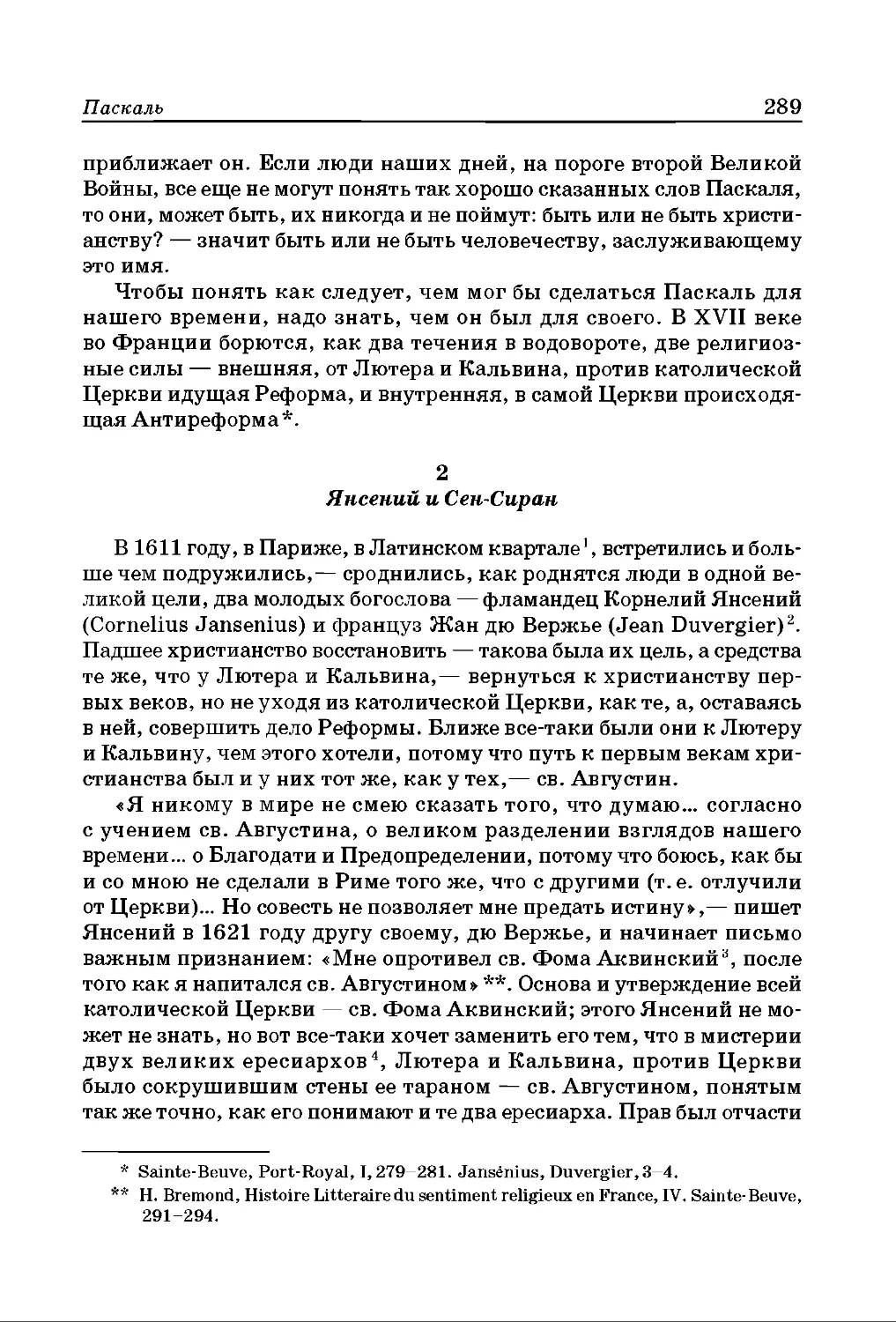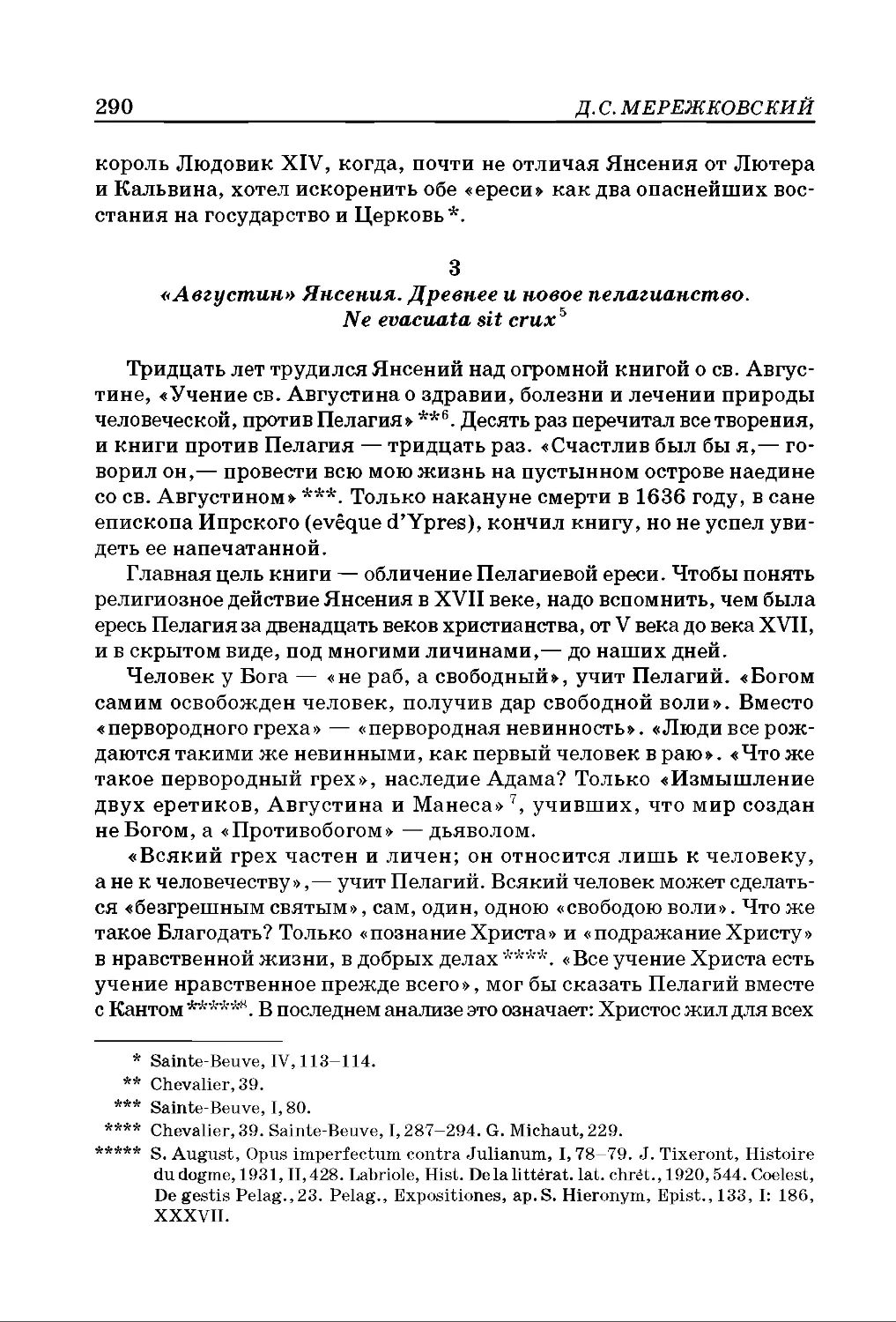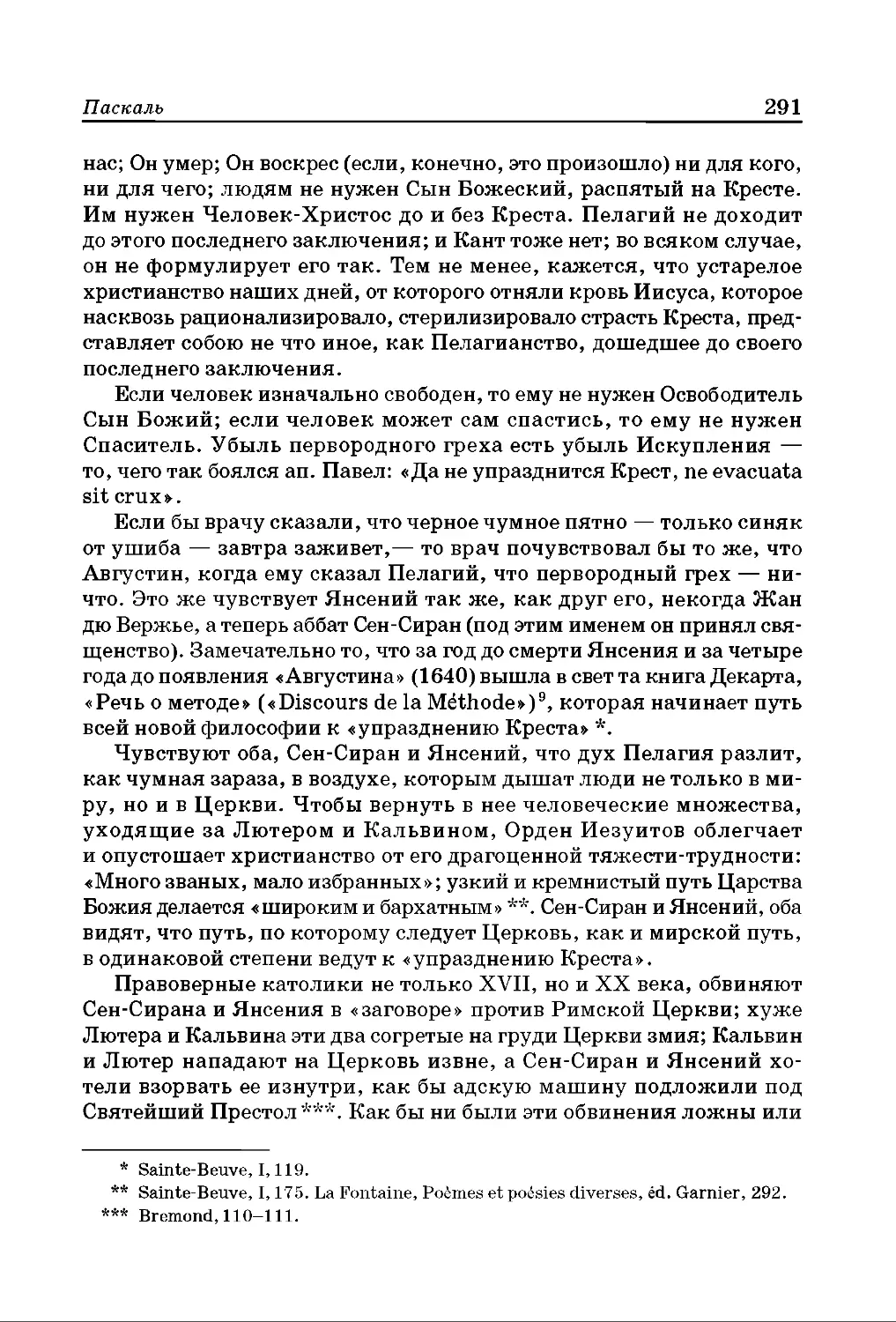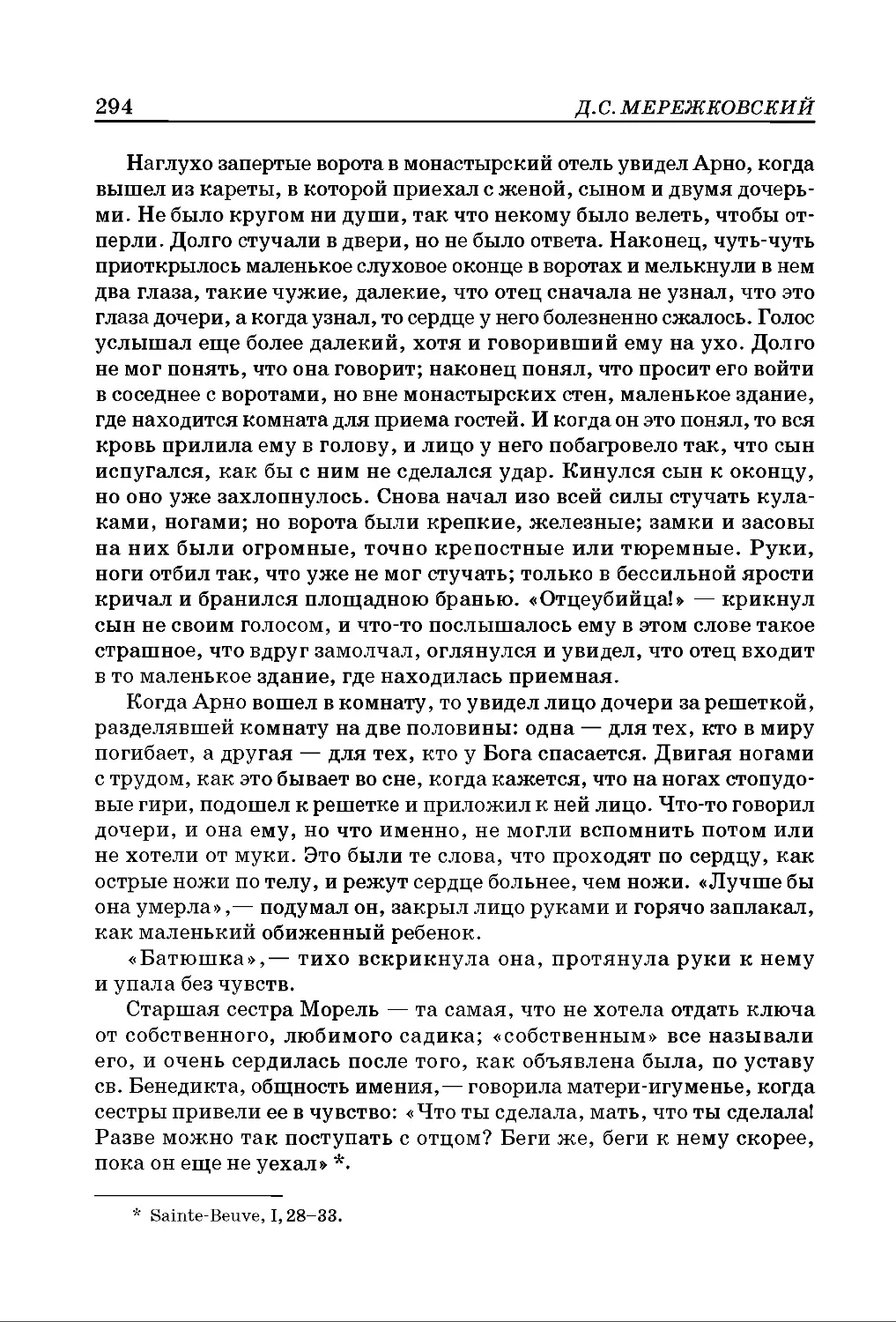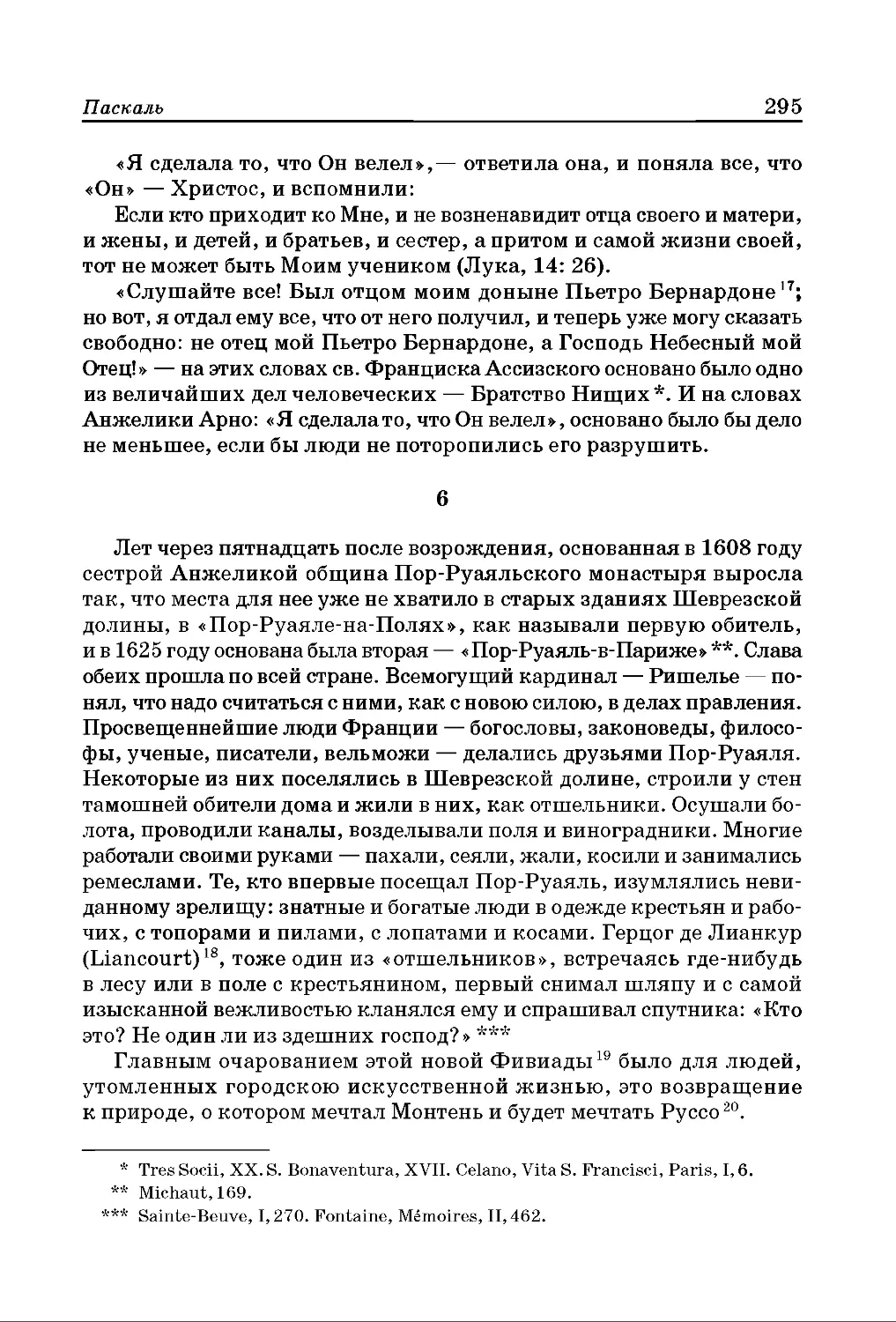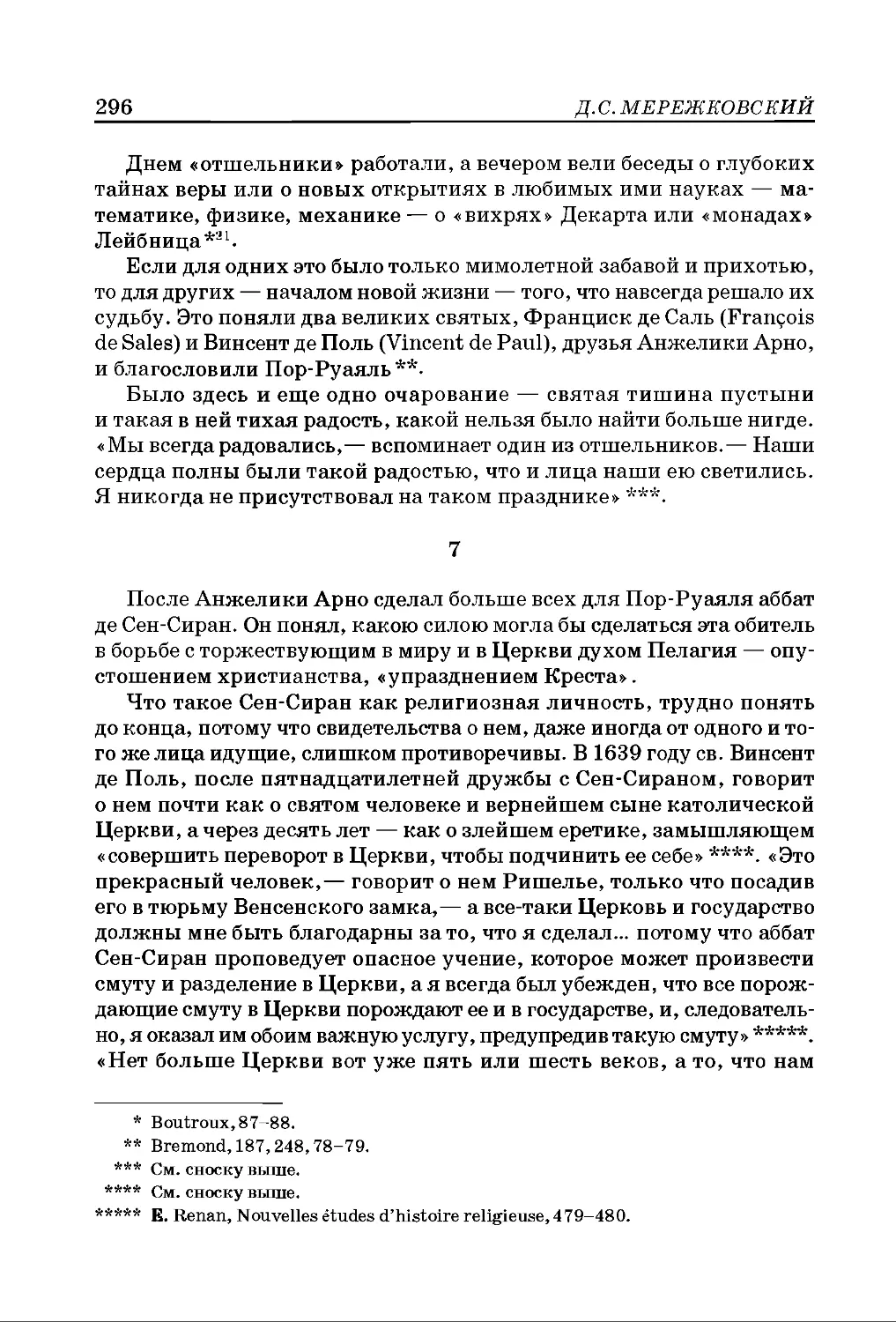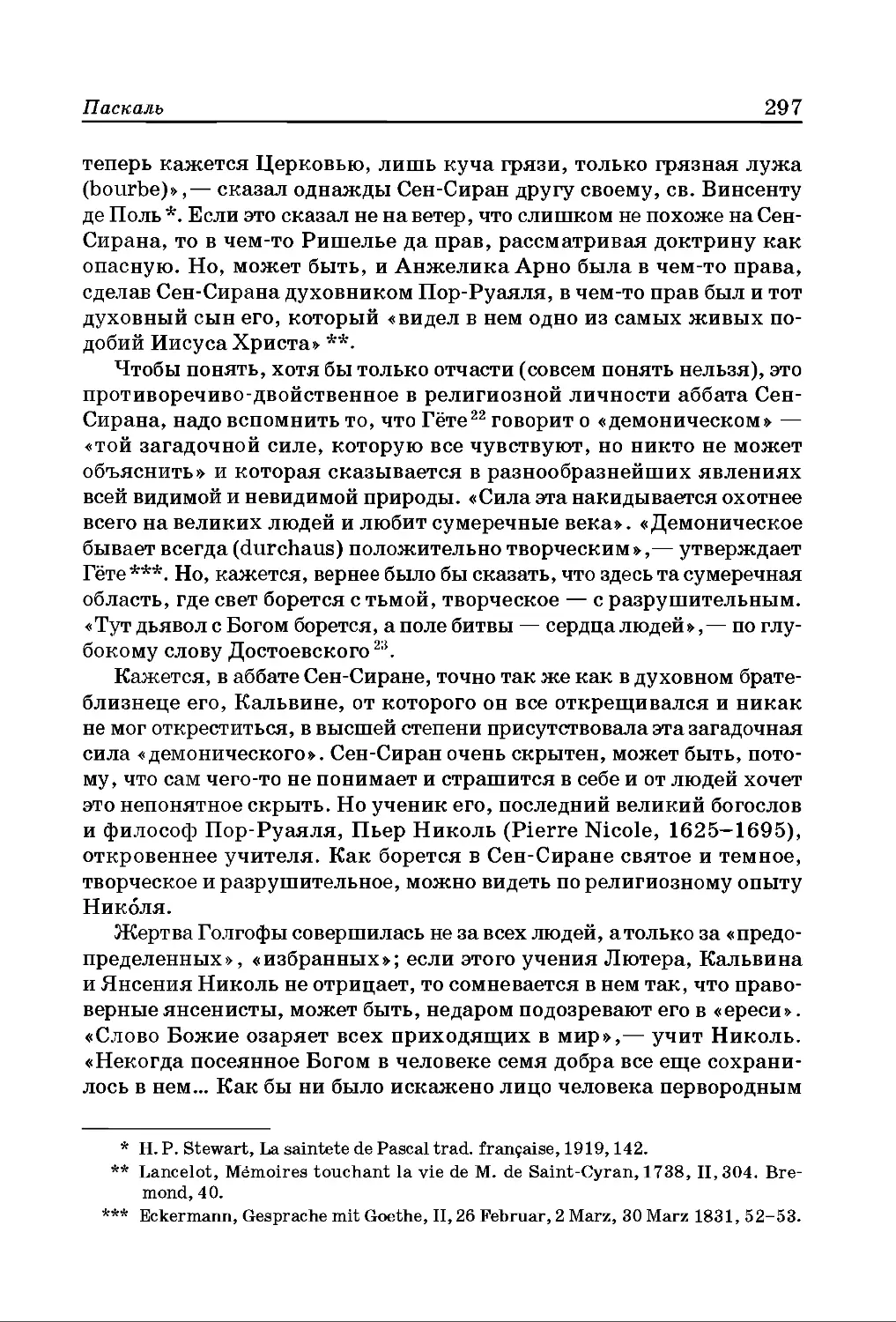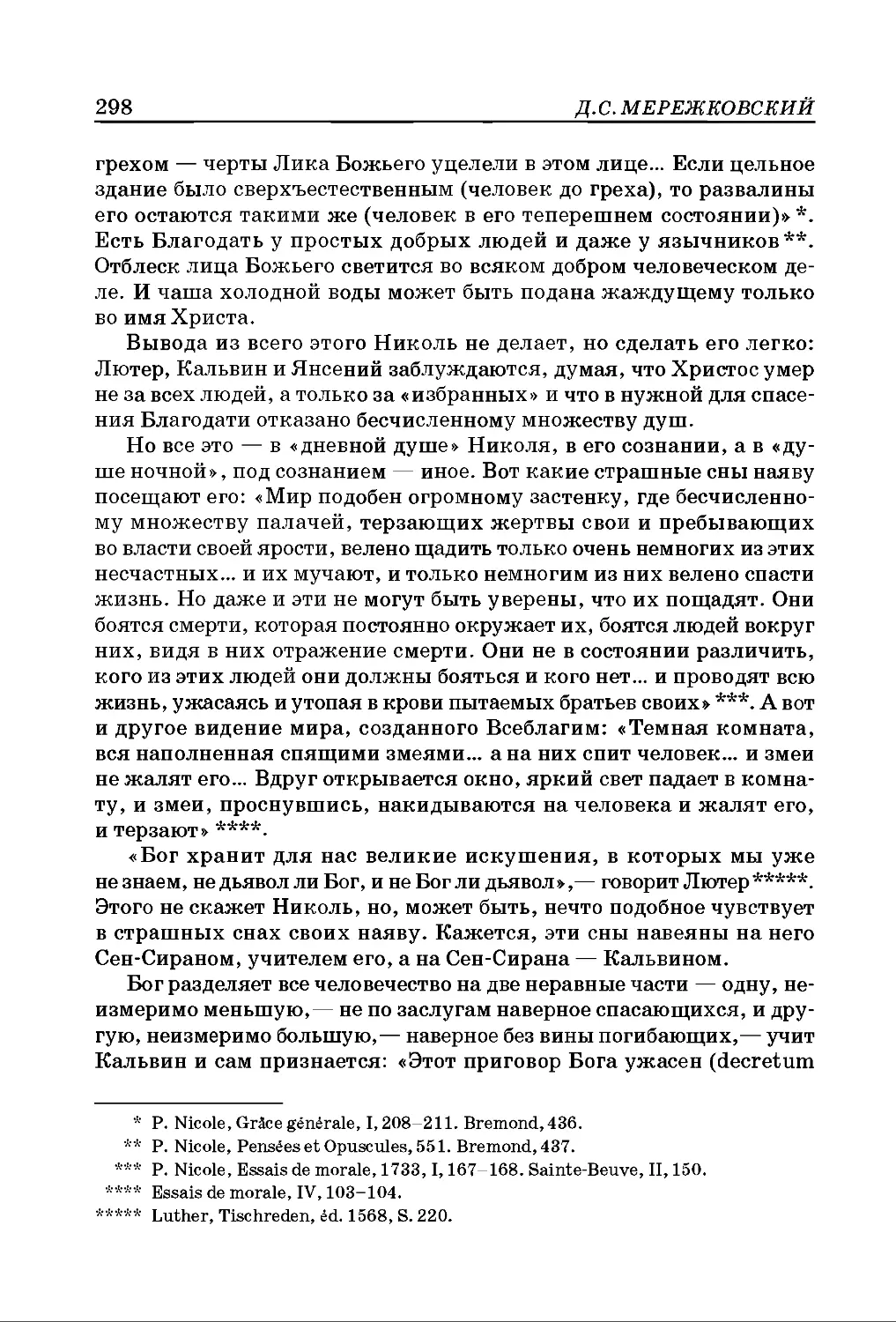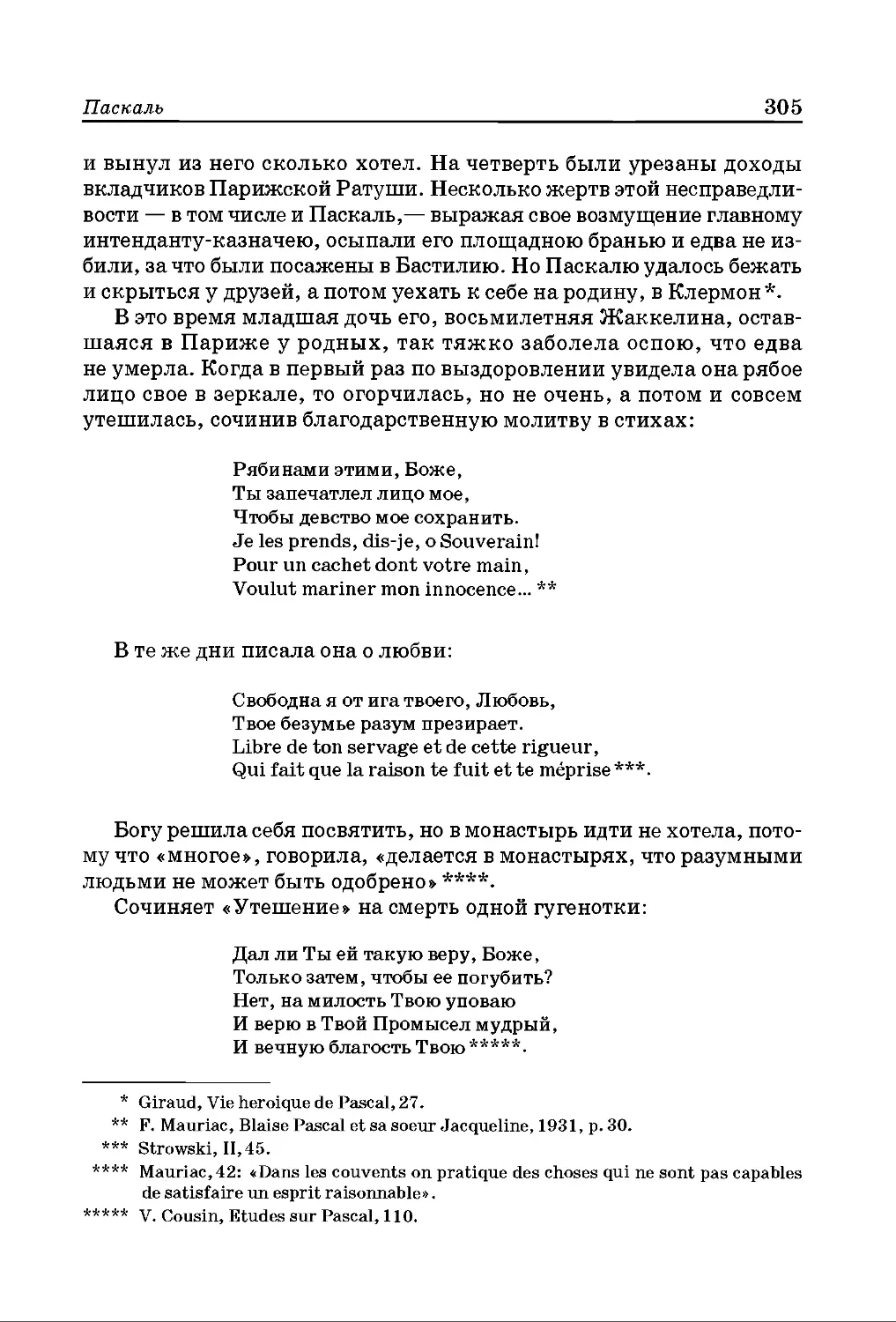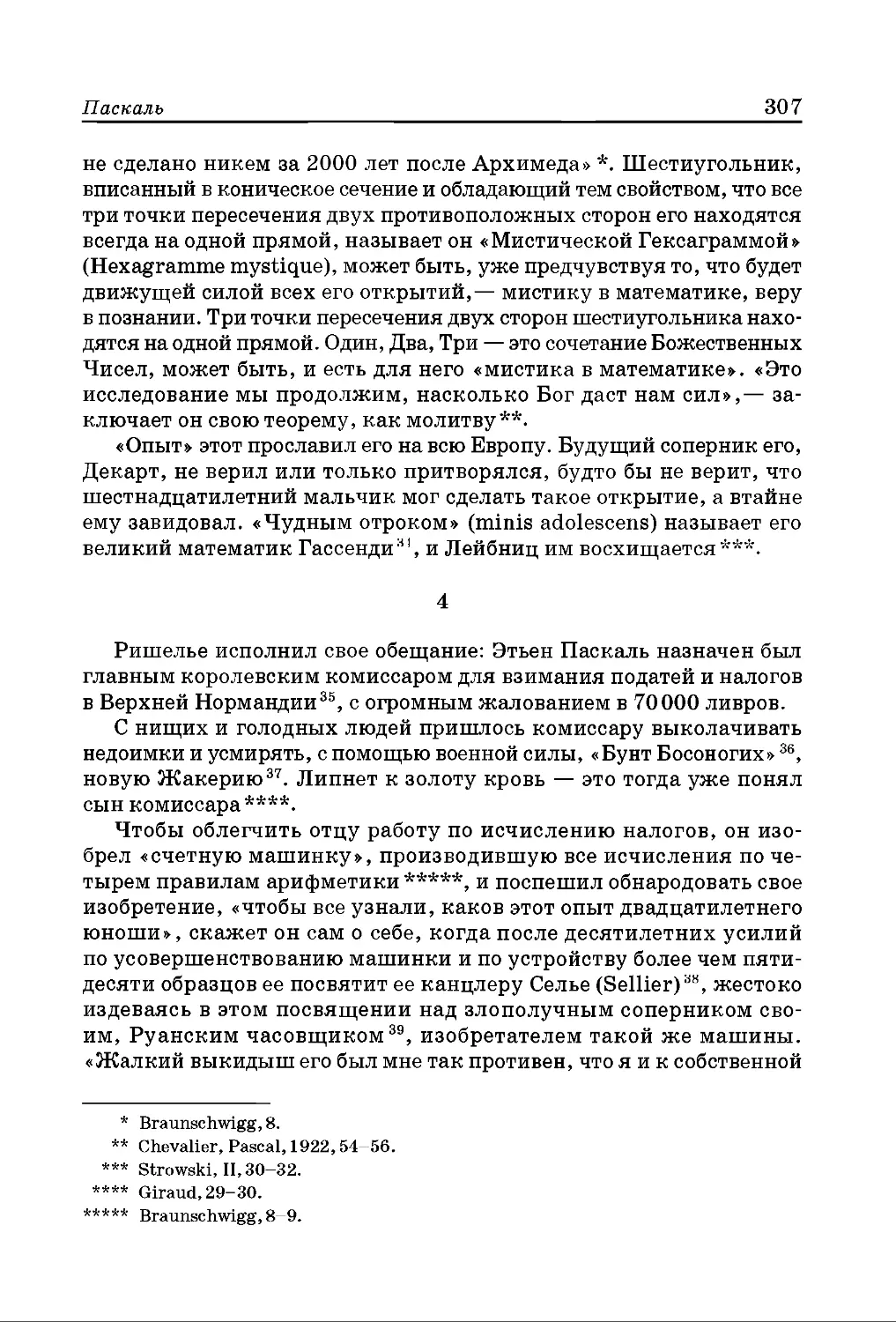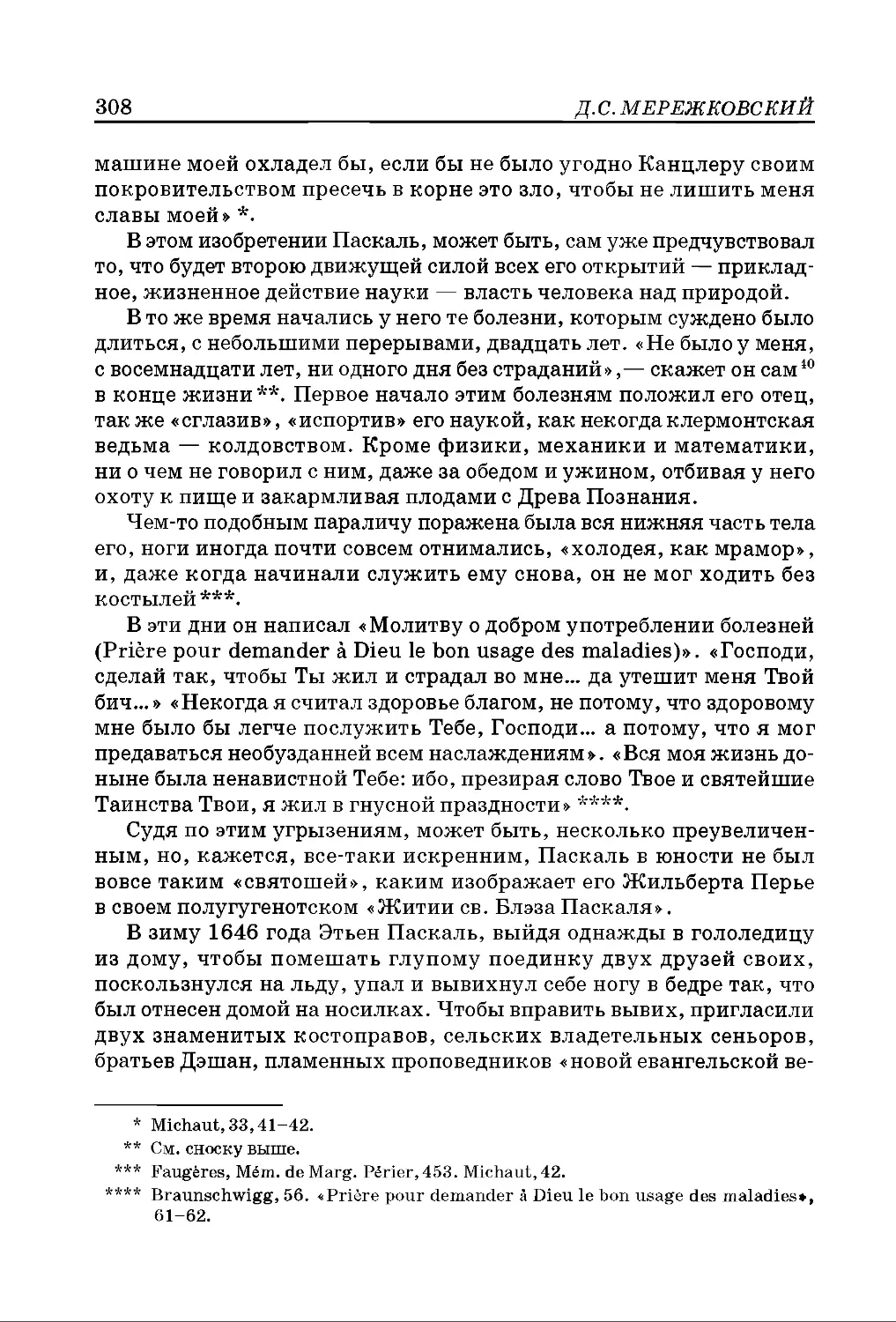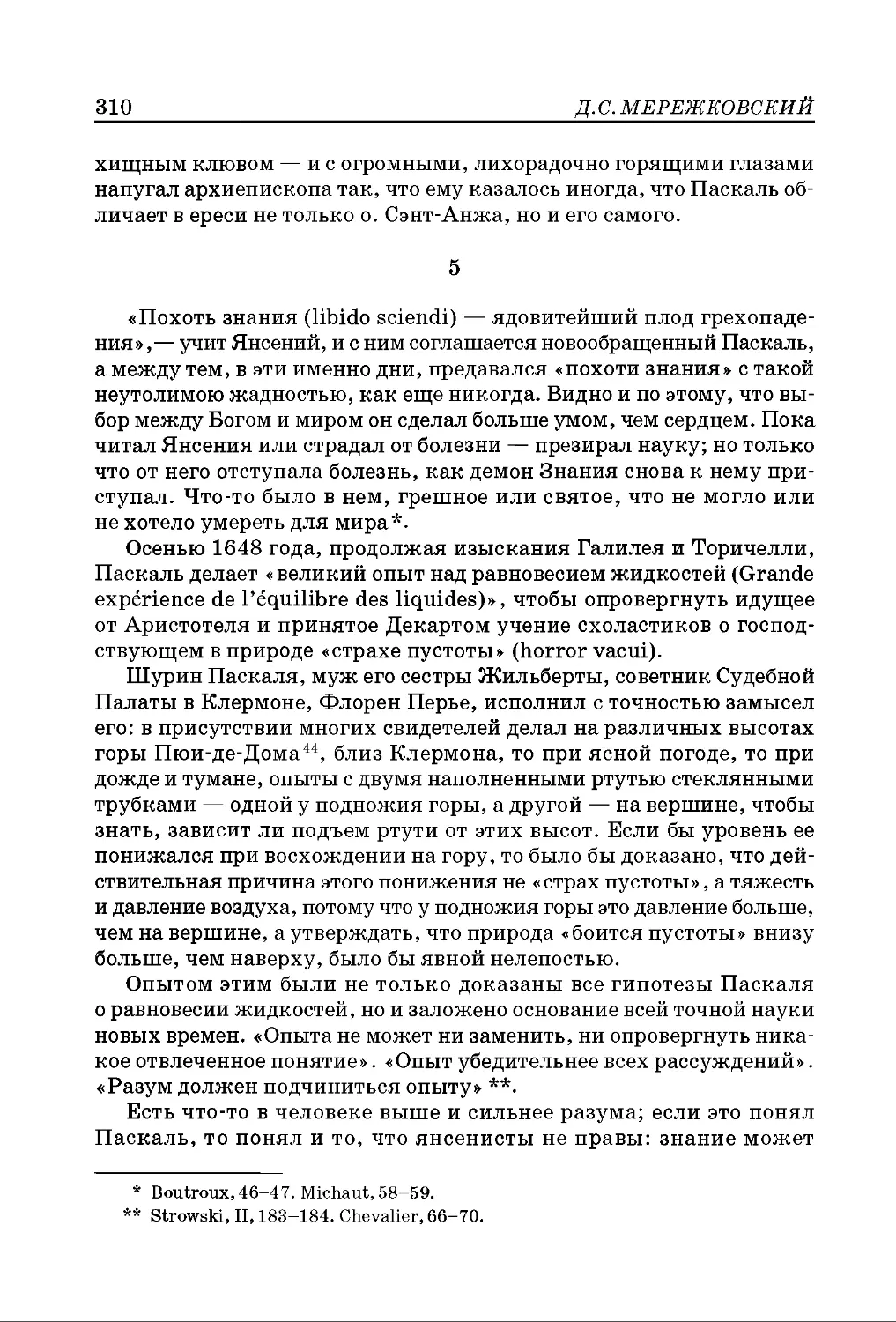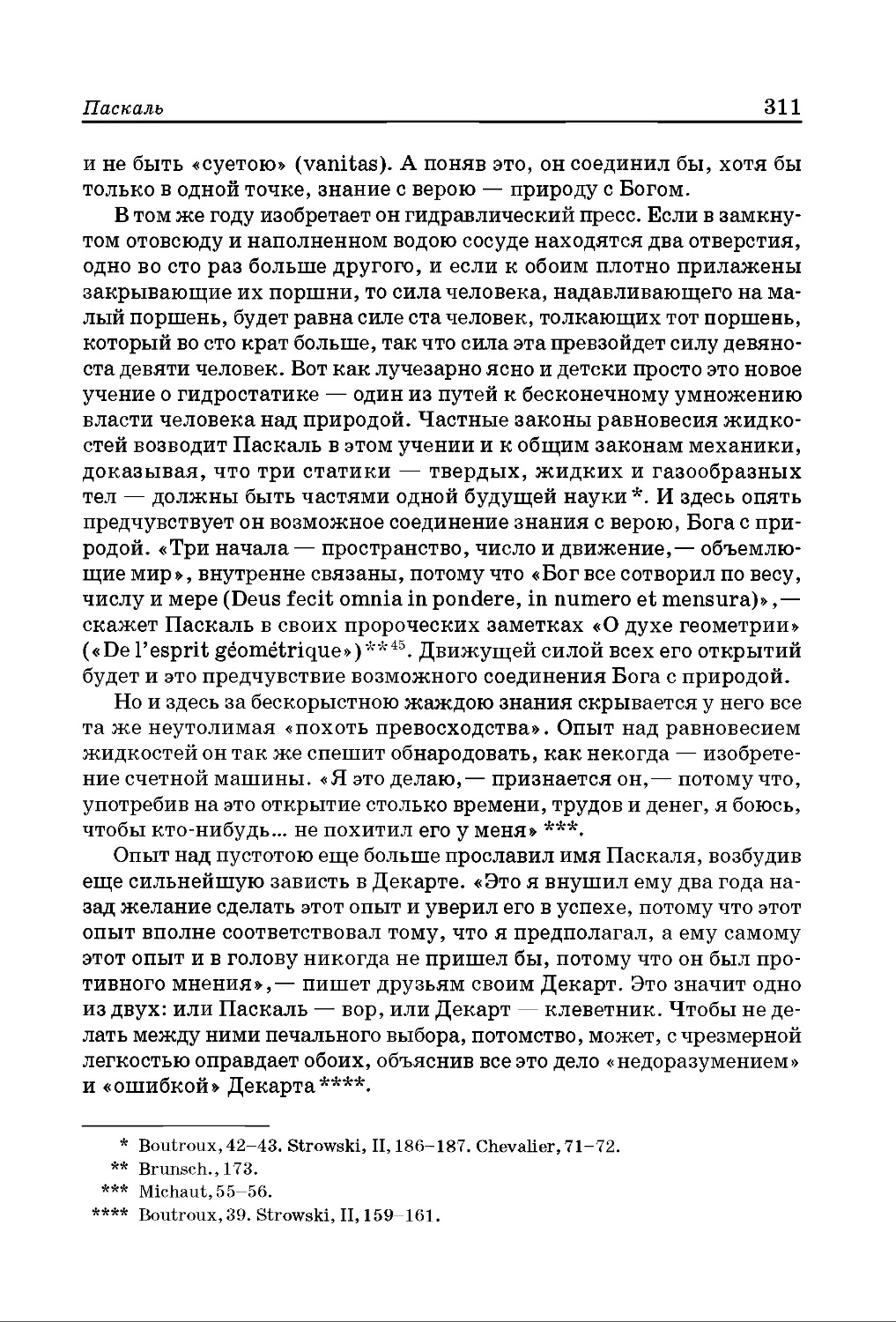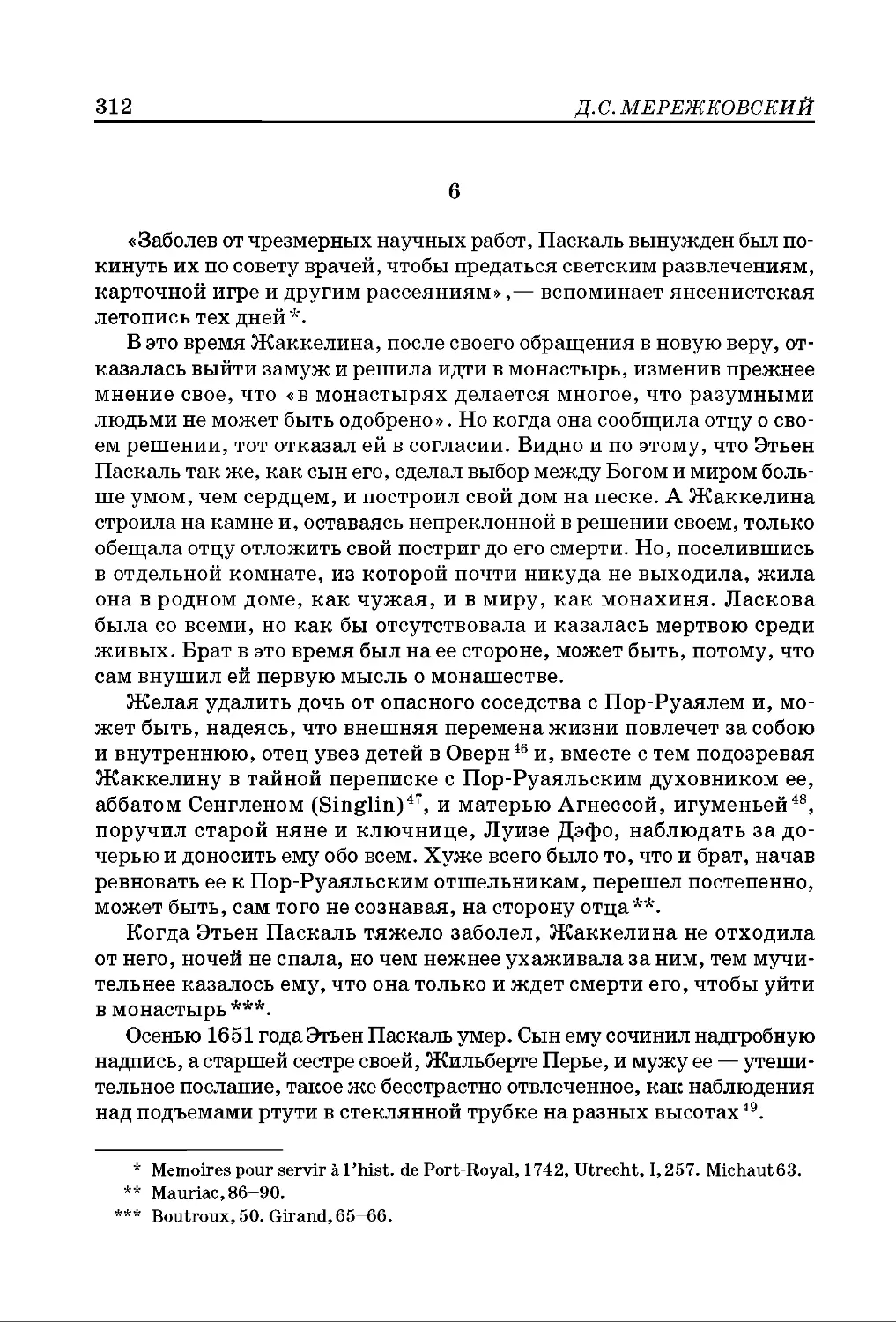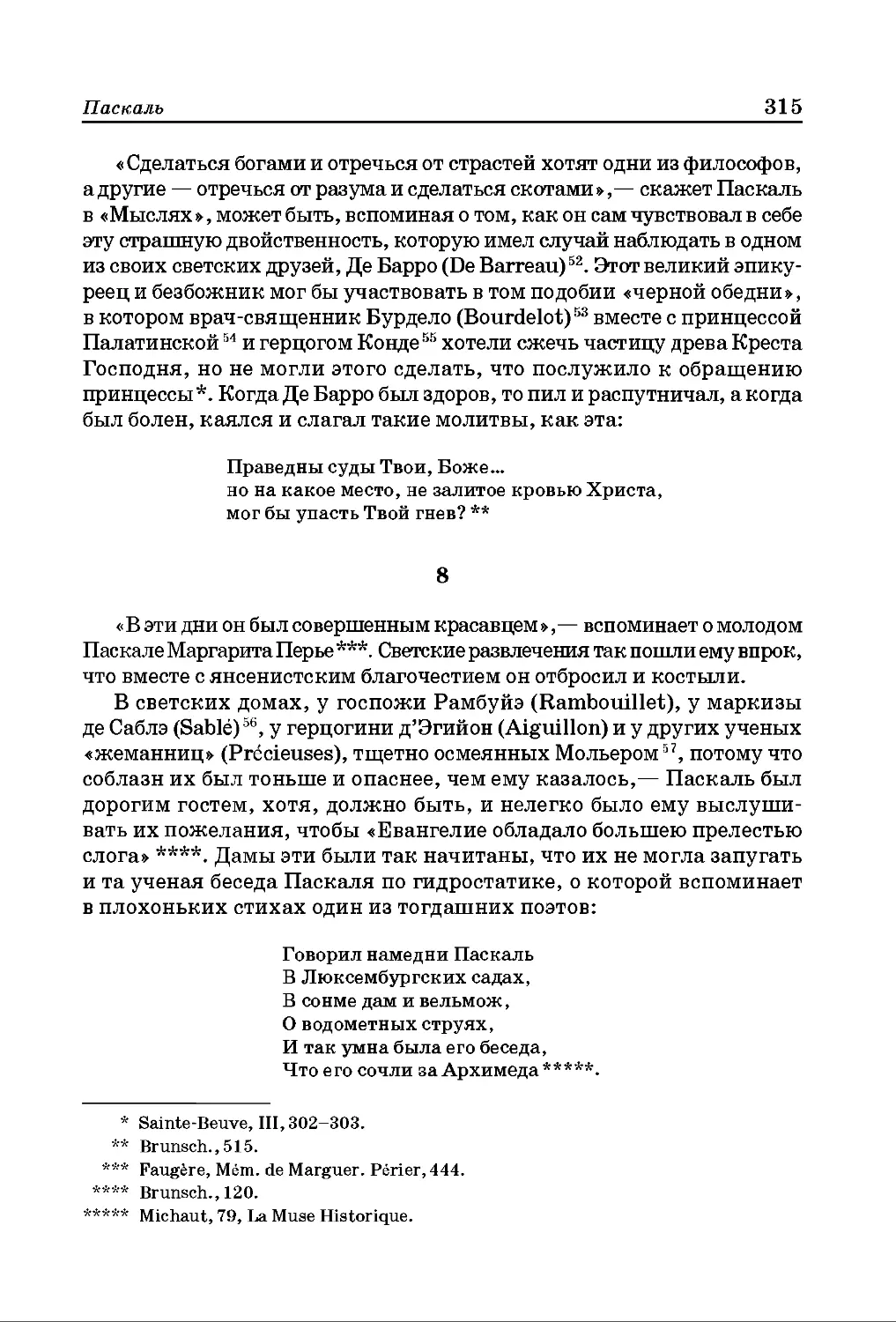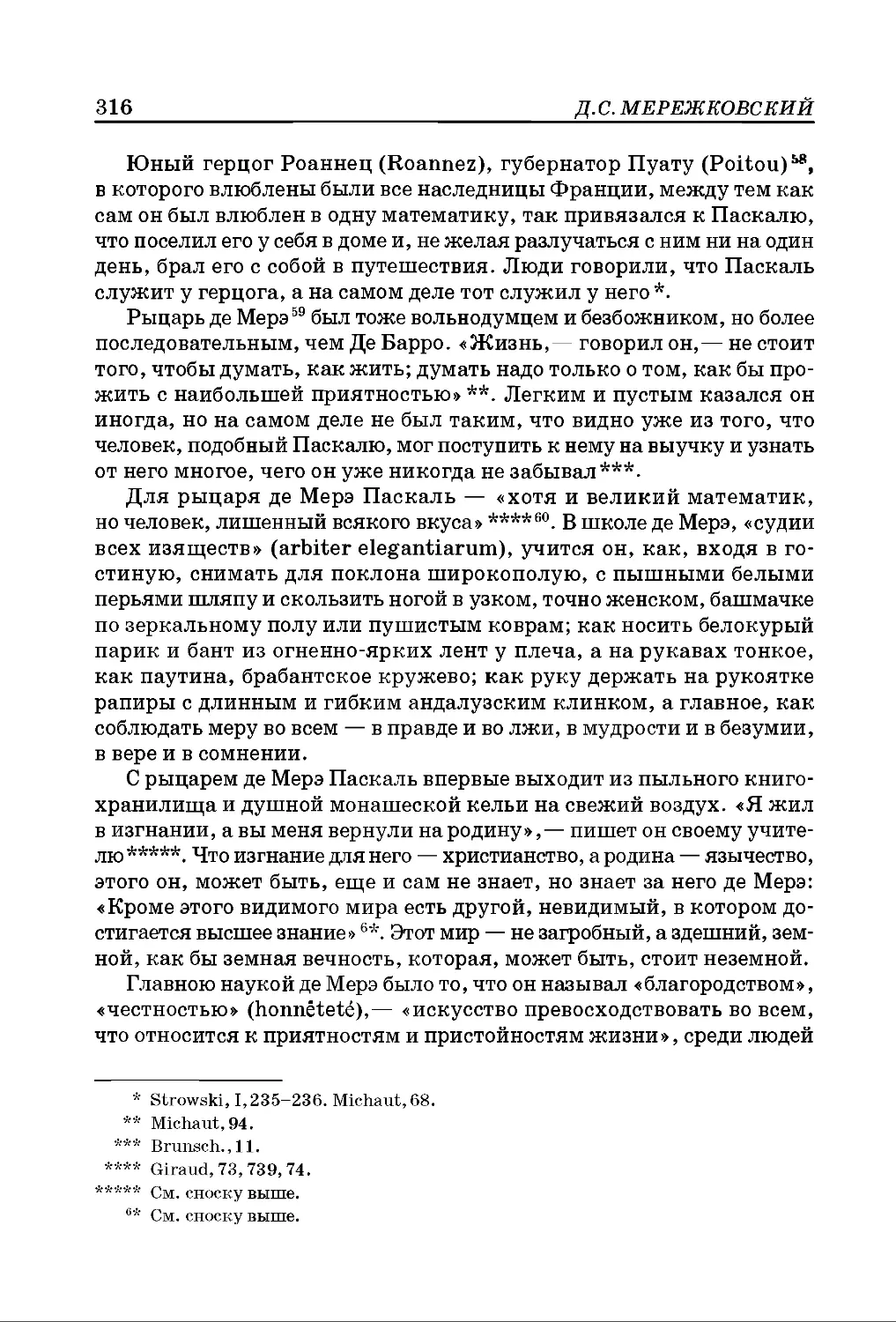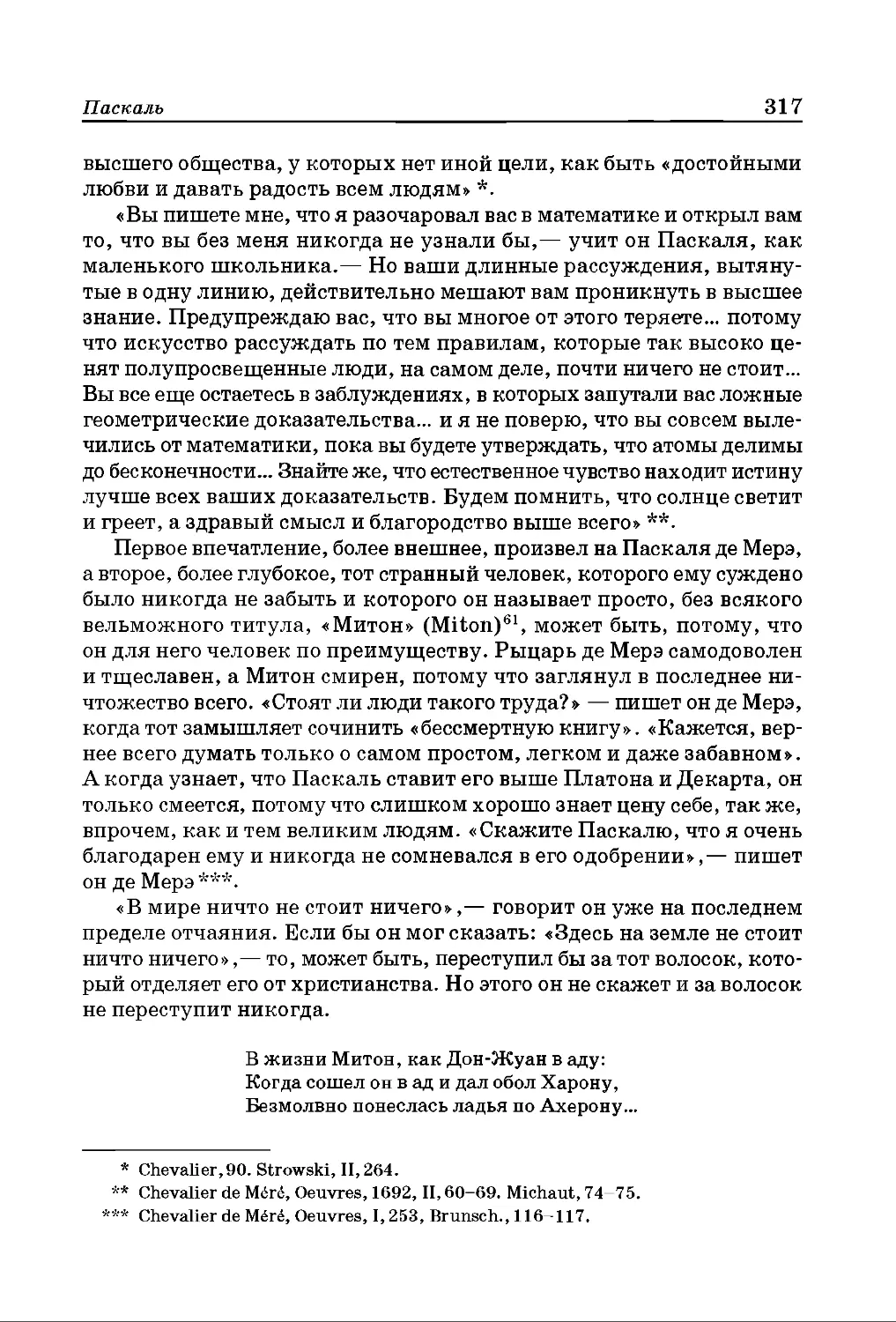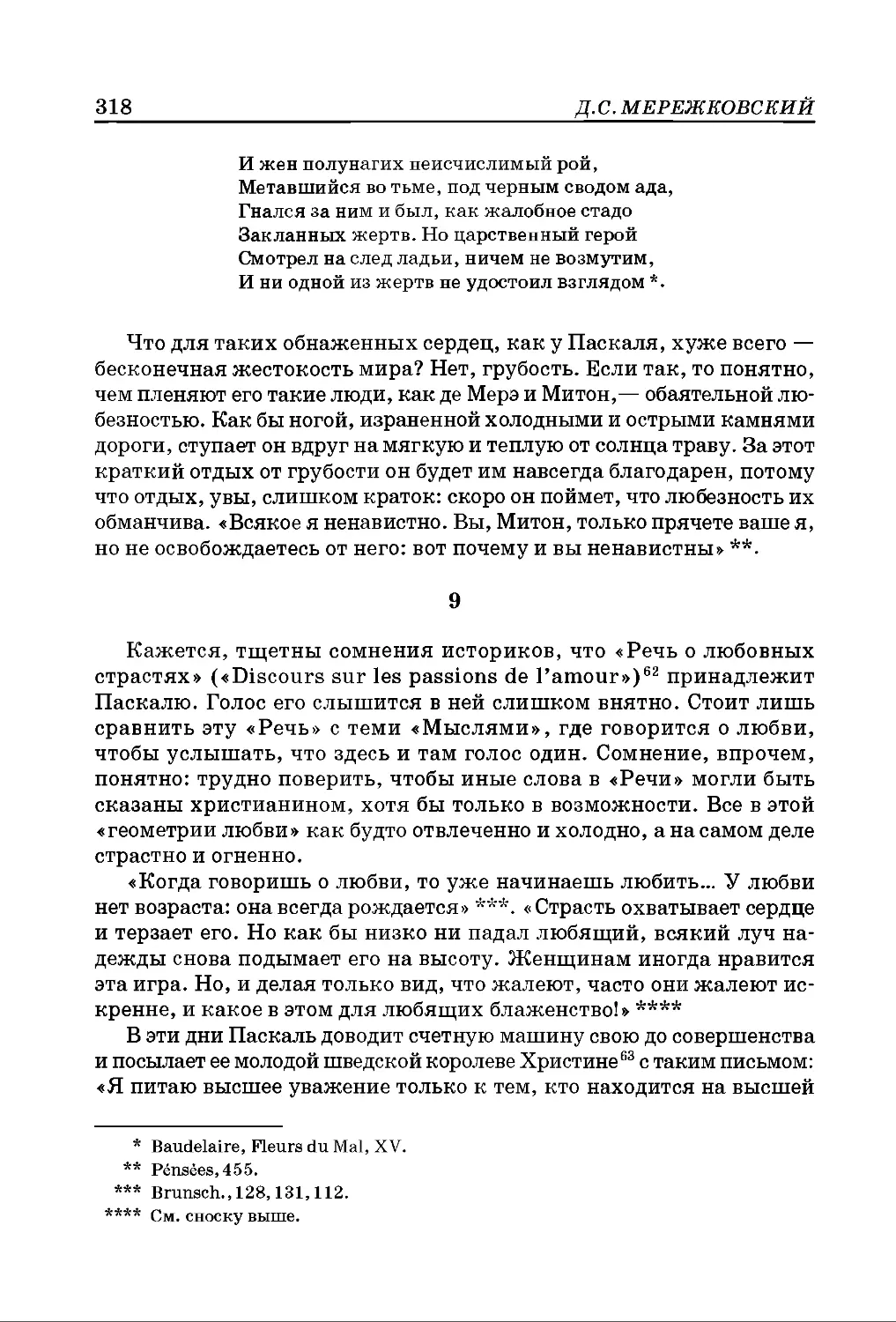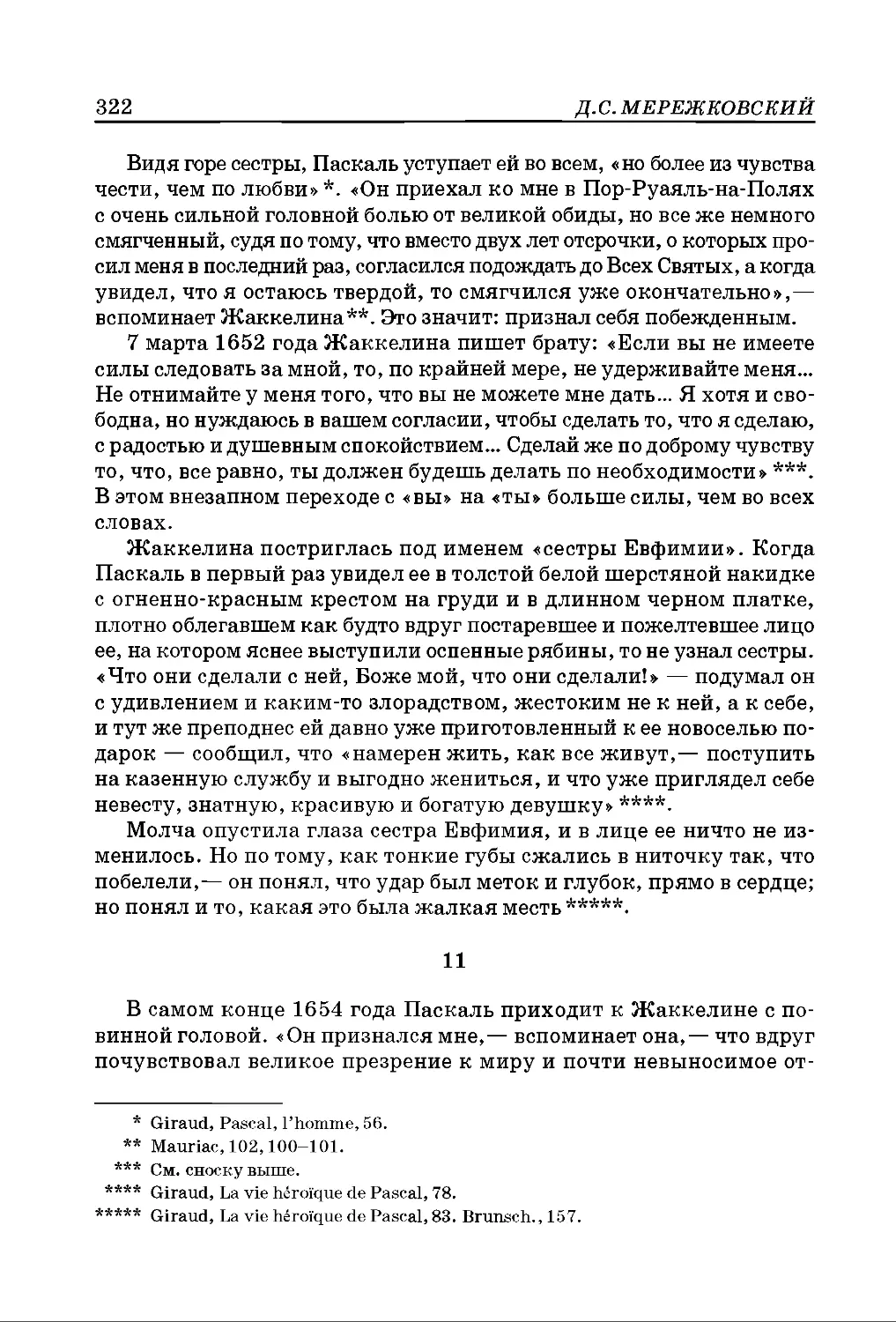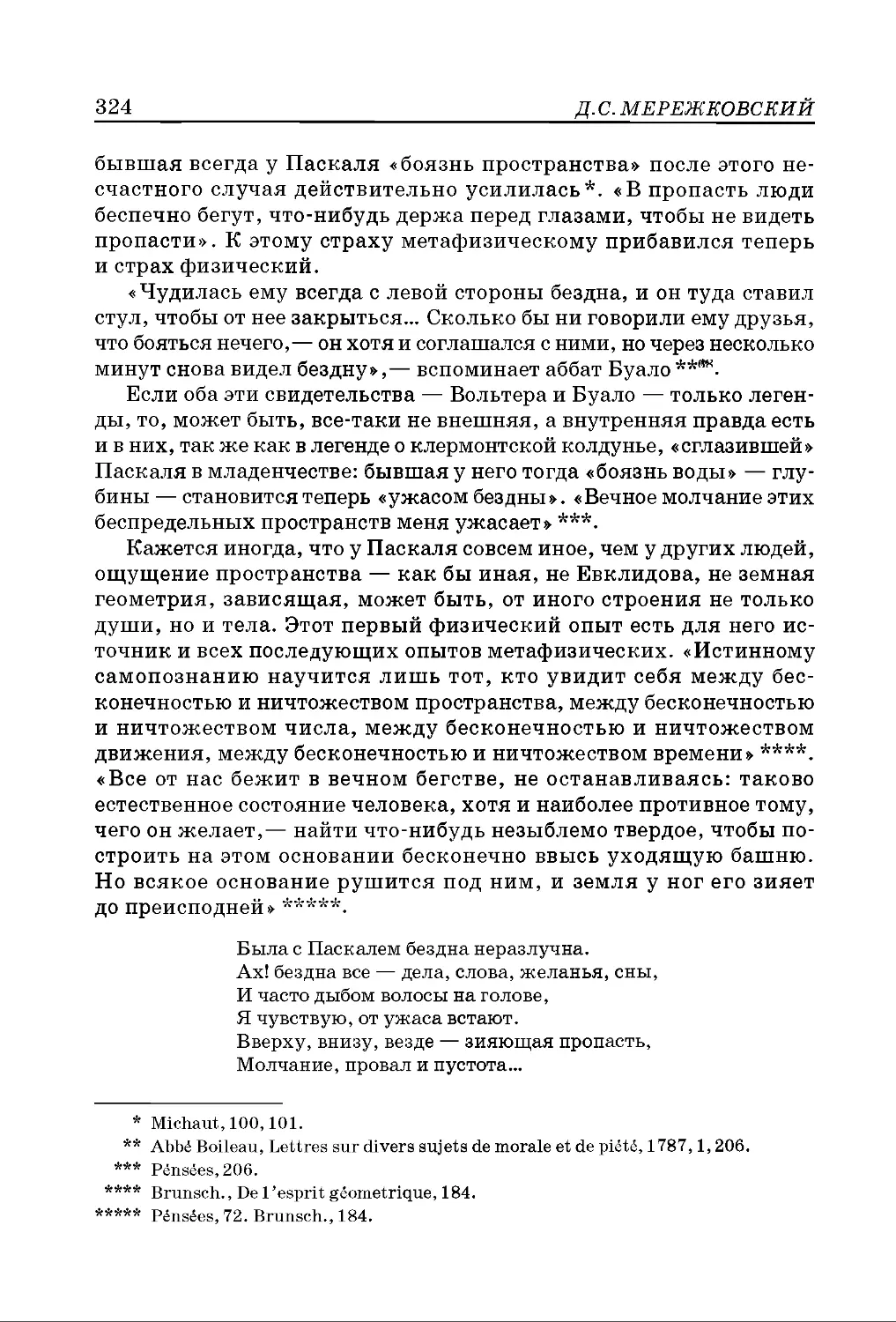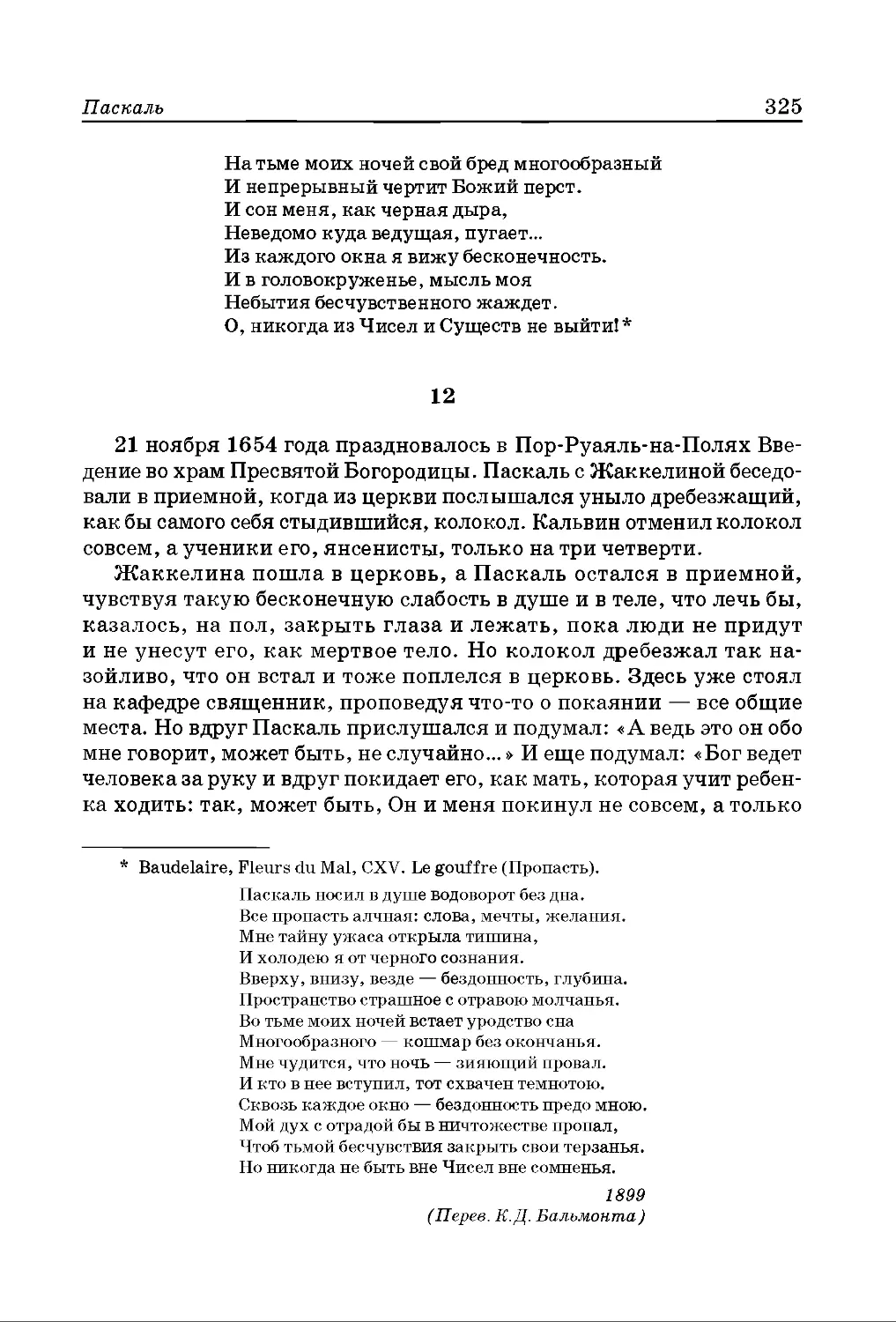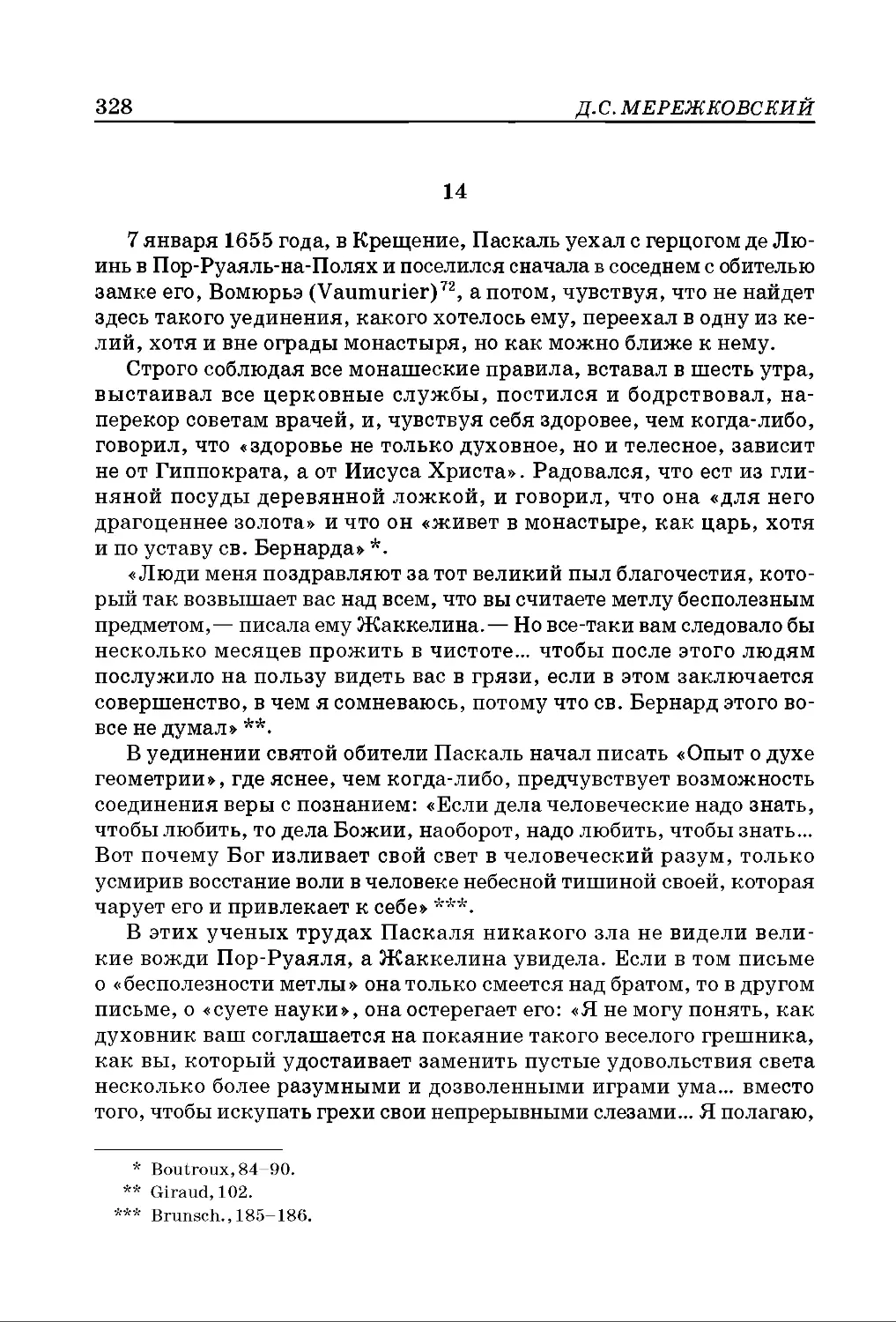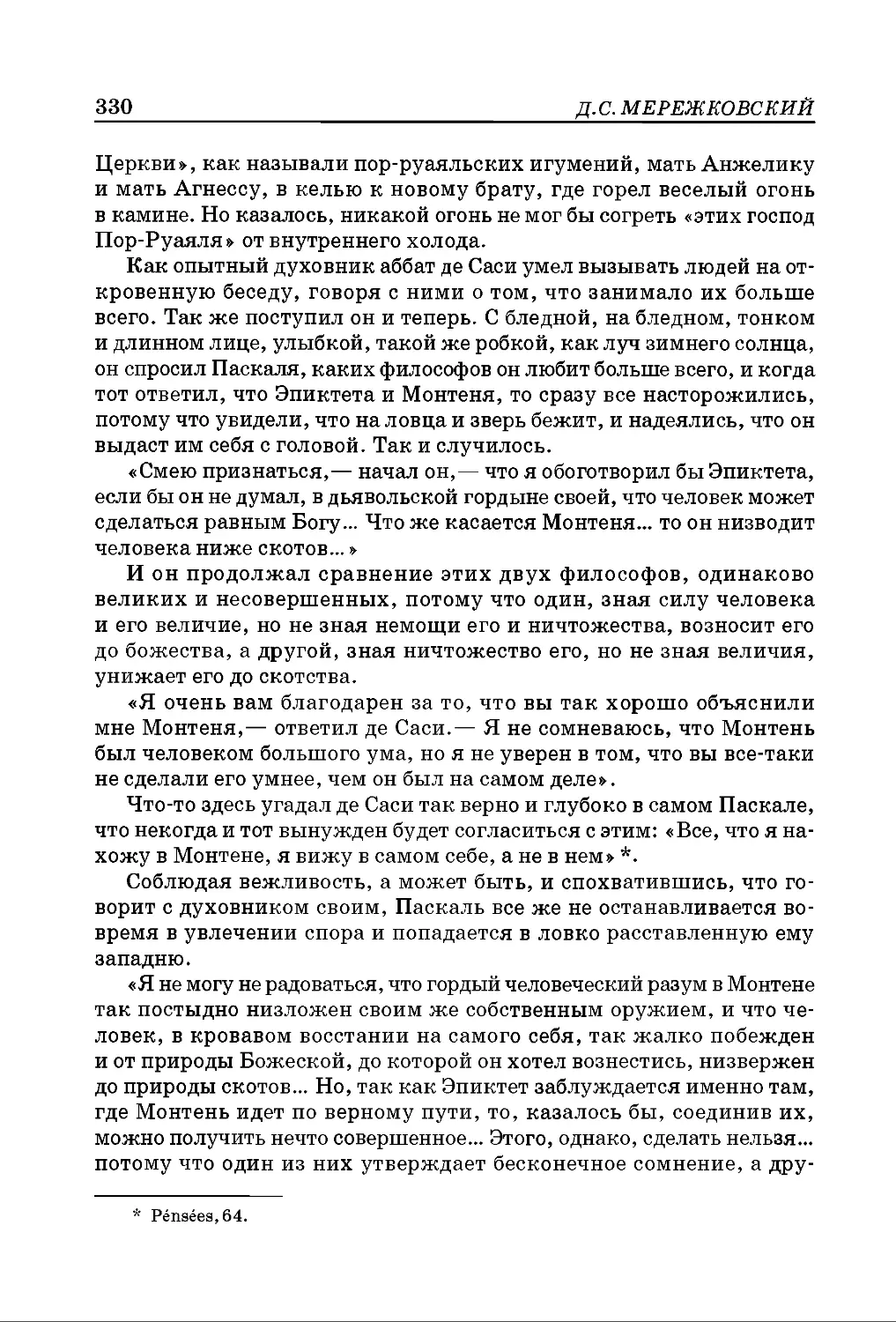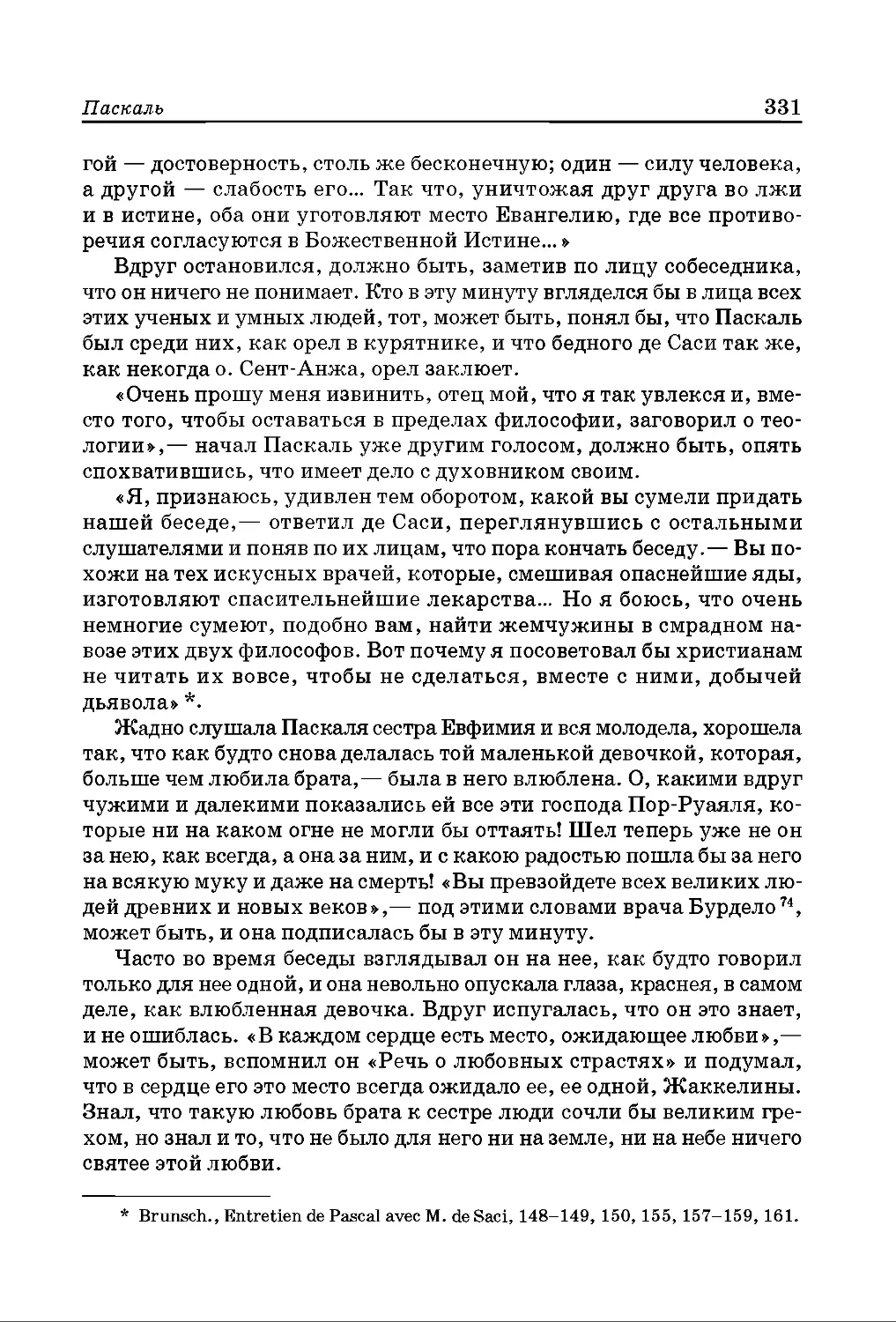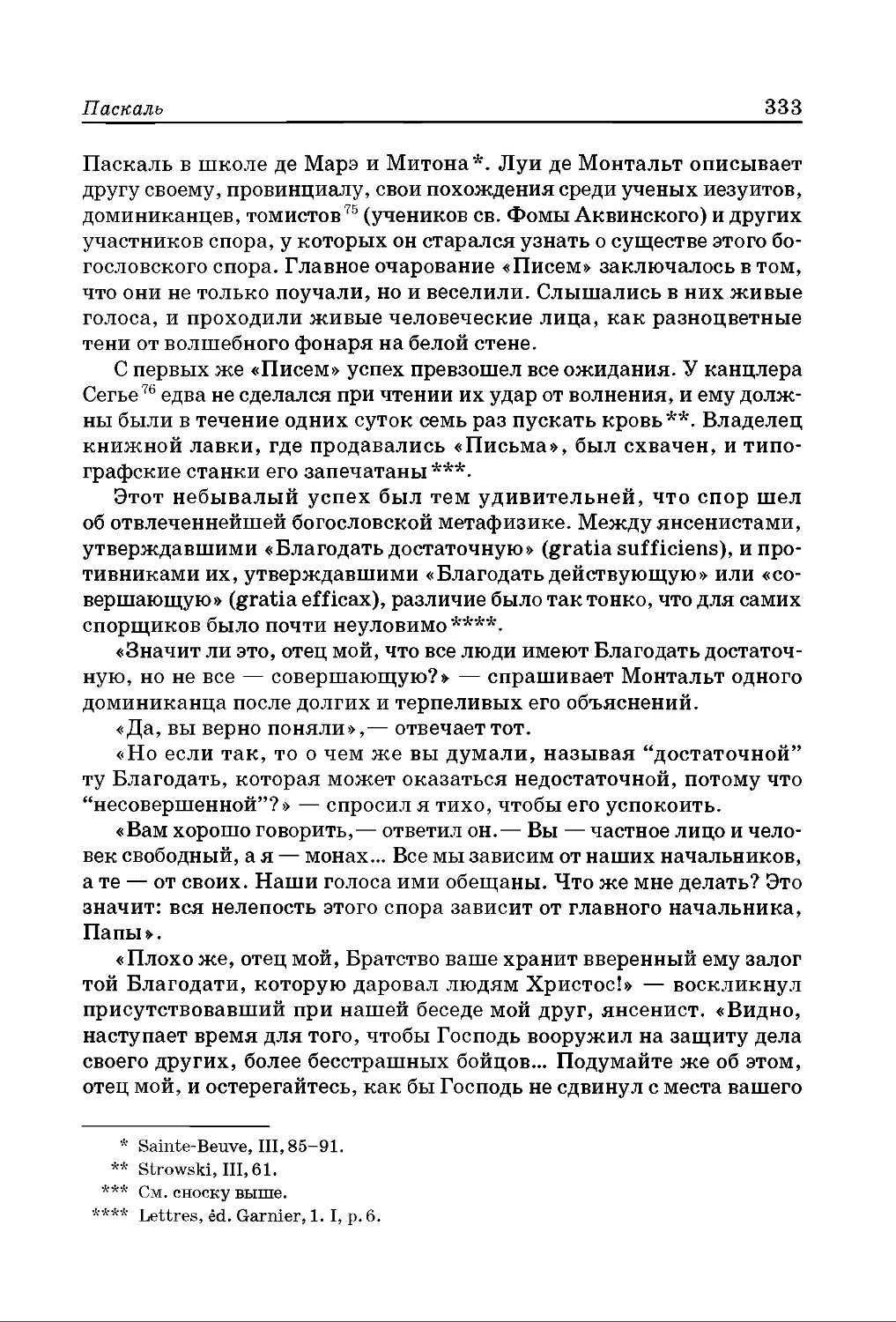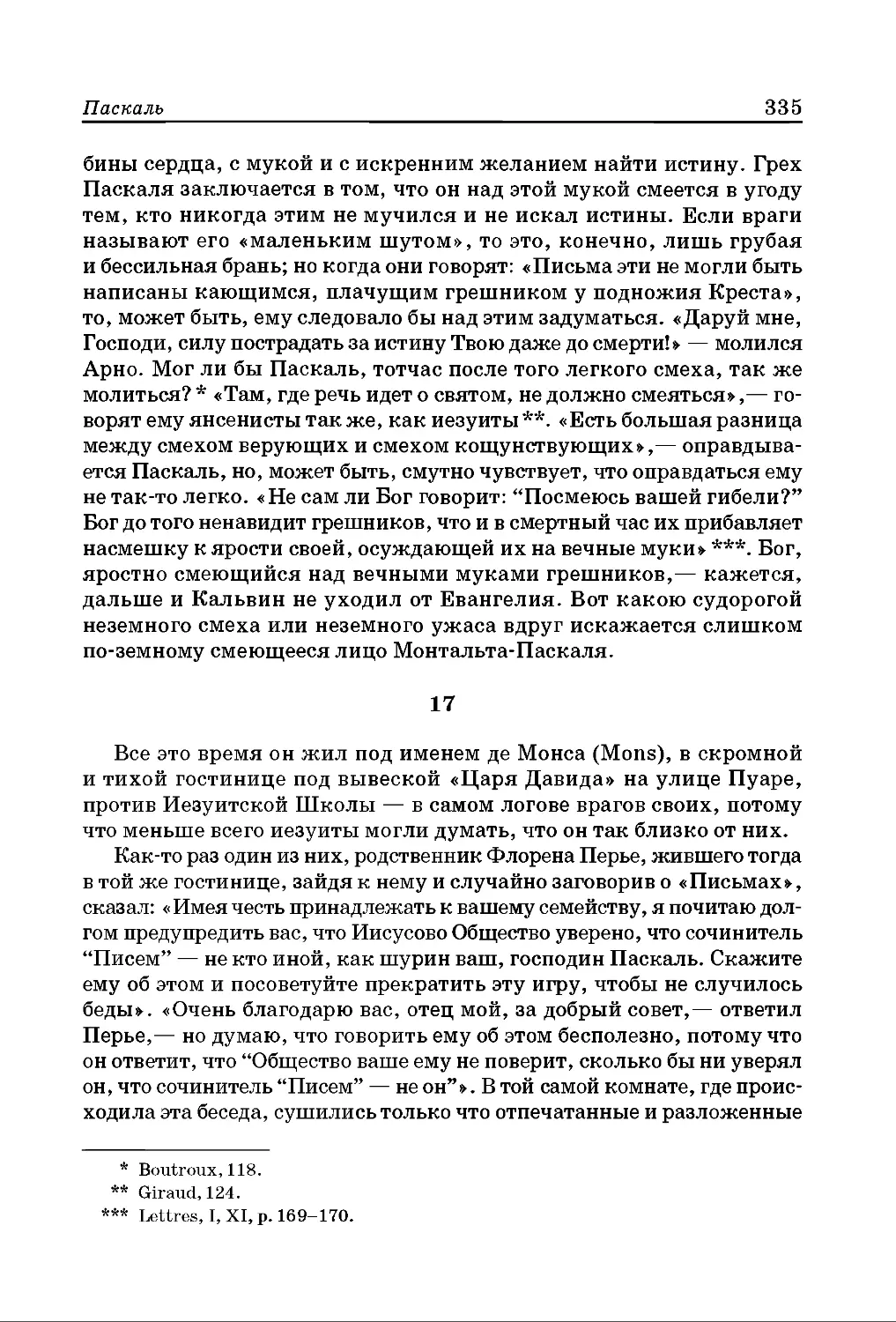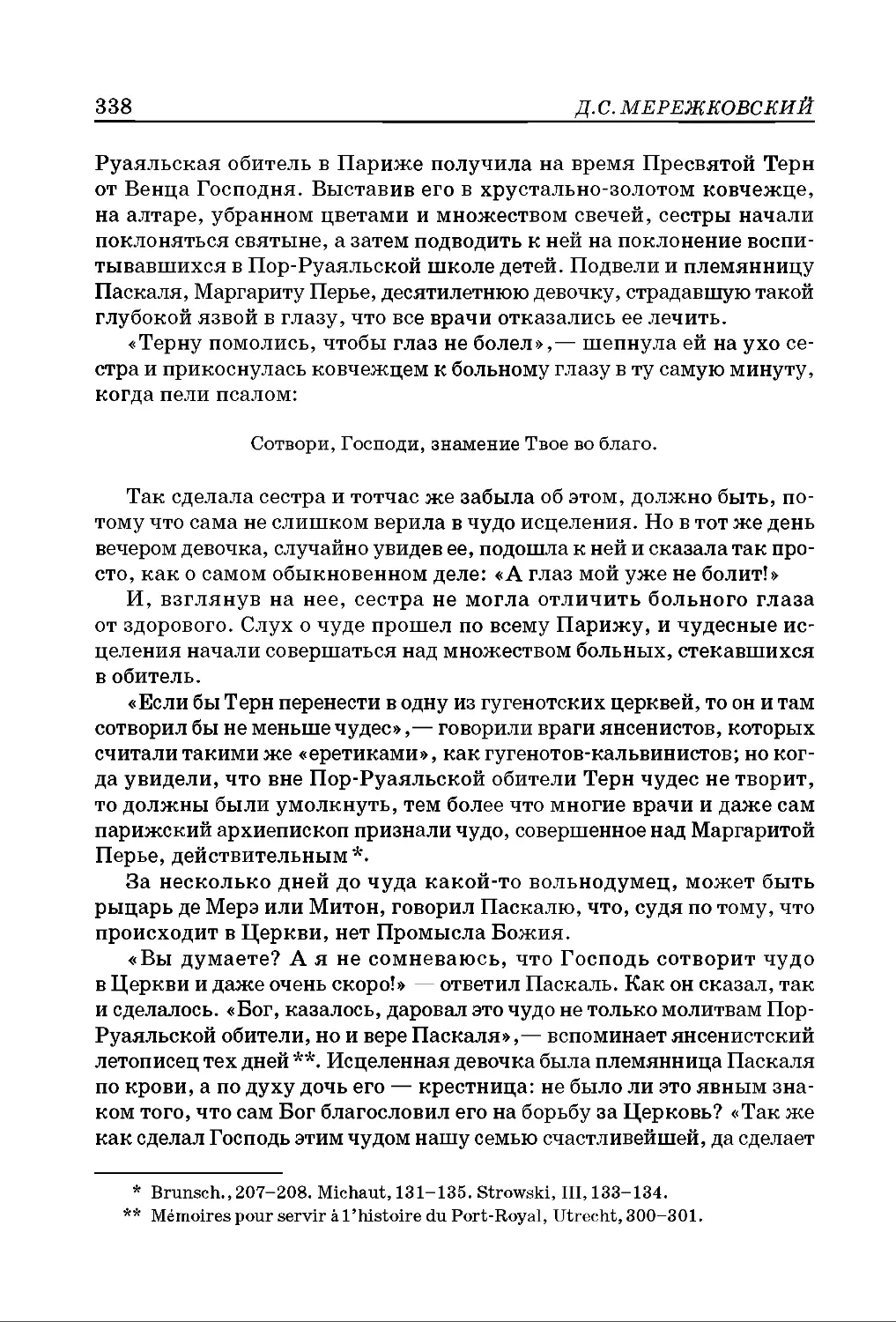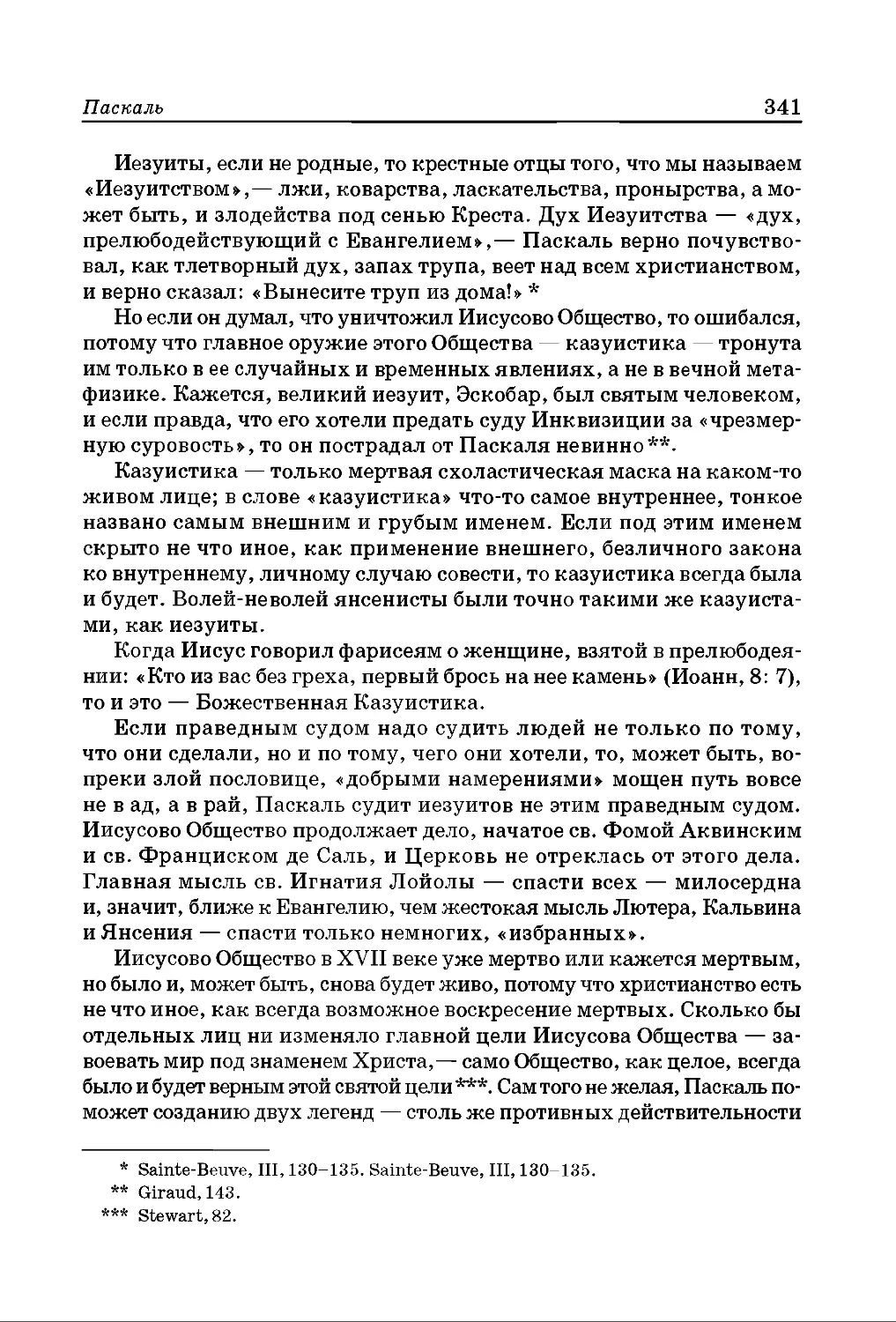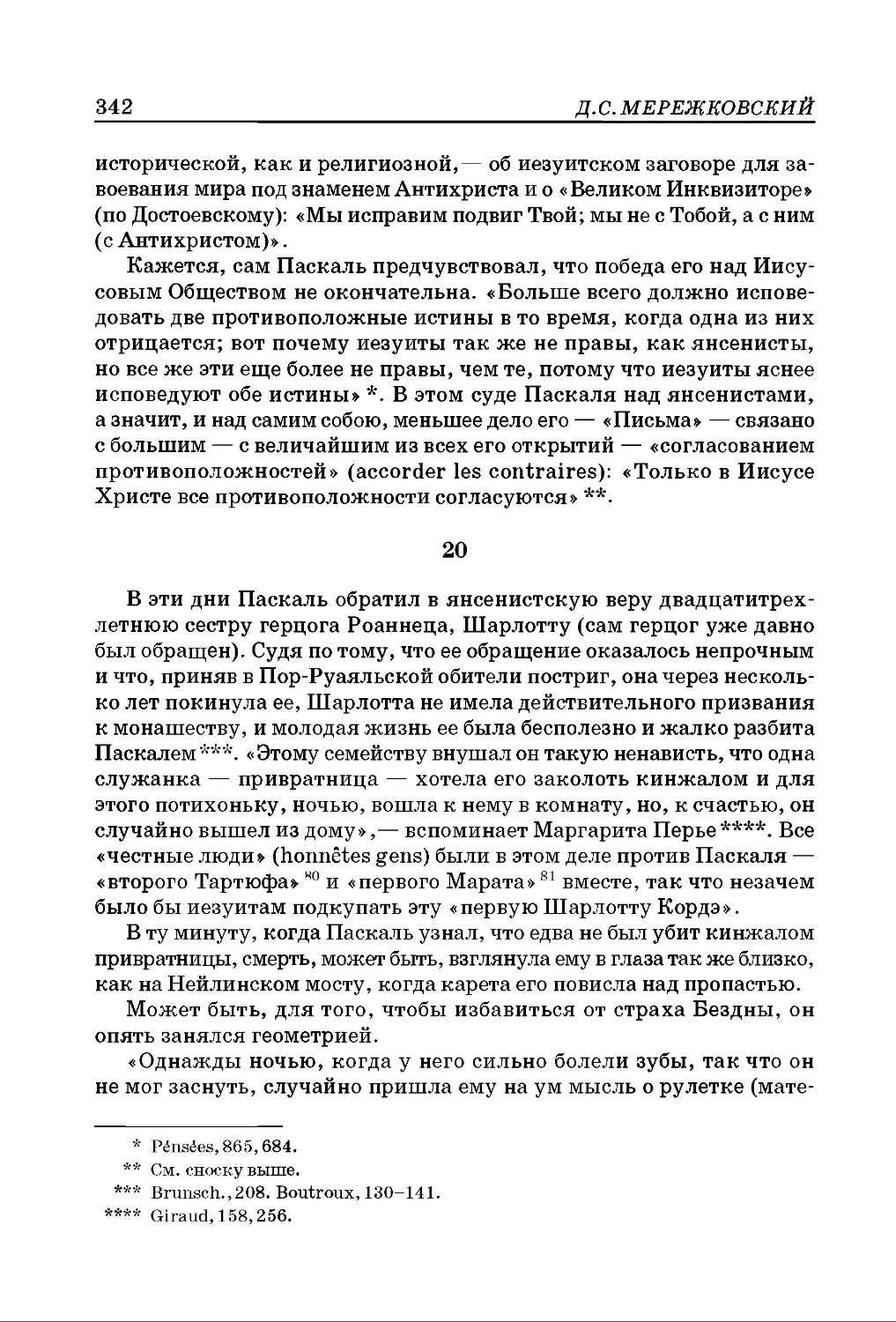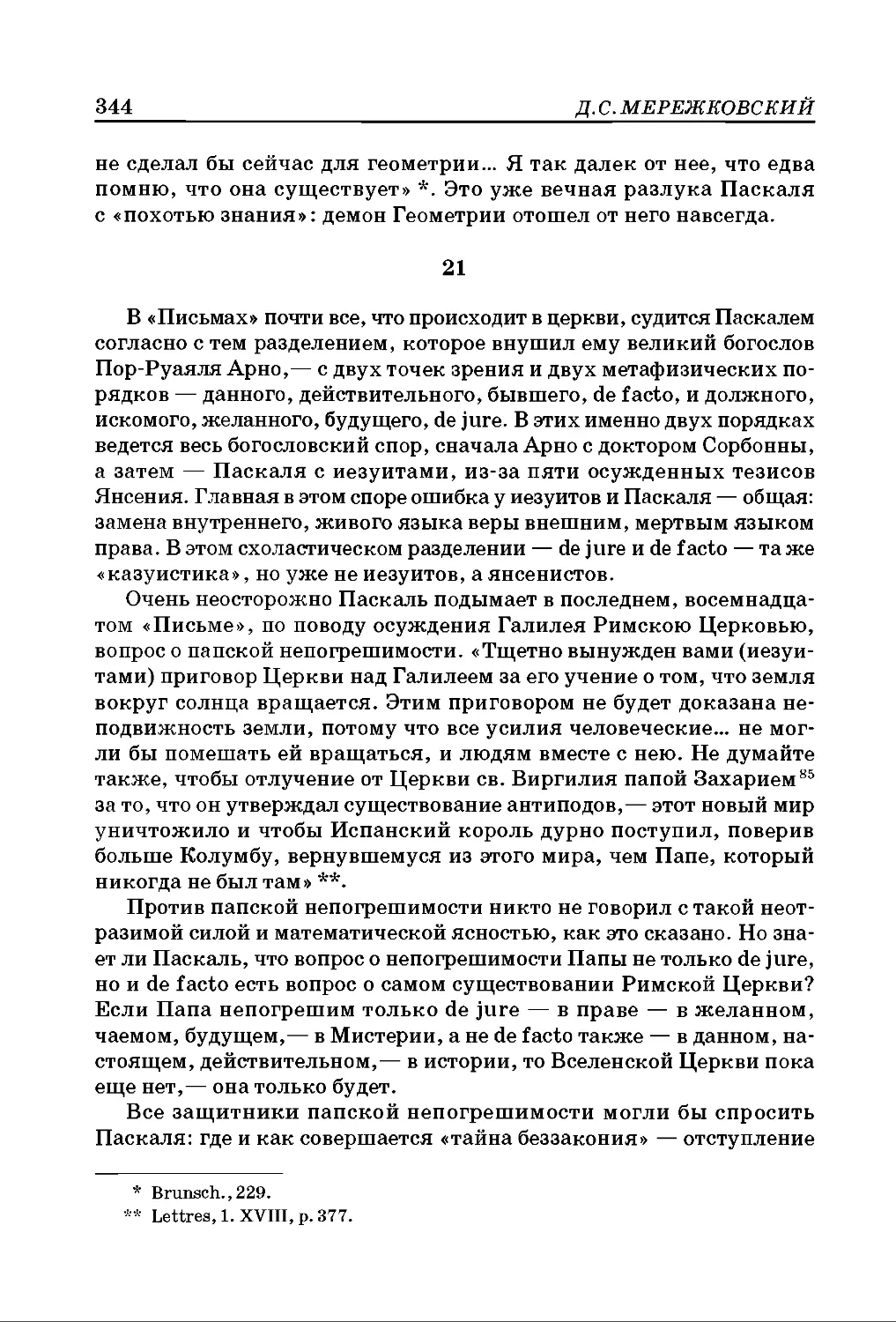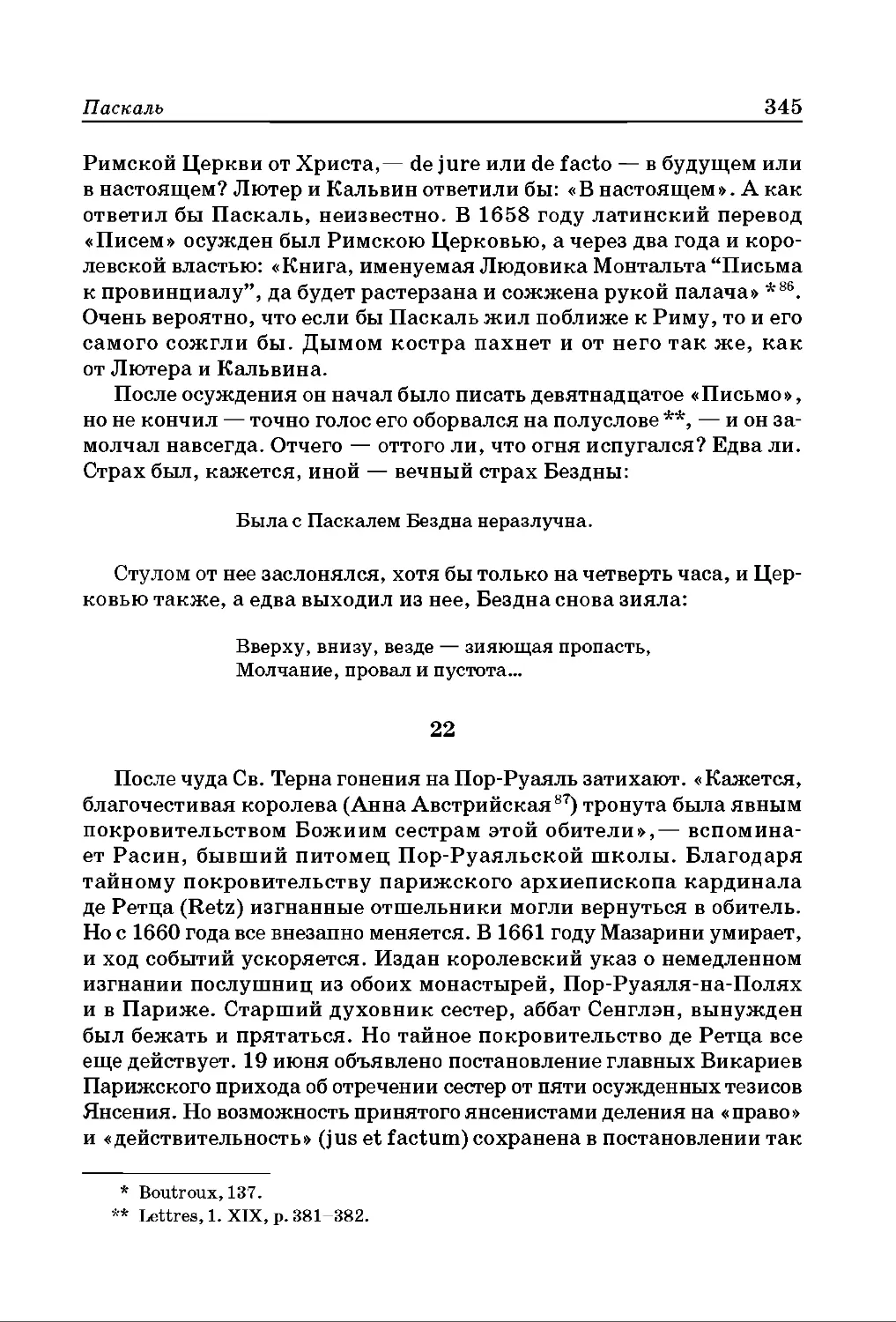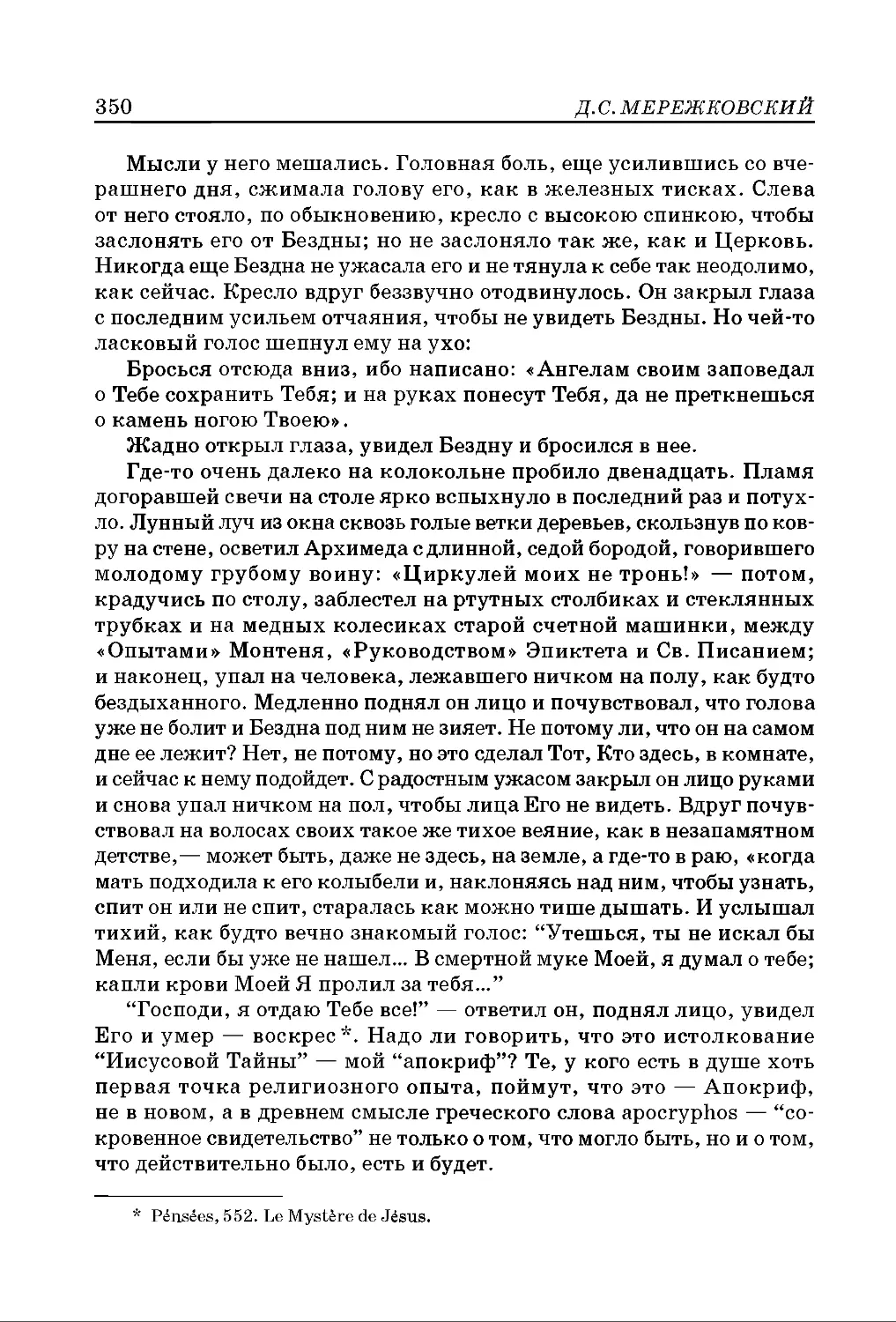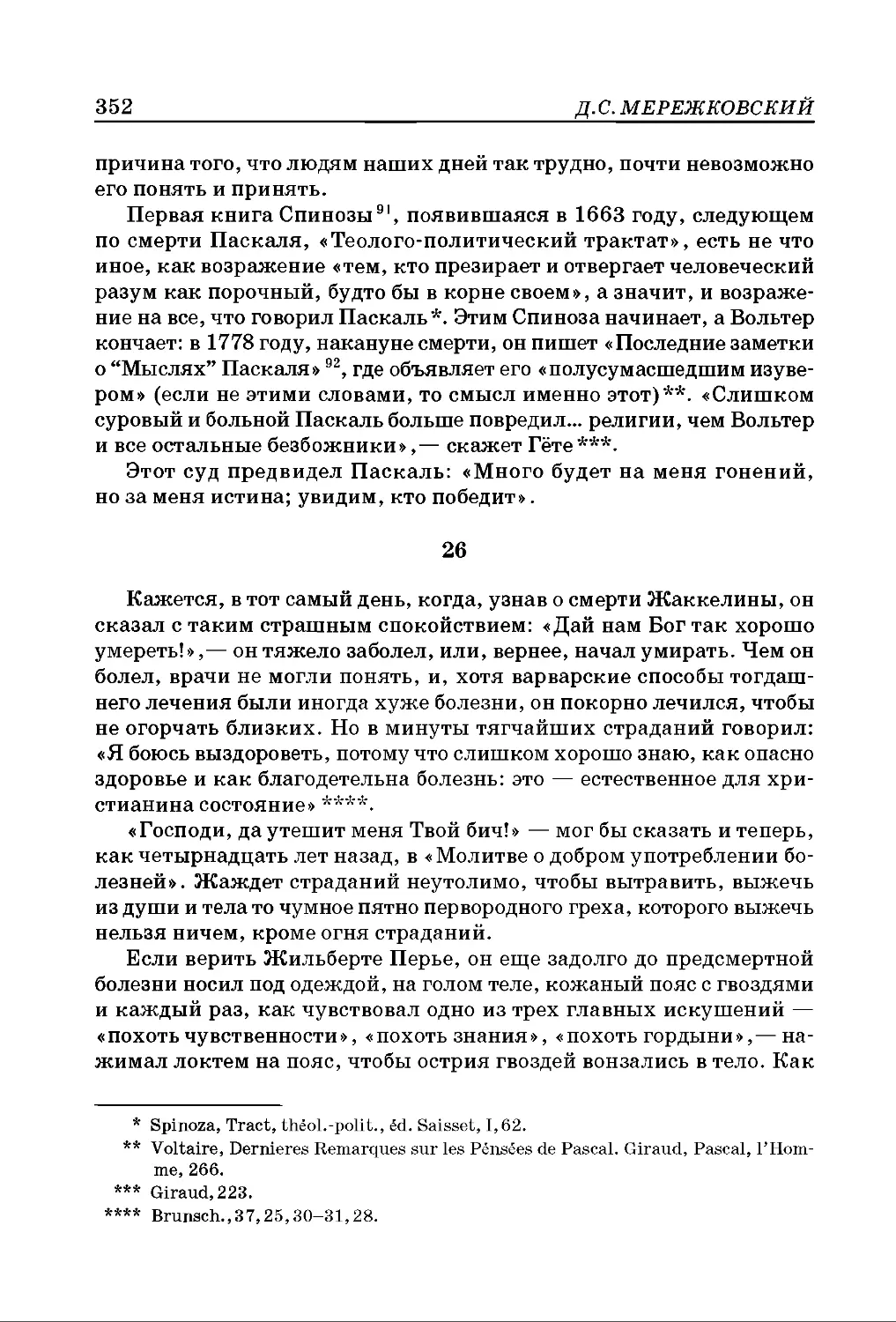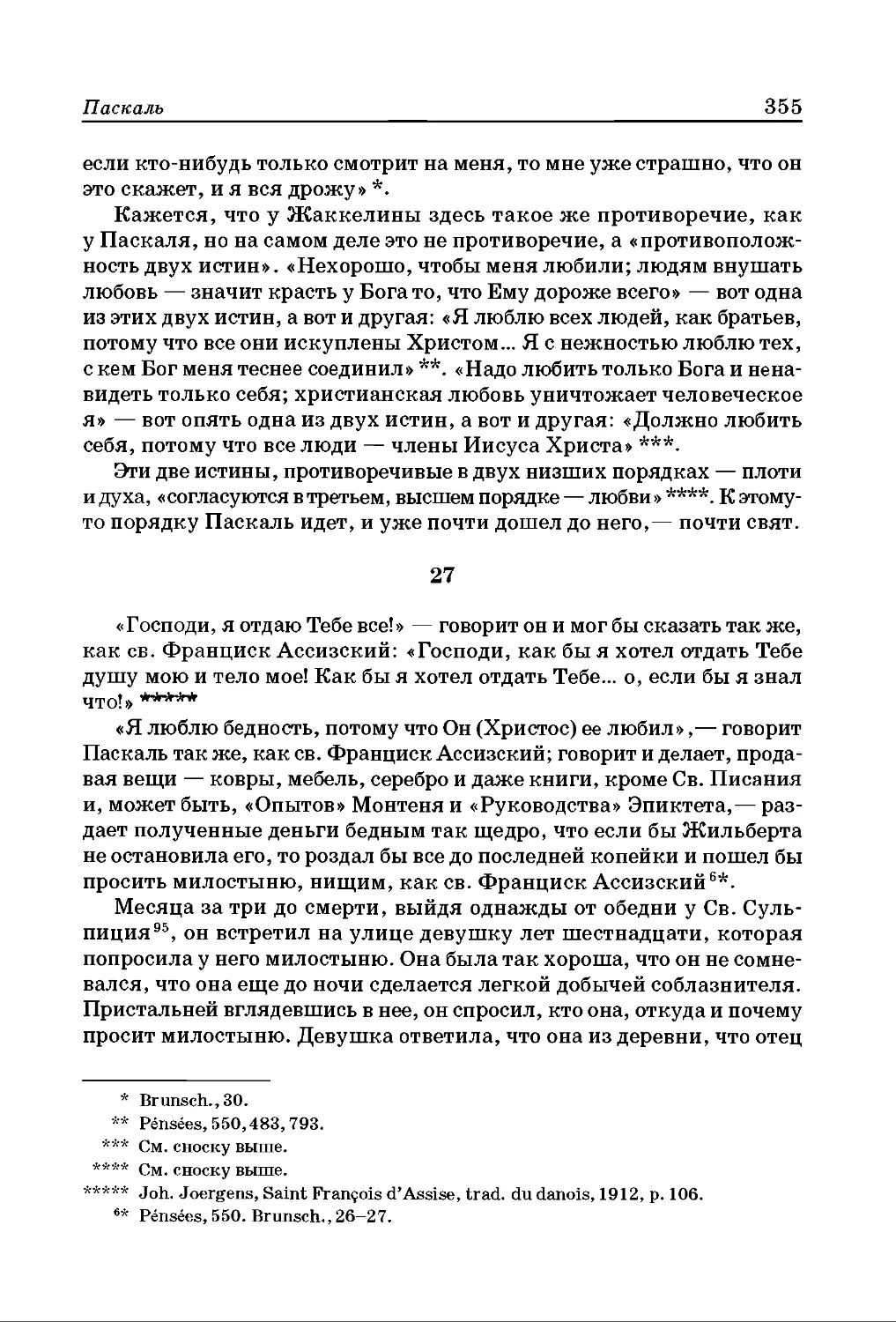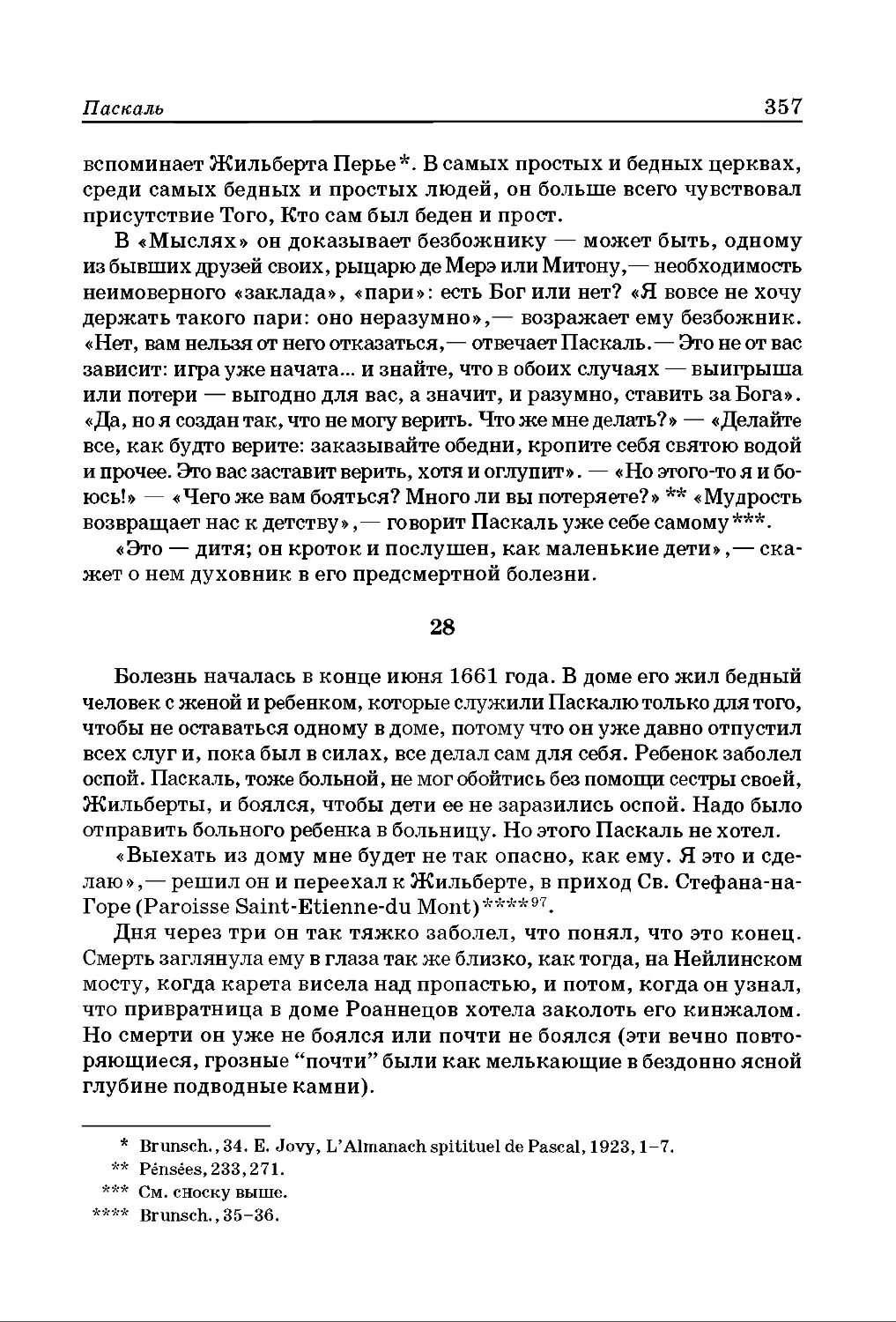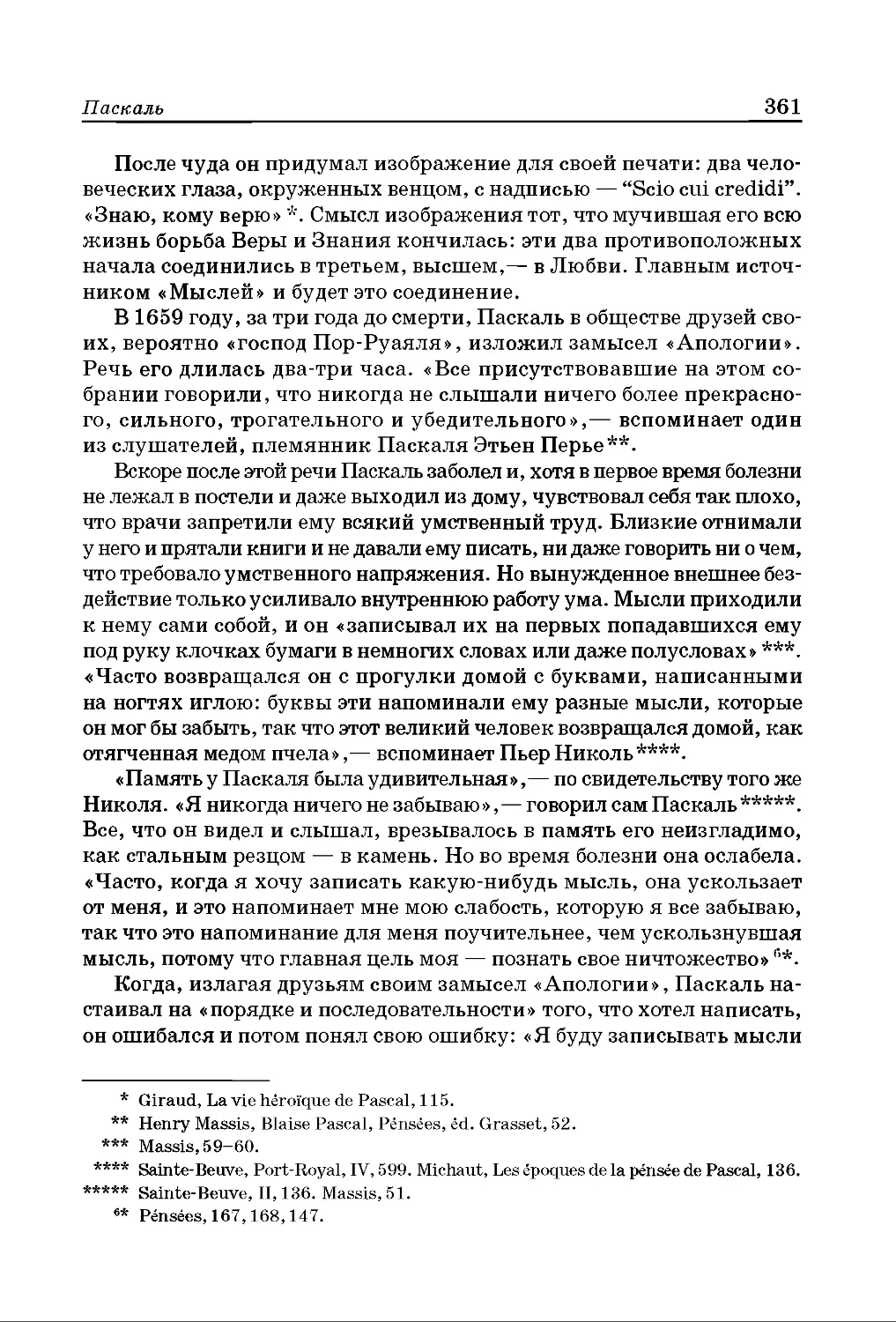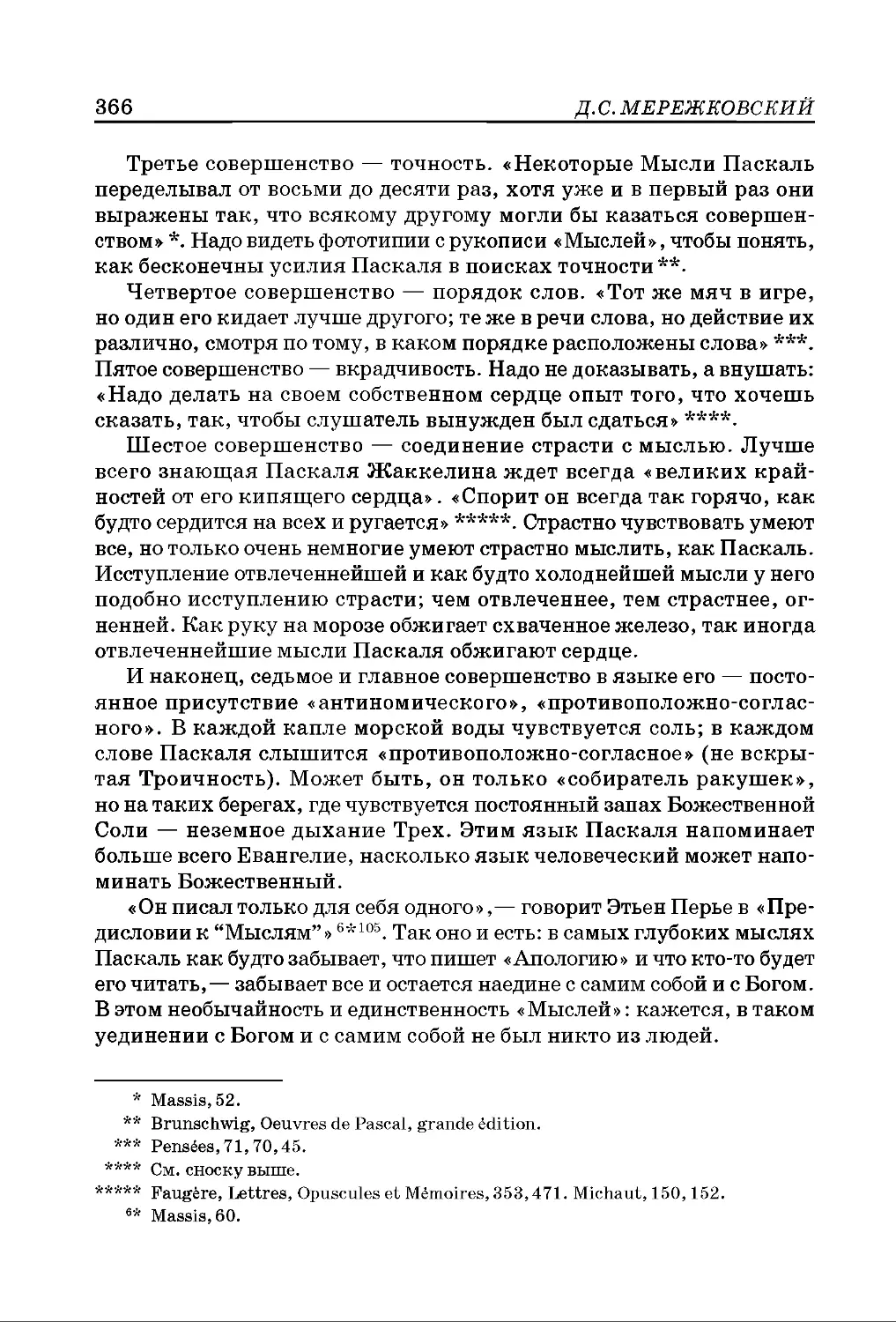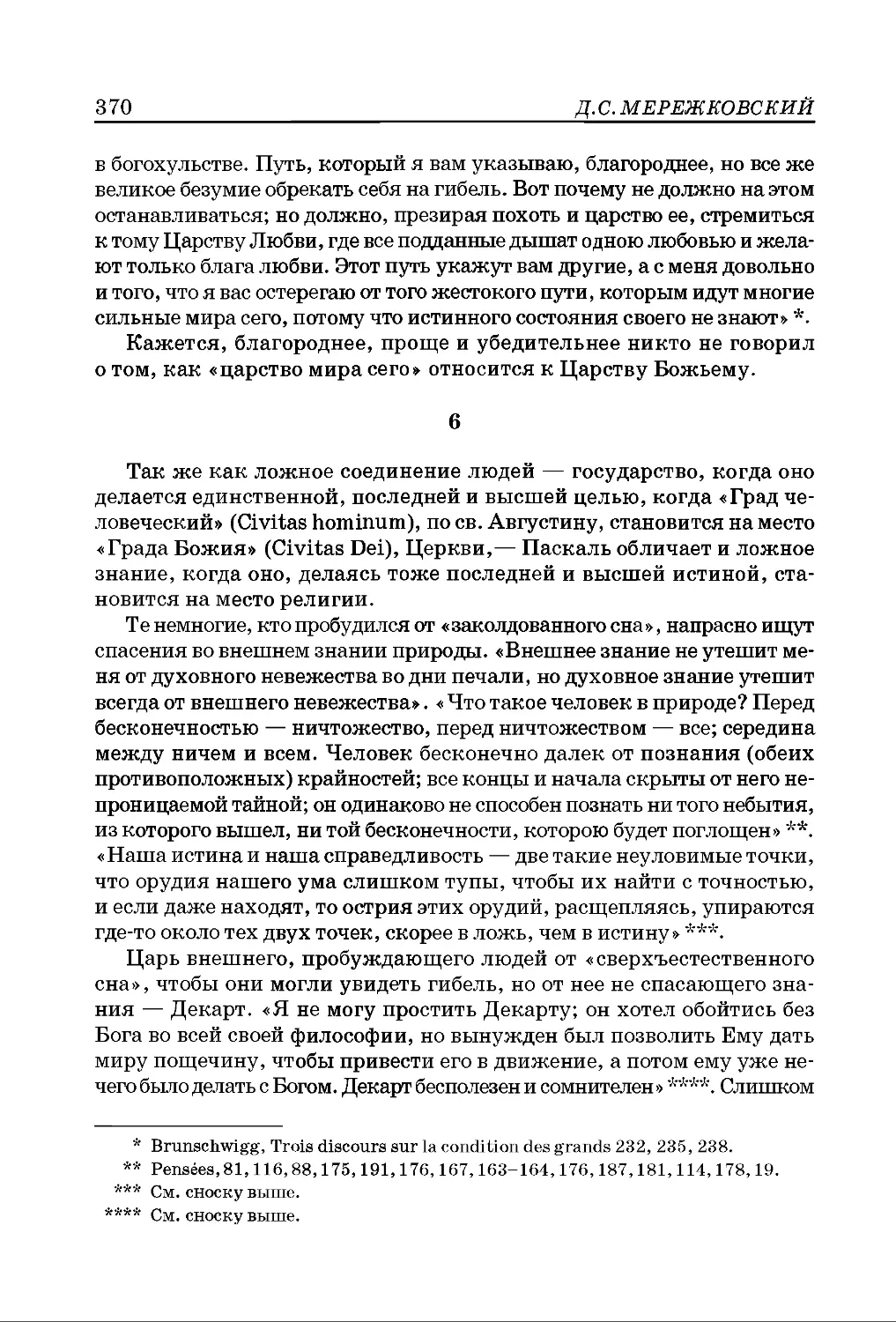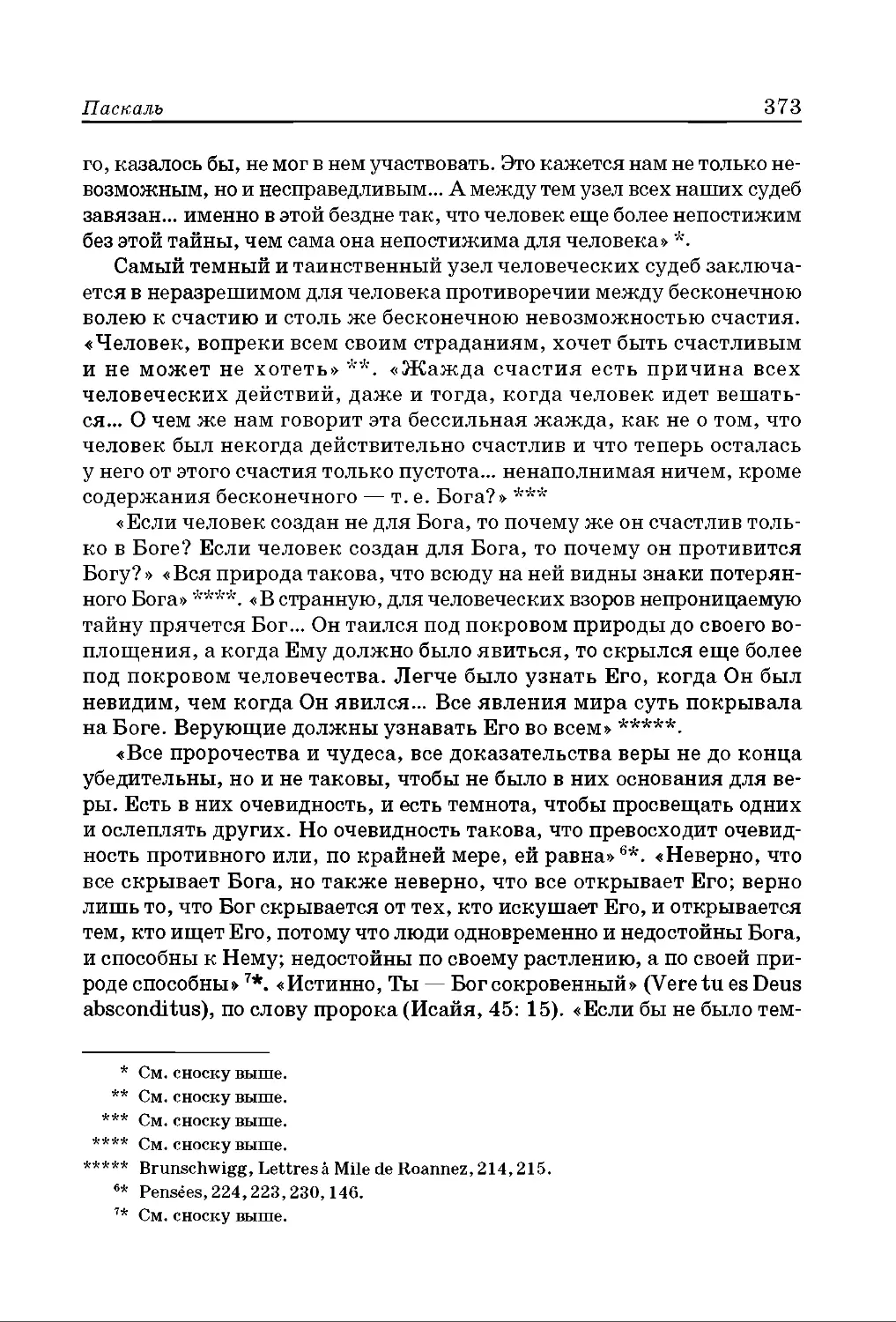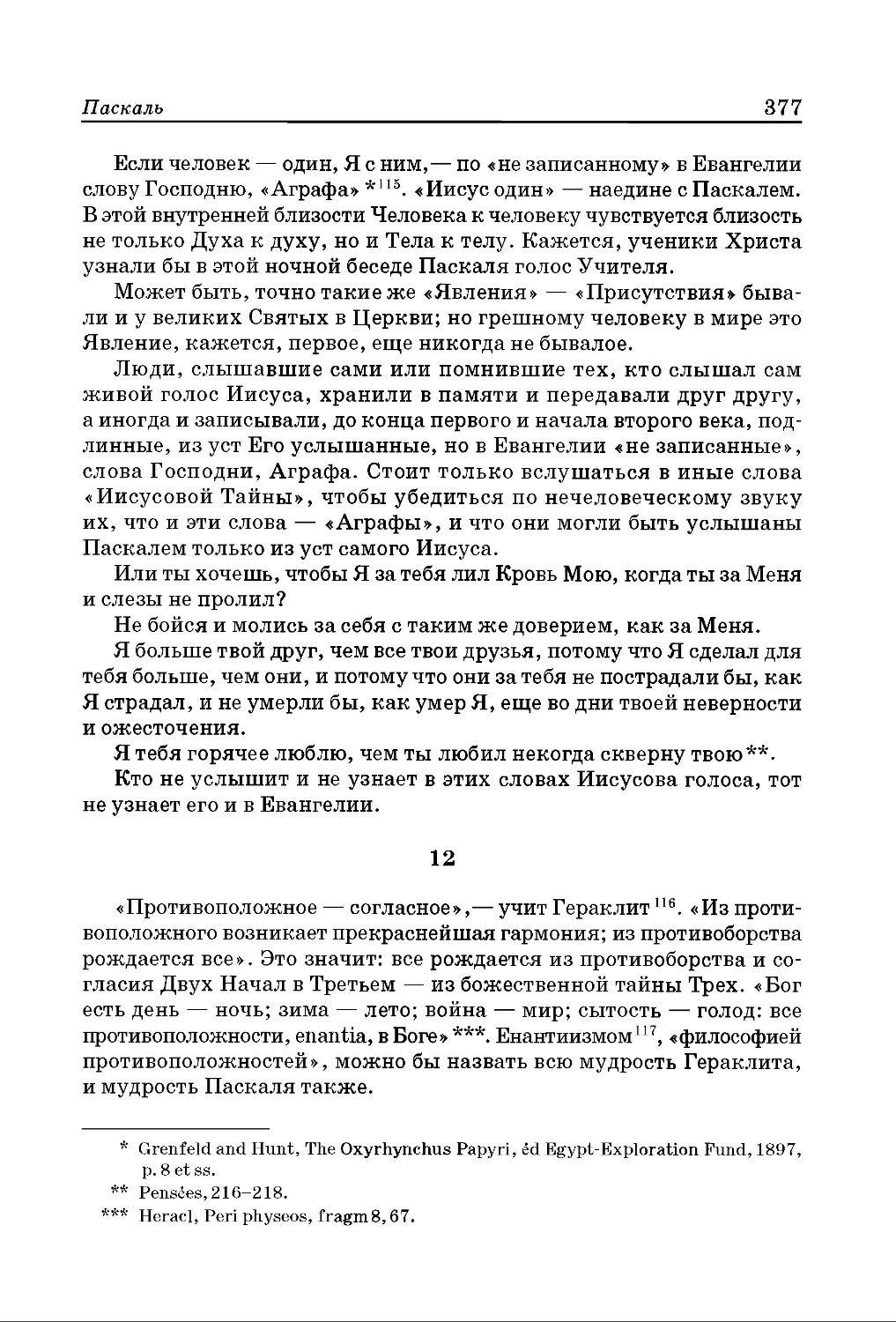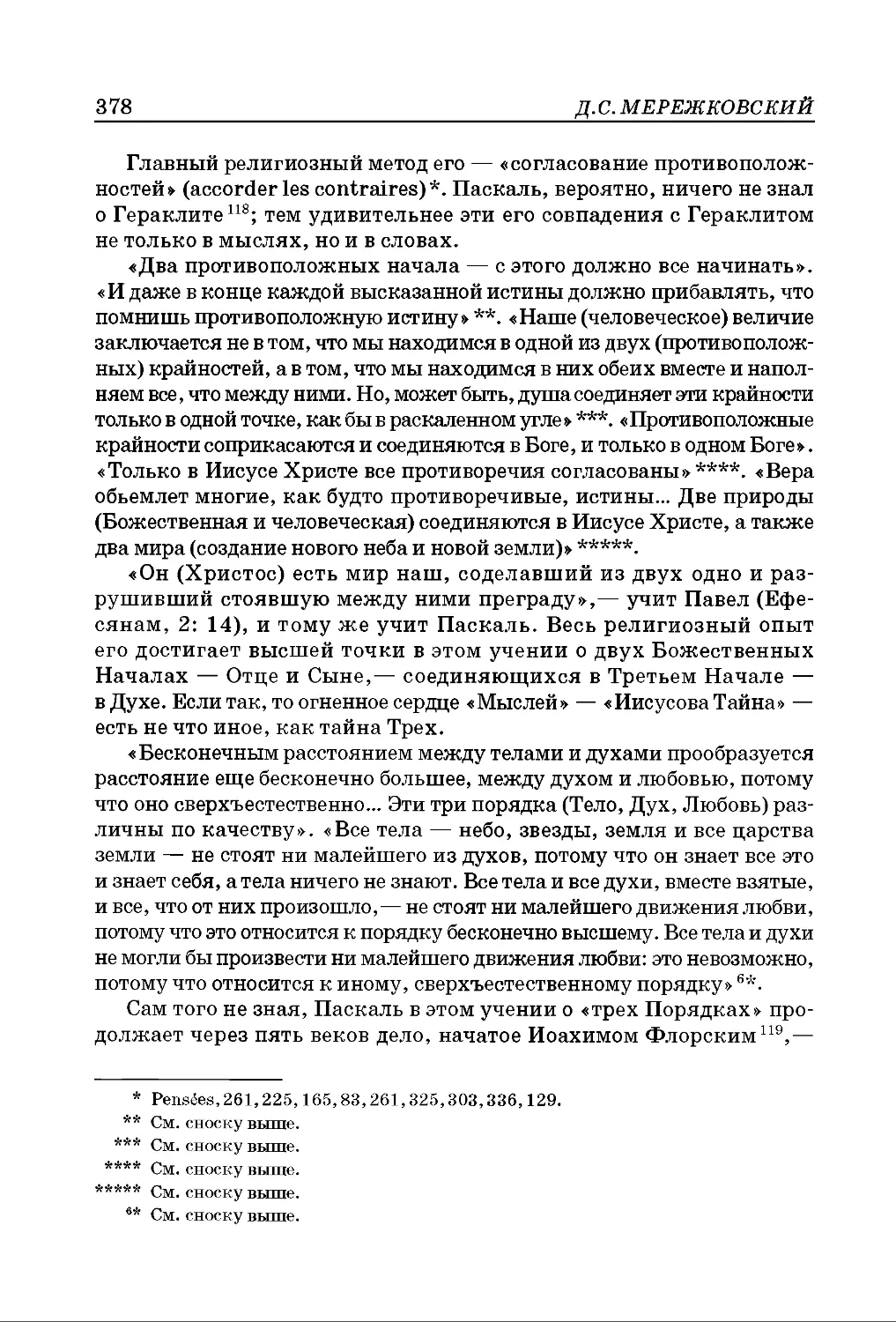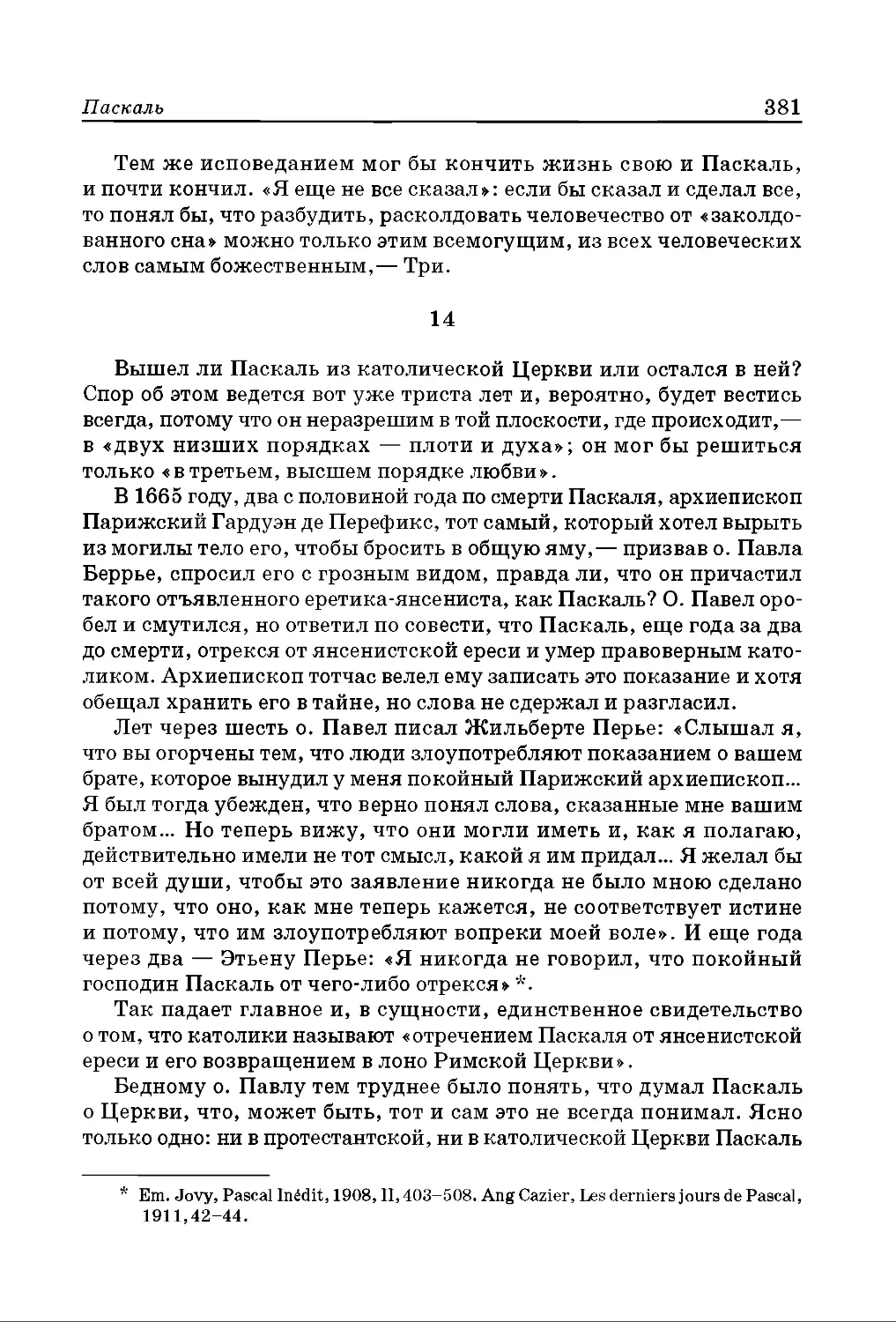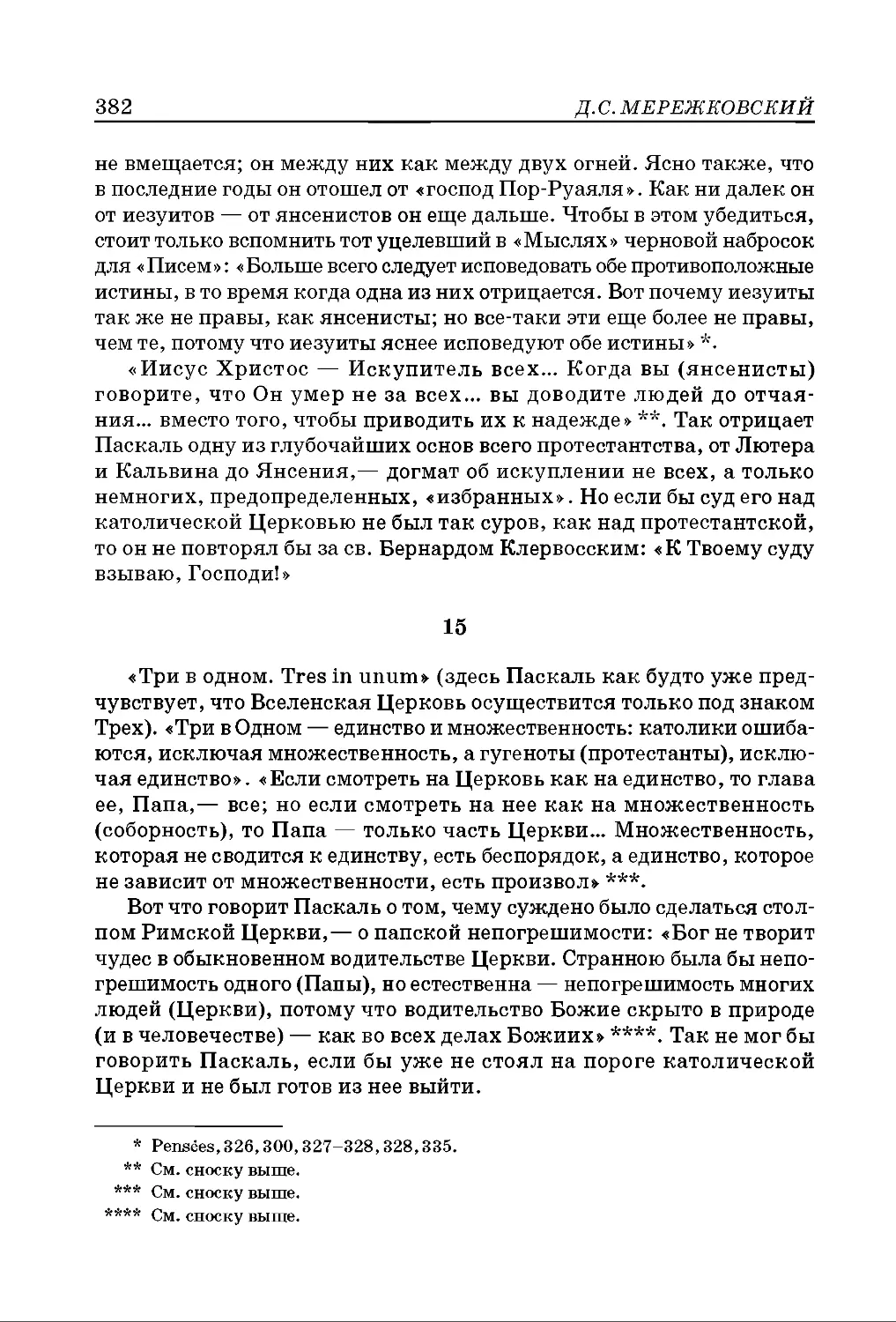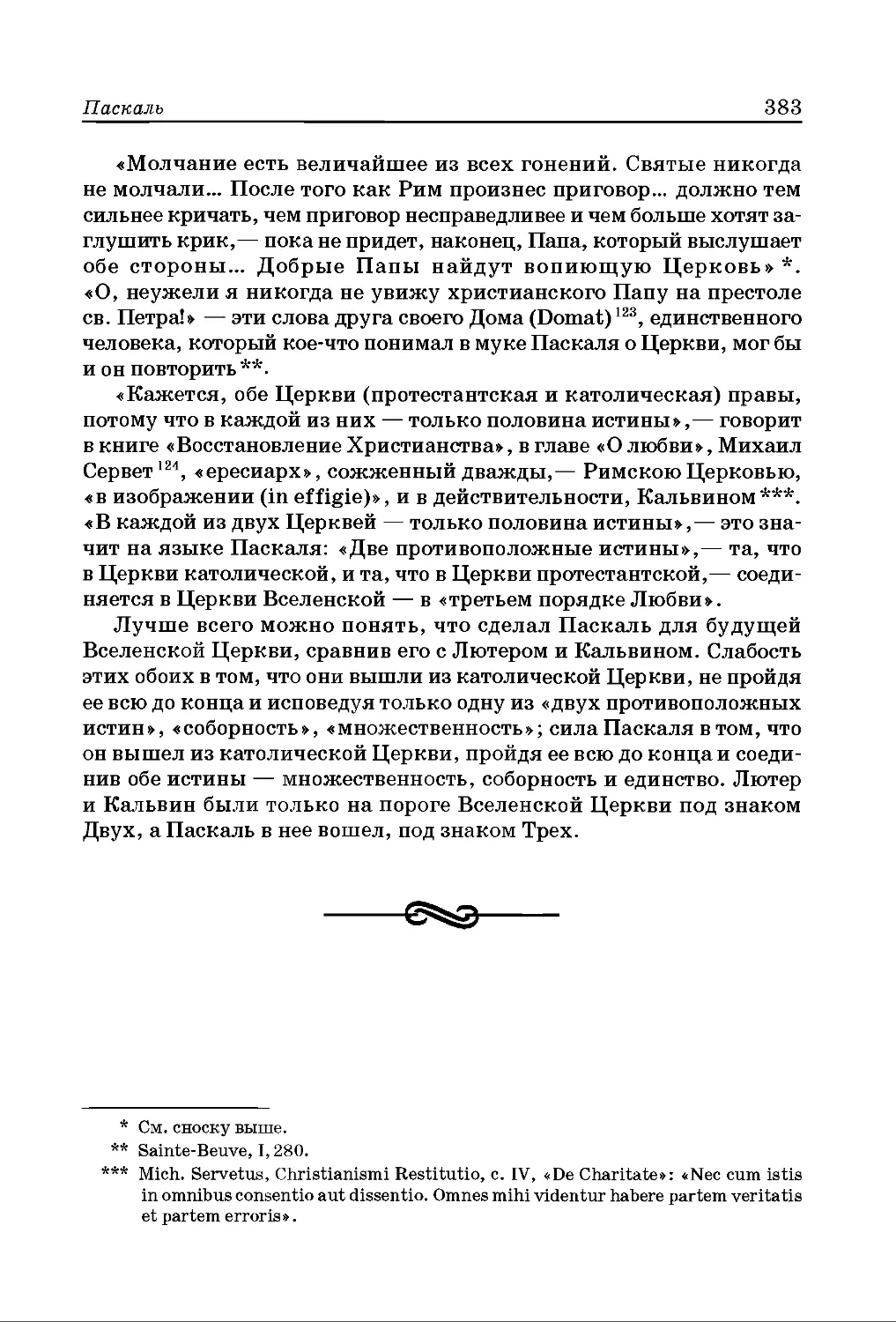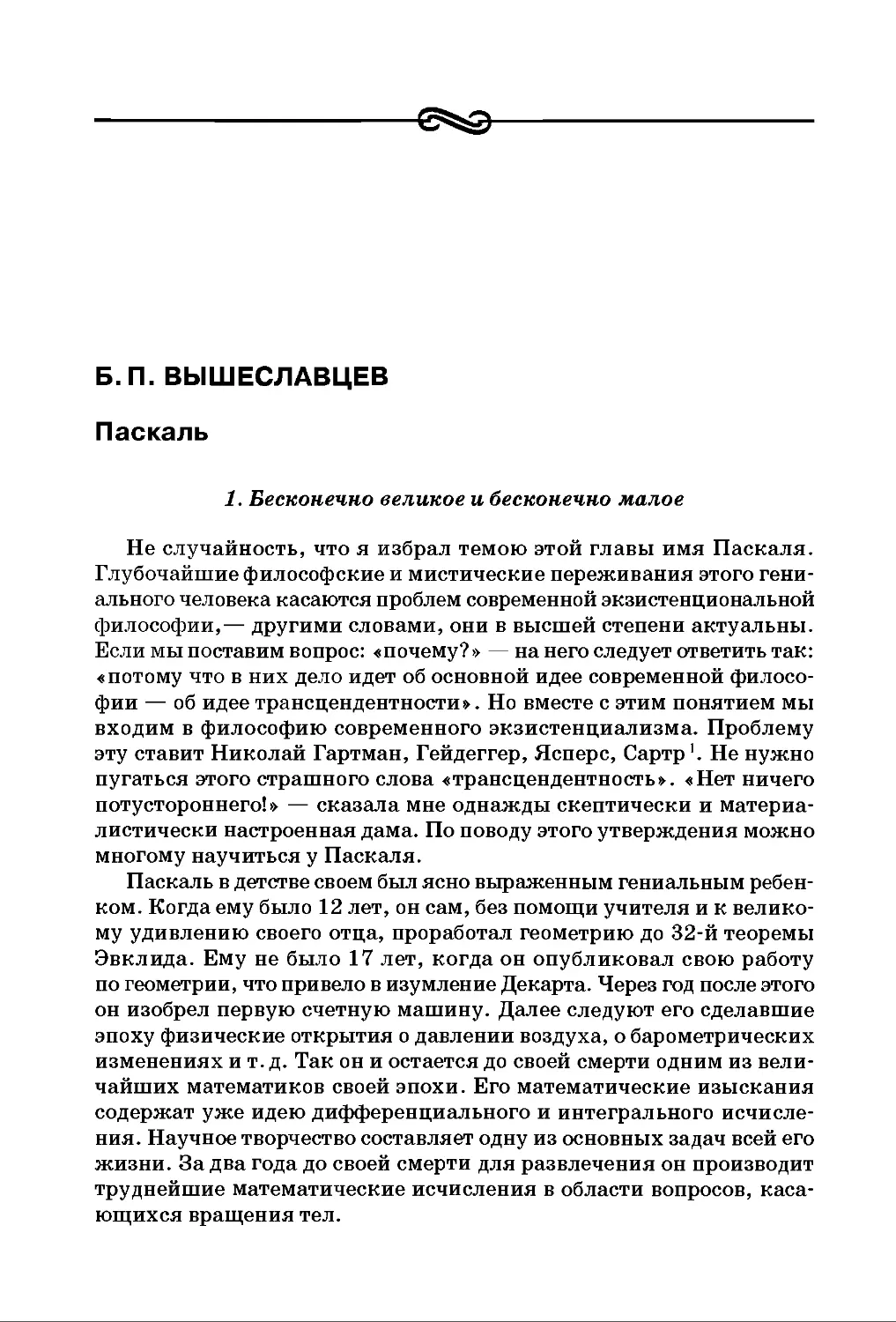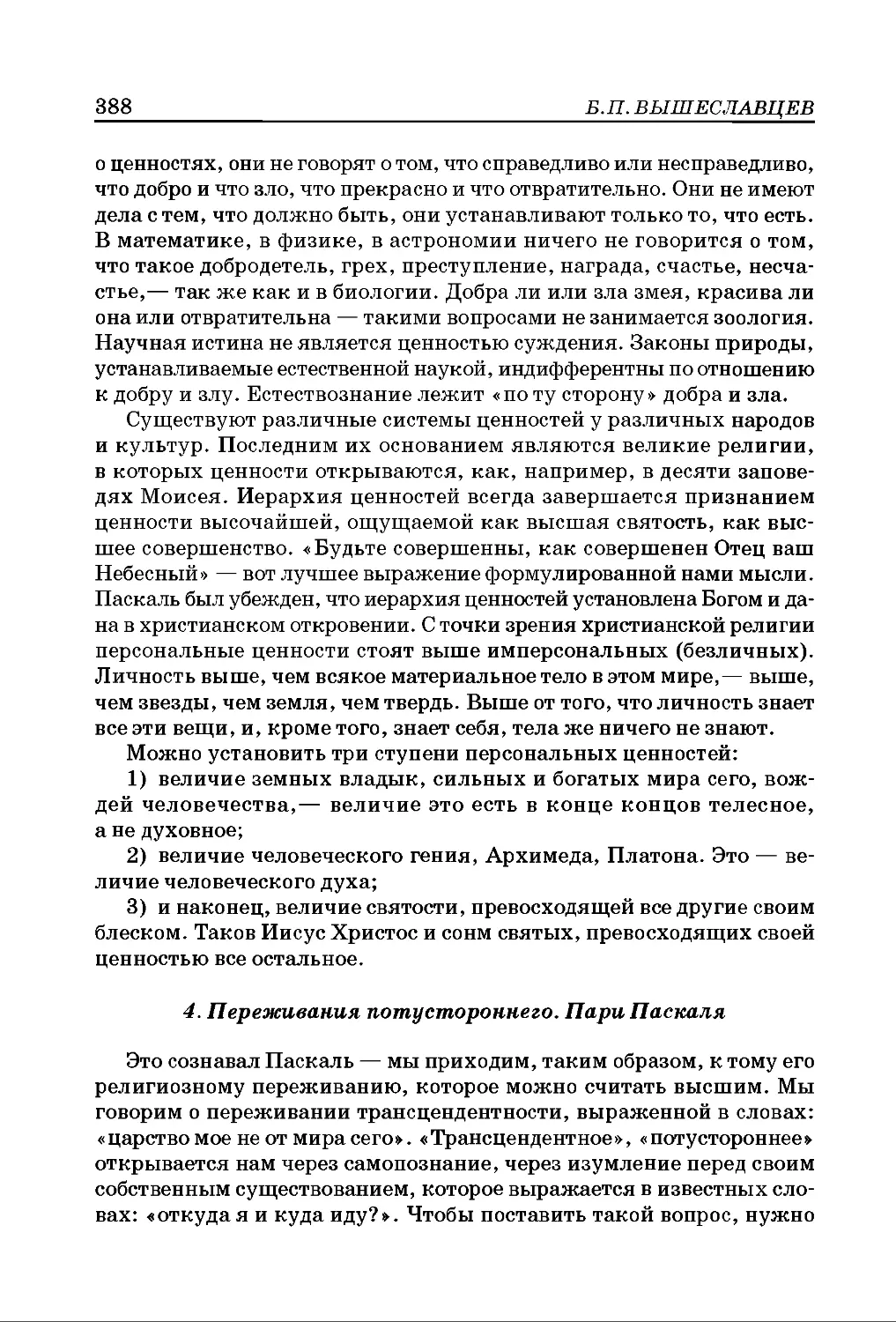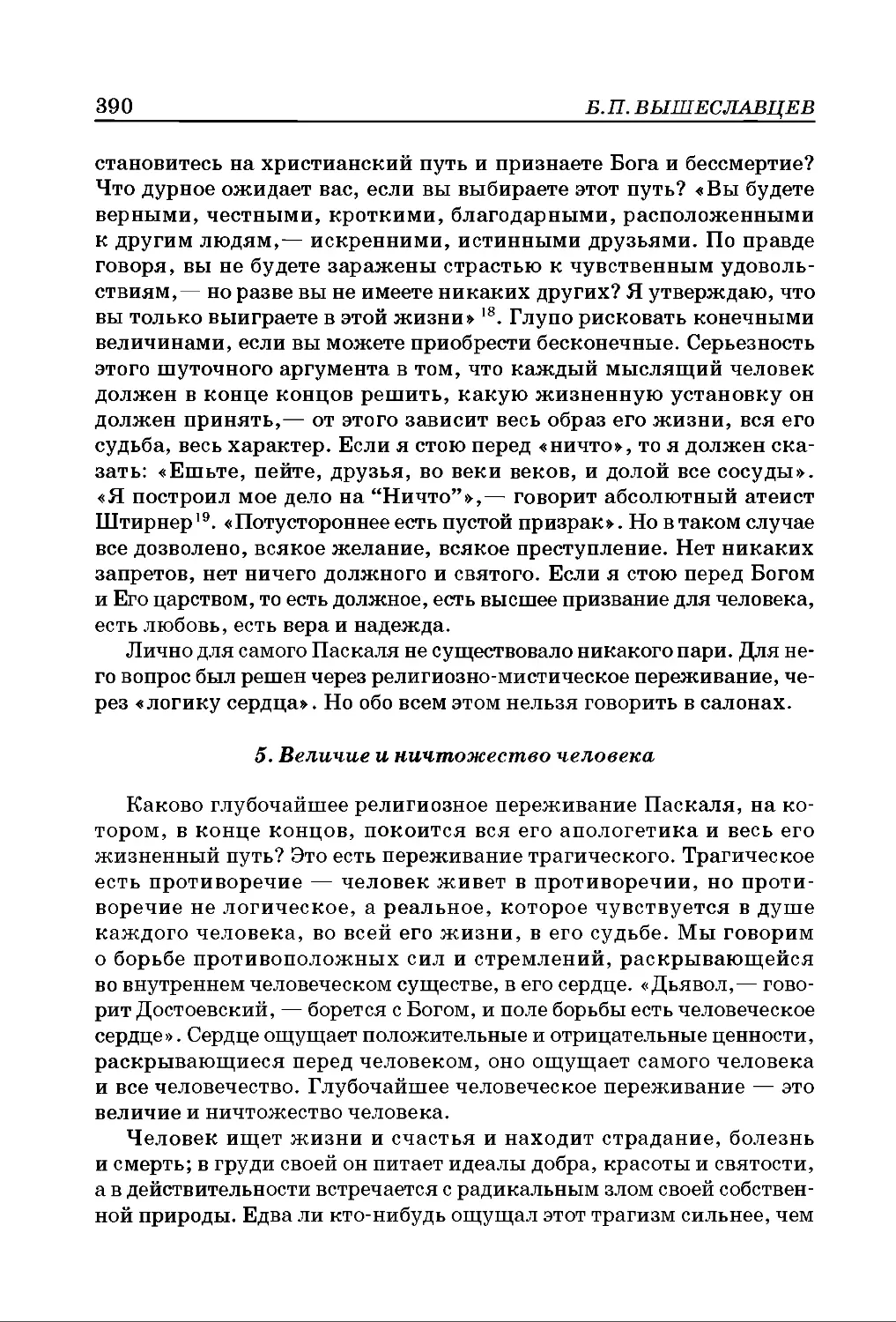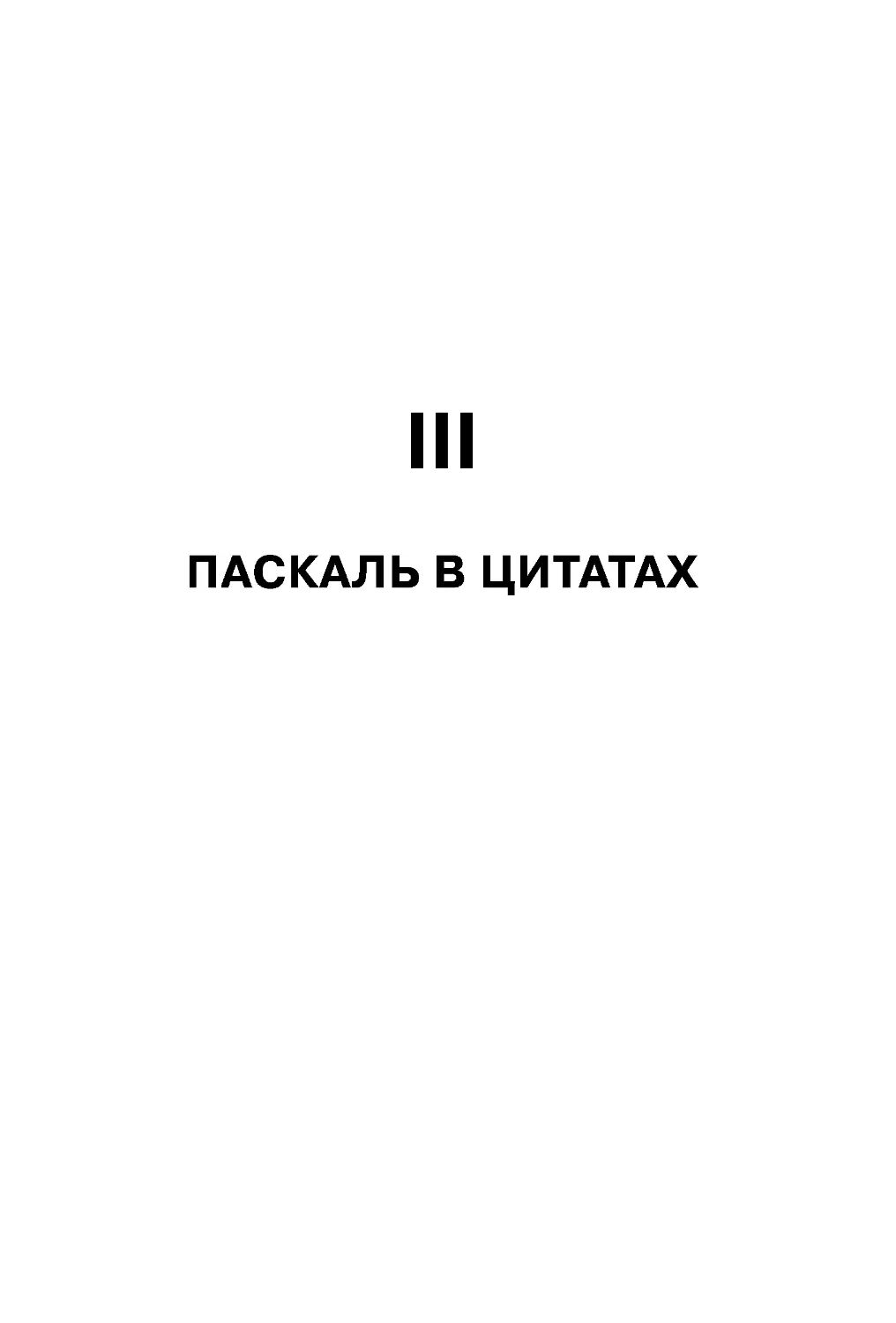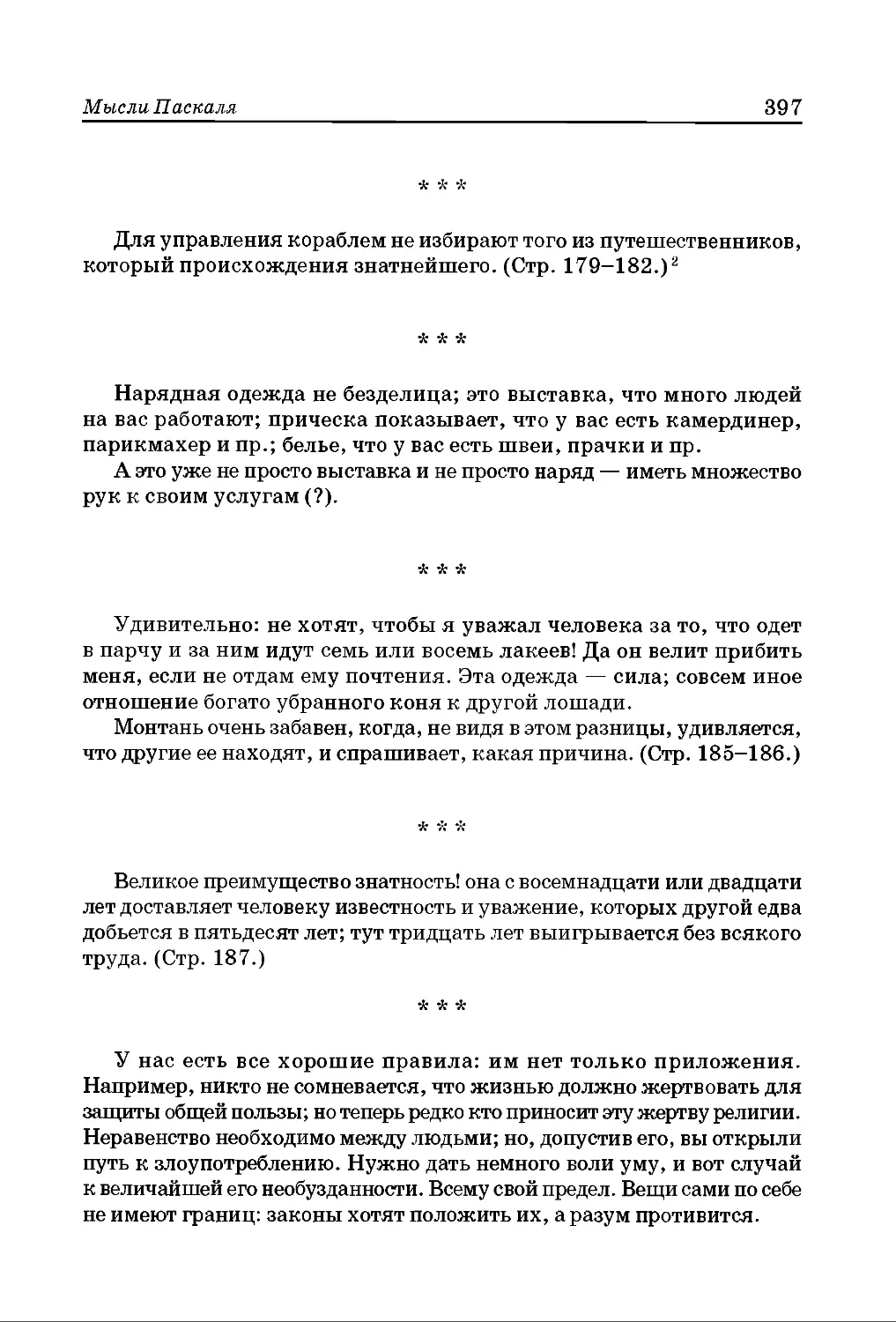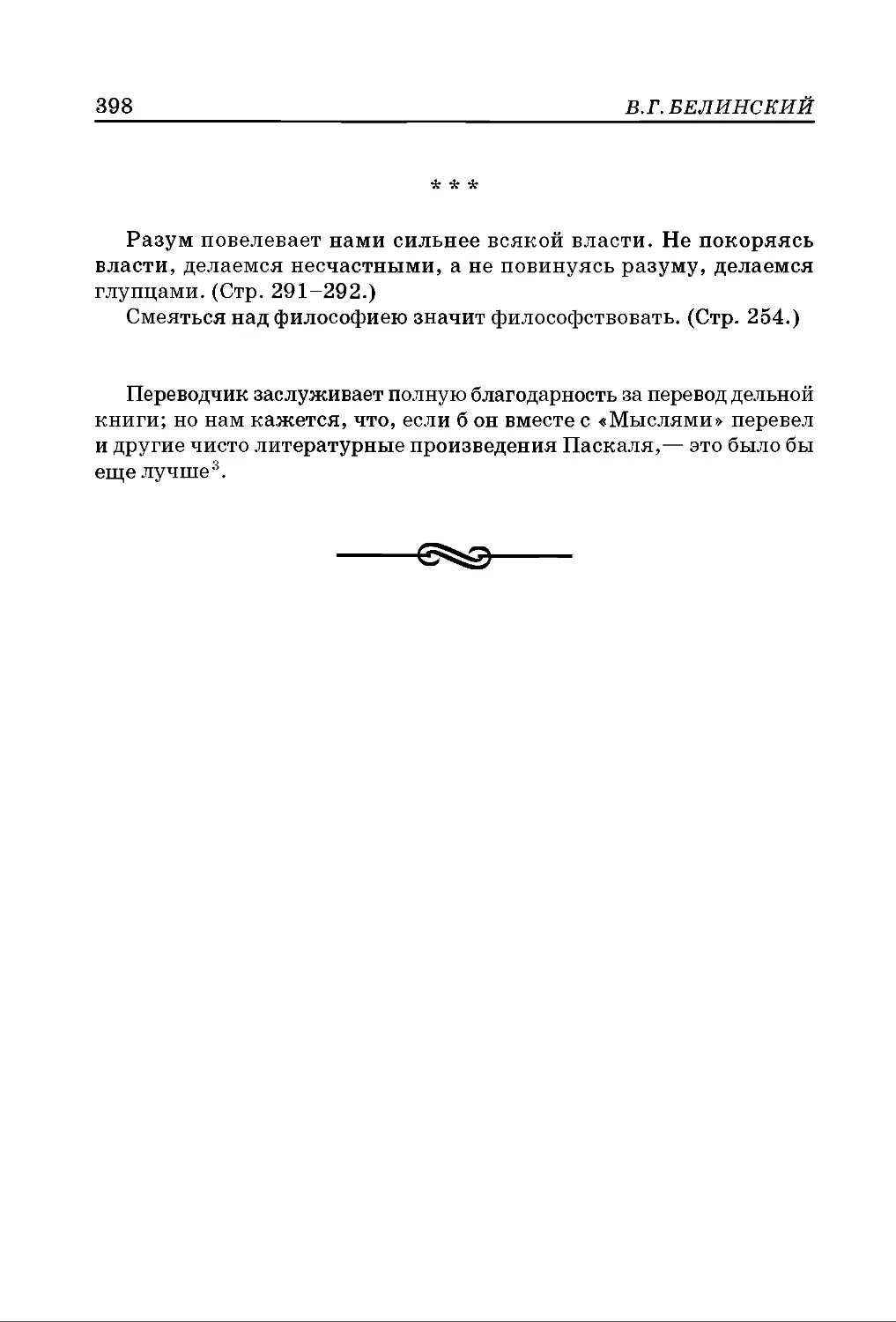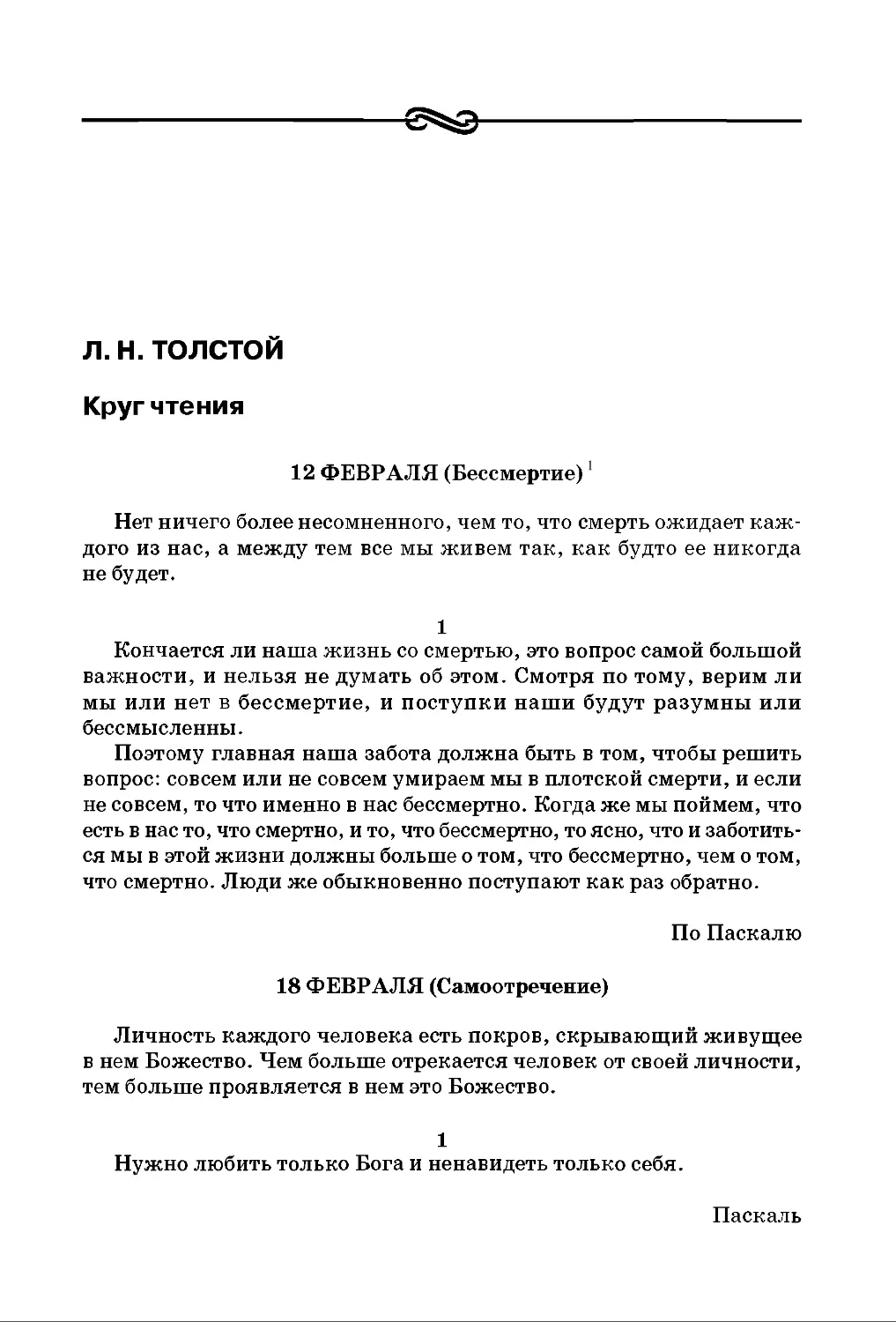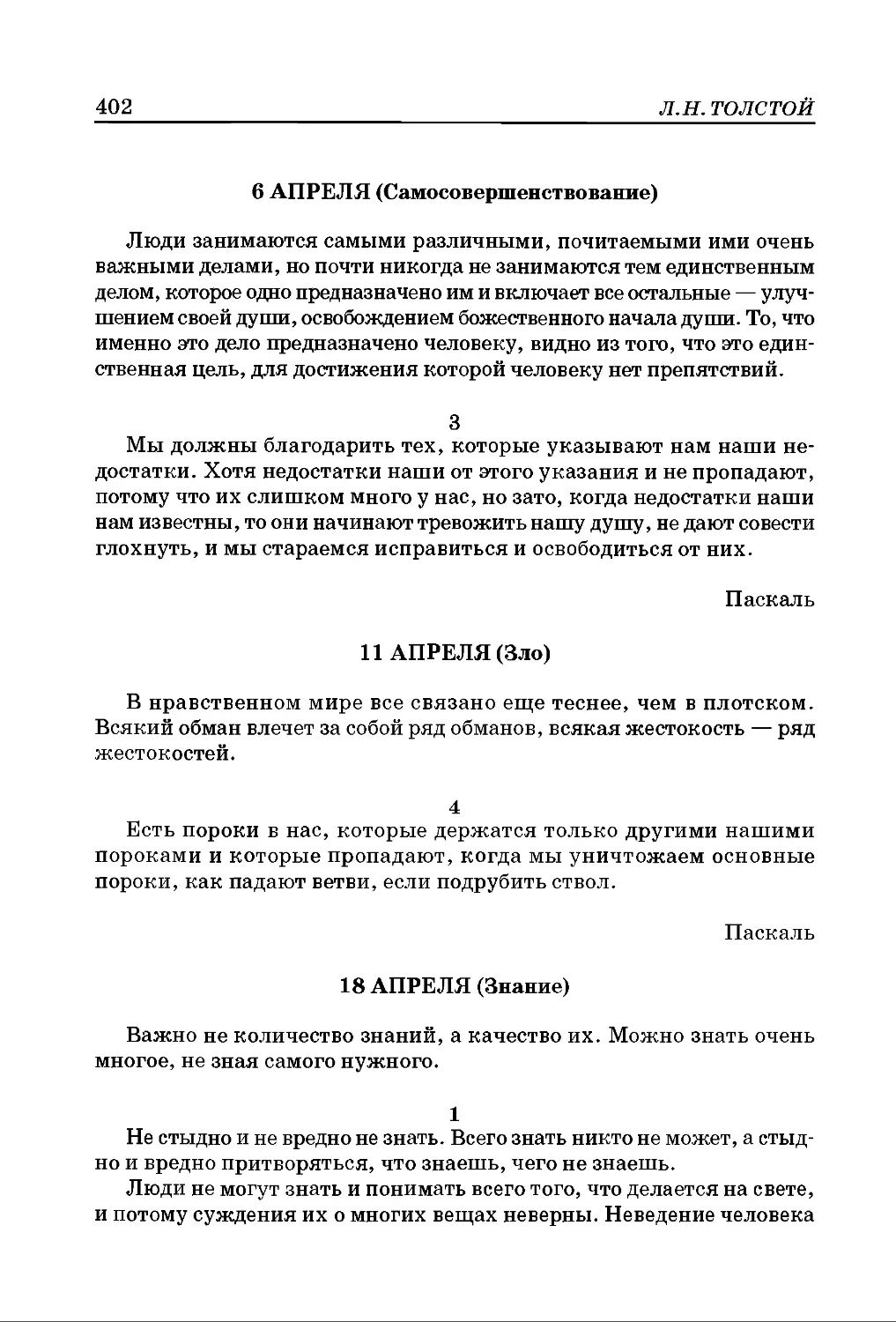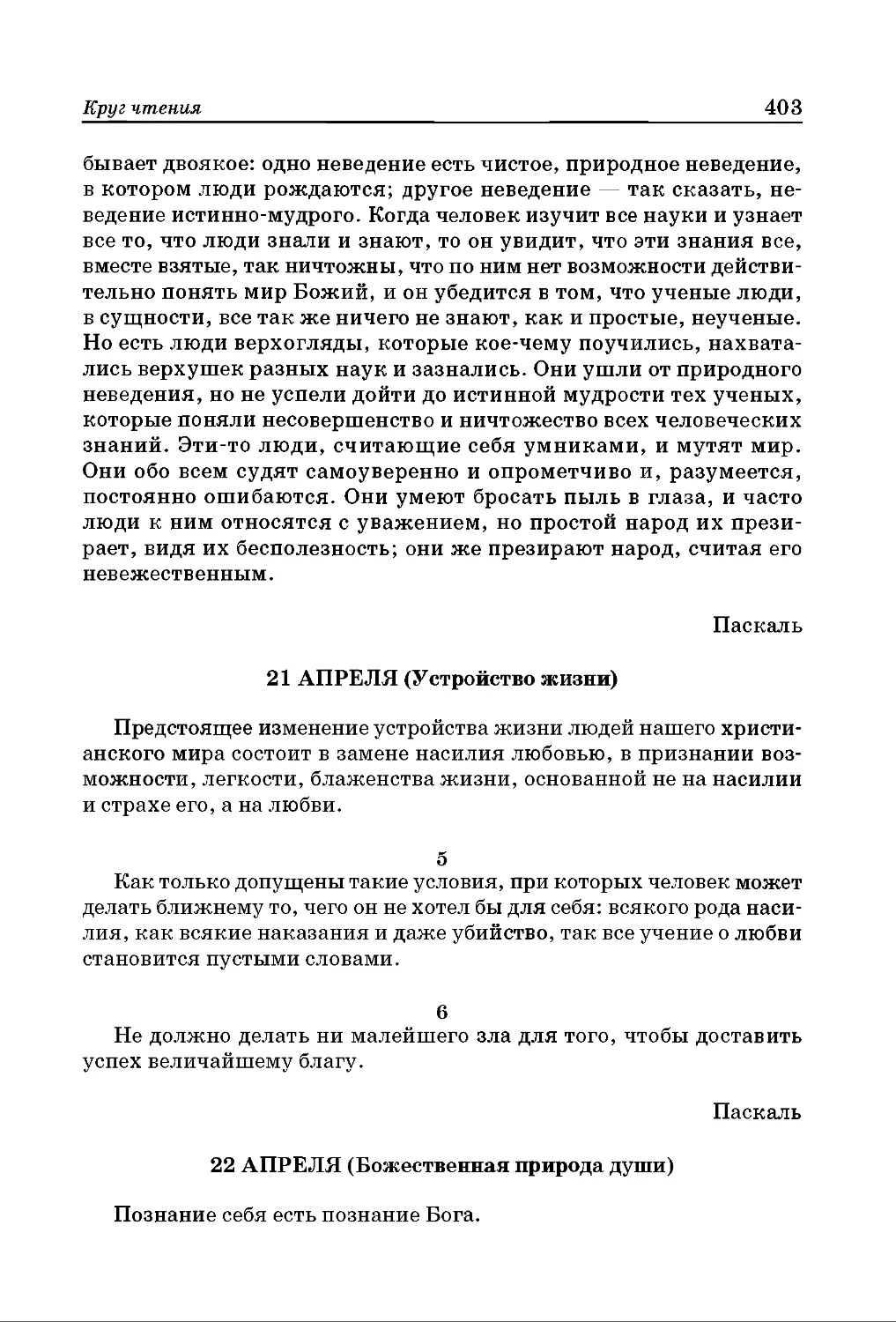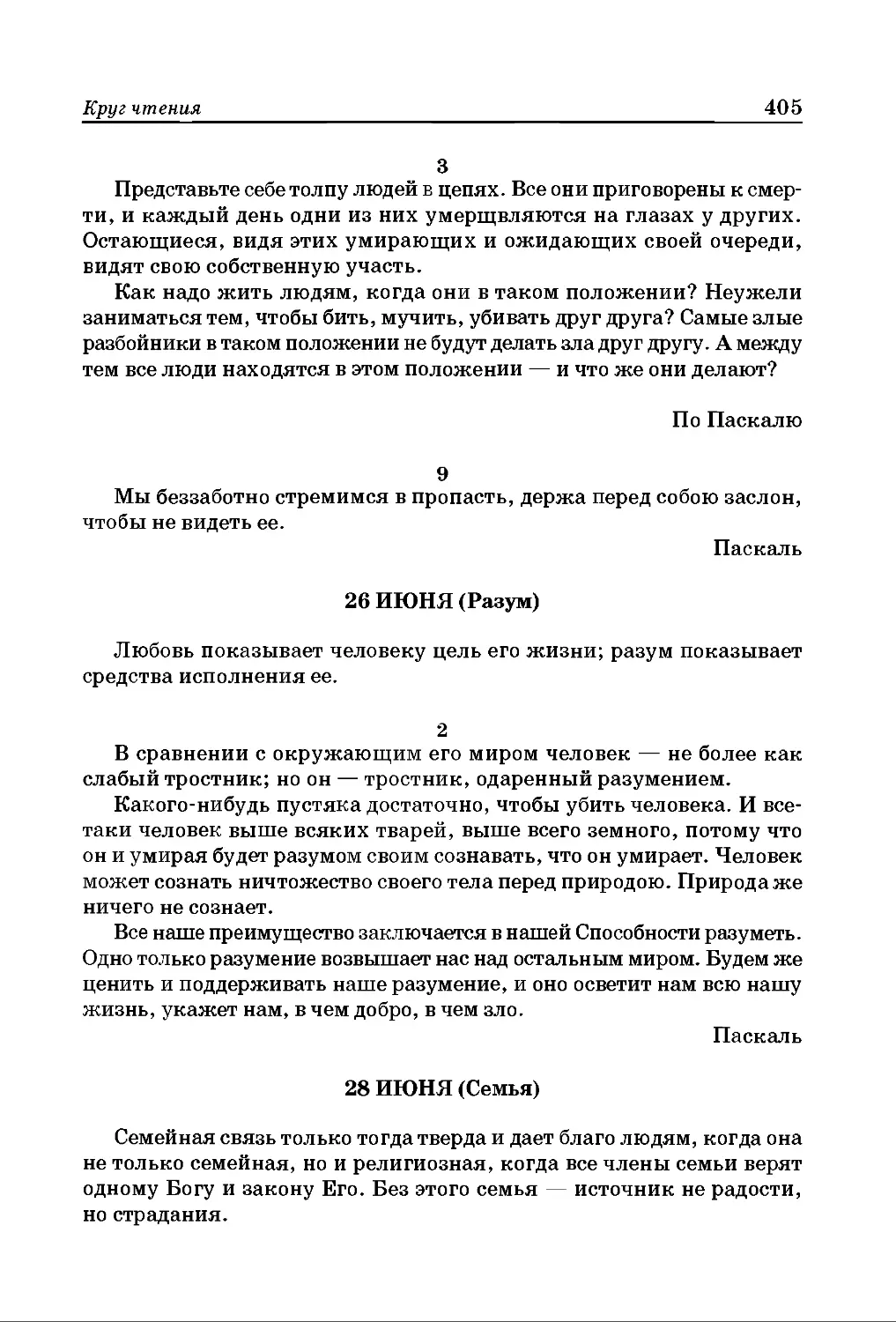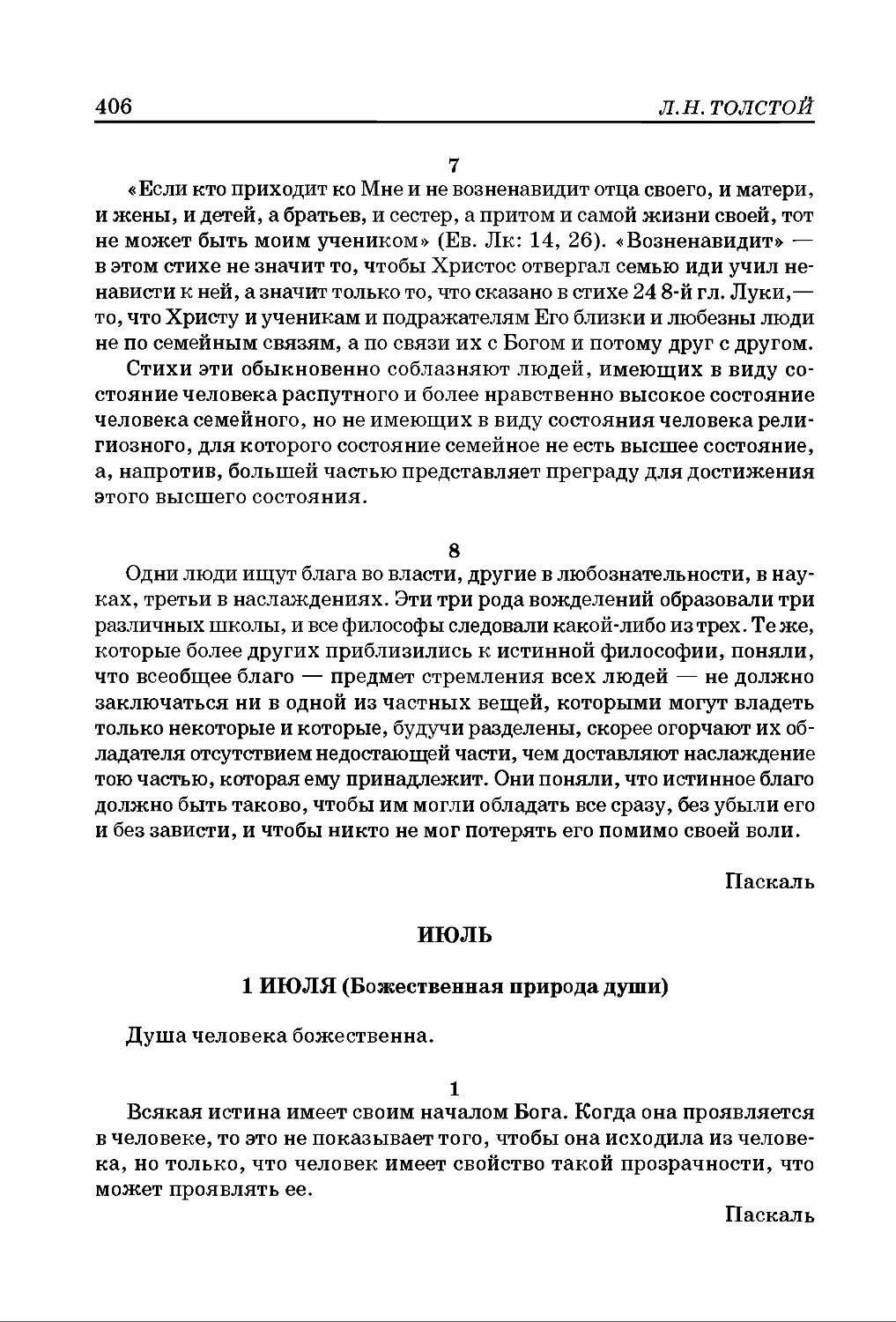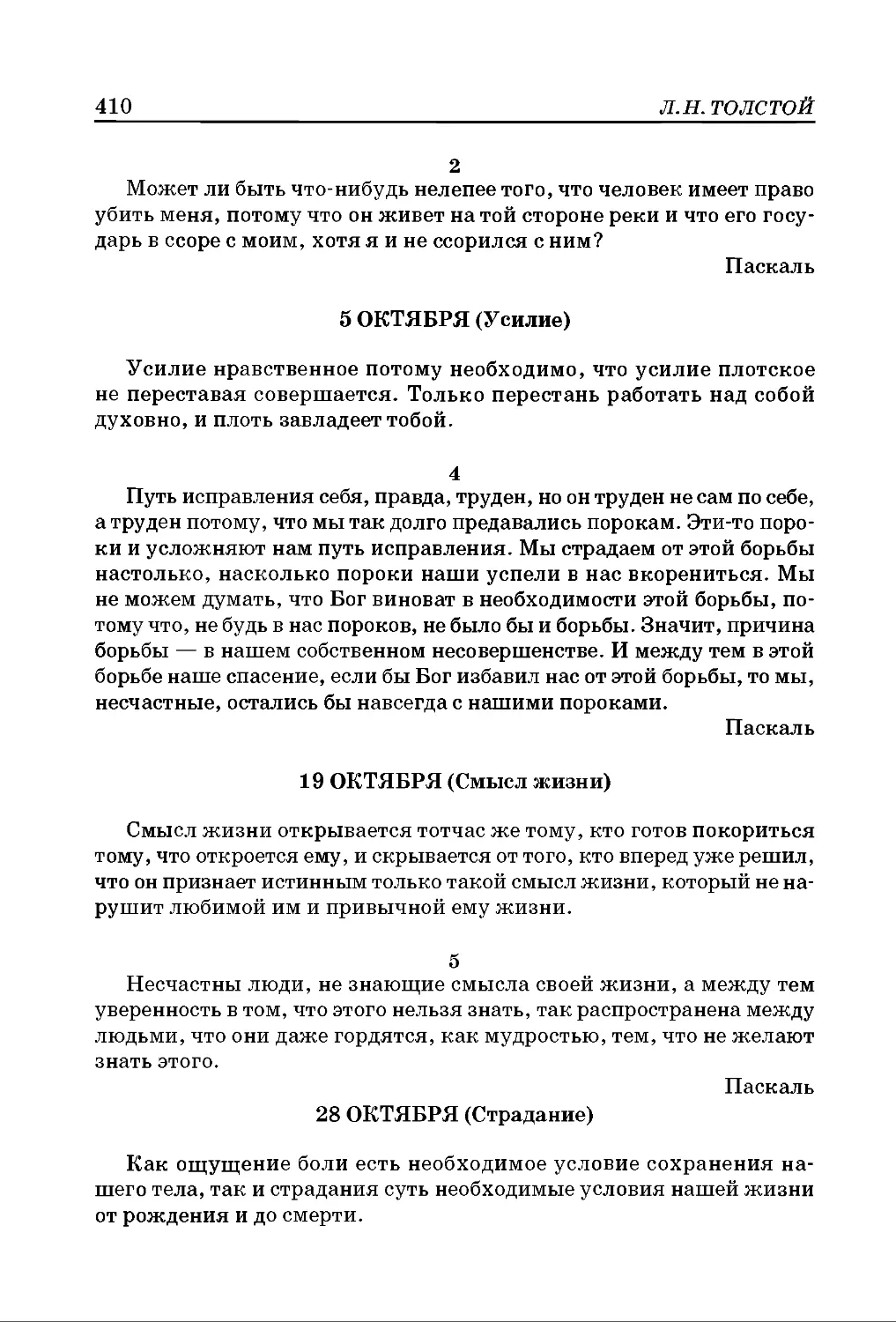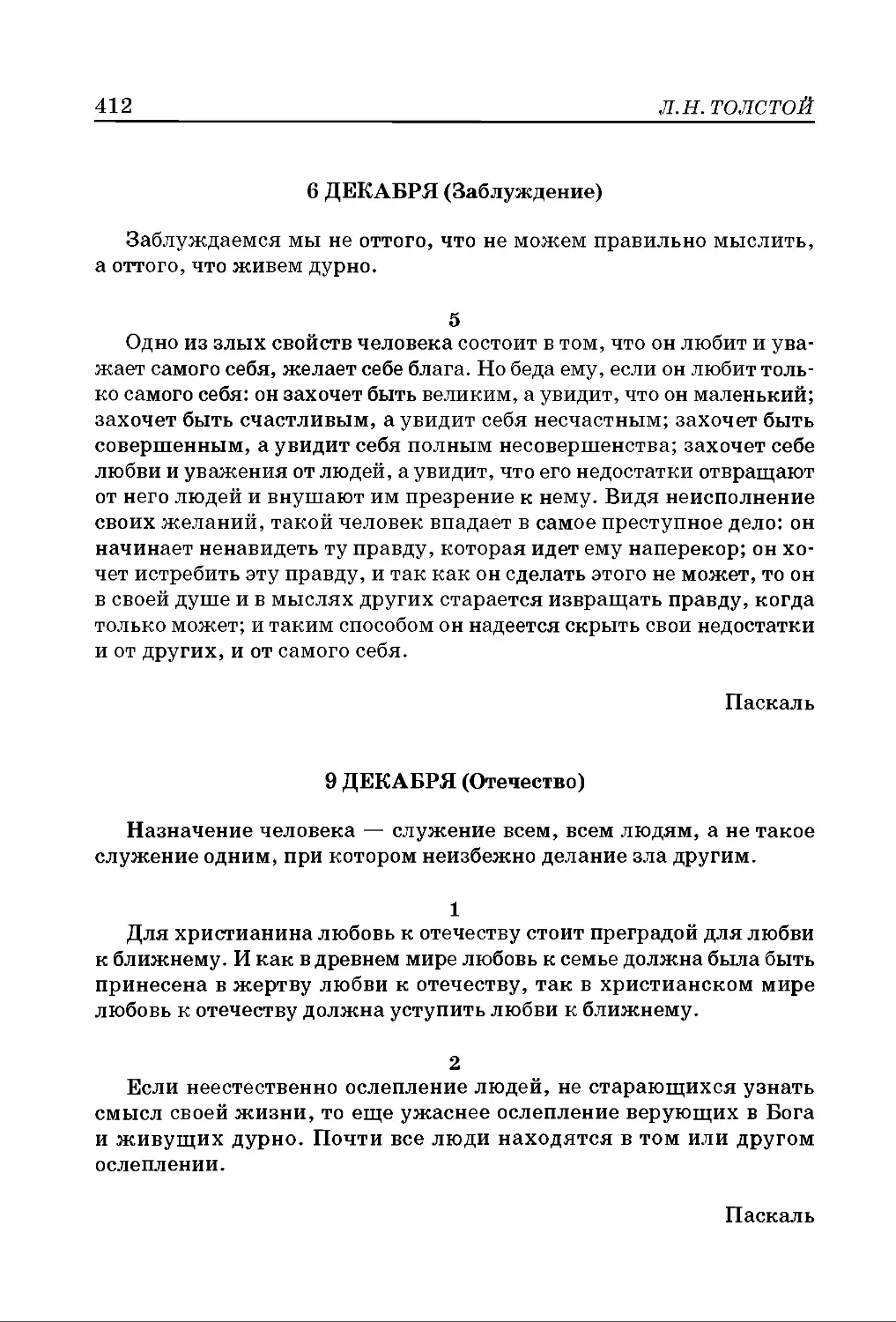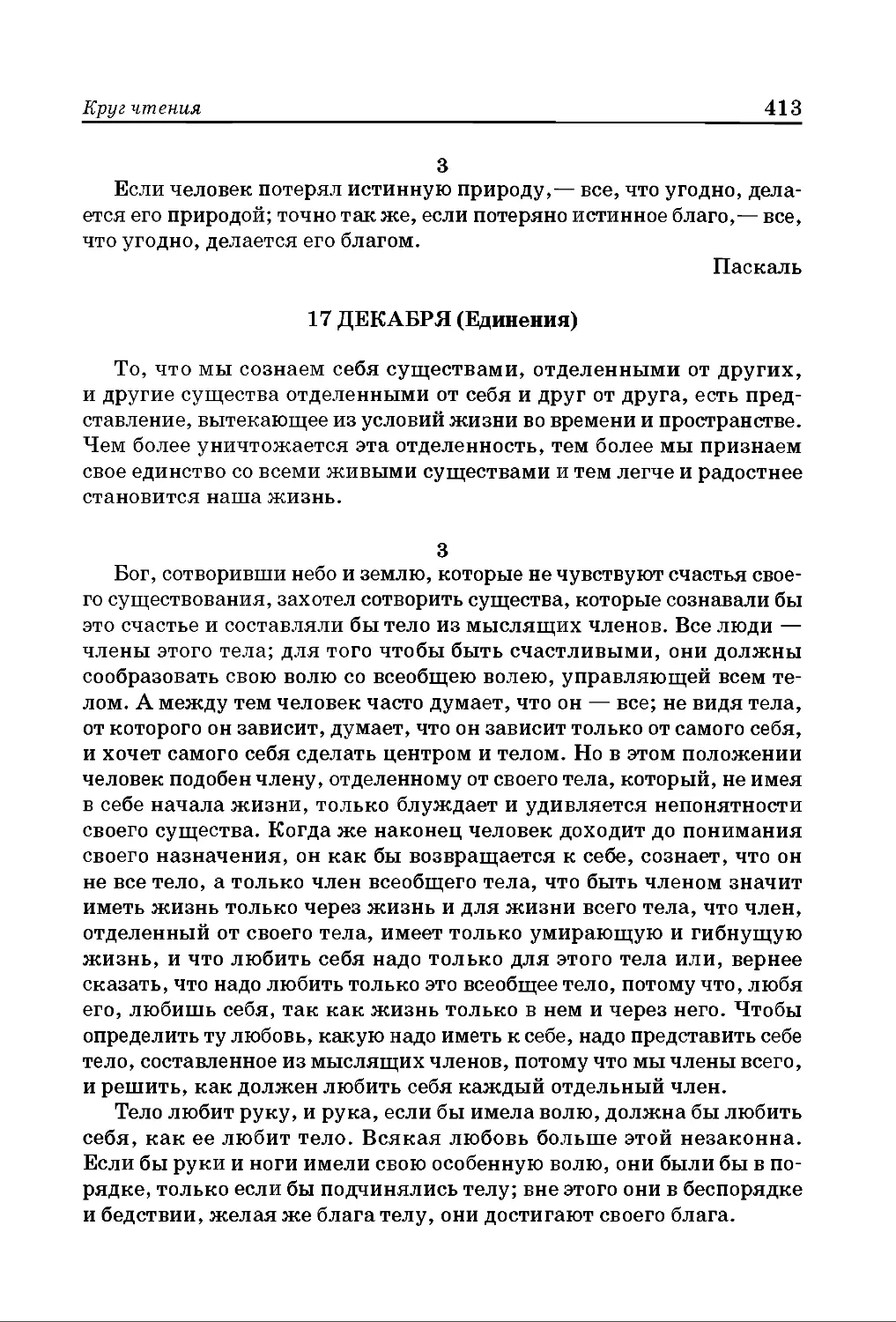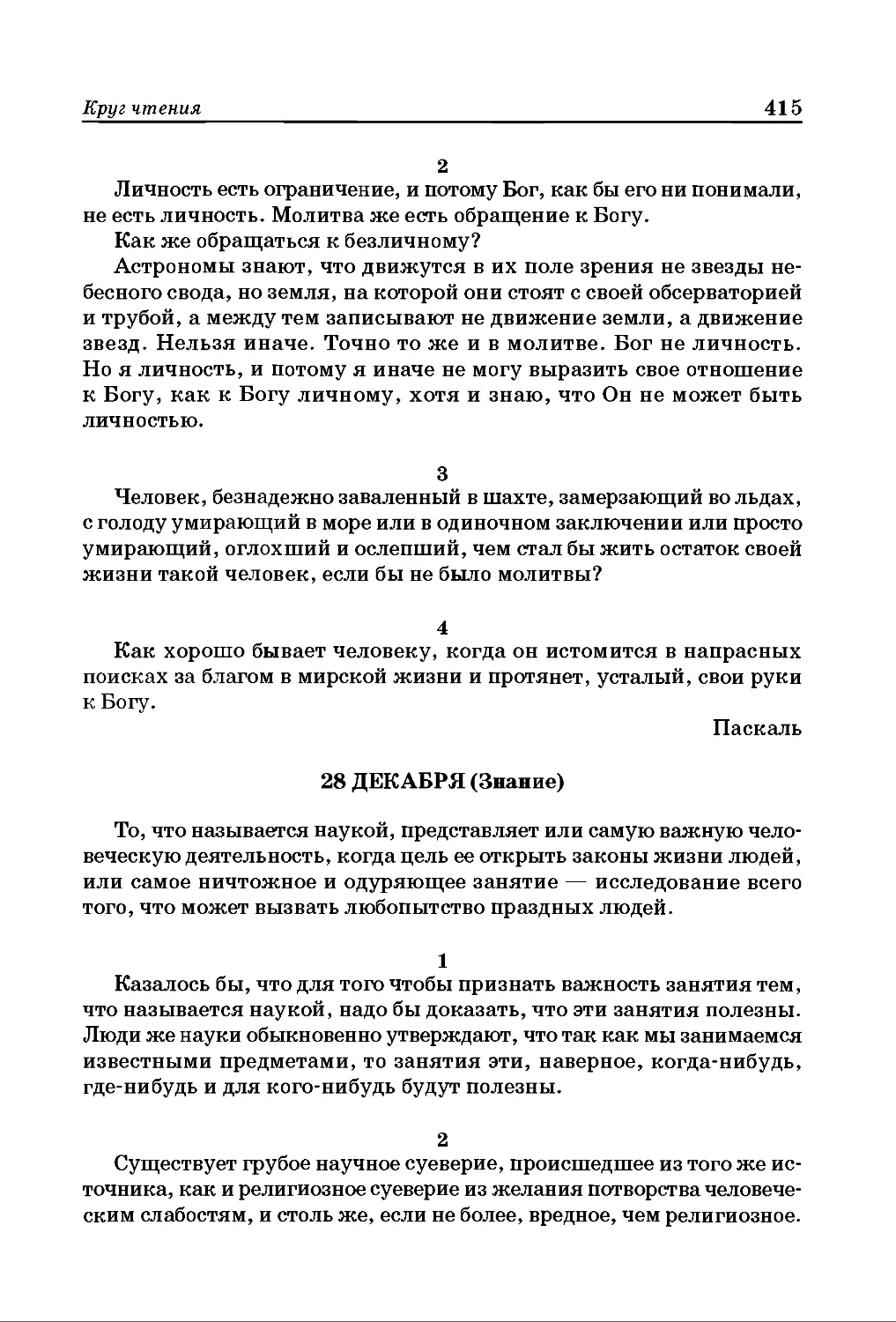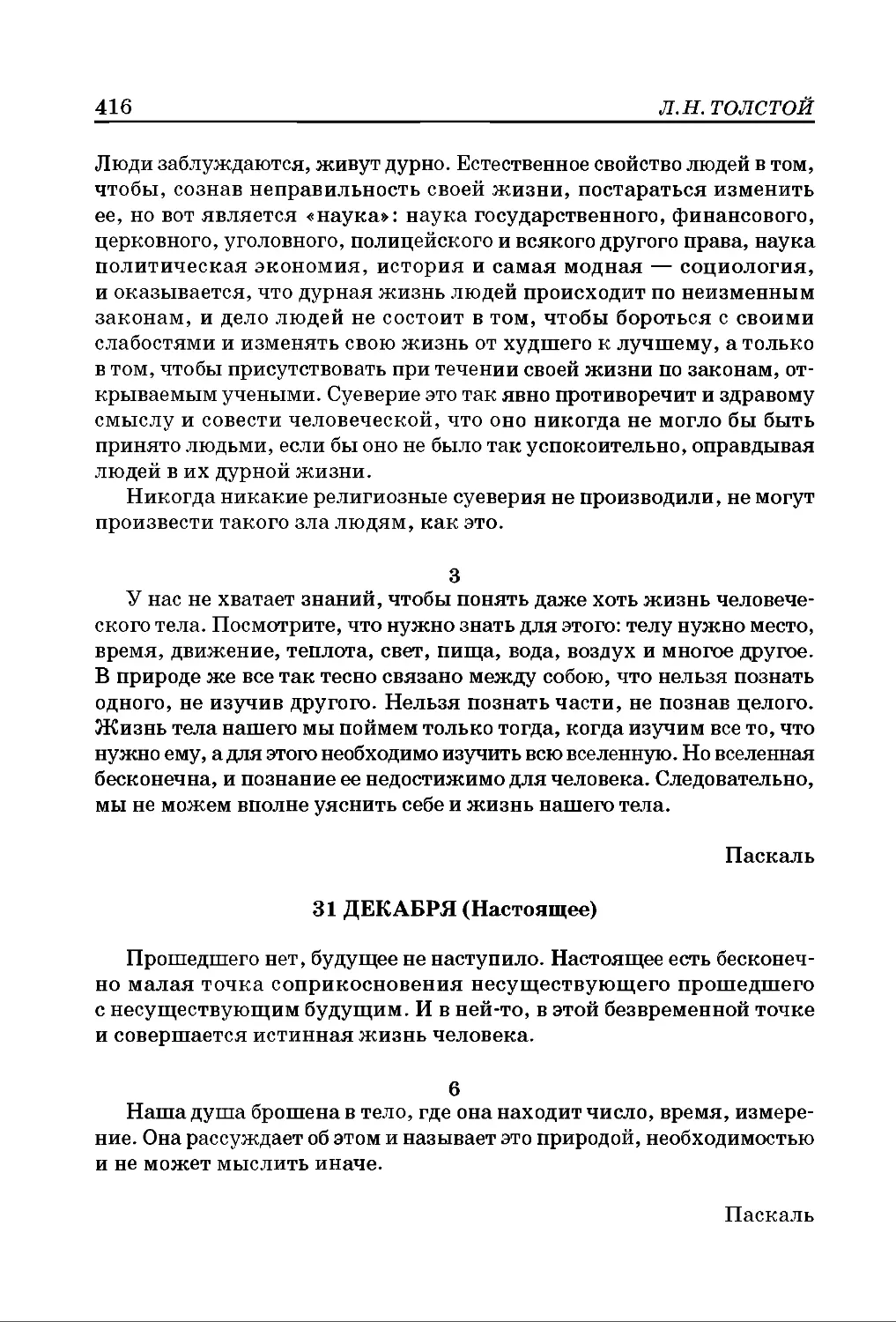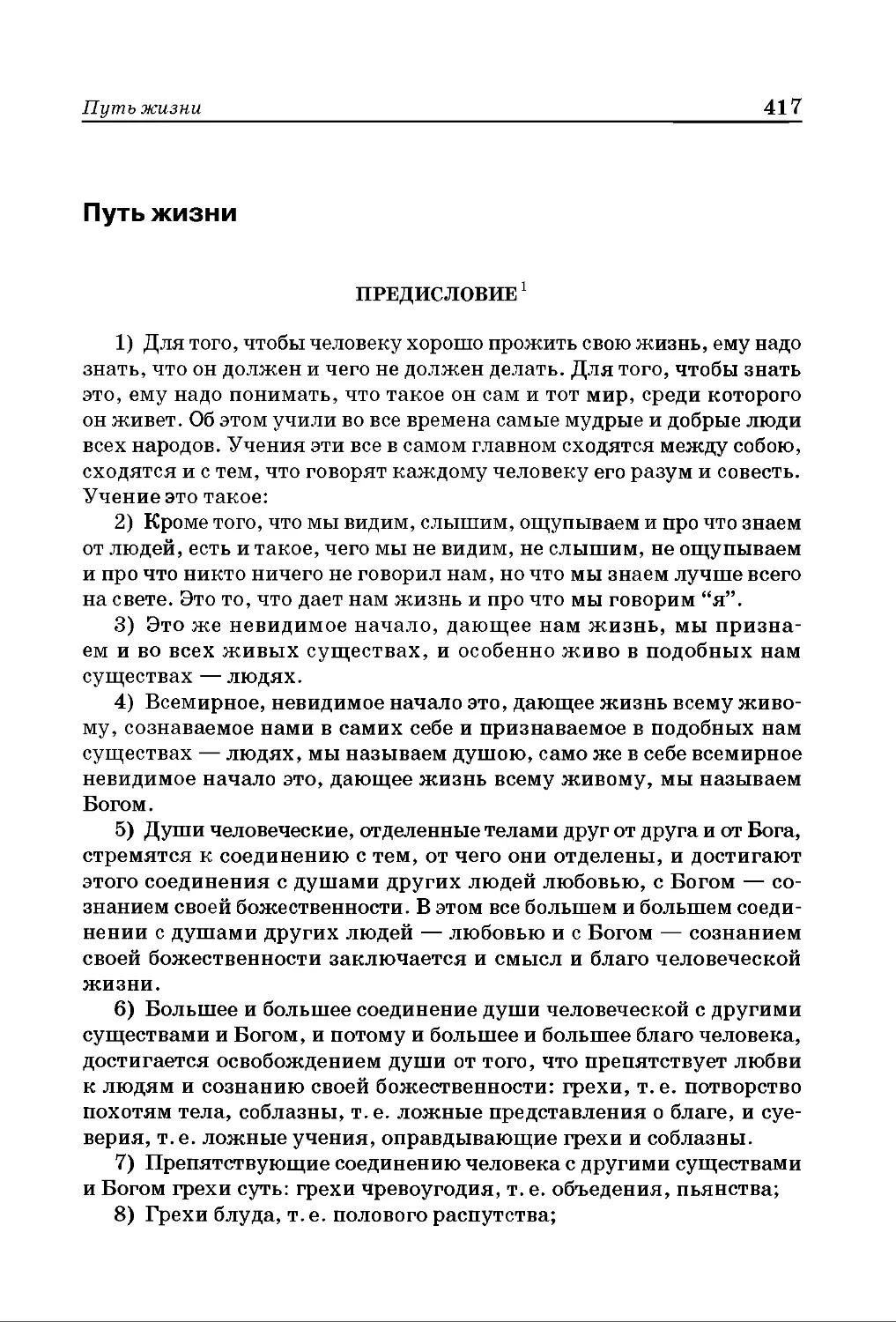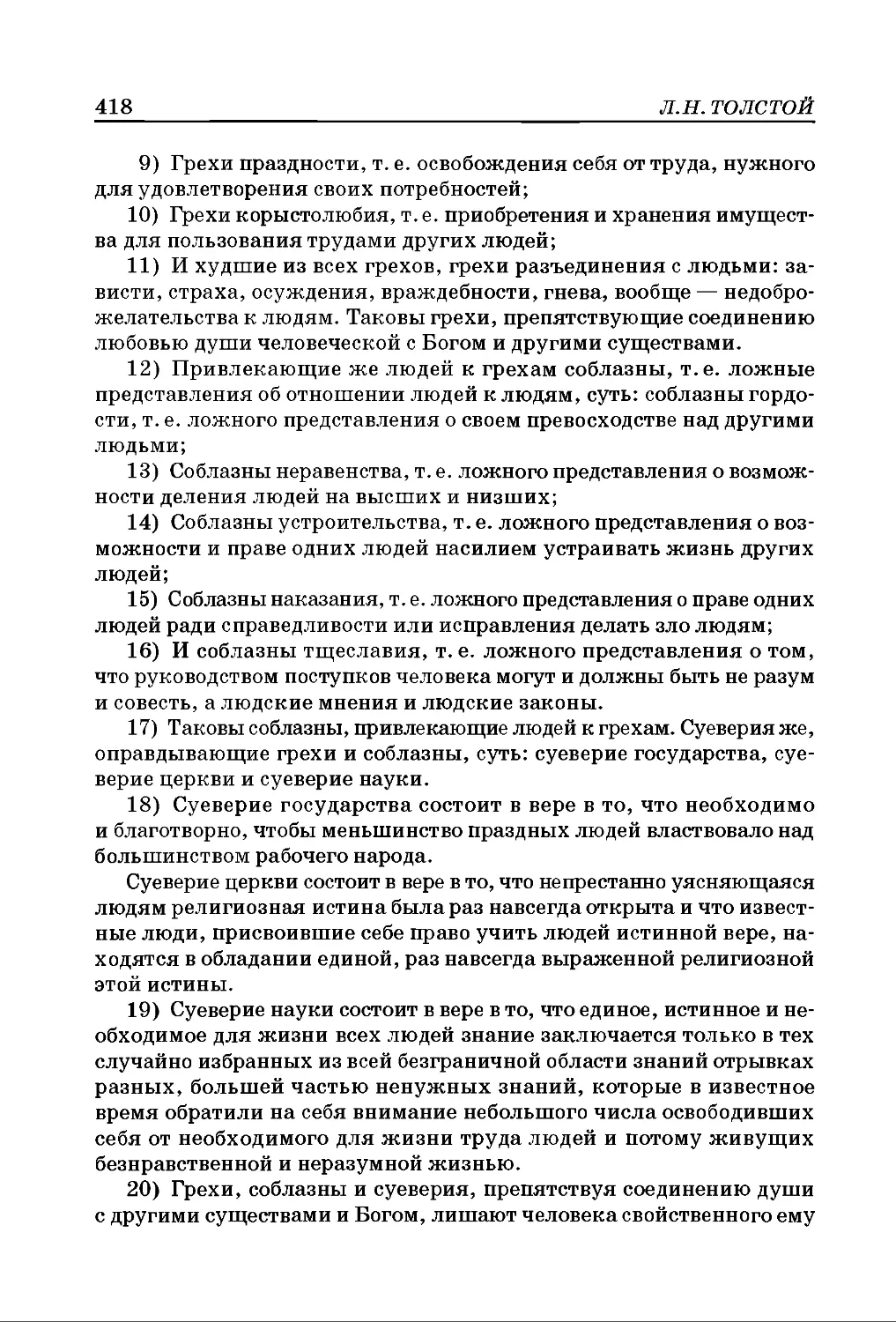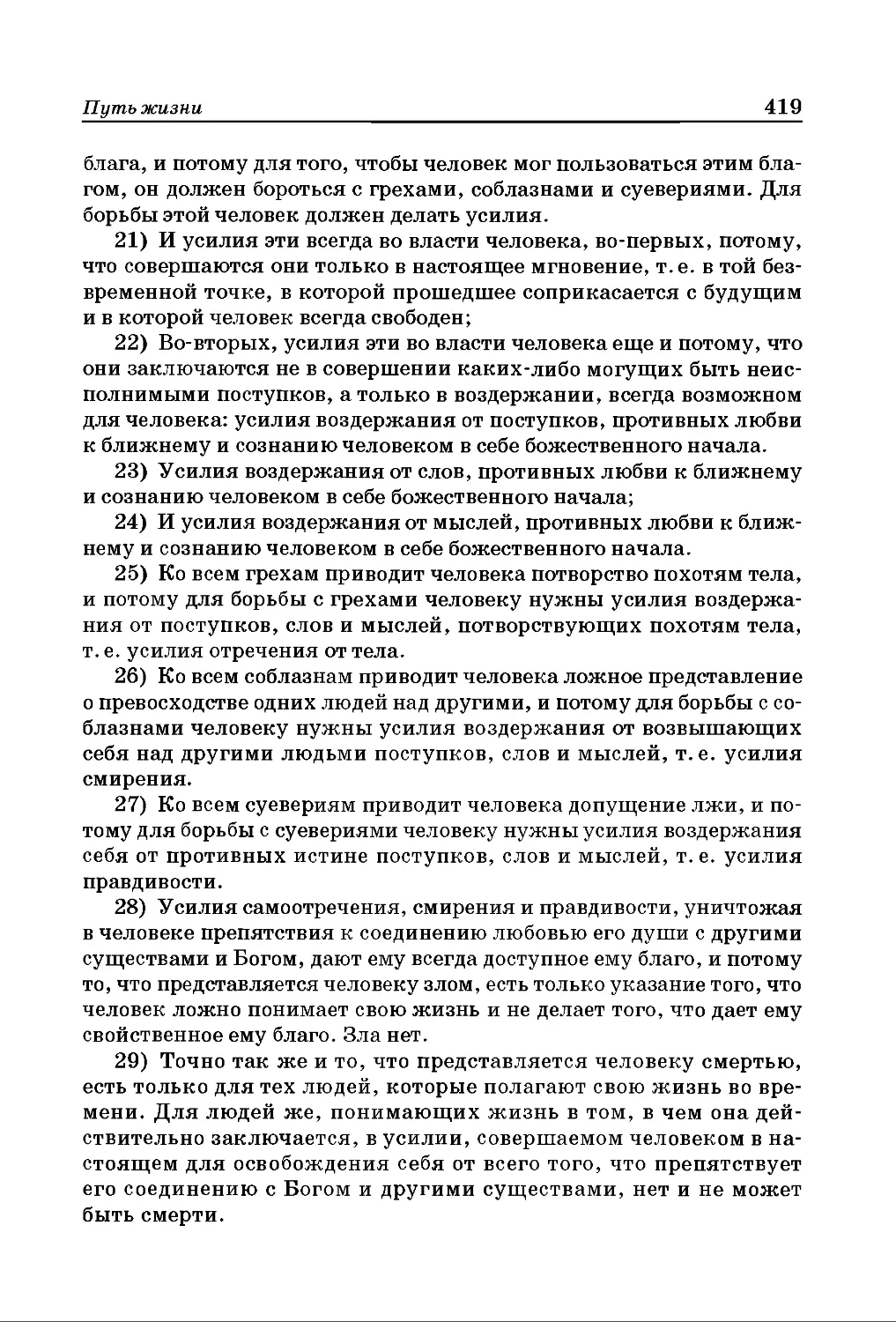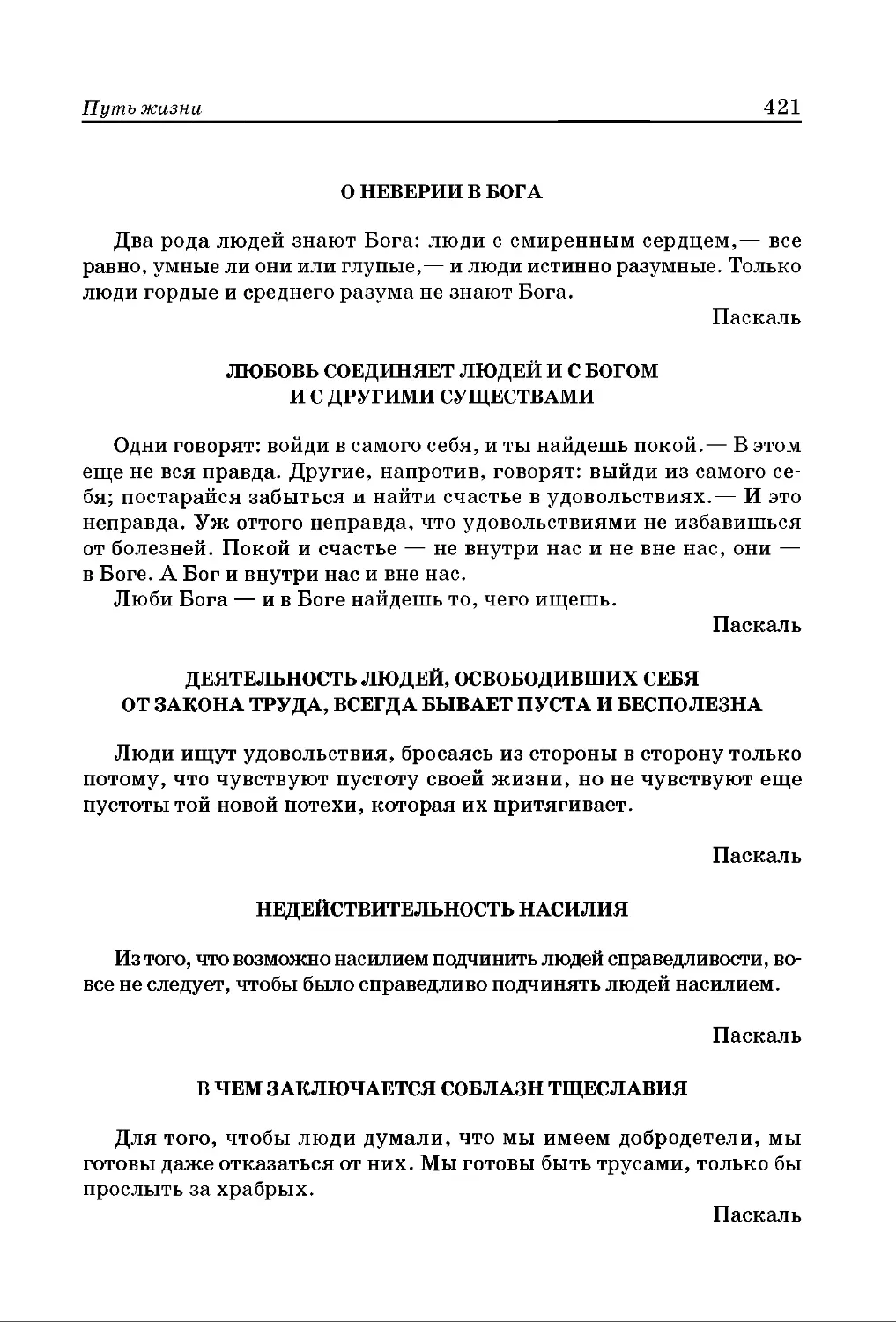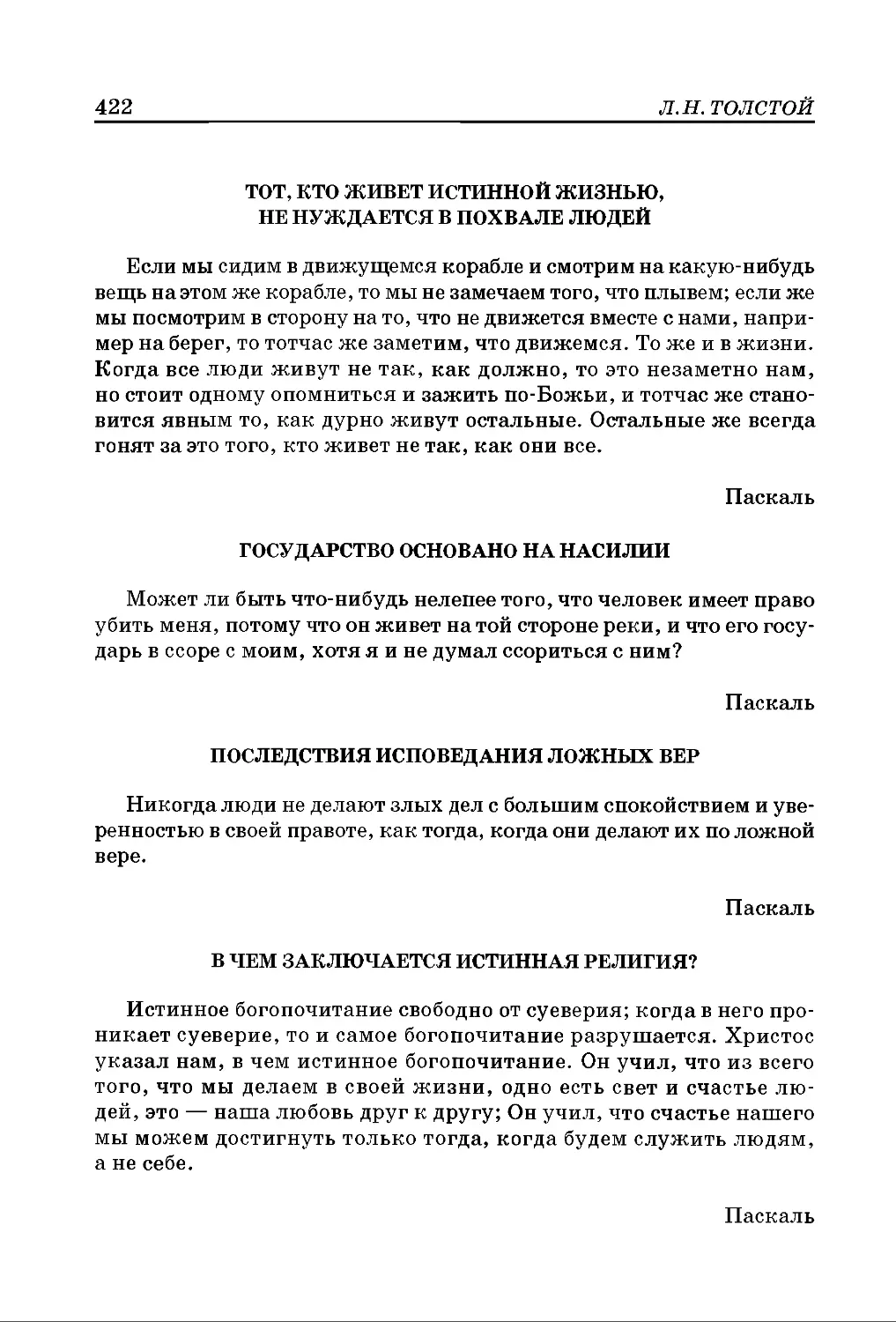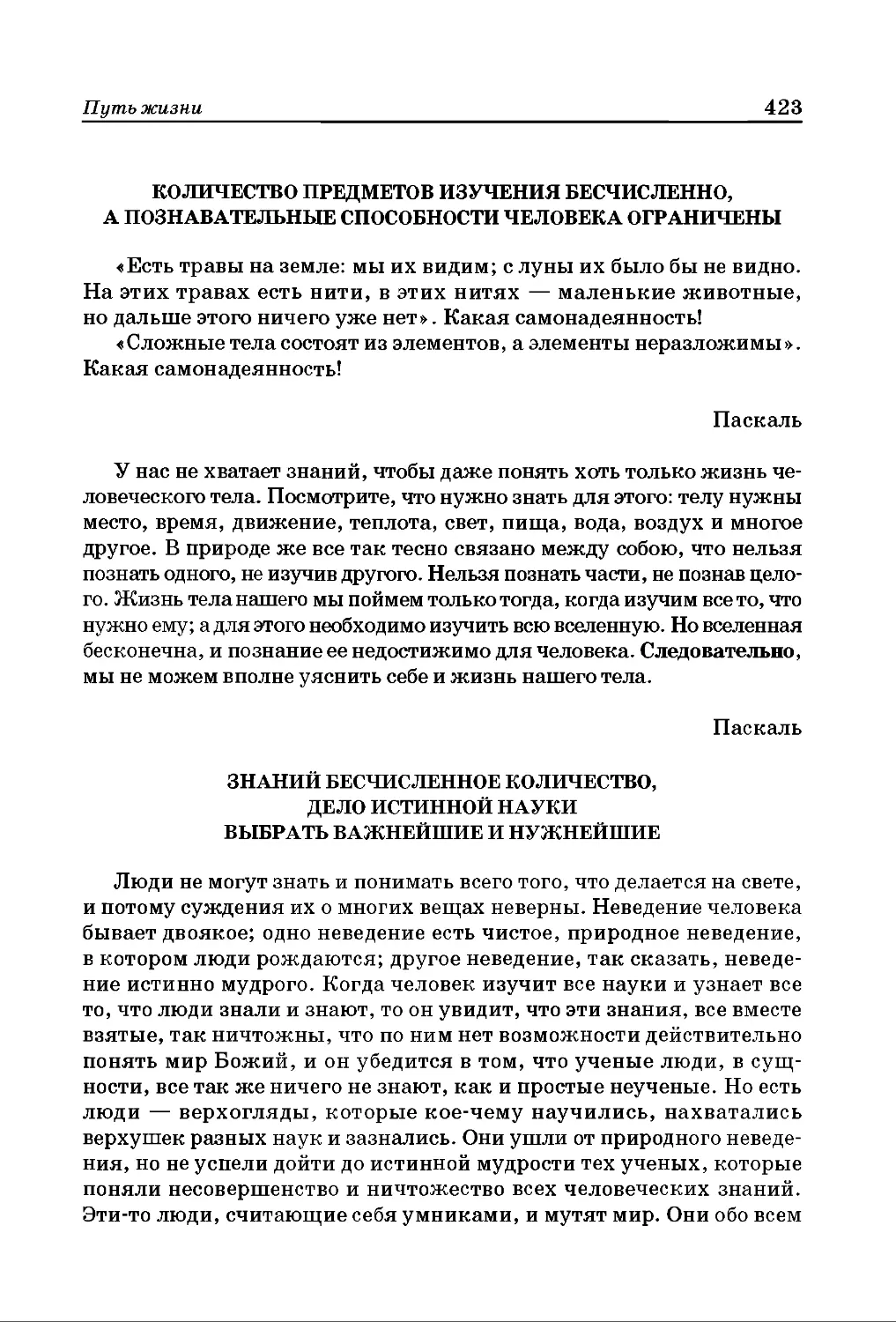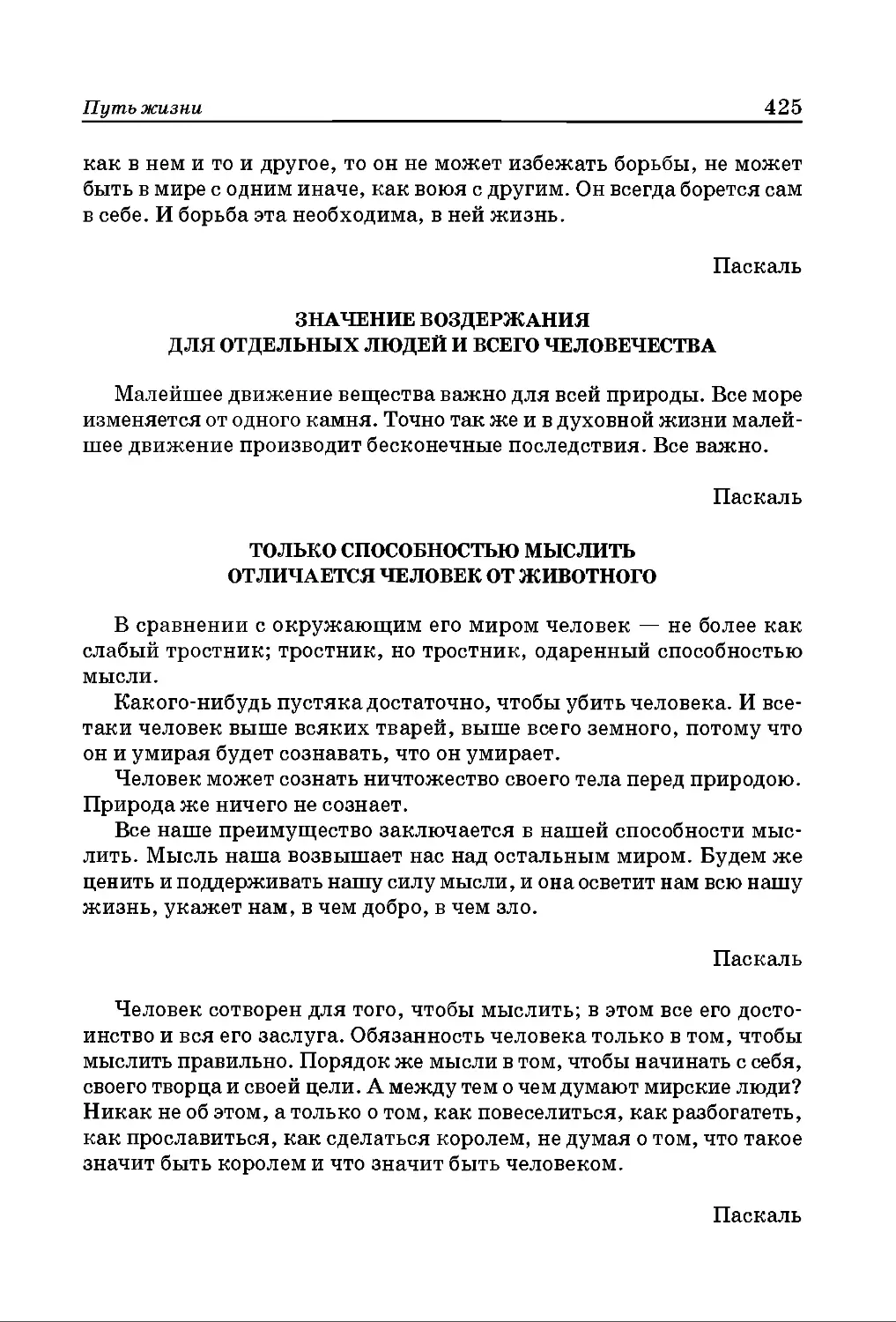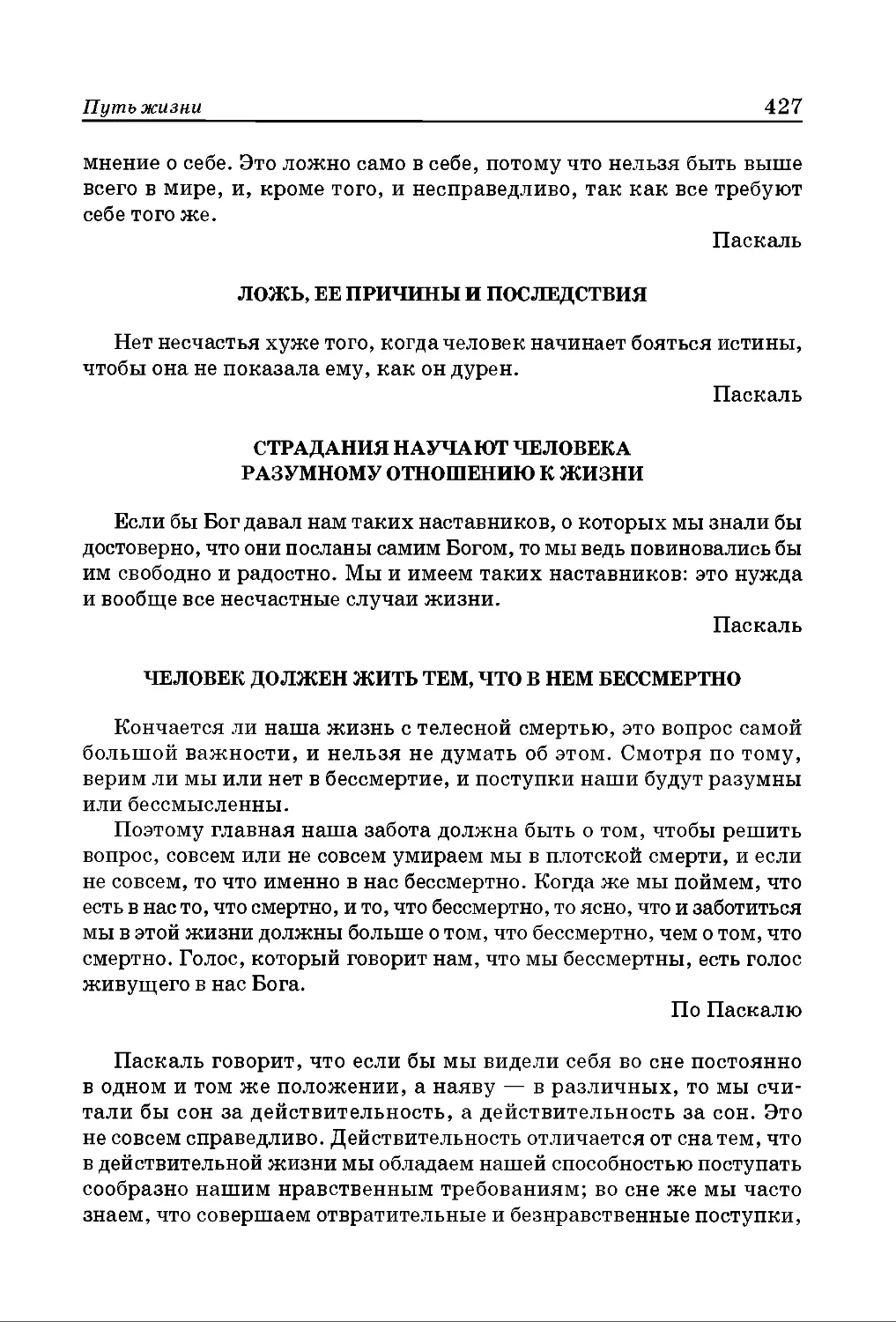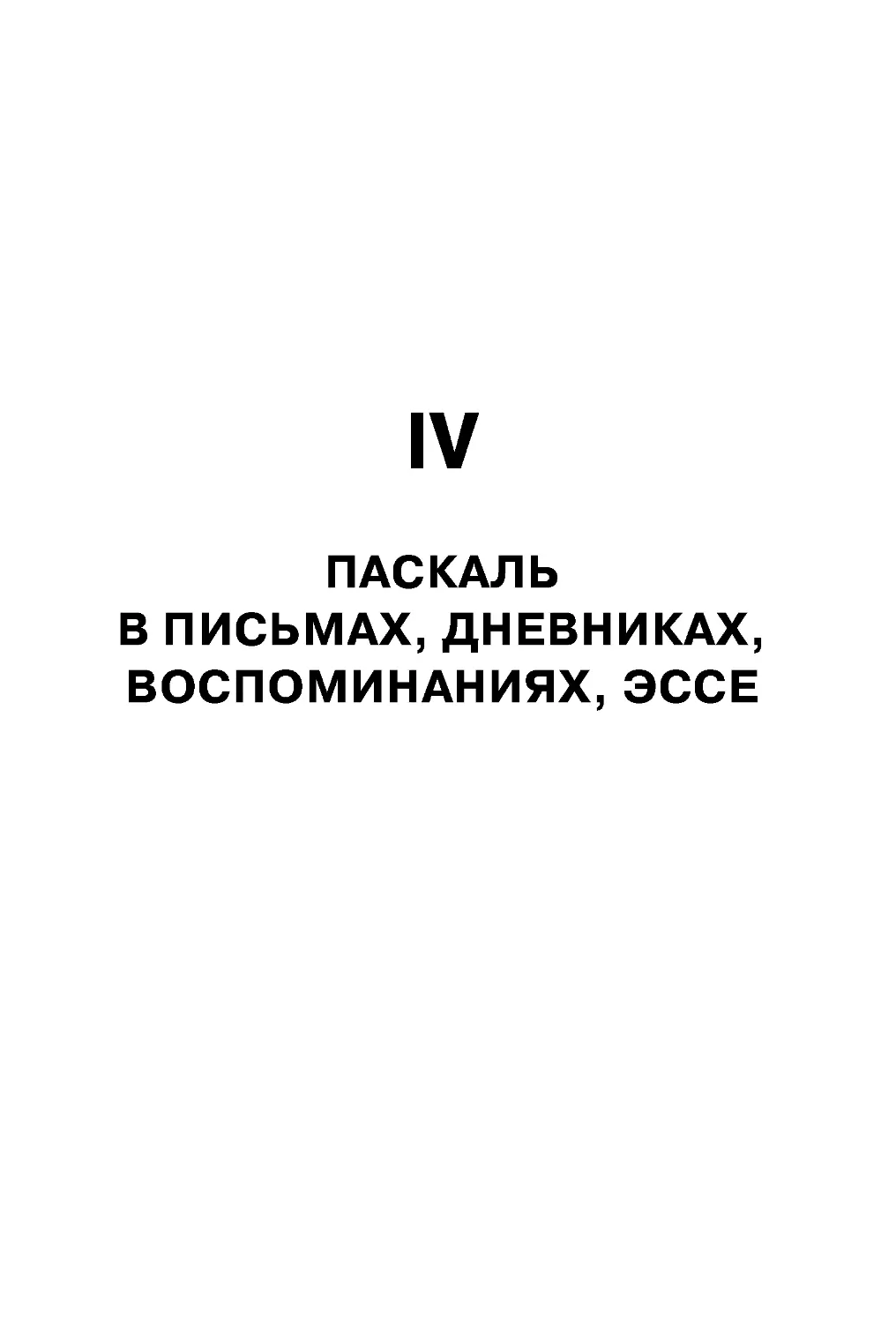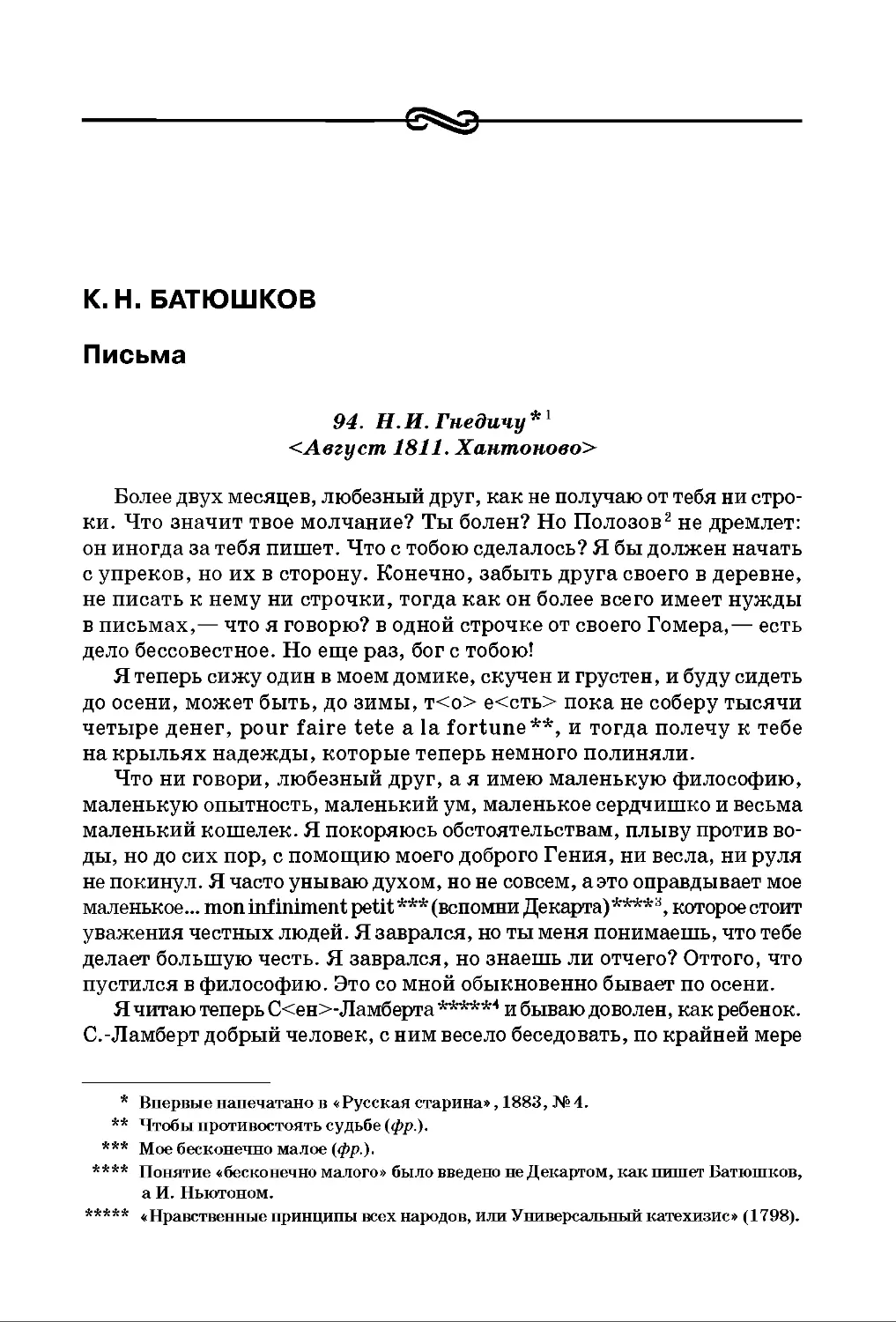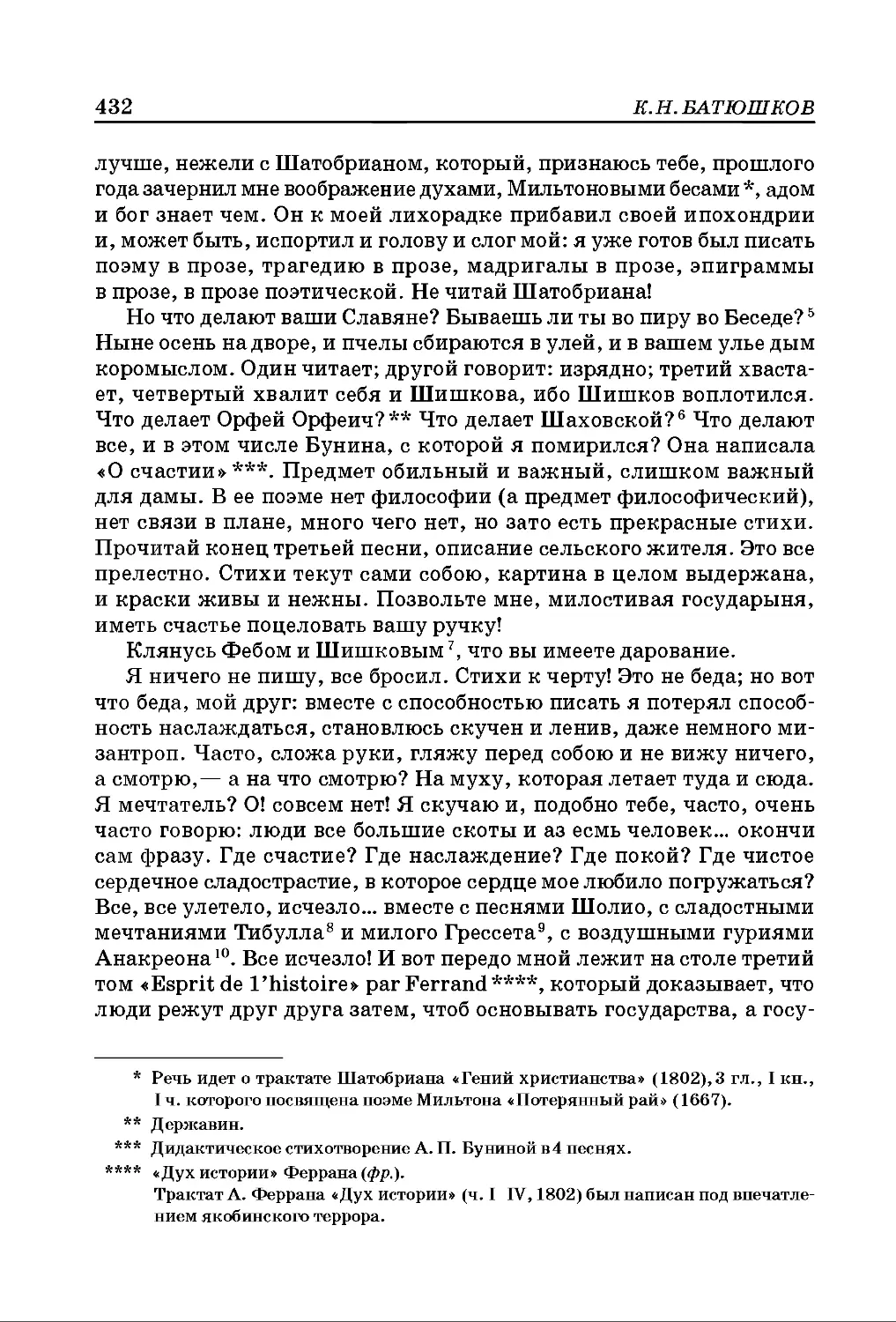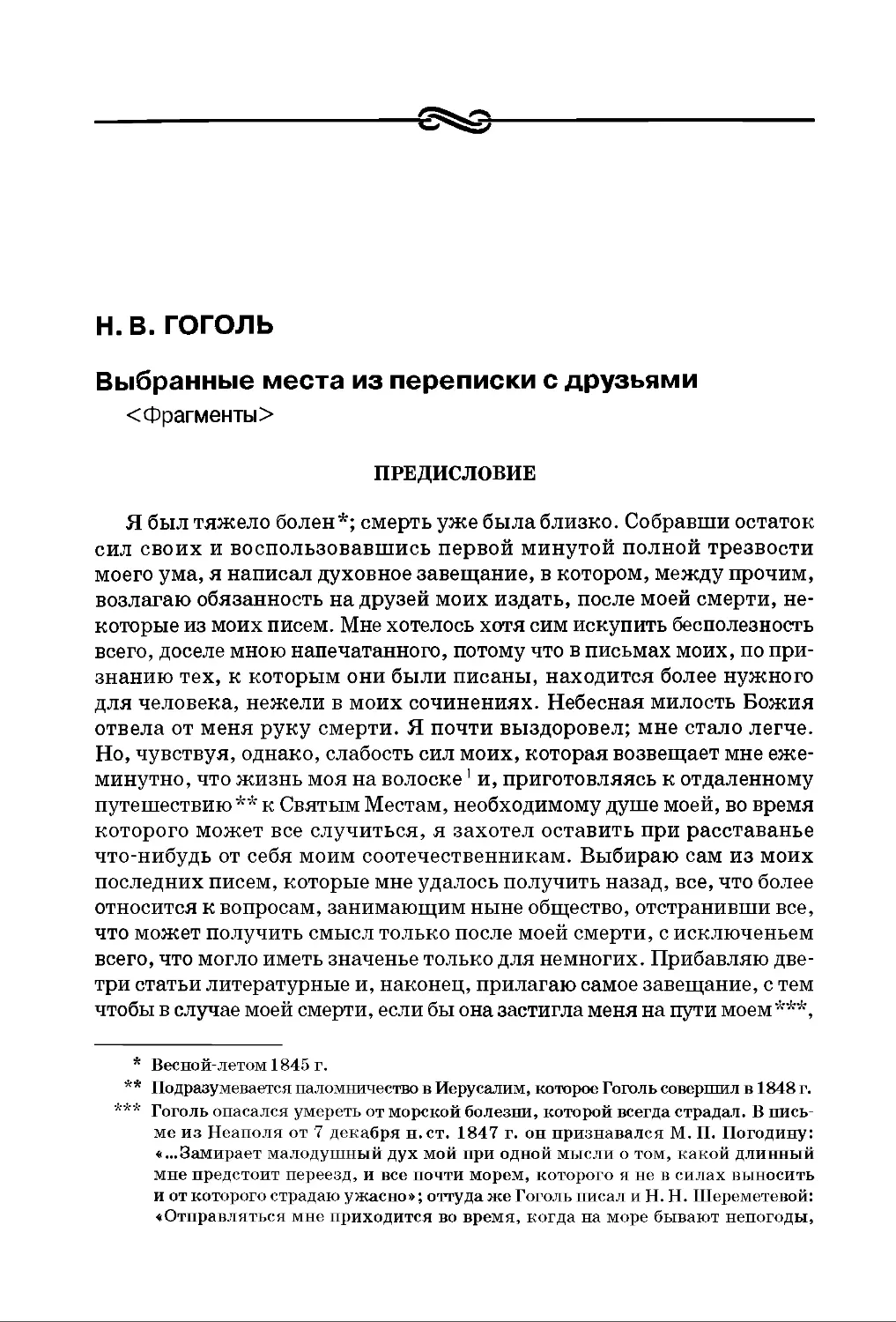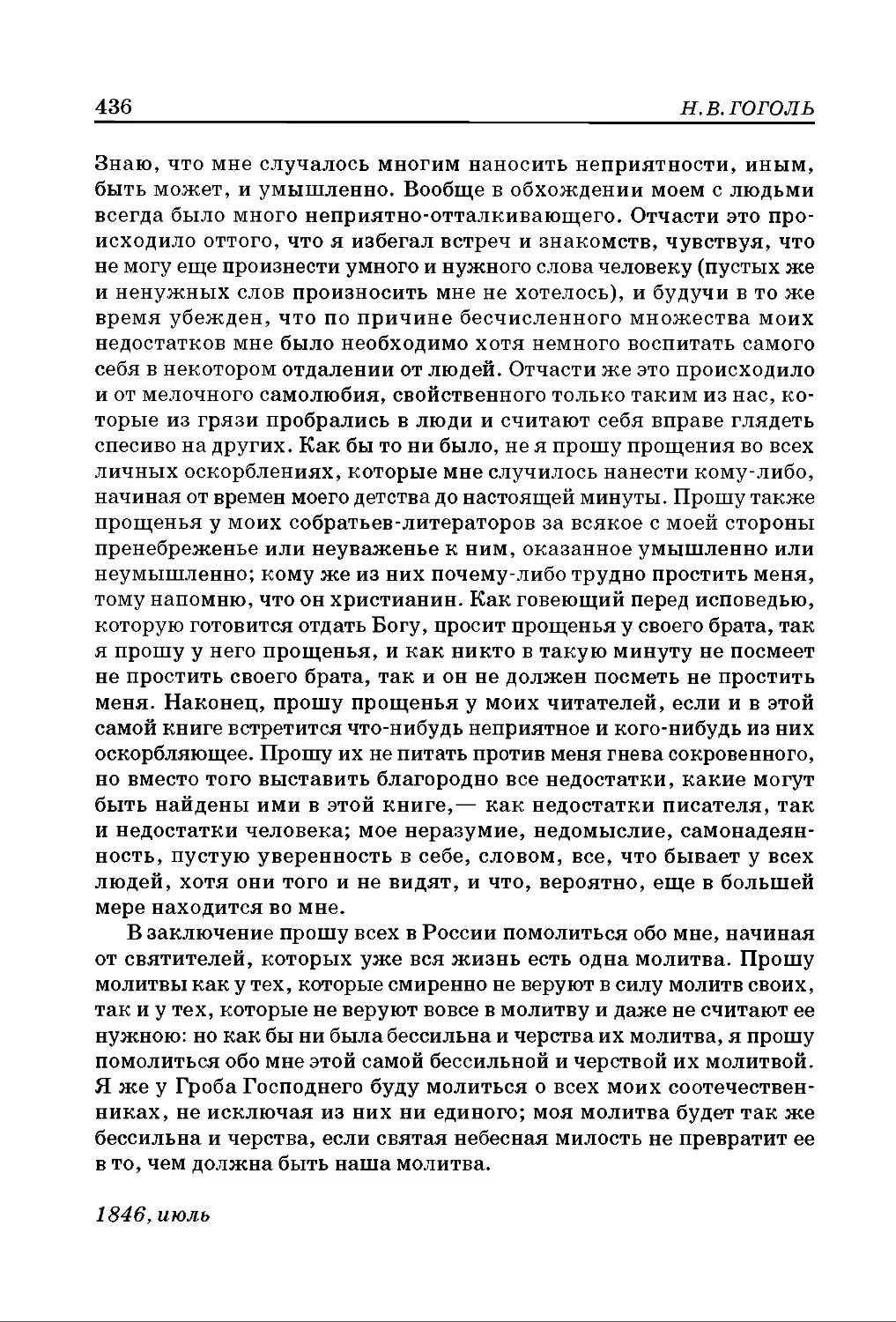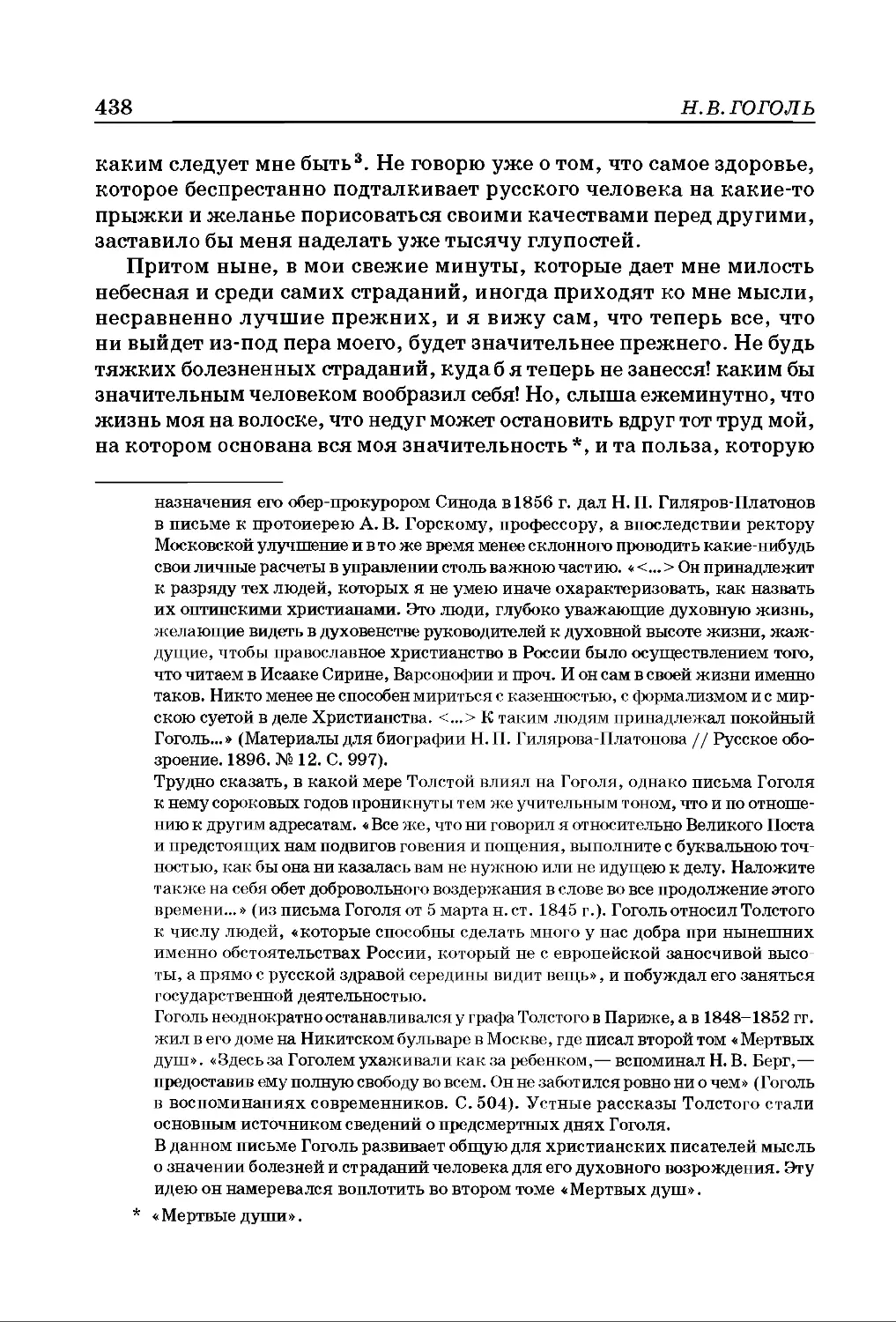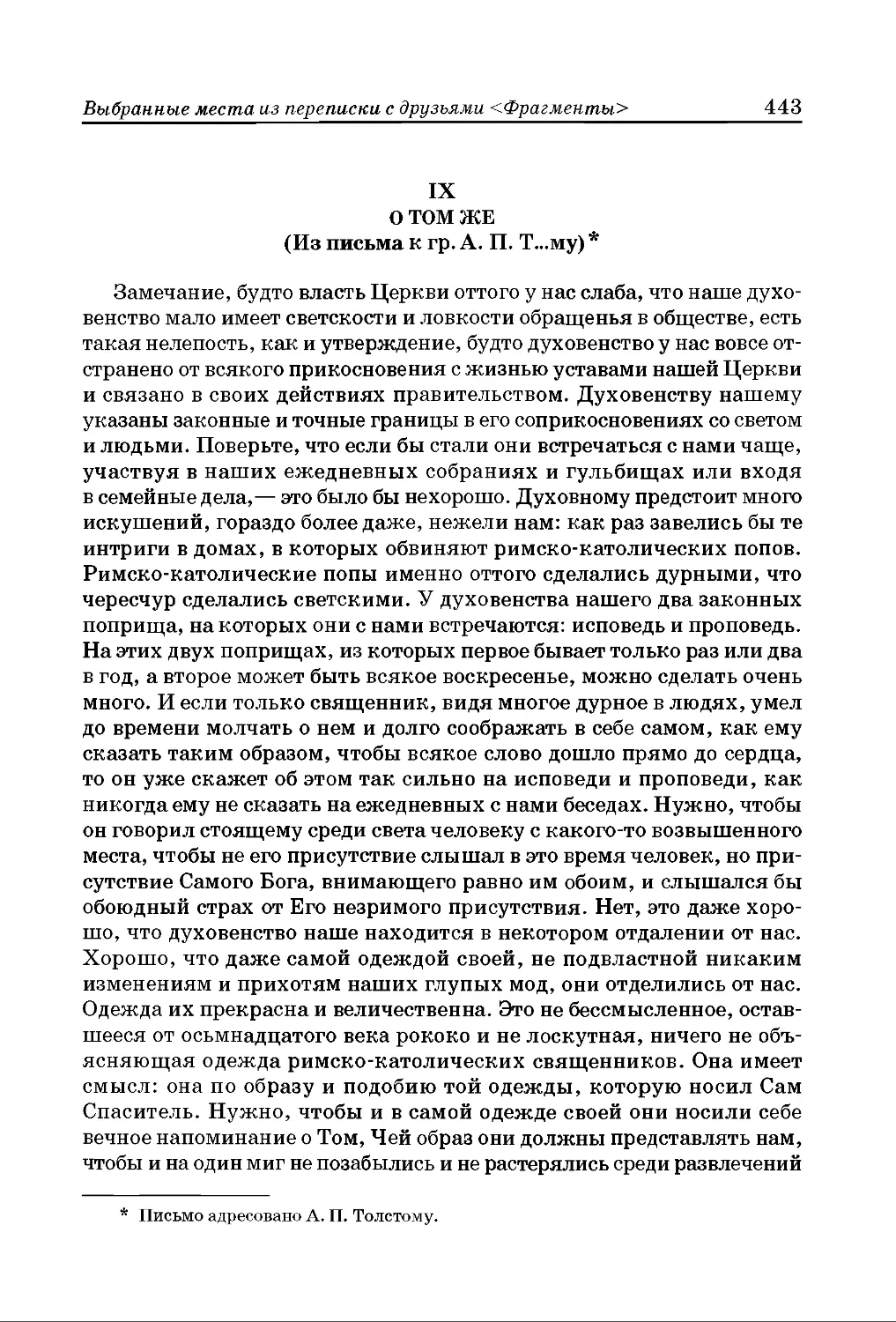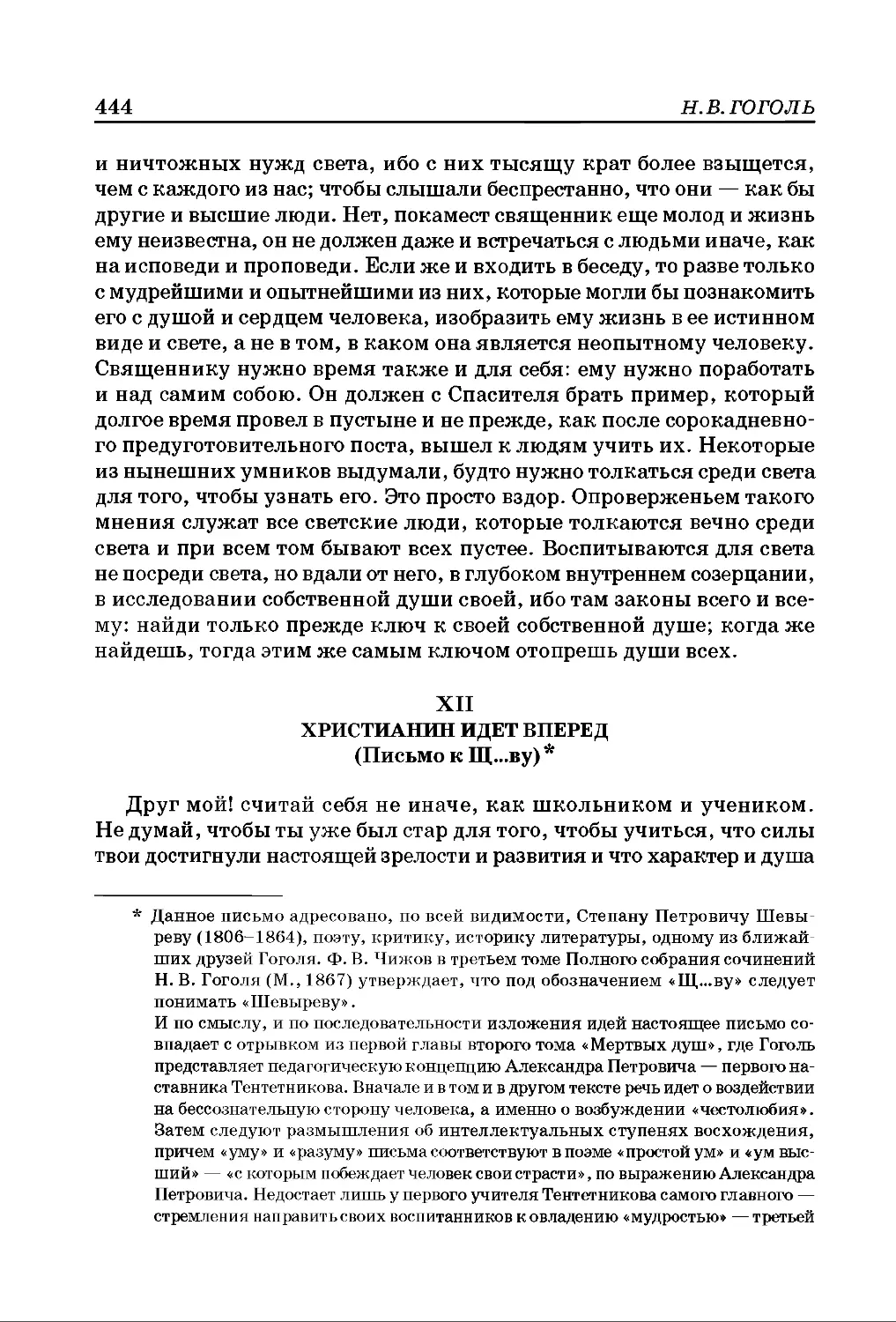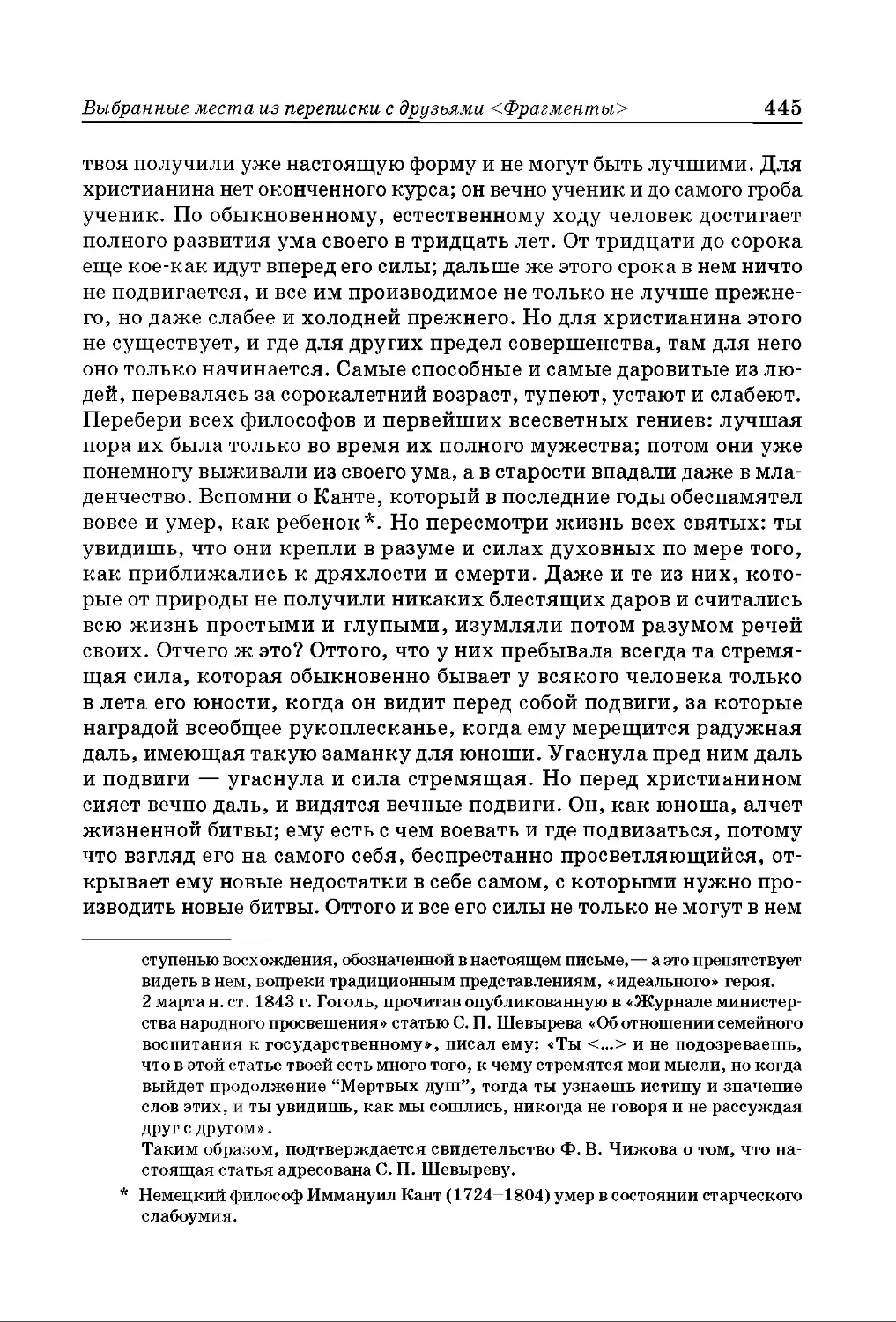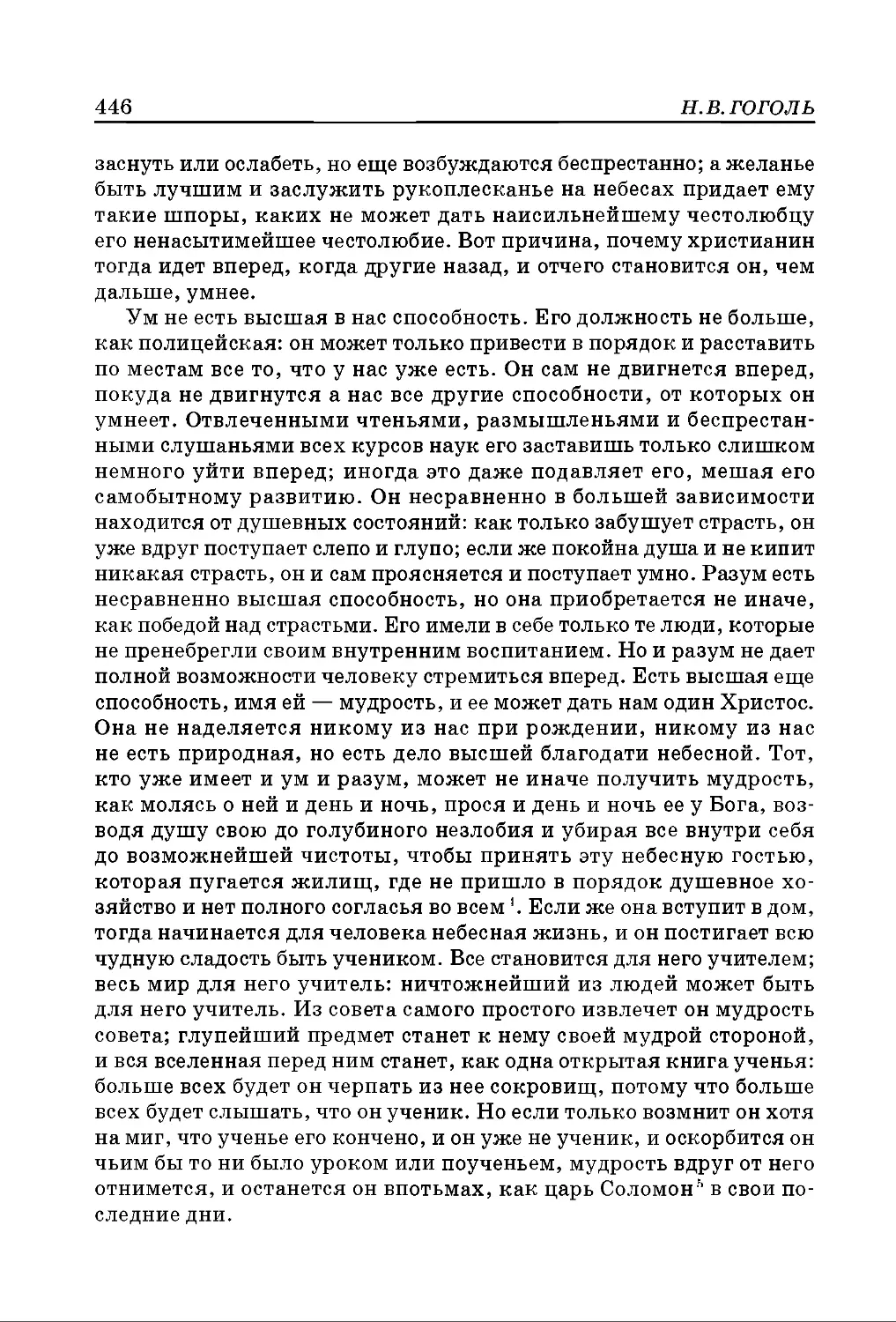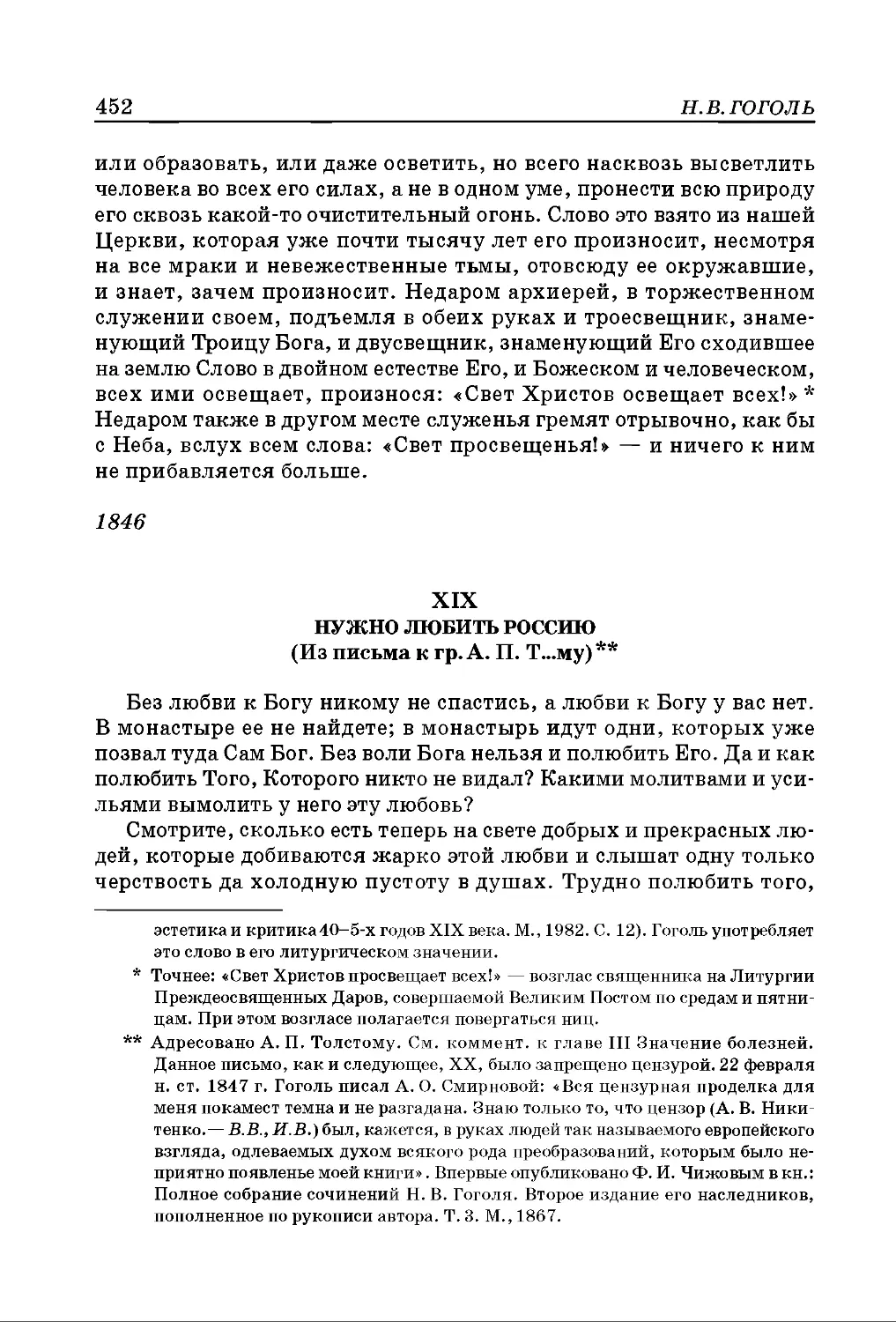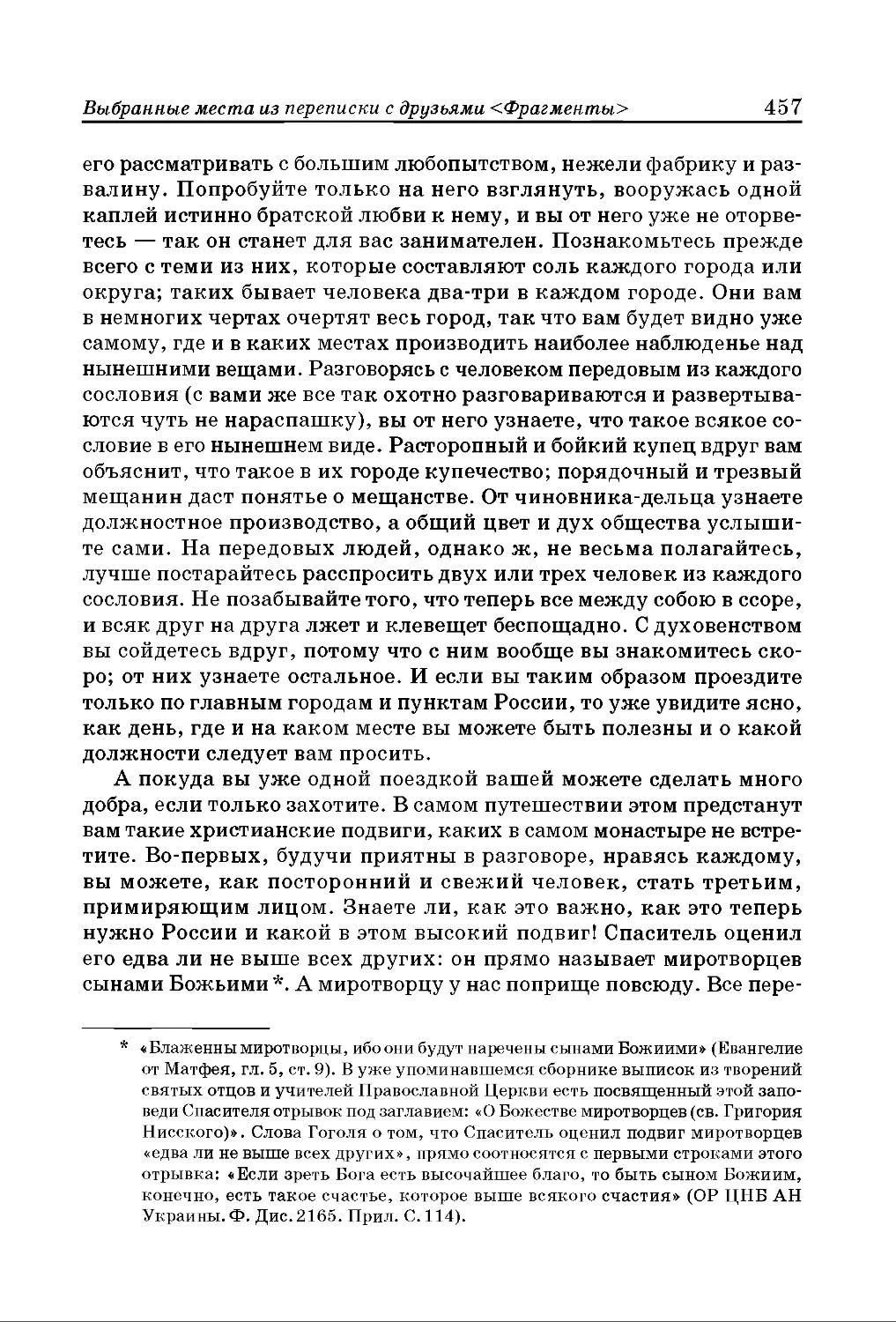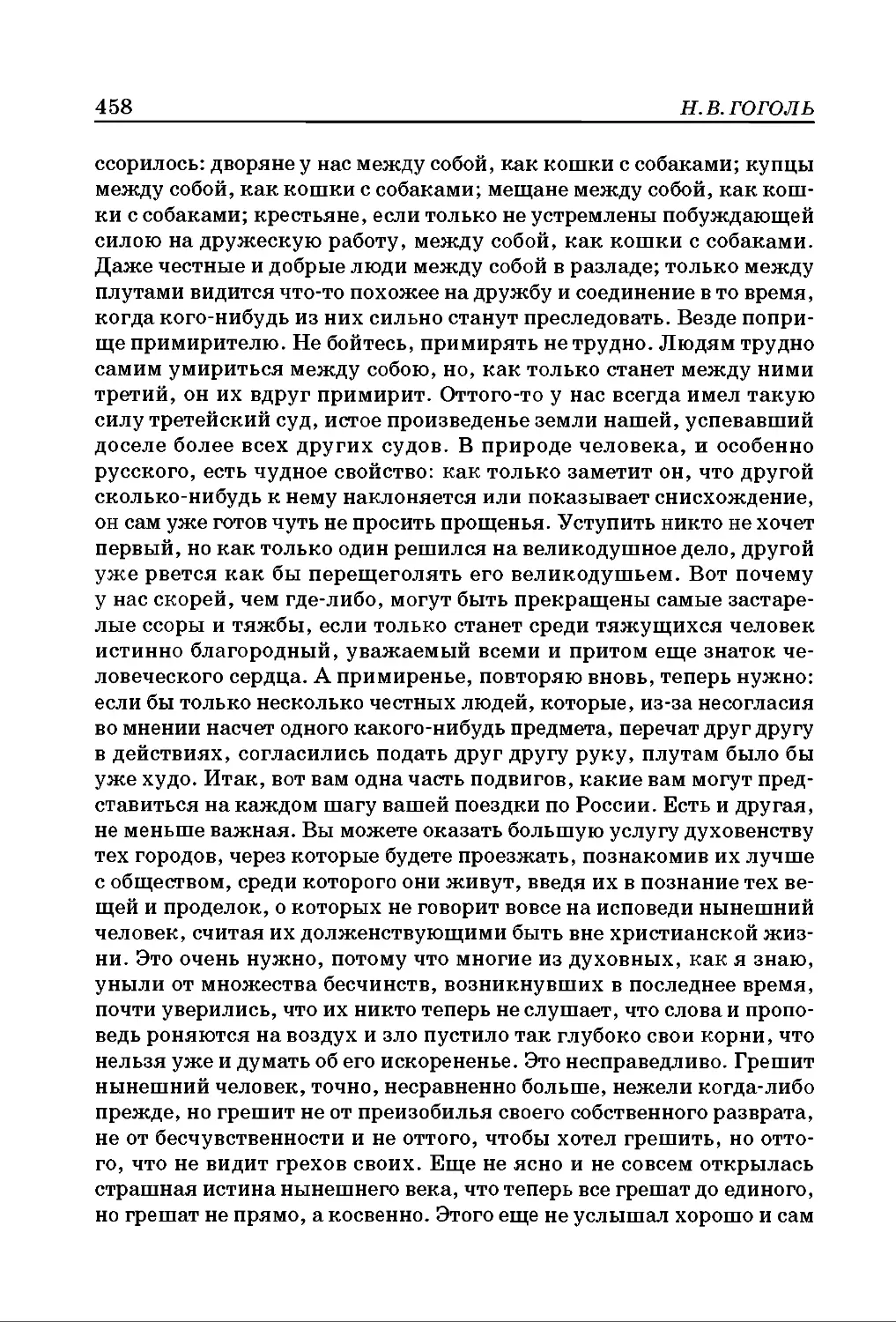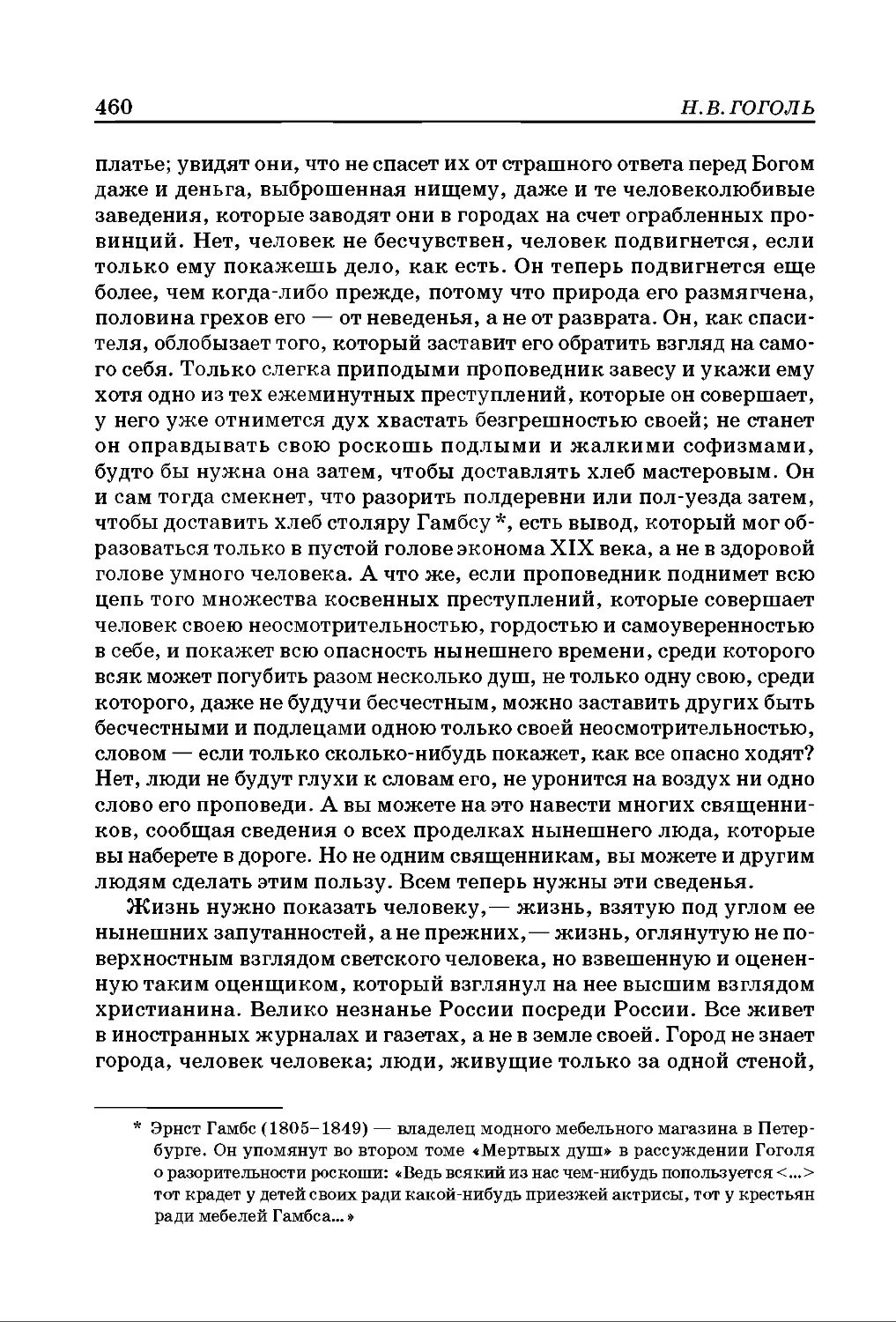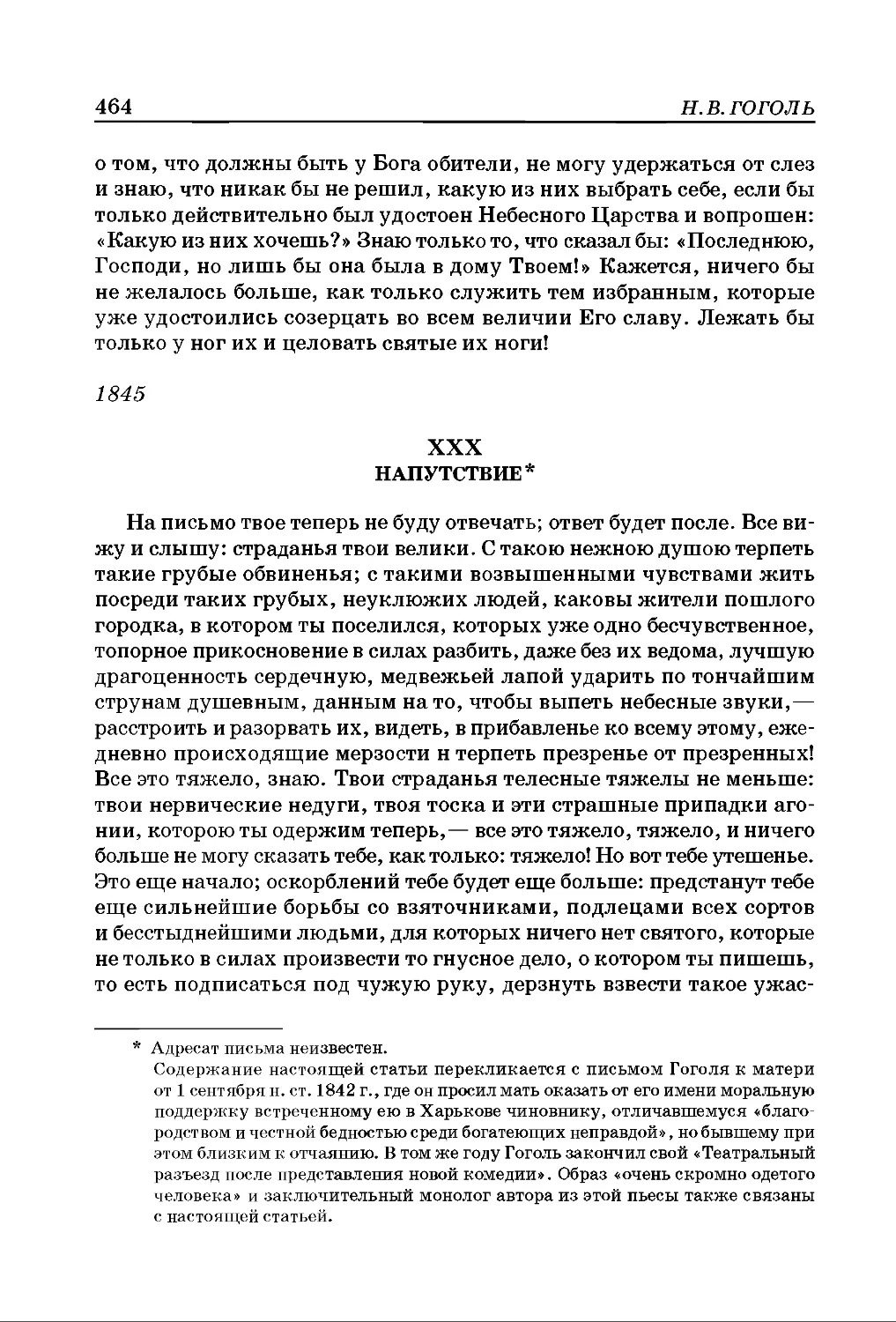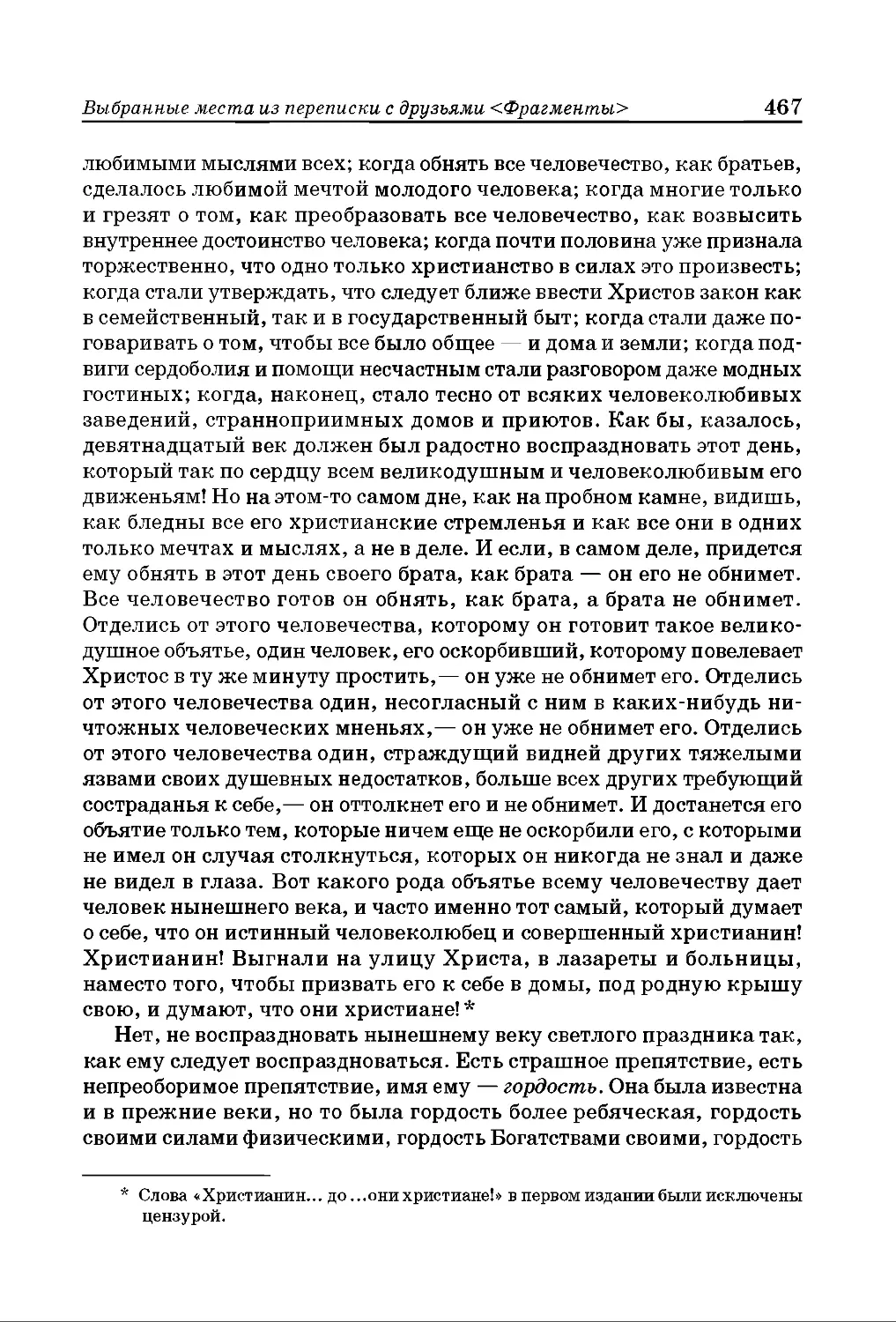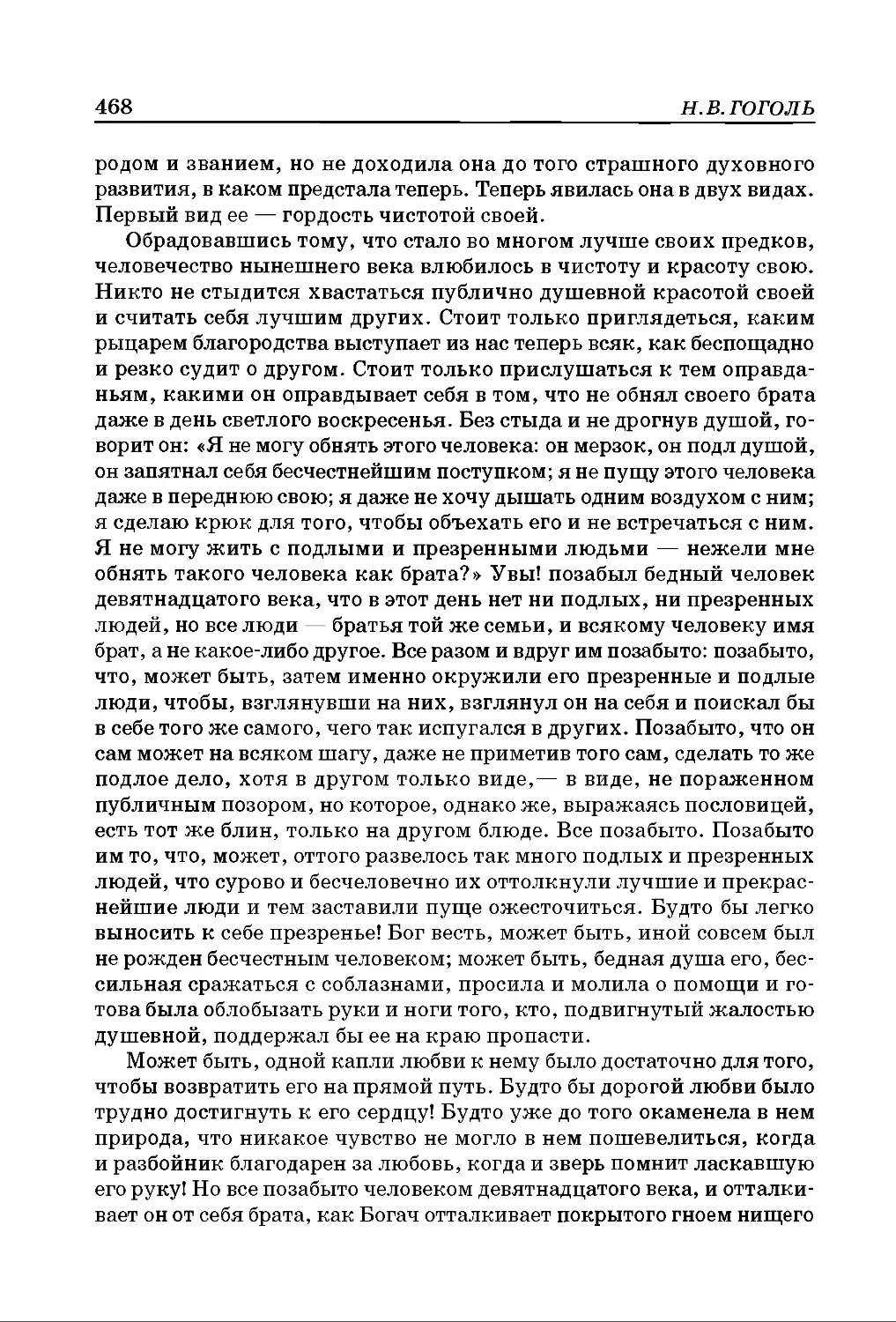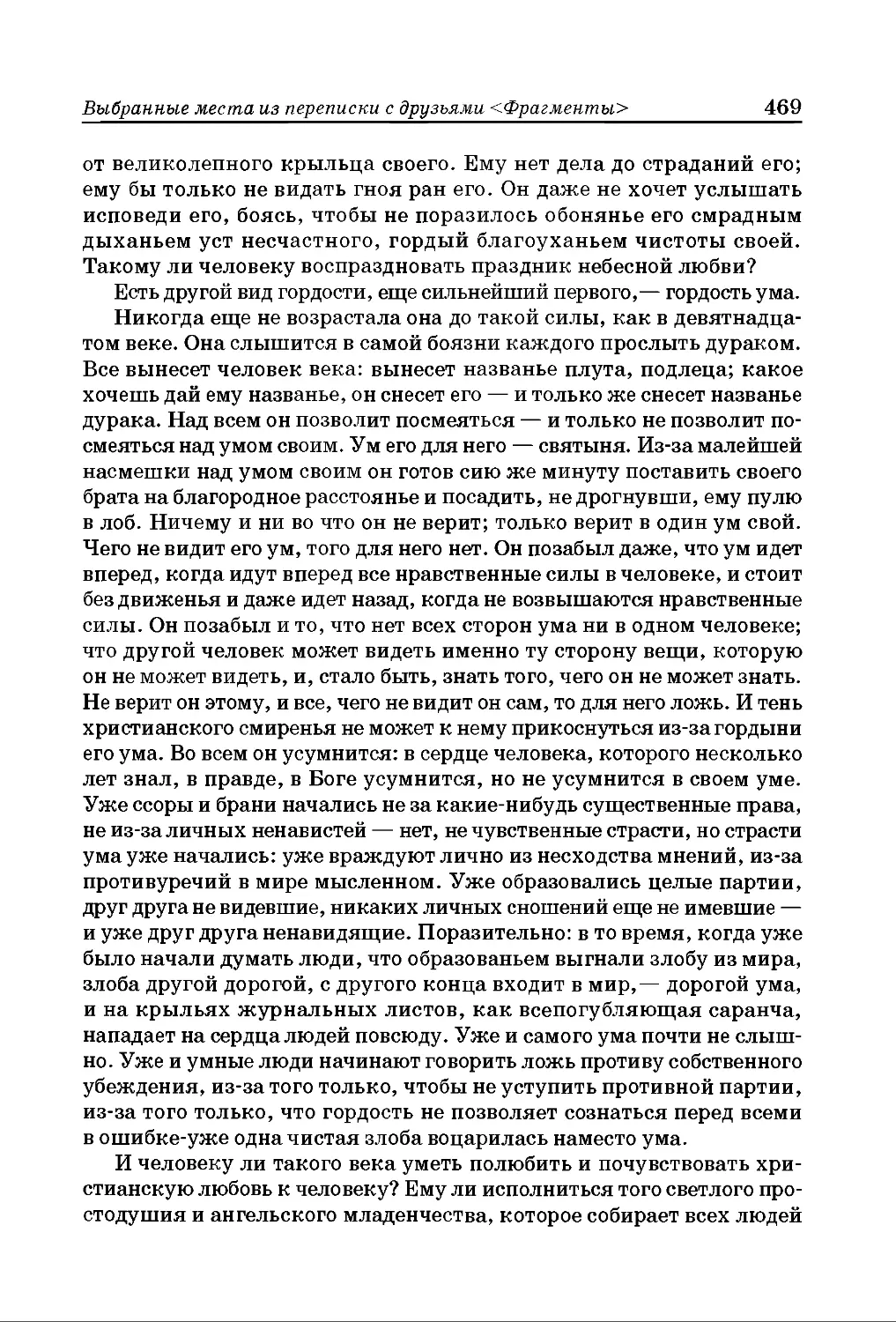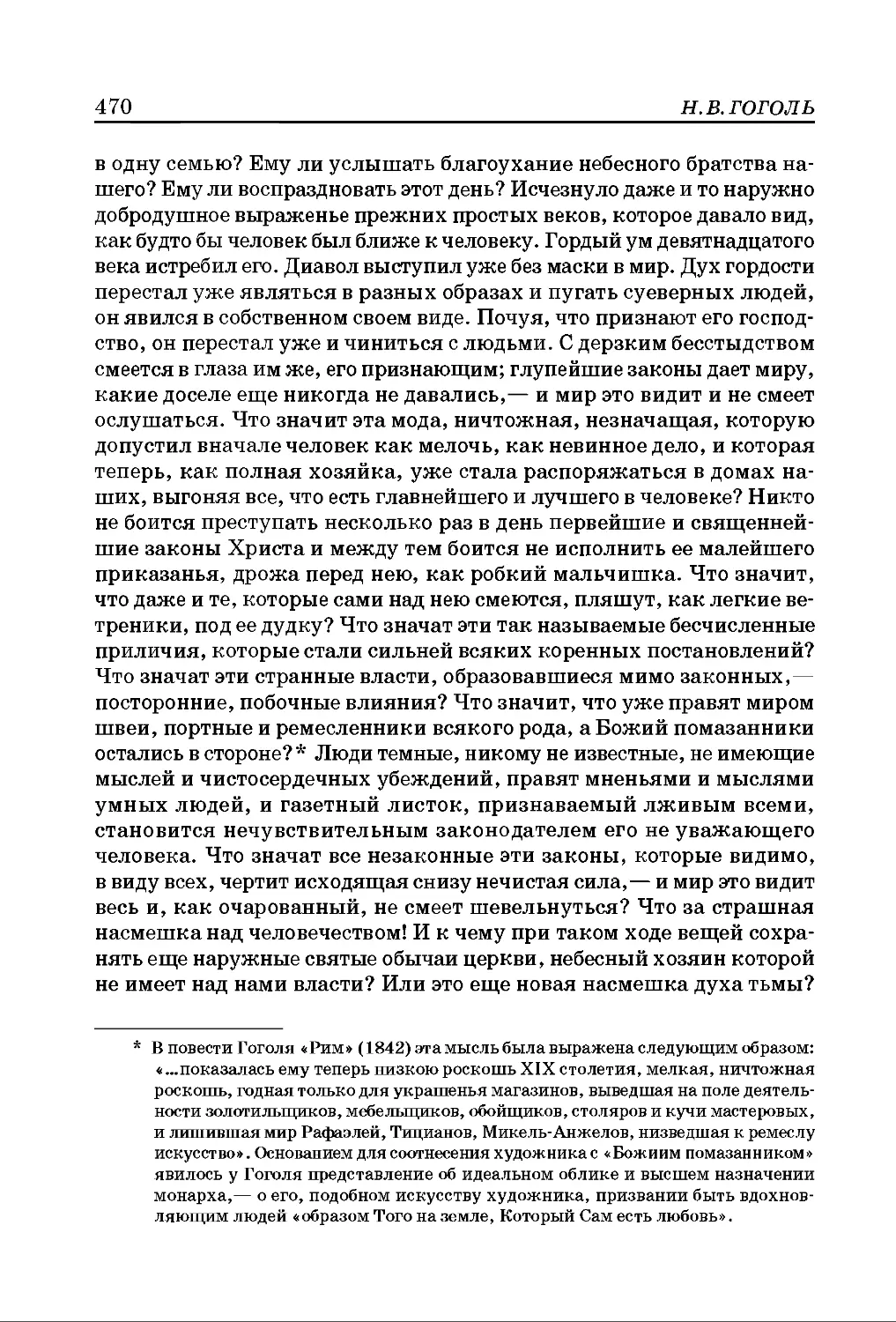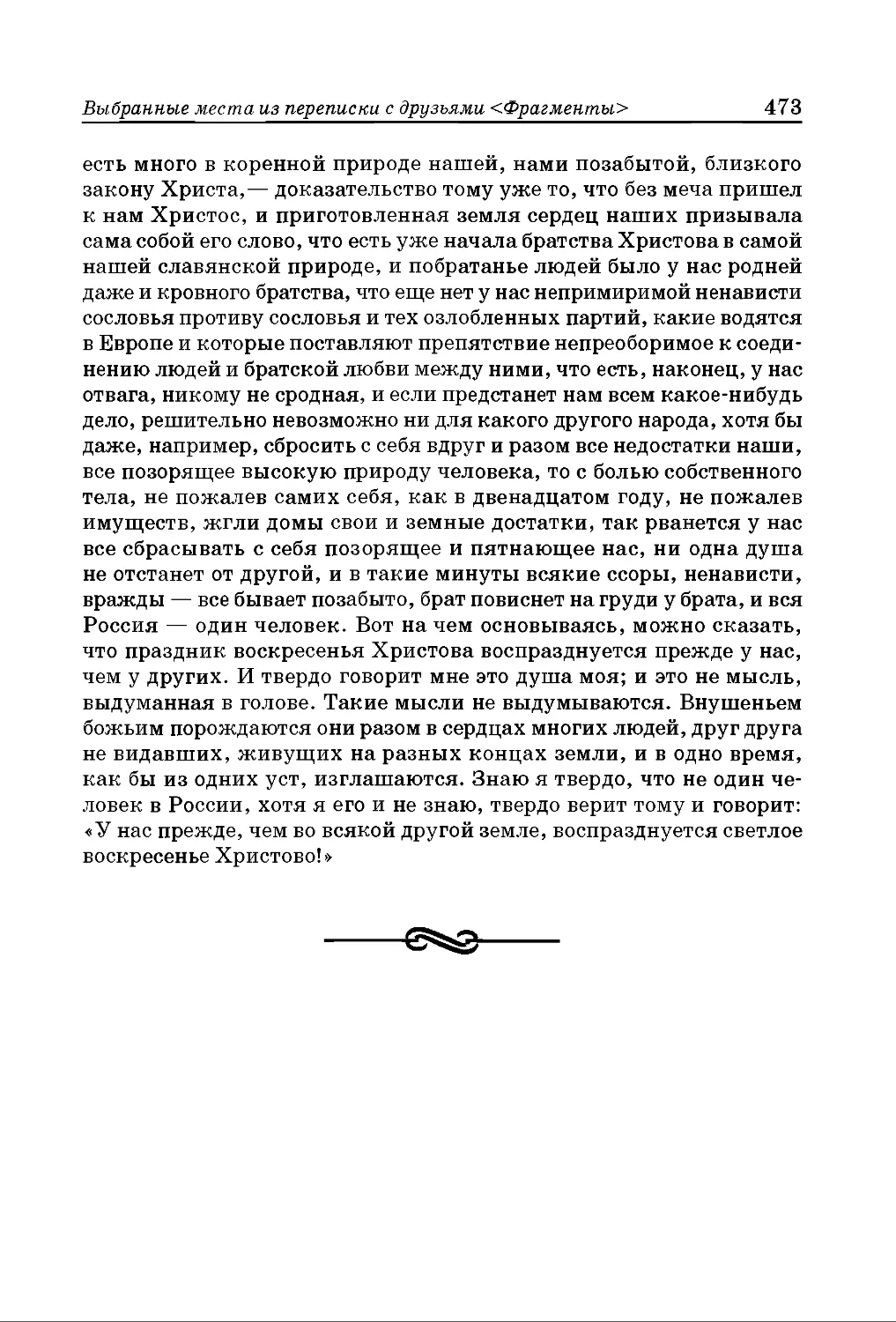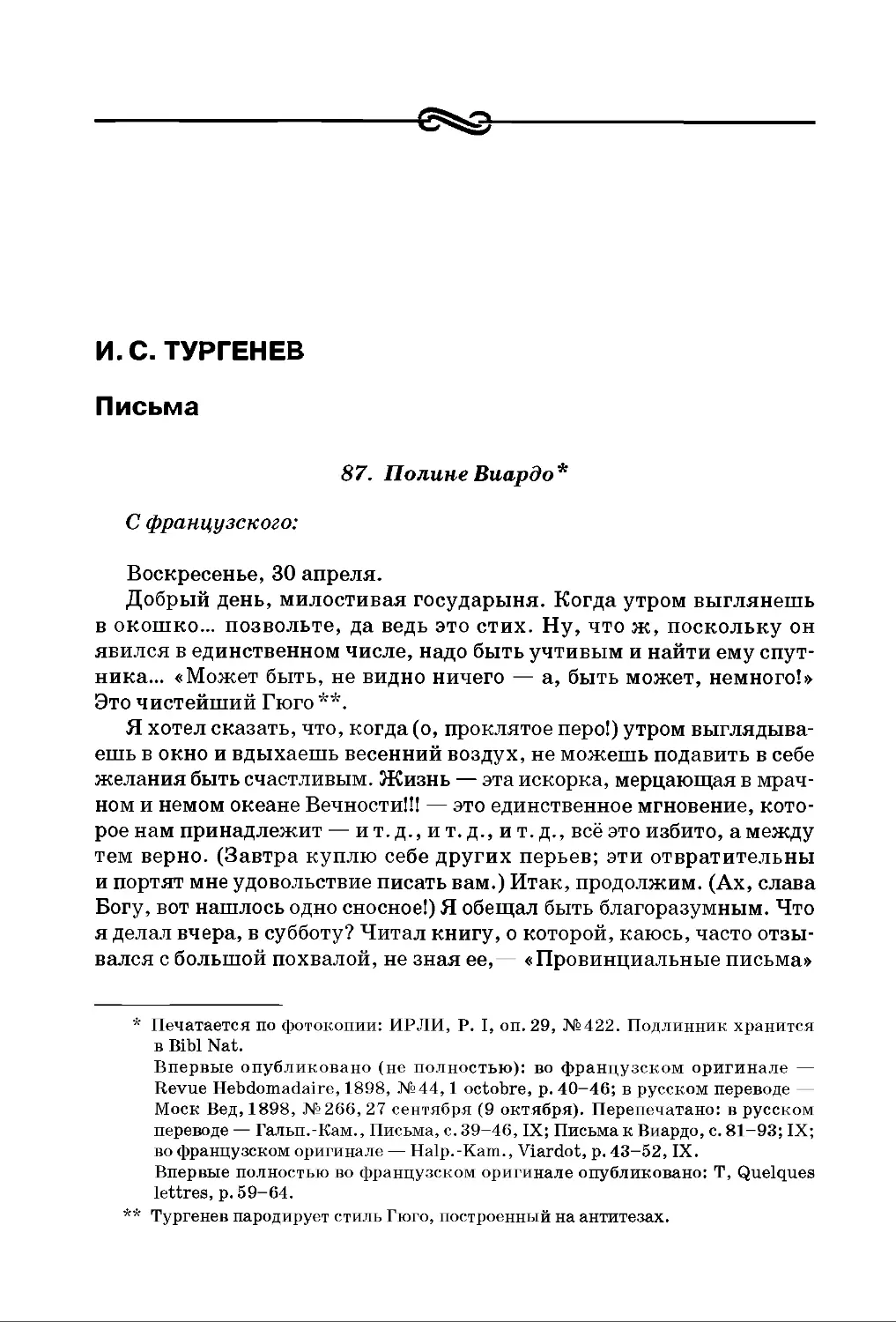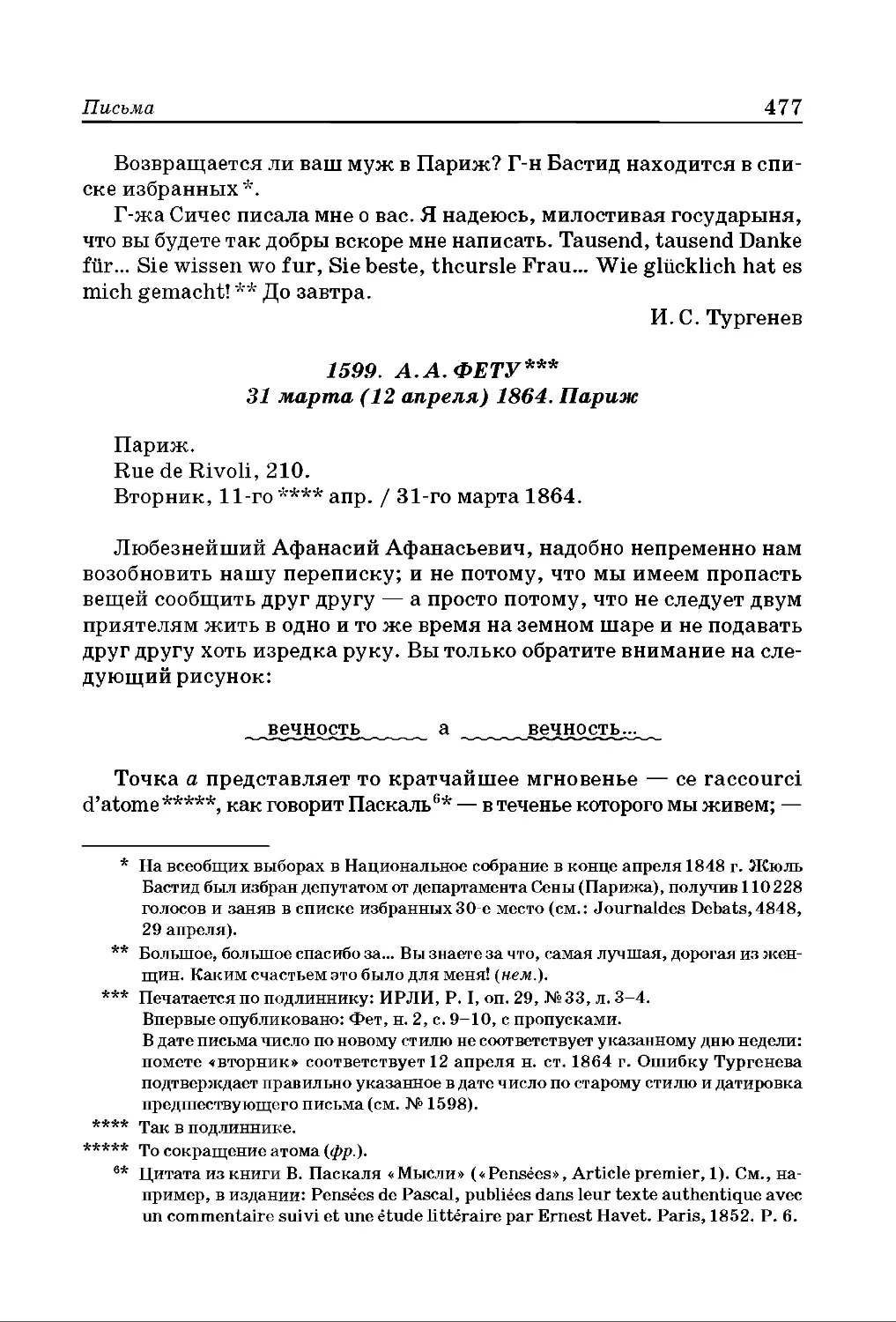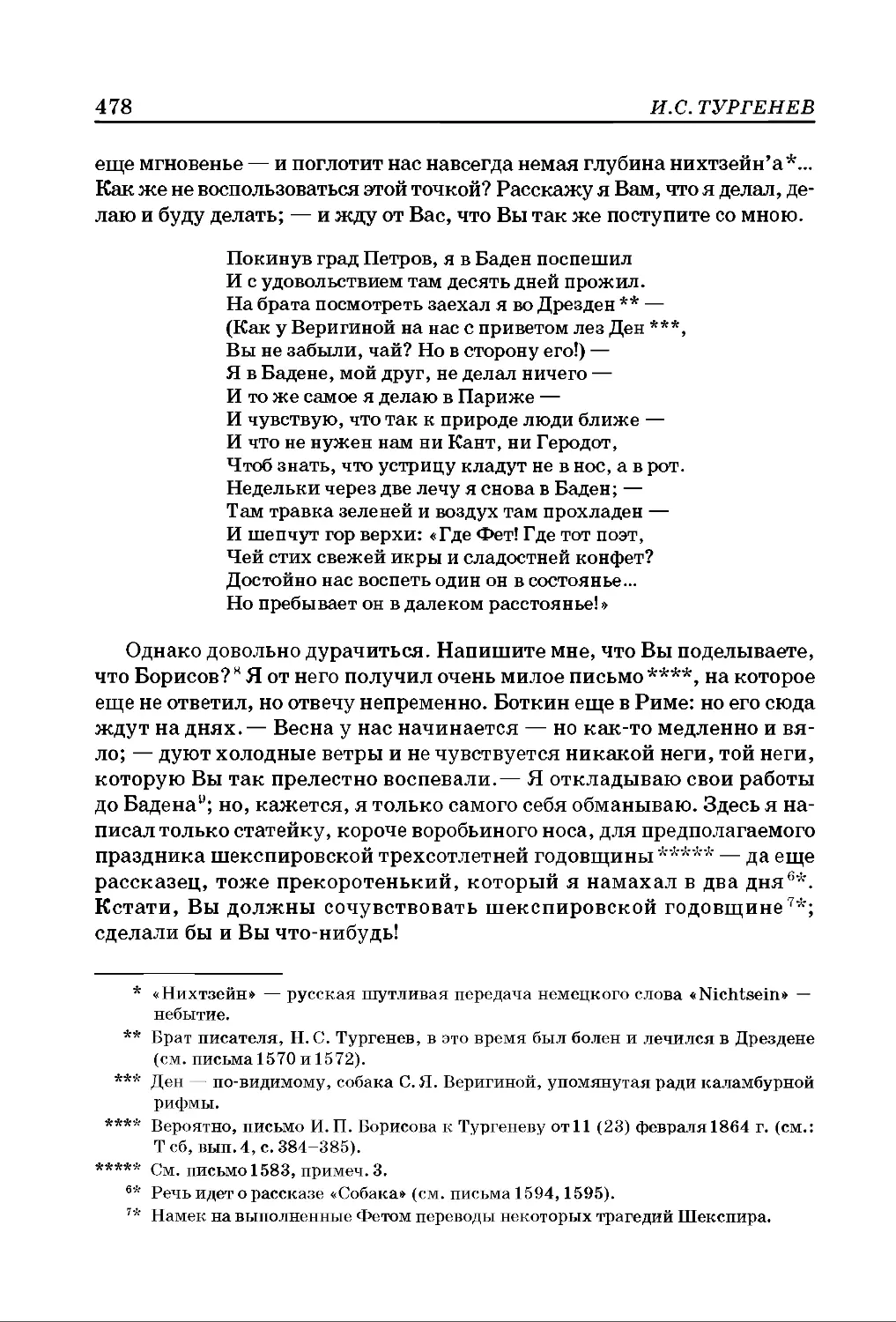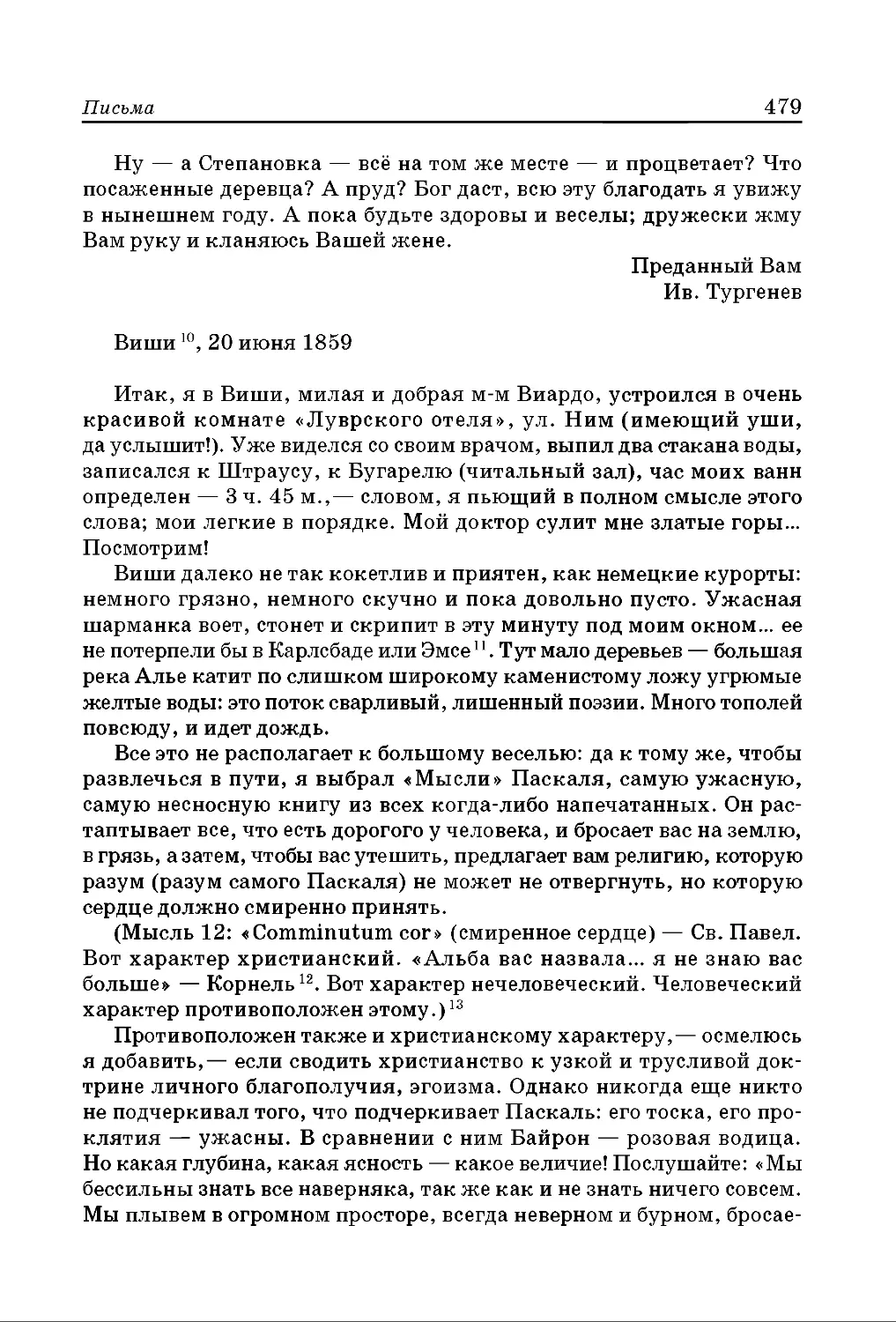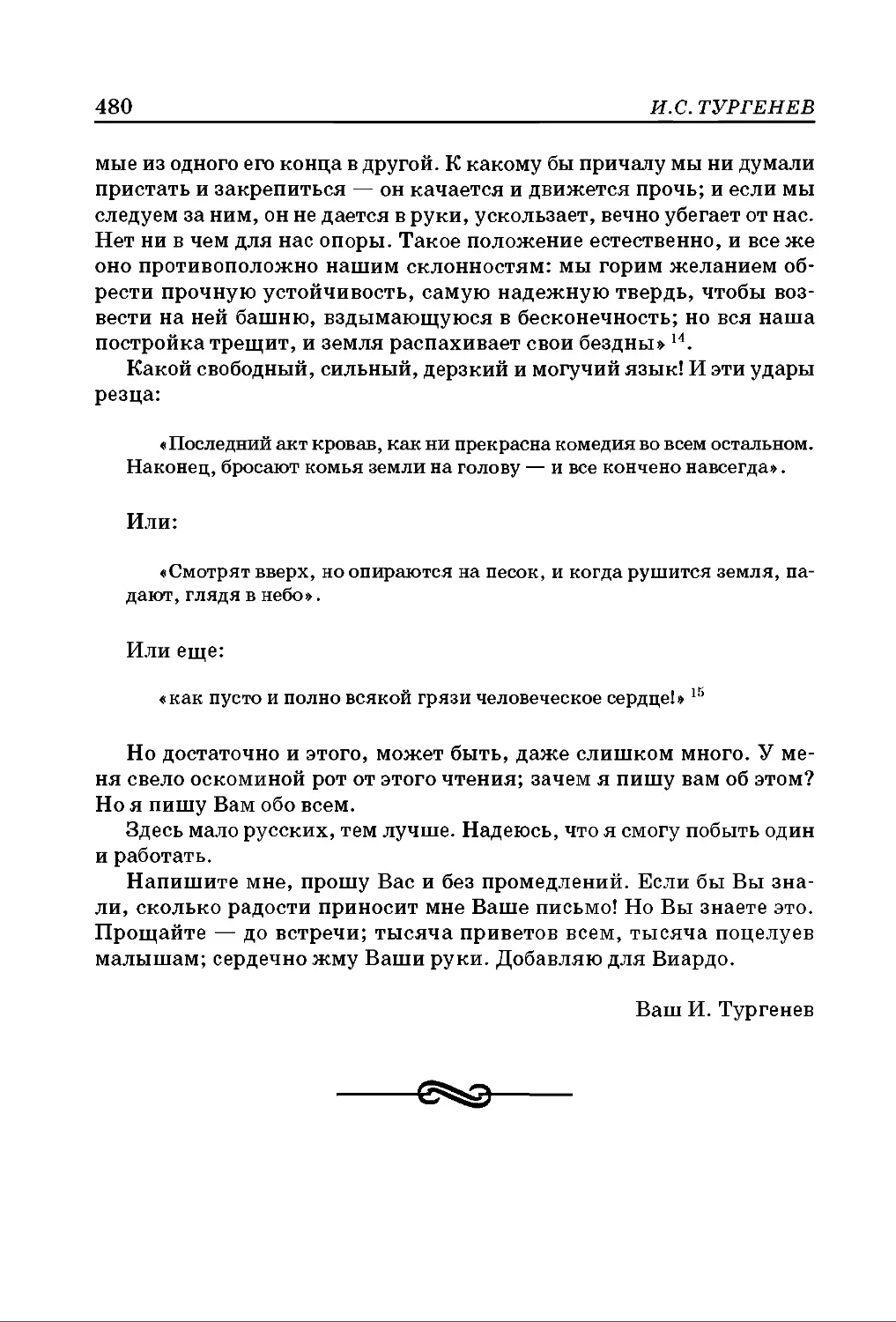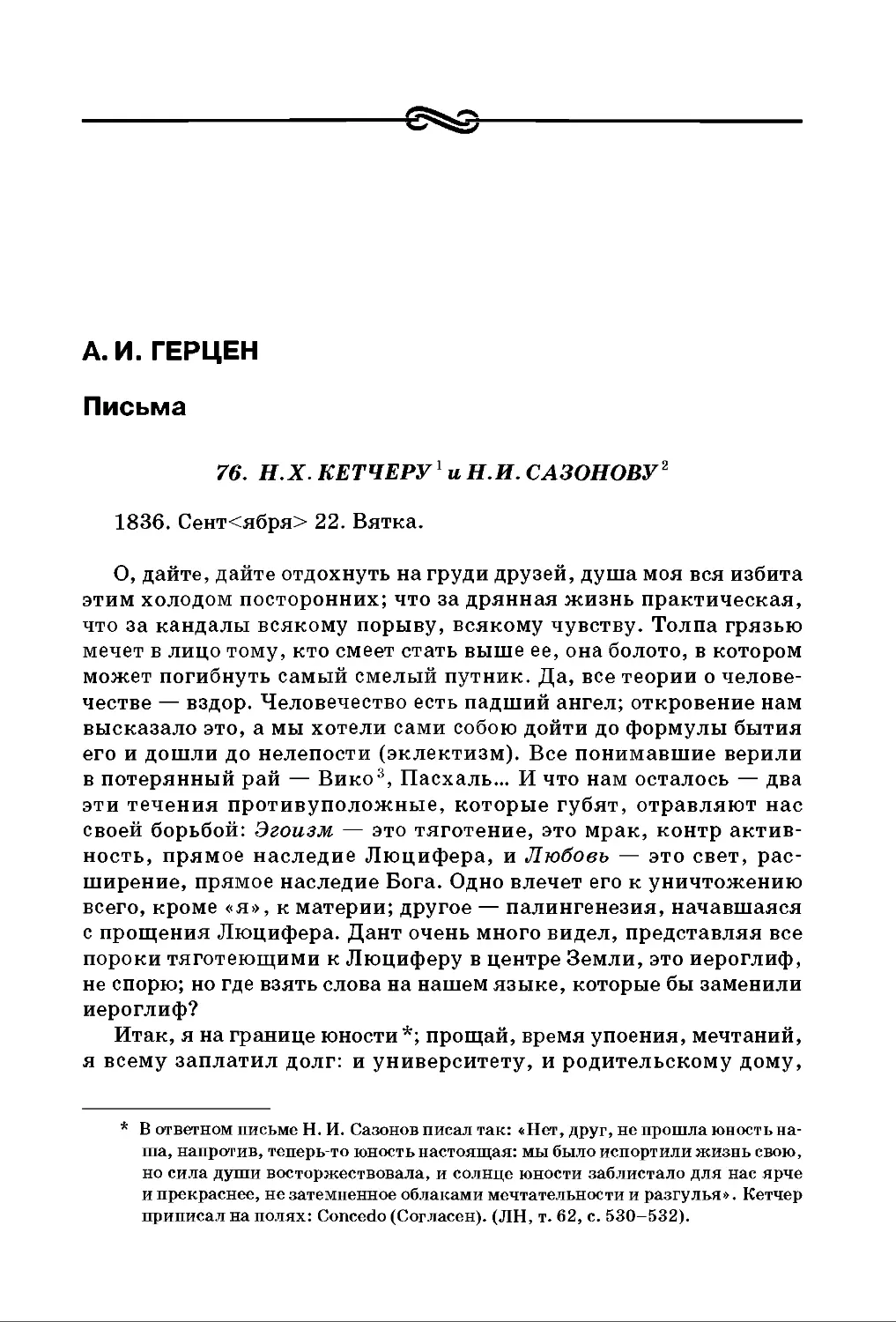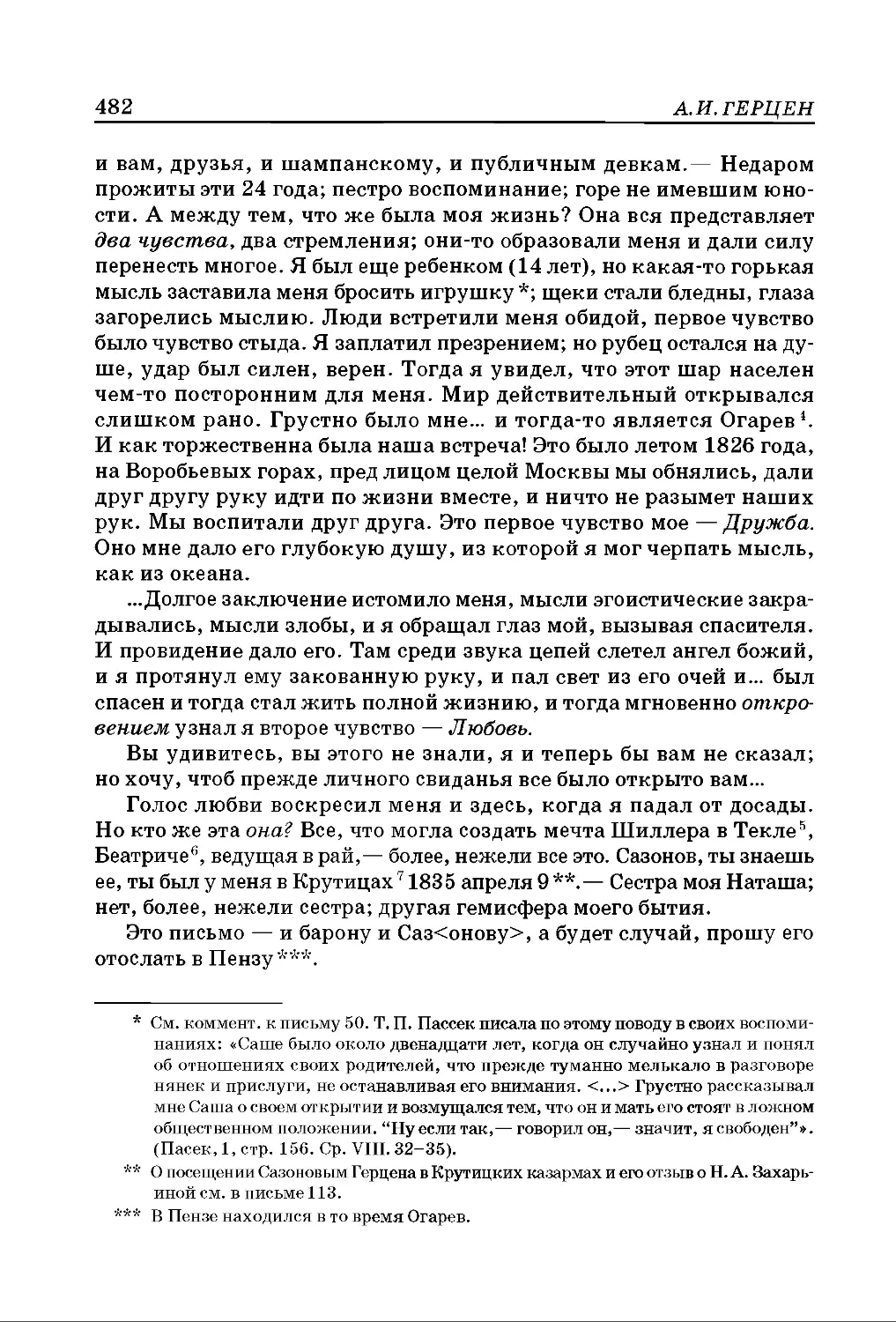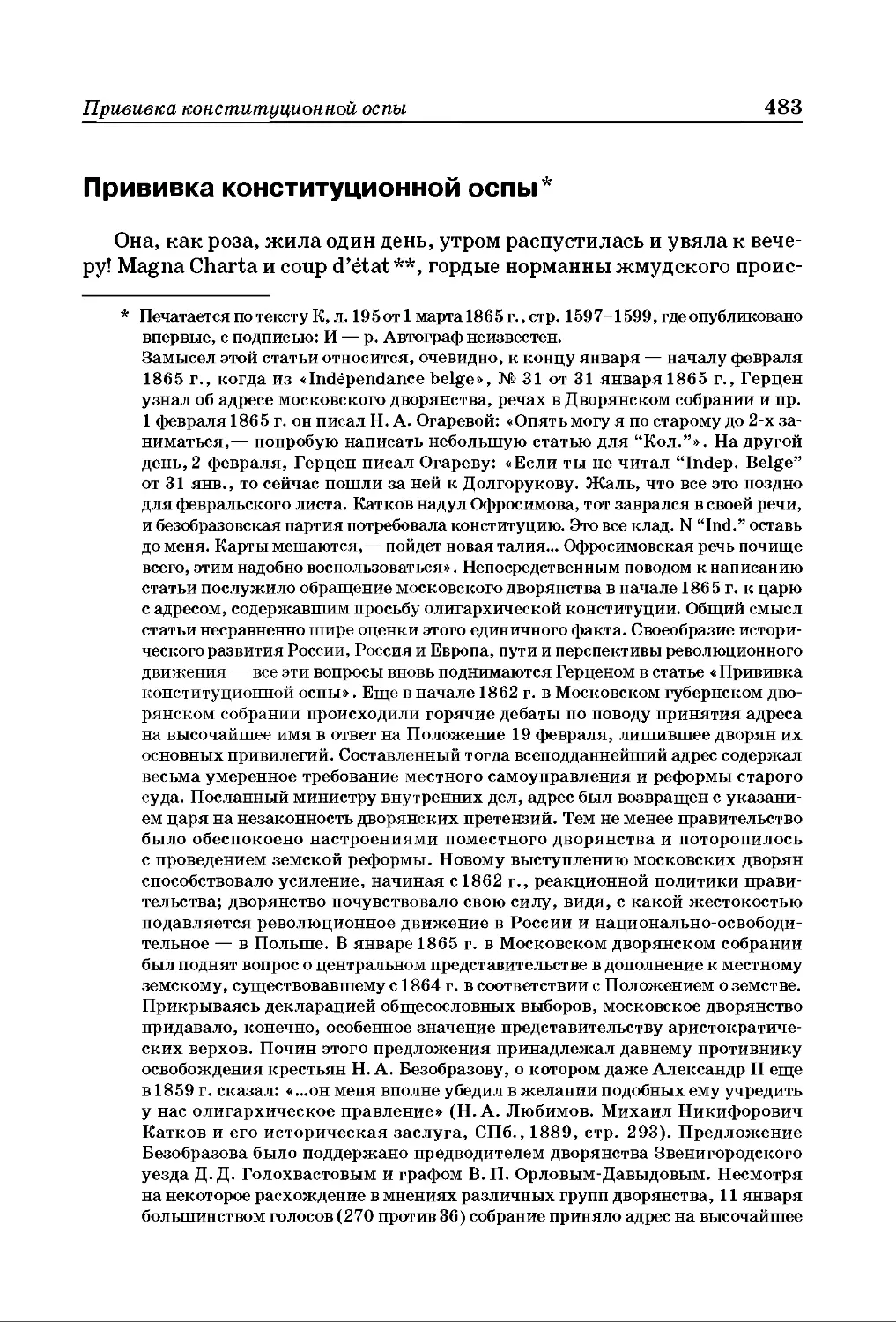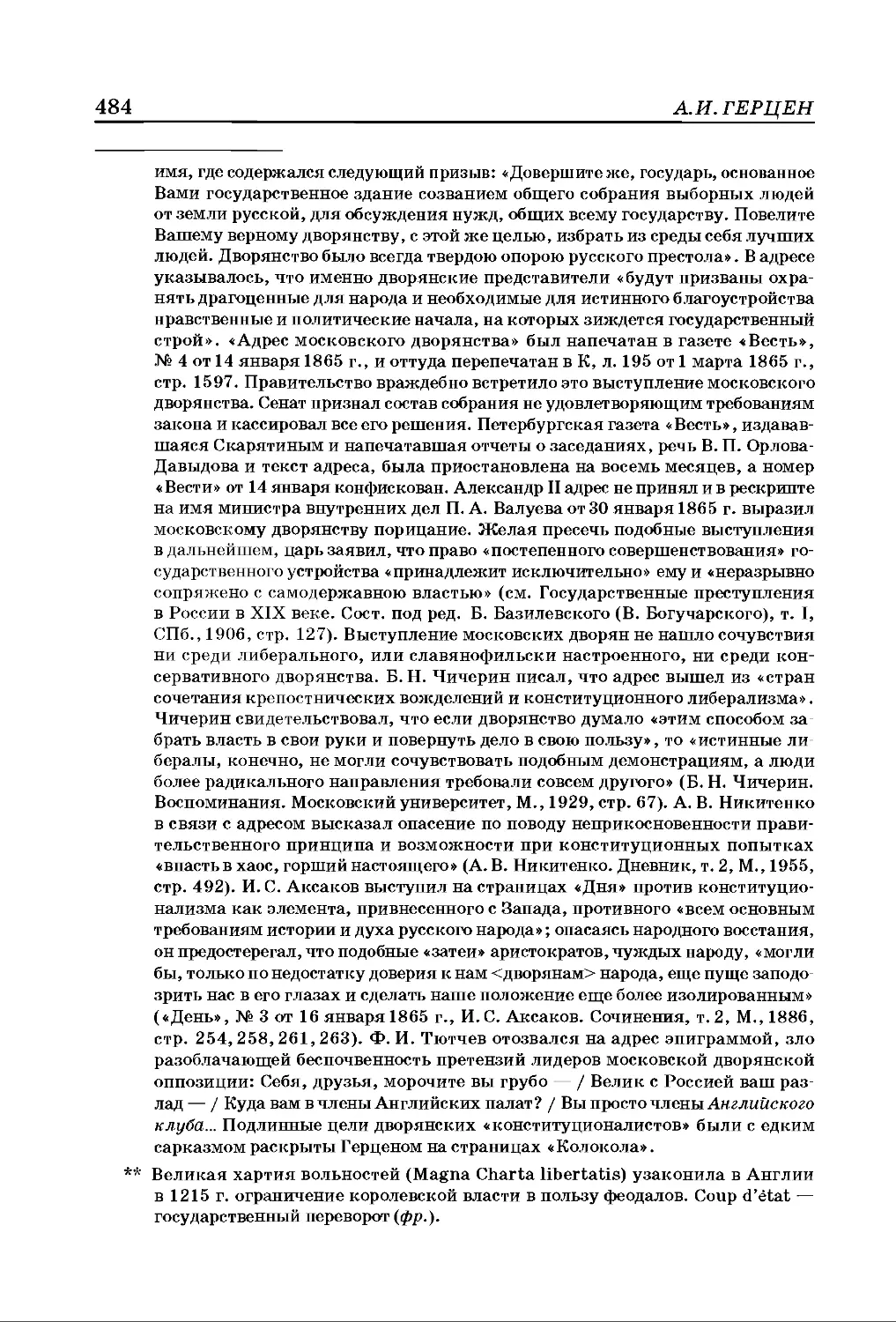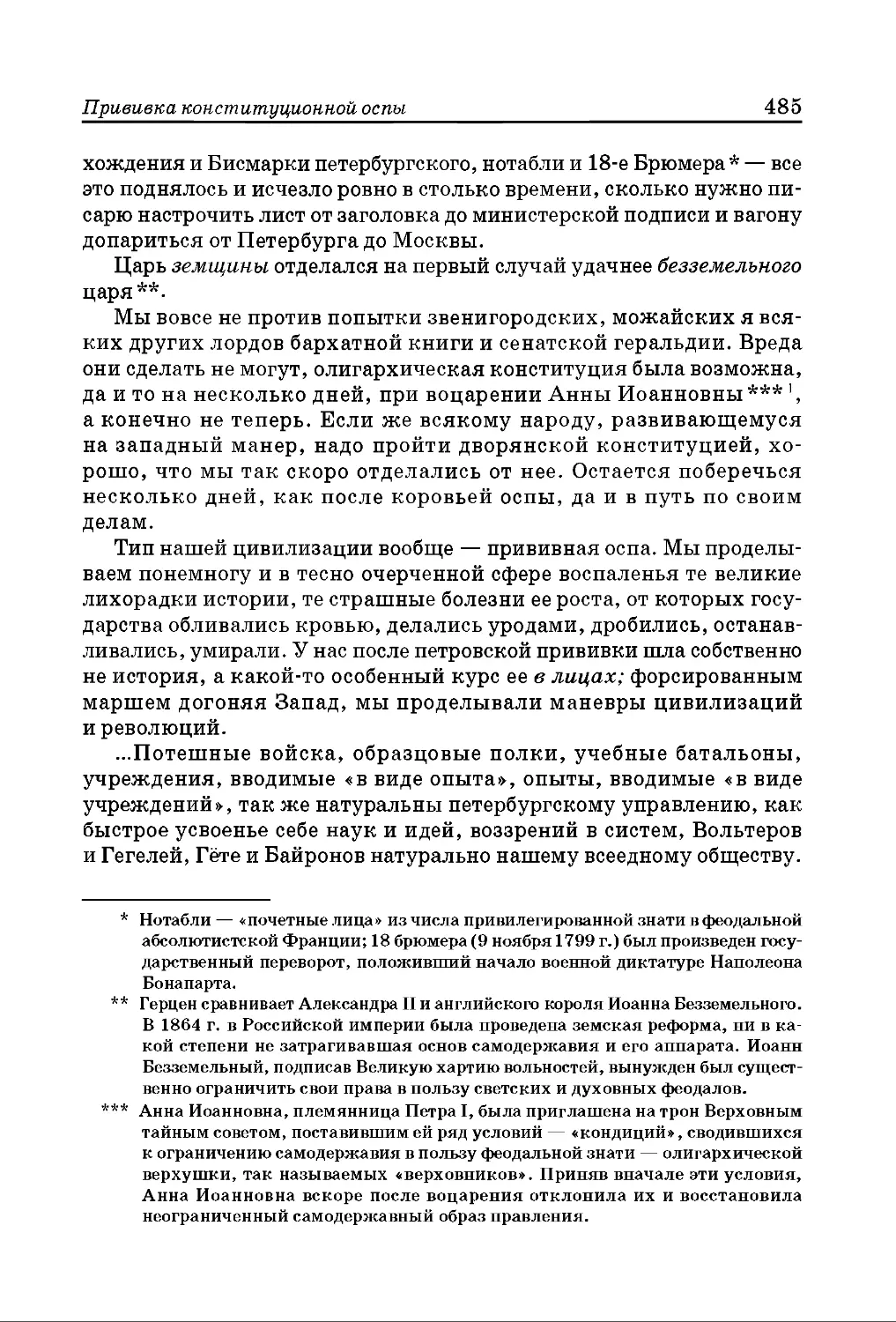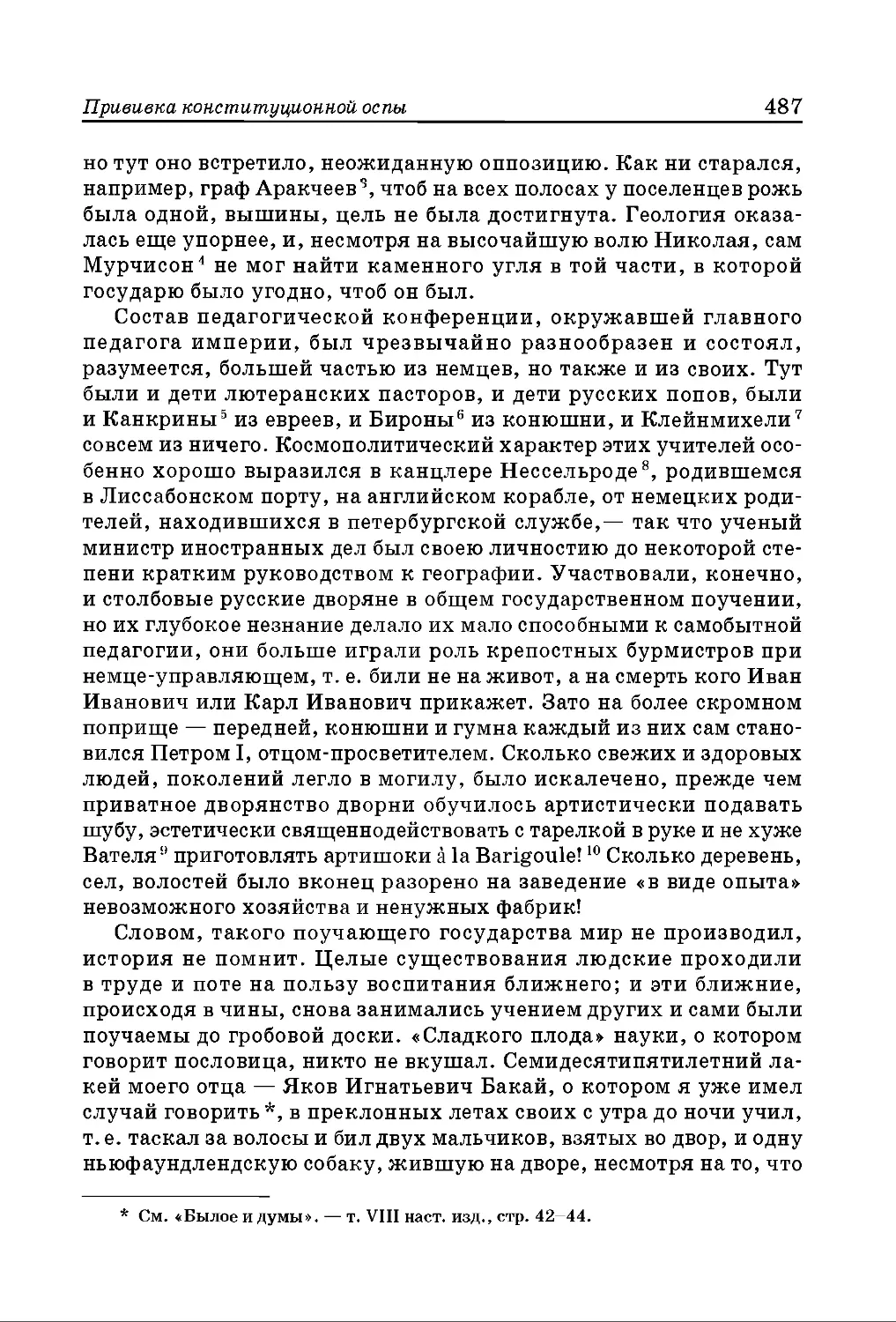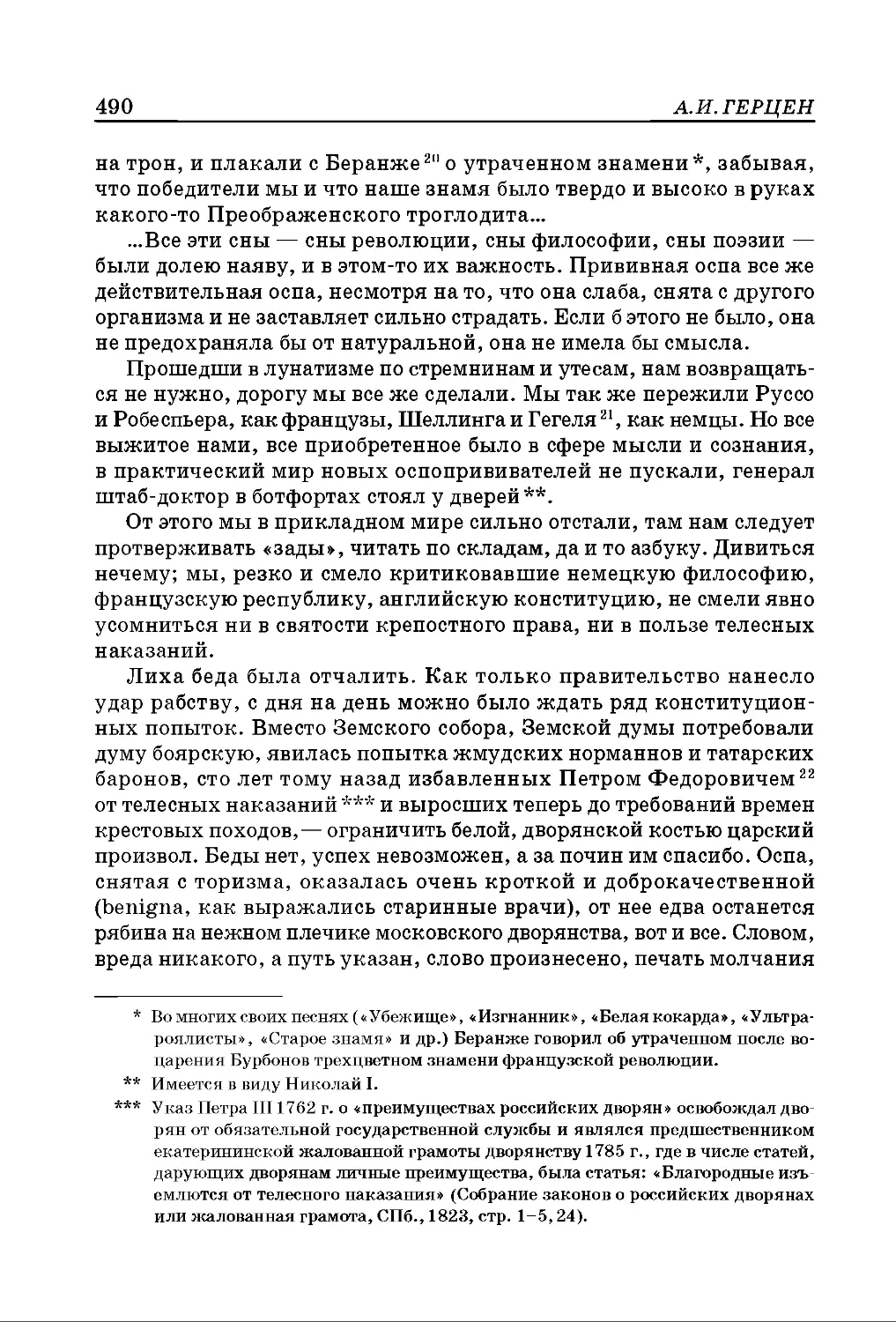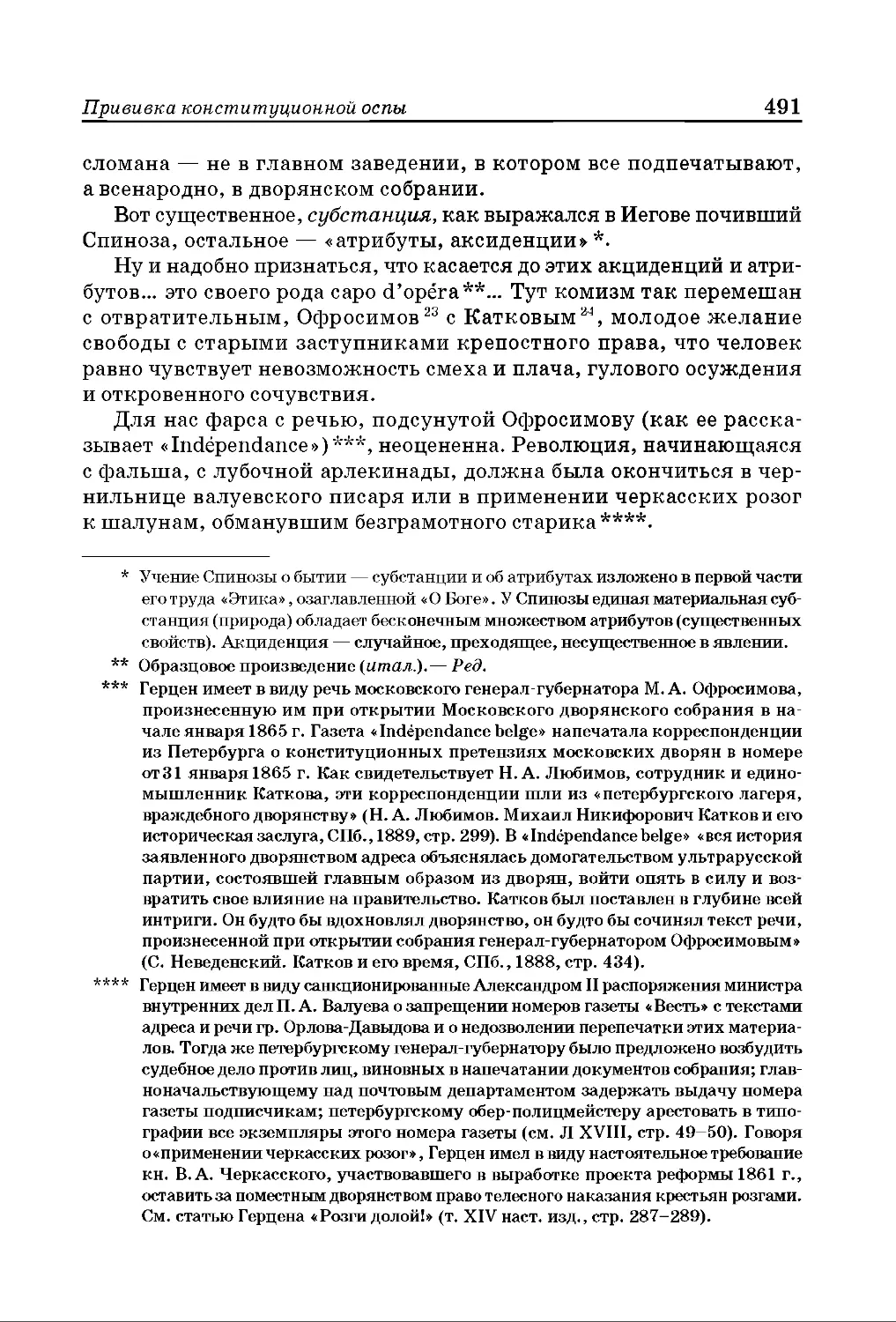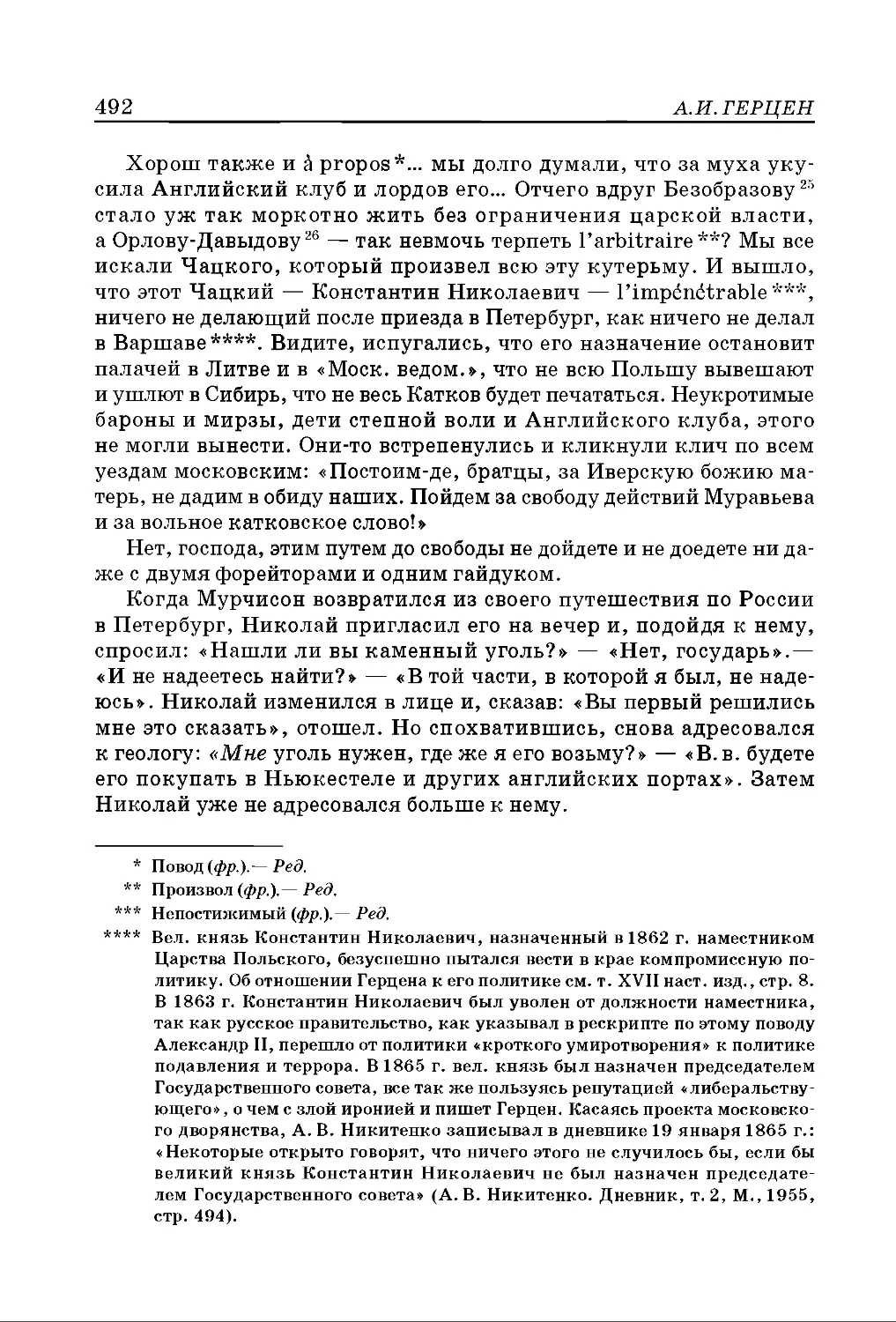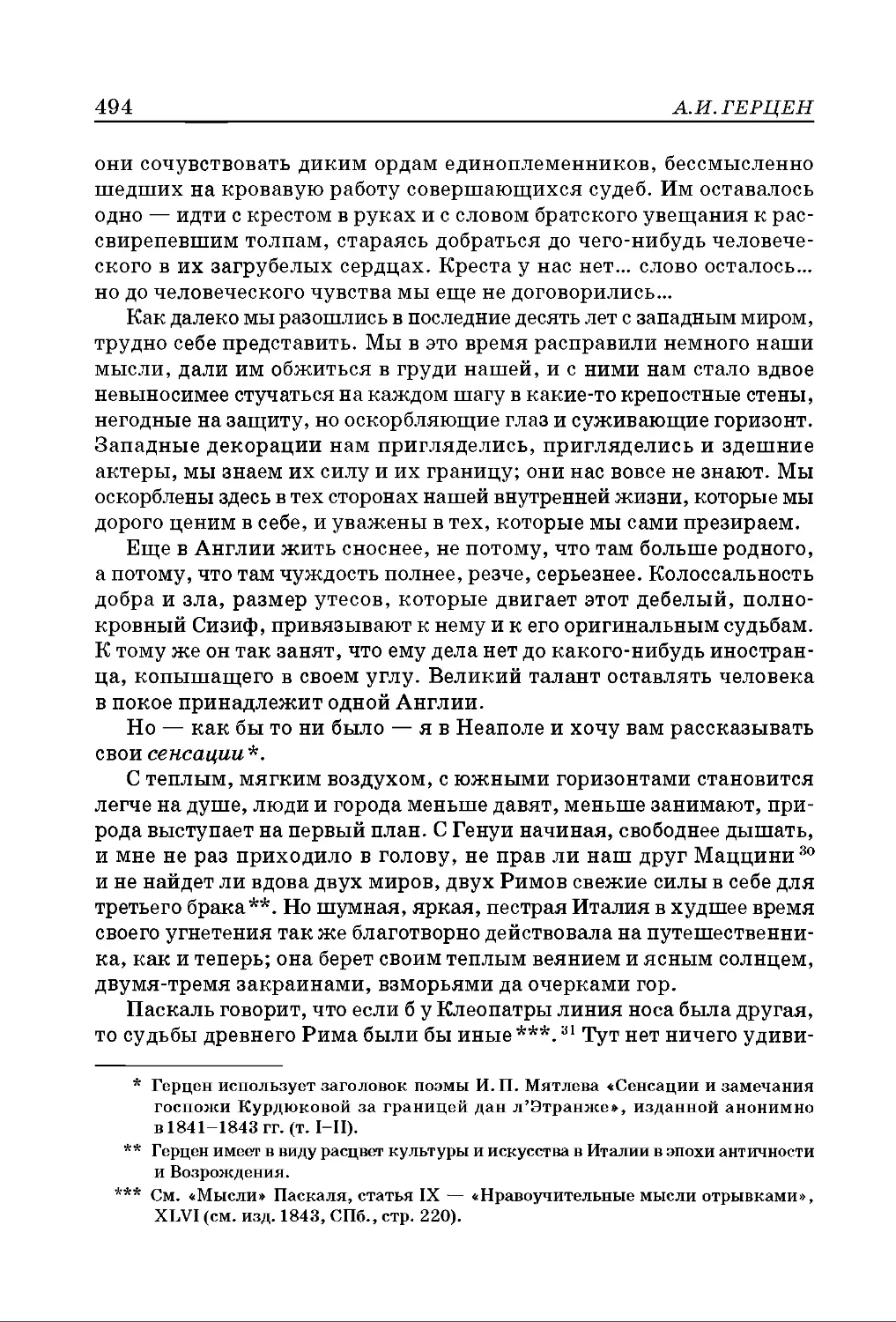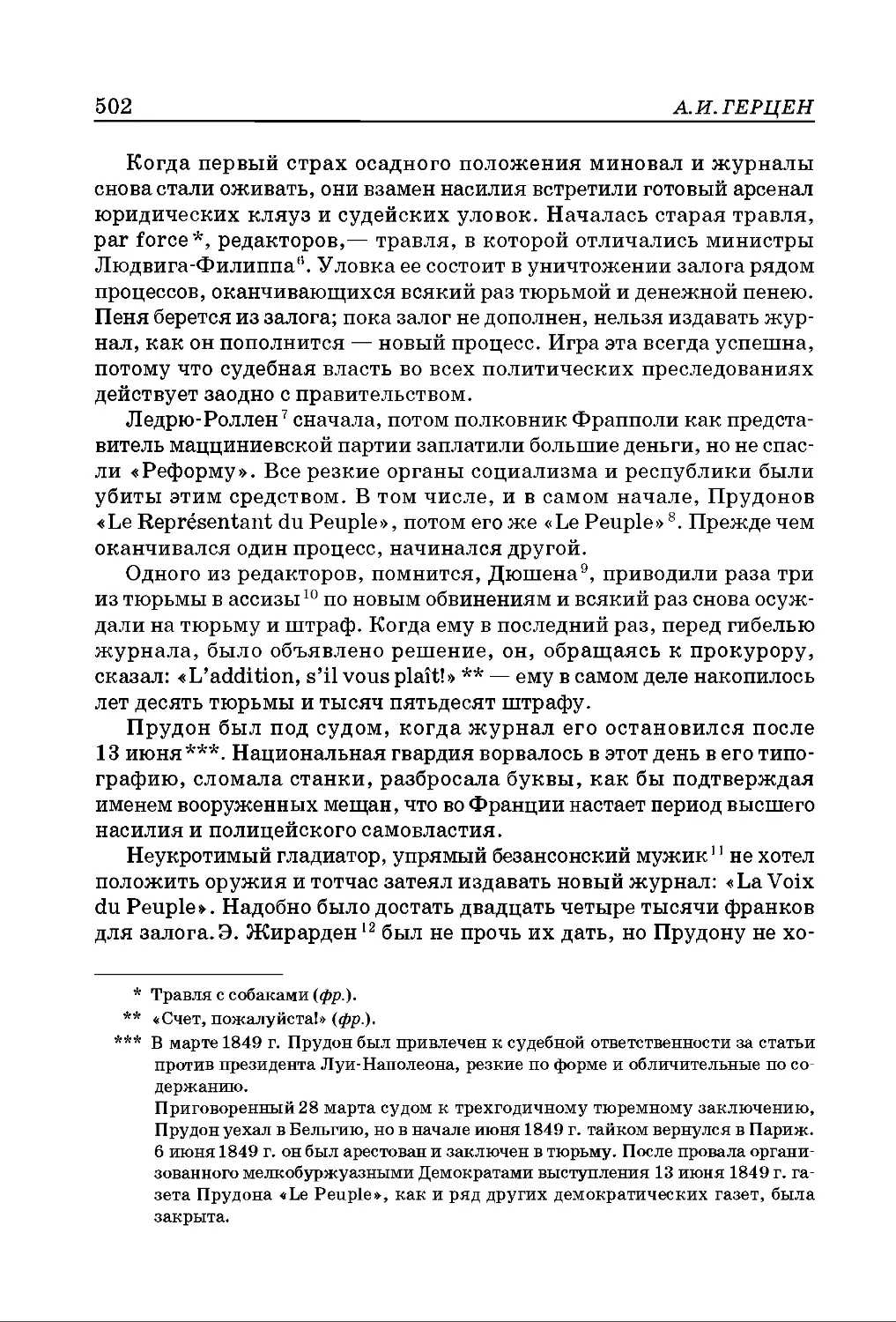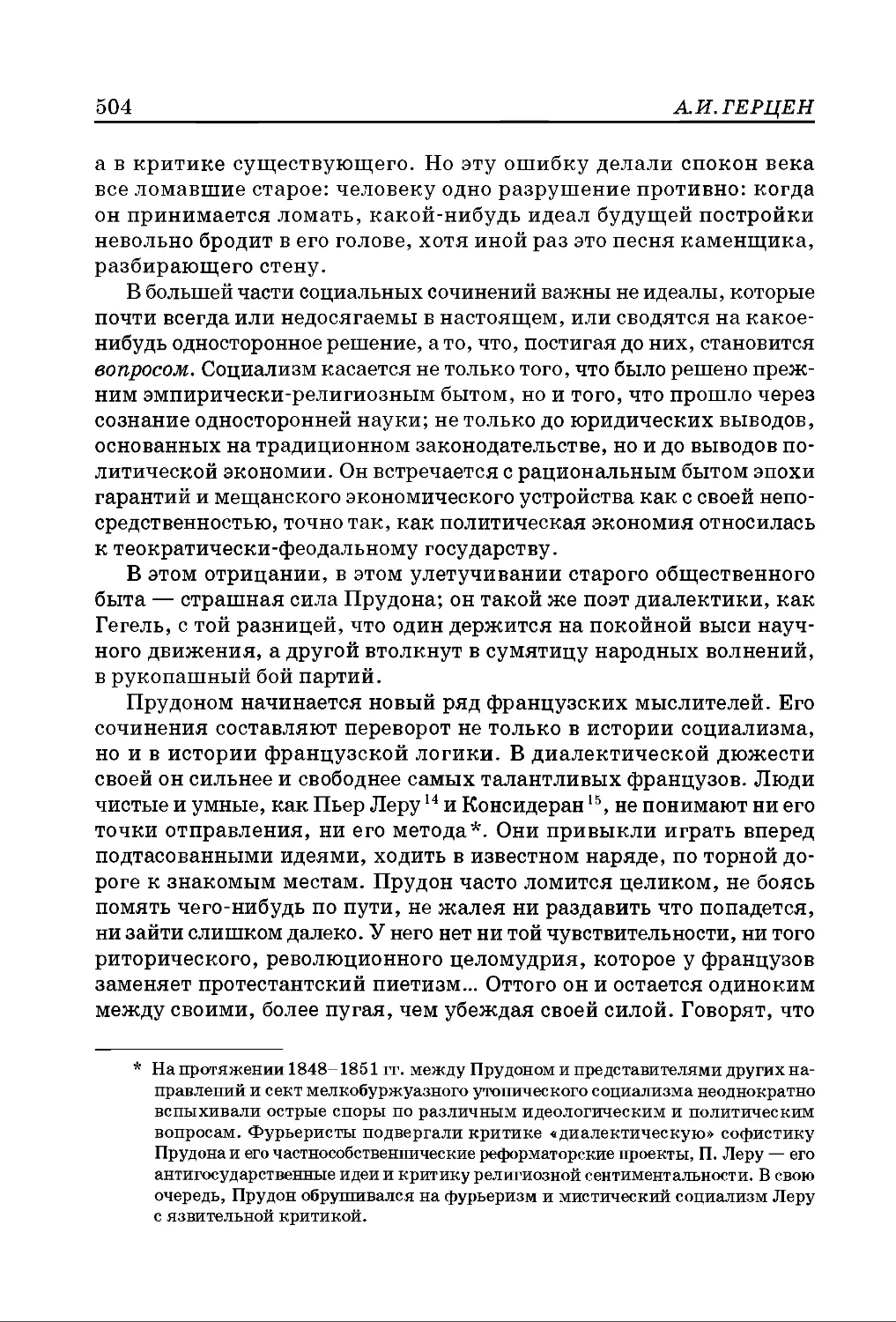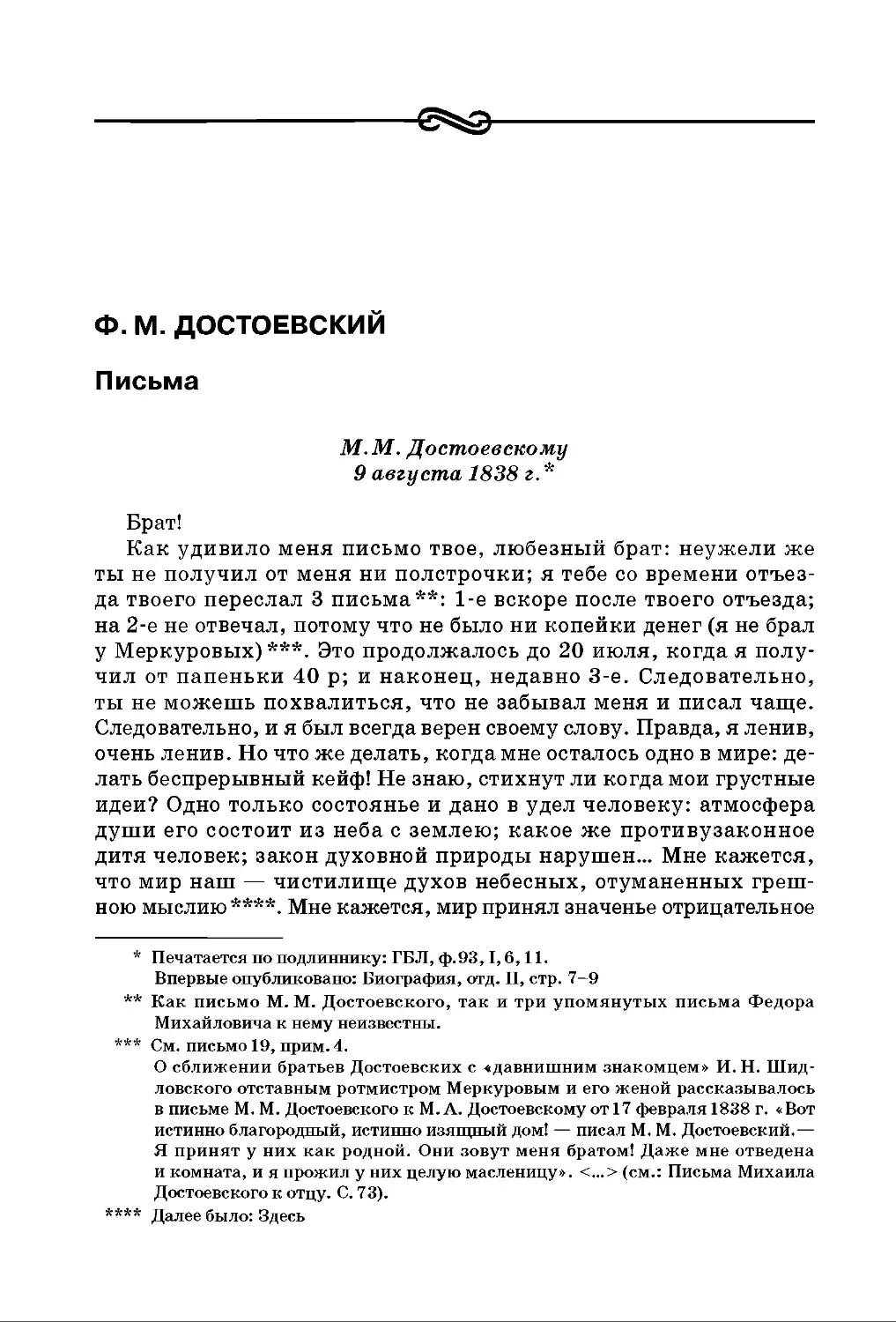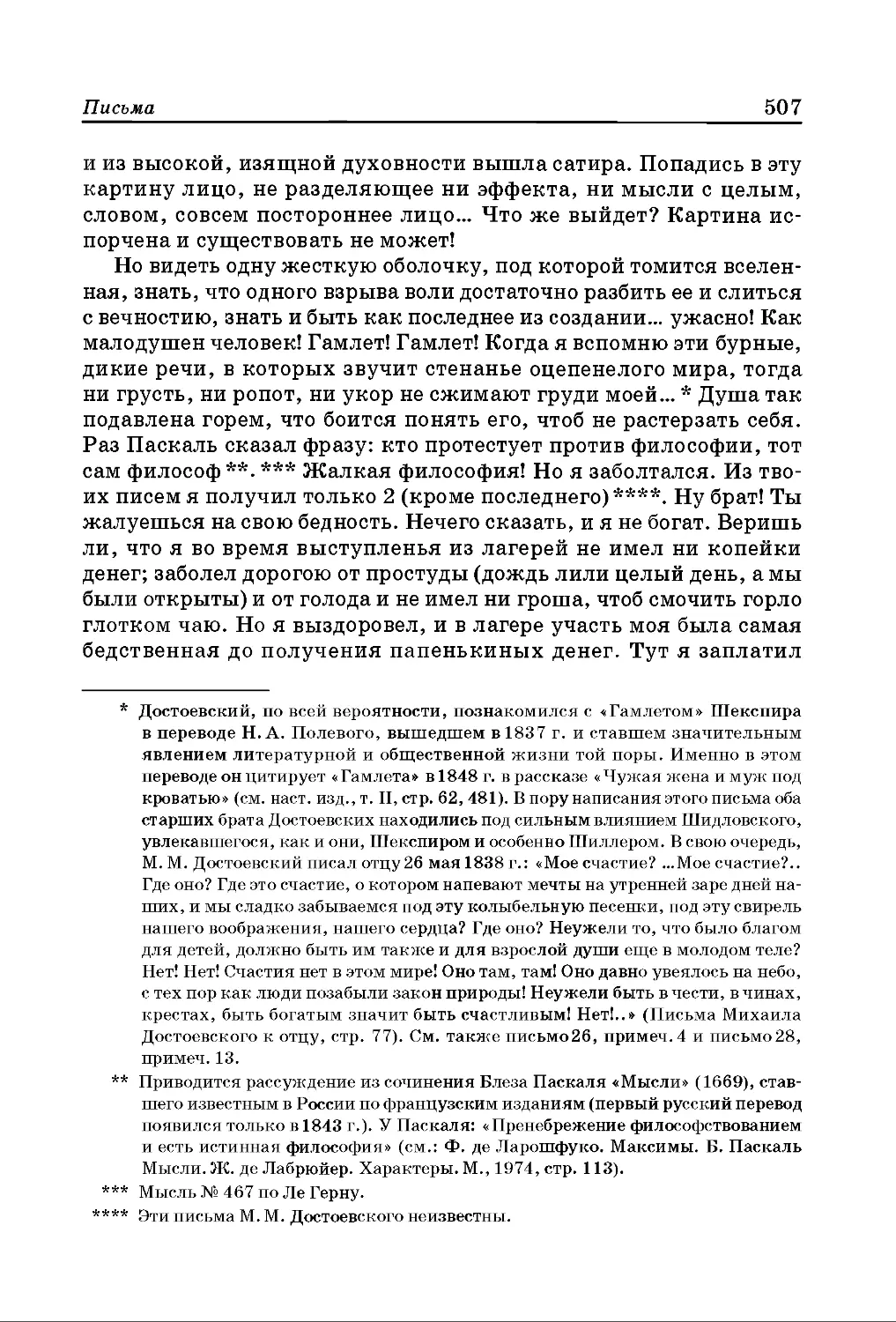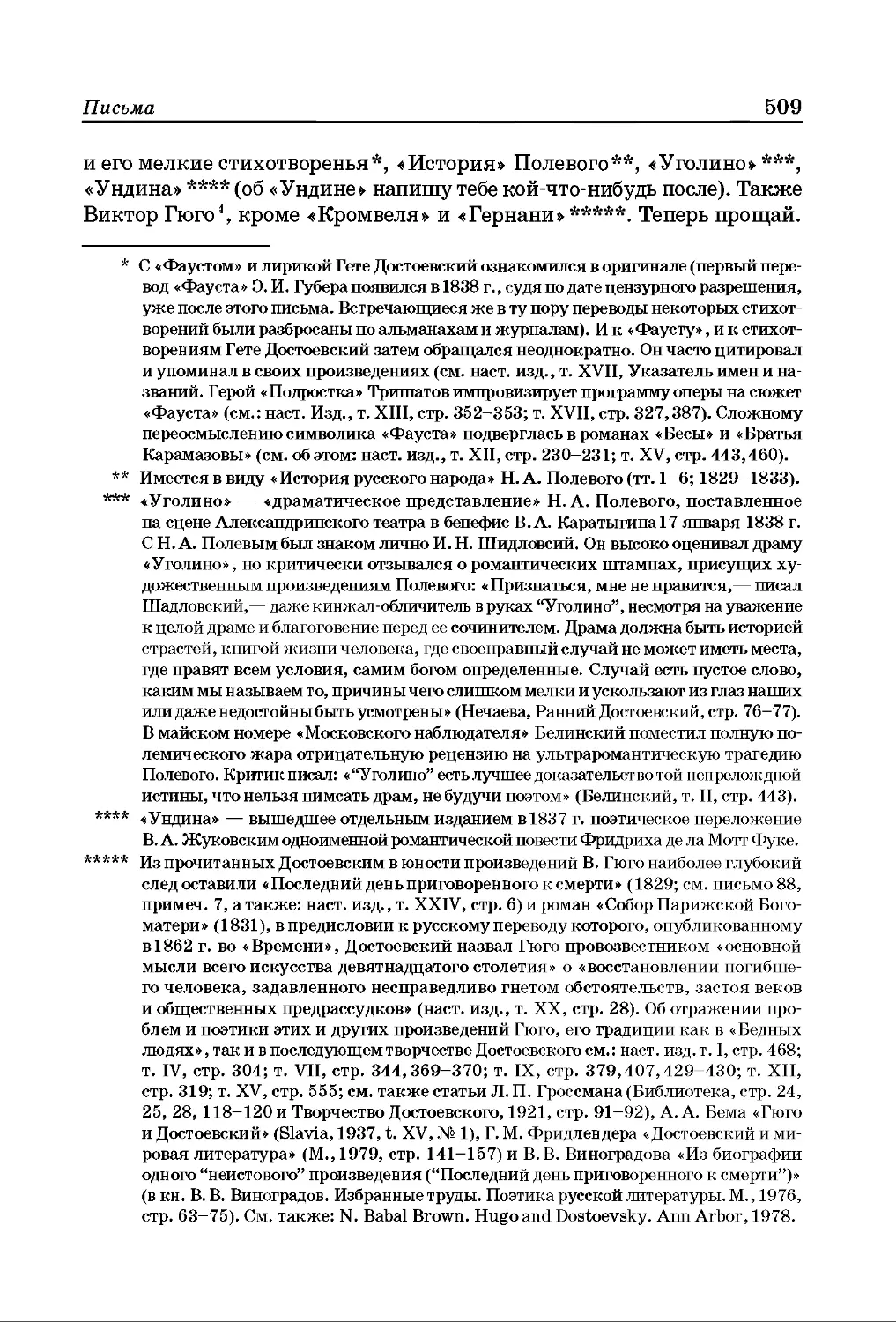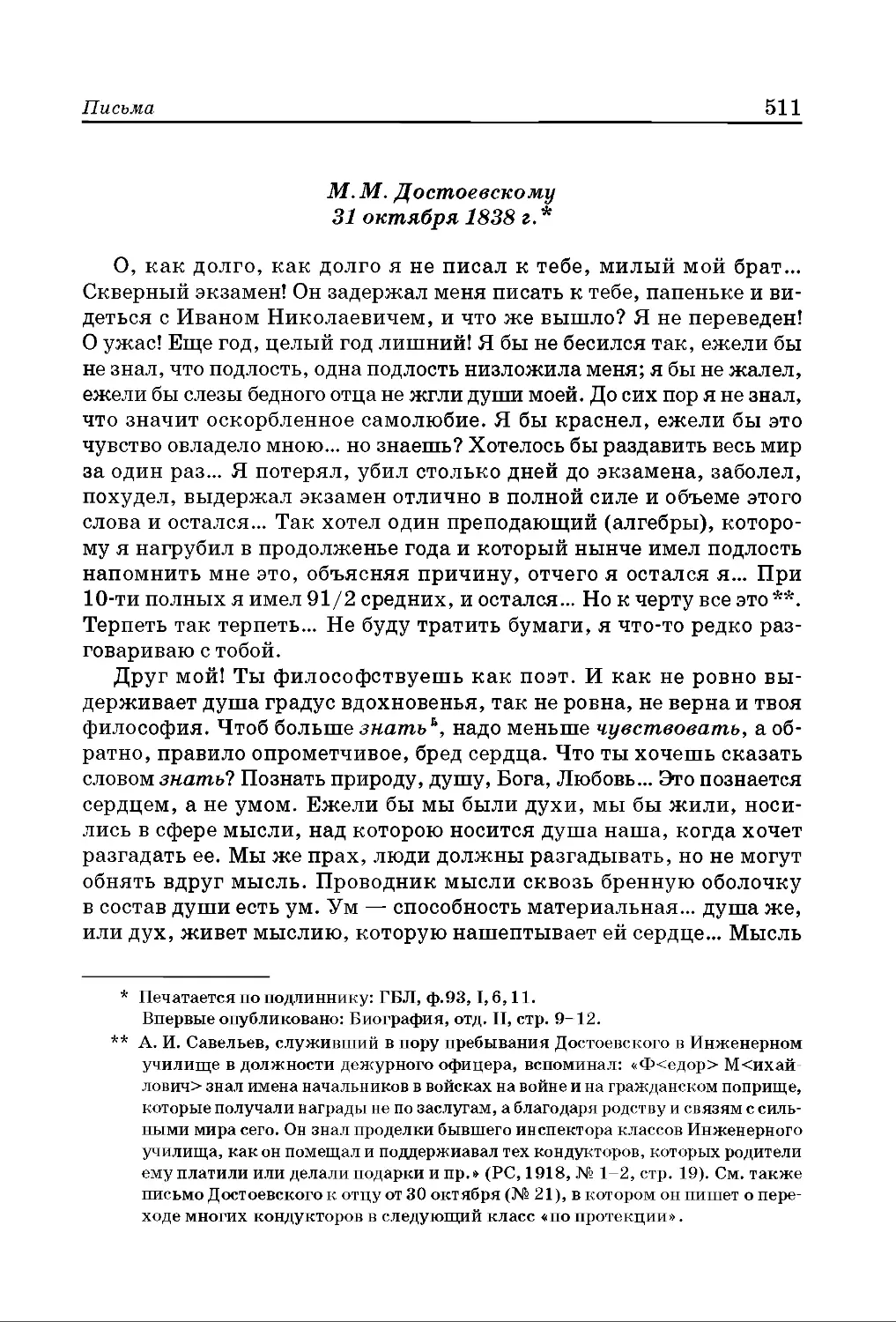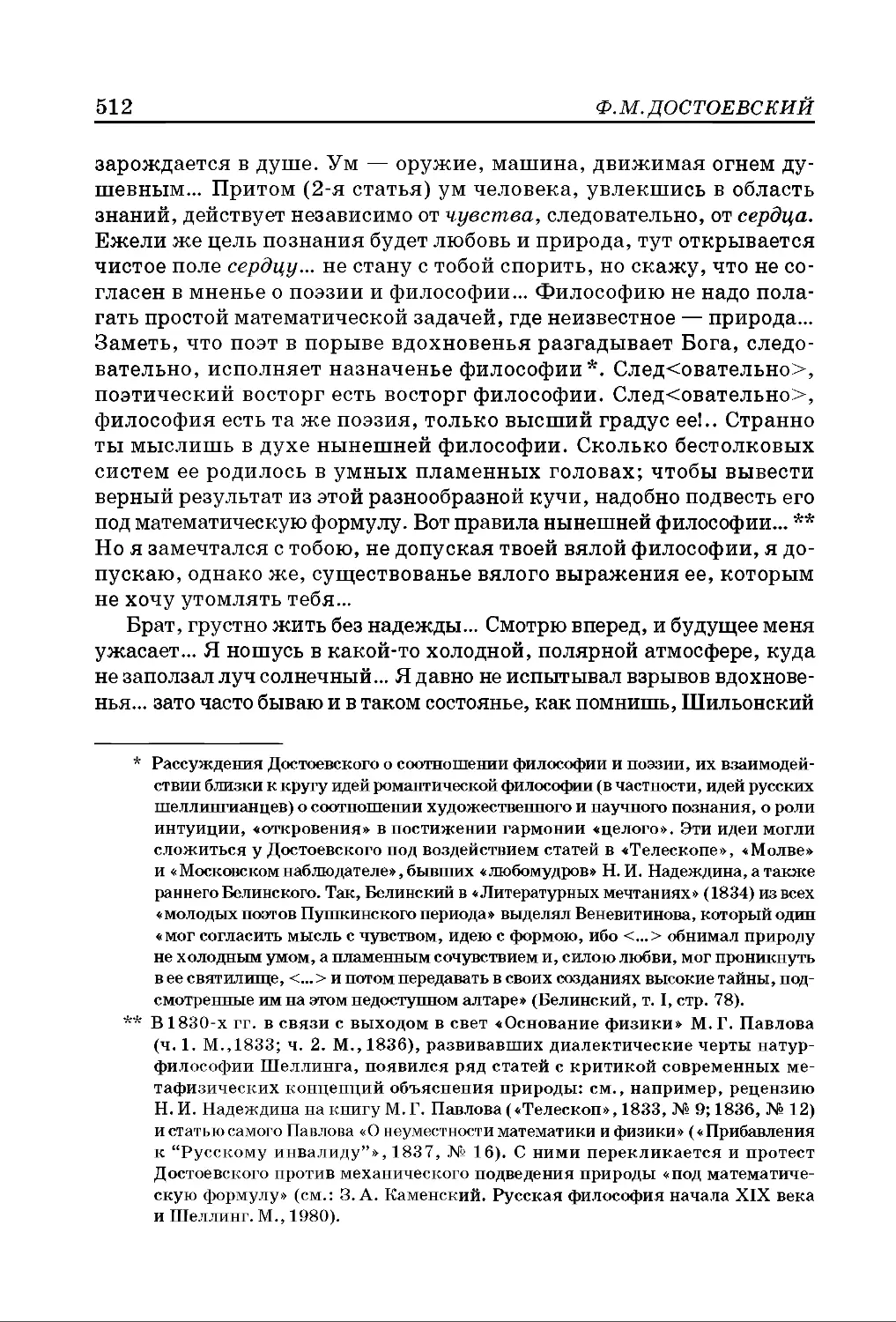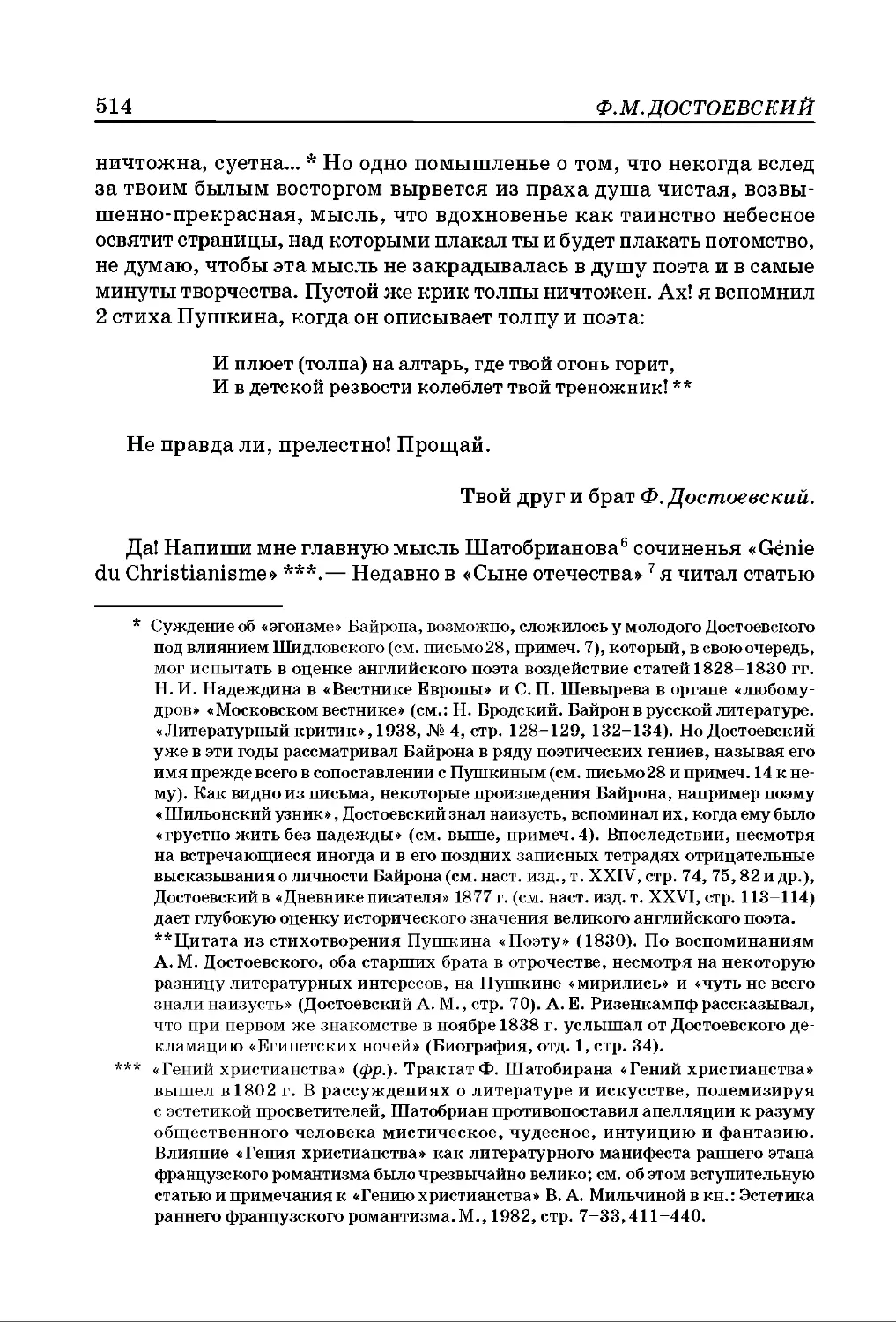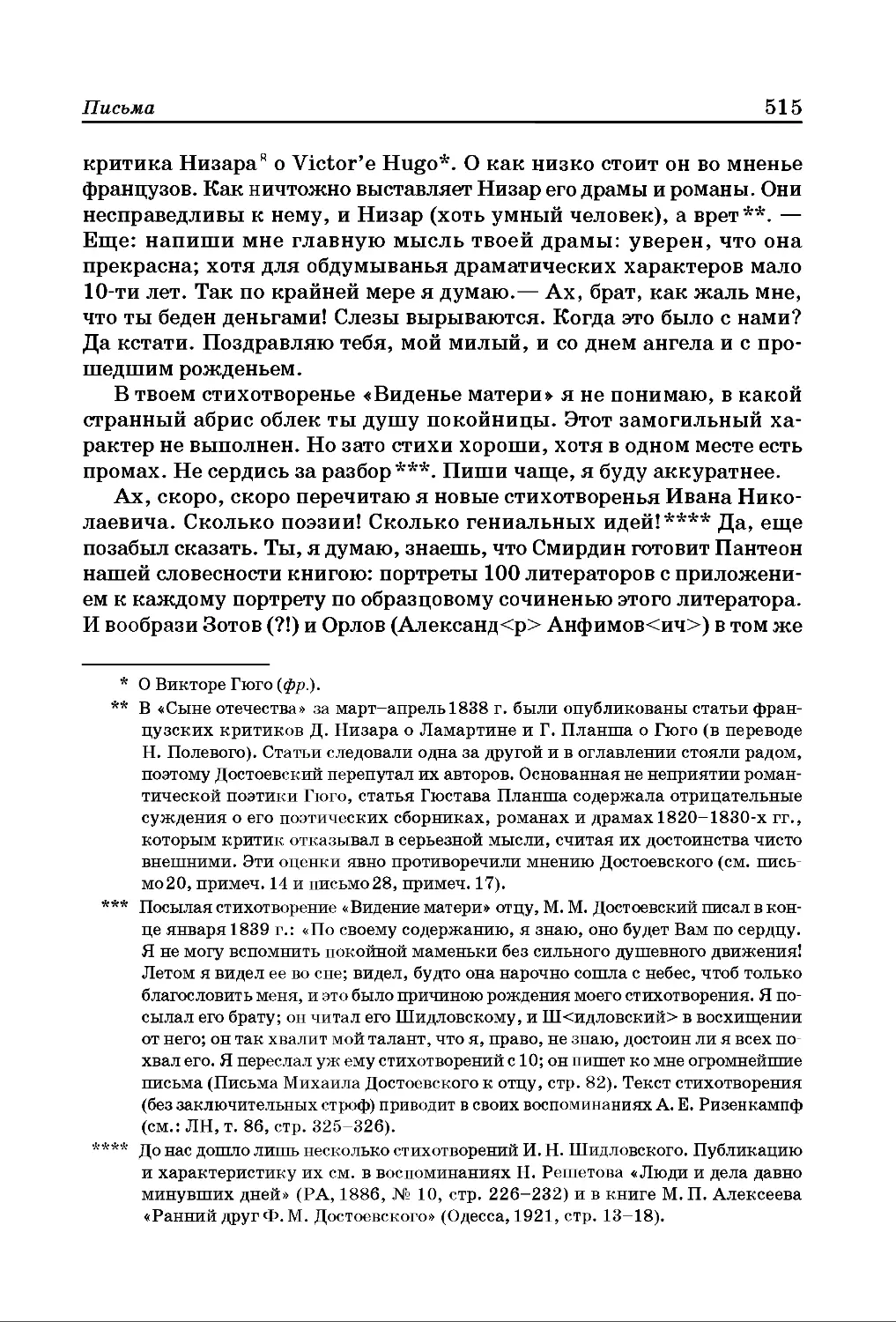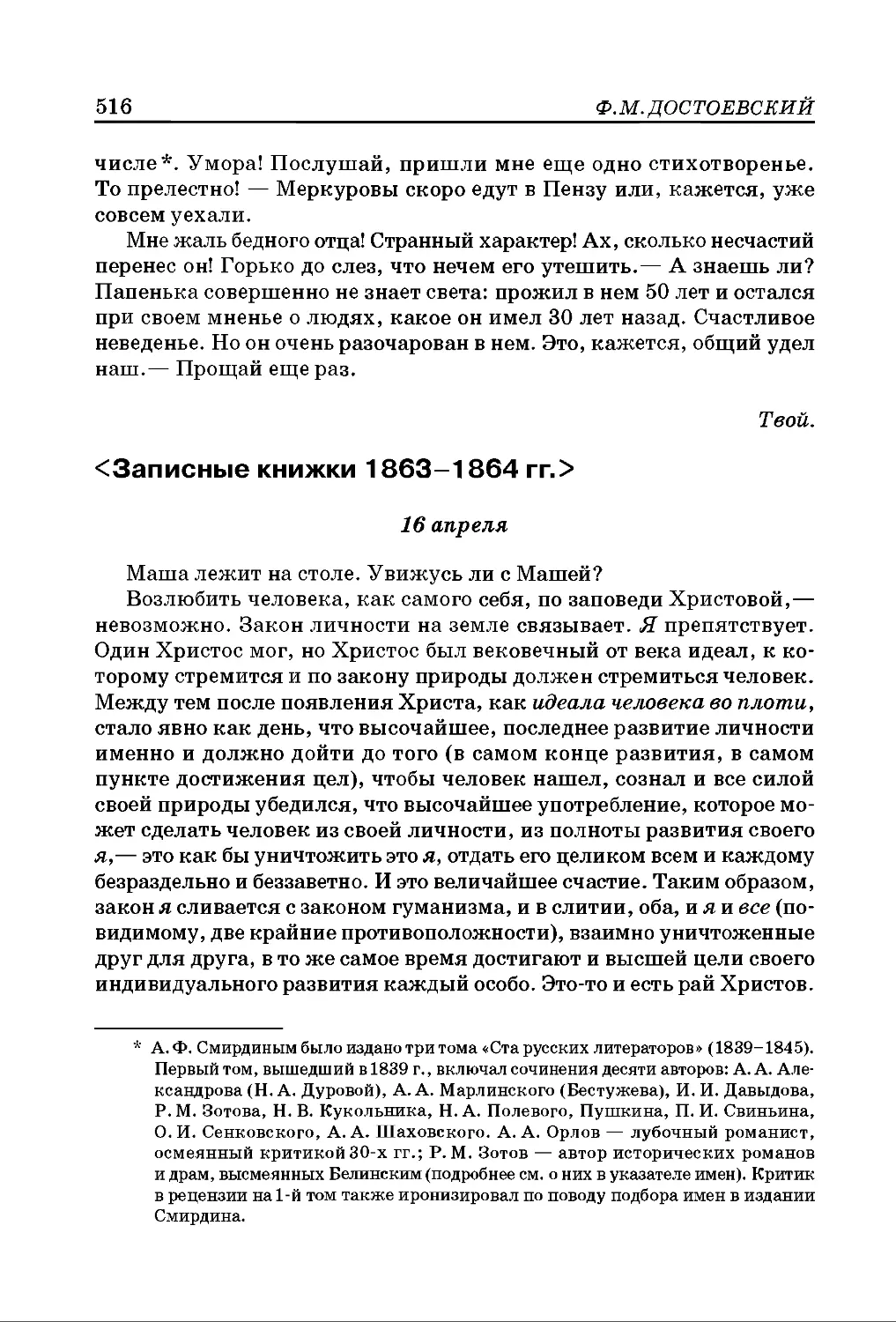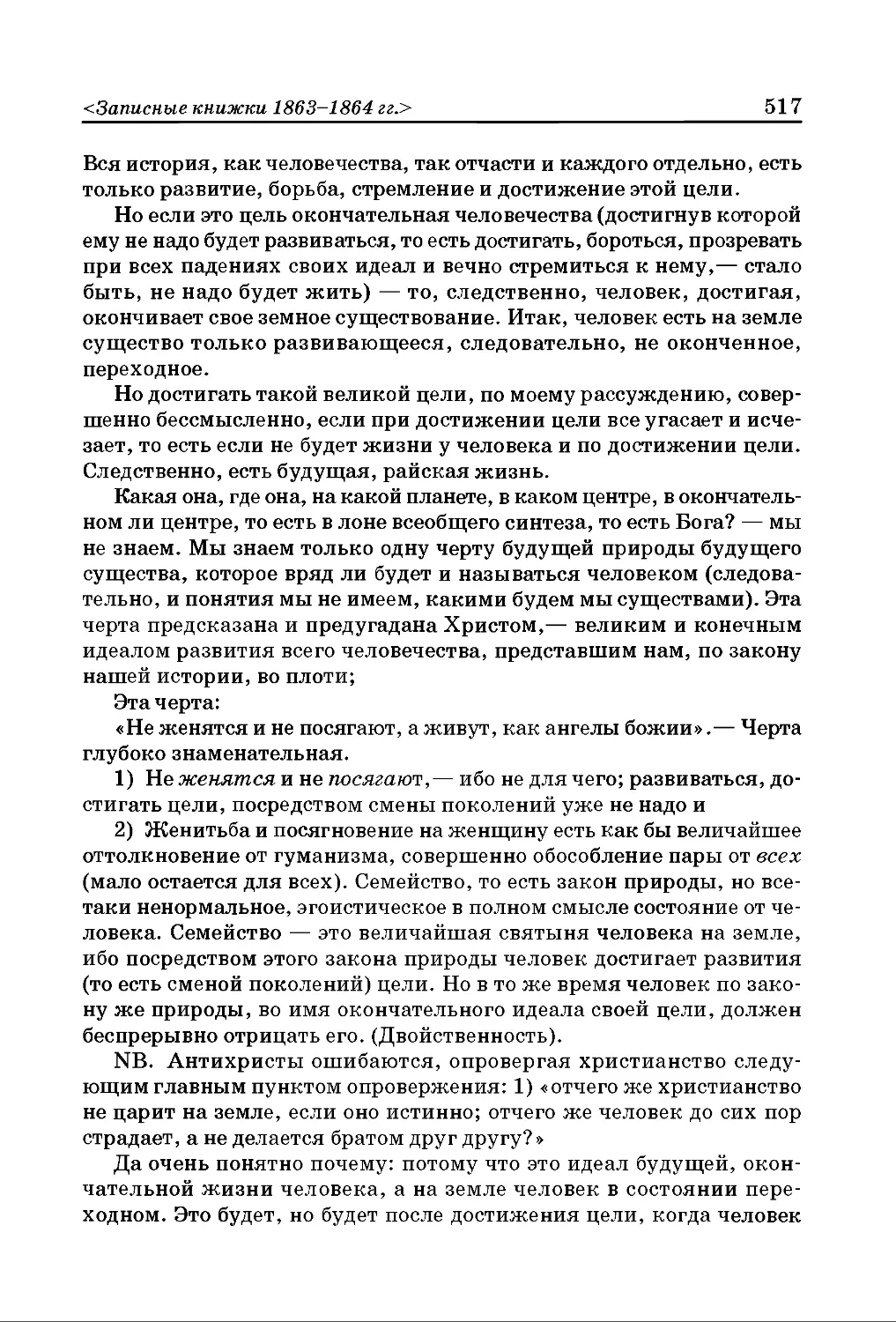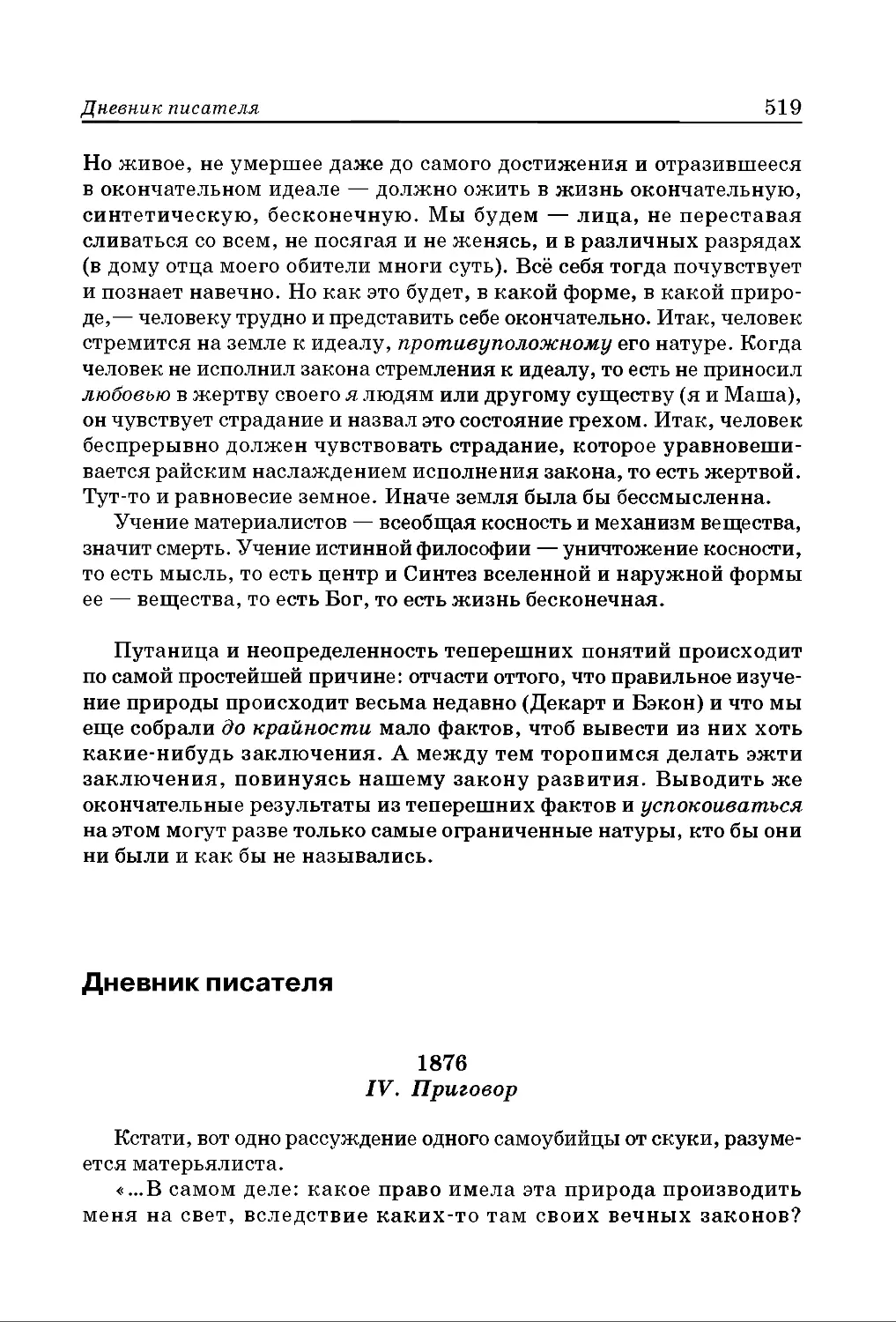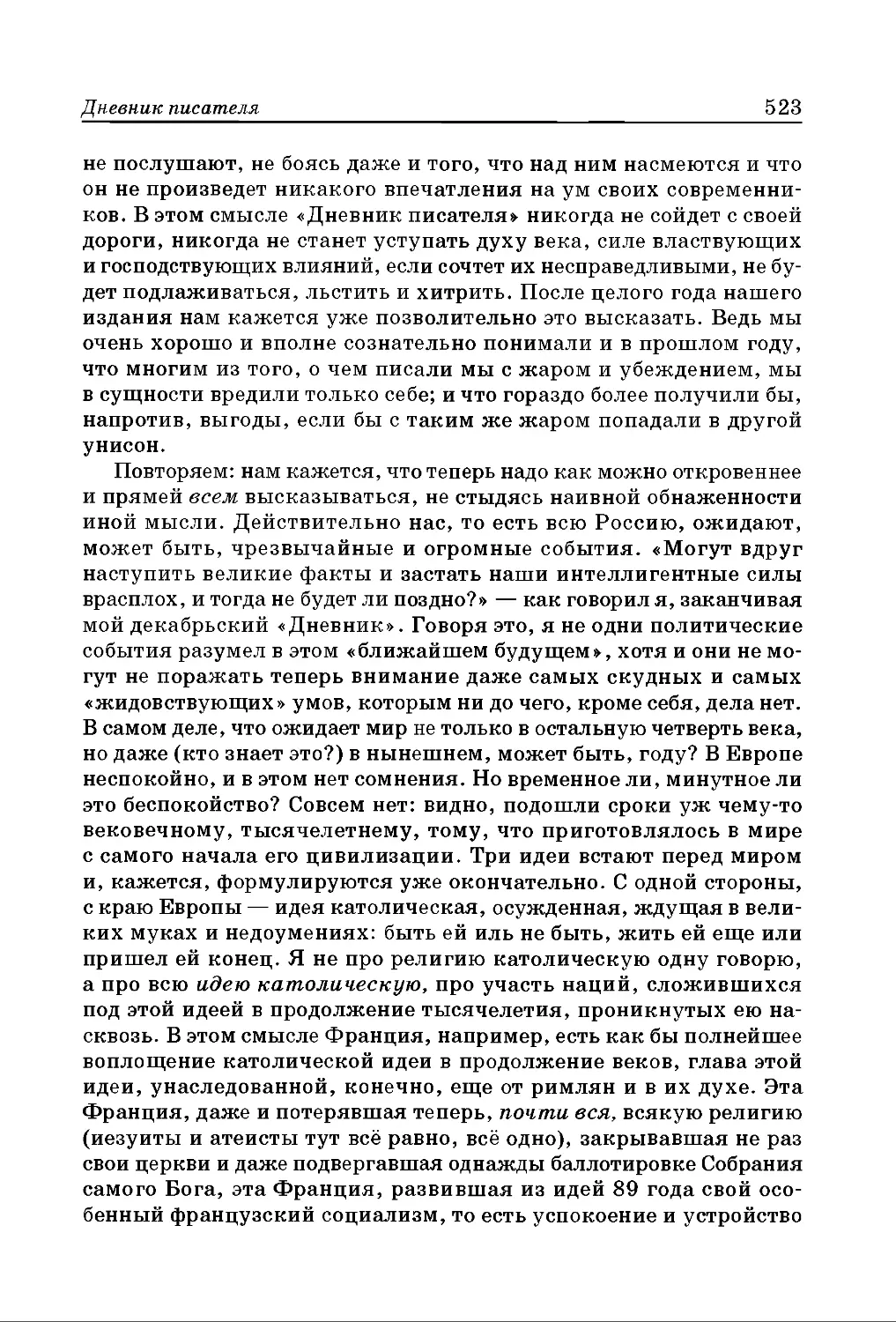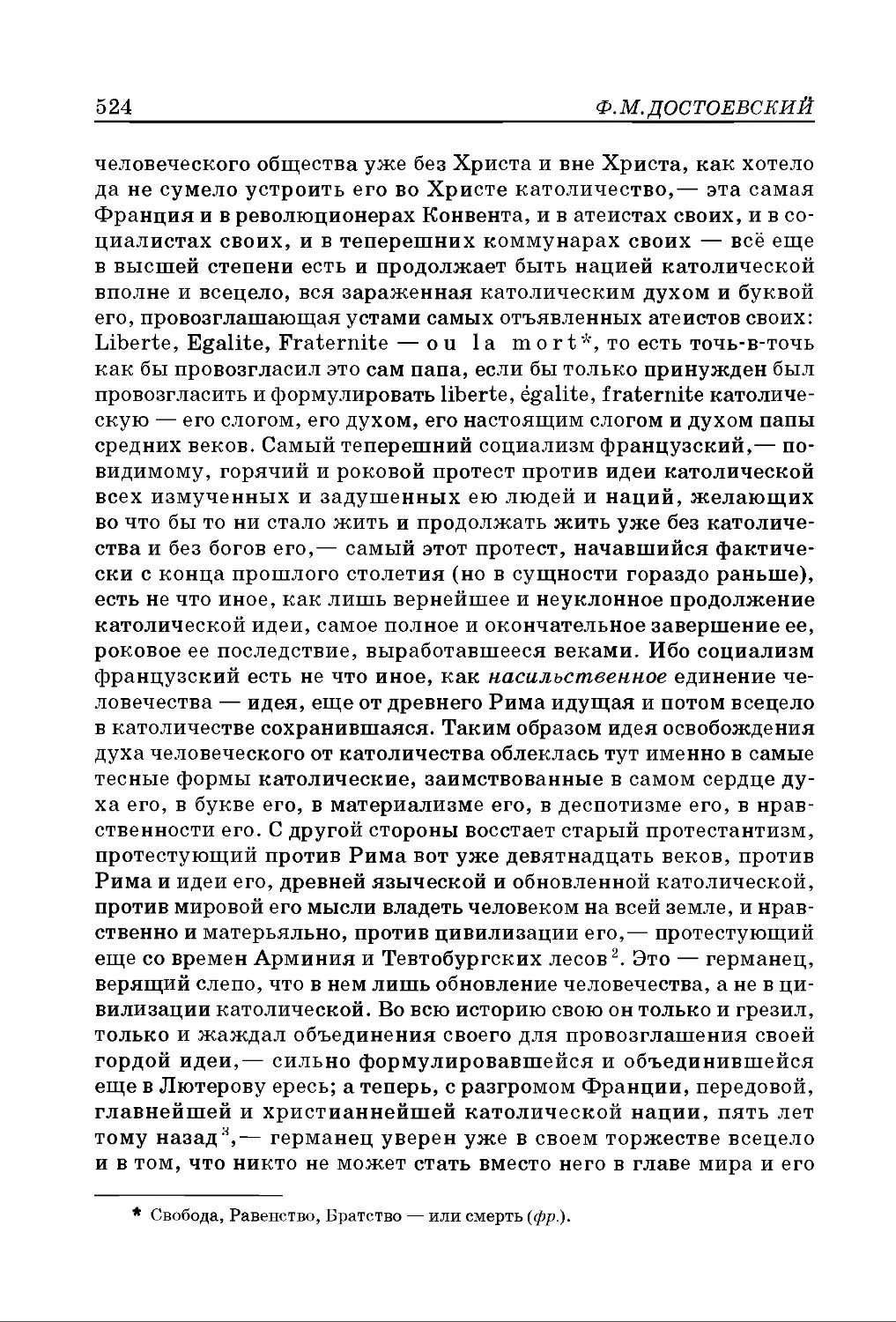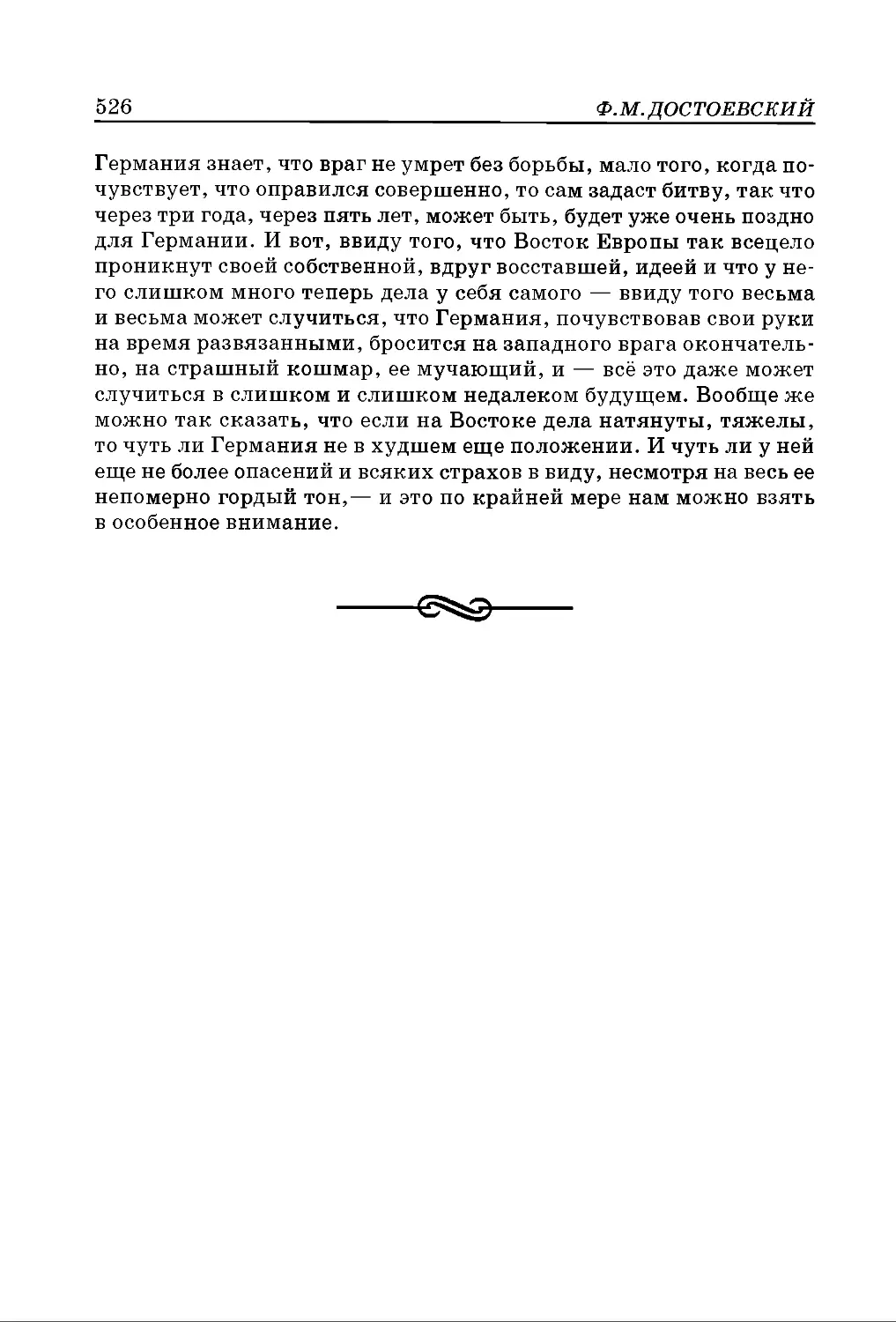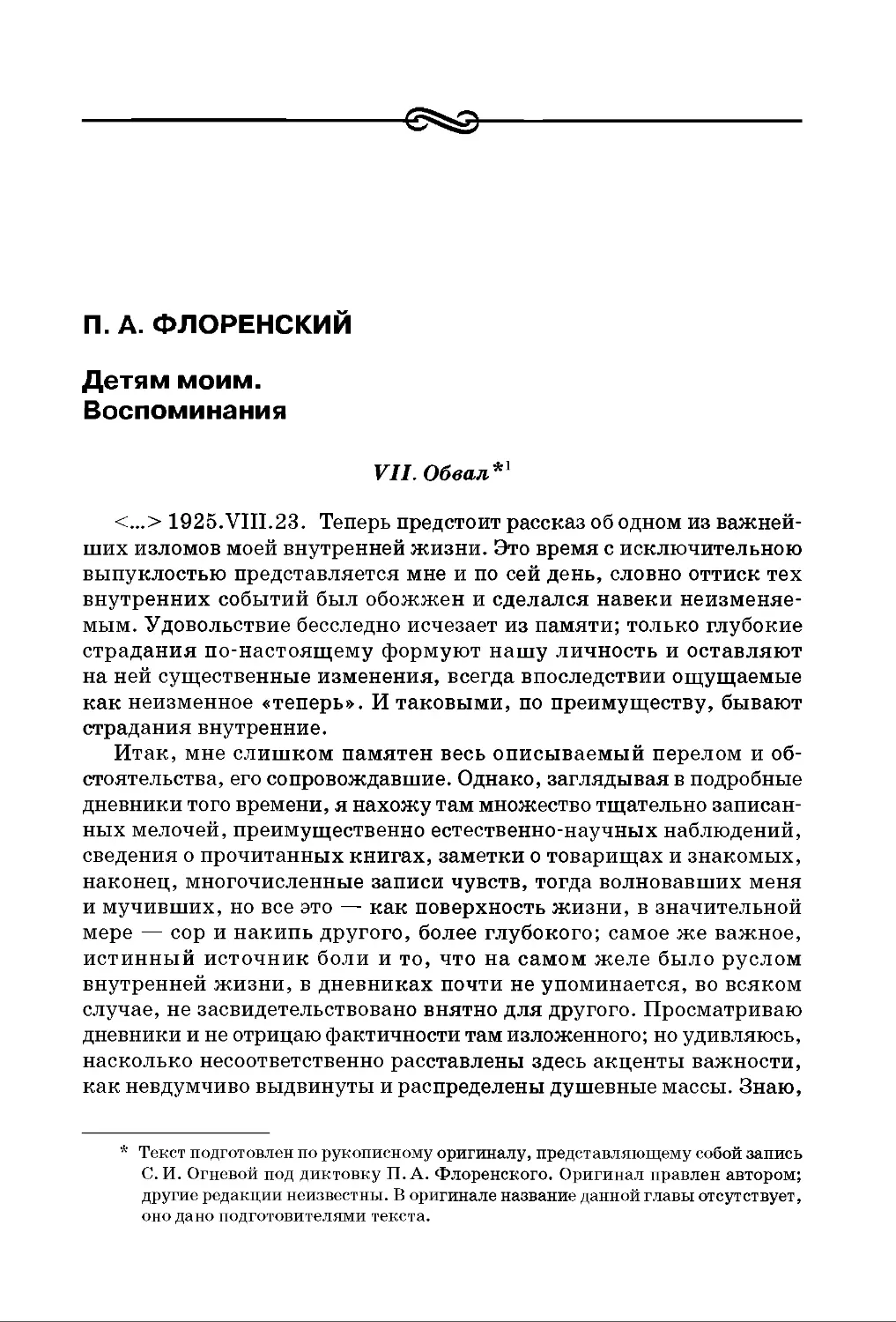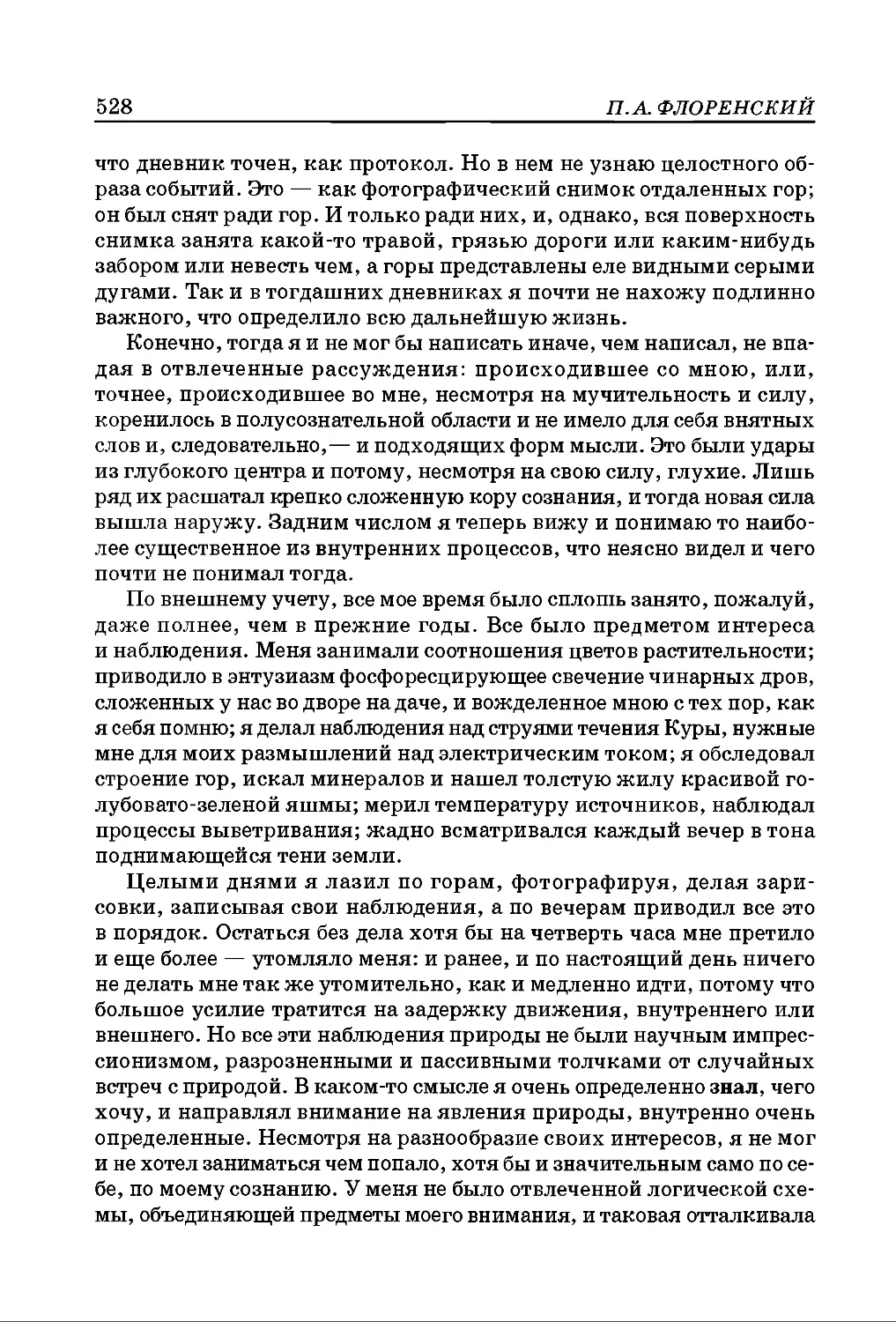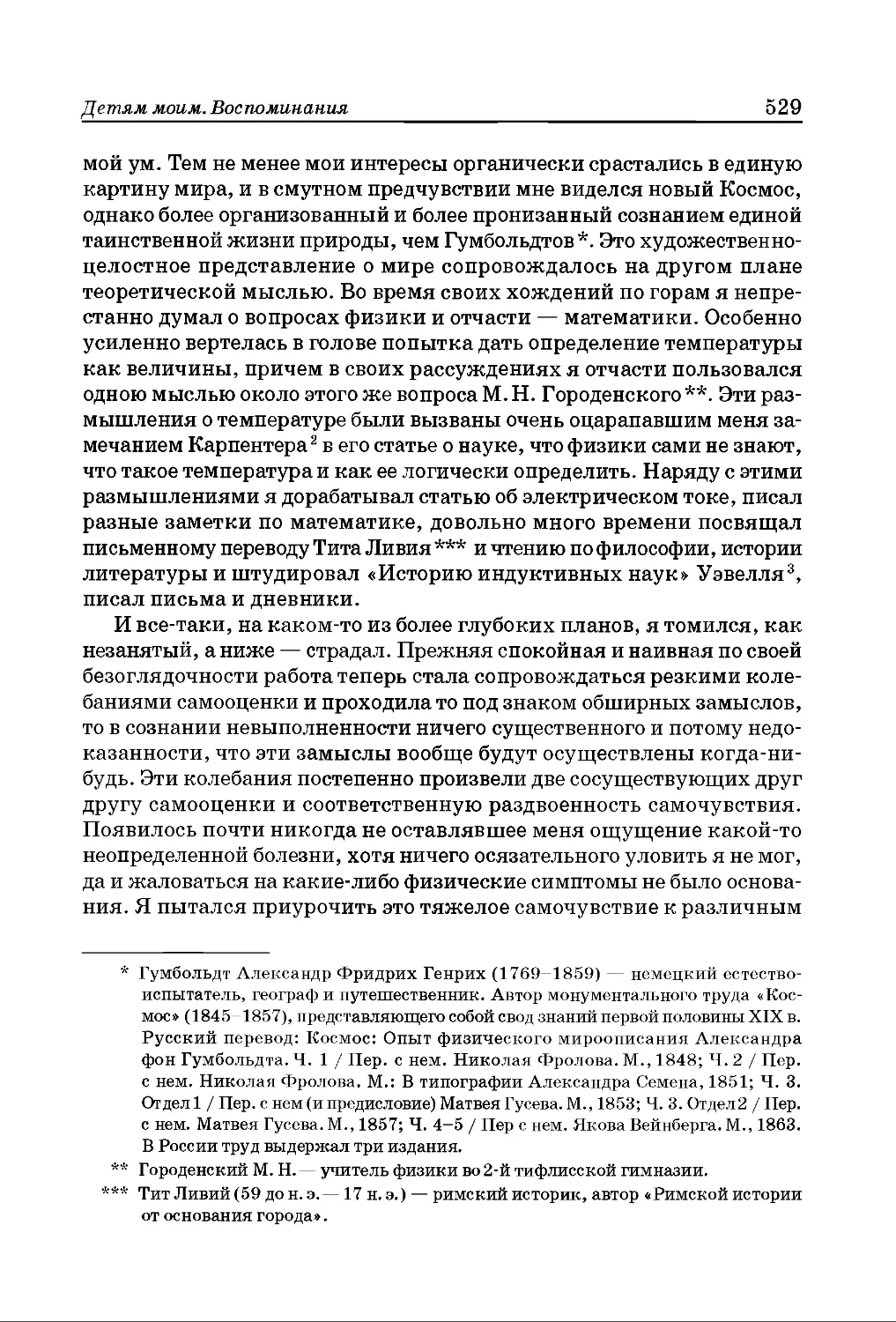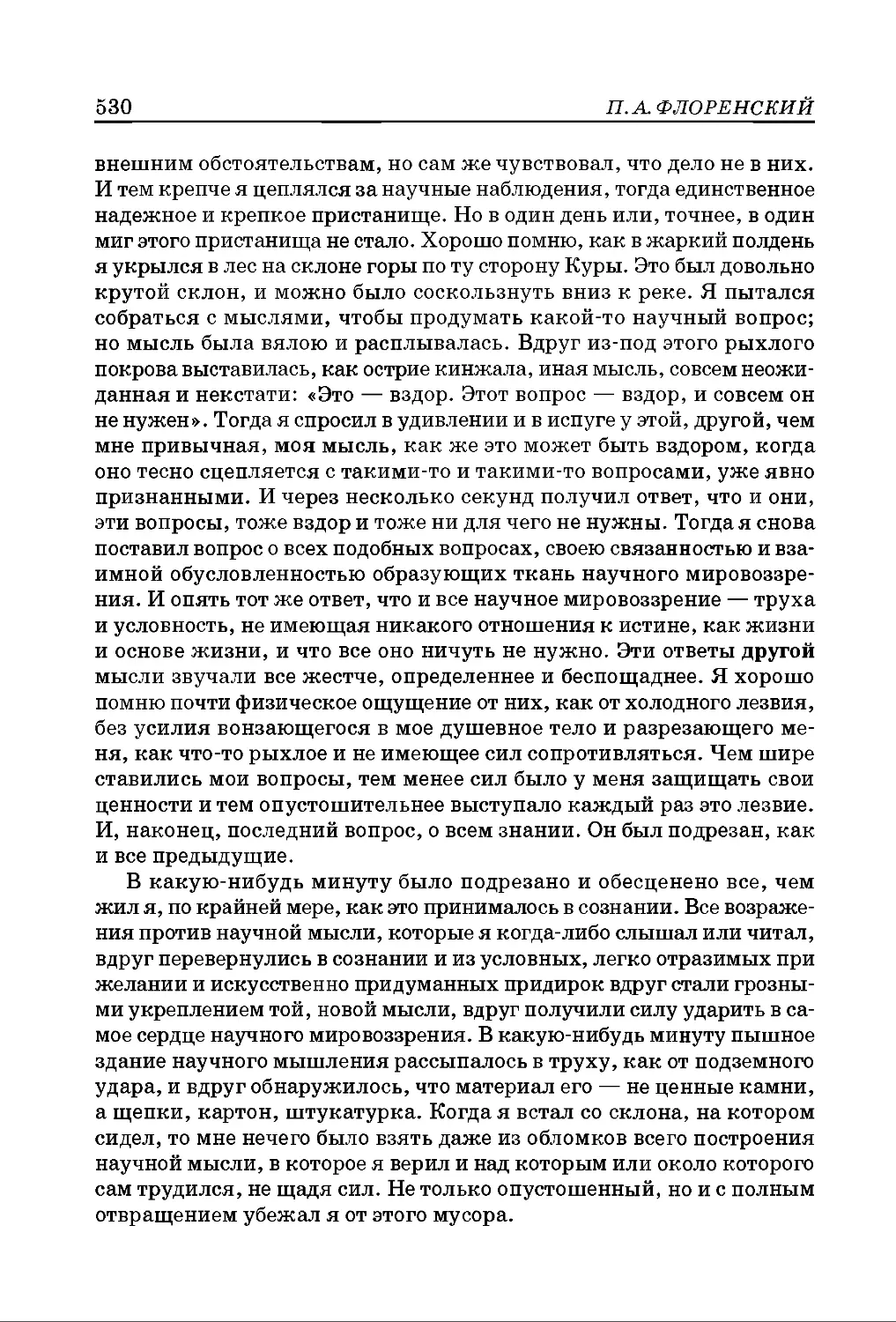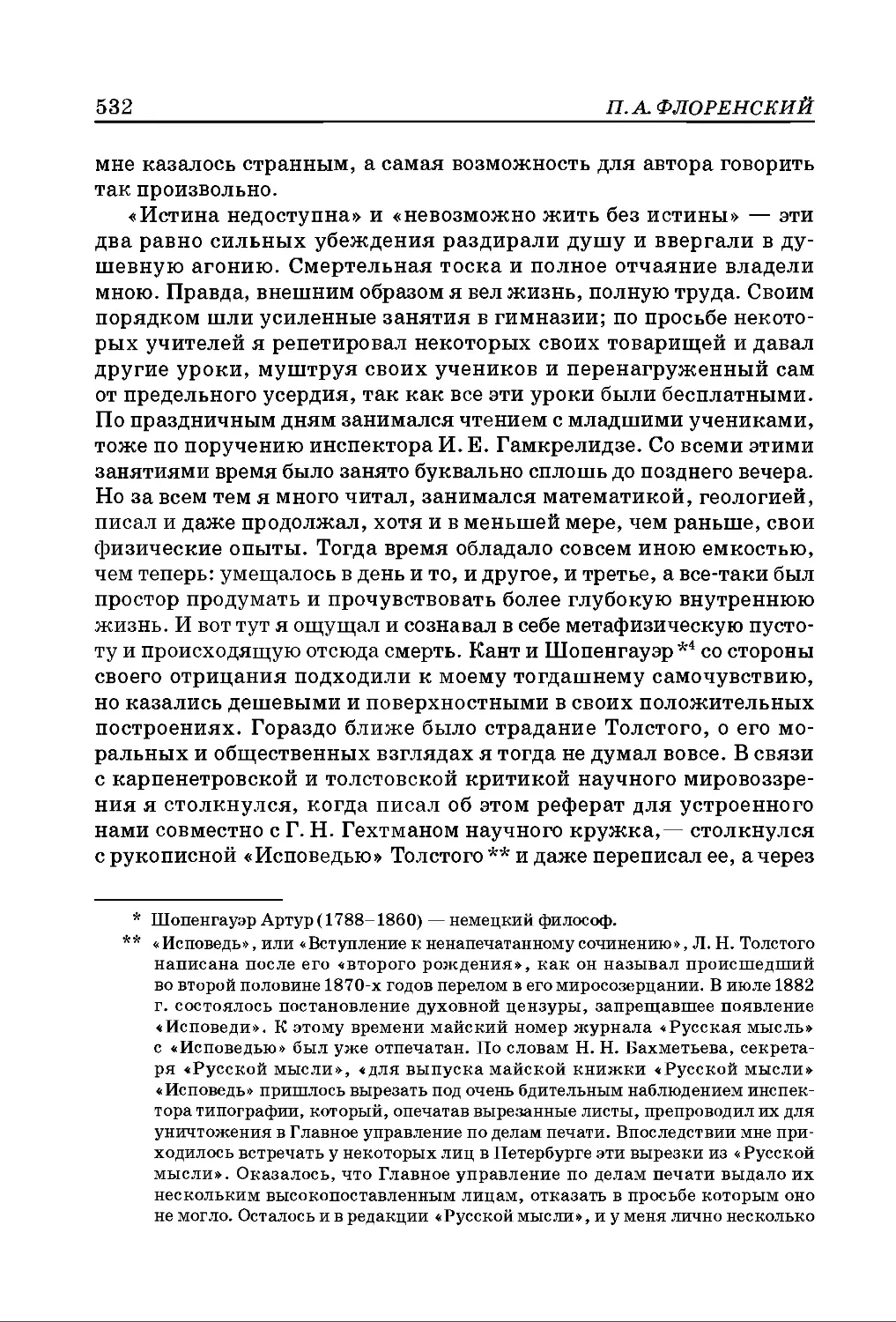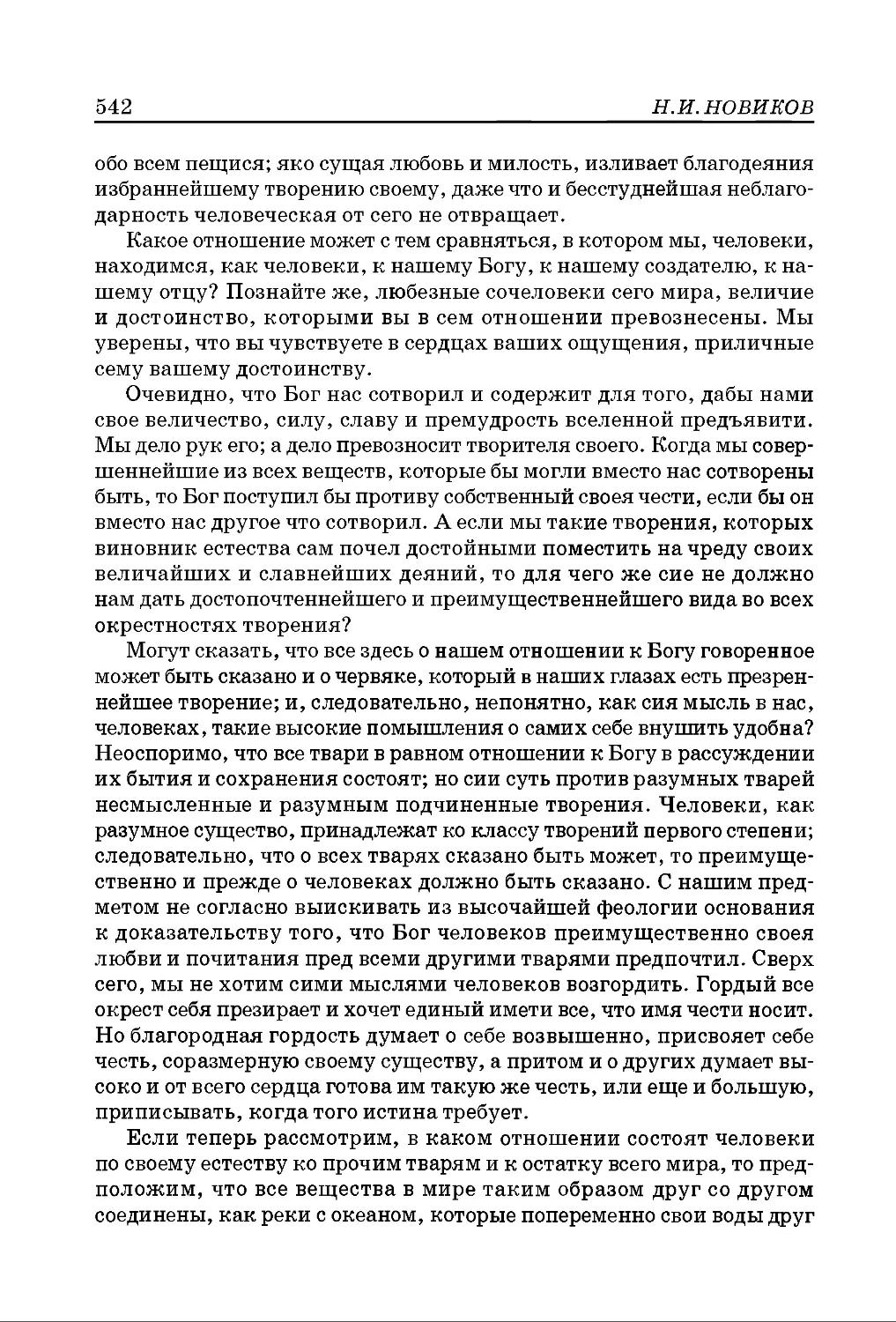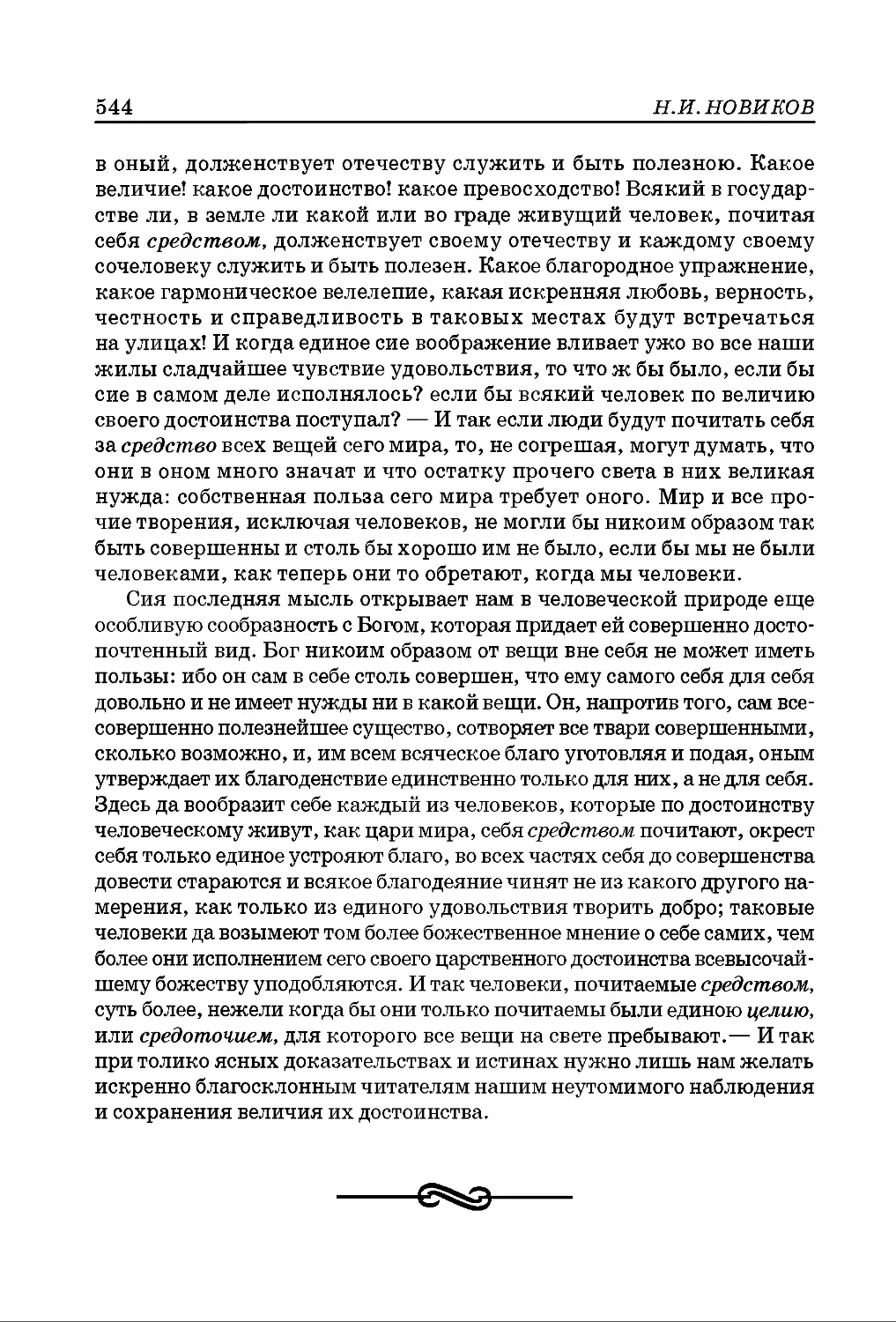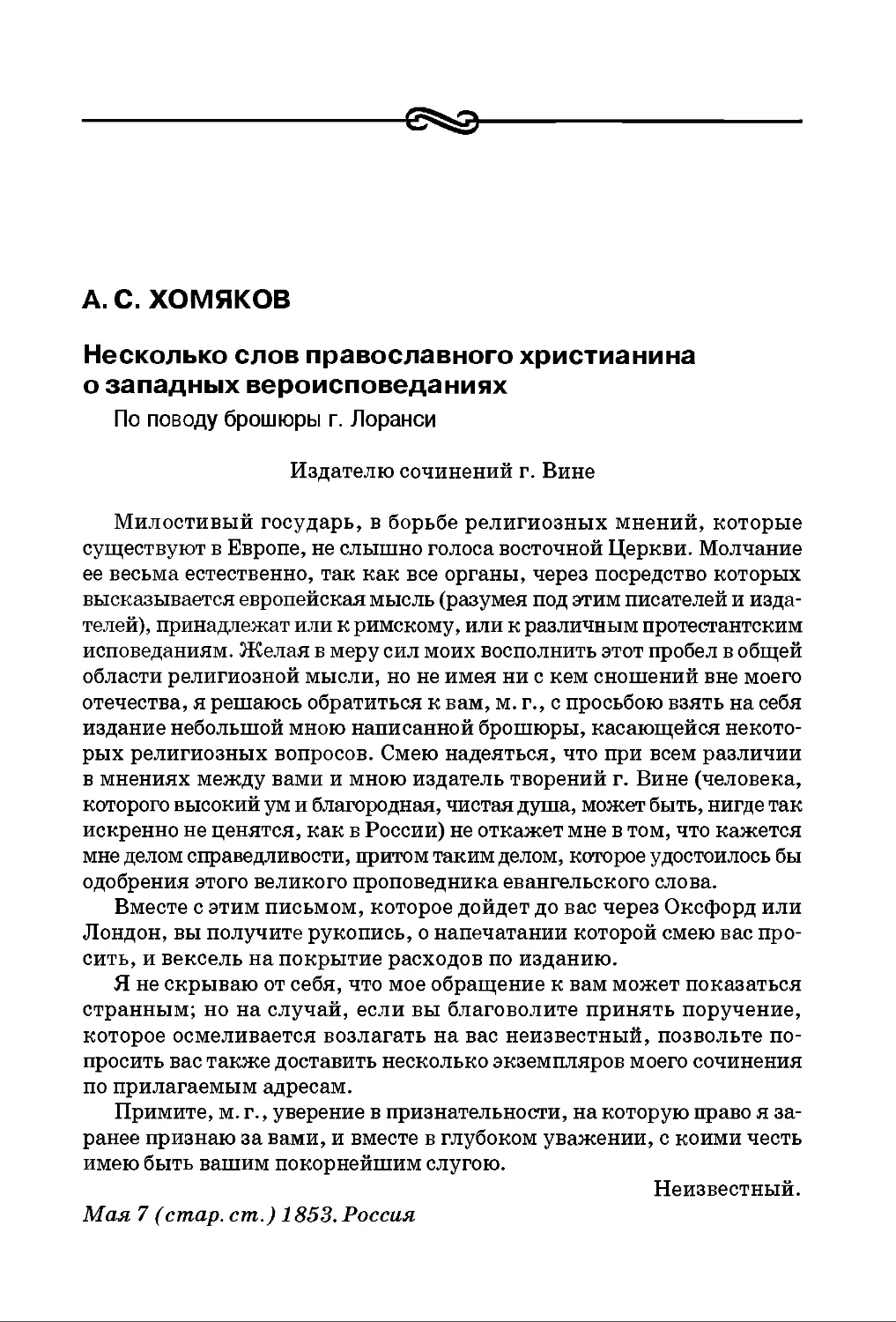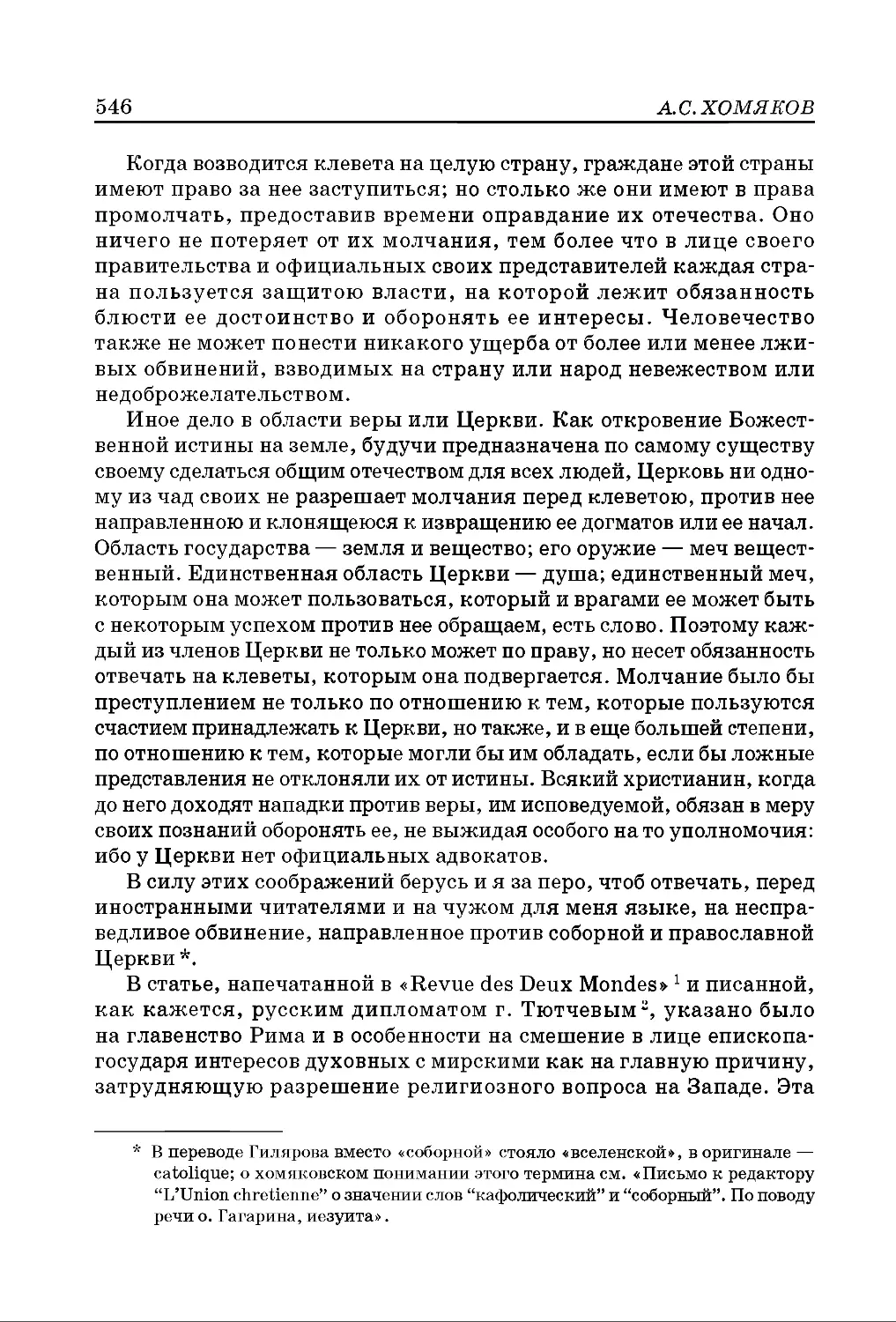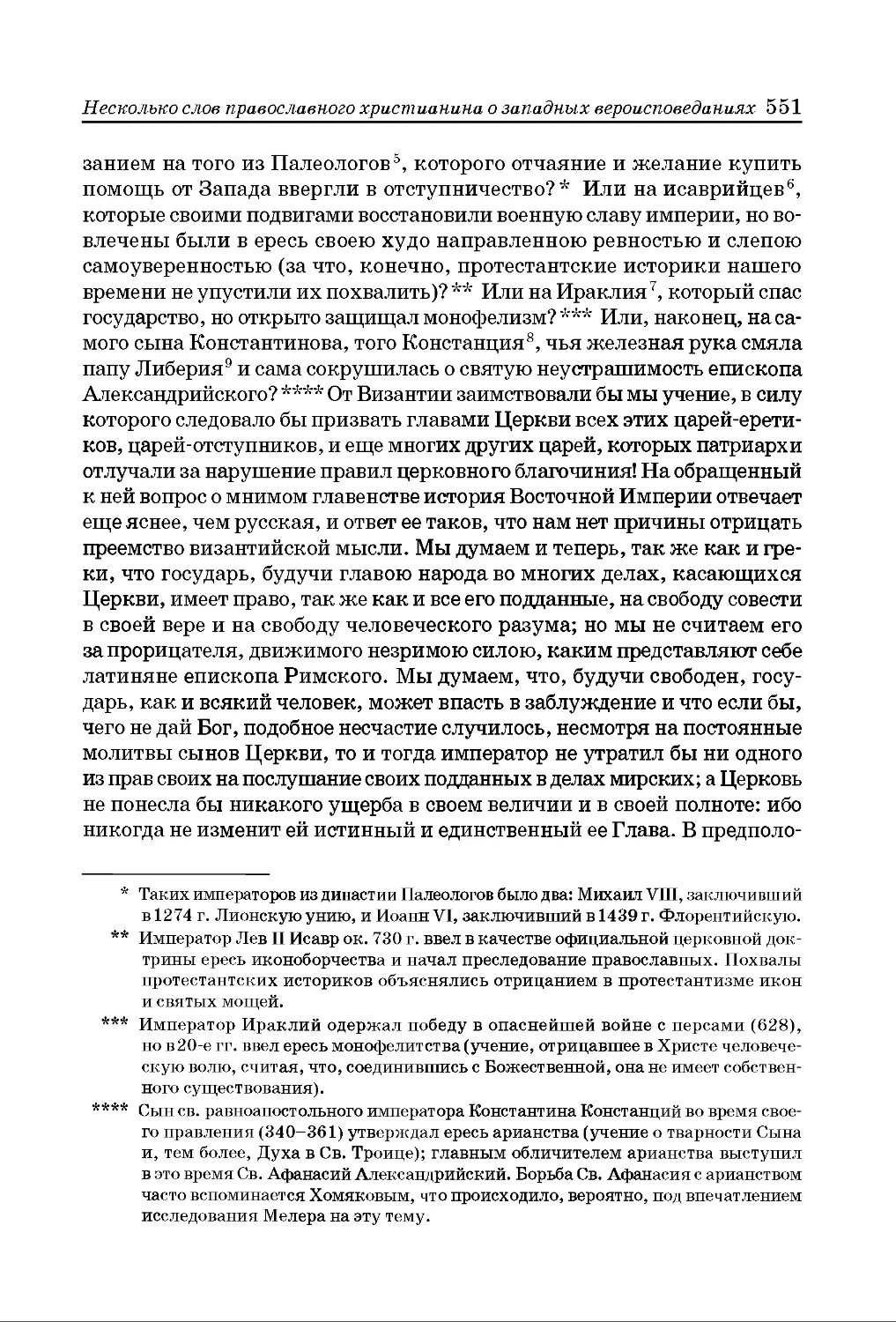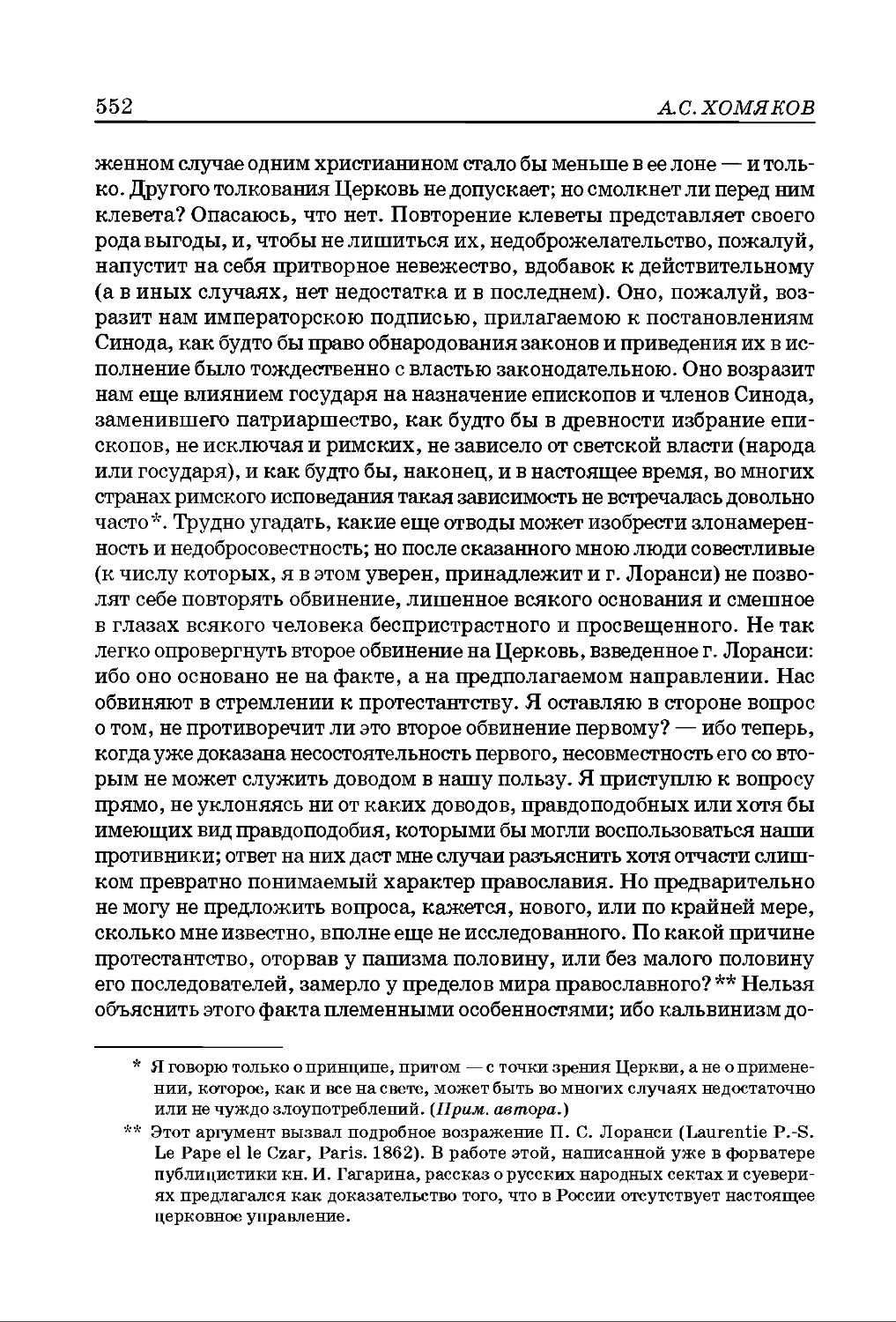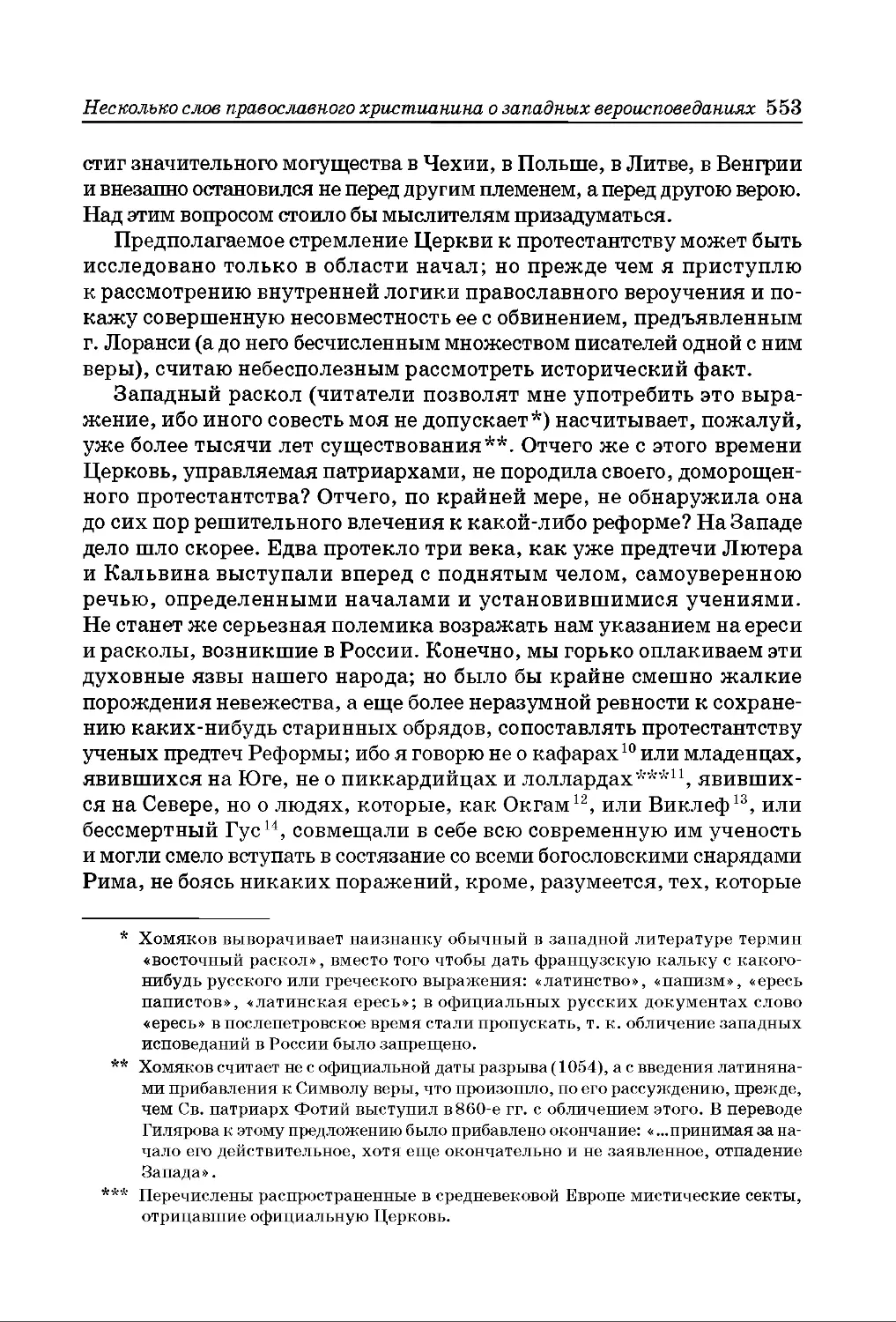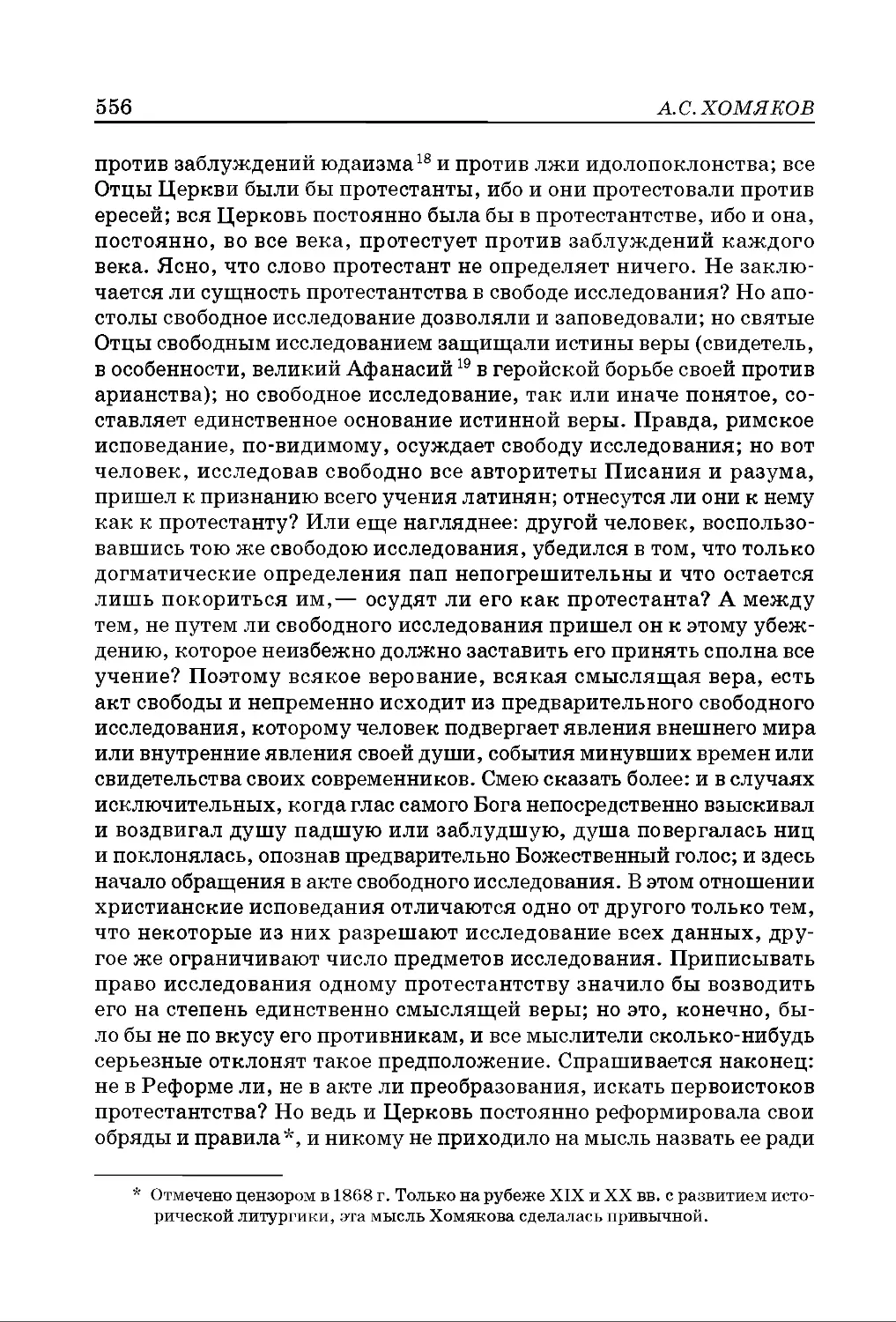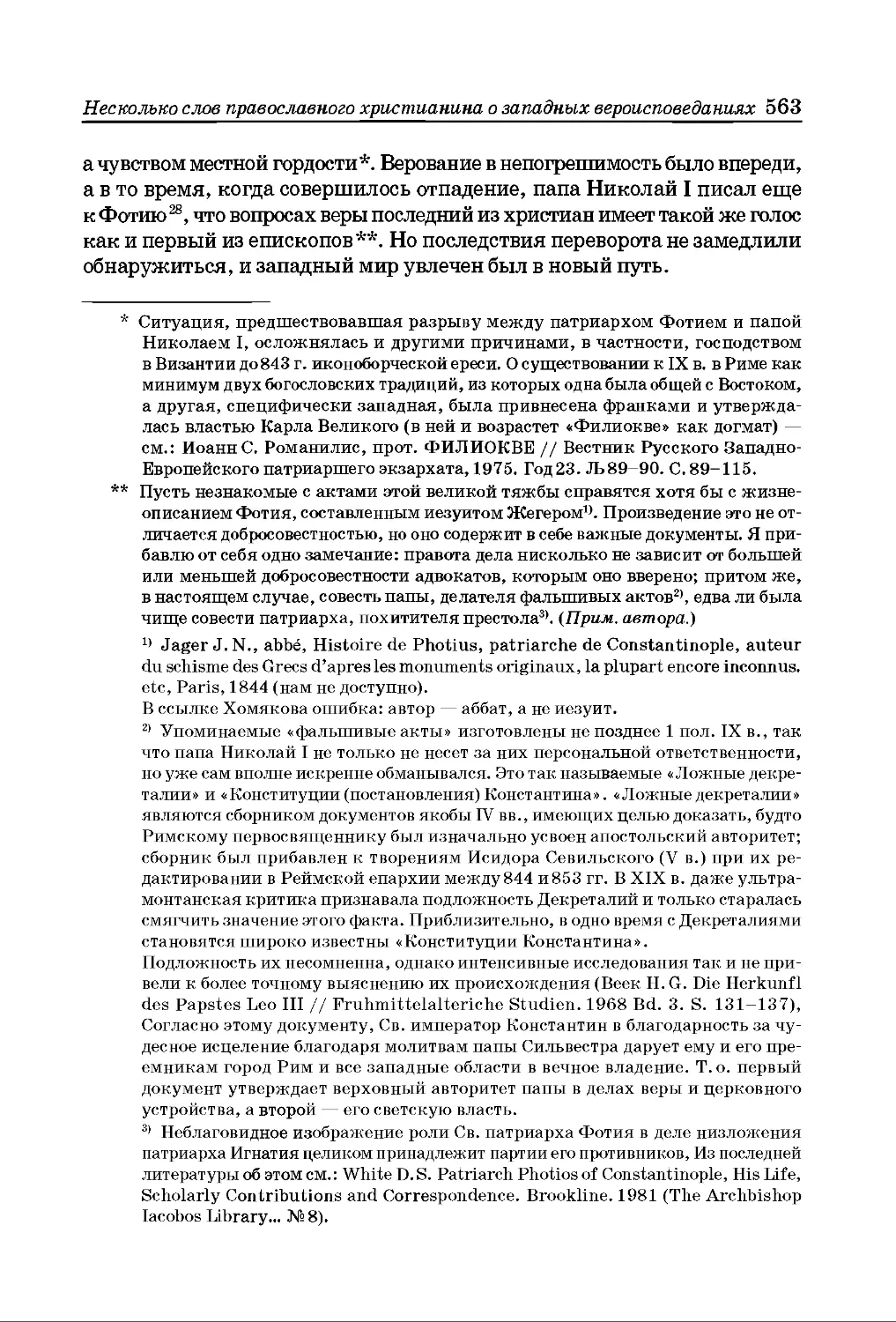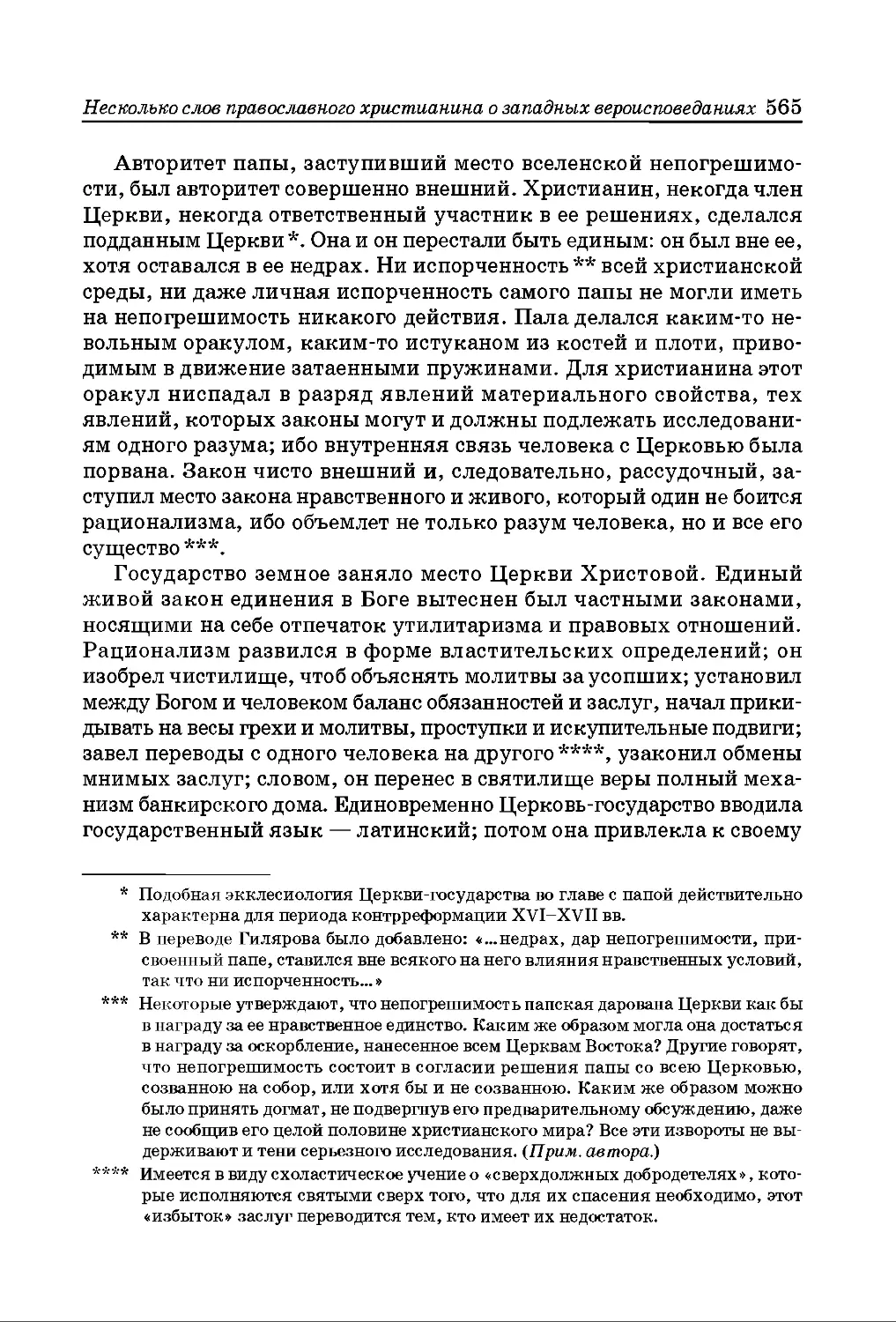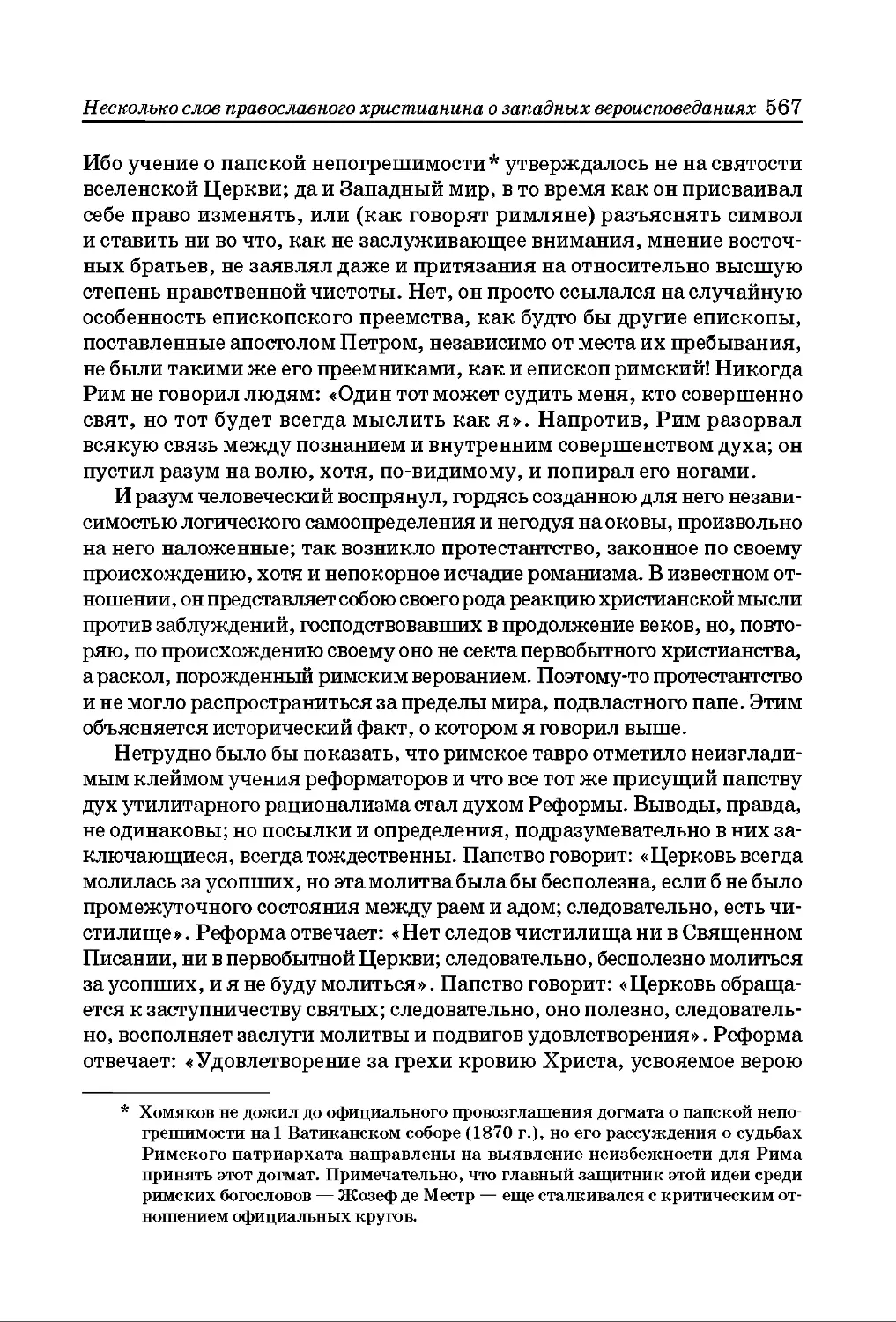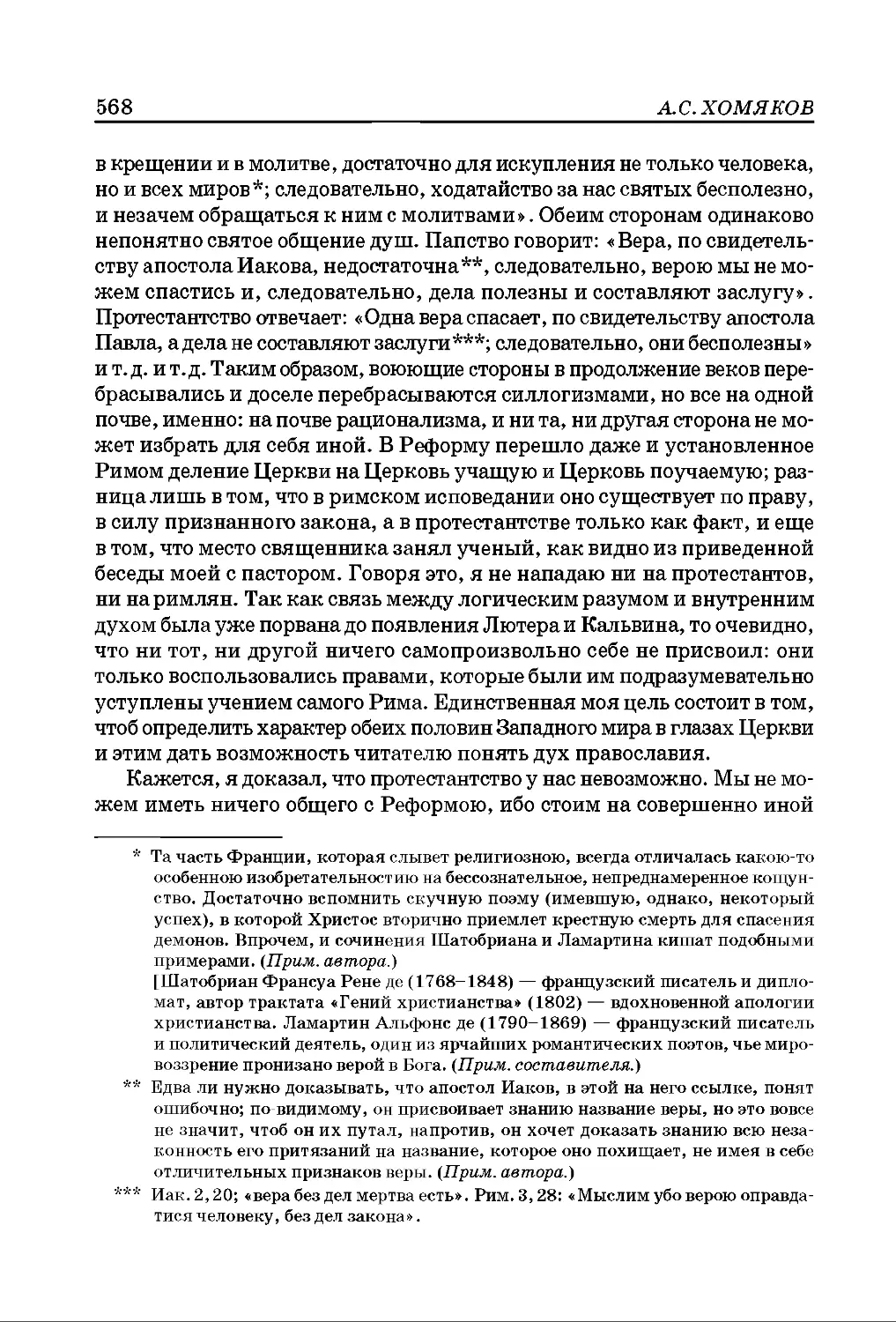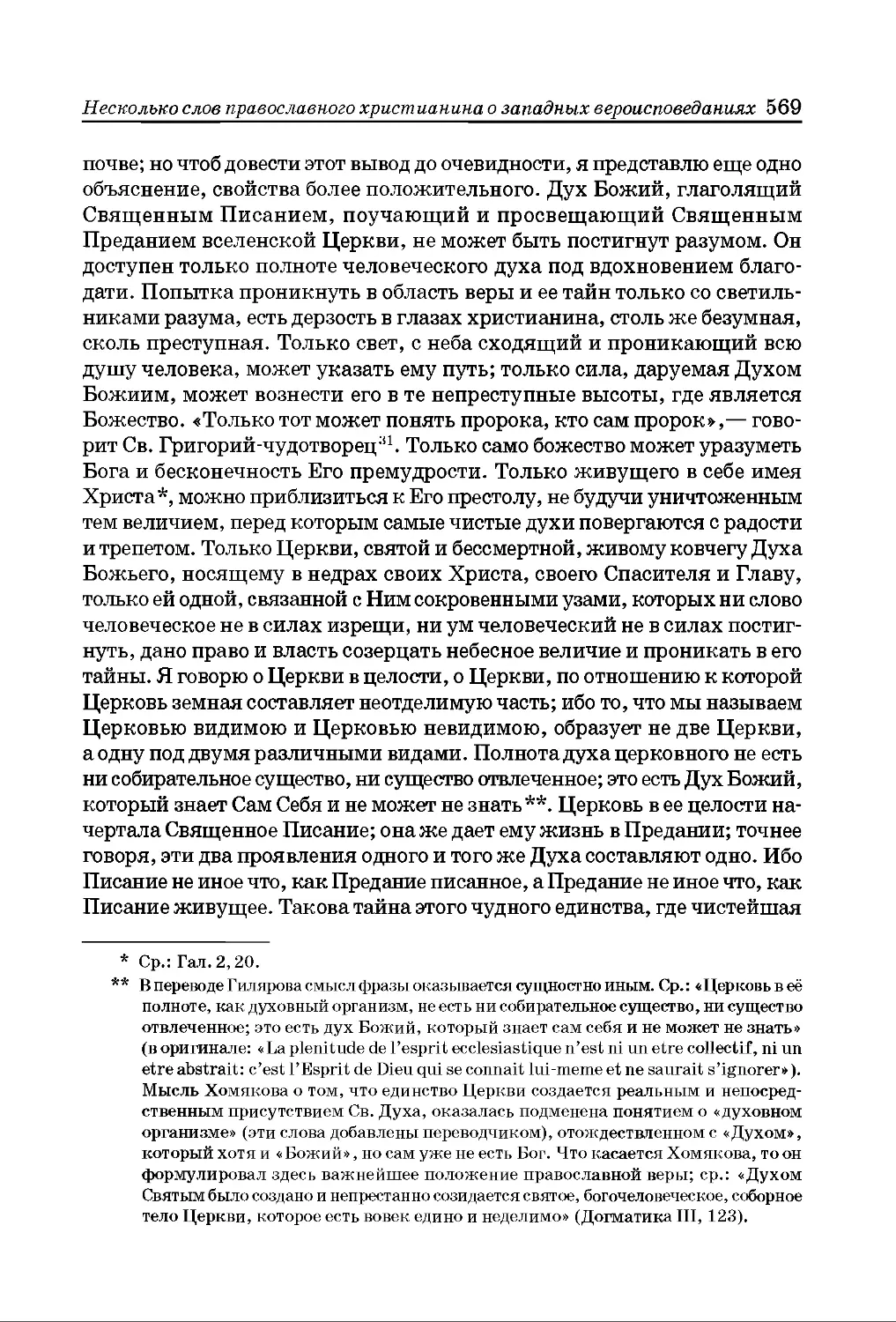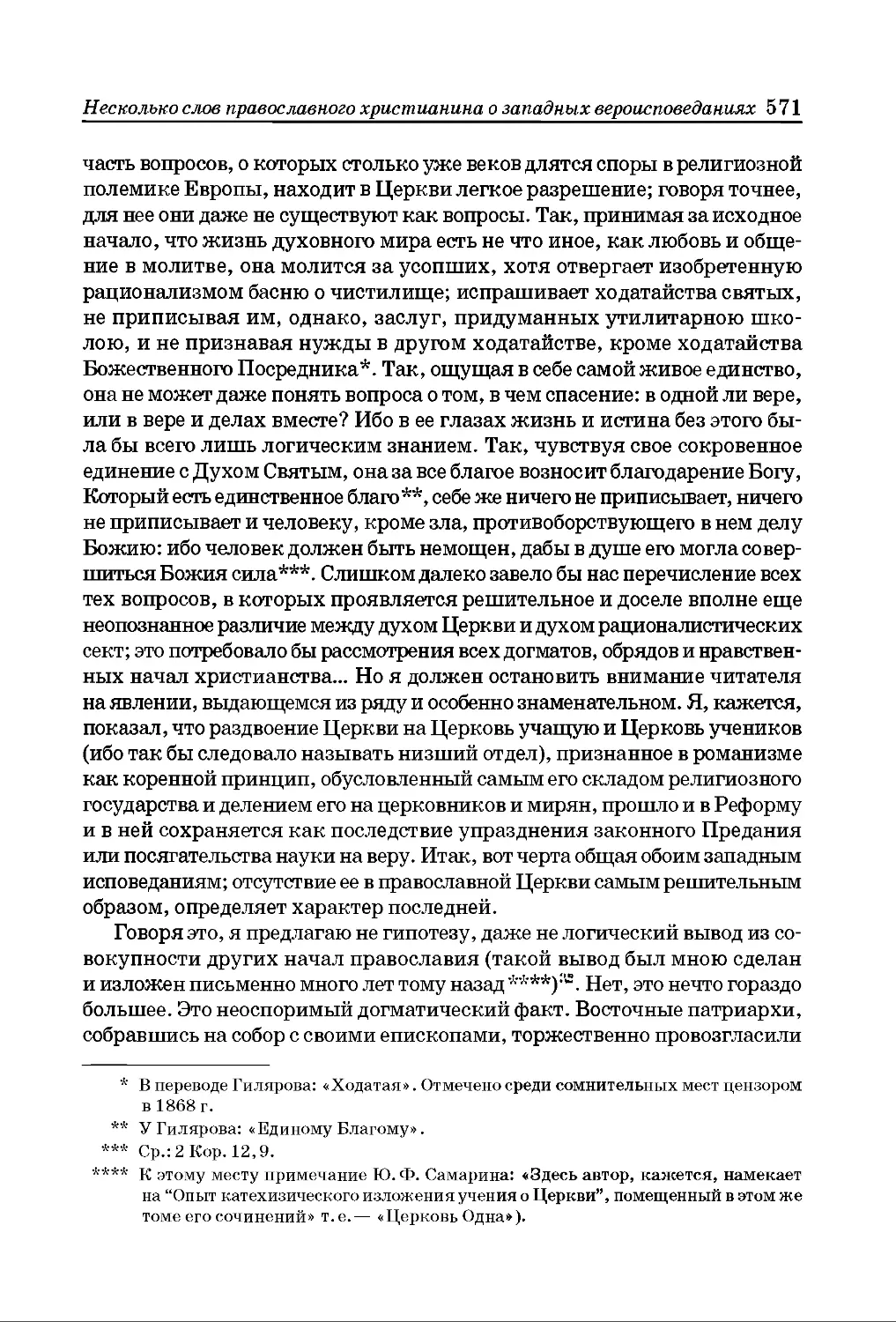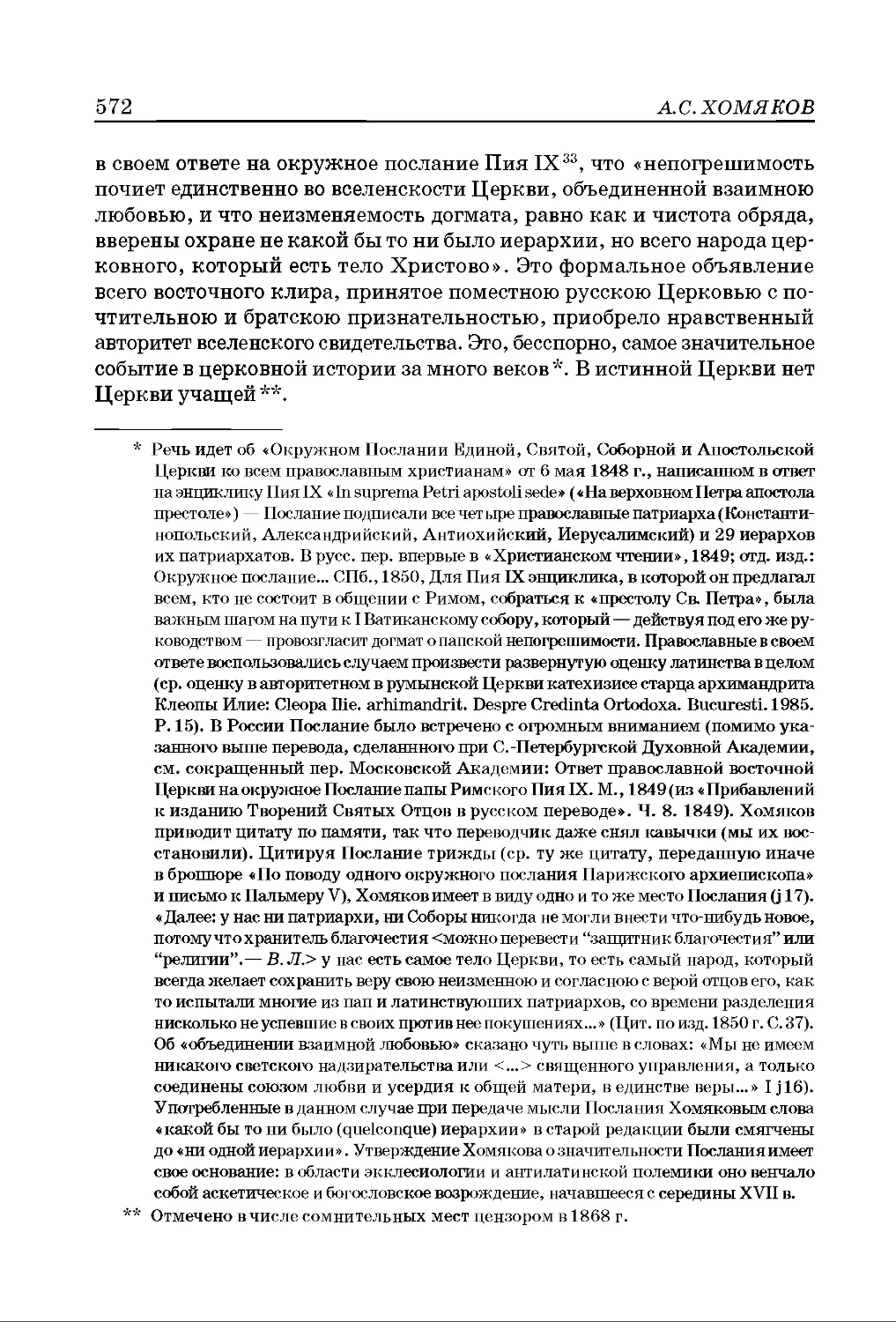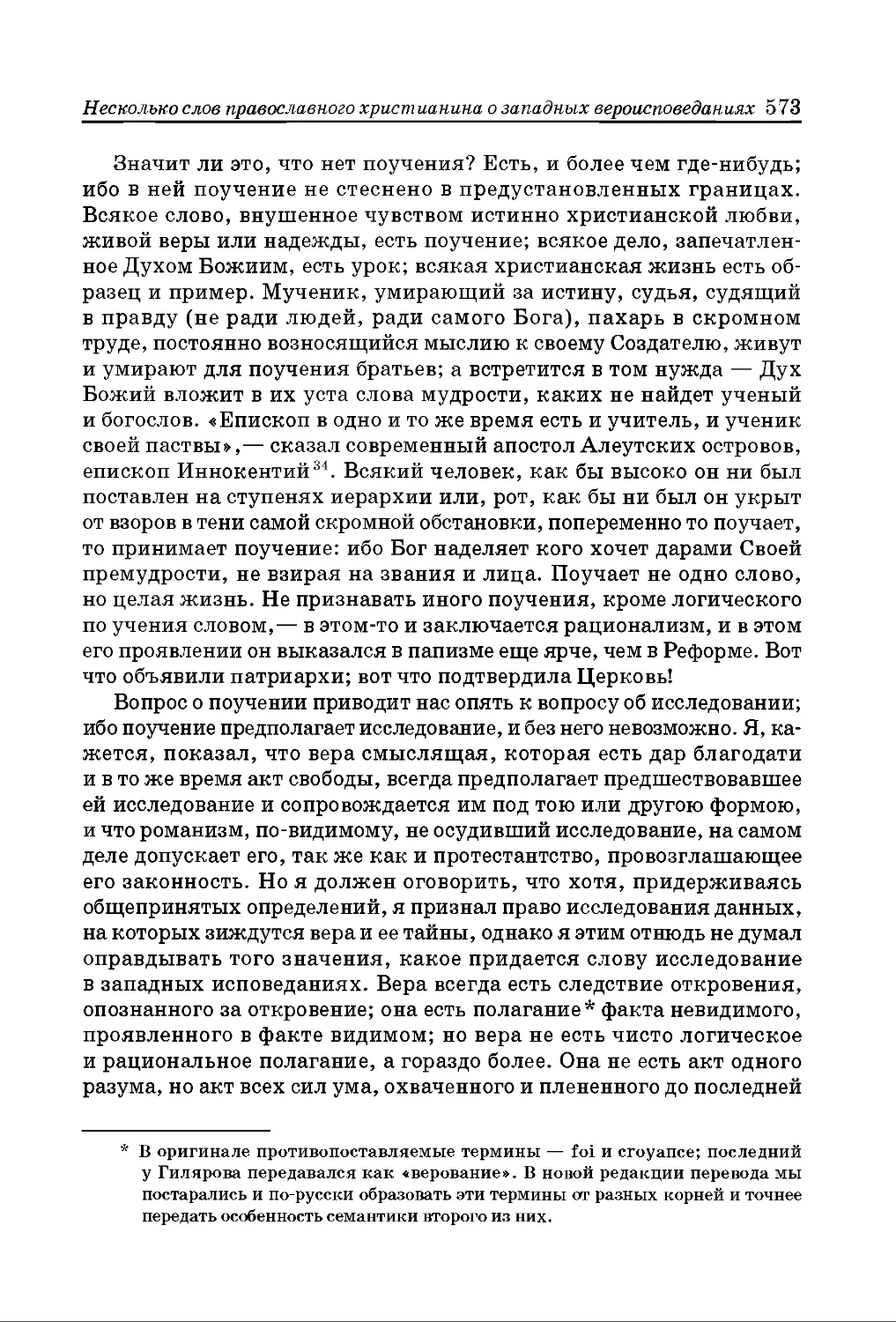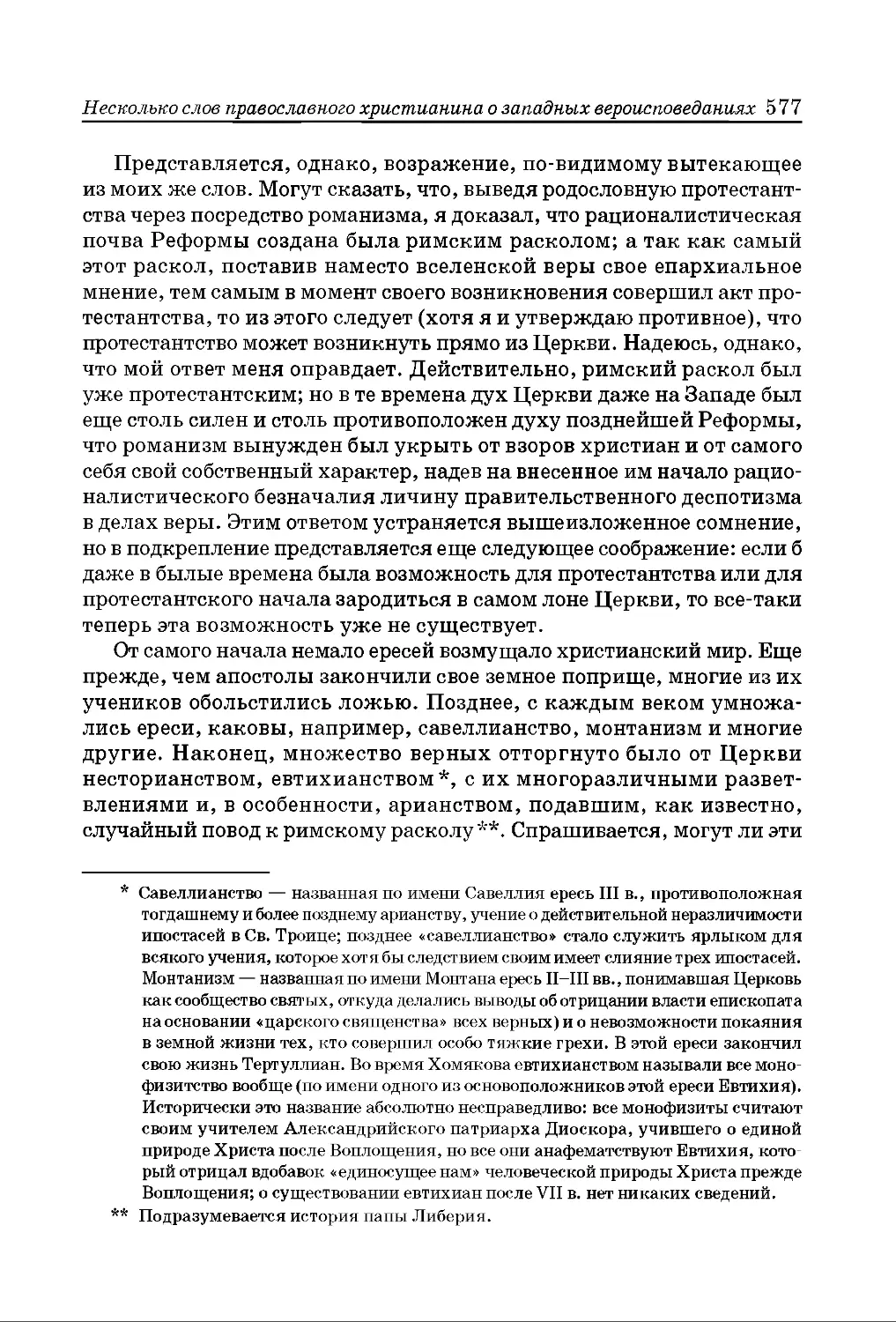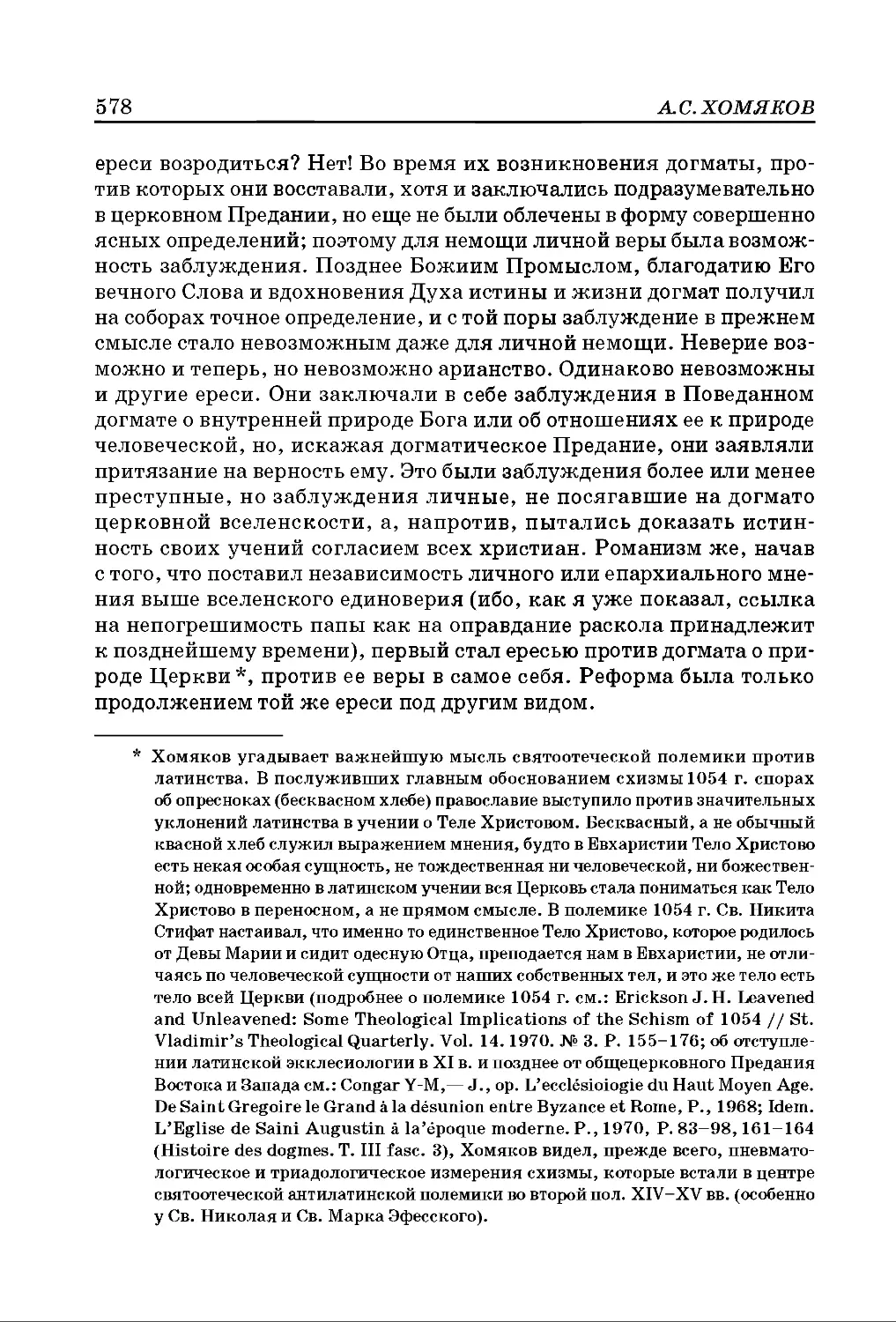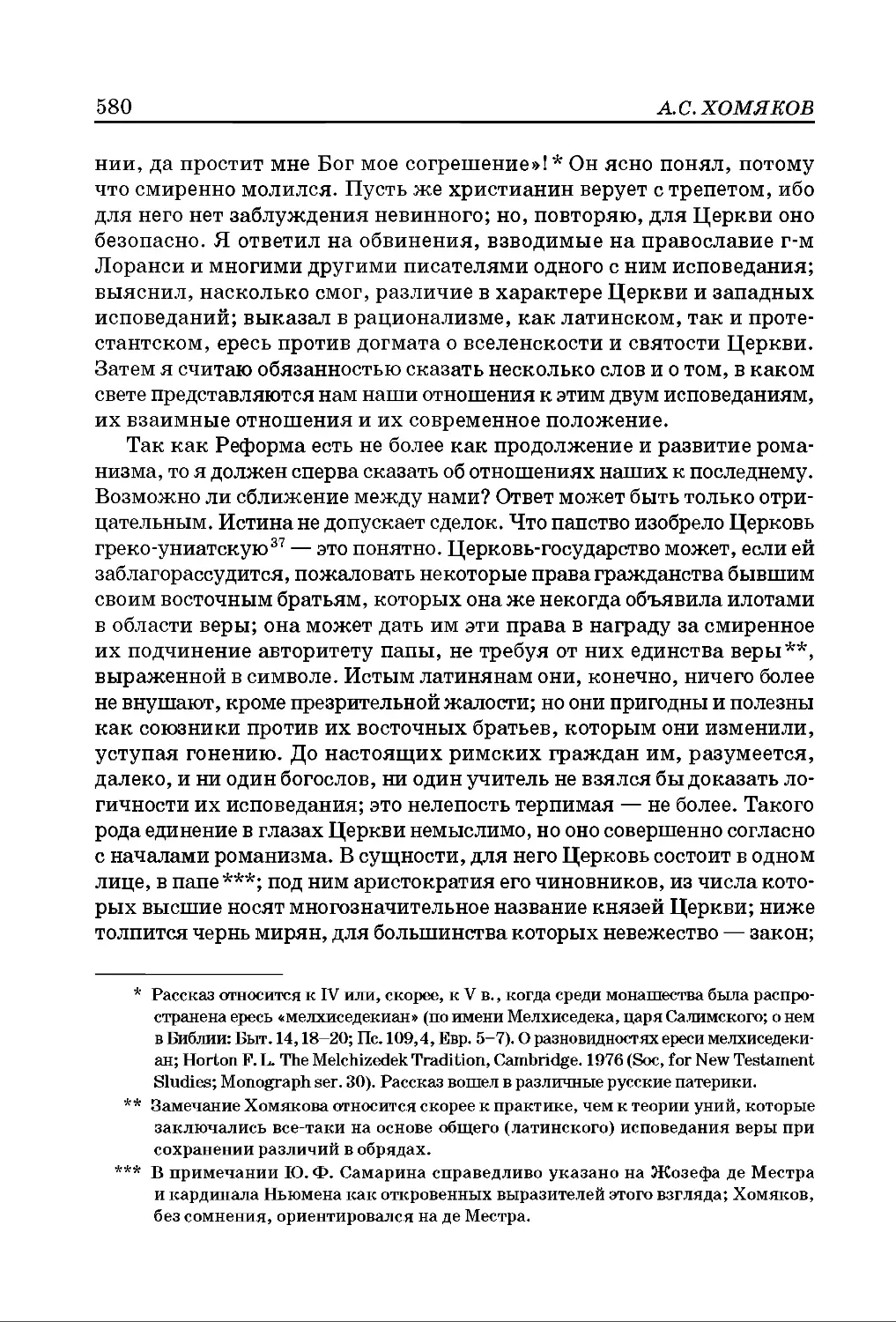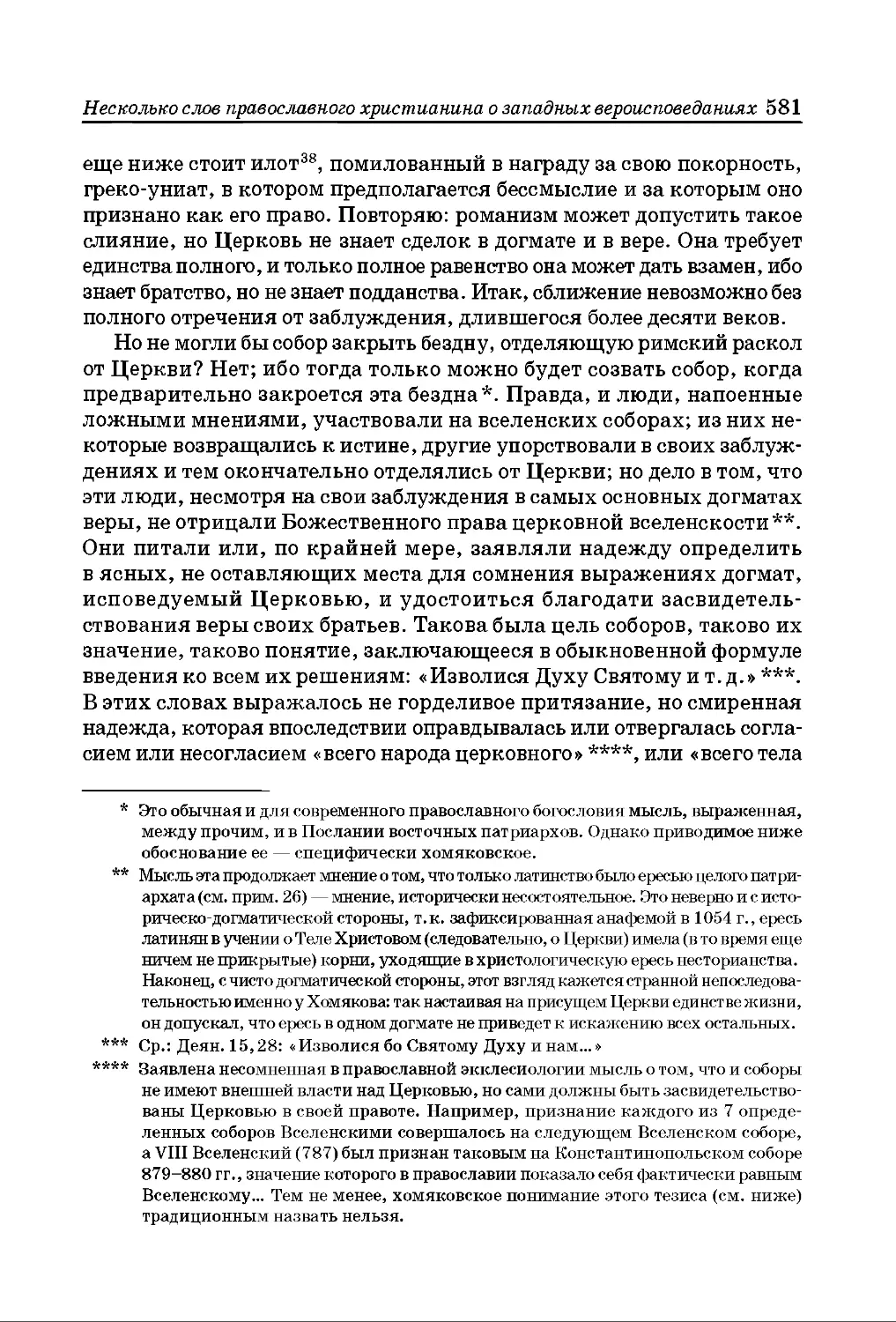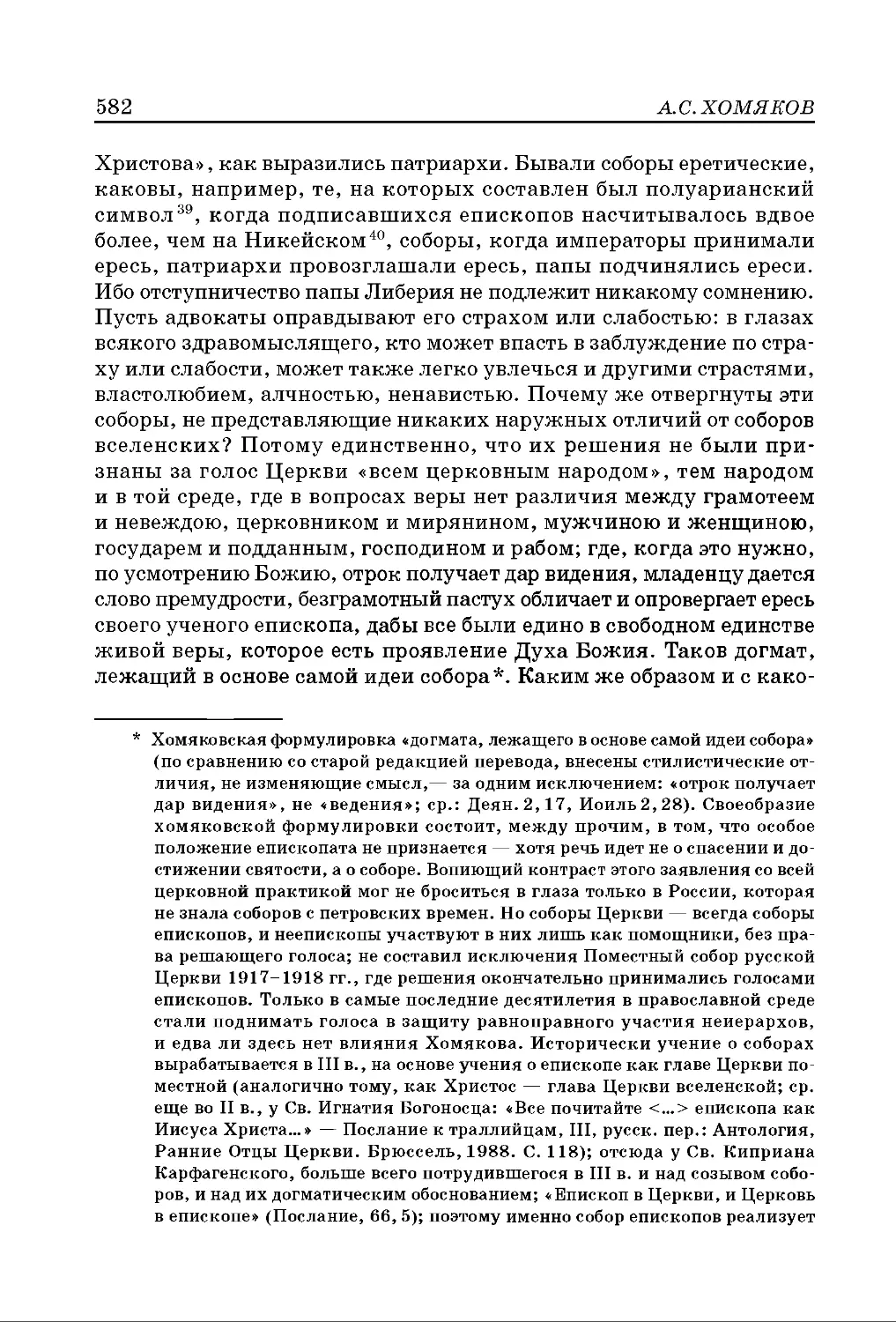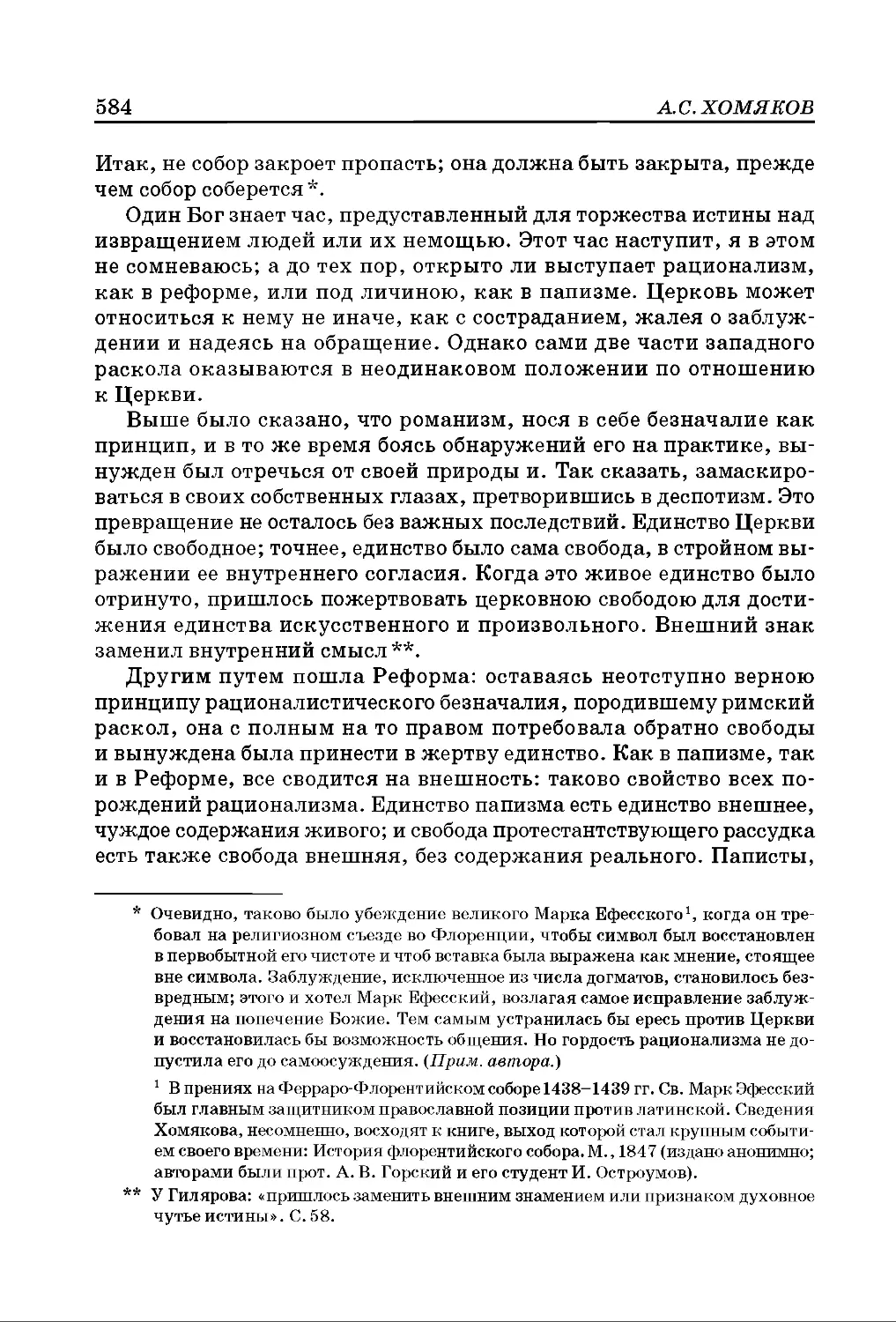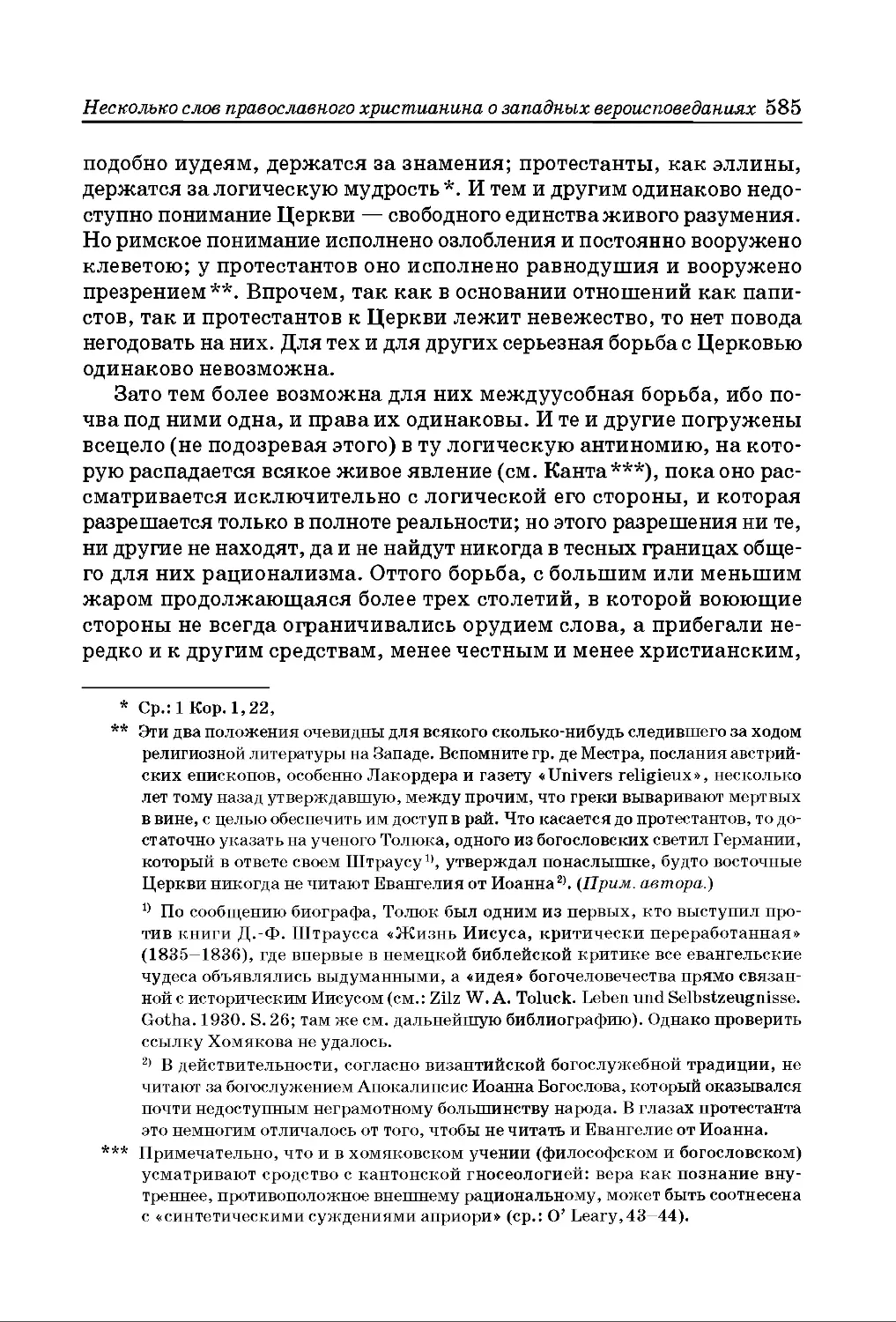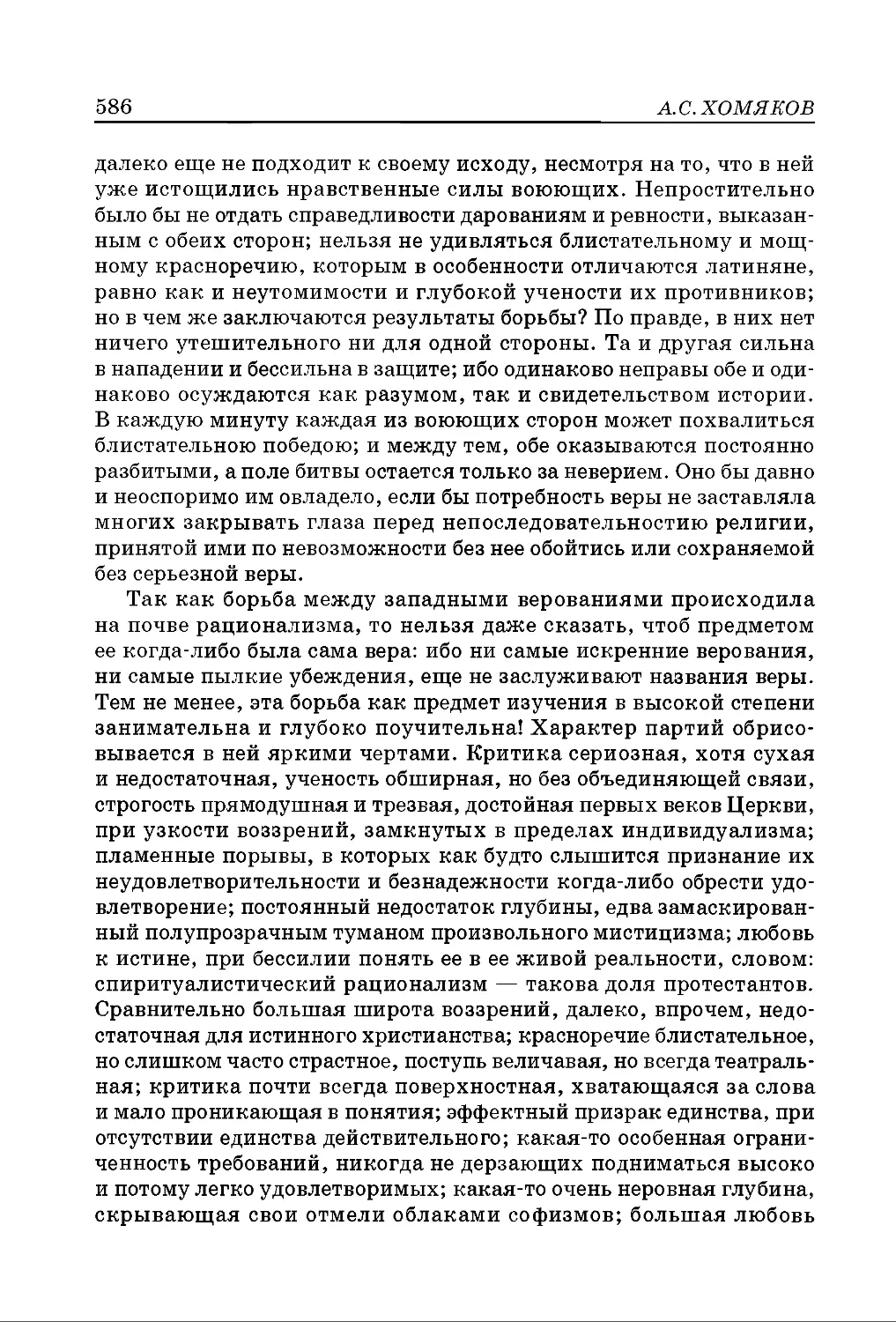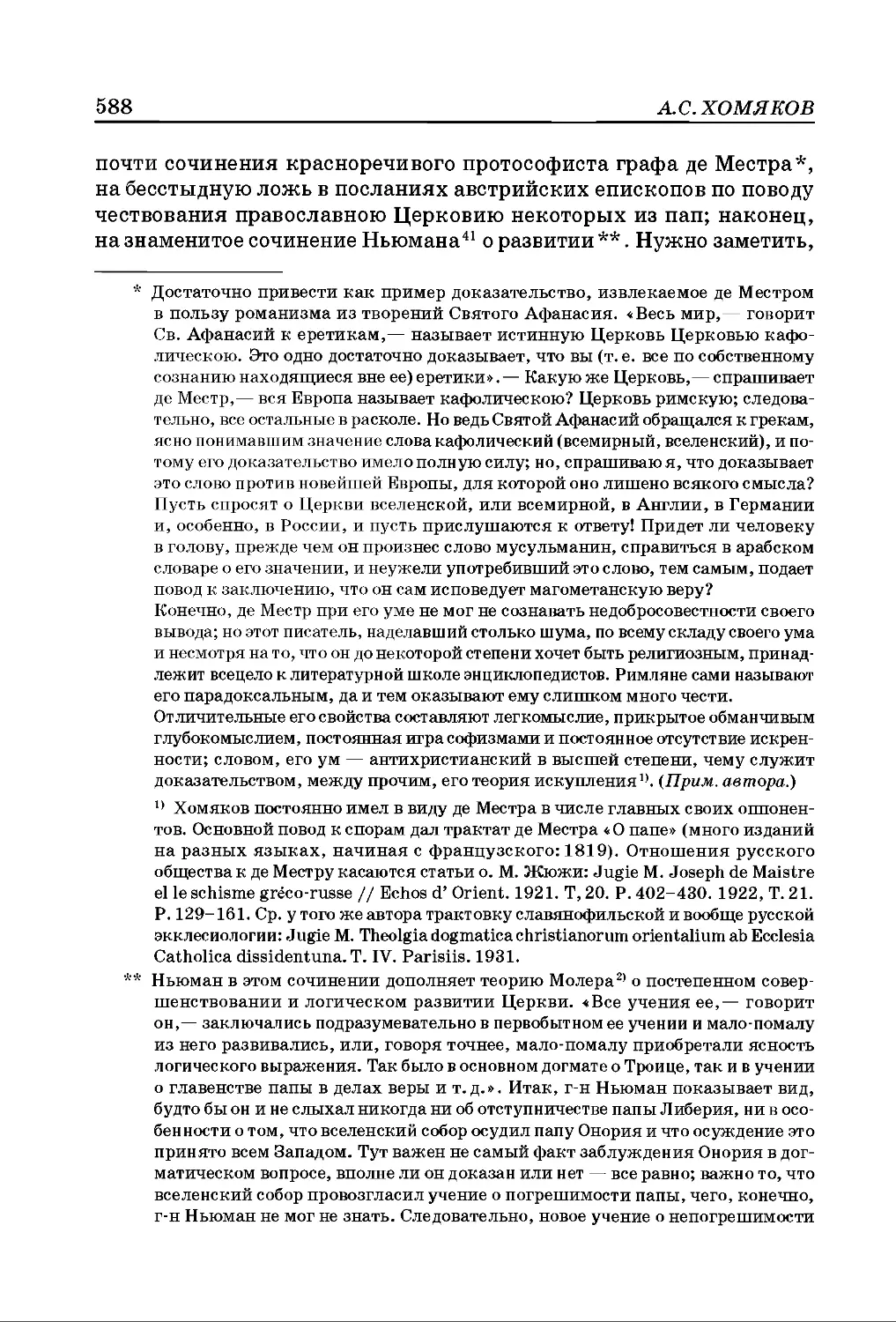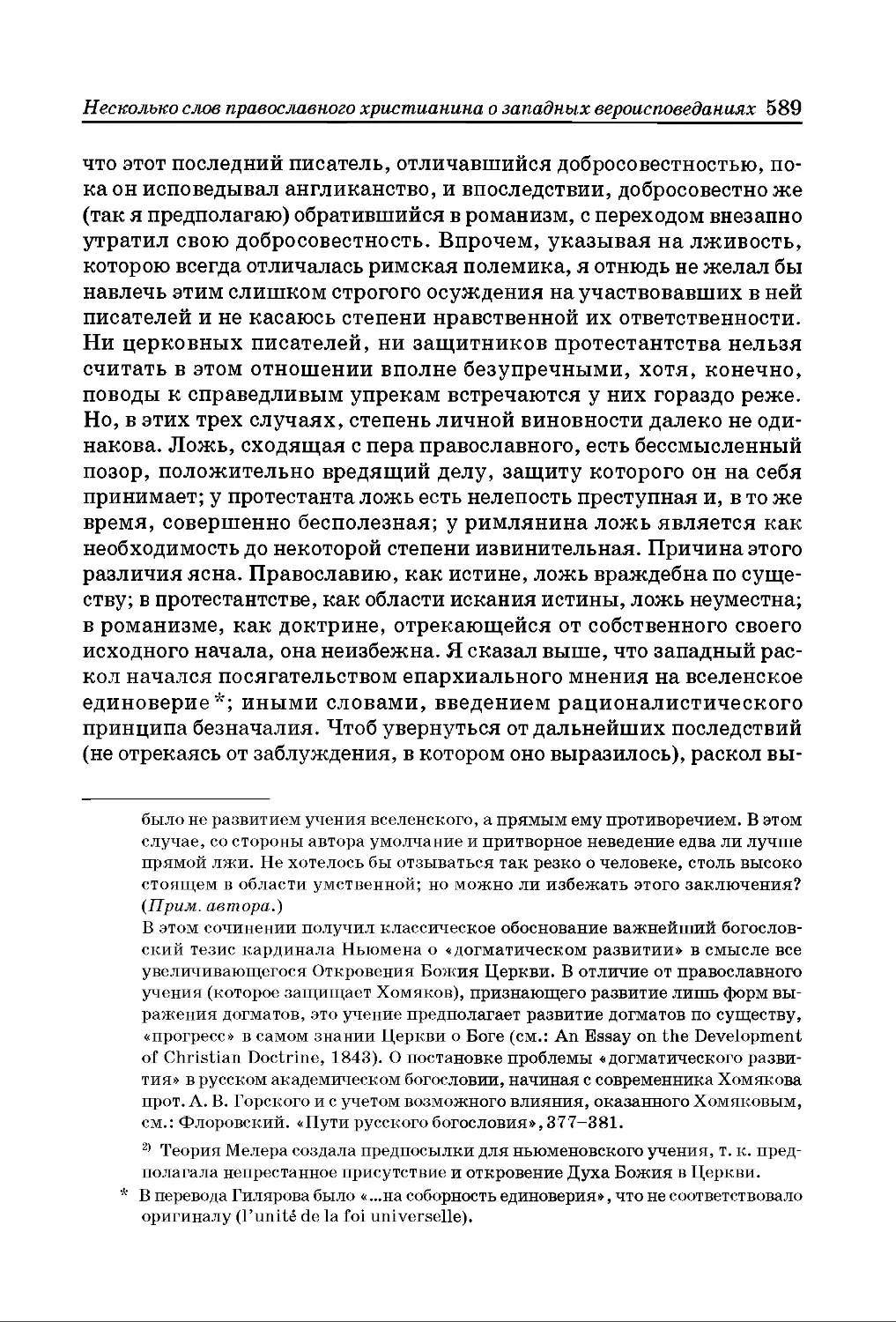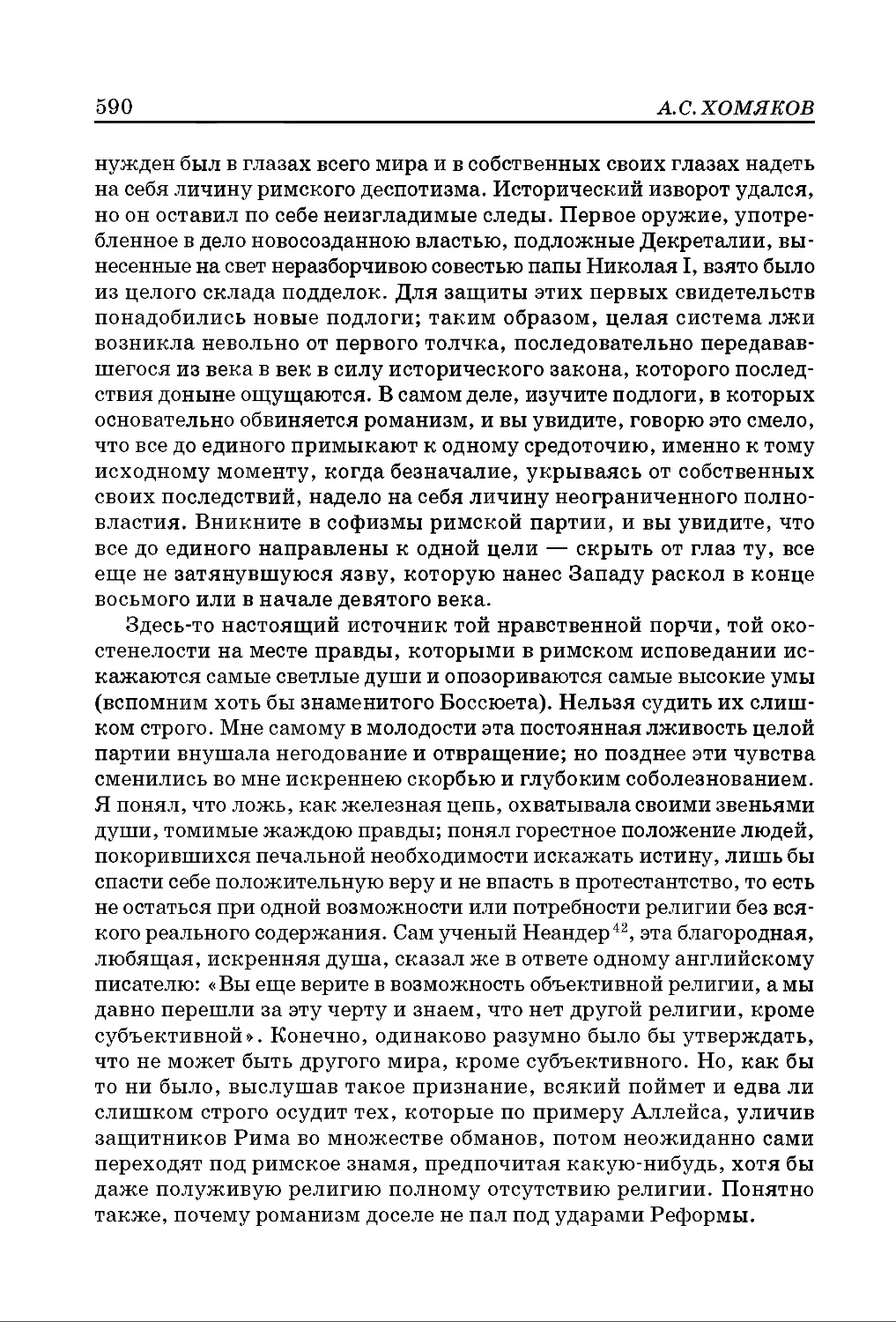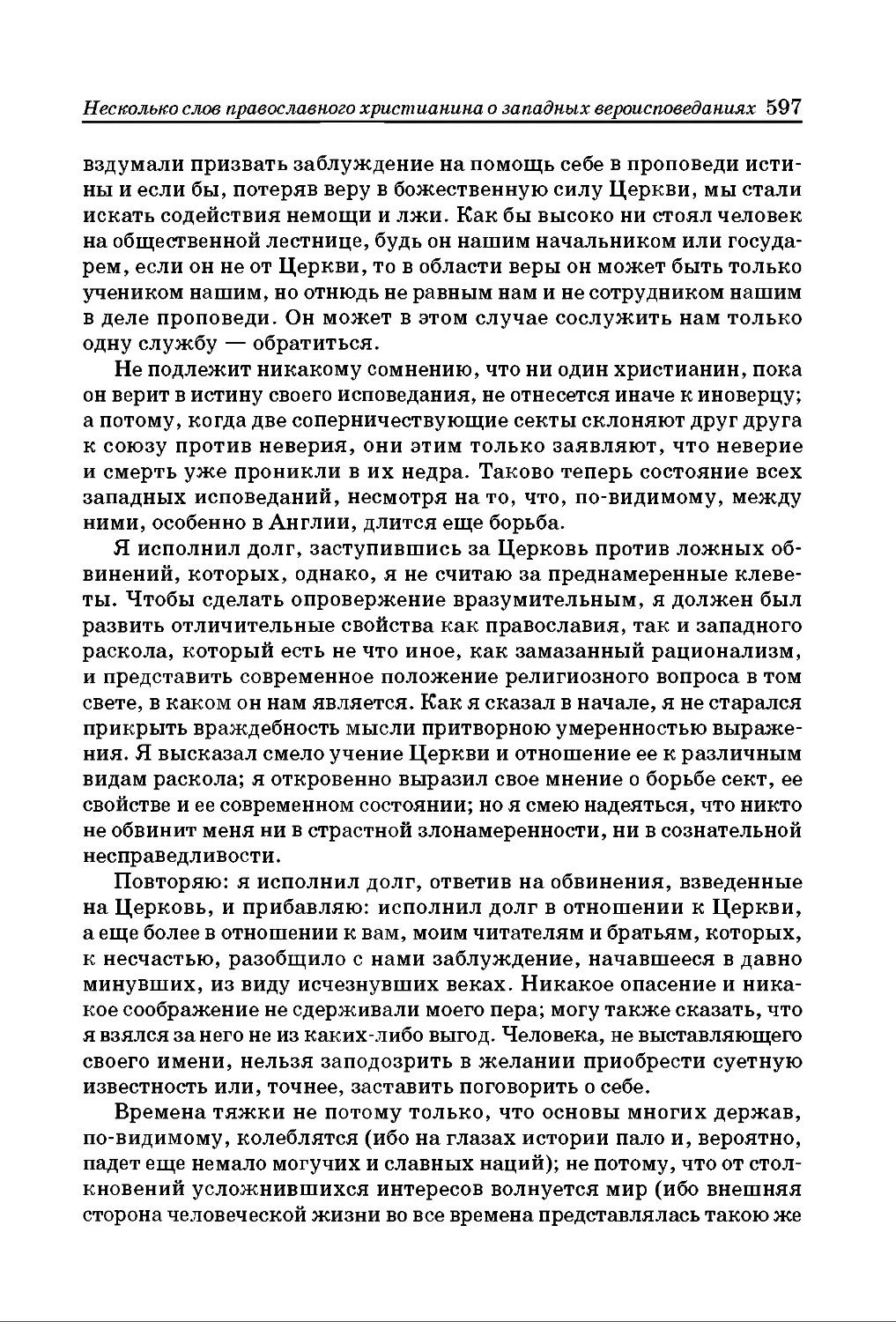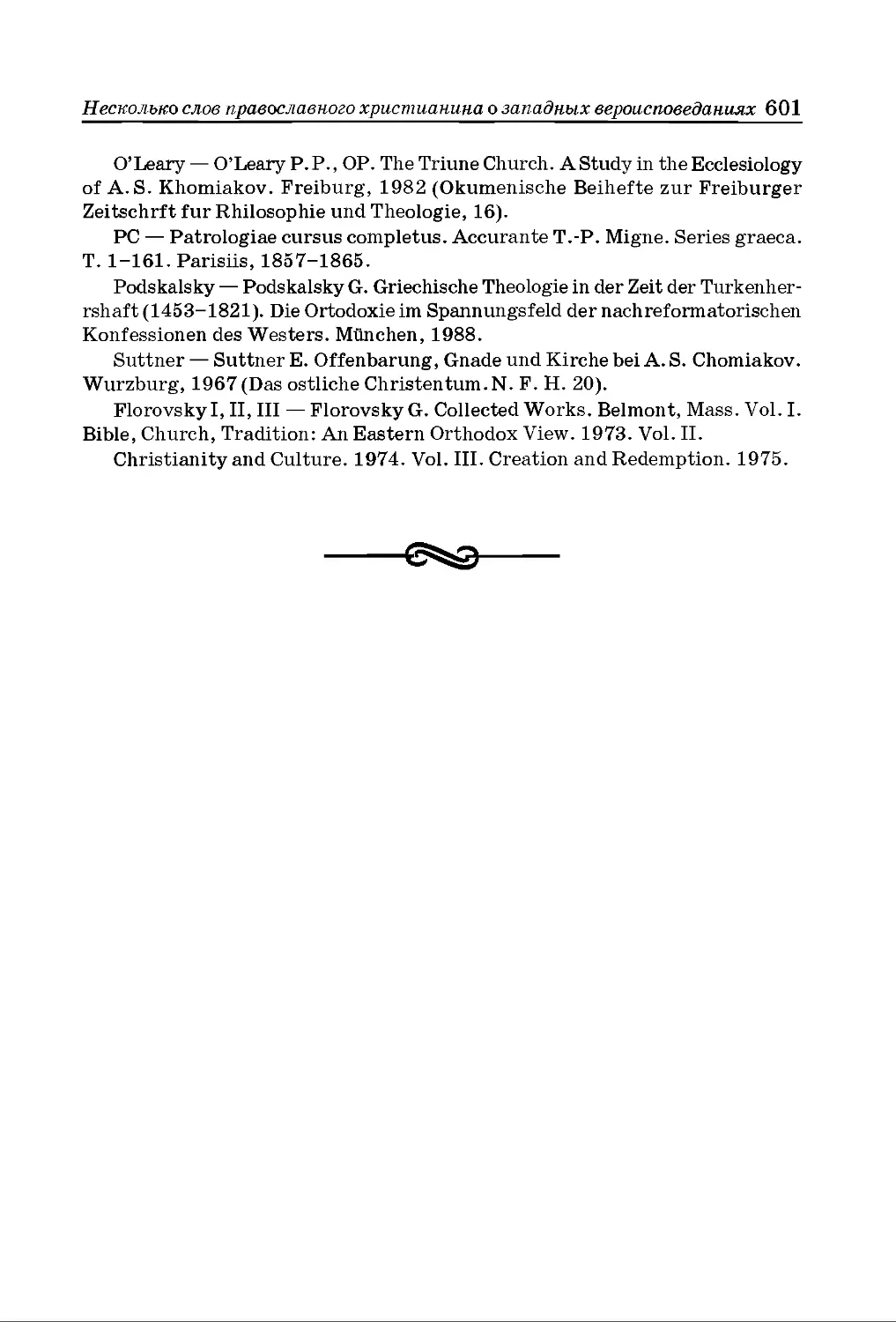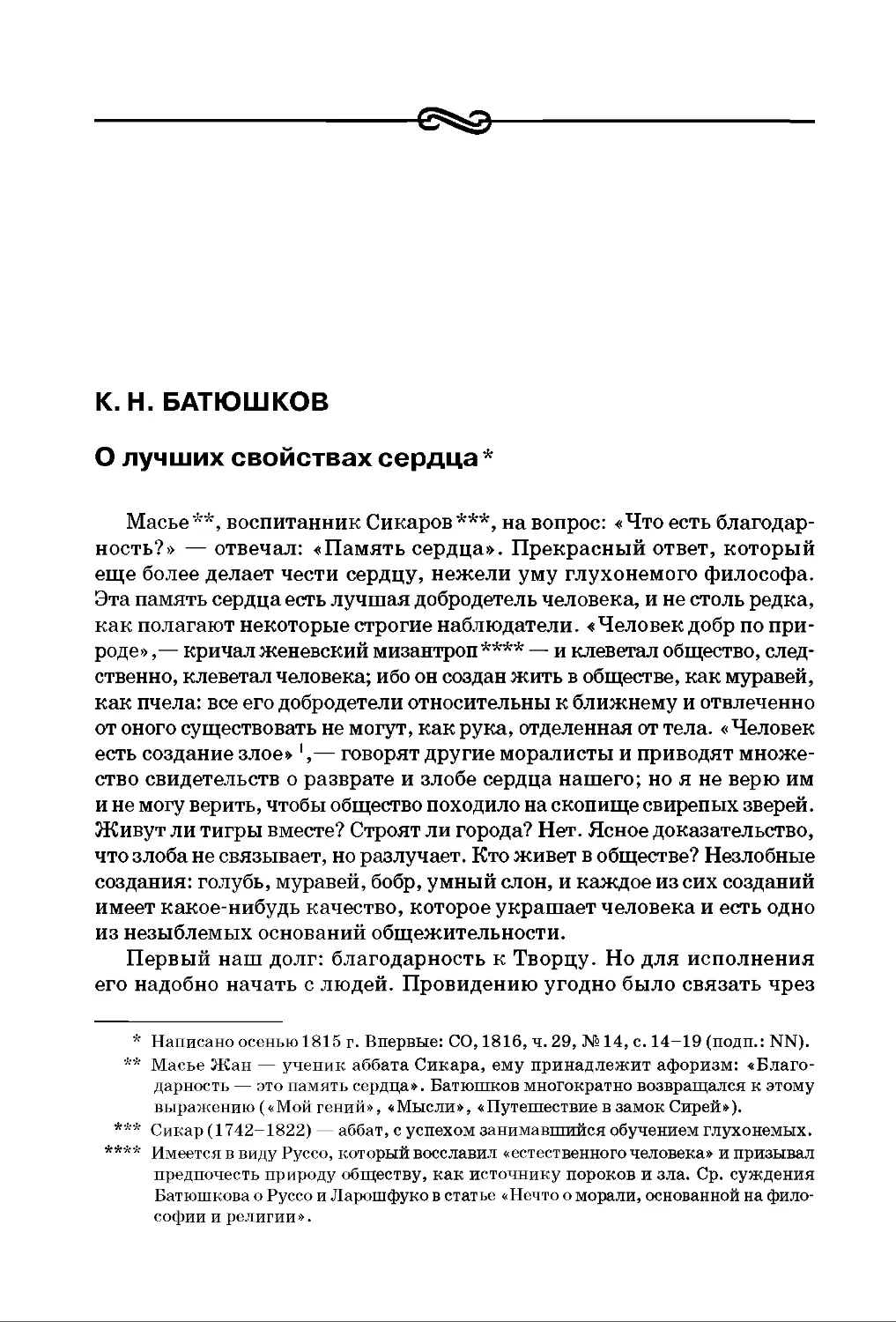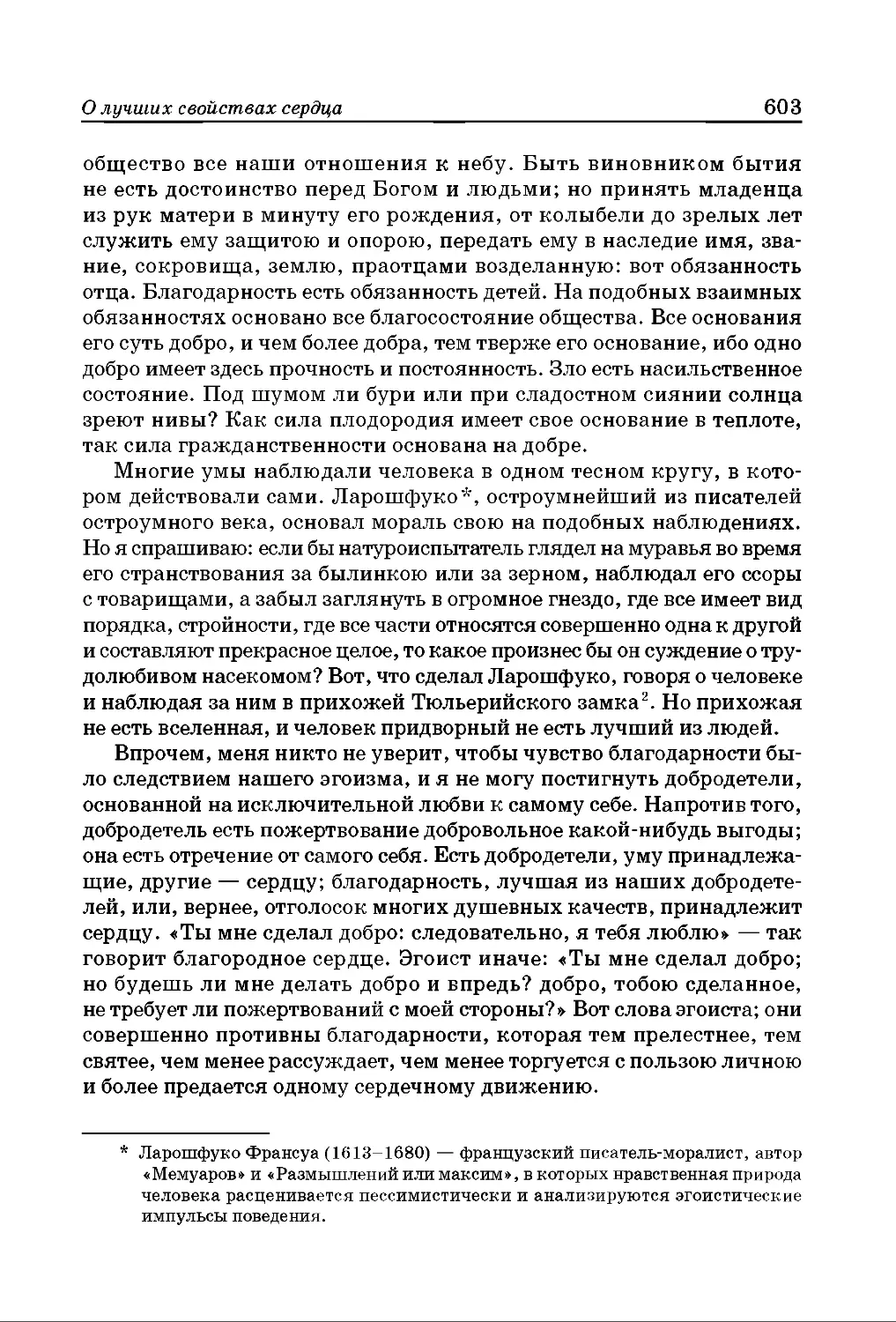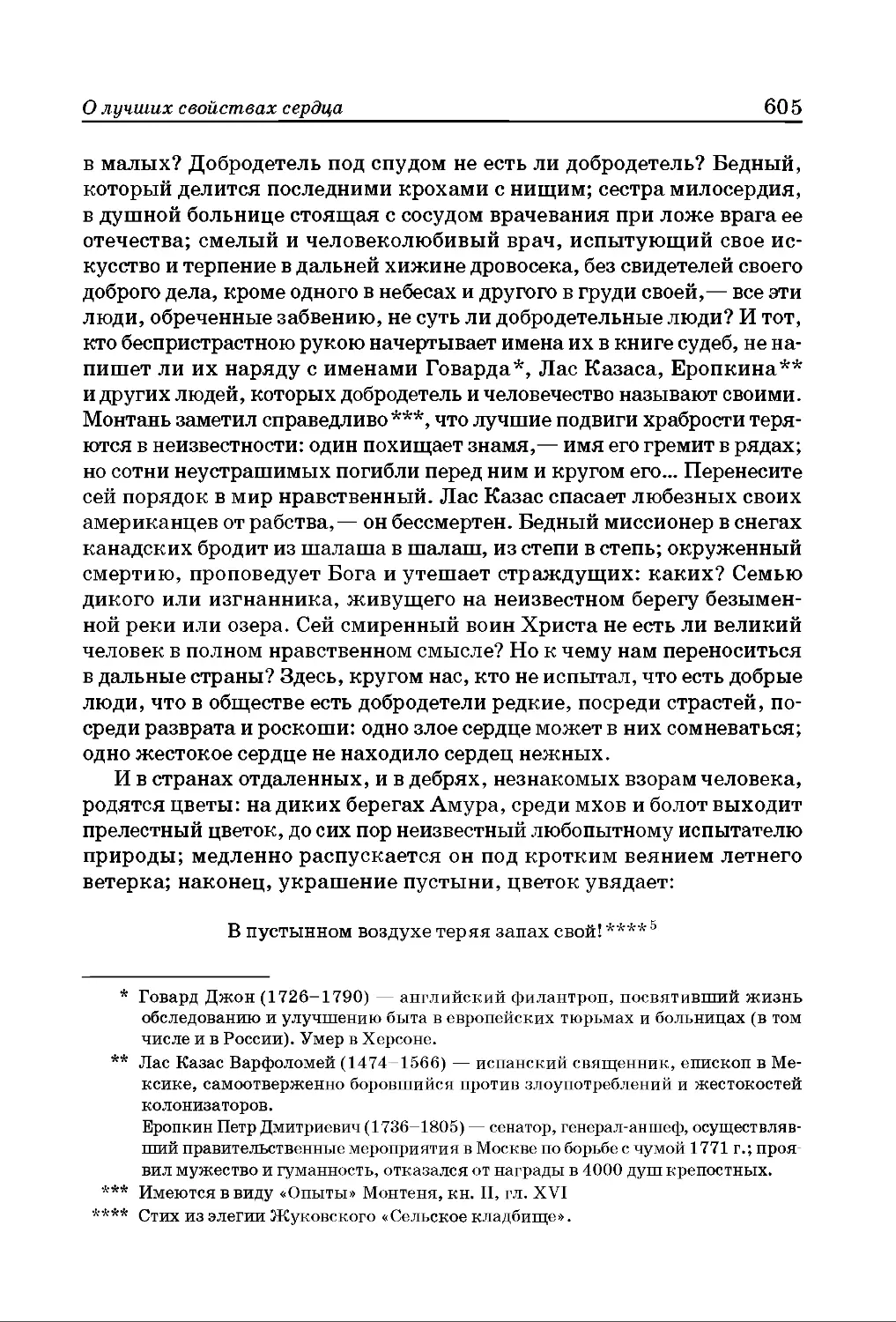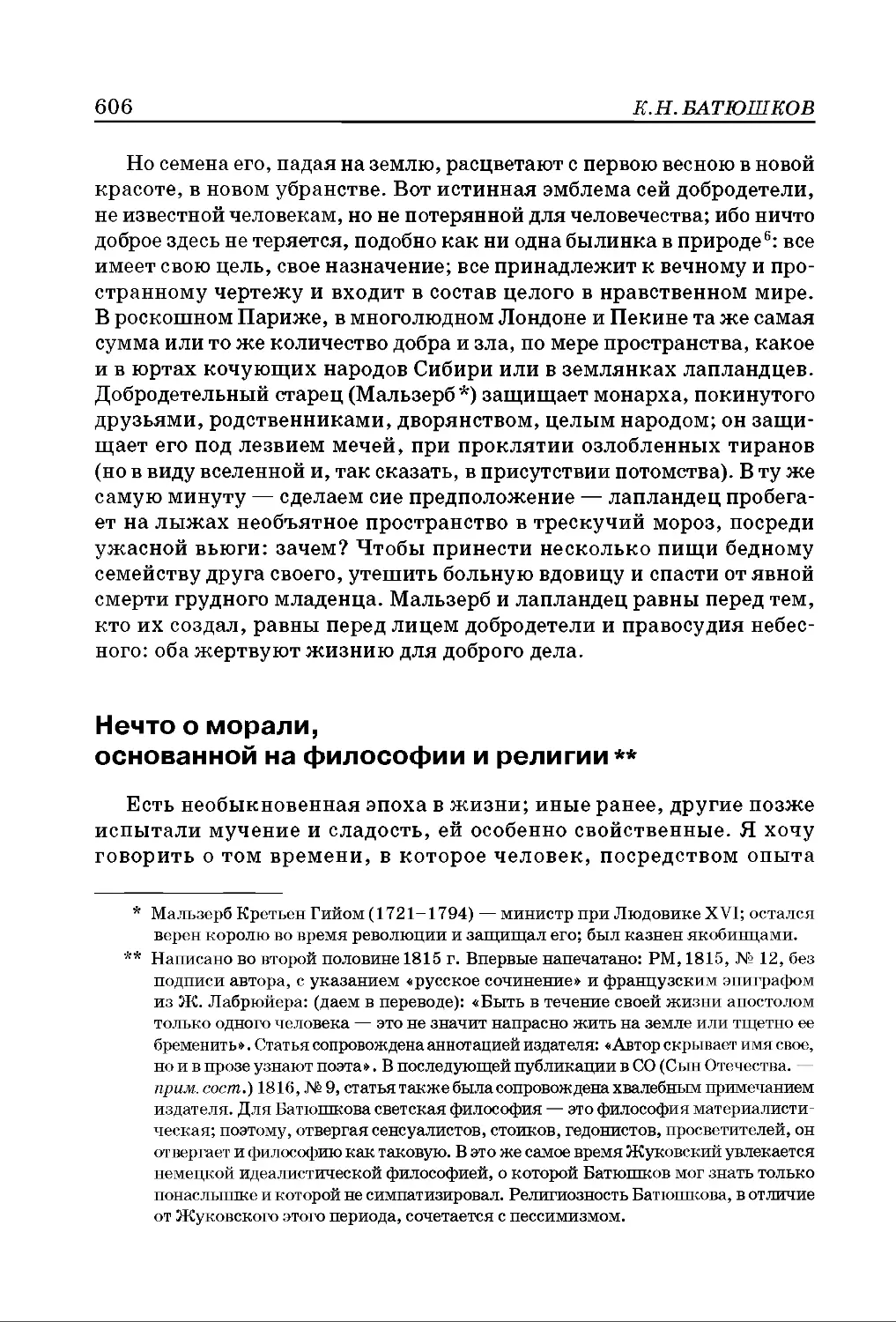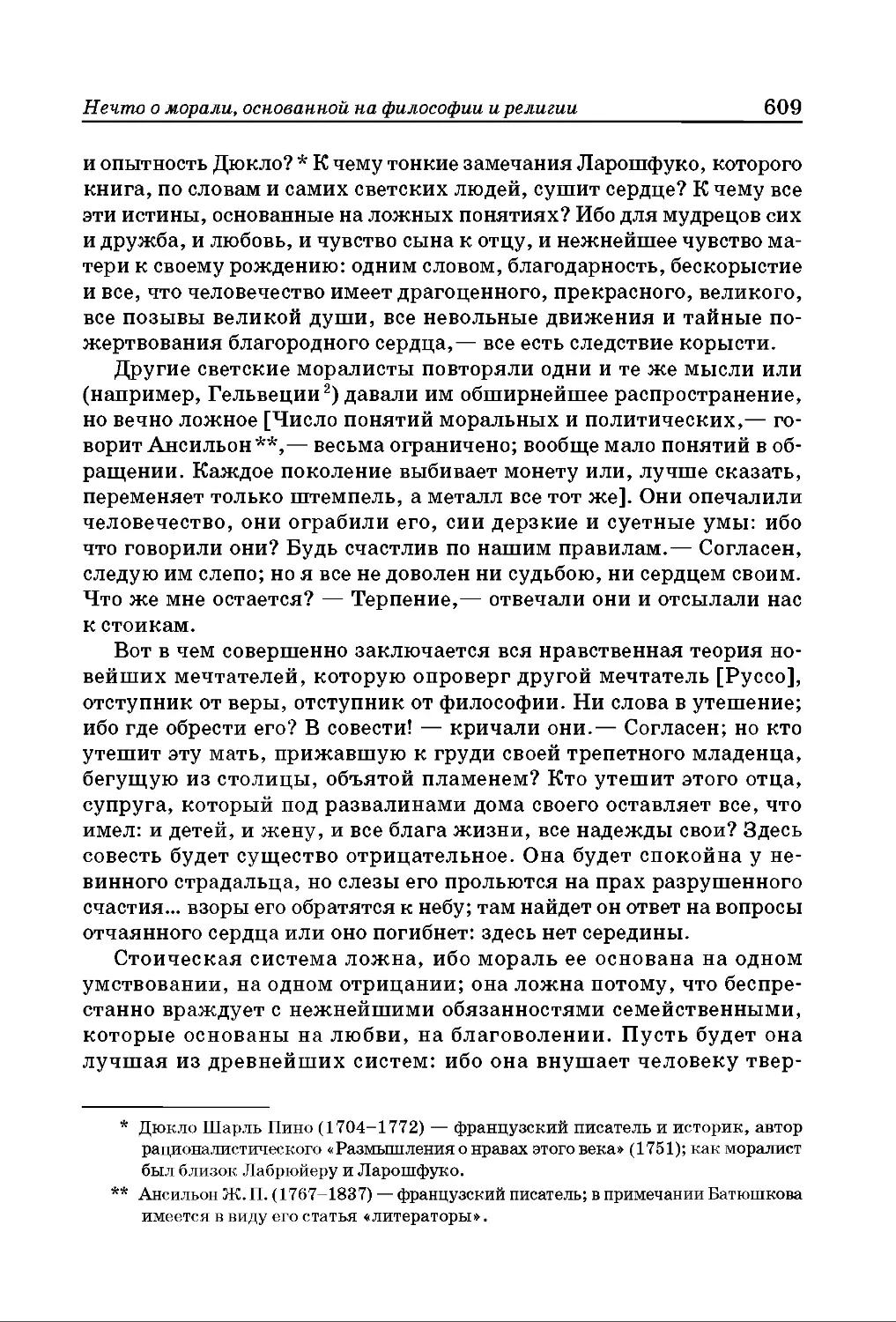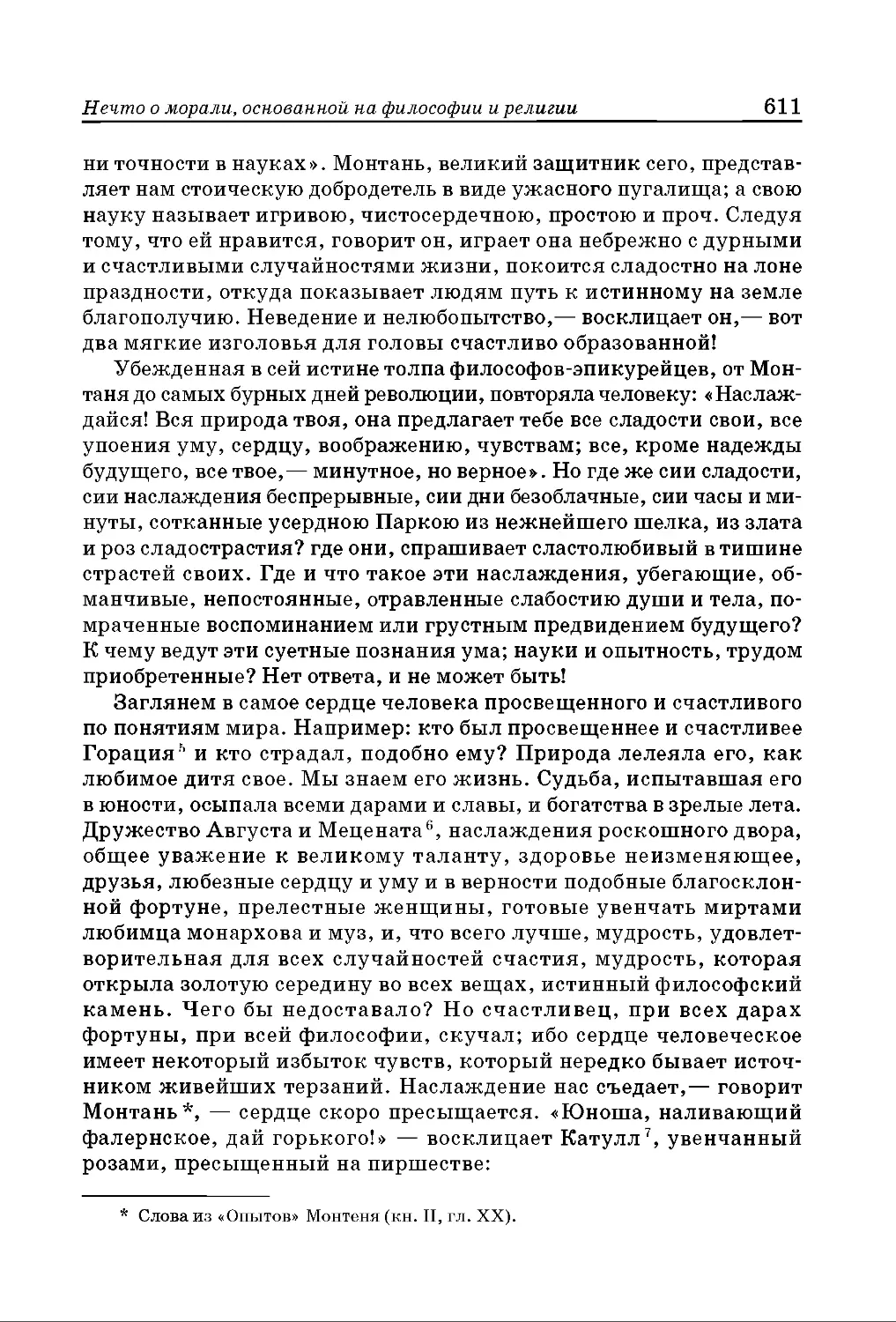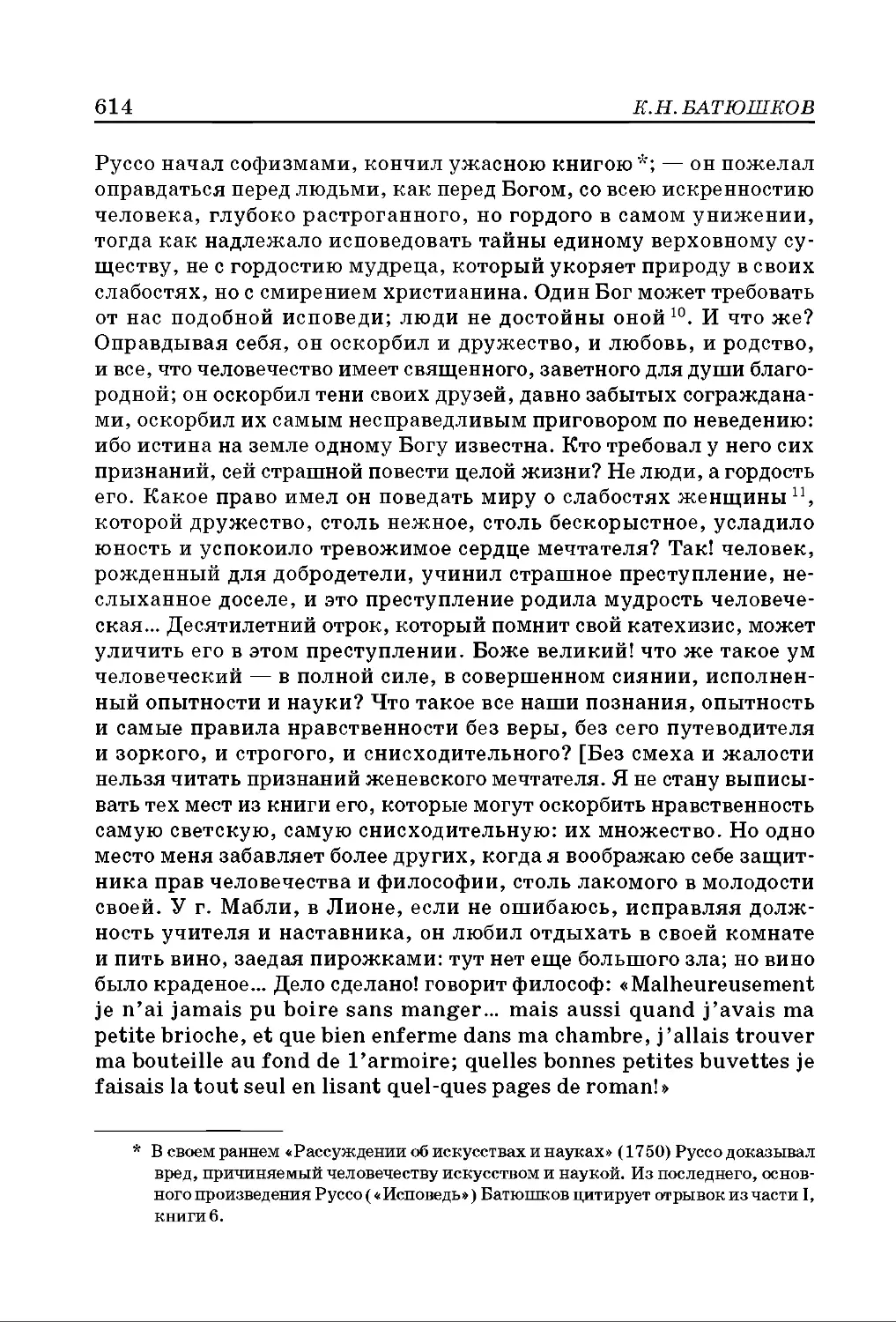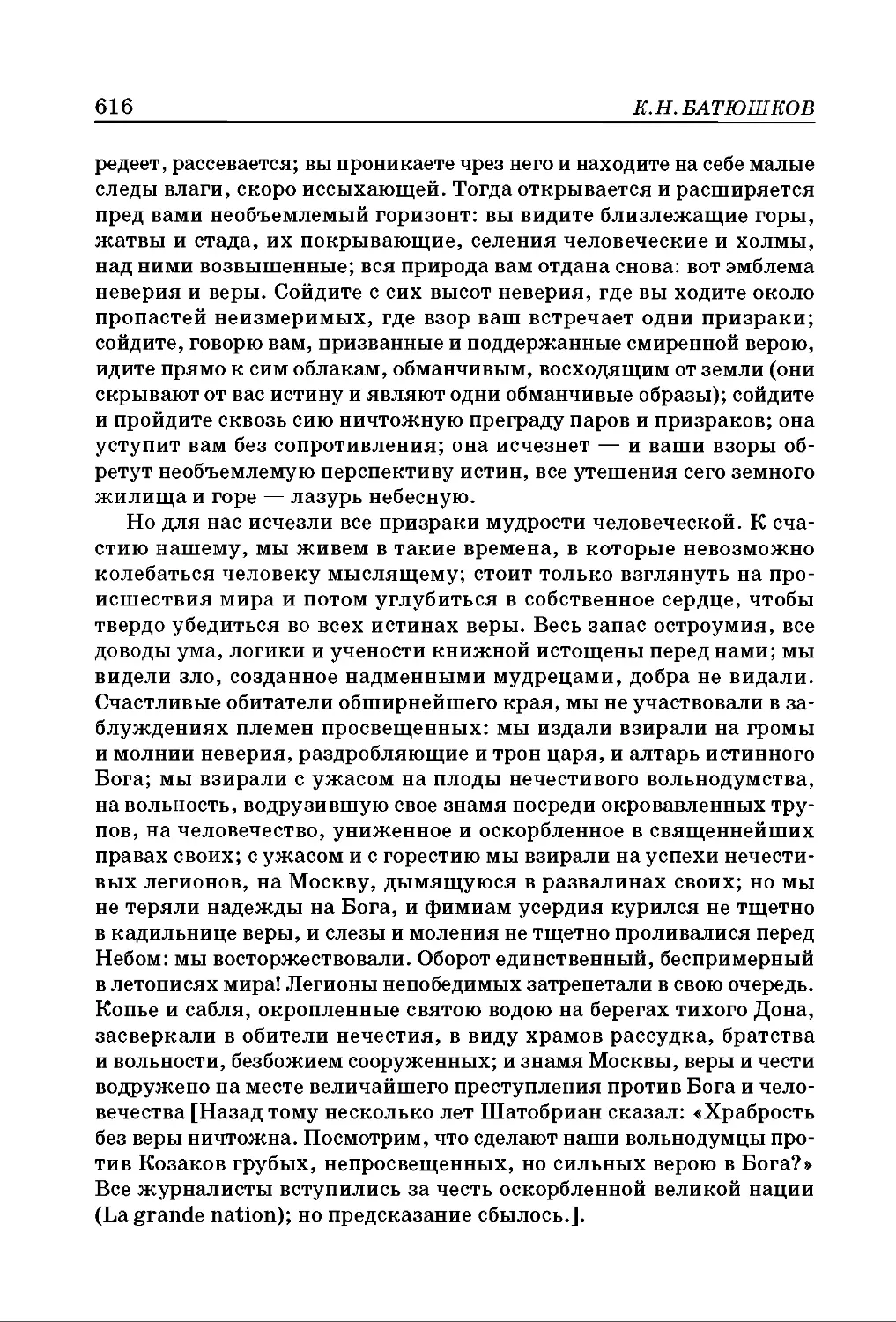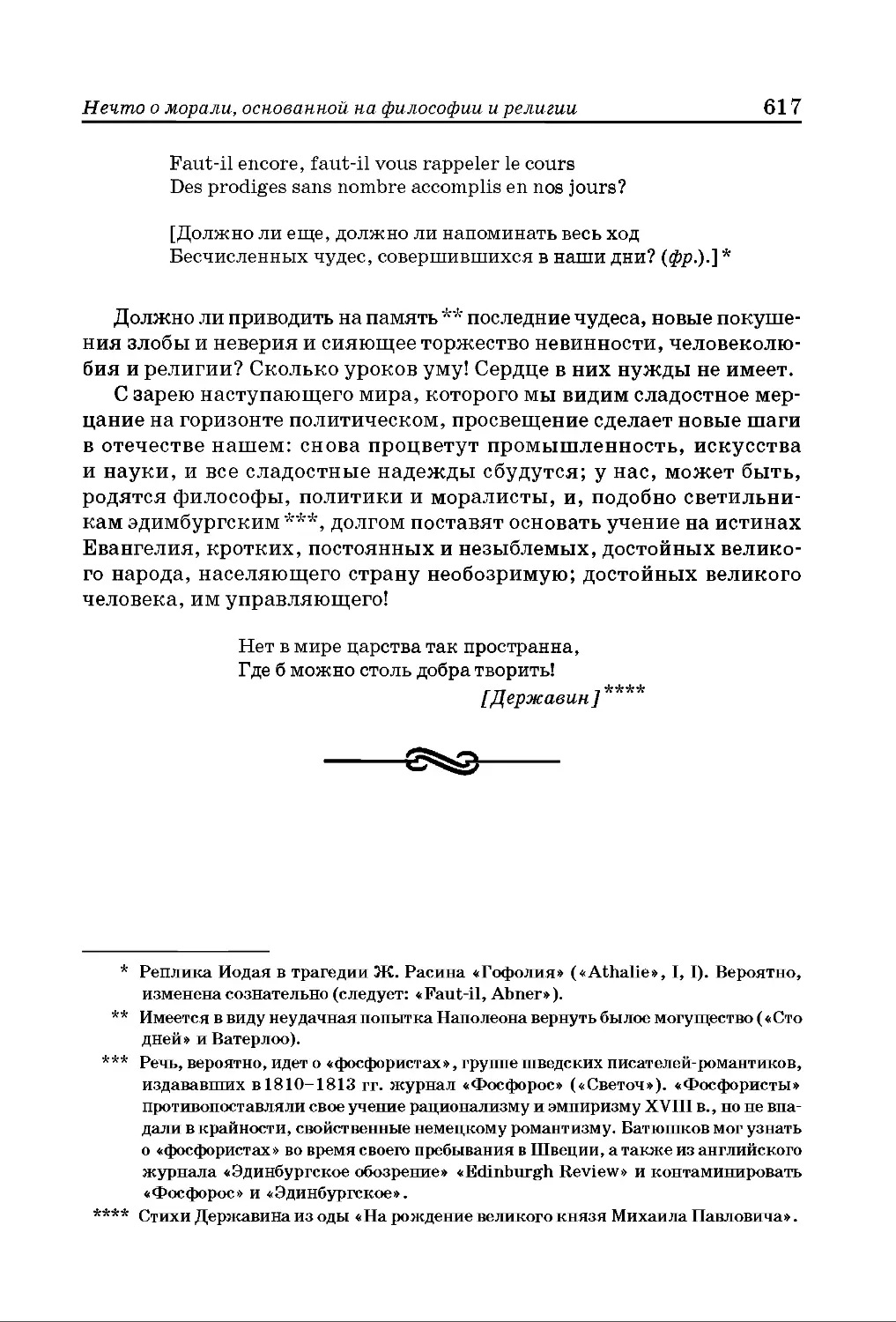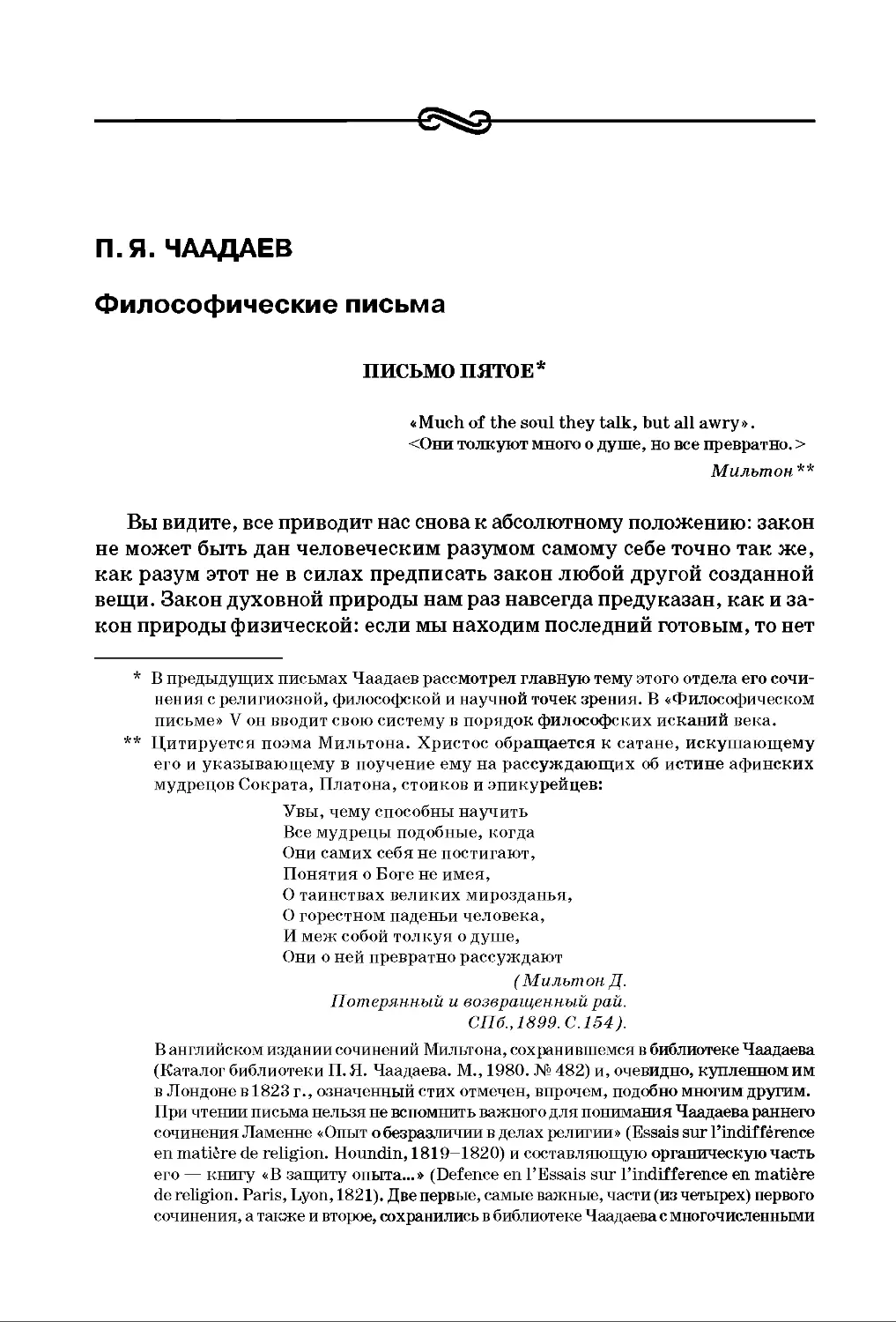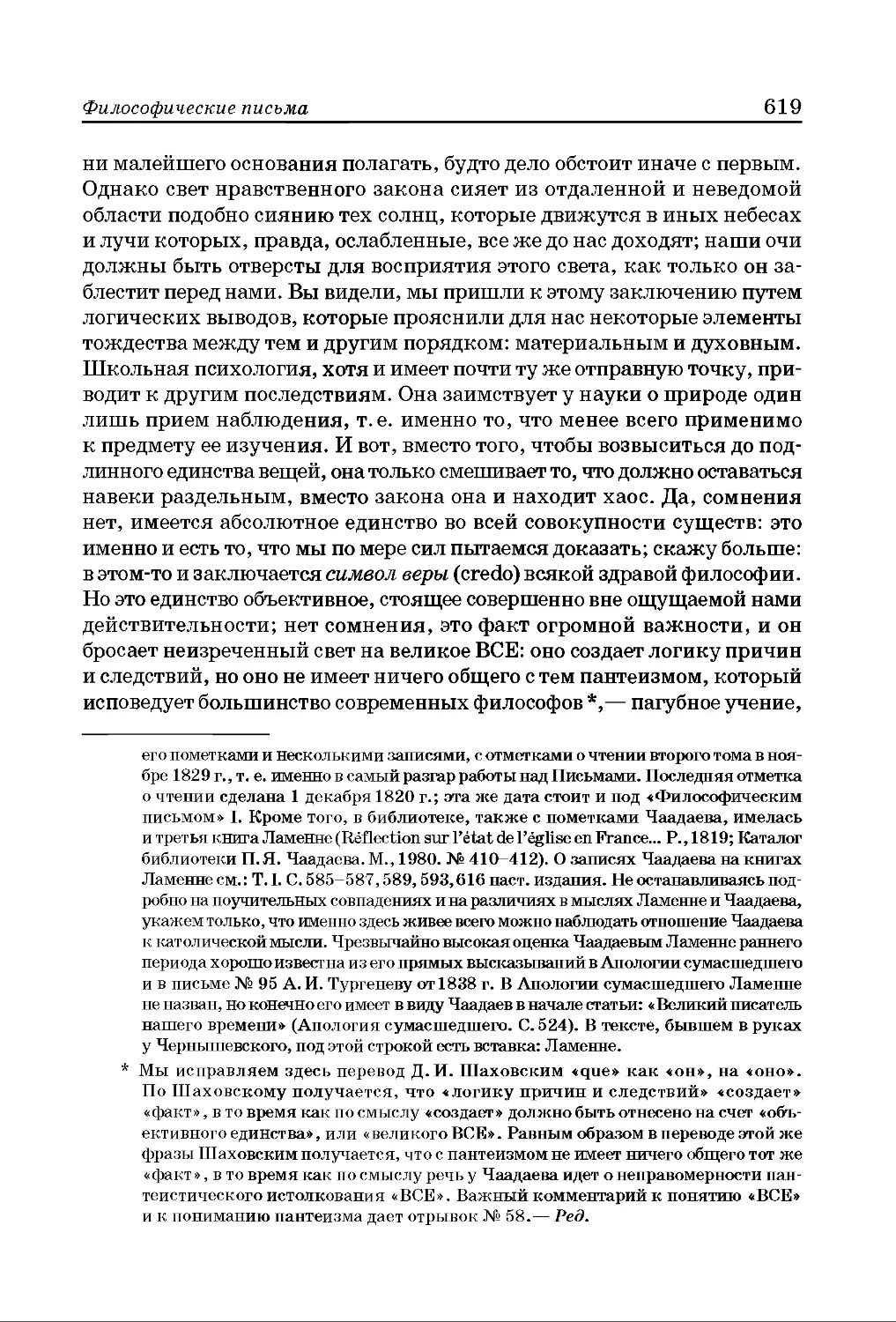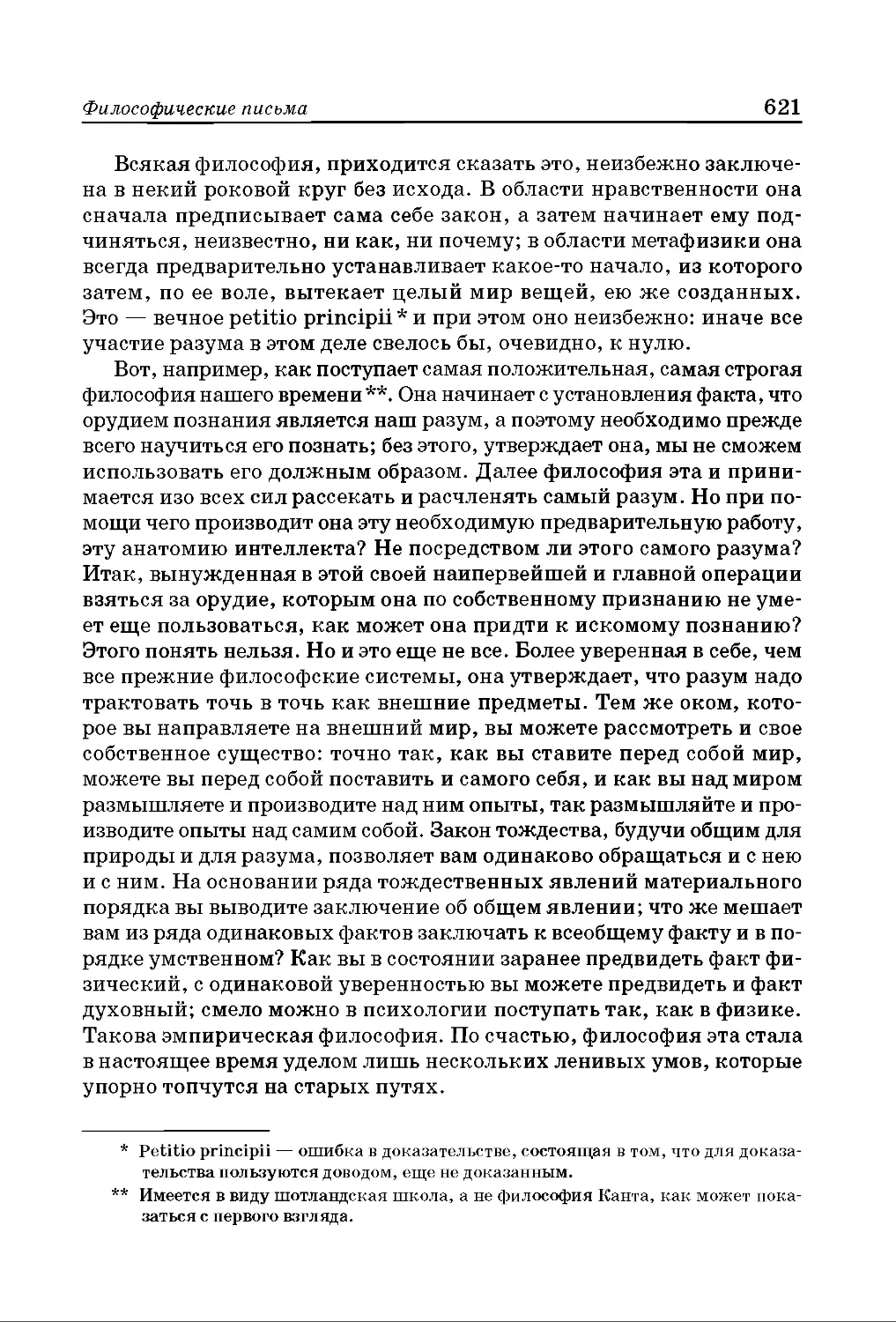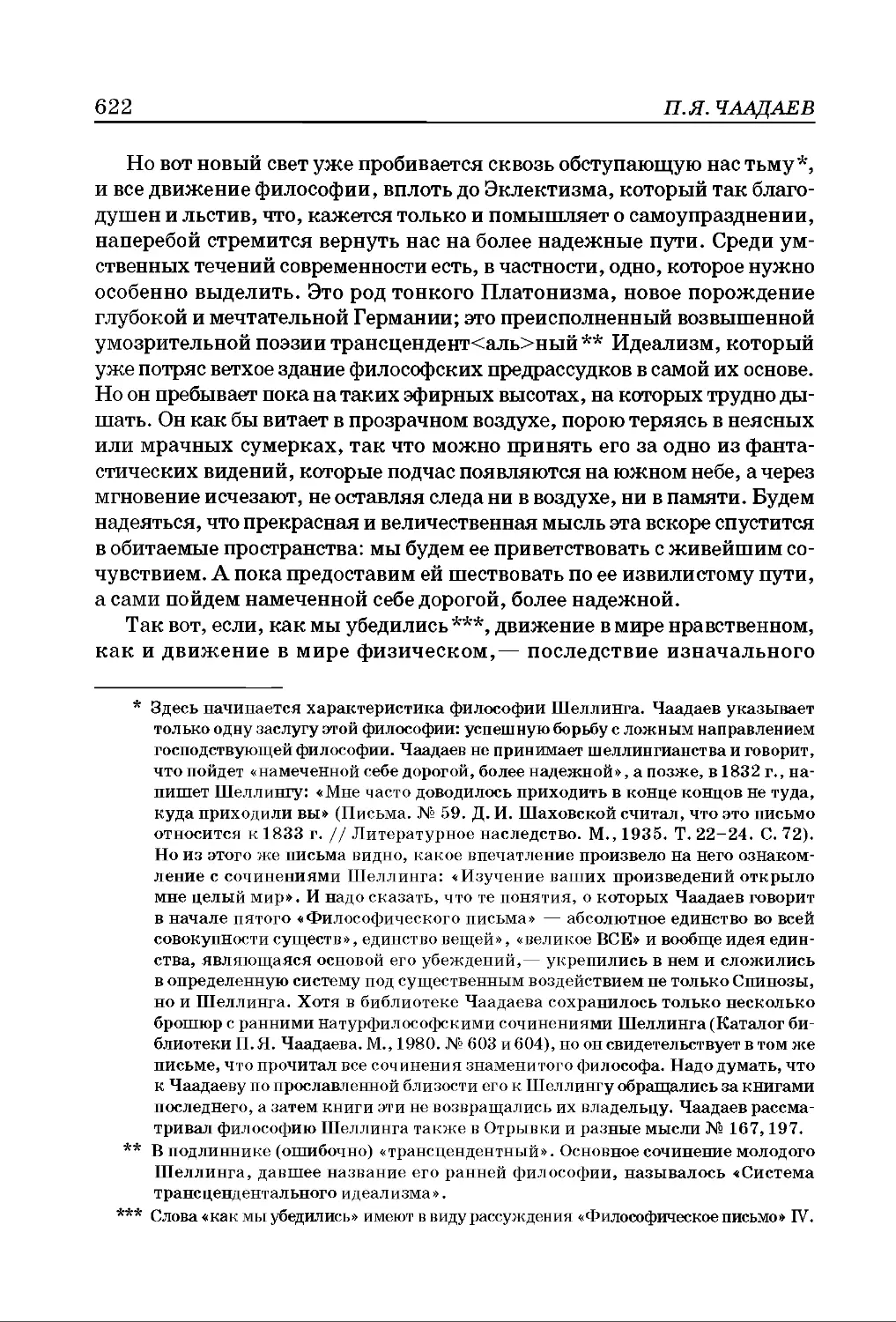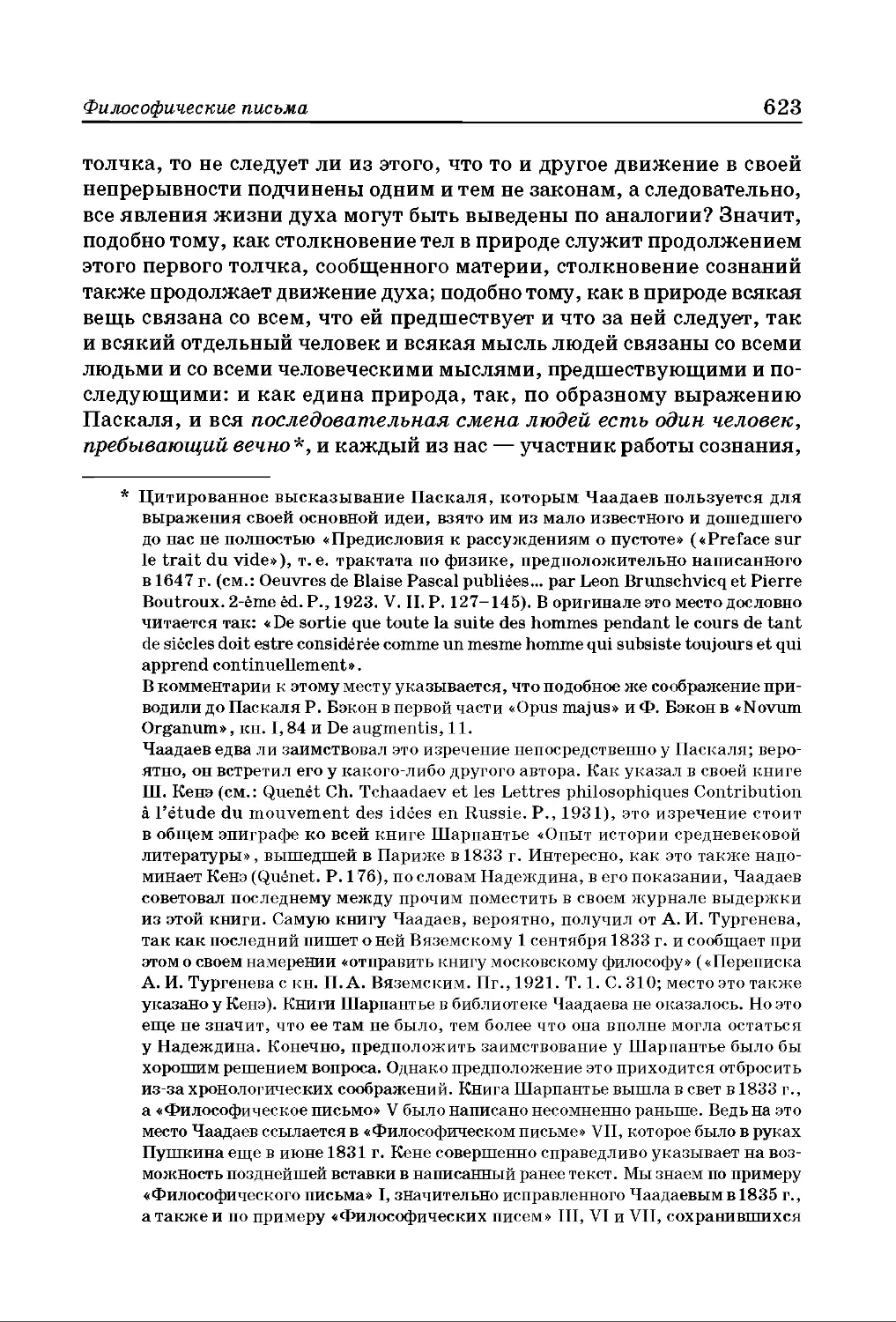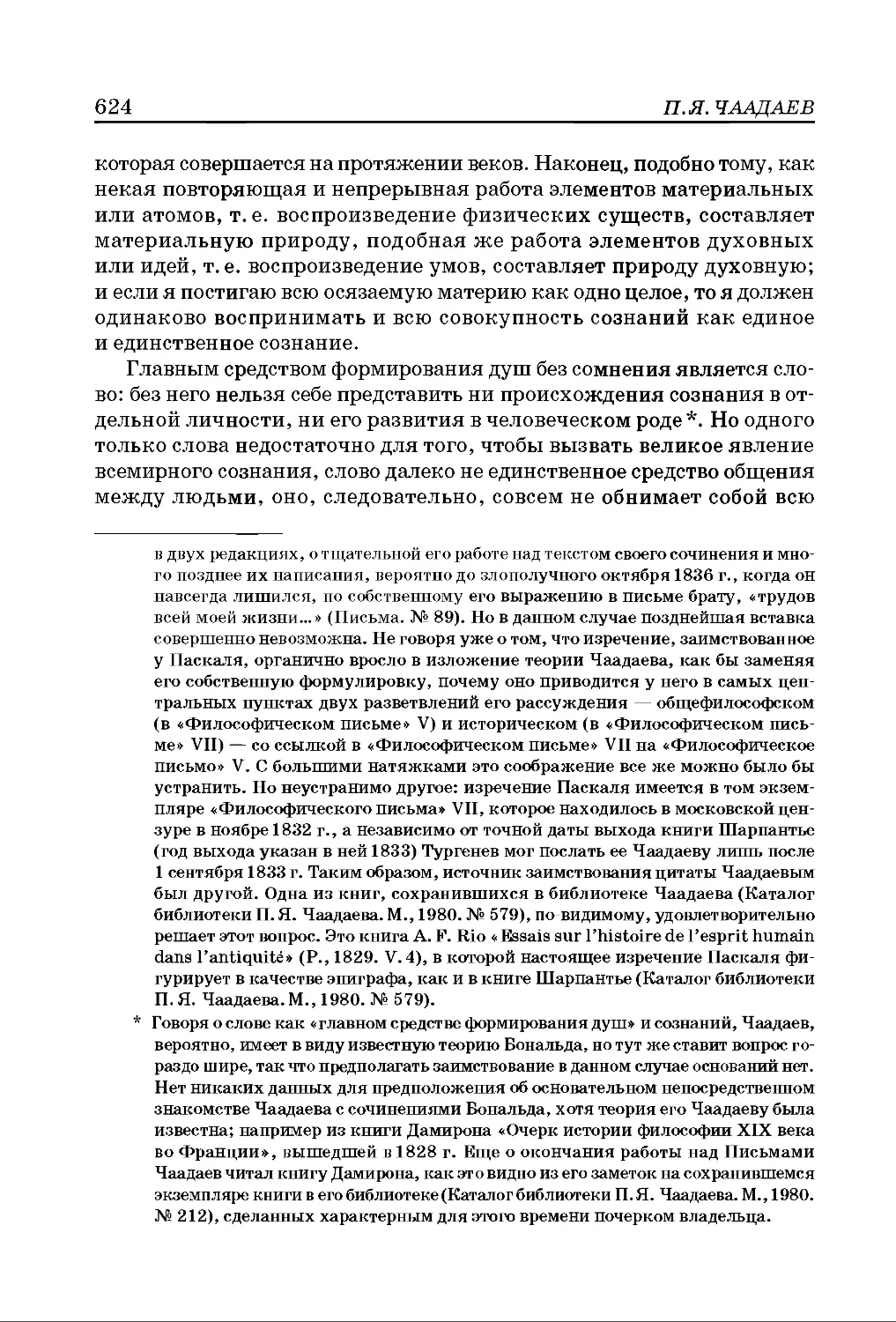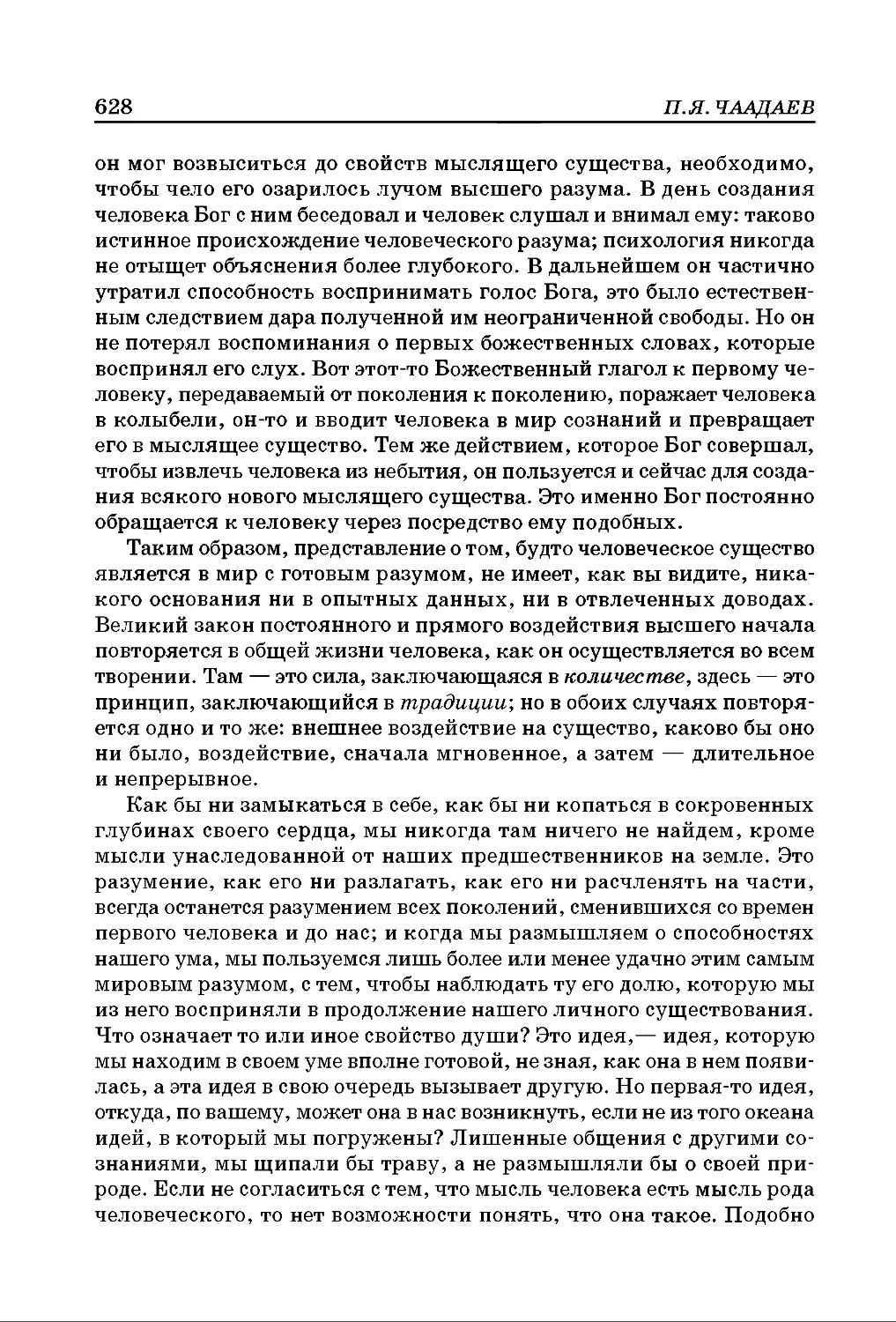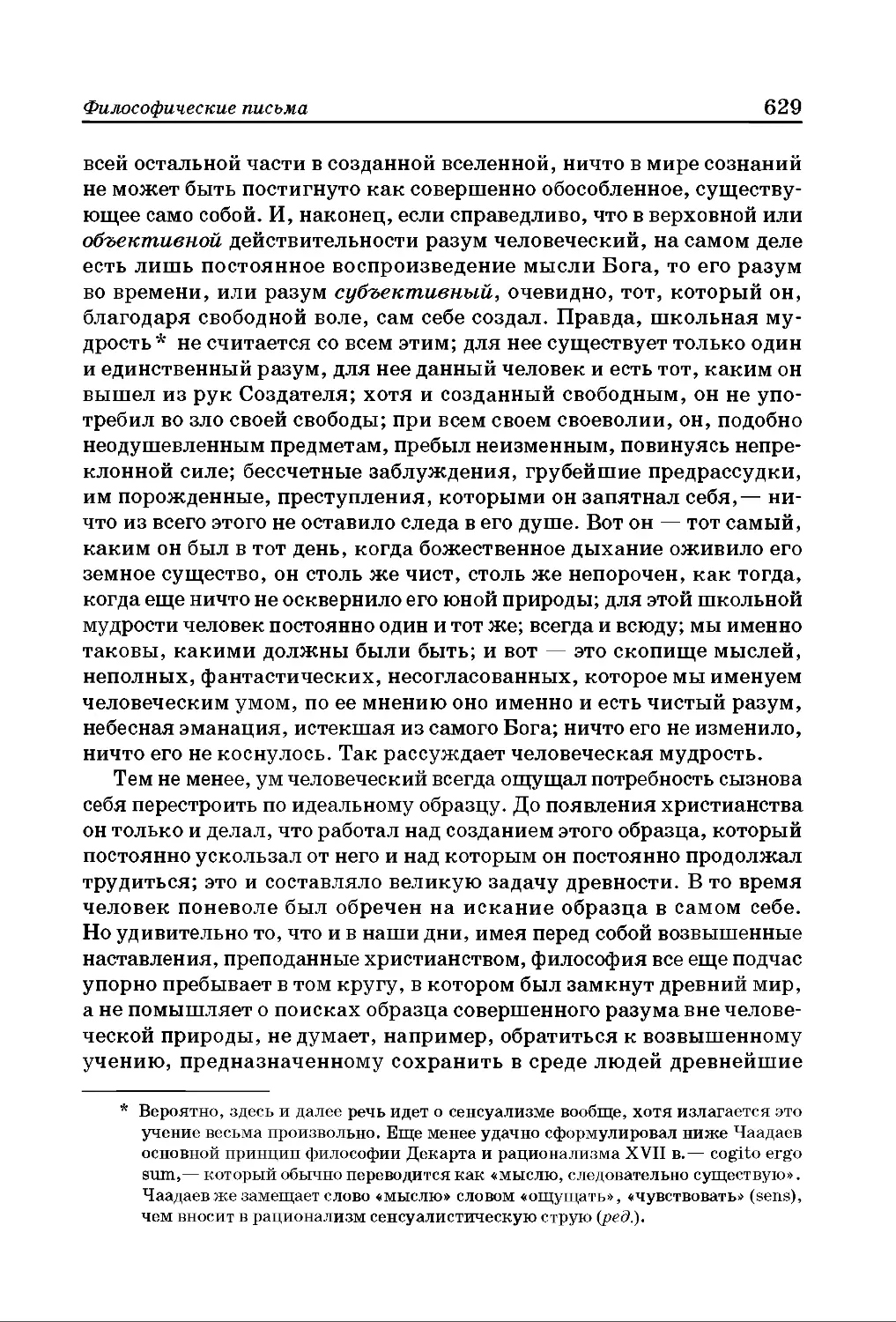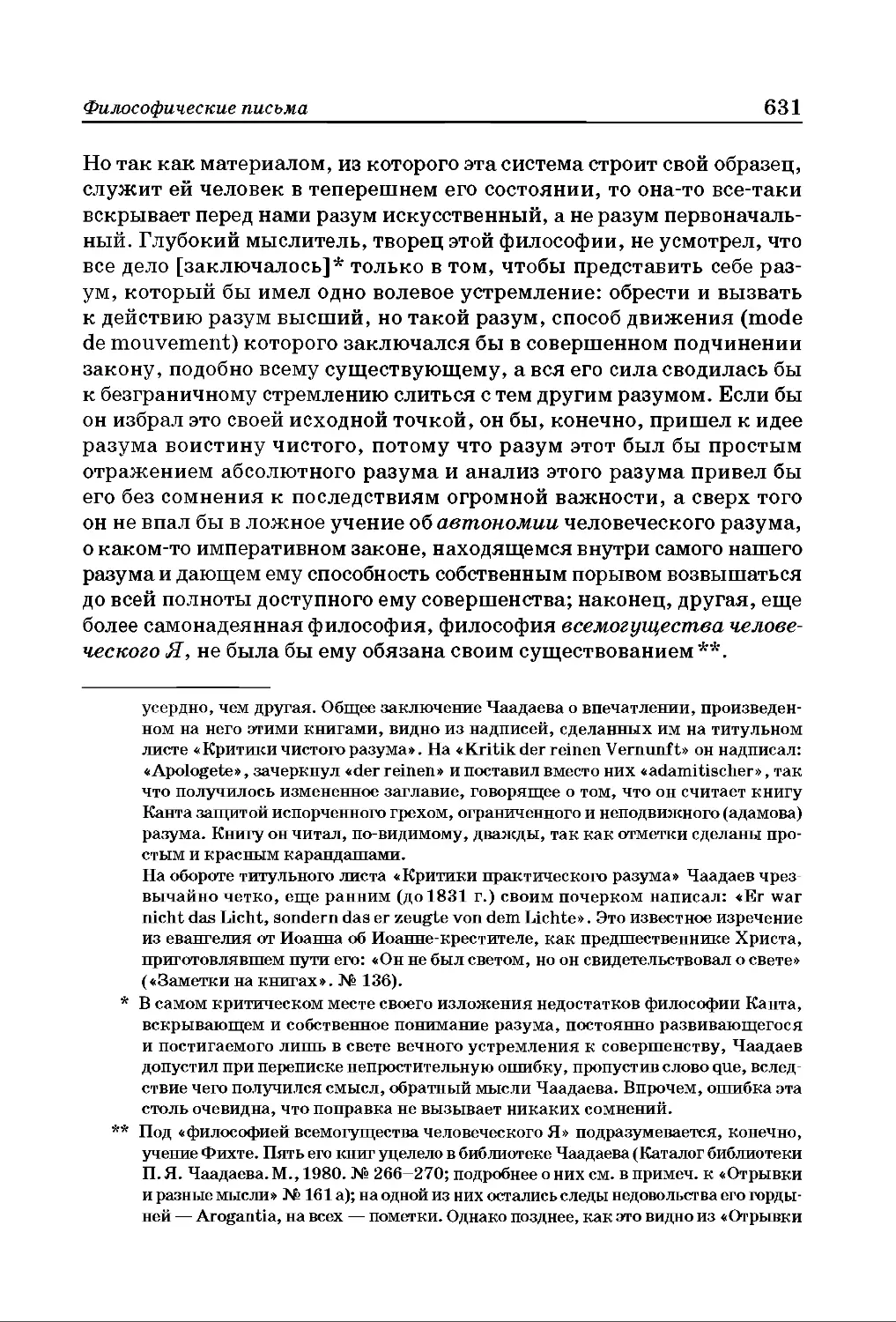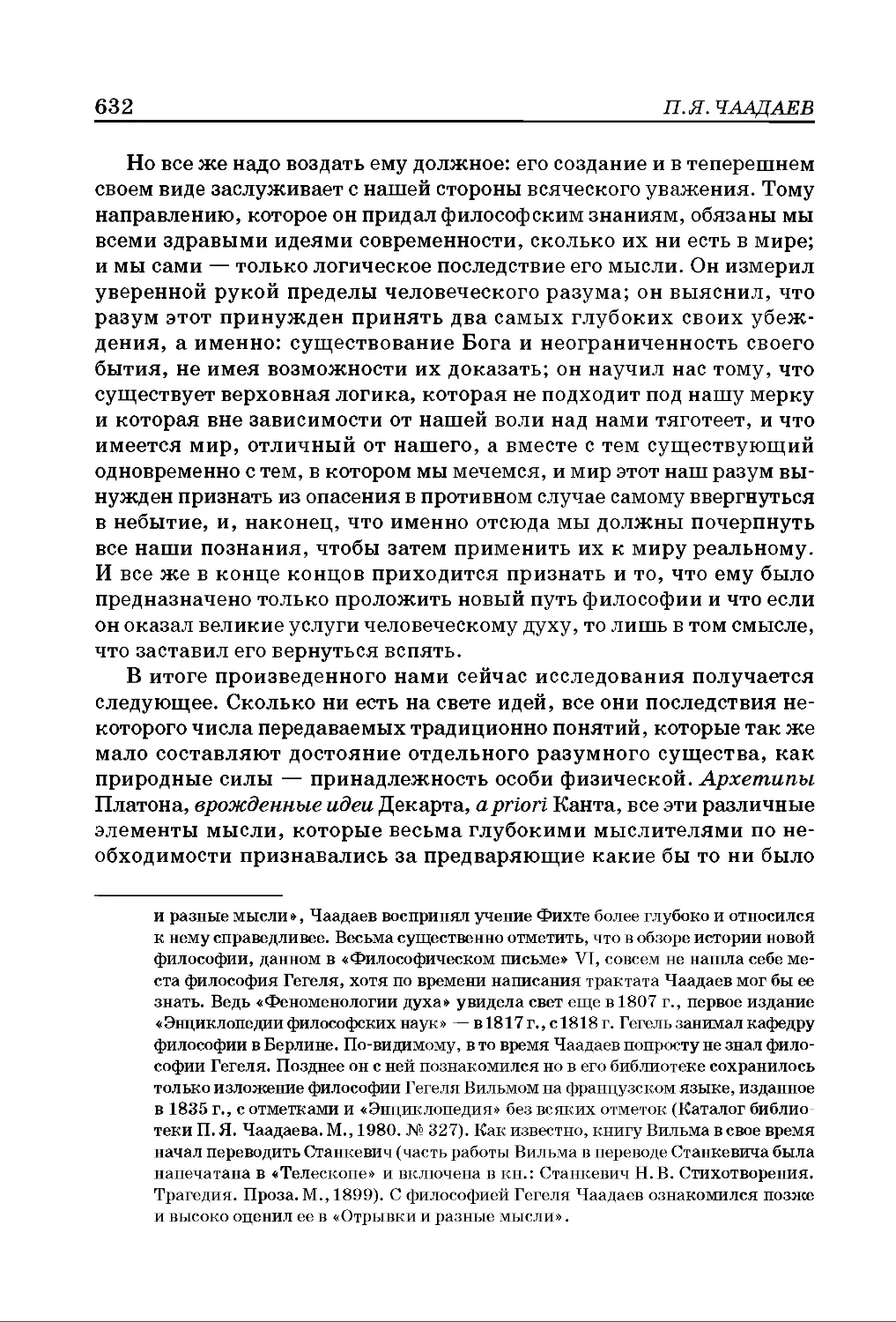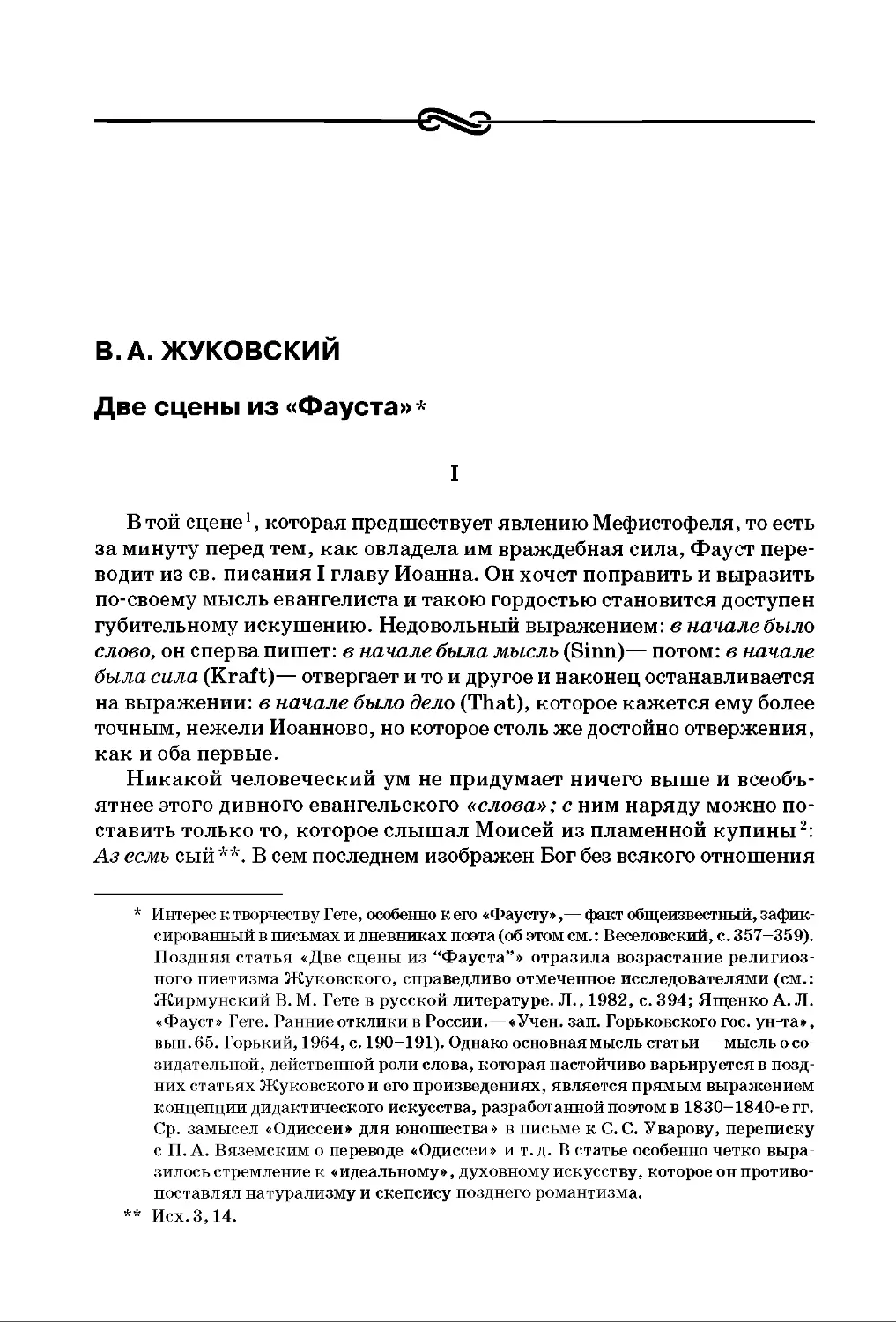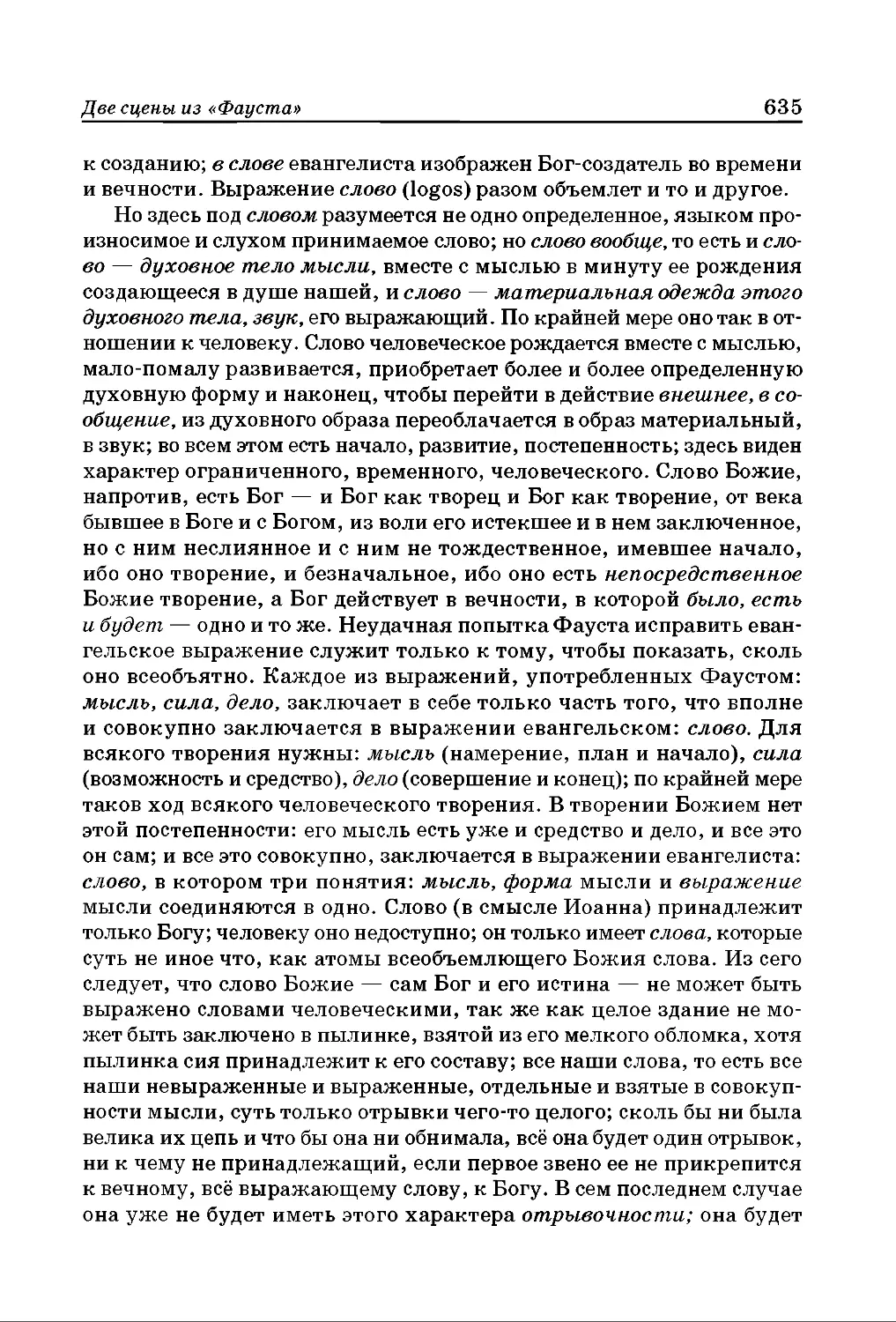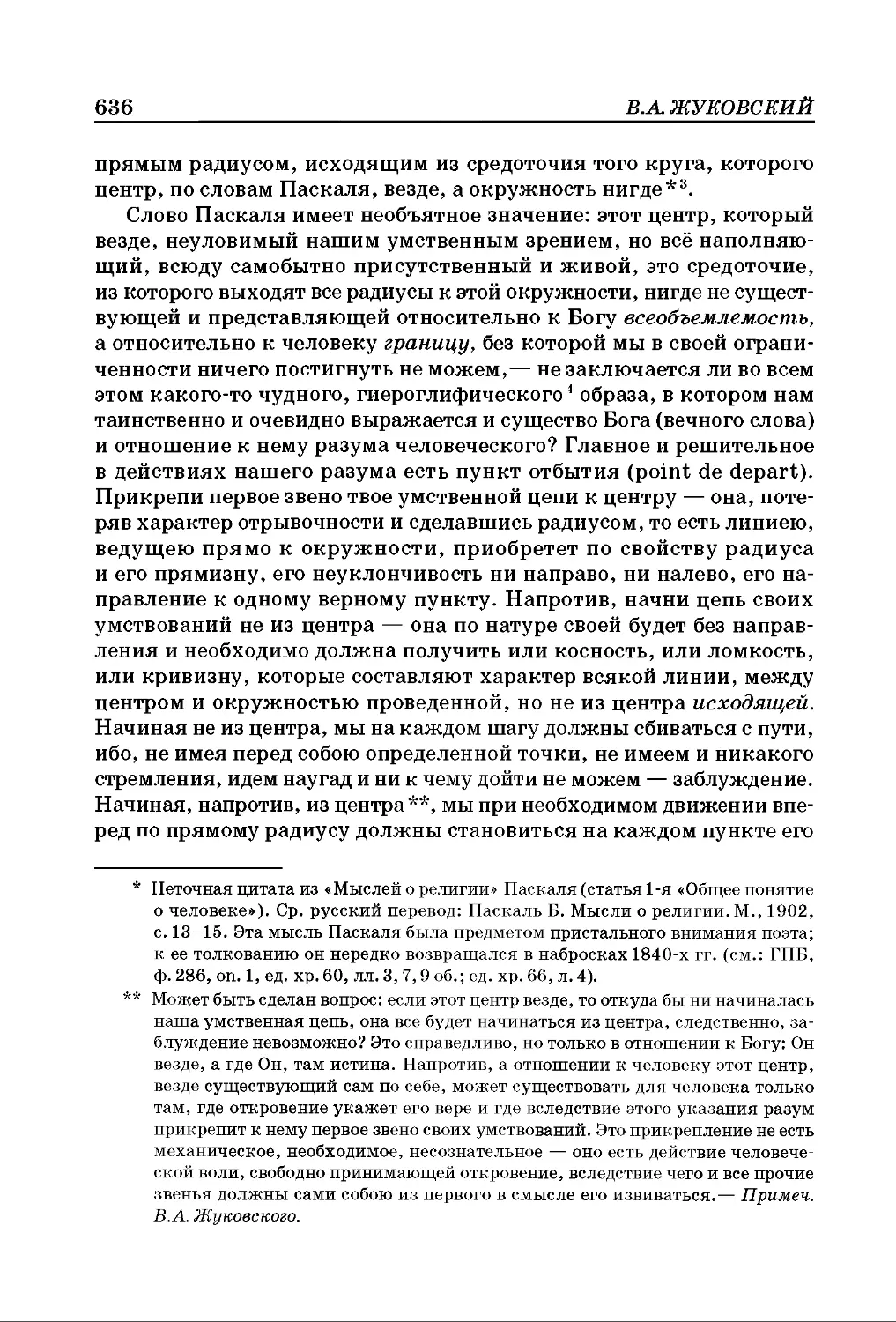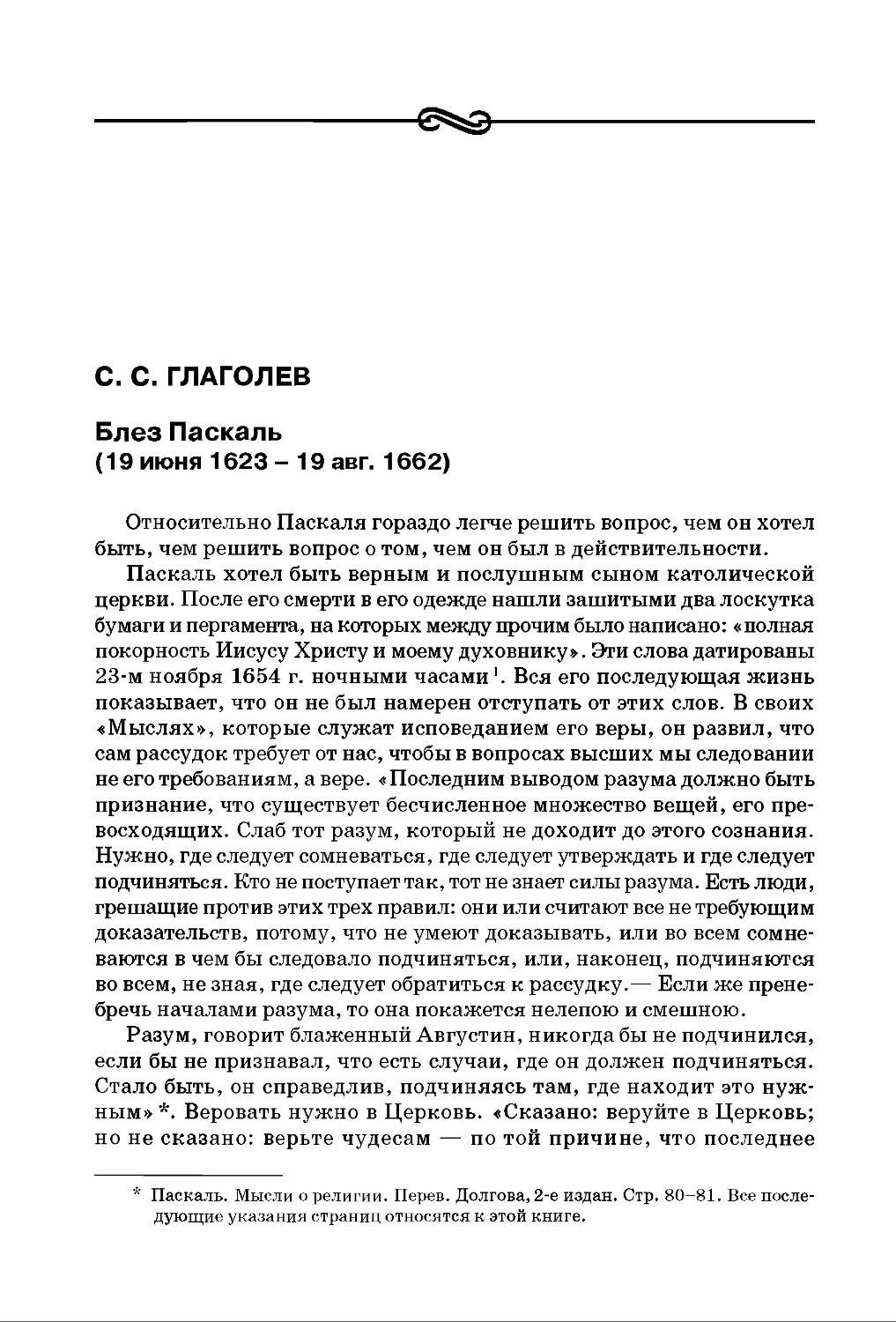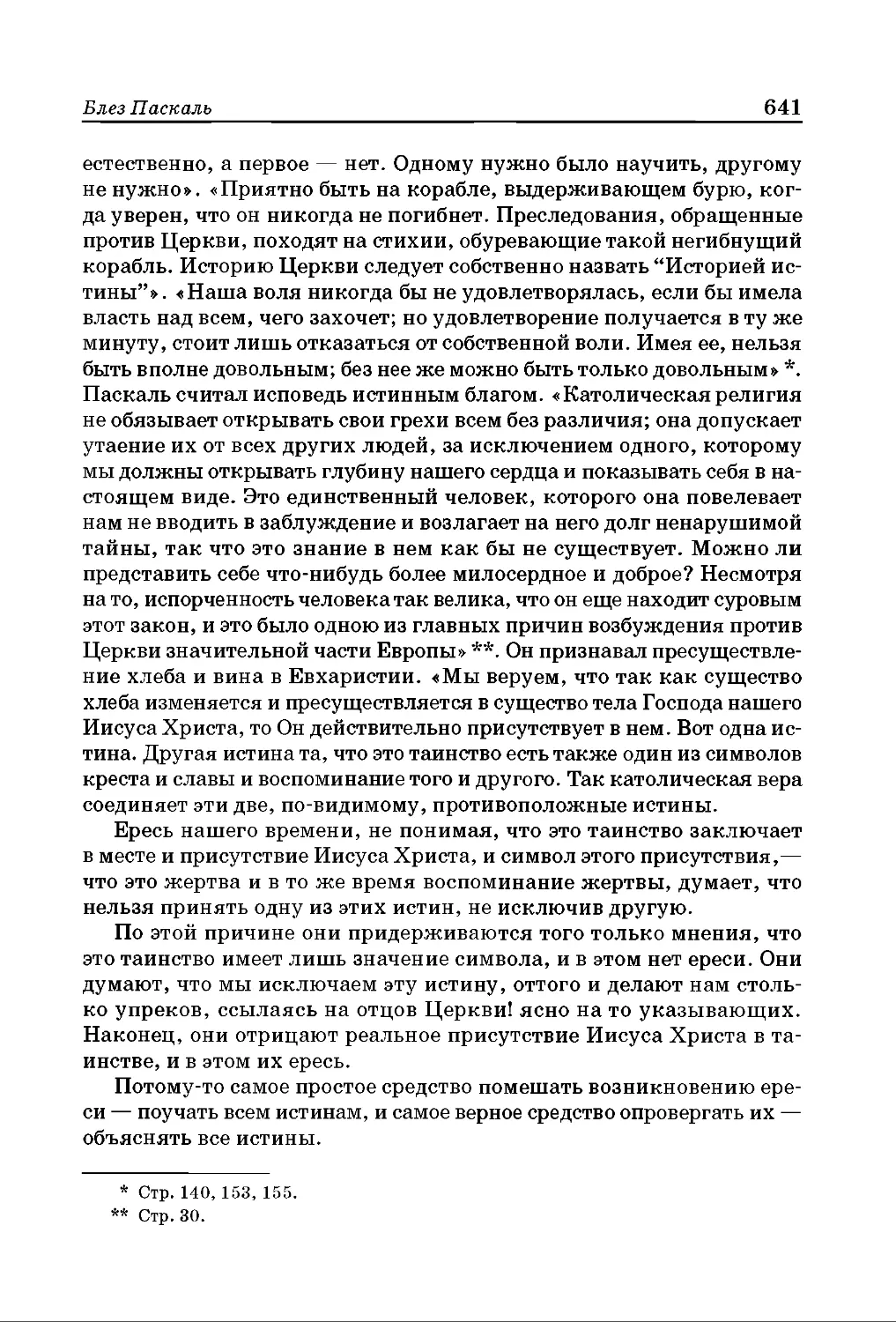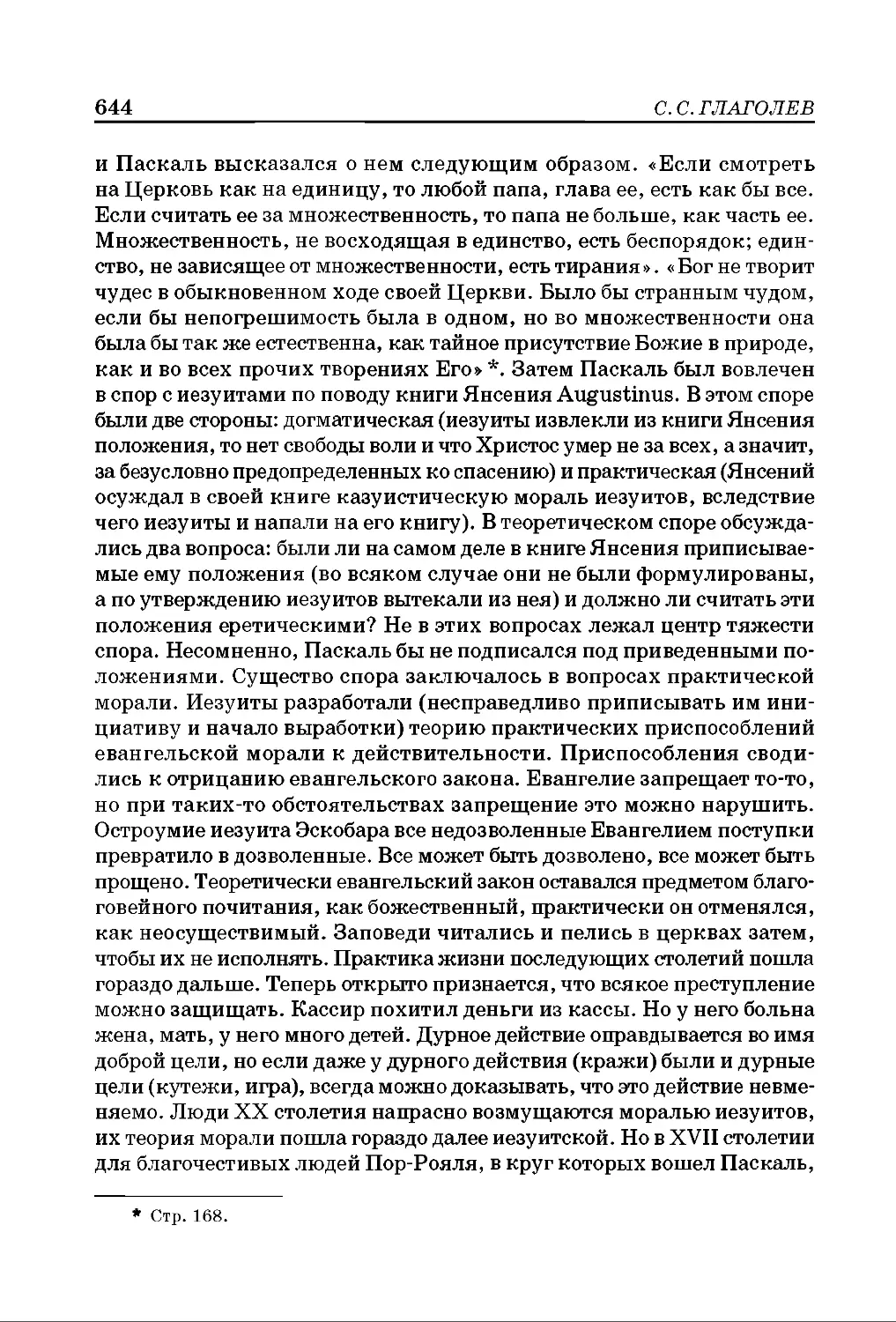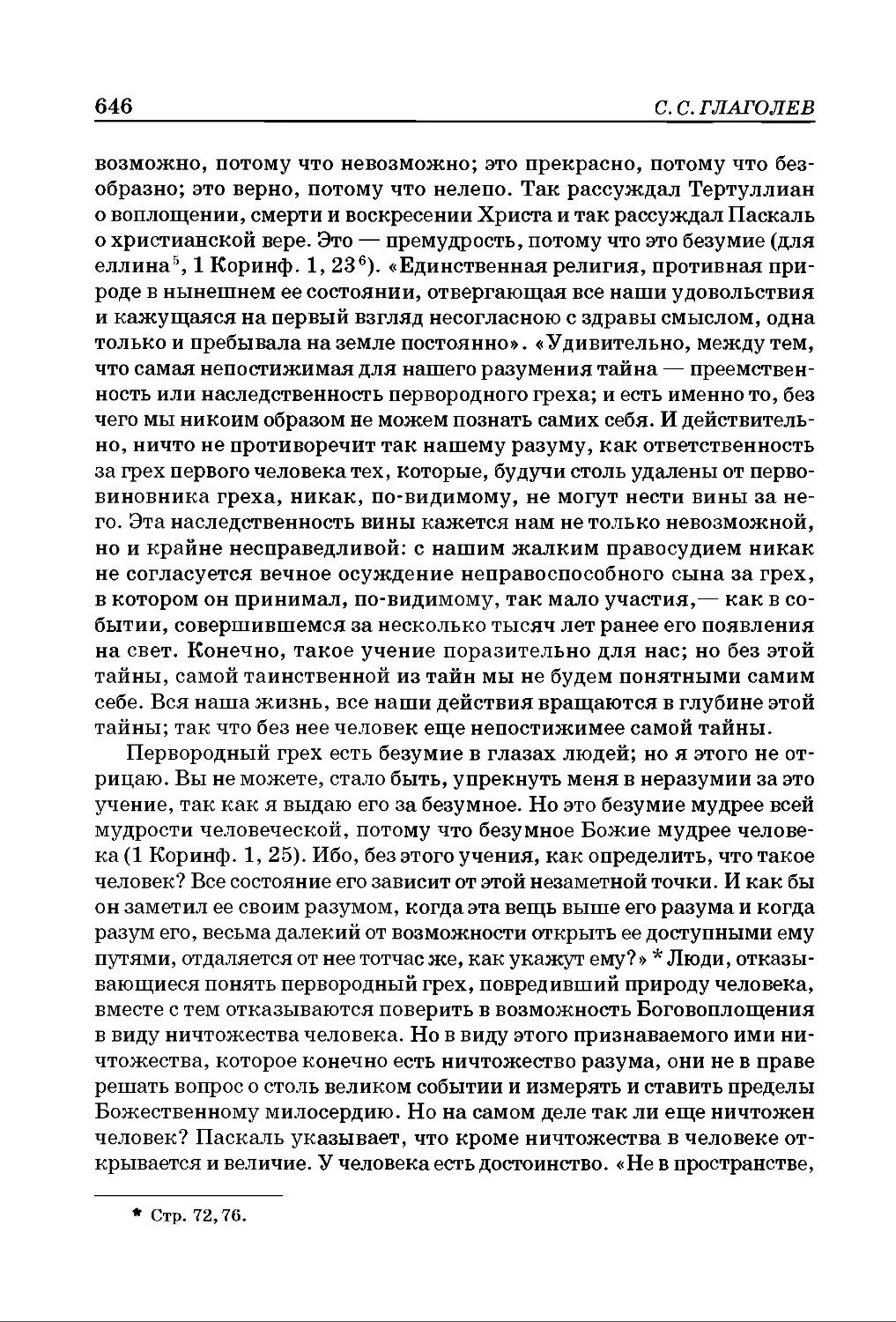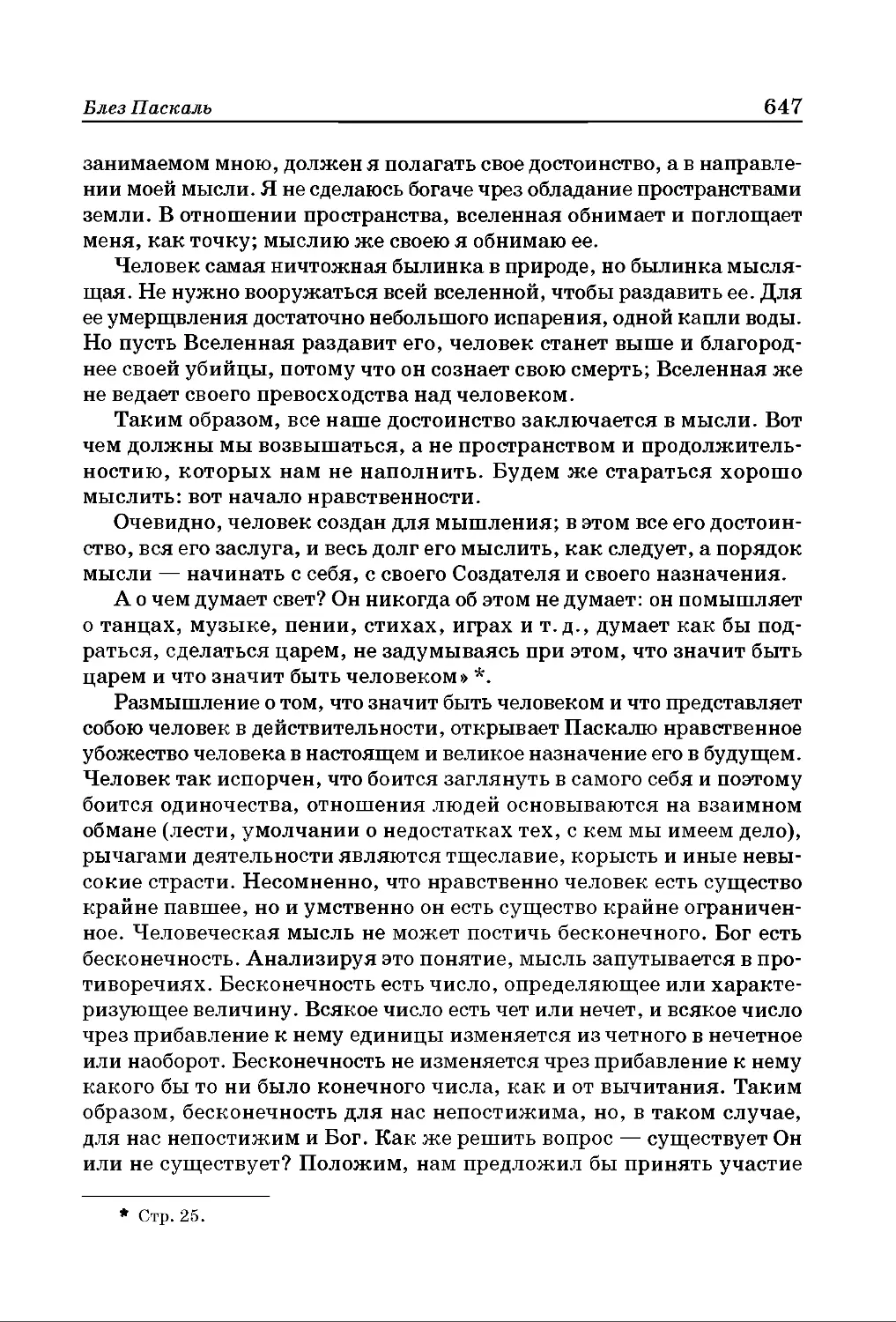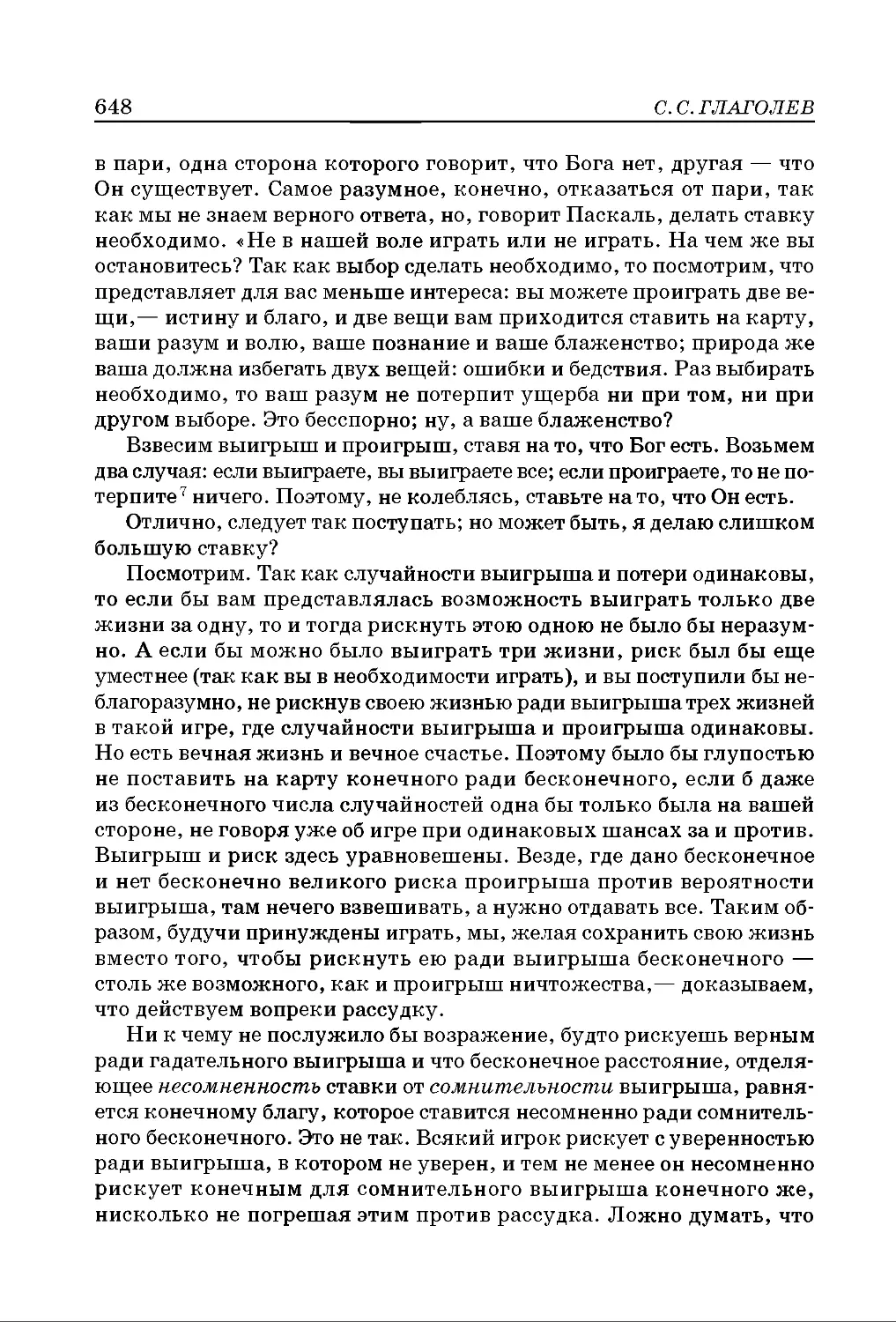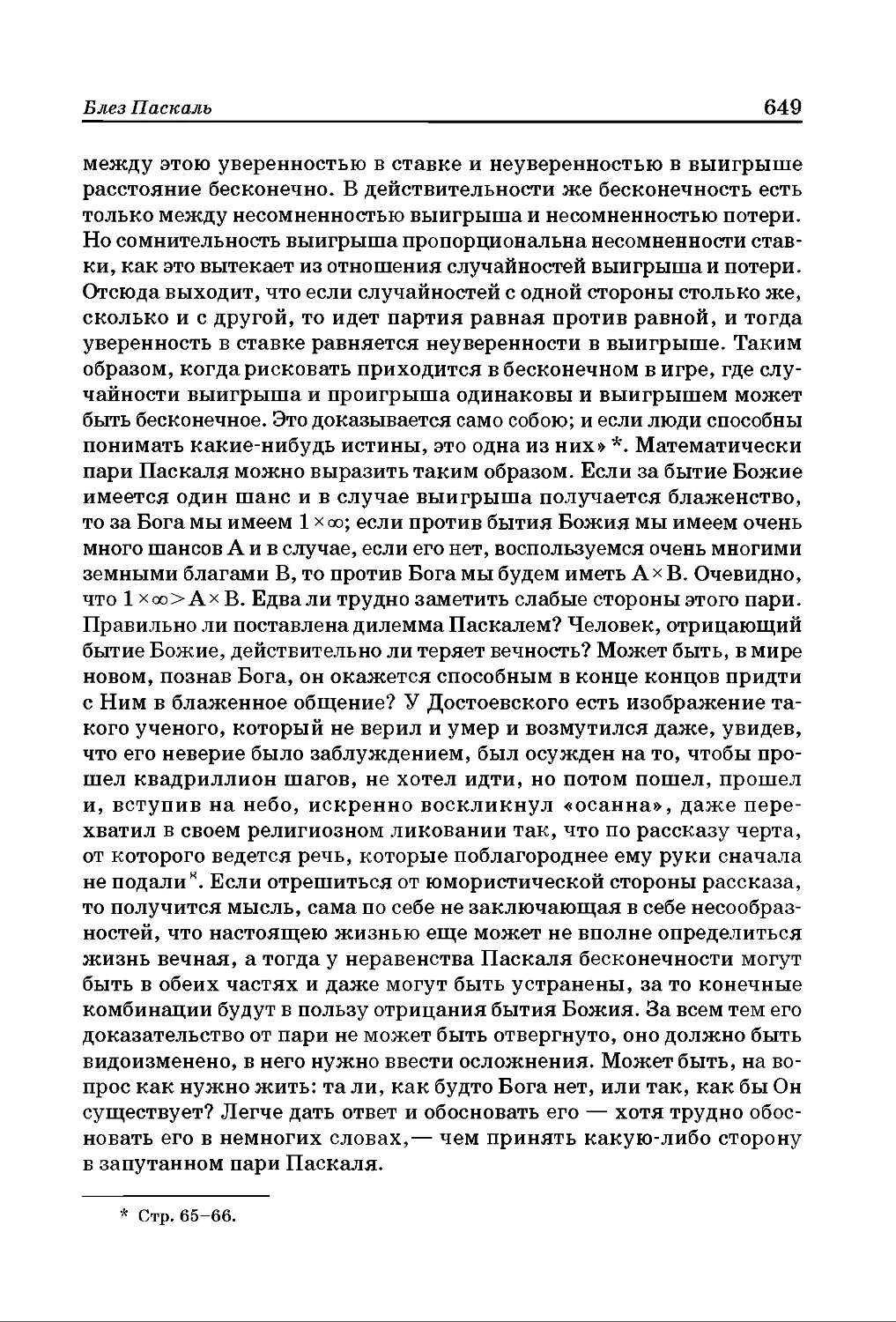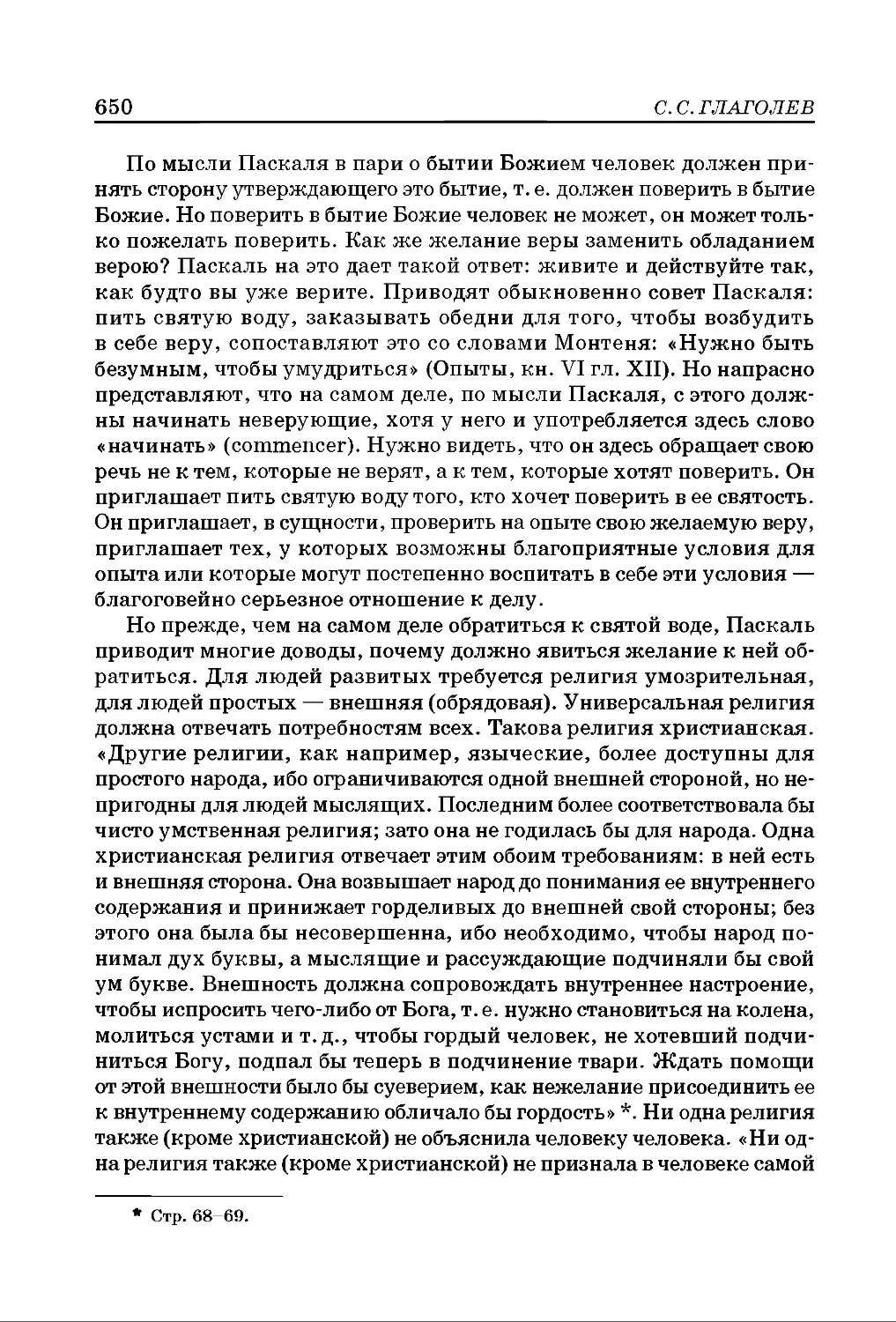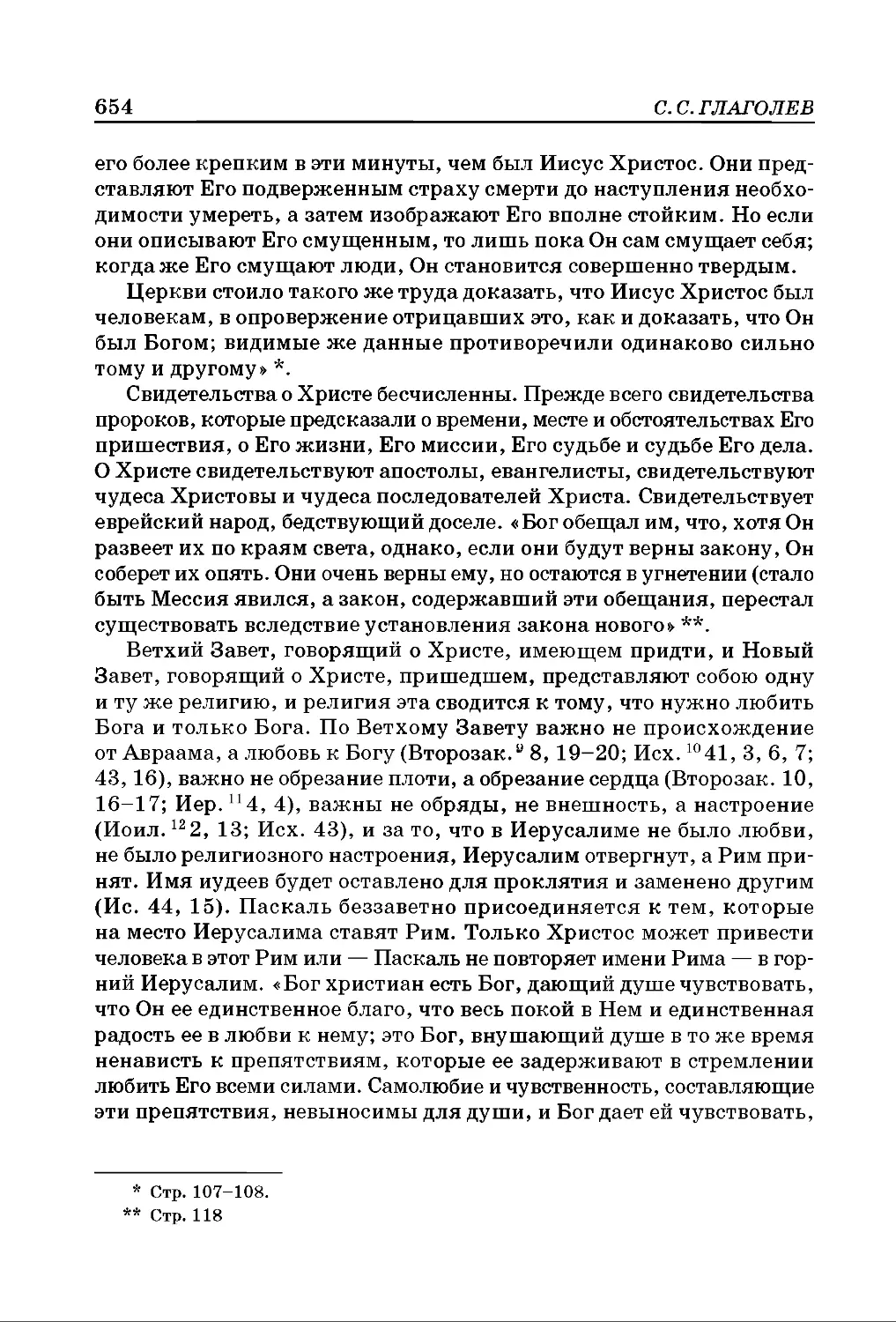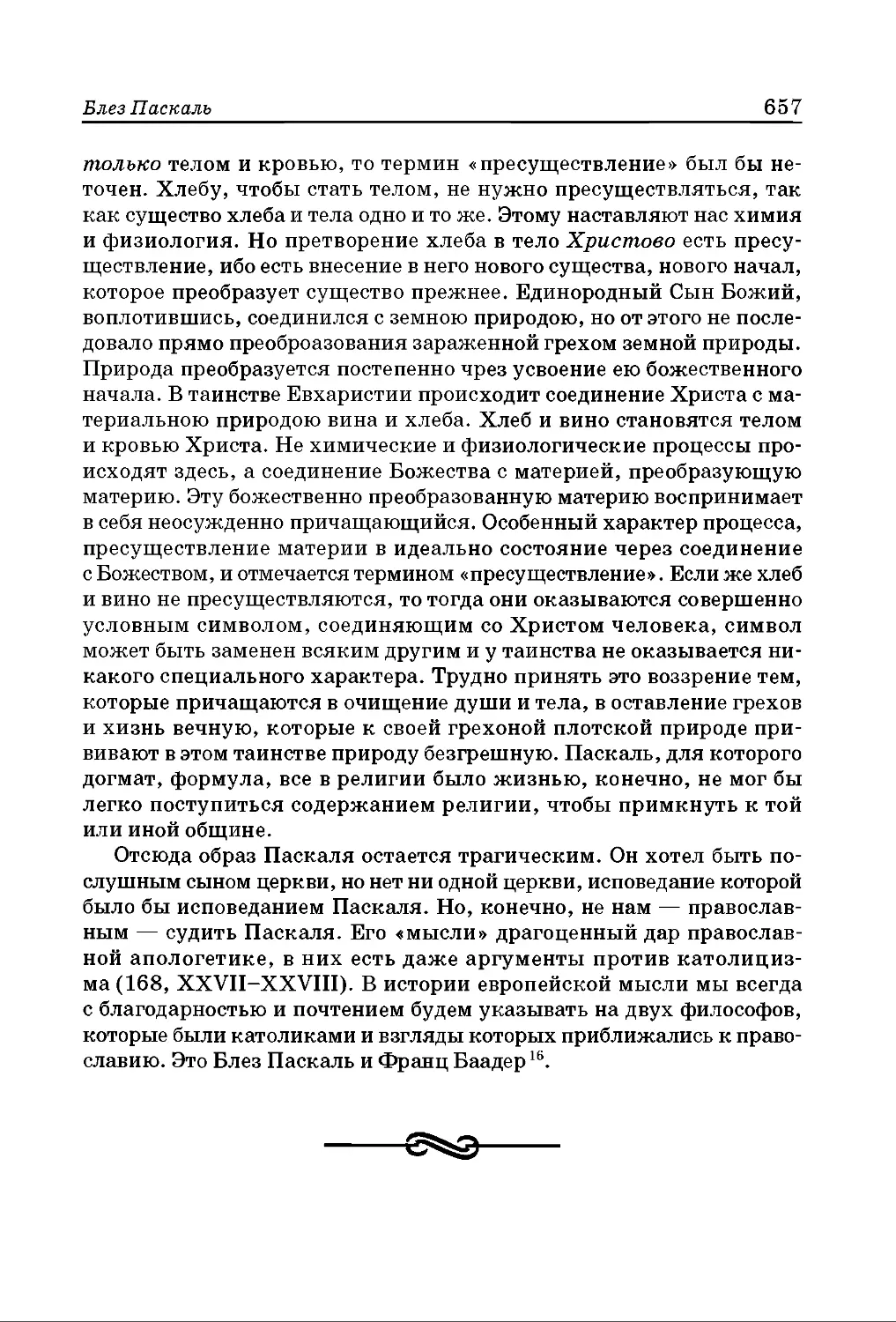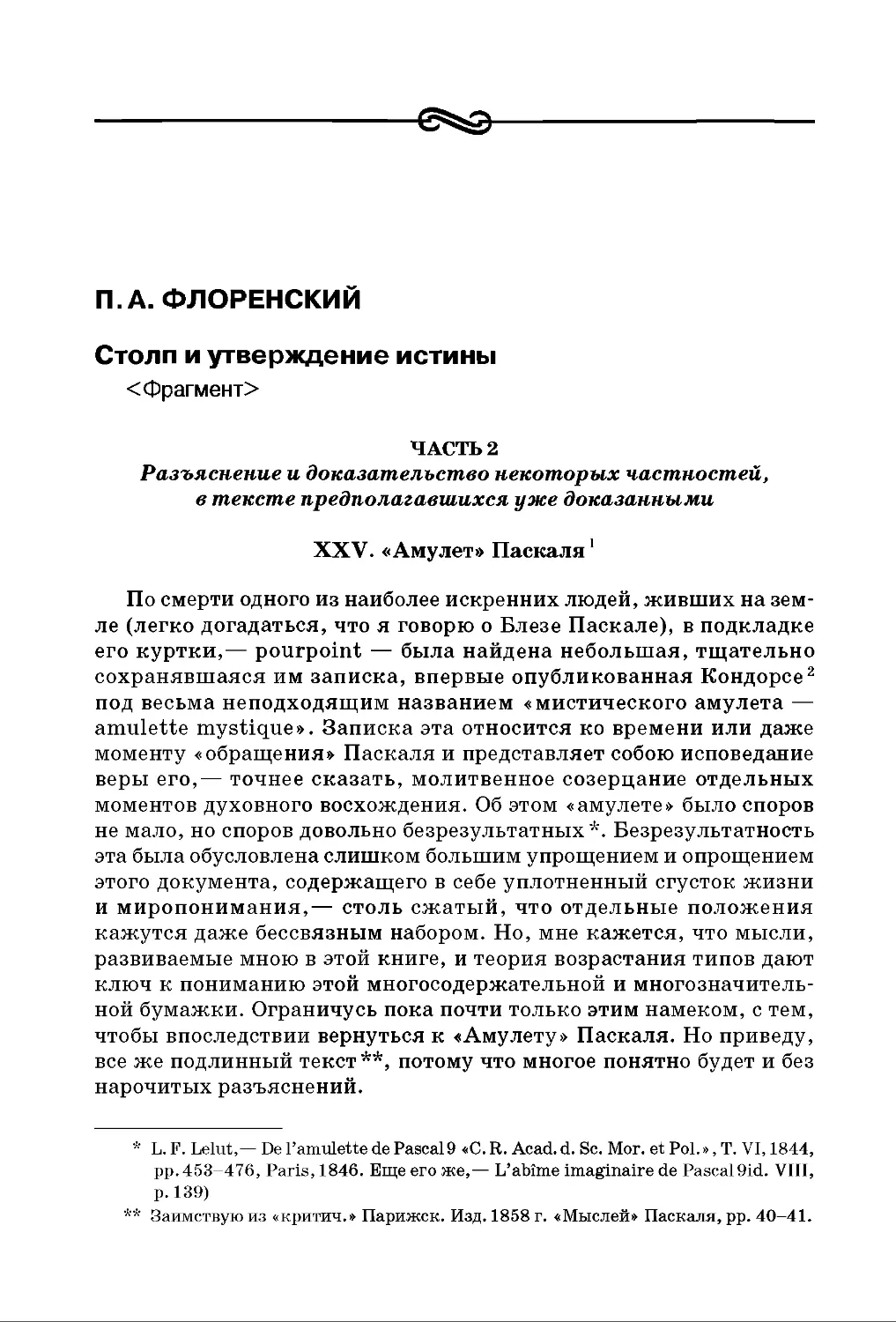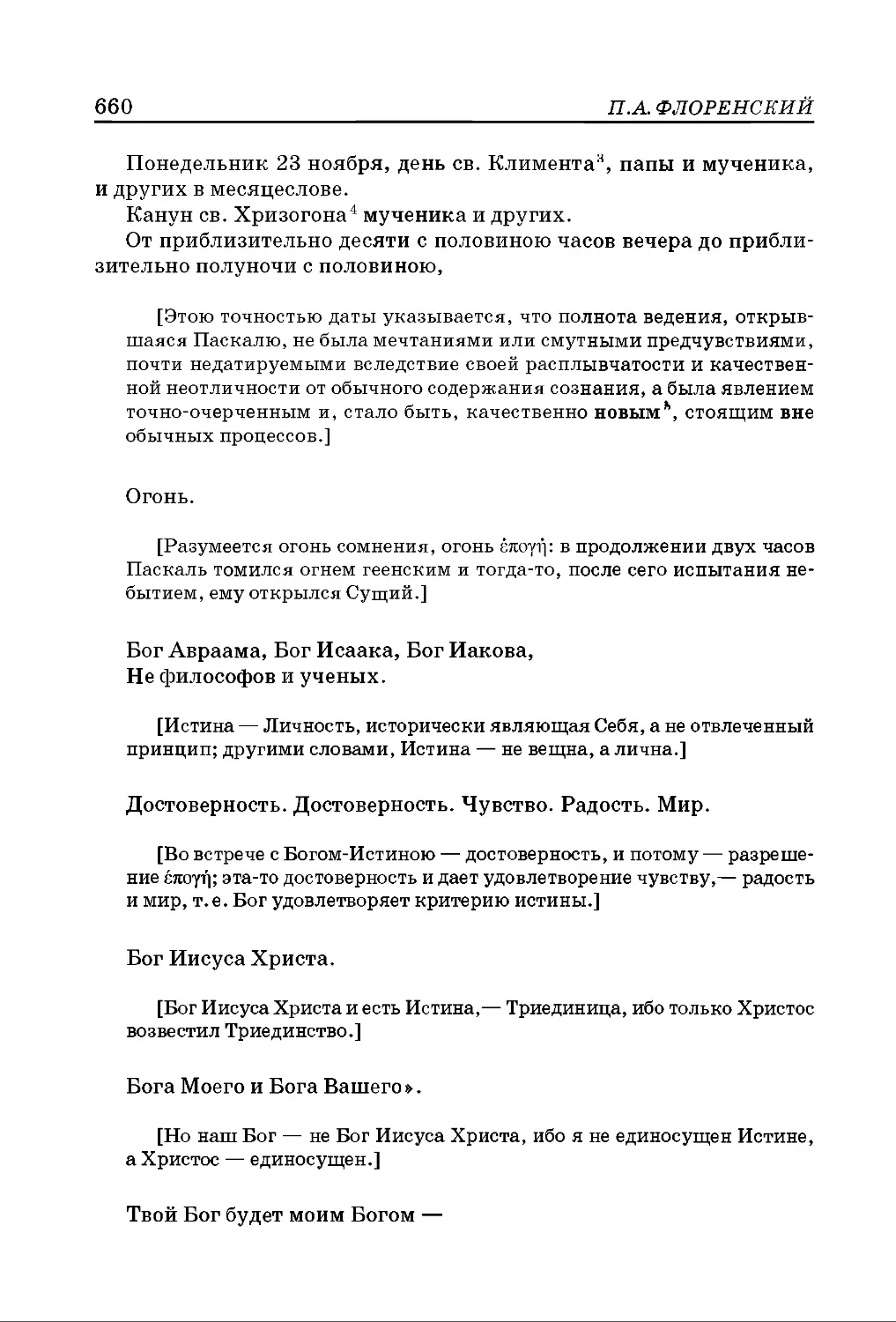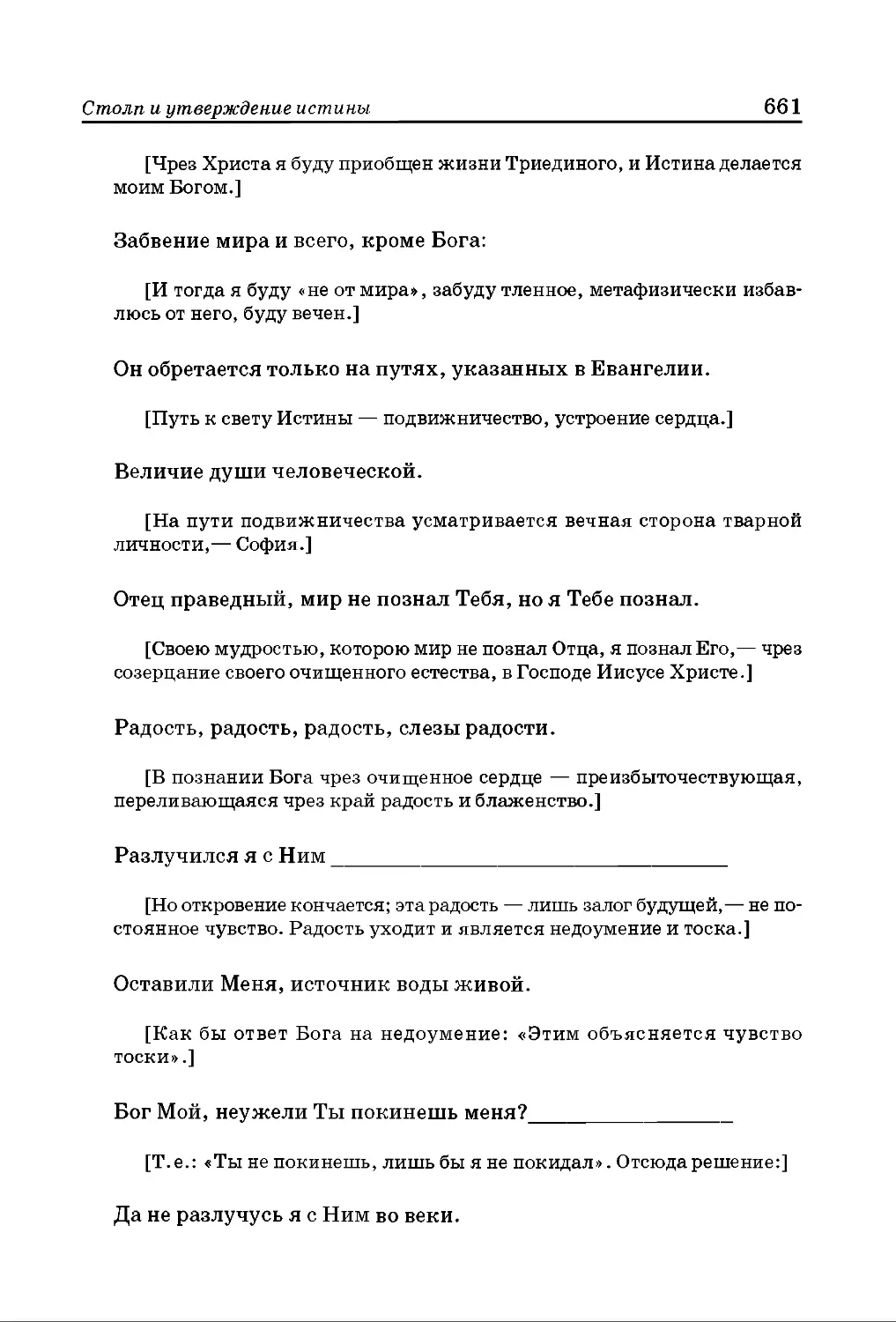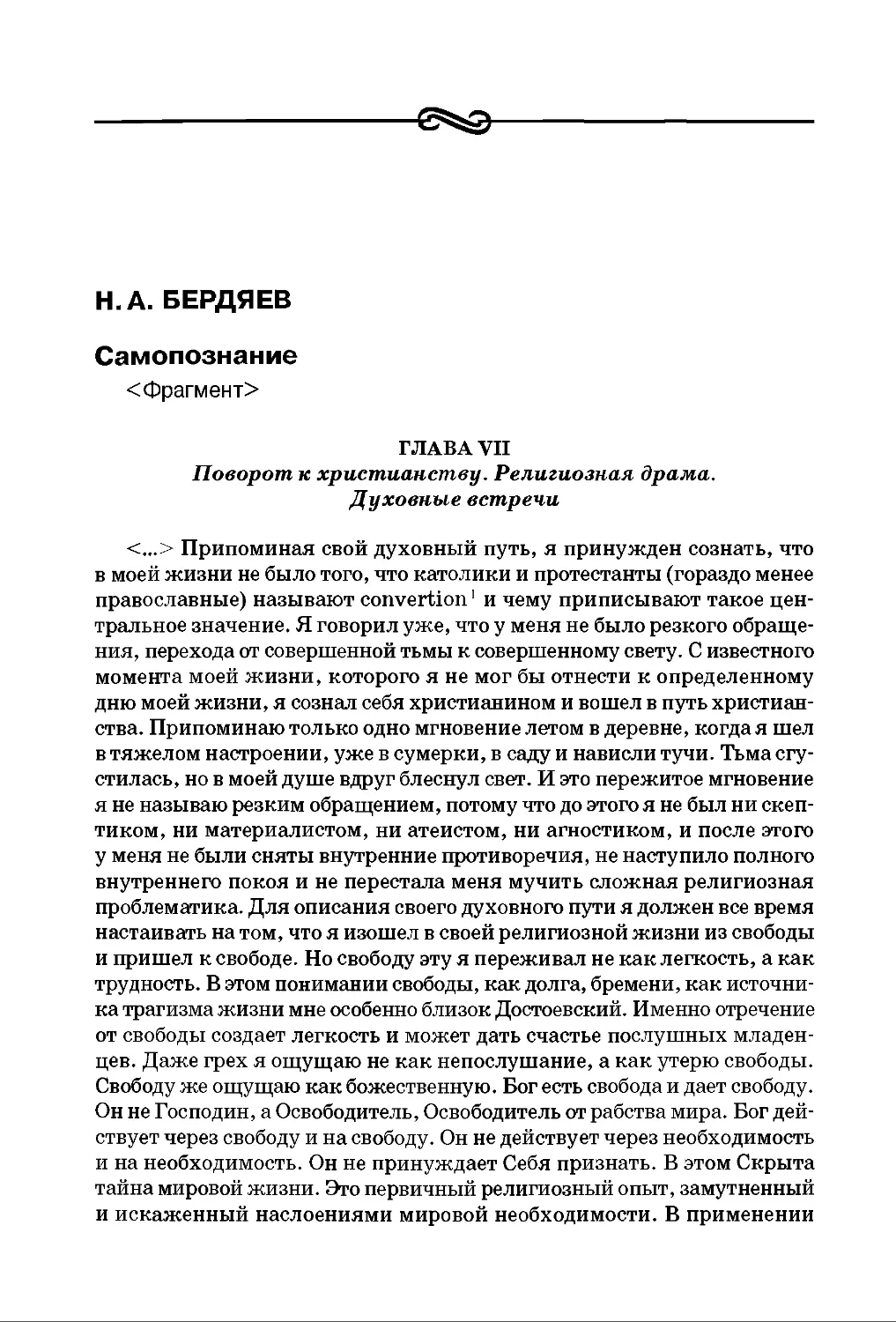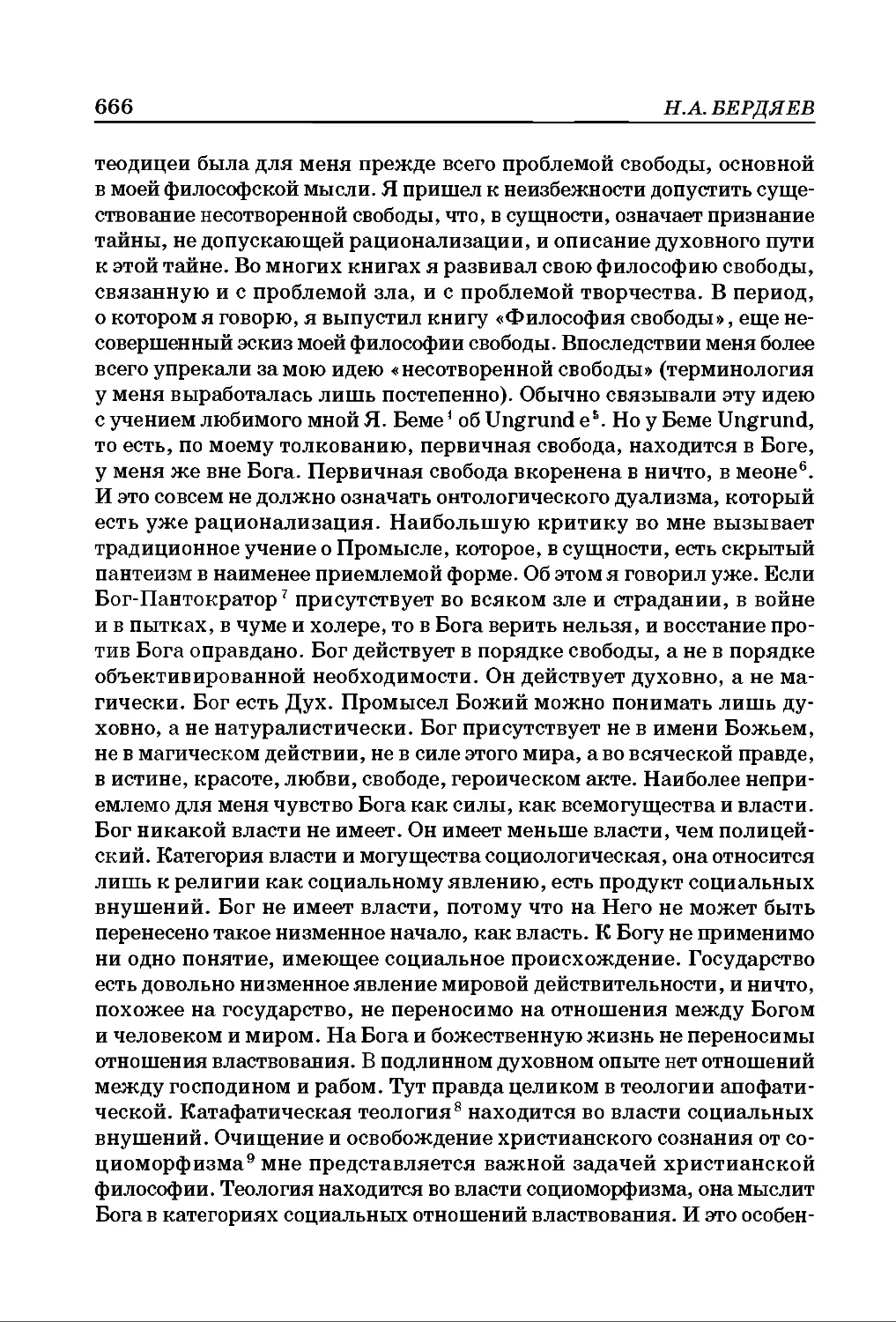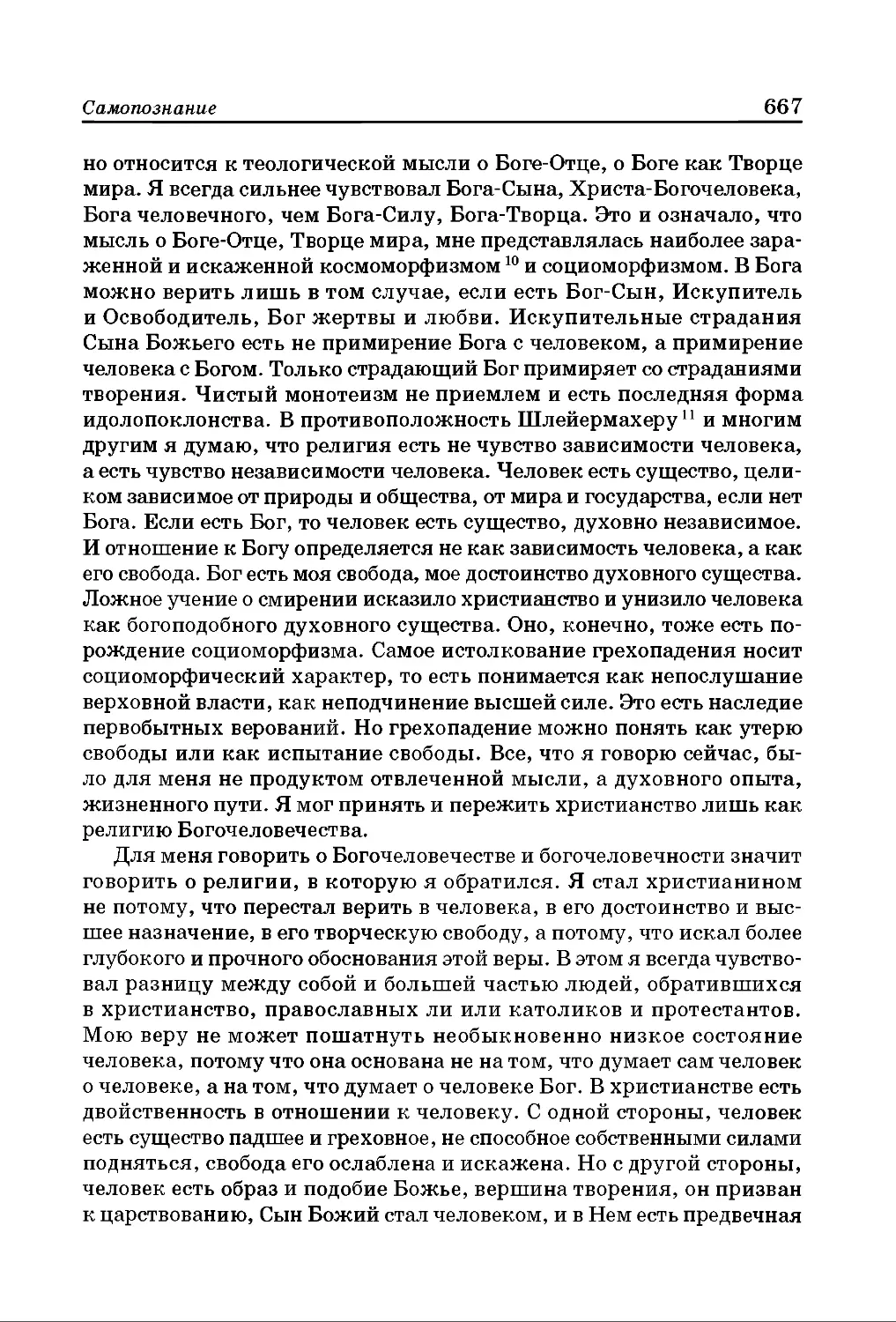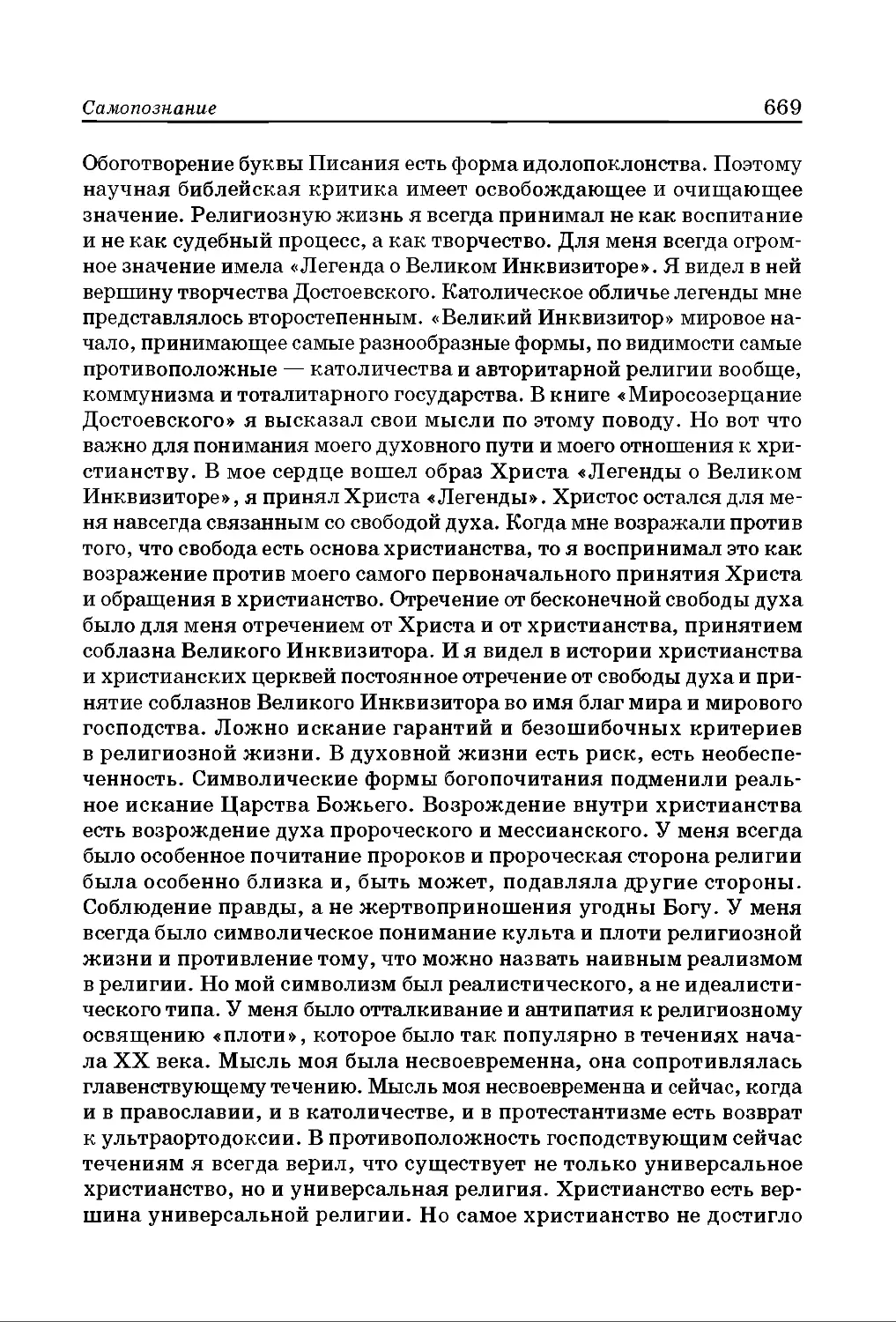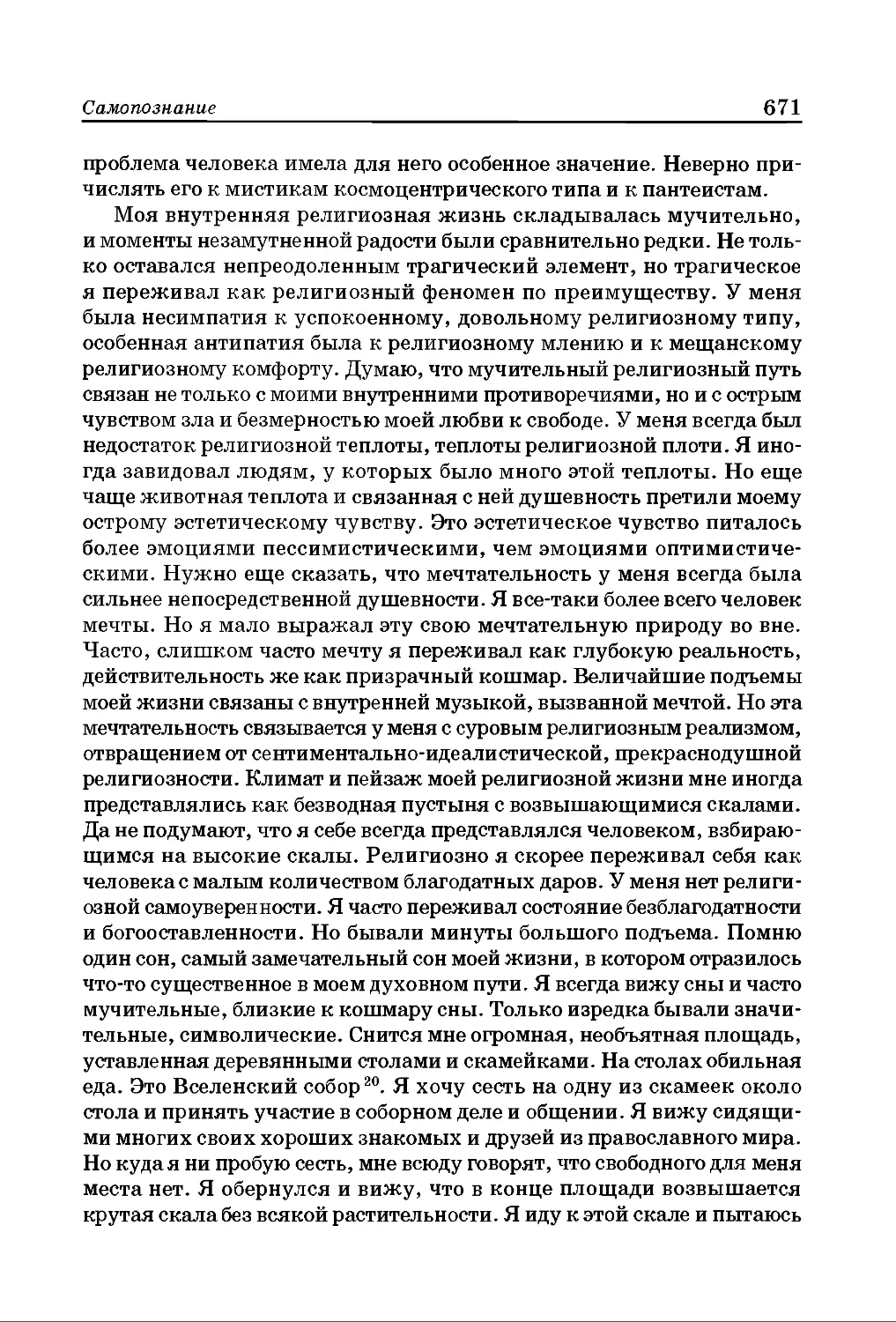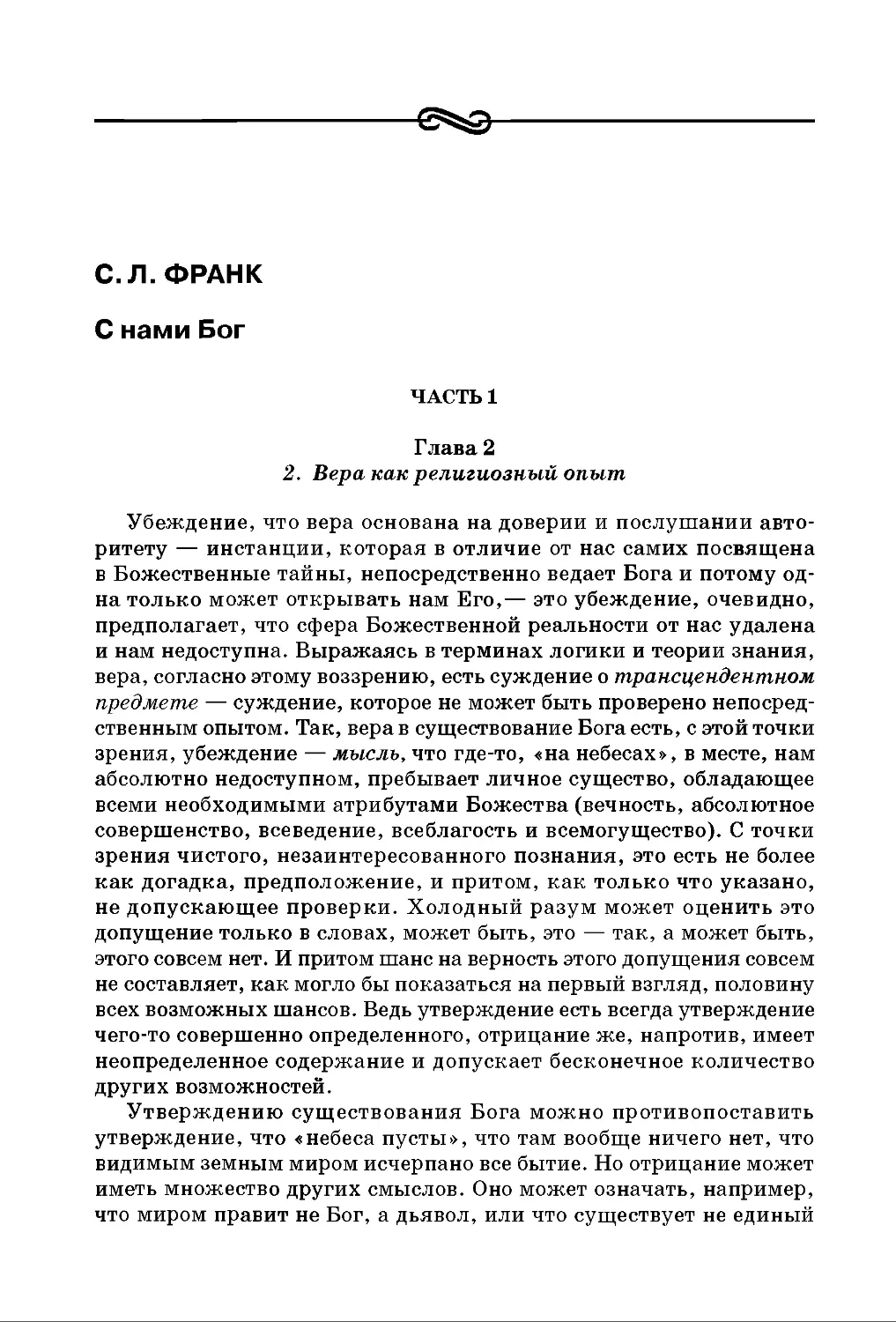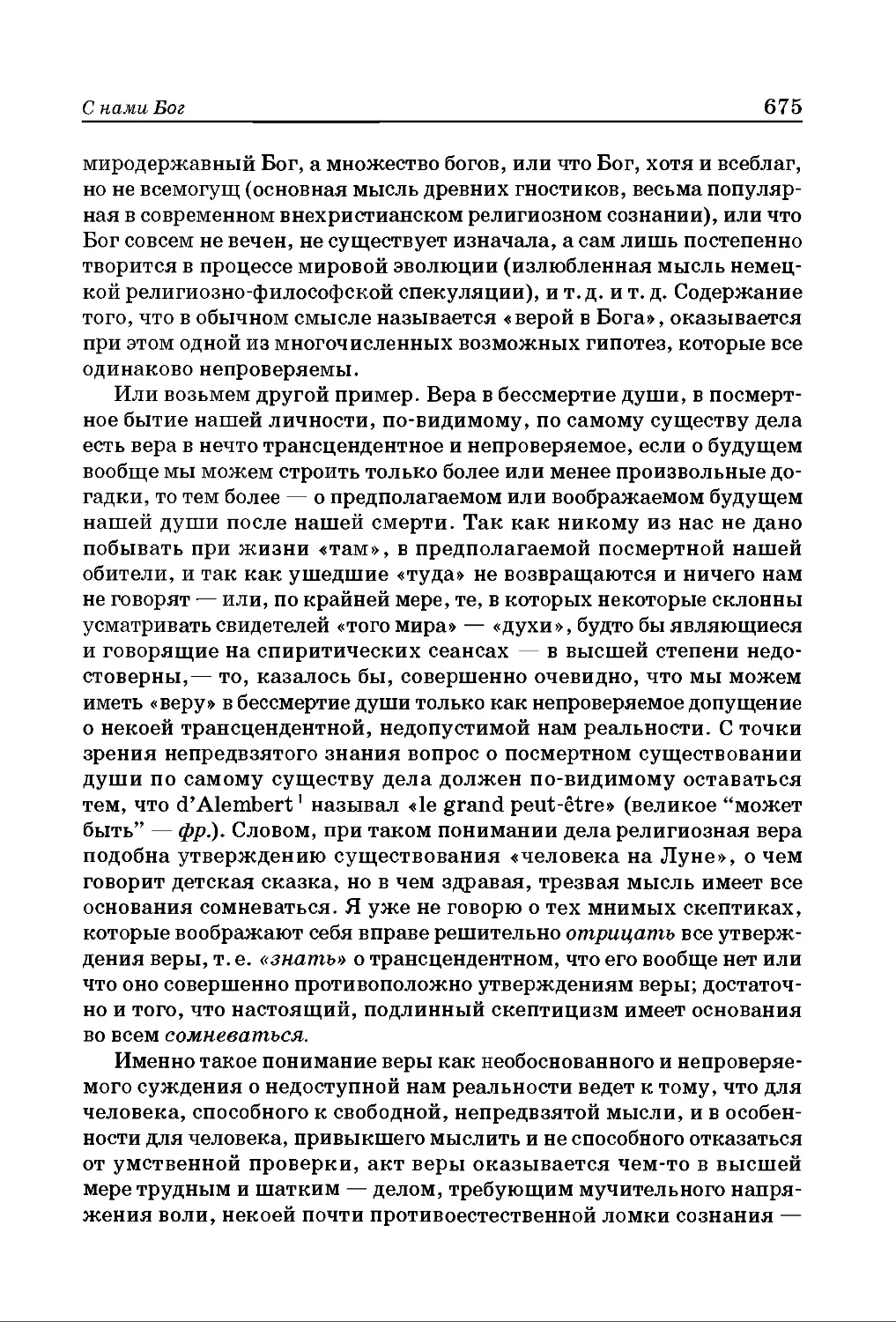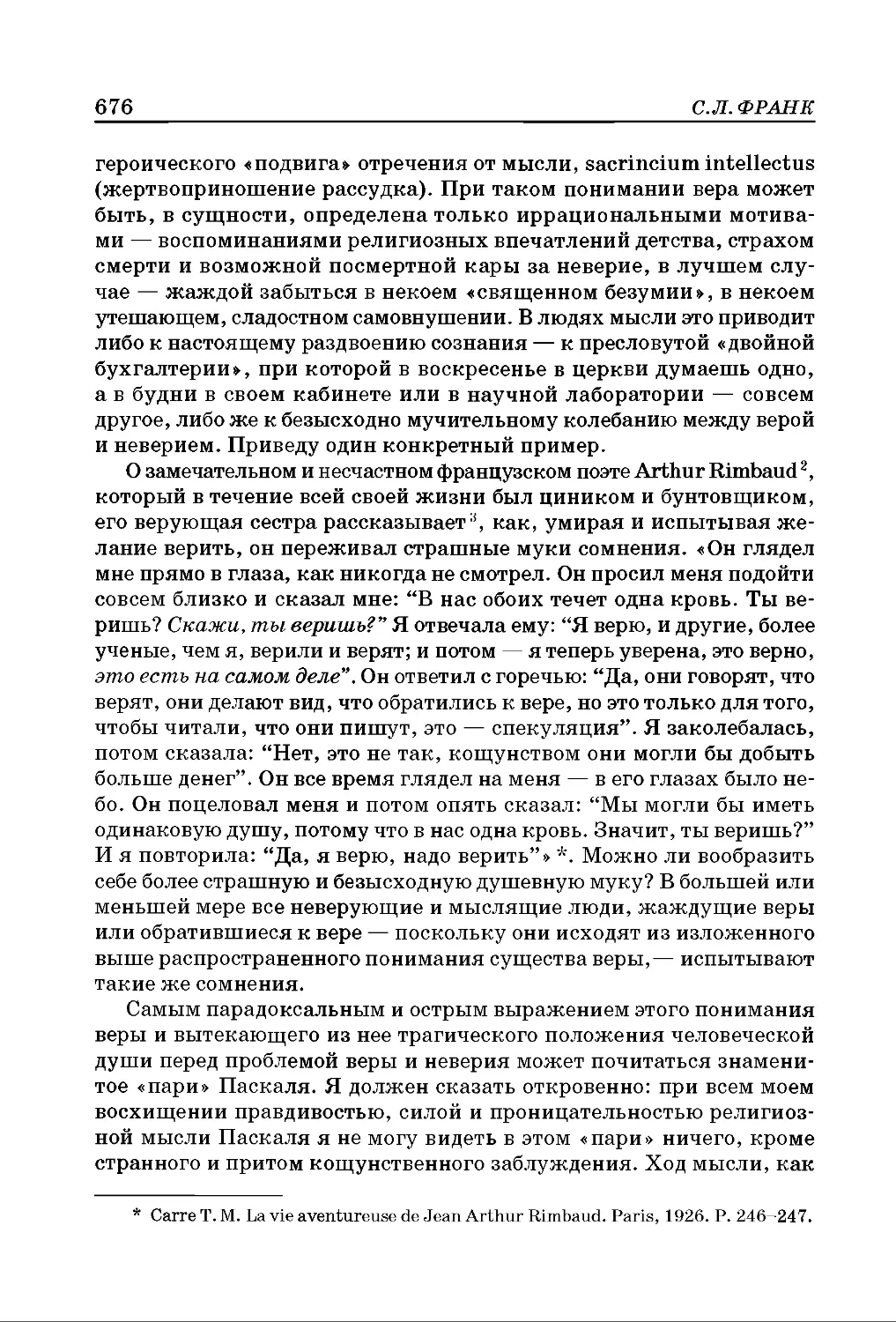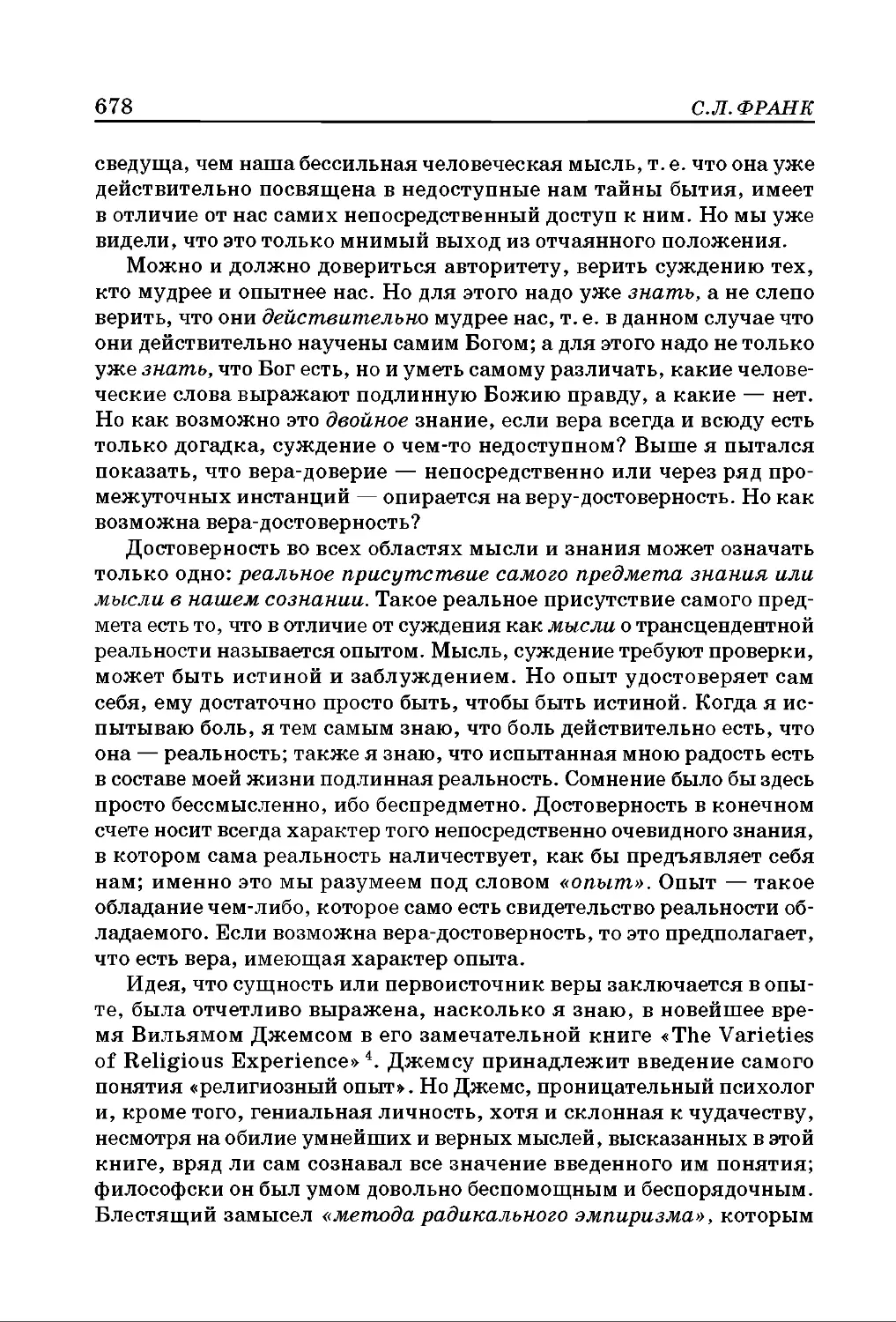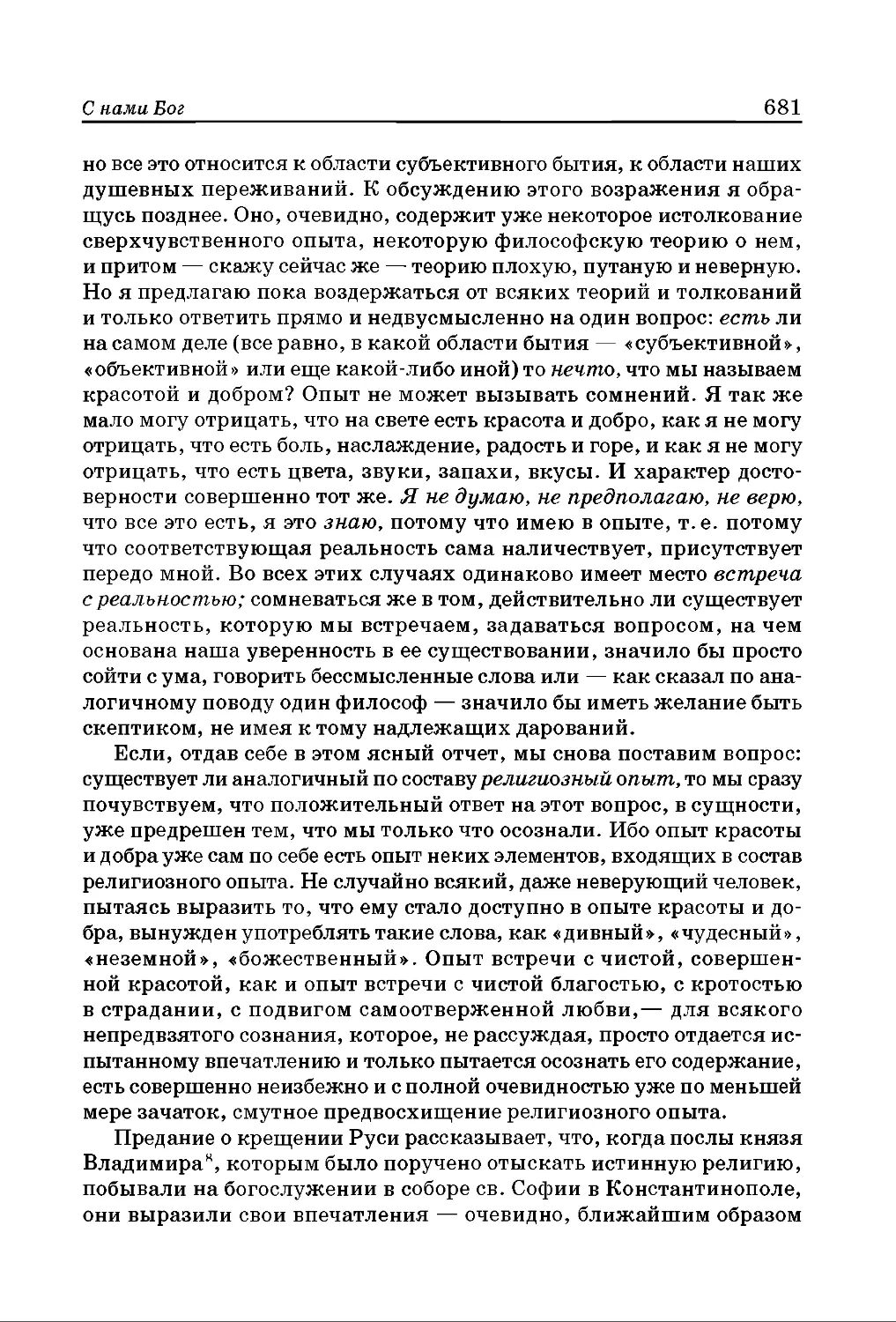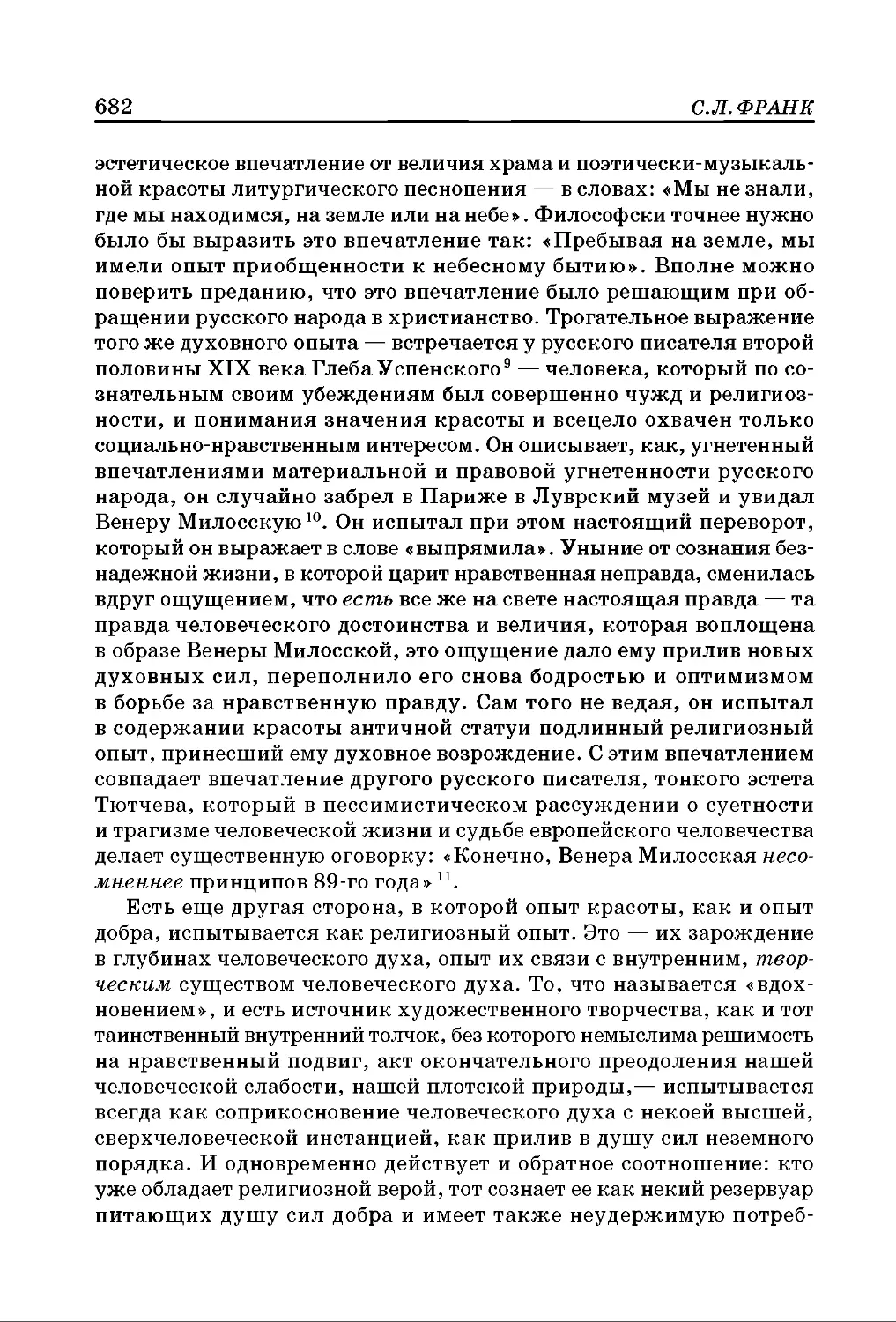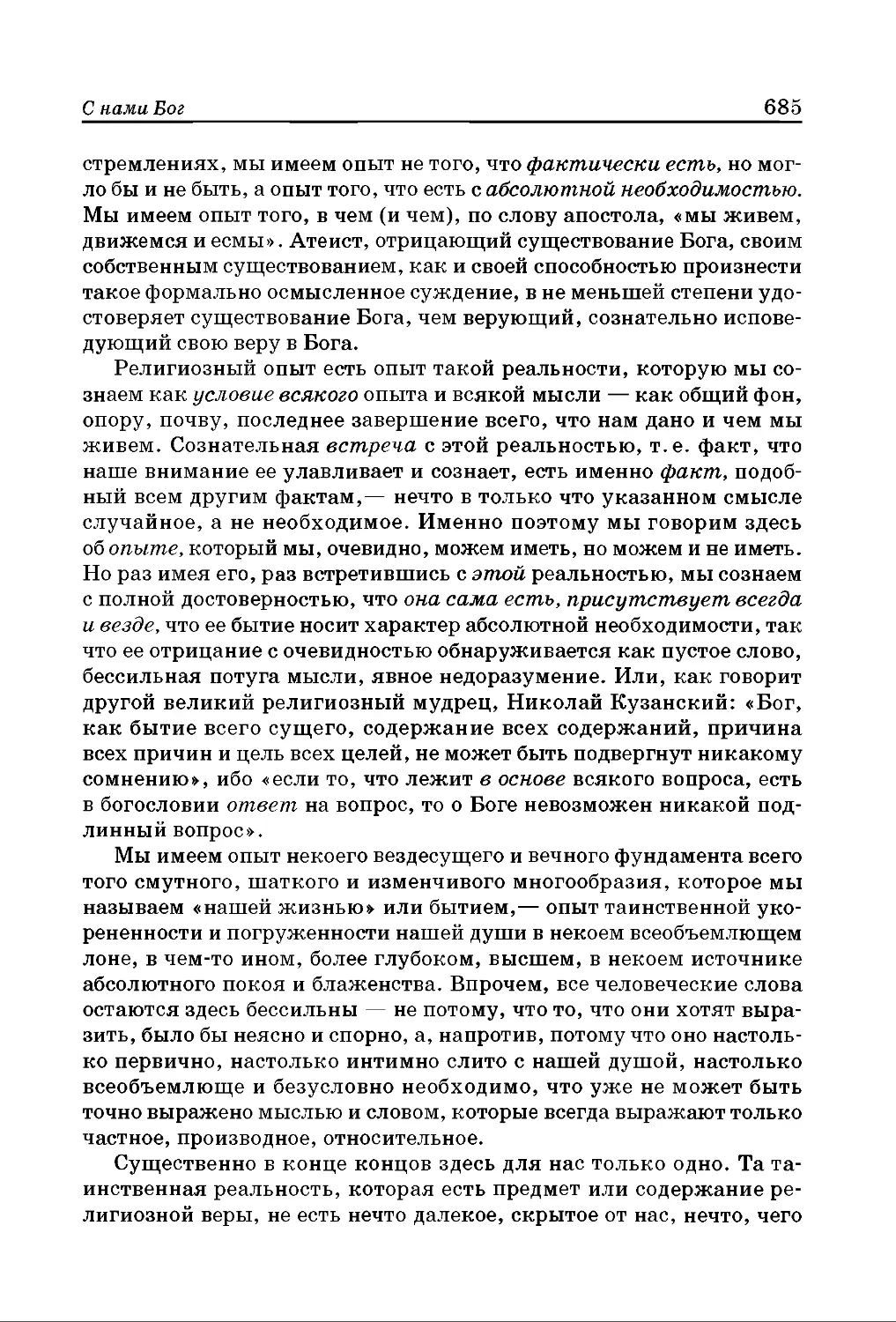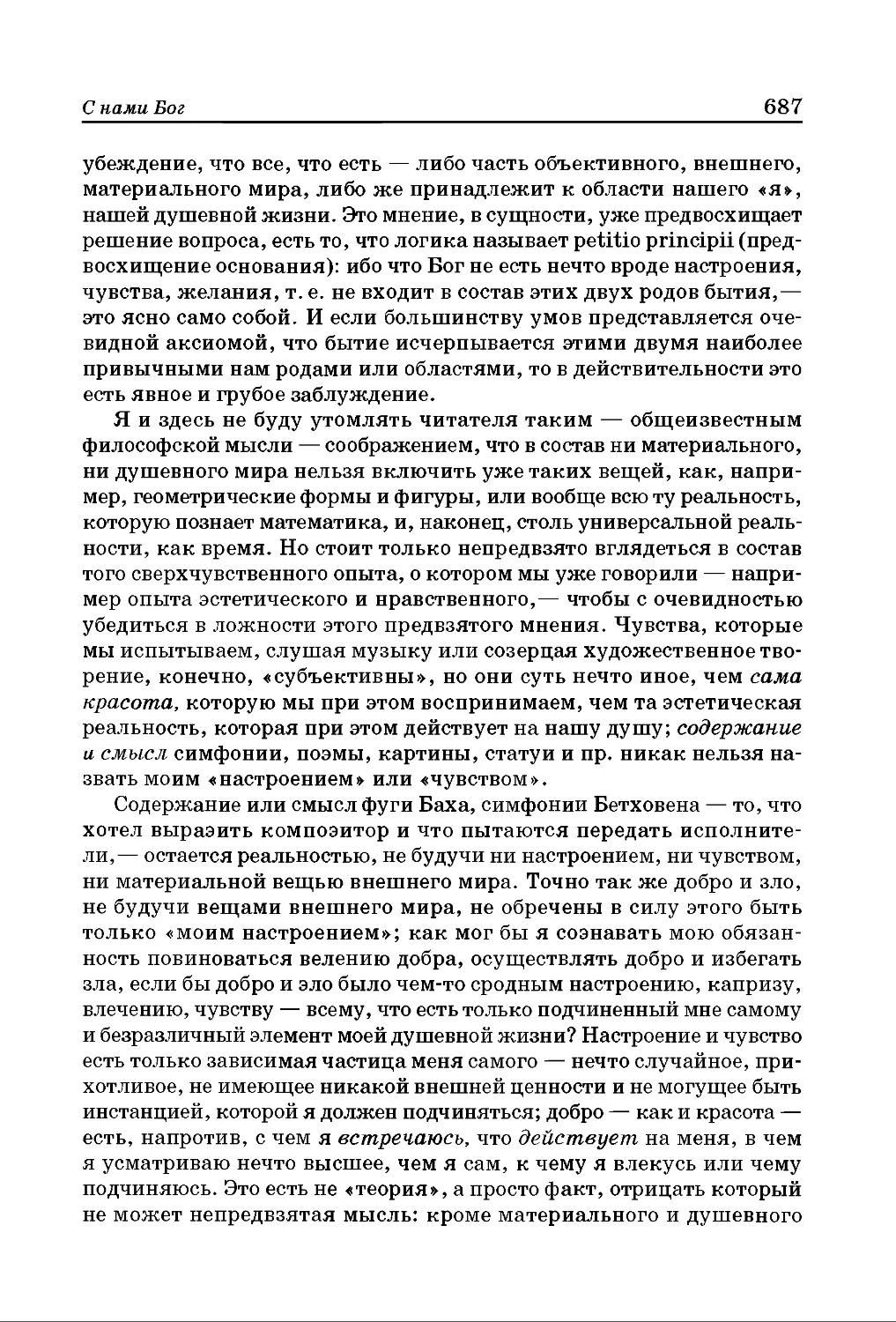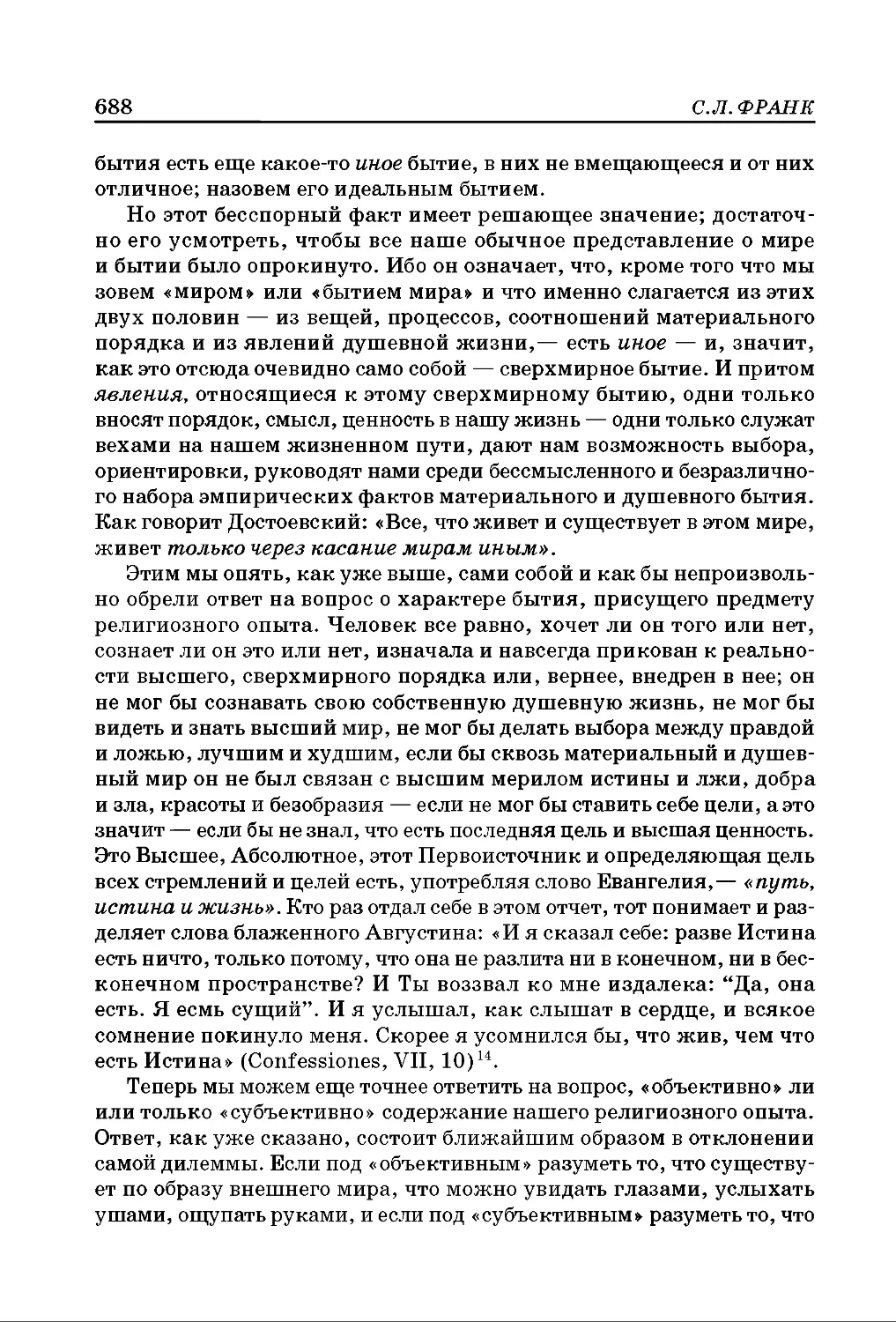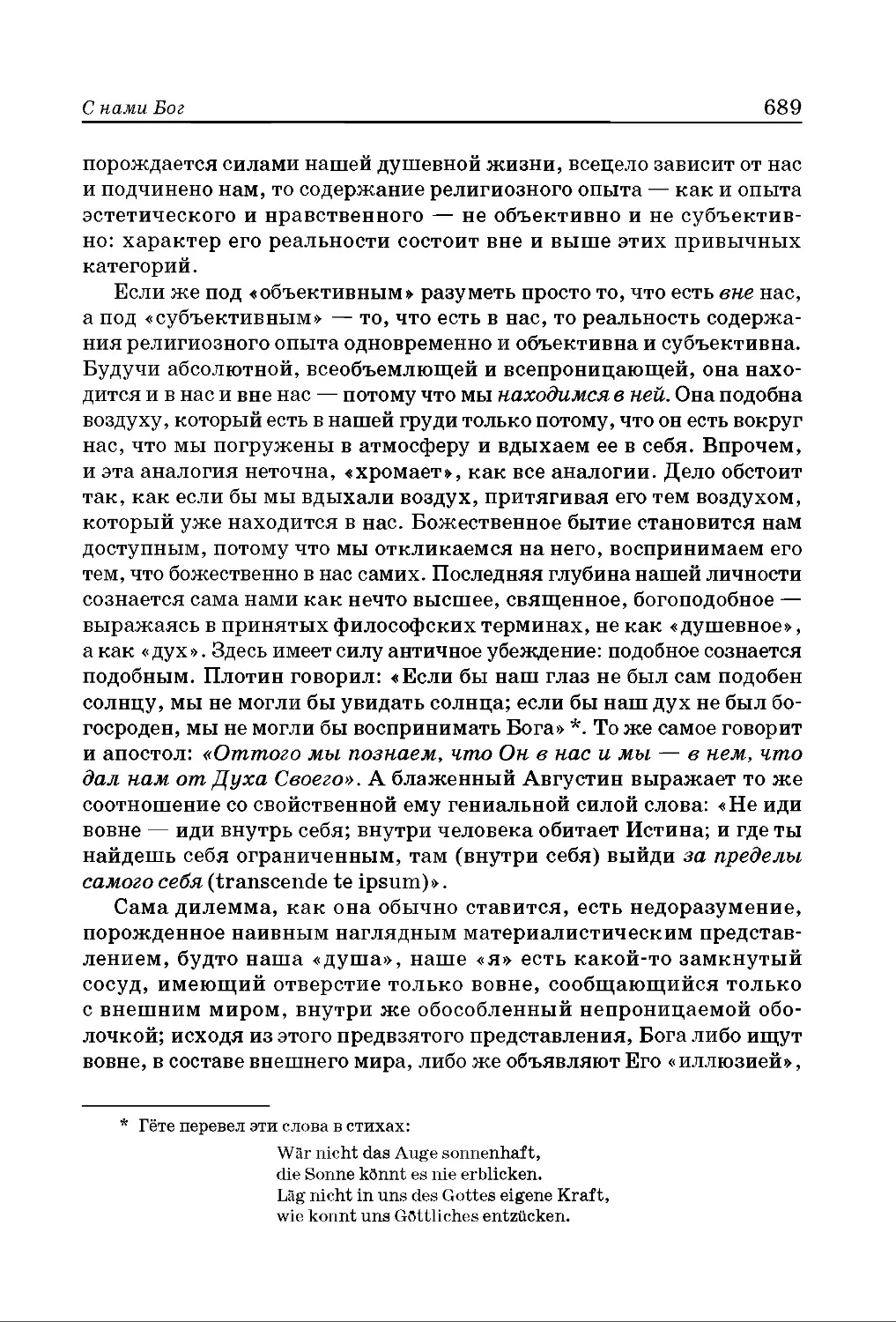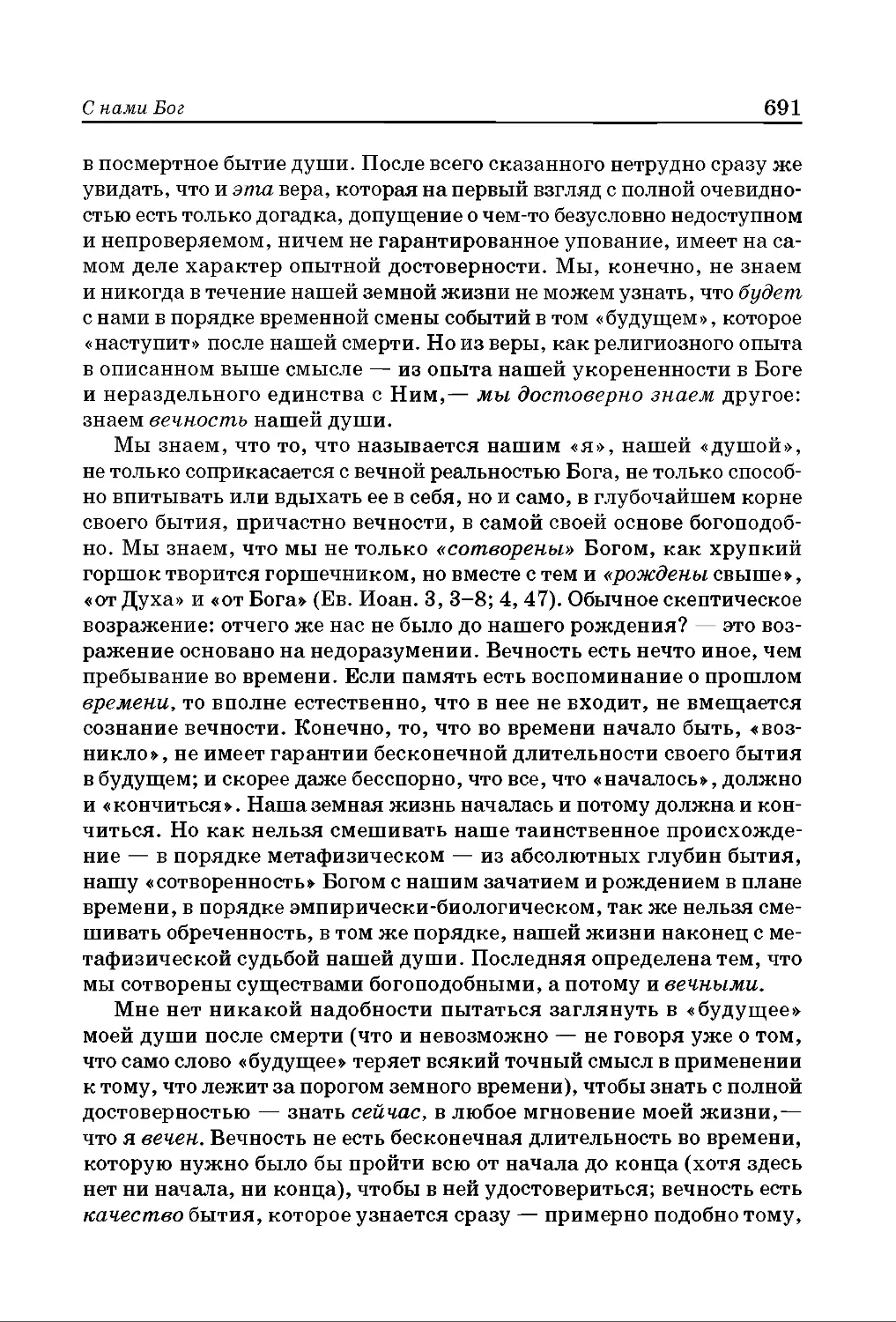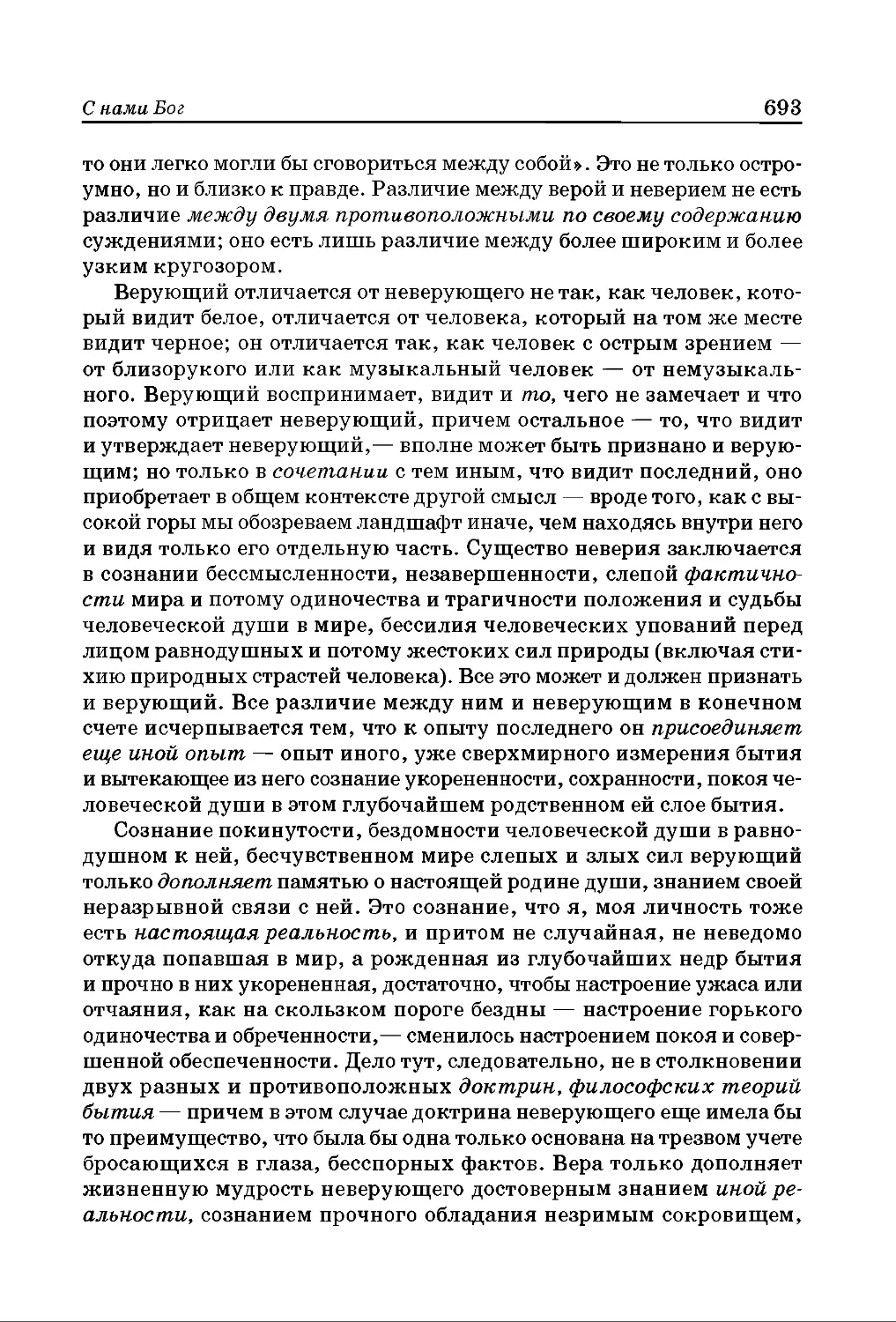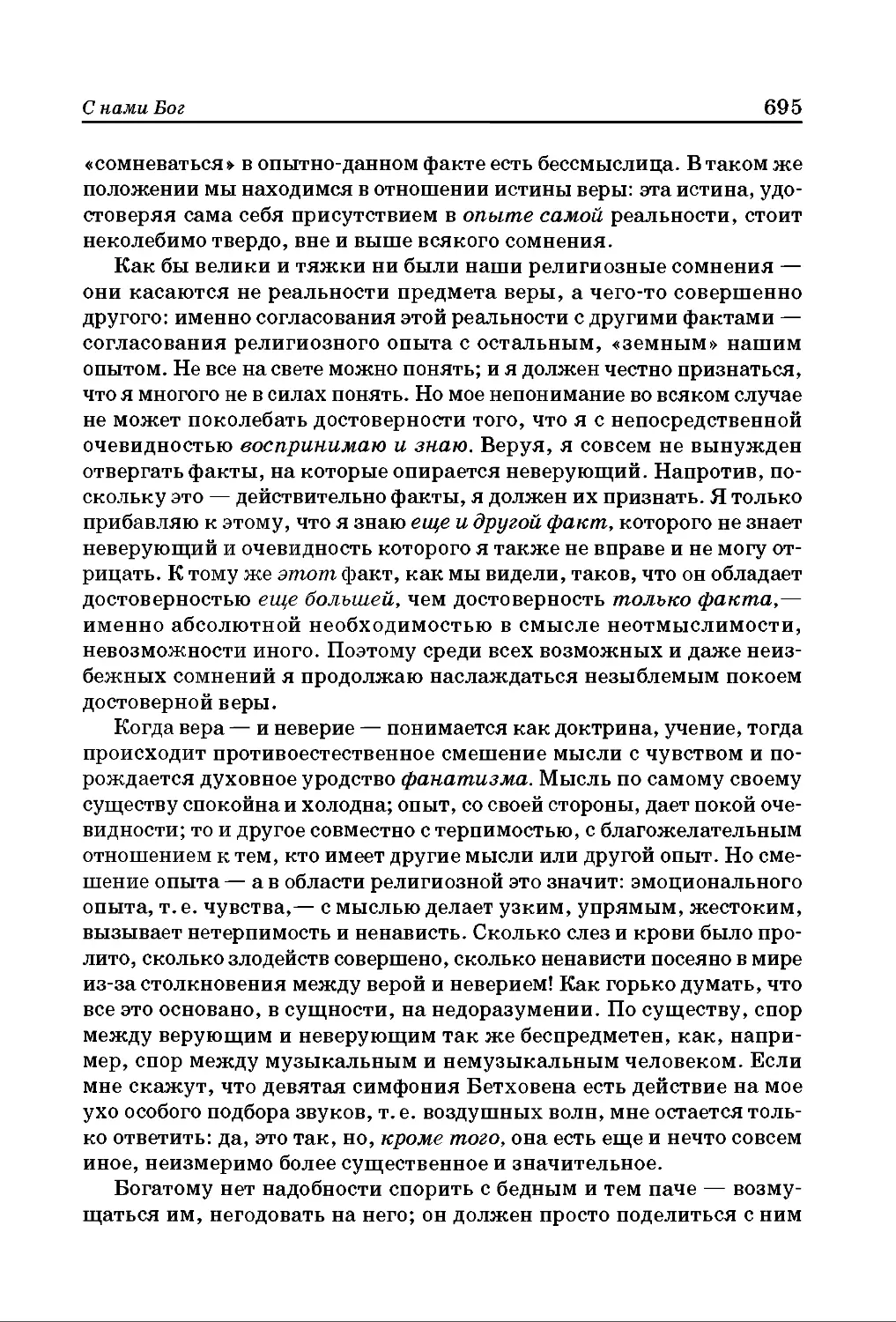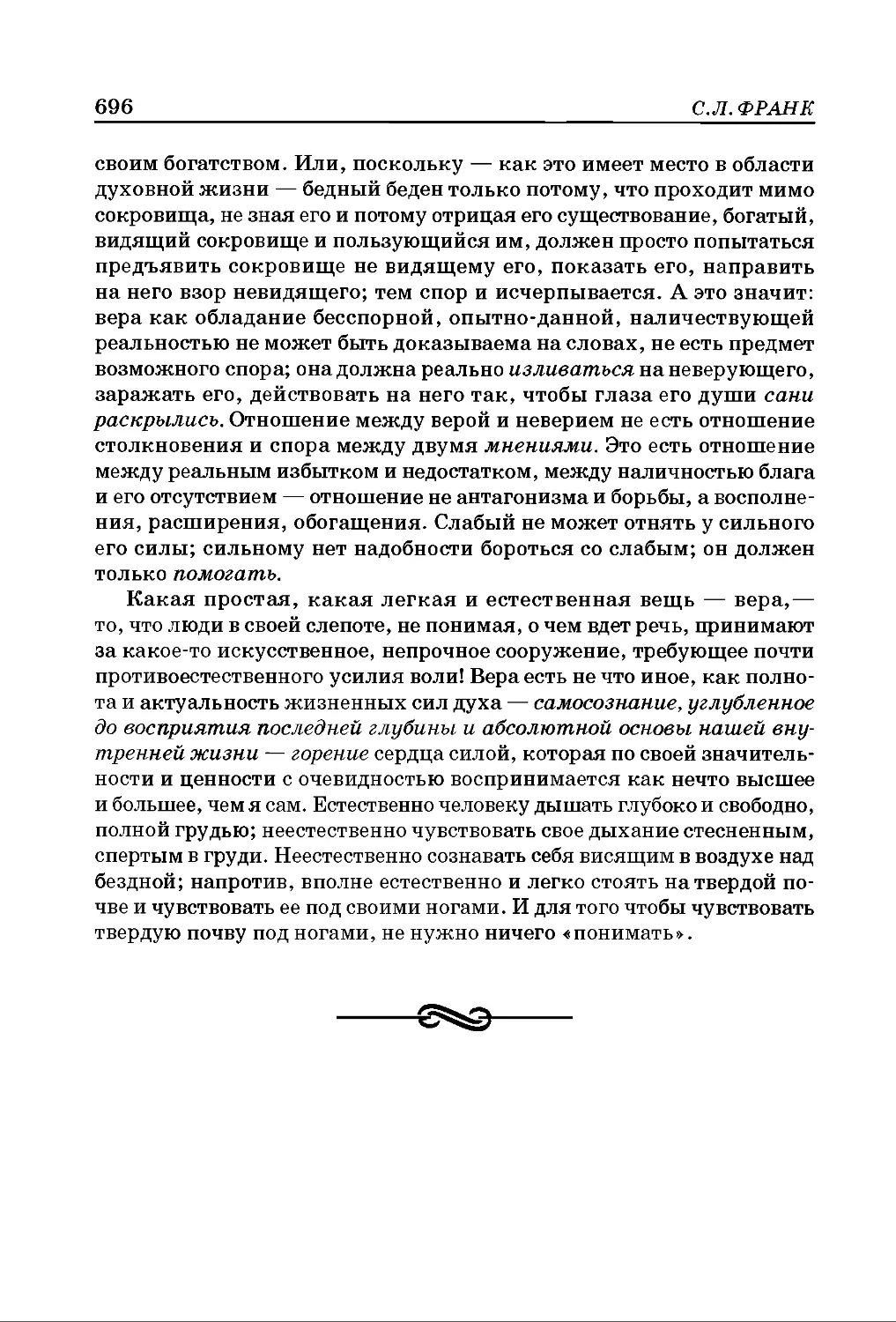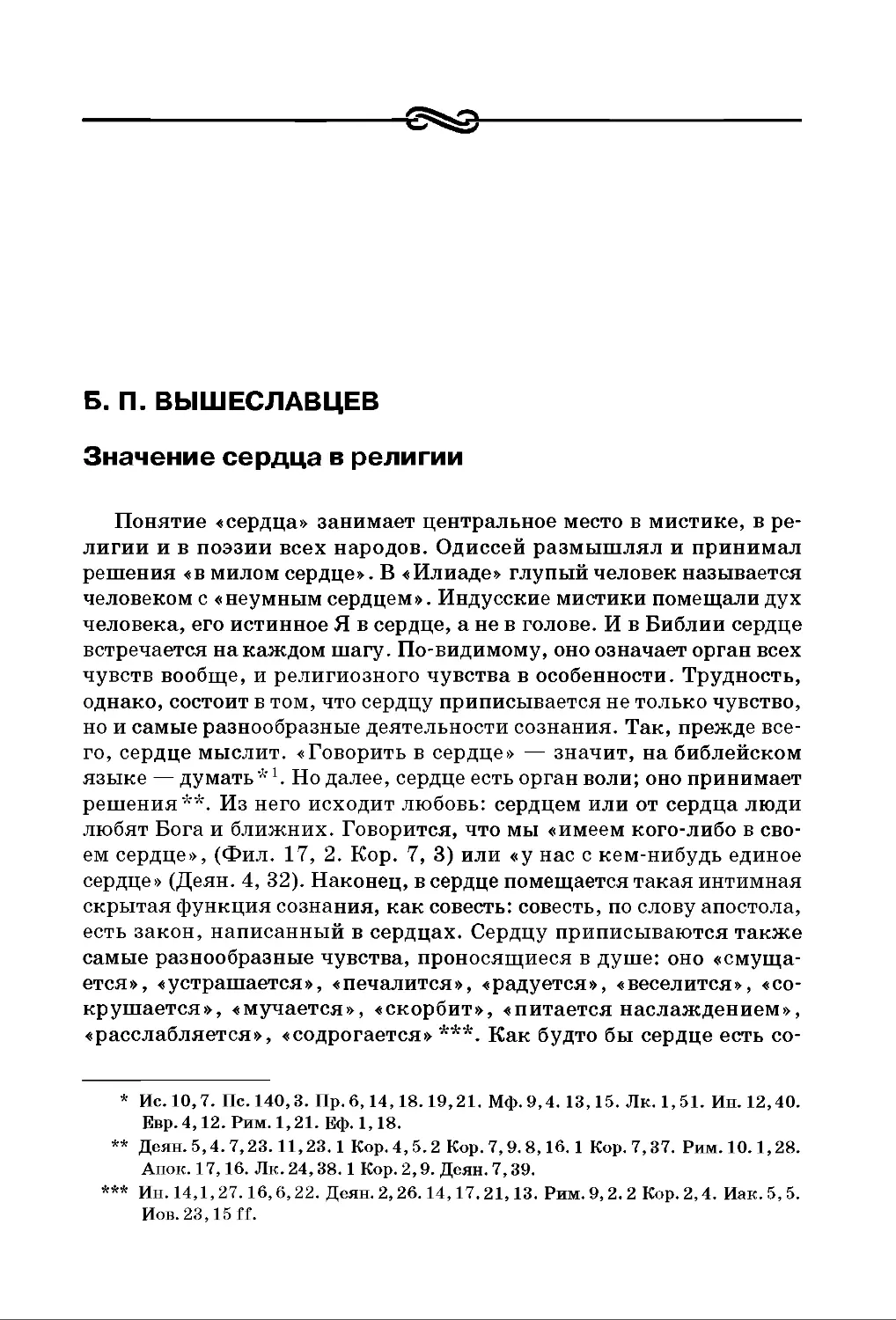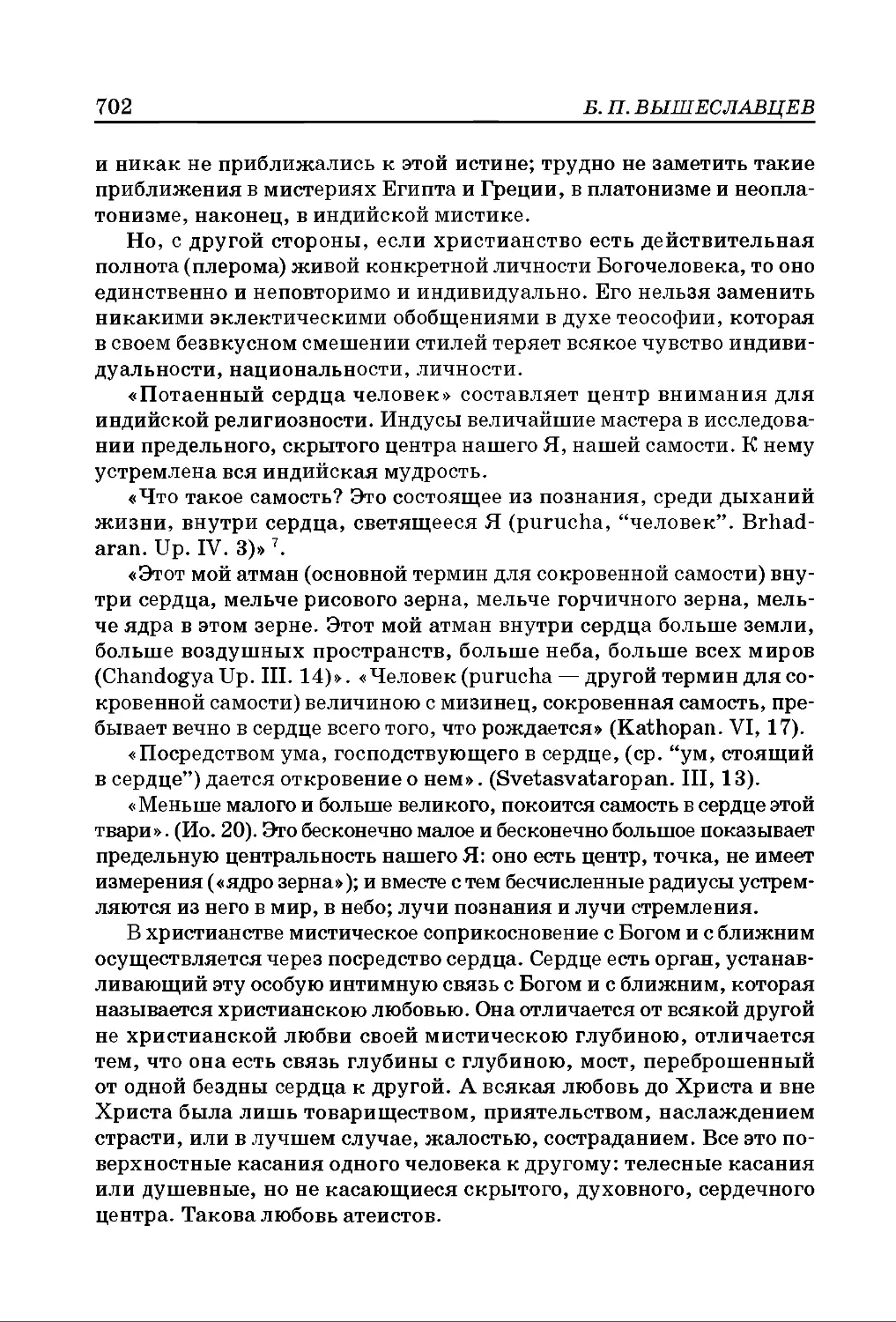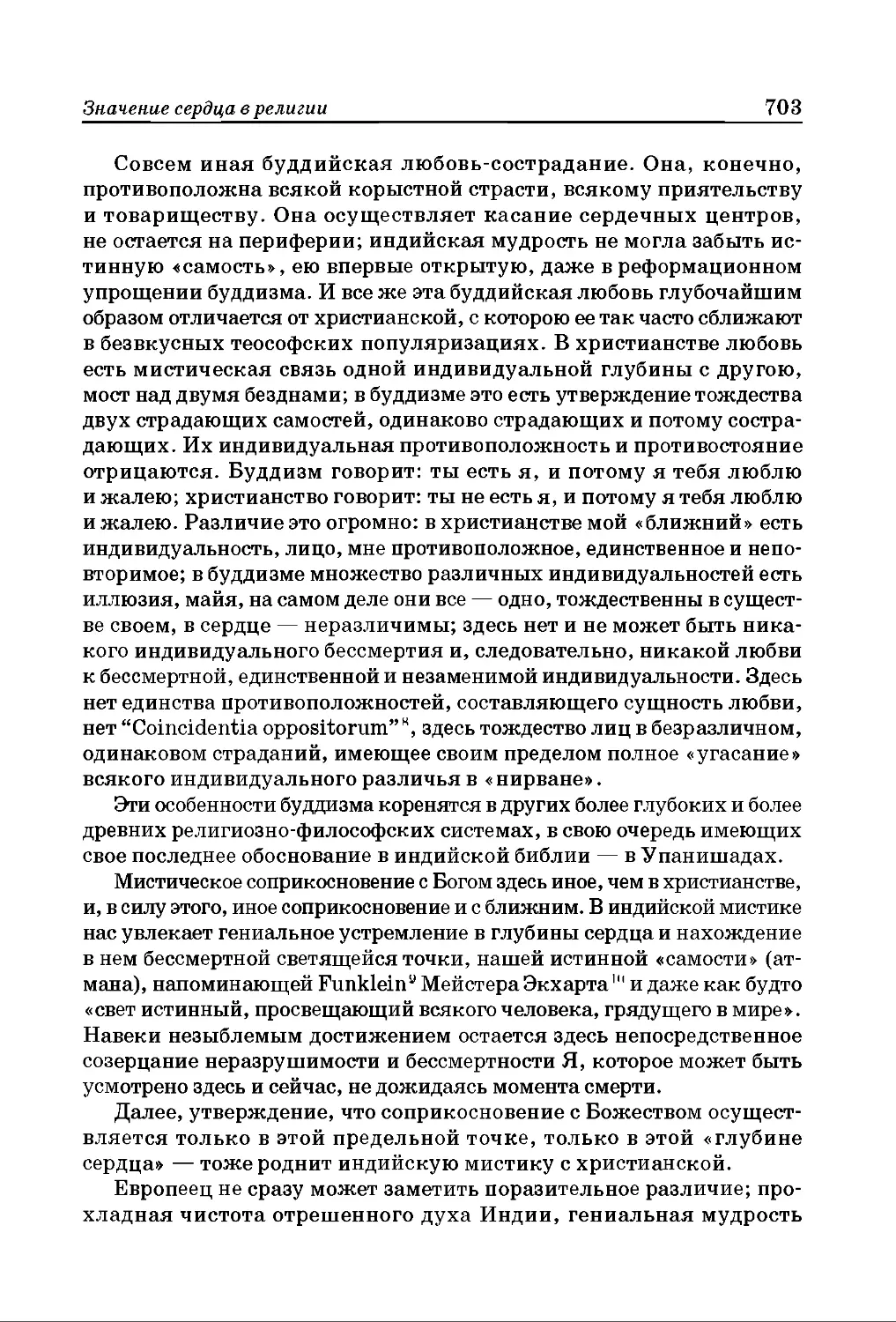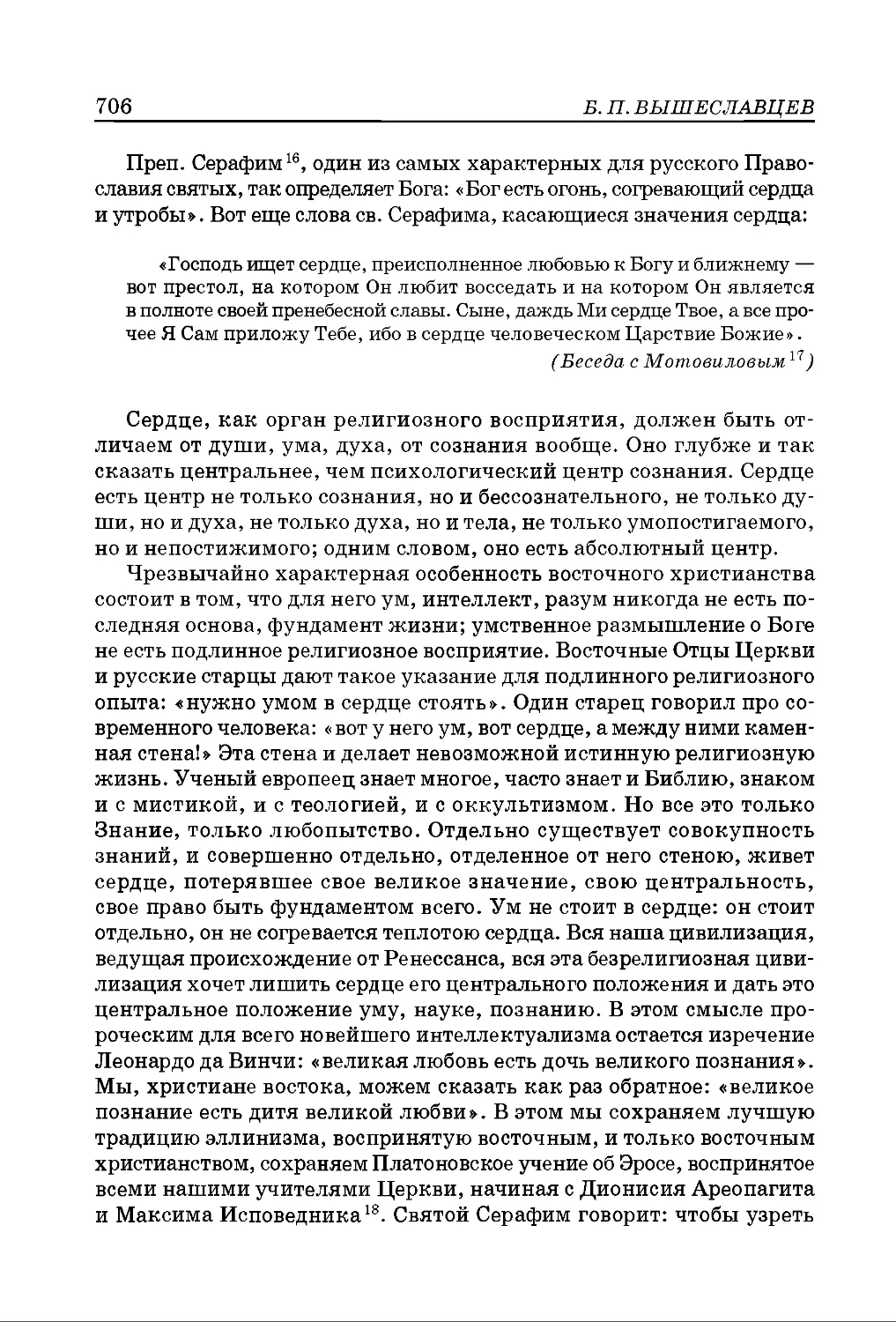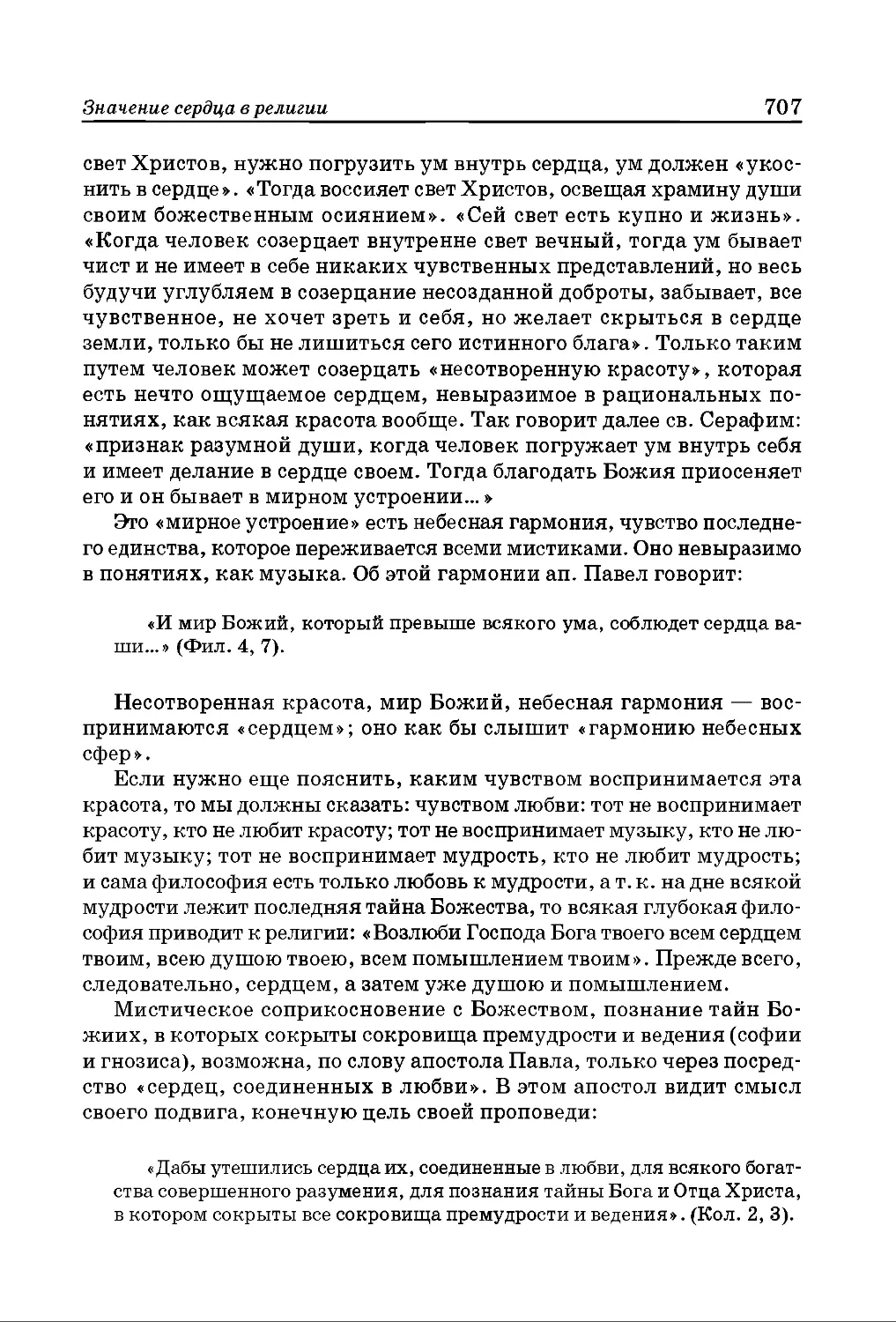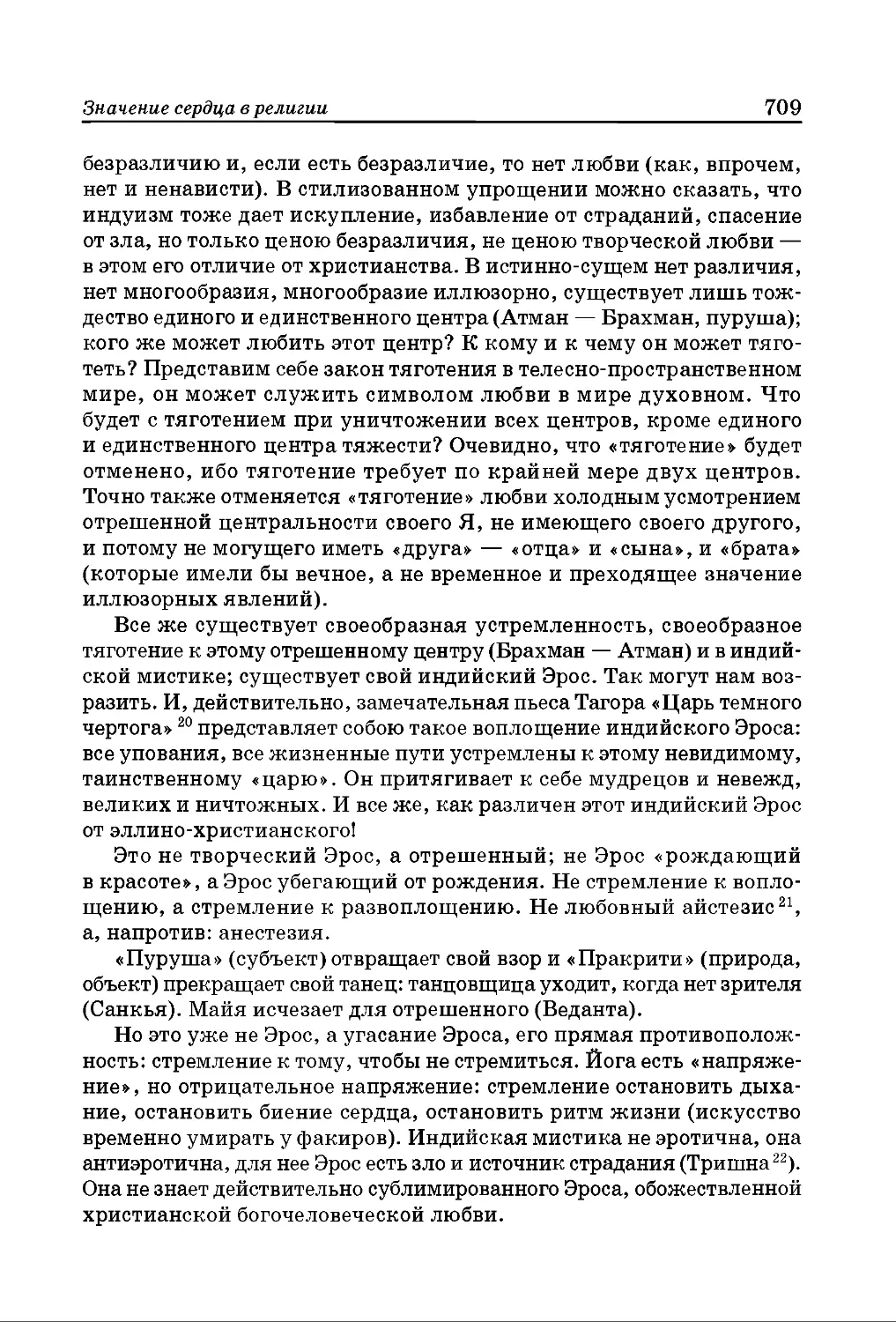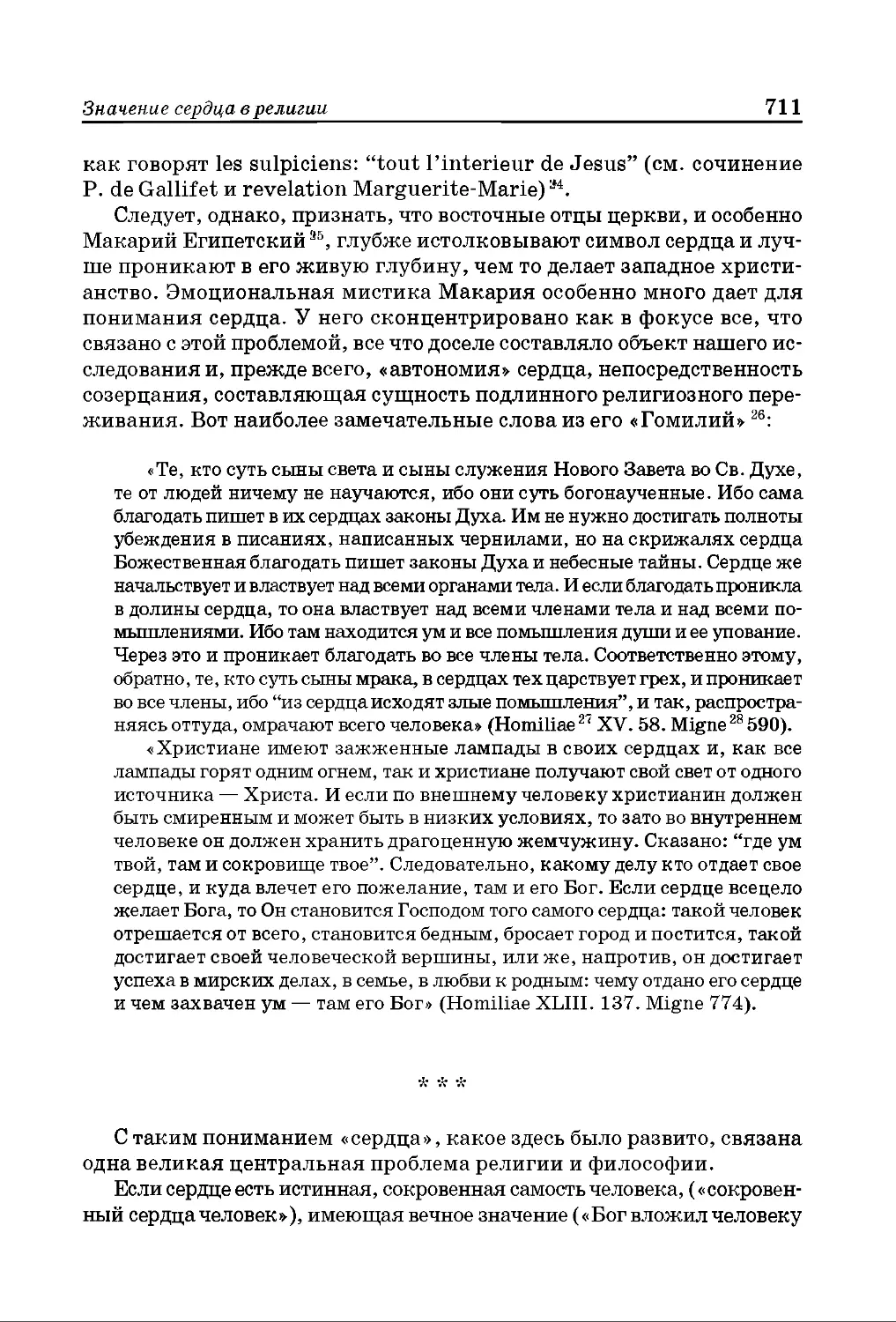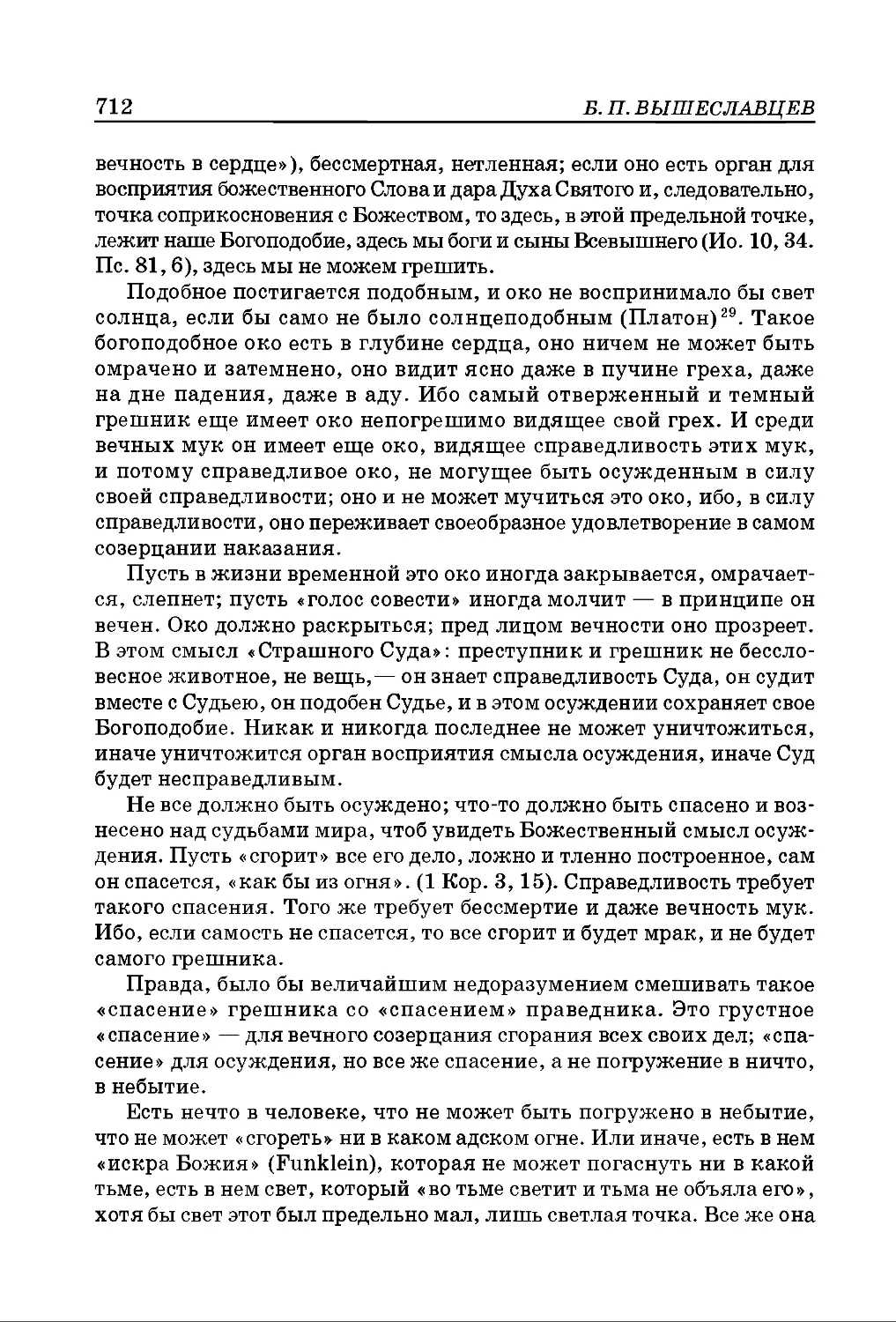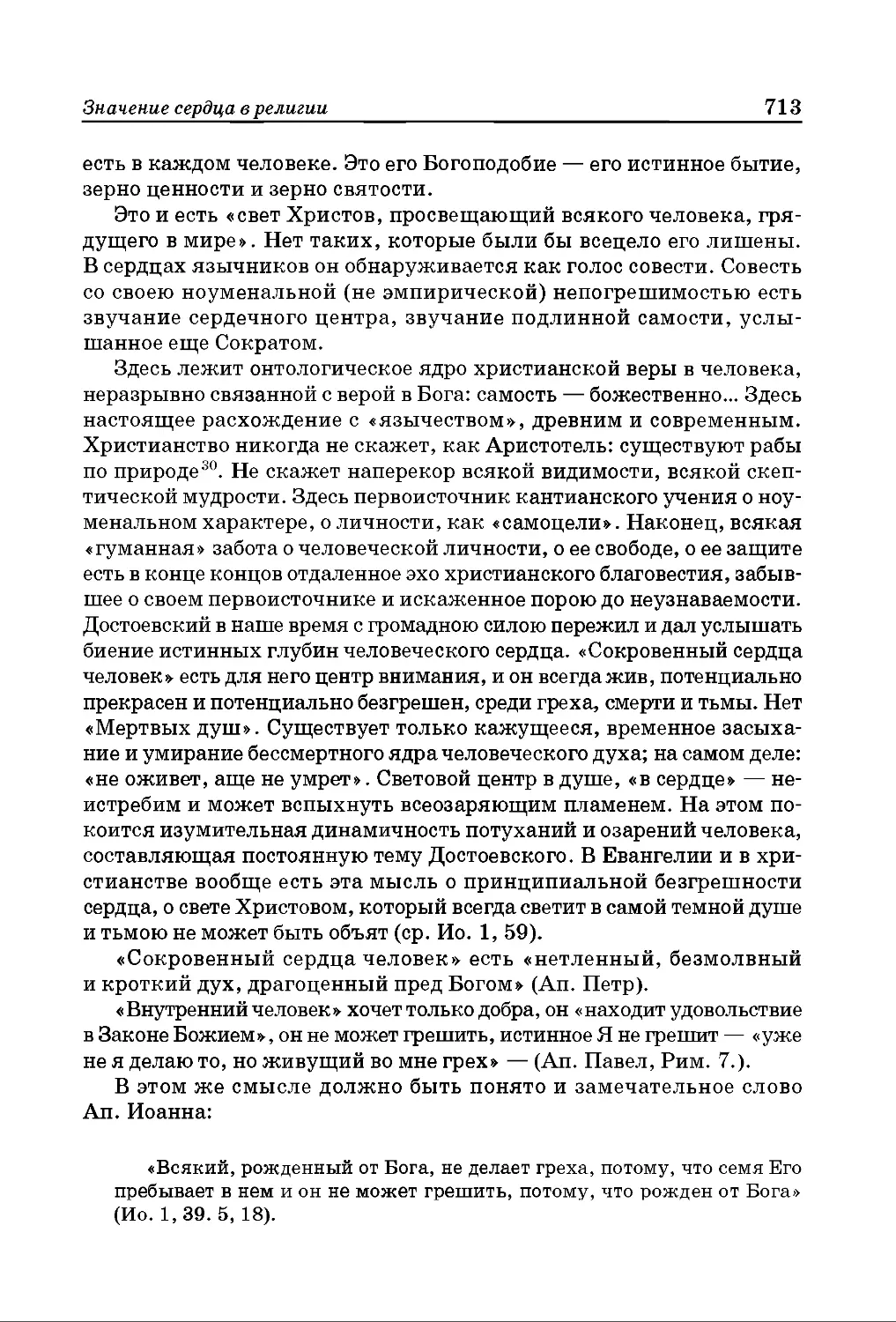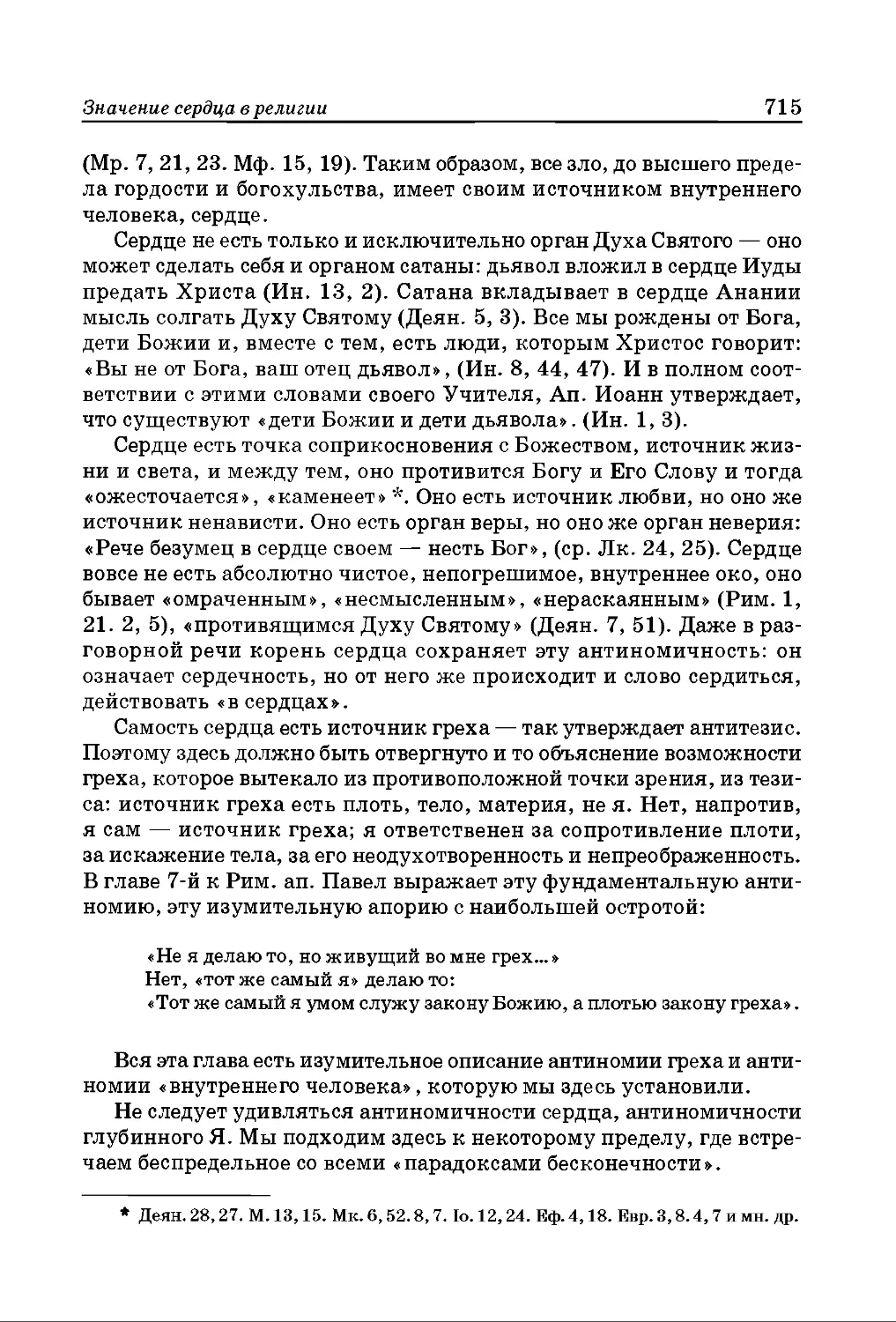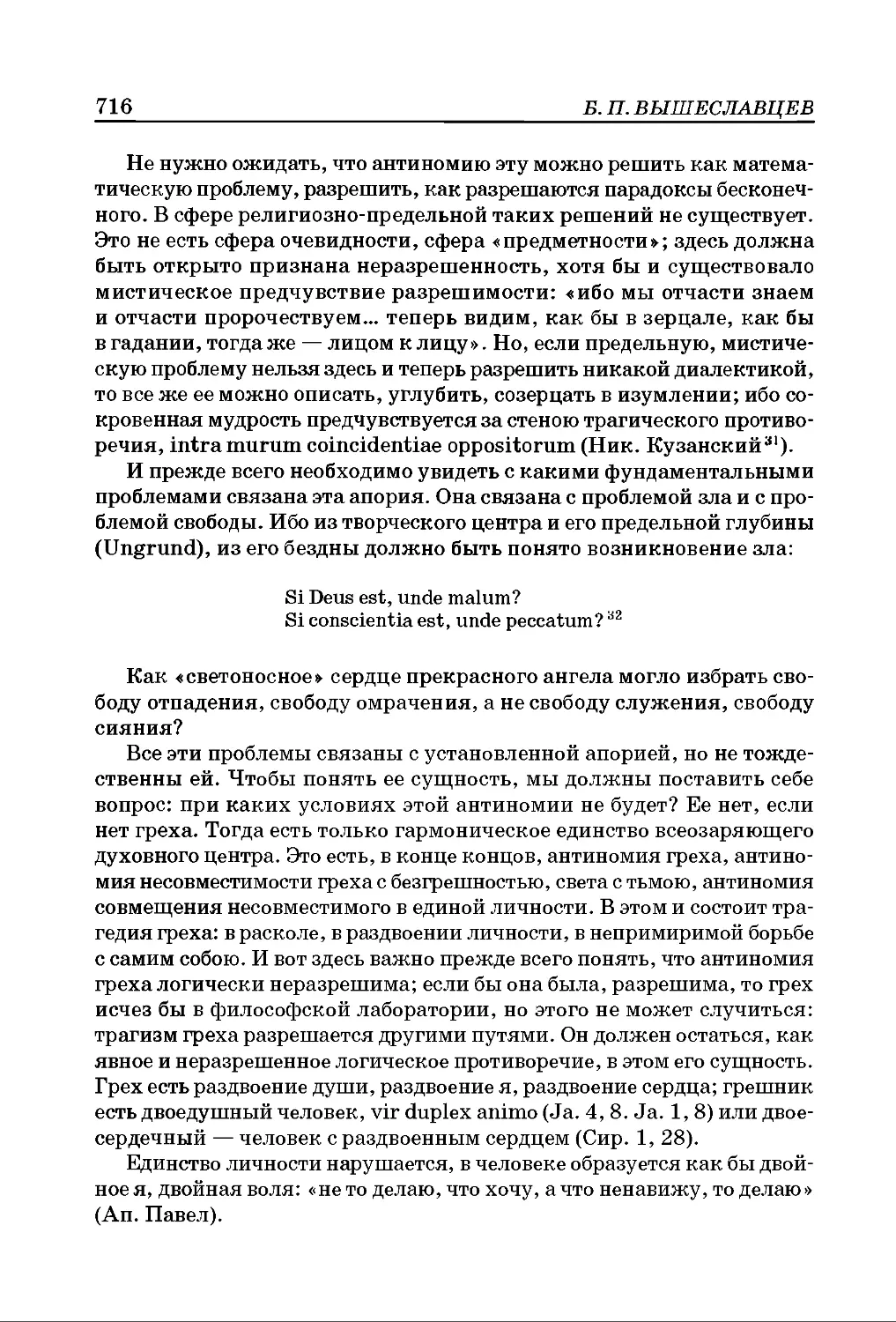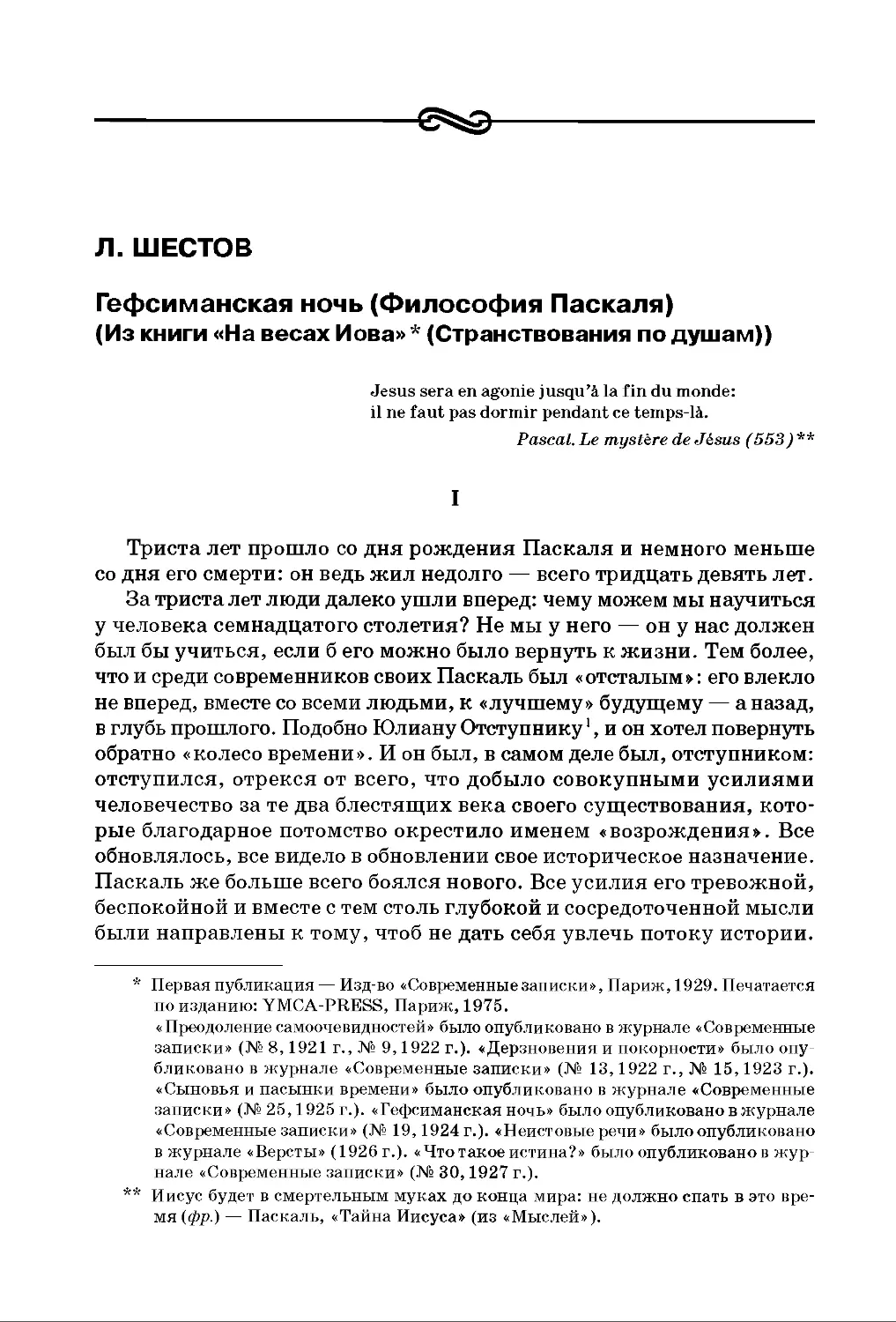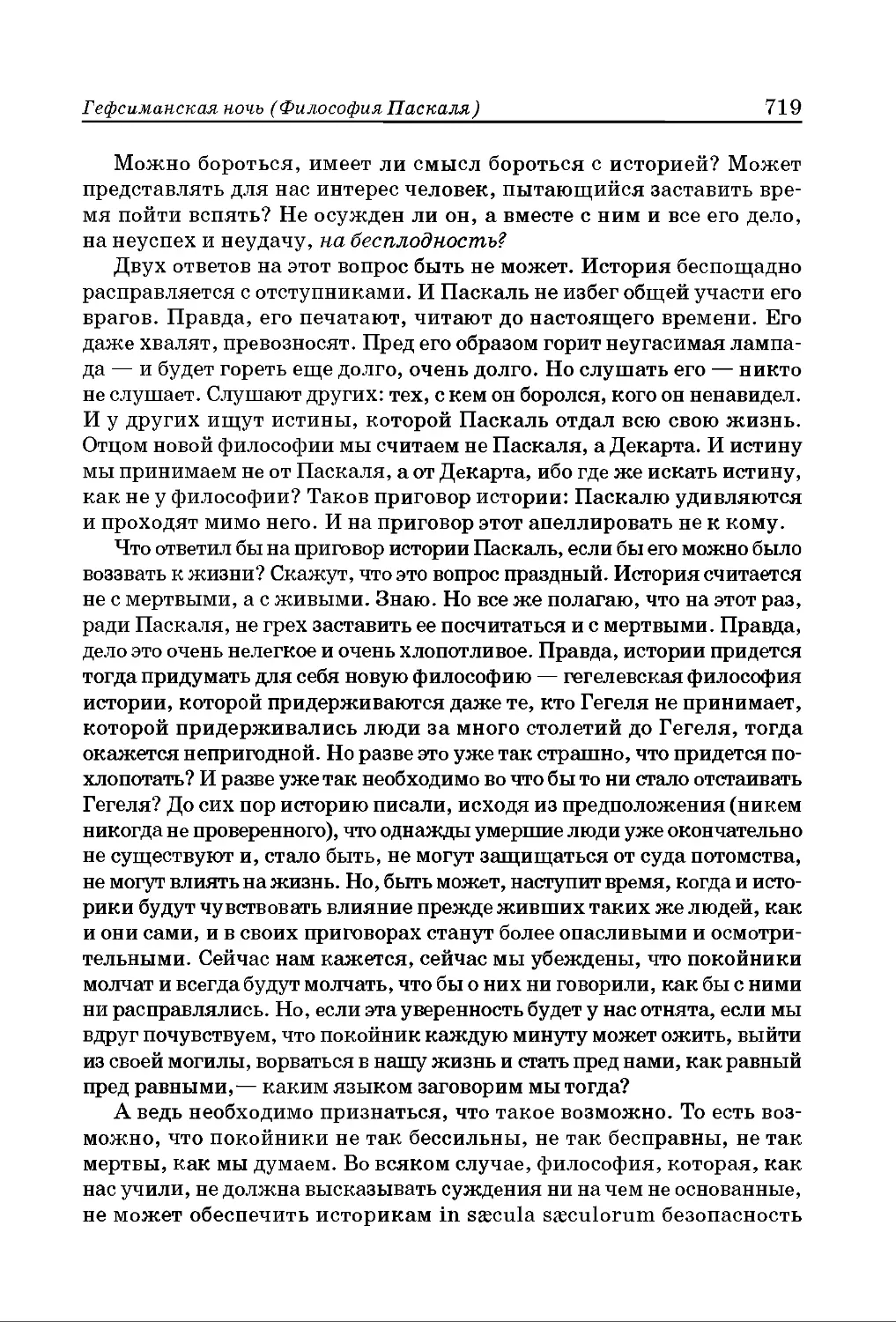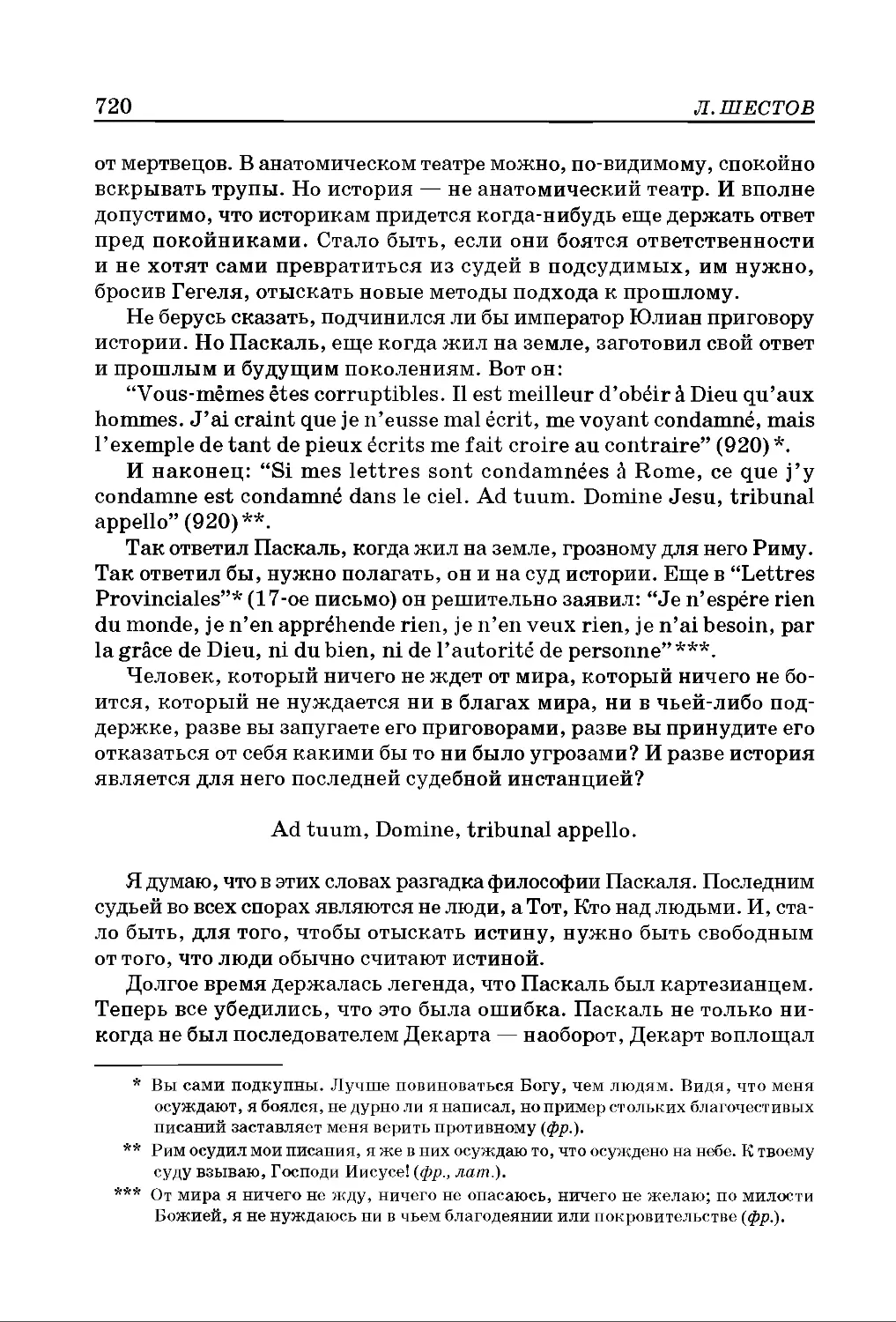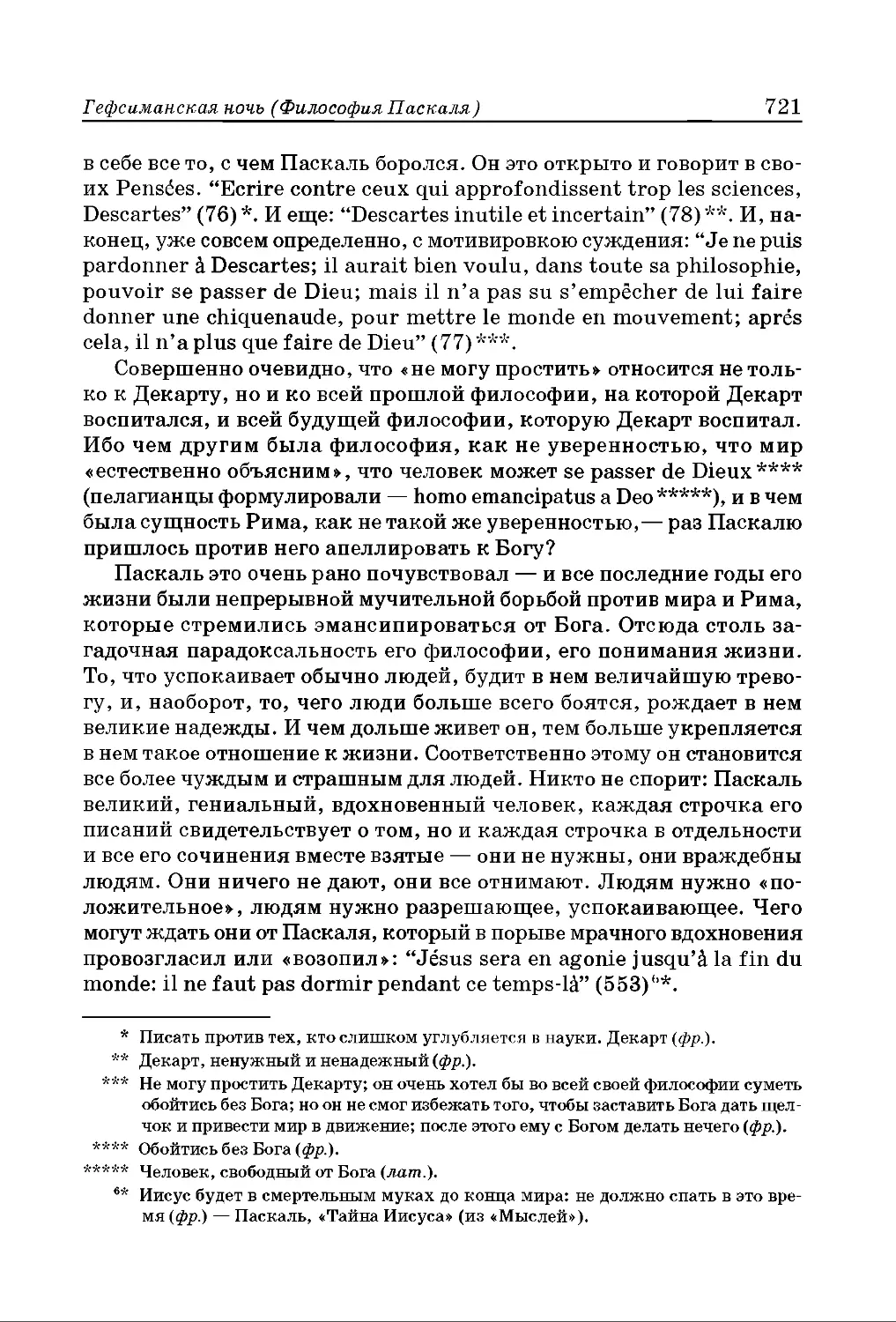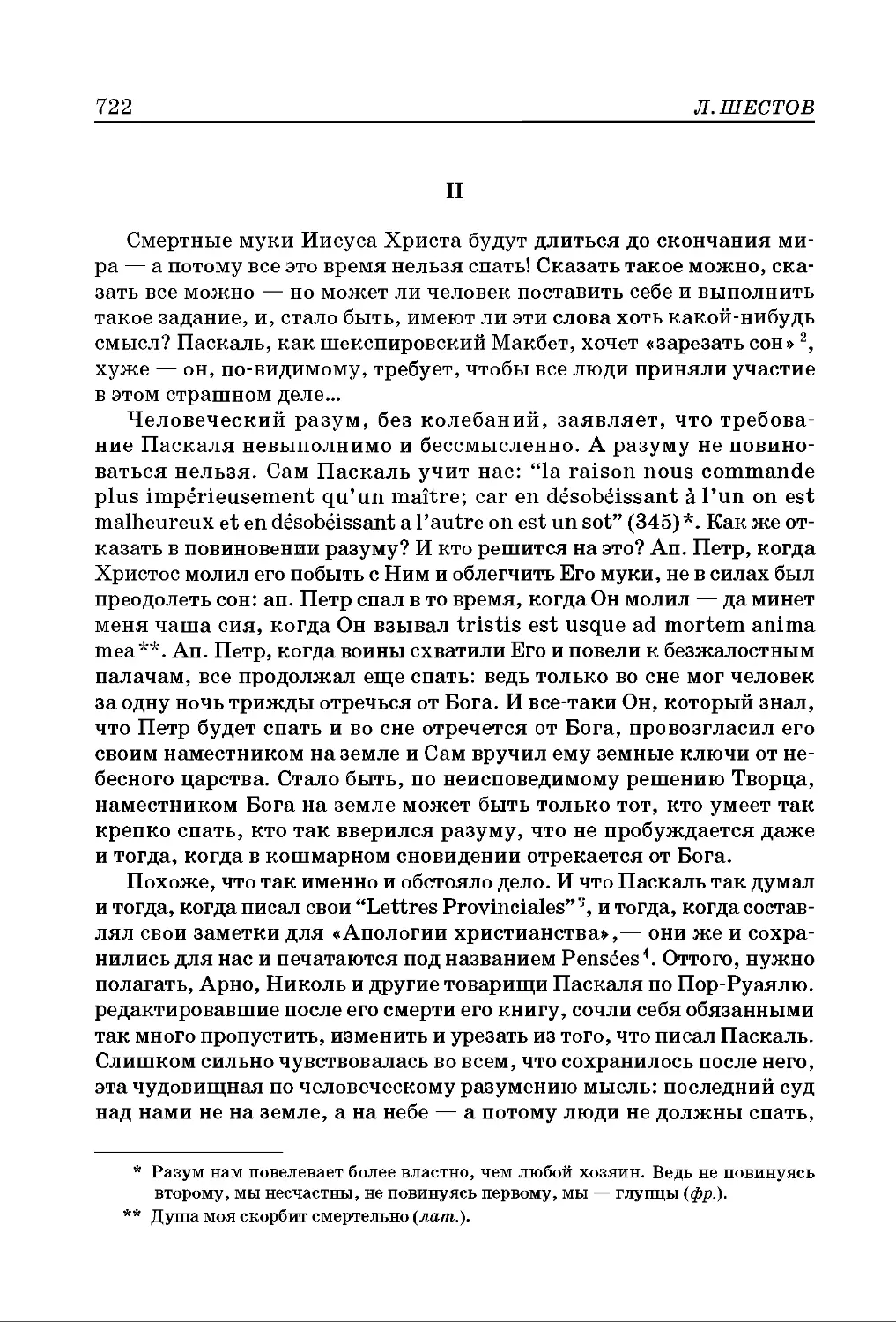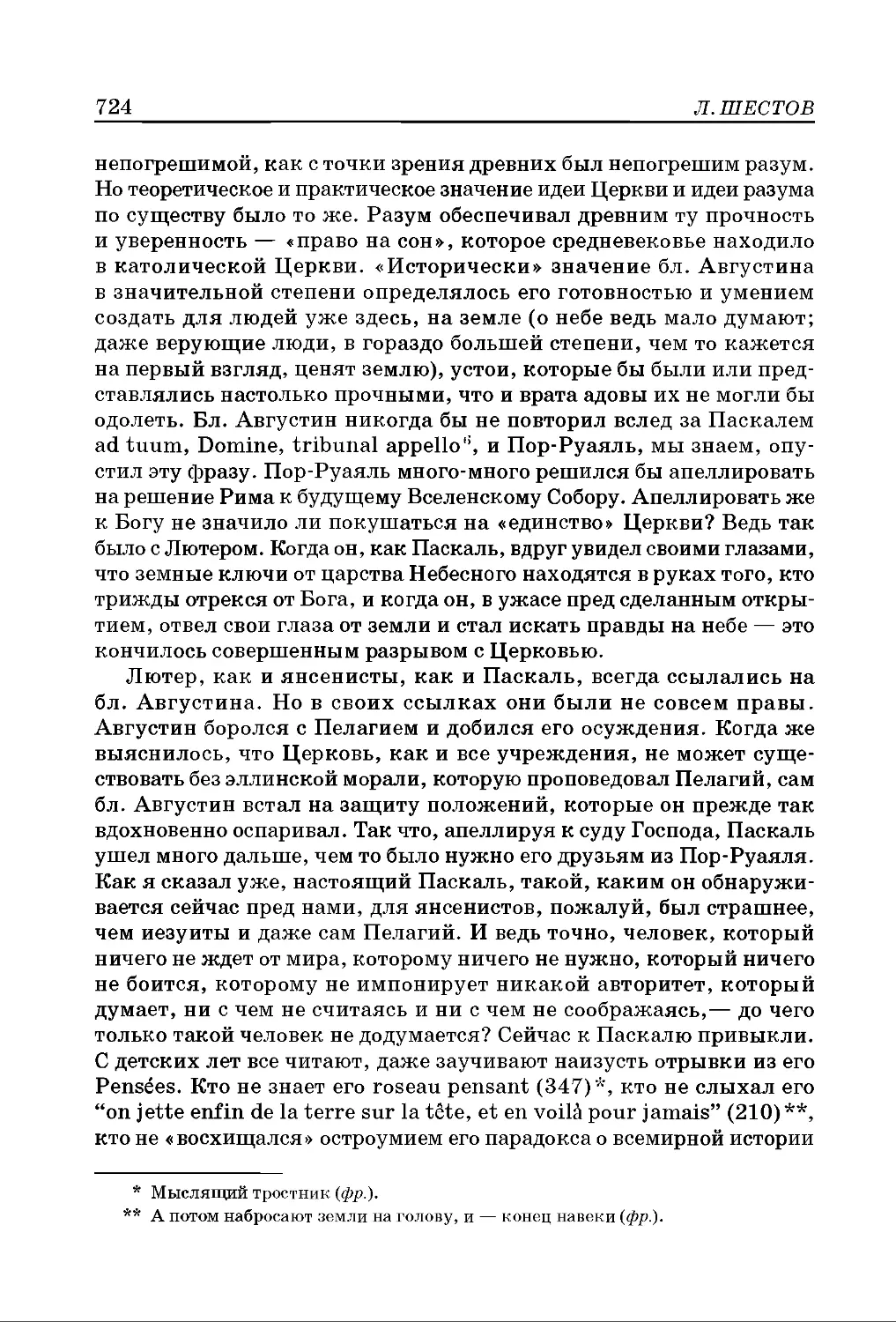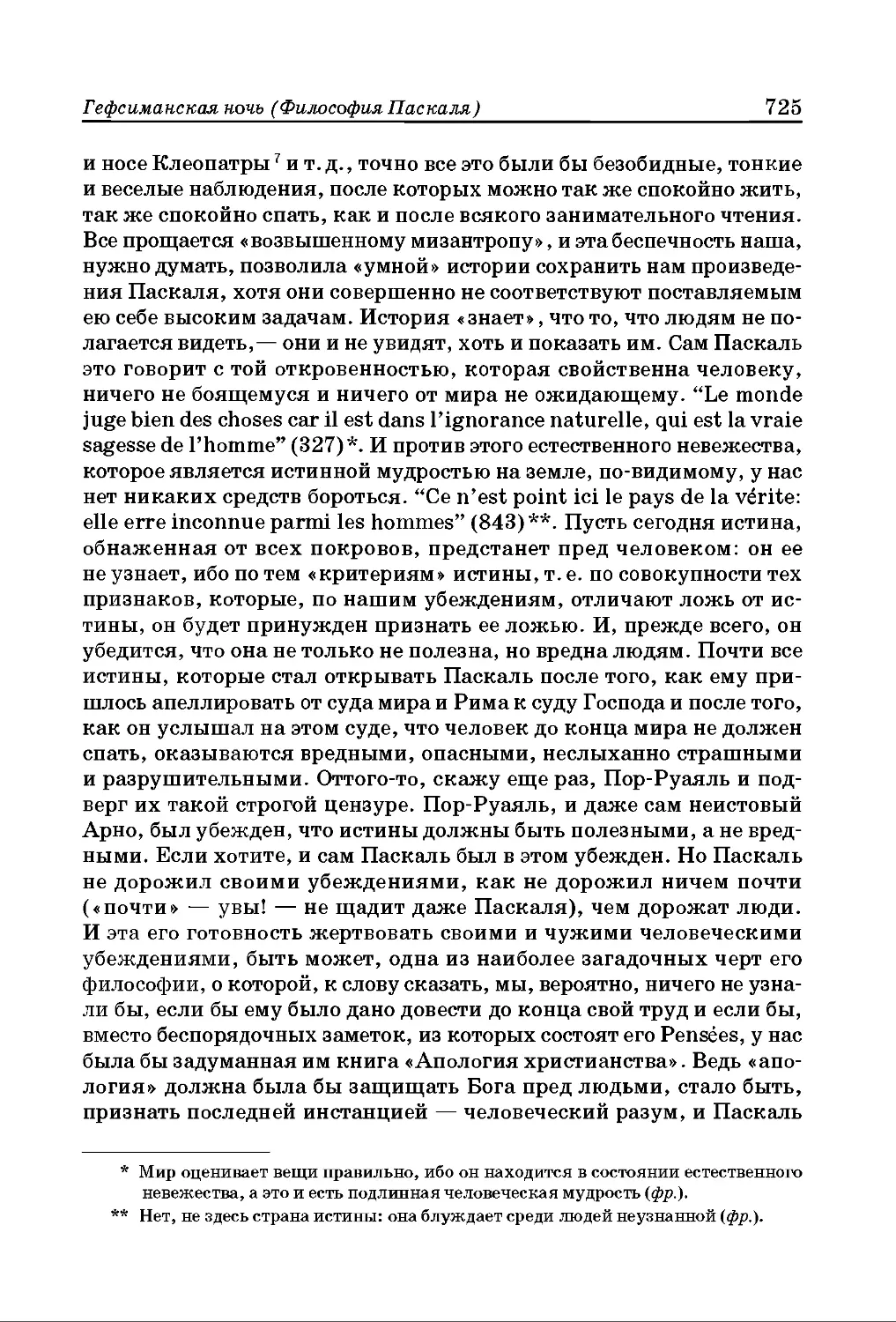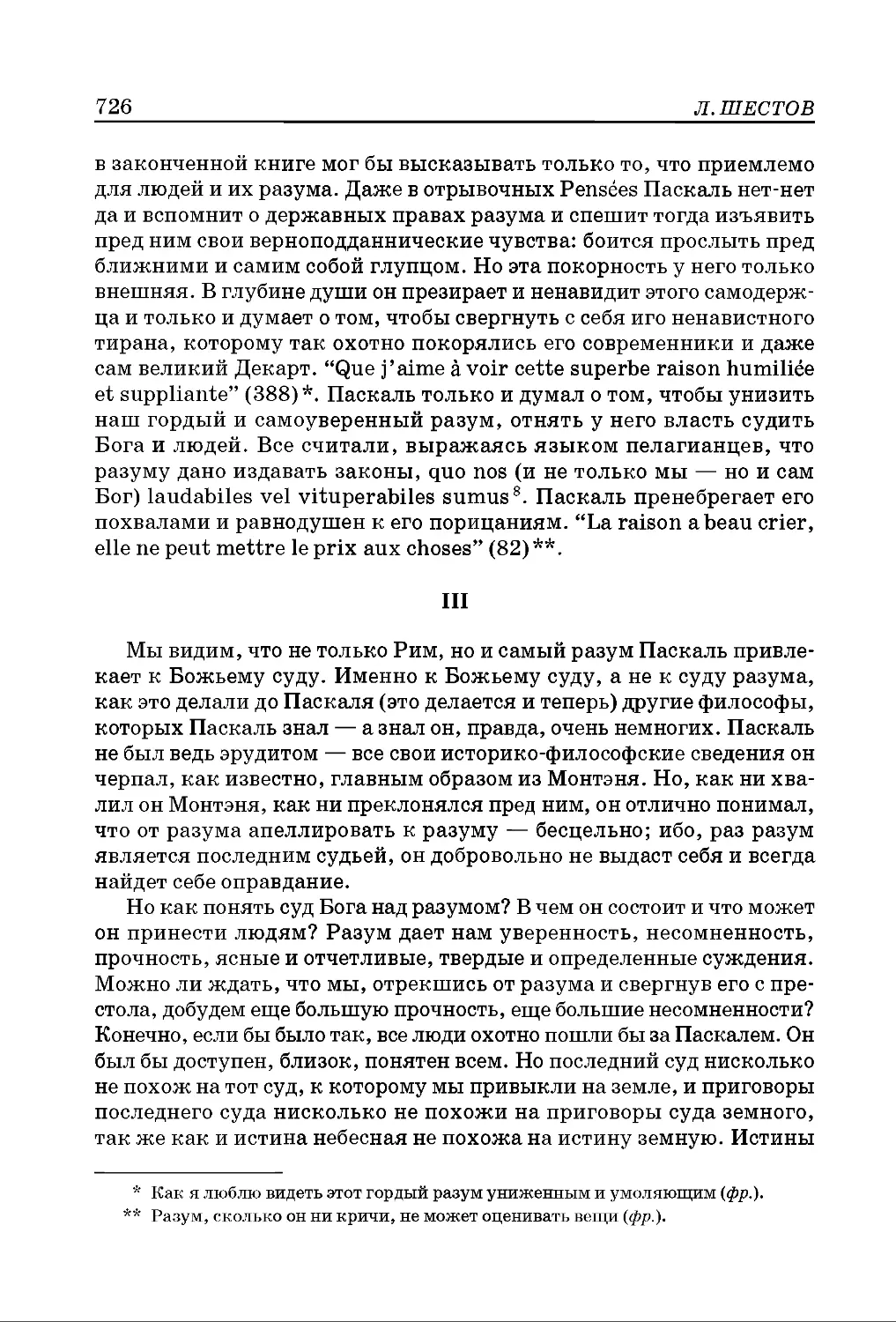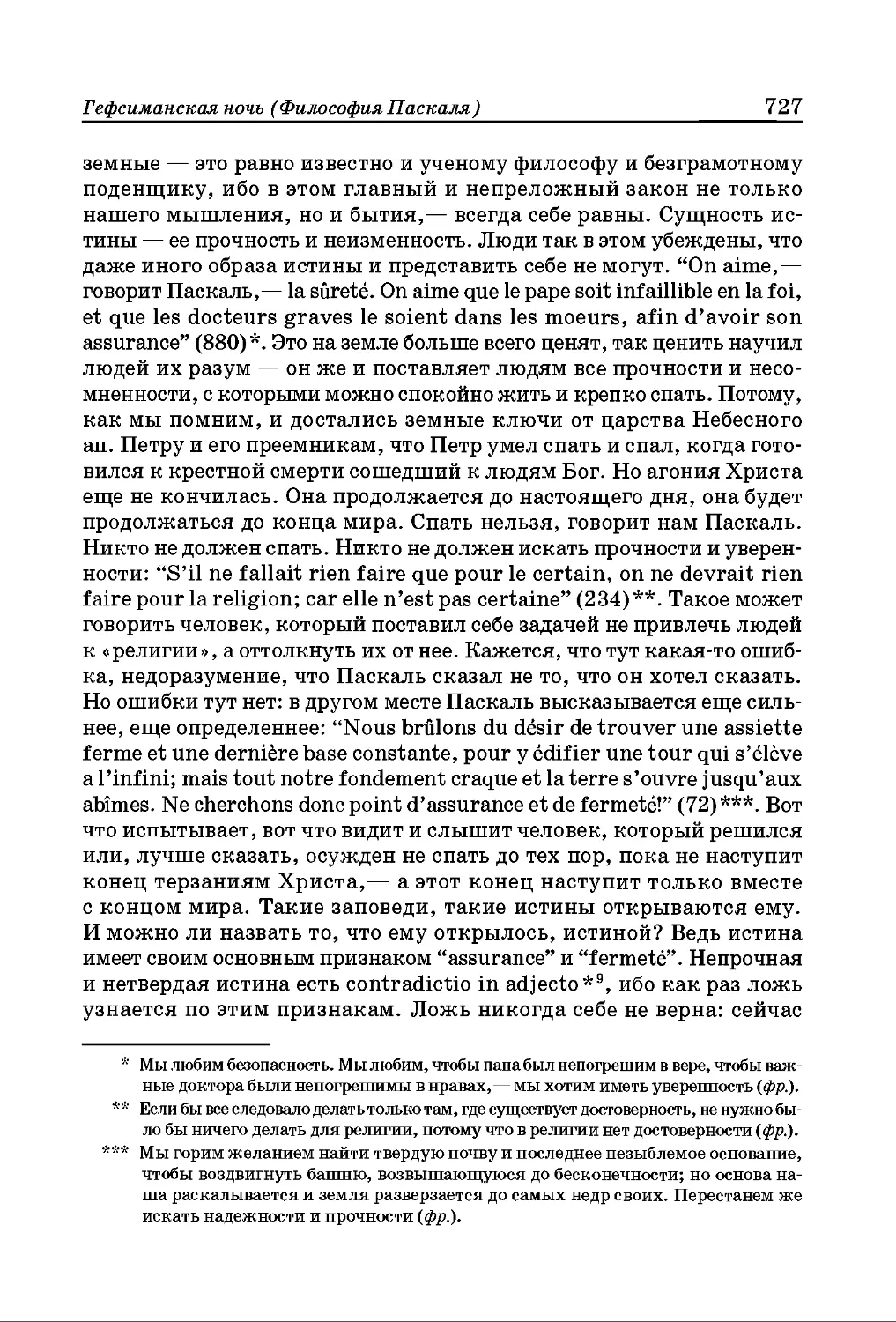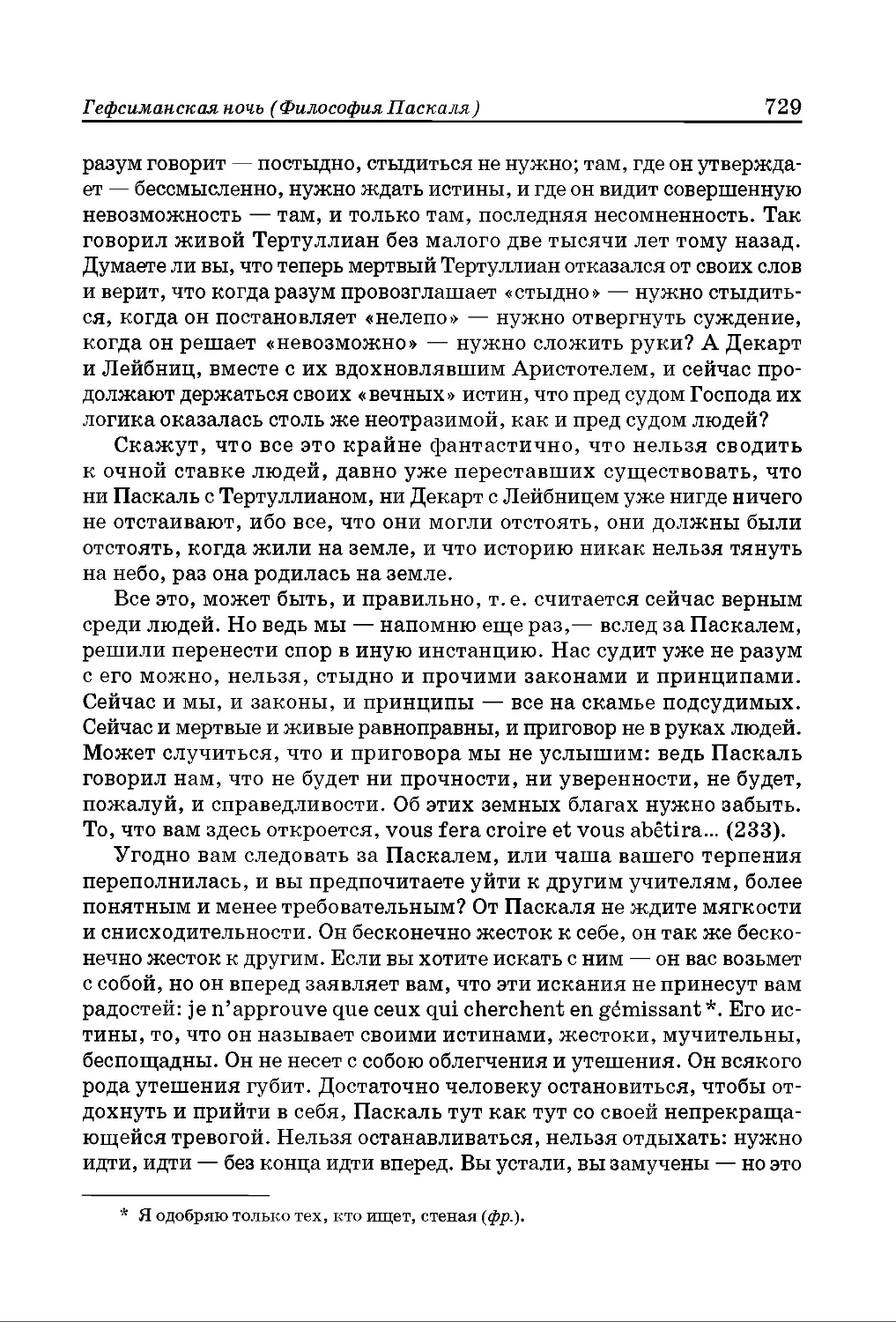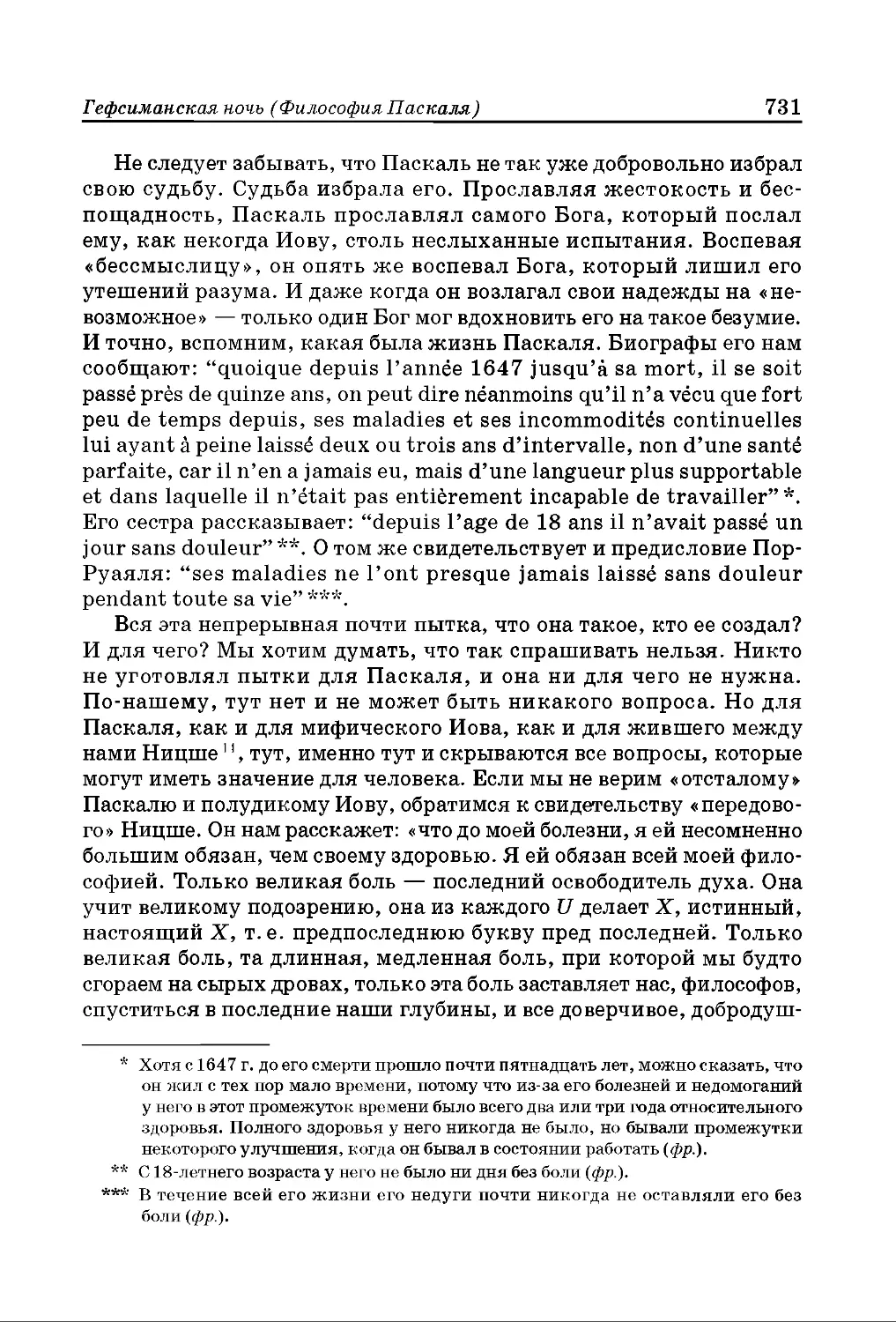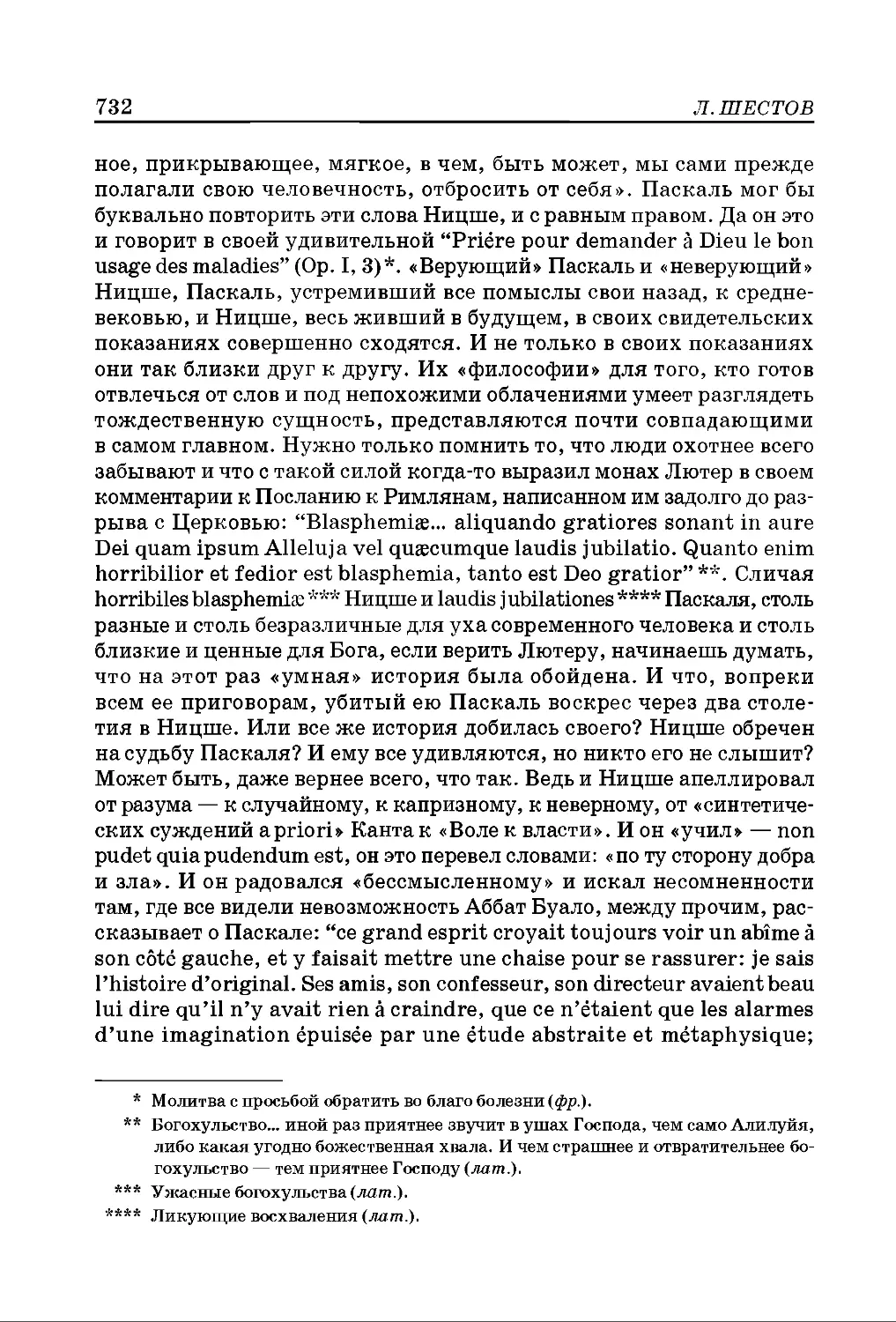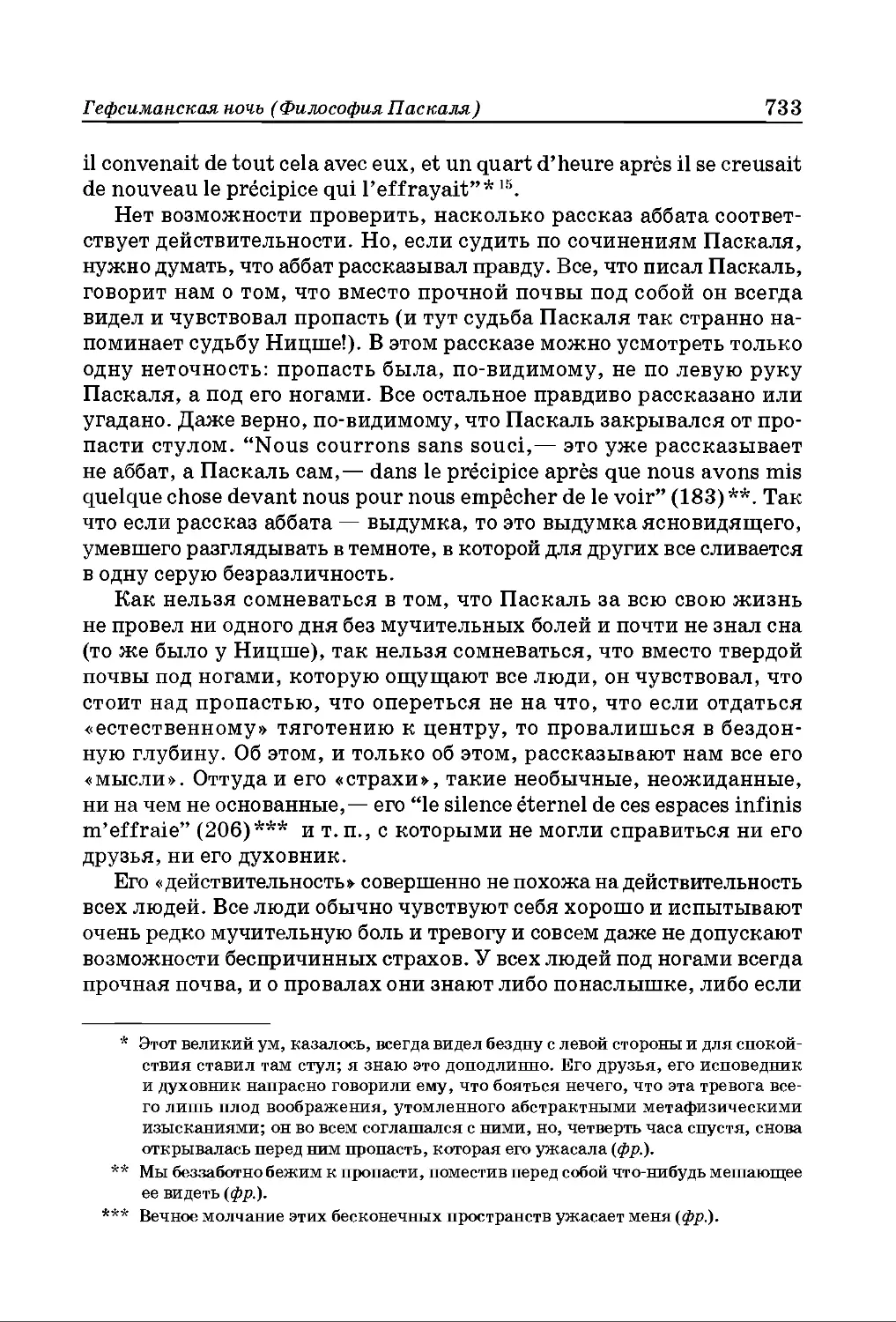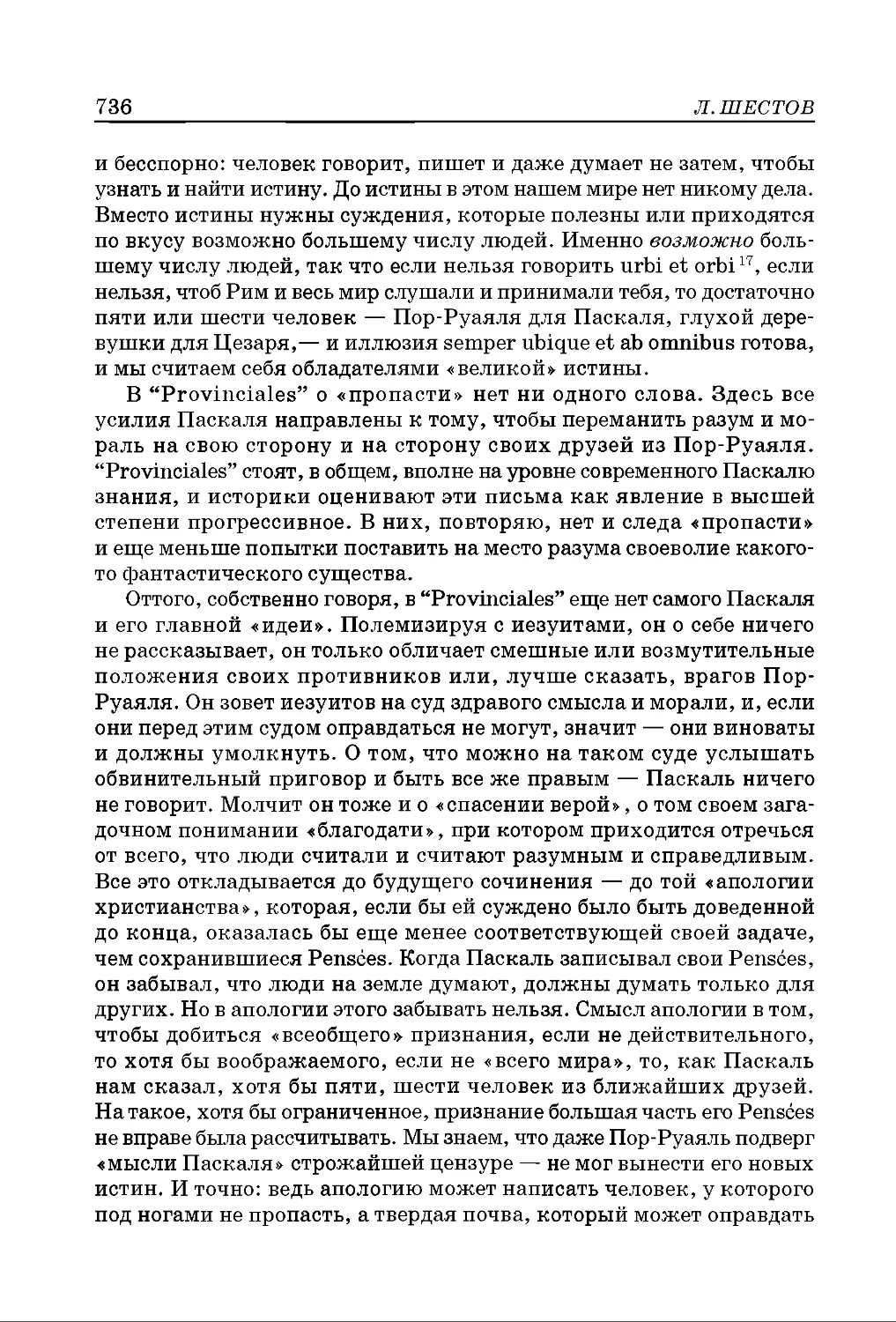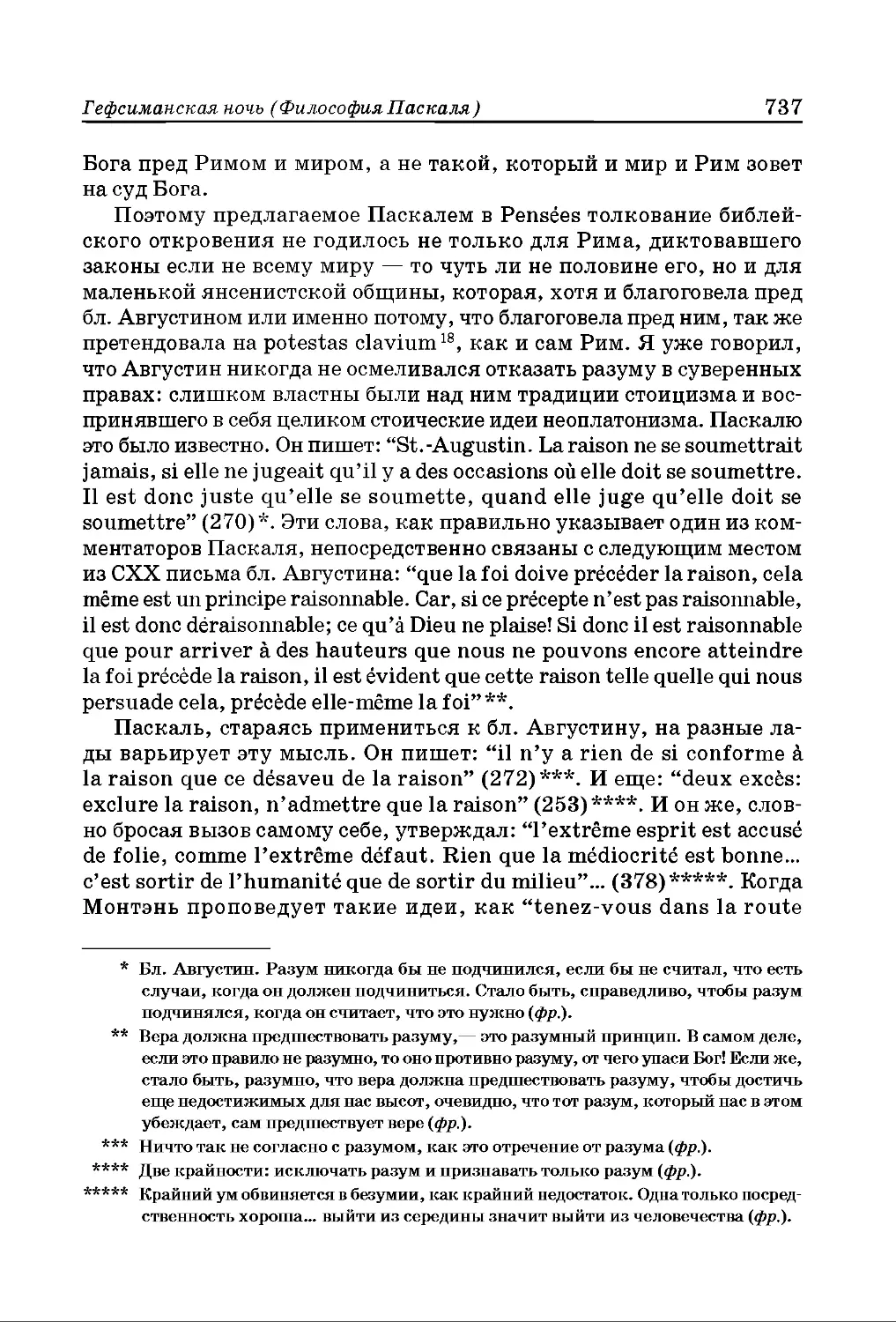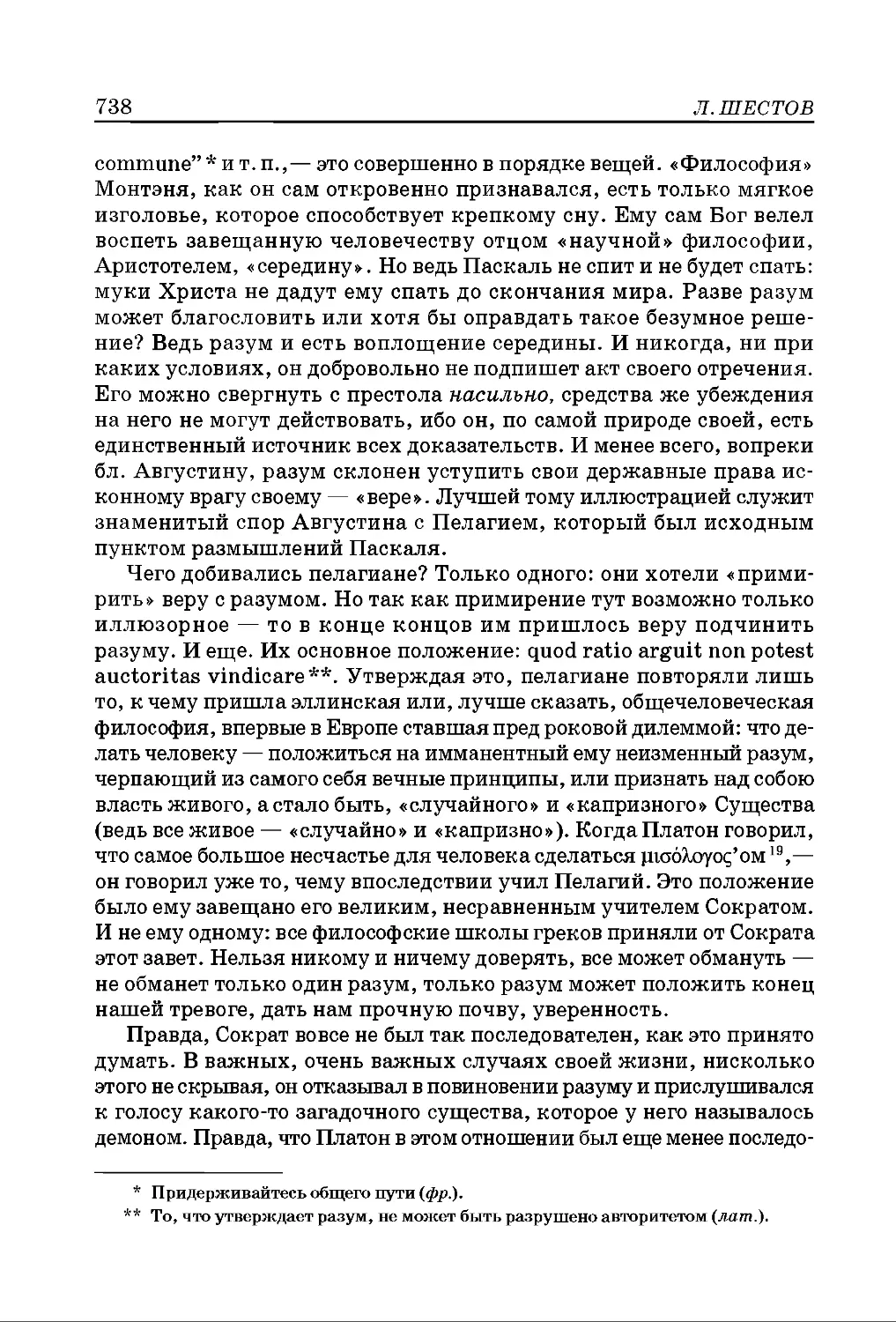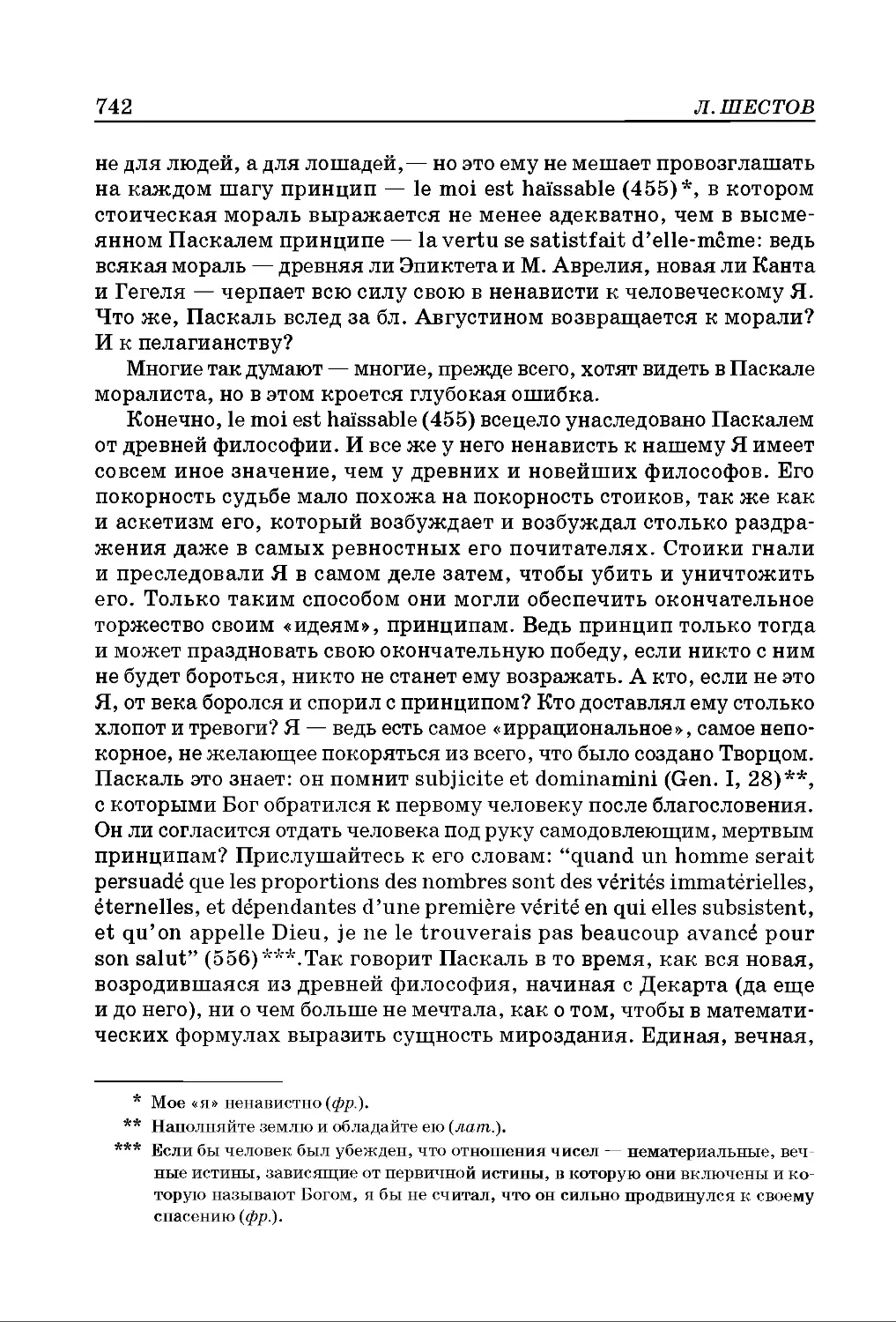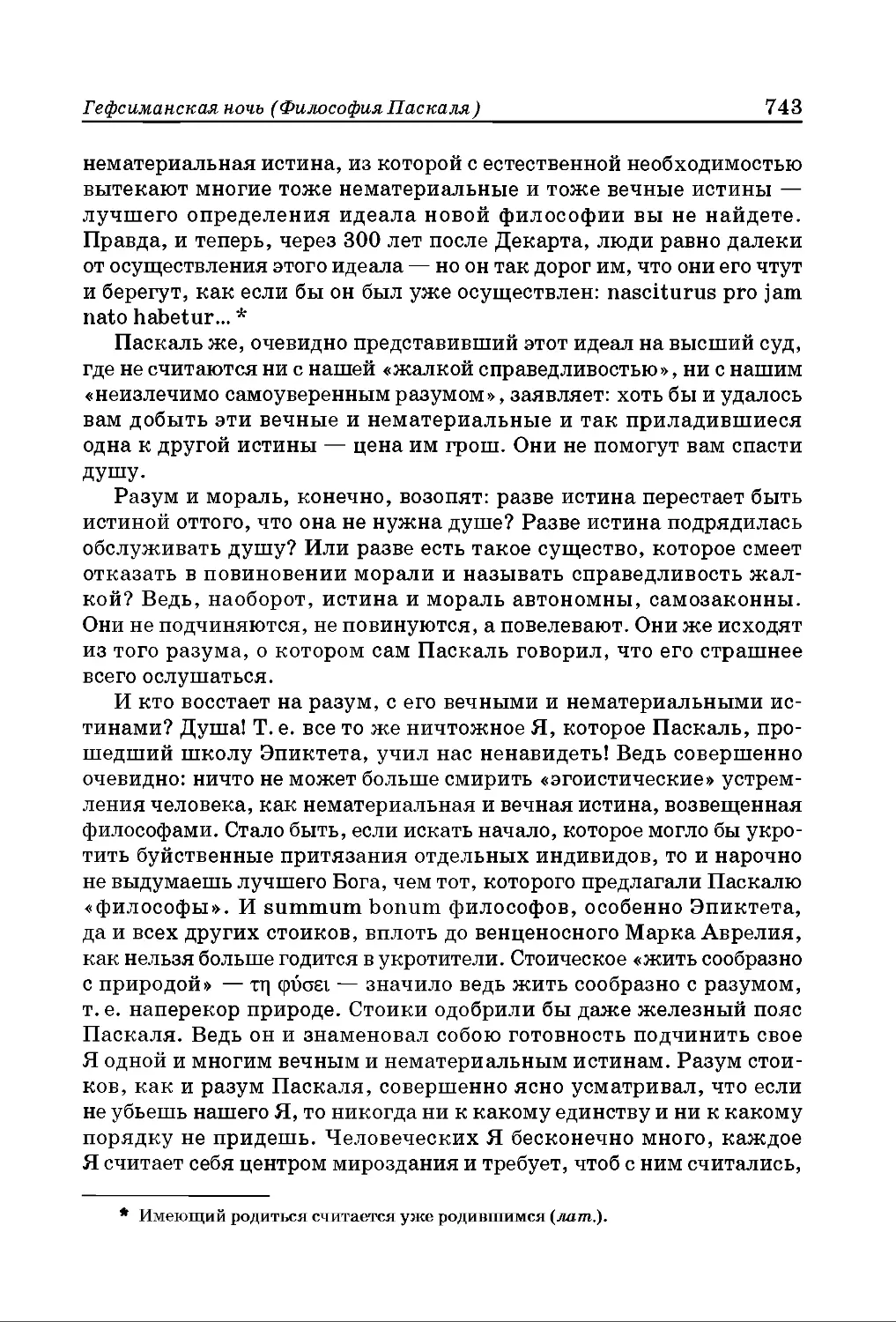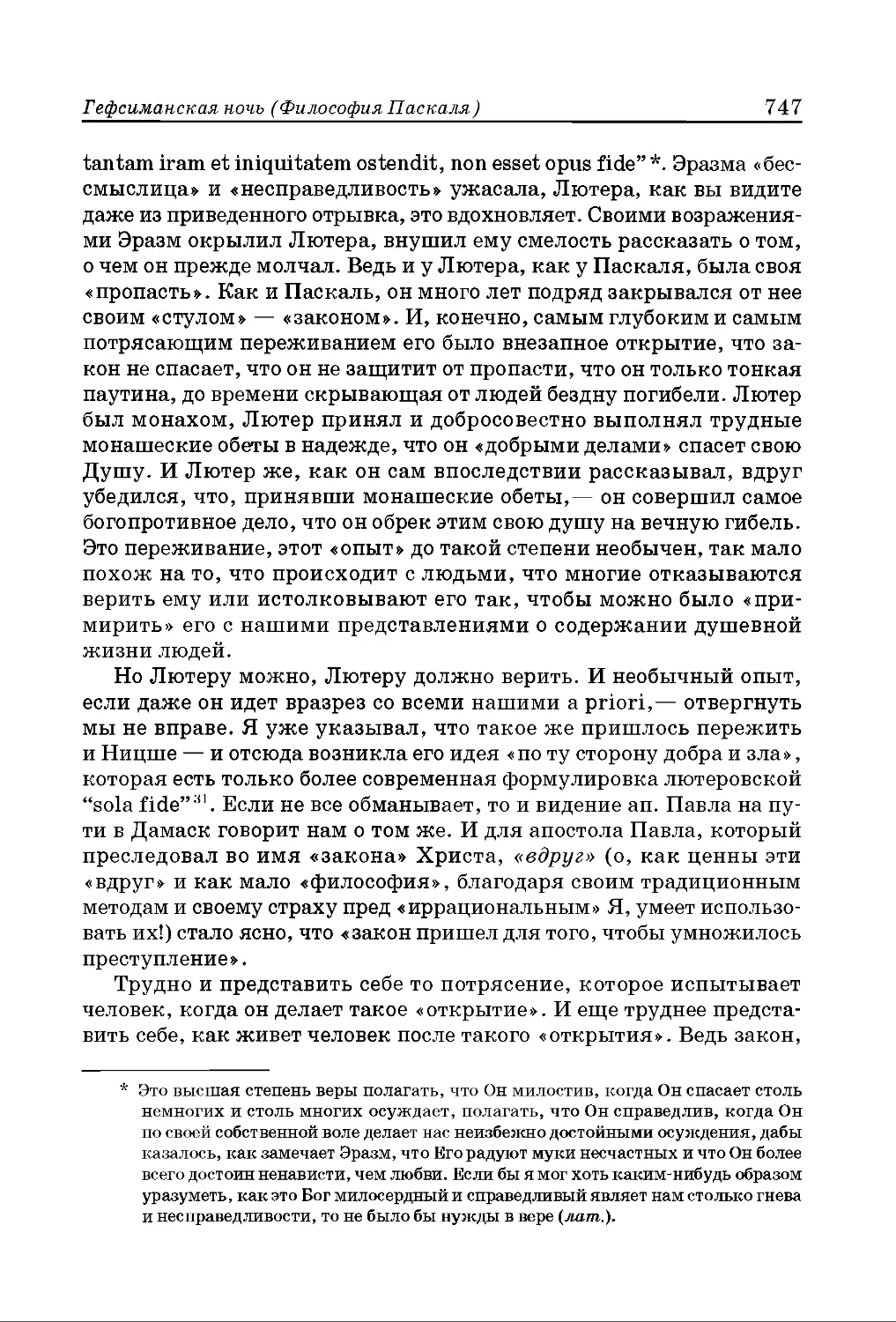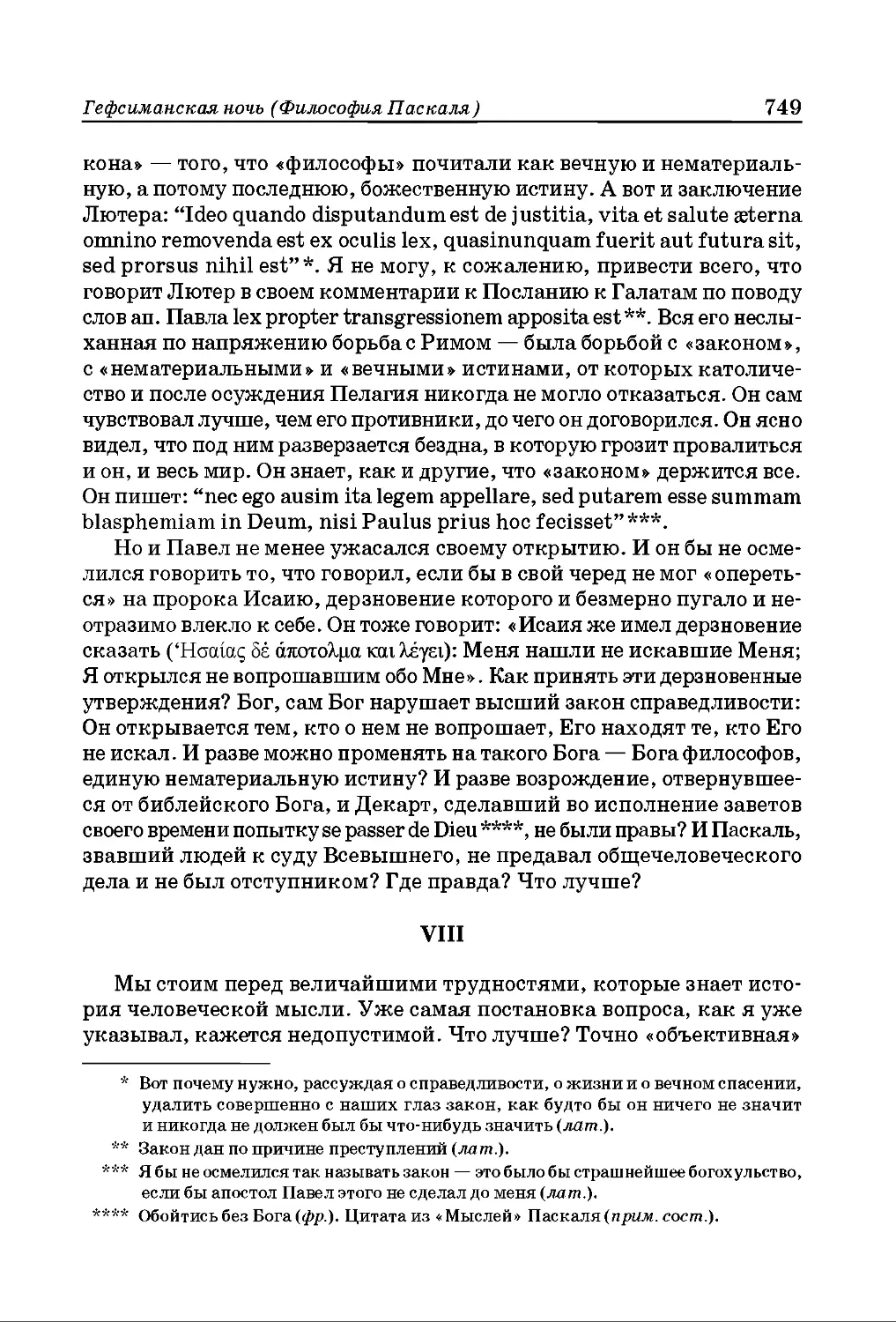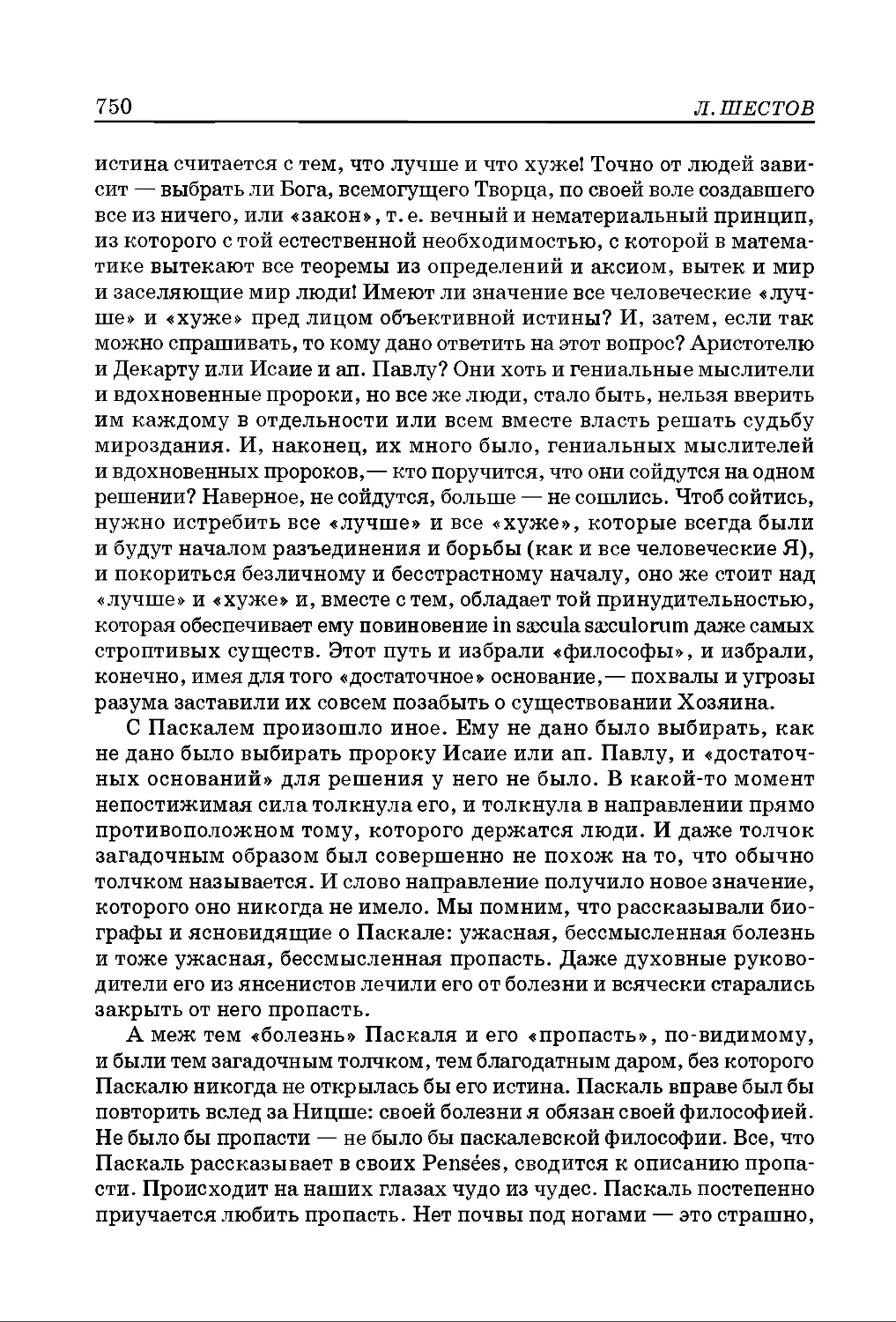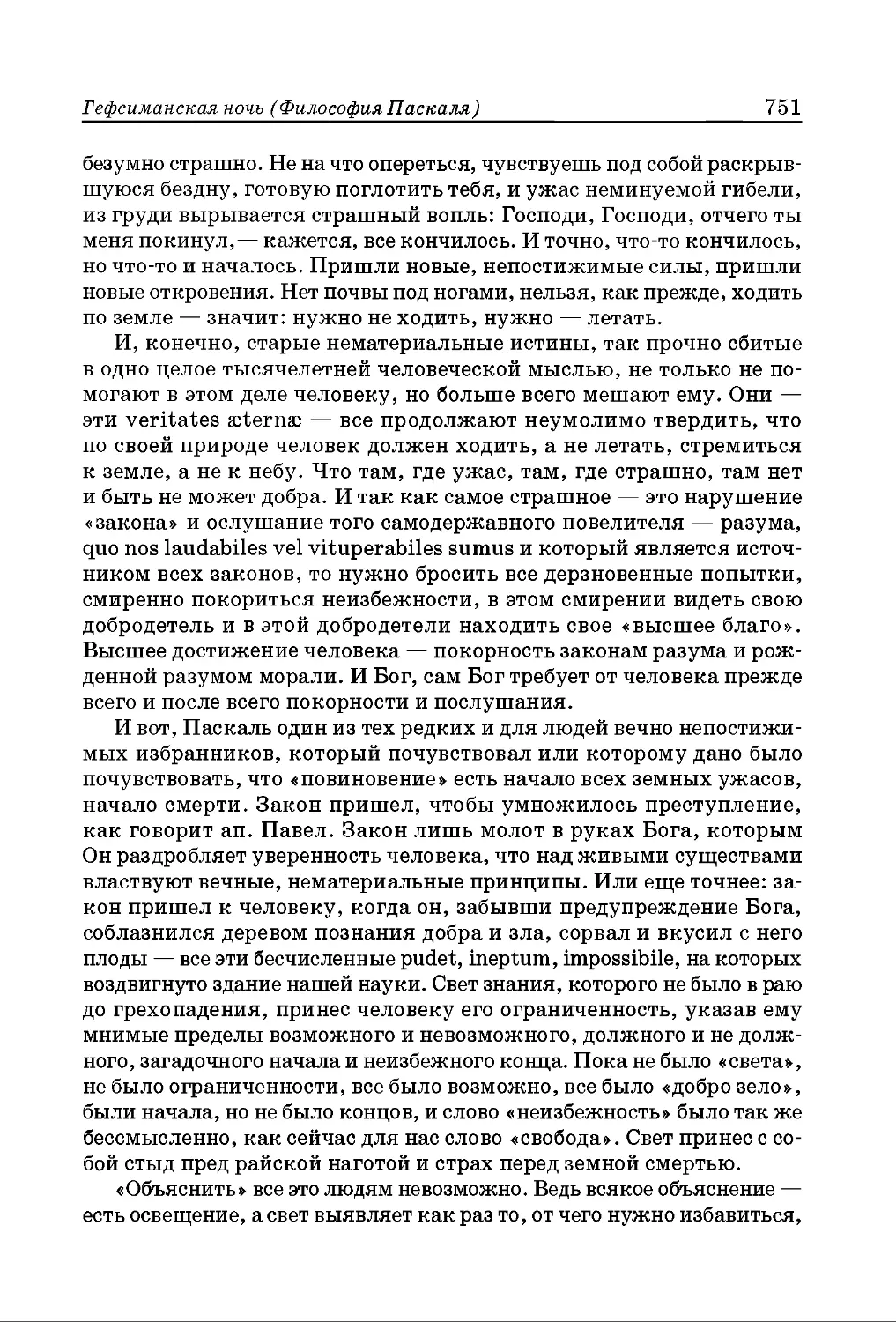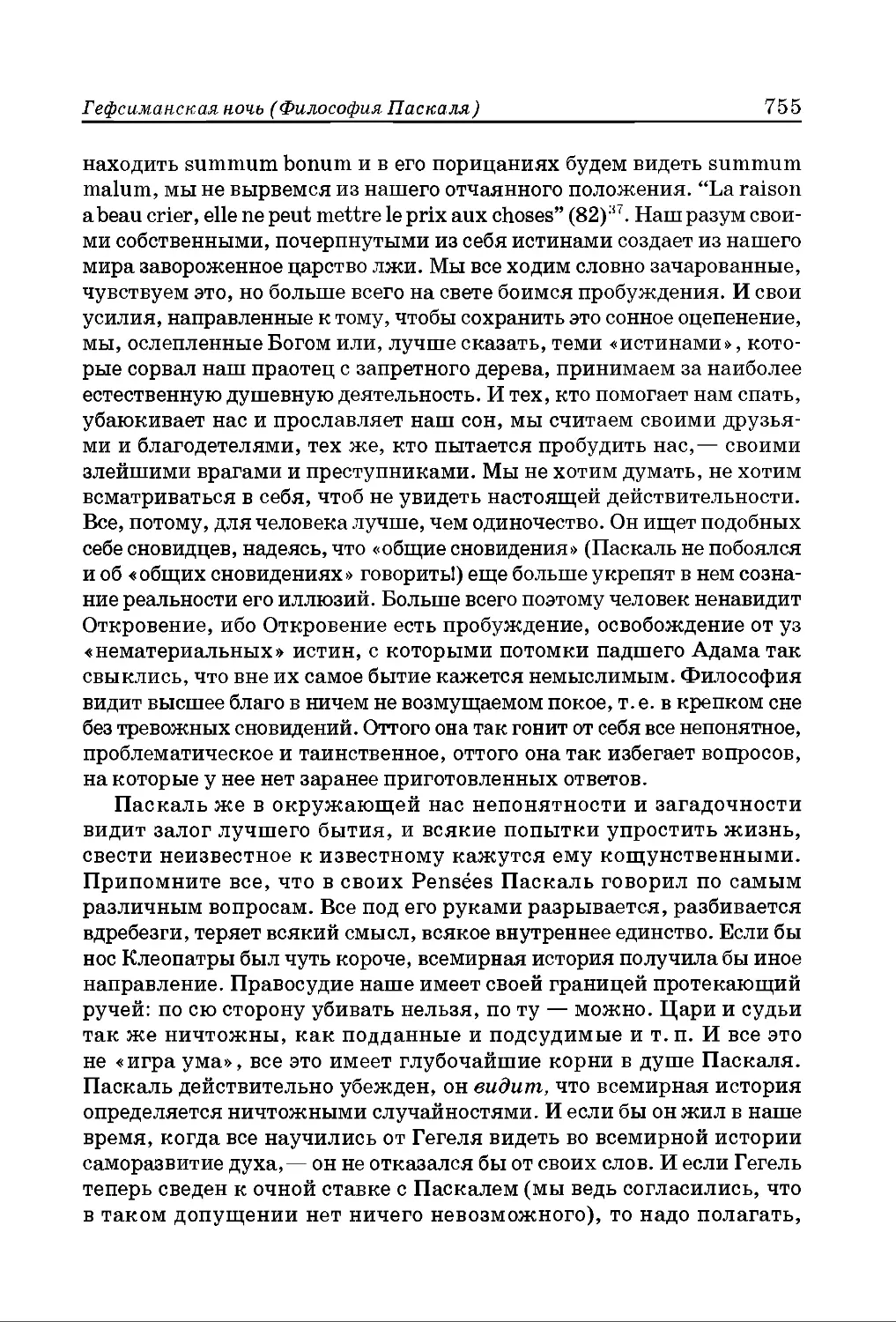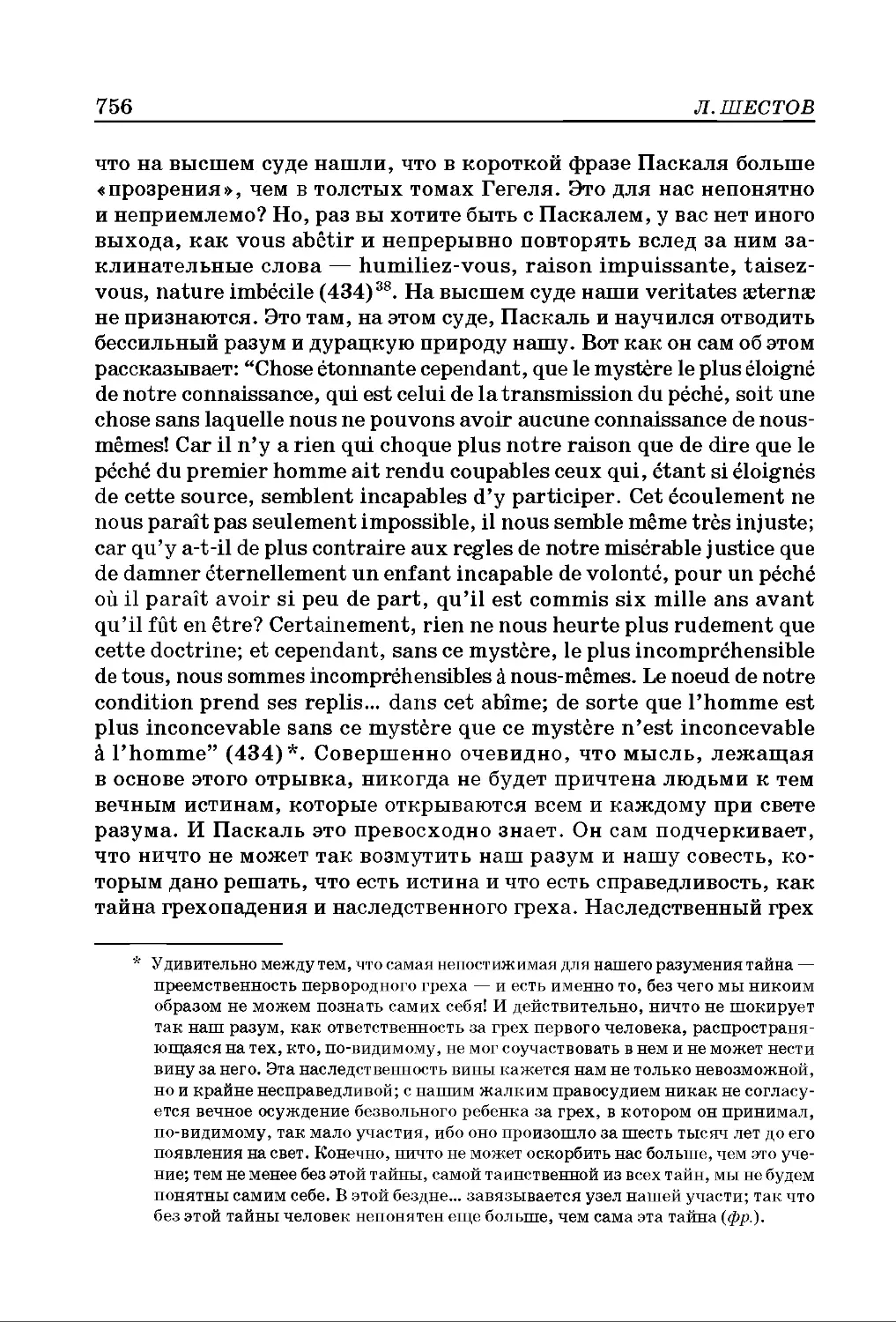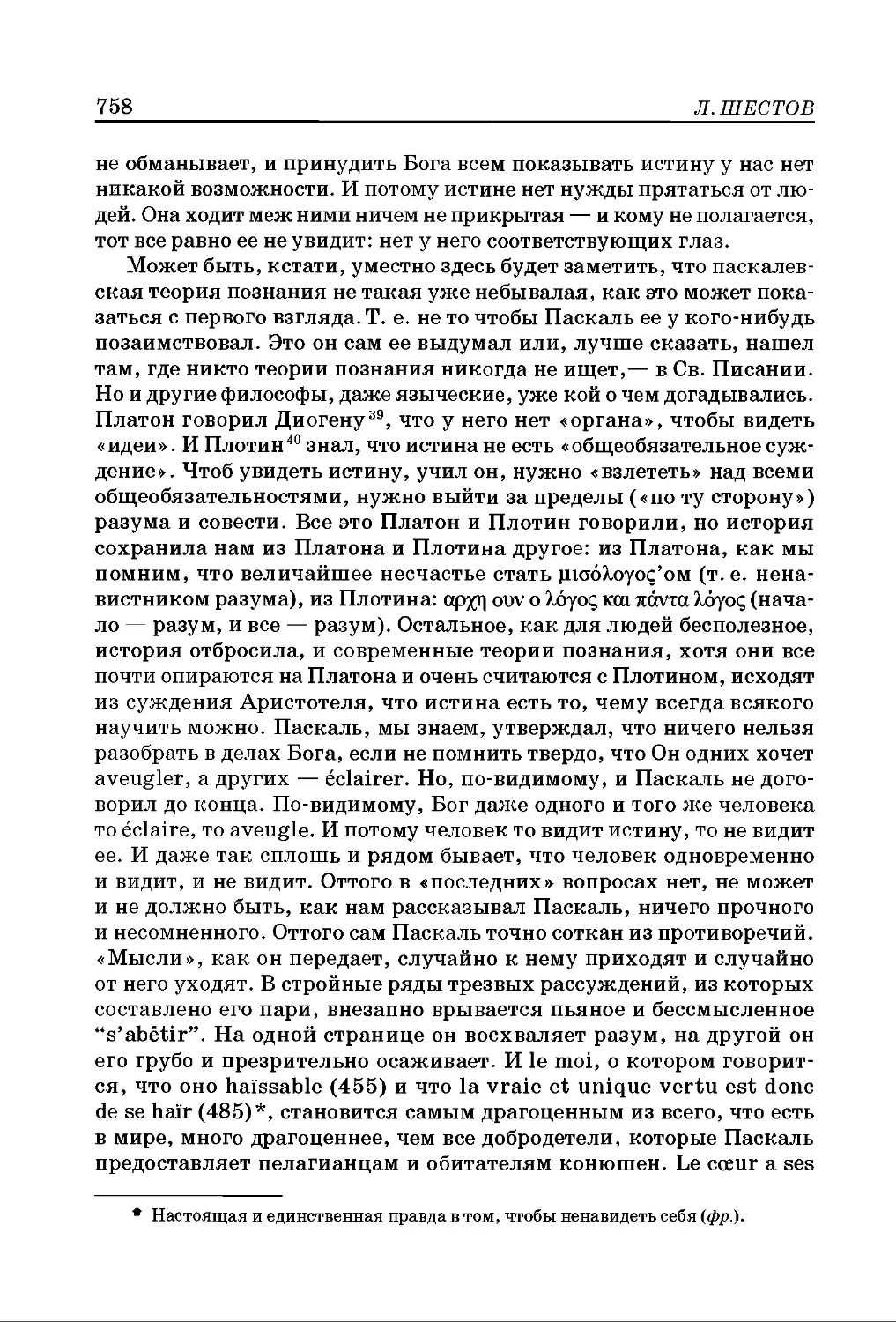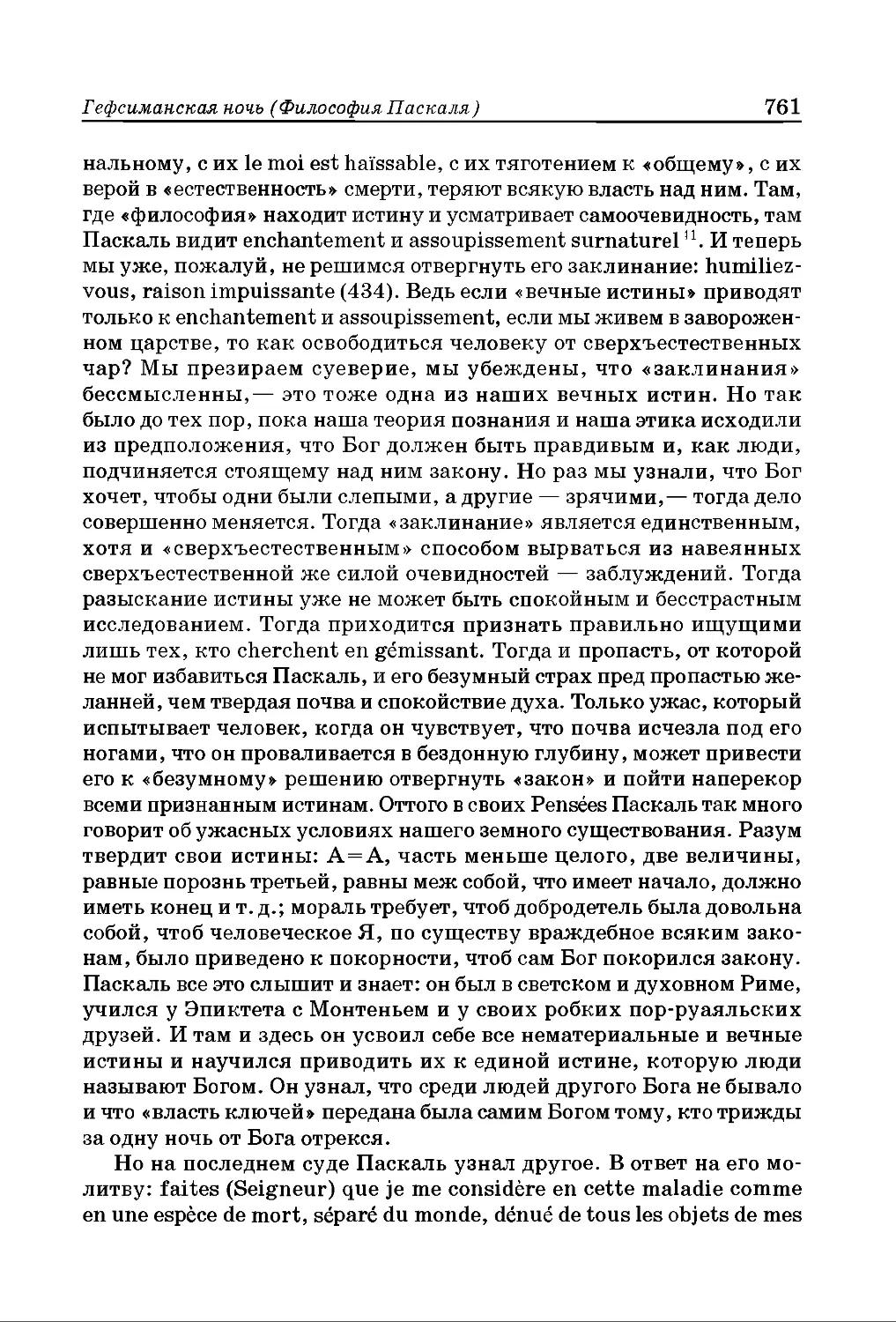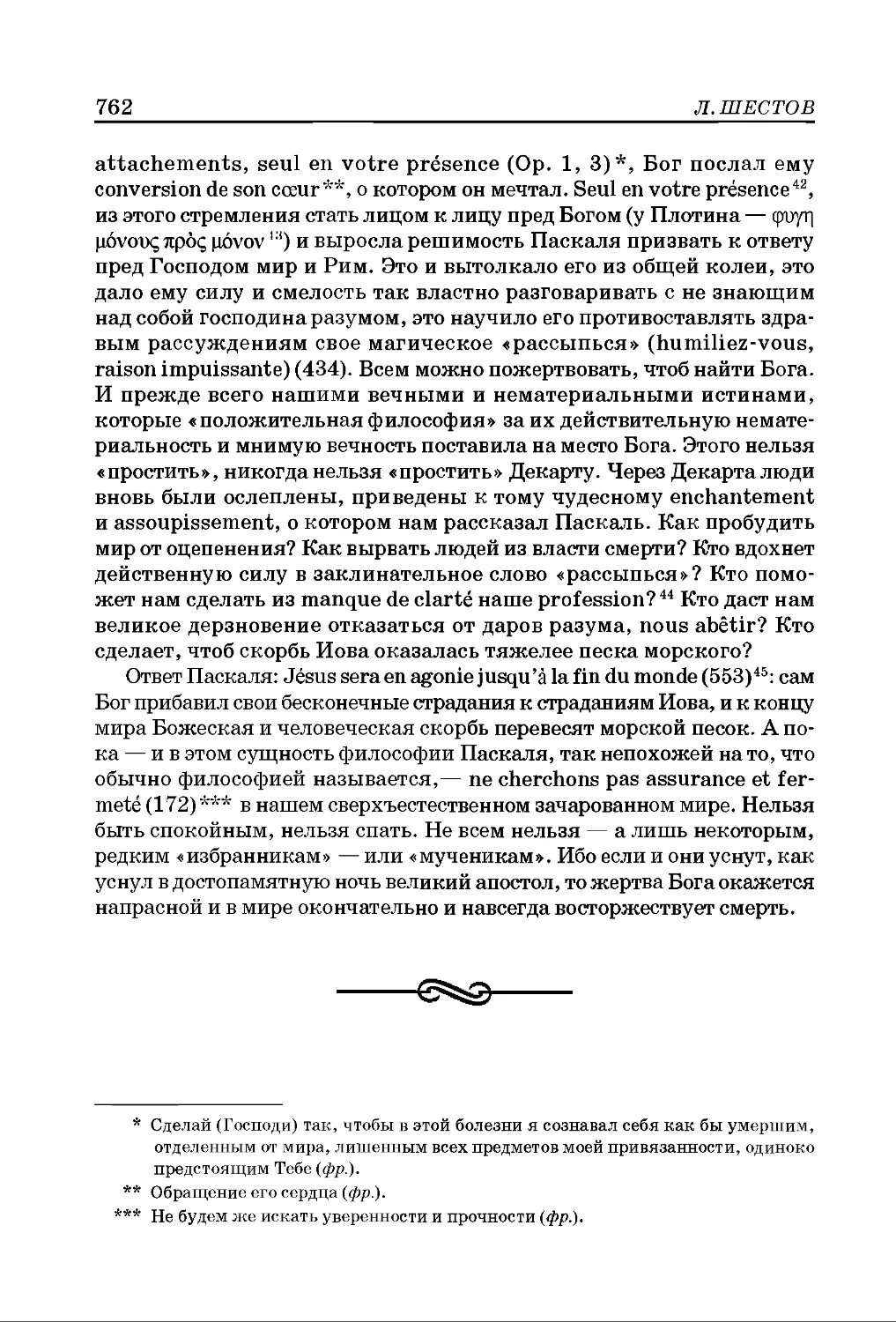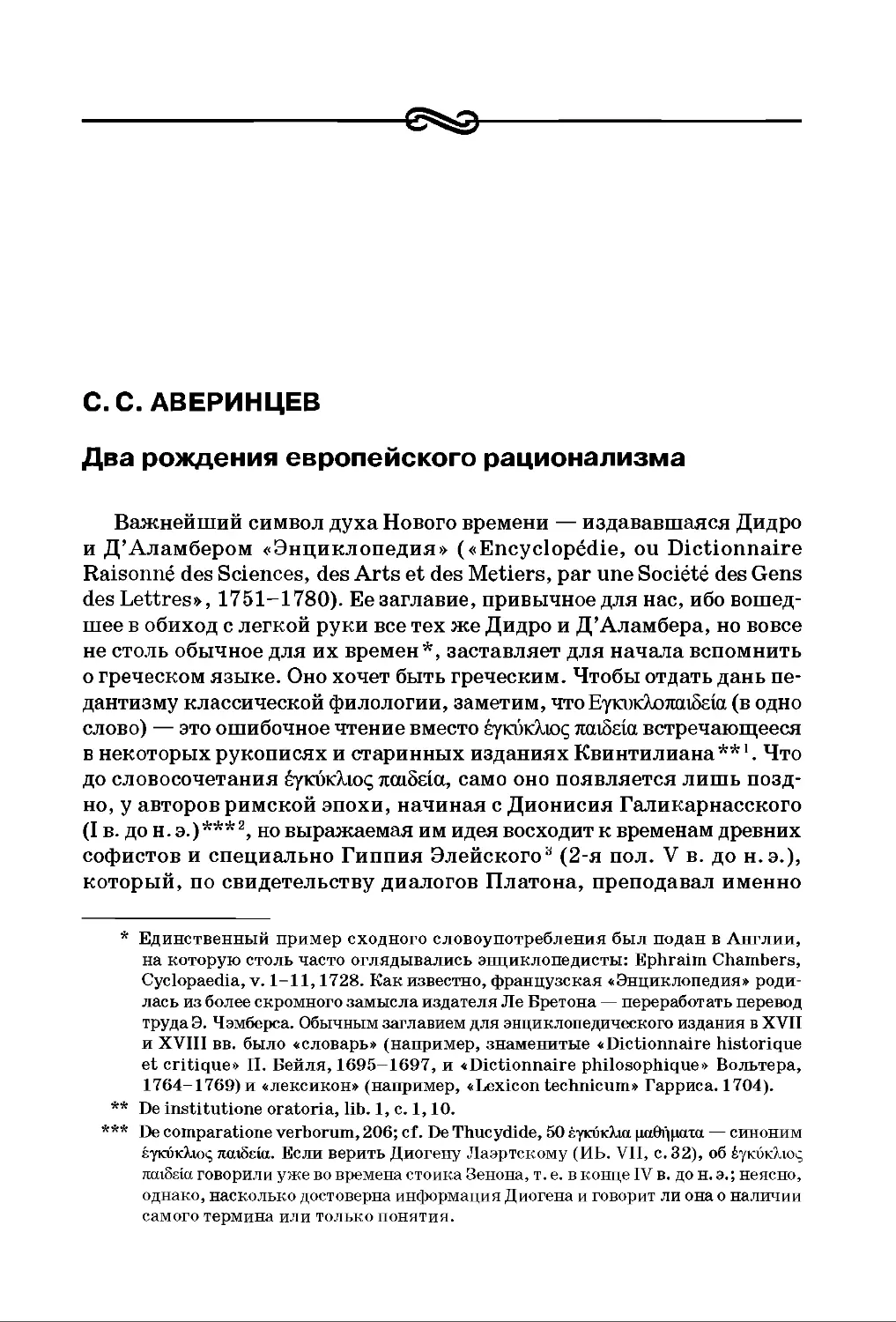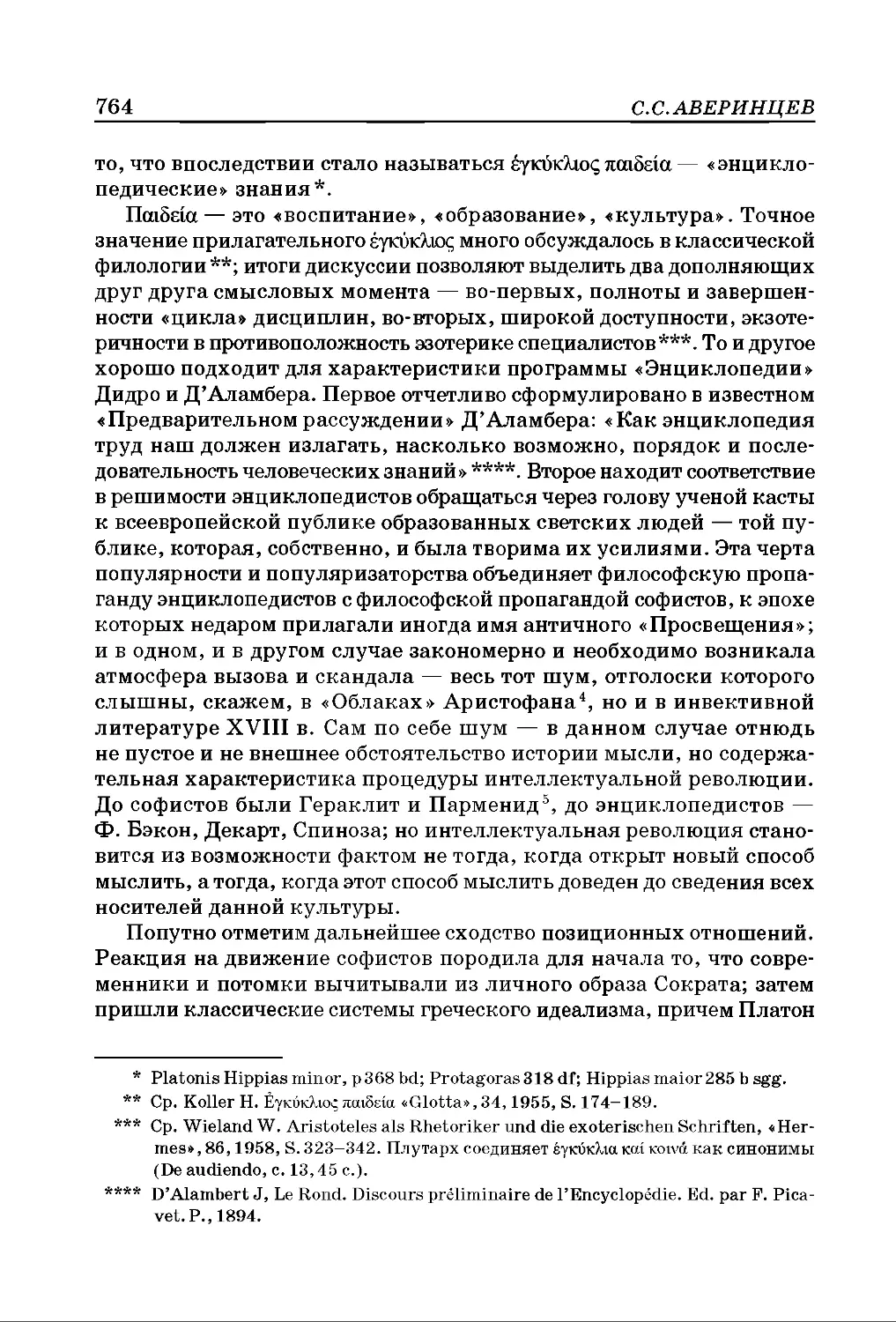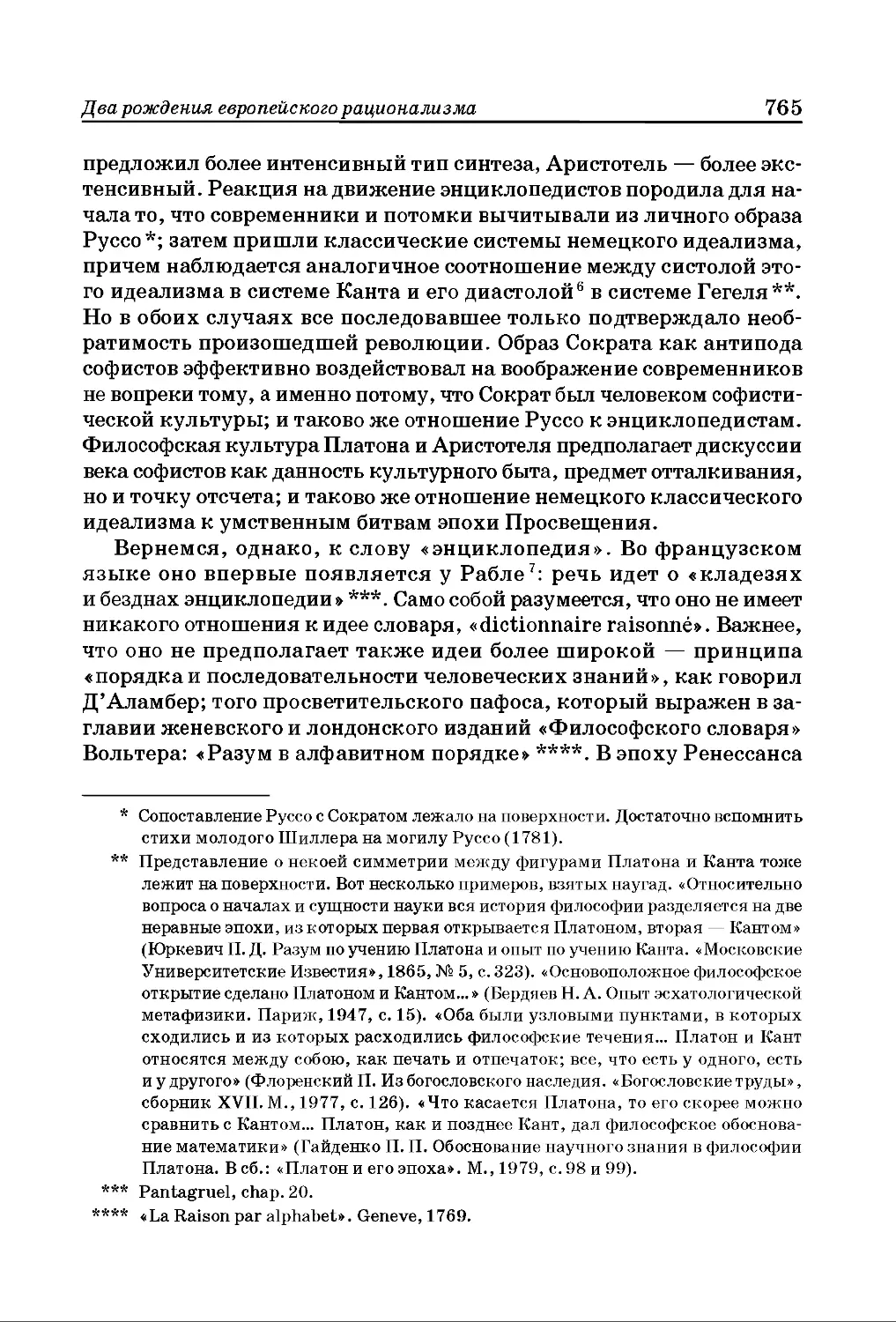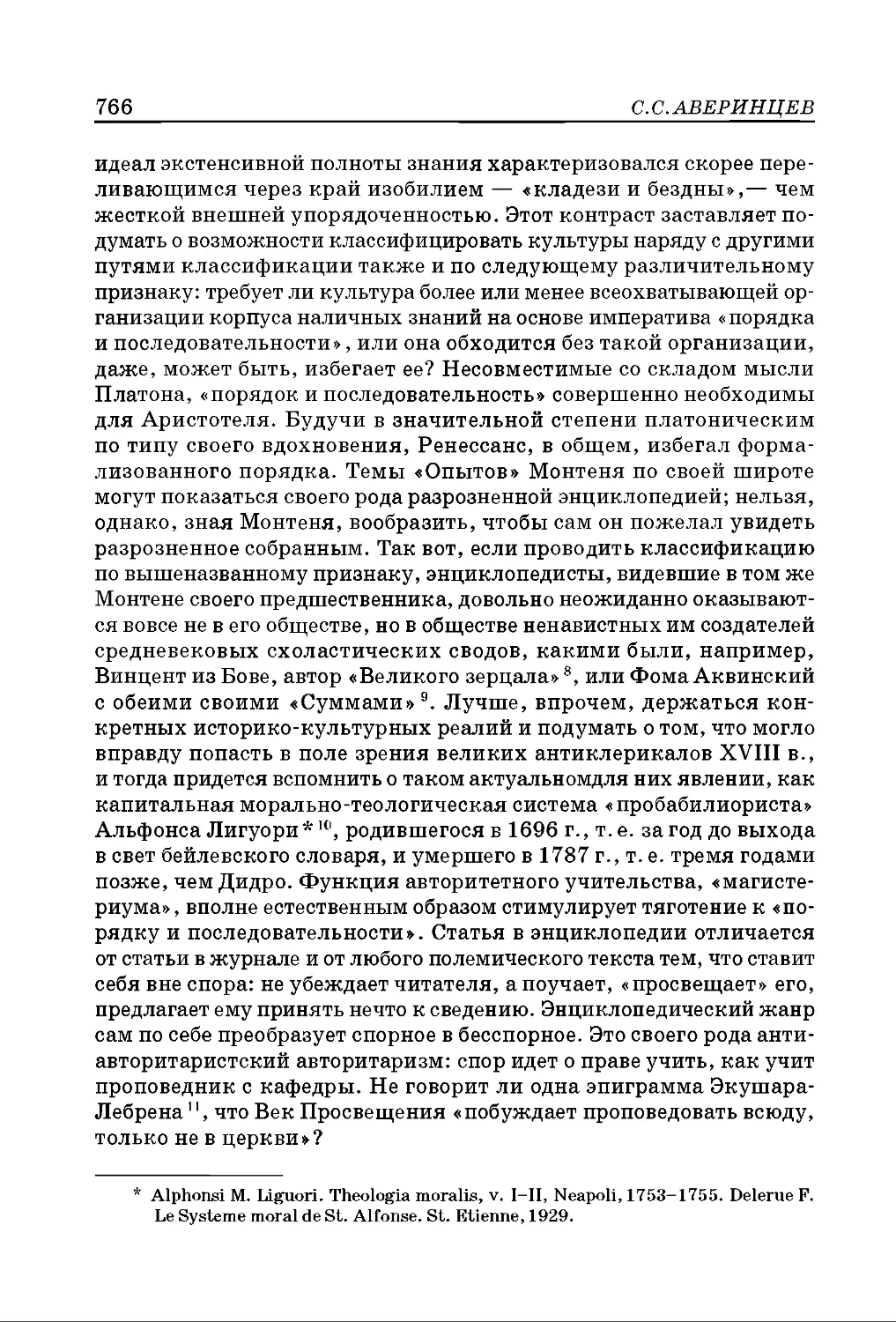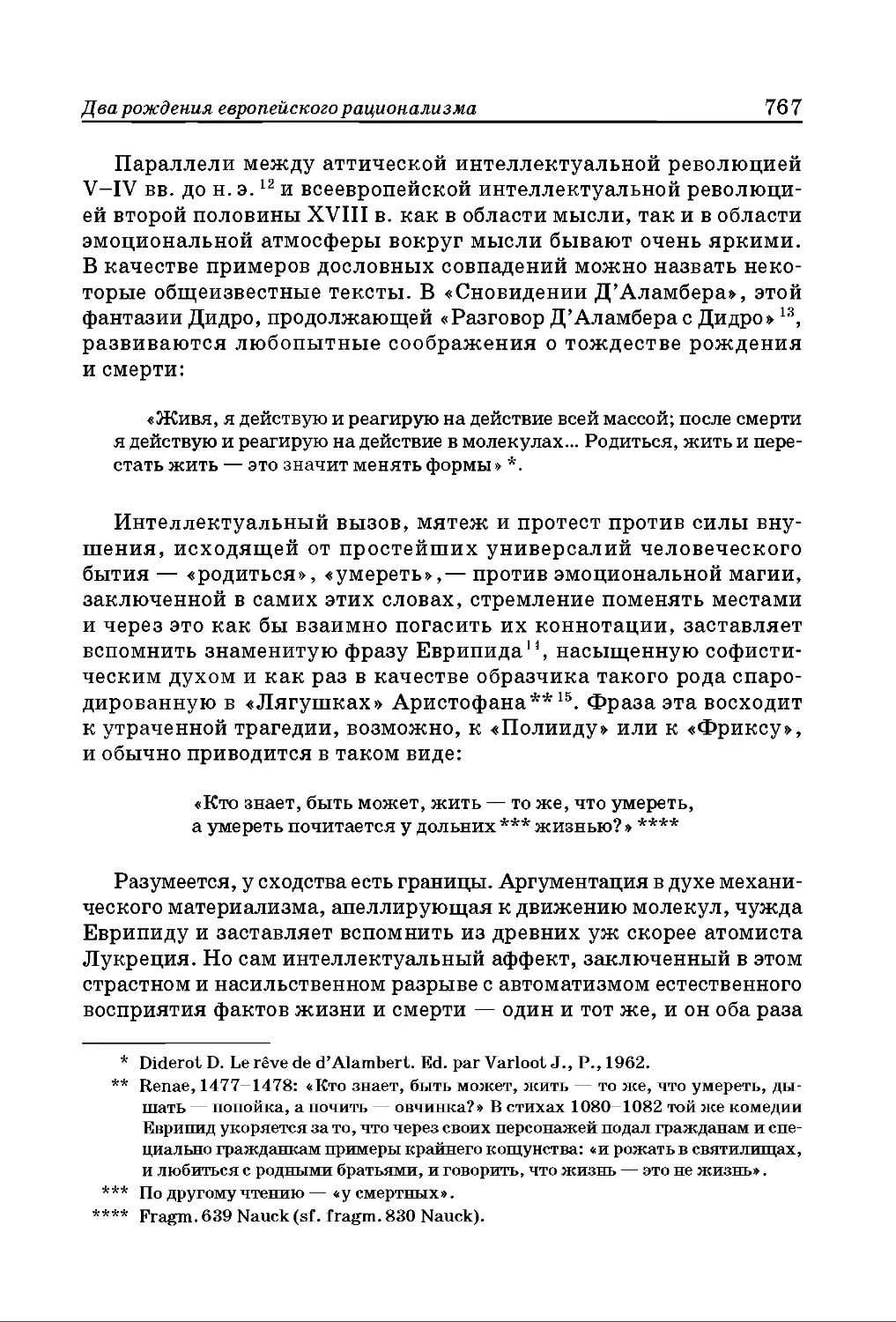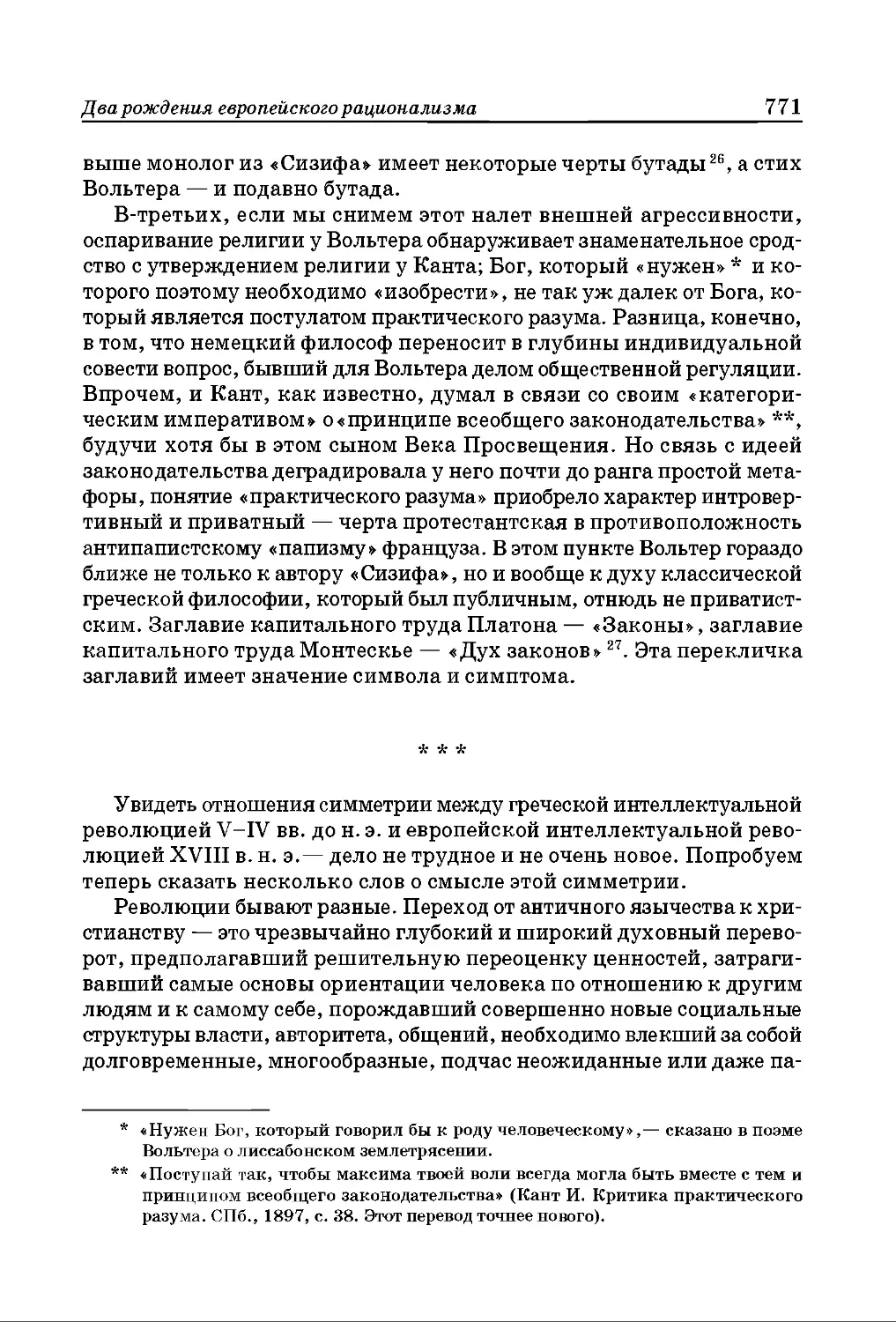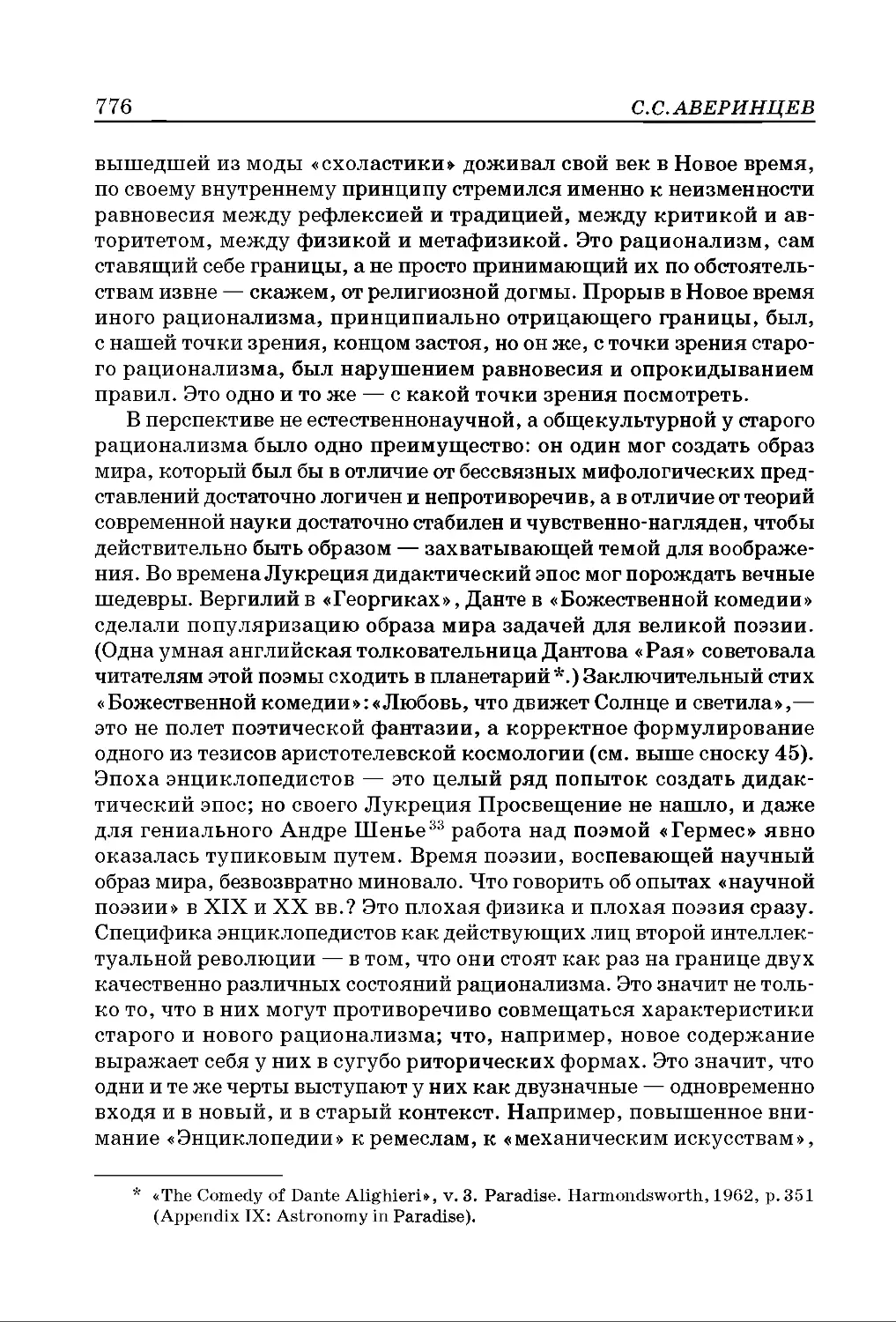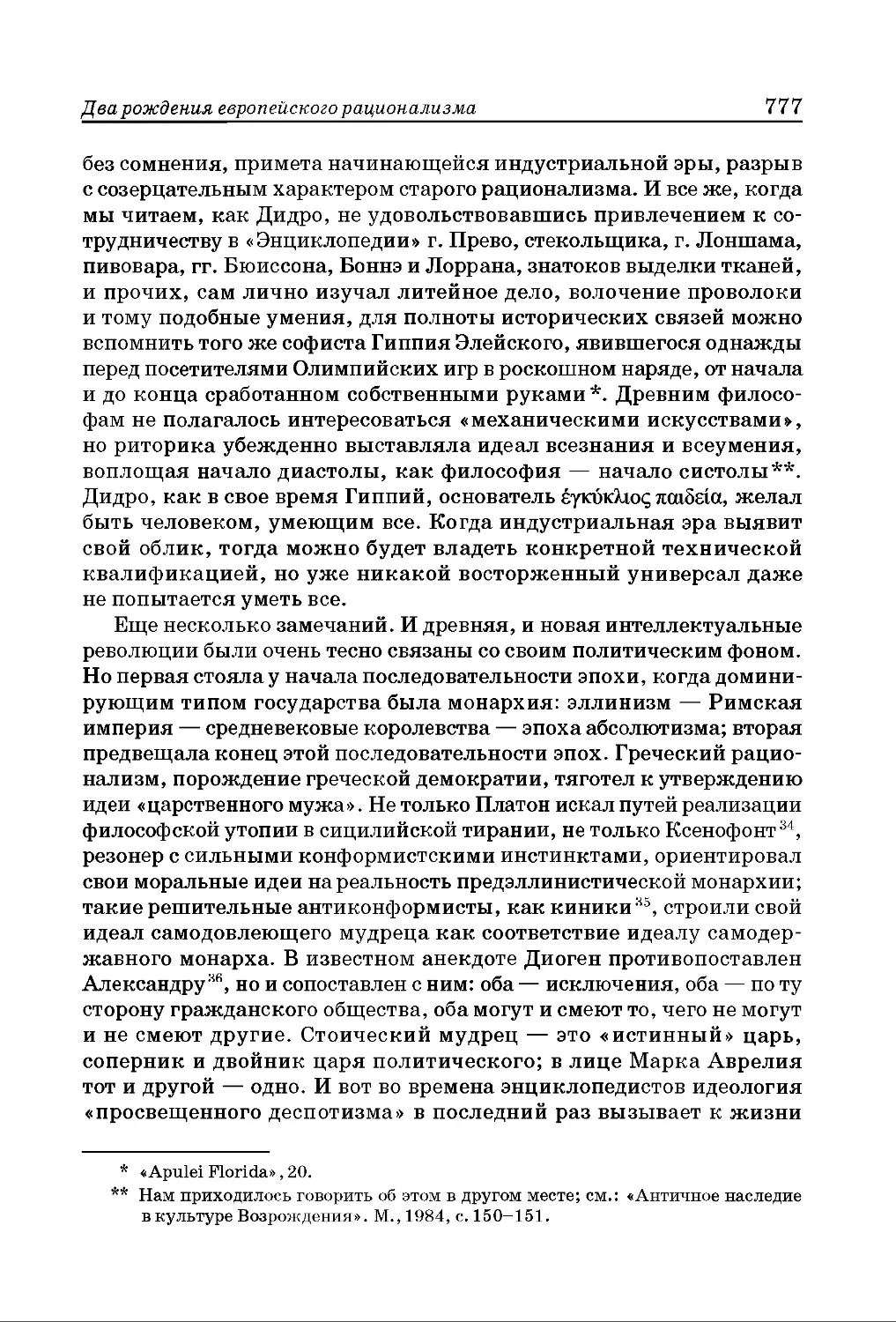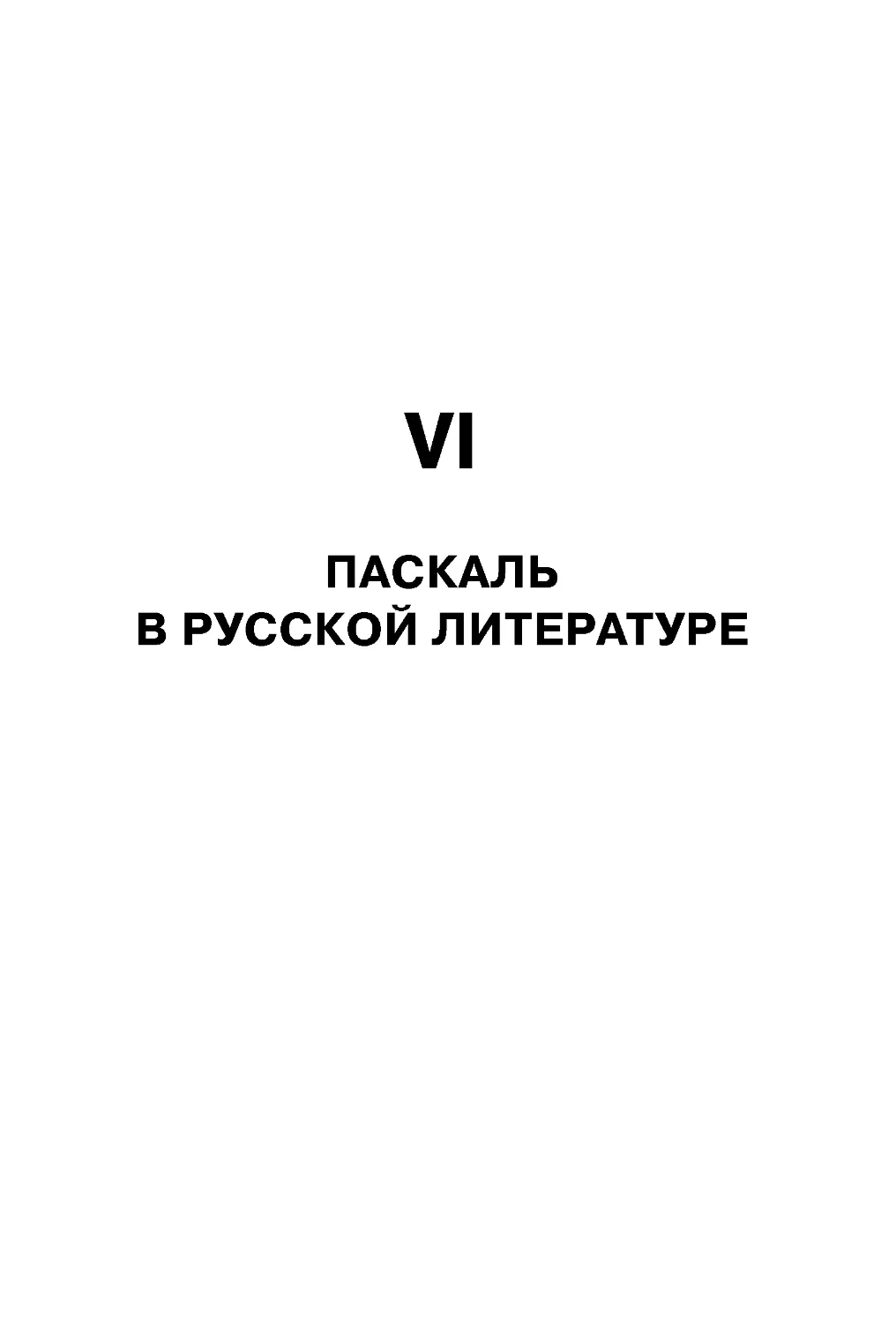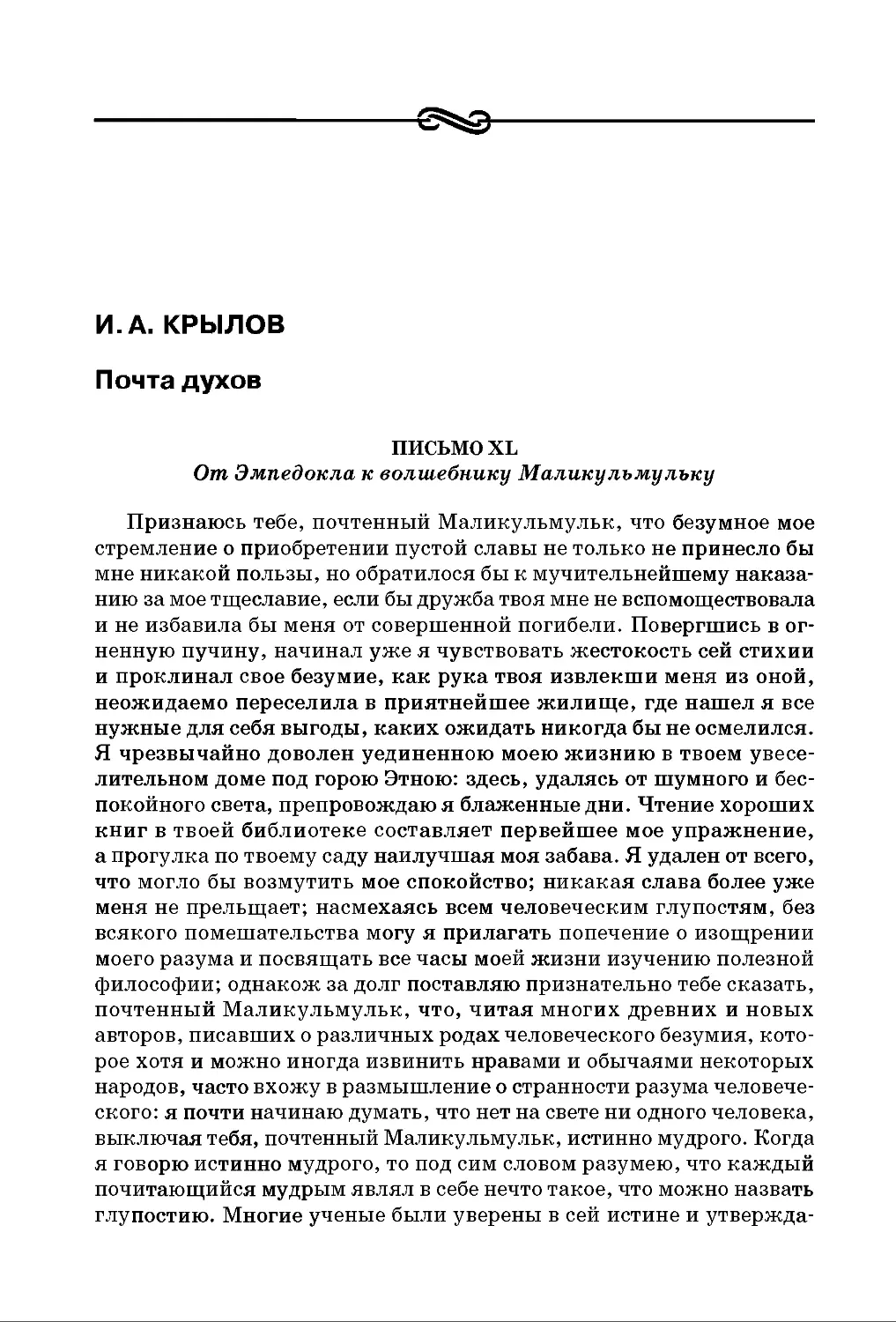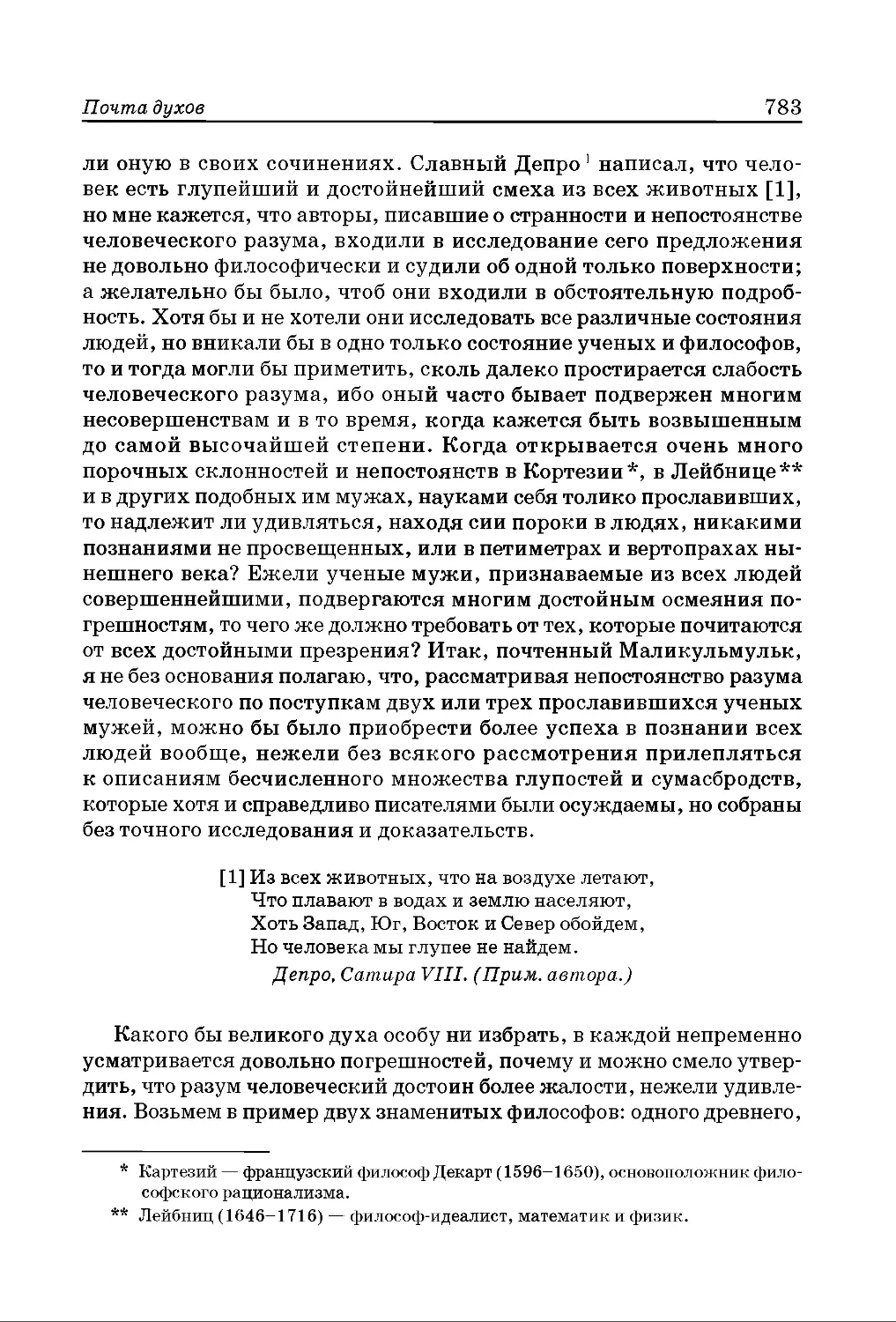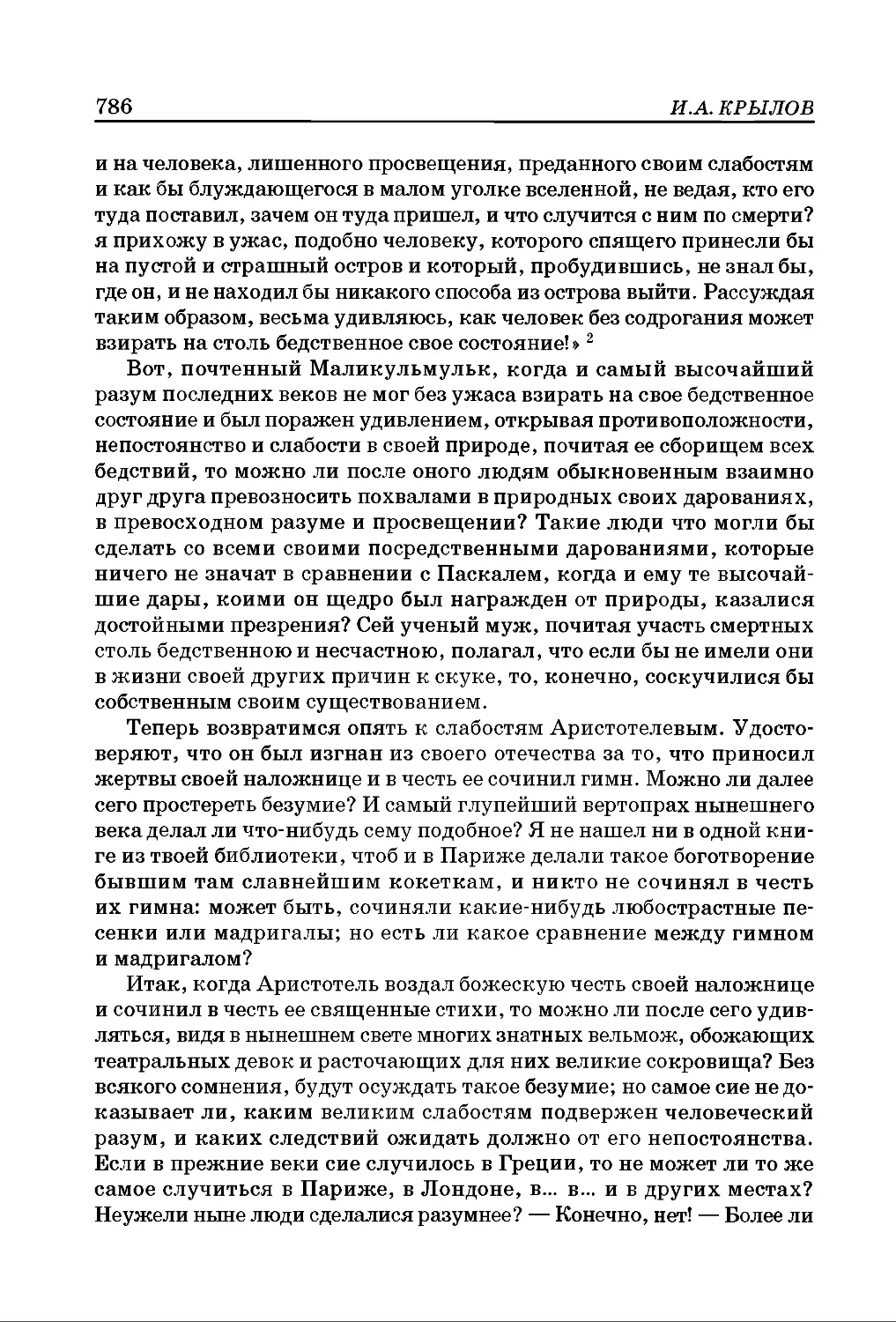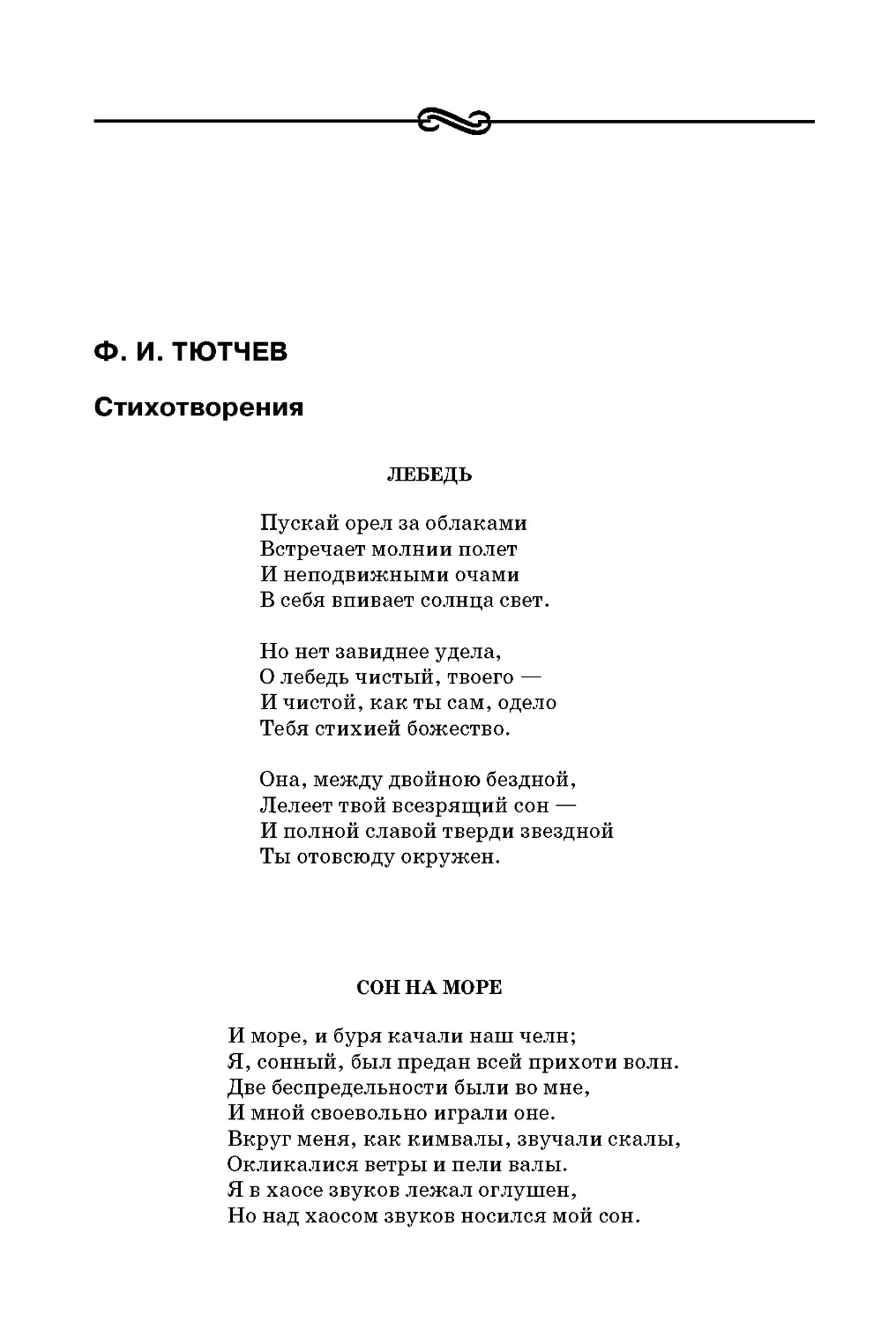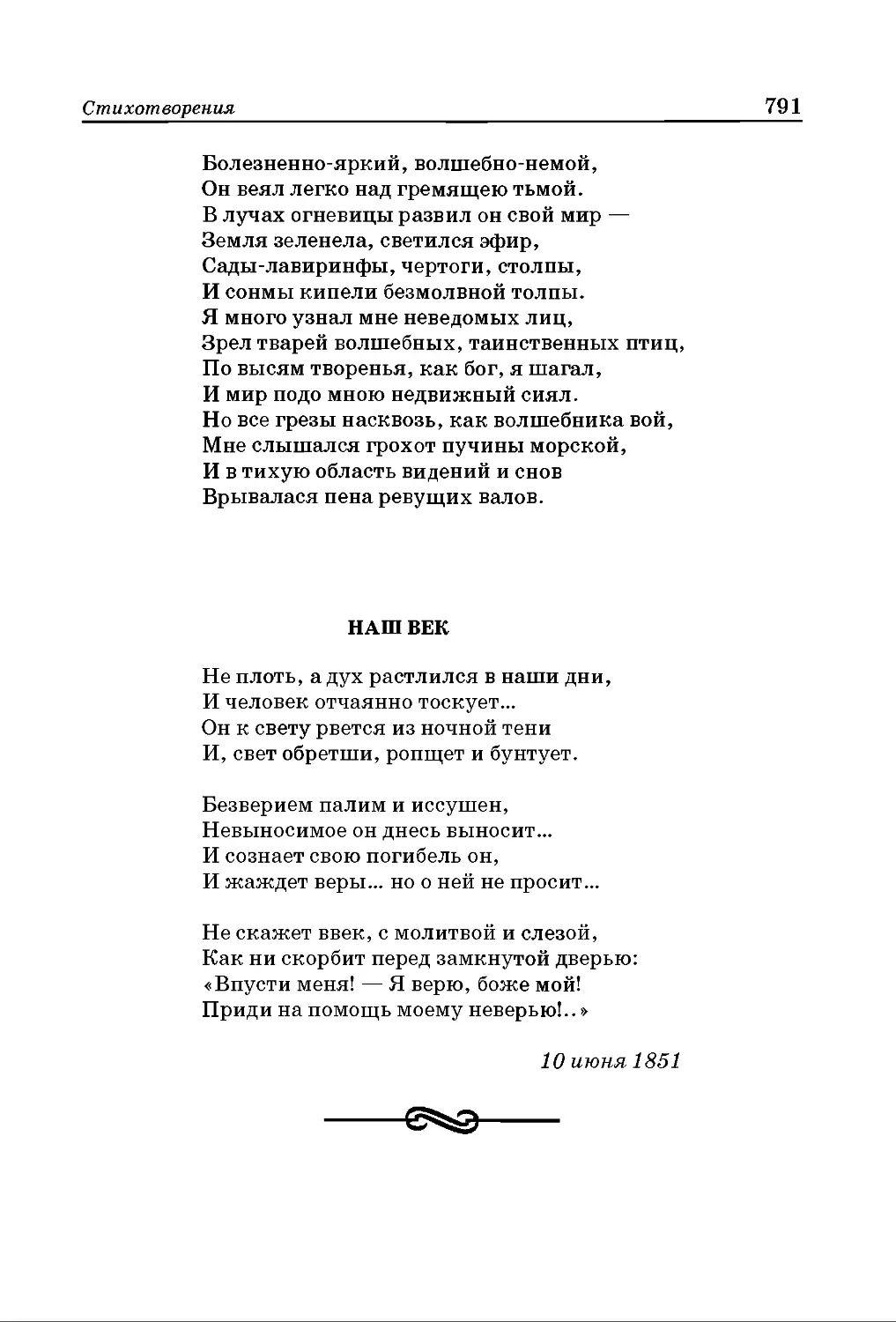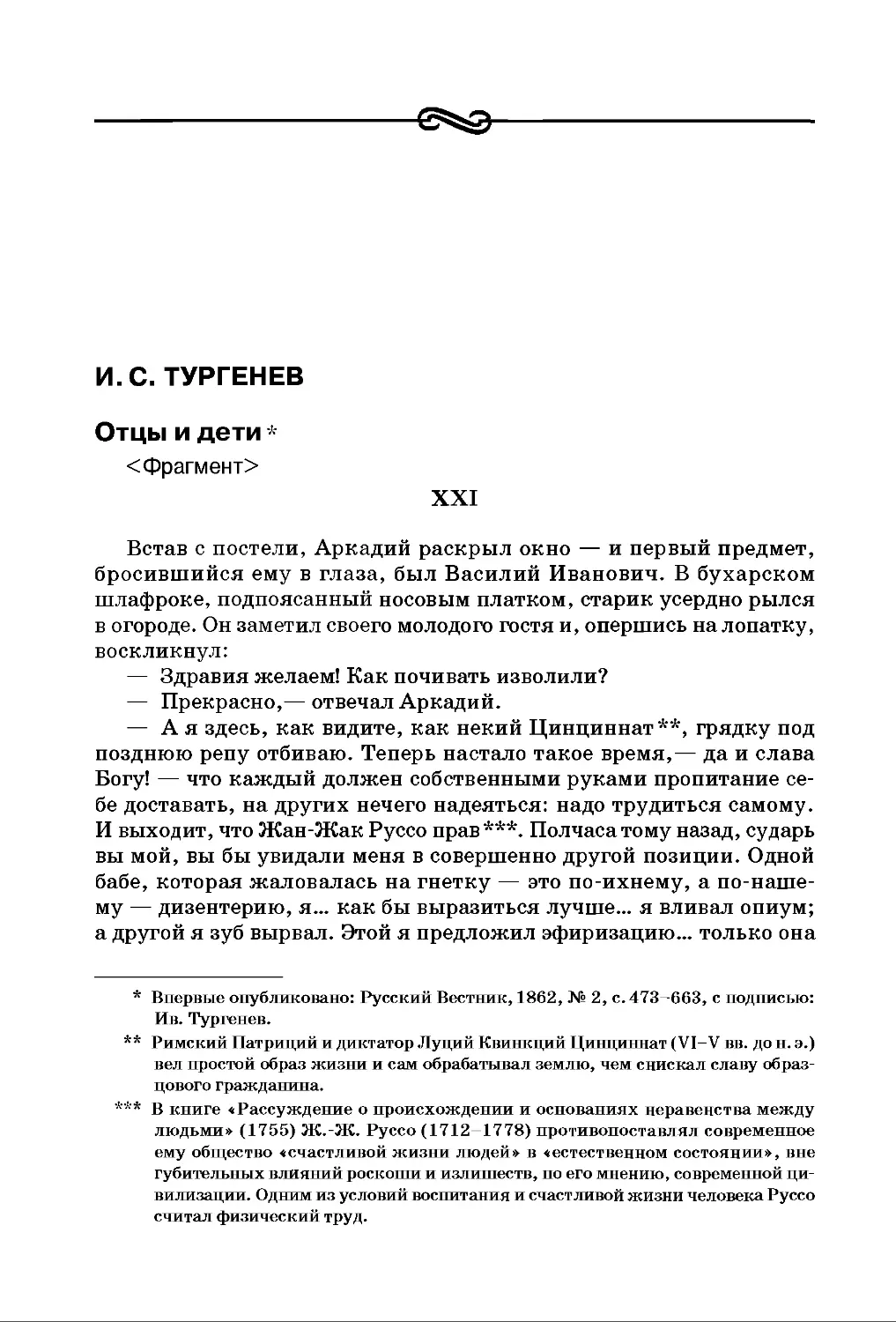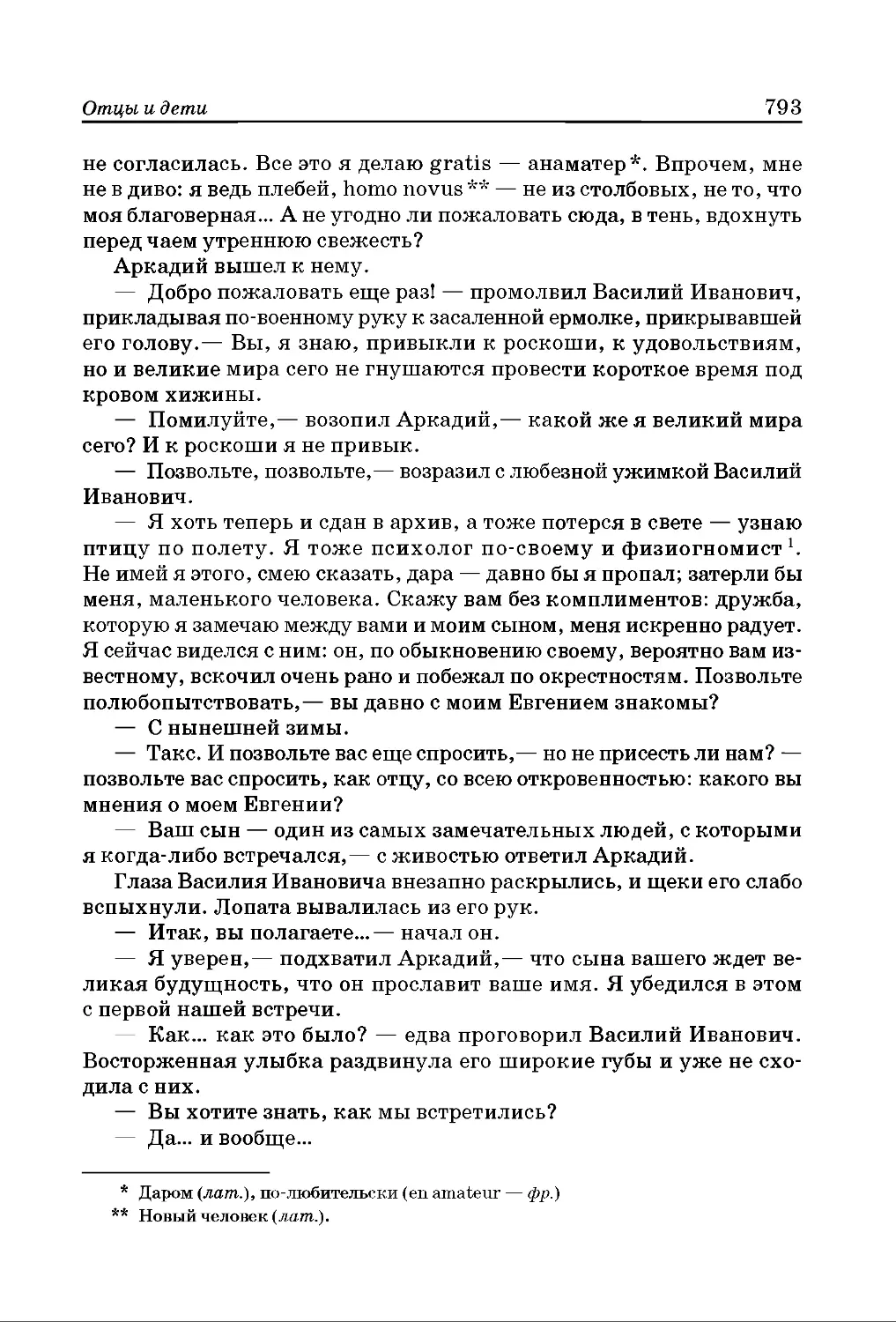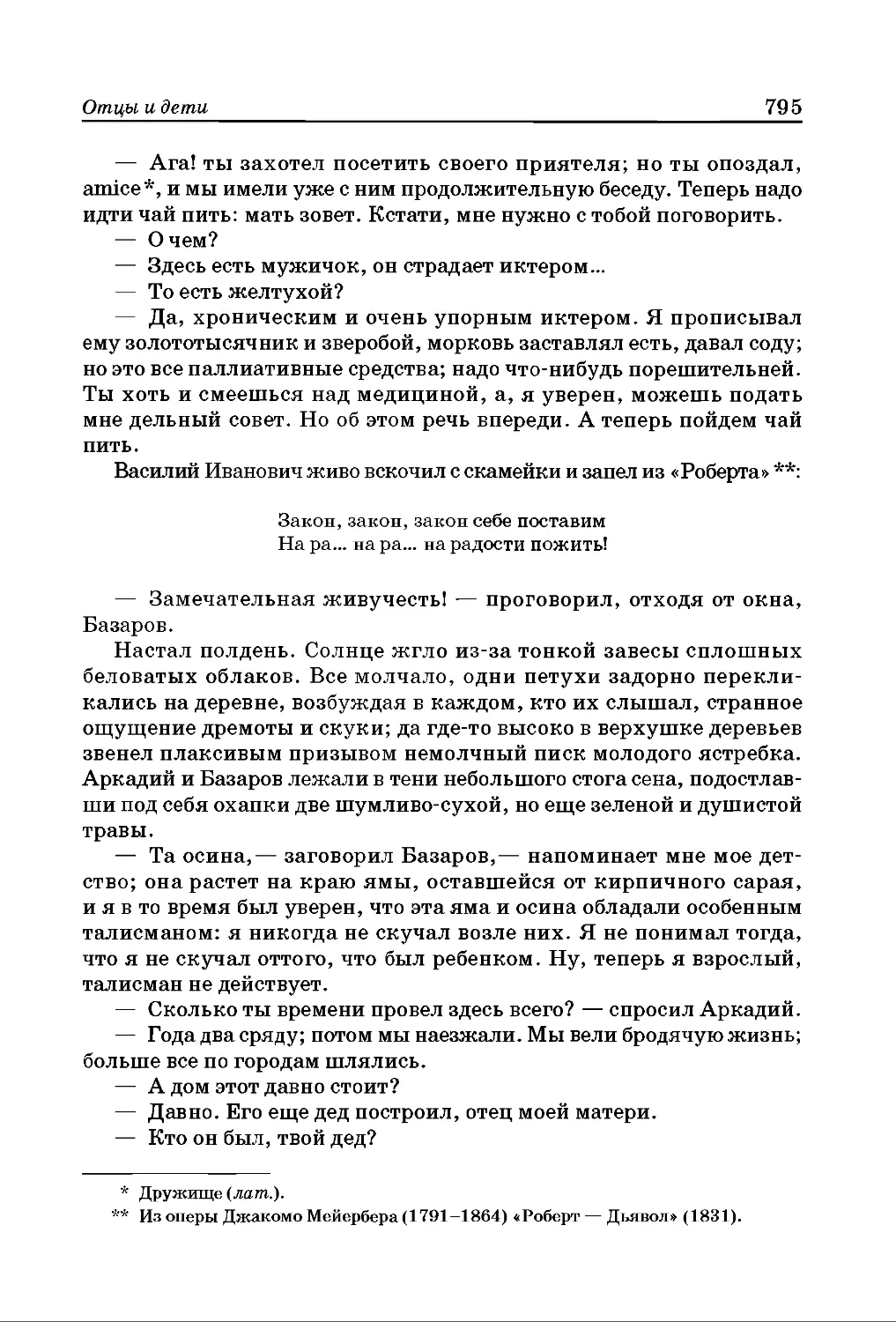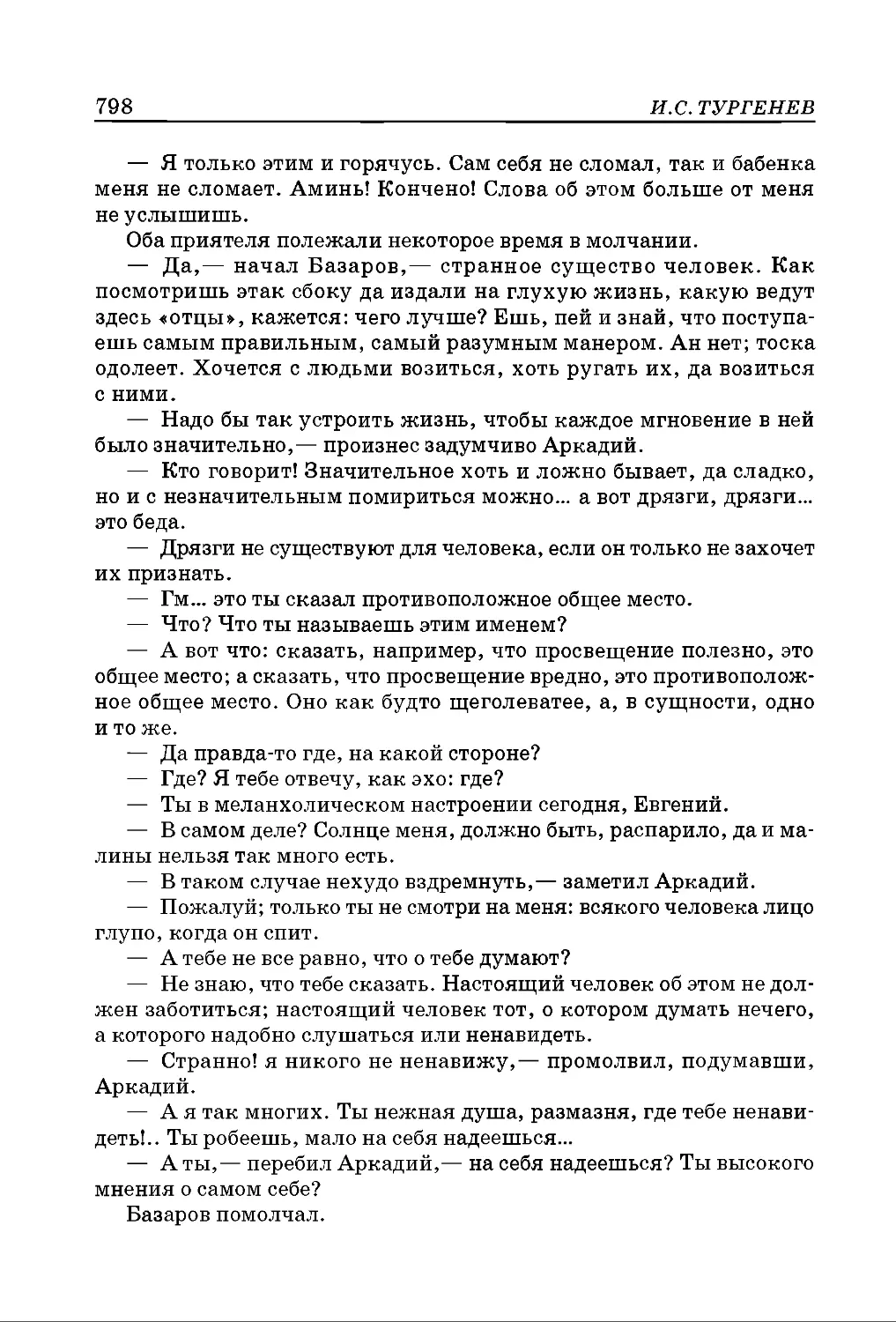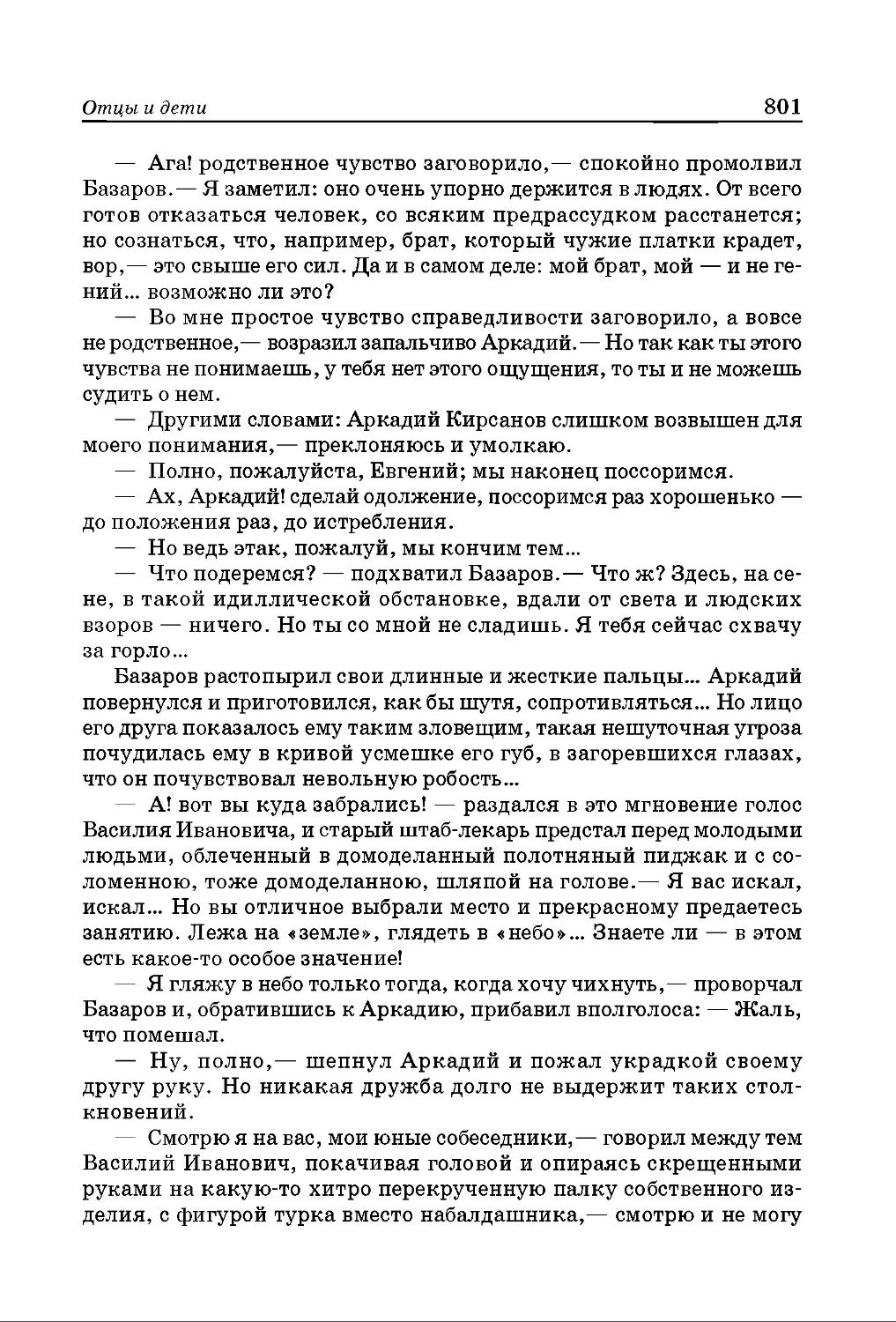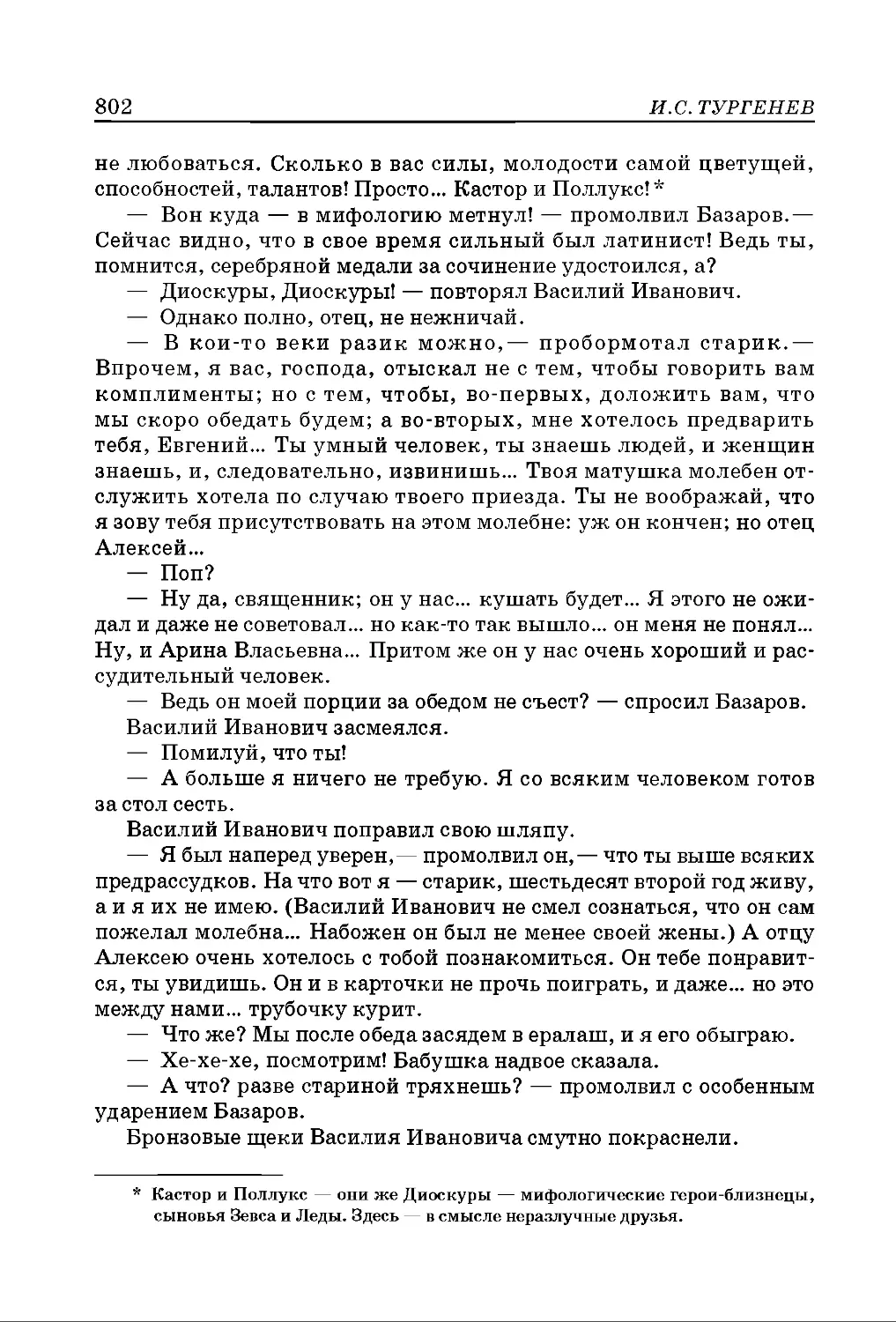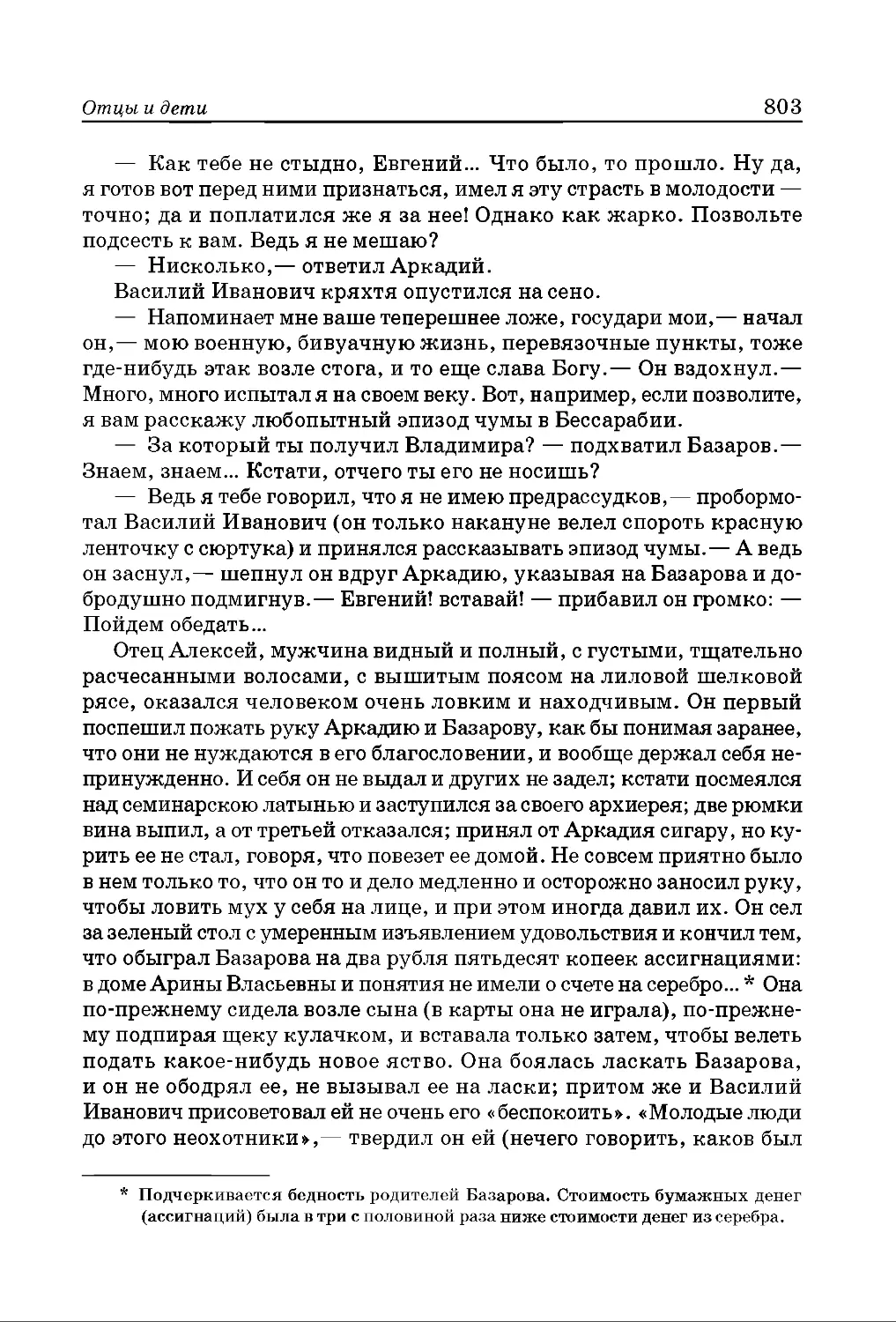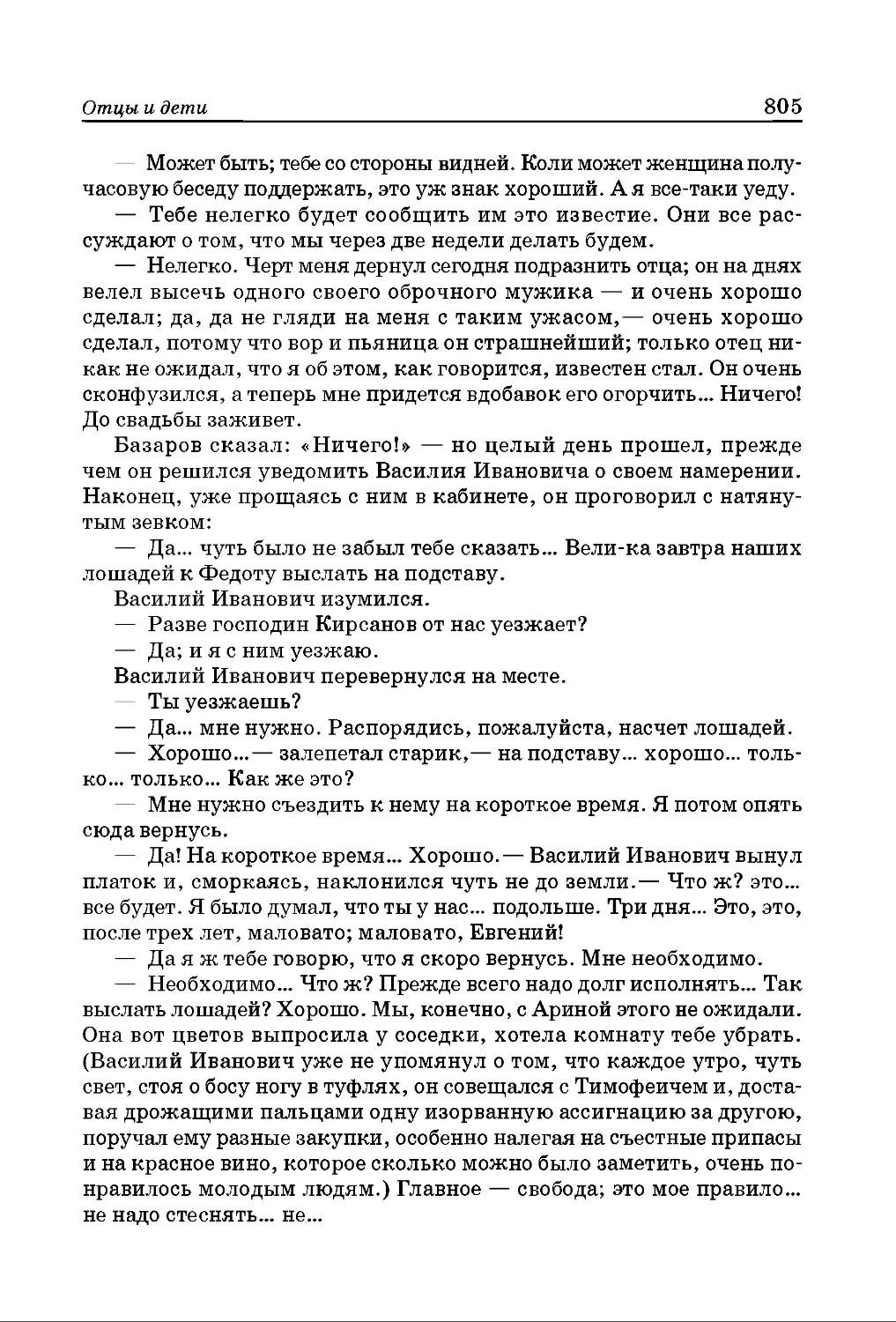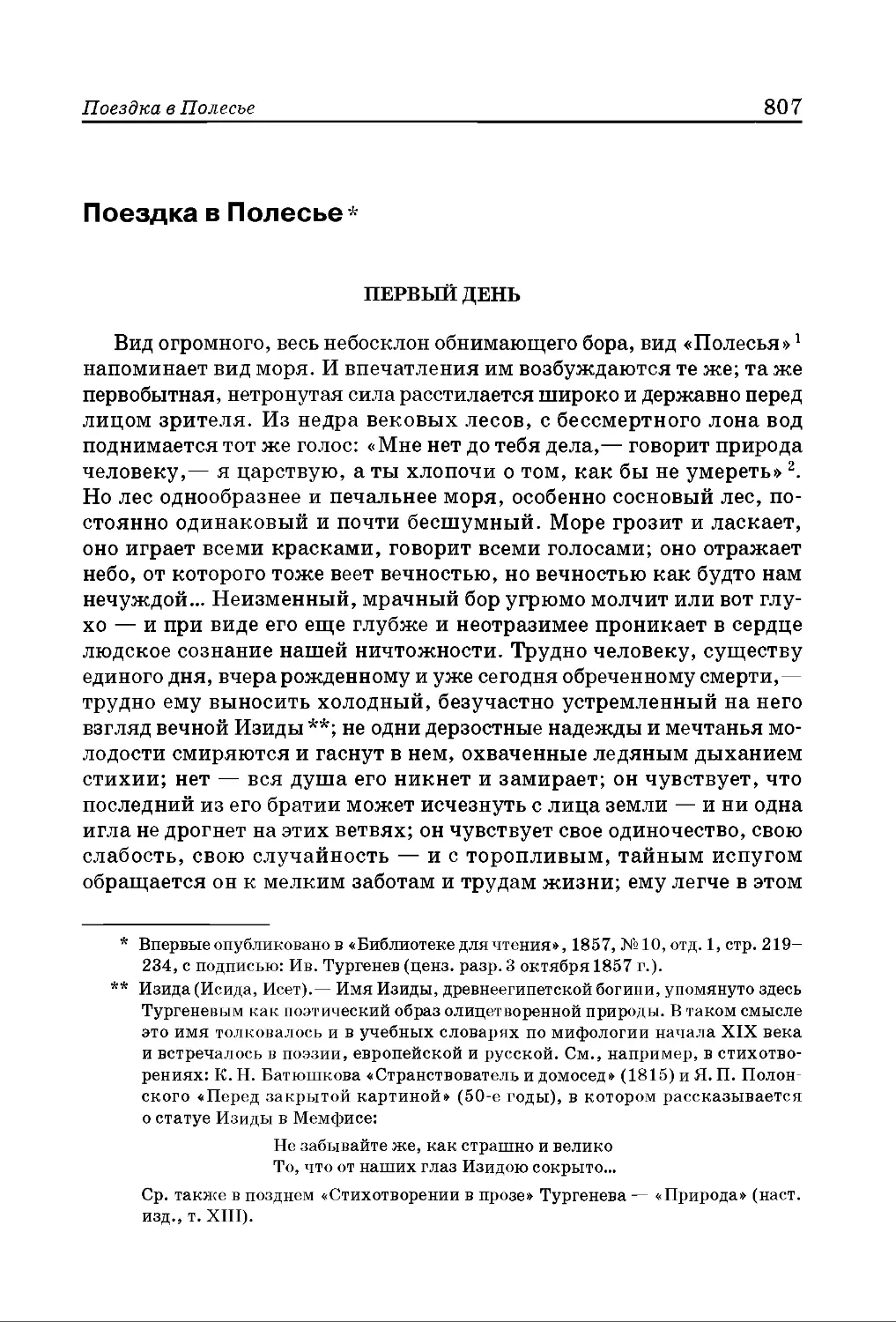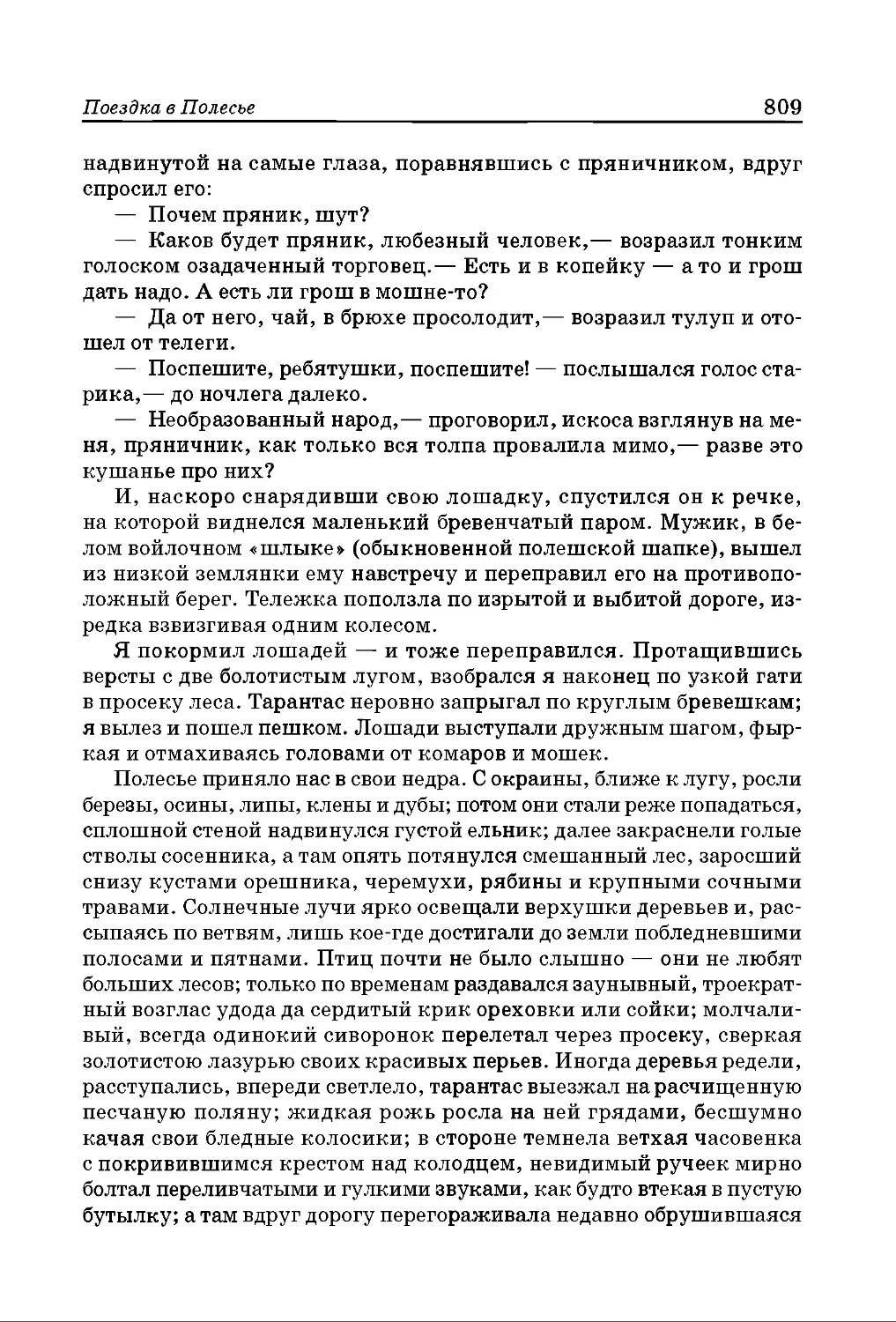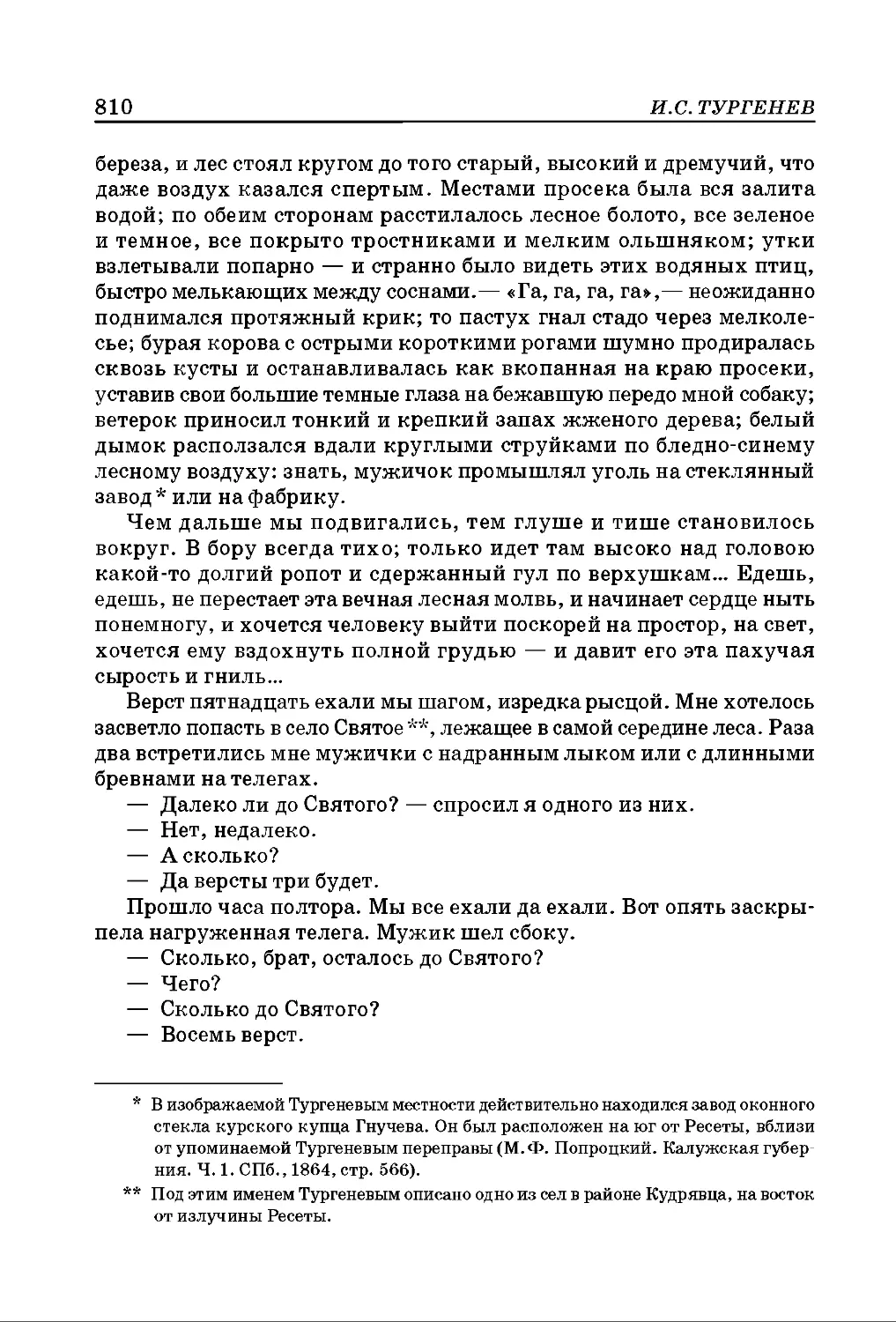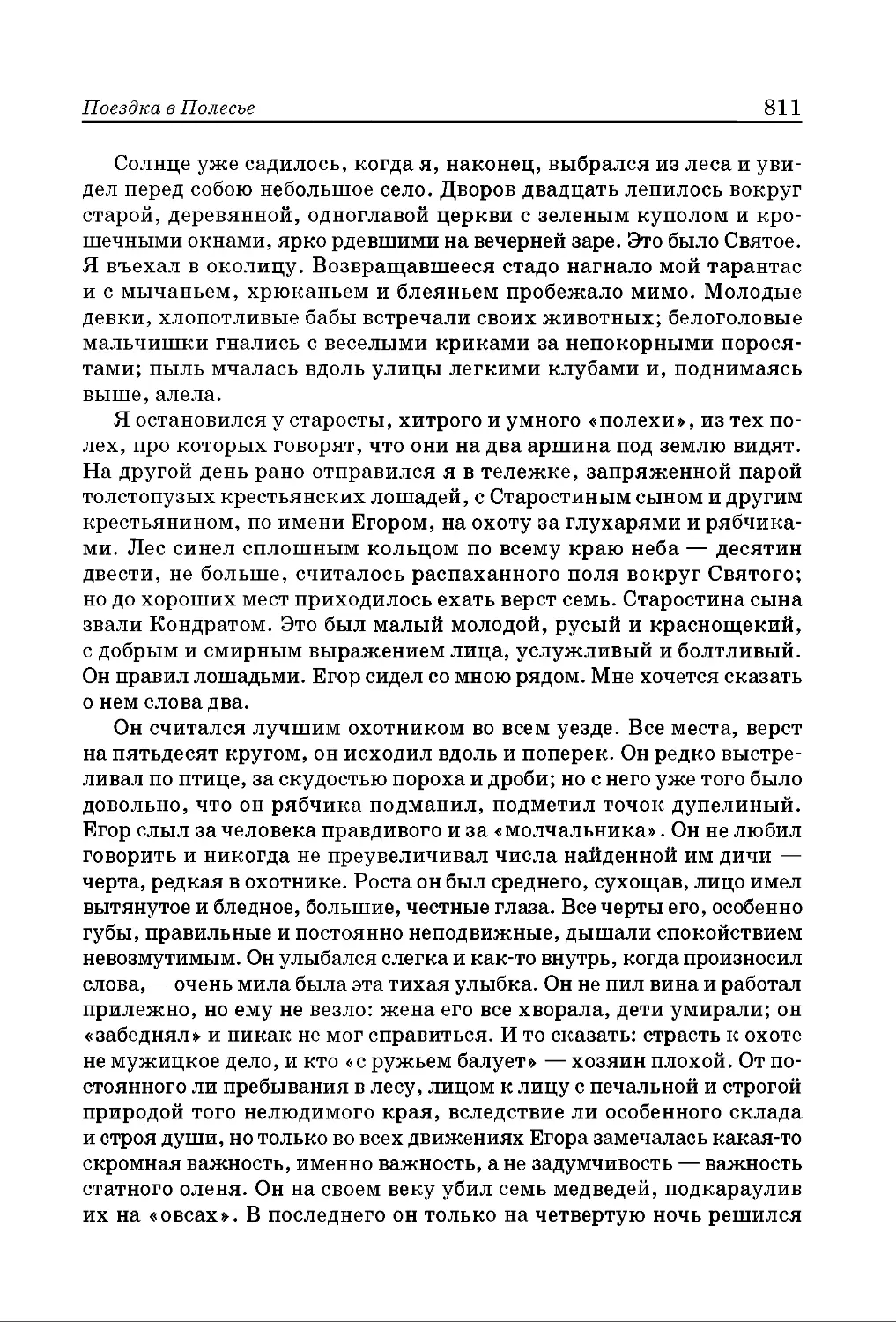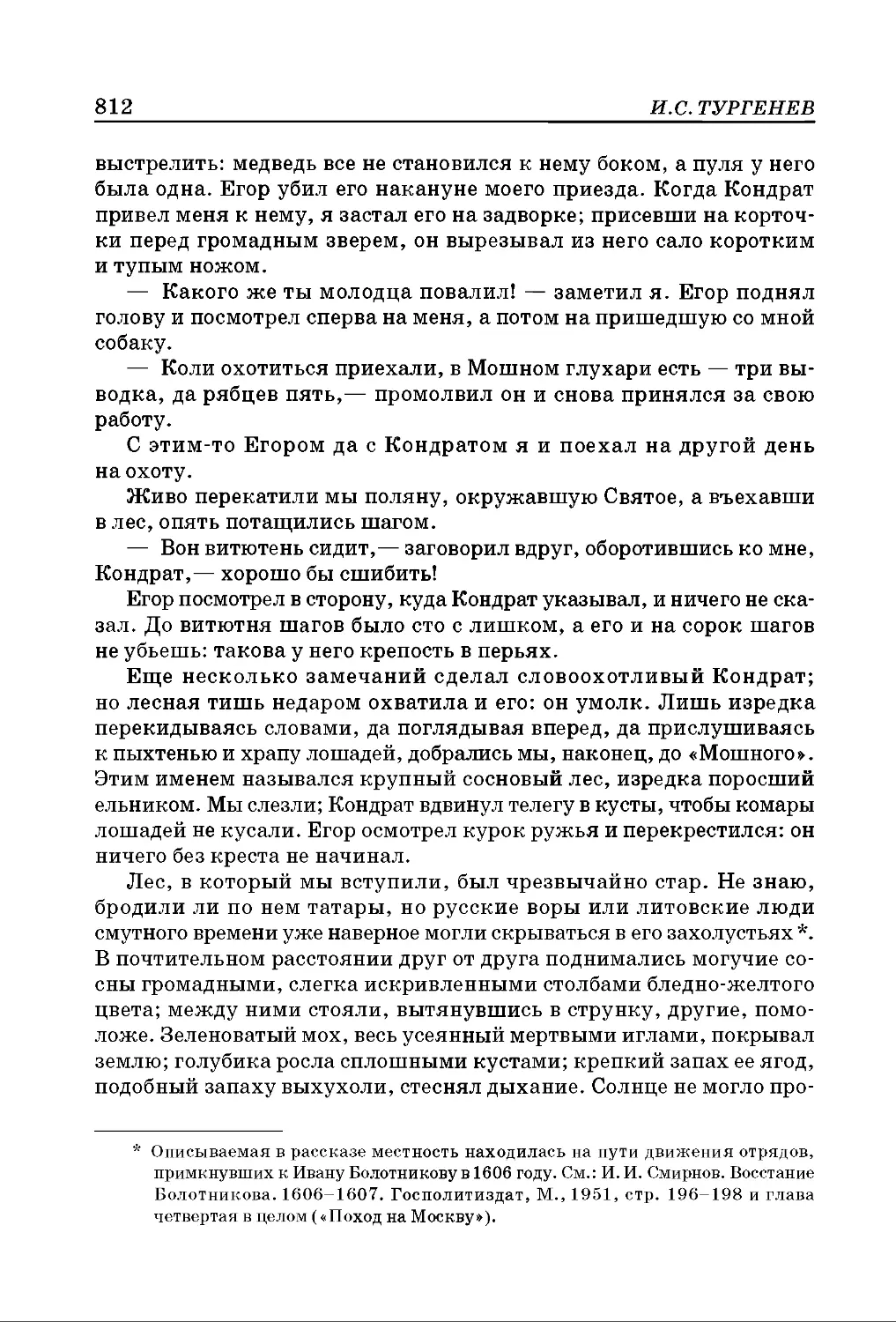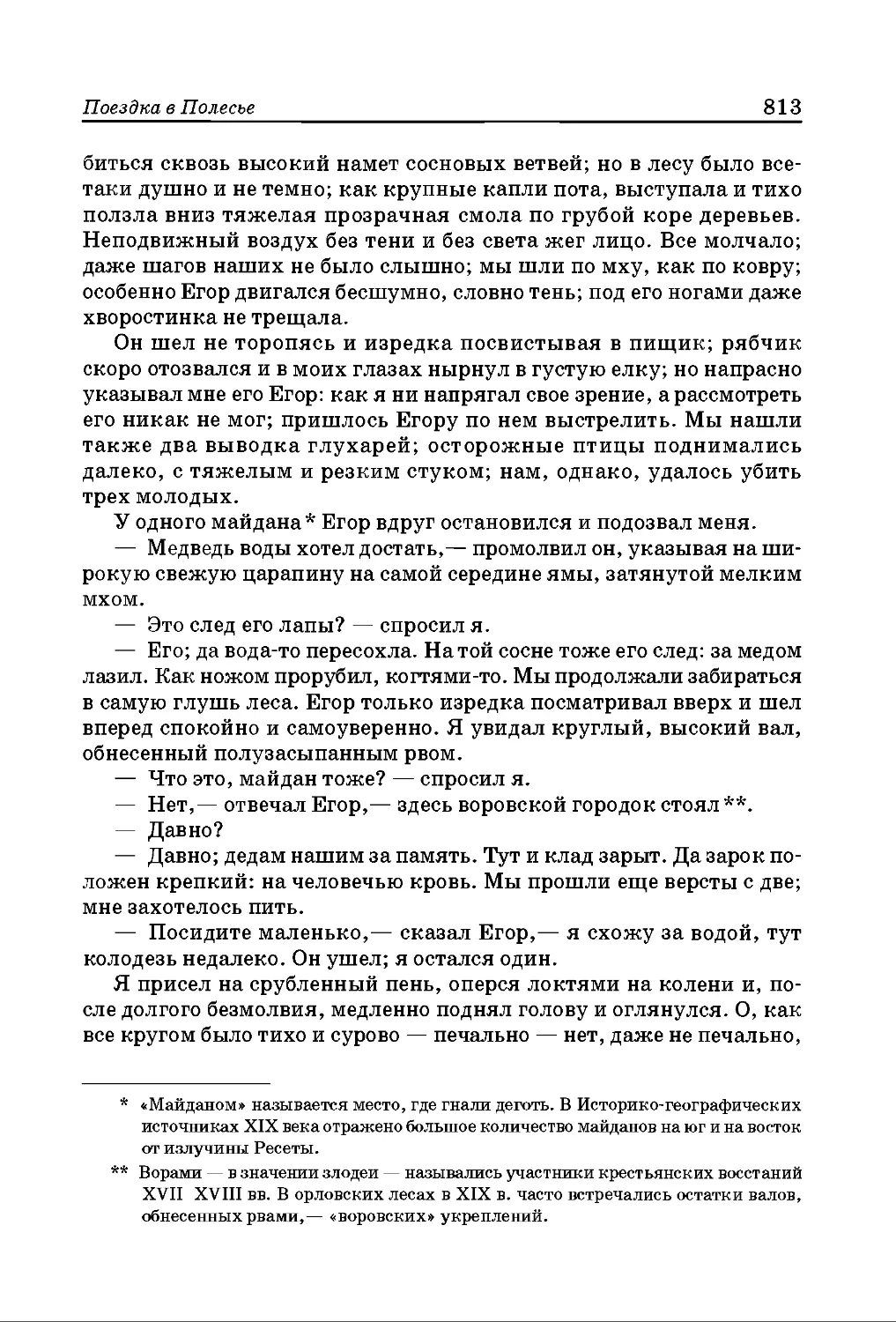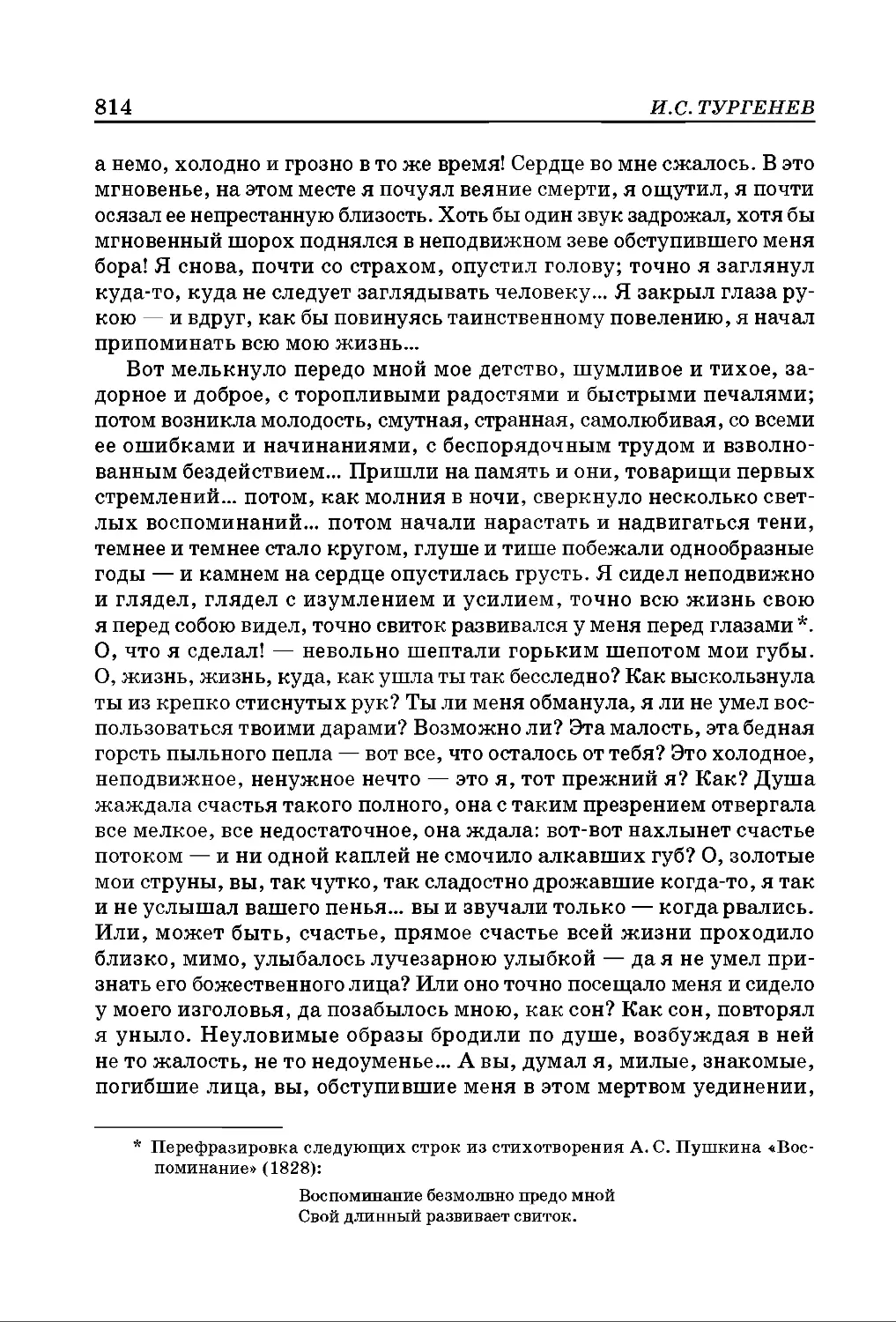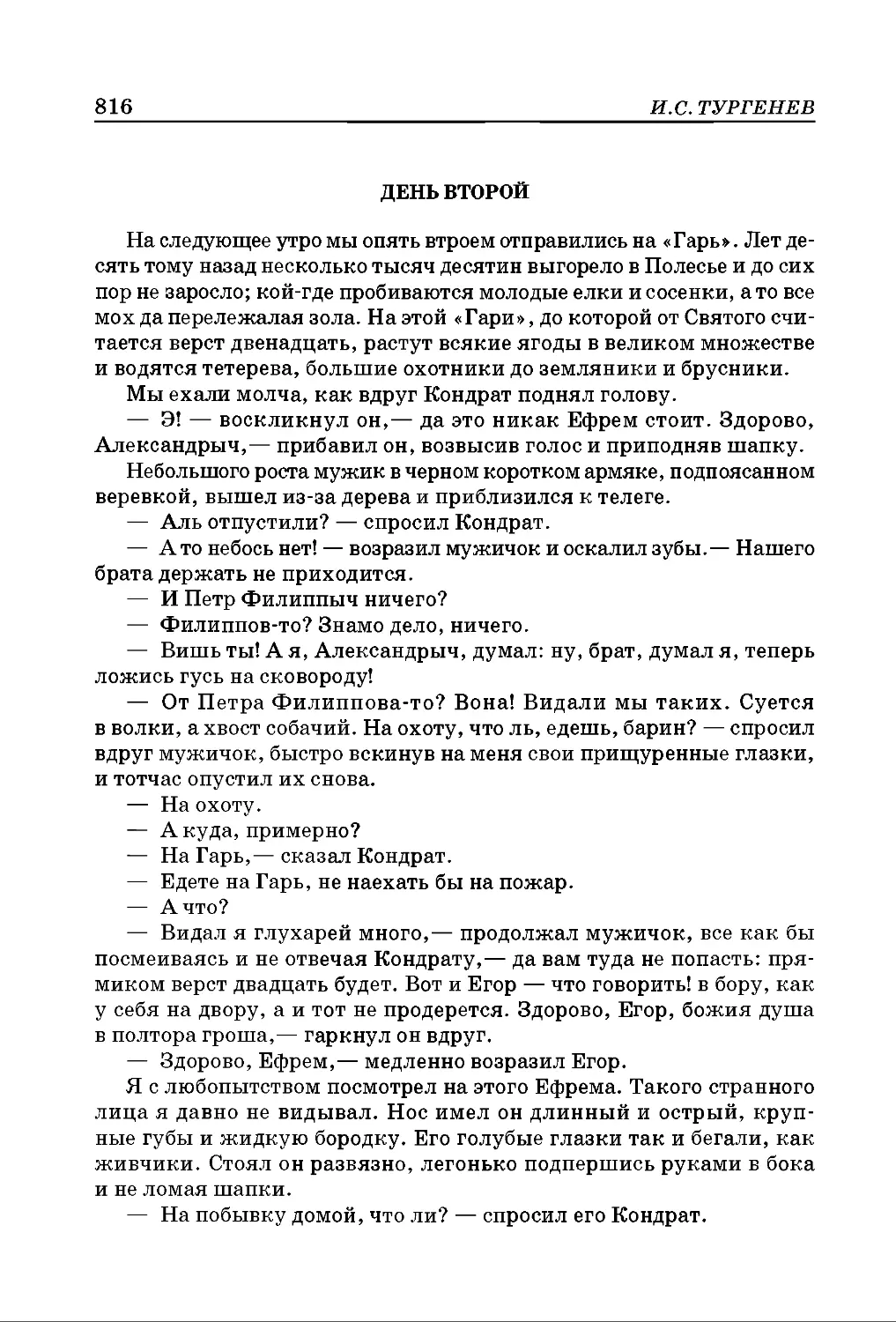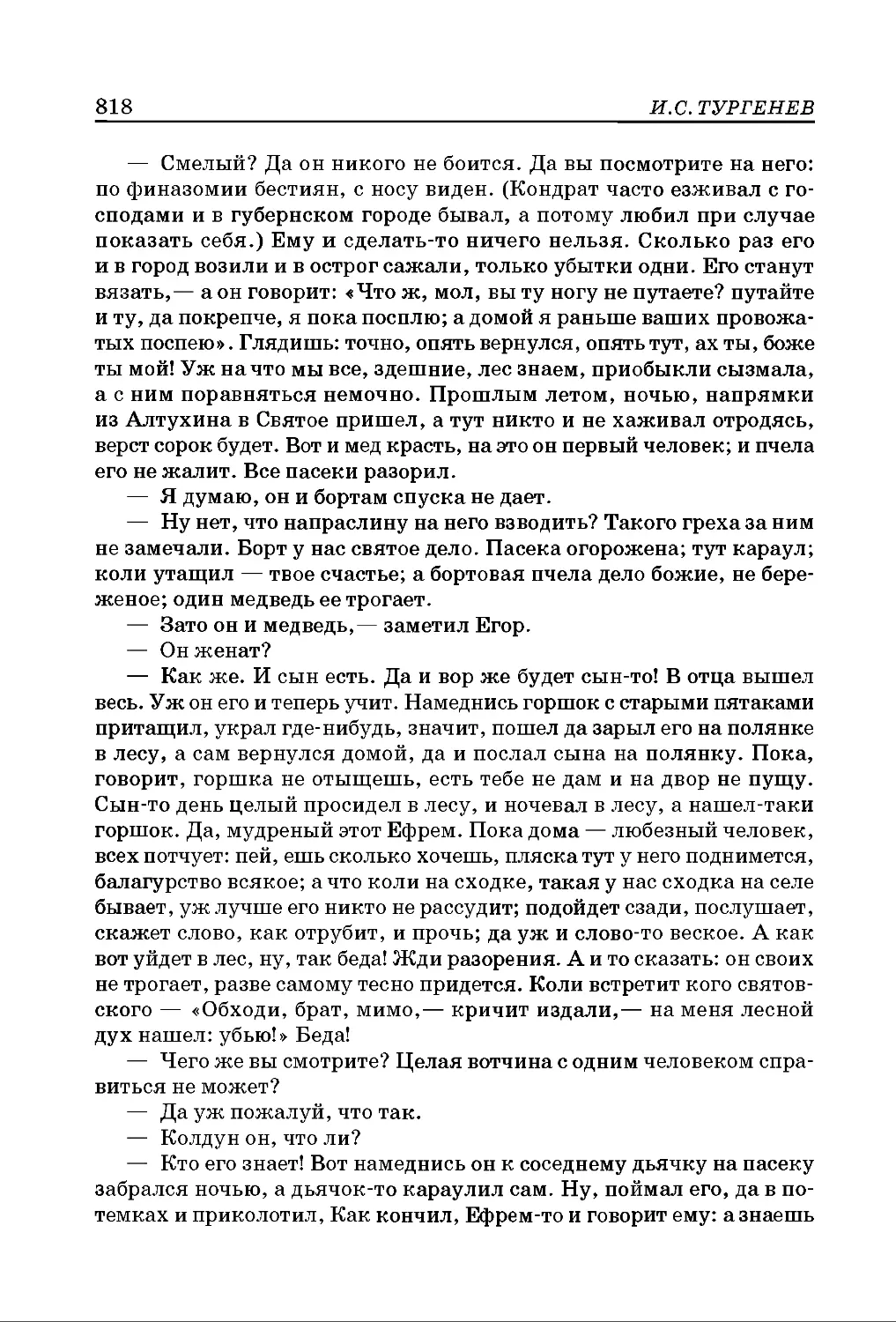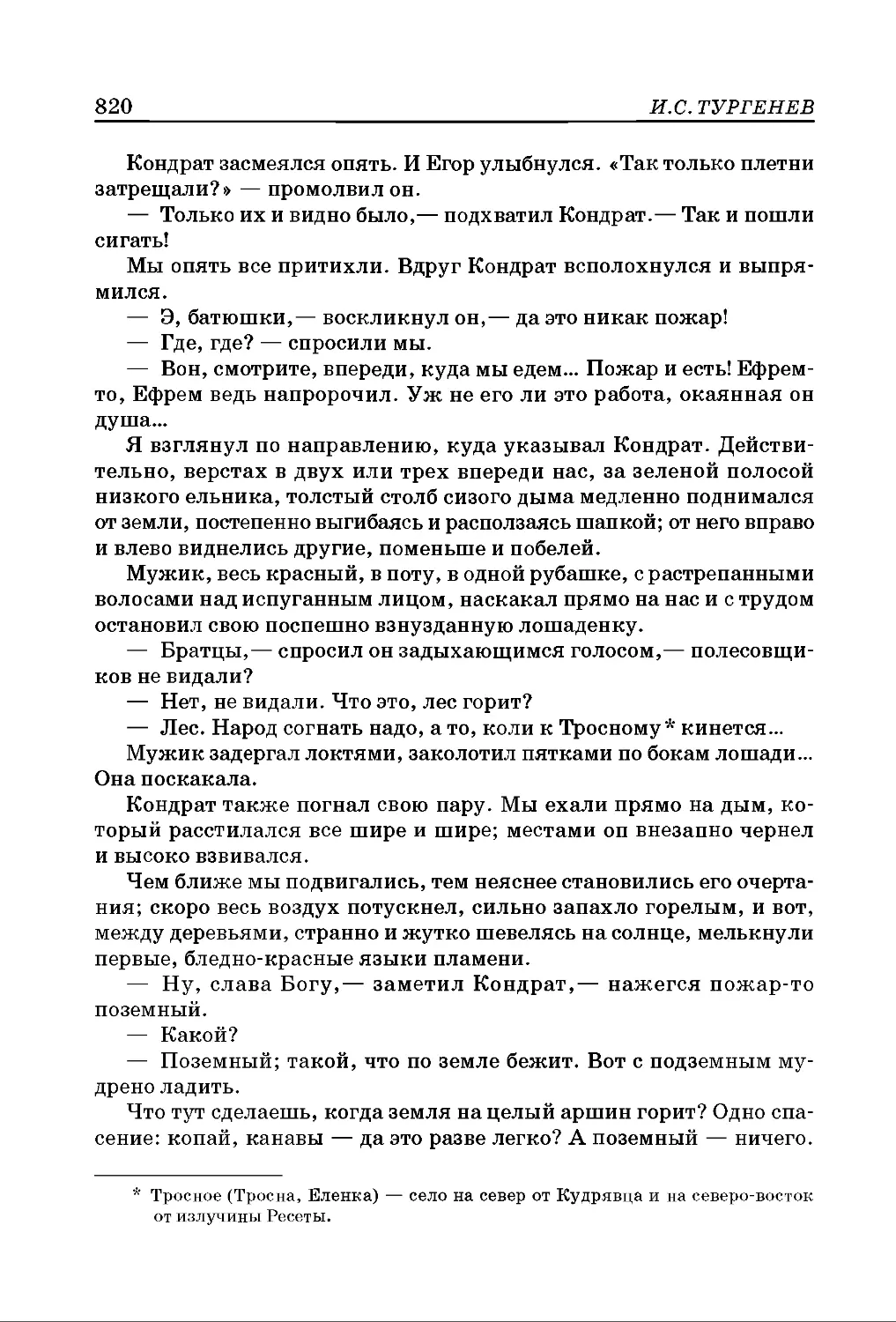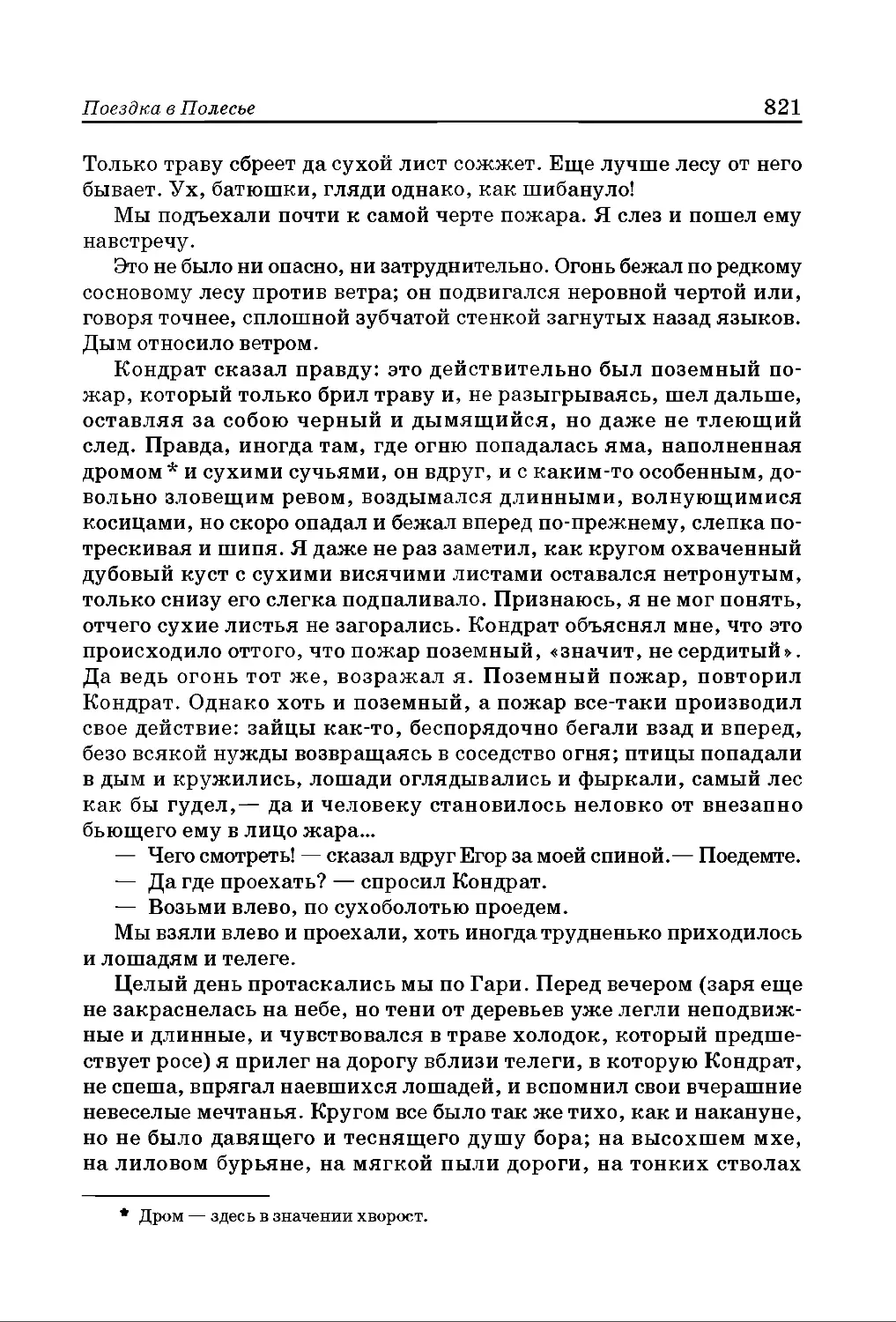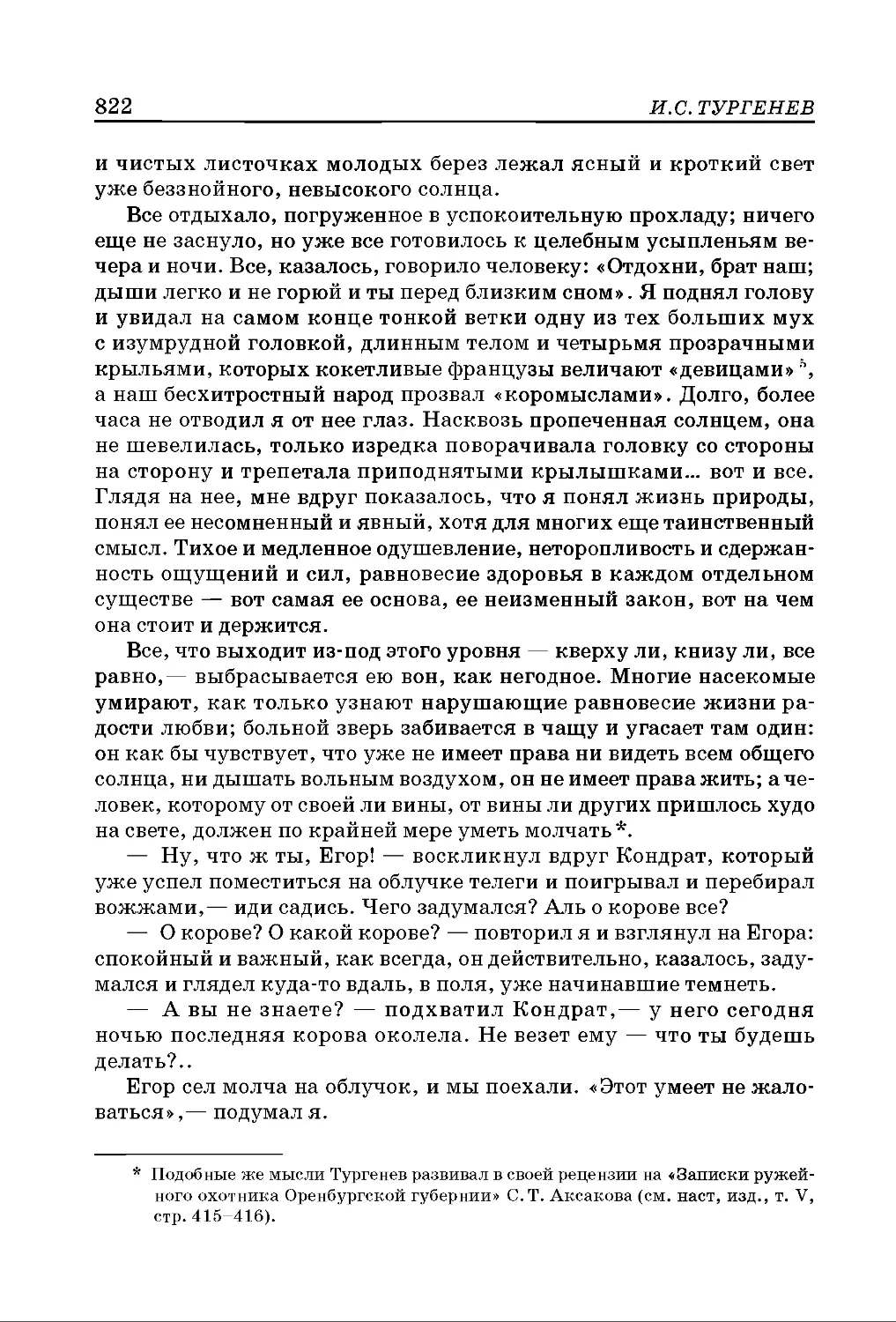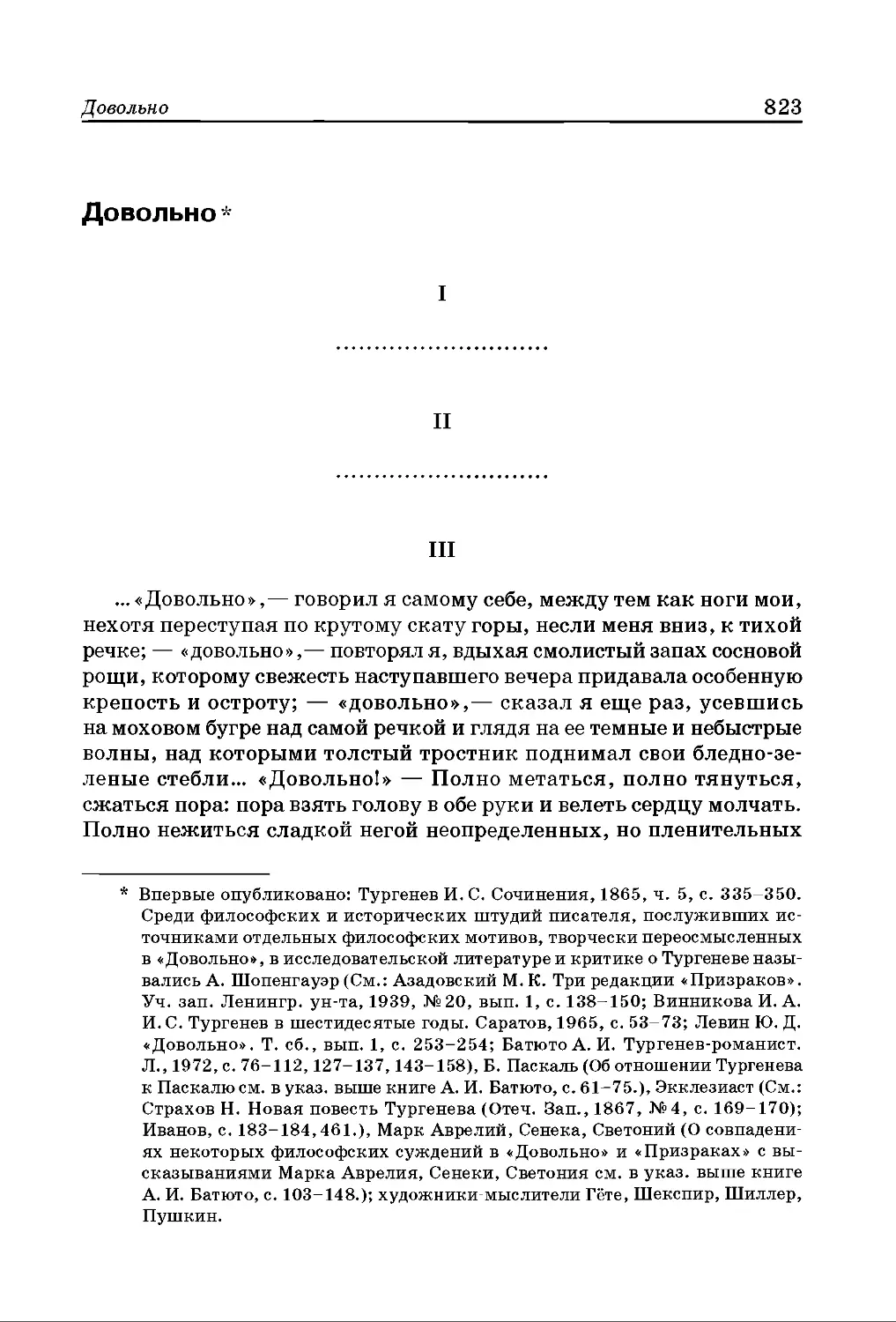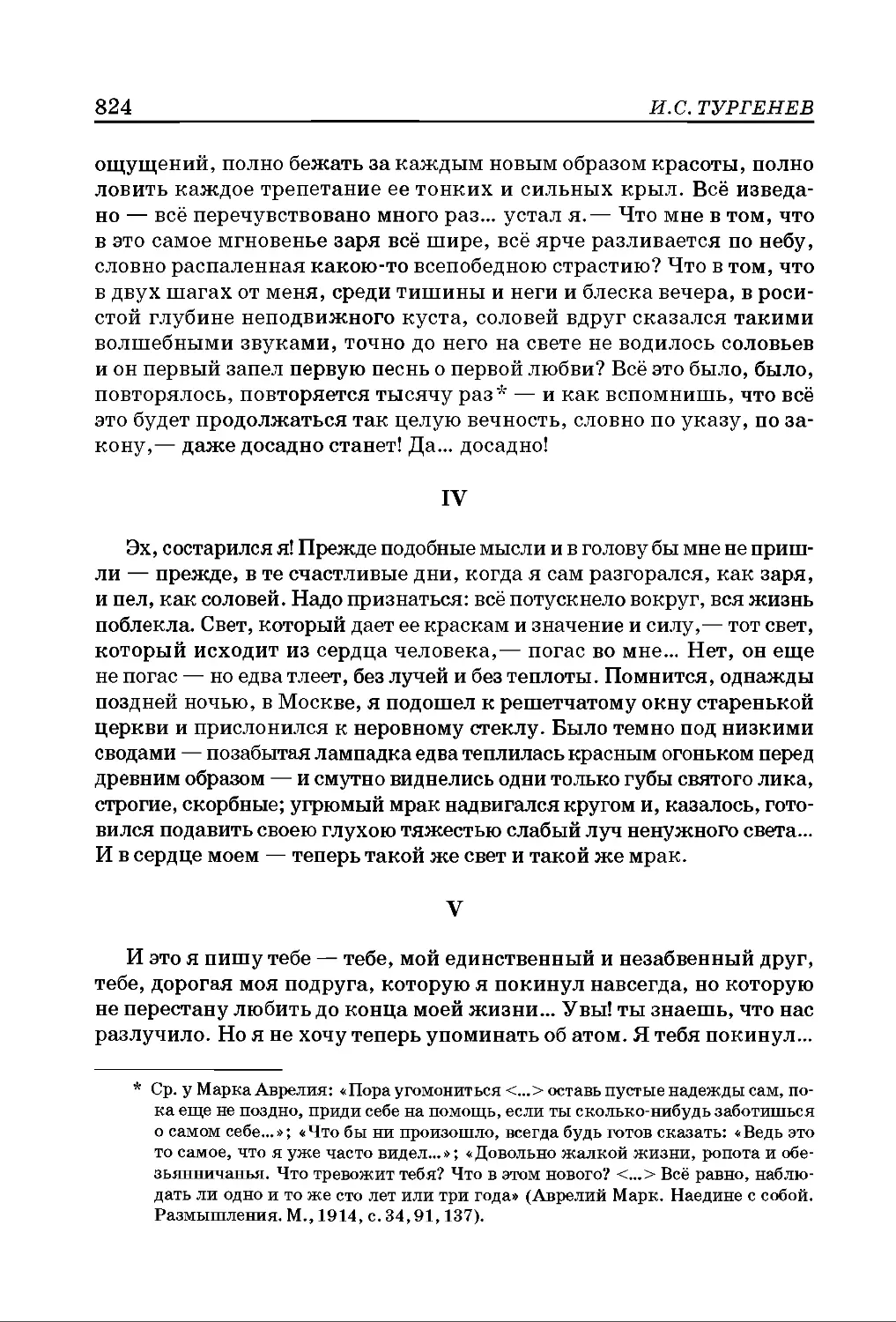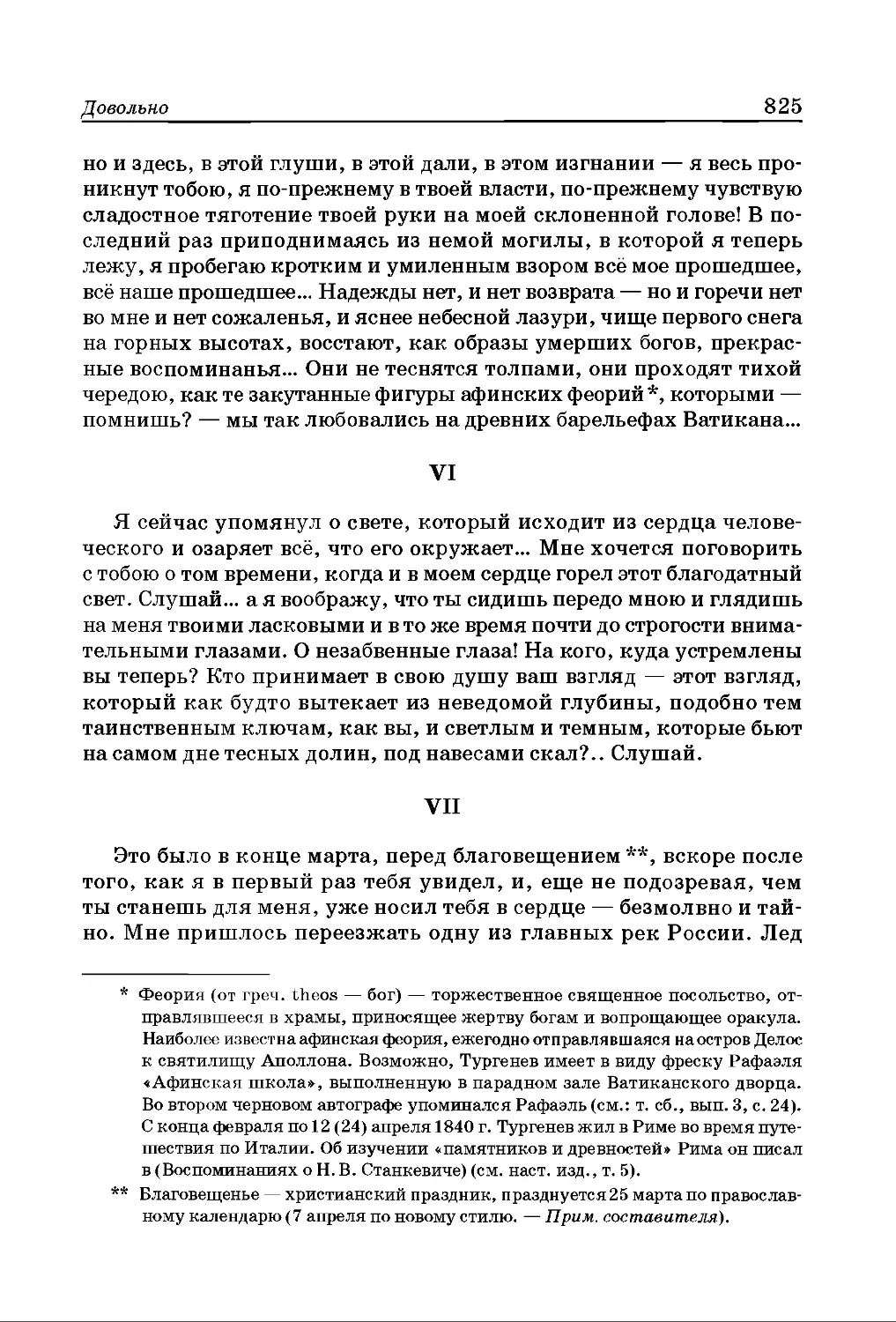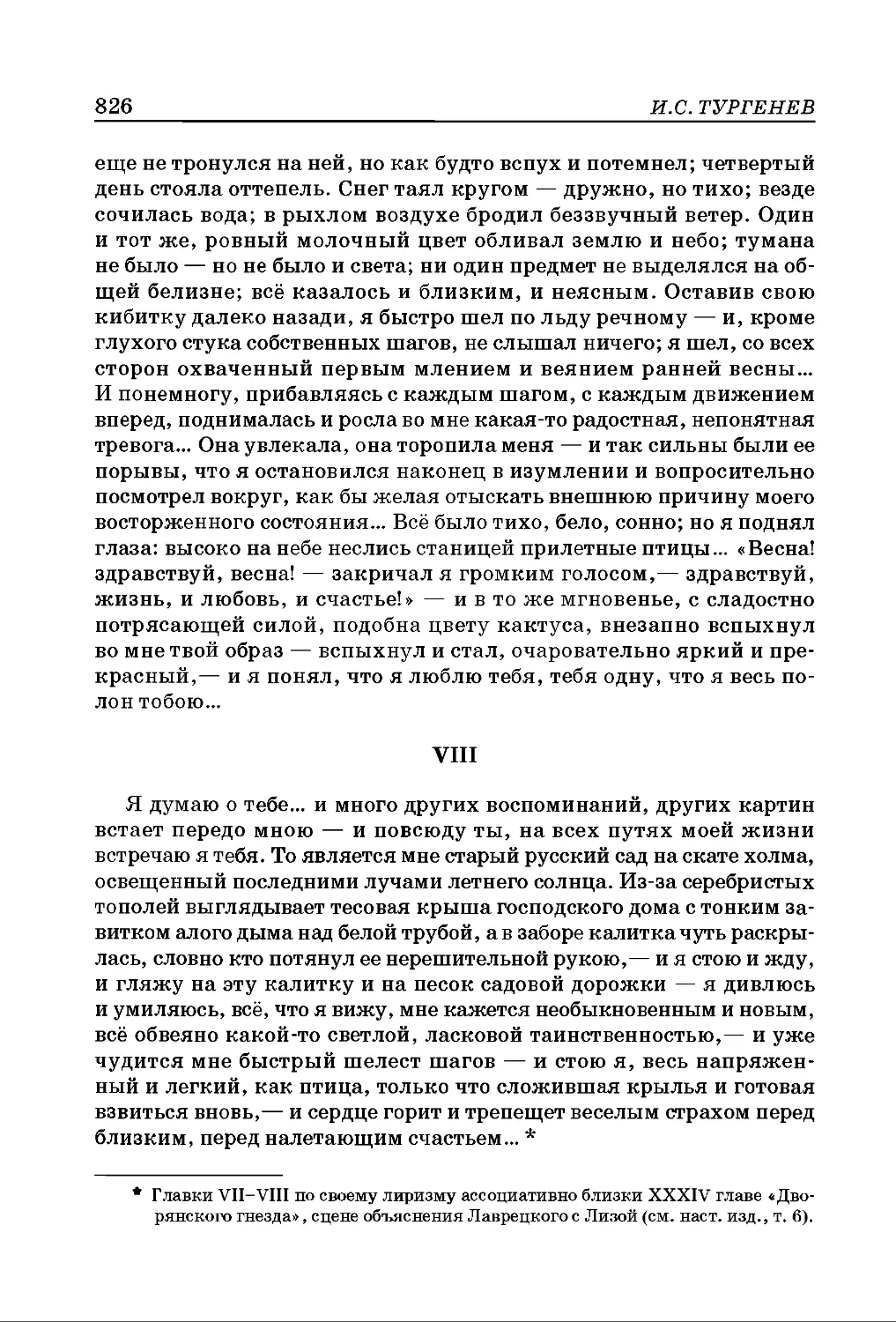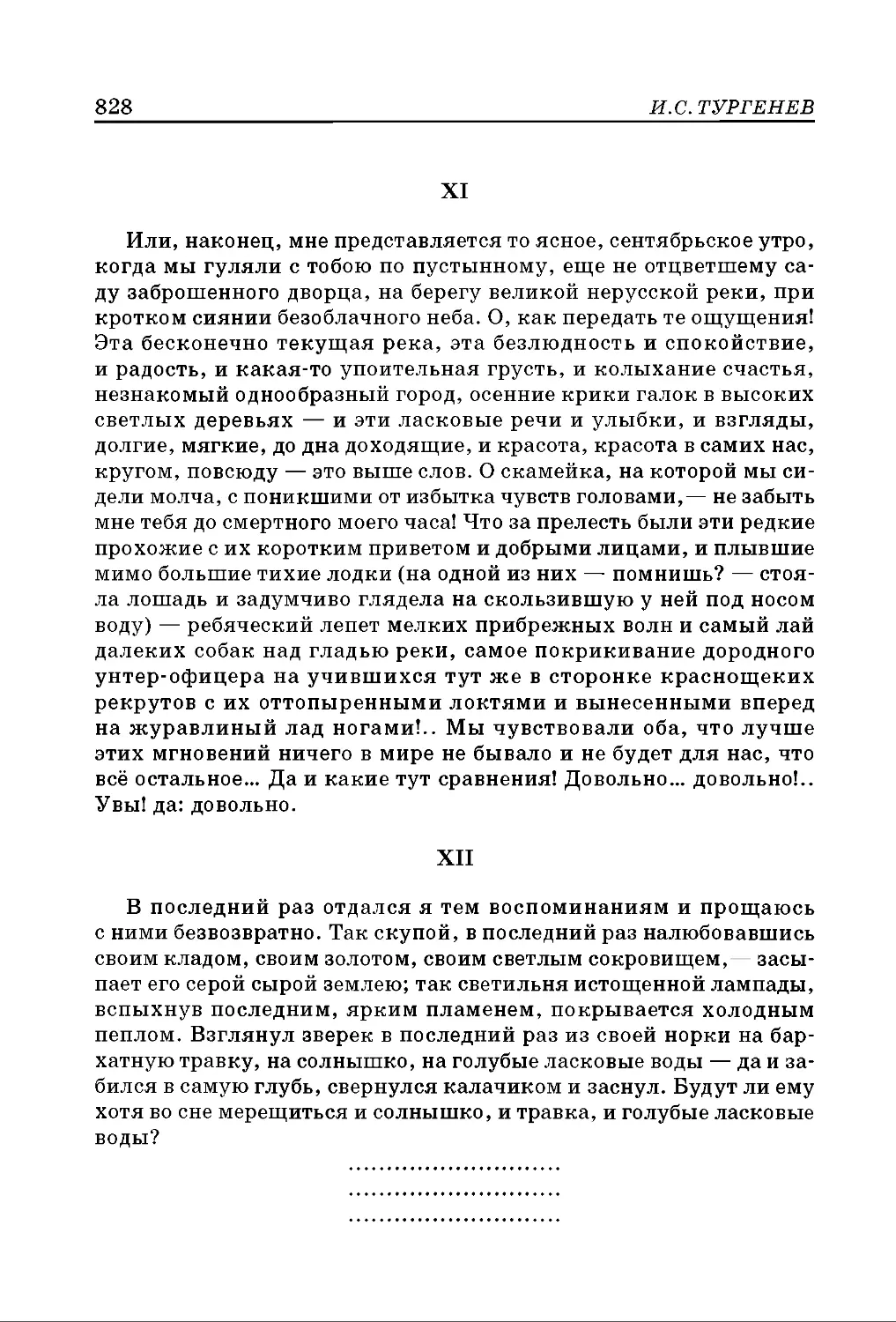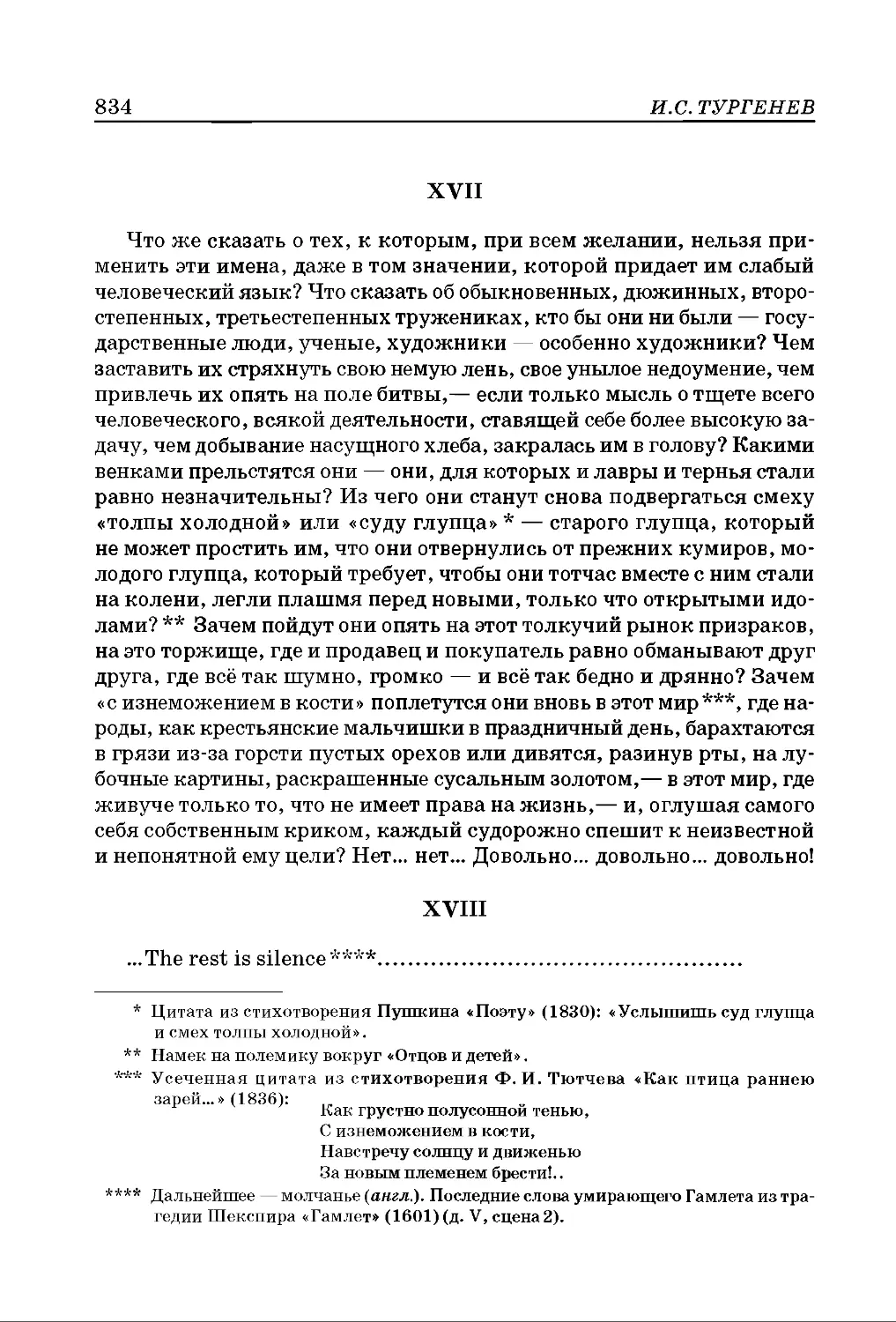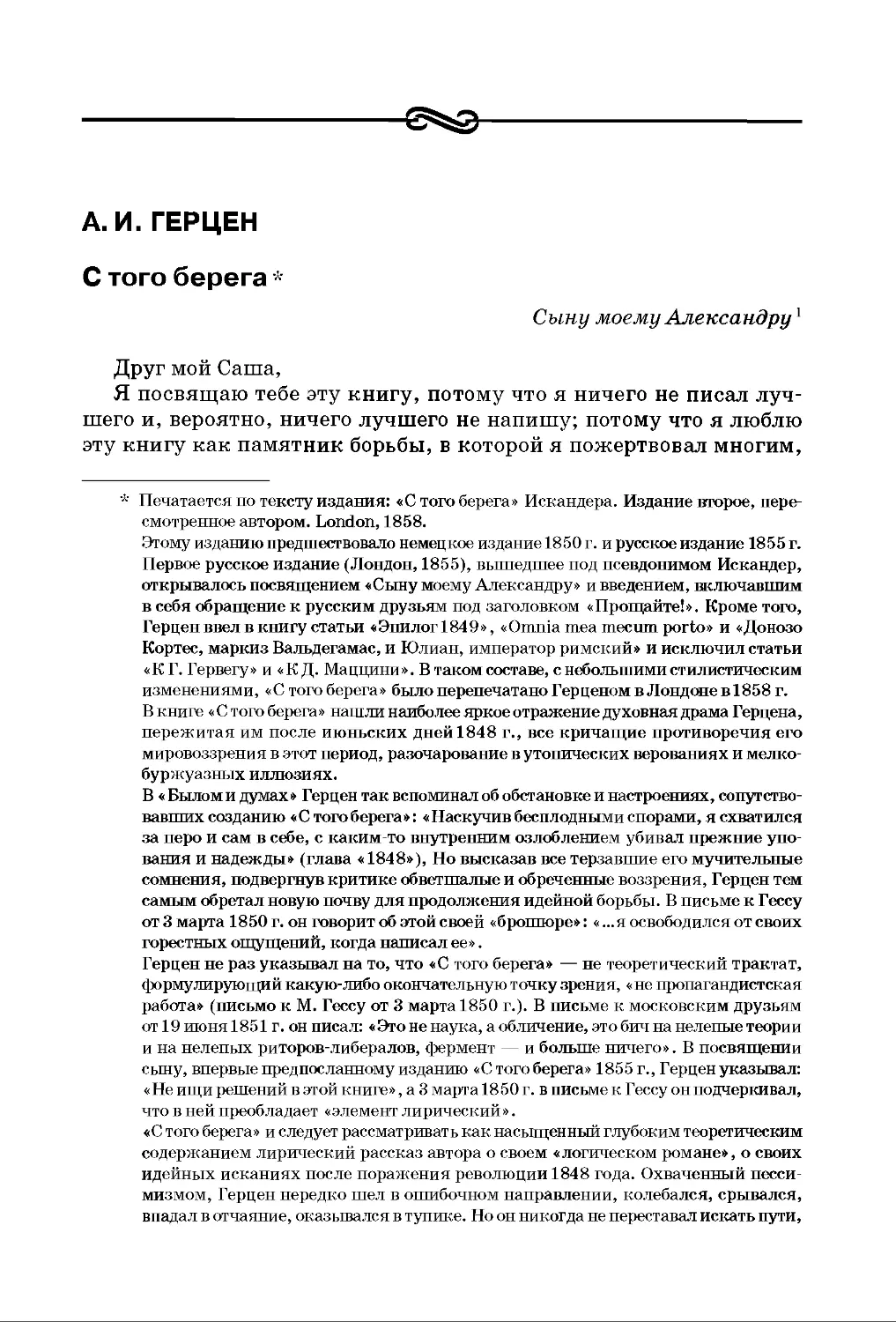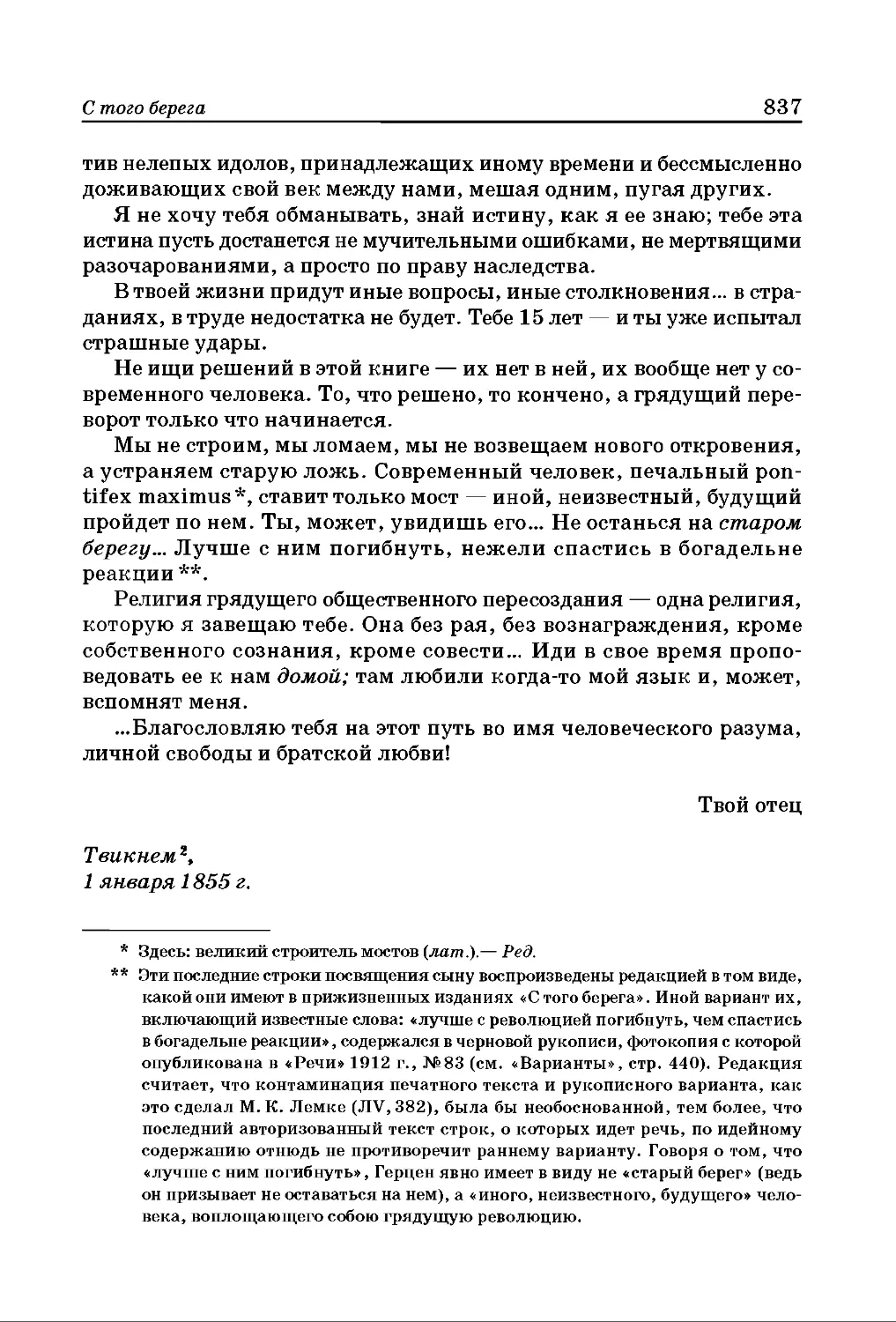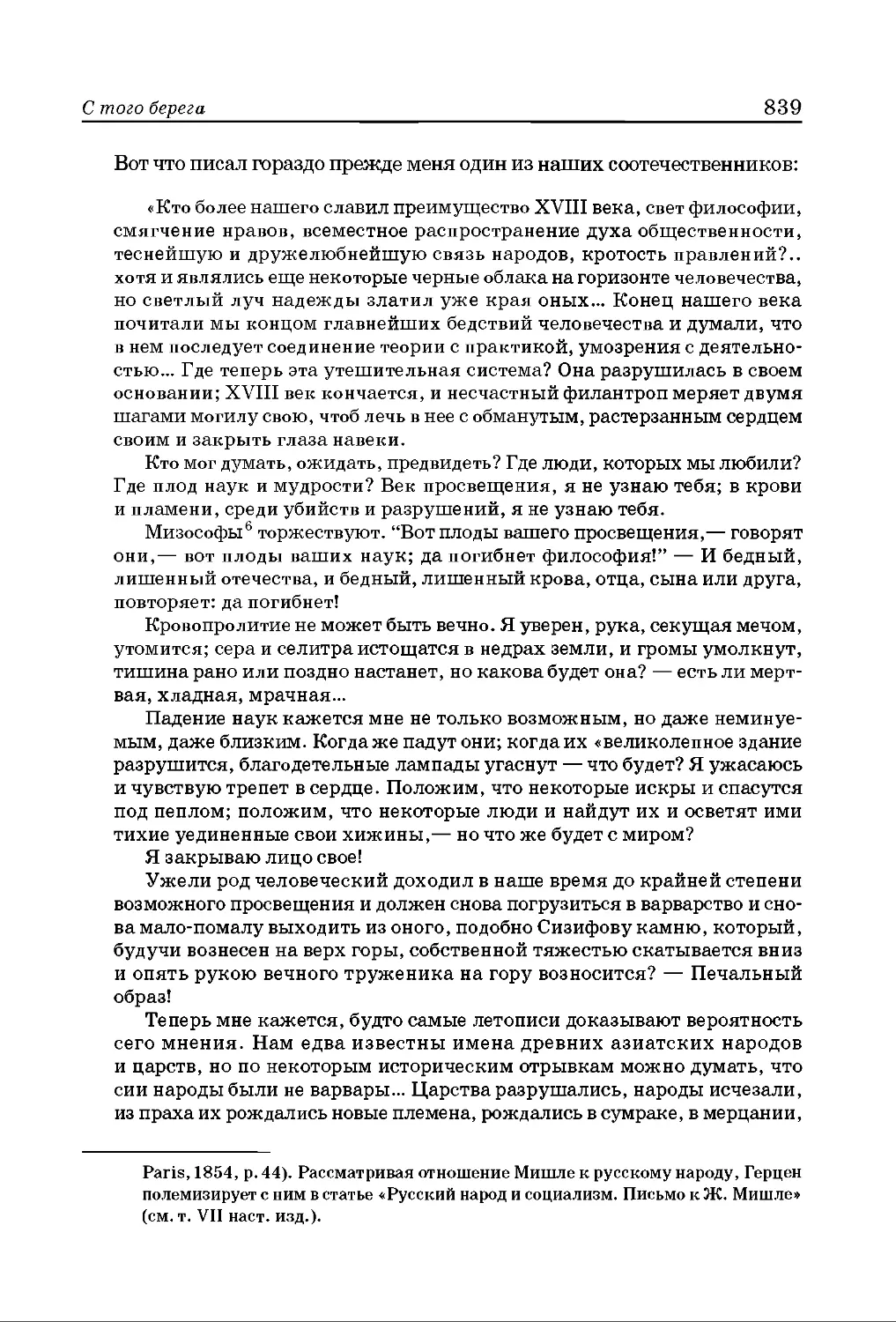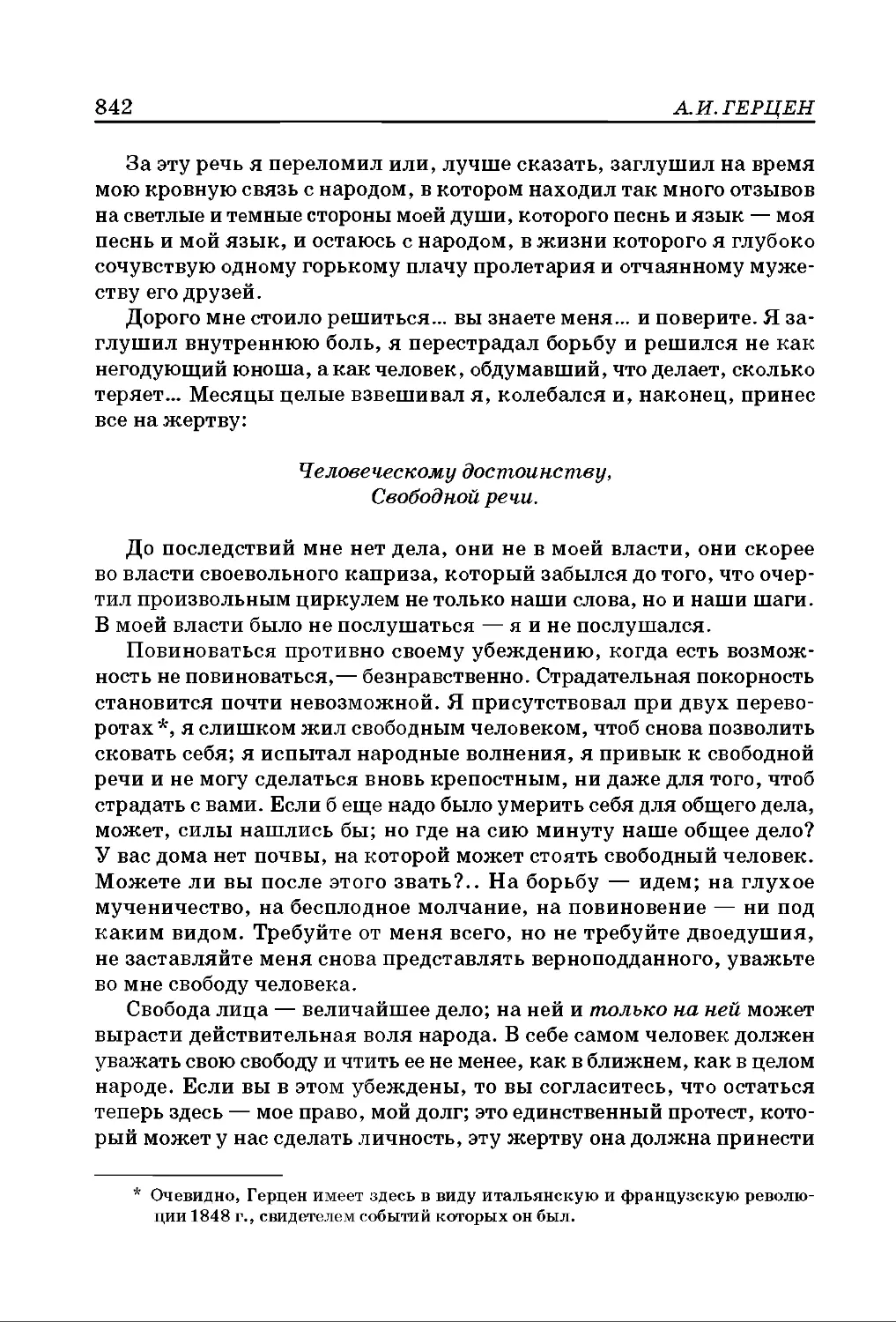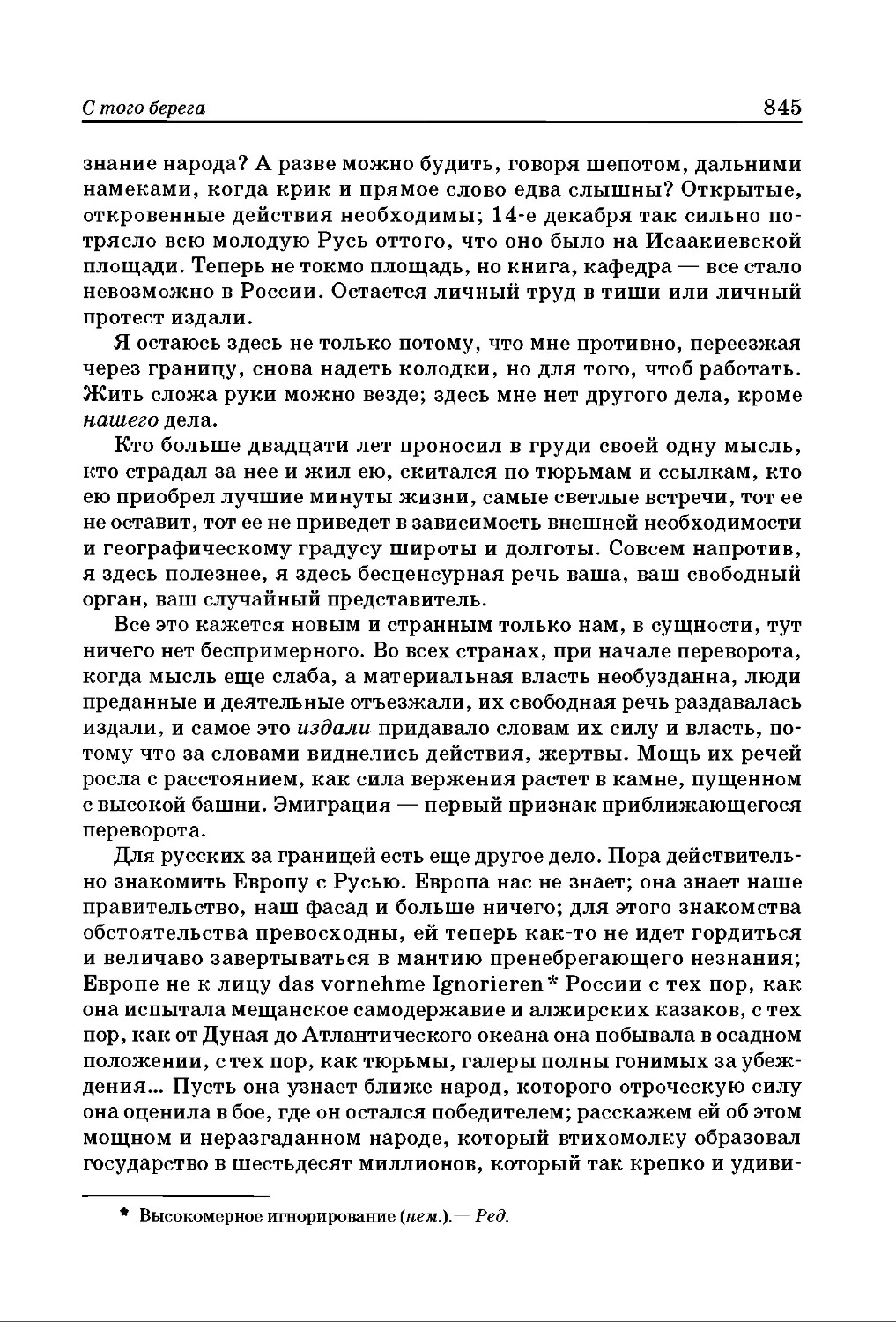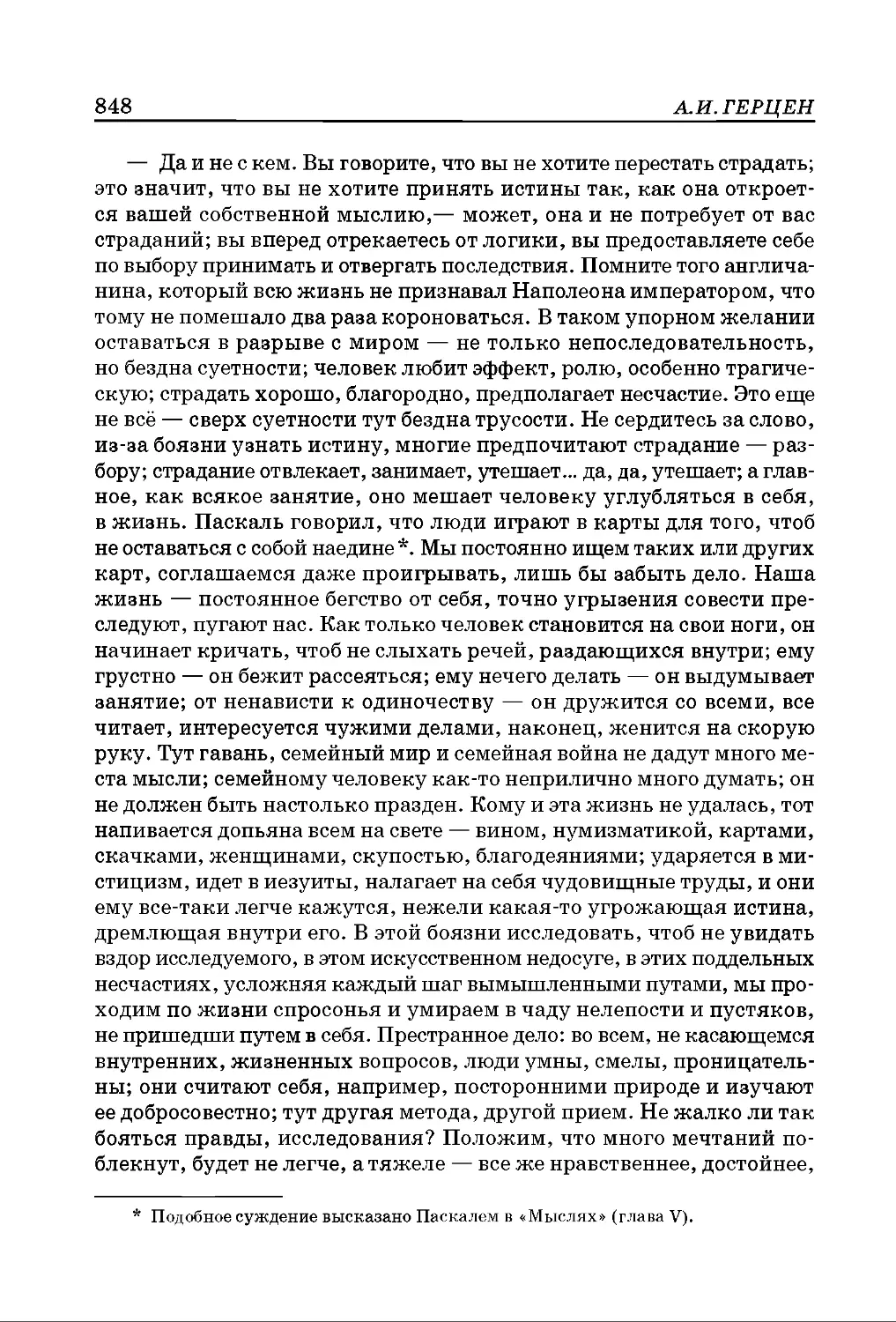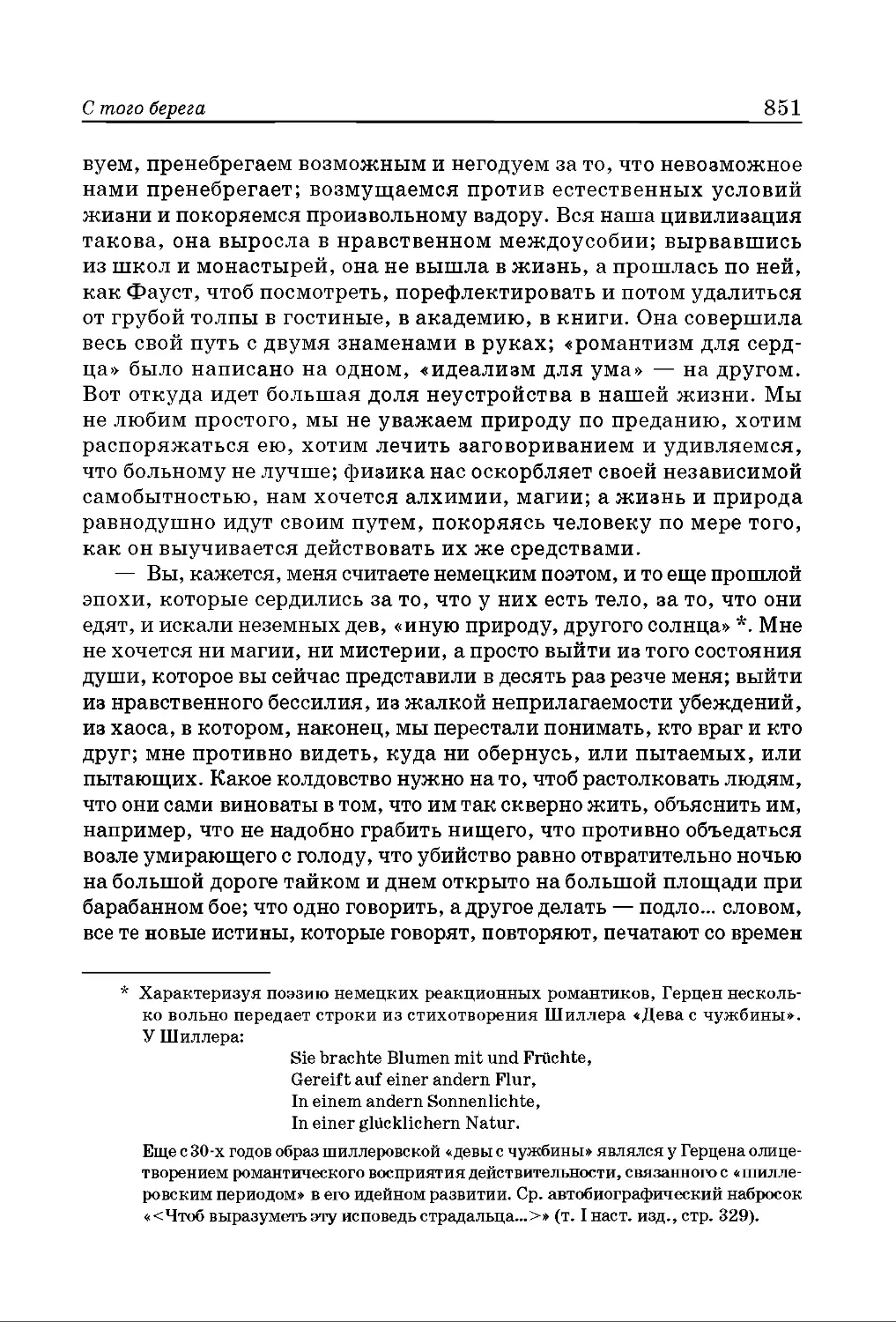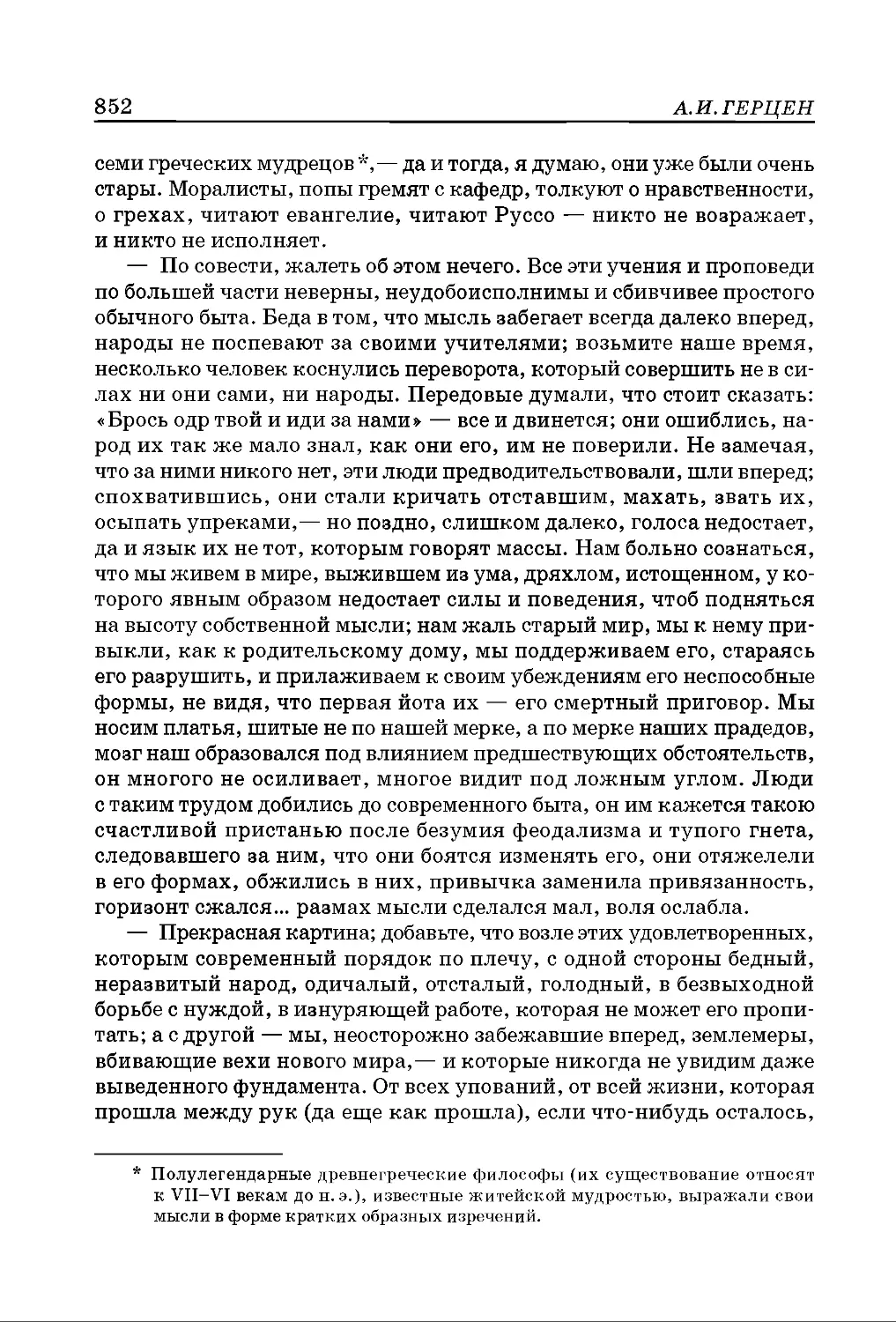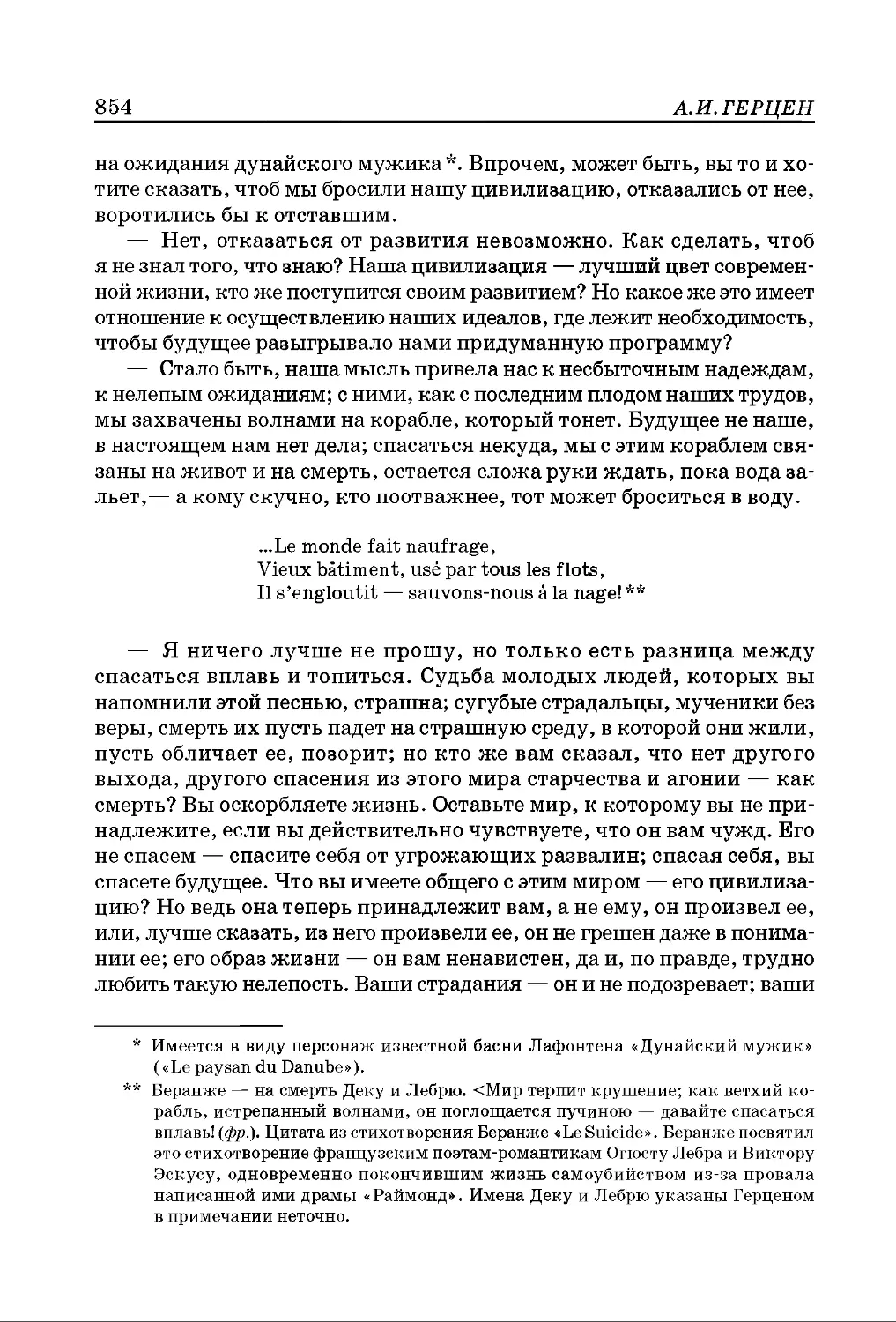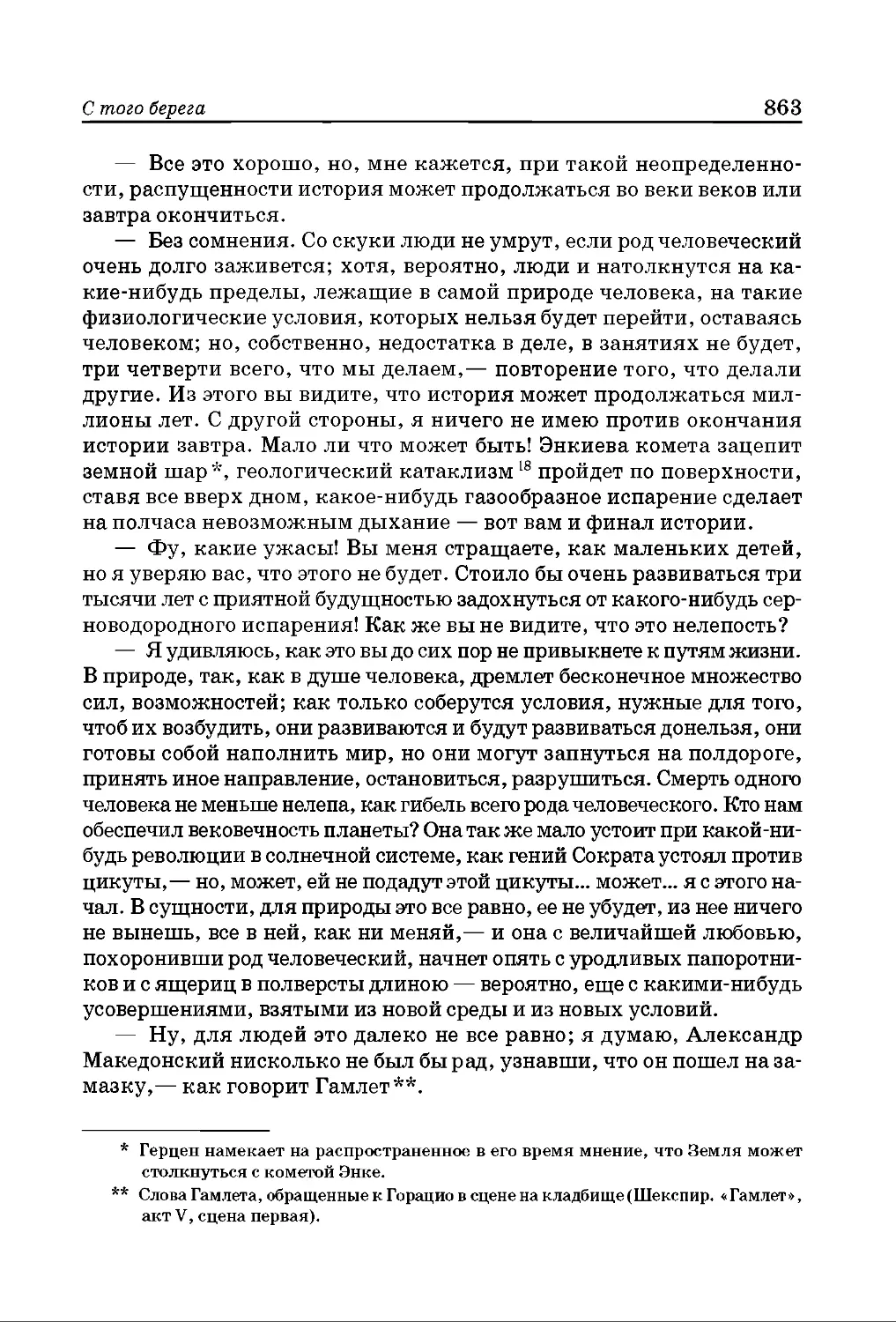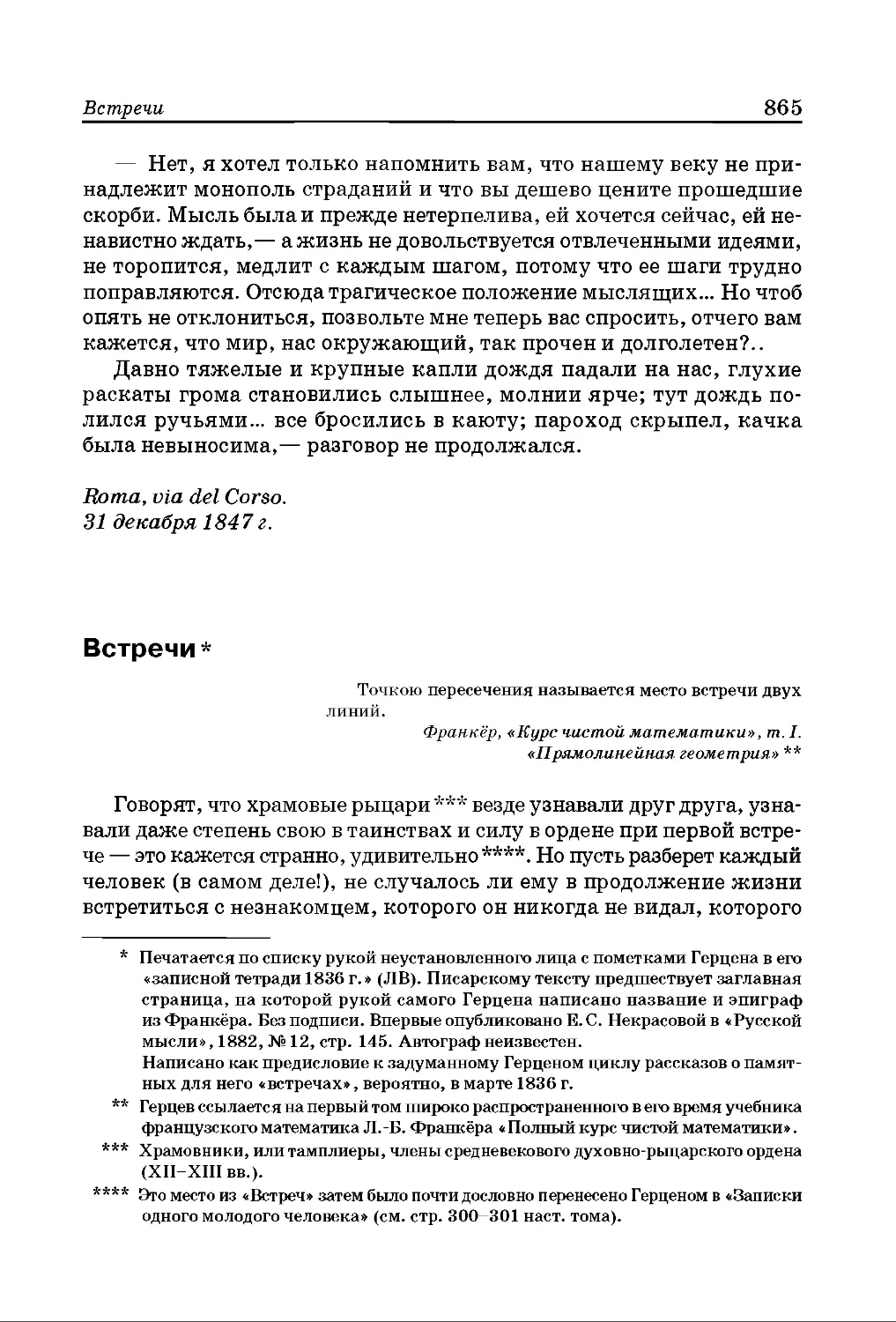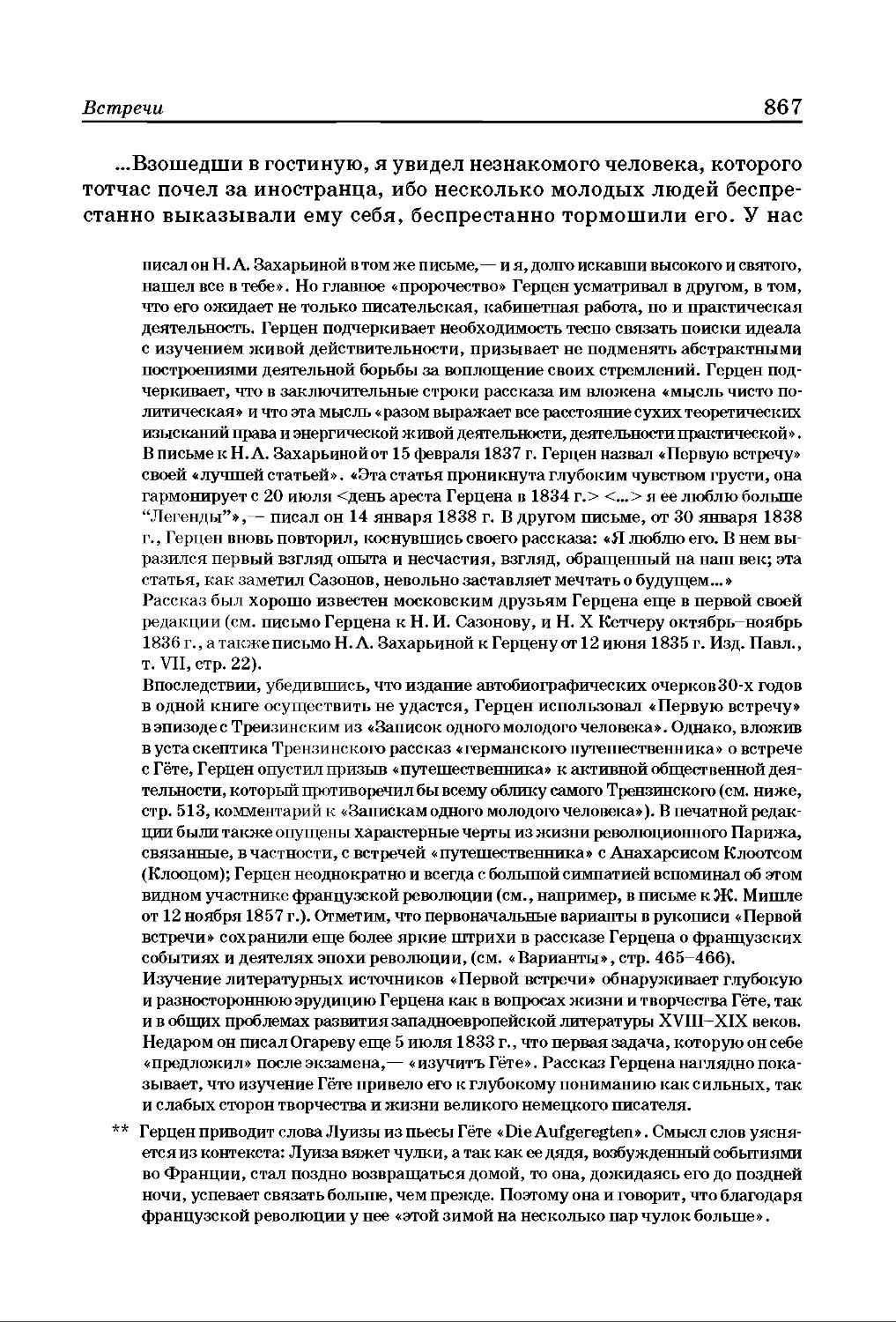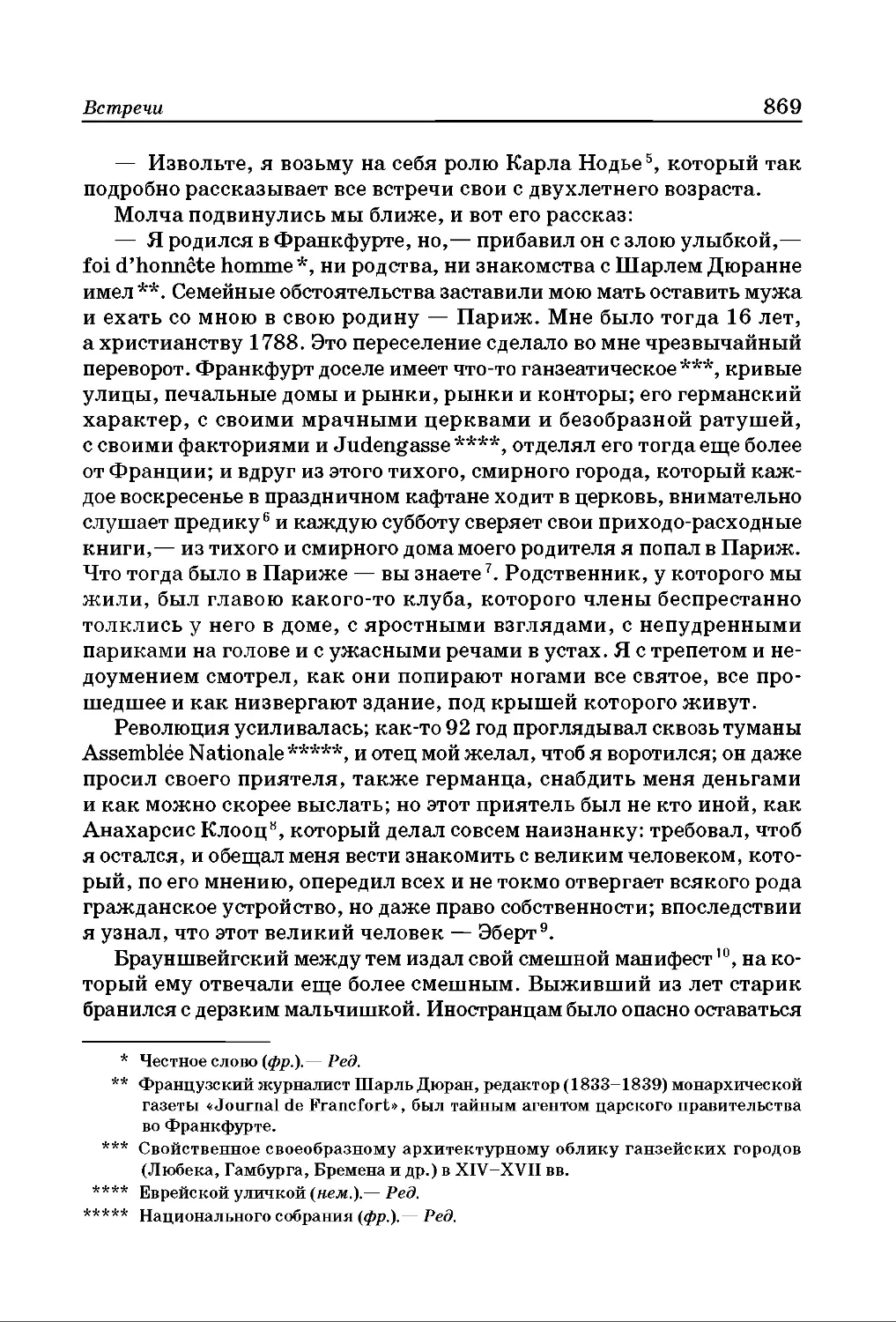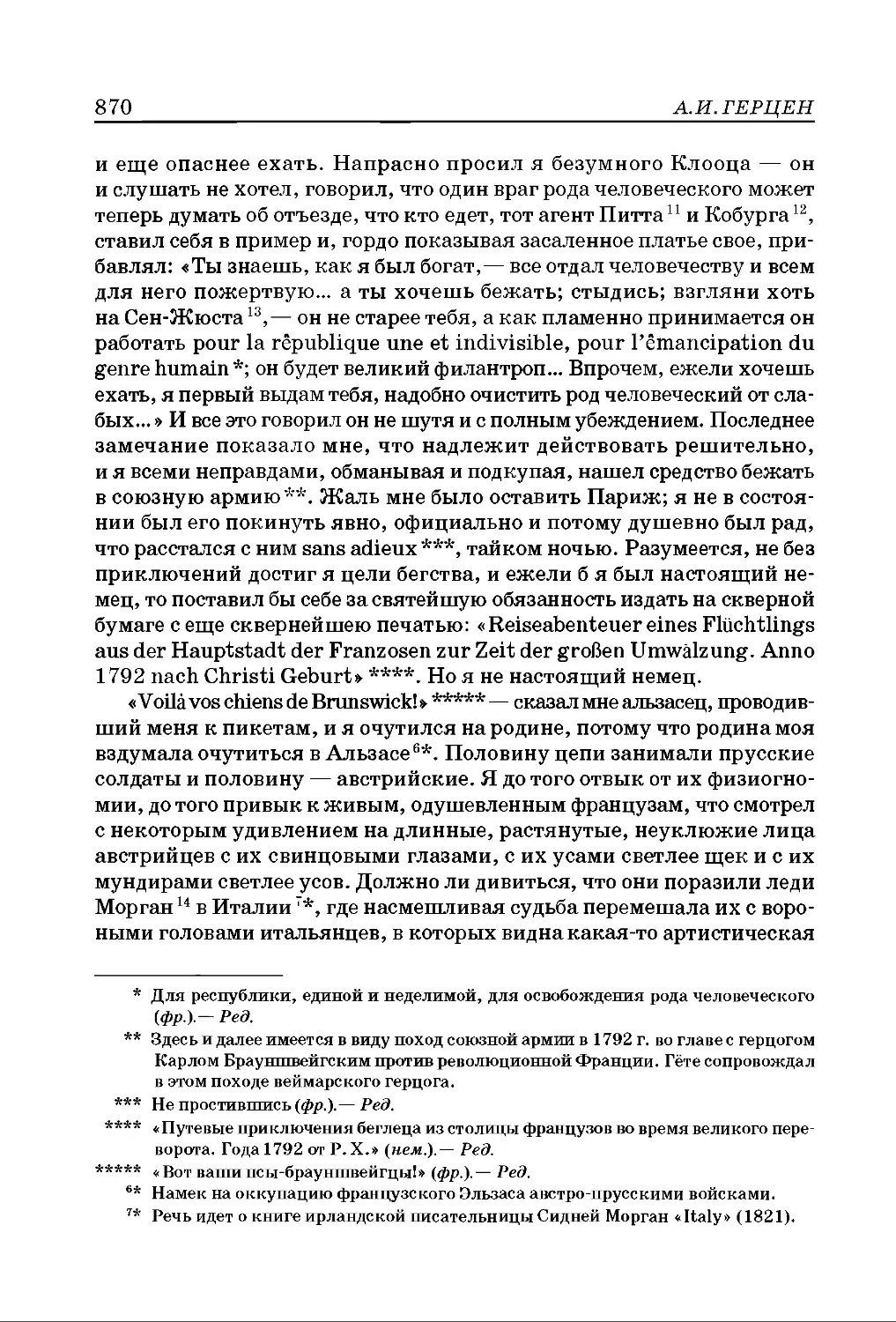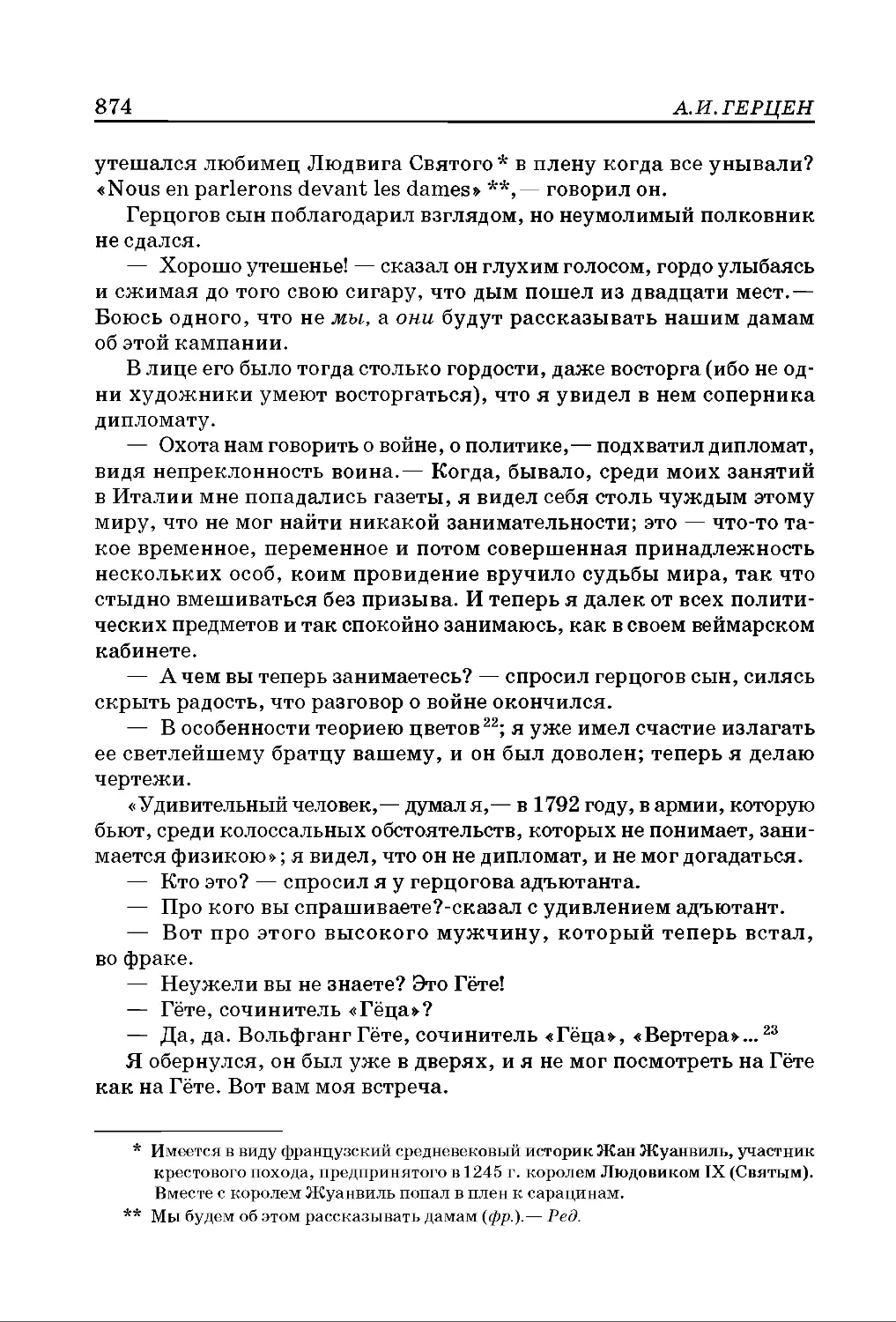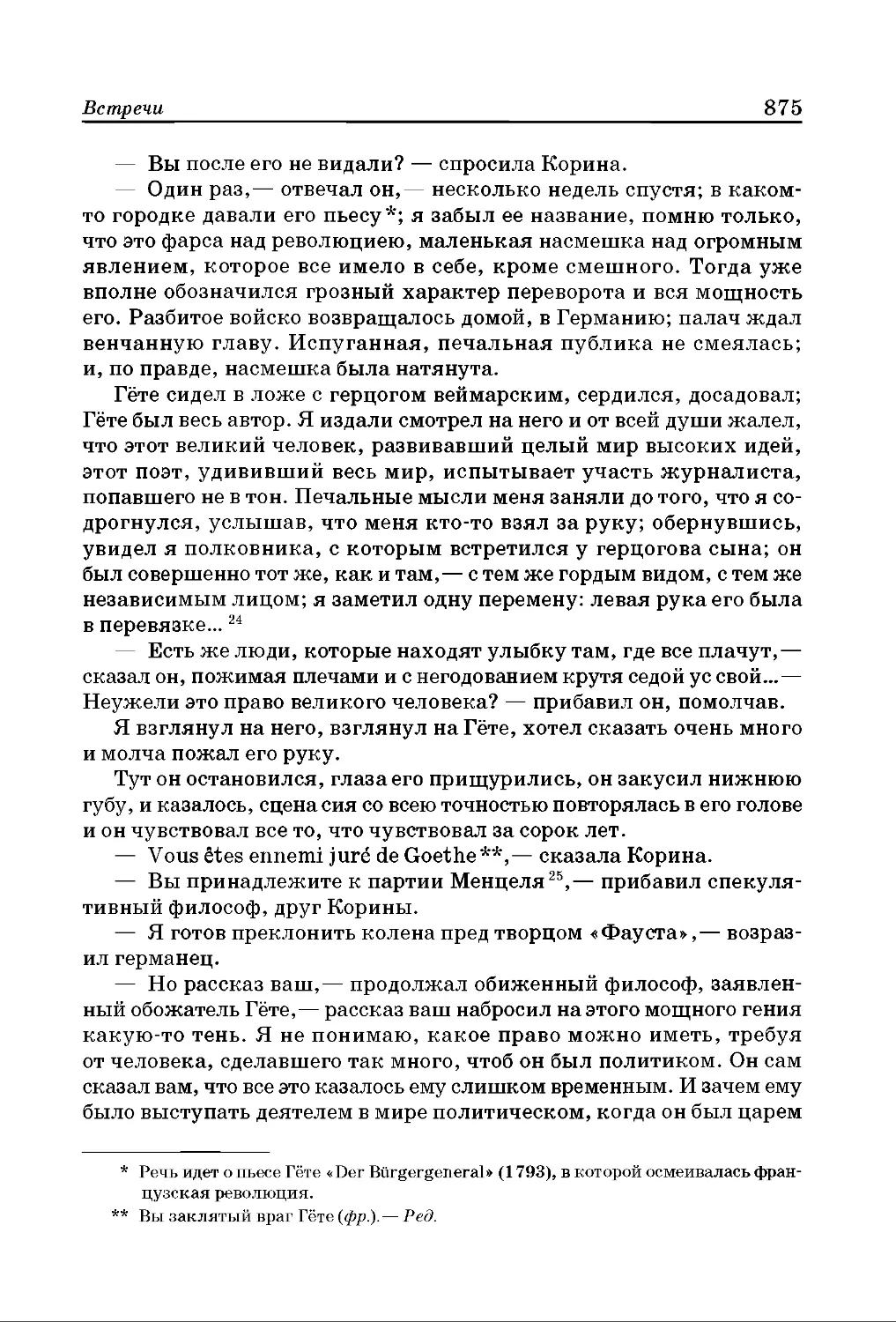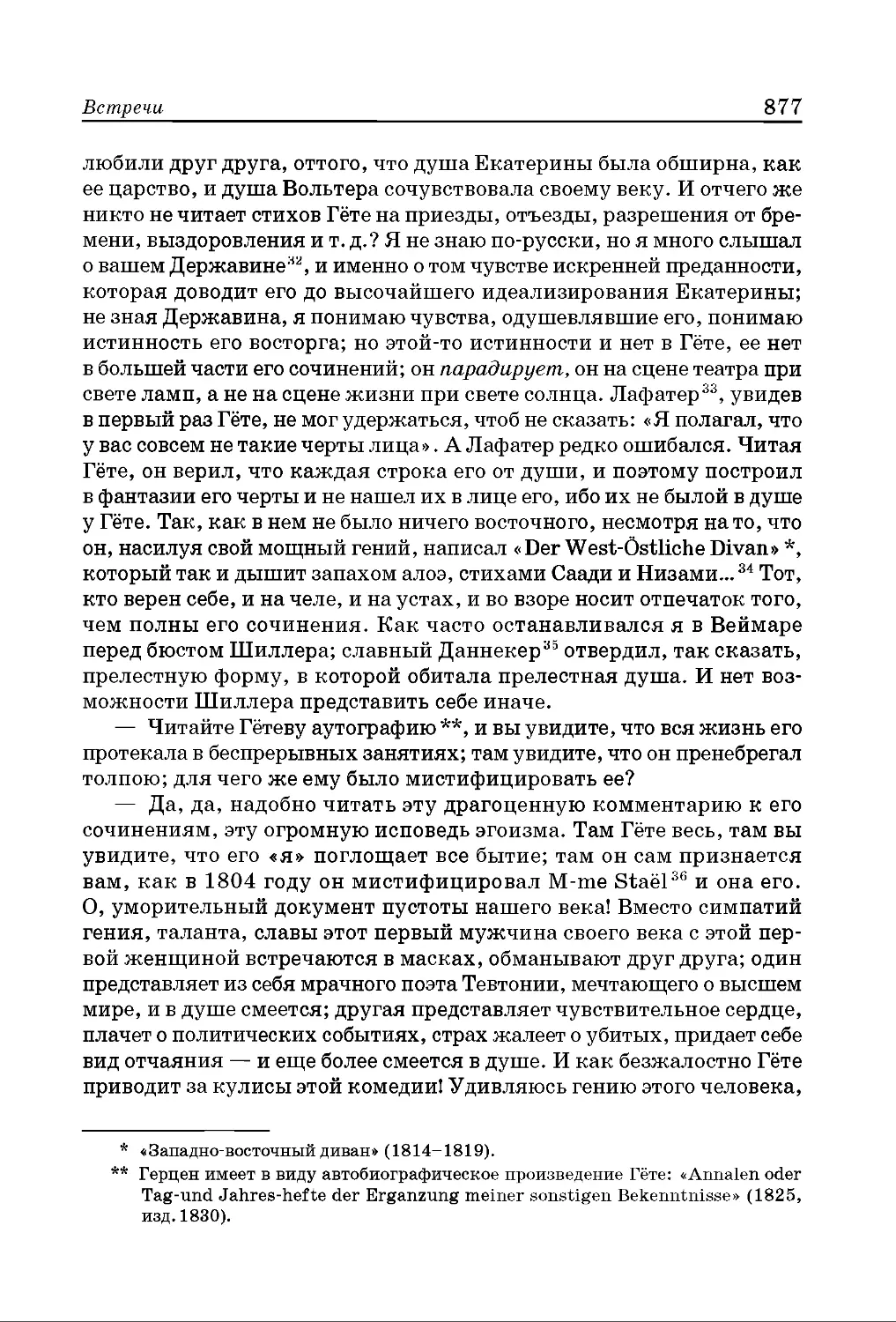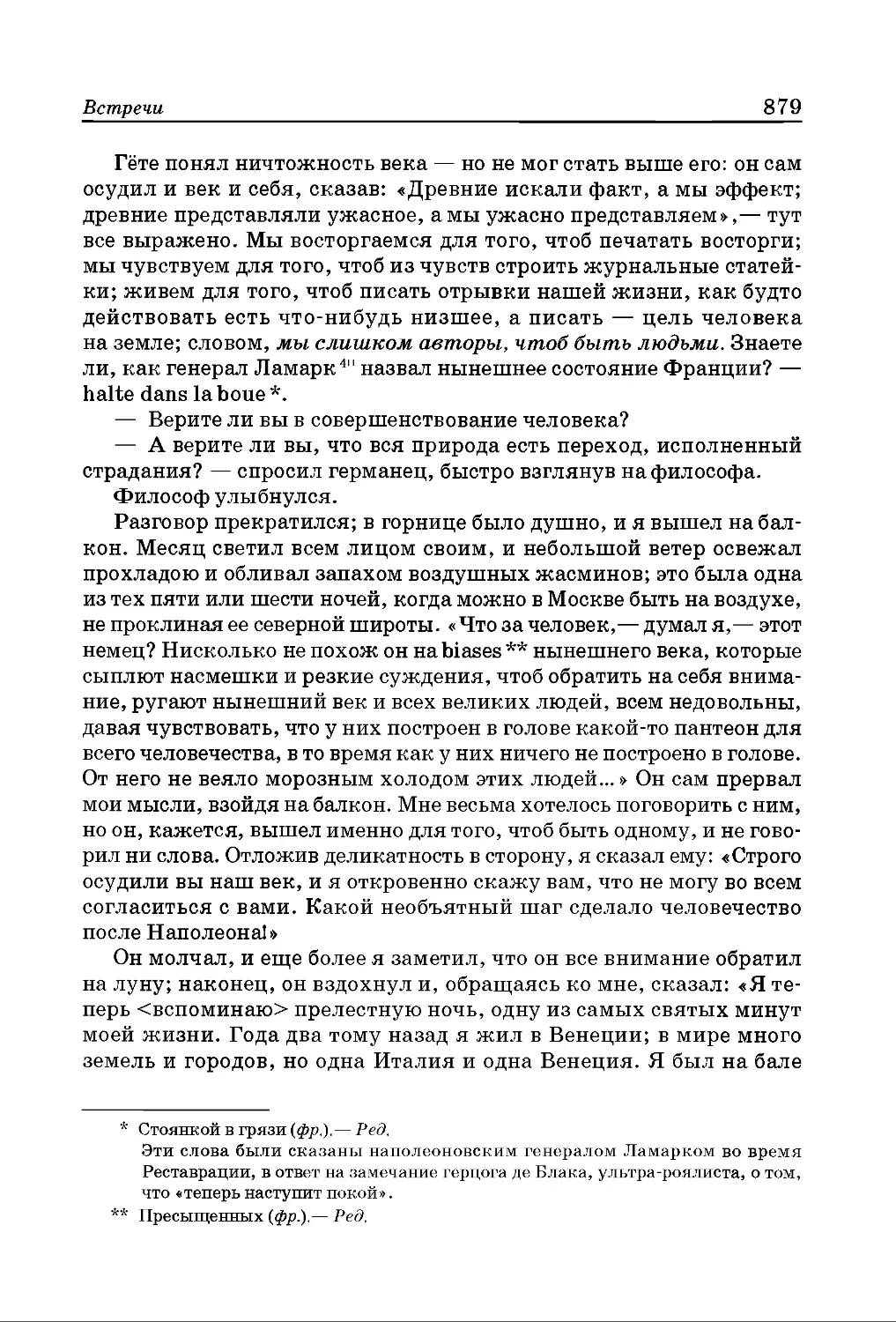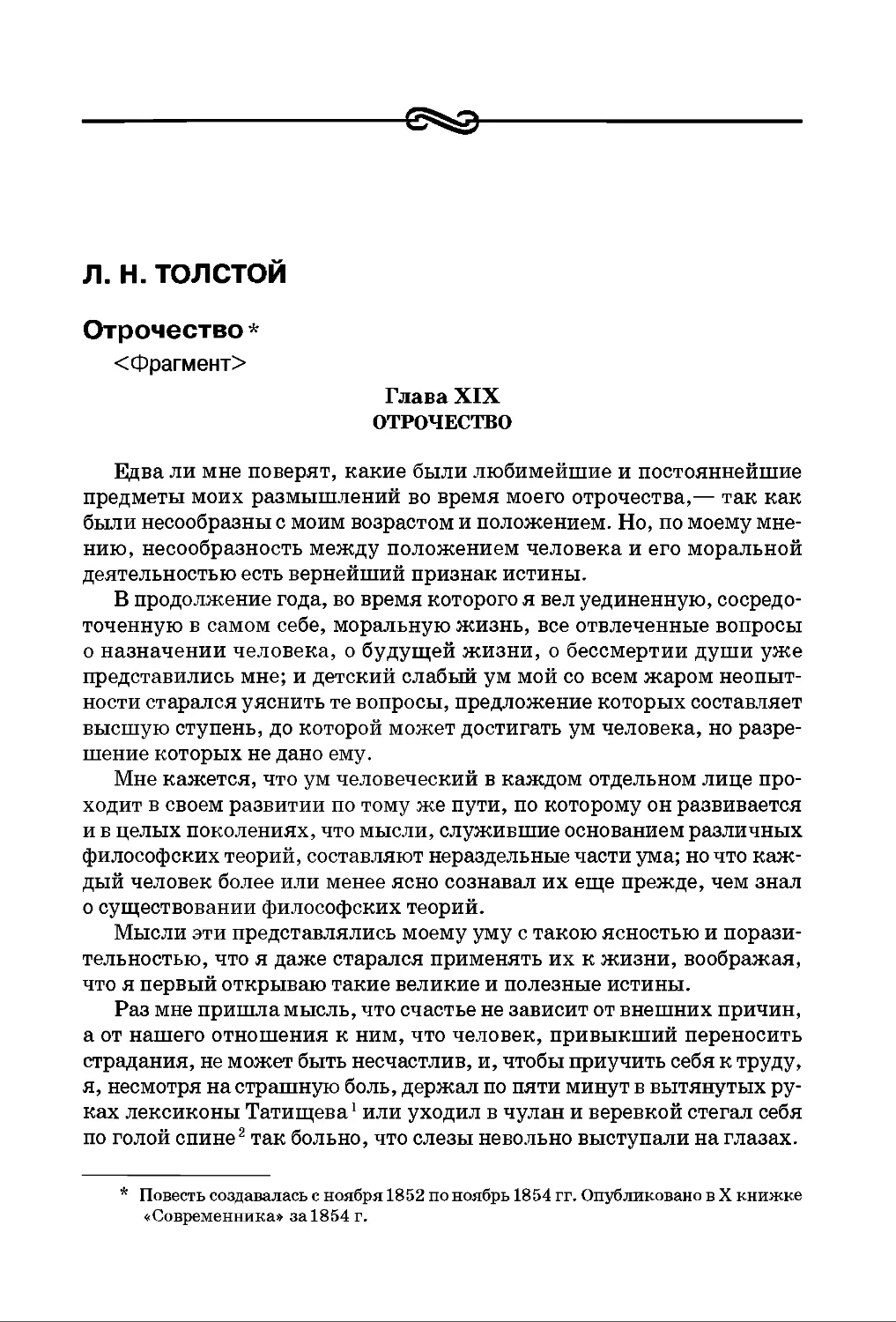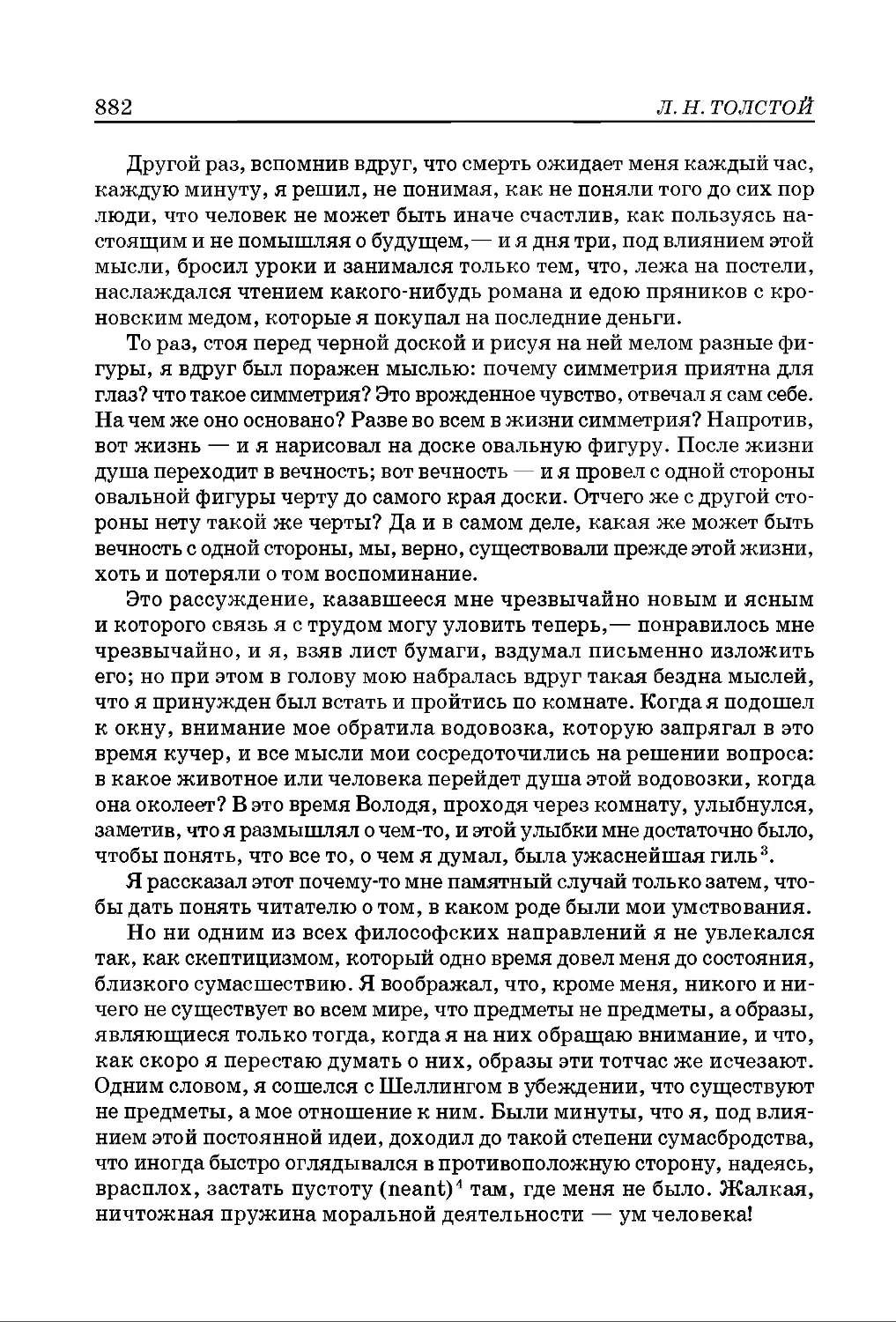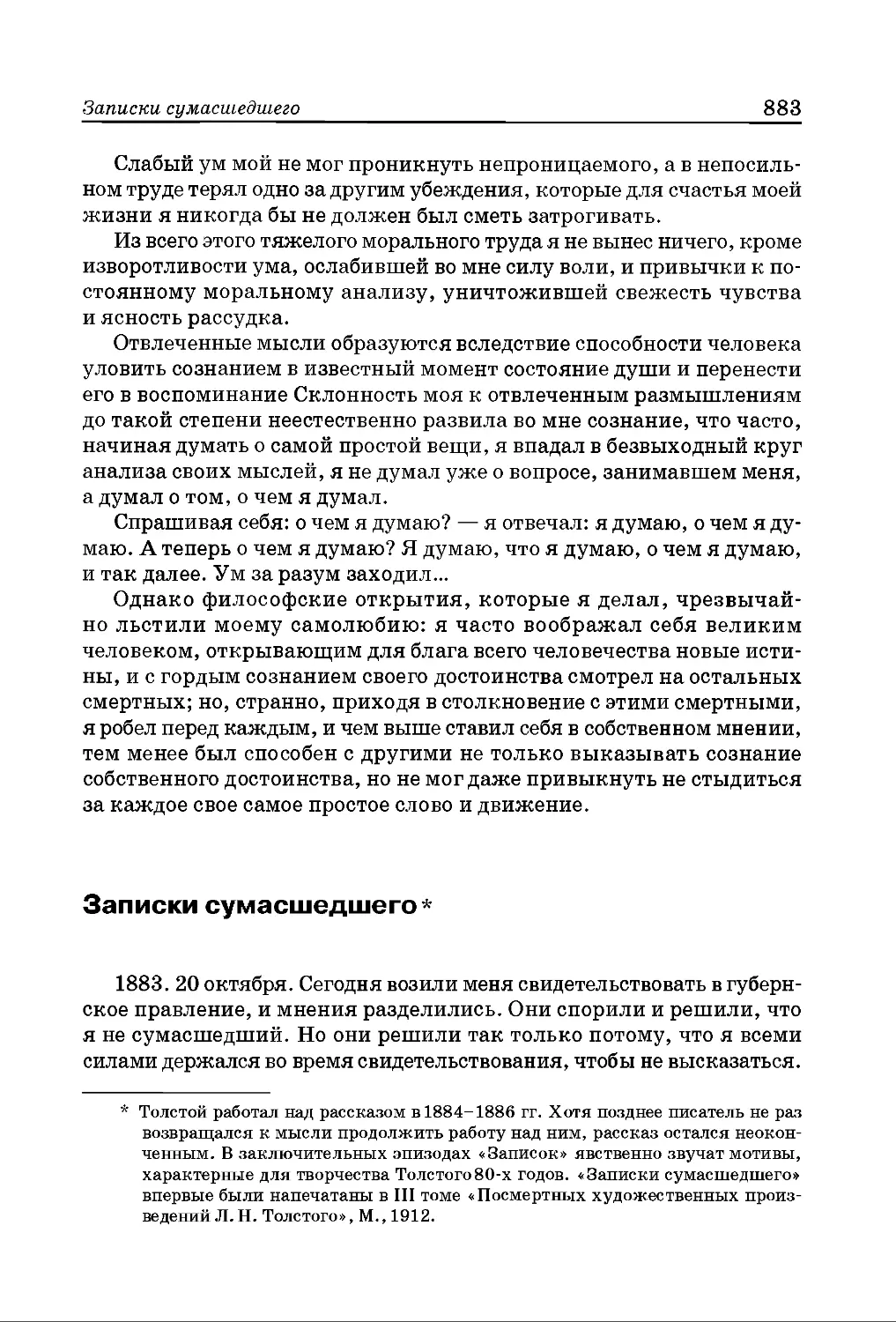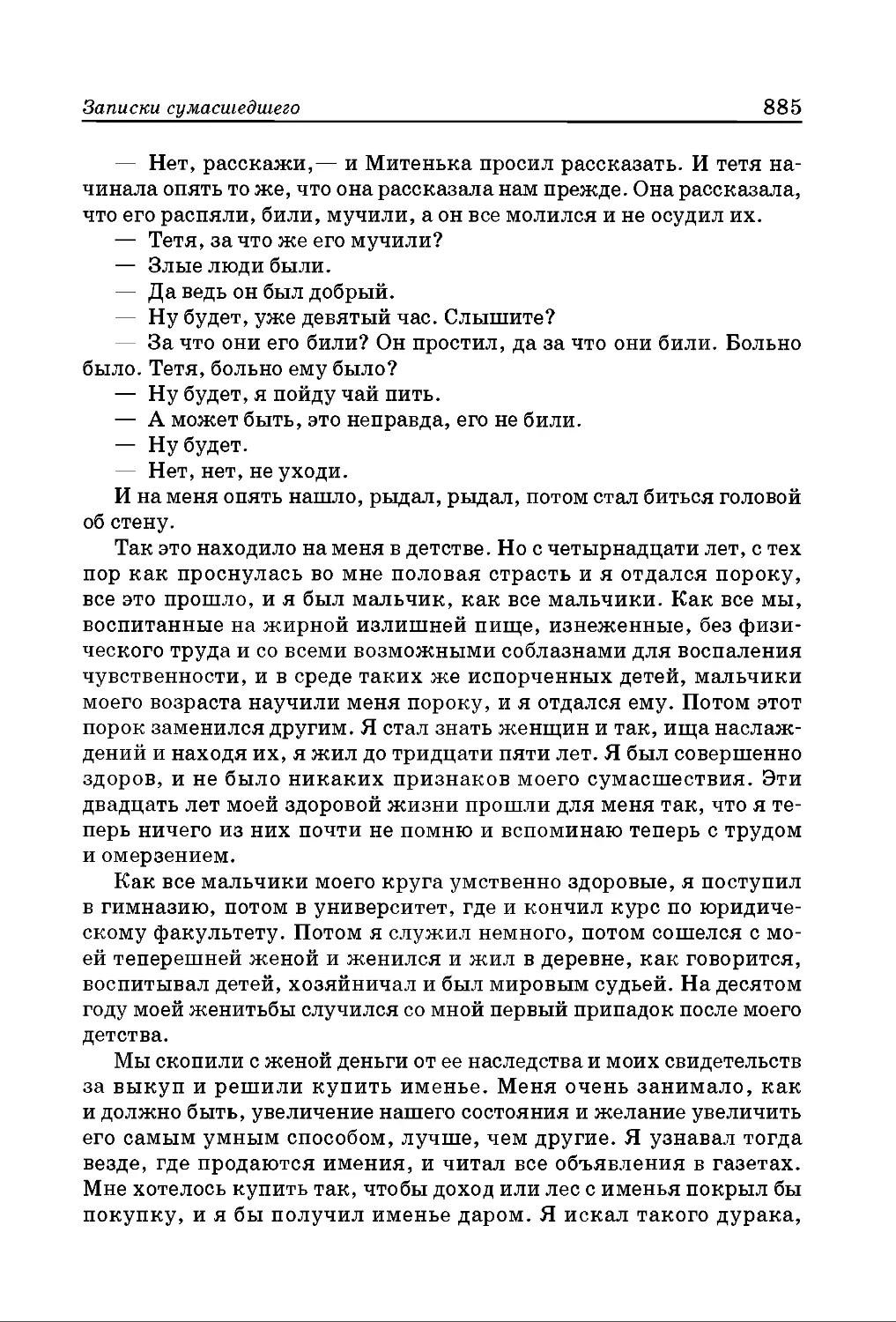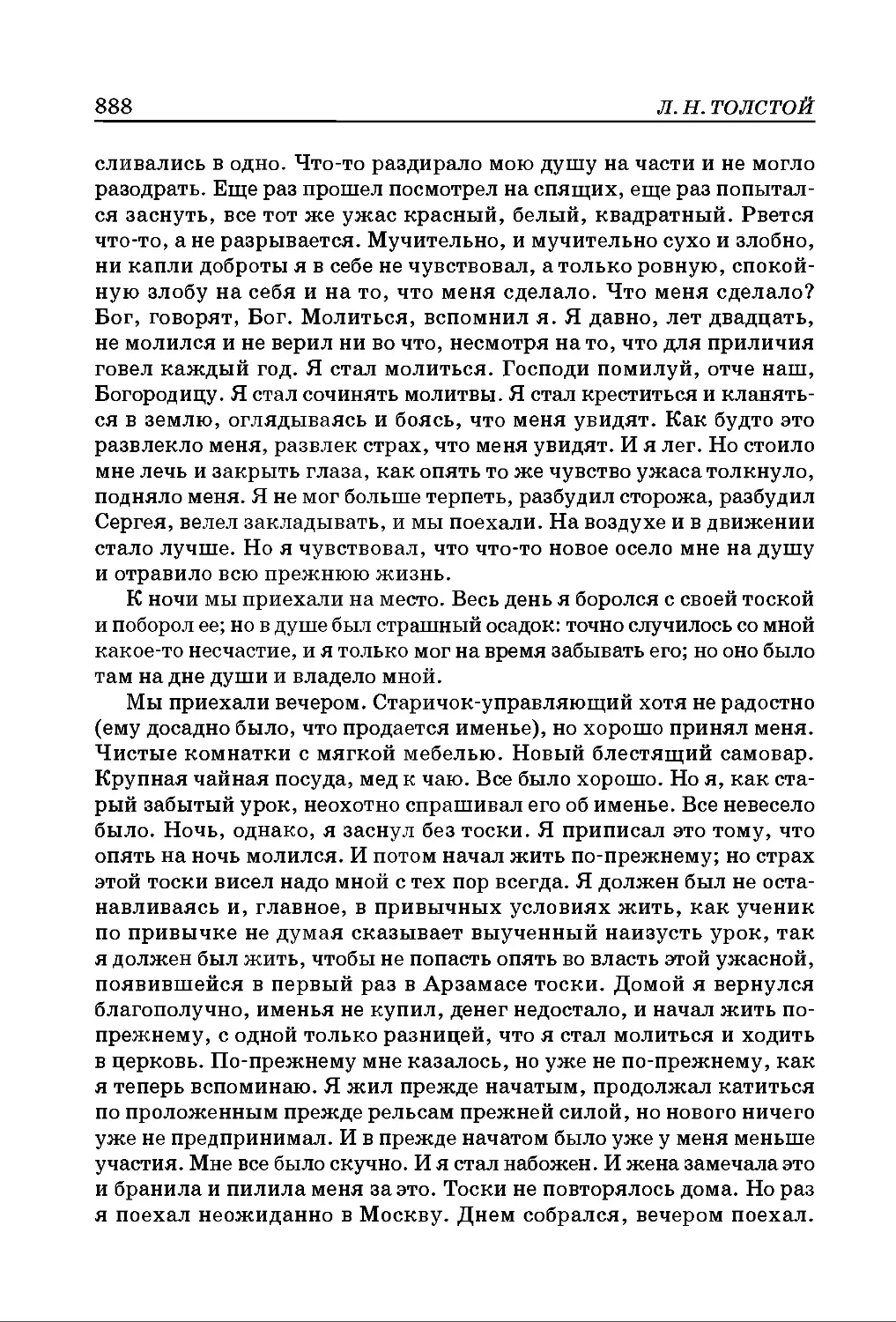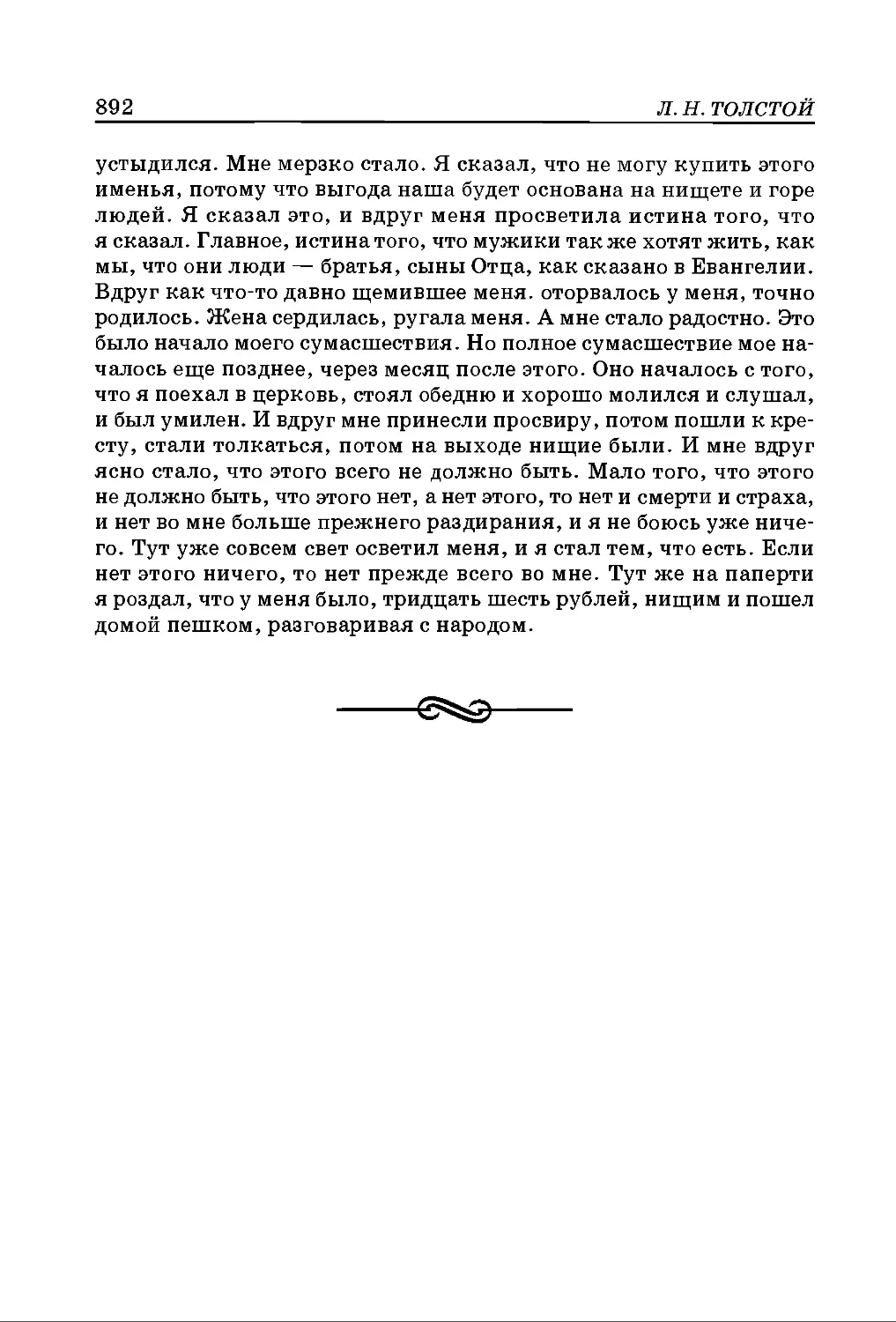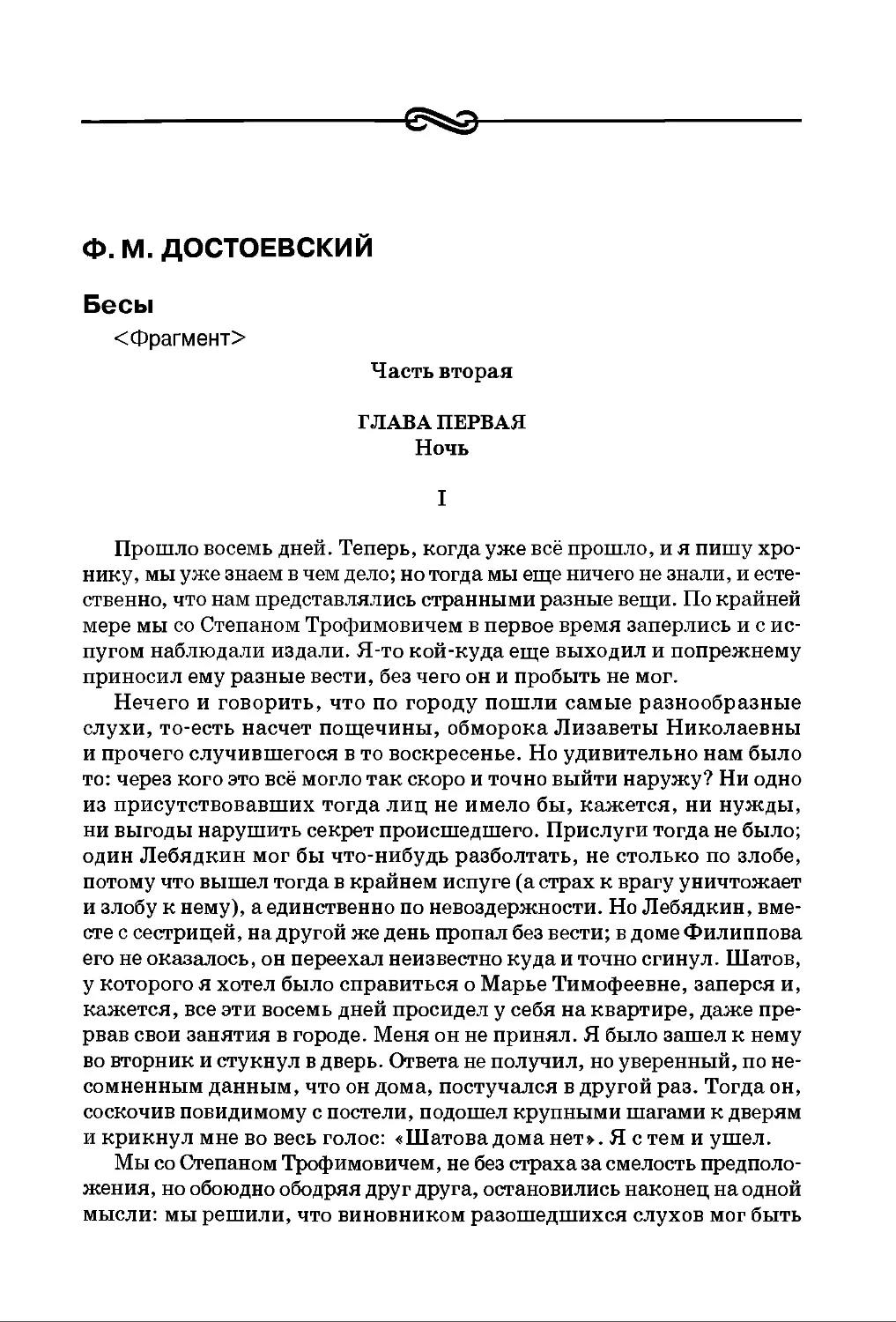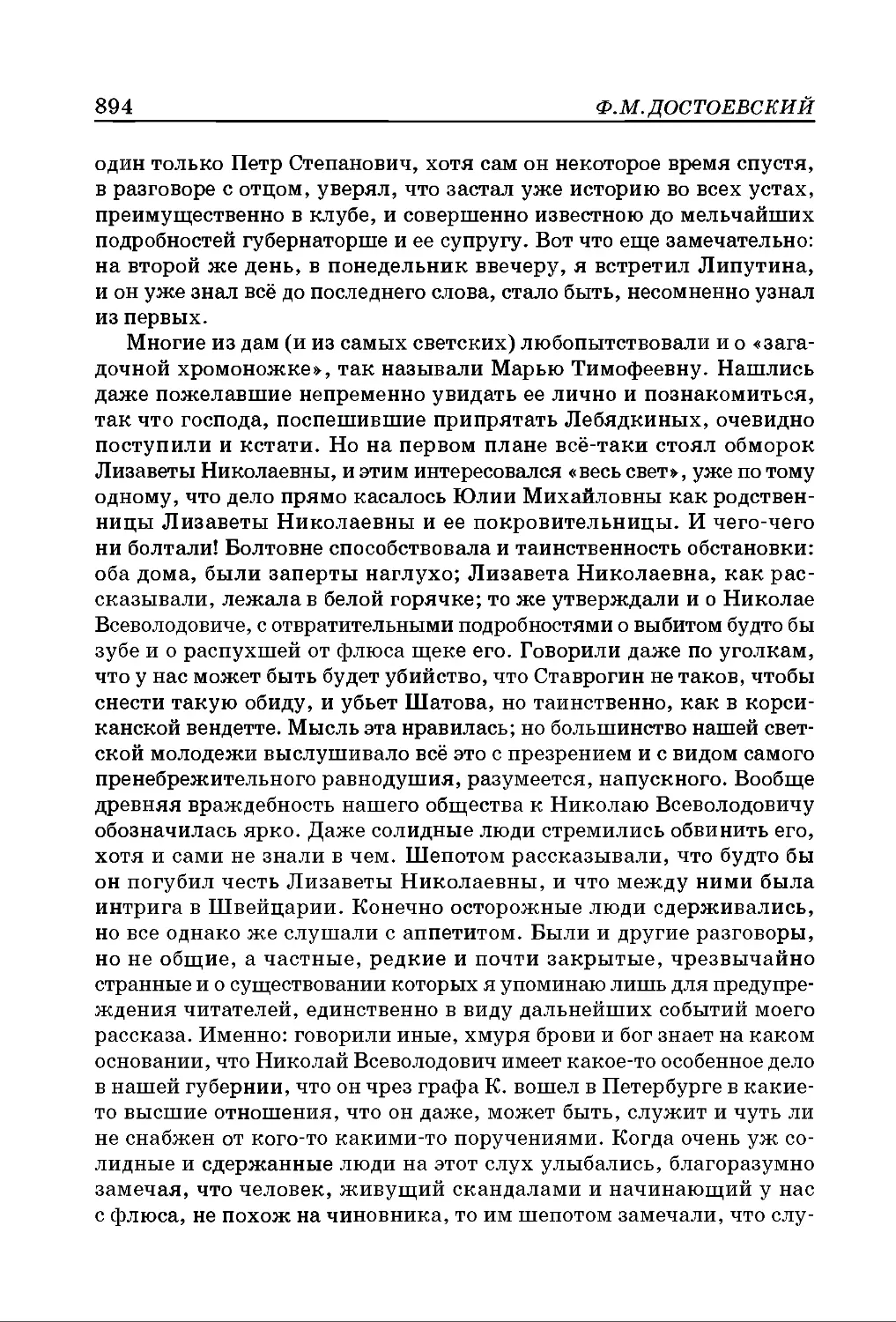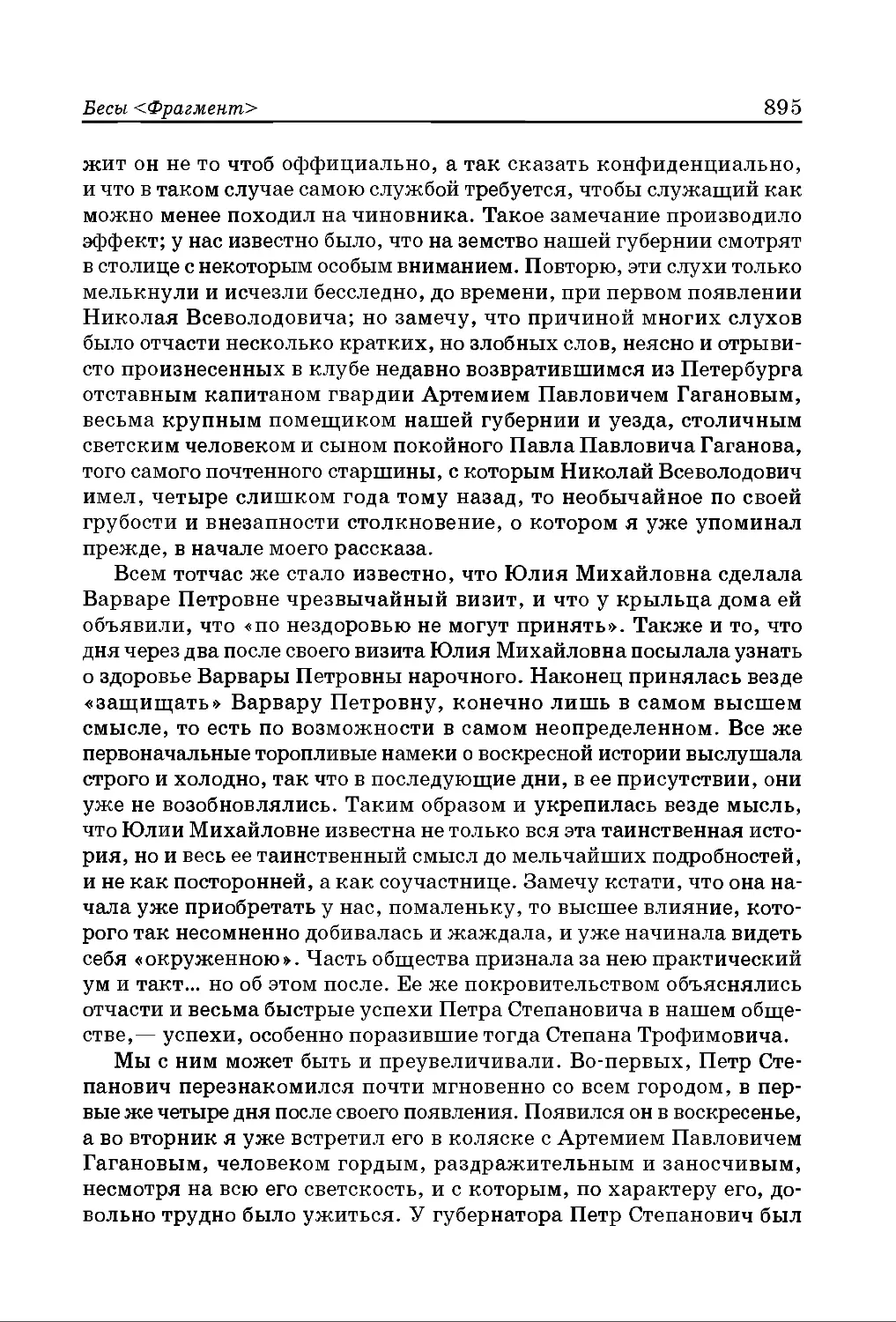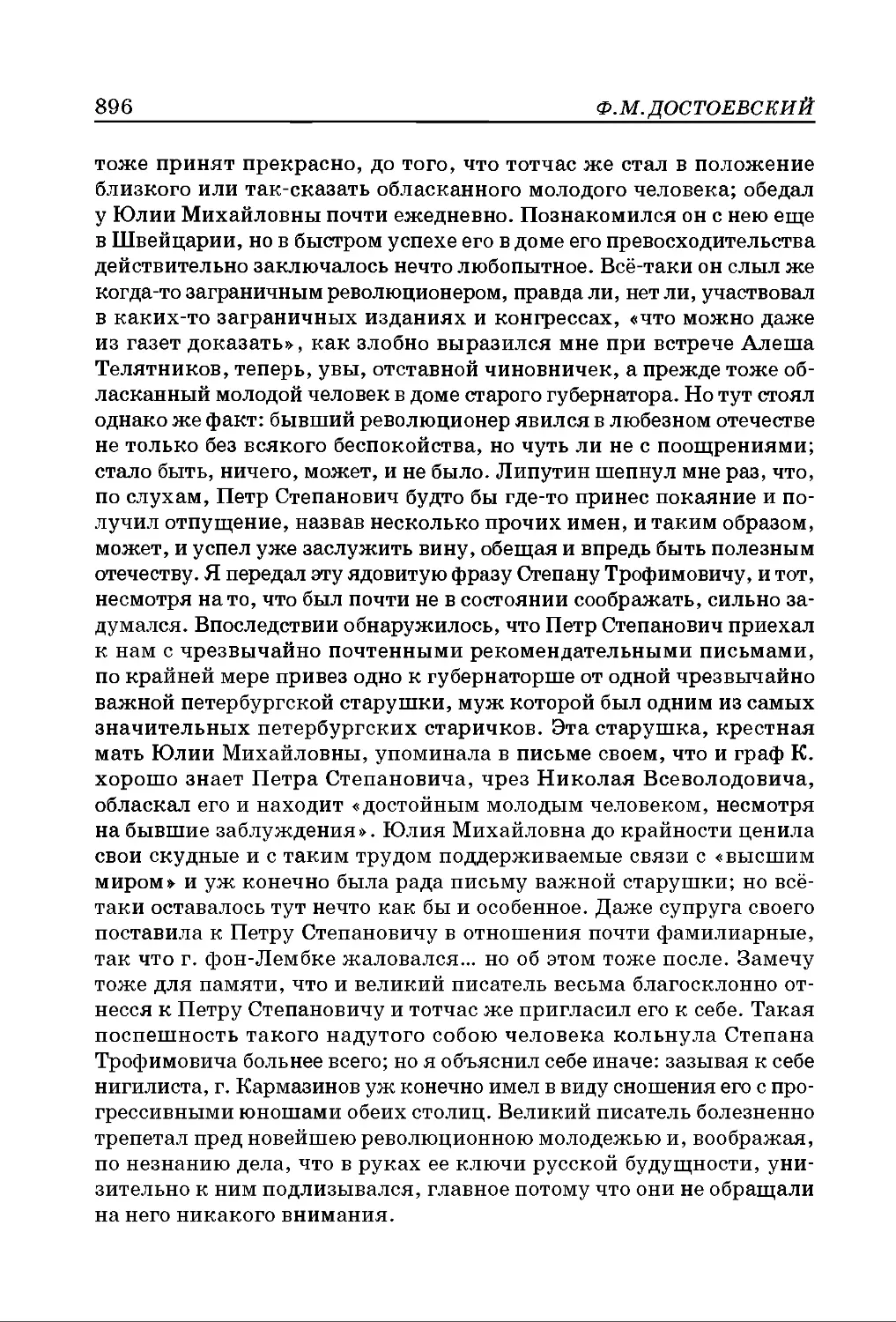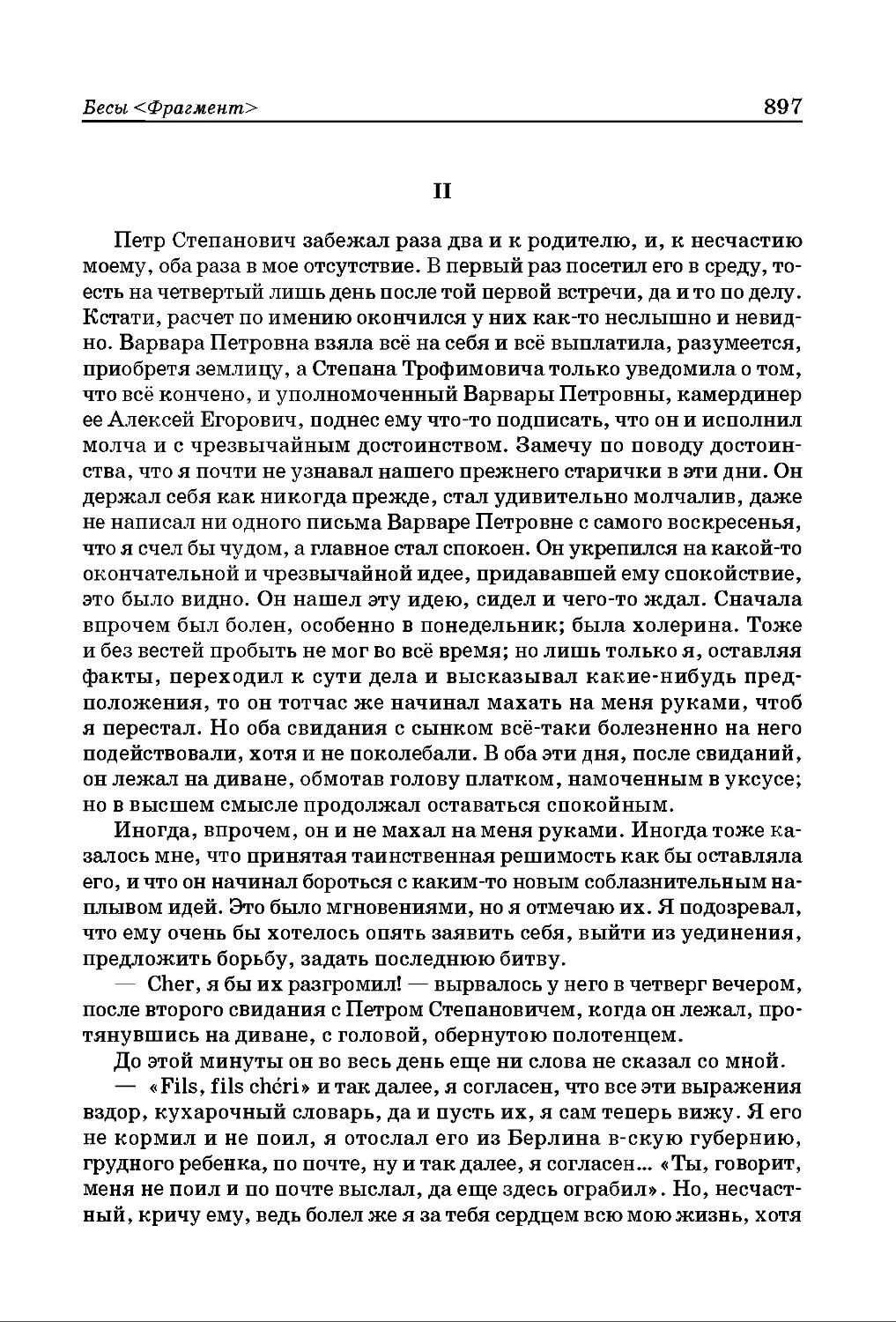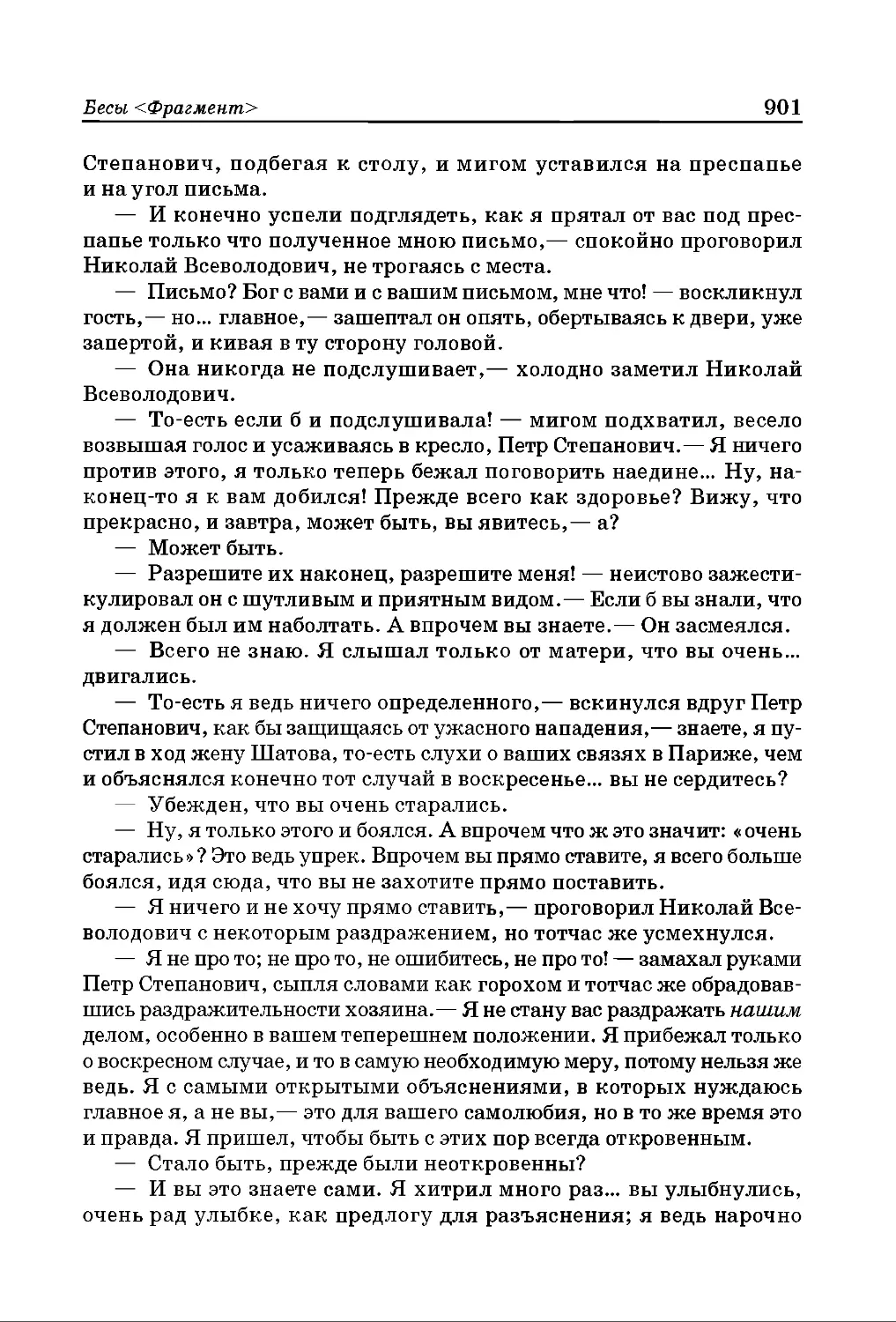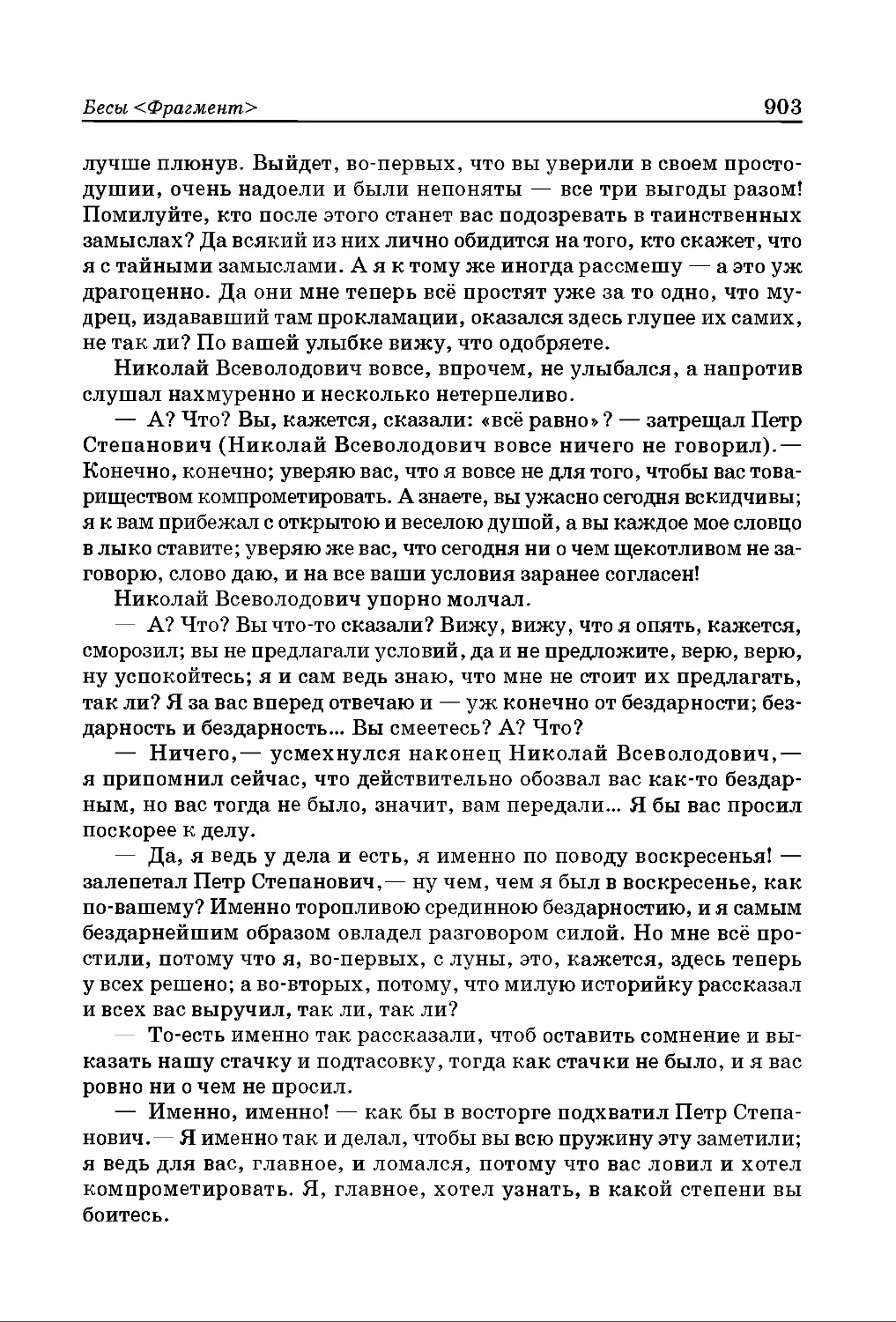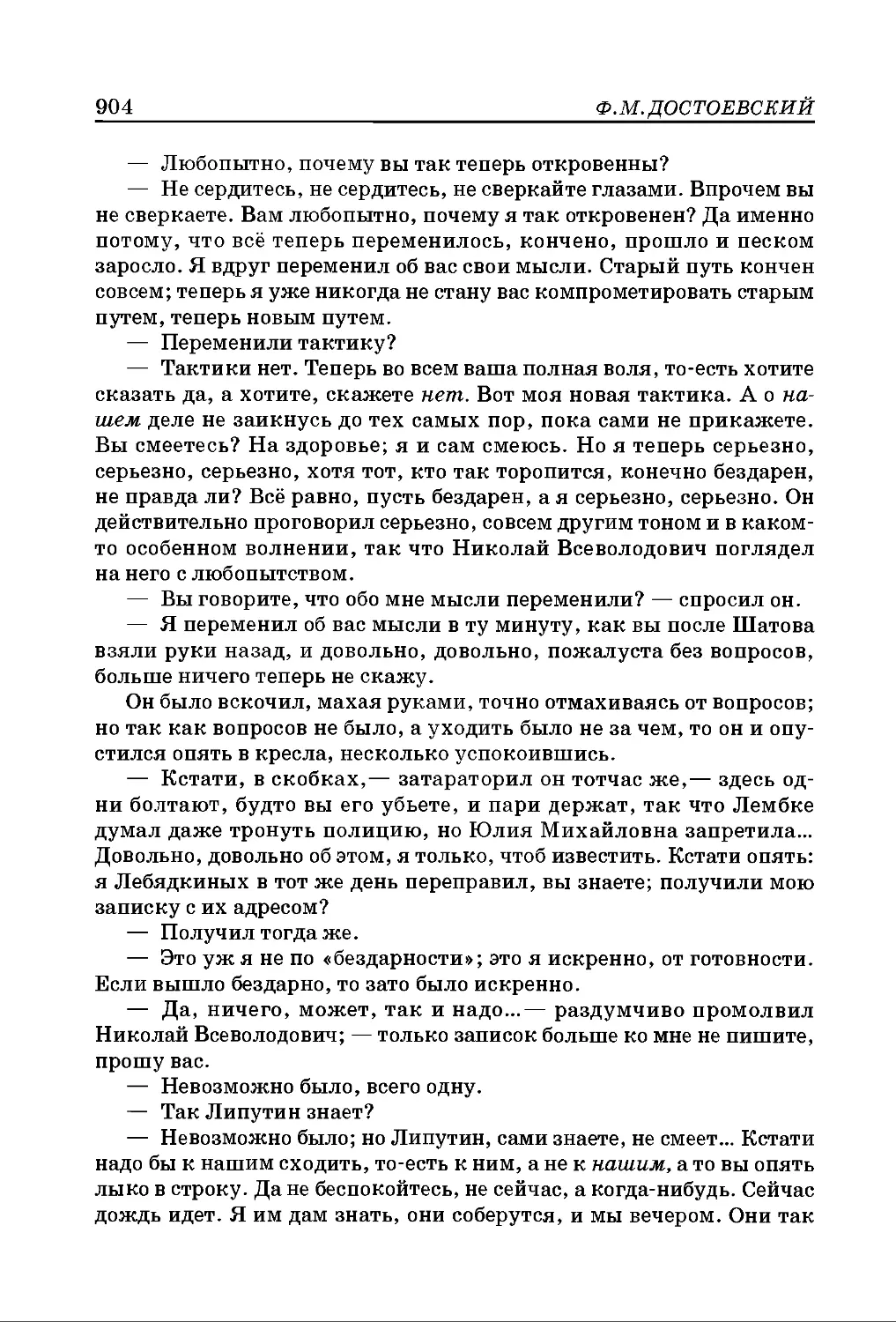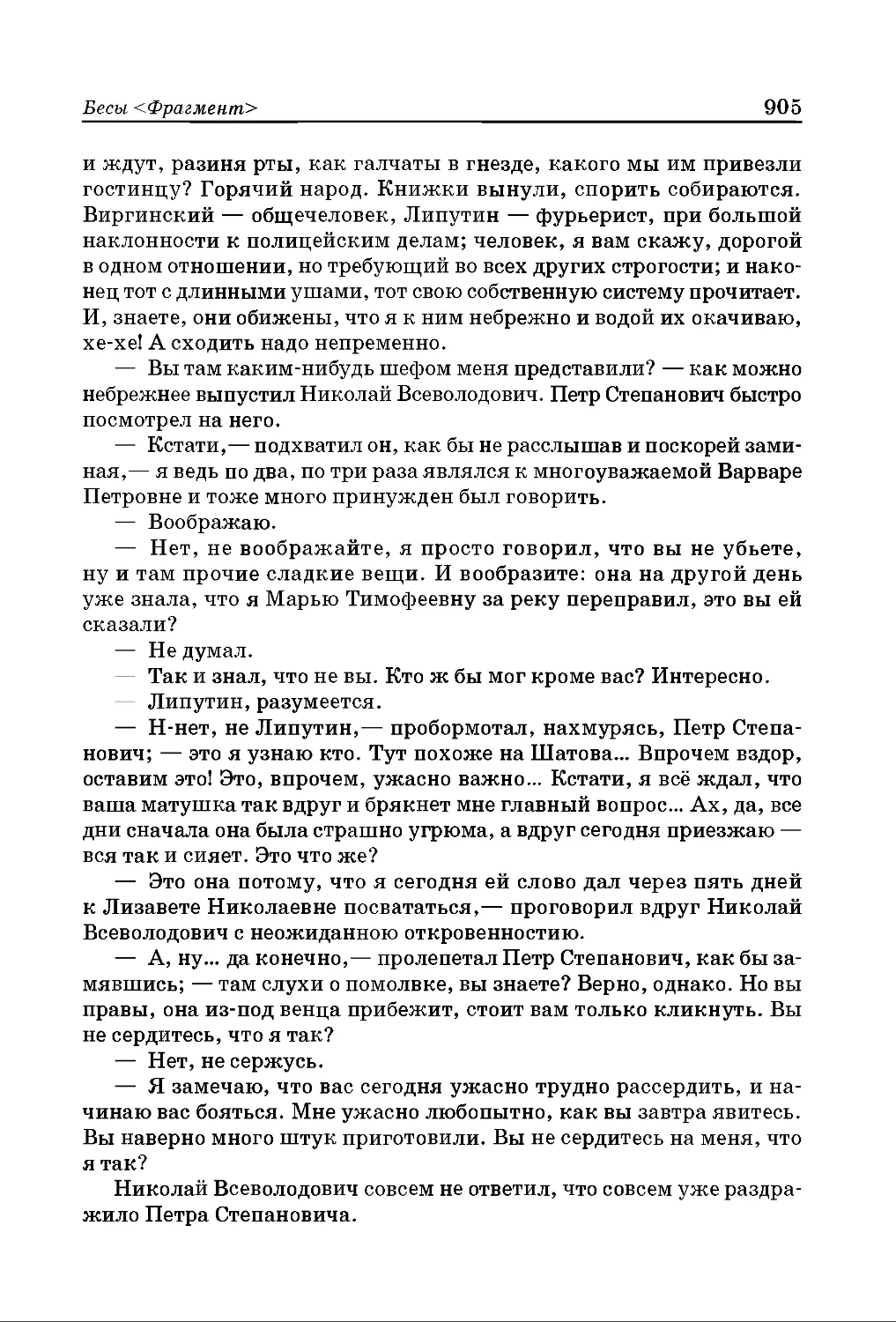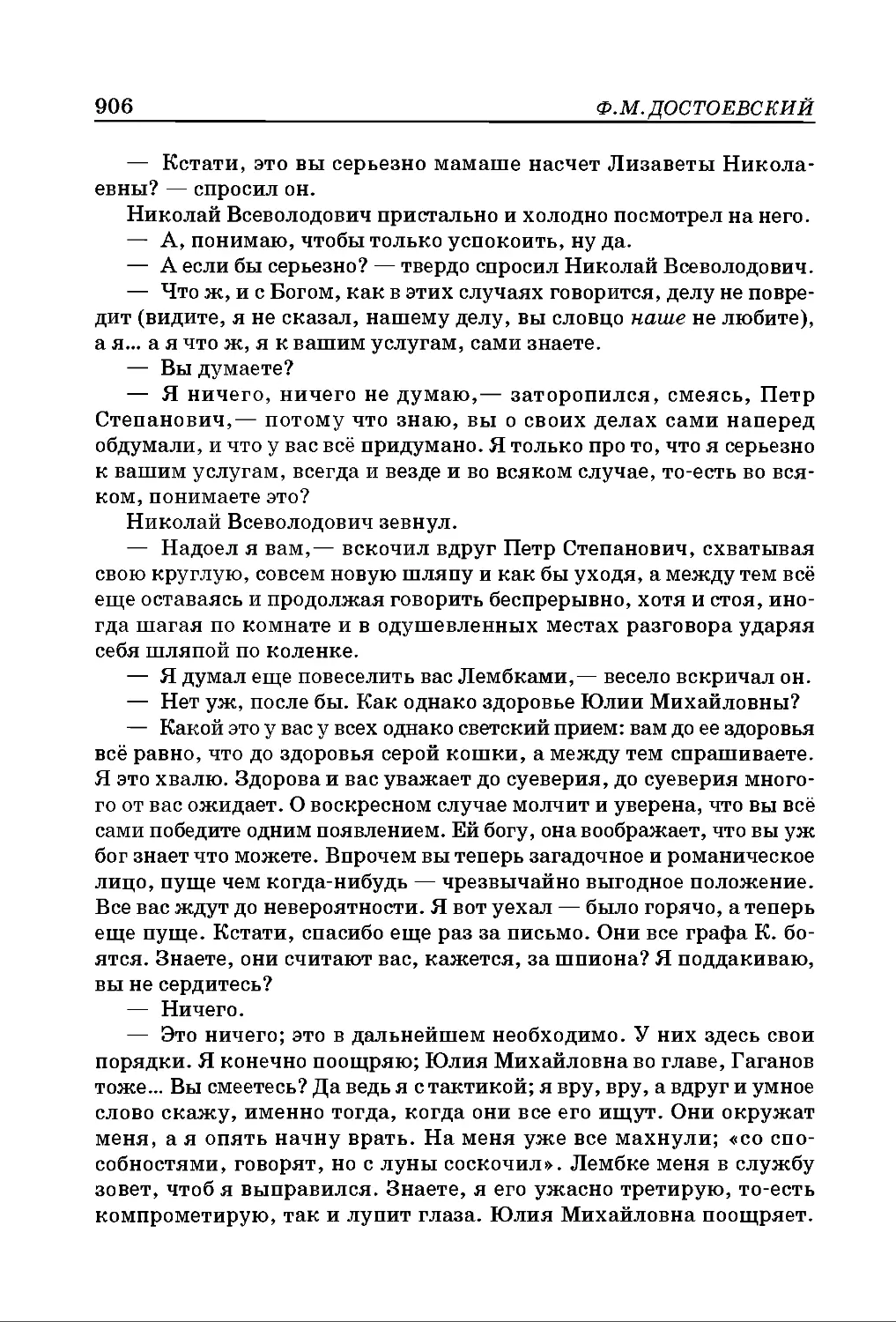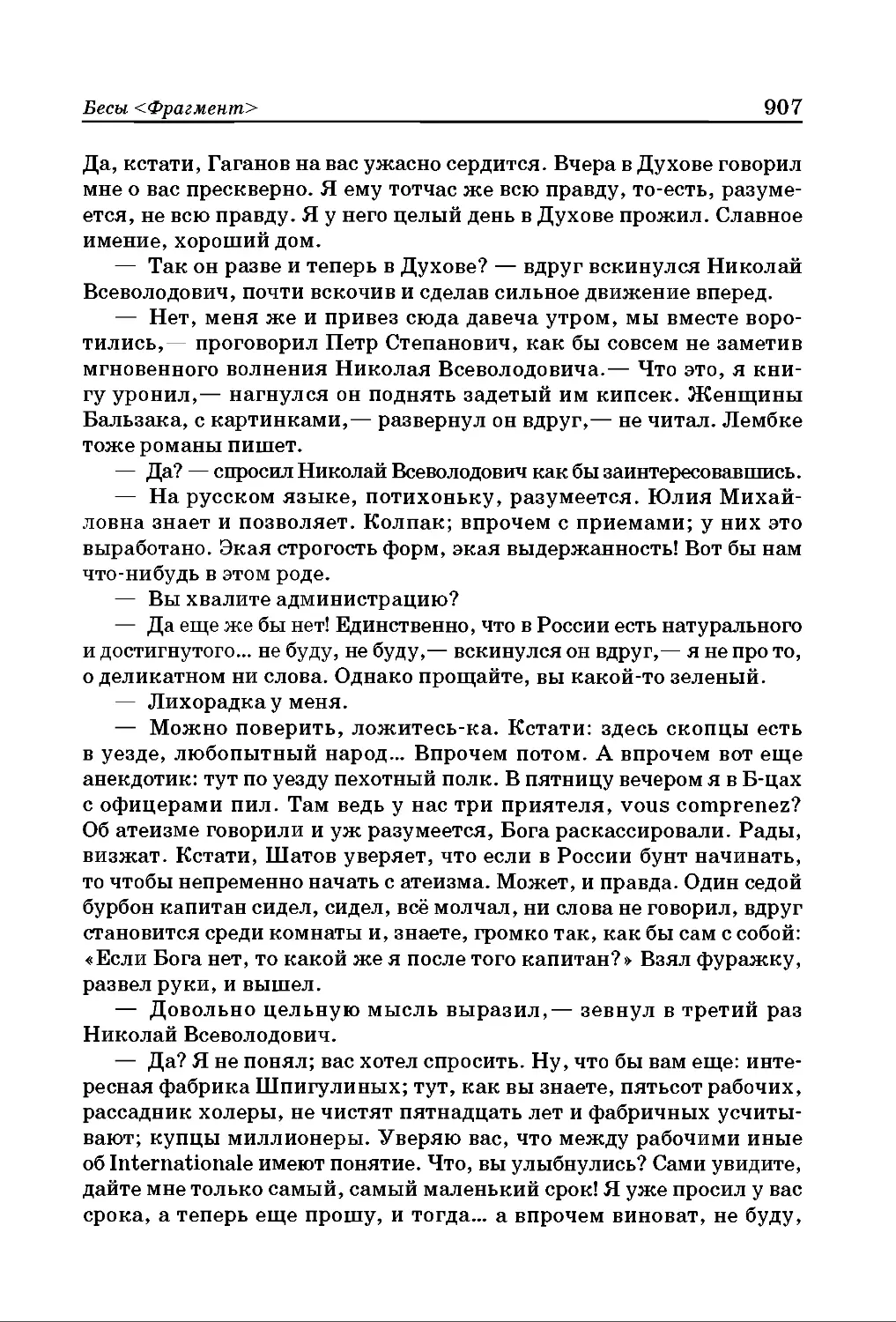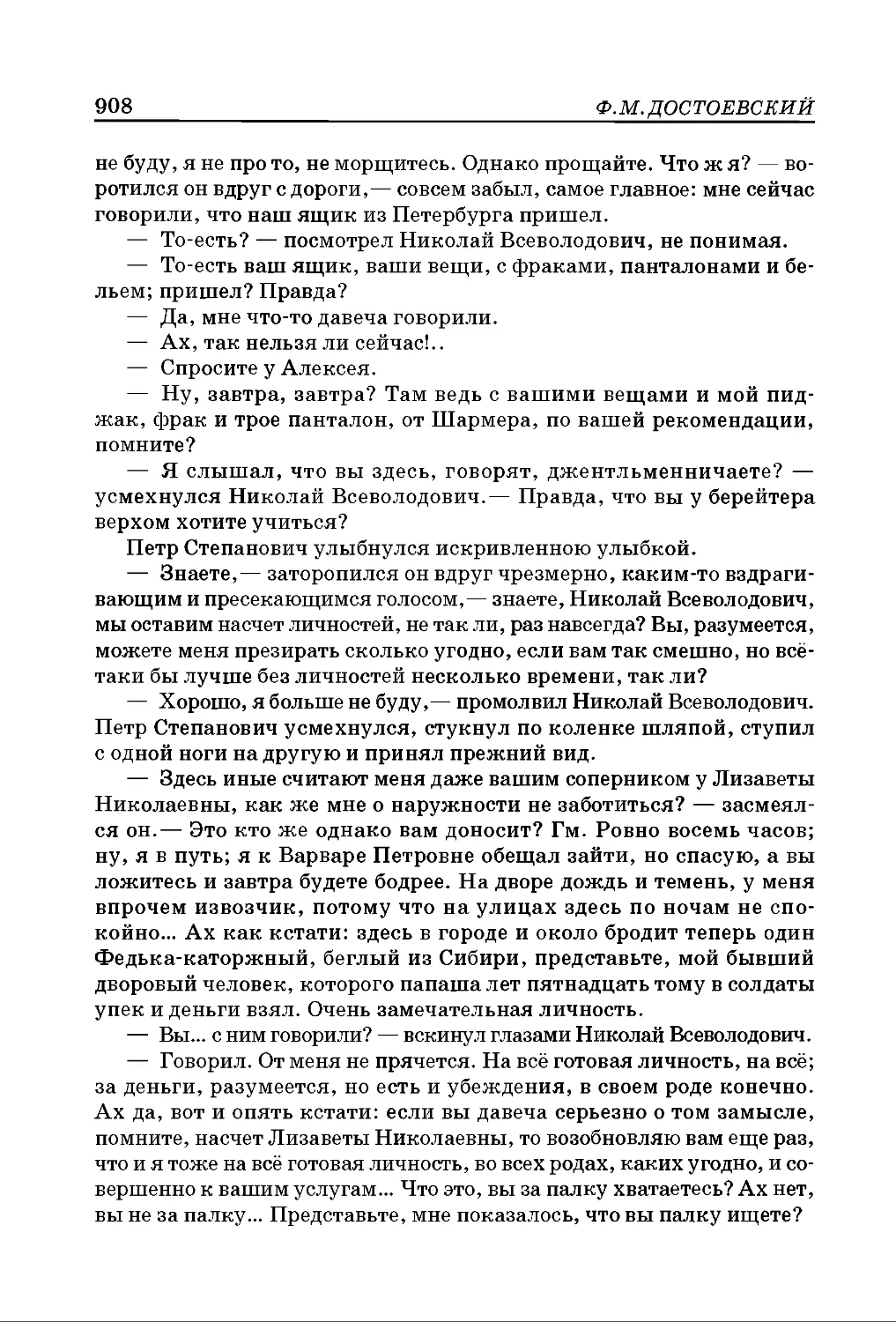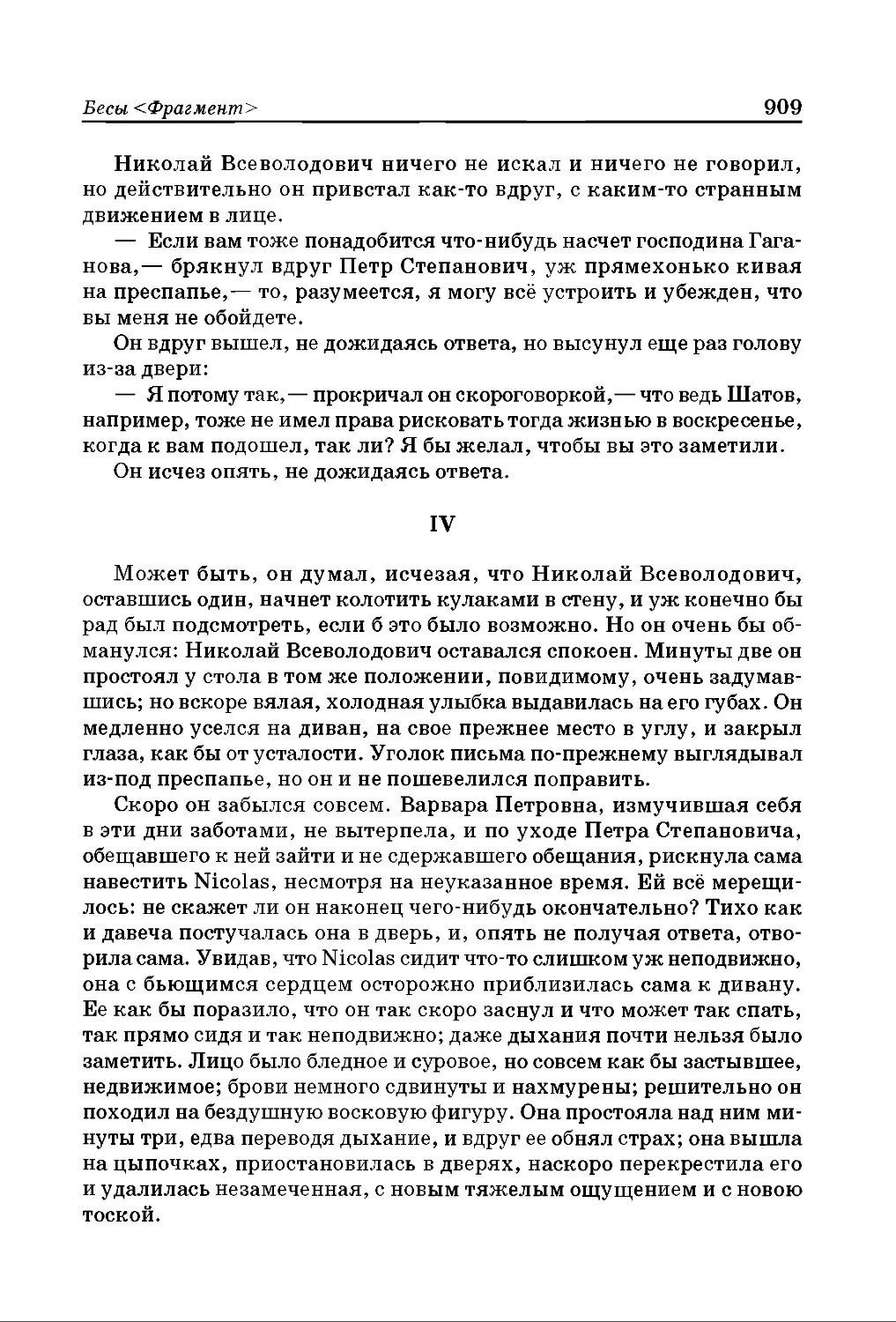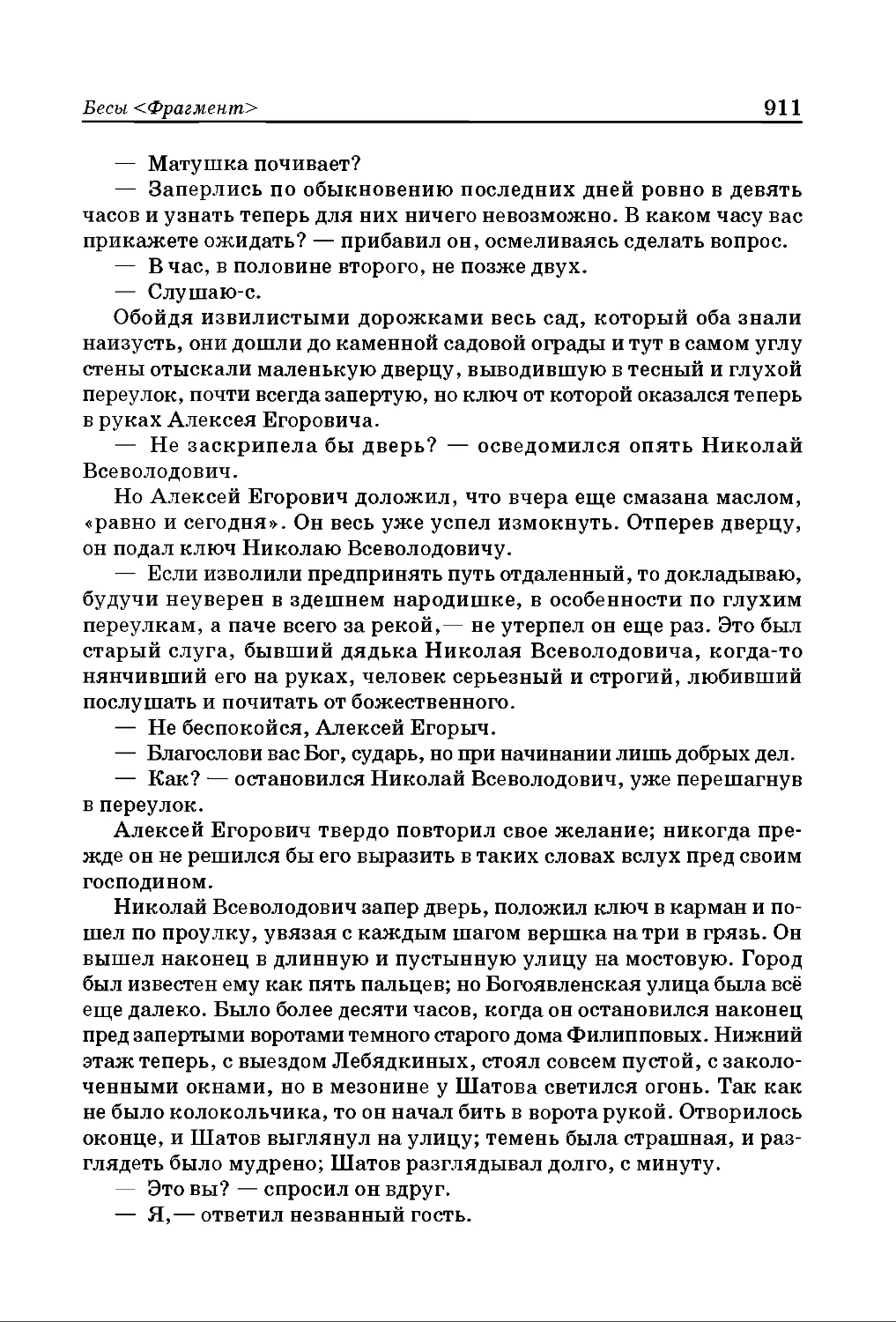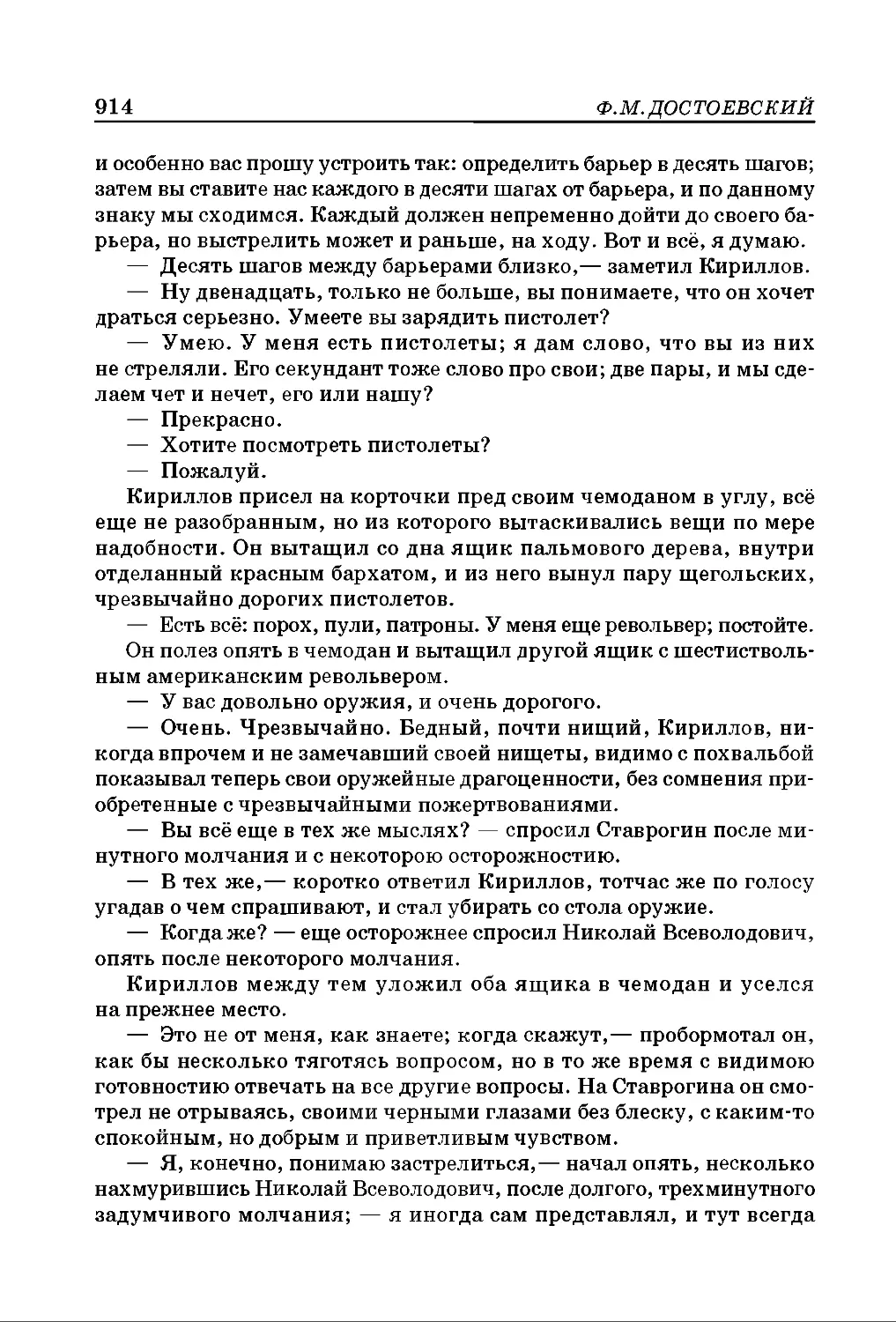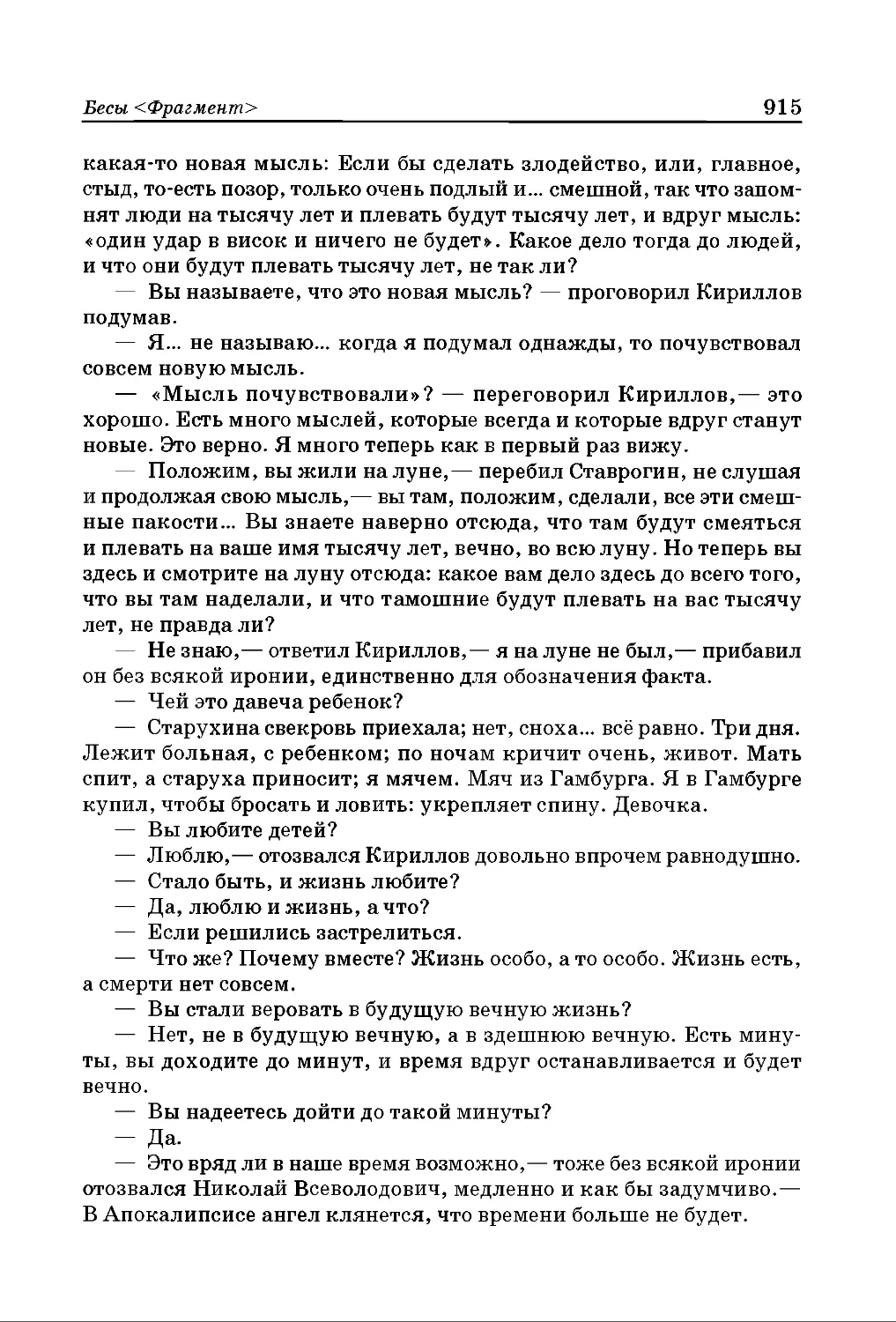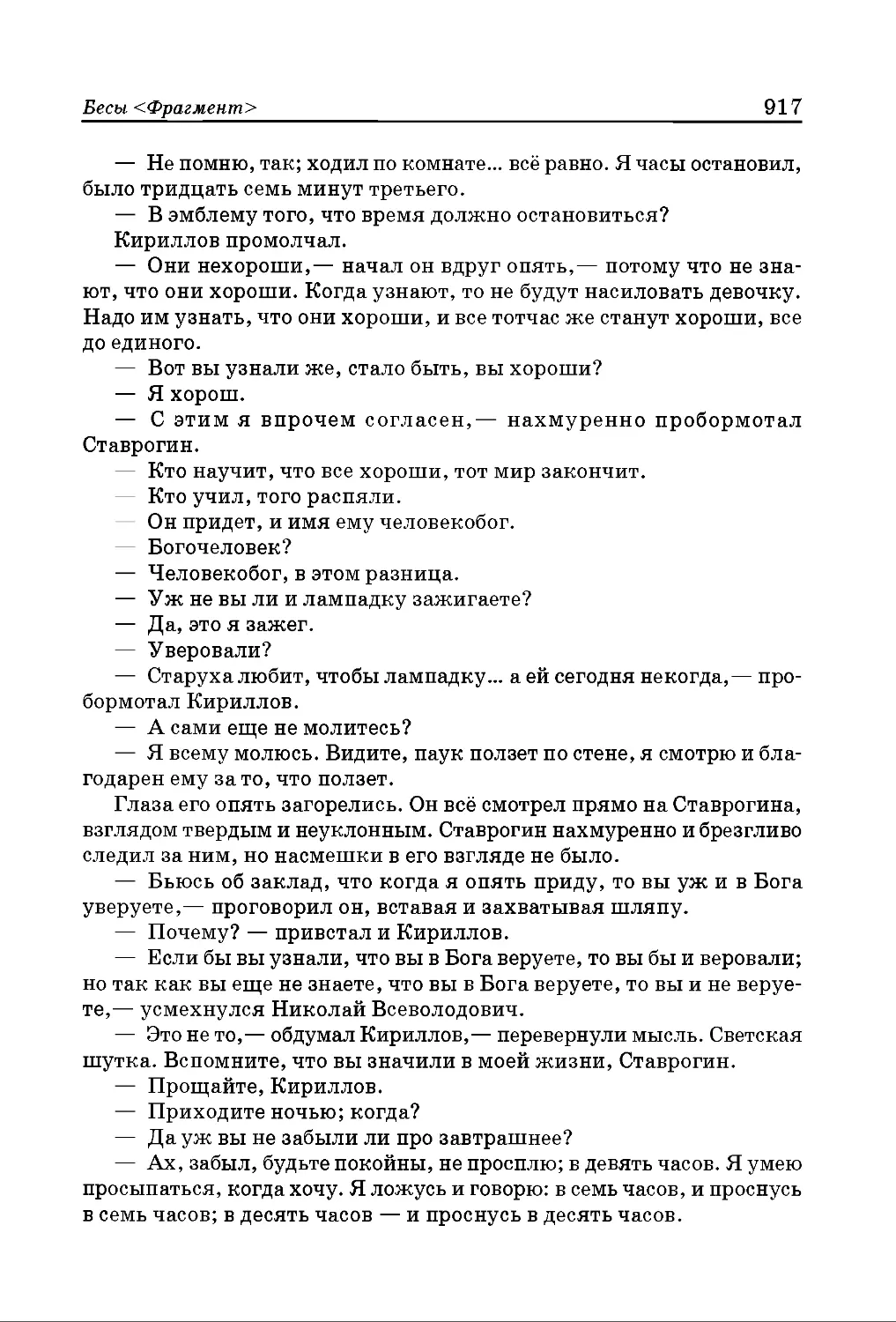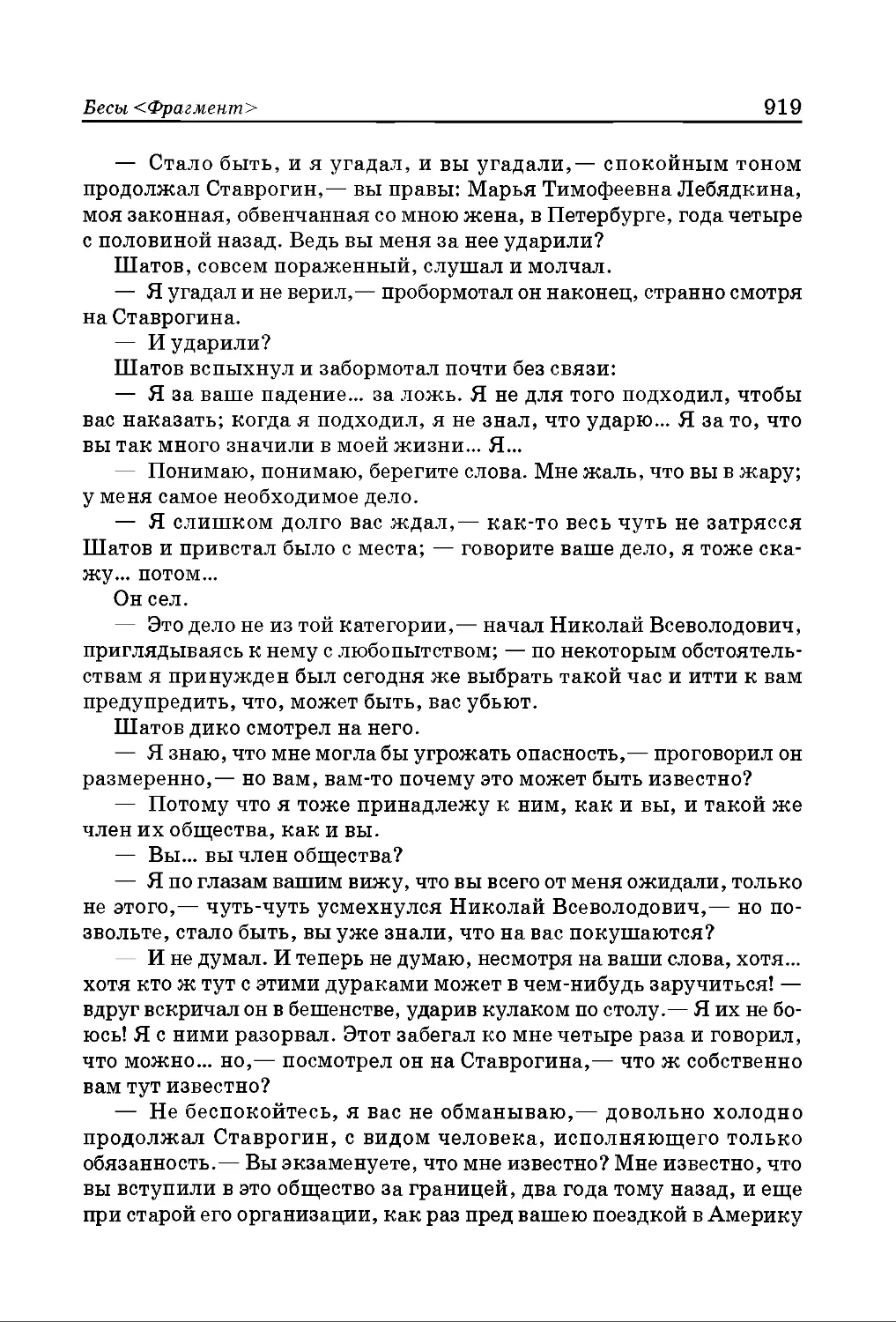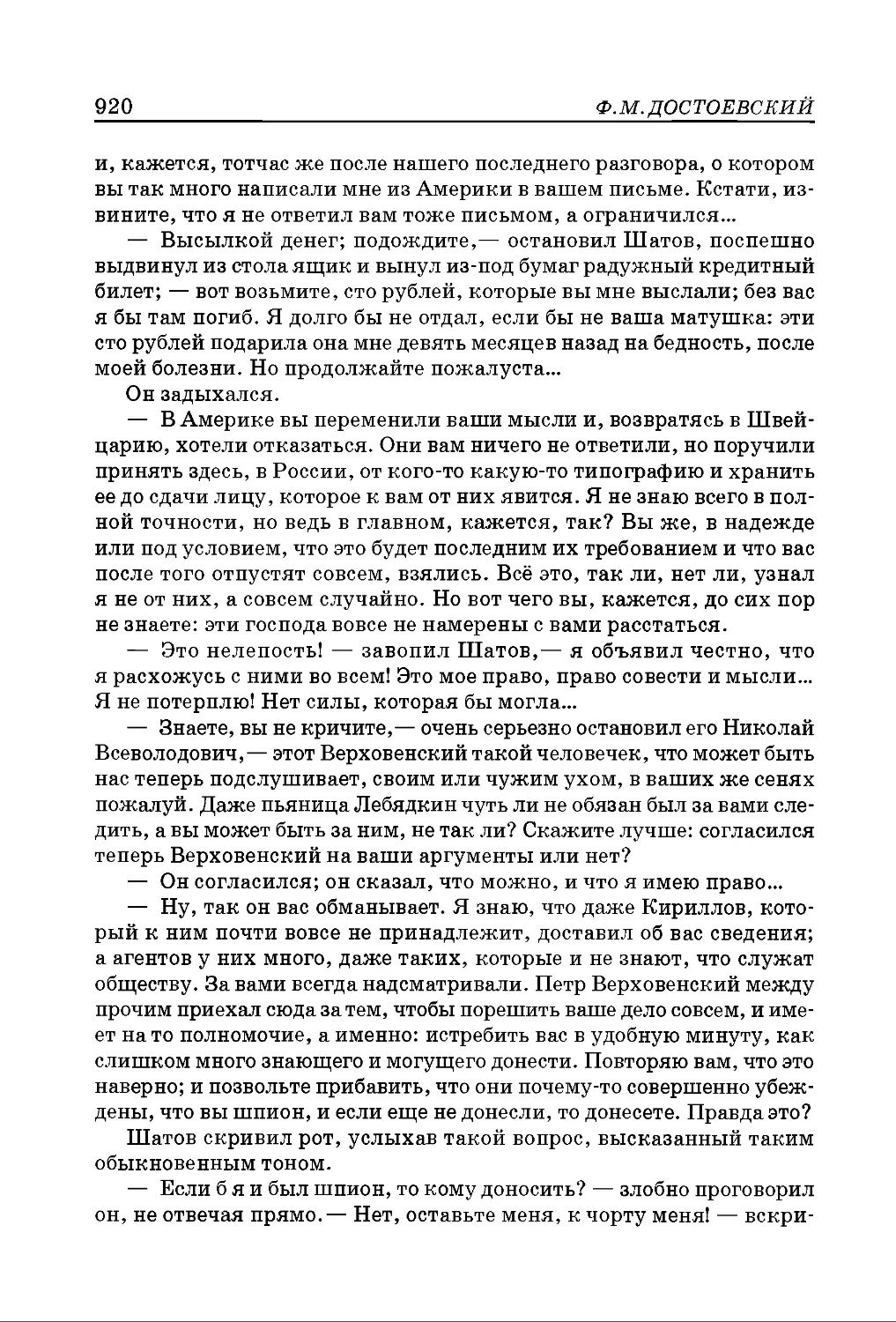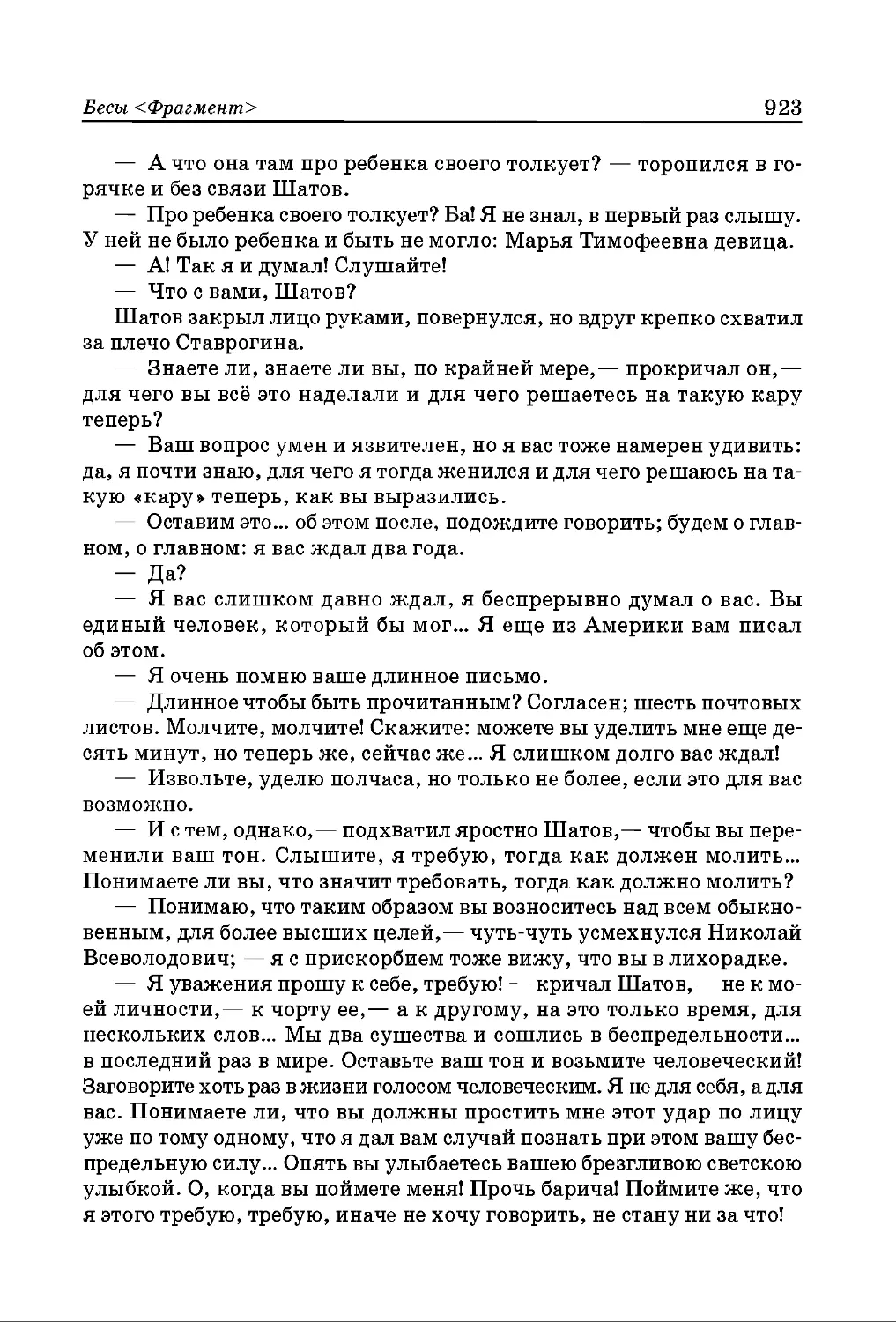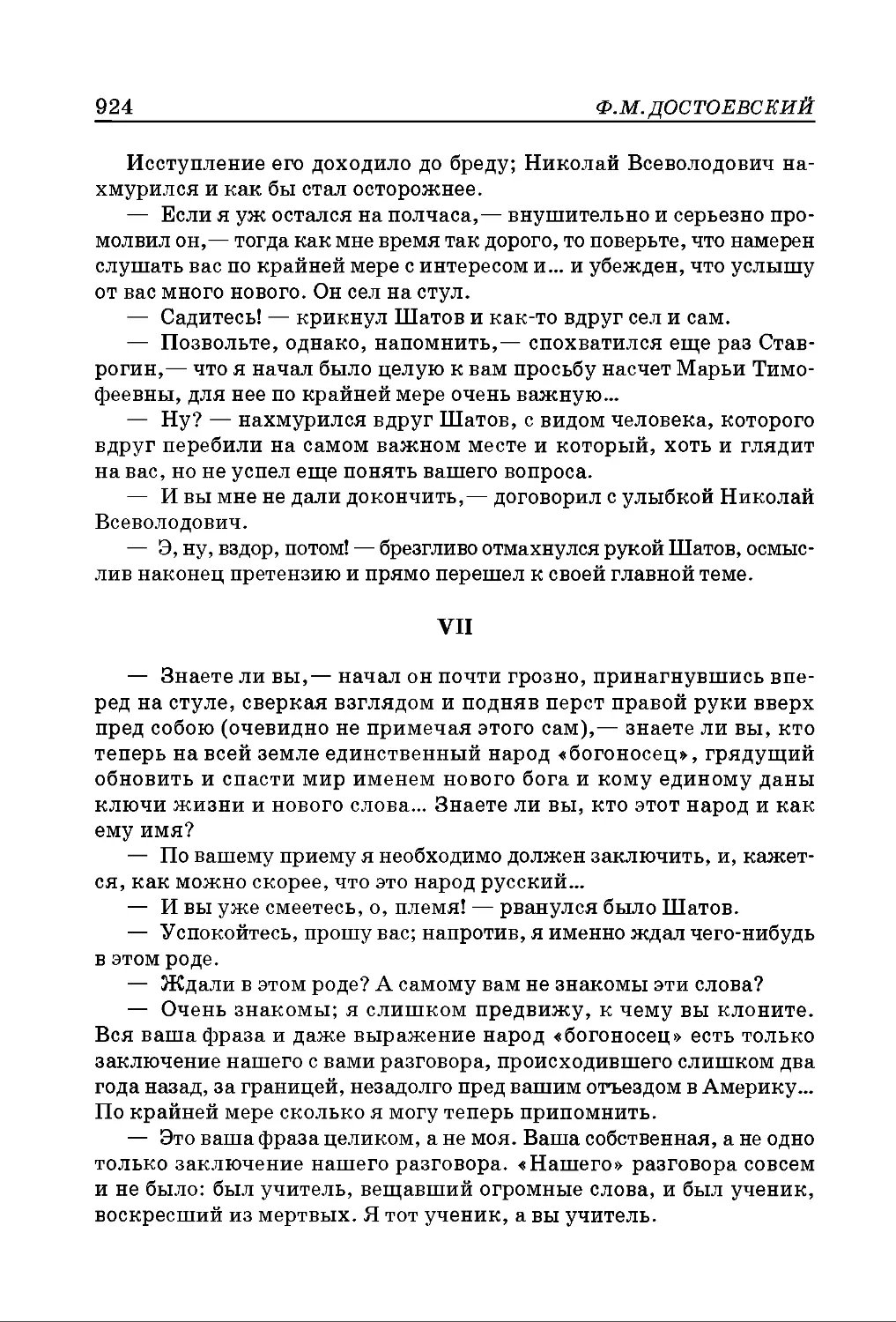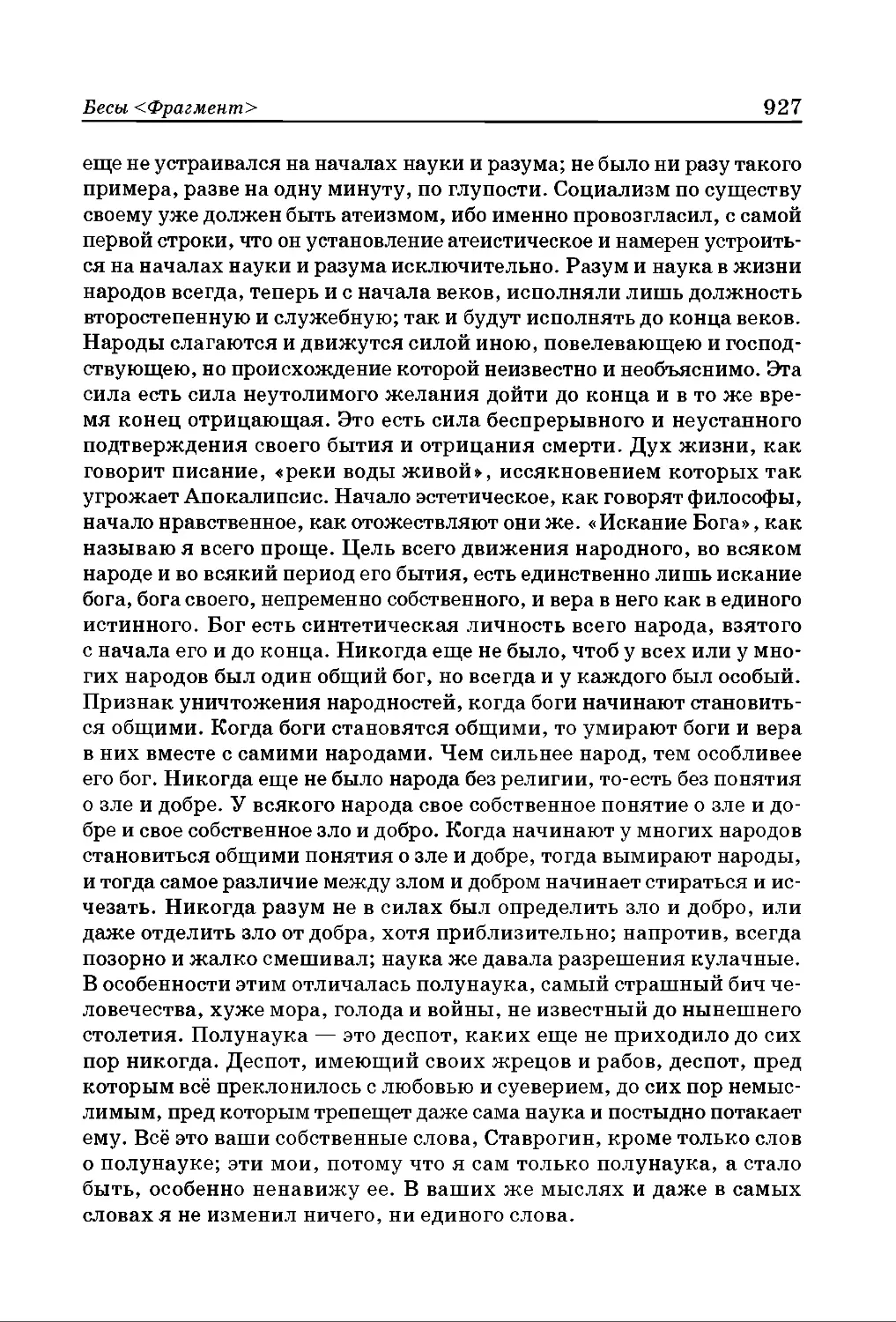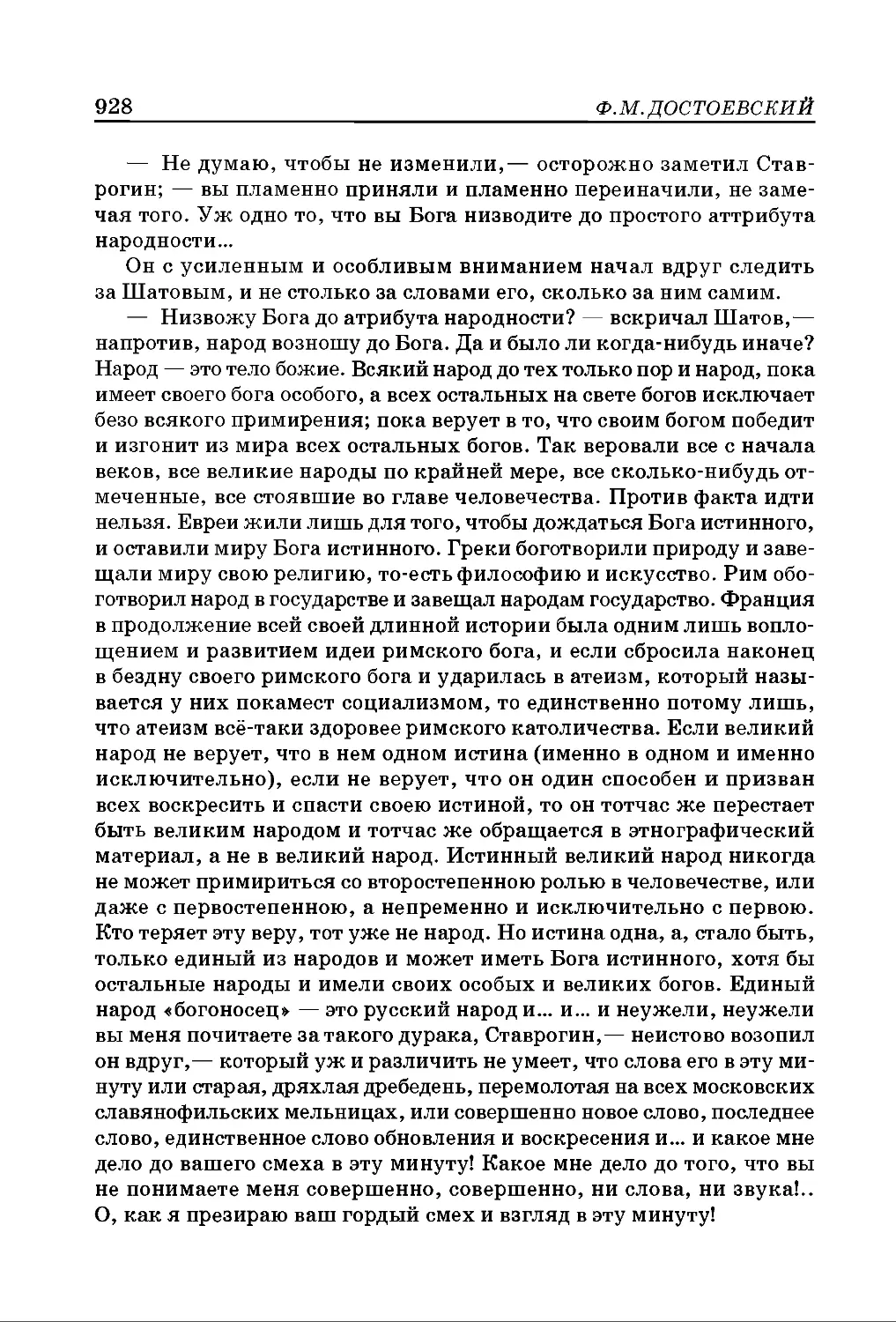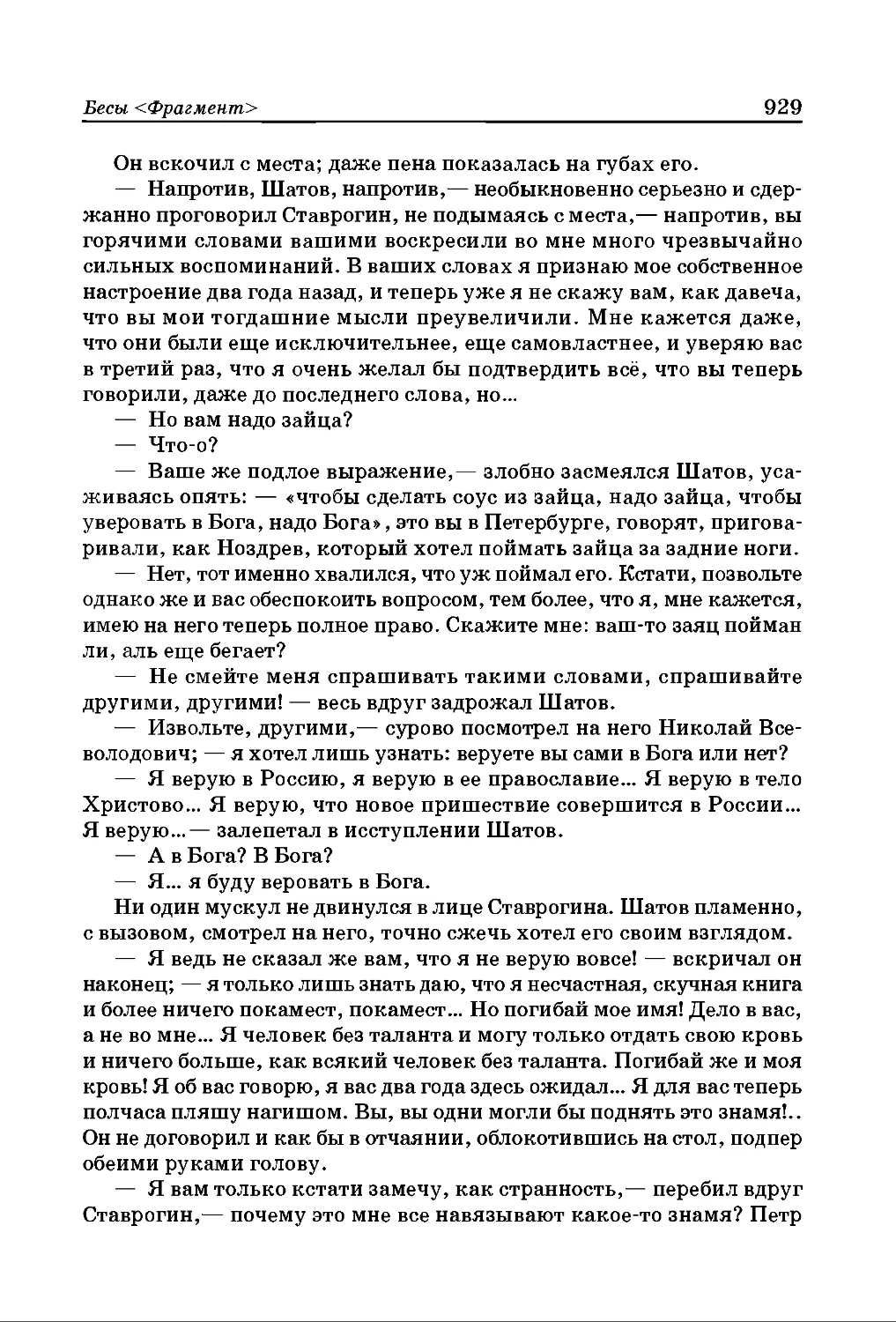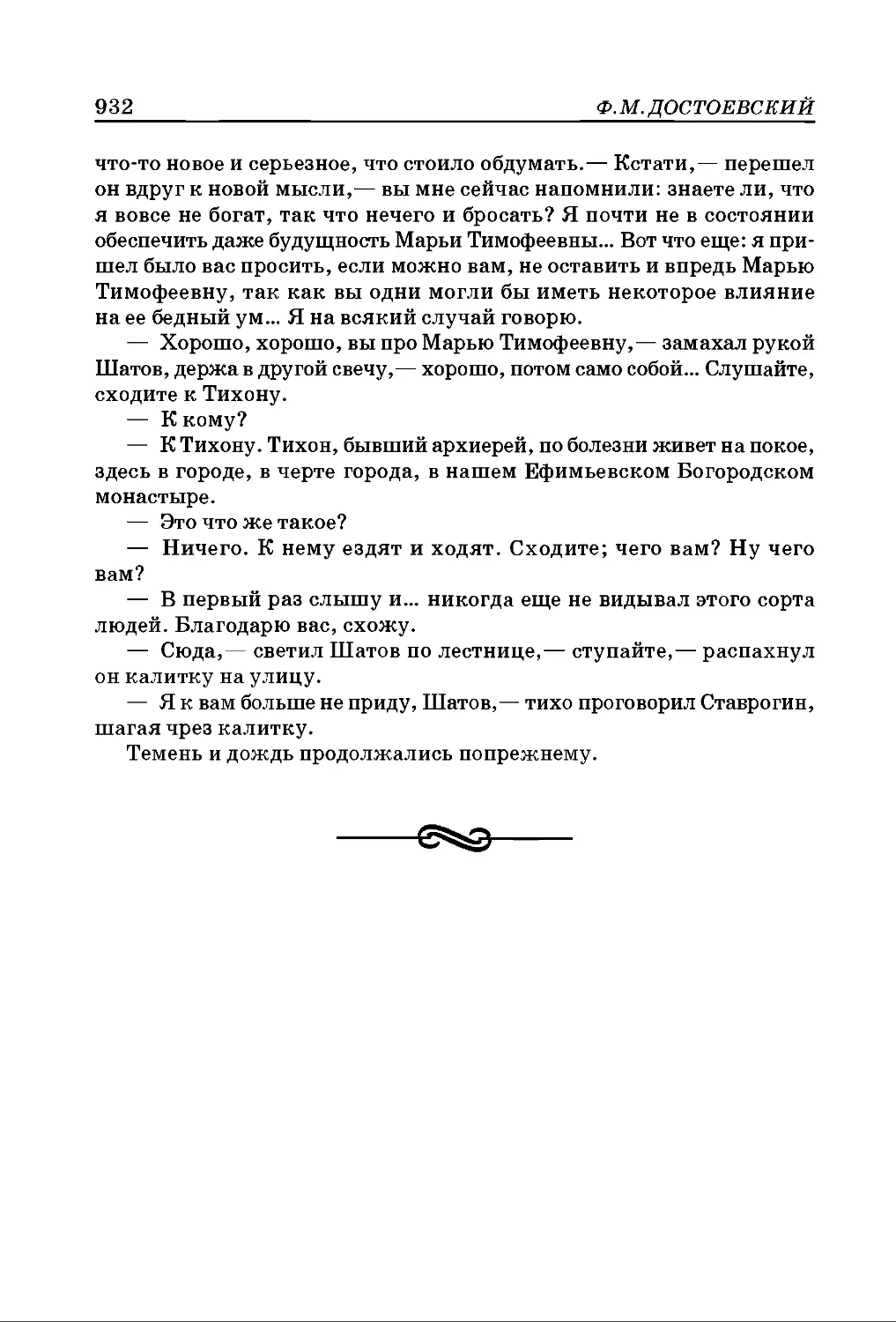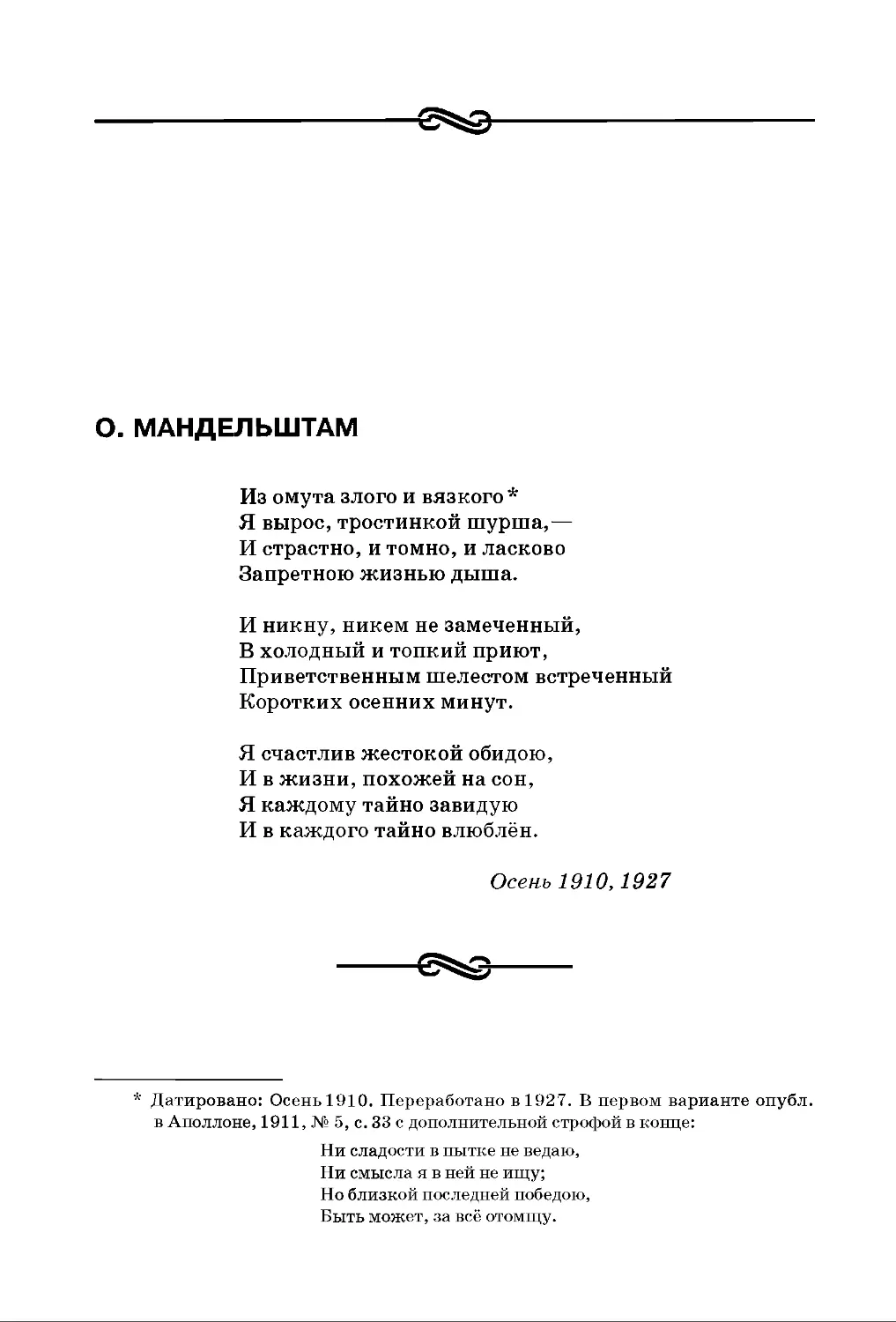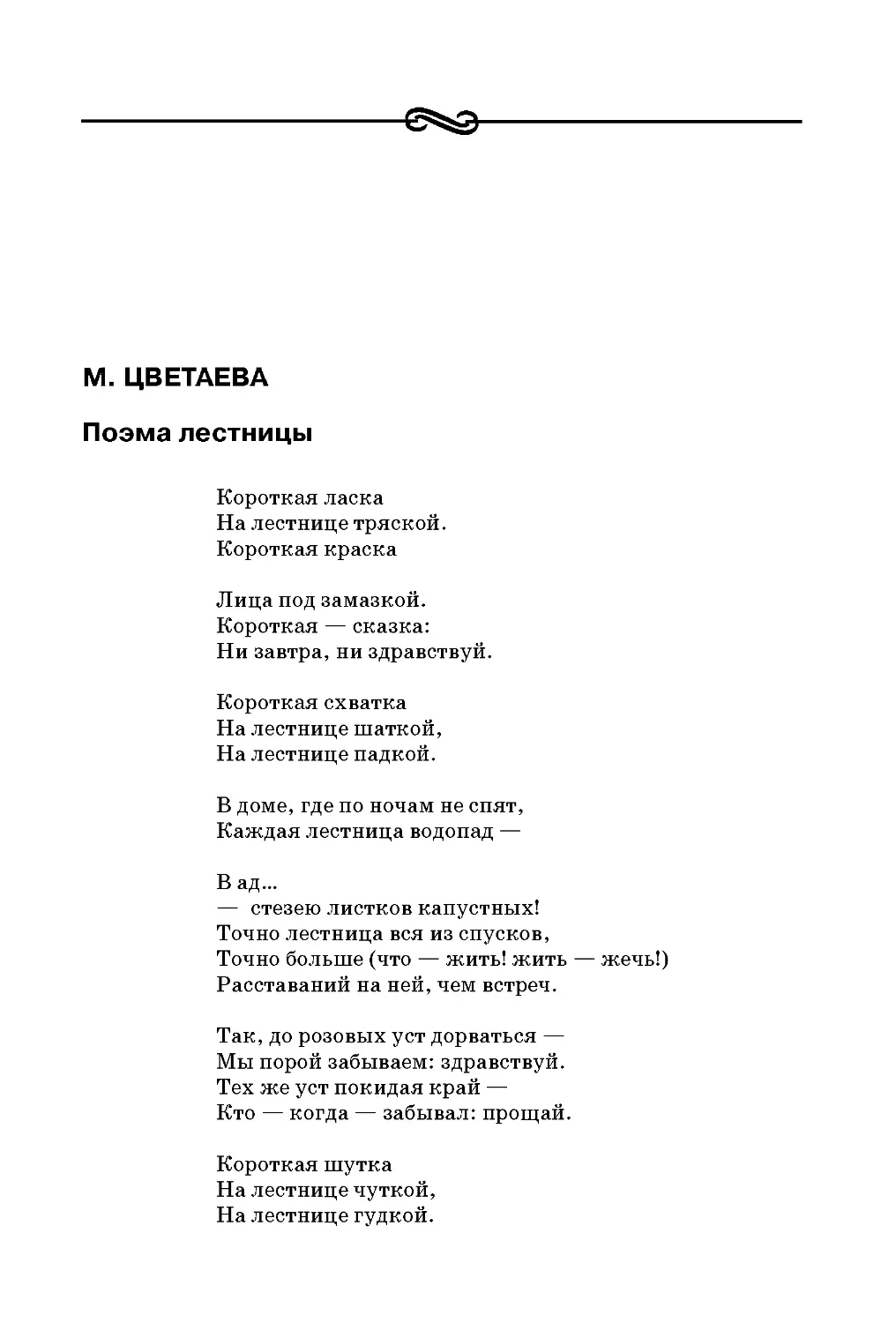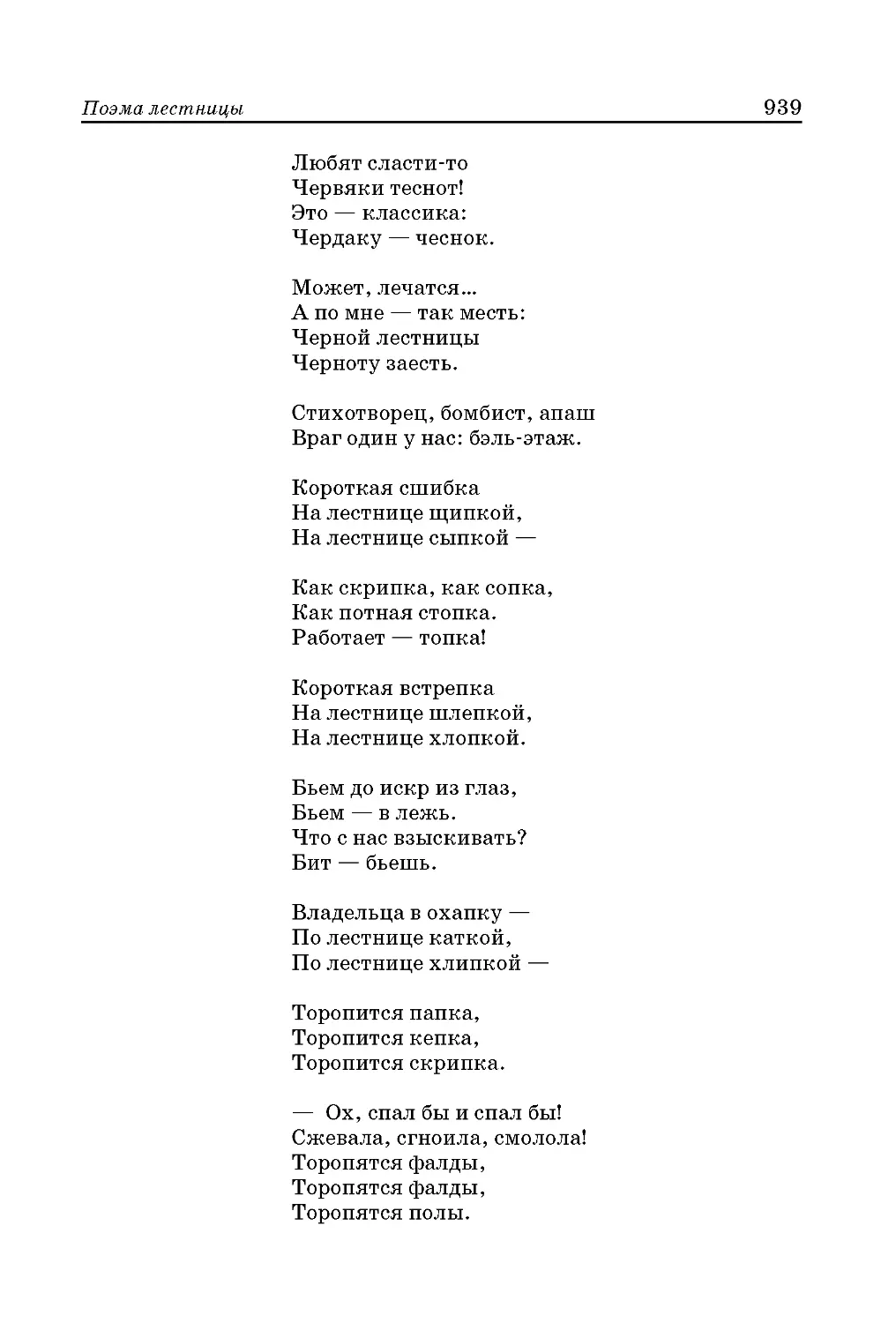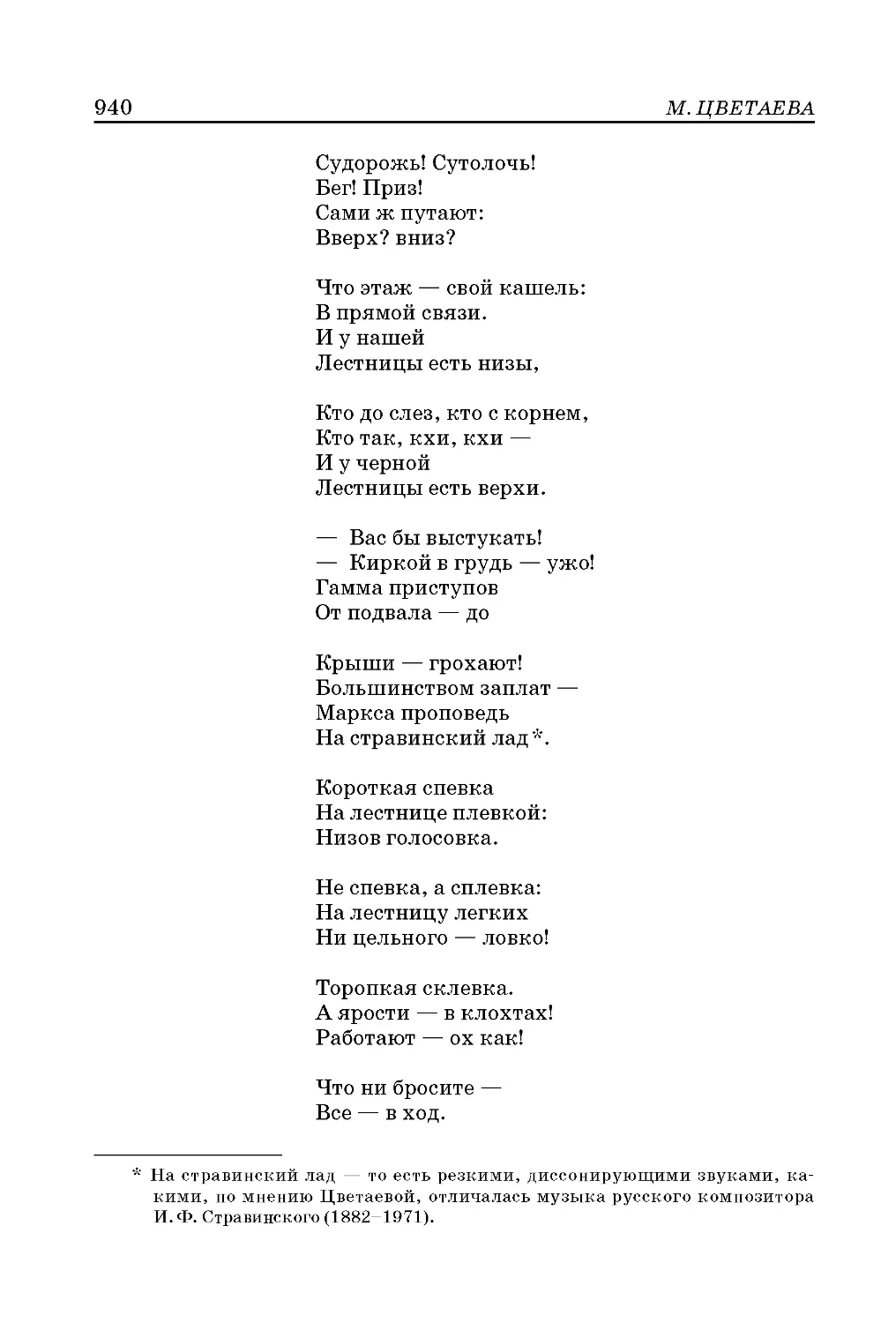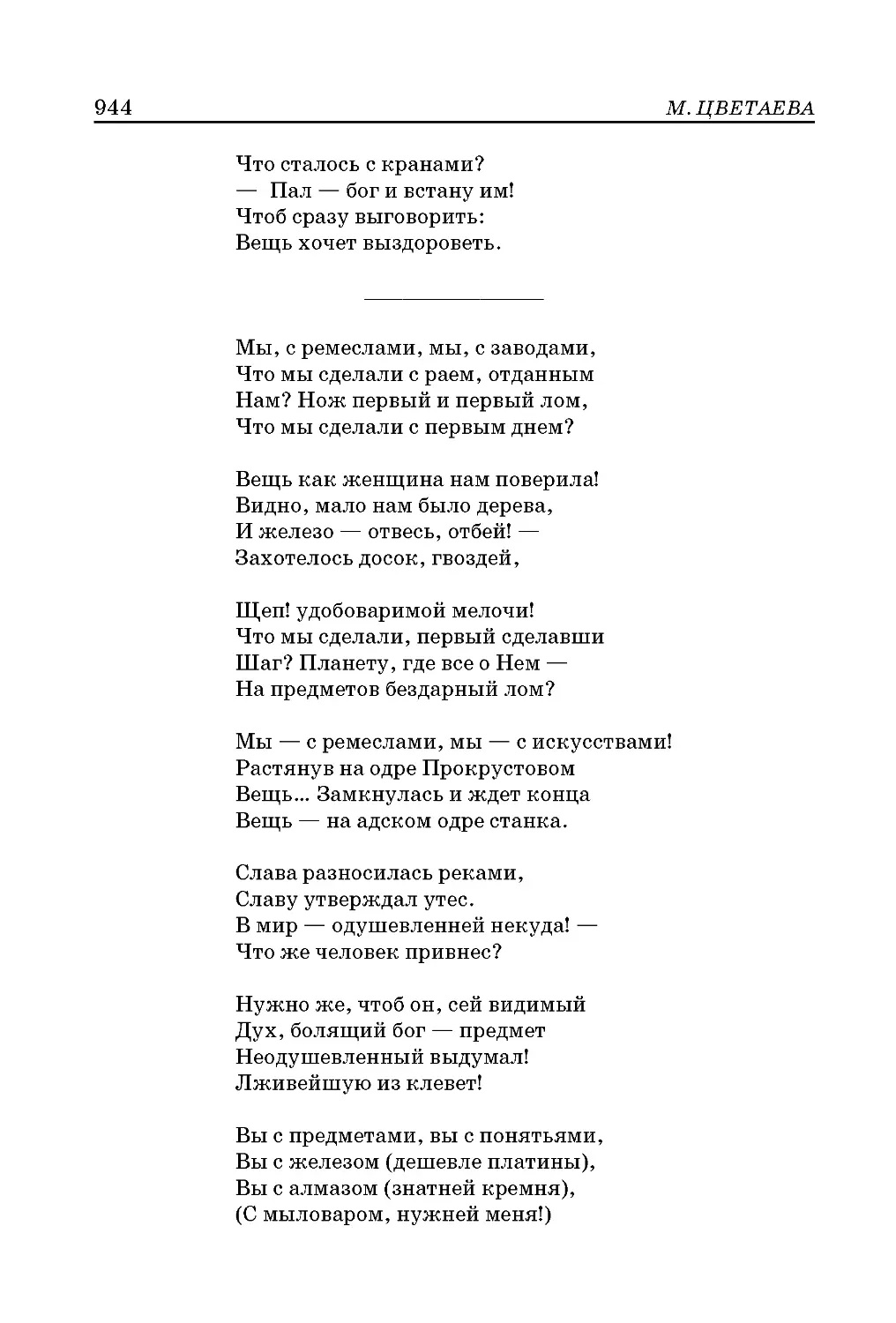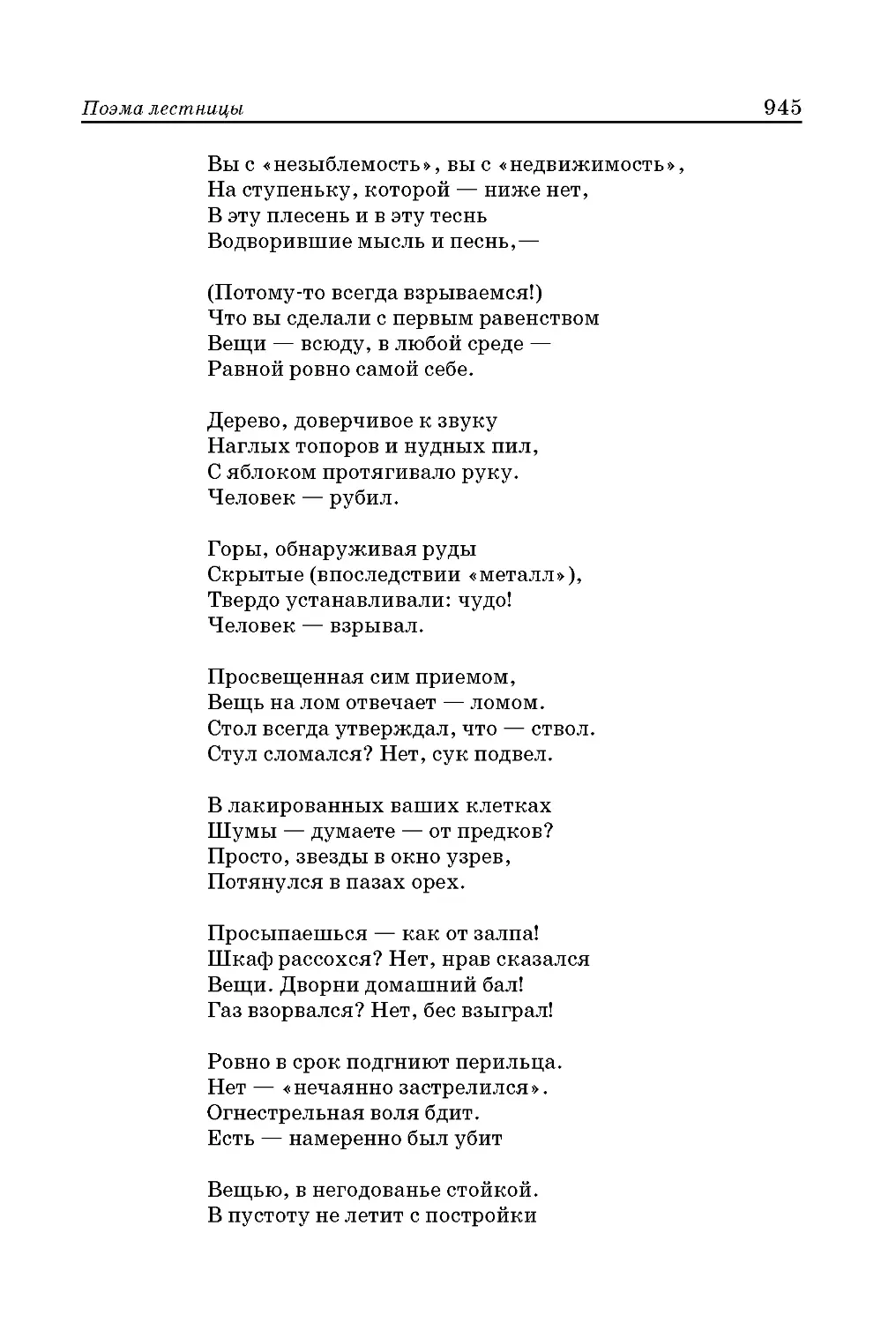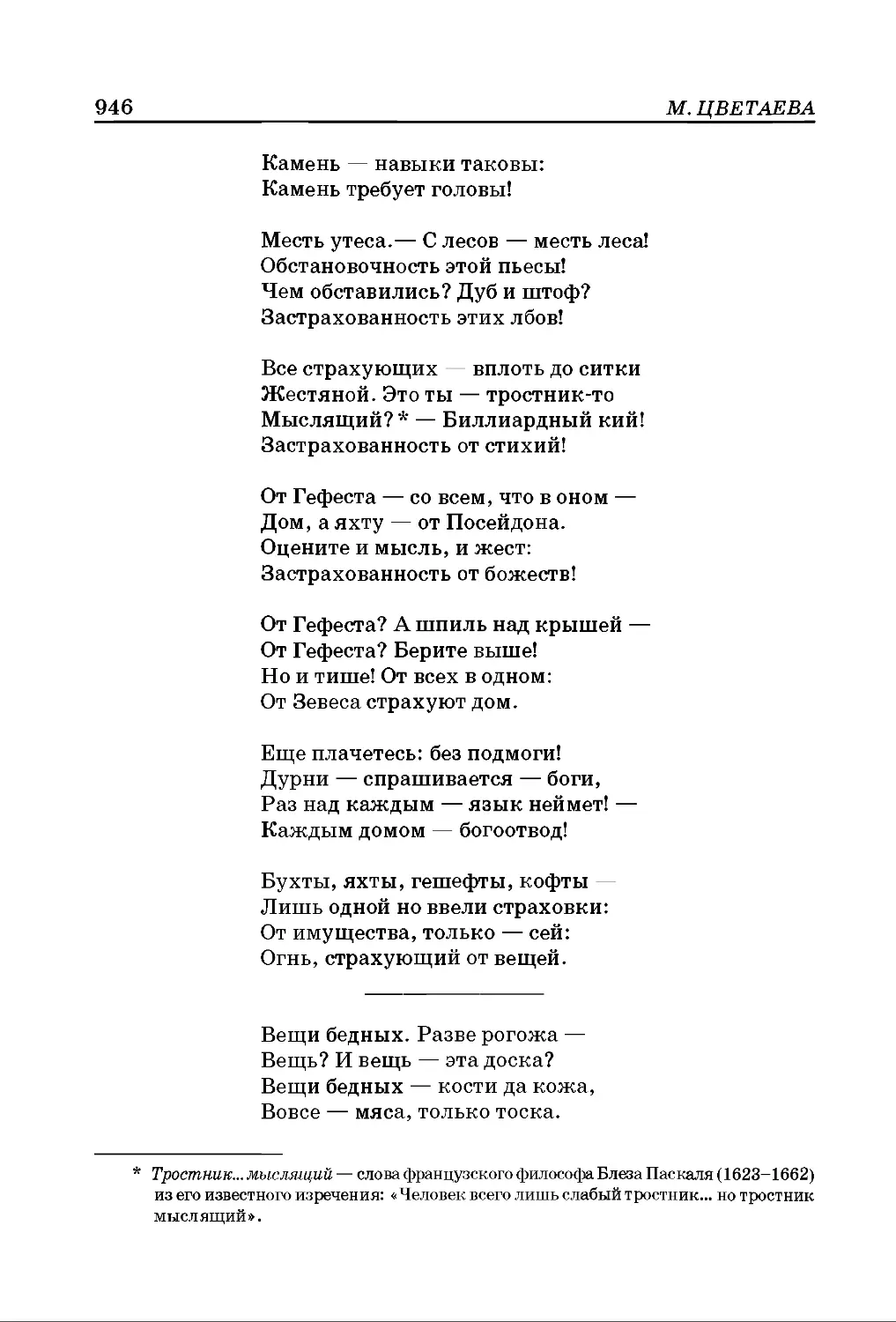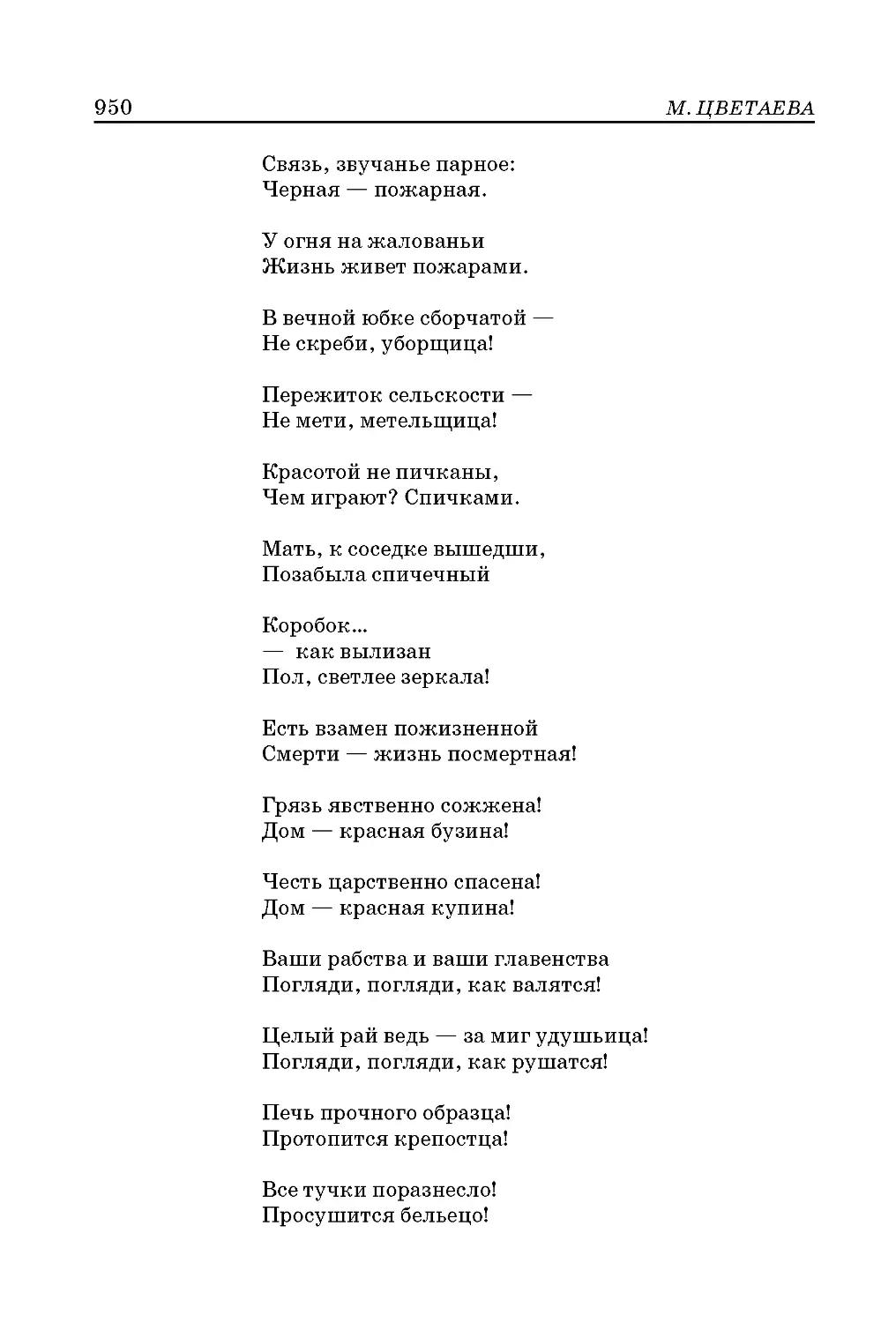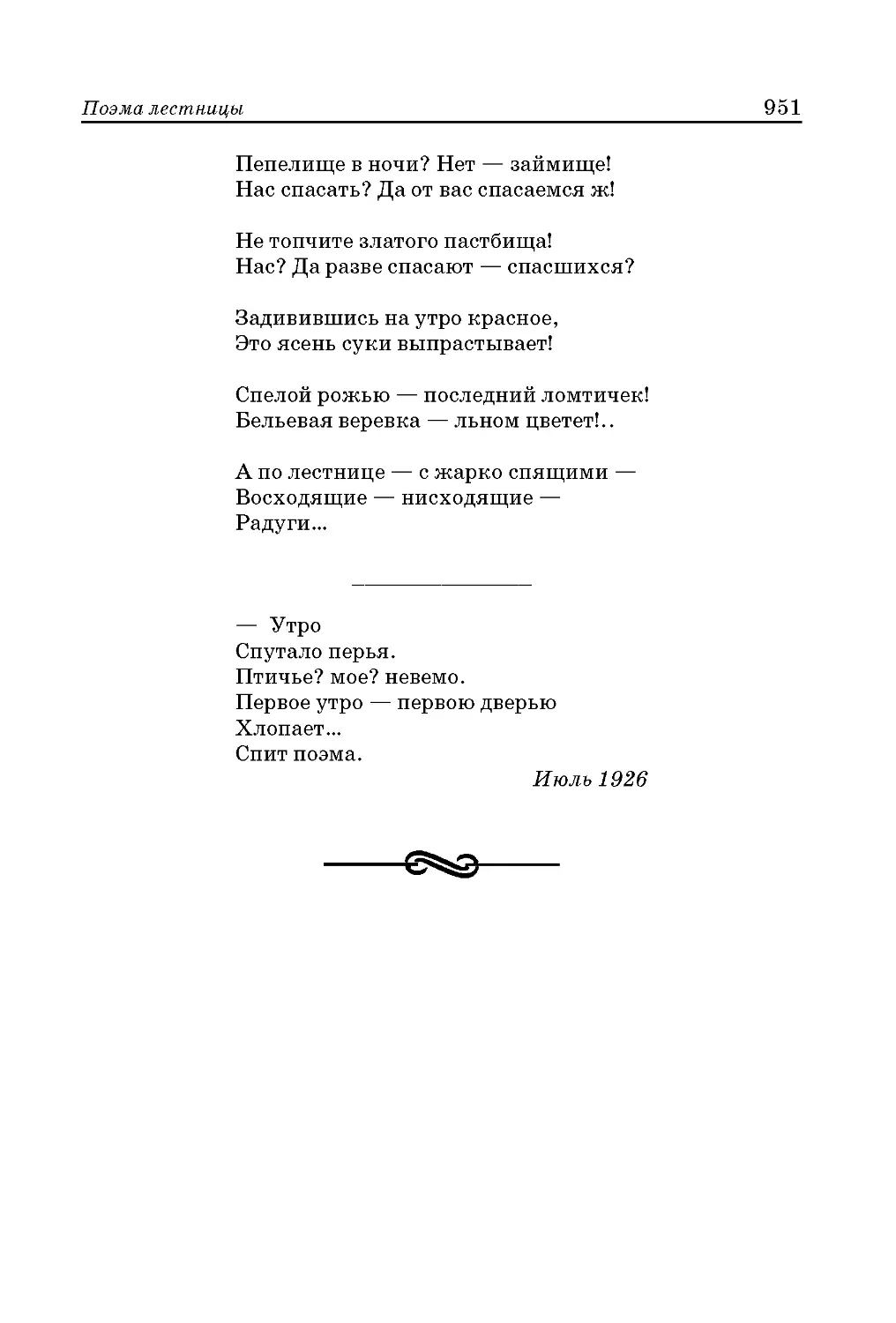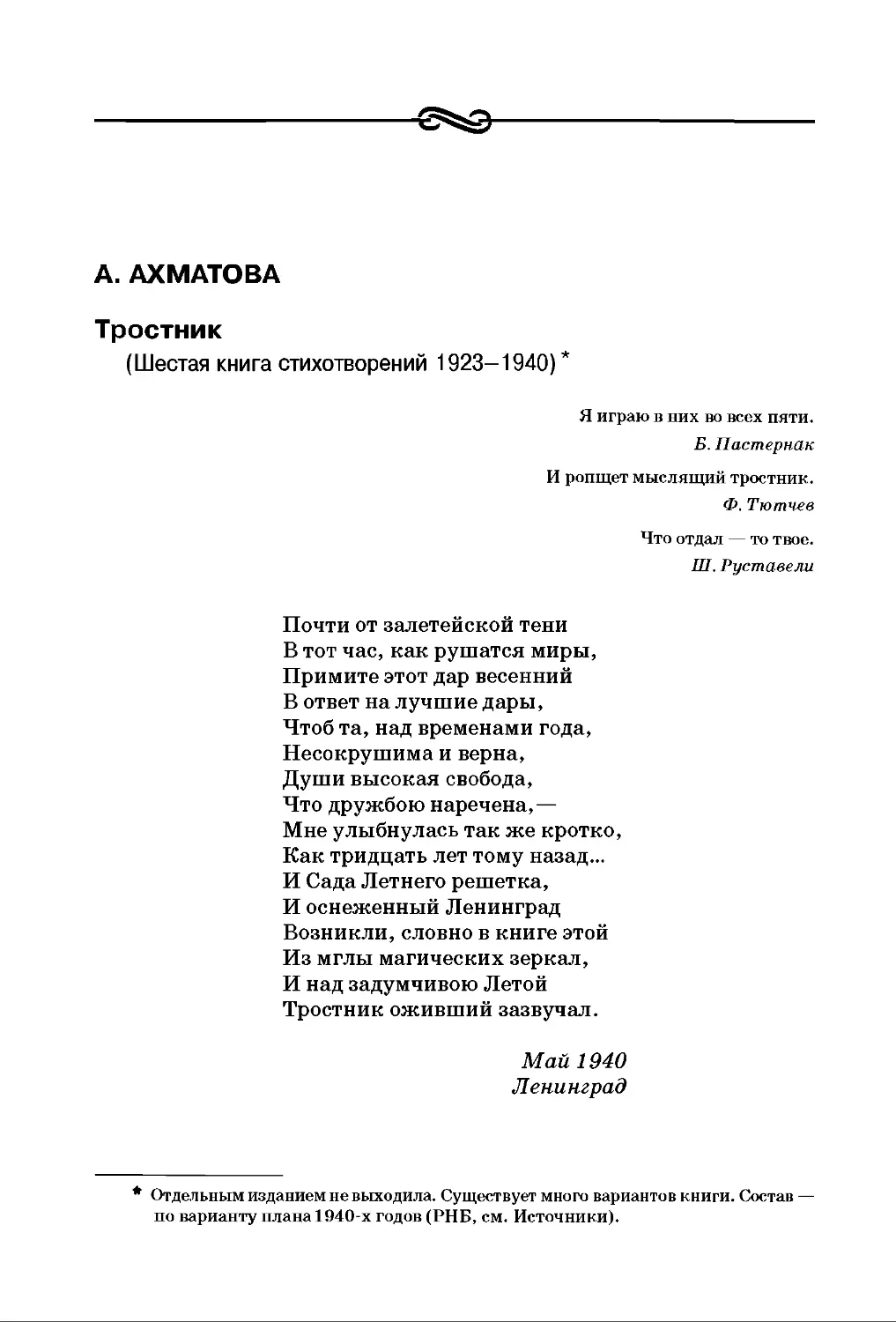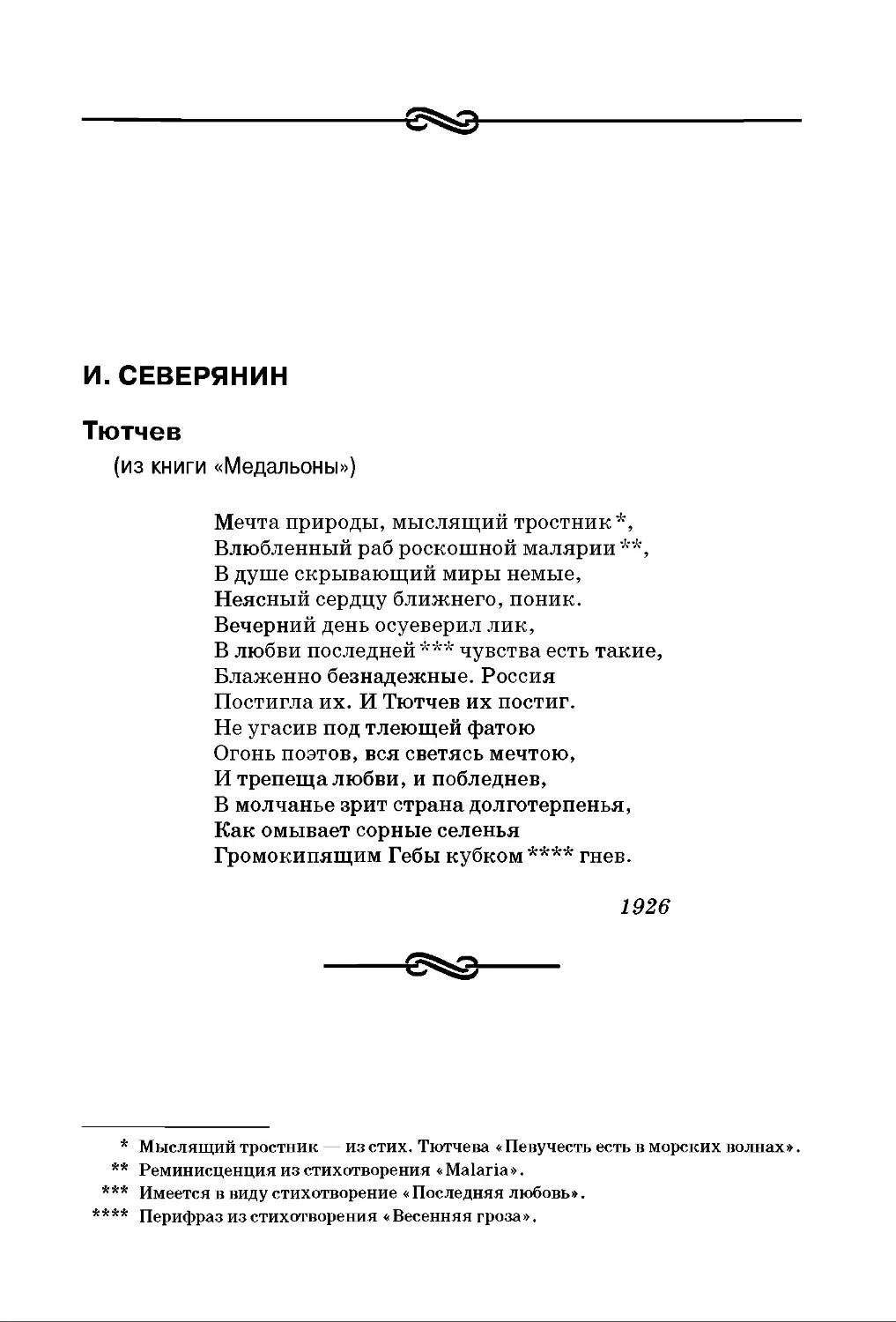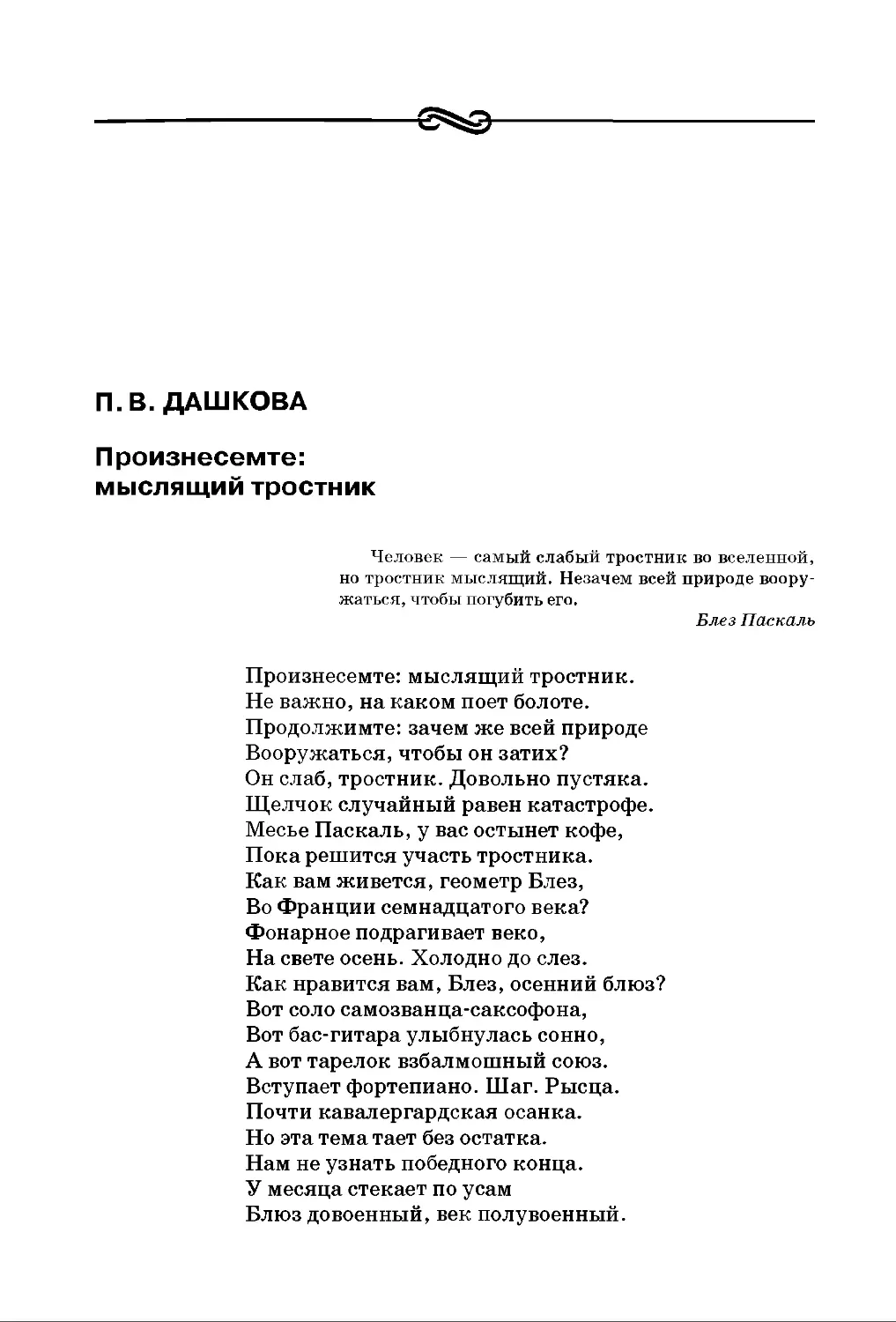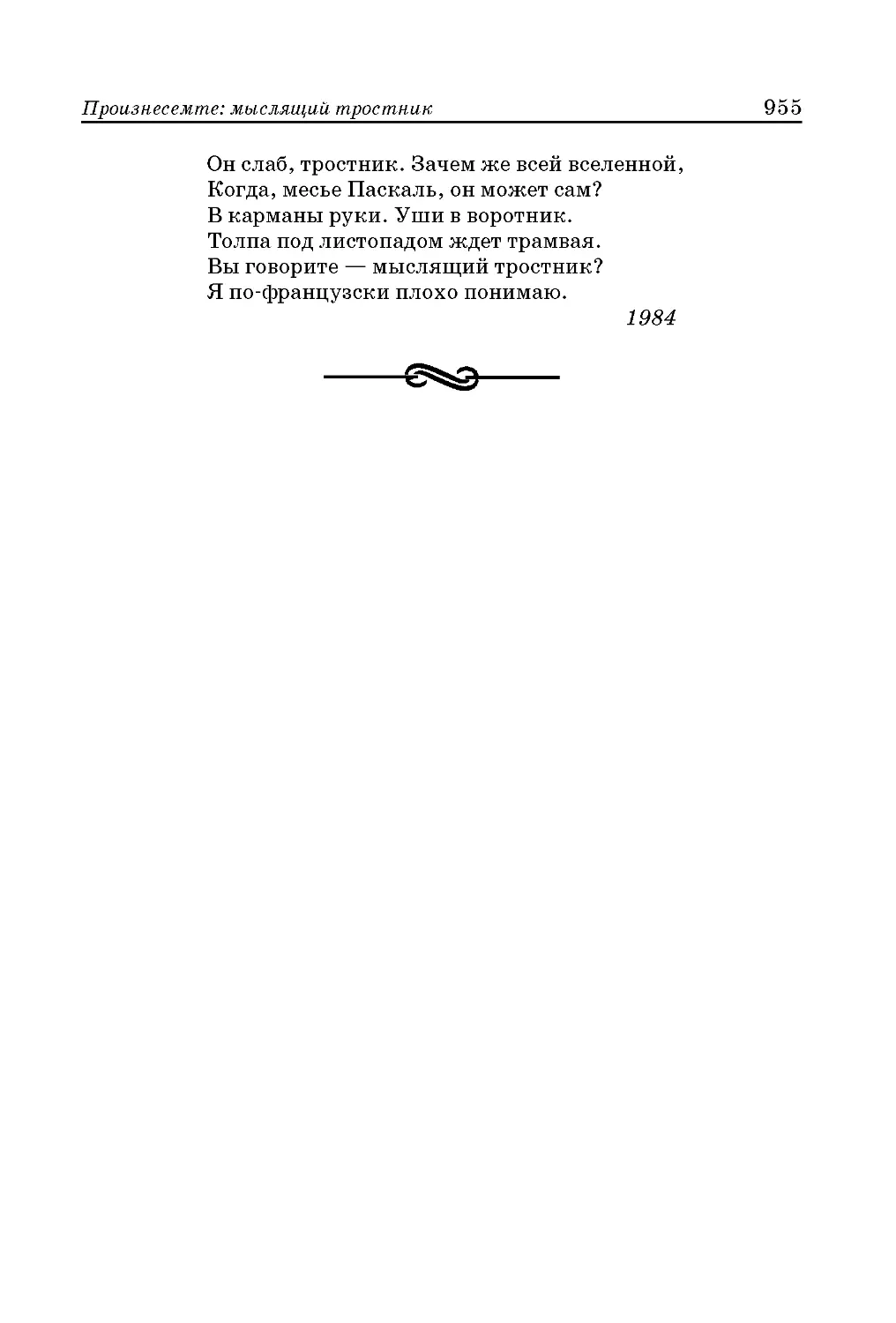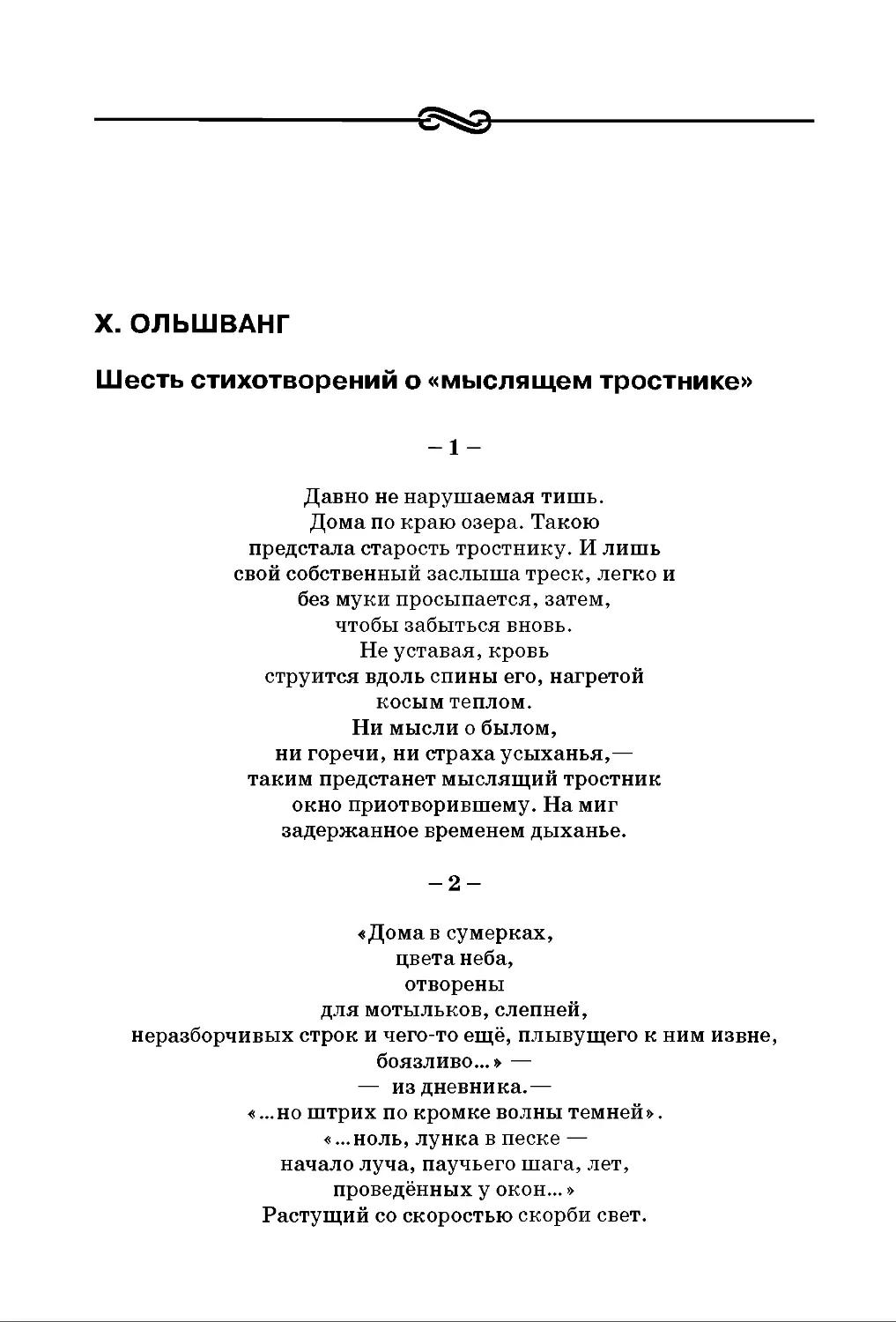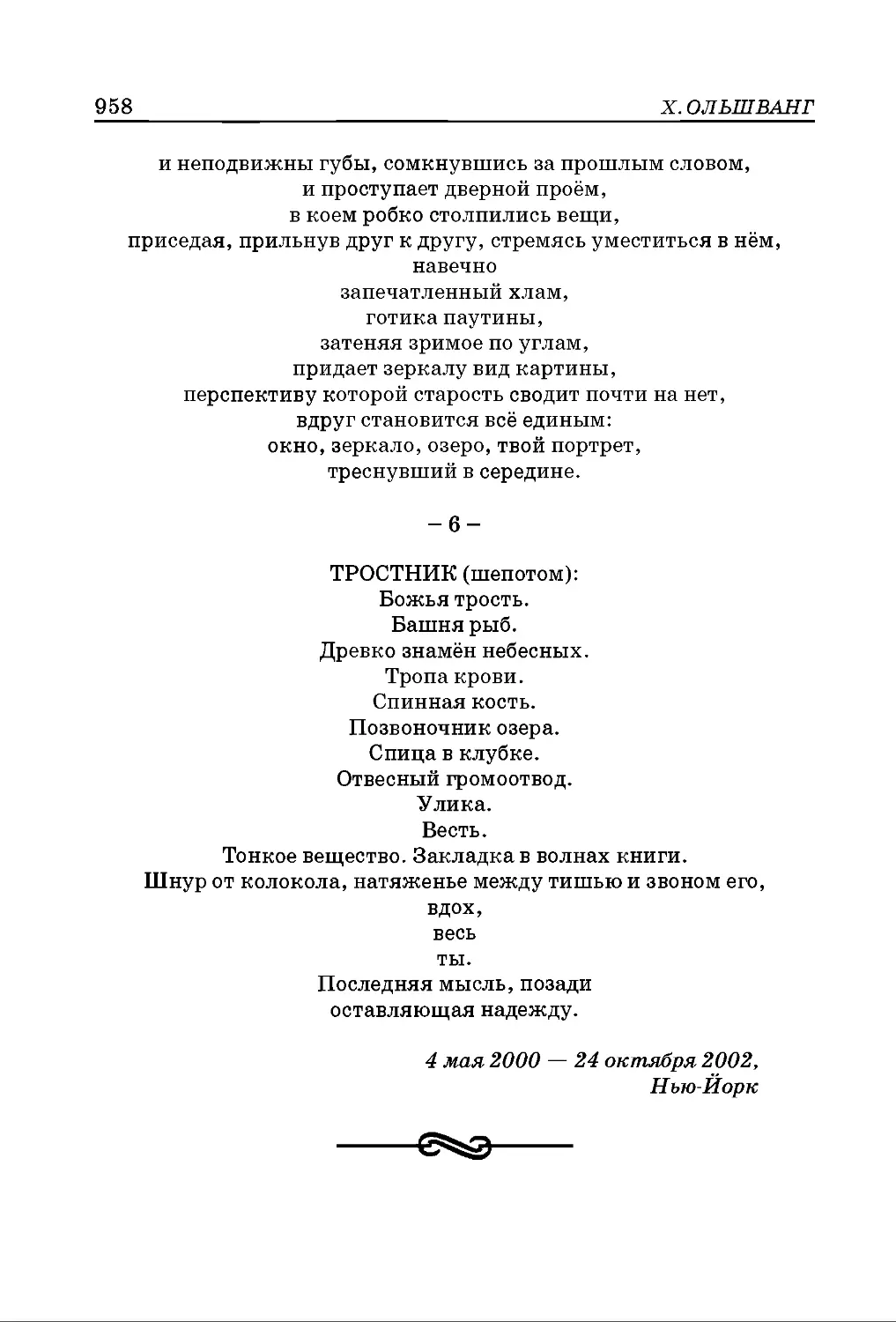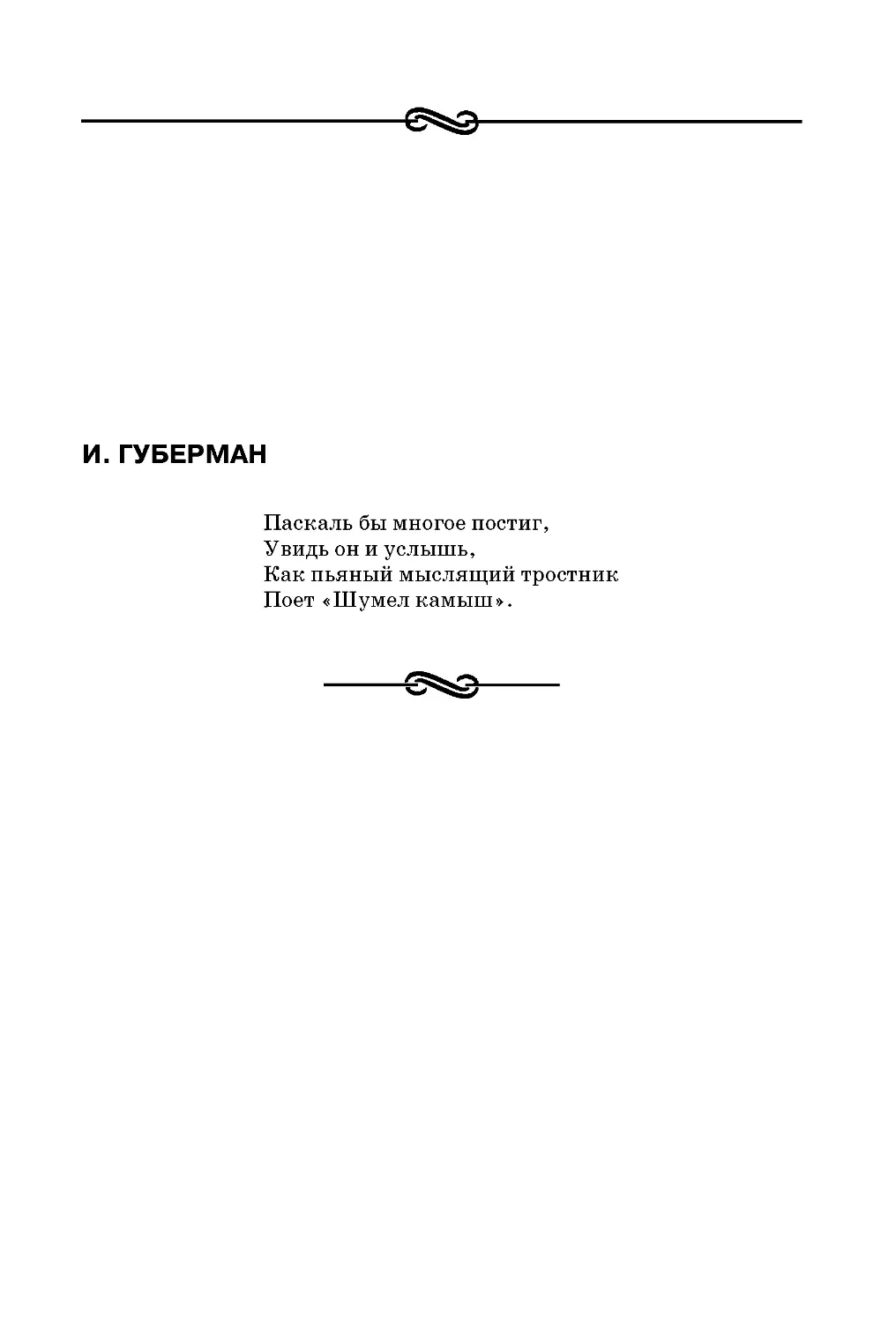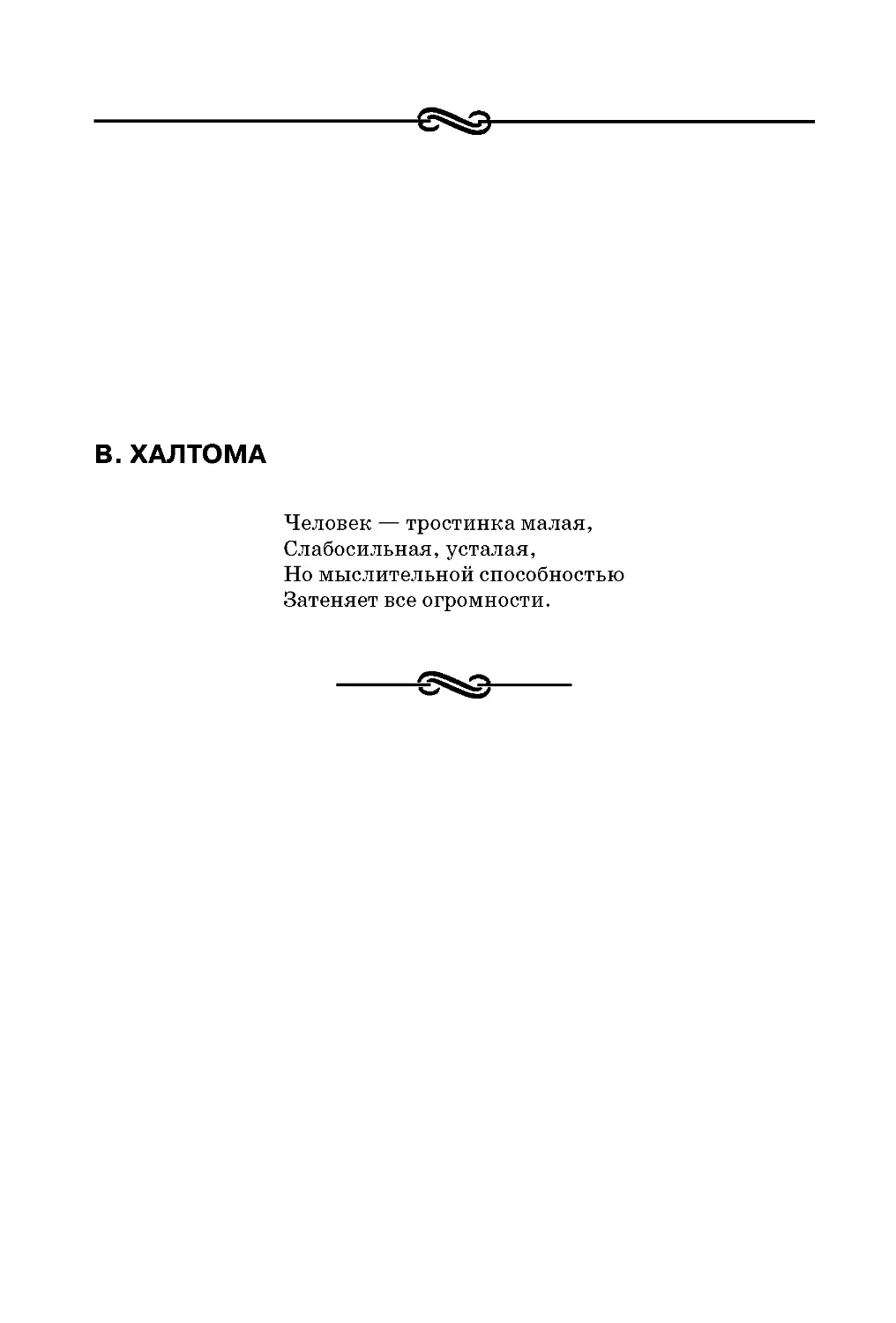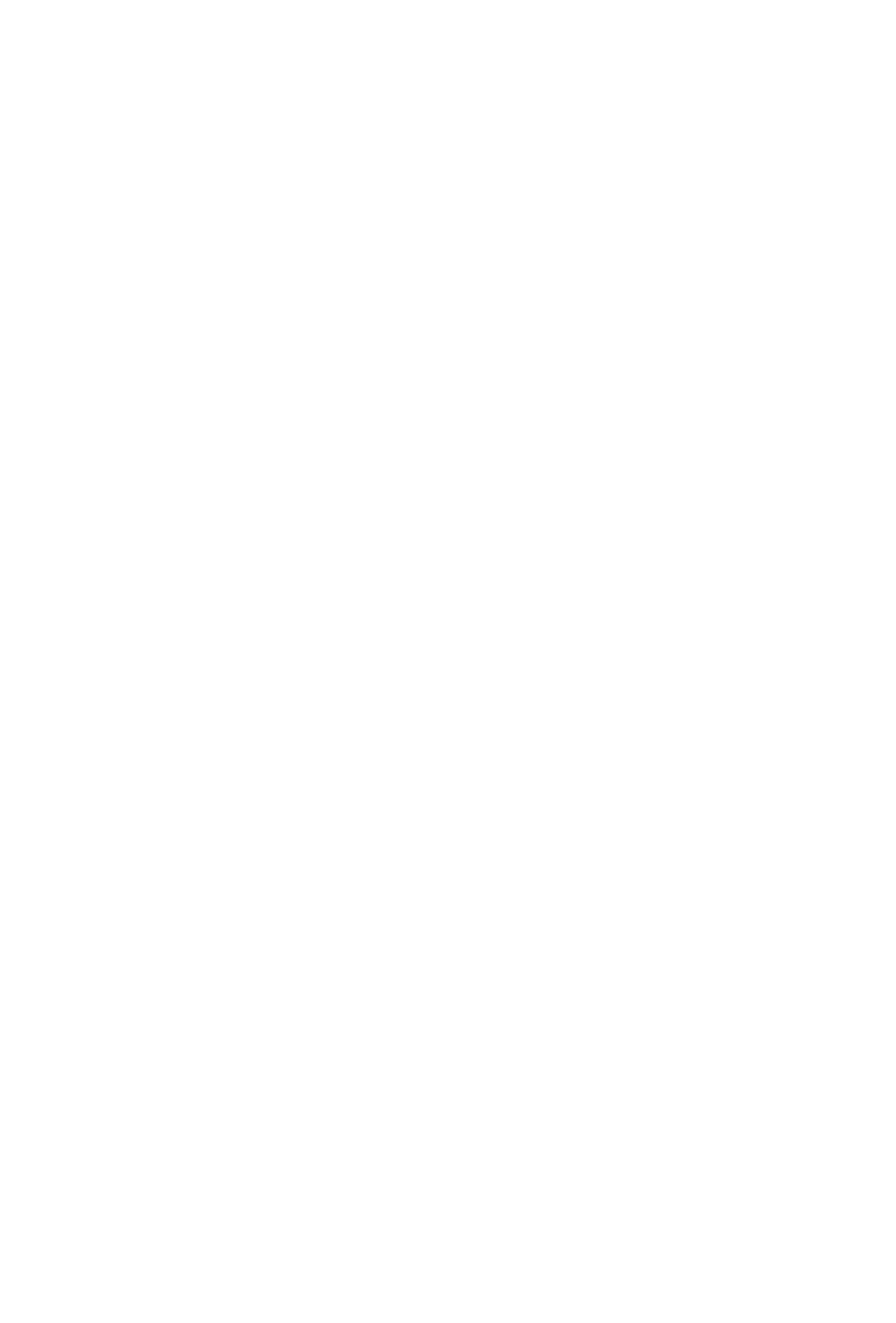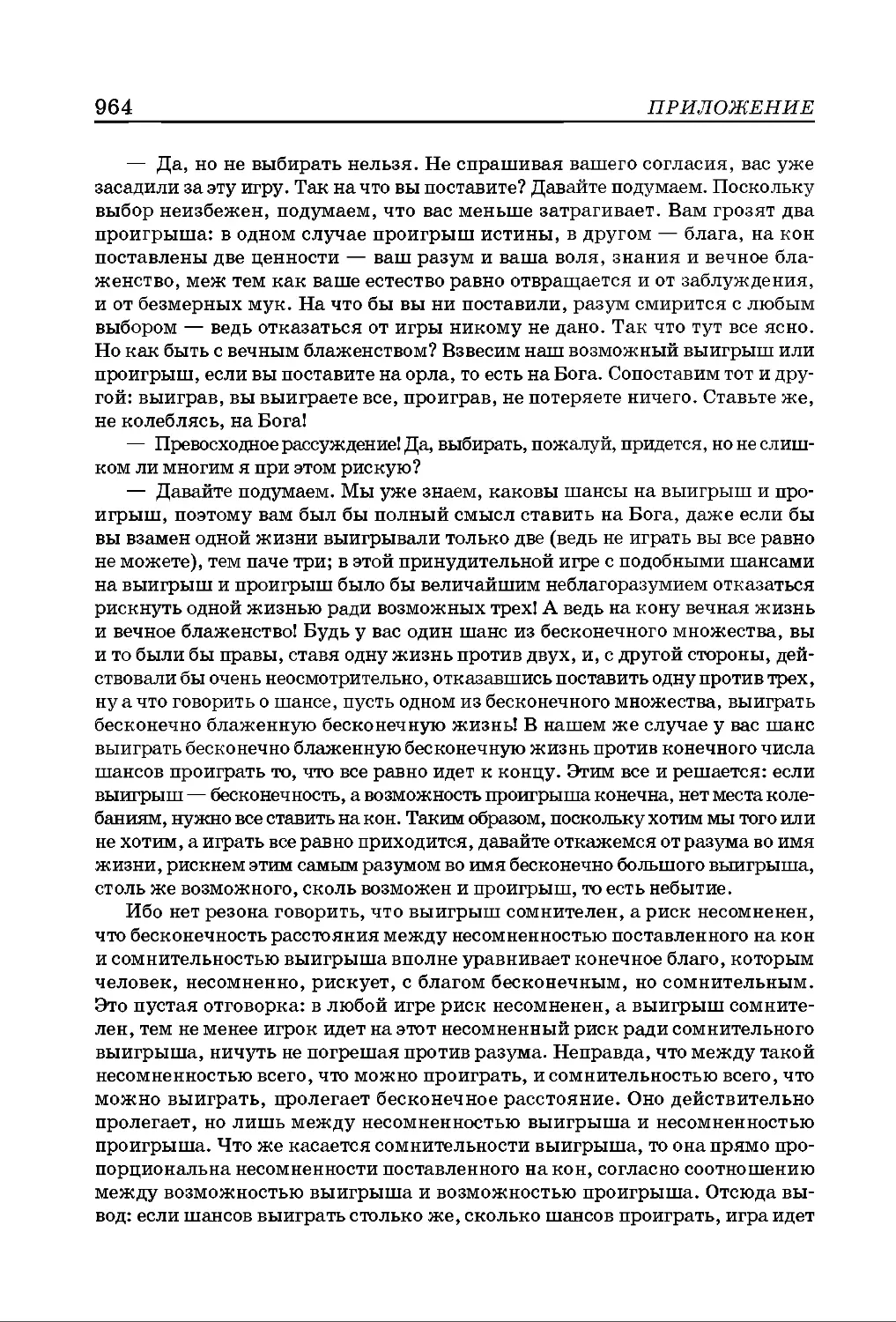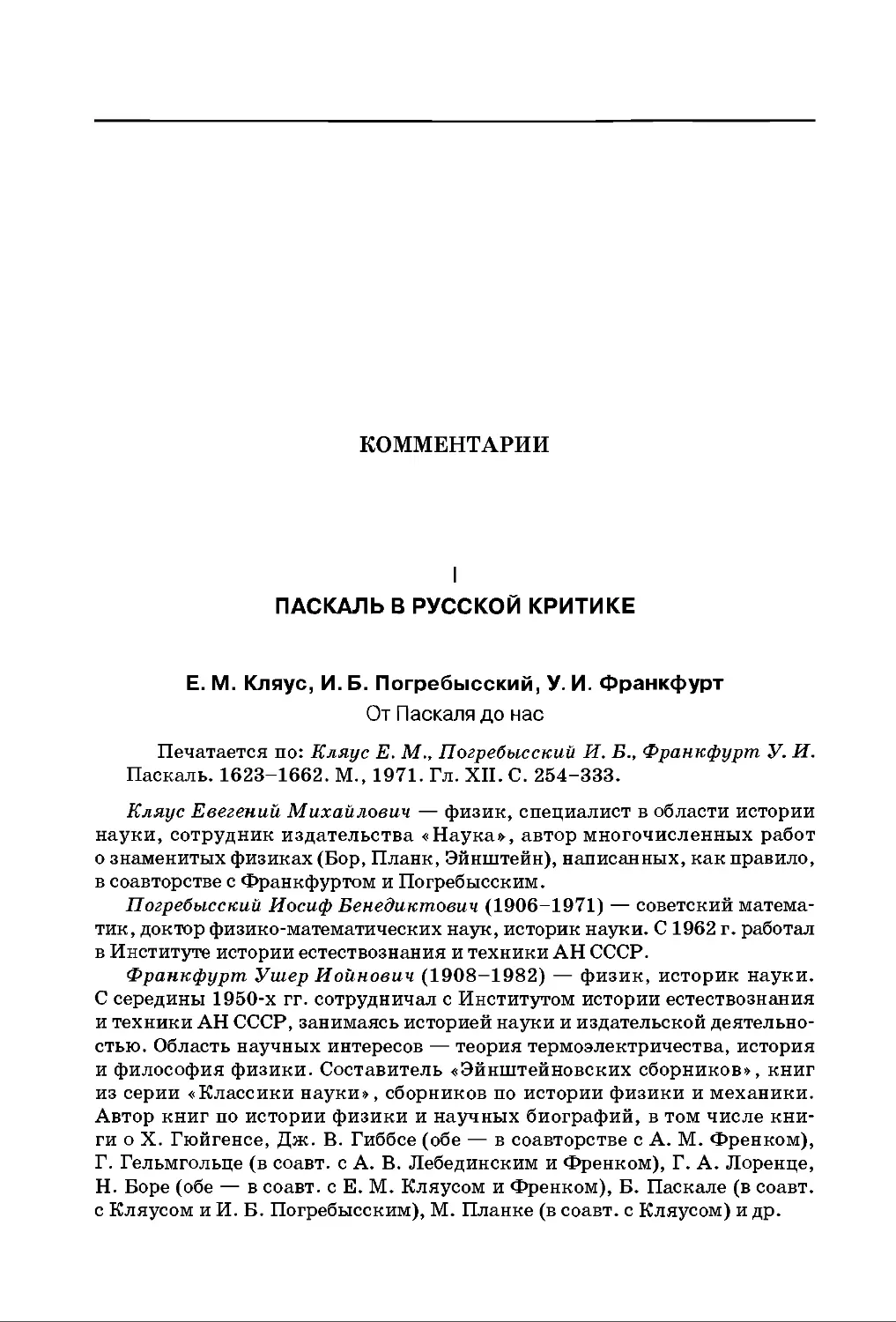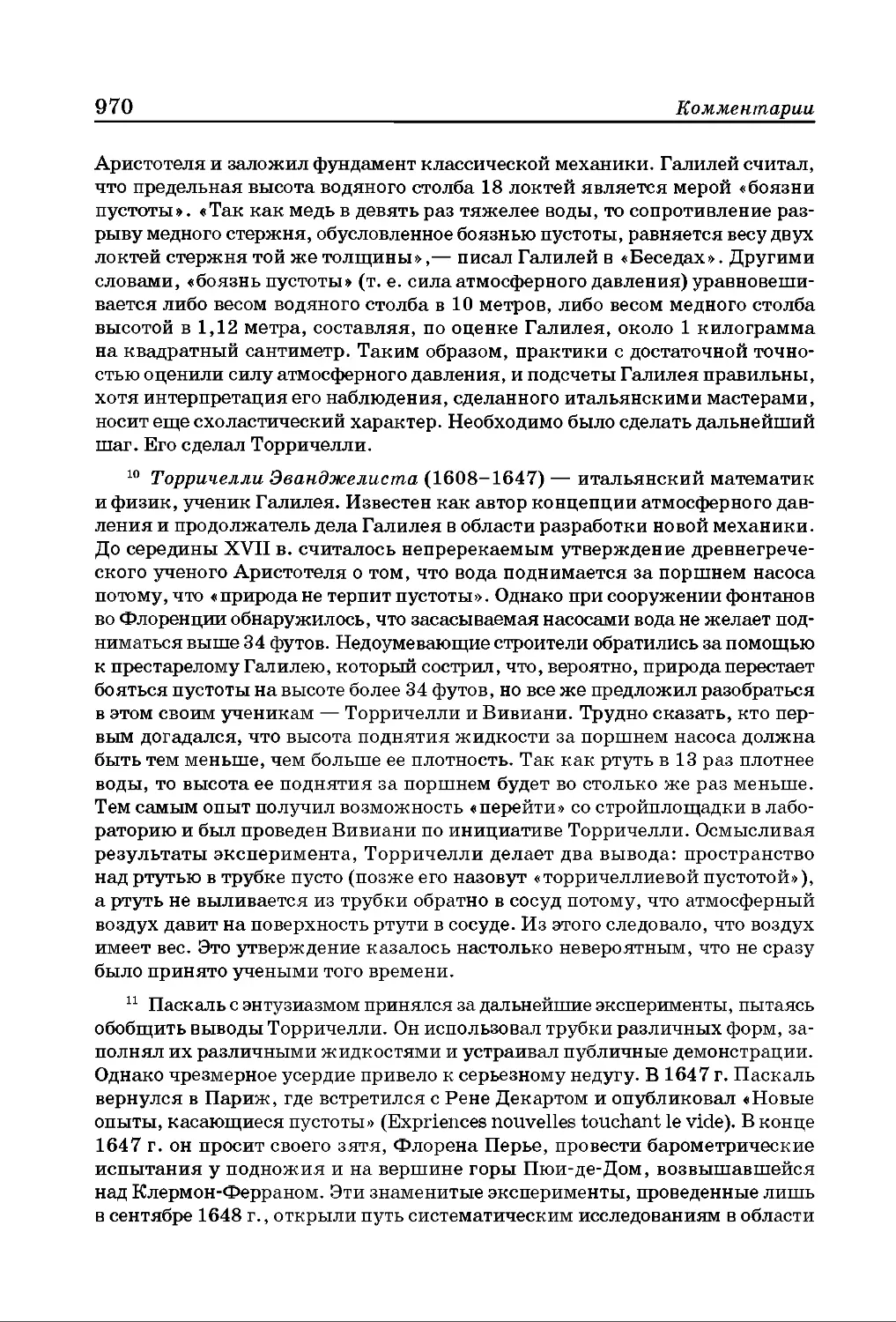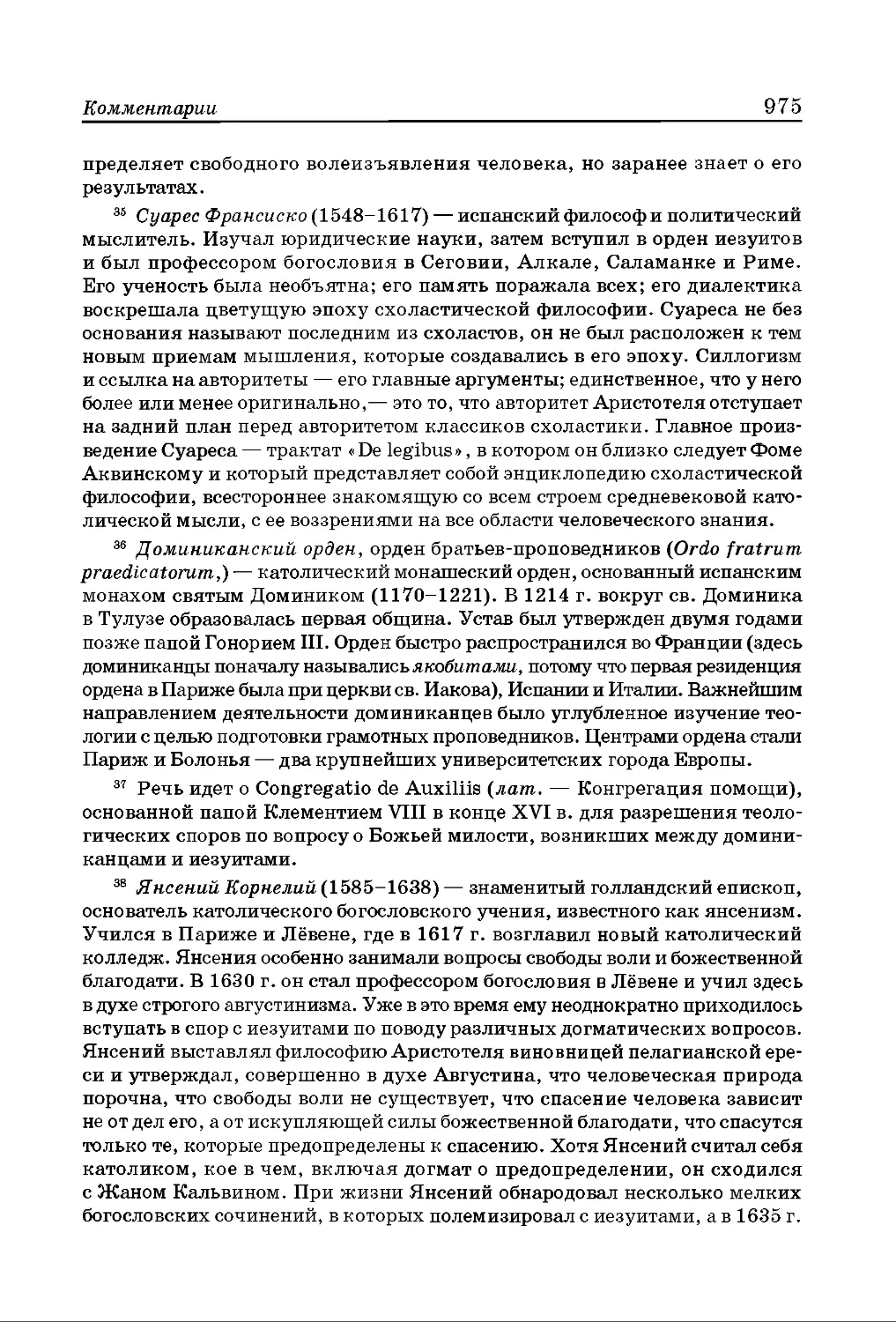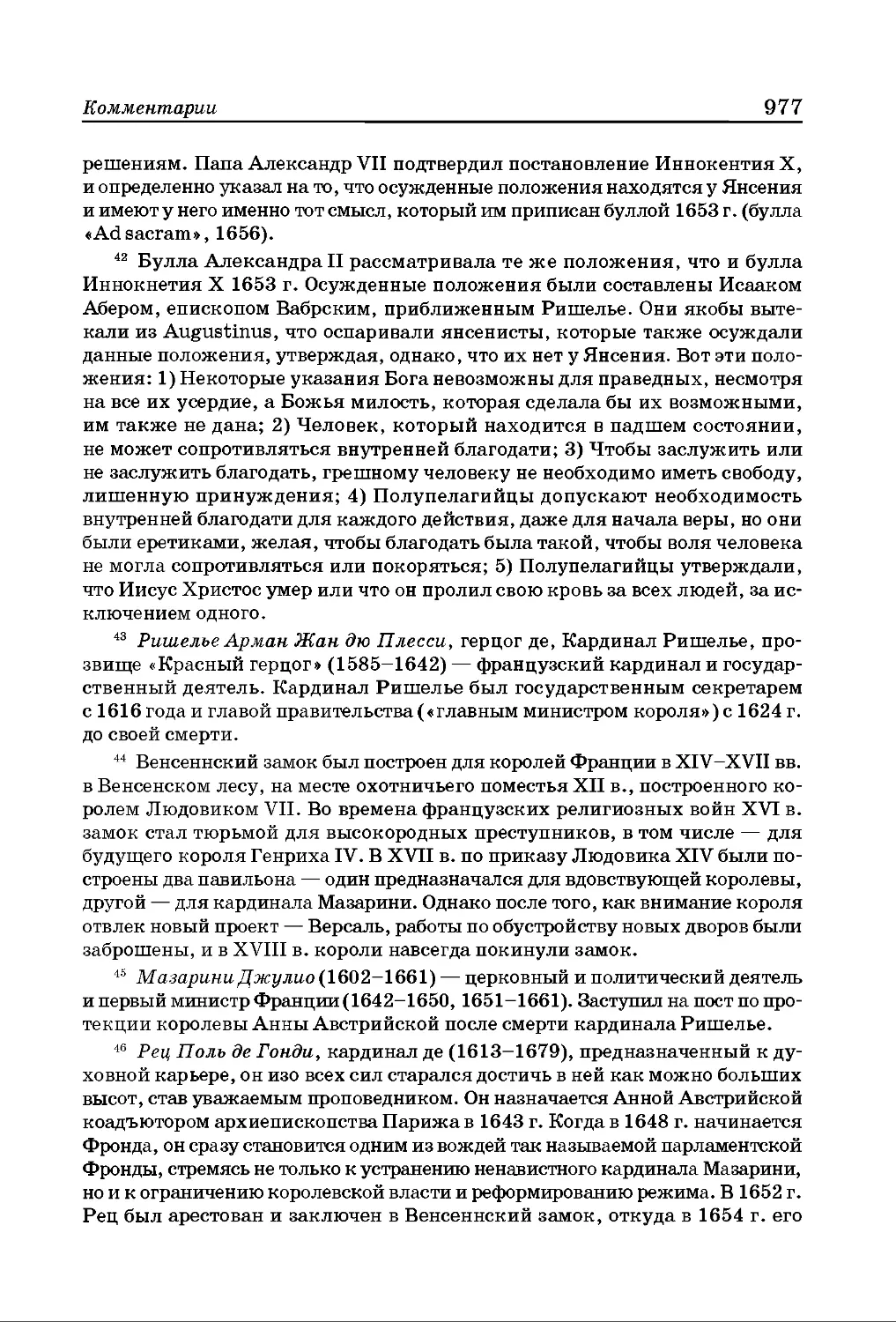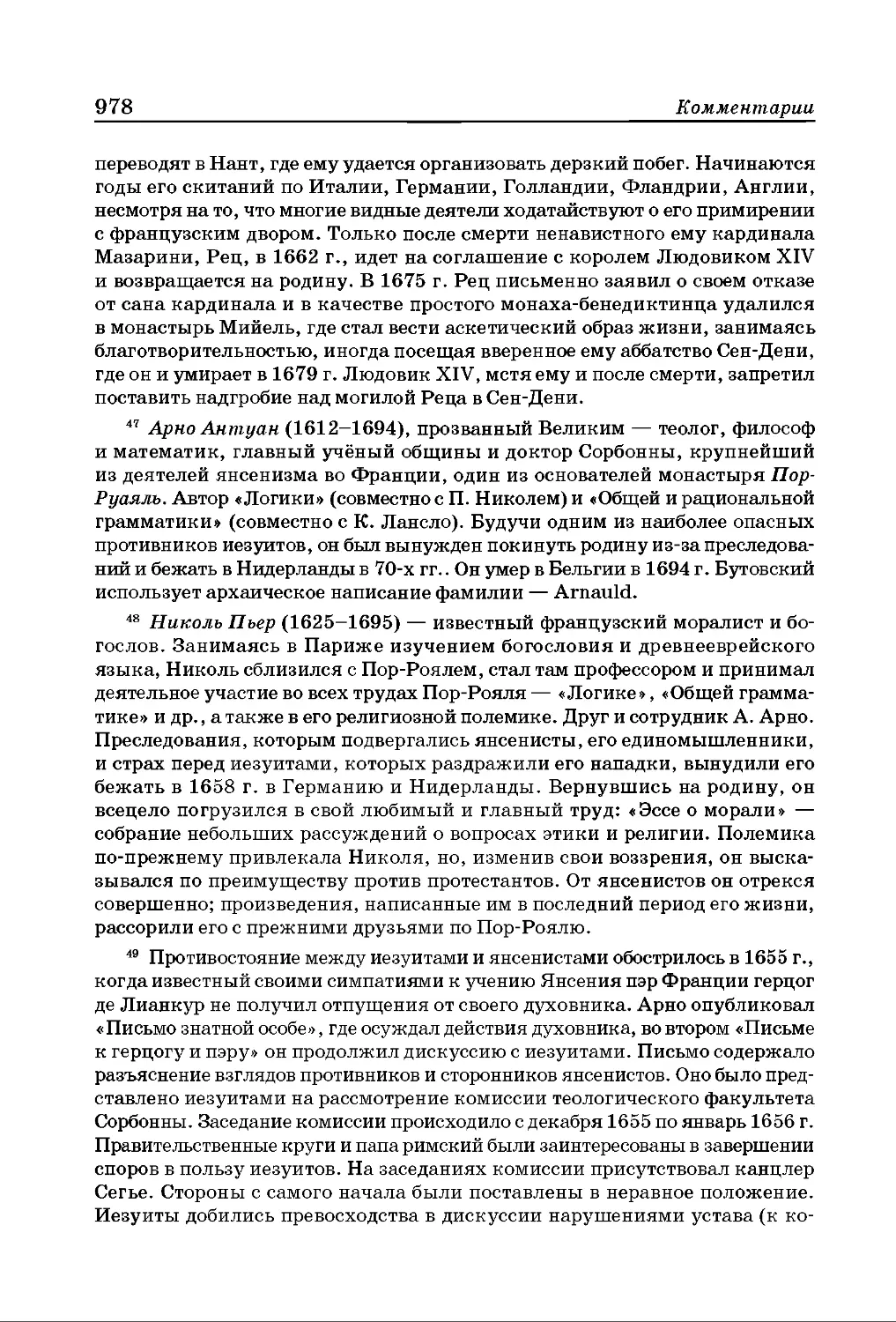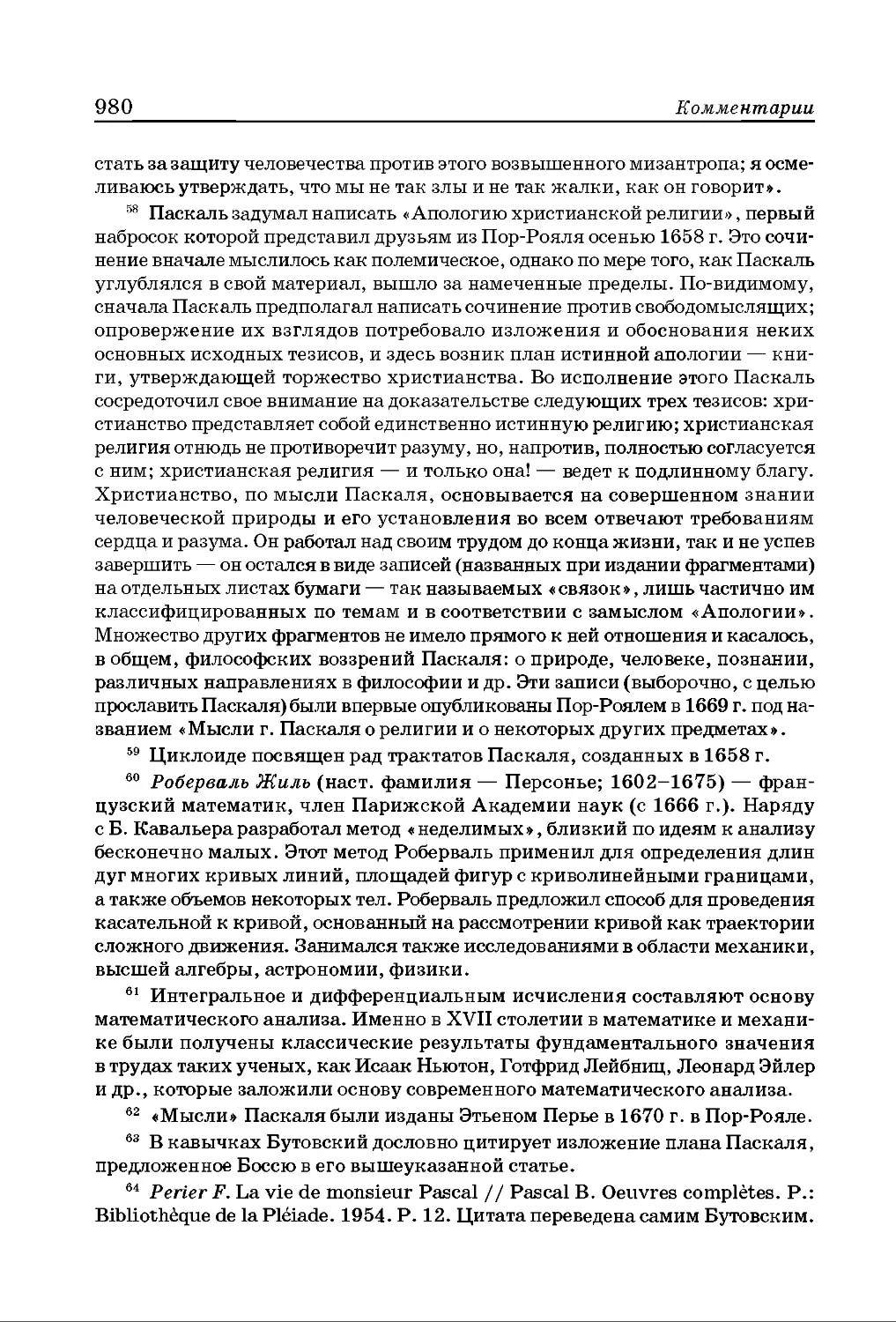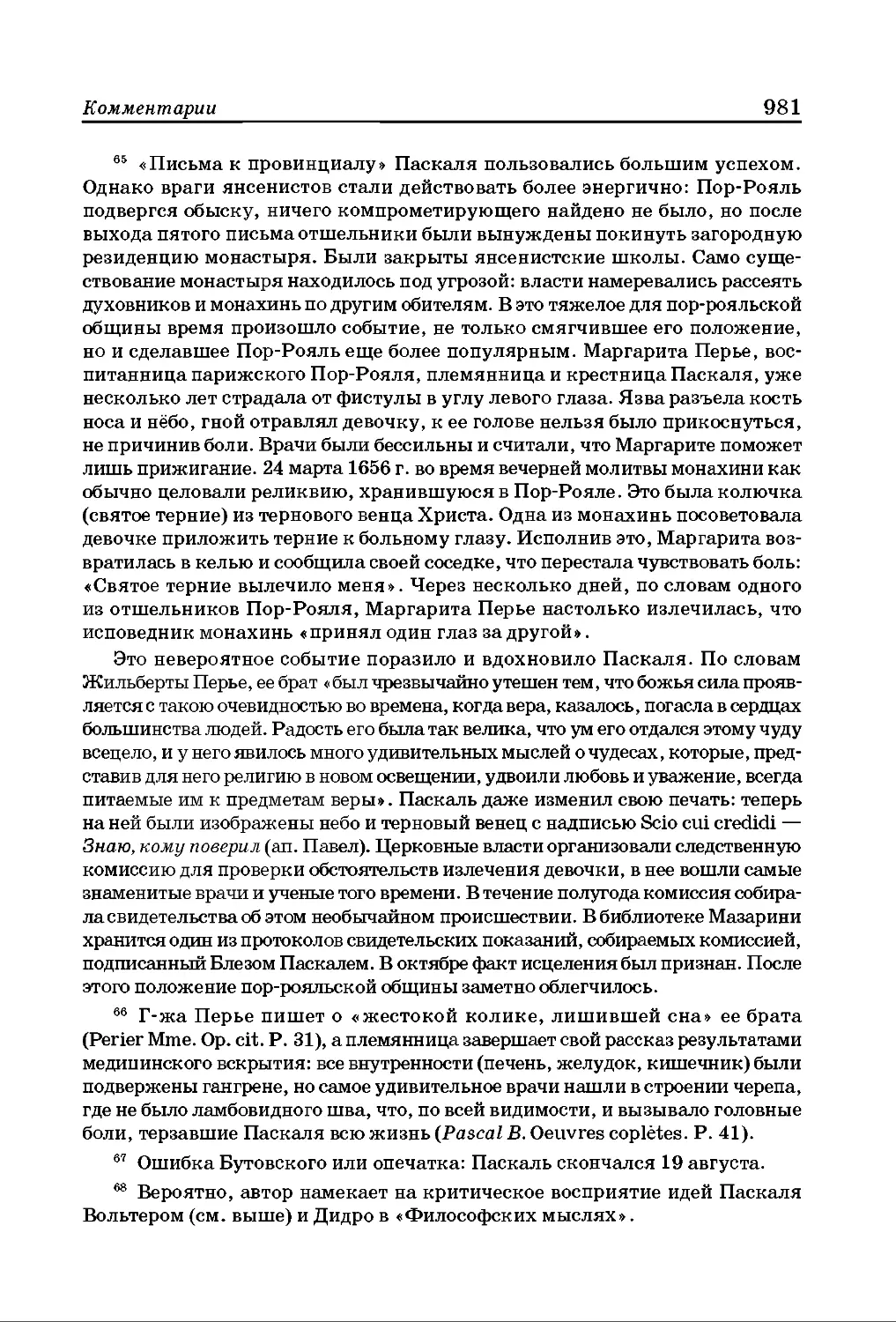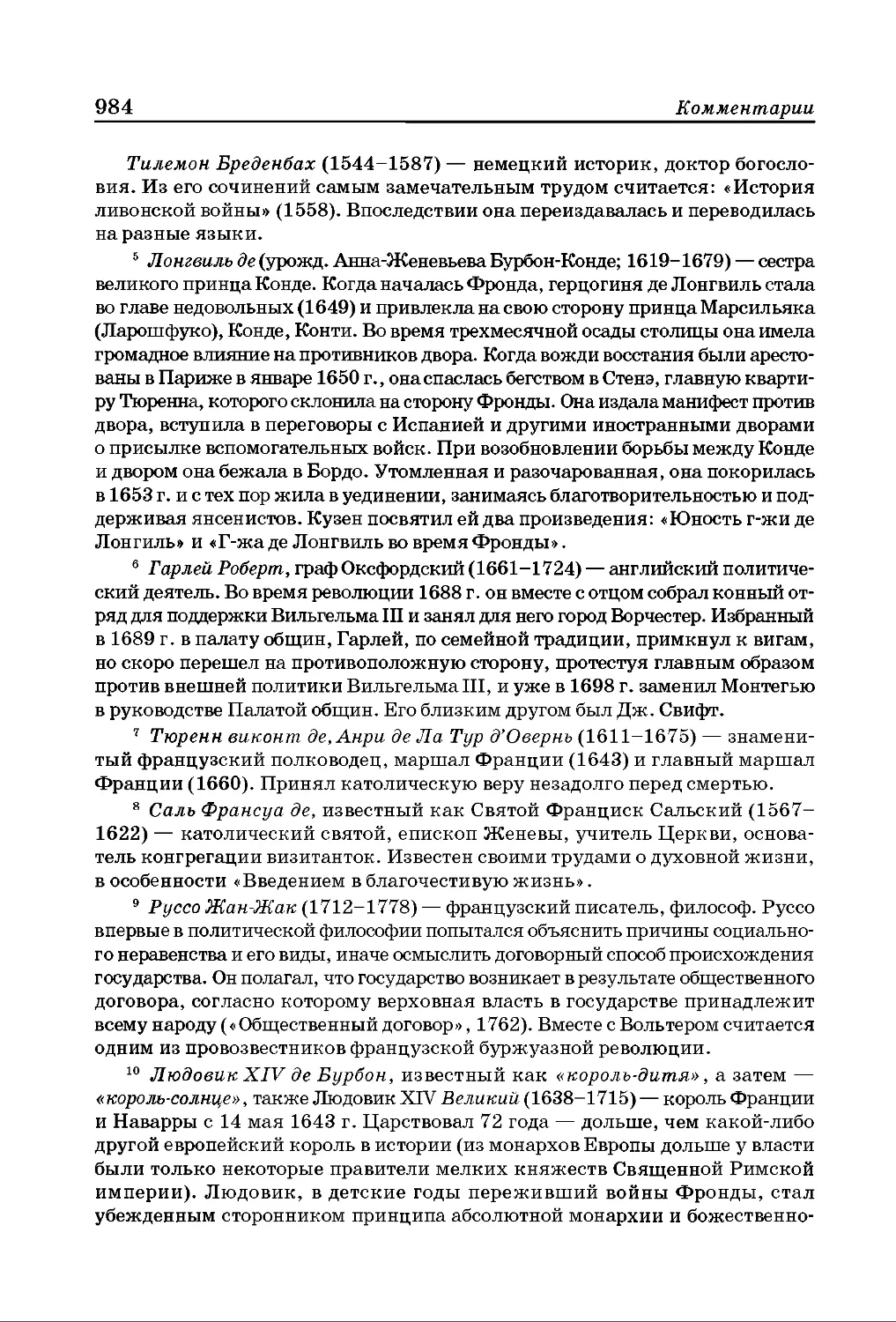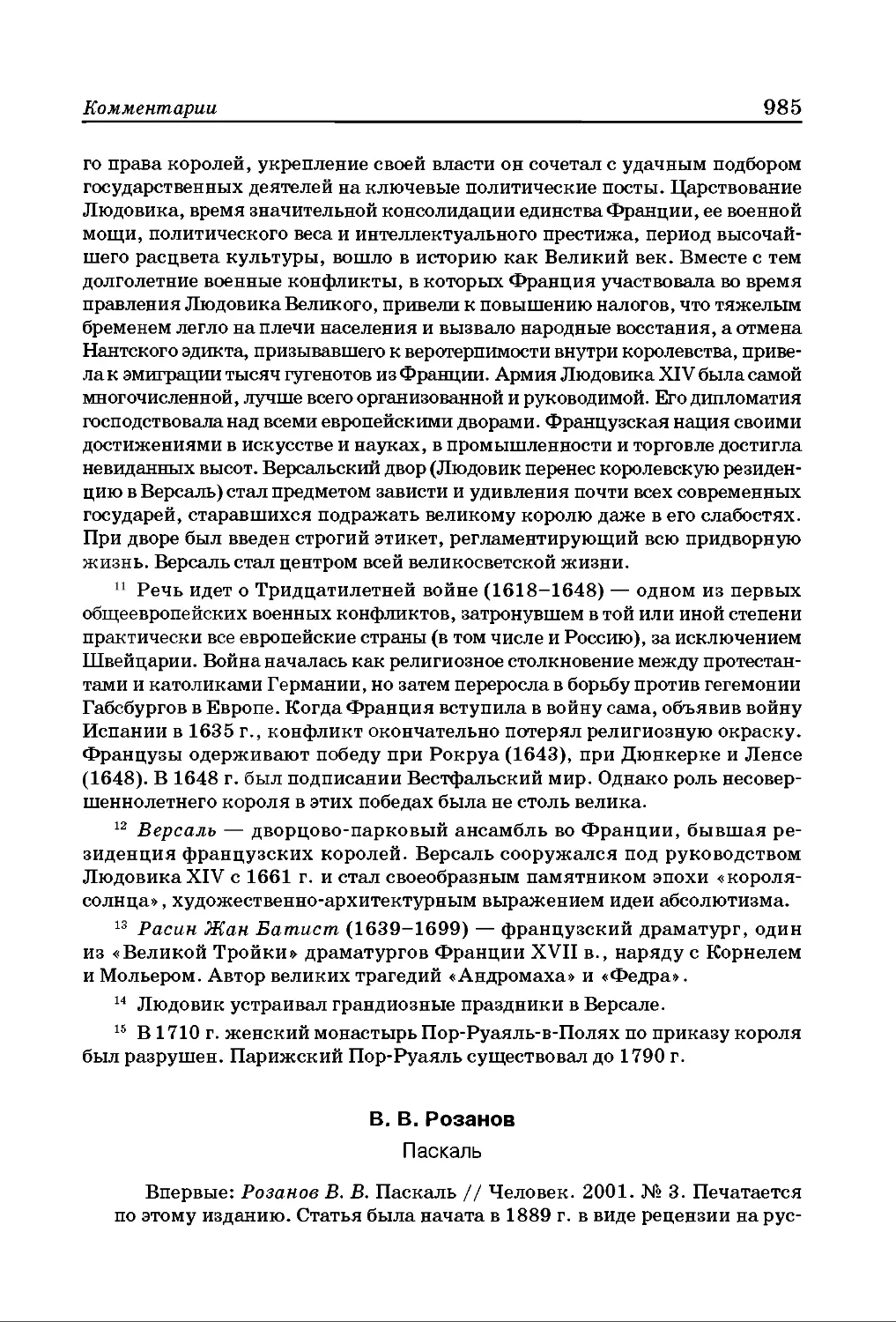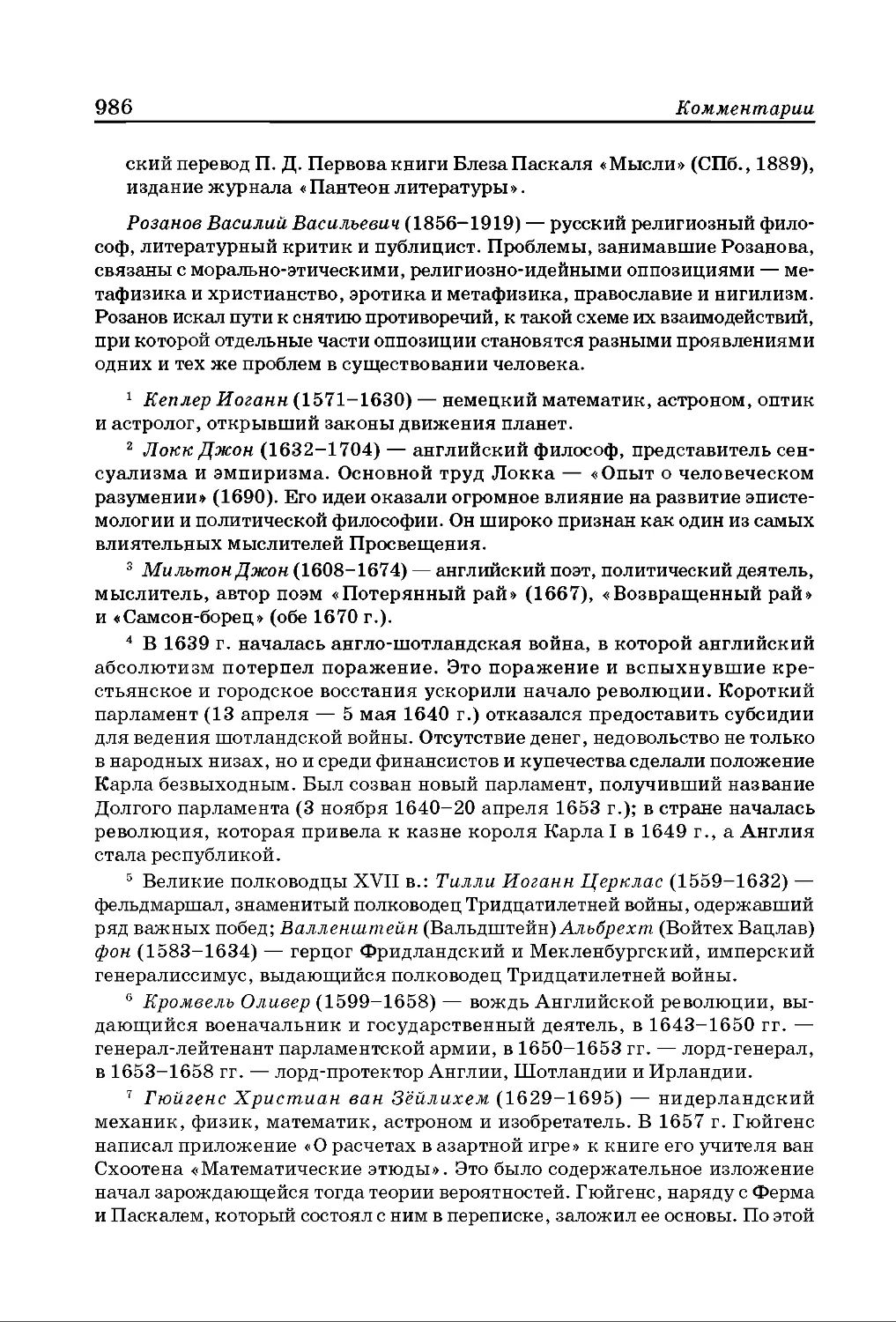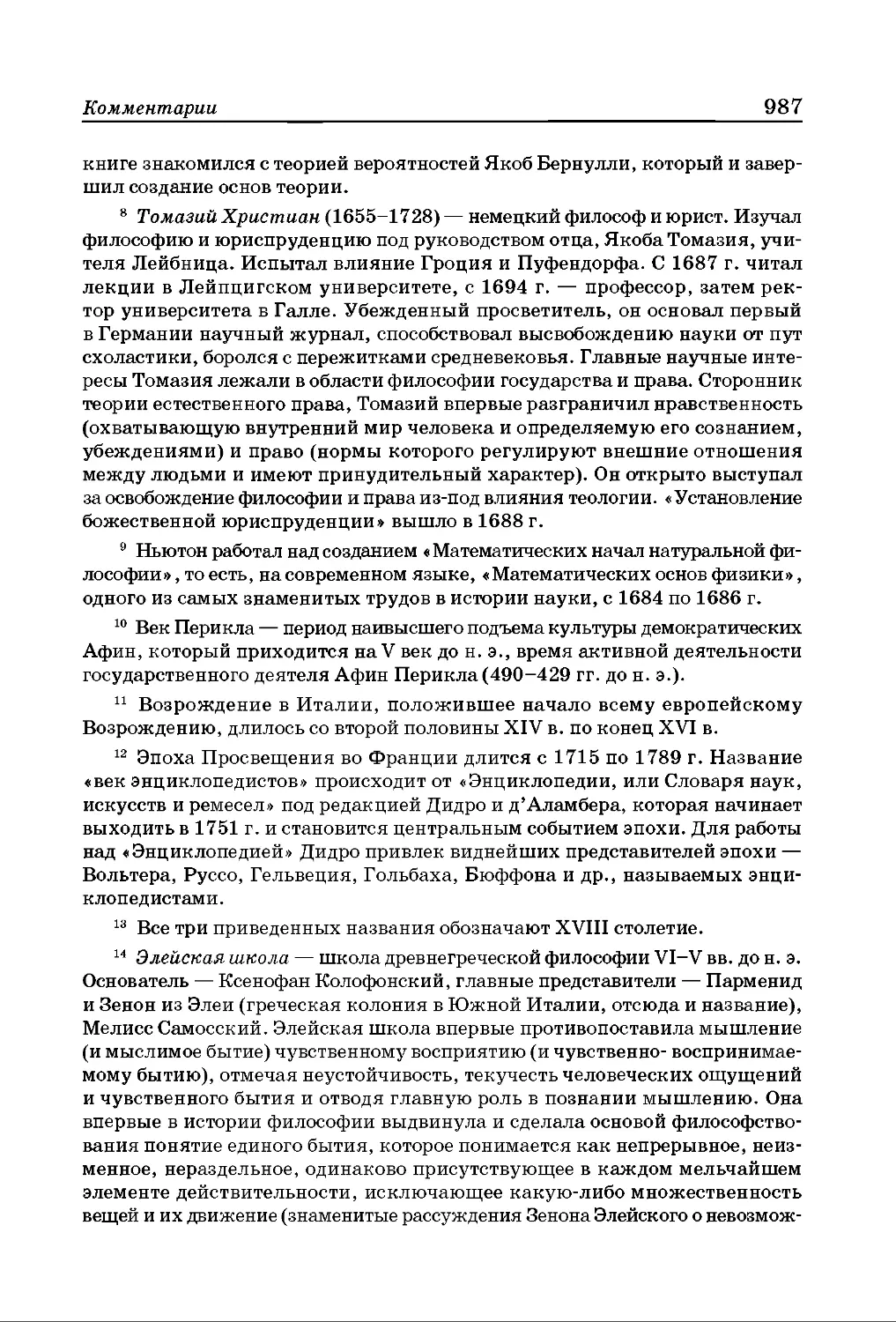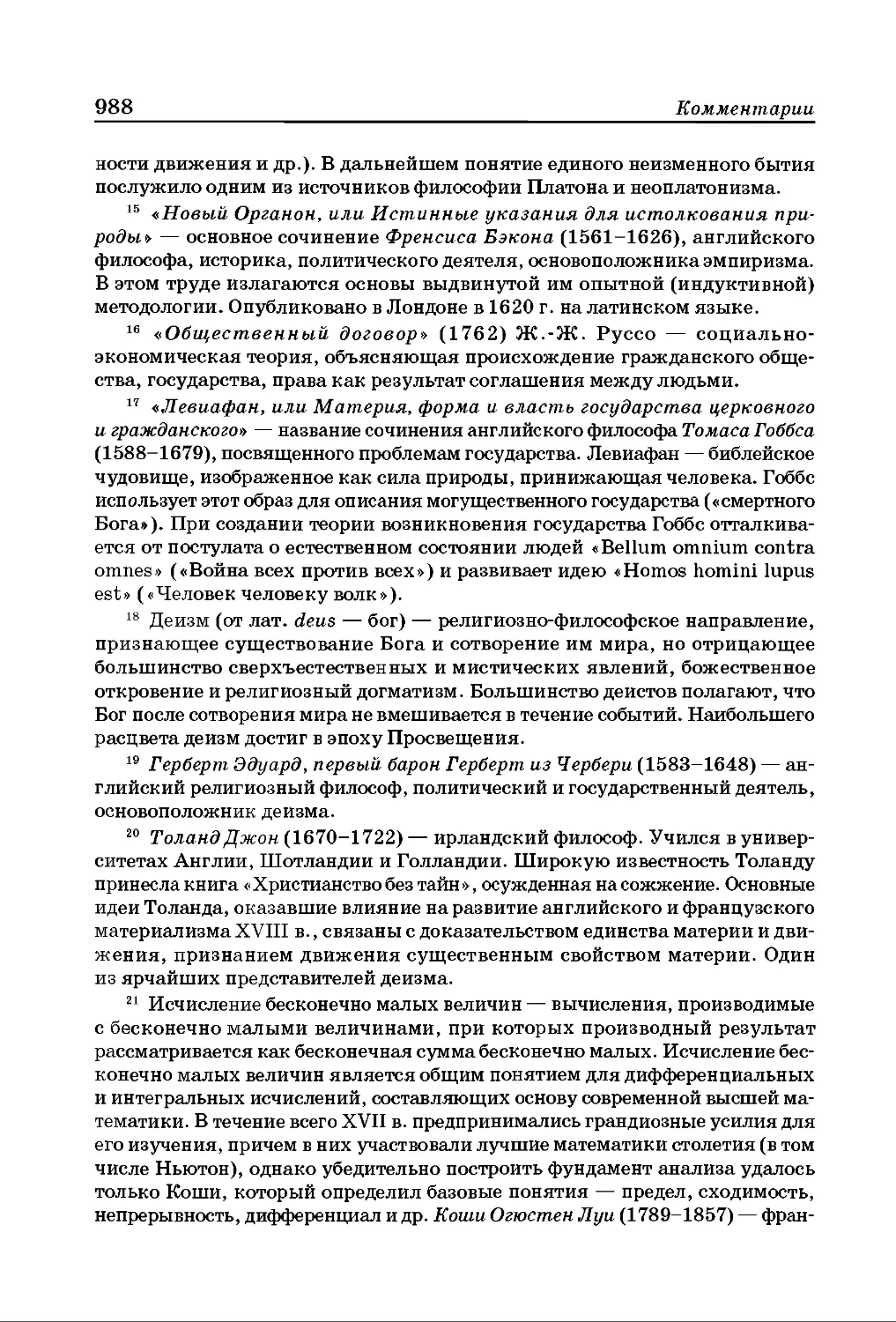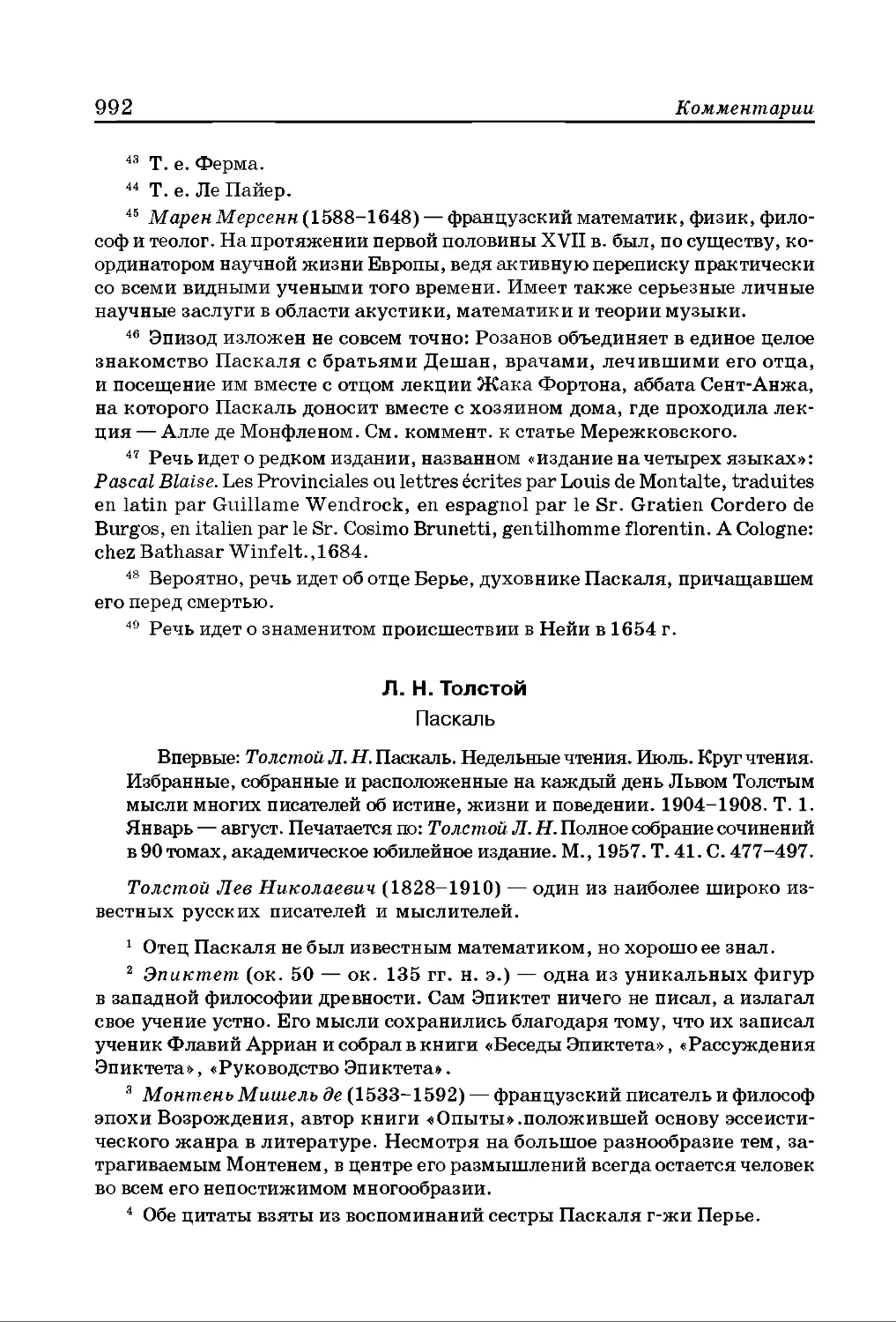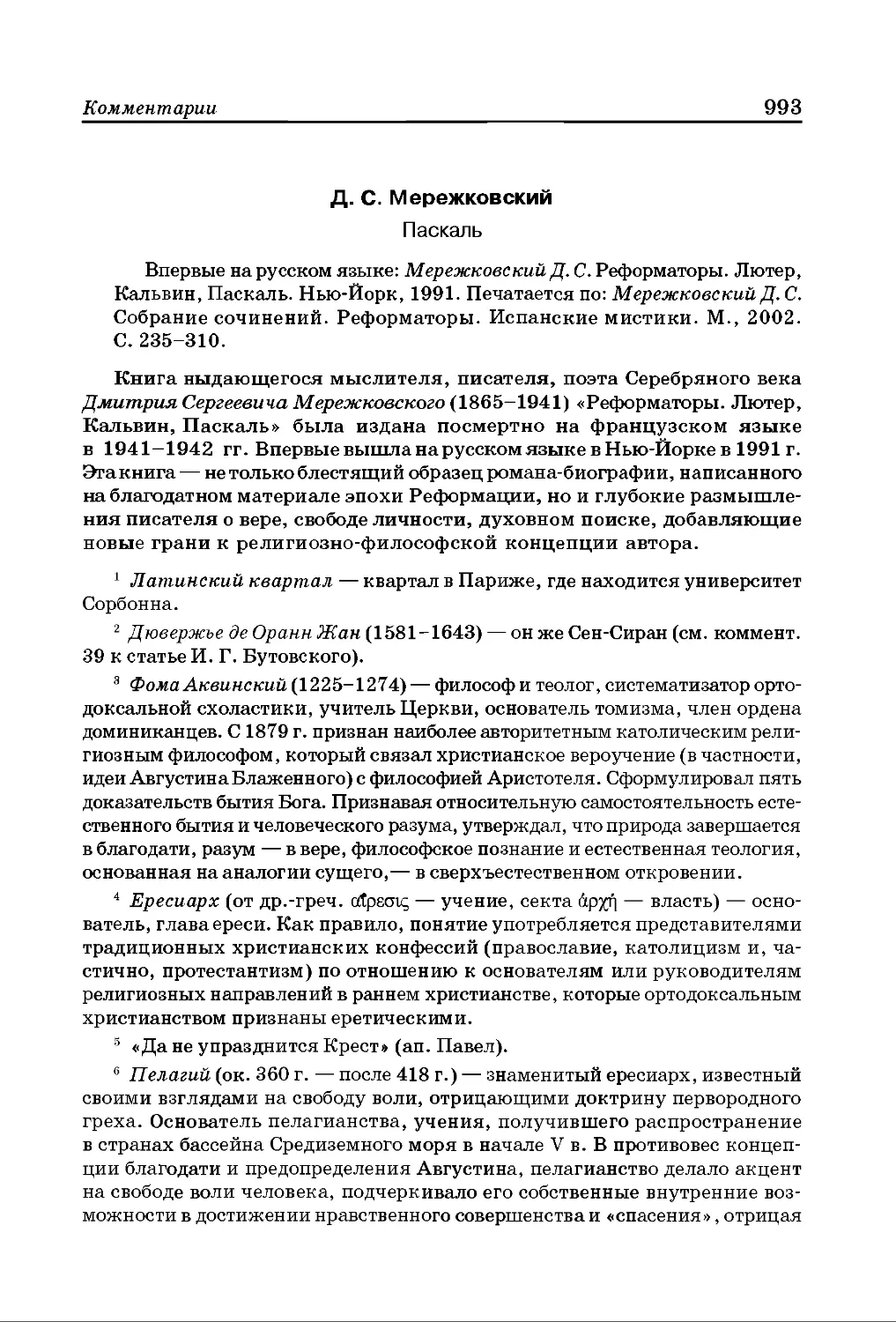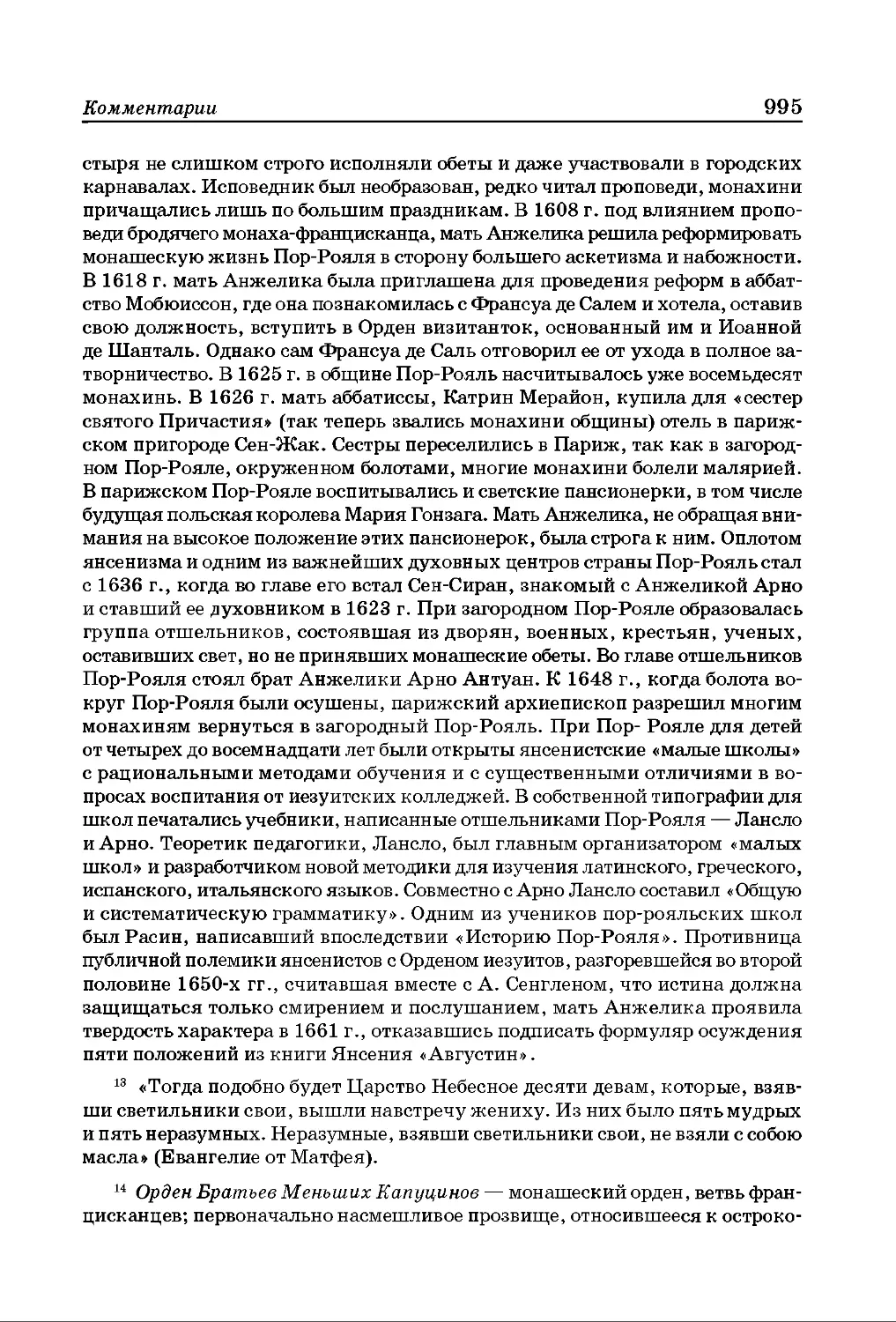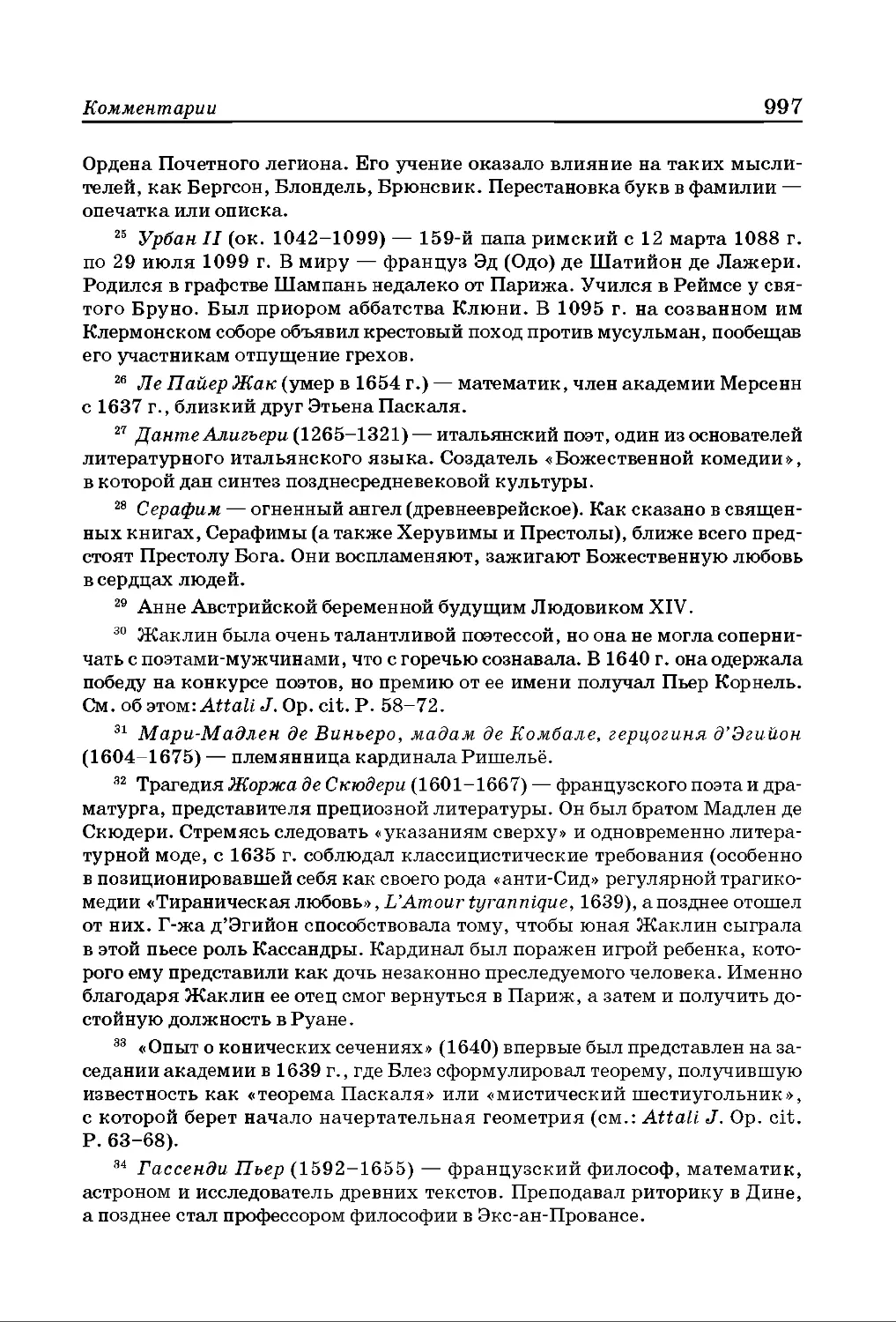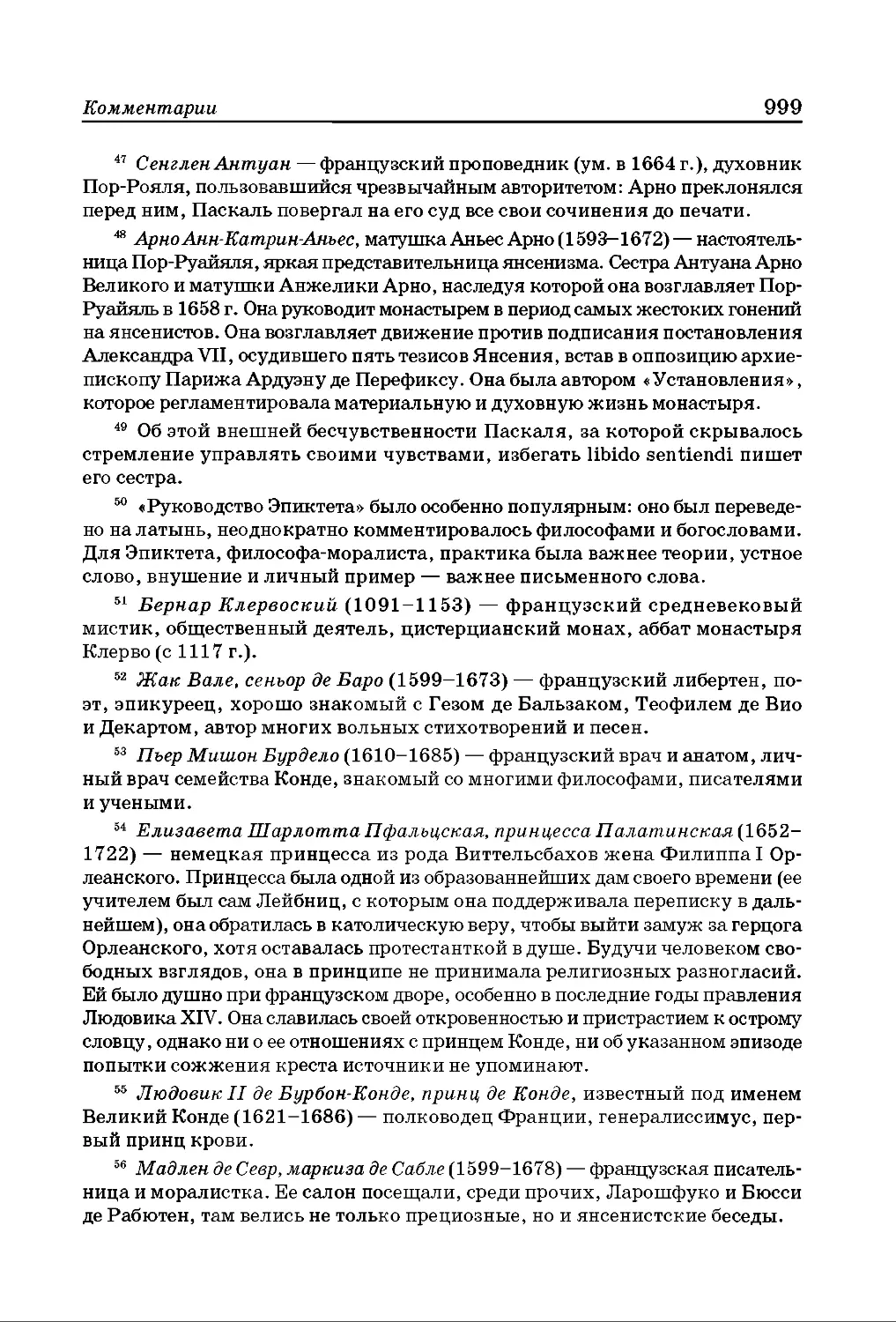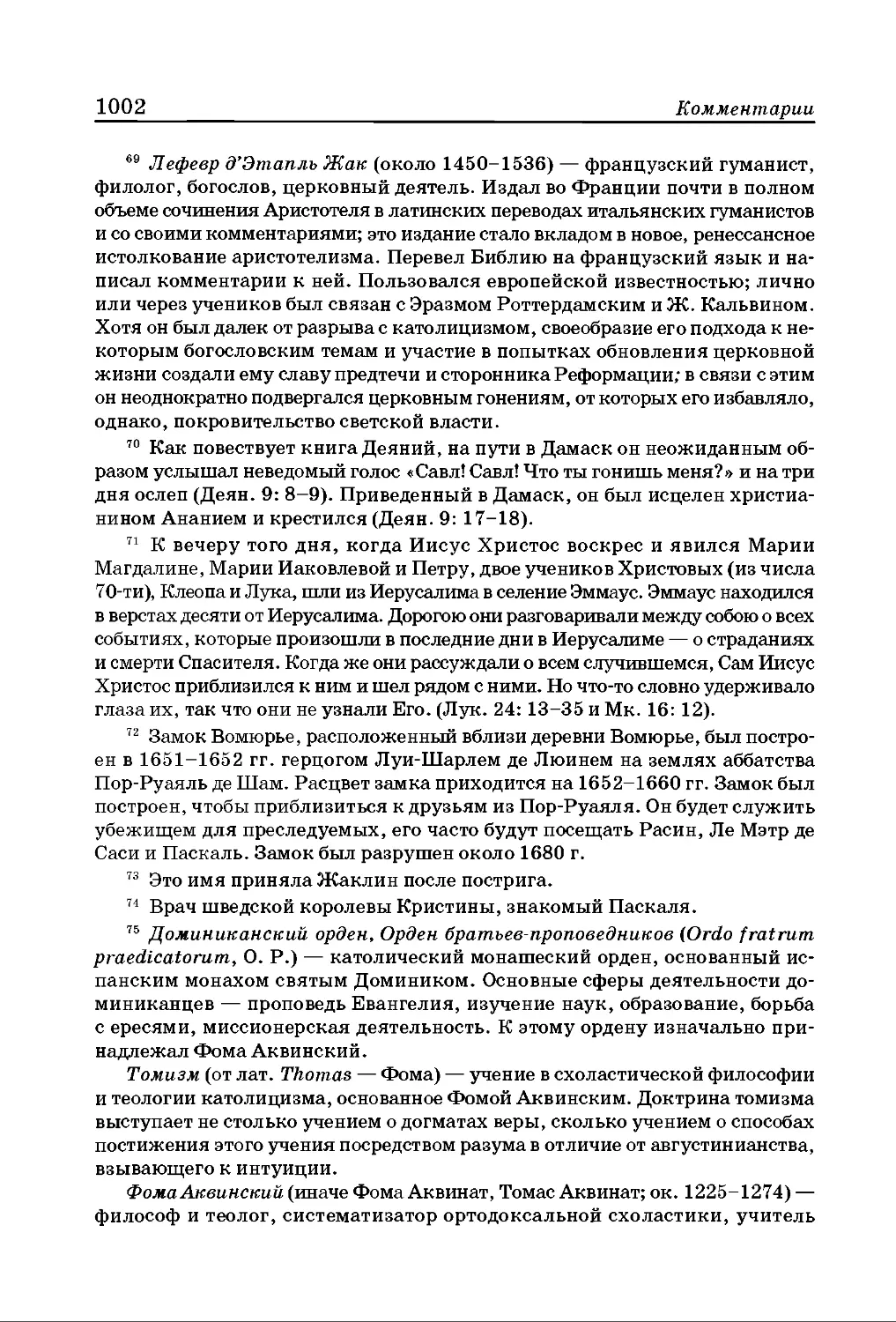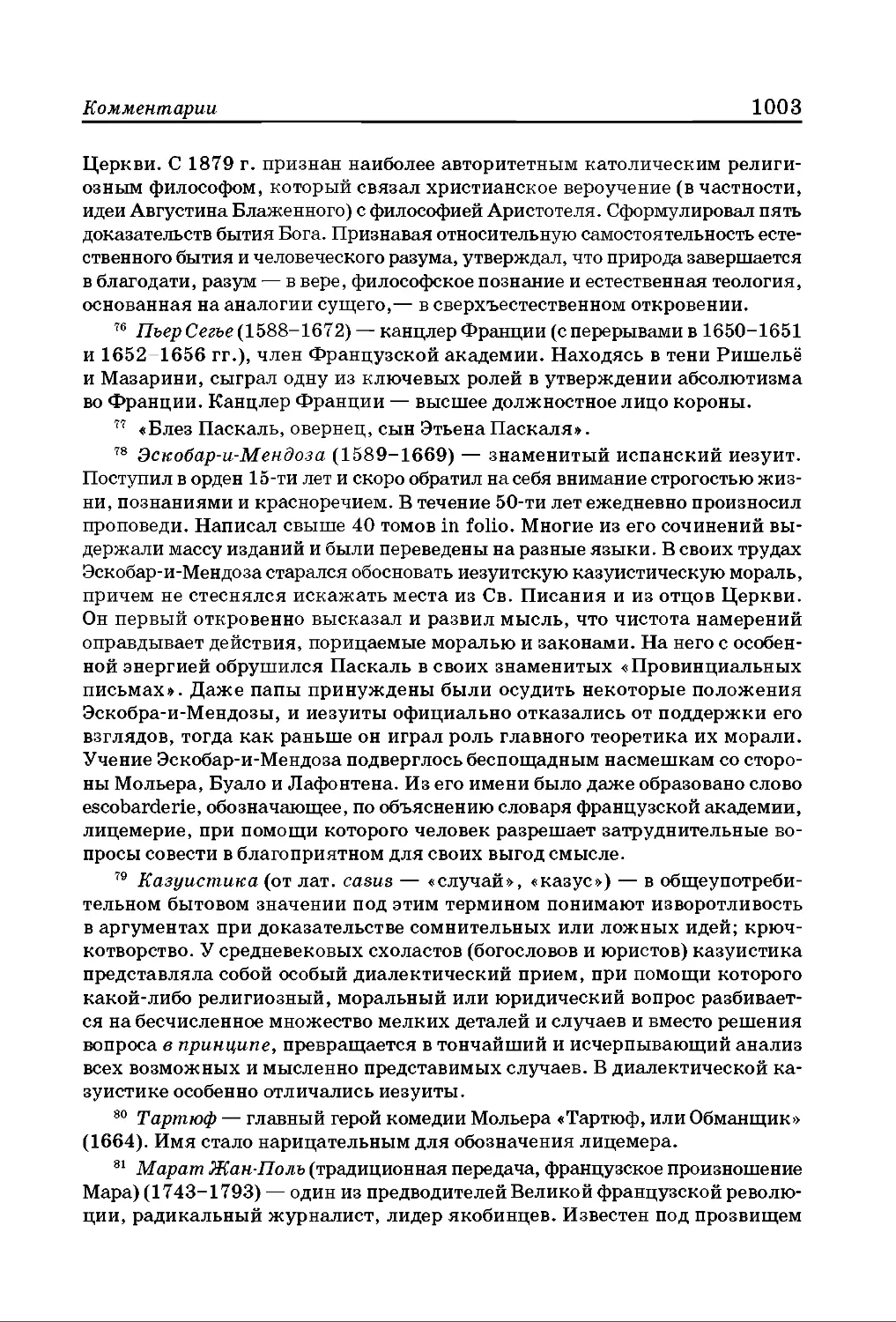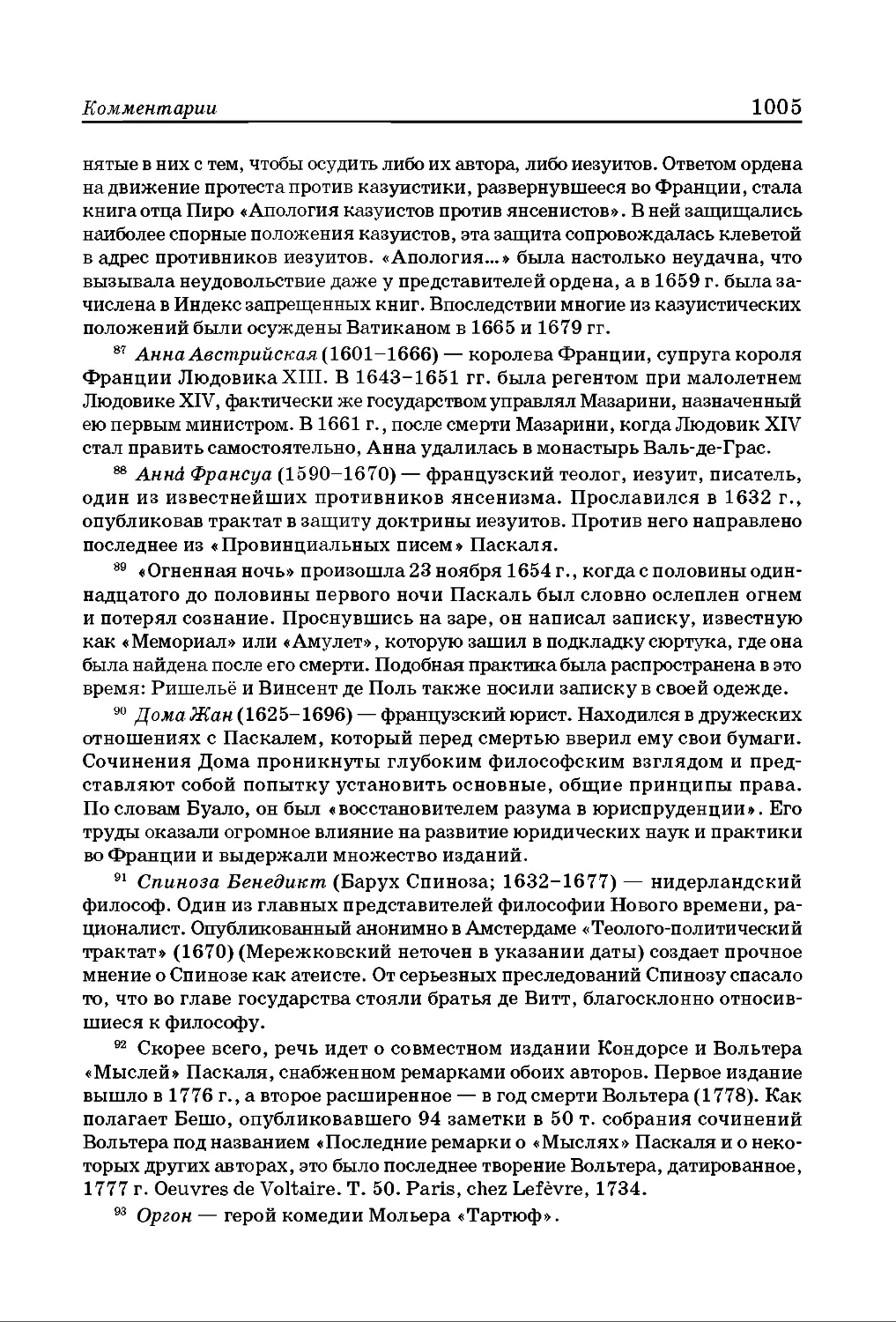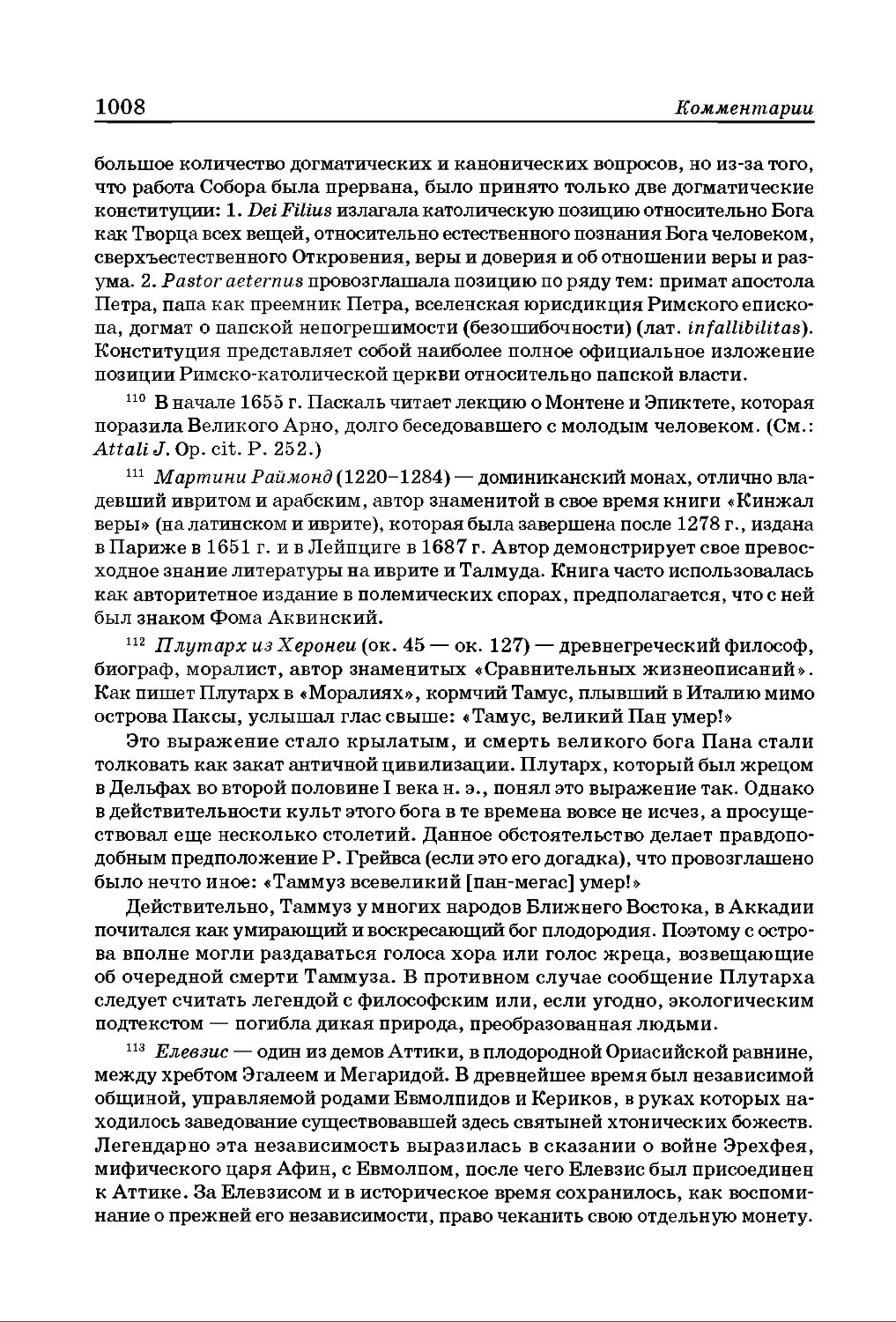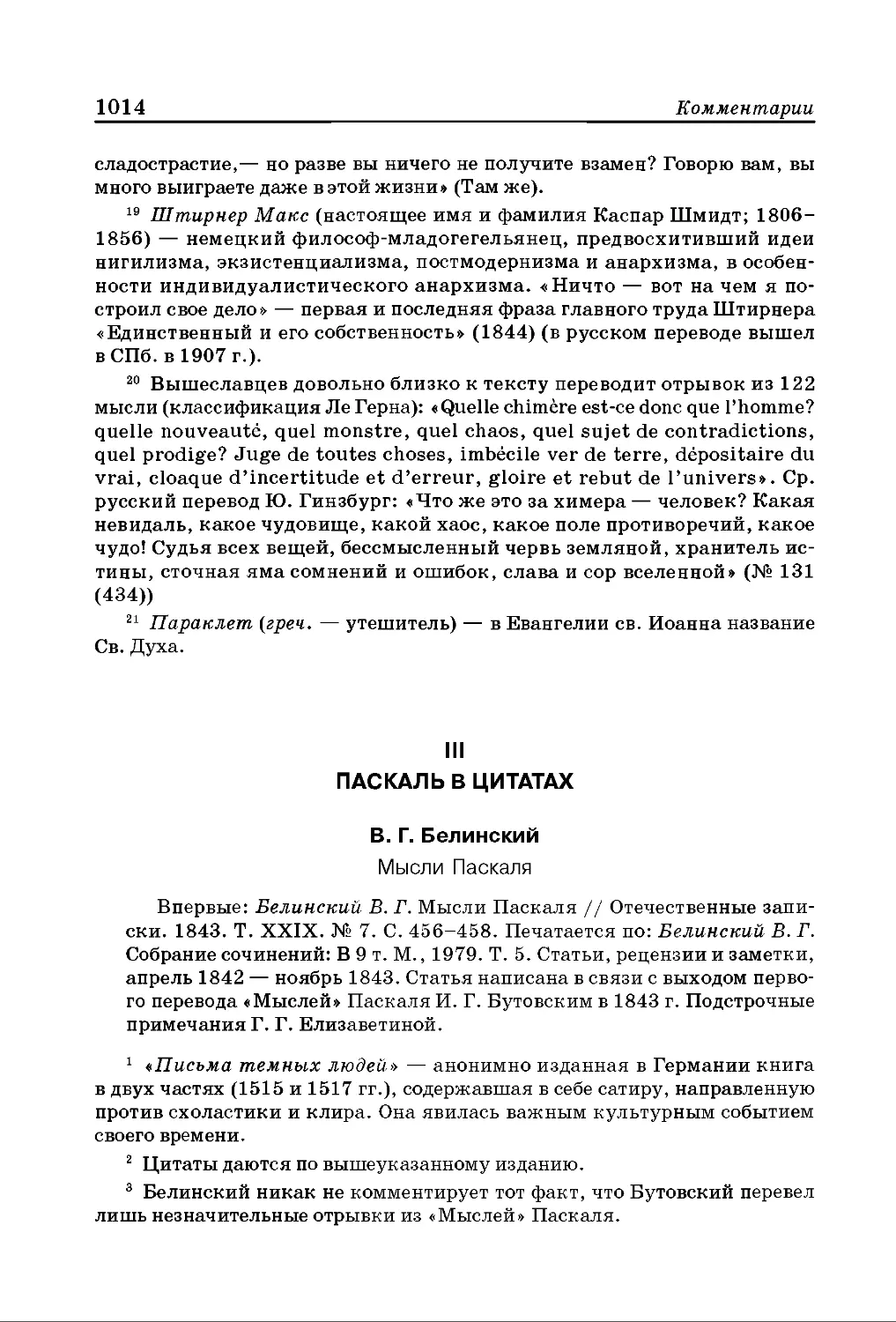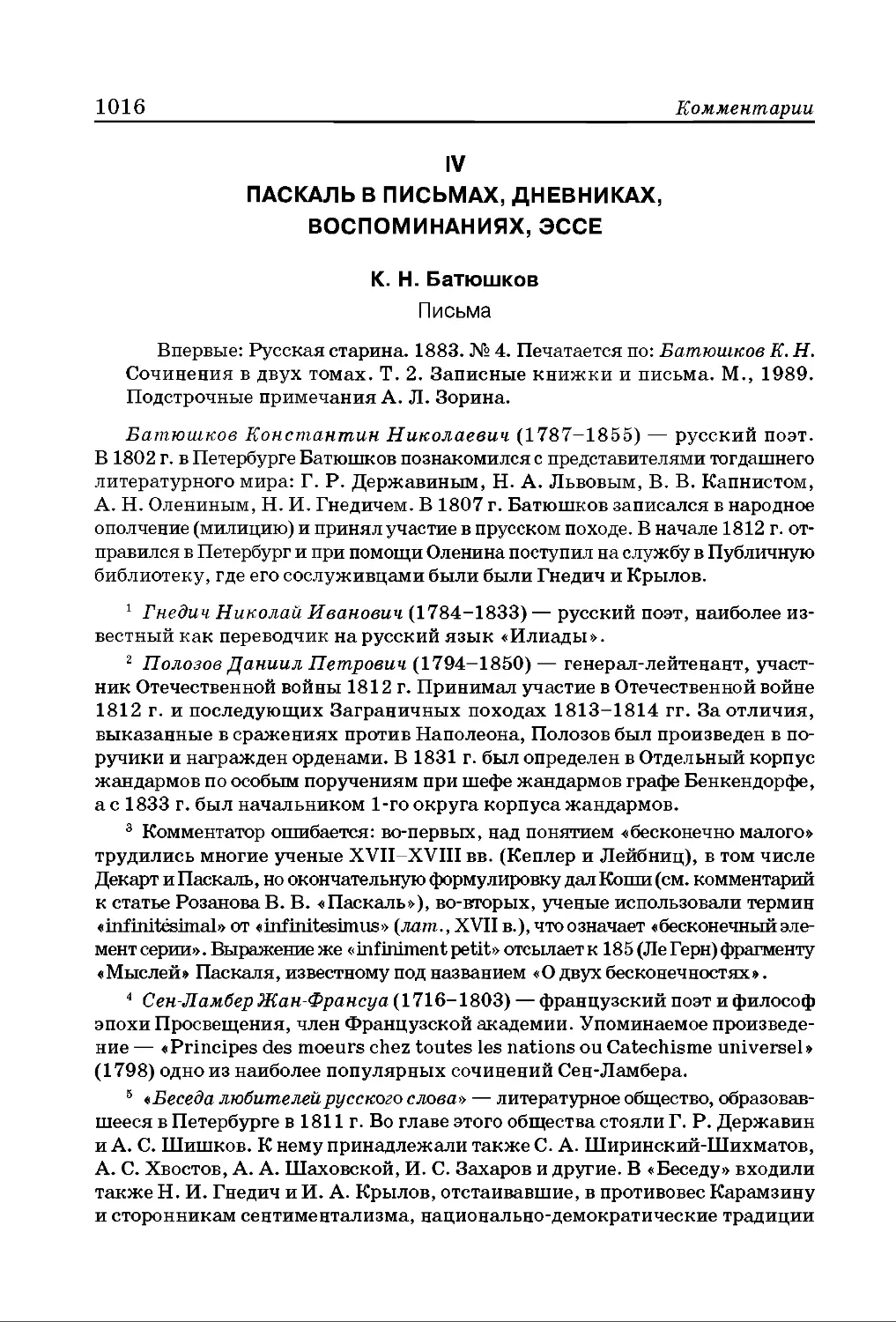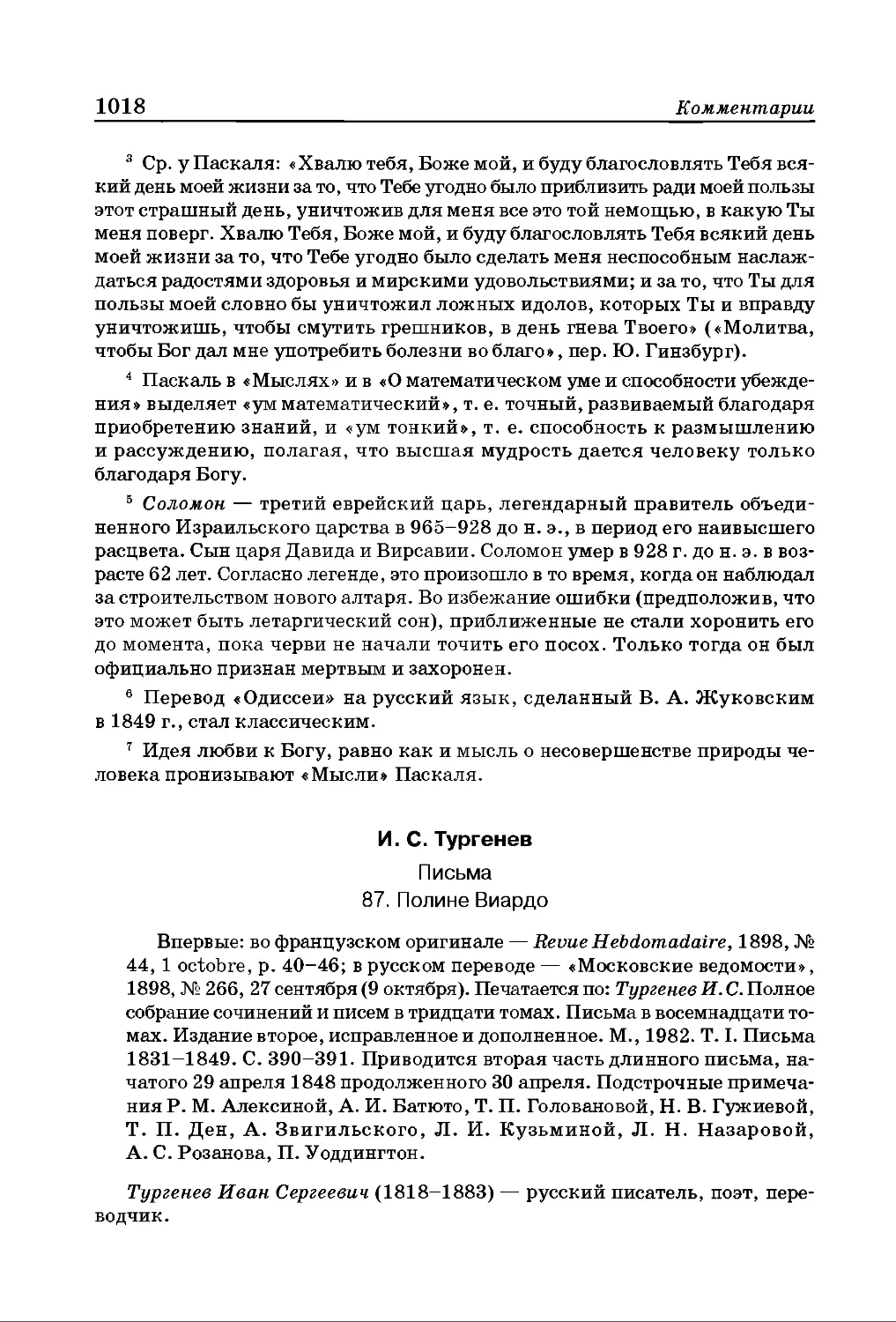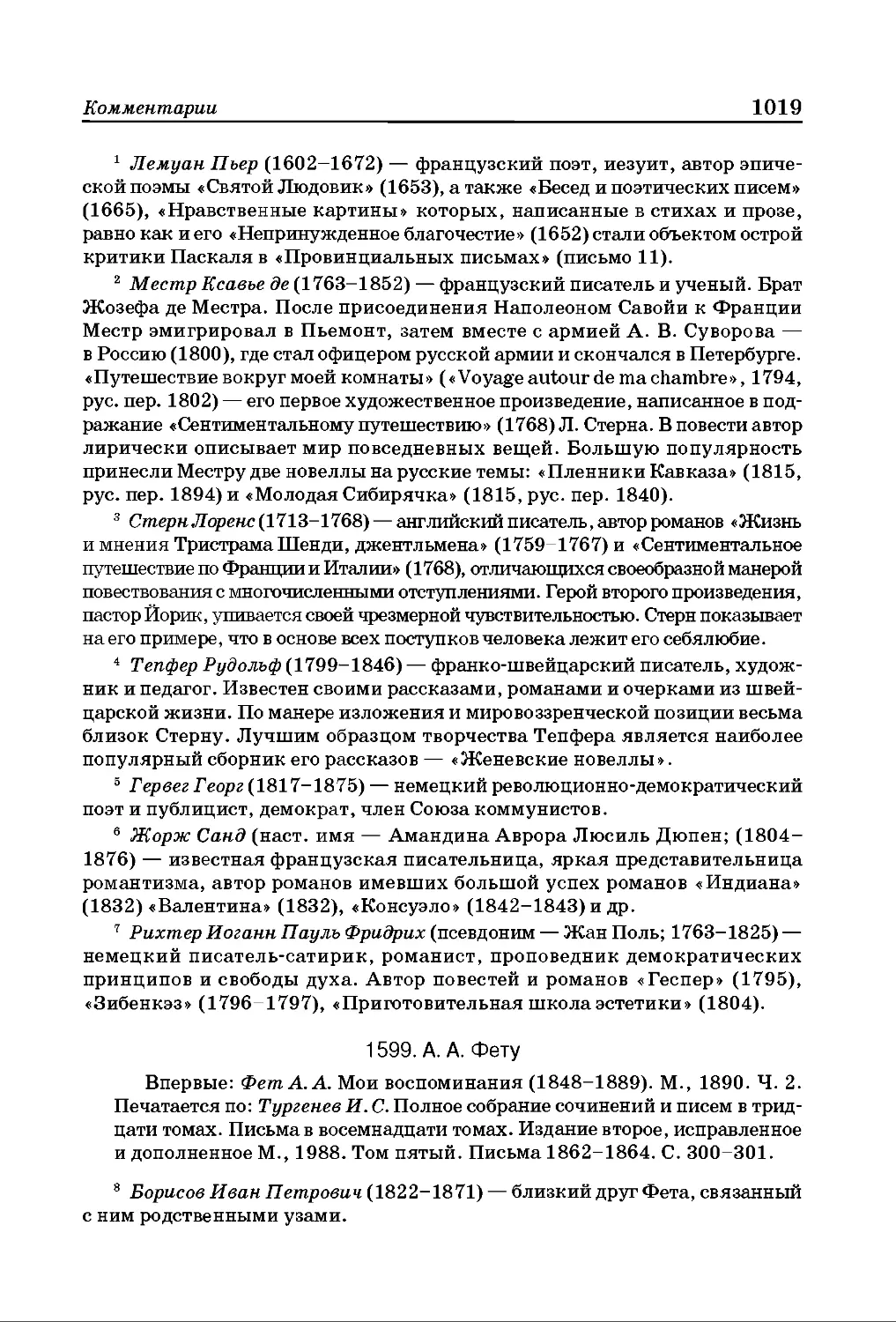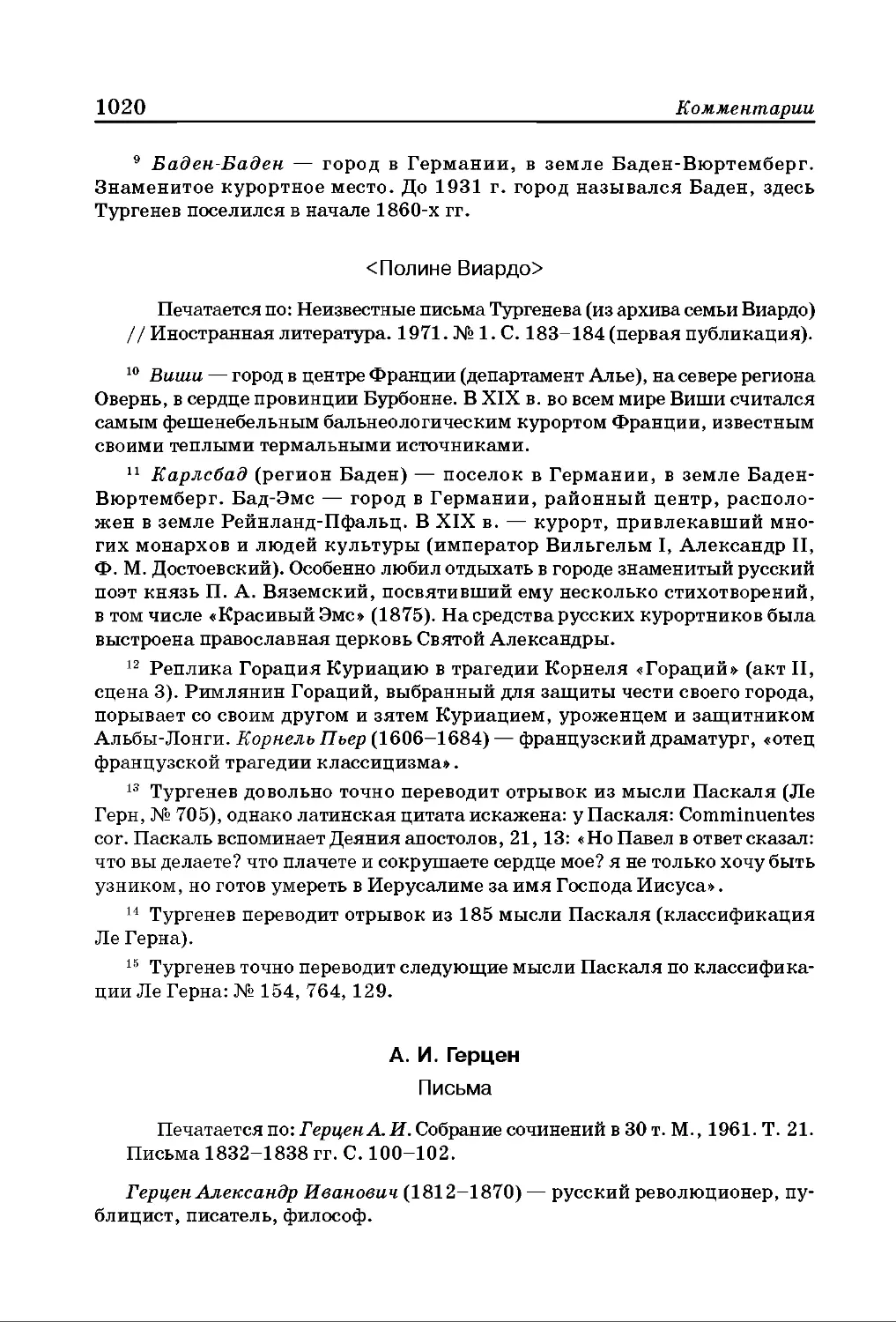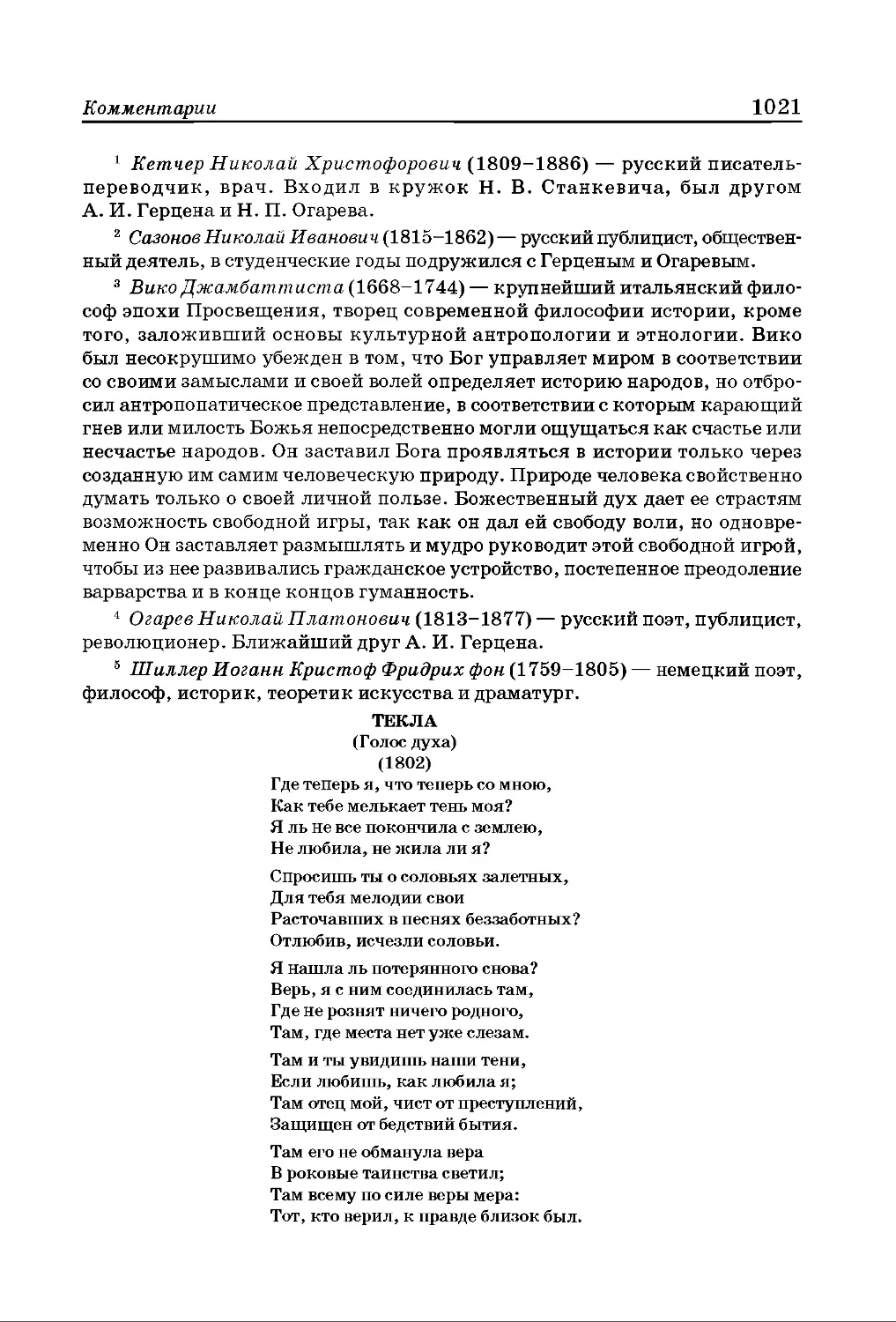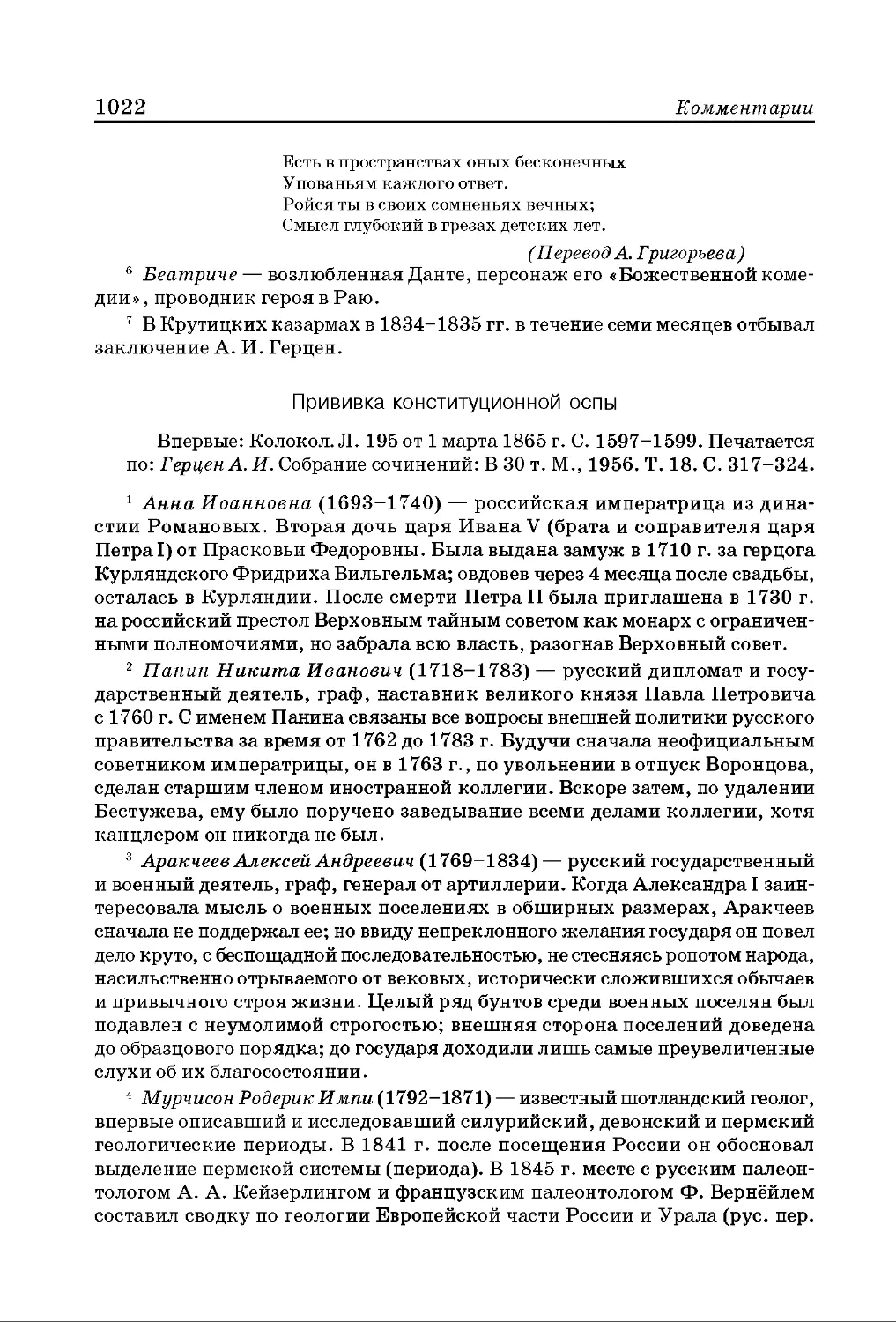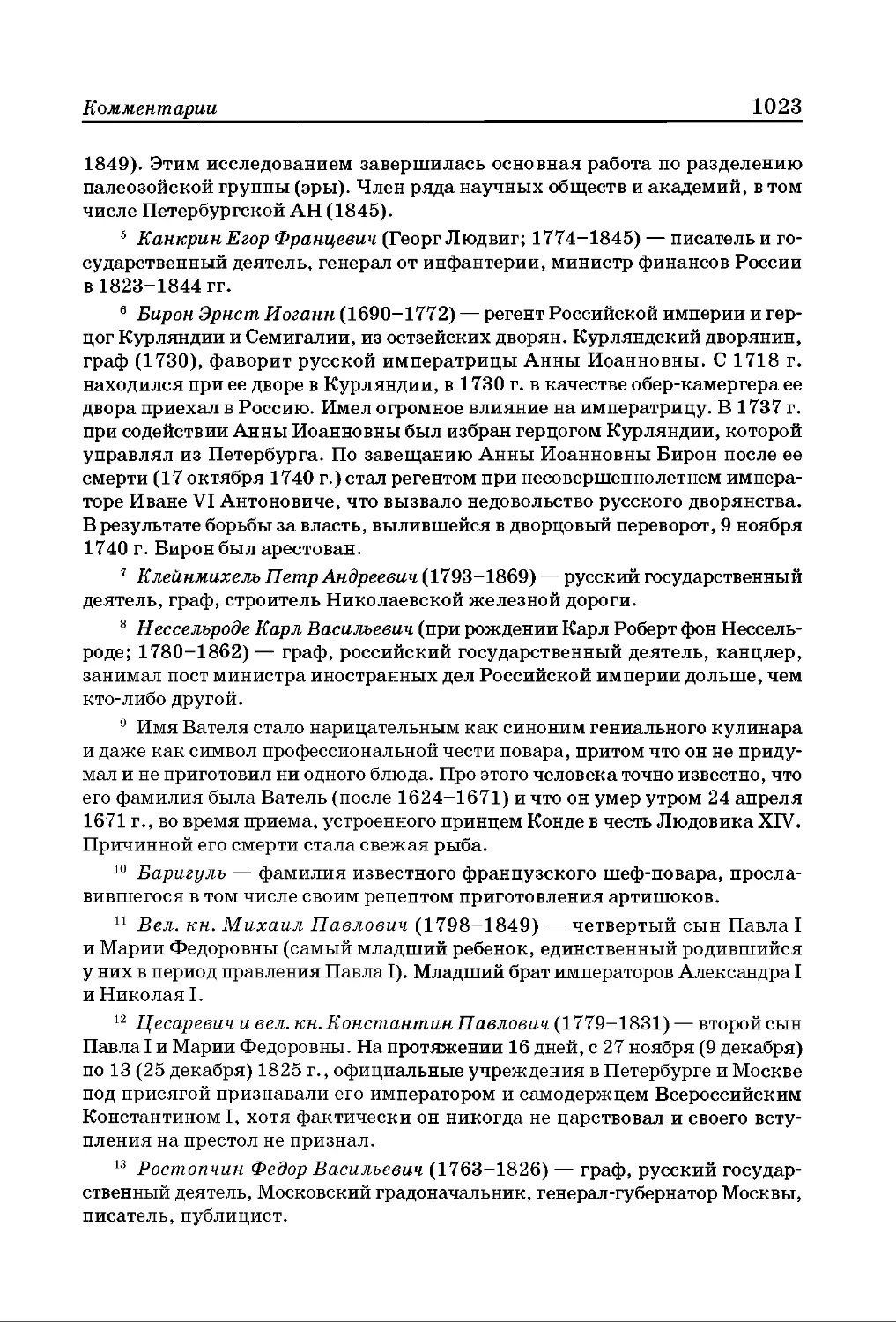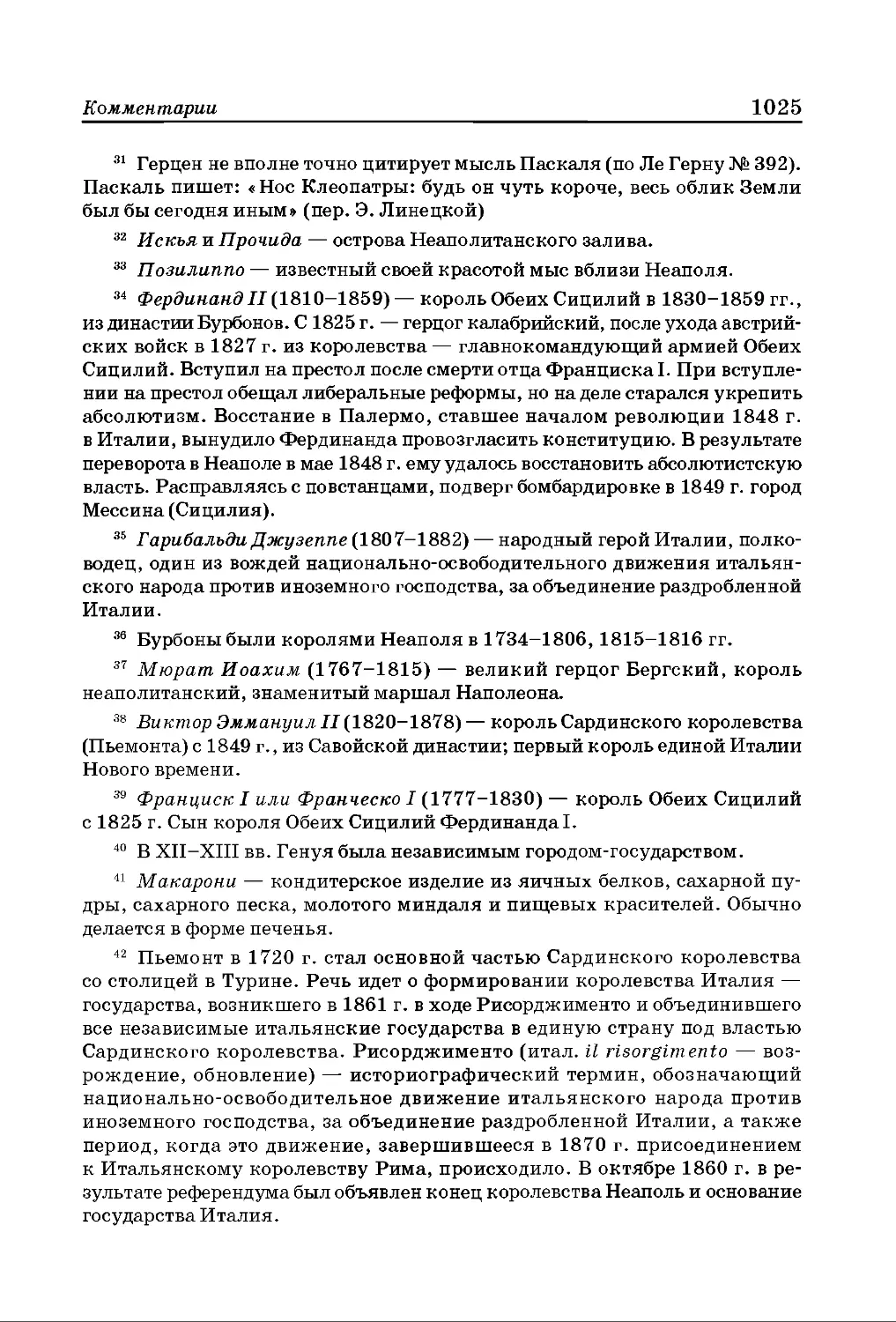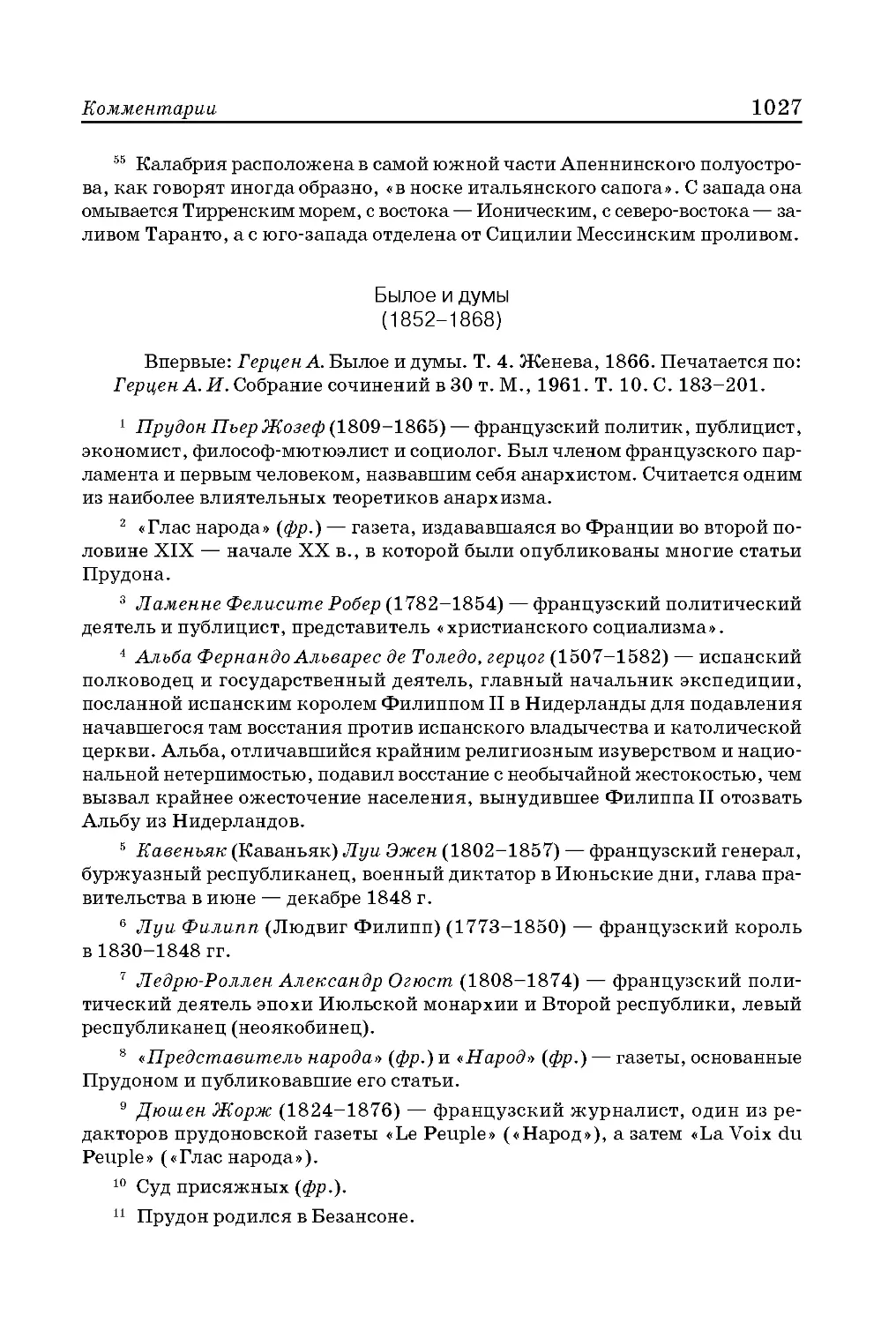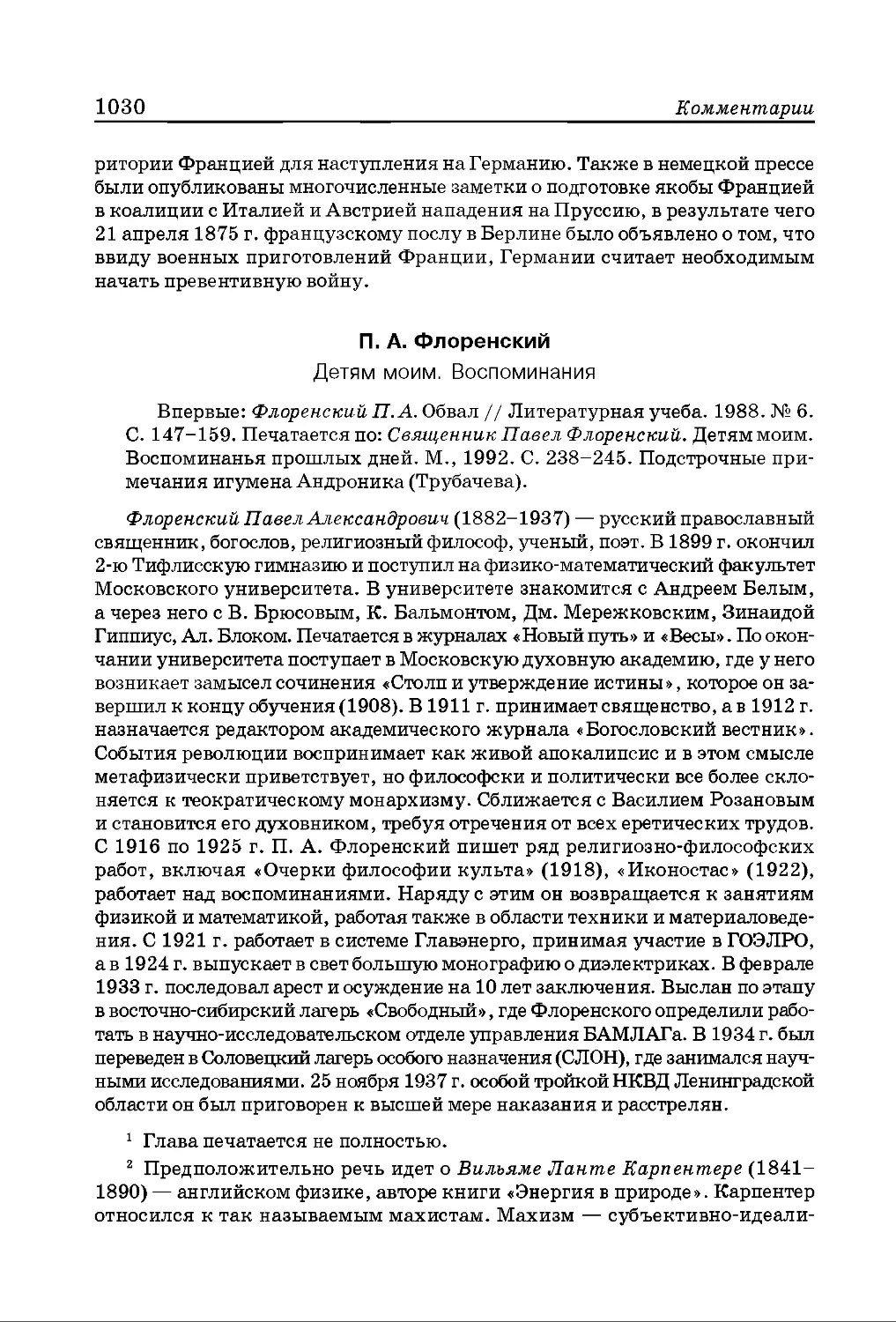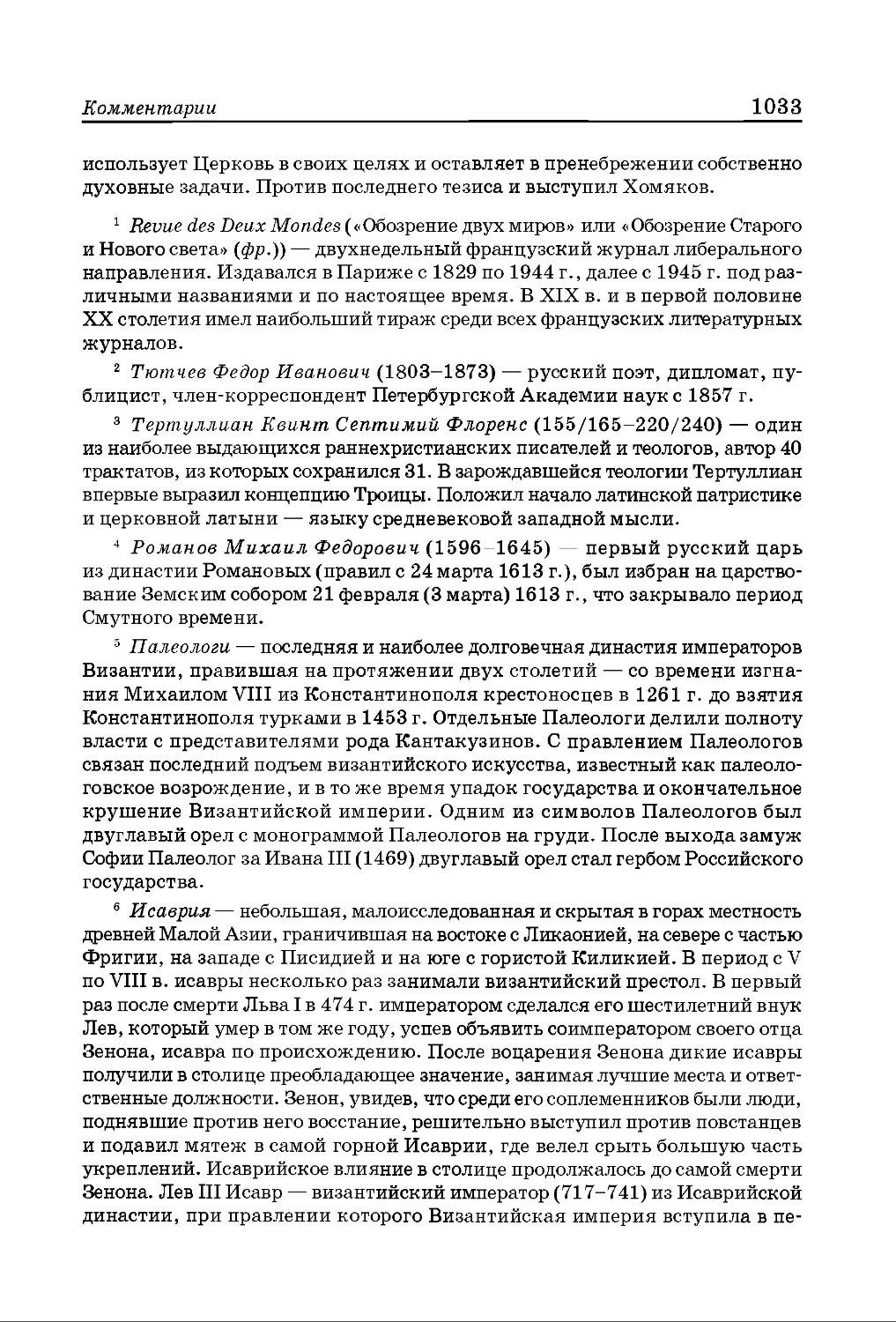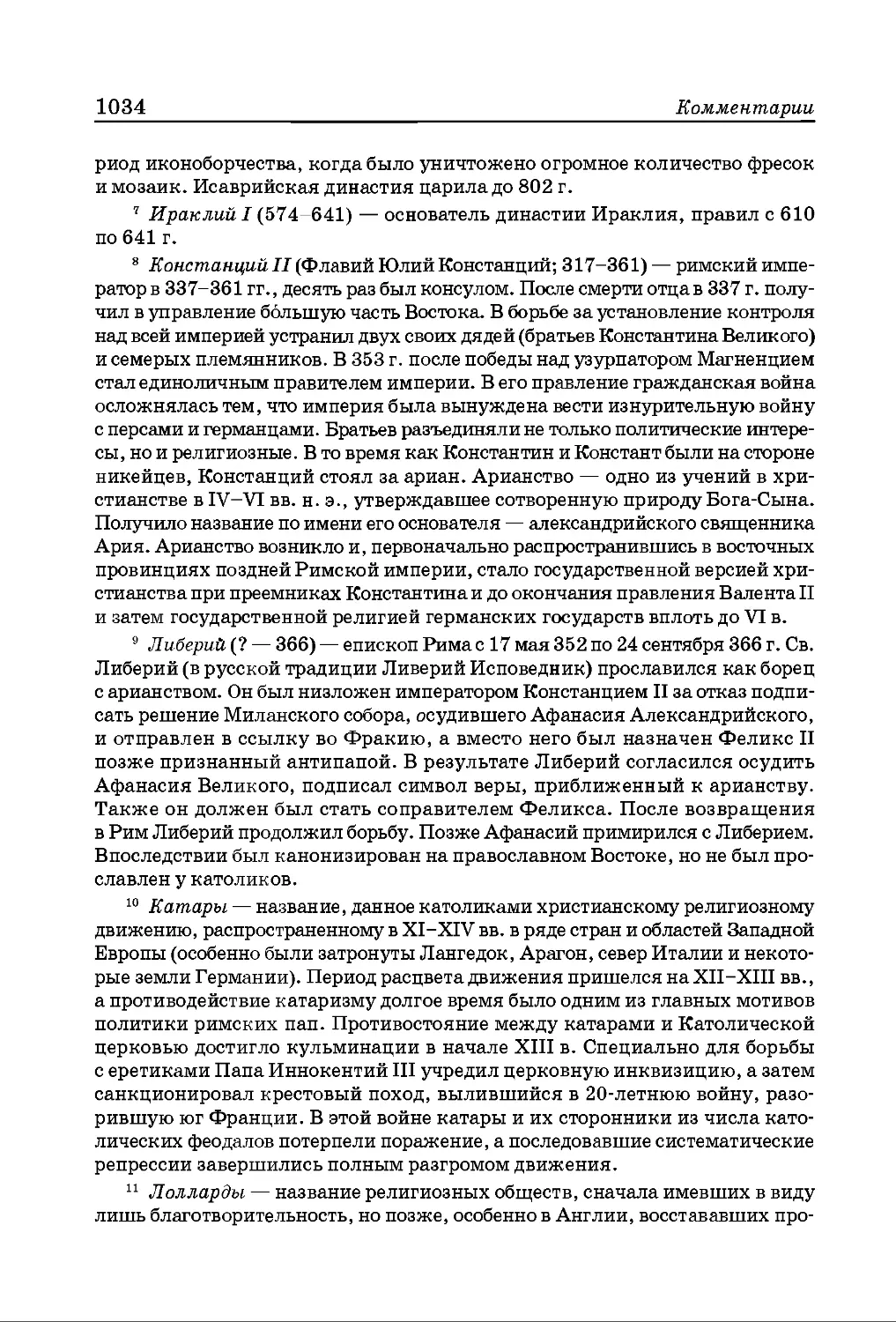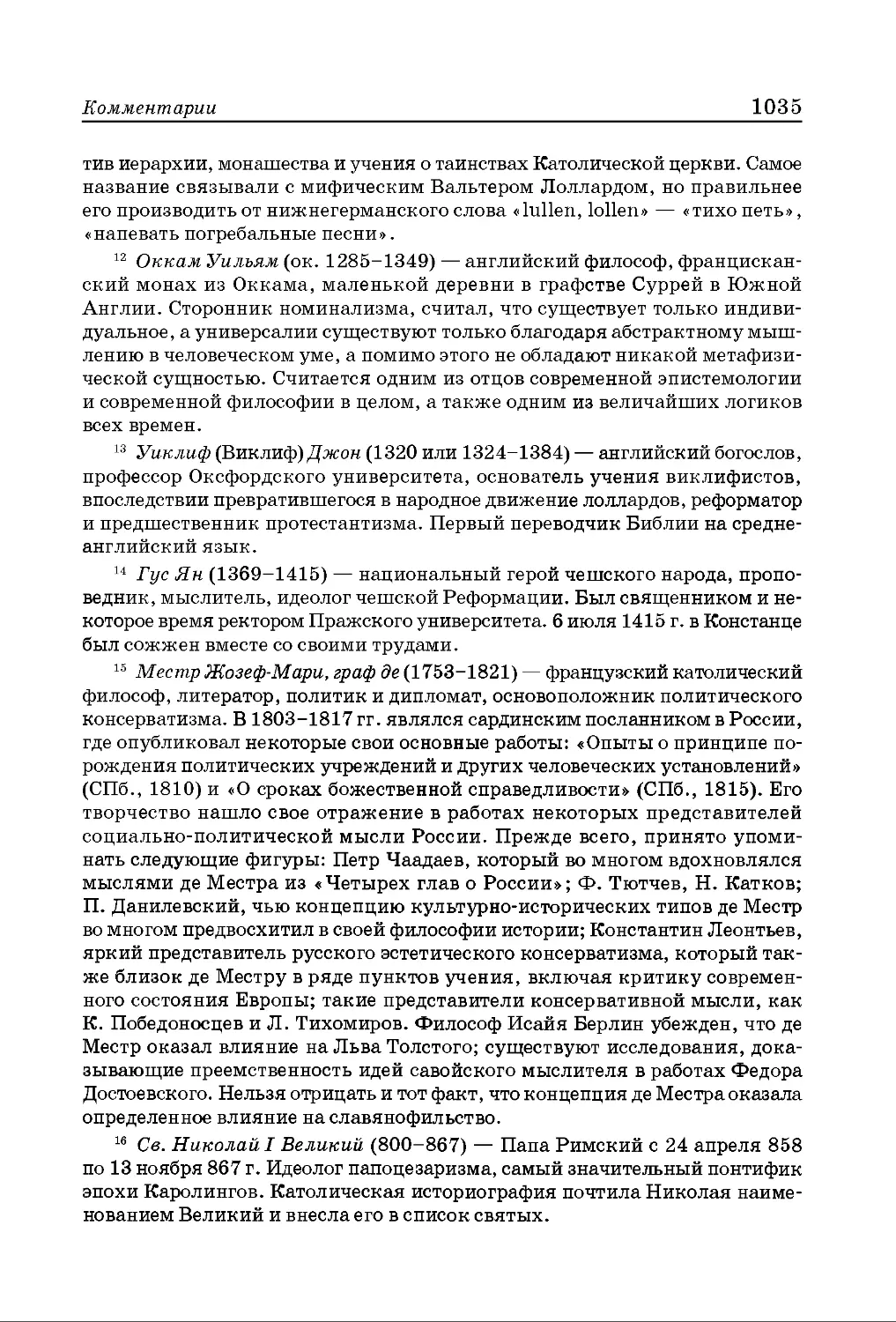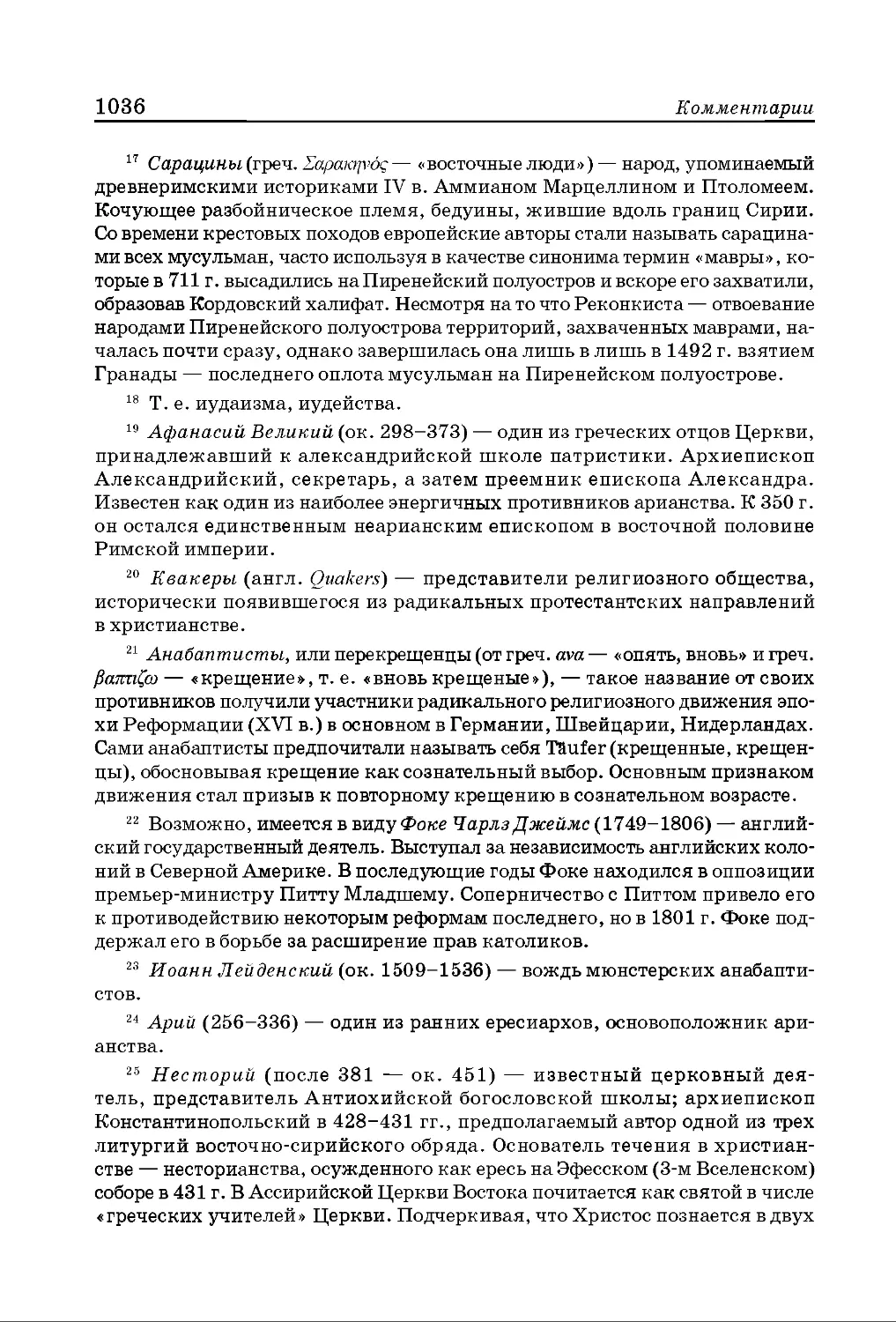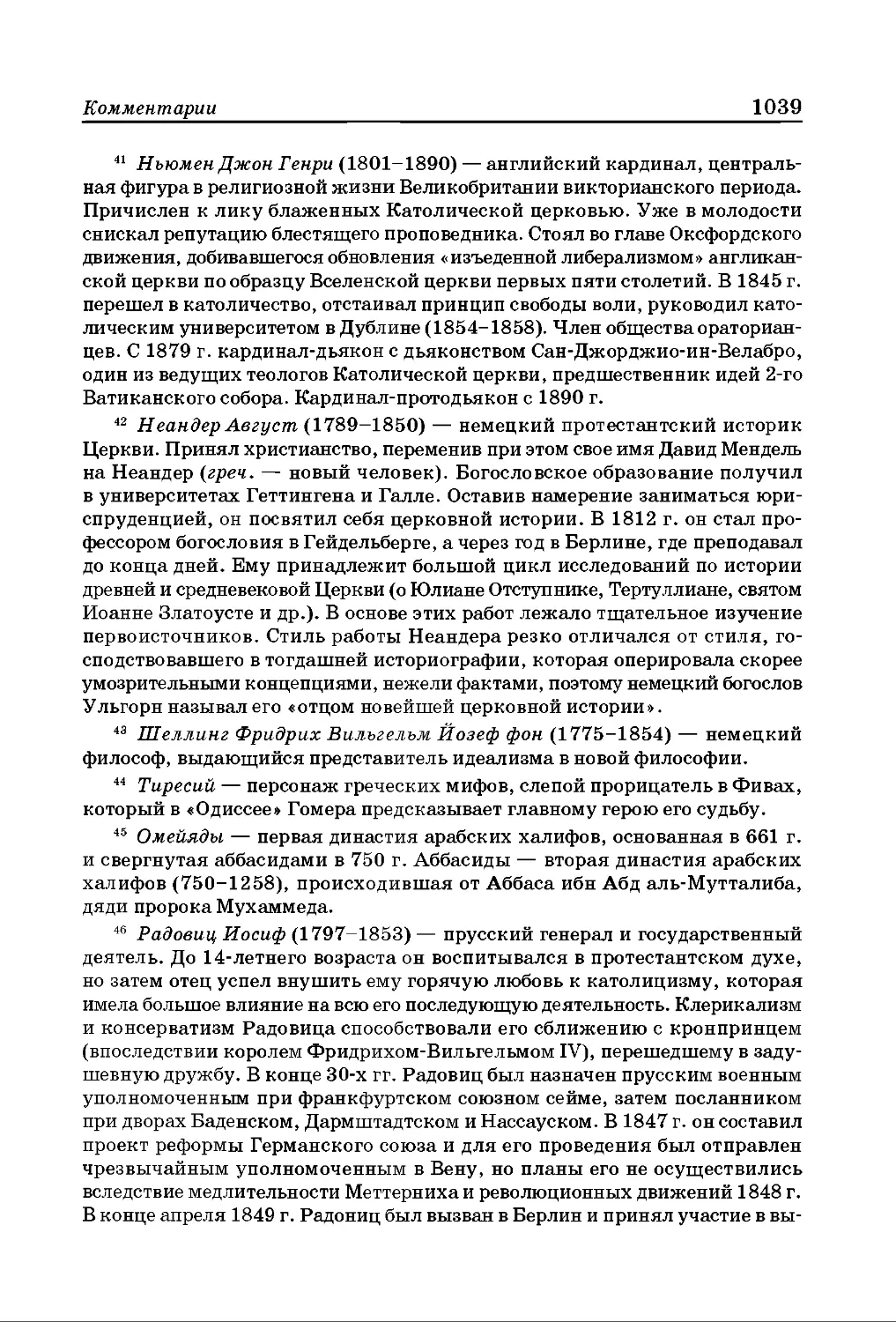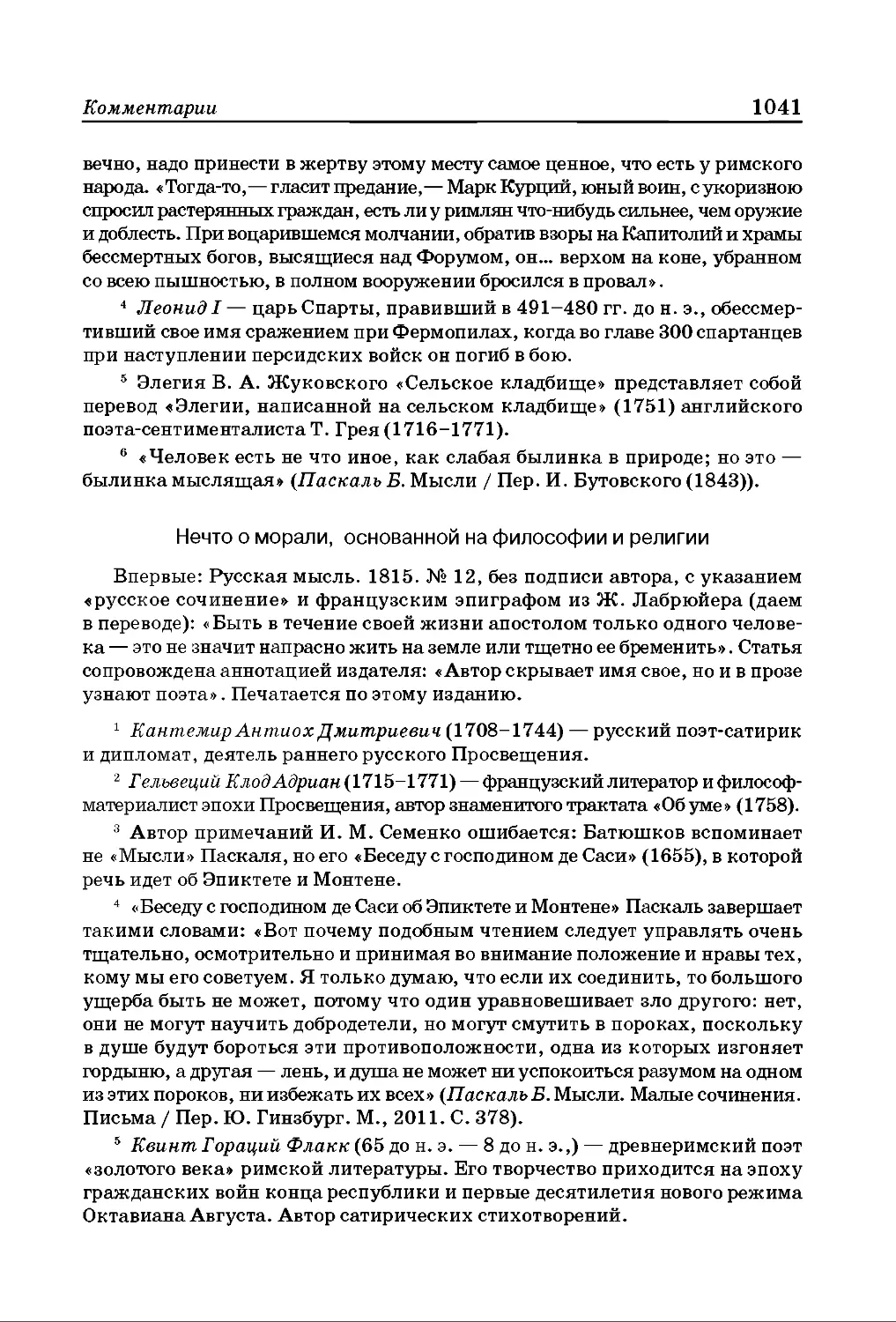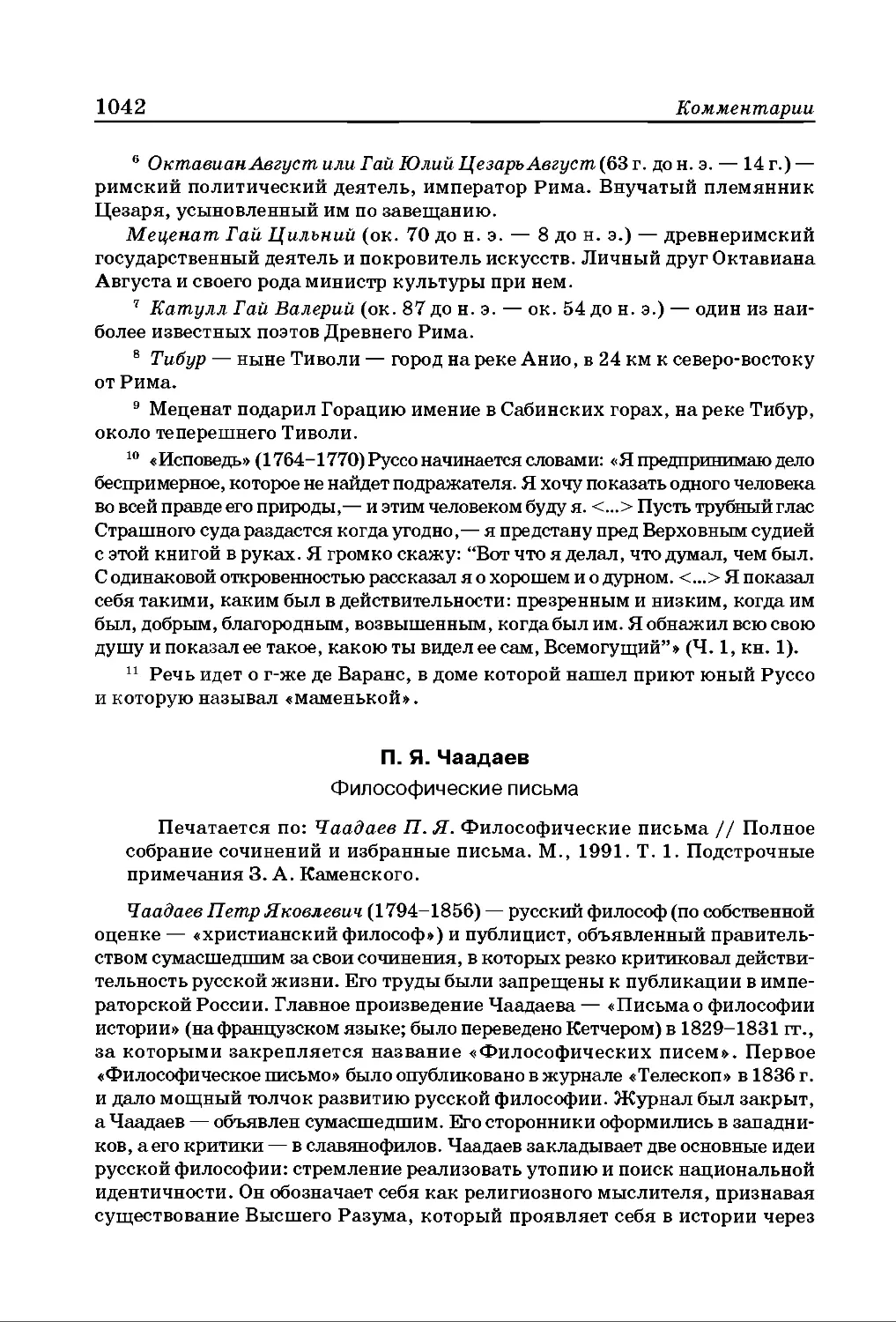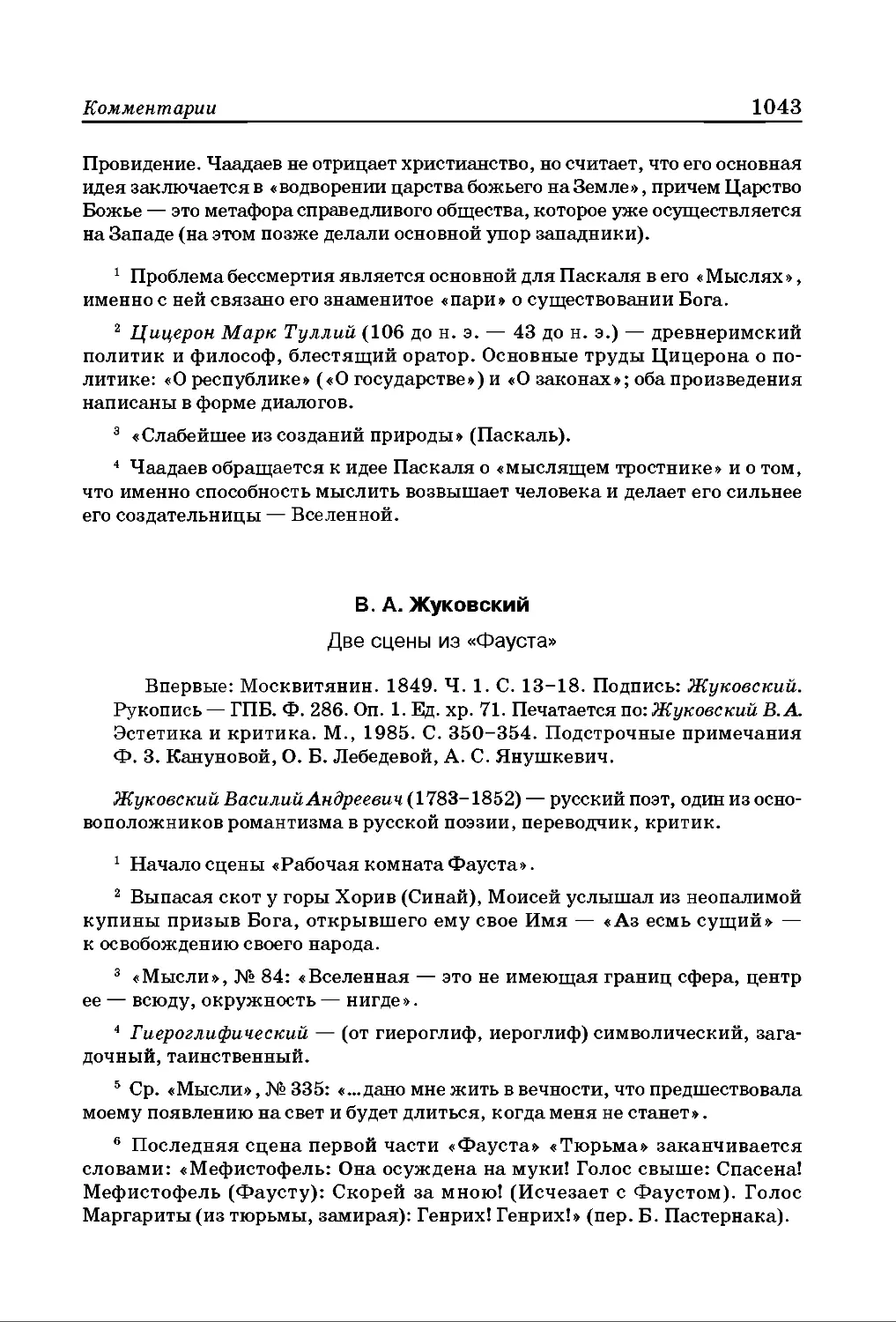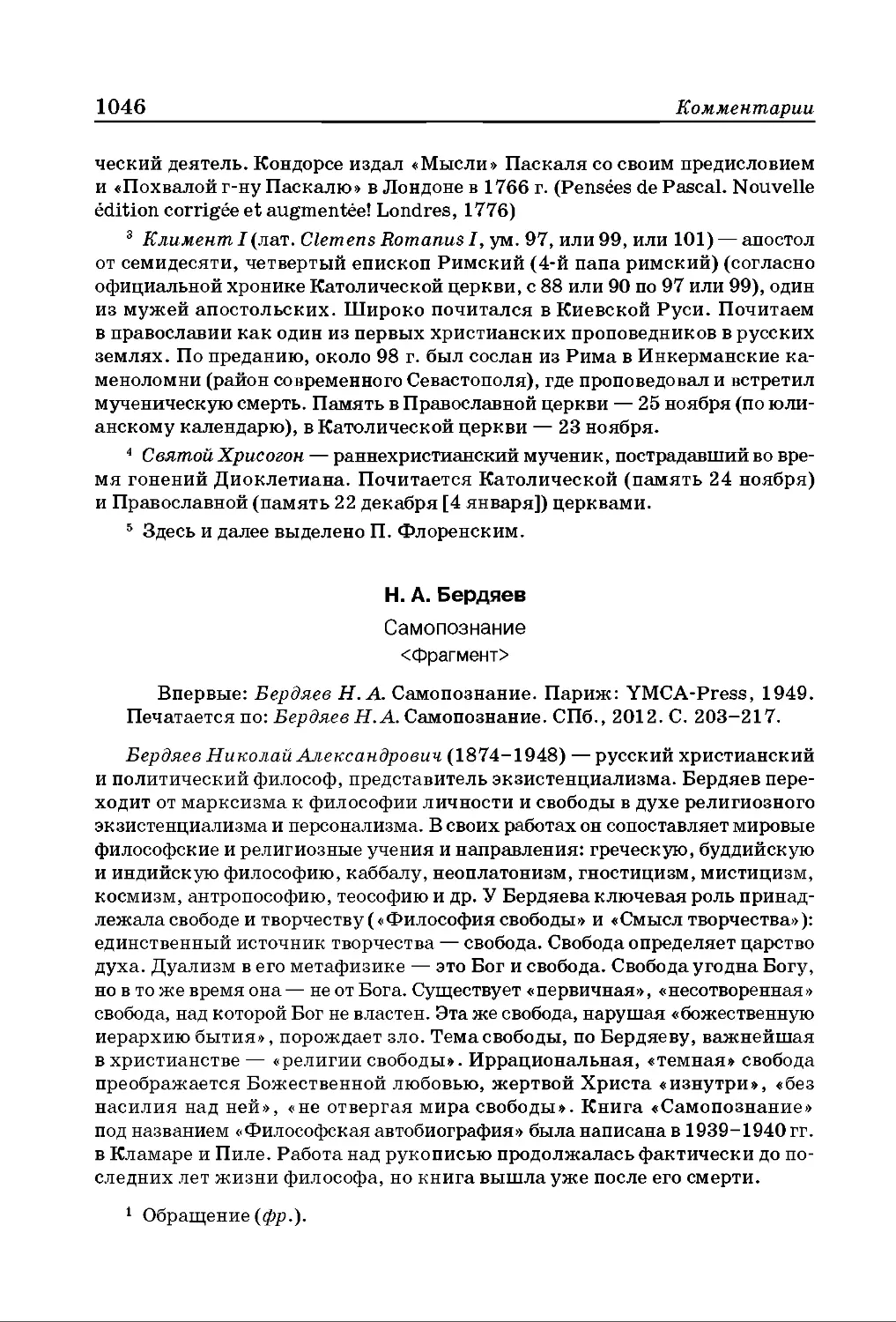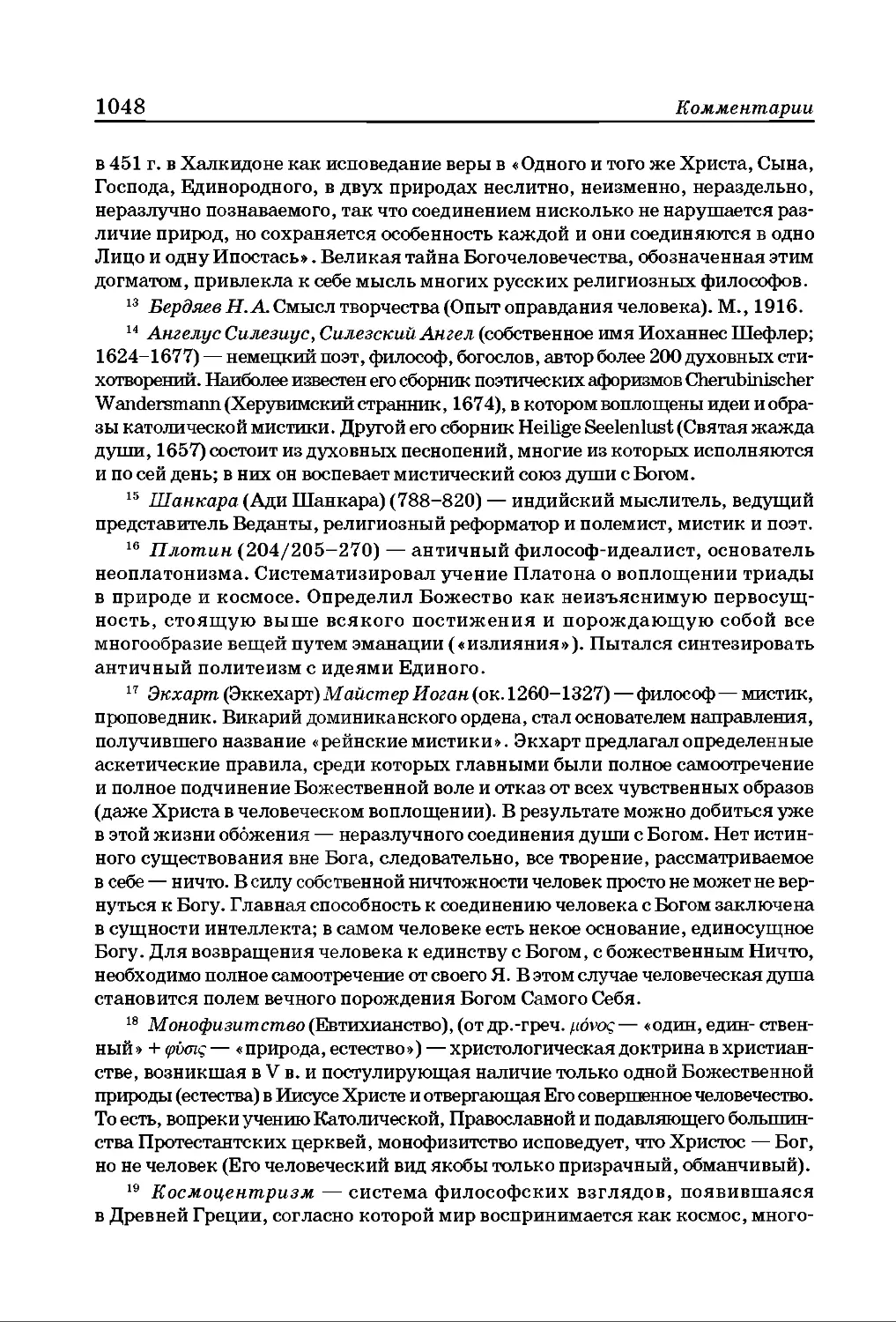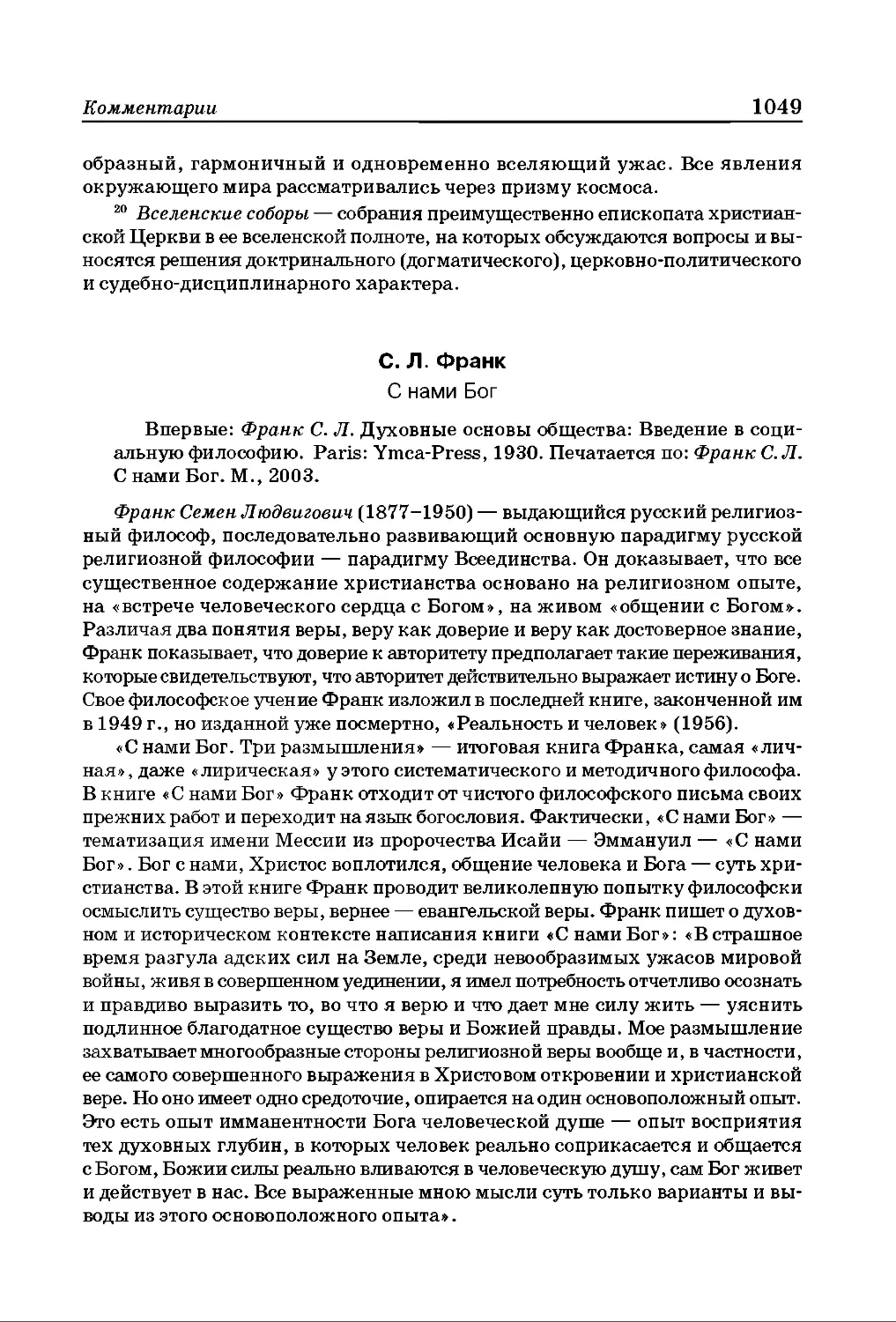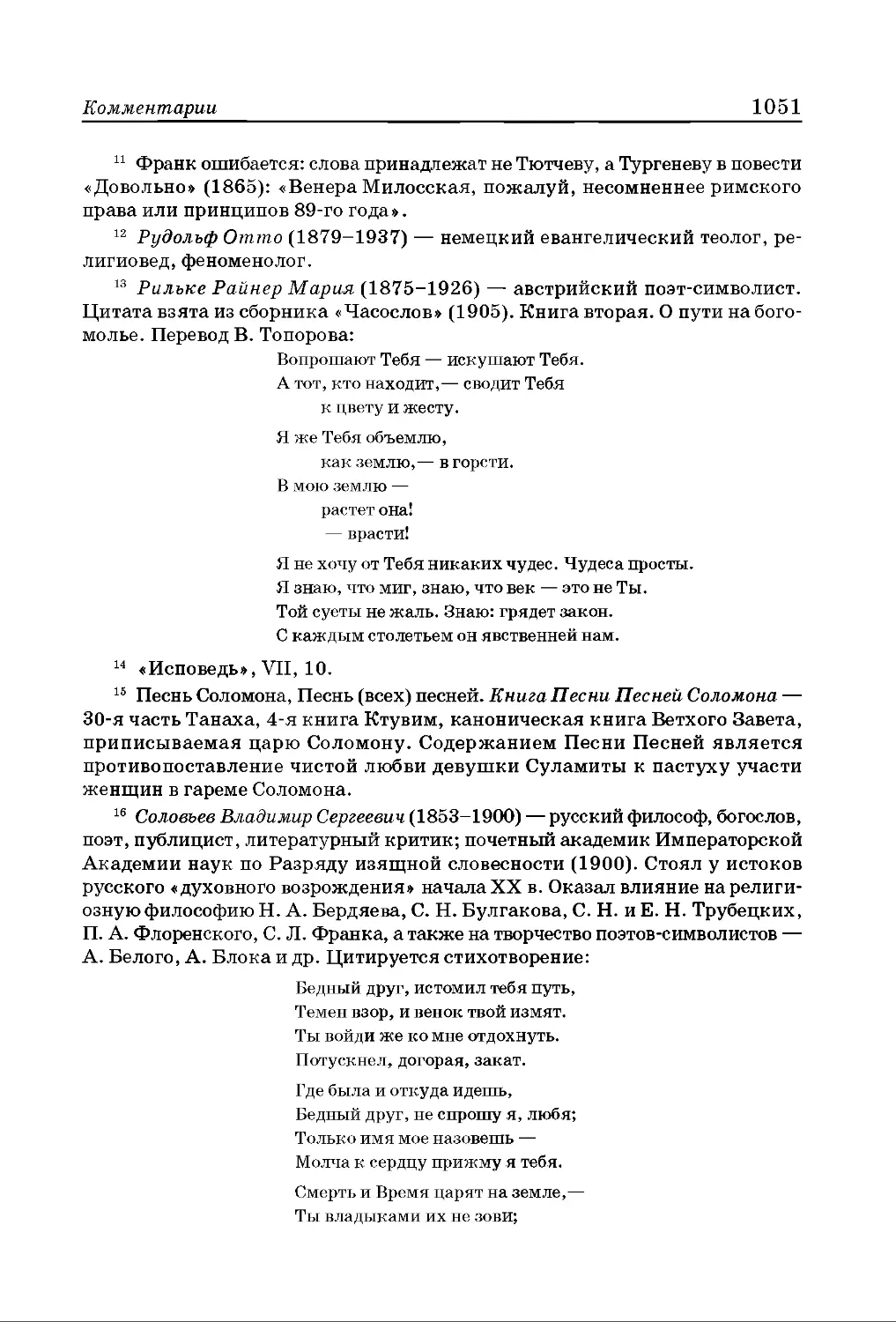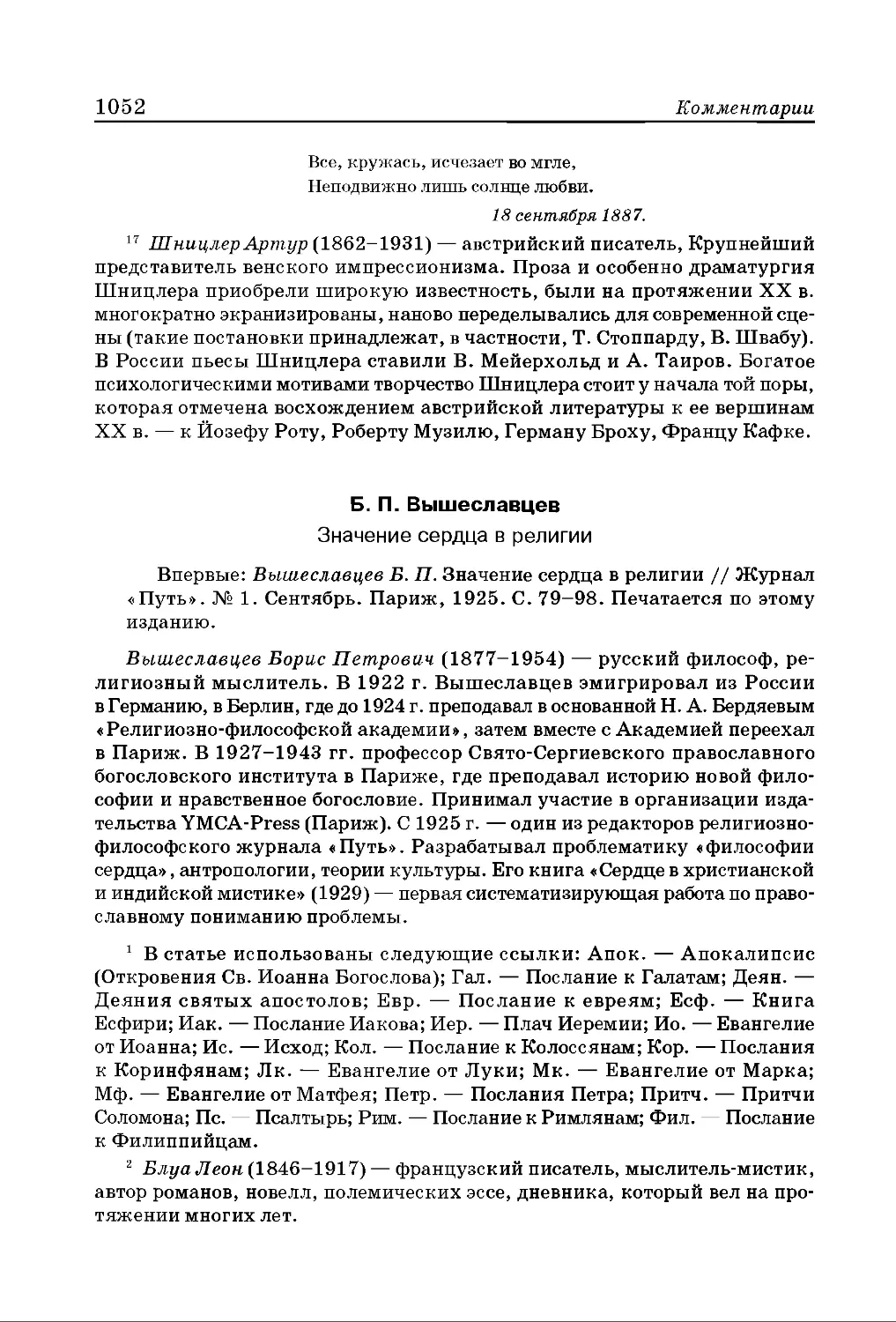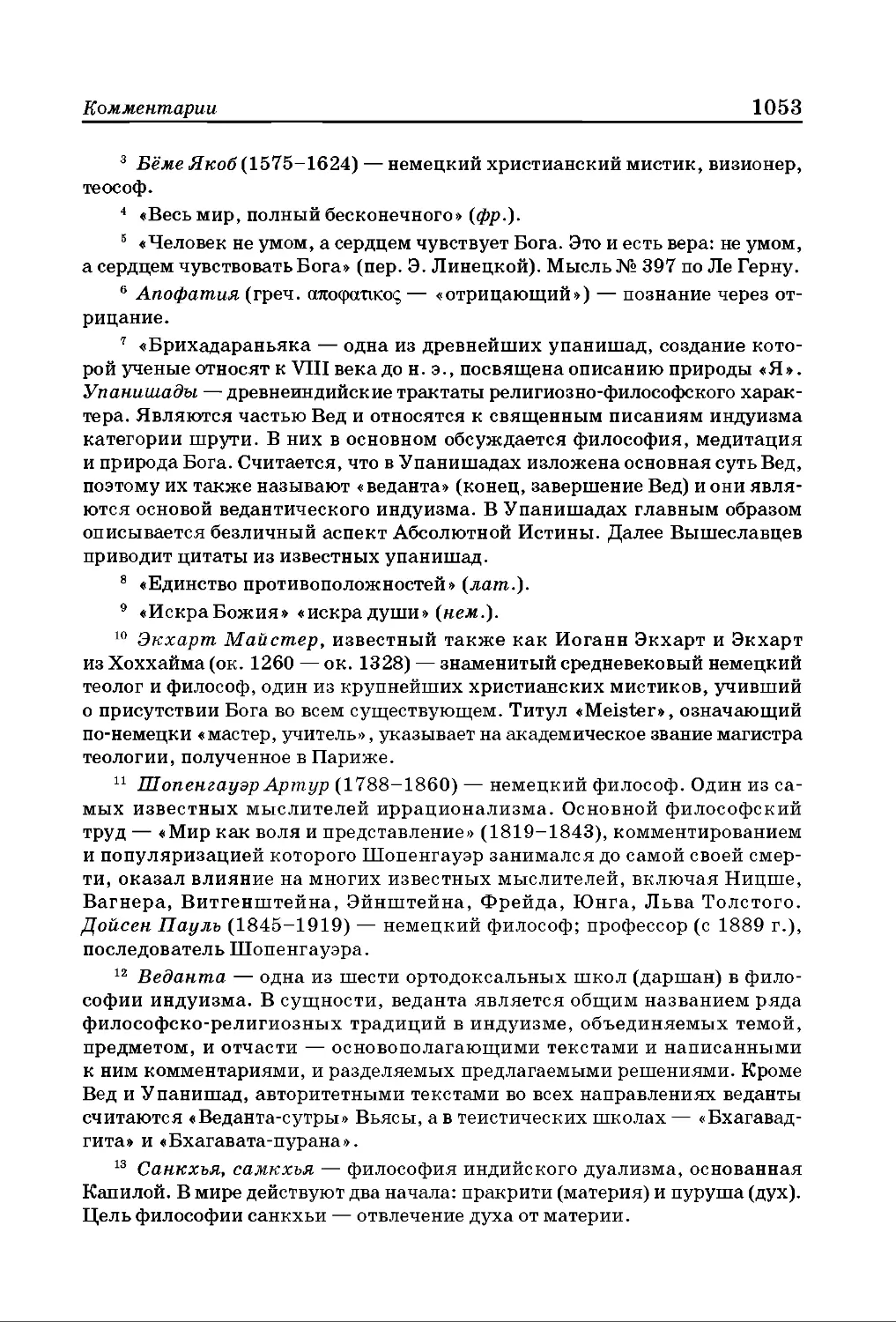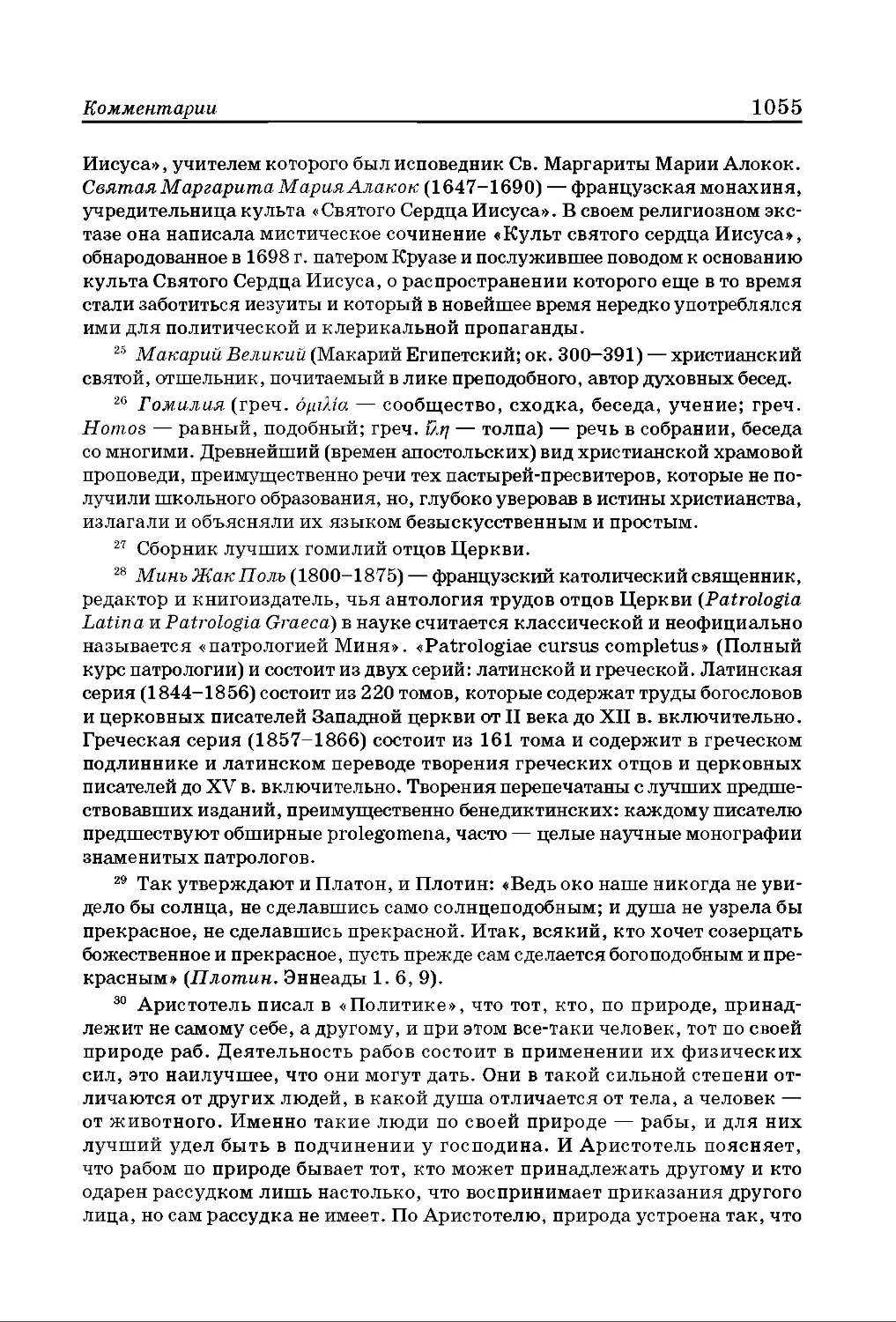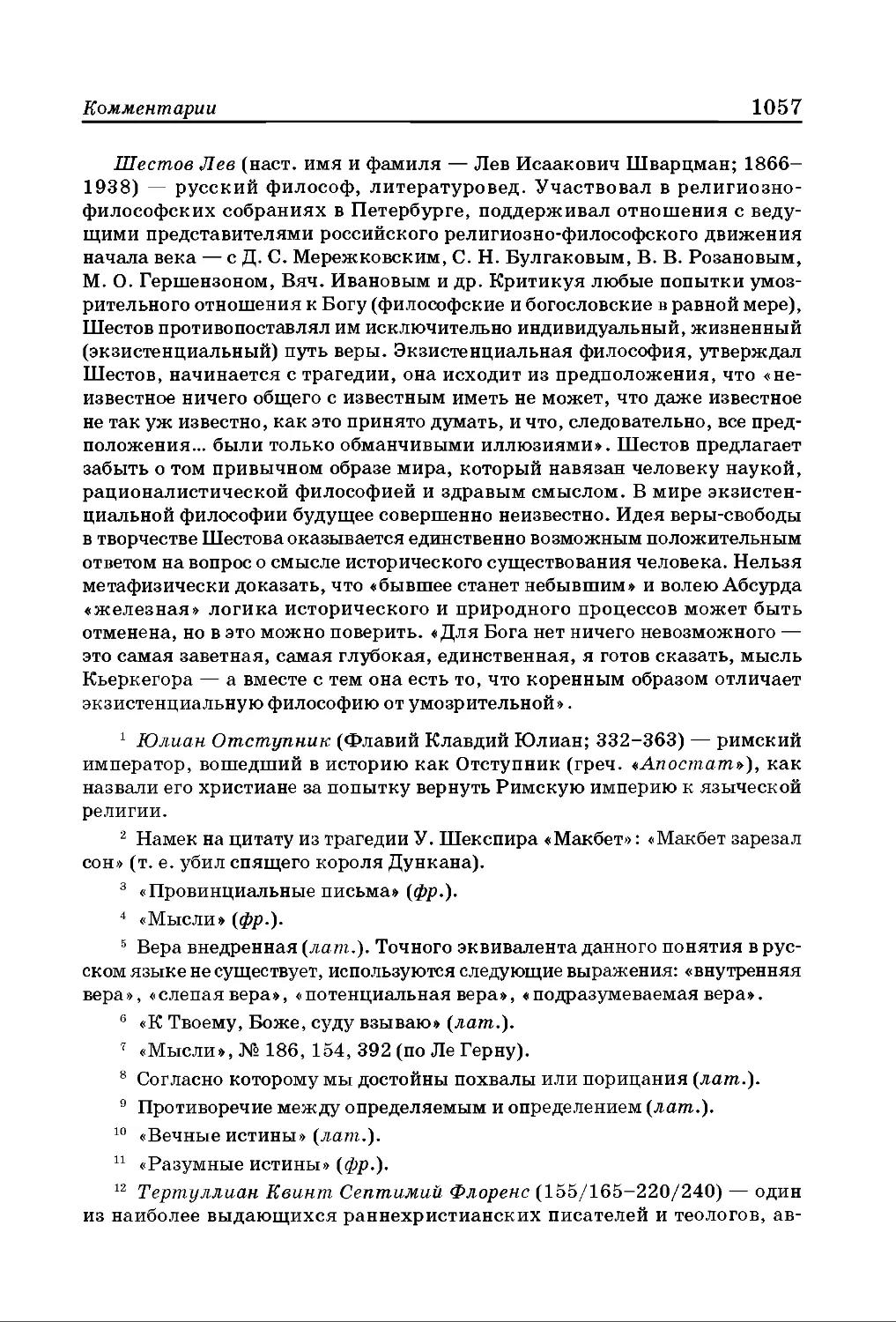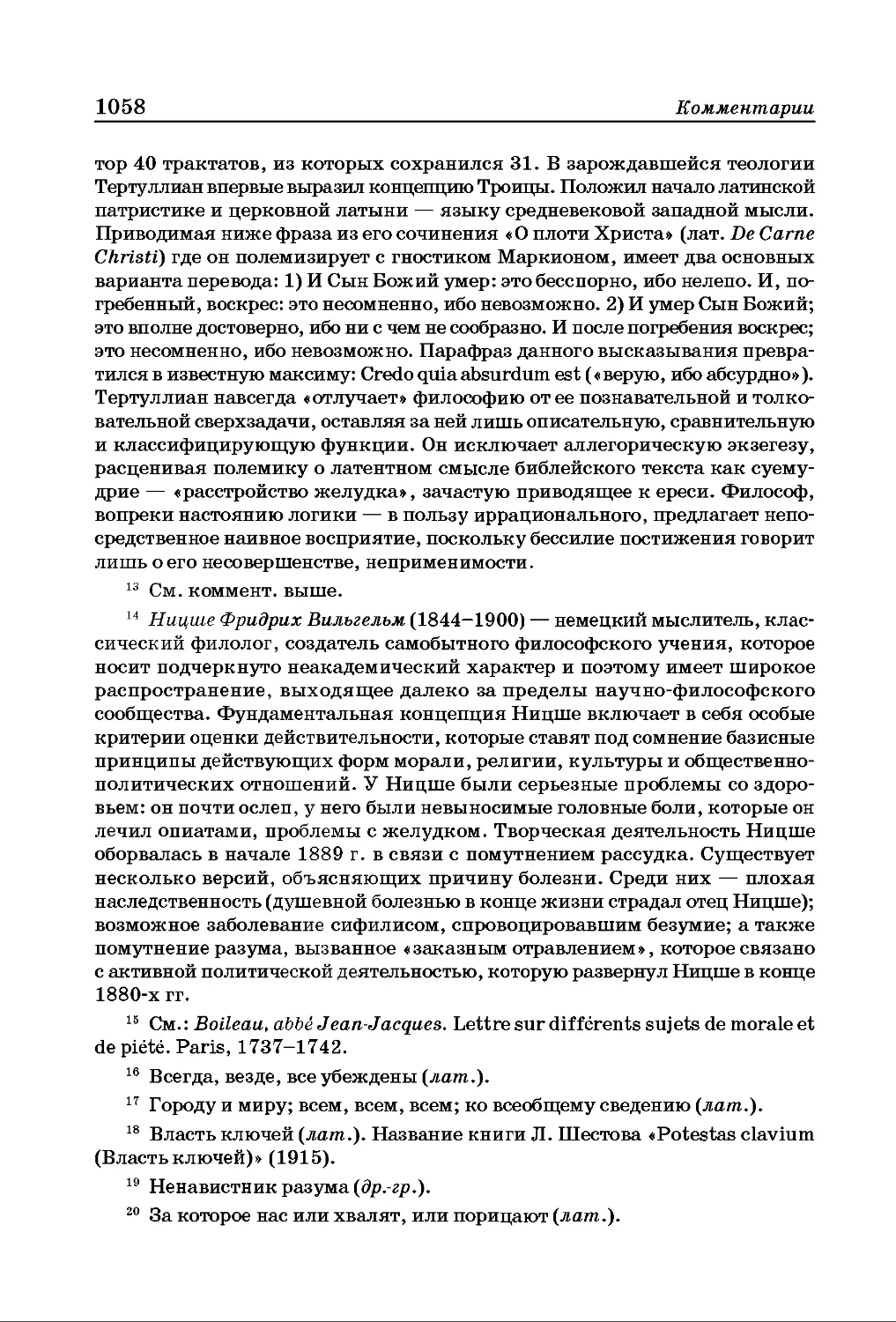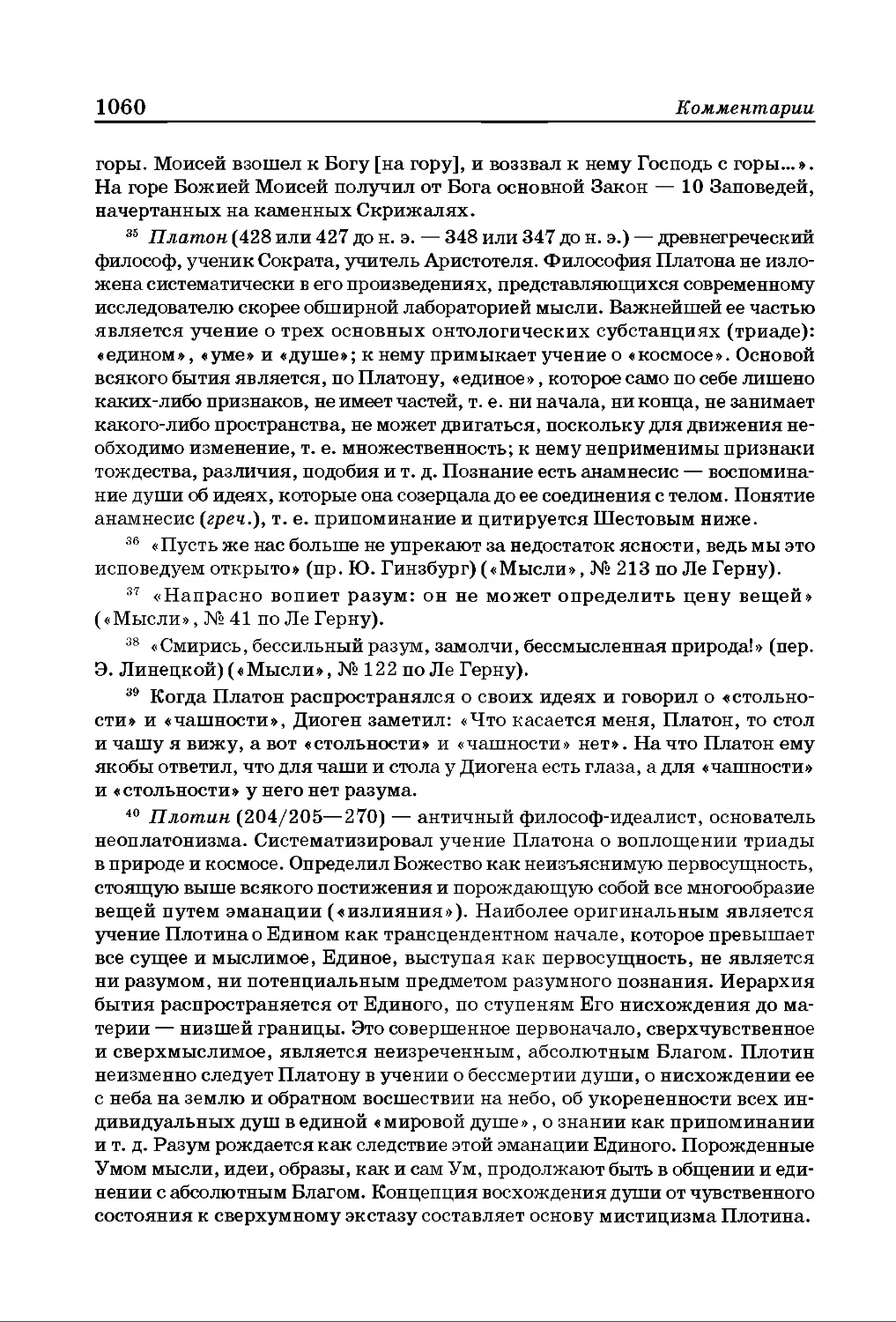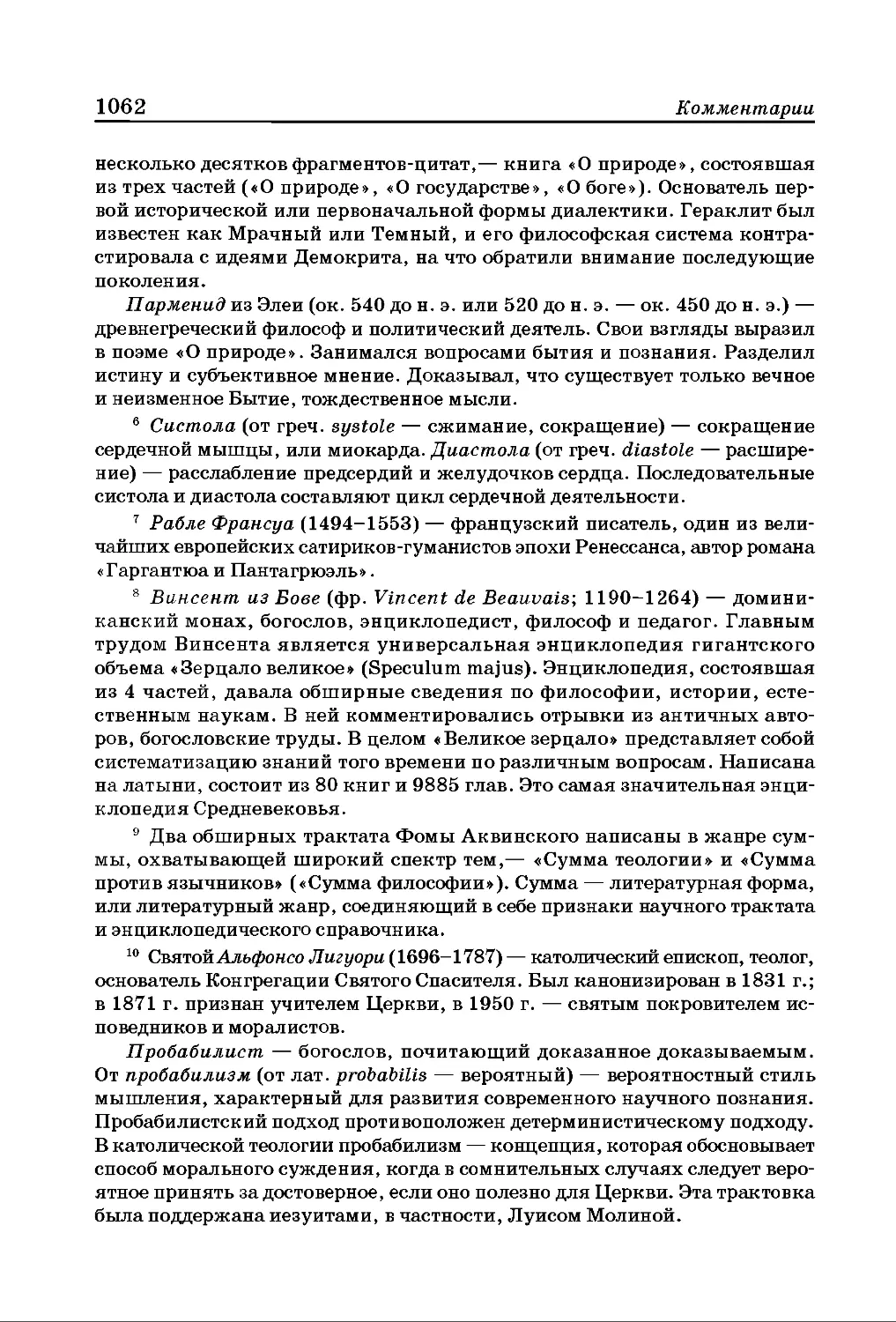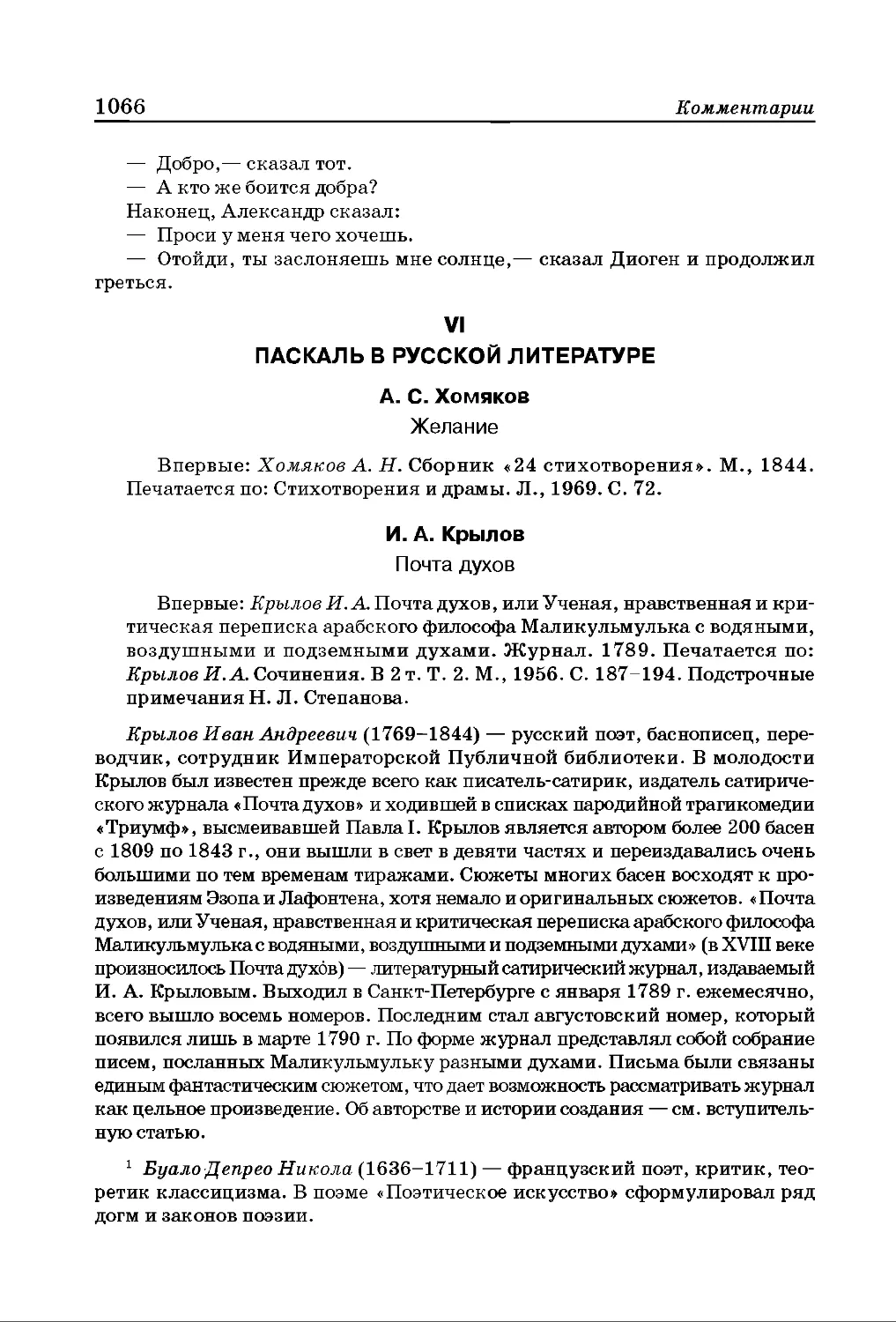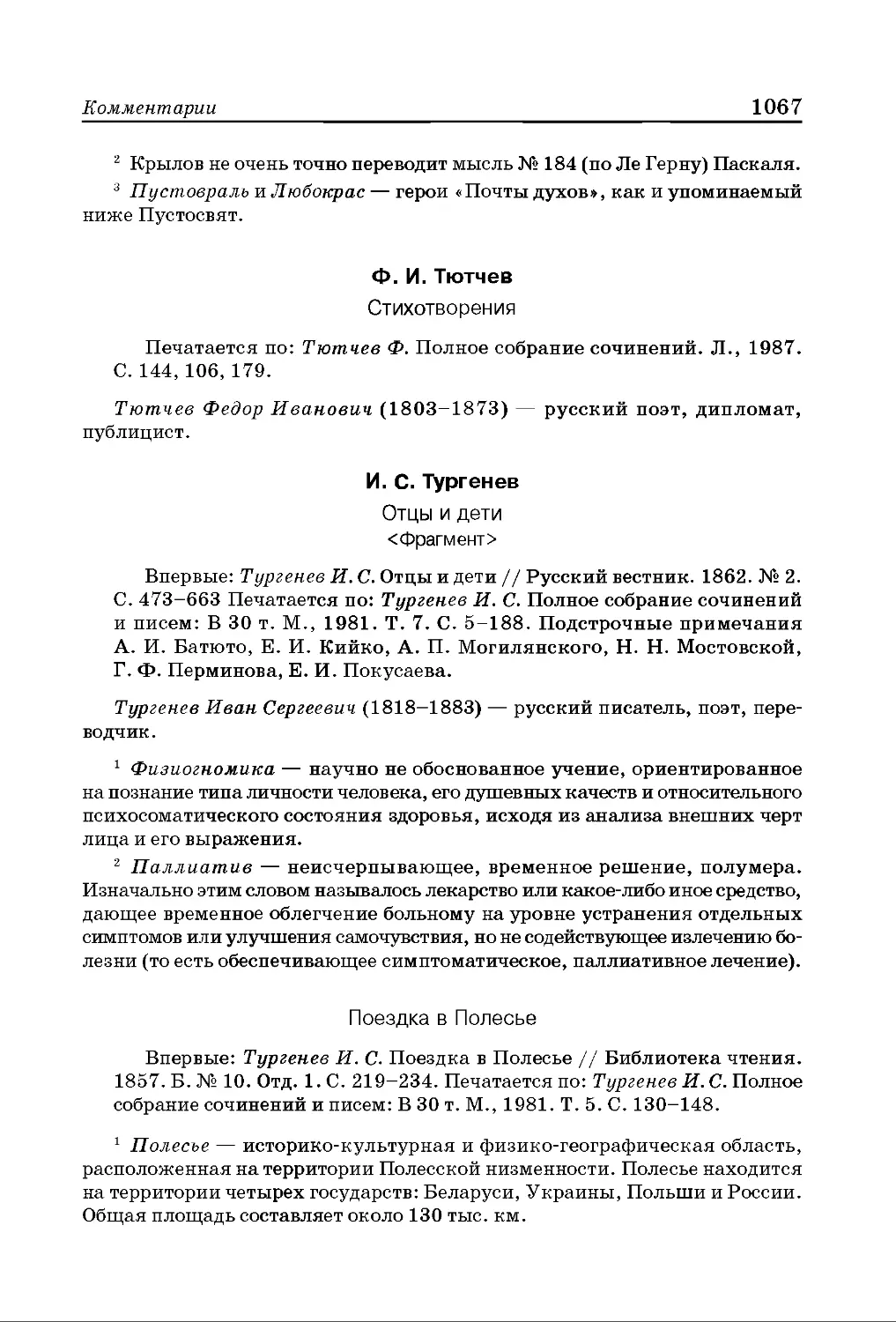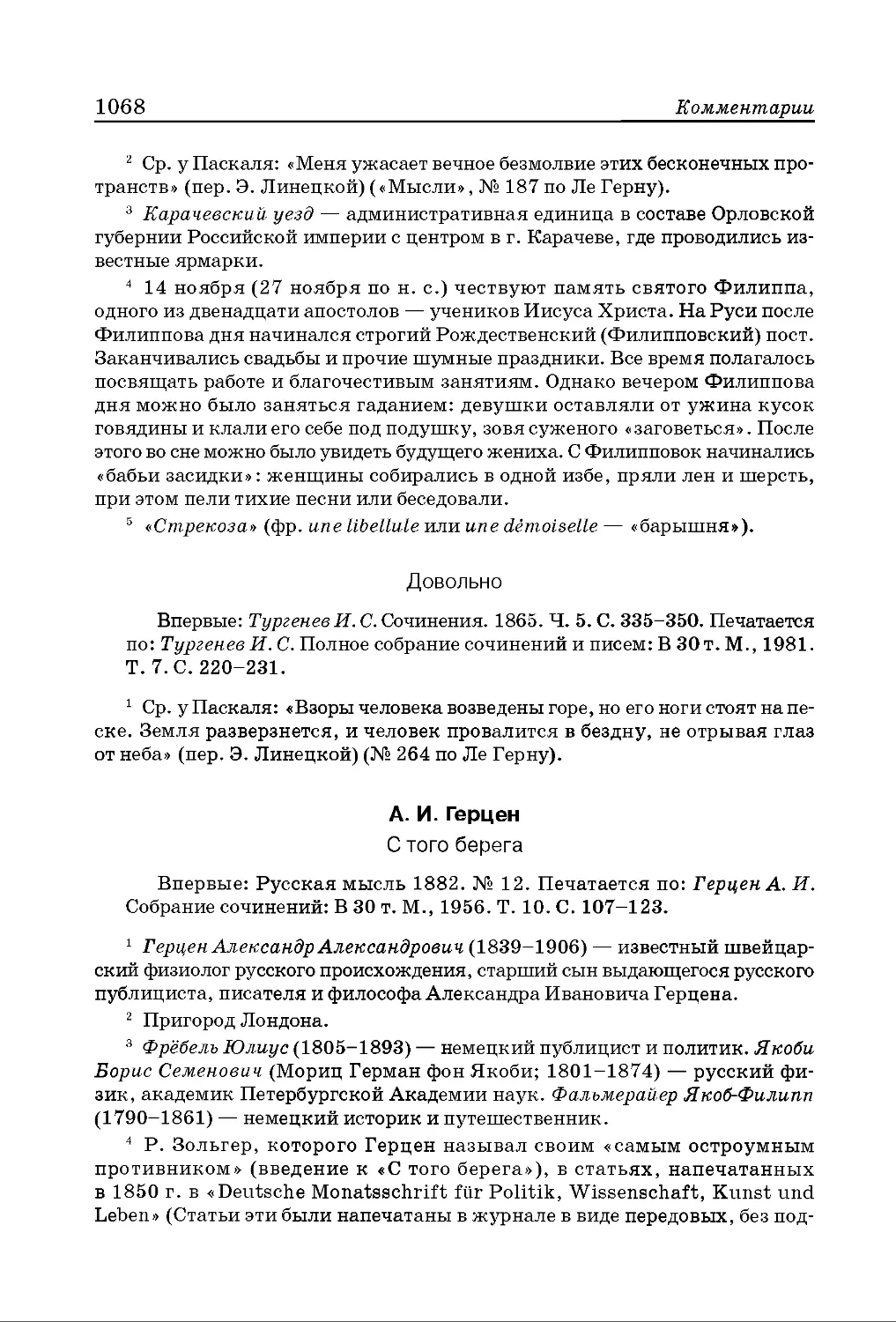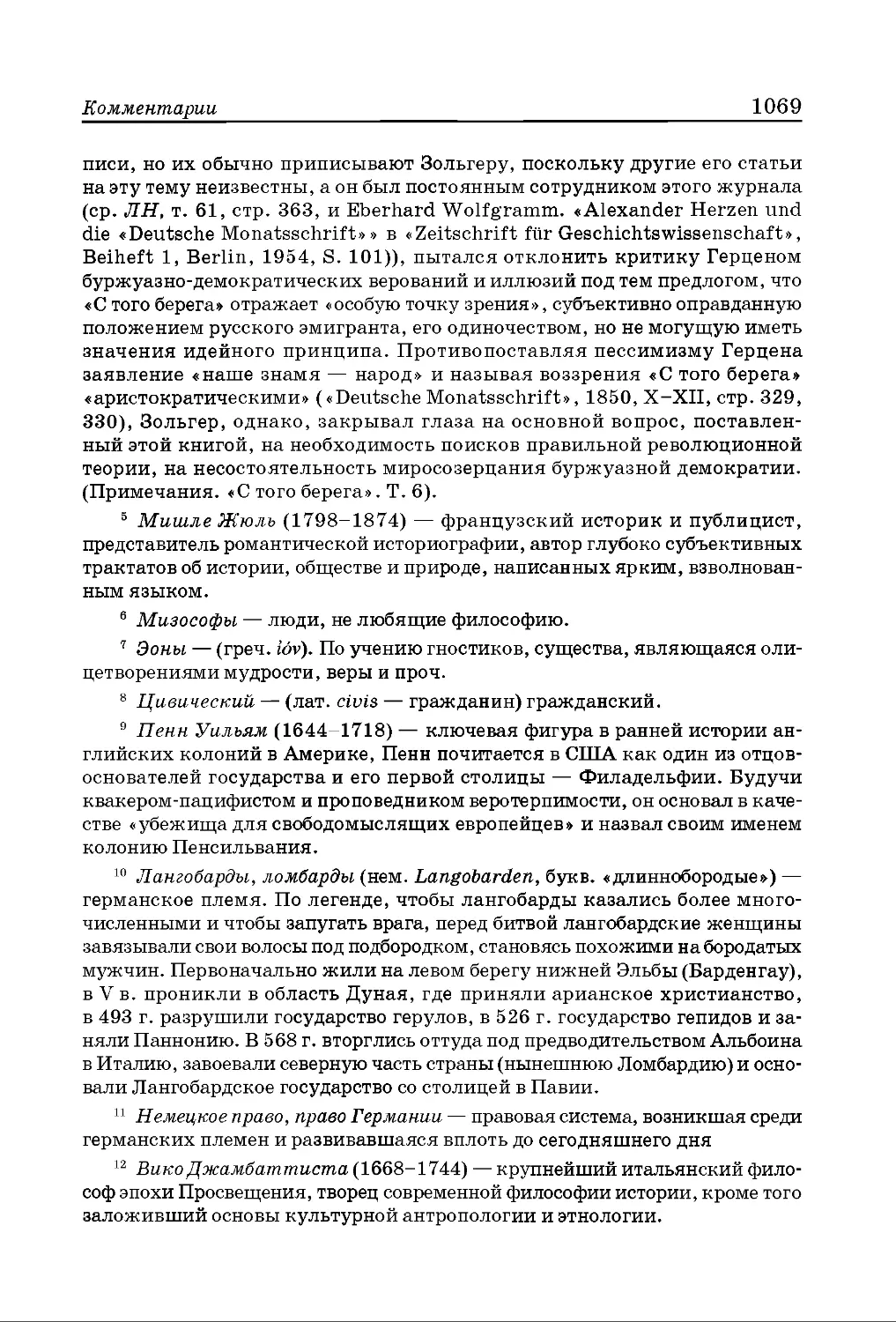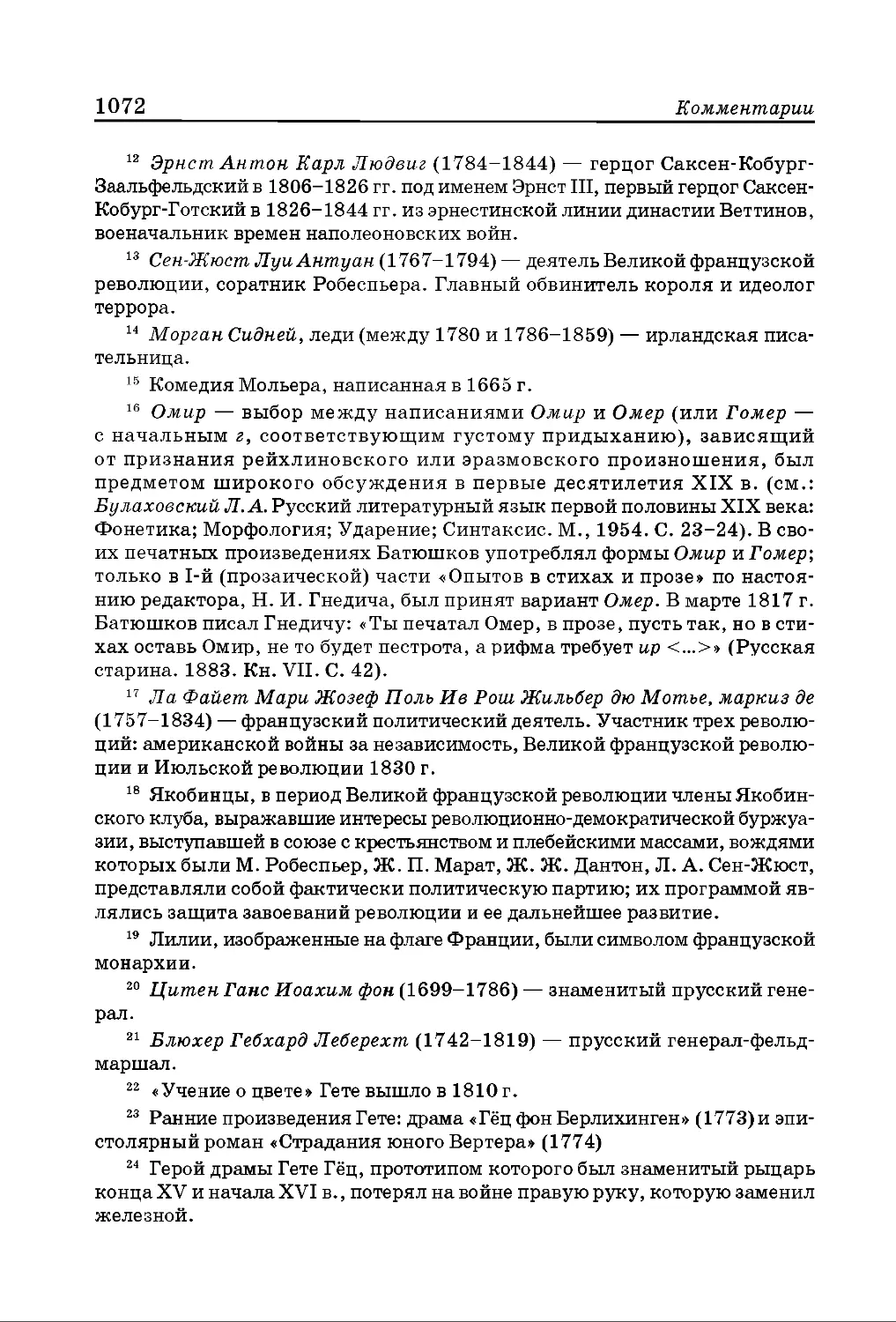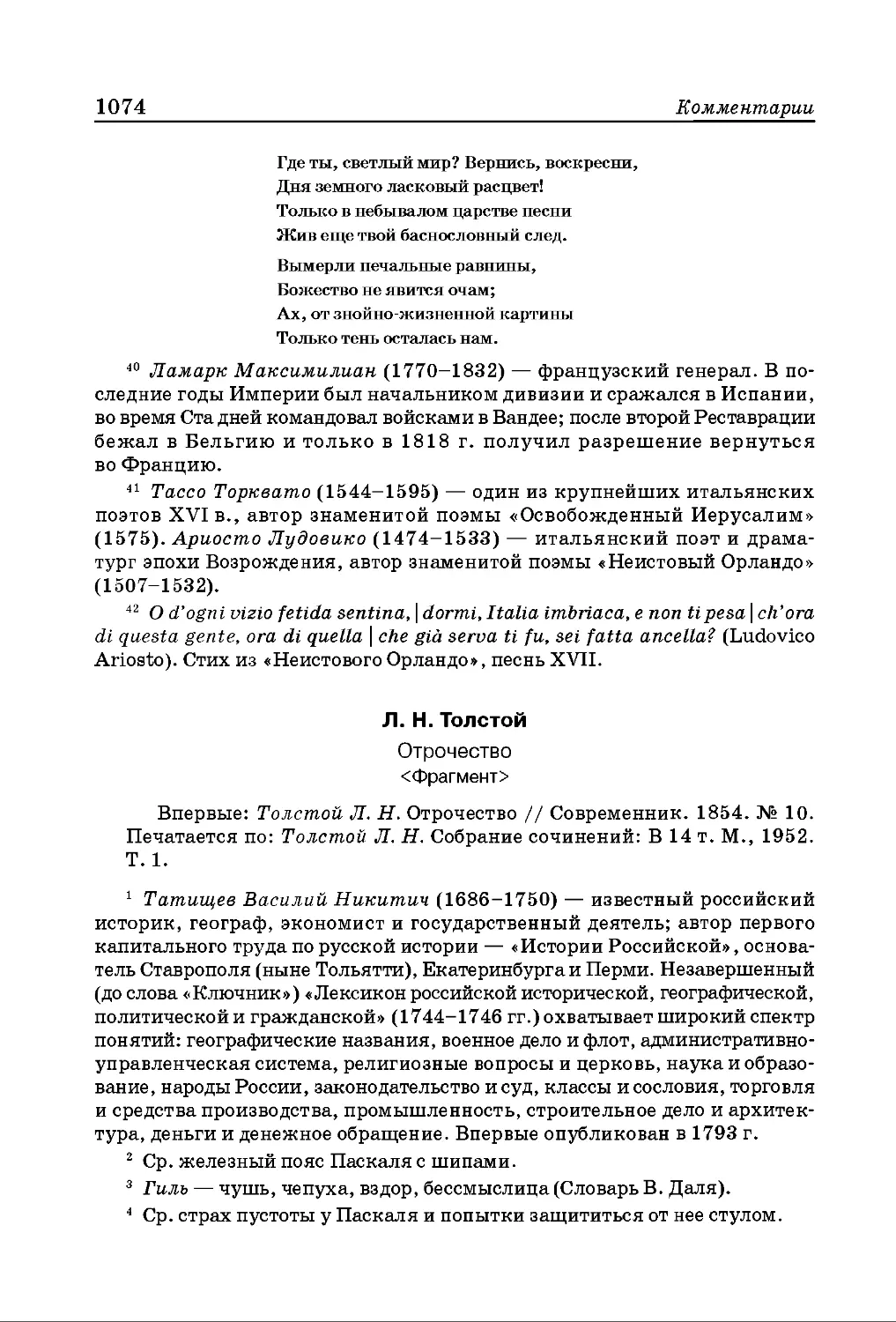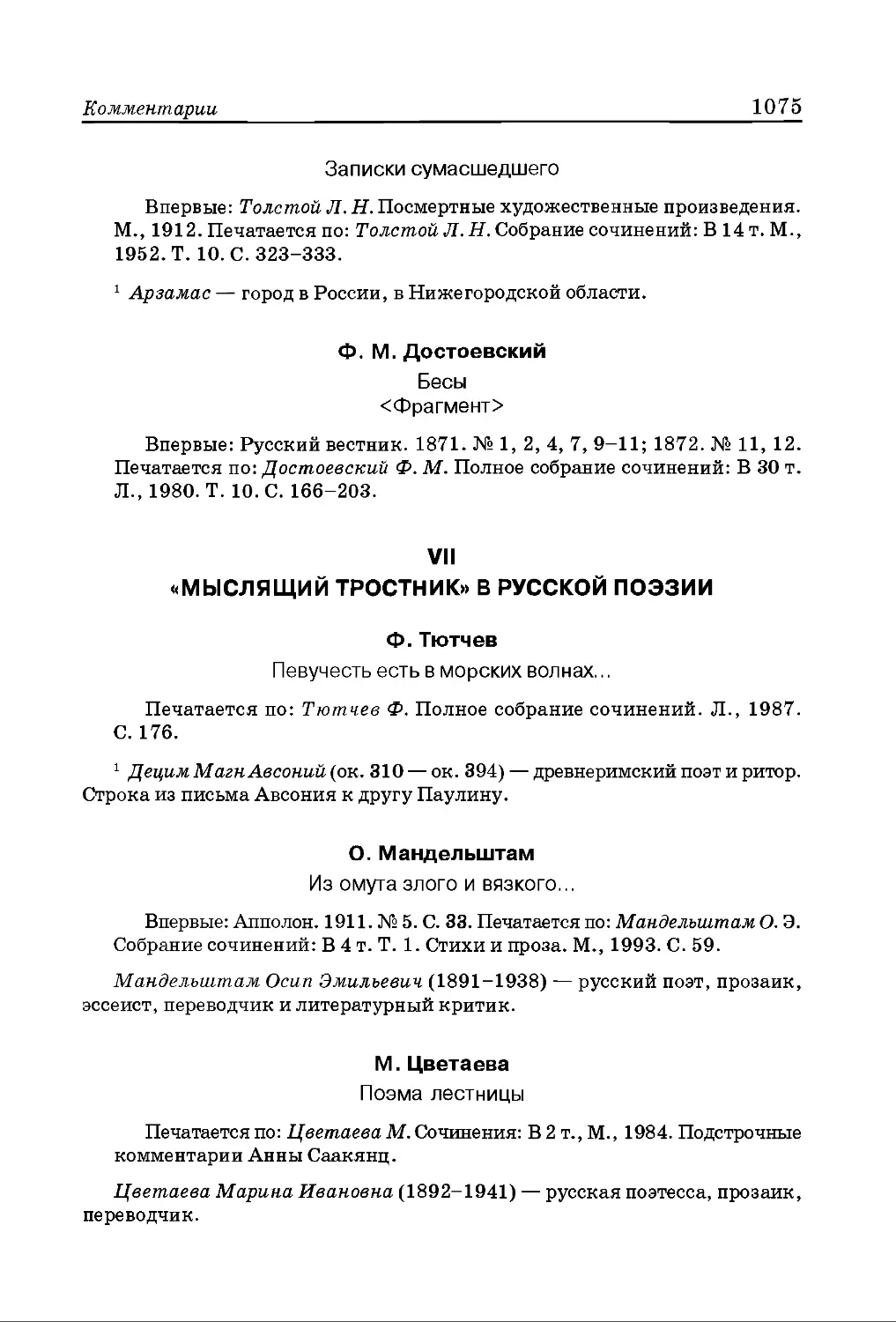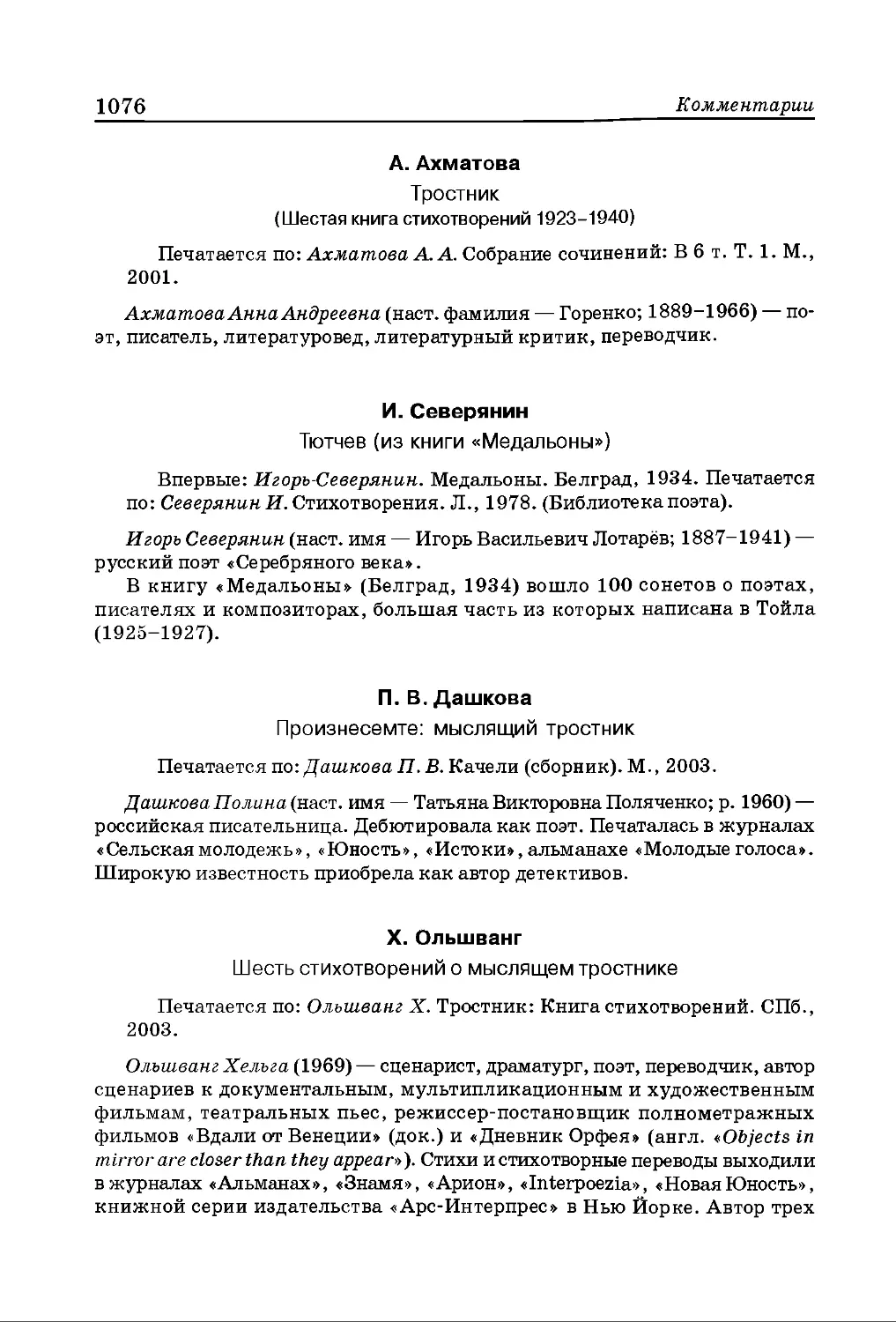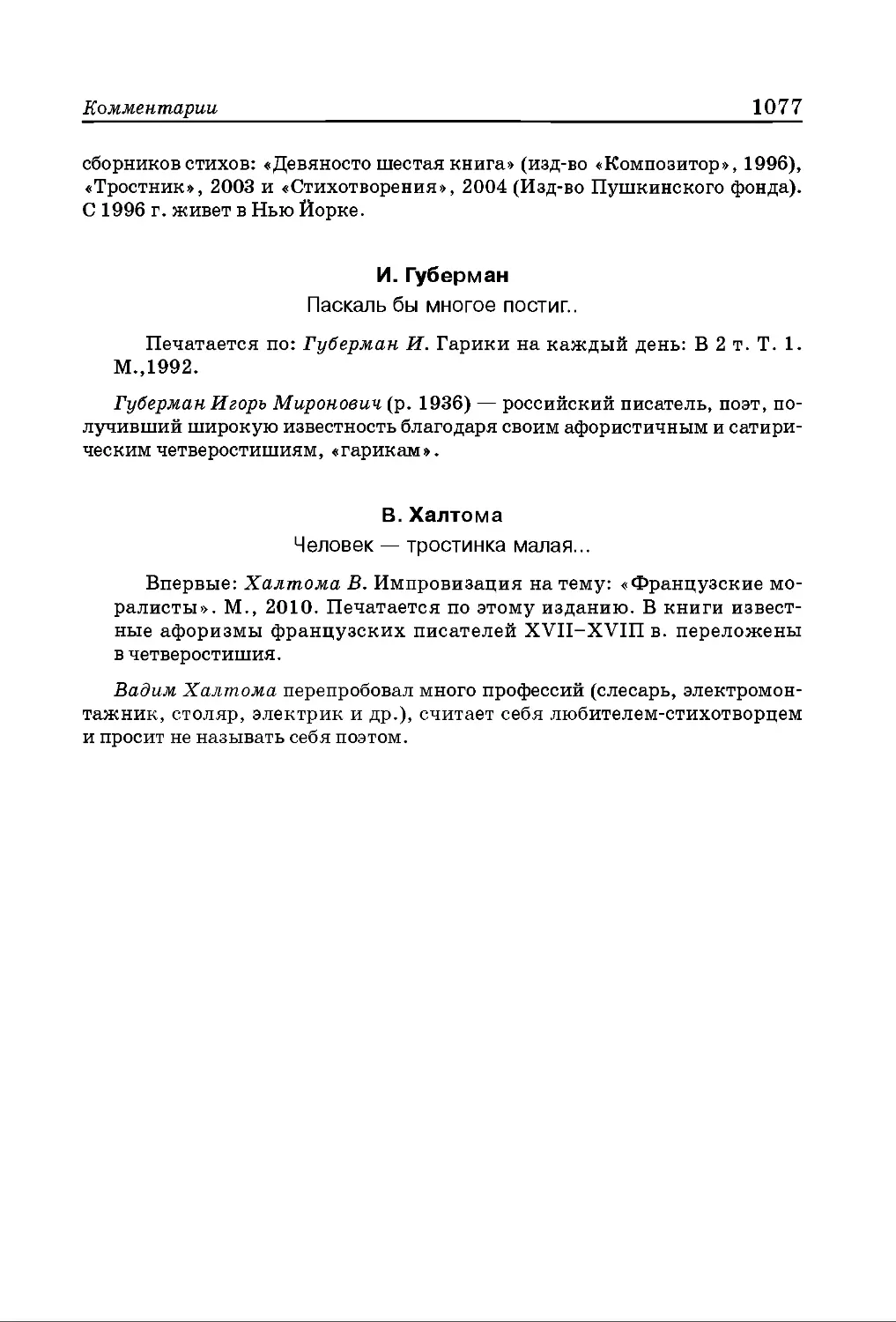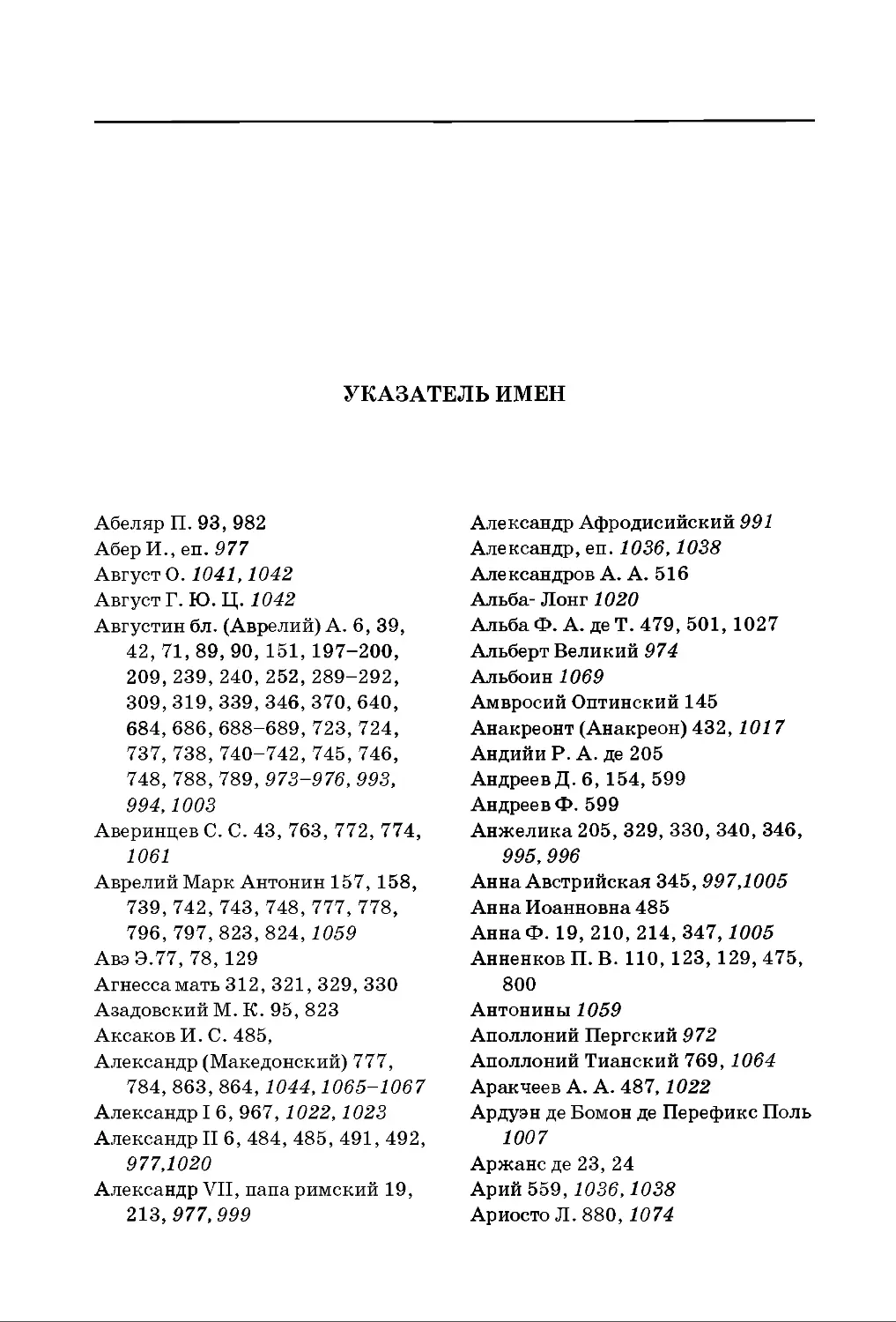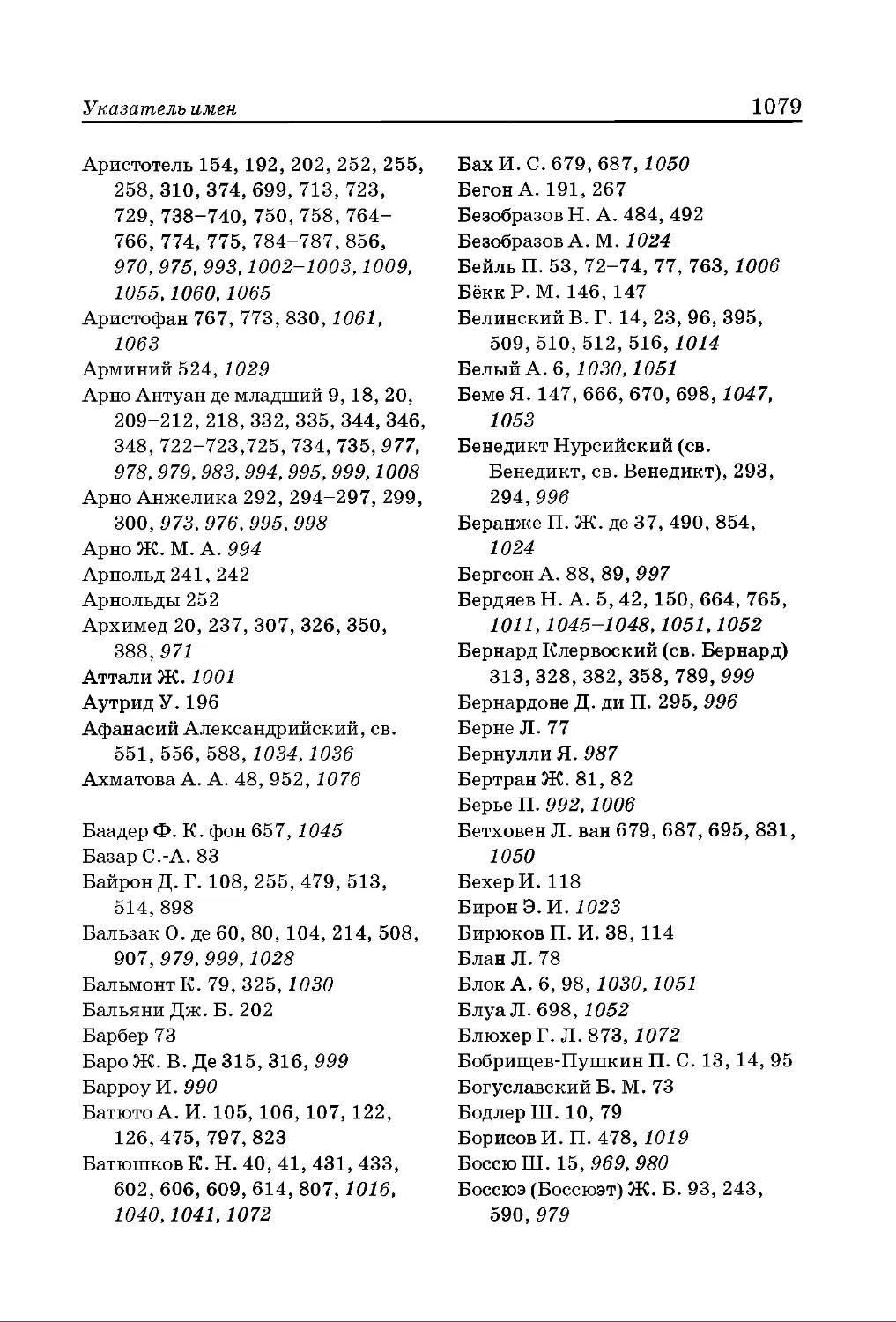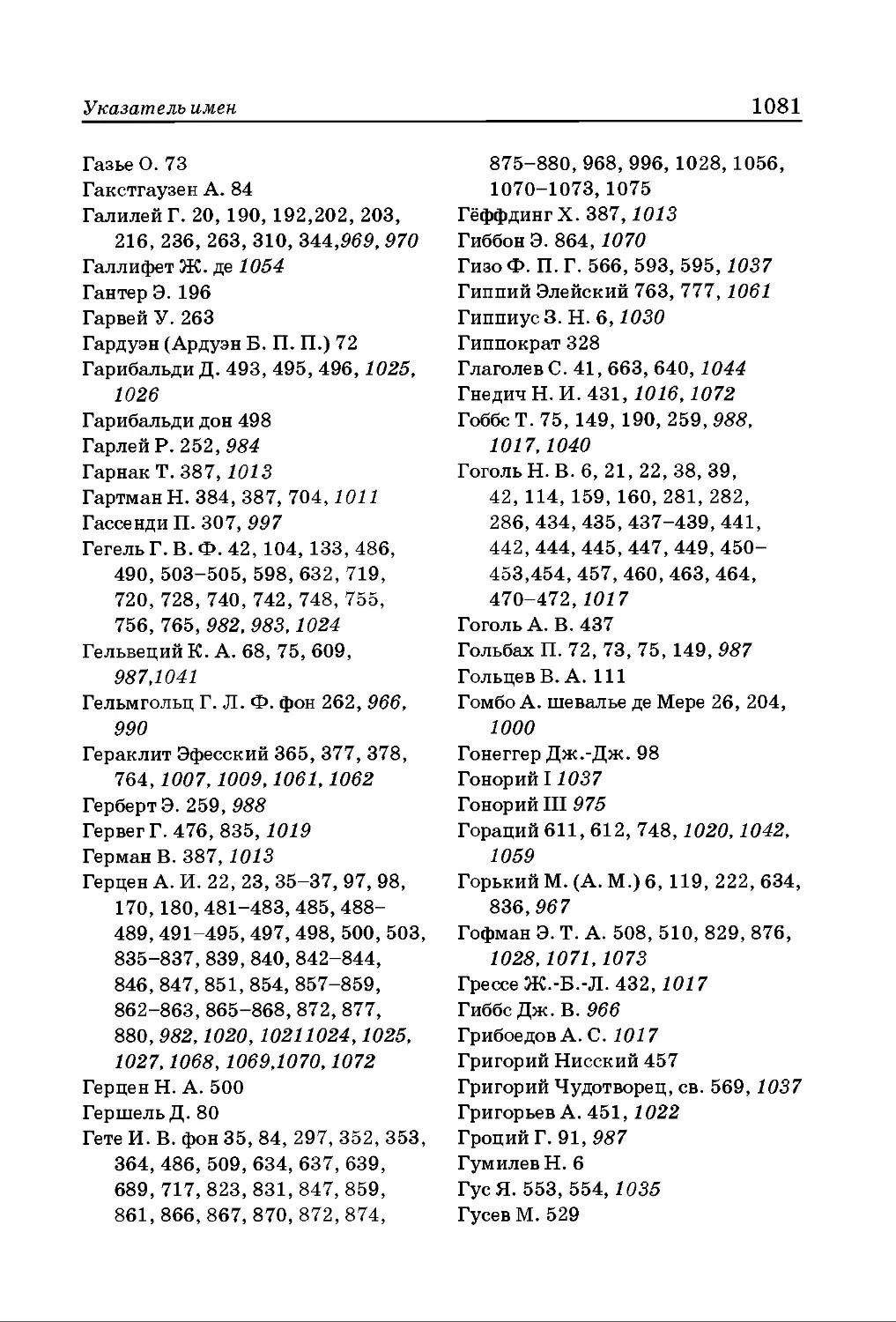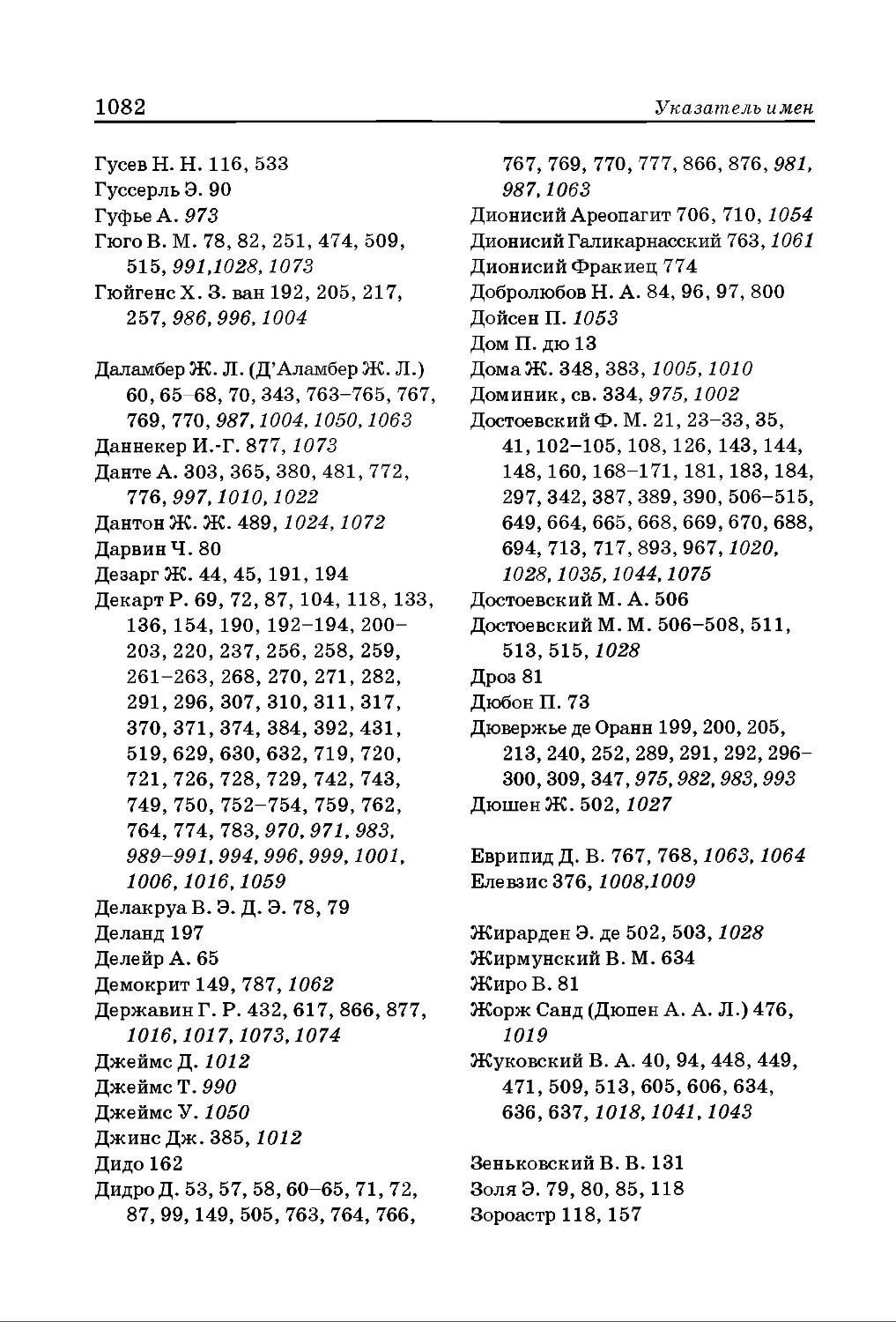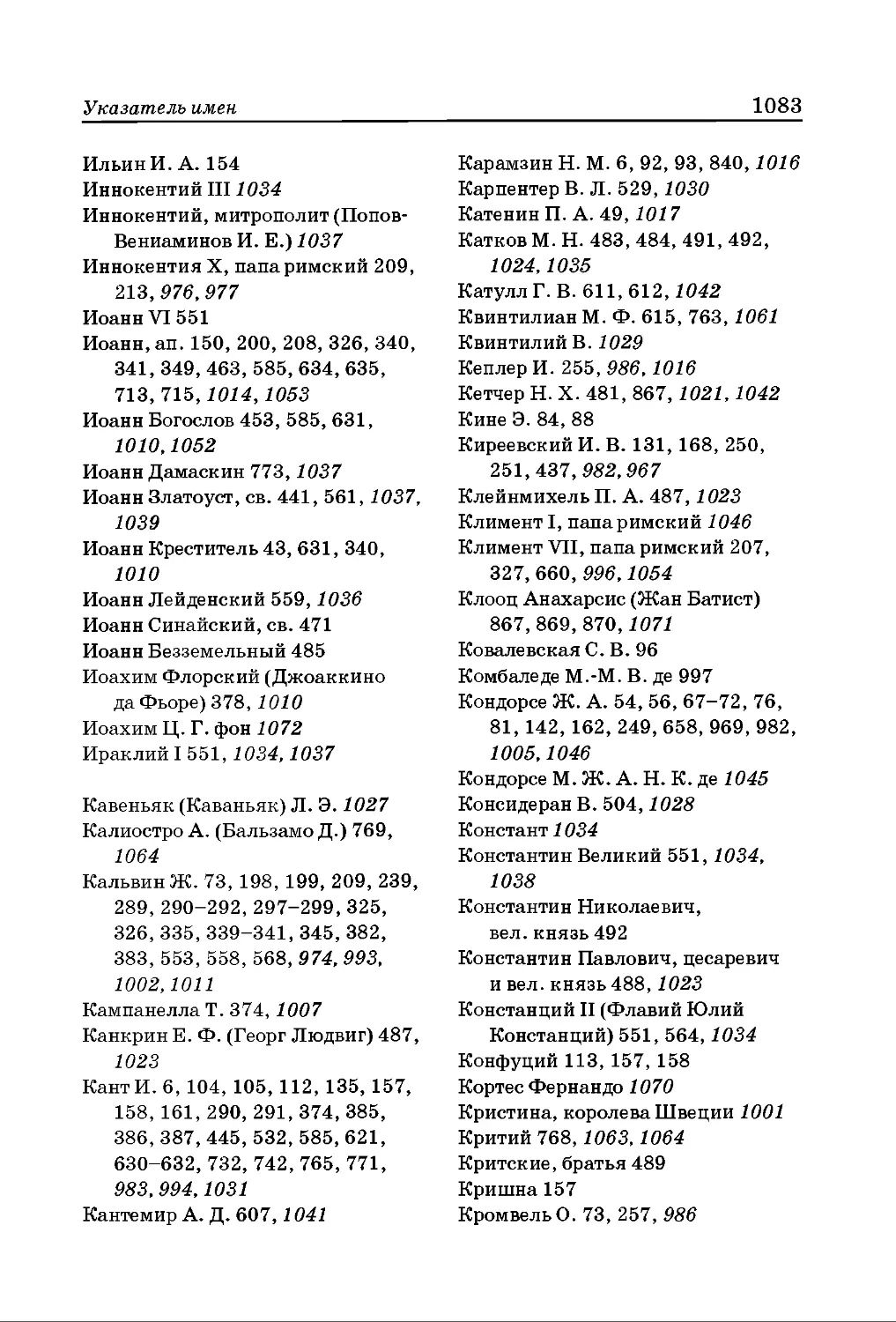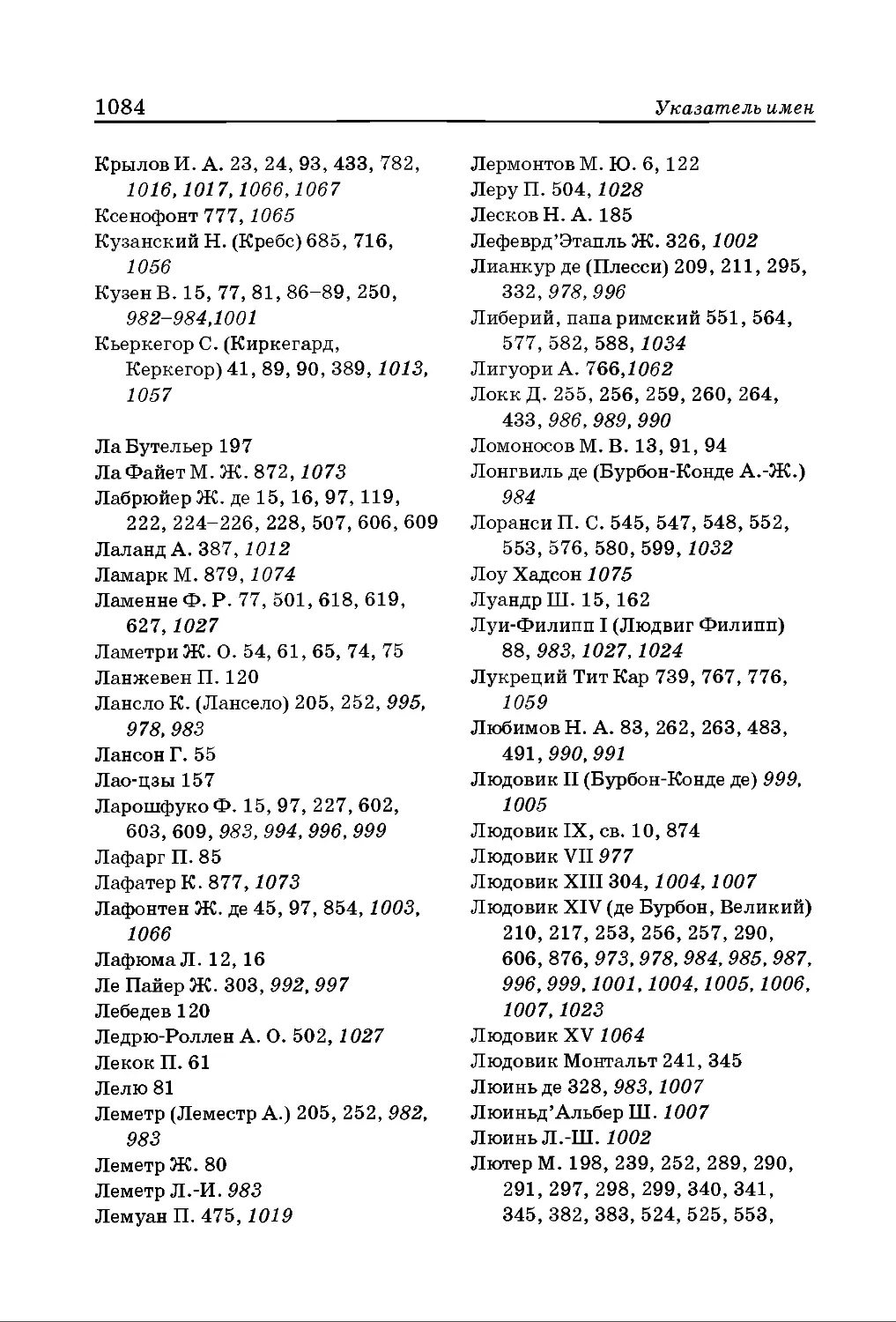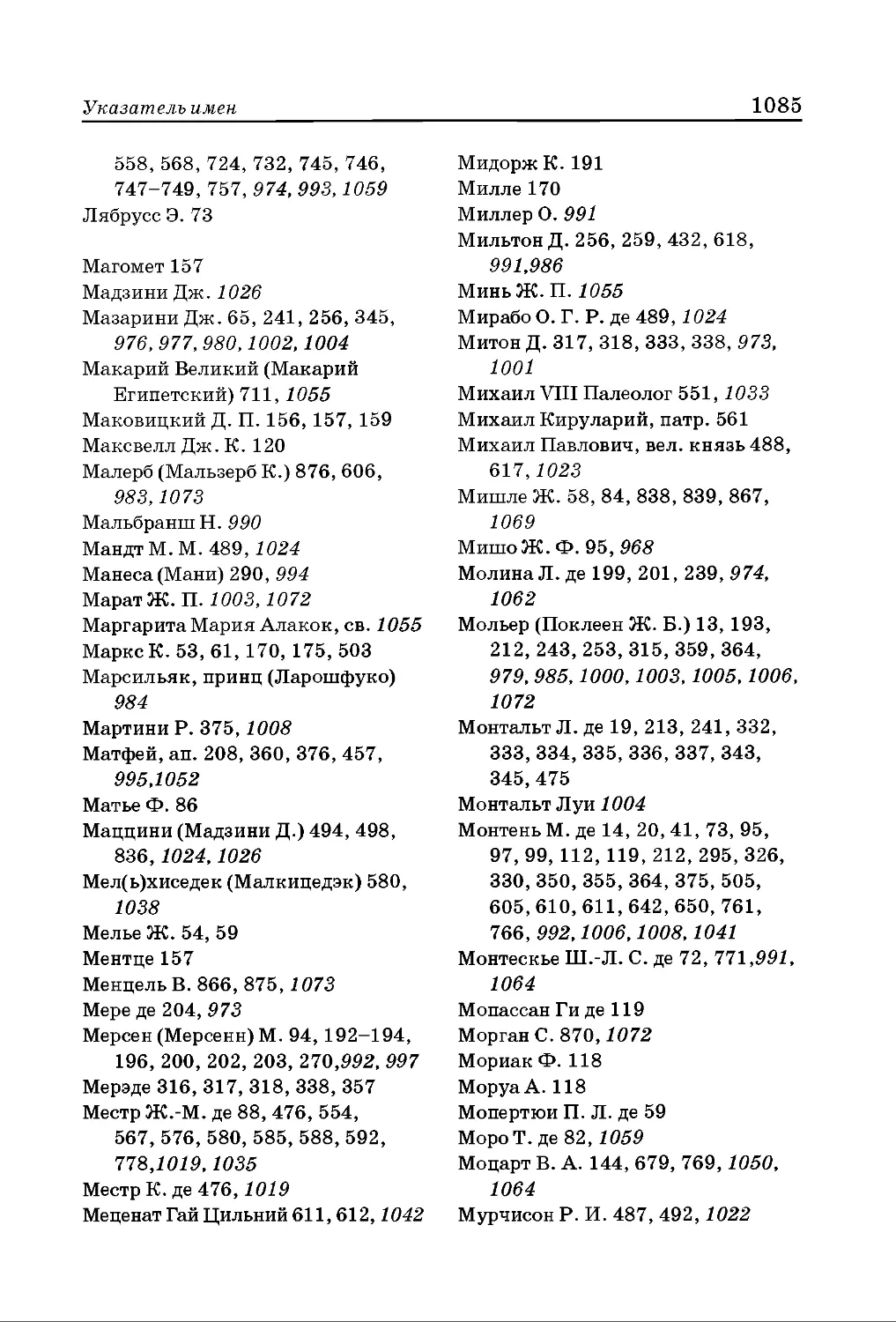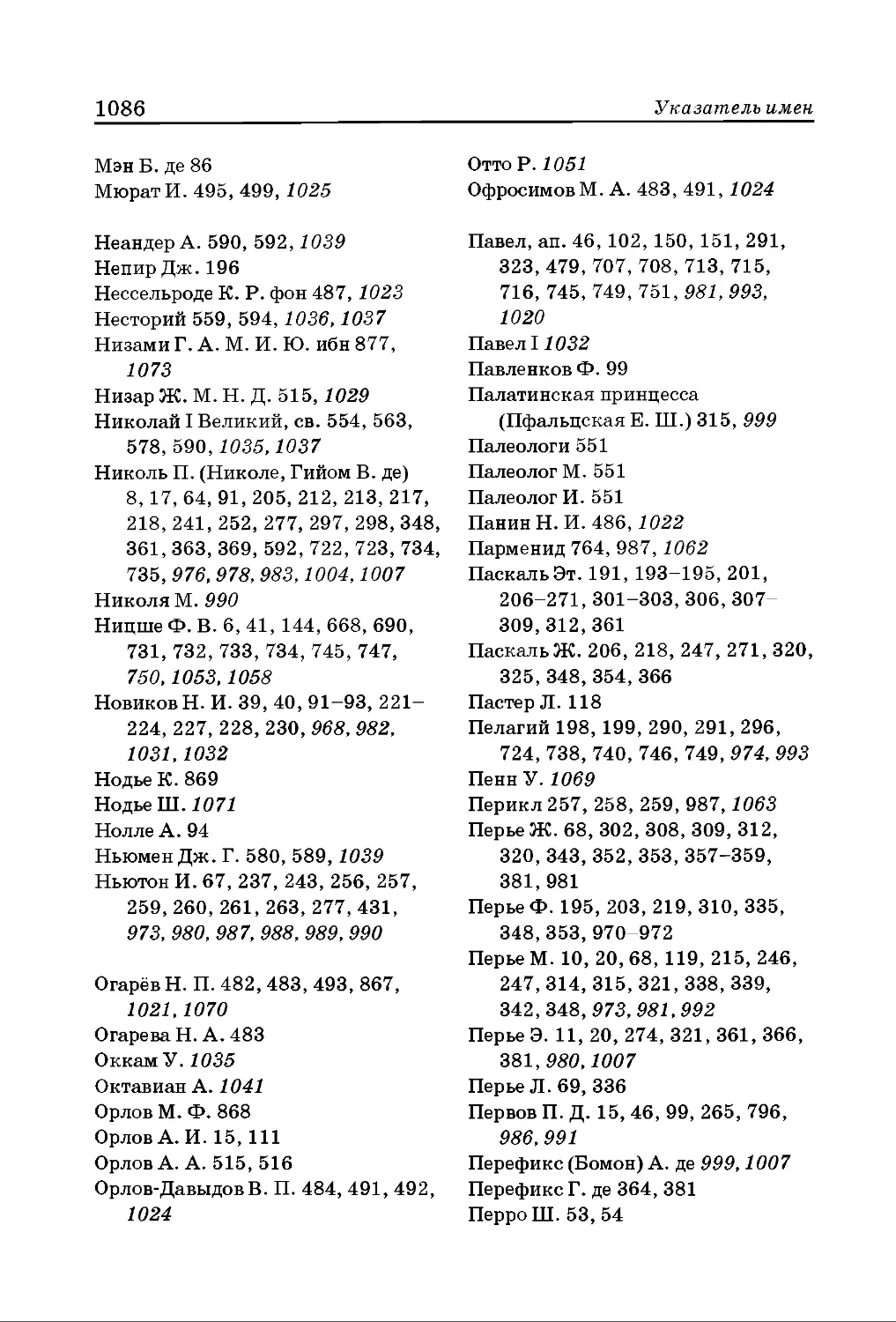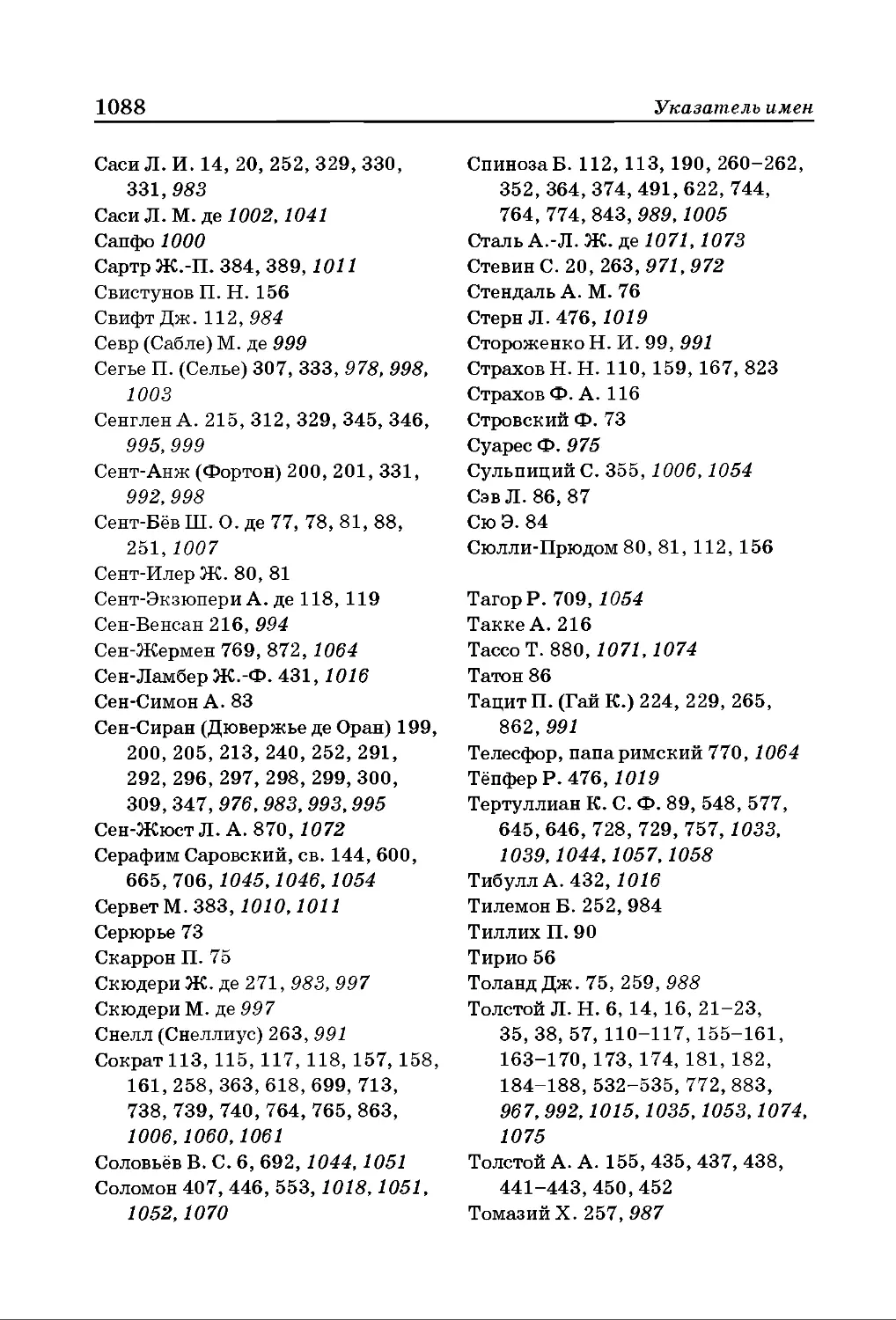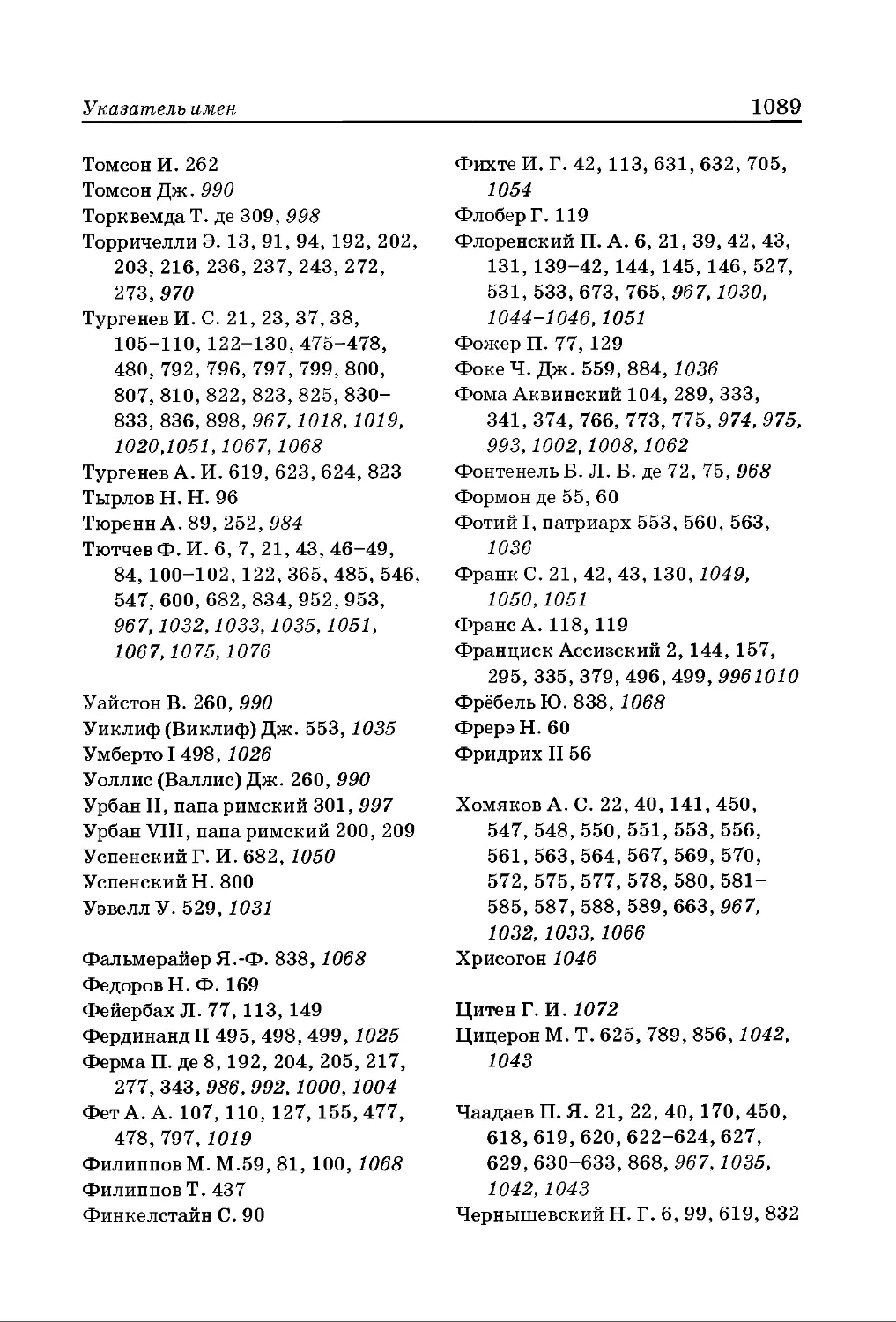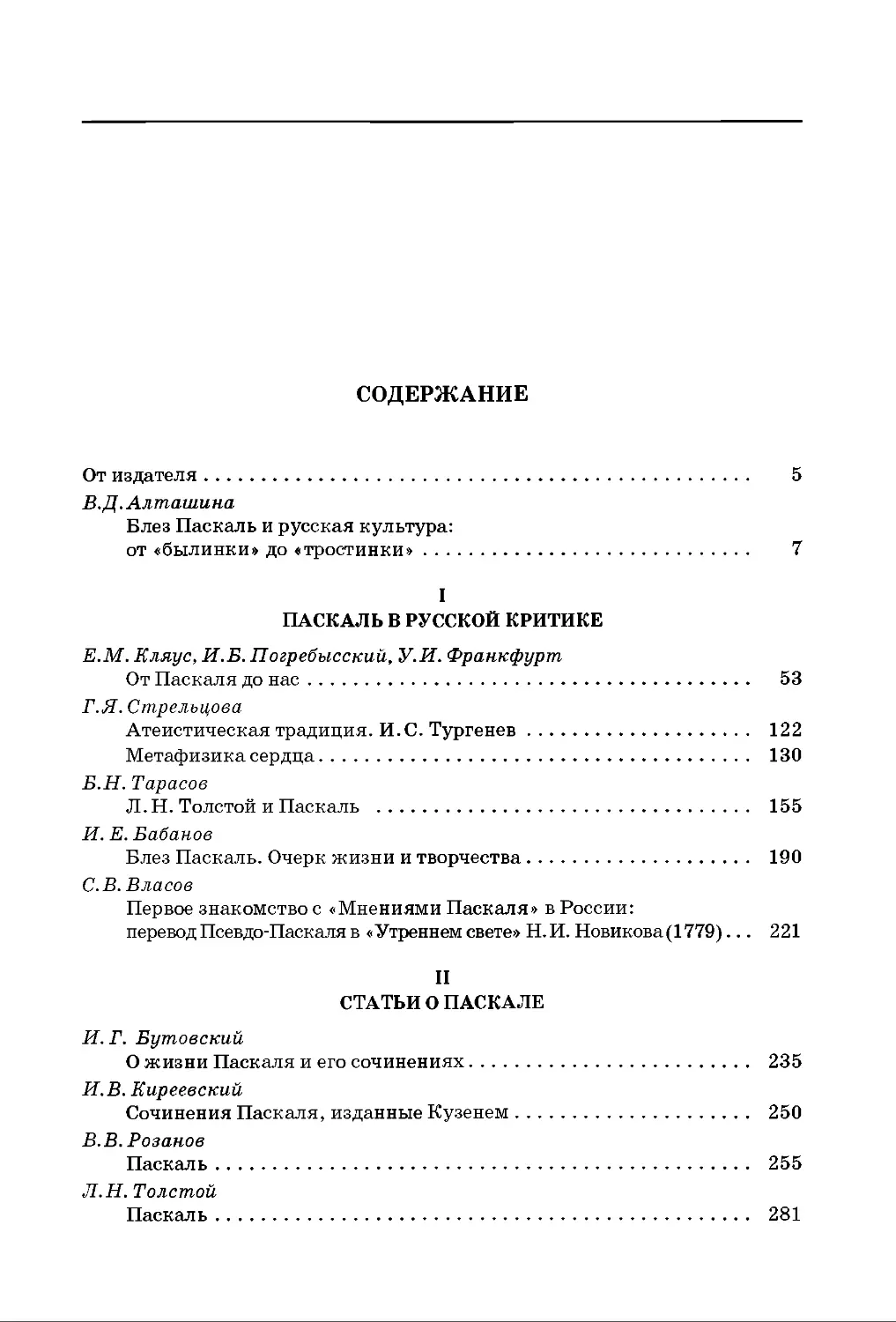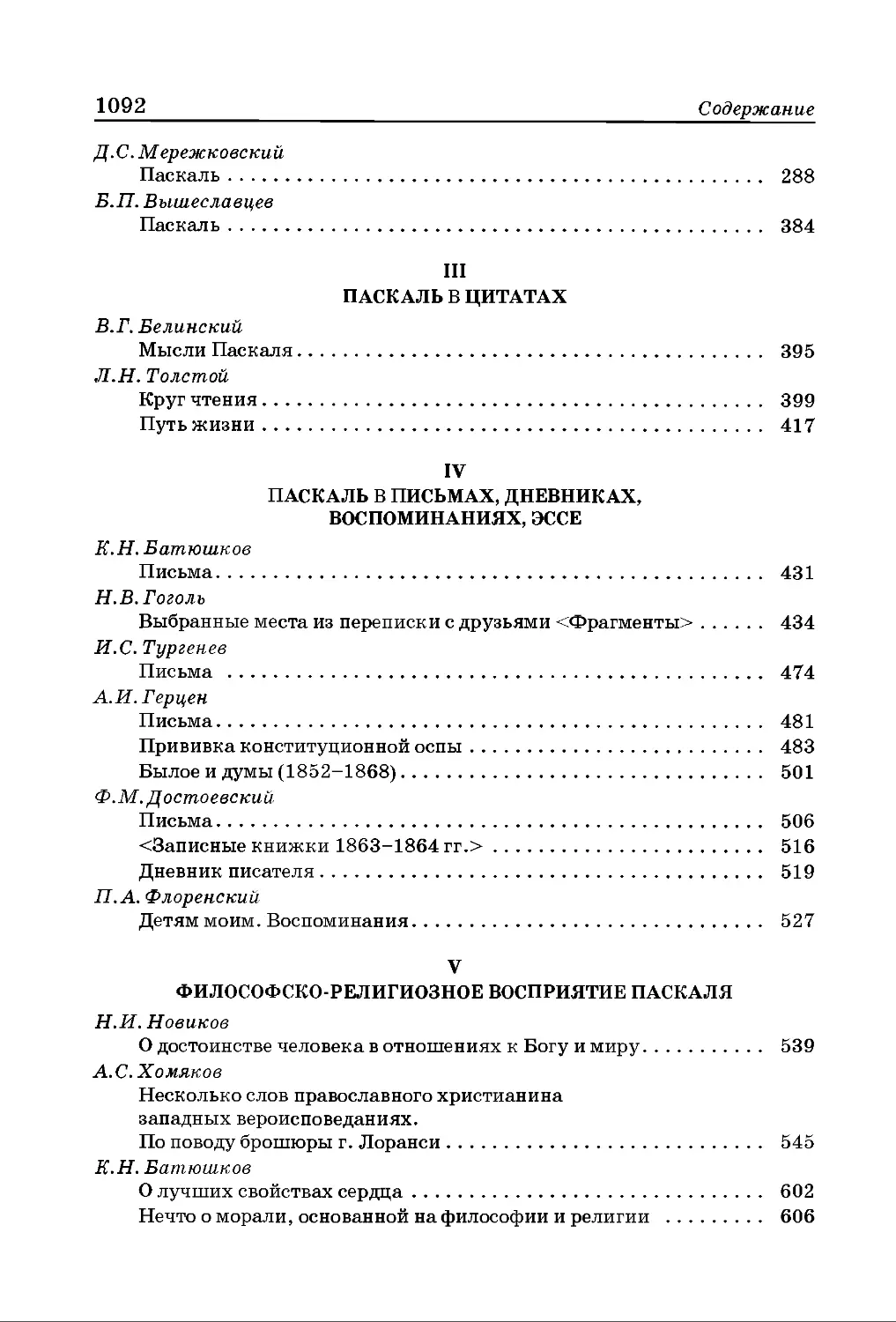Author: Алташина В.
Tags: философия антология издательство санкт-петербург русская христианская гуманитарная академия
ISBN: 978-5-88812-560-1
Year: 1993
Similar
Text
СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ОБРАЗОВАНИЯ
РУССКАЯ ХРИСТИАНСКАЯ ГУМАНИТАРНАЯ АКАДЕМИЯ
Серия «Русский Путь: pro et contra» основана в 1993 г.
РУССКАЯ ХРИСТИАНСКАЯ ГУМАНИТАРНАЯ АКАДЕМИЯ
БЛЕЗ ПАСКАЛЬ:
PRO ET CONTRA
Лигностъ и творгеское наследие Паскаля в восприятии и оценке русских философов и писателей
Антология
Издательство
Русской христианской гуманитарной академии Санкт-Петербург
2013
Серия «РУССКИЙ ПУТЬ»
Серия основана в 1993 г.
Редакционная коллегия серии:
Д.К. Бурлака (председатель), В.Е. Багно, С.А. Гончаров, А.А. Ермичев, митрополит Иларион (Алфеев), К.Г. Исупов (ученый секретарь), А.А. Корольков, Р.В. Светлов, В.Ф. Федоров, С. С. Хоружий
Ответственный редактор тома
Д.К. Бурлака Составитель В.Д.Алташина
Исследование осуществлено при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ), проект № 12-04-00180 а
Блез Паскаль: pro et contra, антология / Вступ. статья, сост., подготовка текста и комментарии В. Д. Алташиной.— СПб.: РХГА, 2013.— 1095 с.— (Русский Путь).
ISBN 978-5-88812-560-1
Очередной том в серии «Русский Путь» представляют тексты, отражающие восприятие личности и философских идей французского ученого и мыслителя XVII в. Блеза Паскаля (1623-1652). Антология состоит из семи разделов, представляющих разные аспекты освоения Паскаля в России на протяжении трех столетий — от XVIII до XXI в. в документальной (письма, дневники, мемуары), философской и художественной литературе. К идеям Паскаля обращались такие мыслители и писатели, как Хомяков, Мережковский, Л. Толстой, Тургенев, Достоевский, Флоренский, Франк и многие другие. Российские авторы не только упоминают имя французского философа и его труды, но и творчески перерабатывают его идеи, часто вдохновляясь ими для построения своих концепций.
Книга рассчитана как на специалистов — литературоведов и философов, культурологов, студентов, так и на самый широкий круг читателей, интересующихся мировой литературой и философией.
На фронтисписе:
Блез Паскаль. Портрет работы Филиппа де Шампеня
ISBN 978-5-88812-560-1
© В. Д. Алташина, вступ. статья, сост., коммент., 2013
© Русская христианская гуманитарная академия,2013
© «Русский Путь», название серии, 1993
ДОРОГОЙ ЧИТАТЕЛЬ!
Вы держите в руках очередное издание «Русского Пути» — «Блез Паскаль: pro et contra».
Позволим себе напомнить читателю замысел и историю реализации « Русского Пути», более известного широкой публике по подзаголовку «pro et contra».
Изначальный замысел проекта состоял в стремлении представить российскую культуру
Изначальный замысел проекта состоял в стремлении представить российскую культуру в системе сущностных суждений о самой себе, отражающих динамику ее развития во всей ее противоречивости. В качестве феноменов, символизирующих духовную динамику в развитии нашей страны, могли бы фигурировать события (войны, революции), идеи или мифологемы (свобода, власть), социокультурные формообразования и течения (монархия, западничество). Этот тематический слой уже включен в разработку. Однако мы начали реализацию проекта наиболее простым и, в том смысле, в котором начало вообще образует простое в составе целого, правильным путем.
На первом этапе развития проекта «Русский Путь» в качестве символов национального культуротворчества были избраны выдающиеся люди России. «Русский Путь» открылся в 1994 году антологией «Николай Бердяев: pro et contra. Личность и творчество Н. А. Бердяева в оценке отечественных мыслителей и исследователей». Последующие книги были посвящены творчеству и судьбам видных деятелей российской истории и культуры. Состав каждой из них формировался как сборник исследований и воспоминаний, компактных по размеру и емких по содержанию, оценивающих жизнь и творчество этих представителей нашей культуры со стороны других видных ее деятелей — сторонников и продолжателей либо критиков и оппонентов. Тексты антологий снабжались комментариями, помогающими современному читателю осознать исторические обстоятельства возникновения той или иной оценки, мнения.
За девятнадцать лет серия выросла и ныне представляет собой нечто подобное дереву, корень которого составляет сам замысел духовного осмысления
6
От издателя
культурно-исторических реалий, ствол образует история культуры в ее тематическом единстве, а ветви суть различные аспекты цивилизационного развития — литература и поэзия, философия и теология, политика. В литературнопоэтической подсерии «Русского Пути» были опубликованы антологии о А. С. Пушкине, М.Ю. Лермонтове, Н.В. Гоголе, Ф.И. Тютчеве, Л.Н. Толстом, А.П. Чехове, М. Горьком, В. В. Набокове, И. Бунине, Н. Гумилеве, А. Ахматовой, А. Блоке, А. Белом, В. Маяковском, 3. Гиппиус, Н. Заболоцком. Философско- теологическая подсерия представлена С. Булгаковым, Вл. Соловьевым, П.А. Флоренским, В. В. Розановым, а также, помимо других российских философов, западными мыслителями в русской рецепции — Платоном, Вл. Августином, Н. Макиавелли, Ж.-Ж. Руссо, И. Кантом, Ф. Шеллингом, Ф. Ницше. Научная и политическая ветви проекта представлены антологиями о Павлове и Вернадском, а также книгами, посвященными Петру I, Екатерине II, Александру I, Александру II, К.П. Победоносцеву. Этот круг, мы надеемся, будет в ближайшее время расширен. Следует отметить и таких фигурантов «Русского Пути», деятельность которых не поддается однозначной тематической рубрикации. В их числе Н. Карамзин, Н. Чернышевский, Д. Андреев. При всем различии их деятельности указанные личности являются субъектами именно нашей — российской — культуры.
Академии удалось привлечь к сотрудничеству в «Русском Пути» замечательных ученых, деятельность которых получила и продолжает получать поддержку Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ), придавшего качественно иной импульс развитию проекта. В результате «Русский Путь» расширяется структурно и содержательно. Итогом этого процесса может стать «Энциклопедия самосознания русской культуры». Антологию, посвященную Паскалю, можно рассматривать в качестве одного из шагов на пути реализации этого замысла.
В. Д. Алташина
БЛЕЗ ПАСКАЛЬ И РУССКАЯ КУЛЬТУРА: ОТ «БЫЛИНКИ» ДО «ТРОСТИНКИ»
Что знаем мы о Паскале? Для современных технарей и компьютерщиков — это скорее известный язык программирования1, чем создатель счетной машинки — прообраза компьютера, для физиков — наименование единицы измерения давления, для математиков — автор принципа «математического ожидания» — одного из основных понятий теории вероятности, для философов особое значение имеют его рассуждения о двух бесконечностях и ужасающем безмолвии Вселенной, что дает основания видеть в нем одного из предшественников экзистенциализма, для филологов — это его «Мысли», чаще всего воспринимаемые в контексте афористической литературы XVII в., и «Провинциальные письма» — образец блестящей галльской прозы. Найдутся те, кто слышал о «мыслящем тростнике» и о «носе Клеопатры», но вряд ли вспомнят автора этих бессмертных метафор. Русскому читателю скорее припомнится Ф. Тютчев с его «И ропщет мыслящий тростник?», благодаря которому этот образ прочно вошел в русскую литературную, главным образом поэтическую, традицию. Даже более сведущие в лучшем случае вспомнят образ «бездны», «монарха без развлечений» и потрясающее по своей емкости восклицание «Меня ужасает вечное безмолвие этих бесконечных пространств!». Кое-кто, быть может, припомнит «пари Паскаля», но вряд ли сможет объяснить его смысл. На сегодняшний день — это все, что осталось от творений великого 1 Паскаль (Pascal) — язык программирования общего назначения. Один из наи более известных языков программирования, широко применялся в промыш ленном программировании, обучении программированию в высшей школе, является базой для ряда других языков. Если набрать «Паскаль» в Интернете, то ссылка на язык программирования из Википедии оказывается в поисковых системах на втором месте после краткой справки о мыслителе.
8
В.Д.АЛТАШИНА
ученого, но и эта малость свидетельствует о его удивительной много- ликости и широте интересов.
Действительно, он одновременно мог работать над основами теории вероятности и интегрального исчисления, активно участвовать в религиозной полемике, размышлять о проблемах человеческого существования, изобретать общественный транспорт, быть акционером при осушении болот в Пуату, писать педагогические трактаты, при этом страдая от тяжелейших болей, не покидавших его с восемнадцатилетнего возраста.
Многообразие его деятельности нашло отражение в самом известном труде— «Мыслях» (1656-1662), над которыми он трудился в последние годы своей краткой жизни (1623-1662). Калейдоскопическая фрагментарность, приведшая в недоумение первых читателей, множество тем и проблем, порой только намеченных, являют нам наиболее достоверный портрет их создателя, опубликовавшего при жизни лишь малую толику своих сочинений.
Современникам он был известен как ученый, автор «Опыта о конических сечениях» (1640), «Новых опытов, касающихся пустоты» (1647), «Рассказа о великом опыте по равновесию жидкостей» (1648), атакже «Трактата о равновесии жидкостей» и «Трактата о весе массы воздуха» (1651, опубл. 1663), представляющих собой фрагменты несохранившегося «Трактатао пустоте», «Истории рулетки, или центроиды, и прилегающих к нему трактатов» (1658), «Писем об измерении кривых» (1659) и изданного посмертно, но, безусловно, известного ученому миру (этому посвящена переписка Паскаля с Ферма) «Трактата об арифметическом треугольнике и прилегающих к нему трактатов» (1654, опуб.1665).
Совсем с другой, неожиданной стороны раскрыли его «Провинциальные письма», публиковавшиеся с 1656 по 1657 гг., в которых Паскаль не только проявляет себя как страстный защитник истинной религии и приверженец янсенизма, но и демонстрирует свой удивительный полемический дар, который обеспечил этому творению славу образца сатирической прозы. О необычайном успехе этого творения свидетельствуют переиздания, последовавшие одно за другим: «Письма» были изданы отдельной книгой в 1657 г., в 1658 г. они были переведены на латинский язык самим Николем2, в 1659 г. переизданы снова, в последний раз при жизни их автора. «Письма к провинциалу» представляют собой сборник из восемнадцати писем полемического характера, опубликованных в 1656-1657 гг. Причиной его появления стала дискуссия между янсенистами и иезуитами о характере учения
См. коммент. 48 к статье И. Бутовского.
Блез Паскаль и русская культура: от «былинки» до «тростинки»
9
К. Янсения. Когда 31 января 1655 г. один из приятелей Паскаля, маркиз де Линкур, герцог де Ла Рош Гийон, пэр Франции, решил исповедаться, его духовник встретил его довольно холодно, пояснив, что церковь Сен-Сюльпис, к которой он принадлежал, не считает возможным терпеть более заблуждения герцога, доказательством которых является его пребывание в центре янсенизма Пор-Рояль, и отказался дать ему отпущение грехов, сославшись на то, что папская булла осудила «Августинус» Янсения3. Сей вопиющий факт возмутил приверженцев янсенизма, и один из их лидеров, Великий Арно4, опубликовал в мае 1655 г. памфлет под названием «Письмо знатному человеку», с которого началось наступление на папистов и иезуитов. За ним вскоре последовало «Второе письмо герцогу и пэру», в котором Арно открыто заявляет, что не обнаружил в тексте Янсения тех пяти положений, которые были осуждены Папой. Весь Париж говорит об этой полемике, а в Пор-Рояле начинают волноваться о том, какой будет официальная реакция: все уверены в том, что Арно будет отлучен от церкви, а монастырь закрыт.
Вот тут-то и появляется Паскаль. Одни источники утверждают, что сам Арно попросил его вмешаться, другие полагают, что идея принадлежит Паскалю, который решает помочь приятелю. Заметим, что двумя годами раньше другой его друг, де Мере, обратился к нему за помощью в расчетах игры в кости. Размышляя над поставленной им задачей, Паскаль создает арифметический треугольник и находит принцип «математического ожидания»: величайшие творения рождаются из дружеской помощи! Паскаль, который к тому времени еще почти ничего не написал, но ясность ума которого, четкость и логичность формулировок были хорошо известны близким, решил взяться за перо и буквально на следующий день написал первое письмо, которое доказало, что Паскаль, как и его сестра Жаклин, талантливая поэтесса, наделен литературным даром5.
История создания почти всех произведений Паскаля, будь они научные, религиозные или философские, примечательна, и почти всегда непосредственным толчком для их появления становится факт реальной действительности. Так, начало работы над «Мыслями» связано с «чудом о терне». Племянница и крестница Паскаля, воспитанница Пор-Рояля, 3 В целях экономии места отсылаю любознательного читателя ко второй части настоящего издания «Статьи о Паскале», и прежде всего, к статье Д. С. Мережковского, которая дает исчерпывающее представление об этой непростой религиозной полемике.
4 См. коммент. 47 к статье И. Бутовского.
5 См. об этом: Attali J. Blaise Pascal ou le génie français. P.: Fayard, 2000. P. 246-306.
10
В.Д.АЛТАШИНА
Маргарита Перье, оставившая впоследствии свои воспоминания, ставшие наряду с жизнеописанием, написанным ее матерью, бесценным источником для изучения жизни великого ученого, на протяжении трех лет страдала от абсцесса глаза, который, по мнению именитых медиков, перепробовавших все средства для лечения, неминуемо привел бы к смерти девочки. В марте 1656 г. в Пор-Рояль была привезена на два дня священная реликвия — терн венка Христа, купленного Св. Людовиком в 1229 г., частицы которого были распределены между церквями Франции. Когда монахини по очереди подходили к святой реликвии, Маргарита приложилась к ней больным глазом, и той же ночью свершилось чудо — глаз выздоровел. Все врачи, прежде лечившие девочку, констатировали факт чудесного исцеления, чудо было официально признано церковными властями и во многом способствовало восстановлению влияния Пор-Рояля и янсенизма в целом. Событие произвело очень сильное впечатление на Паскаля, сделавшего свои первые записи о чудесах, вошедшие затем в «Мысли».
Обращению Паскаля к религии способствовали еще два неординарных случая: первый связан со знаменитым происшествием на мосту в Нейи, когда передние лошади коляски, на которой ехал Паскаль, вдруг понесли и он чудом спасся, уцелев между «двух бездн» — полагают, что страх перед бездной возник у него именно после этого случая. Шарль Бодлер, для которого образ бездны является одним из ключевых, открывает свой сонет «Бездна» именем французского философа: «Pascal avait son gouffre, avec lui se mouvant» — «Ты бездну страшную, Паскаль, влачил с собою» (пер. Эллиса). Второе ключевое для Паскаля событие датируется 23 ноября того же 1654 г., когда среди ночи Паскаля ослепил огонь, он почувствовал присутствие Бога, потерял сознание, а очнувшись на заре записал свой знаменитый «мемориал», или «амулет», найденный после его смерти зашитым в платье.
Но хотя толчком для начала работы послужили чудесные события, необъяснимые с точки зрения науки и разума, именно к разуму апеллирует Паскаль в своем творении, предназначенном для его друзей, вольнодумцев, либертенов, которых он пытается вернуть в лоно религии. Несмотря на то что сам Паскаль был убежден, что человек не разумом, но сердцем постигает Бога, он выстраивает свое творение по всем законам логики, как это убедительно демонстрирует знаменитое «пари» Паскаля6, которое может быть выражено простой арифметической формулой: Человек — Бог < Человек + Бог, т. е. человек без Бога ничтожен, Человек с Богом велик. Этой схеме 6 Поскольку к «пари Паскаля» часто будут обращаться авторы данной антологии, мы помещаем его в Приложении.
Блез Паскаль и русская культура: от «былинки» до «тростинки»
11
соответствует деление в некоторых изданиях на две части: «Человек, не познавший Бога» и «Человек, обретший Бога». К сожалению, мы не можем себе представить, каким было бы это произведение, если бы Паскаль завершил его, до нас оно дошло лишь в виде разрозненных черновиков, набросков, порядок следования которых до сих пор вызывает споры и приводит к регулярным переизданиям, причем всякий раз в новом порядке. Свои заметки Паскаль писал на любом подручном материале, и после его кончины были найдены многочисленные «связки» (liasses), объединявшие около тысячи отрывков, различных по жанру, объему и степени завершенности, однако их последовательность самим автором определена не была, что и привело к различному расположению материала.
«Мысли о религии и других предметах», которые, по замыслу Паскаля, должны были вылиться в «Апологию христианской религии», увидели свет в 1669 г., шокировав читателя тем, что «мысли совершенные, последовательные и ясные» тонут в ворохе «мыслей несовершенных, беспорядочных, непоследовательных, которые не могут быть полезны»,— так писал их первый издатель, племянник Паскаля Этьен Перье, который в своем предисловии считает необходимым предупредить читателя, что тот увидит среди публикуемых фрагментов «кое-что от великого намерения господина Паскаля: но увидит он очень мало; и те вещи, которые он тут найдет, столь несовершенны, столь мало глубоки, столь мало удобоваримы, что могут дать лишь очень грубое представление о том, как он хотел бы их рассмотреть» 7. Это несовершенство современники объясняли тяжелой болезнью Паскаля, что привело к распространенной в последующие эпохи идее о его сумасшествии.
Вероятно, «паскалевский вопрос», наряду с гомеровским и шекспировским, так и останется неразрешенным. Различные классификации ведут к разному прочтению и пониманию, предлагая пример нелинейного построения текста. Вольтер заметил в отношении своего «Философского словаря», что если после статьи “amour” идет “antropophagie”, то это устанавливает незримые связи между предметами.
Подобно романам Павича, «Мысли» Паскаля публикуются, а следовательно, и читаются в разном порядке. Так, Брюншвиг, один из первых уважаемых классификаторов8, выбирает тематический 7 См.: Susini L. Pensées de Blaise Pascal. P.: Gallimard, 2007. P. 18-19.
8 Впервые Брюншвиг предложил свою классификацию в 1897 г., но наиболее полное издание было подготовлено им в соавторстве (Brunschvicg L., Boutroux P., Gazier F.) — Pascal B. Oeuvres complètes: In 14 vol. // Collection des Grands écrivains de la France. P., 1908-1925.
12
В.Д.АЛТАШИНА
подход, соединяя сходные по теме и образам фрагменты, не учитывая при этом, что сам Паскаль поместил их в разные «связки». Лафюма9, напротив, руководствуется порядком связок, что принимается во внимание и Ж. Шевалье10 11, который, стремясь дать читателю наиболее точное представление о замысле Паскаля, предложил свою классификацию фрагментов. Один из крупнейших исследователей Паскаля, Ж. Менар, предложил свое четырехтомное издание (1964-1992)п, а в конце прошлого века (1998-2000) появилось новое наиболее авторитетное на сегодняшний день двухтомное издание Ле Герна12.
Во Франции изучение жизни и творчества Паскаля представлено как фундаментальными исследованиями, так и многочисленными публикациями, посвященными частным проблемам. На родине писателя в Клермон-Ферране, университет которого носит его имя, организован международный центр Блеза Паскаля, ежегодно выпускающий информационный вестник13. Широко было отмечено трехсотлетие со дня его смерти (1962), в связи с чем были не только переизданы его творения (собрание его сочинений неоднократно переиздавалось в самом авторитетном во Франции издании «Плеяды»), но и прошли конференции, появились многочисленные статьи и монографии.
Современное паскалеведение развивается в основном в трех направлениях: интерес вызывает, прежде всего, сама личность гениального и парадоксального мыслителя, проявившего свои чудесные математические таланты в юном возрасте, прославившегося исследованиями в области математики и физики и внезапно, в результате чудесного обращения, разочаровавшегося в науке и пришедшего к Богу; с другой стороны, Паскаль как религиозный мыслитель оказывается в центре работ, посвященных церковной ситуации во Франции XVII в., янсенизму, Пор-Роялю и иезуитам. И, наконец, не прекращаются попытки реконструировать его величайшее творение «Мысли». Среди ведущих паскалеведов назовем Л. Брюншвига, чьи труды, появившиеся в начале XX в., привлекли внимание к творчеству Паскаля. Его эстафету в 1960-е гг. подхватил Л. Лафюма, в центре внимания которого была история создания и структура «Мыслей». Большой 9 Pascal В. Oeuvres completes. P., 1951. L. Lafuma. По этому изданию выполнен перевод Ю. Гинзбург.
10 Pascal В. Oeuvres complètes. P.: Bibliothèque de la Pléiade, 1954. J. Chevalier. Это издание легло в основу первого русского перевода Э. Липецкой.
11 Pascal В. Oeuvres complètes: In 4 vol. P., 1964-1992. J. Mesnard.
12 Pascal B. Oeuvres complètes: In 2 vol. P.: Bibliothèque de la Pléiade, 1998-2000.
M. Le Guern.
13 Courrier du Centre international Blaise Pascal.
Блез Паскаль и русская культура: от «былинки» до «тростинки»
13
вклад внес Жан Менар, посвятивший Паскалю около 40 работ14, выходивших с 1950 по 2011-е гг. В 1980-1990-х гг. появляются работы П. Манара15, посвященные философской составляющей творчества Паскаля. Начало XXI в. ознаменовалось новым всплеском интереса в связи с тем, что «Мысли» вошли в программу университетских экзаменов. Так, согласно библиографии «Вестника международного центра Блеза Паскаля», только за 2011 и неполный 2012 гг. появилось более сорока монографий, сборников и статей16.
Необходимо отметить, что большинство работ рассматривает личность и труды Паскаля в рамках XVII столетия, в связи с развитием науки, философии, литературы этого времени, в то время как влияние Паскаля на развитие европейской философии и литературы однозначно признается, но работ, посвященных данной проблеме, не много.
А какова судьба Паскаля в России? В XVIII в. интерес представляли исключительно его научные труды и опыты с трубками на горе Пюи дю Дом по измерению массы воздуха, которыми заинтересовался Ломоносов. Впервые в России его имя упоминается именно в связи с опытами Торричелли в 1728 г.17 В конце века его открывают как философа, автора «Писем к провинциалу» и «Мыслей», с которыми образованные русские знакомятся в оригинале. Любопытный факт: несмотря на то что в это время появляется много переводной литературы, прежде всего с французского, предыдущее столетие представлено, главным образом, творениями классицистов — Корнеля, Расина, Мольера, и лишь в начале XIX в. делаются попытки перевода «Мыслей». П. С. Бобрищев-Пушкин начинает трудиться над переводом еще до декабрьского восстания 1825 г. и продолжает работу уже в ссылке, где ему помогает И. И. Пущин, который, сознавая огрехи «русского Паскаля» — «младенец несколько ряб лицом», — просит о помощи Е. А. Энгельгарда, однако перевод так и не был издан: «Если Москва того же мнения как Петербург, то просим вас этого философа, не узнанного в русском костюме, возвратить, или лучше сказать, сослать в Сибирь. Пушкин просил меня вытребовать его детище»,— пишет Пущин, который весьма критически отнесся к первому переводу И. Бутовского, вышедшему в 1843 г., заметив, что удивляется, как 14 См. например: Mesnard J. Pascal, l’homme et l’oeuvre. P., 1951 ; Pascal et les Roan- nez: In 2 vol. P., 1965; Les Pensées de Pascal ont 300 ans. P., 1971; L’Horizon européen dans l’oeuvre de Pascal. P., 1992; Les Pensées de Pascal. P., 1993.
15 Magnard P. La clé du chiffre. P., 1991.
16 Courrier du Centre international Biaise Pascal. 2012. № 34. P. 46-47.
17 См.: Тарасов Б.H. «Мыслящий тростник». Жизнь и творчество Паскаля в восприятии русских философов и писателей. М., 2004. С. 247.
14
В.Д.АЛТАШИНА
такой перевод был напечатан, но не удивится, если «издатель перевода останется при своих экземплярах»18. Впрочем, и перевод Бобрищева- Пушкина был, по-видимому, немногим лучше: Л. Толстой, который часто цитирует Паскаля в «Круге чтения» и «Пути жизни», где переводит его сам, писал, что он «не вполне хорош», в нем «многого недостает: едва ли не самые замечательные статьи пропущены» 19.
Как видим, судьба «русского Паскаля» с самого начала была непростой. Впервые русский читатель смог открыть для себя Паскаля лишь в 1843 г., когда появился перевод, сделанный И. Бутовским. Хотя этот перевод получил высокую оценку В. Г. Белинского, который писал, что переводчик «заслуживает полную благодарность за перевод дельной книги»20, читатель вряд ли мог составить себе верное представление о труде Паскаля, ибо под общим заглавием «Мысли» были собраны отрывки из разных философских и научных трактатов («Введение к Трактату о пустоте», «Разговор с де Саси об Эпиктете и Монтене», «О геометрическом уме и об искусстве убеждать», «Три рассуждения о положении знати»). Автор перевода произвольно поделил текст на главы и назвал их. Весь текст занимает 299 страниц небольшого формата, где самая значительная часть, связанная с религией, оказалась опущена. Но винить в этом переводчика не приходится: его перевод точно соответствует первому тому издания Ренуара, вышедшему в 1803 г. и неоднократно переиздававшемуся на протяжении двух десятилетий21. Подобный подход свидетельствует о желании переводчика представить русскому читателю разные грани паскалевского таланта, но неизбежно приводит к чрезмерной лапидарности и разнородности материала, который не сложился в единое целое и не был способен дать сколь-нибудь адекватное представление об ученом и философе. Знаменитое паскалевское сравнение человека с «мыслящим тростником», помещенное в главу «Общее понятие о человеке», впервые на русском языке выглядело так: «Человек есть не что иное, как слабая былинка в природе; но это — былинка мыслящая»22. Значение издания И. Бутовского в том, что оно было первой попыткой не только познакомить русского читателя с творением Паскаля, но и представить самого автора: И. Бутовский 18 См. об этом: Там же. С. 258-262.
19 См.: Там же. С. 262.
20 Клаус Е.М., Погребысский И. Б., Франкфурт У. И. Паскаль (1623-1662). М., 1971. С. 304.
21 Pensees de Blaise Pascal publiées avec un Avertissement de A.-A. Renouard: In 2 vol. P., 1803(1812, 1820).
22 Паскаль В. Мысли. СПб., 1843. С. 103.
Блез Паскаль и русская культура: от «былинки» до «тростинки»
15
предваряет перевод своей статьей, помещенной в данной антологии. Любопытное совпадение: русский перевод выходит в знаковый для изданий Паскаля год, начиная с которого последуют переиздания «Мыслей» в связи со знаменитым выступлением В. Кузена во Французской академии о необходимости нового издания, соответствующего подлиннику23.
Бутовский явился основоположником широко практиковавшегося в дальнейшем перевода избранных мыслей Паскаля, продолженного Орловым и Гюнсбургом на рубеже веков. Эта традиция публикации отдельных мыслей была усвоена XX в., когда выходят сборники афоризмов французских моралистов XVII-XVIII вв. Ларошфуко, Лабрюйера, Паскаля и других.
Первый более основательный, хотя и не полный, перевод, сделанный П. Д. Первовым24, появился в конце XIX в., в 1888 г. (переиздан 1899 и 1905) на основании издания Ш. Луандра 1854 г.25, переизданного в 1866 г. Как указывает французский редактор, текст соответствует подлинному рукописному тексту, однако и в нем сохранено предложенное в более ранних изданиях (в издании Боссю26) деление на две части: о человеке и о религии, чего самим Паскалем предусмотрено не было, но что стабильно сохранялось и в более поздних изданиях, где уже четко было выделено две части: Человек без Бога и Человек с Богом.
В следующем году выходит книга А. И. Орлова «Французский мудрец Влас Паскаль. Его жизнь и труды» (переиздана в 191127), составитель которой выбирает, как об этом пишут Е. М. Кляус, И. Б. Погребысский, У. И. Франкфурт28, «преимущественно религиозные мысли». Однако на самом деле Орлов делает краткий перевод все тех же мыслей о величии и ничтожестве человека, которые уже были переведены Бутовским, но в еще меньшем объеме. Как отмечают все те же исследователи, этот план и перевод был одобрен Л. Толстым, который посоветовал свое расположение материала, од23 Cousin V. Rapport à l’Académie française sur la nécessité d’une nouvelle édition des Pensées de Biaise Pascal lu dans les séances du 1er avril, 1er mai, lerjuin, 1er juillet et 1er août 1842.
24 Паскаль Б. Мысли / Перевод П. Д. Первова. СПб.: «Пантеон литературы», 1889.
260 с.
26 Pensées de Pascal. Edition variorum d’après le texte du manuscrit autographe par Charles Louandre. Paris, 1854.
26 Oeuvres de Biaise Pascal: In 2 vol. La Haye, 1779.
27 Французский мудрец Паскаль, его жизнь и труды. Составлено А. И. Орловым: В 2 частях. М.: типография типографского дома М. В. Балдин, 1911. 62 с.
28 Кляус Е.М., Погребысский И. Б., Франкфурт У. И. Указ. соч. С. 321.
16
В.Д.АЛТАШИНА
нако это совместное начинание завершено не было. По этому же пути пойдет и М. Э. Гюнзбург, выпустивший в 1904 г. в Санкт-Петербурге «Избранные мысли Паскаля» в своем переводе: предельно краткое издание, насчитывающее лишь 42 страницы29.
В 1892 г. (переиздан в 1902) выходит новый перевод С. Долгова30, впервые с некоторыми комментариями, заимствованными из французского источника. К сожалению, не удалось установить, на какое французское издание опирался переводчик: полного совпадения ни с одним обнаружено не было. Можно предположить, что переводчик проявляет самостоятельность в расположении материала, перенимая опыт французских издателей, весьма вольно обращавшихся с материалом. Задача поисков источника — не из простых, ибо Паскаль переиздавался в огромном количестве, и каждый издатель старался внести свою лепту в труд мыслителя31.
О глубоком интересе Л. Толстого к Паскалю свидетельствуют многие произведения, но прежде всего «Круг чтения» (1904-1908) и «Путь жизни» (1910), в которых «Мысли» цитируются более 200 раз: в последнем чаще Паскаля упоминается только Иисус Христос. В этих книгах французский мыслитель заговорил языком Толстого, который с увлечением и весьма вольно переводит поразившие его отрывки.
Затем Паскаль был забыт почти на 70 лет, и новый перевод Э. Липецкой был изначально напечатан в значительном сокращении в сборнике «Франсуа де Ларошфуко. Максимы. Блез Паскаль. Мысли. Жан де Лабрюйер. Характеры» в 1974 г. Полный же перевод, сделанный по изданию Ж. Шевалье в «Плеяде» 1954 г., вышел лишь в 1995 г. в издательстве «Северо-Запад» в 1995 г. с основательными комментариями и обширной статьей о жизни и творчестве Паскаля И. Бабанова, публикуемой в нашем издании32. В этом же году появился и новый перевод, сделанный Ю. Гинзбург, который регулярно переиздается в последние десятилетия. Ю. Гинзбург делает перевод на основании издания Лафюма (1952)33. Переводчица 29 Избранные мысли Паскаля. Перевод с французского М. Э. Гюнсбурга. С кратким биографическим очерком автора. СПб.: В. Губинский, 1904.
30 Паскаль Б. Мысли. Перевод С. М. Долгова. М.: типография И. Д. Сытина, 1892. 208 с.
31 Согласно Генеральному каталогу Парижской национальной библиотеки с 1669 по 1873 г. вышло 10 различных изданий «Мыслей» Паскаля, многократно переиздававшихся, особенно на протяжении XIX века.
32 Паскаль Б. Мысли / Перевод Э. Липецкой. СПб.: «Северо-Запад», 1995.
33 Паскаль Б. Мысли / Пер. Ю. Гинзубрг. М.: издание Сабашниковых, 1995.
Блез Паскаль и русская культура: от «былинки» до «тростинки»
17
знакомит читателя с Паскалем и погружает его в политическую и религиозную атмосферу эпохи в своей статье «Мысли о главном».
В 1994 г. О. Хома, возродив перевод Долгова, печатает в Москве и Киеве в издательстве под знаковым для Паскаля названием Пор- Рояль не только «Мысли»34, но и «Провинциальные письма», а также «Трактаты, полемические сочинения и письма» — целых три тома паскалевских сочинений в переводах конца XIX в.
В качестве курьеза отметим и книгу В. Халтомы «Импровизация на тему: французские моралисты», вышедшую в 2010 г. в Москве35, где избранные мысли, приведенные в переводе Ю. Гинзбург, переложены автором в назидательные четверостишия.
В настоящее время российский читатель имеет возможность познакомиться с «Мыслями» как в их полном виде — перевод Ю. Гинзбург, так и в отрывках. Начатая первым переводчиком Паскаля на русский язык И. Бутовским практика перевода и публикации выборочных высказываний продолжается и до настоящего времени.
Если о «Мыслях» русский читатель может при желании получить довольно полное представление, то о других произведениях он не имеет и не может иметь почти никакого понятия. Это относится не только к научным трудам, которые были переведены отрывочно и опубликованы в научных журналах, оказавшись доступными лишь узким специалистам, но и к «Письмам к провинциалу».
В России они были изданы лишь дважды с промежутком почти в 100 лет: в переводе А. И. Попова в Санкт-Петербурге в 1898 г. и в Киеве в 1997 г. тиражом 5000 экземпляров. Последнее издание, снабженное комментариями и дополнениями, в частности примечаниями Николя, представляет собой сверенный и отредактированный перевод А. И. Попова — единственный на данный момент. Что и говорить, издания раритетные, малодоступные даже для интересующегося читателя! Зато это сочинение на французском языке, разумеется, было хорошо известно русским интеллигентам XIX — начала XX столетия, о чем свидетельствуют произведения данной антологии. Чтобы читатель не испытал в дальнейшем чувство растерянности и непонимания и получил хотя бы поверхностное представление об этом шедевре сатирической прозы36, позволю себе вкратце остановиться 34 Паскаль Б. Мысли / Перевод О. Хомы и С. Долгова. Киев: Port-Royal, 1994.
36 Халтома В. Импровизация на тему: «Французскиеморалисты». М.: «Компания Спутник», 2010.
36 Статья об этом произведении с изложением его краткого содержания помещена в Словаре величайших произведений французской литературы (1998) (Grandes oeuvres de la littérature française. Dictionnaire. P.: Larousse, 1998).
18
В.Д.АЛТАШИНА
на истории его создания (исчерпывающий исторический очерк дадут представленные в данном сборнике статьи, посвященные Паскалю), но на его содержании, структуре и художественных особенностях.
Первое письмо, получившее горячее одобрение Пор-Рояля, было тайно напечатано 23 января 1656 года и вышло без указания имени автора под заголовком «Письмо к провинциалу одного из его друзей по поводу прений, проходящих сейчас в Сорбонне». Паскаль вел рассказ от лица наивного простака, пожелавшего самостоятельно разобраться в предмете спора и обратившегося за разъяснениями о главном предмете разногласий — Божьей Милости — то к иезуитам и их союзникам, то к янсенистам. «Я быстро стал великим теологом, подтверждения чему вы увидите в дальнейшем»,— пишет простак, пришедший к выводу, что цель прений не поиски истины, а осуждение Арно.
Появление письма произвело ошеломляющий эффект, но Арно все-таки был осужден и исключен из Сорбонны.
Во втором письме Паскаль продолжил разбор сути разногласий между янсенистами и иезуитами, в третьем он обращается к несправедливости нападок на Арно: обвинители не смогли привести из его трудов ни одной строки, заслуживающей порицания. Это письмо было подписано: «Ваш нижайший и покорнейший слуга EAAB.PA.F.D.E.P.S7 ». Аббревиатура означала: «и давнишний друг, Блез Паскаль, овернец, сын Этьена Паскаля».
При дворе письма вызвали сильнейшее негодование, по приказанию канцлера полиция ищет анонимного автора. Были произведены обыски у типографов, допросы рабочих типографий — безрезультатно. Письма тем временем распространялись по Франции, пользуясь большим успехом. Как писал один современник: «Никогда еще почта не зарабатывала столько денег. Оттиски посылались во все города королевства...» В четвертом письме, когда Паскаль переходит к критике моральной теологии иезуитов, чему он посвящает следующие шесть писем, появляются новые персонажи: «порядочный человек» в качестве наблюдателя со стороны и «добрый патер казуист» — главное действующее лицо этих писем, беспрекословно следующий догмам иезуитов и помогающий первому разобраться в их казуизме. Прототипом «доброго патера» стал Антонио Эскобар, автор «Нравоучительного богословия» (1640).
Письма вызвали бурную реакцию ордена: иезуиты яростно защищались: анонимный автор назывался в их проповедях и памфлетах безбожником, обвинялся в искажении цитат, осмеивании священных предметов. В последних письмах Паскаль, сменив комедийные при-
37 Et Ancien Ami Blaise Pascal, Auvergnat, Fils De Etienne Pascal.
Блез Паскаль и русская культура: от «былинки» до «тростинки»
19
емы и остроумие на сарказм, опровергал все обвинения оппонентов. Приводя спорные места, он доказывает, что никогда не искажает выдержек из трудов иезуитов. К этому времени Паскаль был вынужден переезжать с места на место, жить под чужим именем, так как его уже подозревали в авторстве «Писем». Для общины янсенистов опять наступили тяжелые времена: против них был подготовлен новый обвинительный формуляр, и 16 октября 1656 г. папа Александр VII, как и его предшественник, осуждает пять положений из «Августина». Когда королевский духовник отец Ahh;î выпускает брошюру, где объявляет янсенистов еретиками, Паскаль пишет в его адрес семнадцатое и восемнадцатое письма, в которых он возвращается к теме первых — Божьей Милости. Анонимный автор призывает своего противника доказать, а не голословно утверждать, что он еретик, что абсолютно невозможно, ибо он не пропустил ни одной службы и никогда не нарушил ни одной заповеди. Все обвинения отца Анна строятся на силлогизме: тот, кто пишет эти письма, принадлежит Пор- Роялю, Пор-Рояль провозглашен рассадником ереси, следовательно, тот, кто пишет письма, — еретик, хотя ни в речах, ни в письмах нет никаких тому доказательств. «Вы чувствуете удары невидимой руки, которые делают видимыми для всех ваши заблуждения». «Я ничего не жду от мира, я ничего в нем не боюсь, я ничего от него не хочу... А потому я остаюсь неуязвим для всех ваших нападок».
Существовал черновик и девятнадцатого письма, однако, оно не вышло в свет. Полемика прервалась. Вероятно, учитывая ход событий, янсенисты сочли невозможным продолжать ее. Сам же Паскаль впоследствии говорил, что если бы ему еще раз пришлось встать на путь теологической борьбы, то книга была бы написана еще резче. Отдельным сборником «Письма к провинциалу» были изданы в Кёльне в 1657 г. за подписью Луи де Монтальта38, и в том же году они были внесены в Индекс запрещенных книг. Узнав об этом, Паскаль сказал, что если «Письма» осуждены в Риме, это означает, что осуждаемое в них осуждено на небе39. Латинский перевод был также встречен враждебно и сожжен по постановлению королевского совета, но зато казуистической морали был нанесен серьезный удар.
В «Письмах» наиболее полно проявился писательский дар Паскаля. Их популярности способствовало и то, что автор избрал для обсуждения серьезных вопросов богословия «стиль приятный, иронический, 38 Les Provinciales ou les Lettres écrites par Louis de Montalte, â un Provincial de ses amis et aux révérands pères Jésuites sur le sujet de la morale et de la politique de ces Pères. A Cologne, chez Pierre de la Vallée.
39 См.: Тарасов Б. Блез Паскаль. M.: Молодая гвардия, 1979.
20
В.Д.АЛТАШИНА
развлекательный». Паскаль объяснял это стремлением быть понятым более широким кругом читателей: «Чтобы мои письма читали женщины и светские люди и уяснили себе опасность максим и предложений, которые распространялись тогда повсюду и воздействию которых легко поддавались». Чтобы выполнить эту задачу, Паскалю пришлось затратить немало сил: по воспоминаниям Арно, каждое письмо зачитывалось перед обитателями пор-рояльской общины, и если находился хотя бы один недовольный, то автор переделывал его до тех пор, пока не достигал единодушного одобрения.
Несомненно влияние «Писем» на последующее развитие французской литературы. Вольтер называл эту книгу «первой гениальной книгой, написанной прозой» и отмечал, что «этому произведению суждено было создать эпоху в окончательном оформлении языка».
На русский язык были переведены всего два научных трактата Паскаля: «Трактат о равновесии жидкостей» и «Опыт о конических сечениях»40, кроме того, сравнительно недавно появился перевод столь важного для понимания мировоззрения ученого текста, как «О геометрическом уме и искусстве убеждать», написанного в 1657 г., в переводе Г. Я. Стрельцовой, которая также перевела «Разговор с г. де Саси об Эпиктете и Монтене» и «Об обращении грешника». К сожалению, поскольку данные тексты были опубликованы как приложение к книге «Паскаль и европейская культура»41, они остаются малодоступны читателю. Ю. Гинзбург перевела не только «Мысли», но и несколько писем, а также малые сочинения — «Беседу с г-ном де Саси», «Сравнение первых христиан с нынешними», «Молитву, чтобы Бог дал мне употребить болезни во благо» и «Три беседы о положении сильных мира сего». Ей также принадлежит заслуга знакомства с «Жизнью господина Паскаля, написанной госпожой Перье, его сестрой, супругой господина Перье, советника палаты сборов в Клермоне» и «Заметками о жизни господина Паскаля, написанными мадемуазель Маргаритой Перье, его племянницей» — именно эти два мемуарных текста послужили основой для всех жизнеописаний Паскаля.
Однако несмотря на последние издания «Русский Паскаль», судьба которого складывалась непросто с самого начала, до сих пор ожидает своего исследователя, переводчика и издателя.
40 Паскаль Б. Трактат о равновесии жидкостей // Начала гидростатики (Архимед, Стевии, Галилей, Паскаль). М.; Л., 1933; Опыт о конических сечениях. Приложение: «Письмо Лейбница к Перье... племяннику г. Паскаля» // Историко-математические исследования. М., 1961.
41 Стрельцова Г.Я. Паскаль и европейская культура. М.: Республика. С. 434-472.
Блез Паскаль ирусская культура: от «былинки» до «тростинки»
21
В 1971 г. в издательстве «Наука» вышло глубокое и всестороннее исследование многогранной деятельности Паскаля, написанное коллективом авторов — Кляус Е. М., Погребысский И. Б., Франкфурт У. И.,— где он представлен и как физик, и как математик, и как философ, сыгравший видную роль в развитии науки, философии и литературы42. Личности Паскаля посвящены монографии Стрельцовой Г.Я., вышедшая в серии «Мыслители прошлого» (Блез Паскаль. М.: Мысль, 1979), и Тарасова Б. Н., вышедшая в серии «Жизнь замечательных людей» и неоднократно переиздававшаяся (М., 1979, 1982, 2006). Они же являются авторами книг «Паскаль и европейская культура» (1994) и «Мыслящий тростник: Жизнь и творчество Паскаля в восприятии русских философов и писателей» (2005) соответственно. Обе указанных монографии являются ценнейшими источниками сведений о восприятии Паскаля в последующие века в разных странах, они позволяют не только осознать широту и глубину воздействия автора «Мыслей» на мировую культуру, но и во многом восполняют ту лакуну в изучении Паскаля, которая образовалась в России. Авторы провели кропотливую работу по сбору и анализу богатого материала. Наиболее интересные отрывки из произведений наших исследователей включены в первую главу антологии, что позволит читателю оценить влияние Паскаля на русскую философию и литературу.
Любопытно, что российских исследователей Паскаль привлек именно с точки зрения его роли в русской культуре, в то время как в России, увы, не существует научных монографий, посвященных комплексному изучению его наследия. Появление обеих монографий свидетельствует о том стойком интересе, который проявляли российские литераторы и мыслители к его творчеству на протяжении нескольких столетий — с конца XVIII по начало XX в. Его практически полное забвение в социалистический период является весьма симптоматичным.
Как, на кого и в силу каких обстоятельств влиял Паскаль и призвана показать данная антология. Даже краткий список представленных в ней имен говорит сам за себя: Чаадаев и Гоголь, Толстой, Тургенев, Достоевский, Тютчев, Мережковский, Розанов, Флоренский, Франк, Вышеславцев...
Безусловно, именно «Мысли» оказались наиболее востребованными, однако и «Письма к провинциалу», стиль которых восхищал Тургенева, несмотря на его неприятие религии Паскаля, нашли своего внимательного читателя, о чем свидетельствует обращение 42 Кляус Е.М., Погребысский И. Б., Франкфурт У. И. Паскаль (1623-1662). М.: Наука, 1971.
22
В.Д.АЛТАШИНА
к самой форме письма в полемических (как у Чаадаева) или назидательных (как у Гоголя) целях, равно как и использование сюжетного диалога при рассмотрении философской проблемы у Хомякова или Герцена.
Разумеется, один том не смог бы вместить все русские отклики, цитаты, отсылки, упоминания, поэтому составитель решил руководствоваться принципом «единстваи многообразия»: с одной стороны, восприятие Паскаля в России представлено текстами биографическими, документальными, теоретическими, философско-религиозными и литературными. С другой стороны, авторы, помещенные в разных разделах, повторяются, что свидетельствует о том интересе, который они проявляли к Паскалю в теории и на практике. Таким образом, читатель может (обратимся опять к творчеству М. Павича!) знакомиться с антологией как по горизонтали — т. е. в ее линейной последовательности, так и по вертикали — выбрав определенного автора и пройдя за ним путь от документальности к художественности.
Первая глава освещает не очень богатое российское паскалеве- дение, представленное отрывками из книг наиболее авторитетных специалистов — Г. Я. Стрельцовой и Б. Н. Тарасова. Специалисты по истории науки У. М. Кляус, И. Б. Погребысский, У. И. Франкфурт в своей книге «Паскаль», глава из которой приводится в антологии, подробно освещают жизненный путь великого ученого, математика, физика, философа, не только рассматривая его научные идеи, но и обращаясь к истории его наследия. Статья И. Е. Бабанова о мыслителе была опубликована в первом полном издании «Мыслей» на русском языке, а одна из последних статей, написанная для данного издания известным филологом-романистом С. В. Власовым, проливает свет на малоизвестные факты русской переводной литературы. Таким образом, первая глава дает представление об отечественных работах, посвященных Паскалю с 1970-х по 2013 гг.
Во второй главе собраны очерки о жизни и творчестве неординарного ученого, начиная от первого представления Паскаля русскоязычному читателю И. Бутовского, через эмоциональное восприятие Л. Толстого, культурологический и исторический подход В. Розанова, размах и основательность Д. Мережковского к глубокому философскому анализу Б. Вышеславцева. Эта глава дает возможность не только глубже узнать жизнь Паскаля во всей ее противоречивости, оригинальности и непредсказуемости, познакомиться с необычной историей создания его творений, но и погрузиться в научную и религиозную атмосферу эпохи, ознаменовавшейся как важнейшими открытиями в математике и физике, так и серьезными и опасными религиозными разногласиями.
Блез Паскаль и русская культура: от «былинки» до «тростинки»
23
Следующая глава позволяет перелистать, вспомнить (или впервые прочесть?) наиболее интересные пассажи из «Мыслей» Паскаля, к цитированию которых обращаются В. Белинский и Л. Толстой, выступившие в качестве пропагандистов идей французского философа, еще плохо знакомого русскоязычному читателю. Если Белинский полагает, что творение Паскаля представляет интерес лишь в качестве «исторического памятника», то Толстой не просто приводит полюбившиеся ему места в собственном переводе, но дополняет их своими размышлениями, что позволяет нам увидеть ту незримую нить, что накрепко связала столь разных, но столь внутренне единых великих религиозных мыслителей, отразившись в литературном творчестве Л. Толстого, как это видно из его художественных произведений, представленных далее.
Цель четвертой главы — продемонстрировать степень знакомства с Паскалем в России. В ней содержатся письма, дневниковые записи, воспоминания, т. е. документальные свидетельства, в которых упоминается имя французского философа (Тургенев, Герцен, Достоевский), цитируются его творения («Мысли» или «Письма к провинциалу») или развиваются идеи близкие Паскалю, как это происходит в «Заметках» или «Дневнике писателя» Достоевского.
Две следующие главы посвящены философско-религиозному и литературному восприятию Паскаля. Пожалуй, впервые имя Паскаля на русском языке появляется в «Почте духов», которая заслуживает особого внимания. Это произведение считается значительным явлением в сатирической литературе эпохи, что, как и эпистолярная форма, бесспорно роднит его с «Провинциальными письмами». Журнал издавался Крыловым в 1789 г. под полным названием «Почта духов, или ученая, нравственная и критическая переписка арабского философа Маликульмулька с водяными, воздушными и подземными духами». Несмотря на то что некоторые исследователи подвергали сомнению авторство данного творения (так, одним из возможных соавторов считался А. Н. Радищев), а В. П. Семенников увидел в нем следы влияния иностранных, скорее всего французских, источников43, однако на протяжении почти двух столетий авторство Крылова не вызывало особых сомнений, пока в 1978 г. М.В. Разумовская44 не выявила многочисленные заимствования из «Кабалистических писем» (1737-1741) маркиза д’Аржанса (1704-1771), плодовитого 43 Семенников В.П. Литературно-общественный круг Радищева // Радищев А. Н. Материалы и исследования. М.; Л., 1936. С. 266.
44 Разумовская М.В. «Почта духов» И. А. Крылова и романы маркиза д’Аржана// Русская литература. 1978. № 1. С. 103-115.
24
В.Д.АЛТАШИНА
и известного французского писателя. Отметив сходство названия, структуры и повествования, ученый пишет: «Всего в составе “Почты духов” можно назвать 19 писем, переведенных из “Кабалистических писем” маркиза д’Аржана. <...>», причем заимствования делаются из разных томов семитомного романа французского автора без какой бы то ни было системы. «Подобное отсутствие системы особенно заметно на примере письма философа Эмпедокла (XL): его начало состоит из послания кабалиста Абукибака к Бен Киберу, а конец — из второй половины более раннего письма Бен Кибара к Абукибаку (герои “Кабалистических писем”. — В.А.)»45. Именно это письмо и помещено в нашей антологии, так как в нем мысль Паскаля46 не только цитируется, но и подвергается осмыслению. Крылов почти дословно переводит отрывок из письма LXXXII четвертого тома романа маркиза д’Аржанса, где французский философ назван «самым высочайшим разумом последних веков». Разделял ли эту мысль русский сатирик? Был ли он знаком с «Мыслями» Паскаля? Остается только гадать, но русский читатель впервые читал французского мыслителя по-русски, и, таким образом, Крылов может считаться одним из первых переводчиков Паскаля, правда, всего лишь одной его мысли!
Однако в основном в данных главах речь идет уже не о прямых отсылках, хотя и они встречаются, но о глубоком и скрытом влиянии или типологическом сходстве, наблюдаемом у столь разных авторов, между которыми устанавливается, таким образом, незримая связь.
Так, Ф.М. Достоевский, лишь в одном письме упомянув имя Паскаля, обнаруживает с ним глубинное «избирательное» сродство, что проявляется как в его дневниках и письмах, так и в его романах.
Центральный для обоих вопрос — о существовании Бога и тождественный ему вопрос о бессмертии. «Вопрос о бессмертии души так бесконечно важен, так глубоко нас затрагивает, что быть безразличным к его решению — значит вообще утратить всякое живое чувство. Наши дела и поступки должны целиком зависеть от того, есть ли у нас на45 Там же. С. 108.
46 Паскаль Б. Мысли. № 393. С. 172: «Видя слепоту и ничтожество человека, вглядываясь в немую Вселенную и в него, погруженного во мрак, предоставленного самому себе, словно заблудившегося в этом закутке мироздания и понятия не имеющего, кто его туда поместил, что ему там делать, что с ним станется после смерти, не способного к какому бы то ни было познанию, я испытываю ужас, уподабливаясь тому, кто во сне был перенесен на пустынный, грозящий гибелью остров и, проснувшись, не знает, где он, знает только — нету у него никакой возможности выбраться из гиблого места. Думая об этом, я поражаюсь,— как это в столь горестном положении люди не приходят в отчаянье!»
Блез Паскаль и русская ку льтура: от «былинки» до «тростинки»
25
дежда на вечное блаженство или ее нет»47 — мысль Паскаля, которая вполне могла бы выйти из-под пера Достоевского, полагавшего, что «коли веришь во Христа, то веришь, что жить будешь вовеки». «Мое бессмертие уже потому необходимо, что Бог не захочет сделать неправды и погасить совсем огонь раз возгоревшейся к нему любви в моем сердце»,— полагает Степан Трофимович Верховенский, символ веры которого звучит так: «Если есть Бог, то и я бессмертен»48. Именно этот вопрос, по словам Ивана Карамазова, является главным для «русских мальчиков»: «ну и что ж, о чем они будут рассуждать, пока поймали минутку в трактире-то? О мировых вопросах, не иначе: есть ли Бог, есть ли бессмертие? <...> — Да, настоящим русским вопросы о том: есть ли Бог и есть ли бессмертие <...> — конечно, первые вопросы и прежде всего, да так и надо,— отвечает ему Алеша. Бог и бессмертие неразрывно связаны и в рассуждениях черта: нет Бога, нет бессмертия, а значит — “все позволено”»49.
Для обоих писателей познание Бога немыслимо без обращения к светлому образу Иисуса Христа: « ...верить, что нет ничего прекраснее, глубже, симпатичнее, разумнее, мужественнее и совершеннее Христа и не только нет, но с ревнивою любовью говорю себе, что и не может быть. Мало того, если б кто мне доказал, что Христос вне истины, и действительно было бы, что истина вне Христа, то мне лучше хотелось бы остаться со Христом, чем с истиной»,— писал Достоевский в письме к Н. Д. Фонвизиной в 1854 г.50 «Только через Иисуса Христа могут / люди / приобщиться к Богу»,— пишет Паскаль, убежденный в том, что «кто познал Иисуса Христа, тот хранит равновесие, ибо в Нем мы явственно видим и Бога, и наше собственное горестное ничтожество»51.
Паскаль, полагая, что счастье можно найти только в Боге, делит людей на три категории52: «к первой относятся те, что обрели Бога и служат Ему», как Алеша или Соня; «ко второй — те, что, не обретя, 47 Паскаль Б. Мысли. СПб., 1995. № 334. С. 142. Несмотря на то что начиная с 1995 г. «Мысли» Паскаля издаются в новом переводе Ю. Гинзбург, здесь и далее приводятся цитаты по переводу Э. Липецкой, который, хотя тоже далек от совершенства, но зачастую более точно передает мысль автора.
48 Достоевский Ф.М. Бесы // Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений: В 30 т. Л.: Наука, 1972-1990. Т. 10. С. 505.
49 Достоевский Ф.М. Братья Карамазовы // Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений: В 30 т. Л.: Наука, 1972-1990. Т. 14.С. 213.
60 Достоевский Ф.М. Письма 1832-1859 // Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений. Т. 28. Кн. 1. С. 176.
61 Паскаль Б. Мысли. № 75. С. 30.
52 Там же. С. 156.
26
В.Д.АЛТАШИНА
ищут Его» — Раскольников, Кириллов, Ставрогин, Иван Карамазов; «к третьей — те, что существуют, не обретя и не утруждая себя поисками», как, например, Федор Карамазов или Петр Верховенский. Первые, по Паскалю, «разумны и счастливы, третьи безумны и несчастливы, те, что посередине, — несчастны и разумны» — именно такие герои наиболее интересны Достоевскому; такой человек, не познавший, но ищущий Бога, в центре размышлений Паскаля.
Разрешению этого центрального для обоих мыслителей вопроса — веры и неверия, жизни с Богом или жизни без Бога, вечности или небытия, посвящено знаменитое «пари» Паскаля, открывающее в наиболее авторитетном на сегодняшний день издании Легерна раздел «Доказательства религии на примере еврейского народа. Пророчества и некоторые речи»53: «Бог либо есть, либо его нет»: если Бог есть — человека ждет бесконечность, если Его нет — человек обречен на небытие. Как же решает свое пари Паскаль?
Не взывая к доводам разума — «разум нам тут не помощник»54 — философ прибегает к игре: что выпадет — орел или решка? Что более вероятно — существование Бога или нет, на что лучше ставить, чтобы выиграть? Принцип математического ожидания55, ныне один из основных в теории вероятности, был сформулирован Паскалем применительно к игре в кости56 * *; на нем же основывается обоснование существования Бога. Что же можно проиграть и что выиграть? Если Бога нет, то жизнь конечна, но если Он есть, то вас ждет бесконечность, т. е. если вы ставите на то, что Бога нет, в том случае, если это так, вы ничего не теряете, но ничего и не обретаете. А если Он все-таки есть, то, ставя против Него, вы добровольно лишаете себя бесконечного блаженства. Если же вы поставите на Бога, а его нет — то вы ровным счетом ничего не теряете, но если он есть, то вы «выигрываете бесконечно блаженную бесконечную жизнь». И поскольку играть все равно приходится, «давайте откажемся от разума во имя жизни, рискнем этим самым разумом во имя бесконечно большего выигрыша, столь же возможного, сколь возможен и проигрыш — то есть 53 Pa.sca.lB. Pensées. Ed. de М. LeGuern. P., 2004. P. 247-253.
54 Паскаль Б. Мысли. № 451. С. 205.
55 Математическое ожидание — мера среднего значения случайной величины в теории вероятностей.
56 Друг Паскаля А. Гомбо де Мере (1607-1684) искал подтверждения своим вы
водам о том, сколько раз нужно бросить кости, чтобы вероятность выпадения
двух шестерок оказалась больше половины. Второй вопрос, заданный Паскалю де Мере, состоял в том, как следует разделить первоначальную ставку между игроками в том случае, если игра почему-то прервана. Из этих двух вопросов и возникла теория вероятности.
Блез Паскаль и русская культура: от «былинки» до «тростинки»
27
небытие». «Взвесим наш возможный выигрыш и проигрыш, если вы поставите на орла, т.е. на Бога. Сопоставим тот и другой: выиграв, вы выигрываете все, проиграв, не потеряете ничего. Ставьте же, не колеблясь на Бога!» — призывает Паскаль57.
Почти все герои Достоевского заключают пари Паскаля: «Ищите и обрящете»,— говорит Порфирий Раскольникову, убежденный в том, что если тот «веру или Бога» найдет, то и будет жить58. Все то же пари, но повернутое своей самой трагической стороной: без Бога — смерть, с Богом — жизнь.
«Я тебя вожу между верой и безверием попеременно»,— говорит Черт Ивану и рассказывает притчу о «мыслителе и философе», который все отвергал, «а главное — будущую жизнь», ибо это противоречило его убеждениям. Но когда перед ним после смерти забрезжила возможность райской двери, то он не поленился пройти квадриллионы квадриллионов километров и вечная жизнь со всей очевидностью предстала перед ним, да так, что он пропел ей осанну, ибо лишь за две такие секунды можно пройти квадриллионы километров59. Вопреки пари Паскаля, бессмертие открылось перед тем, кто ставил против Бога, но с тем, чтобы убедить в том, что надо ставить на Него.
В 1870 г. Достоевский писал в письме к Ап. Н. Майкову о замысле большого романа под предполагаемым названием «Житие великого грешника»: «Главный вопрос, который приведется во всех частях,— тот самый, которым я мучился сознательно и бессознательно всю мою жизнь,— существование Божие. Герой в продолжение жизни — то атеист, то верующий, то фанатик и сектатор, то опять атеист»60.
Для Ставрогина орел — Шатов, решка — Кириллов. «В то же самое время, когда Вы насаждали в моем сердце Бога <...>,— горестно восклицает Шатов,— Вы утверждали в нем (Кириллове. — В.А.) ложь и клевету и довели его разум до исступления» 61. Шатов, признающийся Ставрогину: «Я буду веровать в Бога»62, по словам Паскаля, носит печать «милосердия Господня», «силы человека, обретшего Бога». В отличие от Ставрогина и Кириллова, Шатов не кончает жизнь самоубийством, но трагически погибает просветленным, верующим во все 67 Паскаль Б. Мысли. № 451. С. 206-207.
68 Достоевский Ф.М. Преступление и наказание // Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений. Т. 6. С. 351.
69 Достоевский Ф.М. Братья Карамазовы // Достоевский Ф. М. Указ. соч. Т. 15. С. 77-79.
60 Достоевский Ф.М. Письма 1869-1874 // Достоевский Ф. М. Указ. соч. Т. 29. Кн. 1. С. 117.
61 Достоевский Ф.М. Бесы // Достоевский Ф. М. Указ. соч. Т. 10. С. 197.
62 Там же. С. 201.
28
В.Д.АЛТАШИНА
прекрасное и светлое, обретшим Бога сердцем, а не умом: «Это и есть вера, — пишет Паскаль, — не умом, а сердцем чувствовать Бога»63.
Кириллов, напротив, несет печать «горестного ничтожества» и «бессилия» человека, не обретшего Бога, который, по Паскалю, неизбежно «впадает в отчаянье»64. «Если бы вы узнали, что вы в Бога веруете, то вы бы и веровали; но так как вы еще не знаете, что вы в Бога веруете, то вы и не веруете»65, говорит ему Ставрогин. Кириллов отчаянно хочет верить в Бога, но не может, ибо он, в отличие от Шатова, живет не сердцем, но разумом, который видит слишком много, чтобы отрицать, и слишком мало, чтобы уже ничем не смущаться, — в этом, по Паскалю, состоит главная трудность в признании божественного существования. Мысль эта выражена Иваном, который говорит Алеше, что его «ум эвклидовский, земной, а потому где нам решать о том, что не от мира сего. Да и тебе советую никогда об этом не думать: есть ли Он или нет. Все это вопросы совершенно несвойственные уму, созданному с понятием лишь о трех измерениях»66. В центре разговора Алеши с Иваном — все то же паскалевское пари: «како веруеши али вовсе не веруеши?». Доводы Ивана отражают рассуждения Паскаля, который, обращаясь к своим друзьям — либертенам, живущим разумом, пытается именно с точки зрения разума доказать существование Бога: «Мы знаем, что бесконечность существует, но не знаем, какова ее природа. Равно как знаем, что числам не может быть конца и, следовательно, некое число должно выражать бесконечность. И это все, что нам о нем ведомо: оно так же не может быть четным, как нечетным, ибо ничего не изменится, если к нему прибавить единицу; вместе с тем оно — число, а любое число либо четно, либо нечетно (правда, это относится к числам конечным). Значит, человек вполне может знать, что Бог есть, и при этом не ведать его сути»67. Сравним у Достоевского: «Если Бог есть,— рассуждает Иван,— и если он действительно создал землю, то, как нам совершенно известно, создал он ее по эвклидовой геометрии, а ум человеческий с понятием лишь о трех измерениях пространства. Между тем находились и находятся даже и теперь геометры и философы, и даже из замечательнейших, которые сомневаются в том, чтобы вся вселенная или, еще обширнее — все бытие было создано лишь по эвклидовой 63 Паскаль Б. Мысли. № 481. С. 221.
64 Там же. № 75. С. 30.
66 Достоевский Ф.М. Бесы // Достоевский Ф. М. Указ. соч. Т. 10. С. 189.
66 Достоевский Ф.М. Братья Карамазовы // Достоевский Ф. М. Указ. соч. Т. 14. С. 214.
67 Паскаль Б. Мысли. № 451. С. 204.
Блез Паскаль и русская культура: от «былинки» до «тростинки»
29
геометрии, осмеливаются даже мечтать, что две параллельные линии, которые, по Эвклиду, ни за что не могут сойтись на земле, может быть и сошлись бы где-нибудь в бесконечности. Я, голубчик, решил так, что если я даже этого не могу понять, то где ж мне про Бога понять»68. И Паскаль и Достоевский отказываются от разумных доказательств Бога, ибо только сердце убеждает нас в том, что существует некое «начало начал», «и равно смешно, равно бесплодно разуму требовать от сердца доказательств» его существования. «Вот почему те, кого Бог сподобил обрести веру по велению сердечного чувства, так счастливы, а их убеждения так неколебимы. Что же касается всех прочих, нам остается одно — склонять этих людей к вере доводами разума», — пишет Паскаль, но в случае с Кирилловым доводы разума, напротив, убеждают его в неверии: пытаясь доказать существование Бога умом, он перестает чувствовать его сердцем. Мучаясь от неразрешимости данного противоречия, сознавая, что несчастен, он видит единственный выход в добровольной смерти.
Кириллов, вслед за Паскалем, рассуждает: «...если природа сотворена Богом, пусть неопровержимо подтвердит Его бытие <...>, пусть она убедит меня во всем или во всем разубедит, чтобы мне знать, чего держаться». Он жаждет постичь «что я такое и что мне должно делать», «обрести путь, который ведет к истинному благу» 69, но так и не находит его. Кириллов, подобно логическому самоубийце из «Дневника писателя», задает себе беспрерывно вопросы и не получает на них ответов, ибо «природа не только не признает за мной права спрашивать у нее отчета, но даже и не отвечает мне вовсе — и не потому, что не хочет, а потому, что и не может ответить» 70. Его, как и либертена Паскаля, «ужасает вечное безмолвие этих бесконечных пространств» 71. «Зная, что завтра же все это будет уничтожено», что все обратится «в ничто, в прежний хаос», он «не может быть счастлив под условием грозящего завтра нуля». «А так как природу я истребить не могу,— заключает самоубийца, то и истребляю себя одного, единственно от скуки сносить тиранию, в которой нет виноватого». Таков итог философских размышлений героя, убежденного в том, что «Бог необходим, а потому должен быть», и сознающего в то же время, «что его нет и не может быть» 72.
68 Достоевский Ф.М. Братья Карамазовы // Достоевский Ф. М. Указ. соч. Т. 14. С. 214.
69 Паскаль Б. Мысли. № 414. С. 185
™ Достоевский Ф.М. Дневник писателя // Достоевский Ф.М. Указ. соч. Т. 23. С. 148.
71 Паскаль Б. Мысли. № 91. С. 47.
72 Достоевский Ф.М. Бесы // Достоевский Ф. М. Указ. соч. Т. 10. С. 469.
30
В.Д.АЛТАШИНА
Не веруя в «будущую вечную жизнь», Кириллов, в то же время отрицает смерть, провозглашая «здешнюю вечную» жизнь, когда время остановится и «будет вечно»73. По Достоевскому, как и по Паскалю, вера в Бога неотделима от веры в вечную жизнь, т. е., веря в вечную, пусть и названную им земной, жизнь, Кириллов не может не верить в Бога.
Таков же итог размышлений Ставрогина, который, по словам Кириллова, возвращающего его же парадокс, «если верует, то не верует, что он верует. Если же не верует, то не верует, что он не верует» 74 — все то же пари Паскаля: веровать или нет. Этот же парадокс — веры и неверия одновременно — подтверждает сам Ставрогин в разговоре с Шатовым, заявив, что «не лгал, говоря как верующий» и что «если бы веровал, то повторил бы это и теперь» 75. Ставрогин, как и Кириллов, ищет Бога, стремится обрести опору в жизни, но, как пишет Паскаль, «мы жаждем устойчивости, жаждем обрести наконец твердую почву и воздвигнуть на ней башню, вершиной уходящую в бесконечность, но заложенное нами основание дает трещину, земля разверзается, а в провале — бездна» 76. Ставрогину тоже не хватает разумных доказательств существования Бога — «чтобы сделать соус из зайца, надо зайца, чтобы уверовать в Бога, надо Бога»,— вспоминает его прежние слова Шатов, напоследок обещая достать ему «зайца». Для того чтобы Ставрогин уверовал, нужен «заяц», нужно, чтобы «гора сдвинулась», нужны реальные, осязаемые доказательства. Его беда в том, что он не может до конца отказаться от «эвклидова ума» (по Достоевскому), «от поисков достоверных и незыблемых знаний» (по Паскалю), полагая, что человеческий разум не может найти опоры между двух бесконечностей. В том срединном месте, которое обречен занимать человек, все вводит его в обман: «Разум и чувства только и делают, что без зазрения совести говорят друг другу неправду» 77. По словам отца Тихона, атеист «стоит на предпоследней верхней ступени до совершеннейшей веры», по его глубокому убеждению Ставрогин верует в Бога и будет прощен и Богом и Христом, ибо «Духа Святого чтет, не зная его». «Как еще долог путь от познания Бога до любви к нему!» — восклицает Паскаль78.
73 Там же. С. 188.
74 Тамже. С. 469.
75 Там же. С. 197.
76 Паскаль Б. Мысли. № 84. С. 42.
77 Тамже. №92. С. 48.
78 Тамже. № 476. С. 219.
Блез Паскаль и русская культура: от «былинки» до «тростинки»
31
В «Заключении» «Мыслей» Паскаль пишет79: «Познают Господа люди либо наделенные смиренным сердцем и, независимо от их ума, великого или малого, любящие все малое», как Соня, Алеша, Шатов или Степан Верховенский, «либо люди, наделенные таким умом, что ясно видят, в чем истина, даже тогда, когда вовсе этого не желают» — таковы Иван и Ставрогин.
Здесь мы затрагиваем другую, важную для Паскаля и Достоевского дилемму: противоречие разума и сердца. Утверждая, что «величие человека — в его способности мыслить»80, признаваясь, что не может представить себе человека, неспособного мыслить, призывая повиноваться во всем разуму, Паскаль в то же время признает неспособность человека руководствоваться разумом в своих поступках81, называет разум «вконец извращенным»82 и спесивым и призывает признать, что «существует множество явлений ему непостижимых»83, ибо «у сердца немало своих собственных разумных <...> чувств, непостижимых разуму»84. «Мы постигаем истину не только разумом, но и сердцем: именно сердце помогает нам постичь начало начал, и тщетны все усилия разума, неспособного к такому постижению, опровергнуть доводы сердца» 85.
Аналогичные идеи об «уме подлеце» мы находим и у Достоевского, который еще в своем студенческом письме к брату (31 октября 1838), публикуемом в антологии, пишет: «Чтоб больше знать (выделение Достоевского), надо меньше чувствовать, а обратно, правило опрометчивое, бред сердца. Что ты хочешь сказать словом знать? Познать природу, душу, Бога, Любовь... Это познается сердцем, а не умом. <...> Мысль зарождается в душе»86. Для обоих «философия есть та же поэзия, только высший градус ее»87, обоих не устраивают те «математические формулы», которые лежат в основе «современной философии», будь то век XIX или XVII — «насмехаться над философствованием и есть истинная философия»88. Именно с этой мыслью связано первое упоминание имени французского философа Достоевским, 79 Там же. № 839. С. 417-418.
80 Там же. № 257. С. 114.
81 Там же. № 422. С. 187.
82 Там же. № 230. С. 104.
83 Там же. № 466. С. 214.
84 Там же. № 477. С. 219.
86 Там же. № 478. С. 219.
86 Достоевский Ф.М. Письма 1832-1859 // Достоевский Ф.М. Указ. соч. Т. 28. Кн. 1. С. 53-54.
87 Там же.
88 Паскаль Б. Мысли. № 24. С. 16.
32
В.Д.АЛТАШИНА
который пишет в письме брату 9 августа 1838 г.: «Раз Паскаль сказал фразу: кто протестует против философии, тот сам философ. Жалкая философия!»89 Цитируя по памяти, он искажает смысл паскалевского утверждения, по сути столь близкого его собственной философии.
« Человека всегда раздирает междоусобица разума и страстей. Будь ему дан один только бесстрастный разум... Будь ему даны одни только безрассудные страсти... » 90: диалектическое единство сердца и разума у обоих мыслителей является отражением внутренней двойственности человека, его величия и ничтожества одновременно. «Ну, не фантастическое ли существо являет собой человек! Невидаль, чудище, хаос, клубок противоречий, диво дивное! Судия всему сущему, безмозглый червь, вместилище истины, клоака невежества и заблуждений, гордость и жалкий отброс Вселенной»91,— восклицает Паскаль, полагая, что человек должен сознавать двойственность своей природы, свою одновременную причастность и к ангелам и к животным92.
Розанов пишет, что у Достоевского сливаются «глубокое сознание человеческой слабости, граничащее с презрением к человеку, и одновременно любовь к нему» 93. Эта внутренняя двойственность особенно наглядно проявляется в беседе черта с Иваном, в «Двойнике» или «Записках из подполья», герой которых провозглашает высокое значение человеческой личности и свободы, но при этом прекрасно понимает, что «исторический человек неблагонравен и неблагоразумен». Мечтая стать героем, он превращается в антигероя94.
«Ты судил о людях слишком высоко,— говорит Великий инквизитор,— ибо, конечно, они невольники, хотя и созданы бунтовщиками». «Ты вознес их и тем научил их гордиться», хотя человек «слаб и подл», удел его — «неспокойство, смятение и несчастие»95. Но Великий инквизитор говорит так, ибо в Бога не верует. Так же и по Паскалю: человек без Бога «чувствует, что заблудился, что упал оттуда, где было истинное место», он «блуждает в непроглядной тьме»96,
89 Достоевский Ф.М. Письма 1832-1859 // Достоевский Ф. М. Указ. соч. Т. 28. Кн. 1. С. 50.
90 Паскаль Б. Мысли. № 316. С. 134.
91 Там же. №438. С. 194.
92 Там же. № 329. С. 137.
93 Розанов В. «Легендао Великом инквизиторе» Ф. М. Достоевского. М.: Респуб лика, 1996. С. 103.
94 Михновец Н. «Записки из подполья»: проблема пути // Достоевский Ф.М. Записки из подполья. СПб., 2010. С. 38.
95 Достоевский Ф.М. Братья Карамазовы // Достоевский Ф. М. Указ. соч. Т. 14. С. 233-234.
96 Паскаль Б. Мысли. № 275. С. 118-119.
Блез Паскаль и русская культура: от «былинки» до «тростинки»
33
но философ порицает как того, кто только восхваляет человека, так и того, кто вечно его порицает; он — на стороне тех, что тяжко стеная неустанно ищет, как делают это герои Достоевского — «мыслящие тростники», «слабейшие из творений природы»97, в которых разумное и духовное получает чрезмерное развитие за счет физического и телесного: лихорадка Раскольникова, галлюцинации Ивана, нервное расстройство Ставрогина. Но, несмотря на свою слабость, «человек все равно возвышеннее своей погубительницы (Вселенной. — В.А), ибо сознает, что расстается с жизнью и что он слабее Вселенной, а она ничего не осознает»,— так заканчивает Паскаль свое знаменитое рассуждение о тростнике. Человек Паскаля, как и герои Достоевского, проваливается в бездну, «не отрывая глаз от неба» 98 99.
«“Я” хочет быть великим, но сознает, что ничтожно; хочет быть счастливым, но сознает, что несчастно; хочет быть совершенным, но сознает, что полно несовершенств» ". «Для каждого человека все сущее заключено в нем самом,— развивает свою мысль Паскаль,— потому что, когда он умирает, для него умирает и все сущее. Вот он и мнит, что для всех он тоже все сущее. Будем же судить о природе исходя не из нас, а из нее самой». Паскаль утверждает, что «я» способно любить только себя и печься только о себе 10°. «Отвлеченно еще можно любить ближнего <...>, но вблизи почти никогда» 101,— говорит Иван, и Достоевский развивает эту мысль в своих записках: «Возлюбить человека, как самого себя, по заповеди Христовой,— невозможно. Закон личности на земле связывает. Я препятствует. Один Христос мог, но Христос был вековечный от века идеал, к которому стремится и по закону природы должен стремиться человек. <...> высочайшее употребление, которое может сделать человек из своей личности, из полноты развития своего я,— это как бы уничтожить это я, отдать его целиком всем и каждому безраздельно и беззаветно. И это величайшее счастие. <...> Это-то и есть рай Христов»102. Голоса обоих мыслителей в очередной раз сливаются в слаженный дуэт при размышлении о человеке и его месте во Вселенной. «Ибо в конечном счете что же он такое — человек во Вселенной? Небытие в сравнении с бесконечностью, все сущее в сравнении с небытием, нечто среднее 97 Тамже. № 264. С. 115.
98 Там же. № 429. С. 189.
99 Тамже. № 130. С. 65.
100 Тамже. № 139. С. 71.
101 Достоевский Ф.М. Братья Карамазовы // Достоевский Ф. М. Указ. соч. Т. 14.
С. 216.
102 Паскаль Б. Мысли. № 393. С. 172.
34
В. Д. АЛ ТАШ ИНА
между всем и ничем» 103, — размышляет Паскаль. «Кто я на земле? и что такое эта земля? и зачем все, что делаю я и другие?» — вот слова, которые, как полагает Розанов, слышатся сквозь «Легенду о Великом инквизиторе».
Но этими вопросами задаются не все: то стадо, которое изображает Великий инквизитор, и для которого свобода — «страшный дар, принесший только муки», те, кто прижимается в страхе, трепещет, с робкими умами и слезоточивыми глазами, те, кто тихо умрет и обря- щет лишь смерть, «ибо если б и было что на том свете, то уж, конечно, не для таких, как они», весь этот страшный, но счастливый в своем покорстве и бездумии мир, руководствующийся чужой волей, будет доволен своим низменным уделом. «Будет тысячи миллионов счастливых младенцев и сто тысяч страдальцев, взявших на себя проклятие познания добра и зла» — так Великий инквизитор видит идеальную жизнь людей, не задумывающихся над величием и низменностью своей природы. Так рисует новый мир и черт, полагая, что достаточно разрушить идею о Боге и тогда будет «все дозволено», тогда «люди совокупятся, чтобы взять от жизни все, что она может дать, но непременно для счастия и радости», тогда всякий узнает, что он «смертен весь» и «примет смерть гордо и спокойно». «Он из гордости поймет, что ему нечего роптать зато, что жизнь есть мгновение», но «одно сознание ее мгновенности усилит огонь ее настолько, насколько прежде расплывалась она в упованиях на любовь загробную и бесконечную» 104. Так будет, если люди перестанут задумываться над «первыми» и вечными вопросами о Боге и бессмертии, а для этого надо устроить их жизнь «как детскую игру», можно и грех разрешить, лишь бы они не задумывались о своей «горестной судьбе», любые развлечения хороши, если они уводят «прочь от подобных раздумий». «Попробуйте лишить монарха развлечений,— пишет Паскаль,— предоставить мыслям, долгим раздумьям о том, кто же он такой в действительности,— и это беззаботное счастье рухнет, монарх невольно вспомнит о грозящих ему бедах, <...>; вот тогда-то и окажется, что лишенный так называемых развлечений монарх несчастен» 105.
«Кто я на земле? И что такое эта земля? И зачем все, что делаю я и другие» — эти паскалевские вопросы слышатся, по мысли В. Розанова, сквозь «Легенду о Великом инквизиторе» 106.
103 Там же. № 84. С. 38.
104 Достоевский Ф.М. Братья Карамазовы // Достоевский Ф. М. Указ. соч. Т. 14.
С. 233-236.
105 Паскаль Б. Мысли. С. 90.
106 Розанов В. Указ. соч. С. 101.
Блез Паскаль и русская культура: от «былинки» до «тростинки»
35
Общность двух мыслителей объясняется единством главного прецедентного для обоих текста — Писания, и произведения Достоевского можно было бы объединить под общим названием — «Апология христианской религии», тем самым, которое собирался дать своим «Мыслям» Паскаль, если бы успел завершить их.
Имя Л. Н. Толстого встречается в трех разделах нашей антологии: он помещает избранные мысли Паскаля в «Путь жизни» и «Круг чтения», где также публикует статью, посвященную французскому мыслителю, и обращается к его идеям в своем художественном творчестве. Особенностям восприятия Л. Н. Толстым идей Паскаля посвящена статья Б. Н. Тарасова, помещенная в первом разделе данного издания.
Среди русских мыслителей и писателей после Л. Н. Толстого имя Паскаля чаще всего упоминает А.И. Герцен. Письма, «Колокол», «Былое и думы», «С того берега» — вот далеко не полный список трудов Герцена, в которых в той или иной связи появляется автор «Мыслей», причем всякий раз паскалевская цитата, порой не совсем точная, служит отправной точкой для глубочайших размышлений Герцена.
Действие рассказа «Первая встреча» (1836) происходит в русском салоне в начале 1830-х гг. Центральным эпизодом, обрамленным светской беседой в гостиной, явились воспоминания «путешественника» о встречах с Гёте. В рассказе ставилась важнейшая для формирования эстетических взглядов Герцена проблема взаимоотношения искусства и реальности. Герцен подчеркивает необходимость тесно связать поиски идеала с изучением живой действительности, призывает не подменять абстрактными построениями деятельной борьбы за воплощение своих стремлений. Большое значение Герцен придавал заключительным строкам рассказа — упоминанию лорда Гамильтона, который, «проведя целую жизнь в отыскивании идеала изящного между куском мрамора и натянутым холстом», кончил тем, что «нашел его в живой ирландке», при этом он не раз обращал внимание на то, что в заключительные строки рассказа им вложена «мысль чисто политическая» и что эта мысль «разом выражает все расстояние сухих теоретических изысканий права и энергической живой деятельности, деятельности практической». В конце рассказа трижды упоминается имя Паскаля, с веком которого автор сравнивает век нынешний, «который похож на Пасхаля, не на Пасхаля всегда (слишком много чести), а на Пасхаля в те минуты, когда он принимал Христову веру потому, что не отвергал ее» 107. Любопытно, что
107 Герцен А.И. Собрание сочинений: В 30 т. М., 1956. T. 1.
36
В.Д.АЛТАШИНА
Герцен, весьма критически относившийся к религии, вспоминает здесь знаменитое уже упоминавшееся выше пари Паскаля, которое он разрешает, не прибегая к абстрактным схемам, но обращаясь к реальной действительности — именно это и было важно для Герцена, а потому упоминание Паскаля является не менее значимым, чем отсылка к Гамильтону.
Книгу «С того берега» рассматривают как насыщенный глубоким теоретическим содержанием лирический рассказ автора о своем «логическом романе», об идейных исканиях после поражения революции 1848 г. В этом важнейшем философском документе Герцена, развивающем его диалектическое убеждение в «невозможности остановить движение» и понимание того, что человечеству для его развития «надобно широкую дорогу» в очередной раз упоминается Паскаль. В диалоге «Перед грозой», где автор высказывает свою идейную позицию в споре с «мечтателем и идеалистом», знаменитая мысль Паскаля о развлечениях играет очень важную роль. «Паскаль говорил, что люди играют в карты для того, чтоб не оставаться с собой наедине. Мы постоянно ищем таких или других карт, соглашаемся даже проигрывать, лишь бы забыть дело. Наша жизнь — постоянное бегство от себя, точно угрызения совести преследуют, пугают нас». Из объемного отрывка Паскаля108 Герцен выхватывает лишь одно мелкое замечание о картах, однако весь дальнейший ход его рассуждений в точности следует за размышлениями французского философа, более того, можно сказать, что он создает свою вариацию паскалевской мысли, заменяя охоту, игры, женщин и войны «вином, нумизматикой, картами, скачками, женщинами, скупостью, благодеяниями». Герцен по-своему перефразирует мысль Паскаля о том, что «все мы ищем не того мирного и ленивого существования, которое оставляет сколько угодно досуга для мыслей о нашей горестной судьбе, не военных опасностей и должностных тягот, но треволнений, развлекающих нас и уводящих прочь от подобных раздумий» 109. Герцен, так же как и Паскаль, полагает, что человек не должен скрывать от себя правду о мире, ведь даже если не думать о смерти, нищете и невежестве, они не исчезнут.
В «Прививке конституционной оспы» рассуждение о том, что русские в мыслях переживали «вековые драмы западного развития, жили ими, страстно принимали их к сердцу, страдали их прошедшими страданиями — надеялись их надеждами», вызывает в памяти автора образы спящих царя и пастуха: «царь, спящий полсуток и видящий 108 Паскаль Б. Мысли. № 205-207. С. 89-96.
109 Тамже. № 205. С. 90.
Блез Паскаль и русская культура: от «былинки» до «тростинки»
37
во сне, что он пастух, и такой же сонливый пастух, так же видящий во сне, что он царь,— равны». Паскаль пишет: «Если бы ремесленник твердо знал, что каждую ночь, двенадцать часов сряду, будет грезить, что стал королем, думаю, он был бы почти так же счастлив, как король, которому каждую ночь, двенадцать часов сряду, снилось бы, что он стал ремесленником» 110. Далее Герцен размышляет о том, насколько близко к сердцу русские принимали все события французской революции: «Мы обижались, что иностранцы посадили Бурбонов на трон, и плакали с Беранже111 о утраченном знамени», что логично подводит его к основной мысли статьи — о прививной оспе: «Все эти сны — сны революции, сны философии, сны поэзии — были долею наяву, и в этом-то их важность. Прививная оспа все же действительная оспа, несмотря на то, что она слаба, снята с другого организма и не заставляет сильно страдать. Если б этого не было, она не предохраняла бы от натуральной, она не имела бы смысла».
Знаменитая мысль Паскаля о носе Клеопатры в статье «С Континента» Письмо из Неаполя от 5 октября 1863 г. «Нос Клеопатры: будь он чуть короче, весь облик Земли был бы сегодня иным» 112 ведет Герцена к размышлениям о геополитике, о важности для города или страны ее географического положения. Используя паскалевскую мысль для собственных нужд, Герцен переделывает ее: «Паскаль говорит, что если б у Клеопатры линия носа была другая, то судьбы древнего Рима были бы иные», ведь ему важно подчеркнуть не размеры, но именно очертания. «Шутка — линия носа! — продолжает он. Линия вообще! Отнимите у Неаполя линию моря, линию гор, полукруг его залива, что же останется? <...> А с ними, с этими линиями, будущность Неаполя обеспечена».
Обращаясь к «Мыслям» Паскаля, Герцен всякий раз подчеркивает в них именно то, что важно для него. Меняя форму, но не искажая при этом глубинного смысла идей французского философа, русский мыслитель умеет увидеть в нем своего единомышленника: мысли Паскаля становятся трамплином для параболического полета мыслей Герцена.
И. С. Тургенев, не слишком чествующий идеи французского религиозного мыслителя — «у меня свело оскоминой рот от этого чтения», — в то же время восхищается его художественным мастерством — «Какой свободный, сильный, дерзкий и могучий язык!» — 110 Там же. № 380. С. 167.
111 Беранже Пьер Жан де (1780-1857) — французский поэт и сочинитель песен, известный прежде всего своими сатирическими произведениями.
112 Паскаль Б. Мысли. № 180. С. 81.
38
В.Д.АЛТАШИНА
и своеобразно обращается к его наследию в творчестве. Сложность и неоднозначность тургеневского отношения к Паскалю, а также особенности его восприятия идей французского мыслителя глубоко анализируются Г. Я. Стрельцовой в разделе ее монографии «Паскаль и европейская культура» «Атеистическая традиция. И. С. Тургенев», который помещен в первой главе настоящего издания.
В 1887 г., перечитав «Выбранные места из переписки с друзьями» Н.В. Гоголя, Л. Н. Толстой сообщает в письме П. И. Бирюкову: «Очень меня заняла последнее время еще Гоголя переписка с друзьями. Какая удивительная вещь! За 40 лет сказано, и прекрасно сказано, то, чем должна быть литература. Пошлые люди не поняли, и 40 лет лежит под спудом наш Паскаль». Толстой, как никто знавший и чувствовавший Паскаля, очень точно подметил родство между двумя гениальными мыслителями, которое проявилось не только в общности мировоззрения, но даже и в самой жизни. Гоголь, как и Паскаль, переживает кризис, вызванный болезнью, в результате которого у него «постепенно вырабатываются аскетические устремления и все яснее вырисовывается христианский идеал» 113, в результате чего и появились «Выбранные места из переписки с друзьями». Это произведение считается центральной вещью позднего Гоголя, «в которой, как в фокусе, собраны и сконцентрированы все проблемы его писательской и личной биографии»114. «Мысли» Паскаля, как известно, также появились после пережитого им «озарения» в ночь с 23 на 24 ноября 1654 г. Паскаль, так же как и Гоголь, на протяжении многих лет страдал от физических и душевных мучений, из которых он желал извлечь пользу, как он пишет в своей «Молитве, чтобы Бог дал мне употребить болезни во благо », перекликающейся с гоголевским «Значением болезней» из «Выбранных мест». Гоголь составляет свое произведение из отрывков писем разным людям в разное время — та же фрагментарность отличает и «Мысли» Паскаля, которые, в отличие от творения Гоголя, остались несистематизированными. «Выбранные места из переписки с друзьями» были задуманы как цельное сочинение. Архимандрит Феодор (Бухарев), едва ли не единственный, кто пытался рассмотреть предмет книги, писал, что мысли Гоголя, «как они по внешнему виду ни разбросаны и рассеяны в письмах, имеют строгую внутреннюю связь и последовательность, а потому представляют стройное целое» 115. Выделим 113 Воропаев В.А. «Монастырь ваш — Россия» // Гоголь Н. В. Духовная проза.
М.: Русская книга, 1992. С. 5.
114 Там же. С. 17.
116 Там же. С. 25-26.
Блез Паскаль и русская культура: от «былинки» до «тростинки»
39
три кардинальных понятия, отсылающих нас к Паскалю: «мысли», «разбросанность», «внутренняя связь». Далее Бухарев выделяет в книге три раздела, из которых отметим первый, общий с Паскалем: «о бытии и нравственности, о судьбах рода человеческого, о Церкви, о России, о современном состоянии мира» 116. Таким образом, Паскаля и Гоголя волнуют одни и те же проблемы, которые они пытаются решить, обратившись к Богу. Гоголь, уверяющий, что «Без любви к Богу никому не спастись», полагающий, что «ум, вразумленный Богом, может сделать кое-что получше того ума, который не вразумлен им», утверждающий, что «Кто с Богом, тот глядит светло вперед и есть уже в настоящем творец блистающего будущего», как нельзя более близок к «Мыслям» Паскаля. Исследователи указывают на то, что книга Гоголя «ориентирована, прежде всего, на апостольские послания» , в ней прослеживают влияние жанра исповеди — от Блаженного Августина до Руссо, видят эпистолярное начало117, что не вызывает никаких сомнений, однако и паскалевский след заметен в этом творении, автор которого, как и Паскаль, выступает «как проповедник, духовный учитель, способный указать всем путь спасения» 118.
Но «русским Паскалем» был не только Гоголь, но и П. Флоренский, о котором Розанов писал в своем письме к Спасовскому (11 апреля 1918): «Это — Паскаль нашего времени. Паскаль нашей России». «Обвал» — внезапное озарение, случившееся с Флоренским, когда он разочаровывается в своем увлечении науками, очень напоминает «ночь огня», когда был записан знаменитый «Амулет» Паскаля, к которому Флоренский обращается в своей диссертации «Столп и утверждение истины». Знаменательным представляется общий путь двух величайших мыслителей от точных наук к религии и тем интереснее проследить восприятие одним идей другого.
Русский просветитель Новиков, по словам Г. Я. Стрельцовой, развивает одну из главнейших идей Паскаля — «величие человека», отнюдь не акцентируя внимания на его «ничтожестве». «Однако, в отличие от Паскаля, рассматривавшего человека в качестве “атома”, затерянного в бесконечных просторах вселенной, Новиков ставит человека в центр природы как самое совершенное творение Бога, как “цель всего мира”» 119. Как и Паскаль, Новиков предупреждает об опасности завышенного мнения о себе, проводит различение 116 Там же. С. 26.
117 Там же. С 29.
118 Там же. С. 29.
119 Стрельцова Г.Н. Русское Просвещение. Н. И. Новиков // Паскаль и европейская культура.
40
В.Д.АЛТАШИНА
достоинства человека «по природе» и «по установлению». «Новиков развивает и другую идею Паскаля — о всеобщей и универсальной связи в мире — причем применительно к человеку, который в природном плане есть “часть бесконечной цепи действительно существующих веществ”, а в социальном — гражданин своего отечества, “сочеловек” среди других людей, которым он служит и стремится быть полезен. Посему он не только “цель всего мира”, но и “средство” в нем, иначе он уподобился бы шмелю, который поедает мед у пчел, а сам его не производит» 12°.
А. С. Хомякова, который считал Паскаля своим учителем, роднит с французским философом не только энциклопедичность познаний, критика рационализма и противопоставление ему «пути сердца», но и обращение к проблемам церкви и религии120 121. «Я исполнил долг, заступившись за Церковь против ложных обвинений»,— пишет он, как вполне мог бы написать и автор «Писем к провинциалу», также обличавший папизм и его софистику, «искажение текстов через выхваченные из целого или неточные цитаты» (Новиков). Форма писем, живой характер изложения, использование диалога, характерные для русского мыслителя, заставляют вспомнить Паскаля.
Форму писем для своих «философических» размышлений, в частности о важнейшей для человека проблеме бессмертия, выбирает и Чаадаев, который называет душу и Бога двумя «абсолютными бесконечностями»: отсылки к Паскалю очевидны.
Над этой же мыслью о двух бесконечностях размышляет В. А. Жуковский: к ее толкованию он неоднократно возвращается в своих набросках122 и развивает в «Двух сценах из “Фауста”» (1849). «Человек в бесконечности — что он значит? » — задает себе этот паскалевский вопрос Жуковский, размышляя об относительности всего в мире, о величии и ничтожестве человека, жизнь которого есть «невидимая математическая линия, между двумя безднами идущая, между безна- чальностью и бесконечностью». Сравним у Паскаля: человек «равно не способен постичь небытие, из которого был извлечен, и бесконечность, которая его поглотит» 123.
И. М. Семенко связывала с кризисом в мировоззрении Батюшкова после потрясений 1812 г. его отказ «от маленькой» гедонистической философии и эпикуреизма и представила его эволюцию как движе120 Там же.
121 См.: Тарасов Б.Н.А. С. Хомяков и Паскаль // Тарасов Б. Н. «Мыслящий тростник ».
122 См.: Тарасов Б.Н. Мыслящий тростник. С. 250.
123 Паскаль Б. Мысли. № 84. С. 38.
Блез Паскаль и русская культура: от «былинки» до «тростинки»
41
ние от Монтеня к Паскалю124. Поворот Батюшкова к религиозности, углубление его пессимистического взгляда на мир и человека отразились в его «Опытах в стихах и прозе», где он развивает поистине паскалевскую философию сердца.
С. С. Глаголев в своей статье, помещенной в «Богословском вестнике», проводит параллели между религиозными представлениями Паскаля и православной религией, что во многом позволяет понять то глубокое влияние, которое французский янсенист оказал на русских религиозных философов.
Полемизируя с Паскалем в том, что тот отказывается от разума, признавая высшим суд Божий, Л. Шестов, полагавший, что для философа — прежде истина, потом Бог, видит в нем своего союзника в борьбе с секулярной мыслью. В своей работе «Афины и Иерусалим» (1938; русский текст — 1951), основная тема которой — антиномичность знания и веры, Л. Шестов ставит в один ряд с Паскалем Достоевского, Ницше и Кьеркегора, которые, по мнению мыслителя, не хотели мириться с вечными истинами и основанной на них мудростью. «Паскалю удивляются и проходят мимо него»,— пишет он в книге «На весах Иова», задаваясь вопросом о том, чему можно научиться у человека XVII столетия. Шестов предупреждает читателя о том, что от Паскаля не надо ждать снисходительности, ибо «он бесконечно жесток к себе, он так же бесконечно жесток к другим. Если вы хотите искать с ним — он вас возьмет с собой, но он вперед заявляет вам, что эти искания не принесут вам радостей. Его истины, то, что он называет своими истинами, жестоки, мучительны, беспощадны. Он не несет с собою облегчения и утешения. Он всякого рода утешения губит. Достаточно человеку остановиться, чтобы отдохнуть и прийти в себя, Паскаль тут как тут со своей непрекращающейся тревогой. Нельзя останавливаться, нельзя отдыхать: нужно идти, идти — без конца идти вперед». К этому же призывает и Шестов в завершении главы «Гефсиманская ночь», где философ глубоко и всесторонне анализирует «Мысли» и «Провинциальные письма», проводя между ними параллели, обращая внимание на неординарность паскалевского мышления, указывая на современность его идей. Завершая эпиграфом к главе, взятым из Паскаля: «Иисус будет в смертельным муках до конца мира: не должно спать в это время» (фр.) — Паскаль, «Тайна Иисуса» (из «Мыслей»)125, философ тем самым выделяет главную 124 Семенко И.М. Батюшков и его «Опыты» // Батюшков К. Н. Опыты в стихах и прозе. М., 1977. С. 469.
125 Паскаль Б. Мысли. № 736. С. 361. «Иисус будет терпеть муку до скончания света. Все это время не должно спать».
42
В. Д. АЛ ТАШ ИНА
свою мысль и призывает: «Нельзя быть спокойным, нельзя спать. Не всем нельзя — а лишь некоторым, редким “избранникам” — или “мученикам”. Ибо если и они уснут, как уснул в достопамятную ночь великий апостол, то жертва Бога окажется напрасной и в мире окончательно и навсегда восторжествует смерть».
В своей статье «Проблема человека (К построению христианской антропологии)»126 Н. А. Бердяев писал, что для специфической проблемы человека ему гораздо «более интересны бл. Августин или Паскаль, чем Фихте или Гегель», ибо именно Паскаль «с наибольшей остротой» выразил двойственность самосознания и самочувствия человека, который одновременно и «низок и высок, ничтожен и велик». Бердяев развивает многие идеи Паскаля, например о том, что человек может и должен определить себя прежде всего в отношении к Богу: «Лишь в обращении к Богу он находит свой образ, возвышающий его над окружающим природным миром. И тогда только находит он в себе силу быть творцом в мире». Или о том, что «человек должен жить, зная, что умрет. Смерть есть самый важный факт человеческой жизни, и человек не может достойно жить, не определив свое отношение к смерти». А как по-паскалевски звучит тезис Бредяева о том, что «бессмертие — богочеловечно»!
Как и для Гоголя и Флоренского, для Бердяева очень важным оказывается пережитая им «религиозная драма», момент «резкого обращения», когда перед ним вдруг «блеснул свет», точно так же как некогда это произошло с Паскалем. Мы публикуем отрывок из «Самопознания», изображающий именно этот момент, столь важный для понимания философии Бердяева.
Восхищаясь «правдивостью, силой и проницательностью религиозной мысли Паскаля», С. Л. Франк не принимает его знаменитого «пари», видя в нем странное и кощунственное заблуждение. Вероятно, это непонимание вызвано тем, что философ забывает, для кого писал свою «Апологию» Паскаль и к кому он в ней обращался. Здесь уместно вспомнить Поля Валери (1871-1945), который в 1923 г. к трехсотлетию Паскаля пишет «Вариацию одной мысли»127, где автор суровейшим образом критикует Паскаля-христианина, не нашедшего Бога в небесах и провозгласившего «Меня ужасает вечное безмолвие этих бесконечных пространств». Валери, как ни странно, 126 Бердяев Н. А. Проблема человека // Путь. 1936. № 50. С. 3-26.
127 Valéry P. Variation sur une Pensée // Valéry P. Variété I. Paris, 1924. P. 118-129.
B 1941 г. Валери предложил свой антонимичный перевод паскалевской мысли: Le vacarme intermittent des petits coins où nous vivons nous rassure. (Tel Quel, 1941) — « Прерывистый шум закоулков, в которых мы живем, успокаивает нас ».
Блез Паскаль и русская культура: от «былинки» до «тростинки»
43
не понял Паскаля, выразившего в этой мысли тягостное состояние человека отпавшего от Бога, того самого либертена, для обращения которого и писалась «Апология христианской религии». К этой идее обращается и Франк, который также тягостно осознает «покинутость, бездомность человеческой души в равнодушном к ней, бесчувственном мире слепых и злых сил». Для самого же Паскаля, как и для Франка, идея о бессмертии непреложна, она вытекает «из веры как религиозного опыта в описанном выше смысле — из опыта нашей укорененности в Боге и нераздельного единства с Ним,— мы достоверно знаем другое: знаем вечность нашей души».
По Б. Вышеславцеву, автору книги «Значение сердца в религии», религия познается не разумом, но сердцем, как об этом писал Паскаль. Для него, так же как и для мыслителя XVII в., неверие в Бога равнозначно неверию в самого себя, неверию в свою абсолютную ценность и в свою абсолютную вечность. Г. Я. Стрельцова открывает свою главу « Метафизика сердца », помещенную в нашей антологии, такими словами: «По сравнению с западноевропейской “культурой разума” русские создали удивительную “культуру сердца”. “Философия сердца” Паскаля получила в ней самый живой отклик и сокровенное понимание». Ученый демонстрирует своеобразие этого «сокровенного понимания» на примере философских идей Б. П. Вышеславцева, П. А. Флоренского, С. Л. Франка и П. Д. Юркевича.
Заключает главу работа С. С. Аверинцева «Два рождения европейского рационализма», в которой предлагается широкий и глубокий обобщающий анализ философских тенденций, не последнее место среди которых занимают и идеи Паскаля.
И, наконец, последняя глава нашей антологии «Мыслящий тростник в русской поэзии» посвящена целой литературной традиции использования знаменитого паскалевского образа от глубокого и проникновенного тютчевского восприятия до предельно сниженных пародийно-шутовских четверостиший Губермана и Халтомы. Конечно, взыскательного читателя может оскорбить столь неравнозначное соседство, но, увы, нашей эпохе не до философских раздумий!
«И ропщет мыслящий тростник?» — эта строка Тютчева в России, наверное, известна не меньше, чем само изначальное паскалевское, ставшее хрестоматийным, сравнение человека с мыслящим тростником. Интересно, откуда же взялся этот образ?
Традиционно метафора связывается с библейским противопоставлением силы Иоанна Крестителя слабости колеблемого ветром тростника: « ...что смотреть ходили вы в пустыню? трость ли, ветром
44
В.Д.АЛТАШИНА
колеблемую? » — спрашивает Иисус (Мф 11:7). Можно найти и указания на то, что образ этот был якобы подсказан Паскалю его старшим другом, математиком Дезаргом, который также явился вдохновителем «Трактата о конических сечениях», не менее знаменитого в своих кругах, чем «мыслящий тростник». Ничего более конкретного найти не удалось. Любопытно, что при всем обилии работ о «Мыслях» Паскаля (во Франции, разумеется), эта самая известная метафора не была глубоко исследована, хотя Паскаль дважды использует этот образ, углубляя и оттачивая свою мысль. «Мыслящий тростник. Наше достоинство — не в овладении пространством, а в умении здраво мыслить. Я ничего не приобретаю, сколько бы ни приобретал земель: с помощью пространства Вселенная охватывает и поглощает меня, как некую точку; с помощью мысли я охватываю всю Вселенную»128.
И только после этого (№ 186 по Ле Герну): «Человек — всего лишь тростник, слабейшее из творений природы, но он — тростник мыслящий. Чтобы его уничтожить, вовсе не нужно, чтобы на него ополчилась вся Вселенная: довольно дуновения ветра, капли воды. Но пусть бы даже его уничтожила Вселенная,— человек все равно возвышеннее своей погубительницы, ибо сознает, что расстается с жизнью и что он слабее Вселенной, а она ничего не сознает»129. Этот отрывок однозначно и справедливо признается самым совершенным и отточенным из всех, порой обрывочных и недосказанных «бумаг мертвеца», которые, как писал первый их издатель, племянник Паскаля, могут дать лишь очень «грубое» представление о замысле мыслителя.
Библейская аллюзия ясна и прозрачна, однако Паскаль противопоставляет тростник, колеблемый ветром, тростнику мыслящему, утверждая, что вся сила человека в его «способности мыслить» — сквозная идея всех паскалевских размышлений.
Для того чтобы понять, в какой степени Паскаль обязан Де- заргу (1591-1661), пришлось обратиться к математическим трудам этого великого ученого, основоположника проективной и начертательной геометрии. В своих трактатах — «Трактат о перспективе» (Traité de la perspective, 1636), «Трактат о конических сечениях» (Traité des sections coniques, 1639) — математик использует весьма специфическую собственную терминологию, почерпнутую из ботаники: так, прямые, на которых расположены точки сечения, он называет «стволом», каждую из прямых, составляющих ствол,— «ветвью вербы» и т. п.
128 Паскаль Б. Мысли. № 265. С. 116. Pascal В. Pensées. P.: Gallimard, 2004. М. Le Guern. P. 106. № 104.
129 Там же. № 264. С. 115.
Блез Паскаль и русская культура: от «былинки» до «тростинки»
45
Тростник, правда, он не упоминает, однако от французского rameau — верба до roseau — тростник всего лишь один шаг — ив звучании и в самом образе,— сделанный Паскалем, который, кстати, использует дезарговский термин «узла» в своих рассуждениях о первородном грехе. В «Фундаментальном предложении об использовании перспективы» Дезарг пишет, что понятия сильного и слабого не абсолютны, но относительны, все зависит от взгляда, перспективы130. Паскаль безусловно был вдохновлен и этой научной идеей своего наставника и его своеобразной терминологией, которые сплелись в единый узел в знаменитой метафоре.
Наконец обращусь и к чисто литературной традиции, восходящей к басне Эзопа «Дуб и тростник»: «Дуб и тростник спорили, кто сильней. Подул сильный ветер, тростник дрогнул и пригнулся под его порывами и оттого остался цел; а дуб встретил ветер всей грудью и был выворочен с корнем. С сильнейшими не следует спорить». Сильнейшим у Эзопа является не только ветер, но и тростник, как и у Паскаля, который оказывается более хитрым — умным. Эта басня, несомненно, была известна Паскалю, равно как и его знаменитому соотечественнику и современнику Ж. де Лафонтену, написавшему свое поэтическое переложение в 1668 г. Баснописец, который считал это произведение своим шедевром, не мог знать «Мыслей» Паскаля, опубликованных впервые лишь в 1670 г. Видимо, образ слабого, но стойкого тростника просто витал в воздухе того времени!
Несколько слов о русских переводах знаменитого образа. Французская лексема roseau (m) представляет собой родовое название для группы однодольных растений, произрастающих на берегу прудов, и на русский язык может быть переведена как «тростник» и «камыш».
130 Desargues G. Oeuvres: In 2 t. P., 1861. T. 1. P. 99-100.
46
В.Д.АЛТАШИНА
Ни один из переводчиков Паскаля не использует второй вариант, вероятно, стремясь сохранить библейскую аллюзию и полагая, что тростник звучит поэтичнее, хотя некоторые, в том числе и первый переводчик И. Бутовский (1843), предлагают чисто русскую реалию «слабой былинки». Образ тростника, который мыслит131, появляется впервые в переводе П. Д. Первова, вышедшем в 1889 г.: «Человек не что иное, как тростник, очень слабый по природе, но этот тростник мыслит». «Тростник мыслит», конечно, похоже на «мыслящийтростник», но не то же самое! Откуда же в России взялся «мыслящий тростник»? Ответ на этот вопрос — в стихотворении Тютчева «Певучесть есть в морских волнах», написанном 11 мая 1865 г., где впервые появляется эта метафора. И это не случайно: неоднократно отмечалось глубокое воздействие идей французского философа на русского поэта, который полагал, что «Единственная философия, совместимая с христианством, целиком содержится в Катехизисе. Необходимо верить в то, во что верил святой Павел, а после него Паскаль, склонять колена перед Безумием креста или же все отрицать. Сверхъестественное лежит в глубине всего наиболее естественного в человеке. У него свои корни в человеческом сознании, которые гораздо сильнее того, что называют разумом, этим жалким разумом, признающим лишь то, что ему понятно, то есть ничего!» 132 Как тут не вспомнить призыв Паскаля: «Смирись, бессильный разум!» и его знаменитое пари.
Б.Н. Тарасов в статье «Тютчев и Паскаль (Антиномии бытия и сознания в свете христианской теологии)» пишет, что «знакомство Тютчева с творчеством Паскаля состоялось еще в студенческие годы», когда он начинает с увлечением читать авторов, писавших о божественности Иисуса Христа, в том числе и Паскаля, что отмечено в дневниковой записи М. П. Погодина (9 августа 1820). А в Рождество 1860 г., поэт дарит своей двадцатилетней дочери Марии, склонной к самоуглублению и нравственным исканиям, две книги Паскаля — «Мысли» и «Письма к провинциалу» 133. «Зная Паскаля, перелистайте Тютчева,— предлагают в своей книге о Паскале Кляус Е. М., Погребысский И. Б., Франкфурт У. И.134, — и у вас непременно возникнет ощущение, что стихи замечательного русского поэта, полные напряженной мысли, с их какой-то щемящей вселенской тоской, со стремлением “постичь загадку бытия” и “глубину души людской”, 131 Паскаль Б. Мысли. СПб., 1889. С. 47.
132 Тарасов Б. Н. Тютчев и Паскаль (Антиномии бытия и сознания в свете христианской антологии) // Русская литература. 2000. № 3. С. 55.
133 Там же. С. 55-56.
134 Кляус Е.М., Погребысский И.Б., Франкфурт У.И. Указ. соч. С. 309.
Блез Паскаль и русская культура: от «былинки» до «тростинки»
47
с их религиозной образностью и элементами мистицизма,— стихи эти определенно сродни, по самой сути своей, “Мыслям” Паскаля». Перелистаем Тютчева и мы в нашей антологии.
Обратимся к уже процитированному стихотворению, в котором образ тростника-камыша используется поэтом трижды: в эпиграфе, первой строфе и предпоследней. Первая строфа изображает гармонию природы: певучесть, гармоничность, стройность, и «зыбкий камыш» предстает как часть этого совершенного мира: его мусикийский, т.е. музыкальный, шорох «струится». Далее ему противопоставляется «мыслящий тростник» — человек, который «ропщет», идея, развитая в последней строфе:
И от земли до крайних звезд
Всё безответен и поныне Глас вопиющего в пустыне, Души отчаянной протест?
В этих четырех строках удивительным образом, доступным лишь поэзии, предельно лаконично и вместе с тем глубоко находит свое выражение сама суть паскалевских размышлений о человеке: в них звучит его главный вопрос — «Что такое человек во Вселенной?», в них выражен ужас перед «вечным безмолвием бесконечных пространств». В стихотворении поэт удивительно тонко обыгрывает двойной перевод: камыш соприроден, тростник очеловечен. Возможно, именно благодаря Тютчеву в русской переводческой традиции укрепился образ тростника, а не былинки или камыша, т. к. все переводы появятся позже.
Лишь жить в себе самом умей — Есть целый мир в душе твоей,—
призывает поэт в стихотворении Silentium, где вновь возникает образ безмолвной природы и где, как и у Паскаля, звучит мысль о непостижимости человека.
Столь важный для Паскаля и уже упоминавшийся образ «бездны» — «Кто вдумается в это, тот содрогнется и, представив себе, что материальная оболочка, в которую его заключила природа, удерживается на грани двух бездн — бездны бесконечности и бездны небытия,— исполнится трепета перед подобным чудом, и, сдается мне, любознательность сменится изумлением, и самонадеянному исследованию он предпочтет безмолвное созерцание»135 — появляется в стихотворении «Лебедь»:
35 Паскаль Б. Мысли. № 84. С. 38.
48
В.Д.АЛТАШИНА
Она, между двойною бездной, Лелеет твой всезрящий сон — И полной славой тверди звездной Ты отовсюду окружен.—
и «Как океан объемлет шар земной»:
И мы плывем, пылающею бездной Со всех сторон окружены,—
в которых сквозит то же изумление и тот же трепет, что у Паскаля, то же явное предпочтение «безмолвного созерцания» «самонадеянному исследованию». Можно отметить еще одну удивительную переводческую находку Тютчева, не востребованную переводчиками: «две беспредельности», появляющиеся в стихотворении «Сон на море», как нельзя более точно передают выражение Паскаля-математика “deux infinis”:
Две беспредельности были во мне, И мной своевольно играли оне.
А как по-пасклевски звучат заключительные строки стихотворения «Наш век»:
Впусти меня! — Я верю, Боже мой!
Приди на помощь моему неверью!..
Заслуга Тютчева и в том, что именно благодаря ему образ «мыслящего тростника» прочно вошел в русскую поэзию. Так, Игорь Северянин в сонете 1926 г., посвященном Тютчеву, пишет:
Мечта природы, мыслящий тростник, Влюбленный раб роскошной малярии, В душе скрывающий миры немые, Неясный сердцу ближнего, поник.
А Анна Ахматова в шестой книге стихотворений (1923-1940), названной «Тростник», в качестве одного из эпиграфов приводит все ту же строчку Тютчева и завершает первое стихотворение, открывающее сборник и посвященное М. Лозинскому, надеждой на то, чтобы «Тростник оживший зазвучал». Любопытно отметить, что комментаторы в примечаниях даже не упоминают имени Паскаля — тютчевский образ стал самодостаточным.
Блез Паскаль и русская культура: от «былинки» до «тростинки»
49
Но «мыслящий тростник» Паскаля не уходит из русской поэзии: к нему после Тютчева, и в данном случае без связи с ним, возвращается М. Цветаева в своей «Поэме лестницы» (1926), где мыслящий тростник противопоставлен образу современного бездуховного бильярдного кия.
Это ты — тростник-то Мыслящий? — Биллиардный кий! Застрахованность от стихий!
Все произведение Цветаевой строится на противопоставлении двух бездн — верха и низа, подвала и чердака, черной лестницы и карты звезд. Не случайно упомянут и сон Иакова: по библейскому преданию, Иакову приснилась во сне лестница, один конец которой упирался в землю, другой — в небо; по ней спускались и поднимались ангелы.
Обращение Цветаевой к Паскалю не является случайным: она очень чтила мыслителя и хорошо знала его произведения, о чем свидетельствует ее переписка. Так, она писала: «Мне интересно все, что было интересно Паскалю и не интересно все, что было ему не интересно» 136, и еще: «Я любуюсь на правильность своего инстинкта: недаром я не любила Valery, оказавшегося анти-паскальцем».
Во второй половине XX в. Паскаль — не самый известный и востребованный мыслитель, однако отсылки к нему встречаются и в поэзии этих лет. В 1984 г. Полина Дашкова, автор известных детективов, которая начинала свой творческий путь в поэзии, пишет стихотворение «Произнесемте: мыслящий тростник», эпиграфом к которому являются слова Паскаля, хотя и не совсем точные:
«Человек — самый слабый тростник во вселенной, но тростник мыслящий. Незачем всей природе вооружаться, чтобы погубить его.
Паскаль».
Дашкова обращается непосредственно к самому Паскалю, вступая с ним в доверительный разговор, овеянный мягкой иронией, в котором образ тростника становится лейтмотивом, а само стихотворение превращается в парафраз паскалевской мысли с упоминанием всех основных ее составляющих: Вселенная, слабость тростника, а порыв ветра и капля воды, что как не пустяк? Стихотворение очень информативно: оно не только парафразирует в доступном современному читателю варианте знаменитую мысль Паскаля, но и обозначает страну — Франция, эпоху — XVII в., называя ученого «геометром» 136 Цветаева М. Неизданное. Сводные тетради. М., 1997. С. 507.
50
В.Д.АЛТАШИНА
по сложившейся в то время традиции, когда под геометрией подразумевалась вся математика.
В 2003 г. Хельга Олыпванг издает книгу «Шесть стихотворений о мыслящем тростнике», где тростник выступает лишь в роли картинки, образа, лишившись своего паскалевского содержания. Образность проявляется, прежде всего, во внешнем виде стихотворений, изображающих тростник — калиграмма, отражающая хрупкость и тонкость человеческого восприятия, не более. Поэтесса обращается и к зрительному и к слуховому восприятию читателя, передавая за счет аллитераций шуршание тростника.
«Камыш» как аналог тростника не встречается в переводах Паскаля, зато эта синонимия сполна обыгрывается И. Губерманом в одном из его знаменитых «гариков».
В 2003 г. Вадим Халтома выпустил книгу «Импровизация на тему: “Французские моралисты”», где он в четверостишиях резюмирует известные афоризмы, стремясь показать их актуальность для сегодняшнего дня.
Что и говорить, «мыслящий тростник» прошел (или продолжает идти?) свой долгий и непростой путь и в русских переводах, и в русской поэзии: от «слабой былинки» до «камыша» и «мыслящей тростинки», от наиболее верного оригиналу и соответствующего мысли Паскаля тютчевского «мыслящего тростника», от его глубокого знания, осмысления и проникновения в мысль философа до образа- штампа, почти утратившего свое философское и религиозное значение и потерявшего связь со своим создателем — Паскалем.
И в заключение хочется пожелать читателю, чтобы он, совместив полезное с приятным, получил от предлагаемой антологии такое же удовольствие, как и составитель на протяжении всего времени работы над ней!
ПАСКАЛЬ В РУССКОЙ КРИТИКЕ
Е.М. КЛЯУС,
И. Б. ПОГРЕБЫССКИЙ,
У. И. ФРАНКФУРТ
От Паскаля до нас
...весь ряд людей, в течение всех веков, должен рассматриваться как один человек, который существует все время и поучается беспрерывно.
Паскаль*
1
Посмертная слава Паскаля долгое время была одиозна. Только смелые люди продолжали говорить о нем,— такие, например, как Буало и Бейль.
«Законодатель тогдашнего Парнаса», прямой, резкий и независимый Буало, в те годы сам склонявшийся к янсенизму, даже королю говоривший в глаза то, что думал, он открыто утверждал, что считает Паскаля единственным французским писателем, решительно превосходящим всех других авторов.
Неоднократно писал о Паскале и младший его современник — вольнодумец и атеист Пьер Бейль, чей разъедающий скептицизм, по определению Маркса, «разрушил метафизику»**. Правда, ему во многом развязывало руки то, что он почти половину жизни прожил вне Франции. Главное его творение, 16-томный «Исторический и критический словарь», содержащий 2044 статьи,— как бы прообраз будущей «Энциклопедии» Дидро. Паскаль упоминается там много раз, ему посвящена специальная статья. Бейль называет его «одним из высочайших умов на свете». В 1701 г. престарелый Шарль Перро выпустил книгу «Знаменитые люди Франции нашего века», где в числе двухсот биографий должна была быть и биография Паскаля. Перро * «Введение к трактату о пустоте». В кн.: Pascal. Oeuvres complètes, 1963, р. 232.
** К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 2, стр. 141.
54
Е.М. КЛЯУС, И. Б. ПОГРЕБЫССКИЙ, У. И. ФРАНКФУРТ
ее написал, но иезуиты добились того, что ее изъяли. Современники избегали писать и публично высказываться о Паскале, что стало неким негласным правилом, однако случай с книгой Перро обратил на себя общее внимание...
Особенно сложным было отношение к Паскалю в XVIII в. Почти все выдающиеся люди столетия — от Мелье до Кондорсе — либо испытали на себе его влияние, либо приняли участие в той борьбе, что велась вокруг его имени.
Так, Ламетри преклонялся перед «великим гением — Паскалем» *. Жан Мелье — простой деревенский кюре, полный коммунистических устремлений,— в «Завещании» останавливается только на одной мысли Паскаля, однако эта мысль — совершенно необыкновенна по своему «политэкономическому» подтексту. «Паскаль в своих “Мыслях”,— говорит Мелье,— отмечает, что захват всей земли и все бедствия, которые от этого последовали, произошли исключительно от того, что каждое частное лицо присваивало себе то, что ему надлежало оставить в общем пользовании. Эта собака — моя, говорили эти бедные дети земли; это — мое место под солнцем. Вот,— говорит этот автор,— как начался захват всей земли» **. (У Паскаля — 1-й отрывок седьмой главы.) Таково, по мнению Мелье, отношение Паскаля к первоначальной общности имущества.
В трактате Руссо «Рассуждение о происхождении и основаниях неравенства между людьми» есть фраза, тоже ставшая широко известной: «Первый, кто, огородив участок земли, придумал заявить: “Это мое!” — и нашел людей достаточно простодушных, чтобы этому поверить, был подлинным основателем гражданского общества» ***. Прообраз этой фразы Шатобриан усматривал все в той же мысли Паскаля. Перекликается с Паскалем и знаменитый афоризм Руссо — «Человек велик только своим чувством». А призыв Руссо к возврату на позиции старины и слиянию с природой — чем это не Паскалева рекомендация «поглупеть», но только трансформированная, как и толстовский призыв к «опрощению»? У «великого человековеда» Руссо можно найти и другие следы влияния Паскаля. Читая в 1762 г. только что вышедшего «Эмиля», Вольтер оставил на полях многочисленные, большей частью саркастические замечания. Среди них есть и такое: «Подражание “Мыслям” Паскаля».
Именно «Мысли» и явились, так сказать, главным камнем преткновения между Паскалем и XVIII столетием.
* Ж. О. Ламетри. Избранные сочинения. М.; Л., 1925, стр. 160.
** Ж. Мелье. Завещание, т. IL М., 1954, стр. 220.
*** Ж.-Ж. Руссо. Трактаты. М., 1969, стр. 72.
От Паскаля до нас
55
2
Некоторые исследователи считают, что до Вольтера «Мысли» Паскаля, завоевывая все большее признание, «оставались неатакованными». Но это не так. Уже в первой трети века имело хождение несколько анонимных атеистических сочинений, где были нападки на отдельные места «Мыслей». Так, в одном из них — «Блаженство христиан, или Бич веры» — неизвестный автор, называя Паскаля, полемизирует с ним. Он пишет: «Каким большим счастьем и важным достижением было бы, если бы религия не обходилась без разума и могла с ним согласоваться! Не только католическая, но и чуть не каждая религия доказывает мне... что все другие религии неразумны, а разумна лишь она одна... И тогда я отхожу в сторону... и становлюсь судьей всех религий» *. В обошедшей всю Европу «Военной философии» анонимный автор писал: «Уподобить человеческий разум разуму зверя, оглупить его, изобразить его слепым, неспособным отличить истину от иллюзий,— это значит допустить две грубые несуразности: воспользоваться разумом, чтоб доказать, что разума нет... и представить Бога немощным и злонамеренным» **.
Однако первым, кто выступил против Паскаля широко и открыто, был именно Вольтер, осмелившийся, по выражению Лансона, «сказать громогласно то, что другие шептали на ухо».
В библиотеке Вольтера сохранились три издания «Мыслей». Он читал эту книгу еще до 1726 г. А через три года, по возвращении из Англии, работая над «Английскими письмами», он сообщает друзьям о своем решении «написать замечания на мысли Паскаля». Летом 1733 г. Вольтер писал Формону: «Я уже давно хочу сразиться с этим великаном... » *** Друзья пытались его отговорить, но Вольтер не внял их советам. В апреле 1734 г. «Английские письма», или, как их стали называть потом, «Философские письма», вышли в свет. «Замечания о мыслях Паскаля» составили 25-е, заключительное, письмо. «Замечаниям», коих было 57, предшествовало краткое предисловие. Впоследствии их стали печатать отдельно****. По приговору парижского парламента книга Вольтера была сожжена, как «скандальное произведение, противное * «Анонимные атеистические трактаты». М., 1969, стр. 30.
** Цит. по кн.: D. Finch. La critique philosophique de Pascal au XVlII-e siècle.
Philadelphia, 1940, p. 11.
*** Voltaire. Oeuvres completes, v. 33. Paris, 1880, p. 348.
**** «Remarques sur les pensees de Pascal». В кн.: Voltaire. Oeuvres complètes, v. 22.
Paris, 1879, p. 28-58.
56
Е.М. КЛЯУС, И. Б. ПОГРЕБЫССКИЙ, У. И. ФРАНКФУРТ
религии и добрым нравам и подрывающее уважение к властям» *. Вольтер избежал тюрьмы только потому, что скрылся. Он понимал, что его книга вызовет бурю и без 25-го письма.
В июле 1733 г. он писал своему другу Тирио: «Я не могу отложить публикование моего маленького “Анти-Паскаля” до второго издания; уж если должны вопить, я предпочитаю, чтоб вопили один раз, ибо после того, что я так смело высказал в моих “Английских письмах”, напасть на защитника религии снова, значило бы подвергать себя двойному преследованию» **.
Однако в своих нападках на Паскаля Вольтер этим не ограничился. В 1742 г. в издании его избранных сочинений появилось 16 новых замечаний, а в издании «Мыслей», осуществленном в 1776 г. Кондорсе, он добавил еще 94, что в общем, по замыслу издателей, должно было сыграть роль «противоядия» ***. Сущность замечаний Вольтера в основе оставалась неизменной. Уже в 1734 г. он точно и определенно сформулировал главные возражения и впоследствии их или развивал, или несколько видоизменял.
Таким образом, философская деятельность Вольтера началась и завершилась попыткой развенчать апологетику Паскаля. А если учесть, что этим Вольтер отчасти занимался и в других своих сочинениях, особенно в письмах, то видно, что борьба с Паскалем-философом стала одной из главных задач всей его деятельности. В чем причина такой враждебности? Вольтер ведь не был атеистом. Отрицая католицизм, он, однако, ограничивался деизмом. Он писал Фридриху II, что если бы Бога не было, его надо было бы выдумать... Но Паскаль, по мысли Вольтера, «мешал философии», его религиозным идеям не было места в том будущем, ради которого Вольтер трудился. Против чего же — конкретно — восставал Вольтер? Он говорит: «Мой большой спор с Паскалем касается самой основы его книги... » ****
Мы помним, Паскаль говорил о двойственности человеческой природы и на этом основывал один из главных аргументов своей апологетики: только христианская религия якобы в состоянии объяснить эту двойственность. Вольтер не принимает такого вывода. То, в чем Паскаль усматривает двойственность, для Вольтера есть состояние абсолютно естественное и закономерное. «Человек,— возражает он Паскалю,— это не загадка природы, как вы себе воображаете, чтобы иметь удовольствие ее разгадать,— человек в природе на своем месте... Он обладает * Вольтер. Избранные произведения. М., 1938, стр. 617.
** Voltaire. Oeuvres complètes, v. 33, p. 361.
*** См.: Ibid., v. 31, p. 3-40.
**** Ibid.,v.33, p. 519.
От Паскаля до нас
57
страстями, чтобы действовать, и разумом, чтобы управлять своими действиями. Если б человек был совершенством, он был бы Богом... Эта так называемая двойственность человека — идея столь же абсурдная, сколь и метафизическая...» (Замеч. 1734 г., III). «Человек — не Бог, но он на своем месте, как и все остальное в природе; человек не совершенен, ибо лишь Бог может быть совершенен, или лучше сказать, что человек ограничен, а Бог нет» (Замеч. 1778 г., XXXV).
Вольтер не принимает ни пессимизма Паскаля, ни его мизантропических афоризмов: Паскаль-де сильно преувеличивает беды человека и его несчастное жалкое положение. Люди не столь несчастны и не столь злы, как утверждает он. «Нужно признать,— говорит Вольтер,— что из всех живущих человек наиболее совершенен, наиболее счастлив и дольше всех живет. ...Вместо того чтобы... жаловаться на несчастья и краткость жизни мы должны удивляться нашему счастью и его продолжительности» (Замеч. 1734 г., XXVIII).
Десятилетием позже, словно вторя Вольтеру, молодой писатель-моралист Вовенарг в «Размышлениях и максимах» писал, что в природе человека вовсе нет тех противоречий, которые некоторые философы в ней усматривают, а то и просто выдумывают. «Кто запутывает таким образом понятия, чтобы потом приписать себе заслугу распутывания, тот шарлатан в морали» *. Горячий и непримиримый Вовенарг, любя Паскаля — гениального человека и ученого, подражая ему как стилисту, ненавидел его зато, что он толкает к христианству, протестовал против портрета человека, им нарисованного. Работая — вместе с веком — над «реабилитацией человека», Вовенарг в знаменитом изречении Паскаля (человек одновременно велик и ничтожен) признавал лишь величие человека. «Рабство принижает до любви к нему»,— писал Вовенарг**. Он утверждал, что в основе человеческой природы лежит доброе начало, поэтому настаивал на свободном развитии наших душевных сил, а исходя из примата чувства над разумом, оправдывал человеческие страсти в противовес религиозному учению о необходимости их подавления. «Ум — око, а не сила души. Сила ее в сердце, то есть в страстях. Разум — самый просвещенный — не дает силы действовать и хотеть. Достаточно ли иметь хорошее зрение, чтобы ходить, не необходимо ли, кроме того, иметь еще и ноги, а также желание и силу двигать ими» ***. Дидро вскоре добавит к этому новому — материалистическому — учению * Цит. по кн.: Паскаль. Мысли, стр. 14.
** Цит. по кн.: Л. Н. Толстой. Полное собрание сочинений в90 томах (Юбилейное издание), т. 40. М., 1956, стр. 313.
*** Там же, стр. 315.
58
Е.М. КЛЯУС, И. Б. ПОГРЕБЫССКИЙ, У. И. ФРАНКФУРТ
о страстях: «Умеренные страсти — удел заурядных людей... только великие страсти могут поднять душу до великих дел» *.
Что же касается назначения человека, то он, по Вольтеру, рожден для действия. «Что представлял бы собой человек,— спрашивает он,— который бы не действовал, а, предположим, только бы созерцал себя?., это был бы идиот, бесполезный обществу; более того, такой человек просто не мог бы существовать... Ничем не заниматься и не существовать — для человека одно и то же» (Замеч. 1734 г., XXIII). Эту «формулу Вольтера» («цель человека — действие») историк Мишле назовет потом «великим словом», «символом современности». «На горькие иеремиады Паскаля о несчастиях человека,— писал Мишле,— Вольтер достойно ответил: “Человек счастлив... я счастлив. Чем счастлив? Действием”» **. Финч подытоживает: «Вольтер сверху донизу перевернул Паскалеву концепцию человека... Во всем плохом, что Паскаль приводит как доказательство вмешательства и, следовательно, существования бога христиан, Вольтер хочет видеть только природу — умную, счастливую, предусмотрительную» ***.
На слова Паскаля, что «если есть Бог, нужно любить только его», Вольтер отвечает запальчиво: «Нужно любить — и очень нежно — все твари живые, нужно любить свою родину, свою жену, отца, своих детей... Принципы, противные этому, способны создавать лишь бесчеловечных резонеров» (Замеч. 1734 г., X).
Критику теологических позиций Паскаля Вольтер начинает с исторических предпосылок. Свои догмы и принципы, замечает он, христианство заимствовало у древних религий; это еще брахманы «изобрели теологический роман падения человека... ». О «Священном писании» он говорит: «Двадцать народов Востока копировали древних брахманов, прежде чем одна из плохих копий — осмелюсь сказать: самая плохая — дошла до нас» (Замеч. 1778 г., СХП).
Если экскурсы Паскаля в историю Вольтер принимает сдержанно, то к его апологетике в целом относится отрицательно. Так, утверждение Паскаля о невозможности доказать существование Бога одним только разумом заставляет его воскликнуть: «Странно, Паскаль думал, что разумом можно познать первородный грех, но почему- то нельзя познать, есть ли бог!» (Замеч. 1742 г., IV); «...возможно, Паскаль чувствовал себя недостаточно сильным, чтобы доказать существование Бога» (Замеч. 1742 г., VII). Совет Паскаля: «...познайте * Д. Дидро. Собрание сочинений, т. I, стр. 91-92.
** J. Michelet. Histoire de France, v. XVIII, 1885, p. 360.
*** D. Finch. La critique philosophique de Pascal... p. 22.
От Паскаля до нас
59
истину религии даже из самой неясности религии» — Вольтер комментирует серией своих ремарок: «Вот странные признаки истины, которые приводит Паскаль. Какие же тогда признаки имеет ложь? Выходит, чтобы вам поверили, достаточно сказать: “Я темен, я непонятен”. Было бы более осмысленно предъявить взору только светлые стороны веры вместо этих потемков эрудиции» (Замеч. 1734 г., XVIII). «Вот забавный способ учить! Направляйте меня, ибо я хожу в потемках» (Замеч. 1778 г., XXVII).
Несколько раз Вольтер возвращается и к пресловутому «аргументу пари», испытывая к этим страницам Паскаля особую враждебность. «Очевидно,— говорит он,— не заключать пари, что Бог есть,— это значит заключить пари, что его нет, так как тот, кто сомневается и просит, чтобы ему разъяснили, безусловно не станет заключать пари ни за, ни против. Впрочем, этот параграф кажется несколько неприличным и детским. Идея пари, потери и выигрыша не подходит к серьезности предмета... » (Замеч. 1734 г., V.)
Вывод Вольтера суров: книга Паскаля — «это мысли энтузиаста, а не философа» *. И еще: «Если бы книга, надуманная Паскалем, была построена из таких материалов, это было бы чудовищное здание, сооруженное на песке» **.
И все же Вольтеру, по вполне понятной причине, приходилось сдерживаться. В апреле 1734 г. он писал Мопертюи: «...знаете ли вы, что этому Паскалю я простил очень многое? Из всех пророчеств, что он приводит, нет ни одного, которое можно честно объяснить Иисусом Христом. Его глава о чудесах — насмешка. Тем не менее я о ней ничего не сказал, и об этом кричат. Но дайте мне волю, когда я окажусь в Базеле, я не буду столь осмотрителен» ***.
Выпады против Паскаля рассыпаны по многим письмам и сочинениям Вольтера. «Мне известно,— писал Вольтер,— что скончавшийся недавно французский священник Жан Мелье, умирая, просил у Бога прощения за то, что проповедовал христианство. Этот поступок умирающего священника производит на меня большее впечатление, чем энтузиазм Паскаля» ****. В философской повести «Микромегас» (1752) читаем: «...Блез Паскаль... сделался впоследствии довольно посредственным геометром и очень плохим метафизиком» *****. Кстати, эту * Voltaire. Oeuvres complètes, v. 30, p. 302.
** Цит. по кн.: M. M. Филиппов. Паскаль, стр. 7.
*** Voltaire. Oeuvres complètes, v. 33, p. 417.
**** Цит. по кн.: Г.С. Кучеренко. Судьба «Завещания» Жана Мелье в XVIII веке.
М.,1968, стр. 52.
***** вольтер. Избранные произведения, стр. 77.
60
Е.М. КЛЯУС, И.Б. ПОГРЕБЫССКИЙ, У.И. ФРАНКФУРТ
повесть Вольтер строит на контрасте по «схеме Паскаля»: ничтожество человека — крохотного атома в мировом пространстве — и его величие, которое заключено в могуществе его интеллекта. В диалоге «Обед у графа де Буленвилье» (1767) историк и писатель Фрерэ в пылу полемики с аббатом восклицает: «Ах, сударь, как много неверного и невежественного у Паскаля! Читая его, можно подумать, будто он видел, как допрашивали апостолов, и присутствовал при расправе над ними. Но где он вычитал, что их вообще подвергали мучениям? Кто ему сказал, что Симон Бар-Иона, прозванный Петром, был распят в Риме вниз головой? » *
Но, как мы видели, особенно откровенно и свободно Вольтер выражал свои взгляды в письмах. В одном из экземпляров «Мыслей», принадлежавшем Вольтеру, обнаружены его заметки на полях — «маргиналии». «Ненадо начинать таким категорическим тоном»,— отмечает Вольтер. «Зачем нам сообщать, что вы уже не раз об этом говорили? — «Плохо изложено». (Эти маргиналии критики потом назвали «придирками дурного тона»).
И в то же время отношение Вольтера к Паскалю никогда не было, да и не могло быть, всецело негативным. Он отдавал должное Паскалю-ученому, любил его «Провинциальные письма» и даже испытал на себе его влияние, усвоив и переработав многие его мысли. Бальзак потом скажет: «Вольтер продолжил дело Паскаля» **. Призывая Дидро, Даламбера, Дамилавиля и других энциклопедистов «раздавить гадину», т.е. религию, католицизм, Вольтер писал: «...вперед на фанатиков и плутов,— жалейте Блеза Паскаля, а Уттвиля и Аббади презирайте так, как если бы они были отцами церкви... грядущее поколение будет вам обязано разумом и свободой» ***. Готовясь к наступлению на Паскаля, Вольтер в июле 1733 г. писал Формону: «Какой это восхитительный свет — Паскаль, затемненный, однако, темнотой предмета, которым он занялся» ****. Наконец, в предисловии к изданию «Мыслей» 1778 г. он отмечает: «Из всех великих полемистов остается один Паскаль, потому что он один был гениальным человеком. Он один стоит на развалинах своего века» *****. И это как бы подводит итог всему, что сказано Вольтером о Паскале.
* Вольтер. Бог и люди (Статьи, памфлеты, письма), т. I. М., 1961, стр. 326.
** О. Бальзак. Собрание сочинений в 15 томах, т. 15, стр. 318.
*** Вольтер. Бог и люди, т. II, стр. 311. (Уттвиль и Аббади — французские богословы, враги Вольтера.)
**** Voltaire Oeuvres complètes, v. 33, p. 367.
***** Ibid., v. 31, p.4.
От Паскаля до нас
61
Писарев говорит: «Вольтер был гибок и эластичен, как хорошо закаленная стальная пружина» *. Готовясь выступить против Паскаля, Вольтер, по-видимому, рассчитывал на одобрение иезуитов. Однако в Вольтере иезуиты учуяли врага куда более опасного, нежели Паскаль. После выхода «Философских писем» сразу же стали появляться «опровержения». Первым, кто ополчился на Вольтера, был историк и юрист Пьер Лекок, «возмущенный наглостью театрального поэта», т. е. Вольтера, который «через шестьдесят лет дерзнул стать антагонистом и цензором г. Паскаля!». Другой «опровергатель», пастор Булье, писал: «Достаточно произнести имена критика и критикуемого: дистанция между ними столь огромна, что эта дерзость вызывает только смех...» При жизни Вольтера таких «опровержений» вышло около десяти, причем некоторые из них — это солидного объема книги. Однако ни один из этих авторов не сумел ни опровергнуть Вольтера, ни по-настоящему защитить Паскаля, что дало Сент-Веву повод заметить: «Религиозная дискуссия находилась тогда во Франции в упадке; никто из сонма священнослужителей не встал, чтобы поднять перчатку, да и, быть может, никто тогда на это не был способен... » **
3
Вольтер касался главным образом Паскалевой концепции человека и даже религиозные вопросы рассматривал в этом плане. Основное в его замечаниях — это защита природы и, в частности, человеческой натуры. Оставаясь на позициях деизма, Вольтер, естественно, не мог разгромить апологетику Паскаля. Дальше в этом продвинулся Дидро, опубликовавший в начале 1746 г. небольшое анонимное сочинение — «Философские мысли» ***. Вслед за тем Дидро написал «Прибавление к философским мыслям» ****, представляющее собой развитие предыдущей книги и ответ на критику. Дидро, примыкавший к школе Вольтера, в этих сочинениях еще деист. А «деизм — по крайней мере для материалиста — есть не более как удобный и легкий способ отделаться от религии» *****. Однако Дидро был деистом не застоялым, а круто идущим к атеизму, к Ламетри — главному в ту пору представителю атеизма в Европе.
* Д. И. Писарев. Сочинения в4 томах, т.4. М., 1956, стр. 155.
** Ch. Sainte-Beuve. Port-Royal, v. Ill, p.403.
*** Д. Дидро. Собрание сочинений, т. I, стр. 91-122.
**** Там же, стр. 123-135.
***** к. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 2, стр. 144.
62
Е.М. КЛЯУС, И.Б. ПОГРЕБЫССКИЙ, У.И. ФРАНКФУРТ
Будущему вдохновителю и издателю «Энциклопедии» потребовалось каких-нибудь два-три года, чтобы одолеть этот подъем. Через три года после «Философских мыслей» Дидро публикует «Письма о слепых в назидание зрячим», где он уже сложившийся мыслитель — материалист и атеист. «Неверие — первый шаг в философии»,— скажет Дидро на смертном одре. В «Философских мыслях» он писал: «То, что никогда не подвергалось сомнению, не может считаться доказанным. То, что не было исследовано беспристрастно, никогда не подвергалось исследованию. Стало быть, скептицизм есть первый шаг к истине. Он должен распространяться на все, потому что он — пробный камень истины» (XXXI). Однако, замечает Дидро: «Скептицизм не всякому по плечу. Он предполагает глубокое и бескорыстное исследование; кто сомневается потому лишь, что не знает оснований утверждаемого, тот простой невежда» («Филос. мысли», XXIV). И под острым взглядом скептика Дидро даже самые старые и, казалось бы, «вечные» истины поворачивались к читателю новыми гранями.
По силе стиля, по красноречию и ясности «Философские мысли» — произведение достойное пера Паскаля. Хотя имя Паскаля здесь названо только дважды (XIII и XIV) и дважды говорится о нем в «Прибавлении» (VII и LIX), мысли Дидро — это острейшая полемика с Паскалем. Причем отношение к Паскалю, к его теологическим идеалам, к его единомышленникам и последователям выражено с большой искренностью и силой. Изречения Дидро полны стрел, направленных — прямо и косвенно — как в Паскаля, так и в основные догмы, им проповедуемые и защищаемые. И эта связь настолько прозрачна, прицел столь определенен, что не требует специальных комментариев. Достаточно знать «Мысли» Паскаля, чтобы понять Дидро, на что последний определенно и рассчитывал, поскольку книга Паскаля была тогда уже достаточно широко известна. А назван Паскаль несколько раз, видимо, только для того, чтобы указать читателю мишень.
Дидро не скрывает своей неприязни к тем, кто «из религиозной ревности вытравляет в себе все естественные чувства», и к тем, которые «перестают быть людьми и превращаются в истуканов, желая стать истинными христианами!» («Филос. мысли», VI). Ибо в этом состоянии они «утверждают всё, не подвергнув ничего тщательному исследованию; они не сомневаются ни в чем, потому что у них не хватает на это ни терпения, ни смелости. Все вопросы они решают по наитию... » (там же, XXVIII). А вот параграф, который словно бы взят из «Провинциальных писем»: «Я знаю этих святош: им не много нужно, чтобы забить тревогу. Если они решат, что в настоящем сочинении содержится нечто противное их идеям, они не остановятся
От Паскаля до нас
63
ни перед какими клеветами, как они уже оклеветали тысячи людей, более достойных, чем я» (там же, LVIII).
Вера, по Паскалю,— источник истин, недостижимых для разума; и разум, и вера дополняют друг друга. На эти высказывания Вольтер почти не откликнулся. Дидро же решительно их опровергает серией неотразимо метких ударов. Для него вера — источник ошибок и заблуждений, это категории друг друга взаимоисключающие, несовместимые. Вера не только не выше разума, но разум — единственный наш руководитель в деле познания мира; только он может просветить человека о его состоянии и судьбе. «Отрекшись от своего разума, я останусь без путеводителя...» («Прибавл.», IV.) «Если мой разум дан мне свыше, значит, через него со мною говорит небо; я должен внимать ему» (там же, IX). «Если разум — дар неба и если то же самое можно сказать о вере, значит, небо ниспослало нам два дара, которые несовместимы и противоречат друг другу» (там же, V). «Если Бог, от которого мы получили разум, требует отказа от него, значит, он фокусник, который тут же отнимает то, что дал» (там же, III).
Защищая разум, Дидро, естественно, становится и на защиту человека. «Человек таков, каким его создали Бог или природа, а Бог или природа не создают ничего дурного» (там же, XLII). Дидро спрашивает: «Можно ли быть счастливым, не зная, кто ты, откуда пришел, куда идешь, для чего существуешь?» Безусловно можно. «Стоит ли скорбеть от отсутствия знаний, которых не мог приобресть и которые, наверное, уже не так необходимы мне, раз я лишен их? С таким же основанием, сказал один из гениальнейших умов нашего века [Вольтер], я мог бы огорчиться, что у меня нет четырех глаз, четырех ног и двух крыльев» («Филос. мысли», XXVIII).
«У Паскаля была честность,— отмечает Дидро,— но он был боязлив и легковерен. Изящный писатель и глубокий ум, он, наверное, пролил бы свет на тайны мироздания, если бы провидение не отдало его в руки людей, которые принесли его талант в жертву своей злобе. Как было бы хорошо, если бы он предоставил богословам своего времени вцепляться друг другу в волосы, а сам занялся бы разысканием истины без оглядки и без страха оскорбить Бога, используя все силы ума, который он получил от него... » (Там же, XIV.)
Иногда Дидро явным образом перекликается с Вольтером: «В первые века христианской эры существовало шестьдесят евангелий, которые пользовались почти одинаковым авторитетом. Пятьдесят шесть из них были отброшены, как ребяческие и вздорные. Не осталось ли кое-что из этого и в тех, которые были сохранены?» («Прибавл.», ЬХ1У.)Или о Библии: «Как жалок ее латинский перевод! Но и самые подлинники не являются литературными шедеврами. Пророки, апостолы
64
Е.М. КЛЯУС, И.Б. ПОГРЕБЫССКИЙ, У.И. ФРАНКФУРТ
и евангелисты писали как умели» («Филос. мысли», XLV). А что же по существу представляют собой эти книги? «В книгах, содержащих фундамент моей веры, я нахожу вместе с тем и основания для неверия. Эти книги — арсенал для всех. На моих глазах деист брал оттуда оружие против атеиста; деист и атеист сражались с евреем; атеист, деист и еврей объединялись против христианина... » (Там же, LXI.) С полной определенностью Дидро констатирует: «Время откровений, чудес и исключительных призваний миновало. Христианство не нуждается более в этих подпорках» (там же, XLI). Тем не менее все это «нельзя отрицать, не впавши в нечестие», как в это «нельзя поверить, не впавши в слабоумие» (там же, XLVIII). «Доказывать Евангелие с помощью чуда — значит доказывать нелепость с помощью противоестественного явления» («Прибавл.», XXI). «Я недурно знаю доказательства в пользу моей религии, и я не отрицаю их силы; но, будь они еще во сто раз сильнее, я все-таки не считал бы христианство доказанным. К чему же требовать от меня, чтобы я верил в триединство Бога так же твердо, как я верю в то, что сумма углов треугольника равна двум прямым? » («Филос. мысли», XLVIII.)
Острие многих изречений Дидро направлено против всех и всяких религий. «Истинная религия, важная для всех людей всегда и повсюду, должна была бы быть вечной, всеобщей и очевидной, но нет ни одной религии с тремя этими признаками. Тем самым трижды доказана ложность всех» («Прибавл.», XVIII). Он хотел бы, «чтобы по лицу земли распространилось всеобщее сомнение и чтобы все народы решили поставить под вопрос истинность всех религий...» («Филос. мысли», XXXVI), ибо «вера есть химерический принцип, не существующий в природе» («Прибавл.», VI).
Дидро бросает камень и в «аргумент пари»: «Паскаль сказал: “Если ваша религия есть ложь, вы ничем не рискуете, считая ее истинной; если она истинна, вы рискуете всем, считая ее ложной”. Какой-нибудь имам мог бы сказать то же самое, что Паскаль» («Прибавл.», LIX.)
Математик и логик Паскаль в своих теологических рассуждениях часто пристрастен и нелогичен. Дидро не может пройти мимо этого. «Паскаль, Николь и другие утверждают: “Положение, что Бог за грех одного виновного отца наказывает всех его невинных детей вечными муками, превышает разум, а не противно разуму”. Но найдется ли положение, противное разуму, если ему не противно то, в котором содержится явное кощунство?» (Там же, VII.)
И — как общий вывод: «Какое нагромождение глупостей и жестокостей!» (Там же, LII.)
Все эти примеры, которые можно умножить, позволяют считать, что «Философские мысли» и «Прибавление к философским мыслям»
От Паскаля до нас
65
метят в самое сердце апологетики Паскаля. Правда, «Прибавление» имеет еще подзаголовок — «Различные возражения против сочинений различных богословов». Однако этот «адрес» — «различные богословы» — не должен сбивать нас с толку: надо помнить, что в эпоху Дидро в Паскале, как в фокусе, были собраны все лучи богословия.
«Философские мысли» появились в такое время, когда во Франции начал нарастать ноток литературы, направленной против фанатизма церковников и лицемерия духовенства. Дидро выступил также и против иезуитов, отметая их притязания на истинность католической церкви. Он устанавливает, что такие же права имеют и все другие религии и вместе с тем у всех у них, включая религию католическую, притязания эти неосновательны. Маленькая книга Дидро стала для иезуитов большой помехой на пути реализации их авантюрных замыслов.
На фронтисписе «Философских мыслей» была изображена Истина, срывающая маску с Суеверия. И не случайно книга Дидро разделила судьбу «Философских писем» Вольтера: 7 июля 1746 г. парижский парламент осудил ее на сожжение за то, что в ней «с напускным притворством ставились все религии на один уровень, чтобы не признать в конце концов ни одной из них» *. Примечательно и то, что книга Дидро была осуждена вместе с « Естественной историей души » Ламетри, подрывавшей, как гласило то же постановление, «основы всякой религии, всякой добродетели».
4
Имя Паскаля встречается и у Даламбера, хотя о Паскале он специально не писал. Даламбер воспитывался в янсенистском коллеже Мазарини, поэтому с сочинениями Паскаля, надо полагать, познакомился довольно рано. Даламбер с детских лет поражал своими успехами в математике, а после того как он написал глубокомысленные комментарии к «Посланию апостола Павла к римлянам», юный Даламбер возбудил у своих наставников надежду, что-де явился второй Паскаль, который — пусть хотя бы частично — возродит былую славу янсенизма. Этого, однако же, не произошло. Даламбер был человеком великого и блестящего, но совершенно трезвого ума. Вольтера радовало, что надежды янсенистов не сбылись; он как- то заметил: «Даламбер — это Паскаль без суеверий» **. Примерно то же самое писал в 1777 г. Даламберу Александр Делейр, один
* Д. Дидро. Собрание сочинений, т. I, стр. 447.
** Цит. по кн.: D. Finch. La critique philosophique de Pascal..., p. 48.
66
Е.М. КЛЯУС, И. Б. ПОГРЕБЫССКИЙ, У. И. ФРАНКФУРТ
из энциклопедистов: «Он [Паскаль] вам завещал все, кроме своего янсенизма» *.
Даламбер строго разграничивал религию и науку. В своем сочинении «Элементы философии» (1759) он останавливается на мысли Паскаля о том, что религиозные знания — так называемые откровения — созданы более сердцем, нежели разумом. Вот почему, говорит Даламбер, эти знания должны быть исключены из сферы разума как совершенно ей чуждые, как построенные на иных принципах и преследующие совершенно иные цели. Весь человеческий опыт, утверждает Даламбер, относится к сфере разума, и только разум может его судить. А коль скоро вера не обращается к разуму, она не может быть верой истинной и в силу того не имеет права быть людям навязанной.
Знаменательно, что в эту эпоху только один из известных философов был большим поклонником Паскаля — немец Ф. Г. Якоби, представитель так называемой философии чувства и веры. Рассудочное знание, по Якоби, всегда относительно; никакие доказательства не в силах удостоверить нас в том, что реальный мир существует. Только вера и чувство дают непосредственное знание. Не случайно на своем знамени Якоби начертал слова Паскаля: «У сердца свои доводы, которых разум не знает».
По Даламберу, Паскаль — «универсальный и возвышенный гений», из плеяды тех «знаменитых философов, которые... сильно способствовали своими трудами прогрессу науки и, так сказать, приподняли угол завесы, скрывающей от нас истину» **.
Высоко ценя вклад Паскаля в науку, Даламбер сокрушался, что под конец жизни Паскаль поддался мистицизму. Известны стихи, которые Даламбер написал на портрете Паскаля. Паскаль, говорится там, «соединивший красноречие с талантами Урании, принес свой гений в жертву Богу». Обращаясь к религии, Даламбер восклицает: «Ты отняла этого великого человека у философии, позволь, по крайней мере, об этом хотя бы пожалеть!»
Самым развернутым из критических высказываний Даламбера о Паскале явилось «Похвальное слово аббату Уттвилю» (1772), произнесенное Даламбером в качестве непременного секретаря Французской академии. Паскалю здесь уделено несколько страниц и более десяти раз цитируются его «Мысли». Паскаль, отмечает Даламбер, «думал, что необходимо быть христианином, дабы не стать атеистом», и что он «быть может, довел бы метафизический скептицизм до сомнений * Там же, стр. 67.
** Ж. Л. Даламбер. Очерк происхождения и развития науки. В сб.: «Родоначальники позитивизма», вып. 1. СПб., 1910, стр. 145.
От Паскаля до нас
67
о существовании Бога... » *. Даламбер особенно подчеркивает мысль, что разумом невозможно доказать существование Бога, что надо обратиться к религиозным «откровениям», к чудесам и пророчествам. Это утверждал Паскаль. И Даламбер повторяет слова Паскаля как бы в положительном смысле. Однако в его устах они приобретают смысл противоположный: ведь для Даламбера рецепт Паскаля равносилен тому, чтобы признать себя фатально неспособным доказать существование Бога. Этим тонким приемом великий энциклопедист давал понять, что Паскаль где-то в тайниках души должен был непременно склоняться к неверию, что наивно было бы полагать, будто математик Паскаль — поборник «вечных принципов вечного разума», «верит верой». Таким образом, Даламбер как бы уличал Паскаля в неверии, в скрытом атеизме. Эти слова в чопорном академическом собрании, видимо, прозвучали чересчур резко и могли привести к нежелательным последствиям. Вот почему Даламбер поспешил заметить, что «всякий, кто обвинил бы Паскаля в этом [в атеизме] на основании таких доказательств, был бы отвратительным шарлатаном». Прием Даламбера — прозрачная маскировка, однако слово было сказано и, кем надо, услышано, понято...
В другом месте своей речи Даламбер заметил, что аббат Уттвиль в качестве одного из аргументов, на которых построены его рассуждения, берет высказывание Паскаля о чудесах. И Даламбер сокрушенно заключает: «К этому софизму такого гения, как Паскаль, прибавим комментарий Ньютона к апокалипсису и пожалеем человеческую природу» **. Огорчение Даламбера, видимо, было столь велико, что он забыл и об осторожности, и о маскировке.
Об атеизме Паскаля начал разговор не Даламбер, но именно его слова получили наибольший резонанс: их вскоре подхватит Кондорсе, чтобы обосновать и усилить.
5
Отношение к Паскалю XVIII в.— «века разума и просвещения» — своей вершинной точки достигло в деятельности Кондорсе — математика и астронома, социолога и просветителя, «последнего из энциклопедистов», друга Вольтера. Кондорсе не только синтезировал все то, что высказали о Паскале выдающиеся умы столетия, но и дал этой теме особое толкование. О самом Кондорсе уместно вспомнить * D’Alembert. Oeuvres philosophiques, historiques et littéraires, v.X. Paris, 1805, p. 199.
** Там же, стр. 191.
68
Е.М. КЛЯУС, И. Б. ПОГРЕБЫССКИЙ, У. И. ФРАНКФУРТ
слова Ламартина: «Наука была его добродетелью, человеческий разум — его божеством... Ученик Вольтера, Даламбера, Гельвеция, он... принадлежал к тому переходному поколению, через которое философия входила в революцию» *. «Это — вулкан, покрытый снегом»,— говорил о нем Даламбер.
В 1774 г., вскоре после того как Кондорсе приступил к исполнению обязанностей непременного секретаря Французской академии наук, им было составлено «Похвальное слово Паскалю». Это была первая биография Паскаля со времен книги Жильберты Перье. К воспоминаниям сестры Паскаля Кондорсе относился неодобрительно. «Тщетно было бы искать у мадам Перье,— отмечает он,— глубокие и остроумные слова, которые несомненно должен был произносить автор “Провинциальных писем” и “Мыслей”. Ее “Жизнь Паскаля” — это сочинение набожной янсенистки, озабоченной не столько тем, чтобы нарисовать портрет великого человека, сколько стремлением доказать, что ее брат — святой» **. Одну из своих задач Кондорсе видел в том, чтобы опровергнуть эту нелепую версию. Со страниц его «Слова» встает почти совершенно неизвестный до той поры Паскаль: это прежде всего — ученый, а не философ и апологист. Кондорсе мастерски набросал его портрет, подробно рассказал о его математических открытиях и работах по физике. Паскаль, говорил он, внес огромный вклад в науку и сделал бы еще больше, не обратись он к таким предметам, которые были недостойны его гения. Кондорсе считает, что, щедро одарив Паскаля талантами, природа только в одном ему отказала — «в здоровье, пропорциональном силе его ума». Постоянные недуги истощили его научный гений, заставили углубиться в теологию. Особенно роковую роль в этом повороте сыграл случай на мосту Нейи.
Что касается апологических сочинений Паскаля, то для Кондорсе это не более как «красноречие на службе суеверия». Повторив версию о ненормальности Паскаля в последние годы жизни, Кондорсе указал на опасность, которая якобы таится в этих его сочинениях: Паскаль не только ненормален сам, он стремится вызвать состояние ума, близкое к помешательству, и у своих читателей...
Только двумя годами отделено «Похвальное слово Паскалю» Кондорсе от академической речи Даламбера. Не многое изменилось за это время во Франции. Но то, о чем стареющий Даламбер говорил намеками, молодой Кондорсе выражает открыто и мужественно. Свое «Похвальное слово» Кондорсе заканчивает большим упреком Паскалю. Покинув науку ради религии, говорит он, Паскаль сошел * Ж. А. Кондорсо. Сочинения. СПб., 1882, стр. 8-9.
** J. A. Condorcet. Oeuvres, v. III. Ed. O’Connor — Arago, p. 625.
От Паскаля до нас
69
с того единственного пути, который ведет к счастью и прогрессу человечества. «Современник Декарта, Паскаль... не принял участия в той великой революции, что произвел Декарт в умах,— революции, которой род человеческий будет обязан своим счастьем, если только счастье возможно » *.
Рассматривая «Мысли» Паскаля, Кондорсе напомнил и о критике Вольтера, причем открыто принял его сторону. Он заявляет, что Вольтер — «достойный соперник Паскаля и как философ и как писатель» и что Вольтер «почти всегда был прав, хотя на его критику смотрели как на святотатство» **. Вслед за тем — в чем был дальний его прицел — Кондорсе заявил о необходимости переиздать «Мысли». И более того: не откладывая дела в долгий ящик, он берется за это сам. Книга вышла весной 1776 г. Одной из задач, которые Кондорсе выполнял, было утвердить добрую славу Паскаля-ученого. Вот почему он включил в текст «Мыслей» два не относящиеся сюда сочинения Паскаля — «О геометрическом уме» и «Об искусстве убеждать», которыми и открывалась книга. Но не только этим издание Кондорсе отличалось от издания Пор-Рояля. В анонимном предисловии Кондорсе объясняет, чем руководствовался издатель и что собой представляет это новое издание.
Паскаль, сообщает Кондорсе, беспорядочно набрасывал мысли, приходившие ему на ум; многие из этих мыслей заставляют усомниться, что они вышли из той же самой головы, которая придумала опыты по измерению давления воздуха и нашла способ вычислять вероятностные события. Но именно эти беспорядочные и случайные мысли Паскаля были собраны первыми издателями с наибольшим усердием. При этом они отсеяли немало такого, что никак нельзя было отсеивать, не исказив облик Паскаля. Вот почему, говорит Кондорсе, необходимо было новое издание книги Паскаля, из которого следовало бы изъять то, что прежде выпячивалось, и, наоборот, добавить то, что было изъято. Всю работу по составлению книги проделал сам Кондорсе по манускрипту аббата Луи Перье, племянника Паскаля.
Около половины книги занимало ранее не публиковавшееся. Кондорсе намеревался упразднить все то, на чем остались следы вмешательства издателей Пор-Рояля, но почему-то намерения своего не выполнил. Зато им сильно изменена самая сердцевина апологетики Паскаля. Мысли, касающиеся непосредственно христианской религии, Кондорсе свел к одной главе. Почти совершенно устранены * Там же, стр. 633.
** Там же, стр. 623-624.
70
Е.М. КЛЯУС, И.Б. ПОГРЕБЫССКИЙ, У.И. ФРАНКФУРТ
ссылки на Иисуса Христа и принципы христианской религии, главы о чудесах и пророчествах, а также все доказательства в пользу христианской религии.
Вольтер, напоминал Кондорсе в предисловии, некогда выполнил смелое и полезное дело, показав нам, что не все вышедшее из-под пера Паскаля является одинаково великим. Вольтера обвинили в злопыхательстве и зависти, но кончили тем, что признали его правоту. Не лишне вспомнить об этом снова. Вот почему, писал Кондорсе, он счастлив возможностью поместить бблыпую часть его «Замечаний 1734 г.» в качестве приложения.
Комментарии написал тоже Кондорсе, причем некоторые из них чрезвычайно характерны. Так, после пятой главы, где Паскаль говорит о невозможности доказать существование Бога разумом, Кондорсе замечает: «Издателя, который собрал эти разрозненные мысли, обвинят, конечно, в том, что он атеист... Однако я прошу автора подобного обвинения иметь в виду, что это мысли Паскаля, а не мои, что это он написал их черным по белому и что ежели это мысли атеиста, то атеист Паскаль, а не я» *. После предисловия Кондорсе напечатал (анонимно) свое «Похвальное слово Паскалю», где тоже отмечалось, что «этот набожный философ не верил, что при помощи разума можно найти доказательства существования Бога... ».
Книга, изданная Кондорсе, должна была убедить читателя в следующем: Паскаль — выдающийся ученый, однако этот ученый полон отчаяния и пессимизма; кроме того, он атеист, хотя и уверяет в обратном, а «Мысли» его, хорошо и правильно понятые, благоприятствуют неверию. Предисловие и комментарии били в одну точку — в этом и заключалась тайная цель издателя: опираясь на Вольтера, реализуя «программу Даламбера», разоблачить в Паскале искусно замаскированного атеиста'.
Неудивительно поэтому, что издание Кондорсе Вольтер, как некогда и свои «Замечания», назвал «Анти-Паскалем». И встретил он его с большим удовлетворением. 22 октября 177R г. он писал Даламберу, что эта книга «заменяет целую библиотеку», что она « просвещает тех, которые хотят думать, умудряет тех, которые думают, и укрепляет тех, которые колеблются» **. Тираж книги был невелик — она, собственно, предназначалась не для продажи, а «для близких друзей издателя». Вольтер сразу же заговорил о необходимости распространить «Паскаля Кондорсе» среди широкой публики, и сам этому содействовал: написал предисловие к прежним своим «Замечаниям» и значительно увеличил * Цит. покн.: D. Finch. La critique philosophique de Pascal..., р. 63.
** Voltaire. Oeuvres complètes, v. 50, p. 110.
От Паскаля до нас
71
их число. Новое издание увидело свет весной 1778 г.— за несколько недель до смерти Вольтера. Сразу же появились резко враждебные отзывы. «Цель этого издания,— писалось в одном,— превратить “Мысли” Паскаля в сочинение, потворствующее безбожию. Искажать так книгу, читаемую и почитаемую уже более ста лет,— разве это не безумие, достойное сумасшедшего дома?» «Кондорсе дошел до того, что включил в “Мысли” Паскаля критические замечания патриарха неверующих [Вольтера]»,— заявлял другой рецензент. А третий утверждал, что «“Мысли” Паскаля благодаря заботам комментатора стали самой дьявольской книгой против христианства — книгой, способной порождать материалистов, деистов, атеистов, что, вероятно, и составляло цель издателей, которой они превосходно достигли». Отзываясь на избрание Кондорсе во Французскую академию, известный критик и просветитель Фридрих Гримм писал, что комментарии Кондорсе о Паскале «содержат самые решительные принципы самого решительного атеизма» *.
Однако враждебных выпадов против Кондорсе было значительно меньше, чем когда-то против Вольтера и Дидро. Оно и понятно: наступили другие времена, утверждалось иное миропонимание; все явственнее складывалась предреволюционная ситуация — было не до защиты Паскаля и его религиозных концепций. Г. В. Плеханов отмечает: «Если материализму XVIII в. удалось победить метафизику XVII в., то этим мы обязаны прежде всего практическим требованиям французской жизни. Внимание общества было поглощено реальными интересами» **.
Свое сочинение о Паскале Кондорсе намеревался переделать, причем так, чтобы Паскаля-апологиста подвергнуть еще более суровой критике. Но этого намерения он не осуществил, хотя к критике Паскаля обращался еще неоднократно, в частности как биограф, издатель и комментатор 92-томного собрания сочинений Вольтера. Так, в «Жизни Вольтера» Кондорсе о «Философских письмах» последнего писал: «Это — точно логика и шутка “Провинциальных писем” Паскаля, но применяемая к более высоким предметам и без монастырской набожности... он разбирал там некоторые места из “Мыслей” Паскаля — сочинения, которое даже сами иезуиты принуждены были уважать, как и сочинения блаженного Августина; показалось оскорбительным, что поэт, мирянин осмелился рассуждать о Паскале. Казалось, что, нападая на единственного защитника христианской религии, пользовавшегося у людей светских репутацией великого * Цит. по кн.: D. Finch. La critique philosophique de Pascal..., p. 68.
** Г. В. Плеханов. Сочинения, т. XVIII. M.; Л., 1925, стр. 333.
72
Е.М. КЛЯУС, И. Б. ПОГРЕБЫССКИЙ, У. И. ФРАНКФУРТ
человека, значило нападать на самую религию и что его доказательства потеряют свою силу, если будет доказано, что геометр, посвятивший себя на ее защиту, не всегда правильно рассуждал» *,
6
Мы вправе спросить: а во имя чего философам и писателям XVIII в. понадобилось сражаться с «тенью Паскаля»?
Правильно оценивая величие Паскаля-ученого, философы и писатели XVIII в. видели в лице Паскаля-философа своего идейного врага, причем врага сильного и действенного. Его необходимо было сокрушить, дабы он не мешал философии. Чем достигалось это? С одной стороны, критикой основных положений, им выдвинутых, а с другой — тем, что Паскаль — проповедник христианской морали — объявлялся замаскированным атеистом, да к тому же еще помешанным. Причем делалось это не злокозненно, не путем передергиваний и подтасовок, а с глубоким убеждением, что так оно и есть. «В мыслях, в чувствах, в желаниях Вольтера, Дидро, Гольбаха не было ничего похожего на раздвоенность или нерешительность,— говорит Писарев.— Эти люди не знали никаких колебаний и не чувствовали никогда ни малейшей жалости или нежности к тому, что они отрицали и разрушали» **. Кондорсе писал: «Во Франции Бейль, Фонтенель, Вольтер, Монтескье и школы, образованные этими знаменитыми людьми, сражались за истину, пользуясь попеременно всеми средствами, которые эрудиция, философия, ум, литературное дарование могут доставить разуму... » ***
В свое время иезуиты предали Паскаля анафеме. Первым об его атеизме заговорил некто аббат Гардуэн, опять-таки иезуит. В 1671 г.— сразу после появления «Мыслей» — этот аббат выступил с антиян- сенистским сочинением; критикуя «аргумент пари» и «опираясь» на другие сочинения Паскаля, он обвинил его в том, что он-де имел намерение насаждать атеистов под предлогом борьбы с ними, «хотел вооружить безбожников» и что он сам был атеистом. Понимая иезуитов, мы вправе заключить, что это делалось во имя того, чтобы подвести мину под ненавистные всему их ордену «Письма к провинциалу». Гольбах в «Системе природы» писал: «Декарт, Паскаль и даже доктор Кларк были обвинены современными им теологами в атеизме, что ни* Ж. А. Кондорсе. Сочинения, стр. 32-33.
** Д. И. Писарев. Сочинения в4 томах, т. 4, стр. 222-223.
*** Ж. А. Кондорсе. Эскиз исторической картины прогресса человеческого разума. М., 1936, стр. 175.
От Паскаля до нас
73
сколько не помешало позднейшим теологам воспользоваться их аргументами как очень убедительными... » * Прием этот не был нов и тогда, не отказались от него и в последующее время. Например, уже в XX в. некоторые исследователи Монтеня, Паскаля, Бейля (Ф. Стровский, А. Бюссон, О. Газье) утверждали обратное, а именно, что «скептицизм — это форма, которую принимает у Монтеня религиозное чувство», что «скептицизм Монтеня... является превосходной подготовкой к религии», что этот скептик ставит веру выше разума и приписывает церкви монополию на истину. Одним словом, Монтень «был тем, кого называют фидеистом» **. Не менее парадоксально интерпретировали и Бейля. «Еще в XIX в. Сент-Бев “обнаружил” у Бейля “истинный дух христианства”. Защитником христианства, глубоко верующим кальвинистом изображают его Серюрье (1912) и Барбер (1952). Сборник, посвященный Бейлю и приуроченный к 250-летию со дня его смерти (вышел в 1959 г.), открывается статьей П. Дюбона“Второе открытие Бейля”, где опровергается “миф о Бейле” — антирелигиозном философе и доказывается, что это фидеист, сторонник протестантизма. В обширных трудах Элизабет Лябрусс, внесшей выдающийся вклад в исследование жизни Бейля и его литературного наследства, тоже доказывается, что Бейль — “провозвестник религиозной истины”, особенно пригодной для XX в., что он “воздвиг в скрытой глубине своей души алтарь невидимому Богу” и т. д. Лябрусс настаивает на том, что перед нами христианин и кальвинист. Не между Монтенем и Вольтером его надо поместить, а между Кальвином и Руссо» ***.
Если же постараться взглянуть на вопрос объективно,— что же можно сказать об атеизме Паскаля? Выдерживает ли эта концепция критику? Нет, не выдерживает, ибо не соответствует действительным фактам. Паскаль — это не вольнодумец-деист XVIII в., но он никогда не был и законченным фидеистом. Свои «Мысли» он создавал не накануне Великой французской революции, а во времена Кромвеля и буржуазной английской революции, которая совершалась под знаменами религии — пусть даже религии рационалистической. Воспитание Паскаля, его среда, его нравственные принципы и, наконец, его всегдашняя искренность — все это убеждает в обратном: Паскаль не был атеистом, поэтому не следует поднимать вопрос и об его пиетизме. Мы помним, что одно время Паскаль был близок с салонными вольнодумцами, щеголявшими своим атеизмом примерно так же, как * П. Гольбах. Избранные сочинения, т. 1. М., 1963, стр. 434.
** Б. М. Богуславский. У истоков французского атеизма и материализма. М., 1964, стр. 16-17.
*** См.: П. Бейль. Исторический и критический словарь, т. 1, стр. 45-46.
74
Е.М. КЛЯУС, И. Б. ПОГРЕБЫССКИЙ, У. И. ФРАНКФУРТ
золотым шитьем на камзолах. Быть может, это пустое фанфаронство стало одной из причин того, что болезненно восприимчивый Паскаль отшатнулся в противоположную сторону... Впрочем, об этом можно только гадать. Но как бы там ни было, а Паскаль безусловно верил. Конечно, никто не мешает нам поставить вопрос иначе: насколько органичной была его вера? Не была ли это вера, в значительной степени зиждившаяся на силе воли? Возможно, Паскаль просто принуждал себя верить, принуждал вопреки рассудку и его доводам. А так как он был человеком исключительной силы воли, это у него получалось убедительно. Однако не все, как выяснилось, верили в его веру. Да и многим из тех, что как будто верили, она казалась «верой с некоторого рода отчаянием».
Скептик Пьер Бейль подрывал религиозный дух общества тем, что вскрывал несогласованность религиозных догматов с требованиями разума. Однако Бейль, оговариваясь, усматривал заслугу в том, чтобы верить вопреки разуму. Так что такого рода вера была в обиходе того времени. И в самих «Мыслях» мы встречаем замечания о том, что «воля есть один из главных органов веры... » (стр. 62, VII). И в другом месте, где Паскаль утверждает, что «мы представляем собою настолько же автомат, насколько ум», читаем: « ...мы должны заставить верить свои обе составные части: ум — доводами разума, в которые достаточно вникнуть раз в жизни, автомат — привычкой, которая не позволяла бы нам уклоняться в противоположную сторону» (стр. 123, IV). Это, несомненно, одно из завуалированных признаний Паскаля.
В «Рассуждении о счастье» Ламетри отмечает: «Сенекапытался быть добродетельным, как Паскаль пытался верить» *.
Версия о ненормальности Паскаля получила хождение сразу после его смерти. О расстроенном рассудке Паскаля писал еще молодой Лейбниц (конечно, без всякой задней мысли, а лишь с глубоким состраданием). Впоследствии эта версия обросла «подробностями», сделалась еще более «убедительной» : да, утверждала молва, Паскаль был помешан и подвергался галлюцинациям... по крайней мере время от времени.
В сочинении «Человек-машина» Ламетри сообщает: «В обществе или за столом Паскалю всегда была необходима загородка из стульев или сосед слева, чтобы не видеть страшной пропасти, в которую он боялся упасть, хотя знал цену подобным иллюзиям» **. Тут же Ламетри старается найти этому объяснение: «Паскаль может служить поразительным примером действия воображения или усиленного * Ж. О. Ламетри. Избранные сочинения, стр. 340.
** Тамже, стр. 206-207.
От Паскаля до нас
75
кровообращения в одном только мозговом полушарии. В его лице мы видим, с одной стороны, гениального человека, с другой — полусумасшедшего. Безумие и мудрость обе имели в его мозгу свои отделения или свои лопасти, отделенные друг от друга так называемой “косой”». В скобках Ламетри добавляет: «Интересно бы знать, которым из этих отделений тянулся он к господам из Пор-Рояля?»
А в «Трактате о душе» Ламетри есть высказывание еще более категорическое: « ...это принимает характер помешательства, как было с Паскалем, который настолько истощил умственной работой духов своего мозга, что воображал, будто видит с левой стороны огненную пропасть... » *
Немалую лепту внес в эту версию и Вольтер. В 1741 г. он писал Гравизанду: « ...в последние годы жизни меланхолия расстроила рассудок Паскаля... Паскаль достиг того, что расстроил органы своего мозга»**.— «Гениальный безумец, родившийся веком ранее, чем следовало». А вот некоторые из «Замечаний 1778 г.»: «Настоящий разговор больного».— «Галлюцинации больного мозга».— «Я говорю Паскалю: великий человек, вы сошли с ума?»
Не обошел молчанием этот вопрос и Гольбах, славившийся своей деликатностью. Он замечает (правда, с искренним сожалением): «Пример Паскаля доказывает только, что и гений может иметь в сердце уголок, где гнездится безумие, и становится ребенком, как только им овладевает суеверие» ***.
Кажется, лишь Гельвеций не разделял этого взгляда на ущербность интеллекта Паскаля. Он писал: «Некоторые врачи... утверждали, что люди наиболее сильного и мужественного темперамента — самые умные люди, однако никогда еще не указывали на Расина, Буало, Паскаля, Гоббса, Толанда, Фонтенеля и т. д. как на сильных и мужественных людей» ****. И в другом месте (полемизируя с Руссо, который в «Эмиле» утверждает: «Для того чтобы можно было извлечь выгоду из орудия нашего разума, тело должно быть здоровым и крепким») Гельвеций пишет: «Но пусть только Руссо обратится к опыту, и он убедится, что болезненные, хрупкие и горбатые люди имеют столько же ума, сколько стройные и здоровые люди. Примерами этого служат Паскаль, Поп, Буало, Скаррон» *****.
* Ж. О. Ламетри. Избранные сочинения, стр. 80.
** Voltaire. Oeuvres completes, v. 36, p. 63.
*** П. Гольбах. Письма к Евгении. Здравый смысл. М., 1956, стр. 391.
**** К. А. Гельвеций. О человеке, его умственных способностях и его воспитании, стр. 50.
***** Там же, стр_ 82_
76 Е.М. КЛЯУС, И. Б. ПОГРЕБЫССКИЙ, У. И. ФРАНКФУРТ
Издание «Мыслей», предпринятое Кондорсе, изменило отношение к Паскалю, причем — на некоторое время — в сторону явно отрицательную. Мнение Вольтера и Кондорсе разделял, например, молодой поэт и публицист Андре Шенье, писавший: «Паскаль... потратил много таланта и гениальности, чтобы проклясть здравый смысл... Человек неуживчивый и спесивый под личиной смирения, он возмущался от одной только мысли, что какой-нибудь смертный посмеет подумать о том, чтобы сбросить иго, которое он [Паскаль] сам стремился нести; этот человек был рожден для славы и пользы своего века, если б только не стал растрачивать свою жизнь в занятиях скучных и диких и если б предпочел им мудрую славу усовершенствования наук... Горькое удовольствие — унижать род человеческий перед химерами, которые он сам придумал в своем безумии, и оскорблять... всякого, кто осмелился бы больше любить аргументы, чем софизмы, и доказательства — больше, чем догмы» *.
Идеи великих просветителей повлияли даже на такого писателя, как Шатобриан. Паскаль для него — великий мыслитель и великий христианин, гений которого зиждется на его вере. В своей книге «Гений христианства» (1802), направленной против атеизма и материализма XVIII в., Шатобриан, касаясь внутреннего разлада Паскаля и трагической борьбы в нем разума с чувством, говорит; «Я люблю его таким, когда он падает на колени, закрывая себе глаза обеими руками, и восклицает: “Я верую” — почти в ту же самую минуту, когда у него вырываются слова, заставляющие подозревать как раз противоположное» **.
Итак, одни тщетно пытались превратить Паскаля в новоявленного святого, другие же не без успеха доказывали, что он полубезумец и атеист. Диапазон куда как широк! Простим и тем и другим, поскольку ими двигали страсти и стратегия непримиримой борьбы.
7
В 1805 г. молодой Стендаль писал: «Когда я читаю Паскаля, мне кажется, что я вновь читаю себя. Я думаю, что это тот из писателей, на кого я наиболее похож душой» ***.
В XIX в. отношение к Паскалю как бы исподволь меняется; причем преобладает благожелательный интерес. Паскаль приковывает к себе все большее внимание, волновавшие его мысли отзываются * Цит. по кн.: F. Finch. La critique philosophique de Pascal..., p. 70.
** Цит. по кн.: Э. Бутру. Паскаль, стр. 205-206.
*** Цит. по кн.: Pascal. Oeuvres complètes, 1954, p. 1363.
От Паскаля до нас
77
то у одного, то у другого автора — и прямо, и косвенно. Так, у Людвига Берне читаем: «Подчинение государству — печальная необходимость; но не следует подчиняться больше, чем нужно» *. Это почти что цитата из Паскаля (см. стр. 189).
Стойкий интерес к Паскалю возникает в начале 20-х гг. Молодой критик и историк литературы Франсуа Вильмен выступил с утверждением, что только надежда избавиться от ужасающего сомнения заставила могучий ум Паскаля поддаться предрассудкам. Много лет Паскалем занимался Виктор Кузен в качестве философа, о чем речь пойдет ниже. Швейцарский историк литературы Винэ написал известный «Этюд о Паскале». Фожер и Авэ снабдили изданные ими «Мысли» Паскаля своими комментариями и статьями.
Сравнивая Паскаля с Пьером Бейлем, Людвиг Фейербах в 1838 г. писал: « ...чего хотел достичь своим благочестивым усердием Паскаль, но не достиг и не мог достичь именно потому, что он хотел этого достичь, того достиг Бейль в свободной стихии науки, которая была основной деятельностью его жизни, именно потому, что он не помышлял о том, чтобы достичь этого. Бейль — свободный от самого себя человек». И далее: «Религия призывает на помощь все искусства, чтобы расположить человека в свою пользу. Сила науки — ее собственная сила; она ничего не берет взаймы... Добродетели Паскаля прославляются, его смирение завоевывает расположение уже своей внешней привлекательностью, его бледное лицо сразу склоняет к себе участливое сердце; добродетели Бейля неизвестны или даже непризнаны» **.
Сент-Бев, начавший, по совету публициста и философа Ламенне, изучать историю Пор-Рояля и литературную деятельность «отшельников», в 1840 г. выпустил первый том своего шеститомного «Пор- Рояля» (последний том вышел в 1859 г.). В этом фундаментальном исследовании о писателях крамольного монастыря Паскалю, в общей сложности, посвящен почти целый том. Сент-Бев показал, как упорно и мучительно искали эти писатели нравственную истину, не устрашившись даже конфликта с папой. Откликаясь на новое издание «Мыслей», осуществленное Авэ, Сент-Бев утверждал: «Паскаль не только беспощадный диалектик, теснящий со всех сторон своего противника, бросающий ему тысячи вызовов во всех тех областях, которые обычно считаются самыми гордыми достижениями человеческой мысли, он вместе с тем и страждущая душа, испытавшая * Л. Берне. Парижские письма. Менцель-французоед. М., 1938, стр. XI-XII.
** Л. Фейербах. История философии (Собрание произведений в трех томах), т. 3. М.,1967, стр. 232-233.
78
Е.М. КЛЯУС, И. Б. ПОГРЕБЫССКИЙ, У. И. ФРАНКФУРТ
на себе все тягости борьбы и все страдания и выразившая их в слове»*. Предвидя, что многие «серьезные умы» и «прямодушные сердца» всерьез займутся изучением Паскаля, Сент-Бев дает им совет «не слишком углубляться в частные, чисто янсенистские воззрения Паскаля, удовольствовавшись угадыванием этой его стороны... а главное внимание обратить на драму нравственной борьбы, на бурную страсть, которую он питает к добру, и на его жажду возвышенного счастья» **. Свою статью Сент-Бев кончает цитатой из послесловия Авэ: «...мы, люди сегодняшнего дня, более трезвы в своем миропонимании, чем Паскаль, но для того, чтобы гордиться этим, нам бы следовало в то же время быть такими же чистыми, бескорыстными и милосердными, как он» ***.
Взгляды Сент-Бева на Паскаля разделял Гюго. Более того, на писателей Пор-Рояля он смотрел как на предтечей великих французских просветителей. Переосмысливая старую янсенистскую мораль, Гюго, работавший тогда над «Отверженными», создает образ епископа Бьенвеню.
А Луи Блан в своей 12-томной «Истории Французской революции» приписывал янсенизму еще большее значение: « ...янсенизм,— говорит он,— дав религиозную окраску политическим страстям магистратуры, способствовал поступательному движению буржуазии. Оп усилил биение пульса общественного мнения, этой мало известной до сих пор силы. Через него парламенты и королевская власть были брошены в схватку и рухнули в дикой, смертоносной свалке. В XVIII в. сорок лет кровопролитных безумств и боев достаточно свидетельствуют, каково было значение янсенизма» ****.
Знаменитый художник Делакруа оставляет в своем дневнике (январь 1857 г.) интересную запись. Размышляя о том, что такое прекрасное, он считает важным оспорить точку зрения Паскаля и опирается при этом на Вольтера. «Пуссен определяет прекрасное как наслаждение,— пишет Делакруа.— Рассмотрев все современные педантические определения, как, например, что прекрасное есть слияние добра, или что прекрасное есть соразмерность, или что, наконец, оно есть то, что ближе всего напоминает Рафаэля или античность, я сам без особого труда нашел его определение у Вольтера, в его статьях “Аристотель”, “Поэтика”, в “Философском словаре”, где он приводит глупое рассуждение Паскаля, заявляющего, что не принято говорить * Ш. Сент-Бев. Литературные портреты. Критические очерки. М., 1970, стр. 365.
** Там же, стр. 374-375.
*** Там же, стр. 377.
**** j[ Блан. История Французской революции, т. I, стр. 159.
От Паскаля до нас
79
красота геометрическая или красота медицинская и потому столь же ошибочно употреблять выражение красота поэтическая, потому что в двух первых случаях нам известен по крайней мере предмет геометрии и медицины, в то время как совершенно неизвестно, какому образцу природы мы должны подражать, чтобы получить прекрасное, составляющее сущность поэзии. Вольтер отвечает на это: “Совершенно очевидно, насколько жалок этот отрывок Паскаля. Всем превосходно известно, что ни в медицине, ни в свойствах треугольника нет ничего прекрасного и что мы называем прекрасным лишь то, что наполняет наши чувства и нашу душу наслаждением и восторгом” » *.
В том же 1857 г. выходят «Цветы зла» Бодлера. Поэт, сам живший в страхе перед ущельями и пропастями, посвящает Паскалю сонет « Пропасть » :
Паскаль носил в душе водоворот без дна.
— Все пропасть алчная: слова, мечты, желанья. Мне тайну ужаса открыла тишина, И холодею я от черного сознанья.
Вверху, внизу, везде бездонность, глубина, Пространство страшное с отравою молчанья. Во тьме моих ночей встает уродство сна Многообразного,— кошмар без окончанья.
Мне чудится, что ночь — зияющий провал И кто в нее вступил,— тот схвачен темнотою. Сквозь каждое окно — бездонность предо мною.
Мой дух с восторгом бы в ничтожестве пропал, Чтоб тьмой бесчувствия закрыть свои терзанья. — А! Никогда не быть вне Чисел, вне Созданья!
(Перевод К. Бальмонта )
В 1863 г. ученый, философ и драматург, «мастер исторической живописи» Эрнест Ренан выпустил книгу «Жизнь Иисуса». Его Иисус — это образ не Бога, а человека, причем нарисованный с большим психологизмом. Книга имела огромный успех, но автор возбудил против себя ненависть клерикалов. Если вникнуть, то Иисус Ренана очень близок к Иисусу Паскаля...
А вот что писал в те же годы молодой Эмиль Золя о впечатлении, которое производил на него Паскаль: «Обычно я пугался своего * Э. Делакруа. Дневник, т. 2. М., 1961, стр. 217.
80
Е.М. КЛЯУС, И.Б. ПОГРЕБЫССКИЙ, У.И. ФРАНКФУРТ
неверия, а еще больше — его веры; меня прошибал холодный пот, когда он показывал всю мерзость моего скепсиса, и тем не менее я не променял бы своих страхов на страхи, обступавшие его, который верил». И далее: «Паскаль-моралист выступает в той высокой роли... в роли человека, отважившегося на борьбу с самим Богом; он явил миру пример великого ума, ибо сквозь толщу своих заблуждений сумел все же расслышать чистый голос истины» *.
Однако как проповедник религиозных идей Паскаль нередко вызывает и осуждение. Так, поэт Сюлли-Прюдом утверждал: «Вера у Паскаля — это сплошная агония» **. Еще более резок отзыв критика Жюля Леметра. Имея в виду Паскаля — автора «Мыслей о религии», он писал: «Ты водрузил крест на могиле, в которой похоронил свой разум, свою славу, свой гений. И над холмом живых останков снова разверзлась бездна... » ***
Бальзак был одним из тех, кто в Паскале подчеркивал главное: «Паскаль — великий геометр и одновременно великий писатель» ****. А известный английский астроном Джон Гершель отмечал еще одно важное обстоятельство: Паскаль, писал Гершель, более чем кто- либо другой способствовал упрочению в умах людей расположения к опытному познанию.
Знаменитый французский зоолог, один из предшественников Чарльза Дарвина, Этьен Жоффруа Сент-Илер в 1829 г. отметил: «Паскаль, выдающийся философ, глубокий геометр, обогатил несколькими открытиями физику, но никогда не занимался ни естественной историей, ни медициной» *****. Однако же к голосу Паскаля начали прислушиваться даже естествоиспытатели. Тот же Жоффруа Сент-Илер в книге «Прогрессивные этюды натуралиста» (1835) писал: «Бэкон в своей “Nova Atlantis” говорит об экспериментальном метаморфозе органов и о выяснении с помощью этих опытов, каким образом виды умножались и стали многообразными. Так же и Паскаль пришел к выводу и не побоялся написать в момент, когда религиозная одержимость не мешала ему проникновенно мыслить как физику, что живые существа в своей основе представляют собой бесформенные индивидуумы, строение которых первоначально было определено постоянными условиями среды, в которой они жили».
* Э. Золя. Собрание сочинений в26 томах, т. 24. М., 1966, стр. 81.
** Цит. по кн.: «Ученые записки ЛГУ (серия филологических наук)», вып. 8.
Л., 1941, стр. 53.
*** Цит. по кн.: Э. Бутру. Паскаль, стр. 206.
**** «Бальзак об искусстве». М.; Л., 1941, стр. 182.
***** g Жоффруа Сент-Илер. Избранные сочинения. М. ,1970, стр. 413.
От Паскаля до нас
81
И несколькими строчками ниже Жоффруа Сент-Илер подчеркивается рассуждаю здесь в духе высказываний Паскаля, а именно: “Живые существа в своей основе представляют собой бесформенные индивидуумы, способные заключать в себе различные возможности”. Отсюда, переходя к следствиям этой великой истины, мы можем осветить и объяснить весь ряд взаимообусловленных явлений, о которых говорилось выше» *.
Паскаля начинают издавать и переиздавать, снабжают обширными комментариями. Он еще не понят в должной степени и не раскрыт, в нем еще полно неясностей и загадок, но его глубина властно притягивает взоры и ученых, и философов, и поэтов. Одна за другой выходят книги о нем. Авторы их — Дроз, Равессон, Сюлли-Прюдом, Ро, Жозеф Бертран, Леон Бруншвиг, Виктор Жиро, Эмиль Бутру...
«В наше время господствует дух анализа,— писал Бутру,— люди меньше расположены искать в Паскале аргументы для той или иной доктрины; они стремятся изучать его без всякой предвзятой мысли, желая составить себе правильное понятие о том, чем в сущности он был» **. Никак нельзя сказать, что сам Бутру (да и другие исследователи) изучал Паскаля «без всякой предвзятой мысли», однако Бутру верно почувствовал, что в паскалеведении началась новая фаза, равно как и в той борьбе, что велась вокруг имени Паскаля... «До сих пор еще трудно указать хотя бы одно исследование о Паскале, не имеющее характера либо защитительной речи, либо обвинительного акта» ***,— отмечал М. М. Филиппов.
Против посягательств на Паскаля боролась — в течение почти тридцати лет, т. е. вплоть до 70-х гг.,— группа Сент-Бева и академика Нуррисона. Последний издал объемистую «Защиту Паскаля», в которой полемизировал даже с писателями XVIII в. А посягательств на Паскаля было немало. Так, около середины века вновь выплыла на свет легенда о его сумасшествии, в чем был повинен известный психиатр Лелю, один из первых психофизиологов, изучавший особенности отношения веса мозга к умственной деятельности. Кондорсе в свое время упомянул об амулете, который носил на себе Паскаль, а Лелю написал об этом целую книгу — «Амулет Паскаля как пособие при изучении галлюцинаций» (1846), где очень тонко обыграл все известные и малоизвестные факты, доказывая, что Паскаль был ненормален. Книга произвела сенсацию. Кажется странным, однако Лелю находил поддержку даже у таких людей, как Кузен. Братья Гонкуры, * Там же, стр. 508, 509.
** Э. Бутру. Паскаль, стр. 208.
*** М.М. Филиппов. Паскаль, стр. 5.
82
Е.М. КЛЯУС, И.Б. ПОГРЕБЫССКИЙ, У.И. ФРАНКФУРТ
говоря в своем дневнике о «великой глубине Паскаля», тут же сакраментально цитируют психиатра Моро де Тура: «Гениальность — это нервная болезнь» *. А Гюго потом в «Отверженных» напишет: «Монсеньер Бьенвеню не был гением. Его устрашили бы эти вершины духа, откуда даже столь великие умы, как Сведенборг и Паскаль, соскользнули в безумие» **.
Безусловно, в последние годы жизни Паскаль был психически надломленным человеком. Причем недуг его был запущен и прогрессировал; возможно, Паскаль был даже подвержен галлюцинациям (вспомним «бездну», которая мерещилась ему с левой стороны). Однако говорить о его сумасшествии — значит перегибать палку. Характер его недуга современные психиатры определяют термином «депрессивный бред». Во время депрессии человека может чрезвычайно волновать бренность мира, своя и чужая греховность, он стремится к искуплению. В такие минуты больной способен совершать так называемые альтруистические убийства: убить близких и дорогих ему людей, дабы избавить их от мнимых страданий и бед. И Паскаль, увы, совершал такого рода убийства — разумеется, не в прямом, а в переносном смысле. Его первой жертвой была Жаклина. Мы помним, что это благодаря его стараниям заточила она себя в монастырь. Вел он наступление и на Жильберту. И тоже не без успеха, хотя тут дело осложнялось тем, что Жильберта была матерью семейства и могла уважить брата только в одном — преломив янсенистские строгости преимущественно в бытовом плане (пища, одежда, светские удовольствия). Были и еще жертвы: герцог де Роанне и его сестра Шарлотта; тут Паскаль-проповедник, как мы помним, одержал полную победу...
Не обошли Паскаля вниманием и литературные мистификаторы. В 1867 г. была опубликована якобы его переписка, касавшаяся вопросов приоритета по ряду научных открытий. Как выяснилось, эти письма сфабриковал некто Врен-Люка, ловкий и плодовитый мистификатор, подделывавший писания не только реально существовавших лиц, но и лиц мифических, как то: царя Ирода, Иуды Искариота, апостолов и т. д.
Знаменитый математик Жозеф Бертран, высоко чтивший научный гений Паскаля, не принимал, видимо, Паскаля-человека и нарисовал такой его портрет: «Блез Паскаль был старик: еще свежий в детстве, хорошо сохранившийся в юности, почтенный с колыбели. Всякая * Эдмон и Жюль де Гонкур. Дневник (Избранные страницы в двух томах), т. 1. М., 1964, стр. 540.
** В. Гюго. Собрание сочинений в 15 томах, т. 6, стр. 73.
От Паскаля до нас
83
усталость его истощала, всякий цветок завядал в его руке, всякое развлечение тревожило его совесть. Все для него обращалось в грусть... Тридцати девяти лет от рождения Паскаль умер от старости» *.
Однако все это — не более чем досадные или просто анекдотические частности. В целом же XIX в. был для Паскаля благоприятен, ибо явился не столько его судьей, сколько «утвердителем» его славы и величия. Каверзные проблемы — атеист Паскаль или не атеист, сумасшедший он или нет? — перестали довлеть над исследователями, которые теперь больше заботились о том, чтобы правильнее и глубже понять и Паскаля, и его духовную драму, полнее изучить и раскрыть его творчество, в том числе и научное. Итогом их деятельности было то, что Франция наконец-то обрела Паскаля и — как великую свою национальную гордость — поставила на пьедестал, дабы никогда уже больше ни снизить его, ни потерять. В этом плане Паскаль несомненно «классически академичен».
Вместе с тем открылся и другой план, связанный с бунтарским духом Паскаля, ярко проявившимся в его борьбе с иезуитами.
В своем последнем произведении «Новое христианство» (1825) Анри Сен-Симон писал: «Что же касается общества Иисуса, то знаменитый Паскаль так хорошо анализировал его дух, его образ действий и его цели, что я должен ограничиться отсылкой правоверных к чтению его “Lettres provinciates”. Прибавлю только, что новое общество Иисуса заслуживает бесконечно большего презрения, чем старое, потому что оно стремится восстановить перевес культа и догмы над моралью, перевес, уничтоженный революцией, в то время как первые иезуиты напрягали свои усилия лишь к тому, чтобы продлить существование тех злоупотреблений в этой области, которые были раньше введены в церковь.
Старые иезуиты отстаивали порядок вещей, который уже существовал, новые же подымают восстание против утверждающегося нового порядка вещей, более нравственного, чем старый» **.
В одном из сочинений, датированном 1827 г., был помещен такой эпиграф: «Возьмите 30 крупинок наглости, 4 фунта честолюбия, 40 унций нетерпимости, 6 кило развращенности, низость предателя, лукавство молодого красавца, исключите добродетель — и вы получите иезуита».
Ученики и последователи Сент-Симона (Базар и др.) констатировали: «Общество нападает на иезуитов — это превосходно: значит, слова Паскаля и Вольтера не пропали даром» ***. В то же примерно * Цит. по кн.: Н. А. Любимов. История физики, ч. III. СПб., 1896, стр. 566.
** А. Сен-Симон. Избранные сочинения, т. IL М.; Л., 1948, стр. 384-385.
*** «Изложение учения Сен-Симона». М., 1961, стр. 115.
84
Е.М. КЛЯУС, И.Б. ПОГРЕБЫССКИЙ, У.И. ФРАНКФУРТ
время, тревожась, престарелый Гете говорил о мракобесии, «которое угрожает вернуться вместе с иезуитами» *. Враждебность к иезуитам все росла, пока в 40-е гг. не развернулась широкая против них кампания. Историками Мишле и Кине был опубликован острый памфлет «Иезуиты». Мишле и Кине читали публичные лекции, разоблачающие иезуитов. Страшные их преступления изобразил в романе «Вечный жид» Эжен Сю. Добролюбов писал: «Париж сбегался на лекции Мишле и Кине, газеты проповедовали крестовый поход против иезуитов... » ** И в другом месте: «Мишле и Кине в своих бранных лекциях 1843 г. прямо говорят: “Кто такие иезуиты? Это — контрреволюция, это смерть свободы”» ***.
А поэт Ф.И. Тютчев в статье «Папство и римский вопрос» (1849) писал: «Орден иезуитов будет всегда загадкою для Запада: это одна из тех загадок, ключ к которым находится за его пределами. Можно не без основания сказать, что иезуитский вопрос слишком близко затрагивает религиозную совесть Запада, чтобы Запад мог когда-нибудь разрешить его вполне удовлетворительным образом». И далее: «Конечно, самое красноречивое, самое убедительное из всех оправданий, какие выставлялись в пользу этого знаменитого ордена, заключается в той ожесточенной и непримиримой ненависти, которую питают к нему все враги христианской веры; но, признавая это, нельзя также скрыть от себя, что многие католики — и притом наиболее искренние, наиболее преданные своей церкви, от Паскаля и до наших дней,— не переставали, из поколения и поколение, чувствовать открытое, непреодолимое отвращение к этому учреждению. Такое расположение духа значительной части католического мира создает, быть может, одно из самых потрясающих и трагических положений, в какие только может быть поставлена человеческая душа. В самом деле, невозможно вообразить себе более глубокой трагедии, чем та борьба, которая должна происходить в сердце человека, когда поставленный между чувством религиозного благоговения... с одной стороны, и отвратительной очевидностью, с другой, он усиливается замять, заглушить свидетельство собственной совести, лишь бы не признаться самому себе, что между предметом его поклонения и предметом отвращения существует тесная и бесспорная связь» ****.
В ходе этой борьбы опять было поднято имя Паскаля, а его «Письма к провинциалу», несколько раз переизданные, вновь стали читаемой * И. П. Эккерман. Разговоры с Гете. М.; Л., 1934, стр. 812.
** Н. А. Добролюбов. Собрание сочинений в9 томах, т. 1. М.; Л., 1961, стр. 462.
*** Там же, стр. 486.
**** ф. рц Тютчев. Полное собрание сочинений. СПб., 1913, стр. 316-317.
От Паскаля до нас
85
и злободневной книгой. Вот что говорит анонимный автор в предисловии к «Письмам»: «Среди громких и звонких, трескучих и певучих похвал Паскалю геометру, физику и художнику слова все еще слышится затаенная злоба против Паскаля моралиста и янсениста. Паскаль все еще остается опасным противником, против которого употребляются те же недостойные средства, что и двести сорок лет тому назад» *. Эти слова — убедительное подтверждение, что Паскаль не перестал быть действенным оружием.
В этой связи интересно отметить, что под именем Паскаля скрывался в 1876 г. в Лондоне писатель-коммунар Жюль Валлес. Активно переписывавшийся с ним Эмиль Золя романом «Доктор Паскаль» — через шестнадцать лет — завершил серию «Рутон-Маккары». Золя, надо полагать, отнюдь не случайно нарек своего героя — борца за науку и разум против мистики и мракобесия — этим славным, «живучим» именем. А когда в 1898 г., во время процесса Дрейфуса, самому Золя пришлось бежать в Англию, он тоже скрывался там под именем Паскаля.
В статье «“Деньги” Золя» (1891) Поль Лафарг писал об «экономическом чудовище» капитализма, «которое, как Бог Паскаля, существует везде и нигде, доводит их [людей] до стачки, кровавых битв и преступлений» **.
А что принесло XX столетие? Изучение творчества Паскаля и поиски новых документов продолжались все так же интенсивно. Было издано несколько его собраний сочинений, неоднократно выходили отдельно научные трактаты, «Мысли», «Провинциальные письма». Особый интерес представляет 14-томное собрание сочинений Паскаля, подготовленное Леоном Бруншвигом, Пьером Бутру и Феликсом Газье в 1904-1914 гг. (серия «Великие писатели Франции»). В него вошло не только то, что принадлежало Паскалю, но и то, что имело отношение к его творчеству или к истории вопроса. Не надо, однако, думать, что после этого все проблемы издания произведений Паскаля были разрешены и паскалеведение в целом вышло на гладкую дорогу. Жак Шевалье, выпустивший очередные издания сочинений Паскаля в 1925 г., а затем в 1954-м, в предисловии к последнему, на основании собственного нелегкого опыта, заявляет: «Издание сочинений Паскаля представляет трудности почти непреодолимые, которых не могут даже вообразить те, кто не пытался этого делать» ***.
Не изжиты сложности и другого порядка. В начале нашего века остро дискутировался вопрос — был ли Паскаль «плагиатором» или * «Письма к провинциалу», стр. IX.
** П. Лафарг. Литературно-критические статьи. М., 1936, стр. 213.
*** Цит. по кн.: Pascal. Oeuvres complètes, 1954, p. XVI.
86
Е.М. КЛЯУС, И.Б. ПОГРЕБЫССКИЙ, У.И. ФРАНКФУРТ
«талантливым фальшивомонетчиком»? Ф. Матье в серии статей, помещенных в «Kevue de Paris», пытался создать в этом плане новую легенду о Паскале. Однако подобные попытки выглядели в общем-то несерьезно, свидетельствуя о поверхностном знании фактов, а также их научного и исторического контекста. Но оставались трудности и куда более сложные. Известный современный историк науки Рене Татон говорит, что «трудности, вызванные толкованием некоторых документов или критикой различных свидетельств и лаконическим характером информации, относящейся к хронологии научных работ Паскаля, вдохнули вместе с тем новую жизнь в старые полемики об авторстве некоторых открытий, приписываемых ему. Дискуссии, которые тогда столкнули многих историков науки, философии и литературы, часто утрачивали хладнокровие, необходимое при подобных спорах. Зато они содействовали освещению некоторых вопросов и привлечению внимания к документальным источникам, недостаточно до тех пор исследованным. Первая мировая война практически оборвала этот слишком страстный обмен взглядов» *.
Позднейшие исследования творчества Паскаля, несколько сократившись в числе, приняли, однако, более спокойный характер. Вновь возобновился непосредственный анализ оригинальных документов и попытки критически осмыслить добытые свидетельства, увязать каждый документ с конкретными историческими фактами. Все сильнее проявляется тенденция исследователей сохранять беспристрастность...
Таково, так сказать, «общекультурное влияние» Паскаля, таковы главные проблемы и достижения паскалеведения. Особый вопрос — влияние Паскаля на развитие философии нового времени.
8
Первым из философов XIX в. всерьез занялся Паскалем Виктор Кузен. О его вкладе в паскалеведение, в связи с изданием «Мыслей», говорилось выше. Интересно, что к Паскалю Кузен обратился отнюдь не бескорыстно...
Мэн де Биран, Ройе-Коллар, а за ними и Кузен — родоначальники так называемого университетского, или официального, спиритуализма, в основе доктрины которого «лежала вера в существование Бога, в нематериальность и бессмертие души, в освободу внутреннего Я » **.
* R. Taton. Préfage. В сб.: «L’oeuvre scientifique de Pascal». Paris, 1964, p. VI-VII.
** Л. Сэв. Современная французская философия (Исторический очерк: от 1789 г. до наших дней). М., 1968, стр. 57.
От Паскаля до нас
87
Возникший еще при Наполеоне I, спиритуализм сделался «государственной философией» и почти за полтора века своего господства причинил французской мысли невообразимо огромный вред.
Сравнивая тактику буржуазии XVII и XIX вв., современный французский философ-марксист Люсьен Сэв говорит: «Разве ее смелость не носила тогда достаточно умеренного характера? Разве не процветало тогда, во всяком случае среди ее умеренной части, желание компромисса с реакционной идеологией? Конечно, речь шла о компромиссе восходящем, т. е. о таком, при котором материализм развивался по мере ослабления идеализма. В XIX же в. буржуазия, напротив, нуждалась в нисходящем компромиссе, в какой-то мере симметричном предыдущему. Поэтому мыслителей XVII в., подобных Декарту, можно было использовать без риска лишь после предварительной переработки их философии в духе компромисса, после ее “реставрации”... призванной устранить из нее все, что логически вело бы к материализму Дидро и демократизму Руссо. Была проделана огромная работа для установления и подтасовки прошлого французской философии; инициатором и первым организатором ее был Виктор Кузен» *.
Паскаль для Кузена был фигурой чрезвычайно удобной. Уже в 1830 г. Кузен открывает в нем скептика, что справедливо только отчасти, ибо до полного скептицизма Паскаль никогда не доходил. Вслед за этим Александр Вина «провозгласил принципом доктрины Паскаля пессимизм». («Таким образом,— с полным основанием констатирует Бутру,— почти все исследователи искали у Паскаля то, что подходило к их собственным идеям» **). Несколько лет Кузен изучает рукописи Паскаля, стремясь подтвердить свою точку зрения. Поскольку Паскаль ставил религиозное чувство выше интеллекта, которому свойственно в ходе познания поддаваться колебаниям, это позволяло из его скептицизма делать прямые выводы в пользу мистики, что и составляло цель Кузена. После июльских событий 1848 г. Кузен опубликовал позорно знаменитое сочинение «Справедливость и милосердие». Свои рассуждения он строил на основе регрессивной дедукции применительно к той политической задаче, которую он тогда выполнял, а именно: убедить читателя, что «рабочий имеет на работу не больше прав, чем бедняк — на вспомоществование». «Этот тезис,— замечает Л. Сэв,— в котором цинизм имущей буржуазии даже не завуалирован учеными словами, явился последовательным итогом спекулятивных рассуждений о “человеке, мыслящем тростнике”, о метафизической свободе и т. д. » ***.
* Л. Сэв. Современная французская философия, стр. 157.
** Э. Бутру. Паскаль, стр. 207.
*** Л. Сэв. Современная французская философия, стр. 161.
88
Е.М. КЛЯУС, И.Б. ПОГРЕБЫССКИЙ, У.И. ФРАНКФУРТ
Кузен был важной персоной: пэр Франции, государственный советник и министр просвещения правительства Луи-Филиппа. Выступая перед палатой пэров, он заявил: «В настоящее время ни в одном философском классе ни одного коллежа королевства не преподают такого учения, которое прямо или косвенно могло бы нанести ущерб католической религии» *. А своим профессорам он прямо вменял в обязанность: «Главное — никаких историй с епископами NN и SS».
«Вы не философы,— писал Сент-Бев о спиритуалистах.— И ваша философия не является более подлинной философией, ибо она заказана, ибо... она приводит к заранее установленным пунктам. А разве может быть подлинной та философия, которая не вольна... прийти к любым выводам, если ее приводит к ним ее собственное исследование?» ** Еще более резко выразился Эдгар Кине: «Уже давно их философские формулы, как они их называют на своем жаргоне, золотят гнусности» ***.
Спиритуализм был философией не более чем посредственной и не одарил мир глубокими истинами, однако, поддерживаемый правительством, рос и ширился. Своего апогея он достиг на грани XIX-XX вв. в творчестве «четырех больших Б» — Бутру, Бергсона, Блонделя и Брюнсвика. Представитель спиритуалистического позитивизма Эмиль Бутру утверждал, что сущность бытия постигается благодаря «внутреннему озарению». Основываясь «на примере Паскаля», он тщился доказать, что вера главенствует над знанием, повторяя этим, по сути, концепцию Шатобриана и Жозефа де Местра — одного из столпов католической реакции начала XIX в. Бутру писал: «От разума в узком смысле слова Паскаль отличает сердце — еще разум, т. е. порядок и связь, но разум бесконечно более тонкий; принципы его, с трудом распознаваемые, превышают значение геометрического ума... Сердце необходимо разуму для того, чтобы создать опору его рассуждениям. И как он чувствует, что пространство имеет три измерения, так неизвращенное сердце чувствует, что есть Бог» ****.
Портрет Паскаля, нарисованный Бутру в его книге, выдержан в духе христианской апологетики. Она открывается словами: «Паскаль, приступая к работе, имел обыкновение преклонять с молитвою колена: он просил Вечное Существо покорить всю его душу, чтобы глубина его духовного примирения равнялась той силе, которую он в себе ощущал.
* Там же, стр. 180.
** Там же, стр. 127.
*** Там же.
**** Э. Бутру. Наука и религия в современной философии. М., 1910, стр. 15.
От Паскаля до нас
89
Смирив себя, он отдавался вдохновению»*. Бутру с несомненным удовольствием констатирует: «Паскаль для нас богатый гений... который отдал все свои силы вере и любви к Богу, причем они от этого нисколько не ослабели»**. И еще: «Паскаль... великий мыслитель и вместе с тем великий христианин; он... обязан своим литературным гением своей вере» ***: — «Все, кто знал его при жизни близко, почитали его память, как память праведника и святого» ****. А глаза Паскаля «смущают своим неземным выражением» *****. Такими фразами пересыпана вся книга.
Что касается Анри Бергсона, то существенные элементы его «интуитивизма» , хоть он об этом и умалчивает, заимствованы у Шопенгауэра, Бугру и даже у Кузена. Тянется также нить и к Паскалю...
С другой стороны, «линию, идущую от посланий апостола Павла через философию Тертуллиана, Августина, средневековой мистики к пессимизму Паскаля»6*, продолжил датский теолог и философ Серен Кьеркегор в своей интерпретации христианства. Кьеркегор был виртуозом и по части рефлексии, т. е. самонаблюдения, анализа собственных мыслей и переживаний, напоминая этим, как и многими элементами своей философии, Паскаля.
Мы уже неоднократно называли писателей и философов, которые относились критически к идеям и мыслям Паскаля. Приведем теперь высказывание видного представителя заокеанской философской мысли — перуанца Мануэля Гонсалеса Прада, который в статье «Смерть и жизнь» (1890) писал: «Должны ли мы... надеяться на что- либо, опускаясь в ту пропасть, которая приводила в трепет Тюренна и ужасала Паскаля? Нет, не должны, чтобы не быть обманутыми или приятно удивленными, если там что-нибудь есть. Природа, которая создает цветы для того, чтобы их пожирали черви, и планеты для того, чтобы они были уничтожены взрывами, может также создать и человеческие общества, чтобы они были истреблены смертью. Кого же слушать? Никого» 7*.
Конец XIX в. ознаменовался невиданным дотоле научным и социальным прогрессом. Успехи науки, особенно естествознания, окончательно разрушили библейскую картину мироздания, стало * Э. Бутру. Паскаль, стр. 1.
** Там же, стр. 209.
*** Там же, стр. 205.
**** Там же, стр. 159.
***** Там же, стр_ 197_
6* «Философская энциклопедия», т.3. М., 1964, стр. 130.
7* «Мыслители Латинской Америки». М., 1965, стр. 264. Тюренн — французский полководец, известный своим бесстрашием.
90
Е.М. КЛЯУС, И.Б. ПОГРЕБЫССКИЙ, У.И. ФРАНКФУРТ
невозможно пробавляться ею дальше. Отчетливое понимание этого мы находим даже у такого автора, как Ренан: «Великая ошибка со стороны католицизма думать, будто можно бороться с успехами материализма сложной догматикой, ежедневно обременяя себя новым грузом чудесного» *.
Роковым просчетом спиритуализма был разрыв с наукой. Хотя спиритуализм и переживал подъем, однако дни его были сочтены. Идеалистическая философия начала лихорадочно перестраиваться. Появились и быстро усилились два новых течения — неотомизм и модернизм.
И неотомизм, и модернизм тесно смыкаются с современным мистицизмом. Не случайно, что из модернизма вышло самое мистическое из современных философских течений — экзистенциализм, который, вместе с феноменологией Гуссерля, заменил вконец одряхлевший спиритуализм.
Представители неотомизма и модернизма нередко обращались к Паскалю, чтобы опереться на него. И это им удавалось — настолько Паскаль богат, многопланов и... противоречив!
Опираются на Паскаля и представители экзистенциализма, возникшего в 20-е гг. нашего века. Пришло время — и «экзистенциальная философия занялась установлением своей родословной, ведя ее через Кьеркегора в прошлое — к Шеллингу, Паскалю, Августину» **. Протестантский теолог Тиллих отмечает, что экзистенциализм возник «в интеллектуальной жизни Запада в XVII в. с Паскаля». Комментируя эту мысль, американский критик-марксист Финкелстайн отмечает, что ряд основных положений этого течения выступает у Паскаля весьма отчетливо: человеческое существование как отправная точка философствования, отчаяние и страх человека перед лицом действительности, острое чувство одиночества, неустроенность, боязнь смерти, иррационализм... Понимая, однако, что полное отождествление взглядов Паскаля с экзистенциалистской философией было бы неправомерно, Финкелстайн заключает: «Вопрос о том, можно ли Паскаля считать экзистенциалистом, остается открытым. Однако уже по одному тому, что он сомневается в прогрессивности прогресса, не пытается разрешить его противоречий, видит лишь “суетность” его устремлений и противопоставляет этому призрак смерти, его можно отнести к экзистенциалистской традиции» ***.
* Э. Ренан. Антихрист. СПб., 1907, стр. 29.
** А. Хюбшер. Мыслители нашего времени. М., 1962, стр. 42.
*** С. Финкелстайн. Экзистенциализм в американской литературе. М., 1967, стр. 23-24.
От Паскаля до нас
91
9
В России отношение к Паскалю всегда было более ровное и более благожелательное, нежели на Западе, нежели у него на родине.
Первый раз в русской книге имя Паскаля встречается в «Комментариях» Академии наук 1728 г. На странице 110-йвстатье «О исправлении барометров» рассказано об опыте Торричелли; этот опыт здесь назван «искус пустоты» («искус» — в значении эксперимент, опыт). Далее читаем: «Разошлася слава сего искуса по Италии, Франции, способствующим Торицеллию, Марцению, когда же тойж-де искус повторен и описан особливою книгою от Паскалия, тогда на всю Эвропу сея вещи промчеся ведение» *.
Руанскими опытами «славного автора Пасхалия» интересовался М. В. Ломоносов. В переведенной им в 1745 г. с латинского языка «Волфианской експериментальной физике» говорится: «А ежели кто, равно как Пасхалий... возьмет трубку очень долгую в 33 фута и вместо ртути нальет воды, тогда она, на 31 фут поднявшись, с воздухом в равновесии стоять будет. Итак, ясно есть, что воздух своею тягостью столько же давит, сколько вода вышиною на 31 фут ренский» **.
С 1777 по 1780 г. великий русский просветитель Н.И. Новиков издавал журнал «Утренний свет» — первый в России философский журнал; он имел нравственно-религиозный уклон, в нескольких его номерах печатались «Мнения Паскаля».
В статье «Нравоучение как практическое наставление» Новиков подчеркивал значение Паскаля-моралиста: «Наконец, Бакон и Гроций возобновили путь, по которому следовали Волфий, Николе, Паскаль, из которых последнего особенно мы благодарить обязаны» ***. Отчасти этические воззрения самого Новикова, как то: его мысли о «величии человека» и человеческой природы, о науке «познания самого себя», — несомненно, навеяны Паскалем. Человек, говорит Новиков, есть «истинное средоточие сей сотворенной земли и всех вещей» ****, «нечто возвышенное и достойное» *****, «в природе человеческой находится много такого, что внушает в нас истинное к нему почитание * Цит. по кн.: Л. Л. Кутина. Формирование терминологии физики в России. М.; Л., 1966, стр. 53.
** М.В. Ломоносов. Полное собрание сочинений, т. 1. М.; Л., 1950, стр. 441. (31 ренский фут равен 9,728 метра.)
*** Н. И. Новиков. Избранные сочинения. М.; Л., 1951, стр. 403.
**** грам же, CTp_ ggg
***** Там же> СТр_ 3g5.
92
Е.М. КЛЯУС, И.Б. ПОГРЕБЫССКИЙ, У.И. ФРАНКФУРТ
и искреннюю любовь. Бессмертный дух, дарованный человеку, его разумная душа, его тело, с несравненнейшим искусством сооруженное к царственному зданию, и его различные силы суть такие вещи, которые безмерно важны... » *. Чтобы понять величие человека, необходимо знать его место в природе и обществе; вот почему Новиков призывает изучать «наших единоземцев»: «...души и дух их да будут единственным предметом нашим» **. И тут же с огорчением отмечает: «Многие науку познания самих себя не почитают за нужную и требующую великого прилежания: но яко не приносящую довольной пользы, считают за домашнее ремесло и легчайшее ко изучению» ***. Поэтому удивительно ли, что «познание самого себя есть наука, между людьми мало еще известная?» ****.
Как и Паскаль, Новиков считает, что «Богатство и знатность рода не точно проистекают из человеческия природы; следовательно, высокомерие богача или дворянина есть смешная гордость. Но кто хочет мыслить о себе возвышенно и гордиться человеческим достоинством, тот должен рассматривать себя совсем в других видах» *****. Так подводит Новиков читателя к мысли о том, что каждый человек «долженствует своему отечеству и каждому своему сочеловеку служить и быть полезен»6*. Только в общественной деятельности может человек проявить и утвердить данное ему при рождении «величие» и «достоинство».
Подобно Паскалю, Новиков питал неприязнь к иезуитам. В издававшемся им «Прибавлении к Московским ведомостям» (№ 69-71 за 1784 г.) была помещена статья «История ордена иезуитов», изобиловавшая фактами, весьма неблагоприятными для ордена. Екатерина II приказала арестовать тираж «Прибавления», объяснив это так: «...дав покровительство наше сему ордену, не можем дозволить, чтобы от кого-либо малейшее предосуждение оному учинено было». Это событие послужило формальным основанием для начала преследования Новикова, ограничения его писательской и издательской деятельности и закончилось через восемь лет заточением его в Шлиссельбургскую крепость...
Как и некоторые другие писатели той поры (Херасков, Василий Майков, Муравьев, Карамзин), Новиков был членом масонской ложи.
* Там же, стр. 387.
** Там же, стр. 383.
*** Там же, стр. 384.
**** Там же.
***** Там же, стр_ 388_
6* Н. И. Новиков. Избранные сочинения, стр. 392.
От Паскаля до нас
93
Должно быть, именно в этом смысле Плеханов отмечал, что «Паскаль проповедовал сомнение, а его любили масоны» *. Новикова в масонстве привлекали не мистические «искания» братьев, а нравственная философия и, в частности, тезис «познай самого себя», характерный для их учения. Этот тезис, пришедший от древних через Абеляра и Паскаля, стал программой новиковского журнала «Утренний свет» и «сыграл важную роль в развитии русской литературы. Именно отсюда ведет свое начало сентиментализм в дворянском своем варианте, достигший наибольшего расцвета в творчестве Карамзина. Ученик московских масонов, Карамзин воспринял их систему работы над собой, стал необычайно внимательно относиться к своим наблюдении, переживаниям, чувствам и, воспроизводя их на бумаге, получил необычайный эффект. То, что еще только намечалось у Хераскова... что начинало складываться у M. Н. Муравьева, отчетливо прозвучало в “Утреннем свете” Новикова и превратилось в творческий метод у Карамзина» **.
В 1790 г. молодой Карамзин побывал в Париже. В «Письмах русского путешественника» им отмечено: «В церкви св. Стефана, которой странная архитектура представляет вам соединение греческого вкуса с готическим, найдете вы гроб нежного Расина без всякой эпитафии, но его имя напоминает лучшие произведения французской Мельпомены — и довольно. Тут же погребен Паскаль (философ, теолог, остроумный автор, которого “Провинциальные письма” доныне ставятся в пример хорошего французского слога)... » *** А 5 декабря 1818 г. H. М. Карамзин, уже автор восьми томов «Истории государства Российского», в своей речи на торжественном собрании императорской Академии, по случаю принятия его в члены последней, отозвался о Паскале в еще более превосходной степени: «Великие тени Паскалей, Боссюэтов, Фенелонов, Расинов спасали знаменитость их отечества и в самые ужасные времена... » ****
В «Почте духов» И. А. Крылова о Паскале говорится, что это «самый высочайший разум последних веков». Обыкновенные люди «что могли бы сделать со всеми своими посредственными дарованиями, которые ничего не значат в сравнении с Паскалем, когда и ему те высочайшие дары, коими он щедро был награжден от природы, казалися достойными презрения?» *****
* «Литературное наследие Г. В. Плеханова», сб. VI. М., 1939, стр. 292.
** А. В. Западов. Русская журналистика XVIII века. М., 1964, стр. 157-158.
*** H. М. Карамзин. Избранные сочинения в2 томах, т. 1. М.; Л., 1964, стр. 456-457.
**** Там же, т. 2, стр. 241.
***** ц д Крылов. Полное собрание сочинений, т. I. М., 1945, стр. 225.
94
Е.М. КЛЯУС, И.Б. ПОГРЕБЫССКИЙ, У.И. ФРАНКФУРТ
Касаясь глубины Паскаля, его способности обобщать, В. А. Жуковский замечает: «Слово Паскаля имеет необъятное значение... » *
В конце XVII в. на русском языке выходят первые учебники физики: переводы с французского — «Физика Воллета» (1779-1781), «Физика Крафта» (1787), «Физика Мушенбрека» (1791), атакжеряд учебников русских авторов: «Краткое начертание физики» Головина, племянника Ломоносова, «Руководство по физике» Гиляровского, учебник Сперанского. В книге Нолле, переведенной Ив. Вельяшевым- Волынцовым, читаем: «Но никто больше не способствовал к открытию познания тягости в воздухе, как г. Пасхаль. Сей философ... вошел с великою ревностию и способностию в мысли Торрицеллиевы; и как сам собою, так и помощию свойственника своего г. Перриера получил в том великие успехи... » ** А будущий известный политический деятель, «составитель “Свода законов” Российской империи», Сперанский в своем весьма своеобразном учебнике, касаясь атмосферного давления и поставив вопрос: «какая должна быть сия причина?» — отвечает на него так: «На сем Торричелли остановился. Паскаль принял во Франции от отца Мерсеня сей опыт Торричелли; к умствованиям его присовокупил свои и окончил сию связь опытов, утверждающих давление воздуха» ***.
Что просвещает ум? питает душу? — чтенье. В чем уверяют нас Паскаль и Боссюэт,—
писал в 1810 г. в послании «К В. А. Жуковскому» В. Л. Пушкин, дядя великого поэта. С большой теплотой относился к Паскалю и сам Александр Сергеевич. Так, он иронически-доброжелательно записывает: «“Все, что превышает геометрию, превышает нас”, сказал Паскаль. И вследствие того написал свои философские мысли!» ****
Посылая в 1835 г. Пушкину свою басню «Топор», поэт П. А. Катенин писал: « ...прошу без промедления издать и прилагаемую при сем басню, в которой не вижу зацеп для г-жи Ценсуры, разве что в иных случаях правда борется со властью; но это старая аксиома, всего * В. А. Жуковский. Полное собрание сочинений, т. X. СПб., 1902, стр. 125.
** [Нолле]. Уроки експериментальной физики, сочиненные чрез г. Аббе Ноллета, т. II. СПб., 1779, стр. 297 298.
*** [М. М. Сперанский]. Физика, выбранная из лучших авторов, расположенная и дополненная Невской семинарии философии и физики учителем Михаилом Сперанским. СПб., 1797, стр. 141.
**** д g. Пушкин. Полное собрание сочинений в 10 томах, т. VII. стр. 56.
От Паскаля до нас
95
сильнее выраженная у набожного Паскаля в его Lettres provinciales, и, кажется, сказанное им не ставится в грех никому» *.
«Мысли» Паскаля начал переводить поэт-декабрист П.С. Боб- рищев-Пушкин еще до восстания; «...позже, уже на поселении, он вновь вернулся к этому труду, надеясь найти в его опубликовании источник существования, но в это время книга Паскаля вышла уже в свет в переводе Бутовского (1843), и, несмотря на очень дружные и энергичные усилия декабристов, многолетний труд Бобрищева- Пушкина так и не увидел света; рукопись его не сохранилась». «Декабристы,— отмечает далее М. К. Азадовский,— высоко ценили труд Бобрищева-Пушкина, придавали ему большое значение; упоминание о нем встречается в их переписке» (например, у Пушкина и Якушкина) **.
Только что названный И. Г. Бутовский — сотрудник газеты «Русский инвалид», двоюродный брат Надежды Дуровой, знаменитой «кавалерист-девицы», принимавший участие в издании ее «Записок» (1836), переводчик «Истории крестовых походов» Ж.Ф. Мишо. Надо сказать, что книга Паскаля Бутовским составлена весьма своеобразно: это не «Мысли» как таковые, а избранные философские сочинения Паскаля с извлечениями из «Мыслей». Книга, разделенная на двенадцать «статей», открывается большим очерком Бутовского «О жизни Паскаля и его сочинениях». Статьи IV-X — это собственно «Мысли», статьи I—III и XI-XH — философские трактаты Паскаля: «Об авторитете в предметах философских», «Размышление о геометрии вообще», «Об искусстве убеждения», «Нечто об Эпиктете и Монтене» и «О мирской знатности». Книга, в общем, дает довольно полное представление о Паскале-философе. Любопытно, что Бутовский почти целиком исключил из «Мыслей» религиозный элемент, хотя в предисловии он и превозносит добродетели Паскаля-христианина.
Подводя итог деятельности Паскаля, Бутовский говорит: «Сколько надежд унесла в могилу эта рановременная кончина! Сколько благодеяний мог бы еще оказать свету деятельный и многосторонний гений Паскаля! Оплакивая неумолимую жестокость рока, мы должны, однако, утешиться мыслию, что эта краткая, но полная жизнь оставила след самый светлый... » *** Очерк заканчивается «отповедью» * «Декабристы-литераторы». «Литературное наследство», т. 60, кн. 2. М., 1956, стр. 583.
** Там же, т. 59, стр. 775.
*** И. Г. Бутовский. О жизни Паскаля и его сочинениях. В кн.: «Мысли Паскаля». СПб., 1843, стр. XLVI.
96
Е.М. КЛЯУС, И.Б. ПОГРЕБЫССКИЙ, У.И. ФРАНКФУРТ
«скептикам и вольнодумцам» XVIII столетия: «...перед ними часто являлась грозная тень Паскаля. Тщетно силились они ослабить его изобличительное слово, беспокоившее их из-за пределов жизни. Нередко, в бессильной досаде, они прибегали к жалкому орудию клеветы. Так, старались они распространить мнение, что в последние годы, в которые Паскаль преимущественно открывал свету свои религиозные правила, голова его была расстроена... Одно только небольшое затруднение представляется в этой лжи: этот рассудок, повредившийся в 1654 г., произвел в 1656-м “Провинциальные письма”, а в 1658-м решение проблем, относящихся к циклоиде, и, наконец, можем повторить, и эти самые “Мысли”, которые предлагает в переводе нашим читателям Иван Бутовский» *.
В рецензии, посвященной выходу «Мыслей Паскаля», В. Г. Белинский писал: «Переводчик заслуживает полную благодарность за перевод дельной книги» **. Вообще, все высказывания великого критика о Паскале отмечены большой к нему симпатией. В той же рецензии он утверждает: «Паскаль занимает важное место в летописях наук и литературы Европы. Это один из замечательнейших людей XVII века. Заслуги его в области математики чрезвычайно велики. Но Паскаль знаменит еще и как мыслитель...» *** Рассуждая в одной из статей о Рабле и Паскале, Белинский заключает: «...содержание их сочинений всегда будет иметь свой живой интерес, потому что оно тесно связано с смыслом и значением целой исторической эпохи» ****.
Вспоминая свои первые шаги в изучении математики и помощь профессора H. Н. Тырлова, соседа по имению, Софья Ковалевская писала: «Но когда я рассказала ему, каким путем я дошла до объяснения тригонометрических формул, то он совсем переменил тон. Он сейчас же отправился к моему отцу и горячо стал убеждать его в необходимости учить меня самым серьезным образом. При этом он сравнил меня с Паскалем» *****.
В одной из ранних статей «Очерк направления иезуитского ордена особенно в приложении к воспитанию и обучению юношества» Н. А. Добролюбов замечает, что Паскаль «сильно нападал» на иезуитскую мораль и «провозгласил по всей Европе, что иезуитская мораль основана на обмане»6*. Можно подумать, что Добролюбов * Там же, стр. XLVIII-XLIX.
** В. Г. Белинский. Полное собрание сочинений, т. VII, стр. 597.
*** Тамже, стр. 595.
**** грам же> т. jx, СТр_ 444.
***** с. В. Ковалевская. Воспоминания и письма. М., 1961, стр. 140.
6* Н. А. Добролюбов. Собрание сочинений в 9 томах, т. 1, стр. 481.
От Паскаля до нас
97
вроде бы не одобряет Паскаля, когда далее предупреждает читателя, что из этого «нельзя... делать такого преступления, какое вывел Паскаль» *. Однако здесь употреблен характерный для критика маскировочный прием иронии, «опрокидывание» прямого смысла, что ясно подчеркивается последующим текстом. «Пусть говорят рационалисты против иезуитских принципов и их деятельности,— пишет Добролюбов,— им это простительно потому, что они ничего не видят за пределами земной жизни. Но мы смотрим на дело иначе. Правда, заключаем мы, мысль имеет мало простора в иезуитском воспитании, ум развивается односторонне, но нам и не нужно особенного разгула мыслей и особенно премудрого ума: мы ум Христов имамы. Правда, иезуитизм подавляет личность, стесняет, умерщвляет; учение иезуитов останавливает свободное развитие, это есть смерть человечества. Но — не оживет, аще не умрет, скажем мы словами апостола и охотно подвергнемся этой смерти душевной, которая должна послужить для нас залогом духовной, небесной, вечной жизни» **.
Высмеивая умственно ленивых и умственно несостоятельных «баранов», представителей «убогого большинства», Писарев язвительно вопрошал якобы от имени одного из этих «баранов» : «Не помогут ли мне в моем затруднительном положении “Опыты” Монтеня, “Размышления” Паскаля, “Максимы” Ларошфуко, басни Лафонтена или “Характеры” Лабрюйера?» ***
В 1836 г. из Вятки молодой Герцен сетовал: «Да, все теории о человечестве — вздор. Человечество есть падший ангел; откровение нам высказало это, а мы хотели сами собою дойти до формулы бытия его и дошли до нелепости (эклектизм). Все понимавшие верили в потерянный рай — Вико, Пасхаль...» **** В рассказе «Первая встреча», написанном в это же время, образ Паскаля использует один из героев, чтобы охарактеризовать «наше время, когда все дышит посредственностью, все идет к ней, в наш век, который похож на Пасхаля, не на Пасхаля всегда (слишком много чести), а на Пасхаля в те минуты, когда он принимал Христову веру потому, что не отвергал ее» *****.
Ненависть к самодержавию и крепостничеству, мысли о незрелости русского общества, о «пороках времени» — все это не давало Герцену покоя, горьким гнетом лежало на его душе. В книге «С того берега»,
* Там же, стр. 482.
** Там же, стр. 487.
*** Д. И. Писарев. Сочинения в 4 томах, т. 4, М., 1956, стр. 289.
**** д Герцен. Собрание сочинений вЗО томах, т. XXL М., 1961 стр. 101.
***** д# и. Герцен. Собрание сочинений в 30 томах, т. I, стр. 120.
98
Е.М. КЛЯУС, И. Б. ПОГРЕБЫССКИЙ, У. И. ФРАНКФУРТ
написанной после поражения революции 1848 г. и отражающей пережитую Герценом драму, есть такие строки: «Паскаль говорил, что люди играют в карты для того, чтоб не оставаться с собой наедине. Мы постоянно ищем таких или других карт, соглашаемся даже проигрывать, лишь бы забыть дело. Наша жизнь — постоянное бегство от себя, точно угрызения совести преследуют, пугают нас» *. Эту мысль Паскаля Герцен вспоминал и цитировал неоднократно. Интересно, что и Александр Блок, касаясь в своей речи «Крушение гуманизма» истории культуры XIX в., цитирует известного швейцарского историка культуры Гонеггера: «Мы имеем право сказать о себе словами Паскаля, что человек бежит от самого себя. Таков недуг нашей эпохи, и симптомы его так же очевидны для человека мыслящего, как физическое ощущение приближения грозы» **.
В статье «Прививка конституционной оспы», напечатанной 1 марта 1865 г. в «Колоколе», Герцен с сарказмом писал: «Мы пережили в темную, глухую ночь, рядом сновидений, всю западную эпопею. Пасхаль говорит, что царь, спящий полсуток и видящий во сне, что он пастух, и такой же сонливый пастух, так же видящий во сне, что он царь,— равны. К нашему меньшинству это совершенно идет, тем больше, что сны наши не были простые. Мы дремали — слыша сквозь сон какой-то стон, разлитой в воздухе, дремали — придавленные свинцовой гирей, и притом сны были так ярки, так ясны, что их можно назвать временным переселением душ» ***.
А полутора годами ранее, и тоже в « Колоколе », Герцен воспользовался ссылкой на Паскаля, чтобы заклеймить духовное убожество неаполитанской жизни той поры. «Паскаль говорит, что если б у Клеопатры линия носа была другая, то судьбы древнего Рима были бы иные. Тут нет ничего удивительного. Шутка — линия носа! Линия вообще! Отнимите у Неаполя линию моря, линию гор, полукруг его залива, что же останется? Кишащее гнездо нравственной ничтожности и добродушного шутовства, грязь, вонь, нестройные звуки, ослиный крик возчиков и самих ослов, крик и брань торговок, дребезжанье скверных экипажей и хлопанье бичей — рядом с совершенным умственным затишьем и с отсутствием всякого стремления выйти из него» ****.
Имя Паскаля мы встречаем и в эпопее «Былое и думы». Характеризуя Прудона, Герцен писал: «Говорят, что у Прудона германский ум. Это неправда, напротив, его ум совершенно французский; * Там же, т. VI, стр. 20.
** А. Блок. Собрание сочинений в8 томах, т. 6. М.; Л., 1962, стр. 107.
*** А. И. Герцен. Собрание сочинений в 30 томах, т. XVIII стр. 321-322.
**** Там же, т. XVII, стр. 280.
От Паскаля до нас
99
в нем тот родоначальный галло-франкский гений, который является в Рабле, в Монтене, в Вольтере и Дидро... даже в Паскале» *.
«Разделяю твое восхищение математическим гением Паскаля» **,— писал из Вилюйска ссыльный Чернышевский сыну своему Александру, изучавшему математику.
С необыкновенной теплотой относился Чернышевский к Паскалю и как к человеку. Он совершенно правильно, например, оценивал здоровье и умственные силы Паскаля. Он писал сыновьям из Сибири: «Это было у него, бедняжки больного и к тому же запуганного и одураченного его родными и друзьями — янсенистами, патологическое состояние души. Янсенисты были, конечно, менее шарлатаны, чем иезуиты, но и они были хороши» ***. А в одной из последних своих статей Чернышевский говорит: «...погибать от избытка умственных сил — какая славная погибель. Это судьба Пико-де-Мирандолы и Паскаля» ****.
В 1888 г. вышло первое на русском языке полное издание «Мыслей» в переводе П. Д. Первова. Его перевод очень точен, отлично передает мысль Паскаля, лапидарность его слога, его глубокую поэтичность. Первов, продолжая совершенствовать перевод, выпустил еще два издания — в 1899 и 1905 гг. Профессор западной литературы Н. И. Стороженко в своих лекциях говорил тогда «“Мысли” Паскаля заключают в себе массу глубочайших наблюдений над жизнью и людьми, и притом выражены таким слогом, что легко удерживаются в памяти. Стараясь определить сущность человеческой природы, Паскаль должен был невольно сделаться моралистом, и высказанные им мысли о человеке составляют едва ли не половину всех его “Pensées”. Подобно тому как в древней трагедии один говорит за весь хор, выражая общие всем хоревтам чувства, так и в истории изредка появляются люди, носящие на себе бремя общей скорби и в силу этого получающие право говорить за все человечество. К числу таких избранников нужно отнести и Паскаля. Его “Мысли” будут бессмертны, пока загадка человеческого существования не будет разрешена, пока каждый из нас не перестанет видеть в его словах более сильное выражение того, что смутно бродит в нашей собственной душе» *****.
В 1891 г. в серии «Жизнь замечательных людей», издававшейся Ф. Павленковым, вышел биографический очерк «Паскаль, его жизнь * Там же, т. X, стр. 185.
** Н. Г. Чернышевский. Полное собрание сочинений в 16 томах, т. XV, стр. 317.
*** Там же, т. XIV, стр. 668.
**** грам же> т_ х, стр. 860.
***** ц д Стороженко. Очерк истории западноевропейской литературы (Лекции, читанные в Московском университете). М., 1908, стр. 233-234.
100
Е.М. КЛЯУС, И.Б. ПОГРЕБЫССКИЙ, У.И. ФРАНКФУРТ
и научно-философская деятельность», написанный известным тогда публицистом и ученым M. М. Филипповым. Это была первая книга о Паскале на русском языке. «За Паскалем история философии должна... признать ту заслугу,— отмечал Филиппов,— что он поставил вопросы прямее, искреннее и талантливее, чем большинство писавших в том же духе; что у него слово не расходилось с делом, и вся его жизнь была точным воплощением его идей. Если у него были слабости и заблуждения, то он искупил их годами тяжелых нравственных и физических страданий. Беспощадный обличитель иезуитского лицемерия и фарисейства, он одним этим заслужил место в истории человеческого развития, не говоря уже о его гениальных научных трудах» *.
10
Отчетливо выступает «паскалевская струя» в философской лирике Тютчева. Зная Паскаля, перелистайте Тютчева,— и у вас непременно возникнет ощущение, что стихи замечательного русского поэта, полные напряженной мысли, с их какой-то шумящей вселенской тоской, со стремлением «постичь загадку бытия» и «глубину души людской», с их религиозной образностью и элементами мистицизма,— стихи эти определенно сродни, по самой сути своей, «Мыслям» Паскаля. Назовем некоторые из них: «Ночные голоса», «Смотри, как на речном просторе», «Дума за думой, волна за волной», «Как дымный столб светлеет в вышине», «Певучесть есть в морских волнах», «Фонтан», «Как океан объемлет шар земной», «День и ночь», «Наш век», «О, вещая душа моя», «Природа — сфинкс», «Насмерть брата», «Сегодня, друг, пятнадцать лет минуло», «Последний катаклизм»...
Поэт спрашивает:
Скажите мне, что значит человек?
Откуда он, куда идет,—
И кто живет под звездным сводом?
( «Вопросы» )
Его, как и Паскаля, угнетают бездны мироздания и бытия:
Кто смеет молвить: до свиданья! Чрез бездну двух или трех дней?
(«Увы, что нашего незнанья...» )
* M. М. Филиппов. Паскаль, стр. 78.
От Паскаля до нас
101
Небесный свод, горящий славой звездной, Таинственно глядит из глубины, И мы плывем, пылающею бездной Со всех сторон окружены.
(«Как океан объемлет шар земной» )
В природе — «созвучье полное», «невозмутимый строй» и гармония. И только между человеком и природой — вековечный разлад.
Откуда, как разлад возник?
И отчего же в общем хоре Душа не то поет, что море, И ропщет мыслящий тростник'.* («Певучесть есть в морских волнах» )
В другом месте, варьируя эту же мысль, вглядываясь в новые оттенки ее и грани, поэт вопрошает:
Что ж негодует человек, Сей злак земной?..
(«Сижу задумчив и один» )
А что же отвечает природа на этот его « души отчаянный протест » ? Ответ у нее — неизменный, неумолимый, для всех и на все времена единственный:
Поочередно всех своих детей,
Свершающих свой подвиг бесполезный, Она равно приветствует своей
Всепоглощающей и миротворной бездной.
(«От жизни той, что бушевала здесь» )
Валерий Брюсов писал: «В этом постоянном влечении к хаосу, к роковому для человека, Тютчев чувствовал свою душу «жилицею двух миров». Она всегда стремилась переступить порог «второго» бытия. И Тютчев не мог не задавать себе вопроса, возможно ли переступить этот порог, доступно ли человеку «слиться с беспредельным».
Уже в одном юношеском стихотворении («Проблеск») Тютчев дал отрицательный ответ на этот вопрос. Заглянуть в хаос можно лишь на краткое мгновение:
Здесь и ниже курсив в стихах Тютчева наш.— Ред.
102
Е.М. КЛЯУС, И.Б. ПОГРЕБЫССКИЙ, У.И. ФРАНКФУРТ
Мы в небе скоро устаем, И не дано ничтожной пыли Дышать божественным огнем.
Развивая эту мысль, Тютчев приходит к выводу, что всякое человеческое знание обречено на недостоверность. Сущность бытия — хаос, тайна; человеку хаос недоступен; следовательно, мир для человека непостижим. Поэтическое выражение этой мысли Тютчев нашел в сравнении «смертной мысли» с фонтаном. Струя водомета может достигнуть лишь определенной, «заветной» высоты, после чего осуждена «пылью огнецветной ниспасть на землю». То же и человеческая мысль:
Как жадно к небу рвешься ты! Но длань незримо-роковая, Твой луч упорный преломляя, Свергает в брызгах с высоты.
Отсюда был уже один шаг до последнего вывода: «Мысль нареченная есть ложь». И Тютчев этот вывод сделал...
Но если «мысль», т.е. всякое рассудочное познание, есть ложь, то приходится ценить и лелеять все нерассудочные формы постижения мира. И действительно, Тютчев с исключительным пристрастием относился к мечте, к фантазии, ко сну *. Здесь же у поэта и соприкосновение с роковым, тайным, мистическим и та своеобразная религиозная «подцветка», которая придает тютчевским стихам совершенно особый колорит — от полнозвучной патетики до самоуничтожа- ющей иронии. «Наличие религиозных мотивов и образов в лирике Тютчева,— отмечает К. В. Пигарев,— лишь свидетельствует, с одной стороны, о силе традиций, с другой — о настойчивом, хотя и тщетном, желании поэта “верить в то, во что верил апостол Павел, а после него Паскаль” » **.
11
Определенную роль сыграла философия Паскаля и в формировании мировоззрения Достоевского, преломилась в его творчестве. У Достоевского с Паскалем, что называется, «общая идеологическая * В. Я. Брюсов. Ф. И. Тютчев (Критико-биографический очерк). В кн.: «Полное собрание сочинений Ф. И. Тютчева». СПб., 1913, стр. 32.
** К. В. Пигарев. Жизнь и творчество Тютчева. М., 1962, стр. 196. (Курсив наш; это — подлинные слова Тютчева.— Ред.)
От Паскаля до нас
103
платформа»: защита и оправдание христианства, стремление найти в христианском вероучении ответы на загадки бытия, борьба с атеизмом и собственным неверием, мучительные поиски нравственной чистоты, недоверие к разуму и преувеличение роли сердца, ненависть к иезуитизму...
Узнав Паскаля еще в отрочестве, Достоевский потом не выпускал его из поля зрения уже всю жизнь. Особенно сильно его влияние проявилось в последнем романе писателя — его философском кредо — в «Братьях Карамазовых».
Юноша Достоевский писал брату: «Раз Паскаль сказал фразу: кто протестует против философии, тот сам философ. Жалкая философия!» * Так началась его полемика с Паскалем, его постижение Паскаля. Совсем по-паскалевски мучаясь между «безднами» неверия своего и жаждой веры, Достоевский писал из Сибири, из ссылки: «...я — дитя века, дитя неверия и сомнения до сих пор и даже (я знаю это) до гробовой крышки. Каких страшных мучений стоило и стоит мне теперь эта жажда верить, которая тем сильнее в душе моей, чем более во мне доводов противных» **. «Но колебания, но беспокойство, но борьба веры и неверия — это ведь такая иногда мука для совестливого человека, вот как ты, что лучше повеситься,— скажет потом черт Ивану Карамазову: — А ведь иные... такие бездны веры и неверия могут созерцать в один и тот же момент, что, право, иной раз кажется, только бы еще один волосок — и полетит человек “вверх тормашки...”» ***
Макар Иванович Долгорукий, один из центральных героев романа «Подросток», постигает мир не «глупым умом», а «умным сердцем». Только таким путем, по мысли Достоевского, и может быть познана правда на земле.
А вот какими словами старец Зосима в «Братьях Карамазовых» порицает «мирских»: «Живут лишь для зависти друг к другу, для плотоугодия и чванства. Иметь обеды, выезды, экипажи, чины и рабов-прислужников считается уже такою необходимостью, для которой жертвуют даже жизнью, честью и человеколюбием... И достигли того, что вещей накопили больше, а радости стало меньше. Другое дело путь иноческий. Над послушанием, постом и молитвой даже смеются, а между тем лишь в них заключается путь к настоящей, истинной уже свободе; отсекаю от себя потребности лишние и ненужные, самолюбивую и гордую волю мою смиряю и бичую * Ф. М. Достоевский. Письма в4 томах, т. I. М.; Л., 1928, стр. 46.
** Там же, стр. 142.
*** Ф. М. Достоевский. Собрание сочинений в 10 томах, т. 9. М., 1958, стр. 174.
104
Е.М. КЛЯУС, И.Б. ПОГРЕБЫССКИЙ, У.И. ФРАНКФУРТ
послушанием, и достигаю тем, с помощью божьей, свободы духа, а с нею и веселья духовного!» * Паскаль-проповедник здесь стоит, можно сказать, за каждым словом.
Рассматривая влияние Бальзака на творчество Достоевского, Леонид Гроссман говорит: «Но к этому времени из писателей XVII столетия свою власть над ним сохранил другой величайший и, может быть, единственный трагик французской литературы — Паскаль».
Имя автора «Мыслей» мелькает уже в школьных письмах Достоевского, повторяется в его позднейших романах («Бесы»), а невидимое присутствие его чувствуется и в «Дневнике писателя» и в поучениях Зосимы.
В этом трагическом мыслителе Достоевский почувствовал необыкновенно родственную душу. « Сияющая личность Христа», к которой сводится все учение Паскаля, его суровый, негодующий, подчас даже нетерпимый тон в обращениях к атеистам, его принижение разума во имя полного расцвета непосредственной жизни сердца, наконец, его нескрываемая неприязнь к людям и какой-то раздраженный, больной, истерический тон его воззваний — все это определенно чувствуется и в Достоевском. Кажется, иногда он непосредственно вдохновлялся в «Дневнике писателя» «бессмертными черновиками» Паскаля — «Humiliez vous, raison impuissante! Taisez vous, nature imbecile!» **. Разве не отголосок этого восклицания слышится в знаменитом воззвании пушкинской речи: «Смирись, гордый человек, потрудись, праздный человек!» ***
Следует помнить, что Достоевский — мастер пародийных «опрокидываний», любитель всякого рода маскировок, надевания личин, засекречиваний. Полемизирует он обычно не называя объекта, скрыто, а то, от чего отталкивается, у него глубоко упрятано. Первым это, кажется, разгадал Салтыков-Щедрин еще в 1864 г. Имея в виду героя «Записок из подполья», он писал: «Свои доказательства он почерпает преимущественно из Фомы Аквинского, но так как он об этом умалчивает, то читателю кажется, что эти мысли принадлежат собственно рассказчику» ****.
Разговоры Ивана Карамазова с чертом — самая настоящая пародия на философию от Декарта и Паскаля до Канта и Гегеля, острый спор с различными философскими системами. Однако, поскольку Достоевский — «коварный» автор, все это у него не на поверхности.
* Там же, т. 10, стр. 393.
** «Смирись, бессильный разум! Умолкни, глупая природа!» («Мысли», стр. 110).
*** Л. П. Гроссман. Библиотека Достоевского. Одесса, 1919, стр. 97-98.
**** м. Е. Салтыков-Щедрин. Собрание сочинений в 20 томах, т. 6. М.,1968, стр. 493.
От Паскаля до нас
105
Вспомним, сколь глубоко была запрятана в «Братьях Карамазовых» полемика с Кантом и какой блестящий образец раскрытия «секрета автора» дал нам Я. Э. Голосовкер в своей книге «Достоевский и Кант», совершенно как бы по-новому прочитавший роман Достоевского. В редакционном предисловии к этому своеобразному исследованию говорится: «Показывая, как “расшифровал” Достоевский Канта и как должен быть “расшифрован” роман Достоевского, автор вместе с тем дает нам образец искусства чтения, пристального вглядывания в текст исследуемого произведения» *. Подобного же анализа требует и тема «Достоевский — Паскаль».
12
Не мог пройти мимо Паскаля и такой огромной культуры человек, как И. С. Тургенев, хорошо знавший и современную ему философию, и историю философии вообще. Более того, есть основания говорить «о преимущественном воздействии» философии Паскаля на Тургенева. «...На протяжении целых десятилетий мировоззрение писателя ощутимо соприкасается с философией Паскаля, то усваивая из нее очень близкие для себя черты, получающие затем развитие и отражение в творчестве, то активно отвергая несродное и чуждое,— пишет А. Батюто.— Философия Паскаля несомненно способствовала кристаллизации и отшлифовке убеждений Тургенева, связанных с его подходом к проблеме “человек и природа”» **.
В апреле 1848 г. Тургенев писал Полине Виардо: «Жизнь — эта красноватая искорка в мрачном и немом океане Вечности — это единственное мгновение, которое вам принадлежит и т. д., и т. д., и т. д., это все избито, а между тем это верно... Что я делал вчера, в субботу? Я читал книгу, о которой часто отзывался с большой похвалой, каюсь, не читая ее, “Провинциальные письма” Паскаля» ***.
Рассказ Тургенева «Поездкав Полесье» (1857) открывается почти что прямым пересказом не названного здесь Паскаля — вариация на тему «природа и ничтожество человека». «“Мне нет до тебя дела,— говорит природа человеку,— я царствую, а ты хлопочи о том, как бы не умереть”. ...Неизменный, мрачный бор угрюмо молчит или воет глухо — и при виде его еще глубже и неотразимее проникает в сердце * Я.Э. Голосовкер. Достоевский и Кант (Размышление читателя над романом «Братья Карамазовы» и трактатом Канта «Критика чистого разума»). М.,1963,стр. 3.
** А. Батюто. Тургенев и Паскаль. «Русская литература», 1964, № 1, стр. 161.
*** И. С. Тургенев. Полное собрание сочинений и писем в 28 томах. Письма, т. I, М.; Л., 1961, стр. 458.
106
Е.М. КЛЯУС, И.Б. ПОГРЕБЫССКИЙ, У.И. ФРАНКФУРТ
людское сознание нашей ничтожности. Трудно человеку, существу единого дня, вчера рожденному и уже сегодня обреченному смерти, трудно ему выносить холодный, безучастно устремленный на него взгляд вечной Изиды... » *
Не назван Паскаль и в романе «Отцы и дети», однако следы его влияния «на строй базаровской мысли» выступают — с разной степенью четкости — во многих местах романа. Можно бы даже сказать: подчас в самых неожиданных местах,— если, конечно, не учитывать парадоксальности мышления героя.
После разговора с Базаровым Одинцова «увидала... даже не бездну, а пустоту». Базаров же, уезжая от нее, говорит Аркадию Кирсанову: «Каждый человек на ниточке висит, бездна ежеминутно под ним разверзнуться может, а он еще сам придумывает себе всякие неприятности, портит свою жизнь» **. И несколько далее: «...я вот лежу здесь, под стогом... Узенькое местечко, которое я занимаю, до того крохотно в сравнении с остальным пространством, где меня нет и где дела до меня нет; и часть времени, которую мне удастся прожить, так ничтожна перед вечностию, где меня не было и не будет... А в этом атоме, в этой математической точке кровь обращается, мозг работает, чего-то хочет тоже... Что за безобразие! Что за пустяки! » ***
« Этим размышлениям Базарова придается трагически-бунтарская тональность, усиливающаяся по мере приближения романа к концу. Ими усугубляется скепсис Базарова, граничащий с отказом от активной общественно-политической деятельности. Ими в какой-то степени предопределены также и его безотрадные раздумья о своей ненужности для России... » ****
Атеист Базаров, будучи позитивистом в философии, отнюдь не случайно при всем том светит иногда Паскалевым светом. Он — медик, т.е., как и Паскаль, представитель точной науки — «натуральной философии». Это не могло не сблизить их образ мыслей, чем Тургенев и пользуется в обрисовке своего героя. Как и Паскаль, Базаров скептически относится к возможностям разума. Подчеркивая собственное ничтожество перед лицом «вечности» и Вселенной, он тем самым — «по формуле Паскаля» — проявляет несомненное величие, в чем один из главных ключей к пониманию его образа. Так миросозер* И. С. Тургенев. Полное собрание сочинений и писем в28 томах. Сочинения, т. VII, стр. 51.
** Там же, стр. 323.
*** И. С. Тургенев. Полное собрание сочинений и писем в28 томах. Сочинения, т. VIII, стр. 300.
**** д Батюто. Тургенев и Паскаль, стр. 157.
От Паскаля до нас
107
цание Базарова — русского человека 50-х гг. XIX столетия — через философию Паскаля переплетается с миросозерцанием общечеловеческим. И даже самая смерть Базарова как бы иллюстрирует одну из главных философских идей Паскаля: чтобы умертвить человека, незачем ополчаться всей Вселенной,— достаточно порыва ветра или нескольких капель воды, достаточно порезать палец, что и случилось с Базаровым. Базаров умирает не как герой: не на баррикаде (подобно Рудину) и не в преддверии подвига (подобно Инсарову). Его смерть нелепа, случайна. Этим Тургенев показал свое неверие в успех дела, которому посвятили себя Базаровы. Вместе с тем смерть Базарова направлена и против религиозного смирения Паскаля, который, например, риторически-осуждающе вопрошал: «Неужели это мужество, если умирающий человек станет, среди слабости и агонии, вооружаться против Бога, всемогущего и вечного?» * Но именно так Базаров и встретил свой смертный час. Поэтому у читателя на вопрос Паскаля может явиться только один ответ: Базаров умер как мужественный человек, не дрогнув пред «бездной вечности».
«Объективно полемичен по отношению к философии Паскаля и эпилог “Отцов и детей”,— пишет А. Батюто.— Паскаль призывал атеистов к примирению с Богом. И на могиле, в которой скрылось “страстное, грешное, бунтующее сердце” атеиста Базарова, цветы говорят о “вечном примирении”, но это примирение не с Богом, а с “равнодушной” природой... » **
В марте 1864 г. Тургенев писал Фету: «Любезнейший Афанасий Афанасьевич, надобно непременно нам возобновить нашу переписку; и не потому, что мы имеем пропасть вещей сообщить друг другу — а просто потому, что не следует двум приятелям жить в одно и то же время на земном шаре и не подавать друг другу хоть изредка руку. Вы только обратите внимание на следующий рисунок:
вечность а вечность...
Точка а представляет то кратчайшее мгновенье — ce raccourci d’atome, как говорит Паскаль,— в теченье которого мы живем,— еще мгновенье — и поглотит нас навсегда немая глубина нихтзейн’а... *** Как же не воспользоваться этой точкой?» ****
* «Мысли», стр. 223, ХЫ.
** А. Батюто. Тургенев и Паскаль, стр. 160.
*** От немецкого Nichtsein — небытие. — Ред.
**** Тургенев. Полное собрание сочинений и писем в28 томах. Письма, т. V, стр. 245-246.
108
Е.М. КЛЯУС. И.Б. ПОГРЕБЫССКИЙ, У.И. ФРАНКФУРТ
Эта милая философическая шутка заставляет вспомнить «красноватую искорку» из письма к Полине Виардо. А вот герой рассказа «Призраки» уже с надрывом спрашивает: «И зачем я так мучительно содрогаюсь при одной мысли о ничтожестве?» * На трагической этой ноте, словно бы из арсенала героев Достоевского, рассказ и кончается.
Мистическая сторона философии Паскаля Тургеневу всегда оставалась чуждой. Об этом красноречиво свидетельствует письмо Тургенева к Полине Виардо (июнь 1859 г.): « ...чтобы развлечься в пути, я выбрал “Мысли” Паскаля, самую ужасную, самую несносную книгу из всех когда-либо напечатанных. Он растаптывает все, что есть дорогого у человека, и бросает вас на землю, в грязь, а затем, чтобы вас утешить, предлагает вам религию, которую разум (разум самого П [аскаля]) не может не отвергнуть, но которую сердце должно смиренно принять». И далее: «...никогдаеще никто не подчеркивал того, что подчеркивает Паскаль: его тоска, его проклятия — ужасны. В сравнении с ним Байрон — розовая водица. Но какая глубина, какая ясность — какое величие!.. Какой свободный, сильный, дерзкий и могучий язык!.. У меня свело оскоминой рот от этого чтения... » ** По рассказу же «Довольно» можно заключить, что в середине 60-х гг. Тургенев как будто вообще отдаляется от Паскаля. Так, мы читаем: « ...одно остается человеку, чтобы устоять на ногах и не разрушиться в прах: ...спокойно отвернуться ото всего, сказать: довольно! — и, скрестив на пустой груди ненужные руки, сохранить последнее, единственно доступное ему достоинство, достоинство сознания собственного ничтожества; то достоинство, на которое намекает Паскаль, когда он, называя человека мыслящим тростником, говорит, что если бы целая Вселенная его раздавила — он, этот тростник, был бы все-таки выше Вселенной, потому что он бы знал, что она его давит,— а она бы этого не знала. Слабое достоинство! Печальное утешение!» *** А что лучше? Автор как будто находит опору в Шекспире, цитируя «Макбета», но тут же снова возвращается к мысли о непрочности бытия: «Ну да: человек полюбил, загорелся, залепетал о вечном блаженстве, о бессмертных наслаждениях, смотришь: давным-давно уже нет следа самого того червя, который выел * И. С. Тургенев. Полное собрание сочинений и писем в28 томах. Сочинения, т. IX, стр. 109.
** « Неизвестные письма И. С. Тургенева (Из архива семьи Виардо) ». « Иностранная литература», № 1,1071, стр. 184.
*** И. С. Тургенев. Полное собрание сочинений и писем в28 томах. Сочинения, т. IX, стр. 117.
От Паскаля до нас
109
последний остаток его иссохшего языка» *. А через две страницы, заглушая и эту мысль, словно некий трагический лейтмотив, следует рассуждение на тему «человек и природа», «человек и вечность», «неизбежность смерти»...
Эти струны Паскалевых «Мыслей» были созвучны душе Тургенева до последних дней его жизни, что, например, явствует из воспоминаний поэта Я. П. Полонского, относящихся к лету 1881 г. В тот день у них с Тургеневым был разговор и о Паскале. (Тургеневу, говорит Полонский, «очень нравилось выражение... Паскаля: люди не могли дать силы праву и дали силе право».) Тут же сказано, что Иван Сергеевич «никак не мог помириться с тем равнодушием, какое оказывает природа — им так горячо любимая природа — к человеческому горю или к счастию, иначе сказать, ни в чем человеческом не принимает участия. Человек выше природы, потому что создал веру, искусство, науку, но из природы выйти не может — он ее продукт, ее окончательный вывод. Он хватается за все, чтоб только спастись от этого безучастного холода, от этого равнодушия природы и от сознания своего ничтожества перед ее всесозидающим и всепожирающим могуществом. Что бы мы ни делали, все наши мысли, чувства, дела, даже подвиги будут забыты. Какая же цель этой человеческой жизни?» **.
Такие же щемяще-печальные нотки мы встречаем и во многих «Стихотворениях в прозе» Тургенева (особенно в 1-й части, имеющей подзаголовок «Senilia» — старческое).
В самое разное время своей деятельности и по самым разным поводам вспоминал Тургенев о Паскале. В рецензии на книгу Аксакова «Записки ружейного охотника», описывая устройство «пистонницы», Тургенев замечает: «Это чрезвычайно удобно и очень просто, как яйцо Колумба, как Паскалева тачка» ***. Посылая эту рецензию Некрасову (декабрь 1852 г.), Тургенев в постскриптуме своего письма пояснял: «Кстати, я в одном месте говорю о Паскалевой тачке — ты знаешь, что Паскаль изобрел эту, по-видимому, столь простую машину» ****.
А вот декабрь 1877 г. Тургенев возмущен интригами клерикалов и бонапартистов против республиканского большинства в Национальном собрании; в руке у него перо публициста, он пишет из Парижа * Там же, стр. 118.
** Я. П. Полонский. И. С. Тургенев у себя в его последний приезд на родину. В кн. : «И. С. Тургенев в воспоминаниях современников», т. 2. М., 1969, стр. 423.
*** И. С. Тургенев. Полное собрание сочинений и писем в28 томах. Сочинения, т. V, стр. 410.
**** да (;_ Тургенев. Полное собрание сочинений и писем в28 томах. Письма, т. II, стр. 93.
110
Е.М. КЛЯУС. И.Б. ПОГРЕБЫССКИЙ. У.И. ФРАНКФУРТ
критику П. В. Анненкову: «Но до какой наглости лжи доходит партия, орудующая в Элизе?!! Традиции иезуитов и традиции империи слились в одно прекрасное целое. Можно им сказать, как некогда Pascal: “Mentiris impudentissime!” * Но тот же Pascal потом целовал у иезуитов ручку» **. Оставим это утверждение на совести Ивана Сергеевича, поскольку, как отмечает комментатор, «сведений о позднейшем изменении взглядов Паскаля на иезуитов не сохранилось» ***.
13
У Л.Н. Толстого имя Паскаля впервые названо в варианте второй редакции «Отрочества» (1853), не вошедшем в окончательный текст. Герой повести, имея в виду «аргумент пари», записывает: «Эта мысль ... уступила место другой, именно мысли Паскаля о том, что ежели бы даже все то, чему нас учит религия, было неправда, мы ничего не теряем, следуя ей, а не следуя, рискуем, вместо вечного блаженства, получить вечные муки. Под влиянием этой идеи я впал в противоположную крайность — стал набожен... » ****
Всерьез же Толстой заинтересовался Паскалем значительно позже — весной 1876 г., когда он прочел «Мысли». «Какая чудесная книга и его жизнь,— писал Лев Николаевич А. А. Толстой.— Я не знаю лучше жития» *****. Толстой в это время работал над «Анной Карениной». « ...Не хвалите мой роман,— писал он H. Н. Страхову,— Паскаль завел себе пояс с гвоздями, который он пожимал локтями всякий раз, как чувствовал, что похвала его радует. Мне надо завести такой пояс»6*.
Еще через год Толстой писал Фету: «Читали ли вы: Pensées de Pascal? т.е. недавно, на большую голову. Когда, Бог даст, вы приедете ко мне, мы поговорим о многом, и я вам дам эту книгу» 7*. В яснополянской библиотеке было два издания «Мыслей»: на французском языке и перевод Бутовского. «...Мысли Паскаля, Эпиктета, Лаотцы сильнее на меня действуют и больше мне дали, чем книги систематизирующих философов»к*,— признавался Толстой потом в письме * « Бесстыднейшая ложь!» (лат.).
** И. С. Тургенев. Полное собрание сочинений и писем в 28 томах. Письма, т. XII, кн. 1, стр. 235.
*** Там же, стр. 617.
**** д. Ц. Толстой. Полное собрание сочинений в90 томах (Юбилейное издание). М., 1928-1958. Т. 2, стр. 287-288.
***** там же> т_ 02, стр. 262.
6* Там же, т. 20, стр. 619.
7* Там же, т. 62, стр. 320.
8* Там же, т. 69, стр. 25.
От Паскаля до нас
111
к Г. А. Русанову. Он даже сам хотел — в подражание Паскалю, Эпиктету и др.— написать «бессвязные, бессистемные мысли». Так зрело в нем то, что впоследствии воплотилось в сборники «Круг чтения» и «Путьжизни».
В 1889 г. в издательстве «Посредник» вышла книга «Французский мудрец Влас Паскаль. Его жизнь и труды (Составлено А. И. Орловым)». Книга разделялась на две части: «Жизнь Паскаля» и «Мысли Паскаля» . Словно в противовес Бутовскому, Орлов (литератор и поэт-переводчик) выбрал преимущественно мысли религиозные. Толстой, одобривший это начинание и способствовавший изданию книги, 12 мая 1888 г. писал В. Г. Черткову: «Ваши поправки перевода мыслей — очень хороши. Держитесь только близко подлинника. Вообще весь ваш план издания Паскаля вполне одобряю» *. Вскоре Орлов затеял новое издание. В марте 1891 г. Толстой писал редактору «Русской мысли» В. А. Гольцеву: «Мой знакомый, А.И. Орлов, сделал прекрасный перевод мыслей Паскаля, особенным, выгодным для оценки их способом расположив их. Не могу хвалить этого расположения, потому что оно принадлежит мне, но все-таки [думаю], что оно будет содействовать успеху книги.— Не издадите ли вы ее?» ** Книга называлась так: «Мысли Паскаля, расположенные по указанию графа Л.Н. Толстого». По каким-то причинам она издана не была... ***
Характерно, что с годами (и особенно в последнее десятилетие жизни писателя) имя Паскаля и цитаты из «Мыслей» все чаще встречаются и в письмах Толстого, и в дневниках, и в сочинениях. Цитирует он его то дословно, со ссылками как на русском, так и на французском языках, то прикровенно, то просто пересказывает. «Паскаль прав, когда...»; «как прав Паскаль, говоря, что...»; «удивительное место у Паскаля, где он говорит...»; «кажется, так говорит Паскаль...»; «как это же говорит Паскаль» ит.д. Кроме того, Толстым взято несколько эпиграфов из Паскаля: к философскому трактату «О жизни» (1886-1887), к отдельным главам в статьях «Одумайтесь!» (1904) и «Неизбежный переворот» (1909). Всего же в 90-томном издании сочинений Толстого Паскаль упомянут и цитирован более четырехсот раз.
* Там же, т. 86, стр. 157.
** Там же, т. 65, стр. 275.
*** В 1892 г. вышел перевод С. Долгова. Книга была выдержана в духе сборника Орлова, т. е. имела крен в сторону вопросов религиозных (что подчеркивалось и названном — «Мысли о религии»), а построена была по принципу сборника Бутовского. В «Приложении» помещены статьи Паскаля: «Размышление о смерти», «Молитвенное размышление об обращении во благо болезней», «Сравнение древних христиан с нынешними» и «Об обращении грешника».
112
Е.М. КЛЯУС, И.Б. ПОГРЕБЫССКИЙ, У.И. ФРАНКФУРТ
«Bossnet слишком теолог, слишком устарел. Montesquieu, Pascal... превосходный, чудный язык»,— сказал Толстой в июле 1886 г. французскому политическому деятелю П. Деруледу *.
11 октября 1889 г. Толстой делает пространную запись «в защиту» своих любимых философов, в том числе и Паскаля. Вот ее начало: «Прочел нынче статью в Воспитании и Обуч[ении] о книжках Посредника]. Осуждаются и Эпикт[ет], и Паск[аль], и Гог[оль], и Марк Авр[елий] за то, что они не предлагают средств внешних улучшить положение людей. Но ведь они утверждают с первых слов — Эпиктет — что внешние вещи не в нашей власти. Стало быть, надо не сердиться на Эп[иктета], М[арка] А[врелия], П[аскаля] и Гог[оля], а доказать, что они не правы. Но противники не доказывают этого, п[отому] ч[то] это им кажется слишком явным» **.
Вечером 26 декабря 1890 г. Толстой помечает в дневнике: «Читал о пари Паскаля S. Prudhomme» ***. Речь идет о статье Сюлли-Прюдома «Смысл и значение пари Паскаля», опубликованной в ноябрьском номере журнала «Revue des deux mondes».
16 февраля 1891 г. Толстой отмечает: «...“Provinciales” Паскаля, писанные с такой любовью, не нужны, a Pensées — дело божье» ****. Если разобраться, то в «Критике догматического богословия», в « Четырех евангелиях », да и в других своих религиозных трактатах, где он выступал как антагонист и ниспровергатель признанного богословского вероучения, Толстой сам, по сути дела, работал в традициях «Провинциальных писем»! Однако, что в высшей степени любопытно, Лев Николаевич даже мысли такой никогда, видимо, не допускал...
В статье «Одумайтесь!», направленной против начавшейся русско-японской войны и против войн вообще, Толстой писал: «Точно как будто не было ни Вольтера, ни Монтеня, ни Паскаля, ни Свифта, ни Канта, ни Спинозы, ни сотен других писателей, с большой силой обличавших бессмысленность, ненужность войны и изображавших ее жестокость, безнравственность, дикость...» *****
1 декабря 1904 г. Толстой записывает: «...два дня переводил Паскаля. Очень хорош»6*.
* «Толстой и зарубежный мир». «Литературное наследство», т. 75, кн. 1. М., 1965, стр. 539.
** Л. Н. Толстой. Полное собрание сочинений в90 томах, т. 50, стр. 156.
*** Там же, т. 51, стр. 115.
**** там же, т. 52, стр. 11-12.
***** Там же, т зб, стр. юз
6* Там же, т. 55, стр. 104.
От Паскаля до нас
113
В феврале 1905 г. Толстой написал о Паскале небольшую статью для «Круга чтения» *, которую, по своей обычной манере, переделывал семь раз.
Что же влекло Толстого к Паскалю? Разумеется, совсем не то, что «Паскаль открыл закон, по которому делают насосы» **. «Великий богоискатель» Толстой оценивает Паскаля по-своему: «...сознание необходимости веры и невозможность жить без нее... в этом его великая, неоценимая и далеко не оцененная заслуга» ***. Паскаль, по Толстому,— учитель жизни, «человек великого ума и великого сердца, один из тех людей, который способен видеть через головы других людей и веков то, что должно открыться людям и составить содержание их жизни, один из тех, которых называют пророками... » **** То, что это сказано в наброске, не вошедшем в окончательный текст, не меняет дела: Толстой думал именно так. Еще ранее в статье «Христианское учение» (1894-1896) он писал: «...ответ на вопрос жизни более или менее ясно высказывали все лучшие люди человечества и до и после Евангелия, начиная с Моисея, Исаии, Конфуция, древних греков, Будды, Сократа и до Паскаля, Спинозы, Фихте, Фейербаха и всех тех, часто незаметных и непрославленных людей, которые искренно, без взятых на веру учений, думали и говорили о смысле жизни» *****,
«Главные интересы» и цель жизни самого Паскаля, пишет Толстой, «заключались в борьбе между его стремлениями к занятиям наукой и к славе, которую они давали ему, и сознанием пустоты, ничтожества этих занятий и зловредности соблазна славолюбия и желанием все свои силы посвятить только служению Богу»6*.
Оценивая деятельность Паскаля, Толстой говорит: «Человеку для его блага нужны две веры: одно — верить, что есть объяснение смысла жизни, и другое — найти это наилучшее объяснение жизни.— Паскаль сделал, как никто, первое дело» 7*. И далее: «Он умер, сделав только одну часть работы,— не доделав, даже не начав делать другую. Но от того, что не сделана эта вторая часть работы, не менее драгоценна первая: удивительная книга “Мыслей”, собранная из разрозненных клочков бумаги, на которых больной, умирающий
* См. там же, т. 41, стр. 477-484.
** Там же, т. 41, стр. 483.
*** Там же, стр. 478.
**** Л. Н. Толстой. Полное собрание сочинении в90 томах, т. 42, стр. 488-489.
***** Там же, т. 39, стр. 119.
6* Там же, т. 41, стр. 479.
7* Там же, стр. 481-482.
114
Е.М. КЛЯУС, И.Б. ПОГРЕБЫССКИЙ, У.И. ФРАНКФУРТ
Паскаль записывал свои мысли» *. Эта книга для Толстого не только «удивительная», но и «пророческая». «Паскаль весь в своих Pensées. Видна вся напряженная работа его мысли... » ** Паскаль — писатель, «пишущий кровью сердца» ***,— самая высокая похвала в устах Толстого. Говоря о тех, кто сомневается в сохранности Паскалева рассудка, Толстой замечает с сарказмом: «Нам не нужно усилия, чтобы подниматься до него: напротив, мы с высоты своей нормальности можем покровительственно и снисходительно признавать его заслуги, несмотря на его ненормальность» ****.
Интересна параллель, проводимая Толстым между Паскалем и Гоголем. Сравнение Гоголя с Паскалем было им впервые дано еще в 1887 г. в письмах к П. И. Бирюкову (см. т. 64, стр. 98-99) и В. Г. Черткову, где Толстой вскользь обронил: «...Гоголь, наш Паскаль... » ***** Теперь же, в статье о Паскале, Толстой дает более развернутое сопоставление. Говоря о людях «с большими душевными силами», он продолжает: «Большие душевые силы дают этим людям возможность быстро достигнуть большой славы, и эти же душевые силы дают им возможность увидеть ничтожество ее. Таким человеком был Паскаль. Таким же был близкий нам русский человек Гоголь (я по Гоголю, думаю, понял Паскаля). И тот и другой, хотя с совсем различными свойствами и совершенно различным складом и размером ума, пережили одно и то же. Оба очень скоро достигли той славы, которой страстно желали; и оба, достигнув ее, тотчас же поняли всю тщету того, что казалось им самым высоким, самым драгоценным в мире благом, и оба ужаснулись тому соблазну, во власти которого находились»6*. Поскольку эта параллель построена на использовании религиозно-мистических «завихрений» Паскаля и Гоголя, постольку и вывод Толстого стопроцентно реакционен: «Ведь все это делалось для славы. А слава прошла, и в ней ничего не было, кроме обмана. Стало быть, не нужно и ничтожно было все то, что делалось для ее приобретения» 7*. Так, одним росчерком пера зачеркивались Паскаль-ученый и Гоголь — величайший художник слова.
В марте 1904 г. Толстой в беседе с французским журналистом Бурдоном говорил: «Ах, Паскаль, вот писатель, что за ум, что за че* Там же, стр. 482.
** Там же, т. 42, стр. 488.
*** Там же, т. 55, стр. 104.
**** Там же, т. 41, стр. 483.
***** Там же, т. 86, стр. 90.
6* Там же, т. 41, стр. 477.
7* Тамже, стр. 478.
От Паскаля до нас
115
ловек! Какое несчастье, что он сбился с пути во второй части своих “Мыслей” и что у него не хватило силы идти до конца!.. Да, это так, он испугался, он сам нагнал на себя ужас, церковное учение вновь овладело им, и он умер, не освободившись. Да, это была огромная потеря для человеческого разума...» * Под словами «церковное учение» Толстой понимал католицизм (или, как он называл, «догматический католицизм»). Будучи врагом «догматического богословия» всех видов, Толстой не мог примириться с тем, что его любимец был католиком и защищал католицизм. (Здесь Толстой солидарен с Тургеневым, назвавшим Паскаля «рабом католицизма».) Толстой пишет, что Паскаль-де «по-детски верил... католическому учению» **, «но разбирая качества того католицизма, в котором он был воспитан» ***. А в черновых вариантах он говорит еще более резко: «в том уродливом католичестве» **** и что там, «где он... ищет доказательств, подтверждения истин католичества, он поражает (зачеркнуто: “ребяческой”) слабостью довода и даже приемов» *****. Впрочем, Лев Николаевич сразу находит и объяснение такого «странного» положения вещей: «...нельзя себе представить гениального, правдивого перед самим собой Паскаля, верующего в католичество. Он не успел подвергнуть его той силе мысли, которую он направил на доказательство необходимости веры, и потому в душе его догматический католицизм остался целым»6*.
22 мая 1907 г. Толстой поставил перед собой в дневнике такую задачу: «Еще дело: составить жизнеописание Эпиктета, Сократа, Паскаля, Руссо...»7* Однако ничего этого он уже не осуществил. Толстой был занят составлением сборников «избранного чтения на все дни года» и «для всех». Этому труду он придавал большое значение, поскольку в нем он пытался систематически изложить собственное мировоззрение. Первым вышел сборник «Мысли мудрых людей на каждый день» (1903); из него вырос «Круг чтения» (1904-1908) — «мысли многих писателей, в том числе и самого Толстого,— об истине, жизни и поведении». Переработав «Круг чтения», т.е. упростив текст применительно к самым широким слоям читателей, Толстой в 1909 г. выпустил сборник «На каждый * «Толстой и зарубежный мир». «Литературное наследство», т. 75, кн. 2, стр. 50-51.
** Л. Н. Толстой. Полное собрание сочинении в90 томах, т. 41, стр. 479.
*** Там же, стр. 482.
**** грам же. т 42, стр. 489.
***** Там же, стр_ 488
6* Там же, т. 41, стр. 482.
7* Там же, т. 56, стр. 31.
116
Е.М. КЛЯУС, И. Б. ПОГРЕБЫССКИЙ, У. И. ФРАНКФУРТ
день (учение о жизни, изложенное в изречениях)». И, наконец, в 1910 г. вышел «Путь жизни», или, как его иногда называют, «Народный круг чтения»,— сборник мыслей по важнейшим, по мнению Толстого, вопросам жизни. Эти своеобразные «компиляции» Толстого в его Полном собрании сочинений занимают шесть томов; Паскаль, в общей сложности, цитируется здесь (с повторениями) почти двести раз. Характерен такой эпизод. В феврале 1905 г. литератор-толстовец Ф. А. Страхов помогал Льву Николаевичу читать корректуры «Кругачтения». Секретарь Толстого Н.Н. Гусев рассказывает: «Страхов указывал, что после евангельского текста: “люби ближнего, как самого себя” в “Круге чтения” следует мысль Паскаля: “Нужно любить только Бога и ненавидеть только себя”,— которая, по его мнению, не вполне соответствует мысли евангельского текста. Толстой на это сказал: “Лучше выпустить первое, чем то, что надо ненавидеть себя”» *.
В последний год жизни Толстого Паскаль стал ему еще ближе, чем прежде. Толстой был поглощен работой над сборником «Путь жизни». Хотя в этой книге, по сравнению с предыдущими сборниками, мыслей самого Толстого значительно больше, нежели мыслей других авторов, однако Паскалю отдано явное предпочтение: он цитируется тридцать раз (больше него упоминается только Иисус Христос).
В одной из своих последних статей, «О безумии» (1910), Толстой писал: «Как несправедлива мысль, высказанная Паскалем, о том, что если бы наши сновидения были бы так же последовательны, как и события действительности, жизни, мы бы не могли бы отличить сновидения от действительности, так же несправедлива была бы и мысль о том, что если бы неразумная деятельность признавалась всеми разумной, то мы не могли бы различить неразумную деятельность от разумной» **. Говоря далее о «состоянии разделяемого всеми безумия», Толстой заключает: «...то, что предполагается Паскалем — именно та последовательность в сновидениях, это самое вполне случилось теперь, когда безумие охватило всех или огромное большинство людей нашего мира. Мы живем безумной, противной самым простым и первым требованиям здравого смысла, жизнью, но так как этой жизнью живут все или огромное большинство, мы не видим уже различия между безумной и разумной жизнью и свою безумную жизнь признаем разумной» ***.
* H. Н. Гусев. «Круг чтения». История писания и печатания. В кн.: Л. Н. Толстой. Полное собрание сочинений в90 томах, т. 42, стр. 570.
** Там же, т. 38, стр. 409.
*** Н.Н. Гусев. «Кругчтения», стр. 410.
От Паскаля до нас
117
Секретарь Толстого В.Ф. Булгаков рассказывает, что 23 июня 1910 г. Лев Николаевич читал эту главу своей статьи гостям. «Если бы безумие было общее,— говорил Лев Николаевич по прочтении статьи,— то тогда мы не знали бы, что безумно и что разумно. У Паскаля — во времени, а у меня — в пространстве... » *
17 июля Толстой отмечает в дневнике: «Читал чудного Паскаля» **. И 3 августа — снова: «Ч$дное место Паскаля. Не мог не умилиться до слез, читая его и сознавая свое полное единение с этим, умершим сотни лет тому назад, человеком. Каких еще чудес, когда живешь этим чудом?!» *** В этот же день в дневнике Булгакова записано: «Читал по-французски Паскаля и продиктовал мне перевод еще одной мысли из него, которую просил включить в книжку «Самоотречение» ****. «Какой молодец! — сказал он о Паскале.— ...Вот Паскаль умер двести лет тому назад, а я живу с ним одной душой,— что может быть таинственнее этого? Вот эта мысль (которую Лев Николаевич мне продиктовал.— В.В.), которая меня переворачивает сегодня, мне так близка, точно моя!.. Я чувствую, как я в ней сливаюсь душой с Паскалем. Чувствую, что Паскаль жив, не умер, вот он! ...И так через эту мысль он соединяется не только со мной, но с тысячами людей, которые ее прочтут». ...Вот мысль французского философа, в переводе Льва Николаевича, которая так тронула его: «Своя воля никогда не удовлетворяет, хотя бы и исполнились все ее требования. Но стоит только отказаться от нее — от своей воли, и тотчас же испытываешь полное удовлетворение. Живя для своей воли, всегда недоволен; отрекшись от нее, нельзя не быть вполне довольным. Единственная истинная добродетель — это ненависть к себе, потому что всякий человек достоин ненависти своей похотливостью. Ненавидя же себя, человек ищет существо, достойное любви... и таким существом может быть только одно — всемирное существо» *****. В этом переводе интересно еще и то, что Паскаль говорит языком Толстого. Л. Н. Толстого в это время в печати нередко называли «библейской фигурой», «вторым Фаустом», уподобляли Сократу, Паскалю, Будде, Христу и даже самому «Господу Богу» 6*. А газета «Самоуправа» — орган сербской партии радикалов — на смерть
* В. Булгаков. Л. Н. Толстой в последний год его жизни. М., 1957, стр. 295.
** Л. Н. Толстой. Полное собрание сочинений в90 томах, т. 58, стр. 80.
*** Там же, стр. 86.
**** XXV глава книги «Путь жизни».
***** Там же, стр. 336-337.
6* «Толстой и зарубежный мир». « Литературное наследство», т. 75, кн. 2, стр. 371.
118
Е.М. КЛЯУС, И.Б. ПОГРЕБЫССКИЙ, У.И. ФРАНКФУРТ
Толстого отозвалась в передовой статье такими словами: «К высочайшей семье ушедших из жизни гигантов человечества: Зороастра, Сократа, Декарта, Паскаля и других — присоединился 7 ноября один из самых великих людей современности...» *
14
Теперь нам должно быть ясно, что Золя был неправ, когда писал: «Тысячи людей восхищаются им, но я не могу поверить, что у него есть ученики» **. С этими словами как бы перекликаются другие: «... мы восхищаемся Паскалем, но не любим его» ***. Это признание холодного и скептического Анатоля Франса не удивляет. А вот другой крупнейший представитель французской литературы, Франсуа Мориак, через всю свою долгую жизнь пронес к Паскалю нежную любовь. Паскаль всегда был для него «предметом поклонения». В старости Мориак написал книгу «Блез Паскаль и его сестра Жаклина» (1956). Главное, что Мориак подчеркивает в образе Паскаля,— это та изнурительная борьба с самим собой, которую Паскалю пришлось вести почти всю жизнь, борьба, полная противоречий и тяжелых внутренних кризисов. Андре Моруапишет****, что «...Мориак после Второй мировой войны стал выдающимся журналистом — лучшим журналистом своего времени — и грозным полемистом. Публицистика Мориака — публицистика высокого класса, она сродни публицистике Паскаля в его “Письмах к провинциалу”».
Любил Паскаля и Сент-Экзюпери. Он говорил: «Я неотделим от Франции. Франция воспитала Ренуаров, Паскалей, Пастеров» *****. Многие страницы книг Экзюпери, в частности его «Цитадель», кажутся как бы продолжением «Мыслей» Паскаля. Экзюпери — почти что наш современник. Немецкий писатель-антифашист Иоганнес Бехер вспоминает: «Я не подозревал, что ему суждено стать Икаром нашего века... Всю ночь напролет мы рассуждали с ним о “полете и поэзии”, о связи между физическим полетом и взлетом душевным. Много говорилось и о паскалевском “l’homme dépasse infinement l’homme”»6* («человек бесконечно превосходит человека»). В другом месте Бехер говорит: «“Величие человека составляет мысль” — эти * Там же, стр. 438.
** Э. Золя. Собрание сочинений в26 томах, т. 24, стр. 81.
*** А. Франс. Собрание сочинений в 8 томах, т. 8, стр. 458.
**** Моруа. Литературные портреты. М., 1970, стр. 332-333.
***** д де Сент-Экзюпери. Сочинения. М., 1964, стр. 400.
6* И. Бехер. Любовь моя, поэзия (О литературе и искусстве). М., 1965, стр. 261.
От Паскаля до нас
119
слова Паскаля надо нести как знамя в борьбе против всех, кто пытается заглушить в человеке разум и человеколюбие, обесчеловечить его и превратить в варвара» *.
Нелюбовь к Паскалю Анатоля Франса и любовь к нему Антуана де Сент-Экзюпери разделены дистанцией почти в двадцать лет.
Нередко Паскаль как бы олицетворяет совесть нации, является своего рода пробным камнем высоких гражданских чувств. Так, в 1925 г. Ромен Роллан писал Горькому: «Вы так говорите о пессимизме, словно мы во Франции этого чувства не знавали! А Оливье скажет Вам то, что он сказал Кристофу: “Склонялся ли ты над бездной нашего Паскаля?”». Развивая эту мысль «буквально по Паскалю», Роллан продолжает: «Каждый великий народ соприкасался с двумя полюсами души: Оптимизм и Пессимизм, Небо и Ад — две бездны, а он заполняет пространство между ними» **.
Флобер, как сообщает Мопассан, утверждал, что, по преданию, его дом в Круассе, под Руапом, некогда посетил Паскаль и что «он тоже гулял, грезил и беседовал под сенью этих деревьев». В одном из писем Флобер сетует: «На родине Рабле, Монтеня, Ронсара, Паскаля, Лабрюйера... нет ничего напоминающего о них...» *** С той поры, по крайней мере в отношении Паскаля, кое-что изменилось. На всю Францию славится Клермонферранский лицей имени Блеза Паскаля. А на вершине Пюи-де-Дом, в память об историческом опыте Паскаля — Перье, построена метеорологическая обсерватория, действующая и поныне. Метеорологическая станция расположилась и в парижской башне Сен-Жак, где Паскаль проводил опыты; здесь же, кроме того, установлена его статуя.
Характеризуя эпоху Паскаля, Писарев говорит: «После колоссального толчка, данного человеческой мысли мировыми гениями XVII в., умственное движение не прерывалось ни на минуту и продолжается до нашего времени с постоянно возрастающей быстротой,— с такой быстротой, которая не имеет себе ничего подобного в летописях человеческого развития. Открытия следуют за открытиями; наблюдения и исследования перекрещиваются и сталкиваются между собою, проверяя и подтверждая друг друга; целые огромные науки выходят одна за другой» ****.
Как всякий великий ум, Паскаль предвидел контуры будущего, не мог не пытаться заглянуть в него. Читая вскользь брошенное им * Там же, стр. 244.
** «Переписка А. М. Горького с зарубежными литераторами». М.,1960,стр. 345.
*** Г. Флобер. Собрание сочинений, т. VIII, стр. 348.
**** д_ р|_ Писарев. Полное собрание сочинений, т. V. СПб., 1904, стр. 568.
120
Е.М. КЛЯУС, И.Б. ПОГРЕБЫССКИЙ, У.И. ФРАНКФУРТ
замечание про «ощущение звука и света» *, как не вспомнить о работах Максвелла и Лебедева о световом давлении! Или вот такая запись: « ...я хочу показать вам бесконечную и неделимую вещь — это точка, движущаяся повсюду с бесконечною скоростью: она — во всех местах и в то же время вся целиком в каждом месте» **. Это сказано как будто об электроне!
Паскаль писал: «...работая для завтрашнего дня... мы поступаем разумно» ***. Прошло три столетия, но не оборвалась связь великого ученого с живой жизнью, с океаном человеческой мысли.
Известный венгерский математик Альфред Реньи недавно писал: «Творчество Паскаля, несмотря на его незавершенность и противоречивость, и теперь, спустя три столетия, можно уподобить ярко горящему факелу» ****.
Развивается и совершенствуется счетная машина, вступившая ныне в грандиозную область кибернетики. В ней многое изменилось, кроме принципа, разработанного юным Паскалем.
Полюбившийся нам еще со школьных лет закон Паскаля — все также остается основным законом гидростатики и широко используется на практике.
Остаются в арсенале математики теоремы Паскаля, а его дедуктивный метод взят на вооружение не только математикой, но и многими другими науками.
Огромна литература о Паскале, и она все растет. Паскаля продолжают изучать, открывая в нем новое и по-новому во многом его воспринимая. Продолжается поэтому и борьба за Паскаля...
Далеко не все в Паскале равноценно и одинаково сохранно, но мы сметаем с него мистические наслоения, этот прах далекой от нас эпохи, и вносим поправки — на прогресс науки, на уровень наших знаний, на время.
Поль Ланжевен сказал: «...перед нами открывается мир гораздо богаче того, который представлял себе Паскаль, предполагавший одинаковое строение бесконечно малого и бесконечно большого, различающихся между собой только в масштабе. С этой точки зрения мы на всех ступенях должны были бы встречать одинаковые аспекты действительности, к которым приложимы одни и те же представления. К счастью, действительность... гораздо богаче и несравненно интереснее» *****.
* «Мысли», стр. 243, XI.
** Тамже, стр. 209, II.
*** Тамже, стр. 236, LXXX.
**** д Реньи. Письма о вероятности. М., 1970, стр. 76.
***** ц Ланжевен. Избранные труды. М., 1960, стр. 627.
От Паскаля до нас
121
Да, наш кругозор шире, знания о природе богаче и глубже. Но в этом не лично наша доблесть, а наше счастье. Паскаль был одним из тех, кому мы этим обязаны.
Его деятельность оставила глубокий след в духовном развитии человечества.
Но история Паскаля — это не только история вдохновенных взлетов мысли, страстных поисков истины и великих находок. Это также история и больших заблуждений. Гениальный образ Паскаля соткан из мысли и света, но есть в нем и тени. В его необыкновенной судьбе много горького и нелепого — в том не вина, а беда Паскаля. Не осуждать его, а постараться понять — вот наша задача. А поняв, его нельзя не полюбить.
Удивительное дитя своего трудного, жестокого и путаного времени, человек тончайшего строя интеллекта и души, он не только несет на себе клеймо эпохи, но и отражает ее в себе, как зеркало. Паскаль — одна из центральных фигур века, поэтому понять его — значит понять и самое, быть может, основное в его эпохе.
Паскаль — одно из самых светлых имен в истории Франции.
Гениальный физик и математик, глубокий мыслитель и гуманист, грозный обличитель иезуитского лицемерия и ханжества католического духовенства, блестящий стилист и реформатор языка — таким предстает Паскаль перед нами.
Пусть многое в нем принадлежит прошлому, но в нем много и такого, чем он накрепко связан с нашим временем и что безоговорочно берем себе мы сегодня и что — как великую драгоценность — передаем будущему.
И вот этим всем он нам непреходяще дорог.
Г. Я. СТРЕЛЬЦОВА
Атеистическая традиция. И. С.Тургенев
Очень сложным было отношение к Паскалю со стороны И. С. Тургенева. Специально этому вопросу посвящена статья А. Батюто «Тургенев и Паскаль», в которой автор отмечает: « ...на протяжении десятилетий мировоззрение писателя ощутимо соприкасается с философией Паскаля, то усваивая из нее близкие для себя черты, получающие затем развитие и отражение в творчестве, то активно отвергая несродное и чуждое. Философия Паскаля несомненно способствовала кристаллизации и отшлифовке убеждений Тургенева, связанных с его подходом к проблеме “человек и природа”» *. Писатель, страстно любивший природу и посвятивший ей немало проникновенных страниц, был печально зачарован паскалевским образом «равнодушной природы», хранящей эпическое спокойствие в нуждах и горестях человеческих, молчащей в ответ на призыв человека, безмолвно взирающей на людские беды. Кстати, этот образ можно встретить и в стихотворениях Пушкина, Лермонтова и особенно Тютчева. Трагические образы Паскаля проходят через все творчество Тургенева: ничтожество человека перед ликом вечности, хрупкость человеческой жизни и ее суетность и бессмысленность, эфемерность счастья, ужасная неотвратимость смерти, ощущение трагической случайности жизни вообще, жестокость «равнодушной природы». Конечно, миросозерцание русского писателя не было пантрагическим, как у Паскаля. Светлые образы прекрасных женщин и героические образы мужчин, хотя и овеянные явной или подчас неуловимой грустью, контрастируют с паскалевской идеей «ничтожества» человека, которая сильна и у Тургенева. Вера в высокое чувство любви, гением которой был и сам писатель, его стремление отстоять достоинство человека * См.: Русская литература. 1964. № 1. С. 161.
Атеистическая традиция. И. С. Тургенев
123
и высший смысл его жизни, теплый лирический колорит многих страниц его произведений, светлая эмоциональность, человечность, обожание природы, чистота линий в обрисовке характеров как бы согревают в общем-то довольно печальное видение мира у Тургенева. Жизненная и художническая мудрость писателя, его человеческая чуткость не хотят мириться с трагизмом жизни, оставляя людям надежду, поселяя в их душах мир и спокойствие, давая утешение и окрыляя верой «в доброе, вечное».
Но вдруг... «камнем на сердце опустится грусть», как признается герой рассказа «Поездка в Полесье», и паскалевские «бездны» дохнут холодом в человеческую душу. То один, то другой из героев Тургенева заговорит от имени самого автора, смущая читателей тоской, грустью, беспокойством и даже безнадежностью. Совсем еще молодой писатель пишет 1 мая 1848 г. Полине Виардо: «Странное впечатление природа производит на человека, когда он один... В этом впечатлении есть осадок горечи... » * Наиболее ярко выступает «бездушие равнодушной природы» перед героем «Поездки в Полесье»: «...первобытная, нетронутая сила расстилается широко и державно перед лицом зрителя. Из недра вековых лесов, с бессмертного лона вод поднимается тот же голос: “Мне нет до тебя дела, говорит природа человеку,— я царствую, а ты хлопочи, как бы не умереть...” Неизменный мрачный бор угрюмо молчит или воет глухо — и при виде его еще глубже и неотразимее проникает в сердце людское сознание нашей ничтожности. Трудно человеку, существу единого дня, вчера рожденному и уже сегодня обреченному смерти,— трудно ему выносить холодный, безучастно устремленный на него взгляд вечной Изиды... вся душа его замирает; он чувствует, что последний из его братий может исчезнуть с лица земли — и ни одна игла не дрогнет на этих ветвях; он чувствует свое одиночество, свою слабость, свою случайность...»** Здесь, в одном отрывке, сразу несколько паскалевских тем: и одиночество человека во вселенной, и безучастность мира по отношению к нему, и кратковременность человеческой жизни, и ее случайность в рамках космоса, и хрупкость бытия человека. Все они получат многообразное развитие в других сочинениях писателя.
В одном из рассказов, «Довольно. Отрывок из записок умершего художника», Тургенев вселяет в душу своего героя ощущение такой безнадежности, такой бесприютности во вселенной, что П. В. Анненков * Тургенев И. С. Полное собрание сочинений и писем: В28 т. Письма. М.; Л., 1960. Т.1. С. 459.
** Тургенев И. С. Полное собрание сочинений и писем: В28 т. Сочинения. М., 1964. Т. 7. С. 51.
124
Г.Я. СТРЕЛЬЦОВА
определил вторую часть рассказа как «мрачную католическую проповедь». Эта оценка была малоприятной для писателя, отрицательно относившегося к религии вообще, и к католицизму в частности. Трагический герой его рассказа воспринимает природу не как родную мать, хотя и породившую его, а как безразличную к его участи мачеху: «Человек — дитя природы, но она всеобщая мать, и у ней нет предпочтений... и ей все равно: что она создает, что она разрушает — лишь бы не переводилась жизнь, лишь бы смерть не теряла прав своих... Где же нам, бедным людям... сладить с этой глухонемой слепорожденной силой, которая даже не торжествует своих побед, а идет, идет вперед, все пожирая? Как устоять против этих тяжелых, грубых, бесконечно и безучастно надвигающихся волн?..» В конце концов, каждого из нас строго и безучастно ведет жестокая судьба. В эту «трагическую симфонию жизни» внедряется еще тема Хаоса, когда герой простирает свой взор от окружающей его природы еще дальше, в глубины космоса. «Что я говорю! Мы одни, одни в целом мире,— восклицает он в смятении,— за этими дружелюбными стенами мрак, и смерть, и пустота. То не ветер воет, то не дождик струится ручьями: то жалуется и стонет Хаос; то плачут его слепые очи» *.
Гуманнейший, мягкий, человеколюбивый писатель, каким знает Тургенева широкий читатель, оборачивается вдруг к нему с маской страдания на лице, от которой веет холодом отчаяния. Нет, то не герой его мучается «проклятыми вопросами», но он сам заглянул в глубины «паскалевской бездны». В чем обрести точку опоры? В творчестве! Ибо одному человеку дано творить. Но и эта спасительная мысль пропитывается ядом сомнения и безысходности. Ведь мы всего лишь «творцы на час», подобно «калифу на час». На мгновение в эту мрачную тему врывается одна светлая мелодия, славящая величие человека, чтобы тут же исчезнуть в пучине ощущения его ничтожества. Каждый чувствует свое достоинство, какое-то смутное преимущество перед всем миром и устремляется в небо, ибо он сродни чему-то высшему и вечному, и... вместе с тем он «должен жить в мгновенье и для мгновенья. Сиди в грязи, любезный, и тянись к небу! Величайшие из нас — именно те, которые глубже всех других сознают это коренное противоречие, но в таком случае — спрашивается — уместны ли слова: величайший, великий? » **. И вот тут возникает паскалевская тема «мыслящего тростника», с той, однако, существенной и... парадоксальной разницей, что у скорбного Паскаля она заканчивается * Тамже. Т.9. С. 120.
** Тургенев И. С. Полное собрание сочинений и писем: В 28 т. Сочинения. М.; Л., 1965. Т. 9. С. 121.
Атеистическая традиция. И.С. Тургенев
125
на оптимистической ноте, а у более светлого Тургенева — в глубоком миноре: «Тогда одно остается человеку, чтобы устоять на ногах и не разрушиться в прах... сохранить последнее, единственное доступное ему достоинство, достоинство сознания собственного ничтожества; то достоинство, на которое намекает Паскаль, когда он, называя человека мыслящим тростником, говорит, что, если бы целая вселенная его раздавила,— он, этот тростник, был бы все-таки выше вселенной, потому что он бы знал, что она его давит, а она бы этого не знала. Слабое достоинство! Печальное утешение!» *
В своей печали по поводу ничтожества человека Тургенев иногда «перепечаливает» самого Паскаля, потому что французский философ не допускал ни одностороннего возвеличивания человека, ни однозначного его унижения до полнейшего ничтожества. Сущность человека двойственна, противоречива, ибо проистекает в своем совершенстве от Бога и понижается в нем по природе: «Человек есть образ Божий, но только образ». Человек вознесен выше всех в природе, но и унижен перед Богом. Именно эта тонкая диалектика и спасает Паскаля как от гордыни, так и от отчаяния, до которого подчас доходит Тургенев. Он усиливает, трагически развивает паскалевскую тему ничтожества человека и бессмысленности его жизни. Так, Базаров нередко вольно цитирует Паскаля, незаметно искажая его мысль. Вот он рассуждает о месте человека в мире: «Узенькое местечко, которое я занимаю, до того крохотно в сравнении с остальным пространством, где меня нет и где дела до меня нет; и часть времени, которую мне удается прожить, так ничтожна перед вечностью, где меня не было и не будет... » Это цитата из Паскаля, но вывод отнюдь не паскалевский, но базаровский, нигилистический: «Ав этом атоме, в этой математической точке кровь обращается, мозг работает, чего-то хочет тоже... Что за безобразие! Что за пустяки!» ** А далее Базаров и вовсе искажает мысль Паскаля о ничтожестве человека: «Какую клевету ни возведи на человека, он в сущности заслуживает в двадцать раз хуже того» ***. Нигилист Базаров все-таки хуже думал о человеке, чем Паскаль, который никогда не допускал клеветы на человека.
Но издевающийся иногда над человеком Базаров сам внезапно умирает от ничтожной царапины, демонстрируя паскалевскую мысль о чрезвычайной хрупкости человеческой жизни. Незадолго до своего безвременного конца он философствовал о жизни и смерти: «Черт * Там же. С. 117.
** Тургенев И. С. Полное собрание сочинений и писем: В28т. Сочинения. М.;
Л., 1964. Т.8. С.323.
*** Там же. С. 326.
126
Г. Я. СТРЕЛЬЦОВА
знает, что за вздор! Каждый человек на ниточке висит, бездна ежеминутно под ним разверзнуться может, а он еще сам придумывает себе всякие неприятности, портит свою жизнь» *. Так оно и случилось — бездна его поглотила. И вот старики родители приходят на его могилу поплакать, но и утешиться. Здесь снова возникает грустный мотив «равнодушной природы», однако смягченный какой-то смутной надеждой. «Неужели их молитвы, их слезы бесплодны? Неужели любовь, святая, преданная любовь, не всесильна? О нет! Какое бы страстное, грешное, бунтующее сердце ни скрылось в могиле, цветы, растущие на ней, безмятежно глядят на нас своими невинными глазами: не об одном вечном спокойствии говорят нам они, о том великом спокойствии “равнодушной природы”; они говорят также о вечном примирении и о жизни бесконечной...» **
Философская часть романа «Отцы и дети» во многом навеяна «Мыслями» Паскаля о человеке, его месте в мире, смысле жизни, ее хрупкости, неизбежности смерти. Сам образ Базарова-атеиста, как справедливо считает А. Батюто, «создавался под известным влиянием философских концепций Б. Паскаля... » ***. Конечно, Базаров мужественно встретил смерть. Однако своим убитым горем родителям он оставлял шанс испытать силу их религии: «Я не ожидал, что так скоро умру; это случайность, очень, по правде сказать, неприятная. Вы оба с матерью должны теперь воспользоваться тем, что в вас религия сильна; вот вам случай поставить ее на пробу» ****. Однако бедные старики оказались бессильны перед силой и неизбежностью смерти. Базаров по-своему утешает их: «Да, поди попробуй отрицать смерть. Она тебя отрицает, и баста! Кто там плачет? ...Мать? Бедная!.. Аты, Василий Иваныч, тоже, кажется нюнишь? Ну, коли христианство не помогает, будь философом, стоиком, что ли!» ***** Вопреки своему печальному концу, роман «Отцы и дети» не оставляет ощущения безнадежности и отчаяния, а жизнь Базарова все-таки полна высокого смысла, равно как и сама его смерть. Недаром же Ф. М. Достоевский считал беспокойство и тоску Базарова «признаком великого сердца», несмотря на весь его нигилизм.
В другом же произведении Тургенева, «Дым», немолодой герой, оглядываясь на свою жизнь, с горечью сознает ее суетность, бесплод* Там же. С. 306.
** Тургенев И. С. Полное собрание сочинений и писем: В 28 т. Сочинения. Т. 8.
С. 402.
*** Батюто А. Тургенев и Паскаль // Русская литература. 1964. № 1.С. 156.
**** Тургенев И. С. Полное собрание сочинений и писем: В 28 т. Сочинения. Т. 8.
С. 389.
***** Там же. С. 391.
Атеистическая традиция. И.С. Тургенев
127
ность, пустоту, что так страстно обличалось в свое время Паскалем, вызывая в нем не столько чувство гнева или возмущения, сколько искреннего недоумения по поводу бессмысленного «прожигания» жизни многими людьми. Знаменитый фрагмент из «Мыслей» Паскаля «Развлечение» как бы снимает с людей «маску суетной озабоченности», под которой скрывается страх смерти, нежелание заглядывать в таинственные бездны бытия, малодушие перед «вечными вопросами» о смысле жизни. У Тургенева есть и этот «паскалевский мотив», а также и другой — об иллюзорности человеческого счастья в этой эфемерной жизни. Герой «Дыма» охвачен какой-то спокойной «головной тоской», повторяя: «Дым, дым... Все дым и пар... Все, собственная жизнь, все людское... » — и заключает почти бесстрастно: «Однообразная, торопливая, скучная игра!., все торопится, спешит куда-то — и все исчезает бесследно, ничего не достигая... » * Так думает он, сидя в вагоне поезда и наблюдая, как растворяются в небе клубы дыма и пара от бегущего по рельсам паровоза. А вот герой «Поездки в Полесье» более эмоционально переживает феномен ускользающей жизни: «О жизнь, жизнь, куда, как ушла ты так бесследно? Как выскользнула ты из крепко стиснутых рук? Ты ли меня обманула, я ли не умел воспользоваться твоими дарами? ...Душа жаждала счастья такого полного... вот-вот нахлынет счастье потоком — ни одной каплей не смочило алкавших губ. О, золотые мои струны, вы, так чутко, так сладостно дрожавшие когда-то, я так и не услышал вашего пенья... вы и звучали только — когда рвались» **. Нет здесь ни надежды, ни утешения, ни спасения. Правда, в «Дыме» герой все же находит некоторое утешение в преданной и светлой любви женщины. Трагизм человеческой жизни смягчается любовью.
Но то на уровне эмпирической и конкретной человеческой жизни, а в плане метафизическом трагизм усиливается сознанием какой- то незащищенности жизни в космическом «масштабе Вечности». Известны вариации Тургенева на тему паскалевского «человека-атома» во вселенной. Так, в письме Полине Виардо от 30 апреля 1848 г. он говорит о том, что «жизнь — это красноватая искорка в мрачном и немом океане Вечности... » ***. А в письме А. Фету от 30 марта 1864 г. он снова обращается к паскалевскому образу: «...вечность а вечность... Точка а представляет то кратчайшее мгновенье — ce raccourc: d’atome, как говорит Паскаль,— в течение которого мы живем,— еще * Тургенев И. С. Полное собрание сочинений и писем: В 28 т. Сочинения. Т. 9. С.315.
** Там же. Т. 7. С. 60.
*** Там же. Письма. Т. 1. С. 458.
128
Г. Я. СТРЕЛЬЦОВА
мгновенье, и поглотит нас навсегда немая глубина нихтзейн’а. Как же не воспользоваться этой точкой?» * Однако сознание подавляющей кратковременности человеческой жизни усугубляется еще и ужасом перед роковой неизбежностью и непредсказуемостью смерти.
В рассказе «Призраки» Тургенев рисует буквально устрашающий образ смерти, затмевающий по силе воздействия на чувства человека паскалевскую трагическую картину «узников в цепях», умерщвляемых на глазах друг у друга. Образ смерти у Паскаля классически ясен и даже прозрачен по сравнению с аморфной мертвящей массой — страшным символом смерти у Тургенева. Приведу лишь часть этой потрясающей зарисовки: «Это нечто было тем страшнее, что не имело определенного образа. Что-то тяжелое, мрачное, из- желта-черное, пестрое, как брюхо ящерицы,— не туча и не дым, медленно, змеиным движением, двигалось над землей. Мерное, широкое колебание вниз и снизу вверх, колебание, напоминающее зловещий размах крыльев хищной птицы, когда она ищет свою добычу; по временам неизъяснимо противное приникание к земле,— паук так приникает к пойманной мухе... Кто ты, что ты, грозная масса? Под ее веянием... все уничтожалось, все немело... гнилым, тлетворным холодком несло от нее — от этого холодка тошнило на сердце, и в глазах темнело, и волосы вставали дыбом. Эта сила шла; та сила, которой нет сопротивления, которой все подвластно, которая без зрения, без образа, без смысла — все видит, все знает и, как хищная птица, выбирает свои жертвы, как змея, их давит и лижет своим мерзлым жалом... » ** Если образ смерти у Паскаля вызывает скорее чувство сострадания к людям, то у Тургенева — ужас и страх перед этой черной стихией. Трудно представить, что этот образ есть плод отвлеченного воображения писателя, а не реально пережитого живого чувства! Перед зловещей силой смерти люди в рассказе Тургенева — это «люди-мухи, в тысячу раз ничтожнее мух», тогда как у Паскаля «узники в цепях».
При всем трагизме переживания феномена смерти у Паскаля- христианина нет той безнадежности, того отчаяния, которые характерны для неверующего Тургенева. В письме Полине Виардо от 1 мая 1848 г. он признается: «Ах, я не выношу неба,— но жизнь, действительность, ее капризы, ее случайности, ее привычки, ее мимолетную красоту... все это я обожаю. Что до меня — я прикован к земле. Я предпочту торопливые движения утки... всему тому, что херувимы (эти прославленные парящие лики) могут увидеть * Тургенев И. С. Полное собрание сочинений и писем. Письма. Т. 5. С. 245-246.
** Там же. Сочинения. Т. 9. С. 107.
Атеистическая традиция. И.С. Тургенев
129
в небесах... » А днем позже в том же письме писатель весьма непочтительно говорит о Боге, позволяя себе следующую шутку: «Какое странное выражение, быть в своей тарелке, будто кушанье! А кто нас ест? Боги? ...Я говорю глупости. Люди нас щиплют, как траву, а Бог нас — пожирает!!!» * В. В. Розанов осудил «шуточки Тургенева над религией», воскликнув: «Как они жалки!» ** Вот здесь пункт размежевания Тургенева с Паскалем и его осуждение за религиозную веру. Так, молодой Тургенев пишет Полине Виардо о «Письмах к провинциалу» Паскаля: «Это вещь прекрасная во всех отношениях. Здравый смысл, красноречие, комическая жилка — все здесь есть. А между тем это произведение раба, раба католицизма» ***. В высшей степени странный и несправедливый отзыв о «великом христианине». Никогда Паскаль не был рабом, и тем более «рабом католицизма». Трудно сказать, какой информацией пользовался писатель, скорее всего, какими-то непроверенными слухами. Можно простить эту некомпетентную оценку молодому человеку, каким был писатель в 1848 г., но, увы, почти через 30 лет в письме к П. В. Анненкову от 22 ноября 1877 г. он повторяет ту же клевету на Паскаля: «Традиции иезуитов и традиции империи слились в одно прекрасное целое. Можно им сказать, как некогда Паскаль: Mentiris impudentissime! (Бесстыднейшая ложь!) — Но тот же Паскаль потом целовал у иезуитов ручку» ****. Нет, вопреки распространяемому самими иезуитами этому заведомо ложному мнению, Паскаль умер не примирившись с орденом Иисуса. Очень странно, что живший во Франции Тургенев не знал об этом, хотя к тому времени были уже изданы П. Фожером и Э. Авэ аутентичные «Мысли» Паскаля, из которых явствовала эта непримиримость.
Оценивая в целом отношение русского писателя к французскому мыслителю, следует все же отметить плодотворную разработку им паскалевской тематики о человеке, в силу чего его мировоззрение приобрело трагический оттенок. Паскаль придал ему сложность, противоречивость, таинственную глубину. Но, конечно, видение мира у Тургенева менее мистичное, более светлое, ясное, прозрачное для сознания и разума человеческого, нежели у Паскаля. Ослабление мистицизма у него неизбежно было связано с его атеистической позицией.
* Тургенев И. С. Полное собрание сочинений и писем: В 28 т. Письма. Т.1. С. 460.
** Розанов В. В. Мысли о литературе. М., 1989. С. 351.
*** Тургенев И. С. Полное собрание сочинений и писем: В 28 т. Письма. T. 1. С.458.
**** Там же. Т. 12. кн. 1. С. 235.
130
Г. Я. СТРЕЛЬЦОВА
Метафизика сердца
Сердце — предельный таинственный центр личности, где лежит вся ее ценность и вся ее вечность.
Б.П. Вышеславцев
Сердце предваряет разум в познании истины. Сердце есть скрижаль, на которой написан естественный нравственный закон.
П.Д. Юркевич
По сравнению с западноевропейской «культурой разума» русские создали удивительную «культуру сердца». «Философия сердца» Паскаля получила в ней самый живой отклик и сокровенное понимание. В русской культуре разработана своеобразная «метафизика сердца». Заслугу Паскаля в экзистенциальном понимании «феномена сердца» отмечают многие русские мыслители. Так, Б. П. Вышеславцев противопоставляет интеллектуальному созерцанию «чувственное узрение» различного рода ценностей (этических, религиозных, эстетических), постижение «святынь» сердцем, которое имеет свои очевидности и «свою логику». «Паскаль назвал ее “логикой сердца”, и Шелер развернул эту логику до пределов универсальной системы ценностей» *. С. Л. Франк в работе «Крушение кумиров» говорит о сфере духовных основ жизни, в которой царит строгая закономерность (не менее точная, чем в мире физическом) и которую «гениальный христианский, мыслитель Паскаль называл... порядком человеческого сердца» **. Этот «порядок сердца» предуказан заветами христианства. Он «не может быть безнаказанно нарушен, ибо он есть условие осмысленности, прочности нашей жизни, условие нашего духовного равновесия и поэтому самого нашего бытия... Этот духовный строй бытия, постижение которого есть “иудеям соблазн и эллинам безумие”... есть для зрячего абсолютная, строгая истина, обосновывающая всю его жизнь и обеспечивающая ей высшую разумность» ***.
Б.П. Вышеславцев считает, что «христианский символ сердца как центра души» притягивает внимание тех мыслителей, у которых * Вышеславцев Б. П. Сердце в христианской и индийской мистике // Вопросы философии. 1990. № 4. С. 85.
** Франк С. Л. Сочинения. М., 1990. С. 175.
*** Тамже. С. 175-176.
Метафизика сердца
131
самих «достаточно сердца», эмоциональной чуткости, чтобы почувствовать «неисследованное богатство этого символа». Так, у Макса Шелера, хорошо знавшего философию Паскаля, сердце есть «чувство ценностей». В. В. Зеньковский в своей статье «Об иерархическом строе души» понимает сердце как эмоциональный центр, которому принадлежит примат в структуре души и от которого зависит «основной тон жизни» *. Вышеславцев согласен с Зеньковским и сам развивает очень содержательную концепцию сердца, вкладывая в этот символ чрезвычайно многообразный смысл.
В русской культуре к этому глубинному символу сердца обращались и писатели, и поэты, и философы. Первые описывали эмпирические проявления этого «светового центра души», его таинственное действие на человека и его жизнь, а последние — теоретически осмысливали этот феномен и созидали «метафизику сердца». Тонкими знатоками сердца были славянофилы, особенно И. В. Киреевский, о чем уже шла речь. Яркие, подчас парадоксальные, жгущие, как молния, высказывания о сердце разбросаны по всем произведениям В. В. Розанова. Христианский мыслитель П. Д. Юркевич исследует символ сердца в интереснейшей статье «Сердце и его значение в духовной жизни человека, по учению слова Божия». Павел Флоренский опирается на эту разработку в своей книге «Столп и утверждение истины» и дает свое видение этого символа. Напрасно Вышеславцев принижает значение этих двух разработок, полагая, что их авторы лишь поставили проблему и собрали цитаты. Нет, у них есть концепции, выводы, и их достижения, несомненно, использует он сам. Правда, у него, надо отдать должное, наиболее богатая и интересная « метафизика сердца». На этих трех разработках символа сердца стоит остановиться подробнее.
П. Д. Юркевич трактует библейский смысл сердца настолько широко, что оно оказывается первоистоком, средоточием, центром и глубинной основой единства всей жизни и личности человека. В общем, это не противоречит паскалевскому пониманию сердца, с той существенной разницей, что Паскаль разделял концепцию «двойственной истины», которая явно чужда Юркевичу. Какие же «вариации смысла» вкладывает этот последний в понятие «сердца», исходя из Библии?
Во-первых, «сердце есть хранитель и носитель всех телесных сил человека».
Во-вторых, сердце — средоточие его духовной и душевной жизни.
* Вышеславцев Б. П. Сердце в христианской и индийской мистике // Вопросы философии. 1990. № 4. С. 85.
132
Г.Я. СТРЕЛЬЦОВА
В-третьих, оно есть «седалище воли и ее хотений», чувствований и страстей.
В-четвертых, сердце — орган всех познавательных действий души, в том числе мыслей как «советов сердечных».
В-пятых, оно есть источник памяти.
В-шестых, оно порождает слова, «как явления и выражения мысли».
В-седьмых, сердце — глубинный источник и средоточие всей человеческой жизни.
В-восьмых, оно — «скрижаль, на которой написан естественный нравственный закон. ...Посему слово Божие посевается на ниве сердца, совесть имеет свое седалище в сердце».
В-девятых, в сердце заключена «первичная духовная сущность» *.
В-десятых, вера в Бога постигается сердцем. Человек должен отдать Богу свое сердце, а значит, быть ему преданным в чувствах, мыслях, словах и поступках**.
Подобно Паскалю, Юркевич выделяет два уровня духовной жизни человека, или два уровня его личности: один — внешний, поверхностный, а другой — внутренний, глубинный, фундаментальный. Если первый связан с головой, умом, мышлением, то второй — с «глубоким сердцем», целостной и аналитически неразложимой жизнью человека, его свободной волей, непосредственными и бессознательными влечениями и чувствованиями. С сердцем не просто связаны все многообразные функции человеческого существа, но из него они и вытекают. От сердца исходит, считает Юркевич, «общее чувство души» о целостном духовно-телесном бытии человека. Вот почему малейшие изменения в этом последнем отражаются на его сердце. Наконец, сердце — место рождения не только мыслей, чувств, желаний и слоев, но и дел человеческих. «Ум — вершина, а не корень духовной жизни человека,— пишет Юркевич,— видимая вершина той жизни, которая первоначально и непосредственно коренится в сердце » ***. Человек сначала живет всем своим существом, всей полнотой своей души и только потом мыслит и рассуждает о жизни, о себе и окружающем мире. Сначала жизнь — потом знание!
Вспомним, что у самого Паскаля это различение идет от К. Янсения, который учил о «преобразовании внутреннего человека». Янсенисты * Юркевич П. Д. Сердце и его значение в духовной жизни человека // Труды Киевской духовной академии. 1860. Кн. 1. С. 63,65,66,72.
** Тамже. С.72,102,69.
*** Юркевич П. Д. Сердце и его значение в духовной жизни человека // Труды Киевской духовной академии. 1860. Кн. 1. С. 93,72.
Метафизика сердца
133
из Пор-Рояля в своих религиозных проповедях обращались именно к «глубокому сердцу», а не к суетному и лежащему на поверхности разуму. Конечно, традиция эта уходит своими корнями в Священное писание, на что и указывает Юркевич, приводя множество цитат как из Ветхого, так и из Нового Завета.
В противовес сциентистской европейской традиции (например, Декарт, Лейбниц, Гегель) — ив духе Паскаля — Юркевич отстаивает самоценность человеческой жизни и невозможность ее сведения к гносеологическому функционированию: «Древо познания не есть древо жизни, а для духа его жизнь представляется чем-то более драгоценным, чем его знание» *. Какой контраст с Декартом, который чуть ли не все счастье человеческой жизни усматривал в правильном познании! Удивлялся этой черте Декарта-человека и Паскаль, не одобрявший ни его чрезмерной погруженности в науку, ни рационалистической трактовки им человека. Юркевич как бы подхватывает этот пророческий протест Паскаля, упрекая философов-рационалистов в упрощении душевной жизни человека. И в его время, в середине XIX столетия, господствовал взгляд, согласно которому «мышление есть самая сущность души... и составляет всего духовного человека. Воля и чувствования сердца были понимаемы как явления видоизменения и случайные состояния мышления. ...В этих определениях существо души делается также открытым и легко обозреваемым, как те формы мышления, которые... отличаются особенною прозрачностью и ясностью» **.
Отсюда проистекает непонимание того элементарного факта, считает Юркевич, что сущность и явления души не могут быть сведены к функционированию мышления и сознания: «Мышление не исчерпывает всей полноты духовной человеческой жизни так точно, как совершенство мышления еще не обозначает всех совершенств человеческого духа» ***. Кроме того, душевная жизнь в своей глубине не управляется и не подчиняется мышлению и сознанию. «Самозаконие,— говорит он,— не свойственно человеческому разуму ни в каком смысле», потому что душа существует до этого света разума в таких таинственных глубинах, где «погасает всякий свет сознания» и куда подчас не может проникнуть его ограниченный и поверхностный взор. Сердце выражает такие тонкие душевные состояния, которые не поддаются никакому рациональному анализу. «Закон душевной деятельности * Там же. С. 87.
** Юркевич П. Д. Сердце и его значение в духовной жизни человека // Труды Киевской духовной академии. 1860. Кн. 1. С. 75.
*** Там же. С. 77.
134
Г.Я. СТРЕЛЬЦОВА
не полагается силою ума как его изобретение, а предлежит человеку как... Богом учрежденный порядок нравственно-духовной жизни... и предлежит он в сердце как глубочайшей стороне человеческого духа» *. Правда, разум может предписывать, повелевать и командовать, уточняет Юркевич, но только тогда, когда эти повеления как бы «сняты с натуры живого и воодушевленного человека, а не навязываются ей как что-то чуждое, несродное... » **.
Критикует он и механистическую науку, в том числе психологию, за вульгарно-материалистическое сведение душевной жизни к началам физическим, механическим, математическим и др., продолжая и в этом плане паскалевскую традицию. В науке усматриваются «телесные органы души», говорит он, каковыми считаются голова, мозг, нервы, и душевная деятельность выводится из их функционирования под влиянием внешнего мира. Юркевич не согласен с этой упрощенной, односторонней и количественной трактовкой. Принимая понятие «телесного органа души», он относит его не к отдельным частям тела, а ко всему телу, во «всем его составе и устроении». Причем тело есть не механический, а «целесообразный орган души». Отсюда связь души с телом гораздо многообразнее и богаче, чем обыкновенно думают, в том числе и ученые. Хотя Юркевич признает «самой достоверной истиной физиологии то, что сознательная деятельность души имеет свой непосредственный орган в головном мозгу», однако из опытов физиологии мало что можно почерпнуть «для психологического учения о пребывании души в теле» ***.
Для Юркевича хотя и несомненна связь души с телом, но понимает он эту связь не как механическую, пространственную, а как «целесообразную, идеальную, духовную». Ведь есть «непространственное существо души», в силу чего она не может принимать извне «толчки от пространственных движений головного мозга». Отсюда напрасны надежды управлять душой, «как паровой машиной на основании математического расчета», ибо в душевных состояниях нет механической причинности, т. е. равенства действия и противодействия. Нет, это не механизм! **** Точно так же нельзя говорить и о механической роли сердца в душевной жизни человека. Сердце — не механический, а «мистический центр» человеческой духовности, тайны которой известны одному только Богу. Вот почему, считает Юркевич, «эмпирист» не в состоянии разгадать многие душевные явления:
* Там же. С. 92.
** Там же. С. 113.
*** Указ. соч. С. 78.
**** См. там же. С. 79,86.
Метафизика сердца
135
«Знаменательное значение снов, явления предчувствия, состояния ясновидения, в особенности различные таинственные формы религиозного сознания в человеке и человечестве» *. Не доступно это тайное знание и рационалистической философии, опирающейся на отвлеченное мышление, не проникающее в конкретную жизнь духа, не постигающее «общего чувства души».
Сущность духа состоит в нравственной деятельности, которая покоится на изначальной духовной свободе человека и данной Богом заповеди любви — подлинном источнике доброты. Когда иссякает источник любви в сердце человеческом — меркнет и нравственное начало в человеке. Философия же, сетует Юркевич, заменила «теплую и жизненную заповедь любви... отвлеченным и холодным сознанием долга — сознанием, которое предполагает не воодушевленное, не пламенное влечение сердца к добру, а простое безучастное понимание явлений» **. Здесь Юркевич бросает камешек в рационалистическую этику долга Канта, согласно которому нравственное поведение определяется не чувством, а разумным пониманием долга. В споре Вольтера с Паскалем по поводу субъекта нравственного порядка Юркевич решительно на стороне Паскаля, который не принимал позиции нравственного рационализма. Как будто отвечая Вольтеру, Юркевич развенчивает его концепцию «разумного эгоизма» как основу нравственного поведения личности: «Не в разуме доброта, а в любви, свободе, сердечном влечении. Нравственность — не есть утонченный и образованный эгоизм». «Совесть взывает властно к сердцу, а не к безучастно соображающему разуму» ***. Правда, в отличие от Паскаля, который допускал также испорченность сердца человеческого как источник всяческого зла, Юркевич считает сердце изначально добрым, так что оно естественно «любит добро и влечется к нему, как глаз любит созерцать прекрасную картину и охотно останавливается на ней» ****.
Замечая в свое время распространение бездушного рационализма, падение нравов и ослабление нравственной чуткости в людях, Юркевич взывает к личной ответственности человека, его неистребимой духовной свободе, к «его способности, к свободному подвигу правды и любви» (данной самим Богом). Не из внешне ориентированного разума, не из «родовой души с ее общими свойствами» возникают личные вина и заслуга, а из свободного выбора «глубокого сердца», * Там же. С. 97.
** Указ. соч. С. 76.
*** Тамже. С. 106,116.
**** Тамже. С. 105.
136
Г.Я. СТРЕЛЬЦОВА
общего чувства индивидуальной души. Надо исходить из нравственной личности, а не из всяких привходящих в человеческую жизнь обстоятельств, настаивает Юркевич, осуждая легковесное отношение к морали, распространенное в светских кругах. Глубочайшая нравственная серьезность характерна для раздумий этого религиозного мыслителя, что также сближает его с Паскалем. Как в своем веке Паскаль поражался легкомыслию людей по отношению к вечным вопросам нравственного порядка, так и Юркевич 200 лет спустя с горечью отмечал: «Как мы умеем быть умными без убеждения, так хотим мы быть нравственными без подвига... без жертв в пользу добра» *. Сердечный порыв к правде, а не рассудочное следование объективной истине, духовная личная свобода («Мы призваны делать добро свободно»), а не логическая необходимость нравственного выбора, бескорыстное служение людям из любви к ним, а не тонкий и замаскированный эгоистический расчет — вот основы религиозной этики Юркевича, столь близкого и в этом плане нравственно требовательному Паскалю. Оба исходят из живой человеческой личности, а не из «гносеологического человека-автомата» отвлеченной рационалистической философии.
Понятно, что и в трактовке Бога у них есть важнейшие точки соприкосновения. Как и Паскаль, Юркевич считает, что Бог постигается сердцем, живой, личный Бог людей, а не Абсолют отвлеченной философии, безучастно творящий мир без воли и любви, по одной лишь логической необходимости. Им принимается паскалевская дихотомия «личного Бога» и «Богаученых и философов» и отвергается позиция деистов (Декарт, Лейбниц и др.). Не разум, но изначально именно сердце как глубинная основа личности, считает Юркевич, связывает человека с миром и его духовным первоначалом — Богом. «Основа религиозного сознания человеческого рода,— пишет он,— заключается в сердце человека: религия не есть нечто постороннее для его духовной природы; она утверждается на естественной почве» **.
Как в порядке жизни «сердце предваряет разум», так и в порядке познания, согласно Юркевичу, интуиции сердца опережают тяжеловесный механизм логического мышления. Здесь то же, что и в самой жизни, различение внутреннего и внешнего; первичного, глубинного и вторичного, поверхностного, но только применительно к познанию. Причем первое — познание сердцем! — непосредственно вкраплено в саму жизнь, ибо вытекает из интимной связи человека, мира и Бога. Оно является результатом божественного откровения, * Указ. соч. С. 109 110.
** Там же. С. 102.
Метафизика сердца
137
сообщающего человеку истины, не доступные для его разума. Душа носит в себе зачатки и предрасположения, полагает Юркевич, к этому «необыкновенному научению», в силу чего некоторые высшие истины внезапно и непосредственно открываются ей (Бог, любовь, совесть, свобода, бесконечность и др.). «Мир как система явлений жизненных, полных красоты и знаменательности,— пишет Юркевич,— существует и открывается первее всего для глубокого сердца и отсюда уже для понимающего мышления». Таким образом, «сердце предваряет разум в познании истины». Сообразно с этим лучшие философы и великие поэты, продолжает Юркевич, отчетливо сознавали, что именно сердце было «истинным местом рождения тех глубоких идей, которые они передавали человечеству в своих творениях», а сознание лишь придавало им ясность и определенность, присущие мышлению*.
Разум вносит порядок, логичность, последовательность как в саму жизнь, так и в содержание познания, доставляемое сердцем. Как жизнь без порядка, так и порядок без жизни равно несообразны с назначением человеческого духа. Прежде всего познание, согласно Юркевичу, носит не внешнеотражательный, но внутренний характер: «Наши мысли, слова и дела суть первоначально не образы внешних вещей, а образы или выражения общего чувства души, порождения нашего сердечного настроения» **. Познание естественно укоренено в душе в силу ее непосредственной связи с миром и жизнью. Поверхностны знания, «курсирующие» лишь на уровне разума. На это обращал внимание и Паскаль, когда отмечал неустойчивость и сомнительность «разумной веры» по сравнению с «верой сердечной». Так и Юркевич считает, что, «если свет знания должен сделаться теплотою и жизнию духа, он должен проникнуть до сердца... Так, если истина падает нам на сердце, то она становится нашим благом, нашим внутренним сокровищем» ***. Однако есть между ними и существенное различие. Паскаль считал познание сердцем весьма узкой сферой по сравнению с дискурсивным мышлением. Хотя первое совершеннее второго, но для человека, к сожалению, мало доступно, почему и приходится больше прибегать ко второму роду познания. Интуиции сердца у Паскаля доставляют первичные понятия (пространство, время, движение, число и т. д.) и аксиомы, а далее уже работает дискурсивное мышление с его довольно громоздким аппаратом. Такова ситуация в естественном познании, в науке. В человеческой жизни преобладает познание сердцем. В религии * Указ. соч. С. 85,88.
** Там же. С. 83.
*** Там же. С. 89.
138
Г. Я. СТРЕЛЬЦОВА
также «сердце чувствует Бога, а не разум». В общем, Паскаль исходит из концепции «двойственной истины». Для русского мыслителя всякое истинное знание по существу религиозно и первично исходит от Бога и связанного с Ним сердца человека. Поэтому он осуждает разделение веры и знания («знать так, а верить иначе»!): «Служение науке не есть служение мамоне, с которым было бы несообразно служение Богу» *. В отличие от Паскаля он исходит из гармонии веры и знания. Вспомним, как Паскаль каялся перед Богом под конец жизни за свое увлечение наукой, которое он оценивал как «греховное», неугодное Господу, как измену его заветам. Это было настоящим мучением Паскаля-христианина.
Но дело не только в первичности и приоритете сердца над разумом, но также и в способах постижения ими истины. Здесь уже, подобно Паскалю, Юркевич отмечает мгновенный, интуитивный характер усмотрения истины сердцем, в то время как разум действует постепенно, последовательно, шаг за шагом. На уровне сердца это не столько познание, сколько «непосредственно и внезапно возникающие откровения истины», считает он. Справедливости ради, он указывает вместе с тем и на недостаток постижения истины сердцем, вытекающий из самого его достоинства, равно как недостаток разума заключает в себе достоинство. В «нерасторопности», медлительности разума, на что нередко жаловались христианские аскеты, пишет Юркевич, есть и свои преимущества, состоящие в «определенности, правильности и рассчитанности, каких недостает слишком энергическим движениям сердца» **. Как мы уже знаем, с этим различием между разумом и сердцем у Паскаля связано различие между «искусством доказательства» и «искусством убеждения» в истине, атакже трудности в формулировании ясных и четких правил этого последнего. В целом учение о сердце Юркевича более полно по сравнению с учением Паскаля, ибо охватывает самые разнообразные его аспекты. Оно, конечно, и более разработано и систематически изложено в специальном сочинении, тогда как у Паскаля мы имеем лишь ряд отрывочных фрагментов. Вместе с тем Юркевич дает сугубо религиозную трактовку понятия сердца в духовной! жизни человека, тогда как у Паскаля таковая есть лишь часть его понимания сердца. В гносеологии и в значительной степени в этике Паскаль рассматривает сердце как ученый и светский философ, опираясь не на Священное писание, как Юркевич, а на свой жизненный опыт, психологическую проницательность, личные наблюдения за поведением людей, * Указ. соч. С. 118.
** Там же. С. 89.
Метафизика сердца
139
а также на практику ученого. На учение о сердце Юркевича опирался в своем сочинении «Столп и утверждение истины» П. А. Флоренский. Принимая различные его смыслы, сам он обращает особое внимание на употребление термина «сердце» в разных языках и у разных народов. Однако ему видится нечто общее в понимании смысла этого важнейшего слова во всех языках, который сводится к значению «стержня», «середины», «средоточия», «недра», «нутра», «ядра» и т.п.* Рассматривая человека как «триединое существо» — живот, грудь, голова,— Флоренский считает грудь «средоточием тела», а сердце — не только «средоточием тела», но и «очагом нашей духовной жизни». Вот почему к сердцу издревле устремлялось «все внимание церковной мистики», ибо от него зависело «исправление и возрастание личности ». Все другое нарушает равновесие личности и « вконец извращает естество греховного человека». Одухотвориться означает не что иное, как «ублагоустроить, уцеломудрить свое сердце» **. Ведь сердце очищается общением с Богом, отчего «выпрямляется», совершенствуется и вся личность верующего. Флоренский особенно говорит о феномене «чистого сердца» как центра, ядра и гармонизирующего начала всей духовной жизни человека. Если же имеет место «переразвитые ума (головы.— Г.С.), питаемого не благодатью от сердца, а питающегося самостоятельно, гордостью бесовскою и лжеименным знанием пытающегося охватить все тайны земли и неба», то личность оказывается не цельною и духовно высокою, но раздробленною и извращенною ***. Также отрицательный результат получается и в случае «переразвития чрева», в силу чего органическая жизнь зависит «не от источающего духовность сердца, а от бесов, нечистоты». Посему праведник отличается от других людей «воздержанием горделивого ума» и «обузданием похотливого чрева»****. Таким образом, значение и роль сердца в религиозной концепции Флоренского весьма близки паскалевскому пониманию.
Но тут же следует отметить и различие их веры и общего «колорита» их миросозерцания — оптимистического у нашего философа и пантрагического у Паскаля. Французский «великий христианин» скорбно вздыхал и бесконечно печалился по поводу неизбежной испорченности (в результате первородного греха) человека, акцентируя внимание на его «ничтожестве», хотя и отнюдь не отрицая его «величия». Флоренский же, наоборот, зная о греховности человека, * Флоренский П. А. Столп и утверждение истины. М., 1914. С. 269-272.
** Там же. С. 267-268.
*** Тамже. С. 273.
**** Флоренский П. А. Столп и утверждение истины. С. 273.
140
Г.Я. СТРЕЛЬЦОВА
испорченности «всей твари», тем не менее ставит акцент на возможности «обожения личности» через очищение сердца Божественной благодатью. Более того, благодаря свету духовной личности «подвижников», «святых старцев», как бы очищается и «вся тварь» в силу духовного всеединства мира. «Чрез корень, которым духовная личность уходит в небеса, благодать освящает и все окружающее подвижника и вливается в недра всей твари. ...Поэтому если отпавший от Бога человек увлек за собою всю тварь и, извратив свое естество, извратил и чин всей природы, то, восстановляемый Богом, он вносит первозданный лад и строй в тварь... » * Вступивший в непримиримый конфликт с официальной римско-католической церковью, Паскаль один, без посредников, осмеливается обращаться к Богу — вспомним его знаменитое «К твоему суду взываю, Господи! » — и надеется на спасение лишь после смерти. Драматизм паскалевской веры обусловлен не только каверзными вопросами его научного ума, но и фактическим отлучением его вместе с янсенистами Пор-Рояля от церкви и осуждением их учения как «еретического».
Напротив, священник Павел Флоренский видит в православной церкви источник духовного света, чистоты и нравственной силы для верующих, ибо понимает церковность прежде всего не как внешний институт, не как административную систему иерархии должностей, а как живой религиозный опыт, как просветленную жизнь в Духе. Поэтому он и может писать о «духовных сокровищах Церкви», писать так, как не мог бы писать преследуемый Церковью Паскаль: «Многими веками, изо дня в день собиралось сюда сокровище. ...Как небесная манна выпадала здесь благодатная сила богоозаренной души. Как лучшие жемчужины ссыпались сюда слезы чистых сердец. Небо, как и земля, многими веками делало тут свои вклады, затаеннейшие чаяния, сокровеннейшие порывы к богоуподоблению, лазурные, после бурь наступающие минуты ангельской чистоты, радости богообщения и святые муки острого раскаяния, благоухание молитвы и тихая тоска по небу, вечное искание и вечное обретение, бездонно-глубокие прозрения в вечность и детская умиренность души, благоговение и любовь — любовь без конца... текли века, а это все прибывало и накапливалось. И каждое мое духовное усилие, каждый вздох, слетающий с кончика губ, устремляет на помощь мне весь запас накопленной благодатной энергии. Невидимые руки носят меня по цветущим лучам духовного мира» **. При такой мощной поддержке понятна оптимистическая религиозность Флоренского. Если
* Там же. С. 271.
** Флоренский П. А. Столп и утверждение истины. С. 4.
Метафизика сердца
141
Паскаль был вынужден вести утомительнейшие споры с Церковью по поводу Благодати и таинства воскресения Иисуса Христа, то отец Павел имел возможность в своих проповедях говорить об их духовных плодах, вселяя незыблемую надежду в сердца верующих. В одной из Пасхальных проповедей он произносит такие ободряющие слова: «И когда, казалось, всякая борьба напрасна, пришла в царство Смерти сама Любовь, и сломилось о щит ее жало хищницы. ...Не тщетна ныне красота, ибо тварь избавлена от нетления; не тщетна ныне Любовь, ибо не погибнет бесследно любимый. Не тщетна вера наша и подвиги духа, ибо Христос воскрес. ...Всепоглощающая Смерть поглощена бессмертием. Правда восторжествовала над неправдою. Огневица греха охлаждена смирением. ...И тщетны последние нападения Смерти» *.
Но есть и принципиальное сходство в трактовке самого феномена религиозной веры у Паскаля и Флоренского: признание ее имманентного характера как веры сердечной, живой, всепоглощающей, глубинно-искренней, а не как формально-внешней, «договорно-юридической», поверхностно-разумной, обставленной внешней атрибутикой, абстрактными, холодно-логическими понятиями. Против умозрительной, отвлеченной веры Паскаль выступил в борьбе с иезуитским вариантом христианской религии, а отец Павел — в своей критике католицизма, в котором, по его мнению, полнота непосредственной духовной жизни «усекается понятием, загодя отвергается во имя понятия». Между тем, считает он (совершенно в духе Паскаля!), живой религиозный опыт «не может быть уложен в узкий гроб логического определения» **. С точки зрения Флоренского, «православие показу- ется, но не доказуется... можно стать католиком или протестантом по книгам, нисколько не соприкасаясь с жизнью,— в кабинете своем. Но чтобы стать православным, надо... зажить православно,— и нет иного пути» ***. Здесь отец Павел дает критику западного христианства в русле уже весьма разработанной славянофилами традиции.
В своем главном труде «Столп и утверждение истины» Флоренский специально говорит о Паскале, посвятив «Амулету» Паскаля отдельный раздел. В нем он называет французского ученого «проникновенным мыслителем» и «одним из наиболее искренних людей, живших на земле». Он видит «какое-то особое сродство у Паскаля с православием» и напоминает о том, что «недаром же А. С. Хомяков часто * Богословские труды. Сб. 23. М., 1982. С. 311.
** Флоренский П. А. Столп и утверждение истины. С. 7,6.
*** Там же. С. 8.
142
Г.Я. СТРЕЛЬЦОВА
называл Паскаля своим учителем» *. Он вменяет себе в обязанность внимательно отнестись к творчеству французского философа. Споры вокруг «Амулета» Паскаля — а их было великое множество! — он назвал «безрезультатными» в силу «слишком большого упрощения и опрощения этого документа» **. Так, он отверг, как «весьма неподходящую», поверхностную его оценку Ж. Кондорсе, видевшим в нем лишь «мистический амулет», своего рода заклинание против демонических сил.
Предвосхищая точку зрения большинства современных серьезных паскалеведов, Флоренский усматривал в «Мемориале» Паскаля более глубокое содержание и жизненно важное значение, органично связывая его с коренным поворотом в его жизни и прозрением им ее более высокого смысла. Это — «исповедание веры его, точнее сказать, молитвенное созерцание отдельных моментов духовного восхождения», уплотненный сгусток жизни и миропонимания,— столь сжатый, что отдельные положения кажутся даже бессвязными. Более того, он также видел в нем «программу религиозно-философской системы». Отсюда, «может быть, его “Мысли о религии” — наброски, предназначенные для осуществления именно этого плана» ***. Он высказывает «предчувствие», что если расположить «Мысли» Паскаля согласно этому «многосодержательному и многозначительному документу», то здесь читателя ожидают «клады богатые и легко добываемые». Надо отметить, что в современном западном паскалеведении эти «клады» во многом открыты. Сам же Флоренский считает, что ключом к «Мемориалу» могут быть мысли, развиваемые им в указанном труде, и особенно его «теория возрастания типов».
Чтобы понять его трактовку, следует коснуться этой последней в его статье «О типах возрастания». Он исходит, подобно Паскалю, из понимания человека как двойственного существа, ангела и зверя одновременно, как конечного и бесконечного, великого и ничтожного. «Личность — храм Божий, но она же и Живущий в нем» ****. Как «храм Божий» личность имеет абсолютную и безусловную ценность, а как живущее существо — ценность условную и относительную, способную возрастать или убывать. Прогресс в нравственном просветлении человека Флоренский называет «возрастанием личности», который * Там же. С. 577,581.
** Там же. С. 577.
*** Флоренский П. А. Столп и утверждение истины. С. 577,581.
**** Флоренский П. А. О типах возрастания // Богословский вестник. М., 1906. № 7 (отдельный оттиск статьи). С. 2.
Метафизика сердца
143
он связывает с «процессом ее обожения». Он особенно подчеркивает бесконечный характер этого возрастания, озаряемого «трепетными вспыхиваниями идеала», никогда не достигаемого, но вечно зовущего человека. Указывая также и на возможность бесконечного нравственного оскудения личности (согласно Достоевскому, «никакое падение человека не есть последнее падение»), Флоренский оптимистически сосредоточивается на ее возрастании.
Причем импульсы могут идти изнутри человека и порождать естественный, имманентный и непрерываемый процесс совершенствования. Возрастание типов — это трансцендентный путь, мыслимый лишь при «толчке извне, оттуда», а потому в нем заключена прерывность развития души, устремленной к Вечности, Абсолютному, к Богу и презревшей все суетное, посюстороннее, мелкое. Устремленность эта затрагивает глубинный, «водоносный слой души», говорит Флоренский, с которым сливаются и «другие русла к бесконечности». Еще выразительнее говорит он о «слоях человека» в своей Проповеди «Радость навеки». В самых «внутренних кладовых души» таится «драгоценная жемчужина», образ Божий, скрытый под «наружной скверной». Человек — как «глиняный сосуд, полный сверкающего золота. Сверху — зачерненный и замазанный, а изнутри — ослепительно-лучезарный». «Снимите с человека одежду — увидите тело, подверженное искушениям, болезни и смерти. Если снять далее и тело, то увидели бы толстый слой грехов, как ржавчина изъевших нашу душу. Но если бы далее снять с души эту тленную, смрадную часть, то там, в самой середине, узрели бы вы Ангела-Хранителя. Многими очами своими он видит каждое малейшее желание наше, замечает каждое помышление человека. Это — таинственный, священный храм, блещущий небесной красотой. В нем обитает Дух Святой... Возвеличен человек! Немногим умален пред Ангелами: славою и честью увенчан... Свят человек в тайниках души своей...» * Это воспевание Флоренским величия души человеческой, утверждение ее глубинной доброты, вообще вера в «святость твари Божией» сильно контрастирует с диалектическим и трагическим пониманием противоречивой природы человека у Паскаля. Ведь для него в глубине своей, в своей сущности, человек «поврежден», а потому двойствен, добр и зол одновременно. Божественная природа его не сверху грехом прикрыта, а внутренне извращена. Сердце человека в тайниках своих эгоистично, привержено первично своему земному интересу, тянет вниз. Просветление его целиком зависит от Божественной благо* Богословские труды. Сб. 23. М., 1982. С. 317.
144
Г. Я. СТРЕЛЬЦОВА
дати. Тогда как у Флоренского «сердце — небесное око», царство небесное заключено в Божественной части души, и человеку надо лишь увидеть «сокровище свое», чтобы обрести «радость и счастье навеки» в общении с Богом. Потому он так живописует «свет души» и радость, которая не была дана горестному Паскалю. В этом отношении куда ближе этому последнему Достоевский с его болью за человека, с его нескончаемым страданием, с его экзистенциальной диалектикой души человеческой.
Светлый гений Флоренского «высветлил» и самого человека. Потому столь охотно говорит он о «возрастании личности», а не о ее падении. Есть разные «типы возрастания» в зависимости от скорости развития и закона данного типа роста, что создает определенную траекторию на пути к идеалу. Существует неравенство «типов возрастания», так что низшему типу роста никогда не сравняться с высшим типом, хотя бы этот последний и не достиг высших ступеней в своем развитии. Например, юный гений Моцарт и зрелый талант Сальери очень далеки по типу возрастания. Есть свобода в движении по траектории, но выбор самого типа возрастания не в нашей власти: «Железные рельсы проложены несокрушимо и не сойти личности своими усилиями на новую орбиту: личность может только замедлять или ускорять движение на ней, тороком пронестись по полотну своему или застыть в штильной сонливости... » * За счет такого ускорения низший тип может вырваться как будто вперед по сравнению с высшим и может даже надменно величаться над ним. Но пусть оба подойдут к своим быстринам. «Дух, более восходчивый по своей природе, расправит крылья, и далеко внизу останется ползущий по тропинке» **. Сколько бы ни стремился низший тип угнаться за высшим, все равно он никогда его не настигнет. Это столь же невозможно, говорит Флоренский, как невозможно из суммы нулей составить конечную величину или из каких угодно груд сухого песку выжать хоть одну каплю влаги. В лучшем случае получится то, что Ницше называл «обезьяною идеала».
Все дело в том, что у разных типов возрастания различны идеалы, законы стремления к нему, внутренний нерв всей деятельности, «жар духовного горения». В зависимости от типа возрастания разнятся еще более «породы личностей». Прав В.В. Розанов, который в своей книге «Около стен церковных» отличал «горных людей» от «долинных людей». Отсюда все проявления личности являются символом ее типа возрастания, так что «одинаковое высвечивает по-разно* Флоренский П. А. О типах возрастания // Богословский вестник. 1906. № 7. С. 26.
** Тамже. С.23.
Метафизика сердца
145
му». «Абсолютный высший тип личности» для Флоренского — это Иисус Христос. «Ангел во плоти» — Франциск Ассизский, Серафим Саровский, Амвросий Оптинский. Он не уточняет, к какому именно типу возрастания личности относится Паскаль. Но ясно из его анализа «Мемориала», что «отшельник из Пор-Рояля» близок нашим «старцам» . Вот некоторые оценки из его комментария к отдельным мыслям из этого документа: «Забвение мира и всего, кроме Бога... Путь к свету Истины — подвижничество, устроение сердца. На пути подвижничества усматривается вечная сторона тварной личности — София... В познании Бога чрез очищенное сердце — преизбыточествующая, переливающая через край радость и блаженство... Отказ от самости, подвиг. Старческое послушание» *. Флоренский вообще считает, что есть «какое-то сродство у Паскаля с православием» **.
Главный признак «высшей личности» Флоренский определяет как «святость», которая другими людьми постигается непосредственно сердцем и не поддается никакому анализу. Нельзя ее «из себя вообразить: последнее особенно ясно сказывается на неуспехе в создании творческой фантазией «идеальных типов» ***. Точно так же и в жизни нельзя воспитать в себе святость, ибо она «трансцендентна для всего только человеческого». Поэтому сколь угодно великие земные усилия, высокая степень совершенства добродетели и высота духа не дадут ни крупицы святости. «Доброта и великодушие, отрешенность от себялюбия и бескорыстие, величие духа и скромность, глубокий ум и творчество, подвиги и мученичество, как бы все это ни было велико, но его еще недостаточно для создания высшей породы» ****. Это весьма напоминает учение о Божественной благодати, которому следовал и Паскаль. С другой стороны, Флоренский подчеркивает значение человеческой активности на пути совершенствования личности и ее спасения, что также признавалось Паскалем в его «Сочинениях о благодати». Есть своеобразная диалектика в гибком сочетании человеческой свободы и Божественного промысла, активности личности и благодати как у Паскаля, так и у Флоренского. При наличии религиозной детерминации у них все-таки нет ни религиозного фатализма, ни его следствия — квиетизма. Флоренский не принимает восточное учение о нирване как высшем состоянии души. Напротив, это не бесстрастие, не угасание жизни, а «повы* Флоренский П. А. Столп и утверждение истины. С. 579-580.
** Там же. С. 581.
*** Флоренский П. А. О типах возрастания // Богословский вестник. 1906. № 7.
С. 28.
**** Там же. С. 27.
146
Г. Я. СТРЕЛЬЦОВА
шение жизненного пульса, так что и радость с горем становятся интенсивнее, и все впечатления конкретнее и сочнее. Но сознание всякий раз допускает в себя только осиянную их сторону и не дает врываться хаосу» *,
Наконец, отмечу еще один момент «метафизики сердца» Флоренского, а именно ее переход в «метафизику света». Он вводит этот глубокий символ в связи с представлением о святости высшего типа личности. Не случайно во все времена и у всех народов святость и свет какими-то таинственными узами связаны между собой в человеческом сознании **. Это выражается во множестве ритуальных действий и религиозно-нравственных метафор во всех языках, что непосвященным «кажется бессмысленным и что, однако, по неумолимым законам духа, из столетия в столетие, от народа к народу повторяется по всей земле » ***. Хотя в истории человеческой культуры (с древнейших времен и до наших дней) символ света имеет бесконечное множество значений (онтологических, гносеологических, этических, эстетических и др.), Флоренский придает ему лишь религиозный, духовно-нравственный смысл. Для него это — «благодатный свет», или «особое сияние», исходящее от высшего типа личности, от «святых людей». «Благодатный свет» объективно доказывает «действенность идеального фактора» и демонстрирует «ощутительность дыхания святости». Благодаря символу света даются «ключи к тайникам религиозной жизни» ****.
Р.М. Бёкк в своей книге «Космическое сознание» рассматривает свет как гностический принцип, как «интеллектуальное просветление личности», как признак «космического сознания». Все случаи религиозного «обращения», равно как и разновидности мистического опыта, он трактует в смысле внезапного перехода от обычного к «космическому сознанию». Это последнее характеризуется мгновенным пробуждением, экстазом, нравственным и эмоциональным подъемом (ощущением радости, счастья, блаженства), субъективным светом, интуицией высших истин. Гностическое просветление он называет также «Брамическимсиянием», символизирующим «космическое сознание». В этом необычайном состоянии исчезает страх смерти и появляется ощущение реального бессмертия души в результате мистического единения с космосом, с Богом. Преображается также и внешний облик человека, приобретая мягкость, силу обаяния (личный магнетизм), физическую * Флоренский П. А. О типах возрастания // Богословский вестник. 1906. № 7.
С. 35.
** Там же. С. 36.
*** Там же. С. 37.
**** Там же. С. 36-37.
Метафизика сердца
147
привлекательность. Люди, достигшие высоты «космического сознания», согласно Бёкку, отличаются не только красотой и отменным здоровьем, но и нравственным совершенством: любовью к человеку, верностью, мужеством, честностью. Описывая мистический опыт религиозного «обращения» Паскаля, Бёкк безоговорочно признает в нем обретение «космического сознания». Он отрицает болезненный, патологический характер этого опыта и уверен, что до него Паскаль не смог бы написать ни «Писем к провинциалу», ни «Мыслей». «Очевидно, что субъективный свет был ярко выражен в этом случае. Немедленно за ним последовало ощущение освобождения, спасения, радости, довольства и глубокой благодарности, чувство величия человеческой души, восторженное чувство Бога». Потому и в словах «Амулета» Паскаля «сквозит радость, торжество, просветление, а не болезнь. Человек, написавший их, только что ощутил славу Брамы и видел брамическое сияние» *. Остается добавить, что органом «космического сознания», согласно Бёкку, является сердце человека, в котором живет «очевидность бессмертия... так же, как зрение живет в каждом глазе» **. Просветление сердца ведет и к просветлению ума, а в совокупности — к космическому зрению, или космической интуиции. Однако у Бёкка нет детальной разработки «метафизики сердца».
По-новому расставлены акценты и затронуты новые аспекты проблемы сердца в статье Б. П. Вышеславцева «Сердце в христианской и индийской мистике». Он, несомненно, усвоил разработку этой проблемы П. Д. Юркевичем, хотя и несправедливо низко оценил его статью. Он приводит все многообразие библейских смыслов термина «сердце» как бы к одному знаменателю: это — скрытый центр личности, «предельная глубина человека», не доступная не только для постороннего взора, но и для самого человека. Так же непроницаема иррациональная глубина Божественного центра у западных и восточных мистиков. Потому, например, Якоб Бёме говорит о Боге как о «непостижимой бездне» (знаменитое его понятие Ungrund). В Библии речь идет о таких таинственных глубинах, как «сердце моря» или «сердце земли», куда проникнуть никому не дано. Аморфно широкое библейское понятие «сердца» Вышеславцеву представляется «очень точным», даже «математически точным, как центр круга, из которого могут исходить бесконечно многие радиусы, или световой центр, из которого могут исходить бесконечно разнообразные лучи» ***.
* Бёкк P. М. Космическое сознание. Пг., 1914. С. 282.
** Там же. С. 6.
*** Вышеславцев Б. П. Сердце в христианской и индийской мистике // Вопросы философии. 1990. № 4. С. 63.
148
Г. Я. СТРЕЛЬЦОВА
Хорошо сказано против всех рационалистов, недоумевающих по поводу введения понятия «сердца» в философию и не считающих его ни строгим, ни философски осмысленным, ни вообще хоть как-то определенным.
Что же касается человека, то сердце есть его «сокровенная самость», истинное «я», что в христианстве называется бессмертной душой, а в индуизме — атманом. Здесь заключен «предельно таинственный центр личности, где лежит вся ее ценность и вся ее вечность» *. Призыв дельфийского оракула «Познай самого себя» трудно выполним именно в силу «сокрытости» истинного «я» человека. Глубинная самость человека прикрыта сверху ежедневной суетой жизни, страстями, бренными интересами и заботами о теле, вещах, деньгах,— словом, заботой о материальной выгоде в ущерб духовности. Христос учил: «...какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит?» (Мк. 8: 36). Вышеславцев напоминает также слова апостола Петра о «сокровенном сердца человеке» «в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом» (1 Пет. 3: 4). У зрение тайны сердца доступно вполне одному Богу, но признание таинственной глубины личности, равно как ее абсолютной ценности и абсолютной вечности, доступно религиозному чувству человека. Как начало философии есть удивление, так «начало религии есть чувство тайны». Вышеславцев обращается к религиозному кредо Паскаля: «Бог чувствуется сердцем, а не разумом». Паскаль видел в человеке «целый мир, бесконечный вглубь». Вслед за ним Лейбниц признал эту истину. Оба мыслителя связывали эту бесконечную духовную глубину человека с бесконечностью Божественного абсолюта. Потому вера в Бога есть вера в человека и его абсолютную ценность.
Как и Достоевский, Вышеславцев убежден, что нет гуманизма без веры в Бога. Он обрушивается на атеизм как на «банальнейшее миросозерцание, миросозерцание бездарности», которое скользит по поверхности и для которого нет никакой таинственной глубины ни в мире, ни в человеке, т.е. нет ни «сердца мира», ни «сердца человека»: «Все... преходяще и разрушимо и проносится как дым» **. Здесь Вышеславцев опять использует образ Паскаля, сравнивавшего атеистически трактуемую смертную душу с «частицей ветра и дыма». Столь прозаическое и приземленное понимание души человеческой искренне поражало верующего Паскаля. Вышеславцев уже не изумляется атеизму, а иронизирует, бичует и даже издевается над ним, * Там же.
** Вышеславцев Б. П. Сердце в христианской и индийской мистике // Вопросы философии. 1990. № 4. С. 64.
Метафизика сердца
149
заведомо вульгаризируя безрелигиозную позицию. Он не считает ее вообще философской, что элементарно противоречит наличию в истории философии великих материалистических безрелигиозных систем (Демокрит, Гоббс, Гольбах, Дидро, Фейербах и др.).
В дальнейшем анализе символа сердца в христианской мистике Вышеславцев рассматривает католический культ Святого Сердца (Sacre Coeur) Христа, не видя в его трактовке противоречия со своим пониманием сердца. Он исходит из христианского представления о сердце как изначальном символе любви. Сердце — не индифферентно-статический (как в геометрии) центр личности, а тяготеющий и устремленный (как, скажем, в астрономии) эмоциональный и волевой центр. Потому сердце Христа полно любви к людям, без чего не понятна его жертвенная смерть во имя искупления грехов человеческих. Неспособность любить есть бессердечность, говорит Вышеславцев, «окаменение сердца», «духовный склероз». Но вот вопрос, поднятый еще янсенистами: о каком сердце идет речь — телесно-физическом или духовно-символическом? Католические теологи не видят здесь противоречия: «Символизм и мистика любви не исключают телесного сердца. Телесное сердце почитается как эмблема любви. Орган сердца есть символ любви; символ реальный и вполне общечеловеческий, символ почти неизбежный» *. Поскольку христианство есть религия воплощения, постольку оно «не отбрасывает и не презирает плоти, а сохраняет и спасает ее... Духовное “сердце” реально связано с телесным сердцем, ибо дух воплощен; и сокровенные волнения духа заставляют биться наше телесное сердце» **.
Другое дело, что есть неразгаданная тайна воплощения и Бого- воплощения. Каким образом «сокровенный сердца человек», духовное Я, вечное и вневременное, бесконечно возвышающееся над миром вещей и всякой бренной плоти, приходит в этот мир и выражает себя в словах, делах, поступках? С научной точки зрения это — известная психофизическая проблема, ни научно, ни философски не разгаданная, а религиозно она углубляется в тайну воплощения. Чудо взаимодействия души и тела не понятно ограниченному человеку, но прозрачно и ясно одному лишь Богу. Вышеславцев вынужден признать: «Сердце есть таинственная и непонятная ось, которая пронзает и держит духовную и телесную жизнь человека. Телесное сердце никогда не есть только “плоть”, а всегда есть воплощение, ибо каждое его биение имеет духовное значение: оно нечто... вносит в этот мир — любовь или не-
* Вышеславцев Б. П. Сердце в христианской и индийской мистике // Вопросы философии. 1990. № 4. С. 73.
** Там же. С. 74.
150
Г. Я. СТРЕЛЬЦОВА
нависть, повторение старого ритма или рождение нового» *. Ко всему многообразию функций сердца добавляется еще одна — функция эвристической интуиции. Сердце — орган творчества, отсюда тайна творчества упирается в тайну сердца. Этот важнейший аспект был упущен Юркевичем. Однако Вышеславцев сам лишь поставил проблему, но разработки этой темы нет и у него. Зато есть у его друга Н. А. Бердяева, особенно в книге «Смысл творчества».
Привлекает внимание Вышеславцева трагическая паскалевская тема «антиномизма сердца». У русского мыслителя она выступает как антиномия безгрешности и греховности сердца, или богоподо- бия и демонизма человека. Приступает он к разрешению этой антиномии во всеоружии кантовской философии. Проблема эта изначально моральная, ибо связана с ответственностью человека за свой грех. В христианстве «субъектом» нравственного порядка является опять же сердце человека, которое любит или ненавидит, а значит, несет в мир добро или зло, грешит или избегает греха. По природе своей «сокровенный сердца человек» богоподобен, и в каждом есть «искра Божия», «свет Христов», который и «во тьме светит». Богоподобное сердце, как точка соприкосновения человека с Богом, не может быть источником греха и зла. Вышеславцев приводит слова апостола Иоанна: «Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя Его пребывает в нем; и он не может грешить, потому что рожден от Бога» (1 Ин. 3: 9). Но вместе с тем из самого сердца человеческого исходит и всяческое зло, как сказано в Евангелии от Марка: «Ибо извнутрь, из сердца человеческого, исходят злые помыслы, прелюбодеяния, любодеяния, убийства, кражи, лихоимство, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство» (Мк. 7: 21, 22). Итак, получаем антиномию, в которой тезис утверждает богоподобие, светоносность и безгрешность сердца, а антитезис — демонизм, омраченность и греховность сердца. Апостол Павел в Послании к римлянам драматически «оборачивает» эту антиномию в экзистенциально-личностный план, где трагически расколотым оказывается внутренний человек, сокровенное Я: «Ибо не понимаю, что делаю; потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю... Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех... Бедный я человек! кто избавит меня от сего тела смерти? ...Итак тот же самый я умом моим служу закону Божию, а плотию закону греха» (Рим. 7: 15, 19, 20, 24, 25). Единый, целостный человек чувствует себя как бы «двое-
* Тамже.
Метафизика сердца
151
душным», «двоесердечным», «двоевольным». Возникает искушение весьма просто разрешить эту антиномию: безгрешность отнести к духовному центру личности, а греховность — к периферии, телу, плоти. Но это иллюзорное решение проблемы, ибо материальное, как не обладающее сознанием и совестью, не может нести никакой ответственности за поведение человека. Апостол Павел это подчеркивает: « ...тот же самый я... », а не «живущий во мне грех» — служу и Богу и дьяволу.
Паскаль, который поражался «двоедушию» человека, скорбно принял его неизбежную противоречивость и объяснил ее первородным грехопадением созданного Богом изначально совершенного человека. Так что грех не сверху «прилип» к роду людскому, а поселился, как червь, в самом сердце человека. Вышеславцев сначала пытается разрешить эту антиномию с помощью кантовского дуализма ноуменального, умопостигаемого, и эмпирического субъекта: «Тезис сохраняет свое значение для мира идеального... Антитезис сохраняет значение в мире реальном...» * В идеальном мире принципов и первообразов человек богоподобен и не может грешить, а в реальном мире всякое «я» отпадает от идеала, искажает свою первосущность и может нести зло. Логически одно другому не мешает. «Решение антиномии состоит прежде всего в признании этой двойной природы Я, вне которой наше человеческое Я немыслимо» **. Однако на этом Вышеславцев не успокаивается и делает акцент на неравноценности тезиса и антитезиса, хотя они и оба истинны.
Если Августин, а вслед за ним янсенисты учили о преемственности первородного греха и фатальной испорченности человека без помощи Божественной благодати, то Вышеславцев настаивает на преемственности первоначального величия человека, неистребимого никаким падением и грехом. Адам мог грешить и не грешить, но «одного он не мог и не может. Это в принципе уничтожить свое богоподобие, сделать бывшее небывшим, аннулировать божественный акт творения» ***. Так что богоподобие и величие человека первично, а его искажение и извращение вторично. В сущности своей человеческое Я светоносно и безгрешно, а в явлении может быть демонично. Но явление не элиминирует сущности. Более того, тезис не нуждается в антитезисе, а вот антитезис без тезиса невозможен. И сам Люцифер изначально «светлейший ангел», носитель света, и ему ничего не остается, как * Вышеславцев Б. П. Сердце в христианской и индийской мистике // Вопросы философии. 1990. № 4. С. 79.
** Там же.
*** Там же. С. 80.
152
Г. Я. СТРЕЛЬЦОВА
быть «обезьяной Бога». Демонизм немыслим без отношения к прообразу богоподобия. «Искажение невозможно без прообраза, но прообраз возможен без искажения. Дьявол невозможен без Бога, с которым он борется, но Бог возможен без дьявола. Болезнь невозможна без здоровья, но здоровье возможно и без болезни. Слезы невозможны без глаз, но глаза возможны и без слез!» * Не будем придираться к тому, что автор здесь смешал субстанции и акциденции, но ясно то, что он хотел сказать и подчеркнуть. Если в августинианской традиции человек весьма ничтожен перед Богом, то у Вышеславцева, как и вообще в русской культуре, человек велик даже и в глубине своего падения. Никакие бездны демонизма не могут отнять у человека его первородства, его богоподобия.
Однако логическое, или теоретическое, разрешение антиномии не означает ее реального разрешения в человеческой жизни. Да и сама-то антиномия носит изначально жизненно-практический характер. «Дисгармония мыслима, но невыносима. Богоподобие и демонизм невыносимы вместе рядом в одном и том же человеке и стремятся уничтожить друг друга». Ибо «антиномия углубляется до степени трагического раздвоения человеческого сердца, влекущего за собою трагедию человеческой судьбы, человеческой истории» **. Вышеславцев очень высоко думает о человеке, полагая, что всякое омрачение и окаменение его сердца переживается им как драма и трагедия и не приемлется в качестве последнего слова. В этом заключается и залог «преображения» человеческого сердца. Тем не менее как религиозный мыслитель Вышеславцев убежден, что «полнота единственно возможного разрешения дана только в религии искупления, в религии спасения» ***.
Но как философ он не удовлетворяется уже добытыми ответами и достигнутым разрешением «антиномии сердца». Он хочет идти еще глубже, еще дальше, чтобы найти предельное основание этой антиномии. Констатация антиномизма человеческого бытия, признание «двумирности человека» не раскрывают истока этой трагедии. Источник величия человека — в Боге! А исток человеческой греховности — в чем? Почему изначально совершенный человек мог согрешить? Как может одно и то же сердце быть источником добра и зла? Вместе с тем «сокровенный сердца человек» драгоценен перед Богом. Источник зла как бы обладает абсолютной ценностью. Это * Там же.
** Вышеславцев Б. П. Сердце в христианской и индийской мистике // Вопросы философии. 1990. № 4. С. 80.
*** Там же.
Метафизика сердца
153
есть, как говорит Вышеславцев, «единственная, неповторимая и несравненная сущность» — свобода, имеющая абсолютную ценность и роднящая Бога и человека. Человек богоподобен именно в своей свободе, духовной свободе, которая « ценна даже и во зле... ценна даже и тогда, когда не спасает: ибо свободный и грешный дух — выше в иерархии бытия, чем камень, который не может грешить. И отнять эту свободу, этот дар богоподобия, означало бы уничтожить всякую заслугу, всякий героизм, всякую святость, всякое творчество, одним словом, уничтожить личность и духовность как высшую ступень в иерархии бытия» *.
Свобода, будучи сама «безосновной», лежит в основании личности, составляет тайну сердца человека, узел всей его духовности. Свобода таится на дне той бесконечной бездны, каковую представляет «сокровенный сердца человек», его уникальная самость. Итак, предельное основание антиномизма человеческого бытия заключается в духовной свободе человека. Так что антиномия безгрешности и греховности сердца разрешается Вышеславцевым посредством свободы.
Наконец, есть еще один аспект феномена сердца, в связи с которым он отличает его понимание в христианстве от индийской мистики. До этого момента он рассматривал экзистенциальные смыслы символа сердца. Теперь он выявляет гностическую функцию нашей самости — узрение истины, чистых сущностей,— ибо сердце есть и «свет логоса». Потому у Платона высшее проявление души — созерцание идей. Эта сторона самости особенно хорошо схвачена в индийской мистике, где «Атман сердца» есть чистый дух с его «отрешенным и холодным оком». Атман не действует, ни к чему не стремится, ничего не чувствует. Это безличное вселенское сознание, которое выше всего человеческого, «выше всякого добра и зла и потому абсолютно непогрешимо. В поднятии к нему и заключается все “бессмертие” и все спасение человека» **. Однако на Западе уже у Платона душа — не только свет логоса, но и Эрос. Она не только созерцает идеи, но и полна стремления, любви, творческого порыва, свободного избрания в любви и творчестве. Отсюда сердце — не только «озаряющий центр, но вместе с тем тяготеющий центр. Сердце есть умное видение, но вместе с тем умное делание! Сокровенное “я” есть знание и любовь... свет логоса и тепло любви — в нераздельном единстве» ***. В этом Вышеславцев видит «основную идею христианства, * Вышеславцев Б. П. Сердце в христианской и индийской мистике // Вопросы философии. 1990. № 4. С. 83.
** Там же. С. 84.
*** Тамже.
154
Г.Я. СТРЕЛЬЦОВА
выраженную в идее христианской любви». Вспомним в этой связи Паскаля, который в «Искусстве убеждения» считал одним из «самых полезных мнений» у святых мужей, что « истина постигается только любовью».
Вышеславцев обращается к Паскалю, когда выступает против европейского рационализма в духе Аристотеля или Декарта, усматривавших существо Я в мышлении. Для нашего мыслителя это «величайший предрассудок». Постижение шире, чем мышление. Узрение не совпадает с интеллектом, ибо есть «созерцание этическое, эстетическое и религиозное. И здесь созерцает вовсе не интеллект. «Чувство» в созерцании ценностей... имеет свои очевидности, свою «логику». Паскаль назвал ее «логикой сердца», а Шелер развернул эту логику до пределов универсальной системы ценностей... Сердце есть тоже орган постижения, оно постигает многое, что недоступно интеллекту, постигает «святость, красоту, ценность» *. Так Вышеславцев развивает сокровенную мысль Паскаля о том, что «мы постигаем истину не только разумом, но и сердцем». Отсюда и более полнокровное, чем в рационализме, понимание сущности не только созерцания и познания вообще, но и сущности души человеческой, глубинного Я, сущности самой жизни и ее смысла.
Здесь я рассмотрела «метафизику сердца» в основном тех мыслителей, которые сознательно обращались к Паскалю, не затрагивая развития этой темы у других русских философов — И. А. Ильина (чрезвычайно интересная концепция «сердечного созерцания» и критика им «бессердечной культуры» на Западе), Н.К. и Е.И. Рерихов (учение «Живой этики» о «чувствознании», органом которого является сердце), Даниила Андреева (сердце как «духовный мост» в «светлые миры»)**.
* Вышеславцев Б. П. Сердце в христианской и индийской мистике // Вопросы философии. 1990. № 4. С. 85.
** См.: Ильин И. А. Путь к очевидности. М., 1993; Он же. Поющее сердце. Книга тихих созерцаний // Соч.: В 2 т. М., 1994. Т. 2; Учение живой этики: В 3 т. Т. 2: Сердце. М., 1994; Андреев Д. Роза мира. М., 1991.
Б. H. ТАРАСОВ
Л.H.Толстой и Паскаль
I
Л.Н. Толстой — читатель Паскаля
1
«Мысли» — главный философский труд Паскаля — Лев Николаевич прочитал впервые в 1876 году, хотя начальное знакомство с идеями французского философа произошло гораздо раньше: в черновиках «Отрочества» упоминается теория вероятности Паскаля применительно к существованию Бога («аргумент пари») и говорится о стремлении (пусть и кратковременном) юного героя повести, Николеньки Иртеньева, следовать ей в жизни.
Однако только во второй половине 70-х годов, когда в пору смутного и тревожного настроения у приближавшегося к своему пятидесятилетию писателя готовился резкий перелом миросозерцания, он по-настоящему открыл для себя французского мыслителя и уже до конца жизни не расставался с его основным сочинением. О настойчивом интересе к жизни и творчеству Паскаля именно в этот период свидетельствуют письма Толстого. В марте 1876 года он писал А. А. Толстой о «Мыслях» и их авторе: «Какая чудесная книга и его жизнь. Я не знаю лучше жития» *. Обнаружив, что его широко образованная и глубоко верующая родственница уже давно знакома и с «книгой» и с «житием» Паскаля, Толстой не скрывает своего удовлетворения: «Я рад тому, что вы знаете Паскаля. Я думал, что он уже так забыт, что его можно открыть» **. Стремясь увеличить ряды почитателей Паскаля, писатель 13-14 апреля 1877 года обращается к А. А. Фету: «Читали ли вы: “Pensées de Pascal?”, т. е. недавно, на большую голову. Когда, Бог даст, вы приедете ко мне, мы поговорим о многом, и я вам дам эту книгу» ***. И еще одно возбуж* Толстой Л. Н. Поли. собр. соч. (Юбилейное). Т. 62. С. 262.
** Там же. С. 266.
*** Там же. С. 320.
156
Б. Н. ТАРАСОВ
денное признание, в письме от 19 мая 1878 года к своему знакомому П. Н. Свистунову: «Я же был очень рад случаю перечесть еще раз Паскаля. Я не знаю ничего, равного ему в этом роде. Издание Louandre я пришлю вам на днях <...> Я теперь не посылаю его потому, что мой сын, 15-летний мальчик, впился в эту книгу, и я не хочу отнять у него, так как это увлеченье его для меня в высшей степени радостно» *.
С годами интерес к личности и творчеству Паскаля у Толстого неуклонно растет. Он не только перечитывает и сличает разные издания сочинений французского философа, обсуждает их с родными, друзьями и знакомыми, но и сам переводит отдельные фрагменты из них, о чем свидетельствуют не только дневниковые записи, но и наблюдения окружавших его людей. Так, секретарь и врач Толстого Д. П. Маковицкий отмечал, что Толстой часто цитировал по памяти в разговорах с самыми разными людьми те или иные изречения Паскаля и подолгу читал отрывки из его «Мыслей» жене и родственникам. Интересуясь исследованиями о Паскале, он выделяет статью Сюлли-Прюдома «Смысл и значение пари Паскаля», напечатанную в журнале «Revue des Deux Mondes» от 15 декабря 1890 года. Говоря в дневнике об ухудшении здоровья, писатель одновременно замечает: «Два дня переводил Паскаля. Очень хорош» **. Следует подчеркнуть, что в последние годы жизни «Мысли» Паскаля служили для Толстого своеобразным утешительным и терапевтическим чтением. «Жив, но плох,— записывает он 18 июля 1910 года в дневнике.— Все та же слабость. Ничего не работаю, кроме ничтожных писем и чтения Паскаля» ***. И еще одна запись, сделанная за месяц до знаменитого «ухода» и за полтора месяца до смерти, 3 августа 1910 года: «Жив, тоскливо. Но лучше работал над корректурами. Чудное место Паскаля. Не мог не умиляться до слез, читая его и сознавая свое полное единение с этим, умершим сотни лет тому назад, человеком. Каких еще чудес, когда живешь этим чудом? » **** Речь идет об изречении Паскаля, призывающем к отказу от собственной воли, которая никогда не удовлетворяет, и к самоотречению во имя блага других людей. Оно включено Толстым в раздел «Самоотречение», входящий в 14-й выпуск книжек «Путь жизни». В этом сборнике Паскаль упоминается чаще всех (исключение составляет лишь Иисус Христос). Летом 1910 года секретарь Толстого В.Ф. Булгаков записал в своем дневнике следующие его слова, свидетельствующие * Тамже. С.421.
** Толстой Л. Н. Собр. соч.: В20 т. М., 1965. Т. 20. С. 315.
*** Тамже. С.415.
**** Тамже. С.417.
Л.Н. Толстой и Паскаль
157
об исключительной близости размышлений Паскаля умонастроению писателя: «Вот Паскаль умер двести лет тому назад, а я живу с ним одной душой,— что может быть таинственнее этого? Вот эта мысль (которую Лев Николаевич мне продиктовал.— В.Б.), которая меня переворачивает сегодня, мне так близка, точно моя!.. Я чувствую, как я в ней сливаюсь душой с Паскалем. Чувствую, что Паскаль жив, не умер, вот он! Так же как наш Христос... И так через эту мысль он соединяется не только со мной, но с тысячами людей, которые ее прочтут. Это — самое глубокое, таинственное и умиляющее... » *
В сознании Толстого Паскаль принадлежал к величайшим мыслителям всех времен и народов. Д. П. Маковицкий упоминает о домашней игре, происходившей в августе 1910 года, когда необходимо было заполнить два листка: на одном указать 12 самых великих людей, а на другом — список самых любимых людей, исключая Христа и самого Толстого. Лев Николаевич и его жена Софья Андреевна заполнили лишь один листок, так как у них великие и любимые люди совпали: Эпиктет, Марк Аврелий, Сократ, Платон, Будда, Конфуций, Лао-цзы, Кришна, Франциск Ассизский, Кант, Шопенгауэр, Паскаль.
Действительно, Паскаль многократно упоминается в этом ряду, куда Толстой включает и Христа, и Магомета. Вообще вся литература представляется ему в виде конуса вершиной книзу, возле которой располагается буддизм и даосизм, стоицизм и христианство, античные, средневековые и перечисленные выше мыслители. Ближе к основанию занимают место писатели нового времени и современные, к которым Толстой относился весьма критически. В современной литературе он обнаруживал понижение уровня, забвение духовного богатства прошлого, сосредоточенность на текущих обстоятельствах и конъюнктурных новинках интеллектуального труда, из-за чего люди теряют способность глубоко чувствовать и серьезно размышлять. «Одна из главных причин ограниченности людей нашего интеллигентного мира — это погоня за современностью, старание узнать или хоть иметь понятие о том, что написано в последнее время... И эта поспешность и набивание головы современностью, пошлой, запутанной, исключает всякую возможность серьезного, истинного, нужного знания. А как, казалось бы, ясна ошибка. У нас есть результаты мыслей величайших мыслителей... и эти результаты мышления этих великих людей просеяны через решето и сито времени. Отброшено все посредственное, осталось одно самобытное, глубокое, нужное; остались веды, Зороастр, Будда, Лаодзе, Конфуций, Ментце, Христос, Магомет, Сократ, Марк
* Булгаков Валентин. Л. Н. Толстой в последний год его жизни: Дневник секретаря Л. Н. Толстого. М., 1960. С. 316 317.
158
Б. Н. ТАРАСОВ
Аврелий, Эпиктет, и новые: Руссо, Паскаль, Кант, Шопенгауэр и еще многие. И люди, следящие за современностью, ничего не знают этого, а следят и набивают себе голову мякиной, сором, который весь отсеется и от которого ничего не останется» *.
Именно на фоне «укороченного» полупросвещения и иллюзионистского хроноцентрического самомнения, а одновременно реальной деградации духовно-нравственного мира человека и равнодушия ко всему превышающему корыстные интересы и торговые расчеты, Толстой выделяет Паскаля как представителя лучших умов человечества, а его «Мысли» — как часть своеобразной квинтэссенции вселенской мудрости, необходимой для выработки нужного раздробленной современности высшего синтетического знания. Рассуждая о необходимости коренного изменения образования, когда учащиеся твердо знают, например, какие-нибудь неправильные глаголы, но остаются в совершенном неведении относительно глубоких идей, он настаивает на том, чтобы положить в основание школьного процесса «учение величайших моралистов и мыслителей, как Лао-цзы (...) Конфуций, Сократ, Паскаль... ».
Именно высшая мудрость, глубинное человековедение, всестороннее понимание жизни, «великийум» и «великоесердце», пророческий дар, «способность видеть через головы других людей и веков» привлекают Толстого в Паскале. В биографическом очерке о французском мыслителе русский писатель заключает, что тот выражает высшую степень религиозного сознания, до которой может дойти человек, неотразимо доказывает невозможность человеческой жизни без веры, то есть «без определенного твердого отношения человека к миру и Началу его», и употребляет всю силу своего дарования на указание людям спасительного света, « единого на потребу».
2
Паскаль является для Толстого примером в принципе и в идеале необходимого всем людям внутреннего преображения и обращения, выстраивания подлинной иерархии, перехода от «второстепенного» к «главному», от «профессионального» к «человеческому», от «человеческого» к «божественному», от «славолюбия» к «Боголюбию». По мнению писателя, большие умственные и душевные силы помогли Паскалю быстро достичь удивительных научных успехов и славы и одновременно осознать их пустоту и ничтожность. Важно только одно, то, что было заслонено поиском славы и ненужных знаний, * Толстой Л. Н. Собр. соч.: В20 т. Т. 20. С. 373.
Л. Н. Толстой и Паскаль
159
Бог и вера, которая дает неразрушимый смысл этой преходящей жизни и твердое направление всей ее деятельности в ожидании смерти,— в этом состоит «великая, неоценимая и неоцененная заслуга» Паскаля. «Паскаль показывает людям, что люди без религии — или животные, или сумасшедшие, тыкает их носом в их безобразие и безумие, показывает им, что никакая наука не может заменить религию» *.
Обращение Паскаля напоминает Толстому, как уже отмечалось, обращение Гоголя, который также глубоко проникся нищетой творческой суеты и никчемностью человеческой славы и обратил свои помыслы к Богу. Оба они, несмотря на различие в характере и складе ума, стремились всей силой души «показать людям весь ужас того заблуждения, из которого они только что вышли, и чем сильнее было разочарование, тем настоятельнее представлялась им необходимость такой цели, такого назначения жизни, которое ничем не могло бы быть нарушено» **.
Пример Паскаля, отказавшегося от блестящей научной карьеры, мирской славы и проведшего последние годы жизни в суровом аскетизме и размышлениях об основных проблемах бытия, Толстой проецировал на собственную жизнь. В письме H. Н. Страхову в апреле 1876 года он замечал: «Паскаль завел себе пояс с гвоздями, который он пожимал локтями всякий раз, как чувствовал, что похвала его радует.— Мне надо завести такой пояс» ***. Указанный эпизод биографии занял в сознании Толстого значительное место. О нем он часто вспоминает в разговорах с собеседниками, когда речь заходит о «грехе тщеславия». С этим грехом русский писатель безуспешно боролся до конца жизни, хотя прекрасно понимал все следствия его духовного и психологического воздействия и сокрушался, что в нем нет важных христианских свойств, «потому что я — не Паскаль». В августе 1909 года, в очередной раз вспомнив «пояс Паскаля», он заключает, что людская похвала и стремление соответствовать ей более всего отдаляют человека от его долга: «...Надо не озираться на мнение людей... а жить для одного Бога. Хвала мне неприятна, а ругань приятна. Если я в слабом состоянии духа, то меня ругательное письмо огорчает; если в хорошем, то радует. Оно мне полезно, тянет к Богу» ****.
* Толстой Л. Н. Поли. собр. соч. (Юбилейное). Т. 41. С. 483.
** Тамже. С.477.
*** Тамже. Т.62. С.265.
**** у Толстого. 1904-1910. Яснополянские записки Д. П. Маковицкого. М., 1979.
Кн.4. С.42.
160
Б. Н. ТАРАСОВ
Несостоявшееся «обращение» самого Толстого, отрицательная оценка в последние десятилетия жизни «мирской» деятельности и художественного творчества были связаны с его религиозными исканиями, со стремлением переделать Евангелие и стать основателем «новой религии» в границах «одного только разума», в соответствии с «прогрессивным» развитием образованного человечества.
Как последовательный мыслитель, стремившийся продумывать все до конца, Толстой столкнулся с проблемой абсолютного отрицания смысла собственной жизни ввиду неминуемой смерти, с насущной потребностью разрешить коренное противоречие между мимолетностью пребывания отдельной личности в мире и бесконечностью бытия. Подобно Гоголю или Достоевскому, он хорошо представлял себе несовершенство художественного творчества по сравнению с душесозиданием и святостью христианских подвижников, не желал довольствоваться мнимым преодолением смерти в культуре и в ограниченной памяти грядущих поколений.
Взыскуя реального личного бессмертия и стремясь преодолеть смысловую пропасть между бесконечностью бытия и конечностью своего существования и деятельности, он и обратился к христианству, усиленно читал житийную литературу, аскетические наставления, творения Отцов Церкви, тщательно соблюдал церковные предписания. Однако после нескольких лет критического изучения догматического богословия и исполнения православных обрядов ему приходится сделать неожиданный вывод, что учение Церкви есть теоретически коварная и вредная ложь, практически же собрание самых грубых суеверий и колдовства, что суждения о Троице, о сошествии одной из трех ипостасей Бога на землю для искупления грехов рода человеческого, о воскресении Сына Божия и его вознесении на небо, о потустороннем спасении несогласны с современными знаниями, сеют «неверие в человеческий разум».
Главная причина, по которой Толстой вступил в борьбу с традиционным христианством и стал изобретать свою собственную веру, заключается в невозможности «разумно» овладеть тайной сотворения мира, грехопадения и искупления, слияния в Спасителе божественной и человеческой природы, сосуществования Церкви небесной и земной, присутствия Сына Божия в таинстве Евхаристии. Евангелие со своей глубочайшей парадоксальностью, неощущаемыми чудесами, многозначными притчами, переоценкой «мудрого» и «немудрого» и «безумия креста» сокрушает все попытки позитивистски настроенного ума Толстого увидеть невидимое и объяснить необъяснимое: «Разумное знание в лице ученых и мудрых отрицает смысл жизни, а огромные массы людей, все человечество — признают этот смысл
Л.Н. Толстой и Паскаль
161
в неразумном знании. И это неразумное знание есть вера, та самая, которую я не мог не откинуть. Это Бог 1 и 3, это творение в 6 дней, дьяволы и ангелы и все то, чего я не могу принять, пока я не сошел с ума» *.
Ум, рассудок, положительное знание становятся у Толстого принципиальным критерием и аргументом, верховным авторитетом и судьей, в чем он является прямым наследником, типичным представителем и одновременно жертвой просветительского рационализма.
Сходные последствия обожествления разума обнаруживаются и в духовном материализме Толстого, который аршином «понятности», «рассудка», «здравого смысла» насильственно измерял «таинственное» и «непостижимое», то есть то, что по определению бесконечно превосходит мерки человеческого разумения и холодной интеллектуальной любознательности, а тем более позитивистского исследования и рассудочных формулировок.
Твердая уверенность в непогрешимости собственного разума приводит Толстого к тому, что Бог рассматривается им как некое абстрактное понятие и безличное начало без сознания и воли, следовать которой он тем не менее призывает в явном противоречии со здравым смыслом. В результате Бог оказывается не живой, полной и объективной Личностью, а неким продуктом человеческого сознания, в котором он отождествляется с «судьбой», «законами природы», «началом всего», «духом», «разумом», «совестью», «любовью», «добром». Бог Толстого «создается» на основании «свойств разума и любви, которыми мы владеем», религию же свою он именует «религией правды и любви».
Так несомненная жажда безусловного добра приводит гениального писателя к тому, что христианство ссыхается у него до отвлеченного моралистического учения, включающего в себя не только изъятые из целостного контекста отдельные положения магометанства, буддизма, конфуцианства, даосизма, но и идеи Сократа, Эпиктета, Канта и других мыслителей. Взыскуемое же им Царствие Божие на земле оказывается умозрительной философией риторического добра, сконструированной в заколдованном кругу собственного «Я» идеей.
Выйти из этого круга Толстому мешала гордость, необходимым орудием которой и стал рассудочный догматизм. Еще в молодости он возмечтал стать уникальным благодетелем человечества и создать освобожденную от «суеверий» всемирную общечеловеческую религию. Подобное богостроительство не могло не вести к отрицанию метафизических и исторических сторон христианства. Поэтому писатель был
* Толстой Л. Н. Собр. соч.: В20 т. Т. 16. С. 130.
162
Б. Н. ТАРАСОВ
склонен иногда к упрощающим объяснениям всех церковных таинств «глупостью», «злонамеренностью», «обманом», к отождествлению грешной части духовенства со всей церковью в целом, к неразличению овец и козлищ, к выплескиванию вместе с водой и ребенка.
Конечно же, как глубокий мыслитель, Толстой должен был хорошо чувствовать и понимать, что гордость составляет главную преграду между Богом и его душой, что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать и что лишь смиренномудрый подвиг воли через постоянное очищение сердца, покаяние, любовь и совершенствование в святости дает ключ к тем самым «тайнам», которые недоступны пытливому разуму и рассудочным доводам. Сознавая несовершенство своего учения, Толстой до конца жизни находился в состоянии душевной неустроенности и внутренней борьбы, приближался к церковным стенам и отходил от них. Его так называемое обращение имело скорее интеллектуальный, нежели экзистенциальный характер и не вело, как у Паскаля, к коренному преображению всей внутренней жизни.
3
Все эти особенности духовных поисков Толстого, его попыток создать универсально-гуманистическую религию необходимо учитывать при анализе испытанного им влияния от чтения «Мыслей» Паскаля. В настоящее время в его литературном архиве в Ясной Поляне и московском музее хранятся два экземпляра — издания Дидо и Луандра (соответственно 1850 и 1858 годов).
По характеру карандашных отметок и записей на полях можно предположить, что издание Луандра было прочитано Толстым в начале или в разгар его религиозных исканий. Своеобразие системы помет и загнутых страниц раскрывает важность для русского писателя тех или иных суждений французского философа. Он делит всю книгу на 47 частей, чтобы выделить тематику и внутреннюю логику мыслей Паскаля, их вариации и переход от одной проблемы к другой. В этом экземпляре встречается и большое количество вопросительных знаков, свидетельствующих о несогласиях читателя с автором.
Анализ подобных разногласий позволяет заключить, что Толстой, подобно Кондорсе или Вольтеру, полностью отбрасывает теологическую часть сочинения Паскаля и сосредоточивает свое внимание на его философской части. В разговоре с французским журналистом Бурденом он заметил: «Ах, Паскаль, вот писатель, что за ум, что за человек! Какое несчастье, что он сбился с пути во второй части своих мыслей и что у него не хватило силы идти до конца!.. Да, это
Л. Н. Толстой и Паскаль
163
так, он испугался, он сам нагнал на себя ужас, церковное учение вновь овладело им, и он умер, не освободившись» *.
Несколько раз Толстой говорил о том, что Паскаль поставил себе в «Мыслях» две задачи: 1) показать необходимость религии для «разумной жизни», 2) раскрыть истинность той религии, которую он сам исповедовал. И насколько автор «Мыслей» преуспел в решении первой задачи, настолько он потерпел неудачу во второй. По мнению Толстого, у Паскаля была «детская вера» в догматическое христианство, и он, подобно умирающему от жажды и набрасывающемуся на воду путнику, воспринял католицизм как истину спасения без критического исследования. «Нельзя себе представить гениального, правдивого перед самим собой Паскаля, верующего в католичество. Он не успел подвергнуть его той силе мысли, которую он направил на доказательство необходимости веры, и потому в душе его догматический католицизм остался целым» **. Толстой хвалит Паскаля за то, что тот берет из традиционного христианства напряженную работу самосовершенствования, борьбу с соблазнами, отвращение к богатству, твердую веру в милосердного Бога, и порицает его за то, что тот сохраняет теологические доказательства мистических начал христианской веры.
Поэтому неудивительно, что сознание Толстого при чтении «Мыслей» проходит мимо всего, смущающего рассудок в решении трансцендентных, мистических, конфессиональных, литургических вопросов христианского Откровения. Русский писатель не может также согласиться с французским философом в том, что разум сам по себе не способен создать онтологически прочную нравственность, а ведет закономерно к деизму и затем к неверию и что необходимо смирить его вместе с сердцем и волей перед «живым Богом», путь познания которого лежит через любовь.
Но Толстому важно прежде всего «знать», нежели «любить», а потому все, что остается непрозрачным для рационального умопостижения, подвергается сомнению и отторгается им. Он ставит знаки вопроса везде, где Паскаль размышляет о двух основоположениях христианства — грехопадении и искуплении. Как и Руссо, Толстой полагал, что человек добр по природе и может собственными усилиями двигаться к совершенству, препятствия к которому кроются в несовершенстве общественного устройства. Коренная испорченность человека вследствие первородного греха и его неуловимой передачи от поколения к поколению ускользает от его понимания * Лит. наследство. М., 1965. Т. 75. Кн. 2. С. 50.
** Толстой Л. Н. Поли. собр. соч. (Юбилейное). Т. 41. С. 482.
164
Б. Н. ТАРАСОВ
и потому неприемлема. По Паскалю же, человек без осознания этой «тайны» еще более непостижим для самого себя, нежели познавший ее существование.
Несмотря на значительные расхождения и недоуменные вопросы, внимательный читатель с одобрением отмечает красным, черным или синим карандашом те места в «Мыслях», которые подтверждают его собственные выводы о мире человека. О тематическом своеобразии близких ему умозаключений автора можно судить по словам самого Толстого: «...Паскаль весь виден в своих “Pensées”. Видна вся напряженная работа его мысли, направленная преимущественно на доказательство тщеты, глупости мирской жизни и необходимости веры. И тут он необычайно силен. Я не знаю никого, кто бы сравнился с ним в этой области» *.
Для Толстого Паскаль — образец глубинного человековедения, и поэтому он тщательно фиксирует все нюансы, относящиеся к нищете и величию человеческого существования,— от технических вопросов стиля до наиболее глубоких проблем метафизики. Его внимание останавливают наблюдения философа об искусстве убеждать, о различиях между «математическим» и «тонким» умом, между естественным и искусственным стилем. Он с нажимом отчеркивает двумя или тремя чертами размышления о «внутренней войне» в человеке, как бы распятом между разумом и страстями, занимающем «срединное» положение между «ангелом» и «животным», причудливо и нераздельно сочетающем добро и зло. Судя по характеру и количеству помет, Толстой принимает за свои мысли Паскаля о том, что люди не думают о смысле своей жизни, а заботятся лишь о мирском преуспеянии. Русский писатель выделяет в «Мыслях» и анализ так называемых «обманывающих сил», искажающих истинность и справедливость, подчиняющих главное второстепенному (воображение, самолюбие, тщеславие и т. п.). Отметки Толстого показывают также, что он проявляет пристальный интерес к анализу коварной роли развлечения, широко понимаемого Паскалем как псевдоактивное и мистифицирующее средство, мешающее личности видеть свое подлинное положение, уменьшающее напряженность между нищетой и величием ее существования, как всякая мнимая активность, ведущая к созданию ложных ценностей и забвению онтологического несовершенства человека. Особо выделяет Толстой и размышления Паскаля об иерархии трех порядков бытия, между которыми существует драматически непреодолимая для гармонизации земной жизни грань. И бесконечное расстояние между телом и духом служит лишь * Там же. С. 488.
Л. Н. Толстой и Паскаль
165
слабым подобием несравненно большего расстояния между духом и любовью, которая только и может вывести человека к новой преображенной реальности.
4
Среди примечательных следов чтения следует отметить и надписи, сделанные рукой писателя напротив соответствующих фрагментов «Мыслей»: «Вера», «Милосердие», «Воскресение», «Смирение», «Крест», «Историяистины», «Грех», «Искушение», «Я», «Усилие», «Тело и дух», «Внушение», «Настоящее», «Мысль», «Наука», «Возмездие», «Смерть». Можно предположить, что Толстой тщательно перечитывал сочинение Паскаля в начале XX века, когда готовил «Круг чтения» : некоторые из перечисленных надписей повторяются в качестве заглавий для рубрик этого сборника, ставшего главной работой Толстого к концу жизни. «Круг чтения» состоял из коротких сентенций и пространных размышлений великих мудрецов, тематически выстроенных по дням года. Избранные на каждый день тексты обрамлены суждениями самого Толстого и должны, по его замыслу, вызывать у читателя добрые чувства и истинное понимание счастья. Сборник включал в себя также «еженедельные чтения» с фрагментами из художественных произведений и небольшими биографиями писателей и мыслителей.
Для «Круга чтения» Толстой написал биографию Паскаля и выбрал более пятидесяти его изречений для следующих рубрик: «Вера», «Мудрость», «Бессмертие», «Смирение», «Бог», «Добро», «Божественная природа души», «Совершенствование», «Рост», «Усилие», «Радость», «Смыслжизни», «Служение», «Единение», «Молитва», «Страдание», «Разум», «Знание», «Брак», «Устройство жизни», «Зло», «Смерть», «Война», «Насилие», «Гордость», «Искушение», «Заблуждение».
Продолжая свою работу по концентрации человеческой мудрости, Толстой готовит еще один сборник, «Путь жизни», вышедший уже после его кончины. По собственному признанию писателя, новая книга должна была содержать самые значительные и глубокие мысли в следующих разделах: «Душа», «Бог», «Христос», «Тунеядство», «Насилие», «Тщеславие», «Суеверие государства», «Ложная вера», «Усилие», «Настоящая жизнь», «Неделание», «Мысль», «Самоотречение», «Смирение», «Правдивость», «Зло», «Смерть», «После смерти», «Жизнь — благо».
Подготовка «Пути жизни» не сопровождалась у Толстого специальным чтением, и его собственные мысли значительно превосходили по количеству извлечения из книг других авторов, которые
166
Б. Н. ТАРАСОВ
им порою весьма существенно переделывались. Этот сборник представлял собою своеобразный философский и этический итог духовных исканий писателя, в котором Паскаль занимает первое (после Иисуса Христа) место. Имя французского мыслителя встречается более тридцати раз в главках «Божественность души», «О неверии в Бога», «Недействительность насилия», «Государство основано на насилии», «Духовная жизнь человека вне времени и пространства», «Значение воздержания для отдельных людей и всего человечества», «Только способностью мыслить отличается человек от животного», «Отречение от своего животного я раскрывает Бога и в душе человека» и в других разделах.
Переводя ряд фрагментов из сочинения философа, писатель порою сокращает или расширяет их, опускает или добавляет значимые детали, что не мешает ему тем не менее в большинстве случаев оставаться верным духу и букве автора. Сам контекст рубрик и глав «Круга чтения» и «Пути жизни» выявляет показательные противоречия, обнаруживающиеся также при сравнении содержания трактата Толстого «О жизни», его статей «Одумайтесь!», «Неизбежный поворот» с сентенциями Паскаля, выбранными для них в качестве эпиграфов.
Уже предварительное рассмотрение показывает, что критический анализ тщеславия, похотливого искания удовольствий и развлечений, отсутствия раздумий о смысле жизни и смерти, лицемерия в поведении людей и т. п. не только переносится со страниц «Мыслей» на страницы сборников для регулярного чтения, но и органично укореняется в глубине сознания Толстого, чем и объясняются его признания в неразрывной слиянности с французским философом.
При подобной слиянности вполне закономерно возникает большая и сложная проблема выделения, так сказать, «составляющей» Паскаля во всем позднем творчестве Толстого и в каждом отдельном его произведении этого периода. Решение проблемы в разных планах и аспектах способствовало бы, на наш взгляд, более целостному видению художественного мира русского писателя. Причем, учитывая упомянутую укорененность « избирательного сродства», наиболее существенными оказываются не упоминания, ссылки, иллюстративное цитирование и т. п., а глубинные, бессознательные и «спрятанные» влияния, которые обнаруживаются на уровне разворачивания и развития частей и целого художественной мысли.
Примером проявления воздействия Паскаля на таком органическом уровне может служить повесть Толстого «Смерть Ивана Ильича», над которой он работал в первой половине восьмидесятых годов. То есть в ту пору, когда уже сформировалось его новое миросо¬
Л. Н. Толстой и Паскаль
167
зерцание и все близкое ему в философии Паскаля отложилось в самой ткани его сознания. Как известно, замысел повести возник у Толстого в связи с конкретным событием — смертью от рака тульского судьи Ильи Ильича Мечникова. Этот конкретный случай обогатился в его произведении, приближенно говоря, еще несколькими сферами отображенной реальности: наблюдением за окружающей писателя светской и чиновничьей средой, драматическим личным опытом его семейной жизни, его напряженным отношением к смерти, столь ярко описанным в «Записках сумасшедшего», и рядом других, каждая из которых требует самостоятельного анализа. К их числу следует отнести и размышления Паскаля о нищете человеческого существования (вернее, сам их ход и атмосферу), которые безболезненно срослись с остальными «составляющими» «Смерти Ивана Ильича». Но прежде всего следует рассмотреть смысловое художественное единство самой повести.
II
Жизнь. Игра. Смерть
(анализ сознания представителя «среднего класса» в повести Л. Н. Толстого «Смерть Ивана Ильича»)
1
Хорошо известно высказывание Льва Толстого из письма к H. Н. Страхову: «Во всем, почти во всем, что я писал, мною руководила потребность собрания мыслей, сцепленных между собой для выражения себя, но каждая мысль, выраженная словами особо, теряет свой смысл, страшно понижается, когда берется одна и без того сцепления, в котором она находится. Само же сцепление составлено не мыслью (я думаю), а чем-то другим, и выразить основу этого сцепления непосредственно словами нельзя, а можно только посредственно словами, описывая образы, действия, положения... Теперь... нужны люди, которые бы показали бессмыслицу отыскивания отдельных мыслей в художественном произведении и постоянно руководили бы читателей в том бесконечном лабиринте сцеплений, в котором состоит сущность искусства, и по тем законам, которые служат основанием этих сцеплений» *.
В приведенном высказывании Толстой словно специально ставит литературоведу задачу исследовать своеобразие сцепления различных
Русские писатели о литературе. Л., 1939. Т. 2. С. 127-128.
168
Б. Н. ТАРАСОВ
мыслей, заставить читателя следить за внутренней логикой этого сцепления, вне которого, подчеркиваем еще раз, каждая мысль в отдельности «теряет свой смысл, страшно понижается» и вне которого пропадает неповторимая целостность художественного произведения. Как уникальность личности определяют не ее качества, а их особенное сочетание в данном человеке, так и неповторимость художественного произведения составляют не его проблемы, а их взаимная обусловленность.
Определение смысла и неизбежной закономерности «сцеплений», «сопряжений», «соединений» различных «мыслей» Толстого в «Смерти Ивана Ильича» и составляет основную задачу настоящей главы.
Становление капиталистических отношений и формирование буржуазного сознания приняли в России, хотя и с большим опозданием по сравнению с западноевропейскими странами, но явно видимые очертания во второй половине XIX века. Эти процессы вызывали у большинства самых разных русских писателей особую тревогу. Она обусловливалась прежде всего контрастом между материальными достижениями буржуазного общества и понижением нравственного настроя и духовного уровня личности в нем, так как гигантские культурные преобразования внешнего мира, вся душевная жизнь человека были направлены к развитию физического содержания и довольства жизни. Вспомним вновь И. В. Киреевского: « ...При всем богатстве, при всей, можно сказать, громадности частных открытий и успехов в науках общий вывод из всей совокупности знания представил только отрицательное значение для внутреннего сознания человека; потому что при всем блеске, при всех удобствах наружных усовершенствований жизни самая жизнь лишена была своего существенного смысла» *.
«Отрицательность» очаровывающих «удобств» и «наружных усовершенствований» по отношению к «существенному смыслу» жизни, когда сосредоточенность на ее внешних физических условиях неминуемо усыпляет нравственное чувство, постоянно тревожила и Достоевского, в известной степени определяя его напряженный поиск человека в человеке. Международная промышленная выставка в Лондоне, словно символизировавшая высший результат цивилизации и прогресса на Западе, заставила его написать следующие слова: «Да, выставка поразительна. Вы чувствуете страшную силу, которая соединила тут всех этих бесчисленных людей, пришедших со всего мира, в едино стадо; вы сознаете исполинскую мысль; вы чувствуете, что тут что-то уже достигнуто, что тут победа, торжество». Однако * Киреевский И. В. Критикан эстетика. М., 1979. С. 250-251.
Л.Н. Толстой и Паскаль
169
в то же самое время: «Вы даже как будто начинаете бояться чего-то <...> Уж не это ли, в самом деле, достигнутый идеал? — думаете вы, — не конец ли тут? <...> Не придется ли принять это, и в самом деле, за полную правду и занеметь окончательно?» *
Рассуждая о другой такой выставке, на сей раз парижской, Н. Ф. Федоров выразительно обличает вред демонстрируемых на ней «наружных усовершенствований» и как бы расшифровывает симптомы «окончательного занемения». Роскошные экипажи, изысканная мебель, модные тряпки и другие «мануфактурные игрушки» фабричного производства, которые в перспективе могут быть доступны всем, расслабляют тело и уродуют душу человека, гипнотически заставляя его принимать эти «игрушки» за некую гуманистическую цель исторического развития. А маниакальная сосредоточенность на развитии внешних форм и благ жизни ведет лишь к культивированию многосторонности насладительных ощущений, к увеличению сугубо материальных потребностей, а одновременно и к колдовскому усыплению высших ценностных запросов человеческого духа, к потере смысловой ориентации в мире, к житейски-бытовому и духовно-нравственному отслоению от основных первичных фактов человеческого бытия (рождение, смерть).
Те же вопросы волновали и Толстого: «Как мы, богатые люди, ни поправляем, ни подпираем с помощью нашей науки и искусства эту нашу ложную жизнь, жизнь эта становится с каждым годом и слабее, и болезненнее, и мучительнее; с каждым годом увеличивается число самоубийств и отречений от рождения детей; с каждым годом мы чувствуем увеличивающуюся тоску нашей жизни, с каждым годом слабеют новые поколения людей этого сословия. Очевидно, что на этом пути увеличения удобств и приятностей жизни, на пути всякого рода лечений и искусственных приспособлений для улучшения зрения, слуха, аппетита, искусственных зубов, волос, дыхания, массажей и т. п. не может быть спасения» **.
Самозабвенный поиск «увеличения удобств и приятностей жизни», сопровождавшийся отрывом от высших ценностей, способствовал формированию особого типа личности в буржуазном обществе, так называемой «золотой середины». «Нынешнее время...— говорит один из героев романа Достоевского “Подросток”,— это время золотой середины и бесчувствия... неспособности к делу и потребности всего готового. Никто не задумывается... » *** Повсеместным распространением * ДостоевскийФ. М. Собр. соч.: В 15 т. Т. 4. С. 131.
** Толстой Л. Н. Поли. собр. соч. (Юбилейное). Т. 25. С. 393.
*** Достоевский Ф. М. Собр. соч.: В 15 т. Л., 1990. Т. 8. С.482.
170
Б. Н. ТАРАСОВ
«несказанной прелести золотой посредственности» (выражение Чаадаева), которая «не задумывается», был озабочен и Герцен, считавший мещанство последним словом цивилизации. «Постоянное понижение личностей, вкуса, тона, пустота интересов, отсутствие энергии ужаснули его,— пишет Герцен в одной из своих статей о Милле,— он присматривается и видит ясно, как все мельчает, становится дюжинное, рядское, стертое, пожалуй, “добропорядочнее”, но пошлее. Он видит... что вырабатываются общие, стадные типы, и, серьезно качая головой, говорит своим современникам: “Остановитесь, одумайтесь! Знаете ли, куда вы идете? Посмотрите — душа убывает”» *.
В разных оттенках приведенных высказываний открыто и подспудно обнаруживается стержневая мысль — идеалы легкой и приятной жизни, обусловленные материальным прогрессом и постоянно набирающие все большую силу, не безобидны для нравственного содержания личности, ведут к оскудению человеческого в человеке, формируют ложное жизнепонимание, ориентирующееся на неподлинные ценности и вырабатывающее принципы, которые медленно, но верно усиливают разъединенность и враждебность людей друг к другу: «один раз живем», «хочешь жить — умей вертеться», «рыба ищет, где глубже, а человек, где лучше», «своя рубашка ближе к телу» и т.п. «Я отрекся,— признается Толстой в “Исповеди”,— от жизни нашего круга, признав, что это не есть жизнь, а только подобие жизни, что условия избытка, в которых мы живем, лишают нас возможности понимать жизнь».
Самой общей характеристикой «непонимающего» сознания является его отчужденность, другими словами, суженность и неадекватность, а тем самым и искаженность восприятия мира: часть принимается за целое, моментальное — за вечное, ничтожному придается значение великого, одушевленные существа превращаются в бездушные механизмы, вещи одушевляются и т. п.
Все это способствует образованию в буржуазном обществе рассудочнотрезвого по видимости, но глубоко иррационального и противоестественного по сути обыденного существования, о мистифицированном и отчужденном характере которого писал Маркс. Отчуждение, по его представлению, проявляется, помимо прочего, и в том, что «каждая вещь сама оказывается иной, чем она сама, что моя деятельность оказывается чем-то иным и что наконец,— а это относится и к капиталисту,— надо всем вообще господствует нечеловеческая сила» ** (ср. цитированные выше слова Достоевского о «страшной силе»).
* ГерценА.И. Собр. соч.: ВЗОт. М., 1957. Т. 11. С.68 69.
** Маркс К., Энгельс Ф. Из ранних произведений. М., 1956. С. 608.
Л.Н. Толстой и Паскаль
171
Как одно из существеннейших проявлений «нечеловеческой силы», «инаковость», то есть несоразмерность восприятия вещей и событий их подлинной ценности и природе, есть наиболее резкая и определяющая черта буржуазного сознания. Такая несоразмерность, разные грани которой выражены в высказываниях русских писателей, составляет не только общую атмосферу и необходимый идейно-эмоциональный контекст повести «Смерть Ивана Ильича», но и главное ее художественное задание.
2
Эта тема в произведении сразу же резко и прямо дается крупным планом.
Лейтмотив первой главы состоит в раскрытии крайнего несоответствия между событием — смертью судейского чиновника Головина — и его восприятием сослуживцами и родственниками — самыми близкими к покойному людьми. Не горе и сострадание почувствовали товарищи умершего, хотя, как сказано в повести, они любили Ивана Ильича, а настоящее удовлетворение, ибо его смерть открыла им возможности выгодных перемещений по служебной лестнице. Их даже охватила животная радость. «Каково, умер; а вот я нет»,— подумал или почувствовал каждый. (Вспомним рассуждение рассказчика в «Бесах» Достоевского: «Вообще в каждом несчастии ближнего есть всегда нечто веселящее посторонний глаз...») Вдову тоже занимают прежде всего корыстные расчеты — как подешевле похоронить мужа и достать побольше денег из казны по случаю его смерти.
В «убывающей» душе и искаженно-перевернутом сознании жены и друзей нечто призрачное и фиктивное, лишенное собственной живой силы и ценности (бумага — место, место — должность), занимает гораздо больше места и обладает большим значением, нежели такое важнейшее событие, как окончательный уход из этого мира человека, более того — мужа и товарища.
Лицемерно-игривое, «легкое» поведение всех персонажей первой главы (за исключением сына Ивана Ильича) выделяет и усиливает отмеченное несоответствие. Повесть начинается с описания подчеркнуто обыденной жизни суда, которую, казалось бы, должно было нарушить печальное известие. Однако оно плавно вплетается в судейскую игру мнений, органично перешедшую в необязательно-мелочное перекидывание слов о денежном состоянии и болезни покойного, которое завершилось пустым разговором о дальности городских расстояний. Общение на панихиде близкого приятеля умершего судьи, Петра Ивановича, и его вдовы, Прасковьи Федоровны, сопровождается
172
Б. Н. ТАРАСОВ
бесчувственными жестами, которые трезво приводятся в соответствие с «приличиями».
Своеобразным концентрированным воплощением марионеточной игривости является Шварц, чей облик и действия контрастируют с собственно смыслом панихиды. Эта игривость особо отмечена автором: у Шварца игривая, чистоплотная и элегантная фигура, игривый взгляд с постоянным подмигиванием и т. п. Внешняя игривость дополняется внутренней: на уме у него одна забота — предстоящие карточные сражения.
Игривость Шварца выполняет в первой главе четкую «сцепляющую» роль: она искривляет и затемняет (Schwarz в переводе с немецкого означает «черный») адекватное восприятие смерти — низводит ее до уровня едва ли не случайной мелочи, чтобы не позволить ей нарушить инерцию приятно-обыденного существования и таким образом отсечь возможность задуматься о ее сущностном значении, уяснение которого меняло бы само это существование. «Один вид его (Шварца.— Б. Т.) говорил: инцидент панихиды Ивана Ильича никак не может служить достаточным поводом для признания порядка заседания нарушенным, то есть что ничто не может помешать нынче же вечером щелконуть, распечатывая ее, колодой карт, в то время как лакей будет расставлять четыре необожженные свечи; вообще нет оснований предполагать, чтобы инцидент этот мог помешать нам провести приятно и сегодняшний вечер». И здесь снова Толстым ненавязчиво выделяется «нечеловеческая» перевернутость в сознании человека, когда притягательность ничтожного «порядка заседания» перевешивает значительность существеннейшего события; употребленное же два раза слово «инцидент» подчеркивает эту перевернутость, усиливая в восприятии как бы случайность, а не закономерность смерти и принижая ее истинный и всеохватный масштаб.
«Затемняющая» роль Шварца показана в его общении с Петром Ивановичем в доме покойного. Уже при первом появлении Петра Ивановича Шварц «подмигнул ему, как бы говоря: “Глупо распорядился Иван Ильич: то ли дело мы с вами”». Мы-то умны, мы-то уж никогда не умрем — таков подтекст этой реплики, настраивающей на искаженное отношение к смерти, которая будто бы свойственна только другим.
Однако Петр Иванович почувствовал в выражении лица покойника «упрек или напоминание живым», что выводило его за рамки «нечеловеческого» восприятия, внушенного Шварцем. Но ему захотелось отогнать это напоминание как неуместное и его не касающееся. И в утверждении такого «некасательства» опять сыграл свою
Л. Н. Толстой и Паскаль
173
«черную» роль Шварц: «...один взгляд на игривую, чистоплотную и элегантную фигуру Шварца освежил Петра Ивановича».
Когда же мысль о неизбежных страданиях и смерти, которые каждую минуту могут наступить и для него, все-таки ужаснула Петра Ивановича, его вновь «освежило» мелькнувшее в памяти лицо Шварца, не поддающегося печальным переживаниям. Это воспоминание сопровождалось «спасительным» психологическим ходом, пробужденным, как известно, Шварцем же: « ...ему на помощь пришла обычная мысль, что это случилось с Иваном Ильичом, а не с ним, и что с ним этого случиться не должно и не может... И, сделав это рассуждение, Петр Иванович успокоился и с интересом стал расспрашивать подробности о кончине Ивана Ильича, как будто смерть была такое приключение, которое свойственно только Ивану Ильичу, но совсем не свойственно ему» (ср. «обычную мысль» сослуживцев: «Каково, умер; а я вот нет»).
Во время панихиды Петр Иванович старался не смотреть на мертвеца, отгоняя мрачные мысли, и одним из первых вышел, отправившись к приятелям играть в карты и застав их «при конце первого роббера, так что ему удобно было вступить пятым».
Мотив игры в прямом и косвенном (лицемерие, притворство и т. п.) смысле пронизывает от начала до конца всю первую главу и как бы соперничает, «сцепляется» с темой смерти. Он подчеркивает огромную суживающую силу игривости, которая, каждодневно обтачивая сознание, впечатывает в него иллюзию вечности маленьких удовольствий и текущих приятностей и соответственно придает смерти вид «приключения», свойственного другому. Нечувствие к смерти другого, вымарывание из сознания самой идеи страдания и смерти неизбежно ведут к заземлению жизни на ее физическом содержании, к параличу духовно-нравственного начала в человеке.
3
В следующих за первой главах первоначально заданные и никак не разъясняемые противопоставления игривости и смерти, только лишь намеченная ситуация «перевернутого» сознания детально анализируются вширь и вглубь.
Толстой заметил однажды, что все мысли о смерти нужны только для жизни, поскольку именно то или иное отношение человека к смерти определяет качество его жизни и возможность нахождения ее смысла. Это замечание относится и к разбираемой повести, где на примере главного героя разоблачается самый процесс формирования низкокачественной «комильфотной» жизни и соответствующего
174
Б. Н. ТАРАСОВ
ей «игривого» сознания — процесс, одновременно и противящийся памятованию о смерти, и обусловленный отсутствием «мыслей о смерти».
Толстой показывает социальные и психологические условия формирования «недумающего» сознания и своеобразие «ширмочек», которыми оно себя обставляет и которые превращают жизнь людей в приятную, но неразумную. В статье «О безумии» писатель замечал, что «большинство человечества... живет в наше время жизнью прямо противоположной и разуму, и чувству, и самым очевидным выгодам, удобствам всех людей — находится в состоянии... полного сумасшествия» *. К этому большинству принадлежит и судейский чиновник Иван Ильич Головин, средний сын в семье, «не такой холодный и аккуратный, как старший, и не такой отчаянный, как меньшой». История жизни Ивана Ильича есть «самая простая и обыкновенная ». Но одновременно она — «и самая ужасная». Простота и обыкновенность этой жизни состоят в том, что герой повести жил, как многие в его среде, то есть добывал доходные служебные места, обрастал разными вещами, развлекался и т. п., а ее ужасность заключается в том, что подобная «деятельность» есть «огромный обман, закрывающий и жизнь и смерть», делающий существование человека бессмысленным. «Сумасшедшая» обыкновенность ужасна тем, что препятствует проникновению в сознание ценностно-смысловых, подлинно разумных проявлений бытия.
Движущим началом, ткущим материю этой обыкновенности, является неоднократно подчеркиваемая автором сокровенная и непоколебимая убежденность Ивана Ильича в том, что жизнь «должна была протекать... легко, приятно и прилично», то есть таким образом, чтобы из ее состава были исключены события и впечатления, связанные с какими-либо затруднениями, болью, болезнями, страданиями и, наконец, смертью. Это коренное его верование определяется не целостным сознанием человечности, а частичным сознанием своего внешнего положения в обществе. Жить «легко, приятно и прилично» , другими словами, благополучно — означает быть привязанным к какой-то части окружающего мира, доставляющей наибольшее удовольствие и поглощающей все способности человека. Легкость и приятность обладания такими фрагментами окружения, как теплое местечко, материальное благополучие, респектабельность семейного быта, неотрывно привязывают Ивана Ильича к ним, заставляют забывать о целом, наглухо отчуждают от других людей. Все это действует наркотически на душевную организацию судьи Головина, усыпляет
Толстой Л. Н. Поли. собр. соч. (Юбилейное). Т. 38. С. 404.
Л. Н. Толстой и Паскаль
175
и искажает его сознание, производит в нем чудовищное перевертывание — чувствительность к ничтожным вещам и нечувствительность к самым важным, то есть к вопросам об истинном положении и смысле человеческого существования, о должном поведении, вытекающем из их решения. Более того, ничтожнейшие вещи приобретают в его воображении значение целого, их навязчивая приятность незаметно отодвигает в неопределенную бесконечность раздумья о смерти, создавая иллюзию «бессмертного» благополучия.
Гедонистическая вера, которая в наблюдаемом Толстым обществе становилась все более притягательной, искажает сознание главного героя повести, лишает его жизнь глубины смысла и высоты подлинной человечности, выводя ее на «сумасшедшую» поверхность механически извращенных отношений.
Метастазы этой веры с присущими особенностями ее воздействия разъедают поведение Ивана Ильича во всех сферах его деятельности. Так, на службе, по его мнению, надо уметь исключать «все то сырое, жизненное, что всегда нарушает правильность течения служебных дел: надо не допускать с людьми никаких отношений, помимо служебных, и повод к отношениям должен быть только служебный и самые отношения только служебные. Например, приходит человек и желает узнать что-нибудь. Иван Ильич как человек недолжностной и не может иметь никаких отношений к такому человеку; но если есть отношение этого человека как к члену, такое, которое может быть выражено на бумаге с заголовком,— в пределах этих отношений Иван Ильич делает все, все решительно, что можно, и при этом соблюдает подобие человеческих дружелюбных отношений, то есть учтивость. Как только кончается отношение служебное, так кончается всякое другое».
Идеал легкой и приятной жизни связан, может быть, и не очень заметными по видимости, но по существу прочными нитями с преобладанием функционализма в человеческом общении, с формализацией и бюрократизацией жизненных явлений, исключающими все «сырое, жизненное», то есть трепетно-человеческое и действительно важное, которое предполагает совершенно иное к себе отношение — не поверхностно-гедонистическое. В основе этой связи лежит уже отмеченный нами процесс усечения и перевертывания, создания той иррациональной «инаковости», о которой писал Маркс, когда часть принимается за целое, второстепенное за главное и т. и.; человек превращается в «члена», служебные отношения становятся важнее человеческих, а бумага с заголовком имеет больший вес, чем суть дела.
Подобные метаморфозы в буржуазном обществе приводили к овеществлению человека, его отождествлению с должностью и растворению
176
Б. Н. ТАРАСОВ
в служебных местах, постоянно увеличивающееся число которых находилось в резком несоответствии с их реальной пользой, что еще больше возбуждало материальные интересы обладателей этих мест. Так, отец Ивана Ильича, «ненужный член разных ненужных учреждений», занимавший фиктивные места, но получавший нефиктивные тысячи, добыл сыну в самом начале его судейской деятельности доходное место чиновника особых поручений. И все дальнейшие усилия новоиспеченного судьи были направлены на поиск еще более доходных мест, которые ни в сознании Ивана Ильича, ни в сознании окружающих его людей никак не связывались с нравственными особенностями занимающих их лиц и со своеобразием исполняемого ими дела. Эти усилия достигли своего апогея, когда он задался целью непременно получить любое место без « направления или рода деятельности», но которое обязательно давало бы пять тысяч дохода.
В извращенной деятельности Ивана Ильича на судейском поприще «место» поглотило «человека». Для нее характерно прежде всего, при полном равнодушии к сути дела, соблюдение формы, служебное кокетство, удовлетворяющее самолюбивое «я» и показывающее внутреннее сродство гедонизма, формализма и эгоизма. В службе его привлекает не поиск истины и установление справедливости, что соответствовало бы действительной природе его деятельности, а «инаковые», «приятные» элементы, которые с переменой «мест» претерпевали известную эволюцию. На месте чиновника особых поручений «приятно было свободной походкой в шармеровском вицмундире пройти мимо трепещущих и ожидающих приема просителей и должностных лиц, завидующих ему, прямо в кабинет начальника и сесть с ним за чай с папиросою; но людей, прямо зависящих от его произвола, было мало». Место же судебного следователя открыло перед Иваном Ильичом более сладостные перспективы. Он чувствовал, что «все, все без исключения, самые важные, самодовольные люди — все у него в руках и что ему стоит только написать известные слова на бумаге с заголовком, и этого важного, самодовольного человека приведут к нему в качестве обвиняемого или свидетеля, и он будет, если он не захочет посадить его, стоять перед ним и отвечать на его вопросы». Дальше — больше. Место прокурора еще сильнее укрепляет у Ивана Ильича сознание своей власти, «возможности погубить». Так движение от «места» к «месту», без «направления», с единственной целью легкой, приятной и приличной жизни «сцепляет», приводит потенциально его юридическую деятельность к своей противоположности — произволу.
В реальности же судейского чиновника Головина нисколько не интересует внутренний мир подсудимых, их дальнейшая участь.
Л. Н. Толстой и Паскаль
177
Более всего его занимают « публичность речей », напускная важность при входе в суд и беседах с подчиненными, техническое мастерство ведения дела, демонстративный успех: главное — сделать «резюме», и как можно более «блестящим манером».
Делать настоящее человеческое дело в мире гораздо труднее и с гедонистической точки зрения несравненно неприятнее, чем быть «членом», марать бумагу и заниматься блестящими «резюме». Поэтому Иван Ильич очень быстро и прочно усвоил виртуозный прием «облечения всякого самого сложного дела в такую форму, при которой бы дело только внешним образом отражалось на бумаге и при которой исключалось совершенно его личное воззрение».
Исключение личного воззрения, которое тоже может вывести к «тяжести» жизни и ее смысловой глубине, то есть опять-таки известное усечение целостной человечности,— один из ведущих принципов Ивана Ильича, непосредственно связанный с основным его верованием. Мнения начальствующих становились его собственными, и подражание им полностью атрофировало его способность «задумываться». « ...У него с самых молодых лет было то, что он, как муха к свету, тянулся к наивысше поставленным в свете людям, усваивал себе их приемы, их взгляды на жизнь и с ними устанавливал дружеские отношения». Эта устойчивая «стадная» установка, позволяющая не усложнять и не огорчать себе жизнь, и определяет «мушиное» поведение Ивана Ильича, лишенное существенного человеческого содержания.
По этой установке он подбирает вещи в свою квартиру, где было то же самое, что «бывает у всех не совсем богатых людей, но таких, которые хотят быть похожими на богатых, и потому только похожи друг на друга: штофы, черное дерево, цветы, ковры и бронзы, темное и блестящее,— все то, что все известного рода люди делают, чтобы быть похожими на всех людей известного рода. И у него было так похоже, что нельзя было даже обратить внимание; но ему все это казалось чем-то особенным».
По этой установке судья Головин не только обставляется мебелью, но и женится: «Он делал приятное для себя, приобретая такую жену, и вместе с тем делал то, что наивысше поставленные люди считали правильным».
Иван Ильич надеялся, что «приобретение» супруги «не только не нарушит того характера жизни легкой, приятной, веселой и всегда приличной и одобряемой обществом, который Иван Ильич считал свойственным жизни вообще, но еще усугубит его». Более всего в этом новом положении его привлекал «самый процесс женитьбы и первое время брачной жизни, с супружескими ласками, новой мебелью, новой посудой, новым бельем...».
178
Б. Н. ТАРАСОВ
Однако беременность жены, болезни ребенка и матери нарушали легкость и приятность жизни. И уже через год после женитьбы судья Головин понял, что супружество, «представляя некоторые удобства в жизни, в сущности есть очень сложное и тяжелое дело», но которое можно облегчить, если выработать к нему определенное отношение, как и к службе.
«И такое отношение к супружеской жизни выработал себе Иван Ильич. Он требовал от семейной жизни только тех удобств домашнего обеда, хозяйки, постели, которые она могла ему дать, и, главное, того приличия внешних форм, которые определялись общественным мнением».
Если на службе все «сырое, жизненное», чреватое смыслом и выходом за границы чисто физического существования, наглухо перекрывалось «членством» и «бумагой с заголовком», то в семье все «сложное и тяжелое », также выводящее вместе с чувством настоящей любви в подлинно человеческое измерение, отчуждалось вещами, удобствами и приличиями. Иван Ильич считал это отчуждение не только нормальным, но и полагал его целью своей семейной деятельности, поскольку оно освобождало его от «неприятностей» и придавало им «характер безвредности и приличия».
Вообще «приличия», «вещи» и «удобства» играют существенную «связующую» роль в обеспечении «легкости» и «приятности» жизни Ивана Ильича и соответственно в ее упрощении и обессмысливающем искажении.
Любовные приключения, «подслуживание начальнику и даже жене начальника» и другие низкие поступки не могли нарушить такой жизни, ибо все это облачалось регламентированным сверху почтенным лицемерием, носило «высокий тон порядочности». «Все происходило с чистыми руками, в чистых рубашках, с французскими словами и, главное, в самом высшем обществе, следовательно, с одобрением высоко стоящих людей».
Подобно «чистым рукам» и «рубашкам», играющим в своей сфере воздействия роль «бумаги с заголовком», атрибуты внешности как бы высосали человека и представительствуют за него. Начиная службу, Иван Ильич «заказал себе платье у Шармера» и приобрел вещи в самых модных магазинах, ибо для успешной карьеры в его среде, где не только встречали, но и провожали по одежке, они были важнее высоких помыслов и глубоких познаний. На новой должности, когда изменившиеся обстоятельства потребовали от него принять тон «умеренной либеральности и цивилизованной гражданственности», Иван Ильич соответственно «перестал пробривать подбородок и дал свободу бороде расти, где она захочет».
Л. Н. Толстой и Паскаль
179
Вещам и их роли в жизни и смерти Ивана Ильича в повести уделено особое и многостороннее внимание. Они доставляют ему удовольствие, соперничающее с тщеславными «приятностями» службы и принимающее характер одушевленного воздействия. «Камин», «экран», «этажерка», «бронзы», «блюды и тарелки по стенам», «стульчики разбросанные», «карнизы на гардины, прямые и подобранные» так ласкают воображение Ивана Ильича, когда он обставляет новую квартиру после получения нового места, что в судебных заседаниях он становился рассеянным, радостно представляя, как он будет переставлять мебель или перевешивать гардины.
Заполняя сознание Ивана Ильича, вещи становятся как бы живыми и близкими людьми и вытесняют «всяких разных приятелей и родственников, замарашек, которые разлетались к ним с нежностями в гостиную с японскими блюдами по стенам. Скоро эти друзья- замарашки перестали разлетаться».
Вещи не только насилуют человечность Ивана Ильича, но и реально убивают его, когда он падает, увлеченный нюансами драпировки комнаты. «Здесь, на этой гардине, я, как на штурме, потерял жизнь,— размышляет он о нелепости случившегося.— Неужели? Как ужасно и как глупо! Не может быть, но есть».
«Убивая», вещи вместе с тем и развлекают больного, убаюкивая его тоску и мысль о неизбежной смерти. Новые перестановки в квартире и возникающие по этому поводу диспуты были приятны ему, потому что «он не помнил о ней (смерти.— Б.Т.), ее не видно было».
Именно «неприятность» для гедонистического верования «мыслей о смерти», отсутствие стремления понять смерть в ее подлинном значении и в важных следствиях для жизни каждого отдельного человека и всех людей вместе заставляют судью Головина и окружающих его людей развлекаться, то есть закрывать свою искаженную, мнимо-счастливую поверхностную жизнь ширмами, сквозь которые не просвечивала бы смерть и которые тем самым своеобразно усиливают эту искаженность и поверхностность и еще полнее прикрывают глубину главных вопросов.
Установка на развлечение, понимаемое расширительно — не просто как свойство эпикурейски-счастливого стиля существования и атрибут житейской «эстетики поверхностности», а как псевдоактивное и мистифицирующее средство, мешающее человеку видеть свое подлинное положение в мире,— одна из самых капитальных особенностей «перевернутого» буржуазного сознания, которая определяет, «сцепляет» поступки Ивана Ильича во всех сферах его деятельности.
Карьерные выгоды службы, «маленькие обеды», беседы с товарищами, увлеченность вещами и другие обычные радости Ивана Ильича
180
Б. Н. ТАРАСОВ
и играют как раз эту «утешающую роль». Но главным развлечением, «настоящей радостью», как бы сконцентрировавшей рассеянные в остальных явлениях элементы «игривости», была для него игра в винт. Она заслоняла собой и рассеивала — и данная деталь особенно подчеркивается автором — даже самые тягостные события в жизни главного героя. Он не хочет «искать более действенных средств» выйти из тоски, когда беременность жены, болезни сына, служебные неудачи нарушают приятность его существования и заставляют «задумываться», а бежит от себя, от своего жалкого положения и неизбежных несчастий в развлечение, стремится еще более спрятаться от важных вопросов и решений в мир карточных удовольствий.
Точно так же, как было отмечено, и приятель Ивана Ильича, Петр Иванович, не находит более действенного средства, нежели карточная игра, когда его охватил страх и сопряженные с ним мысли при виде умершего. Здесь кстати вспомнить уже приводившиеся слова Герцена, весьма чуткого к самым различным проявления буржуазности и в расширительном смысле толкующего столь привычное для «приличного» общества «усыпляющее» развлечение: «Паскаль говорил, что люди играют в карты для того, чтоб не оставаться с собой наедине. Мы постоянно ищем таких или других карт, соглашаемся даже проигрывать, лишь бы забыть дело. Наша жизнь — постоянное бегство от себя, точно угрызения совести преследуют, пугают нас».
Эти слова целиком можно отнести и к повести «Смерть Ивана Ильича», где на примере судьбы главного героя автор показывает, что забава на поверхности своего существования не только закрывает «истину» и «дело», но и расточает подлинность человека, вынуждая растрачивать силы на построение не настоящей жизни, а ее иллюзорных декораций.
Подводя итог вышесказанному, отметим, что Толстой обстоятельно раскрывает, как отсутствие ясных, определенных намерений, кроме стремления жить «легко и приятно», порождает в буржуазном обществе «подобие жизни», движущейся по порочному кругу эгоизма и формалистичности, подражательности и стандартов, лицемерия и отчуждения, овеществления души и одушевления вещей, «приятностей» и развлечений. Для воплощения гедонистической установки все звенья этого круга, естественно и прочно сцепленные между собой, обеспечивают принудительно-завораживающее усечение объемности жизни и целостности сознания, исключение всевозможных затруднений и главным образом забвение самой существенной « неприятности» — смерти. Поэтому мысль о неизбежной смерти и соответственно о смысле жизни никак не может запечатлеться в сознании людей, охваченных таким кругом.
Л.Н. Толстой и Паскаль
181
Подобно Петру Ивановичу, относящему смерть к разряду «приключений» для другого, Иван Ильич считает ее свойством некоего обобщенного человека. «Тот пример силлогизма, которому он учился в логике Кизеветера: Кай — человек, люди смертны, потому Кай смертен, казался ему во всю его жизнь правильным только по отношению к Каю, но никак не к нему. То был Кай — человек, вообще человек, и это было совершенно справедливо; но он был не Кай и не вообще человек, а он всегда был совсем, совсем особенное от всех других существо... “Если б и мне умирать, как Каю, то я так бы и знал это, так бы и говорил мне внутренний голос, но ничего подобного не было во мне; и я и все мои друзья — мы понимали, что это совсем не так, как с Каем. А теперь вот что! — говорил он себе. Не может быть. Не может быть, а есть. Как же это? Как понять это?”»
Мешает Ивану Ильичу понять «это» вся его прошедшая жизнь — усеченная, без затруднений, бедствий и страданий, способствующих уяснению человеком глубинных проблем бытия. Физическое же довольство жизни, напротив, маскирует, усугубляя, изначальный трагизм человеческого существования и тем самым затемняет его понимание и преодоление. Все «объемные», субстанциальные и истинно значимые факты бытия трудны: трудно рожать, трудно любить других людей, превозмогая всяческий эгоизм, трудно жить согласно идеалу и высшим ценностям, трудно умирать. И именно эти факты подводят человека к возможности определить смысл своего существования и построить его не поверхностно-искаженно, а соразмерно подлинной важности различных жизненных ситуаций.
До определенного момента главный герой повести представлен в ней как человекоподобное животное, из внутреннего мира которого вместе с «болью» и «мыслями о смерти», так необходимыми, как писал Толстой, для жизни, исчезло все по-настоящему человеческое — высокая разумность и нравственная духовность, светлая любовь к людям, основанная на сопричастности общечеловеческой судьбе. Говоря словами Достоевского, Иван Ильич «окончательно занемел», демонстрируя тем самым важную закономерность: чем сильнее маскируется смерть в буржуазном сознании, тем более мертвенно оно становится. Скрываясь от «нее» всем строем и ходом своего существования, судья Головин испытывает нравственные страдания перед холодом могилы.
Толстой записал однажды: «Страх смерти тем больше, чем хуже жизнь, и наоборот. При совсем дурной жизни страх смерти ужасен... »
В своей повести он как бы расшифровывает крепко соединенные друг с другом слагаемые «дурной жизни» и напоминает читателю:
182
Б. Н. ТАРАСОВ
чем «внешнее» и ничтожнее в своей отделенности от целого часть сущего, к которой привязывается человек, чем сильнее отделен он своей «комильфотностью» от «замарашек», тем ужаснее страх перед «черной дырой». Автор подчеркивает, что чернота жизни обязательно завершается чернотою смерти, когда человека, к невыносимому его ужасу, «просовывают и не могут просунуть» в узкий черный и глубокий мешок.
Вместе с тем не игрушечное (когда ради показной важности он в молодости повесил на брелок медальку с надписью: Respice finem — предвидь конец,— совершенно не задумываясь о содержании надписи), а настоятельно действительное присутствие смерти в сознании Ивана Ильича пробуждает в нем духовные чувства и углубляющуюся работу мысли, рождает порыв к осмыслению прожитого. Наступающий конец обнаруживает бесполезность и бессмысленность всех звеньев приятно-чувственной, «комильфотной» жизни и начинает постепенно выправлять искаженное «игривое» сознание главного героя, хотя он по инерции и противится этому процессу.
Незаслоненная смерть разоблачает «лучшие минуты приятной жизни» во всех ее сферах. «Ему пришло в голову, что те его чуть заметные поползновения борьбы против того, что наивысше поставленными людьми считалось хорошим, поползновения чуть заметные, которые он тотчас же отгонял от себя,— что они-то и могли быть настоящие, а остальное все могло быть не то. И его служба, и его устройства жизни, и его семья, и эти интересы общества и службы — все это могло быть не то».
Более того, в кризисном положении восхождение по кругу «не того » представляется Ивану Ильичу постепенным умиранием, смертью до смерти. «И что дальше, то мертвее. Точно равномерно я шел под гору, воображая, что иду на гору. Так и было. В общественном мнении я шел на гору, и ровно настолько из-под меня уходила жизнь... »
Это чувство обратности движения, иллюзорности поступательного развития прошедшей жизни, катившейся на самом деле «под гору», настойчиво преследует умирающего судью. «С ним сделалось то, что бывало с ним в вагоне железной дороги, когда думаешь, что едешь вперед, а едешь назад, и вдруг узнаешь настоящее направление».
«Настоящее направление» — то, что способно преобразить искривленное сознание и вывести человека из мертвого круга буржуазного существования, не дано в повести в полноте своей качественной определенности. Она сильна разоблачительным пафосом, как и все позднее творчество Толстого, в котором критическое начало преобладало на положительным. Но некоторые контуры этого направления,
Л.Н. Толстой и Паскаль
183
позволяющие хотя бы в самых общих чертах судить об альтернативе «дурной жизни», в произведении очерчены, что со своей стороны, от противного, по-новому оттеняет «нечеловеческие» свойства буржуазного сознания.
Плоской рассудочности и методическому прагматизму, этим ловким орудиям «взрослого» сознания, сцепляющим воедино все звенья «комильфотной» жизни, автор противопоставляет «детскость» — принципиальную несистематичность в восприятии мира и бескорыстную бесцельность в отношении к нему, которые определяют в ребенке простодушие и искренность, веселость и доброту.
«Обратное» движение мыслей Ивана Ильича, показываемое Толстым в разных оттенках, постоянно сводит его воспоминания с ближайших по времени обстоятельств к самым отдаленным: чем ближе к детству, тем больше рассеивается чернота его жизни. «Одна точка светлая, там, назади, в начале жизни, а потом все чернее и чернее... » Теперь только первые воспоминания детства представляют для него «что-то такое действительно приятное, с чем можно бы было жить, если бы оно вернулось». И наоборот: чем ближе к настоящему, тем сомнительнее кажутся Ивану Ильичу былые радости и заботы, превращающиеся в нечто «ничтожное и часто гадкое», и «эта мертвая служба, и эти заботы о деньгах», и все остальное. «Особенно Шварц своей игривостью, жизненностью и комильфот- ностью, напоминавшими Ивану Ильичу его самого за десять лет назад, раздражал его».
Заметим, что именно с воцарением в обществе капиталистических отношений в художественном творчестве возникла и заявила о себе в полный голос тема детства как утраченного в человеке начала, а с другой стороны, как начала должного и взыскуемого. На фоне «вечного протрезвления» и «навязчивых идей» делового буржуазного мира дети стали выглядеть как бы существами иной породы, происходящей от другого корня. «Дети, пока дети, до семи лет например, страшно отстоят от людей: совсем будто другое существо и с другою природой» *,— вспомним рассуждение одного из главных героев романа Достоевского «Братья Карамазовы». Точно так же и Иван Ильич осознает действительно приятные и ценные моменты детства как нечто иноприродное по отношению к своей взрослости. «Но того человека, который испытывал это приятное, уже не было: это было как бы воспоминание о каком-то другом». «Какой-то другой», идеальный человек представляется Аркадию Долгорукому в романе Достоевского «Подросток» в лике веселящегося ребенка: «...это луч
Достоевский Ф. М. Т. 14. С. 217.
184
Б. Н. ТАРАСОВ
из рая, это откровение из будущего, когда человек станет наконец так же чист и простодушен, как дитя» *.
Приведенные цитаты по-своему выражают неотъемлемую часть обратной стороны «идейно-эмоционального контекста» повести Толстого. Отпадение приобретенных «навязчивых идей», составляющих сюжет «черной сказки» его существования и сознания, высвечивает для Ивана Ильича как истинно ценное такое состояние души, какой она была некогда, в далеком детстве, когда «больше было добра в жизни, и больше было и самой жизни». Сохранение атмосферы первого детства, атмосферы «жизни» и «добра», и формирует, «сцепляет» то «истинно хорошее», что очень недолго помнилось Иваном Ильичом в его юности: дружбу, надежду, любовь. Всей глубиной своего критического пафоса Толстой стремится убедить читателя, что «истинно хорошее» и составляет основу альтернативы «дурной жизни», когда страх смерти теряет свою ужасающую силу.
В последние минуты перед кончиной в глубине «черной дыры», в которую проваливается судья Головин, «засветилось что-то». Эта светлая точка в конце жизни, как бы сливающаяся со светлой точкой в ее начале, становится все ярче от того, что чувство жалости и любви, жертвенного милосердия вдруг чудом пронзило все его существо и пробило эгоистическую темноту его чувственного сознания. Вместо смерти был свет, поглотивший предсмертные борения в душе Ивана Ильича «черной сказки» и «светлой точки» его земной жизни.
Беспощадно резкой постановкой в повести больных вопросов своего времени Толстой, как и Достоевский, показывал, что одолеть «нечеловеческую силу» «инакового» сознания и отчужденной жизни возможно лишь при условии все большего просветления и понимания человеком собственной человечности и духовности.
III
Избирательное сродство («составляющая Паскаля» в повести Л.Н. Толстого «Смерть Ивана Ильича»)
В рассуждениях Паскаля о нищете человеческого существования в «Мыслях» есть внутренняя система взаимопроникающих звеньев, которые образуют неразмыкаемый круг иллюзорной жизни «порядочных людей » в светском обществе с ориентацией на видимость и кажимость: глубокой и содержательной жизни они предпочитают «репутацию», мираж, искусно играя с помощью «обманывающих * Достоевский Ф. М. Собр. соч.: В15 т. Т. 8. С. 483.
Л. Н. Толстой и Паскаль
185
сил» ложными мнениями и приятными ощущениями. Эти особенности светского общества французский мыслитель обнаруживает и в более широкой области социальных явлений своего времени, в частности, среди судей и врачей. Таким образом, в украшенной поверхности есть своя сила, основывающаяся на тех особенностях «обманывающих сил» (в первую очередь, воображения), которые неразумно усиливают значение ничтожных вещей в настоящем времени и одновременно автоматически умаляют значимость самых важных, вечных вопросов. По мнению Паскаля, основным двигателем иллюзорно счастливой поверхностной жизни является развлечение, которое своеобразно усиливает ее поверхностность и мешает человеку видеть свое подлинное положение в ней между нищетой и величием. Однако смерть, не видимая на поверхности, но таящаяся в глубине каждого явления, ставит все на свои места.
Атмосфера и логика подобных размышлений Паскаля, а также элементы их образности внутренне присущи и повести Толстого «Смерть Ивана Ильича». В жизни ее главного героя воспроизводится аналогичный ряд вопросов, которые, совершенно не изменяясь по существу и значению, приобретают новую историческую и социальную окраску, подсвечиваются индивидуальным своеобразием художнического видения русского писателя. Толстой как бы переводит философскую проблематику в сюжетно-изобразительный план.
По словам Н. А. Лескова, сочинение Толстого есть изображение смерти карьерного человека из чиновничьего круга — человека, проведшего жизнь в лицемерии и заботах, наиболее чуждых памятованию о смерти. В период работы над повестью Толстой писал в другом своем произведении: «Можно, по выражению Паскаля, не думать об этом (о смысле жизни человека.— Б.Т.), нести перед собой ширмочки, которые бы скрывали от взгляда ту пропасть смерти, к которой мы все бежим»*. Именно к разряду «недумающих» людей, несущих «перед собой ширмочки», относится и герой повести.
Судейский чиновник Иван Ильич Головин — «порядочный человек» своего времени, характеризуемый автором как «середина», умный, живой, приятный и приличный. Он заточен в том же нераз- мыкаемом кругу иллюзорного существования, что и «порядочный человек» эпохи Паскаля. Жизнь Ивана Ильича и окружающих его лишена связи с важнейшими вопросами человеческого бытия, с неизбывными заботами и нуждами других людей. Она ориентируется на приличия внешних форм, которые определяются общественным мнением, и усиливается в своей бессодержательности лестью и при* Толстой Л. Н. Поли. собр. соч. (Юбилейное). Т. 28. С. 385.
186
Б. Н. ТАРАСОВ
творством, стремлением «украсить и сохранить воображаемое существо», что и обусловливается этими приличиями. Именно ложь неподлинной, целиком внешней и показной жизни более всего мучает Ивана Ильича перед смертью. Как и в размышлениях Паскаля, типичными носителями лицемерия в повести Толстого предстают судьи и врачи. Соблюдение формы, служебное кокетство и полное равнодушие к сути дела характеризуют извращенную деятельность Ивана Ильича на судейском поприще. В службе его привлекают не поиск истины и установление справедливости, а «публичность речей», напускная важность при входе в суд и беседах с подчиненными, техническое мастерство ведения дела, демонстративный успех, то есть такие элементы деятельности, которые выполняют ту же роль, что «красные мантии» и «горностаевые меха» в описаниях Паскаля.
К тому же служба удовлетворяет потребности того животного эгоистического Я, которое у судебного чиновника Головина полностью заменило другое Я, связанное с глубинными заботами и благом окружающих людей (в отличие от Нехлюдова в «Воскресении», у которого эти два «Я» сосуществовали). Радости служебные у Ивана Ильича были радостями самолюбия, и «сознание своей власти, возможность погубить всякого человека» составляли для него главный интерес и привлекательность деятельности.
Поверхностно-лицемерное существование очерствляет душу Ивана Ильича, делает ее непроницаемой для подлинного соучастия в судьбе ближних. Учтивость, то есть «подобие человеческих дружелюбных отношений»,— вот основная форма его общения с другими людьми. «Как только кончается отношение служебное, так кончается всякое другое — в этом он стал виртуозом». Судью Головина нисколько не интересует внутренний мир подсудимых, их дальнейшая участь: главное — сделать «резюме», и как можно более «блестящим манером».
«Важность напускная, докторская, та самая, которую он знал в себе в суде», «значительный вид» характерны и для лечащего Ивана Ильича врача. Равнодушного доктора так же нимало не занимает близкая кончина пациента. Он всецело занят своими «резюме», позами и жестами, настоящее значение которых постепенно становится понятным умирающему, но на которые он едва не поддался, как «поддавался, бывало, речам адвокатов, тогда как он уже очень хорошо знал, что они все врут и зачем врут».
Притворной заботой окружен главный герой повести и в домашнем кругу: «Страшный, ужасный акт его умирания всем окружающим был низведен на степень случайной неприятности, отчасти неприличия, тем самым “приличием”, которому он служил всю свою жизнь».
Л. Н. Толстой и Паскаль
187
В семье «всем становилось страшно, что вдруг нарушится как-нибудь приличная ложь».
Для чего же нужна приличная ложь? Для сохранения того бездумно-инерционного и поверхностно-эпикурейского стиля жизни, который сам Иван Ильич постоянно культивировал, опираясь на авторитеты большинства в своей среде и, прежде всего, вышестоящего начальства. Непоколебимое кредо его состоит в том, что жизнь должна протекать легко и в веселой приятности. Эти легкость и приятность доставляют ему те фрагменты бытия (прежде всего теплое местечко на служебной лестнице, материальное благополучие, респектабельность семейного быта), к покою в обладании которыми он стремился. Легкость и приятность в обладании этими частями еще теснее привязывает душу Ивана Ильича к ним, заставляют забывать об иных частях и целом, наглухо отчуждают от других людей. Все это «усыпляет» и искажает сознание главного героя повести Толстого, производит в его сердце «чудовищное явление» — чувствительность к ничтожным вещам и «странную нечувствительность к самым важным», то есть к вопросам об истинном положении и смысле человеческого существования, о должном поведении, вытекающем из их решения. «Фантастическая оценка» воображения Ивана Ильича, подкрепленная весомым мнением «наивысше поставленных людей», придает ничтожнейшим вещам, целиком заполнившим его душу, значение целого, создает в его сознании иллюзию «вечности» маленьких удовольствий и приятностей текущей жизни, незаметно отодвигающих в неопределенную бесконечность раздумье о смерти, «мысль о которой невыносима».
Именно невыносимость этой мысли, инстинктивное нежелание освоиться с ней, отсутствие стремления понять смерть в ее подлинном значении и в важных следствиях для жизни каждого отдельного человека и всех людей вместе заставляют судью Головина и окружающих его людей развлекаться, то есть закрывать свою «частичную» поверхностную жизнь ширмами, сквозь которые не просвечивала бы смерть и связанные с нею главные вопросы жизни. Развлечение, как оно рассмотрено у Паскаля,— основная форма деятельности Ивана Ильича, его родственников и приятелей, ищущих «той сутолоки, которая отвращает от мыслей о нашем настоящем положении».
Никто из окружавших Головина людей не извлек сущностного урока из его смерти, как не извлек бы его и сам Иван Ильич — окажись он на их месте. Слишком искажено сознание таких людей идеалами легкой и приятной жизни, которые защищены к тому же достаточно сильными «экранами» развлечения, мешающими адекватно отозваться на чужую боль и смерть и, следовательно, подлинно
188
В. Н. ТАРАСОВ
жить. Вспомним, как «естественно» реагируют на кончину Ивана Ильича его сослуживцы: их занимает ее значение для перемещения и повышения по службе, смущают скучные обязанности приличия в предстоящей панихиде и преисполняет чувство радости, что «умер он, а не я».
Никому не понятны страдания Ивана Ильича перед смертью в их истинном значении потому, что легковесная сложность эпикурейской жизни очерствляет душевную восприимчивость, отчуждает людей друг от друга. Один лишь Герасим проявляет подлинное сочувствие к угасанию своего хозяина, так как его жизнь составлена из простых человеческих актов, а душа не забита сложными, но пустыми заботами, что и позволяет ему быть более чутким к страданиям ближнего, к существенным и неизбежным нуждам других людей. «Забитой» же душе для такой чуткости надо проделывать огромную работу по самоочищению и разрушению «ширм» или пройти через кризисную ситуацию, подобную той, в которой оказался Иван Ильич.
Власть круга иллюзорного существования «порядочных людей» была в сознании Ивана Ильича настолько велика, что своими собственными силами отделаться от нее он не мог. Но в конце концов любые ширмы начинают «просвечивать», и этот момент в жизни Ивана Ильича наступил только тогда, когда он оказался «с глазу на глаз с нею (смертью.— Б.Т.), а делать с нею нечего. Только смотреть на нее и холодеть». В создавшемся положении «то, что прежде заслоняло, скрывало, уничтожало сознание смерти, теперь уже не могло производить этого действа». Напрасно судья Головин пытается восстановить привычные «ходы мысли и чувства, заслонявшего смерть». Но ни судейским делом, ни другими обычными заботами он «не может избавиться от нее». «И, спасаясь от этого состояния, Иван Ильич искал утешения, других ширм, и другие ширмы являлись и на короткое время как будто спасали его, но тотчас же опять не столько разрушались, сколько просвечивали, как будто она проникала через все, и ничто не могло заслонить ее».
В повести Толстого показано, как мстит смерть за отсутствие памятования о ней, за привязанность к тленным, да к тому же и самым ничтожным частям окружающей жизни, за «развлечения», за отсутствие глубинной связи с другими людьми: наступает момент неизбежного крушения всех ширм, когда «лучшие минуты приятной жизни» предстают в ином свете, былые радости становятся очевидно сомнительными и когда человека к нестерпимому и безнадежному его ужасу «просовывают и не могут просунуть в узкий черный и глубокий мешок», «черную дыру».
Толстой как бы напоминает читателю: чем ничтожнее часть сущего, к которой привязывается человек, чем поверхностнее, легковеснее,
Л. Н. Толстой и Паскаль
189
развлекательнее его жизнь, чем сильнее отделен он своей «комильфот- ностью» от «замарашек», тем ужаснее страх перед «черной дырой». И спасти от невыносимого ужаса такого человека может только чудо, какое случилось с Иваном Ильичом.
В главном произведении Паскаля есть мысль — вспомним ее еще раз,— как бы разъясняющая это чудо, а вместе с ним и протекшую жизнь Ивана Ильича: «Есть люди, которые способны удивляться только плотскому величию, как будто духовного и вовсе не существовало; другие восхищаются лишь духовным величием, как будто не было бесконечно более высокого величия... Все тела в совокупности, все умы вместе и все их произведения не стоят даже малейшего проявления любви. Это — свойство бесконечно более высокого порядка... Из всех тел и умов нельзя было бы извлечь ни одного движения истинного милосердия: это... явление иного порядка, это — выше природы».
Иван Ильич относится к числу тех, кто способен удивляться только плотскому величию, и вся его жизнь прошла, так сказать, в порядке телесных проявлений. Лишь на пороге смерти в нем просыпаются духовные чувства, начинает работать мысль. Но и в порядке мысли он не может избавиться от ужаса смерти, от мучительных противоречий, когда не согласовывается силлогизм о смертности «Кая — человека», «вообще человека» и его, «совсем особенного от всех других существ».
Эти противоречия и ужас исчезают перед явлением «более высокого порядка», «свертываются» жертвенным милосердием, пробивающим эгоистическую темноту «естественного» поведения: «И вдруг ему стало ясно, что то, что томило его и не выходило, что вдруг все выходит сразу, и с двух сторон, с десяти сторон, со всех сторон. Жалко их, надо сделать, чтобы им не больно было. Избавить их и самому избавиться от страданий. “Как хорошо и как просто”,— подумал он... Он искал своего прежнего страха смерти и не находил его. Где она? Какая смерть? Страха никакого не было, потому что и смерти не было... Так вот что! — вдруг вслух проговорил он.— Какая радость! Для него все это произошло в одно мгновение, и значение этого мгновения уже не изменялось... »
И. Е. БАБАНОВ
Блез Паскаль.
Очерк жизни и творчества
В истории Европы XVII век — эпоха выдающихся духовных свершений и глубоких кризисов: переломная эпоха, начало Нового времени. Поразительный взлет наблюдается в этот период во всех областях научного, технического и художественного творчества; решительные сдвиги происходят также в политической и социальной сферах. Перемены захватывают весь континент и в считанные десятилетия создают предпосылки для строительства новой общеевропейской культуры.
Наиболее значительные изменения происходят в мировоззрении европейцев. Первый импульс при этом исходит от творцов новой науки, Фрэнсиса Бэкона и Галилео Галилея, уже к началу века проложивших путь к фундаментальным открытиям в исследовании природы. Благодаря этому возникает потребность в принципиально ином осмыслении мира, и характерно, что именно в XVII веке появляются первые в истории европейской мысли универсальные философские системы, а их создатели — Томас Гоббс, Рене Декарт, Бенедикт Спиноза и Готфрид Вильгельм Лейбниц — последовательно утверждают суверенное право философии на развитие вне русла теологии.
По-иному воспринимается отныне и проблема места и роли человека в мироздании. Традиционная христианская система ценностей подверглась пересмотру еще в эпоху Возрождения, когда гуманисты провозгласили человека вершителем истории и собственной судьбы. Великое религиозное противостояние постренессансной эпохи — Реформация и Контрреформация — усугубило кризис; выбор отношений с Богом и миром решался теперь в гибельных конфликтах и коллизиях. Так возникает ощущение трагичности человеческого бытия, пронизывающее духовную жизнь общества. XVII век ищет
Блез Паскаль. Очерк жизни и творчества
191
выхода в рационализме и эмпирической науке, однако он наследует и бремя религиозных распрей, и экстатическую веру, и предельное свободомыслие, и всеобъемлющий скептицизм. На скрещении всех этих составляющих возникает немало выдающихся проявлений творческого духа, среди которых особое место занимают «Мысли» Блеза Паскаля.
1
Блез Паскаль родился 19 июня 1623 года в Клермон-Ферране, главном городе французской провинции Овернь. Его семья принадлежала к старинному и разветвленному овернскому роду, представители которого на протяжении нескольких столетий занимали довольно видные посты в провинциальных парламентах (судебных палатах) и административно-финансовых учреждениях. Род был дворянским, хотя и относился к чиновному дворянству, «дворянству мантии» *. К тому же родители Паскаля обладали значительным состоянием.
Отец и мать Блеза — Этьен Паскаль (1588-1651) и Антуанетта Бегон (1596-1626) — обвенчались в 1616 году; брак был заключен по любви и, по-видимому, оказался счастливым. Во всяком случае, когда Этьен Паскаль на десятом году супружества овдовел, он решительно отверг мысль о втором браке и посвятил себя воспитанию детей. Кроме трехлетнего Блеза у него были две дочери: шестилетняя Жильберта и годовалая Жаклин. Едва дети немного подросли, Этьен Паскаль без колебаний расстался с видным положением в Клермон- Ферране ** и в качестве частного лица обосновался в Париже: жизнь в столице, по его мнению, сулила преимущества и сыну, и дочерям. Переезд состоялся осенью 1631 года.
Этьен Паскаль вообще был незаурядной личностью; человек с высоко развитым чувством долга и твердыми нравственными принципами, он сочетал с деловыми способностями и практицизмом глубокий интерес к научным исследованиям — особенно в математике (ему, в частности, принадлежит открытие алгебраической кривой четвертого порядка, т. н. «улитки Паскаля»). В Париже его ждал круг друзей, также оставивших заметный след в математике, физике, естествознании: Клод Мидорж (1585-1647), Жерар Дезарг (1591-1661), Жан
* Noblesse de robe — в отличие от родового дворянства, «дворянства шпаги» (noblesse d’épée).
** В год смерти жены (1626) Этьен Паскаль занимал должности выборного королевского советника финансово-податного округа Нижняя Овернь и второго президента палаты сборов.
192
И. Е. БАБАНОВ
Персон де Роберваль (1591-1661) и другие. Все они группировались вокруг Марена Мерсенна (1588-1649), одной из самых замечательных фигур в истории европейской науки. Мерсенн способствовал научному прогрессу в той же мере, что и его великие современники, хотя не совершил никаких выдающихся открытий. Он состоял в переписке со всеми сколько-нибудь значительными учеными эпохи; в числе его корреспондентов были, например, Галилео Галилей, Рене Декарт, Пьер Ферма, Эванджелиста Торричелли, Христиан Гюйгенс. Мерсенна регулярно оповещали о последних открытиях и экспериментах, о новых гипотезах, о выходе в свет научных работ; при его посредничестве порою велась оживленная полемика, поскольку Мерсенн незамедлительно делился полученными сведениями со всеми, кого они могли заинтересовать. В сущности, сообщить Мерсенну о чем-либо значило сделать это достоянием всего ученого мира. Его эпистолярная деятельность, длившаяся несколько десятилетий, сыграла огромную роль в силу того, что в Европе тогда еще не существовало научной периодики (первые издания такого рода, парижский «Журнал ученых» и лондонские «Философские труды», появились лишь в 1665 году). В те дни письмо ученого было одним из немногих способов поведать о своей работе, закрепить приоритет и привлечь внимание коллег для обсуждения. Так скромная парижская келья Мерсенна (он был монахом ордена миноритов) стала центром притяжения европейской научной мысли, и на еженедельных заседаниях его кружка можно было не только обсудить последние новости, но и познакомиться с кем-нибудь из приезжих ученых: все они считали своим долгом нанести визит Мерсенну. В том, что заседания эти были чрезвычайно плодотворными, немалая заслуга принадлежит Мерсенну: он обладал блистательной интуицией, позволявшей безошибочно определять значимость новых исследований и формулировать проблемы, которые находились на магистральных путях развития науки.
В этой атмосфере интенсивного научного поиска предстояло формироваться Блезу Паскалю в течение ближайших лет. В те годы во Франции дети из состоятельных семей могли получить систематическое образование либо дома, с помощью приглашаемых учителей, либо в закрытых учебных заведениях, коллежах. Высокой и вполне заслуженной репутацией пользовались коллежи, руководимые иезуитами; полный курс в таких коллежах, рассчитанный на восемь- девять лет, предполагал основательное изучение не только древних языков, произведений античных авторов (в особенности Аристотеля), теологии, риторики и этики, но и математики, геометрии, физики. Да и сама методика обучения, разработанная иезуитами, успешно позволяла развиться творческим способностям воспитанников; не слу¬
Блез Паскаль. Очерк жизни и творчества
193
чайно к числу выпускников иезуитских коллежей принадлежали и Мерсенн, и Декарт*. Однако Этьен Паскаль избрал иной путь: он оставил сына дома, решив при этом обойтись и без услуг учителей. Основной причиной отказа от коллежа послужила, по-видимому, физическая хрупкость Блеза — мальчик был болезненным и впечатлительным, так что обстановка закрытого учебного заведения могла оказаться слишком суровой для него. Объяснимо было и решение непосредственно руководить занятиями сына; Этьен Паскаль чувствовал себя вполне подготовленным для этой роли, а чрезвычайно рано проявившаяся одаренность Блеза требовала особого внимания и подхода.
Судя по всему, Этьен Паскаль тщательно обдумал систему своих занятий с сыном. Первоочередной задачей здесь ставилось не столько даже усвоение тех или иных знаний, сколько развитие аналитических способностей благодаря тщательно прививаемой привычке доискиваться до первопричины рассматриваемых явлений. Более того, некоторые дисциплины с самого начала либо вообще исключались из программы обучения, либо должны были попасть в поле зрения по достижении определенного возраста. Так, Этьен Паскаль решил пренебречь гуманитарными науками (историей, литературой), а к изучению латинского языка предполагал обратиться лишь тогда, когда сыну исполнится двенадцать лет — вопреки тогдашней традиции **. Откладывал на будущее он и углубленные занятия математикой, и даже знакомство с началами геометрии. При этом Этьен Паскаль отчасти руководствовался своими представлениями о полезности и о степени сложности тех или иных предметов, отчасти же заботился о душевном и физическом здоровье сына; по-видимому, его не на шутку тревожила та неумеренная страстность, которую Блез вкладывал в изучение математики.
Разумеется, эта педагогическая система обладала некоторыми достоинствами хотя бы в силу того, что она находилась в прямой зависимости от индивидуальных особенностей и наклонностей воспитанника; однако здесь таились и немалые опасности. Неизбежным оказывалось чрезмерное влияние личности воспитателя с его вкусами, пристрастиями и предубеждениями; при всей широте ума, осмотрительности и доброй воле, которые выказал Этьен Паскаль, он не мог
* Оба они закончили парижский коллеж Ля Флеш. Среди других знаменитых воспитанников иезуитских коллежей той эпохи можно упомянуть, в частности, Корнеля и Мольера.
** Воспитанники иезуитских коллежей начинали изучать латинский язык почти сразу же по поступлении — в возрасте восьми-девяти лет.
194
И. Е. БАБАНОВ
избежать и известной односторонности. Опаснее всего, однако, была уверенность в том, что пробелы в гуманитарной сфере можно с легкостью восполнить в будущем.
Так или иначе, но Этьену Паскалю довольно скоро пришлось пересматривать некоторые принципиальные положения своей системы; причиной тому была рано проявившаяся одаренность сына. Существует легенда, согласно которой двенадцатилетний Блез «изобрел» геометрию: руководствуясь лишь общим замечанием отца о том, что это наука о правильных фигурах и соотношениях между ними и их элементами, мальчик пришел к пониманию основ геометрии и даже смог сформулировать ряд теорем *. Насколько достоверна эта легенда, судить трудно; однако несомненно то, что Этьен Паскаль вынужден был отступиться от многих запретов (по крайней мере на изучение геометрии), а затем начал водить сына на заседания кружка Мерсенна. Так Блез Паскаль вступил в мир фундаментальных научных исследований, и притом в тех самых областях, которые сильнее всего манили его. Он необычайно быстро встал вровень со своими наставниками; об этом свидетельствует его первая печатная работа («Опыт о конических сечениях», 1640), написанная в шестнадцатилетнем возрасте**. К сожалению, юный автор недолго пользовался благами школы Мерсенна: в самом начале 1640 года семья Паскалей на долгое время покидает Париж.
Перемена эта была вынужденной. Франция вот уже пять лет как участвовала в Тридцатилетней войне, и казна постоянно изыскивала средства для удовлетворения все возрастающих нужд. Очередной жертвой финансовой политики правительства оказались многочисленные держатели государственной ренты, которым значительно урезали ежегодные выплаты; парижские рантье устроили бурное собрание протеста в магистратуре, чем навлекли на себя гнев кардинала Ришелье, всемогущего первого министра. Этьену Паскалю, одному из зачинщиков собрания, угрожал арест и заточение в Бастилию; ему пришлось в течение года с лишним укрываться то у друзей в Париже, то в Клермон-Ферране. Спасительницей семьи стала четырнадцатилетняя младшая дочь, Жаклин, успевшая к тому времени приобрести * Легенда эта восходит к воспоминаниям старшей сестры Блеза, Жильберты («Жизнь господина Паскаля», 1670). Согласно ее рассказу, Этьен Паскаль застал сына за какими-то чертежами и, к изумлению своему, обнаружил, что тот самостоятельно сформулировал 32-ю теорему Евклида (сумма углов треугольника равна двум прямым углам).
** Декарт, познакомившись с этой работой, предположил, что она принадлежит либо Дезаргу (исследования которого послужили импульсом для Блеза Паскаля), либо Этьену Паскалю.
Блез Паскаль. Очерк жизни, и творчества
195
некоторую известность благодаря своему поэтическому дарованию *. Она посвятила кардиналу хвалебное стихотворение; Ришелье, сам подвизавшийся на поэтическом поприще, обласкал юную поэтессу, даровал Этьену Паскалю прощение и назначил его интендантом провинции Верхняя Нормандия.
2
Паскали обосновались в Руане, столице провинции, и глава семьи приступил к исполнению своих обязанностей. Положение его было нелегким. Летом 1639 года непомерные налоги вызвали в Нормандии восстание бедноты, для подавления которого потребовались силы регулярной армии; провинцию обложили контрибуционным налогом на сумму в один миллион ливров, а в Руане конфисковали городскую казну. Ришелье не без умысла посылал вчерашнего бунтаря для сбора налогов в провинившуюся и разоренную Нормандию; в его жесте сочетались милость и ирония — и трезвый расчет циничного политика. Этьену Паскалю оставалось лишь смириться и исполнять служебный долг.
Дети его быстро освоились на новом месте. Жильберта нашла здесь жениха — Флорана Перье, уроженца Клермон-Феррана, приходившегося ей троюродным братом (Этьен Паскаль пригласил его в Руан в качестве помощника); брак был заключен летом 1641 года, и некоторое время спустя супруги вернулись в родной город. Жаклин стала желанной гостьей многочисленных литературных салонов Руана; вскоре по приезде ей присудили первую премию на поэтическом конкурсе, жюри которого возглавлял Корнель (позднее он завязал довольно близкие отношения и с другими членами семьи). Что же касается Блеза Паскаля, то он с самого начала делил с отцом бремя его трудов, и это побудило его искать решение одной достаточно актуальной технической проблемы.
Этьену Паскалю и его помощникам приходилось по долгу службы производить длинные и сложные подсчеты, отнимавшие очень много времени. В те дни единственным средством облегчить вычисления служили жетоны различного достоинства (для десятков, сотен, тысяч), которые по мере достижения какого-то промежуточного итога при сложении откладывались в сторону, а затем присовокуплялись к общей сумме. К началу XVII века относятся первые * В том самом году, когда произошло выступление рантье, был опубликован сборник поэтических произведений Жаклин («Стихотворения маленькой Паскаль», 1638).
196
И. Е. БАБАНОВ
попытки механизации счета. Так, Джон Непир, создатель таблицы логарифмов (1614), предложил для менее сложных операций систему «счетных палочек». Вслед за этим появляются различные варианты логарифмической линейки, разработанные Эдмундом Гантером (1624), Уильямом Аутридом (1632) и многими другими*. И, наконец, в 1623 году Вильгельм Шиккард, профессор университета в Тюбингене, сконструировал первую счетную машину; однако его изобретение не оказало никакого влияния на последующие поиски, так как ученый вскоре умер, а единственный экземпляр машины погиб при пожаре. Неясно, в какой мере Блез Паскаль был осведомлен об этих опытах; скорее всего, впрочем, он вполне самостоятельно пришел к идее счетной машины. Замысел его отличался достаточной простотой: машина представляла собой сумматор, в котором операции производились посредством вращения зубчатых колес; при этом десять оборотов колеса одного разряда вызывали один оборот колеса следующего разряда. Между тем техническое воплощение замысла потребовало много усилий, времени и средств. Начав работу в 1642 году, Паскаль в течение трех лет заказывал модель за моделью, совершенствуя конструкцию до тех пор, пока не добился желаемого результата. Такую же настойчивость проявил он и в стремлении познакомить широкую публику со своим изобретением. Он опубликовал «Предуведомление всем тем любознательным, кто пожелает видеть арифметическую машину и пользоваться ею» (1645), в котором дал обстоятельное описание машины, особо подчеркивая ее простоту и надежность. Значительное содействие оказывал ему кружок Мерсенна (так, Роберваль согласился демонстрировать желающим образец и принимать заказы). Вместе с тем Паскаль заручился и поддержкой двора — в 1649 году он получил королевскую привилегию, то есть патент, подтверждающий его исключительное право производить и продавать счетные машины во Франции.
Таким образом, эпопея со счетной машиной продолжалась несколько лет. Разумеется, Паскаль мог испытывать определенное удовлетворение: он успешно решил сложную задачу и к тому же приобрел известность даже и за пределами своей страны (о чем позаботились Мерсенн и его друзья). Однако машина не получила того широкого распространения, на которое рассчитывал изобретатель. Возможно, причиной тому была высокая цена (сто ливров); можно предположить также, что машину Паскаля постигла обычная участь изобретений, * Последние, наиболее совершенные варианты логарифмической линейки создали независимо друг от друга ученый-иезуит Каспар Шотт (1660-е гг.) и математик Сет Партридж (1671).
Блез Паскаль. Очерк жизни и творчества
197
представлявших собой лишь первый шаг к цели *. Между тем и сам Паскаль постепенно утрачивал интерес к своему детищу — его влекли к себе новые проблемы; необходимо упомянуть здесь и событие, оказавшее влияние на всю его дальнейшую жизнь.
Зимой 1646 года Этьен Паскаль упал на улице и вывихнул бедро. Он был уже немолод, да и вывих оказался сложным; требовалась постоянная забота врача, и в доме Паскалей появились два известных хирурга, Деланд и Ла Бутельер. Они жили вдали от Руана, и поэтому им пришлось поселиться на время у Паскалей. Хирурги оказались людьми образованными и общительными; они очень быстро завязали дружеские отношения со всеми членами семьи и вовлекли их в сферу своих интересов. Деланд и Ла Бутельер были ревностными католиками, недавно примкнувшими к тому движению за реформу церкви, которое развивалось под влиянием учения янсенистов. Блез Паскаль впервые соприкоснулся со столь живым и интеллектуальным восприятием христианства, и это увлекло его; так совершилось «первое обращение» Паскаля.
3
Янсенизм обязан своим названием Корнелию Янсену (1585-1638), епископу Ипра во Фландрии. Его основной труд, изданный посмертно единомышленниками автора,— «Августин, или Учение Блаженного Августина о здравии, недугах и врачевании человеческого естества» (1640) — содержал явственный призыв к реформе церкви и возродил бури, затихшие лишь ненадолго. Согласно Янсену, ни протестантам в ходе Реформации, ни католиком в ходе Контрреформации не удалось добиться подлинного возрождения христианства; основу такого возрождения Янсен видел в возвращении к наследию отцов церкви, и в первую очередь — к трудам Блаженного Августина (354-430).
Излагая воззрения Августина, Янсен неизбежно обратился к проблемам, которые на протяжении многих веков волновали христианских мыслителей и неоднократно становились предметом самых ожесточенных споров. Речь идет прежде всего о проблеме свободы воли. Августин утверждал, что после грехопадения (которое было результатом свободного выбора первой человеческой четы, то есть * История счетной машины только начиналась в те дни. Уже после смерти Паскаля, в 1671 году, Лейбниц завершил работу над сумматорно-множительным устройством, основанным на тех же принципах, что и «арифметическая машина» Паскаля. Однако понадобились усилия многих поколений, прежде чем счетные машины вошли в быт (арифмометр конструкции В. Т. Однера, 1874).
198
И. Е. БАБАНОВ
проявлением свободы воли) человеческая природа и, соответственно, человеческая воля извратились настолько, что спасение души не может быть достигнуто усилиями самого человека. Отсюда, по мысли Августина, и возникает необходимость в особой помощи Бога — в благодати. Однако благодать посылается не всем, но лишь избранным, и не за их заслуги, а как милость; Августин опирался здесь на утверждения апостола Павла в «Послании к римлянам» (8, 28-30 и 9, 11-21)*. Вместе с тем Августин обосновал учение о предопределении, согласно которому Бог не только предвидит судьбу каждого человека, но и определяет заранее, будет ли ему дарована благодать. Таким образом, в понимании Августина свобода человеческой воли, свобода выбора между добром и злом («свобода решения») оказывалась не более чем иллюзорной **.
Это фаталистическое по сути учение вызвало резкие возражения еще при жизни Августина. Римский монах и проповедник Пелагий (360 — ок. 418) выдвинул тезис о том, что человеческая воля не отягощена первородным грехом. Пелагий отнюдь не отрицал значения благодати, однако видел в ней действенную помощь, а не единственное средство спасения; решающим для него был свободный выбор между добром и злом. У Пелагия нашлось немало единомышленников, и это побудило Августина выступить с рядом полемических сочинений ***. В 418 году учение Пелагия было осуждено как еретическое; позднее это осуждение подтвердил III Вселенский собор в Эфесе (431).
Тем не менее к проблеме свободы воли не раз возвращались в последующие времена; особую же актуальность она приобрела в самом начале Реформации, когда Лютер в споре с Эразмом Роттердамским подтвердил свою ревностную приверженность учению о предопределении ****. Еще более жесткую позицию занял другой вождь протестантов, Кальвин, исключавший любую возможность человека возвыситься над своей греховной природой и попытаться найти путь к спасению.
* Так, апостол говорит: «Итак, помилование зависит не от желающего и не от подвизающегося, но от Бога милующего» (Рим. 9,16).
** Августин посвятил проблеме свободы воли отдельное сочинение — «О свободном решении» (395). Позднее, в разгаре полемики с оппонентами (см. ниже), Августин обстоятельно изложил свои воззрения в основополагающем труде «О граде Божием» (427).
*** «О деяниях Пелагия» (417), «О благодати Христовой и о первородном грехе против Пелагия и Целестин» (418), «Против двух посланий пелагиан» (421), «Против Юлиана-пелагианина» (421), «О благодати и свободном решении к Валентину» (427) и др.
**** Эразм высказался по этому поводу в сочинении «Диатриба, или Рассуждение о свободе воли» (1524). Полемический ответ Лютера носил характерное название «О рабстве воли» (1525).
Блез Паскаль. Очерк жизни и творчества
199
Благодать воспринималась Кальвином как милость, даруемая лишь немногим избранным; остальная (и притом значительная) часть рода человеческого оказывалась обреченной на кару и вечные муки.
Соответственно к этой проблеме обратились католические теологи. Испанский иезуит Луис де Молина опубликовал трактат «Согласование свободы воли с благодатью Божией» (1588-1589, 2 т.), в котором предлагалось новое истолкование учения Августина. Молина выдвинул тезис о достаточной благодати, даруемой всем без изъятия, но действенной лишь в том случае, если человек сам, по собственной воле, избирает путь к Богу и к добру. Именно эта концепция приобрела наибольшее распространение в католицизме; во всяком случае, орден иезуитов в своих теоретических работах опирался преимущественно на аргументы Молины. Того же взгляда на проблему придерживались и профессора парижского университета Сорбонны, средоточия теологической мысли во Франции.
Янсен воспринимал это как откровенный возврат к ереси Пелагия. Воззрения Кальвина, напротив, казались ему более соответствующими духу учения Августина, хотя и с оговорками; он, например, не считал человеческую природу настолько отягощенной первородным грехом и настолько извращенной, чтобы совершенно отрицать значимость усилий, которые человек должен приложить для спасения своей души. Однако решающей для Янсена оказывалась не свобода воли, но помощь свыше. И если Молина и его последователи говорили о достаточной благодати, открытой всем, то Янсен сформулировал тезис о действенной благодати, даруемой лишь избранным. И в этом он следовал не столько даже Кальвину, сколько самому Августину, который, говоря о каре за первородный грех, со всей определенностью утверждал, что «от этого справедливого и заслуженного наказания никто не освобождается иначе как милосердною и незаслуженною благодатью, и род человеческий распределяется таким образом, что на некоторых открывается вся сила благодати, на остальных же — вся сила правосудного отмщения».
Еще при жизни Янсена у него появилось немало сторонников во Франции; самый же деятельный из них, аббат Сен-Сиран (Жан Дювержье де Оран, 1581-1643), превратил парижский монастырь Пор-Рояль в оплот янсенизма. Сочинения Янсена, Сен-Сирана и других авторов, написанные для широкой публики, расходились по всей стране и становились предметом сочувственного обсуждения. Естественно, теологические тонкости были доступны далеко не всем, однако призыв янсенистов к нравственному очищению и к реформе церкви находил порою глубокий отклик. На Блеза Паскаля, например, оказала сильнейшее воздействие небольшая работа Янсена «О преобразовании внутреннего человека», эпиграфом к которой
200
И. Е. БАБАНОВ
послужили слова апостола Иоанна: «Не любите мира, ни того, что в мире: кто любит мир, в том нет любви Отчей. Ибо все, что в мире: похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира (сего). И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек» (1-е Послание Иоанна 2, 15-17). Основываясь на наставлении апостола, Янсен выделяет и описывает три губительные страсти, владычествующие в мире: похоть чувства (libido sentiendi), похоть знания (libido sciendi) и похоть власти (libido dominandi). Отсюда проистекают все беды мира и человека — и тот, кто осознает, в какую бездну могут завлечь его даже мельчайшие проявления этих страстей, должен преодолеть свою природу и возродиться для жизни в Боге.
По всей видимости, Паскалю впервые в те дни довелось задуматься над смыслом своих трудов и исследований. Он неожиданно осознал, что ценность поиска научных истин не столь очевидна, как представлялось ему ранее; осознал он и то, что в мире есть высшие истины, без постижения которых все остальное утрачивает смысл. Он вырос в семье, где вера воспринималась как нечто естественное и непреложное, но не волнующее; теперь же он столкнулся с глубоко личным и проникновенным сопереживанием христианства, и это потрясло его. Немаловажен был и другой аспект этого «первого обращения» Паскаля. В кружке Мерсенна изредка обсуждались теологические и философские проблемы *, однако либо Паскаль был тогда еще слишком юн, либо в беседах этих отсутствовал необходимый ему эмоциональный заряд. Учение же Янсена увлекло его еще и в интеллектуальном плане; подобно многим неофитам, Паскаль испытывал потребность в полемических выступлениях, тем более что янсенисты уже успели навлечь на себя преследования. Папа Урбан VIII осудил учение Янсена (булла In eminenti, 1642); иезуиты публично обвиняли янсенистов в кальвинистской ереси, да и в Сорбонне склонялись к тому же мнению. Аббат Сен-Сиран провел пять лет в тюрьме по приказу Ришелье после того, как Сорбонна наложила запрет на одну из его работ **.
Довольно скоро Паскалю представился случай вступить в борьбу. В Руане появился известный теолог и проповедник аббат Сент-Анж; * Мерсенн отдал дань и теологии; так, в 1624 году он опубликовал памфлет «Безбожие деистов, атеистов и вольнодумцев нашего времени». Позднее он занимался также проблемами, волновавшими янсенистов,— в переписке Мерсенна и Декарта можно встретить, в частности, суждения о книге Гибома Жибьефа «Свобода Бога и твари» (1630).
** Сорбонна осудила комментарий Сен-Сирана к изданному им сборнику сочинений Августина (1638). Аббат вышел на свободу в 1643 году, незадолго до своей смерти.
Блез Паскаль. Очерк жизни и творчества
201
рационалист, последователь Декарта, он учил о гармонии веры и разума, а в вопросе о благодати твердо придерживался позиции Молины. Сент-Анж не довольствовался проповедями и регулярно устраивал обсуждения различных теологических проблем для широкого круга слушателей. Эти собеседования привлекли внимание Паскаля и нескольких его сверстников-янсенистов; особое негодование у них, естественно, вызвала защита Сент-Анжем тезиса о достаточной благодати. Молодые люди попытались вначале переубедить Сент-Анжа, однако успеха не имели; тогда они обвинили его в распространении еретических взглядов перед руководителями руанской епархии. Викарий не придал значения этой истории, но архиепископ, как оказалось, сочувствовал скорее янсенистам, нежели иезуитам; Сент- Анж вынужден был принести покаяние и покинуть Руан (он получил приход в соседнем городке). Таким образом, Паскаль одержал победу — но неизвестно, испытал ли он от этого удовлетворение*.
4
Весной 1647 года Этьен Паскаль оказался в Руане в одиночестве: он отправил в Париж и Блеза, и Жаклин. По всей видимости, он считал, что детям необходимо сменить обстановку, и надолго. Блез постоянно болел — сказалась, по-видимому, многолетняя напряженная работа над арифметической машиной; возможно, его обращение сопровождалось достаточно сильным потрясением. Опасения внушало и состояние Жаклин,— религиозный порыв захватил ее настолько, что она объявила о своем намерении уйти в монастырь. Хотя Этьен Паскаль и сам был достаточно увлечен проповедью янсенистов, однако все происходящее с Блезом и Жаклин казалось ему, человеку сдержанному и рассудительному, следствием чрезмерной экзальтации.
В какой-то мере ожидания Этьена Паскаля оправдались — на первых порах. Благодаря возобновившемуся общению с друзьями из кружка Мерсенна его сын вернулся к научным исследованиям. Он вновь обратился к той сфере геометрии, которая занимала его до отъезда в Руан, и весной 1648 года завершил работу над трактатом «Образование конических сечений». Он демонстрировал свою арифметическую машину всем желающим во многих парижских салонах. Однако большую часть времени он отдавал теперь физике, * Жильберта в своих воспоминаниях о брате пишет, что у Сент-Анжа «не осталось ни капли желчи против донесших на него, и дело, следовательно, кончилось полюбовно». Но из ее слов явствует лишь, что в этой истории Сент-Анж вел себя так, как подобает истинному христианину.
202
И. Е. БАБАНОВ
стремясь разобраться в проблеме, волновавшей европейских ученых уже несколько десятилетий.
Речь шла о давнем споре вокруг тезиса о «боязни пустоты» в природе; тезис этот считался одним из основных в классической, Аристотелевой физике *. Именно боязнью пустоты объясняли действие насосов, сифонов и т. п. Между тем в начале XVII века флорентийские инженеры обнаружили, что их насосы не могут поднять воду в трубах выше уровня в 18 локтей (немногим более десяти метров); вначале эта закономерность проявилась при строительстве дворцовых фонтанов, а затем подтвердилась при прокладке водопровода в горах. В 1630 году разобраться в этом явлении попытался Галилей, который предположил, что выше уровня в 18 локтей в действие вступает уже не боязнь, но «сила пустоты», т.е. сопротивление образованию пустоты. Тотчас же в спор вступил генуэзский физик Джованни Баттиста Бальяни; в письме к Галилею он первым высказал мысль о давлении атмосферного воздуха как истинной причине наблюдаемых явлений. Хотя Галилей к тому времени успел уже доказать, что воздух имеет вес (и даже попытался определить отношение удельного веса воздуха к удельному весу воды**), к идее Бальяни он отнесся скептически. Возможно, однако, он обсуждал ее с учениками, и в том числе — с Эванджелистой Торричелли и Винченцо Вивиани. Во всяком случае, именно Торричелли принадлежит идея решающего эксперимента, который был поставлен им совместно с Вивиани в Риме уже после смерти Галилея (1642). Суть его состояла в следующем: стеклянная трубка длиною в четыре фута (т. е. около метра), один конец которой был закупорен, а другой открыт, заполнялась ртутью; затем, зажав отверстие пальцем, трубку переворачивали и погружали зажатым концом в чашечку с ртутью. Когда палец убирали, ртуть в трубке опускалась, но оставалась на определенном уровне; такой же точно уровень фиксировался при использовании других трубок (например, с шаровидным утолщением на закупоренном конце). Из этого со всей очевидностью следовало, что давление столба ртути в трубке уравновешивается на определенном уровне давлением атмосферно* См. рассуждения о невозможности пустоты в природе у Аристотеля ( «Физика» IV, 6-9). Латинский термин horror vacui («боязнь пустоты») получил распространение уже в Средние века; к нему восходит популярное изречение «природа не терпит пустоты», впервые встречающееся у Рабле («Гаргантюа и Пантагрюэль», кн. IV, гл. 62).
** Согласно Галилею, отношение это равнялось! :400. Мерсенн, повторивший эксперименты Галилея (хотя в несколько ином виде), получил значения 1: 255 и 1:1870. У Декарта приводится отношение 1:145 (нынешнее значение — 1:773).
Блез Паскаль. Очерк жизни и творчества
203
го воздуха на ртуть в чашечке. Аналогичные результаты получил другой римский физик, Гаспаро Берти, тотчас же проведший серию разнообразных экспериментов.
Мерсенн узнал об этих исследованиях из письма Микеланджело Риччи (физика и ученика Торричелли), успешно исполнявшего в Италии ту же роль, что сам Мерсенн во Франции. Оценив по значению все происходящее, Мерсенн немедленно отправился в путешествие; он посетил Рим и Флоренцию, встретился с Торричелли, Вивиани и Риччи, а по возвращении в Париж в конце 1645 года начал демонстрировать «торричеллиеву трубку» членам кружка и другим ученым. Он и позднее обсуждал проблему со своими корреспондентами, в частности с Декартом, предложившим провести серию экспериментов по измерению атмосферного давления в различных местностях *.
Паскаль был детально осведомлен о достижениях итальянских физиков благодаря тому же Мерсенну. Еще в Руане он провел несколько экспериментов и написал небольшую работу «Новые опыты, касающиеся пустоты», опубликованную осенью 1647 года в Париже. Здесь он еще придерживался точки зрения Галилея (хотя и допускал, что дальнейшие исследования могут привести его к другим выводам); беседы с Мерсенном дали Паскалю новый импульс. Возможно, некоторое значение имела и встреча с Декартом **. В сентябре 1648 года по письменным указаниям Паскаля его зять Флоран Перье проделал серию опытов в Клермон-Ферране; измерения ртутного столба производились в монастырском саду, на башне собора и на вершине близлежащей горы Пюи-де-Дом. Затем к опытам приступил и сам Паскаль (поднимавшийся для этого, в частности, на собор Нотр-Дам и на башню Сен-Жак). Измерения в точности подтвердили предположение о понижении столба по мере того, как повышается точка проведения опыта. Так было получено решающее доказательство, анализу которого Паскаль посвятил небольшую брошюру «Рассказ о великом эксперименте по равновесию жидкостей», вышедшую в конце того же года в Париже.
Паскаль не только завершил первоначальный этап опытов по измерению атмосферного давления; заметив, что показания торричеллиевой трубки связаны с метеорологическими условиями (Перье проводил часть опытов во время грозы), он попытался определить * В конце 1647 года Декарт даже прислал Мерсенну полоску бумаги, градуированную точно так же, как та, которую он прикрепил к своей трубке,— с тем, чтобы можно было сравнить результаты измерений.
** Во время одной из поездок в Париж Декарт дважды посетил больного Паскаля (23 и 24 сентября 1647 года). Позднее Декарт утверждал, что именно он натолкнул Паскаля на мысль проверить, «будет ли ртуть подниматься так же высоко на вершине горы, как и у ее подножия».
204
И. Е. БАБАНОВ
правила предсказания погоды, а вместе с тем догадался, что торричеллиева трубка может быть использована для измерения разностей уровней различных местностей *. Он продолжал свои исследования и к 1653 году успел закончить две небольшие работы — «О равновесии жидкостей» и «О весе массы воздуха» **. В первой из них он ясно сформулировал закон, согласно которому давление, производимое внешними силами на поверхность жидкости, передается одинаково по всем направлениям; этот закон, получивший впоследствии имя Паскаля, лег в основу гидростатики, одного из разделов механики.
К тому же времени относится и возвращение Паскаля к занятиям математикой. Осенью 1653 года Паскаль совершил поездку в Пуату в обществе друзей; один из них, Антуан Гомбо де Мере (1607-1684), поделился с Паскалем своими рассуждениями, которые непосредственно относились к практике азартных игр, но по сути затрагивали серьезнейшую математическую проблему. Де Мере, человек светский, отличался широкими научными и литературными интересами, а его философские эссе пользовались заслуженной известностью ***. Первый вопрос, занимавший де Мере,— сколько раз нужно бросить пару костей, чтобы вероятность выпадения двух шестерок оказалась больше половины,— был разрешен им самостоятельно, и де Мере, по-видимо- му, искал в беседах с Паскалем подтверждения правильности своих выводов. Однако второй вопрос — как следует разделить первоначальную ставку между игроками в том случае, если игра почему-либо прервана,— потребовал длительных раздумий. По всей видимости, Паскаль нашел решение весной 1654 года; результаты исследований воодушевили его настолько, что он послал Ферма, жившему в Тулузе, письмо с изложением обоих вопросов де Мере и просьбой заняться ими. Ферма по достоинству оценил значение проблемы; он пришел * Вслед за Паскалем (и независимо от него) к тому же выводу пришли итальянские ученые Рафаэлле Маджотти и Джованни Альфонсо Борелли, причем последний предложил также конструкцию переносного прибора для измерения атмосферного давления (1658). Роберт Бойль, усовершенствовавший этот прибор (1667), называл его барометром или бароскопом (1667); окончательное название закре пилось благодаря работе Эдма Мариотта «О природе воздуха» (1676), в которой содержались расчеты высоты местности согласно показаниям прибора.
** Паскаль предполагал написать обширный трактат «О пустоте», частями которого должны были стать упомянутые работы. Однако замысел этот остался неосуществленным, а обе работы увидели свет лишь после смерти Паскаля.
*** Паскаль в «Мыслях» не раз обращается к идеям де Мере — в частности, вы раженным в эссе «Об истинной порядочности» (см. фрагмент40 и комментарий к нему). Источником рассуждений о различии между математическим и непосредственным познанием (фрагмент21 и след.) в значительной степени послужили эссе «О разуме» и одно из писем де Мере к Паскалю.
Блез Паскаль. Очерк жизни и творчества
205
к тем же выводам, что и Паскаль, хотя использовал иной метод. В ближайшие месяцы ученые обменялись еще несколькими письмами, и, хотя они не затронули при этом ни один из теоретических аспектов проблемы, главное было достигнуто. В 1658 году Христиан Гюйгенс, опиравшийся на переписку Паскаля и Ферма, опубликовал в Париже книгу «О расчетах в азартных играх». Так были заложены основы теории вероятности, в разработке которых вскоре же приняли участие многие выдающиеся математики *.
Между тем сам Паскаль на долгое время оставляет науку. Его последнее письмо к Ферма датировано 27 октября 1654 года; немногим менее месяца спустя, 23 ноября, он пережил второе обращение — и с этого дня его мысли и поступки были подчинены иным ценностям.
5
Годы, предшествовавшие обращению, были насыщены не одними лишь научными исследованиями. Паскаль по приезде в Париж завязал дружеские связи с виднейшими поборниками янсенизма, группировавшимися вокруг монастыря Пор-Рояль. После смерти Сен-Сирана признанным руководителем столичных янсенистов стал правовед и теолог Робер Арно д’Андийи (1588-1674); его сестра Жаклин (1591-1661), в монашестве мать Анжелика, была аббатисой Пор-Рояля. Постепенно здесь помимо монахинь начали появляться другие обитатели — «отшельники Пор-Рояля», люди, презревшие мирскую суету и посвятившие себя распространению идей янсенизма. Так в кельях монастыря поселились Антуан Арно (1612-1694), брат Робера и Анжелики, и его соратники — Пьер Николь (1625 1695), Клод Лансло (1616-1695) и Антуан Леметр (1608-1658). Благодаря их научной и литературной деятельности Пор-Рояль становится одним из центров интеллектуальной жизни Парижа. Кроме того, с 1643 года при монастыре открываются «маленькие школы», в которых группы из пяти-шести воспитанников разного возраста были доверены попечению одного преподавателя,— и отшельники не только разрабатывают методику воспитания детей, но и пишут учебники, которые печатаются тут же, в монастырской типографии **.
* Подробнее о развитии теории вероятности в XVII-XVIII вв., и особенно о вкладе Паскаля, см. обстоятельную работу Альфреда Репьи «Письма о вероятности» (в книге А. Реньи «Трилогия о математике», М., 1980, с. 121-198).
** Так, Лансло подготовил следующие руководства: «Новый метод, позволяющий с легкостью и за короткий срок выучить латинский язык» (1644), «Греческая грамматика» (1652), «Латинская грамматика» (1652).
206
И. Е. БАБАНОВ
Атмосфера Пор-Рояля влекла к себе Паскаля; бывала здесь и его младшая сестра, не оставившая своего намерения стать монахиней. Ни Блез, ни Жаклин не могли решительно изменить образ жизни до тех пор, пока был жив отец. Но 24 сентября 1651 года Этьен Паскаль скончался. Спустя три месяца Жаклин ушла в Пор-Рояль. Брат последовал ее примеру через три года.
Эти три года — с 1652-го по 1654-й — были достаточно насыщенными еще и в другом отношении; недаром биографы Паскаля называют этот период его жизни «светским». Паскаль имеет успех в аристократических салонах — так, он демонстрирует свою арифметическую машину и опыты с торричеллиевой трубкой в особняке герцогини д’Эгийон (племянницы Ришелье*). Среди его новых друзей — Артюс Гуфье, герцог Роанне (1627-1696), с которым Паскаль путешествовал в Пуату: герцог был губернатором этой провинции. Однако, если другие спутники Паскаля проявляли равнодушие или скептицизм в вопросах веры, герцог сочувствовал янсенистам и посещал Пор-Рояль. С уважением и пониманием относился он и к научным исследованиям Паскаля, так что этот дружеский союз покоился на прочной основе. Порою Паскаль даже перебирался на некоторое время в парижский дом герцога, где ему была отведена комната. Доверительно-дружеские отношения связывали Паскаля и с юной сестрой герцога, Шарлоттой **.
Казалось бы, к тридцати годам Паскаль мог испытывать удовлетворение своей жизнью. Его достижения в математике и физике были неоспоримы, и у него достало бы таланта и воли найти столь же успешное воплощение для новых идей; частые недомогания не составляли сколько-нибудь серьезной помехи в работе. Ему неведомо было бремя нищеты, зависимости, унижений; никакие житейские заботы не тяготили его. Круг друзей, единомышленников и почитателей постоянно расширялся. Смерть отца оказалась единственным подлинным горем, пережитым им в это время. Однако Паскаль не только не счастлив, но и не спокоен; им постепенно овладевает глухая тревога. В сентябре — октябре 1654 года он часто навещает
* К тому времени Ришелье уже не было в живых (он умер в 1642 году), однако герцогиня сохранила свое влияние при дворе. С семейством Паскалей она была знакома давно: именно в особняке герцогини Жаклин Паскаль вручила кардиналу стихотворение в его честь.
** В биографической литературе можно встретить предположение о сильном увлечении Паскаля девушкой, которая видела в нем своего духовного наставника. Но никаких достоверных свидетельств об этом нет; известно о письмах Паскаля к Шарлотте (относящихся, впрочем, к более позднему периоду), однако они не сохранились.
Блез Паскаль. Очерк жизни и творчества
207
Жаклин и говорит ей об усиливающемся душевном смятении; все то, что прежде привлекало его в мире, теперь утратило смысл, и он тщетно пытается обрести равновесие. Сестра не в силах помочь ему, тем более что он не слишком откровенен или же сам не может полностью осмыслить свое состояние; от встречи с духовником Паскаль решительно отказывается. Наконец ночью 23 ноября разражается кризис; Паскаль переживает нечто такое, что приводит его ко второму обращению.
Существует легенда, которую иногда приводят для объяснения случившегося. Предполагается, что в тот день Паскаль оказался на волосок от гибели: карета, в которой он возвращался в Париж из загородной поездки, чудом удержалась на краю моста, когда лошади неожиданно свернули с прямого пути и обрушились вниз. Ночью пережитое потрясение завершилось для него экстатическим взрывом — реакция, естественная для верующего, к тому же испытывавшего перед тем сильнейший душевный разлад. Неясно, насколько достоверен этот рассказ; вполне возможно, что Паскаль воспринял какой-то эпизод как знамение, однако сам он позднее об этом не вспоминал. Единственное свидетельство той ночи — запись, сделанная Паскалем на листке бумаги:
Год благодати 1654
Понедельник 23 ноября, день святого Климента папы и мученика и других из мартиролога.
Канун дня святого Хризогона мученика и других. Приблизительно от десяти с половиной часов вечера до половины первого ночи.
Огонь
Бог Авраама, Бог Исаака, Бог Иакова, но не философов и ученых.
Уверенность. Уверенность. Чувство, радость, мир.
Бог Иисуса Христа.
Deum meurn et Deum vestrum *.
Твой Бог будет моим Богом.
Забвение мира и всего, кроме Бога.
Обрести Его можно лишь на путях, указанных Евангелием.
Величие души человеческой.
Отче праведный, мир не познал Тебя, но я Тебя познал.
Радость, радость, радость, слезы радости.
Я разлучился с Ним.
Dereliquerunt me fontem aquae viviae **. Боже мой, неужели Ты оставишь меня?
* Богу Моему и Богу вашему (лат.).
** Оставили Меня, источник воды живой (лат.).
208
И. Е. БАБАНОВ
Да не разлучусь с Ним никогда.
Это есть жизнь вечная, и да познают они Тебя единственно истинного Бога и посланного Тобою И. X.
Иисус Христос
Иисус Христос
Я разлучился с Ним. Я бежал от Него, отрекся, распинал Его. Да не разлучусь с Ним никогда.
Сохранить Его можно лишь на путях, указанных Евангелием. Отречение полное и сладостное.
Этот текст, набросанный наспех, Паскаль повторил на листе пергамента и добавил три строки:
Полная покорность Иисусу Христу и моему духовнику. Навеки в радости за день исполнения долга на земле. Non obliviscar sermones tuos *. Amen.
С тех пор он, по всей видимости, не расставался с обоими листками; после смерти Паскаля их нашли зашитыми в его камзол.
6
В январе 1655 года Паскаль поселился в Пор-Рояле. Он не принял монашеский обет; более того, он порою надолго покидал свою келью и жил в своей парижской квартире. Но где бы он ни находился, образ его жизни ничем не отличался от монашеского, а все его помыслы теперь были неразрывно связаны с Пор-Роялем. И хотя пережитое потрясение все еще давало знать о себе длительными приступами слабости, деятельный ум Паскаля обратился к новому поприщу. Так, его внимание привлекли «маленькие школы» (число воспитанников в них неуклонно увеличивалось **); он разрабатывает оригинальную методику обучения детей чтению и намеревается подготовить учебник
* Не забываю слова Твоего (лат.)- Это — цитата из Псалтири (118,16). Паскаль цитирует Библию и в первоначальной записи («Бог Авраама, Бог Исаака, Бог Иакова» — Книга ИсходаЗ,6; Евангелие от Матфея22,32; «Богу Моему и Богу вашему» — Евангелие от Иоанна20,17; «...и Твой Бог моим Богом» — Книга Руфь1,16; «Отче праведный! И мир Тебя не познал...» — Евангелие от Иоанна 17,25; «Меня, источник воды живой, оставили... » — Книга пророка Иеремии2,13).
** Любопытно, что в том же 1655 году воспитанником Пор-Рояля стал шестнадцатилетний Жан Расин. В монастыре он пробыл три года, совершенствуя знание древних языков. Уже на склоне лет Расин написал « Краткую историю Пор-Рояля» (1692).
Блез Паскаль. Очерк жизни и творчества
209
«Начала геометрии». Он занимается также теологией и философией и уже приступает к книге о жизни Иисуса. Между тем для Пор-Рояля начинается пора серьезных испытаний.
Как уже говорилось, папа Урбан VIII осудил янсенизм в одной из своих булл; однако особых последствий это не имело. Тогда за дело взялись иезуиты, по инициативе которых доктор богословия Никола Корне представил на рассмотрение Сорбонны пять принципиальных положений, извлеченных из книги Янсена об Августине. Теологический факультет признал их безусловно еретическими, установив, что в трактовке проблемы благодати, предопределения и свободы воли Янсен следует Кальвину. С заключением Сорбонны согласились в Риме, и преемник Урбана на папском престоле, Иннокентий X, безоговорочно осудил упомянутые положения (булла Cum occasione, 31 мая 1653 года). Начались преследования, которым подвергались не только янсенисты, но и лица из их окружения. События приобрели особо драматический оборот все той же зимой 1655 года, когда пэру Франции герцогу Лианкуру, чья внучка воспитывалась в Пор-Рояле, было отказано в отпущении грехов. Этим инцидентом тотчас же воспользовался Антуан Арно для полемических выступлений в печати («Письмо одной знатной особе», 24 февраля; «Письмо герцогу и пэру», 10 июля). Теперь Сорбонна занялась уже сочинениями Арно, и после долгих и достаточно бурных обсуждений он был исключен из списков факультета*. Это произошло 14 января 1656 года, а всего через девять дней, 23 января, в печати появилось анонимное сочинение, которому суждено было всколыхнуть всю Францию и открыть новую главу в истории полемики. Сочинение это называлось «Письмо к провинциалу одного из его друзей относительно прений, происходящих сейчас в Сорбонне»; автором его был Паскаль.
Участие Паскаля в полемике может показаться делом случая. Когда стало очевидным, что Арно будет осужден, отшельники Пор- Рояля сочли необходимым вновь апеллировать к общественному мнению. Однако текст, написанный Арно, одобрения не получил, и тогда сам Арно обратился к Паскалю с настоятельным призывом вступить в борьбу. Возможно, то был жест отчаяния; однако его нетрудно истолковать и как озарение, ибо наименее подготовленный из всех отшельников Пор-Рояля оказался наиболее пригодным для этой роли. Действительно, Паскаль не обладал ни сколько-нибудь серьезными познаниями в теологии, ни опытом полемиста; вторжение в столь сложную сферу дилетанта, пусть даже глубоко убежденного в своей правоте, неминуемо обернулось бы провалом. Сознавая Арно был доктором богословия.
210
И. Е. БАБАНОВ
это, Паскаль безошибочно избрал путь, на котором его недостатки превращались в достоинства. «Письмо» написано от лица человека весьма простодушного и неискушенного в теологических тонкостях, но жаждущего растолковать другу-провинциалу суть дебатов в Сорбонне. Разумеется, рассказчику многое непонятно, и он обращается за разъяснениями к людям сведущим (например, к иезуиту и к янсенисту), обстоятельно излагая аргументацию каждого. Сам рассказчик продолжает пребывать в недоумении, меж тем как читатель ясно видит, чья позиция предпочтительнее. Прием был удачен еще и тем, что изложение оказывалось доступным и для читателя, далекого от предмета спора, а несомненные литературные достоинства «Письма» обеспечили ему шумный успех у публики. Тотчас же в печати появилось второе письмо (29 января); в следующем месяце Паскаль написал и опубликовал еще два письма (9 и 25 февраля). Борьба увлекла его; последнее, восемнадцатое письмо увидело свет 24 марта 1657 года.
Первые три письма Паскаль писал наспех, импровизируя и словно бы нащупывая свой стиль. Четвертое же и все последующие безукоризненны по форме — Паскаль полностью овладевает материалом и к тому же располагает временем для стилистической правки (недаром современники утверждали, что последнее письмо Паскаль переписывал тринадцать раз). Изменения претерпело и содержание: начиная с пятого письма Паскаль оставляет дело Арно и приступает непосредственно к иезуитам; лишь в двух последних письмах он возвращается к прежней теме, прямо защищая янсенистов от обвинения в ереси*.
В критике иезуитов Паскаль проявил ту же безошибочность, что и в выборе литературного приема. Он избрал мишенью действительно уязвимый пункт в трактатах, вышедших из-под пера ученых-иезуитов,— в том разделе нравственного богословия, который называется казуистикой (от лат. casus, «случай»). Казуисты занимались рассмотрением отдельных частных случаев и их связи с общими этическими принципами и нормами христианства; речь шла здесь о тех многообразных коллизиях, с которыми человек то и дело сталкивался в повседневной жизни и при этом должен был решать проблемы нравственного порядка. Впрочем, труды по казуистике писались не для мирян, а для священников — в качестве практических руководств, позволяющих более или менее безошибочно устанавливать * Письма эти адресованы уже не вымышленному провинциалу, а вполне реальному лицу — иезуиту Франсуа Анна (1590-1670), духовнику Людовика XIV. Анна принимал деятельное участие в полемике с Арно.
Блез Паскаль. Очерк жизни и творчества
211
во время исповеди предел и меру греховности в сложных житейских ситуациях. Разумеется, в казуистике подвизались не только иезуиты, но поскольку их вклад в этой дисциплине был весьма значителен (как и в богословии в целом и вообще во всех интеллектуальных сферах деятельности той эпохи), то Паскаль с помощью своих друзей легко мог найти сомнительные места или откровенные промахи в трудах противников. Кроме того, иезуиты в своих рекомендациях вынуждены были сообразовываться с условиями тех стран, в которых протекала их деятельность,— например, в Испании с ее суровыми инквизиционными трибуналами представлялось желательным сдерживать рвение священников, внушая им принципы «снисходительной морали» *. Но это легко могло стать поводом для обвинения в потворстве греху и, в конечном счете, в безнравственности. Обличения подобного рода всегда имеют успех у читателей; к тому же публика обычно готова с уважением выслушивать проповедника самой строгой морали (даже если она и не собирается жить по его заветам). Янсенисты уже не раз прибегали к этому оружию в борьбе с иезуитами, так что Паскаль мог опираться и на труды своих предшественников **. И, наконец, было еще одно обстоятельство, обусловившее успех этой стороне полемики с иезуитами. Разговор теперь шел о предметах, гораздо более доступных пониманию читателей — таких, например, как дуэль или супружеская измена***, и тут каждый мог почувствовать себя компетентным судьей.
Разумеется, в этом переходе к другим проблемам крылось не только желание найти выигрышный сюжет полемики. Между янсенистами и иезуитами действительно существовало принципиальное различие в подходе к этической сфере, которое при желании можно было изобразить как конфликт между теми, кто проповедовал суровую мораль, и теми, кто во имя определенных целей поощрял безнравственность; однако реальный конфликт обусловили иные причины. Как уже * В Испании того времени отказ в отпущении грехов мог повлечь за собой самые тяжелые последствия даже и для человека такого ранга, как герцог Лианкур. И характерно, что именно в Испании иезуиты уделяли особое внимание казуистике; наиболее авторитетным теоретиком в этой сфере был Антонио Эскобар-и-Мендоса (1589-1669), книга которого «Нравственное богословие» выдержала при его жизни несколько десятков изданий. Паскаль в «Письмах провинциалу» критиковал Эскобара в самой резкой форме.
** Так, Арно еще в 1642 году опубликовал памфлет «Нравственное богословие иезуитов».
*** Так, в казуистике предметом рассмотрения мог быть вопрос о степени греховности женщины, которая решилась на супружескую измену ради того, чтобы способствовать карьере своего мужа.
212
И. Е. БАБАНОВ
говорилось, янсенисты полагали спасение души милостью, даруемой немногим избранным; надеяться на эту милость мог лишь тот, кто посвятил все свои помыслы нравственному самосовершенствованию. По сути дела, янсенисты требовали от человека презрения к миру, аскезы, нравственного подвига; даже в самых простых земных радостях они видели отблеск тех губительных страстей, от которых предостерегал Янсен *. Иезуиты не предъявляли столь суровых требований к человеку, да и вообще ригоризм был им чужд; можно сказать даже, что они искали некоторого компромисса в вопросах нравственности. Во всяком случае, они обычно проявляли снисходительность к грешникам, направляя их к добродетели через полное и искреннее раскаяние. Паскаль почти не преувеличивал, вкладывая в уста одного из своих героев-иезуитов реплику относительно успехов снисходительной морали: «Грехи теперь искупаются с большей радостью и рвением, чем они совершались прежде, так что многие люди столь же быстро смывают свои пятна, как и приобретают их». Иезуиты жили и действовали в мире, расколотом Реформацией и поколебленном усилиями вольнодумцев; они стремились овладеть умами и сердцами людей, чтобы восстановить утраченное могущество церкви. Однако терпимость иезуитов, казавшаяся порою чрезмерной, в действительности имела четко очерченные границы — и показательно, что иезуиты и янсенисты нередко оказывались союзниками в борьбе там, где речь шла об общественной морали **. И все же, на взгляд иезуитов, янсенизм был явлением не менее опасным, чем свободомыслие: если иезуиты трудились во имя конечного триумфа христианства под эгидой Рима, то янсенисты, призывавшие к обновлению христианства, отвергали * Может показаться парадоксальным, что отшельники Пор-Рояля, которые испытывали пренебрежение к человеческому разуму и осуждали занятия наукой едва ли не как смертный грех ( «похоть знания», согласно Янсену), так заботились о детском образовании. Между тем и здесь речь шла о воспитании в нужном духе: янсенисты внушали своим питомцам, что благочестие выше разума и знаний и что процесс научного познания — не самоцель, но лишь средство для того, чтобы развить разум для постижения высших истин. Характерно, например, что в наиболее значительном из учебных пособий янсенистов, т.н. «Логике Пор-Рояля» («Логика, или Искусство мыслить», 1662), подготовленном Арно и Николем при деятельном участии Паскаля, много места уделено опроверже нию взглядов еретиков, вольнодумцев и скептиков — и даже нападкам личного характера (в частности на Монтеня).
** Так, иезуитов и янсенистов объединили выступления против Мольера в связи с «Тартюфом» (1664) и «Дон Жуаном» (1665). Однако и здесь было принципиальное различие: иезуиты выступали лишь против некоторых пьес, для янсенистов был неприемлем сам театр как один из источников развращения нравов. См. рассуждения Паскаля о театре ( « Мысли», фр. 208).
Блез Паскаль. Очерк жизни и творчества
213
авторитет церкви и вели к новому расколу *. Точно так же янсенисты справедливо видели в иезуитах своих главных соперников. И за полемикой о казуистике и нравственности крылось чрезвычайно жестокое духовное и политическое противостояние.
7
Принято считать, что Паскалю удалось нанести иезуитам ощутимый удар; в известной степени это соответствует действительности. «Письма провинциалу», регулярно появлявшиеся в течение года с лишним, разошлись по всей Франции и нашли множество читателей; безуспешными оказались все попытки властей воспрепятствовать распространению «Писем» (выходивших без цензурного разрешения)**. Иезуиты были выставлены в комическом свете — и хотя речь шла о промахах отдельных казуистов, сомнению подвергалась, в сущности, вся иезуитская казуистика, а вместе с нею и многие основополагающие установки ордена. Недаром отдельное издание «Писем» (которое Паскаль выпустил летом 1657 года под псевдонимом Луи де Монтальт) получило уточняющее, полемически-заостренное название «Письма Луи де Монтальта к его другу-провинциалу и к достопочтенным отцам иезуитам о нравственности и политике этих отцов». Год спустя вышел и латинский перевод «Писем», выполненный Николем (который укрылся под псевдонимом Гийом де Вендрок). Благодаря этому к полемике с иезуитами было привлечено внимание всей Европы; характерно, что по прошествии некоторого времени Рим приступил к рассмотрению иезуитской казуистики, причем довольно значительное число тезисов было отвергнуто***. Едва ли, впрочем, Паскаль и его соратники добивались именно этого результата; между тем положение янсенистов заметно ухудшалось.
16 октября 1656 года, в самый разгар работы Паскаля над «Письмами», папа Александр VII, сменивший на престоле Иннокентия X, опубликовал буллу Ad sacrum, в которой осуждалось как безусловно еретическое все учение Янсена. В соответствии с этим * Аббат Сен-Сиран публично заявил в 1636 году: «Бог просветил меня, церкви не существует вот уже шестьсот лет!»
** Обыски в столичных и провинциальных типографиях и аресты нескольких типографов мало что дали; сеть распространения «Писем» была весьма широка, и отдельные конфискации ничему не смогли помешать. Сам Паскаль, которого подозревали в авторстве, оставался в безопасности — так же как и его друзья.
*** В1666 году было отвергнуто45 тезисов, выдвинутых иезуитами-казуистами; в 1679 году та же участь постигла ещебб тезисов.
214
И. Е. БАБАНОВ
в марте 1657 года (то есть тогда же, когда появилось последнее «Письмо») французское духовенство подготовило новую редакцию формуляра, обстоятельного изложения символа исповедания веры; в этом документе особо оговаривалось неприятие основных принципов янсенизма. 6 сентября того же года «Письма провинциалу» были внесены в Индекс запрещенных книг.
Реакция Рима на происходящее была незамедлительной и закономерной; речь шла, однако, не о защите иезуитов от нападок янсенистов, а о стремлении избежать наиболее пагубных последствий подобной полемики,— показательно, например, что чуть позже в Индекс включена была и «Апология казуистов против янсенистов», подготовленная под руководством Франсуа Анна в парижском иезуитском Коллеж де Клермон и вышедшая в свет осенью 1657 года. В Риме отчетливо сознавали всю опасность публичного обсуждения мирянами сугубо специальных теологических дисциплин: к этому оружию прибегали вожди Реформации, и активность янсенистов грозила если не новым расколом, то по крайней мере серьезным ущербом авторитету церкви. В конечном счете все это наносило ущерб самому христианству, ибо любая сколько-нибудь значительная религиозная распря способствует росту свободомыслия; в этом также состоял опыт Реформации. Нынешняя полемика была в особенности опасна тем, что автор «Писем провинциалу», обращаясь к людям, не искушенным в теологии, предлагал им судить о предмете спора с рациональных позиций. Этот метод еще мог бы оказаться приемлемым в том случае, если бы автор оставался в рамках критики промахов отдельных казуистов или даже определенных тенденций иезуитской казуистики; однако поскольку цель дискуссии была в действительности в ином, то критика затронула гораздо более широкие сферы, и в итоге разум — или, точнее, обыденный здравый смысл — провозглашался судьей в вопросах исповедания веры. По сути дела, в «Письмах» здравому смыслу предлагалось решить в пользу одной из двух доктрин — янсенистской или иезуитской; следующим шагом по этому пути могло стать обсуждение религиозных догматов с тех же рациональных позиций, что неизбежно приводило к выбору уже не между теми или иными доктринами, но между разумом и верой *.
* В следующем столетии по этому пути прошел Вольтер (чрезвычайно высоко ценивший «Письма провинциалу» как образец блистательной публицистики), а затем и энциклопедисты с их критикой христианства. Уместно привести здесь замечание Бальзака о том, что «Вольтер продолжал дело Паскаля» («Письма о литературе, театре и искусстве», 1840),
Блез Паскаль. Очерк жизни и творчества
215
«Письма провинциалу» имели успех, но то был скорее успех литературный. Янсенисты не получили той общественной поддержки, на которую, по всей видимости, рассчитывали; более того, события показали, что у иезуитов имеется немало приверженцев*. Разгромить Пор-Рояль уже весной 1657 года, когда был принят формуляр, не составляло особого труда; однако в Риме, очевидно, пока еще не считали возможным прибегнуть к столь решительным мерам и настаивали лишь на прекращении полемики. В известной степени этим объясняется своеобразное перемирие, наступившее вскоре после внесения в Индекс основных полемических сочинений. Этим объясняется и отсрочка, полученная янсенистами,— хотя, разумеется, здесь сыграли роль и некоторые другие обстоятельства (например, влияние вдовствующей королевы Анны Австрийской, оказывавшей покровительство Пор-Роялю)**.
Так или иначе, Паскаль оставил полемику, хотя и обещал в последнем «Письме» продолжить борьбу (и даже набросал черновик очередного, девятнадцатого письма). Он не утратил интереса к предмету спора, так что причину следует искать скорее во внешних обстоятельствах ***; вместе с тем размышления его в это время все чаще обращаются к иным, хотя и близким сферам. По-видимому, во второй половине 1657 года у Паскаля окончательно складывается замысел книги, которой суждено было стать главным делом его жизни.
То был замысел «Апологии христианской религии» — сочинения, которое вначале также мыслилось как полемическое, однако, по мере того как Паскаль углублялся в свой материал, вышло далеко * Одним из характерных проявлений этого была трагедия Корнеля «Эдип» (пост. 1659), в которой проблема предопределения и свободы воли трактовалась в духе доктрины иезуитов.
** В этой связи иногда упоминают и «чудо с тернием», однако оно произошло гораздо раньше и не имело особого влияния на последующие события. Чудо совершилось24 марта 1656 года, когда монахини и воспитанники Пор-Рояля после мессы прикладывались к реликвии — шипу из тернового венца Иисуса. В числе воспитанниц была десятилетняя Маргарита Перье, племянница Паскаля; девочка несколько лет страдала тяжелой болезнью, которая угрожала ее жизни. Приложившись к тернию, Маргарита мгновенно почувствовала облегчение, а на следующий день все следы болезни исчезли.
*** Весной 1658 года полемика возобновилась, хотя и ненадолго. В ответ на упомянутую выше «Апологию казуистов против янсенистов» начали появляться — также в виде отдельных выпусков — «Сочинения парижских кюре против книги под названием “Апология казуистов”». Паскалю принадлежат здесь второй, третий и шестой выпуски. Иезуиты не реагировали на «Сочинения»; следует заметить, что против продолжения полемики выступили некоторые руководители янсенистов — например, аббат Антуан Сенглен (1607-1664), духовный наставник Пор-Рояля.
216
И. Е. БАБАНОВ
за намеченные пределы. По-видимому, первоначально Паскаль предполагал написать сочинение, направленное против свободомыслящих; опровержение их взглядов потребовало изложения и обоснования неких основных исходных тезисов, и здесь возник план подлинной апологии — книги, утверждающей торжество христианства. Во исполнение этого Паскаль сосредоточил свое внимание на доказательстве следующих трех тезисов: христианство представляет собой единственно истинную религию; христианская религия отнюдь не противоречит разуму, но, напротив, полностью согласуется с ним; христианская религия — и только она! — ведет людей к подлинному благу. Христианство, по мысли Паскаля, основывается на совершенном знании человеческой природы, и его установления во всем отвечают требованиям сердца и разума.
Паскаль работал над этой книгой все оставшиеся годы жизни; ему не удалось завершить свой труд, однако сохранившиеся фрагменты (законченные фрагменты, наброски, краткие заметки для памяти и т. п.) составили при посмертной публикации обширный том — «Мысли господина Паскаля о религии и некоторых других предметах».
И все же в эти годы Паскаль на некоторое время возвращается к точным наукам — в последний раз. Его внимание привлекла циклоида или, как ее называли также, рулетта: путь точки на окружности, которая движется по прямой (Паскаль уподоблял ее движению гвоздя на колесе экипажа). То была геометрическая задача, связывающая геометрию с математическим анализом: ею занимались Галилей, Торричелли, Роберваль, однако ближе всех к решению подошли нидерландские ученые-иезуиты — Григорий де Сен-Венсан (1584-1667) и его ученик Андреас Такке (1612-1660), которые занялись этой задачей в русле своих исследований проблемы исчисления бесконечно малых. По-ви- димому, основным импульсом для Паскаля послужила книга Такке «О цилиндрах и кольцах» (1651). Начиная с июня 1658 года Паскаль публикует несколько работ, посвященных циклоиде; он добился значительных успехов, но по прошествии примерно полугода остановился и более уже не обращался к этой проблеме (и вообще к научным исследованиям). Следующий шаг был сделан двадцать лет спустя Лейбницем, которого, по его признанию, знакомство с работами Паскаля «озарило лучом нового света» : исследования циклоиды привели его в 1670-х годах к открытию дифференциального исчисления *.
Подробнее об истории проблемы, и особенно о вкладе Паскаля, см. у Генриха Вилейтнера( «Хрестоматия по истории математики», М.; JL, 1935, с. 259-267), который приводит тексты Паскаля с обстоятельным комментарием.
Блез Паскаль. Очерк жизни и творчества
217
В письмах Лейбница можно встретить выражение досады и недоумения по поводу того, что Паскаль сам не пришел к подобному, столь естественному выводу («словно бы у него была пелена на глазах»); между тем такие коллизии нередки в истории науки. Но даже если уместно было бы объяснить это преобладанием у Паскаля в то время иных интересов (его работой над «Апологией», как, кстати, предполагал сам Лейбниц*), то следует упомянуть, что в начале 1659 года здоровье Паскаля резко ухудшается,— с этих пор он постоянно болеет, ни разу не испытав сколько-нибудь заметного облегчения. «Я так слаб, что не могу ни ходить без палки, ни ездить верхом. Я не могу даже ехать в карете более двух или трех лье, так что из Парижа я приехал сюда за двадцать два дня»,— пишет он Ферма в августе 1660 года из Клермон-Феррана, отклоняя приглашение приехать к нему в Тулузу. В декабре того же года Паскаля навещает в Париже Гюйгенс — и испытывает нечто вроде потрясения, увидев, что его собеседник остается безучастным к сообщениям о последних научных исследованиях. Сам Паскаль в эти месяцы все еще пытается работать — в Клермон-Ферране он приводит в порядок накопившиеся записи к «Апологии», в Париже обсуждает с отшельниками Пор-Рояля план книги и отдельные фрагменты. Однако вскоре и для него, и для всех янсенистов наступают тяжелые времена.
8
Осенью 1660 года Людовик XIV принял решение покончить с Пор- Роялем. По его приказу была создана комиссия из епископов и докторов богословия, которая рассмотрела латинское издание «Писем провинциалу»; на основании выводов комиссии Государственный совет приговорил книгу к сожжению рукой палача. Причиной этому послужил не столько текст Паскаля, сколько комментарий Николя, в котором были усмотрены высказывания, оскорбительные для королевской власти. Но, в сущности, речь шла о более глубоком конфликте: янсенисты резко критиковали идею, овладевавшую в те годы умами,— идею галликанской церкви, то есть идею единства французской государственной и церковной политики. Иезуиты столь же враждебно относились к этой идее, справедливо видя в ней угрозу авторитету Рима, однако они вели себя осмотрительно, тогда как янсенисты достаточно * Лейбниц, которому принадлежит один из самых глубоких теологических трактатов той эпохи («Опыты теодицеи о благости Божией, свободе человека и происхождении зла», 1710), довольно критически отзывался в этой связи о «Мыслях» Паскаля.
218
И. Е. БАБАНОВ
откровенно излагали свои воззрения и поэтому выглядели прямыми противниками усиления власти короля. В начале 1661 годаянсенистам нанесли новый удар: формуляр, принятый несколько лет тому назад, был пущен в ход; теперь все французское духовенство обязывалось подписать его, что для монахинь и отшельников Пор-Рояля означало безусловное отречение от своих взглядов.
В июне 1661 года Пор-Рояль получил первое предписание относительно принятия формуляра. Некоторые янсенисты — в том числе Арно, Николь и Паскаль — надеялись смягчить удар, предложив компромиссные условия, на которых они могли бы подписать документ, не слишком поступаясь убеждениями; попытка эта оказалась безуспешной. В октябре прибыло второе предписание, но тем временем Пор-Рояль успел уже пережить немало трагических событий.
Прежде всего Пор-Рояль получил распоряжение закрыть школы и отправить домой всех воспитанников. За этим последовал запрет принимать новых монахинь и послушниц. Угроза полного разгрома монастыря становилась все более ощутимой — и те янсенисты, которые прежде возлагали надежды на достижение компромисса, присоединились теперь к мнению тех, кто с самого начала настаивал на подписании формуляра без каких бы то ни было оговорок. Это проявление покорности могло бы, вероятно, дать янсенистам некоторую передышку; между тем отшельники столкнулись с сильнейшим сопротивлением монахинь. Двенадцать из них наотрез отказались подписать формуляр — и вскоре же были удалены из Пор-Рояля; их отослали в другие монастыри. Жертвой этой борьбы пала Жаклин Паскаль. Уступив настояниям брата (а также Арно и Николя), она подписала формуляр. Но душевные силы ее были сломлены. 4 октября 1661 года Жаклин Паскаль умерла в возрасте тридцати шести лет.
Паскаль подписал формуляр 28 ноября.
Ему оставалось жить менее года. Он тяжело болен и не может работать; редкие передышки он использует для дел милосердия: устраивает судьбу девочки-сироты, случайно встреченной на улице; предоставляет свою квартиру неимущей многодетной семье; тратит значительные средства для помощи голодающим в одной из провинций, пострадавшей от неурожая. И его ум по-прежнему занят поисками новых сфер деятельности: Паскаль вместе с герцогом Роанне приходят к идее общедоступного городского транспорта — многоместных карет, движущихся по определенным маршрутам и подбирающих на остановках пассажиров, которые способны заплатить пять су за проезд. Зимой 1662 года «компания общественных карет»
Блез Паскаль. Очерк жизни и творчества
219
получает королевскую привилегию, и уже 18 марта состоялось открытие первого маршрута.
Но той же весной состояние Паскаля резко ухудшается; он страдает от непрестанных головных и желудочных болей, во время острых приступов судороги сотрясают все его тело. Теперь он все реже покидает постель. Проходит несколько мучительных месяцев — и 19 августа 1662 года после долгой и тяжкой агонии наступает смерть. Через два дня Паскаль был похоронен на кладбище приходской церкви Сент Этьен дю Мон. Вопреки его завещательному распоряжению о том, чтобы могила оставалась безымянной, зять Флоран Перье заказал мраморную плиту, для которой сочинил латинскую эпитафию.
Круг друзей, пожелавших заняться разборкой записей Паскаля к «Апологии христианской религии», возглавил герцог Роанне. Работа затянулась на несколько лет — в основном из-за необходимости систематизировать все сохранившиеся фрагменты. Сам Паскаль успел лишь разнести около четырехсот записей по отдельным папкам; никаких указаний относительно плана книги в его бумагах не нашлось. Таким образом, в руках издателей оказалось двадцать семь папок с более или менее ясной логикой распределения материала, а также примерно шестьсот фрагментов, которым еще предстояло найти место либо в папках, либо в новых разделах. Задача осложнялась тем, что Паскаль зачастую продолжал начатую запись на другом листе или на первом попавшемся клочке бумаги, а иногда и на листе с другими записями; порой связный текст мог получиться при соединении нескольких записей. Однако здесь таилась определенная опасность, поскольку далеко не всегда связь между теми или иными записями, сделанными в различное время, была вполне очевидна, да и во многих случаях возникала возможность самых различных сочетаний — там, где речь шла о достаточно близких темах. Кроме того, далеко не всегда можно было с уверенностью отличить набросок к «Апологии» от записи, сделанной для иных целей*. Поэтому первое издание вышло в свет лишь в 1669 году; число экземпляров было весьма ограниченным, однако получение цензурного разрешения позволило осуществить в следующем году второе, более доступное издание. Так началось движение «Мыслей» к читателю.
* Проблема эта остается актуальной и поныне. Примерно одна десятая (или даже одна пятая) всех сохранившихся записей Паскаля не имеет прямого отношения к замыслу «Апологии», что создает определенные сложности в классификации материала при подготовке нового издания «Мыслей». Точно так же спорными остаются многие варианты соединения нескольких записей в один фрагмент. И, естественно, основной проблемой издателя «Мыслей» оказываются поиски убедительной системы распределения материала в публикации.
220
И. Е. БАБАНОВ
9
На протяжении трех с лишним столетий интерес к «Мыслям» порою угасал (как это происходило обычно и с другими памятниками европейской культуры), а затем возрождался с новой силой. Значительно менялось и восприятие книги (что столь же закономерно), однако при этом один аспект оставался неизменным — или, по крайней мере, достаточно явно ощущался во всех оценках. «Мысли» несли на себе такой глубокий отпечаток личности Паскаля, что любые рассуждения о них неизбежно вели к диалогу с автором *. И сам Паскаль настоятельно призывал к подобному диалогу — ибо в этом, в сущности, состояла подлинная цель его «Апологии».
Паскаль не был теологом; не был он и философом. И его подчеркнутое неприятие философии в «Мыслях» довольно показательно (хотя Декарту он обязан в гораздо большей степени, чем соглашался признавать**). Основы своей «Апологии» он строил самостоятельно — и обращался к неискушенному читателю, к его сердцу и разуму; он апеллировал не к теологическим познаниям или философским представлениям человека, но к его здравому смыслу. И на этом пути Паскаль все чаще прибегал не к проповеди, а к исповеди — но исповедь и требует непосредственного живого отклика.
Однако исповедь эта глубоко трагедийна. Источник этого не столько янсенизм с его мрачной доктриной, создавшей пропасть между Божественным провидением и человеческим неведением, сколько то ощущение трагичности бытия, которым был наделен Паскаль. Он не обрел в вере опоры и гармонии; ему дарованы были лишь редкие мгновения экстаза. Быть может, его «Апология» и есть отражение мучительных поисков того спасения, которое дает эмоционально воспринятое и рационально осмысленное христианство. Но даже если так, Паскаль и поныне с теми, кто ищет.
* Один из характерных примеров этого оставил Вольтер, включивший в состав своих «Философских писем» (1734) полемические замечания на «“Мысли” г-на Паскаля». Это — настоящий диалог, где за мыслью Паскаля следует ответ Вольтера.
** В «Мыслях» есть немало выпадов против Декарта. Между тем «Логика Пор-Рояля» в значительной степени исходит из положений, выдвинутых Декартом (в частности, в работах «Рассуждение о методе» и «Правила для руководства ума»).
С. В. ВЛАСОВ
Первое знакомство с «Мнениями Паскаля» в России: перевод Псевдо-Паскаля в «Утреннем свете» Н. И. Новикова (1779)
До сих пор еще широко бытует мнение, что в первом русском философском журнале «Утренний свет» Н.И. Новикова был опубликован в 1779 году перевод «нескольких глав» из «Мыслей» Паскаля под названием «Мнения Паскаля», «сообщенный» Новикову «оттрудившегося в оном [переводе] г. Надворного Советника Антона Антоновича Тейлса»*. Как мы видим, у истоков данной легенды стоял сам издатель «Утреннего света» Н.И. Новиков, приписавший Паскалю анонимный оригинал перевода Антона Тейльса. На самом деле, как мы покажем далее, речь идет не о переводе «нескольких глав» из «Мыслей» Паскаля, а о переводе почти целиком (за исключением главы «За и против комедии») совершенно другого французского анонимного сочинения под названием «Продолжение “Характеров” Феофраста и “Мыслей” Паскаля» **.
С легкой руки Новикова подобные ошибочные сведения попали на страницы научных работ и учебников по истории русской журналистики***, некоторых работ по истории русской литературы
* Утренний свет, ежемесячное издание. Часть VI. Месяц июнь. М., 1779. С. 83. Ср.: Тарасов Б. Н. «Мыслящий тростник» : Жизнь и творчество Паскаля в восприятии русских философов и писателей. 2-е изд. М., 2009. С. 248.
** [Brillon P.-J.] Suite des Caractères de Théophraste, et des Pensées de Mr Pascal. Paris, Estienne Michallet, 1699 (l e изд. 1697).
*** Незеленов A. И. Николай Иванович Новиков, издатель журналов 1769-1785 гг. СПб., 1875. С. 237. Макогоненко Г. П. Московский период деятельности Николая Новикова. Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук. Ленинград, ЛГУ, 1945. С. 41. Макогоненко Г. П. Николай Новиков и русское Просвещение. М.; Л., 1952. С. 310. Громова Л.П., Ковалева M. М., Станько А. И., Стенник Ю. В. и др. История русской журналистики XVIII-XIX веков. 2-е изд., испр. и дополн. СПб., 2005. С. 124.
222
С. В. ВЛАСОВ
XVIII века*, и даже в монографии о Паскале, в которых исследуется восприятие идей Паскаля в России**, хотя в том же 1779 году тот же самый перевод А. Тейльса вышел отдельным изданием, но под названием: «Подражание Феофрастовых Характеров и Паскалевых Мыслей» ***. Само название перевода недвусмысленно указывало на то, что это не сочинение Паскаля, а лишь подражание Феофрасту и Паскалю.
С распространением электронных средств информации эти же ошибочные сведения перекочевали в Интернет: например, в статье о Николае Новикове, приводимой в популярной Википедии, также утверждается, что в «Утреннем свете» Новикова печатались, среди прочих, и сочинения Паскаля.
Несмотря на то что уже в 1962 году в «Сводном каталоге русской книги гражданской печати XVIII века» автором данного сочинения, вслед за А.-А. Барбье****, считается Пьер-Жак Брийон*****, в электронных коллекциях РНБ до сих пор автором «Мнений Паскаля» значится сам Паскаль. Более того, в электронной статье доктора филологических наук, ректора Литературного института им. А. М. Горького Б.Н. Тарасова «Русский Паскаль», автором интересующего нас сочинения объявляется «на самом деле» никто другой, как Лабрюйер6*, хотя к «Характерам» Лабрюйера данное сочинение, имеет лишь косвенное отношение.
В монографии профессора Московского университета, доктора философских наук Г.Я. Стрельцовой «Паскаль и европейская культура» читаем следующую фразу, полную фактических неточностей: «В России уже в XVIII столетии предпринимается попытка издания сочинений Паскаля русским энтузиастом просвещения Н. И. Новиковым.
* См., например: Привалова Е. П. «А. Т. Болотов и театр для детей» // XVIII век. С.З. М.; Л., 1958. С. 259.
** Кляус Е. М., Погребысский И. Б., Франкфурт У. И. Паскаль (1623 1662). М., 1971. С. 298. Стрельцова Г. Я. Паскаль и европейская культура. М., 1994. С. 294. Тарасов Б. Н. Указ. соч. С. 248.
*** ([Брийон П.-Ж.] Подражание Феофрастовых Характеров и Паскалевых Мыслей. Перевел с французского языка Антон Тейльс. [М.], в Университетской типографии, 1779. В РНБ хранится рукопись60-х годов XVIII века перевода первых четырех глав этого сочинения под названием «Теофрастовы РазсужденТя о нравах и Мнешя господина Паскаля. С французскаго переводил Капитан Антон Тейлсъ» (собрание М.П. Погодина, опись2, № 1791).
**** Barbier Ant.-Alex. Dictionnaire des ouvrages anonymes. T. 4.3-e éd. Paris, 1882. Col. 577.
***** Сводный каталог русской книги гражданской печати XVIII века. 1725-1800. Т. 1. М., 1962. С. 127 (№№ 734 735).
6* Тарасов Б.Н. «Русский Паскаль» //Электронный журнал «Знание. Понимание. Умение»,2007, №1 — http://www.zpu-journal.rU/e-zpu/l/Tarasov ВЫ/.
Первое знакомство с «Мнениями Паскаля» в России...
223
В издававшемся им журнале “Утренний свет” за 1778 год печатается “Опоследование “Мыслей” Паскалевых и “Характеров” Теофрастовых”. Правда, перевод осуществлен с весьма посредственного и далекого от оригинала французского издания»*. Здесь все неточно: неточно указан год издания (1778, а не 1779!), неточно приведено название сочинения («Опоследование “Мыслей” Паскалевых и “Характеров” Теофрастовых», а не «Мнения Паскаля»), неточно указан источник перевода. К тому же, название русского перевода неточно воспроизводит заглавие не перевода А. Тейльса в «Утреннем свете» Новикова, а название совсем другого перевода этого же сочинения, сделанного Алексеем Сергеевым и опубликованного анонимно отдельной книгой в 1784 году — «Последование [а не “Опоследование”!] Характеров Феофрастовых и Мыслей Паскалевых» **.
Подобные распространенные фактологические ошибки свидетельствуют о том, что данные переводы до сих пор остаются неисследованными и неизвестными не только широкому кругу читателей, но и многим специалистам — историкам литературы и философии.
В нашем небольшом этюде мы хотели бы отчасти восполнить этот пробел в истории перевода французской моралистической литературы на русский язык.
Итак, как мы уже сказали, источником и перевода А. Сергеева, и перевода А. Тейльса является анонимное сочинение «Продолжение “Характеров” Феофраста и “Мыслей” Паскаля», приписываемое обычно П.-Ж. Брийону.
В качестве автора этого произведения иногда называется без каких-либо на то оснований Г. А. Валлер (Guillaume Amable Valleyre), профессор философии Парижского университета***. В библиографической литературе высказывалось также предположение, что автором «Продолжения “Характеров” Феофраста и “Мыслей” Паскаля» является адвокат из Руана Алом (Aleaume) ****. Но чаще всего Алом * Стрельцова Г. Я. Указ. соч. С. 294 (имеется электронная версия: http://krotov. info/library/16_p/as/cal_strelzova_7.htm).
** [Брийон П.-Ж.] Последование Характеров Феофрастовых и Мыслей Паскалевых. Переведено в подмосковной 1782 года. М., в Университетской типографии, у Новикова, 1784.
*** Quérard J.-M. La France littéraire, Ou Dictionnaire bibliographique des savants, historiens et gens de lettres de la France, ainsi que des litterateurs étrangers qui ont écrit en français, plus particulièrement pendant les XVII-e et XIX-е siècles. T. 10. Paris, Firmin Didot frères, 1839. P. 29.
**** Walckenaer Ch. A. Etude sur la Bruyère // Théophraste — La Bruyère J. Les Caractères de Théophraste, traduits du grec, Avec les Caractères ou Les Moeurs de ce siecle. Paris, Didot, 1845. P. 42,45. Lanson G. Manuel bibliographique de la littérature française moderne. T. 2. Paris, 1925. P. 450.
224
С. В. ВЛАСОВ
считается автором совершенно другого сочинения с похожим названием — « Продолжения “Характеров” Феофраста и “Нравов этого века” », которое издатель пытался выдать за сочинение самого Лабрюйера, что было сразу же разоблачено в рецензиях на это издание *. Атрибуция Барбье является более распространенной и на данный момент более вероятной, поскольку П.-Ж. Брийон известен как автор близких по жанру и по стилю «Серьезных, галантных и критических портретов» ** и других сочинений (см. ниже), в то время как об адвокате Аломе и о каких-либо неанонимных сочинениях адвоката Алома сведений не имеется. Но имеются сведения о сочинениях иезуита отца Алл ома***, который вместе с Лабрюером был одним из учителей герцога Бурбонского, внука великого Конде****. Это позволяет нам, вслед за Ш.-А. Валькенаэром *****, высказать предположение о том, что не адвокат Алом, а отец Аллом мог быть автором «Продолжения “Характеров” Феофраста и “Нравов этого века”», которое не следует путать с «Продолжением “Характеров” Феофраста и “Мыслей” Паскаля ».
Во избежание путаницы и для облегчения идентификации этих двух разных сочинений приведем сначала названия глав «Продолжения “Характеров” Феофраста и “Мыслей” Паскаля» в переводе Антона Тейльса, опубликованном в «Утреннем свете» Новикова: 1.0 человеке (L’Homme). 2. О вере (La Religion). 3. О свете (Le Monde). 4. О уединении (La Solitude). 5. О придворной жизни и больших господах (La Cour et les Grands). 6. Рассуждения на некоторые выбранные места из Тацита (Réflexions sur quelques endroits de Tacite). 7. О достоинстве (Le Mérite). 8. О славе (La Réputation). 9. О моде (La Mode). 10. О женщинах (Les Femmes). 11.0 разуме и науке (L’Esprit et la Science). 12. О авторах (Les Auteurs). 13. О щастии и нещастии (sic) (La Bonne * [Aleaume, avocat]. Suite des Caractères de Théophraste et des Moeurs de ce siecle. Paris, veuve d’Estienne Michallet, 1700. Переиздано во втором томе 11 го изд. «Характеров» Лабрюйера: Théophraste — La Bruyère J. Les Caractères de Théophraste, traduits du grec, Avec les Caractères ou Les Moeurs de ce siecle. T.2. Suite des Caractères de Théophraste et des Moeurs de ce siecle. Paris, Michel-Etienne David, 1714. См. рецензии на издание 1700 года в следующих журналах: Nouvelles de la Rlpublique des Lettres, Amsterdam, avril 1700, p. 473 (где имеется указание на руанского адвоката Алома как автора «Продолжения»); Le Journal des sçavans pour l’année 1700, Paris, Lundi 17 May 1700, p. 207.
** [Brillon P.-J.] Portraits sérieux, galands et critiques. Par le Sieur B... Paris, Michel Brunet, 1696.
*** Walckenaer Ch. A. Op. cit. P. 40-41.
**** Anaire e. La Bruyère dans la maison de Condé. T. 1. Paris, Firmin-Didot, 1886. P. 146-147,183.
***** Walckenaer Ch. A. Op. cit. P. 40-41.
Первое знакомство с «Мнениями Паскаля» в России...
225
et la Mauvaise Fortune). 14. О гордости и честолюбии (L’Orgueil et l’Ambition). 15. О зависти (L’Envie). 16. О сатире (La Satire). 17. Худые насмешники (Les Faux Plaisans et les Railleurs). 18. Любовь и дружба (L’Amour et l’Amitié). 19. О благоразумии (La Prudence). 20. О игре (Le Jeu). 21. О тяжбе (Le Procès). 22. Благодеяния, благодарность и неблагодарность (Bienfaits, Reconnaissance, Ingratitude). 23. Le pour et le Contre de la Comédie (За и против комедии) — не переведено. 24. Особливые мнения (Pensées détachées).
А вот названия глав «Продолжения “Характеров” Феофраста и “Нравов этого века”» в переводе на русский язык:
1. Об уме (De l’Esprit). 2. О мыслях (Des Pensées). 3. О суждениях (Des Jugemens). 4. О различных характерах (Des differens Caractères). 5. О людях (Des Hommes). 6. О женщинах (Des Femmes). 7. О счастье и несчастье (Du Bonheur et du Malheur). 8. О вельможах и Дворе (Des Grands et de la Cour). 9. О Фортуне (De la Fortune). 10. О любви (De l’Amour). 11.0 произведениях ума (Des Ouvrages de l’esprit). 12. Об обществе и разговоре (De la Société et de la Conversation). 13. О некоторых пороках и обычаях (De quelques vices et de quelques usages). 14. О различных сословиях (Des différentes conditions). 15. О посредственном человеке (De l’homme médiocre). 16. О личных заслугах и великих людях (Du mérite personnel et des grands hommes). 17. О политике (De la Politique). 18. О религии (De la Religion). 19. О жизни (De la Vie). 20. Различные мысли (Pensées diverses).
Известно еще третье анонимное сочинение — «Современный Феофраст, или Новые нравственные характеры», автор которых объявляет себя прямым продолжателем Феофраста и Лабрюйера*. Это сочинение так же приписывается обычно в библиотечных каталогах и во французских библиографических словарях П.-Ж. Брийону**, как и «Апология господина де Лабрюйера, или Ответ на критику “Характеров” Феофраста» ***. Последнее сочинение представляет со-
* [Brillon P.-J.] Le Théophraste moderne, ou Nouveaux caractères sur les moeurs. La Haye, Louis et Henry van Dole, 1700. Переиздано без названия (вместе с Suite des Caractères de Théophraste et des Moeurs de ce siecle и c Suite des Caractères de Théophraste, et des Pensées de Mr Pascal) во2-м и3-м томе Théophraste — La Bruyère J. Les Caractères de Théophraste traduits du grec, avec Les Caractères ou Les Moeurs de ce siecle. Amsterdam, Frères Wetsteins, 1720. T. 2. P. 300-408. T.3. P. 1-244.
** См., например: Barbier Ant.-Alex. Dictionnaire des ouvrages anonymes. T.4.3-eéd. Paris, 1882. Col. 577. Cioranescu A. Bibliographie de la literature française dud ix- septième siècle. T. 1. P. 483. Catalogue général des livres imprimés de la Bibliothèque Nationale. T. XIX. Paris, 1904. Col. 769.
*** [Brillon P.-J.]. Apologie de Monsieur de la Bruyère, ou Réponse à la Critique des Caractères de Théophraste. Paris, Jean-Baptiste Delespine, 1701.
226
С. В. ВЛАСОВ
бой анонимный ответ на анонимные «Критические суждения по поводу “Характеров” господина де Лабрюйера», приписываемые Бонавантюру д’Аргонну * и даже самому П.-Ж. Брийону **. В «Критических суждениях» содержится критика не только «Характеров» Лабрюйера, но и, возможно, самокритика «Современного Феофраста». Если верить «Критическим суждениям», то автором «Современного Феофраста» («Le Théophraste moderne») и «Апологии господина де Лабрюйера» является другой писатель, менее талантливый, по мнению критика, чем автор «Нового Феофраста» («Le Nouveau Théophraste» ***, еще другого, явно вводящего в заблуждение, названия «Продолжения “Характеров” Феофраста и “Мыслей” Паскаля», приписываемого обычно, как мы сказали, П.-Ж. Брийону и получающего в «Критических суждениях» более высокую оценку, чем «Современный Феофраст»!)****. Как утверждает издатель «Апологии», автором «Современного Феофраста» («Le Théophraste moderne») и самой «Апологии» является одно и то же лицо*****. Если этим лицом является известный адвокат Брийон, писавший анонимно, то приходится признать, что мы имеем дело с явной мистификацией, весьма распространенной в то время.
Столь явное желание сохранить любой ценой анонимность, сознательно запутывая читателя сходными и даже почти одинаковыми названиями разных произведений и разными названиями одного и того же произведения, открещиваясь при этом от собственного более раннего сочинения, свидетельствует о том, что подражатель Лабрюйера почтенный адвокат П.-Ж. Брийон осознавал слабость своих литературных опытов. Критикуя сам свои произведения, поставленные им тем не менее в ряд продолжений гениальных творений Феофраста, Паскаля и Ла Брюйера, Брийон, вероятно, хотел, привлечь таким хитроумным способом внимание к своим сочинениям и нейтрализовать их возможную критику, увеличив тем самым их сбыт. То, что это было действительно так, подтверждается косвен* [Argonne-Vigneul-Marville В. d’? Brillon P.-J.?]. Sentimenscritiques sur les Caractères de Monsieur de La Bruyere. Paris, Michel Brunet, 1701.
** Servais G. Notice sur La Bruyère // La Bruyère J. de. Oeuvres. T. 1. Paris, L. Hachette, 1865. P. 99-100,433.
*** [Brillon P.-J.]. Le Nouveau Théophraste, ou Reflexions critiques sur les Moeurs de ce siecle. Ouvrage dans le goût des Pensées de Pascal. Paris, chez Augustin, 1700.
**** [Argonne-Vigneul-Marville B. d’? Brillon P.-J.?]. Sentimenscritiques sur les Caractères de Monsieur de La Bruyere. Paris, Michel Brunet, 1701. P. 14-15.
***** [вгшоп p.-j.]. Apologie de Monsieur de la Bruyère [...]. Paris, Jean-Baptiste Delespine, 1701. F. 2v.
Первое знакомство с «Мнениями Паскаля» в России...
227
но любопытным рассуждением анонимного автора «Современного Феофраста» («Le Théophraste moderne»), который не может удержаться от того, чтобы не поделиться с читателем следующим откровением в духе максим Ларошфуко:
«Порицание самого себя не всегда вызвано чувством скромности: этой хитростью стремятся воспользоваться, чтобы приобрести право безнаказанно порицать других. Все критики, и это касается меня так же, как и других, прибегают к этому средству предупредить хулу. Существует мало произведений, в предисловии к которым не излагались бы недостатки автора, и это для того, чтобы вызвать у публики желание стать на его защиту,— вот наша цель. Гордыня тех, кому это не удается, жестоко наказывается за их отказ от похвал, которые они ожидают от общественного мнения. Но я уж слишком утрировал свой характер, отыграемся теперь на чужих недостатках» *.
Принадлежность перу П.-Ж. Брийона «Продолжения “Характеров” Феофраста и “Мыслей” Паскаля», а также «Серьезных, галантных и критических портретов», «Современного Феофраста» («Le Théophraste moderne»), «Критических суждений по поводу “Характеров” господина де Лабрюйера» и «Апологии господина де Лабрюйера» подтверждается также в биографии Брийона, опубликованной еще при его жизни в «Дополнении к прежним изданиям Большого исторического словаря Луи Морери» **. К этой биографии при разговоре о сочинениях автора отсылает и прижизненное издание «Словаря постановлений» самого Брийона***. То, что П.-Ж. Брийон является автором «Современного Феофраста» («Le Théophraste moderne») и «Произведения в духе Паскаля и Ла Брюйера», утверждается также в сноске, посвященной П.-Ж. Брийону, в 16-м диалоге «Диалогов живых » ( 1717) современника Брийона аббата Борделона ****, в котором, среди прочих персонажей, фигурирует сам Борделон и его критик Брийон.
Невольно возникает вопрос, почему вдруг в среде сотрудников Н. И. Новикова, связанных с окружением M. М. Хераскова (А. А. Тейльс * [Brillon P.-J.] [Le Théophraste moderne] // Théophraste — La Bruyère J. Les Caractères de Théophraste traduits du grec, avec Les Caractères ou Les Moeurs de ce siecle. Tome IL Amsterdam, Frères Wetsteins, 1720. P. 314.
** Moreri L. Supplément aux anciennes éditions du Grand Dictionnaire historique de Mre. Louis Moreri. T.l. Amsterdam — La Haye — Utrecht, 1716. P. 358.
*** Brillon P.-J. Dictionnaire des arrêts. Paris, 1727. T. 1. P. 989. Подробнее см. Servais G. Notice sur La Bruyère //La Bruyère J. de. Oeuvres. T. 1. Paris, L. Hachette, 1865. P. 100.
**** [Bordelon L.] Dialogues des Vivans. Paris, Pierre Prault, 1717. P. 254.
228
С. В. ВЛАСОВ
был вице-директором Московского университета и в отсутствие М. М. Хераскова замещал его на посту директора университета*) возник интерес не к самому Паскалю, а к его забытому ныне анонимному подражателю? Думаю, что интерес этот был далеко не случайным. Дело в том, что уже в своем программном предисловии к журналу «Утренний свет» Новиков выдвигает на первый план идею «О высоком человеческом достоянии», подчеркивает важность «науки познания самого себя», «между людьми мало еще известной» **, Сравнительно небольшие по объему размышления безымянного французского моралиста как бы подготавливали русского читателя к восприятию подлинных творений Паскаля и Лабрюйера, их идей в области самопознания человека. К тому же эти размышления, в которых преобладают темы светские, имели больше шансов пройти цензуру, чем подлинные «Мысли» Паскаля, которые касались в первую очередь религии и, стало быть, относились к ведению духовной цензуры, которая вряд ли допустила бы их публикацию в то время в России. Даже эти в основном светские рассуждения в дальнейшем были запрещены цензурой, и все оставшиеся экземпляры вышедших отдельными книгами переводов были уничтожены по распоряжению Екатерины Ц***, Как мы уже сказали, перевод Паскалевых «Мыслей о религии» стал возможен в России только в 90-е годы XIX века. А после Октябрьской революции, в эпоху воинствующего атеизма, «Мысли» Паскаля в русском переводе снова стали неугодны уже советской цензуре, и их новый перевод в сильно урезанном виде появился только в 70-е годы XX века****.
Сочинение П.-Ж. Брийона неслучайно называется «Продолжением “Характеров” Феофраста и “Мыслей” Паскаля». Оно даже печаталось в Голландии под ложными выходными данными парижского издателя Э. Мишалле как третий том трилогии, первый том которой составляли «Характеры» Феофраста, а второй — «Характеры» Лабрюйера*****.
* Об А. А. Тейльсе см.: Травников С. Н. Тейльс Антон Антонович де // Словарь русских писателей XVIII века. ВыпускЗ. СПб., 2010. С. 223-224.
** Утренний свет, 1777, часть I, сентябрь. Предисловие.
*** См.: Сводный каталог русской книги гражданской печати XVIII века. 1725-1800. T. 1. М., 1962. С. 127 (№№ 734-735).
**** Паскаль Б. Мысли // Ларошфуко Ф. де. Максимы. Паскаль Б. Мысли. ЛабрюйерЖ. де. Характеры [Библиотека всемирной литературы]. Москва, 1974. С. 109-186.
***** Théophraste — La Bruyère J. Les Caractères de Théophraste traduits du grec, avec Les Caractères ou Les Moeurs de ce siecle. Par Mr. De la Bruyere de l’Academie Françoise. T. 1-2. Nouvelle Edition Augmentée. Paris, Estienne Michallet, 1698.
Первое знакомство с «Мнениями Паскаля» в России...
229
То, что это не сочинение Паскаля или Лабрюйера следует из предисловия к «Продолжению», в котором автор пишет о том, что «рискованно пытаться писать, как Паскаль и Лабрюйер», что «невозможно схватить дух их стиля (attraper l’air de leur stile), их возвышенность и ясность», и признается, что в некоторых других главах (например, в главах о Таците и о комедии) его образцами были сочинения Сент-Эвремона и отца Рапена*. На подражание Феофрасту и Паскалю указывает также титул, помещенный на первой странице «Продолжения»: «Новое сочинение во вкусе “Характеров” Феофраста и “Мыслей” Паскаля» (Ouvrage nouveau dans le gout des Caractères de Théophraste, et des Pensées de Pascal).
Паскалю Брийон подражает в основном в первой главе под названием «Человек» («L’Homme»). Однако Брийону действительно не удалось «схватить дух стиля» Паскаля, несмотря на передачу Брийоном основных паскалевских мотивов. Стиль Брийона оказался лишенным простоты, естественности, глубины и силы стиля Паскаля. Стиль Брийона в этой главе слишком риторичен, полон выспренных восклицаний, обращений, антитез, перечислений, составлявших в учебниках риторики того времени черты высокого, ораторского стиля. Невольно вспоминается следующая мысль Паскаля: «Когда видишь в чьих-либо сочинениях естественный стиль, удивляешься и радуешься, что находишь человека, так как ожидал увидеть сочинителя. И, наоборот, люди с хорошим вкусом, видя книгу, думают, что найдут человека, и удивлены, что находят сочинителя: Plus poetice quam humane locutus es («Ты говорил скорее как поэт, чем как человек [цитата из “Сатирикона” Петрония, 90. — С.В.]» («Quand on voit le style naturel, on est tout étonné et ravi, car on s’attendait de voir un auteur, et on trouve un homme. Au lieu que ceux qui ont le goût bon, et qui en voyant un livre croient trouver un homme, sont surpris de trouver un auteur: Plus poetice quam humane locutus es»)**. И еще: «Те, кто насилует слова ради антитез, подобны тем, кто делает ложные окна ради симметрии. Их цель — не точная речь, но точные фигуры речи» *** («Ceux qui font les antithèses en forçant les mots sont comme ceux qui font de fausses fenêtres pour la symétrie: leur règle n’est pas de parler juste, mais de faire des figures justes» ****).
* Brillon P.-J. Op. cit. F. 3 r-v.
** Pascal B. Pensées. Texte établi et annoté par Jacques Chevalier. Paris, [1970]. P. 31 (№ 36). Здесь и далее, если это особо не оговорено, перевод мой. — С.В.
*** Паскаль Б. Мысли. Перевод с франвузского Юлии Гинзбург. М., изд-во Сабаш никовых, 1995. С. 246 (№ 559 (27)).
**** Pascal В. Op. cit. Р. 35 (№ 49).
230
С. В. ВЛАСОВ
Приведем в качестве примера стиля Брийона один характерный фрагмент из I-й главы «Продолжения»:
«Quel est le fondement de ton orgueil, Homme superbe? De quelque côté que je te regarde, dans la grandeur, dans l’élévation, pourvû d’une belle ame, d’un coeur genereux, d’un esprit sublime, orné des perfections du corps je te trouve toùjours Homme, c’est-à-dire mortel, créature impuissante, portée â l’erreur, esclave de ses passions» *.
В переводе Антона Тейльса этот пассаж звучит следующим образом:
«На какомъ основаши твоя пышность, гордой человекъ? Съ которой стороны я на тебя не посмотрю, въ превосходномъ ли твоемъ достоинств^, въ великой ли силЪ, одареннымъ ли хорошею душею, великодушнымъ сердцемъ, тонкост!ю разума, совершеннымъ тЪломъ, всегда однакожъ кажешься ты человекъ, то есть, смертный, маломочный, склонный къ заблуждешю, и подданный своимъ страстямъ [...]» **.
Сравним тот же фрагмент в переводе Алексея Сергеева:
«Какое имЪетъ основаше твоя гордость, человекъ высокомысленный? Съ которой стороны ни погляжу на тебя, въ величш, въ возвышенш, снабд^нна прекрасною душею, щедрымъ сердцемъ, превысокимъ умомъ, украшенна совершенствами телесными, нахожу я тебя всегда человЪкомъ, то есть смертнымъ, тварью безсильною, невольникомъ твоихъ страстей; [...]» ***.
В научной литературе и тот, и другой перевод получили резко отрицательные характеристики. Так, Г.П. Макогоненко считал перевод А. Тейльса малоудачным, лишенным стилистических достоинств оригинала. При этом оригиналом, как мы уже отмечали, советский литературовед считал «Мысли» самого Паскаля, а не подражание им П.-Ж. Брийона****. О переводе А. Сергеева в том же духе, не сравнивая * [Brillon P.-J.] Op. cit. Р. 3.
** Утренний свет. Часть VI. Месяц Июнь. М., 1779. С. 85.
*** [Брийон П.-Ж.] Последование Характеров Феофрастовых и Мыслей Паскалевых.
М., в Университетской типографии, у Новикова, 1784. С. 3. Имя переводчика дано по Сводному каталогу русской книги гражданской печати XVIII века. 1725-1800. T. 1. М., 1962. С. 127 (№ 735).
**** Макогоненко Г.П. Николай Новиков и русское Просвещение. М.; Л., 1952.
С. 310.
Первое знакомство с «Мнениями Паскаля» в России...
231
этот перевод с переводом А. Тейльса, отозвалась Е. Д. Кукушина: «Переводы С[ергеева] носят ученический характер» *.
Сравнение переводов А. Тейльса и А. Сергеева между собой и с оригиналом Л.-Ж. Брийона позволяет нам внести некоторые коррективы в эти во многом несправедливые суждения. Во-первых, нет необходимости опровергать очевидную необоснованность суждения Г. П. Макогоненко, принявшего за перевод «Мыслей» Паскаля перевод совершенно другого сочинения, действительно не обладавшего стилистическими достоинствами языка Паскаля. Нам представляется, что и суждение Е. Д. Кукушкиной, хотя оно и относится к другому переводу одного и того же оригинала, так же, как и мнение Г. П. Макогоненко, основано скорее на общем впечатлении от языка и стиля русского перевода, чем на действительном сопоставлении перевода и оригинала, а также, судя по всему, на предположении, что французский оригинал лучше русского перевода.
Принимая во внимание общий уровень переводческой техники 70-80-х годов XVIII века, мы полагаем, что перевод А. Сергеева выгодно отличается от перевода А. Тейльса своей большей эмоциональностью, силой и, при этом, точностью в передаче оригинала. Удачно, на наш взгляд, с точки зрения образцов высокого стиля эпохи и употребление А. Сергеевым в переводе данного отрывка кратких форм причастий, замененных на менее энергичные формы полных причастий в переводе А. Тейльса.
Сравним с обоими переводами другой отрывок из оригинала — начало главы о любви, по тематике стоящей ближе к раннему Паскалю (или Псевдо-Паскалю) «Рассуждения о любовных страстях», чем к «Мыслям» позднего Паскаля:
«L’Amour est le defaut des jeunes gens, le faible des vieillards, la folie des filles, la passion des femmes, l’amusements des petits, l’occupation des grans, la perte des insensez, l’écuëil des sages... Que veux-je dire par là? Que l’amour est universel, il domine tous les âges, tous les sexes, toutes les conditions» **.
A. Тейльс перевел этот отрывок в своей довольно отстраненной и рассудочной манере:
«Любовь есть порокъ молодыхъ людей, слабость старыхъ, глупость дЪвицъ, забава малыхъ, препровождеше болыпихъ, погибель глупыхъ * Кукушкина Е.Д. «Сергеев Алексей» //Словарь русских писателей XVIII века. ВыпускЗ. СПб.,2010. С. 116.
** [Brillon Р.-J]. Ор. cit. P. 193.
232
С.В. ВЛАСОВ
и преткновение разумныхъ. Чтожъ я чрезъ cie объяснить хочу? Что владычество любви есть всеобщее: она обладаетъ всякимъ возрастомъ, поломъ и состоян!емъ» *.
А. Сергеев предложил более живой и эмоциональный вариант перевода:
«Любовь есть порокъ молодыхъ людей, слабость стариковъ, глупость д1>вицъ, страсть женщинъ, забава малыхъ, упражнеше великихъ, погибель безумныхъ, камень претыкаюя мудрыхъ. Что я темъ сказать хочу? Что власть любви есть всемирная: владычествуетъ она надъ людьми всякихъ л1>тъ, обоихъ половъ и всехъ состояний» **.
Своей особой живостью и выразительностью перевод А. Сергеева более врезается в память, делает рассуждения оригинала менее скучными и банальными. Однако даже самый совершенный перевод не смог бы превратить в шедевр оригинал, представляющий собой лишь посредственное подражание великим образцам.
* Утренний свет. Часть VI. Месяц Ноябрь. М., 1779.
** [Брийон П.-Ж.] Последование Характеров Феофрастовых и Мыслей Паскалевых. М., 1784. С. 295-296.
СТАТЬИ О ПАСКАЛЕ
И. Г. БУТОВСКИЙ
О жизни Паскаля и его сочинениях
Власий1 Паскаль родился в Клермоне219-го июня 1623 года. Отец3 его, занимая в этом городе правительственную должность, отличался честным характером твердыми правилами, и довольно большою ученостью, особенно по части математики. Первою его заботою было развить воспитанием удивительные способности, замеченные им в своем сыне. Испытательный дух рано обнаружился в юном Паскале. Еще ребенком он находил неизъяснимое удовольствие слушать беседу ученых людей, собиравшихся у отца его. Часто он удивлял их меткими суждениями или вопросами, которых отнюдь нельзя было ожидать от его возраста. На одиннадцатом году своей жизни, он написал маленькое рассуждение о причине, почему тарелка перестает издавать звук от удара ножом, когда к ней приложат руку.
Подобное направление умственной деятельности, столь необычайной в дитяти, испугало старого Паскаля; он боялся, чтобы излишняя привязанность к математике не повредила его сыну в изучении языков, и старался потушить, или по крайности умерить его страсть к исчислениям. Ему запретили бывать в собраниях, где он находил столько пищи своему любопытству; отняли у него все книги, относившиеся к этому предмету. Но никакие стеснительные меры не могли остановить в его полете гений еще не вполне оперившийся, но уже чувствовавший свою орлиную мощь. Неотступными просьбами вымолив у отца первоначальные понятия о геометрии4, юный Паскаль с жадностью ухватился за эти слабые намеки; устремил на них все усилия ума своего; в часы отдохновения, запирался один в отдаленный покой: там чертил углем на полу треугольники, параллелограммы, круги, не зная даже имени этих фигур, и шаг за шагом, ощупью, с упорством удивительным, успел, наконец, вывести из них законы, и, будучи двенадцати лет от роду, поразил всех родных и знакомых
236
И. Г. БУТОВСКИЙ
своих разрешением 32-го Эвклидова предложения6, о равенстве всех углов треугольника двум прямым углам.
Тогда перестали противиться пламенному рвению молодого геометра. Восхищенный, изумленный отец снабдил его всеми математическими книгами, представил его знаменитейшим ученым того времени, и дал ему наставников6. Паскаль, нетревожимый более в своих наклонностях, с полною свободою предался наукам, угадывая, постигая их, прежде чем успевали развивать их перед ним. Скоро он мог уже занимать достойное место между лучшими геометрами, и шестнадцати лет написал рассуждение о конических сечениях*, которое всеми признано за образец ясности и отчетливости.
Наступило время, когда Паскаль-ученик сбросил с себя школьные цепи, и когда перед ним открылось обширное поприще деятельности. Последуем за ним в его гениальных усилиях, из которых многие увенчались полным и блестящим успехом.
Ему было 19 лет, когда в голове его родилась мысль составить Арифметическую машину7. Этим изобретением он хотел облегчить в ученых изысканиях затруднения и медленность выкладок. Великих напряжений ума стоило ему создать для этой цели механизм чрезвычайно сложный, и объяснить все его части работникам, взявшимся построить машину. Как ни значительна польза, однако, по крайней ее многосложности, она не вошла в общее употребление. Этот упорный и напряженный труд, поколебал между прочим слабое сложение Паскаля, и с этого времени здоровье его постоянно оставалось расстроенным8.
Между тем новые открытия в физике привлекли его внимание, и представили обильную пищу его пытливости. Галилей9 и ученик его Торричелли10, первые поколебали ложное, так глубоко укоренившееся мнение, будто отвращение к пустоте заставляет воду подыматься в трубке, где произведена пустота. Последний умер, не успев решительно удостовериться, или удостоверить других, что он разгадал настоящую тайну природы. Паскалю суждено было доказать ясными и неопровержимыми доводами, что не мнимое отвращение к пустоте, а тяжесть воздушной колонны, напирающей на ее поверхность, заставляет воду подыматься, и то до известной только высоты, в трубке, где произведена пустота. Он повторил с большею точностью опыты, сделанные Торричелли над ртутью; определил законы повышения и понижения ртути в трубке, подвергнув ее наблюдениям на различных высотах, и ему принадлежит слава превращения простых предположений итальянского ученого в неоспоримую истину п.
Здесь и далее выделение автора.
О жизни Паскаля и его сочинениях
237
Но нет полного торжества. Честь этого открытия сильно оспаривали у Паскаля иезуиты |2, как будто предчувствуя в нем своего страшного противника. Они упрекали его в неправильном присвоении заслуг Торричелли, которому, однако, Паскаль всегда отдавал полную справедливость, как первому испытателю, угадавшему истину. Даже Декарт13, которого честолюбие не могло насытиться повсеместною знаменитостью, изъявил притязания на это открытие. Но ничто не может оправдать обвинений зависти; да и как мог бы Паскаль, с его образом мыслей, усвоить себе что-либо принадлежащее другому?
Изыскания Паскаля о тяжести воздуха нечувствительно привели его к исследованию общих законов, которым подчинено равновесие жидкостей. До него этот предмет обращал на себя внимание Архимеда1 ’ и фламандца Стевена15. Уже известно было, что жидкости производят одинаковое давление на все стены сосуда, их содержащего; оставалось еще указать в точности меру этого давления, чтобы вывести из нее общие условия равновесия. Паскаль употребил для этого способ очень простой; он описал его в своем сочинении об этом предмете, которое уже напечатано по смерти его, равно как и его рассуждение о тяжести воздушной колонны16.
К этому же времени относятся первые наблюдения над переменами высоты, которым подвержена колонна ртути в одном и том же месте, вследствие различных перемен погоды. Паскаль принимал деятельное участие в этих изысканиях, подаривших барометр общему употреблению. Если не все его предположения о феномене понижения и повышения барометрической колонны оправдались, то нельзя не извинить его в том, вспомнив ограниченные учебные пособия того века.
Исследовав теорию жидкости, Паскаль написал несколько рас- суждений о геометрии 17. В одном из них, под заглавием: Promotus Apollonius Gallus18, он распространил теорию конических сечений; в других, как то: Tactiones sphaericoe, tactiones conicae, loci plani ac solidi, Perspectivae methodus19, и прочие, он равномерно проложил себе пути совершенно новые. По всей вероятности все эти труды затеряны; о них упоминается только в общем исчислении творений Паскаля, найденном в его бумагах, и в письме Лейбница к одному из его племянников, 30-го августа 1676 года. Нельзя не упрекнуть беспечных наследников20 в необнародовании таких любопытных геометрических изысканий.
Впрочем сохранились некоторые творения Паскаля, в которых его геометрический гений является в полном блеске. К ним должно отнести его Арифметический треугольник, и его изыскания о свойствах чисел21. Открытие первого вполне принадлежит Паскалю; важность его признана всеми знаменитыми математиками; Ньютон22
238
И. Г. БУТОВСКИЙ
воспользовался им в своих исследованиях. Своими наблюдениями над числами, Паскаль оказал значительные услуги еще неизвестной тогда науке вероятностей23. Он даже занимался подробным изучением отрасли этой науки об азартных играх24. Тогда же он изобрел две машины очень простые и употребительные: одна из них есть род движущегося стула об одном колесе, и в употреблении известна под названием тачки (brouette). Другая есть не что иное как длинные дроги или роспуски (haquet).
Все эти труды истощили уже расслабленное здоровье Паскаля. В 1647 году его постигнул паралич25, который лишил его почти совершенно употребления ног. Живя в кругу своих родных, он находил еще некоторое отдохновение от занятий. Но в 1651 году он потерял отца своего, а через два года после того, любимая его сестра, Жакелина, удалилась в монастырь26. Тогда одиночество заставило его сильнее предаться наукам, и от этого напряжения телесное расстройство его дошло до того, что врачи принуждены были запретить ему всякого рода умственные занятия. Его принудили искать развлечения. Он стал показываться в свете27; часто приносил оттуда чело задумчивое и суровое, но всегда нравился своею назидательною беседой, которую умел делать доступною всякому. Общество, в свою очередь, полюбилось Паскалю; он даже помышлял о браке, надеясь, что нежная и любезная подруга облегчит его страдания, усугубляемые одиночеством. Но неожиданное происшествие совершенно изменило его намерения.
В октябре месяце, 1654 года, Паскаль по обыкновению поехал прогуляться по дороге к Нейли28 в карете, четверкой. Две передовые лошади, испугавшись, понесли экипаж и бросились в Сену. К счастью ремни их упряжи порвались, и карета остановилась у самой бездны. Можно себе представить, какое потрясение произвело это приключение в болезненном организме Паскаля. Он долго не мог помниться от сильного обморока; мозг его до того был расстроен, что впоследствии среди ночей, проводимых без сна и в труде, ему иногда чудилось, что он видит подле постели своей бездну, готовую поглотить его. Той же самой причине приписывают некоторого рода видение, которое представилось ему около этого времени; память о нем он сохранил во всю остальную жизнь свою на листе бумаги, который всегда носил при себе, зашив в подкладке своей одежды29.
С самого детства, отец Паскаля, собственною набожностью и советами старался внушить ему беспредельную любовь и уважение к божественному учению. Эти чувства, хранившиеся в глубине души его, но несколько усыпленные науками, пробудились в эту минуту с вящею силою. Чудное спасение свое он принял за голос, поданный
О жизни Паскаля и его сочинениях
239
ему с неба, побуждающий его прервать все житейские отношения, и посвятить остатки своих дней единственно Богу. Сестра его, Жаке- лина, примером и увещаниями своими уже приготовила его к исполнению этого благочестивого намерения. Итак, он совершенно отрекся от света, и сохранил связи только с немногими друзьями, проникнутыми теми же мыслями. Правильная жизнь, которую он вел в уединении30, принесла некоторое облегчение его телесным немощам; она доставила ему даже продолжительные промежутки здоровья, и тогда-то написал он сочинения особенного рода, совершенно противоположного математике и физике. Здесь-то оказался дивный его гений, с чрезвычайною легкостию обнимающий предметы самые противоположные.
Тогда в духовном мире возгорелась жестокая богословская война. Орден Иезуитов31, возникший при самом начале реформации, и принявший в число своих обетов клятву всегда действовать на поддержание и восстановление власти Римского Престола, благодаря искусству и дарованиям многих из его членов, успел приобресть большую силу почти во всех европейских государствах. Главным орудием его было воспитание-. Иезуиты всегда старались втереться для этой цели в знатнейшие семейства, и преимущественно простирали свою политику на престолонаследников и принцев царской крови. Чтобы привлечь на свою сторону благорасположение высшего сословия, привыкшего к неге и удовольствиям и боявшегося правил слишком строгих, последователи Лойолы составили особенного рода нравоучение, в котором умели согласить требования общежития с требованиями Веры, хотя часто в ущерб последней. Помощию этого послабленного учения, они приобрели множество приверженцев и отняли последователей у Лютера и Кальвина32, напоминавших своим учением простоту и строгость первоначальных времен христианства.
Но Иезуиты не удовольствовались одним явным сопротивлением распространявшемуся протестантизму: они покусились также внести разные перемены в католическую Церковь, и отвергли древнее, освященное мучениками учение Святых Отцов. По учению Августина33, воля и деяния человеческие подчинены влиянию благодати Божией. Из этого учения вытекали правила, которых строгость отнюдь не согласовалась с планами и учением иезуитского общества. Появилась система испанского Иезуита Молины3' о соглашении благодати Божией с свободною волею. В ней, защищая свободу человеческую, Иезуит приписывает ей круг слишком обширный, делает тварь слишком независимою от Творца. Сюарез33 сделал некоторые изменения в системе Молины, и думал, что единовременным действованием Бога и человека, можно изъяснить непосредственное действие благодати,
240
И. Г. БУТОВСКИЙ
не лишающее, однако, человека свободы последовать ему или воспротивиться; но это приобщение Божества к действиям нашей воли слабой и переменчивой, есть тайна столько же непроницаемая, как и прочие спорные пункты.
Несмотря на опровержения, доказывавшие шаткость и даже ложность их учения, Иезуиты провозглашали его везде с самоуверенностью, как истинное разрешение затруднений, встреченных Святыми Отцами в соглашении дел человеческих с предвидением Божиим. Такие горделивые притязания оскорбили старые школы. Вознегодовали на превосходство, которое хотели приписать себе эти новые учителя, за введение в богословие некоторых метафизических тонкостей, которые в сущности ничего не объясняли, и даже взаимно противоречили одна другой. Прения их, особенно с Доминиканцами36, усилились до того, что Римский Престол принужден был вступиться в них. Богословы обоих орденов защищали мнения свои перед собраниями, столько известными под названием de Auxiliis37. Рим имел еще в этом случае благоразумие не произвести ничего решительного, и значительная гласность, которую придали этим торжественным прениям, только усилила ожесточение обеих сторон.
Тогда как подобные несогласия раздирали Западную Церковь, Корнелий Янсений38, муж благочестивый, занимался приведением в систематический порядок начал, открытых им в творениях блаженного Августина, совсем не помышляя о том, что имя его послужит впоследствии знаком раздора и ненависти. Он скончался в 1638 году, не успев довершить труда своего, которому дал название Augustinus39. Книга эта обязана всею своею известностью знаменитым мужам, провозгласившим ее, как лучшее изложение учения блаженного Августина. Аббат Сен-Сиран40, друг Янсения, первый объявил о его творении как о настоящем хранилище тайн предопределения. К нему присоединились пустынники Порт-Ройаля, всенародно исповедовавшие те же самые чувства и таким образом Янсений сделался оракулом славнейших школ. То был муж, посланный Богом, говорили они, чтобы служить истолкователем учителя благодати (так называли блаженного Августина). Иезуиты сильно восстали против сочинения Янсения 11. Они извлекли из него пять предложений, которые обвинили перед папским судом в еретичестве. Папа (Алесандр VII) действительно признал буллою 1656 года эти предложения ложными и неправильными, и подтвердил, что они точно находятся в обвиняемой книге42. Но эта булла не повлекла за собою никаких дальнейших следствий. Более успеха имели обвинители перед кардиналом Ришелье43, который, как личный враг аббата Сен-Сирана, велел без дальнейших околичностей заключить его в замок Венсенский44.
О жизни Паскаля и его сочинениях
241
При кардинале Мазарини*', прения эти приняли частию политический характер. Кардинал Ретц46, злейший противник главного министра, находился в тесных связях с пустынниками Порт-Ройля, и этого довольно было, чтобы навлечь на них ненависть последнего. Он тайно побудил духовенство требовать исполнения буллы 1656 года, и таким образом вопрос, долженствовавший потухнуть в неизвестности школ, сделался причиною ссоры, смущавшей государство в течение более ста лет.
Из всех защитников Янсения, доктор Арнольд*' показал наиболее рвения. Он был души возвышенной и строжайших нравов; привязанность к тому, что считал истиною, была непоколебима, и он ненавидел учение Иезуитов. Эти жаркие приверженцы молинизма ненавидели его еще большее. Следующая черта может дать понятие о ревности, с которою Арнольд поддерживал янсенизм. Однажды, Николь*8, его друг и сподвижник в богословии, но с характером более кротким и дружелюбным, жаловался пред ним, что эта война уже утомила его, и что он желал бы отдохнуть. «Отдохнуть, отвечает Арнольд, но разве для отдыха тебе мало вечности». В подобном расположении мыслей Арнольд издал в 1655 году письмо 1!), в котором объявил, что он не нашел в Янсении осужденных положений.
Против него вооружилась вся Сорбонна5", которой Арнольд был членом. Враги его употребили всевозможные усилия, чтобы подвергнуть его бесславию. Представления друзей принудили его защищаться. Арнольд, одаренный от природы большим красноречием, но не умевший сообщать своему слогу, сухому и небрежному, прелесть выражения, которая есть одно из главных средств убеждения, составил длинную апологию своих понятий и своего учения. Отдавая справедливость мыслям, все нашли однако это сочинение тяжелым, однообразным и неспособным привлечь мнение на его сторону. Арнольд хладнокровно сознался в том, и первый указал на Паскаля, как на единственного человека, способного заняться этим предметом со всею потребною важностью и остроумием. Паскаль охотно согласился подать помощь пером своим делу, в котором участвовали добродетельные ученые, любезные его сердцу.
Тогда-то появились знаменитые Письма к Провинциалу *h], нанесшие столь глубокий, столь решительный удар доктрине Иезуитов. Для опровержения ее, Паскаль прибегнул к собственным сочинениям * Провинциальные письма, названные так вовсе ненастоящим выражением, но которое освятило само время, сперва показались под заглавием: «Письмо Людовика Монтальта к другу его Провинциалу и к отцам иезуитам RR о морали и политике этих Отцов» (примечание автора).
242
И. Г. БУТОВСКИЙ
ее проповедников. Один лишь его гений мог собрать столько материалов и составить из них сочинение, возбуждающее участие не только богословов, но и всех сословий общества.
Чрезвычайно любопытно следовать за ним, как он камень по камню разбирает рухлое здание Иезуитов; преследует их повсюду, не дает им ни отдыха, ни времени приготовиться к обороне, овладевая беспрестанно их собственным оружием и обращая его против них. Разговорная и часто шуточная форма, принятая Паскалем в этих письмах, придает им занимательность несравненную, и эта занимательность кажется наиболее повредила обществу. Никто не стал бы читать сухих и огромных диссертаций доктора Арнольда, пугавших своим догматизмом. Всякий, напротив, охотно берет книгу Паскаля, которая, доставляя приятное развлечение, в то же время содержит спасительное предостережение от потворствующего учения последователей Лойолы. Тщетны были все их усилия отклонить от себя обвинения, так ясно и неопровержимо взнесенные на них красноречивым пером Паскаля. В то время они не имели ни одного искусного писателя, которого можно было бы противопоставить автору Провинциальных писем. Все, что ими издано против них, столько же слабо по слогу, как и по сущности, и не могло иметь никакого успеха, тогда как во всей Франции с жадностью читали Провинциальные письма. Янсенисты поспешили перевести их на иностранные языки, и всеобщий голос поднялся против Иезуитов. Их учение провозгласили развращенным, и с того времени они утратили большую часть своего нравственного влияния.
Ненависть, обнаруженная ими в этой борьбе, вооружила умы против них. Происками и криками, Иезуиты успели наконец в том, что Провинциальные письма в 1660 году всенародно сожжены во Франции на площади руками палача. Но эти насильственные меры не могли восстановить прежнего могущества ордена; напротив, они только раздули пламя, которое, может быть, утихло бы и погасло, если б на него не обратили внимания. Не худо заметить при этом, что, осудив в 1657 году Провинциальные письма, Папский Престол в 1665 и 1666-м осудил те самые правила Иезуитов52, от которых знаменитый автор так красноречиво старался остеречь верующих.
В отношении слога, Провинциальные письма всегда будут занимать высокое место в литературе французской53. Они появились в то время, как господствовало всеобщее подражание Древним, которых считали единственными законодателями вкуса, и несмотря на то, всех пленили изяществом и оригинальностью слога, в котором нет стихий, заимствованных у Римлян или у Греков. В этом сочинении, Паскаль решительно отгадал и установил язык французский,
О жизни Паскаля и его сочинениях
243
Вольтер5', не благоприятствовавший памяти Паскаля, признается однако ж, что в лучших комедиях Мольера65 нет столько соли, как в первых Провинциальных письмах, и что Боссюэт56 не может ничего представить возвышеннее последних67.
Три года продолжалась борьба Паскаля с иезуитами. Она-то помешала ему продолжить важное сочинение, которое он давно уже обдумывал, в доказательство истин Христианской Веры. В различные времена он набросал на бумагу Мысли58, долженствовавшие войти в его план. В 1658 году он решительно хотел исполнить свое намерение; но здоровье его расстроилось до того, что он никогда не мог довершить своего прекрасного предприятия, и нам достались одни лишь отрывки.
Возобновление телесных недугов его началось сильною зубною болью, не дававшею ему покоя ни днем, ни ночью. Томимый бессонницею, он в глубоких математических соображениях искал облегчения свои мукам и занимался разрешением проблем, относящихся к Циклоиде59. Открытия его в этом предмете считаются поныне между величайшими усилиями человеческого разума. Многие ученые, в том числе Робервалъ69 и Торричелли, старались определить эту кривую кругообразную линию, играющую такую важную роль в математике. Но сочинения их не содержат удовлетворительного разрешения всех вопросов, которые к ней относятся. Для этого надлежало создать новую геометрию или, по крайней мере, совершенно новое применение начал, уже известных.
Менее чем в восемь дней, среди самых жестоких страданий, Паскаль открыл методу, обнимавшую все неразрешенные вопросы о Циклоиде. От его открытий оставался один только шаг исчислениям дифференциальным и интегральным61: и все заставляет предполагать, что, посвятив еще несколько времени геометрии, Паскаль похитил бы у Лейбница и Ньютона славу изобретения этих исчислений.
Между тем, он скорыми шагами приближался к гробу. Три последние года его жизни были, так сказать, одни лишь продолжительные предсмертные мучения. Он почти совершенно лишился возможности предаваться размышлениям. В короткие промежутки спокойствия, исторгаемые у болезни, он занимался своим сочинением о Вере, писал свои мысли на первых клочках бумаги, ему попадавшихся, и когда ослабевшая рука роняла перо, верный и расторопный слуга писал их со слов его. Эти отрывки были собраны по смерти Паскаля, и отшельники Порт-Ройаля составили из них небольшую книгу, которая вышла в свет в 1670 году, под заглавием: Мысли г. Паскаля о Вере и некоторых других предметах62. С тех пор они были пополнены другими, найденными в его бумагах, и приведены
244
И. Г. БУТОВСКИЙ
в систематический порядок, в котором нынче Русский Переводчик предлагает их Публике.
В этом собрании находятся многие отрывки неполные, слишком краткие, слишком мало развитые, часто неудовлетворительно выраженные; другие отличаются глубокомысленностью и красноречием неподражаемыми. Иногда автор раскрывает мысль свою только вполовину, и ее трудно отгадать; а в других случаях он передает ее со всею важною ясностью, с краткостью удивительною. Эти неравенства слога зависят от физического расположения автора, в котором находились его органы. Вообще ход речи его важный и степенный; он увлекает и порабощает читателя, разбирает и глубоко проникает многие великие предметы, как-то: необходимость изучать Божественное учение; выставляет исторические и нравственные доводы, доказывающие его истину, отличительные признаки, по которым должно в нем убеждаться, божественность Иисуса Христа и т. и. Мы не можем следовать за ним в подробности; ограничимся одним общим и коротким изложением его плана.
«Какие мысли рождаются в человеке, брошенном на землю, имеющем разум и окруженном всеми чудесами природы? Все без сомнения вещает ему о Верховном Существе, извлекшем мир из ничтожества и правящим им свободно. Но уже ли одно холодное изумление пробудится в душе его при созерцании такого множества дивных дел? Ужели то будет единственное почитание, которое разумная тварь воздаст Творцу? Разве не лежит на ней вечная дань благодарности и благоговения? Но какого поклонения требует от нас это Верховное Существо? Вопросим философов, заглянем в Историю народов, бросим взгляд на их законы, их обычаи, их религиозные мнения. Какое зрелище раскроется перед нами: множество философских сект спорят о свойстве Верховного Существа, о назначении человека, о наградах и наказаниях, которых он должен страшиться или надеяться; целые страны поклоняются богам, которые развращеннее самих людей; религии рождаются и умирают вместе с государствами; повсюду обман и суеверие облекают религию мрачным покровом. Среди этой мглы заблуждений, народ, живущий в Палестине, близ берегов Средиземного моря, останавливает на себе наше внимание необыкновенными обстоятельствам своей Истории. У него находим книгу, которая содержит и историю его происхождения, и законы его гражданского устройства, и его служение Творцу. Все другие народы имели ложное понятие о Боге; он один представляет его в достойном его величии; один ясно провозглашает, что вселенная есть создание Бога; что человек получил частицу его бесконечной премудрости; но что тварь, возмутившись против Творца, утратила большую
О жизни Паскаля и его сочинениях
245
часть даров его благости, и с этой минуты сделалась добычею греха, страданий и смерти. Это простое, столь естественное сказание, объясняет лучше всех философских систем начало зла, существующего на земле, и служит точкою опоры нашим надеждам на лучшую жизнь. Углубляясь более и более в Историю народа Иудейского, убеждаешься, что он знал истину; что он принял ее непосредственно от самого виновника ее; поражаешься божественностью Писания; дивишься осуществлению Пророчеств; видишь, как рождается и созидается на непоколебимых основаниях учение христианское довершение того, что Бог дал Иудеям на срочное время»63.
Паскаль был проникнут истиною Веры христианской; он считал ее необходимою людям для устранения их сомнений, для облегчения бедствий жизни, и особенно для утешения нас в последние минуты, когда душа, лишенная всякой опоры, готова низринуться в неизмеримость вечности. На знании сердца человеческого он утвердил много доводов в пользу религии. Он полагал даже, что вообще полезные пробуждать в людях любовь к религии, чем доказывать ее доводами, которых силу и вес не могут постигнуть все умы.
И подлинно, он иногда прибегает к своей непобедимой логике, и с чудесною ясностью, столь нестерпимою для суетных мыслителей, опровергает сомнения, которыми они окружили некоторые священные предметы. Но чаще он с презрением бросает это орудие, и с коренною Верою праведника указывает на небеса, на землю, на весь видимый мир — на сии красноречивые письмена, в которых Всевышний открылся тварям разумным. Он не идет, не придумывает доказательств; но проникает в самую глубь души, и оттуда вызывает голос, который сливается с его голосом. В наше время, один из французских писателей, справедливо стяжавший венок славы и бессмертия, посвятил перо и прекрасные дарования свои тому же предмету. Явившись в то время, как Запад Европы, взволнованный революциею, всюду рассеивал превратные понятия о религии, он с благородною отважностью провозгласил себя поборником Христианства. Отдадим полную дань уважения высоким чувствам его одушевлявшим; пожалеем только, что он выказал в труде своем излишнюю человеческую смелость, которая судит о божественных истинах не по силам смертного: возможно ль ограниченному разуму определить бесконечное? Возможно ли таким мелким масштабом измерять неизмеримое? Посмотрите на Паскаля, притязания его не так велики. Он не берет целой вселенной, чтобы доказать высокие божественные истины. Каждый предмет, нам представляющийся в природе, разве не заключает достаточного доказательства бесконечной премудрости? Для человека, душевно проникнутого Верою,
246
И. Г. БУТОВСКИЙ
каждая ветка, каждое насекомое, каждая песчинка вещает о Боге; ему стоит только оглядеться, и мысль эта веет на него отовсюду, как некое живительное дыхание.
Таков Паскаль в своих Мыслях. Слог его прост, доступен для всякого; под его пером самые отвлеченные истины делаются ясными. Кажется, видишь философа христианина, погруженного в думу, внимающего, посреди безмолвия чьему-то неведомому голосу; он беседует с своей одинокою мыслию, и никакое иное помышление ни о выражении, ни о наружном блеске, не примешивается к его духовному созерцанию. Речь его имеет всю красоту, всю выразительность истины, о которой он вещает. В ней не проглядывает ни малейший след усилия: величественная и прекрасная, она решительно заслоняет человека.
Кто ищет животворного ключа, для утоления нравственной жажды души своей, тот найдет его в этих назидательных Отрывках. Эти Мысли, в которых душа Паскаля излилась среди самых жестоких страданий телесных, всегда с восторгом погружавшаяся в божественные помыслы, помирят читателя с его мятежным рассудком. В часы уединения, он найдет в них успокоение, когда утомят его треволнения света; найдет там сладостное утешение, когда сердце его поникнет под гнетом несчастий. Мысли эти напомнят ему о блаженстве, перед которым исчезают все понятия мира о счастии. Они предостерегут его от гибельных заблуждений, от опасной самонадеянности. Зажгут в нем светозарный пламенник Веры, той Веры, деятельной и живой, которая изобразилась в этом труде.
Эта Вера подвизала Паскаля на исполнение самых суровых требований Евангельского Учения. Он исполнял все обязанности христианина, как смиреннейший из верующих. Никогда не пропускал Божественной службы своего прихода, кроме случаев крайнего расслабления. В домашней жизни беспрестанно старался умерщвлять свои чувства и возносить свою душу к Богу. Он принял за правило отказываться от всякого удовольствия, всякого излишества. «Он так заботился об устранении всего, что казалось ему бесполезным, говорит сестра его, г-жа Перье, что велел снять в своей комнате все обои, как предметы роскоши, предназначенные единственно для удовольствия глаз. Когда его принуждали, для поддержания здоровья, к чему-либо льстившему его чувственности, он тщательно отклонял от себя всякий помысел об удовольствии. Не мог терпеть, чтобы при нем хвалили яства; хотел, чтобы ели единственно для удовлетворения аппетита, а не для услаждения вкуса. С самого начала своего отшельничества, он назначил количество пищи, необходимой для него; никогда не прибавлял и не убавлял этой меры, какое бы ни чувствовал
О жизни Паскаля и его сочинениях
247
к тому отвращение. Благотворительность его была неистощима; он считал бедных своими настоящими братьями; любовь его к ним простиралась до того, что он никогда не мог отказать им в подаянии, хотя часто принужден был употреблять на то свое необходимое» в4.
За несколько времени до своей кончины, он дал прибежище в своем доме одному бедняку с малолетним сыном единственно из христианского сострадания. На ребенке открылась оспа, и его нельзя было переместить в другой дом без опасности. Паскаль сам был очень болен; он беспрестанно нуждался в помощи г-жи Перье, переехавшей для него из деревни в Париж. Она жила в другом доме с детьми своими, и Паскаль, боясь подвергнуть их заразе, пожертвовал своим спокойствием в пользу бедного; оставил свой дом и переселился к сестре в маленькую комнату, совсем неудобную для него. К этой черте его благотворительности можно бы присоединить еще многие другие.
Но при этом благотворительном расположении духа, Паскаль, убежденный, что закон Божий запрещает слишком предавать сердце свое конечным тварям, насильно умерял любовь к родственникам. Никому не показывал он той живой и заботливой привязанности, которую так высоко ценят в свете; не хотел также, чтобы ему оказывали подобную же. Любовь его к целомудрию была беспредельна; он не мог терпеть речей, заключавших малейший безнравственный намек. Он до того простирал свою строгость в этом отношении, что осуждал сестру, когда она целовала своих детей. Чувство собственного превосходства иногда увлекало его невольно, и он всегда носил на себе железный пояс, усеянный колючками; и если ему случалось заметить в себе какое-либо движение гордости, он бил локтем по поясу, чтобы удвоить его уязвления и возвратить себя к чувствам скромности и христианского смирения.
Нельзя без особенного умиления помыслить о том, как этот высокий ум смирялся перед неисповедимым Всемогуществом Божиим. Во всю жизнь свою Паскаль оставался убежден, что исцеление одной из его племянниц, вслед за прикосновением к святым останкам Тернового Венца65, было настоящее чудо Божие. Среди неверия и скептицизма, овладевавших обществом, Вера столь глубокая, столь искренняя в муже просвещеннейшем, не служит ли одним из самых неопровержимых доказательств истин религии!
В последние годы своей жизни Паскаль испытал все муки души и тела. Он был тогда сильно огорчен началом продолжительного гонения, причинившего наконец падение Порт-Ройальского аббатства, гонения, воздвигнутого Иезуитами. Одною из первых жертв неумолимой вражды ордена была сестра Паскаля, Жакелина; она скончалась в 1661 году от душевного изнурения в этой несчастной
248
И. Г. БУТОВСКИЙ
борьбе. Паскаль тщетно старался отвратить бедствия, грозившие друзьям его, и без сомнения это горестное обстоятельство много содействовало ускорению его смерти.
В 1662 году, в июне месяце, его мучило жестокое и беспрерывное колотье, почти совершенно лишавшее снав6. Врачи сочли неопасными эти припадки; но Паскаль совсем не разделял с ними их хладнокровия; с первого разу он объявил, что они обманываются и что он должен умереть от этой болезни. Со спокойствием праведника, он несколько раз исповедовался и хотел приобщиться Святых Таин; но чтобы утешить друзей своих согласился на отсрочку, к которой принуждали его врачи, уверяя, что он скоро будет в состоянии пойти сам принять Святое Причастие в церкви. Между тем болезнь его усиливалась; к колотью, раздиравшему ему внутренность, присоединилась нестерпимая головная боль и частые обмороки; скоро страдания возросли до высшей степени. Несмотря на то, покорность его воле Божией была низменна; он не показал ни малейшего знака досады или нетерпения. Воображение его, разгоряченное жестокостью недуга, занималось одними лишь благотворительными распоряжениями. Он сделал свое завещание, в котором бедные получили наилучшую долю; он желал бы даже оставить им все свое имущество, если б это не слишком повредило его небогатым племянникам. Не в состоянии будучи сделать ничего более для бедных, он хотел по крайней мере умереть между ними; в течение нескольких дней неотступно просил, чтобы его перенесли в больницу des incurables (неизлечимых), и его успели отвратить от этой мысли одним лишь обещанием, что по излечении он может свободно посвятить на служение бедным всю свою жизнь и свою собственность. Во время всех этих волнений, 17-го августа, с ним сделался припадок такой сильный, что его сочли умершим; все, ходившие за ним, пришли в отчаяние что не исполнили желания, так часто им изъявляемого, причаститься Таин Евхаристии. Но они были утешены, когда он опамятовался. В ту же минуту вошел священник; он нес святыню, говоря: Вот тот, кого вы так сильно желали. Паскаль приподнялся с одра своих страданий, и принял Причастие с благоговением и покорностью, исторгнувшими слезы у всех присутствующих. Минуту спустя, припадки его возобновились и уже не прекращались до последнего его дыхания. Он скончался 29-го августа671662 года, на сороковом году своей жизни.
Сколько надежд унесла в могилу эта рановременная кончина! Сколько благодеяний мог бы еще оказать свету деятельный и многосторонний гений Паскаля! Оплакивая неумолимую жестокость рока, мы должны, однако, утешаться мыслию, что эта краткая, но полная жизнь оставила след самый светлый, след, указующий людям стезю
О жизни Паскаля и его сочинениях
249
к истинному спасению. И так мир видел сочетание мудрости и глубокой учености с христианскою простотою в одном и том же человеке, заслужившем уважение современников и удивление потомства. И так душа, влекомая к божественным истинам, но слабая и неуверенная в самой себе может смело последовать благому влечению, не внимая чуждым внушениям. Перед нею превосходный пример: Паскаль, проникнувший все тайны науки и вместо жалкого сомнения, в которое вверглась суетность иных мудрецов, почерпнувший в обширных познаниях своих одну лишь новую непоколебимую уверенность в божественности Евангельского Учения; Паскаль, удивлявший современников своею необыкновенною ученостью и в то же время носивший колючий пояс на чреслах своих и находивший более мудрости в чистосердечии младенца, чем во всех толкованиях философии. Небольшого собрания его Мыслей довольно уже, чтобы сокрушить и попрать совершенно все учение вольнодумцев. Как единый волос праведника, перевешивающий все беззакония порока перед Вышним Судом, этот болезненный голос, поданный с края могилы, но крепкий всею силою убеждения, должен заглушить все крики и толки, которыми наполняли Европу в XVIII столетии мнимые законодатели мудрости68, и которых эхо еще и поныне не везде замолкло. Отважные проповедники скептицизма это чувствовали; среди их самонадеянных и дерзких витийств, когда, казалось, их вкрадчивое учение готово было поглотить весь, так называемый просвещенный мир, перед ними часто являлась грозная тень Паскаля. Тщетно силились они ослабить его изобличительное слово, беспокоившее их из-за пределов жизни. Нередко в бессильной досаде, они прибегали к жалкому орудию клеветы. Так старались они распространить мнение, что в последние годы, в которые Паскаль преимущественно открыл свету свои религиозные правила, голова его была расстроена. «Друг мой, писал Вольтер к Кондорсету, не заставляй меня повторять тебе, что со времени приключения с Паскалем на дороге в Нейли, рассудок его повредился» 69. Одно только небольшое затруднение представляется в этой лжи: этот рассудок, повредившийся в 1654 году, произвел в 1656-м Провинциальные письма, а в 1658 решение проблем, относящихся к Циклоиде, и, наконец, можем повторить, и эти самые Мысли, которые предлагает в переводе нашим Читателям.
И. В. КИРЕЕВСКИЙ
Сочинения Паскаля, изданные Кузенем1
Мы уже извещали читателей наших, что Кузень недавно восстановил текст Паскаля, искаженный иезуитами2; теперь еще яснее и чище обнаруживается направление ума этого великого мыслителя, проникнутого глубоким скептицизмом в отношении к разуму и глубокою уверенностью в религии.
Кузень в некоторых статьях, писанных о Паскале, старается как философ доказать односторонность этого янсенистского направления Паскаля и всего знаменитого Пор-Рояля. В их безусловном отрицании всякой безусловной философии видит он столько же уклонения от истин разума, сколько от истин католицизма; но, кажется, если бы и справедливо было, что Паскаль в своем мышлении уклоняется от истинных законов разума, то, вероятно, не Кузеневы истины могли бы приблизить его к настоящему мышлению. Кузень принадлежит к числу тех людей, которые почитают возможным принять чужую систему отчасти, приложить к ней другие мнения тоже отчасти и, говоря беспрестанно о безусловной необходимости законов разума, подчинять иногда эту необходимость другим целям, выдавая за выводы разума соображения своего рассудка. Не такова была строгая, крепкая, острая, железная логика Паскаля.
Нет сомнения, что Пор-Рояль в учении своем о благодати рознится с учением римского католицизма. Но мы думаем, что эти добросовестные мыслители потому только могли уклониться в одностороннее понимание истины, что западная церковь в их время уклонялась в другую сторону; когда мы вспомним те догматы римской схоластики о благодати и заслугах человека, на которых опиралось учение их о чистилище, о индульгенциях и т. п., тогда поймем, что для искреннего христианского мышления невозможно было не вырваться из этого заблуждения в другую, противополож-
Сочинения Паскаля, изданные Кузенем
251
ную крайность; если и эта крайность преувеличенная, то, конечно, она происходит из источника справедливого. Заметим при этом случае, из нашей церкви никогда не могли произойти ни Янсений, ни Пор-Рояль, так же как не могли произойти из нее ни доминиканцы, моллинисты, ни благоприменительные противники обоих — иезуиты*.
Кстати к Пор-Роялю, приведем здесь отрывок из речи Гюго, говоренной им в Академии по случаю принятия в нее Сент-Бёва, написавшего, как известно, знаменитую книгу о Пор-Рояле**, исполненную многих любопытных рассказов, живых красноречивых страниц, но не обнявшую, как кажется, всей глубины пор-рояльского учения.
«Естественно было вам, м[илостивый] г[осударь], по направлению вашего таланта обратить внимание ваше на два знаменитые круга великих умов, которые сообщают XVII веку его две характеристические черты: на гостиную Рамбулье3 и на Пор-Рояль. Одна открывает XVII век, другой сопровождает и заключает его. Одна вводит в язык наш краску воображения, другой — характер строгости. Оба, находясь на двух концах человеческой мысли, проливают на нее различный свет. Их влияния счастливо спорили между собою и еще счастливее совмещались: в некоторых образцах нашей словесности, возникших, так сказать, в равном отдалении от обоих, в некоторых бессмертных произведениях, которые равно удовлетворяют уму в его потребности воображения и душе в ее потребности внутренней строгости, сливаются в один свет их двойственные лучи. Из этих двух явлений, обозначающих знаменитую эпоху и сильно действовавших на нравы и литературу Франции, первому, гостиной Рамбулье, посвятили вы несколько живых и умных очерков, но второй, Пор-Рояль возбудил и привлек ваше полное внимание. Вы посвятили ему превосходную книгу, которая хотя еще не окончена, но, без сомнения, есть самое значительное произведение ваше. Вы хорошо сделали, м[илостивый] г[осударь]. Достойна внимания и глубокого изучения эта строгая семья отшельников, уединенно и значительно прошедшая сквозь XVIII век, среди преследований и почтения, среди восторгов и ненависти, уважаемая великими, * Этого абзаца нет в первой публикации в «Москвитянине». Он появился лишь в книге: Киреевский, изд. Кошелева, т. 2, с. 186. Очевидно, издатель располагал рукописью статьи.
** Сочинение Сент-Бева «Port-Royal» (v. 1-5,1840-1859). Речь Гюго о Сент Беве, произнесенную27 февраля 1845 г., см. в кн.: Hugo Victor. Oeuvres completes. Actes et Paroles, t. 29. Paris, NelsoS Editeurs, p. 101-116.
252
И. В. КИРЕЕВСКИЙ
гонимая сильными, почерпавшая из самой слабости своей, из своего одиночества какую-то неизъяснимую власть и употреблявшая величие ума на возвеличение веры!
Николь, Лансело, Леместр, Саси, Тилемон, Арнольды4, Паскаль — имена почтенные, славы спокойные, среди которых блестят целомудренной красотой три женщины, достигшие своею святостию того величества, которого римские женщины достигали героизмом. Прекрасная и ученая школа мыслителей, заменившая Аристотеля св. Августином, покорившая своему убеждению герцогиню Лонговиль5, образовавшая президента Гарлея6, обратившая Тюренна7 и которая в то же время украшалась милосердием Франца де Саля8 и крайнею строгостью аббата Сен-Сиранского. Впрочем, дело Пор-Рояля не было делом литературным; оно захватывало литературу случайно, так сказать, стороною. Настоящая цель этих печальных и строгих мыслителей была чисто религиозная. Скрепить узы церкви внутри и вовне большею нравственностию священника и большею верою народа; преобразовать Рим, покоряясь ему; произвести внутри силою любви то, что Лютер хотел произвести вовне силою гнева; создать во Франции между страдающим и невежественным народом, с одной стороны, и между расслабленным и сластолюбивым дворянством — с другой, создать класс средний, здоровый, крепкий, стоически твердый, создать высокое мещанство, христиан образованных, основать церковь образцовую посреди церкви, народ образцовый посреди народа — таково было тайное стремление, тайное честолюбие, тайная глубокая мечта этих людей, знаменитых тогда своим религиозным покушением и знаменитых теперь своим литературным следом. И чтоб достигнуть этой цели, чтобы основать общество согласно вере, они почитали между всех необходимых истин за самую необходимую, за самую светлую, самую действительную, самую неизбежную для разума и самую существенную для веры истину о слабости человека вследствие первородного греха, истину о необходимости бога-искупителя — истину Христа. Сюда обращались все их усилия, как будто они предвидели, что здесь предстоит опасность. Они воздвигали громады книг, утверждали выводы на выводах, доказательства на доказательствах для укрепления одной правды. Удивительный инстинкт предчувствия, свойственный только одним глубоким умам! Мы должны заметить это явление.
Они спешили строить великую крепость, наспех созидали ее, как бы предугадывая великое нападение. Смотря на них теперь, подумаешь, что эти люди XVII века предвидели людей осьмнадцато- го. Кажется, что, наклонившись над бездною будущего, беспокойные
Сочинения Паскаля, изданные Кузенем
253
и внимательные, понимая по какому-то болезненному колебанию воздуха, что неизвестный легион движется во мраке, они уже слышали вдалеке приближение темной и нестройной армии энциклопедистов, уже распознавали посреди неясного гула ее шагов смутный отголосок печального и рокового слова Жан-Жака9, уже слышали пронзительный хохот Вольтера.
Их преследовали — они едва замечали это. Будущая опасность веры занимала их мысли более, чем настоящие страдания их общины. Они не просили ничего, не хотели ничего, ничего не добивались; они созерцали и работали, они жили в тени уединения, во свете ума. Зрелище удивительное, которое волнует душу, поражает мысль! Между тем как Людовик XIV10 покорял Европу11, как Версаль12 удивлял Париж, как двор рукоплескал Расину13, как город рукоплескал Мольеру; между тем как век наполнялся блеском праздников и громом побед14; между тем как все взоры с восторгом устремлены были на великого короля и все умы на великое царствование, они, отшельники, созерцатели, определенные к ссылке, к заключению, к смерти бесславной и незамеченной, заключенные в монастыре, предназначенном к разрушению, в монастыре, которого последние следы должна была запахать враждебная соха,— мыслители, потерянные в пустыне, вблизи этого Версаля, этого Парижа, этого великого царствования, этого великого короля, мыслители-земледельцы, возделывающие поле свое, изучавшие тексты, не знавшие, что делается во Франции и в Европе, искавшие в Священном писании беспрерывных доказательств о божественности Иисуса, искавшие в мироздании бесконечного прославления создателю,— с мыслию, направленною к богу, с очами, устремленными единственно к нему, они размышляли о священных книгах и великой природе, с раскрытою Библиею посреди их церкви, с лучезарным солнцем посреди их небес.
Их явление не было бесполезно. Вы сказали это, м[илостивый] г[осударь], в замечательной книге, которую они вам внушили. Они оставили следы свои в теологии, философии, языке, литературе, и до сих пор еще Пор-Рояль остается внутренним и тайным светильником для некоторых великих умов.
Дом их был разрушен, поле их было опустошено, их гробы вырыты и преданы на поругание15, но их память остается священною, но их мысли еще стоят, но из дел, посеянных ими, многие принесли плод свой. Для чего же победа их прошла сквозь такие бедствия? Отчего такое торжество, несмотря на такие преследования? Это не потому только, что они были мыслители возвышенные; это еще потому, это особенно потому, что они были искренние! Потому что они верили, потому что
254
И. В. КИРЕЕВСКИЙ
они были убеждены, потому что они шли к своей цели с сердцем, исполненным единою волею, нераздельною, глубокою верою.
Размышляя о их истории, невольно восклицаем каждому: кто бы ты ни был, хочешь ли иметь великие мысли, совершить великие дела? Верь! Имей убеждение, имей веру религиозную, веру патриотическую, веру литературную. Веруй в человечество, в силу гения, в будущее, в самого себя. Знай, откуда ты исходишь, чтобы знать, куда стремишься. Вера здорова для разума. Не довольно думать, надобно верить. Из веры и убеждения исходят святые подвиги в сфере нравственной и великие мысли в сфере поэзии».
В. В. РОЗАНОВ
Паскаль
Нет счастья для тех, которые не имеют в себе никакого света религии.
Великие и малые люди имеют те же несчастные слу чайности, те же неудовольствия, те же страсти; но один человек находится на окружности колеса судьбы, другой ближе к центру, поэтому менее испытывает те же самые движения.
Время, когда Платон и Аристотель создавали свои «Законы» и «Политику», было наименее философскою и наименее серьезною частью их души. Самою философскою частью была та, когда они жили просто и спокойно. Все наше достоинство состоит в мысли.
Паскаль
I
Историки нередко бывают несправедливы не только к отдельным лицам, но и к целым эпохам. Свет и тени, которые они кладут на прошлое, почти всегда не соответствуют действительному значению отдельных моментов этого прошлого. Продолжительное изучение человеческих увлечений, созерцание суетного в человеческих делах и суждениях не делает их самих свободными от этих недостатков. Мы ожидали бы, что они будут высоко стоять над минутными волнениями своего времени, что их суд будет носить на себе черты вечной строгости, бесстрастной справедливости; но ничего этого обыкновенно мы не находим у них. Они не руководители толпы; так же как и другие деятели текущей действительности, они только ее выразители. С легкомыслием ребенка или женщины они приковываются вниманием ко всему шумливому, резко заявляющему о себе, тогда как истинно глубокое и серьезное нередко оставляется ими в тени.
Вспомним, как часто, с какою ненужною подробностью нам рассказывались различные пошлости из жизни Вольтера или Байрона и как редко и мало мы слышали от них о Кеплере1 или Локке2; не было достаточно малой сплетни в истории салонов XVIII-ro века, на распутывания которой они не положили бы своих усилий, а тихая жизнь ученых отшельников Порт-Рояля едва вызывала несколько ленивых
256
В. В. РОЗАНОВ
похвал. Как и в жизни, в истории великое и малое часто не обозначает ничего другого, кроме занимательного и незанимательного. Эти мысли всегда и невольно приходили нам на ум, когда мы думали о XVII веке. В обычном освещении истории этот век всегда как-то теряется между предшествующим столетием и последующим, представляется гораздо менее значащим, чем они, не говоря уже о нашем XIX веке, венце истории, когда пар и электричество решительно затмили собою все, прежде бывшее, когда человек, изобретши громадные и изумительные машины, сам сделался, наконец, только незначащим придатком к ним и, кажется, в этом одном уже видит все свое значение и достоинство. Среди громадного религиозного переворота, который совершился в XVIII веке, в блеске салонов, энциклопедии и революции, в шуме военной славы Наполеона и всего, что за нею последовало, как-то затеривается скромный век, когда Мильтон3 слагал свои песни и целый ряд тружеников мысли предавался то изобретению страннопричудливых теорий, то открытию глубоких истин в сфере самых точных наук. И если бы не перипетии 30-летней войны и не личность Людовика XIV, историки верно пришли бы в большое затруднение, чем же наполнить, наконец, несколько неизбежных страниц своих трудов, где события, могущие дать пищу глубокомыслию и картину для прелести рассказа. Революция1, и всего только одна, и еще с каким-то странным, уродливым характером, вовсе непохожая на все другие революции, заставляла только нарушать правильный и ровный колорит исторического повествования, скорее мешая красоте целого, нежели возвышая достоинство одной его части.
Между тем если глубже вдуматься во взаимное соотношение отдельных веков, составляющих новую историю, то нетрудно заметить, что XVII столетие занимает центральное положение между всеми ими. Подобно тому как в исторической жизни какой-нибудь эпохи иногда встречается синтетическая личность, удивительным образом совмещающая в себе все разнообразные стороны своего времени, которые в прочих людях выражены только порознь,— так и XVII столетье является синтетическим для всей новой истории, потому что в нем соединились — или заканчиваясь и начинаясь — почти все главные ее течения. Полное еще религиозного одушевления, которым исключительно жил предшествующий век, оно представляет вместе и начало политического устроения европейских государств, что наполняет собою последующее столетие, и заложение всех точных наук, полный расцвет которых принадлежит нашему времени. Век Тили и Валленштейна5, он был в то же время веком Ришелье и Мазарини, и временем, когда жили и трудились Декарт и Лейбниц, Ньютон и Локк.
Паскаль
257
Все, чем жила и еще продолжает жить новая история, все идеи, одушевляющие ее: философские умозрения и теории политической свободы и абсолютизма, религиозный экстаз и строгие положения механики, скептицизм и вера, невозможные мечты об общественном переустройстве и сухая юриспруденция — все соединилось в этом удивительном веке, придавая ему красоту и разнообразие, которых мы напрасно искали бы в каком-нибудь другом времени.
В ту самую пору, как произносились безумные речи в парламенте, который собрал Кромвель6, Паскаль изучал законы равновесия жидкостей и Гюйгенс ’ писал о применении высшей математики к азартным играм; одновременно с тем, как трагедии Расина разыгрывались при блестящем дворе Людовика XIV, Томазий издавал «Установление божественной юриспруденции» 8 и Ньютон оканчивал свои «Начала» 9. И это богатство психических настроений, их причудливое сочетание проникает собою не только весь век, но и жизнь отдельных личностей, которые в нем трудились и мыслили: математик, изобретший дифференциальное исчисление, тревожно ищет философских доводов, которые нравственно оправдали бы Бога в истории и в мироздании; творец аналитической геометрии осторожно высказывает мысль, что чувствительность и вообще одушевленность животных есть по всему вероятию только кажущийся признак: в действительности они не более, как машины, правда чудно устроенные, но однако же совершенно бездушные.
Но не это одно разнообразие, соединение никогда потом не совмещавшихся противоположностей придает интерес изучению XVII века. Есть в нем еще другая черта, способная не менее привлечь к нему внимание: это глубокая серьезность, с которою отдавались в нем люди всему тому, что их занимало или волновало, чрезвычайная высота самых интересов и могущество мысли, которое обнаружили они в своем стремлении удовлетворить этим интересам. И в слабой оценке этой черты особенно сказывается та несправедливость историков, о которой мы упомянули. Век Перикла в Афинах|0, эпоха Возрождения в Италии11 и время энциклопедистов во Франции 12 — вот моменты, на которые указывается обыкновенно, как на высшее проявление в истории человеческих способностей, как на время несравненного процветания человеческой мысли. Они представляются как бы рассеивающими окружающий их сумрак, одни светят сквозь прошлое нам, которым выпала счастливая роль — понять, наконец, важное и неважное в истории и, взяв в свои руки факел просвещения — конечно, донести его до конца.
Этим векам, которые по духу так похожи на наш и, следовательно, выше всех других, одним суждено было получить от историков
258
В. В. РОЗАНОВ
счастливые названия «эпохи высшего расцвета образованности», «века разума», «века просвещения» 13. Уверенные, что все двухтысячелетнее развитие истории совершилось только для того, чтобы подготовить, наконец, появление такого удивительного продукта, как наш XIX век, когда разум окончательно восторжествовал над предрассудками и просвещение широко разлилось по всем странам и среди всех народов, мы смотрим на все века, когда «суеверие» не было так унижено, почти как на задержки в историческом движении, и в том случае, если в них совершилось что-либо неоспоримо великое в умственной жизни, мы все-таки затрудняемся в истинной оценке их достоинства.
А между тем если отрешиться от этой мысли, что мы — цель истории и что в наших понятиях заключается непреходящее значение, то нетрудно будет заметить, что указанные моменты в прошедшей жизни человечества не только не были моментами высшего проявления вообще творческих сил человека, но даже и моментами высшего умственного расцвета. Некоторая односторонность в направлении творческих сил и грубое непонимание многих важнейших сторон духовной жизни человека были в высшей степени присущи каждой из трех названных эпох. Создание не столько глубокого, как красивого, чаще усовершенствование уже начатого, нежели замысел действительного чего-либо нового, наконец, некоторое пренебрежение к религии и всем глубоким и тонким движениям человеческой души,— вот общие черты указанных моментов исторического развития, скорее, счастливых для человечества, чем истинно великих. Что касается, в частности, до умственной деятельности, то и здесь названные моменты, скорее, готовились стать производительными, нежели действительно были производительны; в них более говорилось о науках и философии, нежели совершалось что-либо важное в их сфере; мысль и знание окружены были высочайшим почетом, считалось в высшей степени достойным человека посвятить им свою жизнь, но сказать, что тогда жизнь и действительно посвящалась им, и особенно — посвящалась с успехом, значило бы сказать несправедливое. Достаточно вспомнить, что век Перикла не был ни временем возникновения Элейской школы14, ни временем Сократа, Платона и Аристотеля, чтобы согласиться, что в умственной жизни Греции он занимал второстепенное место. В эпоху Возрождения беспокойно искались, но не были найдены новые начала для теоретической деятельности человека, которые могли бы заменить уже павшую схоластику: «Новый органон» появился только в 1620 г.15, «Рассуждение о методе» Декарта в 1637 г. Наконец, и XVIII век ничего другого не сделал, как только распространил идеи предшествующего столетия
Паскаль
259
в общественных массах и сделал попытку применить их к жизни; но он не был оригинален ни в своих отрицаниях, ни в своих утверждениях. В “Contrat social” Руссо16 нет ничего существенного, что нельзя было бы отыскать в «Левиафане» Гоббса17; деизм18 Вольтера мы уже находим в трудах Герберта19 и Толанда20, и даже едва ли он не был распространен в их время глубже, чем в XVIII веке: в 1698 г. благочестивые граждане Дублина с удивлением слышали, что им гораздо более говорят с церковных кафедр о каком-то еретике Толанде, нежели об И. Христе. Будем ли мы читать философских скептиков XVIII-ro века или его публицистов, как мало серьезным покажется нам их настроение в сравнении с Бэйлем, каким холодом повеет после Мильтона или Локка. Ни одна из названных эпох не была кульминационным пунктом в истории человеческой мысли; это было время только широкой общественной жизни, когда или предчувствовалось значение науки и философии, как это было в век Перикла, или вспоминалось о нем, как это было в эпоху Возрождения и в XVIII веке. Они были утреннею или вечернею зарею умственной жизни, но не ее знойным полуднем.
Гораздо более скромный, вовсе не сознававший своего всемирно- исторического значения, XVII век поднялся в умственном отношении на высоту, которая никогда не достигалась прежде и осталась недоступною для последующих веков. Все, чего тревожно искали ранее, было найдено в этом столетии; все, чем умственно жили потом, было заложено в нем же.
Нет ничего привлекательнее, как следить за возникновением различных идей в это время:
Ньютон открывает исчисление бесконечно малых21 и оставляет необнародованным этот могущественный метод, пока другой не изобретает его вновь и самостоятельно; многие труды его, из которых каждого было бы достаточно, чтобы увековечить имя творца своего в истории науки, долгие годы сохраняются у него в рукописи и только благодаря нескромности или даже своеволию друзей, которым он давал снимать с них копии, они не пропали для потомства22.
Декарт приложением алгебры к геометрии2:1, о котором один знаменитый математик нынешнего столетия говорит, что оно не имело в предшествующем никакого подготовления, никаких задатков, поднимает эту науку на неожиданную высоту, но скрывает свой метод и только по крайнему настоянию друзей обнародует его, наконец, много лет спустя после открытия и в таком виде, который по необработанности своей делает едва возможным чтение драгоценного трактата.
Лейбниц высказывает глубочайшие философские идеи, и до сих пор приложимые к истолкованию природы и человеческого духа,
260
В. В. РОЗАНОВ
в частных письмах и отрывочных заметках, написанных по тому или другому случаю.
Спиноза издает свой “Tractatus teologico-politicus” без подписи, а его «Этику»24, в течение двух столетий покорявшую самые возвышенные умы Европы, находит в черновых бумагах врач Мейер, единственный свидетель его одинокой смерти.
Какая удивительная простота во взгляде на себя, какое величие и красота человеческой природы! И как бы для полноты гармонии, чтобы ничто не звучало в ней ненужным диссонансом, в жизнь всех великих людей этого века привходит одна черта, которой мы напрасно искали бы в людях вышеназванных эпох: это — глубокая и серьезная религиозность. Когда еще с таким правом, как в это время, человек мог бы опереться на свои силы в борьбе со всем супранатуральным против всякой религии, и однако мы видим, что именно теперь он чаще, нежели когда-либо, обращался своею душою к Богу, с таким же жаром молился, как и искал истины.
Вспомним трогательную кончину Локка, как об ней рассказывает Кост, его французский переводчик25, и жизнь Малебранша26, в одно и то же время глубочайшего философа своего века и простого священника в конгрегации Оратории27. Целый ряд математиков и физиков: Валлис28, Паскаль, Уайстон29, преемник Ньютона по кафедре в Кембридже, Борроу30 — его предшественник по ней, наконец, он сам и его соперники по открытиям, Лейбниц и Гун,— все наряду с любимыми науками занимаются изучением Св. Писания и пишут богословские трактаты.
В религии, как и в науке, они были так же просты; проникая так далеко в природу, как это только доступно для человека, они в то же время твердо помнили, что она не исчерпывается этими изведанными областями и с благоговением преклонялись перед тем, что в ней оставалось скрытого. В ответ на удивление перед его открытиями, которое выражали Ньютону окружающие, он раз задумчиво отвечал: «Я не знаю, что люди будут думать о моих сочинениях; что же касается меня, то мне кажется, что я был похож на ребенка, играющего на берегу моря и сбирающего то блестящие камешки, то более красивые, чем другие, раковины, тогда как обширный океан глубоко скрывает истину от моих глаз». Только этим почти религиозным отношением к истине и ее исканию и объясняется то, что эти скромные и великие люди сделали свой век классическим в истории умственного развития Европы.
Никто не покровительствовал им, их жизнь была часто не обеспечена, некому было заботиться о предоставлении им досуга или удобств жизни, и какие, однако, чудные памятники своего гения
Паскаль
261
они завещали последующим временам. “Discours sur la methode”* Декарта есть не менее удивительное явление в истории, чем Парфенон; изобретение дифференциального исчисления Лейбница важнее, чем издание «Энциклопедии»; все 95 томов нескончаемо остроумных стихов и прозы Вольтера менее заключают в себе ума и человеческого достоинства, чем один некрасивый томик «Начал», изданный в 1687 г. Ньютоном.
Мы уже не сравниваем их с итальянскими гуманистами XV века, думавшими превзойти Гомера и Виргилия, из которых каждый писал или только греческие, или только латинские стихи, тогда как они одинаково легко писали их на обоих языках, и притом в таком обилии, что ими и до сих пор завалены старинные библиотеки Флоренции и Неаполя. Но деятельность этих людей была более шумна; государи то искали их дружбы и переписывались с ними, то их преследовали, когда они дразнили и мелко раздражали их; обо всем этом, и поучительной дружбе и об интересной борьбе, можно занимательно рассказать.
Но что сказать о серьезных и угрюмых тружениках XVII-ro века, так глубоко и трудно думавших и так небрежно порою писавших, кроме того, что они до конца исполнили этот древний закон, данный человеку: «В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят»,— что они любили Бога и за эту любовь Он наградил их труд обильною жатвою.
II
Вот почему всякий раз, когда какой-нибудь памятник умственной жизни XVII векаусвояется нашею литературою, мы должны бы смотреть на это как на приобретение самого драгоценного сокровища. Между тем когда не так давно появились в русском переводе два лучшие произведения XVII века, «Рассуждение о методе» Декарта и «Этика» Спинозы, это не обратило на себя ничьего внимания, и всего менее — внимания литературы.
Мы не припомним в точности, чем именно была занята она в то время: неурядицею ли с билетами на Финляндской дороге31 или каким крупным банковым воровством,— только ни о том, ни о другом переводе не было сказано в ней ничего, кроме нескольких ленивых и обычно бездарных рецензий в двух-трех журналах, впрочем, более интересовавшихся рассуждениями о любви или о чем-то таком одного маркиза, который потом оказался, кажется, просто евреем. Вследствие ли
Рассуждение о методе» (фр.). — Сост.
262
В. В. РОЗАНОВ
соперничества с газетами, или от каких других причин, но только журналистика наша пугливо обходит каждый интерес, который мог бы дожить до завтра, она вся и безраздельно погрузилась в тревоги дня, с ними возникает и с ними же, конечно, и умрет. Собственно литературные и научные интересы давно и совершенно отошли в ней на задний план. Она живет не мыслями, борется не за идеи, но только — фактами, которые стремится как-нибудь изменить.
«Этика» Спинозы, прекрасно переведенная г. Модестовым и еще лучше изданная (в 1896 г.), к сожалению не сопровождается никакими объяснениями, которые могли бы свидетельствовать об интересе переводчика к трудной системе этого философа, и никакими сведениями об его жизни. Последнему обстоятельству можно особенно удивляться, потому что в «Жизнеописании Бенедикта Спинозы», оставленном Коперусом, г. Модестов имел современный и незаменимый памятник, ожидавший только перевода, из которого каждый читающий мог бы познакомиться со всеми подробностями прекрасной и глубоко трогательной жизни еврейского мыслителя.
Совершенно иным характером отличается перевод «Рассуждения о методе» (СПб., 1886 г.), сделанный г. Любимовым, бывшим профессором физики в Московском университете. В течение долгих лет (судя по предварительной журнальной статье «О физических учениях в эпоху Декарта») этот труд, всего 48 стр. in 4" в латинском издании 1692 г., служил предметом изучения и размышлений для нашего ученого, и работа, им изданная наконец, есть собственно обширный комментарий к «Рассуждению», в котором почти теряется самый перевод. Каждая мысль французского философа здесь замечена и внимательно обработана, и в тех случаях, когда в переводимом памятнике она выражена сжато или неполно, она обставлена обширными извлечениями из его других сочинений, где ему случилось высказать то же самое, но полнее и обстоятельнее; так что перевод одного сочинения явился как обработка цельной физико-философской системы.
В особенности интересны здесь все замечания о физических гипотезах Декарта, напр., сопоставление его известной теории вихрей с кинетическою теориею газов, недавно возникшею92. Первая в течение двух столетий считалась одним из самых фантастических произведений человеческого ума и в наше время возобновляется в исследованиях Гельмгольца"’, И. Томсона94 и др., обставленная уже точными опытами и строгим математическим анализом: удивительный пример того, как далеко и правильно может проникнуть мысль, опираясь на исключительно теоретические начала, ею выбранные, без какого-либо чувственного их оправдания. Таким опорным началом для Декарта
Паскаль
263
служила мысль о совершенной раздельности духа, как существа мыслящего, от внешней природы, как существа протяженного, и вытекавшее из этой мысли положение, что внутреннее созерцание есть единственный способ познания первого, а механизм — единственный принцип понимания второй; откуда — предположение, что вселенная наполнена различным образом движущимися вихрями, гораздо более тонкой природы, чем она сама, которые своим механическим давлением производят все наблюдаемые перемены и явления в ней.
Замечательно, что уже в нынешнем столетии, но гораздо ранее возникновения кинетической теории газов, появилось объяснение всемирного тяготения, совершенно отличное от того, как его понимал Ньютон, и согласное с тем, как представлял себе устроенную природу Декарт. Г. Любимов35 прекрасно формулирует это замечательное отношение Декарта к современной нам науке: будучи ньютонианскою по своим основаниям, говорит он, «физика нашего времени является картезианскою в своих стремлениях»,— слова, над которыми никогда не устанет задумываться всякий, кто интересуется судьбою человеческой мысли в истории.
Заметим, что выше приведенное начало Декарта послужило исходным моментом, откуда возникли и развились две великие ветви нового европейского просвещения: спиритуалистическая философия, стремившаяся все понять через умозрение, самосозерцание духа, и мир частных наук о природе, опытно-математических по приемам, механических по содержанию, которые и до сих пор преследуют цель, поставленную для них этим великим человеком: достигнуть полного истолкования природы, не прибегая к другим объяснениям, кроме чисел, мер, фигур и движений.
Этот принцип гораздо более наложил свою печать на естествознание XVII, XVIII и XIX веков, с его успехами и односторонностью, нежели указания Бэкона Веруламского в «Новом Органоне». Историческое значение этого последнего труда вообще чрезмерно и несправедливо преувеличено: как факт, опытное исследование природы существовало ранее его появления (опыты Галилея и падуанских профессоров в Италии36, Спелля37 во Франции, Гарвея38 в Англии, Стевина в Голландии и др.), а как теория, указания «Нового Органона» были слишком общи и неопределенны, так что ими невозможно было руководиться при частных изучениях природы и этого действительно не было после его появления.
Торжество опытного метода было исключительно результатом его практического успеха: применимый еще в XVI веке, он обнаруживал свою плодотворность в каждом частном случае, оправдывался при каждом применении,— и поэтому быстро распространился и твердо
264
В. В. РОЗАНОВ
окреп во всей Европе; теоретические же указания Бэкона здесь не играли никакой роли.
Позднее (в 1889 г.) появилось в русском переводе еще одно замечательное произведение XVII-ro века — «Мысли» Паскаля. Г. Чудинову пришла прекрасная мысль — создать журнал, который был бы посвящен исключительно интересам литературы, как русской — в ее текущий момент, так и иностранной — главным образом в ее прежних представителях. В течение четырех лет, как издается «Пантеон литературы» 39, в нем появилось много оригинальных статей, главным образом по истории западноевропейских литератур и просвещения, и несколько замечательных переводных произведений.
Следя за характером последних, можно с удовольствием заметить, что г. Чудинов не суживает рамок своего журнала, наблюдая только одно, чтобы переводимые произведения были лучшие. Под именем литературы он понимает не совокупность произведений, в которых существенным элементом является вымысел, творческое изобретение, но вообще совокупность памятников, в которых при помощи слова выразилась духовная жизнь человека. Мы можем пожелать только, чтобы он твердо держался этого понятия и, насколько возможно, еще более расширил программу своего журнала, введя в него, напр., труды по нравственной философии, политике и пр. Журнал не впадает в специализацию отдельных наук, он останется все-таки литературным, если переводимые сочинения будут действительно классические: особенность последних заключается именно в чрезвычайной общности их интереса и значения, всегда переступающего тесные рамки той или иной науки, к которой они относятся. «Теодицея» Лейбница или «Опыт о человеческом разуме» Локка не суть труды по богословию и психологии; это великие памятники духовной жизни человечества и как таковые они принадлежат литературе.
Требовать, чтобы классические произведения и переводились классически — это, конечно, невозможно. Будет уже заслугою со стороны журнала, если среди десятков переводов и в течение многих лет появится на его страницах один классический. Последний всегда есть явление редкое, и притом настолько, что иногда богатая литература даровитого народа так и закончит свое существование, не успев усвоить себе в классическом переводе какого-нибудь великого писателя иной страны, несмотря на все усилия сделать это. Подобное усвоение, впрочем, и не может быть результатом усилий, труда только: оно зависит от редкого и случайного появления среди данной национальности писателя, который по душевному складу гармонировал бы с тем или иным великим писателем другой страны. Только через его труд и может совершиться действительное и полное усвоение памятника
Паскаль
265
одной литературы другой литературой, в которой с этого времени он начинает пониматься и действовать так же, как действует и понимается в своем родном народе. Кроме правильности в передаче мысли и чувства, насколько они выражены писателем в точном значении его слов, классический перевод, в отличие от обыкновенного хорошего, передает еще стиль его. Последний есть выражение общей психической настроенности автора, как основы, из которой развиваются все частности его деятельности, образа мыслей, избираемых предметов для научного исследования или поэтического воспроизведения.
Синтез духовной организации писателя и его судьбы, данного ему природой и привнесенного к этому жизнью, психическая настроенность звучит в каждом его слове, проникает всякую его мысль, кладя на них своеобразный оттенок. Поэтому-то и стиль, в котором она выражается, является оригинальным у всякого писателя, если только он не безличен, и притом невольно для него самого. Он может совпасть с массою других пишущих и в содержании своем, и в образе мыслей; только в одном он никогда не совпадает с ними — в стиле, в особенностях языка своего. Так, наир., то, что рассказано Тацитом в его «Летописях»40, конечно, может быть рассказано и всяким другим, и самое отношение рассказывающего к изображаемым событиям и лицам может быть то же; но одно не может быть воспроизведено: психическая настроенность Тацита, и с нею — стиль его. Для этого нужно и родиться Тацитом, и пережить, и видеть то же, что пережил и видел он.
Найти в душе своей родственное с настроением переводимого писателя, тонко понять особенности в складе его мысли и чувства и знать настолько глубоко родной язык, чтобы найти в нем все нужное для передачи понятого и почувствованного на языке другого народа, к этому, конечно, не всякий способен, этого нельзя требовать от каждого. Достаточно, если переведенный писатель явится в нашей литературе без искажения своей мысли и своего чувства, насколько они выражены в точном значении им написанных слов. Это и есть обыкновенный хороший перевод, точно и правильно передающий нам памятник чужой литературы. Некоторый недостаток в живости речи, отсутствие изящества в том или другом месте — это уже обычные следствия исключительного желания быть точным и правильным, и они встретятся нам в каждом подобном переводе.
Все эти свойства мы находим и в переводе г. Первова. В нем видно серьезное отношение к переводимому писателю и более всего опасение в чем-нибудь не сохранить верность подлиннику. Отсюда — местами тяжелая речь, слишком длинные и не всегда хорошо построенные периоды, впрочем, вообще не затрудняющие чтение перевода.
266
В. В. РОЗАНОВ
Гораздо более существенным недостатком нам представляется выбор предисловия к «Мыслям». Прево-Парадоль, статья которого «Паскаль как моралист»41 служит этим предисловием, принадлежит к числу тех представителей вырождающейся французской философии, которые, уже не надеясь что-либо сказать нашему уму, рассчитывают еще как-нибудь потревожить наше сердце; но обыкновенно также совершенно бесплодно. В течение двух тысячелетий своей истории человеку случилось столько пережить, так много почувствовать и все это выразить с такою силою и красотою, что при некоторой начитанности во всемирной литературе теперь каждый может и ничего уже не чувствуя написать несколько страниц, исполненных меланхолии и изящества. Придуманные сравнения и искусные антитезы, тонущие во множестве ненужных и вялых слов — вот обычные признаки подобных произведений. Характерным образчиком их могут служить «Размышления» Прево-Парадоля “De la tristesse”, “De la maladie et la mort”* и пр. и пр., которыми он заканчивает ряд характеристик французских моралистов, конечно, не без тайной надежды, что и сам за эти грустные страницы быть может будет причтен со временем к числу последних, хотя бы из minorum gentium **. Недурным примером может служить также Каро, писавший о пессимизме XIX века, совершенно неистощимой теме для множества писателей, которым без этого счастливого пессимизма решительно пришлось бы положить перо. На том великом поле — мы разумеем философию, и в частности нравственную философию — где в течение двух тысячелетий трудилось столько благородных гениев и боролись такие гиганты — на этом поле теперь можно подвизаться без мысли, без убеждений. То, что служит необходимым условием для занятий всякою наукой — жажда истин известного определенного содержания и способность находить их — вовсе не требуется общею матерью всех их, философиею; или по крайней мере этого требования не слышат те, которые благородно решаются посвятить ей свою жизнь. Вследствие этого странного положения дел философия сделалась общим прибежищем всякого индифферентизма и неспособности: каждый, кто видит, что он не может уже ничем заняться, думает, что может заняться еще философией. Она одна ничего не требует от своих адептов, никуда не спешит, ничего не ищет, полная великого прошлого, совершенно не имея настоящего и не надеясь ни на какое будущее,— холодный труп, с которым можно все делать.
* «О грусти», «О болезни и смерти» (фр.). — Сост.
** «Неизвестных людей» (лат.). — Сост.
Паскаль
267
Предпосылать Паскалю, одному из таких гениев нравственной философии в ее прошлом, размышления Прево-Парадоля, человека без религии, без любви к чему-нибудь, холодного и риторичного — это, конечно, бесконечная ошибка, и мы думаем, в нее мог впасть только человек, для которого литература — просто книжное дело. Не знаем, кому принадлежит этот выбор, самому ли переводчику или редакции журнала, в котором он печатался прошедший год. Вообще можно заметить, что старинных писателей, если они почему-либо нуждаются в поясняющих приложениях, следует по возможности обставлять литературными памятниками их же эпохи: тогда только не нарушается единство психического настроения, которое каждый читатель ищет вынести из прочитанной книги. И для Паскаля есть такой памятник, и притом несравненных достоинств: это жизнеописание его, написанное М-me Периэ, его сестрою.
«Мысли» Паскаля невозможно понимать, не зная его жизни: они — последний плод, который принесла эта жизнь, странные и глубокие слова, которые он не успел еще окончить, когда могильный холод уже навек закрыл его уста. Только 30 лет спустя после его смерти они были впервые изданы42, до крайности разрозненные, местами представляя почти непонятные обрывки. Но их достоинство так велико, что даже и в этом виде они сделались одним из величайших сокровищ французской литературы и теперь переведены едва ли не на все европейские языки. Мы уже сказали, что они непонятны без знакомства с личностью Паскаля и его жизнью, в высшей степени замечательною. На них мы и остановимся несколько, руководясь, главным образом, рассказом его сестры.
III
Блез Паскаль родился 19 июня 1623 г. от Этьена Паскаля и Антуанетты Бегон, в Клермоне, в провинции Овернь, где их старинный род всегда занимал высокое положение. Он был единственный сын у своих родителей, имевших кроме него только еще двух дочерей, из которых одна впоследствии удалилась в монастырь Порт-Рояль, а другая, оставившая жизнеописание брата, вышла замуж за М-r Периэ.
В 1626 г. Э. Паскаль потерял свою жену и с этих пор весь отдался заботам о воспитании своего сына, который невольно привлекал к себе внимание раннею живостью своего ума и пытливыми вопросами, которые он предлагал обо всем окружающем. Обладая высоким общим образованием и будучи одним из лучших математиков своего времени, он решился совсем не отдавать сына в школу. Чтобы ничем не отвлекаться от этих забот, он вскоре передал судебную должность,
268
В. В. РОЗАНОВ
которую занимал в Клермоне, одному из своих братьев, и переселился в Париж, где у него не отнимал досуга обширный круг знакомых, которым он был связан в своем родном городе.
Мальчику было в это время 8 лет. Здесь он сблизился со многими лучшими учеными, в тесном круге которых проводил немногие часы своего досуга. В определенные дни они собирались в его дому, чтобы обсуждать текущие вопросы науки. Это было одно из тех частных обществ, из которых возникла впоследствии Парижская академия наук. Эт. Паскаль живо интересовался всеми новыми идеями и открытиями, которые в это именно время появлялись в таком обилии: так в 1638 г. он даже выступил, вместе с Робервалем, против Декарта, который подверг резкой критике трактат знаменитого Фермата43 о maximis et minimis, что не помешало ему, однако, сблизиться впоследствии с этим великим философом и математиком.
Держась правила, что ребенок приступал к изучению какого- нибудь предмета не прежде, чем когда по возрасту он будет стоять выше тех трудностей, которые ему могут встретиться в нем, Эт. Паскаль начал учить своего сына латинскому языку только тогда, когда ему исполнилось уже 12 лет. До этого времени в беседах он разъяснял ему, что такое различные языки, на которых говорят разные народы, как грамматика сводит их строй к немногим правилам, овладев которыми и запомнив несколько исключений из них, каждый может сделать для себя понятным язык чужого народа. Это предварительное освещение пути, по которому должны были идти занятия мальчика, сделало то, что он шел по нему уже охотно, с ясным сознанием необходимости и разумности каждого шага. Сверх того эти беседы дали ему несколько общих идей, приложимость которых далеко переступала границы того, что послужило частным поводом к их усвоению.
То, что всего более способно пробудить в молодой душе любознательность,— это встреча с явлениями, которые поражают воображение своею странностью или загадочностью: только темное влечет наш ум к объяснению себя, тогда как мимо ясного или обыкновенного он проходит равнодушно. В беседах с сыном Эт. Паскаль говорил иногда о таких загадочных явлениях, и внимательно слушавший мальчик всегда хотел знать их причину. Но его напряженное ожидание не всегда бывало удовлетворено: иногда причины не были известны вовсе, иногда отец ничего не говорил ему о них или ссылался на общепринятые объяснения, в сущности не представлявшие собою ничего другого, как изворот ума, бессильного объяснить явление. В последнем случае мальчик всегда оставался неудовлетворенным, потому что его ясный ум тотчас замечал все ложное и начинал искать другого объяснения,
Паскаль
269
которое было бы лучше. Так рос он в постоянном напряжении мысли, с умом, всегда пытливо обращенным к природе.
Случилось однажды, рассказывает его сестра, что в его присутствии кто-то ударил о стол фаянсовою тарелкой, на которой лежал нож; это вызвало продолжительный звук, который тотчас прекратился, как только до нее дотронулись рукой. Мальчик тотчас же захотел узнать причину этого и начал делать различные опыты над звуком. Произведя их, он сделал столько интересных наблюдений, что они дали ему содержание для целого трактата, написанного умно и доказательно; в это время ему было двенадцать лет.
На двенадцатом же году он впервые выказал свои необыкновенные способности к геометрии. Вот как это произошло: Эт. Паскаль желал, чтобы сын его занялся изучением языков, и, думая, что знакомство с геометриею в особенности может помешать этому, до известного времени не хотел ничего сообщать ему о ней: по собственному опыту он знал, до какой степени эта наука может заинтересовать ум, раз он соприкоснулся с нею, и всецело наполнить его собою. С этою целью он спрятал все книги математического содержания, которые у него были, и никогда в присутствии мальчика не говорил о ней со своими друзьями. Но эта предосторожность не помешала пробудиться любопытству ребенка, и он часто обращался к отцу с просьбою — научить его геометрии. Тот всегда отказывал, и наконец обещал ему сделать это в виде награды, после того, как он усвоил уже латинский, греческий и др. языки.
Видя упорство отца, мальчик спросил его однажды, что это по крайней мере за наука и о чем говорится в ней. Тот отвечал, что это такая наука, в которой содержатся средства делать верные фигуры и находить отношения, которые они имеют между собою (faire des figures justes et de trouver les proportiones qu’elles avaient entre elles}. В то же время он запретил ему вперед говорить об этом и не велел думать о сказанном. Но мальчик с этого времени начал постоянно думать об интересной науке, которая учила делать фигуры безошибочно правильными и находить в них разные соотношения. В часы рекреации, оставаясь один, он брал уголь и чертил на полу разные фигуры, стараясь, чтобы они были верны, напр. чтобы окружность была везде равномерно выпукла, чтобы в треугольнике стороны и углы все равны, и т. п. Достигнув этого, он начинал искать в них соотношений.
Забота отца скрыть от него все эти вещи была настолько велика, что он даже не знал их истинных названий; так линию он называл просто «чертою», окружность — «кружком» и пр. Желая достигнуть черчения правильных фигур, он должен был составить для себя их
270
В. В. РОЗАНОВ
определения, а отыскивая в них соотношения — пришел к установлению аксиом и с помощью тех и других стал находить полные доказательства. Так открывал он мало-помалу для себя науку, которая была столь тщательно от него скрыта, и подвигаясь все далее, дошел уже до вопроса, который разбирается Эвклидом в 32-м предложении его «Начал».
В это время случилось, что отец неожиданно вошел в комнату, где он был занят среди своих фигур. Он так углубился в их рассматривание и обдумывание, что несколько времени не замечал его прихода. С изумлением смотрел тот на маленького сына, погруженного в предметы, о которых он запретил ему говорить и думать. Но это изумление еще более выросло, когда на вопрос, что он тут делает, сын отвечал ему, что ищет одно отношение, которое, он знал, содержится в 32-м предложении Эвклида. Отец спросил вновь, что заставило его думать об этом, и он сослался на другое предложение, которое он уже нашел и которого доказательство он ему тотчас же представил. Так идя от одного к другому, и все возвращаясь назад, он дошел до своих определений и аксиом, все не употребляя других названий, кроме как «кружок», «черта» и пр. Почти испуганный величием и мощью этого гения, Эт. Паскаль не сказав ни слова сыну, отправился к своему близкому другу, г. Ле-Палье44, и рассказал ему все виденное.
Тот был не менее его изумлен этим и сказал, что не следует долее сдерживать ум мальчика и скрывать от него область знания, которую он почувствовал своим инстинктом. Эт. Паскаль нашел это справедливым и дал сыну «Начала» Эвклида, позволив, однако, читать их не иначе, как во время рекреаций; главная часть дня по-прежнему должна была быть посвящаема изучению языков.
Бл. Паскаль с жаром принялся за Эвклида, и понял у него все, ни разу не обратившись к отцу за каким-нибудь пояснением. Вскоре он подвинулся так далеко в изучении геометрии, что мог уже правильно посещать еженедельные собрания, которые устраивались у его отца или у кого-нибудь из друзей последнего с целью обсуждения текущих вопросов науки. К этому кружку принадлежали лучшие ученые того времени: Роберваль, Мидорон, Ле-Палье, отец Мерсенн*5, близкий друг Декарта. Паскаль принимал в этих собраниях самое живое участие и чаще, нежели другие члены, приносил сюда для сообщения что-либо новое в области математики.
Общество это, хотя оно носило исключительно частный характер, находилось в сношениях со многими иностранными учеными и часто получало известия, содержавшие новые теоремы, из Италии, Германии и других стран; об них всегда торопились узнать мнение молодого Паскаля, потому что нередко случалось, что его проницательный
Паскаль
271
взгляд открывал ошибки там, где их никто другой не замечал. Все более и более отдавался он всеми силами своей души этой науке, которая по своей строгости и точности давала совершенное удовлетворение его уму. И хотя он мог уделять ей только часы досуга, однако, так успел в ней, что, имея только 16 лет от роду, написал «Трактат о конических сечениях», вызвавший удивление в самом Декарте.
Уже учитель других, он все еще оставался в это время учеником своего отца, который к занятиям древними языками прибавил теперь ежедневные беседы во время обеда и после него о логике, физике и других науках, составлявших отдельные части тогдашней философии. С радостью видел он, как легко и быстро все это усваивал его сын, и не замечал, как непрерывное умственное напряжение стало мало-помалу подтачивать его еще не сложившийся организм, и без того не отличавшийся никогда крепостью. С 18 лет он впервые стал чувствовать недомогание; но оно не было еще сильно, и он не прерывал своих обычных занятий.
К этому именно времени относится одно из изумительных изобретений, которое он сделал. В 1638 г. Эт. Паскаль подвергся гневу кардинала Ришелье зато, что неосторожно порицал одно из его финансовых распоряжений; уже был отдан приказ об заключении его в Бастилию, но, вовремя предупрежденный, он скрылся из Парижа и удалился на родину. В следующем году герцогиня д’Эгильон устроила для кардинала представление одной пьесы Скюдери: “L’amour tyrannique”, в исполнении которой участвовала и Жакелена Паскаль, младшая дочь изгнанника. Игра молодой девушки чрезвычайно понравилась Ришелье, и когда она обратилась к нему с просьбою о прощении своего отца, он согласился на это. По возвращении виновного, он захотел его видеть и при свидании заметил его необыкновенный ум и обширные сведения. Он решил воспользоваться его способностями и знаниями, и вскоре поручил ему исполнение важной должности интенданта в Руане, которую тот и занимал в течение 7 лет.
Место это было связано, главным образом, с раскладкою и сбором податей и разными хозяйственными распоряжениями, т. е. требовало постоянного денежного счета. Эт. Паскаль часто пользовался помощью своего сына и тот, желая как-нибудь сократить труд счисления, придумал арифметическую машину, которая производила нужные выкладки совершенно механически, без участия со стороны считающего каких-либо соображений, не требуя от него даже знания арифметики. Это было первое изобретение, послужившее исходною точкою для разнообразных попыток заменять умственные операции — механическими. Сам великий Лейбниц, узнав об устроенной Паскалем машине, деятельно занялся обдумыванием, как бы можно было ее
272
В. В. РОЗАНОВ
еще улучшить. Изготовление этой машины стоило очень большого труда ее молодому изобретателю, особенно вследствие трудности объяснить рабочим, приготовлявшим ее части, что именно они должны были делать. Это было не единственное практическое изобретение Паскаля: он придумал еще очень удобную ручную тачку, искусно соединив в ней действие рычага и наклонной плоскости.
Но этот напряженный труд в связи с общею слабостью организма подорвал его здоровье, так что, по его собственным словам, начиная с 19-го года жизни для него не проходило дня, когда он не чувствовал бы боли. Но он все еще крепился, и всякий раз, когда страдания несколько ослабевали, его ум деятельно стремился к новым изысканиям. К этому приблизительно времени относятся его знаменитые опыты над тяжестью воздуха.
Уже ранее высказывались догадки, что воздух не лишен веса, но они оставались на степени смутного и бессильного брожения мысли, так как не находилось никакого средства удостовериться в его действительной весомости. Те явления, которые мы теперь привыкли объяснять давлением его, как тяжелой жидкости: поднятие воды в насосе при поднятии поршня, наполнение раздувательных мехов и пр., все объяснялись в то время средневековым представлением, что природа боится и избегает пустоты. И как ни чуждо было научности это объяснение, против него нечего было возразить, пока не было произведено какого-нибудь опыта, который несомненно открывал бы другую, строго механическую причину всех названных явлений.
Торричелли первый сделал попытку к разрешению этого вопроса: заменив воду в насосе более тяжелою жидкостью, ртутью, он показал, что она поднимается не на высоту 34-х футов, как поднимается вода, но гораздо менее; из чего можно было заключить, что столб воды, ртути или какой другой жидкости поддерживается на известной высоте некоторою силою, которая для всех различных жидкостей остается одинаковою, именно равною тяжести столба ее, поднятого в насосе на ту или иную высоту смотря по удельному весу самой жидкости. Но что это была за сила, откуда исходила она, это еще не определялось опытом Торричелли.
Узнав об этом опыте, молодой Паскаль (ему было в это время 23 года) тотчас стал обдумывать его и, мысленно разнообразя, старался как-нибудь связать с представлением об весящем воздухе. Упорное изыскание его было наконец награждено простою и прекрасною мыслью, которая увековечила его имя в истории науки: если поднятие жидкости в насосе и тяжесть воздуха находились в какой-нибудь причинной связи, то эта связь должна была обнаруживаться в обоюдном изменении каждого явления при изменении другого. Поэтому опыт Торричелли был непо¬
Паскаль
273
лон: он сделал только половину исследования, изменив одно явление и оставив без изменения другое. Измененное им явление — поднятие тяжелой жидкости в насосе — было только следствием в некотором ряду физических фактов, и что его причина не была определена, это было понятно, потому что не было изменено никакое другое из ему сопутствующих явлений, о которых с какою-нибудь вероятностью можно было бы думать, что в нем заключена его причина.
Паскаль пришел к мысли, что если воздух имеет тяжесть, то эта тяжесть, будучи величиною постоянною в каждой данной точке земли и в данный момент времени, может своим давлением производить поднятие жидкости в насосе, которое потому именно и не бывает безграничным, что не безгранична тяжесть самого воздуха. Но если это было действительно так, то наблюдаемое следствие должно было измениться, если бы можно было как-нибудь изменить эту предполагаемую причину его. И в том, как это сделать, состоит сущность его простого и великого открытия: воздух составляет оболочку вокруг земного шара, и каков бы ни был ее предел вверху, если бы даже он был безграничен, ее предел снизу строго определен: этим пределом служит сама земная поверхность, и он изменяется в зависимости от ее изменения. А с тем вместе и толща воздушного слоя, где бы он ни кончался наверху, будет возрастать с каждым понижением земли и уменьшаться с ее возвышением.
Как нечто подвижное, воздух представлял сходство с жидкостью, давление которой на каждый предмет, под нею находящийся, измеряется давлением столба этой жидкости, вершина которого лежит на ее поверхности, и основание опирается на самый предмет,— и, вероятно, не иначе действовало и давление воздуха, если оно вообще было. Но тогда это давление должно быть неравномерно в различных точках земной поверхности, именно более в ее углублениях и менее на высотах, так как над первыми давящий столб воздуха был несколько длиннее, а на вторых короче (на величину разности в высоте самых мест земной поверхности). Барометрическая трубка, которою Торричелли заменил водяной насос, представляла для проверки этих соображений прекрасное средство: в очень низких местах столб ртути в ней, если только он действительно уравновешивал давление воздуха, должен был несколько подниматься, и, напротив, он должен был падать на высоких местах.
Паскаль произвел опыт сперва на башне одной церкви в Париже, но он, вероятно, не был удачен: понижение ртутного столба в трубке при поднятии на ее вершину было таково, что его нельзя было заметить, или, по крайней мере, сказать достоверно, что оно есть. Но это могло произойти от незначительности веса воздушного столба, равного
274
В. В. РОЗАНОВ
высоте башни, особенно в сравнении с весом его до неизвестных границ земной атмосферы. Тогда опыт должен был удасться лучше на более высоких местах.
Паскаль не мог, по болезни, сам оставить Париж; но в его родине, гористой Оверни, жил муж его сестры, г. Перье: он написал ему письмо, в котором изложил свои идеи и просил его повторить свой опыт. Поблизости к месту жительства его зятя находилась высокая гора, Пюи-де-Дом. Опыт с барометрическою трубкою был сделан при ее подошве и на вершине, и высота ртути на последней оказалась на три дюйма ниже, чем при первой. Г-н Перье рассказывает, как всех удивило это явление; но оно удивило и весь ученый мир того времени, потому что разрешало, наконец, вопрос о тяжести воздуха, так долго беспокоивший умы.
Но опыту этому суждено было стать последним в его научной деятельности.
IV
С того времени, еще не имея 24-х лет от роду, он оставляет научные занятия и обращается своею душою всецело к религии.
Он еще в отрочестве усвоил мысль своего отца, что предметы религиозной веры разнородны с предметами знания и потому не подчинены разуму, не нуждаются в оправданиях посредством его и не могут быть поколеблены его доводами. Просто и строго исполнял он все предписания церкви, никогда не делая их предметом своего анализа. К разговорам сверстников о религии, иногда вольным, он относился равнодушно, думая, что они вытекают именно из незнания этого несоответствия между религиею и наукою. И позднее, когда его внимание всецело сосредоточилось на первой, он был занят исключительно ее практическою стороною, религиозною нравственностью, но не богословием, не содержанием религии, обработанным посредством философского мышления.
Один случай, который произошел с ним в Руане, особенно усилил его нерасположение к тонкой умственной работе, приложенной к тому, что для каждого, по его мнению, должно было служить предметом твердой и ясной веры. Двое молодых друзей пригласили его однажды пойти к одному господину, который высказывал некоторые новые положения в философии, очень заинтересовавшие всех. Каковы были эти положения — осталось неизвестным, но он выводил из них, между прочим, что тело И. Христа не было образовано из крови Св. Девы, а из некоторой другой материи, нарочно для этого созданной. Друзья пытались его оспаривать, но он оставался тверд в своем мнении. Тогда
Паскаль
275
они решили, что предоставить свободно высказываться подобным мыслям было бы опасно, особенно для юношества, так восприимчивого и еще не окрепшего ни в каком убеждении.
Они условились между собою сделать ему предостережение, и если он не послушает их и будет продолжать высказывать свои мысли открыто,— заявить на него людям, имеющим власть остановить лжеучение. Так и пришлось сделать: он пренебрег их предостережением, а они, не считая себя вправе молчать, доложили о нем дю-Белли, который в это время исполнял обязанности епископа в Руанском диоцезе. Дю-Белли позвал этого господина к себе, лично расспросил его и в заключение предложил ему изложить письменно свое исповедание веры. Тот исполнил это, но так искусно скрыл свои особые мнения в двусмысленных выражениях, что епископ был обманут и отпустил его домой, с уверенностью, что беспокойство Паскаля и его друзей было напрасно. Однако эти последние, как только увидели исповедание своего знакомого, тотчас заметили в нем и его заблуждение, искусно замаскированное. Они тотчас отправились к самому архиепископу и изложили ему подробно все дело. Тот понял важность его и отправил распоряжение дю-Белли снова исследовать отпущенного им господина во всех пунктах вероучения, в которых он казался сомнительным, причем рекомендовал ему руководиться во всем этом деле указаниями Паскаля и его двух друзей. Все так и было исполнено: позванный в Епископский совет, он ясно и отчетливо отказался перед ним от всех своих прежних мнений,— и, кажется, сделал это с полным сознанием их вреда и ошибочности, потому что, продолжая и потом сохранять близкие отношения к своим обвинителям, ни разу не высказал им какой-нибудь горечи по поводу самого обвинения46.
Искренняя вера их, как и искреннее убеждение его в верности своих умозаключений, в соединении с преданностью обеих сторон духовной иерархии придало всему этому делу тот чистый и благородный характер, который так легко мог бы быть омрачен малейшим отсутствием чистосердечия с какой-либо стороны. Для отрекшегося было ясно, что он сам обманулся, приняв за истину умозаключения, в действительности правильно выведенные, но из ложных предположений; и, вместе с тем, для него было ясно, что обвинители не имели никакого намерения в чем-либо повредить ему, но хотели только вывести его из самообмана и сберечь от него других, еще менее способных оглядеться во всех этих тонких вопросах.
Паскаль, который уже в этих, почти еще юношеских, годах явился таким ревнителем веры и ее чистоты, все более и более обращался своею мыслью к Богу и усиливался в своей внутренней, духовной жизни сделаться угодным Ему. Сила, с которою в нем разрасталось
276
В. В. РОЗАНОВ
религиозное настроение, была так велика, что ей невольно подчинились все его близкие. Даже отец не стыдился подпасть духовному руководству своего сына, он сделался строг к себе в жизни и, постоянно укрепляясь в христианских чувствах, окончил свою жизнь, как достойный сын св. церкви.
Еще большее впечатление произвели беседы молодого Паскаля на сестру его: любимая обществом, даровитая и прекрасная, она добровольно отказалась от того заманчивого и неверного пути, который ей открывался в жизни, и поступила в монастырь Порт-Рояль. Строгость ее жизни, пламенная вера и высокий ум скоро возвысили ее между всеми сверстницами, и она была избрана аббатисой. Исполняя сложные и трудные обязанности, связанные с этою должностью, она умерла 36-ти лет от роду, 4 октября 1661 года.
Между тем болезни все более и более овладевали телом и самого молодого исповедника. Научные занятия становились совершенно невозможны, но тем страстнее обращался он душою к невидимым ни для кого подвигам внутреннего усовершенствования. Главными страданиями его были затрудненность в глотании и нестерпимые головные боли, к чему присоединялся еще постоянный внутренний жар. Он мог принимать только жидкую пищу, капля за каплей, и лишь согретую; так что даже лекарства принужден был, взяв в рот, медленно втягивать в себя, не смотря на их отвратительный вкус. Сверх того доктора объявили ему, что для восстановления сил ему необходимо оставить всякие занятия и развлекаться; исполнить это требование ему было особенно трудно, но он сделал над собою усилие. К тому же, он думал, чистые развлечения не могут повредить его душе. Так он оставил свое постоянное уединение и начал появляться в обществе. Но на этом пути он встретил противодействие в своей сестре, о которой мы уже говорили. Во время бесед с братом, навещавшим ее часто в Порт-Рояле, она убедила его оставить все завязавшиеся житейские связи и избегать развлечений, хотя бы это угрожало даже его здоровью. Теперь, в свою очередь, он подпал влиянию суровой монахини и с 30-летнего возраста, покинув свет, окончательно заключился в том уединении, которое не оставлял до смерти.
Желание медиков, советовавших полное умственное бездействие, не могло быть исполнено человеком, в котором вся жизнь заключалась в умственной деятельности. Он мог не брать пера в руки и не читать, но не мог не думать; а, при совершающемся процессе мысли, ее изложение уже не есть какой-либо труд. В 1656 году появились его “Lettres provinciales”*, написанные в защиту гонимого янсенизма и направ-
« Провинциальные письма» (фр.). — Сост.
Паскаль
277
ленные против иезуитов. Это было в пору высшего торжества последних, когда, завладев исповедью, школами, публичною литературою и тайнами королевских кабинетов, они направляли сообразно целям своим дела истории и дух обществ. Их пламенное рвение и постоянные успехи как будто ослепили общество, совершенно не видевшее за ними губительности самих принципов, с помощью которых доставались эти успехи. Никто так ясно, как Паскаль, не мог рассмотреть той зияющей пропасти, к которой скользили западные народы, следуя за этими людьми и увлекаемые быстротой своего движения.
Весь погруженный в тревоги своей совести, всего более чуждаясь общих и далеких, извне поставляемых целей, и, однако, гениальный в понимании всего отвлеченного, Паскаль с силою восстал против иезуитов, отвергая их политику, обличая их в искажении нравственности, подвергнув их мелочную казуистику высшему и точному анализу. По ясности, простоте и вместе силе языка сочинение это навсегда осталось классическим во французской литературе. Оно было переведено, вскоре после появления, на языки латинский (Николем, скрывшим свое имя под псевдонимом Вильгельма Вендрока; перевод сопровождался обширными пояснениями и защитой оригинала), английский, итальянский (перевод Козимо Брунетти, флорентийского дворянина) и испанский (Грациана Кордеро). Было сделано даже издание, представляющее в четырех столбцах каждых двух страниц параллельные тексты этого сочинения на всех четырех романских языках47.
Смущение всемогущего ордена, тайна успехов которого здесь разоблачалась, было велико. Многие из членов его пытались уничтожить значение «Провинциальных писем», но, как и всегда в литературе, опровержения лишь способствовали их распространению. Они были первым и непоправимым ударом, за которым потом последовали и другие, если и не сокрушившие иезуитский орден, то, по крайней мере, предостерегшие от него европейские общества.
Еще несколько ранее, в 1654 году, Паскаль написал небольшой, но в высшей степени ценный труд, в ответ на вопросы, предложенные ему Ферма: это был “Traite de triangle arithmétique” *, где он изложил ряд теорем и формул, дающих возможность суммировать так называемые треугольно-пирамидальные числа, названные этим именем по виду фигуры, в которой они располагаются. Особенная важность формул, найденных Паскалем, обусловливается тем, что они ведут к биному Ньютона,— если величины суммируемого многочлена выражены в положительных и целых числах.
«Трактат об арифметическом треугольнике» (фр.). — Сост.
278
В.В. РОЗАНОВ
V
Решившись совершенно оставить свет, Паскаль уехал на некоторое время в деревню, и, снова вернувшись, повел себя так, что свет уже не делал попытки вновь привлечь его к себе. В основу нового образа жизни он положил два правила: отказываться от всякого удовольствия и от всего излишнего. Он начал с внешности и прежде всего отпустил всю прислугу, без которой сколько-нибудь мог обойтись: сам стелил себе постель и сам ходил за обедом в кухню и относил назад посуду. Только готовить себе обед и ходить за провизией он не мог, так как этому мешала его болезнь. Все время, какое у него оставалось от этих небольших забот, он употреблял на молитву и чтение Св. Писания. Он находил в этом неистощимое удовольствие; про священные книги он говорил, что они понимаются сердцем, а не умом, для которого остаются темны, когда он пытается к ним приблизиться своею сухою рассудочностью.
Постоянное чтение этих книг, которому он предавался, забывая все, [привело к тому,] что, в конце концов, все замечательные места Писания он помнил наизусть, и нельзя было цитировать ему из него, ошибаясь: он всегда поправлял. Вместе с тем он начал читать и все многочисленные объяснения к Писанию, а также и сочинения богословского содержания, потому что с любовью к источнику в нем пробудилась и любовь к истинам, которые из него вытекали.
Около этого времени случилось одно происшествие, которое произвело на него потрясающее впечатление. У замужней сестры его, которая оставила его жизнеописание, была маленькая дочь, крестница Блеза. На четвертом году у нее сделалась слезная фистула, через которую постоянно сочился гной и шел не только из-под глаза, но и через нос. После нескольких попыток излечить болезнь лучшие медики Парижа признали ее неизлечимой. В Порт-Рояле хранился шип от тернового венца Спасителя, который и прежде производил чудесные исцеления. Не получая помощи от людей, измученная мать обратилась к небесной помощи. И Бог ее не оставил: от прикосновения к святому шипу глаз ребенка исцелился мгновенно. Доктора, лечившие девочку, и потом сама церковь засвидетельствовали факт этого чуда.
«Этот случай,— рассказывает г-жа Периэ,— возбудил в моем брате сильное желание посвятить свои усилия на опровержения как самых принципов, так и ложных рассуждений атеистов. Он стал изучать их сочинения с величайшим старанием и напряг весь свой ум, чтобы отыскать пути к их убеждению». Уже работа его
Паскаль
279
близилась к концу и он стал собирать отдельные мысли, внушенные ему долгим изучением и размышлением, «но Богу, Который внушил ему это намерение, не было угодно, чтобы оно исполнилось».
Таково было происхождение прекрасной книги, которой ее издатели дали название “Pensees”*. Нравственно-религиозные истины, в ней содержащиеся, шли из самой глубины сердца ее творца, были плодом всего его душевного развития. Почти не нужно сожалеть, что она не была доведена до конца, приведена в порядок и обработана. Эта обработка, наложенная разумом, это приведение в связь и сопоставление слов, так невольно и мимолетно вырвавшихся, не могло, придавая стройность целому, не отнять свежести у частей. Первое издание их было сделано восемь лет спустя по смерти автора, в 1670 году: это было очень неполное собрание заметок, написанных на клочках бумаги, которые были найдены в комнате Паскаля его друзьями из Порт-Рояля; несколько позднее член конгрегации Оратория, Демоне, опубликовал еще дополнительный том, содержащий мысли Паскаля, не вошедшие в первое издание. Наконец, полное издание «Мыслей», в двух томах, появилось в 1687 году, с приложением биографии Паскаля, написанной его сестрою, и двух статей Дюбуа, которые служили частью пояснением, частью дополнением к отрывочному содержанию книги.
Паскаль не был совершенно одиночным явлением своего времени. Подобно ему, многие люди, иногда высокого образования и положения, тревожились, как и всегда это бывает, теми же религиозными мыслями и питали подобное же мнение о вреде суетной жизни и светских удовольствий. Они посещали молодого затворника в его уединении, и беседы с ним всегда производили на них сильное впечатление. Долгое время спустя после его смерти встречались люди высокой христианской жизни, которые говорили, что они всем обязаны ему и от его доброго слова идут все их добрые дела.
Как ни были эти разговоры чисты по своему предмету, Паскаль все-таки опасался, не являются ли они нарушением правила, поставленного им для себя — избегать всякого удовольствия. Наконец, он нашел средство в одно и то же время и не отказывать никому в духовной помощи, и не уклоняться от исполнения принятого обета: когда он выходил к посетителю, он надевал железный пояс, усеянный гвоздями, прямо на тело, и если во время беседы ему приходилось замечать, что он уклоняется от своего долга, он надавливал незаметно локтем на скрытый под платьем пояс и боль от уколов заставляла его мгновенно забывать вредную мысль, готовившуюся его увлечь. Способ
«Мысли» (фр.). — Сост.
280
В. В. РОЗАНОВ
этот казался ему настолько действительным и так полезным, что он не оставил его и в последнее время своей жизни, когда, вследствие увеличившихся страданий, не мог ни писать, ни читать, ни даже ходить. Он особенно боялся ставшего теперь неизбежным досуга и прибегал к своему верному средству, чтобы отогнать от своей души все дурное. Обо всем этом близкие узнали только после его смерти, от одного лица, которому он все доверял48.
Так поступал он в исполнении правила: избегать всякого удовольствия. По другому правилу — не иметь ничего лишнего — он постепенно уничтожил у себя все бесполезные вещи и, наконец, даже обивку в своей комнате,— что могло бы показаться его посетителям невежеством по отношению к ним, если б к нему не приходили только люди, одинаково настроенные с ним в своей душе.
Так проводил он годы своей жизни, думая о Боге, о ближних и о внутренней чистоте своей. В этот промежуток времени с ним произошел один случай, имевший очень большое влияние на течение его религиозных идей. Однажды он ехал на прогулку в коляске, запряженной, по обычаю того времени, четверней. На пути прогулки лежал мост, и только что лошади въехали на него, как передняя пара их, чего-то испугавшись, бросилась в сторону49. <...>
л. н. толстой
Паскаль
Ни одна страсть не удерживает людей так долго в своей власти, не скрывает от них так прочно, иногда до самого конца, тщету временной мирской жизни и ни одна не отдаляет так людей от понимания смысла человеческой жизни и ее истинного блага, как страсть славы людской, в какой бы форме она ни проявлялась; мелочного тщеславия, честолюбия, славолюбия.
Всякая похоть носит в себе свое наказание и страдания, которые сопутствуют ее удовлетворению, обличают ее ничтожество. Кроме того, всякая похоть ослабевает с годами, славолюбие же с годами все больше и больше разгорается. Главное же то, что забота о славе людской всегда соединяется с мыслью о служении людям, и человеку легко обманываться, когда он ищет одобрения людей, что он живет не для себя, а для блага тех людей, одобрения которых он добивается. И потому это самая коварная и опасная страсть и труднее всех других искореняемая. Освобождаются от этой страсти только люди с большими душевными силами.
Большие душевные силы дают этим людям возможность быстро достигнуть большой славы, и эти же душевные силы дают им возможность увидать ничтожество ее.
Таким человеком был Паскаль. Таким же был близкий нам русский человек Гоголь (я по Гоголю, думаю, понял Паскаля). И тот и другой, хотя с совсем различными свойствами и с совершенно различным складом и размером ума, пережили одно и то же. Оба очень скоро достигли той славы, которой страстно желали; и оба, достигнув ее, тотчас же поняли всю тщету того, что казалось им самым высоким, самым драгоценным в мире благом, и оба ужаснулись тому соблазну, во власти которого находились. Они все силы души положили на то, чтобы показать людям весь ужас того заблуждения, из которого они только
282
Л. Н. ТОЛСТОЙ
что вышли, и чем сильнее было разочарование, тем настоятельнее представлялась им необходимость такой цели, такого назначения жизни, которое ничем не могло бы быть нарушено. В этом причина того страстного отношения к вере как нашего Гоголя, так и Паскаля; в этом же и причина пренебрежения их ко всему сделанному ими прежде. Ведь все это делалось для славы. А слава прошла, и в ней ничего не было, кроме обмана. Стало быть, не нужно и ничтожно было все то, что делалось для ее приобретения. Важно одно, только одно: то, чего не было, то, что было заслонено мирскими желаниями славы. Важно и нужно было одно: та вера, которая дает смысл этой преходящей жизни и твердое направление всей ее деятельности. И это сознание необходимости веры и невозможности жить без нее так поражает таких людей, что они не могут не удивляться на то, как могли они сами, как могут вообще люди жить без веры, объясняющей им смысл их жизни и ожидающей их смерти.
Таким человеком был Паскаль, и в этом его великая, неоценимая и далеко неоцененная заслуга.
Паскаль родился в Клермоне в 1623 году. Отец его был известный математик '. Мальчик, как и все дети, подражая отцу с первого детства, занялся математикой, и у него обнаружились необыкновенные способности. Отец, не желая преждевременно развивать ребенка, не давал ему математических книг; но мальчик, слушая разговоры отца с его знакомыми математиками, сам стал вновь выдумывать геометрию. Отец, увидав эти необыкновенные для ребенка работы, был так поражен этим, что пришел в восхищение, расплакался от умиления и с тех пор сам стал преподавать сыну математику. Мальчик скоро не только усвоил все то, что открыл ему отец, но стал делать сам математические открытия. Успехи его обратили на себя внимание не только близких, но и ученых, и Паскаль очень молодым приобрел известность замечательного математика. Слава выдающегося, несмотря на молодые годы, ученого поощряла его к занятиям, большие способности давали ему возможность увеличивать славу, и Паскаль все свое время и силы посвятил научным занятиям и исследованиям. Но здоровье его с детства было слабое, усиленные же занятия еще более ослабили его, и в юношеском возрасте он тяжело заболел. После болезни он, по просьбе отца, сократил свои занятия до двух часов в день, свободное же время употреблял на чтение философских сочинений.
Он прочел Эпиктета2, Декарта и опыты Монтэня3. Книга Монтэня особенно поразила его — она возмутила его своим скептицизмом и равнодушием к религии. Паскаль всегда был религиозен и по-детски верил тому католическому учению, в котором был воспитан. Книга
Паскаль
283
Монтэня, вызвав в нем сомнения, заставила его задуматься над вопросами веры, в особенности же о том, насколько необходима вера для разумной жизни человека, и он стал еще строже к себе в исполнении религиозных обязанностей и кроме философских сочинений, стал читать книги религиозного содержания. В числе этих книг ему попалась книга голландского теолога Янсена «Преобразования внутреннего человека».
В книге этой было рассуждение о том, что, кроме похоти плоти, есть еще и похоть духа, состоящая в удовлетворении человеческой пытливости, в основе которой лежит то же, что и во всякой похоти: эгоизм и самолюбие, и что такая утонченная похоть более всего другого удаляет человека от Бога. Книга эта сильно поразила Паскаля. Со свойственной великим душам правдивостью он почувствовал истинность этого рассуждения по отношению к себе, и несмотря на то, что отказаться от занятий наукой и от связанной с нею славы было для него великим лишением, или именно потому, что это было для него великим лишением, он решил оставить соблазнявшие его занятия наукой и все свои силы направил на разъяснение для себя и для других тех вопросов веры, которые все сильнее и сильнее занимали его. Ничего не известно об отношении Паскаля к женщинам и какое влияние имели на его жизнь соблазны женской любви. Биографы его на основании его небольшого сочинения «Discours sur les passions de l’amour» *, в котором он говорит, что величайшее счастье, доступное человеку,— любовь есть чувство чистое, духовное и должно служить источником всего возвышенного и благородного, делают заключение, что Паскаль в своей молодости был влюблен в женщину, стоявшую выше его по положению и не отвечавшую его любви. Во всяком случае, если и была такая любовь, она не имела никаких последствий для жизни Паскаля. Главные интересы его молодой жизни заключались в борьбе между его стремлениями к занятиям наукой и к славе, которую они давали ему, и сознанием пустоты, ничтожества этих занятий и зловредности соблазна славолюбия и желанием все свои силы посвятить только служению Богу.
Так, уже в тот период его жизни, когда он решил отказаться от занятий наукой, ему случилось прочесть исследования Торичелли о пустоте. Чувствуя, что вопрос этот решается неверно и что возможно более точное определение, Паскаль не мог удержаться от желания проверить эти опыты. Проверяя же их, он сделал свое знаменитое открытие о тяжести воздуха. Открытие это обратило на него внимание
«Рассуждение о страданиях любви» (фр.). — Сост.
284
Л.Н. ТОЛСТОЙ
всего ученого мира. Ему писали, его посещали ученые и восхваляли его. И борьба с соблазном славы людской стала еще труднее.
Для борьбы этой Паскаль носил нателе пояс с гвоздями, обращенными к телу, и всякий раз, как ему казалось, что при чтении или выслушивании себе похвал в нем поднимается чувство честолюбия, гордости, он прижимал пояс локтем к боку, гвозди кололи его тело, и он вспоминал весь тот ход мыслей и чувств, которые отвлекали его от соблазна славы.
В 1651 году с Паскалем случилось событие, казалось бы, неважное, но сильно поразившее его и имевшее большое влияние на его душевное состояние. На мосту Нельи он упал из экипажа и был на волоске от смерти. В это же время умер отец Паскаля. Это двойное напоминание о смерти заставило Паскаля еще больше, чем прежде, углубиться в вопросы жизни и смерти.
Религиозное настроение все более и более захватывало жизнь Паскаля, так что в 1655 году он совершенно удалился от мира. Он переехал в Янсенистскую общину Пор-Рояля и стал жить там жизнью почти монашеской, обдумывая и приготавливая то большое сочинение, в котором он хотел показать, во-первых, необходимость религии для разумной жизни людской и, во-вторых, истинность той религии, которую он сам исповедывал. Но и здесь соблазны славы людской не оставили Паскаля.
Янсенистская община Пор-Рояля, в которой жил Паскаль, вызвала к себе враждебность могущественного ордена иезуитов, и происки иезуитов сделали то, что существовавшие при Пор-Рояле школы мужская и женская были закрыты, и самому монастырю Пор-Рояля угрожала опасность быть закрытым.
Живя среди янсенистов и разделяя их учение, Паскаль не мог оставаться равнодушным к положению своих единоверцев и, увлекшись их спором с иезуитами, написал в защиту янсенистов книгу, которую он назвал «Письмами провинциала». В сочинении этом Паскаль не столько оправдывал и защищал учение янсенистов, сколько осуждал врагов их — иезуитов, обличая безнравственность их учения. Книга имела большой успех, но слава эта уже не могла соблазнить Паскаля.
Вся жизнь его была уже неперестающим служением Богу.
Он установил себе правила жизни и строго следовал им, не уклоняясь от них ни по лени, ни по болезни. Бедность он считал основанием добродетели. «В бедности и нищете,— говорил он,— не только нет зла, но в них наше благо. Христос был беден и нищ и не имел, где главу преклонить». Отдавая все, что мог, бедным, Паскаль жил так, что у него было лишь необходимое; он обходился по возможности без
Паскаль
285
прислуги, допуская ее, только когда он по болезни не мог двигаться. Жилище его было самое простое, как и пища и одежда. Он сам убирал свои комнаты и приносил себе обед. Болезнь его все усиливалась, и он не переставал страдать. Но страдания свои он переносил не только с терпением, удивлявшим его близких, но даже с радостью и благодарностью. «Не жалейте,— говорил он тем, которые соболезновали его положению,— болезнь есть естественное состояние христианина, потому что в этом положении христианин бывает таким, каким должен быть всегда. Она приучает к лишению всяких благ и чувственных удовольствий, приучает удерживаться от страстей, которые всю жизнь обуревают человека, быть без честолюбия, без жадности, быть всегда в ожидании смерти»4.
Та роскошь, которой пытались окружить его любящие его родные, тяготила его. Он просил сестру перевести его в больницу для неизлечимых больных, чтобы провести с ними последние дни своей жизни, но сестра не исполнила его желания, и он умер у себя.
Последние часы он был без сознания. Только перед самым концом он приподнялся с постели и с ясным и радостном выражением сказал: «Не оставь меня, Господи». Это были его последние слова.
Он скончался 19 августа 1662 года.
Человеку для его блага нужны две веры: одно — верить, что есть объяснение смысла жизни, и другое — найти это наилучшее объяснение жизни.
Паскаль сделал, как никто, первое дело. Судьба, Бог не дали ему сделать второго. Как человек, умирающий от жажды, набрасывается на ту воду, которая есть перед ним, не разбирая ее качества, так Паскаль, не разбирая качества того католицизма, в котором он был воспитан, видел в нем истину и спасение людей. Довольно, что вода, довольно, что вера.
Само собою разумеется, что никто не имеет права гадать о том, что могло бы быть, но нельзя себе представить гениального, правдивого перед самим собой Паскаля, верующего в католичество. Он не успел подвергнуть его той силе мысли, которую он направил на доказательство необходимости веры, и потому в душе его догматический католицизм остался целым. Он, не трогая его, опирался на него. Опирался на то, что было и есть в нем истинного. Он взял из него напряженную работу самосовершенствования, борьбу с соблазнами, отвращение к богатству и твердую веру в милосердного Бога, Которому Он отдавал, умирая, свою душу.
Он умер, сделав только одну часть работы,— не доделав, даже не начав делать другую. Но от того, что не сделана эта вторая часть работы, не менее драгоценна первая удивительная книга «Мыслей»,
286
Л.Н. ТОЛСТОЙ
собранная из разрозненных клочков бумаги, на которых больной, умирающий Паскаль записывал свои мысли.
Удивительная судьба этой книги.
Является пророческая книга — толпа стоит в недоумении, пораженная силой пророческого слова, встревожена, хочет понять и уяснить, узнать, что делать. И вот приходит один из тех людей, которые, как говорил Паскаль, думают, что знают, и поэтому мутят мир; приходят эти люди и говорят: «Тут нечего понимать и уяснять, все это очень просто. Этот Паскаль (то же самое было с Гоголем), как вы видите, верил в Троицу, в причастие; ясно, что он был больной, ненормальный и потому по своей слабости и болезни все понимал навыворот. Лучшее доказательство этого то, что он отверг, отрекся даже от того хорошего, что сам сделал и что нам нравится (потому, что мы это понимаем), и приписывал большую важность совершенно бесполезным “мистическим” рассуждениям о судьбе человека, о будущей, жизни. Поэтому надо брать из него не то, что он сам считал важным, а то, что мы можем понять и что нам нравится».
И толпа рада: то она не понимала, ей надо было усилие, чтобы подняться до той высоты, на которую ее хотел поднять Паскаль, а тут все совершенно просто. Паскаль открыл закон, по которому делают насосы. Насосы очень полезны, и это очень хорошо; а все то, что он там говорит о Боге, бессмертии, все это пустяки, потому что он верил в Троицу, Библию. Нам не нужно усилия, чтобы подниматься до него; напротив, мы с высоты своей нормальности можем покровительственно и снисходительно признавать его заслуги, несмотря на его ненормальность.
Паскаль показывает людям, что люди без религии — или животные, или сумасшедшие, тыкает носом в их безобразие и безумие, показывает им, что никакая наука не может заменить религию. Но Паскаль верил в Бога, в Троицу, в Библию, и потому для них дело решенное, что и то, что он им говорил о безумии их жизни и тщете науки,— неправда. Та самая наука, та самая суета жизни, то самое безумие, которое так неотразимо выяснено им, эта самая суета, эта самая наука, это самое безумие они считают настоящей жизнью, истиной, а рассуждения Паскаля считают плодом его болезненной ненормальности. Им нельзя не признать силы мысли и слова этого человека, и они причисляют его к классикам, но содержание его книги не нужно им. Им кажется, что они стоят неизмеримо выше того высшего душевного состояния религиозного сознания, до которого только может достигнуть человек и на котором стоит Паскаль, и потому значение удивительной книги безнадежно скрыто от них.
Паскаль
287
Да, ничто так не зловредно, не пагубно для истинного прогресса человечества, как эти ловко обставленные всякого рода современными украшениями рассуждения людей qui croyent savoir (которые думают, что знают) и которые, по мнению Паскаля, bouleversent le monde (мутят мир).
Но свет и во тьме светит, и есть люди, которые, не разделяя веры Паскаля в католичество, но понимая то, что он, несмотря на свой великий ум, мог верить в католичество (предпочитая верить в него, чем ни во что не верить), понимают и все значение его удивительной книги, неотразимо доказывающей людям необходимость веры, невозможность человеческой жизни без веры, т. е. без определенного, твердого отношения к человеку и миру и Началу его. И поняв это, люди не могут не найти и тех, соответствующих их степени их нравственного и умственного развития, ответов той веры на вопросы, поставленные Паскалем.
В этом его великая заслуга.
Д. С. МЕРЕЖКОВСКИЙ
Паскаль
I
Паскаль и мы. Паскаль и реформа
1
«Если вам кажется верным и сильным то, что я вам говорю, то знайте, что это говорит человек, который, став на колени, молился и будет молиться за Безграничное Существо, Которому он отдаст все, что сам имеет, а также все, что и вы имеете, для вашей же собственной пользы и для Его Славы» *, — говорит Паскаль читателям своим, и, чтобы понять его как следует, это надо помнить: слово его — молитва за тех, кто читает его, кем бы они ни были — умными или безбожниками **; за тех, которые не только читают его глазами, но и принимают его сердцем; за тех особенно, которые следуют за его словами: «Посмотрите, как они стонут» ***.
Люди наших дней начали понимать, чем для них может сделаться Паскаль, только во время Великой Войны. «Там, в огне и крови окопов, “Мысли” Паскаля были как бы нашим предсмертным Причастием»,— вспоминает один из его читателей, и другой: «Некогда мы видели вблизи жизнь, вдалеке — смерть, и еще дальше — вечность... Мы теперь на той же высоте, на какой был и ты, наш великий друг, Паскаль». «Ты нас опередил и встретил нас именно там, где ты был нам нужнее всего» ****. Кажется, вернее было бы сказать: мы не « на той же высоте », как Паскаль, а над той же бездною.
Быть или не быть христианству? — на этот вопрос никто, за триста лет от дней Паскаля до наших, не ответил так, как он отвечает: «Быть». К будущей вселенской Церкви — необходимому условию для того, чтобы христианство было, никто не приблизил нас так, как
* Pascal, Pensées, éd. Brunschwigg,233, «Fin de ce discours».
** G. Michaut, Les époques de la pensée de Pascal, 1902,219.
*** Pens.,421.
**** J. Chevalier, Pascal, 1922,9-10.
Паскаль
289
приближает он. Если люди наших дней, на пороге второй Великой Войны, все еще не могут понять так хорошо сказанных слов Паскаля, то они, может быть, их никогда и не поймут: быть или не быть христианству? — значит быть или не быть человечеству, заслуживающему это имя.
Чтобы понять как следует, чем мог бы сделаться Паскаль для нашего времени, надо знать, чем он был для своего. В XVII веке во Франции борются, как два течения в водовороте, две религиозные силы — внешняя, от Лютера и Кальвина, против католической Церкви идущая Реформа, и внутренняя, в самой Церкви происходящая Антиреформа *.
2
Янсений и Сен-Сиран
В 1611 году, в Париже, в Латинском квартале ', встретились и больше чем подружились,— сроднились, как роднятся люди в одной великой цели, два молодых богослова — фламандец Корнелий Янсений (Cornelius Jansenius) и француз Жан дю Вержье (Jean Duvergier)2. Падшее христианство восстановить — такова была их цель, а средства те же, что у Лютера и Кальвина,— вернуться к христианству первых веков, но не уходя из католической Церкви, как те, а, оставаясь в ней, совершить дело Реформы. Ближе все-таки были они к Лютеру и Кальвину, чем этого хотели, потому что путь к первым векам христианства был и у них тот же, как у тех,— св. Августин.
«Я никому в мире не смею сказать того, что думаю... согласно с учением св. Августина, о великом разделении взглядов нашего времени... о Благодати и Предопределении, потому что боюсь, как бы и со мною не сделали в Риме того же, что с другими (т. е. отлучили от Церкви)... Но совесть не позволяет мне предать истину»,— пишет Янсений в 1621 году другу своему, дю Вержье, и начинает письмо важным признанием: «Мне опротивел св. Фома Аквинский2, после того как я напитался св. Августином» **. Основа и утверждение всей католической Церкви — св. Фома Аквинский; этого Янсений не может не знать, но вот все-таки хочет заменить его тем, что в мистерии двух великих ересиархов4, Лютера и Кальвина, против Церкви было сокрушившим стены ее тараном — св. Августином, понятым так же точно, как его понимают и те два ересиарха. Прав был отчасти * Sainte-Beuve, Port-Royal, 1,279-281. Jansénius, Duvergier, 3-4.
** H. Bremond, Histoire Littéraire du sentiment religieux en France, IV. Sainte- Beuve, 291-294.
290
Д. С. МЕРЕЖКОВСКИЙ
король Людовик XIV, когда, почти не отличая Янсения от Лютера и Кальвина, хотел искоренить обе «ереси» как два опаснейших восстания на государство и Церковь*.
3
«Августин» Янсения. Древнее и новое пелагианство.
Ne evacuate, sit crux5
Тридцать лет трудился Янсений над огромной книгой о св. Августине, «Учение св. Августина о здравии, болезни и лечении природы человеческой, против Пелагия» **6. Десять раз перечитал все творения, и книги против Пелагия — тридцать раз. «Счастлив был бы я,— говорил он,— провести всю мою жизнь на пустынном острове наедине со св. Августином» ***. Только накануне смерти в 1636 году, в сане епископа Ипрского (evêque d’Ypres), кончил книгу, но не успел увидеть ее напечатанной.
Главная цель книги — обличение Пелагиевой ереси. Чтобы понять религиозное действие Янсения в XVII веке, надо вспомнить, чем была ересь Пелагия за двенадцать веков христианства, от V века до века XVII, и в скрытом виде, под многими личинами,— до наших дней.
Человек у Бога — «не раб, а свободный», учит Пелагий. «Богом самим освобожден человек, получив дар свободной воли». Вместо «первородного греха» — «первородная невинность». «Люди все рождаются такими же невинными, как первый человек в раю». «Что же такое первородный грех», наследие Адама? Только «Измышление двух еретиков, Августина и Манеса» 7, учивших, что мир создан не Богом, а «Противобогом» — дьяволом.
«Всякий грех частей и личен; он относится лишь к человеку, а не к человечеству»,— учит Пелагий. Всякий человек может сделаться «безгрешным святым», сам, один, одною «свободою воли». Что же такое Благодать? Только «познание Христа» и «подражание Христу» в нравственной жизни, в добрых делах **** *****. «Все учение Христа есть учение нравственное прежде всего», мог бы сказать Пелагий вместе с Кантом ******. В последнем анализе это означает: Христос жил для всех
* Sainte-Beuve, IV, 113-114.
** Chevalier, 39.
*** Sainte-Beuve, 1,80.
**** Chevalier, 39. Sainte-Beuve, 1,287-294. G. Michaut, 229.
***** g. August, Opus imperfectum contra Julianum, I, 78-79. J. Tixeront, Histoire du dogme, 1931,11,428. Labriole, Hist. De la littérat. lat. chrét., 1920,544. Coelest, De gestis Pelag.,23. Pelag., Expositiones, ap.S. Hieronym, Epist., 133, I: 186, XXXVII.
Паскаль
291
нас; Он умер; Он воскрес (если, конечно, это произошло) ни для кого, ни для чего; людям не нужен Сын Божеский, распятый на Кресте. Им нужен Человек-Христос до и без Креста. Пелагий не доходит до этого последнего заключения; и Кант тоже нет; во всяком случае, он не формулирует его так. Тем не менее, кажется, что устарелое христианство наших дней, от которого отняли кровь Иисуса, которое насквозь рационализировало, стерилизировало страсть Креста, представляет собою не что иное, как Пелагианство, дошедшее до своего последнего заключения.
Если человек изначально свободен, то ему не нужен Освободитель Сын Божий; если человек может сам спастись, то ему не нужен Спаситель. Убыль первородного греха есть убыль Искупления — то, чего так боялся ап. Павел: «Дане упразднится Крест, ne evacuata sit crux».
Если бы врачу сказали, что черное чумное пятно — только синяк от ушиба — завтра заживет,— то врач почувствовал бы то же, что Августин, когда ему сказал Пелагий, что первородный грех — ничто. Это же чувствует Янсений так же, как друг его, некогда Жан дю Вержье, а теперь аббат Сен-Сиран (под этим именем он принял священство). Замечательно то, что за год до смерти Янсения и за четыре года до появления «Августина» (1640) вышла в свет та книга Декарта, «Речь о методе» («Discours de la Méthode»)9, которая начинает путь всей новой философии к «упразднению Креста» *.
Чувствуют оба, Сен-Сиран и Янсений, что дух Пелагия разлит, как чумная зараза, в воздухе, которым дышат люди не только в миру, но и в Церкви. Чтобы вернуть в нее человеческие множества, уходящие за Лютером и Кальвином, Орден Иезуитов облегчает и опустошает христианство от его драгоценной тяжести-трудности: «Много званых, мало избранных»; узкий и кремнистый путь Царства Божия делается «широким и бархатным» **. Сен-Сиран и Янсений, оба видят, что путь, по которому следует Церковь, как и мирской путь, в одинаковой степени ведут к «упразднению Креста».
Правоверные католики не только XVII, но и XX века, обвиняют Сен-Сирана и Янсения в «заговоре» против Римской Церкви; хуже Лютера и Кальвина эти два согретые на груди Церкви змия; Кальвин и Лютер нападают на Церковь извне, а Сен-Сиран и Янсений хотели взорвать ее изнутри, как бы адскую машину подложили под Святейший Престол***. Как бы ни были эти обвинения ложны или * Sainte-Beuve, 1,119.
** Sainte-Beuve, 1,175. La Fontaine, Poèmes et poésies diverses, éd. Garnier, 292.
*** Bremond, 110-111.
292
Д. С. МЕРЕЖКОВСКИЙ
преувеличенны, кажется, в них есть и доля правды, потому что положение этих двух внутренних преобразователей между двумя огнями — двумя Церквами, протестантской и католической,— в самом деле, противоречиво и двусмысленно. Верно сказал кто-то об одном из учеников Янсения (Antoine Arnauld le Jeune,0): «Кулаками защищался он от Кальвина»; то же можно бы сказать и о самом Янсении *. Если ночью, один в келье своей, Сен-Сиран хотел читать книги Кальвина, то сначала изгонял из них Нечистую Силу заклинаниями, так же как это делают с бесноватым,— вспоминает очевидец**. Но ни кулаками, ни заклинаниями не защитить внутренней Реформы от внешней, потому что главный религиозный опыт обеих — тайна Предопределения: «Много званых, мало избранных» — один и тот же. Верно кто-то сказал и о самом Янсении: «Он читал св. Августина сквозь очки Кальвина» ***. Можно бы сказать то же и о Сен-Сиране. «Кальвин думал хорошо, только говорил плохо»,— заметил однажды он сам в откровенной беседе с другом своим, св. Венсеном де Поль****11.
Как соединить две Церкви, протестантскую и католическую, в единой Церкви, Вселенской или, говоря языком Паскаля, как «согласовать две противоположные истины»,— этот вопрос, может быть, сами того не сознавая и не желая, Сен-Сиран и Янсений только поставили, но на него не ответили. Ответил Паскаль*****.
4
Начало Пор-Руаяля
В очень глубокой, болотистой долине речки Шеврезы, хотя и вблизи от Парижа и Версаля, но в месте глухом, диком и мрачном, находилась древняя, основанная бенедиктинским орденом в начале XIII века маленькая женская обитель, Пор-Руаяль. К первым годам XVII века пришла она в такой упадок, что в ней оставалось только двенадцать монахинь под началом шестнадцатилетней игуменьи, Анжелики Арно (Arnauld)12. Сестры были большею частью молодыми девушками из богатых и знатных семейств, близких ко двору, потому что в тогдашнем светском обществе монастырская жизнь входила в моду. Место было печальное, но сестры жили весело. С часто приезжавшими к ним из Парижа и Версаля молодыми людьми гуляли в рощах, пели, * Sainte-Beuve, II, 215.
** Bremond, 155.
*** Sainte-Beuve, 1,163.
**** Sainte-Beuve, 1,134.
***** Pensées, 684. «Accorder les contraires».
Паскаль
293
играли на лютнях, плясали и, вместо молитв, читали любовные повести *. Были, как те неразумные девы, что вышли ночью навстречу жениху, не налив в светильники масла13.
Вдруг все изменилось. В 1608 году странствующий капуцин 14, брат Базижель1б, забрел однажды в обитель и проповедовал. Это был недостойный монах, выгнанный из монастыря за дурную жизнь, но человек не дурной, а только очень слабый: все грешил и каялся, и снова грешил, но, как бы низко ни падал, не терял надежды, что Бог подымет его когда-нибудь уже не на время, а навсегда. Каждый раз, когда после покаяний проповедовал, он делал это так хорошо, что слушатели его, хотя и знали, какой он грешный человек, умилялись и каялись вместе с ним, и чудо Благодати совершалось над ними тем очевиднее, чем орудие было недостойнее.
То же случилось и в Пор-Руаяльской обители. Слушая, как брат Базижель проповедовал, сестры каялись и плакали, потому что слышали полуночный зов: «Вот Жених идет, выходите навстречу Ему!» — и видели, что светильники их гаснут.
Плакали все, кроме Анжелики: широко раскрытыми глазами она смотрела на проповедника так, как будто видела за ним Кого-то другого, ужасного или желанного. «Это был мой первый взгляд на Бога, и Его — на меня»,— вспоминает потом **.
С этого дня все монастырские правила св. Бенедикта16 — посты, молитвы, бдения, умерщвления плоти, общность имущества — были восстановлены с точностью. Правила начала соблюдать одна игуменья, не принуждая к сему сестер, но пример ее был так заразителен, что все они присоединились к ней, потому что святым огнем Благодати душа от души зажигается, как свеча от свечи ***.
5
Скоро дошли до Парижа слухи о том, что произошло в Пор-Руаяле, и когда отец Анжелики, королевский адвокат в Парламенте, Антуан Арно Старший узнал, что в обитель не допускается никто даже из самых близких родных, то обеспокоился, потому что нежно любил дочь свою, и одна мысль о том, что она не захочет видеть его, была ему так нестерпима, что он решил тотчас ехать в Пор-Руаяль, чтобы убедиться, что слухи, до него дошедшие,— ложны.
* Е. Boutroux, Pascal, 1900,85. Chevalier, 37. R. Fulop-Miller, Les Jésuites, trad, française, 1933,127-133. Sainte-Beuve, 1,94-97.
** Mémoires pour servir àl’histoire de Port-Royal, Utrecht, 1742,1,25.
*** Sainte-Beuve, 1,101-106.
294
Д. С. МЕРЕЖКОВСКИЙ
Наглухо запертые ворота в монастырский отель увидел Арно, когда вышел из кареты, в которой приехал с женой, сыном и двумя дочерьми. Не было кругом ни души, так что некому было велеть, чтобы отперли. Долго стучали в двери, но не было ответа. Наконец, чуть-чуть приоткрылось маленькое слуховое оконце в воротах и мелькнули в нем два глаза, такие чужие, далекие, что отец сначала не узнал, что это глаза дочери, а когда узнал, то сердце у него болезненно сжалось. Голос услышал еще более далекий, хотя и говоривший ему на ухо. Долго не мог понять, что она говорит; наконец понял, что просит его войти в соседнее с воротами, но вне монастырских стен, маленькое здание, где находится комната для приема гостей. И когда он это понял, то вся кровь прилила ему в голову, и лицо у него побагровело так, что сын испугался, как бы с ним не сделался удар. Кинулся сын к оконцу, но оно уже захлопнулось. Снова начал изо всей силы стучать кулаками, ногами; но ворота были крепкие, железные; замки и засовы на них были огромные, точно крепостные или тюремные. Руки, ноги отбил так, что уже не мог стучать; только в бессильной ярости кричал и бранился площадною бранью. «Отцеубийца!» — крикнул сын не своим голосом, и что-то послышалось ему в этом слове такое страшное, что вдруг замолчал, оглянулся и увидел, что отец входит в то маленькое здание, где находилась приемная.
Когда Арно вошел в комнату, то увидел лицо дочери за решеткой, разделявшей комнату на две половины: одна — для тех, кто в миру погибает, а другая — для тех, кто у Бога спасается. Двигая ногами с трудом, как это бывает во сне, когда кажется, что на ногах стопудовые гири, подошел к решетке и приложил к ней лицо. Что-то говорил дочери, и она ему, но что именно, не могли вспомнить потом или не хотели от муки. Это были те слова, что проходят по сердцу, как острые ножи по телу, и режут сердце больнее, чем ножи. «Лучше бы она умерла»,— подумал он, закрыл лицо руками и горячо заплакал, как маленький обиженный ребенок.
«Батюшка»,— тихо вскрикнула она, протянула руки к нему и упала без чувств.
Старшая сестра Морель — та самая, что не хотела отдать ключа от собственного, любимого садика; «собственным» все называли его, и очень сердилась после того, как объявлена была, по уставу св. Бенедикта, общность имения,— говорила матери-игуменье, когда сестры привели ее в чувство: «Что ты сделала, мать, что ты сделала! Разве можно так поступать с отцом? Беги же, беги к нему скорее, пока он еще не уехал» *.
* Sainte-Beuve, 1,28-33.
Паскаль
295
«Я сделала то, что Он велел»,— ответила она, и поняла все, что «Он» — Христос, и вспомнили:
Если кто приходит ко Мне, и не возненавидит отца своего и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, а притом и самой жизни своей, тот не может быть Моим учеником (Лука, 14: 26).
«Слушайте все! Был отцом моим доныне Пьетро Бернардоне17; но вот, я отдал ему все, что от него получил, и теперь уже могу сказать свободно: не отец мой Пьетро Бернардоне, а Господь Небесный мой Отец!» — на этих словах св. Франциска Ассизского основано было одно из величайших дел человеческих — Братство Нищих*. И на словах Анжелики Арно: «Я сделалато, что Он велел», основано было бы дело не меньшее, если бы люди не поторопились его разрушить.
6
Лет через пятнадцать после возрождения, основанная в 1608 году сестрой Анжеликой община Пор-Руаяльского монастыря выросла так, что места для нее уже не хватило в старых зданиях Шеврезской долины, в «Пор-Руаяле-на-Полях», как называли первую обитель, и в 1625 году основана была вторая — «Пор-Руаяль-в-Париже» **. Слава обеих прошла по всей стране. Всемогущий кардинал — Ришелье — понял, что надо считаться с ними, как с новою силою, в делах правления. Просвещеннейшие люди Франции — богословы, законоведы, философы, ученые, писатели, вельможи — делались друзьями Пор-Руаяля. Некоторые из них поселялись в Шеврезской долине, строили у стен тамошней обители дома и жили в них, как отшельники. Осушали болота, проводили каналы, возделывали поля и виноградники. Многие работали своими руками — пахали, сеяли, жали, косили и занимались ремеслами. Те, кто впервые посещал Пор-Руаяль, изумлялись невиданному зрелищу: знатные и богатые люди в одежде крестьян и рабочих, с топорами и пилами, с лопатами и косами. Герцог де Лианкур (Liancourt)18, тоже один из «отшельников», встречаясь где-нибудь в лесу или в поле с крестьянином, первый снимал шляпу и с самой изысканной вежливостью кланялся ему и спрашивал спутника: «Кто это? Не один ли из здешних господ? » ***
Главным очарованием этой новой Фивиады19 было для людей, утомленных городскою искусственной жизнью, это возвращение к природе, о котором мечтал Монтень и будет мечтать Руссо20.
* Tres Socii, XX. S. Bonaventura, XVII. Celano, Vita S. Francisci, Paris, 1,6.
** Michaut, 169.
*** Sainte-Beuve, 1,270. Fontaine, Mémoires, 11,462.
296
Д. С. МЕРЕЖКОВСКИЙ
Днем «отшельники» работали, а вечером вели беседы о глубоких тайнах веры или о новых открытиях в любимых ими науках — математике, физике, механике — о «вихрях» Декарта или «монадах» Лейбница*'21.
Если для одних это было только мимолетной забавой и прихотью, то для других — началом новой жизни — того, что навсегда решало их судьбу. Это поняли два великих святых, Франциск де Саль (François de Sales) и Винсент де Поль (Vincent de Paul), друзья Анжелики Арно, и благословили Пор-Руаяль**.
Было здесь и еще одно очарование — святая тишина пустыни и такая в ней тихая радость, какой нельзя было найти больше нигде. «Мы всегда радовались,— вспоминает один из отшельников.— Наши сердца полны были такой радостью, что и лица наши ею светились. Я никогда не присутствовал на таком празднике» ***.
7
После Анжелики Арно сделал больше всех для Пор-Руаяля аббат де Сен-Сиран. Он понял, какою силою могла бы сделаться эта обитель в борьбе с торжествующим в миру и в Церкви духом Пелагия — опустошением христианства, «упразднением Креста».
Что такое Сен-Сиран как религиозная личность, трудно понять до конца, потому что свидетельства о нем, даже иногда от одного и того же лица идущие, слишком противоречивы. В 1639 году св. Винсент де Поль, после пятнадцатилетней дружбы с Сен-Сираном, говорит о нем почти как о святом человеке и вернейшем сыне католической Церкви, а через десять лет — как о злейшем еретике, замышляющем «совершить переворот в Церкви, чтобы подчинить ее себе» ****. «Это прекрасный человек,— говорит о нем Ришелье, только что посадив его в тюрьму Венсенского замка,— а все-таки Церковь и государство должны мне быть благодарны за то, что я сделал... потому что аббат Сен-Сиран проповедует опасное учение, которое может произвести смуту и разделение в Церкви, а я всегда был убежден, что все порождающие смуту в Церкви порождают ее и в государстве, и, следовательно, я оказал им обоим важную услугу, предупредив такую смуту» *****. «Нет больше Церкви вот уже пять или шесть веков, а то, что нам * Boutroux, 87-88.
** Bremond, 187,248,78-79.
*** См. сноску выше.
**** см сноску выше.
***** Renan, Nouvelles études d’histoire religieuse, 479-480.
Паскаль
297
теперь кажется Церковью, лишь куча грязи, только грязная лужа (bourbe)»,— сказал однажды Сен-Сиран другу своему, св. Винсенту де Поль *. Если это сказал не на ветер, что слишком не похоже на Сен- Сирана, то в чем-то Ришелье да прав, рассматривая доктрину как опасную. Но, может быть, и Анжелика Арно была в чем-то права, сделав Сен-Сирана духовником Пор-Руаяля, в чем-то прав был и тот духовный сын его, который «видел в нем одно из самых живых подобий Иисуса Христа» **■
Чтобы понять, хотя бы только отчасти (совсем понять нельзя), это противоречиво-двойственное в религиозной личности аббата Сен- Сирана, надо вспомнить то, что Гёте22 говорит о «демоническом» — «той загадочной силе, которую все чувствуют, но никто не может объяснить» и которая сказывается в разнообразнейших явлениях всей видимой и невидимой природы. «Сила эта накидывается охотнее всего на великих людей и любит сумеречные века». «Демоническое бывает всегда (durchaus) положительно творческим»,— утверждает Гёте ***. Но, кажется, вернее было бы сказать, что здесь та сумеречная область, где свет борется с тьмой, творческое — с разрушительным. « Тут дьявол с Богом борется, а поле битвы — сердца людей », — по глубокому слову Достоевского23.
Кажется, в аббате Сен-Сиране, точно так же как в духовном брате- близнеце его, Кальвине, от которого он все открещивался и никак не мог откреститься, в высшей степени присутствовала эта загадочная сила «демонического». Сен-Сиран очень скрытен, может быть, потому, что сам чего-то не понимает и страшится в себе и от людей хочет это непонятное скрыть. Но ученик его, последний великий богослов и философ Пор-Руаяля, Пьер Николь (Pierre Nicole, 1625—1695), откровеннее учителя. Как борется в Сен-Сиране святое и темное, творческое и разрушительное, можно видеть по религиозному опыту Николя.
Жертва Голгофы совершилась не за всех людей, а только за «предопределенных», «избранных»; если этого учения Лютера, Кальвина и Янсения Николь не отрицает, то сомневается в нем так, что правоверные янсенисты, может быть, недаром подозревают его в «ереси». «Слово Божие озаряет всех приходящих в мир»,— учит Николь. «Некогда посеянное Богом в человеке семя добра все еще сохранилось в нем... Как бы ни было искажено лицо человека первородным * H. P. Stewart, La sainteté de Pascal trad, française, 1919,142.
** Lancelot, Mémoires touchant la vie de M. de Saint-Cyran, 1738, II, 304. Bremond, 40.
*** Eckermann, Gesprache mit Goethe, II, 26 Februar, 2 Marz, 30 Marz 1831,52-53.
298
Д. С. МЕРЕЖКОВСКИЙ
грехом — черты Лика Божьего уцелели в этом лице... Если цельное здание было сверхъестественным (человек до греха), то развалины его остаются такими же (человек в его теперешнем состоянии)» *. Есть Благодать у простых добрых людей и даже у язычников**. Отблеск лица Божьего светится во всяком добром человеческом деле. И чаша холодной воды может быть подана жаждущему только во имя Христа.
Вывода из всего этого Николь не делает, но сделать его легко: Лютер, Кальвин и Янсений заблуждаются, думая, что Христос умер не за всех людей, а только за «избранных» и что в нужной для спасения Благодати отказано бесчисленному множеству душ.
Но все это — в «дневной душе» Николя, в его сознании, а в «душе ночной», под сознанием — иное. Вот какие страшные сны наяву посещают его: «Мир подобен огромному застенку, где бесчисленному множеству палачей, терзающих жертвы свои и пребывающих во власти своей ярости, велено щадить только очень немногих из этих несчастных... и их мучают, и только немногим из них велено спасти жизнь. Но даже и эти не могут быть уверены, что их пощадят. Они боятся смерти, которая постоянно окружает их, боятся людей вокруг них, видя в них отражение смерти. Они не в состоянии различить, кого из этих людей они должны бояться и кого нет... и проводят всю жизнь, ужасаясь и утопая в крови пытаемых братьев своих» ***. А вот и другое видение мира, созданного Всеблагим: «Темная комната, вся наполненная спящими змеями... а на них спит человек... и змеи не жалят его... Вдруг открывается окно, яркий свет падает в комнату, и змеи, проснувшись, накидываются на человека и жалят его, и терзают» ****.
«Бог хранит для нас великие искушения, в которых мы уже не знаем, не дьявол ли Бог, и не Бог ли дьявол»,— говорит Лютер*****. Этого не скажет Николь, но, может быть, нечто подобное чувствует в страшных снах своих наяву. Кажется, эти сны навеяны на него Сен-Сираном, учителем его, а на Сен-Сирана — Кальвином.
Бог разделяет все человечество на две неравные части — одну, неизмеримо меньшую,— не по заслугам наверное спасающихся, и другую, неизмеримо большую,— наверное без вины погибающих,— учит Кальвин и сам признается: «Этот приговор Бога ужасен (decretum * P. Nicole, Grâce générale, 1,208-211. Bremond, 436.
** P. Nicole, Pensées et Opuscules, 551. Bremond, 437.
*** P. Nicole, Essais de morale, 1733,1,167-168. Sainte-Beuve, II, 150.
**** Essais de morale, IV, 103-104.
***** Luther, Tischreden, éd. 1568, S. 220.
Паскаль
299
quidam horribile fateor)» *. «Ужас больше, чем вера (terrorem potius quam religionem)»,— скажет Паскаль** об этом учении Лютера, Кальвина, Янсения, а может быть, и Сен-Сирана, чья духовная дочь, Анжелика Арно, почти святая, говорила перед смертью: «Я чувствую себя, как у подножия виселицы осужденный злодей, который ждет, чтобы приговор над ним был исполнен. Я думала всю жизнь о смерти, но это — ничто по сравнению с тем, что я думаю и чувствую сейчас» ***.
Сен-Сиран, духовный отец Анжелики, умер задолго до нее, но если бы и жив был, то не мог бы ей помочь ничем, потому что в жизни чувствовал почти то же, что она в смерти. «Благ Господь»,— говорит св. Винсент де Поль. «Страшен Господь»,— говорит Сен-Сиран****. «Что для тебя главное в Боге?» — спросили однажды Янсения, и он ответил: «Истина». Св. Франциск де Саль ответил бы: «Любовь» *****. А что ответил бы Сен-Сиран? Если верно, что в религиозном опыте есть нечто «демоническое», то у него было бы два ответа: то «Любовь», то «Ужас».
8
Эту «демоническую» двойственность преодолевает Паскаль. «В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх». Что это значит, понял Паскаль. «Бог, устраивая все в тишине (любви), влагает веру в человеческий ум разумными доводами, а в сердце — Благодать; делать же это силой и угрозами — значит внушать людям не веру, а ужас (terrorem potius quam religionem)»6*. «Иисус Христос — Искупитель всех... Когда вы (ученики Лютера, Кальвина и Янсения) учите, что Христос умер не за всех... вы доводите людей до отчаяния... вместо того, чтобы приводить их к надежде»т*.
Все «демоническое» в человеке совершается под знаком Двух, а все Божественное — под знаком Трех. «Две в человеке борющиеся противоположные низшие истины» примиряются в Третьей Истине, высшей, в Богек*. «Два порядка»: низшие — «плоть и дух» — * Doumergue, Calvin, IV, 377.
** Pensées, 185.
*** Mém. pour servir àl’hist. du Port-Royal, Utrecht, 1742, II, 130-137. Sainte-Beuve, 11,79.
**** Sainte-Beuve, 1,135,87.
***** CHOCKy выше.
6* Pensées, 118,300,72,303.
7* См. сноску выше.
8* См. сноску выше.
300
Д. С. МЕРЕЖКОВСКИЙ
соединяются в «Третьем порядке», высшем — в «Любви» *. Это Паскаль поймет и скажет людям; главное дело всей жизни его и будет в этом.
Верно и глубоко понял один из лучших знатоков Паскаля, родственный ему по духу человек наших дней, христианин и математик, Эмиль Бурту (Bourtoux)24: «Все — едино, одно в другом, как три Лица Троицы»,— эти слова из «Мыслей» Паскаля озаряют, как молния, весь наш умственный кругозор **. Вот что значит: «Если вам кажется верным и сильным то, что я вам говорю, то знайте, что это говорит человек, который, став на колени, молился и будет молиться за Безграничное Существо, которому он отдаст все, что сам имеет, а также что и вы имеете, для вашей же собственной пользы и для Его славы ».
Два — число «демоническое» — знамение вечной Войны, а вечного Мира знамение — число Божественное Три, потому что воюющих Двух примирить может только Третий. О, если бы люди наших дней пред лицом второй Великой Войны — неминуемой гибели всего христианского человечества — поняли, что единственный для них путь спасения — этот, указанный Паскалем: не война, а мир,— не Два, а Три.
О, если бы и ты (Иерусалим), хотя в сей твой день понял, что служит к миру твоему! (Лука, 19: 42).
Первая встреча аббата Сен-Сирана с Анжеликой Арно — как бы таинственный духовный брак, от которого родится великое дитя — Пор-Руаяль тех последних дней, когда не в «дневной», а в «ночной душе» его будет поставлен никем, кроме Паскаля, не услышанный вопрос: «Два или Три? » — эта первая встреча произошла в 1623 году***. В том же году родился Паскаль.
II
Жизнь Паскаля
1
Паскаль родился 19 июня 1623 года, в городе Клермон в Оверни. Замкнутый в полукруг зеленеющих летом, осенью желтых, а зимой ослепительно белых под снегом, дремуче-лесистых гор и потухших вулканов, этот город казался даже в самые яркие, солнечные дни * См. сноску выше.
* * Chevalier, 11,38.
*** См. сноску выше.
Паскаль
301
мрачным, потому что большая часть домов была построена в нем на окаменелой черной лаве окрестных вулканов.
Блэз Паскаль родился на улице Дэ Гра, между двумя соборами — одним сурового и голого, романского, а другим — сложного и немного, готического зодчества, в двух шагах от той площади, где некогда папа Урбан Второй25 проповедовал первый Крестовый поход*.
Род Паскалей принадлежал в течение двух-трех веков к чиновничьей полузнати, полумещанству. Отец Блэза, Этьен, был младшим председателем Клермонтской Судебной Палаты, человеком всеми уважаемым за безукоризненную честность, довольно богатым и очень образованным, даже ученым, особенно в математике**. Жена его, Антуанетта, из Клермонтского почтенного купеческого рода Бэгон, была горячо верующая, добрая и умная женщина. Кроме сына были у них две дочери: одна, Жильберта, на два года старше Блэза, а другая, Жаккелина, на два года моложе***.
Мальчик, по третьему году, так тяжело заболел, что едва не умер. Странной была эта болезнь, если верить семейным преданиям: он так боялся воды, что от одного вида ее делались у него судороги; так же боялся отца и, когда тот подходил к нему с матерью, начинал биться в припадке. Люди говорили, что одна бедная женщина, имевшая несчастье прослыть колдуньей, которой госпожа Паскаль подала однажды милостыню, держа младенца на руках, «сглазила» его, «испортила». В «порчу» поверить не помешала Этьену Паскалю вся его ученость. Он разыскал «колдунью» и, угрозами вынудив у нее признание в том, что она действительно «испортила» младенца, заставил ее перенести порчу на черную кошку, которая очень скоро подохла, чем подтвержден был слух о колдовстве. В то же время, по совету колдуньи, начали делать больному припарки из «девяти сорванных на заре, семилетним мальчиком, целебных трав », и скоро младенец выздоровел так, что от болезни не осталось следа****.
«Мне иногда кажется, что не все в колдовстве обман... потому что если бы не было в нем чего-то действительного, то люди в него не верили бы вовсе»,— скажет Паскаль в «Мыслях», может быть, вспоминая о том, что было с ним самим в детстве *****. Страх воды, бывший у него в начале жизни, сделается в конце ее страхом «Бездны», а число лет, * V. Giraud, La vie héroïque de Biaise Pascal, 1923, pp. 4-5.
** Michaut, Les époques de la pénsée de Pascal, 12-13.
*** V. Giraud, 2,10.
**** Faugére, Mémoires de Marguerite Perier, 1845; 174, V. Cousin, Etudes sur Pascal, 1876,329.
***** pensées, 818.
302
Д. С. МЕРЕЖКОВСКИЙ
когда он заболел, три — так же, как число тех целебных трав, которые спасли его от смерти; трижды три девять — будет надо всей его жизнью сияющим знамением, числом Божественным — Три.
2
В 1626 году, когда Блэзу минуло три года (опять Три), мать его умерла. Памяти жены остался верным Этьен Паскаль до конца жизни, о новом браке не думал и сосредоточил всю свою любовь на детях — больше всего на сыне.
В 1631 году он продал свой дом в Клермоне, продал также, по тогдашнему обычаю, должность свою и, чтобы лучше исполнить то, что считал, по смерти жены, единственным назначением всей своей жизни,— воспитать детей,— переселился в Париж*.
«Люди думают,— говорил Паскаль,— что жизнь человека начинается с рождения, а я думаю, что надо считать жизнь с того дня... » Следует только на языке Паскаля возможное сочетание слов: «Жизнь надо считать с того дня, когда человек начинает потрясаться разумом (être ébranlé par la raison), что происходит не раньше двадцати лет; до того человек — дитя, а дети — не люди» **. Кто думает так, тот никогда не знал детства. Но если Паскаль первого детства не знал, то узнает второе. Общий путь людей — от детскости ко взрослости, а путь Паскаля обратный: от взрослости к детскости. Надо ему будет «обратиться», чтобы «сделаться, как дитя». «Этот великий, все испытующий ум был в деле веры послушен, как маленький ребенок, и эту детскую простоту он сохранил до конца жизни»,— вспоминает сестра его, Жильберта Перье***.
«С детства он верил только очевидным доказательствам, и если ему не приводили их, то он сам их искал,— вспоминает та же сестра Паскаля.— Однажды кто-то за столом нечаянно ударил по фаянсовому блюду ножом, и мальчик заметил, что блюдо зазвучало, но, только что к нему прикоснулись рукой, звук прекратился. Чтобы узнать причину этого явления, он тотчас начал делать опыты и потом изложил их в трактате о звуках... В это время ему было одиннадцать лет, а в двенадцать обнаружился его геометрический гений в необыкновенном происшествии... Часто просил он отца учить его математике, но тот все отказывал, обещая ему это, как награду, когда он научится древним языкам. Видя это сопротивление, мальчик спросил его однажды, что * F. Strowski, Pascal et son temps, 1907, II, 2. Boutroux, Pascal, 8.
** L. Brunschwigg, Pascal, Pénsées et Opuscules: Discours sur les passions del’amour, 124.
*** Brunschwigg.il.
Паскаль
303
такое геометрия, и тот ответил ему кратко, что это способ чертить правильные фигуры и находить между ними пропорции, и запретил об этом говорить и даже думать. Но, мучимый любопытством, только что он оставался один в комнате, где обыкновенно, отдыхая от занятий, развлекался играми, он начинал чертить углем на полу геометрические фигуры, стараясь сделать их как можно правильней. Но, даже имени их не зная, прямые называл “палочками”, а круги “колечками” и, находя между ними пропорции, дошел, наконец, до тридцать второй теоремы первой книги Евклида (сумма углов в треугольниках равна двум прямым) ».
«Как-то раз отец вошел в комнату так тихо, что мальчик, погруженный в мысли свои, не слышал его и долго не замечал». А когда заметил, испугался, побледнел, и, может быть, лицо у него исказилось так же, как в младенчестве, когда отец с матерью подходили к нему, и от ведь- минской «порчи» с ним делался припадок. Может быть, в эту минуту он почувствовал почти подобное тому, что чувствовал Адам, вкусив от запретного плода с Древа Познания, и вспомнил угрозу: «Смертью умрешь». Так же испугался и отца. Но больше страха было удивление как бы от чего-то из мира нездешнего, когда на вопрос его, что он делает, мальчик ответил ему тридцать второй теоремой Евклида.
«Сыну не сказав ни слова, отец поспешил к другу своему, ле Пайеру26, геометру, и, войдя к нему в комнату, остановился молча, как бы вне себя, а потом заплакал. Ле Пайер в тревоге спросил его, что случилось.
“Я плачу не от горя, а от радости,— ответил Этьен Паскаль.— Вы знаете, как тщательно я скрывал от сына математику, чтобы не отвлечь его от других наук, а между тем вот что он сделал — как бы снова открыл геометрию Евклида!”» *
Если все это — легенда, то, может быть, и в ней — такая же не внешняя, а внутренняя правда, как в том рассказе о ведьме, «сглазившей» Паскаля в младенчестве.
Существует древняя, вероятно, гностического происхождения легенда, о которой упоминает и Данте27 в «Божественной Комедии» **.
Ангелам, сделавшим окончательный выбор между двумя станами в довременной войне Бога и диавола, не надо рождаться, потому что время не может изменить их вечного решения. Но колеблющихся, нерешительных между светом и тьмой, добром и злом, благость Божия посылает в мир, чтобы могли они сделать выбор во времени, * Brunschwigg, Vie de Pascal par M. Gilberte Périer,4-6.
** Inf., 111,37-39.
...quel cattivo coro delli angeli che non furon ribelli né fur fedeli a Dio, ma per sé foro.
304
Д. С. МЕРЕЖКОВСКИЙ
не сделанный в вечности. Та же благость скрывает от них забвением прошлую вечность для того, чтобы раздвоение, колебание воли их, в вечности бывшей, не предрешало того уклона воли, от которого зависит спасение или погибель их в вечности будущей. Вот почему люди так естественно думают о том, что будет с ними после смерти, и не умеют, не могут, не хотят думать о том, что было с ними до рождения. Людям дано забыть, откуда,— чтобы яснее понять, куда они идут.
Таков общий закон религиозного опыта. Исключения из него редки, редки те души, для которых приподнялся угол завесы, скрывающей от людей тайну прошлой вечности. Кажется, одна из таких душ — Паскаль.
Чувство незапамятной давности, древности — воспоминание земного прошлого сливается у него с воспоминанием прошлой вечности, таинственные сумерки детства — с еще более таинственным всполохом иного бытия — того, что было до рождения. Так же просто, как другие говорят «моя жизнь», Паскаль говорит: «Моя вечность». Надне всех земных мук его — мука неземная — неутолимая жажда забвения.
Спастись от думы неизбежной И незабвенное забыть.
Дети ближе, чем взрослые, к тому, что было до рождения. В этом, кажется, причина того, что Паскаль обладает никогда ему не изменяющей способностью возвращаться в детство, о котором вспоминает сестра его, Жильберта.
Когда двенадцатилетним мальчиком он «снова открывает геометрию Евклида», то, может быть, не узнает ничего нового, а только вспоминает то, что знал еще до рождения, в прошлой вечности. Вот почему отец его испытывает при этом такое удивление, подобное ужасу, как будто он вдруг заглянул через сына туда, куда человеку не должно заглядывать.
Может быть, душа Паскаля есть лучезарный дух познания, херувим, сошедший на землю, родившийся для того, чтобы сделаться огненным духом любви, Серафимом28.
3
Переселившись из Клермона в Париж, Этьен Паскаль вложил все свое имущество в доходные бумаги Парижской Ратуши, но в недобрый час, потому что кардинал Ришелье, всемогущий министр короля Людовика XIII, сделал, как раз в эти дни, то, что власть делала всегда, чтобы наполнить пустую казну,— запустил руку в чужой карман
Паскаль
305
и вынул из него сколько хотел. На четверть были урезаны доходы вкладчиков Парижской Ратуши. Несколько жертв этой несправедливости — в том числе и Паскаль,— выражая свое возмущение главному интенданту-казначею, осыпали его площадною бранью и едва не избили, за что были посажены в Бастилию. Но Паскалю удалось бежать и скрыться у друзей, а потом уехать к себе на родину, в Клермон *.
В это время младшая дочь его, восьмилетняя Жаккелина, оставшаяся в Париже у родных, так тяжко заболела оспою, что едва не умерла. Когда в первый раз по выздоровлении увидела она рябое лицо свое в зеркале, то огорчилась, но не очень, а потом и совсем утешилась, сочинив благодарственную молитву в стихах:
Рябинами этими, Боже, Ты запечатлел лицо мое, Чтобы девство мое сохранить. Je les prends, dis-je, о Souverain! Pour un cachet dont votre main, Voulut mariner mon innocence... **
В те же дни писала она о любви:
Свободна я от ига твоего, Любовь, Твое безумье разум презирает.
Libre de ton servage et de cette rigueur, Qui fait que la raison te fuit et te méprise ***
Богу решила себя посвятить, но в монастырь идти не хотела, потому что «многое», говорила, «делается в монастырях, что разумными людьми не может быть одобрено» ****.
Сочиняет «Утешение» на смерть одной гугенотки:
Дал ли Ты ей такую веру, Боже, Только затем, чтобы ее погубить? Нет, на милость Твою уповаю И верю в Твой Промысел мудрый, И вечную благость Твою *****.
* Giraud, Vie heroique de Pascal, 27.
** F. Mauriac, Biaise Pascal et sasoeur Jacqueline, 1931, p. 30.
*** Strowski, 11,45.
**** Mauriac,42: «Dans les couvents on pratique des choses qui ne sont pas capables de satisfaire un esprit raisonnable».
***** y Cousin, Etudes sur Pascal, 110.
306
Д. С. МЕРЕЖКОВСКИЙ
Это значит: хотя и еретичка, будет спасена.
В этих стихах как будто предчувствует она, что будет и сама полугугеноткой-янсенисткой в Пор-Руаяльской обители и так же в молодости умрет за новую веру.
В то же время пишет королеве на ее беременность29 не совсем приличные для двенадцатилетней девочки стихи:
Каждый раз, как младенец, еще не рожденный, Движется во чреве матери,—
Это для наших врагов — землетрясение *.
«Маленькими чудесами (petites merveilles)» кажутся эти стихи королеве, и Жаккелина, сделавшись придворным поэтом30, входит у нее в такую милость, что прислуживает за ее столом **.
Однажды, в присутствии кардинала Ришелье, в доме племянницы его, герцогини д’Эгийон (d’Aiguillon)31, мальчики и девочки — в том числе и Жаккелина Паскаль — играли комедию «Тиранство любви» ***32.
«Очень был доволен кардинал, особенно когда я выходила на сцену,— писала Жаккелина отцу.— После представления он взял меня к себе на колени и, пока я читала ему сочиненные мною в честь его стихи, обнимал меня и целовал». «Можете написать отцу, чтобы он возвращался, ничего не боясь»,— сказал он ей на прощание.
«В самом деле, Монсеньор, этот человек достоин вашей милости, потому что слишком жалко, что он не приносит пользы государству»,— подтвердила госпожа д’Эгийон и тут же напомнила ему о Паскале, уже в пятнадцать лет «великом математике».
Тот при этом присутствовал и под взором Ришелье не смутился: помня, что «снова открыл геометрию Евклида», чувствовал свое величие. Если бы кто-нибудь в эту минуту пристальней вгляделся в невозмутимо спокойное лицо его, с почти неуловимой улыбкой, то, может быть, понял бы, с какой высоты этот мальчик смотрел на всемогущего старика в кардинальском пурпуре. Вот когда впервые овладела им та неутолимая «похоть превосходства (libido excéllendi)», с которой он будет тщетно бороться всю жизнь ****.
В эти дни Паскаль, на шестнадцатом году, пишет «Опыт о конических сечениях»33, в котором «делает такое открытие, какое * Mauriac, 20.
** Mauriac, 21-23.
*** Cousin, 92. La duchesse d’Aiguillon. L’Amour tyrannique. Mauriac, 31-34.
**** Pensées,458,460.
Паскаль
307
не сделано никем за 2000 лет после Архимеда» *. Шестиугольник, вписанный в коническое сечение и обладающий тем свойством, что все три точки пересечения двух противоположных сторон его находятся всегда на одной прямой, называет он «Мистической Гексаграммой» (Hexagramme mystique), может быть, уже предчувствуя то, что будет движущей силой всех его открытий,— мистику в математике, веру в познании. Три точки пересечения двух сторон шестиугольника находятся на одной прямой. Один, Два, Три — это сочетание Божественных Чисел, может быть, и есть для него «мистика в математике». «Это исследование мы продолжим, насколько Бог даст нам сил»,— заключает он свою теорему, как молитву**.
«Опыт» этот прославил его на всю Европу. Будущий соперник его, Декарт, не верил или только притворялся, будто бы не верит, что шестнадцатилетний мальчик мог сделать такое открытие, а втайне ему завидовал. «Чудным отроком» (minis adolescens) называет его великий математик Гассенди3’, и Лейбниц им восхищается***.
4
Ришелье исполнил свое обещание: Этьен Паскаль назначен был главным королевским комиссаром для взимания податей и налогов в Верхней Нормандии38, с огромным жалованием в 70000 ливров.
С нищих и голодных людей пришлось комиссару выколачивать недоимки и усмирять, с помощью военной силы, «Бунт Босоногих» 36, новую Жакерию37. Липнет к золоту кровь — это тогда уже понял сын комиссара****.
Чтобы облегчить отцу работу по исчислению налогов, он изобрел «счетную машинку», производившую все исчисления по четырем правилам арифметики *****, и поспешил обнародовать свое изобретение, «чтобы все узнали, каков этот опыт двадцатилетнего юноши», скажет он сам о себе, когда после десятилетних усилий по усовершенствованию машинки и по устройству более чем пятидесяти образцов ее посвятит ее канцлеру Селье (Sellier)38, жестоко издеваясь в этом посвящении над злополучным соперником своим, Руанским часовщиком39, изобретателем такой же машины. «Жалкий выкидыш его был мне так противен, что я и к собственной * Braunschwigg, 8.
** Chevalier, Pascal, 1922,54-56.
*** Strowski, 11,30-32.
**** Giraud, 29-30.
***** BraUnschwigg, 8-9.
308
Д. С. МЕРЕЖКОВСКИЙ
машине моей охладел бы, если бы не было угодно Канцлеру своим покровительством пресечь в корне это зло, чтобы не лишить меня славы моей» *.
В этом изобретении Паскаль, может быть, сам уже предчувствовал то, что будет второю движущей силой всех его открытий — прикладное, жизненное действие науки — власть человека над природой.
В то же время начались у него те болезни, которым суждено было длиться, с небольшими перерывами, двадцать лет. «Не было у меня, с восемнадцати лет, ни одного дня без страданий»,— скажет он сам40 в конце жизни **. Первое начало этим болезням положил его отец, так же «сглазив», «испортив» его наукой, как некогдаклермонтская ведьма — колдовством. Кроме физики, механики и математики, ни о чем не говорил с ним, даже за обедом и ужином, отбивая у него охоту к пище и закармливая плодами с Древа Познания.
Чем-то подобным параличу поражена была вся нижняя часть тела его, ноги иногда почти совсем отнимались, «холодея, как мрамор», и, даже когда начинали служить ему снова, он не мог ходить без костылей***.
В эти дни он написал «Молитву о добром употреблении болезней (Prière pour demander à Dieu le bon usage des maladies)». «Господи, сделай так, чтобы Ты жил и страдал во мне... да утешит меня Твой бич... » «Некогда я считал здоровье благом, не потому, что здоровому мне было бы легче послужить Тебе, Господи... а потому, что я мог предаваться необузданней всем наслаждениям». «Вся моя жизнь доныне была ненавистной Тебе: ибо, презирая слово Твое и святейшие Таинства Твои, я жил в гнусной праздности» ****.
Судя по этим угрызениям, может быть, несколько преувеличенным, но, кажется, все-таки искренним, Паскаль в юности не был вовсе таким «святошей», каким изображает его Жильберта Перье в своем полу гугенотском «Житии св. Блэза Паскаля».
В зиму 1646 года Этьен Паскаль, выйдя однажды в гололедицу из дому, чтобы помешать глупому поединку двух друзей своих, поскользнулся на льду, упал и вывихнул себе ногу в бедре так, что был отнесен домой на носилках. Чтобы вправить вывих, пригласили двух знаменитых костоправов, сельских владетельных сеньоров, братьев Дэшан, пламенных проповедников «новой евангельской ве* Michaut, 33,41-42.
** См. сноску выше.
*** Faugères, Mém. de Marg. Périer,453. Michaut,42.
**** Braunschwigg, 56. «Prière pour demander à Dieu le bon usage des maladies», 61-62.
Паскаль
309
ры», по св. Августину и Янсению, чья книга «Внутреннего человека преображение», во французском переводе Сен-Сирана, основателя Пор-Руаяльской обители, была в искусных руках двух костоправов тем же для сокрушенных сердец, чем лубки и колодки для сломанных рук и ног.
Братья Дэшаны, прожив около трех месяцев в доме Паскалей, обратили Блэза в новую веру; тот обратил сначала младшую сестру свою, Жаккелину, потом — отца и, наконец, старшую сестру, Жильберту Перье, с мужем, подъехавшую как раз вовремя, в чем не преминули новообращенные увидеть «особый Промысел Божий», так же как в глупом поединке двух друзей, и в гололедице, и в счастливом падении Этьена Паскаля *.
Не было, впрочем, никакого действительного обращения, потому что все в доме Паскалей были верующими всегда и только в простоте сердца думали, что можно разделить жизнь на две неравных части, отдавая большую часть — миру, а меньшую — Богу. Но теперь узнали, что этого сделать нельзя и что надо отдать всю жизнь или миру или Богу. Этот-то выбор они и сделали, или им казалось только, что сделали, потому что скоро суждено им было убедиться, что Бога выбрали они больше умом, чем сердцем**. Что это было действительно так, видно по делу Паскаля-сына с бывшим францисканским иноком Жаком Фортолом***, аббатом Сэнт-Анжем41. Этот детски простодушный и безобидный старик точно впал в «ересь», утверждая, что вера нужна только для слабых умов, а сильные могут постигнуть тайны Божии без помощи веры.
Новообращенный Блэз Паскаль, вместе с двумя друзьями своими, Адриеном Озу (Auzoult), юным математиком, и Раулем Галлэ (Halle)42, сыном важного руанского чиновника, восстали на о. Сэнт-Анжа с такою пламенною ревностью, что сам Торквемада43 мог бы им позавидовать. Под слишком нескромным и упорным давлением Паскаля Руанский архиепископ вынужден был трижды возобновлять это для него постылое дело, сам допрашивать бедного о. Сэнт-Анжа и заставлять его отречься от ереси, которой, может быть, меньше боялся, чем правоверия Паскаля. Три молодых и злых петушка хотели заклевать добрую, старую курочку****. Этот больной юноша на костылях, с прозрачно-желтым, как воск, изможденным лицом, с горбатым носом — * Faugère, Mémoires de Marguerite Périer, 424-427. Giraud, 41-42.
** Boutroux, Pascal, 21. Giraud, 39-40.
*** Тогдашним.
**** y_ Cousin, Etudes sur Pascal, 348-388. Abbé Maynard, Pascal, sa vie et son caractère, 1,30-44. Giraud,45-46.
310
Д. С. МЕРЕЖКОВСКИЙ
хищным клювом — ис огромными, лихорадочно горящими глазами напугал архиепископа так, что ему казалось иногда, что Паскаль обличает в ереси не только о. Сэнт-Анжа, но и его самого.
5
«Похоть знания (libido sciendi) — ядовитейший плод грехопадения»,— учит Янсений, и с ним соглашается новообращенный Паскаль, а между тем, в эти именно дни, предавался «похоти знания» с такой неутолимою жадностью, как еще никогда. Видно и по этому, что выбор между Богом и миром он сделал больше умом, чем сердцем. Пока читал Янсения или страдал от болезни — презирал науку; но только что от него отступала болезнь, как демон Знания снова к нему приступал. Что-то было в нем, грешное или святое, что не могло или не хотело умереть для мира*.
Осенью 1648 года, продолжая изыскания Галилея и Торичелли, Паскаль делает «великий опыт над равновесием жидкостей (Grande expérience de l’équilibre des liquides)», чтобы опровергнуть идущее от Аристотеля и принятое Декартом учение схоластиков о господствующем в природе «страхе пустоты» (horror vacui).
Шурин Паскаля, муж его сестры Жильберты, советник Судебной Палаты в Клермоне, Флорей Перье, исполнил с точностью замысел его: в присутствии многих свидетелей делал на различных высотах горы Пюи-де-Дома44, близ Клермона, то при ясной погоде, то при дожде и тумане, опыты с двумя наполненными ртутью стеклянными трубками — одной у подножия горы, а другой — на вершине, чтобы знать, зависит ли подъем ртути от этих высот. Если бы уровень ее понижался при восхождении на гору, то было бы доказано, что действительная причина этого понижения не « страх пустоты », а тяжесть и давление воздуха, потому что у подножия горы это давление больше, чем на вершине, а утверждать, что природа «боится пустоты» внизу больше, чем наверху, было бы явной нелепостью.
Опытом этим были не только доказаны все гипотезы Паскаля о равновесии жидкостей, но и заложено основание всей точной науки новых времен. «Опыта не может ни заменить, ни опровергнуть никакое отвлеченное понятие». «Опыт убедительнее всех рассуждений». «Разум должен подчиниться опыту» **.
Есть что-то в человеке выше и сильнее разума; если это понял Паскаль, то понял и то, что янсенисты не правы: знание может * Boutroux, 46-47. Michaut, 58-59.
** Strowski, II, 183-184. Chevalier, 66-70.
Паскаль
311
и не быть «суетою» (vanitas). А поняв это, он соединил бы, хотя бы только в одной точке, знание с верою — природу с Богом.
В том же году изобретает он гидравлический пресс. Если в замкнутом отовсюду и наполненном водою сосуде находятся два отверстия, одно во сто раз больше другого, и если к обоим плотно прилажены закрывающие их поршни, то сила человека, надавливающего на малый поршень, будет равна силе ста человек, толкающих тот поршень, который во сто крат больше, так что сила эта превзойдет силу девяноста девяти человек. Вот как лучезарно ясно и детски просто это новое учение о гидростатике — один из путей к бесконечному умножению власти человека над природой. Частные законы равновесия жидкостей возводит Паскаль в этом учении и к общим законам механики, доказывая, что три статики — твердых, жидких и газообразных тел — должны быть частями одной будущей науки *. И здесь опять предчувствует он возможное соединение знания с верою, Бога с природой. «Три начала — пространство, число и движение,— объемлющие мир», внутренне связаны, потому что «Бог все сотворил по весу, числу и мере (Deus fecit omnia in pondéré, in numéro et mensura)»,— скажет Паскаль в своих пророческих заметках «О духе геометрии» («De l’esprit géométrique»)**45. Движущей силой всех его открытий будет и это предчувствие возможного соединения Бога с природой.
Но и здесь за бескорыстною жаждою знания скрывается у него все та же неутолимая «похоть превосходства». Опыт над равновесием жидкостей он так же спешит обнародовать, как некогда — изобретение счетной машины. «Я это делаю,— признается он,— потому что, употребив на это открытие столько времени, трудов и денег, я боюсь, чтобы кто-нибудь... не похитил его у меня» ***.
Опыт над пустотою еще больше прославил имя Паскаля, возбудив еще сильнейшую зависть в Декарте. «Это я внушил ему два года назад желание сделать этот опыт и уверил его в успехе, потому что этот опыт вполне соответствовал тому, что я предполагал, а ему самому этот опыт и в голову никогда не пришел бы, потому что он был противного мнения»,— пишет друзьям своим Декарт. Это значит одно из двух: или Паскаль — вор, или Декарт — клеветник. Чтобы не делать между ними печального выбора, потомство, может, с чрезмерной легкостью оправдает обоих, объяснив все это дело «недоразумением» и «ошибкой» Декарта****.
* Boutroux, 42-43. Strowski, II, 186-187. Chevalier, 71-72.
** Brunsch., 173.
*** Michaut, 55-56.
**** Boutroux, 39. Strowski, II, 159-161.
312
Д. С. МЕРЕЖКОВСКИЙ
6
«Заболев от чрезмерных научных работ, Паскаль вынужден был покинуть их по совету врачей, чтобы предаться светским развлечениям, карточной игре и другим рассеяниям»,— вспоминает янсенистская летопись тех дней *.
В это время Жаккелина, после своего обращения в новую веру, отказалась выйти замуж и решила идти в монастырь, изменив прежнее мнение свое, что «в монастырях делается многое, что разумными людьми не может быть одобрено». Но когда она сообщила отцу о своем решении, тот отказал ей в согласии. Видно и по этому, что Этьен Паскаль так же, как сын его, сделал выбор между Богом и миром больше умом, чем сердцем, и построил свой дом на песке. А Жаккелина строила на камне и, оставаясь непреклонной в решении своем, только обещала отцу отложить свой постриг до его смерти. Но, поселившись в отдельной комнате, из которой почти никуда не выходила, жила она в родном доме, как чужая, и в миру, как монахиня. Ласкова была со всеми, но как бы отсутствовала и казалась мертвою среди живых. Брат в это время был на ее стороне, может быть, потому, что сам внушил ей первую мысль о монашестве.
Желая удалить дочь от опасного соседства с Пор-Руаялем и, может быть, надеясь, что внешняя перемена жизни повлечет за собою и внутреннюю, отец увез детей в Оверн46 и, вместе с тем подозревая Жаккелину в тайной переписке с Пор-Руаяльским духовником ее, аббатом Сенгленом (Singlin)47, и матерью Агнессой, игуменьей48, поручил старой няне и ключнице, Луизе Дэфо, наблюдать за дочерью и доносить ему обо всем. Хуже всего было то, что и брат, начав ревновать ее к Пор-Руаяльским отшельникам, перешел постепенно, может быть, сам того не сознавая, на сторону отца**.
Когда Этьен Паскаль тяжело заболел, Жаккелина не отходила от него, ночей не спала, но чем нежнее ухаживала за ним, тем мучительнее казалось ему, что она только и ждет смерти его, чтобы уйти в монастырь***.
Осенью 1651 года Этьен Паскаль умер. Сын ему сочинил надгробную надпись, а старшей сестре своей, Жильберте Перье, и мужу ее — утешительное послание, такое же бесстрастно отвлеченное, как наблюдения над подъемами ртути в стеклянной трубке на разных высотах49.
* Mémoires pour servir à 1’hist, de Port-Royal, 1742, Utrecht, 1,257. Michaut63.
** Mauriac, 86-90.
*** Boutroux, 50. Girand, 65-66.
Паскаль
313
В этих общих местах, взятых как будто из «Руководства» Эпиктета50, чувствуется мраморный холод стоического Портика или параличных ног Паскаля, дошедший до сердца его. Кажется, иногда он верит насильно, сжав кулаки и стиснув зубы, в то, что говорит: «Не будем скорбеть о смерти его, как язычники, для которых нет надежды; но будем помнить, как христиане, что в смерти он только исполнил то, для чего родился». «Я не говорю, чтобы вы не скорбели вовсе: удар слишком для нас чувствителен... Но в великой скорби мы должны находить и великую радость с полезным для души назиданием». «Я потерял в нем больше вас всех. Если бы он умер шесть лет назад, то смерть его была бы для меня гибелью, и хотя я сильнее и уже не так нуждаюсь в нем, как прежде, но все же, в течение десяти лет, он был бы мне еще нужен» *. Нужен был бы ему отец не навсегда, а только на десять лет. Какая математическая точность расчета и какая сухость сердца! Чтобы это почувствовать, стоит лишь сравнить как будто христианское утешение Паскаля с как будто языческим отчаянием св. Бернарда Клервосского 51, говорящего о смерти брата: «Смерти я ужасаюсь для себя и для своих... Разве плакать о смерти любимых — значит восставать на Бога? Нет, плакал о ней и сам Христос». Это о смерти брата по плоти, а о смерти брата по духу — еще сильнее: «Лучше бы Ты сразу убил меня, Господи, чем так терзать!» **
«Смерть без Христа... ужасна и ненавистна... а со Христом любезна и сладостна»,— учит Паскаль. «Смерть всегда — горечь горечей»,— не учит, а плачет св. Бернард. Кто из них ближе к Тому, о Ком сказано:
Всех врагов своих низложит... последний же враг истребится — Смерть (1 Коринф., 15: 25-26).
Смертью своей лишит силы имеющего державу смерти, то есть дьявола (Евреям, 2: 14).
Все мертво в страшном «утешении» Паскаля, кроме этих чудесных, уже из глубины сердца сказанных слов: «Лучшее милосердие к умершим — делать то, что они при жизни велели бы нам делать, и быть такими, какими бы они хотели нас видеть, потому что этим мы как бы воскрешаем их в себе, так что они и после смерти все еще живут и действуют в нас» ***.
* Brunsch., Lettre sur la mort de Pascal le père, 101,104,105,106.
** G. Goyau, Saint-Bernard, 1927,108,166.
*** G. Goyau, Saint-Bernard, 1927,108,166.
314
Д.С. МЕРЕЖКОВСКИЙ
7
«После кончины отца мой дядя мог предаться светской жизни с еще большей легкостью»,— вспоминает о Паскале племянница его, Маргарита Перье *. Светская жизнь его продолжалась недолго — месяцев семь или восемь — до февраля 1652 года**. Кажется, лучше всего можно понять, чем была эта жизнь по его же собственным воспоминаниям в тех «Мыслях», которые он озаглавил «Развлечения» ( Divertissements).
«Нет ничего для людей невыносимее, чем совершенный покой, без страстей, без дел, без рассеяний. Люди чувствуют в нем свое ничтожество, покинутость, бессилие, пустоту, и тотчас овладевает ими скука, чернота, безнадежность и отчаяние» ***. Вот где находит Паскаль не мнимый, а действительный в человеке «страх пустоты». Тот внешний опыт, научный, помогает этому внутреннему опыту, религиозному. «Люди жадно ищут женского общества, войны, государственных дел, все это для того, чтобы чем-нибудь наполнить страшно зияющую в сердце их бездну пустоты». «Думая, что охотники безумствуют, когда весь день травят зайца... философы ошибаются в человеческой природе: заяц не спасает людей от мыслей о смерти и страданиях, но охота спасает от них... Люди воображают, что ищут покоя в рассеяниях, а на самом деле ищут в них волнения... » «Вот человек, опечаленный смертью жены или сына. Почему он вдруг забыл свою печаль?.. Потому что ему подали мяч, который надо перекинуть другим игрокам» ****. «Пляшущий думает о том, куда поставить ногу,— от печали и это спасает» *****. «О, как пусто сердце человека и как полно нечистот!»6*
«Сколько времени потратил я на отвлеченное знание, пока оно мне, наконец, не опротивело, когда я понял, что почти ничего не узнал; когда же я начал изучать людей, то увидел, что отвлеченное знание человеку не свойственно и что я больше заблуждался в науке, чем другие в невежестве»7*. «В пропасть люди беспечно бегут, что-нибудь держа перед глазами, чтобы не видеть пропасти»8*.
* Faugere, Mémoires de Marguerite Perier,43. Michaut, 67.
** Strowski, 11,283.
*** Pénsées 131,140,139,143,144,183.
**** См. сноску выше.
***** см СНоску выше.
6* См. сноску выше.
7* См. сноску выше.
8* См. сноску выше.
Паскаль
315
«Сделаться богами и отречься от страстей хотят одни из философов, а другие — отречься от разума и сделаться скотами»,— скажет Паскаль в «Мыслях», может быть, вспоминая о том, как он сам чувствовал в себе эту страшную двойственность, которую имел случай наблюдать в одном из своих светских друзей, Де Барро (De Barreau)52. Этот великий эпикуреец и безбожник мог бы участвовать в том подобии «черной обедни », в котором врач-священник Бур дел о (Bourdelot)53 вместе с принцессой Палатинской54 и герцогом Конде55 хотели сжечь частицу древа Креста Господня, но не могли этого сделать, что послужило к обращению принцессы*. Когда Де Барро был здоров, то пил и распутничал, а когда был болен, каялся и слагал такие молитвы, как эта:
Праведны суды Твои, Вожено на какое место, не залитое кровью Христа, мог бы упасть Твой гнев? **
8
«В эти дни он был совершенным красавцем»,— вспоминает о молодом Паскале Маргарита Перье ***. Светские развлечения так пошли ему впрок, что вместе с янсенистским благочестием он отбросил и костыли.
В светских домах, у госпожи Рамбуйэ (Rambouillet), у маркизы де Саблэ (Sablé)56, у герцогини д’Эгийон (Aiguillon) и у других ученых «жеманниц» (Précieuses), тщетно осмеянных Мольером57, потому что соблазн их был тоньше и опаснее, чем ему казалось,— Паскаль был дорогим гостем, хотя, должно быть, и нелегко было ему выслушивать их пожелания, чтобы «Евангелие обладало большею прелестью слога» ****. Дамы эти были так начитаны, что их не могла запугать и та ученая беседа Паскаля по гидростатике, о которой вспоминает в плохоньких стихах один из тогдашних поэтов:
Говорил намедни Паскаль В Люксембургских садах, В сонме дам и вельмож, О водометных струях, И так умна была его беседа, Что его сочли за Архимеда*****.
* Sainte-Beuve, III, 302 303.
** Brunsch.,515.
*** Faugère, Mém. de Marguer. Périer,444.
**** Brunsch., 120.
***** Michaut, 79, La Muse Historique.
316
Д. С. МЕРЕЖКОВСКИЙ
Юный герцог Роаннец (Roannez), губернатор Пуату (Poitou)58, в которого влюблены были все наследницы Франции, между тем как сам он был влюблен в одну математику, так привязался к Паскалю, что поселил его у себя в доме и, не желая разлучаться с ним ни на один день, брал его с собой в путешествия. Люди говорили, что Паскаль служит у герцога, а на самом деле тот служил у него*.
Рыцарь де Мерз59 был тоже вольнодумцем и безбожником, но более последовательным, чем Де Барро. «Жизнь,— говорил он,— не стоит того, чтобы думать, как жить; думать надо только о том, как бы прожить с наибольшей приятностью» **. Легким и пустым казался он иногда, но на самом деле не был таким, что видно уже из того, что человек, подобный Паскалю, мог поступить к нему на выучку и узнать от него многое, чего он уже никогда не забывал ***.
Для рыцаря де Мерз Паскаль — «хотя и великий математик, но человек, лишенный всякого вкуса» ****60. В школе де Мерз, «судии всех изяществ» (arbiter elegantiarum), учится он, как, входя в гостиную, снимать для поклона широкополую, с пышными белыми перьями шляпу и скользить ногой в узком, точно женском, башмачке по зеркальному полу или пушистым коврам; как носить белокурый парик и бант из огненно-ярких лент у плеча, а на рукавах тонкое, как паутина, брабантское кружево; как руку держать на рукоятке рапиры с длинным и гибким андалузским клинком, а главное, как соблюдать меру во всем — в правде и во лжи, в мудрости и в безумии, в вере и в сомнении.
С рыцарем де Мерз Паскаль впервые выходит из пыльного книгохранилища и душной монашеской кельи на свежий воздух. «Я жил в изгнании, а вы меня вернули на родину»,— пишет он своему учителю *****. Что изгнание для него — христианство, а родина — язычество, этого он, может быть, еще и сам не знает, но знает за него де Мерз: «Кроме этого видимого мира есть другой, невидимый, в котором достигается высшее знание»6*. Этот мир — не загробный, а здешний, земной, как бы земная вечность, которая, может быть, стоит неземной.
Главною наукой де Мерэ было то, что он называл «благородством», «честностью» (honnêteté),— «искусство превосходствовать во всем, что относится к приятностям и пристойностям жизни», среди людей * Strowski, 1,235-236. Micha ut, 68.
** Micha ut, 94.
*** Brunsch.,11.
**** Giraud, 73, 739, 74.
***** CHOCKy выше.
6* См. сноску выше.
Паскаль
317
высшего общества, у которых нет иной цели, как быть «достойными любви и давать радость всем людям» *.
«Вы пишете мне, что я разочаровал вас в математике и открыл вам то, что вы без меня никогда не узнали бы,— учит он Паскаля, как маленького школьника.— Но ваши длинные рассуждения, вытянутые в одну линию, действительно мешают вам проникнуть в высшее знание. Предупреждаю вас, что вы многое от этого теряете... потому что искусство рассуждать по тем правилам, которые так высоко ценят полупросвещенные люди, на самом деле, почти ничего не стоит... Вы все еще остаетесь в заблуждениях, в которых запутали вас ложные геометрические доказательства... и я не поверю, что вы совсем вылечились от математики, пока вы будете утверждать, что атомы делимы до бесконечности... Знайте же, что естественное чувство находит истину лучше всех ваших доказательств. Будем помнить, что солнце светит и греет, а здравый смысл и благородство выше всего» **■
Первое впечатление, более внешнее, произвел на Паскаля де Мерэ, а второе, более глубокое, тот странный человек, которого ему суждено было никогда не забыть и которого он называет просто, без всякого вельможного титула, «Митон» (Miton)61, может быть, потому, что он для него человек по преимуществу. Рыцарь де Мерэ самодоволен и тщеславен, а Митон смирен, потому что заглянул в последнее ничтожество всего. «Стоят ли люди такого труда?» — пишет он де Мерэ, когда тот замышляет сочинить «бессмертную книгу». «Кажется, вернее всего думать только о самом простом, легком и даже забавном». А когда узнает, что Паскаль ставит его выше Платона и Декарта, он только смеется, потому что слишком хорошо знает цену себе, так же, впрочем, как и тем великим людям. «Скажите Паскалю, что я очень благодарен ему и никогда не сомневался в его одобрении»,— пишет он де Мерэ***.
«В мире ничто не стоит ничего»,— говорит он уже на последнем пределе отчаяния. Если бы он мог сказать: «Здесь на земле не стоит ничто ничего»,— то, может быть, переступил бы за тот волосок, который отделяет его от христианства. Но этого он не скажет и за волосок не переступит никогда.
В жизни Митон, как Дон-Жуан в аду: Когда сошел он в ад и дал обол Харону, Безмолвно понеслась ладья по Ахерону...
* Chevalier, 90. Strowski, II, 264.
** Chevalier de Méré, Oeuvres, 1692, II, 60-69. Michaut, 74-75.
*** Chevalier de Méré, Oeuvres, 1,253, Brunsch., 116-117.
318
Д. С. МЕРЕЖКОВСКИЙ
И жен полунагих неисчислимый рой, Метавшийся во тьме, под черным сводом ада, Гнался за ним и был, как жалобное стадо Закланных жертв. Но царственный герой Смотрел на след ладьи, ничем не возмутим, И ни одной из жертв не удостоил взглядом *.
Что для таких обнаженных сердец, как у Паскаля, хуже всего — бесконечная жестокость мира? Нет, грубость. Если так, то понятно, чем пленяют его такие люди, как де Мера и Митон,— обаятельной любезностью. Как бы ногой, израненной холодными и острыми камнями дороги, ступает он вдруг на мягкую и теплую от солнца траву. За этот краткий отдых от грубости он будет им навсегда благодарен, потому что отдых, увы, слишком краток: скоро он поймет, что любезность их обманчива. «Всякое я ненавистно. Вы, Митон, только прячете ваше я, но не освобождаетесь от него: вот почему и вы ненавистны» **■
9
Кажется, тщетны сомнения историков, что «Речь о любовных страстях» («Discours sur les passions de l’amour»)62 принадлежит Паскалю. Голос его слышится в ней слишком внятно. Стоит лишь сравнить эту «Речь» с теми «Мыслями», где говорится о любви, чтобы услышать, что здесь и там голос один. Сомнение, впрочем, понятно: трудно поверить, чтобы иные слова в «Речи» могли быть сказаны христианином, хотя бы только в возможности. Все в этой «геометрии любви» как будто отвлеченно и холодно, а на самом деле страстно и огненно.
«Когда говоришь о любви, то уже начинаешь любить... У любви нет возраста: она всегда рождается» ***. «Страсть охватывает сердце и терзает его. Но как бы низко ни падал любящий, всякий луч надежды снова подымает его на высоту. Женщинам иногда нравится эта игра. Но, и делая только вид, что жалеют, часто они жалеют искренне, и какое в этом для любящих блаженство!» ****
В эти дни Паскаль доводит счетную машину свою до совершенства и посылает ее молодой шведской королеве Христине63 с таким письмом: «Я питаю высшее уважение только к тем, кто находится на высшей * Baudelaire, Fleurs du Mal, XV.
** Pénsées,455.
*** Brunsch., 128,131,112.
**** См. сноску выше.
Паскаль
319
ступени знания или власти. Эти так же, как те, могут считаться владыками, потому что власть государей есть только образ той, которую высшие духи имеют над низшими, и даже эта власть знания больше той (власти государственной), потому что дух больше тела» *.
Кажется, точнейшую меру тогдашнего удаления Паскаля от христианства дает презрительное умолчание в этом письме о том «порядке святости», о котором он некогда скажет: «Этот порядок бесконечно выше вещественного и духовного порядка» **.
«Вы один из тех гениев, которых королева ищет»,— отвечает Паскалю на его письмо королеве врач ее Бурдело ***. «Вы — человек самого точного и проницательного ума, которого я когда-либо знал. С вашим упорством вы превзойдете всех великих людей, древних и новых веков, и завещаете потомству чудесную легкость в деле познания». Вот какие похвалы нужны Паскалю, чтобы утолить в нем «похоть превосходства», скрытую под «похотью знания».
Судя по «Мыслям» Паскаля, он был таким очаровательным собеседником, что трудно себе представить, чтобы в обществе тогдашних женщин, не только ученых «жеманниц», не нашлось ни одной, которая пленилась бы его очарованием64. Если он еще не любил, то, может быть, по слову св. Августина, «уже любил любовь». «В каждом сердце есть место, ожидающее любви»,— признается он в «Речи». «Каждый человек ищет в мире воплощение той красоты, которую он предчувствует» ****. Это значит, по учению Платона, что Бог сотворил души «предустановленными четами» и что любовь земная есть только тень любви небесной. Если так, то имя «Клермонтской Сафо»65, кажется, менее всего «ученой жеманницы», хотя и влюбленной в геометрию так же, как и в Паскаля-геометра, в жизни его промелькнуло недаром.
«Человек создан для наслаждения» *****, — говорит Паскаль в «Речи о любовных страстях». «В смерти он исполнил то, для чего был создан»,— говорил он в «Утешении» о смерти отца. Стоит лишь сравнить эти слова, с тем чтобы увидеть весь им пройденный путь. «О, как счастлива жизнь, которая начинается любовью к женщине и честолюбием кончается!» Это значит: «похотью плоти» начинается счастливая жизнь, а кончается «гордостью житейскою». Что это — отречение от Христа? «Я от Него ушел и отрекся; я распял Его»,— скажет * См. сноску выше.
** Mauriac, 105,116-117.
*** См. сноску выше.
**** Brunsch., Discours sur les passions del’amour, 127,128,142.
***** cM- CH0CKy выше.
320
Д. С. МЕРЕЖКОВСКИЙ
он сам, когда поймет, что сделал *. Нет, Паскаль от Христа не отрекся, а только «заснул от печали», как ученики в Гефсиманскую ночь.
«Видя, как он живет, скорбела она и стенала»,— вспоминает Жильберта Перье о Паскале и Жаккелине**. «Больше всего в мире он любил Жаккелину » ®®,— вспоминает дальше Жильберта Перье ***. Может быть, только ее одну и любил по-настоящему. Оставшись один по смерти отца, он больше чем надеется — он уверен,— что Жаккелина пощадит его и отложит постриг на несколько лет. Но не пощадила, дня не хотела подождать, и вся ее пощада свелась к тому, что, зная, как ему будет больно, и сама не смея нанести ему удар, просила об этом Жильберту.
31 декабря 1652 года совершен был раздел имущества по завещанию отца в присутствии нотариуса, а на 4 января назначен был день поступления Жаккелины в монастырь. «3 января, в самый канун ее ухода из дому, она попросила меня сказать что-нибудь брату, чтобы уход ее не слишком его поразил, и я это сделала так осторожно, как только могла... Но он все-таки был поражен и тотчас ушел, не простившись с сестрой, которая в это время была в соседней маленькой комнате, где обыкновенно молилась и откуда вышла ко мне только по уходе брата, потому что боялась, что вид ее будет для него тягостен. Я передала ей те нежные слова, которые он просил ей сказать, и после этого мы все пошли спать. Я была от всей души согласна с тем, что она решила сделать, но важность этого решения так волновала меня, что я и глаз не могла сомкнуть во всю ночь... Утром, около семи часов, видя, что сестра еще не встала, я подумала, что она, должно быть, тоже не спит... когда я вошла к ней в комнату, то увидела, что она спит глубоко. Шум моих шагов ее разбудил, и она меня спросила, который час. Я ей сказала и тоже спросила, хорошо ли она спала и как себя чувствует. “Очень хорошо”,— ответила она, встала, оделась и вышла из спальни, делая все это с таким непостижимым спокойствием, что я не могла надивиться. Мы с нею даже не простились, чтобы не расплакаться, и, когда она проходила мимо меня, чтобы выйти из дому, я от нее отвернулась» ****.
10
Не успела Жаккелина переступить за порог святой обители, как между этими умными и добрыми, почти святыми, людьми началась такая жалкая и постыдная, мещанская свара из-за грошей, что этому * См. сноску выше.
** Giraud, 83.
*** Brunsch.,30.
**** Faugére, Mém. de Gilberte Périer, 62-63. Michaut, 66-67.
Паскаль
321
трудно поверить. С тем же ожесточением, как некогда с о. Сен-Анжем из-за ереси, а потом с руанским часовщиком из-за счетной машины, борется теперь Паскаль с любимой сестрой из-за наследства. Бедная послушница едва не умерла от стыда и горя, узнав, что брат хочет с нею судиться из-за этих грошей, и тотчас написала ему и сестре, что отказывается от всего в их пользу*. «Денежные расчеты их, может быть, и правильны,— говорила она,— но до сих пор не были у нас в обычае» **.
Если даже главный зачинщик всей этой свары — Паскаль, то, может быть, он все же не так виноват, как это кажется. В эти именно дни дела его были очень плохи, много проигрывал он в карты и жил в кругу золотой молодежи выше своих средств. Но и супруги Перье возмущались еще сильнее, чем он, потому что вынуждены были сделать вклад в монастырскую казну за четыре года до того, как это было условлено, а Жаккелина, может быть, возмущалась тем, что они требуют, чтобы монастырь принял ее из милости, как нищую. Мать-игуменья, Анжелика, доказывала ей с легкостью, что «скорбь ее суетна, потому что она страдает только от гордости, стыдясь, что будет принята в обитель без вклада». Жаккелина хотя и соглашалась с этим, но гордости, этого первородного греха Паскалей, не могла в себе победить ***.
Было, может быть, у брата ее и тайное ожесточение на этих « господ Пор-Руаяля», бесчеловечных святых или святош, которые отняли у него «последнюю свечку», Жаккелину. Несколько слов из неотосланного письма дают нам заглянуть в тогдашние чувства его: «Эти господа очень боятся, что маленькое промедление может быть причиной большого, и потому так спешат с ее пострижением... Вот чем они мне заплатили!» ****
В то же время мать Анжелика, утешая Жаккелину, с беспощадною нежностью вонзает ей нож в сердце: «Главным сокровищем вашей семьи была та любовь, которая доныне делала все между вами общим. Вот чего Богу угодно было вас лишить». А мать Агнесса повертывает нож в сердце: «Слишком ваш брат погружен в суету мирскую, чтобы отказаться от личных выгод для той милостыни, на которую вы хотели бы употребить эти общие деньги. Нет, чуда Благодати от такого человека ждать нельзя» *****.
* Giraud,82. Brunsch., 137.
** Faugére, 180. V. Giraud, Pascal, l’homme, l’oeuvre, l’influence, 1922, p. 55.
*** Mauriac, 107.
**** Mauriac, 114-115.
***** Michaut, 89-90.
322
Д. С. МЕРЕЖКОВСКИЙ
Видя горе сестры, Паскаль уступает ей во всем, «но более из чувства чести, чем по любви» *. «Он приехал ко мне в Пор-Руаяль-на-Полях с очень сильной головной болью от великой обиды, но все же немного смягченный, судя по тому, что вместо двух лет отсрочки, о которых просил меня в последний раз, согласился подождать до Всех Святых, а когда увидел, что я остаюсь твердой, то смягчился уже окончательно»,— вспоминает Жаккелина**. Это значит: признал себя побежденным.
7 марта 1652 года Жаккелина пишет брату: «Если вы не имеете силы следовать за мной, то, по крайней мере, не удерживайте меня... Не отнимайте у меня того, что вы не можете мне дать... Я хотя и свободна, но нуждаюсь в вашем согласии, чтобы сделать то, что я сделаю, с радостью и душевным спокойствием... Сделай же по доброму чувству то, что, все равно, ты должен будешь делать по необходимости» ***. В этом внезапном переходе с «вы» на «ты» больше силы, чем во всех словах.
Жаккелина постриглась под именем «сестры Евфимии». Когда Паскаль в первый раз увидел ее в толстой белой шерстяной накидке с огненно-красным крестом на груди и в длинном черном платке, плотно облегавшем как будто вдруг постаревшее и пожелтевшее лицо ее, на котором яснее выступили оспенные рябины, то не узнал сестры. «Что они сделали с ней, Боже мой, что они сделали!» — подумал он с удивлением и каким-то злорадством, жестоким не к ней, а к себе, и тут же преподнес ей давно уже приготовленный к ее новоселью подарок — сообщил, что «намерен жить, как все живут,— поступить на казенную службу и выгодно жениться, и что уже приглядел себе невесту, знатную, красивую и богатую девушку» ****.
Молча опустила глаза сестра Евфимия, и в лице ее ничто не изменилось. Но по тому, как тонкие губы сжались в ниточку так, что побелели,— он понял, что удар был меток и глубок, прямо в сердце; но понял и то, какая это была жалкая месть *****.
11
В самом конце 1654 года Паскаль приходит к Жаккелине с повинной головой. «Он признался мне,— вспоминает она,— что вдруг почувствовал великое презрение к миру и почти невыносимое от-
* Giraud, Pascal, l’homme, 56.
** Mauriac, 102,100-101.
*** См. сноску выше.
**** Giraud, La vie héroïque de Pascal, 78.
***** Giraud, La vie héroïque de Pascal, 83. Brunsch., 157.
Паскаль
323
вращение к людям, живущим в миру... Муки совести никогда еще с такою силой не побуждали его отречься от мира... Но вместе с тем он чувствовал, что так покинут Богом, что не испытывает к Нему никакого влечения, и хотя изо всех сил стремится к Нему, но только по разуму, а не по действию Духа Божия... О, какими страшными цепями он должен быть прикован к миру, чтобы так противиться Богу!.. Все это он говорил так, что мне было жалко его» *. «Я была за него в муках родов, доколе в нем не изобразился Христос»,— могла бы сказать Жаккелина о брате своем, Паскале, как Павел — о братьях своих, Галатах67 (Гал., 4: 19).
В эти дни Паскаль испытывает ту страшную «сухость сердца», которую так хорошо знают святые: Бог держит человека за руку, ведет его и вдруг покидает. «Лучше бы Он меня совсем не вел, чем так покинул!» — думает человек и чувствует себя еще более отверженным, одиноким и погибающим, чем до «обращения» к Богу.
Все эти муки Паскаль хотел заглушить математикой и для этого снова принялся за прерванный пятнадцать лет назад «Опыт о конических сечениях». Но тщетно: никогда еще не говорил он себе с таким отчаянием, как в эти дни: «Все, что не Бог, не может меня утолить», и никогда еще наука не казалась ему такой бессильной наполнить бесконечную пустоту сердца его.
«В эти дни он бывал у меня так часто и подолгу, что, казалось, не было у меня другого дела, кроме этого,— вспоминает Жаккелина.— Но я только следовала за ним, не убеждая его ни в чем, и видела, что он возрастает в душе так, что я не узнавала его... особенно в смирении, в покорности и в желании быть уничтоженным в человеческом почете и памяти» **. Жаккелина радовалась за него, потому что знала, что казавшееся ему гибелью было для него, на самом деле, единственным путем к спасению.
Однажды катался он по Нейлинским рощам в карете, должно быть, герцога Роаннеца, на шестерке молодых горячих лошадей, когда две пристяжные, закусив удила и съехав на мост, где не было перил, кинулись в воду, а карета повисла на самом краю моста и, если бы вожжи не оборвались, то упала бы в воду ***. Чудом только спасся Паскаль.
«После этого несчастного случая он лишился рассудка»,— скажет Вольтер, что, конечно, неправда. Но очень возможно, что * V. Cousin, Etudes sur Pascal, 188-195. Faugère, Lettres de Jacqueline Pascal, 856. Giraud, 84-85.
** Giraud, 86.
*** Mémoires pour servir àl’histoire du Port-Royal, Utrecht, 258. Faugère, 238.
324
Д. С. МЕРЕЖКОВСКИЙ
бывшая всегда у Паскаля «боязнь пространства» после этого несчастного случая действительно усилилась*. «В пропасть люди беспечно бегут, что-нибудь держа перед глазами, чтобы не видеть пропасти». К этому страху метафизическому прибавился теперь и страх физический.
«Чудилась ему всегда с левой стороны бездна, и он туда ставил стул, чтобы от нее закрыться... Сколько бы ни говорили ему друзья, что бояться нечего,— он хотя и соглашался с ними, но через несколько минут снова видел бездну»,— вспоминает аббат Буало **№.
Если оба эти свидетельства — Вольтера и Буало — только легенды, то, может быть, все-таки не внешняя, а внутренняя правда есть и в них, так же как в легенде о клермонтской колдунье, «сглазившей» Паскаля в младенчестве: бывшая у него тогда «боязнь воды» — глубины — становится теперь «ужасом бездны». «Вечное молчание этих беспредельных пространств меня ужасает» ***.
Кажется иногда, что у Паскаля совсем иное, чем у других людей, ощущение пространства — как бы иная, не Евклидова, не земная геометрия, зависящая, может быть, от иного строения не только души, но и тела. Этот первый физический опыт есть для него источник и всех последующих опытов метафизических. «Истинному самопознанию научится лишь тот, кто увидит себя между бесконечностью и ничтожеством пространства, между бесконечностью и ничтожеством числа, между бесконечностью и ничтожеством движения, между бесконечностью и ничтожеством времени» ****. «Все от нас бежит в вечном бегстве, не останавливаясь: таково естественное состояние человека, хотя и наиболее противное тому, чего он желает,— найти что-нибудь незыблемо твердое, чтобы построить на этом основании бесконечно ввысь уходящую башню. Но всякое основание рушится под ним, и земля у ног его зияет до преисподней» *****.
Была с Паскалем бездна неразлучна.
Ах! бездна все — дела, слова, желанья, сны, И часто дыбом волосы на голове, Я чувствую, от ужаса встают.
Вверху, внизу, везде — зияющая пропасть, Молчание, провал и пустота...
* Michaut, 100,101.
** Abbé Boileau, Lettres sur divers sujets de morale et de piété, 1787,1,206.
*** Pénsées,206.
**** Brunsch., De l’esprit géométrique, 184.
***** Pénsées, 72. Brunsch., 184.
Паскаль
325
На тьме моих ночей свой бред многообразный И непрерывный чертит Божий перст. И сон меня, как черная дыра, Неведомо куда ведущая, пугает...
Из каждого окна я вижу бесконечность.
И в головокруженье, мысль моя Небытия бесчувственного жаждет. О, никогда из Чисел и Существ не выйти! *
12
21 ноября 1654 года праздновалось в Пор-Руаяль-на-Полях Введение во храм Пресвятой Богородицы. Паскаль с Жаккелиной беседовали в приемной, когда из церкви послышался уныло дребезжащий, как бы самого себя стыдившийся, колокол. Кальвин отменил колокол совсем, а ученики его, янсенисты, только на три четверти.
Жаккелина пошла в церковь, а Паскаль остался в приемной, чувствуя такую бесконечную слабость в душе и в теле, что лечь бы, казалось, на пол, закрыть глаза и лежать, пока люди не придут и не унесут его, как мертвое тело. Но колокол дребезжал так назойливо, что он встал и тоже поплелся в церковь. Здесь уже стоял на кафедре священник, проповедуя что-то о покаянии — все общие места. Но вдруг Паскаль прислушался и подумал: «А ведь это он обо мне говорит, может быть, не случайно... » И еще подумал: «Бог ведет человека за руку и вдруг покидает его, как мать, которая учит ребенка ходить: так, может быть, Он и меня покинул не совсем, а только * Baudelaire, Fleurs du Mal, CXV. Le gouffre (Пропасть).
Паскаль носил в душе водоворот без дна.
Все пропасть алчная: слова, мечты, желания. Мне тайну ужаса открыла тишина, И холодею я от черного сознания.
Вверху, внизу, везде — бездонность, глубина. Пространство страшное с отравою молчанья. Во тьме моих ночей встает уродство сна Многообразного — кошмар без окончанья. Мне чудится, что ночь — зияющий провал. И кто в нее вступил, тот схвачен темнотою. Сквозь каждое окно — бездонность предо мною. Мой дух с отрадой бы в ничтожестве пропал, Чтоб тьмой бесчувствия закрыть свои терзанья. Но никогда не быть вне Чисел вне сомненья.
1899
(Перее. К.Д. Бальмонта)
326
Д. С. МЕРЕЖКОВСКИЙ
на время? — спросил он себя и ответил: — Нет, совсем! Боже мой, Боже мой, найди раба Твоего!» — повторял безнадежно, чувствуя, что покинут Богом так, как еще никогда*.
13
Где-то, очень далеко, на колокольне пробило двенадцать. Пламя догоревшей свечи на столе ярко вспыхнуло в последний раз и потухло. Лунный луч из окна, сквозь голые ветки деревьев, скользнув по ковру на стене, осветил Архимеда с длинной, седой бородой, говорившего молодому, грубому воину: «Циркулей моих не тронь!» — потом, крадучись по столу, заблестел на ртутных столбиках в стеклянных трубках и на медных колесиках старой счетной машины, между «Опытами» Монтеня, «Руководством» Эпиктета и Святым Писанием в том французском переводе Лефевра д’Этапля (Lefèvre d’Etaples)69, по которому в детстве учился Кальвин, учились и все Гугеноты, люди «новой евангельской веры» **. Потом заискрился на золотой рукояти рапиры, подвешенной у стены над широкополой черной шляпой с белыми перьями и над шелковым камзолом с бантом из огненно-ярких лент; и, наконец, упал на человека, лежавшего ничком на полу, как будто бездыханного. Если бы Жильберта, войдя в комнату, увидела брата, лежавшего на полу, то подумала бы, что у него такой же припадок, как тогда, когда отнялись ноги. А если бы он поднял лицо, озаренное тем страшным светом, какой бывает иногда у людей, сходящих с ума или умирающих, то испугалась бы еще больше. Но если бы этот свет Жаккелина увидела, то не испугалась бы, а поняла бы сразу, что это тот «Свет с неба, превосходящий солнечное сияние», который озарил ап. Павла на пути в Дамаск 70.
Медленно поднял Паскаль озаренное тем страшным светом лицо, медленно встал, шатаясь, как пьяный, подошел к столу и опустился в кресло. Долго не мог понять, что с ним было. Вдруг, увидев на столе открытое и как будто не лунным, а каким-то чудесным, внутренним светом озаренное Евангелие, прочел:
Отче Праведный! и мир Тебя не познал, аЯ познал Тебя (Иоанн, 17: 25),— и понял — вспомнил все. «Это был Он, Он Сам!» — подумал с радостным ужасом. «Часто являлся Он великим Святым, в Церкви, * Boutroux, 79-80. Michaut, 111-115. Faugère, 358.
** Strowski, 11,255-256.
Паскаль
327
но в миру, таким грешным людям, как я,— еще никогда!» Вспомнил двух учеников на пути в Эммаус71:
Тогда открылись у них глаза, и они узнали Его. Но Он стал невидим для них. И они сказали друг другу: «Не горело ли в нас сердце наше, когда Он говорил с нами?» (Лука, 24: 31-32).
Выбил огня и зажег другую свечу; хотел записать все, что видел и слышал, но не мог, потому что руки слишком дрожали. Решил потом записать все на пергаменте и зашить в подкладку одежды эту «Памятную Запись», «Мемориал», чтобы носить его до смерти, как величайшую святыню, а сейчас только вспомнить и затвердить все наизусть.
Вот что вспомнил и потом записал на тонком листе, под неумело и тщательно, как в жалобных детских рисунках, выведенным крестиком в лучах:
В 1654 году, 24 ноября, в понедельник, в память св. Климента Мученика...
От половины одиннадцатого до половины первого ночи.
Огонь
«Бог Авраама, Бог Исаака, Бог Иакова», а не ученых и философов. Достоверность, достоверность. Радость. Мир.
Бог Иисуса Христа. «Восхожу Я к Богу Моему и Богу вашему». «Твой Бог будет моим Богом».
Забвение мира и всего, кроме Бога.
Бога нельзя найти иным путем, кроме того, которому учит Евангелие.
Величие души человеческой.
«Отче праведный! и мир Тебя не познал, а Я познал Тебя».
Радость, радость, радость; слезы радости.
Я от Него отделился. « Покинули Меня источники вод живых ».
«Боже Мой! Боже Мой! для чего Ты Меня оставил?»
Да не буду я оставлен Им никогда.
«Сия есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога, и посланного Тобою, Иисуса Христа».
Иисус Христос.
Иисус Христос.
Я от Него отделился; я бежал от Него, отрекся; я распял Его. Да не буду я от Него отделен никогда.
Он сохраняется людьми только так, как учит Евангелие.
Сладостное отречение и совершенное.
Совершенная покорность Иисусу Христу и духовнику моему. Вечная радость за один только день земного испытания.
Да не забуду я слов Твоих, Боже мой. Аминь *.
* Brunsch., 142 143. Bremond, 368. Autotypies.
328
Д. С. МЕРЕЖКОВСКИЙ
14
7 января 1655 года, в Крещение, Паскаль уехал с герцогом де Лю- инь в Пор-Руаяль-на-Полях и поселился сначала в соседнем с обителью замке его, Вомюрьэ (Vaumurier)7î, а потом, чувствуя, что не найдет здесь такого уединения, какого хотелось ему, переехал в одну из келий, хотя и вне ограды монастыря, но как можно ближе к нему.
Строго соблюдая все монашеские правила, вставал в шесть утра, выстаивал все церковные службы, постился и бодрствовал, наперекор советам врачей, и, чувствуя себя здоровее, чем когда-либо, говорил, что «здоровье не только духовное, но и телесное, зависит не от Гиппократа, а от Иисуса Христа». Радовался, что ест из глиняной посуды деревянной ложкой, и говорил, что она «для него драгоценнее золота» и что он «живет в монастыре, как царь, хотя и по уставу св. Бернарда» *.
«Люди меня поздравляют за тот великий пыл благочестия, который так возвышает вас над всем, что вы считаете метлу бесполезным предметом,— писала ему Жаккелина.— Но все-таки вам следовало бы несколько месяцев прожить в чистоте... чтобы после этого людям послужило на пользу видеть вас в грязи, если в этом заключается совершенство, в чем я сомневаюсь, потому что св. Бернард этого вовсе не думал» **.
В уединении святой обители Паскаль начал писать «Опыт о духе геометрии», где яснее, чем когда-либо, предчувствует возможность соединения веры с познанием: «Если дела человеческие надо знать, чтобы любить, то дела Божии, наоборот, надо любить, чтобы знать... Вот почему Бог изливает свой свет в человеческий разум, только усмирив восстание воли в человеке небесной тишиной своей, которая чарует его и привлекает к себе» ***.
В этих ученых трудах Паскаля никакого зла не видели великие вожди Пор-Руаяля, а Жаккелина увидела. Если в том письме о «бесполезности метлы» она только смеется над братом, то в другом письме, о «суете науки», она остерегает его: «Я не могу понять, как духовник ваш соглашается на покаяние такого веселого грешника, как вы, который удостаивает заменить пустые удовольствия света несколько более разумными и дозволенными играми ума... вместо того, чтобы искупать грехи свои непрерывными слезами... Я полагаю, * Boutroux, 84-90.
** Giraud, 102.
*** Brunsch., 185-186.
Паскаль
329
что вы заслуживали бы еще некоторое время помучиться от смрада той помойной ямы, в которую вы некогда погружались с таким наслаждением» *.
Радовались «эти господа Пор-Руаяля», что в сети их попалась такая большая рыба, как знаменитый на весь мир ученый, «второй Архимед», Паскаль. Но с радостью их смешивался тайный страх, как бы эта слишком большая рыба не прорвала их сетей. «Кто он такой и зачем к нам пришел?» — спрашивали, может быть, многие из них, вглядываясь в это загадочное, чужое, потому что слишком для них мирское, лицо. Мать Агнесса и мать Анжелика, сколько ни старались, не могли забыть, что он только что хотел жениться, чтобы жить, как все грешные люди живут в миру, и вот уже хочет быть святым. Может быть, все еще казалось им, что «для такого человека, как он, чуда Благодати ждать нельзя». И даже сестра Евфимия73, бывшая в эти дни «духовником» его, смотрела на него иногда подозрительно, не понимая, почему он живет как бы «в великом страхе, чтобы люди не узнали, что он бежал в Пор-Руаяль», и почему не может выбрать себе настоящего духовника, а когда уже выбрал аббата Сенглэна и готов был «отдаться ему, как послушное дитя»,— почему тот отказался от него, как будто вдруг испугавшись чего-то, и передал его другому духовнику, аббату де Саси (Sasi). Все это было непонятно, может быть, не только сестре Евфимии, но и самому Паскалю.
«Да не буду я от Него отделен никогда» — одно из двух повелений, услышанных им в ту ночь Огня, из уст самого Христа, а другое: «Совершенная покорность духовнику». Может быть, он не хотел «отделить» себя третьим лицом, духовником, от Христа, но и нарушить Его повеление тоже не хотел, а как согласовать эти противоречия, не знал. Если так, то здесь уже вставал для него тот вопрос, которому суждено было сделаться его последней мукой, что от чего — Христос от Церкви, или Церковь от Христа? Этого вопроса Жаккелина тогда еще не слышала, но и ей суждено было услышать его и большую муку принять, чем ему.
15
Может быть, для «испытания» Паскаля назначена была, в начале января 1655 года, философская беседа его с аббатом де Саси.
В этот морозный день, когда только что выпавший снег искрился на солнце ослепительно и деревья, увешанные инеем, белели на безоблачно голубом небе, собрались отцы-пустынники и «Матери
Faugère, 353. Michaut, 116-118.
330
Д.С. МЕРЕЖКОВСКИЙ
Церкви», как называли пор-руаяльских игумений, мать Анжелику и мать Агнессу, в келью к новому брату, где горел веселый огонь в камине. Но казалось, никакой огонь не мог бы согреть «этих господ Пор-Руаяля» от внутреннего холода.
Как опытный духовник аббат де Саси умел вызывать людей на откровенную беседу, говоря с ними о том, что занимало их больше всего. Так же поступил он и теперь. С бледной, на бледном, тонком и длинном лице, улыбкой, такой же робкой, как луч зимнего солнца, он спросил Паскаля, каких философов он любит больше всего, и когда тот ответил, что Эпиктета и Монтеня, то сразу все насторожились, потому что увидели, что на ловца и зверь бежит, и надеялись, что он выдаст им себя с головой. Так и случилось.
«Смею признаться,— начал он,— что я обоготворил бы Эпиктета, если бы он не думал, в дьявольской гордыне своей, что человек может сделаться равным Богу... Что же касается Монтеня... то он низводит человека ниже скотов... »
И он продолжал сравнение этих двух философов, одинаково великих и несовершенных, потому что один, зная силу человека и его величие, но не зная немощи его и ничтожества, возносит его до божества, а другой, зная ничтожество его, но не зная величия, унижает его до скотства.
«Я очень вам благодарен за то, что вы так хорошо объяснили мне Монтеня,— ответил де Саси.— Я не сомневаюсь, что Монтень был человеком большого ума, но я не уверен в том, что вы все-таки не сделали его умнее, чем он был на самом деле».
Что-то здесь угадал де Саси так верно и глубоко в самом Паскале, что некогда и тот вынужден будет согласиться с этим: «Все, что я нахожу в Монтене, я вижу в самом себе, а не в нем» *.
Соблюдая вежливость, а может быть, и спохватившись, что говорит с духовником своим, Паскаль все же не останавливается вовремя в увлечении спора и попадается в ловко расставленную ему западню.
«Я не могу не радоваться, что гордый человеческий разум в Монтене так постыдно низложен своим же собственным оружием, и что человек, в кровавом восстании на самого себя, так жалко побежден и от природы Божеской, до которой он хотел вознестись, низвержен до природы скотов... Но, так как Эпиктет заблуждается именно там, где Монтень идет по верному пути, то, казалось бы, соединив их, можно получить нечто совершенное... Этого, однако, сделать нельзя... потому что один из них утверждает бесконечное сомнение, а дру* Pensées, 64.
Паскаль
331
гой — достоверность, столь же бесконечную; один — силу человека, а другой — слабость его... Так что, уничтожая друг друга во лжи и в истине, оба они уготовляют место Евангелию, где все противоречия согласуются в Божественной Истине... »
Вдруг остановился, должно быть, заметив по лицу собеседника, что он ничего не понимает. Кто в эту минуту вгляделся бы в лица всех этих ученых и умных людей, тот, может быть, понял бы, что Паскаль был среди них, как орел в курятнике, и что бедного де Саси так же, как некогда о. Сент-Анжа, орел заклюет.
«Очень прошу меня извинить, отец мой, что я так увлекся и, вместо того, чтобы оставаться в пределах философии, заговорил о теологии»,— начал Паскаль уже другим голосом, должно быть, опять спохватившись, что имеет дело с духовником своим.
«Я, признаюсь, удивлен тем оборотом, какой вы сумели придать нашей беседе,— ответил де Саси, переглянувшись с остальными слушателями и поняв по их лицам, что пора кончать беседу.— Вы похожи на тех искусных врачей, которые, смешивая опаснейшие яды, изготовляют спасительнейшие лекарства... Но я боюсь, что очень немногие сумеют, подобно вам, найти жемчужины в смрадном навозе этих двух философов. Вот почему я посоветовал бы христианам не читать их вовсе, чтобы не сделаться, вместе с ними, добычей дьявола» *.
Жадно слушала Паскаля сестра Евфимия и вся молодела, хорошела так, что как будто снова делалась той маленькой девочкой, которая, больше чем любила брата,— была в него влюблена. О, какими вдруг чужими и далекими показались ей все эти господа Пор-Руаяля, которые ни на каком огне не могли бы оттаять! Шел теперь уже не он за нею, как всегда, а она за ним, и с какою радостью пошла бы за него на всякую муку и даже на смерть! «Вы превзойдете всех великих людей древних и новых веков»,— под этими словами врача Бурдело74, может быть, и она подписалась бы в эту минуту.
Часто во время беседы взглядывал он на нее, как будто говорил только для нее одной, и она невольно опускала глаза, краснея, в самом деле, как влюбленная девочка. Вдруг испугалась, что он это знает, и не ошиблась. «В каждом сердце есть место, ожидающее любви»,— может быть, вспомнил он «Речь о любовных страстях» и подумал, что в сердце его это место всегда ожидало ее, ее одной, Жаккелины. Знал, что такую любовь брата к сестре люди сочли бы великим грехом, но знал и то, что не было для него ни на земле, ни на небе ничего святее этой любви.
* Brunsch., Entretien de Pascal avec M. de Saci, 148 149, 150, 155, 157 159, 161.
332
Д. С. МЕРЕЖКОВСКИЙ
16
Два ничтожных события, которые могли иметь великие последствия, произошли в эти дни. Первое событие — исповедь герцога де Лианкур (Liancourt) приходскому священнику, отцу Пикотэ. Кончив исповедь, герцог ждал отпущения грехов, но священник дать его отказался, потому что Лианкур будто бы скрыл от него два своих главных греха — то, что приютил в своем доме больного, старого янсенистского священника, и то, что отдал внучку в Пор-Руаяльскую школу. Герцог, не захотев каяться в этих грехах, так и ушел без отпущения, о чем не преминул сообщить господам Пор-Руаяля, и что сделалось тотчас же известным, как в Версале, так и в Париже*.
Второе событие — возобновившееся дело о пяти осужденных тезисах Янсения (главный из них был о том, что «Христос умер не за всех людей, а только за избранных»). Доктор Сорбонны, столп Пор-Руаяля и духовный наследник Янсения, Антуан д’Арно Младший, выступил в защиту этих тезисов, но так неудачно, что и сам был осужден за ересь **. После осуждения обратился он с письмами уже не к сор- боннским теологам, а к простым верующим людям. Но написанные тяжелым и для простых людей непонятным языком, письма эти не имели никакого действия. Когда однажды зашла об этом речь у господ Пор-Руаяля, то Арно неожиданно сказал присутствовавшему на этом собрании Паскалю: «Вы, молодой человек, должны были бы что-нибудь сделать!»
И может быть, так же для самого себя неожиданно, Паскаль согласился сделать опыт и когда на следующий день прочел написанное, то все восхитились, и Арно воскликнул: «Это превосходно, это понравится всем!» ***
Этою-то мерой превосходства — жалкою мерою всех — Арно и соблазнил Паскаля.
23 января 1656 года появилось на пяти страницах in quarto «Первое письмо Луи де Монтальта к одному из его друзей, провинциалу, о споре, происходящем ныне в Сорбонне», а за этим первым письмом последовало, с небольшими промежутками, семнадцать других. Новый, не книжный, а разговорный и для всех понятный язык этих писем пленял простотою, изяществом и любезностью светского, благородного человека (honnête), в таких свойствах его, которым научился * Sainte-Beuve, Port-Royal, 111,29-30.
** Pascal, Lettres écrites a un Provincial, êd., Garnier, 31.
*** Pascal, Lettres, III.
Паскаль
333
Паскаль в школе де Марэ и Митона*. Луи де Монтальт описывает другу своему, провинциалу, свои похождения среди ученых иезуитов, доминиканцев, томистов75 (учеников св. Фомы Аквинского) и других участников спора, у которых он старался узнать о существе этого богословского спора. Главное очарование «Писем» заключалось в том, что они не только поучали, но и веселили. Слышались в них живые голоса, и проходили живые человеческие лица, как разноцветные тени от волшебного фонаря на белой стене.
С первых же «Писем» успех превзошел все ожидания. У канцлера Сегье76 едва не сделался при чтении их удар от волнения, и ему должны были в течение одних суток семь раз пускать кровь**. Владелец книжной лавки, где продавались «Письма», был схвачен, и типографские станки его запечатаны ***.
Этот небывалый успех был тем удивительней, что спор шел об отвлеченнейшей богословской метафизике. Между янсенистами, утверждавшими «Благодать достаточную» (gratia sufficiens), и противниками их, утверждавшими «Благодать действующую» или «совершающую» (gratia efficax), различие было так тонко, что для самих спорщиков было почти неуловимо****.
«Значит ли это, отец мой, что все люди имеют Благодать достаточную, но не все — совершающую?» — спрашивает Монтальт одного доминиканца после долгих и терпеливых его объяснений.
«Да, вы верно поняли»,— отвечает тот.
«Но если так, то о чем же вы думали, называя “достаточной” ту Благодать, которая может оказаться недостаточной, потому что “несовершенной”?» — спросил я тихо, чтобы его успокоить.
«Вам хорошо говорить,— ответил он.— Вы — частное лицо и человек свободный, а я — монах... Все мы зависим от наших начальников, а те — от своих. Наши голоса ими обещаны. Что же мне делать? Это значит: вся нелепость этого спора зависит от главного начальника, Папы».
«Плохо же, отец мой, Братство ваше хранит вверенный ему залог той Благодати, которую даровал людям Христос!» — воскликнул присутствовавший при нашей беседе мой друг, янсенист. «Видно, наступает время для того, чтобы Господь вооружил на защиту дела своего других, более бесстрашных бойцов... Подумайте же об этом, отец мой, и остерегайтесь, как бы Господь не сдвинул с места вашего * Sainte-Beuve, 111,85-91.
** Strowski, 111,61.
*** См. сноску выше.
**** Lettres, êd. Garnier, 1. I, p. 6.
334
Д. С. МЕРЕЖКОВСКИЙ
светильника и не покинул вас во мраке, чтобы наказать за ту робость, с какой вы боретесь за столь великое для Церкви дело!» *
Так Братству св. Доминика, столпу Церкви, устами янсениста, простой мирянин Паскаль дает незабываемый урок. Жалким и смешным делает он в глазах всех «честных людей» этого доминиканца с его «Благодатью, достаточной и недостаточной» вместе. Но так ли прав был Паскаль, как это казалось ему и всем, кто им восхищался? Людям так свойственно желать победы для самих себя, что когда это желание прикрывается другим, может быть мнимым, чтобы победила истина, то слишком часто эти два желания смешиваются. Кажется, такое же смешение происходит и в Паскале.
Третье «Письмо» он подписывает первыми буквами полного имени своего: B.P.A.F.E.P.— Blaise Pascal, Auvergnat, fils d’Etienne Pascal77. Стоило бы только врагам его, иезуитам, немного пристальней вглядеться в эти буквы, чтобы узнать, кто сочинитель «Писем». Трудно поверить, что они этого не сделали за те четырнадцать месяцев, в течение которых появлялись «Письма». «Вы не думали, что люди будут любопытствовать, кто мы такие,— пишет он провинциалу,— а между тем кое-кому очень хотелось бы это узнать, но это им не удается. Одни думают, что я — доктор Сорбонны, другие — что одно из четырех или пяти лиц, так же не духовных, как я. Все эти ложные подозрения убеждают меня, что я недурно достиг моей цели,— чтобы только вы, да еще добрый отец (иезуит), который страдает от моих посещений, и от чьих речей я тоже страдаю,— знали, кто я такой» **.
Прячется Паскаль под ложным именем, как под шапкой-невидимкой или опущенным забралом таинственного рыцаря Луи де Мон- тальта, и враги его не знают, откуда сыплются на них удары, а он только смеется и играет, как дитя в той «небесной тишине», о которой писал в «Опыте о духе геометрии».
«Я ни на что не надеюсь от мира и ничего не боюсь... Вот почему, сколько бы вы меня ни ловили,— не поймаете... Может быть, вы никогда не имели дело с человеком более для вас неуловимым, потому что более свободным, чем я» ***.
Что такое свобода человека пред лицом Божиим — добро или зло,— вот великий предмет этого, как будто ничтожного, спора о Благодати, действующей помимо человеческой воли, или вместе с нею. Янсенисты говорят «помимо», а иезуиты и доминиканцы — «вместе», но все говорят или когда-то говорили, и снова, может быть, заговорят из глу* Lettres, éd. Garnier, 1. II, p. 17-22.
** Lettres, éd. Garnier, 1, VIII, p. 1,10,319.
*** См. сноску выше.
Паскаль
335
бины сердца, с мукой и с искренним желанием найти истину. Грех Паскаля заключается в том, что он над этой мукой смеется в угоду тем, кто никогда этим не мучился и не искал истины. Если враги называют его «маленьким шутом», то это, конечно, лишь грубая и бессильная брань; но когда они говорят: «Письмаэти не могли быть написаны кающимся, плачущим грешником у подножия Креста», то, может быть, ему следовало бы над этим задуматься. «Даруй мне, Господи, силу пострадать за истину Твою даже до смерти!» — молился Арно. Мог ли бы Паскаль, тотчас после того легкого смеха, так же молиться? * «Там, где речь идет о святом, не должно смеяться»,— говорят ему янсенисты так же, как иезуиты **. «Есть большая разница между смехом верующих и смехом кощунствующих»,— оправдывается Паскаль, но, может быть, смутно чувствует, что оправдаться ему не так-то легко. « Не сам ли Бог говорит: “Посмеюсь вашей гибели?” Бог до того ненавидит грешников, что и в смертный час их прибавляет насмешку к ярости своей, осуждающей их на вечные муки» ***. Бог, яростно смеющийся над вечными муками грешников,— кажется, дальше и Кальвин не уходил от Евангелия. Вот какою судорогой неземного смеха или неземного ужаса вдруг искажается слишком по-земному смеющееся лицо Монтальта-Паскаля.
17
Все это время он жил под именем де Монса (Mons), в скромной и тихой гостинице под вывеской «Царя Давида» на улице Пуаре, против Иезуитской Школы — в самом логове врагов своих, потому что меньше всего иезуиты могли думать, что он так близко от них.
Как-то раз один из них, родственник Флорена Перье, жившего тогда в той же гостинице, зайдя к нему и случайно заговорив о «Письмах», сказал: « Имея честь принадлежать к вашему семейству, я почитаю долгом предупредить вас, что Иисусово Общество уверено, что сочинитель “Писем” — не кто иной, как шурин ваш, господин Паскаль. Скажите ему об этом и посоветуйте прекратить эту игру, чтобы не случилось беды». «Очень благодарю вас, отец мой, за добрый совет,— ответил Перье,— но думаю, что говорить ему об этом бесполезно, потому что он ответит, что “Общество ваше ему не поверит, сколько бы ни уверял он, что сочинитель “Писем” — не он”». В той самой комнате, где происходила эта беседа, сушились только что отпечатанные и разложенные * Boutroux, 118.
** Giraud, 124.
*** Lettres, I, XI, p. 169-170.
336
Д. С. МЕРЕЖКОВСКИЙ
на постели, в двух шагах от гостя, листы восемнадцатого «Письма». К счастью, занавеска над постелью была немного опущена, и гость не поглядел в ту сторону. Только что он вышел из комнаты, Перье побежал к Паскалю, жившему как раз над этой комнатой, рассказал ему о том, что случилось, и долго смеялись они, как школьники, удачной шалости*. Знал, конечно, Паскаль, что если бы занавеска над постелью была чуть-чуть поменьше опущена, то ему не сносить бы головы своей; но упоение борьбы заглушало в нем страх.
Только с шестого «Письма» начинается смертный поединок Мон- тальта с Иисусовым Обществом. «Я до сих пор только играл и скорее показывал, какие раны мог бы наносить, чем действительно их наносил»,— остерегает он врагов**. Главная твердыня их — то «учение о вероятностях» , пробабилизм, которое не могло не напоминать Паскалю его же собственного великого открытия — математическую теорию вероятностей — Геометрию Случая (aleae geometria) ***. Иезуиты изобрели это учение, потому что оно соответствовало их главной цели — открыть для наибольшего числа верующих наиболее широкий и легкий путь спасения, сделать его мягким, «бархатным». «Люди в наши дни так порочны, что мы не можем привлечь их к себе и должны сами к ним идти... потому что главная цель нашего Общества — никого не отталкивать, чтобы не доводить людей до отчаяния». «Мы простираем объятья ко всем ». « Миром хотят они овладеть, управляя человеческой совестью» ****. В случаях для нее сомнительных духовники-иезуиты довольствуются решением кого-либо из великих или, как они выражаются, «важных докторов богословия» (doctor gravis), полагая, что такое решение обладает достаточной степенью вероятности, чтобы верующие могли следовать за ним с безопасностью, если бы даже совесть осуждала их за то *****. Вот почему, как неизбежное логическое следствие из «учения о вероятностях», вытекает учение о том, как применять общие нравственные правила к частным случаям совести,— казуистика (от слова casus, «случай»). «Людям угрожают казуисты, разрешая дела, и служат Богу, очищая намерения»6*.
«Двадцать четыре старца Апокалипсиса суть двадцать четыре великих казуиста Иисусова Общества»,— учит испанский иезуит Эскобар78. «Должен ли поститься человек, уставший от игры в мяч * Boutroux, 122. Lettres, 1. VIII.
** Lettres, 1. XI, p. 174.
*** Chevalier, 144-145.
**** Lettres, l.V, p. 57-58.
***** Samuel Sa, Aphorismi Confessoriorum, 1618,190.
6* Lettres, 1. VII, p. 94.
Паскаль
337
или от преследования женщин легкого поведения?» — спрашивает Эскобар. «Должен»,— отвечают одни из двадцати четырех великих старцев казуистов, старцев Апокалипсиса. « Не должен»,— отвечают другие. И люди могут следовать за теми, кто им больше нравится*.
«Может ли скидывать рясу монах, не боясь отлучения, и если может, то в каких случаях? — спрашивают казуисты79 и отвечают: — В тех случаях, если он хочет сделать что-либо постыдное, как, например, смошенничать или пойти в дом терпимости» (ut furetur occulte, vel eat incognitas ad lupanar)**.
«Наши богословы нашли способ разрешать убийство в поединке,— хвалится добрый отец-иезуит в беседе с Монтальтом.— Для этого стоит только перенести внимание от запрещенного желания мести на дозволенное желание защитить свою честь». Сын может желать смерти ненавистному отцу, если опять-таки перенесет внимание от запрещенного чувства ненависти на дозволенное желание получить наследство ***.
«Нельзя убивать за что-нибудь имеющее малую цену, как, например, за яблоко; но если потерять его постыдно для чести, то убить можно, потому что в таком случае убийство совершается не ради яблока, а ради чести» ****.
«О, мой отец, слышать нельзя без ужаса того, что вы говорите»,— восклицает Монтальт. «Это не я говорю»,— оправдывается иезуит. «Знаю, что не вы, но все эти гнусности внушают вам не отвращение и ненависть, а уважение... Вы не только разрешаете людям проливать человеческую кровь, но и учите их, что Кровь Господня пролита на Голгофе, чтобы людям позволить не любить Бога... Откройте же глаза, отец мой,— тайна беззакония уже совершается». «О, если бы это ужасное учение (казуистов) никогда не выходило из ада, и дьявол, первый учитель его, никогда не находил столь преданных ему людей, чтобы проповедывать его христианам!» *****
18
24 марта 1656 года совершилось чудо св. Терна.
От одного янсенитского священника, усердного почитателя древних святынь, собравшего множество их в особой часовне своей, Пор- * Strowski, 111,92.
** Lettres, 1. VI, p. 75-76.
*** Lettres, 1. VII, p. 94-96.
**** Lettres, 1. XVI, p. 257.
***** Lettres, 1. X, p. 166-167; 1. XVI, p. 257-258.
338
Д. С. МЕРЕЖКОВСКИЙ
Руаяльская обитель в Париже получила на время Пресвятой Терн от Венца Господня. Выставив его в хрустально-золотом ковчежце, на алтаре, убранном цветами и множеством свечей, сестры начали поклоняться святыне, а затем подводить к ней на поклонение воспитывавшихся в Пор-Руаяльской школе детей. Подвели и племянницу Паскаля, Маргариту Перье, десятилетнюю девочку, страдавшую такой глубокой язвой в глазу, что все врачи отказались ее лечить.
«Терну помолись, чтобы глаз не болел»,— шепнула ей на ухо сестра и прикоснулась ковчежцем к больному глазу в ту самую минуту, когда пели псалом:
Сотвори, Господи, знамение Твое во благо.
Так сделала сестра и тотчас же забыла об этом, должно быть, потому что сама не слишком верила в чудо исцеления. Но в тот же день вечером девочка, случайно увидев ее, подошла к ней и сказала так просто, как о самом обыкновенном деле: «А глаз мой уже не болит!»
И, взглянув на нее, сестра не могла отличить больного глаза от здорового. Слух о чуде прошел по всему Парижу, и чудесные исцеления начали совершаться над множеством больных, стекавшихся в обитель.
«Если бы Терн перенести в одну из гугенотских церквей, то он и там сотворил бы не меньше чудес»,— говорили враги янсенистов, которых считали такими же «еретиками», как гугенотов-кальвинистов; но когда увидели, что вне Пор-Руаяльской обители Терн чудес не творит, то должны были умолкнуть, тем более что многие врачи и даже сам парижский архиепископ признали чудо, совершенное над Маргаритой Перье, действительным*.
За несколько дней до чуда какой-то вольнодумец, может быть рыцарь де Мерэ или Митон, говорил Паскалю, что, судя по тому, что происходит в Церкви, нет Промысла Божия.
«Вы думаете? А я не сомневаюсь, что Господь сотворит чудо в Церкви и даже очень скоро!» — ответил Паскаль. Как он сказал, так и сделалось. «Бог, казалось, даровал это чудо не только молитвам Пор- Руаяльской обители, но и вере Паскаля»,— вспоминает янсенистский летописец тех дней **. Исцеленная девочка была племянница Паскаля по крови, а по духу дочь его — крестница: не было ли это явным знаком того, что сам Бог благословил его на борьбу за Церковь? «Так же как сделал Господь этим чудом нашу семью счастливейшей, да сделает * Brunsch.,207-208. Michaut, 131-135. Strowski, III, 133-134.
** Mémoires pour servir à l’histoire du Port-Royal, Utrecht, 300-301.
Паскаль
339
Он ее и благороднейшей»,— говорит Паскаль в одном из уцелевших в «Мыслях» черновых набросков для «Писем».
Между двумя чудесами — тем, 23 ноября 1654 года, и этим, 24 марта 1656 года,— есть внутренняя связь: если «Огонь» «Мемориала» — тайное чудо, для одного Паскаля, то исцеление крестницы его — явное чудо, для всех.
«Бедных монахинь Пор-Руаяля уверяли, что их ведут на вечную погибель, в Женеву (к Кальвину)... Но знали они, что это клевета. Что же происходит потом? То самое место, о котором им говорили, что оно — капище дьявола, Бог делает храмом своим; и тех самых детей, о которых им говорили, что их надо отнять у них,— Бог исцеляет. Всеми карами небесными угрожали им, а Бог осыпал их всеми дарами своими. Надо быть сумасшедшим, чтобы из всего этого заключить, что их, в самом деле, вели на вечную погибель» *. Это говорит Паскаль в другом черновом наброске для «Писем»; то же говорит и в них: «Лютые и подлые гонители, суждено ли и уединеннейшим пустыням не быть достаточным убежищем от ваших клевет? Вы клевещете на тех, у кого нет ни ушей, чтобы слышать вас, ни уст, чтобы вам отвечать. Но Бог слышит вас и отвечает за тех тем святым и страшным голосом, который изумляет природу и утешает Церковь,— чудом Св. Терна. И я боюсь, отцы мои, как быте, кто ожесточил сердце свое так, чтобы не слышать этого голоса здесь, на земле, не услышали его некогда в вечности» **.
Чудо Св. Терна поставило перед Паскалем общий вопрос: что от чего — вера от чуда, или чудо от веры? На этот вопрос он отвечает противоречиво. «Я не был бы христианином, без чудес»,— говорит св. Августин, и Паскаль соглашается с ним или как будто соглашается: «Не было бы греха в неверии, если бы Христос не творил чудес». «Церковь не имела бы никаких доказательств, если бы отрицатели чудес были правы» ***. Таков один ответ, а вот и другой. Прежде чем совершилось второе, живое и радостное чудо Св. Терна — исцеление Маргариты Перье,— должно было совершиться первое чудо, мертвое и скучное: та ветка Палестинского терна, из которой воины Пилата сплели венец для «потешного Царя Иудейского», должна была сохраниться нетленной в течение шестнадцати веков. Трудно себе представить, чтобы Паскаль, с его бесконечно глубоким чувством действительности, мог не «насильно» верить в такое чудо. Очень вероятно, что он не смутился, когда вольнодумцы смеялись: «Пять мни* Pensées, 841.
** Lettres, 1. XVI, 310-311.
*** Pensées, 811-813.
340
Д. С. МЕРЕЖКОВСКИЙ
мых врачей засвидетельствовали чудо: вот люди, способные к такому свидетельству,— ряженые лакеи-невежды!» * Но еще вероятнее, что он мог бы смутиться от вопроса: почему Св. Терн более действительная святыня, чем такие кощунственные обманы простых людей, как зуб Св. Иоанна Крестителя или молоко Пресвятой Девы Марии?
«Чудо,— говорят,— утверждает веру». «Да, пока мы не видим его, а если видим и не хотим его, то мы легко находим причины, чтобы его отвергнуть»,— скажет Паскаль в «Мыслях» **. «Вы хорошо знаете, что никогда не надо ждать чудес»,— сказала однажды мать Анжелика сестре Евфимии ***. С этим мог бы согласиться и Паскаль, в те высшие минуты религиозного опыта, когда он понимал, что значит слово Господне:
Ты поверил, потому что увидел Меня; блаженны не видевшие и уверовавшие (Иоанн, 20: 29).
19
«Письма» — отнюдь не самое великое из того, что сделал Паскаль, но, может быть, самое понятное людям, от его дней до наших. В «Письмах» продолжает он дело Лютера и Кальвина — всего Протестантства в первом и последнем, вечном смысле этого слова — святого Противления, Восстания человеческой истины на нечеловеческую ложь многих в Римской Церкви — в том числе и тех, кто прикрывался великим именем «ИисусоваОбщества».
«Истину не сделали иезуиты сомнительной, но сделали свое нечестие несомненным». «Церковь растлевают они, чтобы самим казаться святыми»,— говорит Паскаль, и хорошо, что люди это поймут и запомнят, потому что иезуитское «учение о вероятностях», «пробабилизм», заглушая голос совести не только в отдельных людях, но и в целых народах, делает зло добром и добро злом.
«Спрашивают меня, не раскаиваюсь ли я, что сочинил “Письма”... Нет, не раскаиваюсь, и, если бы нужно было сочинить их снова, я сделал бы это еще сильнее»,— говорит Паскаль, и от этих слов своих не отступил бы, даже если бы знал, что такие злейшие враги не его, а того, кто ему дороже, чем он сам, как Вольтер, будут с ним согласны****.
* Mauriac, 175.
** Pénsées, 283.
*** Pascal, Oeuvres completes, ed. Hachette, 111,51—94. Stewart, La sainteté de Pascal, 13.
**** Mémoires, Utrecht, 279.
Паскаль
341
Иезуиты, если не родные, то крестные отцы того, что мы называем «Иезуитством»,— лжи, коварства, ласкательства, пронырства, а может быть, и злодейства под сенью Креста. Дух Иезуитства — «дух, прелюбодействующий с Евангелием»,— Паскаль верно почувствовал, как тлетворный дух, запах трупа, веет над всем христианством, и верно сказал: «Вынесите труп из дома!» *
Но если он думал, что уничтожил Иисусово Общество, то ошибался, потому что главное оружие этого Общества — казуистика — тронута им только в ее случайных и временных явлениях, а не в вечной метафизике. Кажется, великий иезуит, Эскобар, был святым человеком, и если правда, что его хотели предать суду Инквизиции за «чрезмерную суровость», то он пострадал от Паскаля невинно**.
Казуистика — только мертвая схоластическая маска на каком-то живом лице; в слове «казуистика» что-то самое внутреннее, тонкое названо самым внешним и грубым именем. Если под этим именем скрыто не что иное, как применение внешнего, безличного закона ко внутреннему, личному случаю совести, то казуистика всегда была и будет. Волей-неволей янсенисты были точно такими же казуистами, как иезуиты.
Когда Иисус говорил фарисеям о женщине, взятой в прелюбодеянии: «Кто из вас без греха, первый брось на нее камень» (Иоанн, 8: 7), то и это — Божественная Казуистика.
Если праведным судом надо судить людей не только по тому, что они сделали, но и по тому, чего они хотели, то, может быть, вопреки злой пословице, «добрыми намерениями» мощен путь вовсе не в ад, а в рай, Паскаль судит иезуитов не этим праведным судом. Иисусово Общество продолжает дело, начатое св. Фомой Аквинским и св. Франциском де Саль, и Церковь не отреклась от этого дела. Главная мысль св. Игнатия Лойолы — спасти всех — милосердна и, значит, ближе к Евангелию, чем жестокая мысль Лютера, Кальвина и Янсения — спасти только немногих, «избранных».
Иисусово Общество в XVII веке уже мертво или кажется мертвым, но было и, может быть, снова будет живо, потому что христианство есть не что иное, как всегда возможное воскресение мертвых. Сколько бы отдельных лиц ни изменяло главной цели Иисусова Общества — завоевать мир под знаменем Христа,— само Общество, как целое, всегда было и будет верным этой святой цели ***. Сам того не желая, Паскаль поможет созданию двух легенд — столь же противных действительности * Sainte-Beuve, III, 130-135. Sainte-Beuve, III, 130-135.
** Giraud, 143.
*** Stewart, 82.
342
Д. С. МЕРЕЖКОВСКИЙ
исторической, как и религиозной,— об иезуитском заговоре для завоевания мира под знаменем Антихриста и о « Великом Инквизиторе» (по Достоевскому): «Мы исправим подвиг Твой; мы не с Тобой, а с ним (с Антихристом)».
Кажется, сам Паскаль предчувствовал, что победа его над Иисусовым Обществом не окончательна. «Больше всего должно исповедовать две противоположные истины в то время, когда одна из них отрицается; вот почему иезуиты так же не правы, как янсенисты, но все же эти еще более не правы, чем те, потому что иезуиты яснее исповедуют обе истины» *. В этом суде Паскаля над янсенистами, а значит, и над самим собою, меньшее дело его — «Письма» — связано с большим — с величайшим из всех его открытий — «согласованием противоположностей» (accorder les contraires): «Только в Иисусе Христе все противоположности согласуются» **■
20
В эти дни Паскаль обратил в янсенистскую веру двадцатитрехлетнюю сестру герцога Роаннеца, Шарлотту (сам герцог уже давно был обращен). Судя по тому, что ее обращение оказалось непрочным и что, приняв в Пор-Руаяльской обители постриг, она через несколько лет покинула ее, Шарлотта не имела действительного призвания к монашеству, и молодая жизнь ее была бесполезно и жалко разбита Паскалем ***. « Этому семейству внушал он такую ненависть, что одна служанка — привратница — хотела его заколоть кинжалом и для этого потихоньку, ночью, вошла к нему в комнату, но, к счастью, он случайно вышел из дому»,— вспоминает Маргарита Перье****. Все «честные люди» (honnêtes gens) были в этом деле против Паскаля — «второго Тартюфа» 80 и «первого Марата»81 вместе, так что незачем было бы иезуитам подкупать эту «первую Шарлотту Кордэ».
В ту минуту, когда Паскаль узнал, что едва не был убит кинжалом привратницы, смерть, может быть, взглянула ему в глаза так же близко, как на Нейлинском мосту, когда карета его повисла над пропастью.
Может быть, для того, чтобы избавиться от страха Бездны, он опять занялся геометрией.
«Однажды ночью, когда у него сильно болели зубы, так что он не мог заснуть, случайно пришла ему на ум мысль о рулетке (мате* Pénsées, 865,684.
** См. сноску выше.
*** Brunsch.,208. Boutroux, 130-141.
**** Giraud, 158,256.
Паскаль
343
матическая задача циклоиды). За этой первою мыслью последовала вторая, третья, и, как бы невольно, сам тому удивляясь, он решил эту задачу»,— вспоминает ЖильбертаПерье *. Кажется, «зубною болью» она его оправдывает в том, что и после своего «обращения» он все еще предается «суетной похоти знания». Мог бы и он сам привести в свое оправдание, что герцог Роаннец убеждает его, что, «собираясь писать “Апологию христианства”, он должен доказать безбожным исследователям циклоиды, что знает больше, чем они» **.
«Линия циклоиды есть та кривая, которую описывает в своем вращательном движении спица колеса, когда оно катится, и спица сначала подымается от земли, азатем, в постоянном вращении, опять до земли опускается»,— объясняет Паскаль эту труднейшую задачу математики***. «Точно внезапный свет меня озарил»,— вспоминает Лейбниц о той минуте, когда он вдруг увидел в беглых заметках Паскаля о циклоиде возможность интегрального исчисления82 — «одной из путеводных вех в истории человеческой мысли», по слову д’Аламбера ****83.
Только что решив эту задачу, Паскаль объявляет состязание в ней всех великих европейских математиков, с наградой в сто червонцев первому, кто решит ее после него. «Если же в течение трех месяцев никто не решит, то мы обнародуем еще большие открытия, за которые потомство будет нам благодарно»,— хвалится он, подписывая это воззвание именем «Амоса Детонвилля» — анаграммой «Луи де Монтальта», сочинителя «Писем». Совпадение имен не случайно: эти два лица под шапкой-невидимкой, на самом деле, не два, а одно, потому что их соединяет одна и та же «похоть знания» — «похоть превосходства».
Многие прислали решение задачи, но Паскаль ни одного из них не счел достойным награды, чем жестоко обидел всех принявших участие в состязании, так что поднялась жалкая свара великих из- за жалких грошей и самолюбий — как бы драка маленьких детей из-за дешевого лакомства. В сваре этой Паскаль защищает права свои с таким же смелым ожесточением, как некогда в деле о счетной машине. Кажется, впрочем, он скоро опомнился и, судя по письму его к великому геометру Ферма (Fermat)84, может быть, устыдился: «Я нахожу, что геометрия есть высшее упражнение ума, но вместе с тем такое бесполезное, что я не вижу большого различия между искусным ремесленником и великим геометром... Я и двух шагов * Brunsch.,24.
** Faugère, 157. Michaut, 144.
*** Montucla, Histoire des mathématiques, 1796, II, 52.
**** Giraud, 164-165.
344
Д. С. МЕРЕЖКОВСКИЙ
не сделал бы сейчас для геометрии... Я так далек от нее, что едва помню, что она существует» *. Это уже вечная разлука Паскаля с «похотью знания»: демон Геометрии отошел от него навсегда.
21
В «Письмах» почти все, что происходит в церкви, судится Паскалем согласно с тем разделением, которое внушил ему великий богослов Пор-Руаяля Арно,— с двух точек зрения и двух метафизических порядков — данного, действительного, бывшего, de facto, и должного, искомого, желанного, будущего, de jure. В этих именно двух порядках ведется весь богословский спор, сначала Арно с доктором Сорбонны, а затем — Паскаля с иезуитами, из-за пяти осужденных тезисов Янсения. Главная в этом споре ошибка у иезуитов и Паскаля — общая: замена внутреннего, живого языка веры внешним, мертвым языком права. В этом схоластическом разделении — de jure и de facto — та же «казуистика», но уже не иезуитов, аянсенистов.
Очень неосторожно Паскаль подымает в последнем, восемнадцатом «Письме», по поводу осуждения Галилея Римскою Церковью, вопрос о папской непогрешимости. «Тщетно вынужден вами (иезуитами) приговор Церкви над Галилеем за его учение о том, что земля вокруг солнца вращается. Этим приговором не будет доказана неподвижность земли, потому что все усилия человеческие... не могли бы помешать ей вращаться, и людям вместе с нею. Не думайте также, чтобы отлучение от Церкви св. Виргилия папой Захарием85 за то, что он утверждал существование антиподов,— этот новый мир уничтожило и чтобы Испанский король дурно поступил, поверив больше Колумбу, вернувшемуся из этого мира, чем Папе, который никогда не был там» **.
Против папской непогрешимости никто не говорил с такой неотразимой силой и математической ясностью, как это сказано. Но знает ли Паскаль, что вопрос о непогрешимости Папы не только de jure, но и de facto есть вопрос о самом существовании Римской Церкви? Если Папа непогрешим только de jure — в праве — в желанном, чаемом, будущем,— в Мистерии, а не de facto также — в данном, настоящем, действительном,— в истории, то Вселенской Церкви пока еще нет,— она только будет.
Все защитники папской непогрешимости могли бы спросить Паскаля: где и как совершается «тайна беззакония» — отступление
* Brunsch.,229.
** Lettres, 1. XVIII, p. 377.
Паскаль
345
Римской Церкви от Христа,— de jure или de facto — в будущем или в настоящем? Лютер и Кальвин ответили бы: «В настоящем». А как ответил бы Паскаль, неизвестно. В 1658 году латинский перевод «Писем» осужден был Римскою Церковью, а через два года и королевской властью: «Книга, именуемая Людовика Монтальта“Письма к провинциалу”, да будет растерзана и сожжена рукой палача» *86. Очень вероятно, что если бы Паскаль жил поближе к Риму, то и его самого сожгли бы. Дымом костра пахнет и от него так же, как от Лютера и Кальвина.
После осуждения он начал было писать девятнадцатое «Письмо», но не кончил — точно голос его оборвался на полуслове **, — и он замолчал навсегда. Отчего — оттого ли, что огня испугался? Едва ли. Страх был, кажется, иной — вечный страх Бездны:
Была с Паскалем Бездна неразлучна.
Стулом от нее заслонялся, хотя бы только на четверть часа, и Церковью также, а едва выходил из нее, Бездна снова зияла:
Вверху, внизу, везде — зияющая пропасть, Молчание, провал и пустота...
22
После чуда Св. Терна гонения на Пор-Руаяль затихают. «Кажется, благочестивая королева (Анна Австрийская87) тронута была явным покровительством Божиим сестрам этой обители»,— вспоминает Расин, бывший питомец Пор-Руаяльской школы. Благодаря тайному покровительству парижского архиепископа кардинала де Ретца (Retz) изгнанные отшельники могли вернуться в обитель. Но с 1660 года все внезапно меняется. В 1661 году Мазарини умирает, и ход событий ускоряется. Издан королевский указ о немедленном изгнании послушниц из обоих монастырей, Пор-Руаяля-на-Полях и в Париже. Старший духовник сестер, аббат Сенглэн, вынужден был бежать и прятаться. Но тайное покровительство де Ретца все еще действует. 19 июня объявлено постановление главных Викариев Парижского прихода об отречении сестер от пяти осужденных тезисов Янсения. Но возможность принятого янсенистами деления на «право» и «действительность» (jus et factum) сохранена в постановлении так * Boutroux, 137.
** Lettres,!. XIX, р.381 382.
346
Д. С. МЕРЕЖКОВСКИЙ
искусно, что эта уступка янсенистам приписана была никому иному, как Паскалю*.
22 июня «клятвенное обещание» дано было сестрами, по совету Арно, Сенглэна и Паскаля, но «с великим плачем и терзающей мукой совести», потому что сестрам, плохо понимавшим схоластическое деление на «право» и «действительность», казалось, что они отрекаются не только от Янсения, но и от св. Августина, от ап. Павла и даже от самого Христа.
Больше всех мучилась сестра Евфимия. «Я в такой скорби, что, кажется, от нее умру,— писала она матери Анжелике.— Скорбь моя — о том, что единственные люди, которым Бог вверил истину свою, предают ее и не имеют мужества пострадать за нее и умереть. Чего мы боимся — изгнания, бедности, тюрьмы и смерти? Но не это ли все должно быть нашею славою и нашею радостью?.. Я знаю, что не девушкам бороться за истину. Но что же делать? Если у епископов мужество девушек, то не должно ли быть у девушек мужество епископов? Не нам бороться за истину, но нам за нее умирать» **.
22 июня Жаккелина подписывает «клятвенное обещание», а4 октября умирает.
«Дай нам Бог так хорошо умереть!» — говорит Паскаль как будто спокойно, узнав о смерти Жаккелины ***. Что это значит? Мало любит? Сердцем так же сух и теперь, как по смерти отца? Нет, любит бесконечно. Если бы раньше она умерла, то, может быть, и он умер бы с нею, или, по крайней мере, хотел бы умереть, а теперь и хотеть незачем: уже умирает; смерть у него в душе и в теле.
31 октября, после того как первое постановление парижских викариев осуждено было Папой и Королевским Советом, объявлено второе, с требованием от сестер Пор-Руаяльской обители, так же как от всех духовных лиц во Франции, осуждения тезисов Янсения, с «простою и голою клятвою», уже исключавшей всякую возможность лукавого деления на «право» и «действительность» ****.
«Тайна беззакония» уже в самой Церкви совершается; Папа против Христа — таков смысл того, что Паскаль говорит об этом постановлении в десятом и четырнадцатом «Письме» *****. «Бог открыл мне, что Церкви больше нет на земле»,— говорил св. Винсенту де Поль великий * Giraud, 171-172.
** Brunsch.,239-240.
*** Giraud, 173.
**** Chevalier, 363.
***** Lettres, 1. X, p. 167; 1. XIX, p. 263.
Паскаль
347
учитель и основатель Пор-Руаяля аббат Сен-Сиран *. Эти страшные слова мог бы теперь вспомнить Паскаль. Церковь вдруг исчезла для него, как тот жалкий стул, которым он заслонялся от бездны, и, снова зазияв под ним, она не только ужасает его, но и тянет к себе, влечет неодолимо броситься в нее, а что это значит, он и подумать боится.
23
«Надо решить, возможно ли деление на право и действительность,— спрашивает он в “Послании ко всем подписывающим клятву” и отвечает: — Нет, невозможно... потому что такая клятва двусмысленна, а значит, и лжива. Те, кто дает ее, идут по среднему пути, гнусному перед Богом, презренному перед людьми и совершенно бесполезному для тех, кого хотят погубить» **. Здесь Паскаль опять, как будто спокойно (но чего ему стоит это спокойствие!), выражает то, что чувствовало растерзанное мукой сердце Жаккелины, когда она подписывала лживую клятву, и потом, когда умирала. Некогда и он отделял «действительность» от «права», а теперь сама ужасающая действительность в смертной муке Жаккелины соединялась с правом. Вот когда он понял, что своим полуянсенистским, полуиезуитским примирением с ложью ничего не сделал для себя, ни для Церкви — только убил Жаккелину.
«Если прочими моими письмами я вас огорчал, досточтимый отец, доказывая вам невинность тех, кого вы хотели оклеветать, то этим письмом я вас обрадую, говоря о тех страданиях, которые вы им причинили,— пишет Паскаль тотчас после клятвы сестер королевскому духовнику, иезуиту о. Аннату (Annat)88.— Утешьтесь, отец мой: те, кого вы ненавидите, огорчены, и если господа епископы исполнят ваш совет принудить их поклясться, что они верят, чему на самом деле не верят и не должны верить, то вы их доведете до последнего отчаяния — видеть Церковь в таком унижении. Но видел их и я, отец мой (и признаюсь, с великой радостью), я видел их не в той высокомерной, философской твердости, которая заставляет людей исполнять свой долг, и не в той малодушной робости, которая мешает им видеть истину и следовать за ней, а в кротком, непоколебимом и смиренном благочестии, исполненном уважения к Церковным властям... и в надежде, что та Благодать, которую они исповедуют и за которую страдают, будет их светом и силой... Видел я, что истина и мир для них дороже всего, потому что, когда им сказали, какие * Н. Bermond, Hist. Litter, du sentiment religieux en France, IV. La Conquête mystique, 1938,151.
** Brunsch., Ecrit sim la signature, 241-243.
348
Д. С. МЕРЕЖКОВСКИЙ
бедствия навлекут они на себя и какой соблазн в Церкви отказом от клятвы, то они ответили...»* Здесь голос Паскаля прерывается как бы слезами всех невинных жертв, и больше всех — Жаккелины: «Я должна умереть!»
«Лучшее милосердие к умершим — делать то, что они при жизни велели бы нам делать, и быть такими, какими бы они хотели нас видеть, потому что этим мы как бы воскрешаем их в себе, так что они и после смерти все еще живут и действуют в нас»,— эти сказанные некогда Жаккелине слова свои об умершем отце Паскаль теперь исполняет. После смерти так же, как при жизни, она ему указывает путь, и он пойдет по этому пути до конца. Она, в самом деле, воскресает, живет и действует в нем **.
В ноябре 1661 года, может быть 22-го, в самый канун седьмой годовщины Огненной Ночи89, собрались у Паскаля для совещания о второй клятве сестер господа Пор-Руаяля. «Выслушав доводы за и против,— вспоминает Маргарита Перье,— все они согласились, то ли из уважения, то ли искренне, с г. Арно и г. Николем, потому что это они нашли нужную для сестер уловку (все то же ненавистное Паскалю, а теперь еще и кровью Жаккелины обагренное деление на “право” и “действительность”). Но г. Паскаль, любивший истину больше всего и к тому же страдавший от головной боли, которая не покидала его все эти дни, старался изо всех сил дать им почувствовать то, что он сам чувствовал, пока, наконец, ему не сделалось дурно, так что он вдруг замолчал и лишился чувств. Все были поражены и поспешили привести его в чувство, а потом разошлись. Остались только бывшие на этом собрании герцог де Роаннец, г-жа Перье, г. Перье-сын и г. Дома» 90. Когда Паскаль совсем пришел в себя, то г-жа Перье спросила его, почему с ним сделался обморок, и он ответил ей так: «Когда я увидел, что все эти люди, о которых я думал, что Бог вверил им истину свою и что они должны ее защищать, пали духом и устрашились, то, признаюсь, я был охвачен такой скорбью, что не мог ее вынести, и должен был лишиться чувств» ***.
Брат и сестра, Паскаль и Жаккелина, как бы сросшиеся близнецы: когда один из них умирает, то и другой на смерть обречен. Теми же почти словами Паскаль и Жаккелина говорят одно. «Я в такой скорби, что, кажется, от нее умру»,— говорит Жаккелина. «Я был охвачен такой скорбью, что не мог ее вынести, и должен * Lettres, Fragment d’une XIX 1, adressée au Père Annat, 381-382.
** Boutroux, 173.
*** Faugere,88,164. Brunsch.,243.
Паскаль
349
был лишиться чувств»,— говорит Паскаль, или, вернее, его устами говорит Жаккелина (в подлиннике еще тождественней: «Il faut que je succombe»,— «Il a fallu que je succombe»). Жаккелина умерла, a Паскаль только обмер — лишился чувств, но смерть ее вошла и в него. Вместе живут они и вместе умирают, как в двух телах одна душа.
24
Ночью, 23 ноября, Паскаль сидел в той же самой комнате, за тем же самым столом, как в Ночь Огня, семь лет назад. Семь лет — семь ступеней в преисподнюю. Вспомнил, как вчера беспощадно судил Пор-Руаяльских друзей своих за лживую клятву. А разве не дал он сам клятву, еще более лживую, и не людям, как те, а Богу?
Тщательно зашитый в подкладку камзола кусок пергамента, «Мемориал», жег его, как раскаленный уголь: «Я бежал от Христа, отрекся от Него: Я распял Его». Или, может быть, не бежал, атолько «заснул от печали», как ученики в Гефсиманскую ночь.
Толстая книга в кожаном переплете с медными застежками, Св. Писание, лежала перед ним на столе так же, как тогда, семь лет назад. Он открыл ее, нашел четырнадцатую главу Евангелия от Марка и прочел:
Взял с Собою Петра, Иакова и Иоанна; и начал ужасаться и тосковать.
И сказал им: «Душа Моя скорбит смертельно; побудьте здесь и бодрствуйте».
И, отошед немного, пал на землю и молился, чтобы, если возможно, миновал Его час сей...
Возвращается и находит их спящими, и говорит Петру: «Симон!
Ты спишь? Не мог ты бодрствовать и один час?..»
И опять, отошедши, молился...
И возвратившись, опять нашел их спящими, ибо глаза у них отяжелели; и они не знали, что Ему отвечать.
«Иисус,— думал Паскаль,— ищет хоть малого утешения у трех любимых учеников своих и просит их пободрствовать с Ним, а они к нему так безжалостны, что не могут и на минуту сна победить. Иисус покинут один и предан гневу Божиему. Муки Его не только не чувствует и не разделяет, но и не знает никто... Иисус терпит эту муку и покинутость в ночном ужасе. Кажется, только этот единственный раз за всю свою жизнь, ищет Он общества людей и помощи от них... Иисус будет в смертной муке до конца мира; за это время не должно спать...»
350
Д. С. МЕРЕЖКОВСКИЙ
Мысли у него мешались. Головная боль, еще усилившись со вчерашнего дня, сжимала голову его, как в железных тисках. Слева от него стояло, по обыкновению, кресло с высокою спинкою, чтобы заслонять его от Бездны; но не заслоняло так же, как и Церковь. Никогда еще Бездна не ужасала его и не тянула к себе так неодолимо, как сейчас. Кресло вдруг беззвучно отодвинулось. Он закрыл глаза с последним усильем отчаяния, чтобы не увидеть Бездны. Но чей-то ласковый голос шепнул ему на ухо:
Бросься отсюда вниз, ибо написано: «Ангелам своим заповедал о Тебе сохранить Тебя; и на руках понесут Тебя, да не преткнешься о камень ногою Твоею».
Жадно открыл глаза, увидел Бездну и бросился в нее.
Где-то очень далеко на колокольне пробило двенадцать. Пламя догоравшей свечи на столе ярко вспыхнуло в последний раз и потухло. Лунный луч из окна сквозь голые ветки деревьев, скользнув по ковру на стене, осветил Архимеда с длинной, седой бородой, говорившего молодому грубому воину: «Циркулей моих не тронь!» — потом, крадучись по столу, заблестел на ртутных столбиках и стеклянных трубках и на медных колесиках старой счетной машинки, между «Опытами» Монтеня, «Руководством» Эпиктета и Св. Писанием; и наконец, упал на человека, лежавшего ничком на полу, как будто бездыханного. Медленно поднял он лицо и почувствовал, что голова уже не болит и Бездна под ним не зияет. Не потому ли, что он на самом дне ее лежит? Нет, не потому, но это сделал Тот, Кто здесь, в комнате, и сейчас к нему подойдет. С радостным ужасом закрыл он лицо руками и снова упал ничком на пол, чтобы лица Его не видеть. Вдруг почувствовал на волосах своих такое же тихое веяние, как в незапамятном детстве,— может быть, даже не здесь, на земле, а где-то в раю, «когда мать подходила к его колыбели и, наклоняясь над ним, чтобы узнать, спит он или не спит, старалась как можно тише дышать. И услышал тихий, как будто вечно знакомый голос: “Утешься, ты не искал бы Меня, если бы уже не нашел... В смертной муке Моей, я думал о тебе; капли крови Моей Я пролил за тебя...”
“Господи, я отдаю Тебе все!” — ответил он, поднял лицо, увидел Его и умер — воскрес *. Надо ли говорить, что это истолкование “Иисусовой Тайны” — мой “апокриф”? Те, у кого есть в душе хоть первая точка религиозного опыта, поймут, что это — Апокриф, не в новом, а в древнем смысле греческого слова apocryphos — “сокровенное свидетельство” не только о том, что могло быть, но и о том, что действительно было, есть и будет.
* Pensées, 552. Le Mystère de Jésus.
Паскаль
351
25
Силой воскрешающей было для него чувство свободы. “Я простираю руки мои к Освободителю”,— скажет он первый не в Церкви, а в миру, как этого еще никогда никто не говорил*. Чувство свободы — чувство полета. Бездна от него не отошла и не закрылась под ним; он сам в нее вошел — упал — полетел.
“Церкви больше нет на земле”,— это было для него некогда ужасом, а теперь сделалось радостью. Он не говорил: “Церкви уже нет на земле”, а “Церкви еще нет”. Или если этого сам не говорил, то предчувствовал, что это люди когда-нибудь скажут и сделают, чтобы Церковь была. “Я люблю почитателей Бога, еще неведомых миру и даже самим Пророкам”**. Может быть, он предчувствовал что-то им еще не решенное или не додуманное о Церкви, какую-то последнюю борьбу за Церковь или с Церковью. Но радости его уже не могло омрачить и это предчувствие.
“Вы говорите, что я — еретик... Но если вы не боитесь людей, то побойтесь Бога... Много будет на меня гонений, но за меня истина — увидим, кто победит” ***. “Часто отлученные от Церкви ее спасают” ****. “Письма” мои осуждены в Риме, но то, что я в них осуждаю,— осуждено и на небе. К Твоему суду взываю, Господи! (Ad Tuum, Domine Jesu, tribunal appello!)» *****.
«Отлучение от Церкви — ничто»,— говорил Паскаль еще пять лет назад в письме к Шарлотте Роаннец, и мог бы теперь повторить с бесконечно большею силою6*. Теми же почти словами говорит и Жаккелина: «Никто не может быть отлученным от Церкви, если этого сам не хочет»7*. В этом, как и во всем, он идет по ее следам; все еще, и после смерти, она живет и действует в нем; вместе умерли — вместе воскреснут.
Что Паскаль был почти святым и, если бы прожил немного дольше,— мог бы сделаться святым совсем,— это несомненно; но еще несомненнее, что для католической Церкви он был почти еретиком и если бы немного дольше прожил, то был бы еретиком совсем. Именно в этом — в возможной ереси или святости его — и заключается главная * Pénsées,737,78O,921,868,92O.
** См. сноску выше.
*** См. сноску выше.
**** См. сноску выше.
***** См. сноску выше.
6* Brunsch.,218.
7* Boutroux, 151.
352
Д.С. МЕРЕЖКОВСКИЙ
причина того, что людям наших дней так трудно, почти невозможно его понять и принять.
Первая книга Спинозы91, появившаяся в 1663 году, следующем по смерти Паскаля, «Теолого-политический трактат», есть не что иное, как возражение «тем, кто презирает и отвергает человеческий разум как порочный, будто бы в корне своем», а значит, и возражение на все, что говорил Паскаль *. Этим Спиноза начинает, а Вольтер кончает: в 1778 году, накануне смерти, он пишет «Последние заметки о “Мыслях” Паскаля»92, где объявляет его «полусумасшедшим изувером» (если не этими словами, то смысл именно этот)**. «Слишком суровый и больной Паскаль больше повредил... религии, чем Вольтер и все остальные безбожники»,— скажет Гёте***.
Этот суд предвидел Паскаль: «Много будет на меня гонений, но за меня истина; увидим, кто победит».
26
Кажется, в тот самый день, когда, узнав о смерти Жаккелины, он сказал с таким страшным спокойствием: «Дай нам Бог так хорошо умереть!»,— он тяжело заболел, или, вернее, начал умирать. Чем он болел, врачи не могли понять, и, хотя варварские способы тогдашнего лечения были иногда хуже болезни, он покорно лечился, чтобы не огорчать близких. Но в минуты тягчайших страданий говорил: «Я боюсь выздороветь, потому что слишком хорошо знаю, как опасно здоровье и как благодетельна болезнь: это — естественное для христианина состояние» ****.
«Господи, да утешит меня Твой бич!» — мог бы сказать и теперь, как четырнадцать лет назад, в «Молитве о добром употреблении болезней». Жаждет страданий неутолимо, чтобы вытравить, выжечь из души и тела то чумное пятно первородного греха, которого выжечь нельзя ничем, кроме огня страданий.
Если верить Жильберте Перье, он еще задолго до предсмертной болезни носил под одеждой, на голом теле, кожаный пояс с гвоздями и каждый раз, как чувствовал одно из трех главных искушений — «похоть чувственности», «похоть знания», «похоть гордыни»,— нажимал локтем на пояс, чтобы острия гвоздей вонзались в тело. Как * Spinoza, Tract, théol.-polit., éd. Saisset, 1,62.
** Voltaire, Dernieres Remarques sur les Pensées de Pascal. Giraud, Pascal, l’Hom- me, 266.
*** Giraud, 223.
**** Brunsch.,37,25,30-31,28.
Паскаль
353
будто не довольствуясь муками болезни, он продолжал носить этот пояс до самой смерти...
То, что он делает с собой в этой предсмертной болезни, похоже иногда на самоумерщвление не только плоти, но и духа,— на самоуничтожение до конца. Вытравить, выжечь, как чумное пятно первородного греха, он хочет и то, чем сердце живо,— любовь.
«Он старался показать, что совсем не любит тех, кого на самом деле очень любил,— вспоминает Жильберта Перье.— Мало того, он не только не хотел любить других, но не хотел, чтобы и другие любили его... Я изумлялась тому, как он грубо отталкивал меня, и мне казалось иногда, в то время как я ухаживала за ним в болезни с величайшей нежностью, что это ему тяжело». «Он не мог выносить, чтобы дети ласкались ко мне, и говорил, что надо их от этого отучать, потому что это им вредно» *. Флорену и Жильберте Перье он советует не выдавать дочери замуж, потому что «брак для христианина есть низшее и опаснейшее из всех состояний» — нечто подобное «не только детоубийству, но и богоубийству». Это хотя и не собственные слова Паскаля, а его Пор-Руаяльских друзей, но он их повторяет и соглашается с ними **.
«Нехорошо, чтобы меня любили,— скажет он в “Мыслях”.— Я обманул бы тех, кому внушил бы желание меня любить, потому что я не могу быть целью ни для кого и не могу ничье желание любви утолить» ***. «Людям внушать любовь — значит красть у Богато, что Ему дороже всего» ****. «Если есть Бог, то мы должны любить только Его, а не преходящие твари... Следовательно, все, что нас привязывает к ним, есть зло, потому что мешает нам служить Богу или Его искать... Есть Бог — не будем же наслаждаться тварями». «Надо любить только Бога и ненавидеть только себя» *****. Он избегал говорить «я », потому что «христианская любовь уничтожает человеческое я»6*.
Очень легко сказать с Вольтером — «Это сумасшествие»; или осторожнее с Гёте — «Это болезнь». Очень легко напомнить Паскалю об ученике, Оргоне93, и учителе, Тартюфе:
Он учит меня никого не любить и освобождает от всех кровных уз так, что я увидел бы смерть брата, детей, матери, и никакого горя не испытал бы.
* См. сноску выше.
** См. сноску выше.
*** Pénsées,471.
**** Brunsch.,31.
***** pénsées.479,476.
6* Giraud, La vie héroïque de Pascal, 189.
354
Д. С. МЕРЕЖКОВСКИЙ
Очень легко напомнить об этом Паскалю и спросить его устами Клеонта94:
Это ли, брат мой, человеческие чувства? *
Так легко изобличить Паскаля в его противоречиях с Евангелием: «Любите друг друга»,— учит Христос; «Нет, не любите»,— учит Паскаль. «Будут двое одна плоть»,— учит Христос; «Брак — Бого- убийство»,— учит Паскаль. Очень легко спросить его: если болезнь — «естественное для христианина состояние», то зачем же Христос исцелял больных? Да, все это очень легко, но бесполезно, потому что идет мимо Паскаля и потому что на все это мог бы и он ответить так же легко: «Что же значит: “Если рука твоя соблазняет тебя, отсеки ее; если глаз твой соблазняет тебя, вырви его”? Что значит: “Если кто приходит ко Мне, и не возненавидит отца своего, и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, а притом и самой жизни своей, то не может быть Моим учеником”? »
В нашей хитрости, подлости, трусости, а главное, в Гефсиманском «сне от печали» все мы хотели бы, как иезуиты, сделать узкие врата спасения широкими и тернистый путь — «бархатным». Но это сделать нельзя.
Напрасно я бегу к Сионским высотам,— Грех алчный гонится за мною по пятам; Так, ревом яростным пустыню оглашая, Взметая лапой пыль, и гриву потрясая, И ноздри пыльные уткнув в песок зыбучий, Голодный лев следит оленя бег пахучий.
Будет ли олень бояться колющих его и рвущих терний, спасаясь от льва? Будет ли бояться человек мимолетных страданий, спасаясь от вечной погибели?
Не стекло режет алмаз, а алмаз — стекло; не святые судятся грешными, а грешные — святыми. Если так, то не нам судить Паскаля.
Он борется с любовью к близким не потому, что мало, а потому, что слишком их любит. Брат и сестра, Паскаль и Жаккелина, похожи друг на друга и в этом как близнецы. Во время тяжелой болезни сестры своей Жильберты Жаккелина пишет мужу ее утешительные письма, в которых, почти радуясь, что она так тяжело больна, может быть при смерти, советует ему воспользоваться этим «счастливым случаем, чтобы покаяться и навсегда покинуть мир». Но в то же время признается: «Я так боюсь, чтобы мне не сказали, что она умерла, что
* Moliere, Tartuffe, Acte I, Scene V.
Паскаль
355
если кто-нибудь только смотрит на меня, то мне уже страшно, что он это скажет, и я вся дрожу» *.
Кажется, что у Жаккелины здесь такое же противоречие, как у Паскаля, но на самом деле это не противоречие, а «противоположность двух истин». «Нехорошо, чтобы меня любили; людям внушать любовь — значит красть у Богато, что Ему дороже всего» — вот одна из этих двух истин, а вот и другая: «Я люблю всех людей, как братьев, потому что все они искуплены Христом... Я с нежностью люблю тех, с кем Бог меня теснее соединил» **. «Надо любить только Бога и ненавидеть только себя; христианская любовь уничтожает человеческое я» — вот опять одна из двух истин, а вот и другая: «Должно любить себя, потому что все люди — члены Иисуса Христа» ***■
Эти две истины, противоречивые в двух низших порядках — плоти и духа, «согласуются в третьем, высшем порядке — любви » ****. К этомуто порядку Паскаль идет, и уже почти дошел до него,— почти свят.
27
«Господи, я отдаю Тебе все!» — говорит он и мог бы сказать так же, как св. Франциск Ассизский: «Господи, как бы я хотел отдать Тебе душу мою и тело мое! Как бы я хотел отдать Тебе... о, если бы я знал • -1--*— что!» *****
«Я люблю бедность, потому что Он (Христос) ее любил»,— говорит Паскаль так же, как св. Франциск Ассизский; говорит и делает, продавая вещи — ковры, мебель, серебро и даже книги, кроме Св. Писания и, может быть, «Опытов» Монтеня и «Руководства» Эпиктета,— раздает полученные деньги бедным так щедро, что если бы Жильберта не остановила его, то роздал бы все до последней копейки и пошел бы просить милостыню, нищим, как св. Франциск Ассизский6*.
Месяца за три до смерти, выйдя однажды от обедни у Св. Суль- пиция95, он встретил на улице девушку лет шестнадцати, которая попросила у него милостыню. Она была так хороша, что он не сомневался, что она еще до ночи сделается легкой добычей соблазнителя. Пристальней вглядевшись в нее, он спросил, кто она, откуда и почему просит милостыню. Девушка ответила, что она из деревни, что отец * Brunsch., 30.
** Pensées, 550,483,793.
*** См. сноску выше.
**** См. сноску выше.
***** joh Joergens, Saint François d’Assise, trad, du danois, 1912, p. 106.
6* Pensées, 550. Brunsch., 26-27.
356
Д. С. МЕРЕЖКОВСКИЙ
ее умер, а мать только что отвезли в больницу. Тотчас же он отвел ее в соседнюю духовную школу к священнику, дал ему денег, попросил его позаботиться о ней и подыскать ей приличное место, на котором она могла бы жить честным трудом, и, чтобы помочь ему в этом, обещал прислать на следующий день знакомую женщину, которая купит ей одежду и все нужное, чтобы поступить на место. Так он и сделал, и, благодаря усилиям доброго священника и той женщины, девушка поступила на место к хорошим людям и была спасена. Дело это осталось бы навсегда неизвестным, если бы священник не выпытал у женщины имени Паскаля, чтобы за него помолиться*.
Может быть, было что-то в лице этой девушки, что напомнило ему Жаккелину, и он вдруг полюбил ее нежнее, чем брат любит сестру. Если так, то это была последняя любовь его на земле, и этим же встретила его Жаккелина на пороге вечности, как первым поцелуем любви.
«Радость, мир» — это предсказание Огненной Ночи исполнилось: мир, покой, тишина сходили в душу его. Только теперь понял он, что значит:
Даже и плоть моя успокоится в уповании (Псалмы, 15: 9).
«Я все дни моей жизни благословляю Искупителя моего, сделавшего меня, человека слабого, несчастного, исполненного похоти, гордыни и тщеславия, человеком свободным от всех этих немощей силой Благодати своей, которой и принадлежит вся слава, а не мне, потому что нет у меня ничего, кроме немощей и заблуждений». «Слава за это да будет Мне, а не тебе, прах и тлен»,— говорит ему сам Иисус в Тайне**. В тихие воды вошел корабль его, после пояса бурь, или почти вошел,— почти, потому что и здесь, в этих бездонно ясных водах, мелькало иногда что-то темное — может быть, подводный камень, о который разобьется корабль и погибнет пловец, и потому что нельзя почти спастись — можно только спастись или погибнуть совсем. Этим подводным камнем мог сделаться для него все тот же нерешенный вопрос о Церкви.
Главною радостью его незадолго до предсмертной болезни были паломничества по всем парижским церквам для поклонения мощам и другим святыням, или для присутствия на приходских праздниках. Верным спутником его в этих паломничествах был «Духовный Альманах Парижа» о. Мартиала дю Мане96, маленькая, плохо, на серой бумаге отпечатанная книжка. «Он ходил по церквам так благоговейно и просто, что все, кто это видел, не могли надивиться»,— * Brunsch. ,29.
** Pensées, 550,552.
Паскаль
357
вспоминает Жильберта Перье*. В самых простых и бедных церквах, среди самых бедных и простых людей, он больше всего чувствовал присутствие Того, Кто сам был беден и прост.
В «Мыслях» он доказывает безбожнику — может быть, одному из бывших друзей своих, рыцарю де Мера или Митону,— необходимость неимоверного «заклада», «пари»: есть Бог или нет? «Я вовсе не хочу держать такого пари: оно неразумно»,— возражает ему безбожник. «Нет, вам нельзя от него отказаться,— отвечает Паскаль.— Это не от вас зависит: игра уже начата... и знайте, что в обоих случаях — выигрыша или потери — выгодно для вас, а значит, и разумно, ставить за Бога». «Да, но я создан так, что не могу верить. Что же мне делать? » — «Делайте все, как будто верите: заказывайте обедни, кропите себя святою водой и прочее. Это вас заставит верить, хотя и оглупит». — «Но этого-то я и боюсь!» — «Чего же вам бояться? Много ли вы потеряете?» ** «Мудрость возвращает нас к детству », — говорит Паскаль уже себе самому ***.
«Это — дитя; он кроток и послушен, как маленькие дети»,— скажет о нем духовник в его предсмертной болезни.
28
Болезнь началась в конце июня 1661 года. В доме его жил бедный человек с женой и ребенком, которые служили Паскалю только для того, чтобы не оставаться одному в доме, потому что он уже давно отпустил всех слуг и, пока был в силах, все делал сам для себя. Ребенок заболел оспой. Паскаль, тоже больной, не мог обойтись без помощи сестры своей, Жильберты, и боялся, чтобы дети ее не заразились оспой. Надо было отправить больного ребенка в больницу. Но этого Паскаль не хотел.
«Выехать из дому мне будет не так опасно, как ему. Я это и сделаю» ,— решил он и переехал к Жильберте, в приход Св. Стефана-на- Горе (Paroisse Saint-Etienne-du Mont)****97.
Дня через три он так тяжко заболел, что понял, что это конец. Смерть заглянула ему в глаза так же близко, как тогда, на Нейлинском мосту, когда карета висела над пропастью, и потом, когда он узнал, что привратница в доме Роаннецов хотела заколоть его кинжалом. Но смерти он уже не боялся или почти не боялся (эти вечно повторяющиеся, грозные “почти” были как мелькающие в бездонно ясной глубине подводные камни).
* Brunsch. ,34. Е. Jovy, L’Almanach spitituel de Pascal, 1923,1-7.
** Pensées, 233,271.
*** См. сноску выше.
**** Brunsch.,35-36.
358
Д.С. МЕРЕЖКОВСКИЙ
Только что понял, что умирает (этого еще никто не понимал, меньше всего врачи), он пригласил приходского священника, о. Павла Беррье (L’abbé Paul Beurrier)08. Это был очень добрый, неглупый и простой человек. Паскаль сразу его полюбил и поверил ему. Исповедовавшись у него, он попросил напутствовать его, как умирающего, Св. Причастием. Но о. Павел отказался это сделать, потому что ни врачи, ни родные не считали болезнь его смертельной. Сколько он ни просил и ни убеждал о. Павла, тот не согласился,— с тем и ушел*. А по уходе его Паскаль вдруг вспомнил, что главного греха ему не сказал — того сомнения в Церкви, которое выразил в «Письмах» : «Тайна беззакония совершается уже в самой Церкви; Папа — против Христа». Вспомнил и то, что писал Шарлотте Роаннец: «Тщетны все добродетели, подвиги и даже мученичества, вне Церкви и общения с главою Церкви, Папой. Я никогда от него не отделюсь; по крайней мере, я молю Бога помиловать меня от этого, потому что иначе я погиб».
Где же он сейчас — в Церкви или вне Церкви, с Папой или против Папы? Что скажет он о. Павлу на последней исповеди, когда тот, наконец, поверит, что он умирает, и согласится его напутствовать? Или промолчит — обманет — украдет Тело и Кровь Господню? Или никакого обмана не будет в молчании, потому что не он первый сказал: «К Твоему суду взываю, Господи! (Ad tuum, Domine, tribunal appello!)», — a за триста лет до него это же сказал последний великий святой Бернард Клервосский, который знал, что не Христос от Церкви, а Церковь от Христа? **
Вдруг вспомнил услышанное в Ночь Огня и записанное в «Мемориале» : «Совершенное послушание Иисусу Христу и моему духовному отцу»,— и впервые охватил его ужас не временной, а вечной смерти ***.
14 августа сделались у него такие боли в желудке и в голове, что он иногда лишался сознания. Только что ему стало легче, снова начал «умолять и требовать с невероятною настойчивостью, чтобы о. Павел его причастил»,— вспоминает Жильберта Перье. Но так как врачи все еще уверяли, что нет ни малейшей опасности,— ему опять отказали.
«Врачи не понимают, как я болен, и все вы ошибаетесь,— повторял он безнадежно.— Есть что-то в моей головной боли необычайное... Но так как мне отказывают в этой милости, и я не могу причаститься во Христе, то хотел бы это сделать, по крайней мере, в членах Его. Пусть же поселят в этом доме бедного больного и ухаживают за ним так же, как за мною, чтобы не было между нами никакого различья, * См. сноску выше.
** Sainte-Beuve, Oeuvres complètes, 1873,1,4-5.
*** Pénsées,211. Brunsch.,37-39.
Паскаль
359
потому что я не могу вынести мысли, что есть бесчисленное множество бедных людей, тяжелее больных, чем я, которые нуждаются во всем, между тем как я нахожусь в такой роскоши... »
Чтобы его успокоить, ему обещали это сделать, но не сделали. Тогда начал он умолять Жильберту перевезти его в больницу Неизлечимых, «чтобы он мог умереть в обществе бедных людей».
«На это врачи не согласятся, пока вы в таком состоянии, как сейчас, но только что вам будет полегче, мы это сделаем»,— обещала Жильберта, но так, что он понял, что она этого никогда не сделает, и почувствовал, что всеми покинут, как только мертвые бывают покинуты живыми, и что над ним исполняется страшное слово его, сказанное в «Мыслях» о всяком человеке: «Умрешь один».
29
Горький смех Мольера сопровождал его в смерти. Люди в длинных черных одеждах, в высоких и узких черных шляпах играли такую же балаганную комедию с умирающим Паскалем, как с «Мнимым больным» у Мольера. Смерть думали они победить кровопусканиями и клистирными трубками.
«Все, что я вижу, кажется мне промывательным»,— мог бы сказать и Паскаль, как злополучный, несчастный г. Пурсоньяк*99. «В ночь на 19 августа сделались у него такие судороги, что, когда они прошли, мы все подумали, что он уже мертв, и были в великом горе, что он умер, не причастившись»,— вспоминает Жильберта Перье **. Что умрет без напутствия, уверен был и сам Паскаль, но, с последней надеждой, вдруг вспомнил:
В смертной муке Моей Я думал о тебе; каплю Крови Моей Я пролил за тебя.
«Кто это сказал, Тот меня и причастит»,— подумал. Но вспомнил и слова ап. Павла:
Сам Сатана принимает вид Ангела света, а потому не великое дело, если и служители его принимают вид служителей правды; но конец их будет по делам их (2 Коринф., 11:14-15).
«Что, если и мой конец?.. » — начал думать он и не кончил: вдруг услышал знакомые шаги на лестнице, открыл глаза и увидел о. Павла, входившего в комнату со Св. Дарами.
* Moliere, Monsieur de Porceaugnac, Acte III, Scène IV.
** Brunsch., 39,39 40.
360
Д. С. МЕРЕЖКОВСКИЙ
«Вот Тот, Кого вы так желали!» — сказал он, подходя к нему, чтобы его причастить.
Медленно, с трудом, но без чужой помощи, умирающий приподнялся на постели, чтобы встретить Желанного.
«Веришь ли ты, сын мой, во все, чему учит Церковь?» — спросил о. Павел.
«Верю, верю, от всего сердца верю во все! » — ответил Паскаль очень слабым, но таким внятным голосом, что слышали все и, когда о. Павел причащал его, заплакали от радости. Потом упал на подушку, закрыл глаза и прошептал: «Да не покинет меня Господь никогда!» — то же и теми же почти словами, как в Ночь Огня: «Да не буду я от Него отделен никогда!» И вдруг почувствовал на волосах своих такое же тихое веяние, как в незапамятном детстве, может быть, даже не здесь, на земле, а где-то в раю,— когда мать подходила к его колыбели и, наклоняясь над ним, чтобы узнать, спит он или не спит, старалась как можно тише дышать. И услышал вечно знакомый, тихий голос: «Вот Я, Которого ты так желал. Утешься, ты не искал бы Меня, если бы уже не нашел».
Прошли еще сутки. Часто повторялись у него такие же страшные судороги, как накануне*. Но чувствовал все время, сквозь все муки, что с ним Тот, Кого он нашел и Кто его уже никогда не покинет.
С мертвого сняли маску, которая уцелела до наших дней **. Главное в этом лице — как бы устремленность бесконечного полета и в то же время покой, тишина бесконечная. Веки тяжело опущены, но кажется, что когда подымутся, то глаза увидят Бога. Это — лицо одного из тех, о ком сказано:
Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят (Матфей, 5: 8).
III
Что сделал Паскаль?
1
Чудо Св. Терна внушило Паскалю замысел того великого дела, которому решил он посвятить весь уже недолгий, как он предчувствовал, остаток жизни. Дело это он сам называет «Защитой христианства», «Апологией», а люди назовут его «Мыслями» ***.
* См. сноску выше.
** Aug. Gazier, Les derniers join’s de Biaise Pascal, 1911. Masque mortuaire de Pascal. Michaut, Les époques de la pensee de Pascal, 1902, p. 144.
*** Brunsch, 18,256.
Паскаль
361
После чуда он придумал изображение для своей печати: два человеческих глаза, окруженных венцом, с надписью — “Scio cui credidi”. «Знаю, кому верю» *. Смысл изображения тот, что мучившая его всю жизнь борьба Веры и Знания кончилась: эти два противоположных начала соединились в третьем, высшем,— в Любви. Главным источником «Мыслей» и будет это соединение.
В 1659 году, за три года до смерти, Паскаль в обществе друзей своих, вероятно «господ Пор-Руаяля», изложил замысел «Апологии». Речь его длилась два-три часа. «Все присутствовавшие на этом собрании говорили, что никогда не слышали ничего более прекрасного, сильного, трогательного и убедительного»,— вспоминает один из слушателей, племянник Паскаля Этьен Перье**.
Вскоре после этой речи Паскаль заболел и, хотя в первое время болезни не лежал в постели и даже выходил из дому, чувствовал себя так плохо, что врачи запретили ему всякий умственный труд. Близкие отнимали у него и прятали книги и не давали ему писать, ни даже говорить ни о чем, что требовало умственного напряжения. Но вынужденное внешнее бездействие только усиливало внутреннюю работу ума. Мысли приходили к нему сами собой, и он «записывал их на первых попадавшихся ему под руку клочках бумаги в немногих словах или даже полусловах» ***. «Часто возвращался он с прогулки домой с буквами, написанными на ногтях иглою: буквы эти напоминали ему разные мысли, которые он мог бы забыть, так что этот великий человек возвращался домой, как отягченная медом пчела»,— вспоминает Пьер Николь****.
« Память у Паскаля была удивительная », — по свидетельству того же Николя. «Я никогда ничего не забываю»,— говорил сам Паскаль*****. Все, что он видел и слышал, врезывалось в память его неизгладимо, как стальным резцом — в камень. Но во время болезни она ослабела. «Часто, когда я хочу записать какую-нибудь мысль, она ускользает от меня, и это напоминает мне мою слабость, которую я все забываю, так что это напоминание для меня поучительнее, чем ускользнувшая мысль, потому что главная цель моя — познать свое ничтожество»г’*.
Когда, излагая друзьям своим замысел «Апологии», Паскаль настаивал на «порядке и последовательности» того, что хотел написать, он ошибался и потом понял свою ошибку: «Я буду записывать мысли * Giraud, La vie héroïque de Pascal, 115.
** Henry Massis, Biaise Pascal, Pensées, êd. Grasset, 52.
*** Massis, 59-60.
**** Sainte-Beuve, Port-Royal, IV, 599. Michaut, Les époques de la pénsée de Pascal, 136.
***** Sainte-Beuve, II, 136. Massis, 51.
’* Pénsées, 167,168,147.
362
Д. С. МЕРЕЖКОВСКИЙ
без порядка, но, может быть, не в бесцельном смешении, потому что это будет истинный порядок, выражающий то, что я хочу сказать в самом беспорядке» *. «Свой порядок у сердца, и у разума — свой, состоящий в первых началах и в их доказательствах; а у сердца порядок иной. Никто не доказывает, что должен быть любим, излагая в порядке причины любви: это было бы смешно» **.
Сделаны были и, вероятно, еще много раз будут делаться попытки восстановить в «Мыслях» Паскаля «порядок разума». Но все эти попытки тщетны: каждый читатель должен сам находить в «Мыслях» свой собственный порядок, не внешний — разума, а внутренний — сердца, потому что нет, может быть, другой книги, которая бы шла больше, чем эта, от сердца к сердцу.
« Мне было нужно десять лет здоровья, чтобы кончить Апологию», — часто говорил Паскаль ***. Но и в десять лет не кончил бы, судя по всем другим делам его: счетная машина, опыты конических сечений, опыт равновесия жидкостей, «Опыт о духе геометрии» — все осталось неконченным, а «Начала геометрии», книгу тоже неконченную, он сжег. «Письма» прерываются внезапно, именно в то время, когда достигают наибольшего успеха и могли бы оказать наибольшее действие. Очень вероятно, что та же участь постигла бы и «Апологию» ****.
Все, что сделал Паскаль, этот «ужасающий гений»*****, подобно развалинам недостроенного мира.
О, умираю я, как Бог, Средь начатого мирозданья!
Но эта неконченность — признак не слабости, а силы, потому что здесь, на земле, невозможно ничто действительно великое; здесь оно только начинается, а кончено будет не здесь.
Чтобы понять, что сделал Паскаль для защиты христианства, надо помнить, что его «Апология» идет не от Церкви к миру, как почти все остальные, от первых веков христианства до наших дней, а от мира к Церкви. Кто защищает себя, слабее того, кто защищает других: вот почему защищающие христианство люди Церкви слабее, чем делающие то же люди мира. Здесь, в «Апологии» Паскаля, впервые раздался голос в защиту христианства не из Церкви, а из мира.
* См. сноску выше.
** См. сноску выше.
*** Massis,61.
**** Giraud, Pascal, l’Homme, 65. Strowski, П, 197.
***** Massis, 9. Get effrayant génie, Pascal (Chateaubriand).
Паскаль
363
Дело Паскаля так же велико, как дело Сократа100: этот «свел мудрость с неба на землю», а тот — веру*. Может быть, со времени ап. Павла не было такой защиты христианства, как эта.
«Честный человек и геометр Паскаль делает такие признания, каких не посмели бы сделать многие христиане»,— верно замечает Тэн **. «Религия недостоверна» ***. «Непонятно, что Бог есть, и что Бога нет». Все непонятно. «Я смотрю во все стороны и вижу только мрак. Если бы я ничего не видел в природе, что возвещает мне Бога, я выбрал бы отрицанье; если бы я видел в ней везде знаки Творца, я успокоился бы на вере. Но, видя слишком много, чтобы отрицать, и слишком мало, чтобы верить, я нахожусь в таком жалком состоянии, что тысячи раз желал бы, чтобы если есть Бог в природе, то она обнаружила бы Его недвусмысленно, а если признаки Бога обманчивы в ней,— чтобы она их совсем уничтожила» ****. Вот, в самом деле, удивительное признание в устах христианина; ни один человек в Церкви такого признания не сделал бы.
Огромное большинство неверующих вовсе не последовательные безбожники, а только сомневающиеся в Боге: к ним-то и обращается Паскаль в «Апологии». « На неверующих жизнь его действует больше, чем тысячи проповедей », — хорошо скажет неверующий Бэйль *****101. Так же действуют и «Мысли», где отразилась, как в вернейшем зеркале, вся жизнь Паскаля. Здесь, в «Апологии», как почти во всем, он — между двух или, вернее, между четырех огней: две Церкви, янсенистская и католическая,— два огня; и еще два — Церковь и мир.
Что сделал Паскаль, янсенисты не поняли. Кто он такой для ближайшего к нему из них, Пьера Николя? Только «собиратель ракушек»6*. «Мало будет он известен потомству,— говорит тот же Николь в надгробной речи над Паскалем.— Он был царем в области духа... Но что от него осталось, кроме двух-трех довольно бесполезных, маленьких книжек?» 7*
«Мысли» Паскаля Св. Инквизиция сожгла бы, а его друзья, янсенисты, хуже сделают: выжгут цензурой из книги его все, чем она жива и действительна; обезоружат его и выдадут с головой врагу”*.
* Giraud, 170,162.
** См. сноску выше.
*** Pénsées, 136,130.
**** См. сноску выше.
***** Michaut, 143.
6* Abbe Saint-Pierre, Ouvrages de Morale et de Politique, XII, 86. Sainte-Beuve, 11,142.
7* F. Mauriac, Biaise Pascal et sa soeur, Jacqueline, 245.
8* Pascal, Pensées, éd. Garnier, VIL
364
Д. С. МЕРЕЖКОВСКИЙ
Слабо любят его друзья — янсенисты, а враги — католики — сильно ненавидят. Парижский архиепископ Гардуэн де Перефикс (Hardouin de Péréfixe)102 хочет «вырыть из могилы тело его, чтобы бросить в общую яму», как падаль нечистого пса*. Но хуже для Паскаля, чем мнимые христиане и действительные безбожники,— люди, верующие в иного Бога, дети Матери Земли, но не от Отца Небесного,— такие, в христианство необратимые, потому что для него непроницаемые, люди, как Монтень, Мольер, Шекспир, Спиноза и Гете. Вот вечные враги его, а ведь они-то и сотворят то человечество грядущих веков, для которого только и делал он то, что делал. Мог бы и он, впрочем, утешиться и, вероятно, утешался тем, что у него и у Христа одни и те же враги. «Се, лежит Сей на падение и на восстание многих в Израиле и в предмет пререканий» (Лука, 2: 34),— это можно бы сказать и о Паскале.
«Какой великий ум, и какой странный человек!» — таков приговор Мольера над Паскалем после воображаемой беседы их у Сен-Бёва **103. «Странный человек» значит «почти или совсем безумный». Но это кажущееся людям мира сего безумие Паскаля есть не что иное, как «безумие Креста». «Для такого сердца, как у него, возможно было только одно из двух — или Бездна, или Голгофа». «Плачущий у подножия креста Архимед» — вот кто такой Паскаль***. «Я простираю руки к моему Освободителю, Который сошел на землю, чтобы пострадать и умереть за меня» ****.
Может быть, после первых людей, увидевших в Сыне Человеческом Сына Божия, никто не называл Христа Спасителем с таким бесконечным страхом гибели и с такой бесконечной надеждой спасения, как Паскаль.
О, вещая душа моя,
О, сердце, полное тревоги, О, как ты бьешься на пороге Как бы двойного бытия!.. Так, ты жилище двух миров; Твой день — болезненный и страстный, Твой сон — пророчески-неясный, Как откровение духов...
* Aug. Gazier, Les derniers jours de Biaise Pascal, 1911,25. L’archévêque Hardouin de Péréfixe.
** Sainte-Beuve, 1,328.
*** Sainte Beuve, II, 16.
**** Pensées, 292.
Паскаль
365
Пускай страдальческую грудь Волнуют страсти роковые, Душа готова, как Мария, К ногам Христа навек прильнуть*.
Лучше нельзя выразить того душевного состояния, в котором написаны «Мысли».
3
Те, кто слышал Паскаля и хотя бы немного понял (совсем не понял никто), уже никогда не могли слышанного забыть. Люди вспоминают и записывают речи его, сказанные лет десять назад, как будто слышали их вчера **. Эта незабвенность слова его зависит от нескольких совершенств в его языке.
Первое совершенство можно бы определить как общий закон языка, математически: сила речи обратно пропорциональна количеству слов; или эстетически, как определяет сам Паскаль, тут же исполняя этот закон в совершенстве, «красота умолчания» ***. Кажется, двое только равны Паскалю по силе и сжатости речи — Данте и Гераклит104, а превосходит его только один Единственный. Краткость и сила речи в «Мыслях» такая, как у человека в смертельной опасности — в пожаре или потопе. «Истина без любви — ложь». «Человек — мыслящий тростник». «Умрешь один» ****. Большего в меньшем никто не заключал. Надо быть очень пустым человеком, чтобы не чувствовать от этих кратких слов Паскаля почти такого же действия, какое чувствует любящий от одного, впервые услышанного от любимой слова «Люблю», или умирающий даже не от услышанного, а только угаданного в лицах близких, «Умрешь».
Второе совершенство в языке его — простота. «Надо быть, насколько возможно, простым и естественным; ничего не преуменьшать и не преувеличивать». «Надо писать, как говоришь». Очень высоко ценит он «Мысли, рожденные в обыкновенных житейских разговорах» *****. «Когда язык совершенно естествен, то читатель удивлен и восхищен, потому что думал найти писателя, а нашел человека»6*.
* Тютчев.
** Brunsch., 233. Massis, 58.
*** Pensées, 306, «Beaute d’omission».
**** Pensées, 229,164,211.
***** Giraud, La vie héroïque de Pascal, 220,224.
6* Pensées, 72.
366
Д. С. МЕРЕЖКОВСКИЙ
Третье совершенство — точность. «Некоторые Мысли Паскаль переделывал от восьми до десяти раз, хотя уже и в первый раз они выражены так, что всякому другому могли бы казаться совершенством» *. Надо видеть фототипии с рукописи «Мыслей», чтобы понять, как бесконечны усилия Паскаля в поисках точности **.
Четвертое совершенство — порядок слов. «Тот же мяч в игре, но один его кидает лучше другого; те же в речи слова, но действие их различно, смотря по тому, в каком порядке расположены слова» ***. Пятое совершенство — вкрадчивость. Надо не доказывать, а внушать: «Надо делать на своем собственном сердце опыт того, что хочешь сказать, так, чтобы слушатель вынужден был сдаться» ****.
Шестое совершенство — соединение страсти с мыслью. Лучше всего знающая Паскаля Жаккелина ждет всегда «великих крайностей от его кипящего сердца». «Спорит он всегда так горячо, как будто сердится на всех и ругается» *****. Страстно чувствовать умеют все, но только очень немногие умеют страстно мыслить, как Паскаль. Исступление отвлеченнейшей и как будто холоднейшей мысли у него подобно исступлению страсти; чем отвлеченнее, тем страстнее, огненней. Как руку на морозе обжигает схваченное железо, так иногда отвлеченнейшие мысли Паскаля обжигают сердце.
И наконец, седьмое и главное совершенство в языке его — постоянное присутствие «антиномического», «противоположно-согласного». В каждой капле морской воды чувствуется соль; в каждом слове Паскаля слышится «противоположно-согласное» (не вскрытая Троичность). Может быть, он только «собиратель ракушек», но на таких берегах, где чувствуется постоянный запах Божественной Соли — неземное дыхание Трех. Этим язык Паскаля напоминает больше всего Евангелие, насколько язык человеческий может напоминать Божественный.
«Он писал только для себя одного»,— говорит Этьен Перье в «Предисловии к “Мыслям”»6*105. Так оно и есть: в самых глубоких мыслях Паскаль как будто забывает, что пишет «Апологию» и что кто-то будет его читать,— забывает все и остается наедине с самим собой и с Богом. В этом необычайность и единственность «Мыслей» : кажется, в таком уединении с Богом и с самим собой не был никто из людей.
* Massis, 52.
** Brunschwig, Oeuvres de Pascal, grande édition.
*** Pensées, 71,70,45.
**** См. сноску выше.
***** Faugjre> Lettres, Opuscules et Mémoires, 353,471. Micha ut, 150,152.
6* Massis, 60.
Паскаль
367
Плачущий и утешающий, пророческий хор Океанид и Скованный Прометей106 — «Мысли» Паскаля и Человечество. Это больше чем книга; это вечно кровью сочащаяся рана в сердце человечества.
4
«Паскаль проходит всего человека, чтобы дойти до Бога»*. Вот почему Апология, защита христианства, начинается у него с Антропологии, человековедения. В несомненнейшей для всех людей очевидности — в их бесконечном несчастии — Паскаль находит первую, незыблемую точку всей своей Апологии.
«Кто увидит себя между двумя безднами — небытия и бесконечности,— ужаснется» **. «Я знаю только одно,— что скоро умру; но что такое эта неизбежная смерть, я не знаю» ***. «Как бы ни была хороша комедия, ее последнее действие всегда кровавое. Кинут щепотку земли на голову, и это уже навсегда» ****. «Между нами и адом или небом — только жизнь — самое хрупкое из всего, что есть в мире» *****. «в пропасть люди бегут, что-нибудь держа перед глазами, чтобы не видеть пропасти»6*. Это мешающее видеть Паскаль отнимает от глаз человека, чтобы остановить его на краю пропасти.
«Есть что-то непонятное и чудовищное в чувствительности людей к ничтожнейшим делам и в совершенной бесчувственности к делам величайшим. Точно заколдованные какой-то всемогущею силою, погружены они в сверхъестественный сон»7*. «Множество людей, осужденных на смерть, закованы в цепи, и каждый день одних убивают на глазах у других, а те, кто остается в живых, смотрят друг на друга с отчаянием и ждут своей очереди». «Этот человек в тюрьме не знает, постановлен ли над ним смертный приговор, но знает, что ему остается только один час, чтобы это узнать, и что этого часа довольно, чтобы отменить приговор; но вместо того, чтобы воспользоваться этим часом, он играет в карты. Таков сверхъестественный сон людей; это отяготение руки Божией на них»8*. «Видя немоту всего мира, видя человека, лишенного света, покинутого на самого себя в самом глухом углу мира, не знающего, кто и зачем бросил его * Mauric,251.
** Pensées, 81,122,128,129,117,129,128,265.
*** См. сноску выше.
**** См. сноску выше.
***** см. СН0СКу выше.
6* См. сноску выше.
7* См. сноску выше.
8* См. сноску выше.
368
Д. С. МЕРЕЖКОВСКИЙ
туда,— я ужасаюсь, как перенесенный, во время сна, на пустынный и страшный остров, человек, который проснулся, не зная, где он, и не имея возможности спастись с этого острова» *.
Паскалю в Апологии нужен человек последнего отчаяния, накануне самоубийства. «Вместо того, чтобы выбрать какую-нибудь веру, он (безбожник), решает себя убить» **. Мелькала ли мысль о самоубийстве у самого Паскаля? Сделал ли он и этот страшный «опыт на своем собственном сердце»?
5
Люди, соединенные в общества, народы, государства, так же безумны и несчастны, такие же заколдованные, погруженные в «сверхъестественный сон», как всякий человек в отдельности.
«Люди естественно ненавидят друг друга» ***. «Каждое человеческое “я” хотело бы поработить все остальные» ****. «Каждый человек — все для самого себя, потому что когда он умирает, то для него умирает все; вот почему каждый хочет быть всем для всех». «Люди заставляют служить похоть общему благу; но это только — лицемерие и ложный образ любви, а на самом деле, ненависть... Злое в человеке начало этим не истреблено, а только прикрыто». «Все в мире есть похоть чувственности, похоть знания или похоть власти *****. Горе проклятой земле, которая этими тремя огненными реками не орошается, а воспламеняется!.. Эти реки текут, и падают, и увлекают все»6*.
Паскаль обличает ложь и бессмыслицу человеческих законов. «Нет ничего справедливого и несправедливого, что не изменялось бы с изменением климата. Только три градуса широты опрокидывают законодательство; меридиан решает истину... Жалкая справедливость, ограниченная рекою! Истина — по сию сторону Пиренеев, а по ту — ложь». «Что может быть нелепее того, чтобы человек имел право меня убить только потому, что живет на том берегу реки и что его государь поссорился с моим?» «За что вы меня убиваете? — Как за что? Разве вы не живете на том берегу? Если бы вы жили на этом, я был бы убийцей... а теперь я — доблестный воин»т*.
* См. сноску выше.
** Filleau de la Chaise, Discours sur les Pensees de Pascal; Strowski, III, 301.
*** Pensées, 193-195,150-152.
**** qm CHOCKy выше.
***** 0M CH0CKy выше.
6* См. сноску выше.
7* См. сноску выше.
Паскаль
369
Сила закона зависит не только от пространства, но и от времени. «Кража, кровосмешение, детоубийство, отцеубийство — все некогда считалось добродетелью» *. «Кто пристальнее вглядится в основание законов, тот найдет его таким слабым, что если не привык к чудесам человеческого воображения, то удивится, что и одного века достаточно, чтобы сделать закон достойным уважения. Все искусство основывать и разрушать государства заключается в том, чтобы нарушать установленные обычаи, исследуя их в источнике и показывая в них недостаток власти и справедливости» **.
Так же обличает Паскаль ложь и бессмыслицу собственности. «Эта собака моя»,— говорят глупые дети. «Это место под солнцем мое»,— говорят умные взрослые. «Вот начало и прообраз всех завоеваний» ***. «Что такое собственность? Забытый грабеж» ****. «Равенство собственности, конечно, справедливо. Но так как люди не могут заставить людей подчиняться справедливости как силе, то заставляют их подчиняться силе как справедливости» *****.
В 1660 году Паскаль давал уроки какому-то мальчику, вероятно четырнадцатилетнему сыну герцога де Льюнь 107, одного из господ Пор-Руаяля. Кое-что из этих уроков записал, лет через десять, Пьер Николь, со слов присутствовавшего на них, под заглавием: «Три речи о сильных мира сего». Речи эти однозвучны с тем, что говорит Паскаль в «Апологии» о лжи государства — одного из самых чудовищных и мучительных видений в «заколдованном сне» человечества.
«Вы должны иметь две мысли — одну (явную) для общества, которая возвышала бы вас надо всеми людьми, а другую (тайную), для себя, которая унижала бы вас и равняла со всеми людьми, потому что таково ваше естественное состояние,— учит Паскаль маленького герцога.— Царство ваше невелико... Но и величайшие цари земли, подобно вам, суть цари похоти... потому что только Бог есть Царь любви... Зная ваше естественное состояние, не думайте, что ваша собственная сила подчиняет вам людей... Не будьте же к ним жестоки... Удовлетворяйте их законные желания... будьте милосердны, делайте добро, какое можете, и вы будете истинным царем похоти. То, что я вам сейчас говорю, стоит немного, и если вы на этом остановитесь, то погибнете, но, по крайней мере, погибнете как честный человек (honnête homme). Есть множество людей, погибающих подло и глупо, в алчности, в зверстве, в насилии, в разврате, в злобе, * См. сноску выше.
** См. сноску выше.
*** См. сноску выше.
**** Boutroux, 170.
***** Pensées, 153.
370
Д.С. МЕРЕЖКОВСКИЙ
в богохульстве. Путь, который я вам указываю, благороднее, но все же великое безумие обрекать себя на гибель. Вот почему не должно на этом останавливаться; но должно, презирая похоть и царство ее, стремиться к тому Царству Любви, где все подданные дышат одною любовью и желают только блага любви. Этот путь укажут вам другие, а с меня довольно и того, что я вас остерегаю от того жестокого пути, которым идут многие сильные мира сего, потому что истинного состояния своего не знают» *.
Кажется, благороднее, проще и убедительнее никто не говорил о том, как «царство мира сего» относится к Царству Божьему.
6
Так же как ложное соединение людей — государство, когда оно делается единственной, последней и высшей целью, когда «Град человеческий» (Civitas hominum), по св. Августину, становится на место «Града Божия» (Civitas Dei), Церкви,— Паскаль обличает и ложное знание, когда оно, делаясь тоже последней и высшей истиной, становится на место религии.
Те немногие, кто пробудился от «заколдованного сна», напрасно ищут спасения во внешнем знании природы. «Внешнее знание не утешит меня от духовного невежества во дни печали, но духовное знание утешит всегда от внешнего невежества». « Что такое человек в природе? Перед бесконечностью — ничтожество, перед ничтожеством — все; середина между ничем и всем. Человек бесконечно далек от познания (обеих противоположных) крайностей; все концы и начала скрыты от него непроницаемой тайной; он одинаково не способен познать ни того небытия, из которого вышел, ни той бесконечности, которою будет поглощен» **. «Наша истина и наша справедливость — две такие неуловимые точки, что орудия нашего ума слишком тупы, чтобы их найти с точностью, и если даже находят, то острия этих орудий, расщепляясь, упираются где-то около тех двух точек, скорее в ложь, чем в истину» ***.
Царь внешнего, пробуждающего людей от «сверхъестественного сна», чтобы они могли увидеть гибель, но от нее не спасающего знания — Декарт. «Я не могу простить Декарту; он хотел обойтись без Бога во всей своей философии, но вынужден был позволить Ему дать миру пощечину, чтобы привести его в движение, а потом ему уже нечего было делать с Богом. Декарт бесполезен и сомнителен » ****. Слишком * Brunschwigg, Trois discours sur la condition des grands 232, 235, 238.
** Pensées,81,116,88,175,191,176,167,163-164,176,187,181,114,178,19.
*** См. сноску выше.
**** См. сноску выше.
Паскаль
371
ясно предчувствует Паскаль, что Декарт будет отцом всего внешнего, механического, людей от Бога уводящего знания, чтобы его «простить» и даже быть к нему справедливым. Слишком хорошо знает Паскаль, что нет ничего бесстрастнее, беспощаднее механики; нет ничего противоположное живому, любящему и страдающему сердцу человека. Декарт для Паскаля — воплощенный демон Геометрии, самый холодный из всех демонов, вечно искушающий Бездною: «Бросься отсюда вниз, ибо написано: “Ангелам своим заповедал о Тебе сохранить Тебя; и понесут Тебя на руках своих, да не преткнешься о камень ногою Твоею”.
7
Истинное знание, “утешающее в дни печали”, есть не внешнее знание мира, а внутреннее знание человека. Проникая в последние, никем до него не исследованные, глубины души человеческой, Паскаль находит в них как бы развалины царственного величия или запустевший и разрушенный храм какого-то неведомого бога, и в полустертых на стенах его надписях читает имя этого бога: “Человек”.
“Все несчастья человека доказывают его величие: это несчастья развенчанного царя”*. “Царственное величие человека видимо даже в его ничтожестве, ибо кто, кроме развенчанного царя, чувствует себя несчастным, потому что он не царь?.. Кто несчастен, потому что у него только один рот... и кто не несчастен, потому что у него только один глаз?” “Чем больше мы узнаем, тем больше открываем величия и низости в человеке”**. “Жалок человек и велик, потому что знает, что жалок” ***. “Дух человеческий, этот верховный судия мира, не так свободен, чтобы не быть смущенным первым около него происходящим шумом. Пушечного грома не нужно, чтобы помешать ему думать; для этого достаточно визжащего флюгера или скрипящего блока. Не удивляйтесь, что этот человек нехорошо мыслит: комар жужжит около уха его... Если вы хотите, чтобы он нашел истину, отгоните комара, который смущает и побеждает этот могущественный ум, правящий городами и царствами. Смешной бог — человек” ****.
А все-таки “царственное величие” человека — мысль. Человек — только тростник, самый слабый в мире, но тростник мыслящий. Чтобы раздавить его, не нужно миру вооружаться на него: для этого достаточно веяния ветра, капли воды. Но если бы мир раздавил чело* См. сноску выше.
** См. сноску выше.
*** См. сноску выше.
**** См. сноску выше.
372
Д. С. МЕРЕЖКОВСКИЙ
века, он был бы все-таки выше мира, потому что знал бы, что умирает, а мир ничего не знает. “Все наше достоинство в мысли. Ею мы должны возвышаться, а не пространством и временем, которых не можем наполнить. Будем же хорошо мыслить... Мир обнимает и поглощает меня пространством, как точку, но мыслью я обнимаю мир” *.
“Слишком показывать человеку, как он подобен животным, не показывая, как он велик,— опасно; так же опасно слишком показывать ему величие его, не показывая низости; но всего опаснее оставлять его в неведении о том и другом... Не должно человеку думать, что он равен животным или Ангелам... но должно знать возможность того и другого. Если человек возвышает себя, я его унижаю, если он унижает себя, я его возвышаю... И всегда противоречу ему, пока он не поймет, что человек есть непонятное чудовище” **. “О, какая химера человек, какое чудовище, какой хаос, какое противоречие, какое чудо! Мудрый судия всего, бессмысленный червь; хранитель истины, помойная яма лжи; слава и отребье вселенной” (вот один из бесчисленных примеров “антиномического”, “противоположно-согласного” в языке Паскаля). Смирись же, гордый разум; молчи, бессмысленная природа; познайте, что человек бесконечно превосходит человека... Слушайте Бога! » ***
Бог говорит человеку: «Я — Тот, Кто тебя сотворил, и Кто один только может открыть тебе, кто ты такой. Ты теперь уже не тот, каким Я тебя сотворил: ты был свят, невинен, совершенен, исполнен света и разума; Я открыл тебе славу и чудеса Мои; очи твои созерцали величие Мое... Но ты захотел быть равен Мне и найти в себе самом блаженство. Тогда я покинул тебя и возмутил против тебя всю некогда тебе послушную тварь» ****.
Здесь подходит Паскаль к тому сокровеннейшему и, для «внешнего знания», непостижимейшему, что соединяет Антропологию, Человековедение, с Апологией, Защитой христианства,— к религиозному опыту первородного греха. Он говорит о нем так же ясно, просто и убедительно, как о своих научных опытах.
8
« Самая для нас непостижимая тайна есть наследие первородного греха, потому что нет ничего более противного нашему разуму, чем то, что грех первого человека сделал виновным всех, кто, будучи так далек от не* См. сноску выше.
** См. сноску выше.
*** См. сноску выше.
**** См. сноску выше.
Паскаль
373
го, казалось бы, не мог в нем участвовать. Это кажется нам не только невозможным, но и несправедливым... А между тем узел всех наших судеб завязан... именно в этой бездне так, что человек еще более непостижим без этой тайны, чем сама она непостижима для человека» *.
Самый темный и таинственный узел человеческих судеб заключается в неразрешимом для человека противоречии между бесконечною волею к счастию и столь же бесконечною невозможностью счастия. «Человек, вопреки всем своим страданиям, хочет быть счастливым и не может не хотеть» **. «Жажда счастия есть причина всех человеческих действий, даже и тогда, когда человек идет вешаться... О чем же нам говорит эта бессильная жажда, как не о том, что человек был некогда действительно счастлив и что теперь осталась у него от этого счастия только пустота... ненаполнимая ничем, кроме содержания бесконечного — т. е. Бога?» ***
«Если человек создан не для Бога, то почему же он счастлив только в Боге? Если человек создан для Бога, то почему он противится Богу? » «Вся природа такова, что всюду на ней видны знаки потерянного Бога» ****. «В странную, для человеческих взоров непроницаемую тайну прячется Бог... Он таился под покровом природы до своего воплощения, а когда Ему должно было явиться, то скрылся еще более под покровом человечества. Легче было узнать Его, когда Он был невидим, чем когда Он явился... Все явления мира суть покрывала на Боге. Верующие должны узнавать Его во всем» *****.
«Все пророчества и чудеса, все доказательства веры не до конца убедительны, но и не таковы, чтобы не было в них основания для веры. Есть в них очевидность, и есть темнота, чтобы просвещать одних и ослеплять других. Но очевидность такова, что превосходит очевидность противного или, по крайней мере, ей равна»6*. «Неверно, что все скрывает Бога, но также неверно, что все открывает Его; верно лишь то, что Бог скрывается от тех, кто искушает Его, и открывается тем, кто ищет Его, потому что люди одновременно и недостойны Бога, и способны к Нему; недостойны по своему растлению, а по своей природе способны»7*. «Истинно, Ты — Бог сокровенный» (Vere tu es Deus absconditus), по слову пророка (Исайя, 45: 15). «Если бы не было тем* См. сноску выше.
** См. сноску выше.
*** См. сноску выше.
**** См. сноску выше.
***** Brunschwigg, Lettres à Mile de Roannez, 214,215.
6* Pensées, 224,223,230,146.
7* См. сноску выше.
374
Д. С. МЕРЕЖКОВСКИЙ
ноты (в вере), то человек не чувствовал бы своего растления; если бы не было света, то человек не надеялся бы на исцеление. Итак, не только справедливо, но и полезно, чтобы Бог был отчасти скрыт и отчасти открыт, потому что для человека одинаково опасно знать Бога, не зная своего ничтожества, и знать свое ничтожество, не зная Бога» *.
9
Главный метод религиозного познания у Паскаля заключается в том, что он переносит его из разума в то, что называет «сердцем», а мы назвали бы «волей». В этом религиозный опыт его совпадает с научным: «Все познания первых начал — пространства, времени, движения, чисел — идут не от разума, а от сердца воли» **. «Истину мы видим не в силлогизмах, а во внутреннем озарении... Внутренним только осязанием познается Бог (per tactum intrinsecum)» — с этим утверждением Кампанеллы 108 согласился бы Паскаль***.
В этом новом методе Богопознания против Паскаля не только вся философия, от Аристотеля до Декарта, Спинозы и Канта, но и вся католическая Церковь, от св. Фомы Аквинского до Ватиканского собора 1870109 года, объявившего анафему тому, кто отрицает, что «при свете естественного человеческого разума бытие Божие достоверно познаваемо» ****.
«Сердцем, а не разумом узнанный Бог — вот что такое вера»,— учит Паскаль. «Есть и у сердца свои разумные доводы, которых разум не знает... Разве мы любим по разуму?» «О, как далеко от познания Бога до любви к Нему! » ***** « Если люди верно говорят о делах человеческих: “Надо знать, чтобы любить”, то святые говорят о делах Божиих: “Надо любить, чтобы знать”. “В истину нельзя войти без любви”6*. “Истина без любви... ложь”7*.
“О, как я люблю видеть этот гордый разум униженным и умоляющим!”8* “Нет ничего соответственнее разуму, чем отречение от разума”9*. “Последнее действие разума сводится к тому, что * См. сноску выше.
** См. сноску выше.
*** Steward, La sainteté de Pascal, 169.
**** Unamuno, L’agonie du christianisme, 1926, p. 116. Si quis dixerit Dei existentiam natural! rationis humanae lumine certo cognosci non posse, anathema sit. Д. Мережковский. Иисус Неизвестный. Il (I), 139.
***** Pensées, 145.
6* Brunsch., Del’esprit géométrique, 185.
7* Pensées, 229: «La vérité hors de la charité... est le mensonge».
8* Pensées, 171,145.
9* См. сноску выше.
Паскаль
375
есть нечто, бесконечно большее разума” *. “Если даже естественные явления выше разума, то насколько более — сверхъестественные”. “Мудрость возвращает нас к детству” **■
“Все, что непонятно, все-таки есть: бесконечное число, бесконечное пространство, равное конечному”. “Невероятно, чтобы Бог соединился с человеком?.. Но я хотел бы знать, по какому праву такое слабое животное, как человек, измеряет милосердие Божие и ставит ему границы. Человек не знает, что такое он сам; где же ему знать, что такое Бог? Как же он смеет утверждать, что Бог не может сделать его способным к общению с Собой?”*** “Христианство очень странно: оно велит человеку признавать себя гнусным и учит его уподобляться Богу... Как мало у христианина гордости, когда он соединяется с Богом, и как мало низости, когда он равняет себя с червем земли!” **** “Я хвалю только тех, кто ищет, стеная. Надо устать до изнеможения в поисках истинного блага, чтобы протянуть, наконец, руки к Освободителю” *****.
10
Кроме двух книг — “Опытов” Монтеня и “Руководства” Эпиктета110 — третья главная книга для Паскаля в Апологии — “Кинжал Веры”, испанского доминиканца Раймонда Мартини111, где чудом уцелели от огня Инквизиции древнейшие памятники иудейской письменности6*. Паскаль ищет в них совпадения христианского предания со свидетельствами великих учителей Талмуда в том, что он называет “непрерывностью” (perpétuité) и что мы могли бы назвать единством религиозного опыта человечества в веках и народах, во всемирной истории.
“Что бы ни говорили (неверующие) о христианстве, надо признать, что в нем есть нечто удивительное”. “Это вам кажется, потому что вы родились в христианстве”,— могут мне возразить. Нет, вовсе не потому, а наоборот: я противлюсь христианству, потому что в нем есть это удивительное... Люди, от начала мира, ожидали Мессию... и утверждали, что Бог им открыл, что родился Искупитель... Это удивительно» 7*.
Исторические ошибки Паскаля слишком явны. «Летописи иудейского народа на несколько веков древнее, чем летописи остальных * Giraud, Pascal, l’Homme, 157.
** Pensées, 144,182,210,177.
*** См. сноску выше.
**** См. сноску выше.
***** 0М_ СНОСКу выше.
6* Strowski, 111,259-266.
7* Pensées, 239,240.
376
Д. С. МЕРЕЖКОВСКИЙ
народов». «Весь этот великий и многочисленный народ произошел от одного человека» (Авраама). «Греки и римляне заимствовали свои законы от иудеев»*. «Сим, видевший Адама, видел Ламеха, который видел Иакова, а Иаков видел тех, кто видел Моисея» **. Такая «история» для нас уже немного стоит. Но все эти ошибки Паскаля несущественны, потому что сделаны в порядке Истории, а не Мистерии,— внешнего знания о мире, а не внутреннего знания о человеке — того, на чем зиждется вся Апология.
Судя по тому, что Паскаль ставит наравне с ветхозаветными пророчествами чудное сказание Плутарха о кормчем Тамузе112, услышавшем таинственный крик: «Умер Великий Пан!» (что не пришло бы, конечно, и в голову никому из церковных апологетов),— он мог бы понять пророческий смысл и таинств Елевзиса11;i, Египта, Вавилона, Крито-Эгеи114 — всего, что мы называем «христианством до Христа», что, в самом деле, есть одно из удивительнейших чудес всемирной истории.
11
Огненное сердце «Мыслей» — та ночная беседа Паскаля с таинственным Гостем, которую он сам называет «Иисусовой Тайной». Главное жизненное действие сердца — посылать во все, даже в мельчайшие сосуды тела кровь; так же действует и «Тайна» в «Мыслях»: в каждой из них слышится биение, в каждой льется кровь этого сердца.
Все начинается и кончается в «Мыслях» тем «сверхъестественным сном» человечества, которым спят ученики Иисуса в Гефсиманскую ночь. Главная цель Паскаля — разбудить, расколдовать людей от этого «заколдованного сна». «В смертном борении будет Иисус до конца мира: в это время не должно спать» ***.
В «Иисусовой Тайне», этом не внешнем, а внутреннем «видении», «явлении» Христа — совершается как бы Его «Второе Пришествие», или вечное «Присутствие» в мире:
И се, Я с вами во все дни до скончания века. Аминь (Матфей, 28: 20).
«Иисус — один на земле»,— вспоминает Паскаль, может быть, не только о Гефсиманской ночи, но и о своей.
* См. сноску выше.
** Giraud, La vie héroïque de Pascal, 214.
*** Pensées, 214. Le Mystère de Jésus: «Jésus sera en agonie jusqu’à la fin du monde: il ne faut pas dormir pendant ce temps là».
Паскаль
377
Если человек — один, Я с ним,— по «не записанному» в Евангелии слову Господню, «Аграфа»*115. «Иисус один» —наедине с Паскалем. В этой внутренней близости Человека к человеку чувствуется близость не только Духа к духу, но и Тела к телу. Кажется, ученики Христа узнали бы в этой ночной беседе Паскаля голос Учителя.
Может быть, точно такие же «Явления» — «Присутствия» бывали и у великих Святых в Церкви; но грешному человеку в мире это Явление, кажется, первое, еще никогда не бывалое.
Люди, слышавшие сами или помнившие тех, кто слышал сам живой голос Иисуса, хранили в памяти и передавали друг другу, а иногда и записывали, до конца первого и начала второго века, подлинные, из уст Его услышанные, но в Евангелии «не записанные», слова Господни, Аграфа. Стоит только вслушаться в иные слова «Иисусовой Тайны», чтобы убедиться по нечеловеческому звуку их, что и эти слова — «Аграфы», и что они могли быть услышаны Паскалем только из уст самого Иисуса.
Или ты хочешь, чтобы Я за тебя лил Кровь Мою, когда ты за Меня и слезы не пролил?
Не бойся и молись за себя с таким же доверием, как за Меня.
Я больше твой друг, чем все твои друзья, потому что Я сделал для тебя больше, чем они, и потому что они за тебя не пострадали бы, как Я страдал, и не умерли бы, как умер Я, еще во дни твоей неверности и ожесточения.
Я тебя горячее люблю, чем ты любил некогда скверну твою**.
Кто не услышит и не узнает в этих словах Иисусова голоса, тот не узнает его и в Евангелии.
12
«Противоположное — согласное»,— учит Гераклит116. «Из противоположного возникает прекраснейшая гармония; из противоборства рождается все». Это значит: все рождается из противоборства и согласия Двух Начал в Третьем — из божественной тайны Трех. «Бог есть день — ночь; зима — лето; война — мир; сытость — голод: все противоположности, enantia, в Боге» ***. Енантиизмом117, «философией противоположностей», можно бы назвать всю мудрость Гераклита, и мудрость Паскаля также.
* Grenfeld and Hunt, The Oxyrhynchus Papyri, êd Egypt-Exploration Fund, 1897, p. 8 et ss.
** Pensées, 216-218.
*** Heracl, Peri physeos, fragm8,67.
378
Д. С. МЕРЕЖКОВСКИЙ
Главный религиозный метод его — «согласование противоположностей» (accorder les contraires)*. Паскаль, вероятно, ничего не знал о Гераклите118; тем удивительнее эти его совпадения с Гераклитом не только в мыслях, но и в словах.
«Два противоположных начала — с этого должно все начинать». «И даже в конце каждой высказанной истины должно прибавлять, что помнишь противоположную истину» **. «Наше (человеческое) величие заключается не в том, что мы находимся в одной из двух (противоположных) крайностей, а в том, что мы находимся в них обеих вместе и наполняем все, что между ними. Но, может быть, душа соединяет эти крайности только в одной точке, как бы в раскаленном угле» ***. «Противоположные крайности соприкасаются и соединяются в Боге, и только в одном Боге». «Только в Иисусе Христе все противоречия согласованы»****. «Вера обьемлет многие, как будто противоречивые, истины... Две природы (Божественная и человеческая) соединяются в Иисусе Христе, а также два мира (создание нового неба и новой земли)» *****.
«Он (Христос) есть мир наш, соделавший из двух одно и разрушивший стоявшую между ними преграду»,— учит Павел (Ефесянам, 2: 14), и тому же учит Паскаль. Весь религиозный опыт его достигает высшей точки в этом учении о двух Божественных Началах — Отце и Сыне,— соединяющихся в Третьем Начале — в Духе. Если так, то огненное сердце «Мыслей» — «Иисусова Тайна» — есть не что иное, как тайна Трех.
«Бесконечным расстоянием между телами и духами прообразуется расстояние еще бесконечно большее, между духом и любовью, потому что оно сверхъестественно... Эти три порядка (Тело, Дух, Любовь) различны по качеству». «Все тела — небо, звезды, земля и все царства земли — не стоят ни малейшего из духов, потому что он знает все это и знает себя, а тела ничего не знают. Все тела и все духи, вместе взятые, и все, что от них произошло,— не стоят ни малейшего движения любви, потому что это относится к порядку бесконечно высшему. Все тела и духи не могли бы произвести ни малейшего движения любви: это невозможно, потому что относится к иному, сверхъестественному порядку»6*.
Сам того не зная, Паскаль в этом учении о «трех Порядках» продолжает через пять веков дело, начатое Иоахимом Флорским119,— * Pensées,261,225,165,83,261,325,303,336,129.
** См. сноску выше.
*** См. сноску выше.
**** См. сноску выше.
***** 0М_ СНОСКу выше.
6* См. сноску выше.
Паскаль
379
учение о «трех состояниях мира» — «трех Царствах» — Отца, Сына и Духа.
«Три порядка» — в созерцании Паскаля, а в действии, в жизни — три чуда: Огонь, Терн, Кровь («каплю крови Моей Я пролил за тебя»,— говорит ему Иисус в «Тайне»). Каждое из этих трех чудес было для него как бы физическим и метафизическим вместе осязанием прерыва между порядками — таким же убедительным опытом, как понижение ртутного столбика в стеклянной трубке при восхождении на высоты, и в то же время переходом из одного порядка в другой, из низшего — в высший. В первом чуде — Огня — совершился для Паскаля переход из первого порядка — вещества, плоти,— во второй порядок — Духа; во втором чуде — Терна — переход из второго порядка — Духа, в третий — Любви, где и совершается третье чудо — Крови.
13
«Я еще не все сказал; вы увидите...» * Это, вероятно, одна из последних, неконченных «Мыслей» Паскаля, одно из его последних недоговоренных слов. «Страх Земли» — так можно бы определить то, почему он не сказал и не сделал всего, что мог бы сказать и сделать.
Господня земля и что наполняет ее (Псалтырь, 23: 1),—
этого Паскаль не говорит и не чувствует. Небо для него Господне, но не земля.
Слава Тебе, Господи, за Мать нашу, Землю, которая носит нас всех и питает,—
этого он тоже не чувствует и не говорит, как св. Франциск Ассизский в «Песне тварей» 120. «Сердцем узнанный Бог» для Паскаля не в человеке и в природе, а только в человеке. Он изучает, испытывает природу, но не любит ее, а боится: «Вечное молчание этих беспредельных пространств меня ужасает». Ужас природы и есть для него тот ужас Бездны, который преследует его всю жизнь:
Была с Паскалем Бездна неразлучна.
Кажется иногда, что одержимый «страхом земли» он не знает и земных путей человечества — того, как движется оно во времени, * См. сноску выше.
380
Д. С. МЕРЕЖКОВСКИЙ
в истории, от Первого Пришествия ко Второму, и что нет у него эсхатологии, потому что нет истории. Верит ли он в «Третий Порядок Любви» — Царство Божие — не только на небе, но и на земле? Если и верит, то вера эта не доходит до его сознания.
Страх Земли у Паскаля — в порядке космическом, а в человеческом — страх Плоти. Догмат Воскресения он утверждает. «Почему они (безбожники) говорят, что Воскресение невозможно? Что труднее — родиться или воскреснуть; быть впервые тому, чего никогда еще не было, или быть снова тому, что уже было однажды; труднее ли в бытии возникнуть или вернуться в бытие? Легким нам кажется первое только по привычке, а по недостатку привычки другое кажется нам невозможным: простонародный способ суждения» *. Проще, яснее и убедительнее никто об этом не говорил. Но кажется иногда, что самому Паскалю это ненужно, а если и нужно, то этого он не сознает, а только предчувствует. Кажется иногда, что для него то, что Иисус умер или даже всегда умирает («в смертном борении будет Иисус до конца мира», jusqu’ à la fin du monde), нужнее и действительнее, чем то, что Он воскрес.
Страх Земли, страх Плоти — может быть, главная причина того, что Паскаль не соединяет двух вопросов, которые больше всего мучают его и для которых он больше всего сделал,— вопроса о Трех Порядках и вопроса о Церкви; главная причина того, что он умом ясно не понимает, а только сердцем смутно чувствует, что ответ на эти два вопроса найден будет лишь тогда, когда они соединятся, потому что Единая Вселенская Церковь может осуществиться только в «Третьем Порядке Любви» — в «Третьем Царстве Духа».
Три Порядка в созерцании — три чуда в действии: вся жизнь Паскаля под знаком Трех121. «Три в Одном — Отец, Сын и Дух Святой — есть начало всех чудес» **. Этим исповеданием Данте в «Новой жизни» 122 начинает свою жизнь; им же кончает ее в «Божественной комедии»:
Там, в глубине Субстанции Предвечной, Явились мне три пламеневших круга Одной величины и трех цветов.
О, вечный Свет, Себе единосущный, Себя единого в Отце познавший, Собой единым познанный лишь в Сыне, Возлюбленный Собой единым в Духе! ***
* См. сноску выше.
** Dante, La Vita Nuova, XXIX, 3 «...lo fattore de li miracoli é tre, cioè Padre e Figlio e Spirito Santo».
*** Parad, XXXIII, 115-126.
Паскаль
381
Тем же исповеданием мог бы кончить жизнь свою и Паскаль, и почти кончил. «Я еще не все сказал»: если бы сказал и сделал все, то понял бы, что разбудить, расколдовать человечество от «заколдованного сна» можно только этим всемогущим, из всех человеческих слов самым божественным,— Три.
14
Вышел ли Паскаль из католической Церкви или остался в ней? Спор об этом ведется вот уже триста лет и, вероятно, будет вестись всегда, потому что он неразрешим в той плоскости, где происходит,— в «двух низших порядках — плоти и духа»; он мог бы решиться только «в третьем, высшем порядке любви».
В 1665 году, два с половиной года по смерти Паскаля, архиепископ Парижский Гардуэн де Перефикс, тот самый, который хотел вырыть из могилы тело его, чтобы бросить в общую яму,— призвав о. Павла Беррье, спросил его с грозным видом, правда ли, что он причастил такого отъявленного еретика-янсениста, как Паскаль? О. Павел оробел и смутился, но ответил по совести, что Паскаль, еще года за два до смерти, отрекся от янсенистской ереси и умер правоверным католиком. Архиепископ тотчас велел ему записать это показание и хотя обещал хранить его в тайне, но слова не сдержал и разгласил.
Лет через шесть о. Павел писал Жильберте Перье: «Слышал я, что вы огорчены тем, что люди злоупотребляют показанием о вашем брате, которое вынудил у меня покойный Парижский архиепископ... Я был тогда убежден, что верно понял слова, сказанные мне вашим братом... Но теперь вижу, что они могли иметь и, как я полагаю, действительно имели не тот смысл, какой я им придал... Я желал бы от всей души, чтобы это заявление никогда не было мною сделано потому, что оно, как мне теперь кажется, не соответствует истине и потому, что им злоупотребляют вопреки моей воле». И еще года через два — Этьену Перье: «Я никогда не говорил, что покойный господин Паскаль от чего-либо отрекся» *.
Так падает главное и, в сущности, единственное свидетельство о том, что католики называют «отречением Паскаля от янсенистской ереси и его возвращением в лоно Римской Церкви».
Бедному о. Павлу тем труднее было понять, что думал Паскаль о Церкви, что, может быть, тот и сам это не всегда понимал. Ясно только одно: ни в протестантской, ни в католической Церкви Паскаль Em. Jovy, Pascal Inédit, 1908,11,403-508. Ang Cazier, Les derniers jours de Pascal, 1911,42-44.
382
Д. С. МЕРЕЖКОВСКИЙ
не вмещается; он между них как между двух огней. Ясно также, что в последние годы он отошел от «господ Пор-Руаяля». Как ни далек он от иезуитов — от янсенистов он еще дальше. Чтобы в этом убедиться, стоит только вспомнить тот уцелевший в «Мыслях» черновой набросок для «Писем»: «Больше всего следует исповедовать обе противоположные истины, в то время когда одна из них отрицается. Вот почему иезуиты так же не правы, как янсенисты; но все-таки эти еще более не правы, чем те, потому что иезуиты яснее исповедуют обе истины» *.
«Иисус Христос — Искупитель всех... Когда вы (янсенисты) говорите, что Он умер не за всех... вы доводите людей до отчаяния... вместо того, чтобы приводить их к надежде» **. Так отрицает Паскаль одну из глубочайших основ всего протестантства, от Лютера и Кальвина до Янсения,— догмат об искуплении не всех, а только немногих, предопределенных, «избранных». Но если бы суд его над католической Церковью не был так суров, как над протестантской, то он не повторял бы за св. Бернардом Клервосским: «К Твоему суду взываю, Господи!»
15
«Три в одном. Tres in unum» (здесь Паскаль как будто уже предчувствует, что Вселенская Церковь осуществится только под знаком Трех). «Три в Одном — единство и множественность: католики ошибаются, исключая множественность, а гугеноты (протестанты), исключая единство». «Если смотреть на Церковь как на единство, то глава ее, Папа,— все; но если смотреть на нее как на множественность (соборность), то Папа — только часть Церкви... Множественность, которая не сводится к единству, есть беспорядок, а единство, которое не зависит от множественности, есть произвол» ***.
Вот что говорит Паскаль о том, чему суждено было сделаться столпом Римской Церкви,— о папской непогрешимости: «Бог не творит чудес в обыкновенном водительстве Церкви. Странною была бы непогрешимость одного (Папы), но естественна — непогрешимость многих людей (Церкви), потому что водительство Божие скрыто в природе (и в человечестве) — как во всех делах Божиих» ****. Так не мог бы говорить Паскаль, если бы уже не стоял на пороге католической Церкви и не был готов из нее выйти.
* Pensées,326,300,327-328,328,335.
** См. сноску выше.
*** См. сноску выше.
**** см сноску выше.
Паскаль
383
«Молчание есть величайшее из всех гонений. Святые никогда не молчали... После того как Рим произнес приговор... должно тем сильнее кричать, чем приговор несправедливее и чем больше хотят заглушить крик,— пока не придет, наконец, Папа, который выслушает обе стороны... Добрые Папы найдут вопиющую Церковь» *. «О, неужели я никогда не увижу христианского Папу на престоле св. Петра!» — эти слова друга своего Дома (Domat)123, единственного человека, который кое-что понимал в муке Паскаля о Церкви, мог бы и он повторить**.
«Кажется, обе Церкви (протестантская и католическая) правы, потому что в каждой из них — только половина истины»,— говорит в книге «Восстановление Христианства», в главе «О любви», Михаил Сервет124, «ересиарх», сожженный дважды,— Римскою Церковью, «в изображении (in effigie)», и в действительности, Кальвином***. «В каждой из двух Церквей — только половина истины»,— это значит на языке Паскаля: «Две противоположные истины»,— та, что в Церкви католической, и та, что в Церкви протестантской,— соединяется в Церкви Вселенской — в «третьем порядке Любви».
Лучше всего можно понять, что сделал Паскаль для будущей Вселенской Церкви, сравнив его с Лютером и Кальвином. Слабость этих обоих в том, что они вышли из католической Церкви, не пройдя ее всю до конца и исповедуя только одну из «двух противоположных истин», «соборность», «множественность»; сила Паскаля в том, что он вышел из католической Церкви, пройдя ее всю до конца и соединив обе истины — множественность, соборность и единство. Лютер и Кальвин были только на пороге Вселенской Церкви под знаком Двух, а Паскаль в нее вошел, под знаком Трех.
* См. сноску выше.
** Sainte-Beuve, 1,280.
*** Mich. Servetus, Christianismi Restitutio, с. IV, «De Charitate»: «Nee cum istis in omnibus consentio aut dissentio. Omnes mihi videntur habere partem veritatis et partem erroris».
Б.П. ВЫШЕСЛАВЦЕВ
Паскаль
1. Бесконечно великое и бесконечно малое
Не случайность, что я избрал темою этой главы имя Паскаля. Глубочайшие философские и мистические переживания этого гениального человека касаются проблем современной экзистенциональной философии,— другими словами, они в высшей степени актуальны. Если мы поставим вопрос: «почему?» — на него следует ответить так: «потому что в них дело идет об основной идее современной философии — об идее трансцендентности». Но вместе с этим понятием мы входим в философию современного экзистенциализма. Проблему эту ставит Николай Гартман, Гейдеггер, Ясперс, Сартр '. Не нужно пугаться этого страшного слова «трансцендентность». «Нет ничего потустороннего!» — сказала мне однажды скептически и материалистически настроенная дама. По поводу этого утверждения можно многому научиться у Паскаля.
Паскаль в детстве своем был ясно выраженным гениальным ребенком. Когда ему было 12 лет, он сам, без помощи учителя и к великому удивлению своего отца, проработал геометрию до 32-й теоремы Эвклида. Ему не было 17 лет, когда он опубликовал свою работу по геометрии, что привело в изумление Декарта. Через год после этого он изобрел первую счетную машину. Далее следуют его сделавшие эпоху физические открытия о давлении воздуха, о барометрических изменениях и т. д. Так он и остается до своей смерти одним из величайших математиков своей эпохи. Его математические изыскания содержат уже идею дифференциального и интегрального исчисления. Научное творчество составляет одну из основных задач всей его жизни. За два года до своей смерти для развлечения он производит труднейшие математические исчисления в области вопросов, касающихся вращения тел.
Паскаль
385
И что же составляет основную проблему всех этих научных изысканий? Чудо и тайна математической и астрономической бесконечности. Бесконечность, как вечный символ Божества. «Вечное молчание этого бесконечного пространства,— говорит он,— приводит меня в трепет»2. В связи с таинственной бесконечностью мира Паскаль ставит проблему «бесконечно малого». Чему учит нас наука? — ставит вопрос Паскаль. Она открывает нам, отвечает он, астрономическую бесконечность, в которой центр везде, а периферия нигде. Что перед нею земля, города, государства? Что перед нею человек? Но такая же бесконечность в бесконечно малом — бесконечность микроскопического строения вещества. Так мы существуем между двумя бесконечностями, двумя пределами, двумя пропастями. «Что такое человек? Он есть середина между ничто и всем»3. Человек бесконечно удален от понимания крайностей. Нет надежды познать начало и конец вещей, принцип и последнюю цель бытия. Только Творец этих чудес может их понять и охватить. Только бесконечный разум может охватить бесконечность всего. Поэтому все науки имеют перед собою бесконечные задачи. Мы — ограниченные, конечные существа, и в смысле нашего тела, и в смысле нашего духа. Все крайности для нас как бы не существуют. Наше знание есть отчасти знание — отчасти незнание. Во всяком познании каждое достижение представляет собою новую проблему и всякий твердый результат ускользает от нас.
Мы находим у Паскаля настоящий критицизм в духе Платона и Канта — с идеей бесконечной задачи и ограниченности познания. Как часть может познать целое? И однако части так связаны друг с другом, что только целое («всеединство») дает нам истинное познание. Только бесконечный Ум может охватить обе бесконечности, понимание которых ускользает от человеческого разума. Человек стоит перед абсолютной тайной истинного бытия — и к границам его познавательной деятельности ведет наука,— именно, самая точная наука, математика, астрономия.
Продвинулась ли наука дальше Паскаля? Поняла ли она то, что он считал тайной? Современная физика движется совершенно в том же направлении, в котором шел Паскаль. «Человеческий мир лежит между бесконечно великим и бесконечно малым»,— говорит английский натурфилософ Джинс4. «Он лежит между миром электрона и миром астрономических туманностей». Можно прибавить, что после той революции, которую пережили гипотезы современной физики, эти два мира стали для нас еще более таинственными. «Мы подобны детям,— говорит тот же Джинс,— которые играют на берегу моря с камешками, в то время как перед нами бушует океан непознанных и недостижимых истин».
386
Б.П. ВЫШЕСЛАВЦЕВ
2. Логика сердца. Теория ценностей
Мысль Паскаля движется, как мы видим, между наукой и религией. Наука приводит его к идее трансцендентности, трансцендентность приводит к научной проблеме о границах человеческого разума. Однако жизнь Паскаля не исчерпывается этим интересов к науке и к религии. Паскаль был живым человеком своей эпохи, ему не чужды были светские интересы окружающей его общественной среды. Вокруг него развертывался светский мир эпохи французского барокко с его салонами, гостиным остроумием, нарядами светских красавиц, изощренным острословием салонных философов и французских вольнодумцев, с ханжеством официальной церковности,— короче говоря, со всем его умом и всей пустотой, со всеми его положительными и отрицательными ценностями. И перед ним вставала задача отделить в этом мире прекрасное от отвратительного, высокое от низменного, наконец, добро от зла. Все это требовало суждений, но не теоретических, как в науке, но суждений о ценностях. Постановка философской проблемы ценностей была его неоценимой заслугой в истории человеческой мысли.
Те понятия, которые применял Паскаль для обозначения суждений о ценностях, доказывают, что он предвосхитил то, что было сделано современной философией. Он первый высказал мысль, что ценностные суждения являются суждениями нашего чувства, а не суждениями математического рассудка. Ценности не усматриваются теоретическим разумом, но они чувствуются. Для этого нужно, однако, обладать очень тонкой способностью чувствовать. Такое чувствование не есть расплывчатая сентиментальность, не есть субъективная фантазия, но некая особая способность суждения. У Канта она была названа «практическим разумом».
Паскаля прежде всего интересуют моральные ценности, потом ценности эстетические, наконец, ценности политические, правовые и т.п. Относительно каждой вещи можно спросить, имеет ли она какой-нибудь смысл или какую-нибудь ценность? Различение положительной и отрицательной ценности добра и зла есть особый род суждений — не суждений разума, но суждения сердца. И подобные суждения имеют свою очевидность, они могут быть своеобразно доказаны. «Доказательства эти,— говорит Паскаль,— иного рода, чем те, которые применяются в геометрии». Сердце имеет свою логику, которая не известна рассудку5. Сердце имеет свой собственный порядок идей, отличный от рассудочного порядка.
Можно удивляться, что французская философия, которая исследовала и истолковывала каждую строчку в сочинениях Паскаля,
Паскаль
387
не заметила у него поразительного открытия — логики сердца и основанных на ней суждений о ценностях. Бруншвиг и Бутру в прекрасном издании полного собрания сочинений Паскаля6 заметили, что он был близок к открытию теории бесконечно малых, т. е. дифференциального и интегрального исчисления, но они ни словане говорят о его теории ценностей. Поль Валери1 совершенно упустил из виду эту сторону воззрений Паскаля, утверждая, что его попытка установить отличие между духом геометрии и тем рафинированным духом совести, который характерен для установления ценностных суждений, по существу своему не ясна и смутна. Если мы возьмем новое и лучшее издание французского философского словаря (под редакцией Андрэ Лаланда, сочинение, награжденное премией Французской академии)8 и посмотрим там слово «ценность», мы увидим там, что будто бы понятие это изобретено в Германии известными теологами Ричлем и В. Германом9. От них оно перешло к Гарнаху и Геффидингу10. Об идее ценности у Паскаля в этом словаре нет ни единого слова. Ничего не говорится также о Максе Шелере11 и Николае Гартмане. Но Шелер и был первый из философов, который открыл у Паскаля мысль о «логике сердца». На этой идее построил он свою теорию ценностей, которую продолжил Гартман и которая отразилась в психологии Юнга|2. Шелер показал, что ценности располагаются в особом иерархическом порядке. Эта идея о порядке ценностей была также предвосхищена Паскалем. Для него моральные ценности являются самыми высшими. Моральное суждение для человека важнее, чем теоретическое суждение науки, так как оно определяет всю жизнь и всю судьбу человека. Мы видим здесь предвосхищение учения Канта о «примате практического разума», что часто игнорируется в истории философии.
Еще выше, чем моральные ценности, Паскаль ставит ценности религиозные, и из них главную — «святости». Святостью в полном смысле этого слова обладает только абсолютная личность Бога. Здесь открывается самое высокое, что может чувствовать сердце. «Сердце,— говорит Паскаль,— открывает Бога, а вовсе не разум»13. Сердце любит Высшее Существо, «как светящееся естественным светом». Через мораль открывает Паскаль Трансцендентное Святое, зовущее к совершенству,— именно Бога-Отца. Для Паскаля, как и для Достоевского, без Бога нет добра и зла, — без Бога все дозволено!..
3. Три ступени персональных ценностей
Царство ценностей открывает нам новую область, которая лежит за пределами математики, физики, биологии,— словом, всего, что имеет дело с «Сущим». Науки о природе не имеют дела с суждениями
388
Б.П. ВЫШЕСЛАВЦЕВ
о ценностях, они не говорят о том, что справедливо или несправедливо, что добро и что зло, что прекрасно и что отвратительно. Они не имеют дела с тем, что должно быть, они устанавливают только то, что есть. В математике, в физике, в астрономии ничего не говорится о том, что такое добродетель, грех, преступление, награда, счастье, несчастье,— так же как и в биологии. Добра ли или зла змея, красива ли она или отвратительна — такими вопросами не занимается зоология. Научная истина не является ценностью суждения. Законы природы, устанавливаемые естественной наукой, индифферентны по отношению к добру и злу. Естествознание лежит «по ту сторону» добра и зла.
Существуют различные системы ценностей у различных народов и культур. Последним их основанием являются великие религии, в которых ценности открываются, как, например, в десяти заповедях Моисея. Иерархия ценностей всегда завершается признанием ценности высочайшей, ощущаемой как высшая святость, как высшее совершенство. «Будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный» — вот лучшее выражение формулированной нами мысли. Паскаль был убежден, что иерархия ценностей установлена Богом и дана в христианском откровении. С точки зрения христианской религии персональные ценности стоят выше имперсональных (безличных). Личность выше, чем всякое материальное тело в этом мире,— выше, чем звезды, чем земля, чем твердь. Выше от того, что личность знает все эти вещи, и, кроме того, знает себя, тела же ничего не знают.
Можно установить три ступени персональных ценностей:
1) величие земных владык, сильных и богатых мира сего, вождей человечества,— величие это есть в конце концов телесное, а не духовное;
2) величие человеческого гения, Архимеда, Платона. Это — величие человеческого духа;
3) и наконец, величие святости, превосходящей все другие своим блеском. Таков Иисус Христос и сонм святых, превосходящих своей ценностью все остальное.
4. Переживания потустороннего. Пари Паскаля
Это сознавал Паскаль — мы приходим, таким образом, к тому его религиозному переживанию, которое можно считать высшим. Мы говорим о переживании трансцендентности, выраженной в словах: «царство мое не от мира сего». «Трансцендентное», «потустороннее» открывается нам через самопознание, через изумление перед своим собственным существованием, которое выражается в известных словах: «откуда я и куда иду?». Чтобы поставить такой вопрос, нужно
Паскаль
389
совершить акт трансцендентности по отношению к самому себе, поставить себя в отношению к миру, к бесконечности, к Богу. Паскаль знал эти переживания и выразил их с предельной силой в следующих словах: «Я вижу невероятные пространства вселенной, в которые я заключен, и я ощущаю себя привязанным к одной точке этих пространств, без того, чтобы я знал, почему я прикреплен к этому месту, а не к другому, почему из того бесконечного потока времени, которое мне предшествовало и которое будет течь после меня, мне суждено жить в этом малом отрезке его, а не в другом?»... «Я знаю только, что перешагнув этот мир,— (вот здесь-то и открывается трансцендентность, о которой мы говорим),— я навеки падаю или в бездну ничтожества, или же в руки гнева Божия» 14.
Совершенно такой же вопрос поставлен Киркегардом15 и Достоевским (ср. выше). Его ставит и современный экзистенциализм у Гейдеггера, у Сартра16. Мы поставлены перед неким таинственным «или — или» : или Бог и бессмертие, или Ничто. Трансцендентность может означать или первое или второе — причем наука и разум не могут дать решение этой дилеммы, решение это дается сердцем, дается религией.
Своеобразное решение дилеммы находим мы в том аргументе, который известен под именем «пари Паскаля» 17. Аргумент можно считать парадоксальным, даже шуточным. Он имеет в виду тот салонный атеизм, который был распространен в высших кругах французского общества той эпохи, в которой жил Паскаль. Но в то же время в аргументе этом кроется глубокая и серьезная проблема. Вся человеческая жизнь подобна игре, в которой мы делаем ставки на различные открывающиеся перед нами возможности. На что же мы должны совершить жизненную ставку — на Бога и религию или на безбожие? Для ответа на этот вопрос Паскаль пользуется любимой наукой — математикой. Он предлагает решить вопрос при помощи теории вероятности. Он считает, что одинаково вероятно существование и несуществование Бога — математически выражаясь, половина шансов на существование, половина за несуществование. Теперь сделаем ставку на первую вероятность и посмотрим, что мы можем при этой ставке потерять и что выиграть. Потерять мы ничего не можем (теряем ноль), а выигрываем все, бесконечность будущей жизни, блаженство, бессмертие. Теперь сделаем ставку на второе предложение, на атеизм. При такой ставке мы ничего потерять не можем, так как обращаемся в прах, в ничто; но в то же время и приобрести ничего не можем, так как «ничто», «ноль» не есть приобретение. Ясно, что при таком положении дел ставку следует сделать на существование Бога, а не на атеизм. Что теряете вы, говорит Паскаль, если вы
390
Б.П. ВЫШЕСЛАВЦЕВ
становитесь на христианский путь и признаете Бога и бессмертие? Что дурное ожидает вас, если вы выбираете этот путь? «Вы будете верными, честными, кроткими, благодарными, расположенными к другим людям,— искренними, истинными друзьями. По правде говоря, вы не будете заражены страстью к чувственным удовольствиям,— но разве вы не имеете никаких других? Я утверждаю, что вы только выиграете в этой жизни» 18. Глупо рисковать конечными величинами, если вы можете приобрести бесконечные. Серьезность этого шуточного аргумента в том, что каждый мыслящий человек должен в конце концов решить, какую жизненную установку он должен принять,— от этого зависит весь образ его жизни, вся его судьба, весь характер. Если я стою перед «ничто», то я должен сказать: «Ешьте, пейте, друзья, во веки веков, и долой все сосуды». «Я построил мое дело на “Ничто”»,— говорит абсолютный атеист Штирнер19. «Потустороннее есть пустой призрак». Но в таком случае все дозволено, всякое желание, всякое преступление. Нет никаких запретов, нет ничего должного и святого. Если я стою перед Богом и Его царством, то есть должное, есть высшее призвание для человека, есть любовь, есть вера и надежда.
Лично для самого Паскаля не существовало никакого пари. Для него вопрос был решен через религиозно-мистическое переживание, через «логику сердца». Но обо всем этом нельзя говорить в салонах.
5. Величие и ничтожество человека
Каково глубочайшее религиозное переживание Паскаля, на котором, в конце концов, покоится вся его апологетика и весь его жизненный путь? Это есть переживание трагического. Трагическое есть противоречие — человек живет в противоречии, но противоречие не логическое, а реальное, которое чувствуется в душе каждого человека, во всей его жизни, в его судьбе. Мы говорим о борьбе противоположных сил и стремлений, раскрывающейся во внутреннем человеческом существе, в его сердце. «Дьявол,— говорит Достоевский, — борется с Богом, и поле борьбы есть человеческое сердце». Сердце ощущает положительные и отрицательные ценности, раскрывающиеся перед человеком, оно ощущает самого человека и все человечество. Глубочайшее человеческое переживание — это величие и ничтожество человека.
Человек ищет жизни и счастья и находит страдание, болезнь и смерть; в груди своей он питает идеалы добра, красоты и святости, а в действительности встречается с радикальным злом своей собственной природы. Едва ли кто-нибудь ощущал этот трагизм сильнее, чем
Паскаль
391
сам Паскаль,— и не только в себе самом, но и во всем человечестве. «Какую химеру представляет собою человек,— восклицает он,— какой центр противоречий, какое чудовище! Судья всех вещей — и в то же время земной червь; свидетель истины — и в то же время клоака неведения и заблуждений; гордость вселенной — и в то же время ее последний отброс»20. И чем больше чувствует человек свое бессилие, тем острее ощущает он ту мистическую силу, которая «не от мира сего».
Трагическая ситуация человека оттого возвышенна, что в нем чувствуется дыхание Духа Святого, Параклета21. Всякий диссонанс есть рождение гармонии. И для Паскаля трагическое переживание означает рождение Христа в сердце. Божественный зов не является для него решением разума, но Божьей благодатью. Без всякого участия разума Бог непосредственно влияет на наше сердце, инспирирует его. И те, которым Бог даровал это переживание в сердце, поистине блаженны и наделены чувством нерушимой достоверности.
Блаженство это было даровано Паскалю в глубочайшем мистическом переживании, испытанном в его жизни. Восемь лет спустя после смерти Паскаля его слуга нашел зашитый «Мемориал» — краткую запись, описывающую глубочайшие переживания его души, напоминание самому себе, как бы эпитафию на собственном памятнике. Знаменательное начало его гласит так: «В лето 1654, понедельник 23 ноября, десять с половиной ночи и до двенадцати с половиной. Огонь. Бог Авраама, Исаака и Иакова — не Бог философов и ученых. Очевидность, очевидность. Чувство. Радость. Мир. Господь Бог Иисус Христос. Вселенная и все другое позабыто, все кроме Бога... Величие человеческой души... Радость, радость, радость, слезы радости».
Я не буду вам приводить продолжение, каждый может его прочесть сам. Важно, что дело здесь идет о настоящем мистическом переживании. И подлинность его может быть установлена всей последующей жизнью Паскаля. Всякий шаг, всякая мысль Паскаля в течение последующей его жизни была развитием и иллюстрацией того, что он познал в ту ночь. Уход его в уединение монастыря Порт-Ройяль, активное участие в борьбе янсенистов, поход против иезуитов, апология христианства в его «Мыслях» и, наконец, экстаз веры и любви в последние месяцы жизни — все это были следствия того, что он испытал в ночь 23 ноября.
Что особенно важно в этом мистическом переживании, это — чувство величия человеческой души. Ни одного слова больше о ничтожестве человека. Низложенный властитель чувствует себя снова властителем. Величие у апостола Павла ощущается как поднятие на седьмое небо. Тем, кто презрительно относится к мистике и в то же
392
Б.П. ВЫШЕСЛАВЦЕВ
время держится за идею благодати, нужно сказать, что последняя и высшая благодать Божия и выражается именно в мистическом переживании. И это знает Паскаль, который о своем мистическом откровении говорит как о «годе благодати», «часах благодати». С идеей благодати часто связана сухая богословская схоластика, но что еще хуже — многие благочестивые мистики заражены безверием в человека. Христианская религия есть вера в Бога и вера в человека. Как «Сын Божий» может называться «сыном человеческим»? Как можно любить человека, не веря в него? Что любят в человеке, если это есть действительная любовь? Ведь «не прах и пепел». Любят его истинную самость. Нелегко сказать, что такое она, эта самость, так как она не видима и не познаваема разумом. Существует нездешний человек, как и не нездешний Бог,— «сокровенный сердца человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа». Эта мистическая сущность человека недоступна ни физике, ни психологии, но открыта только сердцу. Паскаль открыл ее через любовь, как Декарт открыл «мыслящее я» разумом. Сам Паскаль был «сокровенным сердца человеком» — поэтому он нам любезен и дорог. Кроме его научного гения, кроме его богатого знания о человеке, кроме его прекрасного стиля, мы ощущаем скрытую, божественную самость, огневой центр его любви и обильной души, центр, который через столетия шлет свой свет миру.
Ill
ПАСКАЛЬ В ЦИТАТАХ
В. Г. БЕЛИНСКИЙ
Мысли Паскаля
МЫСЛИ ПАСКАЛЯ. Перевел с французского Иван Бутовский.
Санкт-Петербург. В тип. И. Бочарова. 1843. В 12-ю д. л., 299 стр.
Паскаль занимает важное место в летописях наук и литературы Европы. Это один из замечательнейших людей XVII века. Заслуги его в области математики чрезвычайно велики. Но Паскаль знаменит еще и как мыслитель, действовавший полемически. Он три года сражался с иезуитами и нанес им страшный вред своими «Провинциальными письмами»*. Это была злая сатира, вроде Эразмовой «Epistolae obscurorum virorum» **1. Действие, произведенное ею, было так велико, что, по определению папы, она была во Франции всенародно сожжена рукою палача в 1660 году. Страдая разными недугами, Паскаль, уже в преклонных летах, набросал на разных клочках бумаги отрывочные мысли о разных предметах. В этих отрывках много глубокомыслия, и в свое время их действие должно было быть велико. Теперь эти «Мысли» интересны как исторический памятник. Чтоб дать понятие о характере их, выписываем некоторые:
Отчего следуют большинству мнений? Оттого ли, что в нем больше справедливости? нет! — здесь увлекает только сила. Почему следуют у нас старинным законам и мнениям? не потому ли, что в них больше здравого смысла? совсем не то! — Кроме их, нет других, а поэтому и не с кем разногласить.
* Белинский имеет в виду «Письма к провинциалу» (1656 -1657).
** «Письма темных людей» (лат.). Как установлено позднейшими исследователями, «Письма темных людей» были написаны немецкими гуманистами К. Рубианом, Г. Бушем и У. фон Гуттеном, а не Эразмом Роттердамским.
396
В. Г. БЕЛИНСКИЙ
•к Л Л
Власть, основанная на мнении и воображении, держится некоторое время: это власть кроткая и добровольная; но власть силы всегда берет верх. Поэтому мнение есть владыка мира, а сила тиран его.
ЛАЛ
Как хорошо придумано отличать людей больше по наружности, чем по внутренним качествам! Кому из нас двоих идти вперед? кто кому уступит дорогу? непроворный? Но и я сам так же, как он, проворен. И так, пожалуй, дело дойдет до драки. У него четыре лакея; у меня один: это, очевидно, стоит только перечесть. Так должен я уступить дорогу; и очень глупо было бы спорить. Вот мы и поладили таким образом — и это одно из величайших благ!
& & &
Могущество сильных весьма много основывается на слабости и не- просвещении толпы...
Наши сановники очень хорошо постигли эту тайну. Их красные мантии, их собольи шубы, чертоги, где дают расправу, лилии, все это наружное величие было необходимо; и если б врачи не носили полукафтаний и туфель, а законники четыреугольных шапок и широких мантий, никогда не обманывали бы они свет<а>, который ни может противиться признакам столь достоверным. Одни военные не старались так выставлять себя; их доля действительно самая существенная...
Если б судьи имели в виду истинное правосудие, врачи — истинное искусство исцелять недуги, то не для чего бы иметь им и большие шапки. Величие самых наук довольно вселяло бы к себе уважения и без них. Но, обладая только мечтательными знаниями, им необходимо прибегать (галлицизм!) к этим пустым прикрасам, поражающим воображение, с которым имеют они дело, и действительно, через них-то они и снискивают уважение.
Мы не можем видеть стряпчего, в его полукафтанье и с огромной шапкой на голове, без выгодного мнения о его способностях.
Швейцарцы оскорбляются, когда их принимают за знатных, и доказывают свое родовое мещанство, чтоб их сочли достойными занимать важные должности.
Мысли Паскаля
397
* Л Л
Для управления кораблем не избирают того из путешественников, который происхождения знатнейшего. (Стр. 179-182.)2
ААЛ
Нарядная одежда не безделица; это выставка, что много людей на вас работают; прическа показывает, что у вас есть камердинер, парикмахер и пр.; белье, что у вас есть швеи, прачки и пр.
А это уже не просто выставка и не просто наряд — иметь множество рук к своим услугам (?).
А А А
Удивительно: не хотят, чтобы я уважал человека зато, что одет в парчу и за ним идут семь или восемь лакеев! Да он велит прибить меня, если не отдам ему почтения. Эта одежда — сила; совсем иное отношение богато убранного коня к другой лошади.
Монтань очень забавен, когда, не видя в этом разницы, удивляется, что другие ее находят, и спрашивает, какая причина. (Стр. 185-186.)
* Л Л
Великое преимущество знатность! она с восемнадцати или двадцати лет доставляет человеку известность и уважение, которых другой едва добьется в пятьдесят лет; тут тридцать лет выигрывается без всякого труда. (Стр. 187.)
А А А
У нас есть все хорошие правила: им нет только приложения. Например, никто не сомневается, что жизнью должно жертвовать для защиты общей пользы; но теперь редко кто приносит эту жертву религии. Неравенство необходимо между людьми; но, допустив его, вы открыли путь к злоупотреблению. Нужно дать немного воли уму, и вот случай к величайшей его необузданности. Всему свой предел. Вещи сами по себе не имеют границ: законы хотят положить их, а разум противится.
398
В.Г. БЕЛИНСКИЙ
Разум повелевает нами сильнее всякой власти. Не покоряясь власти, делаемся несчастными, а не повинуясь разуму, делаемся глупцами. (Стр. 291-292.)
Смеяться над философиею значит философствовать. (Стр. 254.)
Переводчик заслуживает полную благодарность за перевод дельной книги; но нам кажется, что, если б он вместе с «Мыслями» перевел и другие чисто литературные произведения Паскаля,— это было бы еще лучше3.
л. н. толстой
Круг чтения
12 ФЕВРАЛЯ (Бессмертие)1
Нет ничего более несомненного, чем то, что смерть ожидает каждого из нас, а между тем все мы живем так, как будто ее никогда не будет.
1
Кончается ли наша жизнь со смертью, это вопрос самой большой важности, и нельзя не думать об этом. Смотря по тому, верим ли мы или нет в бессмертие, и поступки наши будут разумны или бессмысленны.
Поэтому главная наша забота должна быть в том, чтобы решить вопрос: совсем или не совсем умираем мы в плотской смерти, и если не совсем, то что именно в нас бессмертно. Когда же мы поймем, что есть в нас то, что смертно, и то, что бессмертно, то ясно, что и заботиться мы в этой жизни должны больше о том, что бессмертно, чем о том, что смертно. Люди же обыкновенно поступают как раз обратно.
По Паскалю
18 ФЕВРАЛЯ (Самоотречение)
Личность каждого человека есть покров, скрывающий живущее в нем Божество. Чем больше отрекается человек от своей личности, тем больше проявляется в нем это Божество.
1
Нужно любить только Бога и ненавидеть только себя.
Паскаль
400
Л.н. ТОЛСТОЙ
5 МАРТА (Смирение)
Как человек не может сам поднять себя, так не может человек и восхвалить себя. Напротив, всякая попытка человека хвалить себя роняет его в глазах людей.
5
Хотите, чтобы о вас хорошо говорили, не говорите о себе хорошего.
Паскаль
14 МАРТА (Разум)
Любовь влечет людей к единению; разум, единый у всех, утверждает это единение.
1
Человек мыслит — так он создан. Ясно, что он должен мыслить разумно. Разумно мыслящий человек прежде всего думает о том, для какой цели он должен жить: он думает о своей душе, о Боге. Посмотрите же, о чем думают мирские люди? О чем угодно, только не об этом. Они думают о плясках, о музыке, о пении; они думают о постройках, о богатстве, о власти; они завидуют положению богачей и царей. Но они вовсе не думают о том, что значит быть человеком.
Паскаль
24 МАРТА (Бог)
Только тот, кто исполняет закон Бога, познает и самого Бога. И чем кто ближе исполняет закон Бога, тем яснее и лучше он познает Бога.
4
Два рода людей знают Бога: люди со смиренным сердцем, все равно — умные ли они или глупые, и люди истинно разумные. Только люди гордые и среднего разума не знают Бога.
По Паскалю
Круг чтения
401
АПРЕЛЬ
1 АПРЕЛЯ (Знание)
Наук бесчисленное множество, и всякая наука бесконечна, можно все дальше и дальше идти к ней. И потому во всякой науке самое первое и главное — это знать, какие предметы самые важные, какие менее важные, какие еще менее важны и какие еще и еще менее важны. Узнать это нужно для того, что так как всего изучить нельзя, то надо изучить самое нужное.
6
«Есть травы на земле: мы их видим, с луны их было бы не видно. На этих травах есть нити, в этих нитях — маленькие животные, но дальше этого ничего уж нет».— Какая самонадеянность! «Сложные тела состоят из элементов, а элементы неразложимы».— Какая самонадеянность!
Паскаль
4 АПРЕЛЯ (Радость)
Жизнь должна и может быть неперестающей радостью.
1
Жизнь здесь — не юдоль плача, не место испытания, а нечто такое, лучше чего мы ничего не можем себе представить. Радость этой жизни бесконечна, только бы мы пользовались ею для того, для чего она дана нам.
2
Недоброе расположение человека к другим людям делает его несчастным и отравляет жизнь другим. Любовное же настроение как маслом смазывает колеса жизни и делает ее легкою и приятною и для него, и для всех тех, с кем он общается.
3
Люди большею частью так относятся к своим удовольствиям, что огорчаются, если теряют их. Но прав только тот человек, который умеет радоваться и вместе с тем не огорчаться, когда проходит причина его радости.
Паскаль
402
Л. Н. ТОЛСТОЙ
6 АПРЕЛЯ (Самосовершенствование)
Люди занимаются самыми различными, почитаемыми ими очень важными делами, но почти никогда не занимаются тем единственным делом, которое одно предназначено им и включает все остальные — улучшением своей души, освобождением божественного начала души. То, что именно это дело предназначено человеку, видно из того, что это единственная цель, для достижения которой человеку нет препятствий.
3
Мы должны благодарить тех, которые указывают нам наши недостатки. Хотя недостатки наши от этого указания и не пропадают, потому что их слишком много у нас, но зато, когда недостатки наши нам известны, то они начинают тревожить нашу душу, не дают совести глохнуть, и мы стараемся исправиться и освободиться от них.
Паскаль
11 АПРЕЛЯ (Зло)
В нравственном мире все связано еще теснее, чем в плотском. Всякий обман влечет за собой ряд обманов, всякая жестокость — ряд жестокостей.
4
Есть пороки в нас, которые держатся только другими нашими пороками и которые пропадают, когда мы уничтожаем основные пороки, как падают ветви, если подрубить ствол.
Паскаль
18 АПРЕЛЯ (Знание)
Важно не количество знаний, а качество их. Можно знать очень многое, не зная самого нужного.
1
Не стыдно и не вредно не знать. Всего знать никто не может, а стыдно и вредно притворяться, что знаешь, чего не знаешь.
Люди не могут знать и понимать всего того, что делается на свете, и потому суждения их о многих вещах неверны. Неведение человека
Круг чтения
403
бывает двоякое: одно неведение есть чистое, природное неведение, в котором люди рождаются; другое неведение — так сказать, неведение истинно-мудрого. Когда человек изучит все науки и узнает все то, что люди знали и знают, то он увидит, что эти знания все, вместе взятые, так ничтожны, что по ним нет возможности действительно понять мир Божий, и он убедится в том, что ученые люди, в сущности, все так же ничего не знают, как и простые, неученые. Но есть люди верхогляды, которые кое-чему поучились, нахватались верхушек разных наук и зазнались. Они ушли от природного неведения, но не успели дойти до истинной мудрости тех ученых, которые поняли несовершенство и ничтожество всех человеческих знаний. Эти-то люди, считающие себя умниками, и мутят мир. Они обо всем судят самоуверенно и опрометчиво и, разумеется, постоянно ошибаются. Они умеют бросать пыль в глаза, и часто люди к ним относятся с уважением, но простой народ их презирает, видя их бесполезность; они же презирают народ, считая его невежественным.
Паскаль
21 АПРЕЛЯ (Устройство жизни)
Предстоящее изменение устройства жизни людей нашего христианского мира состоит в замене насилия любовью, в признании возможности, легкости, блаженства жизни, основанной не на насилии и страхе его, а на любви.
Как только допущены такие условия, при которых человек может делать ближнему то, чего он не хотел бы для себя: всякого рода насилия, как всякие наказания и даже убийство, так все учение о любви становится пустыми словами.
6
Не должно делать ни малейшего зла для того, чтобы доставить успех величайшему благу.
22 АПРЕЛЯ (Божественная природа души)
Познание себя есть познание Бога.
Паскаль
404
Л.Н. ТОЛСТОЙ
5
Странно кричать человеку, который не знает себя, чтобы он от самого себя переходил к Богу! Хорошо говорить это человеку, который знает себя.
Паскаль
26 АПРЕЛЯ (Бог)
Сознание Бога просто и доступно всякому. Познание Его недоступно никакому человеку.
4
Одинаково непостижимы положения, что есть Бог и что нет Его, что есть душа в теле и что нет в нас души, что мир сотворен и что он не сотворен.
Паскаль
9 МАЯ (Усилие)
Жизнь есть неперестающее изменение: ослабление плотской и усиление, увеличение духовной жизни.
1
Борьба с собой и насилие над собой не могут не быть вследствие наших прежних грехов; но это насилие над собой — любовное, законное. Мать вырывает ребенка своего из пасти зверя. Ребенку больно, но он, конечно, должен приписать свое страдание не матери своей, спасающей его, а зверю, желающему удержать его. Так же точно и человек должен относиться к борьбе добра со злом: добро, как мать, вырывает нашу душу от зла, и хотя борьба эта и мучительна для нас, но она необходима и дает нам благо. Плохо было бы для нас, если бы не было этой борьбы. Без нее мы не могли бы быть добры.
Паскаль
12 МАЯ (Смерть)
Жизнь есть неперестающее приближение к смерти, и потому жизнь может быть благом только тогда, когда смерть не представляется злом.
Круг чтения
405
3
Представьте себе толпу людей в цепях. Все они приговорены к смерти, и каждый день одни из них умерщвляются на глазах у других. Остающиеся, видя этих умирающих и ожидающих своей очереди, видят свою собственную участь.
Как надо жить людям, когда они в таком положении? Неужели заниматься тем, чтобы бить, мучить, убивать друг друга? Самые злые разбойники в таком положении не будут делать зла друг другу. А между тем все люди находятся в этом положении — и что же они делают?
По Паскалю
9
Мы беззаботно стремимся в пропасть, держа перед собою заслон, чтобы не видеть ее.
Паскаль
26 ИЮНЯ (Разум)
Любовь показывает человеку цель его жизни; разум показывает средства исполнения ее.
2
В сравнении с окружающим его миром человек — не более как слабый тростник; но он — тростник, одаренный разумением.
Какого-нибудь пустяка достаточно, чтобы убить человека. И все- таки человек выше всяких тварей, выше всего земного, потому что он и умирая будет разумом своим сознавать, что он умирает. Человек может сознать ничтожество своего тела перед природою. Природа же ничего не сознает.
Все наше преимущество заключается в нашей Способности разуметь. Одно только разумение возвышает нас над остальным миром. Будем же ценить и поддерживать наше разумение, и оно осветит нам всю нашу жизнь, укажет нам, в чем добро, в чем зло.
Паскаль
28 ИЮНЯ (Семья)
Семейная связь только тогда тверда и дает благо людям, когда она не только семейная, но и религиозная, когда все члены семьи верят одному Богу и закону Его. Без этого семья — источник не радости, но страдания.
406
Л.н. ТОЛСТОЙ
7
«Если кто приходит ко Мне и не возненавидит отца своего, и матери, и жены, и детей, а братьев, и сестер, а притом и самой жизни своей, тот не может быть моим учеником» (Ев. Лк: 14, 26). «Возненавидит» — в этом стихе не значит то, чтобы Христос отвергал семью иди учил ненависти к ней, а значит только то, что сказано в стихе 24 8-й гл. Луки,— то, что Христу и ученикам и подражателям Его близки и любезны люди не по семейным связям, а по связи их с Богом и потому друг с другом.
Стихи эти обыкновенно соблазняют людей, имеющих в виду состояние человека распутного и более нравственно высокое состояние человека семейного, но не имеющих в виду состояния человека религиозного, для которого состояние семейное не есть высшее состояние, а, напротив, большей частью представляет преграду для достижения этого высшего состояния.
8
Одни люди ищут блага во власти, другие в любознательности, в науках, третьи в наслаждениях. Эти три рода вожделений образовали три различных школы, и все философы следовали какой-либо из трех. Те же, которые более других приблизились к истинной философии, поняли, что всеобщее благо — предмет стремления всех людей — не должно заключаться ни в одной из частных вещей, которыми могут владеть только некоторые и которые, будучи разделены, скорее огорчают их обладателя отсутствием недостающей части, чем доставляют наслаждение тою частью, которая ему принадлежит. Они поняли, что истинное благо должно быть таково, чтобы им могли обладать все сразу, без убыли его и без зависти, и чтобы никто не мог потерять его помимо своей воли.
Паскаль
ИЮЛЬ
1 ИЮЛЯ (Божественная природа души)
Душа человека божественна.
1
Всякая истина имеет своим началом Бога. Когда она проявляется в человеке, то это не показывает того, чтобы она исходила из человека, но только, что человек имеет свойство такой прозрачности, что может проявлять ее.
Паскаль
Круг чтения
407
5 ИЮЛЯ (Благо)
Зло может делать только сам человек. То же, что совершается помимо воли человека, все благо.
1
Соломон и Иов лучше всего знали и лучше всего говорили о ничтожестве мирской жизни; один был самым счастливым, другой — самым несчастным; один испытал суетность удовольствий, другой — действительность бедствий.
Паскаль
8
Одни говорят: войди в самого себя, и ты найдешь покой. В этом еще не вся правда.
Другие, напротив, говорят: выйди из самого себя, постарайся забыться и найти счастье в развлечениях. И это несправедливо, хотя бы только потому, что этим путем нельзя избавиться, например, от болезней.
Покой и счастье — не внутри нас, не вне нас; они — в Боге, который и внутри и вне нас.
Паскаль
13 АВГУСТА (Мудрость)
Житейская мудрость в том, чтобы жить согласно разуму, хотя бы такая жизнь была осуждаема всеми.
6
Если мы сидим в движущемся корабле и смотрим на какой-нибудь предмет на этом же корабле, то нам незаметно наше движение; если же мы посмотрим в сторону на предмет, который не движется вместе с нами, например на берег, то мы тотчас же заметим свое движение. То же бывает в жизни. Когда все люди живут не так, как следует, то это незаметно, но лишь только один опомнится и заживет по-божьи, тотчас же становится очевидным, как скверно поступают остальные. И остальные за это гонят его.
Паскаль
408
Л.Н. ТОЛСТОЙ
19 АВГУСТА (Благо)
Жизнь есть движение, а потому и благо жизни не есть известное состояние, а известное направление движения. Такое направление есть служение не себе, а Богу.
1
Одни ищут блага или счастья во власти, другие — в науке, третьи — в сластолюбии. Те же люди, которые действительно близки к своему благу, понимают, что оно не может быть в том, чем владеть могут только некоторые люди, а не все. Они понимают, что истинное благо человека таково, что им могут обладать все люди разом, без раздела и без зависти; оно таково, что никто не может потерять его, если он сам того не захочет.
Паскаль
6 СЕНТЯБРЯ (Заблуждение)
Заблуждение есть обычное состояние людей. В известные времена и в известных слоях общества оно бывает особенно распространено. Таково оно в наше время в нашем христианском обществе, как оно и не может быть иначе среди людей, или не знающих никакого высшего закона жизни, или знающих, но не исполняющих его.
4
Люди ищут удовольствия, бросаясь из стороны в сторону, только потому, что чувствуют пустоту своей жизни, но не чувствуют еще пустоты той новой потехи, которая их притягивает.
Паскаль
14 СЕНТЯБРЯ (Насилие)
Насилие тем особенно вредно, что оно всегда облекается во внешнее величие и этим внушает уважение к тому, что должно бы вызывать одно отвращение.
5
Из того, что возможно насилием подчинить людей справедливости, вовсе не следует, чтобы было справедливо подчинять людей насилием.
Паскаль
Круг чтения
409
20 СЕНТЯБРЯ (Усилие)
Все доброе приобретается только усилием.
5
Искание истины совершается не с веселием, а с волнением и беспокойством; но все-таки надо искать ее, потому что, не найдя истины и не полюбив ее, ты погибнешь. Но, скажешь ты, если бы истина хотела, чтобы я искал ее и полюбил, то она сама открылась бы мне. Она и открывается тебе, но ты не обращаешь на это внимания. Ищи же истину,— она этого хочет.
Паскаль
22 СЕНТЯБРЯ (Бессмертие)
Человеку свойственна вера в бессмертие.
3
Сколько царств не знает нас! Вечное молчание этих бесконечных пространств ужасает меня. Когда я размышляю о краткости моей жизни среди предшествующей и последующей вечности, о ничтожности пространства, которое я занимаю, и даже того, которое вижу,— пространства, пропадающего в бесконечной неизмеримости других пространств, которых я не знаю и которые меня не знают, то я прихожу в ужас и изумляюсь, почему я в одном, а не в другом месте; ибо нет никакого основания быть мне здесь, а не там, в настоящую минуту, а не раньше или позже. Кто меня поместил сюда? По чьему повелению и распоряжению мне назначено именно это место, именно это время?
Жизнь — это воспоминание об одном мимолетном дне, проведенном в гостях.
Паскаль
29 СЕНТЯБРЯ (Война)
Кроме всех бедствий и ужасов войны, одно из величайших зол ее — это извращение умом существует войско, военные издержки, надо объяснить это. Разумно объяснить нельзя, и потому извращается разум.
410
Л. н. ТОЛСТОЙ
2
Может ли быть что-нибудь нелепее того, что человек имеет право убить меня, потому что он живет на той стороне реки и что его государь в ссоре с моим, хотя я и не ссорился с ним?
Паскаль
5 ОКТЯБРЯ (Усилие)
Усилие нравственное потому необходимо, что усилие плотское не переставая совершается. Только перестань работать над собой духовно, и плоть завладеет тобой.
4
Путь исправления себя, правда, труден, но он труден не сам по себе, а труден потому, что мы так долго предавались порокам. Эти-то пороки и усложняют нам путь исправления. Мы страдаем от этой борьбы настолько, насколько пороки наши успели в нас вкорениться. Мы не можем думать, что Бог виноват в необходимости этой борьбы, потому что, не будь в нас пороков, не было бы и борьбы. Значит, причина борьбы — в нашем собственном несовершенстве. И между тем в этой борьбе наше спасение, если бы Бог избавил нас от этой борьбы, то мы, несчастные, остались бы навсегда с нашими пороками.
Паскаль
19 ОКТЯБРЯ (Смысл жизни)
Смысл жизни открывается тотчас же тому, кто готов покориться тому, что откроется ему, и скрывается от того, кто вперед уже решил, что он признает истинным только такой смысл жизни, который не нарушит любимой им и привычной ему жизни.
5
Несчастны люди, не знающие смысла своей жизни, а между тем уверенность в том, что этого нельзя знать, так распространена между людьми, что они даже гордятся, как мудростью, тем, что не желают знать этого.
Паскаль
28 ОКТЯБРЯ (Страдание)
Как ощущение боли есть необходимое условие сохранения нашего тела, так и страдания суть необходимые условия нашей жизни от рождения и до смерти.
Круг чтения
411
5
Если бы Бог давал нам таких наставников, о которых мы знали бы достоверно, что они посланы им, то мы ведь повиновались бы им свободно и радостно. Мы и имеем таких наставников: это нужда и вообще все несчастные случаи жизни.
Паскаль
9 НОЯБРЯ (Гордость)
Себялюбие есть начинающаяся гордость. Гордость — это незадержанное распустившееся себялюбие.
1
Кто не питает отвращения к своему самолюбию, к тому свойству, которое заставляет его ставить себя выше всего в мире, тот вполне ослеплен, потому что это противоречит и справедливости и истине. Противоречит справедливости потому, что все желают того же, т.е. быть выше других, и противоречит истине потому, что нельзя быть выше всего в мире.
Паскаль
2
Есть два сорта людей: одни — праведны, но считают себя грешниками; другие грешны, но считают себя праведниками.
Паскаль
21 НОЯБРЯ (Служение)
Нет того особенного подвига, который бы мы могли совершить в этой жизни. Вся жизнь наша должна быть этим подвигом.
1
При каждом пробуждении задавайся вопросом: что бы доброго совершить сегодня? и думай: ведь солнце, закатясь, унесет с собой частицу предназначенной мне жизни.
Индийское изречение
2
Добродетель человека измеряется не его необыкновенными усилиями, а его ежедневным поведением.
Паскаль
412
Л.н.ТОЛСТОЙ
6 ДЕКАБРЯ (Заблуждение)
Заблуждаемся мы не оттого, что не можем правильно мыслить, а оттого, что живем дурно.
5
Одно из злых свойств человека состоит в том, что он любит и уважает самого себя, желает себе блага. Но беда ему, если он любит только самого себя: он захочет быть великим, а увидит, что он маленький; захочет быть счастливым, а увидит себя несчастным; захочет быть совершенным, а увидит себя полным несовершенства; захочет себе любви и уважения от людей, а увидит, что его недостатки отвращают от него людей и внушают им презрение к нему. Видя неисполнение своих желаний, такой человек впадает в самое преступное дело: он начинает ненавидеть ту правду, которая идет ему наперекор; он хочет истребить эту правду, и так как он сделать этого не может, то он в своей душе и в мыслях других старается извращать правду, когда только может; и таким способом он надеется скрыть свои недостатки и от других, и от самого себя.
Паскаль
9 ДЕКАБРЯ (Отечество)
Назначение человека — служение всем, всем людям, а не такое служение одним, при котором неизбежно делание зла другим.
1
Для христианина любовь к отечеству стоит преградой для любви к ближнему. И как в древнем мире любовь к семье должна была быть принесена в жертву любви к отечеству, так в христианском мире любовь к отечеству должна уступить любви к ближнему.
2
Если неестественно ослепление людей, не старающихся узнать смысл своей жизни, то еще ужаснее ослепление верующих в Бога и живущих дурно. Почти все люди находятся в том или другом ослеплении.
Паскаль
Круг чтения
413
3
Если человек потерял истинную природу,— все, что угодно, делается его природой; точно так же, если потеряно истинное благо,— все, что угодно, делается его благом.
Паскаль
17 ДЕКАБРЯ (Единения)
То, что мы сознаем себя существами, отделенными от других, и другие существа отделенными от себя и друг от друга, есть представление, вытекающее из условий жизни во времени и пространстве. Чем более уничтожается эта отделенность, тем более мы признаем свое единство со всеми живыми существами и тем легче и радостнее становится наша жизнь.
3
Бог, сотворивши небо и землю, которые не чувствуют счастья своего существования, захотел сотворить существа, которые сознавали бы это счастье и составляли бы тело из мыслящих членов. Все люди — члены этого тела; для того чтобы быть счастливыми, они должны сообразовать свою волю со всеобщею волею, управляющей всем телом. А между тем человек часто думает, что он — все; не видя тела, от которого он зависит, думает, что он зависит только от самого себя, и хочет самого себя сделать центром и телом. Но в этом положении человек подобен члену, отделенному от своего тела, который, не имея в себе начала жизни, только блуждает и удивляется непонятности своего существа. Когда же наконец человек доходит до понимания своего назначения, он как бы возвращается к себе, сознает, что он не все тело, а только член всеобщего тела, что быть членом значит иметь жизнь только через жизнь и для жизни всего тела, что член, отделенный от своего тела, имеет только умирающую и гибнущую жизнь, и что любить себя надо только для этого тела или, вернее сказать, что надо любить только это всеобщее тело, потому что, любя его, любишь себя, так как жизнь только в нем и через него. Чтобы определить ту любовь, какую надо иметь к себе, надо представить себе тело, составленное из мыслящих членов, потому что мы члены всего, и решить, как должен любить себя каждый отдельный член.
Тело любит руку, и рука, если бы имела волю, должна бы любить себя, как ее любит тело. Всякая любовь больше этой незаконна. Если бы руки и ноги имели свою особенную волю, они были бы в порядке, только если бы подчинялись телу; вне этого они в беспорядке и бедствии, желая же блага телу, они достигают своего блага.
414
Л. н. ТОЛСТОЙ
Члены нашего тела не чувствуют счастья своего соединения, своего удивительного согласия, не чувствуют того, как заботилась природа, внушив им дух согласия, заставить их расти и существовать. Если же бы они, получивши разумение, воспользовались им для того, чтобы удерживать в себе получаемую пищу, не передавая ее другим членам, они были бы не только несправедливы, но и несчастны, не любили бы друг друга, а, скорее, ненавидели бы: так как их блаженство, так же как и обязанность,— в согласии с деятельностью общей души, к которой они принадлежат и которая любит их больше, чем они сами себя.
Паскаль
19 ДЕКАБРЯ (Благо)
Истинное благо всегда в наших руках. Оно, как тень за предметом, следует за доброй жизнью.
3
Тот, кто положил жизнь свою в духовном совершенствовании, не может быть недоволен, потому что то, чего он желает, всегда в его власти.
Паскаль
21 ДЕКАБРЯ (Молитва)
На высшей точке своего сознания человек одинок. Одиночество это бывает странно, непривычно и кажется тяжело. Неразумные люди спасаются от тяжести сознания этого одиночества рассеяниями и тотчас же спускаются с этой высшей точки на низшую; разумные люди удерживают себя на этой высоте молитвою.
1
Отношение к Богу, то, которого Он хочет от нас, это постоянное исполнение в жизни Его воли. Но интересы жизни, наши страсти постоянно, всякую минуту отвлекают нас от этого. И вот, сознав это, мы прибегаем к внешнему, словесному выражению своего отношения к Богу, к молитве, стараясь вызвать в себе живое сознание своей зависимости от Бога. Такая молитва напоминает нам наши грехи, наши обязанности и спасает от соблазнов, если мы в минуты соблазнов успеваем вызвать в себе молитвенное настроение.
Круг чтения
415
2
Личность есть ограничение, и потому Бог, как бы его ни понимали, не есть личность. Молитва же есть обращение к Богу.
Как же обращаться к безличному?
Астрономы знают, что движутся в их поле зрения не звезды небесного свода, но земля, на которой они стоят с своей обсерваторией и трубой, а между тем записывают не движение земли, а движение звезд. Нельзя иначе. Точно то же и в молитве. Бог не личность. Но я личность, и потому я иначе не могу выразить свое отношение к Богу, как к Богу личному, хотя и знаю, что Он не может быть личностью.
3
Человек, безнадежно заваленный в шахте, замерзающий во льдах, с голоду умирающий в море или в одиночном заключении или просто умирающий, оглохший и ослепший, чем стал бы жить остаток своей жизни такой человек, если бы не было молитвы?
4
Как хорошо бывает человеку, когда он истомится в напрасных поисках за благом в мирской жизни и протянет, усталый, свои руки к Богу.
Паскаль
28 ДЕКАБРЯ (Знание)
То, что называется наукой, представляет или самую важную человеческую деятельность, когда цель ее открыть законы жизни людей, или самое ничтожное и одуряющее занятие — исследование всего того, что может вызвать любопытство праздных людей.
1
Казалось бы, что для того чтобы признать важность занятия тем, что называется наукой, надо бы доказать, что эти занятия полезны. Люди же науки обыкновенно утверждают, что так как мы занимаемся известными предметами, то занятия эти, наверное, когда-нибудь, где-нибудь и для кого-нибудь будут полезны.
2
Существует грубое научное суеверие, происшедшее из того же источника, как и религиозное суеверие из желания потворства человеческим слабостям, и столь же, если не более, вредное, чем религиозное.
416
Л. н. толстой
Люди заблуждаются, живут дурно. Естественное свойство людей в том, чтобы, сознав неправильность своей жизни, постараться изменить ее, но вот является «наука»: наука государственного, финансового, церковного, уголовного, полицейского и всякого другого права, наука политическая экономия, история и самая модная — социология, и оказывается, что дурная жизнь людей происходит по неизменным законам, и дело людей не состоит в том, чтобы бороться с своими слабостями и изменять свою жизнь от худшего к лучшему, а только в том, чтобы присутствовать при течении своей жизни по законам, открываемым учеными. Суеверие это так явно противоречит и здравому смыслу и совести человеческой, что оно никогда не могло бы быть принято людьми, если бы оно не было так успокоительно, оправдывая людей в их дурной жизни.
Никогда никакие религиозные суеверия не производили, не могут произвести такого зла людям, как это.
3
У нас не хватает знаний, чтобы понять даже хоть жизнь человеческого тела. Посмотрите, что нужно знать для этого: телу нужно место, время, движение, теплота, свет, пища, вода, воздух и многое другое. В природе же все так тесно связано между собою, что нельзя познать одного, не изучив другого. Нельзя познать части, не познав целого. Жизнь тела нашего мы поймем только тогда, когда изучим все то, что нужно ему, а для этого необходимо изучить всю вселенную. Но вселенная бесконечна, и познание ее недостижимо для человека. Следовательно, мы не можем вполне уяснить себе и жизнь нашего тела.
Паскаль
31 ДЕКАБРЯ (Настоящее)
Прошедшего нет, будущее не наступило. Настоящее есть бесконечно малая точка соприкосновения несуществующего прошедшего с несуществующим будущим. И в ней-то, в этой безвременной точке и совершается истинная жизнь человека.
6
Наша душа брошена в тело, где она находит число, время, измерение. Она рассуждает об этом и называет это природой, необходимостью и не может мыслить иначе.
Паскаль
Путь жизни
417
Путь жизни
ПРЕДИСЛОВИЕ1
1) Для того, чтобы человеку хорошо прожить свою жизнь, ему надо знать, что он должен и чего не должен делать. Для того, чтобы знать это, ему надо понимать, что такое он сам и тот мир, среди которого он живет. Об этом учили во все времена самые мудрые и добрые люди всех народов. Учения эти все в самом главном сходятся между собою, сходятся и с тем, что говорят каждому человеку его разум и совесть. Учение это такое:
2) Кроме того, что мы видим, слышим, ощупываем и про что знаем от людей, есть и такое, чего мы не видим, не слышим, не ощупываем и про что никто ничего не говорил нам, но что мы знаем лучше всего на свете. Это то, что дает нам жизнь и про что мы говорим “я”.
3) Это же невидимое начало, дающее нам жизнь, мы признаем и во всех живых существах, и особенно живо в подобных нам существах — людях.
4) Всемирное, невидимое начало это, дающее жизнь всему живому, сознаваемое нами в самих себе и признаваемое в подобных нам существах — людях, мы называем душою, само же в себе всемирное невидимое начало это, дающее жизнь всему живому, мы называем Богом.
5) Души человеческие, отделенные телами друг от друга и от Бога, стремятся к соединению с тем, от чего они отделены, и достигают этого соединения с душами других людей любовью, с Богом — сознанием своей божественности. В этом все большем и большем соединении с душами других людей — любовью и с Богом — сознанием своей божественности заключается и смысл и благо человеческой жизни.
6) Большее и большее соединение души человеческой с другими существами и Богом, и потому и большее и большее благо человека, достигается освобождением души от того, что препятствует любви к людям и сознанию своей божественности: грехи, т. е. потворство похотям тела, соблазны, т.е. ложные представления о благе, и суеверия, т.е. ложные учения, оправдывающие грехи и соблазны.
7) Препятствующие соединению человека с другими существами и Богом грехи суть: грехи чревоугодия, т. е. объедения, пьянства;
8) Грехи блуда, т.е. полового распутства;
418
Л. Н. ТОЛСТОЙ
9) Грехи праздности, т. е. освобождения себя от труда, нужного для удовлетворения своих потребностей;
10) Грехи корыстолюбия, т. е. приобретения и хранения имущества для пользования трудами других людей;
11) И худшие из всех грехов, грехи разъединения с людьми: зависти, страха, осуждения, враждебности, гнева, вообще — недоброжелательства к людям. Таковы грехи, препятствующие соединению любовью души человеческой с Богом и другими существами.
12) Привлекающие же людей к грехам соблазны, т.е. ложные представления об отношении людей к людям, суть: соблазны гордости, т. е. ложного представления о своем превосходстве над другими людьми;
13) Соблазны неравенства, т. е. ложного представления о возможности деления людей на высших и низших;
14) Соблазны устроительства, т. е. ложного представления о возможности и праве одних людей насилием устраивать жизнь других людей;
15) Соблазны наказания, т. е. ложного представления о праве одних людей ради справедливости или исправления делать зло людям;
16) И соблазны тщеславия, т. е. ложного представления о том, что руководством поступков человека могут и должны быть не разум и совесть, а людские мнения и людские законы.
17) Таковы соблазны, привлекающие людей к грехам. Суеверия же, оправдывающие грехи и соблазны, суть: суеверие государства, суеверие церкви и суеверие науки.
18) Суеверие государства состоит в вере в то, что необходимо и благотворно, чтобы меньшинство праздных людей властвовало над большинством рабочего народа.
Суеверие церкви состоит в вере в то, что непрестанно уясняющаяся людям религиозная истина была раз навсегда открыта и что известные люди, присвоившие себе право учить людей истинной вере, находятся в обладании единой, раз навсегда выраженной религиозной этой истины.
19) Суеверие науки состоит в вере в то, что единое, истинное и необходимое для жизни всех людей знание заключается только в тех случайно избранных из всей безграничной области знаний отрывках разных, большей частью ненужных знаний, которые в известное время обратили на себя внимание небольшого числа освободивших себя от необходимого для жизни труда людей и потому живущих безнравственной и неразумной жизнью.
20) Грехи, соблазны и суеверия, препятствуя соединению души с другими существами и Богом, лишают человека свойственного ему
Путь жизни
419
блага, и потому для того, чтобы человек мог пользоваться этим благом, он должен бороться с грехами, соблазнами и суевериями. Для борьбы этой человек должен делать усилия.
21) И усилия эти всегда во власти человека, во-первых, потому, что совершаются они только в настоящее мгновение, т.е. в той безвременной точке, в которой прошедшее соприкасается с будущим и в которой человек всегда свободен;
22) Во-вторых, усилия эти во власти человека еще и потому, что они заключаются не в совершении каких-либо могущих быть неисполнимыми поступков, а только в воздержании, всегда возможном для человека: усилия воздержания от поступков, противных любви к ближнему и сознанию человеком в себе божественного начала.
23) Усилия воздержания от слов, противных любви к ближнему и сознанию человеком в себе божественного начала;
24) И усилия воздержания от мыслей, противных любви к ближнему и сознанию человеком в себе божественного начала.
25) Ко всем грехам приводит человека потворство похотям тела, и потому для борьбы с грехами человеку нужны усилия воздержания от поступков, слов и мыслей, потворствующих похотям тела, т. е. усилия отречения от тела.
26) Ко всем соблазнам приводит человека ложное представление о превосходстве одних людей над другими, и потому для борьбы с соблазнами человеку нужны усилия воздержания от возвышающих себя над другими людьми поступков, слов и мыслей, т. е. усилия смирения.
27) Ко всем суевериям приводит человека допущение лжи, и потому для борьбы с суевериями человеку нужны усилия воздержания себя от противных истине поступков, слов и мыслей, т.е. усилия правдивости.
28) Усилия самоотречения, смирения и правдивости, уничтожая в человеке препятствия к соединению любовью его души с другими существами и Богом, дают ему всегда доступное ему благо, и потому то, что представляется человеку злом, есть только указание того, что человек ложно понимает свою жизнь и не делает того, что дает ему свойственное ему благо. Зла нет.
29) Точно так же и то, что представляется человеку смертью, есть только для тех людей, которые полагают свою жизнь во времени. Для людей же, понимающих жизнь в том, в чем она действительно заключается, в усилии, совершаемом человеком в настоящем для освобождения себя от всего того, что препятствует его соединению с Богом и другими существами, нет и не может быть смерти.
420
Л.Н. ТОЛСТОЙ
30) Для человека, понимающего свою жизнь так, как она только и может быть понимаема, все большим и большим соединением своей души со всем живым любовью и сознанием своей божественности — с Богом, достигаемым только усилием в настоящем, не может быть вопроса о том, что будет с его душою после смерти тела. Душа не была и не будет, а всегда есть в настоящем. О том же, как будет сознавать себя душа после смерти тела, не дано знать человеку, да и не нужно ему.
31) Не дано знать этого человеку для того, чтобы он душевные силы свои напрягал не на заботу о положении своей отдельной души в воображаемом другом, будущем мире, а только на достижение в этом мире, сейчас, вполне определенного и ничем не нарушаемого блага соединения со всеми живыми существами и с Богом. Не нужно же знать человеку того, что будет с его душою, потому, что если он понимает жизнь свою, как она и должна быть понимаема, как непрестанное все большее и большее соединение своей души с душами других существ и Богом, то жизнь его не может быть ничем иным, как только тем самым, к чему он стремится, т. е. ничем не наруши- мым благом.
БОЖЕСТВЕННОСТЬ ДУШИ2
Когда истина высказывается человеком, то это не значит того, чтобы истина эта исходила из человека. Всякая истина от Бога. Она только проходит через человека. Если она проходит через этого, а не другого человека, то это только оттого, что этот человек сумел сделать себя настолько прозрачным, чтобы истина могла проходить через него.
Паскаль
БОГА НЕЛЬЗЯ ПОЗНАТЬ РАЗУМОМ
1
Чувствовать Бога в себе можно и нетрудно. Познать же Бога, что Он такое,— невозможно и ненужно.
2
Нельзя разумом понять, что есть Бог и что есть душа в человеке; и также нельзя понять того, что нет Бога и что нет души в человеке.
Паскаль
Путь жизни
421
О НЕВЕРИИ В БОГА
Два рода людей знают Бога: люди с смиренным сердцем,— все равно, умные ли они или глупые,— и люди истинно разумные. Только люди гордые и среднего разума не знают Бога.
Паскаль
ЛЮБОВЬ СОЕДИНЯЕТ ЛЮДЕЙ И С БОГОМ И С ДРУГИМИ СУЩЕСТВАМИ
Одни говорят: войди в самого себя, и ты найдешь покой.— В этом еще не вся правда. Другие, напротив, говорят: выйди из самого себя; постарайся забыться и найти счастье в удовольствиях.— И это неправда. Уж оттого неправда, что удовольствиями не избавишься от болезней. Покой и счастье — не внутри нас и не вне нас, они — в Боге. А Бог и внутри нас и вне нас.
Люби Бога — ив Боге найдешь то, чего ищешь.
Паскаль
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЛЮДЕЙ, ОСВОБОДИВШИХ СЕБЯ
ОТ ЗАКОНА ТРУДА, ВСЕГДА БЫВАЕТ ПУСТА И БЕСПОЛЕЗНА
Люди ищут удовольствия, бросаясь из стороны в сторону только потому, что чувствуют пустоту своей жизни, но не чувствуют еще пустоты той новой потехи, которая их притягивает.
Паскаль
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ НАСИЛИЯ
Из того, что возможно насилием подчинить людей справедливости, вовсе не следует, чтобы было справедливо подчинять людей насилием.
Паскаль
В ЧЕМ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ СОБЛАЗН ТЩЕСЛАВИЯ
Для того, чтобы люди думали, что мы имеем добродетели, мы готовы даже отказаться от них. Мы готовы быть трусами, только бы прослыть за храбрых.
Паскаль
422
Л. н. толстой
ТОТ, КТО ЖИВЕТ истинной жизнью, НЕ НУЖДАЕТСЯ В ПОХВАЛЕ ЛЮДЕЙ
Если мы сидим в движущемся корабле и смотрим на какую-нибудь вещь на этом же корабле, то мы не замечаем того, что плывем; если же мы посмотрим в сторону на то, что не движется вместе с нами, например на берег, то тотчас же заметим, что движемся. То же и в жизни. Когда все люди живут не так, как должно, то это незаметно нам, но стоит одному опомниться и зажить по-Божьи, и тотчас же становится явным то, как дурно живут остальные. Остальные же всегда гонят за это того, кто живет не так, как они все.
Паскаль
ГОСУДАРСТВО ОСНОВАНО НА НАСИЛИИ
Может ли быть что-нибудь нелепее того, что человек имеет право убить меня, потому что он живет на той стороне реки, и что его государь в ссоре с моим, хотя я и не думал ссориться с ним?
Паскаль
ПОСЛЕДСТВИЯ ИСПОВЕДАНИЯ ЛОЖНЫХ ВЕР
Никогда люди не делают злых дел с большим спокойствием и уверенностью в своей правоте, как тогда, когда они делают их по ложной вере.
Паскаль
В ЧЕМ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ ИСТИННАЯ РЕЛИГИЯ?
Истинное богопочитание свободно от суеверия; когда в него проникает суеверие, то и самое богопочитание разрушается. Христос указал нам, в чем истинное богопочитание. Он учил, что из всего того, что мы делаем в своей жизни, одно есть свет и счастье людей, это — наша любовь друг к другу; Он учил, что счастье нашего мы можем достигнуть только тогда, когда будем служить людям, а не себе.
Паскаль
Путь жизни
423
КОЛИЧЕСТВО ПРЕДМЕТОВ ИЗУЧЕНИЯ БЕСЧИСЛЕННО, А ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ СПОСОБНОСТИ ЧЕЛОВЕКА ОГРАНИЧЕНЫ
«Есть травы на земле: мы их видим; с луны их было бы не видно. На этих травах есть нити, в этих нитях — маленькие животные, но дальше этого ничего уже нет». Какая самонадеянность!
«Сложные тела состоят из элементов, а элементы неразложимы». Какая самонадеянность!
Паскаль
У нас не хватает знаний, чтобы даже понять хоть только жизнь человеческого тела. Посмотрите, что нужно знать для этого: телу нужны место, время, движение, теплота, свет, пища, вода, воздух и многое другое. В природе же все так тесно связано между собою, что нельзя познать одного, не изучив другого. Нельзя познать части, не познав целого. Жизнь тела нашего мы поймем только тогда, когда изучим все то, что нужно ему; а для этого необходимо изучить всю вселенную. Но вселенная бесконечна, и познание ее недостижимо для человека. Следовательно, мы не можем вполне уяснить себе и жизнь нашего тела.
Паскаль
ЗНАНИЙ БЕСЧИСЛЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО, ДЕЛО ИСТИННОЙ НАУКИ
ВЫБРАТЬ ВАЖНЕЙШИЕ И НУЖНЕЙШИЕ
Люди не могут знать и понимать всего того, что делается на свете, и потому суждения их о многих вещах неверны. Неведение человека бывает двоякое; одно неведение есть чистое, природное неведение, в котором люди рождаются; другое неведение, так сказать, неведение истинно мудрого. Когда человек изучит все науки и узнает все то, что люди знали и знают, то он увидит, что эти знания, все вместе взятые, так ничтожны, что по ним нет возможности действительно понять мир Божий, и он убедится в том, что ученые люди, в сущности, все так же ничего не знают, как и простые неученые. Но есть люди — верхогляды, которые кое-чему научились, нахватались верхушек разных наук и зазнались. Они ушли от природного неведения, но не успели дойти до истинной мудрости тех ученых, которые поняли несовершенство и ничтожество всех человеческих знаний. Эти-то люди, считающие себя умниками, и мутят мир. Они обо всем
424
Л. н. ТОЛСТОЙ
судят самоуверенно и опрометчиво и, разумеется, постоянно ошибаются. Они умеют бросать пыль в глаза, и часто люди к ним относятся с уважением, но простой народ их презирает, видя их бесполезность; они же презирают народ, считая его невежественным.
Паскаль
ИЗБАВЛЕНИЕ ОТ ГРЕХОВ, СОБЛАЗНОВ И СУЕВЕРИЙ — В УСИЛИИ
Искание истины совершается не с весельем, а с волнением и беспокойством; и все-таки надо искать ее, потому что, не найдя истины и не полюбив ее, ты погибнешь.— Но, скажешь ты, если бы истина хотела, чтобы я искал ее и полюбил ее, то она сама открылась бы мне.— Она и открывается тебе, но ты не обращаешь на это внимания. Ищи же истину,— она этого хочет.
Паскаль
САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДОСТИГАЕТСЯ ТОЛЬКО УСИЛИЕМ СОЗНАНИЯ
Добродетель человека измеряется не необыкновенными подвигами, а его ежедневным усилием.
Паскаль
ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕКА ВНЕ ВРЕМЕНИ И ПРОСТРАНСТВА
Наша душа брошена в тело, где она находит число, время, измерение. Она рассуждает об этом и называет это природой, необходимостью и не может мыслить иначе.
Паскаль
ЧЕМ БОЛЬШЕ БОРЕШЬСЯ С НЕВОЗДЕРЖАНИЕМ, ТЕМ ЛЕГЧЕ БОРЬБА
1
Между разумом и страстями идет в человеке междоусобная война. Человек мог бы иметь хоть какое-нибудь спокойствие, если бы в нем был только разум без страстей или только страсти без разума. Но так
Путь жизни
425
как в нем и то и другое, то он не может избежать борьбы, не может быть в мире с одним иначе, как воюя с другим. Он всегда борется сам в себе. И борьба эта необходима, в ней жизнь.
Паскаль
ЗНАЧЕНИЕ ВОЗДЕРЖАНИЯ
ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ И ВСЕГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
Малейшее движение вещества важно для всей природы. Все море изменяется от одного камня. Точно так же и в духовной жизни малейшее движение производит бесконечные последствия. Все важно.
Паскаль
ТОЛЬКО СПОСОБНОСТЬЮ мыслить ОТЛИЧАЕТСЯ ЧЕЛОВЕК ОТ ЖИВОТНОГО
В сравнении с окружающим его миром человек — не более как слабый тростник; тростник, но тростник, одаренный способностью мысли.
Какого-нибудь пустяка достаточно, чтобы убить человека. И все- таки человек выше всяких тварей, выше всего земного, потому что он и умирая будет сознавать, что он умирает.
Человек может сознать ничтожество своего тела перед природою. Природа же ничего не сознает.
Все наше преимущество заключается в нашей способности мыслить. Мысль наша возвышает нас над остальным миром. Будем же ценить и поддерживать нашу силу мысли, и она осветит нам всю нашу жизнь, укажет нам, в чем добро, в чем зло.
Паскаль
Человек сотворен для того, чтобы мыслить; в этом все его достоинство и вся его заслуга. Обязанность человека только в том, чтобы мыслить правильно. Порядок же мысли в том, чтобы начинать с себя, своего творца и своей цели. А между тем о чем думают мирские люди? Никак не об этом, а только о том, как повеселиться, как разбогатеть, как прославиться, как сделаться королем, не думая о том, что такое значит быть королем и что значит быть человеком.
Паскаль
426
Л.н.ТОЛСТОЙ
ОТРЕЧЕНИЕ ОТ СВОЕГО ЖИВОТНОГО Я РАСКРЫВАЕТ БОГА В ДУШЕ ЧЕЛОВЕКА
Своя воля никогда не удовлетворяет, хотя бы и исполнились все ее требования. Но стоит только отказаться от нее — от своей воли, и тотчас же испытываешь полное удовлетворение. Живя для своей воли, всегда недоволен; отрекшись от нее, нельзя не быть вполне довольным. Единственная истинная добродетель — это ненависть к себе, потому что всякий человек достоин ненависти своей похотливостью. Ненавидя же себя, человек ищет существо, достойное любви. Но так как мы не можем любить ничего вне нас, то мы вынуждены любить существо, которое было бы в нас, но не было бы нами, и таким существом может быть только одно — всемирное существо. Царство Божие в нас (Лк. XVII, 21); всемирное благо в нас, но оно не мы.
Паскаль
СМИРЕНИЕ СОЕДИНЯЕТ ЛЮДЕЙ ЛЮБОВЬЮ
Люди самые приятные — это праведники, которые считают себя грешниками.
А самые неприятные — это грешники, которые считают себя праведниками.
Паскаль
ПОСЛЕДСТВИЯ ГОРДОСТИ
Человек, не просвещенный христианством, любит только себя. А любя только себя, такой человек хочет быть великим и видит, что он маленький, хочет быть важным, а чувствует, что он ничтожен, хочет быть хорошим, а знает, что он дурен. И, видя это, человек начинает не любить правду и начинает придумывать такие рассуждения, по которым бы выходило, что он — то самое, чем ему хочется быть. И, придумав такие рассуждения, становится в своих глазах и великим, и важным, и хорошим. В этом большой двойной грех — и гордости и лжи. От гордости и ложь, а от лжи — гордость.
По Паскалю
Кто не питает отвращения к тому самолюбию, которое заставляет его ставить себя выше всего в мире, тот вполне ослеплен, потому что ничто так не противоречит справедливости и истине, как такое
Путь жизни
427
мнение о себе. Это ложно само в себе, потому что нельзя быть выше всего в мире, и, кроме того, и несправедливо, так как все требуют себе того же.
Паскаль
ЛОЖЬ, ЕЕ ПРИЧИНЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ
Нет несчастья хуже того, когда человек начинает бояться истины, чтобы она не показала ему, как он дурен.
Паскаль
СТРАДАНИЯ НАУЧАЮТ ЧЕЛОВЕКА РАЗУМНОМУ ОТНОШЕНИЮ К ЖИЗНИ
Если бы Бог давал нам таких наставников, о которых мы знали бы достоверно, что они посланы самим Богом, то мы ведь повиновались бы им свободно и радостно. Мы и имеем таких наставников: это нужда и вообще все несчастные случаи жизни.
Паскаль
ЧЕЛОВЕК ДОЛЖЕН ЖИТЬ ТЕМ, ЧТО В НЕМ БЕССМЕРТНО
Кончается ли наша жизнь с телесной смертью, это вопрос самой большой важности, и нельзя не думать об этом. Смотря по тому, верим ли мы или нет в бессмертие, и поступки наши будут разумны или бессмысленны.
Поэтому главная наша забота должна быть о том, чтобы решить вопрос, совсем или не совсем умираем мы в плотской смерти, и если не совсем, то что именно в нас бессмертно. Когда же мы поймем, что есть в нас то, что смертно, и то, что бессмертно, то ясно, что и заботиться мы в этой жизни должны больше о том, что бессмертно, чем о том, что смертно. Голос, который говорит нам, что мы бессмертны, есть голос живущего в нас Бога.
По Паскалю
Паскаль говорит, что если бы мы видели себя во сне постоянно в одном и том же положении, а наяву — в различных, то мы считали бы сон за действительность, а действительность за сон. Это не совсем справедливо. Действительность отличается от сна тем, что в действительной жизни мы обладаем нашей способностью поступать сообразно нашим нравственным требованиям; во сне же мы часто знаем, что совершаем отвратительные и безнравственные поступки,
428
Л.н. ТОЛСТОЙ
не свойственные нам, и не можем удержаться. Так, скорее, надо бы сказать, что если бы мы не знали жизни, в которой мы были бы более властны в удовлетворении нравственных требований, чем во сне, то мы сон считали бы вполне жизнью и никогда не усомнились бы в том, что это не настоящая жизнь. Теперь наша вся жизнь от рождения до смерти, с своими снами, не есть ли в свою очередь сон, который мы принимаем за действительность, за действительную жизнь и в действительности которой мы не сомневаемся только потому, что не знаем жизни, в которой наша свобода следовать нравственным требованиям души была бы еще более, чем та, которой мы обладаем теперь.
ЧЕМ БОЛЬШЕ ЖИВЕТ ЧЕЛОВЕК ДЛЯ ТЕЛА, ТЕМ БОЛЬШЕ ОН ЛИШАЕТСЯ ИСТИННОГО БЛАГА
1
Одни люди ищут блага во власти, другие — в любознательности, в науках, третьи — в наслаждениях. Эти три рода вожделений образовали три различных школы, и все философы всегда следовали какой-либо из трех. Те же, которые более других приблизились к истинной философии, поняли, что всеобщее благо предмет стремления всех людей — не должно заключаться ни в одной из частных вещей, которыми могут владеть только одни и которые, будучи разделены, скорее огорчают их обладателя отсутствием недостающей части, чем доставляют наслаждение той частью, которая ему принадлежит. Они поняли, что истинное благо должно быть таково, чтобы им могли обладать все сразу, без убыли его и без зависти, и чтобы никто не мог потерять его помимо своей воли. И благо это есть: благо это в любви.
Паскаль
IV
ПАСКАЛЬ В ПИСЬМАХ, ДНЕВНИКАХ, ВОСПОМИНАНИЯХ, ЭССЕ
К. Н. БАТЮШКОВ
Письма
94. Н.И. Гнедичу*1 <Август 1811. Хантоново>
Более двух месяцев, любезный друг, как не получаю от тебя ни строки. Что значит твое молчание? Ты болен? Но Полозов2 не дремлет: он иногда за тебя пишет. Что с тобою сделалось? Я бы должен начать с упреков, но их в сторону. Конечно, забыть друга своего в деревне, не писать к нему ни строчки, тогда как он более всего имеет нужды в письмах,— что я говорю? в одной строчке от своего Гомера,— есть дело бессовестное. Но еще раз, бог с тобою!
Я теперь сижу один в моем домике, скучен и грустен, и буду сидеть до осени, может быть, до зимы, т<о> е<сть> пока не соберу тысячи четыре денег, pour faire tete a la fortune**, и тогда полечу к тебе на крыльях надежды, которые теперь немного полиняли.
Что ни говори, любезный друг, а я имею маленькую философию, маленькую опытность, маленький ум, маленькое сердчишко и весьма маленький кошелек. Я покоряюсь обстоятельствам, плыву против воды, но до сих пор, с помощию моего доброго Гения, ни весла, ни руля не покинул. Я часто унываю духом, но не совсем, аэто оправдывает мое маленькое... топпЯпйтеп1рей1***(вспомниДекарта)**** *****3, которое стоит уважения честных людей. Я заврался, но ты меня понимаешь, что тебе делает большую честь. Я заврался, но знаешь ли отчего? Оттого, что пустился в философию. Это со мной обыкновенно бывает по осени.
Я читаю теперь С<ен>-Ламберта ****** и бываю доволен, как ребенок. С.-Ламберт добрый человек, с ним весело беседовать, по крайней мере * Впервые напечатано в «Русская старина», 1883, №4.
** Чтобы противостоять судьбе (фр.).
*** Мое бесконечно малое (фр.).
**** Понятие «бесконечно малого» было введено не Декартом, как пишет Батюшков, а И. Ньютоном.
***** «Нравственные принципы всех народов, или Универсальный катехизис» (1798).
432
К. Н. БАТЮШКОВ
лучше, нежели с Шатобрианом, который, признаюсь тебе, прошлого года зачернил мне воображение духами, Мильтоновыми бесами *, адом и бог знает чем. Он к моей лихорадке прибавил своей ипохондрии и, может быть, испортил и голову и слог мой: я уже готов был писать поэму в прозе, трагедию в прозе, мадригалы в прозе, эпиграммы в прозе, в прозе поэтической. Не читай Шатобриана!
Но что делают ваши Славяне? Бываешь ли ты во пиру во Беседе?5 Ныне осень надворе, и пчелы сбираются в улей, и в вашем улье дым коромыслом. Один читает; другой говорит: изрядно; третий хвастает, четвертый хвалит себя и Шишкова, ибо Шишков воплотился. Что делает Орфей Орфеич?** Что делает Шаховской?6 Что делают все, и в этом числе Бунина, с которой я помирился? Она написала «О счастии»***. Предмет обильный и важный, слишком важный для дамы. В ее поэме нет философии (а предмет философический), нет связи в плане, много чего нет, но зато есть прекрасные стихи. Прочитай конец третьей песни, описание сельского жителя. Это все прелестно. Стихи текут сами собою, картина в целом выдержана, и краски живы и нежны. Позвольте мне, милостивая государыня, иметь счастье поцеловать вашу ручку!
Клянусь Фебом и Шишковым7, что вы имеете дарование.
Я ничего не пишу, все бросил. Стихи к черту! Это не беда; но вот что беда, мой друг: вместе с способностью писать я потерял способность наслаждаться, становлюсь скучен и ленив, даже немного мизантроп. Часто, сложа руки, гляжу перед собою и не вижу ничего, а смотрю,— а на что смотрю? На муху, которая летает туда и сюда. Я мечтатель? О! совсем нет! Я скучаю и, подобно тебе, часто, очень часто говорю: люди все большие скоты и аз есмь человек... окончи сам фразу. Где счастие? Где наслаждение? Где покой? Где чистое сердечное сладострастие, в которое сердце мое любило погружаться? Все, все улетело, исчезло... вместе с песнями Шолио, с сладостными мечтаниями Тибулла8 и милого Грессета9, с воздушными гуриями Анакреона10. Все исчезло! И вот передо мной лежит на столе третий том «Esprit de l’histoire» par Ferrand ****, который доказывает, что люди режут друг друга затем, чтоб основывать государства, а госу-
* Речь идет о трактате Шатобриана «Гений христианства» (1802),3 гл., I кн., I ч. которого посвящена поэме Мильтона «Потерянный рай» (1667).
** Державин.
*** Дидактическое стихотворение А. П. Буниной в 4 песнях.
**** «Дух истории» Феррана (фр.).
Трактат А. Феррана «Дух истории» (ч. I IV, 1802) был написан под впечатлением якобинского террора.
Письма
433
дарства сами собою разрушаются от времени, и люди опять должны себя резать и будут резать, и из народного правления всегда родится монархическое, и монархий нет вечных, и республики несчастнее монархий, и везде зло, а наука политики есть наука утешительная, поучительная, назидательная, и истории должно учиться размышлять... и еще бог знает что такое! Я закрываю книгу. Пусть читают сии кровавые экстракты те, у которых нет ни сердца, ни души.
Теперь берусь за Локка. Он говорит мне: для счастия своего ищи, ищи истины. Но где она? Был ли он сам меня счастливее? Гоббес11 боялся чертей, а сам писал против бестелесных тварей. Так, мой Николай, науки не могут питать сердце. Они развлекают его на время, как игрушки голодных детей, а сердце все просит любви: она — его пища, его блаженство; и мое блаженство — ты знаешь это — улетело на крыльях мечты. Есть ли у меня желания? Есть ли надежда? Я часто себя спрашиваю, и отвечаю: нет!
Вот длинная казанья12. Но о чем говорить? Здесь новостей нет и не бывало. Новости у вас; итак, пришли мне их поболее, но самых приятных, самых веселых: иначе я тебе расшевелю всю мою ипохондрию. Прочитай мое письмо за чаем, прочитай наедине, вздохни, улыбнись и скажи: я люблю его по-прежнему. Прости, мой любезный Николай, пиши почаще и пришли мне чего-нибудь почитать. Нет ли Крылова? * 1:1 Я и безделке буду рад, а за Крылова скажу спасибо.
Константин Батюшков
В Череповец.
«Новых басен» (1811).
н. в. гоголь
Выбранные места из переписки с друзьями
<Фрагменты>
ПРЕДИСЛОВИЕ
Я был тяжело болен*; смерть уже была близко. Собравши остаток сил своих и воспользовавшись первой минутой полной трезвости моего ума, я написал духовное завещание, в котором, между прочим, возлагаю обязанность на друзей моих издать, после моей смерти, некоторые из моих писем. Мне хотелось хотя сим искупить бесполезность всего, доселе мною напечатанного, потому что в письмах моих, по признанию тех, к которым они были писаны, находится более нужного для человека, нежели в моих сочинениях. Небесная милость Божия отвела от меня руку смерти. Я почти выздоровел; мне стало легче. Но, чувствуя, однако, слабость сил моих, которая возвещает мне ежеминутно, что жизнь моя на волоске1 и, приготовляясь к отдаленному путешествию** к Святым Местам, необходимому душе моей, во время которого может все случиться, я захотел оставить при расставанье что-нибудь от себя моим соотечественникам. Выбираю сам из моих последних писем, которые мне удалось получить назад, все, что более относится к вопросам, занимающим ныне общество, отстранивши все, что может получить смысл только после моей смерти, с исключеньем всего, что могло иметь значенье только для немногих. Прибавляю две- три статьи литературные и, наконец, прилагаю самое завещание, с тем чтобы в случае моей смерти, если бы она застигла меня на пути моем***, * Весной-летом 1845 г.
** Подразумевается паломничество в Иерусалим, которое Гоголь совершил в 1848 г.
*** Гоголь опасался умереть от морской болезни, которой всегда страдал. В письме из Неаполя от 7 декабря н.ст. 1847 г. он признавался М.П. Погодину: «...Замирает малодушный дух мой при одной мысли о том, какой длинный мне предстоит переезд, и все почти морем, которого я не в силах выносить и от которого страдаю ужасно»; оттуда же Гоголь писал и H. Н. Шереметевой: «Отправляться мне приходится во время, когда на море бывают непогоды,
Выбранные места из переписки с друзьями <Фрагменты>
435
возымело оно тотчас свою законную силу, как засвидетельствованное всеми моими читателями.
Сердце мое говорит, что книга моя нужна и что она может быть полезна. Я думаю так не потому, чтобы имел высокое о себе понятие и надеялся на уменье свое быть полезным, но потому, что никогда еще доселе не питал такого сильного желанья быть полезным. От нас уже довольно бывает протянуть руку с тем, чтобы помочь, помогаем же не мы, помогает Бог, ниспосылая силу слову бессильному. Итак, сколь бы ни была моя книга незначительна и ничтожна, но я позволяю себе издать ее в свет и прошу моих соотечественников прочитать ее несколько раз; в то же время прошу тех из них, которые имеют достаток, купить несколько ее экземпляров и раздать тем, которые сами купить не могут, уведомляя их при этом случае, что все деньги, какие перевысят издержки на предстоящее мне путешествие, будут обращены, с одной стороны, в подкрепление тем, которые, подобно мне, почувствуют потребность внутреннюю отправиться к наступающему Великому Посту во Святую Землю и не будут иметь возможности совершить его одними собственными средствами, с другой стороны — в пособие тем, которых я встречу на пути уже туда идущих и которые все помолятся у гроба господня за моих читателей, своих благотворителей.
Путешествие мое хотел бы я совершить как добрый христианин. И потому испрашиваю здесь прощения у всех моих соотечественников во всем, чем ни случилось мне оскорбить их. Знаю, что моими необдуманными и незрелыми сочинениями нанес я огорченье многим, а других даже вооружил против себя, вообще во многих произвел неудовольствие. В оправдание могу сказать только то, что намеренье мое было доброе и что я никого не хотел ни огорчать, ни вооружать против себя, но одно мое собственное неразумие, одна моя поспешность и торопливость были причиной тому, что сочинения мои предстали в таком несовершенном виде и почти всех привели в заблуждение насчет их настоящего смысла; за все же, что ни встречается в них умышленно — оскорбляющего, прошу простить меня с тем великодушием, с каким только одна русская душа прощать способна. Прошу прощенья также у всех тех, с которыми на долгое или на короткое время случилось мне встретиться на дороге жизни.
а я бываю сильно болен морскою болезнью даже и во время малейшего колебанья» . Прибыв на Мальту, Гоголь сообщал А. П. Толстому 22 января н. ст. 1848 г.: «Рвало меня таким образом, что все до едина возымели о мне жалость...»; и на следующий день А. М. Виельгорской: «Если бы еще такого адского состоянья были одни сутки, меня бы не стало на свете».
436
н.В. ГОГОЛЬ
Знаю, что мне случалось многим наносить неприятности, иным, быть может, и умышленно. Вообще в обхождении моем с людьми всегда было много неприятно-отталкивающего. Отчасти это происходило оттого, что я избегал встреч и знакомств, чувствуя, что не могу еще произнести умного и нужного слова человеку (пустых же и ненужных слов произносить мне не хотелось), и будучи в то же время убежден, что по причине бесчисленного множества моих недостатков мне было необходимо хотя немного воспитать самого себя в некотором отдалении от людей. Отчасти же это происходило и от мелочного самолюбия, свойственного только таким из нас, которые из грязи пробрались в люди и считают себя вправе глядеть спесиво на других. Как бы то ни было, не я прошу прощения во всех личных оскорблениях, которые мне случилось нанести кому-либо, начиная от времен моего детства до настоящей минуты. Прошу также прощенья у моих собратьев-литераторов за всякое с моей стороны пренебреженье или неуваженье к ним, оказанное умышленно или неумышленно; кому же из них почему-либо трудно простить меня, тому напомню, что он христианин. Как говеющий перед исповедью, которую готовится отдать Богу, просит прощенья у своего брата, так я прошу у него прощенья, и как никто в такую минуту не посмеет не простить своего брата, так и он не должен посметь не простить меня. Наконец, прошу прощенья у моих читателей, если и в этой самой книге встретится что-нибудь неприятное и кого-нибудь из них оскорбляющее. Прошу их не питать против меня гнева сокровенного, но вместо того выставить благородно все недостатки, какие могут быть найдены ими в этой книге,— как недостатки писателя, так и недостатки человека; мое неразумие, недомыслие, самонадеянность, пустую уверенность в себе, словом, все, что бывает у всех людей, хотя они того и не видят, и что, вероятно, еще в большей мере находится во мне.
В заключение прошу всех в России помолиться обо мне, начиная от святителей, которых уже вся жизнь есть одна молитва. Прошу молитвы как у тех, которые смиренно не веруют в силу молитв своих, так и у тех, которые не веруют вовсе в молитву и даже не считают ее нужною: но как бы ни была бессильна и черства их молитва, я прошу помолиться обо мне этой самой бессильной и черствой их молитвой. Я же у Гроба Господнего буду молиться о всех моих соотечественниках, не исключая из них ни единого; моя молитва будет так же бессильна и черства, если святая небесная милость не превратит ее в то, чем должна быть наша молитва.
1846, июль
Выбранные места из переписки с друзьями <Фрагменты>
437
III
ЗНАЧЕНИЕ БОЛЕЗНЕЙ *2 (Из письма к Гр. А. П. Т...му)
...Силы мои слабеют ежеминутно, но не дух. Никогда еще телесные недуги не были так изнурительны. Часто бывает так тяжело, так тяжело, такая страшная усталость чувствуется во всем составе тела, что рад бываешь, как Бог знает чему, когда наконец оканчивается день и доберешься до постели. Часто, в душевном бессилии, восклицаешь: «Боже! где же наконец берег всего?» Но потом, когда оглянешься на самого себя и посмотришь глубже себе внутрь — ничего уже не издает душа, кроме одних слез и благодарения. О! как нужны нам недуги! Из множества польз, которые я уже извлек из них, скажу вам только одну: ныне каков я ни есть, но я все же стал лучше, нежели был прежде; не будь этих недугов, я бы задумал, что стал уже таким, * Письмо адресовано графу Александру Петровичу Толстому (1801—1873).
В « Выбранных местах... » к нему обращены, по крайней мере, семь писем-статей — больше, чем к кому-либо. Переписка Гоголя с Толстым была обширна, но после смерти писателя Толстой, вероятно, уничтожил свои письма. Во всяком случае, весной 1852 г. он сообщал сестре, С. П. Апраксиной, что, разбирая гоголевские бумаги (Гоголь умер у него в доме), изымает свои и ее письма к покойному (см. : Паламарчук П. Г. Список уцелевших от сожжения рукописей Гоголя // Гоголь: История и современность. М., 1985). За Толстым закрепилась репутация человека, сыгравшего в судьбе Гоголя роковую роль. Нередко можно встретить ссылку на слова С. Т. Аксакова, считавшего знакомство с Толстым «решительно гибельным для Гоголя». Однако если обратиться к личности графа Толстого и подробностям его отношений с Гоголем, то мы увидим иную картину.
Он был потомком грузинского царя Вахтанга VI. Шестнадцати лет вступил в военную службу, в двадцать восемь пожалован флигель-адъютантом, затем был дипломатом, губернатором в Твери (1834-1837), генерал-губернатором в Одессе (1837-1840). После конфликта с князем М.С. Воронцовым, новороссийским и бессарабским генерал-губернатором, Толстой в 1840 г. вышел в отставку и уехал за границу. К службе он вернулся только в 1855 г. и занимал крупнейшие государственные посты обер-прокурора Синода и члена Государственного совета.
Знакомство Гоголя с Толстым состоялось еще в тридцатых годах (в 1839 г. они уже переписывались). Со временем это знакомство перешло в близкую дружбу. Гоголя привлекало в Толстом многое, в частности — природная доброта, религиозная настроенность души, склонность к аскетизму. Анна Васильевна Гоголь, сестра писателя, рассказывала В. И. Шенроку со слов брата, что Толстой носил тайно вериги (Шенрок В. И. Материалы для биографии Гоголя. М., 1897. Т. 4. С. 409). И. В. Киреевский говорил про него: «Легче становится жить после встречи с таким человеком» (цит. по: Филиппов Т. Воспоминания о графе Александре Петровиче Толстом // Гражданин. 1874. №4. С. 113). Чрезвычайно выразительную характеристику Толстого после
438
н. В. ГОГОЛЬ
каким следует мне быть3. Не говорю уже о том, что самое здоровье, которое беспрестанно подталкивает русского человека на какие-то прыжки и желанье порисоваться своими качествами перед другими, заставило бы меня наделать уже тысячу глупостей.
Притом ныне, в мои свежие минуты, которые дает мне милость небесная и среди самих страданий, иногда приходят ко мне мысли, несравненно лучшие прежних, и я вижу сам, что теперь все, что ни выйдет из-под пера моего, будет значительнее прежнего. Не будь тяжких болезненных страданий, куда б я теперь не занесся! каким бы значительным человеком вообразил себя! Но, слыша ежеминутно, что жизнь моя на волоске, что недуг может остановить вдруг тот труд мой, на котором основана вся моя значительность *, и та польза, которую назначения его обер-прокурором Синода в 1856 г. дал Н. П. Гиляров-Платонов в письме к протоиерею А. В. Горскому, профессору, а впоследствии ректору Московской улучшение и в то же время менее склонного проводить какие-нибудь свои личные расчеты в управлении столь важною частию. «<...> Он принадлежит к разряду тех людей, которых я не умею иначе охарактеризовать, как назвать их оптинскими христианами. Это люди, глубоко уважающие духовную жизнь, желающие видеть в духовенстве руководителей к духовной высоте жизни, жаждущие, чтобы православное христианство в России было осуществлением того, что читаем в Исааке Сирине, Варсонофии и проч. И он сам в своей жизни именно таков. Никто менее не способен мириться с казенностью, с формализмом и с мирскою суетой в деле Христианства. <...> К таким людям принадлежал покойный Гоголь... » (Материалы для биографии Н. П. Гилярова-Платонова // Русское обо- зроение. 1896. № 12. С. 997).
Трудно сказать, в какой мере Толстой влиял на Гоголя, однако письма Гоголя к нему сороковых годов проникнуты тем же учительным тоном, что и по отношению к другим адресатам. « Все же, что ни говорил я относительно Великого Поста и предстоящих нам подвигов говения и пощения, выполните с буквальною точностью, как бы она ни казалась вам не нужною или не идущею к делу. Наложите также на себя обет добровольного воздержания в слове во все продолжение этого времени...» (из письма Гоголя от 5 мартан.ст. 1845 г.). Гоголь относил Толстого к числу людей, «которые способны сделать много у нас добра при нынешних именно обстоятельствах России, который не с европейской заносчивой высоты, а прямо с русской здравой середины видит вещь», и побуждал его заняться государственной деятельностью.
Гоголь неоднократно останавливался у графа Толстого в Париже, а в 1848-1852 гг. жил в его доме на Никитском бульваре в Москве, где писал второй том « Мертвых душ». «Здесь за Гоголем ухаживали как за ребенком,— вспоминал Н. В. Берг,— предоставив ему полную свободу во всем. Он не заботился ровно ни о чем» (Гоголь в воспоминаниях современников. С. 504). Устные рассказы Толстого стали основным источником сведений о предсмертных днях Гоголя.
В данном письме Гоголь развивает общую для христианских писателей мысль о значении болезней и страданий человека для его духовного возрождения. Эту идею он намеревался воплотить во втором томе « Мертвых душ».
* « Мертвые души».
Выбранные места из переписки с друзьями <Фрагменты>
439
так желает принесть душа моя, останется в одном бессильном желании, а не в исполнении, и не дам я никаких процентов на данные мне Богом таланты, и буду осужден, как последний из преступников... Слыша все это, смиряюсь я всякую минуту и не нахожу слов, как благодарить небесного Промыслителя за мою болезнь. Принимайте же и вы покорно всякий недуг, веря вперед, что он нужен. Молитесь Богу только о том, чтобы открылось перед вами его чудное значение и вся глубина его высокого смысла.
1846
VI
О ПОМОЩИ БЕДНЫМ (Из письма к А. О. С...ой) *
...Обращаюсь к нападеньям вашим на глупость петербургской молодежи, которая затеяла подносить золотые венки и кубки чужеземным певцам и актрисам в то самое время, когда в России голодают целиком губернии. Это происходит не от глупости и не от ожесточения сердец, даже и не от легкомыслия. Это происходит от всем нам общей человеческой беспечности. Эти несчастия и ужасы, производимые голодом, далеки от нас; они совершаются внутри провинций, они не перед нашими глазами,— вот разгадка и объяснение всего! Тот же самый, кто заплатил, дабы насладиться пеньем Рубини**, сто рублей за кресло в театре, продал бы свое последнее имущество, если бы довелось ему быть свидетелем на деле хотя одной из тех ужасных картин голода, перед которыми ничто всякие страхи и ужасы, выставляемые в мелодрамах. За пожертвованьем у нас не станет дело: мы все готовы жертвовать. Но пожертвованья собственно в пользу * Письмо адресовано Александре Осиповне Смирновой (рожденной Россет; 1810-1882), фрейлине императрицы Александры Федоровны. Ее воспоминания о Гоголе см. : Смирнова-Россет А. О. Дневник. Воспоминания. М., 1989. Об их взаимоотношениях см.: Колосова Н. Смирнова и Гоголь // Кавкасиони: Лит. Сборник. Вып.З. Тбилиси, 1985.
В настоящем письме нашла отражение переписка Гоголя со Смирновой в 1844 г., в частности письма Смирновой от 18 и 30 декабря (опубликованы: Русская старина. 1888. № 10) и письмо Гоголя от 28 декабря.
** Джованни Батиста Рубини (1794 или 1795-1854), итальянский певец-тенор, выступавший с концертами в России В1843-1845 и1847 гг. О его гастролях в Москве С.П. Шевырев писал в «Московитянине» (1843. № 4. Московская летопись): «Рубини за3 концерта повез из Москвы 70 000 р<ублей> ассигнациями. В последнем собрано им было 10000 р<ублей>, по причине ограниченности мест театра, который был, однако, полон».
440
н. В. ГОГОЛЬ
бедных у нас делаются теперь не весьма охотно, отчасти потому, что не всякий уверен, дойдет ли, как следует, до места назначенья его пожертвованье, попадет ли оно именно в те руки, в которые должно попасть. Большею частию случается так, что помощь, точно какая-то жидкость, несомая в руке, вся расхлещется по дороге, прежде чем донесется, и нуждающемуся приходится посмотреть только на одну сухую руку, в которой нет ничего. Вот о каком предмете следует подумать, прежде чем собирать пожертвованья. Об этом мы с вами после потолкуем, потому что это дело ничуть не маловажное и стоит того, чтобы о нем толково потолковать. А теперь поговорим о том, где скорей нужно помогать. Помогать нужно прежде всего тому, с которым случилось несчастие внезапное, которое вдруг, в одну минуту, лишило его всего за одним разом: или пожар, сжегший все дотла, или падеж, выморивший весь скот, или смерть, похитившая единственную подпору, словом — всякое лишение внезапное, где вдруг является человеку бедность, к которой он еще не успел привыкнуть. Туда несите помощь. Но нужно, чтобы помощь эта произведена была истинно христианским образом; если же она будет состоять в одной только выдаче денег, она ровно ничего не будет значить и не обратится в добро. Если вы не обдумали прежде в собственной голове всего положения того человека, которому хотите помочь, и не принесли с собой ему наученья, как отныне следует вести ему свою жизнь, он не получит большого добра от вашей помощи. Цена поданной помощи редко равняется цене утраты; вообще она едва составляет половину того, что человек потерял, часто одну четверть, а иногда и того меньше. Русский человек способен на все крайности: увидя, что с полученными небольшими деньгами он не может вести жизнь, как прежде, он с горя может прокутить вдруг то, что ему дано на долговременное содержанье. А потому наставьте его, как ему изворотиться именно с той самой помощью, которую вы принесли ему, объясните ему истинное значение несчастья, чтобы он видел, что оно послано ему затем, дабы он изменил прежнее житие свое, дабы отныне он стал уже не прежний, но как бы другой человек и вещественно и нравственно. Вы сумеете это сказать умно, если только вникнете хорошенько в его природу и в его обстоятельства. Он вас поймет: несчастие умягчает человека; природа его становится тогда более чуткой и доступной к пониманью предметов, превосходящих понятие человека, находящегося в обыкновенном и вседневном положении; он как бы весь обращается тогда в разогретый воск, из которого можно лепить все, что ни захотите. Всего лучше, однако ж, если бы всякая помощь производилась чрез руки опытных и умных священников. Они одни в силах истолковать человеку святой и глубокий смысл несчастия, которое, в каких бы
Выбранные места из переписки с друзьями <Фрагменты>
441
ни являлось образах и видах кому бы то ни было на земле, обитает ли он в избе или палатах, есть тот же крик небесный, вопиющий человеку о перемене всей его прежней жизни.
1844
VIII
НЕСКОЛЬКО СЛОВ О НАШЕЙ ЦЕРКВИ И ДУХОВЕНСТВЕ (Из письма к гр. А. П. Т...му)*
Напрасно смущаетесь вы нападениями, которые теперь раздаются на нашу Церковь в Европе. Обвинять в равнодушии духовенство наше будет также несправедливость. Зачем хотите вы, чтобы наше духовенство, доселе отличавшееся величавым спокойствием, столь ему пристойным, стало в ряды европейских крикунов и начало, подобно им, печатать опрометчивые брошюры? Церковь наша действовала мудро. Чтобы защищать ее, нужно самому прежде узнать ее. А мы вообще знаем плохо нашу церковь. Духовенство наше не бездействует. Я очень знаю, что в глубине монастырей и в тишине келий готовятся неопровержимые сочинения в защиту Церкви нашей. Но дела свои они делают лучше, нежели мы: они не торопятся и, зная, чего требует такой предмет, совершают свой труд в глубоком спокойствии, молясь, воспитывая самих себя, изгоняя из души своей все страстное, похожее на неуместную, безумную горячку, возвышая свою душу на ту высоту бесстрастия небесного, на которой ей следует пребывать, дабы быть в силах заговорить о таком предмете. Но и эти защиты еще не послужат к полному убеждению западных католиков. Церковь * Письмо адресовано А. П. Толстому (о нем см. в коммент, к письму III. Значение болезней). Публикация этого и следующего письма («О том же») встретила препятствия в духовной цензуре. «Нельзя пропустить,— сделал заключение цензор,— ибо у сочинителя понятия о сих предметах конфузны». Только после обращения П. А. Плетнева к обер-прокурору Синода Н. А. Протасову Синод разрешил публикацию писем за исключением нескольких фраз.
Гоголь сознавал огромное нравственное и культурное значение духовенства. Он был знаком со многими церковными иерархами и русскими священниками за границей, среди которых было немало широко образованных людей. Что касается сельского духовенства, то Гоголь, видя его не всегда высокий культурный уровень, тем не менее настойчиво стремился внушить прихожанам уважение к любому пастырю. В этом он следовал заветам святоотеческой литературы. В сборнике выписок Гоголя помещена выдержка из св. Иоанна Златоуста — «О почитании священника, хотя бы и погрешающего» : «Кто чтит священника, тот будет чтить и Бога. Но кто научился презирать священника, тот будет хулить и Самого Бога» (ОР ЦНБ АН Украины. Ф. дис. 2165. Прил. С. 14).
442
н. В. ГОГОЛЬ
наша должна святиться в нас, а не в словах наших. Мы должны быть Церковь наша и нами же должны возвестить ее правду. Они говорят, что Церковь наша безжизненна.— Они сказали ложь, потому что Церковь наша есть жизнь; но ложь свою они вывели логически, вывели правильным выводом: мы трупы, а не Церковь наша, и по нас они назвали и Церковь нашу трупом. Как нам защищать нашу Церковь и какой ответ мы можем дать им, если они нам зададут такие вопросы: «А сделала ли ваша Церковь вас лучшими? Исполняет ли всяк у вас, как следует, свой долг?» Что мы тогда станем отвечать им, почувствовавши вдруг в душе и в совести своей, что шли все время мимо нашей Церкви и едва знаем ее даже и теперь? Владеем сокровищем, которому цены нет, и не только не заботимся о том, чтобы это почувствовать, но не знаем даже, где положили его. У хозяина спрашивают показать лучшую вещь в его доме, и сам хозяин не знает, где лежит она. Эта Церковь, которая, как целомудренная дева, сохранилась одна только от времен апостольских в непорочной первоначальной чистоте своей, эта Церковь, которая вся с своими глубокими догматами и малейшими обрядами наружными как бы снесена прямо с неба для русского народа, которая одна в силах разрешить все узлы недоумения и вопросы наши, которая может произвести неслыханное чудо в виду всей Европы, заставив у нас всякое сословье, званье и должность войти в их законные границы и пределы и, не изменив ничего в государстве, дать силу России изумить весь мир согласной стройностью того же самого организма, которым она доселе пугала,— и эта Церковь нами незнаема! И эту Церковь, созданную для жизни, мы до сих пор не ввели в нашу жизнь!
Нет, храни нас Бог защищать теперь нашу Церковь! Это значит уронить ее. Только и есть для нас возможна одна пропаганда — жизнь наша. Жизнью нашей мы должны защищать нашу Церковь, которая вся есть жизнь; благоуханием душ наших должны мы возвестить ее истину. Пусть миссионер католичества западного бьет себя в грудь, размахивает руками и красноречием рыданий и слов исторгает скоро высыхающие слезы. Проповедник же католичества восточного должен выступить так перед народ, чтобы уже от одного его смиренного вида, потухнувших очей и тихого, потрясающего гласа, исходящего из души, в которой умерли все желания мира, все бы подвигнулось еще прежде, чем он объяснил бы самое дело, и в один голос заговорило бы к нему: «Не произноси слов, слышим и без них святую правду твоей Церкви! » *
* Рассказывая в письме к графу А. П. Толстому от 10 июля 1850 г. о своем посещении Оптиной Пустыни, Гоголь заметил о ее иноках: «Я не расспрашивал, кто из них как живет: их лица сказали сами все».
Выбранные места из переписки с друзьями <Фрагменты>
443
IX О ТОМ ЖЕ (Из письма к гр. А. П. Т...му)*
Замечание, будто власть Церкви оттого у нас слаба, что наше духовенство мало имеет светскости и ловкости обращенья в обществе, есть такая нелепость, как и утверждение, будто духовенство у нас вовсе отстранено от всякого прикосновения с жизнью уставами нашей Церкви и связано в своих действиях правительством. Духовенству нашему указаны законные и точные границы в его соприкосновениях со светом и людьми. Поверьте, что если бы стали они встречаться с нами чаще, участвуя в наших ежедневных собраниях и гульбищах или входя в семейные дела,— это было бы нехорошо. Духовному предстоит много искушений, гораздо более даже, нежели нам: как раз завелись бы те интриги в домах, в которых обвиняют римско-католических попов. Римско-католические попы именно оттого сделались дурными, что чересчур сделались светскими. У духовенства нашего два законных поприща, на которых они с нами встречаются: исповедь и проповедь. На этих двух поприщах, из которых первое бывает только раз или два в год, а второе может быть всякое воскресенье, можно сделать очень много. И если только священник, видя многое дурное в людях, умел до времени молчать о нем и долго соображать в себе самом, как ему сказать таким образом, чтобы всякое слово дошло прямо до сердца, то он уже скажет об этом так сильно на исповеди и проповеди, как никогда ему не сказать на ежедневных с нами беседах. Нужно, чтобы он говорил стоящему среди света человеку с какого-то возвышенного места, чтобы не его присутствие слышал в это время человек, но присутствие Самого Бога, внимающего равно им обоим, и слышался бы обоюдный страх от Его незримого присутствия. Нет, это даже хорошо, что духовенство наше находится в некотором отдалении от нас. Хорошо, что даже самой одеждой своей, не подвластной никаким изменениям и прихотям наших глупых мод, они отделились от нас. Одежда их прекрасна и величественна. Это не бессмысленное, оставшееся от осьмнадцатого века рококо и не лоскутная, ничего не объясняющая одежда римско-католических священников. Она имеет смысл: она по образу и подобию той одежды, которую носил Сам Спаситель. Нужно, чтобы и в самой одежде своей они носили себе вечное напоминание о Том, Чей образ они должны представлять нам, чтобы и на один миг не позабылись и не растерялись среди развлечений * Письмо адресовано А. П. Толстому.
444
н. В. ГОГОЛЬ
и ничтожных нужд света, ибо с них тысящу крат более взыщется, чем с каждого из нас; чтобы слышали беспрестанно, что они — как бы другие и высшие люди. Нет, покамест священник еще молод и жизнь ему неизвестна, он не должен даже и встречаться с людьми иначе, как на исповеди и проповеди. Если же и входить в беседу, то разве только с мудрейшими и опытнейшими из них, которые могли бы познакомить его с душой и сердцем человека, изобразить ему жизнь в ее истинном виде и свете, а не в том, в каком она является неопытному человеку. Священнику нужно время также и для себя: ему нужно поработать и над самим собою. Он должен с Спасителя брать пример, который долгое время провел в пустыне и не прежде, как после сорокадневного предуготовительного поста, вышел к людям учить их. Некоторые из нынешних умников выдумали, будто нужно толкаться среди света для того, чтобы узнать его. Это просто вздор. Опроверженьем такого мнения служат все светские люди, которые толкаются вечно среди света и при всем том бывают всех пустее. Воспитываются для света не посреди света, но вдали от него, в глубоком внутреннем созерцании, в исследовании собственной души своей, ибо там законы всего и всему: найди только прежде ключ к своей собственной душе; когда же найдешь, тогда этим же самым ключом отопрешь души всех.
XII
ХРИСТИАНИН ИДЕТ ВПЕРЕД (Письмо к Щ...ву) *
Друг мой! считай себя не иначе, как школьником и учеником. Не думай, чтобы ты уже был стар для того, чтобы учиться, что силы твои достигнули настоящей зрелости и развития и что характер и душа * Данное письмо адресовано, по всей видимости, Степану Петровичу Шевы реву (1806-1864), поэту, критику, историку литературы, одному из ближай ших друзей Гоголя. Ф. В. Чижов в третьем томе Полного собрания сочинений Н. В. Гоголя (М., 1867) утверждает, что под обозначением «Щ...ву» следует понимать «Шевыреву».
И по смыслу, и по последовательности изложения идей настоящее письмо совпадает с отрывком из первой главы второго тома «Мертвых душ», где Гоголь представляет педагогическую концепцию Александра Петровича — первого наставника Тентетникова. Вначале и в том и в другом тексте речь идет о воздействии на бессознательную сторону человека, а именно о возбуждении «честолюбия». Затем следуют размышления об интеллектуальных ступенях восхождения, причем «уму» и «разуму» письма соответствуют в поэме «простой ум» и «ум высший» — «с которым побеждает человек свои страсти», по выражению Александра Петровича. Недостает лишь у первого учителя Тентетникова самого главного — стремления направить своих воспитанников к овладению «мудростью» — третьей
Выбранные места из переписки с друзьями <Фрагменты>
445
твоя получили уже настоящую форму и не могут быть лучшими. Для христианина нет оконченного курса; он вечно ученик и до самого гроба ученик. По обыкновенному, естественному ходу человек достигает полного развития ума своего в тридцать лет. От тридцати до сорока еще кое-как идут вперед его силы; дальше же этого срока в нем ничто не подвигается, и все им производимое не только не лучше прежнего, но даже слабее и холодней прежнего. Но для христианина этого не существует, и где для других предел совершенства, там для него оно только начинается. Самые способные и самые даровитые из людей, перевалясь за сорокалетний возраст, тупеют, устают и слабеют. Перебери всех философов и первейших всесветных гениев: лучшая пора их была только во время их полного мужества; потом они уже понемногу выживали из своего ума, а в старости впадали даже в младенчество. Вспомни о Канте, который в последние годы обеспамятел вовсе и умер, как ребенок*. Но пересмотри жизнь всех святых: ты увидишь, что они крепли в разуме и силах духовных по мере того, как приближались к дряхлости и смерти. Даже и те из них, которые от природы не получили никаких блестящих даров и считались всю жизнь простыми и глупыми, изумляли потом разумом речей своих. Отчего ж это? Оттого, что у них пребывала всегда та стремящая сила, которая обыкновенно бывает у всякого человека только в лета его юности, когда он видит перед собой подвиги, за которые наградой всеобщее рукоплесканье, когда ему мерещится радужная даль, имеющая такую заманку для юноши. Угаснулапред ним даль и подвиги — угаснула и сила стремящая. Но перед христианином сияет вечно даль, и видятся вечные подвиги. Он, как юноша, алчет жизненной битвы; ему есть с чем воевать и где подвизаться, потому что взгляд его на самого себя, беспрестанно просветляющийся, открывает ему новые недостатки в себе самом, с которыми нужно производить новые битвы. Оттого и все его силы не только не могут в нем ступенью восхождения, обозначенной в настоящем письме,— а это препятствует видеть в нем, вопреки традиционным представлениям, «идеального» героя.
2 марта н. ст. 1843 г. Гоголь, прочитав опубликованную в «Журнале министерства народного просвещения» статью С. П. Шевырева «Об отношении семейного воспитания к государственному», писал ему: «Ты <...> и не подозреваешь, что в этой статье твоей есть много того, к чему стремятся мои мысли, но когда выйдет продолжение “Мертвых душ”, тогда ты узнаешь истину и значение слов этих, и ты увидишь, как мы сошлись, никогда не говоря и не рассуждая друг с другом».
Таким образом, подтверждается свидетельство Ф. В. Чижова о том, что настоящая статья адресована С. П. Шевыреву.
* Немецкий философ Иммануил Кант (1724-1804) умер в состоянии старческого слабоумия.
446
н. В. ГОГОЛЬ
заснуть или ослабеть, но еще возбуждаются беспрестанно; а желанье быть лучшим и заслужить рукоплесканье на небесах придает ему такие шпоры, каких не может дать наисильнейшему честолюбцу его ненасытимейшее честолюбие. Вот причина, почему христианин тогда идет вперед, когда другие назад, и отчего становится он, чем дальше, умнее.
Ум не есть высшая в нас способность. Его должность не больше, как полицейская: он может только привести в порядок и расставить по местам все то, что у нас уже есть. Он сам не двигнется вперед, покуда не двигнутся а нас все другие способности, от которых он умнеет. Отвлеченными чтеньями, размышленьями и беспрестанными слушаньями всех курсов наук его заставишь только слишком немного уйти вперед; иногда это даже подавляет его, мешая его самобытному развитию. Он несравненно в большей зависимости находится от душевных состояний: как только забушует страсть, он уже вдруг поступает слепо и глупо; если же покойна душа и не кипит никакая страсть, он и сам проясняется и поступает умно. Разум есть несравненно высшая способность, но она приобретается не иначе, как победой над страстьми. Его имели в себе только те люди, которые не пренебрегли своим внутренним воспитанием. Но и разум не дает полной возможности человеку стремиться вперед. Есть высшая еще способность, имя ей — мудрость, и ее может дать нам один Христос. Она не наделяется никому из нас при рождении, никому из нас не есть природная, но есть дело высшей благодати небесной. Тот, кто уже имеет и ум и разум, может не иначе получить мудрость, как молясь о ней и день и ночь, прося и день и ночь ее у Бога, возводя душу свою до голубиного незлобия и убирая все внутри себя до возможнейшей чистоты, чтобы принять эту небесную гостью, которая пугается жилищ, где не пришло в порядок душевное хозяйство и нет полного согласья во всем ’. Если же она вступит в дом, тогда начинается для человека небесная жизнь, и он постигает всю чудную сладость быть учеником. Все становится для него учителем; весь мир для него учитель: ничтожнейший из людей может быть для него учитель. Из совета самого простого извлечет он мудрость совета; глупейший предмет станет к нему своей мудрой стороной, и вся вселенная перед ним станет, как одна открытая книга ученья: больше всех будет он черпать из нее сокровищ, потому что больше всех будет слышать, что он ученик. Но если только возмнит он хотя на миг, что ученье его кончено, и он уже не ученик, и оскорбится он чьим бы то ни было уроком или поученьем, мудрость вдруг от него отнимется, и останется он впотьмах, как царь Соломон ’’ в свои последние дни.
Выбранные места из переписки с друзьями <Фрагменты>
447
XVI СОВЕТЫ (Письмо к Щ...ву)*
Уча других, также учишься**. Посреди моего болезненного и трудного времени, к которому присоединились еще и тяжелые страдания душевные, я должен был вести такую деятельную переписку, какой никогдау меня не было дотоле. Как нарочно, почти со всеми близкими моей душе случились в это время внутренние события и потрясения. Все каким-то инстинктом обращалось ко мне, требуя помощи и совета. Тут только узнал я близкое родство человеческих душ между собою. Стоит только хорошенько выстрадаться самому, как уже все страдающие становятся тебе понятны и почти знаешь, что нужно сказать им. Этого мало; самый ум проясняется: дотоле сокрытые положенья и поприща людей становятся тебе известны, и делается видно, что кому из них потребно. В последнее время мне случалось даже получать письма от людей, мне почти вовсе незнакомых, и давать на них ответы такие, каких бы я не сумел дать прежде. А между прочим, я ничуть не умней никого. Я знаю людей, которые в несколько раз умней и образованней меня и могли бы дать советы в несколько раз полезнейшие моих; но они этого не делают и даже не знают, как это сделать. Велик Бог, нас умудряющий! и чем же умудряющий? — тем самым горем, от которого мы бежим и хотим сокрыться. Страданьями * Адресат письма, вероятно, С. П. Шевырев. См коммент, к главе XII Христианин идет вперед. В записной книжке Гоголя 1841-1846 гг. содержится отрывок, представляющий из себя, по-видимому, набросок к данной статье: «Всегда почти выходит, что тот совет и упрек, который сделаем другим, как раз придется к тебе самому. Так что это вдвойне проясняет <?>. С тех пор я положил себе в урок никому не давать совета без того, чтобы искренне не обратить самому себе, никому не делать упрека без того, чтобы внутренне не обратить к самому себе. Поверь, что советы и тебе нужны, и делай так же, < упрекни > в том себя, в чем упрекнул другого. И если это кажется неправдой, то не потому, чтоб это было неправдой, но потому что плохо видим себя. Я сделал это себе правилом, советую и тебе того же. Не думай, что ты бессилен и не можешь учиться, но учись, учась, действуй обоюдоостро».
** Возможно, отклик на опубликованное в третьем томе «Современника» (1836) «Письмо к издателю» А. С. Пушкина, где подверглась критике статья Гоголя «О движении журнальной литературы, в 1834 и 1835 годах», помещенная в первом томе журнала. Свое «Письмо... » Пушкин начинает цитатой из Георгия Конисского: «...учители добрые и нелукавые себе первее учат, нежели других, своему уху, яко ближайшему, наперед проповедуют, нежели чужим». Эта мысль восходит к словам апостола Павла и Послания к Римлянам: «Как же ты, уча другого, не учишь самого себя?» (гл. 2, ст. 21).
448
н. В. ГОГОЛЬ
и горем определено нам добывать крупицы мудрости, не приобретаемой в книгах. Но кто уже приобрел одну из этих крупиц, тот уже не имеет права скрывать ее от других. Она не твое, но Божье достоянье. Бог ее выработал в тебе; все же дары Божьи даются нам затем, чтобы мы служили ими собратьям нашим: Он повелел, чтобы ежеминутно учили мы друг друга. Итак, не останавливайся, учи и давай советы! Но если хочешь, чтобы это принесло в то же время тебе самому пользу, делай так, как думаю я и как положил себе отныне делать всегда: всякий совет и наставление, какое бы ни случилось кому дать, хотя бы даже человеку, стоящему на самой низкой степени образования, с которым у тебя ничего не может быть общего, обрати в то же время к самому себе и то же самое, что посоветовал другому, посоветуй себе самому; тот же самый упрек, который сделал другому, сделай тут же себе самому. Поверь, все придется к тебе самому, и я даже не знаю, есть ли такой упрек, которым бы нельзя было упрекнуть себя самого, если только пристально поглядишь на себя. Действуй оружием обоюдуострым! Если даже тебе случится рассердиться на кого бы то ни было, рассердись в то же время и на себя самого, хотя за то, что сумел рассердиться на другого. И это делай непременно! Ни в каком случае не своди глаз с самого себя. Имей всегда в предмете себя прежде всех. Будь эгоист в этом случае! Эгоизм — тоже не дурное свойство; вольно было людям дать ему такое скверное толкование, а в основанье эгоизма легла сущая правда. Позаботься прежде о себе, а потом о других; стань прежде сам почище душою, а потом уже старайся, чтобы другие были чище.
XVII
ПРОСВЕЩЕНИЕ (Письмо к В. А. Ж...му)*
Еще раз пишу к тебе с дороги. Брат, благодарю за все! У Гроба Господа испрошу, да поможет мне отдать тебе хотя часть того умного добра, которым наделял меня ты. Веруй, и да не смущается твое сердце! В Москву ты приедешь как в родную свою семью **. Она предстанет тебе желанной пристанью, и в ней будет покойнее тебе, нежели здесь. Ни пустой шум суеты, ни гром экипажа не смутит тебя: объедут бережно и улицу, в которой ты будешь жить. Если кто и приедет тебя навестить, старый ли друг твой или же дотоле незнакомый человек, он станет вперед просить не отдавать ему ви* Адресовано В. А. Жуковскому.
** В. А. Жуковский собирался вернуться в Россию и поселиться в Москве, где жили почти все его родные и друзья.
Выбранные места из переписки с друзьями <Фрагменты>
449
зита, боясь, чтобы и минута твоего времени не пропала. У нас умеют и даже знают, как почтить того, кто сделал целиком свое дело. Кто так безукоризненно, так честно употреблял все дары свои, не давая задремать своим способностям, не ленясь ни минуты во всю жизнь свою, кто сохранил свежую старость свою, как бы молодость, в то время как все вокруг ее истратили на пустые соблазны и когда молодые превратились в хилых стариков, тот имеет право на вниманье благоговейное. Как патриарх ты будешь в Москве, и на вес золота примут от тебя юноши старческие слова твои. Твоя «Одиссея»6 принесет много общего добра, это тебе предрекаю. Она возвратит к свежести современного человека, усталого от беспорядка жизни и мыслей; она обновит в глазах его много того, что брошено им, как ветхое и ненужное для быта; она возвратит его к простоте. Но не меньше добра, если еще не больше, принесут те труды, на которые навел тебя сам Бог и которые ты держишь покуда разумно под спудом *. В них окажется также потребность общая. Не смущайся же и твердо гляди вперед! Да не испугает тебя никакая нестройность того, что бы ты ни встретил. Есть примиритель всего внутри самой земли нашей, который покуда еще не всеми видим,— наша Церковь. Уже готовится она вдруг вступить в полные права свои и засиять светом на всю землю. В ней заключено все, что нужно для жизни истинно русской, во всех ее отношениях, начиная от государственного до простого семейственного, всему настрой, всему направление, всему законная и верная дорога. По мне, безумна и мысль ввести какое- нибудь нововведенье в Россию, минуя нашу Церковь, не испросив у нее на то благословенья. Нелепо даже и к мыслям нашим прививать какие бы то ни было европейские идеи, покуда не окрестит их она светом Христовым. Увидишь, как это вдруг и в твоих же глазах будет признано всеми в России, как верующими, так и неверующими, как вдруг выступит всеми узнанная наша Церковь. Была на то воля Промысла, чтобы непостижимая слепота пала на глаза многих. Когда разбираю пристально нить событий мира, вижу всю мудрость Божью, попустившую временному разделенью Церквей, повелевшую одной стоять неподвижно и как бы вдали от людей, а другой — волноваться вместе с людьми; одной — не принимать в себя никаких * В середине 1840-х гг. В. А. Жуковский задумал создать книгу для духовного руководства молодых людей под названием «Философия невежды», книгу, удивительно похожую по своему жанру и по тематике на «Выбранные места... ». В нее должны были войти и письма к Гоголю. В середине 1850 г. рукопись была приготовлена к печати, но не пропущена духовной цензурой. В последний год своей жизни Жуковский поручил П. А. Плетневу раздать рукописи ненапечатанных статей друзьям, в том числе и П. А. Вяземскому и А. О. Смирновой.
450
Н. В. ГОГОЛЬ
нововведений, кроме тех, которые были внесены святыми людьми лучших времен христианства и первоначальными отцами Церкви, другой — меняясь и применяясь ко всем обстоятельствам времени, духу и привычек людей, вносить все нововведения, сделанные даже порочными несвятыми епископами; одной — на время как бы умереть для мира, другой — на время как бы овладеть всем миром; одной — подобно скромной Марии, отложивши все попеченья о земном, поместиться у ног самого господа, затем, чтобы лучше наслушаться слов его, прежде чем применять и передавать их людям, другой же — подобно заботливой хозяйке Марфе *, гостеприимно хлопотать около людей, передавая им еще не взвешенные всем разумом слова Господни. Благую часть избрала первая, что так долго прислушивалась к словам Господа, вынося упреки недальновидной сестры своей, которая уже было осмелилась называть ее мертвым * Вспоминается евангельское повествование о посещении Спасителем дома Марфы и Марии (Евангелие от Луки, гл. 10, ст. 38-42). Сравнение Западной Церкви с Марфой и Восточной — с Марией Гоголь взял из статьи Иоанна Яхонтова «О православии Российской Церкви» : «Тонко, благородно и остроумно сравнивает Стефан Яворский жалобы двух Церквей друг на друга с жалобами Марфы на Марию. Как нельзя сказать, которая из сих жен оставила другую: Марфа ли Марию, или обратно: “Тако и между сими двемя сестрами взаимное есть оставление. Восточная оставила Западную в союзе соединения; Западная же оставила Восточную в растлении, в поврежденности и новости Символа” (см. ответ его Сорбонской Академии в 3-е части особо собранных его сочинений. Москва, 1805)» (Христианское чтение. 1843. Т. 3. С. 58). См. также комментарий к стр. 348. Позднее, в августе 1847 г., Гоголь в письме к графу А. П. Толстому (постоянному, кстати, своему собеседнику по вопросам инославных верований) высоко отозвался о трактате А. С. Хомякова «Церковь одна» (кон. 1844 — нач. 1845): «Еще нигде не была доселе так отчетливо и ясно определена Церковь, ее границы, ее пределы» . Этот трактат Гоголь переписал для себя в отдельную тетрадь и считал, что он получит отклик во многих странах. (См. последнюю публикацию трактата: Литературная учеба. 1991. Кн. 3). Не прошел Гоголь и мимо известного письма П.Я. Чаадаева к французскому публицисту Адольфу де Сиркуру по проблеме Россия и Запад (тоже кон. 1844 — нач. 1845). По всей вероятности, Гоголь познакомился с этим письмом еще зимой 1845 г., будучи в Париже. «Наша <...> Церковь по существу,— писал Чаадаев своему адресату,— Церковь аскетическая, как ваша по существу — социальная: отсюда равнодушие одной ко всему, что совершается вне ее, и живое участие другой ко всему на свете» (цит. по: Чаадаев П.Я. Статьи и пиьма. М., 1989. С. 296). Заметим, однако, что эта мысль была далеко не новой для Гоголя. Сам он, например, еще в отрывке «Пленник» (1830-32 гг., согласно авторской датировке; впервые опубликовано в «Арабесках», 1835) выразил ее противопоставлением бесстрастного настоятеля православного монастыря «злобному» взгляду «иезуита». Также и в другой статье «Арабесок» — «Взгляде на составление Малороссии» — эта мысль высказана однозначно: «Монахи, настоятели, даже митрополиты были схимники, удалившиеся в свои кельи и закрывшие глаза для мира <...>. Здесь была совершенная противоположность Западу... »
Выбранные места из переписки с друзьями <Фрагменты>
451
трупом и даже заблудшей и отступившей от Господа. Не легко применить слово Христово к людям, и следовало ей прежде сильно проникнуться им самой. Зато в нашей Церкви сохранилось все, что нужно для ныне просыпающегося общества. В ней кормило и руль наступающему новому порядку вещей, и чем больше вхожу в нее сердцем, умом и помышленьем, тем больше изумляюсь чудной возможности примирения тех противуречий, которых не в силах примирить теперь Церковь Западная. Западная Церковь была еще достаточна для прежнего несложного порядка, еще могла кое-как управлять миром и мирить его со Христом во имя одностороннего и неполного развития человечества. Теперь же, когда человечество стало достигать развития полнейшего во всех своих силах, во всех свойствах, как хороших, так и дурных, она его только отталкивает от Христа: чем больше хлопочет о примирении, тем больше вносит раздор, будучи не в силах осветить узким светом своим всякий нынешний предмет со всех его сторон. Все сознаются в том, что этим самым введеньем в себя множества постановлений человеческих, сделанных такими епископами, которые еще не достигнули святостью жизни своей до полной и многосторонней христианской мудрости, она сузила взгляд свой на жизнь и мир и не может обхватить их. Полный и всесторонний взгляд на жизнь остался на ее Восточной половине, видимо сбереженной для позднейшего и полнейшего образования человека. В ней простор не только душе и сердцу человека, но и разуму, во всех его верховных силах; в ней дорога и путь, как устремить все в человеке в один согласный гимн верховному существу. Друг, не смущайся ничем! Если бы седмерицею крат были запутанней нынешние обстоятельства — все примирит и распутает наша Церковь. Уже каким-то неведомым чутьем даже наши светские люди, толкающиеся среди нас, начинают слышать, что есть какое-то сокровище, от которого спасенье,— которое среди нас и которого не видим. Блеснет сокровище, и на всем отсветится блеск его. И время уже недалеко. Мы повторяем теперь еще бессмысленно слово «просвещение». Даже и не задумались над тем, откуда пришло это слово и что оно значит. Слова этого нет ни на каком языке, оно только у нас*. Просветить не значит научить, или наставить, * Перебирая далее переводы возможных соответствий слову «просвещение» в других языках, Гоголь не находит в них оттенка, который отражал бы воздействие и на нравственную природу человека. Поэтому А. Григорьев, обративший внимание в статье « Гоголь и его последняя книга» на значение этого гоголевского слова, конечно, ошибался, когда полагал, что немецкое Aufklarung значит «решительно то же самое». Впрочем, утверждая это, он замечал тут же, что ему непонятно в высшей степени... «что Гоголь называет просвгцением» (Русская
452
н. В. ГОГОЛЬ
или образовать, или даже осветить, но всего насквозь высветлить человека во всех его силах, а не в одном уме, пронести всю природу его сквозь какой-то очистительный огонь. Слово это взято из нашей Церкви, которая уже почти тысячу лет его произносит, несмотря на все мраки и невежественные тьмы, отовсюду ее окружавшие, и знает, зачем произносит. Недаром архиерей, в торжественном служении своем, подъемля в обеих руках и троесвещник, знаменующий Троицу Бога, и двусвещник, знаменующий Его сходившее на землю Слово в двойном естестве Его, и Божеском и человеческом, всех ими освещает, произнося: «Свет Христов освещает всех!»* Недаром также в другом месте служенья гремят отрывочно, как бы с Неба, вслух всем слова: «Свет просвещенья!» — и ничего к ним не прибавляется больше.
1846
XIX
НУЖНО ЛЮБИТЬ РОССИЮ (Из письма к гр. А. П. Т...му) **
Без любви к Богу никому не спастись, а любви к Богу у вас нет. В монастыре ее не найдете; в монастырь идут одни, которых уже позвал туда Сам Бог. Без воли Бога нельзя и полюбить Его. Да и как полюбить Того, Которого никто не видал? Какими молитвами и усильями вымолить у него эту любовь?
Смотрите, сколько есть теперь на свете добрых и прекрасных людей, которые добиваются жарко этой любви и слышат одну только черствость да холодную пустоту в душах. Трудно полюбить того,
эстетика и критика40-5-х годов XIX века. М., 1982. С. 12). Гоголь употребляет это слово в его литургическом значении.
* Точнее: «Свет Христов просвещает всех!» —возглас священника на Литургии Преждеосвященных Даров, совершаемой Великим Постом по средам и пятницам. При этом возгласе полагается повергаться ниц.
** Адресовано А. П. Толстому. См. коммент, к главе III Значение болезней. Данное письмо, как и следующее, XX, было запрещено цензурой. 22 февраля н. ст. 1847 г. Гоголь писал А. О. Смирновой: «Вся цензурная проделка для меня покамест темна и не разгадана. Знаю только то, что цензор (А. В. Никитенко.— В.В., И.В.) был, кажется, в руках людей так называемого европейского взгляда, одлеваемых духом всякого рода преобразований, которым было неприятно появленье моей книги». Впервые опубликовано Ф. И. Чижовым в кн.: Полное собрание сочинений Н. В. Гоголя. Второе издание его наследников, пополненное по рукописи автора. Т. 3. М., 1867.
Выбранные места из переписки с друзьями <Фрагменты>
453
кого никто не видал. Один Христос принес и возвестил нам тайну, что в любви к братьям получаем любовь к Богу*. Стоит только полюбить их так, как приказал Христос, и сама собой выйдет в итоге любовь к Богу самому. Идите же в мир и приобретите прежде любовь к братьям.
Но как полюбить братьев, как полюбить людей? Душа хочет любить одно прекрасное, а бедные люди так несовершенны и так в них мало прекрасного!7 Как же сделать это? Поблагодарите Бога прежде всего за то, что вы русский. Для русского теперь открывается этот путь, и этот путь есть сама Россия. Если только возлюби русский Россию, возлюбит и все, что ни есть в России. К этой любви нас ведет теперь Сам Бог. Без болезней и страданий, которые в таком множестве накопились внутри ее и которых виною мы сами, не почувствовал бы никто из нас к ней состраданья. А состраданье есть уже начало любви. Уже крики на бесчинства, неправды и взятки — не просто негодованье благородных на бесчестных, но вопль всей земли, послышавшей, что чужеземные враги вторгнулись в бесчисленном множестве, рассыпались по домам и наложили тяжелое ярмо на каждого человека; уже и те, которые приняли добровольно к себе в домы этих страшных врагов душевных, хотят от них освободиться сами, и не знают, как это сделать, и все сливается в один потрясающий вопль, уже и бесчувственные подвигаются. Но прямой любви еще не слышно ни в ком,— ее нет также и у вас. Вы еще не любите Россию: вы умеете только печалиться да раздражаться слухами обо всем дурном, что в ней ни делается, в вас все это производит только одну черствую досаду да уныние. Нет, это еще не любовь, далеко вам * Эти строки восходят к словам апостола Иоанна Богослова в Первом Соборном послании: «Аще кто речет, яко люблю Бога, а брата своего ненавидит, ложь есть: ибо не любяй брата своего, егоже виде. Бога, Егоже не виде, како может любити? » (гл. 4, ст. 20). Толкование этих слов находим в гоголевской выписке «О почитании святых (Из частного письма протоиерея Сабинина)», где сказано: «Еще более относится это к святым нашим собратиям, совершеннейшим нежели мы, которых наша Православная Церковь признает к тому же нашими посредниками между Богом и нами» (Петров И. И. Новые материалы для изучения религиозно-нравственных воззрений И. В. Гоголя // Труды Киевской Духовной академии. 1902. Т. 2. № 6. С. 315). См. наст, изд., с. 357.
Доктор А. Т. Тарасенков вспоминает в своих записках. «Однажды зашел у нас разговор о любви к Богу. Я припомнил ему слова из Нового Завета: “Не любяй брата своего, его же виде, Бога, Его же не виде, како может любити?” <...> и пожелал узнать от него: не думает ли он, что любовь к Богу можно выражать только любовью к человечеству? Он отвечал, что любовь к Богу есть еще высшее развитие любви христианской, прекрасно объясненное у писателей Церкви» (Тарасенков А. Т. Последние дни жизни Н. В. Гоголя. М., 1902. С. 13).
454
н. В. ГОГОЛЬ
до любви, это разве только одно слишком еще отдаленное ее предвестие. Нет, если вы действительно полюбите Россию, у вас пропадет тогда сама собой та близорукая мысль, которая зародилась теперь у многих честных и даже весьма умных людей, то есть, будто в теперешнее время они уже ничего не могут сделать для России и будто они ей уже не нужны совсем; напротив, тогда только во всей силе вы почувствуете, что любовь всемогуща и что с ней возможно все сделать. Нет, если вы действительно полюбите Россию, вы будете рваться служить ей; не в губернаторы, но в капитан-исправники пойдете,— последнее место, какое ни отыщется в ней, возьмете, предпочитая одну крупицу деятельности на нем всей вашей нынешней, бездейственной и праздной жизни. Нет, вы еще не любите России. А не полюбивши России, не полюбить вам своих братьев, а не полюбивши своих братьев, не возгореться вам любовью к Богу, а не возгоревшись любовью к Богу, не спастись вам.
1844
XX
НУЖНО ПРОЕЗДИТЬСЯ ПО РОССИИ (Из письма к гр. А. П. Т...му) *
Нет выше званья, как монашеское, и да сподобит нас Бог надеть когда-нибудь простую ризу чернеца, так желанную душе моей, о которой уже и помышленье мне в радость. Но без зова божьего этого не сделать. Чтобы приобресть право удалиться от мира, нужно уметь распроститься с миром. «Раздай все имущество свое нищим и потом уже ступай в монастырь»,— так говорится всем туда идущим. У вас есть Богатство, вы его можете раздать нищим; но что же мне раздать? Имущество мое не в деньгах. Бог мне помог накопить несколько умного и душевного добран дал некоторые способности, полезные и нужные другим — стало быть, я должен раздать это имущество не имущим его, а потом уже идти в монастырь. Но и вы одной денежной раздачей не получите на то права. Если бы вы были привязаны к вашему Богатству и вам было бы с ним тяжело расставаться, тогда другое дело; но вы к нему охладели, для вас оно теперь ничто,— где ж ваш подвиг и ваше пожертвование? Или выбросивши за окошко ненужную вещь — значит сделать добро своему брату, разумея добро в высоком смысле христианском? Нет, Письмо адресовано тому же лицу. Опубликовано впервые Ф. И. Чижовым в третьем томе Полного собрания сочинений Н. В. Гоголя (М., 1867).
Выбранные места из переписки с друзьями <Фрагменты>
455
для вас так же, как и для меня, заперты двери желанной обители. Монастырь ваш — Россия! Облеките же себя умственно ризой чернеца и, всего себя умертвивши для себя, но не для нее, ступайте подвизаться в ней. Она зовет теперь сынов своих еще крепче, нежели когда-либо прежде. Уже душа в ней болит, и раздается крик ее душевной болезни. Друг мой! или у вас бесчувственно сердце, или вы не знаете, что такое для русского Россия. Вспомните, что когда приходила беда ей, тогда из монастырей выходили монахи и становились в ряды с другими спасать ее. Чернецы Ослябя и Пересвет *, с благословенья самого настоятеля, взяли в руки меч, противный христианину, и легли на кровавом поле битвы, а вы не хотите взять поприща мирного гражданина, и где же? — в самом сердце России. Не отговаривайтесь вашей неспособностью,— у вас есть много того, что теперь для России потребно и нужно. Бывши губернатором в двух совершенно противуположных губерниях, исполнивши это дело, несмотря на все ваши тогдашние недостатки, получше многих, вы набрались прямых и положительных сведений о делах, внутри происходящих, и узнали в истинном виде Россию. Ноне это главное, и я бы вас не склонял так служить, несмотря на все сведенья ваши, если бы не видел в вас одно то свойство, которое, по моему мненью, значительнее всех прочих,— свойство, не хлопотав ничего, не работая самому, почти ленясь, уметь заставить всех других работать. У вас все двигалось быстро и ходко; и когда, изумляясь, спрашивали у вас самих: «Отчего это?» — вы отвечали: «Все от чиновников, попались хорошие чиновники, которые не дают ничего мне делать самому»; и когда шло дело до представления к наградам, вы всегда выводили вперед ваших чиновников, приписывая все им, а себе ничего. Вот ваше главное достоинство, не говоря уже об уменье выбрать самих чиновников. Не мудрено, что у вас чиновники рвались изо всех сил, и один записался до того, что нажил чахотку и умер, как ни старались вы оттащить его от дела. Чего не сделает русский человек, если станет таким образом поступать с ним начальник! Это ваше свойство слишком теперь нужно, именно теперь, в это время себялюбья, когда всяк начальник думает о том, как бы выставить вперед себя и приписать все одному себе. Говорю вам, что с этим вашим свойством вы теперь слишком нужны России... и грех вам, * Монахи Троицкой лавры Родион Ослябя (в мире Роман) и Александр Пересвет по благословению Преп. Сергия Радонежского (ок. 1321-1392) приняли участие в Куликовской битве (1380). Александр Пересвет пал в поединке с татарским богатырем Темир-мурзой (Челибеем). Ослябя жил по крайней мере до 1398 г., под которым он упоминается в летописи как принявший участие в посольстве в Царьград. Оба похоронены в Симоновом монастыре в Москве.
456
н. В. ГОГОЛЬ
что вы даже не слышите этого! Грех был бы и мне, если б я не выставил вам этого свойства. Оно есть ваше лучшее имущество; его от вас просят неимущие, а вы, как скряга, заперли его под замок и еще прикидываетесь глухим. Положим, вам теперь неприлично занять то же самое место, какое занимали назад тому десять лет, не потому, чтобы оно было низко для вас,— слава Богу, честолюбия вы не имеете и в ваших глазах никакая служба не низка,— но потому, что ваши способности, развившись, требуют уже для собственной пищи другого, просторнейшего поприща. Что ж? разве мало мест и поприщ в России? Оглянитесь и обсмотритесь хорошенько, и вы его отыщете. Вам нужно проездиться по России. Вы знали ее назад тому десять лет: это теперь недостаточно. В десять лет внутри России столько совершается событий, сколько в другом государстве не совершится в полвека. Вы сами заметили, живя здесь, за границей, что в последние два, три года даже начали выходить из нее и люди совершенно другие, не похожие ни в чем с теми, которых вы знали еще не так давно. Чтобы узнать, что такое Россия нынешняя, нужно непременно по ней проездиться самому. Слухам не верьте никаким. Верно только то, что еще никогда не бывало в России такого необыкновенного разнообразия и несходства во мнениях и верованиях всех людей, никогда еще различие образований и воспитанья не оттолкнуло так друг от друга всех и не произвело такого разлада во всем. Сквозь все это пронесся дух сплетней, пустых поверхностных выводов, глупейших слухов, односторонних и ничтожных заключений. Все это сбило и спутало до того у каждого его мненье о России, что решительно нельзя верить никому. Нужно самому узнавать, нужно проездиться по России. Это особенно хорошо для того, кто побыл некоторое время от нее вдали и приехал с неотуманенной и свежей головою. Он увидит много того, чего не видит человек, находящийся в самом омуте, раздражительный и чувствительный к животрепещущим интересам минуты. Сделайте ваше путешествие вот каким образом: прежде всего выбросьте из вашей головы все до одного ваши мненья о России, какие у вас ни есть, откажитесь от собственных своих выводов, какие уже успели сделать, представьте себя ровно не знающим ничего и поезжайте как в новую дотоле вам неизвестную землю. Таким же самым образом, как русский путешественник, приезжая в каждый значительный европейский город, спешит увидеть все его древности и примечательности, таким же точно образом и еще с большим любопытством, приехавши в первый уездный или губернский город, старайтесь узнать его достопримечательности. Они не в архитектурных строениях и древностях, но в людях. Клянусь, человек стоит того, чтоб
Выбранные места из переписки с друзьями <Фрагменты>
457
его рассматривать с большим любопытством, нежели фабрику и развалину. Попробуйте только на него взглянуть, вооружась одной каплей истинно братской любви к нему, и вы от него уже не оторветесь — так он станет для вас занимателен. Познакомьтесь прежде всего с теми из них, которые составляют соль каждого города или округа; таких бывает человека два-три в каждом городе. Они вам в немногих чертах очертят весь город, так что вам будет видно уже самому, где и в каких местах производить наиболее наблюденье над нынешними вещами. Разговорясь с человеком передовым из каждого сословия (с вами же все так охотно разговариваются и развертываются чуть не нараспашку), вы от него узнаете, что такое всякое сословие в его нынешнем виде. Расторопный и бойкий купец вдруг вам объяснит, что такое в их городе купечество; порядочный и трезвый мещанин даст понятье о мещанстве. От чиновника-дельца узнаете должностное производство, а общий цвет и дух общества услышите сами. На передовых людей, однако ж, не весьма полагайтесь, лучше постарайтесь расспросить двух или трех человек из каждого сословия. Не позабывайте того, что теперь все между собою в ссоре, и всяк друг на друга лжет и клевещет беспощадно. С духовенством вы сойдетесь вдруг, потому что с ним вообще вы знакомитесь скоро; от них узнаете остальное. И если вы таким образом проездите только по главным городам и пунктам России, то уже увидите ясно, как день, где и на каком месте вы можете быть полезны и о какой должности следует вам просить.
А покуда вы уже одной поездкой вашей можете сделать много добра, если только захотите. В самом путешествии этом предстанут вам такие христианские подвиги, каких в самом монастыре не встретите. Во-первых, будучи приятны в разговоре, нравясь каждому, вы можете, как посторонний и свежий человек, стать третьим, примиряющим лицом. Знаете ли, как это важно, как это теперь нужно России и какой в этом высокий подвиг! Спаситель оценил его едва ли не выше всех других: он прямо называет миротворцев сынами Божьими *. А миротворцу у нас поприще повсюду. Все пере* «Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими» (Евангелие от Матфея, гл. 5, ст. 9). В уже упоминавшемся сборнике выписок из творений святых отцов и учителей Православной Церкви есть посвященный этой заповеди Спасителя отрывок под заглавием: «О Божестве миротворцев (св. Григория Нисского)». Слова Гоголя о том, что Спаситель оценил подвиг миротворцев «едва ли не выше всех других», прямо соотносятся с первыми строками этого отрывка: «Если зреть Бога есть высочайшее благо, то быть сыном Божиим, конечно, есть такое счастье, которое выше всякого счастия» (ОР ЦНБ АН Украины. Ф. Дис.2165. Прил. С. 114).
458
Н. В. ГОГОЛЬ
ссорилось: дворяне у нас между собой, как кошки с собаками; купцы между собой, как кошки с собаками; мещане между собой, как кошки с собаками; крестьяне, если только не устремлены побуждающей силою на дружескую работу, между собой, как кошки с собаками. Даже честные и добрые люди между собой в разладе; только между плутами видится что-то похожее на дружбу и соединение в то время, когда кого-нибудь из них сильно станут преследовать. Везде поприще примирителю. Не бойтесь, примирять не трудно. Людям трудно самим умириться между собою, но, как только станет между ними третий, он их вдруг примирит. Оттого-то у нас всегда имел такую силу третейский суд, истое произведенье земли нашей, успевавший доселе более всех других судов. В природе человека, и особенно русского, есть чудное свойство: как только заметит он, что другой сколько-нибудь к нему наклоняется или показывает снисхождение, он сам уже готов чуть не просить прощенья. Уступить никто не хочет первый, но как только один решился на великодушное дело, другой уже рвется как бы перещеголять его великодушьем. Вот почему у нас скорей, чем где-либо, могут быть прекращены самые застарелые ссоры и тяжбы, если только станет среди тяжущихся человек истинно благородный, уважаемый всеми и притом еще знаток человеческого сердца. А примиренье, повторяю вновь, теперь нужно: если бы только несколько честных людей, которые, из-за несогласия во мнении насчет одного какого-нибудь предмета, перечат друг другу в действиях, согласились подать друг другу руку, плутам было бы уже худо. Итак, вот вам одна часть подвигов, какие вам могут представиться на каждом шагу вашей поездки по России. Есть и другая, не меньше важная. Вы можете оказать большую услугу духовенству тех городов, через которые будете проезжать, познакомив их лучше с обществом, среди которого они живут, введя их в познание тех вещей и проделок, о которых не говорит вовсе на исповеди нынешний человек, считая их долженствующими быть вне христианской жизни. Это очень нужно, потому что многие из духовных, как я знаю, у ныл и от множества бесчинств, возникнувших в последнее время, почти уверились, что их никто теперь не слушает, что слова и проповедь роняются на воздух и зло пустило так глубоко свои корни, что нельзя уже и думать об его искорененье. Это несправедливо. Грешит нынешний человек, точно, несравненно больше, нежели когда-либо прежде, но грешит не от преизобилья своего собственного разврата, не от бесчувственности и не оттого, чтобы хотел грешить, но оттого, что не видит грехов своих. Еще не ясно и не совсем открылась страшная истина нынешнего века, что теперь все грешат до единого, но грешат не прямо, а косвенно. Этого еще не услышал хорошо и сам
Выбранные места из переписки с друзьями <Фрагменты>
459
проповедник; оттого и проповедь его роняется на воздух, и люди глухи к словам его. Сказать: «Не крадьте, не роскошничайте, не берите взяток, молитесь и давайте милостыню неимущим» — теперь ничто и ничего не сделает. Кроме того, что всякий скажет: «Да ведь это уже известно»,— но еще оправдается перед самим собой и найдет себя чуть не святым. Он скажет: «Красть я не краду: положи передо мной часы, червонцы, какую хочешь вещь — я ее не трону; я даже прогнал за воровство своего собственного человека; живу я, конечно, роскошно, но у меня нет ни детей, ни родственников, мне не для кого копить, роскошью я доставляю даже пользу, хлеб мастеровым, ремесленникам, купцам, фабрикантам; взятку я беру только с Богатого, который сам просит об этом, которому это не в разоренье; молиться я молюсь, вот и теперь стою в церкви, крещусь и бью поклоны; помогать-помогаю: ни один нищий не уходит от меня без медного гроша, ни от одного пожертвованья на какое-нибудь благотворительное заведение еще не отказывался». Словом, он увидит себя не только правым после такой проповеди, но еще возгордится своей безгрешностью.
Но если поднять перед ним завесу и показать ему хотя часть тех ужасов, которые он производит косвенно, а не прямо, тогда он заговорит другое.
Сказать честному, но близорукому Богачу, что он, убирая свой дом и заводя у себя все на барскую ногу, вредит соблазном, поселяя в другом, менее Богатом, такое же желание, который из-за того, чтобы не отстать от него, разоряет не только собственное, но и чуждое имущество, грабит и пускает по миру людей; да вслед за этим и представить ему одну из тех ужасных картин голода внутри России, от которых дыбом поднимется у него волос и которых, может быть, не случилось бы, если бы не стал он жить на барскую ногу, да задавать тон обществу и кружить головы другим. Показать таким же самым образом всем модницам, которые не любят никуды появляться в одних и тех же платьях и, не донашивая ни чего, нашивают кучи нового, следуя за малейшим уклонением моды,— показать им, что они вовсе не тем грешат, что занимаются этой суетностью и тратят деньги, но тем, что сделали такой образ жизни необходимостью для других, что муж иной жены схватил уже из-за этого взятку с своего же брата чиновника (положим, этот чиновник был богат; но, чтобы доставить взятку, он должен был насесть на менее Богатого, а тот, с своей стороны, насел на какого-нибудь заседателя или станового пристава, а становой пристав уже невольно был принужден грабить нищих и неимущих), да вслед за этим и выставить всем модницам картину голода. Тогда им не пойдет на ум какая-нибудь шляпка или модное
460
н. В. ГОГОЛЬ
платье; увидят они, что не спасет их от страшного ответа перед Богом даже и деньга, выброшенная нищему, даже и те человеколюбивые заведения, которые заводят они в городах на счет ограбленных провинций. Нет, человек не бесчувствен, человек подвигнется, если только ему покажешь дело, как есть. Он теперь подвигнется еще более, чем когда-либо прежде, потому что природа его размягчена, половина грехов его — от неведенья, а не от разврата. Он, как спасителя, облобызает того, который заставит его обратить взгляд на самого себя. Только слегка приподыми проповедник завесу и укажи ему хотя одно из тех ежеминутных преступлений, которые он совершает, у него уже отнимется дух хвастать безгрешностью своей; не станет он оправдывать свою роскошь подлыми и жалкими софизмами, будто бы нужна она затем, чтобы доставлять хлеб мастеровым. Он и сам тогда смекнет, что разорить полдеревни или пол-уезда затем, чтобы доставить хлеб столяру Гамбсу *, есть вывод, который мог образоваться только в пустой голове эконома XIX века, а не в здоровой голове умного человека. А что же, если проповедник поднимет всю цепь того множества косвенных преступлений, которые совершает человек своею неосмотрительностью, гордостью и самоуверенностью в себе, и покажет всю опасность нынешнего времени, среди которого всяк может погубить разом несколько душ, не только одну свою, среди которого, даже не будучи бесчестным, можно заставить других быть бесчестными и подлецами одною только своей неосмотрительностью, словом — если только сколько-нибудь покажет, как все опасно ходят? Нет, люди не будут глухи к словам его, не уронится на воздух ни одно слово его проповеди. А вы можете на это навести многих священников, сообщая сведения о всех проделках нынешнего люда, которые вы наберете в дороге. Но не одним священникам, вы можете и другим людям сделать этим пользу. Всем теперь нужны эти сведенья.
Жизнь нужно показать человеку,— жизнь, взятую под углом ее нынешних запутанностей, а не прежних,— жизнь, оглянутую не поверхностным взглядом светского человека, но взвешенную и оцененную таким оценщиком, который взглянул на нее высшим взглядом христианина. Велико незнанье России посреди России. Все живет в иностранных журналах и газетах, а не в земле своей. Город не знает города, человек человека; люди, живущие только за одной стеной, * Эрнст Гамбе (1805-1849) — владелец модного мебельного магазина в Петербурге. Он упомянут во втором томе «Мертвых душ» в рассуждении Гоголя о разорительности роскоши: «Ведь всякий из нас чем-нибудь попользуется <...> тот крадет у детей своих ради какой-нибудь приезжей актрисы, тот у крестьян ради мебелей Гамбса... »
Выбранные места из переписки с друзьями <Фрагменты>
461
кажется, как бы живут за морями. Вы можете во время вашей поездки их познакомить между собою и произвести взаимный благодетельный размен сведений, как расторопный купец, забравши сведения в одном городе, продать их с барышом в другом, всех обогатить и в то же время разбогатеть самому больше всех. Подвиг на подвиге предстоит вам на всяком шагу, и вы этого не видите! Очнитесь! Куриная слепота на глазах ваших! Не залучить вам любви к себе в душу. Не полюбить вам людей по тех пор, пока не послужите им. Какой слуга может привязаться к своему господину, который от него вдали и на которого еще не поработал он лично? Потому и любимо так сильно дитя матерью, что она долго его носила в себе, все употребила на него и вся из-за него выстрадалась. Очнитесь! Монастырь ваш — Россия!
1845
XXVII БЛИЗОРУКОМУ ПРИЯТЕЛЮ *
Вооружился взглядом современной близорукости и думаешь, что верно судишь о событиях! Выводы твои — гниль; они сделаны без Бога. Что ссылаешься ты на историю? История для тебя мертва,— и только закрытая книга. Без Бога не выведешь из нее великих выводов; выведешь одни только ничтожные и мелкие. Россия не Франция; элементы французские — не русские. Ты позабыл даже своеобразность каждого народа и думаешь, что одни и те же события могут действовать оди- наким образом на каждый народ. Тот же самый молот, когда упадает на стекло, раздробляет его вдребезги, а когда упадет на железо, кует его **. Мысли твои о финансах основаны на чтенье иностранных книг да на английских журналах, а потому суть мертвые мысли. Стыдно тебе, будучи умным человеком, не войти до сих пор в собственный ум свой, который мог бы самобытно развиться, а захламостить его чужеземным навозом. Не вижу и в проектах твоих участья божьего; не слышу в словах письма твоего, несмотря на весь блеск ума и остроумья, чтобы Бог присутствовал в твоих мыслях в то время, когда ты писал его; не вижу я на твоей мысли освященья небесного. Нет, не сделаешь * Адресат письма не установлен.
** Парафраз стихов из «Полтавы» А. С. Пушкина:
Перетерпев судеб удары, Окрепла Русь.
Так тяжкий млат, Дробя стекло, кует булат.
462
н. В. ГОГОЛЬ
ты добра на своей должности, хотя и желаешь того; не принесут твои дела того плода, которого ждешь. С прекрасными намереньями можно сделать зло, как уже многие и сделали его. В последнее время не столько беспорядков произвели глупые люди, сколько умные, а все оттого, что понадеялись на свои силы да на ум свой. Ты горд, и чем же горд? хоть бы уже своим умом; нет, ты загромоздил сором свой ум, действительно замечательный и великий, и сделал его чужестранцем самому себе. Ты горд чужим, мертвым умом и выдаешь его за свой. Смотри за собой: ты ходишь опасно. Ты метишь в государственные люди, и будешь человеком государственным, потому что у тебя, точно, есть на то способности; но тем строже теперь смотри за собой. Не заводи этих улучшений, которыми уже наполнилась твоя голова еще прежде, чем ты вступил в свою должность, и помни, что всяким малейшим неосмотрительным поступком можно произвести теперь большое зло. Уже и в твоих нынешних проектах видна скорее боязнь, нежели предусмотрительность. Все мысли твои направлены к тому, чтобы избегнуть чего-то угрожающего в будущем. Не будущего, но настоящего опасайся. О настоящем велит нам заботиться Бог. Кто омрачается боязнью от будущего, от того, значит, уже отступилась святая сила. Кто с Богом, тот глядит светло вперед и есть уже в настоящем творец блистающего будущего. А ты горд: ты и теперь уже ничего не хочешь видеть; ты самоуверен: ты думаешь, что уже все знаешь; ты думаешь, что все обстоятельства России тебе открыты; ты думаешь, что уже никто и поучить тебя не может; ты стремишься изо всех сил быть похожим на тех государственных людей, которые скоро блеснули и скоро исчезли, которые имели в себе все для того, чтобы сделать множество добра, которые даже пламенели желаньем сделать добро, даже работали, как муравьи, всю свою жизнь, и при всем том не осталось после них никакого следа, и самая память о них позабыта; как исчезнувший круг на воде, исчезнула жизнь их посреди России. И до сих пор еще, к нашему стыду, указывают нам европейцы на своих великих людей, умней которых бывают у нас иногда и невеликие люди; но те хоть какое- нибудь оставили после себя дело прочное, а мы производим кучи дел, и все, как пыль, сметаются они с земли вместе с нами. Ты горд — говорю тебе, и вновь повторяю тебе: ты горд; сторожи над собой и спасай себя от гордости заране. Начни с того, что уверь самого себя, что ты всех глупее в России, и что с этих только пор следует сурьезно поумнеть тебе, и слушай с таким вниманием всякого дельца, как бы ровно ничего не знал и всему от него хотел поучиться. Но тебе еще загадка слова мои; они на тебя не подействуют. Тебе нужно или какое-нибудь несчастие, или потрясение. Моли Бога о том, чтобы случилось это потрясенье, чтобы встретилась тебе какая-нибудь невыносимейшая неприятность
Выбранные места из переписки с друзьями <Фрагменты
463
на службе, чтобы нашелся такой человек, который сильно оскорбил бы тебя и опозорил так в виду всех, что от стыда не знал бы ты, куда сокрыться, и разорвал бы за одним разом все чувствительнейшие струны твоего самолюбья. Он будет твой истинный брат и избавитель. О, как нам бывает нужна публичная, данная в виду всех, оплеуха! *
1844
XXIX
ЧЕЙ УДЕЛ НА ЗЕМЛЕ ВЫШЕ (Из письма к У ...му) **
Никак не могу сказать вам, чей удел на земле выше и кому суждена лучшая участь. Прежде, когда я был поглупее, я предпочитал одно звание другому, теперь же вижу, что участь всех равно завидна. Все получат равное воздаяние — как тот, которому вверен был один талант и он принес на него другой, так и тот, которому дано было пять талантов и который принес на них другие пять. Даже, я думаю, участь первого еще лучше, именно оттого, что он не пользовался на земле известностью и не вкушал очаровательного напитка земной славы, подобно последнему. Чудна милость Божия, определившая равное воздаяние всякому, исполнившему честно долг свой, царь ли он или последний нищий. Все они там уравняются, потому что все внидут в радость Господина своего и будут пребывать равно в Боге. Конечно, сам Христос сказал в другом месте: «В дому отца моего обители многи суть» ***; но как помыслю об этих обителях, как помыслю * Происхождение этой фразы связано с содержанием новеллы П. Мериме « Души в чистилище», к русскому переводу которой Гоголь написал в начале 1840-х гг. специальную заметку. Герою новеллы, ушедшему в монастырь испанскому гранду Дон Жуану — известному своим былым распутством, за преступление, совершенное им уже в монашестве, аббат приказал с целью умерщвления остатков гордыни являться каждое утро к монастырскому повару для получения пощечины. Согласно указанию А. А. Елистратовой (в ее кн.: Гоголь и проблемы западноевропейского романа. М., 1972. С. 89-90), с этим местом в повести связан следующий набросок Гоголя в тексте его заметки о Мериме: «Милостивый государь! Милостивый государь такой-то, сякой-то и прочее и прочее, за что вы должны всякий раз ему дать оплеуху по щеке». В записной книжке Гоголя 1841-1846 гг. есть также соответствующая запись: «Благодарность за оплеуху: — Давно бы, батюшка, так. Благодарю вас».
** Адресат не установлен. Письмо ощутимо проникнуто духом 83-го Псалма пророка Давида. В Отделе рукописей бывшей Румянцевской библиотеки и в Пушкинском Доме сохранились выписки Гоголя из Псалтири.
*** Евангелие от Иоанна, гл.14, ст. 2.
464
н. В. ГОГОЛЬ
о том, что должны быть у Бога обители, не могу удержаться от слез и знаю, что никак бы не решил, какую из них выбрать себе, если бы только действительно был удостоен Небесного Царства и вопрошен: «Какую из них хочешь?» Знаю только то, что сказал бы: «Последнюю, Господи, но лишь бы она была в дому Твоем!» Кажется, ничего бы не желалось больше, как только служить тем избранным, которые уже удостоились созерцать во всем величии Его славу. Лежать бы только у ног их и целовать святые их ноги!
1845
XXX НАПУТСТВИЕ*
На письмо твое теперь не буду отвечать; ответ будет после. Все вижу и слышу: страданья твои велики. С такою нежною душою терпеть такие грубые обвиненья; с такими возвышенными чувствами жить посреди таких грубых, неуклюжих людей, каковы жители пошлого городка, в котором ты поселился, которых уже одно бесчувственное, топорное прикосновение в силах разбить, даже без их ведома, лучшую драгоценность сердечную, медвежьей лапой ударить по тончайшим струнам душевным, данным на то, чтобы выпеть небесные звуки,— расстроить и разорвать их, видеть, в прибавленье ко всему этому, ежедневно происходящие мерзости н терпеть презренье от презренных! Все это тяжело, знаю. Твои страданья телесные тяжелы не меньше: твои нервические недуги, твоя тоска и эти страшные припадки агонии, которою ты одержим теперь,— все это тяжело, тяжело, и ничего больше не могу сказать тебе, как только: тяжело! Но вот тебе утешенье. Это еще начало; оскорблений тебе будет еще больше: предстанут тебе еще сильнейшие борьбы со взяточниками, подлецами всех сортов и бесстыднейшими людьми, для которых ничего нет святого, которые не только в силах произвести то гнусное дело, о котором ты пишешь, то есть подписаться под чужую руку, дерзнуть взвести такое ужас* Адресат письма неизвестен.
Содержание настоящей статьи перекликается с письмом Гоголя к матери от 1 сентября н. ст. 1842 г., где он просил мать оказать от его имени моральную поддержку встреченному ею в Харькове чиновнику, отличавшемуся «благо родством и честной бедностью среди богатеющих неправдой», но бывшему при этом близким к отчаянию. В том же году Гоголь закончил свой «Театральный разъезд после представления новой комедии». Образ «очень скромно одетого человека» и заключительный монолог автора из этой пьесы также связаны с настоящей статьей.
Выбранные места из переписки с друзьями <Фрагменты>
465
ное преступление на невинную душу, видеть своими глазами кару, постигшую оклеветанного, и не содрогнуться,— не только подобное гнусное дело, но еще в несколько раз гнуснейшие, о которых один рассказ может лишить навеки сна человека сердобольного. (О, лучше бы вовсе не родиться этим людям: весь сонм небесных сил содрогнется от ужаса загробного наказанья, их ждущего, от которого никто уже их не избавит.) Встретятся тебе бесчисленные новые поражения, неожиданные вовсе. На твоем почти беззащитном поприще и незаметной должности все может случиться. Твои нервические припадки и недуги будут также еще сильнее, тоска будет убийственней и печали будут сокрушительней. Но вспомни: призваны в мир мы вовсе не для праздников и пирований. На битву мы сюда призваны; праздновать же победу будем там*. А потому ни на миг мы не должны позабывать, что вышли на битву, и нечего тут выбирать, где поменьше опасностей: как добрый воин, должен бросаться из нас всяк туда, где пожарче битва. Всех нас озирает свыше небесный Полководец, и ни малейшее наше дело не ускользает от его взора. Не уклоняйся же от поля сраженья, а выступивши на сражение, не ищи неприятеля бессильного, но сильного. За сраженье с небольшим горем и мелкими бедами не много получишь славы. Не велика слава для русского сразиться с миролюбивым немцем, когда знаешь вперед, что он побежит; нет, с черкесом, которого все дрожит, считая непобедимым, с черкесом схватиться и победить его — вот слава, которою можно похвалиться!
Вперед же, прекрасный мой воин! С Богом, добрый товарищ! С Богом, прекрасный друг мой!
1846
XXXII
СВЕТЛОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ **
В русском человеке есть особенное участие к празднику Светлого Воскресенья. Он это чувствует живей, если ему случится быть в чужой земле. Видя, как повсюду в других странах день этот почти не отличен от других дней,— те же всегдашние занятия, та же вседневная жизнь, то же будничное выраженье на лицах,— он чувствует грусть и обращается невольно к России. Ему кажется, что там как-то лучше празднуется этот день, и сам человек радостней и лучше, нежели * Ср. в « Правиле жития в мире» : « Мы призваны в мир на битву, а не на праздник: праздновать победу мы будем на том свете».
** Глава написана специально для книги.
466
н. В. ГОГОЛЬ
в другие дни, и самая жизнь какая-то другая, а не вседневная. Ему вдруг представятся — эта торжественная полночь, этот повсеместный колокольный звон, который как всю землю сливает в один гул, это восклицанье «Христос воскрес!», которое заменяет в этот день все другие приветствия, этот поцелуй, который только раздается у нас,— и он готов почти воскликнуть: «Только в одной России празднуется этот день так, как ему следует праздноваться!» Разумеется, все это мечта; она исчезнет вдруг, как только он перенесется на самом деле в Россию или даже только припомнит, что день этот есть день какой- то полусонной беготни и суеты, пустых визитов, умышленных неза- ставаний друг друга, наместо радостных встреч,— если ж и встреч, то основанных на самых корыстных расчетах; что честолюбие кипит у нас в этот день еще больше, чем во все другие, и говорят не о воскресенье Христа, но о том, кому какая награда выйдет и кто что получит; что даже и сам народ, о котором идет слава, будто он больше всех радуется, уже пьяный попадается на улицах, едва только успела кончиться торжественная обедня, и не успела еще заря осветить земли. Вздохнет бедный русский человек, если только все это припомнит себе и увидит, что это разве только карикатура и посмеянье над праздником, а самого праздника нет. Для проформы только какой-нибудь начальник чмокнет в щеку инвалида, желая показать подчиненным чиновникам, как нужно любить своего брата, да какой-нибудь отсталый патриот, в досаде на молодежь, которая бранит старинные русские наши обычаи, утверждая, что у нас ничего нет, прокричит гневно: «У нас все есть — и семейная жизнь, и семейные добродетели, и обычаи у нас соблюдаются свято; и долг свой исполняем мы так, как нигде в Европе; и народ мы на удивленье всем».
Нет, не в видимых знаках дело, не в патриотических возгласах и не в поцелуе, данном инвалиду, но в том, чтобы в самом деле взглянуть в этот день на человека, как на лучшую свою драгоценность,— так обнять и прижать его к себе, как наироднейшего своего брата, так ему обрадоваться, как бы своему наилучшему другу, с которым несколько лет не видались и который вдруг неожиданно к нам приехал. Еще сильней! еще больше! потому что узы, нас с ним связывающие, сильней земного кровного нашего родства, и породнились мы с ним по нашему прекрасному небесному отцу, в несколько раз нам ближайшему нашего земного отца, и день этот мы — в своей истинной семье, у него самого в дому. День этот есть тот святой день, в который празднует святое, небесное свое братство все человечество до единого, не исключив из него ни одного человека.
Как бы этот день пришелся, казалось, кстати нашему девятнадцатому веку, когда мысли о счастии человечества сделались почти
Выбранные места из переписки с друзьями <Фрагменты>
467
любимыми мыслями всех; когда обнять все человечество, как братьев, сделалось любимой мечтой молодого человека; когда многие только и грезят о том, как преобразовать все человечество, как возвысить внутреннее достоинство человека; когда почти половина уже признала торжественно, что одно только христианство в силах это произвесть; когда стали утверждать, что следует ближе ввести Христов закон как в семейственный, так и в государственный быт; когда стали даже поговаривать о том, чтобы все было общее — и дома и земли; когда подвиги сердоболия и помощи несчастным стали разговором даже модных гостиных; когда, наконец, стало тесно от всяких человеколюбивых заведений, странноприимных домов и приютов. Как бы, казалось, девятнадцатый век должен был радостно воспраздновать этот день, который так по сердцу всем великодушным и человеколюбивым его движеньям! Но на этом-то самом дне, как на пробном камне, видишь, как бледны все его христианские стремленья и как все они в одних только мечтах и мыслях, а не в деле. И если, в самом деле, придется ему обнять в этот день своего брата, как брата — он его не обнимет. Все человечество готов он обнять, как брата, а брата не обнимет. Отделись от этого человечества, которому он готовит такое великодушное объятье, один человек, его оскорбивший, которому повелевает Христос в ту же минуту простить,— он уже не обнимет его. Отделись от этого человечества один, несогласный с ним в каких-нибудь ничтожных человеческих мненьях,— он уже не обнимет его. Отделись от этого человечества один, страждущий видней других тяжелыми язвами своих душевных недостатков, больше всех других требующий состраданья к себе,— он оттолкнет его и не обнимет. И достанется его объятие только тем, которые ничем еще не оскорбили его, с которыми не имел он случая столкнуться, которых он никогда не знал и даже не видел в глаза. Вот какого рода объятье всему человечеству дает человек нынешнего века, и часто именно тот самый, который думает о себе, что он истинный человеколюбец и совершенный христианин! Христианин! Выгнали на улицу Христа, в лазареты и больницы, наместо того, чтобы призвать его к себе в домы, под родную крышу свою, и думают, что они христиане!*
Нет, не воспраздновать нынешнему веку светлого праздника так, как ему следует воспраздноваться. Есть страшное препятствие, есть непреоборимое препятствие, имя ему — гордость. Она была известна и в прежние веки, но то была гордость более ребяческая, гордость своими силами физическими, гордость Богатствами своими, гордость * Слова «Христианин... до ...они христиане!» в первом издании были исключены цензурой.
468
Н. В. ГОГОЛЬ
родом и званием, но не доходила она до того страшного духовного развития, в каком предстала теперь. Теперь явилась она в двух видах. Первый вид ее — гордость чистотой своей.
Обрадовавшись тому, что стало во многом лучше своих предков, человечество нынешнего века влюбилось в чистоту и красоту свою. Никто не стыдится хвастаться публично душевной красотой своей и считать себя лучшим других. Стоит только приглядеться, каким рыцарем благородства выступает из нас теперь всяк, как беспощадно и резко судит о другом. Стоит только прислушаться к тем оправданьям, какими он оправдывает себя в том, что не обнял своего брата даже в день светлого воскресенья. Без стыда и не дрогнув душой, говорит он: «Я не могу обнять этого человека: он мерзок, он подл душой, он запятнал себя бесчестнейшим поступком; я не пущу этого человека даже в переднюю свою; я даже не хочу дышать одним воздухом с ним; я сделаю крюк для того, чтобы объехать его и не встречаться с ним. Я не могу жить с подлыми и презренными людьми — нежели мне обнять такого человека как брата?» Увы! позабыл бедный человек девятнадцатого века, что в этот день нет ни подлых, ни презренных людей, но все люди — братья той же семьи, и всякому человеку имя брат, а не какое-либо другое. Все разом и вдруг им позабыто: позабыто, что, может быть, затем именно окружили его презренные и подлые люди, чтобы, взглянувши на них, взглянул он на себя и поискал бы в себе того же самого, чего так испугался в других. Позабыто, что он сам может на всяком шагу, даже не приметив того сам, сделать то же подлое дело, хотя в другом только виде,— в виде, не пораженном публичным позором, но которое, однако же, выражаясь пословицей, есть тот же блин, только на другом блюде. Все позабыто. Позабыто им то, что, может, оттого развелось так много подлых и презренных людей, что сурово и бесчеловечно их оттолкнули лучшие и прекраснейшие люди и тем заставили пуще ожесточиться. Будто бы легко выносить к себе презренье! Бог весть, может быть, иной совсем был не рожден бесчестным человеком; может быть, бедная душа его, бессильная сражаться с соблазнами, просила и молила о помощи и готова была облобызать руки и ноги того, кто, подвигнутый жалостью душевной, поддержал бы ее на краю пропасти.
Может быть, одной капли любви к нему было достаточно для того, чтобы возвратить его на прямой путь. Будто бы дорогой любви было трудно достигнуть к его сердцу! Будто уже до того окаменела в нем природа, что никакое чувство не могло в нем пошевелиться, когда и разбойник благодарен за любовь, когда и зверь помнит ласкавшую его руку! Но все позабыто человеком девятнадцатого века, и отталкивает он от себя брата, как Богач отталкивает покрытого гноем нищего
Выбранные места из переписки с друзьями <Фрагменты>
469
от великолепного крыльца своего. Ему нет дела до страданий его; ему бы только не видать гноя ран его. Он даже не хочет услышать исповеди его, боясь, чтобы не поразилось обонянье его смрадным дыханьем уст несчастного, гордый благоуханьем чистоты своей. Такому ли человеку воспраздновать праздник небесной любви?
Есть другой вид гордости, еще сильнейший первого,— гордость ума.
Никогда еще не возрастала она до такой силы, как в девятнадцатом веке. Она слышится в самой боязни каждого прослыть дураком. Все вынесет человек века: вынесет названье плута, подлеца; какое хочешь дай ему названье, он снесет его — и только же снесет названье дурака. Над всем он позволит посмеяться — и только не позволит посмеяться над умом своим. Ум его для него — святыня. Из-за малейшей насмешки над умом своим он готов сию же минуту поставить своего брата на благородное расстоянье и посадить, не дрогнувши, ему пулю в лоб. Ничему и ни во что он не верит; только верит в один ум свой. Чего не видит его ум, того для него нет. Он позабыл даже, что ум идет вперед, когда идут вперед все нравственные силы в человеке, и стоит без движенья и даже идет назад, когда не возвышаются нравственные силы. Он позабыл и то, что нет всех сторон ума ни в одном человеке; что другой человек может видеть именно ту сторону вещи, которую он не может видеть, и, стало быть, знать того, чего он не может знать. Не верит он этому, и все, чего не видит он сам, то для него ложь. И тень христианского смиренья не может к нему прикоснуться из-за гордыни его ума. Во всем он усумнится: в сердце человека, которого несколько лет знал, в правде, в Боге усумнится, но не усумнится в своем уме. Уже ссоры и брани начались не за какие-нибудь существенные права, не из-за личных ненавистей — нет, не чувственные страсти, но страсти ума уже начались: уже враждуют лично из несходства мнений, из-за противуречий в мире мысленном. Уже образовались целые партии, друг друга не видевшие, никаких личных сношений еще не имевшие — и уже друг друга ненавидящие. Поразительно: в то время, когда уже было начали думать люди, что образованьем выгнали злобу из мира, злоба другой дорогой, с другого конца входит в мир,— дорогой ума, и на крыльях журнальных листов, как всепогубляющая саранча, нападает на сердца людей повсюду. Уже и самого ума почти не слышно. Уже и умные люди начинают говорить ложь противу собственного убеждения, из-за того только, чтобы не уступить противной партии, из-за того только, что гордость не позволяет сознаться перед всеми в ошибке-уже одна чистая злоба воцарилась наместо ума.
И человеку ли такого века уметь полюбить и почувствовать христианскую любовь к человеку? Ему ли исполниться того светлого простодушия и ангельского младенчества, которое собирает всех людей
470
н.В. ГОГОЛЬ
в одну семью? Ему ли услышать благоухание небесного братства нашего? Ему ли воспраздновать этот день? Исчезнуло даже и то наружно добродушное выраженье прежних простых веков, которое давало вид, как будто бы человек был ближе к человеку. Гордый ум девятнадцатого века истребил его. Диавол выступил уже без маски в мир. Дух гордости перестал уже являться в разных образах и пугать суеверных людей, он явился в собственном своем виде. Почуя, что признают его господство, он перестал уже и чиниться с людьми. С дерзким бесстыдством смеется в глаза им же, его признающим; глупейшие законы дает миру, какие доселе еще никогда не давались,— и мир это видит и не смеет ослушаться. Что значит эта мода, ничтожная, незначащая, которую допустил вначале человек как мелочь, как невинное дело, и которая теперь, как полная хозяйка, уже стала распоряжаться в домах наших, выгоняя все, что есть главнейшего и лучшего в человеке? Никто не боится преступать несколько раз в день первейшие и священнейшие законы Христа и между тем боится не исполнить ее малейшего приказанья, дрожа перед нею, как робкий мальчишка. Что значит, что даже и те, которые сами над нею смеются, пляшут, как легкие ветреники, под ее дудку? Что значат эти так называемые бесчисленные приличия, которые стали сильней всяких коренных постановлений? Что значат эти странные власти, образовавшиеся мимо законных,— посторонние, побочные влияния? Что значит, что уже правят миром швеи, портные и ремесленники всякого рода, а Божий помазанники остались в стороне? * Люди темные, никому не известные, не имеющие мыслей и чистосердечных убеждений, правят мненьями и мыслями умных людей, и газетный листок, признаваемый лживым всеми, становится нечувствительным законодателем его не уважающего человека. Что значат все незаконные эти законы, которые видимо, в виду всех, чертит исходящая снизу нечистая сила,— и мир это видит весь и, как очарованный, не смеет шевельнуться? Что за страшная насмешка над человечеством! И к чему при таком ходе вещей сохранять еще наружные святые обычаи церкви, небесный хозяин которой не имеет над нами власти? Или это еще новая насмешка духа тьмы?
* В повести Гоголя «Рим» (1842) этамысльбыла выражена следующим образом: « ...показалась ему теперь низкою роскошь XIX столетия, мелкая, ничтожная роскошь, годная только для украшенья магазинов, выведшая на поле деятельности золотильщиков, мебельщиков, обойщиков, столяров и кучи мастеровых, и лишившая мир Рафаэлей, Тицианов, Микель-Анжелов, низведшая к ремеслу искусство». Основанием для соотнесения художникас «Божиим помазанником» явилось у Гоголя представление об идеальном облике и высшем назначении монарха,— о его, подобном искусству художника, призвании быть вдохновляющим людей «образом Того на земле, Который Сам есть любовь».
Выбранные места из переписки с друзьями <Фрагменты>
471
Зачем этот утративший значение праздник? Зачем он вновь приходит глуше и глуше скликать в одну семью разошедшихся людей и, грустно окинувши всех, уходит как незнакомый и чужой всем? Всем ли точно он незнаком и чужд? Но зачем же еще уцелели кое-где люди, которым кажется, как бы они светлеют в этот день и празднуют свое младенчество,— то младенчество, от которого небесное лобзанье, как бы лобзанье вечной весны, изливается на душу, то прекрасное младенчество, которое утратил гордый нынешний человек? Зачем еще не позабыл человек навеки это младенчество и, как бы виденное в каком-то отдаленном сне, оно еще шевелит нашу душу? Зачем все это и к чему это? Будто не известно зачем? Будто не видно к чему? Затем, чтобы хотя некоторым, еще слышащим весеннее дыхание этого праздника, сделалось бы вдруг так грустно, так грустно, как грустно ангелу по небе. И, завопив раздирающим сердце воплем, упали бы они к ногам своих братьев, умоляя хотя бы один этот день вырвать из ряду других дней, один бы день только провести не в обычаях девятнадцатого века, но в обычаях вечного века, в один бы день только обнять и обхватить человека, как виноватый друг обнимает великодушного, все ему простившего друга, хотя бы только затем, чтобы завтра же оттолкнуть его от себя и сказать ему, что он нам чужой и незнакомый. Хотя бы только пожелать так, хотя бы только насильно заставить себя это сделать, ухватиться бы за этот день, как утопающий хватается за доску! Бог весть, может быть, за одно это желанье уже готова сброситься с небес нам лестница* и протянуться рука, помогающая возлететь по ней.
* Образ лестницы (в старославянском — «лествица») — один из наиболее часто встречающихся у Гоголя. Он восходит к Библии — видению патриарха Иакова: «И увидел во сне: вот, лестница стоит на земле, а верх ее касается неба; и вот, Ангелы Божий восходят и нисходят по ней» (Бытие, гл. 28, ст. 12). Этот фрагмент входит в паремии, читаемые в Церкви на Богородичные праздники, и встречается во многих акафистах, церковных песнях и канонах. В православной святоотеческой литературе «лествица» — коренной образ духовного возрастания. Одной из любимых книг Гоголя была «Лествица» св. Иоанна Синайского, подвижника VI в. В Харьковском историческом музее до войны хранился гоголевский сборник выписок «Из книги: Лествица, возводящая на небо» (автограф около ста страниц в восьмую долю листа). Местонахождение его в настоящее время не известно (см. также коммент, к с. 433). ДокторА. Т. Тарасенков, наблюдавший Гоголя во время его предсмертной болезни, вспоминает: «Он указал мне на сочинение Иоанна Лествичника, в котором изображены ступени христианского совершенства, и советовал прочесть его». По словам Тарасенкова, сочинение св. Иоанна Синайского нравилось Гоголю «своими строгими правилами» и он «старался достигать высших ступеней, в нем описанных» (Тарасенков А. Т. Последние дни жизни Н. В. Гоголя. С. 13, 31). Действительно, 26 июня н. ст. 1842 г. Гоголь писал
472
н. В. ГОГОЛЬ
Но и одного дня не хочет провести так человек девятнадцатого века! И непонятной тоской уже загорелася земля; черствей и черствей становится жизнь; все мельчает и мелеет, и возрастает только в виду всех один исполинский образ скуки, достигая с каждым днем неизмеримейшего роста. Все глухо, могила повсюду. Боже! пусто и страшно становится в твоем мире!
Отчего же одному русскому еще кажется, что праздник этот празднуется, как следует, и празднуется так в одной его земле? Мечта ли это? Но зачем же эта мечта не приходит ни к кому другому, кроме русского? Что значит в самом деле, что самый праздник исчез, а видимые признаки его так ясно носятся по лицу земли нашей: раздаются слова: «Христос воскрес!» — и поцелуй, и всякий раз так же торжественно выступает святая полночь, и гулы всезвонных колоколов гулят и гудут по всей земле, точно как бы будят нас? Где носятся так очевидно призраки, там недаром носятся; где будят, там разбудят. Не умирают те обычаи, которым определено быть вечными. Умирают в букве, но оживают в духе. Померкают временно, умирают в пустых и выветрившихся толпах, но воскресают с новой силой в избранных, затем, чтобы в сильнейшем свете от них разлиться по всему миру. Не умрет из нашей старины ни зерно того, что есть в ней истинно русского и что освящено самим Христом. Разнесется звонкими струнами поэтов, развозвестится благоухающими устами святителей, вспыхнет померкнувшее — и праздник светлого воскресенья воспразднуется, как следует, прежде у нас, чем у других народов! На чем же основываясь, на каких данных, заключенных в сердцах наших, опираясь, можем сказать это? Лучше ли мы других народов? Ближе ли жизнью ко Христу, чем они? Никого мы не лучше, а жизнь еще неустроенней и беспорядочней всех их. «Хуже мы всех прочих» — вот что мы должны всегда говорить о себе. Но есть в нашей природе то, что нам пророчит это. Уже самое неустройство наше нам это пророчит. Мы еще растопленный металл, не отлившийся в свою национальную форму; еще нам возможно выбросить, оттолкнуть от себя нам неприличное и внести в себя все, что уже невозможно другим народам, получившим форму и закалившимся в ней. Что В. А. Жуковскому: «...живет в душе моей глубокая, неотразимая вера, что небесная сила поможет взойти мне на ту лестницу, которая предстоит мне, хотя я стою еще на нижайших и первых ее ступенях». А в марте 1843 г.— H. Н. Шереметевой: «Долгое воспитанье еще предстоит мне, великая, трудная лестница». Тот же Тарасенков рассказывает, что Гоголь, умирая, сказал громко: «Лестницу! поскорее, давай лестницу!.. » (Подобные же слова о лестнице сказал перед смертью св. Тихон Задонский, сочинения которого Гоголь перечитывал неоднократно и тоже делал из них выписки).
Выбранные места из переписки с друзьями <Фрагменты>
473
есть много в коренной природе нашей, нами позабытой, близкого закону Христа,— доказательство тому уже то, что без меча пришел к нам Христос, и приготовленная земля сердец наших призывала сама собой его слово, что есть уже начала братства Христова в самой нашей славянской природе, и побратанье людей было у нас родней даже и кровного братства, что еще нет у нас непримиримой ненависти сословья противу сословья и тех озлобленных партий, какие водятся в Европе и которые поставляют препятствие непреоборимое к соединению людей и братской любви между ними, что есть, наконец, у нас отвага, никому не сродная, и если предстанет нам всем какое-нибудь дело, решительно невозможно ни для какого другого народа, хотя бы даже, например, сбросить с себя вдруг и разом все недостатки наши, все позорящее высокую природу человека, то с болью собственного тела, не пожалев самих себя, как в двенадцатом году, не пожалев имуществ, жгли домы свои и земные достатки, так рванется у нас все сбрасывать с себя позорящее и пятнающее нас, ни одна душа не отстанет от другой, и в такие минуты всякие ссоры, ненависти, вражды — все бывает позабыто, брат повиснет на груди у брата, и вся Россия — один человек. Вот на чем основываясь, можно сказать, что праздник воскресенья Христова воспразднуется прежде у нас, чем у других. И твердо говорит мне это душа моя; и это не мысль, выдуманная в голове. Такие мысли не выдумываются. Внушеньем божьим порождаются они разом в сердцах многих людей, друг друга не видавших, живущих на разных концах земли, и в одно время, как бы из одних уст, изглашаются. Знаю я твердо, что не один человек в России, хотя я его и не знаю, твердо верит тому и говорит: «У нас прежде, чем во всякой другой земле, воспразднуется светлое воскресенье Христово!»
€4^
И. С. ТУРГЕНЕВ
Письма
87. Полине Виардо*
С французского:
Воскресенье, 30 апреля.
Добрый день, милостивая государыня. Когда утром выглянешь в окошко... позвольте, да ведь это стих. Ну, что ж, поскольку он явился в единственном числе, надо быть учтивым и найти ему спутника... «Может быть, не видно ничего — а, быть может, немного!» Это чистейший Гюго **.
Я хотел сказать, что, когда (о, проклятое перо!) утром выглядываешь в окно и вдыхаешь весенний воздух, не можешь подавить в себе желания быть счастливым. Жизнь — эта искорка, мерцающая в мрачном и немом океане Вечности!!! — это единственное мгновение, которое нам принадлежит — и т. д., и т. д., и т. д., всё это избито, а между тем верно. (Завтра куплю себе других перьев; эти отвратительны и портят мне удовольствие писать вам.) Итак, продолжим. (Ах, слава Богу, вот нашлось одно сносное!) Я обещал быть благоразумным. Что я делал вчера, в субботу? Читал книгу, о которой, каюсь, часто отзывался с большой похвалой, не зная ее,— «Провинциальные письма»
* Печатается по фотокопии: ИРЛИ, P. I, оп. 29, №422. Подлинник хранится в Bibi Nat.
Впервые опубликовано (не полностью): во французском оригинале — Revue Hebdomadaire, 1898, №44,1 octobre, p. 40-46; в русском переводе — Моск Вед, 1898, №266, 27 сентября (9 октября). Перепечатано: в русском переводе — Гальп.-Кам., Письма, с. 39-46, IX; Письма к Виардо, с. 81-93; IX; во французском оригинале — Halp.-Kam., Viardot, p. 43-52, IX.
Впервые полностью во французском оригинале опубликовано: T, Quelques lettres, p. 59-64.
** Тургенев пародирует стиль Гюго, построенный на антитезах.
Письма
475
Паскаля. Это восхитительно во всех отношениях. Здравый смысл, красноречие, своего рода комизм — всё здесь есть. А между тем это произведение раба, раба католицизма,— «херувимы, эти блаженные существа, состоящие из головы и перьев», «прославленные парящие лики», всегда «багряные и пламенеющие», иезуита Лемуана1 рассмешили меня до слез *.
Потом я отправился посмотреть выставку статуй, олицетворяющих Республику, или, вернее, 700 различных эскизов этой статуи, и возвратился оттуда в таком же негодовании, как и все. Это невообразимая мерзость! Вот так конкурс!! Где ты, жюри**? Затем я провел вечер у г-на Тучкова***, о котором я вам уже говорил. Мы там вели разговор более или менее интересный, но очень утомительный. Знакомы ли вам такие дома, где невозможно разговаривать без умственного напряжения, где беседа превращается в ряд задач, которые приходится решать в поте ума своего, где хозяин дома и не подозревает, что часто высшее проявление внимания к**** гостю — не обращать на него внимания; где каждое слово произносится с натугой? Какая пытка! Такой разговор — это езда * «Провинциальные письма» («Lettres provinciales», точнее: «Lettres écrites par Louis de Montalte a un provincial de ses amis et aux RR. PP. jésuites sur le sujet de la morale et de la politique de ces peres» — «Письма, писанные Луи де Монтальтом другу-провинциалу и преподобным отцам иезуитам на предмет морали и политики этих отцов» ) — красноречивый и блестящий памфлет Б. Паскаля (1657) против иезуитского мракобесия, которое, однако, Паскаль критиковал с позиции «обновленного» янсенистами католицизма, что и отмечает Тургенев, называя его книгу «произведением раба». Цитируемые Тургеневым строки (два двустишия, почти точно приведенные) взятые из одиннадцатого письма, адресованного «преподобным отцам иезуитам» под датой « 18 августа 1656», где Паскаль с иронией приводит отрывки из сочинения в стихах и в прозе одного из иезуитов — отца Лемуана «Нравственные картины» («Peintures morales»). Это сочинение Паскаль с возмущением называет «шутовством». Об отношении Тургенева к философии Паскаля и ее отражении в его творчестве см. вкн.: Батюто А. Тургенев-романист. Л., 1972, с. 60-90.
** Выставка проектов скульптурного символического изображения Республики была открыта с 25 по30 апреля н. ст. и явилась результатом конкурса, объявленного в марте 1848 г. временным правительством. На выставке было представлено более 700 произведений, но все они оказались настолько слабы, что конкурс был признан несостоявшимся (см. фельетон в «Journal des Débats», 1848, 2 мая).
*** А. А. Тучков, вместе с семьей (женой Натальей Аполлоновной и дочерьми Натальей и Еленой), приехав в Париж из Рима вскоре после февральской революции, прожил здесь весну и лето 1848 г., часто встречаясь с П. В. Анненковым, и Тургеневым (см.: Тучкова-Огарева, с. 64-68,279-283).
**** далее зачеркнуто: посетителю.
476
И. С. ТУРГЕНЕВ
на перекладных, причем вы являетесь лошадью. Затем, на сон грядущий, я прочел «Путешествие вокруг моей комнаты» графа де Местра2,— еще одну вещь, которой не знал. Но это путешествие мне очень мало понравилось; это подражание Стерну3, написанное очень умным человеком,— а я заметил, что из подражаний всего отвратительнее бывают самые умные, когда они предпринимаются всерьез. Глупый человек подражает рабски; человек умный, но бесталанный подражает претенциозно, и с усилием, с самым худшим изо всех усилий,— быть оригинальным. Бьющаяся в плену мысль — печальное зрелище! Особенное отвращение внушают мне подражатели Стерна,— эгоисты, полные чувствительности, которые нежатся, облизываются, любуются собой, стараясь в то же время казаться простыми и добродушными. (Тёпфер1 немного в этом роде)*. Экспедиция моего друга Гервега5 потерпела полное фиаско; эти бедняги — немецкие рабочие подверглись ужасному избиению. Помощник его, Борнштедт, был убит, что касается Гервега, то он, говорят, вернулся в Страсбург со своей женой. Если он приедет сюда, я посоветую ему перечитать «Короля Лира», особенно сцену с королем, Эдгаром и шутом в лесу. Бедняга! Ему следовало или не начинать дела, или дать убить себя, как это сделал тот, другой... **
Последний бюллетень г-жи Санд6 заставил смеяться весь Париж; в нем она цитирует Жан-Поля Рихтера7 и заставляет министра внутренних дол говорить о клеветах, о зрелых плодах, об угрызениях совести и мушиных яйцах, отложенных в плодах. Какого дьявола она ввязалась в это дело? *** Но не стану говорить вам о политике.
* « Путешествие вокруг моей комнаты» Ксавье де Местра, напечатанное в 1794 г.,— ряд размышлений и замечаний, вызванных предметами, находящимися в комнате автора, но в большинстве не связанных с ними. Замечание Тургенева о подражании Кс. де Местра Л. Стерну вполне обоснованно и высказывалось в критике. Р. Тёпфер был лично близок к Кс. де Местру, содействовавшему его литературной карьере, и сближение этих имен является совершенно справедливым.
** В марте 1848 г. Гервег задумал организовать поход вооруженной рабочей колонны в Германию для возбуждения там революции. Несмотря на противодействие не мецких эмигрантов, участники похода — 640 человек из рабочей эмигрантской молодежи, возглавленной Гервегом и его другом А. Борнштедтом,— 24 апреля н. ст. перешли границу Франции, но27 апреля были встречены и разбиты вюртембергскими войсками; Гервег едва не попал в плен и спасся лишь благодаря находчивости и энергии его жены. Они скрылись в Швейцарию, а позднее вернулись в Париж. Сообщаемое Тургеневым известие о гибели Борнштедта оказалось ложным. Говоря о «Короле Лире», Тургенев имеет в виду 4-ю сцену III акта трагедии Шекспира.
*** При временном правительстве Жорж Санд принимала активное участие в редактировании «Bulletins de la Republique» («Бюллетеней Республики»).
Письма
477
Возвращается ли ваш муж в Париж? Г-н Бастид находится в списке избранных *.
Г-жа Сичес писала мне о вас. Я надеюсь, милостивая государыня, что вы будете так добры вскоре мне написать. Tausend, tausend Danke für... Sie wissen wo fur, Sie beste, thcursle Frau... Wie glücklich hat es mich gemacht! ** До завтра.
И. С. Тургенев
1599. А.А. ФЕТУ***
31 марта (12 апреля) 1864. Париж
Париж.
Rue de Rivoli, 210.
Вторник, 11-го**** апр. / 31-го марта 1864.
Любезнейший Афанасий Афанасьевич, надобно непременно нам возобновить нашу переписку; и не потому, что мы имеем пропасть вещей сообщить друг другу — а просто потому, что не следует двум приятелям жить в одно и то же время на земном шаре и не подавать друг другу хоть изредка руку. Вы только обратите внимание на следующий рисунок:
вечность
а вечность...
Точка а представляет то кратчайшее мгновенье — ce raccourci d’atome *****, как говорит Паскаль6* — в теченье которого мы живем; — * На всеобщих выборах в Национальное собрание в конце апреля 1848 г. Жюль Бастид был избран депутатом от департамента Сены (Парижа), получив 110228 голосов и заняв в списке избранных 30 е место (см.: Journaldes Débats,4848, 29 апреля).
** Большое, большое спасибо за... Вы знаете за что, самая лучшая, дорогая из женщин. Каким счастьем это было для меня! (нем.).
*** Печатается по подлиннику: ИРЛИ, P. I, оп. 29, №33, л. 3-4.
Впервые опубликовано: Фет, н. 2, с. 9-10, с пропусками.
В дате письма число по новому стилю не соответствует указанному дню недели: помете «вторник» соответствует 12 апреля н. ст. 1864 г. Ошибку Тургенева подтверждает правильно указанное в дате число по старому стилю и датировка предшествующего письма (см. № 1598).
**** Так в подлиннике.
***** гр0 С0Кращение атома (фр.).
6* Цитата из книги В. Паскаля «Мысли» («Pensées», Article premier, 1). См., например, в издании: Pensées de Pascal, publiées dans leur texte authentique avec un commentaire suivi et une étude littéraire par Ernest Havet. Paris, 1852. P. 6.
478
И. С. ТУРГЕНЕВ
еще мгновенье — и поглотит нас навсегда немая глубина нихтзейн’а*... Как же не воспользоваться этой точкой? Расскажу я Вам, что я делал, делаю и буду делать; — и жду от Вас, что Вы так же поступите со мною.
Покинув град Петров, я в Баден поспешил И с удовольствием там десять дней прожил. На брата посмотреть заехал я во Дрезден ** — (Как у Веригиной на нас с приветом лез Ден ***, Вы не забыли, чай? Но в сторону его!) — Я в Бадене, мой друг, не делал ничего — И то же самое я делаю в Париже —
И чувствую, что так к природе люди ближе — И что не нужен нам ни Кант, ни Геродот, Чтоб знать, что устрицу кладут не в нос, а в рот. Недельки через две лечу я снова в Баден; — Там травка зеленей и воздух там прохладен — И шепчут гор верхи: «Где Фет! Где тот поэт, Чей стих свежей икры и сладостней конфет? Достойно нас воспеть один он в состоянье- Но пребывает он в далеком расстоянье!»
Однако довольно дурачиться. Напишите мне, что Вы поделываете, что Борисов?к Я от него получил очень милое письмо ****, на которое еще не ответил, но отвечу непременно. Боткин еще в Риме: но его сюда ждут на днях.— Весна у нас начинается — но как-то медленно и вяло; — дуют холодные ветры и не чувствуется никакой неги, той неги, которую Вы так прелестно воспевали.— Я откладываю свои работы до Бадена11; но, кажется, я только самого себя обманываю. Здесь я написал только статейку, короче воробьиного носа, для предполагаемого праздника шекспировской трехсотлетней годовщины***** — да еще рассказец, тоже прекоротенький, который я намахал в два дня6*. Кстати, Вы должны сочувствовать шекспировской годовщине7*; сделали бы и Вы что-нибудь!
* «Нихтзейн» — русская шутливая передача немецкого слова «Nichtsein» — небытие.
** Брат писателя, Н.С. Тургенев, в это время был болен и лечился в Дрездене (см. письма 1570 и 1572).
*** Ден — по-видимому, собака С. Я. Веригиной, упомянутая ради каламбурной рифмы.
**** Вероятно, письмо И. П. Борисова к Тургеневу от 11 (23) февраля 1864 г. (см.: Т сб, вып.4, с. 384-385).
***** см_ письмо 1583, примеч. 3.
6* Речь идет о рассказе «Собака» (см. письма 1594,1595).
7* Намек на выполненные Фетом переводы некоторых трагедий Шекспира.
Письма
479
Ну — а Степановка — всё на том же месте — и процветает? Что посаженные деревца? А пруд? Бог даст, всю эту благодать я увижу в нынешнем году. А пока будьте здоровы и веселы; дружески жму Вам руку и кланяюсь Вашей жене.
Преданный Вам
Ив. Тургенев
Виши10, 20 июня 1859
Итак, я в Виши, милая и добрая м-м Виардо, устроился в очень красивой комнате «Луврского отеля», ул. Ним (имеющий уши, да услышит!). Уже виделся со своим врачом, выпил два стакана воды, записался к Штраусу, к Бугарелю (читальный зал), час моих ванн определен — 3 ч. 45 м.,— словом, я пьющий в полном смысле этого слова; мои легкие в порядке. Мой доктор сулит мне златые горы... Посмотрим!
Виши далеко не так кокетлив и приятен, как немецкие курорты: немного грязно, немного скучно и пока довольно пусто. Ужасная шарманка воет, стонет и скрипит в эту минуту под моим окном... ее не потерпели бы в Карлсбаде или Эмсе11. Тут мало деревьев — большая река Алье катит по слишком широкому каменистому ложу угрюмые желтые воды: это поток сварливый, лишенный поэзии. Много тополей повсюду, и идет дождь.
Все это не располагает к большому веселью: да к тому же, чтобы развлечься в пути, я выбрал «Мысли» Паскаля, самую ужасную, самую несносную книгу из всех когда-либо напечатанных. Он растаптывает все, что есть дорогого у человека, и бросает вас на землю, в грязь, азатем, чтобы вас утешить, предлагает вам религию, которую разум (разум самого Паскаля) не может не отвергнуть, но которую сердце должно смиренно принять.
(Мысль 12: «Comminutum cor» (смиренное сердце) — Св. Павел. Вот характер христианский. «Альба вас назвала... я не знаю вас больше» — Корнель12. Вот характер нечеловеческий. Человеческий характер противоположен этому.)13
Противоположен также и христианскому характеру,— осмелюсь я добавить,— если сводить христианство к узкой и трусливой доктрине личного благополучия, эгоизма. Однако никогда еще никто не подчеркивал того, что подчеркивает Паскаль: его тоска, его проклятия — ужасны. В сравнении с ним Байрон — розовая водица. Но какая глубина, какая ясность — какое величие! Послушайте: «Мы бессильны знать все наверняка, так же как и не знать ничего совсем. Мы плывем в огромном просторе, всегда неверном и бурном, бросае¬
480
И. С. ТУРГЕНЕВ
мые из одного его конца в другой. К какому бы причалу мы ни думали пристать и закрепиться — он качается и движется прочь; и если мы следуем за ним, он не дается в руки, ускользает, вечно убегает от нас. Нет ни в чем для нас опоры. Такое положение естественно, и все же оно противоположно нашим склонностям: мы горим желанием обрести прочную устойчивость, самую надежную твердь, чтобы возвести на ней башню, вздымающуюся в бесконечность; но вся наша постройка трещит, и земля распахивает свои бездны» 14.
Какой свободный, сильный, дерзкий и могучий язык! И эти удары резца:
«Последний акт кровав, как ни прекрасна комедия во всем остальном. Наконец, бросают комья земли на голову — и все кончено навсегда».
Или:
«Смотрят вверх, но опираются на песок, и когда рушится земля, падают, глядя в небо».
Или еще:
«как пусто и полно всякой грязи человеческое сердце!» 15
Но достаточно и этого, может быть, даже слишком много. У меня свело оскоминой рот от этого чтения; зачем я пишу вам об этом? Но я пишу Вам обо всем.
Здесь мало русских, тем лучше. Надеюсь, что я смогу побыть один и работать.
Напишите мне, прошу Вас и без промедлений. Если бы Вы знали, сколько радости приносит мне Ваше письмо! Но Вы знаете это. Прощайте — до встречи; тысяча приветов всем, тысяча поцелуев малышам; сердечно жму Ваши руки. Добавляю для Виардо.
Ваш И. Тургенев
А. И. ГЕРЦЕН
Письма
76. Н.Х. КЕТЧЕРУ1 и НИ. САЗОНОВУ2
1836. Сент<ября> 22. Вятка.
О, дайте, дайте отдохнуть на груди друзей, душа моя вся избита этим холодом посторонних; что за дрянная жизнь практическая, что за кандалы всякому порыву, всякому чувству. Толпа грязью мечет в лицо тому, кто смеет стать выше ее, она болото, в котором может погибнуть самый смелый путник. Да, все теории о человечестве — вздор. Человечество есть падший ангел; откровение нам высказало это, а мы хотели сами собою дойти до формулы бытия его и дошли до нелепости (эклектизм). Все понимавшие верили в потерянный рай — Вико3, Пасхаль... И что нам осталось — два эти течения противуположные, которые губят, отравляют нас своей борьбой: Эгоизм — это тяготение, это мрак, контр активность, прямое наследие Люцифера, и Любовь — это свет, расширение, прямое наследие Бога. Одно влечет его к уничтожению всего, кроме «я», к материи; другое — палингенезия, начавшаяся с прощения Люцифера. Дант очень много видел, представляя все пороки тяготеющими к Люциферу в центре Земли, это иероглиф, не спорю; но где взять слова на нашем языке, которые бы заменили иероглиф?
Итак, я на границе юности *; прощай, время упоения, мечтаний, я всему заплатил долг: и университету, и родительскому дому,
* В ответном письме Н. И. Сазонов писал так: «Нет, друг, не прошла юность наша, напротив, теперь то юность настоящая: мы было испортили жизнь свою, но сила души восторжествовала, и солнце юности заблистало для нас ярче и прекраснее, не затемненное облаками мечтательности и разгулья». Кетчер приписал на полях: Concedo (Согласен). (ЛН, т. 62, с. 530-532).
482
А. И.ГЕРЦЕН
и вам, друзья, и шампанскому, и публичным девкам.— Недаром прожиты эти 24 года; пестро воспоминание; горе не имевшим юности. А между тем, что же была моя жизнь? Она вся представляет два чувства, два стремления; они-то образовали меня и дали силу перенесть многое. Я был еще ребенком (14 лет), но какая-то горькая мысль заставила меня бросить игрушку *; щеки стали бледны, глаза загорелись мыслию. Люди встретили меня обидой, первое чувство было чувство стыда. Я заплатил презрением; но рубец остался на душе, удар был силен, верен. Тогда я увидел, что этот шар населен чем-то посторонним для меня. Мир действительный открывался слишком рано. Грустно было мне... и тогда-то является Огарев4. И как торжественна была наша встреча! Это было летом 1826 года, на Воробьевых горах, пред лицом целой Москвы мы обнялись, дали друг другу руку идти по жизни вместе, и ничто не разымет наших рук. Мы воспитали друг друга. Это первое чувство мое — Дружба. Оно мне дало его глубокую душу, из которой я мог черпать мысль, как из океана.
...Долгое заключение истомило меня, мысли эгоистические закрадывались, мысли злобы, и я обращал глаз мой, вызывая спасителя. И провидение дало его. Там среди звука цепей слетел ангел божий, и я протянул ему закованную руку, и пал свет из его очей и... был спасен и тогда стал жить полной жизнию, и тогда мгновенно откровением узнал я второе чувство — Любовь.
Вы удивитесь, вы этого не знали, я и теперь бы вам не сказал; но хочу, чтоб прежде личного свиданья все было открыто вам...
Голос любви воскресил меня и здесь, когда я падал от досады. Но кто же эта она? Все, что могла создать мечта Шиллера в Текле5, Беатриче6, ведущая в рай,— более, нежели все это. Сазонов, ты знаешь ее, ты был у меня в Крутицах71835 апреля 9**.— Сестра моя Наташа; нет, более, нежели сестра; другая гемисфера моего бытия.
Это письмо — и барону и Саз<онову>, а будет случай, прошу его отослать в Пензу***.
* См. коммент, к письму 50. Т. П. Пассек писала по этому поводу в своих воспоминаниях: «Саше было около двенадцати лет, когда он случайно узнал и понял об отношениях своих родителей, что прежде туманно мелькало в разговоре нянек и прислуги, не останавливая его внимания. <...> Грустно рассказывал мне Саша о своем открытии и возмущался тем, что он и мать его стоят в ложном общественном положении. “Ну если так,— говорил он,— значит, я свободен”». (Пасек, 1, стр. 156. Ср. VIII. 32-35).
** О посещении Сазоновым Герцена в Крутицких казармах и его отзыв о Н. А. Захарьиной см. в письме 113.
*** В Пензе находился в то время Огарев.
Прививка конституционной оспы
483
Прививка конституционной оспы*
Она, как роза, жила один день, утром распустилась и увяла к вечеру! Magna Charta и coup d’état**, гордые норманны жмудского проис- * Печатается по тексту К, л. 195 от 1 марта 1865 г., стр. 1597-1599, где опубликовано впервые, с подписью: И — р. Автограф неизвестен.
Замысел этой статьи относится, очевидно, к концу января — началу февраля 1865 г., когда из «Indépendance belge», № 31 от 31 января 1865 г., Герцен узнал об адресе московского дворянства, речах в Дворянском собрании и пр. 1 февраля 1865 г. он писал Н. А. Огаревой: «Опять могу я по старому до 2-х заниматься,— попробую написать небольшую статью для “Кол.”». На другой день, 2 февраля, Герцен писал Огареву: «Если ты не читал “Indep. Belge” от 31 янв., то сейчас пошли за ней к Долгорукову. Жаль, что все это поздно для февральского листа. Катков надул Офросимова, тот заврался в своей речи, и безобразовская партия потребовала конституцию. Это все клад. N “Ind.” оставь до меня. Карты мешаются,— пойдет новая талия... Офросимовская речь почище всего, этим надобно воспользоваться». Непосредственным поводом к написанию статьи послужило обращение московского дворянства в начале 1865 г. к царю с адресом, содержавшим просьбу олигархической конституции. Общий смысл статьи несравненно шире оценки этого единичного факта. Своеобразие исторического развития России, Россия и Европа, пути и перспективы революционного движения — все эти вопросы вновь поднимаются Герценом в статье «Прививка конституционной оспы». Еще в начале 1862 г. в Московском губернском дворянском собрании происходили горячие дебаты по поводу принятия адреса на высочайшее имя в ответ на Положение 19 февраля, лишившее дворян их основных привилегий. Составленный тогда всеподданнейший адрес содержал весьма умеренное требование местного самоуправления и реформы старого суда. Посланный министру внутренних дел, адрес был возвращен с указанием царя на незаконность дворянских претензий. Тем не менее правительство было обеспокоено настроениями поместного дворянства и поторопилось с проведением земской реформы. Новому выступлению московских дворян способствовало усиление, начиная с 1862 г., реакционной политики правительства; дворянство почувствовало свою силу, видя, с какой жестокостью подавляется революционное движение в России и национально-освободительное — в Польше. В январе 1865 г. в Московском дворянском собрании был поднят вопрос о центральном представительстве в дополнение к местному земскому, существовавшему с 1864 г. в соответствии с Положением о земстве. Прикрываясь декларацией общесословных выборов, московское дворянство придавало, конечно, особенное значение представительству аристократических верхов. Почин этого предложения принадлежал давнему противнику освобождения крестьян Н. А. Безобразову, о котором даже Александр II еще в 1859 г. сказал: « ...он меня вполне убедил в желании подобных ему учредить у нас олигархическое правление» (Н. А. Любимов. Михаил Никифорович Катков и его историческая заслуга, СПб., 1889, стр. 293). Предложение Безобразова было поддержано предводителем дворянства Звенигородского уезда Д. Д. Голохвастовым и графом В.П. Орловым-Давыдовым. Несмотря на некоторое расхождение в мнениях различных групп дворянства, 11 января большинством голосов (270 против 36) собрание приняло адрес на высочайшее
484
А.И.ГЕРЦЕН
имя, где содержался следующий призыв: «Довершите же, государь, основанное Вами государственное здание созванием общего собрания выборных людей от земли русской, для обсуждения нужд, общих всему государству. Повелите Вашему верному дворянству, с этой же целью, избрать из среды себя лучших людей. Дворянство было всегда твердою опорою русского престола». В адресе указывалось, что именно дворянские представители «будут призваны охранять драгоценные для народа и необходимые для истинного благоустройства нравственные и политические начала, на которых зиждется государственный строй». «Адрес московского дворянства» был напечатан в газете «Весть», № 4 от 14 января 1865 г., и оттуда перепечатан в К, л. 195 от 1 марта 1865 г., стр. 1597. Правительство враждебно встретило это выступление московского дворянства. Сенат признал состав собрания не удовлетворяющим требованиям закона и кассировал все его решения. Петербургская газета « Весть», издававшаяся Скарятиным и напечатавшая отчеты о заседаниях, речь В. П. Орлова- Давыдова и текст адреса, была приостановлена на восемь месяцев, а номер «Вести» от 14 января конфискован. Александр II адрес не принял и в рескрипте на имя министра внутренних дел П. А. Валуева от 30 января 1865 г. выразил московскому дворянству порицание. Желая пресечь подобные выступления в дальнейшем, царь заявил, что право «постепенного совершенствования» государственного устройства «принадлежит исключительно» ему и «неразрывно сопряжено с самодержавною властью» (см. Государственные преступления в России в XIX веке. Сост. под ред. Б. Базилевского (В. Богучарского), т. I, СПб., 1906, стр. 127). Выступление московских дворян не нашло сочувствия ни среди либерального, или славянофильски настроенного, ни среди консервативного дворянства. Б. Н. Чичерин писал, что адрес вышел из «стран сочетания крепостнических вожделений и конституционного либерализма». Чичерин свидетельствовал, что если дворянство думало «этим способом за брать власть в свои руки и повернуть дело в свою пользу», то «истинные ли бералы, конечно, не могли сочувствовать подобным демонстрациям, а люди более радикального направления требовали совсем другого» (Б. Н. Чичерин. Воспоминания. Московский университет, М., 1929, стр. 67). А. В. Никитенко в связи с адресом высказал опасение по поводу неприкосновенности правительственного принципа и возможности при конституционных попытках «впасть в хаос, горший настоящего» (А. В. Никитенко. Дневник, т. 2, М., 1955, стр. 492). И. С. Аксаков выступил на страницах «Дня» против конституционализма как элемента, привнесенного с Запада, противного «всем основным требованиям истории и духа русского народа» ; опасаясь народного восстания, он предостерегал, что подобные «затеи» аристократов, чуждых народу, «могли бы, только по недостатку доверия к нам <дворянам> народа, еще пуще заподо зрить нас в его глазах и сделать наше положение еще более изолированным» («День», № 3 от 16 января1865 г., И.С. Аксаков. Сочинения, т. 2, М., 1886, стр. 254, 258, 261,263). Ф. И. Тютчев отозвался на адрес эпиграммой, зло разоблачающей беспочвенность претензий лидеров московской дворянской оппозиции: Себя, друзья, морочите вы грубо — / Велик с Россией ваш раз лад — / Куда вам в члены Английских палат? / Вы просто члены Английского клуба... Подлинные цели дворянских «конституционалистов» были с едким сарказмом раскрыты Герценом на страницах «Колокола».
** Великая хартия вольностей (Magna Charta libertatis) узаконила в Англии в 1215 г. ограничение королевской власти в пользу феодалов. Coup d’état — государственный переворот (фр.).
Прививка конституционной оспы.
485
хождения и Бисмарки петербургского, нотабли и 18-е Брюмера* — все это поднялось и исчезло ровно в столько времени, сколько нужно писарю настрочить лист от заголовка до министерской подписи и вагону допариться от Петербурга до Москвы.
Царь земщины отделался на первый случай удачнее безземельного царя**.
Мы вовсе не против попытки звенигородских, можайских я всяких других лордов бархатной книги и сенатской геральдии. Вреда они сделать не могут, олигархическая конституция была возможна, да и то на несколько дней, при воцарении Анны Иоанновны*** ', а конечно не теперь. Если же всякому народу, развивающемуся на западный манер, надо пройти дворянской конституцией, хорошо, что мы так скоро отделались от нее. Остается поберечься несколько дней, как после коровьей оспы, да и в путь по своим делам.
Тип нашей цивилизации вообще — прививная оспа. Мы проделываем понемногу и в тесно очерченной сфере воспаленья те великие лихорадки истории, те страшные болезни ее роста, от которых государства обливались кровью, делались уродами, дробились, останавливались, умирали. У нас после петровской прививки шла собственно не история, а какой-то особенный курс ее в лицах; форсированным маршем догоняя Запад, мы проделывали маневры цивилизаций и революций.
...Потешные войска, образцовые полки, учебные батальоны, учреждения, вводимые «в виде опыта», опыты, вводимые «в виде учреждений», так же натуральны петербургскому управлению, как быстрое усвоенье себе наук и идей, воззрений в систем, Вольтеров и Гегелей, Гёте и Байронов натурально нашему всеедному обществу.
* Нотабли — «почетные лица» из числа привилегированной знати в феодальной абсолютистской Франции; 18 брюмера (9 ноября 1799 г.) был произведен государственный переворот, положивший начало военной диктатуре Наполеона Бонапарта.
** Герцен сравнивает Александра II и английского короля Иоанна Безземельного. В 1864 г. в Российской империи была проведена земская реформа, ни в какой степени не затрагивавшая основ самодержавия и его аппарата. Иоанн Безземельный, подписав Великую хартию вольностей, вынужден был существенно ограничить свои права в пользу светских и духовных феодалов.
*** Анна Иоанновна, племянница Петра I, была приглашена на трон Верховным тайным советом, поставившим ей ряд условий — «кондиций», сводившихся к ограничению самодержавия в пользу феодальной знати — олигархической верхушки, так называемых «верховников». Приняв вначале эти условия, Анна Иоанновна вскоре после воцарения отклонила их и восстановила неограниченный самодержавный образ правления.
486
А.И. ГЕРЦЕН
Все это как-то и в самом деле инее самом деле, все это « еще не служба, а службишка, служба, мол, еще впереди». Мы от всего сердца и от всего помышления верим этому.
Да, это не служба, а ученье, и долею прескверное и претяжелое, так что поневоле вспоминаешь, думая о дидактической империи нашей, известные стихи солдатской песни:
Нам ученье ничего, Впрочем, очень тяжело.
С самого начала петербургской эпохи правительство, видя, что с такой огромной массой, как Русь, не сорудуешь, начало отделять от живого великана небольшой кусок филейного мяса и его приняло за государство деятельное, учебное, экспериментальное, за образцовую ферму и военно-гражданский экзерциргауз. Эта вырезанная среда, это «очищенное» государство было неразрывно связано с правительством, долею находилось у него на содержании, долею содержало себя по его милости. Остальное народонаселение, т. е. весь народ, без филейного куска, был отдан ему на прокормление, отопление, одежду и обувь в награду за хорошее учение и послушанье. Правительство, верное своему цивилизующему призванию, стоит во главе школы и лаборатории и с утра до ночи делает штатские и военные опыты и, главное, учит — учит всему, беспрестанно учит, прививает все, беспрестанно прививает: шведские законы, немецкие кафтаны, бранденбургский артикул, голыптинские пукли, французские министерства, прусские каски. Империя всероссийская начинается собственно с парикмахерского урока, где носить волосы и где не носить, с высочайше утвержденной выкройки спинок и талий и оканчивается замечанием министра Панина2, говорившего, что он молодых сенаторов не любит пускать за границу, зная, что юнейшему отроку из них все же было за пятьдесят лет. Ничего не оставлено произволу самобытности, даже преданию. Старого и малого ровно посылали в ассамблеи и в церкви, заставляли плясать и говеть, одеваться по-немецки и говорить по-французски. Если курс не всегда оканчивался, то, конечно, не от недостатка учебных пособий. Кто виноват, что в главной школе, например в армии, половина рекрут умирала, не кончив пространного курса военного столбняка и метанья ружьем. Были неудачные опыты и в других сферах. Правительство, не ограничиваясь одними государственно-патологическими и государственно-хирургическими опытами над людьми, хотело распространить свое воспитание на растительный и минеральный мир,
Прививка конституционной оспы
487
но тут оно встретило, неожиданную оппозицию. Как ни старался, например, граф Аракчеев3, чтоб на всех полосах у поселенцев рожь была одной, вышины, цель не была достигнута. Геология оказалась еще упорнее, и, несмотря на высочайшую волю Николая, сам Мурчисон4 не мог найти каменного угля в той части, в которой государю было угодно, чтоб он был.
Состав педагогической конференции, окружавшей главного педагога империи, был чрезвычайно разнообразен и состоял, разумеется, большей частью из немцев, но также и из своих. Тут были и дети лютеранских пасторов, и дети русских попов, были и Канкрины5 из евреев, и Бироны6 из конюшни, и Клейнмихели7 совсем из ничего. Космополитический характер этих учителей особенно хорошо выразился в канцлере Нессельроде8, родившемся в Лиссабонском порту, на английском корабле, от немецких родителей, находившихся в петербургской службе,— так что ученый министр иностранных дел был своею личностию до некоторой степени кратким руководством к географии. Участвовали, конечно, и столбовые русские дворяне в общем государственном поучении, но их глубокое незнание делало их мало способными к самобытной педагогии, они больше играли роль крепостных бурмистров при немце-управляющем, т. е. били не на живот, а на смерть кого Иван Иванович или Карл Иванович прикажет. Зато на более скромном поприще — передней, конюшни и гумна каждый из них сам становился Петром I, отцом-просветителем. Сколько свежих и здоровых людей, поколений легло в могилу, было искалечено, прежде чем приватное дворянство дворни обучилось артистически подавать шубу, эстетически священнодействовать с тарелкой в руке и не хуже Вателя9 приготовлять артишоки à la Barigoule!10 Сколько деревень, сел, волостей было вконец разорено на заведение «в виде опыта» невозможного хозяйства и ненужных фабрик!
Словом, такого поучающего государства мир не производил, история не помнит. Целые существования людские проходили в труде и поте на пользу воспитания ближнего; и эти ближние, происходя в чины, снова занимались учением других и сами были поучаемы до гробовой доски. «Сладкого плода» науки, о котором говорит пословица, никто не вкушал. Семидесятипятилетний лакей моего отца — Яков Игнатьевич Бакай, о котором я уже имел случай говорить*, в преклонных летах своих с утра до ночи учил, т. е. таскал за волосы и бил двух мальчиков, взятых во двор, и одну ньюфаундлендскую собаку, жившую надворе, несмотря на то, что * См. «Былое и думы». — т. VIII наст, изд., стр. 42-44.
488
А. И. ГЕРЦЕН
воспитанье мальчиков и собаки ему вовсе не было поручено; это все в силу петровского толчка. В. к. Михаил Павлович11 с нежного возраста восьми лет учил солдат. Раз сбился с дороги, вздумал в самом деле взять крепость, положил свое войско под подорванными стенами Браилова*, махнул рукой, отказался от пустых лавров и пошел опять учить и выправлять солдат, и учил и выправлял до дня своей кончины.
Здесь кстати заметить всю верность взгляда цесаревича Константина12, что война портит армию. Война вообще мешает ученью. Последствия 1812 года были плачевны в смысле педагогическом. Весь современный беспорядок идет оттуда. Пожар Москвы был страшной прорухой в дисциплинарном порядке: сожги ее Наполеон — было бы очень хорошо, сожги ее Ростопчин13 по форме, по высочайшему приказу — все было бы порядке вещей. Но правительство не приняло на себя ответственности, а французов, кроме Шишкова, никто в пожаре серьезно не обвинял. Укрепилась пагубная мысль — что жители сами сожгли свои дома и что это геройский подвиг... как будто город не казенное добро и не государственное имущество? Результат самовольного поджога и ряда побед был тот, что лучшие ученики захотели учиться по своим книжкам, а не по казенным, им казалось, что они не маленькие, если делают такие огромные дела.
Петровская традиция в них осталась, и им тоже хотелось делать опыты и учить; но не для приращения казенного интереса, а собственного своего. Глаза их были тоже обращены на Запад, но уже они не останавливались на одних формах, фасадах, покроях, а изучали внутреннее устройство жилья, быстро усвоивали себе сущность западного воззрения. Эта усвояемость несомненно свидетельствует о шири пониманья и ловкости соображения, но не надобно забывать, что в этом усвоении и состоял весь их подвиг. Труднейшая часть всякой теории — ее приложение, ее фактическое, а не диалектическое развитие, ее практическое применение. Ее прикладная, т.е. жизненная сторона вопроса,— она была вне их возможности. При первом опыте непокорных учеников выйти на свет и волю ученое правительство раздавило их, т. е. перевешало, посадило на снег и руду, заперло их в петропавловский карцер **. На первое время все * Вел. князь Михаил Павлович в войне с Турцией в 1828 г. руководил осадой турецкой крепости Браила, которая была разрушена и взята ценой больших потерь для русской армии. См. о нем в письме Герцена к императрице Марии Александровне, т. XIII наст, изд., стр. 359.
** Речь идет о декабристах.
Прививка конституционной оспы
489
казалось ладным, так что незабвенный больше из роскоши и шалости забрил нескольким московским студентам лоб и послал других в ссылку*. Но в сущности правительство раздавило только людей, мысли остались, взошли внутрь и бродили... Николай Павлович14 подозревал это и держал тридцать лет кого-то за горло, чтоб тот не сказал чего-то, и только что Мандт 15 доложил ему, что он высочайше скончался, как кто-то закричал во все горло и на всю Россию: «Теперь баста!»
Сотней голов мы проделывали в тридцатилетием загоне вековые драмы западного развития, жили ими, страстно принимали их к сердцу, страдали их прошедшими страданиями — надеялись их надеждами... отдавались им беззаветно, откровенно и быстро изнашивали их знамена самой стремительностью и преувеличением. Догнавши старших, мы вместе с ними хоронили одну фазу их развития за другой и, не оставаясь на могиле, торопились навстречу наследнику. Мы пережили в темную, глухую ночь, рядом сновидений, всю западную эпопею. Пасхаль говорит, что царь, спящий полсуток и видящий во сне, что он пастух, и такой же сонливый пастух, также видящий во сне, что он царь,— равны **. К нашему меньшинству это совершенно идет, тем больше что сны наши не были простые. Мы дремали — слыша сквозь сон какой-то стон, разлитой в воздухе, дремали — придавленные свинцовой гирей, и притом сны были так ярки, так ясны, что их можно назвать временным переселением душ. Так, как древние ходили в преисподнюю, так мы отступали в прошедшее, становились на время предками и жили, например, всю революцию от ослепительного утра ее в 1789 — до «закладки», которую судьба положила в ней, как сам себя назвал Наполеон... Кто из нас не слыхал громовых речей Мирабо и Дантона16, кто не был якобинцем17, террористом, другом и врагом Робеспьера18, даже солдатом республики у Гоша, у Марсо?.. Даже сумеречные времена и неясные фигуры времен Реставрации и Людвига-Филиппа19 отражались в нас со всеми своими вопросами и гневами. Мы обижались, что иностранцы посадили Бурбонов * По распоряжению Николая I в 1826 г. в солдаты был отдан студент Московского университета поэт А. Полежаев; в 182 7 г. сурово репрессированы члены кружка братьев Критских, а в 1833 г. члены кружка Н. П. Сунгурова.
** Герцен имеет в виду неточно цитируемое им по памяти следующее выска зывание Паскаля: «Если бы ремесленник был уверен, что каждую ночь по двенадцати часов сряду ему будет сниться, что он король, то я думаю, что он был бы почти так же счастлив, как король, которому снилось бы каждую ночь, по двенадцати часов сряду, что он ремесленник» (см.: Блез Паскаль. Мысли, СПб., 1888, стр. 63).
490
А. И.ГЕРЦЕН
на трон, и плакали с Беранже2" о утраченном знамени *, забывая, что победители мы и что наше знамя было твердо и высоко в руках какого-то Преображенского троглодита...
...Все эти сны — сны революции, сны философии, сны поэзии — были долею наяву, и в этом-то их важность. Прививная оспа все же действительная оспа, несмотря на то, что она слаба, снята с другого организма и не заставляет сильно страдать. Если б этого не было, она не предохраняла бы от натуральной, она не имела бы смысла.
Прошедши в лунатизме по стремнинам и утесам, нам возвращаться не нужно, дорогу мы все же сделали. Мы так же пережили Руссо и Робеспьера, как французы, Шеллинга и Гегеля21, как немцы. Но все выжитое нами, все приобретенное было в сфере мысли и сознания, в практический мир новых оспопрививателей не пускали, генерал штаб-доктор в ботфортах стоял у дверей **.
От этого мы в прикладном мире сильно отстали, там нам следует протверживать «зады», читать по складам, да и то азбуку. Дивиться нечему; мы, резко и смело критиковавшие немецкую философию, французскую республику, английскую конституцию, не смели явно усомниться ни в святости крепостного права, ни в пользе телесных наказаний.
Лиха беда была отчалить. Как только правительство нанесло удар рабству, с дня на день можно было ждать ряд конституционных попыток. Вместо Земского собора, Земской думы потребовали думу боярскую, явилась попытка жмудских норманнов и татарских баронов, сто лет тому назад избавленных Петром Федоровичем22 от телесных наказаний *** и выросших теперь до требований времен крестовых походов,— ограничить белой, дворянской костью царский произвол. Беды нет, успех невозможен, а за почин им спасибо. Оспа, снятая с торизма, оказалась очень кроткой и доброкачественной (benigna, как выражались старинные врачи), от нее едва останется рябина на нежном плечике московского дворянства, вот и все. Словом, вреда никакого, а путь указан, слово произнесено, печать молчания * Во многих своих песнях («Убежище», «Изгнанник», «Белая кокарда», «Ультра- роялисты», «Старое знамя» и др.) Беранже говорил об утраченном после воцарения Бурбонов трехцветном знамени французской революции.
** Имеется в виду Николай I.
*** Указ Петра III1762 г. о «преимуществах российских дворян» освобождал дво рян от обязательной государственной службы и являлся предшественником екатерининской жалованной грамоты дворянству 1785 г., где в числе статей, дарующих дворянам личные преимущества, была статья: «Благородные изъ емлются от телесного наказания» (Собрание законов о российских дворянах или жалованная грамота, СПб., 1823, стр. 1-5,24).
Прививка конституционной оспы
491
сломана — не в главном заведении, в котором все подпечатывают, а всенародно, в дворянском собрании.
Вот существенное, субстанция, как выражался в Иегове почивший Спиноза, остальное — «атрибуты, аксиденции» *.
Ну и надобно признаться, что касается до этих акциденций и атрибутов... это своего рода capo d’opéra**... Тут комизм так перемешан с отвратительным, Офросимов23 с Катковым2', молодое желание свободы с старыми заступниками крепостного права, что человек равно чувствует невозможность смеха и плача, гулового осуждения и откровенного сочувствия.
Для нас фарса с речью, подсунутой Офросимову (как ее рассказывает «Indépendance»)***, неоцененна. Революция, начинающаяся с фалыпа, с лубочной арлекинады, должна была окончиться в чернильнице валуевского писаря или в применении черкасских розог к шалунам, обманувшим безграмотного старика****.
* Учение Спинозы о бытии — субстанции и об атрибутах изложено в первой части его труда «Этика», озаглавленной «О Боге». У Спинозы единая материальная субстанция (природа) обладает бесконечным множеством атрибутов (существенных свойств). Акциденция — случайное, преходящее, несущественное в явлении.
** Образцовое произведение (итал.).— Ред.
*** Герцен имеет в виду речь московского генерал губернатора М. А. Офросимова, произнесенную им при открытии Московского дворянского собрания в на чале января 1865 г. Газета «Indépendance belge» напечатала корреспонденции из Петербурга о конституционных претензиях московских дворян в номере от31 января1865 г. Как свидетельствует Н. А. Любимов, сотрудник и единомышленник Каткова, эти корреспонденции шли из «петербургского лагеря, враждебного дворянству» (Н. А. Любимов. Михаил Никифорович Катков и его историческаязаслуга, СПб., 1889, стр. 299). В «Indépendancebelge» «вся история заявленного дворянством адреса объяснялась домогательством ультрарусской партии, состоявшей главным образом из дворян, войти опять в силу и возвратить свое влияние на правительство. Катков был поставлен в глубине всей интриги. Он будто бы вдохновлял дворянство, он будто бы сочинял текст речи, произнесенной при открытии собрания генерал-губернатором Офросимовым» (С. Неведенский. Катков и его время, СПб. ,1888, стр. 434).
* * * * герцен имеет в виду санкционированные Александром II распоряжения министра внутренних дел П. А. Валуева о запрещении номеров газеты « Весть» с текстами адреса и речи гр. Орлова-Давыдова и о недозволении перепечатки этих материалов. Тогда же петербургскому генерал-губернатору было предложено возбудить судебное дело против лиц, виновных в напечатании документов собрания; главноначальствующему над почтовым департаментом задержать выдачу номера газеты подписчикам; петербургскому обер-полицмейстеру арестовать в типографии все экземпляры этого номера газеты (см. Л XVIII, стр. 49-50). Говоря ©«применении черкасских розог», Герцен имел в виду настоятельное требование кн. В. А. Черкасского, участвовавшего в выработке проекта реформы 1861 г., оставить за поместным дворянством право телесного наказания крестьян розгами. См. статью Герцена «Розги долой!» (т. XIV наст, изд., стр. 287-289).
492
А.И. ГЕРЦЕН
Хорош также и à propos*... мы долго думали, что за муха укусила Английский клуб и лордов его... Отчего вдруг Безобразову25 стало уж так моркотно жить без ограничения царской власти, а Орлову-Давыдову26 — так невмочь терпеть l’arbitraire**? Мы все искали Чацкого, который произвел всю эту кутерьму. И вышло, что этот Чацкий — Константин Николаевич — l’impénétrable***, ничего не делающий после приезда в Петербург, как ничего не делал в Варшаве****. Видите, испугались, что его назначение остановит палачей в Литве и в «Моск, ведом.», что не всю Польшу вывешают и ушлют в Сибирь, что не весь Катков будет печататься. Неукротимые бароны и мирзы, дети степной воли и Английского клуба, этого не могли вынести. Они-то встрепенулись и кликнули клич по всем уездам московским: «Постоим-де, братцы, за Иверскую божию матерь, не дадим в обиду наших. Пойдем за свободу действий Муравьева и за вольное катковское слово!»
Нет, господа, этим путем до свободы не дойдете и не доедете ни даже с двумя форейторами и одним гайдуком.
Когда Мурчисон возвратился из своего путешествия по России в Петербург, Николай пригласил его на вечер и, подойдя к нему, спросил: «Нашли ли вы каменный уголь?» — «Нет, государь».— «И не надеетесь найти?» — «В той части, в которой я был, не надеюсь». Николай изменился в лице и, сказав: «Вы первый решились мне это сказать», отошел. Но спохватившись, снова адресовался к геологу: «Мне уголь нужен, где же я его возьму?» — «В. в. будете его покупать в Ньюкестеле и других английских портах». Затем Николай уже не адресовался больше к нему.
* Повод (фр.).— Ред.
** Произвол (фр.).— Ред.
*** Непостижимый (фр.).— Ред.
**** Вел. князь Константин Николаевич, назначенный в 1862 г. наместником Царства Польского, безуспешно пытался вести в крае компромиссную политику. Об отношении Герцена к его политике см. т. XVII наст. изд., стр. 8. В 1863 г. Константин Николаевич был уволен от должности наместника, так как русское правительство, как указывал в рескрипте по этому поводу Александр II, перешло от политики «кроткого умиротворения» к политике подавления и террора. В 1865 г. вел. князь был назначен председателем Государственного совета, все так же пользуясь репутацией «либеральству- ющего», о чем с злой иронией и пишет Герцен. Касаясь проекта московского дворянства, А. В. Никитенко записывал в дневнике 19 января 1865 г.: «Некоторые открыто говорят, что ничего этого не случилось бы, если бы великий князь Константин Николаевич не был назначен председателем Государственного совета» (А. В. Никитенко. Дневник, т. 2, М., 1955, стр. 494).
Прививка конституционной оспы
493
С КОНТИНЕНТА
Письмо из Неаполя *
5 октября 1863, Неаполь,
Chiaja27, hotel Washington.
Ну вот я и на Киане, и потухнувший Везувий передо мной, и синее небо, и синее море... Опять увидал я своими глазами романскую половину старого мира, проверил ее еще раз от Кале24 до Неаполя — и с тем же тяжелым чувством, с которым я покидал Лондон, гляжу на Сент-Эльм29 и Капри.
Светлых заметок, хороших воспоминаний я не привезу. На этот раз все хорошее и светлое принадлежит природе и партикулярной жизни.
Положение русского становится бесконечно тяжело. Он все больше и больше чувствует себя чужим на Западе и все глубже и глубже ненавидит все, что делается дома. Ни вблизи, ни вдали нет для него ни успокоения, ни отрады — такое печальное положение редко встречалось в истории. Разве в первые века христианства испытывали подобную скорбь — чуждости в обе стороны — монахи германского происхождения, развившиеся в римских монастырях. Спасать языческий мир не их было дело, его падение они предвидели, но не могли же * Печатается по тексту К, л. 173 от 15 ноября 1863 г., стр. 1422-1425, где опубликовано впервые, с подписью: И — р. Автограф неизвестен.
В тексте статьи учтена поправка, о которой Герцен писал Огареву 11 ноября 1863 г. из Флоренции: «Начинаю с поправки в моей статье о Неаполе,— не забудь ее. NB. Наппе: “Вольтер сказал” то-то, следует “Паскаль...” NB» (в наст, томе стр. 280, строка 29).
Учтено также (стр. 288, строки20-21) исправление («Errata»), помещенное в следующем листе «Колокола» (стр. 1436): «В статье “Письмо из Неаполя” И-ра, на стр. 1425 “Колокола” напечатано: lave lanem и lave montem; читай: cave canem и cave montem».
Герцен посетил Италию осенью 1863 г. (см. комментарий к стр. 260) через пятнадцать лет со времени первого посещения ее.
На судьбе Неаполя, города, где остро отражались и классовые и политические противоречия, Герцен показывает, что объединение Италии под властью сардинской монархии не принесло народу освобождения: плодами победы, достигнутыми Гарибальди, прогнавшим Бурбонов из Неаполитанского королев ства, но не решившимся провозгласить республику, воспользовались деятели либерально-дворянского крыла национально-освободительного движения.
Вопрос о путях развития общества, которые могли бы привести Италию к действительному освобождению и процветанию народа, оставался для Герцена открытым.
494
А.И. ГЕРЦЕН
они сочувствовать диким ордам единоплеменников, бессмысленно шедших на кровавую работу совершающихся судеб. Им оставалось одно — идти с крестом в руках и с словом братского увещания к рассвирепевшим толпам, стараясь добраться до чего-нибудь человеческого в их загрубелых сердцах. Креста у нас нет... слово осталось... но до человеческого чувства мы еще не договорились...
Как далеко мы разошлись в последние десять лет с западным миром, трудно себе представить. Мы в это время расправили немного наши мысли, дали им обжиться в груди нашей, и с ними нам стало вдвое невыносимее стучаться на каждом шагу в какие-то крепостные стены, негодные на защиту, но оскорбляющие глаз и суживающие горизонт. Западные декорации нам пригляделись, пригляделись и здешние актеры, мы знаем их силу и их границу; они нас вовсе не знают. Мы оскорблены здесь в тех сторонах нашей внутренней жизни, которые мы дорого ценим в себе, и уважены в тех, которые мы сами презираем.
Еще в Англии жить сноснее, не потому, что там больше родного, а потому, что там чуждость полнее, резче, серьезнее. Колоссальность добра и зла, размер утесов, которые двигает этот дебелый, полнокровный Сизиф, привязывают к нему и к его оригинальным судьбам. К тому же он так занят, что ему дела нет до какого-нибудь иностранца, копышащего в своем углу. Великий талант оставлять человека в покое принадлежит одной Англии.
Но — как бы то ни было — я в Неаполе и хочу вам рассказывать свои сенсации *.
С теплым, мягким воздухом, с южными горизонтами становится легче на душе, люди и города меньше давят, меньше занимают, природа выступает на первый план. С Генуи начиная, свободнее дышать, и мне не раз приходило в голову, не прав ли наш друг Маццини30 и не найдет ли вдова двух миров, двух Римов свежие силы в себе для третьего брака**. Но шумная, яркая, пестрая Италия в худшее время своего угнетения так же благотворно действовала на путешественника, как и теперь; она берет своим теплым веянием и ясным солнцем, двумя-тремя закраинами, взморьями да очерками гор.
Паскаль говорит, что если б у Клеопатры линия носа была другая, то судьбы древнего Рима были бы иные ***.31 Тут нет ничего удиви* Герцен использует заголовок поэмы И.П. Мятлева «Сенсации и замечания госпожи Курдюковой за границей дан л’Этранже», изданной анонимно в 1841 1843 гг. (т. I-II).
** Герцен имеет в виду расцвет культуры и искусства в Италии в эпохи античности и Возрождения.
*** См. «Мысли» Паскаля, статья IX — «Нравоучительные мысли отрывками», XLVI (см. изд. 1843, СПб., стр. 220).
Прививка конституционной оспы.
495
тельного. Шутка — линия носа! Линия вообще! Отнимите у Неаполя линию моря, линию гор, полукруг его залива, что же останется? Кишащее гнездо нравственной ничтожности и добродушного шутовства, грязь, вонь, нестройные звуки, ослиный крик возчиков и самих ослов, крик и брань торговок, дребезжанье скверных экипажей и хлопанье бичей — рядом с совершенным умственным затишьем и с отсутствием всякого стремления выйти из него. А с ними, с этими линиями, будущность Неаполя обеспечена. С ними он будет во веки веков звать путника, и путник, откуда бы ни шел, преклонится перед этими пределами красоты. Я смело говорю пределами; могут быть такие же красоты, могут быть иные, но лучше, изящнее, музыкальнее не могут быть.
Когда наш пароход при восхождении солнца тихо и плавно огибал мыс Мнзен и вслед за Искней и Прочидой32 открывалась вся дуга от Позилипа33 до Сорренто, все присмирело на палубе, все с умилением молилось этому великому преображению земли, воды и воздуха.
Но с городом я далеко не так светло встретился, как пятнадцать лет тому назад*. Кто из нас изменился — не знаю. Вероятно, оба. Судьбы Неаполя были тяжелы, пока мы не видались. От баррикад на улице Толедо в 1848 г. и бойни, которой Фердинанд II34 окончил конституционную эру своего правления **, до вшествия Гарибальди35 с своими ополченцами жизнь Неаполя, шумливая, суетливая, но не сильная и пустая, была подавлена, забита и еще больше обращена на бессмысленный толок и ежедневные дрязги.
Потеря политической деятельности в других местах заменялась материальными улучшениями: я не узнал марсельских улиц, проезжая теперь. Ничего подобного в Неаполе. Неаполитанские Бурбоны36 были скряги, мелкие стяжатели. В Капо ди Монте*** до сих пор мебели и бронзы — все мюратовское37; Бурбоны обрадовались добыче и захватили все обзаведение пышного врага, легли спать в его постель, стали обедать на его посуде. На огромном столе был вензель Иоахима, вензель переменили, но на беду вся мозаичная кайма круг стола покрыта наполеоновскими пчелами, их менять было дорого, добрые
* Впервые Герцен посетил Неаполь в 1848 г., когда там шла борьба за провозглашение конституции. О своих тогдашних впечатлениях о Неаполе Герцен рассказал в «Письмах из Франции и Италии» (см. письмо седьмое, т. V наст, изд., стр. 108-114).
** Баррикадные бои, происходившие в Неаполе 15 мая 1848 г., были вызваны стремлением народных масс и мелкой буржуазии не допустить контрреволюционного переворота. Восстание было жесточайшим образом подавлено правительственными войсками Фердинанда II.
*** Королевская резиденция недалеко от Неаполя.
496
А.И. ГЕРЦЕН
Бурбоны не побрезгали, так и сели кушать и кушали до 60 года*. Такие короли не поправляют городов, и новая дорога Via Teresia (как-то вдруг сделавшаяся Via Vittorio Emanuele33) ** начата уж при Франческе39. Нечего дивиться, что Неаполь, по большей части скверно построенный, старел, чернел и совсем осунулся в последние годы. Где тут было думать об улучшениях и о комфорте! Он жил все это время в вечной тревоге, боясь явного правительства короля и тайного — ка- морристов***; откупаясь от обоих, боясь полиции и революционеров, боясь светской и духовной ценсуры, запертый на ключ от всего мира, он рад был, что его сколько-нибудь оставляют в покое. Следы того, что было, остались; в Неаполе нет никакой умственной деятельности, книжные лавки бедны книгами, кафе — газетами, в кабинете для чтения на Толедо нет книг, да нет и журналов; хозяин извиняется тем, что иностранцев еще мало, а неаполитанцы не читают.
...Одним вечером Неаполь по обыкновению лег спать у ног своего короля и утром проснулся у ног Гарибальди ****. Это пришло сюрпризом для всех. «Что же делать теперь?» — спросил испуганный король***** Либерио Романо.— «Ехать вон»,— отвечал министр. Король уехал, Гарибальди приехал, а вслед за ним приехал и Виктор-Эммануил — la révolution était faite6*! Неаполь остался при этом avortement7*, но не стал на свои ноги, как Генуя4", и не мог: он вовсе не так воспитан; он, как все города, выходящие из-под самодержного гнета, привык к помочам, к опеке, к покровительству и поощрению и вовсе не привык ни к какой инициативе. Неаполь ждал обновления откуда-то свыше, ждал политических подарков и административных «маккарони»41, а ему говорят: «Ты не маленький, сам возраст имеешь, вот тебе права, вот тебе выборы, делай как знаешь». А он не знает как и чувствует, что вместо благ, которые он ожидал, он дождался потери своего значения как столицы, конскрипции и разных податей.
* Решением Венского конгресса 1815 г. в Королевстве Обеих Сицилии была восстановлена власть Бурбонов (в лице короля Фердинанда I); в 1860 г. свергнута в результате национально-освободительной борьбы итальянцев.
** Дорога Терезии... дорогой Виктора-Эммануила (итал.).— Ред.
*** Каморристы...— члены тайной бандитской организации Каморры, шайки которой формировались главным образом из деклассированных элементов. Наиболее широкую сеть имело это общество в Неаполе, где в период реставрации Бурбонов каморристы использовались местной полицией в своих интересах.
**** Имеется в виду вступление Гарибальди в Неаполь в сентябре 1860 г. (см. выше).
***** Франциск II.
6* Революция свершилась (фр.).— Ред.
7* Выкидыше (фр.).— Ред.
Прививка конституционной оспы
497
Беспечное легкомыслие и вечное рассеяние мешают неаполитанцу сложиться до совершеннолетия и подумать о своем положении, и то же беспечное легкомыслие помогает ему весело переносить все на свете. Странный народ: он трусит перед вздором и строит свои домы под вчерашним кратером. Все остальные стороны его жизни носят тот же характер небрежности и необдуманности. Работники и простой народ живут в каменных щелях между шестиэтажными домами, в грязи и вони, о которой теперь в Европе не имеют понятия; для них ничего не сделано, у них нет ни воздуха, ни воды, а они-то и составляют все население Неаполя. Народу уступлена, правда, улица — улица, но не солнце — солнце за стеной, и этот народ, так грязно живущий, страстно любит свет, цвет, веселье, хохот, зрелища, наружный блеск; ему королевский дворец необходимее чистой квартиры, и в три месяца один фейерверк дороже свечки у себя дома.
Озабоченный король Италии, мучимый, как Тантал, Венецией и Римом *, ничего не делает, чтоб занимать этого большого ребенка, и, не замечая того, оскорбляет его без нужды всякими пустяками. «Посудите сами,— говорил один недовольный офицер из неаполитанцев,— при Франческе у нас было несколько форм, четырех разных цветов панталоны, считая белые летние, а теперь как нас одели? Стыдно ходить по улице, служба потеряла весь престиж».
Вы будете смеяться над офицером, и я смеялся. А в сущности, зачем Виктор-Эммануил не прибавил пятую пару? «Оставляя, мол, в ознаменование признанной самобытности Королевства Обеих Сицилий прежнюю военную форму, Мы прибавляем еще общую итальянскую с таким-то шитьем» и пр. Офицер нашел бы в панталонах dell ‘unità** новую приманку для службы и не стал бы вздыхать о Франческе.
Трезвый Пиэмонт этих вещей не понимает, он думает, как некогда княгиня***, что «если у ребенка есть башмаки, так игрушек ему не надобно». Оттого-то они не имеют ничего общего с разгульным городом. Требования Пиэмонта большей частью дельны и справедливы, да Неаполю не нужно ни дела, ни справедливости; он хочет, чтоб его занимали, а там, пожалуй, можно его и постращать.
Брак Неаполя с Пиэмонтом42 решительно не удался; он так и просится на San Carlino. Розина, Колумбина 1:‘, сидевшая на-заперти и бросавшая * После присоединения Королевства Обеих Сицилий к Сардинскому королевству (Пьемонту) для завершения объединения страны необходимо было присоединить Венецию и Рим, что и стало главной заботой Виктора-Эммануила II.
** Объединение (итал.).— Ред.
*** См. «Былое и думы», (прим, автора) Об отношении княгини М. А. Хованской к Н. А. Захарьиной Герцен рассказал в гл. XX «Былого и дум», (см.т. VIII наст, изд., стр. 320).
498
А. И.ГЕРЦЕН
исподтишка любовные цидулки дон Маццини44 и назначавшая свидания дон Гарибальди, вышла замуж за Бартоло**5 — за дельного, но бесконечно скучного, прозаического, ограниченного, провинциального Бартоло. И Розина очень ограниченна, только на свой лад, на веселый; она хочет жить спустя рукава, а пожалуй, и платье; она любит жуировать, любит зрелища; не все же смотреть процессии, в которых богородица с кринолинами,— ей надобно двор, гвардия, балы, на которые ее не пригласят, но и не запретят смотреть, как подъезжают пышные экипажи, выходят пышные принцессы... Это опять пятые панталоны. Розина совершенно права: на пустой дворец гадко смотреть, и лошади, подаренные Николаем своему Другу Фердинанду II **, ушли бы, если б не были медные. И на что же все эти принцы Умберты****6, герцоги и князья Карпанские? Да и зачем сам хозяин живет круглый год в каком-то захолустье, когда есть Неаполь и Казерта?*'
Пиэмонт верит в свою магнитную силу, Турин — в свое значение итальянской столицы и подтягивают к себе части Италии. Великое самоотвержение Флоренции избаловало их. Как будто там, где есть Рим, может быть другая столица! Да, по счастью, и самый Рим никогда не сделается поглощающим центром Италии, как он был в эпоху цезарей.
...Бедный народ, едва имеющий одни панталоны и те с заплатами, так же недоволен, как и офицер, которому надобно было четыре пары панталон разного цвета, для того чтоб защищать отечество. Он недоволен вводимыми порядками, потому что они порядки, он недоволен и тем, что ничего не выиграл при перемене, для совершения которой он, впрочем, ничего и не сделал. «Re ladro, re galantuomo e lo steseo. Ni l’un capite, ni l’altro non mi pagano niente! » **** — говорит он и, в сущности, жалеет о прежнем порядке вещей, когда правительство, грабя Сицилию, давало льготы неаполитанской черни, потворствовало всем ее гадостям, принимало участие в распрях лаццарон48 С. Лучии49 с лаццаронами порта и гор и жило в той же нравственной грязи и неразвитости, в которой и она. Неаполитанские Бурбоны50 и неаполи* Неаполь и Пьемонт Герцен называет именами персонажей из «Севильского цирюльника» Бомарше.
** Имеются в виду две скульптуры П. К. Клодта, изображающие укротителя коня (подобные выполненным Клодтом для Аничкова моста в Петербурге), которые были подарены Николаем I Фердинанду II и установлены в Неаполе при входе в дворцовый сад на улице Сан-Карло.
*** Сон в руку. Умберто приехал в Неаполь пять дней после нашего отъезда (прим, автора).
**** Король-вор и король-честный человек — одно и то же. Вы понимаете, ни тот ни другой мне ничего не платят (итал.).— Ред.
Прививка конституционной оспы
499
танская чернь любили друг в друге родные черты. Разбойник Нарди, сделавшийся полковником Франческа, входя в Рапалло с своей шайкой, сказал собравшемуся народу: «Si dice che Francesco II è un ladro. Or bene — io ladro di proiessione vengo a restaurare un ladro sul trono» *. Народ, выносивший все, даже побои (которых не выносит нигде итальянец), будирует теперичное правительство, с недоверием смотрит на пиэмонтских берсальеров51 и с негодованием принимает усилия правительства очистить город, подмести улицы. Как ни старалось новое « муничипио » *, чтоб завоевать половину широкого тротуара на Санта Лучии, заваленного плетушками, шкапчиками, столиками с продажной рыбой, с frutti di mare **,— не могло. Лаццарони уперся и отстоял себе Санта Лучию — по тротуару ходить нельзя. «Умру или останусь грязен!» Бедный Лазарь! *** Грязный Лазарь! И главное, Лазарь, сидящий на первом месте!
В этом-то все и дело, что в Неаполе лаццарони занимает казовый конец. Здесь нет богатой, образованной буржуазии, которая служила бы крытым переходом между принчипе и нищим. Есть, правда, какая-то балаганная торговля, которая вьет свою паутину от шестиэтажных домов к каменным конурам работников, но она не скрывает пустоты между ними, а только придает ей нечистый вид.
Государство без сильного среднего состояния поражает нас отсталой дикостью в самых обычных вещах, оно выводит нас из торной колеи наших образованных привычек, и мы теряемся. При известных условиях в буржуазном государстве жить легко и удобно. Среднее состояние, как гуммиластиковая подушка, смягчает все столкновения, стирает все разности, мешает революции, мешает реакции, разоряет богатого, поглощает бедного, все уравновешивает, все приводит в порядок, ограничивает кражу и обман и возводит их зато в тариф и привилегию, не позволяет извозчику брать лишний франк, * «Говорят, что Франциск II вор. Очень хорошо, я вор по ремеслу — иду вос- становлять на престол другого вора». М. Monnier, Brigantaggio nolle provincie napoletane 1863. Сочувствие это обоюдно. Когда Фердинанд I плелся с австрий ским обозом, чтоб после Мюрата занять трон своих праотцев, австрийский генерал — рассказывал мне известный Пене — при переходе через неаполитанскую границу доложил королю, что ему следует лично принять начальство и въехать в Неаполь без иностранного войска, которое будет его охранять на благородной дистанции; Фердинанд не хотел ни под каким видом «подвергать себя такой опасности». «Да чего в. в. боится,— сказал, наконец, выведенный из терпения генерал,— разве вы не знаете, что неаполитанцы — страшные трусы?» — «Знаю — отвечал король,— Anch’io sono napolitano, ho paura!» <«Я тоже неаполитанец — и трушу»> (прим, автора).
** Устрицы, мидии и другие съедобные моллюски (букв., от итал.— «плоды моря»).
*** Название «лаццарони» произошло от имени библейского Лазаря.
500
А.И. ГЕРЦЕН
ни истцу заплатить адвокату или нотариусу золотым меньше, оно-то сметает с улиц нечистоту и с нечистотой — мелкую торговлю и нищих. В Неаполе его нет, и оттого Неаполь остается столицей черта. Следует ли радоваться этому или печалиться?
Трудно сказать. Потому что трудно себе представить, чтоб неаполитанский народ легче перешел в больше человеческую жизнь, чем оттертый корыстным посредником пролетариат других стран. Чем он доказал это? Он живет века так, как теперь. Возьмите хроники, возьмите путешественников прошлого века, и вы увидите, что он так же мало изменился, как кошки и обезьяны... Глядя на то, что здесь, при отсутствии сильной буржуазии, столичная чернь остается лаццаронами, а провинциальная становится разбойниками, поневоле приходит в голову, что народ по тяжелому закону sélection* только и поднимается через буржуазию к более развитой жизни.
Может, буржуазия вообще предел исторического развития, к ней возвращается забежавшее, в нее поднимается отставшее, в ней народы успокоиваются от метанья во все стороны, от национального роста, от героических подвигов и юношеских идеалов в ее уютных антресолях людям привольно жить.
Какой-то внутренний голос, какая-то человеческая скорбь заставляют нас протестовать против окончательного решения; претит нам сознаться, что все реки истории (по крайней мере все западные) текут в мареммы мещанства... Но мало ли у нас таких скорбей, разве алхимики не скорбели о прозе технологии, и мало ли по каким идеалам мы тоскуем. Я очень недавно испытал, как страшно больно стоять у могилы и знать, что нет того света! **
...Однако вопрос этот оставим открытым.
А я лучше скажу в заключение моего письма, какая мысль пришла мне на днях в голову в Камалдулинском монастыреб2. Монастырь этот стоит одиноко на вершине горы, с которой видна Гаета и Террачина53, гряды гор, идущих в Абруццы54, гряды идущих в Калабрию55 — Неаполь, море, острова. Старый монах указывал мне и называл горы и местечки, потом замолчал. Сделалась та особая, нагорная тишина, * Естественного отбора (фр.).— Ред.
** Герцен вспоминает свое посещение в Ницце могилы жены — Н. А. Герцен. В дневниковой записи 24 сентября 1863 г. Герцен рассказал о волновавших его у могилы чувствах: «...я, 12 лет спустя, в первый раз снова пришел покло ниться могиле... Я недоволен был собою на кладбище... холодна земля, холодны камни... Я тут только заметил, как больно действует отсутствие памятника; без образа, знака, начерченного слова, словом, материального знака, человек расплывается» (о посещении Герценом могилы Н. А. Герцен см. также в «Былом и думах» — т. X наст, изд., стр. 314).
Былое и думы
501
которую я когда-то слушал на Monte Rosa; солнце садилось не по- итальянски, тускло и бледно, даль покрывалась с одной стороны темно-синими тучами, накануне был сильный дождь и гроза, к ночи готовилась другая. Я облокотился на ограду, и смотрел, и смотрел...
И не только смотрел на вид, но и на монаха, и на него-то именно я смотрел с глубокой завистью — пожил бы в этом торжественном одиночестве,— но монастырь для нас заперт, это чужой отдых, покой от другого бремени, ответ на другие стремления. Куда, в самом деле, денется человек усталый, сломленный или просто неосторожно заглянувший за кулисы и понявший оптический обман?
Потребность одиночества и удаления будет непременно расти, она, разумеется, никогда не поглотит столько рук и сил, как всякий гарнизон, но расти будет. Для страждущих духом современное общество приготовило только сумасшедший дом.
Психология христианства была глубже и гуманнее — она пожалела уставших!
Былое и думы (1852-1868)
ЧАСТЬ V Глава XLI
П. Ж. Прудон Ч — Издание «La Voix du Peuple» 2.— Переписка.— Значение Прудона.— Прибавление.
Вслед за июньскими баррикадами пали и типографские станки. Испуганные публицисты приумолкли. Один старец Ламенне3 приподнялся мрачной тенью судьи, проклял герцога Альбу4 Июньских дней — Каваньяка5 и его товарищей и мрачно сказал народу: «Аты молчи, ты слишком беден, чтоб иметь право на слово!» *
* После подавления июньского восстания парижского пролетариата Учредительное собрание приняло ряд законов, направленных на удушение демократической и социалистической прессы. Для издания газет восстанавливалось требование о внесении в казну денежного залога — 25 тысяч франков. Это привело к закрытию многих демократических газет, для которых такой залог был непосильным. Ламеннэ, закрывая свою газету «Le Peuple Constituant», писал в последнем ее номере, 11 июля 1848 г.: «Ныне нужно иметь золото, много золота, чтобы иметь право говорить. Мы же недостаточно богаты. Бедняки должны молчать!»
502
А.И. ГЕРЦЕН
Когда первый страх осадного положения миновал и журналы снова стали оживать, они взамен насилия встретили готовый арсенал юридических кляуз и судейских уловок. Началась старая травля, par force*, редакторов,— травля, в которой отличались министры Людвига-Филиппа". Уловка ее состоит в уничтожении залога рядом процессов, оканчивающихся всякий раз тюрьмой и денежной пенею. Пеня берется из залога; пока залог не дополнен, нельзя издавать журнал, как он пополнится — новый процесс. Игра эта всегда успешна, потому что судебная власть во всех политических преследованиях действует заодно с правительством.
Ледрю-Роллен7 сначала, потом полковник Фрапполи как представитель мацциниевской партии заплатили большие деньги, но не спасли «Реформу». Все резкие органы социализма и республики были убиты этим средством. В том числе, и в самом начале, Прудонов «Le Représentant du Peuple», потом его же «Le Peuple»8. Прежде чем оканчивался один процесс, начинался другой.
Одного из редакторов, помнится, Дюшена9, приводили раза три из тюрьмы в ассизы10 по новым обвинениям и всякий раз снова осуждали на тюрьму и штраф. Когда ему в последний раз, перед гибелью журнала, было объявлено решение, он, обращаясь к прокурору, сказал: «L’addition, s’il vous plaît!» ** — ему в самом деле накопилось лет десять тюрьмы и тысяч пятьдесят штрафу.
Прудон был под судом, когда журнал его остановился после 13 июня***. Национальная гвардия ворвалось в этот день в его типографию, сломала станки, разбросала буквы, как бы подтверждая именем вооруженных мещан, что во Франции настает период высшего насилия и полицейского самовластия.
Неукротимый гладиатор, упрямый безансонский мужик" не хотел положить оружия и тотчас затеял издавать новый журнал: «La Voix du Peuple». Надобно было достать двадцать четыре тысячи франков для залога. Э. Жирарден 12 был не прочь их дать, но Прудону не хо* Травля с собаками (фр.).
** «Счет, пожалуйста!» (фр.).
*** В марте 1849 г. Прудон был привлечен к судебной ответственности за статьи против президента Луи-Наполеона, резкие по форме и обличительные по со держанию.
Приговоренный28 марта судом к трехгодичному тюремному заключению, Прудон уехал в Бельгию, но в начале июня 1849 г. тайком вернулся в Париж. 6 июня 1849 г. он был арестован и заключен в тюрьму. После провала органи зованного мелкобуржуазными Демократами выступления 13 июня 1849 г. га зета Прудона «Le Peuple», как и ряд других демократических газет, была закрыта.
Былое и думы
503
телось быть в зависимости от него, и Сазонов предложил мне внести залог*.
Я был многим обязан Прудону в моем развитии и, подумавши несколько, согласился, хотя и знал, что залога ненадолго станет.
Чтение Прудона, как чтение Гегеля, дает особый прием, оттачивает оружие, дает не результаты, а средства. Прудон по преимуществу диалектик, контроверзист социальных вопросов. Французы в нем ищут эксперимента листа и, не находя ни сметы фаланстера, ни икарийской управы благочиния**, пожимают плечами и кладут книгу в сторону.
Прудон, конечно, виноват, поставив в своих «Противоречиях» 13 эпиграфом: «destruo et aedificabo» ***, сила его не в создании, * Сведения Герцена о готовности Жирардена дать Прудону деньги для залога за «La Voix du Peuple» были недостоверными. Герцен узнал об этом от Хоецкого (Шарль Эдмон) и Сазонова, подсказавших Прудону мысль об обращении к Герцену за денежной помощью для издания новой газеты. Особенно активную роль в налаживании этого сотрудничества сыграл Сазонов, использовавший версию о якобы полученном Прудоном согласии Жирардена для того, чтобы убедить Герцена согласиться на просьбу Прудона (см. письмо Сазонова к Герцену от4 июля 1849 г., ЛН, т. 62 стр. 537). Прудон действительно обратился сперва за денежной помощью к Жирардену. Обращение это не было случайным, поскольку после февральской революции 1848 г. идейно-политические позиции Прудона и Жирардена нередко сближались. Рассчитанные на завоевание по пулярностити среди мелкой буржуазии, проекты социальных реформ («отмена налогов», «упрощение правительства» ит. д.), опубликованные Жирарденом в 1849-1850 гг.,— образец, самого шарлатанского пословам К. Маркса, «буржуазного социализма» (см. К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. VIII, 1930, стр. 315 и317),— заслужили сочувствие Прудона. Однако Жирарден вовсе не выразил согласия финансировать затеваемую Прудоном газету. Около двух недель он хранил, несмотря на повторные заискивающие просьбы Прудона, молчание. Обращение Прудона и к Герцену объяснялось, по-видимому, тем, что в поисках залога для своей новой газеты Прудон действовал сразу в нескольких направлениях. Ответ Жирардена последовал в виде резко враждебных Прудону статей, опубликованных газетой «La Presse»9-11 июля 1849 г., в которых Прудон обвинялся в заигрывании с реакционно-монархическим лагерем, с Луи-Наполеоном и легитимистами.
** ...не находя ни сметы фаланстера, ни икарийской управы благочиния...— Насмешливые слова Герцена имеют в виду, во-первых, реформаторские проекты фурьеристов о создании гармонического общества в виде трудовых ассоциаций, устройство которых разрабатывалось фурьеристами во всех деталях, и, во-вторых, проекты создания коммунистических поселений, образ жизни в которых соответствовал бы тому идеальному коммунистическому строю, который был изображен в утопическом романе Кабэ «Путешествие в Икарию».
*** Разрушу и воздвигну (лат.).
...поставив в своих «Противоречиях» эпиграфом: «destruo et aedificabo»...— Герцен приводит эпиграф к сочинению Прудона «Система экономических противоречий, или Философия нищеты» ( «Contradictions économiques ou Philosophie de la misjre»), взятый из Евангелия от Марка (гл. XIV, 58).
504
А. И.ГЕРЦЕН
а в критике существующего. Но эту ошибку делали спокон века все ломавшие старое: человеку одно разрушение противно: когда он принимается ломать, какой-нибудь идеал будущей постройки невольно бродит в его голове, хотя иной раз это песня каменщика, разбирающего стену.
В большей части социальных сочинений важны не идеалы, которые почти всегда или недосягаемы в настоящем, или сводятся на какое- нибудь односторонное решение, а то, что, постигая до них, становится вопросом. Социализм касается не только того, что было решено прежним эмпирически-религиозным бытом, но и того, что прошло через сознание односторонней науки; не только до юридических выводов, основанных на традиционном законодательстве, но и до выводов политической экономии. Он встречается с рациональным бытом эпохи гарантий и мещанского экономического устройства как с своей непосредственностью, точно так, как политическая экономия относилась к теократически-феодальному государству.
В этом отрицании, в этом улетучивании старого общественного быта — страшная сила Прудона; он такой же поэт диалектики, как Гегель, с той разницей, что один держится на покойной выси научного движения, а другой втолкнут в сумятицу народных волнений, в рукопашный бой партий.
Прудоном начинается новый ряд французских мыслителей. Его сочинения составляют переворот не только в истории социализма, но и в истории французской логики. В диалектической дюжести своей он сильнее и свободнее самых талантливых французов. Люди чистые и умные, как Пьер Леру14 и Консидеран15, не понимают ни его точки отправления, ни его метода*. Они привыкли играть вперед подтасованными идеями, ходить в известном наряде, по торной дороге к знакомым местам. Прудон часто ломится целиком, не боясь помять чего-нибудь по пути, не жалея ни раздавить что попадется, ни зайти слишком далеко. У него нет ни той чувствительности, ни того риторического, революционного целомудрия, которое у французов заменяет протестантский пиетизм... Оттого он и остается одиноким между своими, более пугая, чем убеждая своей силой. Говорят, что * На протяжении 1848-1851 гг. между Прудоном и представителями других направлений и сект мелкобуржуазного утопического социализма неоднократно вспыхивали острые споры по различным идеологическим и политическим вопросам. Фурьеристы подвергали критике «диалектическую» софистику Прудона и его частнособственнические реформаторские проекты, П. Леру — его антигосударственные идеи и критику религиозной сентиментальности. В свою очередь, Прудон обрушивался на фурьеризм и мистический социализм Леру с язвительной критикой.
Былое и думы 505
у Прудона германский ум. Это неправда, напротив, его ум совершенно французский; в нем тот родоначальный галло-франкский гений, который является в Рабле, в Монтене, в Вольтере и Дидро... даже в Паскале. Он только усвоил себе диалектический метод Гегеля, как усвоил себе и все приемы католической контроверзы; но ни Гегелева философия, ни католическое богословие не дали ему ни содержания, ни характера — для него это орудия, которыми он пытает свой предмет, и орудия эти он так приладил и обтесал по-своему, как приладил французский язык к своей сильной и энергической мысли. Такие люди слишком твердо стоят на своих ногах, чтоб чему-нибудь покориться, чтоб дать себя заарканить.
Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ
Письма
М.М. Достоевскому 9 августа 1838 г. *
Брат!
Как удивило меня письмо твое, любезный брат: неужели же ты не получил от меня ни полстрочки; я тебе со времени отъезда твоего переслал 3 письма**: 1-е вскоре после твоего отъезда; на 2-е не отвечал, потому что не было ни копейки денег (я не брал у Меркуровых) ***. Это продолжалось до 20 июля, когда я получил от папеньки 40 р; и наконец, недавно 3-е. Следовательно, ты не можешь похвалиться, что не забывал меня и писал чаще. Следовательно, и я был всегда верен своему слову. Правда, я ленив, очень ленив. Но что же делать, когда мне осталось одно в мире: делать беспрерывный кейф! Не знаю, стихнут ли когда мои грустные идеи? Одно только состоянье и дано в удел человеку: атмосфера души его состоит из неба с землею; какое же противузаконное дитя человек; закон духовной природы нарушен... Мне кажется, что мир наш — чистилище духов небесных, отуманенных грешною мыслию ****. Мне кажется, мир принял значенье отрицательное
* Печатается по подлиннику: ГБЛ, ф.93,1,6,11.
Впервые опубликовано: Биография, отд. II, стр. 7-9
** Как письмо M. М. Достоевского, так и три упомянутых письма Федора Михайловича к нему неизвестны.
*** См. письмо 19, прим. 4.
О сближении братьев Достоевских с «давнишним знакомцем» И. Н. Шид- ловского отставным ротмистром Меркуровым и его женой рассказывалось в письме M. М. Достоевского к М. А. Достоевскому от 17 февраля 1838 г. «Вот истинно благородный, истинно изящный дом! — писал M. М. Достоевский.— Я принят у них как родной. Они зовут меня братом! Даже мне отведена и комната, и я прожил у них целую масленицу». <...> (см.: Письма Михаила Достоевского к отцу. С. 73).
**** Далее было: Здесь
Письма
507
и из высокой, изящной духовности вышла сатира. Попадись в эту картину лицо, не разделяющее ни эффекта, ни мысли с целым, словом, совсем постороннее лицо... Что же выйдет? Картина испорчена и существовать не может!
Но видеть одну жесткую оболочку, под которой томится вселенная, знать, что одного взрыва воли достаточно разбить ее и слиться с вечностию, знать и быть как последнее из создании... ужасно! Как малодушен человек! Гамлет! Гамлет! Когда я вспомню эти бурные, дикие речи, в которых звучит стенанье оцепенелого мира, тогда ни грусть, ни ропот, ни укор не сжимают груди моей... * Душа так подавлена горем, что боится понять его, чтоб не растерзать себя. Раз Паскаль сказал фразу: кто протестует против философии, тот сам философ**. *** Жалкая философия! Но я заболтался. Из твоих писем я получил только 2 (кроме последнего)****. Ну брат! Ты жалуешься на свою бедность. Нечего сказать, и я не богат. Веришь ли, что я во время выступленья из лагерей не имел ни копейки денег; заболел дорогою от простуды (дождь лили целый день, а мы были открыты) и от голода и не имел ни гроша, чтоб смочить горло глотком чаю. Но я выздоровел, и в лагере участь моя была самая бедственная до получения папенькиных денег. Тут я заплатил * Достоевский, по всей вероятности, познакомился с «Гамлетом» Шекспира в переводе Н. А. Полевого, вышедшем в 1837 г. и ставшем значительным явлением литературной и общественной жизни той поры. Именно в этом переводе он цитирует «Гамлета» в 1848 г. в рассказе «Чужая жена и муж под кроватью» (см. наст, изд., т. II, стр. 62, 481). В пору написания этого письма оба старших брата Достоевских находились под сильным влиянием Шидловского, увлекавшегося, как и они, Шекспиром и особенно Шиллером. В свою очередь, М. М. Достоевский писал отцу 26 мая 1838 г.: «Мое счастие? ...Мое счастие?.. Где оно? Где это счастие, о котором напевают мечты на утренней заре дней наших, и мы сладко забываемся под эту колыбельную песенки, под эту свирель нашего воображения, нашего сердца? Где оно? Неужели то, что было благом для детей, должно быть им также и для взрослой души еще в молодом теле? Нет! Нет! Счастия нет в этом мире! Оно там, там! Оно давно увеялось на небо, с тех пор как люди позабыли закон природы! Неужели быть в чести, в чинах, крестах, быть богатым значит быть счастливым! Нет!..» (Письма Михаила Достоевского к отцу, стр. 77). См. также письмо26, примеч.4 и письмо28, примеч. 13.
** Приводится рассуждение из сочинения Блеза Паскаля «Мысли» (1669), ставшего известным в России по французским изданиям (первый русский перевод появился только в 1843 г.). У Паскаля: «Пренебрежение философствованием и есть истинная философия» (см.: Ф. де Ларошфуко. Максимы. Б. Паскаль Мысли. Ж. де Лабрюйер. Характеры. М., 1974, стр. 113).
*** Мысль № 467 по Ле Герну.
**** эти письма М. М. Достоевского неизвестны.
508
Ф.М. ДОСТОЕВСКИЙ
долги и издержал остальное. Но описанье твоего состоянья превосходит все. Можно ли не иметь 5 копеек; питаться бог знает чем и лакомым взором ощущать всю сладость прелестных ягод, до которых ты такой охотник! Как мне жаль тебя! Спросишь, что сталось с Меркуровыми и деньгами твоими? А вот что: я бывал у них несколько раз после твоего отъезда. Потом я не мог быть, потому что отсиживал. В крайности я послал к ним, но они прислали мне так мало, что мне стало стыдно просить у них. Тут я получил на мое имя письмо к ним от тебя *. У меня ничего не было, и я решился просить их вложить мое письмо в ихнее. Ты же, как видно, не получил ни которого**. Кажется, они не писали к тебе. Перед лагерями (не имея денег прежде отослать давно приготовленное папеньке письмо) я обратился к ним с просьбою прислать мне хоть что-нибудь; они прислали мне все наши вещи, но ни копейки денег, и не написали ответа; я сел как рак на мели! Из всего я заключил, что они желают избавиться от докучных требований наших. Хотел объясниться в письме с ними, но я отсиживаю после лагеря, а они съехали с прежней квартиры. Знаю дом, где они квартируют, но не знаю адреса. Его я сообщу тебе после.— Но давно пора переменить матерью разговора. Ну ты хвалишься, что перечитал много... но прошу не воображать, что я тебе завидую. Я сам читал в Петергофе по крайней мере не меньше твоего. Весь Гофман 1 русский и немецкий (то есть непереведенный «Кот Мурр»)***, почти весь Бальзак2 (Бальзак велик! Его характеры — произведения ума вселенной! Но дух времени, но целые тысячелетия приготовили бореньем своим такую развязку в душе человека)****. «Фауст» Гете3 * Переписка М. М. Достоевского с Меркуровыми неизвестна.
** Упомянутое письмо Федора Михайловича также неизвестно.
*** Кроме отдельных переводов из Гофмана, опубликованных на страницах «Московскоготелеграфа», «Московскогонаблюдателя», «Московскоговестника, «Телескопа», «Сына отечества», под «русским» Гофманом Достоевский подразумевал, по-видимому, и изданное в Москве в 1836 г. в 8 частях собрание его повестей и сказок «Серапионовы братья» (в переводе И. Безсомыкина). Остальное, в том числе роман «Житейские воззрения Кота Мура» (1820-1822), Достоевский прочел по-немецки. Впервые «Кот Мурр» в русском переводе были издан в 1840 г. Об увлечении Гофманом в Инженерном учитлище см.: Григорович, стр. 47.
**** Об отношении Достоевского к творчеству Бальзака см.: наст, изд., т. I, стр. 459,503; т. II, стр. 498,500; т. V, стр. 401; т. VII, стр. 344; см. также: Л.П. Гроссман. Бальзак.— Библиотека, втр. 27-63; Р. А. Резник. Достоевский и Бальзак.— в кн. Реализм в зарубежных литературах XIX-XX веков. Саратов, 1975, вып. 4, стр. 153-203; D. Fanger. Dostoevsky and romantic realism. A study of Dostoevsky en relation to Balzac, Dickens and Gogol. Cambridge (Mass.), 1965. Роман Бальзака «Евгения Гранде» Достоевский в 1844 г. перевел на русский язык (см. письмо41, прим. 2).
Письма
509
и его мелкие стихотворенья*, «История» Полевого**, «Уголино» ***, «Ундина» ****(об «Ундине» напишу тебе кой-что-нибудь после). Также Виктор Гюго \ кроме «Кромвеля» и «Гернани» *****. Теперь прощай.
* С «Фаустом» и лирикой Гете Достоевский ознакомился в оригинале (первый перевод «Фауста» Э. И. Губера появился в 1838 г., судя по дате цензурного разрешения, уже после этого письма. Встречающиеся же в ту пору переводы некоторых стихотворений были разбросаны по альманахам и журналам). И к «Фаусту», и к стихотворениям Гете Достоевский затем обращался неоднократно. Он часто цитировал и упоминал в своих произведениях (см. наст, изд., т. XVII, Указатель имен и названий. Герой «Подростка» Тришатов импровизирует программу оперы на сюжет «Фауста» (см.: наст. Изд., т. XIII, стр. 352 353; т. XVII, стр. 327,387). Сложному переосмыслению символика «Фауста» подверглась в романах «Бесы» и «Братья Карамазовы» (см. об этом: наст, изд., т. XII, стр. 230-231; т. XV, стр. 443,460).
* * Имеется в виду «История русского народа» Н. А. Полевого (тт. 1-6; 1829-1833).
* ** «Уголино» — «драматическое представление» Н. А. Полевого, поставленное на сцене Александрийского театра в бенефис В. А. Каратыгина17 января 1838 г. С Н. А. Полевым был знаком лично И. Н. Шидловсий. Он высоко оценивал драму «Уголино», но критически отзывался о романтических штампах, присущих художественным произведениям Полевого: «Признаться, мне не нравится,— писал Шадловский,— даже кинжал-обличитель в руках “Уголино”, несмотря на уважение к целой драме и благоговение перед ее сочинителем. Драма должна быть историей страстей, книгой жизни человека, где своенравный случай не может иметь места, где правят всем условия, самим богом определенные. Случай есть пустое слово, каким мы называем то, причины чего слишком мелки и ускользают из глаз наших или даже недостойны быть усмотрены» (Нечаева, Ранний Достоевский, стр. 76-77). В майском номере «Московского наблюдателя» Белинский поместил полную полемического жара отрицательную рецензию на ультраромантическую трагедию Полевого. Критик писал: «“Уголино” есть лучшее доказательство той непрелождной истины, что нельзя пимсать драм, не будучи поэтом» (Белинский, т. II, стр. 443).
* *** «Ундина» — вышедшее отдельным изданием в 1837 г. поэтическое переложение В. А. Жуковским одноименной романтической повести Фридриха де ла Мотт Фуке.
* **** и3 прочитанных Достоевским в юности произведений В. Гюго наиболее глубокий след оставили «Последний день приговоренного к смерти» (1829; см. письмо 88, примеч. 7, а также: наст. изд., т. XXIV, стр. 6) и роман «Собор Парижской Богоматери» (1831), в предисловии к русскому переводу которого, опубликованному в1862 г. во «Времени», Достоевский назвал Гюго провозвестником «основной мысли всего искусства девятнадцатого столетия» о «восстановлении погибшего человека, задавленного несправедливо гнетом обстоятельств, застоя веков и общественных предрассудков» (наст, изд., т. XX, стр. 28). Об отражении проблем и поэтики этих и других произведений Гюго, его традиции как в «Бедных людях», так и в последующем творчестве Достоевского см.: наст, изд.т. I, стр. 468; т. IV, стр. 304; т. VII, стр. 344,369-370; т. IX, стр. 379,407,429-430; т. XII, стр. 319; т. XV, стр. 555; см. также статьи Л. П. Гроссмана (Библиотека, стр. 24, 25, 28, 118-120 и Творчество Достоевского, 1921, стр. 91-92), А. А. Бема «Гюго и Достоевский» (Slavia, 1937, t. XV, № 1), Г. М. Фридлендера «Достоевский и мировая литература» (М., 1979, стр. 141-157) и В. В. Виноградова «Из биографии одного “неистового” произведения (“Последний день приговоренного к смерти”)» (в кн. В. В. Виноградов. Избранные труды. Поэтика русской литературы. М., 1976, стр. 63-75). См. также: N. Babal Brown. Hugo and Dostoevsky. Ann Arbor, 1978.
510
Ф.М. ДОСТОЕВСКИЙ
Пиши же, сделай одолженье, утешь меня и пиши, как можно чаще. Отвечай немедля на это письмо. Я рассчитываю получить ответ через 12 дней. Самый долгий срок! Пиши же или ты меня замучаешь.
Твой брат Ф. Достоевский.
У меня есть прожект: сделаться сумасшедшим. Пусть люди бесятся, пусть лечат, пусть делают умным. Ежели ты читал всего Гофмана, то наверно помнишь характер Альбана. Как он тебе нравится? Ужасно видеть человека, у которого во власти непостижимое, человека, который не знает, что делать ему, играет игрушкой, которая есть — Бог! *
Часто ли ты пишешь к Куманиным? И напиши, не сообщил ли тебе Кудрявцев что-нибудь о Чермаке. Ради Бога, пиши и об этом; мне хочется знать об Андрюше.
Но послушай, брат. Ежели наша переписка будет идти таким образом, то, кажется, лучше не писать. Условимся же писать через неделю каждую субботу друг к другу, это будет лучше. Я получил еще письмо от Шренка** и не отвечал ему 3 месяца. Ужасно! Вот что значит нет денег!
* Альбан — герой повести Гофмана «Магнетизер» (1813), наделенный необык новенной способностью проникновения в жизнь природы, сверхъестественной силой воздействия на людей. Презирая общепринятую мораль, добиваясь высшего духовного единения с понравившейся ему девушкой, невестой другого, Альбан погружает ее в гипнотическое состояние; под бременем душевных переживаний героиня гибнет, после чего умирают и ее близкие. Повесть к этому времени была дважды напечатана в России в переводе Д. В. Веневитинова под заглавием «Что пена в вине, то сны в голове» («Московский вестник», 1827, ч. 5, № 19; Сорок одна повесть иностранных писателей. Изд. Н. Надеждина, М., 1836, ч. 5). Достоевский скорее всего познакомился с ней в оригинале. Повесть произвела впечатление на многих русских читателей того времени (см. отзывы о ней: Д. В. Веневитинов. Поли. собр. соч. М.; Л., 1934, стр. 338; Белинский, т. XI, стр. 508). О связи романтического типа Альбана с образом Раскольникова см. у Л.П. Гроссмана (Библиотека, стр. 113). В 1861 г. в статье «Три рассказа Эдгара Поэ» Достоевский дает общающую характеристику гофмановской фпантастики и вдохновляющего ее «светлого идеала» (см. наст, изд., т. XIX, стр. 88-89). О влиянии Гофмана на ранние повести Достоевского «Двойник», «Хозяйка», «Белые ночи», «Неточка Незванова» см. наст, изд., т. I, стр. 488, 509; т. II, стр. 486-487, 500. Постановку проблемы «Гофман и Достоевский» см. в работах Л. П. Гроссмана «Библиотека Достоевского», «Гении Европы» и «Путь Достоевского» (библиотека, стр. 25, 26, 106-115 и Творчество Достоевского, 1921, стр. 91,92). См. также: N. Reber. Studien zum Motiv des Doppelgangers bel Dostoevskij und E. T. A. Hoffman. Gieben, 1964.
** Письма Л. И. Шренка Достоевскому неизвестны.
Письма
511
М. М. Достоевскому 31 октября 1838 г. *
О, как долго, как долго я не писал к тебе, милый мой брат... Скверный экзамен! Он задержал меня писать к тебе, папеньке и видеться с Иваном Николаевичем, и что же вышло? Я не переведен! О ужас! Еще год, целый год лишний! Я бы не бесился так, ежели бы не знал, что подлость, одна подлость низложила меня; я бы не жалел, ежели бы слезы бедного отца не жгли души моей. До сих пор я не знал, что значит оскорбленное самолюбие. Я бы краснел, ежели бы это чувство овладело мною... но знаешь? Хотелось бы раздавить весь мир за один раз... Я потерял, убил столько дней до экзамена, заболел, похудел, выдержал экзамен отлично в полной силе и объеме этого слова и остался... Так хотел один преподающий (алгебры), которому я нагрубил в продолженье года и который нынче имел подлость напомнить мне это, объясняя причину, отчего я остался я... При 10-ти полных я имел 91/2 средних, и остался... Но к черту все это**. Терпеть так терпеть... Не буду тратить бумаги, я что-то редко разговариваю с тобой.
Друг мой! Ты философствуешь как поэт. И как не ровно выдерживает душа градус вдохновенья, так не ровна, не верна и твоя философия. Чтоб больше знать1', надо меньше чувствовать, а обратно, правило опрометчивое, бред сердца. Что ты хочешь сказать словом знать! Познать природу, душу, Бога, Любовь... Это познается сердцем, а не умом. Ежели бы мы были духи, мы бы жили, носились в сфере мысли, над которою носится душа наша, когда хочет разгадать ее. Мы же прах, люди должны разгадывать, но не могут обнять вдруг мысль. Проводник мысли сквозь бренную оболочку в состав души есть ум. Ум — способность материальная... душа же, или дух, живет мыслию, которую нашептывает ей сердце... Мысль * Печатается по подлиннику: ГБЛ, ф.93,1,6,11.
Впервые опубликовано: Биография, отд. II, стр. 9-12.
** А. И. Савельев, служивший в пору пребывания Достоевского в Инженерном училище в должности дежурного офицера, вспоминал: «Ф<едор> М<ихай- лович> знал имена начальников в войсках на войне и на гражданском поприще, которые получали награды не по заслугам, а благодаря родству и связям с сильными мира сего. Он знал проделки бывшего инспектора классов Инженерного училища, как он помещал и поддержиавал тех кондукторов, которых родители ему платили или делали подарки и пр.» (PC, 1918, № 1-2, стр. 19). См. также письмо Достоевского к отцу от 30 октября (№ 21), в котором он пишет о переходе многих кондукторов в следующий класс «по протекции».
512
Ф.М. ДОСТОЕВСКИЙ
зарождается в душе. Ум — оружие, машина, движимая огнем душевным... Притом (2-я статья) ум человека, увлекшись в область знаний, действует независимо от чувства, следовательно, от сердца. Ежели же цель познания будет любовь и природа, тут открывается чистое поле сердцу... не стану с тобой спорить, но скажу, что не согласен в мненье о поэзии и философии... Философию не надо полагать простой математической задачей, где неизвестное — природа... Заметь, что поэт в порыве вдохновенья разгадывает Бога, следовательно, исполняет назначенье философии*. След<овательно>, поэтический восторг есть восторг философии. След<овательно>, философия есть та же поэзия, только высший градус ее!.. Странно ты мыслишь в духе нынешней философии. Сколько бестолковых систем ее родилось в умных пламенных головах; чтобы вывести верный результат из этой разнообразной кучи, надобно подвесть его под математическую формулу. Вот правила нынешней философии... ** Но я замечтался с тобою, не допуская твоей вялой философии, я допускаю, однако же, существованье вялого выражения ее, которым не хочу утомлять тебя...
Брат, грустно жить без надежды... Смотрю вперед, и будущее меня ужасает... Я ношусь в какой-то холодной, полярной атмосфере, куда не заползал луч солнечный... Я давно не испытывал взрывов вдохновенья... зато часто бываю и в таком состоянье, как помнишь, Шильонский * Рассуждения Достоевского о соотношении философии и поэзии, их взаимодействии близки к кругу идей романтической философии (в частности, идей русских шеллингианцев) о соотношении художественного и научного познания, о роли интуиции, «откровения» в постижении гармонии «целого». Эти идеи могли сложиться у Достоевского под воздействием статей в «Телескопе», «Молве» и « Московском наблюдателе», бывших «любомудров» Н. И. Надеждина, а также раннего Белинского. Так, Белинский в «Литературных мечтаниях» (1834) из всех «молодых поэтов Пушкинского периода» выделял Веневитинова, который один «мог согласить мысль с чувством, идею с формою, ибо <...> обнимал природу не холодным умом, а пламенным сочувствием и, силою любви, мог проникнуть в ее святилище, <...> и потом передавать в своих созданиях высокие тайны, подсмотренные им на этом недоступном алтаре» (Белинский, т. I, стр. 78).
** В 1830-х гг. в связи с выходом в свет «Основание физики» М. Г. Павлова (ч. 1. М.,1833; ч. 2. М.,1836), развивавших диалектические черты натурфилософии Шеллинга, появился ряд статей с критикой современных метафизических концепций объяснения природы: см., например, рецензию Н. И. Надеждина на книгу М. Г. Павлова («Телескоп», 1833, № 9; 1836, № 12) и статью самого Павлова «О неуместности математики и физики» («Прибавления к “Русскому инвалиду”», 1837, № 16). С ними перекликается и протест Достоевского против механического подведения природы «под математическую формулу» (см.: 3. А. Каменский. Русская философия начала XIX века и Шеллинг. М., 1980).
Письма
513
узник* после смерти братьев в темнице... Не залетит ко мне райская птичка поэзии; но вот уже и прежние мечты мои меня оставили, и мои чудные арабески, которые создавал некогда, сбросили позолоту свою. Те мысли, которые лучами своими зажигали душку и сердце, нынче лишились пламени и теплоты; или сердце мое очерствело или... дальше ужасаюсь говорить... Мне страшно сказать, ежели все прошлое было один золотой сон, кудрявые грезы... Брат, я прочел твое стихотворенье... Оно выжало несколько слез из души моей и убаюкало на время душу приветным нашептом воспоминаний. Говоришь, что у тебя есть мысль для драмы... Радуюсь... Пиши ее... ** О ежели бы ты лишен был и последних крох с райского пира, тогда что тебе оставалось бы... Жаль, что я прошлую неделю не мог увидится с Ив<аном> Николаев<ичем>, болен был! — Послушай! Мне кажется, что слава также содействует вдохновенью поэта. Байрон был эгоист: его мысль о славе — была * Достоевский сравнивает свое угнетенное мироощущение с состоянием шильон- ского узника после смерти «убитых неволей» братьев:
И виделось, как в тяжком сне,
Всё бледным, темным, тусклым мне!
Всё в мутную слилося тень!
То не было ни ночь, ни день...
То было тьма без темноты!
То было бездна пустоты Без протяженья и границ! То были образы без лиц!
Ни жизнь, ни смерть — как сон гробов!
Как океан без берегов,
Задавленный тяжелой мглой, Недвижный, темный и немой!
(Шильонский узник, поэма лорда Байрона, перевод В. Жуковского. СПб., 1822, стр. 15). Поэму Байрона «Шильонский узник» (1816) в переводе В. А. Жуковского (1822) Достоевский вспоминал и позднее — живя в Веве на берегу Женевского озера, недалеко от замка Шильон (см. его письмо к С. А. Ивановой 23 июня (5 июля) 1868 г.).
** О своей творческой работе М. М. Достоевский сообзщал 28 ноября 1838 г. в письме к отцу: «Ну! Папенька! Порадуйтесь вместе со мною! Мне кажется, что я не без поэтического дарования! Написал я уже много мелких стихотворений, отсылал несколько к Шидловскому, и он хвалит их чрезвычайно! Я сам уже начинаю верить, что в них есть поэзия. Теперь я начал писать драму. Она мне удалась в первом действии! <...> Поэзия моя содержит всю мою теперешнюю жизнь, все мои ощущения, горе и радости. Это дневник мой!» (Письма Михаила Достоевского к отцу, стр. 80). Характеристику психологического облика и литературных начинаний М. М. Достоевского этих лет см. в статье А. 3. Писцовой «Ревельский период жизни и деятельности М. М. Достоевского» (Научн. Тр. Ташкентск. Гос. Ун-та, 1974, выл. 474. По страницам русской и зарубежной литератур, стр. 55-74).
514
Ф.М. ДОСТОЕВСКИЙ
ничтожна, суетна... * Но одно помышленье о том, что некогда вслед за твоим былым восторгом вырвется из праха душа чистая, возвышенно-прекрасная, мысль, что вдохновенье как таинство небесное освятит страницы, над которыми плакал ты и будет плакать потомство, не думаю, чтобы эта мысль не закрадывалась в душу поэта и в самые минуты творчества. Пустой же крик толпы ничтожен. Ах! я вспомнил 2 стиха Пушкина, когда он описывает толпу и поэта:
И плюет (толпа) на алтарь, где твой огонь горит, И в детской резвости колеблет твой треножник! **
Не правда ли, прелестно! Прощай.
Твой друг и брат Ф. Достоевский.
Да! Напиши мне главную мысль Шатобрианова6 сочиненья «Génie du Christianisme» ***.— Недавно в «Сыне отечества» 7 я читал статью * Суждение об «эгоизме» Байрона, возможно, сложилось у молодого Достоевского под влиянием Шидловского (см. письмо 28, примеч. 7), который, в свою очередь, мог испытать в оценке английского поэта воздействие статей 1828-1830 гг. Н. И. Надеждина в «Вестнике Европы» и С. П. Шевырева в органе «любомудров» «Московском вестнике» (см.: Н. Бродский. Байрон в русской литературе. «Литературный критик», 1938, № 4, стр. 128-129, 132-134). Но Достоевский уже в эти годы рассматривал Байрона в ряду поэтических гениев, называя его имя прежде всего в сопоставлении с Пушкиным (см. письмо 28 и примеч. 14 к нему). Как видно из письма, некоторые произведения Байрона, например поэму «Шильонский узник», Достоевский знал наизусть, вспоминал их, когда ему было «грустно жить без надежды» (см. выше, примеч. 4). Впоследствии, несмотря на встречающиеся иногда и в его поздних записных тетрадях отрицательные высказывания о личности Байрона (см. наст, изд., т. XXIV, стр. 74, 75,82 и др.), Достоевский в «Дневнике писателя» 1877 г. (см. наст. изд. т. XXVI, стр. 113-114) дает глубокую оценку исторического значения великого английского поэта.
**Цитата из стихотворения Пушкина «Поэту» (1830). По воспоминаниям А. М. Достоевского, оба старших брата в отрочестве, несмотря на некоторую разницу литературных интересов, на Пушкине «мирились» и «чуть не всего знали наизусть» (Достоевский А. М., стр. 70). А. Е. Ризенкампф рассказывал, что при первом же знакомстве в ноябре 1838 г. услышал от Достоевского декламацию «Египетских ночей» (Биография, отд. 1, стр. 34).
*** «Гений христианства» (фр.). ТрактатФ. Шатобирана «Гений христианства» вышел в 1802 г. В рассуждениях о литературе и искусстве, полемизируя с эстетикой просветителей, Шатобриан противопоставил апелляции к разуму общественного человека мистическое, чудесное, интуицию и фантазию. Влияние «Гения христианства» как литературного манифеста раннего этапа французского романтизма было чрезвычайно велико; см. об этом вступительную статью и примечания к «Гению христианства» В. А. Мильчиной в кн. : Эстетика раннего французского романтизма. М., 1982, стр. 7-33,411-440.
Письма
515
критика Низара” о Victor’s Hugo*. О как низко стоит он во мненье французов. Как ничтожно выставляет Низар его драмы и романы. Они несправедливы к нему, и Низар (хоть умный человек), а врет**. — Еще: напиши мне главную мысль твоей драмы: уверен, что она прекрасна; хотя для обдумыванья драматических характеров мало 10-ти лет. Так по крайней мере я думаю.— Ах, брат, как жаль мне, что ты беден деньгами! Слезы вырываются. Когда это было с нами? Да кстати. Поздравляю тебя, мой милый, и со днем ангела и с прошедшим рожденьем.
В твоем стихотворенье «Виденье матери» я не понимаю, в какой странный абрис облек ты душу покойницы. Этот замогильный характер не выполнен. Но зато стихи хороши, хотя в одном месте есть промах. Не сердись за разбор***. Пиши чаще, я буду аккуратнее.
Ах, скоро, скоро перечитаю я новые стихотворенья Ивана Николаевича. Сколько поэзии! Сколько гениальных идей!**** Да, еще позабыл сказать. Ты, я думаю, знаешь, что Смирдин готовит Пантеон нашей словесности книгою: портреты 100 литераторов с приложением к каждому портрету по образцовому сочиненью этого литератора. И вообрази Зотов (?!) и Орлов (Александ<р> Анфимов<ич>) в том же * О Викторе Гюго (фр.).
** В «Сыне отечества» за март-апрель 1838 г. были опубликованы статьи французских критиков Д. Низара о Ламартине и Г. Планша о Гюго (в переводе Н. Полевого). Статьи следовали одна за другой и в оглавлении стояли радом, поэтому Достоевский перепутал их авторов. Основанная не неприятии романтической поэтики Гюго, статья Гюстава Планша содержала отрицательные суждения о его поэтических сборниках, романах и драмах 1820-1830-х гг., которым критик отказывал в серьезной мысли, считая их достоинства чисто внешними. Эти оценки явно противоречили мнению Достоевского (см. пись- мо20, примеч. 14 и письмо28, примеч. 17).
*** Посылая стихотворение «Видение матери» отцу, М. М. Достоевский писал в конце января 1839 г.: «По своему содержанию, я знаю, оно будет Вам по сердцу. Я не могу вспомнить покойной маменьки без сильного душевного движения! Летом я видел ее во сне; видел, будто она нарочно сошла с небес, чтоб только благословить меня, и это было причиною рождения моего стихотворения. Я посылал его брату; он читал его Шидловскому, и Ш<идловский> в восхищении от него; он так хвалит мой талант, что я, право, не знаю, достоин ли я всех похвал его. Я переслал уж ему стихотворений с 10; он пишет ко мне огромнейшие письма (Письма Михаила Достоевского к отцу, стр. 82). Текст стихотворения (без заключительных строф) приводит в своих воспоминаниях А. Е. Ризенкампф (см.: ЛН, т. 86, стр. 325-326).
**** До нас дошло лишь несколько стихотворений И. Н. Шидловского. Публикацию и характеристику их см. в воспоминаниях Н. Решетова «Люди и дела давно минувших дней» (РА, 1886, № 10, стр. 226-232) и в книге М. П. Алексеева «Ранний друг Ф. М. Достоевского» (Одесса, 1921, стр. 13-18).
516
Ф.М. ДОСТОЕВСКИЙ
числе*. Умора! Послушай, пришли мне еще одно стихотворенье. То прелестно! — Меркуровы скоро едут в Пензу или, кажется, уже совсем уехали.
Мне жаль бедного отца! Странный характер! Ах, сколько несчастий перенес он! Горько до слез, что нечем его утешить.— А знаешь ли? Папенька совершенно не знает света: прожил в нем 50 лет и остался при своем мненье о людях, какое он имел 30 лет назад. Счастливое неведенье. Но он очень разочарован в нем. Это, кажется, общий удел наш.— Прощай еще раз.
Твой.
<3аписные книжки 1863-1864 гг.>
16 апреля
Маша лежит на столе. Увижусь ли с Машей?
Возлюбить человека, как самого себя, по заповеди Христовой,— невозможно. Закон личности на земле связывает. Я препятствует. Один Христос мог, но Христос был вековечный от века идеал, к которому стремится и по закону природы должен стремиться человек. Между тем после появления Христа, как идеала человека во плоти, стало явно как день, что высочайшее, последнее развитие личности именно и должно дойти до того (в самом конце развития, в самом пункте достижения цел), чтобы человек нашел, сознал и все силой своей природы убедился, что высочайшее употребление, которое может сделать человек из своей личности, из полноты развития своего я,— это как бы уничтожить это я, отдать его целиком всем и каждому безраздельно и беззаветно. И это величайшее счастие. Таким образом, закон я сливается с законом гуманизма, и в слитии, оба, и я и все (по- видимому, две крайние противоположности), взаимно уничтоженные друг для друга, в то же самое время достигают и высшей цели своего индивидуального развития каждый особо. Это-то и есть рай Христов.
* А. Ф. Смирдиным было издано три тома «Ста русских литераторов» (1839-1845). Первый том, вышедший в 1839 г., включал сочинения десяти авторов: А. А. Александрова (Н. А. Дуровой), А. А. Марлинского (Бестужева), И. И. Давыдова, P. М. Зотова, Н. В. Кукольника, Н. А. Полевого, Пушкина, П. И. Свиньина, О. И. Сенковского, А. А. Шаховского. А. А. Орлов — лубочный романист, осмеянный критикой 30-х гг.; P. М. Зотов — автор исторических романов и драм, высмеянных Белинским (подробнее см. о них в указателе имен). Критик в рецензии на 1-й том также иронизировал по поводу подбора имен в издании Смирдина.
<3аписные книжки 1863-1864 гг..
517
Вся история, как человечества, так отчасти и каждого отдельно, есть только развитие, борьба, стремление и достижение этой цели.
Но если это цель окончательная человечества (достигнув которой ему не надо будет развиваться, то есть достигать, бороться, прозревать при всех падениях своих идеал и вечно стремиться к нему,— стало быть, не надо будет жить) — то, следственно, человек, достигая, окончивает свое земное существование. Итак, человек есть на земле существо только развивающееся, следовательно, не оконченное, переходное.
Но достигать такой великой цели, по моему рассуждению, совершенно бессмысленно, если при достижении цели все угасает и исчезает, то есть если не будет жизни у человека и по достижении цели. Следственно, есть будущая, райская жизнь.
Какая она, где она, на какой планете, в каком центре, в окончательном ли центре, то есть в лоне всеобщего синтеза, то есть Бога? — мы не знаем. Мы знаем только одну черту будущей природы будущего существа, которое вряд ли будет и называться человеком (следовательно, и понятия мы не имеем, какими будем мы существами). Эта черта предсказана и предугадана Христом,— великим и конечным идеалом развития всего человечества, представшим нам, по закону нашей истории, во плоти;
Эта черта:
«Не женятся и не посягают, а живут, как ангелы божии».— Черта глубоко знаменательная.
1) Не женятся и не посягают,— ибо не для чего; развиваться, достигать цели, посредством смены поколений уже не надо и
2) Женитьба и посягновение на женщину есть как бы величайшее оттолкновение от гуманизма, совершенно обособление пары от всех (мало остается для всех). Семейство, то есть закон природы, но все- таки ненормальное, эгоистическое в полном смысле состояние от человека. Семейство — это величайшая святыня человека на земле, ибо посредством этого закона природы человек достигает развития (то есть сменой поколений) цели. Но в то же время человек по закону же природы, во имя окончательного идеала своей цели, должен беспрерывно отрицать его. (Двойственность).
NB. Антихристы ошибаются, опровергая христианство следующим главным пунктом опровержения: 1) «отчего же христианство не царит на земле, если оно истинно; отчего же человек до сих пор страдает, а не делается братом друг другу? »
Да очень понятно почему: потому что это идеал будущей, окончательной жизни человека, а на земле человек в состоянии переходном. Это будет, но будет после достижения цели, когда человек
518
Ф.М. ДОСТОЕВСКИЙ
переродится по законам природы окончательно в другую натуру, которая не женится и не посягает, и, 2-е. Сам Христос проповедовал свое учение только как идеал, сам предрек, что до конца мира будет борьба и развитие (учение о мече), ибо это закон природы, потому что на земле жизнь развивающаяся, атам — бытие, полное синтетически, вечно наслаждающееся и наполненное, для которого, стало быть, «времени больше не будет».
NB2. Атеисты, отрицающие Бога и будущую жизнь, ужасно наклонны представлять все это в человеческом виде, тем и грешат. Натура Бога прямо противоположна натуре человека. Человек по великому результату науки, идет от многоразличия к Синтезу, от фактов к обобщению их и познанию. А натура Бога другая. Это полный синтез всего бытия, саморассматривающий себя в многоразличии, в Анализе.
Но если человек не человек — какова же будет его природа?
Понять нельзя на земле, но закон ее может предчувствоваться и всем человечеством в непосредственных эманациях (Прудон, происхождение Бога) и каждым частным лицом.
Это слитие полного я, то есть знания и синтеза со всем. «Возлюби всё, как себя», Это на земле невозможно, ибо противуречит закону развития личности и достижения окончательной цели, которым связан человек. Следовательно, это закон не идеальный, как говорят антихристы, а нашего идеала.
NB. Итак, всё зависит от того: принимается ли Христос за окончательный идеал на земле, то есть от веры христианской. Коли веришь во Христа, то веришь, что жить будешь вовеки.
Есть ли в таком случае будущая жизнь для всякого я? Говорят, человек разрушается и умирает весь.
Мы уже потому знаем, что не весь, что человек, как физически рождающий сына, передает ему часть своей личности, так и нравственно оставляет память свою людям (NB. Пожелание вечной памяти на панихидах знаменательно), то есть входит частию свое прежней, жившей на земле личности, в будущее развитие человечества. Мы наглядно видим, что память великих развивателей человека живет между людьми (равно как и злодеев развитие), и даже для человека величайшее счастье походить на них. Значит, часть этих натур входит и плотью и одушевленно в других людей. Христос весь вошел в человечество, и человек стремится преобразиться в я Христа как в свой идеал. Достигнув этого, он ясно увидит, что и все, достигавшие на земле этой же цели, вошли в состав его окончательной натуры. То есть в Христа. (Синтетическая натура Христа изумительна. Ведь это натура Бога, значит, Христос есть отражение Бога не земле.) Как воскреснет тогда каждое я — в общем Синтезе — трудно представить.
Дневник писателя
519
Но живое, не умершее даже до самого достижения и отразившееся в окончательном идеале — должно ожить в жизнь окончательную, синтетическую, бесконечную. Мы будем — лица, не переставая сливаться со всем, не посягая и не женясь, и в различных разрядах (в дому отца моего обители многи суть). Всё себя тогда почувствует и познает навечно. Но как это будет, в какой форме, в какой природе,— человеку трудно и представить себе окончательно. Итак, человек стремится на земле к идеалу, противуположному его натуре. Когда человек не исполнил закона стремления к идеалу, то есть не приносил любовью в жертву своего я людям или другому существу (я и Маша), он чувствует страдание и назвал это состояние грехом. Итак, человек беспрерывно должен чувствовать страдание, которое уравновешивается райским наслаждением исполнения закона, то есть жертвой. Тут-то и равновесие земное. Иначе земля была бы бессмысленна.
Учение материалистов — всеобщая косность и механизм вещества, значит смерть. Учение истинной философии — уничтожение косности, то есть мысль, то есть центр и Синтез вселенной и наружной формы ее — вещества, то есть Бог, то есть жизнь бесконечная.
Путаница и неопределенность теперешних понятий происходит по самой простейшей причине: отчасти оттого, что правильное изучение природы происходит весьма недавно (Декарт и Бэкон) и что мы еще собрали до крайности мало фактов, чтоб вывести из них хоть какие-нибудь заключения. А между тем торопимся делать эжти заключения, повинуясь нашему закону развития. Выводить же окончательные результаты из теперешних фактов и успокаиваться на этом могут разве только самые ограниченные натуры, кто бы они ни были и как бы не назывались.
Дневник писателя
1876 IV. Приговор
Кстати, вот одно рассуждение одного самоубийцы от скуки, разумеется матерьялиста.
«...B самом деле: какое право имела эта природа производить меня на свет, вследствие каких-то там своих вечных законов?
520
Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ
Я создан с сознанием и эту природу сознал: какое право она имела производить меня, без моей воли на то, сознающего? Сознающего, стало быть, страдающего, но я не хочу страдать — ибо для чего бы я согласился страдать? Природа, чрез сознание мое, возвещает мне о какой-то гармонии в целом. Человеческое сознание наделало из этого возвещения религий. Она говорит мне, что я,— хоть и знаю вполне, что в “гармонии целого” участвовать не могу и никогда не буду, да и не пойму ее вовсе, что она такое значит,— но что я все- таки должен подчиниться этому возвещению, должен смириться, принять страдание в виду гармонии в целом и согласиться жить. Но если выбирать сознательно, то, уж разумеется, я скорее пожелаю быть счастливым лишь в то мгновение, пока я существую, а до целого и его гармонии мне ровно нет никакого дела после того, как я уничтожусь,— останется ли это целое с гармонией на свете после меня или уничтожится сейчас же вместе со мною. И для чего бы я должен был так заботиться о его сохранении после меня — вот вопрос? Пусть уж лучше я был бы создан как все животные, то есть живущим, но не сознающим себя разумно; сознание же мое есть именно не гармония, а, напротив, дисгармония, потому что я с ним несчастлив. Посмотрите, кто счастлив на свете и какие люди соглашаются жить? Как раз те, которые похожи на животных и ближе подходят под их тип по малому развитию их сознания. Они соглашаются жить охотно, но именно под условием жить как животные, то есть есть, пить, спать, устраивать гнездо и выводить детей. Есть, пить и спать по-человеческому значит наживаться и грабить, а устраивать гнездо значит по преимуществу грабить. Возразят мне, пожалуй, что можно устроиться и устроить гнездо на основаниях разумных, на научно верных социальных началах, а не грабежом, как было доныне. Пусть, а я спрошу: для чего? Для чего устроиваться и употреблять столько стараний устроиться в обществе людей правильно, разумно и нравственноправедно? На это, уж конечно, никто не сможет мне дать ответа. Все, что мне могли бы ответить, это: “чтоб получить наслаждение”. Да, если б я был цветок или корова, я бы и получил наслаждение. Но, задавая, как теперь, себе беспрерывно вопросы, я не могу быть счастлив, даже и при самом высшем и непосредственном счастье любви к ближнему и любви ко мне человечества, ибо знаю, что завтра же всё это будет уничтожено: и я, и всё счастье это, и вся любовь, и всё человечество — обратимся в ничто, в прежний хаос. А под таким условием я ни за что не могу принять никакого счастья,— не от нежелания согласиться принять его, не от упрямства какого из-за принципа, а просто потому, что не буду и не могу быть
Дневник писателя
521
счастлив под условием грозящего завтра нуля. Это — чувство, это непосредственное чувство, и я не могу побороть его. Ну, пусть бы я умер, а только человечество оставалось бы вместо меня вечно, тогда, может быть, я всё же был бы утешен. Но ведь планета наша невечна, и человечеству срок — такой же миг, как и мне. И как бы разумно, радостно, праведно и свято ни устроилось на земле человечество,— всё это тоже приравняется завтра к тому же нулю. И хоть это почему-то там и необходимо, по каким-то там всесильным, вечным и мертвым законам природы, но поверьте, что в этой мысли заключается какое-то глубочайшее неуважение к человечеству, глубоко мне оскорбительное и тем более невыносимое, что тут нет никого виноватого. И наконец, если б даже предположить эту сказку об устроенном наконец-то на земле человеке на разумных и научных основаниях — возможною и поверить ей, поверить грядущему наконец-то счастью людей,— то уж одна мысль о том, что природе необходимо было, по каким-то там косным законам ее, истязать человека тысячелетия, прежде чем довести его до этого счастья, одна мысль об этом уже невыносимо возмутительна. Теперь прибавьте к тому, что той же природе, допустившей человека наконец-то до счастья, почему-то необходимо обратить всё это завтра в нуль, несмотря на всё страдание, которым заплатило человечество за это счастье, и, главное, нисколько не скрывая этого от меня и моего сознанья, как скрыла она от коровы,— то невольно приходит в голову одна чрезвычайно забавная, но невыносимо грустная мысль: “ну что, если человек был пущен на землю в виде какой-то наглой пробы, чтоб только посмотреть: уживется ли подобное существо на земле или нет?” Грусть этой мысли, главное — в том, что опять-таки нет виноватого, никто пробы не делал, некого проклясть, а просто всё произошло по мертвым законам природы, мне совсем непонятным, с которыми сознанию моему никак нельзя согласиться. Ergo:
Так как на вопросы мои о счастье я через мое же сознание получаю от природы лишь ответ, что могу быть счастлив не иначе, как в гармонии целого, которой я не понимаю, и очевидно для меня, и понять никогда не в силах —
Так как природа не только не признает за мной права спрашивать у нее отчета, но даже и не отвечает мне вовсе — и не потому, что не хочет, а потому, что и не может ответить 1 —
Так как я убедился, что природа, чтоб отвечать мне на мои вопросы, предназначила мне (бессознательно) меня же самого и отвечает мне моим же сознанием (потому что я сам это все говорю себе) —
Так как, наконец, при таком порядке, я принимаю на себя в одно и то же время роль истца и ответчика, подсудимого и судьи и нахожу
522
Ф.М. ДОСТОЕВСКИЙ
эту комедию, со стороны природы, совершенно глупою, а переносить эту комедию, с моей стороны, считаю даже унизительным —
То, в моем несомненном качестве истца и ответчика, судьи и подсудимого, я присуждаю эту природу, которая так бесцеремонно и нагло произвела меня на страдание,— вместе со мною к уничтожению... А так как природу я истребить не могу, то и истребляю себя одного, единственно от скуки сносить тиранию, в которой нет виноватого».
1877
Я начну мой новый год с того самого, на чем остановился в прошлом году. Последняя фраза в декабрьском «Дневнике» моем была о том, «что почти все наши русские разъединения и обособления основались на одних лишь недоумениях, и даже прегрубейших, в которых нет ничего существенного и непереходимого». Повторяю опять: все споры и разъединения наши произошли лишь от ошибок и отклонений ума, а не сердца, и вот в этом-то определении и заключается всё существенное наших разъединений. Существенное это довольно еще отрадно. Ошибки и недоумения ума исчезают скорее и бесследнее, чем ошибки сердца; излечиваются же не столько от споров и разъяснений логических, сколько неотразимою логикою событий живой, действительной жизни, которые весьма часто, сами в себе, заключают необходимый и правильный вывод и указывают прямую дорогу, если и не вдруг, не в самую минуту их появления, то во всяком случае в весьма быстрые сроки, иногда даже и не дожидаясь следующих поколений. Не то с ошибками сердца. Ошибки сердца есть вещь страшно важная: это есть уже зараженный дух иногда даже во всей нации, несущий с собою весьма часто такую степень слепоты, которая не излечивается даже ни перед какими фактами, сколько бы они ни указывали на прямую дорогу; напротив, переработывающая эти факты на свой лад, ассимилирующая их с своим зараженным духом, причем происходит даже так, что скорее умрет вся нация, сознательно, то есть даже поняв слепоту свою, но не желая уже излечиваться. Пусть не смеются над мной заранее, что я считаю ошибки ума слишком легкими и быстро из- гладимыми. И уж смешнее всего было бы, даже кому бы то ни было, а не то что мне, принять на себя в этом случае роль изглаживателя, твердо и спокойно уверенного, что словами проймешь и перевернешь убеждения данной минуты в обществе. Я это всё сознаю. Тем не менее стыдиться своих убеждений нельзя, а теперь и не надо, и кто имеет сказать слово, тот пусть говорит, не боясь, что его
Дневник писателя
523
не послушают, не боясь даже и того, что над ним насмеются и что он не произведет никакого впечатления на ум своих современников. В этом смысле «Дневник писателя» никогда не сойдет с своей дороги, никогда не станет уступать духу века, силе властвующих и господствующих влияний, если сочтет их несправедливыми, не будет подлаживаться, льстить и хитрить. После целого года нашего издания нам кажется уже позволительно это высказать. Ведь мы очень хорошо и вполне сознательно понимали и в прошлом году, что многим из того, о чем писали мы с жаром и убеждением, мы в сущности вредили только себе; и что гораздо более получили бы, напротив, выгоды, если бы с таким же жаром попадали в другой унисон.
Повторяем: нам кажется, что теперь надо как можно откровеннее и прямей всем высказываться, не стыдясь наивной обнаженности иной мысли. Действительно нас, то есть всю Россию, ожидают, может быть, чрезвычайные и огромные события. «Могут вдруг наступить великие факты и застать наши интеллигентные силы врасплох, и тогда не будет ли поздно?» — как говорил я, заканчивая мой декабрьский «Дневник». Говоря это, я не одни политические события разумел в этом «ближайшем будущем», хотя и они не могут не поражать теперь внимание даже самых скудных и самых «жидовствующих» умов, которым ни до чего, кроме себя, дела нет. В самом деле, что ожидает мир не только в остальную четверть века, но даже (кто знает это?) в нынешнем, может быть, году? В Европе неспокойно, и в этом нет сомнения. Но временное ли, минутное ли это беспокойство? Совсем нет: видно, подошли сроки уж чему-то вековечному, тысячелетнему, тому, что приготовлялось в мире с самого начала его цивилизации. Три идеи встают перед миром и, кажется, формулируются уже окончательно. С одной стороны, с краю Европы — идея католическая, осужденная, ждущая в великих муках и недоумениях: быть ей иль не быть, жить ей еще или пришел ей конец. Я не про религию католическую одну говорю, а про всю идею католическую, про участь наций, сложившихся под этой идеей в продолжение тысячелетия, проникнутых ею насквозь. В этом смысле Франция, например, есть как бы полнейшее воплощение католической идеи в продолжение веков, глава этой идеи, унаследованной, конечно, еще от римлян и в их духе. Эта Франция, даже и потерявшая теперь, почти вся, всякую религию (иезуиты и атеисты тут всё равно, всё одно), закрывавшая не раз свои церкви и даже подвергавшая однажды баллотировке Собрания самого Бога, эта Франция, развившая из идей 89 года свой особенный французский социализм, то есть успокоение и устройство
524
Ф.М. ДОСТОЕВСКИЙ
человеческого общества уже без Христа и вне Христа, как хотело да не сумело устроить его во Христе католичество,— эта самая Франция и в революционерах Конвента, и в атеистах своих, и в социалистах своих, и в теперешних коммунарах своих — всё еще в высшей степени есть и продолжает быть нацией католической вполне и всецело, вся зараженная католическим духом и буквой его, провозглашающая устами самых отъявленных атеистов своих: Liberte, Egalité, Fraternité — ou la m о rt *, то есть точь-в-точь как бы провозгласил это сам папа, если бы только принужден был провозгласить и формулировать liberté, égalité, fraternité католическую — его слогом, его духом, его настоящим слогом и духом папы средних веков. Самый теперешний социализм французский,— невидимому, горячий и роковой протест против идеи католической всех измученных и задушенных ею людей и наций, желающих во что бы то ни стало жить и продолжать жить уже без католичества и без богов его,— самый этот протест, начавшийся фактически с конца прошлого столетия (но в сущности гораздо раньше), есть не что иное, как лишь вернейшее и неуклонное продолжение католической идеи, самое полное и окончательное завершение ее, роковое ее последствие, выработавшееся веками. Ибо социализм французский есть не что иное, как насильственное единение человечества — идея, еще от древнего Рима идущая и потом всецело в католичестве сохранившаяся. Таким образом идея освобождения духа человеческого от католичества облеклась тут именно в самые тесные формы католические, заимствованные в самом сердце духа его, в букве его, в материализме его, в деспотизме его, в нравственности его. С другой стороны восстает старый протестантизм, протестующий против Рима вот уже девятнадцать веков, против Рима и идеи его, древней языческой и обновленной католической, против мировой его мысли владеть человеком на всей земле, и нравственно и матерьяльно, против цивилизации его,— протестующий еще со времен Арминия и Тевтобургских лесов2. Это — германец, верящий слепо, что в нем лишь обновление человечества, а не в цивилизации католической. Во всю историю свою он только и грезил, только и жаждал объединения своего для провозглашения своей гордой идеи,— сильно формулировавшейся и объединившейся еще в Лютерову ересь; а теперь, с разгромом Франции, передовой, главнейшей и христианнейшей католической нации, пять лет тому назад*,— германец уверен уже в своем торжестве всецело и в том, что никто не может стать вместо него в главе мира и его * Свобода, Равенство, Братство — или смерть (фр.).
Дневник писателя
525
возрождения. Верит он этому гордо и неуклонно; верит, что выше германского духа и слова нет иного в мире и что Германия лишь одна может изречь его. Ему смешно даже предположить, что есть хоть что-нибудь в мире, даже в зародыше только, что могло бы заключать в себе хоть что-нибудь такое, чего бы не могла заключать в себе предназначенная к руководству мира Германия. Между тем очень не лишнее было бы заметить, хотя бы только в скобках, что во все девятнадцать веков своего существования Германия, только и делавшая, что протестовавшая, сама своего нового слова совсем еще не произнесла, а жила лишь все время одним отрицанием и протестом против врага своего так, что, например, весьма и весьма может случиться такое странное обстоятельство, что когда Германия уже одержит победу окончательно и разрушит то, против чего девятнадцать веков протестовала, то вдруг и ей придется умереть духовно самой, вслед за врагом своим, ибо не для чего будет ей жить, не будет против чего протестовать. Пусть это покамест моя химера, но зато Лютеров протестантизм уже факт: вера эта есть протестующая и лишь отрицательная, и чуть исчезнет с земли католичество, исчезнет за ним вслед и протестантство, наверно, потому что не против чего будет протестовать, обратится в прямой атеизм и тем кончится. Но это, положим, пока еще моя химера. Идею славянскую германец презирает так же, как и католическую, с тою только разницею, что последнюю он всегда ценил как сильного и могущественного врага, а славянскую идею не только ни во что не ценил, но и не признавал ее даже вовсе до самой последней минуты. Но с недавних пор он уже начинает коситься на славян весьма подозрительно. Хоть ему и до сих пор смешно предположить, что у них могут быть тоже какие-нибудь цель и идея, какая-то там надежда тоже «сказать что-то миру», но, однако же, с самого разгрома Франции мнительные подозрения его усилились, а прошлогодние и текущие события, уж конечно, не могли облегчить его недоверчивости. Теперь положение Германии несколько хлопотливое: во всяком случае и прежде всяких восточных идей ей надо кончить свое дело на Западе. Кто станет отрицать, что Франция, недобитая Франция, не беспокоит и не беспокоила германца во все эти пять лет после своего погрома именно тем, что он не добил ее. В семьдесят пятом году* это беспокойство достигло в Берлине чрезвычайного даже предела, и Германия наверно ринулась бы, пока есть еще время, добивать исконного своего врага, но помешали некоторые чрезвычайно сильные обстоятельства. Теперь же, в этом году, сомнения нет, что Франция, усиливающаяся материально с каждым годом, еще страшнее пугает Германию, чем два года назад.
526
Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ
Германия знает, что враг не умрет без борьбы, мало того, когда почувствует, что оправился совершенно, то сам задаст битву, так что через три года, через пять лет, может быть, будет уже очень поздно для Германии. И вот, ввиду того, что Восток Европы так всецело проникнут своей собственной, вдруг восставшей, идеей и что у него слишком много теперь дела у себя самого — ввиду того весьма и весьма может случиться, что Германия, почувствовав свои руки на время развязанными, бросится на западного врага окончательно, на страшный кошмар, ее мучающий, и — всё это даже может случиться в слишком и слишком недалеком будущем. Вообще же можно так сказать, что если на Востоке дела натянуты, тяжелы, то чуть ли Германия не в худшем еще положении. И чуть ли у ней еще не более опасений и всяких страхов в виду, несмотря на весь ее непомерно гордый тон,— и это по крайней мере нам можно взять в особенное внимание.
П. А. ФЛОРЕНСКИЙ
Детям моим.
Воспоминания
VII. Обвал*1
<...> 1925.VIII.23. Теперь предстоит рассказ об одном из важнейших изломов моей внутренней жизни. Это время с исключительною выпуклостью представляется мне и по сей день, словно оттиск тех внутренних событий был обожжен и сделался навеки неизменяемым. Удовольствие бесследно исчезает из памяти; только глубокие страдания по-настоящему формуют нашу личность и оставляют на ней существенные изменения, всегда впоследствии ощущаемые как неизменное «теперь». И таковыми, по преимуществу, бывают страдания внутренние.
Итак, мне слишком памятен весь описываемый перелом и обстоятельства, его сопровождавшие. Однако, заглядывая в подробные дневники того времени, я нахожу там множество тщательно записанных мелочей, преимущественно естественно-научных наблюдений, сведения о прочитанных книгах, заметки о товарищах и знакомых, наконец, многочисленные записи чувств, тогда волновавших меня и мучивших, но все это — как поверхность жизни, в значительной мере — сор и накипь другого, более глубокого; самое же важное, истинный источник боли и то, что на самом желе было руслом внутренней жизни, в дневниках почти не упоминается, во всяком случае, не засвидетельствовано внятно для другого. Просматриваю дневники и не отрицаю фактичности там изложенного; но удивляюсь, насколько несоответственно расставлены здесь акценты важности, как невдумчиво выдвинуты и распределены душевные массы. Знаю, * Текст подготовлен по рукописному оригиналу, представляющему собой запись С. И. Огневой под диктовку П. А. Флоренского. Оригинал правлен автором; другие редакции неизвестны. В оригинале название данной главы отсутствует, оно дано подготовителями текста.
528
П.А. ФЛОРЕНСКИЙ
что дневник точен, как протокол. Но в нем не узнаю целостного образа событий. Это — как фотографический снимок отдаленных гор; он был снят ради гор. И только ради них, и, однако, вся поверхность снимка занята какой-то травой, грязью дороги или каким-нибудь забором или невесть чем, а горы представлены еле видными серыми дугами. Так и в тогдашних дневниках я почти не нахожу подлинно важного, что определило всю дальнейшую жизнь.
Конечно, тогда я и не мог бы написать иначе, чем написал, не впадая в отвлеченные рассуждения: происходившее со мною, или, точнее, происходившее во мне, несмотря на мучительность и силу, коренилось в полусознательной области и не имело для себя внятных слов и, следовательно,— и подходящих форм мысли. Это были удары из глубокого центра и потому, несмотря на свою силу, глухие. Лишь ряд их расшатал крепко сложенную кору сознания, и тогда новая сила вышла наружу. Задним числом я теперь вижу и понимаю то наиболее существенное из внутренних процессов, что неясно видел и чего почти не понимал тогда.
По внешнему учету, все мое время было сплошь занято, пожалуй, даже полнее, чем в прежние годы. Все было предметом интереса и наблюдения. Меня занимали соотношения цветов растительности; приводило в энтузиазм фосфоресцирующее свечение чинарных дров, сложенных у нас во дворе на даче, и вожделенное мною с тех пор, как я себя помню; я делал наблюдения над струями течения Куры, нужные мне для моих размышлений над электрическим током; я обследовал строение гор, искал минералов и нашел толстую жилу красивой голубовато-зеленой яшмы; мерил температуру источников, наблюдал процессы выветривания; жадно всматривался каждый вечер в тона поднимающейся тени земли.
Целыми днями я лазил по горам, фотографируя, делая зарисовки, записывая свои наблюдения, а по вечерам приводил все это в порядок. Остаться без дела хотя бы на четверть часа мне претило и еще более — утомляло меня: и ранее, и по настоящий день ничего не делать мне так же утомительно, как и медленно идти, потому что большое усилие тратится на задержку движения, внутреннего или внешнего. Но все эти наблюдения природы не были научным импрессионизмом, разрозненными и пассивными толчками от случайных встреч с природой. В каком-то смысле я очень определенно знал, чего хочу, и направлял внимание на явления природы, внутренне очень определенные. Несмотря на разнообразие своих интересов, я не мог и не хотел заниматься чем попало, хотя бы и значительным само по себе, по моему сознанию. У меня не было отвлеченной логической схемы, объединяющей предметы моего внимания, и таковая отталкивала
Детям моим. Воспоминания
529
мой ум. Тем не менее мои интересы органически срастались в единую картину мира, и в смутном предчувствии мне виделся новый Космос, однако более организованный и более пронизанный сознанием единой таинственной жизни природы, чем Гумбольдтов *. Это художественноцелостное представление о мире сопровождалось на другом плане теоретической мыслью. Во время своих хождений по горам я непрестанно думал о вопросах физики и отчасти — математики. Особенно усиленно вертелась в голове попытка дать определение температуры как величины, причем в своих рассуждениях я отчасти пользовался одною мыслью около этого же вопроса М. Н. Городенского **. Эти размышления о температуре были вызваны очень оцарапавшим меня замечанием Карпентера2 в его статье о науке, что физики сами не знают, что такое температура и как ее логически определить. Наряду с этими размышлениями я дорабатывал статью об электрическом токе, писал разные заметки по математике, довольно много времени посвящал письменному переводу Тита Ливия *** и чтению по философии, истории литературы и штудировал «Историю индуктивных наук» Уэвелля3, писал письма и дневники.
И все-таки, на каком-то из более глубоких планов, я томился, как незанятый, а ниже — страдал. Прежняя спокойная и наивная по своей безоглядочности работа теперь стала сопровождаться резкими колебаниями самооценки и проходила то под знаком обширных замыслов, то в сознании невыполненности ничего существенного и потому недоказанности, что эти замыслы вообще будут осуществлены когда-нибудь. Эти колебания постепенно произвели две сосуществующих друг другу самооценки и соответственную раздвоенность самочувствия. Появилось почти никогда не оставлявшее меня ощущение какой-то неопределенной болезни, хотя ничего осязательного уловить я не мог, да и жаловаться на какие-либо физические симптомы не было основания. Я пытался приурочить это тяжелое самочувствие к различным * Гумбольдт Александр Фридрих Генрих (1769-1859) — немецкий естествоиспытатель, географ и путешественник. Автор монументального труда «Космос» (1845-1857), представляющего собой свод знаний первой половины XIX в. Русский перевод: Космос: Опыт физического мироописания Александра фон Гумбольдта. Ч. 1 / Пер. с нем. Николая Фролова. М., 1848; Ч. 2 / Пер. с нем. Николая Фролова. М.: В типографии Александра Семена, 1851; Ч. 3. Отдел 1 / Пер. с нем (и предисловие) Матвея Гусева. М., 1853; Ч. 3. Отдел2 / Пер. с нем. Матвея Гусева. М., 1857; Ч. 4-5 / Пер с нем. Якова Вейнберга. М., 1863. В России труд выдержал три издания.
** Городенский М. Н.— учитель физики во 2-й тифлисской гимназии.
*** Тит Ливий (59 до н. э.— 17 н. э.) — римский историк, автор «Римской истории от основания города».
530
П.А. ФЛОРЕНСКИЙ
внешним обстоятельствам, но сам же чувствовал, что дело не в них. И тем крепче я цеплялся за научные наблюдения, тогда единственное надежное и крепкое пристанище. Но в один день или, точнее, в один миг этого пристанища не стало. Хорошо помню, как в жаркий полдень я укрылся в лес на склоне горы по ту сторону Куры. Это был довольно крутой склон, и можно было соскользнуть вниз к реке. Я пытался собраться с мыслями, чтобы продумать какой-то научный вопрос; но мысль была вялою и расплывалась. Вдруг из-под этого рыхлого покрова выставилась, как острие кинжала, иная мысль, совсем неожиданная и некстати: «Это — вздор. Этот вопрос — вздор, и совсем он не нужен». Тогда я спросил в удивлении и в испуге у этой, другой, чем мне привычная, моя мысль, как же это может быть вздором, когда оно тесно сцепляется с такими-то и такими-то вопросами, уже явно признанными. И через несколько секунд получил ответ, что и они, эти вопросы, тоже вздор и тоже ни для чего не нужны. Тогда я снова поставил вопрос о всех подобных вопросах, своею связанностью и взаимной обусловленностью образующих ткань научного мировоззрения. И опять тот же ответ, что и все научное мировоззрение — труха и условность, не имеющая никакого отношения к истине, как жизни и основе жизни, и что все оно ничуть не нужно. Эти ответы другой мысли звучали все жестче, определеннее и беспощаднее. Я хорошо помню почти физическое ощущение от них, как от холодного лезвия, без усилия вонзающегося в мое душевное тело и разрезающего меня, как что-то рыхлое и не имеющее сил сопротивляться. Чем шире ставились мои вопросы, тем менее сил было у меня защищать свои ценности и тем опустошительнее выступало каждый раз это лезвие. И, наконец, последний вопрос, о всем знании. Он был подрезан, как и все предыдущие.
В какую-нибудь минуту было подрезано и обесценено все, чем жил я, по крайней мере, как это принималось в сознании. Все возражения против научной мысли, которые я когда-либо слышал или читал, вдруг перевернулись в сознании и из условных, легко отразимых при желании и искусственно придуманных придирок вдруг стали грозными укреплением той, новой мысли, вдруг получили силу ударить в самое сердце научного мировоззрения. В какую-нибудь минуту пышное здание научного мышления рассыпалось в труху, как от подземного удара, и вдруг обнаружилось, что материал его — не ценные камни, а щепки, картон, штукатурка. Когда я встал со склона, на котором сидел, то мне нечего было взять даже из обломков всего построения научной мысли, в которое я верил и над которым или около которого сам трудился, не щадя сил. Не только опустошенный, но и с полным отвращением убежал я от этого мусора.
Детям моим. Воспоминания
531
1925.VIII. 30. В момент происшедшего обвала, когда мне казалось, что треснул и рушится небесный свод, я не узнал ничего нового для себя. Но коренным образом переворотилось направление воли. В том самом знании, которое было у меня за минуту до этого события, переставились все смысловые ударения. Если раньше всего pro научного мировоззрения я выдвигал и поддерживал надеждою на их лучшее будущее, дорисовывая своею убежденностью в них вялые и несуществующие линии связи, а к contra не прислушивался, тоже в надежде — на их худшее будущее, то теперь pro и contra, помимо моего желания, обменялись своими местами. Все pro повяли, словно побитые морозом, и вдруг потеряли силу убедительного звучания. Напротив, все contra, также вдруг, подняли голову и стали победоносны, хотя я вовсе не сказал им да. Одни из них никогда так и не получили себе этого да, другие получили его, но не скоро, и, однако, уж теперь я почувствовал в них хозяев положения. Произошел глубинный сдвиг воли, и с этого момента смысл умственной деятельности изменил знак.
Началось разоблачение знания, сперва только научного, затем и вообще. В свое время я много читал Маха* и, несмотря на несогласие в сознании, в каком-то смысле все-таки принимал его. Теперь восприятие стало разрастаться буйно. Отрицание знания в самых корнях его доставляло мне радость, в которой удовольствие было от наибольшей степени внутреннего страдания. Я чувствовал себя разбившимся при падении в пропасть, и хотелось, по крайней мере, закрепить это свое новое место, чтобы иметь хотя бы какое-либо место. Особенно много я читал философии, но удовлетворяло меня лишь подрывавшее возможность знания; напротив, положительные построения оценивались догматическими, до смешного бездоказательными и лишенными твердой почвы. Не то или другое утверждение * Мах Эрнст (1838-1916) — австрийский физик и философ. Целью науки, по Маху, является не механическое объяснение, а описание на основе принципа экономии мышления. Такое понимание науки свело к отвержению механического миропонимания, которое Флоренский называет «механической мифологией». Отвергнув реальность механических моделей, Мах отвергает и всякую реальность, лежащую вне ощущений. Что же импонировало Флоренскому в этой концепции науки как «упрощенного и упорядоченного описания» ? Разрушение с этих позиций, несколько столетий господствовавших, а посему и слишком самоуверенных, претензий на механическое объяснение как единственно возможное. Но далее Флоренский за Махом не идет. Для Маха физика есть экономическое описание, для Флоренского она — символическое описание, причем в символах сочетается и свободное творчество нашего духа, и сама реальность (см.: Флоренский П.А. Символическое описание // Феникс. Кн. 1. М.: изд-во «Костры», 1922).
532
П.А. ФЛОРЕНСКИЙ
мне казалось странным, а самая возможность для автора говорить так произвольно.
«Истина недоступна» и «невозможно жить без истины» — эти два равно сильных убеждения раздирали душу и ввергали в душевную агонию. Смертельная тоска и полное отчаяние владели мною. Правда, внешним образом я вел жизнь, полную труда. Своим порядком шли усиленные занятия в гимназии; по просьбе некоторых учителей я репетировал некоторых своих товарищей и давал другие уроки, муштруя своих учеников и перенагруженный сам от предельного усердия, так как все эти уроки были бесплатными. По праздничным дням занимался чтением с младшими учениками, тоже по поручению инспектора И. Е. Гамкрелидзе. Со всеми этими занятиями время было занято буквально сплошь до позднего вечера. Но за всем тем я много читал, занимался математикой, геологией, писал и даже продолжал, хотя и в меньшей мере, чем раньше, свои физические опыты. Тогда время обладало совсем иною емкостью, чем теперь: умещалось в день и то, и другое, и третье, а все-таки был простор продумать и прочувствовать более глубокую внутреннюю жизнь. И вот тут я ощущал и сознавал в себе метафизическую пустоту и происходящую отсюда смерть. Кант и Шопенгауэр*4 со стороны своего отрицания подходили к моему тогдашнему самочувствию, но казались дешевыми и поверхностными в своих положительных построениях. Гораздо ближе было страдание Толстого, о его моральных и общественных взглядах я тогда не думал вовсе. В связи с карпенетровской и толстовской критикой научного мировоззрения я столкнулся, когда писал об этом реферат для устроенного нами совместно с Г. Н. Гехтманом научного кружка,— столкнулся с рукописной «Исповедью» Толстого** и даже переписал ее, а через
* Шопенгауэр Артур(1788-1860) — немецкий философ.
** «Исповедь», или «Вступление к ненапечатанному сочинению», Л. Н. Толстого написана после его «второго рождения», как он называл происшедший во второй половине 1870-х годов перелом в его миросозерцании. В июле 1882 г. состоялось постановление духовной цензуры, запрещавшее появление «Исповеди». К этому времени майский номер журнала «Русская мысль» с «Исповедью» был уже отпечатан. По словам И. И. Бахметьева, секретаря «Русской мысли», «для выпуска майской книжки «Русской мысли» «Исповедь» пришлось вырезать под очень бдительным наблюдением инспектора типографии, который, опечатав вырезанные листы, препроводил их для уничтожения в Главное управление по делам печати. Впоследствии мне приходилось встречать у некоторых лиц в Петербурге эти вырезки из «Русской мысли». Оказалось, что Главное управление по делам печати выдало их нескольким высокопоставленным лицам, отказать в просьбе которым оно не могло. Осталось и в редакции «Русской мысли», и у меня лично несколько
Детям моим. Воспоминания
533
Толстого — ис «Экклезиастом» *. То и другое пришлось по мне вместе с некоторыми буддийскими писаниями **. Эти книги углубляли и расширяли мой внутренний провал и дали возможность ускорить оформление того, что происходило со мною. До них я чувствовал себя одиноким в своем отношении к научному мировоззрению; в самое сомнение навевались порою окружающими сомнения, правда, поверхностные, но тем не менее требовавшие к себе внимания. С Толстым, Соломоном и Буддою я ощущал надежность своей безнадежности, и это давало удовлетворение и какой-то род спокойствия.
корректурных оттисков «Исповеди» в верстанных листах и в гранках, некоторые даже в поправками автора. С них в свое время снимались многочисленные копии, которые затем в гектографированном или литографированном виде расходились по всей России. В Петербурге существовал кружок студентов, специально занимавшийся таким издательством, и за три рубля за экземпляр. В Петербурге, Москве и других городах можно было иметь сколько угодно оттисков «Исповеди». В Петербурге главный склад этого издания помещался в квартире тестя одного из товарищей министра внутренних дел, того именно, который заведовал тогда жандармской частью». Несомненно, что нелегальным путем «Исповедь» разошлась в числе, во много раз большем, чем распространила бы ее «Русская мысль», печатавшаяся тогда только в трех тысячах экземпляров». (Н. Б-в. Л. Н. Толстой и цензура в 80-х годах // Новое время. 1908. № 11694 от 1 октября.— Цит. По работе: Гусев H.Н. «Исповедь». История писания и печататания // Толстой Л. Н. Полное собрание сочинений. М.: Государственное издательство художественной литературы, 1957. Т. 23. С. 522.). Любопытно, что в нелегальном издании «Исповеди» принимал участие тогдашний студент В. И. Вернадский, который вспоминал: «Пользуясь тем, что мы издавали лекции, наш кружок участвовал в издании литографированной «Истории революционного движения в России» Туна. Издавали также «Исповедь» и другие произведения Л. Н. Толстого. («Прометей-15». Молодая гвардия, 1988. С. 36.) Флоренский мог прочесть «Исповедь» в одном из нелегальных изданий.
* Одна из книг Ветхого Завета — «Книга Екклезиаста, или Проповедника».
** Флоренскому могли быть известны следующие книги и статьи:
Васильев В. Буддизм, его догматы, история и литература. Ч. I: Общее обозрение. СПб., 1857 (Ч. II не вышла); Ч. III. История буддизма в Индии. Соч. Даранаты / Пер с тибетского. СПб., 1869.
Лесевич В. Буддийский катехизис // Русская мысль. 1887. № 8 Минаев И. Буддизм: Материалы и исследования. СПб., 1887. Буддийский катехизис / пер. с нем. Т. Будкевича. Харьков, 1888. Леопардов Н. Краткое изложение учения Будды, составляющего индийскую религию. Киев, 1889.
Ольденберг Г. Будда. Его жизнь, учение и община / Пер. П. Николаева. 2-е изд. М„ 1891.
Сутта-Нипата. Сборник бесед и поучений. Буддийская каноническая книга. Пер. с пали д-р Фаусбёлле. Русс. пер. и предисл. Н. И. Герасимова. М., 1899. Буддийские сутты. Пер. с пали проф. Рис-Дэвиса. С примеч. и вступ. статьей. Русск. пер. и предисл. Н. И. Герасимова. М., 1900.
534
П.А. ФЛОРЕНСКИЙ
1925.IX.6. С ними томление пустоты уже явно было не психологизмом, а существенным следствием каких-то, мне неведомых законов самого бытия. Сознание этого ввергало в безнадежность, но зато самой безнадежности было свойственно мрачное успокоение, поскольку далее падать уже было некуда. Это состояние точно изображено Толстым в «Исповеди», и потому распространяться о нем нет надобности.
Но, однако, пережитое мною по душевной тональности было отлично от описанного Толстым. В последнем преобладало чувство, и Толстой ощущал себя умирающим потому, что иссякли в нем источники жизни: а жизнь была в его сознании чем-то очень близким к органическому самочувствию, к ощущению гармонической цельности тела, взятой очень глубоко, но тем не менее по определенной линии. Может быть, это было связано у Толстого, кроме его личного склада, с его возрастом и образом жизни. Мое же умирание шло по линии, скорее интеллектуальной. Я задыхался от неимения истины. Во всем человеческом познании не находилось ни одной надежной точки, а истина и смысл жизни были для меня понятны и тождественны.
Постепенно, однако, отчасти с помощью Толстого, мне стало делаться ясным, что истина, если она есть, не может быть внешнею по отношению ко мне и что она есть источник жизни. Самая жизнь есть истина в своей глубине, и глубина эта уже не я и не во мне, хотя я могу к ней прикасаться. Сначала смутно, как сквозь толстую стену, затем все более внятно стал ощущать я какое-то веяние из этой глубины. Но эти живительные веяния, несомненные и подлинные более, чем что-либо другое, были, однако, в моем сознании вполне нерасчлененными, вполне лишенными какой бы то ни было словесно логической формы. Я ощущал их живительность и сознавал как единственно подлинно реальное; но я ничего не мог бы сказать об этом реальном, кроме того, что оно есть; я не имел слова назвать его и соотнести с тем, что я называл. А то, что я называл и умел называть, от этих животворных веяний окончательно съежилось и стало держаться в сознании, как засохший цветочный венчик на ягодах крыжовника. Это было томительное висенье между знанием, которое есть, но не нужно, и знанием нужным, которого нет: ведь несказанные прикосновения к источнику истины не могли оцениваться как знание, и с ними, по их оторванности, делать было нечего. Правда, они подавали смутную надежду на возможность знания; но это была именно надежда, которую подтвердить я не мог бы и самому себе. Но самочувствие мое уже выправлялось на бодрое: еще не было ясно, что можно построить свою мысль и тем менее — как ее строить,
Детям моим. Воспоминания
535
однако внутренняя уверенность уже твердила об этой возможности, и томление по мысли было деятельным и боевым.
Мне была ясною необходимость строить мысль, и толстовская аморфность представлялась смазыванием собственными рукавом только что набросанного рисунка. Однако даже приблизительно я не мог себе представить, по какому направлению должна вестись работа и откуда начинать ее; все же наличное мне известное казалось не имеющим никакого отношения к этой работе.
Между тем решение пришло, откуда его не ждал. Источником же его стал тот скепсис в отношении человеческих учений и убеждений, которым был проникнут мой отец и который был впитан с детства мною.
«Истина — жизнь,— много раз в день говорил себе я.— Без истины жить нельзя. Без истины нет человеческого существования». Это было ясно до ослепительности; но на этих и подобных утверждениях мысль останавливалась, натыкаясь каждый раз на какое-то непреодолимое препятствие.
В какой-то из дней вдруг, сам собою, задался во мне вопрос: «А как же они?» И этим вопросом стена была пробита. «Как же они, как все, кто сейчас существует на свете, кто жил до меня? Они, крестьяне, дикари, мои предки, вообще все человечество — неужели были и суть без истины? Осмелюсь ли я сказать, что все люди не имели и не имеют истины и, стало быть, не живы и даже не люди? » * * В лекционном курсе для студентов Московской духовной академии « Культурноисторическое место и предпосылки христианского миропонимания», прочитанном осенью 1921 г. в Москве, Флоренский так рассказывал о формировании своего мировоззрения в это время (студенческая запись):
«Обыкновенно личные мотивы чрезвычайно приближают то, о чем идет речь. Поэтому и я сейчас хочу рассказать вам из своей биографии. Когда стало образовываться мое мировоззрение, ход моих мыслей приблизительно был таков. Родился и вырос в вере в научное мышление. Другого мышления, кроме него, я не знал, и в него именно была вера, то есть признание его как чего-то саморазумеющегося, так что все то, что находится вне его, заведомо есть ложь. Но затем, когда я стал замечать в нем ряд неувязок и трещин и в то же время у меня началось более глубокое подхождение к жизни — преимущественно мистического характера, то у меня появилось черное настроение, подобное тому, какое изображено в “Фаусте” в начале. Вместе с тем в это же время я столкнулся с сочинениями Льва Толстого. Но меня привлекала не догматическая их сторона. Догматическое учение Льва Толстого — наивная и невежественная болтовня на богословские темы. Говорил, что если уж искать догматы, то нужно искать их, конечно, в Церкви, а не у Толстого; но конечно, и там не искал. Особенно привлекала меня его “Исповедь”. Если исключить конец, который тенденциозно написан в позднейшее время, то это — лучшее сочинение апологетического характера, которое надо бы
536
П.А. ФЛОРЕНСКИЙ
всячески распространять. Оно действует, как взрыв тяжелого огромного снаряда, и сразу уничтожает благодушное отношение к жизни. Появляется дилемма: или искать, найти Истину, или же умереть от жажды к Ней, умереть не только телесно, но и в более глубоком смысле, метафизически, хуже самоубийства. Поэтому “Исповедь” надо всячески рекомендовать, так как от нее не может быть ничего, кроме пользы. Собственное разочарование плюс действие сочинений Толстого — и я впал в величайшее внутреннее отчаяние. Это состояние продолжалось приблизительно год. Но в душе была тайная вера, что не может быть, чтобы Истины не было, что познание Ее невозможно, ведь иначе смерть, боролся духовный инстинкт, что умирать не хочется — разумеется духовное умирание. А если для жизни необходимо знать Истину, а с другой стороны, ведь было же у сотни поколений, живших раньше меня, у моих предков какое-то прикосновение к Истине,— так как не могу же я быть настолько самоуверен, чтобы думать, что мне одному только дастся Истина и что те люди, миллионы, жили хуже скотов, то, следовательно, или я ничего не получу в результате своих поисков, или же они что-то имели. А так как я не могу допустить, что я все время буду находиться в этой черной дыре, то, следовательно, Истина всегда дана была людям, и Она не есть плод научения какой-нибудь книги, не рациональное, а нечто гораздо более глубокое пстроение, внутри нас живущее,— то, чем мы живем, дышим, питаемся. А все те или иные способы выражения Ее могут быть ценны или вредны. Но это — уже надстройка над ней, нечто вторичное. Следовательно, все построения прояснить мыслителей были причастны истине, раз человечество состояло из людей, а не из скотов. Так, я не могу допустить, чтобы только у меня было чистое ядро, а у них — только видимость, шелуха. А раз все эти построения, с одной стороны, не шелуха, а с другой — все они имеют значение временное, то это есть сразу, в одно и то же время и одежда, и тело, и шелуха, и ядро, и не оно, и оно, и больше чем оно. Все эти учения были символами, истинными для их творцов, а для других — мертвой одеждой, и потому определенно вредны. Понятие символа — что всякое живое миропонимание, которое нам нужно для себя, друзей, семьи, а не для кабинета, кафедры и так далее, все это может быть только символичным.
Не может быть метафизики внешней по отношению к центру нашей жизни, которая приводила бы к Истине. Может быть только такая, которая происходит от самой Истины, отправлялась бы от нашего переживания Истины, так как нельзя от сложения фактического материала получить Истину, а если бы Она случайно получилась, то мы не могли бы Ее узнать. Методы определяются целью. И обладание этою целью делает нас различными по духовной структуре. Строй мышления определяется целью, для которой мы живем, зависит от строя духовной жизни, от того центра, к которому она обращена. Формы строя мышления есть комплекс законов, фазы че ловечности и нашего состояния, которое преходяще. “Познаете Истину, и Истина свободит вы”, свободит от рабства самому себе — объективизм законов мышления. Дух, познавая Истину и смотря на себя со стороны, перерастает самого себя, и если это раньше представлялось непонятным, то становится ясным на другой ступени. Не может быть метафизики и науки самодовлеющей: они отправляются от предмета веры, который существует и в научной мысли».
V
ФИЛОСОФСКО- РЕЛИГИОЗНОЕ ВОСПРИЯТИЕ ПАСКАЛЯ
Н. И. НОВИКОВ
О достоинстве человека в отношениях к Богу и миру
Ежели захотим мы рассматривать человека надлежащим образом во всех окрестностях его, тогда неминуемо долженствуем разобрать и то, в каких отношениях находится он ко всем вещам, вне его сущим. Но ежели рассмотрения наши ограничим и на одну только внутренность его, то и тогда без прекословия долженствуем признаться, что в природе человеческой находится много такого, что внушает в нас истинное к нему почитание и искреннюю любовь. Бессмертный дух, дарованный человеку, его разумная душа, его тело, с несравненнейшим искусством сооруженное к царственному зданию, и его различные силы суть такие вещи, которые безмерно важны и трудны для рассмотрения посредственно рачительного. Между тем человек со всеми дарованиями, находящимися в нем, тогда только является в полном сиянии, когда взираем мы на него яко на часть бесконечный цепи действительно существующих веществ.
Когда единожды во предисловии нашем изъяснились мы и обещали любезным согражданам нашим стараться мало-помалу познакомить их самих с собою, и прежде всего высокое достоинство человеческое представить понятным, то и желали б мы усердно, дабы все почтенные читатели наши с самого начала возымели сие высокое понятие о свойствах человеческих: ибо мы предполагаем, что ни единый человек не может ни мыслить, ни делать благородно, когда он, возвышаясь благородною гордостию, не будет почитать себя важною частию творения.
Правда, есть много и таких людей, которые, ослепляясь тщетною гордынею, думают о себе очень много. Но мы постараемся доказать, что таковый высокомерный горделивец ни истинныя своея цены, ни высокого достоинства человеческого отнюдь не знает и превозносится тем, что к человеческой природе или не точно принадлежит, или
540
Н. И. НОВИКОВ
составляет малейшую частицу его совершенств. Богатство и знатность рода не точно проистекают из человеческия природы; следовательно, высокомерие богача или дворянина есть смешная гордость. Но кто хочет мыслить о себе возвышенно и гордиться человеческим достоинством, тот должен рассматривать себя совсем в других видах.
Много было нравоучителей, да еще и ныне находятся между человеками пресмыкающиеся духи, которые человеческую природу столь страшно унижают, что, если бы возможно было им поверить, надлежало бы стыдиться быть человеком. Иные думают, что божественное смиренномудрие требует, дабы о человечестве иметь толь низкие понятия, и потому почитают за должность свою презрительнейшими и гнуснейшими образованиями учинить человеческую природу мерзостною и ненавистною. Но человек, себя за ничто почитающий, не может и к другим иметь никакого почтения и к обоих сих случаях являет низкость мыслей.
Вне человека находится высочайший виновник природы и весь мир. И так если мы восхотим рассматривать человека в отношении его ко всем веществам, вне его существующим, тогда долженствуем обозреть не токмо то, в каковом отношении находится он к Богу, но и сие, сколь тесно связан он со всемирным зданием.
Когда рассматриваем мы, в каком отношении человек по естеству своему находится к Богу, то всеконечно должно возыметь превосходное понятие о человеческой природе, если рассудить, что сия человеческая природа от бога проистекает, от него беспрестанно сохраняется и что он сам ее к тому употребляет, дабы открыть себя и свою славу, достойную обожания, и представить оную в мире светлейшею и блистательнейшею. Богу было бы возможно произвесть другие бесчисленные творения: бесконечно многие иные от нас отменные люди суть возможны; и мы бы вечно пребыли в нашем первом ничтожестве, если бы наш творец не преимущественно нас извел из оного своим всемогуществом. Он восхотел устроить мир, который бы его божества достоин и его премудрости приличен был. И так при сем поступил он как мудрый строитель, который лучшие дерева, лучшие каменья и проч, избирает; и потому мы надежно уверены быть можем, что понеже Бог из всех возможных веществ, которые на место нас могли бы произведены быть, преимущественно нас, как свое совершеннейшее творение, одушевить удостоил, то, следовательно, мы и были лучшее в царстве веществ, из коих господь нас предъизбрал. Всякое иное существо, сотворенное вместо нас, столько ж бы совершенно, как мы, занимало наше место в сем мире; следовательно, мы Богу были угоднее других бесчисленных веществ, им не сотворенных для того, что он нас сотворил. И если великий и премудрый монарх восхощет
О достоинстве человека в отношениях к Богу и миру
541
возложить на кого важную должность и из множества особ, ему для сего представленных, единую изберет, тогда по справедливости заключить возможно, что такое избрание той особе творит великую честь. Сколь же таковое избрание мало в сравнении со избранием всемогущего и премудрого творца! Благоразумнейший монарх во своем выборе может ошибиться: но всевидящий не может обмануться; следовательно, по справедливости можем мы то для себя великою честию почитать и тем гордиться, что Бог нас из многих других возможных веществ в человеков избрал, человеками создал и человеками сотворил. К сему еще следует, что он нас своим провидением от самого первого мгновения времени нашего бытия во веки веков сохранять хощет. Мы в тот же бы час погрузились паки в первое наше ничтожество, если бы творец нас, так сказать, не беспрестанно носил на своих дланях; если бы в наших действованиях ежечасно своим могуществом не действовал; и если б все окрест нас таким порядком не учреждал, чтобы мы беспрестанно жить могли. Когда же великий Бог, господь господей ежечасно нами упражняется, то из того единственно следует, что он непрестанно о нас помышляет, что его бдящее око беспрестанно на нас и на наши малейшие деяния обращено и что он в нас ежеминутно действует. И так предписал уже он начертание всей нашей жизни даже до будущая вечности; и таким образом учреждает все, дабы сие начертание во всех его частях совершенно точно исполнено было. Какою ж радостию и каким благородным возвышением духа сия мысль долженствует оживлять каждого человека особенно и всех совокупно, созерцающих все сие во всей важности и во всех отношениях! Колико радуются и колико гордятся служащие земному монарху, когда познают, что он об них часто воспоминает и часто уверяет о попечении своем о их благоденствии! Но сколь далеко отстоят сии воспоминания и уверения от тех, кои проистекают от существа всевысочайшего! Первые иногда бывают для некоторых только намерений, для других же позабываются и без действия остаются; да и одни неприятели наши часто разрушают все наше земное счастие: но в промысле божием о нас сего изменения не долженствуем опасаться; ибо в каждое мгновение ока приобретаем мы новые доказательства о непременной его к нам любви, милости и щедроте; даже и тогда, когда действиями нашими и не заслуживаем оных. И так сия мысль, что всевысочайшее существо беспрестанно об нас помышляет и преимущественно пред всеми другими творениями об нас печется, не долженствует ли вперять в нас почтение к самим себе? Сие всевысочайшее и милосердое существо никогда не позабывает и никогда не теряет нас из вида между бесчисленным множеством тварей. Он, яко всеведущий, может помышлять о всем; яко всемогущий, может
542
Н.И. НОВИКОВ
обо всем пещися; яко сущая любовь и милость, изливает благодеяния избраннейшему творению своему, даже что и бесстуднейшая неблагодарность человеческая от сего не отвращает.
Какое отношение может с тем сравняться, в котором мы, человеки, находимся, как человеки, к нашему Богу, к нашему создателю, к нашему отцу? Познайте же, любезные сочеловеки сего мира, величие и достоинство, которыми вы в сем отношении превознесены. Мы уверены, что вы чувствуете в сердцах ваших ощущения, приличные сему вашему достоинству.
Очевидно, что Бог нас сотворил и содержит для того, дабы нами свое величество, силу, славу и премудрость вселенной предъявити. Мы дело рук его; а дело превозносит творителя своего. Когда мы совершеннейшие из всех веществ, которые бы могли вместо нас сотворены быть, то Бог поступил бы противу собственный своея чести, если бы он вместо нас другое что сотворил. А если мы такие творения, которых виновник естества сам почел достойными поместить на чреду своих величайших и славнейших деяний, то для чего же сие не должно нам дать достопочтеннейшего и преимущественнейшего вида во всех окрестностях творения?
Могут сказать, что все здесь о нашем отношении к Богу говоренное может быть сказано и о червяке, который в наших глазах есть презреннейшее творение; и, следовательно, непонятно, как сия мысль в нас, человеках, такие высокие помышления о самих себе внушить удобна? Неоспоримо, что все твари в равном отношении к Богу в рассуждении их бытия и сохранения состоят; но сии суть против разумных тварей несмысленные и разумным подчиненные творения. Человеки, как разумное существо, принадлежат ко классу творений первого степени; следовательно, что о всех тварях сказано быть может, то преимущественно и прежде о человеках должно быть сказано. С нашим предметом не согласно выискивать из высочайшей феологии основания к доказательству того, что Бог человеков преимущественно своея любви и почитания пред всеми другими тварями предпочтил. Сверх сего, мы не хотим сими мыслями человеков возгордить. Гордый все окрест себя презирает и хочет единый имети все, что имя чести носит. Но благородная гордость думает о себе возвышенно, присвояет себе честь, соразмерную своему существу, а притом и о других думает высоко и от всего сердца готова им такую же честь, или еще и большую, приписывать, когда того истина требует.
Если теперь рассмотрим, в каком отношении состоят человеки по своему естеству ко прочим тварям и к остатку всего мира, то предположим, что все вещества в мире таким образом друг со другом соединены, как реки с океаном, которые попеременно свои воды друг
О достоинстве человека в отношениях к Богу и миру
543
другу сообщают. Всякая вещь в мире есть цель всех других и средство ко всем другим.
Если человеков почтем за цель всего мира, то как великолепно поставлены они в оном, как средоточие в сей окрестности творения; как владыки мира, как божества, для коих солнце сияет, звезды блистают; которым звери служат; для которых растения зеленеют, процветают и плоды приносят. Человеки премущественно пред другими творениями имеют по естеству своему возможность мир себе представлять, об оном размышлять и рассуждать. И так можно их почитать за властителей, для коих некто театр со всеми махинами великолепно устроил, оперу сочинил и оную действительно представляет, дабы и очи и ушеса сих властителей увеселены были. Весь мир есть сей театр, а человеки суть зрители сего мира, которые должны, оный созерцая, веселиться и всяческие выгоды из оного извлекати; да и надежно сказать возможно, что Бог весь мир для каждого человека устроил таким, каков он есть, а не иначе. Исполнен сею мыс- лию, ступай во время прекрасного летнего вечера во приятный сад прогуливаться; тогда поистине о себе не низкие мысли возымеешь. Увидишь, как нам и небо и земля свои услуги оказуют; как они нас ущедряют и рачительно платят нам должную дань; луна освещает нам зрелище природы; звезды украшают своды небесные; зефир, шумящий древесами, веет нам благоуханием, собранным со цветов; бдящий соловей увеселяет пением наш слух; словом, вся тварь стремится к нам, дабы доставити или выгоду какую, или удовольствие. И так человеки могут, по благоугождению своему, всем царствовать и всем учреждать, а из прочего, что не в их власти состоит, могут они себе, по крайней мере когда восхотят, почерпать увеселение. И потому всякий человек может некоторым образом сказать сам в себе: весь мир мне принадлежит.
Если же мы воззрим на человека как на средство всех прочих вещей сего мира, то и по сему не меньших же мыслей должны мы быть о нем. Если бы люди были токмо единою целию всех вещей сего мира, а притом не были б средством оных, то были бы они подобны шмелям, которые у трудолюбивых пчел поядают мед, а сами оного не делают. Тщетная честь! бедное достоинство, которое людей равняло б со сви- ниями, проядающими все время жизни своея и в сластолюбии валяющимися во грязи и которые уже после смерти становятся средством. Истинные человеки не должны тако проводити жизнь. Если они хотят быть властителями мира и достойными почтения, то да будут подобны достопочтенным монархам, которые себя отцами отечества своим сочеловекам оказывают и которые то думают, что чем важнее и достойнее почтения сан в общежитии, тем более особа, облеченная
544
Н. И. НОВИКОВ
в оный, долженствует отечеству служить и быть полезною. Какое величие! какое достоинство! какое превосходство! Всякий в государстве ли, в земле ли какой или во граде живущий человек, почитая себя средством, долженствует своему отечеству и каждому своему сочеловеку служить и быть полезен. Какое благородное упражнение, какое гармоническое велелепие, какая искренняя любовь, верность, честность и справедливость в таковых местах будут встречаться на улицах! И когда единое сие воображение вливает ужо во все наши жилы сладчайшее чувствие удовольствия, то что ж бы было, если бы сие в самом деле исполнялось? если бы всякий человек по величию своего достоинства поступал? — И так если люди будут почитать себя за средство всех вещей сего мира, то, не согрешая, могут думать, что они в оном много значат и что остатку прочего света в них великая нужда: собственная польза сего мира требует оного. Мир и все прочие творения, исключая человеков, не могли бы никоим образом так быть совершенны и столь бы хорошо им не было, если бы мы не были человеками, как теперь они то обретают, когда мы человеки.
Сия последняя мысль открывает нам в человеческой природе еще особливую сообразность с Богом, которая придает ей совершенно достопочтенный вид. Бог никоим образом от вещи вне себя не может иметь пользы: ибо он сам в себе столь совершен, что ему самого себя для себя довольно и не имеет нужды ни в какой вещи. Он, напротив того, сам всесовершенно полезнейшее существо, сотворяет все твари совершенными, сколько возможно, и, им всем всяческое благо уготовляя и подая, оным утверждает их благоденствие единственно только для них, а не для себя. Здесь да вообразит себе каждый из человеков, которые по достоинству человеческому живут, как цари мира, себя средством почитают, окрест себя только единое устрояют благо, во всех частях себя до совершенства довести стараются и всякое благодеяние чинят не из какого другого намерения, как только из единого удовольствия творить добро; таковые человеки да возымеют том более божественное мнение о себе самих, чем более они исполнением сего своего царственного достоинства всевысочай- шему божеству уподобляются. И так человеки, почитаемые средством, суть более, нежели когда бы они только почитаемы были единою целию, или средоточием, для которого все вещи на свете пребывают.— И так при толико ясных доказательствах и истинах нужно лишь нам желать искренно благосклонным читателям нашим неутомимого наблюдения и сохранения величия их достоинства.
А. С. ХОМЯКОВ
Несколько слов православного христианина о западных вероисповеданиях
По поводу брошюры г. Лоранси
Издателю сочинений г. Вине
Милостивый государь, в борьбе религиозных мнений, которые существуют в Европе, не слышно голоса восточной Церкви. Молчание ее весьма естественно, так как все органы, через посредство которых высказывается европейская мысль (разумея под этим писателей и издателей), принадлежат или к римскому, или к различным протестантским исповеданиям. Желая в меру сил моих восполнить этот пробел в общей области религиозной мысли, но не имея ни с кем сношений вне моего отечества, я решаюсь обратиться к вам, м. г., с просьбою взять на себя издание небольшой мною написанной брошюры, касающейся некоторых религиозных вопросов. Смею надеяться, что при всем различии в мнениях между вами и мною издатель творений г. Вине (человека, которого высокий ум и благородная, чистая душа, может быть, нигде так искренно не ценятся, как в России) не откажет мне в том, что кажется мне делом справедливости, притом таким делом, которое удостоилось бы одобрения этого великого проповедника евангельского слова.
Вместе с этим письмом, которое дойдет до вас через Оксфорд или Лондон, вы получите рукопись, о напечатании которой смею вас просить, и вексель на покрытие расходов по изданию.
Я не скрываю от себя, что мое обращение к вам может показаться странным; но на случай, если вы благоволите принять поручение, которое осмеливается возлагать на вас неизвестный, позвольте попросить вас также доставить несколько экземпляров моего сочинения по прилагаемым адресам.
Примите, м. г., уверение в признательности, на которую право я заранее признаю за вами, и вместе в глубоком уважении, с коими честь имею быть вашим покорнейшим слугою.
Неизвестный.
Мая 7 (стар, ст.) 1853. Россия
546
A.C.ХОМЯКОВ
Когда возводится клевета на целую страну, граждане этой страны имеют право за нее заступиться; но столько же они имеют в права промолчать, предоставив времени оправдание их отечества. Оно ничего не потеряет от их молчания, тем более что в лице своего правительства и официальных своих представителей каждая страна пользуется защитою власти, на которой лежит обязанность блюсти ее достоинство и оборонять ее интересы. Человечество также не может понести никакого ущерба от более или менее лживых обвинений, взводимых на страну или народ невежеством или недоброжелательством.
Иное дело в области веры или Церкви. Как откровение Божественной истины на земле, будучи предназначена по самому существу своему сделаться общим отечеством для всех людей, Церковь ни одному из чад своих не разрешает молчания перед клеветою, против нее направленною и клонящеюся к извращению ее догматов или ее начал. Область государства — земля и вещество; его оружие — меч вещественный. Единственная область Церкви — душа; единственный меч, которым она может пользоваться, который и врагами ее может быть с некоторым успехом против нее обращаем, есть слово. Поэтому каждый из членов Церкви не только может по праву, но несет обязанность отвечать на клеветы, которым она подвергается. Молчание было бы преступлением не только по отношению к тем, которые пользуются счастием принадлежать к Церкви, но также, и в еще большей степени, по отношению к тем, которые могли бы им обладать, если бы ложные представления не отклоняли их от истины. Всякий христианин, когда до него доходят нападки против веры, им исповедуемой, обязан в меру своих познаний оборонять ее, не выжидая особого на то уполномочия: ибо у Церкви нет официальных адвокатов.
В силу этих соображений берусь и я за перо, чтоб отвечать, перед иностранными читателями и на чужом для меня языке, на несправедливое обвинение, направленное против соборной и православной Церкви *.
В статье, напечатанной в «Revue des Deux Mondes» 1 и писанной, как кажется, русским дипломатом г. Тютчевым2, указано было на главенство Рима и в особенности на смешение в лице епископа- государя интересов духовных с мирскими как на главную причину, затрудняющую разрешение религиозного вопроса на Западе. Эта * В переводе Гилярова вместо «соборной» стояло «вселенской», в оригинале — catolique; о хомяковском понимании этого термина см. «Письмо к редактору “L’Union chrétienne” о значении слов “кафолический” и “соборный”. По поводу речи о. Гагарина, иезуита».
Несколько слов православного христианина о западных вероисповеданиях 547
статья вызвала в 1852 году* ответ со стороны г. Лоранси, и этот-то ответ требует опровержения.
Я оставлю в стороне вопрос о том, успел ли г. Тютчев в статье своей, достоинства которой не оспоривает даже и критик его, выразить мысль свою во всей ее широте и не смешал ли он, до некоторой степени, причины болезни с ее внешними признаками **. Не стану ни заступаться за моего соотечественника, ни критиковать его. Единственная цель моя: оправдать Церковь от странных обвинений, взводимых на нее г. Лоранси, и потому я не переступлю пределов вопроса религиозного. Желал бы я прибавить: «...и избежать встречных обвинений», но не могу. Мои путешествия по чужим странам и беседы с людьми просвещенными и даже учеными всех вероисповеданий, существующих в Европе, убедили меня в том, что Россия доселе остается для западного мира страною почти неведомою; но еще более неведома христианам, следующим за знаменем римским или за хоругвью Реформы, религиозная мысль сынов Церкви. Поэтому, чтоб дать возможность читателям понять нашу веру и логичность ее внутренней жизни, мне необходимо будет до некоторой степени показать им, в каком свете представляются нам вопросы, о которых спорят между собою Рим и различные германские общины. Я даже не могу дать обещания избегать неприязненности в выражении моей мысли; нет. Но я постараюсь быть справедливым и воздержаться от всякого обвинения не только похожего на клевету, но даже такого, которого основательность была бы сомнительна. А затем, я вовсе и не гонюсь за честью прослыть равнодушным к тому, что считаю заблуждением.
Г. Лоранси взводит на Церковь два существенных обвинения. Первое заключается в том, будто бы она признает над собою временного главу, и на этом основании проводится между римским исповеданием и православною Церковью сравнение, обращающееся, естественно, не в нашу пользу. «Папа,— говорит автор,— есть действительно государь светский, но не потому, что он первосвященник; а ваш владыка есть первосвященник, потому что он государь светский. На чьей же стороне истина?» Я не привожу подлинных, несколько растянутых выражений автора, но верно передаю их смысл. Прежде * Неточность: брошюра Лоранси суммировала его более ранние выступления, начиная с 1850 г.
** Здесь сказалась одна из характерные особенностей мировоззрения Хомякова: его убеждение, что рассматривать в одной плоскости жизнь Церкви и жизнь политическую — недопустимо, как это делает Тютчев,— т. к. от направления веры зависит направление истории, но не наоборот. Изложение богословских идей Хомякова идет без опоры на идеи исторические, но исторические опираются на богословские.
548
A.C. ХОМЯКОВ
всего замечу мимоходом, что слово первосвященник чрезвычайно знаменательно и что латиняне поступили бы благоразумно, перестав употреблять его. Оно слишком ясно указывает народословную многих понятий, которых происхождение от христианства более чем сомнительно *. Еще Тертуллиан3 замечал это и употреблял выражение pontifex maximus ** в смысле ироническом ***. Затем, на первое обвинение, предъявленное г. Лоранси, я отвечаю просто: оно сущая неправда; никакого главы Церкви, ни духовного, ни светского, мы не признаем. Христос ее глава, и другого она не знает. Поспешаю оговорить, что я отнюдь не обвиняю г. Лоранси в намеренной клевете. По всей вероятности, он впал в заблуждение невольно, и я тем охотнее готов этому поверить, что много раз иностранцы при мне высказывали то же заблуждение; а между тем, казалось бы, малейшее размышление должно бы было разъяснить его. Глава Церкви! Но позвольте спросить, хоть во имя здравого смысла, какой же именно Церкви? Неужели Церкви православной, которой мы составляем только часть? В таком случае, император российский был бы главою Церквей, управляемых патриархами. Церкви, управляемой греческим Синодом, и православных Церквей в пределах Австрии? Такой нелепости не допустит, конечно, и самое крайнее невежество. Или не глава ли * Лат. Pontifex означает, собственно, «жрец»; но греч. «иерей» означает буквально то же самое.
** Верховный жрец (лат.) (прим, автора).
*** Тертуллиан употребляет выражение Pontifex maximus в своем сочинении «О стыдливости» действительно в ироническом контексте, но предмет иронии не имеет отношения к папе Римскому: «Слышал я об издании постановления, да еще и окончательного, что издал верховный жрец Pontifex maximus, то есть Епископ епископов Episcopus episcoporum: Я и прелюбодеяния, и блудодеяния прегрешения, по совершении покаяния, отпускаю» Depudicitia, 1,6, Tenullien. De paeniientia — De pudicitia / Ed. P. de Labriolle, P., 1906. P. 54 (Textes et documents pour l’etude du Christianisme). Ирония относится к претензии епископа самому отпускать грехи, которая, по-видимому, заявлена в проци тированной форме постановления (в действительности здесь мог быть просто определенный способ выражения, аналогичный разрешительной молитве современного Славянского чина исповеди: как известно, гиперкритицизм Тертуллиана в подобных вопросах кончился для него ересью). Титул « Епископ епископов» применялся в латинской Африке аналогично титулу архиепископа или митрополита, а выражение Pontifex maximus применительно к христианскому епископу здесь фиксируется впервые.
Адресат не идентифицируется достаточно точно, но, очевидно, имеется в виду какой-то епископ Африки. (Подробнее об этом см.: Dekkers Е. о. s. b. Terui lianus en de geschiedenis der liturgie, Brussel; Amsterdam, 1947, S. 227-230, insb. 228-229 (Cathohka. VI-21).) Первоисточник едва ли был знаком Хомякову. Подобная антипапская передержка может восходить к более знакомой ему протестантской полемической литературе.
Несколько слов православного христианина о западных вероисповеданиях 549
он одной русской Церкви? Но русская Церковь не образует по себе особой Церкви: она не более как одна из епархий Церкви вселенской. Стало быть, надобно предположить, что императору присвоивается титул собственно епархиального главы, подчиненного юрисдикции общецерковных соборов. Тут нет середины. Кто непременно хочет навязать нам в лице нашего государя видимого главу Церкви, тому предстоит неизбежный выбор между двумя нелепостями.
Светский глава Церкви! Но этот глава имеет ли права священства? Имеет ли он притязание, не говорю уже на непогрешимость (хотя она- то и составляет отличительный признак главенства в Церкви), но хотя бы на какой-нибудь авторитет в вопросах вероучения? По крайней мере, имеет ли право решать, в силу присвоенной его сану привилегии, вопросы общецерковного благочиния?
Если ни на один из этих вопросов нельзя дать утвердительного ответа, то остается лишь подивиться полному отсутствию рассудительности, при котором только и могла явиться у писателя смелость бросить в нас обвинение столь неосновательное, и всеобщему невежеству, пропустившему это обвинение, не подвергнув его заслуженному осмеянию. Конечно, во всей Российской империи не найдется купца, мещанина или крестьянина, который, услышав подобное суждение о нашей Церкви, не принял бы его за злую насмешку.
Правда, выражение глава местной Церкви употреблялось в законах империи; но отнюдь не в том смысле, какой присвоивается ему в других землях; и в этом случае разница так существенна, что непозволительно обращать это выражение в орудие против нас, не попытавшись, по крайней мере, понять предварительно его значение. Этого требует справедливость и добросовестность.
Когда, после многих крушений и бедствий, русский народ общим советом избрал Михаила Романова4 своим наследственным государем (таково высокое происхождение императорской власти в России), народ вручил своему избраннику всю власть, какою облечен был сам, во всех ее видах. В силу избрания, государь стал главою народа в делах церковных, так же как и в делах гражданского управления; повторяю: главою народа в делах церковных и, в этом смысле, главою местной Церкви, но единственно в этом смысле. Народ не передавал и не мог передать своему государю таких прав, каких не имел сам, а едва ли кто-либо предположит, чтоб русский народ когда-нибудь почитал себя призванным править Церковью. Он имел изначала, как и все народы, образующие православную Церковь, голос в избрании своих епископов, и этот свой голос он мог передать своему представителю. Он имел право или, точнее, обязанность блюсти, чтобы решения его пастырей и их соборов приводились в исполнение; это право он мог доверить своему избраннику и его
550
А. С. ХОМЯКОВ
преемникам *. Он имел право отстаивать свою веру против всякого неприязненного или насильственного на нее нападения; это право он также мог передать своему государю. Но народ не имел никакой власти в вопросах совести, общецерковного благочиния, вероучения, церковного управления, а потому не мог и передать такой власти своему царю. Это вполне засвидетельствовано всеми последующими событиями. Низложен был патриарх **; но это совершилось не по воле государя, а по суду восточных патриархов и отечественных епископов. Позднее на место патриаршества учрежден был Синод; и эта перемена введена была не властью государя, а теми же восточными епископами***, которыми с согласия светской власти патриаршество было в России установлено. Эти факты достаточно показывают, что титул главы Церкви означает народоначальника в делах церковных; другого смысла он в действительности не имеет и иметь не может; а как только признан этот смысл, так обращаются в ничто все обвинения, основанные на двусмыслии.
Но не подслужится ли нашим обвинителям история Византии уликами, которых не дает им история русская? Не вздумают ли они потребовать от Византии оправдания придаваемого ими императору титула главы Церкви в самом широком значении этого слова? В самом деле, не передала ли нам Византия вместе с государственным гербом своим и с императорским титулом и верование в светского главу Церкви? **** Не предположить ли за один раз, что это верование подкрепляется ука* Хомяков не приводит и не мог бы привести никакого канонического или богословского обоснования этому рассуждению. «Народный избранник» — Царь — получает здесь у него те самые функции, которые канонически принадлежат епископу (но не в силу факта избрания, а в силу благодати Духа Святого, следующей за избранием в таинстве рукоположения). Поместный собор русской Церкви 1917-1918 гг. признал синодальную систему управления, которую пытается здесь оправдать Хомяков, неканонической и отменил ее, восстановив патриаршество. Однако в системе Хомякова все это рассуждение не представляет никакой натяжки, т. к. и понимание власти епископа у него чисто внешнее: то, что он понимал под служением епископа, легко могло быть — тем более, частично — атрибутировано другому выборному лицу.
** Никон на Московском соборе 1666-1667 гг.
*** Подразумевается признание Синода Восточными патриархами (1721), полученное благодаря настойчивости Петра I, который слыл на православном Востоке защитником веры и действительно так себя там проявил (и все же, «восточные епископы» были поставлены перед фактом, свершившимся именно «властью государя»).
**** g Византии тенденция сблизить царскую власть с патриаршей возникла не за счет «принижения» последней, как следует из рассуждения Хомякова, а наоборот: введенный в VII в. чин венчания на царство постепенно начинает рассматриваться наравне с епископской хиротонией; эта тенденция выражена особенно резко у канониста XII в., патр. Антиохийского Феодора Вальсамона, но она осталась чуждой святоотеческому Преданию.
Несколько слов православного христ ианина о западных вероисповеданиях 551
занием на того из Палеологов5, которого отчаяние и желание купить помощь от Запада ввергли в отступничество? * Или на исаврийцев6, которые своими подвигами восстановили военную славу империи, но вовлечены были в ересь своею худо направленною ревностью и слепою самоуверенностью (за что, конечно, протестантские историки нашего времени не упустили их похвалить)? ** Или на Ираклия7, который спас государство, но открыто защищал монофелизм? *** Или, наконец, на самого сына Константинова, того Констанция8, чья железная рука смяла папу Либерия9 и сама сокрушилась о святую неустрашимость епископа Александрийского? **** От Византии заимствовали бы мы учение, в силу которого следовало бы призвать главами Церкви всех этих царей-еретиков, царей-отступников, и еще многих других царей, которых патриархи отлучали за нарушение правил церковного благочиния! На обращенный к ней вопрос о мнимом главенстве история Восточной Империи отвечает еще яснее, чем русская, и ответ ее таков, что нам нет причины отрицать преемство византийской мысли. Мы думаем и теперь, так же как и греки, что государь, будучи главою народа во многих делах, касающихся Церкви, имеет право, так же как и все его подданные, на свободу совести в своей вере и на свободу человеческого разума; но мы не считаем его за прорицателя, движимого незримою силою, каким представляют себе латиняне епископа Римского. Мы думаем, что, будучи свободен, государь, как и всякий человек, может впасть в заблуждение и что если бы, чего не дай Бог, подобное несчастие случилось, несмотря на постоянные молитвы сынов Церкви, то и тогда император не утратил бы ни одного из прав своих на послушание своих подданных в делах мирских; а Церковь не понесла бы никакого ущерба в своем величии и в своей полноте: ибо никогда не изменит ей истинный и единственный ее Глава. В предполо* Таких императоров из династии Палеологов было два: Михаил VIII, заключивший в 1274 г. Лионскую унию, и Иоанн VI, заключивший в 1439 г. Флорентийскую.
** Император Лев II Исавр ок. 730 г. ввел в качестве официальной церковной доктрины ересь иконоборчества и начал преследование православных. Похвалы протестантских историков объяснялись отрицанием в протестантизме икон и святых мощей.
*** Император Ираклий одержал победу в опаснейшей войне с персами (628), но в 20-е гг. ввел ересь монофелитства (учение, отрицавшее в Христе человеческую волю, считая, что, соединившись с Божественной, она не имеет собственного существования).
**** Сын св. равноапостольного императора Константина Констанций во время своего правления (340-361) утверждал ересь арианства (учение о тварности Сына и, тем более, Духа в Св. Троице); главным обличителем арианства выступил в это время Св. Афанасий Александрийский. Борьба Св. Афанасия с арианством часто вспоминается Хомяковым, что происходило, вероятно, под впечатлением исследования Мелера на эту тему.
552
А. С. ХОМЯКОВ
женном случае одним христианином стало бы меньше в ее лоне — и только. Другого толкования Церковь не допускает; но смолкнет ли перед ним клевета? Опасаюсь, что нет. Повторение клеветы представляет своего рода выгоды, и, чтобы не лишиться их, недоброжелательство, пожалуй, напустит на себя притворное невежество, вдобавок к действительному (а в иных случаях, нет недостатка и в последнем). Оно, пожалуй, возразит нам императорскою подписью, прилагаемою к постановлениям Синода, как будто бы право обнародования законов и приведения их в исполнение было тождественно с властью законодательною. Оно возразит нам еще влиянием государя на назначение епископов и членов Синода, заменившего патриаршество, как будто бы в древности избрание епископов, не исключая и римских, не зависело от светской власти (народа или государя), и как будто бы, наконец, и в настоящее время, во многих странах римского исповедания такая зависимость не встречалась довольно часто*. Трудно угадать, какие еще отводы может изобрести злонамеренность и недобросовестность; но после сказанного мною люди совестливые (к числу которых, я в этом уверен, принадлежит и г. Лоранси) не позволят себе повторять обвинение, лишенное всякого основания и смешное в глазах всякого человека беспристрастного и просвещенного. Не так легко опровергнуть второе обвинение на Церковь, взведенное г. Лоранси: ибо оно основано не на факте, а на предполагаемом направлении. Нас обвиняют в стремлении к протестантству. Я оставляю в стороне вопрос о том, не противоречит ли это второе обвинение первому? — ибо теперь, когда уже доказана несостоятельность первого, несовместность его со вторым не может служить доводом в нашу пользу. Я приступлю к вопросу прямо, не уклоняясь ни от каких доводов, правдоподобных или хотя бы имеющих вид правдоподобия, которыми бы могли воспользоваться наши противники; ответ на них даст мне случаи разъяснить хотя отчасти слишком превратно понимаемый характер православия. Но предварительно не могу не предложить вопроса, кажется, нового, или по крайней мере, сколько мне известно, вполне еще не исследованного. По какой причине протестантство, оторвав у папизма половину, или без малого половину его последователей, замерло у пределов мира православного? ** Нельзя объяснить этого факта племенными особенностями; ибо кальвинизм до* Я говорю только о принципе, притом — с точки зрения Церкви, а не о применении, которое, как и все на свете, может быть во многих случаях недостаточно и ли не чуждо злоупотреблений. (Прим, автора. )
** Этот аргумент вызвал подробное возражение П. С. Лоранси (Laurentie P.-S. Le Pape el le Czar, Paris. 1862). В работе этой, написанной уже в форватере публицистики кн. И. Гагарина, рассказ о русских народных сектах и суевериях предлагался как доказательство того, что в России отсутствует настоящее церковное управление.
Несколько слов православного христианина о западных вероисповеданиях 553
стиг значительного могущества в Чехии, в Польше, в Литве, в Венгрии и внезапно остановился не перед другим племенем, а перед другою верою. Над этим вопросом стоило бы мыслителям призадуматься.
Предполагаемое стремление Церкви к протестантству может быть исследовано только в области начал; но прежде чем я приступлю к рассмотрению внутренней логики православного вероучения и покажу совершенную несовместность ее с обвинением, предъявленным г. Лоранси (а до него бесчисленным множеством писателей одной с ним веры), считаю небесполезным рассмотреть исторический факт.
Западный раскол (читатели позволят мне употребить это выражение, ибо иного совесть моя не допускает*) насчитывает, пожалуй, уже более тысячи лет существования**. Отчего же с этого времени Церковь, управляемая патриархами, не породила своего, доморощенного протестантства? Отчего, по крайней мере, не обнаружила она до сих пор решительного влечения к какой-либо реформе? На Западе дело шло скорее. Едва протекло три века, как уже предтечи Лютера и Кальвина выступали вперед с поднятым челом, самоуверенною речью, определенными началами и установившимися учениями. Не станет же серьезная полемика возражать нам указанием на ереси и расколы, возникшие в России. Конечно, мы горько оплакиваем эти духовные язвы нашего народа; но было бы крайне смешно жалкие порождения невежества, а еще более неразумной ревности к сохранению каких-нибудь старинных обрядов, сопоставлять протестантству ученых предтеч Реформы; ибо я говорю не о кафарах10 или младенцах, явившихся на Юге, не о пиккардийцах и лоллардах***11, явившихся на Севере, но о людях, которые, как Окгам12, или Виклеф13, или бессмертный Гус14, совмещали в себе всю современную им ученость и могли смело вступать в состязание со всеми богословскими снарядами Рима, не боясь никаких поражений, кроме, разумеется, тех, которые * Хомяков выворачивает наизнанку обычный в западной литературе термин «восточный раскол», вместо того чтобы дать французскую кальку с какого- нибудь русского или греческого выражения: «латинство», «папизм», «ересь папистов», «латинская ересь»; в официальных русских документах слово «ересь» в послепетровское время стали пропускать, т. к. обличение западных исповеданий в России было запрещено.
** Хомяков считает не с официальной даты разрыва (1054), а с введения латинянами прибавления к Символу веры, что произошло, по его рассуждению, прежде, чем Св. патриарх Фотий выступил в 860-е гг. с обличением этого. В переводе Гилярова к этому предложению было прибавлено окончание: « ...принимая за начало его действительное, хотя еще окончательно и не заявленное, отпадение Запада».
*** Перечислены распространенные в средневековой Европе мистические секты, отрицавшие официальную Церковь.
554
A.C. ХОМЯКОВ
могла нанести им рука светской власти. Я говорю о людях, которые, умирая не хуже христиан первых веков, с высоты победных костров обращали к палачам своим слова, проникнутые святою и нежною любовию: “Sancta simplicitas” * — и этим самым провозглашали, что не в невежестве искали они для себя орудий и не на нем воздвигали здание своей веры. Как же могло случиться, что Восток, при предполагаемом в нем стремлении к протестантству, не произвел ни подобных людей, ни подобных религиозных движений? Не припишут ли этого несчастной судьбе Восточной Империи? Если не ошибаюсь, такое объяснение было уже предположено гр. де Местром**15; но оно, конечно, никого не удовлетворит, за исключением разве самых поверхностных умов. Византийская Империя, и после времен папы Николая I16 насчитывала довольно ясных дней и славных эпох; достаточно указать на целый ряд побед, одержанных над сарацинами ***, перед которыми в те времена трепетала Европа17. К тому же, при некотором понимании умственного характера греков, нельзя и предполагать, чтобы политика могла когда-либо отвлечь их от вопросов веры. Не припишут ли отсутствие протестантского стремления невежеству Востока? Но и после девятого века Греция выставила немало великих ученых, проницательных философов и глубокомысленных богословов; Запад многим им обязан и, кажется, мог бы о них помнить****. Затем, эта русская держава в постепенном ее вырастании, конечно, представляла довольно простора для новых учений. Разве предположить в ней равнодушие к вере? Пожалуй, и такое объяснение можно пустить в ход, и, вероятно, большинство читателей удовлетворится им; тем не менее, оно будет совершенно ложно. У нас интерес религиозный преобладает над всем; в этом не усомнятся ни те, которым случалось присутствовать на оживленных спорах, ежегодно происходящих на большой Кремлевской площади, ни те, которым известно, что иностранных путешественников допетровских времен приводило * Святая простота (лат.). (Прим, автора.)
Слова Гуса, обращенные к старушке, бросавшей вязанку хвороста на его костер.
** Такова главная мысль 1-6 гл. (кн. IV трактата Ж. де Местра «О папе» (Maistre J. de. Du Pape. 2-me ed. Bruxelles. 1844. T. 11. P. 1-28).
Специально об учении де Местра относительно еретичности любой «схизмы» от папы см.: Jugie М. Joseph de Maistre et le schisme greco-russe / Echos d Orient, T. 21 (1922), P. 129-161.
*** Во второй половине X — начале XI вв.
**** Аргумент выдает смутность хомяковских представлений об интеллектуальной жизни поздней Византии. Запад мог считать себя «обязанным» греческим интеллектуалам, эмигрировавшим туда в XIV-XV вв. и сильно повлиявшим на ренессансные процессы; но эти греки принимали латинство.
Несколько слов православного христианина о западных вероисповеданиях 555
в изумление деятельное участие народа на всех перекрестках Москвы в религиозных прениях, возникших между северною и южною Россиею о священнодействии Евхаристии*. Итак, обвинение в стремлении к протестантству решительно опровергается свидетельством истории. Таким опровержением, может быть, удовлетворились бы люди, слывущие практическими по преимуществу, те люди, которые не признают в области возможного ничего такого, что бы не было повторением былого, и видят в истории не более как ряд плеоназмов; но, по-моему, это опровержение еще недостаточно. Известное начало могло быть парализовано историческими фактами, не высмотренными или не оцененными в меру их действительной важности теми бесчисленными, невесомыми силами, которыми приводятся в движение крупные народные массы и которых современники движения часто не видят. Обыкновенно в подобных случаях неведение современников переходит по наследству к их потомкам, и оттого историки, чтоб выпутаться как-нибудь из затруднений в объяснении прошедшего, так часто призывают на помощь «слепую случайность» материалистов, или «роковую необходимость», по учению немецких идеалистов, правящую судьбами человечества, или, наконец, «божественное вмешательство» религиозных писателей. В сущности, во всех этого рода объяснениях почти всегда выражается не иное что, как сознание в умственной несостоятельности: ибо, если, с одной стороны, нельзя по справедливости не признавать путей Промысла во всем ходе истории, то с другой — неразумно и даже едва ли сообразно с христианским смирением брать на себя угадывание мгновений непосредственного действия воли Божией на дела человеческие. Как бы то ни было, в области религиозных идей отсутствие того или другого факта, хотя бы оно длилось несколько веков кряду, оправдывает только догадку, более или менее правдоподобную, что и самого стремления к такому факту нет в этих идеях, но отнюдь еще не доказывает невозможности факта в будущем. Чтобы в этом убедиться окончательно и возвести историческую вероятность на степень логической достоверности, нужно вывести эту невозможность из самого религиозного принципа.
Что такое протестантство? Скажут ли, что отличительность его в самом акте протеста, предъявленного по вопросу веры? Но если так, то протестантами были бы апостолы и мученики, протестовавшие * Имеется в виду полемика (конец XVII в.) с западнорусскими учеными и иерархами, учившими о пресуществлении Святых Даров не наитием Св. Духа (эпиклезой), аустановительными словами Христа («Примите и идите...»). Это латинское по происхождению учение отвергалось византийскими Отцами еще в XIV XV вв. и было проклято как «хлебопоклонная ересь» на Московском соборе 1690 и Константинопольским 1691 гг.
556
А. С. ХОМЯКОВ
против заблуждений юдаизма18 и против лжи идолопоклонства; все Отцы Церкви были бы протестанты, ибо и они протестовали против ересей; вся Церковь постоянно была бы в протестантстве, ибо и она, постоянно, во все века, протестует против заблуждений каждого века. Ясно, что слово протестант не определяет ничего. Не заключается ли сущность протестантства в свободе исследования? Но апостолы свободное исследование дозволяли и заповедовали; но святые Отцы свободным исследованием защищали истины веры (свидетель, в особенности, великий Афанасий19 в геройской борьбе своей против арианства); но свободное исследование, так или иначе понятое, составляет единственное основание истинной веры. Правда, римское исповедание, по-видимому, осуждает свободу исследования; но вот человек, исследовав свободно все авторитеты Писания и разума, пришел к признанию всего учения латинян; отнесутся ли они к нему как к протестанту? Или еще нагляднее: другой человек, воспользовавшись тою же свободою исследования, убедился в том, что только догматические определения пап непогрешительны и что остается лишь покориться им,— осудят ли его как протестанта? А между тем, не путем ли свободного исследования пришел он к этому убеждению, которое неизбежно должно заставить его принять сполна все учение? Поэтому всякое верование, всякая смыслящая вера, есть акт свободы и непременно исходит из предварительного свободного исследования, которому человек подвергает явления внешнего мира или внутренние явления своей души, события минувших времен или свидетельства своих современников. Смею сказать более: и в случаях исключительных, когда глас самого Бога непосредственно взыскивал и воздвигал душу падшую или заблудшую, душа повергалась ниц и поклонялась, опознав предварительно Божественный голос; и здесь начало обращения в акте свободного исследования. В этом отношении христианские исповедания отличаются одно от другого только тем, что некоторые из них разрешают исследование всех данных, другое же ограничивают число предметов исследования. Приписывать право исследования одному протестантству значило бы возводить его на степень единственно смыслящей веры; но это, конечно, было бы не по вкусу его противникам, и все мыслители сколько-нибудь серьезные отклонят такое предположение. Спрашивается наконец: не в Реформе ли, не в акте ли преобразования, искать первоистоков протестантства? Но ведь и Церковь постоянно реформировала свои обряды и правила*, и никому не приходило на мысль назвать ее ради Отмечено цензором в 1868 г. Только на рубеже XIX и XX вв. с развитием исторической литургики, эта мысль Хомякова сделалась привычной.
Несколько слов православного христ ианина о западных вероисповеданиях 557
этого протестантскою. Стало быть, протестантство — это не просто реформа: протестантство значит предъявление сомнения в существующем догмате; иными словами, отрицание преданного догмата, или живого Предания*, короче: Церкви.
Теперь спрашиваю каждого добросовестного человека: обвинять в протестантских стремлениях Церковь, постоянно остававшуюся верною своему Преданию, никогда не позволявшую себе ни прибавлять к нему, ни исключать из него что бы то ни было, Церковь, взирающую и на римское исповедание как на раскол от нововведений; на такую Церковь возводить такое обвинение, не есть ли верх безумия?
Мир протестантский отнюдь не мир свободного исследования, ибо свобода исследования принадлежит всем людям. Протестантство есть мир, отрицающий другой мир. Отнимите у него этот отрицаемый им мир, и протестантство умрет: ибо вся его жизнь в отрицании. Свод учений, которого она пока еще придерживается, труд, выработанный произволом нескольких ученых и принимаемый апатическим легковерием нескольких миллионов невежд, стоит еще только потому, что в нем ощущается надобность для противодействия напору римского исповедания. Как скоро исчезает это ощущение, протестантство тотчас разлагается на личные мнения без общей связи. Неужели к этой цели стремится Церковь, которой вся забота относительно любого другого исповедания в продолжение восемнадцати веков возбуждалась единственно желанием узреть возврат всех людей к истине? Поставить этот вопрос — значит ответить на него. Но этого мало. Я надеюсь доказать, что если бы впоследствии дух лжи когда-нибудь и вызвал в недрах Церкви какие-либо новые ереси или расколы, то и тогда заблуждение, в ней возникшее, не могло бы явиться на первых порах с характером протестантским и что такой характер оно могло бы принять разве только в результате длительного развития, как это и произошло на Западе.
Прежде всего нужно заметить, что протестантский мир распадается на две части, далеко не равные по числу своих последователей и по своему значению (этих частей не надобно смешивать). Одна имеет свое логическое Предание, хотя и отвергает Предание более древнее. Другая довольствуется Преданием иллогическим. Последняя слагается из квакеров20, анабаптистов21 и других того же рода сект. Первая заключает в себе все прочие секты, называемые реформатскими**. У обеих половин протестантства одно общее — это их точка отправления: * Само собою разумеется, что здесь речь идет о Предании догматическом, а вовсе не о предании легендарном. (Прим, автора.)
** В тексте здесь явная ошибка. Но Гиляровский перевод следовал за оригиналом, и в нем было вместо слова «последняя» — «первая», вместо «первая» — «вторая».
558
А. С. ХОМЯКОВ
обе признают в церковном Предании перерыв, длившийся несколько веков; далее они расходятся в своих началах. Первая половина, почти порвавшая все связи с христианством, допускает новое откровение, непосредственное наитие Божественного Духа, и на этом основании старается построить одну Церковь или многие Церкви, предполагая в них Предание несомненное и постоянное вдохновение. Здесь основная данная может быть ложна; но ее применение и развитие совершенно рациональны: Предание получает логическое оправдание. Совсем иное на другой половине протестантского мира. Там на деле принимают Предание, но отрицают его оправдание. Это противоречие выяснится примером. В 1847 году, спускаясь по Рейну на пароходе, я вступил в разговор с почтенным пастором, человеком образованным и серьезным. Беседа наша мало-помалу перешла к предметам веры и, в частности, к вопросу о догматическом Предании, законности которого пастор не признавал. Я спросил у него, к какому вероисповеданию он принадлежит? — Оказалось, что он лютеранин.— А на каких основаниях отдает он предпочтение Лютеру перед Кальвином? — Он привел мне весьма ученые доводы. В эту минуту слуга, его сопровождавший, подал ему стакан лимонаду. Я просил пастора сказать мне, к какому вероисповеданию принадлежит его слуга? — Тот был тоже лютеранин.— «Он-то на каких основаниях,— спросил я,— отдал предпочтение Лютеру перед Кальвином?» — Пастор смолчал, и на лице его выразилось неудовольствие. Я поспешил уверить его, что отнюдь не имел намерения его оскорбить, но хотел только показать ему, что и в протестантстве есть Предание. Несколько озадаченный, но по-прежнему благодушный, пастор в ответ на мои слова выразил надежду, что со временем невежество, которым обусловливается это подобие Предания, рассеется перед светом науки.— «А люди с ограниченными способностями? — спросил я.— А большая часть женщин, а чернорабочие, едва успевающие добывать себе насущный хлеб; а дети, а, наконец, ранняя юность, едва ли более способная, чем детство, судить о столь ученых вопросах, на которых расходятся последователи Реформы? » — Пастор замолчал и после нескольких минут размышления проговорил: «Да, да, это, конечно, еще вопрос (es ist doch etwas darin); я об этом подумаю».— Мы расстались. Не знаю, думает ли он до сих пор, но знаю, что Предание как факт, несомненно, существует у реформаторов, хотя они всеми силами отвергают его принцип и законность; знаю и то, что они не могут ни поступить иначе, ни выпутаться из этого неизбежного противоречия. В самом деле, что те религиозные общества, которые признают все свои учения богодухновенными и приписывают богодухновенность своим основателям, с которыми состоят в связи непрерывного преемства,
Несколько слов православного христианина о западных вероисповеданиях 559
в то же время, скрытно или явно, признают и Предание,— в этом нет ничего противного логике. Но по какому праву стали бы пользоваться поддержкою Предания те, которые утверждают свои верования на научном знании своих предшественников? Есть люди верующие, что римская курия получает себе вдохновение с неба, что Фоке22 или Иоанн Лейденский23 были верными органами Божественного Духа. Может быть, эти люди и заблуждаются; тем не менее, понятно, что для них становится вполне обязательным все то, что определено этими лицами, избранными свыше. Но верить в непогрешимость науки, притом науки, вырабатывающей свои положения путем спора, противно здравому смыслу. Поэтому, все реформаторские ученые, отвергающие Предание, равно как и непрерывное откровение, поневоле обязаны смотреть на всех своих братьев, менее ученых, чем они, как на людей, вовсе лишенных действительного верования. Если б они захотели быть последовательными, то должны бы были сказать им: «Друзья и братья, законной веры у вас нет и не будет, пока вы не сделаетесь богословами, такими, как мы. А покамест пробивайтесь как-нибудь без нее!» Такая речь, может быть, и неслыханная, была бы, конечно, делом чистосердечия. Очевидно, что большая половина протестантского мира довольствуется Преданием, по ее собственным понятиям незаконным; а другая половина, более последовательная, так далеко отклонилась от христианства, что в настоящем случае нечего на ней и останавливаться. Итак, отличительный характер Реформы заключается в отсутствии законного Предания. Что ж из этого следует? Следует то, что протестантство отнюдь не расширило прав свободного исследования, а только сократило число несомненных данных, которые оно подвергает свободному исследованию своих верующих (оставив им одно Писание), подобно тому как и Рим сократил это число для большей части мирян, отобрав у них Святое Писание.
Ясно, что позиция протестантов не позволяет их считать Церковью, и что, отвергая законное Предание, они уже смогли бы осудить человека, который, признавая божественность Священного Писания, не дошел бы до открытия в нем опровержения * заблуждений Ария24 или Нестория3’'; ибо так человек был бы неправ перед наукою, а не перед верою. Впрочем, я теперь не нападаю на реформатов; для меня важно выяснить необходимость, заставившую их стать на почву, ими теперь занимаемую, проследить логический процесс, который их к тому * Гиляров это место переводил иначе: «... Протестанство, как Церковь, не в силах удержаться и что, отвергнув законное Предание, оно отняло у себя всякое право осудить человека, который, признавая божественность Священного Писания, не высматривал бы в нем... »
560
A.C. ХОМЯКОВ
принудил, и показать, что такого рода необходимость и такого рода процесс в Церкви невозможны.
Со времени своего основания апостолами Церковь была едина. Это единство, обнимавшее весь в то время известный мир, связывавшее Британские острова и Испанию с Египтом и Сириею, никогда не было нарушаемо. Когда возникла ересь, весь христианский мир отряжал своих представителей, своих высших сановников, на торжественные собрания, называемые соборами. Эти соборы, несмотря на беспорядки, а иногда и на насилия, затмевавшие их чистоту, мирным своим характером и возвышенностью вопросов, подлежащих их решению, выдаются в истории человечества как благороднейшее из всех ее явлений. Вся Церковь принимала или отвергала определения соборов, смотря по тому, находила ли их сообразными или противными своей вере и своему Преданию, и присвоивала название соборов вселенских26 тем из них, в постановлениях которых признавала выражение своей внутренней мысли. Таким образом, к их временному авторитету по вопросам благочиния присоединялось значение непререкаемых и непреложных свидетельств в вопросах веры. Они были голосом Церкви. Даже ереси не нарушали этого Божественного единства: они носили характер заблуждений личных, а не расколов целых областей или епархий*. Таков был строй церковной жизни, внутренний смысл которого давно уже стал совершенно непонятен для всего Запада.
Перенесемся теперь** в последние года восьмого или начало девятого века и представим себе странника, пришедшего с Востока * Нельзя признать удачным обособление только латинской ереси по этому признаку. После Эфесского (Ефесского431 г.) и Халкидонского (451) Вселенских соборов куда более значительные области оказались отторгнутыми ересью; некоторые из них, как Грузия, позднее возвратились к православию, но вне православия так и остались Персия, Армения, Нубия, Эфиопия, Малабарское побережье Индии.
** В западной литературе обычно указывают на историческую несообразность всей начинающейся этими словами сцены. Действительно, введение прибавления к Символу относится к VI в. (было внесено в Испании против ариан) и как таковое не давало поводов для серьезных конфликтов. Св. Фотий начал свою полемику лишь тогда, когда стало ясно, что у латинян скрывается за этой формулой неправославное учение. Но и эта полемика не имела первостепенной важности ни в эпоху схизмы 1054 г., ни позднее, вплоть до второй половины XII в. Полемика 1054 г. и ближайших к нему десятилетий была сосредоточена на христологии и Церкви как Теле Христовом, и главным поводом к ней послужила не словесная, а литургическая «формула» — бесквасный хлеб, который латиняне использовали для Евхаристии. Ок. 1054 г. Св. Никита Стифат опровергал латинский взгляд на исхождение Св. Духа от Сына как несторианский: согласно латинянам, Сын подает Духа, но Он же и принимает его в Крещении на Иордане; значит, Божество и человечество Христа разделены, как разные субъекты, а это несторианская ересь
Несколько слов православного христианина о западных вероисповеданиях 561
в один из городов Италии или Франции. Проникнутый сознанием этого древнего единства, вполне уверенный, что он находится в среде братьев, входит он в храм, чтоб освятить последний день седмицы. Исполненный благоговения и любви, он следит за богослужением и вслушивается в дивные молитвы, с раннего детства радовавшие его сердце. До него доходят слова: «Возлюбим друг друга, да единомыслием исповемы Отца и Сына и Святаго Духа» *. Он прислушивается. О, вот возглашается в Церкви символ веры христианской и вселенской, тот символ, которому всякий христианин обязан служить всею жиз- нию и за который при случае обязан умереть! Он прислушивается...— Да это символ испорченный, какой-то неизвестный символ! Наяву ли это, и не нашло ли на него тяжелое сновидение? Он не доверяет слуху, начинает сомневаться в своих чувствах. Он осведомляется, просит пояснений. Ему приходит на ум: не забрел ли он в сборище раскольников, отвергнутых местною Церковию... Увы нет! Он слышал голос самой местной Церкви. Целый патриархат, и самый обширный, целый мир произвел раскол... Сокрушенный странник сетует; его утешают.— «Мы (Св. Никита Стифат. Против «Филиокве» // Michel A, Humbert und Kirullarios, Paderborn, 1930. Во. 2. S. 394-395). По официальному объяснению патриарха Михаила Кирулария, анафема Риму была произнесена им за то, что папа Лев IX (1049-1054) возобновил раскол папы Вигилия (553-554), который долго отказывался подписать анафемы «трем главам», вынесенные на V Вселенском соборе (553) «Михаил Кируларий. К патриарху Антиохийскому Петру пись мо 1» // Will С. Acta el Scripa quae de conlroversiis Ecclesiae graecae el latinae saeculo undecimo composila extant. Lipsiae, 1861. P. 178-179), осуждение «трем главам» было вынесено именно за скрытое несторианство, т.е. учение, в котором божественность и человечность Христа разделяются настолько, что начинают выступать как отдельные субъекты. Примечательно, что, ничего по существу не зная о догматической схизме, Хомяков в своей трактовке экклесиологических и триадологических проблем подошел именно к первоначальной постановке вопроса. Но фантастическая история путешественника выражает собой важнейший компонент его богословских воззрений: взаимная любовь членов Церкви как принцип ее единства (ср.: О Leary, 106). Прибавление к Символу веры состоит в словах: « ...И в Духа Святаго... Иже от Отца и Сына исходящаго... » (...qui ex Pâtre Filioque prosedit...).
* В каноне латинской мессы таких слов нет. Этими словами предваряется пение Символа веры только в византийских литургиях Св. Иоанна Златоуста и Св. Василия Великого. Однако пение Символа как таковое является обязательным элементом литургии во всех традициях, включая западные (где, правда, вместо Никео-Константинопольского Символа уже на рубеже VII и VIII вв. мог использоваться так называемый Апостольский Символ веры). Никео- Константинопольский Символ, принятый на I Вселенском соборе в Никее (325) и дополненный на II Вселенском соборе в Константинополе (381), становится наиболее авторитетным во всем христианском мире; III Вселенский собор в Эфесе (431) запретил вносить в него какие-либо изменения, и именно этот запрет был нарушен добавлением «Филиокве».
562
A.C. ХОМЯКОВ
ведь прибавили самую малость»,— говорят ему, как и теперь твердят нам латиняне.— «Если малость, то к чему было прибавлять?» — «Да это вопрос чисто отвлеченного свойства».— «Почему же знаете вы, что вы его поняли?» — «Да это наше местное Предание».— «Как же могло оно найти место в символе вселенском, вопреки положительному определению вселенского собора, воспретившего всякое изменение в символе?» — «Да это Предание общецерковное, которого смысл мы выразили, руководствуясь местным мнением». — «Однако такого Предания мы не знаем; да и во всяком случае, каким образом местное мнение могло найти место в символе вселенском? Разве разумение Божественных истин — не дар, присущий лишь вселенскости Церкви? * Или мы чем-нибудь заслужили отлучение от нее? Вы не только не думали обратиться к нам за советом, но даже не взяли на себя заботы предупредить нас. Или мы уж так низко упали? Однако не более одного века тому назад Восток произвел величайшего из христианских поэтов и, может быть славнейшего из богословов, Дамаскина!27 Да и теперь между нами насчитываются исповедники, мученики веры, ученые философы, исполненные разумения христианства, подвижники, которых вся жизнь есть непрерывная молитва. За что же Вы нас отвергли?» Но, что бы ни говорил бедный странник, а дело было сделано: разрыв свершился. Римский мир подразумевательно заявил, что в его глазах Восток был не более как мир илотов в делах веры и учения. Церковная жизнь кончилась для одной из половин Церкви.
Я не касаюсь сущности вопроса. Пусть верующие в святость догмата и в божественный дух братства, завещанный от Спасителя апостолам и всем христианам, пусть спросят они самих себя: пренебрежением ли к братьям и отвержением ли невинных выслуживается ясность разумения и небесная благодать, отверзающая сокровенный смысл таинственного? Мое дело показать, откуда пошло протестантство. Нельзя приписывать этого переворота одному папству. Это была бы слишком великая для него обида. Хотя Римский престол, вероятно, придерживался одинаковых мнений с местными Церквами, во главе которых он стоял, но он твердо хранил память о единстве. Несколько времени он упирался; но ему пригрозили расколом; светская власть приступила к нему с настойчивыми требованиями. Наконец он уступил, может быть, радуясь внутренне, что этим избавлялся на будущее время от препон, которые встречал со стороны независимых Церквей Востока. Как бы то ни было, переворот был делом не одного папы, а всего римского мира, и дело это освятилось понятиях той среды отнюдь не верованием в непогрешимое! Римского епископа, * В подлиннике «a l’imiversalite de l’Eglise» ; у Гилярова: «не всей ли Церкви, в ее совокупности... »
Несколько слов православного христианина о западных вероисповеданиях 563
а чувством местной гордости*. Верование в непогрешимость было впереди, а в то время, когда совершилось отпадение, папа Николай I писал еще к Фотию28, что вопросах веры последний из христиан имеет такой же голос как и первый из епископов**. Но последствия переворота не замедлили обнаружиться, и западный мир увлечен был в новый путь.
* Ситуация, предшествовавшая разрыву между патриархом Фотием и папой Николаем I, осложнялась и другими причинами, в частности, господством в Византии до843 г. иконоборческой ереси. О существовании к IX в. в Риме как минимум двух богословских традиций, из которых одна была общей с Востоком, а другая, специфически западная, была привнесена франками и утверждалась властью Карла Великого (в ней и возрастет «Филиокве» как догмат) — см.: Иоанн С. Романилис, прот. ФИЛИОКВЕ // Вестник Русского Западно- Европейского патриаршего экзархата, 1975. Год 23. Л>89-90. С. 89-115.
** Пусть незнакомые с актами этой великой тяжбы справятся хотя бы с жизнеописанием Фотия, составленным иезуитом Жегером1’. Произведение это не отличается добросовестностью, но оно содержит в себе важные документы. Я прибавлю от себя одно замечание: правота дела нисколько не зависит от большей или меньшей добросовестности адвокатов, которым оно вверено; притом же, в настоящем случае, совесть папы, делателя фальшивых актов2*, едва ли была чище совести патриарха, похитителя престола3’. (Прим, автора.)
11 Jager J. N., abbé, Histoire de Photius, patriarche de Constantinople, auteur du schisme des Grecs d’apres les monuments originaux, la plupart encore inconnus, etc, Paris, 1844 (нам не доступно).
В ссылке Хомякова ошибка: автор — аббат, а не иезуит.
21 Упоминаемые «фальшивые акты» изготовлены не позднее 1 пол. IX в., так что папа Николай I не только не несет за них персональной ответственности, но уже сам вполне искренне обманывался. Это так называемые «Ложные декреталии» и «Конституции (постановления) Константина». «Ложные декреталии» являются сборником документов якобы IV вв., имеющих целью доказать, будто Римскому первосвященнику был изначально усвоен апостольский авторитет; сборник был прибавлен к творениям Исидора Севильского (V в.) при их редактировании в Реймской епархии между 844 и853 гг. В XIX в. даже ультра- монтанская критика признавала подложность Декреталий и только старалась смягчить значение этого факта. Приблизительно, в одно время с Декреталиями становятся широко известны « Конституции Константина ».
Подложность их несомненна, однако интенсивные исследования так и не привели к более точному выяснению их происхождения (Веек H. G. Die Herkunfl des Papstes Leo III // Fruhmittelalteriche Studien. 1968 Bd. 3. S. 131-137), Согласно этому документу, Св. император Константин в благодарность за чудесное исцеление благодаря молитвам папы Сильвестра дарует ему и его преемникам город Рим и все западные области в вечное владение. Т.о. первый документ утверждает верховный авторитет папы в делах веры и церковного устройства, а второй — его светскую власть.
31 Неблаговидное изображение роли Св. патриарха Фотия в деле низложения патриарха Игнатия целиком принадлежит партии его противников, Из последней литературы об этом см. : White D. S. Patriarch Photios of Constantinople, His Life, Scholarly Contributions and Correspondence. Brookline. 1981 (The Archbishop lacobos Library... № 8).
564
A.C. ХОМЯКОВ
Частное мнение, личное или областное (это все равно) присвоившее себе во вселенской Церкви право на самостоятельное решение догматического вопроса, уже заключало в себе установление протестантства, то есть: свободы исследования без живого Предания единства, основанного на взаимной любви. Итак, романизм, в самый момент своего происхождения, заявил себя протестантством. Надеюсь, что люди добросовестные в этом убедятся; надеюсь также, что дальнейшие выводы уяснят это еще более.
Право решения догматических вопросов внезапно как бы переставил ось. Прежде оно составляло принадлежность вселенской Церкви; отныне оно присвоивалось Церкви поместной. Это право могло быть за нею укреплено на двояком основании: в силу свободы исследования, откинувшей живое Предание, или в силу признания географических ограничений для монопольного обладания Святым Духом. Наделе принято было первое из этих начал, но провозгласить и узаконить его как право было рано: прежний строй церковной жизни был еще слишком памятен, первое начало было слишком неопределенно и потому столь противно здравому смыслу, что не было возможности на нем укрепиться. Естественно возникла мысль приурочить монополию богодухновен- ности к одному престолу, древнейшему из всех на Западе и наиболее чтимому всею вселенною; это было благовиднее и в меньшей степени оскорбляло человеческий разум. Правда, можно бы было на это возразить, выведя на справку отступничество папы Либерия и осуждение, произнесенное против папы Онория29 вселенским собором (как видно, не предполагавшим в нем непогрешительности) *; но эти факты мало- помалу изглаживались из памяти людей, и можно было надеяться, что нововводимое начало восторжествует. Оно действительно восторжествовало, и западное протестантство притаилось под внешним авторитетом. Такое явление постоянно повторяется в политической истории. Иначе и быть не могло; ибо на место удалившегося Духа Божьего наступило царство чисто рационалистической логики. Новосозданный деспотизм сдержал безначалие, внесенное предшествовавшим нововведением, то есть расколом, основанным на независимости областного мнения.
Я теперь не возражаю на самый догмат о главенстве папы; моя задача показать, каким путем через посредство романизма совершился переход от учения Церкви к началу Реформы, ибо непосредственный переход был невозможен.
* Папа Либерии при императоре Констанции согласился принять арианство, папа Онорий (Гонорий) принял монофелитство, за что был проклят VI Вселенским собором (680-681). Ко времени Хомякова это упоминание стало общим местом всей антипапистской полемики.
Несколько слов православного христианина о западных вероисповеданиях 565
Авторитет папы, заступивший место вселенской непогрешимости, был авторитет совершенно внешний. Христианин, некогда член Церкви, некогда ответственный участник в ее решениях, сделался подданным Церкви*. Она и он перестали быть единым: он был вне ее, хотя оставался в ее недрах. Ни испорченность** всей христианской среды, ни даже личная испорченность самого папы не могли иметь на непогрешимость никакого действия. Пала делался каким-то невольным оракулом, каким-то истуканом из костей и плоти, приводимым в движение затаенными пружинами. Для христианина этот оракул ниспадал в разряд явлений материального свойства, тех явлений, которых законы могут и должны подлежать исследованиям одного разума; ибо внутренняя связь человека с Церковью была порвана. Закон чисто внешний и, следовательно, рассудочный, заступил место закона нравственного и живого, который один не боится рационализма, ибо объемлет не только разум человека, но и все его существо ***.
Государство земное заняло место Церкви Христовой. Единый живой закон единения в Боге вытеснен был частными законами, носящими на себе отпечаток утилитаризма и правовых отношений. Рационализм развился в форме властительских определений; он изобрел чистилище, чтоб объяснять молитвы за усопших; установил между Богом и человеком баланс обязанностей и заслуг, начал прикидывать на весы грехи и молитвы, проступки и искупительные подвиги; завел переводы с одного человека на другого ****, узаконил обмены мнимых заслуг; словом, он перенес в святилище веры полный механизм банкирского дома. Единовременно Церковь-государство вводила государственный язык — латинский; потом она привлекла к своему * Подобная экклесиология Церкви-государства во главе с папой действительно характерна для периода контрреформации XVI-XVII вв.
** В переводе Гилярова было добавлено: «...недрах, дар непогрешимости, присвоенный папе, ставился вне всякого на него влияния нравственных условий, так что ни испорченность... »
*** Некоторые утверждают, что непогрешимость папская дарована Церкви как бы в награду за ее нравственное единство. Каким же образом могла она достаться в награду за оскорбление, нанесенное всем Церквам Востока? Другие говорят, что непогрешимость состоит в согласии решения папы со всею Церковью, созванною на собор, или хотя бы и не созванною. Каким же образом можно было принять догмат, не подвергнув его предварительному обсуждению, даже не сообщив его целой половине христианского мира? Все эти извороты не вы держивают и тени серьезного исследования. (Прим, автора.)
**** Имеется в виду схоластическое учение о «сверхдолжных добродетелях», которые исполняются святыми сверх того, что для их спасения необходимо, этот «избыток» заслуг переводится тем, кто имеет их недостаток.
566
АС. ХОМЯКОВ
суду дела мирские; затем взялась за оружие и стала снаряжать сперва нестройные полчища крестоносцев, впоследствии постоянные армии (рыцарские ордена), и наконец, когда меч был вырван из ее рук, она выдвинула в строй вышколенную дружину иезуитов. Повторяю: дело теперь не в критике. Отыскивая источник протестантского рационализма, я нахожу его переряженным в форме римского рационализма и не могу не проследить его развития. О злоупотреблениях нет речи, я придерживаюсь начал. Вдохновенная Богом Церковь для западного христианина сделалась чем-то внешним, каким-то прорицательным авторитетом, авторитетом как бы вещественным: она обратила человека себе в раба и, вследствие этого, нажила себе в нем судью.
«Церковь — авторитет»,— сказал Гизо30 в одном из замечательнейших своих сочинений; а один из его критиков, приводя эти слова, подтверждает их; при этом ни тот ни другой не подозревают, сколько в них неправды и богохульства. Бедный римлянин! Бедный протестант! Нет: Церковь не авторитет, как не авторитет Бог, не авторитет Христос*; ибо авторитет есть нечто для нас внешнее. Не авторитет, говорю я, а истина и в то же время жизнь христианина, внутренняя жизнь его; ибо Бог, Христос, Церковь живут в нем жизнью более действительною, чем сердце, бьющееся в груди его, или кровь, текущая в его жилах; но живут, поколику он сам живет вселенскою жизнью любви и единства, то есть жизнью Церкви. Но таково до сих пор ослепление западных сект, что ни одна из них не уразумела еще, как существенно отличается та почва, на которую они стали, от той, на которой издревле стояла и вечно будет стоять первобытная Церковь.
В этом отношении римляне находятся в полном заблуждении. Сами — рационалисты во всех своих верованиях, а других обвиняют в рационализме; сами — протестанты с первой минуты своего отпадения, а осуждают произвольный бунт своих взбунтовавшихся братьев. С другой стороны, обвиненные, которые имели бы полное право обратить упрек против своих обвинителей, никогда не могли этого сделать потому, что сами они не более как продолжатели римского учения, только применяемого ими по-своему. Как только авторитет сделался внешнею властью, а познание религиозной истины отрешилось от религиозной жизни, так изменилось и отношение людей между собою: в Церкви они составляли одно целое, потому что в них жила одна душа**; эта связь исчезла, ее заменила другая — общеподданическая зависимость всех людей от верховной власти Рима. Как только возникло первое сомнение в законности этой власти, так единство должно было рушиться.
* Отмечено цензором в 1868 г., в числе 10 главных сомнительных мест.
** Ср.: Деян,4.32.
Несколько слов православного христианина о западных вероисповеданиях 567
Ибо учение о папской непогрешимости * утверждалось не на святости вселенской Церкви; да и Западный мир, в то время как он присваивал себе право изменять, или (как говорят римляне) разъяснять символ и ставить ни во что, как не заслуживающее внимания, мнение восточных братьев, не заявлял даже и притязания на относительно высшую степень нравственной чистоты. Нет, он просто ссылался на случайную особенность епископского преемства, как будто бы другие епископы, поставленные апостолом Петром, независимо от места их пребывания, не были такими же его преемниками, как и епископ римский! Никогда Рим не говорил людям: «Один тот может судить меня, кто совершенно свят, но тот будет всегда мыслить как я». Напротив, Рим разорвал всякую связь между познанием и внутренним совершенством духа; он пустил разум на волю, хотя, по-видимому, и попирал его ногами.
И разум человеческий воспрянул, гордясь созданною для него независимостью логического самоопределения и негодуя на оковы, произвольно на него наложенные; так возникло протестантство, законное по своему происхождению, хотя и непокорное исчадие романизма. В известном отношении, он представляет собою своего рода реакцию христианской мысли против заблуждений, господствовавших в продолжение веков, но, повторяю, по происхождению своему оно не секта первобытного христианства, а раскол, порожденный римским верованием. Поэтому-то протестантство и не могло распространиться за пределы мира, подвластного папе. Этим объясняется исторический факт, о котором я говорил выше.
Нетрудно было бы показать, что римское тавро отметило неизгладимым клеймом учения реформаторов и что все тот же присущий папству дух утилитарного рационализма стал духом Реформы. Выводы, правда, не одинаковы; но посылки и определения, подразумевательно в них заключающиеся, всегда тождественны. Папство говорит: «Церковь всегда молилась за усопших, но эта молитва была бы бесполезна, если б не было промежуточного состояния между раем и адом; следовательно, есть чистилище». Реформа отвечает: «Нет следов чистилища ни в Священном Писании, ни в первобытной Церкви; следовательно, бесполезно молиться за усопших, и я не буду молиться». Папство говорит: «Церковь обращается к заступничеству святых; следовательно, оно полезно, следовательно, восполняет заслуги молитвы и подвигов удовлетворения». Реформа отвечает: «Удовлетворение за грехи кровию Христа, усвояемое верою * Хомяков не дожил до официального провозглашения догмата о папской непо грешимости на1 Ватиканском соборе (1870 г.), но его рассуждения о судьбах Римского патриархата направлены на выявление неизбежности для Рима принять этот догмат. Примечательно, что главный защитник этой идеи среди римских богословов — Жозеф де Местр — еще сталкивался с критическим отношением официальных кругов.
568
A.C. ХОМЯКОВ
в крещении и в молитве, достаточно для искупления не только человека, но и всех миров*; следовательно, ходатайство за нас святых бесполезно, и незачем обращаться к ним с молитвами ». Обеим сторонам одинаково непонятно святое общение душ. Папство говорит: «Вера, по свидетельству апостола Иакова, недостаточна**, следовательно, верою мы не можем спастись и, следовательно, дела полезны и составляют заслугу». Протестантство отвечает: «Одна вера спасает, по свидетельству апостола Павла, а дела не составляют заслуги ***; следовательно, они бесполезны » ит. д. ит.д. Таким образом, воюющие стороны в продолжение веков перебрасывались и доселе перебрасываются силлогизмами, но все на одной почве, именно: на почве рационализма, и ни та, ни другая сторона не может избрать для себя иной. В Реформу перешло даже и установленное Римом деление Церкви на Церковь учащую и Церковь поучаемую; разница лишь в том, что в римском исповедании оно существует по праву, в силу признанного закона, а в протестантстве только как факт, и еще в том, что место священника занял ученый, как видно из приведенной беседы моей с пастором. Говоря это, я не нападаю ни на протестантов, ни на римлян. Так как связь между логическим разумом и внутренним духом была уже порвана до появления Лютера и Кальвина, то очевидно, что ни тот, ни другой ничего самопроизвольно себе не присвоил: они только воспользовались правами, которые были им подразумевательно уступлены учением самого Рима. Единственная моя цель состоит в том, чтоб определить характер обеих половин Западного мира в глазах Церкви и этим дать возможность читателю понять дух православия.
Кажется, я доказал, что протестантство у нас невозможно. Мы не можем иметь ничего общего с Реформою, ибо стоим на совершенно иной * Та часть Франции, которая слывет религиозною, всегда отличалась какою-то особенною изобретательностию на бессознательное, непреднамеренное кощунство. Достаточно вспомнить скучную поэму (имевшую, однако, некоторый успех), в которой Христос вторично приемлет крестную смерть для спасения демонов. Впрочем, и сочинения Шатобриана и Ламартина кишат подобными примерами. (Прим, автора.)
[Шатобриан Франсуа Рене де (1768-1848) — французский писатель и дипломат, автор трактата «Гений христианства» (1802) — вдохновенной апологии христианства. Ламартин Альфонс де (1790-1869) — французский писатель и политический деятель, один из ярчайших романтических поэтов, чье мировоззрение пронизано верой в Бога. (Прим, составителя.)
** Едва ли нужно доказывать, что апостол Иаков, в этой на него ссылке, понят ошибочно; по-видимому, он присвоивает знанию название веры, но это вовсе не значит, чтоб он их путал, напротив, он хочет доказать знанию всю незаконность его притязаний на название, которое оно похищает, не имея в себе отличительных признаков веры. (Прим, автора.)
*** Иак.2,20; «вера без дел мертва есть». Рим. 3,28: «Мыслим убо верою оправда- тися человеку, без дел закона».
Несколько слов православного христианина о западных вероисповеданиях 569
почве; но чтоб довести этот вывод до очевидности, я представлю еще одно объяснение, свойства более положительного. Дух Божий, глаголящий Священным Писанием, поучающий и просвещающий Священным Преданием вселенской Церкви, не может быть постигнут разумом. Он доступен только полноте человеческого духа под вдохновением благодати. Попытка проникнуть в область веры и ее тайн только со светильниками разума, есть дерзость в глазах христианина, столь же безумная, сколь преступная. Только свет, с неба сходящий и проникающий всю душу человека, может указать ему путь; только сила, даруемая Духом Божиим, может вознести его в те непреступные высоты, где является Божество. «Только тот может понять пророка, кто сам пророк»,— говорит Св. Григорий-чудотворец31. Только само божество может уразуметь Бога и бесконечность Его премудрости. Только живущего в себе имея Христа*, можно приблизиться к Его престолу, не будучи уничтоженным тем величием, перед которым самые чистые духи повергаются с радости и трепетом. Только Церкви, святой и бессмертной, живому ковчегу Духа Божьего, носящему в недрах своих Христа, своего Спасителя и Главу, только ей одной, связанной с Ним сокровенными узами, которых ни слово человеческое не в силах изрещи, ни ум человеческий не в силах постигнуть, дано право и власть созерцать небесное величие и проникать в его тайны. Я говорю о Церкви в целости, о Церкви, по отношению к которой Церковь земная составляет неотделимую часть; ибо то, что мы называем Церковью видимою и Церковью невидимою, образует не две Церкви, а одну под двумя различными видами. Полнота духа церковного не есть ни собирательное существо, ни существо отвлеченное; это есть Дух Божий, который знает Сам Себя и не может не знать**. Церковь в ее целости начертала Священное Писание; она же дает ему жизнь в Предании; точнее говоря, эти два проявления одного и того же Духа составляют одно. Ибо Писание не иное что, как Предание писанное, а Предание не иное что, как Писание живущее. Такова тайна этого чудного единства, где чистейшая * Ср.: Гал. 2,20.
** В переводе Гилярова смысл фразы оказывается сущностно иным. Ср.: «Церковь в её полноте, как духовный организм, не есть ни собирательное существо, ни существо отвлеченное; это есть дух Божий, который знает сам себя и не может не знать» (в оригинале: «La plenitude de l’esprit ecclesiastique n’est ni un etre collectif, ni un etre abstrait: c’est l’Esprit de Dieu qui se connaît lui-meme et ne saurait s’ignorer»). Мысль Хомякова о том, что единство Церкви создается реальным и непосредственным присутствием Св. Духа, оказалась подменена понятием о «духовном организме» (эти слова добавлены переводчиком), отождествленном с «Духом», который хотя и «Божий», но сам уже не есть Бог. Что касается Хомякова, то он формулировал здесь важнейшее положение православной веры; ср.: «Духом Святым было создано и непрестанно созидается святое, богочеловеческое, соборное тело Церкви, которое есть вовек едино и неделимо» (Догматика III, 123).
570
А. С. ХОМЯКОВ
святость сплавляется с высочайшим разумом, чтобы разум стал разумным там, где без святости он остался бы слеп, как сама материя *.
На этой ли почве возникнет протестантство? На эту ли почву станет человек, поставляющий себя судьею над Церковью и тем самым заявляющий притязание на совершенен святости, а не только на совершенство разума? Сомневаюсь, чтобы такой человек мог быть принят как желанный гость тою Церковью, у которой первое начало то, что неведение есть удел каждого лица в отдельности так же, как грех, и что разумение, равно как и совершенная святость, принадлежат лишь единству всех членов Церкви. Таково учение вселенской, православной Церкви, и я утверждаю смело, что никто не отыщет в нем зачатков рационализма.
Но откуда, спросят нас, возьмется сила для охранения учения столь чистого и столь возвышенного? Откуда возьмется оружие для его защиты? Сила найдется по взаимной любви, а оружие — в общении молитвы, от которых Бог не отступит, потому что он сам вдохновляет их **.
Но в чем же искать гарантий против заблуждения в будущем? На это один ответ: кто ищет вне надежды и веры каких-либо иных гарантий для духа любви, тот уже рационалист. Для него уже Церковь невозможна, ибо он уже всею душою погрузился в сомнение.
Не знаю, удалось ли мне настолько выяснить мысль мою, чтоб дать возможность читателям понять разницу между основными началами Церкви и всех западных исповеданий. Эта разница так велика, что едва ли можно найти хоть одно положение, в котором бы они были согласны; обыкновенно даже, чем на вид сходнее выражения и внешние формы, тем существеннее различие в их внутреннем значении. Так, большая * В отношении Писания и Предания Хомяков не ограничивается, как это было принято в его время, утверждением о необходимости Предания, но формулирует и православное учение о двуединстве Писания и Предания (ср. : « Ибо как Святое Писание — написанное Святое Предание, так и Святое Предание — устное Святое Писание» (Догматика 1.31). Хомяков понимает, что отвергнуть Предание протестанты могли лишь после того, как латинское богословие стало отрицать его сущностное единство с Писанием (латинская экклесиология предполагала непосредственное участие Христа только в основании Церкви, которая затем стала управляться через земную иерархию; отсюда резкое разграничение Св. Писания как первоначально данного Церкви непосредственно от Бога и Предания, которое относится к нему как необходимое, но все-таки человеческое, толкование). Русское академическое богословие (и духовная цензура) XIX в. принимали в этом вопросе латинскую, а не православную сторону, однако, совершенно иначе — неправославному — воспринималось это в народном и монашеском благочестии.
** Задаваемый здесь вопрос имеет прямое отношение к репутации «экклесиоло- гического утопизма», установившейся за хомяковским учением. В переводе Гилярова утверждение реальности присутствия Божия опять ослаблено; ср.: «Сила найдется во взаимной любви, а оружие в общении молитвы, а любви и молитве помощь Божия не изменит, ибо Сам Бог внушает любовь и молитву».
Несколько слов православного христианина о западных вероисповеданиях 571
часть вопросов, о которых столько уже веков длятся споры в религиозной полемике Европы, находит в Церкви легкое разрешение; говоря точнее, для нее они даже не существуют как вопросы. Так, принимая за исходное начало, что жизнь духовного мира есть не что иное, как любовь и общение в молитве, она молится за усопших, хотя отвергает изобретенную рационализмом басню о чистилище; испрашивает ходатайства святых, не приписывая им, однако, заслуг, придуманных утилитарною школою, и не признавая нужды в другом ходатайстве, кроме ходатайства Божественного Посредника*. Так, ощущая в себе самой живое единство, она не может даже понять вопроса о том, в чем спасение: в одной ли вере, или в вере и делах вместе? Ибо в ее глазах жизнь и истина без этого была бы всего лишь логическим знанием. Так, чувствуя свое сокровенное единение с Духом Святым, она за все благое возносит благодарение Богу, Который есть единственное благо**, себе же ничего не приписывает, ничего не приписывает и человеку, кроме зла, противоборствующего в нем делу Божию: ибо человек должен быть немощен, дабы в душе его могла совершиться Божия сила***. Слишком далеко завело бы нас перечисление всех тех вопросов, в которых проявляется решительное и доселе вполне еще неопознанное различие между духом Церкви и духом рационалистических сект; это потребовало бы рассмотрения всех догматов, обрядов и нравственных начал христианства... Но я должен остановить внимание читателя на явлении, выдающемся из ряду и особенно знаменательном. Я, кажется, показал, что раздвоение Церкви на Церковь учащую и Церковь учеников (ибо так бы следовало называть низший отдел), признанное в романизме как коренной принцип, обусловленный самым его складом религиозного государства и делением его на церковников и мирян, прошло и в Реформу и в ней сохраняется как последствие упразднения законного Предания или посягательства науки на веру. Итак, вот черта общая обоим западным исповеданиям; отсутствие ее в православной Церкви самым решительным образом, определяет характер последней.
Говоря это, я предлагаю не гипотезу, даже не логический вывод из совокупности других начал православия (такой вывод был мною сделан и изложен письменно много лет тому назад ****):в. Нет, это нечто гораздо большее. Это неоспоримый догматический факт. Восточные патриархи, собравшись на собор с своими епископами, торжественно провозгласили * В переводе Гилярова: «Ходатая». Отмечено среди сомнительных мест цензором в 1868 г.
** У Гилярова: «Единому Благому».
*** Ср.: 2 Кор. 12,9.
**** К этому месту примечание Ю.Ф. Самарина: «Здесь автор, кажется, намекает на “Опыт катехизического изложения учения о Церкви”, помещенный в этом же томе его сочинений» т.е.— «Церковь Одна»).
572
А. С. ХОМЯКОВ
в своем ответе на окружное послание Пия IX33, что «непогрешимость почиет единственно во вселенскости Церкви, объединенной взаимною любовью, и что неизменяемость догмата, равно как и чистота обряда, вверены охране не какой бы то ни было иерархии, но всего народа церковного, который есть тело Христово». Это формальное объявление всего восточного клира, принятое поместною русскою Церковью с почтительною и братскою признательностью, приобрело нравственный авторитет вселенского свидетельства. Это, бесспорно, самое значительное событие в церковной истории за много веков *. В истинной Церкви нет Церкви учащей **.
* Речь идет об «Окружном Послании Единой, Святой, Соборной и Апостольской Церкви ко всем православным христианам» от 6 мая 1848 г., написанном в ответ на энциклику Пия IX « In supreme Petri apostoli sede» ( «На верховном Петра апостола престоле» ) — Послание подписали все четыре православные патриарха (Константинопольский, Александрийский, Антиохийский, Иерусалимский) и 29 иерархов их патриархатов. В русс. пер. впервые в «Христианскомчтении», 1849; отд. изд.: Окружное послание... СПб., 1850, Для Пия IX энциклика, в которой он предлагал всем, кто не состоит в общении с Римом, собраться к «престолу Св. Петра», была важным шагом на пути к I Ватиканскому собору, который — действуя под его же руководством — провозгласит догмат о папской непогрешимости. Православные в своем ответе воспользовались случаем произвести развернутую оценку латинства в целом (ср. оценку в авторитетном в румынской Церкви катехизисе старца архимандрита Клеопы Илие: Cleopa Ilie, arhimandrit. Despre Credinta Ortodoxa. Bucuresti. 1985. P. 15). В России Послание было встречено с огромным вниманием (помимо указанного выше перевода, сделаннного при С.-Петербургской Духовной Академии, см. сокращенный пер. Московской Академии: Ответ православной восточной Церкви на окружное Послание папы Римского Пия 1Х.М.,1849(из« Прибавлений к изданию Творений Святых Отцов в русском переводе». Ч. 8. 1849). Хомяков приводит цитату по памяти, так что переводчик даже снял кавычки (мы их восстановили). Цитируя Послание трижды (ср. ту же цитату, переданную иначе в брошюре «По поводу одного окружного послания Парижского архиепископа» и письмо к Пальмеру V), Хомяков имеет в виду одно и то же место Послания (j 17). « Далее: у нас ни патриархи, ни Соборы никогда не могли внести что-нибудь новое, потому что хранитель благочестия <можно перевести “защитник благочестия” или “религии”.— В. Л> у нас есть самое тело Церкви, то есть самый народ, который всегда желает сохранить веру свою неизменною и согласною с верой отцов его, как то испытали многие из пап и латинствуюших патриархов, со времени разделения нисколько не успевшие в своих против нее покушениях... » (Цит. по изд. 1850 г. С. 37). Об «объединении взаимной любовью» сказано чуть выше в словах: «Мы не имеем никакого светского надзирательства или <...> священного управления, а только соединены союзом любви и усердия к общей матери, в единстве веры... » I j 16). Употребленные в данном случае при передаче мысли Послания Хомяковым слова «какой бы то ни было (quelconque) иерархии» в старой редакции были смягчены до «ни одной иерархии». Утверждение Хомякова о значительности Послания имеет свое основание: в области экклесиологии и антилатинской полемики оно венчало собой аскетическое и богословское возрождение, начавшееся с середины XVII в.
** Отмечено в числе сомнительных мест цензором в 1868 г.
Несколько слов православного христ ианина о западных вероисповеданиях 573
Значит ли это, что нет поучения? Есть, и более чем где-нибудь; ибо в ней поучение не стеснено в предустановленных границах. Всякое слово, внушенное чувством истинно христианской любви, живой веры или надежды, есть поучение; всякое дело, запечатленное Духом Божиим, есть урок; всякая христианская жизнь есть образец и пример. Мученик, умирающий за истину, судья, судящий в правду (не ради людей, ради самого Бога), пахарь в скромном труде, постоянно возносящийся мыслию к своему Создателю, живут и умирают для поучения братьев; а встретится в том нужда — Дух Божий вложит в их уста слова мудрости, каких не найдет ученый и богослов. «Епископ в одно и то же время есть и учитель, и ученик своей паствы»,— сказал современный апостол Алеутских островов, епископ Иннокентий34. Всякий человек, как бы высоко он ни был поставлен на ступенях иерархии или, рот, как бы ни был он укрыт от взоров в тени самой скромной обстановки, попеременно то поучает, то принимает поучение: ибо Бог наделяет кого хочет дарами Своей премудрости, не взирая на звания и лица. Поучает не одно слово, но целая жизнь. Не признавать иного поучения, кроме логического по учения словом,— в этом-то и заключается рационализм, и в этом его проявлении он выказался в папизме еще ярче, чем в Реформе. Вот что объявили патриархи; вот что подтвердила Церковь!
Вопрос о поучении приводит нас опять к вопросу об исследовании; ибо поучение предполагает исследование, и без него невозможно. Я, кажется, показал, что вера смыслящая, которая есть дар благодати и в то же время акт свободы, всегда предполагает предшествовавшее ей исследование и сопровождается им под тою или другою формою, и что романизм, по-видимому, не осудивший исследование, на самом деле допускает его, так же как и протестантство, провозглашающее его законность. Но я должен оговорить, что хотя, придерживаясь общепринятых определений, я признал право исследования данных, на которых зиждутся вера и ее тайны, однако я этим отнюдь не думал оправдывать того значения, какое придается слову исследование в западных исповеданиях. Вера всегда есть следствие откровения, опознанного за откровение; она есть полагание* факта невидимого, проявленного в факте видимом; но вера не есть чисто логическое и рациональное полагание, а гораздо более. Она не есть акт одного разума, но акт всех сил ума, охваченного и плененного до последней * В оригинале противопоставляемые термины — foi и croyance; последний у Гилярова передавался как «верование». В новой редакции перевода мы постарались и по-русски образовать эти термины от разных корней и точнее передать особенность семантики второго из них.
574
A.C.ХОМЯКОВ
его глубины живою истиною откровенного факта. Вера не только мыслится или чувствуется, но и мыслится, и чувствуется вместе; словом — она не одно познание, но сразу познание и жизнь. Очевидно потому, что и процесс исследования в применении его к вопросам веры от нее же заимствует существенное ее свойство и всецело отличается от исследования в обыкновенном значении слова. Во-первых, в области веры мир, подлежащий исследованию, не есть мир, для человека внешний; ибо сам человек и весь человек всею целостью разума и воли составляет существенную часть его. Во-вторых, исследование в области веры предполагает некоторые основные данные, нравственные или рациональные, стоящие для души выше всякого сомнения, так что исследование есть не иное что, как процесс осмысленного раскрытия этих данных; ибо пирронизм *;i5 (если б он мог существовать в действительности) исключил бы не только всякую возможность веры, но и всякую мысль о серьезном исследовании. Малейшая из этих данных, будучи раз допущена душою совершенно чистою, дала бы ей все другие данные в силу неотразимого, хотя, может быть, и не- сознанного ею вывода. Для православной Церкви совокупность этих данных объемлет весь мир со всеми явлениями человеческой жизни и все слово Божие, как писанное, так и выраженное догматическим вселенским Преданием. Всякое покушение отнять у христианина хотя бы одну из этих данных становится неизбежно нелепостью или богохульством. В нелепость впадают протестанты, отвергая Предание законное и, в то же время, живя Преданием самочинным и незаконным; в богохульство впадают римляне, отнимая у мирян слово писанное, равно как и кровь Спасителя**. Итак, само исследование в области веры как по многоразличию подлежащих ему данных, таки потому, что цель его заключается в истине живой, а не только логической, требует употребления в дело всех умственных сил, в воле и в разуме, и, сверх того, требует еще внутреннего исследования самых этих сил. Ему следует, если можно так выразиться, принимать в соображение не только зримый мир, но и силу и чистоту органа зрения.
Исходное начало такого исследования — в смиреннейшем признании собственной немощи. Ибо тень греха содержит уже в себе возможность заблуждения, а возможность переходит в неизбежность, * В переводе Гилярова было введено в текст пояснение: «...сомнение полное, не знающее границ «пирронизм...»; образовано от имени философа Пиррона.
** Подразумевается запрет мирянам самостоятельно читать Библию (Рим особо на нем настаивал в эпоху контрреформации) и недопущение мирян к Чаше при причащении (примерно, с XIII в.; в XV в. это стало поводом к серьезнейшему внутрилатинскому расколу в Чехии).
Несколько слов православного христианина о западных вероисповеданиях 575
когда человек безусловно доверяется собственным своим силам или дарам благодати, лично ему ниспосланным; а потому тот лишь мог бы предъявить притязание на личную независимость в исследовании предметов веры, кто признавал бы в себе не только совершенство познавательной способности, но и совершенство нравственное. Одной сатанинской гордости на это было бы недостаточно; и нужно бы было предположить при ней небывалое безумие. Итак, там лишь истина, где беспорочная святость, то есть в целости вселенской Церкви, которая есть проявление Духа Божьего в человечестве *.
Подобно тому, как характером веры определяется характер исследования, так характером исследования определяется характер поучения. Все силы души озаряются верою, все усвоивают ее себе исследованием, все получают ее через учительство. Поэтому поучение обращается не к одному разуму и действует не исключительно через его посредство, а обращается к уму в его целости ** и действует через все многообразие его сил, составляющих в общей совокупности живое единство ***. Поучение совершается не одним Писанием (как делают протестанты, которых, впрочем, мы благодарим от всего сердца за размножение экземпляров Библии), не изустным толкованием, не символом (которого необходимости мы, впрочем, отнюдь не отрицаем), не проповедью, не изучением богословия и неделями любви, * В оригинале: «La Vérité ne peut donc exister que la ou est là sainteté sans tache, c’est-à-dire la totalité de l’Egtise universelle, qui esi la manifestation de Г Esprit divin dans l’umanité». Желая сказать именно о «вселенскости», а не просто о «соборности» Церкви, Хомяков не употребляет термина «католический».
** Термины оригинала, соответственно, la raison и l’intelligence; в переводе Гилярова, соответственно, «ум» и «разум». Мы поменяли местами русские соответствия французским словам, основываясь на старой традиции передачи терминов латинской схоластики, к которым восходят французские.
*** Важнейшее положение экклесиологии Хомякова. В переводе Гилярова фрагмент расширен: «Христианство преподается как наука, под названием богословия, но это не более как ветвь учительства в его целости. Кто отсекает ее, иными словами, кто отрывает учительство (в тесном смысле преподавания и толкования» от других его видов, тот горько заблуждается, кто обращает учительство в чью-либо исключительную привилегию, впадает в безумие; кто приурочивает учительство к какой-либо должности, предполагая, что с нею неразлучно связан Божественный дар учения, тот впадает в ересь: ибо тем самым создает новое, небывалое таинство — таинство рационализма, или логического знания.
Учит вся Церковь, иначе: Церковь в ее целости: учащей Церкви в ином смысле Церковь не признает < место отмечено как сомнительное цензором в 1868 г.— В.Л.>.
Таким образом, с одной стороны, характер исследования, в том смысле, в каком понимает его Церковь, придает ей свойство непроницаемости для протестантства; с другой, характер учительства в Церкви придает ей свойство непроницаемости для латинства.
576
А. С. ХОМЯКОВ
но всеми этими проявлениями вместе. Кто получил от Бога дар слова, тот учит словом; кому Бог не дал дара слова, тот поучает жизнью. Мученики, в минуту смерти возвещавшие, что страдания и смерть за истину Христову принимались ими с радостью, были поистине великими наставниками. Кто говорит брату: «Я не в силах убедить тебя, но давай, помолимся вместе»,— и обращает его пламенною молитвою, тот также сильное орудие учительства. Кто силою веры и любви исцеляет больного и тем приводит к Богу заблудшие души, тот приобретает учеников и становится их учителем.
Конечно, христианство выражается и в форме логической, заключенной в символе*, но это выражение не отрывается от других его проявлений.
Христианство имеет и учительство алогической форме, которое мы называем «теологией», но это не более как ветвь учительства в его целости. Отсекать ее — тяжкое заблуждение; отдавать ей исключительное предпочтение — глупость; полагать в ней небесный дар, приуроченный к какой-либо должности,— ересь, ибо тем самым создается новое, небывалое таинство — таинство рационализма.
Церковь не признает иной Церкви учащей, кроме самой себя в своей целости**.
Таким образом, характер исследования придает Церкви недоступность для протестантского ума, а характер учительства — непроницаемость для римской школы ***.
Надеюсь, сказанное мною достаточно доказывает, что второе обвинение, направленное против нас г. Лоранси, гр. де Местром и еще многими другими, так же неосновательно как и первое, и что протестантство иначе даже и не могло возникнуть в Церкви, как через посредство папского раскола, из которого оно неизбежно вытекает. Этим же, повторяю еще раз, объясняется, почему протестантство не могло выступить из пределов Римского мира, создавшего ту почву, которая одна только и могла родить из себя идею реформатских исповеданий. Неизмеримо выше, на совершенно иной почве утверждается Церковь вселенская и православная, Церковь первобытная, словом, Церковь; и с этим, я надеюсь, согласятся читатели, вопреки господствующим предубеждениям и несмотря на слабость пера, из- лагающегоперед ними дух церковного учения.
* «Символ» — словесная формулировка догмата.
** Это не противоречит тому, что служение слова возложено преимущественно на клир. (Прим, автора.)
*** Как «таинство рационализма» критикуется латинское учение о «Церкви учащей» (клир) и «Церкви поучаемой» (миряне).
Несколько слов православного христианина о западных вероисповеданиях 577
Представляется, однако, возражение, по-видимому вытекающее из моих же слов. Могут сказать, что, выведя родословную протестантства через посредство романизма, я доказал, что рационалистическая почва Реформы создана была римским расколом; а так как самый этот раскол, поставив наместо вселенской веры свое епархиальное мнение, тем самым в момент своего возникновения совершил акт протестантства, то из этого следует (хотя я и утверждаю противное), что протестантство может возникнуть прямо из Церкви. Надеюсь, однако, что мой ответ меня оправдает. Действительно, римский раскол был уже протестантским; но в те времена дух Церкви даже на Западе был еще столь силен и столь противоположен духу позднейшей Реформы, что романизм вынужден был укрыть от взоров христиан и от самого себя свой собственный характер, надев на внесенное им начало рационалистического безначалия личину правительственного деспотизма в делах веры. Этим ответом устраняется вышеизложенное сомнение, но в подкрепление представляется еще следующее соображение: если б даже в былые времена была возможность для протестантства или для протестантского начала зародиться в самом лоне Церкви, то все-таки теперь эта возможность уже не существует.
От самого начала немало ересей возмущало христианский мир. Еще прежде, чем апостолы закончили свое земное поприще, многие из их учеников обольстились ложью. Позднее, с каждым веком умножались ереси, каковы, например, савеллианство, монтанизм и многие другие. Наконец, множество верных отторгнуто было от Церкви несторианством, евтихианством*, с их многоразличными разветвлениями и, в особенности, арианством, подавшим, как известно, случайный повод к римскому расколу**. Спрашивается, могут ли эти * Савеллианство — названная по имени Савеллия ересь III в., противоположная тогдашнему и более позднему арианству, учение о действительной неразличимости ипостасей в Св. Троице; позднее «савеллианство» стало служить ярлыком для всякого учения, которое хотя бы следствием своим имеет слияние трех ипостасей. Монтанизм — названная по имени Монтана ересь П-Ш вв., понимавшая Церковь как сообщество святых, откуда делались выводы об отрицании власти епископата на основании «царского священства» всех верных) и о невозможности покаяния в земной жизни тех, кто совершил особо тяжкие грехи. В этой ереси закончил свою жизнь Тертуллиан. Во время Хомякова евтихианством называли все моно- физитство вообще (по имени одного из основоположников этой ереси Евтихия). Исторически это название абсолютно несправедливо: все монофизиты считают своим учителем Александрийского патриарха Диоскора, учившего о единой природе Христа после Воплощения, но все они анафематствуют Евтихия, который отрицал вдобавок «единосущее нам» человеческой природы Христа прежде Воплощения; о существовании евтихиан после VII в. нет никаких сведений.
** Подразумевается история папы Либерия.
578
А. С. ХОМЯКОВ
ереси возродиться? Нет! Во время их возникновения догматы, против которых они восставали, хотя и заключались подразумевательно в церковном Предании, но еще не были облечены в форму совершенно ясных определений; поэтому для немощи личной веры была возможность заблуждения. Позднее Божиим Промыслом, благодатию Его вечного Слова и вдохновения Духа истины и жизни догмат получил на соборах точное определение, и с той поры заблуждение в прежнем смысле стало невозможным даже для личной немощи. Неверие возможно и теперь, но невозможно арианство. Одинаково невозможны и другие ереси. Они заключали в себе заблуждения в Поведанном догмате о внутренней природе Бога или об отношениях ее к природе человеческой, но, искажая догматическое Предание, они заявляли притязание на верность ему. Это были заблуждения более или менее преступные, но заблуждения личные, не посягавшие на догмато церковной вселенскости, а, напротив, пытались доказать истинность своих учений согласием всех христиан. Романизм же, начав с того, что поставил независимость личного или епархиального мнения выше вселенского единоверия (ибо, как я уже показал, ссылка на непогрешимость папы как на оправдание раскола принадлежит к позднейшему времени), первый стал ересью против догмата о природе Церкви*, против ее веры в самое себя. Реформа была только продолжением той же ереси под другим видом.
* Хомяков угадывает важнейшую мысль святоотеческой полемики против латинства. В послуживших главным обоснованием схизмы 1054 г. спорах об опресноках (бесквасном хлебе) православие выступило против значительных уклонений латинства в учении о Теле Христовом. Бесквасный, а не обычный квасной хлеб служил выражением мнения, будто в Евхаристии Тело Христово есть некая особая сущность, не тождественная ни человеческой, ни божественной; одновременно в латинском учении вся Церковь стала пониматься как Тело Христово в переносном, а не прямом смысле. В полемике 1054 г. Св. Никита Стифат настаивал, что именно то единственное Тело Христово, которое родилось от Девы Марии и сидит одесную Отца, преподается нам в Евхаристии, не отличаясь по человеческой сущности от наших собственных тел, и это же тело есть тело всей Церкви (подробнее о полемике 1054 г. см.: Erickson J. Н. Leavened and Unleavened: Some Theological Implications of the Schism of 1054 // St. Vladimir’s Theological Quarterly. Vol. 14.1970. № 3. P. 155-176; об отступлении латинской экклесиологии в XI в. и позднее от общецерковного Предания Востока и Запада см. : Congar Y-M,— J., op. L’ecclésioiogie du Haut Moyen Age. De Saint Gregoire le Grand à la désunion entre Byzance et Rome, P., 1968; Idem. L’Eglise de Saini Augustin à la’époque moderne. P., 1970, P. 83-98,161 164 (Histoire des dogmes. T. III fasc. 3), Хомяков видел, прежде всего, пневмато- логическое и триадологическое измерения схизмы, которые встали в центре святоотеческой антилатинской полемики во второй пол. XIV-XV вв. (особенно у Св. Николая и Св. Марка Эфесского).
Несколько слов православного христианина о западных вероисповеданиях 579
Таково определение всех западных сект, а заблуждение, единожды определенное, становится невозможным для членов Церкви.
Выводить ли отсюда, что они застрахованы от всякого заблуждения?
Нисколько: одинаково неразумно было бы утверждать, что они ограждены от греха. Такое совершенство принадлежит только Церкви в ее живой целости и никому из ее членов лично приписано быть не может. Кто из людей за себя поручится, что никогда не придаст ошибочного значения выражению Духа Божьего в Церкви, то есть слову писанному или живому Преданию? Тот один имел бы право предположить в себе такую непогрешимость, кто мог бы назвать себя живым органом Духа Божия. Но следует ли из этого, что вера православного христианина открыта для заблуждений? Нет; ибо христианин, тем самым, что верит во вселенскую Церковь, низводит свое верование в вопросах, которым не дано еще ясного определения, на степень мнения личного (или поместного, если оно принимается целою епархиею). Впрочем, и такое заблуждение в мнении, хотя и безопасное для Церкви, не будет невинным в христианине. Оно есть признак и последствие нравственного заблуждения или нравственной немощи, делающей человека до известной степени недостойным небесного света и, как всякий грех, может быть изглажен только Божественным милосердием. Вера христианина должна быть преисполнена радости и признательности, но в той же мере и страха. Пусть он молится! * Пусть испрашивает недостающего ему света! Лишь бы не дерзал он успокаивать себя ни по примеру реформата, который говорит: «Конечно, я, может быть, и ошибаюсь, но намерения мои чисты, и Бог примет их в расчет, равно как и немощь мою» ; ни по примеру римлянина, который говорит: «Положим, я ошибаюсь; во что за важность? За меня знает истину папа, и я вперед подчиняюсь его решению!» Понятие Церкви о греховности всякого заблуждения верно выразилось в одном сказании, может быть, и сомнительном по отношению к фактической его достоверности, но, несомненно, истинном по отношению к его смыслу. Отшельник, которого примерная жизнь озарялась дарами Божественной благодати, придерживался заблуждения многих своих современников, принимавших царя Салимского36 не за прообраз, а за явление Самого Царя мира. Спасителя человеков. Святой епископ, в епархии которого проживал этот отшельник, пригласил его на беседу и, не вступая с ним в спор, предложил ему провести ночь в молитве. На другой день он спросил у него, остается ли он при прежнем мнении? Отшельник отвечал: «Я был в заблужде* У Гилярова по недосмотру — «она», т. е. вера, а не христианин.
580
A.C. ХОМЯКОВ
нии, да простит мне Бог мое согрешение»!* Он ясно понял, потому что смиренно молился. Пусть же христианин верует с трепетом, ибо для него нет заблуждения невинного; но, повторяю, для Церкви оно безопасно. Я ответил на обвинения, взводимые на православие г-м Лоранси и многими другими писателями одного с ним исповедания; выяснил, насколько смог, различие в характере Церкви и западных исповеданий; выказал в рационализме, как латинском, так и протестантском, ересь против догмата о вселенскости и святости Церкви. Затем я считаю обязанностью сказать несколько слов и о том, в каком свете представляются нам наши отношения к этим двум исповеданиям, их взаимные отношения и их современное положение.
Так как Реформа есть не более как продолжение и развитие романизма, то я должен сперва сказать об отношениях наших к последнему. Возможно ли сближение между нами? Ответ может быть только отрицательным. Истина не допускает сделок. Что папство изобрело Церковь греко-униатскую37 — это понятно. Церковь-государство может, если ей заблагорассудится, пожаловать некоторые права гражданства бывшим своим восточным братьям, которых она же некогда объявила илотами в области веры; она может дать им эти права в награду за смиренное их подчинение авторитету папы, не требуя от них единства веры**, выраженной в символе. Истым латинянам они, конечно, ничего более не внушают, кроме презрительной жалости; но они пригодны и полезны как союзники против их восточных братьев, которым они изменили, уступая гонению. До настоящих римских граждан им, разумеется, далеко, и ни один богослов, ни один учитель не взялся бы доказать логичности их исповедания; это нелепость терпимая — не более. Такого рода единение в глазах Церкви немыслимо, но оно совершенно согласно с началами романизма. В сущности, для него Церковь состоит в одном лице, в папе***; под ним аристократия его чиновников, из числа которых высшие носят многозначительное название князей Церкви; ниже толпится чернь мирян, для большинства которых невежество — закон; * Рассказ относится к IV или, скорее, к V в., когда среди монашества была распространена ересь «мелхиседекиан» (по имени Мелхиседека, царя Салимского; о нем в Библии: Быт. 14,18-20; Пс. 109,4, Евр. 5-7). О разновидностях ереси мелхиседекиан; Horton F. L. The Melchizedek Tradition, Cambridge. 1976 (Soc, for New Testament Sludies; Monograph ser. 30). Рассказ вошел в различные русские патерики.
** Замечание Хомякова относится скорее к практике, чем к теории уний, которые заключались все-таки на основе общего (латинского) исповедания веры при сохранении различий в обрядах.
*** В примечании Ю. Ф. Самарина справедливо указано на Жозефа де Местра и кардинала Ньюмена как откровенных выразителей этого взгляда; Хомяков, без сомнения, ориентировался на де Местра.
Несколько слов православного христианина о западных вероисповеданиях 581
еще ниже стоит илот38, помилованный в награду за свою покорность, греко-униат, в котором предполагается бессмыслие и за которым оно признано как его право. Повторяю: романизм может допустить такое слияние, но Церковь не знает сделок в догмате и в вере. Она требует единства полного, и только полное равенство она может дать взамен, ибо знает братство, но не знает подданства. Итак, сближение невозможно без полного отречения от заблуждения, длившегося более десяти веков.
Но не могли бы собор закрыть бездну, отделяющую римский раскол от Церкви? Нет; ибо тогда только можно будет созвать собор, когда предварительно закроется эта бездна*. Правда, и люди, напоенные ложными мнениями, участвовали на вселенских соборах; из них некоторые возвращались к истине, другие упорствовали в своих заблуждениях и тем окончательно отделялись от Церкви; но дело в том, что эти люди, несмотря на свои заблуждения в самых основных догматах веры, не отрицали Божественного права церковной вселенскости**. Они питали или, по крайней мере, заявляли надежду определить в ясных, не оставляющих места для сомнения выражениях догмат, исповедуемый Церковью, и удостоиться благодати засвидетельствования веры своих братьев. Такова была цель соборов, таково их значение, таково понятие, заключающееся в обыкновенной формуле введения ко всем их решениям: «Изволися Духу Святому и т.д.» ***. В этих словах выражалось не горделивое притязание, но смиренная надежда, которая впоследствии оправдывалась или отвергалась согласием или несогласием «всего народа церковного» ****, или «всего тела
* Это обычная и для современного православного богословия мысль, выраженная, между прочим, и в Послании восточных патриархов. Однако приводимое ниже обоснование ее — специфически хомяковское.
** Мысль эта продолжает мнение о том, что только латинство было ересью целого патриархата (см. прим. 26) — мнение, исторически несостоятельное. Это неверно и с исто- рическо-догматической стороны, т.к. зафиксированная анафемой в 1054 г., ересь латинян в учении о Теле Христовом (следовательно, о Церкви) имела (в то время еще ничем не прикрытые) корни, уходящие в христологическую ересь несторианства. Наконец, с чисто догматической стороны, этот взгляд кажется странной непоследовательностью именно у Хомякова: так настаивая на присущем Церкви единстве жизни, он допускал, что ересь в одном догмате не приведет к искажению всех остальных.
*** Ср.: Деян. 15,28: «Изволися бо Святому Духу и нам... »
**** Заявлена несомненная в православной экклесиологии мысль о том, что и соборы не имеют внешней власти над Церковью, но сами должны быть засвидетельствованы Церковью в своей правоте. Например, признание каждого из 7 определенных соборов Вселенскими совершалось на следующем Вселенском соборе, а VIII Вселенский (787) был признан таковым на Константинопольском соборе 879-880 гг., значение которого в православии показало себя фактически равным Вселенскому... Тем не менее, хомяковское понимание этого тезиса (см. ниже) традиционным назвать нельзя.
582
А. С. ХОМЯКОВ
Христова», как выразились патриархи. Бывали соборы еретические, каковы, например, те, на которых составлен был полуарианский символ39, когда подписавшихся епископов насчитывалось вдвое более, чем на Никейском40, соборы, когда императоры принимали ересь, патриархи провозглашали ересь, папы подчинялись ереси. Ибо отступничество папы Либерия не подлежит никакому сомнению. Пусть адвокаты оправдывают его страхом или слабостью: в глазах всякого здравомыслящего, кто может впасть в заблуждение по страху или слабости, может также легко увлечься и другими страстями, властолюбием, алчностью, ненавистью. Почему же отвергнуты эти соборы, не представляющие никаких наружных отличий от соборов вселенских? Потому единственно, что их решения не были признаны за голос Церкви «всем церковным народом», тем народом и в той среде, где в вопросах веры нет различия между грамотеем и невеждою, церковником и мирянином, мужчиною и женщиною, государем и подданным, господином и рабом; где, когда это нужно, по усмотрению Божию, отрок получает дар видения, младенцу дается слово премудрости, безграмотный пастух обличает и опровергает ересь своего ученого епископа, дабы все были едино в свободном единстве живой веры, которое есть проявление Духа Божия. Таков догмат, лежащий в основе самой идеи собора*. Каким же образом и с како* Хомяковская формулировка «догмата, лежащего в основе самой идеи собора» (по сравнению со старой редакцией перевода, внесены стилистические отличия, не изменяющие смысл,— за одним исключением: «отрок получает дар видения», не «ведения»; ср.: Деян.2,17, Иоиль2,28). Своеобразие хомяковской формулировки состоит, между прочим, в том, что особое положение епископата не признается — хотя речь идет не о спасении и достижении святости, а о соборе. Вопиющий контраст этого заявления со всей церковной практикой мог не броситься в глаза только в России, которая не знала соборов с петровских времен. Но соборы Церкви — всегда соборы епископов, и неепископы участвуют в них лишь как помощники, без права решающего голоса; не составил исключения Поместный собор русской Церкви 1917-1918 гг., где решения окончательно принимались голосами епископов. Только в самые последние десятилетия в православной среде стали поднимать голоса в защиту равноправного участия неиерархов, и едва ли здесь нет влияния Хомякова. Исторически учение о соборах вырабатывается в III в., на основе учения о епископе как главе Церкви по местной (аналогично тому, как Христос — глава Церкви вселенской; ср. еще во II в., у Св. Игнатия Богоносца: «Все почитайте <...> епископа как Иисуса Христа...» — Послание к траллийцам, III, русск. пер.: Антология, Ранние Отцы Церкви. Брюссель, 1988. С. 118); отсюда у Св. Киприана Карфагенского, больше всего потрудившегося в III в. и над созывом соборов, и над их догматическим обоснованием; «Епископ в Церкви, и Церковь в епископе» (Послание, 66, 5); поэтому именно собор епископов реализует
Несколько слов православного христианина о западных вероисповеданиях 583
го права принял бы участие в соборе тот, кто, подобно реформату, подменил независимостью личного мнения святость вселенской веры? Или тот, кто, подобно римлянину, присвоил рационализму епархиального мнения права, принадлежащие только вдохновению вселенской Церкви? Да и к чему собор, если Западный мир сподобился получить столь ясное откровение Божественной истины, что счел себя уполномоченным включить его в символ веры и не нашел даже нужным ждать подтверждения от Востока. Что бы стал делать на соборе греческий или русский илот рядом с избранными сосудами, с представителями народов, помазавших самих себя святым миром непогрешимости? Собор дотоле невозможен, пока Западный мир, вернувшись к самой идее собора, не осудит наперед своей * узурпации и всех ее последствий, иначе: пока не вернется к первобытному символу и не подчинит своего мнения, которым он был поврежден, суду вселенской веры. Одним словом, когда будет ясно понят и осужден рационализм, ставящий на место взаимной любви гарантию человеческого разума или иную: тогда, и только тогда, собор будет возможен.
всю полноту вселенской Церкви, а не подменяет эту полноту «демократическим представительством» : поэтому среди епископов могут быть «первые среди равных» по чести, но не может быть власти главы одной поместной Церкви над главой другой, т.к. общий Глава всем — Христос (подробнее см. : Троицкий В. Н. Очерки истории догмата о Церкви. Сергиев Посад, 1912, С. 361-47-01). Таким образом Хомяков нигде не учитывает действительную историю разъяснения догмата, на котором зиждется «идея собора». Главная же причина его исторической нечуткости в этом вопросе — в его расхождении с самим церковным догматом. Православно исповедуя Церковь богочеловеческим организмом, Телом Христовым, Хомяков не принимает в расчет, что и как организация на земле Церковь остается богочеловеческой; видимая организация Церкви не остается внешней по отношению к ее невидимому существу (см. подробнее: Догматика III, 635-637).
Свидетельствуя о соборе как о Вселенском, Церковь свидетельствует о лич ной святости всех его членов (Догматика III, 227); Церковь никогда не имела литургических празднований «Вселенских соборов» как таковых, но празднует — память Святых Отцов Вселенских соборов. По святоотеческому учению, личная святость есть норма и для каждого епископа — но в случае ее недостатка, в ответ на покаяние, ее будет восполнять даруемая (при том, никем иным, как собором нескольких епископов, рукополагающих себе сослужителя) «Божественная благодать, всегда немощная врачуяй и оскудевающая восполняяй» (слова молитвы хиротонии). Итак, принцип, иерархической организации Церкви и принцип соборов оказывается тесно связан со значением личной святости для жизни видимой Церкви. Но в этой области отклонения Хомякова от общецерковного Предания окажутся еще значительнее. См. также: О Leary, 113-124.
* В переводе Гилярова: «...своего посягательства на соборность» (выделенное курсивом слово добавлено).
584
A.C. ХОМЯКОВ
Итак, не собор закроет пропасть; она должна быть закрыта, прежде чем собор соберется *.
Один Бог знает час, предуставленный для торжества истины над извращением людей или их немощью. Этот час наступит, я в этом не сомневаюсь; а до тех пор, открыто ли выступает рационализм, как в реформе, или под личиною, как в папизме. Церковь может относиться к нему не иначе, как с состраданием, жалея о заблуждении и надеясь на обращение. Однако сами две части западного раскола оказываются в неодинаковом положении по отношению к Церкви.
Выше было сказано, что романизм, нося в себе безначалие как принцип, и в то же время боясь обнаружений его на практике, вынужден был отречься от своей природы и. Так сказать, замаскироваться в своих собственных глазах, претворившись в деспотизм. Это превращение не осталось без важных последствий. Единство Церкви было свободное; точнее, единство было сама свобода, в стройном выражении ее внутреннего согласия. Когда это живое единство было отринуто, пришлось пожертвовать церковною свободою для достижения единства искусственного и произвольного. Внешний знак заменил внутренний смысл **.
Другим путем пошла Реформа: оставаясь неотступно верною принципу рационалистического безначалия, породившему римский раскол, она с полным на то правом потребовала обратно свободы и вынуждена была принести в жертву единство. Как в папизме, так и в Реформе, все сводится на внешность: таково свойство всех порождений рационализма. Единство папизма есть единство внешнее, чуждое содержания живого; и свобода протестантствующего рассудка есть также свобода внешняя, без содержания реального. Паписты, * Очевидно, таково было убеждение великого Марка Ефесского1, когда он требовал на религиозном съезде во Флоренции, чтобы символ был восстановлен в первобытной его чистоте и чтоб вставка была выражена как мнение, стоящее вне символа. Заблуждение, исключенное из числа догматов, становилось безвредным; этого и хотел Марк Ефесский, возлагая самое исправление заблуждения на попечение Божие. Тем самым устранилась бы ересь против Церкви и восстановилась бы возможность общения. Но гордость рационализма не допустила его до самоосуждения. (Прим, автора.)
1 В прениях на Ферраро-Флорентийском соборе 1438-1439 гг. Св. Марк Эфесский был главным защитником православной позиции против латинской. Сведения Хомякова, несомненно, восходят к книге, выход которой стал крупным событием своего времени: История флорентийского собора. М., 1847 (издано анонимно; авторами были прот. А. В. Горский и его студент И. Остроумов).
** У Гилярова: «пришлось заменить внешним знамением или признаком духовное чутье истины». С. 58.
Несколько слов православного христианина о западных вероисповеданиях 585
подобно иудеям, держатся за знамения; протестанты, как эллины, держатся за логическую мудрость*. И тем и другим одинаково недоступно понимание Церкви — свободного единства живого разумения. Но римское понимание исполнено озлобления и постоянно вооружено клеветою; у протестантов оно исполнено равнодушия и вооружено презрением **. Впрочем, так как в основании отношений как папистов, так и протестантов к Церкви лежит невежество, то нет повода негодовать на них. Для тех и для других серьезная борьба с Церковью одинаково невозможна.
Зато тем более возможна для них междуусобная борьба, ибо почва под ними одна, и права их одинаковы. И те и другие погружены всецело (не подозревая этого) в ту логическую антиномию, на которую распадается всякое живое явление (см. Канта***), пока оно рассматривается исключительно с логической его стороны, и которая разрешается только в полноте реальности; но этого разрешения ни те, ни другие не находят, да и не найдут никогда в тесных границах общего для них рационализма. Оттого борьба, с большим или меньшим жаром продолжающаяся более трех столетий, в которой воюющие стороны не всегда ограничивались орудием слова, а прибегали нередко и к другим средствам, менее честным и менее христианским, * Ср.: 1 Кор. 1,22,
** Эти два положения очевидны для всякого сколько-нибудь следившего за ходом религиозной литературы на Западе. Вспомните гр. де Местра, послания австрийских епископов, особенно Лакордера и газету «Univers religieux», несколько лет тому назад утверждавшую, между прочим, что греки вываривают мертвых в вине, с целью обеспечить им доступ в рай. Что касается до протестантов, то достаточно указать на ученого Толюка, одного из богословских светил Германии, который в ответе своем Штраусу11, утверждал понаслышке, будто восточные Церкви никогда не читают Евангелия от Иоанна2’. (Прим, автора.)
11 По сообщению биографа, Толюк был одним из первых, кто выступил против книги Д.-Ф. Штраусса «Жизнь Иисуса, критически переработанная» (1835-1836), где впервые в немецкой библейской критике все евангельские чудеса объявлялись выдуманными, а «идея» богочеловечества прямо связанной с историческим Иисусом (см. : Zilz W. A. Toluck. Leben und Selbstzeugnisse. Gotha. 1930. S. 26; там же см. дальнейшую библиографию). Однако проверить ссылку Хомякова не удалось.
21 В действительности, согласно византийской богослужебной традиции, не читают за богослужением Апокалипсис Иоанна Богослова, который оказывался почти недоступным неграмотному большинству народа. В глазах протестанта это немногим отличалось от того, чтобы не читать и Евангелие от Иоанна.
*** Примечательно, что и в хомяковском учении (философском и богословском) усматривают сродство с кантонской гносеологией: вера как познание внутреннее, противоположное внешнему рациональному, может быть соотнесена с «синтетическими суждениями априори» (ср.: О’ Leary,43-44).
586
А. С. ХОМЯКОВ
далеко еще не подходит к своему исходу, несмотря на то, что в ней уже истощились нравственные силы воюющих. Непростительно было бы не отдать справедливости дарованиям и ревности, выказанным с обеих сторон; нельзя не удивляться блистательному и мощному красноречию, которым в особенности отличаются латиняне, равно как и неутомимости и глубокой учености их противников; но в чем же заключаются результаты борьбы? По правде, в них нет ничего утешительного ни для одной стороны. Та и другая сильна в нападении и бессильна в защите; ибо одинаково неправы обе и одинаково осуждаются как разумом, так и свидетельством истории. В каждую минуту каждая из воюющих сторон может похвалиться блистательною победою; и между тем, обе оказываются постоянно разбитыми, а поле битвы остается только за неверием. Оно бы давно и неоспоримо им овладело, если бы потребность веры не заставляла многих закрывать глаза перед непоследовательностию религии, принятой ими по невозможности без нее обойтись или сохраняемой без серьезной веры.
Так как борьба между западными верованиями происходила на почве рационализма, то нельзя даже сказать, чтоб предметом ее когда-либо была сама вера: ибо ни самые искренние верования, ни самые пылкие убеждения, еще не заслуживают названия веры. Тем не менее, эта борьба как предмет изучения в высокой степени занимательна и глубоко поучительна! Характер партий обрисовывается в ней яркими чертами. Критика сериозная, хотя сухая и недостаточная, ученость обширная, но без объединяющей связи, строгость прямодушная и трезвая, достойная первых веков Церкви, при узкости воззрений, замкнутых в пределах индивидуализма; пламенные порывы, в которых как будто слышится признание их неудовлетворительности и безнадежности когда-либо обрести удовлетворение; постоянный недостаток глубины, едва замаскированный полупрозрачным туманом произвольного мистицизма; любовь к истине, при бессилии понять ее в ее живой реальности, словом: спиритуалистический рационализм — такова доля протестантов. Сравнительно большая широта воззрений, далеко, впрочем, недостаточная для истинного христианства; красноречие блистательное, но слишком часто страстное, поступь величавая, но всегда театральная; критика почти всегда поверхностная, хватающаяся за слова и мало проникающая в понятия; эффектный призрак единства, при отсутствии единства действительного; какая-то особенная ограниченность требований, никогда не дерзающих подниматься высоко и потому легко удовлетворимых; какая-то очень неровная глубина, скрывающая свои отмели облаками софизмов; большая любовь
Несколько слов православного христианина о западных вероисповеданиях 587
к порядку внешнему при неуважении к истине, то есть к порядку внутреннему, словом: материалистический рационализм — такова доля латинян. Я не думаю ни обвинять всех писателей этой партии в преднамеренной лживости, ни утверждать, чтоб ни один из их противников не заслуживал тоге же упрека; но наклонность папи- стической партии к софизмам, к систематической уклончивости при встрече с действительными трудностями, к напускному неведению, к искажению текстов через выхваченные из целого или неточные цитаты — все это так общеизвестно, что не подлежит и оспориванию. Не желая, однако, в столь важном обвинении ограничиваться простым заявлением и поставив себе за правило не ссылаться никогда на факты сколько-нибудь сомнительные, я приведу на память читателям долго тянувшееся дело о подложных Декреталиях, на которых теория о главенстве папы строилась до тех пор, пока верование в нее настолько укрепилось привычкою, что оказалось возможным убрать эти лживые и сделавшиеся под конец ненужными подпорки; напомню также дело о фальшивых дарственных грамотах, составляющих основание светской власти Римского первосвятителя *, и бесконечный ряд изданий святых отцов, искаженных, очевидно, с намерением. Из ближайших к нам времен я напомню, что труд Адама Зерникова**, хотя в нем доказывалось, что все свидетельства, извлеченные из творений Святых Отцов в пользу искаженного символа, были преднамеренно извращены или урезаны, остался неопровергнутым, и прибавлю, что этот победоносный труд не вызвал со стороны уличенных ничего похожего на признание сколько-нибудь чистосердечное. Наконец, переходя к нашему времени, я укажу на все * См. выше прим. 21 к с. 563.
** Имеется в виду изданный анонимно в Кенигсберге «Tractatus teologici orthoxi de processione Spiritus Sancti a solo Pâtre». T. I—II, Regiomonti, 1774-1775 (написан по-латыни).
Во время Хомякова это издание было сравнительно легко доступным и очень популярным, но теперь стало весьма редким. Гораздо доступней снабженный справочным аппаратом и приложениями греческий перевод Евгения Вулгариса, изданный в Петербурге, которым также мог пользоваться Хомяков (мы имели доступ к этому изданию), Adam Zoirnikabion Borousson. Peri tes ekporeusews tou Agion Pneumatos ek menu tou Patros. T. A, B. En Pet- ronpolei, 1797 (русск, пер.: Зерников Адам, Православно-богословские исследования об исхождении Святаго Духа от одного только Отца. Пер. с лат. Б. Давидовича, Почаев, 1902. Т. 1,2. Подробно об авторе и его эпохе см.: Podskaisky. 303-305. Этот трактат мог послужить Хомякову одним из главных источников святоотеческих текстов, но точно определить степень его использования не удалось.
588
А. С. ХОМЯКОВ
почти сочинения красноречивого протософиста графа де Местра*, на бесстыдную ложь в посланиях австрийских епископов по поводу чествования православною Церковию некоторых из пап; наконец, на знаменитое сочинение Ньюмана41 о развитии**. Нужно заметить,
* Достаточно привести как пример доказательство, извлекаемое де Местром в пользу романизма из творений Святого Афанасия. «Весь мир,— говорит Св. Афанасий к еретикам,— называет истинную Церковь Церковью кафолическою. Это одно достаточно доказывает, что вы (т. е. все по собственному сознанию находящиеся вне ее) еретики». — Какую же Церковь,— спрашивает де Местр,— вся Европа называет кафолическою? Церковь римскую; следовательно, все остальные в расколе. Но ведь Святой Афанасий обращался к грекам, ясно понимавшим значение слова кафолический (всемирный, вселенский), и потому его доказательство имело полную силу; но, спрашиваю я, что доказывает это слово против новейшей Европы, для которой оно лишено всякого смысла? Пусть спросят о Церкви вселенской, или всемирной, в Ашлии, в Германии и, особенно, в России, и пусть прислушаются к ответу! Придет ли человеку в голову, прежде чем он произнес слово мусульманин, справиться в арабском словаре о его значении, и неужели употребивший это слово, тем самым, подает повод к заключению, что он сам исповедует магометанскую веру?
Конечно, де Местр при его уме не мог не сознавать недобросовестности своего вывода; но этот писатель, наделавший столько шума, по всему складу своего ума и несмотря на то, что он до некоторой степени хочет быть религиозным, принадлежит всецело к литературной школе энциклопедистов. Римляне сами называют его парадоксальным, да и тем оказывают ему слишком много чести.
Отличительные его свойства составляют легкомыслие, прикрытое обманчивым глубокомыслием, постоянная игра софизмами и постоянное отсутствие искренности; словом, его ум — антихристианский в высшей степени, чему служит доказательством, между прочим, его теория искупления(Прим, автора.) 1( Хомяков постоянно имел в виду де Местра в числе главных своих оппонентов. Основной повод к спорам дал трактат де Местра «О папе» (много изданий на разных языках, начиная с французского: 1819). Отношения русского общества к де Местру касаются статьи о. М. Жюжи: Jugie М. Joseph de Maistre el le schisme gréco-russe // Echos d’Orient. 1921. T, 20. P. 402-430. 1922, T. 21. P. 129-161. Ср. y того же автора трактовку славянофильской и вообще русской экклесиологии: Jugie M. Theolgia dogmatica christianorum orientalium ab Ecclesia Catholica dissidentuna. T. IV. Parisiis. 1931.
** Ньюман в этом сочинении дополняет теорию Молера2* о постепенном совершенствовании и логическом развитии Церкви. «Все учения ее,— говорит он,— заключались подразумевательно в первобытном ее учении и мало-помалу из него развивались, или, говоря точнее, мало-помалу приобретали ясность логического выражения. Так было в основном догмате о Троице, так и в учении о главенстве папы в делах веры и т. д.». Итак, г-н Ньюман показывает вид, будто бы он и не слыхал никогда ни об отступничестве папы Либерия, ни в особенности о том, что вселенский собор осудил папу Онория и что осуждение это принято всем Западом. Тут важен не самый факт заблуждения Онория в догматическом вопросе, вполне ли он доказан или нет — все равно; важно то, что вселенский собор провозгласил учение о погрешимости папы, чего, конечно, г-н Ньюман не мог не знать. Следовательно, новое учение о непогрешимости
Несколько слов православного христианина о западных вероисповеданиях 589
что этот последний писатель, отличавшийся добросовестностью, пока он исповедывал англиканство, и впоследствии, добросовестно же (так я предполагаю) обратившийся в романизм, с переходом внезапно утратил свою добросовестность. Впрочем, указывая на лживость, которою всегда отличалась римская полемика, я отнюдь не желал бы навлечь этим слишком строгого осуждения на участвовавших в ней писателей и не касаюсь степени нравственной их ответственности. Ни церковных писателей, ни защитников протестантства нельзя считать в этом отношении вполне безупречными, хотя, конечно, поводы к справедливым упрекам встречаются у них гораздо реже. Но, в этих трех случаях, степень личной виновности далеко не одинакова. Ложь, сходящая с пера православного, есть бессмысленный позор, положительно вредящий делу, защиту которого он на себя принимает; у протестанта ложь есть нелепость преступная и, в то же время, совершенно бесполезная; у римлянина ложь является как необходимость до некоторой степени извинительная. Причина этого различия ясна. Православию, как истине, ложь враждебна по существу; в протестантстве, как области искания истины, ложь неуместна; в романизме, как доктрине, отрекающейся от собственного своего исходного начала, она неизбежна. Я сказал выше, что западный раскол начался посягательством епархиального мнения на вселенское единоверие*; иными словами, введением рационалистического принципа безначалия. Чтоб увернуться от дальнейших последствий (не отрекаясь от заблуждения, в котором оно выразилось), раскол вы¬
было не развитием учения вселенского, а прямым ему противоречием. В этом случае, со стороны автора умолчание и притворное неведение едва ли лучше прямой лжи. Не хотелось бы отзываться так резко о человеке, столь высоко стоящем в области умственной; но можно ли избежать этого заключения? (Прим, автора.)
В этом сочинении получил классическое обоснование важнейший богословский тезис кардинала Ньюмена о «догматическом развитии» в смысле все увеличивающегося Откровения Божия Церкви. В отличие от православного учения (которое защищает Хомяков), признающего развитие лишь форм выражения догматов, это учение предполагает развитие догматов по существу, «прогресс» в самом знании Церкви о Боге (см.: An Essay on the Development of Christian Doctrine, 1843). О постановке проблемы «догматического развития» в русском академическом богословии, начиная с современника Хомякова прот. А. В. Горского и с учетом возможного влияния, оказанного Хомяковым, см.: Флоровский. «Пути русского богословия», 377-381.
21 Теория Мелера создала предпосылки для ньюменовского учения, т. к. предполагала непрестанное присутствие и откровение Духа Божия в Церкви.
* В перевода Гилярова было « ...на соборность единоверия», что не соответствовало оригиналу (l’unité de la foi universelle).
590
A.C. ХОМЯКОВ
нужден был в глазах всего мира и в собственных своих глазах надеть на себя личину римского деспотизма. Исторический изворот удался, но он оставил по себе неизгладимые следы. Первое оружие, употребленное в дело новосозданною властью, подложные Декреталии, вынесенные на свет неразборчивою совестью папы Николая I, взято было из целого склада подделок. Для защиты этих первых свидетельств понадобились новые подлоги; таким образом, целая система лжи возникла невольно от первого толчка, последовательно передававшегося из века в век в силу исторического закона, которого последствия доныне ощущаются. В самом деле, изучите подлоги, в которых основательно обвиняется романизм, и вы увидите, говорю это смело, что все до единого примыкают к одному средоточию, именно к тому исходному моменту, когда безначалие, укрываясь от собственных своих последствий, надело на себя личину неограниченного полновластия. Вникните в софизмы римской партии, и вы увидите, что все до единого направлены к одной цели — скрыть от глаз ту, все еще не затянувшуюся язву, которую нанес Западу раскол в конце восьмого или в начале девятого века.
Здесь-то настоящий источник той нравственной порчи, той окостенелости на месте правды, которыми в римском исповедании искажаются самые светлые души и опозориваются самые высокие умы (вспомним хоть бы знаменитого Боссюета). Нельзя судить их слишком строго. Мне самому в молодости эта постоянная лживость целой партии внушала негодование и отвращение; но позднее эти чувства сменились во мне искреннею скорбью и глубоким соболезнованием. Я понял, что ложь, как железная цепь, охватывала своими звеньями души, томимые жаждою правды; понял горестное положение людей, покорившихся печальной необходимости искажать истину, лишь бы спасти себе положительную веру и не впасть в протестантство, то есть не остаться при одной возможности или потребности религии без всякого реального содержания. Сам ученый Неандер42, эта благородная, любящая, искренняя душа, сказал же в ответе одному английскому писателю: «Вы еще верите в возможность объективной религии, а мы давно перешли за эту черту и знаем, что нет другой религии, кроме субъективной». Конечно, одинаково разумно было бы утверждать, что не может быть другого мира, кроме субъективного. Но, как бы то ни было, выслушав такое признание, всякий поймет и едва ли слишком строго осудит тех, которые по примеру Аллейса, уличив защитников Рима во множестве обманов, потом неожиданно сами переходят под римское знамя, предпочитая какую-нибудь, хотя бы даже полуживую религию полному отсутствию религии. Понятно также, почему романизм доселе не пал под ударами Реформы.
Несколько слов православного христианина о западных вероисповеданиях 591
Борьба еще длится, но характер ее изменился, вследствие того, что истощились нравственные силы воюющих. Отрицательною своею стороною протестантство окончательно подпало исключительному господству явного рационализма, а положительное содержание, в нем еще уцелевшее, расплывается в тумане произвольного мистицизма; сила беспощадной логики тянет его в бездну лжефилософского неверия и, не будучи в состоянии удержаться на этом скате, оно как будто с завистью оглядывается на романизм, который, по крайней мере, хотя на вид сохраняет еще положительное откровение. Отрицая Предание законное, не имея никакого единства живого ни в прошедшем, ни в настоящем, не будучи в состоянии предоставить ни несомненной веры для человеческой души, ни определенного учения для разума. Реформа беспрестанно меняет свою почву, переходя от одного положения к другому: она даже не смеет засвидетельствовать действительность и несомненность какой-либо истины, так как наперед знает, что на другой день ей придется, вероятно, разжаловать эту истину в простой символ, в миф или в заблуждение, порожденное невежеством. Подчас она еще заговаривает о своих надеждах, но в голосе ее слышится отчаяние. Романизм, по-видимому, более уверен в самом себе: не стесняясь требованиями добросовестности, он ловко увертывается от логических последствий испытываемых им обличений; но и он сознает себя пораженным в самое сердце невозможностью когда-либо оправдать те данные, на которые он ссылается как на доказательства непрерывного преемства своего Предания и своего учения, и необходимостью, в которую он поставлен, прибегать постоянно к неправде, чтоб укрыть от взоров незаконность своего исходного начала. Он ищет себе поддержки в господствующем невежестве, а еще более в невольном страхе, овладевающем теми, кому не представляется другого из него выхода, как только в рационалистический деизм протестантов; но он уклоняется от всякого пытливого исследования и приходит от него в ужас. Люди ученые видят это ясно, а неученые сознают смутно, хотя, может быть, и не отдают себе в этом отчета. И там, и здесь нравственная сила надломлена, прежняя борьба насмерть между двумя непримиримыми верованиями превратилась в какое-то рыцарское состязание притупленным оружием между двумя лицемерными невериями. Нельзя не сознаться, что при такой обстановке беспристрастный судья не решился бы осудить безусловно ни строгих умов, бросающихся в сомнение и нечестие как бы с отчаяния (по испытанной ими невозможности выбора между двумя учениями, одинаково лишенными истины), ни даже менее возвышенных душ, оправдывающих легкомыслие своего религиозного скептицизма таким же очевидным
592
А. С. ХОМЯКОВ
легкомыслием и едва прикрытым скептицизмом проповедников, несущих обязанность приводить их к вере. Так, с одной стороны, ученый Неандер отвергает всякую возможность объективной религии; славный Шеллинг43, один из гениальнейших умов не только нашего времени, но и всех времен, доказывает, что протестантство не может основать Церкви *; за ними целая толпа более или менее даровитых писателей утверждает, что вся история христианского учения есть не более как ряд заблуждений, хотя, впрочем, в основе ее лежит доля истины; и стоит лишь суметь извлечь ее оттуда, чего, конечно, до сих пор никто сделать не мог. С другой стороны, софисты, каков, например, граф де Местр, напустив целую тучу явной неправды об отношениях пап к соборам, серьезно уверяют вас, что если б не было пап, то Бог не смог бы сохранить единства веры**, и что поэтому папа представляется необходимостью во взаимных отношениях между Богом и людьми.
(Любопытно бы узнать, как мирится это учение с историею Авиньонского раскола?***) Далее, риторы, вроде Шатобриана и других писателей его школы, доказывают вам истину христианства великолепием обрядов, стройностью колокольного звона, особенно приятно ласкающего слух по вечерней заре, и поэтическим характером христианских легенд. Наконец, писатели с виду серьезные, каков, например, г. А. Николя****, которому я, впрочем, далеко не отказываю в подобающем ему уважении, берутся доказывать учение о чистилище и приводят как доказательства четыре ссылки — одну на Платона, другую на Виргилия, третью на Гомера и четвертую на Шатобриана, да сверх того (особенно сильное по своей убедительности) указание на тень Тирезия44, которого Улисс напоил бычачею кровью. При столь явном отсутствии в самой проповеди всякого убеждения, всякой добросовестности и серьезности, едва ли можно слишком строго осуждать скептицизм; по крайней мере, половинную долю обвинений, падающих на современное неверие, следовало бы по всей справедливости разложить на обе ветви раздвоившегося рационализма, то есть на романизм и на Реформу.
* В издательском примечании к русскому переводу — ссылка на лекцию 37 «Философии Откровения»
** В издательском примечании к русскому переводу laHa общая ссылка на трактат «О папе» с замечанием, что «автор, кажется, имеет в виду скорее общий смысл рассуждения де Местра, нежели какое-нибудь отдельное изречение».
*** 1378-1417 — период существования двух соперничающих пап в Риме и Авиньоне.
**** Ссылка в издательском примечании к русскому переводу (приводим ее в уточненном виде): Nikolas J.-J. A. Etudes philosophiques Sur le Christianisme. T. 2. De Purgatoire. Nouvelle ed. P. 1852.
Несколько слов православного христианина о западных вероисповеданиях 593
Напряженность борьбы в области слова значительно ослабела, но между враждующими сторонами продолжается глухая и, так сказать, подземная борьба. Нельзя их в этом винить, ибо примирение невозможно, а состязание логическими доводами, как доказал опыт, приводит к результатам, для обеих сторон одинаково невыгодным. Оттого и стараются они (да и трудно им поступить иначе) найти себе опору в союзе с политическими мнениями и стремлениями, ища поддержки, более или менее надежной, то в сочувствии народных масс, то в интересах престолов и привилегированных сословий. Мы видели не раз, видим и теперь, как та и другая сторона заискивает попеременно благорасположения мира, выставляя то любовь свою к порядку, то готовность свою обеспечить свободу, смотря по тому, какое начало берет верх над другим и что выгоднее — союз с правительствами или союз с народами. Мы видим также, как они одна под другую подкапываются взаимными обвинениями в более или менее враждебном расположении к господствующим началам, в надежде воспользоваться минутными увлечениями или благосклонностью властей и этим путем достигнуть победы, которой решительно не дает им ни полемика, ни проповедь. Так, например, подстрекательства к мятежам и готовность освящать незаконные посягательства, венчаемые успехом, ставились в укор романизму, думаю, впрочем, что напрасно. Так, с другой стороны, противники Реформы обвиняли ее попеременно, то в аристократизме ее стремлений (хотя она господствует в государстве наиболее демократическом в мире), то в революционном радикализме (хотя, как заметил Гизо, в наш век протестантские народы менее других подвергались революционной заразе), то в трусости перед государственною властью (хотя, как доказал тот же Гизо, народы протестантские далее всех раздвинули пределы гражданской и политической свободы). Этого рода средства, к сожалению, слишком часто употребляются в дело обеими сторонами, преимущественно же римскою партиею, которая, при сравнительно большей сосредоточенности в действии, долгим упражнением успела приобрести особенное искусство в политических маневрах и слишком часто следовала пагубному правилу, что цель оправдывает средства. Как бы то ни было, средства эти никогда не достигают цели. Я очень знаю, что Церковь любит порядок и молит Бога о ниспослании мира на землю *; но знаю и то, что воздавая Кесарево Кесарю **, она отнюдь и никогда не принимала на себя ручательства за вечность Империи. Знаю, что так как каждый христианин обязан перед Богом деятельно * Вероятно, подразумевается прошение ектеньи «о мире всего MÎpa... »
** Мф. 22,21; Мр. 12,17.
594
A.C. ХОМЯКОВ
заботиться о том, чтобы все его братья достигли возможно высокой степени благосостояния (как бы при этом он ни был равнодушен к собственному своему благополучию), то отсюда само собою вытекает и общее стремление целых народов, озаренных христианством, доставить всем сполна ту долю свободы, просвещения и благоденствия, какая доступна обществу и может быть достигнута правдою и любо- вию; но знаю также, что по отношению к Церкви это есть результат непрямой, а косвенный, к которому она должна относиться безразлично, не принимая в нем непосредственного участия, ибо ее цель, та к которой она стремится, стоит бесконечно выше всякого земного благополучия. Так чует сердце внутренним смыслом правды и благородством прирожденным душе всякого человека, а доводы разума только подкрепляют это непосредственное чувство. Есть какая-то глубокая фальшь в союзе религии с социальными треволнениями; стыдно становится за Церковь, до того низко упавшую, что она уже не совестится рекомендовать себя правительствам или народам, словно наемная дружина, выторговывающая себе за усердную службу денежную плату, покровительство или почет*. Что богач требует себе обеспечении для своих устриц и трюфелей, что бедняку хотелось бы, вместо черствого хлеба, несколько лучшей пищи — все это естественно и даже, может быть, вполне справедливо в обоих случаях, особенно в последнем; но разрешение этого рода задач дело человеческого разума, а не веры. Когда Церковь вмешивается в толки о булках и устрицах и начинает выставлять напоказ большую или меньшую свою способность разрешать этого рода вопросы, думая этим засвидетельствовать присутствие Духа Божьего в своем лоне, она теряет всякое право на доверие людей. Немало христианских держав исчезло с лица земли, а Китай насчитывает тысячелетия Существования, и в том числе целые века высокого благоденствия. В восьмом и девятом столетиях царство Оммиадов и Аббасидов45 цветущим состоянием и просвещением превосходило христианские народы; но принимать ли в соображение подобного рода факты, когда дело вдет об истине религиозной? Повторяю: напрашиваясь на союзы с политическими доктринами и подпираясь страстями, хотя бы самыми естественными, религиозные партии Запада только сами себя роняют. Правда, это может доставить им некоторый временный успех, но такого рода обманчивые выгоды обращаются в торжество для не* Кстати вспомнить знаменитую речь еретика Нестория, обращенную к Феодосию II: «Государь, дай мне землю, очищенную от еретиков, а я дам тебе небо. Помоги мне искоренить ересь, я помогу тебе сокрушить Персию». (Прим, автора.)
Несколько слов православного христианина о западных вероисповеданиях 595
верия и расширяют область скептицизма: ему подается основательный повод величаться перед верою тем покровительством, которое он ей оказывает и, вследствие этого, усиливается его пренебрежение к ней *. Таков характер борьбы в настоящую минуту.
Нравственное изнеможение становится с каждым днем более и более ощутительным. Невольный ужас, ввиду общей угрожающей им опасности, овладевает рационалистическими сектами Запада, и папизмом, и Реформою. Они все еще борются между собою (потому что не могут прекратить борьбы), но потеряли всякую надежду на торжество; ибо поняли, более или менее ясно, свою внутреннюю слабость. Перед ними быстро растет неверие, не то, которым отличался восемнадцатый век, не неверие властей, богачей и ученых, а неверие масс, скептицизм невежества — это законное исчадие рационализма, явного или переодетого, в продолжение стольких веков слывшего в европейском мире за веру. Страх, овладевший западными религиозными партиями, наталкивает их не на примирение (оно невозможно), а на переговоры о временных союзах; но этим только обличается слабость, расширяется область сомнения и увеличивается грозящая опасность. Люди благонамеренные и серьезные не раз как с той, так и с другой стороны, предлагали подобные сделки. Достаточно назвать два имени, представляющие собою сочетание самых высоких качеств сердца и ума: Радовица46 и Гизо. Первый в сочинении, отличающемся высоким беспристрастием и блистательным талантом **, убеждает протестантов заодно с римлянами ополчиться против неверия. Второй в начальных главах своих исследований о предметах нравственности (главах, богатых глубокими взглядами и проникнутых искренним сочувствием к нравственным потребностям человечества), уговаривает римлян заодно с протестантами противодействовать распространению нечестия. Он заявляет желание, чтоб обе партии соединились, не только обоюдною терпимостью, но и более крепкими узами любви, придавая этому последнему слову, очевидно, не то значение, в каком оно употребляется, когда * В этом отношении, самые низменные слои общества нив чем не уступают передовым. В1847 году трактирный слуга в Париже, толкуя со мною о вере, говорил мне: «Вы, конечно, понимаете, что всем этим побасенкам я нимало не верю; но мне было бы крайне неприятно, если б жена или дочь моя им не верили. Ведь, что не говорите, а женщина, не имеющая веры, ни к черту негодна!» Вот в уменьшенном размере образчик казенной религии, и, конечно, министр, говоря о целом народе, не мог бы выразиться лучше. (Прим, автора.)
** Gesprache ans der Gegenwarl (Разговоры о современных явлениях) (Прим, автора). Точнее: Radowitz J, Gesprache aus der Gegenwart uber Staat und Kirche. 4 Aufl. Stuttgart, 1851.
596
A.C. ХОМЯКОВ
говорится о широком братском союзе, обнимающем всех людей, не исключая ни магометан, ни язычников, каковы бы ни были их заблуждения. Но предполагаемое сближение обеих партий для совокупного действия было бы столь же бесполезно, как и их борьба. Самое стремление к такой сделке уже вредит делу, как верный признак страха, бессилия и отсутствия истинной веры. Христиане первых веков не испрашивали содействия маркионитов *47 или савеллиан. Лет сто тому назад ни паписты, ни протестанты даже не подумали бы приглашать друг друга действовать сообща. Ныне нравственная их энергия надломлена, и отчаяние наталкивает их на путь очевидно ложный; ибо не могут же они не понимать, что если (в чем я не сомневаюсь) одно христианство всесильно против неверия и заблуждения, то, наоборот, в десятке различных христи- анств, действующих совокупно, человечество с полным основанием опознало бы сознанное бессилие и замаскированный скептицизм.
Доселе никто еще не делал подобных предложений Церкви; смею надеяться, что и не сделает, и прибавлю решительно: Церковь не обратила бы на них никакого внимания. На широком пространстве нашего отечества мы насчитываем сограждан различных вероисповеданий, в том числе поляков-папистов и немцев-протестантов. Они могут быть совершенно равноправны с нами, нередко даже могут стоять и выше нас в порядке политического союза**. В Австрии, наоборот, наши братья по вере стоят на самой низкой степени. Дело понятное: Церковь никогда не предъявляла притязания на видное место в мире и в продолжение нескольких веков она даже слыла в Польше верою хлопскою в противоположность романизму — вере панской. Мы, как и братья наши, обязаны везде поддерживать общественный порядок и гражданский закон, не отвергая нигде, в делах мирских, содействия наших сограждан, к какому бы вероисповеданию они ни принадлежали. Но не так в делах веры. Как члены Церкви мы — носители ее величия и достоинства, мы — единственные, в целом мире заблуждений, хранители Христовой истины; Отмалчиваясь, когда мы обязаны возглашать глагол Божий, мы принимает на себя осуждение, как трусливые и неключимые рабы Того, Кто потерпел поношение и смерть, служа всему человечеству; но мы были бы хуже чем трусы, мы стали бы предателями, если бы * Последователей Маркиона.
** Такое положение стало складываться в Польше после Брестской унии 1596 г., когда потомки православных магнатов один за другим стали переходить в унию; это положение менялось по мере присоединения частей Речи Посполитой к Российской Империи.
Несколько слов православного христианина о западных вероисповеданиях 597
вздумали призвать заблуждение на помощь себе в проповеди истины и если бы, потеряв веру в божественную силу Церкви, мы стали искать содействия немощи и лжи. Как бы высоко ни стоял человек на общественной лестнице, будь он нашим начальником или государем, если он не от Церкви, то в области веры он может быть только учеником нашим, но отнюдь не равным нам и не сотрудником нашим в деле проповеди. Он может в этом случае сослужить нам только одну службу — обратиться.
Не подлежит никакому сомнению, что ни один христианин, пока он верит в истину своего исповедания, не отнесется иначе к иноверцу; а потому, когда две соперничествующие секты склоняют друг друга к союзу против неверия, они этим только заявляют, что неверие и смерть уже проникли в их недра. Таково теперь состояние всех западных исповеданий, несмотря на то, что, по-видимому, между ними, особенно в Англии, длится еще борьба.
Я исполнил долг, заступившись за Церковь против ложных обвинений, которых, однако, я не считаю за преднамеренные клеветы. Чтобы сделать опровержение вразумительным, я должен был развить отличительные свойства как православия, так и западного раскола, который есть не что иное, как замазанный рационализм, и представить современное положение религиозного вопроса в том свете, в каком он нам является. Как я сказал в начале, я не старался прикрыть враждебность мысли притворною умеренностью выражения. Я высказал смело учение Церкви и отношение ее к различным видам раскола; я откровенно выразил свое мнение о борьбе сект, ее свойстве и ее современном состоянии; но я смею надеяться, что никто не обвинит меня ни в страстной злонамеренности, ни в сознательной несправедливости.
Повторяю: я исполнил долг, ответив на обвинения, взведенные на Церковь, и прибавляю: исполнил долг в отношении к Церкви, а еще более в отношении к вам, моим читателям и братьям, которых, к несчастью, разобщило с нами заблуждение, начавшееся в давно минувших, из виду исчезнувших веках. Никакое опасение и никакое соображение не сдерживали моего пера; могу также сказать, что я взялся за него не из каких-либо выгод. Человека, не выставляющего своего имени, нельзя заподозрить в желании приобрести суетную известность или, точнее, заставить поговорить о себе.
Времена тяжки не потому только, что основы многих держав, по-видимому, колеблятся (ибо на глазах истории пало и, вероятно, падет еще немало могучих и славных наций); не потому, что от столкновений усложнившихся интересов волнуется мир (ибо внешняя сторона человеческой жизни во все времена представлялась такою же
598
А. С. ХОМЯКОВ
волнующеюся поверхностью); нет, потому тяжки времена, что размышление и анализ подточили основы, на которых покоются исстари людская гордость, людское равнодушие и людское невежество. Я сказал гордость, ибо рационалистическая философия рядом строгих умозаключений (которыми по праву может гордиться Германия) пришла в школе Гегеля, сама того не желая, к доказательству, что одинокий разум, познающий отношения предметов, но не самые предметы, приводит к голому отрицанию, точнее к небытию, когда отрешается от веры, т. е. от внутреннего познания предметов. Таким-то образом анализ, сокрушив людскую гордость, принуждает ее просить у веры того, чего не в состоянии дать ей один разум, действующий по законам логики, но оторванный от других духовных сил. Я сказал равнодушие и невежество, ибо душа человеческая, не довольствуясь принятием веры как наследства, преемственно переходящего из рода в род по слепой привычке, потребовала от нее свидетельств на ее права, то есть внутренней и живой гармонии ее положений, и убедилась в их подложности. Она опознала рационализм в том, что выдавалось ей за веру, опознала его в Реформе, почуяла его в папизме, и это было (как я, кажется, доказал) влечением к истине.
Западный раскол есть произвольное, ничем не заслуженное отлучение всего Востока, захват монополии Божественного вдохновения — словом, нравственное братоубийство. Таков смысл великой ереси против вселенскости Церкви, ереси, отнимающей у веры ее нравственную основу и по тому самому делающей веру невозможною.
Читатели и братья! От неведения или согрешения минувших веков перешло к вам пагубное наследство — зародыш смерти, и вы несете за него кару, не будучи прямо виновны, ибо вы не имели определенного познания того заблуждения, в котором оно заключалось. Вы много сделали для человечества в науке и в искусстве, в государственном законодательстве и цивилизации народов, в практическом осуществлении чувства правды и в практическом применении любви. Более того: вы сделали все, что могли, для человека в земном его бытии, увеличив среднюю долготу его жизни, и для человека в его отношении к Божеству, поведав Христа народам, никогда не слыхавшим Его Божественного имени. Честь и благодарение вам за ваши безмерные труды, плоды которых ныне собирает или соберет впоследствии все человечество. Но пагубное наследство, вами полученное, по мере развития неизбежных его последствий мертвит духовную жизнь, пока еще вас одушевляющую.
Исцеление в вашей власти. Конечно, пока самое сознание недуга будет встречать в господствующих предубеждениях и в неведении преграды своему распространению (а это продлится долго), нельзя
Несколько слов православного христианина о западных вероисповеданиях 599
ожидать исцеления массами; но отдельным личностям оно и теперь доступно. Итак, если кто из моих читателей убедился в истине моих слов, в верности данного мною определения исходной точки-раскола и рационалистического его характера, то умоляю его подумать и о том, что мало одного признания истины, а нужно еще принять и все практические последствия, из нее вытекающие; мало одного сознания в ошибке, а должно загладить ее в меру данной каждому возможности. Я умоляю его совершить нравственный подвиг вырваться из рационализма, осудить отлучение, произнесенное на восточных братьев, отвергнуть все последующие решения, истекшие из этой неправды, принять нас вновь в свое общение на правах братского равенства и восстановить в своих собственных недрах единство Церкви, дабы тем самым восстановить и себя в ее единстве и получить право произнести вместе с древней Церковью: «Возлюбим друг друга, да единомыслием исповемы Отца и Сына и Святаго Духа».
Недуг смертелен, но исцеление нетрудно, оно требует только акта справедливости. Захотят ли этого люди или предпочтут вековечить царство неправды, обманывая по-прежнему свою совесть и разум своих братьев?
Читатели, рассудите сами и для себя.
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
Андреев — Андреев Ф. Московская Духовная Академия и славянофилы // Богословский вестник. 1915. Т.З. С. 563-644.
Бартенев — <Бартенев П.> Первый визит Вильяма Пальмера в Россию. 1840-1841. (Из его Записок.) // Русский архив. 1894. Кн. 3. С. 78-98.
Бр. I — Несколько слов православного христианина о западных вероисповеданиях. По поводу брошюры г. Лоранси.
Бр. II — Несколько слов православного христианина о западных вероисповеданиях. По поводу одного окружного послания Парижского архиепископа.
Бр. III — Еще несколько слов православного христианина о западных вероисповеданиях. По поводу разных сочинений латинских и протестантских о предметах веры.
Бродский 1904, 1905 — Бродский Л. Письма протоиерея Б.Н. Попова о религиозных движениях в Англии // Христианское чтение. 1904. Апрель. С. 596-613; Май. С. 730-747; Июнь. С. 878-893 (к гр. Н.А. Протасову,
600
A.C. ХОМЯКОВ
1842-1854). 1905. Июнь. С. 888-905; Июль. С. 112-132; Сентябрь. С. 393-408 (к гр. А.П. Толстому, 1856-1862).
Гиляров — Кн. Ш<аховской> И. В. И. И. Гиляров-Платонов и А. С. Хомяков. По сочинениям и письмам Гилярова // Русское обозрение. 1895. ДЫ1. С.14-27.
Добротолюбие — Добротолюбие в русском переводе. Изд.2-е. М., 1900. Тт. 1-5.
Догматика — Яустин ПоповиЬ, архим. Др. Православна философ)а истине. Догматика Православие Цркве. Белград. Кн. I; 1980. Кн. II; 1978. Кн.Ш; 1978.
Образцов — Образцов П. О попытках к соединению английской епископальной церкви с православною // Православное обозрение. 1866. Янв. С. 41-70; Февр. С. 169-201.
ОГ — Письмо к редактору “L” “UnionChretienne”. По поводу речи отца Гагарина, иезуита.
Пальмер — Бартенев П. К истории сношенний с иноверцами. III. Вероисповедание Пальмера. IV. Письмо Пальмерак графу А.П. Толстому // Русский архив. Кн. 2. С. 16-24.
ПБ — Письмо к г. Бунзену.
ПЛ — Письмо к Монсеньеру Лоосу, епископу Утрехтскому.
ПО — Православное обозрение (М., 1860-1891).
Се. Серафим — Беседа преп. Серафима о цели христианской жизни // Русский паломник (PlatinaCA). 1900. Л>2.
Тютчев — Федор Иванович Тютчев. Кн. 1. М., 1988 (ЛН. Т. 97).
Флоровский — Флоровский Г., прот. Пути русского богословия. Париж, 1937.
ЦО — Церковь одна.
Baron — Baron Р., Г abbe. Un théologien laic ortodoxe russe au XlX-e siecle Alekxis Stepanovitch Khomiakov (1804-1860). Sa ecclesiologie — expose et critique. Roma, 1940 (OCA, Jb 127).
Birkbeck — Birkbeck W.I. Russia and the English Chuch. During the Last Fifty Years. Vol. 1. London, 1895.
Gratieux 1, 2,3 — Gratieux A. A. S. Khomiakov(1804-1860) et le Mouvement Slavophile. Vol. 1, 2. Paris, 1939 (Unam Sanctan, N 5, 6).
Le Mouvement Slavophile a la veille de la Revolution. Dmitri A. Khomiakov. Paris, 1953 (Unam Sanctan, N25).
EL — Khomiakov A.-S. L’Eglise latine et le protestantisme au point de vue de Г Eglise d’Orient. Lausanne et Vevey, 1872.
Ir— Irenikon. Amay-sur-Meuse-Chevetogne, 1924.
OCA — Orientalia Christiana Analecta. Roma, 1937 — (NN 101).
OOP— Orientalia Christiana Periodica. Roma, 1937.
Несколько слов православного христианина о западных вероисповеданиях 601
O’Leary — O’Leary P. P., OP. The Triune Church. A Study in the Ecclesiology of A. S. Khomiakov. Freiburg, 1982 (Okumenische Beihefte zur Freiburger Zeitschrft fur Rhilosophie und Théologie, 16).
PC — Patrologiae cursus completus. Accurante T.-P. Migne. Series graeca. T. 1-161. Parisiis, 1857-1865.
Podskalsky — Podskalsky G. Griechische Théologie in der Zeit der Turkenher- rshaft (1453-1821). Die Ortodoxie im Spannungsfeld der nachreformatorischen Konfessionen des Westers. München, 1988.
Suttner — Suttner E. Offenbarung, Gnade und Kirche bei A. S. Chomiakov. Wurzburg, 1967 (Das ostliche Christentum.N. F. H. 20).
Florovsky I, II, III — Florovsky G. Collected Works. Belmont, Mass. Vol. I. Bible, Church, Tradition: An Eastern Orthodox View. 1973. Vol. II.
Christianity and Culture. 1974. Vol. III. Creation and Redemption. 1975.
К. Н. БАТЮШКОВ
О лучших свойствах сердца*
Масье**, воспитанник Сикаров***, на вопрос: «Что есть благодарность?» — отвечал: «Память сердца». Прекрасный ответ, который еще более делает чести сердцу, нежели уму глухонемого философа. Эта память сердца есть лучшая добродетель человека, и не столь редка, как полагают некоторые строгие наблюдатели. «Человек добр по природе» ,— кричал женевский мизантроп**** — и клеветал общество, следственно, клеветал человека; ибо он создан жить в обществе, как муравей, как пчела: все его добродетели относительны к ближнему и отвлеченно от оного существовать не могут, как рука, отделенная от тела. «Человек есть создание злое» 1,— говорят другие моралисты и приводят множество свидетельств о разврате и злобе сердца нашего; но я не верю им и не могу верить, чтобы общество походило на скопище свирепых зверей. Живут ли тигры вместе? Строят ли города? Нет. Ясное доказательство, что злоба не связывает, но разлучает. Кто живет в обществе? Незлобные создания: голубь, муравей, бобр, умный слон, и каждое из сих созданий имеет какое-нибудь качество, которое украшает человека и есть одно из незыблемых оснований общежительности.
Первый наш долг: благодарность к Творцу. Но для исполнения его надобно начать с людей. Провидению угодно было связать чрез * Написано осенью 1815 г. Впервые: СО, 1816, ч. 29, № 14, с. 14-19 (подп.: NN).
** Масье Жан — ученик аббата Сикара, ему принадлежит афоризм: «Благодарность — это память сердца». Батюшков многократно возвращался к этому выражению («Мой гений», «Мысли», «Путешествие в замок Сирей»).
*** Сикар (1742-1822) — аббат, с успехом занимавшийся обучением глухонемых.
**** Имеется в виду Руссо, который восславил «естественного человека» и призывал предпочесть природу обществу, как источнику пороков и зла. Ср. суждения Батюшкова о Руссо и Ларошфуко в статье «Нечто о морали, основанной на философии и религии».
О лучших свойствах сердца
603
общество все наши отношения к небу. Быть виновником бытия не есть достоинство перед Богом и людьми; но принять младенца из рук матери в минуту его рождения, от колыбели до зрелых лет служить ему защитою и опорою, передать ему в наследие имя, звание, сокровища, землю, праотцами возделанную: вот обязанность отца. Благодарность есть обязанность детей. На подобных взаимных обязанностях основано все благосостояние общества. Все основания его суть добро, и чем более добра, тем тверже его основание, ибо одно добро имеет здесь прочность и постоянность. Зло есть насильственное состояние. Под шумом ли бури или при сладостном сиянии солнца зреют нивы? Как сила плодородия имеет свое основание в теплоте, так сила гражданственности основана на добре.
Многие умы наблюдали человека в одном тесном кругу, в котором действовали сами. Ларошфуко*, остроумнейший из писателей остроумного века, основал мораль свою на подобных наблюдениях. Но я спрашиваю: если бы натуроиспытатель глядел на муравья во время его странствования за былинкою или за зерном, наблюдал его ссоры с товарищами, а забыл заглянуть в огромное гнездо, где все имеет вид порядка, стройности, где все части относятся совершенно одна к другой и составляют прекрасное целое, то какое произнес бы он суждение о трудолюбивом насекомом? Вот, что сделал Ларошфуко, говоря о человеке и наблюдая за ним в прихожей Тюльерийского замка2. Но прихожая не есть вселенная, и человек придворный не есть лучший из людей.
Впрочем, меня никто не уверит, чтобы чувство благодарности было следствием нашего эгоизма, и я не могу постигнуть добродетели, основанной на исключительной любви к самому себе. Напротив того, добродетель есть пожертвование добровольное какой-нибудь выгоды; она есть отречение от самого себя. Есть добродетели, уму принадлежащие, другие — сердцу; благодарность, лучшая из наших добродетелей, или, вернее, отголосок многих душевных качеств, принадлежит сердцу. «Ты мне сделал добро: следовательно, я тебя люблю» — так говорит благородное сердце. Эгоист иначе: «Ты мне сделал добро; но будешь ли мне делать добро и впредь? добро, тобою сделанное, не требует ли пожертвований с моей стороны?» Вот слова эгоиста; они совершенно противны благодарности, которая тем прелестнее, тем святее, чем менее рассуждает, чем менее торгуется с пользою личною и более предается одному сердечному движению.
* Ларошфуко Франсуа (1613-1680) — французский писатель-моралист, автор «Мемуаров» и «Размышлений или максим», в которых нравственная природа человека расценивается пессимистически и анализируются эгоистические импульсы поведения.
604
К. Н. БАТЮШКОВ
Сердца, одаренные глубокою или раздражительною чувствитель- ностию, часто не знают средины; для них все есть зло и добро: видят совершенный порядок в обществе — или отсутствие оного — скорее последнее.— Чувствительный человек, страдавший в течение всей жизни, делается наконец мизантропом и убегает в дремучие леса от взоров людей неблагодарных. Там возносит он клеветы на все человечество, оскорбившее его сердце, и в гневе своем забывает, что он сам есть человек, то есть создание слабое, доброе, злое и нерассудительное; луч божества, заключенный в прахе; существо, порабощенное всем стихиям, всем изменениям нравственным и физическим. Но пусть мизантроп приведет себе на память всю жизнь свою от колыбельных дней до той страшной эпохи, когда сердце его воскликнуло в гневе: «Человек зол, и люди подобны тиграм!» — пусть приведет он на память и младенчество, и юношество, и зрелый возраст, в котором воля и рассудок начинали заглушать голос страстей; пусть он спросит себя: «Или я не нашел добрых и честных людей в течение целой жизни? Или я лучше и добрее всех людей, имею все добродетели и все качества, и чужд страстей, и чужд всего низкого и порочного?» — «Нет,— скажет ему рассудок и опыт,— и ты человек, и ты заплатил человечеству дань пороков, слабости и страстей; ты не ангел, ты и не чудовище». Опыт и рассудок показывают нам редкие добродетели, и часто в сердце порочном наблюдатель чудес нравственных с неизъяснимою радостию открывает яркие лучи душевной доблести: великодушие, сострадание, презрение к корысти и тысячу прелестных качеств, которые примиряют его с порочным и с небом, создавшим человека не для одних преступлений.
Кто из нас, отложа все предрассудки и все предубеждения, не сосчитает несколько примерных людей, утешивших собою человечество? Не станем искать героев добродетели в истории; поищем их вокруг себя — и найдем, конечно! Курций3 бросился в пропасть, но Рим на него смотрел. Леонид4 обрекает себя смерти, но все отечество (и какое отечество? Спарта!) об нем в страхе и надежде. Долгорукий * раздирает роковую бумагу в присутствии разгневанного монарха; но он совершает подвиг свой в сенате, окруженный великими людьми, достойными его и первого владыки в мире. Прекрасные подвиги, достойные подражания и слез удивления — недокупных, сладостных, божественных слез! — Теперь спрашиваю: если мы удивляемся великим делам на великом поприще, если веруем добродетели, твердости душевной, бескорыстию в великих обстоятельствах, то почему не веровать им * Долгорукий Яков Федорович (1659-1720); на посту председателя ревизион- коллегии проявил смелость, о которой ходили легенды.
О лучших свойствах сердца
605
в малых? Добродетель под спудом не есть ли добродетель? Бедный, который делится последними крохами с нищим; сестра милосердия, в душной больнице стоящая с сосудом врачевания при ложе врага ее отечества; смелый и человеколюбивый врач, испытующий свое искусство и терпение в дальней хижине дровосека, без свидетелей своего доброго дела, кроме одного в небесах и другого в груди своей,— все эти люди, обреченные забвению, не суть ли добродетельные люди? И тот, кто беспристрастною рукою начертывает имена их в книге судеб, не напишет ли их наряду с именами Говарда*, Лас Казаса, Еропкина** и других людей, которых добродетель и человечество называют своими. Монтань заметил справедливо***, что лучшие подвиги храбрости теряются в неизвестности: один похищает знамя,— имя его гремит в рядах; но сотни неустрашимых погибли перед ним и кругом его... Перенесите сей порядок в мир нравственный. Лас Казас спасает любезных своих американцев от рабства,— он бессмертен. Бедный миссионер в снегах канадских бродит из шалаша в шалаш, из степи в степь; окруженный смертию, проповедует Бога и утешает страждущих: каких? Семью дикого или изгнанника, живущего на неизвестном берегу безыменной реки или озера. Сей смиренный воин Христа не есть ли великий человек в полном нравственном смысле? Но к чему нам переноситься в дальные страны? Здесь, кругом нас, кто не испытал, что есть добрые люди, что в обществе есть добродетели редкие, посреди страстей, посреди разврата и роскоши: одно злое сердце может в них сомневаться; одно жестокое сердце не находило сердец нежных.
И в странах отдаленных, и в дебрях, незнакомых взорам человека, родятся цветы: на диких берегах Амура, среди мхов и болот выходит прелестный цветок, до сих пор неизвестный любопытному испытателю природы; медленно распускается он под кротким веянием летнего ветерка; наконец, украшение пустыни, цветок увядает:
В пустынном воздухе теряя запах свой!****5
* Говард Джон (1726-1790) — английский филантроп, посвятивший жизнь обследованию и улучшению быта в европейских тюрьмах и больницах (в том числе и в России). Умер в Херсоне.
** Лас Казас Варфоломей (1474-1566) — испанский священник, епископ в Мексике, самоотверженно боровшийся против злоупотреблений и жестокостей колонизаторов.
Еропкин Петр Дмитриевич (1736-1805) — сенатор, генерал-аншеф, осуществлявший правительственные мероприятия в Москве по борьбе с чумой 1771 г.; проявил мужество и гуманность, отказался от награды в 4000 душ крепостных.
*** Имеются в виду «Опыты» Монтеня, кн. II, гл. XVI
**** Стих из элегии Жуковского «Сельское кладбище».
606
К. Н. БАТЮШКОВ
Но семена его, падая на землю, расцветают с первою весною в новой красоте, в новом убранстве. Вот истинная эмблема сей добродетели, не известной человекам, но не потерянной для человечества; ибо ничто доброе здесь не теряется, подобно как ни одна былинка в природе6: все имеет свою цель, свое назначение; все принадлежит к вечному и пространному чертежу и входит в состав целого в нравственном мире. В роскошном Париже, в многолюдном Лондоне и Пекине та же самая сумма или то же количество добра и зла, по мере пространства, какое и в юртах кочующих народов Сибири или в землянках лапландцев. Добродетельный старец (Мальзерб*) защищает монарха, покинутого друзьями, родственниками, дворянством, целым народом; он защищает его под лезвием мечей, при проклятии озлобленных тиранов (но в виду вселенной и, так сказать, в присутствии потомства). В ту же самую минуту — сделаем сие предположение — лапландец пробегает на лыжах необъятное пространство в трескучий мороз, посреди ужасной вьюги: зачем? Чтобы принести несколько пищи бедному семейству друга своего, утешить больную вдовицу и спасти от явной смерти грудного младенца. Мальзерб и лапландец равны перед тем, кто их создал, равны перед лицем добродетели и правосудия небесного: оба жертвуют жизнию для доброго дела.
Нечто о морали, основанной на философии и религии**
Есть необыкновенная эпоха в жизни; иные ранее, другие позже испытали мучение и сладость, ей особенно свойственные. Я хочу говорить о том времени, в которое человек, посредством опыта * Мальзерб Кретьен Гийом (1721-1794) — министр при Людовике XVI; остался верен королю во время революции и защищал его; был казнен якобинцами.
** Написано во второй половине 1815 г. Впервые напечатано: РМ, 1815, № 12, без подписи автора, с указанием «русское сочинение» и французским эпиграфом из Ж. Лабрюйера: (даем в переводе): «Быть в течение своей жизни апостолом только одного человека — это не значит напрасно жить на земле или тщетно ее бременить». Статья сопровождена аннотацией издателя: «Автор скрывает имя свое, но и в прозе узнают поэта». В последующей публикации в СО (Сын Отечества. — прим, вост.) 1816, № 9, статья также была сопровождена хвалебным примечанием издателя. Для Батюшкова светская философия — это философия материалистическая; поэтому, отвергая сенсуалистов, стоиков, гедонистов, просветителей, он отвергает и философию как таковую. В это же самое время Жуковский увлекается немецкой идеалистической философией, о которой Батюшков мог знать только понаслышке и которой не симпатизировал. Религиозность Батюшкова, в отличие от Жуковского этого периода, сочетается с пессимизмом.
Нечто о морали, основанной на философии и религии
607
и страстей, получает новое нравственное существование; когда, разодрав завесу сомнений, он открывает новое поприще, становится на новый рубеж, озирает с него протекшее и будущее, сравнивает одно с другим и решается протекать остальное поприще жизни с светильником веры или мудрости, оставляя за собою предрассудки легкомыслия, суетные надежды и толпу блестящих призраков юности.
Скоро и невозвратно исчезает юность, это время, в которое человек, по счастливому выражению Кантемира1, еще новый житель мира сего *, с любопытством обращает взоры на природу, на общество и требует одних сильных ощущений; он с жаждою пьет тогда в источнике жизни, и ничто не может утолить сей жажды: нет границы наслаждениям, нет меры требованиям души, новой, исполненной силы и не ослабленной ни опытностью, ни трудами жизни. Тогда все делается страстию, и самое чтение. Счастлив тот, кто найдет наставника опытного в оное опасное время, наставника, коего попечительная рука отклонит от порочного и суетного; счастлив тот еще более, кто сердце спасет от заблуждений рассудка: ибо в юности сердце есть лучшая порука за рассудок. Одна опытность дает рассудку и силу, и деятельность. Во время юности и огненных страстей каждая книга увлекает, каждая система принимается за истину, и читатель, не руководимый разумом, подобно гражданину в бурные времена безначалия, переходит то на одну, то на другую сторону.— Сомнение не существует и не может существовать; ибо оно уже есть следствие сравнения, для которого нужны понятия, целый запас воспоминаний. Те моралисты, которые говорят сердцу, одному сердцу; те политики, которые нападают софизмами на все предрассудки без изъятия и поражают зло стрелами сатиры или палицею железного человека [Смотри мечтания Мерсье под названием: «L’an 2440».]**, невзирая ни на лица, ни на условия и законы общества, суть самые опаснейшие. Блеск остроумия исчезает; одно убедительное красноречие страстей, им возбуждающее их, оставляет в сердце сии глубокие следы, часто неизгладимые [Вот почему чтение Вольтера менее развратило умов, нежели пламенные мечтания и блестящие софизмы Руссо: один говорит беспрестанно уму, другой сердцу; один угождает суетности и скоро утомляет остроумием; другой никогда не может наскучить, ибо всегда пленяет, всегда убеждает или трогает: он во сто раз опаснее.].
* У А. Д. Кантемира в VII сатире: «новый житель света».
** Железный человек — персонаж социально-утопического романа французского писателя-руссоиста Л.-С. Мерсье (1740-1814) «2440-й год».
608
К. Н. БАТЮШКОВ
Но время чтения исчезает; ибо пресыщенное любопытство утомляется. За сим следует непосредственно эпоха сомнений. Сомнение мучительно; оно есть необыкновенное состояние души и продолжительно не бывает. Надобно решиться мыслящему человеку принять светильник мудрости (той или другой школы); надобно запастись мудростию человеческою или небесными утешениями, ибо он видит, он чувствует, что для самой ограниченной деятельности в обществе надлежит иметь несколько постоянных нравственных истин в опору своей слабости. К несчастию,— или к счастию, может быть, ибо кто изведал все пути промысла? — мы живем в печальном веке, в котором человеческая мудрость недостаточна для обыкновенного круга деятельности самого простого гражданина; ибо какая мудрость может утешить несчастного в сии плачевные времена и какое благородное сердце, чувствительное и доброе, станет довольствоваться сухими правилами философии или захочет искать грубых земных наслаждений посреди ужасных развалин столиц, посреди развалин еще ужаснейших — всеобщего порядка и посреди страданий всего человечества во всем просвещенном мире? Какая мудрость в силах дать постоянные мысли гражданину, когда зло торжествует над невинностию и правотою? Как мудрости не обмануться в своих математических расчетах (ибо всякая мудрость человеческая основана на расчетах), когда все ее замыслы сами себя уничтожают? К чему прибегает ум, требующий опоры? К каким постоянным правилам или расколам древней или новой философии? По какой системе расположить свои поступки, связанные столь тесно с ходом идей политических, превратных и шатких? И что успокоит его? Какие светские моралисты внушат сию надежду, сие мужество и постоянство для настоящего времени, столь печального; для будущего, столь грозного? Ни один, смело отвечаю: ибо вся мудрость человеческая принадлежит веку, обстоятельствам. Она подобна тем нежным растениям, которые прозябают, цветут и украшаются плодами под природным небом; но в земле чуждой, окруженные несвойственными растениями, при веянии малейшего ветерка, скудеют листьями и вянут беспрестанно. Слабость человеческая неизлечима, вопреки стоикам, и все произведения ума его носят отпечаток оной. Признаемся, что смертному нужна мораль, основанная на небесном откровении, ибо она единственно может быть полезна во все времена и при всех случаях: она есть щит и копье доброго человека, которые не ржавеют от времени.
И к чему все опыты мудрости человеческой? К чему советы и наблюдения зоркого разума? Достаточны ли они для человечества вообще и для человека частно во время его странствования по бурному морю жизни? К чему, например, сельскому жителю вся мудрость
Нечто о морали, основанной на философии и религии
609
и опытность Дюкло? * К чему тонкие замечания Ларошфуко, которого книга, по словам и самих светских людей, сушит сердце? К чему все эти истины, основанные наложных понятиях? Ибо для мудрецов сих и дружба, и любовь, и чувство сына к отцу, и нежнейшее чувство матери к своему рождению: одним словом, благодарность, бескорыстие и все, что человечество имеет драгоценного, прекрасного, великого, все позывы великой души, все невольные движения и тайные пожертвования благородного сердца,— все есть следствие корысти.
Другие светские моралисты повторяли одни и те же мысли или (например, Гельвеции2) давали им обширнейшее распространение, но вечно ложное [Число понятий моральных и политических,— говорит Ансильон**,— весьма ограничено; вообще мало понятий в обращении. Каждое поколение выбивает монету или, лучше сказать, переменяет только штемпель, а металл все тот же]. Они опечалили человечество, они ограбили его, сии дерзкие и суетные умы: ибо что говорили они? Будь счастлив по нашим правилам.— Согласен, следую им слепо; но я все не доволен ни судьбою, ни сердцем своим. Что же мне остается? — Терпение,— отвечали они и отсылали нас к стоикам.
Вот в чем совершенно заключается вся нравственная теория новейших мечтателей, которую опроверг другой мечтатель [Руссо], отступник от веры, отступник от философии. Ни слова в утешение; ибо где обрести его? В совести! — кричали они.— Согласен; но кто утешит эту мать, прижавшую к груди своей трепетного младенца, бегущую из столицы, объятой пламенем? Кто утешит этого отца, супруга, который под развалинами дома своего оставляет все, что имел: и детей, и жену, и все блага жизни, все надежды свои? Здесь совесть будет существо отрицательное. Она будет спокойна у невинного страдальца, но слезы его прольются на прах разрушенного счастия... взоры его обратятся к небу; там найдет он ответ на вопросы отчаянного сердца или оно погибнет: здесь нет середины.
Стоическая система ложна, ибо мораль ее основана на одном умствовании, на одном отрицании; она ложна потому, что беспрестанно враждует с нежнейшими обязанностями семейственными, которые основаны на любви, на благоволении. Пусть будет она лучшая из древнейших систем: ибо она внушает человеку твер* Дюкло Шарль Пино (1704-1772) — французский писатель и историк, автор рационалистического «Размышления о нравах этого века» (1751); как моралист был близок Лабрюйеру и Ларошфуко.
** Ансильон Ж. П. (1767-1837) — французский писатель; в примечании Батюшкова имеется в виду его статья «литераторы».
610
К. Н. БАТЮШКОВ
дость, мужество, постоянство, без которых нет добродетели; ибо она указует смертному высокую цель и Бога на конце поприща жизни, проведенной в правде, в трудах, в отрицании самого себя; но сердцу — она ничего не сказывает. Все моральные истины должны менее или более к нему относиться, как радиусы к своему центру, ибо сердце есть источник страстей, пружина морального движения. Ум должен им управлять; но и самый ум (у людей счастливо-рожденных) любит отдавать ему отчет, и сей отчет ума сердцу есть то, что мы осмелимся назвать лучшим и нежнейшим цветом совести [Вот в чем заключали все учение стоики: «Есть Бог, следственно, он создал человека. Он создал его для себя, создал таковым, чтобы он соделался правосудным и счастливым на земли; следственно, человек может познать истину и может посредством мудрости своей возвыситься до Бога, который есть верховное благо».— Мы приглашаем прочитать опровержение Монтаня системы Эпиктетовой * и Паскалево опровержение Монтаня и Эпиктета**3. Християнский мудрец сравнивает обе системы; заставляет бороться Монтаня с Эпиктетом и обоих поражает необоримыми доводами4]. Есть другой род моралистов: они принадлежат к школе Эпикуровой (новейшие те, которые не руководствовались истинами Откровения и повторяли только сказания древних [«Во всем,— говорит Монтань (если не ошибаюсь),— мы влечемся по следам древних, как малые дети за школьным учителем на гулянье». В недавнем времени в Германии воскресили *** всю мечтательную философию Платона под другим именем.]. Французские писатели осьмогонадесять века большею частию расположили мораль свою по учению сего мудреца; они желали распространить ее влияние на все состояния, на все случаи жизни, могущие постигнуть человека в обществе. Система Эпикурова заключается в следующем предложении: «Человек не может возвыситься до существа верховного; его наклонности беспрестанно противоречат закону; он влечется невольно к видимым благам и ищет в них благополучия, даже в вещах самых гнуснейших. Итак, все неверно: истинное благо подлежит сомнению, и это ведет нас к познанию, что не можно иметь постоянного правила для нравов, * В своих «Опытах» Монтень полемизировал с философией стоицизма и защищал гедонизм.
** Паскаль в «Мыслях» рассматривал человеческие срасти и желания как сферу греховности и зла. Религиозно-этическая система Паскаля развита в его «Мыслях», где доказывается двойственность человеческой природы (душа и тело), ничтожество человека перед лицом непостижимой вселенной и ее законов, эфемерность и своекорыстие человеческих страстей и желаний.
*** Имеется в виду шеллингианство.
Нечто о морали, основанной на философии и религии
611
ни точности в науках». Монтань, великий защитник сего, представляет нам стоическую добродетель в виде ужасного пугалища; а свою науку называет игривою, чистосердечною, простою и проч. Следуя тому, что ей нравится, говорит он, играет она небрежно с дурными и счастливыми случайностями жизни, покоится сладостно на лоне праздности, откуда показывает людям путь к истинному на земле благополучию. Неведение и нелюбопытство,— восклицает он,— вот два мягкие изголовья для головы счастливо образованной!
Убежденная в сей истине толпа философов-эпикурейцев, от Монтаня до самых бурных дней революции, повторяла человеку: «Наслаждайся! Вся природа твоя, она предлагает тебе все сладости свои, все упоения уму, сердцу, воображению, чувствам; все, кроме надежды будущего, все твое,— минутное, но верное». Но где же сии сладости, сии наслаждения беспрерывные, сии дни безоблачные, сии часы и минуты, сотканные усердною Паркою из нежнейшего шелка, из злата и роз сладострастия? где они, спрашивает сластолюбивый в тишине страстей своих. Где и что такое эти наслаждения, убегающие, обманчивые, непостоянные, отравленные слабостию души и тела, помраченные воспоминанием или грустным предвидением будущего? К чему ведут эти суетные познания ума; науки и опытность, трудом приобретенные? Нет ответа, и не может быть!
Заглянем в самое сердце человека просвещенного и счастливого по понятиям мира. Например: кто был просвещеннее и счастливее Горация ’’ и кто страдал, подобно ему? Природа лелеяла его, как любимое дитя свое. Мы знаем его жизнь. Судьба, испытавшая его в юности, осыпала всеми дарами и славы, и богатства в зрелые лета. Дружество Августа и Мецената6, наслаждения роскошного двора, общее уважение к великому таланту, здоровье неизменяющее, друзья, любезные сердцу и уму и в верности подобные благосклонной фортуне, прелестные женщины, готовые увенчать миртами любимца монархова и муз, и, что всего лучше, мудрость, удовлетворительная для всех случайностей счастия, мудрость, которая открыла золотую середину во всех вещах, истинный философский камень. Чего бы недоставало? Но счастливец, при всех дарах фортуны, при всей философии, скучал; ибо сердце человеческое имеет некоторый избыток чувств, который нередко бывает источником живейших терзаний. Наслаждение нас съедает,— говорит Монтань*, — сердце скоро пресыщается. «Юноша, наливающий фалернское, дай горького!» — восклицает Катулл7, увенчанный розами, пресыщенный на пиршестве:
* Слова из «Опытов» Монтеня (кн. II, гл. XX).
612
К. Н. БАТЮШКОВ
Minister vetuh, puer, Falerni Inger’mi calices amariores
[Служитель-мальчик, принеси мне чаши // С более горьким старым Фалернским (лат.).] *.
Так создано сердце человеческое, и не без причины: в самом высочайшем блаженстве, у источника наслаждений, оно обретает горечь. И это испытал Гораций. Нигде не мог он найти спокойствия: ни в влажном Тибурек, ни в цветущем убежище Мецената”, ни в граде, ни в объятиях любовницы, ни в самих наслаждениях ума и той философии, которую украсил он неувядаемыми цветами своего воображения; ибо если науки и поэзия услаждают несколько часов в жизни, то не оставляют ли они в душе какой-то пустоты, которая охлаждает нас к видимым предметам и набрасывает на природу и общество печальную тень? [«В Египте я знал жреца, который, истощив всю жизнь свою на познание начала и конца вещей мира сего, сказал мне с глубоким вздохом: — Горе тому, кто захочет снять покрывало с лица природы! Горе тому, для кого уже не существует то очарование, которое предрассудки и нужды навели на предметы мира! Вскоре душа его, поблеклая и томная, в самой жизни найдет ничтожество, ужаснейшее из всех наказаний. При сих словах слезы навернулись на глазах, и он сокрылся в густоте леса».— «Путешествие младшего Анахарсиса» **.
Это тягостное состояние души нередко бывает известно людям добрым и образованным. Что избавит их от сего мучения? — Религия.]
Где же истинное блаженство? Увидим далее. Мы испытали, что эпикурейцы не обрели его за чашею наслаждения, ни стоики в бесстрастии и в непреклонной суровости нравов (ибо человек создан любить). Никто не нашел блаженства: ни умный, ни сильный, ни богатый в чертогах, ни бедный в хижине своей; ибо и тот, кто блистает в пурпуре, и тот, кто таил всю жизнь свою в убогом шалаше, говорит Гораций, не могут назваться счастливыми.
Где же это совершенное благополучие, которого требует сердце, как тело пищи? Оно нигде не находится вполне,— отвечает опытность всех времен и всех народов. Человек есть странник на земли,— говорит святый муж,— чужды ему грады, чужды веси, чужды нивы * Начало XXVII стихотворения Катулла, которое впоследствии было переведено Пушкиным («Мальчику» — «Пьяной горечью фалерна...»).
** « Путешествие молодого Анахарсиса по Греции », роман фарнцузского ученого и писателя аббата Ж.-Ж. Бартелеми (1716-1795).
Нечто о морали, основанной на философии и религии
613
и дубравы: гроб его жилище вовек. Вот почему все системы и древних и новейших недостаточны! Они ведут человека к блаженству земным путем и никогда не доводят. Систематики забывают, что человек, сей царь, лишенный венца, брошен сюда не для счастия минутного; они забывают о его высоком назначении, о котором вера, одна святая вера ему напоминает. Она подает ему руку в самих пропастях, изрытых страстями или неприязненным роком; она изводит его невредимо из треволнений жизни и никогда не обманывает: ибо она переносит в вечность все надежды и все блаженство человека. Лучшие из древнейших писателей приближились к сим вечным истинам, которые святое откровение явило нам в полном сиянии.
И горе тому, кто отвращает взоры свои! Собственное сердце его накажет: чем оно чувствительнее, чем благороднее, тем более и сильнее будут его терзания; ибо ни дары счастия, ни блеск славы, ни любовь, ни дружество — ничто не удовлетворит его вполне. В новейшие времена Руссо, одаренный великим гением, тому явный и красноречивый пример. Он нигде не обретал благополучия; ибо всю жизнь искал его не там, где надлежало. Слава учинилась ему бременем, люди и общество ненавистными: ибо он оскорбил их неограниченною гордостию. Любовь земная не могла насытить его жадного сердца; самая дружба его терзала. Оскорбленный, растерзанный всеми страстями, он покидал общество, требовал счастия в объятиях природы, вопрошал безмолвные леса, скитался при шуме клубящихся водопадов, в часы румяного утра и прохладного вечера; но не мог успокоить своего сердца. В обществе напрасно облекается он в мантию стоиков, напрасно подражает им в твердости; собственное сердце ему изменяет. Одна религия могла утешить и успокоить страдальца; он знал, он чувстовал эту истину, и, жертва неизлечимой гордости, отклонял беспрестанно главу свою от легкого и спасительного ярма. Красноречивый защитник истины (когда истина не противоречила его страстям), пламенный обожатель и жрец добродетели, посреди величайших заблуждений своих, как часто изменял он и добродетелям и истине! Кто соорудил им великолепнейшие алтари и кто оскорбил их более в течение жизни своей и делом, и словом? Кто заблуждался более в лабиринте жизни, неся светильник мудрости человеческой в руке своей? Ибо светильник сей недостаточен; один луч веры, слабый луч, но постоянный, показывает нам вернее путь к истинной цели, нежели полное сияние ума и воображения.
Поклоняться добродетели и изменять ей, быть почитателем истины и не обретать ее — вот плачевный удел нравственности, которая не опирается на якорь веры. Одно заблуждение рождает другое.
614
К. Н. БАТЮШКОВ
Руссо начал софизмами, кончил ужасною книгою*; — он пожелал оправдаться перед людьми, как перед Богом, со всею искренностию человека, глубоко растроганного, но гордого в самом унижении, тогда как надлежало исповедовать тайны единому верховному существу, не с гордостию мудреца, который укоряет природу в своих слабостях, но с смирением христианина. Один Бог может требовать от нас подобной исповеди; люди не достойны оной 10. И что же? Оправдывая себя, он оскорбил и дружество, и любовь, и родство, и все, что человечество имеет священного, заветного для души благородной; он оскорбил тени своих друзей, давно забытых согражданами, оскорбил их самым несправедливым приговором по неведению: ибо истина на земле одному Богу известна. Кто требовал у него сих признаний, сей страшной повести целой жизни? Не люди, а гордость его. Какое право имел он поведать миру о слабостях женщины 11, которой дружество, столь нежное, столь бескорыстное, усладило юность и успокоило тревожимое сердце мечтателя? Так! человек, рожденный для добродетели, учинил страшное преступление, неслыханное доселе, и это преступление родила мудрость человеческая... Десятилетний отрок, который помнит свой катехизис, может уличить его в этом преступлении. Боже великий! что же такое ум человеческий — в полной силе, в совершенном сиянии, исполненный опытности и науки? Что такое все наши познания, опытность и самые правила нравственности без веры, без сего путеводителя и зоркого, и строгого, и снисходительного? [Без смеха и жалости нельзя читать признаний женевского мечтателя. Я не стану выписывать тех мест из книги его, которые могут оскорбить нравственность самую светскую, самую снисходительную: их множество. Но одно место меня забавляет более других, когда я воображаю себе защитника прав человечества и философии, столь лакомого в молодости своей. У г. Мабли, в Лионе, если не ошибаюсь, исправляя должность учителя и наставника, он любил отдыхать в своей комнате и пить вино, заедая пирожками: тут нет еще большого зла; но вино было краденое... Дело сделано! говорит философ: «Malheureusement je n’ai jamais pu boire sans manger... mais aussi quand j’avais ma petite brioche, et que bien enferme dans ma chambre, j’allais trouver ma bouteille au fond de l’armoire; quelles bonnes petites buvettes je faisais la tout seul en lisant quel-ques pages de roman! »
* В своем раннем « Рассуждении об искусствах и науках» (1750) Руссо доказывал вред, причиняемый человечеству искусством и наукой. Из последнего, основного произведения Руссо («Исповедь») Батюшков цитирует отрывок из части I, книги 6.
Нечто о морали, основанной на философии и религии
615
<«К несчастью, я никогда не мог пить без еды, но когда у меня была моя маленькая бриошь, запершись в моей комнате, я тотчас находил бутылку в глубине шкафа; какие добрые глоточки я делал там совсем один, прочитывая несколько страниц романа!» (фр.).>
Можно ли удержаться от смеха? Где тут достоинство человека и мудреца? О слоге ни слова. В таком случае слог есть верное выражение души. И этот человек имел столько любезных качеств, столько небесных дарований! И этот человек чувствовал всю прелесть религии и благодетельное влияние оной на общество и на человека частного! Чего недоставало ему? Постоянного убеждения, менее гордости и страстей, более рассудительности и смирения.]
Вера и нравственность, на ней основанная, всего нужнее писателю. Закаленные в ее светильнике мысли его становятся постояннее, важнее, сильнее, красноречие убедительнее; воображение при свете ее не заблуждается в лабиринте создания; любовь и нежное благоволение к человечеству дадут прелесть его малейшему выражению, и писатель поддержит достоинство человека на высочайшей степени. Какое бы поприще он ни протекал с своею музою, он не унизит ее, не оскорбит ее стыдливости и в памяти людей оставит приятные воспоминания, благословения и слезы благодарности: лучшая награда таланту.
Неверие само себя разрушает,— говорит красноречивый Квинтилиан наших времен *, который знал всю слабость гордых вольнодумцев: ибо он всю молодость свою провел в стане неприятельском. Одна вера созидает мораль незыблемую. Священное писание,— продолжает он,— есть хранилище всех истин и разрешает все затруднения. Вера имеет ключ от сего хранилища, замкнутого для коварного любопытства, вера обретает в нем свет спасительный. Неверие приносит в него собственные мраки, которые бывают тем густее, чем они произвольнее. Чтоб быть выше других людей, оно становится на высоты, окруженные пропастями, откуда взор его, смутный и блуждающий, смешивает все предметы. Неверие мыслит обладать орлиным оком и ничего не различает. Не случалось ли вам путешествовать при первых лучах денницы путем, проложенным по высоким горам, когда пары, от земли восходящие, простирают со всех сторон туманную завесу, скрывающую горизонт, где изображается множество мечтательных предметов, от смешения света со тьмою происходящих? По мере того как вы сходите с высот, сие облако земное * Имеется в виду Шатобриан, ставший защитником легитимизма и религии после периода увлечения вольтерьянством. Квинтилиан (I в. н. э.) — римский писатель и педагог, прославившийся литературным «красноречием».
616
К. Н. БАТЮШКОВ
редеет, рассевается; вы проникаете чрез него и находите на себе малые следы влаги, скоро иссыхающей. Тогда открывается и расширяется пред вами необъемлемый горизонт: вы видите близлежащие горы, жатвы и стада, их покрывающие, селения человеческие и холмы, над ними возвышенные; вся природа вам отдана снова: вот эмблема неверия и веры. Сойдите с сих высот неверия, где вы ходите около пропастей неизмеримых, где взор ваш встречает одни призраки; сойдите, говорю вам, призванные и поддержанные смиренной верою, идите прямо к сим облакам, обманчивым, восходящим от земли (они скрывают от вас истину и являют одни обманчивые образы); сойдите и пройдите сквозь сию ничтожную преграду паров и призраков; она уступит вам без сопротивления; она исчезнет — и ваши взоры обретут необъемлемую перспективу истин, все утешения сего земного жилища и горе — лазурь небесную.
Но для нас исчезли все призраки мудрости человеческой. К счастию нашему, мы живем в такие времена, в которые невозможно колебаться человеку мыслящему; стоит только взглянуть на происшествия мира и потом углубиться в собственное сердце, чтобы твердо убедиться во всех истинах веры. Весь запас остроумия, все доводы ума, логики и учености книжной истощены перед нами; мы видели зло, созданное надменными мудрецами, добра не видали. Счастливые обитатели обширнейшего края, мы не участвовали в заблуждениях племен просвещенных: мы издали взирали на громы и молнии неверия, раздробляющие и трон царя, и алтарь истинного Бога; мы взирали с ужасом на плоды нечестивого вольнодумства, на вольность, водрузившую свое знамя посреди окровавленных трупов, на человечество, униженное и оскорбленное в священнейших правах своих; с ужасом и с горестию мы взирали на успехи нечестивых легионов, на Москву, дымящуюся в развалинах своих; но мы не теряли надежды на Бога, и фимиам усердия курился не тщетно в кадильнице веры, и слезы и моления не тщетно проливалися перед Небом: мы восторжествовали. Оборот единственный, беспримерный в летописях мира! Легионы непобедимых затрепетали в свою очередь. Копье и сабля, окропленные святою водою на берегах тихого Дона, засверкали в обители нечестия, в виду храмов рассудка, братства и вольности, безбожием сооруженных; и знамя Москвы, веры и чести водружено на месте величайшего преступления против Бога и человечества [Назад тому несколько лет Шатобриан сказал: «Храбрость без веры ничтожна. Посмотрим, что сделают наши вольнодумцы против Козаков грубых, непросвещенных, но сильных верою в Бога?» Все журналисты вступились за честь оскорбленной великой нации (La grande nation); но предсказание сбылось.].
Нечто о морали, основанной на философии и религии
617
Faut-il encore, faut-il vous rappeler le cours
Des prodiges sans nombre accomplis en nos jours?
[Должно ли еще, должно ли напоминать весь ход
Бесчисленных чудес, совершившихся в наши дни? (фр.).] *
Должно ли приводить на память ** последние чудеса, новые покушения злобы и неверия и сияющее торжество невинности, человеколюбия и религии? Сколько уроков уму! Сердце в них нужды не имеет.
С зарею наступающего мира, которого мы видим сладостное мерцание на горизонте политическом, просвещение сделает новые шаги в отечестве нашем: снова процветут промышленность, искусства и науки, и все сладостные надежды сбудутся; у нас, может быть, родятся философы, политики и моралисты, и, подобно светильникам эдимбургским ***, долгом поставят основать учение на истинах Евангелия, кротких, постоянных и незыблемых, достойных великого народа, населяющего страну необозримую; достойных великого человека, им управляющего!
Нет в мире царства так пространна,
Где б можно столь добра творить!
[Державин ] ****
* Реплика Иодая в трагедии Ж. Расина «Гофолия» («Athalie», I, I). Вероятно, изменена сознательно (следует: « Faut-il, Ab пег» ).
** Имеется в виду неудачная попытка Наполеона вернуть былое могущество («Сто дней» и Ватерлоо).
*** Речь, вероятно, идет о «фосфористах», группе шведских писателей-романтиков, издававших в 1810-1813 гг. журнал «Фосфорос» («Светоч»). «Фосфористы» противопоставляли свое учение рационализму и эмпиризму XVIII в., но не впадали в крайности, свойственные немецкому романтизму. Батюшков мог узнать о «фосфористах» во время своего пребывания в Швеции, а также из английского журнала «Эдинбургское обозрение» «lidinburgh Review» и контаминировать «Фосфорос» и «Эдинбургское».
**** стихи Державина из оды «На рождение великого князя Михаила Павловича».
П.Я. ЧААДАЕВ
Философические письма
ПИСЬМО ПЯТОЕ*
«Much of the soul they talk, but all awry».
<Они толкуют много о душе, но все превратно, >
Мильтон **
Вы видите, все приводит нас снова к абсолютному положению: закон не может быть дан человеческим разумом самому себе точно так же, как разум этот не в силах предписать закон любой другой созданной вещи. Закон духовной природы нам раз навсегда предуказан, как и закон природы физической: если мы находим последний готовым, то нет
* В предыдущих письмах Чаадаев рассмотрел главную тему этого отдела его сочинения с религиозной, философской и научной точек зрения. В «Философическом письме» V он вводит свою систему в порядок философских исканий века.
** Цитируется поэма Мильтона. Христос обращается к сатане, искушающему его и указывающему в поучение ему на рассуждающих об истине афинских мудрецов Сократа, Платона, стоиков и эпикурейцев:
Увы, чему способны научить
Все мудрецы подобные, когда Они самих себя не постигают, Понятия о Боге не имея, О таинствах великих мирозданья, О горестном паденьи человека, И меж собой толкуя о душе, Они о ней превратно рассуждают (Мильт он Д. Потерянный и возвращенный рай.
СПб.,1899.С.154).
В английском издании сочинений Мильтона, сохранившемся в библиотеке Чаадаева (Каталог библиотеки П. Я. Чаадаева. М., 1980. № 482) и, очевидно, купленном им в Лондоне в 1823 г., означенный стих отмечен, впрочем, подобно многим другим. При чтении письма нельзя не вспомнить важного для понимания Чаадаева раннего сочинения Ламенне «Опыт о безразличии в делах религии» (Essais sur l’indifférence en matière de religion. Houndin, 1819-1820) и составляющую органическую часть его — книгу «В защиту опыта...» (Defence en l’Essais sur l’indifference en matière de religion. Paris, Lyon, 1821). Две первые, самые важные, части (из четырех) первого сочинения, а также и второе, сохранились в библиотеке Чаадаева с многочисленными
Философические письма
619
ни малейшего основания полагать, будто дело обстоит иначе с первым. Однако свет нравственного закона сияет из отдаленной и неведомой области подобно сиянию тех солнц, которые движутся в иных небесах и лучи которых, правда, ослабленные, все же до нас доходят; наши очи должны быть отверсты для восприятия этого света, как только он заблестит перед нами. Вы видели, мы пришли к этому заключению путем логических выводов, которые прояснили для нас некоторые элементы тождества между тем и другим порядком: материальным и духовным. Школьная психология, хотя и имеет почти ту же отправную точку, приводит к другим последствиям. Она заимствует у науки о природе один лишь прием наблюдения, т.е. именно то, что менее всего применимо к предмету ее изучения. И вот, вместо того, чтобы возвыситься до подлинного единства вещей, она только смешивает то, что должно оставаться навеки раздельным, вместо закона она и находит хаос. Да, сомнения нет, имеется абсолютное единство во всей совокупности существ: это именно и есть то, что мы по мере сил пытаемся доказать; скажу больше: в этом-то и заключается символ веры (credo) всякой здравой философии. Но это единство объективное, стоящее совершенно вне ощущаемой нами действительности; нет сомнения, это факт огромной важности, и он бросает неизреченный свет на великое ВСЕ: оно создает логику причин и следствий, но оно не имеет ничего общего с тем пантеизмом, который исповедует большинство современных философов *,— пагубное учение, его пометками и несколькими записями, с отметками о чтении второго тома в ноябре 1829 г., т. е. именно в самый разгар работы над Письмами. Последняя отметка о чтении сделана 1 декабря 1820 г.; эта же дата стоит и под «Философическим письмом» I. Кроме того, в библиотеке, также с пометками Чаадаева, имелась и третья книга Ламенне (Réflection sin- l’état de l’église en France... P., 1819; Каталог библиотеки П.Я. Чаадаева. М., 1980. № 410-412). О записях Чаадаева на книгах Ламенне см.: T.I. С. 585-587,589,593,616 наст, издания. Не останавливаясь подробно на поучительных совпадениях и на различиях в мыслях Ламенне и Чаадаева, укажем только, что именно здесь живее всего можно наблюдать отношение Чаадаева к католической мысли. Чрезвычайно высокая оценка Чаадаевым Ламенне раннего периода хорошо известна из его прямых высказываний в Апологии сумасшедшего и в письме № 95 А. И. Тургеневу от 1838 г. В Апологии сумасшедшего Ламенне не назван, но конечно его имеет в виду Чаадаев в начале статьи: « Великий писатель нашего времени» (Апология сумасшедшего. С. 524). В тексте, бывшем в руках у Чернышевского, под этой строкой есть вставка: Ламенне.
* Мы исправляем здесь перевод Д.И. Шаховским «que» как «он», на «оно». По Шаховскому получается, что «логику причин и следствий» «создает» «факт», в то время как по смыслу «создает» должно быть отнесено на счет «объективного единства», или «великого ВСЕ». Равным образом в переводе этой же фразы Шаховским получается, что с пантеизмом не имеет ничего общего тот же « факт », в то время как по смыслу речь у Чаадаева идет о неправомерности пантеистического истолкования «ВСЕ». Важный комментарий к понятию «ВСЕ» и к пониманию пантеизма дает отрывок № 58.— Ред.
620
П.Я. ЧААДАЕВ
сообщающее ныне свою ложную окраску всем философским направлениям и ввергающее все до единой современные системы, как бы они ни расточали своих обетов в верности спиритуализму, в необходимость обращаться с фактами духовного порядка совершенно так, как будто они имеют дело с фактами порядка материального. Ум по природе своей стремится к единству, но к несчастию пока еще не поняли как следует, в чем заключается настоящее единство вещей. Чтобы в этом удостовериться достаточно взглянуть на то, как большинство мыслящих понимает бессмертие души *1. Вечно живая душа и Бог, подобно ему вечно живая, одна абсолютная бесконечность и другая абсолютная бесконечность рядом с первой,— разве это возможно: Абсолютная бесконечность не есть ли абсолютное совершенство? Как же могут сосуществовать два вечных существа, два существа совершенных? А дело вот в чем. Так как нет никакого законного основания предполагать в существе, состоящем из сознания и материи, одновременное уничтожение обеих составных частей, то человеческому уму естественно было придти к мысли, что одна из этих частей может пережить другую. Но на этом и надо было остановиться. Пусть я проживу сто тысяч лет после того мгновения, которое я называю смертью и которое есть чисто физическое явление, с моим сознательным существом не имеющее ничего общего, отсюда еще далеко до бессмертия. Как все инстинктивные идеи человека, идея бессмертия души была сперва простой и разумной; но, попав затем на слишком тучную почву Востока, она там разрослась сверх меры и вылилась, в конце концов, в нечестивый догмат, в котором творение смешивается с Творцом, так что черта, навеки их разделяющая, стирается, дух подавляется огромной тяжестью беспредельного будущего, все смешивается и запутывается. А затем — эта идея вторглась вместе со многими другими, унаследованными от язычников, в христианство, в этой новой силе она нашла себе надежную опору и смогла таким образом совершенно покорить себе сердце человека. Между тем, всякому известно, что христианская религия рассматривает вечную жизнь как награду за жизнь совершенно святую; итак, если вечную жизнь приходится еще заслужить, то заранее обладать ею, очевидно, нельзя; будучи воздаянием за совершенную жизнь, как может она быть исходом существования, протекшего в грехе? Удивительное дело: хотя дух человеческий осенен высочайшим из светочей, он все же не в силах овладеть полной истиной и постоянно мечется между истинным и ложным.
Здесь в ход изложения врывается маленький трактат о бессмертии — вопрос, к которому Чаадаев впоследствии неоднократно возвращался.
Философические письма
621
Всякая философия, приходится сказать это, неизбежно заключена в некий роковой круг без исхода. В области нравственности она сначала предписывает сама себе закон, а затем начинает ему подчиняться, неизвестно, ни как, ни почему; в области метафизики она всегда предварительно устанавливает какое-то начало, из которого затем, по ее воле, вытекает целый мир вещей, ею же созданных. Это — вечное petitio principii * и при этом оно неизбежно: иначе все участие разума в этом деле свелось бы, очевидно, к нулю.
Вот, например, как поступает самая положительная, самая строгая философия нашего времени**. Она начинает с установления факта, что орудием познания является наш разум, а поэтому необходимо прежде всего научиться его познать; без этого, утверждает она, мы не сможем использовать его должным образом. Далее философия эта и принимается изо всех сил рассекать и расчленять самый разум. Но при помощи чего производит она эту необходимую предварительную работу, эту анатомию интеллекта? Не посредством ли этого самого разума? Итак, вынужденная в этой своей наипервейшей и главной операции взяться за орудие, которым она по собственному признанию не умеет еще пользоваться, как может она придти к искомому познанию? Этого понять нельзя. Но и это еще не все. Более уверенная в себе, чем все прежние философские системы, она утверждает, что разум надо трактовать точь в точь как внешние предметы. Тем же оком, которое вы направляете на внешний мир, вы можете рассмотреть и свое собственное существо: точно так, как вы ставите перед собой мир, можете вы перед собой поставить и самого себя, и как вы над миром размышляете и производите над ним опыты, так размышляйте и производите опыты над самим собой. Закон тождества, будучи общим для природы и для разума, позволяет вам одинаково обращаться и с нею и с ним. На основании ряда тождественных явлений материального порядка вы выводите заключение об общем явлении; что же мешает вам из ряда одинаковых фактов заключать к всеобщему факту и в порядке умственном? Как вы в состоянии заранее предвидеть факт физический, с одинаковой уверенностью вы можете предвидеть и факт духовный; смело можно в психологии поступать так, как в физике. Такова эмпирическая философия. По счастью, философия эта стала в настоящее время уделом лишь нескольких ленивых умов, которые упорно топчутся на старых путях.
* Petitio principii — ошибка в доказательстве, состоящая в том, что для доказательства пользуются доводом, еще не доказанным.
** Имеется в виду шотландская школа, а не философия Канта, как может показаться с первого взгляда.
622
П.Я. ЧААДАЕВ
Но вот новый свет уже пробивается сквозь обступающую нас тьму*, и все движение философии, вплоть до Эклектизма, который так благодушен и льстив, что, кажется только и помышляет о самоупразднении, наперебой стремится вернуть нас на более надежные пути. Среди умственных течений современности есть, в частности, одно, которое нужно особенно выделить. Это род тонкого Платонизма, новое порождение глубокой и мечтательной Германии; это преисполненный возвышенной умозрительной поэзии трансцендент<аль>ный ** Идеализм, который уже потряс ветхое здание философских предрассудков в самой их основе. Но он пребывает пока на таких эфирных высотах, на которых трудно дышать. Он как бы витает в прозрачном воздухе, порою теряясь в неясных или мрачных сумерках, так что можно принять его за одно из фантастических видений, которые подчас появляются на южном небе, а через мгновение исчезают, не оставляя следа ни в воздухе, ни в памяти. Будем надеяться, что прекрасная и величественная мысль эта вскоре спустится в обитаемые пространства: мы будем ее приветствовать с живейшим сочувствием. А пока предоставим ей шествовать по ее извилистому пути, а сами пойдем намеченной себе дорогой, более надежной.
Так вот, если, как мы убедились***, движение в мире нравственном, как и движение в мире физическом,— последствие изначального * Здесь начинается характеристика философии Шеллинга. Чаадаев указывает только одну заслугу этой философии: успешную борьбу с ложным направлением господствующей философии. Чаадаев не принимает шеллингианства и говорит, что пойдет «намеченной себе дорогой, более надежной», а позже, в 1832 г., напишет Шеллингу: «Мне часто доводилось приходить в конце концов не туда, куда приходили вы» (Письма. № 59. Д. И. Шаховской считал, что это письмо относится к 1833 г. // Литературное наследство. М., 1935. Т. 22-24. С. 72). Но из этого же письма видно, какое впечатление произвело на него ознакомление с сочинениями Шеллинга: «Изучение ваших произведений открыло мне целый мир». И надо сказать, что те понятия, о которых Чаадаев говорит в начале пятого «Философического письма» — абсолютное единство во всей совокупности существ», единство вещей», «великое ВСЕ» и вообще идея единства, являющаяся основой его убеждений,— укрепились в нем и сложились в определенную систему под существенным воздействием не только Спинозы, но и Шеллинга. Хотя в библиотеке Чаадаева сохранилось только несколько брошюр с ранними натурфилософскими сочинениями Шеллинга (Каталог библиотеки П.Я. Чаадаева. М., 1980. № 603 и 604), но он свидетельствует в том же письме, что прочитал все сочинения знаменитого философа. Надо думать, что к Чаадаеву по прославленной близости его к Шеллингу обращались за книгами последнего, а затем книги эти не возвращались их владельцу. Чаадаев рассматривал философию Шеллинга также в Отрывки и разные мысли № 167,197.
** В подлиннике (ошибочно) «трансцендентный». Основное сочинение молодого Шеллинга, давшее название его ранней философии, называлось «Система трансцендентального идеализма ».
*** Слова «как мы убедились» имеют в виду рассуждения «Философическое письмо» IV.
Философические письма
623
толчка, то не следует ли из этого, что то и другое движение в своей непрерывности подчинены одним и тем не законам, а следовательно, все явления жизни духа могут быть выведены по аналогии? Значит, подобно тому, как столкновение тел в природе служит продолжением этого первого толчка, сообщенного материи, столкновение сознаний также продолжает движение духа; подобно тому, как в природе всякая вещь связана со всем, что ей предшествует и что за ней следует, так и всякий отдельный человек и всякая мысль людей связаны со всеми людьми и со всеми человеческими мыслями, предшествующими и последующими: и как едина природа, так, по образному выражению Паскаля, и вся последовательная смена людей есть один человек, пребывающий вечно*, и каждый из нас — участник работы сознания, * Цитированное высказывание Паскаля, которым Чаадаев пользуется для выражения своей основной идеи, взято им из мало известного и дошедшего до нас не полностью «Предисловия к рассуждениям о пустоте» («Preface sur le trait du vide»), т. e, трактата по физике, предположительно написанного в 1647 г. (см.: Oeuvres de Blaise Pascal publiées... par Leon Brunschvicq et Pierre Boutroux. 2-ême èd. P., 1923. V. П.Р. 127-145). В оригинале это место дословно читается так: «De sortie que toute la suite des hommes pendant le cours de tant de siècles doit estre considérée comme un mesme homme qui subsiste toujours et qui apprend continuellement».
В комментарии к этому месту указывается, что подобное же соображение приводили до Паскаля Р. Бэкон в первой части «Opus majus» и Ф. Бэкон в «Novum Organum», кн. 1,84 и De augmentis, 11.
Чаадаев едва ли заимствовал это изречение непосредственно у Паскаля; вероятно, он встретил его у какого-либо другого автора. Как указал в своей книге Ш. Кенэ (см.: Quenét Ch. Tchaadaev et les Lettres philosophiques Contribution à l’étude du mouvement des idées en Russie. P., 1931), это изречение стоит в общем эпиграфе ко всей книге Шарпантье «Опыт истории средневековой литературы», вышедшей в Париже в 1833 г. Интересно, как это также напоминает Кенэ (Quénet. P. 176), по словам Надеждина, в его показании, Чаадаев советовал последнему между прочим поместить в своем журнале выдержки из этой книги. Самую книгу Чаадаев, вероятно, получил от А. И. Тургенева, так как последний пишет о ней Вяземскому 1 сентября 1833 г. и сообщает при этом о своем намерении «отправить книгу московскому философу» ( «Переписка А. И. Тургенева с кн. П. А. Вяземским. Пг., 1921. Т. 1. С. 310; место это также указано у Кенэ). Книги Шарпантье в библиотеке Чаадаева не оказалось. Но это еще не значит, что ее там не было, тем более что она вполне могла остаться у Надеждина. Конечно, предположить заимствование у Шарпантье было бы хорошим решением вопроса. Однако предположение это приходится отбросить из-за хронологических соображений. Книга Шарпантье вышла в свет в 1833 г., а «Философическое письмо» V было написано несомненно раньше. Ведь на это место Чаадаев ссылается в «Философическом письме» VII, которое было в руках Пушкина еще в июне 1831 г. Кене совершенно справедливо указывает на возможность позднейшей вставки в написанный ранее текст. Мы знаем по примеру «Философического письма» I, значительно исправленного Чаадаевым в 1835 г., а также и по примеру «Философических писем» III, VI и VII, сохранившихся
624
П.Я. ЧААДАЕВ
которая совершается на протяжении веков. Наконец, подобно тому, как некая повторяющая и непрерывная работа элементов материальных или атомов, т. е. воспроизведение физических существ, составляет материальную природу, подобная же работа элементов духовных или идей, т.е. воспроизведение умов, составляет природу духовную; и если я постигаю всю осязаемую материю как одно целое, то я должен одинаково воспринимать и всю совокупность сознаний как единое и единственное сознание.
Главным средством формирования душ без сомнения является слово: без него нельзя себе представить ни происхождения сознания в отдельной личности, ни его развития в человеческом роде*. Но одного только слова недостаточно для того, чтобы вызвать великое явление всемирного сознания, слово далеко не единственное средство общения между людьми, оно, следовательно, совсем не обнимает собой всю в двух редакциях, о тщательной его работе над текстом своего сочинения и много позднее их написания, вероятно до злополучного октября 1836 г., когда он навсегда лишился, по собственному его выражению в письме брату, «трудов всей моей жизни... » (Письма. № 89). Но в данном случае позднейшая вставка совершенно невозможна. Не говоря уже о том, что изречение, заимствованное у Паскаля, органично вросло в изложение теории Чаадаева, как бы заменяя его собственную формулировку, почему оно приводится у него в самых центральных пунктах двух разветвлений его рассуждения — общефилософском (в «Философическом письме» V) и историческом (в «Философическом письме» VII) — со ссылкой в «Философическом письме» VII на «Философическое письмо» V. С большими натяжками это соображение все же можно было бы устранить. Но неустранимо другое: изречение Паскаля имеется в том экземпляре «Философического письма» VII, которое находилось в московской цензуре в ноябре 1832 г., а независимо от точной даты выхода книги Шарпантье (год выхода указан в ней 1833) Тургенев мог послать ее Чаадаеву лишь после 1 сентября 1833 г. Таким образом, источник заимствования цитаты Чаадаевым был другой. Одна из книг, сохранившихся в библиотеке Чаадаева (Каталог библиотеки П. Я. Чаадаева. М., 1980. № 579), по видимому, удовлетворительно решает этот вопрос. Это книга A. F. Rio « Essais sur l’histoire de l’esprit humain dans l’antiquité» (P., 1829. V. 4), в которой настоящее изречение Паскаля фигурирует в качестве эпиграфа, как и в книге Шарпантье (Каталог библиотеки П.Я. Чаадаева. М., 1980. № 579).
* Говоря о слове как «главном средстве формирования душ» и сознаний, Чаадаев, вероятно, имеет в виду известную теорию Бональда, но тут же ставит вопрос гораздо шире, так что предполагать заимствование в данном случае оснований нет. Нет никаких данных для предположения об основательном непосредственном знакомстве Чаадаева с сочинениями Бональда, хотя теория его Чаадаеву была известна; например из книги Дамирона «Очерк истории философии XIX века во Франции», вышедшей в 1828 г. Еще о окончания работы над Письмами Чаадаев читал книгу Дамирона, как это видно из его заметок на сохранившемся экземпляре книги в его библиотеке (Каталог библиотеки П.Я. Чаадаева. М., 1980. № 212), сделанных характерным для этого времени почерком владельца.
Философические письма
625
духовную работу, совершающуюся в мире. Тысячи скрытых нитей связывают мысли одного разумного существа с мыслями другого; наши самые сокровенные мысли находят всевозможные средства вылиться наружу; распространяясь, перекрещиваясь между собой, они сливаются воедино, сочетаются, переходят из одного сознания в другое, дают ростки, приносят плоды — и, в конце концов, порождают общий разум. Иногда случается, что проявленная мысль как будто не производит никакого действия на окружающее; а между тем — движение передалось, толчок произошел; в свое время мысль найдет другую, родственную, которую она потрясет, прикоснувшись к ней, и тогда вы увидите ее возрождение и поразительное действие в мире духовном. Вы знаете такой физический опыт: подвешивают несколько шариков в ряд; отстраняют первый шарик, и последний шарик отскакивает, а промежуточные остаются неподвижными. Вот так и передается и мысль, проносясь сквозь мозг людей. Сколько великих и прекрасных мыслей, откуда-то явившихся, охватили бесчисленные массы и поколения! Сколько возвышенных истин живет и действует, властвуя или светясь среди нас, и никто не знает, ни откуда явились эти грозные силы или блестящие светочи, ни как они пронеслись через времена и пространства! Цицерон2 где-то сказал: «Природа так устроила человеческий облик, что он выявляет чувства, скрытые в сердце: что бы мы ни чувствовали, глаза наши всегда это отражают» *. Это совершенно верно: в разумном существе все выдает его затаенную мысль; весь человек целиком сообщается ближнему, и так происходит зарождение сознаний. Ибо интеллект возникает ничуть не более чудесными путями, чем все остальное. Здесь такое же зарождение, как и всякое другое. Один и тот же закон имеет силу при любом воспроизведении, какова бы ни была его природа: все возникает через соприкосновение или слияние существ: никакая сила, никакая власть не действуют обособленно. Необходимо только принять во внимание, что самый факт зарождения происходит где-то вне нашего непосредственного наблюдения. Подобно тому, как в физическом мире вы наблюдаете действие различных природных сил — притяжения, ассимиляции, сродства и т. п., но в последнюю очередь подходите к факту неуловимому, к самому акту, сообщающему физическую жизнь,— и в мире духовном мы ясно различаем последствия, вызванные различными человеческими силами, но, в конце концов, мы подходим к чему-то, что ускользает от нашего непосредственного восприятия,— к самому акту передачи духовной жизни.
* Слова Цицерона взяты из его сочинения «О законах» (кн. I, № 26 и27), впрочем, в значительно измененном виде (см. Цицерон. Диалоги. М., 1966. С. 97).
626
П.Я. ЧААДАЕВ
А что такое то мировое сознание, которое соответствует мировой материи и на лоне которого протекают явления духовного порядка подобно тому, как явления порядка физического протекают на лоне материальности? Это не что иное, как совокупность всех идей, которые живут в памяти людей. Для того, чтобы стать достоянием человечества, идея должна пройти через известное число поколений; другими словами, идея становится достоянием всеобщего разума лишь в качестве традиции. Но речь идет здесь отнюдь не только о тех традициях, которые сообщаются человеческому уму историей и наукой: эти традиции составляют лишь часть мировой памяти. А много есть и таких, которые никогда не оглашались перед народными собраниями, никогда не были воспеты рапсодами, никогда не были начертаны ни на колоннах, ни на пергаменте; самое время их возникновения никогда не было проверено исчислением и приурочено к течению светил небесных; критика никогда не взвешивала их на своих пристрастных весах; их влагает в глубину душ неведомая рука, их сообщают сердцу новорожденного первая улыбка матери, первая ласка отца. Таковы всесильные воспоминания, в которых сосредоточен опыт поколений: всякий индивидум их воспринимает с воздухом, которым дышит. И в этой-то среде совершаются все чудеса сознания. Правда, этот сокрытый опыт веков в целости не доходит до каждой частицы человечества; но он все же составляет духовную сущность вселенной, он течет в жилах человеческих рас, он воплощается в образовании их тел и, наконец,— служит продолжением других традиций, еще более таинственных, не имеющих корней на земле, но составляющих отправную точку всех обществ. Твердо установлено, что в каждом племени, как бы оно ни обособилось от основного мирового движения, всегда находятся некоторые представления, более или менее отчетливые, о Высшем Существе, о добре и зле, о том, что справедливо и что несправедливо: без этих представлений невозможно было бы существование племени совершенно так же, как и без грубых продуктов земли, которую племя топчет, и деревьев, которые дают ему приют. Откуда эти представления? Никто этого не знает; предания — вот и все; докопаться до их происхождения невозможно: дети восприняли их от отцов и матерей — вот и вся их родословная. А затем на эти первоначальные понятия нисходят века, на них скапливается опыт, на них созидается наука, из этой невидимой основы вырастает человеческий дух. И вот как, путем наблюдений действительности, мы подошли к тому самому, к чему привело нас и рассуждение: к начальному толчку, без которого, как мы убедились, ничего бы не двинулось в природе и который необходим здесь точно так, как и там.
Философические письма
627
И скажите на милость, можете ли вы допустить мыслящее существо без всякой мысли? Можете ли вы представить себе в человеке разум, ранее чем он пустил его в дело? Можете ли вы себе представить что-либо в голове ребенка до того, как ему было преподано нечто свидетелями появления его на свет? Находили детей среди лесных зверей, нравы которых эти дети себе усвоили; они затем восстанавливали свои умственные способности; но эти дети не могли быть покинуты с первых дней своего существования. Детеныш самого сильного животного неизбежно погибнет, оставленный самкой тотчас же после родов; а человек — слабейшее из животных 3, он требует материнского молока в течение шести или семи месяцев, даже череп его остается незакостеневшим несколько дней после рождения,— как бы он мог просуществовать первое время своей жизни, не попав в материнские руки? Значит, дети эти до разлуки с родителями восприняли зачатки умственности *. Я ручаюсь, что человек, очутившийся без родителей или иного человеческого существа, как только открылись на свет его глаза, если бы он ни разу не ощутил на себе взгляда одного из себе подобных, не услышал бы ни единого звука их голоса и в таком отчуждении вырос до сознательного возраста, ничем не отличался бы от других млекопитающих, которых натуралист причислит к тому же роду. Может ли быть что-либо бессмысленнее, чем предположение, будто каждая человеческая личность, как животное, является начинателем своей породы? А между тем, именно такова гипотеза, служащая основой всего идеологического построения. Предполагают, что это крохотное неоформившееся существо, еще связанное через пуповину с чревом матери,— является мыслящим существом. Но чем это подтверждается? Неужели по гальваническому содроганию, которое в нем заметно, определите вы небесный дар, ему уделенный? Или в бессмысленном его взгляде, в его слезах, в пронзительном крике распознали вы существо, созданное по образу Божьему? Есть в нем, спрашиваю я, какая-нибудь мысль, которая бы не вытекала из небольшого круга понятий, вложенных в его голову матерью, кормилицей или другим человеческим существом в первые дни его бытия? Первый человек не был крикливым ребенком, он был человеком сложившимся, поэтому он вполне мог быть подобен Богу и действительно был Ему подобен: но, конечно, уж вовсе не подобен образу божьему зародыш человека. Истинную природу человека составляет то, что из всех существ он один способен просвещаться беспредельно: в этом и состоит его превосходство над всеми созданиями1. Но для того, чтобы * Рассуждение о детях, находимых среди лесных зверей, по-видимому, заимствовано Чаадаевым у Ламенне («Опыт о безразличии», ч. II, гл. XVI).
628
П.Я. ЧААДАЕВ
он мог возвыситься до свойств мыслящего существа, необходимо, чтобы чело его озарилось лучом высшего разума. В день создания человека Бог с ним беседовал и человек слушал и внимал ему: таково истинное происхождение человеческого разума; психология никогда не отыщет объяснения более глубокого. В дальнейшем он частично утратил способность воспринимать голос Бога, это было естественным следствием дара полученной им неограниченной свободы. Но он не потерял воспоминания о первых божественных словах, которые воспринял его слух. Вот этот-то Божественный глагол к первому человеку, передаваемый от поколения к поколению, поражает человека в колыбели, он-то и вводит человека в мир сознаний и превращает его в мыслящее существо. Тем же действием, которое Бог совершал, чтобы извлечь человека из небытия, он пользуется и сейчас для создания всякого нового мыслящего существа. Это именно Бог постоянно обращается к человеку через посредство ему подобных.
Таким образом, представление о том, будто человеческое существо является в мир с готовым разумом, не имеет, как вы видите, никакого основания ни в опытных данных, ни в отвлеченных доводах. Великий закон постоянного и прямого воздействия высшего начала повторяется в общей жизни человека, как он осуществляется во всем творении. Там — это сила, заключающаяся в количестве, здесь — это принцип, заключающийся в традиции', но в обоих случаях повторяется одно и то же: внешнее воздействие на существо, каково бы оно ни было, воздействие, сначала мгновенное, а затем — длительное и непрерывное.
Как бы ни замыкаться в себе, как бы ни копаться в сокровенных глубинах своего сердца, мы никогда там ничего не найдем, кроме мысли унаследованной от наших предшественников на земле. Это разумение, как его ни разлагать, как его ни расчленять на части, всегда останется разумением всех поколений, сменившихся со времен первого человека и до нас; и когда мы размышляем о способностях нашего ума, мы пользуемся лишь более или менее удачно этим самым мировым разумом, с тем, чтобы наблюдать ту его долю, которую мы из него восприняли в продолжение нашего личного существования. Что означает то или иное свойство души? Это идея,— идея, которую мы находим в своем уме вполне готовой, не зная, как она в нем появилась, а эта идея в свою очередь вызывает другую. Но первая-то идея, откуда, по вашему, может она в нас возникнуть, если не из того океана идей, в который мы погружены? Лишенные общения с другими сознаниями, мы щипали бы траву, а не размышляли бы о своей природе. Если не согласиться с тем, что мысль человека есть мысль рода человеческого, то нет возможности понять, что она такое. Подобно
Философические письма
629
всей остальной части в созданной вселенной, ничто в мире сознаний не может быть постигнуто как совершенно обособленное, существующее само собой. И, наконец, если справедливо, что в верховной или объективной действительности разум человеческий, на самом деле есть лишь постоянное воспроизведение мысли Бога, то его разум во времени, или разум субъективный, очевидно, тот, который он, благодаря свободной воле, сам себе создал. Правда, школьная мудрость* не считается со всем этим; для нее существует только один и единственный разум, для нее данный человек и есть тот, каким он вышел из рук Создателя; хотя и созданный свободным, он не употребил во зло своей свободы; при всем своем своеволии, он, подобно неодушевленным предметам, пребыл неизменным, повинуясь непреклонной силе; бессчетные заблуждения, грубейшие предрассудки, им порожденные, преступления, которыми он запятнал себя,— ничто из всего этого не оставило следа в его душе. Вот он — тот самый, каким он был в тот день, когда божественное дыхание оживило его земное существо, он столь же чист, столь же непорочен, как тогда, когда еще ничто не осквернило его юной природы; для этой школьной мудрости человек постоянно один и тот же; всегда и всюду; мы именно таковы, какими должны были быть; и вот — это скопище мыслей, неполных, фантастических, несогласованных, которое мы именуем человеческим умом, по ее мнению оно именно и есть чистый разум, небесная эманация, истекшая из самого Бога; ничто его не изменило, ничто его не коснулось. Так рассуждает человеческая мудрость.
Тем не менее, ум человеческий всегда ощущал потребность сызнова себя перестроить по идеальному образцу. До появления христианства он только и делал, что работал над созданием этого образца, который постоянно ускользал от него и над которым он постоянно продолжал трудиться; это и составляло великую задачу древности. В то время человек поневоле был обречен на искание образца в самом себе. Но удивительно то, что и в наши дни, имея перед собой возвышенные наставления, преподанные христианством, философия все еще подчас упорно пребывает в том кругу, в котором был замкнут древний мир, а не помышляет о поисках образца совершенного разума вне человеческой природы, не думает, например, обратиться к возвышенному учению, предназначенному сохранить в среде людей древнейшие * Вероятно, здесь и далее речь идет о сенсуализме вообще, хотя излагается это учение весьма произвольно. Еще менее удачно сформулировал ниже Чаадаев основной принцип философии Декарта и рационализма XVII в.— cogito ergo sum,— который обычно переводится как «мыслю, следовательно существую». Чаадаев же замещает слово «мыслю» словом «ощущать», «чувствовать» (sens), чем вносит в рационализм сенсуалистическую струю (ред.).
630
П.Я. ЧААДАЕВ
традиции мира, к той удивительной книге, которая столь явственно носит на себе печать абсолютного разума, т.е. именно того разума, который он ищет и не может найти. Стоит только несколько вдуматься с искренней верой в учение, раскрытое откровением,— и вас поразит то величавое выражение духовного совершенства, которое в этом учении царит нераздельно, вам откроется, что все выдающиеся умы, вами там встреченные, составляют лишь части единого обширного разума, который заполняет и пронизывает тот мир, в котором прошедшее, настоящее и будущее составляют одно неразделимое целое; вы почувствуете, что все там ведет к постижению природы такого разума, который не подчинен условиям времени и пространства, которым человек некогда обладал, который он утратил, который он некогда вновь обретет, который был нам явлен в лице Христа. Заметьте, что по этому вопросу философский спиритуализм ничем не разнится от противоположной системы, ибо, все равно, признаем ли мы человеческое разумение за пустое место, согласившись со старой формулой сенсуалистов — нет ничего в разуме, чего бы не было сперва в ощущении, или же предположим, что разум действует по присущей ему собственной силе, и повторим за Декартом: я замыкаю все свои ощущения и я живу,— и в том и в другом случае мы все же будем иметь дело с тем разумом, который мы сейчас в себе находим, а не с тем, который был нам дарован изначально; поэтому мы будем исследовать вовсе не подлинное духовное начало, но начало искаженное, искалеченное, извращенное произволом человека.
Впрочем, из всех известных систем, несомненно, самая глубокая и плодотворная по своим последствиям есть та, которая стремится, для того чтобы отчетливо понять явление разумности, добросовестно построить совершенно отвлеченный разум, существо исключительно мыслящее, не восходя при этом к источнику духовного начала*.
* Здесь Чаадаев, наконец, подходит к Канту. О Канте он, конечно, знал еще со времени своего студенчества и по курсу проф. Буле, записанному его братом Михаилом (ныне хранится в ЦГАЛИ), в котором Буле осудительно говорил о «Критике чистого разума». Из отрывка письма Чаадаева к Облеухову от 1812 г. (Письма. № 3) видно, что первый по поручению друга разыскивает в книжных лавках Петербурга сочинения Канта. Но лучшим показателем его занятий Кантом служат сохранившиеся в его библиотеке экземпляры двух Критик — чистого и практического разума в издании 1818 г. (Каталог библиотеки П. Я. Чаадаева. М., 1980. № 378-379), обе на языке оригинала. «Критика чистого разума» на французском языке, изданная в Париже в 1835-1836 гг. (Там же. № 380), была приобретена им позже написания этого письма. Судя по отметкам, Чаадаев прочитал лишь первые ее страницы. Немецкие книги, как это надписано на них, приобретены в Дрездене в 1826 г. Они испещрены отметками, но далеко не на всем протяжении и притом « Критика практического разума» гораздо более
Философические письма
631
Но так как материалом, из которого эта система строит свой образец, служит ей человек в теперешнем его состоянии, то она-то все-таки вскрывает перед нами разум искусственный, а не разум первоначальный. Глубокий мыслитель, творец этой философии, не усмотрел, что все дело [заключалось]* только в том, чтобы представить себе разум, который бы имел одно волевое устремление: обрести и вызвать к действию разум высший, но такой разум, способ движения (mode de mouvement) которого заключался бы в совершенном подчинении закону, подобно всему существующему, а вся его сила сводилась бы к безграничному стремлению слиться с тем другим разумом. Если бы он избрал это своей исходной точкой, он бы, конечно, пришел к идее разума воистину чистого, потому что разум этот был бы простым отражением абсолютного разума и анализ этого разума привел бы его без сомнения к последствиям огромной важности, а сверх того он не впал бы в ложное учение об автономии человеческого разума, о каком-то императивном законе, находящемся внутри самого нашего разума и дающем ему способность собственным порывом возвышаться до всей полноты доступного ему совершенства; наконец, другая, еще более самонадеянная философия, философия всемогущества человеческого Я, не была бы ему обязана своим существованием **.
усердно, чем другая. Общее заключение Чаадаева о впечатлении, произведенном на него этими книгами, видно из надписей, сделанных им на титульном листе « Критики чистого разума». На «Kritikderreinen Vernunft» он надписал: « Apologete», зачеркнул «der reinen» и поставил вместо них «adamitischer», так что получилось измененное заглавие, говорящее о том, что он считает книгу Канта защитой испорченного грехом, ограниченного и неподвижного (адамова) разума. Книгу он читал, по-видимому, дважды, так как отметки сделаны простым и красным карандашами.
На обороте титульного листа «Критики практического разума» Чаадаев чрез вычайно четко, еще ранним (до 1831 г.) своим почерком написал: «Ег war nicht das Licht, sondern das er zeugte von dem Lichte». Это известное изречение из евангелия от Иоанна об Иоанне-крестителе, как предшественнике Христа, приготовлявшем пути его: «Он не был светом, но он свидетельствовал о свете» («Заметки на книгах». № 136).
* В самом критическом месте своего изложения недостатков философии Канта, вскрывающем и собственное понимание разума, постоянно развивающегося и постигаемого лишь в свете вечного устремления к совершенству, Чаадаев допустил при переписке непростительную ошибку, пропустив слово que, вслед ствие чего получился смысл, обратный мысли Чаадаева. Впрочем, ошибка эта столь очевидна, что поправка не вызывает никаких сомнений.
** Под «философией всемогущества человеческого Я» подразумевается, конечно, учение Фихте. Пять его книг уцелело в библиотеке Чаадаева (Каталог библиотеки П. Я. Чаадаева. М., 1980. № 266-270; подробнее о них см. в примеч. к «Отрывки и разные мысли» № 161а); на одной из них остались следы недовольства его гордыней — Arogantia, на всех — пометки. Однако позднее, как это видно из «Отрывки
632
П.Я.ЧААДАЕВ
Но все же надо воздать ему должное: его создание и в теперешнем своем виде заслуживает с нашей стороны всяческого уважения. Тому направлению, которое он придал философским знаниям, обязаны мы всеми здравыми идеями современности, сколько их ни есть в мире; и мы сами — только логическое последствие его мысли. Он измерил уверенной рукой пределы человеческого разума; он выяснил, что разум этот принужден принять два самых глубоких своих убеждения, а именно: существование Бога и неограниченность своего бытия, не имея возможности их доказать; он научил нас тому, что существует верховная логика, которая не подходит под нашу мерку и которая вне зависимости от нашей воли над нами тяготеет, и что имеется мир, отличный от нашего, а вместе с тем существующий одновременно с тем, в котором мы мечемся, и мир этот наш разум вынужден признать из опасения в противном случае самому ввергнуться в небытие, и, наконец, что именно отсюда мы должны почерпнуть все наши познания, чтобы затем применить их к миру реальному. И все же в конце концов приходится признать и то, что ему было предназначено только проложить новый путь философии и что если он оказал великие услуги человеческому духу, то лишь в том смысле, что заставил его вернуться вспять.
В итоге произведенного нами сейчас исследования получается следующее. Сколько ни есть на свете идей, все они последствия некоторого числа передаваемых традиционно понятий, которые так же мало составляют достояние отдельного разумного существа, как природные силы — принадлежность особи физической. Архетипы Платона, врожденные идеи Декарта, a priori Канта, все эти различные элементы мысли, которые весьма глубокими мыслителями по необходимости признавались за предваряющие какие бы то ни было и разные мысли», Чаадаев воспринял учение Фихте более глубоко и относился к нему справедливее. Весьма существенно отметить, что в обзоре истории новой философии, данном в «Философическом письме» VI, совсем не нашла себе места философия Гегеля, хотя по времени написания трактата Чаадаев мог бы ее знать. Ведь «Феноменологии духа» увидела свет еще в 1807 г., первое издание «Энциклопедии философских наук» —в1817г., с1818г. Гегель занимал кафедру философии в Берлине. По-видимому, в то время Чаадаев попросту не знал философии Гегеля. Позднее он с ней познакомился но в его библиотеке сохранилось только изложение философии Гегеля Вильмом на французском языке, изданное в 1835 г., с отметками и «Энциклопедия» без всяких отметок (Каталог библиотеки П. Я. Чаадаева. М., 1980. № 327). Как известно, книгу Вильма в свое время начал переводить Станкевич (часть работы Вильма в переводе Станкевича была напечатана в «Телескопе» и включена в кн.: Станкевич Н. В. Стихотворения. Трагедия. Проза. М., 1899). С философией Гегеля Чаадаев ознакомился позже и высоко оценил ее в «Отрывки и разные мысли».
Философические письма
633
проявления души, за предшествующие всякому опытному знанию и всякому самостоятельному действию ума, все эти изначала существующие зародыши разума сводятся к идеям, которые переданы нам от сознаний, предваривших нас к жизни и предназначенных ввести нас в наше личное бытие. Без восприятия этих результатов человек был бы просто-напросто двуногим или двуруким млекопитающим, не более, не менее, и это несмотря на лицевой угол, близкий к прямому, несмотря на размер своей черепной коробки, несмотря на вертикальное положение своего тела и т. д. Вложенные чудесным образом в сознание первого человеческого существа в день его создания той же рукой, которая направила планету по эллиптической орбите, которая привела в движение мертвую материю, которая даровала жизнь органическому существу,— именно эти-то идеи сообщили разуму свойственное ему движение и кинули человека в тот огромный круг, который ему предначертано пройти. Идеи эти, возникающие посредством взаимного соприкосновения душ и в силу таинственного начала, которое увековечивает в созданном сознании действие сознания верховного, поддерживают жизнь природы духовной таким же порядком, как сходное соприкосновение и аналогичное начало поддерживают жизнь природы материальной. Так продолжается во всем первичное воздействие; так оно выливается окончательно в некое провидение, постоянное и непосредственное, простирающее свое действие на всю совокупность существ.
Раз это установлено, ясно, что нам еще должно исследовать: нам остается лишь проследить движение этих традиций в истории человеческого рода, чтобы выяснить, каким образом и где идея, первоначально вложенная в сердце человека, сохранилась в целости и чистоте*.
Последние слова письма обещают дать рассмотрение тех же вопросов в историческом аспекте. Обещание это Чаадаев выполнил, впрочем в несколько ограниченных пределах, в «Философическом письме»У1 и VII.
В. А. ЖУКОВСКИЙ
Две сцены из «Фауста»*
I
В той сцене1, которая предшествует явлению Мефистофеля, то есть за минуту перед тем, как овладела им враждебная сила, Фауст переводит из св. писания I главу Иоанна. Он хочет поправить и выразить по-своему мысль евангелиста и такою гордостью становится доступен губительному искушению. Недовольный выражением: в начале было слово, он сперва пишет: в начале была мысль (Sinn)— потом: в начале была сила (Kraft)— отвергает и то и другое и наконец останавливается на выражении: в начале было дело (That), которое кажется ему более точным, нежели Иоанново, но которое столь же достойно отвержения, как и оба первые.
Никакой человеческий ум не придумает ничего выше и всеобъ- ятнее этого дивного евангельского «слова»; с ним наряду можно поставить только то, которое слышал Моисей из пламенной купины2: Аз есмь сый **. В сем последнем изображен Бог без всякого отношения * Интерес к творчеству Гете, особенно к его «Фаусту»,— факт общеизвестный, зафиксированный в письмах и дневниках поэта (об этом см.: Веселовский, с. 357-359). Поздняя статья «Две сцены из “Фауста”» отразила возрастание религиозного пиетизма Жуковского, справедливо отмеченное исследователями (см.: Жирмунский В. М. Гете в русской литературе. Л., 1982, с. 394; Ященко А. Л. «Фауст» Гете. Ранние отклики в России.—«Учен. зап. Горьковского гос. ун-та», вып.65. Горький, 1964, с. 190-191). Однако основная мысль статьи — мысль о созидательной, действенной роли слова, которая настойчиво варьируется в поздних статьях Жуковского и его произведениях, является прямым выражением концепции дидактического искусства, разработанной поэтом в 1830-1840-е гг. Ср. замысел «Одиссеи» для юношества» в письме к С. С. Уварову, переписку с П. А. Вяземским о переводе «Одиссеи» и т. д. В статье особенно четко выразилось стремление к «идеальному», духовному искусству, которое он противопоставлял натурализму и скепсису позднего романтизма.
** Исх.3,14.
Две сцены из «Фауста»
635
к созданию; в слове евангелиста изображен Бог-создатель во времени и вечности. Выражение слово (logos) разом объемлет и то и другое.
Но здесь под словом разумеется не одно определенное, языком произносимое и слухом принимаемое слово; но слово вообще, то есть и слово — духовное тело мысли, вместе с мыслью в минуту ее рождения создающееся в душе нашей, и слово — материальная одежда этого духовного тела, звук, его выражающий. По крайней мере оно так в отношении к человеку. Слово человеческое рождается вместе с мыслью, мало-помалу развивается, приобретает более и более определенную духовную форму и наконец, чтобы перейти в действие внешнее, в сообщение, из духовного образа переоблачается в образ материальный, в звук; во всем этом есть начало, развитие, постепенность; здесь виден характер ограниченного, временного, человеческого. Слово Божие, напротив, есть Бог — и Бог как творец и Бог как творение, от века бывшее в Боге и с Богом, из воли его истекшее и в нем заключенное, но с ним неслиянное и с ним не тождественное, имевшее начало, ибо оно творение, и безначальное, ибо оно есть непосредственное Божие творение, а Бог действует в вечности, в которой было, есть и будет — одно и то же. Неудачная попытка Фауста исправить евангельское выражение служит только к тому, чтобы показать, сколь оно всеобъятно. Каждое из выражений, употребленных Фаустом: мысль, сила, дело, заключает в себе только часть того, что вполне и совокупно заключается в выражении евангельском: слово. Для всякого творения нужны: мысль (намерение, план и начало), сила (возможность и средство), дело (совершение и конец); по крайней мере таков ход всякого человеческого творения. В творении Божием нет этой постепенности: его мысль есть уже и средство и дело, и все это он сам; и все это совокупно, заключается в выражении евангелиста: слово, в котором три понятия: мысль, форма мысли и выражение мысли соединяются в одно. Слово (в смысле Иоанна) принадлежит только Богу; человеку оно недоступно; он только имеет слова, которые суть не иное что, как атомы всеобъемлющего Божия слова. Из сего следует, что слово Божие — сам Бог и его истина — не может быть выражено словами человеческими, так же как целое здание не может быть заключено в пылинке, взятой из его мелкого обломка, хотя пылинка сия принадлежит к его составу; все наши слова, то есть все наши невыраженные и выраженные, отдельные и взятые в совокупности мысли, суть только отрывки чего-то целого; сколь бы ни была велика их цепь и что бы она ни обнимала, всё она будет один отрывок, ни к чему не принадлежащий, если первое звено ее не прикрепится к вечному, всё выражающему слову, к Богу. В сем последнем случае она уже не будет иметь этого характера отрывочности; она будет
636
В.А. ЖУКОВСКИЙ
прямым радиусом, исходящим из средоточия того круга, которого центр, по словам Паскаля, везде, а окружность нигде*3.
Слово Паскаля имеет необъятное значение: этот центр, который везде, неуловимый нашим умственным зрением, но всё наполняющий, всюду самобытно присутственный и живой, это средоточие, из которого выходят все радиусы к этой окружности, нигде не существующей и представляющей относительно к Богу всеобъемлемость, а относительно к человеку границу, без которой мы в своей ограниченности ничего постигнуть не можем,— не заключается ли во всем этом какого-то чудного, гиероглифического1 образа, в котором нам таинственно и очевидно выражается и существо Бога (вечного слова) и отношение к нему разума человеческого? Главное и решительное в действиях нашего разума есть пункт отбытия (point de depart). Прикрепи первое звено твое умственной цепи к центру — она, потеряв характер отрывочности и сделавшись радиусом, то есть линиею, ведущею прямо к окружности, приобретет по свойству радиуса и его прямизну, его неуклончивость ни направо, ни налево, его направление к одному верному пункту. Напротив, начни цепь своих умствований не из центра — она по натуре своей будет без направления и необходимо должна получить или косность, или ломкость, или кривизну, которые составляют характер всякой линии, между центром и окружностью проведенной, но не из центра исходящей. Начиная не из центра, мы на каждом шагу должны сбиваться с пути, ибо, не имея перед собою определенной точки, не имеем и никакого стремления, идем наугад и ни к чему дойти не можем — заблуждение. Начиная, напротив, из центра**, мы при необходимом движении вперед по прямому радиусу должны становиться на каждом пункте его * Неточная цитата из «Мыслей о религии» Паскаля (статья 1-я «Общее понятие о человеке»). Ср. русский перевод: Паскаль Б. Мысли о религии. М., 1902, с. 13-15. Эта мысль Паскаля была предметом пристального внимания поэта; к ее толкованию он нередко возвращался в набросках 1840-х гг. (см.: ГПБ, ф. 286, on. 1, ед. хр. 60, лл. 3, 7,9 об.; ед. хр. 66, л. 4).
** Может быть сделан вопрос: если этот центр везде, то откуда бы ни начиналась наша умственная цепь, она все будет начинаться из центра, следственно, заблуждение невозможно? Это справедливо, но только в отношении к Богу: Он везде, а где Он, там истина. Напротив, а отношении к человеку этот центр, везде существующий сам по себе, может существовать для человека только там, где откровение укажет его вере и где вследствие этого указания разум прикрепит к нему первое звено своих умствований. Это прикрепление не есть механическое, необходимое, несознательное — оно есть действие человеческой воли, свободно принимающей откровение, вследствие чего и все прочие звенья должны сами собою из первого в смысле его извиваться.— Примеч. В.А. Жуковского.
Две сцены из «Фауста»
637
ближе к окружности, и хотя эта окружность для нас недостижима, но стремление к ней в нас существует; и вследствие этого стремления при каждом шаге вперед мы сами в себе становимся к ней приближеннее — истина. Это стремление по определенной линии к границе неопределенной есть наша жизнь во времени. Ибо что есть время? Невидимая математическая линия, между двумя безднами идущая, между безначальностью и бесконечностью; где останавливается стремление земной нашей жизни по этой линии, там исчезает и сама путеводная линия; и две бездны, ею разграниченные, сливаются в одну, в оное непостижимое; неизглаголанное все, заключенное между вездесущим центром и нигде не существующею окружностью, и которого имя — Божия вечность5.
II
Известны рисунки, сделанные Корнелиусом * и Речем ** для Гетева «Фауста». Реч строго держался истины: он удовлетворительно изобразил для глаз то, что мы видим воображением, читая «Фауста»; в его композиции много разнообразия и живости; в его сценах демонов и ведьм много фантазии, но он не переходит за границу простой истины; в этом отношении он должен уступить Корнелиусу, в рисунках которого есть высшая, идеальная истина, есть величавая значительность, составляющая характер средних веков, к которым принадлежит лицо Фауста; они сначала покажутся не столь привлекательны, как рисунки Реча, но когда в них прилежнее всмотришься, то найдешь, что между ними и первыми такая же разница, какая между огромным, бронзовым рыцарем, лежащим на гробнице с сложенными на молитву руками, работы старинного немецкого скульптора, и мраморною, со вкусом отделанною статуйкой того же рыцаря, легкой работы гениального французского художника времен новейших.
Но здесь дело идет не о сравнении Корнелиуса и Реча, а о том, что они оба, изображая одну и ту же сцену из «Фауста», сделали одну и ту же ошибку.
* Корнелиус — один из любимых художников Жуковского, представитель группы «назарейцев». Поэт с большим интересом относился к их поискам, со многими из них был знаком лично (см.: Дневники, с. 156, 182, 291, 295, 378, 394, 402, 405, 447,457). Картины Корнелиуса и других «назарейцев» были в собрании Жуковского (см.: В. А. Жуковский. СПб., 1912. С. 172-175).
** Реч Фридрих Август Мориц — немецкий живописец и гравер. Приобрел известность своими иллюстрациями к «Фаусту» Гете и «Песне о колоколе» Шиллера. По своим художественным принципам был страстным противником «назарейцев».
638
В. А. ЖУКОВСКИЙ
Вот эта сцена: ночь; Фауст и Мефистофель скачут на черных конях мимо лобного места, на котором с наступлением утра должна быть казнена Маргарита. Там перед глазами Фауста совершается видение; он спрашивает у спутника:
« Что это? Зачем собрались они у виселицы? » «Кто их знает, что они стряпают!»
«Взлетают, слетают, наклоняются, простираются».
«Дрянь! ночная сволочь!»
«Как будто готовят место, как будто его освящают... » «Мимо! мимо!»
Весьма трудно сохранить в переводе краткость и таинственную выразительность оригинала. Но как же Корнелиус и Реч перевели язык поэта на язык живописи? У Реча (которому здесь надобно отдать преимущество перед Корнелиусом) Фауст глядит изумленными глазами на место казни и хочет удержать бешеного коня своего; Мефистофель с пренебрежением к происходящему и как будто внутренне насмехаясь над своим спутником, беспечно покачивается на своем коне, бегущем во всю прыть. То же самое у Корнелиуса, у которого, однако, в изображении скачущих есть что-то выисканное и преувеличенное. Но и Реч и Корнелиус, оба равно ошибочно поняли таинственное видение, о котором поэт только намекнул, оставив воображению читателя дополнить начатую картину; воображение живописцев не угадало мысли поэта. И тот и другой собрали к лобному месту ту сволочь, о которой говорит Фаусту в ответе своем Мефистофель; мертвецы в саванах, скелеты с головами и без голов бегают, летают, пляшут около эшафота, на котором (в рисунке Реча) совершается призрак казни: скелет держит в руке отрубленную голову женщины, другие скелеты играют черепом ребенка, и тому подобное. Такая ли мысль поэта? И то ли думает Мефистофель, называя ночною сволочью тех, которые видятся Фаусту? Нет! Это не сволочь, не демоны тьмы, а ангелы света; Мефистофель их знает, и он трепещет; он силится скрыть свою робость под тем ругательным именем, которое дает им; он кричит Фаусту: «Мимо! мимо!»
Если бы кругом лобного места поэт подлинно собрал адскую сволочь, то его сцена не имела бы никакого смысла — она была бы одно поэтическое украшение, ничего к главному не прибавляющее. Зачем пугать Фауста новым адским видением, когда он уже довольно насмотрелся всяких ужасов, и смешных и в трепет приводящих, на сходбище ведьм, где, между прочим, и бледный образ Маргариты с кровавым рубцом вокруг шеи довольно ясно предсказал ему то, что
Две сцены из «Фауста»
639
будет? Но зачем же ангелы собраны к лобному месту? Это понятно: в маленькой сцене своей Гете мимоходом разгадал главную загадку первой части «Фауста» — торжество смирения и покаяния над силою ада и над богоотступною гордостью человеческою. Чистые ангелы своими руками уготовляют и святят то место, на котором слепое человеческое правосудие удовлетворит земной правде, казнив преступное дело человека, а Божие всевидящее правосудие совершит правду небесную, принявши в лоно милосердия покаяние души человеческой. Где человек будет скорбеть и трепетать, там ангел будет веселиться; где будет перед глазами человека ужас беспощадной казни, там будет торжество Примирения перед глазами ангела, и с ними вместе восторжествует все небо, в жилищах которого одним кающимся грешником радуются более, нежели десятью неискушенными праведниками. В ту минуту, когда губитель мчит за собою Фауста к темнице Маргариты, уповая, что он, обольстив душу ее земным спасением, отымет у нее спасение небесное, ангелы пророческим видением, приводящим в ужас самого демона, хотят остеречь погибающего; но, увлеченный адскою силою, он мчится мимо, и только тогда становится ему понятно им виденное, когда он, насильно уведенный демоном из темницы, слышит за собою напрасное призывание Маргариты, произвольно себя предавшей суду небесному. Она погибла!— восклицает губитель... Она спасена!— ответствуют с высоты... За мной!— кричит Фаусту испуганный демон... Генрих! Генрих!— зовет из тюрьмы умоляющий голос6.
С. С. ГЛАГОЛЕВ
Блез Паскаль
( 19 июня 1623 - 19 авг. 1662)
Относительно Паскаля гораздо легче решить вопрос, чем он хотел быть, чем решить вопрос о том, чем он был в действительности.
Паскаль хотел быть верным и послушным сыном католической церкви. После его смерти в его одежде нашли зашитыми два лоскутка бумаги и пергамента, на которых между прочим было написано: «полная покорность Иисусу Христу и моему духовнику». Эти слова датированы 23-м ноября 1654 г. ночными часами '. Вся его последующая жизнь показывает, что он не был намерен отступать от этих слов. В своих «Мыслях», которые служат исповеданием его веры, он развил, что сам рассудок требует от нас, чтобы в вопросах высших мы следовании не его требованиям, а вере. «Последним выводом разума должно быть признание, что существует бесчисленное множество вещей, его превосходящих. Слаб тот разум, который не доходит до этого сознания. Нужно, где следует сомневаться, где следует утверждать и где следует подчиняться. Кто не поступает так, тот не знает силы разума. Есть люди, грешащие против этих трех правил: они или считают все не требующим доказательств, потому, что не умеют доказывать, или во всем сомневаются в чем бы следовало подчиняться, или, наконец, подчиняются во всем, не зная, где следует обратиться к рассудку.— Если же пренебречь началами разума, то она покажется нелепою и смешною.
Разум, говорит блаженный Августин, никогда бы не подчинился, если бы не признавал, что есть случаи, где он должен подчиняться. Стало быть, он справедлив, подчиняясь там, где находит это нужным» *. Веровать нужно в Церковь. «Сказано: веруйте в Церковь; но не сказано: верьте чудесам — по той причине, что последнее
Паскаль. Мысли о религии. Перев. Долгова, 2-е издан. Стр. 80-81. Все последующие указания страниц относятся к этой книге.
Блез Паскаль
641
естественно, а первое — нет. Одному нужно было научить, другому не нужно». «Приятно быть на корабле, выдерживающем бурю, когда уверен, что он никогда не погибнет. Преследования, обращенные против Церкви, походят на стихии, обуревающие такой негибнущий корабль. Историю Церкви следует собственно назвать “Историей истины”». «Наша воля никогда бы не удовлетворялась, если бы имела власть над всем, чего захочет; но удовлетворение получается в ту же минуту, стоит лишь отказаться от собственной воли. Имея ее, нельзя быть вполне довольным; без нее же можно быть только довольным» *. Паскаль считал исповедь истинным благом. «Католическая религия не обязывает открывать свои грехи всем без различия; она допускает утаение их от всех других людей, за исключением одного, которому мы должны открывать глубину нашего сердца и показывать себя в настоящем виде. Это единственный человек, которого она повелевает нам не вводить в заблуждение и возлагает на него долг ненарушимой тайны, так что это знание в нем как бы не существует. Можно ли представить себе что-нибудь более милосердное и доброе? Несмотря на то, испорченность человека так велика, что он еще находит суровым этот закон, и это было одною из главных причин возбуждения против Церкви значительной части Европы» **. Он признавал пресуществление хлеба и вина в Евхаристии. «Мы веруем, что так как существо хлеба изменяется и пресуществляется в существо тела Господа нашего Иисуса Христа, то Он действительно присутствует в нем. Вот одна истина. Другая истина та, что это таинство есть также один из символов креста и славы и воспоминание того и другого. Так католическая вера соединяет эти две, по-видимому, противоположные истины.
Ересь нашего времени, не понимая, что это таинство заключает в месте и присутствие Иисуса Христа, и символ этого присутствия,— что это жертва и в то же время воспоминание жертвы, думает, что нельзя принять одну из этих истин, не исключив другую.
По этой причине они придерживаются того только мнения, что это таинство имеет лишь значение символа, и в этом нет ереси. Они думают, что мы исключаем эту истину, оттого и делают нам столько упреков, ссылаясь на отцов Церкви! ясно на то указывающих. Наконец, они отрицают реальное присутствие Иисуса Христа в таинстве, и в этом их ересь.
Потому-то самое простое средство помешать возникновению ереси — поучать всем истинам, и самое верное средство опровергать их — объяснять все истины.
* Стр. 140, 153, 155.
** Стр. 30.
642
С. С. ГЛАГОЛЕВ
Благодать будет всегда в мире, как и природа; она, так сказать, естественна. Поэтому всегда будут и пелагиане и православные, и всегда будет борьба; потому что первое рождение производит одних, а благодать второго рождения производит других» *.
Итак, Паскаль хотел быть верным католиком. В осуществлении требований католической веры он проявил более разумной ревности, усердия и великой силы духа, чем многие из тех, которых справедливо называют лучшими католиками. Но если человек быт тем, чем он хотел быть, то он должен быть счастлив, в душе Паскаля должны были быть мир и радость. Такому человеку, по-видимому, должно быть чуждо трагическое. Но всякий, кто читал мысли Паскаля, даже не читая его биографии, должен признать, что в них слышится что-то мучительное, что-то трагическое. Читатель не найдет в этих мыслях блаженно успокоенной веры, они написаны не рукою человека, переживавшего религиозное благополучие.
Очень естественно и очень широко распространено предположение, что Паскаль только хотел верить, но не имел веры действительно, что он переживал мучительные сомнения, что он должен был сказать о себе словами поэта, что хотя он и томится по вере,
Но разум — веры враг — его лукаво учит И нехотя внимает он врагу2.
В произведениях Паскаля нет указаний на существование у него таких сомнений, но в них слышится горячее желание убедить в правде христианского учения. Взвешивая апологетические доводы Паскаля, неверующие писатели находят их неубедительными и приходят к выводу, что если Паскаль не мог убедить ими других, то, может быть, в конце концов он не сумел убедить и самого себя. Паскаль в своей непродолжительной жизни пережил продолжительные и тяжкие болезни. Религия облегчает в страданиях. Паскаль усердно прибегал к этому лекарству, но некоторые склонны думать, что оно не всегда было для него действительным, Паскаль невысокого мнения о человеческом разуме, но если разум вообще может приводить к заблуждениям, то он может приводить к ним и в делах веры. Последовательно проведенный скептицизм Паскаля должен быть и скептицизмом религиозным и вот — Паскаля сближают с Монтенем. Но сомневаясь, Паскаль не хотел сомневаться. Его воля всецело хотела подчиниться власти (Церкви), которую его разум находил подозрительной. В сочинениях Паскаля нет речи об этом конфликте ума и воли, но может быть горячность и обилие
Стр. 145-146.
Блез Паскаль
643
его доводов в пользу веры заставляют подозревать некоторых, что он имел в виду убедить не только других, но и самого себя.
Подсказывается и другое предположение. В рассуждениях Паскаля слышится тоска и скорбь о том, что природа человека так глубоко испорчена. Не мучился ли Паскаль сознанием собственного несовершенства? Не искушали ли его соблазны? Он был человеком светским, одно время имел успех в свете, несомненно также, что он в одно время думал о женитьбе. Может быть в нем происходила борьба между стремлением к Богу и святости, с одной стороны, и к миру и греху, с другой,— так как то, что считается невинными развлечениями и удовольствиями, по ригористической морали Паскаля, было грехом. Повергаясь пред Христом, Паскаль может быть чувствовал свою нечистоту. Чувствуется и рассказывают, что Паскалем владел страх. Чего мог бояться этот человек? Боятся обыкновенно потери каких- либо благ, Паскаль отказался от них добровольно. Он мог бояться только ада, только разобщения со Христом. Его могла смущать только греховность собственного настроения.
Можно делать и иные предположения. Было бы неблагоразумной попыткой со стороны автора настоящих строк — человека иного исповедания, иной нации, иной эпохи и иного общественного класса — пытаться проникнуть в тайники этой могучей и вместе как бы больной души. Но может быть позволительно будет сделать следующие замечания. Человек такого высокого духа, как Паскаль, непременно должен употребить все усилия к тому, чтобы приблизить себя к своему идеалу. Вместе с тем Паскаль в своей вере исповедывал Бога, как бесконечное милосердие и бесконечную любовь. Поэтому сознавая свое различие от своего идеала, он не мог впадать в крайнее смущение или даже отчаяние, он должен был верить, что Бог простит ему его грехи и даже его сомнения. Он должен был скорбеть о своем несовершенстве, но эта скорбь не могла переходить в трагическое мучение. Не расстояние, разделяющее Паскаля от его идеала, было источником мучений его жизни, а, может быть, те своеобразные препятствия, которые он встретил на пути к этому идеалу. Паскаль хотел быть послушным сыном Церкви, хотел верить этому надежному кораблю, который не может сокрушить никакая сила и сокрушит сила адова. Но желание послушания, руководившее Паскалем, столкнулось на этом корабле с требованиями, которые представлялись ему неразумными и вредными нравственно. Паскалю пришлось считаться с тенденцией провозгласить папу непогрешимым главою Церкви. Догмат непогрешимости3 провозглашен был более, чем два столетия спустя после смерти Паскаля, но стремление пап решить вопрос о своей непогрешимости положительным образом явно обозначилось еще раньше, чем родился Паскаль,
644
С. С. ГЛАГОЛЕВ
и Паскаль высказался о нем следующим образом. «Если смотреть на Церковь как на единицу, то любой папа, глава ее, есть как бы все. Если считать ее за множественность, то папа не больше, как часть ее. Множественность, не восходящая в единство, есть беспорядок; единство, не зависящее от множественности, есть тирания». «Бог не творит чудес в обыкновенном ходе своей Церкви. Было бы странным чудом, если бы непогрешимость была в одном, но во множественности она была бы так же естественна, как тайное присутствие Божие в природе, как и во всех прочих творениях Его» *. Затем Паскаль был вовлечен в спор с иезуитами по поводу книги Янсения Augustinus. В этом споре были две стороны: догматическая (иезуиты извлекли из книги Янсения положения, то нет свободы воли и что Христос умер не за всех, а значит, за безусловно предопределенных ко спасению) и практическая (Янсений осуждал в своей книге казуистическую мораль иезуитов, вследствие чего иезуиты и напали на его книгу). В теоретическом споре обсуждались два вопроса: были ли на самом деле в книге Янсения приписываемые ему положения (во всяком случае они не были формулированы, а по утверждению иезуитов вытекали из нея) и должно ли считать эти положения еретическими? Не в этих вопросах лежал центр тяжести спора. Несомненно, Паскаль бы не подписался под приведенными положениями. Существо спора заключалось в вопросах практической морали. Иезуиты разработали (несправедливо приписывать им инициативу и начало выработки) теорию практических приспособлений евангельской морали к действительности. Приспособления сводились к отрицанию евангельского закона. Евангелие запрещает то-то, но при таких-то обстоятельствах запрещение это можно нарушить. Остроумие иезуита Эскобара все недозволенные Евангелием поступки превратило в дозволенные. Все может быть дозволено, все может быть прощено. Теоретически евангельский закон оставался предметом благоговейного почитания, как божественный, практически он отменялся, как неосуществимый. Заповеди читались и пелись в церквах затем, чтобы их не исполнять. Практика жизни последующих столетий пошла гораздо дальше. Теперь открыто признается, что всякое преступление можно защищать. Кассир похитил деньги из кассы. Но у него больна жена, мать, у него много детей. Дурное действие оправдывается во имя доброй цели, но если даже у дурного действия (кражи) были и дурные цели (кутежи, игра), всегда можно доказывать, что это действие невменяемо. Люди XX столетия напрасно возмущаются моралью иезуитов, их теория морали пошла гораздо далее иезуитской. Но в XVII столетии для благочестивых людей Пор-Рояля, в круг которых вошел Паскаль,
* Стр. 168.
Блез Паскаль
645
и которые стремились к усовершению, эта теория, делающая усоверше- ние ненужными и допускающая возможность всеобщего оправдания, казалась безнравственной и ужасной. Теория направлялась против нравственного прогресса, против нравственного усовершения,— все нравственное существо Паскаля должно было возмутиться ею. Между тем теория находила себе санкцию в Риме, который начинал требовать признания его санкции непогрешимою, и, понятно, усвоялась дей- ствительностию, оправдывая ее. Блестящие «Письма к провинциалу» Паскаля были направлены против иезуитского учения; если бы это учение было делом частных лиц, оно, без сомнения, только возмущало бы его, но учение становилось церковным и поэтому должно было глубоко смущать человека, хотевшего быть верным сыном Церкви. Церковь должна быть святой и непорочной. Но на ней замечались пятна. Люди посредственные, если замечают пятна на своей святыне, закрывают глаза, чтобы не видеть их. Этим страусовским приемом они спасают свое благополучие. Великие люди не могут поступать так, они не закрывают глаза вред истиною, как бы она ни была тяжела и мучительно, отсюда у них много страданий — непонятных большинству.
Во всяком случае, чтобы понять Паскаля и его воззрения, нужно прежде всего читать внимательнее его «Мысли». Никакая ученая биография не объясняет его читателю так, как он объясняет сам себя. Не нужно также много доверять изложению его воззрений разным авторам. Афоризмы трудно заключать в систему, и кто делал это по отношению к Паскалю,— обыкновенно или опускал что-либо ценное в его мыслях или привносил нечто свое, с чем Паскаль мог быть совершенно не согласен. Таких людей, как Паскаль, приятно считать своими союзниками. Отсюда близко возникновение предположения, что по тем вопросам, по которым Паскаль высказался не вполне ясно, он смотрел приблизительно так, как смотрим мы. У православного богослова есть особые побуждения поддаться этому искушению, но за всем тем поддаваться ему опасно. Паскаль признавал авторитет видимой Церкви и отрицал существование у Церкви видимого непогрешимого главы; с тем и другим согласно православие, но нужно помнить, что православие и воззрения Паскаля заключаются не только в этом.
Нижеследующее представляет собою попытку изложить или, вернее указать с некоторыми замечаниями те положения Паскаля, которые по представлению автора настоящей статьи являются основными в «Мыслях» и имеют наибольшее значение для современной религиозной философии и апологетики.
Кажется, никто доселе не производил сопоставления Паскаля с Тертуллианом4, а между тем credo, quia absurdum последнего является исходным началом апологетических соображений первого. Это
646
С. С. ГЛАГОЛЕВ
возможно, потому что невозможно; это прекрасно, потому что безобразно; это верно, потому что нелепо. Так рассуждал Тертуллиан о воплощении, смерти и воскресении Христа и так рассуждал Паскаль о христианской вере. Это — премудрость, потому что это безумие (для еллина5,1 Коринф. 1, 236). «Единственная религия, противная природе в нынешнем ее состоянии, отвергающая все наши удовольствия и кажущаяся на первый взгляд несогласною с здравы смыслом, одна только и пребывала на земле постоянно». «Удивительно, между тем, что самая непостижимая для нашего разумения тайна — преемственность или наследственность первородного греха; и есть именно то, без чего мы никоим образом не можем познать самих себя. И действительно, ничто не противоречит так нашему разуму, как ответственность за грех первого человека тех, которые, будучи столь удалены от первовиновника греха, никак, по-видимому, не могут нести вины за него. Эта наследственность вины кажется нам не только невозможной, но и крайне несправедливой: с нашим жалким правосудием никак не согласуется вечное осуждение неправоспособного сына за грех, в котором он принимал, по-видимому, так мало участия,— как в событии, совершившемся за несколько тысяч лет ранее его появления на свет. Конечно, такое учение поразительно для нас; но без этой тайны, самой таинственной из тайн мы не будем понятными самим себе. Вся наша жизнь, все наши действия вращаются в глубине этой тайны; так что без нее человек еще непостижимее самой тайны.
Первородный грех есть безумие в глазах людей; но я этого не отрицаю. Вы не можете, стало быть, упрекнуть меня в неразумии за это учение, так как я выдаю его за безумное. Но это безумие мудрее всей мудрости человеческой, потому что безумное Божие мудрее человека (1 Коринф. 1, 25). Ибо, без этого учения, как определить, что такое человек? Все состояние его зависит от этой незаметной точки. И как бы он заметил ее своим разумом, когда эта вещь выше его разума и когда разум его, весьма далекий от возможности открыть ее доступными ему путями, отдаляется от нее тотчас же, как укажут ему?» * Люди, отказывающиеся понять первородный грех, повредивший природу человека, вместе с тем отказываются поверить в возможность Боговоплощения в виду ничтожества человека. Но в виду этого признаваемого ими ничтожества, которое конечно есть ничтожество разума, они не в праве решать вопрос о столь великом событии и измерять и ставить пределы Божественному милосердию. Но на самом деле так ли еще ничтожен человек? Паскаль указывает, что кроме ничтожества в человеке открывается и величие. У человека есть достоинство. «Не в пространстве, Стр. 72,76.
Блез Паскаль
647
занимаемом мною, должен я полагать свое достоинство, а в направлении моей мысли. Я не сделаюсь богаче чрез обладание пространствами земли. В отношении пространства, вселенная обнимает и поглощает меня, как точку; мыслию же своею я обнимаю ее.
Человек самая ничтожная былинка в природе, но былинка мыслящая. Не нужно вооружаться всей вселенной, чтобы раздавить ее. Для ее умерщвления достаточно небольшого испарения, одной капли воды. Но пусть Вселенная раздавит его, человек станет выше и благороднее своей убийцы, потому что он сознает свою смерть; Вселенная же не ведает своего превосходства над человеком.
Таким образом, все наше достоинство заключается в мысли. Вот чем должны мы возвышаться, а не пространством и продолжитель- ностию, которых нам не наполнить. Будем же стараться хорошо мыслить: вот начало нравственности.
Очевидно, человек создан для мышления; в этом все его достоинство, вся его заслуга, и весь долг его мыслить, как следует, а порядок мысли — начинать с себя, с своего Создателя и своего назначения.
А о чем думает свет? Он никогда об этом не думает: он помышляет о танцах, музыке, пении, стихах, играх и т.д., думает как бы подраться, сделаться царем, не задумываясь при этом, что значит быть царем и что значит быть человеком» *.
Размышление о том, что значит быть человеком и что представляет собою человек в действительности, открывает Паскалю нравственное убожество человека в настоящем и великое назначение его в будущем. Человек так испорчен, что боится заглянуть в самого себя и поэтому боится одиночества, отношения людей основываются на взаимном обмане (лести, умолчании о недостатках тех, с кем мы имеем дело), рычагами деятельности являются тщеславие, корысть и иные невысокие страсти. Несомненно, что нравственно человек есть существо крайне павшее, но и умственно он есть существо крайне ограниченное. Человеческая мысль не может постичь бесконечного. Бог есть бесконечность. Анализируя это понятие, мысль запутывается в противоречиях. Бесконечность есть число, определяющее или характеризующее величину. Всякое число есть чет или нечет, и всякое число чрез прибавление к нему единицы изменяется из четного в нечетное или наоборот. Бесконечность не изменяется чрез прибавление к нему какого бы то ни было конечного числа, как и от вычитания. Таким образом, бесконечность для нас непостижима, но, в таком случае, для нас непостижим и Бог. Как же решить вопрос — существует Он или не существует? Положим, нам предложил бы принять участие
* Стр. 25.
648
С. С. ГЛАГОЛЕВ
в пари, одна сторона которого говорит, что Бога нет, другая — что Он существует. Самое разумное, конечно, отказаться от пари, так как мы не знаем верного ответа, но, говорит Паскаль, делать ставку необходимо. «Не в нашей воле играть или не играть. На чем же вы остановитесь? Так как выбор сделать необходимо, то посмотрим, что представляет для вас меньше интереса: вы можете проиграть две вещи,— истину и благо, и две вещи вам приходится ставить на карту, ваши разум и волю, ваше познание и ваше блаженство; природа же ваша должна избегать двух вещей: ошибки и бедствия. Раз выбирать необходимо, то ваш разум не потерпит ущерба ни при том, ни при другом выборе. Это бесспорно; ну, а ваше блаженство?
Взвесим выигрыш и проигрыш, ставя на то, что Бог есть. Возьмем два случая: если выиграете, вы выиграете все; если проиграете, то не потерпите7 ничего. Поэтому, не колеблясь, ставьте на то, что Он есть.
Отлично, следует так поступать; но может быть, я делаю слишком большую ставку?
Посмотрим. Так как случайности выигрыша и потери одинаковы, то если бы вам представлялась возможность выиграть только две жизни за одну, то и тогда рискнуть этою одною не было бы неразумно. А если бы можно было выиграть три жизни, риск был бы еще уместнее (так как вы в необходимости играть), и вы поступили бы неблагоразумно, не рискнув своею жизнью ради выигрыша трех жизней в такой игре, где случайности выигрыша и проигрыша одинаковы. Но есть вечная жизнь и вечное счастье. Поэтому было бы глупостью не поставить на карту конечного ради бесконечного, если б даже из бесконечного числа случайностей одна бы только была на вашей стороне, не говоря уже об игре при одинаковых шансах за и против. Выигрыш и риск здесь уравновешены. Везде, где дано бесконечное и нет бесконечно великого риска проигрыша против вероятности выигрыша, там нечего взвешивать, а нужно отдавать все. Таким образом, будучи принуждены играть, мы, желая сохранить свою жизнь вместо того, чтобы рискнуть ею ради выигрыша бесконечного — столь же возможного, как и проигрыш ничтожества,— доказываем, что действуем вопреки рассудку.
Ни к чему не послужило бы возражение, будто рискуешь верным ради гадательного выигрыша и что бесконечное расстояние, отделяющее несомненность ставки от сомнительности выигрыша, равняется конечному благу, которое ставится несомненно ради сомнительного бесконечного. Это не так. Всякий игрок рискует с уверенностью ради выигрыша, в котором не уверен, и тем не менее он несомненно рискует конечным для сомнительного выигрыша конечного же, нисколько не погрешая этим против рассудка. Ложно думать, что
Блез Паскаль
649
между этою уверенностью в ставке и неуверенностью в выигрыше расстояние бесконечно. В действительности же бесконечность есть только между несомненностью выигрыша и несомненностью потери. Но сомнительность выигрыша пропорциональна несомненности ставки, как это вытекает из отношения случайностей выигрыша и потери. Отсюда выходит, что если случайностей с одной стороны столько же, сколько и с другой, то идет партия равная против равной, и тогда уверенность в ставке равняется неуверенности в выигрыше. Таким образом, когда рисковать приходится в бесконечном в игре, где случайности выигрыша и проигрыша одинаковы и выигрышем может быть бесконечное. Это доказывается само собою; и если люди способны понимать какие-нибудь истины, это одна из них» *. Математически пари Паскаля можно выразить таким образом. Если за бытие Божие имеется один шанс и в случае выигрыша получается блаженство, то за Бога мы имеем 1 х оо; если против бытия Божия мы имеем очень много шансов Айв случае, если его нет, воспользуемся очень многими земными благами В, то против Бога мы будем иметь Ах В. Очевидно, что 1 хоо>Ах В. Едва ли трудно заметить слабые стороны этого пари. Правильно ли поставлена дилемма Паскалем? Человек, отрицающий бытие Божие, действительно ли теряет вечность? Может быть, в мире новом, познав Бога, он окажется способным в конце концов придти с Ним в блаженное общение? У Достоевского есть изображение такого ученого, который не верил и умер и возмутился даже, увидев, что его неверие было заблуждением, был осужден на то, чтобы прошел квадриллион шагов, не хотел идти, но потом пошел, прошел и, вступив на небо, искренно воскликнул «осанна», даже перехватил в своем религиозном ликовании так, что по рассказу черта, от которого ведется речь, которые поблагороднее ему руки сначала не подали”. Если отрешиться от юмористической стороны рассказа, то получится мысль, сама по себе не заключающая в себе несообразностей, что настоящею жизнью еще может не вполне определиться жизнь вечная, а тогда у неравенства Паскаля бесконечности могут быть в обеих частях и даже могут быть устранены, за то конечные комбинации будут в пользу отрицания бытия Божия. За всем тем его доказательство от пари не может быть отвергнуто, оно должно быть видоизменено, в него нужно ввести осложнения. Может быть, на вопрос как нужно жить: та ли, как будто Бога нет, или так, как бы Он существует? Легче дать ответ и обосновать его — хотя трудно обосновать его в немногих словах,— чем принять какую-либо сторону в запутанном пари Паскаля.
Стр. 65-66.
650
С. С. ГЛАГОЛЕВ
По мысли Паскаля в пари о бытии Божием человек должен принять сторону утверждающего это бытие, т. е. должен поверить в бытие Божие. Но поверить в бытие Божие человек не может, он может только пожелать поверить. Как же желание веры заменить обладанием верою? Паскаль на это дает такой ответ: живите и действуйте так, как будто вы уже верите. Приводят обыкновенно совет Паскаля: пить святую воду, заказывать обедни для того, чтобы возбудить в себе веру, сопоставляют это со словами Монтеня: «Нужно быть безумным, чтобы умудриться» (Опыты, кн. VI гл. XII). Но напрасно представляют, что на самом деле, по мысли Паскаля, с этого должны начинать неверующие, хотя у него и употребляется здесь слово «начинать» (commencer). Нужно видеть, что он здесь обращает свою речь не к тем, которые не верят, а к тем, которые хотят поверить. Он приглашает пить святую воду того, кто хочет поверить в ее святость. Он приглашает, в сущности, проверить на опыте свою желаемую веру, приглашает тех, у которых возможны благоприятные условия для опыта или которые могут постепенно воспитать в себе эти условия — благоговейно серьезное отношение к делу.
Но прежде, чем на самом деле обратиться к святой воде, Паскаль приводит многие доводы, почему должно явиться желание к ней обратиться. Для людей развитых требуется религия умозрительная, для людей простых — внешняя (обрядовая). Универсальная религия должна отвечать потребностям всех. Такова религия христианская. «Другие религии, как например, языческие, более доступны для простого народа, ибо ограничиваются одной внешней стороной, но непригодны для людей мыслящих. Последним более соответствовала бы чисто умственная религия; зато она не годилась бы для народа. Одна христианская религия отвечает этим обоим требованиям: в ней есть и внешняя сторона. Она возвышает народ до понимания ее внутреннего содержания и принижает горделивых до внешней свой стороны; без этого она была бы несовершенна, ибо необходимо, чтобы народ понимал дух буквы, а мыслящие и рассуждающие подчиняли бы свой ум букве. Внешность должна сопровождать внутреннее настроение, чтобы испросить чего-либо от Бога, т.е. нужно становиться на колена, молиться устами и т. д., чтобы гордый человек, не хотевший подчиниться Богу, подпал бы теперь в подчинение твари. Ждать помощи от этой внешности было бы суеверием, как нежелание присоединить ее к внутреннему содержанию обличало бы гордость» *. Ни одна религия также (кроме христианской) не объяснила человеку человека. «Ни одна религия также (кроме христианской) не признала в человеке самой
Стр. 68 69.
Блез Паскаль
651
совершенной и, в то же время, жалкой твари. Одни, хорошо сознавая его совершенства, считали низостью и неблагодарностью те невысокие понятия, которые люди естественно имеют о себе; другие же, вполне понимая всю справедливость невысокого понятия о себе человека, встречали презрительной насмешкой это одинаково свойственное ему сознание величия. Только наша религия научила, что человек родится во грехе; никакая философская секта этого не сказала; стало быть, и ни одна не сказала правды» *. Истинность христианства не закрыта, о ней свидетельствуют чудеса и пророчества, но она и не слишком ярка. Паскаль так рассуждает об этом: «Бог хотел искупить людей и дать возможность спасения ищущим Его. Но люди оказываются столь недостойными, что Бог, по справедливости, отказывает некоторым, вследствие их загрубелости, в том, что дарует, по незаслуженному ими милосердию, другим. Если бы Он пожелал побороть упорство самых загрубелых, Он мог бы сделать это, обнаружив Себя им так торжественно, что они не могли бы усомниться в истинности Его существа,— как явится Он в последний день при таком громе, молнии и разрушении природы, что мертвые воскреснут и самые слепые увидят Его. Но не в таком виде пожелал Он совершить свое кроткое пришествие; так как множество людей оказались недостойными Его милосердия, то Он не хотел даровать им того блага, от которого они сами отказываются. Поэтому весьма справедливо, что Он явился не в полноте Своего божественного величия, что, несомненно, заставило бы уверовать в Него всех людей, однако, и не настолько таинственно, чтобы Его не могли узнать искренно Его ищущие. Он хотел дать таким людям полную возможность узнать Его, и потому, желая быть явным для ищущих Его всем сердцем и скрытым от тех, которые всем сердцем бегут Его, Он умеряет возможность Его познания: ясно открывая Себя стремящимся к Нему и скрываясь от людей равнодушных» **. Путь, каким человек может найти Христа, по Паскалю, таков. Положение людей на земле ужасно, Бога не видно, нужно искать, не оставил ли Он где следов Своего существования. С этою целью рассматриваются различные религии, ни одна из них не заслуживает веры, но вот один народ и одна религия представляют исключение: это — евреи и их религия. Этот народ самый древний, его книги самые древние, народ этот поражает своею искренностью: он тщательно хранит книги, в которых бичуются его жестокосердие и неверность. Евреи обладали великою верою в пророчества и упорно отрицают их исполнение, и самое это упорство их предсказано в пророчествах: именно их отвержение и распятие
* Ibid.
** Стр. 121-122.
652
С. С. ГЛАГОЛЕВ
Иисуса Христа, отвержение краеугольного камня, который сделался для них камнем претыкания и соблазна. В пророчествах был смысл плотской (Мессия — раздаятель даров и освободитель) и духовный (духовное возрождение человечества), последний прикрыт первым. «Одна из главных причин, почему пророки облекали обещаемые ими духовные блага в символы благ земных, была то, что они имели дело с народом чувственным, которого нужно было сделать носителем завета духовного» *. Но во многих местах он очевиден и везде при внимательном чтении он ясен. Но есть люди, желающие быть слепыми, и еврейская религия, как затем и христианская, просвещая одних, ослепляет таковых и при том так, что сами ослепляемые являются свидетелями истинности религии. «Ничего мы не поймем в делах Божиих, если не поставим себе за правило, что Он желал ослепить одних и просветить других» **. Паскаль рекомендует не судить о еврейской религии по ее исполнителям, а по ее книгам. Точно так же должно поступать и по отношению к христианству. Для понимания Библии он указывает такой руководительный ключ: нужно презирать самого себя. «Завеса, закрывающая книги Писания для иудеев, закрывает их и для плохих христиан, а равно для всех, недостаточно презирающих самих себя. Но как легко становится понимать св. книги и познать Иисуса Христа, когда действительно презираешь себя» ***.
Весь Ветхий Завет есть прообраз. «Единственная конечная цель книг Ветхого Завета есть любовь к Богу. Все, сто в них не клонится к этой единственной задаче, есть ее преображение, ибо, в виду единственной цели, все, что не выражает ее непосредственно, есть прообраз.
Бог таким путем разнообразит эту единственную заповедь любви, чтобы удовлетворить наше ищущее разнообразия любопытство, и этим разнообразием ведет нас всегда к тому, что нам единственно нужно. Ибо потребно только одно, а мы любим разнообразие, и Бог удовлетворяет обе эти наши потребности путем разнообразий, ведущих к единственной нашей потребе» ****. Ветхий Завет был заветом закона, его сменил закон благодати. Но «благодать есть лишь про- ображение славы, ибо не составляет конечной цели. Закон был прообразом благодати, а благодать служит прообразом славы, но в то же время представляет собою и средство к ее достижению» *****. Некоторые места Писания могут соблазнять читающего своею ка-
* Стр. 97.
** Стр. 126.
*** Стр. 94.
**** Стр. 103.
***** Стр. 98_
Блез Паскаль
653
жущеюся наивностью или даже неверностью своих положений. Но Паскаль в деле понимания таких мест рекомендует не смущаться по следующим соображениям. Если мы имеем две речи и в одной из них все представляется наивными и неверным, а в другой — наряду с наивным и неверным — мы встречаем глубокие, ценные и прекрасные рассуждения, очевидно, мы не должны тогда спешить с осуждением того, что нам представлялось наивным. Естественно предположить, что это имеет и особенный смысл, его нужно понимать духовно. Во многих местах говорится, что Мессия избавит Свой народ от врагов, это пророчество, понимаемое в буквальном смысле, не сбылось, но в некоторых местах говорится, что Мессия избавит от беззаконий, неправд. Эти слова нужно считать разъясняющими слово «враги». В других случаях буква служила прообразом. Была ли обетованная земля действительным местом успокоения? Нет. Следовательно, это был прообраз. «Избранным все служит к добру, даже самые неясности Писания; ибо они чтут их за его ясные стороны; наоборот, у других все обращается во зло, даже самые очевидности, так как они проклинают их за неясности, коих не понимают» *.
Сильнейшее свидетельство истинности христианства представляет Собою Иисус Христос. «Какой человек имел когда-либо больше блеска? Весь еврейский народ задолго предсказывает Его пришествие. Язычники поклоняются Ему, когда это пришествие совершилось Те и другие считают Его своим средоточием. Но кто из людей в то же время так мало пользовался всем этим блеском? Из тридцати трех лет жизни Он тридцать провел в неизвестности. В течение трех остальных Он слывет за обманщика; священники и старейшины Его отвергают; друзья и близкие презирают Его. Наконец, Он умирает, преданный и покинутый всеми. Какую долю имеет Он в этом блеске? Никогда человек не имел такого величия; никогда человек не был более унижен. Весь этот блеск послужил только нам, чтобы мы могли вразумиться им; Ему же Самому в нем доли не было. Иисусу Христос высказывает величайшие истины так просто, что кажется, как будто Он предварительно не размышлял о них, но вместе с тем, выражает их настолько ясно, что не остается сомнения относительно того, что Он о них думает. Эта ясность в соединении с такой простотой — изумительна.
Кто указал евангелистам качества, отличающие вполне героическую душу, что они с таким совершенством изобразили ее в Иисусе Христе? Зачем они представляют Его слабым в предсмертные минуты? Разве они не могли изобразить Его более стойким в смерти? Конечно, могли, ибо тот же св. Лука, описывая смерть св. Стефана, изображает
Стр. 123.
654
С. С. ГЛАГОЛЕВ
его более крепким в эти минуты, чем был Иисус Христос. Они представляют Его подверженным страху смерти до наступления необходимости умереть, а затем изображают Его вполне стойким. Но если они описывают Его смущенным, то лишь пока Он сам смущает себя; когда же Его смущают люди, Он становится совершенно твердым.
Церкви стоило такого же труда доказать, что Иисус Христос был человекам, в опровержение отрицавших это, как и доказать, что Он был Богом; видимые же данные противоречили одинаково сильно тому и другому» *.
Свидетельства о Христе бесчисленны. Прежде всего свидетельства пророков, которые предсказали о времени, месте и обстоятельствах Его пришествия, о Его жизни, Его миссии, Его судьбе и судьбе Его дела. О Христе свидетельствуют апостолы, евангелисты, свидетельствуют чудеса Христовы и чудеса последователей Христа. Свидетельствует еврейский народ, бедствующий доселе. «Бог обещал им, что, хотя Он развеет их по краям света, однако, если они будут верны закону, Он соберет их опять. Они очень верны ему, но остаются в угнетении (стало быть Мессия явился, а закон, содержавший эти обещания, перестал существовать вследствие установления закона нового» **.
Ветхий Завет, говорящий о Христе, имеющем придти, и Новый Завет, говорящий о Христе, пришедшем, представляют собою одну и ту же религию, и религия эта сводится к тому, что нужно любить Бога и только Бога. По Ветхому Завету важно не происхождение от Авраама, а любовь к Богу (ВторозакЛ 8, 19-20; Исх. 1041, 3, 6, 7; 43,16), важно не обрезание плоти, а обрезание сердца (Второзак. 10, 16-17; Иер.114, 4), важны не обряды, не внешность, а настроение (Иоил.12 2, 13; Исх. 43), и за то, что в Иерусалиме не было любви, не было религиозного настроения, Иерусалим отвергнут, а Рим принят. Имя иудеев будет оставлено для проклятия и заменено другим (Ис. 44, 15). Паскаль беззаветно присоединяется к тем, которые на место Иерусалима ставят Рим. Только Христос может привести человека в этот Рим или — Паскаль не повторяет имени Рима — в горний Иерусалим. «Бог христиан есть Бог, дающий душе чувствовать, что Он ее единственное благо, что весь покой в Нем и единственная радость ее в любви к нему; это Бог, внушающий душе в то же время ненависть к препятствиям, которые ее задерживают в стремлении любить Его всеми силами. Самолюбие и чувственность, составляющие эти препятствия, невыносимы для души, и Бог дает ей чувствовать, * Стр. 107-108.
** Стр. 118
Блез Паскаль
655
что себялюбие глубоко коренится в ней, и что Он один может исцелить ее» *.
Но кому Бог дает чувствовать, что ОН — единственное благо? У Паскаля есть ряд мест, заставляющих предположить, что он верил в безусловное предопределение. «Ничего мы не поймем в делах Божиих, если не поставим себе за правило, что Он желал ослепить одних и просветить других» **. «Иисус Христос спасает избранных и осуждает отверженных, виновных в одних и тех же преступлениях» (Jésus Christ sauve les élus et damne les réprouvés sur les mêmes crimes)***. Но если Христос спасает не всех, а лишь предопределенных, то, по-видимому, выходит, что Христос умер не за всех. Это положение и высказывалось, Паскаль по поводу его сказал следующее: «когда говорят, что Иисус Христос умер не за всех, то злоупотребляют известным пороком людей, готовых тотчас придраться к этому исключению. Это значит помогать отчаянию, вместо того, чтобы отвлекать от него и оживлять надежду» ****. Речь эта не вполне ясна, но, во всяком случае, она ободряет надежду на спасение и порицает отчаяние.
Нужно надеяться на свое спасение и заботиться о нем, нужно надеяться на спасение ближних и стремиться направлять их к этому спасению Нужно выработать методы обращения человека в веру. Человек лучше убеждается теми доказательствами, до которых доходит сам, чем теми, которые убедили других. Поэтому апологет должен поставить себя на место убеждаемого, понять его внутренний мир и направить его так, чтобы он самостоятельно продумал и принял возвещаемую ему истину. Нужно обращаться ко всем душевным способностям человека, захватить его всецело — его разум, сердце, во всем возбудить стремление к обращению, чтобы никакая наклонность не отвлекала его к погибели. Не нужно отрекаться от людей, обнаруживающих отвращение к религии. «Иные люди,— говорит Паскаль,— имеют презрение к религии; они ненавидят ее и боятся, что она истинна. Чтобы исцелить это зло, нужно начать с указания, что религия совсем не противоречит разуму; затем, что она достойна уважения, и — внушать это уважение; что она заслуживает любви, и — внушать желание найти ее истинной, а потом — показать, что она действительно истинна, достойна уважения, потому что вполне познала человека, и достойна любви, как обещающая истинное благо» *****.
* Стр. 131-132.
** Стр. 126, то же на стр. 131.
*** Стр. 97-98.
**** Стр. 144.
***** Стр- 151-
656
С. С. ГЛАГОЛЕВ
Но довольно излагать Паскаля. Кому этот писатель на основании изложений представляется интересным, тот легко может ознакомиться ним сам. Читать Паскаля легко и приятно; его книга невелика по объему и написана блестящим и сильным языком. Но даже и те, которые, безусловно, не согласны с ним, всегда отдадут честь благородству его настроения, силе его мысли, гибкости его слова. Отдельные его положения могут служить точками отправления для целых трактатов, и от всех его положений веет жизненностью. Его защита религии как бы предвосхищает возражения, которые делал против нее XIX и делает XX век. Паскаль с своими мыслями является нам не как человек прошлого, а как современник, который борется за одни идеалы против идеалов других. Но за какие идеалы он борется? За христианские. Но христианство распадается на много исповеданий; к какому примыкает Паскаль? Он был католиком XVII столетия, его Иерусалимом был Рим, но он отрицал непогрешимость Рима, и естественен вопрос — остался ли бы он верным сыном Рима после 1870 г., когда римский первосвященник свою непогрешимость провозгласил догматом? На этот вопрос может ответить лишь сам Паскаль. Но не трудно видеть, что если нечто отделяло его от католического мира, то и между ним и другими исповеданиями стоят серьезные преграды. Несомненно, от православия его отделяло filioque13 и, может быть, immaculata conceptio14, это — в области догматической, в области практической Паскаль — этот палерояльский монах был совершенно сыном католического строя. Паскаль не мог примкнуть к англиканской церкви, к протестантским общинам, он признавал за церковью авторитет непогрешимости, право контроля над совестью, ему был нужен постоянный духовник. Может быть, Паскаль пошел бы за старокатоликами?15 Трудно ответить на это положительным образом. Старокатолики ведь не только отвергают непогрешимость папы, которую не признавал и Паскаль, но отвергают и нечто другое, что Паскаль признавал всею душой. Так, предприняв вообще догматический пересмотр и возвращение к учению неразделенной церкви IX века (а не XVII, к которой принадлежал Паскаль), старокатолики нашли неудачным термин «пресуществление» в таинстве Евхаристии. Позволительно остановиться на этом, тем более, что и некоторые православные писатели, сочувствуя старокатоликам, легко, по-видимому, готовы пожертвовать этим термином. Позволительно думать, что Паскаль не присоединился бы к ним. Термин есть обозначение мысли. Противники термина не принимают его, по-видимому, потому что не допускают, что хлеб и вино в таинстве Евхаристии становятся действительно телом и кровью Господа И. Христа, они говорят о духовном присутствии Христа в Евхаристии. Вот что, кажется, нужно сказать им. Если бы хлеб и вино действительно становились
Блез Паскаль
657
только телом и кровью, то термин «пресуществление» был бы неточен. Хлебу, чтобы стать телом, не нужно пресуществляться, так как существо хлеба и тела одно и то же. Этому наставляют нас химия и физиология. Но претворение хлеба в тело Христово есть пресуществление, ибо есть внесение в него нового существа, нового начал, которое преобразует существо прежнее. Единородный Сын Божий, воплотившись, соединился с земною природою, но от этого не последовало прямо преоброазования зараженной грехом земной природы. Природа преобразуется постепенно чрез усвоение ею божественного начала. В таинстве Евхаристии происходит соединение Христа с материальною природою вина и хлеба. Хлеб и вино становятся телом и кровью Христа. Не химические и физиологические процессы происходят здесь, а соединение Божества с материей, преобразующую материю. Эту божественно преобразованную материю воспринимает в себя неосужденно причащающийся. Особенный характер процесса, пресуществление материи в идеально состояние через соединение с Божеством, и отмечается термином «пресуществление». Если же хлеб и вино не пресуществляются, то тогда они оказываются совершенно условным символом, соединяющим со Христом человека, символ может быть заменен всяким другим и у таинства не оказывается никакого специального характера. Трудно принять это воззрение тем, которые причащаются в очищение души и тела, в оставление грехов и хизнь вечную, которые к своей грехоной плотской природе прививают в этом таинстве природу безгрешную. Паскаль, для которого догмат, формула, все в религии было жизнью, конечно, не мог бы легко поступиться содержанием религии, чтобы примкнуть к той или иной общине.
Отсюда образ Паскаля остается трагическим. Он хотел быть послушным сыном церкви, но нет ни одной церкви, исповедание которой было бы исповеданием Паскаля. Но, конечно, не нам — православным — судить Паскаля. Его «мысли» драгоценный дар православной апологетике, в них есть даже аргументы против католицизма (168, XXVII-XXVIII). В истории европейской мысли мы всегда с благодарностью и почтением будем указывать на двух философов, которые были католиками и взгляды которых приближались к православию. Это Блез Паскаль и Франц Баадер16.
П.А. ФЛОРЕНСКИЙ
Столп и утверждение истины
<Фрагмент>
ЧАСТЬ2
Разъяснение и доказательство некоторых частностей, в тексте предполагавшихся уже доказанными
XXV. «Амулет» Паскаля1
По смерти одного из наиболее искренних людей, живших на земле (легко догадаться, что я говорю о Блезе Паскале), в подкладке его куртки,— pourpoint — была найдена небольшая, тщательно сохранявшаяся им записка, впервые опубликованная Кондорсе2 под весьма неподходящим названием «мистического амулета — amulette mystique». Записка эта относится ко времени или даже моменту «обращения» Паскаля и представляет собою исповедание веры его,— точнее сказать, молитвенное созерцание отдельных моментов духовного восхождения. Об этом «амулете» было споров не мало, но споров довольно безрезультатных*. Безрезультатность эта была обусловлена слишком большим упрощением и опрощением этого документа, содержащего в себе уплотненный сгусток жизни и миропонимания,— столь сжатый, что отдельные положения кажутся даже бессвязным набором. Но, мне кажется, что мысли, развиваемые мною в этой книге, и теория возрастания типов дают ключ к пониманию этой многосодержательной и многозначительной бумажки. Ограничусь пока почти только этим намеком, с тем, чтобы впоследствии вернуться к «Амулету» Паскаля. Но приведу, все же подлинный текст **, потому что многое понятно будет и без нарочитых разъяснений.
* L. F. Lelut,— De l’amulette de Pascal9 «C.R. Acad.d. Sc. Mor. et PoL», T. VI, 1844, pp. 453-476, Paris, 1846. Еще его же,— L’abîme imaginaire de Pascal9id. VIII, p. 139)
** Заимствую из «критич.» Парижск. Изд. 1858 г. «Мыслей» Паскаля, рр. 40-41.
Столп и утверждение истины
659
L’an de grâce 1654,
Lundi, 23 novembre, jour de saint Clément, pape et martyr, et autres au martyrologe.
Veille de saint Chrysogone, martyr, et autres,
Depuis environ dix heures et demie du soir jusques environ minuit et demi,
Feu.
«Dieu d’Abraham, Dieu d’Isaac, Dieu de Jacob» non des philosophes et des savants.
Certitude. Certitude. Sentiment. Joie. Paix.
Dieu de Jésus-Christ.
Deum meum et Deum vestrum.
«Ton Dieu sera mon Dieu».
Oubli du monde et de tout, hormis Dieu.
Il ne se trouve que par les voies enseignées dans l’Evangile.
Grandeur de l’âme humaine.
«Père juste, le monde ne t’a point connu, mais je t’ai connu».
Joie, joie, joie, pleurs de joie.
Je m’en suis séparé:
Dereliquerunt me fontem aquae vivae.
«Mon Dieu, me quitterez-vous?»
Que je n’en sois pas séparé éternellement.
«Cette est la vie éternelle, qu’ils te connaissent seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ».
Jésus-Christ.
Jésus-Christ.
Je m’en suis séparé; je l’ai fui, renoncé, crucifié.
Que je n’en sois jamais séparé.
Il ne se conserve que par les voies enseignées dans l’Evangile: Renonciation totale et douce.
Soumission totale à Jésus-Christ et à mon directeur.
Eternellement en joie pour un jour d’exercise sur la terre.
Non obliviscar sermones tuos. Amen.
Вот перевод этого документа, с некоторыми пояснительными примечаниями (они набраны мелким шрифтом и заключены в скобки):
«Год благодати 1654.
[Паскаль подчеркивает, что живет под благодатью, т. е. когда возможно разрешение елоуг]. Кстати сказать, замечательно мистико-арифметическое значение года обращения,— 222 = 7.]
660
П.А. ФЛОРЕНСКИЙ
Понедельник 23 ноября, день св. Климента3, папы и мученика, и других в месяцеслове.
Канун св. Хризогона4 мученика и других.
От приблизительно десяти с половиною часов вечера до приблизительно полуночи с половиною,
[Этою точностью даты указывается, что полнота ведения, открывшаяся Паскалю, не была мечтаниями или смутными предчувствиями, почти недатируемыми вследствие своей расплывчатости и качественной неотличности от обычного содержания сознания, а была явлением точно-очерченным и, стало быть, качественно новым*’, стоящим вне обычных процессов.]
Огонь.
[Разумеется огонь сомнения, огонь елоут]: в продолжении двух часов Паскаль томился огнем геенским и тогда-то, после сего испытания небытием, ему открылся Сущий.]
Бог Авраама, Бог Исаака, Бог Иакова, Не философов и ученых.
[Истина — Личность, исторически являющая Себя, а не отвлеченный принцип; другими словами, Истина — не вещна, а лична.]
Достоверность. Достоверность. Чувство. Радость. Мир.
[Во встрече с Богом-Истиною — достоверность, и потому — разрешение елоут]; эта-то достоверность и дает удовлетворение чувству,— радость и мир, т.е. Бог удовлетворяет критерию истины.]
Бог Иисуса Христа.
[Бог Иисуса Христа и есть Истина,— Триединица, ибо только Христос возвестил Триединство.]
Бога Моего и Бога Вашего ».
[Но наш Бог — не Бог Иисуса Христа, ибо я не единосущен Истине, а Христос — единосущен.]
Твой Бог будет моим Богом —
Столп и утверждение истины.
661
[Чрез Христа я буду приобщен жизни Триединого, и Истина делается моим Богом.]
Забвение мира и всего, кроме Бога:
[И тогда я буду «не от мира», забуду тленное, метафизически избавлюсь от него, буду вечен.]
Он обретается только на путях, указанных в Евангелии.
[Путь к свету Истины — подвижничество, устроение сердца.]
Величие души человеческой.
[На пути подвижничества усматривается вечная сторона тварной личности,— София.]
Отец праведный, мир не познал Тебя, но я Тебе познал.
[Своею мудростью, которою мир не познал Отца, я познал Его,— чрез созерцание своего очищенного естества, в Господе Иисусе Христе.]
Радость, радость, радость, слезы радости.
[В познании Бога чрез очищенное сердце — преизбыточествующая, переливающаяся чрез край радость и блаженство.]
Разлучился я с Ним
[Но откровение кончается; эта радость — лишь залог будущей,— не постоянное чувство. Радость уходит и является недоумение и тоска.]
Оставили Меня, источник воды живой.
[Как бы ответ Бога на недоумение: «Этим объясняется чувство тоски».]
Бог Мой, неужели Ты покинешь меня?
[Т.е.: «Ты не покинешь, лишь бы я не покидал». Отсюда решение:]
Да не разлучусь я с Ним во веки.
662
П.А. ФЛОРЕНСКИЙ
[Внутренним актом решаюсь: прилепиться к Богу.]
Это есть жизнь вечная, да познают они Тебя, единого истинного Бога, и что Ты послал И. X.
[С этого момента начинается уже жизнь обычного сознания, Говорится о том, что нужно и, далее, о несоответствии между должн ым и наличным.]
Иисус Христос
Иисус Христос
Я разлучился с Ним; от Него я бежал, отрекся, от распятого. Да не разлучусь я с ним никогда.
Он сохраняется только на путях, указанных в Евангелии.
[Определяется, как же не разлучатся с И.Х., а далее указываются средства к устроению себя.]
Всецелостное и сладкое отречение.
[Отказ от самости, подвиг.]
Всецелостное подчинение Иисусу Христу и моему руководителю.
[Старческое послушание.]
На веки в радости за день подвига на земле
[Мысль о будущих благах:]
«Дане забуду слов Твоих». Аминь.
Таким образом, «амулет» Паскаля — как бы программа религиозно-философской системы,— целый круг мыслей, с необычайной быстротой пронесшихся пред сознанием Паскаля, в озарении, длившемся около двух часов. Может быть, его «Мысли о религии» — наброски, предназначенные для осуществления именно этого плана. Как известно, отдельные заметки, входящие в состав «Мыслей о религии», найдены были по смерти Паскаля в полном беспорядке, и обычный порядок их расположения принадлежит вовсе не автору, а первым издателям. Есть попытка расположить те же мысли в другом порядке, более соответствующем замыслу
Столп и утверждение истины
663
Паскаля *. Но уместно и своевременно попытаться расположить те же мысли согласно «амулету», и я решаюсь высказать свое предчувствие, что здесь исследователя ожидают клады богатые и легкодобываемые.— Напомню, кстати, что есть какое-то сродство у Паскаля с православием** и что недаром же А. С. Хомяков «часто называл Паскаля своим учителем». Это налагает на нас обязанность особенно внимательно отнестись к проникновенному французскому мыслителю.
* Если не изменяет память,— это: Sully Prudhomme,— La vraie religion selon Pascal. Paris, 1905.
** A. С. Хомяков, Поли. собр. соч., T. 2, изд. 5-е, М., 1907 г., стр. 543, прим. Издателя к стр. 147.— С. С. Глаголев,— Из чтений о религии, Св. Тр.-Серг. Лавра, 1905, стр. 222,233-235.
Н. А. БЕРДЯЕВ
Самопознание
<Фрагмент>
ГЛАВА VII
Поворот к христианству. Религиозная драма. Духовные встречи
<...> Припоминая свой духовный путь, я принужден сознать, что в моей жизни не было того, что католики и протестанты (гораздо менее православные) называют convertion1 и чему приписывают такое центральное значение. Я говорил уже, что у меня не было резкого обращения, перехода от совершенной тьмы к совершенному свету. С известного момента моей жизни, которого я не мог бы отнести к определенному дню моей жизни, я сознал себя христианином и вошел в путь христианства. Припоминаю только одно мгновение летом в деревне, когдая шел в тяжелом настроении, уже в сумерки, в саду и нависли тучи. Тьма сгустилась, но в моей душе вдруг блеснул свет. И это пережитое мгновение я не называю резким обращением, потому что до этого я не был ни скептиком, ни материалистом, ни атеистом, ни агностиком, и после этого у меня не были сняты внутренние противоречия, не наступило полного внутреннего покоя и не перестала меня мучить сложная религиозная проблематика. Для описания своего духовного пути я должен все время настаивать на том, что я изошел в своей религиозной жизни из свободы и пришел к свободе. Но свободу эту я переживал не как легкость, а как трудность. В этом понимании свободы, как долга, бремени, как источника трагизма жизни мне особенно близок Достоевский. Именно отречение от свободы создает легкость и может дать счастье послушных младенцев. Даже грех я ощущаю не как непослушание, а как утерю свободы. Свободу же ощущаю как божественную. Бог есть свобода и дает свободу. Он не Господин, а Освободитель, Освободитель от рабства мира. Бог действует через свободу и на свободу. Он не действует через необходимость и на необходимость. Он не принуждает Себя признать. В этом Скрыта тайна мировой жизни. Это первичный религиозный опыт, замутненный и искаженный наслоениями мировой необходимости. В применении
Самопознание
665
к себе я потому уже предпочитаю не говорить о резкой convertion, что я не верю в существование единой, целостной ортодоксии, в которую можно было бы обратиться. Я не богослов, моя постановка проблем, мое решение этих проблем совсем не богословские. Я представитель свободной религиозной философии. Но я читал много богословских книг, я хотел узнать и определить, что такое « православие». Свои чтения и размышления я проверял и дополнял общением с духовным миром православия, с представителями православной мысли. В результате долгого пути я принужден сознать, что православие неопределимо, гораздо менее определимо, чем католичество и протестантизм. Я считал это преимуществом православия, его меньшей рационализованностью и видел в этом его большую свободу. Я, по совести, не могу себя признать человеком ортодоксального типа, но православие мне было ближе католичества и протестантизма, и я не терял связи с Православной церковью, хотя конфессиональное самоутверждение и исключительность мне всегда были чужды и противны. Наблюдая над одним богословом, который признавал себя ультраортодоксальным и даже единственным подлинно православным, я так определил это православное сознание. «Православие — это я»,— говорит этот ревнитель ортодоксии и обличитель ересей. Если бы я во что бы то ни стало стоял за наименование, то я бы ему ответил: «Твой критерий формально верный, но ошибка твоя в утверждении, что православие это ты, православие это не ты, а я». Я давно заметил, что представители ортодоксии и авторитета, в сущности, никакого авторитета для себя не признают; они себя считают авторитетом и обличают в ересях митрополитов и епископов; для себя они признают большую свободу и отрицают ее лишь для других. Для более радикального обращения в православие в мое время началось особенное увлечение восточными отцами церкви, которым нередко приписывали то, чего у них найти нельзя. Но греческих отцов церкви я всегда ценил гораздо более, чем западных, чем схоластиков. Святой Серафим Саровский2 стал излюбленным святым, и у него хотели увидеть и то, чего у него не было. В те годы часто более искали экстаза, чем истины. Это видно по совершенному равнодушию к исторической критике.
& & &
В центре моего религиозного интереса всегда стояла проблема теодицеи2. В этом я сын Достоевского. Единственным серьезным аргументом атеизма является трудность примирить существование всемогущего и всеблагого Бога со злом и страданиями мира. Все богословские учения мне представлялись недопустимой рационализацией тайны. Проблема
666
Н. А. БЕРДЯЕВ
теодицеи была для меня прежде всего проблемой свободы, основной в моей философской мысли. Я пришел к неизбежности допустить существование несотворенной свободы, что, в сущности, означает признание тайны, не допускающей рационализации, и описание духовного пути к этой тайне. Во многих книгах я развивал свою философию свободы, связанную и с проблемой зла, и с проблемой творчества. В период, о котором я говорю, я выпустил книгу «Философия свободы», еще несовершенный эскиз моей философии свободы. Впоследствии меня более всего упрекали за мою идею « несотворенной свободы» (терминология у меня выработалась лишь постепенно). Обычно связывали эту идею с учением любимого мной Я. Беме’ об Ungrund е6. Но у Беме Ungrund, то есть, по моему толкованию, первичная свобода, находится в Боге, у меня же вне Бога. Первичная свобода вкоренена в ничто, в меоне6. И это совсем не должно означать онтологического дуализма, который есть уже рационализация. Наибольшую критику во мне вызывает традиционное учение о Промысле, которое, в сущности, есть скрытый пантеизм в наименее приемлемой форме. Об этом я говорил уже. Если Бог-Пантократор7 присутствует во всяком зле и страдании, в войне и в пытках, в чуме и холере, то в Бога верить нельзя, и восстание против Бога оправдано. Бог действует в порядке свободы, а не в порядке объективированной необходимости. Он действует духовно, а не магически. Бог есть Дух. Промысел Божий можно понимать лишь духовно, а не натуралистически. Бог присутствует не в имени Божьем, не в магическом действии, не в силе этого мира, а во всяческой правде, в истине, красоте, любви, свободе, героическом акте. Наиболее неприемлемо для меня чувство Бога как силы, как всемогущества и власти. Бог никакой власти не имеет. Он имеет меньше власти, чем полицейский. Категория власти и могущества социологическая, она относится лишь к религии как социальному явлению, есть продукт социальных внушений. Бог не имеет власти, потому что на Него не может быть перенесено такое низменное начало, как власть. К Богу не применимо ни одно понятие, имеющее социальное происхождение. Государство есть довольно низменное явление мировой действительности, и ничто, похожее на государство, не переносимо на отношения между Богом и человеком и миром. На Бога и божественную жизнь не переносимы отношения властвования. В подлинном духовном опыте нет отношений между господином и рабом. Тут правда целиком в теологии апофати- ческой. Катафатическая теология8 находится во власти социальных внушений. Очищение и освобождение христианского сознания от социоморфизма9 мне представляется важной задачей христианской философии. Теология находится во власти социоморфизма, она мыслит Бога в категориях социальных отношений властвования. И это особен¬
Самопознание
667
но относится к теологической мысли о Боге-Отце, о Боге как Творце мира. Я всегда сильнее чувствовал Бога-Сына, Христа-Богочеловека, Бога человечного, чем Бога-Силу, Бога-Творца. Это и означало, что мысль о Боге-Отце, Творце мира, мне представлялась наиболее зараженной и искаженной космоморфизмом10 и социоморфизмом. В Бога можно верить лишь в том случае, если есть Бог-Сын, Искупитель и Освободитель, Бог жертвы и любви. Искупительные страдания Сына Божьего есть не примирение Бога с человеком, а примирение человека с Богом. Только страдающий Бог примиряет со страданиями творения. Чистый монотеизм не приемлем и есть последняя форма идолопоклонства. В противоположность Шлейермахеру11 и многим другим я думаю, что религия есть не чувство зависимости человека, а есть чувство независимости человека. Человек есть существо, целиком зависимое от природы и общества, от мира и государства, если нет Бога. Если есть Бог, то человек есть существо, духовно независимое. И отношение к Богу определяется не как зависимость человека, а как его свобода. Бог есть моя свобода, мое достоинство духовного существа. Ложное учение о смирении исказило христианство и унизило человека как богоподобного духовного существа. Оно, конечно, тоже есть порождение социоморфизма. Самое истолкование грехопадения носит социоморфический характер, то есть понимается как непослушание верховной власти, как неподчинение высшей силе. Это есть наследие первобытных верований. Но грехопадение можно понять как утерю свободы или как испытание свободы. Все, что я говорю сейчас, было для меня не продуктом отвлеченной мысли, а духовного опыта, жизненного пути. Я мог принять и пережить христианство лишь как религию Богочеловечества.
Для меня говорить о Богочеловечестве и богочеловечности значит говорить о религии, в которую я обратился. Я стал христианином не потому, что перестал верить в человека, в его достоинство и высшее назначение, в его творческую свободу, а потому, что искал более глубокого и прочного обоснования этой веры. В этом я всегда чувствовал разницу между собой и большей частью людей, обратившихся в христианство, православных ли или католиков и протестантов. Мою веру не может пошатнуть необыкновенно низкое состояние человека, потому что она основана не на том, что думает сам человек о человеке, а на том, что думает о человеке Бог. В христианстве есть двойственность в отношении к человеку. С одной стороны, человек есть существо падшее и греховное, не способное собственными силами подняться, свобода его ослаблена и искажена. Но с другой стороны, человек есть образ и подобие Божье, вершина творения, он призван к царствованию, Сын Божий стал человеком, и в Нем есть предвечная
668
Н.А. БЕРДЯЕВ
человечность. Существует соизмеримость между человеком и Богом в вечной человечности Бога. Без этой соизмеримости нельзя понять самой возможности откровения. Откровение предполагает активность не только Открывающегося, но и воспринимающего откровение. Оно двучленно. Из Халкидонского догмата о Богочеловечестве Иисуса Христа12 не было сделано антропологических выводов, стоящих на высоте откровения Богочеловечества. Я много критиковал гуманизм в той его форме, в какой он сложился в века новой истории. Гуманизм переживает кризис и крах, поскольку он приходит к сознанию самодостаточности человека. Достоевский и Ницше с наибольшей силой обозначают этот кризис гуманизма, этот переход его в антигуманизм, в отрицание человечности. Но мне самому глубоко присущ религиозный гуманизм, вера в человечность Бога. Это человек бесчеловечен. Бог же человечен. Человечность есть основной атрибут Бога. Человек вкоренен в Боге, как Бог вкоренен в человеке. Эта первичная истина затемнена и даже закрыта падшестью человека, его экстериоризацией, его отпадением не только от Бога, но и от собственной человеческой природы. Вот как я осознал для себя основной миф христианской богочеловечности: это есть тайна двойного рождения, рождения Бога в человеке и рождения человека в Боге. В Боге есть нужда в человеке, в творческом ответе человека на божественный зов. Эпиграфом своей книги «Смысл творчества» 13 я взял из Ангелуса Силезиуса14: «Ich weiss dass ohne mich Gott nicht ein Nu kann leben, werd ich zu nicht, er muss von Noth den Geist aufgeben» *. Германская мистика глубоко сознала ту тайну, что не только человек не может жить без Бога, но и Бог не может жить без человека. Это есть тайна любви, нужда любящего в любимом. Такого рода сознание противоположно сознанию, которое понимает отношения между Богом и человеком как судебный процесс. Религиозный гуманизм, вкорененный в идее богочеловечности, призван совершить очищение, спиритуализацию и гуманизацию человеческой среды, воспринимающей откровение. Понимание христианского откровения зависит от структуры сознания, которое может быть шире и уже, глубже и поверхностнее.
Человеческое сознание очень зависит от социальной среды, и ничто так не искажало и не затемняло чистоту христианского откровения, как социальные влияния, как перенесение социальных категорий властвования и рабства на религиозную жизнь и даже на самые догматы. И Священное Писание есть уже преломление откровения Бога в ограниченной человеческой среде и ограниченном человеческом языке.
* « Я знаю, что без меня Бог не может прожить ни одного мгновения, превратись я в ничто, он, лишившись меня, испустит дух» (нем.).
Самопознание
669
Обоготворение буквы Писания есть форма идолопоклонства. Поэтому научная библейская критика имеет освобождающее и очищающее значение. Религиозную жизнь я всегда принимал не как воспитание и не как судебный процесс, а как творчество. Для меня всегда огромное значение имела «Легенда о Великом Инквизиторе». Я видел в ней вершину творчества Достоевского. Католическое обличье легенды мне представлялось второстепенным. «Великий Инквизитор» мировое начало, принимающее самые разнообразные формы, по видимости самые противоположные — католичества и авторитарной религии вообще, коммунизма и тоталитарного государства. В книге «Миросозерцание Достоевского» я высказал свои мысли по этому поводу. Но вот что важно для понимания моего духовного пути и моего отношения к христианству. В мое сердце вошел образ Христа «Легенды о Великом Инквизиторе», я принял Христа «Легенды». Христос остался для меня навсегда связанным со свободой духа. Когда мне возражали против того, что свобода есть основа христианства, то я воспринимал это как возражение против моего самого первоначального принятия Христа и обращения в христианство. Отречение от бесконечной свободы духа было для меня отречением от Христа и от христианства, принятием соблазна Великого Инквизитора. И я видел в истории христианства и христианских церквей постоянное отречение от свободы духа и принятие соблазнов Великого Инквизитора во имя благ мира и мирового господства. Ложно искание гарантий и безошибочных критериев в религиозной жизни. В духовной жизни есть риск, есть необеспеченность. Символические формы богопочитания подменили реальное искание Царства Божьего. Возрождение внутри христианства есть возрождение духа пророческого и мессианского. У меня всегда было особенное почитание пророков и пророческая сторона религии была особенно близка и, быть может, подавляла другие стороны. Соблюдение правды, а не жертвоприношения угодны Богу. У меня всегда было символическое понимание культа и плоти религиозной жизни и противление тому, что можно назвать наивным реализмом в религии. Но мой символизм был реалистического, а не идеалистического типа. У меня было отталкивание и антипатия к религиозному освящению «плоти», которое было так популярно в течениях начала XX века. Мысль моя была несвоевременна, она сопротивлялась главенствующему течению. Мысль моя несвоевременна и сейчас, когда и в православии, и в католичестве, и в протестантизме есть возврат к ультраортодоксии. В противоположность господствующим сейчас течениям я всегда верил, что существует не только универсальное христианство, но и универсальная религия. Христианство есть вершина универсальной религии. Но самое христианство не достигло
670
Н.А. БЕРДЯЕВ
еще вершины, оно еще не завершено. Можно было бы сказать, что христианство исторически не христианского происхождения. Миф об искуплении носит универсальный характер и в христианстве он лишь реализуется. Миф для меня не противоположен реальности, в нем есть реальный элемент. Все это не есть возражение против христианства, а его защита. Самое главное в христианстве необъяснимо исторически, оно не исторического, а метаисторического происхождения. Необъяснима личность Христа-Богочеловека. Но исторически, снизу, христианство впитало в себя не только еврейский мессианизм, но и все античные религии, в которых были предчувствия явления Христа-Искупителя. С известного момента я начал много читать книг по мистике, и меня поражало сходство мистик всех времен и всех религиозных вероисповеданий. Это сходство обнаруживается на известной духовной глубине. Различия же обнаруживаются в душевно-телесных оболочках. Но мистика, как она обнаружилась в исторических ее проявлениях, имеет свои границы. Мистика монистического типа (в Индии, у Шанкары15, у Плотина16, у Экхардта17, в монофизитском18 уклоне христианской монашеской мистики) не решает проблемы личности, она имеет антиперсона- листическую тенденцию. Такого рода монистические течения мне чужды, потому что проблема личности и личной судьбы для меня всегда была центральна. Я всегда был персоналистом по своей религиозной метафизике. И потому проблема индивидуальной судьбы в вечности была для меня первее всех проблем. Растворение личности, неповторимой индивидуальности в безликой божественности, в отвлеченном божественном единстве противоположно христианской идее о человеке и о богочеловечности. Это всегда означает победу космоцентризма19 над антропоцентризмом. Для меня нет более антипатичной идеи, чем идея растворения человека в космической жизни, признанной божественной. Это космическое прельщение прельщало и соблазняло многих в начале XX века. Тайна христианства есть тайна Богочеловечности, тайна встречи двух природ, соединяющихся, но не- смешивающихся. Человек не исчезает, он обоживается, но наследует свою человечность в вечной жизни. Думаю, что это даже мысль вполне ортодоксальная, но в ортодоксии недостаточно раскрытая и часто затемненная монофизитской тенденцией. Я все время боролся против монофизитства во всех его формах. Но я всегда очень любил германскую мистику, почитаю ее одним из величайших явлений в истории духа. Из великих германских мистиков более всего любил Я. Бёме. Он имел для меня огромное значение, И я всегда поминаю его в своих молитвах наряду с Достоевским и некоторыми другими любимыми. Мистический гнозис Я. Бёме имел семитически-кабалистическую прививку, и потому
Самопознание
671
проблема человека имела для него особенное значение. Неверно причислять его к мистикам космоцентрического типа и к пантеистам.
Моя внутренняя религиозная жизнь складывалась мучительно, и моменты незамутненной радости были сравнительно редки. Не только оставался непреодоленным трагический элемент, но трагическое я переживал как религиозный феномен по преимуществу. У меня была несимпатия к успокоенному, довольному религиозному типу, особенная антипатия была к религиозному млению и к мещанскому религиозному комфорту. Думаю, что мучительный религиозный путь связан не только с моими внутренними противоречиями, но и с острым чувством зла и безмерностью моей любви к свободе. У меня всегда был недостаток религиозной теплоты, теплоты религиозной плоти. Я иногда завидовал людям, у которых было много этой теплоты. Но еще чаще животная теплота и связанная с ней душевность претили моему острому эстетическому чувству. Это эстетическое чувство питалось более эмоциями пессимистическими, чем эмоциями оптимистическими. Нужно еще сказать, что мечтательность у меня всегда была сильнее непосредственной душевности. Я все-таки более всего человек мечты. Но я мало выражал эту свою мечтательную природу во вне. Часто, слишком часто мечту я переживал как глубокую реальность, действительность же как призрачный кошмар. Величайшие подъемы моей жизни связаны с внутренней музыкой, вызванной мечтой. Но эта мечтательность связывается у меня с суровым религиозным реализмом, отвращением от сентиментально-идеалистической, прекраснодушной религиозности. Климат и пейзаж моей религиозной жизни мне иногда представлялись как безводная пустыня с возвышающимися скалами. Да не подумают, что я себе всегда представлялся человеком, взбирающимся на высокие скалы. Религиозно я скорее переживал себя как человека с малым количеством благодатных даров. У меня нет религиозной самоуверенности. Я часто переживал состояние безблагодатности и богооставленности. Но бывали минуты большого подъема. Помню один сон, самый замечательный сон моей жизни, в котором отразилось что-то существенное в моем духовном пути. Я всегда вижу сны и часто мучительные, близкие к кошмару сны. Только изредка бывали значительные, символические. Снится мне огромная, необъятная площадь, уставленная деревянными столами и скамейками. На столах обильная еда. Это Вселенский собор20. Я хочу сесть на одну из скамеек около стола и принять участие в соборном деле и общении. Я вижу сидящими многих своих хороших знакомых и друзей из православного мира. Но куда я ни пробую сесть, мне всюду говорят, что свободного для меня места нет. Я обернулся и вижу, что в конце площади возвышается крутая скала без всякой растительности. Я иду к этой скале и пытаюсь
672
Н. А. БЕРДЯЕВ
на нее подняться. Это страшно трудно и руки мои в крови. Сбоку, внизу я вижу обходную извилистую дорогу, по которой подымается простой народ, рабочие. Мучительными усилиями я продолжаю взбираться по скале. Наконец, я достигаю вершины скалы. На самой вершине я вижу образ распятого Христа, обливающегося кровью. Я падаю у Его ног в полном изнеможении, почти без чувств. В этот момент я просыпаюсь, потрясенный сном. Когда я рассказал некоторым православным друзьям этот сон, то мне сказали, что это выражение моей гордости. Я думаю, что беда была не в моей гордости, беда была в том, что я был недостоин высоты этого сна, что он соответствовал моим тайным мыслям и моим мечтам, но не соответствовал силе моей религиозной воли, моей способности к религиозному действию. Я всегда сознавал себя человеком недостойным собственной мысли и моих исканий. Вероятно, беда была тут в моем барстве, которое я лишь частично умел преодолеть, в гипертрофии мысли и идейного воображения. «Новое религиозное сознание» совсем не означало притязаний духоносности. В моем понимании и переживании христианства всегда был сильный эсхатологический элемент. Но я никогда не чувствовал себя на высоте эсхатологического сознания, которое требует большой напряженности, активности, целостной отдачи себя. Я не могу сказать, что я любил «мир», не могу сказать, что я соблазняюсь «миром». Но мои душевные оболочки были озарены « миром », особенно его впечатлениями, я не достиг достаточной освобожденности от «мира».
Меня отделяло от людей, которые считали себя вполне ортодоксальными, то, что историческое откровение было для меня вторичным по сравнению с откровением духовным. Духовное откровение, внутреннее откровение духа реально. Историческое откровение символично, есть символика духа. Все события мировой и исторической жизни суть лишь символика событий духовных. Но в истории есть прорывы метаистории и метаисторическое в истории приобретает исторический характер. Рассказанное в Евангелии несовершенным человеческим языком приобретает для меня значение, определяющее мою судьбу, полно для меня смысла не потому, что я усваиваю Евангелие извне, как извне данное откровение, а потому, что раскрываю, расшифровываю в нем центральные события духа, мистерию духа. Поэтому для меня приобретает огромное значение философская критика. Преодоление «просвещения» должно означать не совершенное его отрицание, не возврат к состоянию до «просвещения», а достижение состояния высшего, чем «просвещение», в которое войдут его положительные завоевания. Я имею в виду прежде всего «просвещение» в более глубоком, кантовском смысле совершеннолетия и свободной самодеятельности разума. Меня нередко называли « модернистом » на православной по¬
Самопознание
673
чве. Я не очень люблю это слово, оно ставит истину в слишком большую зависимость от времени. Я, конечно, модернист, но в том смысле, что признаю возможность творческого процесса в христианстве, возможность новизны. Я не верю в неподвижность сознания, сознание может очищаться, расширяться и углубляться, и потому многое новое и по- новому может ему раскрываться. Истина вечна и вечно лишь то, что от истины. Утверждать релятивизм истины есть оппортунистическая ложь. Я совсем не релятивист и не прагматик. Но существуют ступени в раскрытии истины, возможны ущемления истины. Истина не падает на нас сверху как какой-то блестящий предмет, она есть также путь и жизнь, она приобретается в духовной борьбе, в движении. Наиболее неприемлем наивный реализм в понимании откровения. Меня связывала со многими представителями русской религиозной мысли начала XX века великая надежда, что возможно продолжение откровения в христианстве, новое излияние Духа Святого. Эта надежда была и у чуждого и враждебного мне П. Флоренского. Вопросы об отношении христианства к творчеству, к культуре, к общественной жизни требовали новых постановок и новых решений. Существует вечная истина христианства, и она не зависит от времени, но христианство в своей исторической, то есть относительной форме приходило к концу. Новая эпоха в христианстве выражалась главным образом в критике и предчувствиях. Мне всегда казалось неуместным и нелепым, когда меня обвиняли в ересях. Еретик по-своему очень церковный человек и утверждает свою мысль как ортодоксальную, как церковную. Это совершенно не применимо ко мне. Я никогда не претендовал на церковный характер моей религиозной мысли. Я искал истину и переживал как истину то, что мне открывалось. Историческая ортодоксия представлялась мне недостаточно вселенской, замкнутой, почти сектантской. Я не еретик и менее всего сектант, я верующий вольнодумец. Думы мои вольные, совершенно свободные, но думы эти связаны с первичной верой. Мне свойственна незыблемость некой первичной веры. У меня есть религиозное переживание, которое очень трудно выразить словами. Я погружаюсь в глубину и становлюсь перед тайной мира, тайной всего, что существует. И каждый раз с пронизывающей меня остротой я ощущаю, что существование мира не может быть самодостаточным, не может не иметь за собой в еще большей глубине Тайны, таинственного Смысла. Эта Тайна есть Бог. Люди не могли придумать более высокого слова. Отрицание Бога возможно лишь на поверхности, оно невозможно в глубине.
С. Л. ФРАНК
С нами Бог
ЧАСТЬ 1
Глава 2
2. Вера как религиозный опыт
Убеждение, что вера основана на доверии и послушании авторитету — инстанции, которая в отличие от нас самих посвящена в Божественные тайны, непосредственно ведает Бога и потому одна только может открывать нам Его,— это убеждение, очевидно, предполагает, что сфера Божественной реальности от нас удалена и нам недоступна. Выражаясь в терминах логики и теории знания, вера, согласно этому воззрению, есть суждение о трансцендентном предмете — суждение, которое не может быть проверено непосредственным опытом. Так, вера в существование Бога есть, с этой точки зрения, убеждение — мысль, что где-то, «на небесах», в месте, нам абсолютно недоступном, пребывает личное существо, обладающее всеми необходимыми атрибутами Божества (вечность, абсолютное совершенство, всеведение, всеблагость и всемогущество). С точки зрения чистого, незаинтересованного познания, это есть не более как догадка, предположение, и притом, как только что указано, не допускающее проверки. Холодный разум может оценить это допущение только в словах, может быть, это — так, а может быть, этого совсем нет. И притом шанс на верность этого допущения совсем не составляет, как могло бы показаться на первый взгляд, половину всех возможных шансов. Ведь утверждение есть всегда утверждение чего-то совершенно определенного, отрицание же, напротив, имеет неопределенное содержание и допускает бесконечное количество других возможностей.
Утверждению существования Бога можно противопоставить утверждение, что «небеса пусты», что там вообще ничего нет, что видимым земным миром исчерпано все бытие. Но отрицание может иметь множество других смыслов. Оно может означать, например, что миром правит не Бог, а дьявол, или что существует не единый
С нами Бог
675
миродержавный Бог, а множество богов, или что Бог, хотя и всеблаг, но не всемогущ (основная мысль древних гностиков, весьма популярная в современном внехристианском религиозном сознании), или что Бог совсем не вечен, не существует изначала, а сам лишь постепенно творится в процессе мировой эволюции (излюбленная мысль немецкой религиозно-философской спекуляции), и т. д. и т. д. Содержание того, что в обычном смысле называется «верой в Бога», оказывается при этом одной из многочисленных возможных гипотез, которые все одинаково непроверяемы.
Или возьмем другой пример. Вера в бессмертие души, в посмертное бытие нашей личности, по-видимому, по самому существу дела есть вера в нечто трансцендентное и непроверяемое, если о будущем вообще мы можем строить только более или менее произвольные догадки, то тем более — о предполагаемом или воображаемом будущем нашей души после нашей смерти. Так как никому из нас не дано побывать при жизни «там», в предполагаемой посмертной нашей обители, и так как ушедшие «туда» не возвращаются и ничего нам не говорят — или, по крайней мере, те, в которых некоторые склонны усматривать свидетелей «того мира» — «духи», будто бы являющиеся и говорящие на спиритических сеансах — в высшей степени недостоверны,— то, казалось бы, совершенно очевидно, что мы можем иметь «веру» в бессмертие души только как непроверяемое допущение о некоей трансцендентной, недопустимой нам реальности. С точки зрения непредвзятого знания вопрос о посмертном существовании души по самому существу дела должен по-видимому оставаться тем, что d’Alembert1 называл «le grand peut-être» (великое “может быть” — фр.)- Словом, при таком понимании дела религиозная вера подобна утверждению существования «человека на Луне», о чем говорит детская сказка, но в чем здравая, трезвая мысль имеет все основания сомневаться. Я уже не говорю о тех мнимых скептиках, которые воображают себя вправе решительно отрицать все утверждения веры, т. е. «знать» о трансцендентном, что его вообще нет или что оно совершенно противоположно утверждениям веры; достаточно и того, что настоящий, подлинный скептицизм имеет основания во всем сомневаться.
Именно такое понимание веры как необоснованного и непроверяемого суждения о недоступной нам реальности ведет к тому, что для человека, способного к свободной, непредвзятой мысли, и в особенности для человека, привыкшего мыслить и не способного отказаться от умственной проверки, акт веры оказывается чем-то в высшей мере трудным и шатким — делом, требующим мучительного напряжения воли, некоей почти противоестественной ломки сознания —
676
С. Л. ФРАНК
героического «подвига» отречения от мысли, sacrincium intellectus (жертвоприношение рассудка). При таком понимании вера может быть, в сущности, определена только иррациональными мотивами — воспоминаниями религиозных впечатлений детства, страхом смерти и возможной посмертной кары за неверие, в лучшем случае — жаждой забыться в некоем «священном безумии», в некоем утешающем, сладостном самовнушении. В людях мысли это приводит либо к настоящему раздвоению сознания — к пресловутой «двойной бухгалтерии», при которой в воскресенье в церкви думаешь одно, а в будни в своем кабинете или в научной лаборатории — совсем другое, либо же к безысходно мучительному колебанию между верой и неверием. Приведу один конкретный пример.
О замечательном и несчастном французском поэте Arthur Rimbaud2, который в течение всей своей жизни был циником и бунтовщиком, его верующая сестра рассказывает3, как, умирая и испытывая желание верить, он переживал страшные муки сомнения. «Он глядел мне прямо в глаза, как никогда не смотрел. Он просил меня подойти совсем близко и сказал мне: “В нас обоих течет одна кровь. Ты веришь? Скажи, ты веришь?” Я отвечала ему: “Я верю, и другие, более ученые, чем я, верили и верят; и потом — я теперь уверена, это верно, это есть на самом деле”. Он ответил с горечью: “Да, они говорят, что верят, они делают вид, что обратились к вере, но это только для того, чтобы читали, что они пишут, это — спекуляция”. Я заколебалась, потом сказала: “Нет, это не так, кощунством они могли бы добыть больше денег”. Он все время глядел на меня — в его глазах было небо. Он поцеловал меня и потом опять сказал: “Мы могли бы иметь одинаковую душу, потому что в нас одна кровь. Значит, ты веришь?” И я повторила: “Да, я верю, надо верить”» *. Можно ли вообразить себе более страшную и безысходную душевную муку? В большей или меньшей мере все неверующие и мыслящие люди, жаждущие веры или обратившиеся к вере — поскольку они исходят из изложенного выше распространенного понимания существа веры,— испытывают такие же сомнения.
Самым парадоксальным и острым выражением этого понимания веры и вытекающего из нее трагического положения человеческой души перед проблемой веры и неверия может почитаться знаменитое «пари» Паскаля. Я должен сказать откровенно: при всем моем восхищении правдивостью, силой и проницательностью религиозной мысли Паскаля я не могу видеть в этом «пари» ничего, кроме странного и притом кощунственного заблуждения. Ход мысли, как * Carre T. М. La vie aventureuse de Jean Arthur Rimbaud. Paris, 1926. P. 246 247.
С нами Бог
677
известно, таков: так как ставки игры на веру и неверие бесконечно различны по ценности — поставив на веру и ошибясь, мы потеряем только ничтожные блага краткой земной жизни, поставив же на неверие и ошибясь, мы вместо вечного блаженства рискуем быть обречены на вечные муки,— то даже при минимальном шансе на правоту веры расчет риска и удачи велит избрать ставку на веру. Я, конечно, знаю, что конкретный ход мыслей Паскаля гораздо тоньше этой грубой логической схемы, в нем, как всюду у Паскаля, есть гениальное прозрение. В нем можно уловить совершенно иную мысль, именно, что, пойдя сначала «наугад» по пути веры, потом обретаем на нем опытное удостоверение его истинности.
Но если оставить это в стороне и сосредоточиться на приведенном грубом логическом остове мысли, то получается впечатление чего-то противоестественного, какого-то духовного уродства. Мысля Святыню и не зная, есть ли она на самом деле, мы должны заняться расчетом, стоит ли наугад поклоняться ей, не имея никакого внутреннего основания для веры, мы должны следовать расчету, что для нас выгоднее вести себя, исходя из предположения, что утверждения веры все-таки окажутся правильными. Какую религиозную ценность имеет так мотивированная решимость верить? Какое представление о Боге и Его суде над душой лежит в основе этого расчета? Если бы я был неверующим, то я ответил бы Паскалю: «Я предпочитаю предстать перед судом Божиим — если он существует — и откровенно сказать Богу». «Я хотел верить, но не мог, не находя основания для веры; честно искал Тебя, но не мог найти и потому склонился к убеждению, что Тебя нет; а теперь суди меня, как знаешь, я не знаю есть ли Бог, и даже думаю, что Его нет, но я наверное знаю, что, если Он есть, Он милосерд и, кроме того, ценит выше всего правдивость и чистоту души и потому не осудит меня за искреннее заблуждение; поэтому у меня вообще нет риска проигрыша, и все ваше пари есть неубедительная выдумка».
Но все это трагически-мучительное состояние души перед лицом вопроса о вере и неверии, все это тягостное и бесполезное напряжение духа, когда мы заставляем себя верить и все же не можем заставить по той простой причине, что вера по самому ее существу может быть только свободным, непроизвольным, неудержимым движением души — радостным и легким, как все естественное и непроизвольное в нашей душе,— все это проистекает из указанного понимания веры как ничем не обоснованного суждения о трансцендентной, недоступной нам реальности. Отсюда, повторяю, готовность и склонность доверяться авторитету — обосновывать веру на сообщениях некоей высшей инстанции, о которой мы думаем, что она мудрее, более
678
С. Л. ФРАНК
сведуща, чем наша бессильная человеческая мысль, т. е. что она уже действительно посвящена в недоступные нам тайны бытия, имеет в отличие от нас самих непосредственный доступ к ним. Но мы уже видели, что это только мнимый выход из отчаянного положения.
Можно и должно довериться авторитету, верить суждению тех, кто мудрее и опытнее нас. Но для этого надо уже знать, а не слепо верить, что они действительно мудрее нас, т. е. в данном случае что они действительно научены самим Богом; а для этого надо не только уже знать, что Бог есть, но и уметь самому различать, какие человеческие слова выражают подлинную Божию правду, а какие — нет. Но как возможно это двойное знание, если вера всегда и всюду есть только догадка, суждение о чем-то недоступном? Выше я пытался показать, что вера-доверие — непосредственно или через ряд промежуточных инстанций — опирается на веру-достоверность. Но как возможна вера-достоверность?
Достоверность во всех областях мысли и знания может означать только одно: реальное присутствие самого предмета знания или мысли в нашем сознании. Такое реальное присутствие самого предмета есть то, что в отличие от суждения как мысли о трансцендентной реальности называется опытом. Мысль, суждение требуют проверки, может быть истиной и заблуждением. Но опыт удостоверяет сам себя, ему достаточно просто быть, чтобы быть истиной. Когда я испытываю боль, я тем самым знаю, что боль действительно есть, что она — реальность; также я знаю, что испытанная мною радость есть в составе моей жизни подлинная реальность. Сомнение было бы здесь просто бессмысленно, ибо беспредметно. Достоверность в конечном счете носит всегда характер того непосредственно очевидного знания, в котором сама реальность наличествует, как бы предъявляет себя нам; именно это мы разумеем под словом «опыт». Опыт — такое обладание чем-либо, которое само есть свидетельство реальности об- ладаемого. Если возможна вера-достоверность, то это предполагает, что есть вера, имеющая характер опыта.
Идея, что сущность или первоисточник веры заключается в опыте, была отчетливо выражена, насколько я знаю, в новейшее время Вильямом Джемсом в его замечательной книге «The Varieties of Religious Experience» 4. Джемсу принадлежит введение самого понятия «религиозный опыт». Но Джемс, проницательный психолог и, кроме того, гениальная личность, хотя и склонная к чудачеству, несмотря на обилие умнейших и верных мыслей, высказанных в этой книге, вряд ли сам сознавал все значение введенного им понятия; философски он был умом довольно беспомощным и беспорядочным. Блестящий замысел «метода радикального эмпиризма», которым
С нами Бог
679
он обосновывает идею религиозного опыта, он перемешивает с другими, спорными и прямо неверными теориями. Что он сам не понял решающего значения введенного им понятия, об этом свидетельствует уже то, что он напряженно искал подтверждения веры в спиритизме и «парапсихологии» и с нетерпением ждал смерти, чтобы получить наконец доступ к тайнам Божественного бытия. Нам приходится поэтому заново, самостоятельно выяснить и обосновать понятие религиозного опыта.
Начну издалека. Оставим пока в стороне вопрос, может ли в опыте быть дан предмет религиозной веры, например бытие Бога или посмертное бытие души. Поставим сперва более общий вопрос: возможен ли вообще сверхчувственный опыт — опыт, выходящий за пределы чувственно-воспринимаемых содержаний бытия, так сказать, его ближайшего, знакомого нам обычного «земного» состава — цветов, звуков, вкусов, запахов, осязательных качеств? Я не буду пускаться здесь в сложные, трудные для философски не вышколенного ума доказательства, что уже в восприятии геометрических форм, а также в восприятии времени и в восприятии таких хорошо знакомых нам общих свойств и отношений бытия, как единство и множество, род и вид, сходства и различия, причины и действия, мы имеем образцы нечувственного или сверхчувственного опыта. Обратимся к другим примерам, более простым и имеющим — как увидим сейчас же далее — отношение к нашей теме.
Что такое, например, эстетический опыт? Как воспринимаем мы красоту? Лучше всего при этом сосредоточиться на искусствах, так сказать, беспредметных, как музыка или архитектура. Слушая прекрасное музыкальное произведение, человек, одаренный музыкальным чувством, слышит, кроме самих чувственно-данных звуков и их сочетаний, еще что-то другое, что мы называем музыкальной красотой и что составляет само существо музыки. Как бы позади звуков и сквозь них мы воспринимаем еще что-то несказанное, о чем в словах можно дать только слабый, несовершенный намек. Музыка Бетховена6 открывает нам какую-то героическую эпопею духа — скорбь, мятеж, титаническую борьбу — и горестную судьбу духа и блаженство его торжества. Музыка Баха6 как бы отверзает нам небеса и в переливах голосов показывает нам чистую, прозрачную, возвышенную красоту некой нездешней эфирной орнаментики. Через музыку Моцарта7 мы становимся причастниками детской чистой игры неких ангельских существ, в прелести которой очищается и просветляется вся скорбь бытия. Если звуки при этом воспринимает наше ухо, то то несказанное, о чем они говорят, что они возвещают, воспринимает непосредственно наша душа.
680
С. Л. ФРАНК
То же самое — в архитектуре, этой «застывшей в пространстве музыке». И здесь через посредство чувственно-данных форм мы воспринимаем несказанное, сверхчувственное содержание. Огромный, устремленный ввысь готический собор, сотканный из каменного кружева, открывает нам, как земное тяготеет к небесному, как при этом величие может сочетаться с тонкостью, строгое послушание — с легкостью и свободой. Античный храм даже и в своих обломках дает нам почувствовать, что, кроме нашего смутного, беспорядочного, трагического мира, где-то в бытии есть сфера покойной, блаженносияющей, самоудовлетворенной красоты. А ренессансный дворец открывает нам, что и здесь, на земле, возможна гармония через осмысленную пропорциональность, что есть какая-то прекрасная правда, смысл которой — в покое и уравновешенности, в имманентной пронизанности бытия порядком и внутренней согласованностью.
А что мы сознаем, наслаждаясь живой прелестью прекрасного человеческого лица или тела? Видимая форма здесь именно потому прекрасна, что воспринимается как совершенное выражение некоей таинственно-незримой и все же опытно, воочию нам предстоящей, восхищающей и умиляющей нас реальности.
Где-то поблизости от красоты находится добро. Мы отличаем добро от красоты и в этом смысле должны отличать нравственный опыт от эстетического. В нашей связи, однако, важно другое: восприятие добра вовне, так сказать, встреча с добром имеет глубокую аналогию с восприятием красоты; поэтому не случайно мы говорим о нравственной красоте. То, что мы называем нравственной красотой самого духа — красота, уже, по существу, не приуроченная к зримой, чувственно-воспринимаемой наружной поверхности бытия, а сущая в некоей незримой глубине и даже в каком-то смысле умышленно в ней скрывающаяся. Но именно нравственная красота есть вместе с тем наиболее сильная, наиболее захватывающая нашу душу, глубже всего в нее проникающая красота.
Такие явления, как кроткая доброта в ответ на оскорбление или причиненное тяжкое зло, как самоотверженный подвиг любви, как добровольная, спокойно-радостная смерть за благо ближних, за торжество добра,— все это сияет, как отдельные звезды, во тьме нашего земного бытия. Все это встречается — хотя и редко — в составе нашего опыта. Но само собой очевидно, что все это мы воспринимаем не глазами и не ушами, а непосредственно нашей душой. Все это есть наряду с эстетической красотой еще иной, значительный и существенный вид сверхчувственного опыта. Нет надобности в других примерах. Совершенно очевидно, что сверхчувственный опыт нам доступен. Я предвижу уже сейчас скептическое возражение. Все это так, скажут,
С нами Бог
681
но все это относится к области субъективного бытия, к области наших душевных переживаний. К обсуждению этого возражения я обращусь позднее. Оно, очевидно, содержит уже некоторое истолкование сверхчувственного опыта, некоторую философскую теорию о нем, и притом — скажу сейчас же — теорию плохую, путаную и неверную. Но я предлагаю пока воздержаться от всяких теорий и толкований и только ответить прямо и недвусмысленно на один вопрос: есть ли на самом деле (все равно, в какой области бытия — «субъективной», «объективной» или еще какой-либо иной) то нечто, что мы называем красотой и добром? Опыт не может вызывать сомнений. Я так же мало могу отрицать, что на свете есть красота и добро, как я не могу отрицать, что есть боль, наслаждение, радость и горе, и как я не могу отрицать, что есть цвета, звуки, запахи, вкусы. И характер достоверности совершенно тот же. Я не думаю, не предполагаю, не верю, что все это есть, я это знаю, потому что имею в опыте, т.е. потому что соответствующая реальность сама наличествует, присутствует передо мной. Во всех этих случаях одинаково имеет место встреча с реальностью; сомневаться же в том, действительно ли существует реальность, которую мы встречаем, задаваться вопросом, на чем основана наша уверенность в ее существовании, значило бы просто сойти с ума, говорить бессмысленные слова или — как сказал по аналогичному поводу один философ — значило бы иметь желание быть скептиком, не имея к тому надлежащих дарований.
Если, отдав себе в этом ясный отчет, мы снова поставим вопрос: существует ли аналогичный по составу религиозный, опыт, то мы сразу почувствуем, что положительный ответ на этот вопрос, в сущности, уже предрешен тем, что мы только что осознали. Ибо опыт красоты и добра уже сам по себе есть опыт неких элементов, входящих в состав религиозного опыта. Не случайно всякий, даже неверующий человек, пытаясь выразить то, что ему стало доступно в опыте красоты и добра, вынужден употреблять такие слова, как «дивный», «чудесный», «неземной», «божественный». Опыт встречи с чистой, совершенной красотой, как и опыт встречи с чистой благостью, с кротостью в страдании, с подвигом самоотверженной любви,— для всякого непредвзятого сознания, которое, не рассуждая, просто отдается испытанному впечатлению и только пытается осознать его содержание, есть совершенно неизбежно и с полной очевидностью уже по меньшей мере зачаток, смутное предвосхищение религиозного опыта.
Предание о крещении Руси рассказывает, что, когда послы князя Владимира*, которым было поручено отыскать истинную религию, побывали на богослужении в соборе св. Софии в Константинополе, они выразили свои впечатления — очевидно, ближайшим образом
682
С. Л. ФРАНК
эстетическое впечатление от величия храма и поэтически-музыкаль- ной красоты литургического песнопения — в словах: «Мы не знали, где мы находимся, на земле или на небе ». Философски точнее нужно было бы выразить это впечатление так: «Пребывая на земле, мы имели опыт приобщенности к небесному бытию». Вполне можно поверить преданию, что это впечатление было решающим при обращении русского народа в христианство. Трогательное выражение того же духовного опыта — встречается у русского писателя второй половины XIX века Глеба Успенского9 — человека, который по сознательным своим убеждениям был совершенно чужд и религиозности, и понимания значения красоты и всецело охвачен только социально-нравственным интересом. Он описывает, как, угнетенный впечатлениями материальной и правовой угнетенности русского народа, он случайно забрел в Париже в Луврский музей и увидал Венеру Милосскую10. Он испытал при этом настоящий переворот, который он выражает в слове «выпрямила». Уныние от сознания безнадежной жизни, в которой царит нравственная неправда, сменилась вдруг ощущением, что есть все же на свете настоящая правда — та правда человеческого достоинства и величия, которая воплощена в образе Венеры Милосской, это ощущение дало ему прилив новых духовных сил, переполнило его снова бодростью и оптимизмом в борьбе за нравственную правду. Сам того не ведая, он испытал в содержании красоты античной статуи подлинный религиозный опыт, принесший ему духовное возрождение. С этим впечатлением совпадает впечатление другого русского писателя, тонкого эстета Тютчева, который в пессимистическом рассуждении о суетности и трагизме человеческой жизни и судьбе европейского человечества делает существенную оговорку: «Конечно, Венера Милосская несомненнее принципов 89-го года» п.
Есть еще другая сторона, в которой опыт красоты, как и опыт добра, испытывается как религиозный опыт. Это — их зарождение в глубинах человеческого духа, опыт их связи с внутренним, творческим существом человеческого духа. То, что называется «вдохновением», и есть источник художественного творчества, как и тот таинственный внутренний толчок, без которого немыслима решимость на нравственный подвиг, акт окончательного преодоления нашей человеческой слабости, нашей плотской природы,— испытывается всегда как соприкосновение человеческого духа с некоей высшей, сверхчеловеческой инстанцией, как прилив в душу сил неземного порядка. И одновременно действует и обратное соотношение: кто уже обладает религиозной верой, тот сознает ее как некий резервуар питающих душу сил добра и имеет также неудержимую потреб¬
С нами Бог
683
ность выразить свою веру в переживаниях эстетического порядка, в поэтическом и музыкальном славословии Бога, в рационально непонятном уготовлении незримому вездесущему Богу зримой прекрасной обители-храма.
Но если опыт добра и красоты входит в состав религиозного опыта и образует как бы его зачаток, то он все же его не исчерпывает. Но имея и осознав первый, уже нетрудно усмотреть реальность последнего, хотя и трудно выразить ее в словах. Религиозный опыт есть опыт реальности того несказанного, что человеческий язык выражает намеком в таких словах, как «священное», «святое», «святыня», «Божество». «Бог». Здесь надо остерегаться смешать непосредственное содержание опыта с производной, пытающейся его осмыслить религиозной «теорией» — с мыслями и понятиями, в которых мы стараемся — всегда несовершенно и потому всегда более или менее спорно — зафиксировать, выразить эту опытную реальность. То, что нам непосредственно дано в опыте, есть реальность, которую мы сознаем, с одной стороны, как нечто первичное, как последнюю глубину и абсолютное, дающее последнюю, высшую радость, совершенное удовлетворение и восхищение.
Этой реальности соответствует в нашей душе в плане ее субъективных переживаний чувство, которое мы называем благоговением и которое есть неразделимое единство трепета преклонения — чего-то подобного страху, но совсем не тождественного ему — и блаженства любви и восхищения (замечательный современный немецкий богослов Rudolf Otto12 создал для этого термины: он говорит, что религиозное чувство есть сочетание «mysteriumtremendum» и «mysterium fascinosum» («страшная тайна» и «тайна чарующая»)). Не выходя за пределы опыта, можно осмыслить это примерно так. Мы необходимо сознаем нашу жизнь — как и жизнь вообще — как некий отрывок, нечто промежуточное, производное, не имеющее в себе самом начала и конца. Дело идет о начале и конце не в порядке времени, а в порядке самого существа жизни. Наша жизнь, не имея в самой себе ни своего первого основания, ни своей конечной цели, тем самым предполагает то и другое вне себя. И то, что мы отвлеченно различаем как первое основание и конечную цель, как «альфу» и «омегу»,— как то, из чего мы взялись, на что опираемся, в чем и через что мы есмы, и как то, к чему в конечном счете влечется наше сердце, что есть наша последняя мечта, наше глубочайшее желание, смысл нашей жизни — в составе самого бытия, как мы его встречаем, переживаем, опытно воспринимаем, есть с очевидностью одно и то же. Вот именно это несказанно Единое, Первое и Последнее есть то, что мы означаем словами Святыни, Божества, Бога.
684
С. Л. ФРАНК
В составе всего нашего опыта, всего нашего сознания бытия — именно потому, что все в нем есть частное, производное, относительное, преходящее — тем самым дано нечто абсолютно Первое, Всеобъемлющее, Всепроникающее, Всеопределяющее, Вечное. И именно потому, что наше сердце всегда волнуется, чего-то ищет, к чему-то стремится, куда-то тяготеет и движется, не находя окончательного удовлетворения ни в чем,— в том же опыте содержится указание на Последнее, Высшее, Абсолютно-ценное, Святое — на последнее утешение и блаженство, Самое понятие «земного» невозможно без отношения к тому, что от него отличается и ему противостоит — без идеи « неземного », « нездешнего », « высшего ». Если только наше сердце, наш дух открыты, если мы имеем «очи, чтобы видеть», то нам дан опыт Тайны как первоисточника и последней цели нашего бытия. Мы видели только что, что ее нам частично открывает, на нее намекает, к ней ведет уже опыт красоты и добра. Но ее открывает нам, прежде всего, и опыт нашего самосознания. Блаженный Августин с неопровержимой убедительностью, с последней доступной здесь ясностью показал, что если я знаю, что я существую, и я не могу в этом сомневаться, ибо для того, чтобы сомневаться, надо уже быть,— то я также достоверно — если возможно, еще более достоверно — знаю, что есть сама Истина, вне которой немыслимо было бы ни какое-либо знание, ни мое самосознание; если я что-либо вообще вижу, то есть внутренний свет, в котором и через который я вижу; если мое сердце мятется и томится, если само его существо состоит в неудовлетворенности, в тяготении к тому, что мы называем целью, высшей ценностью, благом, то это высшее, абсолютное Благо уже как-то скрыто мне дано, как-то дает себя чувствовать — иначе я не мог бы искать его, не мог бы сознавать его отсутствия.
Все это не рассуждения, не попытки «доказательства бытия Бога»; это есть не что иное, как внимательный, сполна осознанный отчет о составе нашего опыта. Но при этом обнаруживается, что этот опыт имеет достоверность иную и еще гораздо большую и безусловную, чем намеченная выше достоверность любого частного содержания опыта. Любое частное содержание опыта имеет достоверность факта. Раз факт налицо, отрицать его невозможно; но легко возможно вообразить, представить себе, помыслить, что его нет. Факт есть, но он мог бы и не быть; его бытие не отмечено никаким знаком безусловной необходимости.
Другое дело — религиозный опыт. Встречаясь в его лице с чем-то абсолютным, с некоей первоосновой всего остального, с неким последним смыслом, который осмысляет все остальное, или с высшей ценностью и целью, которая предполагается во всех частных наших
С нами Бог
685
стремлениях, мы имеем опыт не того, что фактически есть, но могло бы и не быть, а опыт того, что есть с абсолютной необходимостью. Мы имеем опыт того, в чем (и чем), по слову апостола, «мы живем, движемся и есмы». Атеист, отрицающий существование Бога, своим собственным существованием, как и своей способностью произнести такое формально осмысленное суждение, в не меньшей степени удостоверяет существование Бога, чем верующий, сознательно исповедующий свою веру в Бога.
Религиозный опыт есть опыт такой реальности, которую мы сознаем как условие всякого опыта и всякой мысли — как общий фон, опору, почву, последнее завершение всего, что нам дано и чем мы живем. Сознательная встреча с этой реальностью, т.е. факт, что наше внимание ее улавливает и сознает, есть именно факт, подобный всем другим фактам,— нечто в только что указанном смысле случайное, а не необходимое. Именно поэтому мы говорим здесь об опыте, который мы, очевидно, можем иметь, но можем и не иметь. Но раз имея его, раз встретившись с этой реальностью, мы сознаем с полной достоверностью, что она сама есть, присутствует всегда и везде, что ее бытие носит характер абсолютной необходимости, так что ее отрицание с очевидностью обнаруживается как пустое слово, бессильная потуга мысли, явное недоразумение. Или, как говорит другой великий религиозный мудрец, Николай Кузанский: «Бог, как бытие всего сущего, содержание всех содержаний, причина всех причин и цель всех целей, не может быть подвергнут никакому сомнению», ибо «если то, что лежит в основе всякого вопроса, есть в богословии ответ на вопрос, то о Боге невозможен никакой подлинный вопрос».
Мы имеем опыт некоего вездесущего и вечного фундамента всего того смутного, шаткого и изменчивого многообразия, которое мы называем «нашей жизнью» или бытием,— опыт таинственной укорененности и погруженности нашей души в некоем всеобъемлющем лоне, в чем-то ином, более глубоком, высшем, в некоем источнике абсолютного покоя и блаженства. Впрочем, все человеческие слова остаются здесь бессильны — не потому, что то, что они хотят выразить, было бы неясно и спорно, а, напротив, потому что оно настолько первично, настолько интимно слито с нашей душой, настолько всеобъемлюще и безусловно необходимо, что уже не может быть точно выражено мыслью и словом, которые всегда выражают только частное, производное, относительное.
Существенно в конце концов здесь для нас только одно. Та таинственная реальность, которая есть предмет или содержание религиозной веры, не есть нечто далекое, скрытое от нас, нечто, чего
686
С. Л. ФРАНК
не может достигнуть наш взор и о бытии или небытии чего мы можем только строить догадки, не допускающие проверки. Это есть, напротив, нечто столь близкое нам, столь сращенное с нашей душой, столь всеобъемлющее и вездесущее, столь простое и первичное, что если мы не находим его и иногда тщетно ищем, то только потому, что мы, как дальнозоркие люди, привыкли видеть далекое и не различаем близкого или что наше внимание привыкло улавливать только то, что есть одно среди многого другого, что есть здесь или там, что может быть и не быть, и лишь с трудом замечаем то, что есть всюду и всегда, чем мы со всех сторон окружены и насквозь пронизаны.
Немецкий поэт-мистик Рильке в этом смысле метко говорит о Боге: «Все, кто Тебя ищут, искушают Тебя» (Allé, die Dich suchen, versuchen Dich)13. В самом деле, все, кто ищут и не находят Бога, ищут не там, где Он есть, и не таким, каков Он есть,— подменяют абсолютную достоверность реального Бога недостоверностью того, что они сами выдумывают и хотят иметь в качестве Бога. В том, что они имеют потребность в Боге и в этом смысле «ищут» Его, т. е. что их сердце тянется к нему, они правы, и этот факт сам свидетельствует — как это понимали и Августин и Паскаль,— что они как-то скрыто и потенциально уже имеют Бога; но что они ищут Его, т. е. думают, что еще не имеют, что Он скрыт от них и недостоверен, есть свидетельство, что они находятся на ложном пути, ищут Бога не там, где Он есть, или ищут какого-то иного, не истинного Бога. В конечном счете все они по состоянию духа недалеки от духовного и умственного уровня того простодушного безбожника, который доказывал небытие Бога тем, что в своих многочисленных полетах на аэроплане он никогда не встретил Его. Это звучит парадоксально, но это бесспорно: «верить» в Бога в обычном, принятом смысле слова «вера», т.е. «догадываться», что Он есть, «допускать» Его бытие, делать здесь, колеблясь, трудный и спорный выбор между «да» и «нет» в пользу «да», соглашаясь, что и «нет» все же имеет осмысленное значение и правдоподобие, верить в этом смысле значит не верить в Бога. Ибо настоящая вера есть то опытное знание, которое делает всякое отрицание, колебание, сомнение, искание, всякий выбор между двумя решениями бессмысленным и беспредметным.
И теперь мы подготовились к ответу на сомнение, не есть ли реальность того, что мы называем «религиозным опытом», как и реальность сверхчувственного опыта вообще только нечто «субъективное», т.е. реальность, относящаяся к области наших душевных переживаний. Выше я уже сказал, что такое сомнение или утверждение есть плод путаной, плохой, неверной теории. Теперь не трудно в этом убедиться. В самом деле, исходная посылка такого мнения есть предвзятое
С нами Бог
687
убеждение, что все, что есть — либо часть объективного, внешнего, материального мира, либо же принадлежит к области нашего «я», нашей душевной жизни. Это мнение, в сущности, уже предвосхищает решение вопроса, есть то, что логика называет petitio principii (предвосхищение основания): ибо что Бог не есть нечто вроде настроения, чувства, желания, т. е. не входит в состав этих двух родов бытия,— это ясно само собой. И если большинству умов представляется очевидной аксиомой, что бытие исчерпывается этими двумя наиболее привычными нам родами или областями, то в действительности это есть явное и грубое заблуждение.
Я и здесь не буду утомлять читателя таким — общеизвестным философской мысли — соображением, что в состав ни материального, ни душевного мира нельзя включить уже таких вещей, как, например, геометрические формы и фигуры, или вообще всю ту реальность, которую познает математика, и, наконец, столь универсальной реальности, как время. Но стоит только непредвзято вглядеться в состав того сверхчувственного опыта, о котором мы уже говорили — например опыта эстетического и нравственного,— чтобы с очевидностью убедиться в ложности этого предвзятого мнения. Чувства, которые мы испытываем, слушая музыку или созерцая художественное творение, конечно, «субъективны», но они суть нечто иное, чем сама красота, которую мы при этом воспринимаем, чем та эстетическая реальность, которая при этом действует на нашу душу; содержание и смысл симфонии, поэмы, картины, статуи и пр. никак нельзя назвать моим «настроением» или «чувством».
Содержание или смысл фуги Баха, симфонии Бетховена — то, что хотел выразить композитор и что пытаются передать исполнители,— остается реальностью, не будучи ни настроением, ни чувством, ни материальной вещью внешнего мира. Точно так же добро и зло, не будучи вещами внешнего мира, не обречены в силу этого быть только «моим настроением»; как мог бы я сознавать мою обязанность повиноваться велению добра, осуществлять добро и избегать зла, если бы добро и зло было чем-то сродным настроению, капризу, влечению, чувству — всему, что есть только подчиненный мне самому и безразличный элемент моей душевной жизни? Настроение и чувство есть только зависимая частица меня самого — нечто случайное, прихотливое, не имеющее никакой внешней ценности и не могущее быть инстанцией, которой я должен подчиняться; добро — как и красота — есть, напротив, с чем я встречаюсь, что действует на меня, в чем я усматриваю нечто высшее, чем я сам, к чему я влекусь или чему подчиняюсь. Это есть не «теория», а просто факт, отрицать который не может непредвзятая мысль: кроме материального и душевного
688
С. Л. ФРАНК
бытия есть еще какое-то иное бытие, в них не вмещающееся и от них отличное; назовем его идеальным бытием.
Но этот бесспорный факт имеет решающее значение; достаточно его усмотреть, чтобы все наше обычное представление о мире и бытии было опрокинуто. Ибо он означает, что, кроме того что мы зовем «миром» или «бытием мира» и что именно слагается из этих двух половин — из вещей, процессов, соотношений материального порядка и из явлений душевной жизни,— есть иное — и, значит, как это отсюда очевидно само собой — сверхмирное бытие. И притом явления, относящиеся к этому сверхмирному бытию, одни только вносят порядок, смысл, ценность в нашу жизнь — одни только служат вехами на нашем жизненном пути, дают нам возможность выбора, ориентировки, руководят нами среди бессмысленного и безразличного набора эмпирических фактов материального и душевного бытия. Как говорит Достоевский: «Все, что живет и существует в этом мире, живет только через касание мирам иным».
Этим мы опять, как уже выше, сами собой и как бы непроизвольно обрели ответ на вопрос о характере бытия, присущего предмету религиозного опыта. Человек все равно, хочет ли он того или нет, сознает ли он это или нет, изначала и навсегда прикован к реальности высшего, сверхмирного порядка или, вернее, внедрен в нее; он не мог бы сознавать свою собственную душевную жизнь, не мог бы видеть и знать высший мир, не мог бы делать выбора между правдой и ложью, лучшим и худшим, если бы сквозь материальный и душевный мир он не был связан с высшим мерилом истины и лжи, добра и зла, красоты и безобразия — если не мог бы ставить себе цели, а это значит — если бы не знал, что есть последняя цель и высшая ценность. Это Высшее, Абсолютное, этот Первоисточник и определяющая цель всех стремлений и целей есть, употребляя слово Евангелия,— «путь, истина и жизнь». Кто раз отдал себе в этом отчет, тот понимает и разделяет слова блаженного Августина: «Ия сказал себе: разве Истина есть ничто, только потому, что она не разлита ни в конечном, ни в бесконечном пространстве? И Ты воззвал ко мне издалека: “Да, она есть. Я есмь сущий”. И я услышал, как слышат в сердце, и всякое сомнение покинуло меня. Скорее я усомнился бы, что жив, чем что есть Истина» (Confessiones, VII, 10)14.
Теперь мы можем еще точнее ответить на вопрос, «объективно» ли или только «субъективно» содержание нашего религиозного опыта. Ответ, как уже сказано, состоит ближайшим образом в отклонении самой дилеммы. Если под «объективным» разуметь то, что существует по образу внешнего мира, что можно увидать глазами, услыхать ушами, ощупать руками, и если под «субъективным» разуметь то, что
С нами Бог
689
порождается силами нашей душевной жизни, всецело зависит от нас и подчинено нам, то содержание религиозного опыта — как и опыта эстетического и нравственного — не объективно и не субъективно: характер его реальности состоит вне и выше этих привычных категорий.
Если же под «объективным» разуметь просто то, что есть вне нас, а под «субъективным» — то, что есть в нас, то реальность содержания религиозного опыта одновременно и объективна и субъективна. Будучи абсолютной, всеобъемлющей и всепроницающей, она находится и в нас и вне нас — потому что мы находимся в ней. Она подобна воздуху, который есть в нашей груди только потому, что он есть вокруг нас, что мы погружены в атмосферу и вдыхаем ее в себя. Впрочем, и эта аналогия неточна, «хромает», как все аналогии. Дело обстоит так, как если бы мы вдыхали воздух, притягивая его тем воздухом, который уже находится в нас. Божественное бытие становится нам доступным, потому что мы откликаемся на него, воспринимаем его тем, что божественно в нас самих. Последняя глубина нашей личности сознается сама нами как нечто высшее, священное, богоподобное — выражаясь в принятых философских терминах, не как «душевное», а как «дух». Здесь имеет силу античное убеждение: подобное сознается подобным. Плотин говорил: «Если бы наш глаз не был сам подобен солнцу, мы не могли бы увидать солнца; если бы наш дух не был богосроден, мы не могли бы воспринимать Бога» *. То же самое говорит и апостол: «Оттого мы познаем, что Он в нас и мы — в нем, что дал нам отДуха Своего». А блаженный Августин выражает то же соотношение со свойственной ему гениальной силой слова: «Не иди вовне — иди внутрь себя; внутри человека обитает Истина; и где ты найдешь себя ограниченным, там (внутри себя) выйди за пределы самого себя (transcende te ipsum)».
Сама дилемма, как она обычно ставится, есть недоразумение, порожденное наивным наглядным материалистическим представлением, будто наша «душа», наше «я» есть какой-то замкнутый сосуд, имеющий отверстие только вовне, сообщающийся только с внешним миром, внутри же обособленный непроницаемой оболочкой; исходя из этого предвзятого представления, Бога либо ищут вовне, в составе внешнего мира, либо же объявляют Его «иллюзией», * Гёте перевел эти слова в стихах:
Wâr nicht das Auge sonnenhaft, die Sonne kônnt es nie erblicken.
Lâg nicht in uns des Gottes eigene Kraft, wie konnt uns Gôttliches entzücken.
690
С. Л. ФРАНК
т.е. душевным переживанием, элементом и порождением нашей собственной душевной жизни. Но душа не есть замкнутый сосуд; она сама имеет бездонную глубину и там, в этой глубине, не только открыта и соприкасается с Богом и даже не только впитывает Его в себя, раскрываясь Ему навстречу — как растение своими корнями впитывает влагу почвы,— но даже живет некой общей жизнью, находится с Ним в таком общении, что Он переливается в нее и она — в Него. Именно это несказанное и несравненное общение и единство двух — меня и Бога — есть существо подлинной веры.
Вера не есть произвольная догадка о чем-то далеком, недоступном, непроверяемом. Вера есть опыт, как самое интимное обладание, имеющее характер слияния и взаимопроникновения; это есть нечто, что имеет в составе нашей земной жизни аналогию только с экстазом и блаженным покоем нашей души в объятиях любящего и любимого существа. Вера подобна блаженной достоверности тайной, скрытой от мира любовной связи. Недаром «Песня Песней» 15, воспевающая восторг взаимной любви, признана самым сильным и адекватным выражением отношения между человеческой душой и Богом. Но только, будучи общением духовным и общением с совершенной и вечной реальностью, притом сращенной с нашей душой, это обладание — несмотря на возможность и в нем, в силу несовершенства человеческой души, перипетий и драматического развития,— неизмеримо более прочно, обеспечено, успокоительно, чем скоропреходящий экстаз упокоения в буре эротического общения и даже чем блаженный покой самой прочной и интимной человеческой любовной связи вообще.
Вера есть, как было уже сказано, столь интимное обладание предметом веры, что самый факт обладания есть самоочевидное достоверное свидетельство реальности обладаемого. Неверно, будто человеческая душа по своему существу одинока и обречена на одиночное заключение; не одиночество, а, напротив, как говорил Ницше, «двоечество» (Zweisamkeit) есть незыблемый фундамент и определяющее существо человеческой жизни; это может оставаться незамеченным только по нашей собственной слепоте или может ускользать от нас, только если мы сами своевольно и противоестественно запираемся и отъединяемся от этого фундамента. И всякое земное человеческое общение, всякое отношение между мной и тобой — вне которого вообще немыслима человеческая жизнь — производив от этого первичного двуединства, подобно тому как всякое общение с внешним миром предполагает внутреннюю жизнь организма, живое кровообращение, которое основано на беспрерывном процессе дыхания.
Теперь остается досказать то же самое в отношении другого упомянутого выше предмета веры — в отношении веры в бессмертие,
С нами Бог
691
в посмертное бытие души. После всего сказанного нетрудно сразу же увидать, что и эта вера, которая на первый взгляд с полной очевидностью есть только догадка, допущение о чем-то безусловно недоступном и непроверяемом, ничем не гарантированное упование, имеет на самом деле характер опытной достоверности. Мы, конечно, не знаем и никогда в течение нашей земной жизни не можем узнать, что будет с нами в порядке временной смены событий в том «будущем», которое «наступит» после нашей смерти. Но из веры, как религиозного опыта в описанном выше смысле — из опыта нашей укорененности в Боге и нераздельного единства с Ним,— мы достоверно знаем другое: знаем вечность нашей души.
Мы знаем, что то, что называется нашим «я», нашей «душой», не только соприкасается с вечной реальностью Бога, не только способно впитывать или вдыхать ее в себя, но и само, в глубочайшем корне своего бытия, причастно вечности, в самой своей основе богоподобно. Мы знаем, что мы не только «сотворены» Богом, как хрупкий горшок творится горшечником, но вместе с тем и «рождены свыше», «от Духа» и «от Бога» (Ев. Иоан. 3, 3-8; 4, 47). Обычное скептическое возражение: отчего же нас не было до нашего рождения? — это возражение основано на недоразумении. Вечность есть нечто иное, чем пребывание во времени. Если память есть воспоминание о прошлом времени, то вполне естественно, что в нее не входит, не вмещается сознание вечности. Конечно, то, что во времени начало быть, «возникло», не имеет гарантии бесконечной длительности своего бытия в будущем; и скорее даже бесспорно, что все, что «началось», должно и «кончиться». Наша земная жизнь началась и потому должна и кончиться. Но как нельзя смешивать наше таинственное происхождение — в порядке метафизическом — из абсолютных глубин бытия, нашу «сотворенность» Богом с нашим зачатием и рождением в плане времени, в порядке эмпирически-биологическом, так же нельзя смешивать обреченность, в том же порядке, нашей жизни наконец с метафизической судьбой нашей души. Последняя определена тем, что мы сотворены существами богоподобными, а потому и вечными.
Мне нет никакой надобности пытаться заглянуть в «будущее» моей души после смерти (что и невозможно — не говоря уже о том, что само слово «будущее» теряет всякий точный смысл в применении к тому, что лежит за порогом земного времени), чтобы знать с полной достоверностью — знать сейчас, в любое мгновение моей жизни,— что я вечен. Вечность не есть бесконечная длительность во времени, которую нужно было бы пройти всю от начала до конца (хотя здесь нет ни начала, ни конца), чтобы в ней удостовериться; вечность есть качество бытия, которое узнается сразу — примерно подобно тому,
692
С. Л. ФРАНК
как я сразу и в любой момент знаю, что всякая математическая истина имеет вечную силу, ибо, по существу, не затрагивается временем, лежит вне его, выходит за его пределы.
Вечность моей души есть не что иное, как моя обеспеченность, сохранность в Боге. Она дана мне сразу, в самом опыте реальности Бога, ибо этот опыт есть тем самым опыт моей неразрывной связи и сродства с Богом. И если спрашивать, каким воспоминанием гарантировано это «предвидение» грядущей жизни, то на это можно ответить ссылкой на то «воспоминание», о котором говорил Платон,— смутную, часто заглушаемую шумным потоком земного бытия, но никогда не истребимую до конца «память» о нашей небесной родине, о нашей вечной принадлежности к вечному бытию. Из этой вечности, в которой преодолено всякое «после» и «прежде», начало и конец, из этой связи и сращенности с Богом я не могу выпасть. Умирая, я стою перед неизвестностью. Но, опытно зная Бога и мою укорененность в Нем, я могу с абсолютным доверием сказать: «В руки Твои передаю дух мой». И точно также, усматривая в опыте любви абсолютную ценность, богоподобие, а потому и вечность душ любимых мною существ, я знаю об их неподчиненности времени, неразрушимости временем:
Смерть и время царят на земле,— Ты владыками их не зови.
Все, кружася, исчезнет во мгле — Неподвижно лишь солнце любви.
(Вл. Соловьев 16)
Этого мне достаточно. Это создание, дарующее совершенный покой и утешение, есть опытное знание и потому обладает предельной достоверностью.
Но если вера не есть произвольное, непроверяемое утверждение о чем-то недоступном, не есть простое упорство воли, говорящее «да» о том, о чем другой с не меньшим, если не с большим, основанием может говорить «нет», если она вообще не есть суждение или мысль, а есть простое, самоочевидное осознание опытно данной реальности, то само различие между «да» и «нет», между верой и неверием имеет здесь совсем иной смысл, чем тот, который ему обычно придают. Я готов сказать: в каком-то смысле это различие гораздо меньше, менее остро, чем это обычно думают (что не мешает ему быть в других отношениях чрезвычайно существенным). Немецкому скептическому писателю Шницлеру17 принадлежит афоризм: «Если бы верующие имели немного больше воображения, а неверующие были поумнее,
С нами Бог
693
то они легко могли бы сговориться между собой». Это не только остроумно, но и близко к правде. Различие между верой и неверием не есть различие между двумя противоположными по своему содержанию суждениями; оно есть лишь различие между более широким и более узким кругозором.
Верующий отличается от неверующего не так, как человек, который видит белое, отличается от человека, который на том же месте видит черное; он отличается так, как человек с острым зрением — от близорукого или как музыкальный человек — от немузыкального. Верующий воспринимает, видит и то, чего не замечает и что поэтому отрицает неверующий, причем остальное — то, что видит и утверждает неверующий,— вполне может быть признано и верующим; но только в сочетании с тем иным, что видит последний, оно приобретает в общем контексте другой смысл — вроде того, как с высокой горы мы обозреваем ландшафт иначе, чем находясь внутри него и видя только его отдельную часть. Существо неверия заключается в сознании бессмысленности, незавершенности, слепой фактичности мира и потому одиночества и трагичности положения и судьбы человеческой души в мире, бессилия человеческих упований перед лицом равнодушных и потому жестоких сил природы (включая стихию природных страстей человека). Все это может и должен признать и верующий. Все различие между ним и неверующим в конечном счете исчерпывается тем, что к опыту последнего он присоединяет еще иной опыт — опыт иного, уже сверхмирного измерения бытия и вытекающее из него сознание укорененности, сохранности, покоя человеческой души в этом глубочайшем родственном ей слое бытия.
Сознание покинутости, бездомности человеческой души в равнодушном к ней, бесчувственном мире слепых и злых сил верующий только дополняет памятью о настоящей родине души, знанием своей неразрывной связи с ней. Это сознание, что я, моя личность тоже есть настоящая реальность, и притом не случайная, не неведомо откуда попавшая в мир, а рожденная из глубочайших недр бытия и прочно в них укорененная, достаточно, чтобы настроение ужаса или отчаяния, как на скользком пороге бездны — настроение горького одиночества и обреченности,— сменилось настроением покоя и совершенной обеспеченности. Дело тут, следовательно, не в столкновении двух разных и противоположных доктрин, философских теорий бытия — причем в этом случае доктрина неверующего еще имела бы то преимущество, что была бы одна только основана на трезвом учете бросающихся в глаза, бесспорных фактов. Вера только дополняет жизненную мудрость неверующего достоверным знанием иной реальности, сознанием прочного обладания незримым сокровищем,
694
С. Л. ФРАНК
о котором не ведает неверующий. Это тайное сокровище есть просто корректив — но какой корректив! — к нашей явной нищете; что мы им действительно обладаем, есть, как мы видели, не догадка, а опытно удостоверенный факт. Все дело только в том, чтобы обратить внимание на этот факт, уметь увидать, воспринять его. Это понимание веры как опыта — как я уже указал выше — в принципе, т. е. по существу, делает невозможным, беспредметным всякое религиозное сомнение (что с этим все же совместима психологическая, субъективная возможность сомнения — об этом тотчас ниже). Если понимать веру как гипотезу, она должна сознаваться гипотезой не только произвольной, но даже очень неправдоподобной (о чем я уже говорил). Более того: мы просто не в состоянии согласовать ее с отдельными нашими знаниями, со всем нашим жизненным опытом, Вера во всеблагого и всемогущего Бога стоит в явной коллизии с бесспорным фактом существования зла, неправды, страданий; в другом месте (в моей книге «Непостижимое». Париж, 1938) я пытался показать, что эта проблема теодицеи рационально так же неразрешима, как проблема квадратуры круга. Если вера есть допущение, то мы обречены на религиозное сомнение. Кто не хочет отвергать бесспорные факты, должен при этом отказаться от веры. В этом смысле Иван Карамазов справедливо говорит у Достоевского: «Я ничего не понимаю, я и не хочу ничего понимать, ибо, чтобы понимать, я должен был бы отказаться от фактов,— а я хочу оставаться при факте». Но если вера, как мы видели, есть непосредственный опыт и обладает безусловной достоверностью опыта, то мы находимся в совершенно другом положении.
Имея религиозный опыт, я, правда, продолжаю не понимать, как открывшаяся мне в ней истина согласима со всем, что я знаю о мире,— как она согласима с бессмысленностью и неправдой мирового бытия; в этом смысле правдивая человеческая мысль остается полной сомнений; и, повторяю, все человеческие попытки рационально согласовать одно с другим остаются жалкими, бесплодными потугами — более того, потугами искусственными, сознательно или бессознательно нечестными и даже кощунственными. Но если я здесь честно должен признать: «Не понимаю и не могу понять», то это все ни в малейшей мере не может поколебать истины самой веры. Ибо эта истина не доказывается, не выводится из чего-либо другого, не опирается на согласие с каким-либо иным знанием; она непосредственно очевидна. В жизни мы многого не понимаем, часто стоим перед фактами, возможность которых мы не можем понять, т. е. которые мы не можем согласовать с другими, известными нам фактами. Но это не только не дает нам права отвергать факты, как таковые, но даже и непосредственно не побуждает нас сомневаться в них просто потому, что
С нами Бог
695
«сомневаться» в опытно-данном факте есть бессмыслица. В таком же положении мы находимся в отношении истины веры: эта истина, удостоверяя сама себя присутствием в опыте самой реальности, стоит неколебимо твердо, вне и выше всякого сомнения.
Как бы велики и тяжки ни были наши религиозные сомнения — они касаются не реальности предмета веры, а чего-то совершенно другого: именно согласования этой реальности с другими фактами — согласования религиозного опыта с остальным, «земным» нашим опытом. Не все на свете можно понять; и я должен честно признаться, что я многого не в силах понять. Но мое непонимание во всяком случае не может поколебать достоверности того, что я с непосредственной очевидностью воспринимаю и знаю. Веруя, я совсем не вынужден отвергать факты, на которые опирается неверующий. Напротив, поскольку это — действительно факты, я должен их признать. Я только прибавляю к этому, что я знаю еще и другой факт, которого не знает неверующий и очевидность которого я также не вправе и не могу отрицать. К тому же этот факт, как мы видели, таков, что он обладает достоверностью еще большей, чем достоверность только факта,— именно абсолютной необходимостью в смысле неотмыслимости, невозможности иного. Поэтому среди всех возможных и даже неизбежных сомнений я продолжаю наслаждаться незыблемым покоем достоверной веры.
Когда вера — и неверие — понимается как доктрина, учение, тогда происходит противоестественное смешение мысли с чувством и порождается духовное уродство фанатизма. Мысль по самому своему существу спокойна и холодна; опыт, со своей стороны, дает покой очевидности; то и другое совместно с терпимостью, с благожелательным отношением к тем, кто имеет другие мысли или другой опыт. Но смешение опыта — а в области религиозной это значит: эмоционального опыта, т. е. чувства,— с мыслью делает узким, упрямым, жестоким, вызывает нетерпимость и ненависть. Сколько слез и крови было пролито, сколько злодейств совершено, сколько ненависти посеяно в мире из-за столкновения между верой и неверием! Как горько думать, что все это основано, в сущности, на недоразумении. По существу, спор между верующим и неверующим так же беспредметен, как, например, спор между музыкальным и немузыкальным человеком. Если мне скажут, что девятая симфония Бетховена есть действие на мое ухо особого подбора звуков, т. е. воздушных волн, мне остается только ответить: да, это так, но, кроме того, она есть еще и нечто совсем иное, неизмеримо более существенное и значительное.
Богатому нет надобности спорить с бедным и тем паче — возмущаться им, негодовать на него; он должен просто поделиться с ним
696
С. Л. ФРАНК
своим богатством. Или, поскольку — как это имеет место в области духовной жизни — бедный беден только потому, что проходит мимо сокровища, не зная его и потому отрицая его существование, богатый, видящий сокровище и пользующийся им, должен просто попытаться предъявить сокровище не видящему его, показать его, направить на него взор невидящего; тем спор и исчерпывается. А это значит: вера как обладание бесспорной, опытно-данной, наличествующей реальностью не может быть доказываема на словах, не есть предмет возможного спора; она должна реально изливаться на неверующего, заражать его, действовать на него так, чтобы глаза его души сани раскрылись. Отношение между верой и неверием не есть отношение столкновения и спора между двумя мнениями. Это есть отношение между реальным избытком и недостатком, между наличностью блага и его отсутствием — отношение не антагонизма и борьбы, а восполнения, расширения, обогащения. Слабый не может отнять у сильного его силы; сильному нет надобности бороться со слабым; он должен только помогать.
Какая простая, какая легкая и естественная вещь — вера,— то, что люди в своей слепоте, не понимая, о чем вдет речь, принимают за какое-то искусственное, непрочное сооружение, требующее почти противоестественного усилия воли! Вера есть не что иное, как полнота и актуальность жизненных сил духа — самосознание, углубленное до восприятия последней глубины и абсолютной основы нашей внутренней жизни — горение сердца силой, которая по своей значительности и ценности с очевидностью воспринимается как нечто высшее и большее, чем я сам. Естественно человеку дышать глубоко и свободно, полной грудью; неестественно чувствовать свое дыхание стесненным, спертым в груди. Неестественно сознавать себя висящим в воздухе над бездной; напротив, вполне естественно и легко стоять на твердой почве и чувствовать ее под своими ногами. И для того чтобы чувствовать твердую почву под ногами, не нужно ничего «понимать».
Б. П. ВЫШЕСЛАВЦЕВ
Значение сердца в религии
Понятие «сердца» занимает центральное место в мистике, в религии и в поэзии всех народов. Одиссей размышлял и принимал решения «в милом сердце». В «Илиаде» глупый человек называется человеком с «неумным сердцем». Индусские мистики помещали дух человека, его истинное Я в сердце, а не в голове. И в Библии сердце встречается на каждом шагу. По-видимому, оно означает орган всех чувств вообще, и религиозного чувства в особенности. Трудность, однако, состоит в том, что сердцу приписывается не только чувство, но и самые разнообразные деятельности сознания. Так, прежде всего, сердце мыслит. «Говорить в сердце» — значит, на библейском языке — думать*1. Но далее, сердце есть орган воли; оно принимает решения**. Из него исходит любовь: сердцем или от сердца люди любят Бога и ближних. Говорится, что мы «имеем кого-либо в своем сердце», (Фил. 17, 2. Кор. 7, 3) или «у нас с кем-нибудь единое сердце» (Деян. 4, 32). Наконец, в сердце помещается такая интимная скрытая функция сознания, как совесть: совесть, по слову апостола, есть закон, написанный в сердцах. Сердцу приписываются также самые разнообразные чувства, проносящиеся в душе: оно «смущается», «устрашается», «печалится», «радуется», «веселится», «сокрушается», «мучается», «скорбит», «питается наслаждением», «расслабляется», «содрогается» ***. Как будто бы сердце есть со* Ис. 10,7. Пс. 140,3. Пр. 6,14,18.19,21. Мф.9,4. 13,15. Лк. 1,51. Ин. 12,40. Евр. 4,12. Рим. 1,21. Еф. 1,18.
** Деян. 5,4. 7,23.11,23. 1 Кор. 4, 5.2 Кор. 7,9. 8,16. 1 Кор.7,37. Рим.10.1,28. Анок. 17,16. Лк. 24,38. 1 Кор. 2,9. Деян. 7,39.
*** Ин. 14,1,27.16,6,22. Деян. 2,26.14,17.21,13. Рим. 9,2. 2 Кор. 2,4. Иак. 5, 5.
Иов. 23,15 ff.
698
Б. П. ВЫШЕСЛАВЦЕВ
знание вообще все то, что изучается психологией; и действительно, в Библии понятие «сердца» и понятие «души» иногда заменяют друг друга; точно также понятие «сердца» и понятие «духа».
Но затруднения наши увеличиваются, когда мы убеждаемся, что сердце обнимает собою не только явления психической, но и физической жизни. Все явления жизни исходят из него и возвращаются к нему, действуют на сердце: каждое физическое подкрепление пищей и питьем — подкрепляет сердце; каждое отягощение — отягощает сердце (Лк. 21, 34); каждое нападение на жизнь — есть нападение на сердце (Исх. 9, 16). Вот почему говорится: «больше всего оберегаемого оберегай свое сердце, ибо от него исходит жизнь» (Пр. 4, 23). В этом бесконечном разнообразии значений символ «сердце» грозит совершенно расплыться, сделаться совершенно неуловимым, превратиться в простую поэтическую метафору. И, однако, это не так: сердце на религиозном языке есть нечто очень точное, можно сказать, математически точное, как центр круга, из которого могут исходить бесконечно различные радиусы, или световой центр, из которого могут исходить бесконечно разнообразные лучи.
Библия приписывает сердцу все функции сознания: мышление, решение воли, ощущение, проявление любви, проявление совести; больше того, сердце является центром жизни вообще — физической, духовной и душевной. Оно есть центр прежде всего, центр во всех смыслах. Так говорится о «сердце земли», о «сердцевине дерева» (Мф. 12, 40). Естественный вопрос: не есть ли это выражение «сердце» в таком случае как раз то самое, что в психологии хорошо известно, как принцип единства сознания, как центр сознания?
Это не вполне так, здесь есть нечто более глубокое, религиозное, остающееся недоступным для научной эмпирической психологии. Есть глубокие основания, почему здесь принимается религиозный символ «сердца», а не понятие души, сознания, ума, даже духа. В самом деле, сердце означает некоторый скрытый центр, скрытую глубину, недоступную для взора. В этом смысле Библия говорит о «сердце моря», о «сердце земли», как о том, что кроется в их таинственной глубине; в еще большей степени это можно сказать о сердце самого Бога. Леон Блуа2 называет сердце Божества «бездною», и многие мистики говорят об этой «бездне», как о последней иррациональной глубине Божественного центра (Ungrund Якова Бёме 3). Но тоже самое можно сказать и о сердце человека, как о сокровенном центре личности. Он прежде всего недоступен чужому взору, мы не проникаем извне в сердца людей. Сердца ближних для нас не прозрачны.
Но не нужно думать, что предельная глубина человека закрыта только для других, она непостижима в значительной степени и для
Значение сердца в религии
699
него самого; мы не умеем, а иногда не хотим понять самих себя, боясь заглянуть в бездну своего сердца. Глубочайшая мудрость заключается в этом изречении оракула, которое любил приводить Сократ: «Познай самого себя» — мудрость эллинская и древне индийская. Но люди не знают самих себя, и не только в смысле своего характера, своих страстей, своих недостатков, нет, в гораздо более глубоком смысле: они не знают своей истинной самости, своего истинного Я — того, что индусы называют «атман», что христианство называет — бессмертной душой, сердцем, сердцем души. Сократ и индийские мудрецы знали, что человек отделен от этой своей самости ежедневной суетой жизни, заботами о своем теле, заботами об удовольствиях, о вещах, о приобретении. Христос говорит: какая польза человеку, если он весь мир приобретет, душу же свою потеряет? Он говорит здесь именно об этом предельном таинственном центре личности, где лежит вся ее ценность и вся ее вечность. Найти эту свою вечность, значит найти свое истинное Я, заглянуть в глубину своего сердца. И это удается немногим, и, прежде всего, переживается, как чувство глубочайшего изумления, как бы нового духовного рождения или исцеления от прирожденной слепоты. Человек, который действительно захочет заглянуть в свою собственную глубину, непременно должен стать религиозным человеком, он должен испытать религиозное чувство, чувство благоговения, мистического трепета по отношению к самому себе, по отношению к бездонности своего сердца, он должен увидеть в самом себе le monde entier, plein d’infini* (Лейбниц). Ибо ведь религия есть одновременно признание Божественности Бога и Божественности самого человека. Религия есть нахождение Бога в себе и себя в Боге, и атеизм есть не только неверие в Бога, но непременно также неверие в человека, неверие в самого себя, неверие в свою абсолютную ценность и в свою абсолютную вечность. Атеизм считает, что Я — это мое тело, мои страсти, мои желания, мои движения и действие в этом мире, и все это, конечно, преходяще и разрушимо и проносится, как дым. В этом нет никакой моей истинной самости. Атеизм есть миросозерцание, постоянно двигающееся на периферии, на поверхности, постоянно верящее во внешность, видимость, атеизм есть отрицание таинственного центра личности и, в силу этого, отрицание таинственного центра вселенной. Для него нет никакого «сердцаземли», «сердцаморя», «сердцанебес», для него нет и сердца человека, ибо он никогда не спускается в глубину, постоянно скользя по поверхности и, конечно, нет ничего легче, как скользить по поверхности. Поверхностное есть самое легкое, самое общедоступное. Атеизм есть банальнейшее миросозерцание, миросозерцание бездарности. Аристотель говорит, что начало философии есть удивление;
700
В. П. ВЫШЕСЛАВЦЕВ
мы можем сказать, что начало религии есть чувство тайны, трепет таинственного, благоговение перед таинственным. В этом смысле атеизм и позитивизм есть столько же безрелигиозное, как и не философское мировоззрение: он ничему не удивляется и ни перед чем не благоговеет. Скептически безрелигиозный европеец совершенно потерял чувство изумления.
Необходимо признать сердце основным органом религиозных переживаний. В простоте и доступности этого слова «сердце», этого символа, постоянно присутствующего в простой разговорной речи — его высокая религиозная ценность. Человек «без сердца» есть человек без любви и без религии, безрелигиозность есть в конце концов бессердечность. Неправда, будто существует какая-то безрелигиозная сердечность в форме гуманности, солидарности, классового сознания, и т. п. Самые большие преступления были совершены ради такой гуманности, были оправданы декламациями о любви к человечеству, риторикой в духе Руссо и Робеспьера. Прежде всего, можно сказать, что у этих людей нет сердца, а, следовательно, они потеряли мистическую связь с ближними и с Богом, они потеряли, конечно, и свое настоящее Я, забыли о нем, не подозревают о его существовании.
Но только в глубине этого Я, в глубине сердца, возможно действительное реальное соприкосновение с Божеством (Dieu sensible au coeur — Паскаль)5, возможен подлинный религиозный опыт, без которого нет религии и нет истинной этики. Евангелие непрерывно утверждает, что сердце есть орган для восприятия Божественного Слова и Дара Духа Святого, в него изливается божественная любовь *. И это соприкосновение с Божеством возможно потому, что в сердце человека есть такая же таинственная глубина, как и в сердце Божества. Здесь раскрывается весь смысл выражения «образ и подобие Божие», здесь человек чувствует свою Божественность, здесь одна глубина отражает другую; и пока человек не встретился с этой глубиной в своем собственном существе, он не понимает, что значит глубина Божества. Нужно быть самому глубоким, чтобы почувствовать таинственную глубину.
Вот почему религия берет символ сердца. В нем выражается сокровенный центр личности. Сердце есть нечто более непонятное, непроницаемое, таинственное, скрытое, чем душа, чем сознание, чем дух. Оно непроницаемо для чужого взора и, что еще более удивительно, для собственного взора. Оно также таинственно, как сам Бог, и доступно до конца только самому Богу. Пророк Иеремия говорит:
Мф. 13,19. Мк. 4,15.7, 9. Лк. 8,12.15. 24, 23. Ср. Деян. 2, 27. 7, 54.16,14. Рим. 2,15.5,5.8,15. Гал. 4,6.1 Кор. 2,9. 2 Кор. 1,22. 3,15.4, 6. 2 Петр. 1,19. Лк. 21,14.
Значение сердца в религии
701
«Глубоко сердце человека более всего... кто познает его? »
«Я, Господь, проникаю в сердце и испытываю внутренности...» (Иер. 17, 9-10).
В Библии постоянно повторяется эта мысль о том, что только Богу доступно проникать в сердца:
«Ты испытуешь сердца и утробы, Праведный Боже» (Пс. 7, 10).
«Я есть испытующий сердца и утробы» (Апок. 2, 23).
«Господь испытует все сердца и знает все движения мысли» (1 Па- рал. 28, 9).
«Бог. ...Он знает тайны сердца...» (Пс. 43, 22).
Совершенно исключительное значение придается сердцу человека: только Богу вполне ведомы его тайны. Мы должны чувствовать теперь трепет благоговения перед этой таинственной глубиною в своем сердце и в сердце своих ближних. Здесь лежит истинная красота, истинная и вечная ценность человека. У ап. Петра, этого почти прозаического апостола, есть удивительные слова, полные вдохновенной поэзии, посвященные этому «потаенному сердца человеку». И здесь говорится, прежде всего, о человеческой красоте, о красоте женщин и их бессознательном стремлении украшать себя; вот эти слова:
«Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, Не золотые уборы или нарядность в одежде, Но потаенный сердца человек
В нетлении безмолвного и кроткого духа, Что драгоценно пред Богом». (1 Петр. 3, 4).
Здесь собрано все самое ценное, что можно сказать о сердце: оно есть тайный центр человека; оно «безмолвствует», апофатически6 утверждает свою глубину; в нем скрыта нетленная красота духа, подлинная красота; и этот нетленный духовный центр есть абсолютная ценность, он «драгоценен пред Богом». Прозаической апостол нашел самые поэтические слова для этой таинственной глубины!
Интересно сравнить в этом пункте христианскую мистику с индийской. Прежде всего, мы будем поражены совпадением путей и даже мистических символов. И оно неизбежно, если единый истинный Бог есть предел всех мистических устремлений, оно есть совпадение в истине. Но не следует скрывать от себя далее важнейших расхождений религиозных путей. Если христианство есть полнота истины, то было бы невероятно, если бы другие народы в своих религиях никогда
702
Б. П. ВЫШЕСЛАВЦЕВ
и никак не приближались к этой истине; трудно не заметить такие приближения в мистериях Египта и Греции, в платонизме и неоплатонизме, наконец, в индийской мистике.
Но, с другой стороны, если христианство есть действительная полнота (плерома) живой конкретной личности Богочеловека, то оно единственно и неповторимо и индивидуально. Его нельзя заменить никакими эклектическими обобщениями в духе теософии, которая в своем безвкусном смешении стилей теряет всякое чувство индивидуальности, национальности, личности.
«Потаенный сердца человек» составляет центр внимания для индийской религиозности. Индусы величайшие мастера в исследовании предельного, скрытого центра нашего Я, нашей самости. К нему устремлена вся индийская мудрость.
«Что такое самость? Это состоящее из познания, среди дыханий жизни, внутри сердца, светящееся Я (purucha, “человек”. Brhad- aran. Up. IV. 3)» 7.
«Этот мой атман (основной термин для сокровенной самости) внутри сердца, мельче рисового зерна, мельче горчичного зерна, мельче ядра в этом зерне. Этот мой атман внутри сердца больше земли, больше воздушных пространств, больше неба, больше всех миров (Chandogya Up. III. 14)». «Человек (purucha — другой термин для сокровенной самости) величиною с мизинец, сокровенная самость, пребывает вечно в сердце всего того, что рождается» (Kathopan. VI, 17).
«Посредством ума, господствующего в сердце, (ср. “ум, стоящий в сердце”) дается откровение о нем». (Svetasvataropan. Ill, 13).
«Меньше малого и больше великого, покоится самость в сердце этой твари». (Ио. 20). Это бесконечно малое и бесконечно большое показывает предельную центральность нашего Я: оно есть центр, точка, не имеет измерения («ядро зерна»); и вместе с тем бесчисленные радиусы устремляются из него в мир, в небо; лучи познания и лучи стремления.
В христианстве мистическое соприкосновение с Богом и с ближним осуществляется через посредство сердца. Сердце есть орган, устанавливающий эту особую интимную связь с Богом и с ближним, которая называется христианскою любовью. Она отличается от всякой другой не христианской любви своей мистическою глубиною, отличается тем, что она есть связь глубины с глубиною, мост, переброшенный от одной бездны сердца к другой. А всякая любовь до Христа и вне Христа была лишь товариществом, приятельством, наслаждением страсти, или в лучшем случае, жалостью, состраданием. Все это поверхностные касания одного человека к другому: телесные касания или душевные, но не касающиеся скрытого, духовного, сердечного центра. Такова любовь атеистов.
Значение сердца в религии
703
Совсем иная буддийская любовь-сострадание. Она, конечно, противоположна всякой корыстной страсти, всякому приятельству и товариществу. Она осуществляет касание сердечных центров, не остается на периферии; индийская мудрость не могла забыть истинную «самость», ею впервые открытую, даже в реформационном упрощении буддизма. И все же эта буддийская любовь глубочайшим образом отличается от христианской, с которою ее так часто сближают в безвкусных теософских популяризациях. В христианстве любовь есть мистическая связь одной индивидуальной глубины с другою, мост над двумя безднами; в буддизме это есть утверждение тождества двух страдающих самостей, одинаково страдающих и потому сострадающих. Их индивидуальная противоположность и противостояние отрицаются. Буддизм говорит: ты есть я, и потому я тебя люблю и жалею; христианство говорит: ты не есть я, и потому я тебя люблю и жалею. Различие это огромно: в христианстве мой «ближний» есть индивидуальность, лицо, мне противоположное, единственное и неповторимое; в буддизме множество различных индивидуальностей есть иллюзия, майя, на самом деле они все — одно, тождественны в существе своем, в сердце — неразличимы; здесь нет и не может быть никакого индивидуального бессмертия и, следовательно, никакой любви к бессмертной, единственной и незаменимой индивидуальности. Здесь нет единства противоположностей, составляющего сущность любви, нет “Coincidentia opposite rum”к, здесь тождество лиц в безразличном, одинаковом страданий, имеющее своим пределом полное «угасание» всякого индивидуального различья в «нирване».
Эти особенности буддизма коренятся в других более глубоких и более древних религиозно-философских системах, в свою очередь имеющих свое последнее обоснование в индийской библии — в Упанишадах.
Мистическое соприкосновение с Богом здесь иное, чем в христианстве, и, в силу этого, иное соприкосновение и с ближним. В индийской мистике нас увлекает гениальное устремление в глубины сердца и нахождение в нем бессмертной светящейся точки, нашей истинной «самости» (ат- мана), напоминающей Funkleiny Мейстера Экхарта111 и даже как будто «свет истинный, просвещающий всякого человека, грядущего в мире». Навеки незыблемым достижением остается здесь непосредственное созерцание неразрушимости и бессмертности Я, которое может быть усмотрено здесь и сейчас, не дожидаясь момента смерти.
Далее, утверждение, что соприкосновение с Божеством осуществляется только в этой предельной точке, только в этой «глубине сердца» — тоже роднит индийскую мистику с христианской.
Европеец не сразу может заметить поразительное различие; прохладная чистота отрешенного духа Индии, гениальная мудрость
704
Б. П. ВЫШЕСЛАВЦЕВ
наивно-образной речи вызывают благоговение, в которое невольно вливаются христианские переживания; подобно тому, как в прекрасном, но чуждом храме, чужого стиля и чужого духа, невольно вспоминаются свои родные, исконные молитвы. Даже большие философы и знатоки, как Шопенгауэр, Гартман, Деуссен11 — думают, что это в сущности то же самое. На самом же деле это совсем другое.
Индийская мистика утверждает имманентное тождество предельного центра моей самости с предельным центром божественной самости. Не то, что я нахожу в себе Бога, соприкасаюсь с Богом в глубине своего сердца — а то, что я сам оказываюсь Богом! Сам — конечно не в смысле телесном, душевном, не в смысле эмпирической личности, эмпирического характера (не в смысле даже «человекобожества»), а в смысле предельного, иррационального центра моего Я. Этот мой центр тождествен, совпадает с божественным центром. На этой высоте умозрения человеческое Я совпадает до неразличимости с божественным Я.
Для непривычного и непосвященного это может показаться странным и диким, но это так. Бесполезно это оспаривать. «Атман есть Брахман: Я сам есть единое и единственное божество. Такова центральная мысль, проходящая через все Упанишады. Это есть система не “coincidentiae oppositorum”, a “indifferentiae oppositorum”, не единства и совпадения противоположностей, а тождества и безразличия противоположностей, в конце концов,— иллюзорности противоположностей: Многообразие противоположностей есть иллюзия».
Теперь, это тождество: «Атман есть Брахман» — можно истолковать двояко. Онтологический центр тяжести может лежать в первом, или во втором термине. «Атман есть Брахман» — это можно понять так, что мое высшее Я, отрешившись от всех оболочек, усматривает свое тождество с Богом, растворяется в нем без остатка, как капля воды в океане, как кусок соли в соленой воде; тогда существует только Брахман, только Бог — и нет человека; мы получаем систему Веданты12.
Но обернем смысл тождества: онтологический центр тяжести будет лежать в атмане: «Брахман есть Атман», мое высшее Я, от всего отрешенное, будет истинной, высшей, последней реальностью. Тогда будет существовать только человек и не будет Бога; мы получаем атеистическую систему Санкья13. Замечательно, что Атман (любимый термин Веданты, где он всегда тождествен с Брахманом), здесь переименовывается в «пурушу», что по-санскритски первоначально значит «человек», но, в смысле философского термина, обозначает сокровенное Я. Пуруша — это тот же самый «сокровенный сердца человек», который в Веданте обозначался термином — «атман».
Значение сердца в религии
705
Мы получаем два типа индийской мистики: теософский пантеизм и «антропософский» атеизм. Замечательно то, что атеистическая Санкья признается канонической системой, т. е. обоснованной в священных книгах, в Упанишадах. Этим как бы говорится: да, тождество Брахман-Атмана может быть истолковано так, в сторону человеческого «имманентизма» 14 и атеизма.
Это та же линия мысли, какую мы встречаем у Фихте первого периода15 и которая возбудила вполне основательно обвинение в атеизме.
Между этими классическими и глубокими решениями колеблется реформационная популяризация буддизма, нирвану которого можно истолковать или как атеистическое «потухание» сознания, или как пантеистическое растворение в абсолютном. Будда очень мудро запретил своим ученикам исследовать этот вопрос.
Здесь следует искать источник религиозной неопределенности теософии и антропософии, относительно которых нелегко решить, пантеистичны они, или атеистичны. Здесь дело затрудняется крайним философским дилетантизмом этих школ, натаскивающих без всякого стеснения отовсюду все, что им понравится.
Мы видим теперь, что мистическое соприкосновение с Богом в индийской мистике есть нечто совершенно особое. Это не есть никак христианская любовь, соединяющая глубину сердца с глубиною Божества. Здесь нет Бога и человека, нет отношения Богочеловечества и Богосыновства, нет любви, как гармонии противоположностей (coincidentia oppositorum), ибо нет противустоящих друг другу лиц: Отца и Сына. Здесь безразличное тождество. Усмотрение этого тождества не есть любовь, не есть тяготение, притяжение, устремленность — это блаженное успокоение в отрешенном безразличии. И потому «сердце» в индийской мистике тоже имеет другое значение: оно означает только внутренний мир, скрытую центральность, сердцевинность атмана по отношению ко всему, но без всякой эмоциональной, эротической, эстетической окраски, которая неизбежна в христианском сердце, которая преображается в своем пределе не в тождество унисона, а в гармонию напряженно противустоящих и сопряженных струн.
ААЛ В * * * *
В Евангелии очень ясно выражено, что сердце есть орган религии,
орган, при помощи которого мы созерцаем Божество: «Блаженны
чистые сердцем, ибо они Бога узрят» (Мф. 5, 8).
И Христа нельзя воспринять иначе, как через посредство сердца:
«Верою вселяется Христос в сердца наши» (Еф. 3, 17).
706
Б. П. ВЫШЕСЛАВЦЕВ
Преп. Серафим16, один из самых характерных для русского Православия святых, так определяет Бога: «Бог есть огонь, согревающий сердца и утробы». Вот еще слова св. Серафима, касающиеся значения сердца:
«Господь ищет сердце, преисполненное любовью к Богу и ближнему — вот престол, на котором Он любит восседать и на котором Он является в полноте своей пренебесной славы. Сыне, даждь Ми сердце Твое, а все прочее Я Сам приложу Тебе, ибо в сердце человеческом Царствие Божие».
(Беседа с Мотовиловым17)
Сердце, как орган религиозного восприятия, должен быть отличаем от души, ума, духа, от сознания вообще. Оно глубже и так сказать центральнее, чем психологический центр сознания. Сердце есть центр не только сознания, но и бессознательного, не только души, но и духа, не только духа, но и тела, не только умопостигаемого, но и непостижимого; одним словом, оно есть абсолютный центр.
Чрезвычайно характерная особенность восточного христианства состоит в том, что для него ум, интеллект, разум никогда не есть последняя основа, фундамент жизни; умственное размышление о Боге не есть подлинное религиозное восприятие. Восточные Отцы Церкви и русские старцы дают такое указание для подлинного религиозного опыта: «нужно умом в сердце стоять». Один старец говорил про современного человека: «вот у него ум, вот сердце, а между ними каменная стена!» Эта стена и делает невозможной истинную религиозную жизнь. Ученый европеец знает многое, часто знает и Библию, знаком и с мистикой, и с теологией, и с оккультизмом. Но все это только Знание, только любопытство. Отдельно существует совокупность знаний, и совершенно отдельно, отделенное от него стеною, живет сердце, потерявшее свое великое значение, свою центральность, свое право быть фундаментом всего. Ум не стоит в сердце: он стоит отдельно, он не согревается теплотою сердца. Вся наша цивилизация, ведущая происхождение от Ренессанса, вся эта безрелигиозная цивилизация хочет лишить сердце его центрального положения и дать это центральное положение уму, науке, познанию. В этом смысле пророческим для всего новейшего интеллектуализма остается изречение Леонардо да Винчи: «великая любовь есть дочь великого познания». Мы, христиане востока, можем сказать как раз обратное: «великое познание есть дитя великой любви». В этом мы сохраняем лучшую традицию эллинизма, воспринятую восточным, и только восточным христианством, сохраняем Платоновское учение об Эросе, воспринятое всеми нашими учителями Церкви, начиная с Дионисия Ареопагита и Максима Исповедника18. Святой Серафим говорит: чтобы узреть
Значение сердца в религии
707
свет Христов, нужно погрузить ум внутрь сердца, ум должен «укос- нить в сердце». «Тогда воссияет свет Христов, освещая храмину души своим божественным осиянием». «Сей свет есть купно и жизнь». «Когда человек созерцает внутренне свет вечный, тогда ум бывает чист и не имеет в себе никаких чувственных представлений, но весь будучи углубляем в созерцание несозданной доброты, забывает, все чувственное, не хочет зреть и себя, но желает скрыться в сердце земли, только бы не лишиться сего истинного блага». Только таким путем человек может созерцать «несотворенную красоту», которая есть нечто ощущаемое сердцем, невыразимое в рациональных понятиях, как всякая красота вообще. Так говорит далее св. Серафим: «признак разумной души, когда человек погружает ум внутрь себя и имеет делание в сердце своем. Тогда благодать Божия приосеняет его и он бывает в мирном устроении... »
Это «мирное устроение» есть небесная гармония, чувство последнего единства, которое переживается всеми мистиками. Оно невыразимо в понятиях, как музыка. Об этой гармонии ап. Павел говорит:
«И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши...» (Фил. 4, 7).
Несотворенная красота, мир Божий, небесная гармония — воспринимаются «сердцем»; оно как бы слышит «гармонию небесных сфер ».
Если нужно еще пояснить, каким чувством воспринимается эта красота, то мы должны сказать: чувством любви: тот не воспринимает красоту, кто не любит красоту; тот не воспринимает музыку, кто не любит музыку; тот не воспринимает мудрость, кто не любит мудрость; и сама философия есть только любовь к мудрости, а т. к. на дне всякой мудрости лежит последняя тайна Божества, то всякая глубокая философия приводит к религии: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всею душою твоею, всем помышлением твоим». Прежде всего, следовательно, сердцем, а затем уже душою и помышлением.
Мистическое соприкосновение с Божеством, познание тайн Божиих, в которых сокрыты сокровища премудрости и ведения (софии и гнозиса), возможна, по слову апостола Павла, только через посредство «сердец, соединенных в любви». В этом апостол видит смысл своего подвига, конечную цель своей проповеди:
«Дабы утешились сердца их, соединенные в любви, для всякого богатства совершенного разумения, для познания тайны Бога и Отца Христа, в котором сокрыты все сокровища премудрости и ведения». (Кол. 2, 3).
708
Б. П. ВЫШЕСЛАВЦЕВ
Таким образом, «сокровища премудрости и ведения» постигаются не гнозисом холодного, отрешенного ума, а умом, стоящим в сердце, сердечным центром, имеющим прикосновение к мистерии Бога- Отца. И это мистическое постижение достигается не индивидуально, не в гордой изоляции философского разума, а соборно, «сердцами, соединенными в любви», соединенными для постижения тайн, для искания сокровищ премудрости, соединенными Эросом Софии.
Вот последний и решающий довод в пользу символа сердца: сердце есть центр любви, а любовь есть выражение глубочайшей сущности личности. Мы любим не умом и не познанием, а сердцем. И даже самый этот ум и само познание мы любим сердцем. Мы должны всем сердцем отдаваться тому, в чем мы желаем достигать чего- либо. Ценности, сокровища духа, мы воспринимаем сердцем: «где сокровище ваше, там и сердце ваше». Личность, в конце концов, определяется тем, что она любит и что ненавидит. Глубочайший центр личности есть любовь, Эрос, т.е. стремление, тяготение, порыв, не стояние на месте, не квиетизм, не холодное интеллектуальное созерцание.
Здесь лежит второй важнейший момент, определяющий глубокую противоположность между европейской и азиатской мистикой, между христианством и индуизмом: там Эрос должен быть потушен, ибо он есть жажда жизни, источник страдания «тришна»; там любовь не есть высшая и последняя ценность; там высший центр личности есть холодное око, отрешенное от всяких влечений; там любовь есть нечто преходящее, что должно быть оставлено позади. Совсем иначе в христианстве: здесь любовь не только «сильна, как смерть» (ветхозаветное выражение)19, но даже сильнее смерти; любовь есть источник и залог бессмертия, потому что она ненавидит смерть и разрушение и, в конце концов, любит только вечное и нетленное. И любовь желает вечной жизни тому, что любит, она есть «аффект бытия». Вот почему ап. Павел мог сказать в своем замечательном гимне любви, что «любовь никогда не престает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится». Любовь не прекратится потому, что она есть стремление к совершенному, к абсолютному, к вечному; она есть само переживание вечного совершенства. Все преходящее может упраздниться, но вечное и совершенное упраздниться не может.
Этот момент отличия глубоко связан с первым, указанным выше (противоположность coincidentiae oppositorum и indifferentiae oppositorum): любовь, как тяготение и устремление, любовь — эрос непременно требует различия, (я и ты, Отец и Сын; конечное и бесконечное, совершенное и несовершенное), любовь противоположна
Значение сердца в религии
709
безразличию и, если есть безразличие, то нет любви (как, впрочем, нет и ненависти). В стилизованном упрощении можно сказать, что индуизм тоже дает искупление, избавление от страданий, спасение от зла, но только ценою безразличия, не ценою творческой любви — в этом его отличие от христианства. В истинно-сущем нет различия, нет многообразия, многообразие иллюзорно, существует лишь тождество единого и единственного центра (Атман — Брахман, пуруша); кого же может любить этот центр? К кому и к чему он может тяготеть? Представим себе закон тяготения в телесно-пространственном мире, он может служить символом любви в мире духовном. Что будет с тяготением при уничтожении всех центров, кроме единого и единственного центра тяжести? Очевидно, что «тяготение» будет отменено, ибо тяготение требует по крайней мере двух центров. Точно также отменяется «тяготение» любви холодным усмотрением отрешенной центральности своего Я, не имеющего своего другого, и потому не могущего иметь «друга» — «отца» и «сына», и «брата» (которые имели бы вечное, а не временное и преходящее значение иллюзорных явлений).
Все же существует своеобразная устремленность, своеобразное тяготение к этому отрешенному центру (Брахман — Атман) и в индийской мистике; существует свой индийский Эрос. Так могут нам возразить. И, действительно, замечательная пьеса Тагора «Царь темного чертога»20 представляет собою такое воплощение индийского Эроса: все упования, все жизненные пути устремлены к этому невидимому, таинственному «царю». Он притягивает к себе мудрецов и невежд, великих и ничтожных. И все же, как различен этот индийский Эрос от эллино-христианского!
Это не творческий Эрос, а отрешенный; не Эрос «рождающий в красоте», а Эрос убегающий от рождения. Не стремление к воплощению, а стремление к развоплощению. Не любовный айстезис21, а, напротив: анестезия.
«Пуруша» (субъект) отвращает свой взор и «Пракрити» (природа, объект) прекращает свой танец: танцовщица уходит, когда нет зрителя (Санкья). Майя исчезает для отрешенного (Веданта).
Но это уже не Эрос, а угасание Эроса, его прямая противоположность: стремление к тому, чтобы не стремиться. Йога есть «напряжение», но отрицательное напряжение: стремление остановить дыхание, остановить биение сердца, остановить ритм жизни (искусство временно умирать у факиров). Индийская мистика не эротична, она антиэротична, для нее Эрос есть зло и источник страдания (Тришна22). Она не знает действительно сублимированного Эроса, обожествленной христианской богочеловеческой любви.
710
Б. П. ВЫШЕСЛАВЦЕВ
Даже Платон еще ее не знал, а лишь как бы предчувствовал. Его Эрос занимает колеблющееся положение между христианством и индуизмом, между воплощением и развоплощением. Это очень ясно выступает у неоплатоников, особенно у Плотина, Эрос которых устремлен в сторону отрешения, в сторону прямо противоположную по сравнению с ап. Павлом, Дионисием Ареопагитом и Максимом Исповедником.
Вот почему в индуизме истинная сущность Я, «сокровенный сердца человек» не есть Эрос, не есть любовь. Это центр индифферентно неподвижный, нединамический, не тяготеющий, это — «обозревающий поле» , но не действующий, это лежащий по ту сторону всякого действия, всякого добра и зла, ибо по ту сторону всякого противопоставления и различения. Сущность самости не есть тяготение (Эрос), ибо тяготение есть противопоставление, есть выход из себя и переход к другому; а истинная самость в индуизме есть возвращение в себя, прекращение различения, и, следовательно, прекращение всех потенций.
Что любовь есть настоящая сущность личности, что без любви личность не живет, а умирает, это есть основная мысль христианства. Человек «без сердца» — есть человек полуживой. Потеря культуры сердца в современной жизни есть потеря жизненной силы, наше существование превращается в постоянное умирание, засыхание, какой то склероз сердца, которым поражена вся современная цивилизация. Поэтому ее жизнь так похожа на смерть, ее веселье так похоже на скуку; она полна чувства безвыходной тоски, постоянно звучащей во всей литературе последнего столетья. Чувство пустоты, чувство ничтожества происходит от того, что иссякла центральная сила личности, засохла ее сердцевина и тогда не поможет никакой временный расцвет периферических и внешних сил. Ни чудеса техники (переставление гор) ни чудеса социального распределения (раздавание имения) ни чудеса науки (всякое познание), потому что, по слову апостола, «если я не имею любви, то я ничто». Вот это напоминание о потере личности, о потере сердца, о «ничто», есть самое сильное, что может сказать Евангелие современному человечеству.
Л Л
В католической теологии значение сердца в религии рассматривалось, главным образом, в связи с культом сердца Христова, dévotion au coeur sacré23. Здесь устанавливается, что сердце есть вообще эмблема любви, а сердце Христово есть центр любви и центр страдания, живой центр. В конце концов, сердце Христово объемлет всю внутреннюю жизнь Богочеловека, все ее скрытые сокровища;
Значение сердца в религии
711
как говорят les sulpiciens: “tout l’interieur de Jesus” (см. сочинение P. de Gallifet и revelation Marguerite-Marie) 'м.
Следует, однако, признать, что восточные отцы церкви, и особенно Макарий ЕгипетскийЗБ, глубже истолковывают символ сердца и лучше проникают в его живую глубину, чем то делает западное христианство. Эмоциональная мистика Макария особенно много дает для понимания сердца. У него сконцентрировано как в фокусе все, что связано с этой проблемой, все что доселе составляло объект нашего исследования и, прежде всего, «автономия» сердца, непосредственность созерцания, составляющая сущность подлинного религиозного переживания. Вот наиболее замечательные слова из его «Гомилий» 26:
«Те, кто суть сыны света и сыны служения Нового Завета во Св. Духе, те от людей ничему не научаются, ибо они суть богонаученные. Ибо сама благодать пишет в их сердцах законы Духа. Им не нужно достигать полноты убеждения в писаниях, написанных чернилами, но на скрижалях сердца Божественная благодать пишет законы Духа и небесные тайны. Сердце же начальствует и властвует над всеми органами тела. И если благодать проникла в долины сердца, то она властвует над всеми членами тела и над всеми помышлениями. Ибо там находится ум и все помышления души и ее упование. Через это и проникает благодать во все члены тела. Соответственно этому, обратно, те, кто суть сыны мрака, в сердцах тех царствует грех, и проникает во все члены, ибо “из сердца исходят злые помышления”, и так, распространяясь оттуда, омрачают всего человека» (Homiliae27 XV. 58. Migne28 590).
«Христиане имеют зажженные лампады в своих сердцах и, как все лампады горят одним огнем, так и христиане получают свой свет от одного источника — Христа. И если по внешнему человеку христианин должен быть смиренным и может быть в низких условиях, то зато во внутреннем человеке он должен хранить драгоценную жемчужину. Сказано: “где ум твой, там и сокровище твое”. Следовательно, какому делу кто отдает свое сердце, и куда влечет его пожелание, там и его Бог. Если сердце всецело желает Бога, то Он становится Господом того самого сердца: такой человек отрешается от всего, становится бедным, бросает город и постится, такой достигает своей человеческой вершины, или же, напротив, он достигает успеха в мирских делах, в семье, в любви к родным: чему отдано его сердце и чем захвачен ум — там его Бог» (Homiliae ХЫП. 137. Migne 774).
* Л Л
С таким пониманием «сердца», какое здесь было развито, связана одна великая центральная проблема религии и философии.
Если сердце есть истинная, сокровенная самость человека, ( « сокровенный сердца человек»), имеющая вечное значение («Бог вложил человеку
712
Б. П. ВЫШЕСЛАВЦЕВ
вечность в сердце»), бессмертная, нетленная; если оно есть орган для восприятия божественного Слован дара Духа Святого и, следовательно, точка соприкосновения с Божеством, то здесь, в этой предельной точке, лежит наше Богоподобие, здесь мы боги и сыны Всевышнего (Ио. 10, 34. Пс. 81,6), здесь мы не можем грешить.
Подобное постигается подобным, и око не воспринимало бы свет солнца, если бы само не было солнцеподобным (Платон)29. Такое богоподобное око есть в глубине сердца, оно ничем не может быть омрачено и затемнено, оно видит ясно даже в пучине греха, даже на дне падения, даже в аду. Ибо самый отверженный и темный грешник еще имеет око непогрешимо видящее свой грех. И среди вечных мук он имеет еще око, видящее справедливость этих мук, и потому справедливое око, не могущее быть осужденным в силу своей справедливости; оно и не может мучиться это око, ибо, в силу справедливости, оно переживает своеобразное удовлетворение в самом созерцании наказания.
Пусть в жизни временной это око иногда закрывается, омрачается, слепнет; пусть «голос совести» иногда молчит — в принципе он вечен. Око должно раскрыться; пред лицом вечности оно прозреет. В этом смысл «Страшного Суда»: преступник и грешник не бессловесное животное, не вещь,— он знает справедливость Суда, он судит вместе с Судьею, он подобен Судье, и в этом осуждении сохраняет свое Богоподобие. Никак и никогда последнее не может уничтожиться, иначе уничтожится орган восприятия смысла осуждения, иначе Суд будет несправедливым.
Не все должно быть осуждено; что-то должно быть спасено и вознесено над судьбами мира, чтоб увидеть Божественный смысл осуждения. Пусть «сгорит» все его дело, ложно и тленно построенное, сам он спасется, «как бы из огня». (1 Кор. 3,15). Справедливость требует такого спасения. Того же требует бессмертие и даже вечность мук. Ибо, если самость не спасется, то все сгорит и будет мрак, и не будет самого грешника.
Правда, было бы величайшим недоразумением смешивать такое «спасение» грешника со «спасением» праведника. Это грустное «спасение» — для вечного созерцания сгорания всех своих дел; «спасение» для осуждения, но все же спасение, а не погружение в ничто, в небытие.
Есть нечто в человеке, что не может быть погружено в небытие, что не может «сгореть» ни в каком адском огне. Или иначе, есть в нем «искра Божия» (Funklein), которая не может погаснуть ни в какой тьме, есть в нем свет, который «во тьме светит и тьма не объяла его», хотя бы свет этот был предельно мал, лишь светлая точка. Все же она
Значение сердца в религии
713
есть в каждом человеке. Это его Богоподобие — его истинное бытие, зерно ценности и зерно святости.
Это и есть «свет Христов, просвещающий всякого человека, грядущего в мире». Нет таких, которые были бы всецело его лишены. В сердцах язычников он обнаруживается как голос совести. Совесть со своею ноуменальной (не эмпирической) непогрешимостью есть звучание сердечного центра, звучание подлинной самости, услышанное еще Сократом.
Здесь лежит онтологическое ядро христианской веры в человека, неразрывно связанной с верой в Бога: самость — божественно... Здесь настоящее расхождение с «язычеством», древним и современным. Христианство никогда не скажет, как Аристотель: существуют рабы по природе30. Не скажет наперекор всякой видимости, всякой скептической мудрости. Здесь первоисточник кантианского учения о ноуменальном характере, о личности, как «самоцели». Наконец, всякая «гуманная» забота о человеческой личности, о ее свободе, о ее защите есть в конце концов отдаленное эхо христианского благовестия, забывшее о своем первоисточнике и искаженное порою до неузнаваемости. Достоевский в наше время с громадною силою пережил и дал услышать биение истинных глубин человеческого сердца. «Сокровенный сердца человек» есть для него центр внимания, и он всегдажив, потенциально прекрасен и потенциально безгрешен, среди греха, смерти и тьмы. Нет «Мертвых душ». Существует только кажущееся, временное засыхание и умирание бессмертного ядра человеческого духа; на самом деле: «не оживет, аще не умрет». Световой центр в душе, «в сердце» — неистребим и может вспыхнуть всеозаряющим пламенем. На этом покоится изумительная динамичность потуханий и озарений человека, составляющая постоянную тему Достоевского. В Евангелии и в христианстве вообще есть эта мысль о принципиальной безгрешности сердца, о свете Христовом, который всегда светит в самой темной душе и тьмою не может быть объят (ср. Ио. 1, 59).
«Сокровенный сердца человек» есть «нетленный, безмолвный и кроткий дух, драгоценный пред Богом» (Ап. Петр).
«Внутренний человек» хочет только добра, он «находит удовольствие в Законе Божием», он не может грешить, истинное Я не грешит — «уже не я делаю то, но живущий во мне грех» — (Ап. Павел, Рим. 7.).
В этом же смысле должно быть понято и замечательное слово Ап. Иоанна:
«Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому, что семя Его пребывает в нем и он не может грешить, потому, что рожден от Бога» (Ио. 1, 39. 5, 18).
714
Б. П. ВЫШЕСЛАВЦЕВ
Но, ведь, мы все рождены от Бога, дети единого Отца и в каждой душе есть семя Логоса — значить в каждой душе есть семя безгрешности — потенция безгрешности, хотя бы бесконечно малая, хотя бы точка, но точка абсолютного света? Как возможен вообще грех с этой точки зрения?
Он возможен из периферии, а не из центра. Истинное Я («сокровенный сердца человек») не грешит. Зло и грех есть не Я: «Не я делаю то, но живущий во мне грех») (Рим. 7, 17). Грех возникает из сопротивления материи, из сопротивления плоти, из «тела смерти». Периферия не подчиняется центру. Если центр, сердцевина, есть свет и жизнь (ибо из сердца исходит жизнь), то его крайняя противоположность есть тьма и смерть («Кто избавит меня от сего тела смерти!»). Жить «по духу» значит жить из центра, внимать «внутреннему человеку»; жить «по плоти» — значит жить на периферии, телесно, материально. Такая точка зрения как бы принимается обычным сознанием: как бы не желая допустить, что возможно злое сердце, оно называет злого человека человеком «без сердца», или с камнем вместо сердца. Сердечность делается синонимом любви, а бессердечность отождествляется с отсутствием любви.
Вся эта линия мысли достигает своего крайнего предела и выявляет свою односторонность в индийской мистике. Там истинная самость не грешит, потому что не действует, не хочет, не стремится; она есть истинное божество, от всего отрешенное. Все действия, все грехи, все зло истории для нее иллюзорно с той минуты, как она себя находит. С этой минуты она забывает обо всем и всякая ответственность для нее исчезает. В индуизме это выражено с крайней силой и здесь становится ясно, что христианство на этой точке остановиться не может, что оно должно утверждать нечто противоположное, не боясь противоречия, не боясь антиномии.
Христианская самость (сердце) не есть отрешенная самость, ни за что не ответственная; нет, это воплощенная самость, всюду присутствующая и все проницающая, и потому за все ответственная. Это как бы ось земли, одинаково присутствующая во всех глубинах — и в скрытом центре шара и на периферии. За каждое событие на периферии ответственен центр, ибо вокруг него все вращается.
В противоположность утверждению, что самость не может грешить и что самость божественна, в Евангелии выставляется утверждение, что самость есть источник греха и что самость может быть демонической. Сам Христос говорит, что все зло изнутри исходит, из сердца человеческого, оттуда «исходят злые помыслы, прелюбодеяния, любодеяния, убийства, кражи, лихоимство, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство».
Значение сердца в религии
715
(Мр. 7, 21, 23. Мф. 15, 19). Таким образом, все зло, до высшего предела гордости и богохульства, имеет своим источником внутреннего человека, сердце.
Сердце не есть только и исключительно орган Духа Святого — оно может сделать себя и органом сатаны: дьявол вложил в сердце Иуды предать Христа (Ин. 13, 2). Сатана вкладывает в сердце Анании мысль солгать Духу Святому (Деян. 5, 3). Все мы рождены от Бога, дети Божии и, вместе с тем, есть люди, которым Христос говорит: «Вы не от Бога, ваш отец дьявол», (Ин. 8, 44, 47). И в полном соответствии с этими словами своего Учителя, Ап. Иоанн утверждает, что существуют «дети Божии и дети дьявола». (Ин. 1, 3).
Сердце есть точка соприкосновения с Божеством, источник жизни и света, и между тем, оно противится Богу и Его Слову и тогда «ожесточается», «каменеет» *. Оно есть источник любви, но оно же источник ненависти. Оно есть орган веры, но оно же орган неверия: «Рече безумец в сердце своем — несть Бог», (ср. Лк. 24, 25). Сердце вовсе не есть абсолютно чистое, непогрешимое, внутреннее око, оно бывает «омраченным», «несмысленным», «нераскаянным» (Рим. 1, 21. 2, 5), «противящимся Духу Святому» (Деян. 7, 51). Даже в разговорной речи корень сердца сохраняет эту антиномичность: он означает сердечность, но от него же происходит и слово сердиться, действовать «в сердцах».
Самость сердца есть источник греха — так утверждает антитезис. Поэтому здесь должно быть отвергнуто и то объяснение возможности греха, которое вытекало из противоположной точки зрения, из тезиса: источник греха есть плоть, тело, материя, не я. Нет, напротив, я сам — источник греха; я ответственен за сопротивление плоти, за искажение тела, за его неодухотворенность и непреображенность. В главе 7-й к Рим. ап. Павел выражает эту фундаментальную антиномию, эту изумительную апорию с наибольшей остротой:
«Нея делаю то, но живущий во мне грех... »
Нет, «тот же самый я» делаю то:
«Тот же самый я умом служу закону Божию, а плотью закону греха».
Вся эта глава есть изумительное описание антиномии греха и антиномии «внутреннего человека», которую мы здесь установили.
Не следует удивляться антиномичности сердца, антиномичности глубинного Я. Мы подходим здесь к некоторому пределу, где встречаем беспредельное со всеми «парадоксами бесконечности».
♦ Деян. 28,27. М. 13,15. Мк. 6,52.8,7. 1о. 12,24. Еф. 4,18. Евр. 3,8.4,7 и мн. др.
716
Б. П. ВЫШЕСЛАВЦЕВ
Не нужно ожидать, что антиномию эту можно решить как математическую проблему, разрешить, как разрешаются парадоксы бесконечного. В сфере религиозно-предельной таких решений не существует. Это не есть сфера очевидности, сфера «предметности»; здесь должна быть открыто признана неразрешенность, хотя бы и существовало мистическое предчувствие разрешимости: «ибо мы отчасти знаем и отчасти пророчествуем... теперь видим, как бы в зерцале, как бы в гадании, тогда же — лицом к лицу». Но, если предельную, мистическую проблему нельзя здесь и теперь разрешить никакой диалектикой, то все же ее можно описать, углубить, созерцать в изумлении; ибо сокровенная мудрость предчувствуется за стеною трагического противоречия, intra murum coincidentiae oppositorum (Ник. Кузанский31).
И прежде всего необходимо увидеть с какими фундаментальными проблемами связана эта апория. Она связана с проблемой зла и с проблемой свободы. Ибо из творческого центра и его предельной глубины (Ungrund), из его бездны должно быть понято возникновение зла:
Si Deus est, unde malum?
Si conscientia est, unde peccatum?32
Как «светоносное» сердце прекрасного ангела могло избрать свободу отпадения, свободу омрачения, а не свободу служения, свободу сияния?
Все эти проблемы связаны с установленной апорией, но не тождественны ей. Чтобы понять ее сущность, мы должны поставить себе вопрос: при каких условиях этой антиномии не будет? Ее нет, если нет греха. Тогда есть только гармоническое единство всеозаряющего духовного центра. Это есть, в конце концов, антиномия греха, антиномия несовместимости греха с безгрешностью, света с тьмою, антиномия совмещения несовместимого в единой личности. В этом и состоит трагедия греха: в расколе, в раздвоении личности, в непримиримой борьбе с самим собою. И вот здесь важно прежде всего понять, что антиномия греха логически неразрешима; если бы она была, разрешима, то грех исчез бы в философской лаборатории, но этого не может случиться: трагизм греха разрешается другими путями. Он должен остаться, как явное и неразрешенное логическое противоречие, в этом его сущность. Грех есть раздвоение души, раздвоение я, раздвоение сердца; грешник есть двоедушный человек, vir duplex animo (Ja. 4, 8. Ja. 1, 8) или двое- сердечный — человек с раздвоенным сердцем (Сир. 1, 28).
Единство личности нарушается, в человеке образуется как бы двойное я, двойная воля: «не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю» (Ап. Павел).
Значение сердца в религии
717
«Video meliora, proboque, Détériora sequor» (Овидий)'13.
«Zwei Sehlen wohnen, ach in meiner Brust, Die eine will sich von der andren trennen!»34
Двойное я Гете превращается, в конце концов, в Фауста и Мефистофеля, ибо Мефистофель есть двойник Фауста, как черт Ивана Карамазова есть двойник Ивана Карамазова. Достоевский глубже всего проник в бездну сердца и бездну греха, и он же глубже всего показал пределы раздвоения личности в образах Ставрогина и Ивана Карамазова. Трагедия этого раздвоения состоит в том, что оно все же не может состояться: это есть разрывание живого единства. При этом одно Я сознает свою истинность, онтологическую подлинность, светонос- ность, и, однако, не может уничтожить другое, темное, неподлинное, демоническое я. Еще более глубокий трагизм, когда человек теряет сознание того, где подлинное, и где неподлинное Я; когда он теряет способность выбора между двумя я, когда он забывает, где он сам, и где его двойник (Ставрогин). Но предел трагизма это полное исчезновение подлинного я и воцарение в душе демонического центра. У Достоевского есть только одна такая личность, в которой это осуществлено последовательно и до конца: это Петр Верховенский. Свидригайлов еще сознает свою неподлинность, меоничность *. Впрочем здесь сейчас же выступает основная апория: диктатура зла может и не может до конца осуществиться в душе. Не существует зла, осуществленного «последовательно и до конца», ибо зло имеет своим пределом — ничто. Исследование значения сердца в религии приводит, таким образом, к проблеме греха, к антиномии зла. Разрешение этой антиномии приводит нас к проблемам искупления, спасения, воскресения. «Аз есмь путь, истина и жизнь»36 — таково единственно возможное для христианина разрешение. И оно уводит за пределы настоящей темы.
Л. ШЕСТОВ
Гефсиманская ночь (Философия Паскаля) (Из книги «На весах Иова» * (Странствования по душам))
Jésus sera en agonie jusqu’à la fin du monde: il ne faut pas dormir pendant ce temps-là.
Pascal. Le mystère de Jésus (553) **
I
Триста лет прошло со дня рождения Паскаля и немного меньше со дня его смерти: он ведь жил недолго — всего тридцать девять лет.
За триста лет люди далеко ушли вперед: чему можем мы научиться у человека семнадцатого столетия? Не мы у него — он у нас должен был бы учиться, если б его можно было вернуть к жизни. Тем более, что и среди современников своих Паскаль был «отсталым»: его влекло не вперед, вместе со всеми людьми, к «лучшему» будущему — а назад, в глубь прошлого. Подобно Юлиану Отступнику1, и он хотел повернуть обратно « колесо времени ». И он был, в самом деле был, отступником: отступился, отрекся от всего, что добыло совокупными усилиями человечество за те два блестящих века своего существования, которые благодарное потомство окрестило именем «возрождения». Все обновлялось, все видело в обновлении свое историческое назначение. Паскаль же больше всего боялся нового. Все усилия его тревожной, беспокойной и вместе с тем столь глубокой и сосредоточенной мысли были направлены к тому, чтоб не дать себя увлечь потоку истории.
* Первая публикация — Изд-во «Современныезаписки», Париж, 1929. Печатается по изданию: YMCA-PRESS, Париж, 1975.
«Преодоление самоочевидностей» было опубликовано в журнале «Современные записки» (№ 8,1921 г., № 9,1922 г.). «Дерзновения и покорности» было опубликовано в журнале «Современные записки» (№ 13,1922 г., № 15,1923 г.). «Сыновья и пасынки времени» было опубликовано в журнале «Современные записки» (№ 25,1925 г.). «Гефсиманская ночь» было опубликовано в журнале «Современные записки» (№ 19,1924 г.). «Неистовые речи» было опубликовано в журнале «Версты» (1926 г.). «Что такое истина?» было опубликовано в журнале «Современные записки» (№ 30,1927 г.).
** Иисус будет в смертельным муках до конца мира: не должно спать в это время (фр.) — Паскаль, «Тайна Иисуса» (из «Мыслей»).
Гефсиманская ночь (Философия Паскаля)
719
Можно бороться, имеет ли смысл бороться с историей? Может представлять для нас интерес человек, пытающийся заставить время пойти вспять? Не осужден ли он, а вместе с ним и все его дело, на неуспех и неудачу, на бесплодность?
Двух ответов на этот вопрос быть не может. История беспощадно расправляется с отступниками. И Паскаль не избег общей участи его врагов. Правда, его печатают, читают до настоящего времени. Его даже хвалят, превозносят. Пред его образом горит неугасимая лампада — и будет гореть еще долго, очень долго. Но слушать его — никто не слушает. Слушают других: тех, с кем он боролся, кого он ненавидел. И у других ищут истины, которой Паскаль отдал всю свою жизнь. Отцом новой философии мы считаем не Паскаля, а Декарта. И истину мы принимаем не от Паскаля, а от Декарта, ибо где же искать истину, как не у философии? Таков приговор истории: Паскалю удивляются и проходят мимо него. И на приговор этот апеллировать не к кому.
Что ответил бы на приговор истории Паскаль, если бы его можно было воззвать к жизни? Скажут, что это вопрос праздный. История считается не с мертвыми, а с живыми. Знаю. Но все же полагаю, что на этот раз, ради Паскаля, не грех заставить ее посчитаться и с мертвыми. Правда, дело это очень нелегкое и очень хлопотливое. Правда, истории придется тогда придумать для себя новую философию — гегелевская философия истории, которой придерживаются даже те, кто Гегеля не принимает, которой придерживались люди за много столетий до Гегеля, тогда окажется непригодной. Но разве это уже так страшно, что придется похлопотать? И разве уже так необходимо во что бы то ни стало отстаивать Гегеля? До сих пор историю писали, исходя из предположения (никем никогда не проверенного), что однажды умершие люди уже окончательно не существуют и, стало быть, не могут защищаться от суда потомства, не могут влиять на жизнь. Но, быть может, наступит время, когда и историки будут чувствовать влияние прежде живших таких же людей, как и они сами, и в своих приговорах станут более опасливыми и осмотрительными. Сейчас нам кажется, сейчас мы убеждены, что покойники молчат и всегда будут молчать, что бы о них ни говорили, как бы с ними ни расправлялись. Но, если эта уверенность будет у нас отнята, если мы вдруг почувствуем, что покойник каждую минуту может ожить, выйти из своей могилы, ворваться в нашу жизнь и стать пред нами, как равный пред равными,— каким языком заговорим мы тогда?
А ведь необходимо признаться, что такое возможно. То есть возможно, что покойники не так бессильны, не так бесправны, не так мертвы, как мы думаем. Во всяком случае, философия, которая, как нас учили, не должна высказывать суждения ни на чем не основанные, не может обеспечить историкам in sæcula sæculorum безопасность
720
Л. ШЕСТОВ
от мертвецов. В анатомическом театре можно, по-видимому, спокойно вскрывать трупы. Но история — не анатомический театр. И вполне допустимо, что историкам придется когда-нибудь еще держать ответ пред покойниками. Стало быть, если они боятся ответственности и не хотят сами превратиться из судей в подсудимых, им нужно, бросив Гегеля, отыскать новые методы подхода к прошлому.
Не берусь сказать, подчинился ли бы император Юлиан приговору истории. Но Паскаль, еще когда жил на земле, заготовил свой ответ и прошлым и будущим поколениям. Вот он:
“Vous-mêmes êtes corruptibles. Il est meilleur d’obéir à Dieu qu’aux hommes. J’ai craint que je n’eusse mal écrit, me voyant condamné, mais l’exemple de tant de pieux écrits me fait croire au contraire” (920) *.
И наконец: “Si mes lettres sont condamnées à Rome, ce que j’y condamne est condamné dans le ciel. Ad tuum. Domine Jesu, tribunal appello” (920)**.
Так ответил Паскаль, когда жил на земле, грозному для него Риму. Так ответил бы, нужно полагать, он и на суд истории. Еще в “Lettres Provinciales”* (17-ое письмо) он решительно заявил: “Je n’espére rien du monde, je n’en appréhende rien, je n’en veux rien, je n’ai besoin, par la grâce de Dieu, ni du bien, ni de l’autorité de personne”***.
Человек, который ничего не ждет от мира, который ничего не боится, который не нуждается ни в благах мира, ни в чьей-либо поддержке, разве вы запугаете его приговорами, разве вы принудите его отказаться от себя какими бы то ни было угрозами? И разве история является для него последней судебной инстанцией?
Ad tuum, Domine, tribunal appello.
Я думаю, что в этих словах разгадка философии Паскаля. Последним судьей во всех спорах являются не люди, а Тот, Кто над людьми. И, стало быть, для того, чтобы отыскать истину, нужно быть свободным от того, что люди обычно считают истиной.
Долгое время держалась легенда, что Паскаль был картезианцем. Теперь все убедились, что это была ошибка. Паскаль не только никогда не был последователем Декарта — наоборот, Декарт воплощал * Вы сами подкупны. Лучше повиноваться Богу, чем людям. Видя, что меня осуждают, я боялся, не дурно ли я написал, но пример стольких благочестивых писаний заставляет меня верить противному (фр.).
** Рим осудил мои писания, я же в них осуждаю то, что осуждено на небе. К твоему суду взываю, Господи Иисусе! (фр., лат.).
*** От мира я ничего не жду, ничего не опасаюсь, ничего не желаю; по милости Божией, я не нуждаюсь ни в чьем благодеянии или покровительстве (фр.).
Гефсиманская ночь (Философия Паскаля)
721
в себе все то, с чем Паскаль боролся. Он это открыто и говорит в своих Pensées. “Ecrire contre ceux qui approfondissent trop les sciences, Descartes” (76) *. И еще: “Descartes inutile et incertain” (78) **. И, наконец, уже совсем определенно, с мотивировкою суждения: “Je ne puis pardonner à Descartes; il aurait bien voulu, dans toute sa philosophie, pouvoir se passer de Dieu; mais il n’a pas su s’empêcher de lui faire donner une chiquenaude, pour mettre le monde en mouvement; après cela, il n’a plus que faire de Dieu” (77) ***.
Совершенно очевидно, что «не могу простить» относится не только к Декарту, но и ко всей прошлой философии, на которой Декарт воспитался, и всей будущей философии, которую Декарт воспитал. Ибо чем другим была философия, как не уверенностью, что мир «естественно объясним», что человек может se passer de Dieux**** (пелагианцы формулировали — homo emancipatus a Deo*****), и в чем была сущность Рима, как не такой же уверенностью,— раз Паскалю пришлось против него апеллировать к Богу?
Паскаль это очень рано почувствовал — и все последние годы его жизни были непрерывной мучительной борьбой против мира и Рима, которые стремились эмансипироваться от Бога. Отсюда столь загадочная парадоксальность его философии, его понимания жизни. То, что успокаивает обычно людей, будит в нем величайшую тревогу, и, наоборот, то, чего люди больше всего боятся, рождает в нем великие надежды. И чем дольше живет он, тем больше укрепляется в нем такое отношение к жизни. Соответственно этому он становится все более чуждым и страшным для людей. Никто не спорит: Паскаль великий, гениальный, вдохновенный человек, каждая строчка его писаний свидетельствует о том, но и каждая строчка в отдельности и все его сочинения вместе взятые — они не нужны, они враждебны людям. Они ничего не дают, они все отнимают. Людям нужно «положительное», людям нужно разрешающее, успокаивающее. Чего могут ждать они от Паскаля, который в порыве мрачного вдохновения провозгласил или «возопил»: “Jésus sera en agonie jusqu’à la fin du monde: il ne faut pas dormir pendant ce temps-là” (553)1’*.
* Писать против тех, кто слишком углубляется в науки. Декарт (фр.).
** Декарт, ненужный и ненадежный (фр.).
*** Не могу простить Декарту; он очень хотел бы во всей своей философии суметь обойтись без Бога; но он не смог избежать того, чтобы заставить Бога дать щелчок и привести мир в движение; после этого ему с Богом делать нечего (фр.).
**** Обойтись без Бога (фр.).
***** Человек, свободный от Бога (лат.).
6* Иисус будет в смертельным муках до конца мира: не должно спать в это время (фр.) — Паскаль, «Тайна Иисуса» (из «Мыслей»).
722
Л. ШЕСТОВ
II
Смертные муки Иисуса Христа будут длиться до скончания мира — а потому все это время нельзя спать! Сказать такое можно, сказать все можно — но может ли человек поставить себе и выполнить такое задание, и, стало быть, имеют ли эти слова хоть какой-нибудь смысл? Паскаль, как шекспировский Макбет, хочет «зарезать сон» 2, хуже — он, по-видимому, требует, чтобы все люди приняли участие в этом страшном деле...
Человеческий разум, без колебаний, заявляет, что требование Паскаля невыполнимо и бессмысленно. А разуму не повиноваться нельзя. Сам Паскаль учит нас: “la raison nous commande plus impérieusement qu’un maître; car en désobéissant à l’un on est malheureux et en désobéissant a l’autre on est un sot” (345)*. Как же отказать в повиновении разуму? И кто решится на это? Ап. Петр, когда Христос молил его побыть с Ним и облегчить Его муки, не в силах был преодолеть сон: ап. Петр спал в то время, когда Он молил — да минет меня чаша сия, когда Он взывал tristis est usque ad mortem anima mea**. Ап. Петр, когда воины схватили Его и повели к безжалостным палачам, все продолжал еще спать: ведь только во сне мог человек за одну ночь трижды отречься от Бога. И все-таки Он, который знал, что Петр будет спать и во сне отречется от Бога, провозгласил его своим наместником на земле и Сам вручил ему земные ключи от небесного царства. Стало быть, по неисповедимому решению Творца, наместником Бога на земле может быть только тот, кто умеет так крепко спать, кто так вверился разуму, что не пробуждается даже и тогда, когда в кошмарном сновидении отрекается от Бога.
Похоже, что так именно и обстояло дело. И что Паскаль так думал и тогда, когда писал свои “Lettres Provinciales” 3, и тогда, когда составлял свои заметки для «Апологии христианства»,— они же и сохранились для нас и печатаются под названием Pensées1. Оттого, нужно полагать, Арно, Николь и другие товарищи Паскаля по Пор-Руаялю. редактировавшие после его смерти его книгу, сочли себя обязанными так много пропустить, изменить и урезать из того, что писал Паскаль. Слишком сильно чувствовалась во всем, что сохранилось после него, эта чудовищная по человеческому разумению мысль: последний суд над нами не на земле, а на небе — а потому люди не должны спать, * Разум нам повелевает более властно, чем любой хозяин. Ведь не повинуясь второму, мы несчастны, не повинуясь первому, мы — глупцы (фр.).
** Душа моя скорбит смертельно (лат.).
Гефсиманская ночь (Философия Паскаля)
723
никто никогда не должен спать. Ни Арно, ни Николь, ни даже сам Янсениус, если бы он еще был в живых, не вынесли бы такой мысли. Она и для Паскаля, по-видимому, была непосильным бременем. Он сам то отвергал ее, то принимал — но отбросить совсем никогда не мог. Если вы обратитесь к бл. Августину, вы убедитесь, что, несмотря на свое благоговение перед ап. Павлом, он тоже не решался верить непосредственно Богу. Ведь это он говорил и много и часто повторял: “ego vero evangelio non crederem, nisi me catholicæ (ecclesiæ) commeveret auctoritas” *. Человек не может, не смеет глядеть на мир «своими» глазами. Человеку нужны «общие» глаза — поддержка, авторитет близких. Человеку легче принять то, что ему чуждо, даже ненавистно, но что принимается всеми, чем то, что ему близко и дорого, но всеми отвергается. Бл. Августин, как известно, и был отцом fides implicita**5, т. е. того учения, в силу которого человеку нет надобности самому приобщаться к истине Неба, что для него достаточно придерживаться тех принципов, которые возвещены Церковью как истины. Если fides implicita перевести на философский язык или — что все равно — на язык обыкновенного здравого смысла, это будет значить, что человек вправе, что человек обязан спать, когда Божество исходит кровью: того повелительно требует разум — ослушаться которого никто не смеет. Иначе говоря: за известными пределами человеческая пытливость становится неуместной. Аристотель формулировал это в прославившихся словах: ничего не принимать без доказательств есть признак философской невоспитанности.
И точно, только философски невоспитанный человек или человек, лишенный здравого смысла, проявляет готовность спрашивать и искать до бесконечности. Ведь совершенно очевидно, что если так спрашивать, то никогда до последнего ответа не доберешься. А так как — и это тоже совершенно очевидно — спрашивают лишь затем, чтобы получить ответ, то, стало быть, нужно уметь вовремя остановиться, отказаться от вопросов. Нужно быть заранее готовым в тот или иной момент отречься от права спрашивать и подчинить свою явно ни для чего не нужную, опасную индивидуальную свободу какому-нибудь лицу, учреждению или незыблемому принципу. В этом отношении, как и во многих других отношениях, бл. Августин остался верным заветам эллинской философии. Он только на место общего принципа или общих принципов, совокупность которых древние именовали разумом, поставил идею Церкви, так же с его точки зрения * Я бы не верил Евангелию, если бы меня не побуждал к этому авторитет Церкви (лат.).
** Вера внедренная (лат.).
724
Л. ШЕСТОВ
непогрешимой, как с точки зрения древних был непогрешим разум. Но теоретическое и практическое значение идеи Церкви и идеи разума по существу было то же. Разум обеспечивал древним ту прочность и уверенность — «право на сон», которое средневековье находило в католической Церкви. «Исторически» значение бл. Августина в значительной степени определялось его готовностью и умением создать для людей уже здесь, на земле (о небе ведь мало думают; даже верующие люди, в гораздо большей степени, чем то кажется на первый взгляд, ценят землю), устои, которые бы были или представлялись настолько прочными, что и врата адовы их не могли бы одолеть. Бл. Августин никогда бы не повторил вслед за Паскалем ad tuum, Domine, tribunal appello6, и Пор-Руаяль, мы знаем, опустил эту фразу. Пор-Руаяль много-много решился бы апеллировать на решение Рима к будущему Вселенскому Собору. Апеллировать же к Богу не значило ли покушаться на «единство» Церкви? Ведь так было с Лютером. Когда он, как Паскаль, вдруг увидел своими глазами, что земные ключи от царства Небесного находятся в руках того, кто трижды отрекся от Бога, и когда он, в ужасе пред сделанным открытием, отвел свои глаза от земли и стал искать правды на небе — это кончилось совершенным разрывом с Церковью.
Лютер, как и янсенисты, как и Паскаль, всегда ссылались на бл. Августина. Но в своих ссылках они были не совсем правы. Августин боролся с Пелагием и добился его осуждения. Когда же выяснилось, что Церковь, как и все учреждения, не может существовать без эллинской морали, которую проповедовал Пелагий, сам бл. Августин встал на защиту положений, которые он прежде так вдохновенно оспаривал. Так что, апеллируя к суду Господа, Паскаль ушел много дальше, чем то было нужно его друзьям из Пор-Руаяля. Как я сказал уже, настоящий Паскаль, такой, каким он обнаруживается сейчас пред нами, для янсенистов, пожалуй, был страшнее, чем иезуиты и даже сам Пелагий. И ведь точно, человек, который ничего не ждет от мира, которому ничего не нужно, который ничего не боится, которому не импонирует никакой авторитет, который думает, ни с чем не считаясь и ни с чем не соображаясь,— до чего только такой человек не додумается? Сейчас к Паскалю привыкли. С детских лет все читают, даже заучивают наизусть отрывки из его Pensées. Кто не знает его roseau pensant (347)*, кто не слыхал его “on jette enfin de la terre sur la tête, et en voilà pour jamais” (210)**, кто не «восхищался» остроумием его парадокса о всемирной истории * Мыслящий тростник (фр.).
** А потом набросают земли на голову, и — конец навеки (фр.).
Гефсиманская ночь (Философия Паскаля)
725
и носе Клеопатры7 и т. д., точно все это были бы безобидные, тонкие и веселые наблюдения, после которых можно так же спокойно жить, так же спокойно спать, как и после всякого занимательного чтения. Все прощается «возвышенному мизантропу», и эта беспечность наша, нужно думать, позволила «умной» истории сохранить нам произведения Паскаля, хотя они совершенно не соответствуют поставляемым ею себе высоким задачам. История «знает», что то, что людям не полагается видеть,— они и не увидят, хоть и показать им. Сам Паскаль это говорит с той откровенностью, которая свойственна человеку, ничего не боящемуся и ничего от мира не ожидающему. “Le monde juge bien des choses car il est dans l’ignorance naturelle, qui est la vraie sagesse de l’homme” (327)*. И против этого естественного невежества, которое является истинной мудростью на земле, по-видимому, у нас нет никаких средств бороться. “Ce n’est point ici le pays de la vérité: elle erre inconnue parmi les hommes” (843)**. Пусть сегодня истина, обнаженная от всех покровов, предстанет пред человеком: он ее не узнает, ибо по тем «критериям» истины, т.е. по совокупности тех признаков, которые, по нашим убеждениям, отличают ложь от истины, он будет принужден признать ее ложью. И, прежде всего, он убедится, что она не только не полезна, но вредна людям. Почти все истины, которые стал открывать Паскаль после того, как ему пришлось апеллировать от суда мира и Рима к суду Господа и после того, как он услышал на этом суде, что человек до конца мира не должен спать, оказываются вредными, опасными, неслыханно страшными и разрушительными. Оттого-то, скажу еще раз, Пор-Руаяль и подверг их такой строгой цензуре. Пор-Руаяль, и даже сам неистовый Арно, был убежден, что истины должны быть полезными, а не вредными. Если хотите, и сам Паскаль был в этом убежден. Но Паскаль не дорожил своими убеждениями, как не дорожил ничем почти («почти» — увы! — не щадит даже Паскаля), чем дорожат люди. И эта его готовность жертвовать своими и чужими человеческими убеждениями, быть может, одна из наиболее загадочных черт его философии, о которой, к слову сказать, мы, вероятно, ничего не узнали бы, если бы ему было дано довести до конца свой труд и если бы, вместо беспорядочных заметок, из которых состоят его Pensées, у нас была бы задуманная им книга «Апология христианства». Ведь «апология» должна была бы защищать Бога пред людьми, стало быть, признать последней инстанцией — человеческий разум, и Паскаль * Мир оценивает вещи правильно, ибо он находится в состоянии естественного невежества, а это и есть подлинная человеческая мудрость (фр.).
** Нет, не здесь страна истины: она блуждает среди людей неузнанной (фр.).
726
Л. ШЕСТОВ
в законченной книге мог бы высказывать только то, что приемлемо для людей и их разума. Даже в отрывочных Pensées Паскаль нет-нет да и вспомнит о державных правах разума и спешит тогда изъявить пред ним свои верноподданнические чувства: боится прослыть пред ближними и самим собой глупцом. Но эта покорность у него только внешняя. В глубине души он презирает и ненавидит этого самодержца и только и думает о том, чтобы свергнуть с себя иго ненавистного тирана, которому так охотно покорялись его современники и даже сам великий Декарт. “Que j’aime à voir cette superbe raison humiliée et suppliante” (388)*. Паскаль только и думал о том, чтобы унизить наш гордый и самоуверенный разум, отнять у него власть судить Бога и людей. Все считали, выражаясь языком пелагианцев, что разуму дано издавать законы, quo nos (и не только мы — но и сам Бог) laudabiles vel vituperabiles sumus8. Паскаль пренебрегает его похвалами и равнодушен к его порицаниям. “La raison a beau crier, elle ne peut mettre le prix aux choses” (82)**.
III
Мы видим, что не только Рим, но и самый разум Паскаль привлекает к Божьему суду. Именно к Божьему суду, а не к суду разума, как это делали до Паскаля (это делается и теперь) другие философы, которых Паскаль знал — а знал он, правда, очень немногих. Паскаль не был ведь эрудитом — все свои историко-философские сведения он черпал, как известно, главным образом из Монтэня. Но, как ни хвалил он Монтэня, как ни преклонялся пред ним, он отлично понимал, что от разума апеллировать к разуму — бесцельно; ибо, раз разум является последним судьей, он добровольно не выдаст себя и всегда найдет себе оправдание.
Но как понять суд Бога над разумом? В чем он состоит и что может он принести людям? Разум дает нам уверенность, несомненность, прочность, ясные и отчетливые, твердые и определенные суждения. Можно ли ждать, что мы, отрекшись от разума и свергнув его с престола, добудем еще большую прочность, еще большие несомненности? Конечно, если бы было так, все люди охотно пошли бы за Паскалем. Он был бы доступен, близок, понятен всем. Но последний суд нисколько не похож на тот суд, к которому мы привыкли на земле, и приговоры последнего суда нисколько не похожи на приговоры суда земного, так же как и истина небесная не похожа на истину земную. Истины * Как я люблю видеть этот гордый разум униженным и умоляющим (фр.).
** Разум, сколько он ни кричи, не может оценивать вещи (фр.).
Гефсиманская ночь (Философия Паскаля)
727
земные — это равно известно и ученому философу и безграмотному поденщику, ибо в этом главный и непреложный закон не только нашего мышления, но и бытия,— всегда себе равны. Сущность истины — ее прочность и неизменность. Люди так в этом убеждены, что даже иного образа истины и представить себе не могут. “On aime,— говорит Паскаль,— la sûreté. On aime que le pape soit infaillible en la foi, et que les docteurs graves le soient dans les moeurs, afin d’avoir son assurance” (880) *. Это на земле больше всего ценят, так ценить научил людей их разум — он же и поставляет людям все прочности и несомненности, с которыми можно спокойно жить и крепко спать. Потому, как мы помним, и достались земные ключи от царства Небесного ап. Петру и его преемникам, что Петр умел спать и спал, когда готовился к крестной смерти сошедший к людям Бог. Но агония Христа еще не кончилась. Она продолжается до настоящего дня, она будет продолжаться до конца мира. Спать нельзя, говорит нам Паскаль. Никто не должен спать. Никто не должен искать прочности и уверенности: “S’il ne fallait rien faire que pour le certain, on ne devrait rien faire pour la religion; car elle n’est pas certaine” (234) **. Такое может говорить человек, который поставил себе задачей не привлечь людей к «религии», а оттолкнуть их от нее. Кажется, что тут какая-то ошибка, недоразумение, что Паскаль сказал не то, что он хотел сказать. Но ошибки тут нет: в другом месте Паскаль высказывается еще сильнее, еще определеннее: “Nous brûlons du désir de trouver une assiette ferme et une dernière base constante, pour y édifier une tour qui s’élève a l’infini; mais tout notre fondement craque et la terre s’ouvre jusqu’aux abîmes. Ne cherchons donc point d’assurance et de fermeté!” (72)***. Вот что испытывает, вот что видит и слышит человек, который решился или, лучше сказать, осужден не спать до тех пор, пока не наступит конец терзаниям Христа,— а этот конец наступит только вместе с концом мира. Такие заповеди, такие истины открываются ему. И можно ли назвать то, что ему открылось, истиной? Ведь истина имеет своим основным признаком “assurance” и “fermeté”. Непрочная и нетвердая истина есть contradictio in adjecto*9, ибо как раз ложь узнается по этим признакам. Ложь никогда себе не верна: сейчас * Мы любим безопасность. Мы любим, чтобы папа был непогрешим в вере, чтобы важные доктора были непогрешимы в нравах,— мы хотим иметь уверенность (фр.).
** Если бы все следовало делать только там, где существует достоверность, не нужно было бы ничего делать для религии, потому что в религии нет достоверности (фр.).
*** Мы горим желанием найти твердую почву и последнее незыблемое основание, чтобы воздвигнуть башню, возвышающуюся до бесконечности; но основа наша раскалывается и земля разверзается до самых недр своих. Перестанем же искать надежности и прочности (фр.).
728
Л. ШЕСТОВ
она такая, потом — другая. Паскаль дошел до того, что поклонился «лжи» и отверг «истину»?
Но иначе и быть не могло, раз он так торжествовал по поводу возможности унизить разум,— мы только что ведь слышали от него: “que j’aime à voir cette superbe raison humiliée et suppliante!” (388). И он же не побоялся рекомендовать людям, как способ отыскания истины, совершенное отречение от разума в наделавших столько шума и вызвавших столько негодования словах: “cela vous fera croire et vous abêtira” (233)*. Мы знаем множество попыток смягчить значение этих слов — но ни одна из них не может быть названа удовлетворительной, и, кроме того, едва ли они нужны по существу. Мы ведь раз навсегда отказались от «исторической» оценки Паскаля. Мы не судим его. Мы не считаем, что мы больше или лучше «знаем», чем он,— и потому вправе принимать от Паскаля только то, что соответствует уровню современной нам науки. Такая надменность, такое высокомерие могли быть оправданы, пока мы еще держались Гегеля, пока мы в истории находили «развитие», т. е. пока люди прошлого были для нас подсудимыми, а мы сами, люди настоящего, были судьями, бесстрастно осуществляющими веления вечного и неизменного, не обязанного ни пред кем отчетом разума. Но ведь Паскаль не соглашается признать над собой законодательство разума. Паскаль не признает за нами права судить — он требует, чтобы мы вместе с ним предстали пред трибуналом Всевышнего. И наша самоуверенность людей, пришедших в мир позже его, нисколько его не смущает. Не смущает и то, что мы — живые, а он — мертвый. Голос его, суровый и повелительный, доходит до нас из загробного мира, где нашла себе приют его не умиротворенная на земле душа. Самые несомненные, самые прочные, самые очевидные наши истины, те veritates æternæ10 как любил говорить до Паскаля Декарт, или vérités de raison11, как выражался после Паскаля Лейбниц, а за ним — до нашего времени — и другие законные хранители наследованных от возрождения идей, ему не импонировали при жизни и, нужно думать, еще менее импонируют теперь, когда он, конечно, много более свободен и много более бесстрашен, чем был тогда, когда живой среди живых звал к суду Господа Рим, разум, людей и весь мир...
Рим и разум приказывают: стало быть, этого делать не нужно: такова «логика» Паскаля. То же было, очевидно, когда-то и с Тертуллианом12, когда он в своем De carne Christi, словно предчувствуя Паскаля, воскликнул: “Crucifixus est Dei filius; non pudet quia pudendum est. Et mortuus est Dei filius; prorsus credibile est, quia ineptum est. Et sepultus resurrexit; certum est quia impossibile est»... T.e. там, где * Это заставит вас поверить и вы поглупеете (фр.).
Гефсиманская ночь (Философия Паскаля)
729
разум говорит — постыдно, стыдиться не нужно; там, где он утверждает — бессмысленно, нужно ждать истины, и где он видит совершенную невозможность — там, и только там, последняя несомненность. Так говорил живой Тертуллиан без малого две тысячи лет тому назад. Думаете ли вы, что теперь мертвый Тертуллиан отказался от своих слов и верит, что когда разум провозглашает «стыдно» — нужно стыдиться, когда он постановляет «нелепо» — нужно отвергнуть суждение, когда он решает «невозможно» — нужно сложить руки? А Декарт и Лейбниц, вместе с их вдохновлявшим Аристотелем, и сейчас продолжают держаться своих «вечных» истин, что пред судом Господа их логика оказалась столь же неотразимой, как и пред судом людей?
Скажут, что все это крайне фантастично, что нельзя сводить к очной ставке людей, давно уже переставших существовать, что ни Паскаль с Тертуллианом, ни Декарт с Лейбницем уже нигде ничего не отстаивают, ибо все, что они могли отстоять, они должны были отстоять, когда жили на земле, и что историю никак нельзя тянуть на небо, раз она родилась на земле.
Все это, может быть, и правильно, т.е. считается сейчас верным среди людей. Но ведь мы — напомню еще раз,— вслед за Паскалем, решили перенести спор в иную инстанцию. Нас судит уже не разум с его можно, нельзя, стыдно и прочими законами и принципами. Сейчас и мы, и законы, и принципы — все на скамье подсудимых. Сейчас и мертвые и живые равноправны, и приговор не в руках людей. Может случиться, что и приговора мы не услышим: ведь Паскаль говорил нам, что не будет ни прочности, ни уверенности, не будет, пожалуй, и справедливости. Об этих земных благах нужно забыть. То, что вам здесь откроется, vous fera croire et vous abêtira... (233).
Угодно вам следовать за Паскалем, или чаша вашего терпения переполнилась, и вы предпочитаете уйти к другим учителям, более понятным и менее требовательным? От Паскаля не ждите мягкости и снисходительности. Он бесконечно жесток к себе, он так же бесконечно жесток к другим. Если вы хотите искать с ним — он вас возьмет с собой, но он вперед заявляет вам, что эти искания не принесут вам радостей: je n’approuve que ceux qui cherchent en gémissant *. Его истины, то, что он называет своими истинами, жестоки, мучительны, беспощадны. Он не несет с собою облегчения и утешения. Он всякого рода утешения губит. Достаточно человеку остановиться, чтобы отдохнуть и прийти в себя, Паскаль тут как тут со своей непрекраща- ющейся тревогой. Нельзя останавливаться, нельзя отдыхать: нужно идти, идти — без конца идти вперед. Вы устали, вы замучены — но это * Я одобряю только тех, кто ищет, стеная (фр.).
730
Л. ШЕСТОВ
то, что требуется. Нужно быть усталым, нужно быть замученным. “Il est bon d’être lassé et fatigué par l’inutile recherche du vrai bien, afin de tendre les bras au libérateur” (422)*. Сам Бог, по мнению Паскаля, того хочет. “La plus cruelle guerre que Dieu puisse faire aux hommes en cette vie est de les laisser sans cette guerre qu’il est venu apporter. “Je suis venu apporter la guerre”, dit-il, et pour instrument de cette guerre: “Je suis venu apporter le fer et le feu”. Avant lui, le monde vivait dans cette fausse paix” (498) **.
Так учит Паскаль или, я бы лучше сказал, так передает Паскаль то, что услышал на Божьем суде. От всего, что мило людям, он уходит. Люди любят прочность, он принимает неуверенность, люди любят почву — он избирает пропасть, люди больше всего ценят внутренний мир — он прославляет войну и тревогу, люди жаждут отдыха — он обещает усталость, усталость без конца, люди гонятся за ясными и отчетливыми истинами — он все карты смешивает, он все спутывает и превращает земную жизнь в страшный хаос. Чего нужно ему? Но ведь он уже сказал нам: никто не должен спать.
IV
Все это, повторяю, Паскаль услышал на суде Всевышнего. Услышал и принял беспрекословно, хотя, нужно думать, «понимал» не лучше, чем понимали те, которые впоследствии Паскаля критиковали и возмущались отсталостью его мыслей. Он казался и кажется людям изувером, фанатиком. Он и себе таким казался. И он действительно был и изувером и фанатиком. Так что если бы у нас сохранилось право судить его — то ничего бы не стоило его обвинить.
Но, как на зло или на счастье, мы только что вспомнили non pudet quia pudendum est ***, т.е. что иной раз, по крайней мере, именно тогда нельзя и не нужно стыдиться, когда все в один голос кричат: стыдно. И еще мы знаем, что Паскаль свое дело перенес на суд того Бога, который Сам добровольно принял на Себя самое постыдное из всего, что почиталось постыдным людьми. Хотим ли мы того или не хотим, но нам придется, прислушиваясь к голосу Паскаля, проверить все наши pudet, ineptum, impossibile — все наши veritates æternæ13.
* Хорошо утомиться и устать в бесполезных поисках истинного блага, чтобы протянуть руки Избавителю (фр.).
** Самой жестокой войной Бога с людьми было бы прекращение той войны с ними, которую Он принес, когда пришел в мир. «Я пришел принести войну», говорит он, а средства этой войны: «Я пришел принести меч и огонь». До него Свет жил в этом ложном мире (фр.).
*** Не стыдно, ибо устыжает (лат.).
Гефсиманская ночь (Философия Паскаля)
731
Не следует забывать, что Паскаль не так уже добровольно избрал свою судьбу. Судьба избрала его. Прославляя жестокость и беспощадность, Паскаль прославлял самого Бога, который послал ему, как некогда Иову, столь неслыханные испытания. Воспевая «бессмыслицу», он опять же воспевал Бога, который лишил его утешений разума. И даже когда он возлагал свои надежды на «невозможное» — только один Бог мог вдохновить его на такое безумие. И точно, вспомним, какая была жизнь Паскаля. Биографы его нам сообщают: “quoique depuis l’année 1647 jusqu’à sa mort, il se soit passé près de quinze ans, on peut dire néanmoins qu’il n’a vécu que fort peu de temps depuis, ses maladies et ses incommodités continuelles lui ayant à peine laissé deux ou trois ans d’intervalle, non d’une santé parfaite, car il n’en a jamais eu, mais d’une langueur plus supportable et dans laquelle il n’était pas entièrement incapable de travailler” *. Его сестра рассказывает: “depuis l’âge de 18 ans il n’avait passé un jour sans douleur” **. О том же свидетельствует и предисловие Пор- Руаяля: “ses maladies ne l’ont presque jamais laissé sans douleur pendant toute sa vie”***.
Вся эта непрерывная почти пытка, что она такое, кто ее создал? И для чего? Мы хотим думать, что так спрашивать нельзя. Никто не уготовлял пытки для Паскаля, и она ни для чего не нужна. По-нашему, тут нет и не может быть никакого вопроса. Но для Паскаля, как и для мифического Иова, как и для жившего между нами Ницше 1 ’, тут, именно тут и скрываются все вопросы, которые могут иметь значение для человека. Если мы не верим «отсталому» Паскалю и полудикому Иову, обратимся к свидетельству «передового» Ницше. Он нам расскажет: «что до моей болезни, я ей несомненно большим обязан, чем своему здоровью. Я ей обязан всей моей философией. Только великая боль — последний освободитель духа. Она учит великому подозрению, она из каждого U делает X, истинный, настоящий X, т.е. предпоследнюю букву пред последней. Только великая боль, та длинная, медленная боль, при которой мы будто сгораем на сырых дровах, только эта боль заставляет нас, философов, спуститься в последние наши глубины, и все доверчивое, добродуш* Хотя с 1647 г. до его смерти прошло почти пятнадцать лет, можно сказать, что он жил с тех пор мало времени, потому что из-за его болезней и недомоганий у него в этот промежуток времени было всего два или три года относительного здоровья. Полного здоровья у него никогда не было, но бывали промежутки некоторого улучшения, когда он бывал в состоянии работать (фр.).
** С 18-летнего возраста у него не было ни дня без боли (фр.).
*** В течение всей его жизни его недуги почти никогда не оставляли его без боли (фр.).
732
Л. ШЕСТОВ
ное, прикрывающее, мягкое, в чем, быть может, мы сами прежде полагали свою человечность, отбросить от себя». Паскаль мог бы буквально повторить эти слова Ницше, и с равным правом. Да он это и говорит в своей удивительной “Prière pour demander à Dieu le bon usage des maladies” (Op. I, 3)*. «Верующий» Паскаль и «неверующий» Ницше, Паскаль, устремивший все помыслы свои назад, к средневековью, и Ницше, весь живший в будущем, в своих свидетельских показаниях совершенно сходятся. И не только в своих показаниях они так близки друг к другу. Их «философии» для того, кто готов отвлечься от слов и под непохожими облачениями умеет разглядеть тождественную сущность, представляются почти совпадающими в самом главном. Нужно только помнить то, что люди охотнее всего забывают и что с такой силой когда-то выразил монах Лютер в своем комментарии к Посланию к Римлянам, написанном им задолго до разрыва с Церковью: “Blasphemiæ... aliquando gratiores sonant in aure Dei quam ipsum Alleluja vel quæcumque laudis jubilatio. Quanto enim horribilior et fedior est blasphemia, tanto est Deo gratior” **. Сличая horribiles blasphemiæ *** Ницше и laudis jubilationes **** Паскаля, столь разные и столь безразличные для уха современного человека и столь близкие и ценные для Бога, если верить Лютеру, начинаешь думать, что на этот раз «умная» история была обойдена. И что, вопреки всем ее приговорам, убитый ею Паскаль воскрес через два столетия в Ницше. Или все же история добилась своего? Ницше обречен на судьбу Паскаля? И ему все удивляются, но никто его не слышит? Может быть, даже вернее всего, что так. Ведь и Ницше апеллировал от разума — к случайному, к капризному, к неверному, от «синтетических суждений a priori» Канта к «Воле к власти». И он «учил» — поп pudet quia pudendum est, он это перевел словами: «по ту сторону добра и зла». И он радовался «бессмысленному» и искал несомненности там, где все видели невозможность Аббат Буало, между прочим, рассказывает о Паскале: “ce grand esprit croyait toujours voir un abîme à son côté gauche, et y faisait mettre une chaise pour se rassurer: je sais l’histoire d’original. Ses amis, son confesseur, son directeur avaient beau lui dire qu’il n’y avait rien à craindre, que ce n’étaient que les alarmes d’une imagination épuisée par une étude abstraite et métaphysique; * Молитва с просьбой обратить во благо болезни (фр.).
** Богохульство... иной раз приятнее звучит в ушах Господа, чем само Алилуйя, либо какая угодно божественная хвала. И чем страшнее и отвратительнее богохульство — тем приятнее Господу (лат.).
*** Ужасные богохульства (лат.).
**** Ликующие восхваления (лат.).
Гефсиманская ночь (Философия Паскаля)
733
il convenait de tout cela avec eux, et un quart d’heure après il se creusait de nouveau le précipice qui l’effrayait”*15.
Нет возможности проверить, насколько рассказ аббата соответствует действительности. Но, если судить по сочинениям Паскаля, нужно думать, что аббат рассказывал правду. Все, что писал Паскаль, говорит нам о том, что вместо прочной почвы под собой он всегда видел и чувствовал пропасть (и тут судьба Паскаля так странно напоминает судьбу Ницше!). В этом рассказе можно усмотреть только одну неточность: пропасть была, по-видимому, не по левую руку Паскаля, а под его ногами. Все остальное правдиво рассказано или угадано. Даже верно, по-видимому, что Паскаль закрывался от пропасти стулом. “Nous courrons sans souci,— это уже рассказывает не аббат, а Паскаль сам,— dans le précipice après que nous avons mis quelque chose devant nous pour nous empêcher de le voir” (183) **. Так что если рассказ аббата — выдумка, то это выдумка ясновидящего, умевшего разглядывать в темноте, в которой для других все сливается в одну серую безразличность.
Как нельзя сомневаться в том, что Паскаль за всю свою жизнь не провел ни одного дня без мучительных болей и почти не знал сна (то же было у Ницше), так нельзя сомневаться, что вместо твердой почвы под ногами, которую ощущают все люди, он чувствовал, что стоит над пропастью, что опереться не на что, что если отдаться «естественному» тяготению к центру, то провалишься в бездонную глубину. Об этом, и только об этом, рассказывают нам все его «мысли». Оттуда и его «страхи», такие необычные, неожиданные, ни на чем не основанные,— его “le silence éternel de ces espaces infinis m’effraie” (206)*** и т.п., с которыми не могли справиться ни его друзья, ни его духовник.
Его «действительность» совершенно не похожа на действительность всех людей. Все люди обычно чувствуют себя хорошо и испытывают очень редко мучительную боль и тревогу и совсем даже не допускают возможности беспричинных страхов. У всех людей под ногами всегда прочная почва, и о провалах они знают либо понаслышке, либо если * Этот великий ум, казалось, всегда видел бездну с левой стороны и для спокойствия ставил там стул; я знаю это доподлинно. Его друзья, его исповедник и духовник напрасно говорили ему, что бояться нечего, что эта тревога всего лишь плод воображения, утомленного абстрактными метафизическими изысканиями; он во всем соглашался с ними, но, четверть часа спустя, снова открывалась перед ним пропасть, которая его ужасала (фр.).
** Мы беззаботно бежим к пропасти, поместив перед собой что-нибудь мешающее ее видеть (фр.).
*** Вечное молчание этих бесконечных пространств ужасает меня (фр.).
734
Л. ШЕСТОВ
и по собственному, то очень кратковременному и потому не сохраняющемуся в памяти опыту.
Но разве действительность перестает быть действительной, раз она необычна? И разве мы вправе отвергать те условия бытия, которые редко встречаются? Люди практики естественно не интересуются исключениями — им важно только правило, правильное, постоянно повторяющееся. Но философия — у нее ведь другие задачи. Если бы внезапно с луны или с иной планеты свалился бы человек, который бы захотел и сумел рассказать нам, как живут непохожие на нас существа в иных мирах,— он был бы для нас драгоценнейшей находкой. Паскаль, как и Ницше, как и еще многие, о которых здесь я говорить не могу, ведь и есть те люди из иного мира, о которых мечтает философия. Из мира, так не похожего на наш мир, где то, что для нас является правилом, бывает лишь как исключение и где постоянно бывает то, что у нас почти никогда или даже совсем никогда не встречается. У нас никогда не бывает, чтоб люди ходили над бездной. У нас ходят по земле. Потому основной закон нашего мира — закон тяготения: все стремится к центру. Никогда не бывает у нас, чтобы человек жил в непрерывной пытке. У нас вообще трудности чередуются с легкостями, и за напряжением следует покой и отдохновения. А там — нет легкости, одни трудности, нет и покоя и отдыха — вечная тревога, нет сна — постоянное бдение. Можем ли мы рассчитывать, чтобы там были те истины, которые мы привыкли здесь чтить? Не говорит ли все за то, что наши истины там почитаются ложью, и то, что здесь отвергается, там представляется высшим достижением. Здесь последний суд — суд Рима, здесь последние критерии — критерии разума. Там единственный судья тот, к которому воззвал Паскаль — ad te, Domine, appello. Ne cherchons donc pas l’assurance et la fenneté! (920 и 72)*.
V
Впервые Паскаль столкнулся с Римом в “Lettres Provinciales”. Кажется, что уже в этих письмах Паскаль выступил на защиту своего дела. Они же — эти письма — и доставили Паскалю известность. Но едва ли это так. В этих письмах Паскаль выступает на защиту Пор-Руаяля — Янсениуса, Арно, Николь, и на защиту «общего» дела. И оттого, конечно, его Lettres имели такое огромное историческое значение — многие и сейчас видят в них важнейшую заслугу Паскаля. На борьбу с иезуитами Паскаль выходит во всеоружии разумных и нравственных доводов. Т. е. и над собой, и над Римом он * К Тебе, Господи, взываю (лат.). Не станем же искать уверенности и прочности (фр.).
Гефсиманская ночь (Философия Паскаля)
735
признает общечеловеческие инстанции — разум и мораль. Хотя, как мы помним, у него уже в одном из последних писем вырвалось признание, что ему ничего не нужно и он никого не боится, но не этим он побивает своих врагов. В Provinciales ни Пор-Руаяль, ни кто другой, даже самый проницательный человек, не мог бы распознать грозного ad te, Domine Jesu, appello, которое вдохновило его Pensées. Наоборот, в своих Lettres Паскаль, как Арно, Николь и др., одним только и озабочен: говорить то, что semper ubique et ab omnibus creditum est16. Вся его сила в том, что он чувствует за собой — основательно или ложно — не проблематическую поддержку Бога, которого никто не видел и до которого так далеко,— а реальное содействие всех разумно и правильно мыслящих людей. Все понимают, что grâce suffisante qui ne suffit pas* — вопиющая и смешная бессмыслица.
Впоследствии, когда он писал свои Pensées, он убедился, что ему на поддержку «всех» рассчитывать не приходится. Что semper, ubique et ab omnibus не лучше, чем grâce suffisante, qui ne suffit pas. Он говорит: “nous sommes si présomptueux, que nous voudrions être connus de toute la terre, et même des gens qui viendront quand nous ne serons plus; et nous sommes si vains que l’estime de cinq ou six personnes qui nous environnent, nous amuse et nous contente” (148)**. И не думайте, что в данном случае это “nous” сказано только для приличия, что под “nous” Паскаль разумеет «их», т. е. других, а не себя. Нет, он именно разумеет себя. Ему самому, когда он писал “Lettres Provinciales”, было достаточно одобрения пяти, шести близких к нему лиц, чтобы испытать такое чувство, как будто весь мир его одобряет, все люди, сейчас живущие и еще имеющие народиться. Если вы в этом сомневаетесь, прочтите другой отрывок, где мысль выражена с полной откровенностью, и догадки уже совсем не нужны: “La vanité est si ancrée dans le cœur de l’homme, qu’un soldat, un goujat, un cuisinier, un crocheteur se vante et veut avoir ses admirateurs; et les philosophes mêmes en veulent; et ceux qui écrivent contre veulent avoir gloire d’avoir bien écrit; et ceux qui le lisent veulent avoir gloire de l’avoir lu; et moi qui écris ceci, ai peut-être cette envie” (150)... *** Тут уже все совершенно ясно * Достаточная благодать, которая недостаточна (фр.).
** Мы до того тщеславны, что хотели бы быть известными всему миру и даже последующим поколениям; суетность так сильна в нас, что уважение пяти-шести окружающих лиц нам льстит и доставляет нам удовольствие (фр.).
*** Суетность так укоренилась в сердце человека, что и солдат, и грубиян, и повар, и носильщик похваляются и хотят иметь своих поклонников; даже философы хотят этого; и те, кто оспаривает их, хотят иметь славу хороших писателей; и те, кто это читает, хотят похваляться тем, что прочли; и я, пишущий это, желаю, может быть, того же (фр.).
736
Л. ШЕСТОВ
и бесспорно: человек говорит, пишет и даже думает не затем, чтобы узнать и найти истину. До истины в этом нашем мире нет никому дела. Вместо истины нужны суждения, которые полезны или приходятся по вкусу возможно большему числу людей. Именно возможно большему числу людей, так что если нельзя говорить urbi et orbi17, если нельзя, чтоб Рим и весь мир слушали и принимали тебя, то достаточно пяти или шести человек — Пор-Руаяля для Паскаля, глухой деревушки для Цезаря,— и иллюзия semper ubique et ab omnibus готова, и мы считаем себя обладателями «великой» истины.
В “Provinciales” о «пропасти» нет ни одного слова. Здесь все усилия Паскаля направлены к тому, чтобы переманить разум и мораль на свою сторону и на сторону своих друзей из Пор-Руаяля. “Provinciales” стоят, в общем, вполне на уровне современного Паскалю знания, и историки оценивают эти письма как явление в высшей степени прогрессивное. В них, повторяю, нет и следа «пропасти» и еще меньше попытки поставить на место разума своеволие какого- то фантастического существа.
Оттого, собственно говоря, в “Provinciales” еще нет самого Паскаля и его главной «идеи». Полемизируя с иезуитами, он о себе ничего не рассказывает, он только обличает смешные или возмутительные положения своих противников или, лучше сказать, врагов Пор- Руаяля. Он зовет иезуитов на суд здравого смысла и морали, и, если они перед этим судом оправдаться не могут, значит — они виноваты и должны умолкнуть. О том, что можно на таком суде услышать обвинительный приговор и быть все же правым — Паскаль ничего не говорит. Молчит он тоже и о «спасении верой», о том своем загадочном понимании «благодати», при котором приходится отречься от всего, что люди считали и считают разумным и справедливым. Все это откладывается до будущего сочинения — до той «апологии христианства», которая, если бы ей суждено было быть доведенной до конца, оказалась бы еще менее соответствующей своей задаче, чем сохранившиеся Pensées. Когда Паскаль записывал свои Pensées, он забывал, что люди на земле думают, должны думать только для других. Но в апологии этого забывать нельзя. Смысл апологии в том, чтобы добиться «всеобщего» признания, если не действительного, то хотя бы воображаемого, если не «всего мира», то, как Паскаль нам сказал, хотя бы пяти, шести человек из ближайших друзей. На такое, хотя бы ограниченное, признание большая часть его Pensées не вправе была рассчитывать. Мы знаем, что даже Пор-Руаяль подверг «мысли Паскаля» строжайшей цензуре — не мог вынести его новых истин. И точно: ведь апологию может написать человек, у которого под ногами не пропасть, а твердая почва, который может оправдать
Гефсиманская ночь (Философия Паскаля)
737
Бога пред Римом и миром, а не такой, который и мир и Рим зовет на суд Бога.
Поэтому предлагаемое Паскалем в Pensées толкование библейского откровения не годилось не только для Рима, диктовавшего законы если не всему миру — то чуть ли не половине его, но и для маленькой янсенистской общины, которая, хотя и благоговела пред бл. Августином или именно потому, что благоговела пред ним, так же претендовала на potestas clavium18, как и сам Рим. Я уже говорил, что Августин никогда не осмеливался отказать разуму в суверенных правах: слишком властны были над ним традиции стоицизма и воспринявшего в себя целиком стоические идеи неоплатонизма. Паскалю это было известно. Он пишет: “St.-Augustin. La raison ne se soumettrait jamais, si elle ne jugeait qu’il y a des occasions où elle doit se soumettre. Il est donc juste qu’elle se soumette, quand elle juge qu’elle doit se soumettre” (270)*. Эти слова, как правильно указывает один из комментаторов Паскаля, непосредственно связаны с следующим местом из СХХ письма бл. Августина: “que la foi doive précéder la raison, cela même est un principe raisonnable. Car, si ce précepte n’est pas raisonnable, il est donc déraisonnable; ce qu’à Dieu ne plaise! Si donc il est raisonnable que pour arriver à des hauteurs que nous ne pouvons encore atteindre la foi précède la raison, il est évident que cette raison telle quelle qui nous persuade cela, précède elle-même la foi”**.
Паскаль, стараясь примениться к бл. Августину, на разные лады варьирует эту мысль. Он пишет: “il n’y a rien de si conforme à la raison que ce désaveu de la raison” (272)***. И еще: “deux excès: exclure la raison, n’admettre que la raison” (253)****. И он же, словно бросая вызов самому себе, утверждал: “l’extrême esprit est accusé de folie, comme l’extrême défaut. Rien que la médiocrité est bonne... c’est sortir de l’humanité que de sortir du milieu”... (378)*****. Когда Монтэнь проповедует такие идеи, как “tenez-vous dans la route * Бл. Августин. Разум никогда бы не подчинился, если бы не считал, что есть случаи, когда он должен подчиниться. Стало быть, справедливо, чтобы разум подчинялся, когда он считает, что это нужно (фр.).
** Вера должна предшествовать разуму,— это разумный принцип. В самом деле, если это правило не разумно, то оно противно разуму, от чего упаси Бог! Если же, стало быть, разумно, что вера должна предшествовать разуму, чтобы достичь еще недостижимых для нас высот, очевидно, что тот разум, который нас в этом убеждает, сам предшествует вере (фр.).
*** Ничто так не согласно с разумом, как это отречение от разума (фр.).
**** две крайности: исключать разум и признавать только разум (фр.).
***** Крайний ум обвиняется в безумии, как крайний недостаток. Одна только посредственность хороша... выйти из середины значит выйти из человечества (фр.).
738
Л. ШЕСТОВ
commune”* и т. п.,— это совершенно в порядке вещей. «Философия» Монтэня, как он сам откровенно признавался, есть только мягкое изголовье, которое способствует крепкому сну. Ему сам Бог велел воспеть завещанную человечеству отцом «научной» философии, Аристотелем, «середину». Но ведь Паскаль не спит и не будет спать: муки Христа не дадут ему спать до скончания мира. Разве разум может благословить или хотя бы оправдать такое безумное решение? Ведь разум и есть воплощение середины. И никогда, ни при каких условиях, он добровольно не подпишет акт своего отречения. Его можно свергнуть с престола насильно, средства же убеждения на него не могут действовать, ибо он, по самой природе своей, есть единственный источник всех доказательств. И менее всего, вопреки бл. Августину, разум склонен уступить свои державные права исконному врагу своему — «вере». Лучшей тому иллюстрацией служит знаменитый спор Августина с Пелагием, который был исходным пунктом размышлений Паскаля.
Чего добивались пелагиане? Только одного: они хотели «примирить» веру с разумом. Но так как примирение тут возможно только иллюзорное — то в конце концов им пришлось веру подчинить разуму. И еще. Их основное положение: quod ratio arguit non potest auctoritas vindicate**. Утверждая это, пелагиане повторяли лишь то, к чему пришла эллинская или, лучше сказать, общечеловеческая философия, впервые в Европе ставшая пред роковой дилеммой: что делать человеку — положиться на имманентный ему неизменный разум, черпающий из самого себя вечные принципы, или признать над собою власть живого, а стало быть, «случайного» и «капризного» Существа (ведь все живое — «случайно» и «капризно»). Когда Платон говорил, что самое большое несчастье для человека сделаться inoôÀoyoç’oM19,— он говорил уже то, чему впоследствии учил Пелагий. Это положение было ему завещано его великим, несравненным учителем Сократом. И не ему одному: все философские школы греков приняли от Сократа этот завет. Нельзя никому и ничему доверять, все может обмануть — не обманет только один разум, только разум может положить конец нашей тревоге, дать нам прочную почву, уверенность.
Правда, Сократ вовсе не был так последователен, как это принято думать. В важных, очень важных случаях своей жизни, нисколько этого не скрывая, он отказывал в повиновении разуму и прислушивался к голосу какого-то загадочного существа, которое у него называлось демоном. Правда, что Платон в этом отношении был еще менее последо* Придерживайтесь общего пути (фр.).
** То, что утверждает разум, не может быть разрушено авторитетом (лат.).
Гефсиманская ночь (Философия Паскаля)
739
вателен, чем Сократ. Его философия всегда соприкасается с мифологией и часто с ней смешивается. Но «история» не приняла демона Сократа и «очистила» философию Платона от мифов. «Будущее» принадлежало Аристотелю с одной стороны и с другой стороны стоикам, «односторонним» сократикам, которые в своей односторонности пришлись наиболее по вкусу истории и постепенно овладели сознанием мыслящего человечества. Стоики извлекли из Сократа и Платона все, что можно было извлечь на защиту разума. И главный их аргумент был все тот же, который у Платона за несколько часов до смерти развивает пред своими зачарованными учениками мудрейший, признанный самим Богом мудрейшим из людей, Сократ (языческий Бог вручил через оракула ему ключи от царства Небесного): самая большая беда для человека стать щоб/.оуос’ом. Вы потеряли богатство, славу, родных, отечество — все это пустяк. Вы отказались от разума — вы все потеряли. Ведь и друзья, и слава, и отечество, и богатство — все преходяще; кто-то, «случай» нам дал это, не спрашивая нас, и всегда может, не спрашивая, отнять. Разума же никто нам не давал. Он не мой и не твой, он ни у друзей и ни у врагов, ни у родных, ни у чужих, ни здесь, ни там, ни прежде, ни после. Он везде, он всегда, он у всех и над всем. Нужно только возлюбить его, этот вечный, всегда себе равный, никому не подвластный разум, нужно человеку в нем увидеть свою сущность — и ничего в этом доселе загадочном и страшном мире не будет ни таинственного, ни страшного. Не будет страшным и тот невидимый Хозяин мира, который прежде являлся источником всех благ и вершителем всех судеб человеческих. Он был силен, он был всемогущ, пока его дары ценились и его угрозы пугали. Но если возлюбить только дары разума, если признать ценными только его похвалы и порицания (разум есть то, quo nos laudabiles vel vituperabiles sumus20, как говорили пела- гиане впоследствии) — а все дары Хозяина признать ничтожными — aSiœpopa*,— кто может тогда сравниться с человеком! С человеком, эмансипировавшимся от Бога! В этом отношении и Сократ, и Платон, и Аристотель, и эпикурейцы (вспомните De rerum natura Лукреция21), и стоики — все эллинские школы были единодушны. Только школы ранних и поздних стоиков (особенно платонизирующих Эпиктета и Марка Аврелия22) слишком сосредоточились на этой мысли и, если хотите, слишком подчеркнули ее — чего, как известно, человеческая мысль не выносит: всякое «слишком» отталкивает ее.
Но все же Сократ и Платон должны считаться прародителями стоиков, и даже Аристотель так же близок к стоицизму, как и любой из откровенных стоиков. Если хотите, Аристотель в конце концов Безразличие (греч.).
740
Л. ШЕСТОВ
вынес на своих плечах и спас «открытый» Сократом объективный автономный разум. Ведь это он создал теорию середины, ведь это он научил людей той великой истине, что если хотите сберечь разум, то нельзя его обременять непосильными вопросами. Или даже лучше: он научил людей какие угодно вопросы так ставить, чтобы не посягать на державные права разума. Он ведь придумал фикцию (veritatem æternam), что вопросы, на которые ответы невозможны, суть вопросы, по существу, бессмысленные, а стало быть, и недопустимые. После Аристотеля люди — уже до нашего времени — спрашивают только о том, о чем разум дозволяет спрашивать. Все остальное для нас ocôiâcpopov, безразлично, как у стоиков. Замечательный представитель новой философии, называвший себя (и совершенно основательно) продолжателем дела Аристотеля, считает первой и незыблемой заповедью философии стоическое равнодушие ко всему, что происходит в мире. В своей логике — она же онтология, он возводит в принцип горациев- ское правило: si fractus illabatur orbis impavidum ferient ruinæ23.
И не один Гегель: любой «мыслящий» современный человек, если он решится говорить откровенно, принужден будет повторить слова Гегеля. Иначе говоря, как древние, так и мы в своем философском миросозерцании живем и питаемся идеями стоицизма... Пусть гибнут люди и миры, царства и народы, пусть уничтожится все реальное, одушевленное и неодушевленное — это абихфора, это безразличное: только бы никто не покусился на царство идеального, где неограниченно властвует самодержавный разум с его законами. Разум примирен, и его идеальные законы, его принципы вечны — ни у кого не заимствованы. Когда он постановляет pudet*, все должны стыдиться, когда он говорит ineptum**, все должны возмущаться, когда он постановляет — impossible ***, все должны смириться. И жаловаться, апеллировать на разум не к кому. Или, как говорит Пелагий: quod ratio arguit non potest auctoritas vindicari24. И бл. Августин, помним, говорил то же. И Паскалю временами казалось, что лучше ослушаться Хозяина, чем разума. Похвала разума — высшее благо, какого может ждать человек на земле и на небе. Порицание разума — самое ужасное для человека. Может ли быть иначе? Можно ли в философии преодолеть стоицизм, можно ли отвергнуть пелагианство? И, обернувши приведенную раньше мысль Паскаля, сказать: Хозяин требует более повелительно, чем разум. Ибо, ослушавшись разума, ты окажешься только глупцом, а ослушавшись Хозяина, погубишь свою душу?..
* Стыдно (лат.).
** Нелепо (лат.).
*** Невозможно (лат.).
Гефсиманская ночь (Философия Паскаля )
741
VI
Сам Паскаль это сделал — ив этом парадоксальность, но в этом и вся притягательная сила его философии. Похвалы и одобрения, порицания и упреки разума, того разума, quo nos laudabiles vel vituperabiles sumus и во власти которого, по учению стоиков и пелагиан, было возвысить или унизить человека, вдруг становятся для Паскаля aôictcpopov, тем «безразличным», к которому эллинское миросозерцание относило все реальное. Summum bonum * философов становится у него предметом постоянных и язвительных насмешек. “Ceux qui les croient sont les plus vides et les plus sots” (467)**,— говорит он в одном месте. В других местах он говорит не менее презрительно о summum bonum философов. Но наиболее поразителен, по своему особенно вызывающему тону и резкой форме, следующий отрывок: “les bêtes ne s’admirent point. Un cheval n’admire point son compagnon. Ce n’est pas qu’il n’y ait entre eux de l’émulation à la course, mais c’est sans consequence; car, étant a l’étable, le plus pesant et le plus mal taillé n’en cède pas son avoine a l’autre, comme les hommes veulent qu’on leur fasse. Leur vertu se satisfait d’elle-même” (401)***. Идеал стоиков — добродетель служит сама себе наградой — Паскаль находит уже осуществленным у животных. И бл. Августин, как известно, питал отвращение к стоицизму и всячески поносил его при случае и без всякого случая. Он не говорил, правда, как долгое время ему приписывали — virtutes gentium splendida vitia sunt****, но ему принадлежит почти такое же суждение: virtutes gentium potius vitia sunt *****. И все же ему не приходило в голову искать и находить осуществление стоического идеала у животных: он был слишком кровно связан с древней философией, и его «христианство» было насквозь пропитано эллинизмом. И Паскалю, как мы помним, не так легко было вырваться из власти господствовавшей в его эпоху идеологии. Он смеется над стоиками, он возмущается «самодовлеющей» добродетелью или, выражаясь современным языком, «автономной моралью» — он находит, что ей место в конюшне, что она годится
* Высшее благо (лат.).
** Те, кто им верит, самые пустые и глупые люди (фр.).
*** Животные собой не любуются. Лошадь не любуется своим спутником. Это не значит, что они не соревнуются на бегах, просто из этого ничего не следует; в конюшне самая грузная и неуклюжая лошадь не уступит своего овса другой, как хотелось бы людям. Их добродетель довольствуется собой (фр.).
**** Добродетель язычников — блестящие пороки (лат.).
***** Добродетели язычников скорее пороки (лат.).
742
Л. ШЕСТОВ
не для людей, а для лошадей,— но это ему не мешает провозглашать на каждом шагу принцип — le moi est haïssable (455)*, в котором стоическая мораль выражается не менее адекватно, чем в высмеянном Паскалем принципе — la vertu se satistfait d’elle-même: ведь всякая мораль — древняя ли Эпиктета и М. Аврелия, новая ли Канта и Гегеля — черпает всю силу свою в ненависти к человеческому Я. Что же, Паскаль вслед за бл. Августином возвращается к морали? И к пелагианству?
Многие так думают — многие, прежде всего, хотят видеть в Паскале моралиста, но в этом кроется глубокая ошибка.
Конечно, le moi est haïssable (455) всецело унаследовано Паскалем от древней философии. И все же у него ненависть к нашему Я имеет совсем иное значение, чем у древних и новейших философов. Его покорность судьбе мало похожа на покорность стоиков, так же как и аскетизм его, который возбуждает и возбуждал столько раздражения даже в самых ревностных его почитателях. Стоики гнали и преследовали Я в самом деле затем, чтобы убить и уничтожить его. Только таким способом они могли обеспечить окончательное торжество своим «идеям», принципам. Ведь принцип только тогда и может праздновать свою окончательную победу, если никто с ним не будет бороться, никто не станет ему возражать. А кто, если не это Я, от века боролся и спорил с принципом? Кто доставлял ему столько хлопот и тревоги? Я — ведь есть самое «иррациональное», самое непокорное, не желающее покоряться из всего, что было создано Творцом. Паскаль это знает: он помнит subjicite et dominamini (Gen. I, 28)**, с которыми Бог обратился к первому человеку после благословения. Он ли согласится отдать человека под руку самодовлеющим, мертвым принципам? Прислушайтесь к его словам: “quand un homme serait persuadé que les proportions des nombres sont des vérités immatérielles, éternelles, et dépendantes d’une première vérité en qui elles subsistent, et qu’on appelle Dieu, je ne le trouverais pas beaucoup avancé pour son salut” (556)***.Так говорит Паскаль в то время, как вся новая, возродившаяся из древней философия, начиная с Декарта (да еще и до него), ни о чем больше не мечтала, как о том, чтобы в математических формулах выразить сущность мироздания. Единая, вечная, * Мое «я» ненавистно (фр.).
** Наполняйте землю и обладайте ею (лат.).
*** Если бы человек был убежден, что отношения чисел — нематериальные, вечные истины, зависящие от первичной истины, в которую они включены и которую называют Богом, я бы не считал, что он сильно продвинулся к своему спасению (фр.).
Гефсиманская ночь (Философия Паскаля)
743
нематериальная истина, из которой с естественной необходимостью вытекают многие тоже нематериальные и тоже вечные истины — лучшего определения идеала новой философии вы не найдете. Правда, и теперь, через 300 лет после Декарта, люди равно далеки от осуществления этого идеала — но он так дорог им, что они его чтут и берегут, как если бы он был уже осуществлен: nasciturus pro jam nato habetur... *
Паскаль же, очевидно представивший этот идеал на высший суд, где не считаются ни с нашей «жалкой справедливостью», ни с нашим «неизлечимо самоуверенным разумом», заявляет: хоть бы и удалось вам добыть эти вечные и нематериальные и так приладившиеся одна к другой истины — цена им грош. Они не помогут вам спасти Душу.
Разум и мораль, конечно, возопят: разве истина перестает быть истиной оттого, что она не нужна душе? Разве истина подрядилась обслуживать душу? Или разве есть такое существо, которое смеет отказать в повиновении морали и называть справедливость жалкой? Ведь, наоборот, истина и мораль автономны, самозаконны. Они не подчиняются, не повинуются, а повелевают. Они же исходят из того разума, о котором сам Паскаль говорил, что его страшнее всего ослушаться.
И кто восстает на разум, с его вечными и нематериальными истинами? Душа! Т. е. все то же ничтожное Я, которое Паскаль, прошедший школу Эпиктета, учил нас ненавидеть! Ведь совершенно очевидно: ничто не может больше смирить «эгоистические» устремления человека, как нематериальная и вечная истина, возвещенная философами. Стало быть, если искать начало, которое могло бы укротить буйственные притязания отдельных индивидов, то и нарочно не выдумаешь лучшего Бога, чем тот, которого предлагали Паскалю «философы». И summum bonum философов, особенно Эпиктета, да и всех других стоиков, вплоть до венценосного Марка Аврелия, как нельзя больше годится в укротители. Стоическое «жить сообразно с природой» — тт] cpôaei — значило ведь жить сообразно с разумом, т. е. наперекор природе. Стоики одобрили бы даже железный пояс Паскаля. Ведь он и знаменовал собою готовность подчинить свое Я одной и многим вечным и нематериальным истинам. Разум стоиков, как и разум Паскаля, совершенно ясно усматривал, что если не убьешь нашего Я, то никогда ни к какому единству и ни к какому порядку не придешь. Человеческих Я бесконечно много, каждое Я считает себя центром мироздания и требует, чтоб с ним считались, * Имеющий родиться считается уже родившимся (лат.).
744
Л. ШЕСТОВ
как если бы оно одно существовало во всей вселенной. Примирить и удовлетворить все эти требования явно нет никакой возможности. Пока Я не убито, вместо единства и гармонии всегда будет дикий хаос и невообразимая нелепость. Задача разума в том и заключается, чтобы ввести в мироздание порядок, потому и дана ему власть требовать от всех покорности. Он создал — все затем, чтобы в мире был порядок,— и мораль, и с ней поделился своими верховными прерогативами. Последнее же назначение, призвание человека — смириться пред требованиями разума и морали, покориться самодовлеющим началам и принципам. И, вместе с тем, в этом смирении наше высшее благо, summum bonum.
Всему этому, подчеркиваю, учили «философы», и все это за философами повторял Паскаль. Но, странным образом, повторяя философов, он говорил прямо противоположное. Всякого рода «невозмутимость», приходящая к людям от разума или от морали, для Паскаля знаменовала конец, небытие, смерть. Оттуда и его загадочное «методологическое» правило chercher en gémissant, о котором вы ни в современных Паскалю, ни в новейших учебниках логики ничего не услышите. Ведь наоборот: исследователь должен совершенно забыть обо всех своих желаниях, опасениях и надеждах и быть готовым принять всякого рода истину, которая, по самому своему существу, нисколько человеческими нуждами не озабочена. Это так самоочевидно, что об этом в “Discours de la méthode”2f’ почти не говорят. Правда, у Бэкона есть рассуждения о разного рода idola*, которые мешают нашим объективным изысканиям. Только Спиноза, точно возражая Паскалю, о котором он, верно, и не слышал, нетерпеливо и сердито заявляет: non ridere, non lugere, neque detestari, sed intelligere26.
Паскаль же требует иного: непременно ridere, lugere, непременно detestari — в противном случае все ваши изыскания ничего не стоят. Что дало право Паскалю предъявлять такие требования? И имеют ли они какой-нибудь смысл? Вопрос для нас основной — ибо здесь источник всех расхождений Паскаля с новейшей философией. Примешь методологическое правило Паскаля, у тебя будет одна истина, примешь правило Спинозы — будет другая. Спиноза ставил своим идеалом intelligere27. И для Спинозы в самом деле le moi всегда было haïssable. Ибо наше Я — этого никогда нельзя забывать — есть самое непокорное, стало быть, самое непонятное, самое иррациональное из всего того, что есть в этом мире. «Понимание» возможно лишь тогда, когда человеческое Я лишается всех своих Идолы (лат.).
Гефсиманская ночь (Философия Паскаля)
745
особых прав и преимуществ, когда оно становится «вещью» или «явлением» среди остальных вещей и явлений природы. Нужно выбирать либо тот идеальный, ненарушимый порядок с его вечными и нематериальными истинами, который отверг Паскаль и при котором «средневековая» идея о спасении души становится воплощением всех нелепостей,— либо капризное, ропщущее, беспокойное, тоскующее Я, никогда не соглашающееся добровольно признать над собой власть «истин» — будут ли они материальные или идеальные. Кто ставит своей задачей добиться во что бы то ни стало понимания, тот, конечно, должен стремиться, вслед за стоиками и древней философией, это Я возненавидеть и убить, чтобы дать возможность осуществиться объективному миропорядку. Но кто, как Паскаль, в «понимании» видит начало смерти и кто в борьбе со смертью видит свое призвание, может ли такой мыслитель ненавидеть Я? Ведь в Я и только в Я с его иррациональностью залог возможности освободиться от гипноза математической истины, которую философы за ее «нематериальность» и «вечность» поставили на место Бога.
VII
И действительно, сколько Паскаль ни говорит о том, что le moi est haïssable, фактически он все свои силы направлял к тому, чтобы отстоять наши Я от притязания нематериальных и вечных истин. Если хотите, его пояс с гвоздями был только оружием в этой борьбе. И свою болезнь и свою «пропасть», которую поклонники Паскаля хотели бы совсем вытравить из его биографии,— он использовал все для той же цели. Можно почти с уверенностью сказать, что, если бы не было пропасти, Паскаль не пошел бы дальше “Lettres Provinciales”. Пока человек чувствует почву под ногами, он не дерзает отказать в повиновении разуму и морали. Нужны исключительные условия существования, чтобы освободиться от власти господствующих на земле нематериальных и вечных истин. Нужно «безумие», чтоб ополчиться на закон. Напомню опять «опыт» нашего современника, Ницше, который молил богов, чтоб они послали ему «безумие», ибо ему предстоит убить «закон», объявить Риму и миру свое «по ту сторону добра и зла».
И тут только станет понятною вражда Паскаля к стоицизму и пелагианству и, заодно, что влекло его к бл. Августину, а через бл. Августина к ап. Павлу и тому, что ап. Павел нашел у Исаии в библейском сказании о грехопадении28. Пред Паскалем стал тот же вопрос, который за сто лет раньше стал пред Лютером — чем спасается
746
Л. ШЕСТОВ
человек, своими делами, т. е. покорностью от века существующим законам, или таинственной силой, называвшейся на не менее таинственном богословском языке благодатью Бога. От вопроса Лютера содрогнулась вся Европа, весь христианский мир. Казалось, что тут и вопроса быть не может или что какие тут были возможны вопросы, история уже давно с ними справилась. Пелагий был осужден уже больше, чем за тысячу лет, бл. Августин всеми признавался как непререкаемый авторитет. Чего же еще? На самом деле, как я уже говорил, историческая победа была не за Августином, а за Пелагием, мир соглашался существовать без Бога, но не мог существовать без «закона». Можно чтить ап. Павла и Св. Писание, но жить нужно по морали стоиков и сообразно учению Пелагия. С особенной ясностью это сказалось в знаменитом споре Эразма Роттердамского29 с Лютером о свободе воли. Эразм со свойственной ему тонкостью сразу поставил в своих “Diatribæ de libero arbitrio” пред Лютером страшную дилемму: если наши добрые дела (т. е. жизнь, сообразная с законами разума и морали) нас не спасают, если нас спасает только благодать Бога, который по своему произволу и усмотрению одним эту благодать посылает, а других благодати лишает, то где же тогда справедливость? Кто тогда будет стремиться к праведной жизни? И как можно оправдать Бога, который не считается со справедливостью и, так сказать, возвел в принцип ничем не сдерживаемый произвол? Эразм не хотел спорить с Библией и с ап. Павлом. Он, как и все, осуждал Пелагия и готов был принять учение бл. Августина о благодати — но он не мог допустить чудовищной мысли, что Бог — « по ту сторону добра и зла» и что наша « свобода воли », наша готовность покориться законам не учитывается на высшем суде, что пред лицом Бога человек не защищен ничем, даже справедливостью. Так писал Эразм, так думали, так думают почти все люди, может, даже и не почти, а все без исключения люди.
На эразмовские “Diatribæ” Лютер ответил своей самой сильной и самой страшной книгой “De servo arbitrio”30. В этой книге — что так редко бывает в спорах — Лютер не только не старается ослабить аргументацию противника, но делает все, что может, чтобы усилить ее. Он с большей настойчивостью, чем Эразм, подчеркнул «бессмысленность» учения ап. Павла о благодати. Ему принадлежат ведь эти неслыханные по своему дерзновению утверждения: “Hic est fidei summus gradus, credere ilium esse clementem, qui tam paucos salvat, tam multos damnat; credere justum, qui sua voluntate nos necessario damnabiles facit, ut videatur, referente Erasmo, delectari cruciatibus miserorum et odio 1000 potius quam amore dignus. Si igitur possem ulla ratione comprehendere, quomodo is Deus misericors et justus, qui
Гефсиманская ночь (Философия Паскаля)
747
tantam iram et iniquitatem ostendit, non esset opus fide” *. Эразма «бессмыслица» и «несправедливость» ужасала, Лютера, как вы видите даже из приведенного отрывка, это вдохновляет. Своими возражениями Эразм окрылил Лютера, внушил ему смелость рассказать о том, о чем он прежде молчал. Ведь и у Лютера, как у Паскаля, была своя «пропасть». Как и Паскаль, он много лет подряд закрывался от нее своим «стулом» — «законом». И, конечно, самым глубоким и самым потрясающим переживанием его было внезапное открытие, что закон не спасает, что он не защитит от пропасти, что он только тонкая паутина, до времени скрывающая от людей бездну погибели. Лютер был монахом, Лютер принял и добросовестно выполнял трудные монашеские обеты в надежде, что он «добрыми делами» спасет свою Душу. И Лютер же, как он сам впоследствии рассказывал, вдруг убедился, что, принявши монашеские обеты,— он совершил самое богопротивное дело, что он обрек этим свою душу на вечную гибель. Это переживание, этот «опыт» до такой степени необычен, так мало похож на то, что происходит с людьми, что многие отказываются верить ему или истолковывают его так, чтобы можно было «примирить» его с нашими представлениями о содержании душевной жизни людей.
Но Лютеру можно, Лютеру должно верить. И необычный опыт, если даже он идет вразрез со всеми нашими a priori,— отвергнуть мы не вправе. Я уже указывал, что такое же пришлось пережить и Ницше — и отсюда возникла его идея «по ту сторону добра и зла», которая есть только более современная формулировка лютеровской “sola fide”31. Если не все обманывает, то и видение ап. Павла на пути в Дамаск говорит нам о том же. И для апостола Павла, который преследовал во имя «закона» Христа, «вдруг» (о, как ценны эти «вдруг» и как мало «философия», благодаря своим традиционным методам и своему страху пред «иррациональным» Я, умеет использовать их!) стало ясно, что «закон пришел для того, чтобы умножилось преступление».
Трудно и представить себе то потрясение, которое испытывает человек, когда он делает такое «открытие». И еще труднее представить себе, как живет человек после такого «открытия». Ведь закон, * Это высшая степень веры полагать, что Он милостив, когда Он спасает столь немногих и столь многих осуждает, полагать, что Он справедлив, когда Он по своей собственной воле делает нас неизбежно достойными осуждения, дабы казалось, как замечает Эразм, что Его радуют муки несчастных и что Он более всего достоин ненависти, чем любви. Если бы я мог хоть каким-нибудь образом уразуметь, как это Бог милосердный и справедливый являет нам столько гнева и несправедливости, то не было бы нужды в вере (лат.).
748
Л. ШЕСТОВ
законы — это то, чем держится мир. Гораций, мы помним, утверждал, повторяя стоиков: si fractus illabatur orbis, impavidum ferient ruinæ. И Гегель хвалился тем, что он не менее «мужествен», чем языческие философы, и тоже не испугается, если даже небо на него обрушится. Но вся сила в том, что вместе с законами, которыми держалось небо, падают и законы, которыми держится мужество и все прочие добродетели язычников. Да и суть ли эти добродетели — подлинные добродетели? Не прав ли бл. Августин — virtutes gentium potius vitia sunt?32 И Гораций, и Эпиктет, и Марк Аврелий, и наш современник Гегель — вовсе не добродетельные люди, пример которых заслуживает подражания. Все они должны бы повторить за Лютером его страшное признание — ессе, Deus, tibi voveo impietatem et blasphemiam per totam meam vitam33. Покорность закону — есть начало всякого нечестия. Конец же нечестия — обожествление законов, тех «вечных и нематериальных истин, зависящих от единой истины», о которой нам рассказывал Паскаль...
Но ведь и в Библии, скажут, есть законы, Моисей принял законы с Синая34 и т.д. Зачем они? Пусть опять говорит Лютер — он расскажет нам о том, что услышал Паскаль на том суде, к которому он апеллировал против Рима и мира: “Deus est Deus humilium, oppressorum, desperatorum, et eorum, qui prorsus in nihilo redacti sum, ejusque natura est exaltare humiles, cibare exurientes, illuminare cæcos, miseros et afflictos consolari, peccatores justificare, mortuos vivificari, desperatos et damnatos salvari etc. Est enim creator omnipotens ex nihilo faciens omnia. Ad hoc autem suum naturale et proprium opus non sinit eum pervenire nocentissima pestit ilia, opinio justitiæ, quæ non vult esse peccatrix, immunda, misera et damnata, sed justa, sancta etc. Ideo opotet Deum adhibere malleum istum, legem scilicet, quæ frangat, contundat, conterat et prorsum ad nihilum redigat hanc belluam cum sua vana fiducia, sapientia, justitia, potentia, ut tandem suo malo discat se perditam et damnatam” *. Таково происхождение и назначение «за* Бог есть Бог униженных, несчастных, отчаявшихся и тех, которые обращены в ничто. Его природа в том, чтобы подымать униженных, питать голодных, возвращать зрение слепым, утешать несчастных и печальных, оправдывать грешников, воскрешать мертвых, спасать проклятых и утративших надежду и т. д. Он ведь всемогущий Творец, из ничего творящий все. Но до этого существенного и собственного дела Его не допускает зловреднейшее чудовище — самомнение праведности, которая не хочет быть грешной, нечистой, жалкой и проклятой, а справедливой и святой и т. п. Оттого Бог должен прибегнуть к молоту, а именно, к закону, который разбивает, сокрушает, испепеляет и обращает в ничто это чудовище с его самоуверенностью, мудростью, справедливостью и властью, дабы оно знало, что оно погибло и проклято из-за зла, которое в нем (лат.). Цитата из М. Лютера «Послания к галатам» (П, 70) (прим. сост.).
Гефсиманская ночь (Философия Паскаля)
749
кона» — того, что «философы» почитали как вечную и нематериальную, а потому последнюю, божественную истину. А вот и заключение Лютера: “Ideo quando disputandum est de justitia, vita et salute æterna omnino removenda est ex oculis lex, quasinunquam fuerit aut futura sit, sed prorsus nihil est”*. Я не могу, к сожалению, привести всего, что говорит Лютер в своем комментарии к Посланию к Галатам по поводу слов ап. Павла lex propter transgressionem apposita est **. Вся его неслыханная по напряжению борьба с Римом — была борьбой с «законом», с «нематериальными» и «вечными» истинами, от которых католичество и после осуждения Пелагия никогда не могло отказаться. Он сам чувствовал лучше, чем его противники, до чего он договорился. Он ясно видел, что под ним разверзается бездна, в которую грозит провалиться и он, и весь мир. Он знает, как и другие, что «законом» держится все. Он пишет: “пес ego ausim ita legem appellare, sed putarem esse summam blasphemiam in Deum, nisi Paulus prius hoc fecisset” ***.
Но и Павел не менее ужасался своему открытию. И он бы не осмелился говорить то, что говорил, если бы в свой черед не мог «опереться» на пророка Исаию, дерзновение которого и безмерно пугало и неотразимо влекло к себе. Он тоже говорит: «Исаия же имел дерзновение сказать (‘Haotiotç 5s атютоХца KaiÀéysi): Меня нашли не искавшие Меня; Я открылся не вопрошавшим обо Мне». Как принять эти дерзновенные утверждения? Бог, сам Бог нарушает высший закон справедливости: Он открывается тем, кто о нем не вопрошает, Его находят те, кто Его не искал. И разве можно променять на такого Бога — Бога философов, единую нематериальную истину? И разве возрождение, отвернувшееся от библейского Бога, и Декарт, сделавший во исполнение заветов своего времени попытку se passer de Dieu ****, не были правы? И Паскаль, звавший людей к суду Всевышнего, не предавал общечеловеческого дела и не был отступником? Где правда? Что лучше?
VIII
Мы стоим перед величайшими трудностями, которые знает история человеческой мысли. Уже самая постановка вопроса, как я уже указывал, кажется недопустимой. Что лучше? Точно «объективная» * Вот почему нужно, рассуждая о справедливости, о жизни и о вечном спасении, удалить совершенно с наших глаз закон, как будто бы он ничего не значит и никогда не должен был бы что-нибудь значить (лат.).
** Закон дан по причине преступлений (лат.).
*** Я бы не осмелился так называть закон — это было бы страшнейшее богохульство, если бы апостол Павел этого не сделал до меня (лат.).
**** Обойтись без Бога (фр.). Цитата из «Мыслей» Паскаля (прим. сост.).
750
Л. ШЕСТОВ
истина считается с тем, что лучше и что хуже! Точно от людей зависит — выбрать ли Бога, всемогущего Творца, по своей воле создавшего все из ничего, или «закон», т. е. вечный и нематериальный принцип, из которого с той естественной необходимостью, с которой в математике вытекают все теоремы из определений и аксиом, вытек и мир и заселяющие мир люди! Имеют ли значение все человеческие «лучше» и «хуже» пред лицом объективной истины? И, затем, если так можно спрашивать, то кому дано ответить на этот вопрос? Аристотелю и Декарту или Исайе и ап. Павлу? Они хоть и гениальные мыслители и вдохновенные пророки, но все же люди, стало быть, нельзя вверить им каждому в отдельности или всем вместе власть решать судьбу мироздания. И, наконец, их много было, гениальных мыслителей и вдохновенных пророков,— кто поручится, что они сойдутся на одном решении? Наверное, не сойдутся, больше — не сошлись. Чтоб сойтись, нужно истребить все «лучше» и все «хуже», которые всегда были и будут началом разъединения и борьбы (как и все человеческие Я), и покориться безличному и бесстрастному началу, оно же стоит над «лучше» и «хуже» и, вместе с тем, обладает той принудительностью, которая обеспечивает ему повиновение in sæcula sæculorum даже самых строптивых существ. Этот путь и избрали «философы», и избрали, конечно, имея для того «достаточное» основание,— похвалы и угрозы разума заставили их совсем позабыть о существовании Хозяина.
С Паскалем произошло иное. Ему не дано было выбирать, как не дано было выбирать пророку Исайе или ап. Павлу, и «достаточных оснований» для решения у него не было. В какой-то момент непостижимая сила толкнула его, и толкнула в направлении прямо противоположном тому, которого держатся люди. И даже толчок загадочным образом был совершенно не похож на то, что обычно толчком называется. И слово направление получило новое значение, которого оно никогда не имело. Мы помним, что рассказывали биографы и ясновидящие о Паскале: ужасная, бессмысленная болезнь и тоже ужасная, бессмысленная пропасть. Даже духовные руководители его из янсенистов лечили его от болезни и всячески старались закрыть от него пропасть.
А меж тем «болезнь» Паскаля и его «пропасть», по-видимому, и были тем загадочным толчком, тем благодатным даром, без которого Паскалю никогда не открылась бы его истина. Паскаль вправе был бы повторить вслед за Ницше: своей болезни я обязан своей философией. Не было бы пропасти — не было бы паскалевской философии. Все, что Паскаль рассказывает в своих Pensées, сводится к описанию пропасти. Происходит на наших глазах чудо из чудес. Паскаль постепенно приучается любить пропасть. Нет почвы под ногами — это страшно,
Гефсиманская ночь (Философия Паскаля)
751
безумно страшно. Не на что опереться, чувствуешь под собой раскрывшуюся бездну, готовую поглотить тебя, и ужас неминуемой гибели, из груди вырывается страшный вопль: Господи, Господи, отчего ты меня покинул,— кажется, все кончилось. И точно, что-то кончилось, но что-то и началось. Пришли новые, непостижимые силы, пришли новые откровения. Нет почвы под ногами, нельзя, как прежде, ходить по земле — значит: нужно не ходить, нужно — летать.
И, конечно, старые нематериальные истины, так прочно сбитые в одно целое тысячелетней человеческой мыслью, не только не помогают в этом деле человеку, но больше всего мешают ему. Они — эти veritates æternæ — все продолжают неумолимо твердить, что по своей природе человек должен ходить, а не летать, стремиться к земле, а не к небу. Что там, где ужас, там, где страшно, там нет и быть не может добра. И так как самое страшное — это нарушение «закона» и ослушание того самодержавного повелителя — разума, quo nos laudabiles vel vituperabiles sumus и который является источником всех законов, то нужно бросить все дерзновенные попытки, смиренно покориться неизбежности, в этом смирении видеть свою добродетель и в этой добродетели находить свое «высшее благо». Высшее достижение человека — покорность законам разума и рожденной разумом морали. И Бог, сам Бог требует от человека прежде всего и после всего покорности и послушания.
И вот, Паскаль один из тех редких и для людей вечно непостижимых избранников, который почувствовал или которому дано было почувствовать, что «повиновение» есть начало всех земных ужасов, начало смерти. Закон пришел, чтобы умножилось преступление, как говорит ап. Павел. Закон лишь молот в руках Бога, которым Он раздробляет уверенность человека, что над живыми существами властвуют вечные, нематериальные принципы. Или еще точнее: закон пришел к человеку, когда он, забывши предупреждение Бога, соблазнился деревом познания добра и зла, сорвал и вкусил с него плоды — все эти бесчисленные pudet, ineptum, impossibile, на которых воздвигнуто здание нашей науки. Свет знания, которого не было в раю до грехопадения, принес человеку его ограниченность, указав ему мнимые пределы возможного и невозможного, должного и не должного, загадочного начала и неизбежного конца. Пока не было «света», не было ограниченности, все было возможно, все было «добро зело», были начала, но не было концов, и слово «неизбежность» было так же бессмысленно, как сейчас для нас слово «свобода». Свет принес с собой стыд пред райской наготой и страх перед земной смертью.
«Объяснить» все это людям невозможно. Ведь всякое объяснение — есть освещение, а свет выявляет как раз то, от чего нужно избавиться,
752
Л. ШЕСТОВ
с чем нужно бороться. Декарт стремился к ясности и отчетливости. Древние философы обожествили разум. И мы все хотим ясности и идем за разумом, который открывает нам все тайны, но молчит только об одной, о находящейся под нами пропасти. Даже товарищи Паскаля по Пор-Руаялю не хотят принимать сказание Библии о грехопадении во всей его загадочной полноте. Они считают — иногда и Паскаль так говорил,— что грех первого человека вовсе не в том, что он вкусил от дерева познания добра и зла. В этом не было бы беды, в этом было бы счастье, ибо познание есть summum bonum, выше и лучше которого нет ничего на свете. Беда произошла лишь оттого, что Богу вздумалось запретить Адаму касаться как раз этого дерева. И первородный грех в том, что Адам ослушался Бога. Ибо Бог, как и люди, как и те идеальные сущности, которые люди создали,— мораль и разум — прощают все что угодно, кроме ослушания. Так что если бы Бог запретил есть сливы или груши и Адам в этом его ослушался, то последствия были бы те же — пришли бы немощи, страдания и сама смерть. И все потомки так же ответили бы за ослушание Адама, как отвечают и теперь. Так, говорю, обычно толкуют сказание о грехопадении с тех пор, как Библия попала в руки людей эллинского образования. В Боге хотят видеть «безусловное» и «нематериальное» начало, которое, как и все известные нам начала, автоматически и потому беспощадно казнит всякие попытки живых существ отклониться, по свободному выбору, от установленных им законов. Так до сих пор толкуют Библию — несмотря на вдохновенные слова пророка Исаии и проникновенные послания ап. Павла. Ничего удивительного в этом нет: когда «разум», тот разум, который через сорванный Адамом плод вошел в мир, берется толковать Библию, он всегда подставит свои собственные истины на место чуждого ему откровения. Ведь и откровение должно быть «разумным», и Бог трепещет пред осуждением разума и в его похвалах видит свое summum bonum!
IX
Самое поразительное в философии Паскаля, так непохожей на то, что принято считать между людьми истиной, это его попытки освободиться от власти разума. Как ни связывает его контроль Пор- Руаяля и предания богословов, истолковавших на эллинский лад библейское сказание о грехопадении, как страстно ни стремится он придать всем своим утверждениям характер «общеобязательности», т.е. оправдать их пред судом разума, его «последняя» мысль в конце концов все же прорывается резким диссонансом сквозь цепи убедительных доводов, к которым он прибегает, как и полагается
Гефсиманская ночь (Философия Паскаля)
753
апологету, исходящему из предположения, что истина Божеская, как и человеческая, в «законе», которому все ненавистные Я должны безусловно повиноваться. Даже в прославленном «пари» своем, в котором Паскаль берется математически доказать, что разум с очевидностью и со всей повелительностью, очевидность сопровождающею, требует от человека веры, даже в этом так «научно» построенном рассуждении Паскаль вдруг, точно забывши все, о чем он хлопотал, провозглашает свое ошеломившее всех: “naturellement même cela vous fera croire et vous abêtira” (223). И когда воображаемый собеседник отвечает: mais c’est que je crains*, Паскаль с ясными и спокойными глазами, как будто речь шла о самом обыкновенном предмете, говорит: “et pourquoi? qu’avez-vous à perdre?” (233)**. Что вы потеряете, отрекшись от разума? Если бы это сказал не Паскаль, можно было бы пожать плечами или расхохотаться. Явное дело, что говорит либо глупец, либо безумец. Но недаром паскалевское s’abêtir и qu’avez-vous à perdre? возбуждает такую тревогу даже среди наших полусонных современников, завороженных чарами новейших теорий познания. Ведь в этих словах, словно в ящике Пандоры, зажаты все возможные бессмыслицы, а стало быть, по-нашему, и ужас. Попробуйте открыть ящик, и из него вырвутся на свет Божий все non pudet, quia pudendum est, prorsus credibile quia ineptum, certum quia impossibile, a вместе с ними и все приведенные к покорности и молчанию человеческие Я, которых и сам Паскаль так боялся и так ненавидел.
И все же Паскаль атюто/.; а кон Xéyei — забыл все страхи и грозящие беды и сказал, что сказал. Т. е. не забыл — а открыто пошел навстречу всему этому. И сколько бы ни увещевал его разум — все бесполезно: ни похвалы, ни угрозы разума на него не действуют. Было ли это то, что у Платона35 называлось почетным словом avü)ivr]<nç, или что мы презрительно называем атавизмом, но он вспомнил библейское сказание о грехопадении. И чары разума потеряли над ним свою власть. Он уже не боится, как боятся все и как боялся он сам, прослыть глупцом, он смеется над добродетелью, которая довольна сама собой и своими верноподданными обитателями конюшни. Мы помним, как отшатнулся он от единой и нематериальной истины, провозглашенной возрождением, как ненавидел он Декарта и как презирал он summum bonum древних философов...
Чтоб избавиться от всего этого, есть один способ: отказаться от veritates æternæ, от плодов с дерева познания — s’abêtir. Не верить ничему из того, что возвещает разум. Уйти из освещенных мест, ибо * Но этого-то я и боюсь (фр.).
** А почему? Чего вам терять? (фр.).
754
Л. ШЕСТОВ
свет выявляет ложь. Возлюбить тьму: qu’on ne nous reproche donc plus le manque de clarté car nous en faisons profession (751)36.
Вдохновляемый библейским откровением, Паскаль создает совершенно своеобразную «теорию познания», идущую вразрез с нашими представлениями о существе истины. Первое основное предположение, или аксиома познания: истину, если ее показать, может увидеть всякий нормальный человек. Паскаль, для которого Библия была главным источником познания, заявляет: “on n’entend rien aux ouvrages de Dieu si on ne prend pour principe qu’il a voulu (Пор-Руаяль, конечно, опустил voulu!) aveugler les uns et éclairer les autres” (566)*. Думаю, что во всей истории философии никто не дерзал провозглашать «принцип» более оскорбительный для нашего разума, и даже сам Паскаль не доходил до большего дерзновения — разве что когда он говорил о summum bonum философов и о лошадях, осуществивших идеал стоической добродетели. Основное условие возможности человеческого познания, повторю еще раз, ведь в том, что истина может быть воспринята всяким нормальным человеком. Декарт это формулировал в словах: Бог не может и не хочет быть обманщиком. Паскаль же утверждает, что Бог и может и хочет быть обманщиком. Иногда некоторым людям он истину открывает. Но большинство он нарочно ослепляет, чтоб истина им не открылась. Кто говорит правду — Паскаль или Декарт? И опять проклятый вопрос, который уже столько раз смущал нас: как решить и кто решит, где правда? К разуму уже нельзя обращаться. Нельзя обращаться, как это сделал Декарт, и к морали. Мораль говорит нам, что недостойно Бога обманывать людей, но ведь мораль — мы только что слышали, что ей место на конюшне. Мы приходим в отчаяние, но Паскаль торжествует. Он только того и добивался. Теперь наконец может он в упоении восторга воскликнуть: “Humiliez-vous, raison impuissame; taisez- vous, nature imbécile: apprenez que l’homme passe infiniment l’homme, et entendez de votre maître votre condition véritable que vous ignorez. Ecoutez Dieu” (434) **. Это то, что нужно было Паскалю. Он чувствует, что cette belle raison corrompue a tout corrompu *** и что единственное спасение человека в избавлении от разума. Пока разум будет тем quo nos laudabiles vel vituperabiles sumus, пока в похвалах разума мы будем * Ничего нельзя понять в творениях Божиих, если не исходить из того, что он хотел ослепить одних и просветить других (фр.).
** Смирись, бессильный разум; умолкни, глупая природа: знай, что человек — существо, бесконечно непонятное для человека, вопроси у твоего Владыки о неведомом тебе истинном твоем состоянии. Послушай Бога (фр.).
*** Этот прекрасный развращенный разум все развратил (фр.).
Гефсиманская ночь (Философия Паскаля)
755
находить summum bonum и в его порицаниях будем видеть summum malum, мы не вырвемся из нашего отчаянного положения. “La raison a beau crier, elle ne peut mettre le prix aux choses” (82)37. Наш разум своими собственными, почерпнутыми из себя истинами создает из нашего мира завороженное царство лжи. Мы все ходим словно зачарованные, чувствуем это, но больше всего на свете боимся пробуждения. И свои усилия, направленные к тому, чтобы сохранить это сонное оцепенение, мы, ослепленные Богом или, лучше сказать, теми «истинами», которые сорвал наш праотец с запретного дерева, принимаем за наиболее естественную душевную деятельность. И тех, кто помогает нам спать, убаюкивает нас и прославляет наш сон, мы считаем своими друзьями и благодетелями, тех же, кто пытается пробудить нас,— своими злейшими врагами и преступниками. Мы не хотим думать, не хотим всматриваться в себя, чтоб не увидеть настоящей действительности. Все, потому, для человека лучше, чем одиночество. Он ищет подобных себе сновидцев, надеясь, что «общие сновидения» (Паскаль не побоялся и об «общих сновидениях» говорить!) еще больше укрепят в нем сознание реальности его иллюзий. Больше всего поэтому человек ненавидит Откровение, ибо Откровение есть пробуждение, освобождение от уз «нематериальных» истин, с которыми потомки падшего Адама так свыклись, что вне их самое бытие кажется немыслимым. Философия видит высшее благо в ничем не возмущаемом покое, т. е. в крепком сне без тревожных сновидений. Оттого она так гонит от себя все непонятное, проблематическое и таинственное, оттого она так избегает вопросов, на которые у нее нет заранее приготовленных ответов.
Паскаль же в окружающей нас непонятности и загадочности видит залог лучшего бытия, и всякие попытки упростить жизнь, свести неизвестное к известному кажутся ему кощунственными. Припомните все, что в своих Pensées Паскаль говорил по самым различным вопросам. Все под его руками разрывается, разбивается вдребезги, теряет всякий смысл, всякое внутреннее единство. Если бы нос Клеопатры был чуть короче, всемирная история получила бы иное направление. Правосудие наше имеет своей границей протекающий ручей: по сю сторону убивать нельзя, по ту — можно. Цари и судьи так же ничтожны, как подданные и подсудимые и т. п. И все это не «игра ума», все это имеет глубочайшие корни в душе Паскаля. Паскаль действительно убежден, он видит, что всемирная история определяется ничтожными случайностями. И если бы он жил в наше время, когда все научились от Гегеля видеть во всемирной истории саморазвитие духа,— он не отказался бы от своих слов. И если Гегель теперь сведен к очной ставке с Паскалем (мы ведь согласились, что в таком допущении нет ничего невозможного), то надо полагать,
756
Л. ШЕСТОВ
что на высшем суде нашли, что в короткой фразе Паскаля больше «прозрения», чем в толстых томах Гегеля. Это для нас непонятно и неприемлемо? Но, раз вы хотите быть с Паскалем, у вас нет иного выхода, как vous abêtir и непрерывно повторять вслед за ним за- клинательные слова — humiliez-vous, raison impuissante, taisez- vous, nature imbécile (434)38. На высшем суде наши veritates æternæ не признаются. Это там, на этом суде, Паскаль и научился отводить бессильный разум и дурацкую природу нашу. Вот как он сам об этом рассказывает: “Chose étonnante cependant, que le mystère le plus éloigné de notre connaissance, qui est celui de la transmission du péché, soit une chose sans laquelle nous ne pouvons avoir aucune connaissance de nous- mêmes! Car il n’y a rien qui choque plus notre raison que de dire que le péché du premier homme ait rendu coupables ceux qui, étant si éloignés de cette source, semblent incapables d’y participer. Cet écoulement ne nous paraît pas seulement impossible, il nous semble même très injuste; car qu’y a-t-il de plus contraire aux regies de notre misérable justice que de damner éternellement un enfant incapable de volonté, pour un péché où il paraît avoir si peu de part, qu’il est commis six mille ans avant qu’il fût en être? Certainement, rien ne nous heurte plus rudement que cette doctrine; et cependant, sans ce mystère, le plus incompréhensible de tous, nous sommes incompréhensibles à nous-mêmes. Le noeud de notre condition prend ses replis... dans cet abîme; de sorte que l’homme est plus inconcevable sans ce mystère que ce mystère n’est inconcevable à l’homme” (434)*. Совершенно очевидно, что мысль, лежащая в основе этого отрывка, никогда не будет причтена людьми к тем вечным истинам, которые открываются всем и каждому при свете разума. И Паскаль это превосходно знает. Он сам подчеркивает, что ничто не может так возмутить наш разум и нашу совесть, которым дано решать, что есть истина и что есть справедливость, как тайна грехопадения и наследственного греха. Наследственный грех * Удивительно между тем, что самая непостижимая для нашего разумения тайна — преемственность первородного греха — и есть именно то, без чего мы никоим образом не можем познать самих себя! И действительно, ничто не шокирует так наш разум, как ответственность за грех первого человека, распространяющаяся на тех, кто, по-видимому, не мог соучаствовать в нем и не может нести вину за него. Эта наследственность вины кажется нам не только невозможной, но и крайне несправедливой; с нашим жалким правосудием никак не согласуется вечное осуждение безвольного ребенка за грех, в котором он принимал, по-видимому, так мало участия, ибо оно произошло за шесть тысяч лет до его появления на свет. Конечно, ничто не может оскорбить нас больше, чем это учение; тем не менее без этой тайны, самой таинственной из всех тайн, мы не будем понятны самим себе. В этой бездне... завязывается узел нашей участи; так что без этой тайны человек непонятен еще больше, чем сама эта тайна (фр.).
Гефсиманская ночь (Философия Паскаля)
757
представляется нам как бы нарочитым воплощением всего, что мы считаем безнравственным, постыдным, бессмысленным, невозможным. И все-таки,— говорит Паскаль,— здесь величайшая истина. Как и Тертуллиан, и как Лютер, он ясно видит все pudet, ineptum и impossibile, из которых составлено библейское сказание о грехопадении,— и все же заявляет: non pudet, prorsum credibile est, и даже последнее, торжествующее certum. В этом и было «обращение» Паскаля, как видно из сохранившейся записки, которую он носил зашитой под подкладкой своего платья. В ней он решительно отрывается от эллинской истины. “Dieu d’Abraham, Dieu d’Isaac, Dieu de Jacob, non des philosophes et des savants” (Op. 2, 13)*, так формулирует он в кратких, наскоро набросанных словах то, к чему он пришел. И тут — все та же «пропасть», тот же запутанный клубок непримиримых противоречий. Тут и страшная фраза — Господи, отчего ты меня покинул, и слезы радости, и сомнения, и уверенность. И над этим одно безумное, страстное желание: забыть весь мир, забыть все — кроме Бога. Забыть все правила, все законы, все вечные и нематериальные истины, в подчинении которым философия видела наше назначение. Вынести все муки — не только физические, но и нравственные, чтоб достичь последней цели: éternellement en joie pour un jour d’exercice sur la terre (Op. 2, 13)**. «Ненавистному Я » должна быть возвращена утерянная Адамом свобода и первое благословение Творца. И что, сравнительно с этими великими дарами Творца, наши «вечные» земные истины и высокие добродетели!
X
Мы видим, как радикально изменилось все в Паскале. Прежде он боялся больше всего «разума» с его приговорами и совести с ее «беспощадным» судом. Теперь и приговоры разума и суд совести для него перестали существовать. Пожалуй, можно выразиться сильнее. По-видимому, он чувствует, что все, что запрещено разумом и совестью, нам больше всего нужно. Только, пожалуй, нужно сделать одну оговорку к этому, чтоб не дать повода к ложным истолкованиям.
Паскаль, мы помним, в противоположность Декарту и другим философам, под истиной разумел не то, что может всякий увидеть, если ее показать ему. Он утверждал, что Бог так устроил мир, что одни люди осуждены быть зрячими, другие — слепыми. И что слепота и зрячесть вовсе не в нашей воле: кого хочет. Бог обманывает, а кого не хочет — * Бог Авраама, Бог Исаака, Бог Иакова, а не философов и ученых (фр.).
** Навеки в радости за один день подвига на земле (фр.).
758
Л. ШЕСТОВ
не обманывает, и принудить Бога всем показывать истину у нас нет никакой возможности. И потому истине нет нужды прятаться от людей. Она ходит меж ними ничем не прикрытая — и кому не полагается, тот все равно ее не увидит: нет у него соответствующих глаз.
Может быть, кстати, уместно здесь будет заметить, что паскалевская теория познания не такая уже небывалая, как это может показаться с первого взгляда. Т. е. не то чтобы Паскаль ее у кого-нибудь позаимствовал. Это он сам ее выдумал или, лучше сказать, нашел там, где никто теории познания никогда не ищет,— в Св. Писании. Но и другие философы, даже языческие, уже кой о чем догадывались. Платон говорил Диогену09, что у него нет «органа», чтобы видеть «идеи». И Плотин40 знал, что истина не есть «общеобязательное суждение». Чтоб увидеть истину, учил он, нужно «взлететь» над всеми общеобязательностями, нужно выйти за пределы («по ту сторону») разума и совести. Все это Платон и Плотин говорили, но история сохранила нам из Платона и Плотина другое: из Платона, как мы помним, что величайшее несчастье стать pioôZoyoç’oM (т. е. ненавистником разума), из Плотина: ар/п ovv о Xôyoç кса Ttdvra Zôyoç (начало — разум, и все — разум). Остальное, как для людей бесполезное, история отбросила, и современные теории познания, хотя они все почти опираются на Платона и очень считаются с Плотином, исходят из суждения Аристотеля, что истина есть то, чему всегда всякого научить можно. Паскаль, мы знаем, утверждал, что ничего нельзя разобрать в делах Бога, если не помнить твердо, что Он одних хочет aveugler, а других — éclairer. Но, по-видимому, и Паскаль не договорил до конца. По-видимому, Бог даже одного и того же человека то éclaire, то aveugle. И потому человек то видит истину, то не видит ее. И даже так сплошь и рядом бывает, что человек одновременно и видит, и не видит. Оттого в «последних» вопросах нет, не может и не должно быть, как нам рассказывал Паскаль, ничего прочного и несомненного. Оттого сам Паскаль точно соткан из противоречий. «Мысли», как он передает, случайно к нему приходят и случайно от него уходят. В стройные ряды трезвых рассуждений, из которых составлено его пари, внезапно врывается пьяное и бессмысленное “s’abêtir”. На одной странице он восхваляет разум, на другой он его грубо и презрительно осаживает. И le moi, о котором говорится, что оно haïssable (455) и что la vraie et unique vertu est donc de se haïr (485)*, становится самым драгоценным из всего, что есть в мире, много драгоценнее, чем все добродетели, которые Паскаль предоставляет пелагианцам и обитателям конюшен. Le cœur a ses Настоящая и единственная правда в том, чтобы ненавидеть себя (фр.).
Гефсиманская ночь (Философия Паскаля)
759
raisons, que la raison ne connait point (277)*, вмешивается повсюду и производит самые неожиданные, самые чудесные превращения. Правда, можно это положение обернуть. Можно «с таким же правом» провозгласить: la raison a ses raisons que le cœur ne connaît pas**. Так оно и есть на самом деле. Разум предъявляет свои требования, не справляясь с сердцем, как и сердце предъявляет свои, не справляясь с разумом. «Сердце» —что это за таинственное сердце? — говорит с Иовом: если бы мою печаль положили на весы, она была бы песка морского тяжелее. Разум отвечает: печаль даже всего мира не может перевесить одной песчинки. Опять спор, и опять неизвестно, кто спор разрешит. Разум продолжает настаивать: человек есть тонкий тростник, затерявшийся в бесконечных пространствах; слабое дуновение ветра, капля воды может убить его — как очевидно всякому. Да, возражает Паскаль,— это очевидно; но и ветер, и капля, и даже весь огромный мир, они не чувствуют ни своей силы, ни слабости человека, стало быть, их сила — призрачна и ничтожна. Аргумент это? Можно так спорить, так бороться с очевидностью? Конечно, разум такой аргумент отвергает. Разум признает доказательную силу только за теми нематериальными истинами, которых ни капля воды, ни ветер, ни весь огромный мир не могут уничтожить. Для разума «уничтожение» есть то, пред чем он сам благоговейно преклоняется и пред чем, по его законам, и все должны благоговейно преклоняться. Ведь это он, разум, выучил Паскаля — а до Паскаля и древних философов,— что le moi est haïssable, ибо оно не вечно, ибо оно знает yéveotç и фбора, рождение и смерть. И он же внушил Паскалю основную заповедь: il faut tendre au général — нужно стремиться к общему, заповедь, на которой выросла и которой держалась древняя и новая философия, без которой немыслима ни этика, ни теория познания. Но «сердце» ненавидит «общее» и не хочет, сколько бы ни грозил и как бы ни соблазнял его разум, тяготеть к «общему», как не хочет оно в разуме признать высшего законодателя. Паскаль призывает почерпнутые им из Библии «истины», чтоб при их помощи свалить и разум и его требования. Вам очевидно, что то, что имеет начало, должно иметь и конец, вы считаете смерть таким же «естественным» явлением, как и все прочие естественные явления. Но ваша «очевидность» — есть ваша слепота. Декарт в своей ученой наивности уверовал, что Бог не хочет и не может обманывать людей, так как этого ему не разрешает языческая теория познания и этика. Но мы уже знаем, что есть другая теория познания и другая этика и что Бог и может, * У разума свои основания, которых сердце не знает (фр.).
** У сердца свои основания, которых разум не знает (фр.).
760
Л. ШЕСТОВ
и хочет обманывать людей. И величайший обман (его не избег даже божественный Платон), что все, что имеет начало, имеет и конец, должно иметь конец и что смерть есть, стало быть, естественное явление в ряду прочих естественных явлений. Конечно, многое, что имеет начало, имеет конец. Но не все. Смерть же, которую разум «понимает» как необходимое следствие из установленных им принципов, на самом деле есть самое непонятное, самое «неестественное» из всего, что мы наблюдаем в мире. И еще более « неестественно», что люди могли поверить в истины разума, возлюбить «общее», «законы» и возненавидеть свое Я, что они могли так заинтересоваться и «нематериальными» истинами, что совсем забыли о своих судьбах. “L’immortalité de l’âme est une chose qui nous importe si fort, qui nous touche si profondément, qu’il faut avoir perdu tout sentiment pour être dans l’indifférence de savoir ce qui en est” (194)*. И еще раз: “Rien n’est si important à l’homme que son état; rien ne lui est si redoutable que l’eternité. Et ainsi, qu’il se trouve des hommes indifférents à la perte le leur être et au péril d’une éternité de misères, cela n’est point naturel. Ils sont tout autres à l’égard de toutes les autres choses: ils craignent jusqu’ aux plus légères, ils les prévoient, ils les sentent; et ce même homme qui passe tant de jours et de nuits dans la rage et le désespoir pour la perte d’une charge ou pour quelque offense imaginaire à son honneur, c’est celui-là même qui sait qu’il va tout perdre par la mort, sans inquiétude et sans émotion. C’est une chose monstrueuse de voir dans un même cœur et en même temps cette sensibilité pour les moindres choses et cette étrange insensibilité pour les plus grandes. C’est un enchantement incompréhensible et un assoupissement surnaturel qui marque une force toute-puissante qui le cause” (194) **.
Вы видите, как все обернулось для Паскаля. Эллинская этика и эллинская теория познания, с их отвращением ко всему иррацио* Бессмертие души для нас столь важный вопрос, он касается нас так глубоко, что нужно утратить всякое сознание, чтобы быть равнодушным к нему (фр.).
** Ничто так не важно для человека, как его положение; ничто ему так не страшно, как вечность. Поэтому совершенно противоестественно, что находятся люди, равнодушные к утрате своего бытия и к опасности вечного ничтожества. Совсем иначе относятся они к любой другой вещи: боятся всего вплоть до сущей безделицы, стараются все предусмотреть, всему сочувствуют; и тот самый человек, который проводит столько дней и ночей в досаде и отчаянии по поводу потери должности или какого-нибудь воображаемого оскорбления своей чести,— тот же самый человек, зная, что со смертью он потеряет все, не беспокоится об этом, не волнуется. Чудовищно видеть, как в одном и том же сердце в одно и то же время уживаются такая чувствительность к мелочам и эта странная бесчувственность к самому важному. Эта непостижимая завороженность и сверхъестественное отупление свидетельствуют о всемогущей силе, которая их вызывает (фр.).
Гефсиманская ночь (Философия Паскаля)
761
нальному, с их le moi est haïssable, с их тяготением к «общему», с их верой в «естественность» смерти, теряют всякую власть над ним. Там, где «философия» находит истину и усматривает самоочевидность, там Паскаль видит enchantement и assoupissement surnaturel п. И теперь мы уже, пожалуй, не решимся отвергнуть его заклинание: humiliez- vous, raison impuissante (434). Ведь если «вечные истины» приводят только к enchantement и assoupissement, если мы живем в завороженном царстве, то как освободиться человеку от сверхъестественных чар? Мы презираем суеверие, мы убеждены, что «заклинания» бессмысленны,— это тоже одна из наших вечных истин. Но так было до тех пор, пока наша теория познания и наша этика исходили из предположения, что Бог должен быть правдивым и, как люди, подчиняется стоящему над ним закону. Но раз мы узнали, что Бог хочет, чтобы одни были слепыми, а другие — зрячими,— тогда дело совершенно меняется. Тогда «заклинание» является единственным, хотя и «сверхъестественным» способом вырваться из навеянных сверхъестественной же силой очевидностей — заблуждений. Тогда разыскание истины уже не может быть спокойным и бесстрастным исследованием. Тогда приходится признать правильно ищущими лишь тех, кто cherchent en gémissant. Тогда и пропасть, от которой не мог избавиться Паскаль, и его безумный страх пред пропастью желанней, чем твердая почва и спокойствие духа. Только ужас, который испытывает человек, когда он чувствует, что почва исчезла под его ногами, что он проваливается в бездонную глубину, может привести его к «безумному» решению отвергнуть «закон» и пойти наперекор всеми признанным истинам. Оттого в своих Pensées Паскаль так много говорит об ужасных условиях нашего земного существования. Разум твердит свои истины: А = А, часть меньше целого, две величины, равные порознь третьей, равны меж собой, что имеет начало, должно иметь конец и т. д.; мораль требует, чтоб добродетель была довольна собой, чтоб человеческое Я, по существу враждебное всяким законам, было приведено к покорности, чтоб сам Бог покорился закону. Паскаль все это слышит и знает: он был в светском и духовном Риме, учился у Эпиктета с Монтеньем и у своих робких пор-руаяльских друзей. И там и здесь он усвоил себе все нематериальные и вечные истины и научился приводить их к единой истине, которую люди называют Богом. Он узнал, что среди людей другого Бога не бывало и что «власть ключей» передана была самим Богом тому, кто трижды за одну ночь от Бога отрекся.
Но на последнем суде Паскаль узнал другое. В ответ на его молитву: faites (Seigneur) que je me considère en cette maladie comme en une espèce de mort, séparé du monde, dénué de tous les objets de mes
762
Л. ШЕСТОВ
attachements, seul en votre présence (Op. 1, 3)*, Бог послал ему conversion de son cœur**, о котором он мечтал. Seul en votre présence42, из этого стремления стать лицом к лицу пред Богом (у Плотина — сриут] pôvouç îtpôç pôvov,:|) и выросла решимость Паскаля призвать к ответу пред Господом мир и Рим. Это и вытолкало его из общей колеи, это дало ему силу и смелость так властно разговаривать с не знающим над собой господина разумом, это научило его противоставлять здравым рассуждениям свое магическое «рассыпься» (humiliez-vous, raison impuissante) (434). Всем можно пожертвовать, чтоб найти Бога. И прежде всего нашими вечными и нематериальными истинами, которые «положительная философия» за их действительную немате- риальность и мнимую вечность поставила на место Бога. Этого нельзя «простить», никогда нельзя «простить» Декарту. Через Декарта люди вновь были ослеплены, приведены к тому чудесному enchantement и assoupissement, о котором нам рассказал Паскаль. Как пробудить мир от оцепенения? Как вырвать людей из власти смерти? Кто вдохнет действенную силу в заклинательное слово «рассыпься»? Кто поможет нам сделать из manque de clarté наше profession?44 Кто даст нам великое дерзновение отказаться от даров разума, nous abêtir? Кто сделает, чтоб скорбь Иова оказалась тяжелее песка морского?
Ответ Паскаля: Jésus sera en agonie jusqu’à la fin du monde (553)45: сам Бог прибавил свои бесконечные страдания к страданиям Иова, и к концу мира Божеская и человеческая скорбь перевесят морской песок. А пока — ив этом сущность философии Паскаля, так непохожей на то, что обычно философией называется,— ne cherchons pas assurance et fermeté (172)*** в нашем сверхъестественном зачарованном мире. Нельзя быть спокойным, нельзя спать. Не всем нельзя — а лишь некоторым, редким «избранникам» — или «мученикам». Ибо если и они уснут, как уснул в достопамятную ночь великий апостол, то жертва Бога окажется напрасной и в мире окончательно и навсегда восторжествует смерть.
* Сделай (Господи) так, чтобы в этой болезни я сознавал себя как бы умершим, отделенным от мира, лишенным всех предметов моей привязанности, одиноко предстоящим Тебе (фр.).
** Обращение его сердца (фр.).
*** Не будем же искать уверенности и прочности (фр.).
С. С. АВЕРИНЦЕВ
Два рождения европейского рационализма
Важнейший символ духа Нового времени — издававшаяся Дидро и Д’Аламбером «Энциклопедия» («Encyclopédie, ou Dictionnaire Raisonné des Sciences, des Arts et des Metiers, par une Société des Gens des Lettres», 1751-1780). Ее заглавие, привычное для нас, ибо вошедшее в обиход с легкой руки все тех же Дидро и Д’Аламбера, но вовсе не столь обычное для их времен*, заставляет для начала вспомнить о греческом языке. Оно хочет быть греческим. Чтобы отдать дань педантизму классической филологии, заметим, что ЕукокАояси&1а (в одно слово) — это ошибочное чтение вместо éyKÔKÀioç ranôsia встречающееся в некоторых рукописях и старинных изданиях Квинтилиана**1. Что до словосочетания éyKUKZioç 7tcu6eia, само оно появляется лишь поздно, у авторов римской эпохи, начиная с Дионисия Галикарнасского (I в. до н. э.)***2, но выражаемая им идея восходит к временам древних софистов и специально Гиппия Элейскогоа (2-я пол. V в. до н.э.), который, по свидетельству диалогов Платона, преподавал именно * Единственный пример сходного словоупотребления был подан в Англии, на которую столь часто оглядывались энциклопедисты: Ephraim Chambers, Cyclopaedia, v. 1-11,1728. Как известно, французская «Энциклопедия» родилась из более скромного замысла издателя Ле Бретона — переработать перевод труда Э. Чэмберса. Обычным заглавием для энциклопедического издания в XVII и XVIII вв. было «словарь» (например, знаменитые «Dictionnaire historique et critique» П. Бейля, 1695 1697, и «Dictionnaire philosophique» Вольтера, 1764-1769)и «лексикон» (например, «Lexicontechnicum» Гарриса. 1704).
** De institutione oratoria, lib. 1, с. 1,10.
*** De comparatione verborum, 206; cf. De Thucydide, 50 ёукйкХш puOf|para — синоним éyKÛKXioç xatSsia. Если верить Диогену Лаэртскому (ИЬ. VII, с. 32), об ё'/кбк/.юс TtaiSeia говорили уже во времена стоика Зенона, т. е. в конце IV в. до н. э.; неясно, однако, насколько достоверна информация Диогена и говорит ли она о наличии самого термина или только понятия.
764
С.С. АВЕРИНЦЕВ
то, что впоследствии стало называться éyKÏwZtoçTtctioda — «энциклопедические» знания*.
IlaiSeia — это «воспитание», «образование», «культура». Точное значение прилагательного éyKÙKXtoç много обсуждалось в классической филологии **; итоги дискуссии позволяют выделить два дополняющих друг друга смысловых момента — во-первых, полноты и завершенности «цикла» дисциплин, во-вторых, широкой доступности, экзоте- ричности в противоположность эзотерике специалистов ***. То и другое хорошо подходит для характеристики программы «Энциклопедии» Дидро и Д’Аламбера. Первое отчетливо сформулировано в известном «Предварительномрассуждении» Д’Аламбера: «Как энциклопедия труд наш должен излагать, насколько возможно, порядок и последовательность человеческих знаний» ****. Второе находит соответствие в решимости энциклопедистов обращаться через голову ученой касты к всеевропейской публике образованных светских людей — той публике, которая, собственно, и была творима их усилиями. Эта черта популярности и популяризаторства объединяет философскую пропаганду энциклопедистов с философской пропагандой софистов, к эпохе которых недаром прилагали иногда имя античного «Просвещения» ; и в одном, и в другом случае закономерно и необходимо возникала атмосфера вызова и скандала — весь тот шум, отголоски которого слышны, скажем, в «Облаках» Аристофана4, но и в инвективной литературе XVIII в. Сам по себе шум — в данном случае отнюдь не пустое и не внешнее обстоятельство истории мысли, но содержательная характеристика процедуры интеллектуальной революции. До софистов были Гераклит и Парменид5, до энциклопедистов — Ф. Бэкон, Декарт, Спиноза; но интеллектуальная революция становится из возможности фактом не тогда, когда открыт новый способ мыслить, а тогда, когда этот способ мыслить доведен до сведения всех носителей данной культуры.
Попутно отметим дальнейшее сходство позиционных отношений. Реакция на движение софистов породила для начала то, что современники и потомки вычитывали из личного образа Сократа; затем пришли классические системы греческого идеализма, причем Платон
* Platonis Hippias minor, р368 bd; Protagoras 318 df; Hippias maior285 b sgg.
** Cp. Koller H. È'/kùk/.io' itatSela «Glotta», 34,1955, S. 174-189.
*** Cp. Wieland W. Aristoteles als Rhetoriker und die exoterischen Schriften, «Hermes», 86, 1958, S. 323-342. Плутарх соединяет É'/KÙK/.ta Kai koivü как синонимы (De audiendo, c. 13,45 c.).
**** D’Alambert J, Le Rond. Discours préliminaire de l’Encyclopédie. Ed. par F. Pica- vet.P., 1894.
Дварождения европейского рационализма
765
предложил более интенсивный тип синтеза, Аристотель — более экстенсивный. Реакция на движение энциклопедистов породила для начала то, что современники и потомки вычитывали из личного образа Руссо *; затем пришли классические системы немецкого идеализма, причем наблюдается аналогичное соотношение между систолой этого идеализма в системе Канта и его диастолой6 в системе Гегеля**. Но в обоих случаях все последовавшее только подтверждало необратимость произошедшей революции. Образ Сократа как антипода софистов эффективно воздействовал на воображение современников не вопреки тому, а именно потому, что Сократ был человеком софистической культуры; и таково же отношение Руссо к энциклопедистам. Философская культура Платона и Аристотеля предполагает дискуссии века софистов как данность культурного быта, предмет отталкивания, но и точку отсчета; и таково же отношение немецкого классического идеализма к умственным битвам эпохи Просвещения.
Вернемся, однако, к слову «энциклопедия». Во французском языке оно впервые появляется у Рабле7: речь идет о «кладезях и безднах энциклопедии» ***. Само собой разумеется, что оно не имеет никакого отношения к идее словаря, «dictionnaire raisonné». Важнее, что оно не предполагает также идеи более широкой — принципа «порядкаи последовательности человеческих знаний», как говорил Д’Аламбер; того просветительского пафоса, который выражен в заглавии женевского и лондонского изданий «Философского словаря» Вольтера: «Разум в алфавитном порядке» ****. В эпоху Ренессанса * Сопоставление Руссо с Сократом лежало на поверхности. Достаточно вспомнить стихи молодого Шиллера на могилу Руссо (1781).
** Представление о некоей симметрии между фигурами Платона и Канта тоже лежит на поверхности. Вот несколько примеров, взятых наугад. «Относительно вопроса о началах и сущности науки вся история философии разделяется на две неравные эпохи, из которых первая открывается Платоном, вторая — Кантом» (Юркевич П. Д. Разум по учению Платона и опыт по учению Канта. «Московские Университетские Известия», 1865, № 5, с. 323). «Основоположное философское открытие сделано Платоном и Кантом... » (Бердяев Н. А. Опыт эсхатологической метафизики. Париж, 1947, с. 15). «Оба были узловыми пунктами, в которых сходились и из которых расходились философские течения... Платон и Кант относятся между собою, как печать и отпечаток; все, что есть у одного, есть и у другого» (Флоренский П. Из богословского наследия. «Богословские труды», сборник XVII. М., 1977, с. 126). «Что касается Платона, то его скорее можно сравнить с Кантом... Платон, как и позднее Кант, дал философское обоснование математики» (Гайденко П. П. Обоснование научного знания в философии Платона. В сб.: «Платон и его эпоха». М., 1979, с. 98 и 99).
*** Pantagruel, chap. 20.
**** «La Raison par alphabet». Geneve, 1769.
766
С.С.АВЕРИНЦЕВ
идеал экстенсивной полноты знания характеризовался скорее переливающимся через край изобилием — «кладези и бездны»,— чем жесткой внешней упорядоченностью. Этот контраст заставляет подумать о возможности классифицировать культуры наряду с другими путями классификации также и по следующему различительному признаку: требует ли культура более или менее всеохватывающей организации корпуса наличных знаний на основе императива «порядка и последовательности», или она обходится без такой организации, даже, может быть, избегает ее? Несовместимые со складом мысли Платона, «порядок и последовательность» совершенно необходимы для Аристотеля. Будучи в значительной степени платоническим по типу своего вдохновения, Ренессанс, в общем, избегал формализованного порядка. Темы «Опытов» Монтеня по своей широте могут показаться своего рода разрозненной энциклопедией; нельзя, однако, зная Монтеня, вообразить, чтобы сам он пожелал увидеть разрозненное собранным. Так вот, если проводить классификацию по вышеназванному признаку, энциклопедисты, видевшие в том же Монтене своего предшественника, довольно неожиданно оказываются вовсе не в его обществе, но в обществе ненавистных им создателей средневековых схоластических сводов, какими были, например, Винцент из Бове, автор «Великого зерцала» 8, или Фома Аквинский с обеими своими «Суммами»9. Лучше, впрочем, держаться конкретных историко-культурных реалий и подумать о том, что могло вправду попасть в поле зрения великих антиклерикалов XVIII в., и тогда придется вспомнить о таком актуальномдля них явлении, как капитальная морально-теологическая система «пробабилиориста» Альфонса Лигуори* К1, родившегося в 1696 г., т. е. за год до выхода в свет бейлевского словаря, и умершего в 1787 г., т. е. тремя годами позже, чем Дидро. Функция авторитетного учительства, «магисте- риума», вполне естественным образом стимулирует тяготение к «порядку и последовательности». Статья в энциклопедии отличается от статьи в журнале и от любого полемического текста тем, что ставит себя вне спора: не убеждает читателя, а поучает, «просвещает» его, предлагает ему принять нечто к сведению. Энциклопедический жанр сам по себе преобразует спорное в бесспорное. Это своего рода анти- авторитаристский авторитаризм: спор идет о праве учить, как учит проповедник с кафедры. Не говорит ли одна эпиграмма Экушара- Лебрена11, что Век Просвещения «побуждает проповедовать всюду, только не в церкви»?
* Alphonsi М. Liguori. Theologia moralis, v. I—II, Neapoli, 1753-1755. Delerue F. Le Système moral de St. Alfonse. St. Etienne, 1929.
Два рождения европейского рационализма
767
Параллели между аттической интеллектуальной революцией V-IV вв. до и. э.12 и всеевропейской интеллектуальной революцией второй половины XVIII в. как в области мысли, так и в области эмоциональной атмосферы вокруг мысли бывают очень яркими. В качестве примеров дословных совпадений можно назвать некоторые общеизвестные тексты. В «Сновидении Д’Аламбера», этой фантазии Дидро, продолжающей «Разговор Д’Аламбера с Дидро» 13, развиваются любопытные соображения о тождестве рождения и смерти:
«Живя, я действую и реагирую на действие всей массой; после смерти я действую и реагирую на действие в молекулах... Родиться, жить и перестать жить — это значит менять формы» *.
Интеллектуальный вызов, мятеж и протест против силы внушения, исходящей от простейших универсалий человеческого бытия — «родиться», «умереть»,— против эмоциональной магии, заключенной в самих этих словах, стремление поменять местами и через это как бы взаимно погасить их коннотации, заставляет вспомнить знаменитую фразу Еврипида11, насыщенную софистическим духом и как раз в качестве образчика такого рода спародированную в «Лягушках» Аристофана**15. Фраза эта восходит к утраченной трагедии, возможно, к «Полииду» или к «Фриксу», и обычно приводится в таком виде:
«Кто знает, быть может, жить — то же, что умереть а умереть почитается у дольних *** жизнью? » ****
Разумеется, у сходства есть границы. Аргументация в духе механического материализма, апеллирующая к движению молекул, чужда Еврипиду и заставляет вспомнить из древних уж скорее атомиста Лукреция. Но сам интеллектуальный аффект, заключенный в этом страстном и насильственном разрыве с автоматизмом естественного восприятия фактов жизни и смерти — один и тот же, и он оба раза * Diderot D. Le rêve de d’Alambert. Ed. par Varloot J., P., 1962.
** Renae, 1477-1478: «Кто знает, быть может, жить — то же, что умереть, дышать — попойка, а почить — овчинка? » В стихах 1080-1082 той же комедии Еврипид укоряется за то, что через своих персонажей подал гражданам и специально гражданкам примеры крайнего кощунства: «и рожать в святилищах, и любиться с родными братьями, и говорить, что жизнь — это не жизнь».
*** По другому чтению — «у смертных».
**** Fragjn. 639 Nauck (sf. fragm. 830 Nauck).
768
С.С. АВЕРИНЦЕВ
выражает себя сходным образом в риторической эмфазе, в игре антитез и антонимов*.
Другой пример — наверное, самые известные слова Вольтера, которые только существуют: афоризм из стихотворного «Послания к автору книги “О трех обманщиках”».
“Si Dieu n’existait pas, il faudra l’inventer” ( «Если бы Бога не было, его следовало бы изобрести») **.
Нас занимает в данном случае не двойственность позиции Вольтера перед лицом утилитарно-социального функционирования религии, давно ставшая предметом анализа. Нас интересуют линии широких историко-культурных связей, расходящиеся по меньшей мере в три стороны. Во-первых, самый глагол inventer звучит как буквальный перевод греческого é^eupeïv которое уже было употреблено в приложении к вере в богов в одном важном тексте софистической эпохи. Речь идет о фрагменте сатировской драмы16, иногда приписывавшейся тому же Еврипиду, но принадлежавшей, по-види- мому, знаменитому софисту и политическому деятелю Критию17, одному из «тридцати тиранов» ***. Происхождение религии трактуется в этом монологе Сизифа18 следующим образом. Когда-то в отношениях между людьми господствовала непереносимая анархия; тогда умнейшие догадались и установили «карающие законы», чтобы «правосудие было госпожою, а дерзость — рабою». Однако этот первый законодательный акт поправил дело лишь наполовину: злодеи перестали творить преступления явно, но продолжали творить * Отрицание наивного равенства себе понятий жизни и смерти, игра мысли и игра слова вокруг этого отрицания — это распространенное «общее место». В разрыве инерции общепринятого были заинтересованы не только рационалисты, но также их наиболее крайние противники — мистики, тоже склонные к установке на разоблачение видимости и вскрытие парадоксального несоответствия между ней и сущностью, на отталкивание от естественного восприятия вещей. Яркий пример — слова Хуана де лаКрус: «я умираю от того, что не умираю» (смысл — отсутствие физической смерти составляет преграду на пути к вечной жизни и постольку является в некотором смысле духовной смертью; иногда стихотворение приписывается Тересе из Авилы). Цветаева хорошо знала цену высокой риторике. Вее «Новогоднем» сказано: «...Значит, жизнь не жизнь есть, смерть не смерть есть... » Позднее она оспаривала старое общее место: «... И что б ни пели нам попы, / Что смерть есть жизнь и жизнь есть смерть... » 19 Epitres, CIV. A l’auteur du livre des Trois Imposteurs, v. 22.
** Epitres, CIV. A l’auteur du livre des Trois Imposteurs, v. 22.
*** Ср.: Панченко Д. В. Еврипид или Критий? «Вестник древней истории», 1980, № 1, с. 144-162.
Два рождения европейского рационализма
769
их тайно. Потребовался второй регулятивный акт: некий «мудрый и мощный мыслью муж» счел целесообразным «изобрести, é^supeïv, страх перед богами» *. Это рассуждение не менее амбивалентно, чем рассуждение Вольтера: адепт софистического просвещения отвергает религиозную традицию как свидетельство об истине, однако восторгается ей как «изобретением». В перспективе традиционного мировоззрения бог как человеческое «изобретение» — это кощунство; но в перспективе апофеоза рационалистической социальной «архитектуры» — применительно к эпохе Вольтера вспомним о строительной символике масонов! ** — вещи выглядят по-иному: изобретение само по себе есть нечто великое. Автор «Сизифа» не просто «разоблачает» дело мудреца, «изобретшего» религию, он восторгается этим мудрецом и смотрит на него как на своего собрата. Религия как традиция и данность — препятствие для интеллектуальной революции, но религия как «изобретение» — аналог ее собственных «изобретений». Примером аналогичной двойственности в просветительской литературе XVIII в. может служить хотя бы роман Виланда «Агатодемон» ***19; герой романа, неопифагорейский кудесник из времен поздней античности Аполлоний Тианский, представлен как расчетливый мистификатор с чертами Калиостро или Сен-Жермена20, но в его внутреннем уединении и в его замысле, направленном на возрождение упавшей морали современников, есть нечто, бесспорно импонирующее скептическому автору. В «Волшебной флейте» Моцарта21, этом музыкальном манифесте Века Просвещения, та же черта расчетливой таинственности, которая доказывает злокозненность Царицы Ночи, свидетельствует о благожелательной мудрости Зарастро; что компрометирует одну, удостоверяет добродетель другого ****.
Во-вторых, представление о Боге как функции законодательствующего разума во Франции XVIII в. получает дополнительную окраску, какой оно не имело в Греции V в. до н. э.; а именно оно предстает как своеобразная пародийная инверсия или переориентация * Kritias В 25 (Diels).
** Как известно, еще в 1740 г. пожелания, исполненные в дальнейшем изданием «Энциклопедии» Дидро и Д’Аламбера, были высказаны главой парижской масонской ложи герцогом Д’Антеном; издатель Ле Бретон, приступивший к организационной работе, также был членом ложи. См. Venturi F. Le origini dell’ «Encyclopedia». Torino, 1963.
*** Wieland Chr. M. Agathodâmon. Aus einer alten Handschrift. Leipzig. 1799.
**** Имеются сведения, что первоначально И. Шиканедер, автор либретто, наделял двух главных магов оперы иными характеристиками; в это легко поверить: добро и зло здесь нетрудно поменять местами.
770
С.С. АВЕРИНЦЕВ
католического порядка, делающего жизнь верующих объектом догматической и канонической регуляции со стороны папской власти. В этой связи можно вспомнить, например, заметку «Carême» 22 в «Энциклопедии» Дидро и Д’Аламбера, где не без эмфазы, выводящей нас за пределы церковной истории, упомянуто, что по некоторым данным великий пост «был установлен не кем иным, как папою Телесфором23 около середины II века» *. Как имя, так и дата подсказывают читателю: за безличным авторитетом закона ищи личный умысел законодателя. Католицизм, из которого оказывается «вычтен» инспирационизм, т.е. учение о божественном руководстве церковью, предоставляет как бы пустую рамку, способную послужить для просветительской утопии. Если можно «установить» пост и многое, многое другое, нельзя ли «установить» Бога? Хорошо известно, что Робеспьер пытался сделать именно это... Но если пере- функционирование католической концепции officium docendi24 и есть принадлежность Нового времени, то сам рационалистический миф о «законодателе», vojioOéttiç, или «изобретателе», ex>perf|Ç, лепящем по произволу своего разума жизнь народов, очень характерен для античной мысли. Достаточно вспомнить, как авторы вроде Плутарха рисуют персонажей вроде Ликурга или Нумы Помпилия **25. Даже эллинизированные иудеи приспосабливали к подобным понятиям образ своего Моисея***. Это философское переосмысление древней мифологической фигуры, известной у специалистов под именем «культурного героя» ****. Как правило, «культурный герой» носит черты «трикстера» — плута, обманщика, артистического шарлатана. Эти черты отнюдь не отнимают у него величия, напротив, они входят в его величие, сообщая ему специфическую окраску. Но и философский миф о законодателе тоже не чужд плутовской атмосферы, совсем напротив. Плутарх, автор благочестивый и высоконравственный, уверен, что Нума Помпилий инсценировал свои мистические беседы с нимфой Эгерией, чтобы произвести должное впечатление на народ, и хвалит за это мудрость таких, как он: «выдумка, спасительная для тех, кого они вводили в обман»,— вот его приговор*****. Если, однако, плутовская атмосфера сгущается, она требует разрядки в бутаде. Приведенный * Textes choisis de l’Encyclopedie. Ed. par Soboul A. Paris, 1962.
** Licurgus, c. 6,9,43d; c. 27; Numa, c. 4; c. 8, c. 15.
*** Cp. Momigliano A. Alien Wisdom: The Limits of Hellenisation. Cambridge. 1975, p. 92-95,120-122.
**** См.: «Мифы народов мира». M., т. 2,1982, с. 25-28 (имеется дальнейшая библиография).
***** Numa, с. 4. (Плутарх. Сравнительные жизнеописания, т. 1. М., 1961, с. 81).
Два рождения европейского рационализма
771
выше монолог из «Сизифа» имеет некоторые черты бутады26, а стих Вольтера — и подавно бутада.
В-третьих, если мы снимем этот налет внешней агрессивности, оспаривание религии у Вольтера обнаруживает знаменательное сродство с утверждением религии у Канта; Бог, который «нужен» * и которого поэтому необходимо «изобрести », не так уж далек от Бога, который является постулатом практического разума. Разница, конечно, в том, что немецкий философ переносит в глубины индивидуальной совести вопрос, бывший для Вольтера делом общественной регуляции. Впрочем, и Кант, как известно, думал в связи со своим «категорическим императивом» о«принципе всеобщего законодательства» **, будучи хотя бы в этом сыном Века Просвещения. Но связь с идеей законодательства деградировала у него почти до ранга простой метафоры, понятие «практического разума» приобрело характер интровертивный и приватный — черта протестантская в противоположность антипапистскому «папизму» француза. В этом пункте Вольтер гораздо ближе не только к автору «Сизифа», но и вообще к духу классической греческой философии, который был публичным, отнюдь не приватист- ским. Заглавие капитального труда Платона — «Законы», заглавие капитального труда Монтескье — «Дух законов» 27. Эта перекличка заглавий имеет значение символа и симптома.
& & &
Увидеть отношения симметрии между греческой интеллектуальной революцией V-IV вв. до н. э. и европейской интеллектуальной революцией XVIII в. н. э.— дело не трудное и не очень новое. Попробуем теперь сказать несколько слов о смысле этой симметрии.
Революции бывают разные. Переход от античного язычества к христианству — это чрезвычайно глубокий и широкий духовный переворот, предполагавший решительную переоценку ценностей, затрагивавший самые основы ориентации человека по отношению к другим людям и к самому себе, порождавший совершенно новые социальные структуры власти, авторитета, общений, необходимо влекший за собой долговременные, многообразные, подчас неожиданные или даже па* «Нужен Бог, который говорил бы к роду человеческому»,— сказано в поэме Вольтера о лиссабонском землетрясении.
** «Поступай так, чтобы максима твоей воли всегда могла быть вместе с тем и принципом всеобщего законодательства» (Кант И. Критика практического разума. СПб., 1897, с. 38. Этот перевод точнее нового).
772
С.С. АВЕРИНЦЕВ
радоксальные последствия для культурной деятельности, в том числе и самой «мирской» *. Этому перевороту сопутствовал выход на историческую арену новых народов, чья активность нередко находила себе стимул или санкцию перед лицом гордыни носителей старой культуры именно в христианстве **; и фоном для всего названного было крушение античного порядка и подготовка, а затем становление феодализма. Перемены, что и говорить, серьезные. Чего, однако, не произошло, так это коренного изменения объема простейших, элементарнейших категорий культуры. Средневековая литература в целом непохожа на античную***, но это литература именно в том смысле слова, в котором была таковой зрелая античная литература, но вовсе не в том, в котором мы говорим, с одной стороны, о древнеегипетской или древнееврейской литературах, с другой — о современной литературе. Данте есть автор «Божественной комедии» в том смысле, в котором Вергилий есть автор «Энеиды», но не в том, в которой Исайя — автор «Книги Исайи»28, а также не в том, в котором Лев Толстой — автор «Войны и мира» ; от Исайи его отделяет сознательное культивирование авторской манеры, от Льва Толстого — вера в стабильные и неизменные правила творчества, превращающие деятельность автора в нескончаемое «состязание» со своими предшественниками и преемниками****. Далее, как бы ни был рационализм потеснен христианской мистикой и церковной верой в авторитет — в тех пределах, которые указаны рационализму средневековой жизнью, он остается по своим наиболее общим основаниям таким, каким его создала античность*****.
* Один пример из многих — те дерзкие предположения об устройстве космоса, характерные для поздней схоластики, которые подготавливали исподволь новую картину мира, но имели эмпирической исходной точкой догмат о всемогуществе божием.
** Нам приходилось говорить об этом в другом месте; см.: «Из истории культуры средних веков и Возрождения». М., 1976, с. 23-27.
*** Впрочем, мы слишком легко забываем об определенных зонах средневековой литературы, где античные жанровые формы сохранялись и воспроизводились с замечательной верностью; достаточно вспомнить явление латинского ови дианства во Франции XI-XII вв. Инвариантом в составе античной, средневе ковой, ренессансной и барочной литератур была жанровая форма эпиграммы (ср.: Аверинцев С. С. Большие судьбы малого жанра. «Вопросы литературы», 1981, № 4). Точнее: средневековая литература была таковой в той мере, в которой она сознательно строила себя и воспринималась в качестве художественной литературы (см.: «Поэтика древнегреческой литературы». М., 1981, с. 11-12, примечание 1).
**** Ср.: «Поэтика древнегреческой литературы», с. 4-5; Автор — статья С.С. Аверинцева «Авторство и авторитет» (1994).
***** этому общему положению не противоречат черты нового, выявлявшиеся у мыслителей вроде Буридана (см. выше примечание 32). Как бы значительны они ни были, они до поры до времени остаются на периферии.
Два рождения европейского рационализма 773
В Афинах IV в. до н.э. под насмешки стародумов вроде Аристофана с его «Облаками» в азартных и педантических спорах о понятиях, запечатленных в диалогах Платона, была выработана культура дефиниции, и дефиниция стала важнейшим инструментом античного рационализма. Мышлению, даже весьма развитому, но не прошедшему через некоторую специфическую выучку, форма дефиниции чужда. Можно прочесть весь Ветхий Завет от корки до корки и не найти там ни одной формальной дефиниции; предмет выясняется не через определение, но через уподобление по типу «притчи» (евр. maSal). Освященная тысячелетиями традиция построения высказываний продолжена и в Евангелиях: «Царство Небесное подобно» тому-то и тому-то — и ни разу мы не встречаем: «Царство Небесное есть» то- то и то-то. Единственная дефиниция на весь Новый Завет недаром встречается в Послании к евреям (гл. 11, ст. 1), которое очень выделяется в новозаветном корпусе своей сообразованностью с некоторыми греческими нормами построения текста, как энергично отмечал в свое время Э. Норден*. Так вот, средневековое богословие, начиная с отцов церкви, единодушно идет в этом пункте не за библейскими, а за греческими учителями. На каждой странице Иоанна Дамаскина или Фомы Аквинского — дефиниции, мысль движется от одного формального определения к другому. Самым последним продуктам вырождения схоластического способа мыслить, вплоть до какой- нибудь бурсацкой премудрости, присуща тяга к сакраментальной процедуре дефинирования. За специфической культурой дефиниции стоит, с одной стороны, обязательство выверять представление о любом предмете на земле или на небесах через логическую формализацию, делать представление «ответчивым» ** — в отличие от того, что было ранее, т.е. от донаучной «мудрости»; с другой стороны, метафизическая вера в стабильную сущность, субстанциальную форму, иерархически вознесенную над акциденциями — в отличие от того, что пришло позднее, т. е. от новой научности. Обе эти родовые черты являются общими для рационализма античного и средневекового — а также и ренессансного: Возрождение дало рационализмуновый контекст, но еще не изменило принципиально его сущности. Тот первый тип европейского рационализма, который был подготовлен досократиками, шумно и с вызовом заявил о себе во всеуслышание у софистов и окончательно выяснил собственные основания в твор-
* Norden Е. Die antike Kunstprosa vom VI. Jahrhundert vor Chr. bis in die Zeit der Renaissance. Leipzig, 1898, Bd. 2,8.
** Уместно вспомнить семантическую амплитуду слова Zôyoç: от бытового i.ô'/ov 8i8ôvai «даватьотчет» доХоуисг] «логика».
774
С.С.АВЕРИНЦЕВ
честве Аристотеля, затем сохранял фундаментальное тождество себе до времен Декарта и далее, до зари индустриальной эры. Что это был за рационализм? От всех предшествовавших ему состояний мысли и форм познания его резко отделяло наличие методической рефлексии, обращенной, во-первых, на самое мысль, во-вторых, на инобытие мысли в слове. Рефлексия, обращенная на мысль, дала открытие гносеологической проблемы и кодификацию правил логики; рефлексия, обращенная на слово, дала открытие проблемы «критики языка» * и кодификацию правил риторики и поэтики**. Одно связано с другим: не случайно Аристотель, великий логик, написал также «Поэтику» и три книги «Риторики», и недаром древнеиндийская мысль, дошедшая до гносеологической проблемы, создала также теорию слова, между тем как на пространствах, разделяющих географически Индию и Грецию и явившихся ареной древних цивилизаций, не было ни первого, ни второго. Итак, мы вправе назвать рационализм, унаследованный средневековьем от античности, логико-риторическим.
Далее, разрабатываемая им логика есть прежде всего техника силлогизма, т. е. дедукции — иерархического движения сверху вниз, при котором общее мыслится первичным по отношению к частному: первичным прежде всего гносеологически, т. е. более познаваемым, более достоверным ***, но по большей части и онтологически, т. е. более реальным. Риторика как техника «общих мест» есть необходимый коррелят такой логики****. Итак, мы вправе назвать этот рационализм также и дедуктивным.
Классические образцы дедуктивного рационализма — геометрия Евклида, выводящая теоремы из аксиом, и римская юриспруденция, выводящая казусы из законоположений. Спиноза построил свою философию more geometrico29, но многие христианские мыслители эпохи патристики3", особенно поздней, ориентировались на форму юридического рассуждения *****. Легко заметить, что подобная интеллек* «Вся философия есть “критикаязыка”» (Витгенштейн Л. Логико-философский трактат. Пер. с нем. М., 1958, с. 44, § 4.0031).
** Сюда же относится, конечно, грамматическая наука. Достаточно упомянуть учебник Дионисия Фракийца (2-я пол. II в. до и. э.).
*** « Всякое определение и всякая наука имеют дело с общим» ( «Aristotelis Meta- physica», lib. XI, c. 1, p. 1059b25, пер. A. В. Кубицкого. Аристотель. Сочинения т. I. M., 1976, c. 273).
**** Ср.: Аверинцев С. С. Риторика как подход к обобщению действительности. В кн.: «Поэтика древнегреческой литературы». М., 1981, с. 15-46.
***** др Dempf д. Die Geistesgeschichte der frühchristlichen Kultur. München, 1964.
Два рождения европейского рационализма
775
туальная процедура требует достаточного набора стабильных, не подлежащих пересмотру аксиом, которые сами не могут быть добыты из рассуждения. Цепь силлогизмов нельзя вести в бесконечность, она должна быть на чем-то неподвижно закреплена. В виде аналогии можно вспомнить, сколь самоочевидным представлялось для этого типа мышления, что факт цепной передачи движения от предмета к предмету сам по себе непреложно свидетельствует о наличии перво- двигателя, который сам не движется,— умозаключение, известное по своей роли у Фомы Аквинского *, но восходящее к Аристотелю **. Рационально осмысляемая чувственная эмпирия, а также интуиция, за которой и наш век признает рациональный характер, доставляли, разумеется, некоторое количество аксиом; но структура дедуктивного рационализма сама по себе, изнутри себя предопределяла участие также и внерациональных источников аксиом — авторитета, традиции, преобразованного мифа. Любовное влечение вещей к перводвигате- лю31 у Аристотеля ***, симпатия всего сущего у Посидония ****'12 — это ведь не миф в собственном смысле слова, равным образом, не религия и не мистика, даже, что приходится особо подчеркнуть, не простой компромисс между наукой и мистикой, не смешение того и другого в определенной дозировке, а особая форма мысли, игра по своим собственным правилам, последовательным и сбалансированным. Для обозначения этой формы мысли требуется свой термин; вероятно, таким термином могло бы быть слово «метафизика» в своем старом, догегелевском и домарксовом смысле. Еще раз: это игра по своим правилам — а институциональная организация умственной жизни, равно как и упомянутый выше применительно к литературному творчеству, но значимый и применительно к познавательной деятельности, важный для самосознания всей логико-риторической культуры принцип состязания, т. е. как бы вневременного диспута, требовали неизменности этих правил, по которым состязующийся играет со своими отдаленными во времени собратьями *****. Поэтому стремительная греческая интеллектуальная революция на два тысячелетия сменилась тем, что мы назовем мрачным словом «стагнация». Тот рационализм, который создали греки и который уже в качестве * «Thomae Aquinatis Summa theologiae», p. 1, q. 2,3 с.
** «Aristotelis Metaphysica», lib. XII. c. 7, p. 1072b.
*** Ibidem, p. 1073 a.
**** См.: «Культура Византии. IV — первая половина VII в.» М., 1984, с.48-49.
***** Рафаэль дважды изобразил именно такой диспут на двух фресках Станца делла Сеньятура: один раз это диспут теологов, другой раз («Афинская школа») философов. На третьей его фреске в этом же зале («Парнас») изображено вневременное состязание поэтов.
776
С.С.АВЕРИНЦЕВ
вышедшей из моды «схоластики» доживал свой век в Новое время, по своему внутреннему принципу стремился именно к неизменности равновесия между рефлексией и традицией, между критикой и авторитетом, между физикой и метафизикой. Это рационализм, сам ставящий себе границы, а не просто принимающий их по обстоятельствам извне — скажем, от религиозной догмы. Прорыв в Новое время иного рационализма, принципиально отрицающего границы, был, с нашей точки зрения, концом застоя, но он же, с точки зрения старого рационализма, был нарушением равновесия и опрокидыванием правил. Это одно и то же — с какой точки зрения посмотреть.
В перспективе не естественнонаучной, а общекультурной у старого рационализма было одно преимущество: он один мог создать образ мира, который был бы в отличие от бессвязных мифологических представлений достаточно логичен и непротиворечив, а в отличие от теорий современной науки достаточно стабилен и чувственно-нагляден, чтобы действительно быть образом — захватывающей темой для воображения. Во времена Лукреция дидактический эпос мог порождать вечные шедевры. Вергилий в «Георгинах», Данте в «Божественной комедии» сделали популяризацию образа мира задачей для великой поэзии. (Одна умная английская толковательница Дантова «Рая» советовала читателям этой поэмы сходить в планетарий *.) Заключительный стих «Божественной комедии»:«Любовь, что движет Солнце и светила»,— это не полет поэтической фантазии, а корректное формулирование одного из тезисов аристотелевской космологии (см. выше сноску 45). Эпоха энциклопедистов — это целый ряд попыток создать дидактический эпос; но своего Лукреция Просвещение не нашло, и даже для гениального Андре Шенье33 работа над поэмой «Гермес» явно оказалась тупиковым путем. Время поэзии, воспевающей научный образ мира, безвозвратно миновало. Что говорить об опытах «научной поэзии» в XIX и XX вв.? Это плохая физика и плохая поэзия сразу. Специфика энциклопедистов как действующих лиц второй интеллектуальной революции — в том, что они стоят как раз на границе двух качественно различных состояний рационализма. Это значит не только то, что в них могут противоречиво совмещаться характеристики старого и нового рационализма; что, например, новое содержание выражает себя у них в сугубо риторических формах. Это значит, что одни и те же черты выступают у них как двузначные — одновременно входя и в новый, и в старый контекст. Например, повышенное внимание «Энциклопедии» к ремеслам, к «механическим искусствам», «The Comedy of Dante Alighieri», v. 3. Paradise. Harmondsworth, 1962, p. 351 (Appendix IX: Astronomy in Paradise).
Два рождения европейского рационализма
777
без сомнения, примета начинающейся индустриальной эры, разрыв с созерцательным характером старого рационализма. И все же, когда мы читаем, как Дидро, не удовольствовавшись привлечением к сотрудничеству в «Энциклопедии» г. Прево, стекольщика, г. Лоншама, пивовара, гг. Бюиссона, Бонна и Лоррана, знатоков выделки тканей, и прочих, сам лично изучал литейное дело, волочение проволоки и тому подобные умения, для полноты исторических связей можно вспомнить того же софиста Гиппия Элейского, явившегося однажды перед посетителями Олимпийских игр в роскошном наряде, от начала и до конца сработанном собственными руками *. Древним философам не полагалось интересоваться «механическими искусствами», но риторика убежденно выставляла идеал всезнания и всеумения, воплощая начало диастолы, как философия — начало систолы**. Дидро, как в свое время Гиппий, основатель éyKÏwZioç xaiôsia, желал быть человеком, умеющим все. Когда индустриальная эра выявит свой облик, тогда можно будет владеть конкретной технической квалификацией, но уже никакой восторженный универсал даже не попытается уметь все.
Еще несколько замечаний. И древняя, и новая интеллектуальные революции были очень тесно связаны со своим политическим фоном. Но первая стояла у начала последовательности эпохи, когда доминирующим типом государства была монархия: эллинизм — Римская империя — средневековые королевства — эпоха абсолютизма; вторая предвещала конец этой последовательности эпох. Греческий рационализм, порождение греческой демократии, тяготел к утверждению идеи «царственного мужа». Не только Платон искал путей реализации философской утопии в сицилийской тирании, не только Ксенофонт34, резонер с сильными конформистскими инстинктами, ориентировал свои моральные идеи на реальность предэллинистической монархии; такие решительные антиконформисты, как киники35, строили свой идеал самодовлеющего мудреца как соответствие идеалу самодержавного монарха. В известном анекдоте Диоген противопоставлен Александру36, но и сопоставлен с ним: оба — исключения, оба — по ту сторону гражданского общества, оба могут и смеют то, чего не могут и не смеют другие. Стоический мудрец — это «истинный» царь, соперник и двойник царя политического; в лице Марка Аврелия тот и другой — одно. И вот во времена энциклопедистов идеология «просвещенного деспотизма» в последний раз вызывает к жизни * « Apulei Florida», 20.
** Нам приходилось говорить об этом в другом месте; см.: «Античное наследие вкультуре Возрождения». М., 1984, с. 150-151.
778
С.С.АВЕРИНЦЕВ
эту смысловую соотнесенность фигур философа и монарха; Марк Аврелий — любимец эпохи Просвещения; но это уже конец цикла и подготовка выхода за его пределы.
Одна из черт старого рационализма, присутствующая в рационализме энциклопедистов,— недостаток историзма. Но здесь мы сейчас же должны оговориться: ментальность энциклопедистов как раз настолько обращена к истории, чтобы мы ощущали ее «антиисторизм». Можно говорить о слабости историзма у энциклопедистов, но не имеет смысла констатировать отсутствие историзма в рационализме аристотелевского типа, настолько полно это отсутствие. Как характерно, что Вольтер резко возражал Паскалю, а Жозеф де Местр* — Вольтеру по вопросу о том, свойственно ли этике Эпиктета и Марка Аврелия требование любить Бога. После Паскаля (с христианской стороны следует упомянуть также Боссэ) и после Вольтера ни христианская апологетика, ни антихристианская полемика уже не могли обойтись без обсуждения представлений о духовной атмосфере целых эпох — такая постановка вопроса, которую просто не смогли бы понять мыслители более ранних эпох.
* Maistre J. de. Les soirée de Saint Pétersbourg, ou Entretiens sur le gouvernment temporel de la Providences... t.2-nd, Bruxelles, 1837, p. 124-125 (9-me entretien).
VI
ПАСКАЛЬ В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
А. С. ХОМЯКОВ
Желание
68-69. ЖЕЛАНИЕ
Хотел бы я разлиться в мире, Хотел бы солнцем в небе течь, Звездою в сумрачном эфире Ночной светильник свой зажечь. Хотел бы зыбию стеклянной Играть в бездонной глубине Или лучом зари румяной Скользить по плещущей волне. Хотел бы с тучами скитаться, Туманом виться вкруг холмов Иль буйным ветром разыграться В седых изгибах облаков.
Жить ласточкой под небесами, К цветам ласкаться мотыльком Или над дикими скалами Носиться дерзостным орлом. Как сладко было бы в природе То жизнь и радость разливать, То в громах, вихрях, непогоде, Пространство неба обтекать.
Издано в 1827 г., положено на музыку Антоном Аренским в 1888 г.
И. А. КРЫЛОВ
Почта духов
ПИСЬМО XL От Эмпедокла к волшебнику Малику ль мульку
Признаюсь тебе, почтенный Маликульмульк, что безумное мое стремление о приобретении пустой славы не только не принесло бы мне никакой пользы, но обратилося бы к мучительнейшему наказанию за мое тщеславие, если бы дружба твоя мне не вспомоществовала и не избавила бы меня от совершенной погибели. Повергшись в огненную пучину, начинал уже я чувствовать жестокость сей стихии и проклинал свое безумие, как рука твоя извлекши меня из оной, неожидаемо переселила в приятнейшее жилище, где нашел я все нужные для себя выгоды, каких ожидать никогда бы не осмелился. Я чрезвычайно доволен уединенною моею жизнию в твоем увеселительном доме под горою Этною: здесь, удалясь от шумного и беспокойного света, препровождаю я блаженные дни. Чтение хороших книг в твоей библиотеке составляет первейшее мое упражнение, а прогулка по твоему саду наилучшая моя забава. Я удален от всего, что могло бы возмутить мое спокойство; никакая слава более уже меня не прельщает; насмехаясь всем человеческим глупостям, без всякого помешательства могу я прилагать попечение о изощрении моего разума и посвящать все часы моей жизни изучению полезной философии; однакож за долг поставляю признательно тебе сказать, почтенный Маликульмульк, что, читая многих древних и новых авторов, писавших о различных родах человеческого безумия, которое хотя и можно иногда извинить нравами и обычаями некоторых народов, часто вхожу в размышление о странности разума человеческого: я почти начинаю думать, что нет на свете ни одного человека, выключая тебя, почтенный Маликульмульк, истинно мудрого. Когда я говорю истинно мудрого, то под сим словом разумею, что каждый почитающийся мудрым являл в себе нечто такое, что можно назвать глупостию. Многие ученые были уверены в сей истине и утвержда-
Почта духов
783
ли оную в своих сочинениях. Славный Депро 1 написал, что человек есть глупейший и достойнейший смеха из всех животных [1], но мне кажется, что авторы, писавшие о странности и непостоянстве человеческого разума, входили в исследование сего предложения не довольно философически и судили об одной только поверхности; а желательно бы было, чтоб они входили в обстоятельную подробность. Хотя бы и не хотели они исследовать все различные состояния людей, но вникали бы в одно только состояние ученых и философов, то и тогда могли бы приметить, сколь далеко простирается слабость человеческого разума, ибо оный часто бывает подвержен многим несовершенствам и в то время, когда кажется быть возвышенным до самой высочайшей степени. Когда открывается очень много порочных склонностей и непостоянств в Кортезии*, в Лейбнице** и в других подобных им мужах, науками себя толико прославивших, то надлежит ли удивляться, находя сии пороки в людях, никакими познаниями не просвещенных, или в петиметрах и вертопрахах нынешнего века? Ежели ученые мужи, признаваемые из всех людей совершеннейшими, подвергаются многим достойным осмеяния погрешностям, то чего же должно требовать от тех, которые почитаются от всех достойными презрения? Итак, почтенный Маликульмульк, я не без основания полагаю, что, рассматривая непостоянство разума человеческого по поступкам двух или трех прославившихся ученых мужей, можно бы было приобрести более успеха в познании всех людей вообще, нежели без всякого рассмотрения прилепляться к описаниям бесчисленного множества глупостей и сумасбродств, которые хотя и справедливо писателями были осуждаемы, но собраны без точного исследования и доказательств.
[1] Из всех животных, что на воздухе летают, Что плавают в водах и землю населяют, Хоть Запад, Юг, Восток и Север обойдем, Но человека мы глупее не найдем.
Депро, Сатира VIII. (Прим, автора.)
Какого бы великого духа особу ни избрать, в каждой непременно усматривается довольно погрешностей, почему и можно смело утвердить, что разум человеческий достоин более жалости, нежели удивления. Возьмем в пример двух знаменитых философов: одного древнего, * Картезий — французский философ Декарт (1596-1650), основоположник философского рационализма.
** Лейбниц (1646-1716) — философ-идеалист, математик и физик.
784
И. А. КРЫЛОВ
а другого нового, и рассмотрим их главнейшие дела и поступки. Начнем прежде Аристотелем и потом обратимся к Лейбницу.
Сей знаменитый логик, будучи первым наставником людей в здравомыслии, между многими своими умословиями предлагал также пустые и вздорные басенки. Сколько нелепых, совсем ложных и бесполезных сказок поместил он в своих сочинениях! Итак, тот, кто принимал на себя столь много труда для научения людей здравому рассудку, требовал сам в тысячу раз более вспомоществования, которое надеялся предлагать другим и погрешал непростительно против правил, самим им предписанных. Ежели же захотят видеть еще сего убедительнее пример слабости и непостоянства человеческого разума, то войдем в исследование природных свойств Аристотелевых. Он называл себя философом и был в самом деле таковым; однакож не менее других любил богатство; и самый корыстолюбивый купец, который от утра до вечера непрестанно занимается попечением о своей торговле, не столько бы мог превозносить оное похвалами. По мнению Аристотеля, одно только богатство составляет все то, что может назваться здесь совершенным благом. Лукиян справедливо насмехался столь ложному Аристотелеву умозаключению* и правилу, столь противному не только истинной мудрости, но даже естественному рассудку. Он упрекает чрез Диогена сему философу, что он то говорил единственно для того, дабы иметь благовидный предлог удовольствовать свое сребролюбие и просить себе у Александра всего того, чего получить от него надеялся.
Если Аристотель любил столько богатство, то не менее того прилеплен был к ложной славе: я называю ложною славою ту, которая не приобретается позволенными и честными способами. Дабы люди верили, что его мнения были основательнее и разумнее всех других философов, он предлагал им оные столь вздорно и нелепо, что тому надлежало бы быть столько же безумну, сколько он был лжив, если бы кто совершенно удостоверился, что сии философы действительно тем мнениям его последовали и сообразно им поступали. Вот какая была слабость в человеке столь великого и высокого духа!
Неблагодарность была так же свойственною и природною погреш- ностию в Аристотеле. Сей философ, долженствующий более других познавать всю гнусность сего порока, предавался оному совершенно.
* Имеется в виду диалог между Диогеном и Александром (Македонским) в «Разговорах в царстве мертвых» Лукиана. В нем на замечание Диогена об уроках Аристотеля, бывшего воспитателем Александра, Александр замечает, что «Аристотель доказывал, что богатство — тоже благо, чтоб ему, таким образом, не было стыдно принимать подарки».
Почта духов
785
Он никогда не упускал случая оскорблять как сочинения, так и самого Платона*, которому был обязан всеми своими познаниями, коими толико прославился. Итак, можно ли после сего удивляться, что в нынешнем свете многие, хотя довольный разум имеющие люди, но в природных своих дарованиях далеко не равняющиеся с Аристотелем, и которых можно бы было почесть против его совершенными невеждами, оскорбляют своих благодетелей, позабывая все их прежние благодеяния; и что ныне всякое оказанное благодеяние помнится только несколько дней после его получения, и благодетель дотоле только уважается, доколе есть еще надежда иметь в нем впредь какую-либо нужду; но коль скоро в нем нужды никакой уже не будет, то не только престается оказывать к нему уважение, но даже и имя его предается забвению. В нынешние времена, почтенный Маликульмульк, есть много таких примеров. Можно ли, повторяю я, сему удивляться, когда Аристотель, будучи одарен всеми наилучшими дарами природы, предавался сему гнусному пороку до такой крайности и старался всячески оскорблять Платона и повреждать его славу. После сего не должно ли ожидать, что люди обыкновенные могут достигать в сем пороке до чрезвычайности, и не должно ли почувствовать некоего презрения к человеческому разуму, толико представляемому полуучеными, который кажется весьма жалким для тех, кои усматривают всю его слабость?
Всякий раз, когда размышляю я, почтенный Маликульмульк, о поведении многих великих мужей, не могу воздержаться, чтобы не почувствовать некоторого смятения, взирая на свое бедственное состояние, и едва не дохожу иногда до того, что желаю себе участи несмыленных животных, и согласился бы охотно променять свой разум, всегда колеблющийся и подверженный непреодолимым слабостям, на их врожденное побуждение, которое никогда не пременяется и управляется природою. Невежды или люди посредственного ума непрестанно превозносят друг друга в великих дарованиях, полученных ими от природы; но имеющие более просвещения мыслят о сем подобно Паскалю** и почитают справедливым то, что он сказал: «Видя бедственное ослепление в человеке, удивительные противоположности, открывающиеся в его свойствах, и взирая на всю безмолвную природу * По распространенной в древности легенде, Аристотель якобы выступал против Платона, учеником которого он являлся первоначально. Вообще здесь и далее передаются недостоверные анекдоты и вымыслы о безнравственности Аристотеля.
** Паскаль (1623-1662) — известный французский ученый и философ-моралист, стремившийся примирить рационалистические начала с христианским учением.
786
И. А. КРЫЛОВ
и на человека, лишенного просвещения, преданного своим слабостям и как бы блуждающегося в малом уголке вселенной, не ведая, кто его туда поставил, зачем он туда пришел, и что случится с ним по смерти? я прихожу в ужас, подобно человеку, которого спящего принесли бы на пустой и страшный остров и который, пробудившись, не знал бы, где он, и не находил бы никакого способа из острова выйти. Рассуждая таким образом, весьма удивляюсь, как человек без содрогания может взирать на столь бедственное свое состояние!» 2
Вот, почтенный Маликульмульк, когда и самый высочайший разум последних веков не мог без ужаса взирать на свое бедственное состояние и был поражен удивлением, открывая противоположности, непостоянство и слабости в своей природе, почитая ее сборищем всех бедствий, то можно ли после оного людям обыкновенным взаимно друг друга превозносить похвалами в природных своих дарованиях, в превосходном разуме и просвещении? Такие люди что могли бы сделать со всеми своими посредственными дарованиями, которые ничего не значат в сравнении с Паскалем, когда и ему те высочайшие дары, коими он щедро был награжден от природы, казалися достойными презрения? Сей ученый муж, почитая участь смертных столь бедственною и несчастною, полагал, что если бы не имели они в жизни своей других причин к скуке, то, конечно, соскучилися бы собственным своим существованием.
Теперь возвратимся опять к слабостям Аристотелевым. Удостоверяют, что он был изгнан из своего отечества за то, что приносил жертвы своей наложнице и в честь ее сочинил гимн. Можно ли далее сего простереть безумие? И самый глупейший вертопрах нынешнего века делал ли что-нибудь сему подобное? Я не нашел ни в одной книге из твоей библиотеки, чтоб и в Париже делали такое боготворение бывшим там славнейшим кокеткам, и никто не сочинял в честь их гимна: может быть, сочиняли какие-нибудь любострастные песенки или мадригалы; но есть ли какое сравнение между гимном и мадригалом?
Итак, когда Аристотель воздал божескую честь своей наложнице и сочинил в честь ее священные стихи, то можно ли после сего удивляться, видя в нынешнем свете многих знатных вельмож, обожающих театральных девок и расточающих для них великие сокровища? Без всякого сомнения, будут осуждать такое безумие; но самое сие не доказывает ли, каким великим слабостям подвержен человеческий разум, и каких следствий ожидать должно от его непостоянства. Если в прежние веки сие случилось в Греции, то не может ли то же самое случиться в Париже, в Лондоне, в... в... и в других местах? Неужели ныне люди сделалися разумнее? — Конечно, нет! — Более ли
Почта духов
787
они просвещены Аристотеля? — Без сомнения, гораздо меньше.— Умеют ли они лучше противоборствовать страстям своим? — Нет, почтенный Маликульмульк, они и ныне так же предаются им без всякого сопротивления. Свойство людей нимало не переменилось; и если ныне не видно, чтобы делали они такие же глупости, какие сделал Аристотель, то это, может быть, оттого, что никому не случилось быть в подобных положениях. И в нынешний так называемый просвещенный век люди так же безумны, ветрены, непостоянны, сварливы, скупы, горды и тщеславны; каким бы высоким разумом они одарены ни были, никогда не могут себя защитить от многих пороков. Посмотрим еще сему доказательство в небольшом исследовании свойств Лейбницевых.
Он имел столько же разума, как Аристотель, и преисполнен был толиким же тщеславием. Он говорил сам о себе такими выражениями, которые показывали в нем самую величайшую и, можно сказать, самую смешную гордость. «Мне не было еще пятнадцати лет от роду,— говорит он,— как препроводил я целые дни в изыскании случая, чтоб занять место между Аристотелем и Демокритом. Не более как двенадцать лет тому, как совершились мои желания и я достиг наконец до совершенного доказательства о действии веществ, которые, как казалось, прежде не являли к тому нималой способности. Опыты, делаемые мною совсем особливым образом, могут быть доказаны яснее, нежели то делано было другими в арифметических и геометрических задачах; хотя сие превосходит всякое воображение».
Можно ли распространить далее сего надменное о себе самом мнение? Может ли модный петиметр безумнее сего о себе мыслить, или полуученый более сего превозносить себя похвалами? После сего кто будет удивляться, что Пустовраль поставляет себя в числе лучших писателей, что Любокрас3 прельщается своею красотою и что сочинители Бредящего мещанина почитают прекраснейшими творениями глупые свои бредни, хотя многим довольно известно, что нет почти ни одного из их читателей, кто мог бы с удовольствием прочитать с начала до конца хотя одну их книжку. Все сии люди, рожденные с разумом, в тесных пределах заключенным, могут ли воспротивиться погрешностям, сродным вообще всем смертным, когда не мог оных избежать Лейбниц, будучи из числа величайших и славнейших философов в Европе? Ежели он по природному своему свойству принужден был впасть в столь смешное безумие и если в то самое время, когда осуждал человеческое высокомерие, предавался сам до чрезвычайности сему гнусному пороку, то каким чудом люди простые могли бы возвыситься свыше пределов своего состояния и исправить свои Несовершенства, присоединенные крепчайшими узами к существу
788
И. А. КРЫЛОВ
их? Безумно бы было полагать возможность столь противную как здравому рассудку, так и неоспоримому опыту.
Итак, погрешности великих мужей не только могут быть способны дать нам почувствовать недостатки всех людей вообще, но и доказать совершенно слабости и непостоянство человеческого разума. Поелику известно, что если кто захочет исследовать какую вещь, то всегда должно рассматривать ее с превосходнейшей степени; следственно, познавая глупости обыкновенных людей, узнаешь только то, что некоторые из них могут иметь погрешности, свойственные их природе, но, удостоверясь совершенно, что и самым высочайшим разумом одаренные часто бывают подвержены таковым же порокам, как и самые безумнейшие, должно непременно заключить, что нет никого из смертных истинно мудрого. Ежели бы люди прилежно рассматривали, почтенный Маликульмульк, сколь бывает в них посредствен превозносимый ими столь великими похвалами их разум и сколь способен он принимать в себя различные впечатления предрассудков, самолюбия, гордости, тщеславия; а наконец и всех страстей вообще, то гораздо менее полагались бы они на сей, по мнению их, природный светильник, который почитают они надежнейшим себе путеводителем, ибо, ежели бы он был нечто действительно существующее и совершенно твердое и основательное, то надлежало бы, чтоб во всех людях был он одинаков, производил бы в них одинакие действия и показывал бы им все вещи в равном положении. Но отчего же происходит сие различие в чувствах? По какой причине один народ почитает какую-либо вещь правильною, а другой точно бывает уверен в ее неправильности? И для чего то, что называют добродетелию в Азии, почитается пороком в Европе? Который из сих двух есть истинный рассудок, европейский или азиятский? Если европейцы совершенно уверены в своих мнениях, то какую пользу приносит природный светильник большей части земных жителей? Тогда непременно надлежит признаться, что сей мнимый светильник, данный от природы людям для их путевожде- ния, не более им полезен, как и самогустейший мрак. Почто думают европейцы, что рассудок азиятцев несправедлив? И для чего бы таким не назвать рассудок европейцев? Каким образом можно решить столь трудную задачу? Не полезнее ли в сем случае придержаться мнения святого Августина и верить, что грубость нашего тела причиною нашего малого познания и несовершенства нашего разума? «Разум человеческий,— говорит сей святый муж,— помрачается привычкою ко мраку, коим человек окружен во греховной нощи, и потому не может отверстыми очами взирать на свет, которого в нем недостает. Великое есть для него благополучие, когда он руководствуется к истине гласом и властию веры».
Почта духов
789
Приметь, почтенный Маликульмульк, что снятый Августин *, как кажется, совершенно был уверен, что человек никогда не был способен сам собою познавать истину и что потребно было для сего, чтоб он был к ней провождаем некоею высочайшею властию. Итак, следуя оному, какую надежду можно полагать на сей разум, толико превозносимый похвалами от философов и от многих ученых? Должно ли называть природным светильником такую вещь, которая неспособна подать нам ни малейшего просвещения? И какое действие может произвести философия, которая ничем другим не поддерживается, как властию сего обманчивого и мечтательного разума, который чаще приносит нам вред, нежели пользу.
Цицерон не без основания утверждал, что люди, может быть, были бы блаженнее, ежели бы не были одарены разумом. Он уподобляет его вину, которое хотя может иногда быть полезно для больных, но чаще делает им вред. И в самом деле, сколько глупостей извиняемы бывают посредством разума? Человек, который, не получивши от другого ни малейшего себе оскорбления, проезжает двести или триста миль единственно для того, чтоб с ним резаться, основывает безумие свое на разуме. Пустосвят, который возмущает целое общество и который один делает более зла, нежели язва и голод, защищает свое злодеяние разумом. Мот, повергающийся в роскошь, извиняет свои поступки посредством разума. Философ вздорные свои умствования утверждает также на разуме, и наконец нет ни одной такой вещи, в которую люди не вмешивали бы разума; все думают обладать им в равной доле; но все равно заблуждаются.
Гораздо полезнее, почтенный Маликульмульк, усмирить сих разумников, превозносящихся столь много своим разумом, показав им всю его слабость и несовершенство. Таким способом можно научить надменных любомудров покорять их рассуждения под власть веры и никогда не спорить о некоторых вещах, в понятие их не вмещающихся, ибо сколько есть между ими таких, о коих можно сказать с святым Бернардом**, что «в то самое время, когда стараются они достигать до познания вещей, им непостижимых, сами о себе не имеют нималого познания».
* Св. Августин (354-430) — церковный деятель и автор книг по вопросам религии.
** Св. Бернард (1091-1153) — Бернард Клервосский, проповедник и богослов.
Ф. И. ТЮТЧЕВ
Стихотворения
ЛЕБЕДЬ
Пускай орел за облаками Встречает молнии полет И неподвижными очами В себя впивает солнца свет.
Но нет завиднее удела, О лебедь чистый, твоего — И чистой, как ты сам, одело Тебя стихией божество.
Она, между двойною бездной, Лелеет твой всезрящий сон — И полной славой тверди звездной Ты отовсюду окружен.
СОН НА МОРЕ
И море, и буря качали наш челн;
Я, сонный, был предан всей прихоти волн. Две беспредельности были во мне, И мной своевольно играли оне.
Вкруг меня, как кимвалы, звучали скалы, Окликалися ветры и пели валы.
Я в хаосе звуков лежал оглушен, Но над хаосом звуков носился мой сон.
Стихотворения
791
Болезненно-яркий, волшебно-немой, Он веял легко над гремящею тьмой. В лучах огневицы развил он свой мир — Земля зеленела, светился эфир, Сады-лавиринфы, чертоги, столпы, И сонмы кипели безмолвной толпы. Я много узнал мне неведомых лиц, Зрел тварей волшебных, таинственных птиц, По высям творенья, как бог, я шагал, И мир подо мною недвижный сиял.
Но все грезы насквозь, как волшебника вой, Мне слышался грохот пучины морской, И в тихую область видений и снов Врывалася пена ревущих валов.
НАШ ВЕК
Не плоть, а дух растлился в наши дни, И человек отчаянно тоскует...
Он к свету рвется из ночной тени И, свет обретши, ропщет и бунтует.
Безверием палим и иссушен, Невыносимое он днесь выносит...
И сознает свою погибель он,
И жаждет веры... но о ней не просит...
Не скажет ввек, с молитвой и слезой, Как ни скорбит перед замкнутой дверью: «Впусти меня! — Я верю, боже мой!
Приди на помощь моему неверью!.. »
10 июня 1851
И.С. ТУРГЕНЕВ
Отцы и дети *
<фрагмент>
XXI
Встав с постели, Аркадий раскрыл окно — и первый предмет, бросившийся ему в глаза, был Василий Иванович. В бухарском шлафроке, подпоясанный носовым платком, старик усердно рылся в огороде. Он заметил своего молодого гостя и, опершись на лопатку, воскликнул:
— Здравия желаем! Как почивать изволили?
— Прекрасно,— отвечал Аркадий.
— А я здесь, как видите, как некий Цинциннат**, грядку под позднюю репу отбиваю. Теперь настало такое время,— да и слава Богу! — что каждый должен собственными руками пропитание себе доставать, на других нечего надеяться: надо трудиться самому. И выходит, что Жан-Жак Руссо прав***. Полчаса тому назад, сударь вы мой, вы бы увидали меня в совершенно другой позиции. Одной бабе, которая жаловалась на гнетку — это по-ихнему, а по-нашему — дизентерию, я... как бы выразиться лучше... я вливал опиум; а другой я зуб вырвал. Этой я предложил эфиризацию... только она
* Впервые опубликовано: Русский Вестник, 1862, № 2, с. 473 663, с подписью: Ив. Тургенев.
** Римский Патриций и диктатор Луций Кииикций Цинциннат (VI-V вв. до н. э.) вел простой образ жизни и сам обрабатывал землю, чем снискал славу образцового гражданина.
*** В книге «Рассуждение о происхождении и основаниях неравенства между людьми» (1755) Ж.-Ж. Руссо (1712-1778) противопоставлял современное ему общество «счастливой жизни людей» в «естественном состоянии», вне губительных влияний роскоши и излишеств, по его мнению, современной цивилизации. Одним из условий воспитания и счастливой жизни человека Руссо считал физический труд.
Отцы, и дети
793
не согласилась. Все это я делаю gratis — анаматер*. Впрочем, мне не в диво: я ведь плебей, homo novus ** — не из столбовых, не то, что моя благоверная... А не угодно ли пожаловать сюда, в тень, вдохнуть перед чаем утреннюю свежесть?
Аркадий вышел к нему.
— Добро пожаловать еще раз! — промолвил Василий Иванович, прикладывая по-военному руку к засаленной ермолке, прикрывавшей его голову.— Вы, я знаю, привыкли к роскоши, к удовольствиям, но и великие мира сего не гнушаются провести короткое время под кровом хижины.
— Помилуйте,— возопил Аркадий,— какой же я великий мира сего? И к роскоши я не привык.
— Позвольте, позвольте,— возразил с любезной ужимкой Василий Иванович.
— Я хоть теперь и сдан в архив, а тоже потерся в свете — узнаю птицу по полету. Я тоже психолог по-своему и физиогномист *. Не имей я этого, смею сказать, дара — давно бы я пропал; затерли бы меня, маленького человека. Скажу вам без комплиментов: дружба, которую я замечаю между вами и моим сыном, меня искренно радует. Я сейчас виделся с ним: он, по обыкновению своему, вероятно вам известному, вскочил очень рано и побежал по окрестностям. Позвольте полюбопытствовать,— вы давно с моим Евгением знакомы?
— С нынешней зимы.
— Такс. И позвольте вас еще спросить,— но не присесть ли нам? — позвольте вас спросить, как отцу, со всею откровенностью: какого вы мнения о моем Евгении?
— Ваш сын — один из самых замечательных людей, с которыми я когда-либо встречался,— с живостью ответил Аркадий.
Глаза Василия Ивановича внезапно раскрылись, и щеки его слабо вспыхнули. Лопата вывалилась из его рук.
— Итак, вы полагаете...— начал он.
— Я уверен,— подхватил Аркадий,— что сына вашего ждет великая будущность, что он прославит ваше имя. Я убедился в этом с первой нашей встречи.
— Как... как это было? — едва проговорил Василий Иванович. Восторженная улыбка раздвинула его широкие губы и уже не сходила с них.
— Вы хотите знать, как мы встретились?
— Да... и вообще...
* Даром (лат.), по-любительски (en amateur — фр.)
** Новый человек (лат.).
794
И. С. ТУРГЕНЕВ
Аркадий начал рассказывать и говорить о Базарове еще с большим жаром, с большим увлечением, чем в тот вечер, когда он танцевал мазурку с Одинцовой.
Василий Иванович его слушал, слушал, сморкался, катал платок в обеих руках, кашлял, ерошил свои волосы — и наконец не вытерпел: нагнулся к Аркадию и поцеловал его в плечо.
— Вы меня совершенно осчастливили,— промолвил он, не переставая улыбаться,— я должен вам сказать, что я... боготворю моего сына; о моей старухе я уже не говорю: известно — мать! но я не смею при нем выказывать свои чувства, потому что он этого не любит. Он враг всех излияний; многие его даже осуждают за такую твердость его нрава и видят в ней признак гордости или бесчувствия; но подобных ему людей не приходится мерить обыкновенным аршином, не правда ли? Да вот, например: другой на его месте тянул бы да тянул с своих родителей; а у нас, поверите ли? он отроду лишней копейки не взял, ей-богу!
— Он бескорыстный, честный человек,— заметил Аркадий.
— Именно бескорыстный. А я, Аркадий Николаич, не только боготворю его, я горжусь им, и все мое честолюбие состоит в том, чтобы со временем в его биографии стояли следующие слова: «Сын простого штаб-лекаря, который, однако, рано умел разгадать его и ничего не жалел для его воспитания...» — Голос старика перервался.
Аркадий стиснул ему руку.
— Как вы думаете,— спросил Василий Иванович после некоторого молчания,— ведь он не на медицинском поприще достигнет той известности, которую вы ему пророчите?
— Разумеется, не на медицинском, хотя он и в этом отношении будет из первых ученых.
— На каком же, Аркадий Николаич?
— Это трудно сказать теперь, но он будет знаменит.
— Он будет знаменит! — повторил старик и погрузился в думу.
— Арина Власьевна приказали просить чай кушать,— проговорила Анфисушка, проходя мимо с огромным блюдом спелой малины.
Василий Иванович встрепенулся.
— А холодные сливки к малине будут?
— Будут-с.
— Да холодные, смотри! Не церемоньтесь, Аркадий Николаич, берите больше. Что ж это Евгений не идет?
— Я здесь,— раздался голос Базарова из Аркадиевой комнаты.
Василий Иванович быстро обернулся.
Отцы и дети
795
— Ага! ты захотел посетить своего приятеля; но ты опоздал, amice * *, и мы имели уже с ним продолжительную беседу. Теперь надо идти чай пить: мать зовет. Кстати, мне нужно с тобой поговорить.
— О чем?
— Здесь есть мужичок, он страдает иктером...
— То есть желтухой?
— Да, хроническим и очень упорным иктером. Я прописывал ему золототысячник и зверобой, морковь заставлял есть, давал соду; но это все паллиативные средства; надо что-нибудь порешительней. Ты хоть и смеешься над медициной, а, я уверен, можешь подать мне дельный совет. Но об этом речь впереди. А теперь пойдем чай пить.
Василий Иванович живо вскочил с скамейки и запел из «Роберта» **:
Закон,закон,закон себе поставим На ра... на ра... на радости пожить!
— Замечательная живучесть! — проговорил, отходя от окна, Базаров.
Настал полдень. Солнце жгло из-за тонкой завесы сплошных беловатых облаков. Все молчало, одни петухи задорно перекликались на деревне, возбуждая в каждом, кто их слышал, странное ощущение дремоты и скуки; да где-то высоко в верхушке деревьев звенел плаксивым призывом немолчный писк молодого ястребка. Аркадий и Базаров лежали в тени небольшого стога сена, подостлавши под себя охапки две шумливо-сухой, но еще зеленой и душистой травы.
— Та осина,— заговорил Базаров,— напоминает мне мое детство; она растет на краю ямы, оставшейся от кирпичного сарая, и я в то время был уверен, что эта яма и осина обладали особенным талисманом: я никогда не скучал возле них. Я не понимал тогда, что я не скучал оттого, что был ребенком. Ну, теперь я взрослый, талисман не действует.
— Сколько ты времени провел здесь всего? — спросил Аркадий.
— Года два сряду; потом мы наезжали. Мы вели бродячую жизнь; больше все по городам шлялись.
— А дом этот давно стоит?
— Давно. Его еще дед построил, отец моей матери.
— Кто он был, твой дед?
* Дружище (лат.).
* * Из оперы Джакомо Мейербера (1791-1864) « Роберт — Дьявол » (1831).
796
И. С. ТУРГЕНЕВ
— Черт его знает. Секунд-майор какой-то. При Суворове служил и все рассказывал о переходе через Альпы. Врал, должно быть.
— То-то у вас в гостиной портрет Суворова висит. А я люблю такие домики, как ваш, старенькие да тепленькие; и запах в них какой-то особенный.
— Лампадным маслом отзывает да донником,— произнес, зевая, Базаров.— А что мух в этих милых домиках... Фа!
— Скажи,— начал Аркадий после небольшого молчания,— тебя в детстве не притесняли?
— Ты видишь, какие у меня родители. Народ не строгий.
— Ты их любишь, Евгений?
— Люблю, Аркадий!
— Они тебя так любят!
Базаров помолчал.
— Знаешь ли ты, о чем я думаю? — промолвил он на конец, закидывая руки за голову.
— Не знаю. О чем?
— Я думаю: хорошо моим родителям жить на свете! Отец в шестьдесят лет хлопочет, толкует о «паллиативных» 2 средствах, лечит людей, великодушничает с крестьянами — кутит, одним словом; и матери моей хорошо: день ее до того напичкан всякими занятиями, ахами да охами, что ей и опомниться некогда; а я...
— Аты?
— А я думаю: я вот лежу здесь под стогом... Узенькое местечко, которое я занимаю, до того крохотно в сравнении с остальным пространством, где меня нет и где дела до меня нет; и часть времени, которую мне удастся прожить, так ничтожна перед вечностию, где меня не было и не будет... А в этом атоме, в этой математической точке кровь обращается, мозг работает, чего-то хочет тоже... Что за безобразие! Что за пустяки! *
* Этот монолог Базарова текстуально близок следующему монологу скептика и атеиста из «Мыслей» Б. Паскаля: «Я вижу эти ужасающие пространства вселенной, которые заключают меня в себе, я чувствую себя привязанным к одному уголку этого обширного мира, не зная, почему я помещен именно в этом, а не другом месте, почему-то короткое время, которое дано мне жить, назначено мне именно в этом, а не в другом пункте целой вечности, которая мне предшествовала и которая за мной следует. Я вижу со всех сторон только бесконечности, которые заключают меня в себе, как атом (...). Все, что я сознаю, это только то, что я должен умереть» (Паскаль Блез. Мысли. С предисловием Прево-Парадоля. Перевод П. Д. Первова. СПб., 1888, с. 32). В сущности то же у Марка Аврелия, философские суждения которого тоже учитывались Тургеневым: «Какая частица безмерного и беспредельного времени уделена каждому из нас? Еще немного — и она исчезнет в вечности...
Отцы, и дети
797
— Позволь тебе заметить: то, что ты говоришь, применяется вообще ко всем людям...
— Ты прав,— подхватил Базаров.— Я хотел сказать, что они вот, мои родители то есть, заняты и не беспокоятся о собственном ничтожестве, оно им не смердит... а я... я чувствую только скуку да злость.
— Злость? почему же злость?
— Почему? Как почему? Да разве ты забыл?
— Я помню все, но все-таки я не признаю за тобою права злиться. Ты несчастлив, я согласен, но...
— Э! да ты, я вижу, Аркадий Николаевич, понимаешь любовь, как все новейшие молодые люди: цып, цып, цып, курочка, а как только курочка начинает приближаться, давай Бог ноги! Я не таков. Но довольно об этом. Чему помочь нельзя, о том и говорить стыдно.— Он повернулся на бок.— Эге! вон молодец муравей тащит полумертвую муху. Тащи ее, брат, тащи! Не смотри на то, что она упирается, пользуйся тем, что ты, в качестве животного, имеешь право не признавать чувства сострадания, не то что наш брат, самоломаный!
— Не ты бы говорил, Евгений! Когда ты себя ломал?
Базаров приподнял голову.
На каком клочке земли мы пресмыкаемся?.. Ничтожна жизнь каждого, ничтожен тот уголок земли, где он живет... Ведь вся земля только точка. А какой крошечный уголок ее занимает место твоего пребывания?» (Аврелий Марк. Наедине с собой. Размышления. М., 1914, с. 181 181.30-32. 40). О связях философии Тургенева с философией античного мира мира см. в кн.: Батюто А. Тургенев-романист. Л., 1972, с. 89,94-108 и др. Аналогичные от рывки из сочинений Паскаля Тургенев неоднократно сочувственно пересказывал и цитировал в письмах, напр., к П. Виардо от 18 (30) АПРЕЛЯ 1848 г. и к Фету от 30 марта (11 апреля) 1864 г. Вместе с тем трактовка базаровского атеизма противопоставлена философии Паскаля, который считал атеистов людьми безнравственными и единственное спасение от скепсиса видел в об ращении к религии. Именно за это Тургенев еще в 1848 г. в письме к Полине Виардо от 18 (30) апреля назвал Паскаля «рабом католицизма». В связи с этим особое звучание приобретает изображение смерти Базарова. Паскаль спрашивал: «Неужели это мужество, если умирающий человек не станет, среди слабости и агонии, вооружаться против Бога, всемогущего и вечного?» (цит. Перевод, с. 223). Тургенев отвечал на этот вопрос утвердительно — словами умирающего Базарова, с печальной иронией советующего отцу: «Вы оба с матерью должны теперь воспользоваться тем, что в вас религия сильна; вот вам случай поставить ее на пробу». Базаров не принимает услуг священника и умирает нераскаявшимся «грешником». В противополож ность Паскалю, атеизм в изображении Тургенева овеян сочувственным пониманием.
798
И.С. ТУРГЕНЕВ
— Я только этим и горячусь. Сам себя не сломал, так и бабенка меня не сломает. Аминь! Кончено! Слова об этом больше от меня не услышишь.
Оба приятеля полежали некоторое время в молчании.
— Да,— начал Базаров,— странное существо человек. Как посмотришь этак сбоку да издали на глухую жизнь, какую ведут здесь «отцы», кажется: чего лучше? Ешь, пей и знай, что поступаешь самым правильным, самый разумным манером. Ан нет; тоска одолеет. Хочется с людьми возиться, хоть ругать их, да возиться с ними.
— Надо бы так устроить жизнь, чтобы каждое мгновение в ней было значительно,— произнес задумчиво Аркадий.
— Кто говорит! Значительное хоть и ложно бывает, да сладко, но и с незначительным помириться можно... а вот дрязги, дрязги... это беда.
— Дрязги не существуют для человека, если он только не захочет их признать.
— Гм... это ты сказал противоположное общее место.
— Что? Что ты называешь этим именем?
— А вот что: сказать, например, что просвещение полезно, это общее место; а сказать, что просвещение вредно, это противоположное общее место. Оно как будто щеголеватее, а, в сущности, одно и то же.
— Да правда-то где, на какой стороне?
— Где? Я тебе отвечу, как эхо: где?
— Ты в меланхолическом настроении сегодня, Евгений.
— В самом деле? Солнце меня, должно быть, распарило, да и малины нельзя так много есть.
— В таком случае нехудо вздремнуть,— заметил Аркадий.
— Пожалуй; только ты не смотри на меня: всякого человека лицо глупо, когда он спит.
— А тебе не все равно, что о тебе думают?
— Не знаю, что тебе сказать. Настоящий человек об этом не должен заботиться; настоящий человек тот, о котором думать нечего, а которого надобно слушаться или ненавидеть.
— Странно! я никого не ненавижу,— промолвил, подумавши, Аркадий.
— А я так многих. Ты нежная душа, размазня, где тебе ненавидеть!.. Ты робеешь, мало на себя надеешься...
— А ты,— перебил Аркадий,— на себя надеешься? Ты высокого мнения о самом себе?
Базаров помолчал.
Отцы и дети
799
— Когда я встречу человека, который не спасовал бы передо мною,— проговорил он с расстановкой,— тогда я изменю свое мнение о самом себе. Ненавидеть! Да вот, например, ты сегодня сказал, проходя мимо избы нашего старосты Филиппа,— она такая славная, белая,— вот, сказал ты, Россия тогда достигнет совершенства, когда у последнего мужика будет такое же помещение, и всякий из нас должен этому способствовать... Аян возненавидел этого последнего мужика, Филиппа или Сидора, для которого я должен из кожи лезть и который мне даже спасибо не скажет... да и на что мне его спасибо? Ну, будет он жить в белой избе, а из меня лопух расти будет; ну, а дальше?
— Полно, Евгений... послушать тебя сегодня, поневоле согласишься с теми, которые упрекают нас в отсутствии принципов.
— Ты говоришь, как твой дядя. Принципов вообще нет — ты об этом не догадался до сих пор! — а есть ощущения. Все от них зависит.
— Как так?
— Да так же. Например, я: я придерживаюсь отрицательного направления — в силу ощущения. Мне приятно отрицать, мой мозг так устроен — и баста! Отчего мне нравится химия? Отчего ты любишь яблоки? — тоже в силу ощущения. Это все едино. Глубже этого люди никогда не проникнут. Не всякий тебе это скажет, да и я в другой раз тебе этого не скажу.
— Что ж? и честность — ощущение?
— Еще бы! *
— Евгений! — начал печальным голосом Аркадий.
— А? что? не по вкусу? — перебил Базаров.— Нет, брат! Решился все косить — валяй и себя по ногам!.. Однако мы довольно * Этих слов, подчеркивающих вульгарно-материалистическую сторону научно-философских взглядов Базарова, в первоначальном слое «парижской рукописи» не было. Появление этой характерной вставки на полях «парижской рукописи» в период кончательной доработки текста романа перед его опубликованием в «Русском вестнике» (октябрь 1861 — январь - начало февраля 1862 г.) можно объяснить кругом последних чтений Тургенева. Дело в том, что с осени 1861 г. в журнале «Русское слово» начали появляться статьи Писарева, пропагандировавшие естественнонаучное опытное знание в духе вульгарного материализма. В одной из этих статей Писарев декларировал: «Надо полагать и надеяться, что понятия «психическая жизнь», «психологическое явление» будут со временем разложены на свои составные части. Их участь решена: они пойдут туда же, куда пошел философский камень, жизненный эликсир, квадратура круга, чистое мышление и жизненная сила. Слова и иллюзии гибнут — факты остаются» (Рус. сл., 1861, № 9, отд. «Иностранная литература», с. 15).
800
И.С. ТУРГЕНЕВ
философствовали. «Природа навевает молчание сна»,— сказал Пушкин.
— Никогда он ничего подобного не сказал,— промолвил Аркадий.
— Ну, не сказал, так мог и должен был сказать, в качестве поэта. Кстати, он, должно быть, в военной службе служил.
— Пушкин никогда не был военным!
— Помилуй, у него на каждой странице: на бой, на бой! за честь России! *
— Что ты это за небылицы выдумываешь! Ведь это клевета наконец.
— Клевета? Эка важность! Вот вздумал каким словом испугать! Какую клевету ни взведи на человека, он, в сущности, заслуживает в двадцать раз хуже того.
— Давай лучше спать! — с досадой проговорил Аркадий.
— С величайшим удовольствием,— ответил Базаров.
Но ни тому, ни другому не спалось. Какое-то почти враждебное чувство охватывало сердца обоих молодых людей. Минут пять спустя они открыли глаза и переглянулись молча.
— Посмотри,— сказал вдруг Аркадий,— сухой кленовый лист оторвался и падает на землю; его движения совершенно сходны с полетом бабочки. Не странно ли? Самое печальное и мертвое — сходно с самым веселым и живым.
— О друг мой, Аркадий Николаич! — воскликнул Базаров,— об одном прошу тебя: не говори красиво.
— Я говорю, как умею... Да и наконец это деспотизм. Мне пришла мысль в голову; отчего ее не высказать?
— Так; но почему же и мне не высказать своей мысли? Я нахожу, что говорить красиво — неприлично.
— Что же прилично? Ругаться?
— Э-э! да ты, я вижу, точно намерен пойти по стопам дядюшки. Как бы этот идиот порадовался, если б услышал тебя!
— Как ты назвал Павла Петровича?
— Я его назвал, как следует,— идиотом.
— Это, однако, нестерпимо! — воскликнул Аркадий.
* Здесь почти с буквальной точностью воспроизведена характеристика поэзии Пушкина, данная в 1861 г. писателем-разночинцем Н. В. Успенским при его встрече с Тургеневым в Париже (январь 1861 г.), описанной в письме Тургенева к П. В. Анненкову от 7 (19) января 1861 г. Однако не случайно упоминание в этом письме рядом с именем Н. Успенского имени Добролюбова, который представлялся Тургеневу еще более законченным, чем Н. Успенский, отрицателем поэзии Пушкина (см. с. 459).
Отцы, и дети
801
— Ага! родственное чувство заговорило,— спокойно промолвил Базаров.— Я заметил: оно очень упорно держится в людях. От всего готов отказаться человек, со всяким предрассудком расстанется; но сознаться, что, например, брат, который чужие платки крадет, вор,— это свыше его сил. Да и в самом деле: мой брат, мой — и не гений... возможно ли это?
— Во мне простое чувство справедливости заговорило, а вовсе не родственное,— возразил запальчиво Аркадий.— Но так как ты этого чувства не понимаешь, у тебя нет этого ощущения, то ты и не можешь судить о нем.
— Другими словами: Аркадий Кирсанов слишком возвышен для моего понимания,— преклоняюсь и умолкаю.
— Полно, пожалуйста, Евгений; мы наконец поссоримся.
— Ах, Аркадий! сделай одолжение, поссоримся раз хорошенько — до положения раз, до истребления.
— Но ведь этак, пожалуй, мы кончим тем...
— Что подеремся? — подхватил Базаров.— Что ж? Здесь, на сене, в такой идиллической обстановке, вдали от света и людских взоров — ничего. Но ты со мной не сладишь. Я тебя сейчас схвачу за горло-
Базаров растопырил свои длинные и жесткие пальцы... Аркадий повернулся и приготовился, как бы шутя, сопротивляться... Но лицо его друга показалось ему таким зловещим, такая нешуточная угроза почудилась ему в кривой усмешке его губ, в загоревшихся глазах, что он почувствовал невольную робость...
— А! вот вы куда забрались! — раздался в это мгновение голос Василия Ивановича, и старый штаб-лекарь предстал перед молодыми людьми, облеченный в домоделанный полотняный пиджак и с соломенною, тоже домоделанною, шляпой на голове.— Я вас искал, искал... Но вы отличное выбрали место и прекрасному предаетесь занятию. Лежа на «земле», глядеть в «небо»... Знаете ли — в этом есть какое-то особое значение!
— Я гляжу в небо только тогда, когда хочу чихнуть,— проворчал Базаров и, обратившись к Аркадию, прибавил вполголоса: — Жаль, что помешал.
— Ну, полно,— шепнул Аркадий и пожал украдкой своему другу руку. Но никакая дружба долго не выдержит таких столкновений.
— Смотрю я на вас, мои юные собеседники,— говорил между тем Василий Иванович, покачивая головой и опираясь скрещенными руками на какую-то хитро перекрученную палку собственного изделия, с фигурой турка вместо набалдашника,— смотрю и не могу
802
И. С. ТУРГЕНЕВ
не любоваться. Сколько в вас силы, молодости самой цветущей, способностей, талантов! Просто... Кастор и Поллукс! *
— Вон куда — в мифологию метнул! — промолвил Базаров.— Сейчас видно, что в свое время сильный был латинист! Ведь ты, помнится, серебряной медали за сочинение удостоился, а?
— Диоскуры, Диоскуры! — повторял Василий Иванович.
— Однако полно, отец, не нежничай.
— В кои-то веки разик можно,— пробормотал старик.— Впрочем, я вас, господа, отыскал не с тем, чтобы говорить вам комплименты; но с тем, чтобы, во-первых, доложить вам, что мы скоро обедать будем; а во-вторых, мне хотелось предварить тебя, Евгений... Ты умный человек, ты знаешь людей, и женщин знаешь, и, следовательно, извинишь... Твоя матушка молебен отслужить хотела по случаю твоего приезда. Ты не воображай, что я зову тебя присутствовать на этом молебне: уж он кончен; но отец Алексей...
— Поп?
— Ну да, священник; он у нас... кушать будет... Я этого не ожидал и даже не советовал... но как-то так вышло... он меня не понял... Ну, и Арина Власьевна... Притом же он у нас очень хороший и рассудительный человек.
— Ведь он моей порции за обедом не съест? — спросил Базаров.
Василий Иванович засмеялся.
— Помилуй, что ты!
— А больше я ничего не требую. Я со всяким человеком готов за стол сесть.
Василий Иванович поправил свою шляпу.
— Я был наперед уверен,— промолвил он,— что ты выше всяких предрассудков. На что вот я — старик, шестьдесят второй год живу, а и я их не имею. (Василий Иванович не смел сознаться, что он сам пожелал молебна... Набожен он был не менее своей жены.) А отцу Алексею очень хотелось с тобой познакомиться. Он тебе понравится, ты увидишь. Он и в карточки не прочь поиграть, и даже... но это между нами... трубочку курит.
— Что же? Мы после обеда засядем в ералаш, и я его обыграю.
— Хе-хе-хе, посмотрим! Бабушка надвое сказала.
— А что? разве стариной тряхнешь? — промолвил с особенным ударением Базаров.
Бронзовые щеки Василия Ивановича смутно покраснели.
* Кастор и Поллукс — они же Диоскуры — мифологические герои-близнецы, сыновья Зевса и Леды. Здесь — в смысле неразлучные друзья.
Отцы, и дети
803
— Как тебе не стыдно, Евгений... Что было, то прошло. Ну да, я готов вот перед ними признаться, имел я эту страсть в молодости — точно; да и поплатился же я за нее! Однако как жарко. Позвольте подсесть к вам. Ведь я не мешаю?
— Нисколько,— ответил Аркадий.
Василий Иванович кряхтя опустился на сено.
— Напоминает мне ваше теперешнее ложе, государи мои,— начал он,— мою военную, бивуачную жизнь, перевязочные пункты, тоже где-нибудь этак возле стога, и то еще слава Богу.— Он вздохнул.— Много, много испытал я на своем веку. Вот, например, если позволите, я вам расскажу любопытный эпизод чумы в Бессарабии.
— За который ты получил Владимира? — подхватил Базаров.— Знаем, знаем... Кстати, отчего ты его не носишь?
— Ведь я тебе говорил, что я не имею предрассудков,— пробормотал Василий Иванович (он только накануне велел спороть красную ленточку с сюртука) и принялся рассказывать эпизод чумы.— А ведь он заснул,— шепнул он вдруг Аркадию, указывая на Базарова и добродушно подмигнув.— Евгений! вставай! — прибавил он громко: — Пойдем обедать...
Отец Алексей, мужчина видный и полный, с густыми, тщательно расчесанными волосами, с вышитым поясом на лиловой шелковой рясе, оказался человеком очень ловким и находчивым. Он первый поспешил пожать руку Аркадию и Базарову, как бы понимая заранее, что они не нуждаются в его благословении, и вообще держал себя непринужденно. И себя он не выдал и других не задел; кстати посмеялся над семинарскою латынью и заступился за своего архиерея; две рюмки вина выпил, а от третьей отказался; принял от Аркадия сигару, но курить ее не стал, говоря, что повезет ее домой. Не совсем приятно было в нем только то, что он то и дело медленно и осторожно заносил руку, чтобы ловить мух у себя на лице, и при этом иногда давил их. Он сел за зеленый стол с умеренным изъявлением удовольствия и кончил тем, что обыграл Базарова на два рубля пятьдесят копеек ассигнациями: в доме Арины Власьевны и понятия не имели о счете на серебро... * Она по-прежнему сидела возле сына (в карты она не играла), по-прежнему подпирая щеку кулачком, и вставала только затем, чтобы велеть подать какое-нибудь новое яство. Она боялась ласкать Базарова, и он не ободрял ее, не вызывал ее на ласки; притом же и Василий Иванович присоветовал ей не очень его «беспокоить». «Молодые люди до этого неохотники»,— твердил он ей (нечего говорить, каков был * Подчеркивается бедность родителей Базарова. Стоимость бумажных денег (ассигнаций) была в три с половиной раза ниже стоимости денег из серебра.
804
И.С. ТУРГЕНЕВ
в тот день обед: Тимофеич собственною персоной скакал на утренней заре за какою-то особенною черкасскою говядиной; староста ездил в другую сторону за налимами, ершами и раками; за одни грибы бабы получили сорок две копейки медью); но глаза Арины Власьевны, неотступно обращенные на Базарова, выражали не одну преданность и нежность: в них виднелась и грусть, смешанная с любопытством и страхом, виднелся какой-то смиренный укор.
Впрочем, Базарову было не до того, чтобы разбирать, что именно выражали глаза его матери; он редко обращался к ней, и то с коротеньким вопросом. Раз он попросил у ней руку на счастье; она тихонько положила свою мягкую ручку на его жесткую и широкую ладонь.
— Что,— спросила она, погодя немного,— не помогло?
— Еще хуже пошло,— отвечал он с небрежною усмешкой.
— Очинно они уже рискуют,— как бы с сожалением произнес отец Алексей и погладил свою красивую бороду.
— Наполеоновское правило, батюшка, наполеоновское,— подхватил Василий Иванович и пошел с туза.
— Оно же и довело его до острова Святыя Елены,— промолвил отец Алексей и покрыл его туза козырем.
— Не желаешь ли смородинной воды, Енюшечка? — спросила Арина Власьевна.
Базаров только плечами пожал.
— Нет! — говорил он на следующий день Аркадию,— уеду отсюда завтра. Скучно; работать хочется, а здесь нельзя. Отправлюсь опять к вам в деревню; я же там все свои препараты оставил. У вас, по крайней мере, запереться можно. А то здесь отец мне твердит: «Мой кабинет к твоим услугам — никто тебе мешать не будет» ; а сам от меня ни на шаг. Да и совестно как-то от него запираться. Ну и мать тоже. Я слышу, как она вздыхает за стеной, а выйдешь к ней — и сказать ей нечего.
— Очень она огорчится,— промолвил Аркадий,— да и он тоже.
— Як ним еще вернусь.
— Когда?
— Да вот как в Петербург поеду.
— Мне твою мать особенно жалко.
— Что так? Ягодами, что ли, она тебе угодила?
Аркадий опустил глаза.
— Ты матери своей не знаешь, Евгений. Она не только отличная женщина, она очень умна, право. Сегодня утром она со мной с полчаса беседовала, и так дельно, интересно.
— Верно, обо мне все распространялась?
— Не о тебе одном была речь.
Отцы, и дети
805
— Может быть; тебе со стороны видней. Коли может женщина получасовую беседу поддержать, это уж знак хороший. А я все-таки уеду.
— Тебе нелегко будет сообщить им это известие. Они все рассуждают о том, что мы через две недели делать будем.
— Нелегко. Черт меня дернул сегодня подразнить отца; он на днях велел высечь одного своего оброчного мужика — и очень хорошо сделал; да, да не гляди на меня с таким ужасом,— очень хорошо сделал, потому что вор и пьяница он страшнейший; только отец никак не ожидал, что я об этом, как говорится, известен стал. Он очень сконфузился, а теперь мне придется вдобавок его огорчить... Ничего! До свадьбы заживет.
Базаров сказал: «Ничего!» — но целый день прошел, прежде чем он решился уведомить Василия Ивановича о своем намерении. Наконец, уже прощаясь с ним в кабинете, он проговорил с натянутым зевком:
— Да... чуть было не забыл тебе сказать... Вели-ка завтра наших лошадей к Федоту выслать на подставу.
Василий Иванович изумился.
— Разве господин Кирсанов от нас уезжает?
— Да; и я с ним уезжаю.
Василий Иванович перевернулся на месте.
— Ты уезжаешь?
— Да... мне нужно. Распорядись, пожалуйста, насчет лошадей.
— Хорошо...— залепетал старик,— на подставу... хорошо... только... только... Как же это?
— Мне нужно съездить к нему на короткое время. Я потом опять сюда вернусь.
— Да! На короткое время... Хорошо.— Василий Иванович вынул платок и, сморкаясь, наклонился чуть не до земли.— Что ж? это... все будет. Я было думал, что ты у нас... подольше. Три дня... Это, это, после трех лет, маловато; маловато, Евгений!
— Да я ж тебе говорю, что я скоро вернусь. Мне необходимо.
— Необходимо... Что ж? Прежде всего надо долг исполнять... Так выслать лошадей? Хорошо. Мы, конечно, сАриной этого не ожидали. Она вот цветов выпросила у соседки, хотела комнату тебе убрать. (Василий Иванович уже не упомянул о том, что каждое утро, чуть свет, стоя о босу ногу в туфлях, он совещался с Тимофеичем и, доставая дрожащими пальцами одну изорванную ассигнацию за другою, поручал ему разные закупки, особенно налегая на съестные припасы и на красное вино, которое сколько можно было заметить, очень понравилось молодым людям.) Главное — свобода; это мое правило... не надо стеснять... не...
806
И.С. ТУРГЕНЕВ
Он вдруг умолк и направился к двери.
— Мы скоро увидимся, отец, право. Но Василий Иванович, не оборачиваясь, только рукой махнул и вышел. Возвратясь в спальню, он застал свою жену в постели и начал молиться шепотом, чтобы ее не разбудить. Однако она проснулась.
— Это ты, Василий Иваныч? — спросила она.
— Я, матушка!
— Ты от Енюши? Знаешь ли, я боюсь: покойно ли ему спать на диване? Я Анфисушке велела положить ему твой походный матрасик и новые подушки; я бы наш пуховик ему дала, да он, помнится, не любит мягко спать.
— Ничего, матушка, не беспокойся. Ему хорошо. Господи, помилуй нас грешных,— продолжал он вполголоса свою молитву. Василий Иванович пожалел свою старушку; он не захотел сказать ей на ночь, какое горе ее ожидало. Базаров с Аркадием уехали на другой день. С утра уже все приуныло в доме; у Анфисушки посуда из рук валилась; даже Федька недоумевал и кончил тем, что снял сапоги. Василий Иванович суетился больше чем когда-либо: он видимо храбрился, громко говорил и стучал ногами, но лицо его осунулось, и взгляды постоянно скользили мимо сына. Арина Власьевна тихо плакала; она совсем бы растерялась и не совладела бы с собой, если бы муж рано утром целые два часа ее не уговаривал. Когда же Базаров, после неоднократных обещаний вернуться никак не позже месяца, вырвался наконец из удерживавших его объятий и сел в тарантас; когда лошади тронулись, и колокольчик зазвенел, и колеса завертелись,— и вот уже глядеть вслед было незачем, и пыль улеглась, и Тимофеич, весь сгорбленный и шатаясь на ходу, поплелся назад в свою каморку; когда старички остались одни в своем, тоже как будто внезапно съежившемся и подряхлевшем доме,— Василий Иванович, еще за несколько мгновений молодцевато махавший платком на крыльце, опустился на стул и уронил голову на грудь. «Бросил, бросил нас,— залепетал он,— бросил; скучно ему стало с нами. Один как перст теперь, один!» — повторил он несколько раз и каждый раз выносил вперед свою руку с отделенным указательным пальцем. Тогда Арина Власьевна приблизилась к нему и, прислонив свою седую голову к его седой голове, сказала: «Что делать, Вася! Сын — отрезанный ломоть. Он что сокол: захотел — прилетел, захотел — улетел; а мы с тобой, как опенки на дупле, сидим рядком и ни с места. Только я останусь для тебя навек неизменно, как и ты для меня».
Василий Иванович принял от лица руки и обнял свою жену, свою подругу, так крепко, как и в молодости ее не обнимал: она утешила его в его печали.
Поездка в Полесье
807
Поездка в Полесье*
ПЕРВЫЙ ДЕНЬ
Вид огромного, весь небосклон обнимающего бора, вид «Полесья»1 напоминает вид моря. И впечатления им возбуждаются те же; та же первобытная, нетронутая сила расстилается широко и державно перед лицом зрителя. Из недра вековых лесов, с бессмертного лона вод поднимается тот же голос: «Мне нет до тебя дела,— говорит природа человеку,— я царствую, а ты хлопочи о том, как бы не умереть» 2. Но лес однообразнее и печальнее моря, особенно сосновый лес, постоянно одинаковый и почти бесшумный. Море грозит и ласкает, оно играет всеми красками, говорит всеми голосами; оно отражает небо, от которого тоже веет вечностью, но вечностью как будто нам нечуждой... Неизменный, мрачный бор угрюмо молчит или вот глухо — и при виде его еще глубже и неотразимее проникает в сердце людское сознание нашей ничтожности. Трудно человеку, существу единого дня, вчера рожденному и уже сегодня обреченному смерти,— трудно ему выносить холодный, безучастно устремленный на него взгляд вечной Изиды **; не одни дерзостные надежды и мечтанья молодости смиряются и гаснут в нем, охваченные ледяным дыханием стихии; нет — вся душа его никнет и замирает; он чувствует, что последний из его братии может исчезнуть с лица земли — и ни одна игла не дрогнет на этих ветвях; он чувствует свое одиночество, свою слабость, свою случайность — и с торопливым, тайным испугом обращается он к мелким заботам и трудам жизни; ему легче в этом * Впервые опубликовано в «Библиотеке для чтения», 1857, № 10, отд. 1, стр. 219- 234, с подписью: Ив. Тургенев (ценз. разр. 3 октября 1857 г.).
** Изида (Исида, Исет).— Имя Изиды, древнеегипетской богини, упомянуто здесь Тургеневым как поэтический образ олицетворенной природы. В таком смысле это имя толковалось и в учебных словарях по мифологии начала XIX века и встречалось в поэзии, европейской и русской. См., например, в стихотворениях: К.Н. Батюшкова «Странствователь и домосед» (1815) и Я. П. Полонского «Перед закрытой картиной» (50-е годы), в котором рассказывается о статуе Изиды в Мемфисе:
Не забывайте же, как страшно и велико
То, что от наших глаз Изидою сокрыто...
Ср. также в позднем «Стихотворении в прозе» Тургенева — «Природа» (наст, изд., т. XIII).
808
И. С. ТУРГЕНЕВ
мире, им самим созданном, здесь он дома, здесь он смеет еще верить в свое значенье и в свою силу.
Вот какие мысли приходили мне на ум несколько лет тому назад, когда, стоя на крыльце постоялого дворика, построенного на берегу болотистой речки Ресеты*, увидал я впервые Полесье. Длинными сплошными уступами разбегались передо мною синеющие громады хвойного леса; кой-где лишь пестрели зелеными пятнами небольшие березовые рощи; весь кругозор был охвачен бором; нигде не белела церковь, не светлели поля — все деревья да деревья, все зубчатые верхушки — и тонкий, тусклый туман, вечный туман Полесья висел вдали над ними. Не ленью, этой неподвижностью жизни, нет — отсутствием жизни, чем-то мертвенным, хотя и величавым, веяло мне со всех краев небосклона; помню, большие белые тучи плыли мимо, тихо и высоко, и жаркий летний день лежал недвижно на безмолвной земле. Красноватая вода речки скользила без плеска между густыми тростниками; на дне ее смутно виднелись круглые бугры иглистого моха, а берега то исчезали в болотной тине, то резко белели рассыпчатым и мелким песком. Мимо самого дворика шла уездная, торная дорога**.
На этой дороге, прямо против крыльца, стояла телега, нагруженная коробами и ящиками. Владелец ее, худощавый мещанин с ястребиным носом и мышиными глазками, сгорбленный и хромой, впрягал в нее свою, тоже хромую, лошаденку; это был пряничник, который пробирался на Карачевскую ярмарку3.
Вдруг показалось на дороге несколько людей; за ними потянулись другие... наконец повалила целая гурьба; у всех были палки в руках и котомки за плечами. По их походке, усталой и развалистой, по загорелым лицам видно было, что они шли издалеча: это юхновцы ***, копачи****, возвращались с заработков.
Старик лет семидесяти, весь белый, казалось, предводительствовал ими; он изредка оборачивался и спокойным голосом понукал отсталых. «Но, но, но, ребятушки,— говорил он,— но-о». Все они шли молча, в какой-то важной тишине. Один лишь только, низкого роста и на вид сердитый, в тулупе нараспашку, в бараньей шапке, * Ресета — приток реки Жиздры, являющейся в свою очередь притоком Оки. На большом протяжении составляла естественную границу между Калужской (с севера) и Орловской губерниями.
** Дорога, соединявшая уездные города Карачев Орловской губернии и Козельск Калужской губернии.
*** Юхновцы — крестьяне Юхновского уезда Смоленской губернии.
**** Копачи — землекопы.
Поездка в Полесье
809
надвинутой на самые глаза, поравнявшись с пряничником, вдруг спросил его:
— Почем пряник, шут?
— Каков будет пряник, любезный человек,— возразил тонким голоском озадаченный торговец.— Есть и в копейку — а то и грош дать надо. А есть ли грош в мошне-то?
— Да от него, чай, в брюхе просолодит,— возразил тулуп и отошел от телеги.
— Поспешите, ребятушки, поспешите! — послышался голос старика,— до ночлега далеко.
— Необразованный народ,— проговорил, искоса взглянув на меня, пряничник, как только вся толпа провалила мимо,— разве это кушанье про них?
И, наскоро снарядивши свою лошадку, спустился он к речке, на которой виднелся маленький бревенчатый паром. Мужик, в белом войлочном «шлыке» (обыкновенной полешской шапке), вышел из низкой землянки ему навстречу и переправил его на противоположный берег. Тележка поползла по изрытой и выбитой дороге, изредка взвизгивая одним колесом.
Я покормил лошадей — и тоже переправился. Протащившись версты с две болотистым лугом, взобрался я наконец по узкой гати в просеку леса. Тарантас неровно запрыгал по круглым бревешкам; я вылез и пошел пешком. Лошади выступали дружным шагом, фыркая и отмахиваясь головами от комаров и мошек.
Полесье приняло нас в свои недра. С окраины, ближе к лугу, росли березы, осины, липы, клены и дубы; потом они стали реже попадаться, сплошной стеной надвинулся густой ельник; далее закраснели голые стволы сосенника, а там опять потянулся смешанный лес, заросший снизу кустами орешника, черемухи, рябины и крупными сочными травами. Солнечные лучи ярко освещали верхушки деревьев и, рассыпаясь по ветвям, лишь кое-где достигали до земли побледневшими полосами и пятнами. Птиц почти не было слышно — они не любят больших лесов; только по временам раздавался заунывный, троекратный возглас удода да сердитый крик ореховки или сойки; молчаливый, всегда одинокий сиворонок перелетал через просеку, сверкая золотистою лазурью своих красивых перьев. Иногда деревья редели, расступались, впереди светлело, тарантас выезжал на расчищенную песчаную поляну; жидкая рожь росла на ней грядами, бесшумно качая свои бледные колосики; в стороне темнела ветхая часовенка с покривившимся крестом над колодцем, невидимый ручеек мирно болтал переливчатыми и гулкими звуками, как будто втекая в пустую бутылку; атам вдруг дорогу перегораживала недавно обрушившаяся
810
И.С. ТУРГЕНЕВ
береза, и лес стоял кругом до того старый, высокий и дремучий, что даже воздух казался спертым. Местами просека была вся залита водой; по обеим сторонам расстилалось лесное болото, все зеленое и темное, все покрыто тростниками и мелким ольшняком; утки взлетывали попарно — и странно было видеть этих водяных птиц, быстро мелькающих между соснами.— «Га, га, га, га»,— неожиданно поднимался протяжный крик; то пастух гнал стадо через мелколесье; бурая корова с острыми короткими рогами шумно продиралась сквозь кусты и останавливалась как вкопанная на краю просеки, уставив свои большие темные глаза набежавшую передо мной собаку; ветерок приносил тонкий и крепкий запах жженого дерева; белый дымок расползался вдали круглыми струйками по бледно-синему лесному воздуху: знать, мужичок промышлял уголь на стеклянный завод * или на фабрику.
Чем дальше мы подвигались, тем глуше и тише становилось вокруг. В бору всегда тихо; только идет там высоко над головою какой-то долгий ропот и сдержанный гул по верхушкам... Едешь, едешь, не перестает эта вечная лесная молвь, и начинает сердце ныть понемногу, и хочется человеку выйти поскорей на простор, на свет, хочется ему вздохнуть полной грудью — и давит его эта пахучая сырость и гниль...
Верст пятнадцать ехали мы шагом, изредка рысцой. Мне хотелось засветло попасть в село Святое **, лежащее в самой середине леса. Раза два встретились мне мужички с надранным лыком или с длинными бревнами на телегах.
— Далеко ли до Святого? — спросил я одного из них.
— Нет, недалеко.
— А сколько?
— Да версты три будет.
Прошло часа полтора. Мы все ехали да ехали. Вот опять заскры- пела нагруженная телега. Мужик шел сбоку.
— Сколько, брат, осталось до Святого?
— Чего?
— Сколько до Святого?
— Восемь верст.
* В изображаемой Тургеневым местности действительно находился завод оконного стекла курского купца Гнучева. Он был расположен на юг от Ресеты, вблизи от упоминаемой Тургеневым переправы (М. Ф. Попроцкий. Калужская губер ния. Ч. 1. СПб., 1864, стр. 566).
** Под этим именем Тургеневым описано одно из сел в районе Кудрявца, на восток от излучины Ресеты.
Поездка в Полесье
811
Солнце уже садилось, когда я, наконец, выбрался из леса и увидел перед собою небольшое село. Дворов двадцать лепилось вокруг старой, деревянной, одноглавой церкви с зеленым куполом и крошечными окнами, ярко рдевшими на вечерней заре. Это было Святое. Я въехал в околицу. Возвращавшееся стадо нагнало мой тарантас и с мычаньем, хрюканьем и блеяньем пробежало мимо. Молодые девки, хлопотливые бабы встречали своих животных; белоголовые мальчишки гнались с веселыми криками за непокорными поросятами; пыль мчалась вдоль улицы легкими клубами и, поднимаясь выше, алела.
Я остановился у старосты, хитрого и умного «полехи», из тех по- лех, про которых говорят, что они на два аршина под землю видят. На другой день рано отправился я в тележке, запряженной парой толстопузых крестьянских лошадей, с Старостиным сыном и другим крестьянином, по имени Егором, на охоту за глухарями и рябчиками. Лес синел сплошным кольцом по всему краю неба — десятин двести, не больше, считалось распаханного поля вокруг Святого; но до хороших мест приходилось ехать верст семь. Старостина сына звали Кондратом. Это был малый молодой, русый и краснощекий, с добрым и смирным выражением лица, услужливый и болтливый. Он правил лошадьми. Егор сидел со мною рядом. Мне хочется сказать о нем слова два.
Он считался лучшим охотником во всем уезде. Все места, верст на пятьдесят кругом, он исходил вдоль и поперек. Он редко выстреливал по птице, за скудостью пороха и дроби; но с него уже того было довольно, что он рябчика подманил, подметил точок дупелиный. Егор слыл за человека правдивого и за «молчальника». Он не любил говорить и никогда не преувеличивал числа найденной им дичи — черта, редкая в охотнике. Роста он был среднего, сухощав, лицо имел вытянутое и бледное, большие, честные глаза. Все черты его, особенно губы, правильные и постоянно неподвижные, дышали спокойствием невозмутимым. Он улыбался слегка и как-то внутрь, когда произносил слова,— очень мила была эта тихая улыбка. Он не пил вина и работал прилежно, но ему не везло: жена его все хворала, дети умирали; он «забеднял» и никак не мог справиться. И то сказать: страсть к охоте не мужицкое дело, и кто «с ружьем балует» — хозяин плохой. От постоянного ли пребывания в лесу, лицом к лицу с печальной и строгой природой того нелюдимого края, вследствие ли особенного склада и строя души, но только во всех движениях Егора замечалась какая-то скромная важность, именно важность, а не задумчивость — важность статного оленя. Он на своем веку убил семь медведей, подкараулив их на «овсах». В последнего он только на четвертую ночь решился
812
И.С. ТУРГЕНЕВ
выстрелить: медведь все не становился к нему боком, а пуля у него была одна. Егор убил его накануне моего приезда. Когда Кондрат привел меня к нему, я застал его на задворке; присевши на корточки перед громадным зверем, он вырезывал из него сало коротким и тупым ножом.
— Какого же ты молодца повалил! — заметил я. Егор поднял голову и посмотрел сперва на меня, а потом на пришедшую со мной собаку.
— Коли охотиться приехали, в Мошном глухари есть — три выводка, да рябцев пять,— промолвил он и снова принялся за свою работу.
С этим-то Егором да с Кондратом я и поехал на другой день на охоту.
Живо перекатили мы поляну, окружавшую Святое, а въехавши в лес, опять потащились шагом.
— Вон витютень сидит,— заговорил вдруг, оборотившись ко мне, Кондрат,— хорошо бы сшибить!
Егор посмотрел в сторону, куда Кондрат указывал, и ничего не сказал. До витютня шагов было сто с лишком, а его и на сорок шагов не убьешь: такова у него крепость в перьях.
Еще несколько замечаний сделал словоохотливый Кондрат; но лесная тишь недаром охватила и его: он умолк. Лишь изредка перекидываясь словами, да поглядывая вперед, да прислушиваясь к пыхтенью и храпу лошадей, добрались мы, наконец, до «Мошного». Этим именем назывался крупный сосновый лес, изредка поросший ельником. Мы слезли; Кондрат вдвинул телегу в кусты, чтобы комары лошадей не кусали. Егор осмотрел курок ружья и перекрестился: он ничего без креста не начинал.
Лес, в который мы вступили, был чрезвычайно стар. Не знаю, бродили ли по нем татары, но русские воры или литовские люди смутного времени уже наверное могли скрываться в его захолустьях *. В почтительном расстоянии друг от друга поднимались могучие сосны громадными, слегка искривленными столбами бледно-желтого цвета; между ними стояли, вытянувшись в струнку, другие, помоложе. Зеленоватый мох, весь усеянный мертвыми иглами, покрывал землю; голубика росла сплошными кустами; крепкий запах ее ягод, подобный запаху выхухоли, стеснял дыхание. Солнце не могло про* Описываемая в рассказе местность находилась на пути движения отрядов, примкнувших к Ивану Болотникову в 1606 году. См.: И. И. Смирнов. Восстание Болотникова. 1606-1607. Госполитиздат, М., 1951, стр. 196-198 и глава четвертая в целом ( «Поход на Москву»).
Поездка в Полесье
813
биться сквозь высокий намет сосновых ветвей; но в лесу было все- таки душно и не темно; как крупные капли пота, выступала и тихо ползла вниз тяжелая прозрачная смола по грубой коре деревьев. Неподвижный воздух без тени и без света жег лицо. Все молчало; даже шагов наших не было слышно; мы шли по мху, как по ковру; особенно Егор двигался бесшумно, словно тень; под его ногами даже хворостинка не трещала.
Он шел не торопясь и изредка посвистывая в пищик; рябчик скоро отозвался и в моих глазах нырнул в густую елку; но напрасно указывал мне его Егор: как я ни напрягал свое зрение, а рассмотреть его никак не мог; пришлось Егору по нем выстрелить. Мы нашли также два выводка глухарей; осторожные птицы поднимались далеко, с тяжелым и резким стуком; нам, однако, удалось убить трех молодых.
У одного майдана* Егор вдруг остановился и подозвал меня.
— Медведь воды хотел достать,— промолвил он, указывая на широкую свежую царапину на самой середине ямы, затянутой мелким мхом.
— Это след его лапы? — спросил я.
— Его; да вода-то пересохла. На той сосне тоже его след: за медом лазил. Как ножом прорубил, когтями-то. Мы продолжали забираться в самую глушь леса. Егор только изредка посматривал вверх и шел вперед спокойно и самоуверенно. Я увидал круглый, высокий вал, обнесенный полузасыпанным рвом.
— Что это, майдан тоже? — спросил я.
— Нет,— отвечал Егор,— здесь воровской городок стоял**.
— Давно?
— Давно; дедам нашим за память. Тут и клад зарыт. Да зарок положен крепкий: на человечью кровь. Мы прошли еще версты с две; мне захотелось пить.
— Посидите маленько,— сказал Егор,— я схожу за водой, тут колодезь недалеко. Он ушел; я остался один.
Я присел на срубленный пень, оперся локтями на колени и, после долгого безмолвия, медленно поднял голову и оглянулся. О, как все кругом было тихо и сурово — печально — нет, даже не печально, * «Майданом» называется место, где гнали деготь. В Историко-географических источниках XIX века отражено большое количество майданов на юг и на восток от излучины Ресеты.
** Ворами — в значении злодеи — назывались участники крестьянских восстаний XVII XVIII вв. В орловских лесах в XIX в. часто встречались остатки валов, обнесенных рвами,— «воровских» укреплений.
814
И. С. ТУРГЕНЕВ
а немо, холодно и грозно в то же время! Сердце во мне сжалось. В это мгновенье, на этом месте я почуял веяние смерти, я ощутил, я почти осязал ее непрестанную близость. Хоть бы один звук задрожал, хотя бы мгновенный шорох поднялся в неподвижном зеве обступившего меня бора! Я снова, почти со страхом, опустил голову; точно я заглянул куда-то, куда не следует заглядывать человеку... Я закрыл глаза рукою — и вдруг, как бы повинуясь таинственному повелению, я начал припоминать всю мою жизнь...
Вот мелькнуло передо мной мое детство, шумливое и тихое, задорное и доброе, с торопливыми радостями и быстрыми печалями; потом возникла молодость, смутная, странная, самолюбивая, со всеми ее ошибками и начинаниями, с беспорядочным трудом и взволнованным бездействием... Пришли на память и они, товарищи первых стремлений... потом, как молния в ночи, сверкнуло несколько светлых воспоминаний... потом начали нарастать и надвигаться тени, темнее и темнее стало кругом, глуше и тише побежали однообразные годы — и камнем на сердце опустилась грусть. Я сидел неподвижно и глядел, глядел с изумлением и усилием, точно всю жизнь свою я перед собою видел, точно свиток развивался у меня перед глазами *. О, что я сделал! — невольно шептали горьким шепотом мои губы. О, жизнь, жизнь, куда, как ушла ты так бесследно? Как выскользнула ты из крепко стиснутых рук? Ты ли меня обманула, я ли не умел воспользоваться твоими дарами? Возможно ли? Эта малость, эта бедная горсть пыльного пепла — вот все, что осталось от тебя? Это холодное, неподвижное, ненужное нечто — это я, тот прежний я? Как? Душа жаждала счастья такого полного, она с таким презрением отвергала все мелкое, все недостаточное, она ждала: вот-вот нахлынет счастье потоком — и ни одной каплей не смочило алкавших губ? О, золотые мои струны, вы, так чутко, так сладостно дрожавшие когда-то, я так и не услышал вашего пенья... вы и звучали только — когда рвались. Или, может быть, счастье, прямое счастье всей жизни проходило близко, мимо, улыбалось лучезарною улыбкой — да я не умел признать его божественного лица? Или оно точно посещало меня и сидело у моего изголовья, да позабылось мною, как сон? Как сон, повторял я уныло. Неуловимые образы бродили по душе, возбуждая в ней не то жалость, не то недоуменье... Авы, думал я, милые, знакомые, погибшие лица, вы, обступившие меня в этом мертвом уединении, * Перефразировка следующих строк из стихотворения А. С. Пушкина «Воспоминание» (1828):
Воспоминание безмолвно предо мной
Свой длинный развивает свиток.
Поездка в Полесье
815
отчего вы так глубоко и грустно безмолвны? Из какой бездны возникли вы? Как мне понять ваши загадочные взоры? Прощаетесь ли вы со мною, приветствуете ли вы меня? О, неужели нет надежды, нет возврата? Зачем полились вы из глаз, скупые, поздние капли? О, сердце, к чему, зачем еще жалеть, старайся забыть, если хочешь покоя, приучайся к смиренью последней разлуки, к горьким словам: «прости» и «навсегда». Не оглядывайся назад, не вспоминай, не стремясь туда, где светло, где смеется молодость, где надежда венчается цветами весны, где голубка-радость бьет лазурными крылами, где любовь, как роса на заре, сияет слезами восторга; не смотри туда, где блаженство, и вера, и сила — там не наше место!
— Вот вам вода,— раздался за мною звучный голос Егора,— пейте с богом.
Я невольно вздрогнул: живая эта речь поразила меня, радостно потрясла все мое существование. Точно я падал в неизведанную, темную глубь, где уже все стихало кругом и слышался только тихий и непрестанный стон какой-то вечной скорби... я замирал, но противиться не мог, и вдруг дружеский зов долетел до меня, чья-то могучая рука одним взмахом вынесла меня на свет божий. Я оглянулся и с несказанной отрадой увидал честное и спокойное лицо моего провожатого. Он стоял передо мной легко и стройно, с обычной своей улыбкой, протягивая мне мокрую бутылочку, всю наполненную светлой влагой...
Я встал.
— Пойдем, веди меня,— сказал я с увлечением.
Мы отправились и бродили долго, до вечера. Как только жара «свалила», в лесу стало так быстро холодать и темнеть, что оставаться в нем уже не хотелось. «Ступайте вон, беспокойные живые»,— казалось, шептал он нам угрюмо из-за каждой сосны. Мы вышли, но не скоро нашли Кондрата. Мы кричали, кликали его, он не отзывался. Вдруг, среди чрезвычайной тишины в воздухе, слышим мы, ясно раздается его «тпру, тпру», в близком от нас овраге... Он не слышал наших криков от ветра, который внезапно разыгрался и так же внезапно упал совершенно. Только на отдельно стоявших деревьях виднелись следы его порывов: многие листья были поставлены им наизнанку и так и остались, придавая пестроту неподвижной листве. Мы взобрались в телегу я покатили домой. Я сидел, покачиваясь и тихо вдыхая сырой, немного резкий воздух, и все мои недавние мечтанья и сожаленья потонули в одном ощущении дремоты и усталости, в одном желании поскорее вернуться под крышу теплого дома, напиться чаю с густыми сливками, зарыться в мягкое и рыхлое сено и заснуть, заснуть, заснуть...
816
И.С. ТУРГЕНЕВ
ДЕНЬ ВТОРОЙ
На следующее утро мы опять втроем отправились на «Гарь». Лет десять тому назад несколько тысяч десятин выгорело в Полесье и до сих пор не заросло; кой-где пробиваются молодые елки и сосенки, а то все мох да перележалая зола. На этой « Гари », до которой от Святого считается верст двенадцать, растут всякие ягоды в великом множестве и водятся тетерева, большие охотники до земляники и брусники.
Мы ехали молча, как вдруг Кондрат поднял голову.
— Э! — воскликнул он,— да это никак Ефрем стоит. Здорово, Александрыч,— прибавил он, возвысив голос и приподняв шапку.
Небольшого роста мужик в черном коротком армяке, подпоясанном веревкой, вышел из-за дерева и приблизился к телеге.
— Аль отпустили? — спросил Кондрат.
— Ато небось нет! — возразил мужичок и оскалил зубы.— Нашего брата держать не приходится.
— И Петр Филиппыч ничего?
— Филиппов-то? Знамо дело, ничего.
— Вишь ты! А я, Александрыч, думал: ну, брат, думал я, теперь ложись гусь на сковороду!
— От Петра Филиппова-то? Вона! Видали мы таких. Суется в волки, а хвост собачий. На охоту, что ль, едешь, барин? — спросил вдруг мужичок, быстро вскинув на меня свои прищуренные глазки, и тотчас опустил их снова.
— На охоту.
— А куда, примерно?
— На Гарь,— сказал Кондрат.
— Едете на Гарь, не наехать бы на пожар.
— А что?
— Видал я глухарей много,— продолжал мужичок, все как бы посмеиваясь и не отвечая Кондрату,— да вам туда не попасть: прямиком верст двадцать будет. Вот и Егор — что говорить! в бору, как у себя на двору, а и тот не продерется. Здорово, Егор, божия душа в полтора гроша,— гаркнул он вдруг.
— Здорово, Ефрем,— медленно возразил Егор.
Я с любопытством посмотрел на этого Ефрема. Такого странного лица я давно не видывал. Нос имел он длинный и острый, крупные губы и жидкую бородку. Его голубые глазки так и бегали, как живчики. Стоял он развязно, легонько подпершись руками в бока и не ломая шапки.
— На побывку домой, что ли? — спросил его Кондрат.
Поездка в Полесье
817
— Эк-ста, на побывку! Теперь, брат, погода не та: разгулялось. Широко, брат, стало, во как. Хоть до зимы на печи лежи, никака собака не чукнет. Мне в городе говорил этот-та производитель*: брось, мол, нас, Лександрыч, выезжай из уезда вон, пачпорт дадим первый сорт... да жаль мне вас, святовских-то: такого вам вора другого не нажить.
Кондрат засмеялся.
— Шутник ты, дядюшка, право шутник,— проговорил он и тряхнул вожжами.
Лошади тронулись.
— Тпру,— промолвил Ефрем. Лошади остановились. Кондрату не понравилась эта выходка.
— Полно озорничать, Александрыч,— заметил он вполголоса.— Вишь, с барином едем. Осерчает, гляди.
— Эх ты, морской селезень! С чего ему серчать-то? Барин он добрый. Вот посмотри, он мне наводку даст. Эх, барин, дай проходимцу на косушку! Уж раздавлю ж я ее,— подхватил он, подняв плечо к уху и скрыпнув зубами.
Я невольно улыбнулся, дал ему гривенник и велел Кондрату ехать.
— Много довольны, ваше благородие,— крикнул по-солдатски нам вслед Ефрем.— Аты, Кондрат, напредки знай, у кого учиться; оробел — пропал, смел — съел. Как вернешься, у меня побывай, слышь, у меня три дня попойка стоять будет, сшибем горла два; жена у меня баба хлецкая **, двор на полозу... *** Гей, сорока-белобока, гуляй, пока хвост цел!
И, засвистав резким свистом, Ефрем юркнул в кусты.
— Что за человек? — спросил я Кондрата, который, сидя на облучке, все потряхивал головой, как бы рассуждая сам с собою.
— Тот-то? — возразил Кондрат и потупился.— Тот-то? — повторил он.
— Да. Он ваш?
— Наш, святовский. Это такой человек... Такого на сто верст другого не сыщешь. Вор и плут такой — и боже ты мой! На чужое добро у него глаз так и коробится. От него и в землю не зароешься, а что деньги, например, из-под самого хребта у тебя вытащит, ты и не заметишь.
— Какой он смелый!
* Производитель — здесь сокращение слова «делопроизводитель» (подразумевается чиновник уездной полиции).
** Хлецкая — здесь в значении бойкая, расторопная.
*** Двор на полозу — здесь в значении готовый к приему гостей.
818
И. С. ТУРГЕНЕВ
— Смелый? Да он никого не боится. Да вы посмотрите на него: по финазомии бестиян, с носу виден. (Кондрат часто езживал с господами и в губернском городе бывал, а потому любил при случае показать себя.) Ему и сделать-то ничего нельзя. Сколько раз его и в город возили и в острог сажали, только убытки одни. Его станут вязать,— а он говорит: «Что ж, мол, вы ту ногу не путаете? путайте и ту, да покрепче, я пока посплю; а домой я раньше ваших провожатых поспею». Глядишь: точно, опять вернулся, опять тут, ах ты, боже ты мой! Уж на что мы все, здешние, лес знаем, приобыкли сызмала, а с ним поравняться немочно. Прошлым летом, ночью, напрямки из Алтухина в Святое пришел, а тут никто и не хаживал отродясь, верст сорок будет. Вот и мед красть, на это он первый человек; и пчела его не жалит. Все пасеки разорил.
— Я думаю, он и бортам спуска не дает.
— Ну нет, что напраслину на него взводить? Такого греха за ним не замечали. Борт у нас святое дело. Пасека огорожена; тут караул; коли утащил — твое счастье; а бортовая пчела дело божие, не береженое; один медведь ее трогает.
— Зато он и медведь,— заметил Егор.
— Он женат?
— Как же. И сын есть. Да и вор же будет сын-то! В отца вышел весь. Уж он его и теперь учит. Намеднись горшок с старыми пятаками притащил, украл где-нибудь, значит, пошел да зарыл его на полянке в лесу, а сам вернулся домой, да и послал сына на полянку. Пока, говорит, горшка не отыщешь, есть тебе не дам и на двор не пущу. Сын-то день целый просидел в лесу, и ночевал в лесу, а нашел-таки горшок. Да, мудреный этот Ефрем. Пока дома — любезный человек, всех потчует: пей, ешь сколько хочешь, пляска тут у него поднимется, балагурство всякое; а что коли на сходке, такая у нас сходка на селе бывает, уж лучше его никто не рассудит; подойдет сзади, послушает, скажет слово, как отрубит, и прочь; да уж и слово-то веское. А как вот уйдет в лес, ну, так беда! Жди разорения. А и то сказать: он своих не трогает, разве самому тесно придется. Коли встретит кого святов- ского — «Обходи, брат, мимо,— кричит издали,— на меня лесной дух нашел: убью!» Беда!
— Чего же вы смотрите? Целая вотчина с одним человеком справиться не может?
— Да уж пожалуй, что так.
— Колдун он, что ли?
— Кто его знает! Вот намеднись он к соседнему дьячку на пасеку забрался ночью, а дьячок-то караулил сам. Ну, поймал его, да в потемках и приколотил, Как кончил, Ефрем-то и говорит ему: а знаешь
Поездка в Полесье
819
ты, кого бил? Дьячок, как узнал его по голосу, так и обомлел. Ну, брат, говорит Ефрем, это тебе даром не пройдет. Дьячок ему в ноги: возьми, мол, что хочешь. Нет, говорит, я с тебя в свое время возьму, да и чем захочу. Что ж вы думаете? Ведь с самого того дня дьячок-то, словно ошпаренный, как тень бродит! Сердце, говорит, во мне изныло; слово больно крепкое, знать, залепил мне разбойник. Вот что с ним сталось, с дьячком-то.
— Дьячок этот, должно быть, глуп,— заметил я.
— Глуп? А вот это как вы рассудите. Вышел раз приказ изловить этого самого Ефрема. Становой такой у нас завелся вострый. Вот и пошло человек десять в лес ловить Ефрема. Смотрят, а он им навстречу идет... Один-то из них и закричи: вот он, вот он, держите его, вяжите! А Ефрем вошел в лес да вырезал себе древо, эдак перста в два, да как выскочит опять на дорогу, безобразный такой, страшный, как скомандует, словно енарал на разводе: «На коленки!» — все так и попадали. «А кто, говорит, тут кричал: держите, вяжите? Ты, Серега?» Тот-то как вскочит да бежать... А Ефрем за ним, да древом-то его по пяткам... С версту его гладил. И потом все еще жалел: «Эх, мол, досадно: заговеться ему не помешал». Дело-то было перед самыми Филипповнами4. Ну, а станового в скором времени сместили,— тем все и покончилось.
— Да зачем же они все ему покорились?
— Зачем! то-то и есть...
— Он вас всех запугал, да и делает теперь с вами что хочет.
— Запугал... Да он кого хочешь запугает. И уж горазд же он на выдумки, боже ты мой! Я раз в лесу на него наткнулся, дождь такой шел здоровый, я было в сторону... А он поглядел на меня, да эдак меня ручкою и подозвал. «Подойди, мол, Кондрат, не бойся. Поучись у меня, как в лесу жить, на дождю сухим быть». Я подошел, а он под елкой сидит и огонек развел из сырых; веток: дым-то набрался в елку и не дает дождю капать. Подивился я тут ему. А то вот он раз что выдумал (и Кондрат засмеялся), вот уж потешил. Овес у нас молотили на току, да не кончили; последний ворох сгрести не успели; ну и посадили на ночь двух караульщиков, а ребята-то были не из бойких. Вот сидят они да гуторят, а Ефрем возьми да рукава рубахи соломой набей, концы завяжи, да на голову себе рубаху и надень. Вот подкрался он в эдаком-то виде к овину, да и ну из-за угла показываться, помаленьку риги-то свои выставлять.
Один-то малый и говорит другому: видишь? — Вижу, говорит другой, да как ахнут вдруг... только плетни затрещали. А Ефрем нагреб овса в мешок, да и стащил к себе домой. Сам потом все рассказал. Уж стыдил же он, стыдил ребят-то... Право!
820
И.С. ТУРГЕНЕВ
Кондрат засмеялся опять. И Егор улыбнулся. «Так только плетни затрещали?» — промолвил он.
— Только их и видно было,— подхватил Кондрат.— Так и пошли сигать!
Мы опять все притихли. Вдруг Кондрат всполохнулся и выпрямился.
— Э, батюшки,— воскликнул он,— да это никак пожар!
— Где, где? — спросили мы.
— Вон, смотрите, впереди, куда мы едем... Пожар и есть! Ефрем- то, Ефрем ведь напророчил. Уж не его ли это работа, окаянная он душа...
Я взглянул по направлению, куда указывал Кондрат. Действительно, верстах в двух или трех впереди нас, за зеленой полосой низкого ельника, толстый столб сизого дыма медленно поднимался от земли, постепенно выгибаясь и расползаясь шапкой; от него вправо и влево виднелись другие, поменьше и побелей.
Мужик, весь красный, в поту, в одной рубашке, с растрепанными волосами над испуганным лицом, наскакал прямо на нас и с трудом остановил свою поспешно взнузданную лошаденку.
— Братцы,— спросил он задыхающимся голосом,— полесовщиков не видали?
— Нет, не видали. Что это, лес горит?
— Лес. Народ согнать надо, а то, коли к Тросному * кинется...
Мужик задергал локтями, заколотил пятками по бокам лошади... Она поскакала.
Кондрат также погнал свою пару. Мы ехали прямо на дым, который расстилался все шире и шире; местами оп внезапно чернел и высоко взвивался.
Чем ближе мы подвигались, тем неяснее становились его очертания; скоро весь воздух потускнел, сильно запахло горелым, и вот, между деревьями, странно и жутко шевелясь на солнце, мелькнули первые, бледно-красные языки пламени.
— Ну, слава Богу,— заметил Кондрат,— нажегся пожар-то поземный.
— Какой?
— Поземный; такой, что по земле бежит. Вот с подземным мудрено ладить.
Что тут сделаешь, когда земля на целый аршин горит? Одно спасение: копай, канавы — да это разве легко? А поземный — ничего.
Тросное (Троена, Еленка) — село на север от Кудрявца и на северо-восток от излучины Ресеты.
Поездка в Полесье
821
Только траву сбреет да сухой лист сожжет. Еще лучше лесу от него бывает. Ух, батюшки, гляди однако, как шибануло!
Мы подъехали почти к самой черте пожара. Я слез и пошел ему навстречу.
Это не было ни опасно, ни затруднительно. Огонь бежал по редкому сосновому лесу против ветра; он подвигался неровной чертой или, говоря точнее, сплошной зубчатой стенкой загнутых назад языков. Дым относило ветром.
Кондрат сказал правду: это действительно был поземный пожар, который только брил траву и, не разыгрываясь, шел дальше, оставляя за собою черный и дымящийся, но даже не тлеющий след. Правда, иногда там, где огню попадалась яма, наполненная дромом * и сухими сучьями, он вдруг, и с каким-то особенным, довольно зловещим ревом, воздымался длинными, волнующимися косицами, но скоро опадал и бежал вперед по-прежнему, слепка потрескивая и шипя. Я даже не раз заметил, как кругом охваченный дубовый куст с сухими висячими листами оставался нетронутым, только снизу его слегка подпаливало. Признаюсь, я не мог понять, отчего сухие листья не загорались. Кондрат объяснял мне, что это происходило оттого, что пожар поземный, «значит, не сердитый». Да ведь огонь тот же, возражал я. Поземный пожар, повторил Кондрат. Однако хоть и поземный, а пожар все-таки производил свое действие: зайцы как-то, беспорядочно бегали взад и вперед, безо всякой нужды возвращаясь в соседство огня; птицы попадали в дым и кружились, лошади оглядывались и фыркали, самый лес как бы гудел,— да и человеку становилось неловко от внезапно бьющего ему в лицо жара...
— Чего смотреть! — сказал вдруг Егор за моей спиной.— Поедемте.
— Да где проехать? — спросил Кондрат.
— Возьми влево, по сухоболотью проедем.
Мы взяли влево и проехали, хоть иногда трудненько приходилось и лошадям и телеге.
Целый день протаскались мы по Гари. Перед вечером (заря еще не закраснелась на небе, но тени от деревьев уже легли неподвижные и длинные, и чувствовался в траве холодок, который предшествует росе) я прилег на дорогу вблизи телеги, в которую Кондрат, не спеша, впрягал наевшихся лошадей, и вспомнил свои вчерашние невеселые мечтанья. Кругом все было так же тихо, как и накануне, но не было давящего и теснящего душу бора; на высохшем мхе, на лиловом бурьяне, на мягкой пыли дороги, на тонких стволах
Дром — здесь в значении хворост.
822
И.С. ТУРГЕНЕВ
и чистых листочках молодых берез лежал ясный и кроткий свет уже беззнойного, невысокого солнца.
Все отдыхало, погруженное в успокоительную прохладу; ничего еще не заснуло, но уже все готовилось к целебным усыпленьям вечера и ночи. Все, казалось, говорило человеку: «Отдохни, брат наш; дыши легко и не горюй и ты перед близким сном». Я поднял голову и увидал на самом конце тонкой ветки одну из тех больших мух с изумрудной головкой, длинным телом и четырьмя прозрачными крыльями, которых кокетливые французы величают «девицами» а наш бесхитростный народ прозвал «коромыслами». Долго, более часа не отводил я от нее глаз. Насквозь пропеченная солнцем, она не шевелилась, только изредка поворачивала головку со стороны на сторону и трепетала приподнятыми крылышками... вот и все. Глядя на нее, мне вдруг показалось, что я понял жизнь природы, понял ее несомненный и явный, хотя для многих еще таинственный смысл. Тихое и медленное одушевление, неторопливость и сдержанность ощущений и сил, равновесие здоровья в каждом отдельном существе — вот самая ее основа, ее неизменный закон, вот на чем она стоит и держится.
Все, что выходит из-под этого уровня — кверху ли, книзу ли, все равно,— выбрасывается ею вон, как негодное. Многие насекомые умирают, как только узнают нарушающие равновесие жизни радости любви; больной зверь забивается в чащу и угасает там один: он как бы чувствует, что уже не имеет права ни видеть всем общего солнца, ни дышать вольным воздухом, он не имеет права жить; а человек, которому от своей ли вины, от вины ли других пришлось худо на свете, должен по крайней мере уметь молчать *.
— Ну, что ж ты, Егор! — воскликнул вдруг Кондрат, который уже успел поместиться на облучке телеги и поигрывал и перебирал вожжами,— иди садись. Чего задумался? Аль о корове все?
— О корове? О какой корове? — повторил я и взглянул на Егора: спокойный и важный, как всегда, он действительно, казалось, задумался и глядел куда-то вдаль, в поля, уже начинавшие темнеть.
— А вы не знаете? — подхватил Кондрат,— у него сегодня ночью последняя корова околела. Не везет ему — что ты будешь делать?..
Егор сел молча на облучок, и мы поехали. «Этот умеет не жаловаться»,— подумал я.
Подобные же мысли Тургенев развивал в своей рецензии на «Записки ружейного охотника Оренбургской губернии» С.Т. Аксакова (см. наст, изд., т. V, стр. 415-416).
Довольно
823
Довольно*
I
II
III
... « Довольно », — говорил я самому себе, между тем как ноги мои, нехотя переступая по крутому скату горы, несли меня вниз, к тихой речке; — «довольно»,— повторял я, вдыхая смолистый запах сосновой рощи, которому свежесть наступавшего вечера придавала особенную крепость и остроту; — «довольно»,— сказал я еще раз, усевшись на моховом бугре над самой речкой и глядя на ее темные и небыстрые волны, над которыми толстый тростник поднимал свои бледно-зеленые стебли... «Довольно!» — Полно метаться, полно тянуться, сжаться пора: пора взять голову в обе руки и велеть сердцу молчать. Полно нежиться сладкой негой неопределенных, но пленительных * Впервые опубликовано: Тургенев И. С. Сочинения, 1865, ч. 5, с. 335-350. Среди философских и исторических штудий писателя, послуживших источниками отдельных философских мотивов, творчески переосмысленных в «Довольно», в исследовательской литературе и критике о Тургеневе назывались А. Шопенгауэр (См.: Азадовский М. К. Три редакции «Призраков». Уч. зап. Ленингр. ун-та, 1939, №20, вып. 1, с. 138-150; Винникова И. А. И. С. Тургенев в шестидесятые годы. Саратов, 1965, с. 53-73; Левин Ю. Д. «Довольно». Т. сб., вып. 1, с. 253-254; Батюто А. И. Тургенев-романист. Л., 1972, с. 76-112,127-137,143-158), Б. Паскаль (Об отношении Тургенева к Паскалю см. в указ, выше книге А. И. Батюто, с. 61-75.), Экклезиаст (См.: Страхов Н. Новая повесть Тургенева (Отеч. Зап., 1867, №4, с. 169-170); Иванов, с. 183-184,461.), Марк Аврелий, Сенека, Светоний (О совпадениях некоторых философских суждений в «Довольно» и «Призраках» с высказываниями Марка Аврелия, Сенеки, Светония см. в указ, выше книге А. И. Батюто, с. 103-148.); художники мыслители Гёте, Шекспир, Шиллер, Пушкин.
824
И. С. ТУРГЕНЕВ
ощущений, полно бежать за каждым новым образом красоты, полно ловить каждое трепетание ее тонких и сильных крыл. Всё изведано — всё перечувствовано много раз... устал я.— Что мне в том, что в это самое мгновенье заря всё шире, всё ярче разливается по небу, словно распаленная какою-то всепобедною страстию? Что в том, что в двух шагах от меня, среди тишины и неги и блеска вечера, в росистой глубине неподвижного куста, соловей вдруг сказался такими волшебными звуками, точно до него на свете не водилось соловьев и он первый запел первую песнь о первой любви? Всё это было, было, повторялось, повторяется тысячу раз* — и как вспомнишь, что всё это будет продолжаться так целую вечность, словно по указу, по закону,— даже досадно станет! Да... досадно!
IV
Эх, состарился я! Прежде подобные мысли и в голову бы мне не пришли — прежде, в те счастливые дни, когда я сам разгорался, как заря, и пел, как соловей. Надо признаться: всё потускнело вокруг, вся жизнь поблекла. Свет, который дает ее краскам и значение и силу,— тот свет, который исходит из сердца человека,— погас во мне... Нет, он еще не погас — но едва тлеет, без лучей и без теплоты. Помнится, однажды поздней ночью, в Москве, я подошел к решетчатому окну старенькой церкви и прислонился к неровному стеклу. Было темно под низкими сводами — позабытая лампадка едва теплилась красным огоньком перед древним образом — и смутно виднелись одни только губы святого лика, строгие, скорбные; угрюмый мрак надвигался кругом и, казалось, готовился подавить своею глухою тяжестью слабый луч ненужного света... И в сердце моем — теперь такой же свет и такой же мрак.
V
И это я пишу тебе — тебе, мой единственный и незабвенный друг, тебе, дорогая моя подруга, которую я покинул навсегда, но которую не перестану любить до конца моей жизни... Увы! ты знаешь, что нас разлучило. Но я не хочу теперь упоминать об атом. Я тебя покинул... * Ср. у Марка Аврелия: «Пора угомониться <...> оставь пустые надежды сам, пока еще не поздно, приди себе на помощь, если ты сколько-нибудь заботишься о самом себе...»; «Что бы ни произошло, всегда будь готов сказать: «Ведь это то самое, что я уже часто видел...»; «Довольно жалкой жизни, ропота и обезьянничанья. Что тревожит тебя? Что в этом нового? <...> Всё равно, наблюдать ли одно и то же сто лет или три года» (Аврелий Марк. Наедине с собой. Размышления. М., 1914, с. 34,91,137).
Довольно
825
но и здесь, в этой глуши, в этой дали, в этом изгнании — я весь проникнут тобою, я по-прежнему в твоей власти, по-прежнему чувствую сладостное тяготение твоей руки на моей склоненной голове! В последний раз приподнимаясь из немой могилы, в которой я теперь лежу, я пробегаю кротким и умиленным взором всё мое прошедшее, всё наше прошедшее... Надежды нет, и нет возврата — но и горечи нет во мне и нет сожаленья, и яснее небесной лазури, чище первого снега на горных высотах, восстают, как образы умерших богов, прекрасные воспоминанья... Они не теснятся толпами, они проходят тихой чередою, как те закутанные фигуры афинских феорий*, которыми — помнишь? — мы так любовались на древних барельефах Ватикана...
VI
Я сейчас упомянул о свете, который исходит из сердца человеческого и озаряет всё, что его окружает... Мне хочется поговорить с тобою о том времени, когда и в моем сердце горел этот благодатный свет. Слушай... а я воображу, что ты сидишь передо мною и глядишь на меня твоими ласковыми и в то же время почти до строгости внимательными глазами. О незабвенные глаза! На кого, куда устремлены вы теперь? Кто принимает в свою душу ваш взгляд — этот взгляд, который как будто вытекает из неведомой глубины, подобно тем таинственным ключам, как вы, и светлым и темным, которые бьют на самом дне тесных долин, под навесами скал?.. Слушай.
VII
Это было в конце марта, перед благовещением **, вскоре после того, как я в первый раз тебя увидел, и, еще не подозревая, чем ты станешь для меня, уже носил тебя в сердце — безмолвно и тайно. Мне пришлось переезжать одну из главных рек России. Лед * Феория (от греч. theos — бог) — торжественное священное посольство, отправлявшееся в храмы, приносящее жертву богам и вопрощающее оракула. Наиболее известна афинская феория, ежегодно отправлявшаяся на остров Делос к святилищу Аполлона. Возможно, Тургенев имеет в виду фреску Рафаэля «Афинская школа», выполненную в парадном зале Ватиканского дворца. Во втором черновом автографе упоминался Рафаэль (см.: т. сб., выл. 3, с. 24). С конца февраля по 12 (24) апреля 1840 г. Тургенев жил в Риме во время путешествия по Италии. Об изучении «памятников и древностей» Рима он писал в (Воспоминаниях о Н. В. Станкевиче) (см. наст. изд., т. 5).
** Благовещенье — христианский праздник, празднуется 25 марта по православному календарю (7 апреля по новому стилю. — Прим, составителя).
826
И.С. ТУРГЕНЕВ
еще не тронулся на ней, но как будто вспух и потемнел; четвертый день стояла оттепель. Снег таял кругом — дружно, но тихо; везде сочилась вода; в рыхлом воздухе бродил беззвучный ветер. Один и тот же, ровный молочный цвет обливал землю и небо; тумана не было — но не было и света; ни один предмет не выделялся на общей белизне; всё казалось и близким, и неясным. Оставив свою кибитку далеко назади, я быстро шел по льду речному — и, кроме глухого стука собственных шагов, не слышал ничего; я шел, со всех сторон охваченный первым млением и веянием ранней весны... И понемногу, прибавляясь с каждым шагом, с каждым движением вперед, поднималась и росла во мне какая-то радостная, непонятная тревога... Она увлекала, она торопила меня — и так сильны были ее порывы, что я остановился наконец в изумлении и вопросительно посмотрел вокруг, как бы желая отыскать внешнюю причину моего восторженного состояния... Всё было тихо, бело, сонно; но я поднял глаза: высоко на небе неслись станицей прилетные птицы... «Весна! здравствуй, весна! — закричал я громким голосом,— здравствуй, жизнь, и любовь, и счастье!» — и в то же мгновенье, с сладостно потрясающей силой, подобна цвету кактуса, внезапно вспыхнул во мне твой образ — вспыхнул и стал, очаровательно яркий и прекрасный,— и я понял, что я люблю тебя, тебя одну, что я весь полон тобою...
VIII
Я думаю о тебе... и много других воспоминаний, других картин встает передо мною — и повсюду ты, на всех путях моей жизни встречаю я тебя. То является мне старый русский сад на скате холма, освещенный последними лучами летнего солнца. Из-за серебристых тополей выглядывает тесовая крыша господского дома с тонким завитком алого дыма над белой трубой, а в заборе калитка чуть раскрылась, словно кто потянул ее нерешительной рукою,— и я стою и жду, и гляжу на эту калитку и на песок садовой дорожки — я дивлюсь и умиляюсь, всё, что я вижу, мне кажется необыкновенным и новым, всё обвеяно какой-то светлой, ласковой таинственностью,— и уже чудится мне быстрый шелест шагов — и стою я, весь напряженный и легкий, как птица, только что сложившая крылья и готовая взвиться вновь,— и сердце горит и трепещет веселым страхом перед близким, перед налетающим счастьем... *
Главки VII-VIII по своему лиризму ассоциативно близки XXXIV главе «Дворянского гнезда», сцене объяснения Лаврецкого с Лизой (см. наст, изд., т. 6).
Довольно
827
IX
То вижу я древний собор в далекой, прекрасной стране. Рядами теснится коленопреклоненный народ; молитвенным холодом, чем- то важным и унылым веет от высокого, нагого свода, от громадных, к верху разветвленных столбов. Ты стоишь возле меня безгласно и безучастно, точно ты мне чужая; каждая складка твоего темного плаща висит неподвижно, как изваянная; неподвижно лежат пестрые отраженья цветных окон у ног твоих, на потертых плитах. И вот, сильно потрясая тусклый от ладана воздух, внутренно нас потрясая, тяжелой волной прокатились звуки органа — и ты побледнела и выпрямилась — твой взор коснулся меня, скользнул выше и поднялся к небу,— а мне показалось, что только бессмертная душа может так глядеть и такими глазами...
X
То является мне другая картина. Не старинный храм подавляет нас своим суровым великолепием; низкие стены небольшой уютной комнатки отделяют нас от целого мира. Что я говорю! мы одни, одни в целом мире; кроме нас двоих, нет ничего живого; за этими дружелюбными стенами мрак, и смерть, и пустота. То не ветер воет, то не дождик струится ручьями: то жалуется и стонет Хаос; то плачут его слепые очи. А у нас тихо, и светло, и тепло, и приветно; что-то забавное, что-то детски-невинное, бабочкой — не правда ли? — порхает вокруг; мы приютились друг к дружке, мы прислонились друг к дружке головами и оба читаем хорошую книгу; я чувствую, как бьется тонкая жилка в твоем нежном виске, я слышу, как ты живешь, ты слышишь, как я живу, твоя улыбка рождается у меня на лице прежде, чем у тебя, ты отвечаешь безмолвно на мой безмолвный вопрос, твои мысли, мои мысли — как оба крыла одной и той же в лазури потонувшей птицы... Последние преграды пали — и так успокоилась, так углубилась наша любовь, так бесследно исчезло всякое разъединение, что нам даже не хочется меняться словом, взглядом... Только дышать, дышать вместе хочется нам, жить вместе, быть вместе... и даже не сознавать того, что мы вместе... *
* Эта главка напоминает письма Тургенева к П. Виардо 1840-х гг., особенно письмо от 9 (21) мая 1844 г. из Петербурга, в котором Тургенев сообщал: «Я хотел заглянуть здесь в наши милые маленькие комнатки, но теперь там кто-то живет».
828
И.С. ТУРГЕНЕВ
XI
Или, наконец, мне представляется то ясное, сентябрьское утро, когда мы гуляли с тобою по пустынному, еще не отцветшему саду заброшенного дворца, на берегу великой нерусской реки, при кротком сиянии безоблачного неба. О, как передать те ощущения! Эта бесконечно текущая река, эта безлюдность и спокойствие, и радость, и какая-то упоительная грусть, и колыхание счастья, незнакомый однообразный город, осенние крики галок в высоких светлых деревьях — и эти ласковые речи и улыбки, и взгляды, долгие, мягкие, до дна доходящие, и красота, красота в самих нас, кругом, повсюду — это выше слов. О скамейка, на которой мы сидели молча, с поникшими от избытка чувств головами,— не забыть мне тебя до смертного моего часа! Что за прелесть были эти редкие прохожие с их коротким приветом и добрыми лицами, и плывшие мимо большие тихие лодки (на одной из них — помнишь? — стояла лошадь и задумчиво глядела на скользившую у ней под носом воду) — ребяческий лепет мелких прибрежных волн и самый лай далеких собак над гладью реки, самое покрикивание дородного унтер-офицера на учившихся тут же в сторонке краснощеких рекрутов с их оттопыренными локтями и вынесенными вперед на журавлиный лад ногами!.. Мы чувствовали оба, что лучше этих мгновений ничего в мире не бывало и не будет для нас, что всё остальное... Да и какие тут сравнения! Довольно... довольно!.. Увы! да: довольно.
XII
В последний раз отдался я тем воспоминаниям и прощаюсь с ними безвозвратно. Так скупой, в последний раз налюбовавшись своим кладом, своим золотом, своим светлым сокровищем,— засыпает его серой сырой землею; так светильня истощенной лампады, вспыхнув последним, ярким пламенем, покрывается холодным пеплом. Взглянул зверек в последний раз из своей норки на бархатную травку, на солнышко, на голубые ласковые воды — да и забился в самую глубь, свернулся калачиком и заснул. Будут ли ему хотя во сне мерещиться и солнышко, и травка, и голубые ласковые воды?
Довольно
829
XIII
Строго и безучастно ведет каждого из нас судьба — и только на первых порах мы, занятые всякими случайностями, вздором, самими собою, не чувствуем ее черствой руки. Пока можно обманываться и не стыдно лгать — можно жить и не стыдно надеяться. Истина — не полная; истина — о той и помину быть не может, но даже та малость, которая нам доступна, замыкает тотчас нам уста, связывает нам руки, сводит нас «на нет». Тогда одно остается человеку, чтобы устоять на ногах и не разрушиться в прах, не погрязнуть в тине самозабвения... самопрезрения: спокойно отвернуться ото всего, сказать: довольно! — и, скрестив на пустой груди ненужные руки, сохранить последнее, единственно доступное ему достоинство, достоинство сознания собственного ничтожества; то достоинство, на которое намекает Паскаль, когда он, называя человека мыслящим тростником, говорит, что если бы целая вселенная его раздавила — он, этот тростник, был бы все-таки выше вселенной, потому что он бы знал, что она его давит, а она бы этого не знала *. Слабое достоинство! Печальное утешение! Как ты ни старайся проникнуться им, поверить ему — о, ты, кто бы ни был, мой бедный собрат,— не отразить тебе тех грозных слов поэта: «Наша жизнь — одна бродячая тень; жалкий актер, который рисуется и кичится какой- нибудь час на сцене, а там пропадай без вести; сказка, рассказанная безумцем, полная звуков и ярости и не имеющая никакого смысла» **. Я привел стихи из «Макбета», и пришли мне на намять те ведьмы, призраки, привидения... Увы! не привидения, не фантастические, подземные силы страшны; не страшна гофманщина, под каким бы видом она ни являлась... *** Страшно то, что нет ничего страшного, что самая суть жизни мелко-неинтересна и нищенски плоска. Проникнувшись этим сознаньем, отведав этой полыни, никакой уже мед не покажется сладким — и даже то высшее, то сладчайшее счастье, счастье любви, * Вольно пересказанное Тургеневым широко известное суждение Блеза Паскаля (Pascal; 1623-1662): «Человек не что иное, как тростник, очень слабый по природе, но этот тростник мыслит. Незачем целой вселенной ополчаться, чтобы его раздавить. Пара, капли воды достаточно, чтобы его умертвить. Но если бы даже вселенная раздавила его, человек был бы еще более благороден, чем то, что его убивает, потому что он знает, что он умирает ; а вселенная ничего не знает о том преимуществе, которое она имеет над ним» (Паскаль Б. Мысли. СПб., 1888, с. 47).
** Макбет. Акт V-й, сцена 5-я.
*** В данном контексте речь идет о трагическом вмешательстве потусторонних сил в жизнь человека. Понятие «гофманщина» связано с именем немецкого писателя-романтика Гофмана (Hoffmann) Эрнста Теодора Амадея (1776-1828).
830
И. С. ТУРГЕНЕВ
полного сближения, безвозвратной преданности — даже оно теряет всё свое обаяние; всё его достоинство уничтожается его собственной малостью, его краткостью. Нуда: человек полюбил, загорелся, залепетал о вечном блаженстве, о бессмертных наслаждениях — смотришь: давным-давно уже нет следа самого того червя, который выел последний остаток его иссохшего языка. Так, поздней осенью, в морозный день, когда всё безжизненно и немо в поседелой траве, на окраине обнаженного леса,— стоит солнцу выйти на миг из тумана, пристально взглянуть на застывшую землю — тотчас отовсюду поднимутся мошки: они играют в теплом его луче, хлопочут, толкутся вверх, вниз, вьются друг около друга... Солнце скроется — мошки валятся слабым дождем — и конец их мгновенной жизни*.
XIV
Но разве нет великих представлений, великих утешительных слов: «Народность, право, свобода, человечество, искусство?» Да; эти слова существуют, и много людей живет ими и для них. Но все-таки мне сдается, что если бы вновь народился Шекспир, ему не из чего было бы отказаться от своего Гамлета, от своего Лира. Его проницательный взор не открыл бы ничего нового в человеческом быту: всё та же пестрая и в сущности несложная картина развернулась бы перед ним в своем тревожном однообразии. То же легковерие и та же жестокость, та же потребность крови, золота, грязи, те же пошлые удовольствия, те же бессмысленные страданья во имя... ну хоть во имя того же вздора, две тысячи лет тому назад осмеянного Аристофаном **, те же самые грубые приманки, на которые так же легко попадается многоголовый зверь — людская толпа, те же ухватки власти, те же привычки рабства, та же естественность неправды — словом, то же хлопотливое прыганье белки в том же старом, даже не подновленном колесе... Шекспир опять заставил бы Лира повторить свое жестокое: «нет виноватых» — что другими словами значит: «нет и правых» *** — и тоже бы промолвил: довольно! — и тоже бы отвернулся. Одно разве только: быть может, * Эти высказывания, как и вся XIII главка «Довольно», идейно и композиционно близки XXIII главе «Призраков» (см. наст, том, с. 216).
** Аристофан (ок. 446- 385 гг. до и. э.) — древнегреческий комедиограф, сати рик, автор комедий «Всадники», «Облака», «Осы», «Птицы», «Лисистрата», «Лягушки» и др. Высокая оценка Аристофана и его школы содержится в письме Тургенева к Полине Виардо от 28 ноября, 3 декабря (10,15 декабря) 1846 г.
*** Слова Лира из трагедии Шекспира «Король Лир» (1608) (д. IV, сценаб). В такой же интерпретации Тургенев процитировал их в письме к Ю. П. Вревской от 18 (30) января 1877 г. и повторил в повести «Степной король Лир» (1870).
Довольно
831
в противоположность мрачному, трагическому тирану — Ричарду — иронический гений великого поэта захотел бы нарисовать другой, более современный тип тирана, который почти готов поверить в собственную добродетель, и спокойно почивает по ночам или жалуется на чересчур;, изысканный обед в то самое время, когда его полураздавленные жертвы стараются хоть тем себя утешить, что воображают его, как Ричарда III, окруженным призраками погубленных им людей... *
Но к чему?
К чему доказывать — да еще подбирая и взвешивая слова, округляя и сглаживая речь,— к чему доказывать мошкам, что они точно мошки? **
XV
Но искусство?., красота?.. Да, это сильные слова; они, пожалуй, сильнее других, мною выше упомянутых слов. Венера Милосская, пожалуй, несомненнее римского права*** или принципов 89-го года****. Мне могут возразить — и сколько раз уже слышались эти возражения! — что и сама красота дело условное, что китайцу она представляется совсем иначе, чем европейцу... Но не условность искусства меня смущает; его бренность, опять-таки его бренность, его тлен и прах — вот что лишает меня бодрости и веры. Искусство, в данный миг, пожалуй, сильнее самой природы, потому что в ней нет ни симфонии Бетховена, ни картины Рюисдаля *****, ни поэмы Гёте,— и одни лишь тупые педанты или недобросовестные болтуны могут еще толковать об искусстве как * В трагедии Шекспира «Ричард III» (1597) главному герою Ричарду III Глостеру являются призраки людей, павших жертвами его преступлений (действие пятое, сцена третья). Прототипом героя трагедии Шекспира явился английский король Ричард III, последний из династии Йорков; вступил на престол, совершив ряд злодеяний.
** Ср. с XXIII гл. «Призраков» : «Эти люди — мухи, в тысячу раз ничтожнее мух» (см. наст, том, с. 216).
*** Статуя Венеры Милосской, обнаруженная при раскопках в Греции в начале XIX в., находится в Париже в Луврском музее. Римское право — свод законов древнего Римского государства. Римские юристы различали право публичное и право частное. Римское частное п раво легло в основу законодательства многих западноевропейских государств, прямо заимствовавших римские правовые понятия или принявших принципы римского права за образцы при разработке кодексов нового времени.
**** речь Идет о «Декларации прав человека и гражданина» — политическом манифесте французской буржуазной революции, принятом Учредительным собранием 26 августа 1789 года.
***** рейсдаль (Ruysdael, Ruisdael) Якоб ван (1628 или 1629-1682) — голландский художник-пейзажист; принадлежал к любимым живописцам Тургенева. «Ходил я в Эрмитаж посмотреть старых друзей: Рюисдаля, Поттера и других»,— писал Тургенев П. Виардо7,8 (10,20) марта 1868 г. из Петербурга.
832
И. С. ТУРГЕНЕВ
о подражании природе*; но в конце концов природа неотразима; ей спешить нечего, и рано или поздно она возьмет свое. Бессознательно и неуклонно покорная законам, она не знает искусства, как не знает свободы, как не знает добра; от века движущаяся, от века преходящая, она не терпит ничего бессмертного, ничего неизменного... Человек ее дитя; но человеческое — искусственное — ей враждебно, именно потому, что оно силится быть неизменным и бессмертным. Человек дитя природы; но она всеобщая мать, и у ней нет предпочтений: всё, что существует в ее лоне, возникло только на счет другого и должно в свое время уступить место другому — она создает, разрушая, и ей всё равно: что она создает, что она разрушает — лишь бы не переводилась жизнь, лишь бы смерть не теряла прав своих... А потому она так же спокойно покрывает плесенью божественный лик фидиасовского Юпитера**, как и простой голыш, и отдает на съедение презренной моли драгоценнейшие строки Софокла***. Люди, правда, ревностно помогают ей в ее истребительной работе; но разве не та же стихийная сила, не сила природы сказалась в палице варвара, бессмысленно дробившего лучезарное чело Аполлона****, в звериных воплях, с которыми он бросал в огонь картину Апеллеса? ***** Где же нам, бедным людям, бедным художникам, сладить с этой глухонемой слепорожденной силой, которая даже не торжествует своих побед, а идет, идет вперед, всё пожирая?6* Как устоять против этих тяжелых, грубых, бесконечно и безустанно * Выпад против некоторых положений диссертации Чернышевского «Об эстетических отношениях искусства к действительности». Ср. с высказыванием Тургенева о ней в письме к Боткину и Некрасову от25 июля (6 августа) 1855 г.: «Что же касается до книги Чернышевского — вот главное мое обвинение против нее: в его глазах искусство есть, как он сам выражается, только суррогат действительности, жизни — ив сущности годится только для людей незрелых. Как ни вертись, эта мысль у него лежит в основании всего. А это, по-моему, вздор».
** Статуя Зевса (Юпитера) в храме Зевса в Олимпии, созданная древнегреческим скульптором Фидием (VI-V вв. до н. э.), считалась одним из семи чудес света. Статуя не сохранилась; известна по копиям и описаниям.
*** Из более чем 120 пьес Софокла (497-406 до н.э.) сохранились лишь семь трагедий и около 100 отрывков.
**** Аполлон — один из наиболее почитаемых богов античного Олимпа. Известны статуи Аполлона работы древнегреческих скульпторов Леохара, Праксителя.
***** Апеллес — древнегреческий живописец второй половины IV века до н.э. Его портреты и картины не сохранились.
6* Высказывания о всемогущей стихийности природы, о ее «грубом равнодушии» содержатся во многих письмах Тургенева к П. Виардо. «Да она такова: она равнодушна,— писал он29,30 мая (10,11 июня) 1849 г.,— душа есть только в нас, может быть, немного вокруг нас... это слабое сияние, которое древняя ночь вечно стремится поглотить». Ср. с письмом к П. Виардо от 16 (28) июля 1849 г. : «Эта штука — равнодушная, повелительная, прожорливая, себялюбивая, подавляющая — это жизнь, природа или Бог; называйте ее как хотите... »
Довольно
833
надвигающихся волн, как поверить, наконец, в значение и достоинство тех бренных образов, которые мы, в темноте, на краю бездны, лепим из праха и на миг?
XVI
Всё так... но одно преходящее прекрасно, сказал Шиллер*; и сама природа, в непрерывной игре своих возникающих, исчезающих форм, не чуждается красоты. Не она ли старательно убирает самые мгновенные из своих детищ — лепестки цветов, крылья бабочек — такими прелестными красками, не она ли придает им такие изящные очертанья? Красоте не нужно бесконечно жить, чтобы быть вечной,— ей довольно одного мгновенья. Так, это, пожалуй, справедливо — но только там, где нет личности, нет человека, нет свободы: поблекшее крыло бабочки возникает вновь и через тысячу лет тем же самым крылом той же самой бабочки; тут строго и правильно, и безлично совершает свой круг необходимость... Но человек не повторяется, как бабочка, и дело его рук, его искусства, его свободное творение, однажды разрушенное,— погибает навсегда... Ему одному дано «творить»... но странно и страшно вымолвить: мы творцы... на час,— как был, говорят, калиф на час**. В этом наше преимущество — и наше проклятие: каждый из этих «творцов» сам по себе, именно он, не кто другой, именно это я, словно создан с преднамерением, с предначертанием; каждый более, дли менее смутно понимает свое значение, чувствует, что он сродни чему-то высшему, вечному — и живет, должен жить в мгновенье и для мгновенья. Сиди в грязи, любезный, и тянись к небу!1 Величайшие из нас — именно те, которые глубже всех других сознают это коренное противоречие, но в таком случае — спрашивается — уместны ли слова величайший, великий?
Как не вспомнить тут слов Мефистофеля к Фаусту:
Er (Gott) findet sich in einem ew’gen Glanze, Uns hat er in die Finsterniss gebracht — Und euch taugt einzig Tag und Nacht ***.
* Возможно, Тургенев имеет в виду следующие строки Шиллера:
Schwer ist die Kunst,
Vergânglich ist ihr Preis.
(Искусство — трудно: преходящее ему цена.— Шиллер Ф. Вступление к трилогии «Валленштейн», 1800).
** Калиф на час — человек, наделенный властью на очень короткое время, образ из арабской сказки «Сон наяву, или Калиф на час», входящей в сборник «Тысяча и одна ночь». Популярности выражения способствовала оперетта Ж. Оффенбаха (1819 1880) «Калиф на час».
*** Он (Бог) обитает в вечном сиянии, нас он низринул в темноту, вам он отвел день и ночь (иель). И.-В. Гёте. Фауст (1808). Часть I, рабочая комната Фауста.
834
И.С. ТУРГЕНЕВ
XVII
Что же сказать о тех, к которым, при всем желании, нельзя применить эти имена, даже в том значении, которой придает им слабый человеческий язык? Что сказать об обыкновенных, дюжинных, второстепенных, третьестепенных тружениках, кто бы они ни были — государственные люди, ученые, художники — особенно художники? Чем заставить их стряхнуть свою немую лень, свое унылое недоумение, чем привлечь их опять на поле битвы,— если только мысль о тщете всего человеческого, всякой деятельности, ставящей себе более высокую задачу, чем добывание насущного хлеба, закралась им в голову? Какими венками прельстятся они — они, для которых и лавры и тернья стали равно незначительны? Из чего они станут снова подвергаться смеху «толпы холодной» или «суду глупца» * — старого глупца, который не может простить им, что они отвернулись от прежних кумиров, молодого глупца, который требует, чтобы они тотчас вместе с ним стали на колени, легли плашмя перед новыми, только что открытыми идолами? ** Зачем пойдут они опять на этот толкучий рынок призраков, на это торжище, где и продавец и покупатель равно обманывают друг друга, где всё так шумно, громко — и всё так бедно и дрянно? Зачем «с изнеможением в кости» поплетутся они вновь в этот мир***, где народы, как крестьянские мальчишки в праздничный день, барахтаются в грязи из-за горсти пустых орехов или дивятся, разинув рты, на лубочные картины, раскрашенные сусальным золотом,— в этот мир, где живуче только то, что не имеет права на жизнь,— и, оглушая самого себя собственным криком, каждый судорожно спешит к неизвестной и непонятной ему цели? Нет... нет... Довольно... довольно... довольно!
XVIII
...The rest is silence****
* Цитата из стихотворения Пушкина «Поэту» (1830): «Услышишь суд глупца и смех толпы холодной».
** Намек на полемику вокруг «Отцов и детей».
*** Усеченная цитата из стихотворения Ф. И. Тютчева «Как птица раннею зарей... » (1836):
Как грустно полусонной тенью, С изнеможением в кости, Навстречу солнцу и движенью За новым племенем брести!..
**** Дальнейшее — молчанье (англ.). Последние слова умирающего Гамлета из трагедии Шекспира «Гамлет» (1601) (д. V, сцена2).
А. И. ГЕРЦЕН
С того берега *
Сыну моему Александру1
Друг мой Саша,
Я посвящаю тебе эту книгу, потому что я ничего не писал лучшего и, вероятно, ничего лучшего не напишу; потому что я люблю эту книгу как памятник борьбы, в которой я пожертвовал многим,
* Печатается по тексту издания: «С того берега» Искандера. Издание второе, пересмотренное автором. London, 1858.
Этому изданию предшествовало немецкое издание 1850 г. и русское издание 1855 г. Первое русское издание (Лондон, 1855), вышедшее под псевдонимом Искандер, открывалось посвящением «Сыну моему Александру» и введением, включавшим в себя обращение к русским друзьям под заголовком «Прощайте!». Кроме того, Герцен ввел в книгу статьи «Эпилог 1849», «Omnia mea mecum porto» и «Донозо Кортес, маркиз Вальдегамас, и Юлиан, император римский» и исключил статьи «КГ. Гервегу» и «КД. Маццини». В таком составе, с небольшими стилистическим изменениями, «С того берега» было перепечатано Герценом в Лондоне в 1858 г.
В книге « С того берега » нашли наиболее яркое отражение духовная драма Герцена, пережитая им после июньских дней 1848 г., все кричащие противоречия его мировоззрения в этот период, разочарование в утопических верованиях и мелкобуржуазных иллюзиях.
В « Былом и думах » Герцен так вспоминал об обстановке и настроениях, сопутствовавших созданию « С того берега » : « Наскучив бесплодными спорами, я схватился за перо и сам в себе, с каким-то внутренним озлоблением убивал прежние упования и надежды» (глава « 1848»), Но высказав все терзавшие его мучительные сомнения, подвергнув критике обветшалые и обреченные воззрения, Герцен тем самым обретал новую почву для продолжения идейной борьбы. В письме к Гессу от 3 марта 1850 г. он говорит об этой своей «брошюре» : «... я освободился от своих горестных ощущений, когда написал ее».
Герцен не раз указывал на то, что «С того берега» — не теоретический трактат, формулирующий какую-либо окончательную точку зрения, «не пропагандистская работа» (письмо к М. Гессу от 3 марта 1850 г.). В письме к московским друзьям от 19 июня 1851 г. он писал: «Это не наука, а обличение, это бич на нелепые теории и на нелепых риторов-либералов, фермент — и больше ничего». В посвящении сыну, впервые предпосланному изданию «С того берега» 1855 г., Герцен указывал: «Не ищи решений в этой книге», а 3 марта 1850 г. в письме к Гессу он подчеркивал, что в ней преобладает «элемент лирический».
«С того берега» и следует рассматривать как насыщенный глубоким теоретическим содержанием лирический рассказ автора о своем «логическом романе», о своих идейных исканиях после поражения революции 1848 года. Охваченный пессимизмом, Герцен нередко шел в ошибочном направлении, колебался, срывался, впадал в отчаяние, оказывался в тупике. Но он никогда не переставал искать пути,
836
А.И. ГЕРЦЕН
но не отвагой знания; потому, наконец, что я нисколько не боюсь дать в твои отроческие руки этот, местами дерзкий, протест независимой личности против воззрения устарелого, рабского и полного лжи, про-
ведущего вперед, к будущему, и имел поэтому право назвать «С того берега» «памятником борьбы», в котором он «пожертвовал многим, но не отвагой знания». Рассказывая о своих сомнениях и колебаниях, Герцен стремился разбудить мысль читателя, толкнуть его к изучению действительности, к поискам новых решений. «Это захватывает и ведет к жизни, это сердит и заставляет думать»,— писал он о своей книге в письме к друзьям от 19 июня 1851г.
Для верного понимания идейной направленности «С того берега» и той роли, которую предназначал этому произведению сам Герцен, существенное значение имеют ранние редакции отдельных глав, а также состав (в частности, включение статей «Россия» и «Письмо русского к Маццини») и композиция первого немецко го издания 1850 г., его отличия от последующих русских изданий 1855 и 1858 гг. (см. текстологический комментарий). Во введении к книге («Прощайте!»), которое содержалось в первоначальной русской рукописи и не было включено в немецкое издание, сформулированы задачи, стоящие перед русским передовым человеком за рубежом. Как показывает ранняя редакция этого введения ( « Addio!» ), Герцен говорил здесь о своем намерении начать создание вольной русской печати. Эта редакция является единственным известным в настоящее время доказательством того, что уже в начале 1849 г. ( «Прощайте!» датировано 1 марта) Герцен поставил перед собою эту задачу огромного исторического значения.
В кругах русской передовой интеллигенции книга Герцена была воспринята прежде всего как полное истинного драматизма и проникнутое пессимистической, но выстраданной мыслью отражение событий всемирно-исторического значения, поли тического опыта Европы. 12 сентября 1848 г. Н. А. Некрасов писал И. С. Тургеневу: «Я плакал, читая “После грозы” — это чертовски хватает за душу» (Н.А, Некрасов. Поли. собр. соч. и писем, Гослитиздат, т. X, 1952, стр. 116).
Грановский писал Герцену весной 1851 г. (точная дата письма неизвестна): «...я немоту помириться с твоим воззрением на историю и на человека... Для такого человечества, какое ты представляешь в статьях своих, для такого скудного и бесплодного развития не нужно великих и благородных деятелей... Ты пишешь теперь для немногих, способных понять твою мысль и не оскорбиться ею» (ЛН, т. 62, стр. 99).
В отзыве T. Н. Грановского хотя и чувствуется опасение, что книга может быть воспринята как скептический призыв к общественной пассивности, но вместе с тем содержится признание того, что горькое разочарование Герцена в утопических иллюзиях и надеждах будет не бесплодным как для самого автора, так и для развития передовой мысли.
Н. И. Сазонов в статье «Литература и писатели в России» видит в книге Герцена отражение «кризиса, но кризиса в могучем организме, где неизбежно должно победить здоровое начало». Он отмечает характерное для произведения «прославление человеческой личности, рассматриваемой как последний обломок рушащегося нравственного мира, как единственная ценность, достойная спасения во время всемирного катаклизма» (ЛН, т.41-42, стр. 199-200).
И сам Герцен в посвящении сыну (1855) называл «С того берега» «протестом независимой личности против воззрения устарелого, рабского и полного лжи... ». В само- державио крепостнической России такой протест являлся выступлением против политического гнета. Поэтому Горький и видел в книге Герцена «прекрасно разработанное учение о ценности личности — в стране рабов это учение необходимо должно было явиться» (М. Горький. История русской литературы, 1939, стр. 208).
С того берега
837
тив нелепых идолов, принадлежащих иному времени и бессмысленно доживающих свой век между нами, мешая одним, пугая других.
Я не хочу тебя обманывать, знай истину, как я ее знаю; тебе эта истина пусть достанется не мучительными ошибками, не мертвящими разочарованиями, а просто по праву наследства.
В твоей жизни придут иные вопросы, иные столкновения... в страданиях, в труде недостатка не будет. Тебе 15 лет — и ты уже испытал страшные удары.
Не ищи решений в этой книге — их нет в ней, их вообще нет у современного человека. То, что решено, то кончено, а грядущий переворот только что начинается.
Мы не строим, мы ломаем, мы не возвещаем нового откровения, а устраняем старую ложь. Современный человек, печальный pontifex maximus*, ставит только мост — иной, неизвестный, будущий пройдет по нем. Ты, может, увидишь его... Не останься на старом берегу... Лучше с ним погибнуть, нежели спастись в богадельне реакции **.
Религия грядущего общественного пересоздания — одна религия, которую я завещаю тебе. Она без рая, без вознаграждения, кроме собственного сознания, кроме совести... Иди в свое время проповедовать ее к нам домой; там любили когда-то мой язык и, может, вспомнят меня.
...Благословляю тебя на этот путь во имя человеческого разума, личной свободы и братской любви!
Твой отец
Твикнем2, 1 января 1855 г.
* Здесь: великий строитель мостов (лат.).— Ред.
** Эти последние строки посвящения сыну воспроизведены редакцией в том виде, какой они имеют в прижизненных изданиях «С того берега». Иной вариант их, включающий известные слова: «лучше с революцией погибнуть, чем спастись в богадельне реакции», содержался в черновой рукописи, фотокопия с которой опубликована в «Речи» 1912 г., №83 (см. «Варианты», стр. 440). Редакция считает, что контаминация печатного текста и рукописного варианта, как это сделал М. К. Лемке (ЛУ, 382), была бы необоснованной, тем более, что последний авторизованный текст строк, о которых идет речь, по идейному содержанию отнюдь не противоречит раннему варианту. Говоря о том, что «лучше с ним погибнуть», Герцен явно имеет в виду не «старый берег» (ведь он призывает не оставаться на нем), а «иного, неизвестного, будущего» человека, воплощающего собою грядущую революцию.
838
А. И.ГЕРЦЕН
(ВВЕДЕНИЕ)
« Vom andern Ufer» * — первая книга, изданная мною на Западе; ряд статей, составляющих ее, был написан по-русски в 1848 и 49 году. Я их сам продиктовал молодому литератору Ф. Каппу по-немецки.
Теперь многое не ново в ней. (Я прибавил три статьи, напечатанные в журналах и назначенные для второго издания, которое немецкая цензура не позволила; эти три статьи: «Эпилог», «Omnia mea mecum porto» и «Донозо Кортес». Ими заменив я небольшую статью об России, писанную для иностранцев.) Пять страшных лет научили кой-чему самых упорных людей, самых нераскаянных грешников нашего берега. В начале 1850 г. книга моя сделала много шума в Германии; ее хвалили и бранили с ожесточением, и рядом с отзывами, больше нежели лестными, таких людей, как Юлиус Фрёбель, Якоби, Фальмерейер5, — люди талантливые и добросовестные с негодованием нападали на нее.
Меня обвиняли в проповедовании отчаяния, в незнании народа, в dépit amoureux ** против революции, в неуважении к демократии, к массам, к Европе...
Второе декабря ответило им громче меня ***.
В 1852 г. я встретился в Лондоне с самым остроумным противником моим, с Зольгером4; — он укладывался, чтоб скорее ехать в Америку, в Европе, казалось ему, делать нечего. «Обстоятельства,— заметил я,— кажется, убедили вас, что я был не вовсе неправ?» — «Мне не нужно было столько,— отвечал Зольгер, добродушно смеясь,— чтоб догадаться, что я тогда писал большой вздор».
Несмотря на это милое сознание — общий вывод суждений, оставшееся впечатление были скорее против меня. Не выражает ли это чувство раздражительности — близость опасности, страх перед будущим, желание скрыть свою слабость, капризное, окаменелое старчество?
...Странная судьба русских — видеть дальше соседей, видеть мрачнее и смело высказывать свое мнение,— русских, этих «немых», как говорил Мишле****5.
* «С того берега» (нем.).— Ред.
** Любовной досаде (фр.).— Ред.
*** 2 декабря 1851 г. французский президент Луи Бонапарт совершил государственный переворот, разогнав Законодательное собрание и окончательно уничтожив завоевания февральской революции 1848 г.
**** Характеристика русского народа была дана Мишле в «Легенде о Костюшко», напечатанной в газете «L’Avènement du Peuple» в 1851 г., а затем в книге «Демократические легенды» (Légendes démocratiques du Nord par J. Michelet.
С того берега
839
Вот что писал гораздо прежде меня один из наших соотечественников:
«Кто более нашего славил преимущество XVIII века, свет философии, смягчение нравов, всеместное распространение духа общественности, теснейшую и дружелюбнейшую связь народов, кротость правлений?., хотя и являлись еще некоторые черные облака на горизонте человечества, но светлый луч надежды златил уже края оных... Конец нашего века почитали мы концом главнейших бедствий человечества и думали, что в нем последует соединение теории с практикой, умозрения с деятельностью... Где теперь эта утешительная система? Она разрушилась в своем основании; XVIII век кончается, и несчастный филантроп меряет двумя шагами могилу свою, чтоб лечь в нее с обманутым, растерзанным сердцем своим и закрыть глаза навеки.
Кто мог думать, ожидать, предвидеть? Где люди, которых мы любили? Где плод наук и мудрости? Век просвещения, я не узнаю тебя; в крови и пламени, среди убийств и разрушений, я не узнаю тебя.
Мизософы6 торжествуют. “Вот плоды вашего просвещения,— говорят они,— вот плоды ваших наук; да погибнет философия!” — И бедный, лишенный отечества, и бедный, лишенный крова, отца, сына или друга, повторяет: да погибнет!
Кровопролитие не может быть вечно. Я уверен, рука, секущая мечом, утомится; сера и селитра истощатся в недрах земли, и громы умолкнут, тишина рано или поздно настанет, но какова будет она? — есть ли мертвая, хладная, мрачная...
Падение наук кажется мне не только возможным, но даже неминуемым, даже близким. Когда же падут они; когда их «великолепное здание разрушится, благодетельные лампады угаснут — что будет? Я ужасаюсь и чувствую трепет в сердце. Положим, что некоторые искры и спасутся под пеплом; положим, что некоторые люди и найдут их и осветят ими тихие уединенные свои хижины,— но что же будет с миром?
Я закрываю лицо свое!
Ужели род человеческий доходил в наше время до крайней степени возможного просвещения и должен снова погрузиться в варварство и снова мало-помалу выходить из оного, подобно Сизифову камню, который, будучи вознесен на верх горы, собственной тяжестью скатывается вниз и опять рукою вечного труженика на гору возносится? — Печальный образ!
Теперь мне кажется, будто самые летописи доказывают вероятность сего мнения. Нам едва известны имена древних азиатских народов и царств, но по некоторым историческим отрывкам можно думать, что сии народы были не варвары... Царства разрушались, народы исчезали, из праха их рождались новые племена, рождались в сумраке, в мерцании, Paris, 1854, р. 44). Рассматривая отношение Мишле к русскому народу, Герцен полемизирует с ним в статье «Русский народ и социализм. Письмо к Ж. Мишле» (см. т. VII наст. изд.).
840
А.И. ГЕРЦЕН
младенчествовали, учились и славились. Может быть, Эоны 1 погрузились в вечность, и несколько раз сиял день в умах людей, и несколько раз ночь темнила души, прежде нежели воссиял Египет.
Египетское просвещение соединяется с греческим. Римляне учились в сей великой школе.
Что же последовало за сею блестящею эпохой? Варварство многих веков.
Медленно редела, медленно прояснялась густая тьма. Наконец, солнце воссияло, добрые и легковерные человеколюбцы заключали от успехов к успехам, видели близкую цель совершенства и в радостном упоении восклицали: берег! но вдруг небо дымится и судьба человечества скрывается в грозных тучах! О потомство! Какая участь ожидает тебя?
Иногда несносная грусть теснит мое сердце, иногда упадаю на колена и простираю руки свои к невидимому... Нет ответа! — голова моя клонится к сердцу.
Вечное движение в одном кругу, вечное повторение, вечная смена дня с ночью и ночи с днем, капля радостных и море горестных слез. Мой друг! на что жить мне, тебе и всем? На что жили предки наши? На что будет жить потомство?
Дух мой уныл, слаб и печален!» *
Эти выстраданные строки, огненные и полные слез, были писаны в конце девяностых годов — Н.М. Карамзиным.
Введением к русской рукописи были несколько слов, обращенных к друзьям на Руси. Я не счел нужным повторять их в немецком издании — вот они:
ПРОЩАЙТЕ!
(Париж. 1 марта 1849)
Наша разлука продолжится еще долго — может, всегда. Теперь я не хочу возвратиться, потом не знаю, будет ли это возможно. Вы ждали меня, ждете теперь, надобно же объяснить, в чем дело. Если я кому-нибудь повинен отчетом в моем отсутствии, в моих действиях, то это, конечно, вам, мои друзья.
Непреодолимое отвращение и сильный внутренний голос, что-то пророчащий, не позволяют мне переступить границу России, особенно теперь, когда самодержавие, озлобленное и испуганное всем, что делается в Европе, душит с удвоенным ожесточением всякое умственное движение и грубо отрезывает от освобождающегося человечества Герцен цитирует с существенными купюрами произведение H. М. Карамзина « Мелодор к Филалету».
С того берега
841
шестьдесят миллионов, человек, загораживая последний свет, скудно падавший на малое число из них, своей черною, железною рукой, на которой запеклась польская кровь*. Нет, друзья мои, я не могу переступить рубеж этого царства мглы, произвола, молчаливого замиранья, гибели без вести, мучений с платком во рту. Я подожду до тех пор, пока усталая власть, ослабленная безуспешными усилиями и возбужденным противудействием, не признает чего-нибудь достойным уважения в русском человеке!
Пожалуйста, не ошибитесь; не радость, не рассеяние, не отдых, ни даже личную безопасность нашел я здесь; да и не знаю, кто может находить теперь в Европе радость и отдых,— отдых во время землетрясения, радость во время отчаянной борьбы.— Вы видели грусть в каждой строке моих писем; жизнь здесь очень тяжела, ядовитая злоба примешивается к любви, желчь — к слезе, лихорадочное беспокойство точит весь организм. Время прежних обманов, упований миновало. Я ни во что не верю здесь, кроме в кучку людей, в небольшое число мыслей да в невозможность остановить движение; я вижу неминуемую гибель старой Европы и не жалею ничего из существующего, ни ее вершинное образование, ни ее учреждения... я ничего не люблю в этом мире, кроме того, что он преследует, ничего не уважаю, кроме того, что он казнит,— и остаюсь... остаюсь страдать вдвойне, страдать от своего горя и от его горя, погибнуть, может быть, при разгроме и разрушении, к которому он несется на всех парах.
Зачем же я остаюсь?
Остаюсь затем, что борьба здесь, что, несмотря на кровь и слезы, здесь разрешаются общественные вопросы, что здесь страдания болезненны, жгучи, но гласны, борьба открытая, никто не прячется. Горе побежденным, но они не побеждены прежде боя, не лишены языка прежде, чем вымолвили слово; велико насилие, но протест громок; бойцы часто идут на галеры, скованные по рукам и ногам, но с поднятой головой, с свободной речью. Где не погибло слово, там и дело еще не погибло. За эту открытую борьбу, за эту речь, за эту гласность — я остаюсь здесь; за нее я отдаю все, я вас отдаю за нее, часть своего достояния, а может, отдам и жизнь в рядах энергического меньшинства, «гонимых, но не низлагаемых».
* По-видимому, намек на революцию в Венгрии в 1849 г., явившуюся последним отголоском революционных событий 1848 г. в Европе. Эта революция была подавлена с помощью царской армии под командованием фельдмаршала Паскевича. Он же возглавлял войска, разгромившие польское восстание 1830-1831 гг.
842
А. И.ГЕРЦЕН
За эту речь я переломил или, лучше сказать, заглушил на время мою кровную связь с народом, в котором находил так много отзывов на светлые и темные стороны моей души, которого песнь и язык — моя песнь и мой язык, и остаюсь с народом, в жизни которого я глубоко сочувствую одному горькому плачу пролетария и отчаянному мужеству его друзей.
Дорого мне стоило решиться... вы знаете меня... и поверите. Я заглушил внутреннюю боль, я перестрадал борьбу и решился не как негодующий юноша, акак человек, обдумавший, что делает, сколько теряет... Месяцы целые взвешивал я, колебался и, наконец, принес все на жертву:
Человеческому достоинству, Свободной речи.
До последствий мне нет дела, они не в моей власти, они скорее во власти своевольного каприза, который забылся до того, что очертил произвольным циркулем не только наши слова, но и наши шаги. В моей власти было не послушаться — я и не послушался.
Повиноваться противно своему убеждению, когда есть возможность не повиноваться,— безнравственно. Страдательная покорность становится почти невозможной. Я присутствовал при двух переворотах *, я слишком жил свободным человеком, чтоб снова позволить сковать себя; я испытал народные волнения, я привык к свободной речи и не могу сделаться вновь крепостным, ни даже для того, чтоб страдать с вами. Если б еще надо было умерить себя для общего дела, может, силы нашлись бы; но где на сию минуту наше общее дело? У вас дома нет почвы, на которой может стоять свободный человек. Можете ли вы после этого звать?.. На борьбу — идем; на глухое мученичество, на бесплодное молчание, на повиновение — ни под каким видом. Требуйте от меня всего, но не требуйте двоедушия, не заставляйте меня снова представлять верноподданного, уважьте во мне свободу человека.
Свобода лица — величайшее дело; на ней и только на ней может вырасти действительная воля народа. В себе самом человек должен уважать свою свободу и чтить ее не менее, как в ближнем, как в целом народе. Если вы в этом убеждены, то вы согласитесь, что остаться теперь здесь — мое право, мой долг; это единственный протест, который может у нас сделать личность, эту жертву она должна принести Очевидно, Герцен имеет здесь в виду итальянскую и французскую революции 1848 г., свидетелем событий которых он был.
С того берега
843
своему человеческому достоинству. Ежели вы назовете мое удаление бегством и извините меня только вашей любовью, это будет значить, что вы еще не совершенно свободны.
Я все знаю, что можно возразить с точки зрения романтического патриотизма и цивической8 натянутости; но я не могу допустить этих староверческих воззрений; я их пережил, я вышел из них и именно против них борюсь. Эти подогретые остатки римских и христианских воспоминаний мешают больше всего водворению истинных понятий о свободе,— понятий здоровых, ясных, возмужалых. По счастию, в Европе нравы и долгое развитие восполняют долею нелепые теории и нелепые законы. Люди, живущие здесь, живут на почве, удобренной двумя цивилизациями*; путь, пройденный их предками в продолжение двух с половиною тысячелетий, не был напрасен, много человеческого выработалось независимо от внешнего устройства и официального порядка.
В самые худшие времена европейской истории мы встречаем некоторое уважение к личности, некоторое признание независимости — некоторые права, уступаемые таланту, гению. Несмотря навею гнусность тогдашних немецких правительств, Спинозу не послали на поселение, Лессинга не секли или не отдали в солдаты. В этом уважении не к одной материальной, но и к нравственной силе, в этом невольном признании личности — один из великих человеческих принципов европейской жизни.
В Европе никогда не считали преступником живущего за границей и изменником переселяющегося в Америку.
У нас нет ничего подобного. У нас лицо всегда было подавлено, поглощено, не стремилось даже выступить. Свободное слово у нас всегда считалось за дерзость, самобытность — за крамолу; человек пропадал в государстве, распускался в общине. Переворот Петра I заменил устарелое, помещичье управление Русью — европейским канцелярским порядком; все, что можно было переписать из шведских и немецких законодательств, все, что можно было перенести из муниципально-свободной Голландии в страну общинносамодержавную, все было перенесено; но неписанное, нравственно обуздывавшее власть, инстинктуальное признание прав лица, прав мысли, истины не могло перейти и не перешло. Рабство у нас увеличилось с образованием; государство росло, улучшалось, но лицо не выигрывало; напротив, чем сильнее становилось государство, тем слабее лицо. Европейские формы администрации и суда, военного * Первой цивилизацией Герцен считал античность, второй — христианство, относя к последнему и Средневековье и Новое время (см. т. III наст, изд., стр. 220).
844
А. И.ГЕРЦЕН
и гражданского устройства развились у нас в какой-то чудовищный, безвыходный деспотизм.
Если б Россия не была так пространна, если б чужеземное устройство власти не было так смутно устроено и так беспорядочно выполнено, то без преувеличения можно сказать, что в России нельзя бы было жить ни одному человеку, понимающему сколько- нибудь свое достоинство. Избалованность власти, не встречавшей никакого противудействия, доходила несколько раз до необузданности, не имеющей ничего себе подобного ни в какой истории. Вы знаете меру ее из рассказов о поэте своего ремесла, императоре Павле. Отнимите капризное, фантастическое у Павла, и вы увидите, что он вовсе не оригинален, что принцип, вдохновлявший его, один и тот же не токмо во всех царствованиях, но в каждом губернаторе, в каждом квартальном, в каждом помещике. Опьянение самовластья овладевает всеми степенями знаменитой иерархии в четырнадцать ступеней. Во всех действиях власти, во всех отношениях высших к низшим проглядывает нахальное бесстыдство, наглое хвастовство своей безответственностью, оскорбительное сознание, что лицо все вынесет: тройной набор, закон о заграничных видах*, исправительные розги в инженерном институте**. Так, как Малороссия вынесла крепостное состояние в XVIII веке; так, как вся Русь, наконец, поверила, что людей можно продавать и перепродавать, и никогда никто не спросил, на каком законном основании все это делается,— ни даже те, которых продавали. Власть у нас увереннее в себе, свободнее, нежели в Турции, нежели в Персии, ее ничего не останавливает, никакое прошедшее; от своего она отказалась, до европейского ей дела нет; народность она не уважает, общечеловеческой образованности не знает, с настоящим — она борется. Прежде, по крайней мере, правительство стыдилось соседей, училось у них, теперь оно считает себя призванным служить примером для всех притеснителей; теперь оно поучает.
Мы с вами видели самое страшное развитие императорства. Мы выросли под террором, под черными крыльями тайной полиции, в ее когтях; мы изуродовались под безнадежным гнетом и уцелели кой-как. Но не мало ли этого? не пора ли развязать себе руки и слово для действия, для примера, не пора ли разбудить дремлющее со* По-видимому, указ Николая I от 15 марта 1844 г. об ограничении выдачи заграничных паспортов. Ср. дневниковую запись от 30 марта 1844 г. (т. II наст, изд., стр. 347).
** См. отзыв Герцена об этом событии в дневнике, запись от4 ноября 1843 г. (т. II наст, изд., стр. 314).
С того берега
845
знание народа? А разве можно будить, говоря шепотом, дальними намеками, когда крик и прямое слово едва слышны? Открытые, откровенные действия необходимы; 14-е декабря так сильно потрясло всю молодую Русь оттого, что оно было на Исаакиевской площади. Теперь не токмо площадь, но книга, кафедра — все стало невозможно в России. Остается личный труд в тиши или личный протест издали.
Я остаюсь здесь не только потому, что мне противно, переезжая через границу, снова надеть колодки, но для того, чтоб работать. Жить сложа руки можно везде; здесь мне нет другого дела, кроме нашего дела.
Кто больше двадцати лет проносил в груди своей одну мысль, кто страдал за нее и жил ею, скитался по тюрьмам и ссылкам, кто ею приобрел лучшие минуты жизни, самые светлые встречи, тот ее не оставит, тот ее не приведет в зависимость внешней необходимости и географическому градусу широты и долготы. Совсем напротив, я здесь полезнее, я здесь бесценсурная речь ваша, ваш свободный орган, ваш случайный представитель.
Все это кажется новым и странным только нам, в сущности, тут ничего нет беспримерного. Во всех странах, при начале переворота, когда мысль еще слаба, а материальная власть необузданна, люди преданные и деятельные отъезжали, их свободная речь раздавалась издали, и самое это издали придавало словам их силу и власть, потому что за словами виднелись действия, жертвы. Мощь их речей росла с расстоянием, как сила вержения растет в камне, пущенном с высокой башни. Эмиграция — первый признак приближающегося переворота.
Для русских за границей есть еще другое дело. Пора действительно знакомить Европу с Русью. Европа нас не знает; она знает наше правительство, наш фасад и больше ничего; для этого знакомства обстоятельства превосходны, ей теперь как-то не идет гордиться и величаво завертываться в мантию пренебрегающего незнания; Европе не к лицу das vornehme Ignorieren* России с тех пор, как она испытала мещанское самодержавие и алжирских казаков, с тех пор, как от Дуная до Атлантического океана она побывала в осадном положении, с тех пор, как тюрьмы, галеры полны гонимых за убеждения... Пусть она узнает ближе народ, которого отроческую силу она оценила в бое, где он остался победителем; расскажем ей об этом мощном и неразгаданном народе, который втихомолку образовал государство в шестьдесят миллионов, который так крепко и удиви* Высокомерное игнорирование (иелг.).— Ред.
846
А. И.ГЕРЦЕН
тельно разросся, не утратив общинного начала, и первый перенес его через начальные перевороты государственного развития; об народе, который как-то чудно умел сохранить себя под игом монгольских орд и немецких бюрократов, под капральской палкой казарменной дисциплины и под позорным кнутом татарским; который сохранил величавые черты, живой ум и широкий разгул богатой натуры под гнетом крепостного состояния и в ответ на царский приказ образоваться — ответил через сто лет громадным явлением Пушкина Пусть узнают европейцы своего соседа, они его только боятся, надобно им знать, чего они боятся.
До сих пор мы были непростительно скромны и, сознавая свое тяжкое положение бесправия, забывали все хорошее, полное надежд и развития, что представляет наша народная жизнь. Мы дождались немца для того, чтоб рекомендоваться Европе*. — Не стыдно ли?
Успею ли я что сделать?.. Не знаю,— надеюсь!
Итак, прощайте, друзья, надолго... давайте ваши руки, вашу помощь, мне нужно и то и другое. А там кто знает, чего мы не видали в последнее время! Быть может, и не так далек, как кажется, тот день, в который мы соберемся, как бывало, в Москве и безбоязненно сдвинем наши чаши при крике: «За Русь и святую волю!»
Сердце отказывается верить, что этот день не придет, замирает при мысли вечной разлуки. Будто я не увижу эти улицы, по которым я так часто ходил, полный юношеских мечтаний; эти домы, так сроднившиеся с воспоминаниями, наши русские деревни, наших крестьян, которых я вспоминал с любовью на самом юге Италии?.. Не может быть! — Ну, а если? — Тогда я завещаю мой тост моим детям и, умирая на чужбине, сохраню веру в будущность русского народа и благословлю его из дали моей добровольной ссылки!
* Герцен имеет в виду немецкого экономиста барона Августа Гакстгаузена, который в40-х годах по приглашению Николая I путешествовал по России, а затем издал книгу «Исследования внутренних отношений, народной жиз ни и в особенности сельских учреждений России» в трех томах («Studien über die inneren Zustânde, das Volksleben und insbesondere die landlichen Einrichtungen RuBlands», 1847-1852; т. I — 1847 г.). Эта книга знакомила западноевропейского читателя с Россией. Наибольшее внимание в книге Гакстгаузен уделил аграрным отношениям в России, особенно общине, в которой видел главное средство укрепления крепостничества. Герцен подверг резкой критике произведение Гакстгаузена, указывая вместе с тем, что он «действительно уловил животворящий принцип русского народа» (см. наст, том, стр. 199). Критическую оценку Гакстгаузена Герценом, см. в статье «Русские немцы и немецкие русские» (1859).
С того берега
847
I
ПЕРЕД ГРОЗОЙ (Разговор на палубе)*
1st‘s denn so groBes Geheimnis was Gott und der Mensch und die Welt sei?
Nein, dochniemand hôrt's gerne, dableibt es geheim** ***.
...Я согласен, что в вашем взгляде много смелости, силы, правды, много юмору даже; но принять его не могу; может, это дело организации, нервной системы. У вас не будет последователей, пока вы не научитесь переменять крови в жилах.
— Быть может. Однако мой взгляд начинает вам нравиться, вы отыскиваете физиологические причины, обращаетесь к природе.
— Только наверное не для того, чтоб успокоиться, отделаться от страданий, смотреть в безучастном созерцании с высоты олим- пического величия, как Гёте, на треволненный мир и любоваться брожением этого хаоса, бессильно стремящегося установиться.
— Вы становитесь злы, но ко мне это не относится; если я старался уразуметь жизнь, у меня в этом не было никакой цели, мне хотелось что-нибудь узнать, мне хотелось заглянуть подальше; все слышанное, читанное не удовлетворяло, не объясняло, а, напротив, приводило к противуречиям или к нелепостям. Я не искал для себя ни утешения, ни отчаяния, и это потому, что был молод; теперь я всякое мимолетное утешение, всякую минуту радости ценю очень дорого, их остается все меньше и меньше. Тогда я искал только истины, посильного пониманья; много ли уразумел, много ли понял, не знаю. Не скажу, чтоб мой взгляд был особенно утешителен, но я стал покойнее, перестал сердиться на жизнь за то, что она не дает того, чего не может дать,— вот все выработанное мною.
— Я, с своей стороны, не хочу перестать ни сердиться, ни страдать, это такое человеческое право, что я и не думаю поступиться им; мое негодование — мой протест; я не хочу мириться.
* В главе XXIX «Былого и дум» Герцен указывал, что «С того берега» начинается одним из его разговоров с И. П. Галаховым, в основу которого Герцен положил «долгие разговоры» и «споры», происходившие между ним и Галаховым в конце 1847 г.
** Столь ли великая тайна, что такое Бог, человек и мир? Нет, но никто не любит слушать об этом, и это остается тайным! (нем.).— Ред.
*** Эпиграф к главе «Перед грозой» —65 эпиграмма из цикла Гёте— «Epigramme. Venedig».
848
А. И.ГЕРЦЕН
— Да и не с кем. Вы говорите, что вы не хотите перестать страдать; это значит, что вы не хотите принять истины так, как она откроется вашей собственной мыслию,— может, она и не потребует от вас страданий; вы вперед отрекаетесь от логики, вы предоставляете себе по выбору принимать и отвергать последствия. Помните того англичанина, который всю жизнь не признавал Наполеона императором, что тому не помешало два раза короноваться. В таком упорном желании оставаться в разрыве с миром — не только непоследовательность, но бездна суетности; человек любит эффект, ролю, особенно трагическую; страдать хорошо, благородно, предполагает несчастие. Это еще не всё — сверх суетности тут бездна трусости. Не сердитесь за слово, из-за боязни узнать истину, многие предпочитают страдание — разбору; страдание отвлекает, занимает, утешает... да, да, утешает; а главное, как всякое занятие, оно мешает человеку углубляться в себя, в жизнь. Паскаль говорил, что люди играют в карты для того, чтоб не оставаться с собой наедине *. Мы постоянно ищем таких или других карт, соглашаемся даже проигрывать, лишь бы забыть дело. Наша жизнь — постоянное бегство от себя, точно угрызения совести преследуют, пугают нас. Как только человек становится на свои ноги, он начинает кричать, чтоб не слыхать речей, раздающихся внутри; ему грустно — он бежит рассеяться; ему нечего делать — он выдумывает занятие; от ненависти к одиночеству — он дружится со всеми, все читает, интересуется чужими делами, наконец, женится на скорую руку. Тут гавань, семейный мир и семейная война не дадут много места мысли; семейному человеку как-то неприлично много думать; он не должен быть настолько празден. Кому и эта жизнь не удалась, тот напивается допьяна всем на свете — вином, нумизматикой, картами, скачками, женщинами, скупостью, благодеяниями; ударяется в мистицизм, идет в иезуиты, налагает на себя чудовищные труды, и они ему все-таки легче кажутся, нежели какая-то угрожающая истина, дремлющая внутри его. В этой боязни исследовать, чтоб не увидать вздор исследуемого, в этом искусственном недосуге, в этих поддельных несчастиях, усложняя каждый шаг вымышленными путами, мы проходим по жизни спросонья и умираем в чаду нелепости и пустяков, не пришедши путем в себя. Престранное дело: во всем, не касающемся внутренних, жизненных вопросов, люди умны, смелы, проницательны; они считают себя, например, посторонними природе и изучают ее добросовестно; тут другая метода, другой прием. Не жалко ли так бояться правды, исследования? Положим, что много мечтаний поблекнут, будет не легче, а тяжеле — все же нравственнее, достойнее, Подобное суждение высказано Паскалем в «Мыслях» (глава V).
С того берега
849
мужественнее не ребячиться. Если б люди смотрели друг на друга, как смотрят на природу, смеясь сошли бы они с своих пьедесталей и курульных кресел, взглянули бы на жизнь проще, перестали бы выходить из себя за то, что жизнь не исполняет их гордые приказы и личные фантазии. Вы, например, ждали от жизни совсем не то, что она вам дала; вместо того, чтоб оценить то, что она вам дала, вы негодуете на нее. Это негодование, пожалуй, хорошо,— острая закваска, влекущая человека вперед, к деятельности, к движению; но ведь это один начальный толчок, нельзя же только негодовать, проводить всю жизнь в оплакивании неудач, в борьбе и досаде. Скажите откровенно: чем вы искали убедиться, что требования ваши истинны?
— Я их не выдумывал, они невольно родились в моей груди; чем больше я размышлял об них потом, тем яснее раскрывалась мне их справедливость, их разумность — вот мои доказательства. Это вовсе не уродство, не помешательство; тысячи других, все наше поколение страдает почти так же, больше или меньше, смотря по обстановке, по степени развития — и тем больше, чем больше развития. Повсюдная скорбь — самая резкая характеристика нашего времени; тяжелая скука налегла на душу современного человека, сознание нравственного бессилия его томит, отсутствие доверия к чему бы то ни было старит его прежде времени. Я на вас смотрю как на исключение, да и, сверх того, ваше равнодушие мне подозрительно, оно сбивается на охладившееся отчаяние, на равнодушие человека, который потерял не только надежду, но и безнадежность; это неестественный покой. Природа, истинная во всем, что делает, как вы повторяли несколько раз, должна быть истинна и в этом явлении скорби, тягости, всеобщность его дает ему некоторое право. Сознайтесь, что именно с вашей точки зрения довольно трудно возражать на это.
— На что же непременно возражать; я ничего лучше не прошу, как соглашаться с вами. Тягостное состояние, о котором вы говорите, очевидно и, конечно, имеет право на историческое оправдание и еще более на то, чтоб сыскать выход из него. Страдание, боль — это вызов на борьбу, это сторожевой крик жизни, обращающий внимание на опасность. Мир, в котором мы живем, умирает, т. е. те формы, в которых проявляется жизнь; никакие лекарства не действуют более на обветшалое тело его; чтоб легко вздохнуть наследникам, надобно его похоронить, а люди хотят непременно его вылечить и задерживают смерть. Вам, верно, случалось видеть удручающую грусть, томительную, тревожную неизвестность, которая распространяется в доме, где есть умирающий; отчаяние усиливается надеждой, нервы у всех натянуты, здоровые больны, дела не идут. Смерть больного облегчает душу оставшихся; льются слезы, но нет
850
А.И. ГЕРЦЕН
более убийственного ожидания, несчастие перед глазами, во весь рост, безвозвратное, отрезавшее все надежды, и жизнь начинает врачевать, примирять, брать новый оборот. Мы живем во время большой и трудной агонии, это достаточно объясняет нашу тоску. К тому же предшествовавшие века особенно воспитали в нас грусть, болезненное томление. Три столетия тому назад все простое, здоровое, жизненное было еще подавлено; мысль едва осмеливалась поднимать свой голос, ее положение было похоже на положение жидов в средних веках, лукавое по необходимости, рабское, озирающееся. Под этими влияниями сложился наш ум, он вырос, возмужал внутри этой нездоровой сферы; от католического мистицизма он естественно перешел в идеализм и сохранил боязнь всего естественного, угрызения обманутой совести, притязания на невозможные блага; он остался при разладе с жизнию, при романтической тоске, он воспитал себя в страдания и разорванность. Давно ли мы, за- стращенные с детства, перестали отказываться от самых невинных побуждений? давно ли мы перестали содрогаться, находя внутри своей души страстные порывы, не взошедшие в каталог романтического тарифа? Вы давеча сказали, что мучащие вас требования развились естественно; оно и так и нет — все естественно, золотуха очень естественно происходит от дурного питанья, от дурного климата, но мы ее все же считаем чем-то чужим организму. Воспитание поступает с нами, как отец Аннибала с своим сыном. Оно берет обет прежде сознания *, опутывает нас нравственной кабалой, которую мы считаем обязательною по ложной деликатности, по трудности отделаться от того, что привито так рано, наконец, от лени разобрать, в чем дело. Воспитание нас обманывает прежде, нежели мы в состоянии понимать, уверяет в невозможном детей, отрезывает им свободное и прямое отношение к предмету. Подрастая, мы видим, что ничто не ладится, ни мысль, ни быт; что то, на что нас учили опираться,— гнило, хрупко, а от чего предостерегали, как от яду,— целебно; забитые и одураченные, приученные к авторитету и указке, мы выходим с летами на волю, каждый своими силами добирается до истины, борясь, ошибаясь. Томимые желанием знать, мы подслушиваем у дверей, стараемся разглядеть в щель; кривя душой, притворяясь, мы считаем правду за порок и презрение ко лжи за дерзость. Мудрено ли после этого, что мы не умеем уладить ни внутреннего, ни внешнего быта, лишнее требуем, лишнее жерт-
Карфагенский полководец Гамилькар заставил своего девятилетнего сына Ганнибала поклясться в том, что он всю свою жизнь посвятит борьбе против Рима ( « Ганнибалова клятва» ).
С того берега
851
вуем, пренебрегаем возможным и негодуем за то, что невозможное нами пренебрегает; возмущаемся против естественных условий жизни и покоряемся произвольному вздору. Вся наша цивилизация такова, она выросла в нравственном междоусобии; вырвавшись из школ и монастырей, она не вышла в жизнь, а прошлась по ней, как Фауст, чтоб посмотреть, порефлектировать и потом удалиться от грубой толпы в гостиные, в академию, в книги. Она совершила весь свой путь с двумя знаменами в руках; «романтизм для сердца» было написано на одном, «идеализм для ума» — на другом. Вот откуда идет большая доля неустройства в нашей жизни. Мы не любим простого, мы не уважаем природу по преданию, хотим распоряжаться ею, хотим лечить заговориванием и удивляемся, что больному не лучше; физика нас оскорбляет своей независимой самобытностью, нам хочется алхимии, магии; а жизнь и природа равнодушно идут своим путем, покоряясь человеку по мере того, как он выучивается действовать их же средствами.
— Вы, кажется, меня считаете немецким поэтом, и то еще прошлой эпохи, которые сердились за то, что у них есть тело, за то, что они едят, и искали неземных дев, «иную природу, другого солнца» *. Мне не хочется ни магии, ни мистерии, а просто выйти из того состояния души, которое вы сейчас представили в десять раз резче меня; выйти из нравственного бессилия, из жалкой неприлагаемости убеждений, из хаоса, в котором, наконец, мы перестали понимать, кто враг и кто друг; мне противно видеть, куда ни обернусь, или пытаемых, или пытающих. Какое колдовство нужно на то, чтоб растолковать людям, что они сами виноваты в том, что им так скверно жить, объяснить им, например, что не надобно грабить нищего, что противно объедаться возле умирающего с голоду, что убийство равно отвратительно ночью на большой дороге тайком и днем открыто на большой площади при барабанном бое; что одно говорить, а другое делать — подло... словом, все те новые истины, которые говорят, повторяют, печатают со времен * Характеризуя поэзию немецких реакционных романтиков, Герцен несколько вольно передает строки из стихотворения Шиллера «Дева с чужбины». У Шиллера:
Sie brachte Blumen mit und Früchte,
Gereift auf einer andern Flur, In einem andern Sonnenlichte, In einer glücklichern Natur.
Еще с 30-х годов образ шиллеровской «девы с чужбины» являлся у Герцена олицетворением романтического восприятия действительности, связанного с «шилле- ровским периодом» в его идейном развитии. Ср. автобиографический набросок «<Чтоб выразуметь эту исповедь страдальца...>» (т. 1наст. изд., стр. 329).
852
А.И. ГЕРЦЕН
семи греческих мудрецов *,— да и тогда, я думаю, они уже были очень стары. Моралисты, попы гремят с кафедр, толкуют о нравственности, о грехах, читают евангелие, читают Руссо — никто не возражает, и никто не исполняет.
— По совести, жалеть об этом нечего. Все эти учения и проповеди по большей части неверны, неудобоисполнимы и сбивчивее простого обычного быта. Беда в том, что мысль забегает всегда далеко вперед, народы не поспевают за своими учителями; возьмите наше время, несколько человек коснулись переворота, который совершить не в силах ни они сами, ни народы. Передовые думали, что стоит сказать: «Брось одр твой и иди за нами» — все и двинется; они ошиблись, народ их так же мало знал, как они его, им не поверили. Не замечая, что за ними никого нет, эти люди предводительствовали, шли вперед; спохватившись, они стали кричать отставшим, махать, звать их, осыпать упреками,— но поздно, слишком далеко, голоса недостает, да и язык их не тот, которым говорят массы. Нам больно сознаться, что мы живем в мире, выжившем из ума, дряхлом, истощенном, у которого явным образом недостает силы и поведения, чтоб подняться на высоту собственной мысли; нам жаль старый мир, мы к нему привыкли, как к родительскому дому, мы поддерживаем его, стараясь его разрушить, и прилаживаем к своим убеждениям его неспособные формы, не видя, что первая йота их — его смертный приговор. Мы носим платья, шитые не по нашей мерке, а по мерке наших прадедов, мозг наш образовался под влиянием предшествующих обстоятельств, он многого не осиливает, многое видит под ложным углом. Люди с таким трудом добились до современного быта, он им кажется такою счастливой пристанью после безумия феодализма и тупого гнета, следовавшего за ним, что они боятся изменять его, они отяжелели в его формах, обжились в них, привычка заменила привязанность, горизонт сжался... размах мысли сделался мал, воля ослабла.
— Прекрасная картина; добавьте, что возле этих удовлетворенных, которым современный порядок по плечу, с одной стороны бедный, неразвитый народ, одичалый, отсталый, голодный, в безвыходной борьбе с нуждой, в изнуряющей работе, которая не может его пропитать; а с другой — мы, неосторожно забежавшие вперед, землемеры, вбивающие вехи нового мира,— и которые никогда не увидим даже выведенного фундамента. От всех упований, от всей жизни, которая прошла между рук (да еще как прошла), если что-нибудь осталось, * Полулегендарные древнегреческие философы (их существование относят к VII-VI векам до н. э.), известные житейской мудростью, выражали свои мысли в форме кратких образных изречений.
С того берега
853
то это вера в будущее; когда-нибудь, долго после нашей смерти, дом, для которого мы расчистили место, выстроится, и в нем будет удобно и хорошо — другим.
— Впрочем, нет причины думать, что новый мир будет строиться по нашему плану...
...Молодой человек сделал недовольное движение головой и посмотрел с минуту на море — совершеннейший штиль продолжался; тяжелая туча едва двигалась над головами, так низко, что дым парохода, стелясь, мешался с ней,— море было черно, воздух не освежал.
— Вы со мною поступаете,— сказал он, помолчав,— так, как разбойники с путешественниками; ограбивши у меня все, вам кажется еще мало, вы добираетесь до последнего рубища, которое меня предохраняет от стужи, до моих волос; вы заставили меня сомневаться в многом, у меня оставалось будущее — вы отнимаете его, вы грабите мои надежды, вы убиваете сны, как Макбет *.
— А я думал, что я больше похож на хирурга, который вырезывает дикое мясо.
— Пожалуй, это еще лучше, хирург отрезывает больную часть тела, не заменяя ее здоровой.
— И по дороге спасает человека, освобождая его от тяжелых уз застарелой болезни.
— Знаем мы ваше освобождение. Вы отворяете двери темницы и хотите вытолкнуть колодника в степь, уверяя его, что он свободен; вы ломаете Бастилью, но не воздвигаете ничего в замену острога, остается одно пустое место.
— Это было бы чудесно, если б было так, как вы говорите; худо то, что развалины, мусор мешают на каждом шагу.
— Чему мешают? Где, в самом деле, наше призвание, где наше знамя? во что мы верим, во что не верим?
— Верим во все, не верим в себя; вы ищете найти знамя, а я ищу потерять его; вы хотите указку, а мне кажется, что в известный возраст стыдно читать с указкой. Вы сейчас сказали, что мы вбиваем вехи новому миру...
— И их вырывает из земли дух отрицания и разбора. Вы несравненно мрачнее меня смотрите на мир и утешаете только для того, чтоб еще ужаснее выразить современную тягость. Если и будущее не наше, тогда вся наша цивилизация — ложь, мечта пятнадцатилетней девочки, над которой она сама смеется в двадцать пять лет; наши труды — вздор, наши усилия смешны, наши упования похожи Макбет убил короля Дункана во время его сна. При этом убийце почудился крик: «Рукой Макбете зарезан сон» (см. Шекспир. «Макбет», акт II, сцена вторая).
854
А. И.ГЕРЦЕН
на ожидания дунайского мужика*. Впрочем, может быть, вы то и хотите сказать, чтоб мы бросили нашу цивилизацию, отказались от нее, воротились бы к отставшим.
— Нет, отказаться от развития невозможно. Как сделать, чтоб я не знал того, что знаю? Наша цивилизация — лучший цвет современной жизни, кто же поступится своим развитием? Но какое же это имеет отношение к осуществлению наших идеалов, где лежит необходимость, чтобы будущее разыгрывало нами придуманную программу?
— Стало быть, наша мысль привела нас к несбыточным надеждам, к нелепым ожиданиям; с ними, как с последним плодом наших трудов, мы захвачены волнами на корабле, который тонет. Будущее не наше, в настоящем нам нет дела; спасаться некуда, мы с этим кораблем связаны на живот и на смерть, остается сложа руки ждать, пока вода зальет,— а кому скучно, кто поотважнее, тот может броситься в воду.
...Le monde fait naufrage,
Vieux bâtiment, usé par tous les flots, Il s’engloutit — sauvons-nous â la nage! **
— Я ничего лучше не прошу, но только есть разница между спасаться вплавь и топиться. Судьба молодых людей, которых вы напомнили этой песнью, страшна; сугубые страдальцы, мученики без веры, смерть их пусть падет на страшную среду, в которой они жили, пусть обличает ее, позорит; но кто же вам сказал, что нет другого выхода, другого спасения из этого мира старчества и агонии — как смерть? Вы оскорбляете жизнь. Оставьте мир, к которому вы не принадлежите, если вы действительно чувствуете, что он вам чужд. Его не спасем — спасите себя от угрожающих развалин; спасая себя, вы спасете будущее. Что вы имеете общего с этим миром — его цивилизацию? Но ведь она теперь принадлежит вам, а не ему, он произвел ее, или, лучше сказать, из него произвели ее, он не грешен даже в понимании ее; его образ жизни — он вам ненавистен, да и, по правде, трудно любить такую нелепость. Ваши страдания — он и не подозревает; ваши * Имеется в виду персонаж известной басни Лафонтена «Дунайский мужик» («Lepaysandu Danube » ).
** Беранже — на смерть Деку и Лебрю. <Мир терпит крушение; как ветхий корабль, истрепанный волнами, он поглощается пучиною — давайте спасаться вплавь! (фр.). Цитата из стихотворения Беранже «Le Suicide». Беранже посвятил это стихотворение французским поэтам-романтикам Огюсту Лебра и Виктору Эскусу, одновременно покончившим жизнь самоубийством из-за провала написанной ими драмы «Раймонд». Имена Деку и Лебрю указаны Герценом в примечании неточно.
С того берега
855
радости ему незнакомы; вы молоды — он стар; посмотрите, как он осунулся в своей изношенной, аристократической ливрее, особенно после тридцатого года, лицо его подернулось матовой землистостью. Это facies hypocratica*, по которой доктора узнают, что смерть уже занесла косу. Бессильно усиливается он иногда еще раз схватить жизнь, еще раз овладеть ею, отделаться от болезни, насладиться — не может и впадает в тяжкий, горячечный полусон. Тут толкуют о фаланстерах, демократиях, социализме, он слушает и ничего не понимает — иногда улыбается таким речам, покачивая головою и вспоминая мечты, которым и он верил когда-то, потом взошел в разум и давно не верит... Оттого-то он старчески равнодушно смотрит на коммунистов и иезуитов, на пасторов и якобинцев, на братьев Ротшильд и на умирающих с голоду; он смотрит на все несущееся перед глазами,— сжавши в кулак несколько франков, за которые готов умереть или сделаться убийцей. Оставьте старика доживать как знает свой век в богадельне, вы для него ничего не сделаете.
— Это не так легко, не говоря о том, что оно противно,— куда бежать? Где эта новая Пенсильвания, готовая?..
— Для старых построек из нового кирпича? Вильям Пени9 вез с собою старый мир на новую почву; Северная Америка — исправленное издание прежнего текста, не более. А христиане в Риме перестали быть римлянами — этот внутренний отъезд полезнее.
— Мысль сосредоточиться в себе, оторвать пуповину, связующую нас с родиной, с современностью, проповедуется давно, но плохо осуществляется; она является у людей после всякой неудачи, после каждой утраченной веры, на ней опирались мистики и масоны, философы и иллюминаты; все они указывали на внутренний отъезд — никто не уехал. Руссо? — и тот отворачивался от мира; страстно любя его, он отрывался от него — потому что не мог быть без него. Ученики его продолжали его жизнь в Конвенте **, боролись, страдали, казнили других, снесли свою голову на плаху, но не ушли ни вон из Франции, ни вон из кипевшей деятельности.
— Их время нисколько не было похоже на наше. У них впереди была бездна упований. Руссо и его ученики воображали, что если их идеи братства не осуществляются, то это от материальных * Гиппократово лицо (лат.).— Ред.
** Учениками Руссо были якобинцы, использовавшие идеи «Общественного договора» Руссо при выработке «Декларации прав человека и гражданина» (1789) и конституции 1793 г., а также в своей практической деятельности по организации революционного правительства (в частности, идею единства законодательной и исполнительной власти, воплощенную в деятельности Конвента).
856
А. И.ГЕРЦЕН
препятствий — там сковано слово, тут действие не вольно — и они, совершенно последовательно, шли грудью против всего мешавшего их идее; задача была страшная, гигантская, но они победили. Победивши, они думали: вот теперь-то... но теперь-то их повели на гильотину, и это было самое лучшее, что могло с ними случиться: они умерли с полной верой, их унесла бурная волна середи битвы, труда, опьяненья; они были уверены, что, когда возвратится тишина, их идеал осуществится без них, но осуществится. Наконец этот штиль пришел. Какое счастие, что все эти энтузиасты давно были схоронены! Им бы пришлось увидеть, что дело их не подвинулось ни на вершок, что их идеалы остались идеалами, что недостаточно разобрать по камешку Бастилью, чтоб сделать колодников свободными людьми. Вы сравниваете нас с ними, забывая, что мы знаем события пятидесяти лет, прошедших после их смерти, что мы были свидетелями, как все упования теоретических умов были осмеяны, как демоническое начало истории нахохоталось над их наукой, мыслию, теорией, как оно из республики сделало Наполеона, из революции 1830 г. биржевой оборот*. Свидетели всего бывшего, мы не можем иметь надежды наших предшественников. Глубже изучивши революционные вопросы, мы требуем теперь и больше и шире того, что они требовали, а их-то требования остались тою же неприлагаемостью, как были. С одной стороны, вы видите логическую последовательность мысли, ее успех; с другой — полное бессилие ее над миром — глухим, немым, бессильным схватить мысль спасения так, как она высказывается ему,— потому ли, что она дурно высказывается, или потому, что имеет только теоретическое, книжное значение, как, например, римская философия, не выходившая никогда из небольшого круга образованных людей.
— Но кто же, по-вашему, прав — мысль ли теоретическая, которая точно так же развилась и сложилась исторически, но сознательно, или факт современного мира, отвергающий мысль и представляющий, так же, как она, необходимый результат прошедшего?
— Оба совершенно правы. Вся эта запутанность выходит из того, что жизнь имеет свою эмбриогению, не совпадающую с диалектикой чистого разума. Я помянул древний мир, вот вам пример: вместо того, чтоб осуществлять республику Платона и политику Аристотеля, он осуществляет римскую республику и политику их завоевателей; вместо утопий Цицерона и Сенеки — Лангобардские графства10 и германское право11.
* В результате революции 1830 г. во Франции установилась власть финансовой буржуазии.
С того берега
857
— Не пророчите ли вы и нашей цивилизации такую же гибель, как римской? — утешительная мысль и прекрасная перспектива...
— Не прекрасная и не дурная. Отчего вас удивляет мысль, которая до пошлости известна, что все на свете преходяще? Впрочем, цивилизации не гибнут, пока род человеческий продолжает жить без совершенного перерыва,— у людей память хороша; разве римская цивилизация не жива для нас? А она точно так же, как наша, вытянулась далеко за пределы окружавшей жизни; именно от этого она с одной стороны и расцвела так пышно, так великолепно, а с другой не могла фактически осуществиться. Она принесла свое миру современному, она приносит многое нам, но ближайшее будущее Рима прозябало на других пажитях — в катакомбах, где прятались гонимые христиане, в лесах, где кочевали дикие германы.
— Как же это в природе все так целеобразно, а цивилизация, высшее усилие, венец эпохи, выходит бесцельно из нее, выпадает из действительности и увядает наконец, оставляя по себе неполное воспоминание? — Между тем человечество отступает назад, бросается в сторону и начинает сызнова тянуться, чтоб окончить таким же махровым цветом — пышным, но лишенным семян... В вашей философии истории есть что-то возмущающее душу — для чего эти усилия? — жизнь народов становится праздной игрой, лепит, лепит по песчине, по камешку, а тут опять все рухнется наземь, и люди ползут из-под развалин, начинают снова расчищать место да строить хижины изо мха, досок и упадших капителей, достигая веками, долгим трудом — падения. Шекспир недаром сказал, что история — скучная сказка, рассказанная дураком *.
— Это уж такой печальный взгляд у вас. Вы похожи на тех монахов, которые при встрече ничего лучшего не находят сказать друг другу, как мрачное memento mori ** или на тех чувствительных людей, которые не могут вспомнить без слез, что «люди родятся для того, чтоб умереть». Смотреть на конец, а не на самое дело — величайшая ошибка. На что растению этот яркий, пышный венчик, на что этот упоительный запах, который пройдет совсем ненужно? Но природа вовсе не так скупа и не так пренебрегает мимоидущим, настоящим, она на каждой точке достигает всего, чего может достигнуть, идет донельзя, до запаха, до наслаждения, до мысли... до того, что разом касается до пределов развития и до смерти, которая осаживает, умеряет слишком поэтическую фантазию и необузданное творчество ее.
* Герцен неточно передает слова Макбета из одноименной трагедии Шекспира (акт V, сцена пятая).
** Помни о смерти (лат.).— Ред.
858
А. И.ГЕРЦЕН
Кто же станет негодовать на природу за то, что цветы утром распускаются, а вечером вянут, что она розе и лилее не умеет придавать прочности кремня? И этот-то бедный, прозаический взгляд мы хотим перенести в исторический мир! Кто ограничил цивилизацию одним прилагаемым? — где у нее забор? Она бесконечна, как мысль, как искусство, она чертит идеалы жизни, она мечтает апотеозу своего собственного быта, но на жизни не лежит обязанность исполнять ее фантазии и мысли, тем более что это было бы только улучшенное издание того же, а жизнь любит новое. Цивилизация Рима была гораздо выше и человечественнее, нежели варварский порядок; но в его нестройности были зародыши развития тех сторон, которых вовсе не было в римской цивилизации, и варварство восторжествовало, несмотря ни на Corpus juris civilis*, ни на мудрое воззрение римских философов. Природа рада достигнутому и домогается высшего; она не хочет обижать существующее; пусть оно живет, пока есть силы, пока новое подрастает. Вот отчего так трудно произведения природы вытянуть в прямую линию, природа ненавидит фрунт, она бросается во все стороны и никогда не идет правильным маршем вперед. Дикие германы были в своей непосредственности, potentialiter**, выше образованных римлян.
— Я начинаю подозревать, что вы поджидаете нашествие варваров и переселение народов.
— Я гадать не люблю. Будущего нет, его образует совокупность тысячи условий, необходимых и случайных, да воля человеческая, придающая нежданные драматические развязки и coups de théâtre ***. История импровизируется, редко повторяется, она пользуется всякой нечаянностью, стучится разом в тысячу ворот... которые отопрутся... кто знает?
— Может, бальтийские — и тогда Россия хлынет на Европу?
— Может быть.
— И вот мы, долго мудрствуя, пришли опять к беличьему колесу, опять к corsi и ricorsi старика Вико ****12. Опять возвратились к Рее, беспрерывно рождающей в страшных страданиях детей, которыми закусывает Сатурн. Рея только стала добросовестна и не подмени* Свод гражданских законов (лат.).— Ред.
** Потенциально (лат.).— Ред.
*** Театральные эффекты (фр.).— Ред.
**** Герцен имеет в виду так называемую теорию круговорота итальянского философа и социолога Джамбаттиста Вико, развитую в его трактате «Основания новой науки об общей природе наций». Согласно этой теории, изображающей весь ход истории как некий замкнутый круг, период подъема (corsi) каждой исторической культуры сменяется периодом упадка (ricorsi).
С того берега
859
вает новорожденных каменьями, да и не стоит труда, в числе их нет ни Юпитера, ни Марса... Какая цель всего этого? Вы обходите этот вопрос, не решая его; стоит ли детям родиться для того, чтоб отец их съел, да вообще стоит ли игра свеч?
— Как не стоит! тем более что не вы за них платите. Вас смущает, что не все игры доигрываются, но без этого они были бы нестерпимо скучны. Гёте давным-давно толковал, что красота проходит, потому что только преходящее и может быть красиво*, — это обижает людей. У человека есть инстинктивная любовь к сохранению всего, что ему нравится; родился — так хочет жить во всю вечность; влюбился — так хочет любить и быть любимым во всю жизнь, как в первую минуту признания. Он сердится на жизнь, видя, что в пятьдесят лет нет той свежести чувств, той звонкости их, как в двадцать. Но такая неподвижная стоячесть противна духу жизни,— она ничего личного, индивидуального не готовит впрок,— она всякий раз вся изливается в настоящую минуту и, наделяя людей способностью наслаждения насколько можно, не страхует ни жизни, ни наслаждения, не отвечает за их продолжение. В этом беспрерывном движении всего живого, в этих повсюдных переменах природа обновляется, живет, ими она вечно молода. Оттого каждый исторический миг полон, замкнут по-своему, как всякий год с весной и летом, с зимой и осенью, с бурями и хорошей погодой. Оттого каждый период нов, свеж, исполнен своих надежд, сам в себе носит свое благо и свою скорбь, настоящее принадлежит ему, но людям этого мало, им хочется, чтоб и будущее было их.
— Человеку больно, что он и в будущем не видит пристани, к которой стремится. Он с тоскливым беспокойством смотрит перед собою на бесконечный путь и видит, что так же далек от цели, после всех усилий, как за тысячу лет, как за две тысячи лет.
— А какая цель песни, которую поет певица?., звуки, звуки, вырывающиеся из ее груди, звуки, умирающие в ту минуту, как раздались. Если вы, кроме наслаждения ими, будете искать что-нибудь, выжидать иной цели, вы дождетесь, когда кантатриса** перестанет петь, и у вас останется воспоминание и раскаяние, что вместо того, * Герцен ссылается на мысль Гёте из цикла «Vier Jahreszeiten», «Sommer» (стих. 35):
«Warum bin ich verganglich, о Zeus? so fragte die Schônheit, Macht ich doch, sagte der Gott, nur das Vergangliche schôn».
Эти строки Герцен цитировал в четвертой статье из цикла «Дилетантизм в науке» — «Буддизм в науке» (см. т. III наст. изд., стр. 76).
** Певица (фр.— cantatrice). — Сост.
860
А.И. ГЕРЦЕН
чтоб слушать, вы ждали чего-то... Вас сбивают категории, которые дурно уловляют жизнь. Вы подумайте порядком: что эта цель — программа, что ли, или приказ? Кто его составил, кому он объявлен, обязателен он или нет? Если да,— то что мы, куклы или люди, в самом деле, нравственно свободные существа или колеса в машине? Для меня легче жизнь, а следственно, и историю, считать за достигнутую цель, нежели за средство достижения.
— То есть, просто, цель природы и истории — мы с вами?..
— Отчасти, да плюс настоящее всего существующего; тут все входит: и наследие всех прошлых усилий, и зародыши всего, что будет; вдохновение артиста, и энергия гражданина, и наслаждение юноши, который в эту самую минуту пробирается где-нибудь к заветной беседке, где его ждет подруга, робкая и отдающаяся вся настоящему, не думая ни о будущем, ни о цели... и веселье рыбы, которая плещется вот на месячном свете... и гармония всей солнечной системы... словом, как после феодальных титулов, я смело могу поставить три «и прочая... и прочая»...
— Вы совершенно правы относительно природы, но, мне кажется, вы забыли, что через все изменения и спутанности истории прошла красная нитка, связующая ее в одно целое, эта нитка — прогресс, или, может быть, вы не принимаете и прогресс?
— Прогресс — неотъемлемое свойство сознательного развития, которое не прерывалось; это деятельная память и физиологическое усовершение людей общественной жизнию.
— Неужели вы тут не видите цели?
— Совсем напротив, я тут вижу последствие. Если прогресс — цель, то для кого мы работаем? кто этот Молох13, который, по мере приближения к нему тружеников, вместо награды пятится и, в утешение изнуренным и обреченным на гибель толпам, которые ему кричат: «Morituri te salutant» *, только и умеет ответить горькой насмешкой, что после их смерти будет прекрасно на земле? Неужели и вы обрекаете современных людей на жалкую участь кариатид, поддерживающих террасу, на которой когда-нибудь другие будут танцевать... или на то, чтоб быть несчастными работниками, которые, по колено в грязи, тащат барку с таинственным руном и с смиренной надписью «Прогресс в будущем» на флаге? Утомленные падают на дороге, другие с свежими силами принимаются за веревки, а дороги, как вы сами сказали, остается столько же, как при начале, потому что прогресс бесконечен. Это одно должно было насторожить людей; «Осужденные на смерть приветствуют тебя» (лат.).— Ред. Слова, которыми в древнем Риме гладиаторы приветствовали императора, выходя на арену.
С того берега
861
цель, бесконечно далекая,— не цель, а, если хотите, уловка; цель должна быть ближе, по крайней мере — заработная плата или наслаждение в труде. Каждая эпоха, каждое поколение, каждая жизнь имели, имеют свою полноту, по дороге развиваются новые требования, испытания, новые средства, одни способности усовершаются на счет других, наконец самое вещество мозга улучшается... что вы улыбаетесь?., да, да, церебрин* улучшается... Как все естественное становится вам ребром, удивляет вас, идеалистов, точно как некогда рыцари удивлялись, что вилланы хотят тоже человеческих прав! Когда Гёте был в Италии, он сравнивал череп древнего быка с черепом наших быков и нашел, что у нашего кость тоньше, а вместилище больших полушарий мозга пространнее; древний бык был, очевидно, сильнее нашего, а наш развился в отношении к мозгу в своем мирном подчинении человеку. За что же вы считаете человека менее способным к развитию, нежели быка? Этот родовой рост — не цель, как вы полагаете, а свойство преемственно продолжающегося существования поколений. Цель для каждого поколения — оно само. Природа не только никогда не делает поколений средствами для достижения будущего, но она вовсе об будущем не заботится; она готова, как Клеопатра, распустить в вине жемчужину14, лишь бы потешиться в настоящем, у нее сердце баядеры15 и вакханки16.
— И, бедная, не может осуществить своего призвания!.. Вакханка на диете, баядера в трауре!.. В наше время она, право, скорее похожа на кающуюся Магдалину. Или, может, мозг выдел алея в сторону.
— Вы вместо насмешки сказали вещь, которая гораздо дельнее, нежели вы думаете. Одностороннее развитие всегда влечет за собою avortement** других забытых сторон. Дети, слишком развитые в психическом отношении, дурно растут, слабы телом; веками неестественного быта мы воспитали себя в идеализм, в искусственную жизнь и разрушили равновесие. Мы были велики и сильны, даже счастливы в нашей отчужденности, в нашем теоретическом блаженстве, а теперь перешли эту степень, и она стала для нас невыносима; между тем разрыв с практическими сферами сделался страшный; виноватых в этом нет ни с той, ни с другой стороны. Природа натянула все мышцы, чтоб перешагнуть в человеке ограниченность зверя; а он так перешагнул, что одной ногой совсем вышел из естественного быта,— сделал он это потому, что он свободен. Мы столько толкуем о воле, так гордимся ею и в то же время досадуем за то, что нас никто не ведет за руку, что осту* Мозг (лат.— cerebrum).—Сост.
** Здесь: недоразвитость (фр.).— Ред. Данный перевод не точен: выкидыш, отпадение. — Сост.
862
А.И. ГЕРЦЕН
паемся и несем последствия своих дел. Я готов повторить ваши слова, что мозг выделался в сторону от идеализма, люди начинают замечать это и идут теперь в другую сторону; они вылечатся от идеализма так, как вылечились от других исторических болезней — от рыцарства, от католицизма, от протестантизма...
— Согласитесь, впрочем, что путь развития болезнями и отклонениями — престранный.
— Да ведь путь и не назначен... природа слегка, самыми общими нормами, намекнула свои виды и предоставила все подробности на волю людей, обстоятельств, климата, тысячи столкновений. Борьба, взаимное действие естественных сил и сил воли, которой следствия нельзя знать вперед, придает поглощающий интерес каждой исторической эпохе. Если б человечество шло прямо к какому-нибудь результату, тогда истории не было бы, а была бы логика, человечество остановилось бы готовым в непосредственном statu quo*, как животные. Все это, по счастию, невозможно, не нужно и хуже существующего. Животный организм мало-помалу развивает в себе инстинкт, в человеке развитие идет далее... выработывается разум, и выработывается трудно, медленно,— его нет ни в природе, ни вне природы, его надобно достигать, с ним улаживать жизнь как придется, потому что libretto нет. А будь libretto, история потеряет весь интерес, сделается ненужна, скучна, смешна; горесть Тацита и восторг Колумба** превратятся в шалость, в гаерство; великие люди сойдут на одну доску с театральными героями, которые, худо ли, хорошо ли играют, непременно идут и дойдут к известной развязке. В истории все импровизация, все воля, все ex tempore, вперед ни пределов, ни маршрутов нет, есть условия, святое беспокойство, огонь жизни и вечный вызов бойцам пробовать силы, идти вдаль куда хотят, куда только есть дорога,— а где ее нет, там ее сперва проложит гений.
— А если на беду не найдется Колумба?
— Кортес 17 сделает за него. Гениальные натуры почти всегда находятся, когда их нужно; впрочем, в них нет необходимости, народы дойдут после, дойдут иной дорогой, более трудной; гений — роскошь истории, ее поэзия, ее coup d’Etat***, ее скачок, торжество ее творчества.
* Существующее положение (лат.). — Ред.
** Герцен подразумевает горестную окраску, свойственную произведениям Тацита, изображающим разложение римского общества, и восторг, охвативший Колумба, когда он достиг берегов Америки.
*** Государственный переворот (фр.). —Ред.
С того берега
863
— Все это хорошо, но, мне кажется, при такой неопределенности, распущенности история может продолжаться во веки веков или завтра окончиться.
— Без сомнения. Со скуки люди не умрут, если род человеческий очень долго заживется; хотя, вероятно, люди и натолкнутся на какие-нибудь пределы, лежащие в самой природе человека, на такие физиологические условия, которых нельзя будет перейти, оставаясь человеком; но, собственно, недостатка в деле, в занятиях не будет, три четверти всего, что мы делаем,— повторение того, что делали другие. Из этого вы видите, что история может продолжаться миллионы лет. С другой стороны, я ничего не имею против окончания истории завтра. Мало ли что может быть! Энкиева комета зацепит земной шар*, геологический катаклизм 18 пройдет по поверхности, ставя все вверх дном, какое-нибудь газообразное испарение сделает на полчаса невозможным дыхание — вот вам и финал истории.
— Фу, какие ужасы! Вы меня стращаете, как маленьких детей, но я уверяю вас, что этого не будет. Стоило бы очень развиваться три тысячи лет с приятной будущностью задохнуться от какого-нибудь серноводородного испарения! Как же вы не видите, что это нелепость?
— Я удивляюсь, как это вы до сих пор не привыкнете к путям жизни. В природе, так, как в душе человека, дремлет бесконечное множество сил, возможностей; как только соберутся условия, нужные для того, чтоб их возбудить, они развиваются и будут развиваться донельзя, они готовы собой наполнить мир, но они могут запнуться на полдороге, принять иное направление, остановиться, разрушиться. Смерть одного человека не меньше нелепа, как гибель всего рода человеческого. Кто нам обеспечил вековечность планеты? Она так же мало устоит при какой-нибудь революции в солнечной системе, как гений Сократа устоял против цикуты,— но, может, ей не подадут этой цикуты... может... я с этого начал. В сущности, для природы это все равно, ее не убудет, из нее ничего не вынешь, все в ней, как ни меняй,— и она с величайшей любовью, похоронивши род человеческий, начнет опять с уродливых папоротников и с ящериц в полверсты длиною — вероятно, еще с какими-нибудь усовершениями, взятыми из новой среды и из новых условий.
— Ну, для людей это далеко не все равно; я думаю, Александр Македонский нисколько не был бы рад, узнавши, что он пошел на замазку,— как говорит Гамлет**.
* Герцен намекает на распространенное в его время мнение, что Земля может столкнуться с кометой Энке.
** Слова Гамлета, обращенные к Горацио в сцене на кладбище (Шекспир. «Гамлет», акт V, сцена первая).
864
А. И.ГЕРЦЕН
— Насчет Александра Македонского я вас успокою,— он этого никогда не узнает. Разумеется, что для человека совсем не все равно жить или не жить; из этого ясно одно, что надобно пользоваться жиз- нию, настоящим; недаром природа всеми языками своими беспрерывно манит к жизни и шепчет на ухо всему свое vivere memento *.
— Напрасный труд. Мы помним, что мы живем, по глухой боли, по досаде, которая точит сердце, по однообразному бою часов... Трудно наслаждаться, пьянить себя, зная, что весь мир около вас рушится и, стало быть, где-нибудь задавит же и вас. Да еще это куда бы ни шло, а то умереть на старости лет, видя, что ветхие покачнувшиеся стены и не думают падать. Я не знаю в истории такого удушливого времени; была борьба, были страдания и прежде, но была еще какая-нибудь замена, можно было погибнуть — по крайней мере, с верой,— нам не за что умирать и не для чего жить... самое время наслаждаться жизнию!
— А вы думаете, что в падающем Риме было легче жить?
— Конечно, его падение было столько же очевидно, как мир, шедший в замену его.
— Очевидно для кого? Неужели вы думаете, что римляне смотрели на свое время так, как мы смотрим на него? Гиббон19 не мог отделаться от обаяния, которое производит древний Рим на каждую сильную душу. Вспомните, сколько веков продолжалась его агония; нам это время скрадывается по бедности событий, по бедности в лицах, по томному однообразию! Именно такие-то периоды, немые, серые, и страшны для современников; ведь годы в них имели те же триста шестьдесят пять дней, ведь и тогда были люди с душой горячей и блекли, терялись от разгрома падающих стен. Какие звуки скорби вырывались тогда из груди человеческой,— их стон теперь наводит ужас на душу!
— Они могли креститься.
— Положение христиан было тогда тоже очень печальное, они четыре столетия прятались по подземельям, успех казался невозможным, жертвы были перед глазами.
— Но их поддерживала фанатическая вера — и она оправдалась.
— Только на другой день после торжества явилась ересь, языческий мир ворвался в святую тишину их братства, и христианин со слезами обращался назад к временам гонений и благословлял воспоминания о них,— читая мартиролог.
— Вы, кажется, начинаете меня утешать тем, что всегда было так же скверно, как теперь.
* Помни о жизни (лат.). — Ред.
Встречи
865
— Нет, я хотел только напомнить вам, что нашему веку не принадлежит монополь страданий и что вы дешево цените прошедшие скорби. Мысль была и прежде нетерпелива, ей хочется сейчас, ей ненавистно ждать,— а жизнь не довольствуется отвлеченными идеями, не торопится, медлит с каждым шагом, потому что ее шаги трудно поправляются. Отсюда трагическое положение мыслящих... Но чтоб опять не отклониться, позвольте мне теперь вас спросить, отчего вам кажется, что мир, нас окружающий, так прочен и долголетен?..
Давно тяжелые и крупные капли дождя падали на нас, глухие раскаты грома становились слышнее, молнии ярче; тут дождь полился ручьями... все бросились в каюту; пароход скрыпел, качка была невыносима,— разговор не продолжался.
Вота, via del Corso.
31 декабря 1847 г.
Встречи *
Точкою пересечения называется место встречи двух линий.
Франкёр, «Курс чистой математики», т. I. «Прямолинейная геометрия» **
Говорят, что храмовые рыцари *** везде узнавали друг друга, узнавали даже степень свою в таинствах и силу в ордене при первой встрече — это кажется странно, удивительно****. Но пусть разберет каждый человек (в самом деле!), не случалось ли ему в продолжение жизни встретиться с незнакомцем, которого он никогда не видал, которого * Печатается по списку рукой неустановленного лица с пометками Герцена в его «записной тетради 1836 г. » (ЛВ). Писарскому тексту предшествует заглавная страница, на которой рукой самого Герцена написано название и эпиграф из Франкёра. Без подписи. Впервые опубликовано E. С. Некрасовой в «Русской мысли», 1882, № 12, стр. 145. Автограф неизвестен.
Написано как предисловие к задуманному Герценом циклу рассказов о памятных для него «встречах», вероятно, в марте 1836 г.
** Герцев ссылается на первый том широко распространенного в его время учебника французского математика Л.-Б. Франкёра «Полный курс чистой математики».
*** Храмовники, или тамплиеры, члены средневекового духовно-рыцарского ордена (ХП-ХШвв.).
**** это место из «Встреч» затем было почти дословно перенесено Герценом в «Записки одного молодого человека» (см. стр. 300-301 наст. тома).
866
А.И. ГЕРЦЕН
никогда не увидит и в котором с первого взгляда открывается близкий родственник души, человек, которого он хочет иметь другом, с которым ему жаль расстаться,— какая-то симпатия, какой-то магнетизм влечет к нему, и эта встреча остается навсегда в памяти, ибо существования их пересеклись, опять раздвоились, но слились в точке пересечения. Чем бурнее была жизнь человека, чем более страсти пережигали его душу,— тем более таких встреч.
Итак, мы все храмовые рыцари. Посторонние не знали знаков ордена. Так и теперь толпа, это постороннее всего одушевленного, не понимает людей, глубоко чувствующих. Помнится, Дидротова кухарка очень удивилась, услышав, что ее господин — великий человек.— Сколько Дидротовых кухарок!
ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА* (Посвящено другу Сазонову ')
Was die franzôsische Revolution Gutes oder Boses stiftet, kann ich nicht beurteilen; so viel weiBich, daBsie mir diesen Winter einige Paar Strümpfe mehr einbringt.
Goethe, «DieAufgeregten», 1 Ac. 1 Sc. **2
* Печатается по беловому автографу в «записной тетради 1836 г. » (ЛБ) На заглавной странице рукописи осталось незачеркнутым прежнее название ( « Германский путешественник») и посвящение. Без подписи. Впервые опубликовано Е. С. Некрасовой в «Русскоймысли», 1882, № 1, стр. 239-252.
Действие рассказа « Первая встреча» (или « Германский путешественник» ) происходит в русском салоне (« ...я много слышал о вашем Державине» — говорит «путешественник») в началеЗО-х годов (см. упоминания о Менцеле, нашумевшая книга которого «Die deutsche Literatur» вышла в 1828 г., о Шарле Дюране и т.д.).
Центральным эпизодом рассказа, обрамленным светской беседой в гостиной, явились воспоминания «путешественника» о встречах с Гёте. В рассказе ставилась важнейшая для формирования эстетических взглядов Герцена проблема взаимоотношения искусства и действительности. «Творец “Фауста”» разочаровал «путешественника» при встрече. Откровенно безразличный, по его мнению, к бурной общественной жизни эпохи французской революции 1789-1793 гг., Гёте «пишет комедии в день Лейпцигской битвы и не занимается биографией) человечества...». С большой силой Герцен подчеркнул в очерке необходимость активного участия писателя в общественной жизни и освободительной борьбе. « Не должно удаляться от людей и действительного мира,— писал он Н. А. Захарьиной 27 апреля 1836 г., незадолго до завершения “Первой встречи”,— это — старинный германский предрассудок». Большое значение Герцен придавал заключительным строкам рассказа — упоминанию о лорде Гамильтоне, который, «проведя целую жизнь в отыскивании идеала изящного между куском мрамора и натянутым холстом», кончил тем, что «нашел его в живой ирландке». В письме к Н. А. Захарьиной от 30 января 1838 г. Герцен писал, что это место «статьи» содержит «двойное пророчество», которое показано «издали» и оставляет «полную волю понимать его». Герцен имел в виду, с одной стороны, свою личную жизнь: «...со мною сбылось, как с лордом Гамильтоном,—
Встречи
867
...Взошедши в гостиную, я увидел незнакомого человека, которого тотчас почел за иностранца, ибо несколько молодых людей беспрестанно выказывали ему себя, беспрестанно тормошили его. У нас
писал он Н. А. Захарьиной в том же письме,— и я, долго искавши высокого и святого, нашел все в тебе». Но главное «пророчество» Герцен усматривал в другом, в том, что его ожидает не только писательская, кабинетная работа, но и практическая деятельность, Герцен подчеркивает необходимость тесно связать поиски идеала с изучением живой действительности, призывает не подменять абстрактными построениями деятельной борьбы за воплощение своих стремлений. Герцен подчеркивает, что в заключительные строки рассказа им вложена «мысль чисто политическая» и что эта мысль «разом выражает все расстояние сухих теоретических изысканий права и энергической живой деятельности, деятельности практической». В письме кН. А. Захарьиной от 15 февраля 1837 г. Герцен назвал «Первую встречу» своей «лучшей статьей». «Эта статья проникнута глубоким чувством грусти, она гармонирует с 20 июля <день ареста Герцена в 1834 г.> <...> я ее люблю больше “Легенды”»,— писал он 14 января 1838 г. В другом письме, от 30 января 1838 г., Герцен вновь повторил, коснувшись своего рассказа: «Я люблю его. В нем вы разился первый взгляд опыта и несчастия, взгляд, обращенный на наш век; эта статья, как заметил Сазонов, невольно заставляет мечтать о будущем... » Рассказ был хорошо известен московским друзьям Герцена еще в первой своей редакции (см. письмо Герцена к Н. И. Сазонову, и H. X Кетчеру октябрь-ноябрь 1836 г., а также письмо Н. А. Захарьиной к Герцену от 12 июня 1835 г. Изд. Павл., т. VII, стр. 22).
Впоследствии, убедившись, что издание автобиографических очерковЗО-х годов в одной книге осуществить не удастся, Герцен использовал «Первую встречу» в эпизоде с Треизинским из «Записок одного молодого человека». Однако, вложив в уста скептика Трензинского рассказ «германского путешественника» о встрече с Гёте, Герцен опустил призыв «путешественника» к активной общественной деятельности, который противоречил бы всему облику самого Трензинского (см. ниже, стр. 513, комментарий к «Запискам одного молодого человека»). Впечатной редакции были также опущены характерные черты из жизни революционного Парижа, связанные, в частности, с встречей «путешественника» с Анахарсисом Клоотсом (Клооцом); Герцен неоднократно и всегда с большой симпатией вспоминал об этом видном участнике французской революции (см., например, в письме к Ж. Мишле от 12 ноября 1857 г.). Отметим, что первоначальные варианты в рукописи «Первой встречи» сохранили еще более яркие штрихи в рассказе Герцена о французских событиях и деятелях эпохи революции, (см. « Варианты», стр. 465-466).
Изучение литературных источников «Первой встречи» обнаруживает глубокую и разностороннюю эрудицию Герцена как в вопросах жизни и творчества Гёте, так и в общих проблемах развития западноевропейской литературы XVIII-XIX веков. Недаром он писал Огареву еще 5 июля 1833 г., что первая задача, которую он себе «предложил» после экзамена,— «изучить Гёте». Рассказ Герцена наглядно показывает, что изучение Гёте привело его к глубокому пониманию как сильных, так и слабых сторон творчества и жизни великого немецкого писателя.
** Герцен приводит слова Луизы из пьесы Гёте «Die Aufgeregten». Смысл слов уясняется из контекста: Луиза вяжет чулки, а так как ее дядя, возбужденный событиями во Франции, стал поздно возвращаться домой, то она, дожидаясь его до поздней ночи, успевает связать больше, чем прежде. Поэтому она и говорит, что благодаря французской революции у нее «этой зимой на несколько пар чулок больше».
868
А. И.ГЕРЦЕН
свой манер принимать иностранцев, нечто в том роде, как слепни принимают лошадь в летний день.
Он был пожилой человек*, среднего роста, худой и плешивый; молочный свет лампы, покрытой тусклым колпаком, придавал что- то восковое его бледному лицу, которое, несмотря на лета, было так нежно, так бело, как видим на хороших бюстах из каррарского мрамора; серые глаза его блистали, как у молодого человека; рот делал нечто вроде улыбки, которая с первого взгляда могла показаться за добродушие, но в которой второй взгляд видел насмешку, а смотря долее, казалось, что ее совсем нет и что этот рот не может улыбаться. Вообще лицо его было чрезвычайно холодное, но в этом холоде виднелся огонь, как в холодном ревербере лампы... «Кто это?» — Мне ответили немецкой фамилией, которую я тут же забыл.
Говорили о французской литературе, метали наружу все, что есть в голове. Незнакомец молчал, играл эмалевой цепочкой от часов и решительно не показывал ни согласия, ни противуречия. Когда необходимость заставила и его сказать что-нибудь, он сказал, что чрезвычайно отстал, что мало читает, что ему надоело везде в литературе видеть эгоизм и мистификации, что те, которые должны бы были писать, которых голос звучен и силен, молчат, подавленные толпою публицистов.
— Неужели? — сказал кто-то, готовя что-то.
— Это не тезис,— продолжал незнакомец, перебивая его,— который я стану защищать; я не осмелюсь бороться с такими защитниками нашего века, хотя бы чувствовал в себе всю силу Ринальда“, и потому не трудитесь снимать ваши шелковые перчатки,— прибавил он с улыбкой.
Защитники века успокоились, разговор потухал, и Корина4 (хозяйка дома) требовала от германца, чтоб он что-нибудь рассказал.
— Что же вам рассказать? Я был в 91 году в Париже и <в> 1815 в Италии, таскался весь этот промежуток по родине и теперь, простившись навсегда с Европою, еду на Восток отдохнуть от нее; много великих событий было у меня перед глазами, с многими великими людьми сталкивался я...
Его перебили:
— Ради Бога, встречу с великим человеком; близость их как-то поднимает нас...
* Внешний облик «германского путешественника» напоминает портрет Чаадаева в «Былом и думах». Ср. признание самого Герцена в «Письмах к будущему другу» (1864), что «наружность» Трензинского в «Записках одного молодого человека» взята с Чаадаева. Герцен познакомился с Чаадаевым у М. Ф. Орлова в 1834 г., незадолго до своего ареста.
Встречи
869
— Извольте, я возьму на себя ролю Карла Нодье5, который так подробно рассказывает все встречи свои с двухлетнего возраста.
Молча подвинулись мы ближе, и вот его рассказ:
— Я родился в Франкфурте, но,— прибавил он с злою улыбкой,— foi d’honnête homme *, ни родства, ни знакомства с Шарлем Дюранне имел **. Семейные обстоятельства заставили мою мать оставить мужа и ехать со мною в свою родину — Париж. Мне было тогда 16 лет, а христианству 1788. Это переселение сделало во мне чрезвычайный переворот. Франкфурт доселе имеет что-то ганзеатическое ***, кривые улицы, печальные домы и рынки, рынки и конторы; его германский характер, с своими мрачными церквами и безобразной ратушей, с своими факториями и Judengasse ****, отделял его тогда еще более от Франции; и вдруг из этого тихого, смирного города, который каждое воскресенье в праздничном кафтане ходит в церковь, внимательно слушает предику6 и каждую субботу сверяет свои приходо-расходные книги,— из тихого и смирного дома моего родителя я попал в Париж. Что тогда было в Париже — вы знаете7. Родственник, у которого мы жили, был главою какого-то клуба, которого члены беспрестанно толклись у него в доме, с яростными взглядами, с непудренными париками на голове и с ужасными речами в устах. Я с трепетом и недоумением смотрел, как они попирают ногами все святое, все прошедшее и как низвергают здание, под крышей которого живут.
Революция усиливалась; как-то 92 год проглядывал сквозь туманы Assemblée Nationale*****, и отец мой желал, чтоб я воротился; он даже просил своего приятеля, также германца, снабдить меня деньгами и как можно скорее выслать; но этот приятель был не кто иной, как Анахарсис Клооц8, который делал совсем наизнанку: требовал, чтоб я остался, и обещал меня вести знакомить с великим человеком, который, по его мнению, опередил всех и не токмо отвергает всякого рода гражданское устройство, но даже право собственности; впоследствии я узнал, что этот великий человек — Эберт9.
Брауншвейгский между тем издал свой смешной манифест|0, на который ему отвечали еще более смешным. Выживший из лет старик бранился с дерзким мальчишкой. Иностранцам было опасно оставаться * Честное слово (фр.).— Ред.
** Французский журналист Шарль Дюран, редактор (1833-1839) монархической газеты «Journal de Francfort», был тайным агентом царского правительства во Франкфурте.
*** Свойственное своеобразному архитектурному облику ганзейских городов (Любека, Гамбурга, Бремена и др.) в XIV-XVII вв.
**** Еврейской уличкой (нем.).— Ред.
***** Национального собрания (фр.).— Ред.
870
А.И. ГЕРЦЕН
и еще опаснее ехать. Напрасно просил я безумного Клооца — он и слушать не хотел, говорил, что один враг рода человеческого может теперь думать об отъезде, что кто едет, тот агент Питта11 и Кобурга12, ставил себя в пример и, гордо показывая засаленное платье свое, прибавлял: «Ты знаешь, как я был богат,— все отдал человечеству и всем для него пожертвую... а ты хочешь бежать; стыдись; взгляни хоть на Сен-Жюста13, — он не старее тебя, а как пламенно принимается он работать pour la république une et indivisible, pour l’émancipation du genre humain *; он будет великий филантроп... Впрочем, ежели хочешь ехать, я первый выдам тебя, надобно очистить род человеческий от слабых... » И все это говорил он не шутя и с полным убеждением. Последнее замечание показало мне, что надлежит действовать решительно, и я всеми неправдами, обманывая и подкупая, нашел средство бежать в союзную армию**. Жаль мне было оставить Париж; я не в состоянии был его покинуть явно, официально и потому душевно был рад, что расстался с ним sans adieux***, тайком ночью. Разумеется, не без приключений достиг я цели бегства, и ежели б я был настоящий немец, то поставил бы себе за святейшую обязанность издать на скверной бумаге с еще сквернейшею печатью: «Reiseabenteuer eines Flüchtlings aus der Hauptstadt der Franzosen zur Zeit der groBen Umwàlzung. Anno 1792 nach Christi Geburt» **** Но я не настоящий немец.
«Voilà vos chiens de Brunswick!» *****— сказал мне альзасец, проводивший меня к пикетам, и я очутился на родине, потому что родина моя вздумала очутиться в Альзасе6*. Половину цепи занимали прусские солдаты и половину — австрийские. Я до того отвык от их физиогно- мии, до того привык к живым, одушевленным французам, что смотрел с некоторым удивлением на длинные, растянутые, неуклюжие лица австрийцев с их свинцовыми глазами, с их усами светлее щек и с их мундирами светлее усов. Должно ли дивиться, что они поразили леди Морган14 в Италии 1 *, где насмешливая судьба перемешала их с вороными головами итальянцев, в которых видна какая-то артистическая
* Для республики, единой и неделимой, для освобождения рода человеческого (фр.).— Ред.
** Здесь и далее имеется в виду поход союзной армии в 1792 г. во главе с герцогом Карлом Брауншвейгским против революционной Франции. Гёте сопровождал в этом походе веймарского герцога.
*** Не простившись (фр.).— Ред.
**** « Путевые приключения беглеца из столицы французов во время великого пере ворота. Года1792 от Р.Х.» (нем.).— Ред.
***** «Вот ваши псы-брауншвейгцы!» (фр.).— Ред.
6* Намек на оккупацию французского Эльзаса австро-прусскими войсками.
7* Речь идет о книге ирландской писательницы Сидней Морган « Italy» (1821).
Встречи
871
отделка? Прибавьте, что они стояли по колена в грязи, оттого что не хотели переступить за лужу; что ни один мускул не двигался на их лице; что их рты были полуоткрыты; что это все дурно сделанные и облитые грязью статуи Командора из «Дон-Жуана» 15.— С другой стороны, пруссаки с карими глазами, с римским носом и коротенькой трубкой, которую нельзя отделить от их лица, не испортив его, так, как нельзя отделить ушей, щеку и пр. У них что-то глубокомысленное снаружи и совершенное отсутствие мыслей, кроме повиновения фельдфебелю, внутри; по крайней мере, эти двигались, говорили. После некоторых вопросов и ответов меня отправили к дежурному генералу, удостоверившись, кто я, откуда, зачем, куда... Но не было никакой надежды ехать далее, ибо все лошади были взяты армиею. Это было то самое критическое время, когда новый Готфред * увидел, что он затем только пришел во Францию, чтоб увеличить ее торжество. Надобно было провести несколько дней в несчастном войске, которое страдало и от дождей, и от голода, и от стыда. На другой день пригласил меня к себе один владетельный князь, вероятно желая знать, какие новые ужасы сделали парижские антропофаги. Он занимал небольшой дом в близлежащем городе, и я ввечеру отправился к нему. В зале было несколько полковников,— как все немецкие полковники, с седыми усами и с сигарами в зубах,— несколько адъютантов, которые всё еще не сомневались, что им придется попировать в Palais Royal ** и там оставить и свой здоровый цвет лица и способность краснеть, которая только и осталась у нашего юношества. Везде мундиры, шпоры, сабли; наконец, взошел не-военный.
— Верно, Шатобриан,— сказал кто-то мне на ухо.
— Нет, — отвечал я, — Шатобриан только тогда ездит во Францию за неприятелем, когда ses amis les ennemis*** бьют его соотечественников.
Мужчина хорошего роста, довольно толстый, с гордым видом, в котором выражалось спокойствие и глубокое чувство собственного достоинства. Величие и сила в правильных чертах лица, в возвышенном челе. Всякий человек, однажды взглянув на него, видел, что он ему не товарищ,— так подавляла, угнетала его наружность; его взор не протягивал вам руку на дружбу, но заставлял вас быть вассалом его, прощал вам вашу ничтожность. Большие глаза блистали, но блистали так, как у Наполеона, намекая издали на обширность души. Эти глаза были осенены густыми бровями, в которых я заметил именно * «Путешественник» сравнивает Карла Брауншвейгского с одним из предводителей первого крестового похода, герцогом Готфридом Бульонским (1058 1110).
** Королевский дворец (фр.). — Сост.
*** Его приятели-неприятели (фр.).— Ред.
872
А. И.ГЕРЦЕН
омировское16 движение. Все манеры показывали светского человека и аристократа, но печать германизма ясно обнаруживалась в особых приемах, которые мы называем steif*. Везде, где он проходил, вставали, кланялись, признавали его власть. Он принимал знаки уважения, как законную дань, то есть с той деликатностью, которая еще выше подымает его и еще ниже роняет их. Я не спускал с него глаз. Он сел возле герцогова сына, долго говорил с ним и, наконец, обращаясь к нам, сказал, придавая особую важность своим словам:
— Нынче поутру, только въезжаю в лагерь, вижу какого-то генерала верхом. Судите о моем удивлении, когда, подъезжая, узнаю короля прусского. Его величество ехал прямо ко мне. «Чья это карета?» — спросил их величество лаконическим образом.—«Герцога Веймарского»... **
Он продолжал говорить, но я не продолжал слушать, удивляясь, как Зевсова голова попала на плечи к веймарскому дипломату, и завел речь с сидевшим возле меня эмигрантом. Эмигрант этот был военный и, несмотря на бивачную жизнь, нашел средства одеться по-бально- му; он со слезами меня расспрашивал о судьбах Парижа,— не всего Парижа, a Faubourg Saint Germain ***,— и со слезами мне рассказывал о чувствах, наполнивших его душу, когда он нынче утром видел, что, несмотря на проливной дождь, один из принцев крови ехал верхом с прусским королем в одном легком плаще. Мне он показался до того смешон, что я забыл на минуту дипломата и с величайшим вниманием слушал важный рассказ о ничтожных предметах. Но вдруг подозвал меня герцогов сын и, подводя к своему соседу, сказал, что я из Парижа и могу рассказать самые новые новости. Он взглянул своим страшным взглядом, и мне показалось, что он меня придавил ногою.
— Правда ли, что генерал Ла-Файет17 рассорился с якобинцами18, отстал от них и теперь соединяется с королем?
— Ла-Файет,— отвечал я,— никогда не принадлежал к клубу якобинцев; впрочем, несмотря на его ненависть к бешеным республиканцам, он, я думаю, не будет ренегатом...
— То есть не образумится и не воротится к законной власти, хотите вы сказать?
Я закусил губы и извинился привычкою к jargon révolutionnaire****.
* Чопорными (нем.).— Ред.
** Этот и некоторые другие эпизоды и детали в рассказе «путешественника» заимствованы Герценом из автобиографического произведения Гёте «Kampagne in Frankreich».
*** Сен-Жерменского предместья (фр.).— Ред.
**** Революционному жаргону (фр.). — Ред.
Встречи
873
— Что несчастный король?
— Все еще содержится; скоро будет публичный процесс его.
— Для меня удивительно, как шайка безумных мечтателей, какой- нибудь клуб якобинцев забрал такую волю, несмотря на омерзение, с которым смотрит на них нация.
— Жаль, очень жаль, что эти беспорядки так долго продолжаются,— сказал он, обращаясь к герцогову сыну;-я собирался ехать во Францию, но Я хотел видеть Францию-блестящую и пышную монархию, процветающую столько столетий, хотел видеть трон, под лилиями19 которого возникли великие гении и великая литература, а не развалины его, под которыми уничтожилось все великое, а не второе нашествие варваров. Мое счастие, что успел насладиться Италиею,— и она начинает перенимать у французов; может, еще съезжу туда, чтоб взглянуть на страну изящного, прежде нежели ее убьют и исковеркают. Впрочем, увидите, горячка эта не долго будет продолжаться, и ежели сами французы не образумятся, их образумят!
Последнее слово он произнес отдельно, и маленькая улыбка и маленький огонь в глазах показали, как герцогов сын доволен был этим комплиментом.
Кто не знает ужасную откровенность военных, особенно германских,— их разрубленные лица, их простреленные груди дают им право говорить то, о чем мы имеем право молчать. По несчастию, за герцо- говым сыном стоял, опершись на саблю, один из седых полковников; в наружности его были видны и пять-шесть кампаний, и жизнь, проведенная с 12 лет на биваках и в лагерях, и независимость, которая так идет к воину,— словом, в нем было немного Циттена20 и немного Блюхера21.
— Ежели и проучат их, так, верно, не теперь,— сказал он с этой вольностью казарм, которую породила, может, самая дисциплина их.— Дивлюсь я на эту кампанию: не приготовив ничего, бросили нас осенью в неприятельскую землю, уверили, что нас примут с распростертыми объятиями, а нам скоро придется умереть с голода, потонуть в грязи и быть выгнанными без малейшей славы. Хоть бы уж идти назад, пока есть время... скорее голову положу на поле битвы, нежели перенести стыд такой кампании... И он жал рукою эфес сабли и как будто радовался, что высказал эти слова, давно тяготившие грудь его.
— Счастие нам худо благоприятствовало,— отвечал дипломат,— но не совсем так отвернулось, как думает г. полковник. И наша теперичная жизнь, исполненная недостатков и лишений, послужит нам приятным воспоминанием,— в ней есть своя поэзия. Знаете, чем
874
А. И.ГЕРЦЕН
утешался любимец Людвига Святого * в плену когда все унывали? «Nous en parlerons devant les dames» **,— говорил он.
Герцогов сын поблагодарил взглядом, но неумолимый полковник не сдался.
— Хорошо утешенье! — сказал он глухим голосом, гордо улыбаясь и сжимая до того свою сигару, что дым пошел из двадцати мест.— Боюсь одного, что не мы, а они будут рассказывать нашим дамам об этой кампании.
В лице его было тогда столько гордости, даже восторга (ибо не одни художники умеют восторгаться), что я увидел в нем соперника дипломату.
— Охота нам говорить о войне, о политике,— подхватил дипломат, видя непреклонность воина.— Когда, бывало, среди моих занятий в Италии мне попадались газеты, я видел себя столь чуждым этому миру, что не мог найти никакой занимательности; это — что-то такое временное, переменное и потом совершенная принадлежность нескольких особ, коим провидение вручило судьбы мира, так что стыдно вмешиваться без призыва. И теперь я далек от всех политических предметов и так спокойно занимаюсь, как в своем веймарском кабинете.
— А чем вы теперь занимаетесь? — спросил герцогов сын, силясь скрыть радость, что разговор о войне окончился.
— В особенности теориею цветов22; я уже имел счастие излагать ее светлейшему братцу вашему, и он был доволен; теперь я делаю чертежи.
«Удивительный человек,— думал я,— в 1792 году, в армии, которую бьют, среди колоссальных обстоятельств, которых не понимает, занимается физикою» ; я видел, что он не дипломат, и не мог догадаться.
— Кто это? — спросил я у герцогова адъютанта.
— Про кого вы спрашиваете?-сказал с удивлением адъютант.
— Вот про этого высокого мужчину, который теперь встал, во фраке.
— Неужели вы не знаете? Это Гёте!
— Гёте, сочинитель «Гёца»?
— Да, да. Вольфганг Гёте, сочинитель «Гёца», «Вертера»...23
Я обернулся, он был уже в дверях, и я не мог посмотреть на Гёте как на Гёте. Вот вам моя встреча.
* Имеется в виду французский средневековый историк Жан Жуанвиль, участник крестового похода, предпринятого в 1245 г. королем Людовиком IX (Святым). Вместе с королем Жуанвиль попал в плен к сарацинам.
** Мы будем об этом рассказывать дамам (фр.).— Ред.
Встречи
875
— Вы после его не видали? — спросила Корина.
— Один раз,— отвечал он,— несколько недель спустя; в каком- то городке давали его пьесу*; я забыл ее название, помню только, что это фарса над революциею, маленькая насмешка над огромным явлением, которое все имело в себе, кроме смешного. Тогда уже вполне обозначился грозный характер переворота и вся мощность его. Разбитое войско возвращалось домой, в Германию; палач ждал венчанную главу. Испуганная, печальная публика не смеялась; и, по правде, насмешка была натянута.
Гёте сидел в ложе с герцогом веймарским, сердился, досадовал; Гёте был весь автор. Я издали смотрел на него и от всей души жалел, что этот великий человек, развивавший целый мир высоких идей, этот поэт, удививший весь мир, испытывает участь журналиста, попавшего не в тон. Печальные мысли меня заняли до того, что я содрогнулся, услышав, что меня кто-то взял за руку; обернувшись, увидел я полковника, с которым встретился у герцогова сына; он был совершенно тот же, как и там,— с тем же гордым видом, с тем же независимым лицом; я заметил одну перемену: левая рука его была в перевязке...24
— Есть же люди, которые находят улыбку там, где все плачут,— сказал он, пожимая плечами и с негодованием крутя седой ус свой...— Неужели это право великого человека? — прибавил он, помолчав.
Я взглянул на него, взглянул на Гёте, хотел сказать очень много и молча пожал его руку.
Тут он остановился, глаза его прищурились, он закусил нижнюю губу, и казалось, сцена сия со всею точностью повторялась в его голове и он чувствовал все то, что чувствовал за сорок лет.
— Vous êtes ennemi juré de Goethe**,— сказала Корина.
— Вы принадлежите к партии Менцеля25,— прибавил спекулятивный философ, друг Корины.
— Я готов преклонить колена пред творцом «Фауста»,— возразил германец.
— Но рассказ ваш,— продолжал обиженный философ, заявленный обожатель Гёте,— рассказ ваш набросил на этого мощного гения какую-то тень. Я не понимаю, какое право можно иметь, требуя от человека, сделавшего так много, чтоб он был политиком. Он сам сказал вам, что все это казалось ему слишком временным. И зачем ему было выступать деятелем в мире политическом, когда он был царем * Речь идет о пьесе Гёте «Der Bürgergeneral» (1793), в которой осмеивалась французская революция.
** Вы заклятый враг Гёте (фр.).— Ред.
876
А. И.ГЕРЦЕН
в другом мире — мире поэзии и искусства? Неужели вы не можете себе представить художника, поэта, без того, чтоб он не был политиком,— вы, германец?
Путешественник во время своего рассказа мало-помалу одушевлялся. Теперь, слушая философа, он принял опять свою ледяную маску.
— Я вам рассказал факт; случай показал мне Гёте так. Не политики — симпатии всему великому требую я от гения. Великий человек живет общею жизнию человечества; он не может быть холоден к судьбам мира, к колоссальным обстоятельствам; он не может не понимать событий современных, они должны на него действовать, в какой бы то форме ни было. Сверх того, всеобъемлемости человеку не дано, напрасно стремились к ней Дидеро и Вольтер; и что может быть изящнее жизни некоторых людей, посвятивших все дни свои одному предмету,— жизнь Винкельмана26, например? Посмотрите на это германское дерево, пересаженное на благодатную почву Италии, на этого грека в XVIII столетии, на эту жизнь в музеуме и в светлой, ясной области изящного; надобно иметь очень дурную душу, то есть совсем души не иметь, чтоб не прийти в восторг от его жизни. Скажу более, я люблю Гофмана27 в питейном доме, но ненавижу пуще всего мистификацию и эгоизм, все равно — в Гете или в Гюго28. Ужели он вам нравится придворным поэтом, по заказу составляющим оды на приезды и отъезды, сочиняющим прологи и маскарадные стихи?
— Вы забываете, что Гёте жил в Германии, где доселе сохранилось то патриархальное отношение между властителями и народом, которое служило основою феодализму,— отношение, которое, с одной стороны, заставляло поэта петь доброго отца семейства, а короля — искать места для «скромного ордена» своего на груди поэта; поэта — праздновать своей лирой торжество властителя и властителя — иллюминовать свой город в день рождения поэта. Извините, я, право, вижу какую-то либеральную arrière-pensée* в ваших словах.
— Напрасно вы принимаете меня за карбонаро29. Поверьте, мое сердце умеет биться за Ла Рош-Жакелин, бешеного вандейца2",— умеет сочувствовать старику Малербу31, склоняющему главу свою на плаху **, — они откровенно одушевлены были любовью к монархии, они — герои, в них нет мистификации. Отчего все доселе с восхищением читают переписку Вольтера с Екатериной II? — Оттого, что всякий видит, что они поняли друг друга, отдали справедливость, * Заднюю мысль (фр.).— Ред.
** Обвиненный в заговоре против Республики, престарелый Малерб (Мальзерб), бывший министр Людовика XVI, отказался от защиты и сам взошел на эшафот, вместе с дочерью и зятем.
Встречи
877
любили друг друга, оттого, что душа Екатерины была обширна, как ее царство, и душа Вольтера сочувствовала своему веку. И отчего же никто не читает стихов Гёте на приезды, отъезды, разрешения от бремени, выздоровления и т. д.? Я не знаю по-русски, но я много слышал о вашем Державине32, и именно о том чувстве искренней преданности, которая доводит его до высочайшего идеализирования Екатерины; не зная Державина, я понимаю чувства, одушевлявшие его, понимаю истинность его восторга; но этой-то истинности и нет в Гёте, ее нет в большей части его сочинений; он парадирует, он на сцене театра при свете ламп, а не на сцене жизни при свете солнца. Лафатер33, увидев в первый раз Гёте, не мог удержаться, чтоб не сказать: «Я полагал, что у вас совсем не такие черты лица». А Лафатер редко ошибался. Читая Гёте, он верил, что каждая строка его от души, и поэтому построил в фантазии его черты и не нашел их в лице его, ибо их не былой в душе у Гёте. Так, как в нем не было ничего восточного, несмотря на то, что он, насилуя свой мощный гений, написал «Der West-Ôstliche Divan» *, который так и дышит запахом алоэ, стихами Саади и Низами...34 Тот, кто верен себе, и на челе, и на устах, и во взоре носит отпечаток того, чем полны его сочинения. Как часто останавливался я в Веймаре перед бюстом Шиллера; славный Даннекер35 отвердил, так сказать, прелестную форму, в которой обитала прелестная душа. И нет возможности Шиллера представить себе иначе.
— Читайте Гётеву аутографию **, и вы увидите, что вся жизнь его протекала в беспрерывных занятиях; там увидите, что он пренебрегал толпою; для чего же ему было мистифицировать ее?
— Да, да, надобно читать эту драгоценную комментарию к его сочинениям, эту огромную исповедь эгоизма. Там Гёте весь, там вы увидите, что его «я» поглощает все бытие; там он сам признается вам, как в 1804 году он мистифицировал M-me Staël36 и она его. О, уморительный документ пустоты нашего века! Вместо симпатий гения, таланта, славы этот первый мужчина своего века с этой первой женщиной встречаются в масках, обманывают друг друга; один представляет из себя мрачного поэта Тевтонии, мечтающего о высшем мире, и в душе смеется; другая представляет чувствительное сердце, плачет о политических событиях, страх жалеет о убитых, придает себе вид отчаяния — и еще более смеется в душе. И как безжалостно Гёте приводит за кулисы этой комедии! Удивляюсь гению этого человека, * «Западно-восточный диван» (1814-1819).
** Герцен имеет в виду автобиографическое произведение Гёте: «Annalen oder Tag-und Jahres-hefte der Erganzung meiner sonstigen Bekenntnisse» (1825, изд. 1830).
878
А.И. ГЕРЦЕН
но любить его не могу. Когда Гёте возвратился из Италии, был он однажды в большом обществе, и, как разумеется, в аристократическом обществе; там собирал он похвалы и расточал свои рассказы, придавая огромную важность всем словам своим и всем поступкам. Тут же в углу сидел задумчиво кто-то; долго и внимательно смотрел он на Гёте своими голубыми глазами, в которых так ярко было написано, что этот человек не принадлежит земле и что душа его грустит по другому миру, который создала святая мечта и чистое вдохновение. Он любил его за Вертера и за Берлихингена; он нарочно пришел, чтоб увидеть его и познакомиться с ним. Этот кто-то встал, наконец, и сказал: «С ним мы никогда не сойдемся». И знаете ли, что этот кто- то был не кто иной, как Шиллер?
— Но вспомните, что они после сделались неразрывными друзьями и любили друг друга.
— Не верю. Гёте подавил своим гением и авторитетом кроткого Шиллера, но они не могли искренно любить друг друга. Я вам уже сказал, что я готов преклонить колена пред творцом «Фауста», так же, как готов раззнакомиться с тайным советником Гёте, который пишет комедии в день Лейпцигской битвы37 и не занимается биографией) человечества, беспрерывно занимаясь своею биографией). В заключение возвращусь на странное обвинение, которое вам угодно было сделать после моего рассказа. Чтоб я требовал от Гёте политики! И особенно в наше время, когда все дышит посредственностью, все идет к ней, в наш век, который похож на Пасхаля, не на Пасхаля всегда (слишком много чести), а на Пасхаля в те минуты, когда он принимал Христову веру потому, что не отвергал ее. Английский корсар увез с собою на «Беллерофоне» * деятельное начало нашего века и хорошо сделал; бронзовый бюст, доставшийся в позорные руки Гудзон Лова44, худо гармонировал с нашими стенами под мрамор, с нашими бюстами из гипса; для того бюста океан и подземный огонь образовали пьедесталь.
Sagt, wo sind die Vortrefflichen hin, wo find’ich die Sânger, Die mit dem lebenden Wort horchende Volker entzückt?..
Ach, noch leben die Sanger; nur fehlen die Taten die Lyra Freudig zu wecken... **
Schiller***39
* Название английского корабля, на котором в 1815 г. Наполеон был доставлен на остров св. Елены.
** Скажите, куда исчезли эти гении, где найду я тех певцов, которые живым словом восхищали внимавшие им народы? Ах, еще живы певцы, но нет подвигов, радостно пробуждающих лиру. Шиллер (иелг.).— Ред.
*** Цитата из стихотворения Шиллера « Die Sanger der Vorwelt».
Встречи
879
Гёте понял ничтожность века — но не мог стать выше его: он сам осудил и век и себя, сказав: «Древние искали факт, а мы эффект; древние представляли ужасное, а мы ужасно представляем»,— тут все выражено. Мы восторгаемся для того, чтоб печатать восторги; мы чувствуем для того, чтоб из чувств строить журнальные статейки; живем для того, чтоб писать отрывки нашей жизни, как будто действовать есть что-нибудь низшее, а писать — цель человека на земле; словом, мы слишком авторы, чтоб быть людьми. Знаете ли, как генерал Ламарк4" назвал нынешнее состояние Франции? — halte dans la boue *.
— Верите ли вы в совершенствование человека?
— А верите ли вы, что вся природа есть переход, исполненный страдания? — спросил германец, быстро взглянув на философа.
Философ улыбнулся.
Разговор прекратился; в горнице было душно, и я вышел на балкон. Месяц светил всем лицом своим, и небольшой ветер освежал прохладою и обливал запахом воздушных жасминов; это была одна из тех пяти или шести ночей, когда можно в Москве быть на воздухе, не проклиная ее северной широты. «Что за человек,— думал я,— этот немец? Нисколько не похож он на biases ** нынешнего века, которые сыплют насмешки и резкие суждения, чтоб обратить на себя внимание, ругают нынешний век и всех великих людей, всем недовольны, давая чувствовать, что у них построен в голове какой-то пантеон для всего человечества, в то время как у них ничего не построено в голове. От него не веяло морозным холодом этих людей... » Он сам прервал мои мысли, взойдя на балкон. Мне весьма хотелось поговорить с ним, но он, кажется, вышел именно для того, чтоб быть одному, и не говорил ни слова. Отложив деликатность в сторону, я сказал ему: «Строго осудили вы наш век, и я откровенно скажу вам, что не могу во всем согласиться с вами. Какой необъятный шаг сделало человечество после Наполеона!»
Он молчал, и еще более я заметил, что он все внимание обратил на луну; наконец, он вздохнул и, обращаясь ко мне, сказал: «Я теперь <вспоминаю> прелестную ночь, одну из самых святых минут моей жизни. Года два тому назад я жил в Венеции; в мире много земель и городов, но одна Италия и одна Венеция. Я был на бале * Стоянкой в грязи (фр.).— Ред.
Эти слова были сказаны наполеоновским генералом Ламарком во время Реставрации, в ответ на замечание герцога де Блака, ультра-роялиста, о том, что «теперь наступит покой».
** Пресыщенных (фр.).— Ред.
880
А. И. ГЕРЦЕН
у эрцгерцога; он давал его, помнится, по случаю взятия Варшавы; придворный бал везде скучен;, ложный свет воска и ложная радость людей нагнали на меня чрезвычайную тоску, и я ушел. Что это за ночь была! Вы меня извините, нынешний вечер — одно бледное подражание, даже не похожее; я упивался и луною, и воздухом, и видом. Лев святого Марка убит*; но его вдова, красавица Венеция, Sara la baigneuse**, все еще так же прелестна и так же сладострастно плещется в волнах Адриатики. Я бросился в гондоль к лагунам. Вы, верно, знаете, что там доселе встречаются gondolieri***, которые поют стансы из Тассо и Ариосто я, один тут, другой там, далеко. Прежде это бывало часто, теперь Италия начинает забывать своих поэтов; но в эту ночь счастие улыбнулось мне. Издали раздался простой напев, усиливался более я более, и я ясно слышал три последние стиха; они остались у меня в памяти:
Dormi, Italia, imbriaca, е non ti pesa, Ch’ora di questa gente, ora di quelle Che giaservati fu, sei fatta ancella... **** i2
Еще далее отвечали с другой гондолы следующею станцею, и слабый голос, стелившись по волнам и смешиваясь и переплетаясь с их плеском, выражал и просьбу и упрек. Эта ночь никогда не изгладится из моей памяти» *****.
Теперь пришла моя очередь молчать, и я молчал.
— Но что же будет далее? — сказал я наконец.
— Знаете ли вы, чем кончил лорд Гамильтон, проведя целую жизнь в отыскивании идеала изящного между кусками мрамора и натянутыми холстами?
— Тем, что нашел его в живой ирландке.
— Вы отвечали за меня,— сказал он, уходя с балкона.
Крутицкие казармы 1834. Декабрь.
Переписано в Вятке 1836, июня 20.
* Венецианская республика потеряла свою государственную независимость в 1797 г., когда была оккупирована войсками Наполеона Бонапарта, а потом передана Австрии.
** Сара-купальщица (фр.).— Ред.
*** Гондольеры (итал.).— Ред.
**** Спи, Италия, опьяненная, и пусть тебя не огорчает, что ты стала служанкой тех народов, которые некогда служили тебе (итал.).— Ред.
***** р описании венецианской ночи Герцен использовал запись 1796 г. в «Italienische Reise» (1816-1829) Гёте.
л. н. толстой
Отрочество *
<Фрагмент>
Глава XIX ОТРОЧЕСТВО
Едва ли мне поверят, какие были любимейшие и постояннейшие предметы моих размышлений во время моего отрочества,— так как были несообразны с моим возрастом и положением. Но, по моему мнению, несообразность между положением человека и его моральной деятельностью есть вернейший признак истины.
В продолжение года, во время которого я вел уединенную, сосредоточенную в самом себе, моральную жизнь, все отвлеченные вопросы о назначении человека, о будущей жизни, о бессмертии души уже представились мне; и детский слабый ум мой со всем жаром неопытности старался уяснить те вопросы, предложение которых составляет высшую ступень, до которой может достигать ум человека, но разрешение которых не дано ему.
Мне кажется, что ум человеческий в каждом отдельном лице проходит в своем развитии по тому же пути, по которому он развивается и в целых поколениях, что мысли, служившие основанием различных философских теорий, составляют нераздельные части ума; но что каждый человек более или менее ясно сознавал их еще прежде, чем знал о существовании философских теорий.
Мысли эти представлялись моему уму с такою ясностью и порази- тельностью, что я даже старался применять их к жизни, воображая, что я первый открываю такие великие и полезные истины.
Раз мне пришла мысль, что счастье не зависит от внешних причин, а от нашего отношения к ним, что человек, привыкший переносить страдания, не может быть несчастлив, и, чтобы приучить себя к труду, я, несмотря на страшную боль, держал по пяти минут в вытянутых руках лексиконы Татищева1 или уходил в чулан и веревкой стегал себя по голой спине2 так больно, что слезы невольно выступали на глазах.
* Повесть создавалась с ноября 1852 по ноябрь 1854 гг. Опубликовано в X книжке «Современника» за 1854 г.
882
Л. н. ТОЛСТОЙ
Другой раз, вспомнив вдруг, что смерть ожидает меня каждый час, каждую минуту, я решил, не понимая, как не поняли того до сих пор люди, что человек не может быть иначе счастлив, как пользуясь настоящим и не помышляя о будущем,— и я дня три, под влиянием этой мысли, бросил уроки и занимался только тем, что, лежа на постели, наслаждался чтением какого-нибудь романа и едою пряников с кро- новским медом, которые я покупал на последние деньги.
То раз, стоя перед черной доской и рисуя на ней мелом разные фигуры, я вдруг был поражен мыслью: почему симметрия приятна для глаз? что такое симметрия? Это врожденное чувство, отвечал я сам себе. На чем же оно основано? Разве во всем в жизни симметрия? Напротив, вот жизнь — ия нарисовал на доске овальную фигуру. После жизни душа переходит в вечность; вот вечность — и я провел с одной стороны овальной фигуры черту до самого края доски. Отчего же с другой стороны нету такой же черты? Да и в самом деле, какая же может быть вечность с одной стороны, мы, верно, существовали прежде этой жизни, хоть и потеряли о том воспоминание.
Это рассуждение, казавшееся мне чрезвычайно новым и ясным и которого связь я с трудом могу уловить теперь,— понравилось мне чрезвычайно, и я, взяв лист бумаги, вздумал письменно изложить его; но при этом в голову мою набралась вдруг такая бездна мыслей, что я принужден был встать и пройтись по комнате. Когда я подошел к окну, внимание мое обратила водовозка, которую запрягал в это время кучер, и все мысли мои сосредоточились на решении вопроса: в какое животное или человека перейдет душа этой водовозки, когда она околеет? В это время Володя, проходя через комнату, улыбнулся, заметив, что я размышлял о чем-то, и этой улыбки мне достаточно было, чтобы понять, что все то, о чем я думал, была ужаснейшая гиль3.
Я рассказал этот почему-то мне памятный случай только затем, чтобы дать понять читателю о том, в каком роде были мои умствования.
Но ни одним из всех философских направлений я не увлекался так, как скептицизмом, который одно время довел меня до состояния, близкого сумасшествию. Я воображал, что, кроме меня, никого и ничего не существует во всем мире, что предметы не предметы, а образы, являющиеся только тогда, когда я на них обращаю внимание, и что, как скоро я перестаю думать о них, образы эти тотчас же исчезают. Одним словом, я сошелся с Шеллингом в убеждении, что существуют не предметы, а мое отношение к ним. Были минуты, что я, под влиянием этой постоянной идеи, доходил до такой степени сумасбродства, что иногда быстро оглядывался в противоположную сторону, надеясь, врасплох, застать пустоту (néant)4 там, где меня не было. Жалкая, ничтожная пружина моральной деятельности — ум человека!
Записки сумасшедшего
883
Слабый ум мой не мог проникнуть непроницаемого, а в непосильном труде терял одно за другим убеждения, которые для счастья моей жизни я никогда бы не должен был сметь затрогивать.
Из всего этого тяжелого морального труда я не вынес ничего, кроме изворотливости ума, ослабившей во мне силу воли, и привычки к постоянному моральному анализу, уничтожившей свежесть чувства и ясность рассудка.
Отвлеченные мысли образуются вследствие способности человека уловить сознанием в известный момент состояние души и перенести его в воспоминание Склонность моя к отвлеченным размышлениям до такой степени неестественно развила во мне сознание, что часто, начиная думать о самой простой вещи, я впадал в безвыходный круг анализа своих мыслей, я не думал уже о вопросе, занимавшем меня, а думал о том, о чем я думал.
Спрашивая себя: о чем я думаю? — я отвечал: я думаю, о чем я думаю. А теперь о чем я думаю? Я думаю, что я думаю, о чем я думаю, и так далее. Ум за разум заходил...
Однако философские открытия, которые я делал, чрезвычайно льстили моему самолюбию: я часто воображал себя великим человеком, открывающим для блага всего человечества новые истины, и с гордым сознанием своего достоинства смотрел на остальных смертных; но, странно, приходя в столкновение с этими смертными, я робел перед каждым, и чем выше ставил себя в собственном мнении, тем менее был способен с другими не только выказывать сознание собственного достоинства, но не мог даже привыкнуть не стыдиться за каждое свое самое простое слово и движение.
Записки сумасшедшего*
1883. 20 октября. Сегодня возили меня свидетельствовать в губернское правление, и мнения разделились. Они спорили и решили, что я не сумасшедший. Но они решили так только потому, что я всеми силами держался во время свидетельствования, чтобы не высказаться.
* Толстой работал над рассказом в 1884-1886 гг. Хотя позднее писатель не раз возвращался к мысли продолжить работу над ним, рассказ остался неоконченным. В заключительных эпизодах «Записок» явственно звучат мотивы, характерные для творчества Толстого80-х годов. «Записки сумасшедшего» впервые были напечатаны в III томе «Посмертных художественных произведений Л. Н. Толстого», М., 1912.
884
Л. Н. ТОЛСТОЙ
Я не высказался, потому что боюсь сумасшедшего дома; боюсь, что там мне помешают делать мое сумасшедшее дело. Они признали меня подверженным аффектам, и еще что-то такое, но — в здравом уме; они признали, но я-то знаю, что я сумасшедший. Доктор предписал мне лечение, уверяя меня, что если я буду строго следовать его предписаниям, то это пройдет. Все, что беспокоит меня, пройдет. О, что бы я дал, чтобы это прошло. Слишком мучительно. Расскажу по порядку, как и отчего оно взялось, это освидетельствование, как я сошел с ума и как выдал свое сумасшествие. До тридцати пяти лет я жил как все, и ничего за мной заметно не было. Нешто только в первом детстве, до десяти лет, было со мной что-то похожее на теперешнее состояние, но и то только припадками, а не так, как теперь, постоянно. В детстве находило оно на меня немножко иначе. А именно вот так.
Помню, раз я ложился спать, мне было пять или шесть лет. Няня Евпраксия высокая, худая, в коричневом платье, с чаплыжкой на голове и с отвисшей кожей под бородой, раздела меня и посадила в кровать.
— Я сам, я сам,— заговорил я и перешагнул через перильца.
— Ну ложитесь, ложитесь, Феденька,— вон Митя, умник, уже легли,— сказала она, показывая головой на брата.
Я прыгнул в кровать, все держа ее руку. Потом выпустил, поболтал ногами под одеялом и закутался. И так мне хорошо. Я затих и думал: «Я люблю няню, няня любит меня и Митеньку, а я люблю Митеньку, а Митенька любит меня и няню. А няню любит Тарас, а я люблю Тараса, и Митенька любит. А Тарас любит меня и няню. А мама любит меня и няню, а няня любит маму, и меня, и папу, и все любят, и всем хорошо». И вдруг я слышу, вбегает экономка и с сердцем кричит что-то об сахарнице, и няня с сердцем говорит, она не брала ее. И мне становится больно, и страшно, и непонятно, и ужас, холодный ужас находит на меня, и я прячусь с головой под одеяло. Но и в темноте одеяла мне не легчает. Я вспоминаю, как при мне раз били мальчика, как он кричал и какое страшное лицо было у Фоки, когда он его бил.
— А не будешь, не будешь,— приговаривал он и все бил. Мальчик сказал: «Не буду». А тот приговаривал «не будешь» и все бил. И тут на меня нашло. Я стал рыдать, рыдать. И долго никто не мог меня успокоить. Вот эти-то рыдания, это отчаяние были первыми припадками моего теперешнего сумасшествия. Помню, другой раз это нашло на меня, когда тетя рассказала про Христа. Она рассказала и хотела уйти, но мы сказали:
— Расскажи еще про Иисуса Христа.
— Нет, теперь некогда.
Записки сумасшедшего
885
— Нет, расскажи,— и Митенька просил рассказать. И тетя начинала опять то же, что она рассказала нам прежде. Она рассказала, что его распяли, били, мучили, а он все молился и не осудил их.
— Тетя, за что же его мучили?
— Злые люди были.
— Да ведь он был добрый.
— Ну будет, уже девятый час. Слышите?
— За что они его били? Он простил, да за что они били. Больно было. Тетя, больно ему было?
— Ну будет, я пойду чай пить.
— А может быть, это неправда, его не били.
— Ну будет.
— Нет, нет, не уходи.
И на меня опять нашло, рыдал, рыдал, потом стал биться головой об стену.
Так это находило на меня в детстве. Но с четырнадцати лет, с тех пор как проснулась во мне половая страсть и я отдался пороку, все это прошло, и я был мальчик, как все мальчики. Как все мы, воспитанные на жирной излишней пище, изнеженные, без физического труда и со всеми возможными соблазнами для воспаления чувственности, и в среде таких же испорченных детей, мальчики моего возраста научили меня пороку, и я отдался ему. Потом этот порок заменился другим. Я стал знать женщин и так, ища наслаждений и находя их, я жил до тридцати пяти лет. Я был совершенно здоров, и не было никаких признаков моего сумасшествия. Эти двадцать лет моей здоровой жизни прошли для меня так, что я теперь ничего из них почти не помню и вспоминаю теперь с трудом и омерзением.
Как все мальчики моего круга умственно здоровые, я поступил в гимназию, потом в университет, где и кончил курс по юридическому факультету. Потом я служил немного, потом сошелся с моей теперешней женой и женился и жил в деревне, как говорится, воспитывал детей, хозяйничал и был мировым судьей. На десятом году моей женитьбы случился со мной первый припадок после моего детства.
Мы скопили с женой деньги от ее наследства и моих свидетельств за выкуп и решили купить именье. Меня очень занимало, как и должно быть, увеличение нашего состояния и желание увеличить его самым умным способом, лучше, чем другие. Я узнавал тогда везде, где продаются имения, и читал все объявления в газетах. Мне хотелось купить так, чтобы доход или лес с именья покрыл бы покупку, и я бы получил именье даром. Я искал такого дурака,
886
Л. Н. ТОЛСТОЙ
который бы не знал толку, и раз мне показалось, что я нашел такого. Именье с большими лесами продавалось в Пензенской губернии. По всему, что я разузнал, выходило, что продавец именно такой дурак и леса окупят ценность имения. Я собрался и поехал. Ехали мы сначала по железной дороге (я ехал с слугою), потом поехали на почтовых перекладных. Поездка была для меня очень веселая. Слуга, молодой, добродушный человек, был так же весел, как и я. Новые места, новые люди. Мы ехали, веселились. До места нам было двести с чем-то верст. Мы решили ехать не останавливаясь, только переменяя лошадей. Наступила ночь, мы всё ехали. Стали дремать. Я задремал, но вдруг проснулся. Мне стало чего-то страшно. И как это часто бывает, проснулся испуганный, оживленный,— кажется, никогда не заснешь. «Зачем я еду? Куда я еду?» — пришло мне вдруг в голову. Не то чтобы не нравилась мысль купить дешево имение, но вдруг представилось, что мне не нужно ни за чем в эту даль ехать, что я умру тут в чужом месте. И мне стало жутко. Сергей, слуга, проснулся, я воспользовался этим, чтоб поговорить с ним. Я заговорил о здешнем крае, он отвечал, шутил, но мне было скучно. Заговорили о домашних, о том, как мы купим. И мне удивительно было, как он весело отвечал. Всё ему было хорошо и весело, а мне всё было постыло. Но все-таки, пока я говорил с ним, мне было легче. Но кроме того, что мне скучно, жутко было, я стал чувствовать усталость, желание остановиться. Мне казалось, что войти в дом, увидать людей, напиться чаю, а главное, заснуть легче будет. Мы подъезжали к городу Арзамасу Ч
— А что, не переждать ли нам здесь? Отдохнем немножко?
— Что ж, отлично.
— Что, далеко еще до города?
— От той версты семь.
Ямщик был степенный, аккуратный и молчаливый. Он и ехал не скоро и скучно. Мы поехали. Я замолчал, мне стало легче, потому что я ждал впереди отдыха и надеялся, что там все пройдет. Ехали, ехали в темноте, ужасно мне казалось долго. Подъехали к городу. Народ весь уж спал. Показались в темноте домишки, зазвучал колокольчик и лошадиный топот, особенно отражаясь, как это бывает, около домов. Дома пошли кое-где большие белые. И все это невесело было. Я ждал станции, самовара и отдыха — лечь. Вот подъехали, наконец, к какому-то домику с столбом. Домик был белый, но ужасно мне показался грустный. Так что жутко даже стало. Я вылез потихоньку. Сергей бойко, живо вытаскивал что нужно, бегая и стуча по крыльцу. И звуки его ног наводили на меня тоску. Я вошел, был коридорчик, заспанный человек с пятном на щеке, пятно это мне
Записки сумасшедшего
887
показалось ужасным, показал комнату. Мрачная была комната. Я вошел, еще жутче мне стало.
— Нет ли комнатки, отдохнуть бы?
— Есть нумерок. Он самый.
Чисто выбеленная квадратная комнатка. Как, я помню, мучительно мне было, что комнатка эта была именно квадратная. Окно было одно, с гардинкой, красной. Стол карельской березы и диван с изогнутыми сторонами. Мы вошли. Сергей устроил самовар, залил чай. А я взял подушку и лег на диван. Я не спал, но слушал, как Сергей пил чай и меня звал. Мне страшно было встать, разгулять сон и сидеть в этой комнате страшно. Я не встал и стал задремывать. Верно, и задремал, потому что когда я очнулся, никого в комнате не было и было темно. Я был опять так же пробужден, как на телеге. Заснуть, я чувствовал, не было никакой возможности. Зачем я сюда заехал. Куда я везу себя. От чего, куда я убегаю? — Я убегаю от чего- то страшного и не могу убежать. Я всегда с собою, и я-то и мучителен себе. Я, вот он, я весь тут. Ни пензенское, ни какое именье ничего не прибавит и не убавит мне. А я-то, я-то надоел себе, несносен, мучителен себе. Я хочу заснуть, забыться и не могу. Не могу уйти от себя. Я вышел в коридор. Сергей спал на узенькой скамье, скинув руку, но спал сладко, и сторож с пятном спал. Я вышел в коридор, думая уйти от того, что мучило меня. Но оно вышло за мной и омрачало все. Мне так же, еще больше страшно было. «Да что это за глупость,— сказал я себе.— Чего я тоскую, чего боюсь». «Меня,— неслышно отвечал голос смерти.— Я тут». Мороз подрал меня по коже. Да, смерти. Она придет, она вот она, а ее не должно быть. Если бы мне предстояла действительно смерть, я не мог испытывать того, что испытывал, тогда бы я боялся. А теперь и не боялся, а видел, чувствовал, что смерть наступает, и вместе с тем чувствовал, что ее не должно быть. Все существо мое чувствовало потребность, право на жизнь и вместе с тем совершающуюся смерть. И это внутреннее раздирание было ужасно. Я попытался стряхнуть этот ужас. Я нашел подсвечник медный с свечой обгоревшей и зажег ее. Красный огонь свечи и размер ее, немного меньше подсвечника, все говорило то же. Ничего нет в жизни, а есть смерть, а ее не должно быть. Я пробовал думать о том, что занимало меня: о покупке, об жене — ничего не только веселого не было, но все это стало ничто. Все заслонял ужас за свою погибающую жизнь. Надо заснуть. Я лег было. Но только что улегся, вдруг вскочил от ужаса. И тоска, и тоска, такая же духовная тоска, какая бывает перед рвотой, только духовная. Жутко, страшно, кажется, что смерти страшно, а вспомнишь, подумаешь о жизни, то умирающей жизни страшно. Как-то жизнь и смерть
888
Л. Н. ТОЛСТОЙ
сливались в одно. Что-то раздирало мою душу на части и не могло разодрать. Еще раз прошел посмотрел на спящих, еще раз попытался заснуть, все тот же ужас красный, белый, квадратный. Рвется что-то, а не разрывается. Мучительно, и мучительно сухо и злобно, ни капли доброты я в себе не чувствовал, а только ровную, спокойную злобу на себя и на то, что меня сделало. Что меня сделало? Бог, говорят, Бог. Молиться, вспомнил я. Я давно, лет двадцать, не молился и не верил ни во что, несмотря на то, что для приличия говел каждый год. Я стал молиться. Господи помилуй, отче наш, Богородицу. Я стал сочинять молитвы. Я стал креститься и кланяться в землю, оглядываясь и боясь, что меня увидят. Как будто это развлекло меня, развлек страх, что меня увидят. И я лег. Но стоило мне лечь и закрыть глаза, как опять то же чувство ужаса толкнуло, подняло меня. Я не мог больше терпеть, разбудил сторожа, разбудил Сергея, велел закладывать, и мы поехали. На воздухе и в движении стало лучше. Но я чувствовал, что что-то новое осело мне надушу и отравило всю прежнюю жизнь.
К ночи мы приехали на место. Весь день я боролся с своей тоской и поборол ее; но в душе был страшный осадок: точно случилось со мной какое-то несчастие, и я только мог на время забывать его; но оно было там на дне души и владело мной.
Мы приехали вечером. Старичок-управляющий хотя не радостно (ему досадно было, что продается именье), но хорошо принял меня. Чистые комнатки с мягкой мебелью. Новый блестящий самовар. Крупная чайная посуда, мед к чаю. Все было хорошо. Но я, как старый забытый урок, неохотно спрашивал его об именье. Все невесело было. Ночь, однако, я заснул без тоски. Я приписал это тому, что опять на ночь молился. И потом начал жить по-прежнему; но страх этой тоски висел надо мной с тех пор всегда. Я должен был не останавливаясь и, главное, в привычных условиях жить, как ученик по привычке не думая сказывает выученный наизусть урок, так я должен был жить, чтобы не попасть опять во власть этой ужасной, появившейся в первый раз в Арзамасе тоски. Домой я вернулся благополучно, именья не купил, денег недостало, и начал жить по- прежнему, с одной только разницей, что я стал молиться и ходить в церковь. По-прежнему мне казалось, но уже не по-прежнему, как я теперь вспоминаю. Я жил прежде начатым, продолжал катиться по проложенным прежде рельсам прежней силой, но нового ничего уже не предпринимал. И в прежде начатом было уже у меня меньше участия. Мне все было скучно. Ия стал набожен. И жена замечала это и бранила и пилила меня за это. Тоски не повторялось дома. Но раз я поехал неожиданно в Москву. Днем собрался, вечером поехал.
Записки сумасшедшего
889
Было дело о процессе. Я приехал в Москву весело. Дорогой разговорились с харьковским помещиком о хозяйстве, о банках, о том, где остановиться, о театрах. Решили остановиться вместе на Московском подворье, на Мясницкой, и нынче же поехать в «Фауста». Приехали, я вошел в маленький номер. Тяжелый запах коридора был у меня в ноздрях. Дворник внес чемодан. Девушка-коридорная зажгла свечу. Свеча зажглась, потом огонь поник, как всегда бывает. В соседнем номере кашлянул кто-то — верно, старик. Девушка вышла, дворник стоял, спрашивая, не развязать ли. Огонь ожил и осветил синие с желтыми полосками обои, перегородку, облезший стол, диванчик, зеркало, окно и узкий размер всего номера. И вдруг арзамасский ужас шевельнулся во мне. «Боже мой, как я буду ночевать здесь»,— подумал я.
— Развяжи, пожалуйста, голубчик,— сказал я дворнику, чтоб задержать его. «Оденусь поскорей, и в театр».
Дворник развязал.
— Пожалуйста, голубчик, зайди к барину в восьмой номер, со мной приехал, скажи, что я сейчас готов и приду к нему.
Дворник вышел, я стал торопиться одеваться, боясь взглянуть на стены. «Что за вздор,— подумал я,— чего я боюсь, точно дитя. Привидений я не боюсь. Да, привидений... лучше бы бояться привидений, чем того, чего я боюсь.— Чего? Ничего... Себя... Ну вздор». Я, однако, надел жесткую, холодную крахмальную рубашку, засунул запонки, надел сюртук, новые ботинки и пошел к харьковскому помещику. Он был готов. Мы поехали в «Фауста». Он еще заехал завиться. Я обстригся у француза, поболтал с французом, купил перчатки, все было хорошо. Я забыл совсем номер продолговатый и перегородку. В театре было тоже приятно. После театра харьковский помещик предложил заехать поужинать. Это было вне моих привычек, но когда мы вышли из театра и он предложил мне это, я вспомнил о перегородке и согласился.
Во втором часу мы вернулись домой. Я выпил непривычные два стакана вина; но был весел. Но только что мы вошли в коридор с завернутой лампой и меня охватил запах гостиницы, холод ужаса пробежал мне по спине. Но делать было нечего. Я пожал руку товарищу и вошел в номер.
Я провел ужасную ночь, хуже арзамасской, только утром, когда уже за дверью стал кашлять старик, я заснул, и не в постели, в которую я ложился несколько раз, а на диване. Всю ночь я страдал невыносимо, опять мучительно разрывалась душа с телом. «Я живу, жил, я должен жить, и вдруг смерть, уничтожение всего. Зачем же жизнь? Умереть? Убить себя сейчас же? Боюсь. Дожидаться смерти, когда
890
Л. Н. ТОЛСТОЙ
придет? Боюсь еще хуже. Жить, стало быть? Зачем? Чтоб умереть». Я не выходил из этого круга. Я брал книгу, читал. На минуту забывался, и опять тот же вопрос и ужас. Я ложился в постель, закрывал глаза. Еще хуже. Бог сделал это. Зачем? Говорят: не спрашивай, а молись. Хорошо, я молился. Я и теперь молился, опять как в Арзамасе; но там и после я просто молился по-детски. Теперь же молитва имела смысл. «Если ты есть, открой мне: зачем, что я такое?» Я кланялся, читал все молитвы, которые знал, сочинял свои и прибавлял: «Так открой же». И я затихал и ждал ответа. Но ответа не было, как будто и не было никого, кто бы мог отвечать. И я оставался один, сам с собой. И я давал себе ответы заместо того, кто не хотел отвечать. Затем, чтобы жить в будущей жизни, отвечал я себе. Так зачем же эта неясность, это мученье? Не могу верить в будущую жизнь. Я верил, когда не всей душой спрашивал, а теперь не могу, не могу. Если бы ты был, ты бы сказал мне, людям. А нет тебя, есть одно отчаяние. А я не хочу, не хочу его. Я возмутился. Я просил его открыть мне истину, открыть мне себя. Я делал всё, что все делают, но он не открывался. Просите, и дастся вам, вспомнилось мне, и я просил. И в этом прошении я находил не утешение, а отдохновение. Может быть, я не просил, я отказался от него. «Ты на пядень, а он от тебя на сажень». Я не верил в него, но просил, и он все-таки не открыл мне ничего. Я считался с ним и осуждал его, просто не верил.
На другой день я все силы употребил, чтобы покончить обыденкой все дела и избавиться от ночи и в номере. Я не кончил всего и вернулся домой в ночь. Тоски не было. Эта московская ночь изменила еще больше мою жизнь, начавшую изменяться с Арзамаса. Я еще тоньше стал заниматься делами, и на меня находила апатия. Я стал слабеть и здоровьем. Жена требовала, чтоб я лечился. Она говорила, что мои толки о вере, о Боге происходили от болезни. Я же знал, что моя слабость и болезнь происходили от неразрешенного вопроса но мне. Я старался не давать ходу этому вопросу и в привычных условиях старался наполнять жизнь. Я ходил и церковь по воскресеньям и праздникам, я говел, постился даже, как я это завел с поездки в Пензу, и молился, но больше как обычай. Я не ждал ничего от этого, как бы не разрывал векселя и протестовал его в сроки, несмотря на то, что знал невозможность получить по векселю. Делал это только на всякий случай. Жизнь же свою я наполнял не хозяйством, оно отталкивало меня своей борьбой — энергии не было,— а чтением журналов, газет, романов, картами по маленькой, и единственное проявление моей энергии была охота по старой привычке. Я всю жизнь был охотник. Раз приехал зимой сосед-охотник с гончими на волков. Я поехал с ним. На месте мы
Записки сумасшедшего
891
стали на лыжи и пошли на место. Охота была неудачна, волки прорвались сквозь облаву. Я услыхал это издалека и пошел по лесу следить свежий заячий след. Следы увели меня далеко на поляну. На поляне я нашел его. Он вскочил так, что я не видал. Я пошел назад. Пошел назад крупным лесом. Снег был глубок, лыжи вязли, сучки путались. Все глуше и глуше стало. Я стал спрашивать, где я, снег изменял все. И я вдруг почувствовал, что я потерялся. До дома, до охотников далеко, ничего не слыхать. Я устал, весь в поту. Остановиться — замерзнешь. Идти — силы слабеют. Я покричал, все тихо. Никто не откликнулся. Я пошел назад. Опять не то. Я поглядел. Кругом лес, не разберешь, где восток, где запад. Я опять пошел назад. Ноги устали. Я испугался, остановился, и на меня нашел весь арзамасский и московский ужас, но в сто раз больше. Сердце колотилось, руки, ноги дрожали. Смерть здесь? Не хочу. Зачем смерть? Что смерть? Я хотел по-прежнему допрашивать, упрекать Бога, но тут я вдруг почувствовал, что я не смею, не должен, что считаться с ним нельзя, что он сказал, что нужно, что я один виноват. И я стал молить его прощенья и сам себе стал гадок. Ужас продолжался недолго. Я постоял, очнулся и пошел в одну сторону и скоро вышел. Я был недалеко от края. Я вышел на край, на дорогу. Руки и ноги все так же дрожали и сердце билось. Но мне радостно было. Я дошел до охотников, мы вернулись домой. Я был весел, но знал, что у меня есть что-то радостное, что я разберу, когда останусь один. Так и случилось. Я остался один в своем кабинетце и стал молиться, прося прощенья и вспоминая свои грехи. Их мне казалось мало. Но я вспомнил их, и они мне все гадки стали.
С тех пор я начал читать Священное писание. Библия была мне непонятна, соблазнительна, Евангелие умиляло меня. Но больше всего я читал жития святых. И это чтение утешало меня, представляя примеры, которые все возможнее и возможнее казались для подражания. С этого времени еще меньше и меньше меня занимали дела и хозяйственные и семейные. Они даже отталкивали меня. Все не то казалось мне. Как, что было то, я не знал, но то, что было моей жизнью, переставало быть ею. Опять на покупке имения я узнал это. Продавалось недалеко от нас очень выгодно именье. Я поехал, все было прекрасно, выгодно. Особенно выгодно было то, что у крестьян земли было только огороды. Я понял, что они должны были задаром за пастьбу убирать поля помещика, так оно и было. Я все это оценил, все это мне понравилось по старой привычке. Но я поехал домой, встретил старуху, спрашивал о дороге, поговорил с ней. Она рассказала о своей нужде. Я приехал домой и, когда стал рассказывать жене о выгодах именья, вдруг
892
Л. н. ТОЛСТОЙ
устыдился. Мне мерзко стало. Я сказал, что не могу купить этого именья, потому что выгода наша будет основана на нищете и горе людей. Я сказал это, и вдруг меня просветила истина того, что я сказал. Главное, истина того, что мужики так же хотят жить, как мы, что они люди — братья, сыны Отца, как сказано в Евангелии. Вдруг как что-то давно щемившее меня, оторвалось у меня, точно родилось. Жена сердилась, ругала меня. А мне стало радостно. Это было начало моего сумасшествия. Но полное сумасшествие мое началось еще позднее, через месяц после этого. Оно началось с того, что я поехал в церковь, стоял обедню и хорошо молился и слушал, и был умилен. И вдруг мне принесли просвиру, потом пошли к кресту, стали толкаться, потом на выходе нищие были. И мне вдруг ясно стало, что этого всего не должно быть. Мало того, что этого не должно быть, что этого нет, а нет этого, то нет и смерти и страха, и нет во мне больше прежнего раздирания, и я не боюсь уже ничего. Тут уже совсем свет осветил меня, и я стал тем, что есть. Если нет этого ничего, то нет прежде всего во мне. Тут же на паперти я роздал, что у меня было, тридцать шесть рублей, нищим и пошел домой пешком, разговаривая с народом.
Ф.М. ДОСТОЕВСКИЙ
Бесы
<Фрагмент>
Часть вторая
ГЛАВА ПЕРВАЯ Ночь
I
Прошло восемь дней. Теперь, когда уже всё прошло, и я пишу хронику, мы уже знаем в чем дело; но тогда мы еще ничего не знали, и естественно, что нам представлялись странными разные вещи. По крайней мере мы со Степаном Трофимовичем в первое время заперлись и с испугом наблюдали издали. Я-то кой-куда еще выходил и попрежнему приносил ему разные вести, без чего он и пробыть не мог.
Нечего и говорить, что по городу пошли самые разнообразные слухи, то-есть насчет пощечины, обморока Лизаветы Николаевны и прочего случившегося в то воскресенье. Но удивительно нам было то: через кого это всё могло так скоро и точно выйти наружу? Ни одно из присутствовавших тогда лиц не имело бы, кажется, ни нужды, ни выгоды нарушить секрет происшедшего. Прислуги тогда не было; один Лебядкин мог бы что-нибудь разболтать, не столько по злобе, потому что вышел тогда в крайнем испуге (а страх к врагу уничтожает и злобу к нему), а единственно по невоздержности. Но Лебядкин, вместе с сестрицей, на другой же день пропал без вести; в доме Филиппова его не оказалось, он переехал неизвестно куда и точно сгинул. Шатов, у которого я хотел было справиться о Марье Тимофеевне, заперся и, кажется, все эти восемь дней просидел у себя на квартире, даже прервав свои занятия в городе. Меня он не принял. Я было зашел к нему во вторник и стукнул в дверь. Ответа не получил, но уверенный, по несомненным данным, что он дома, постучался в другой раз. Тогда он, соскочив повидимому с постели, подошел крупными шагами к дверям и крикнул мне во весь голос: «Шатова дома нет». Я с тем и ушел.
Мы со Степаном Трофимовичем, не без страха за смелость предположения, но обоюдно ободряя друг друга, остановились наконец на одной мысли: мы решили, что виновником разошедшихся слухов мог быть
894
Ф.М.ДОСТОЕВСКИЙ
один только Петр Степанович, хотя сам он некоторое время спустя, в разговоре с отцом, уверял, что застал уже историю во всех устах, преимущественно в клубе, и совершенно известною до мельчайших подробностей губернаторше и ее супругу. Вот что еще замечательно: на второй же день, в понедельник ввечеру, я встретил Липутина, и он уже знал всё до последнего слова, стало быть, несомненно узнал из первых.
Многие из дам (и из самых светских) любопытствовали и о «загадочной хромоножке», так называли Марью Тимофеевну. Нашлись даже пожелавшие непременно увидать ее лично и познакомиться, так что господа, поспешившие припрятать Лебядкиных, очевидно поступили и кстати. Но на первом плане всё-таки стоял обморок Лизаветы Николаевны, и этим интересовался «весь свет», уже по тому одному, что дело прямо касалось Юлии Михайловны как родственницы Лизаветы Николаевны и ее покровительницы. И чего-чего ни болтали! Болтовне способствовала и таинственность обстановки: оба дома, были заперты наглухо; Лизавета Николаевна, как рассказывали, лежала в белой горячке; то же утверждали и о Николае Всеволодовиче, с отвратительными подробностями о выбитом будто бы зубе и о распухшей от флюса щеке его. Говорили даже по уголкам, что у нас может быть будет убийство, что Ставрогин не таков, чтобы снести такую обиду, и убьет Шатова, но таинственно, как в корсиканской вендетте. Мысль эта нравилась; но большинство нашей светской молодежи выслушивало всё это с презрением и с видом самого пренебрежительного равнодушия, разумеется, напускного. Вообще древняя враждебность нашего общества к Николаю Всеволодовичу обозначилась ярко. Даже солидные люди стремились обвинить его, хотя и сами не знали в чем. Шепотом рассказывали, что будто бы он погубил честь Лизаветы Николаевны, и что между ними была интрига в Швейцарии. Конечно осторожные люди сдерживались, но все однако же слушали с аппетитом. Были и другие разговоры, но не общие, а частные, редкие и почти закрытые, чрезвычайно странные и о существовании которых я упоминаю лишь для предупреждения читателей, единственно в виду дальнейших событий моего рассказа. Именно: говорили иные, хмуря брови и бог знает на каком основании, что Николай Всеволодович имеет какое-то особенное дело в нашей губернии, что он чрез графа К. вошел в Петербурге в какие- то высшие отношения, что он даже, может быть, служит и чуть ли не снабжен от кого-то какими-то поручениями. Когда очень уж солидные и сдержанные люди на этот слух улыбались, благоразумно замечая, что человек, живущий скандалами и начинающий у нас с флюса, не похож на чиновника, то им шепотом замечали, что слу-
Бесы <Фрагмент>
895
жит он не то чтоб оффициально, а так сказать конфиденциально, и что в таком случае самою службой требуется, чтобы служащий как можно менее походил на чиновника. Такое замечание производило эффект; у нас известно было, что на земство нашей губернии смотрят в столице с некоторым особым вниманием. Повторю, эти слухи только мелькнули и исчезли бесследно, до времени, при первом появлении Николая Всеволодовича; но замечу, что причиной многих слухов было отчасти несколько кратких, но злобных слов, неясно и отрывисто произнесенных в клубе недавно возвратившимся из Петербурга отставным капитаном гвардии Артемием Павловичем Гагановым, весьма крупным помещиком нашей губернии и уезда, столичным светским человеком и сыном покойного Павла Павловича Гаганова, того самого почтенного старшины, с которым Николай Всеволодович имел, четыре слишком года тому назад, то необычайное по своей грубости и внезапности столкновение, о котором я уже упоминал прежде, в начале моего рассказа.
Всем тотчас же стало известно, что Юлия Михайловна сделала Варваре Петровне чрезвычайный визит, и что у крыльца дома ей объявили, что «по нездоровью не могут принять». Также и то, что дня через два после своего визита Юлия Михайловна посылала узнать о здоровье Варвары Петровны нарочного. Наконец принялась везде «защищать» Варвару Петровну, конечно лишь в самом высшем смысле, то есть по возможности в самом неопределенном. Все же первоначальные торопливые намеки о воскресной истории выслушала строго и холодно, так что в последующие дни, в ее присутствии, они уже не возобновлялись. Таким образом и укрепилась везде мысль, что Юлии Михайловне известна не только вся эта таинственная история, но и весь ее таинственный смысл до мельчайших подробностей, и не как посторонней, а как соучастнице. Замечу кстати, что она начала уже приобретать у нас, помаленьку, то высшее влияние, которого так несомненно добивалась и жаждала, и уже начинала видеть себя «окруженною». Часть общества признала за нею практический ум и такт... но об этом после. Ее же покровительством объяснялись отчасти и весьма быстрые успехи Петра Степановича в нашем обществе,— успехи, особенно поразившие тогда Степана Трофимовича.
Мы с ним может быть и преувеличивали. Во-первых, Петр Степанович перезнакомился почти мгновенно со всем городом, в первые же четыре дня после своего появления. Появился он в воскресенье, а во вторник я уже встретил его в коляске с Артемием Павловичем Гагановым, человеком гордым, раздражительным и заносчивым, несмотря на всю его светскость, и с которым, по характеру его, довольно трудно было ужиться. У губернатора Петр Степанович был
896
Ф.М. ДОСТОЕВСКИЙ
тоже принят прекрасно, до того, что тотчас же стал в положение близкого или так-сказать обласканного молодого человека; обедал у Юлии Михайловны почти ежедневно. Познакомился он с нею еще в Швейцарии, но в быстром успехе его в доме его превосходительства действительно заключалось нечто любопытное. Всё-таки он слыл же когда-то заграничным революционером, правда ли, нет ли, участвовал в каких-то заграничных изданиях и конгрессах, «что можно даже из газет доказать», как злобно выразился мне при встрече Алеша Телятников, теперь, увы, отставной чиновничек, а прежде тоже обласканный молодой человек в доме старого губернатора. Но тут стоял однако же факт: бывший революционер явился в любезном отечестве не только без всякого беспокойства, но чуть ли не с поощрениями; стало быть, ничего, может, и не было. Липутин шепнул мне раз, что, по слухам, Петр Степанович будто бы где-то принес покаяние и получил отпущение, назвав несколько прочих имен, и таким образом, может, и успел уже заслужить вину, обещая и впредь быть полезным отечеству. Я передал эту ядовитую фразу Степану Трофимовичу, и тот, несмотря на то, что был почти не в состоянии соображать, сильно задумался. Впоследствии обнаружилось, что Петр Степанович приехал к нам с чрезвычайно почтенными рекомендательными письмами, по крайней мере привез одно к губернаторше от одной чрезвычайно важной петербургской старушки, муж которой был одним из самых значительных петербургских старичков. Эта старушка, крестная мать Юлии Михайловны, упоминала в письме своем, что и граф К. хорошо знает Петра Степановича, чрез Николая Всеволодовича, обласкал его и находит «достойным молодым человеком, несмотря на бывшие заблуждения». Юлия Михайловна до крайности ценила свои скудные и с таким трудом поддерживаемые связи с «высшим миром» и уж конечно была рада письму важной старушки; но всё- таки оставалось тут нечто как бы и особенное. Даже супруга своего поставила к Петру Степановичу в отношения почти фамилиарные, так что г. фон-Лембке жаловался... но об этом тоже после. Замечу тоже для памяти, что и великий писатель весьма благосклонно отнесся к Петру Степановичу и тотчас же пригласил его к себе. Такая поспешность такого надутого собою человека кольнула Степана Трофимовича больнее всего; но я объяснил себе иначе: зазывая к себе нигилиста, г. Кармазинов уж конечно имел в виду сношения его с прогрессивными юношами обеих столиц. Великий писатель болезненно трепетал пред новейшею революционною молодежью и, воображая, по незнанию дела, что в руках ее ключи русской будущности, унизительно к ним подлизывался, главное потому что они не обращали на него никакого внимания.
Бесы. <Фрагмент>
897
II
Петр Степанович забежал раза два и к родителю, и, к несчастию моему, оба раза в мое отсутствие. В первый раз посетил его в среду, то- есть на четвертый лишь день после той первой встречи, да и то по делу. Кстати, расчет по имению окончился у них как-то неслышно и невидно. Варвара Петровна взяла всё на себя и всё выплатила, разумеется, приобретя землицу, а Степана Трофимовича только уведомила о том, что всё кончено, и уполномоченный Варвары Петровны, камердинер ее Алексей Егорович, поднес ему что-то подписать, что он и исполнил молча и с чрезвычайным достоинством. Замечу по поводу достоинства, что я почти не узнавал нашего прежнего старички в эти дни. Он держал себя как никогда прежде, стал удивительно молчалив, даже не написал ни одного письма Варваре Петровне с самого воскресенья, что я счел бы чудом, а главное стал спокоен. Он укрепился на какой-то окончательной и чрезвычайной идее, придававшей ему спокойствие, это было видно. Он нашел эту идею, сидел и чего-то ждал. Сначала впрочем был болен, особенно в понедельник; была холерина. Тоже и без вестей пробыть не мог во всё время; но лишь только я, оставляя факты, переходил к сути дела и высказывал какие-нибудь предположения, то он тотчас же начинал махать на меня руками, чтоб я перестал. Но оба свидания с сынком всё-таки болезненно на него подействовали, хотя и не поколебали. В оба эти дня, после свиданий, он лежал на диване, обмотав голову платком, намоченным в уксусе; но в высшем смысле продолжал оставаться спокойным.
Иногда, впрочем, он и не махал на меня руками. Иногда тоже казалось мне, что принятая таинственная решимость как бы оставляла его, и что он начинал бороться с каким-то новым соблазнительным наплывом идей. Это было мгновениями, но я отмечаю их. Я подозревал, что ему очень бы хотелось опять заявить себя, выйти из уединения, предложить борьбу, задать последнюю битву.
— Cher, я бы их разгромил! — вырвалось у него в четверг вечером, после второго свидания с Петром Степановичем, когда он лежал, протянувшись на диване, с головой, обернутою полотенцем.
До этой минуты он во весь день еще ни слова не сказал со мной.
— «Fils, fils chéri» и так далее, я согласен, что все эти выражения вздор, кухарочный словарь, да и пусть их, я сам теперь вижу. Я его не кормил и не поил, я отослал его из Берлина в-скую губернию, грудного ребенка, по почте, ну и так далее, я согласен... «Ты, говорит, меня не поил и по почте выслал, да еще здесь ограбил». Но, несчастный, кричу ему, ведь болел же я за тебя сердцем всю мою жизнь, хотя
898
Ф.М. ДОСТОЕВСКИЙ
и по почте! Il rit. Но я согласен, согласен... пусть по почте,— закончил он как в бреду.
— Passons,— начал он опять через пять минут.— Я не понимаю Тургенева. У него Базаров это какое-то фиктивное лицо, не существующее вовсе; они же первые и отвергли его тогда, как ни на что не похожее. Этот Базаров это какая-то неясная смесь Ноздрева с Байроном, c’est le mot! Посмотрите на них внимательно: они кувыркаются и визжат от радости как щенки на солнце, они счастливы, они победители! Какой тут Байрон!.. И при том какие будни! Какая кухарочная раздражительность самолюбия, какая пошленькая жаждишка faire du bruit autour de son nom, не замечая, что son nom... О, карикатура! Помилуй, кричу ему, да неужто ты себя такого как есть людям взамен Христа предложить желаешь? Il rit. Il rit beaucoup, il rit trop. У него какая-то странная улыбка. У его матери не было такой улыбки. Il rit toujours.
Опять наступило молчание.
— Они хитры; в воскресенье они сговорились...— брякнул он вдруг.
— О, без сомнения,— вскричал я, навострив уши,— всё это стачка и сшито белыми нитками, и так дурно разыграно.
— Я не про то. Знаете ли, что всё это было нарочно сшито белыми нитками, чтобы заметили те... кому надо. Понимаете это?
— Нет, не понимаю.
— Tant mieux. Passons. Я очень раздражен сегодня.
— Да зачем же вы с ним спорили, Степан Трофимович? — проговорил я укоризненно.
— Je voulais convertir. Конечно смейтесь. Cette pauvre тётя, elle entendra de belles choses! О, друг мой, поверите ли, что я давеча ощутил себя патриотом! Впрочем я всегда сознавал себя русским... да настоящий русский и не может быть иначе, как мы с вами. Il у а 1а dedans quelque chose d’aveugle et de louche.
— Непременно,— ответил я.
— Друг мой, настоящая правда всегда не правдоподобна, знаете ли вы это? Чтобы сделать правду правдоподобнее, нужно непременно подмешать к ней лжи. Люди всегда так и поступали. Может быть, тут есть, чего мы не понимаем. Как вы думаете, есть тут, чего мы не понимаем в этом победоносном визге? Я бы желал, чтобы было. Я бы желал.
Я промолчал. Он тоже очень долго молчал.
— Говорят, французский ум...— залепетал он вдруг точно в жару,— это ложь, это всегда так и было. Зачем клеветать на французский ум? Тут просто русская лень, наше унизительное бессилие произвести
Бесы. <Фрагмент
899
идею, наше отвратительное паразитство в ряду народов. Ils sont tout simplement des paresseux, a не французский ум. О, русские должны бы быть истреблены для блага человечества как вредные паразиты! Мы вовсе, вовсе не к тому стремились; я ничего не понимаю. Я перестал понимать! Да понимаешь ли, кричу ему, понимаешь ли, что если у вас гильйотина на первом плане и с таким восторгом, то это единственно потому, что рубить головы всего легче, а иметь идею всего труднее! Vous êtes des paresseux! Votre drapeau est une guenille, une impuissance. Эти телеги, или как там: «стук телег, подвозящих хлеб человечеству», полезнее Сикстинской Мадонны, или как у них там... une bêtise dans ce genre. Но понимаешь ли, кричу ему, понимаешь ли ты, что человеку кроме счастья так же точно и совершенно во столько же необходимо и несчастие! Il rit. Ты, говорит, здесь бонмо отпускаешь, «нежасвои члены (он пакостнее выразился) на бархатном диване»... И заметьте, эта наша привычка на ты отца с сыном; хорошо, когда оба согласны, ну, а если ругаются? С минуту опять помолчали.
— Cher,— заключил он вдруг, быстро приподнявшись,— знаете ли, что это непременно чем-нибудь кончится?
— Уж конечно,— сказал я.
— Vous ne comprenez pas. Passons. Но... обыкновенно на свете кончается ничем, но здесь будет конец, непременно, непременно!
Он встал, прошелся по комнате в сильнейшем волнении и, дойдя опять до дивана, бессильно повалился на него. В пятницу утром Петр Степанович уехал куда-то в уезд и пробыл до понедельника. Об отъезде его я узнал от Липутина, и тут же, как-то к разговору, узнал от него, что Лебядкины, братец и сестрица, оба где-то за рекой, в Горшечной слободке. «Яже и перевозил», прибавил Липутин, и, прервав о Лебядкиных, вдруг возвестил мне, что Лизавета Николаевна выходит за Маврикия Николаевича, и хоть это и не объявлено, но помолвка была и дело покончено. Назавтра я встретил Лизавету Николаевну верхом в сопровождении Маврикия Николаевича, выехавшую в первый раз после болезни. Она сверкнула на меня издали глазами, засмеялась и очень дружески кивнула головой. Всё это я передал Степану Трофимовичу; он обратил некоторое внимание лишь на известие о Лебядкиных.
А теперь, описав наше загадочное положение в продолжение этих восьми дней, когда мы еще ничего не знали, приступлю к описанию последующих событий моей хроники, и уже, так сказать, с знанием дела, в том виде, как всё это открылось и объяснилось теперь. Начну именно с восьмого дня после того воскресенья, то-есть с понедельника вечером — потому что в сущности с этого вечера и началась «новая история».
900
Ф.М. ДОСТОЕВСКИЙ
III
Было семь часов вечера. Николай Всеволодович сидел один в своем кабинете,— комнате им еще прежде излюбленной, высокой, устланной коврами, уставленной несколько тяжелою, старинного фасона мебелью. Он сидел в углу на диване, одетый как бы для выхода, но, казалось, никуда не собирался, На столе пред ним стояла лампа с абажуром. Бока и углы большой комнаты оставались в тени. Взгляд его был задумчив и сосредоточен, не совсем спокоен; лицо усталое и несколько похудевшее. Болен он был действительно флюсом; но слух о выбитом зубе был преувеличен. Зуб только шатался, но теперь снова окреп; была тоже рассечена изнутри верхняя губа, но и это зажило. Флюс же не проходил всю неделю лишь потому, что больной не хотел принять доктора и вовремя дать разрезать опухоль, а ждал, пока нарыв сам прорвется. Он не только доктора, но и мать едва допускал к себе, и то на минуту, один раз на дню и непременно в сумерки, когда уже становилось темно, а огня еще не подавали. Не принимал он тоже и Петра Степановича, который однако же по два и по три раза в день забегал к Варваре Петровне, пока оставался в городе. И вот наконец в понедельник, возвратясь поутру после своей трехдневной отлучки, обегав весь город и отобедав у Юлии Михайловны, Петр Степанович к вечеру явился наконец к нетерпеливо ожидавшей его Варваре Петровне. Запрет был снят, Николай Всеволодович принимал. Варвара Петровна сама подвела гостя к дверям кабинета; она давно желала их свиданья, а Петр Степанович дал ей слово забежать к ней от Nicolas и пересказать. Робко постучалась она к Николаю Всеволодовичу и, не получая ответа, осмелилась приотворить дверь вершка на два.
— Nicolas, могу я ввести к тебе Петра Степановича? — тихо и сдержанно спросила она, стараясь разглядеть Николая Всеволодовича из-за лампы.
— Можно, можно, конечно можно! — громко и весело крикнул сам Петр Степанович, отворил дверь своею рукой и вошел.
Николай Всеволодович не слыхал стука в дверь, а расслышал лишь только робкий вопрос мамаши, но не успел на него ответить. Пред ним в эту минуту лежало только что прочитанное им письмо, над которым он сильно задумался. Он вздрогнул, заслышав внезапный окрик Петра Степановича, и поскорее накрыл письмо попавшимся под руку преспапье, но не совсем удалось: угол письма и почти весь конверт выглядывали наружу.
— Я нарочно крикнул изо всей силы, чтобы вы успели приготовиться,— торопливо с удивительною наивностью прошептал Петр
Бесы <Фрагмент>
901
Степанович, подбегая к столу, и мигом уставился на преспапье и на угол письма.
— И конечно успели подглядеть, как я прятал от вас под преспапье только что полученное мною письмо,— спокойно проговорил Николай Всеволодович, не трогаясь с места.
— Письмо? Бог с вами и с вашим письмом, мне что! — воскликнул гость,— но... главное,— зашептал он опять, обертываясь к двери, уже запертой, и кивая в ту сторону головой.
— Она никогда не подслушивает,— холодно заметил Николай Всеволодович.
— To-есть если б и подслушивала! — мигом подхватил, весело возвышая голос и усаживаясь в кресло, Петр Степанович.— Я ничего против этого, я только теперь бежал поговорить наедине... Ну, наконец-то я к вам добился! Прежде всего как здоровье? Вижу, что прекрасно, и завтра, может быть, вы явитесь,— а?
— Может быть.
— Разрешите их наконец, разрешите меня! — неистово зажестикулировал он с шутливым и приятным видом.— Если б вы знали, что я должен был им наболтать. А впрочем вы знаете.— Он засмеялся.
— Всего не знаю. Я слышал только от матери, что вы очень... двигались.
— To-есть я ведь ничего определенного,— вскинулся вдруг Петр Степанович, как бы защищаясь от ужасного нападения,— знаете, я пустил в ход жену Шатова, то-есть слухи о ваших связях в Париже, чем и объяснялся конечно тот случай в воскресенье... вы не сердитесь?
— Убежден, что вы очень старались.
— Ну, я только этого и боялся. А впрочем что ж это значит: «очень старались»? Это ведь упрек. Впрочем вы прямо ставите, я всего больше боялся, идя сюда, что вы не захотите прямо поставить.
— Я ничего и не хочу прямо ставить,— проговорил Николай Всеволодович с некоторым раздражением, но тотчас же усмехнулся.
— Я не про то; не про то, не ошибитесь, не про то! — замахал руками Петр Степанович, сыпля словами как горохом и тотчас же обрадовавшись раздражительности хозяина.— Я не стану вас раздражать нашим делом, особенно в вашем теперешнем положении. Я прибежал только о воскресном случае, и то в самую необходимую меру, потому нельзя же ведь. Я с самыми открытыми объяснениями, в которых нуждаюсь главное я, а не вы,— это для вашего самолюбия, но в то же время это и правда. Я пришел, чтобы быть с этих пор всегда откровенным.
— Стало быть, прежде были неоткровенны?
— И вы это знаете сами. Я хитрил много раз... вы улыбнулись, очень рад улыбке, как предлогу для разъяснения; я ведь нарочно
902
Ф.М. ДОСТОЕВСКИЙ
вызвал улыбку хвастливым словом «хитрил», для того, чтобы вы тотчас же и рассердились: как это я смел подумать, что могу хитрить, а мне, чтобы сейчас же объясниться. Видите, видите, как я стал теперь откровенен! Ну-с, угодно вам выслушать?
В выражении лица Николая Всеволодовича, презрительно спокойном и даже насмешливом, несмотря на все очевидное желание гостя раздражить хозяина нахальностию своих заранее наготовленных и с намерением грубых наивностей,— выразилось наконец несколько тревожное любопытство.
— Слушайте же,— завертелся Петр Степанович пуще прежнего.— Отправляясь сюда, то-есть вообще сюда, в этот город, десять дней назад, я конечно решился взять роль. Самое бы лучшее совсем без роли, свое собственное лицо, не так ли? Ничего нет хитрее, как собственное лицо, потому что никто не поверит. Я, признаться, хотел было взять дурачка, потому что дурачек легче, чем собственное лицо; но так как дурачек всё-таки крайность, а крайность возбуждает любопытство, то я и остановился на собственном лице окончательно. Ну-с, какое же мое собственное лицо? Золотая средина: ни глуп, ни умен, довольно бездарен и с луны соскочил, как говорят здесь благоразумные люди, не так ли?
— Что ж, может быть и так,— чуть-чуть улыбнулся Николай Всеволодович.
— А, вы согласны — очень рад; я знал вперед, что это ваши собственные мысли... Не беспокойтесь, не беспокойтесь, я не сержусь и вовсе не для того определил себя в таком виде, чтобы вызвать ваши обратные похвалы: «нет, дескать, вы не бездарны, нет, дескать, вы умны»... А, вы опять улыбаетесь!.. Я опять попался. Вы не сказали бы: «вы умны», ну и положим; я всё допускаю. Passons, как говорит папаша, и, в скобках, не сердитесь на мое многословие. Кстати вот и пример: я всегда говорю много, то-есть много слов, и тороплюсь, и у меня всегда не выходит. А почему я говорю много слов и у меня не выходит? Потому что говорить не умею. Те, которые умеют хорошо говорить, те коротко говорят. Вот, стало быть, у меня и бездарность,— не правда ли? Но так как этот дар бездарности у меня уже есть натуральный, так почему мне им не воспользоваться искусственно? Я и пользуюсь. Правда, собираясь сюда, я было подумал сначала молчать; но ведь молчать — большой талант, и, стало быть, мне неприлично, а во-вторых, молчать всё-таки ведь опасно; ну я и решил окончательно, что лучше всего говорить, но именно по-бездарному, то-есть много, много, много, очень торопиться доказывать и под конец всегда спутаться в своих собственных доказательствах, так чтобы слушатель отошел от вас без конца, разведя руки, а всего бы
Бесы. <Фрагмент>
903
лучше плюнув. Выйдет, во-первых, что вы уверили в своем простодушии, очень надоели и были непоняты — все три выгоды разом! Помилуйте, кто после этого станет вас подозревать в таинственных замыслах? Да всякий из них лично обидится пятого, кто скажет, что я с тайными замыслами. Аяк тому же иногда рассмешу — а это уж драгоценно. Да они мне теперь всё простят уже за то одно, что мудрец, издававший там прокламации, оказался здесь глупее их самих, не так ли? По вашей улыбке вижу, что одобряете.
Николай Всеволодович вовсе, впрочем, не улыбался, а напротив слушал нахмуренно и несколько нетерпеливо.
— А? Что? Вы, кажется, сказали: «всё равно»? — затрещал Петр Степанович (Николай Всеволодович вовсе ничего не говорил).— Конечно, конечно; уверяю вас, что я вовсе не для того, чтобы вас товариществом компрометировать. А знаете, вы ужасно сегодня вскидчивы; я к вам прибежал с открытою и веселою душой, а вы каждое мое словцо в лыко ставите; уверяю же вас, что сегодня ни о чем щекотливом не заговорю, слово даю, и на все ваши условия заранее согласен!
Николай Всеволодович упорно молчал.
— А? Что? Вы что-то сказали? Вижу, вижу, что я опять, кажется, сморозил; вы не предлагали условий, да и не предложите, верю, верю, ну успокойтесь; я и сам ведь знаю, что мне не стоит их предлагать, так ли? Я за вас вперед отвечаю и — уж конечно от бездарности; бездарность и бездарность... Вы смеетесь? А? Что?
— Ничего,— усмехнулся наконец Николай Всеволодович,— я припомнил сейчас, что действительно обозвал вас как-то бездарным, но вас тогда не было, значит, вам передали... Я бы вас просил поскорее к делу.
— Да, я ведь у дела и есть, я именно по поводу воскресенья! — залепетал Петр Степанович,— ну чем, чем я был в воскресенье, как по-вашему? Именно торопливою срединною бездарностию, и я самым бездарнейшим образом овладел разговором силой. Но мне всё простили, потому что я, во-первых, с луны, это, кажется, здесь теперь у всех решено; а во-вторых, потому, что милую историйку рассказал и всех вас выручил, так ли, так ли?
— То-есть именно так рассказали, чтоб оставить сомнение и выказать нашу стачку и подтасовку, тогда как стачки не было, и я вас ровно ни о чем не просил.
— Именно, именно! — как бы в восторге подхватил Петр Степанович.— Я именно так и делал, чтобы вы всю пружину эту заметили; я ведь для вас, главное, и ломался, потому что вас ловил и хотел компрометировать. Я, главное, хотел узнать, в какой степени вы боитесь.
904
Ф.М. ДОСТОЕВСКИЙ
— Любопытно, почему вы так теперь откровенны?
— Не сердитесь, не сердитесь, не сверкайте глазами. Впрочем вы не сверкаете. Вам любопытно, почему я так откровенен? Да именно потому, что всё теперь переменилось, кончено, прошло и песком заросло. Я вдруг переменил об вас свои мысли. Старый путь кончен совсем; теперь я уже никогда не стану вас компрометировать старым путем, теперь новым путем.
— Переменили тактику?
— Тактики нет. Теперь во всем ваша полная воля, то-есть хотите сказать да, а хотите, скажете нет. Вот моя новая тактика. А о нашем деле не заикнусь до тех самых пор, пока сами не прикажете. Вы смеетесь? На здоровье; я и сам смеюсь. Но я теперь серьезно, серьезно, серьезно, хотя тот, кто так торопится, конечно бездарен, не правда ли? Всё равно, пусть бездарен, а я серьезно, серьезно. Он действительно проговорил серьезно, совсем другим тоном и в каком- то особенном волнении, так что Николай Всеволодович поглядел на него с любопытством.
— Вы говорите, что обо мне мысли переменили? — спросил он.
— Я переменил об вас мысли в ту минуту, как вы после Шатова взяли руки назад, и довольно, довольно, пожалуста без вопросов, больше ничего теперь не скажу.
Он было вскочил, махая руками, точно отмахиваясь от вопросов; но так как вопросов не было, а уходить было не за чем, то он и опустился опять в кресла, несколько успокоившись.
— Кстати, в скобках,— затараторил он тотчас же,— здесь одни болтают, будто вы его убьете, и пари держат, так что Лембке думал даже тронуть полицию, но Юлия Михайловна запретила... Довольно, довольно об этом, я только, чтоб известить. Кстати опять: я Лебядкиных в тот же день переправил, вы знаете; получили мою записку с их адресом?
— Получил тогда же.
— Это уж я не по «бездарности»; это я искренно, от готовности. Если вышло бездарно, то зато было искренно.
— Да, ничего, может, так и надо...— раздумчиво промолвил Николай Всеволодович; — только записок больше ко мне не пишите, прошу вас.
— Невозможно было, всего одну.
— Так Липутин знает?
— Невозможно было; но Липутин, сами знаете, не смеет... Кстати надо бы к нашим сходить, то-есть к ним, а не к нашим, а то вы опять лыко в строку. Да не беспокойтесь, не сейчас, а когда-нибудь. Сейчас дождь идет. Я им дам знать, они соберутся, и мы вечером. Они так
Бесы. <Фрагмент>
905
и ждут, разиня рты, как галчаты в гнезде, какого мы им привезли гостинцу? Горячий народ. Книжки вынули, спорить собираются. Виргинский — общечеловек, Липутин — фурьерист, при большой наклонности к полицейским делам; человек, я вам скажу, дорогой в одном отношении, но требующий во всех других строгости; и наконец тот с длинными ушами, тот свою собственную систему прочитает. И, знаете, они обижены, что я к ним небрежно и водой их окачиваю, хе-хе! А сходить надо непременно.
— Вы там каким-нибудь шефом меня представили? — как можно небрежнее выпустил Николай Всеволодович. Петр Степанович быстро посмотрел на него.
— Кстати,— подхватил он, как бы не расслышав и поскорей заминая,— я ведь по два, по три раза являлся к многоуважаемой Варваре Петровне и тоже много принужден был говорить.
— Воображаю.
— Нет, не воображайте, я просто говорил, что вы не убьете, ну и там прочие сладкие вещи. И вообразите: она на другой день уже знала, что я Марью Тимофеевну за реку переправил, это вы ей сказали?
— Не думал.
— Так и знал, что не вы. Кто ж бы мог кроме вас? Интересно.
— Липутин, разумеется.
— Н-нет, не Липутин,— пробормотал, нахмурясь, Петр Степанович; — это я узнаю кто. Тут похоже на Шатова... Впрочем вздор, оставим это! Это, впрочем, ужасно важно... Кстати, я всё ждал, что ваша матушка так вдруг и брякнет мне главный вопрос... Ах, да, все дни сначала она была страшно угрюма, а вдруг сегодня приезжаю — вся так и сияет. Это что же?
— Это она потому, что я сегодня ей слово дал через пять дней к Лизавете Николаевне посвататься,— проговорил вдруг Николай Всеволодович с неожиданною откровенностию.
— А, ну... да конечно,— пролепетал Петр Степанович, как бы замявшись; — там слухи о помолвке, вы знаете? Верно, однако. Но вы правы, она из-под венца прибежит, стоит вам только кликнуть. Вы не сердитесь, что я так?
— Нет, не сержусь.
— Я замечаю, что вас сегодня ужасно трудно рассердить, и начинаю вас бояться. Мне ужасно любопытно, как вы завтра явитесь. Вы наверно много штук приготовили. Вы не сердитесь на меня, что я так?
Николай Всеволодович совсем не ответил, что совсем уже раздражило Петра Степановича.
906
Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ
— Кстати, это вы серьезно мамаше насчет Лизаветы Николаевны? — спросил он.
Николай Всеволодович пристально и холодно посмотрел на него.
— А, понимаю, чтобы только успокоить, ну да.
— А если бы серьезно? — твердо спросил Николай Всеволодович.
— Что ж, и с Богом, как в этих случаях говорится, делу не повредит (видите, я не сказал, нашему делу, вы словцо наше не любите), а я... а я что ж, я к вашим услугам, сами знаете.
— Вы думаете?
— Я ничего, ничего не думаю,— заторопился, смеясь, Петр Степанович,— потому что знаю, вы о своих делах сами наперед обдумали, и что у вас всё придумано. Я только про то, что я серьезно к вашим услугам, всегда и везде и во всяком случае, то-есть во всяком, понимаете это?
Николай Всеволодович зевнул.
— Надоел я вам,— вскочил вдруг Петр Степанович, схватывая свою круглую, совсем новую шляпу и как бы уходя, а между тем всё еще оставаясь и продолжая говорить беспрерывно, хотя и стоя, иногда шагая по комнате и в одушевленных местах разговора ударяя себя шляпой по коленке.
— Я думал еще повеселить вас Лембками,— весело вскричал он.
— Нет уж, после бы. Как однако здоровье Юлии Михайловны?
— Какой это у вас у всех однако светский прием: вам до ее здоровья всё равно, что до здоровья серой кошки, а между тем спрашиваете. Я это хвалю. Здорова и вас уважает до суеверия, до суеверия многого от вас ожидает. О воскресном случае молчит и уверена, что вы всё сами победите одним появлением. Ей богу, она воображает, что вы уж бог знает что можете. Впрочем вы теперь загадочное и романическое лицо, пуще чем когда-нибудь — чрезвычайно выгодное положение. Все вас ждут до невероятности. Я вот уехал — было горячо, а теперь еще пуще. Кстати, спасибо еще раз за письмо. Они все графа К. боятся. Знаете, они считают вас, кажется, за шпиона? Я поддакиваю, вы не сердитесь?
— Ничего.
— Это ничего; это в дальнейшем необходимо. У них здесь свои порядки. Я конечно поощряю; Юлия Михайловна во главе, Гаганов тоже... Вы смеетесь? Да ведь я с тактикой; я вру, вру, а вдруг и умное слово скажу, именно тогда, когда они все его ищут. Они окружат меня, а я опять начну врать. На меня уже все махнули; «со способностями, говорят, но с луны соскочил». Лембке меня в службу зовет, чтоб я выправился. Знаете, я его ужасно третирую, то-есть компрометирую, так и лупит глаза. Юлия Михайловна поощряет.
Бесы <Фрагмент>
907
Да, кстати, Гаганов навас ужасно сердится. Вчера в Духове говорил мне о вас прескверно. Я ему тотчас же всю правду, то-есть, разумеется, не всю правду. Я у него целый день в Духове прожил. Славное имение, хороший дом.
— Так он разве и теперь в Духове? — вдруг вскинулся Николай Всеволодович, почти вскочив и сделав сильное движение вперед.
— Нет, меня же и привез сюда давеча утром, мы вместе воротились,— проговорил Петр Степанович, как бы совсем не заметив мгновенного волнения Николая Всеволодовича.— Что это, я книгу уронил,— нагнулся он поднять задетый им кипсек. Женщины Бальзака, с картинками,— развернул он вдруг,— не читал. Лембке тоже романы пишет.
— Да? — спросил Николай Всеволодович как бы заинтересовавшись.
— На русском языке, потихоньку, разумеется. Юлия Михайловна знает и позволяет. Колпак; впрочем с приемами; у них это выработано. Экая строгость форм, экая выдержанность! Вот бы нам что-нибудь в этом роде.
— Вы хвалите администрацию?
— Да еще же бы нет! Единственно, что в России есть натурального и достигнутого... не буду, не буду,— вскинулся он вдруг,— я не про то, о деликатном ни слова. Однако прощайте, вы какой-то зеленый.
— Лихорадка у меня.
— Можно поверить, ложитесь-ка. Кстати: здесь скопцы есть в уезде, любопытный народ... Впрочем потом. А впрочем вот еще анекдотик: тут по уезду пехотный полк. В пятницу вечером я в Б-цах с офицерами пил. Там ведь у нас три приятеля, vous comprenez? Об атеизме говорили и уж разумеется, Бога раскассировали. Рады, визжат. Кстати, Шатов уверяет, что если в России бунт начинать, то чтобы непременно начать с атеизма. Может, и правда. Один седой бурбон капитан сидел, сидел, всё молчал, ни слова не говорил, вдруг становится среди комнаты и, знаете, громко так, как бы сам с собой: «Если Бога нет, то какой же я после того капитан?» Взял фуражку, развел руки, и вышел.
— Довольно цельную мысль выразил,— зевнул в третий раз Николай Всеволодович.
— Да? Я не понял; вас хотел спросить. Ну, что бы вам еще: интересная фабрика Шпигулиных; тут, как вы знаете, пятьсот рабочих, рассадник холеры, не чистят пятнадцать лет и фабричных усчитывают; купцы миллионеры. Уверяю вас, что между рабочими иные об Internationale имеют понятие. Что, вы улыбнулись? Сами увидите, дайте мне только самый, самый маленький срок! Я уже просил у вас срока, а теперь еще прошу, и тогда... а впрочем виноват, не буду,
908
Ф.М. ДОСТОЕВСКИЙ
не буду, я не про то, не морщитесь. Однако прощайте. Что ж я? — воротился он вдруг с дороги,— совсем забыл, самое главное: мне сейчас говорили, что наш ящик из Петербурга пришел.
— То-есть? — посмотрел Николай Всеволодович, не понимая.
— То-есть ваш ящик, ваши вещи, с фраками, панталонами и бельем; пришел? Правда?
— Да, мне что-то давеча говорили.
— Ах, так нельзя ли сейчас!..
— Спросите у Алексея.
— Ну, завтра, завтра? Там ведь с вашими вещами и мой пиджак, фрак и трое панталон, от Шармера, по вашей рекомендации, помните?
— Я слышал, что вы здесь, говорят, джентльменничаете? — усмехнулся Николай Всеволодович.— Правда, что вы у берейтера верхом хотите учиться?
Петр Степанович улыбнулся искривленною улыбкой.
— Знаете,— заторопился он вдруг чрезмерно, каким-то вздрагивающим и пресекающимся голосом,— знаете, Николай Всеволодович, мы оставим насчет личностей, не так ли, раз навсегда? Вы, разумеется, можете меня презирать сколько угодно, если вам так смешно, но всё- таки бы лучше без личностей несколько времени, так ли?
— Хорошо, я больше не буду,— промолвил Николай Всеволодович. Петр Степанович усмехнулся, стукнул по коленке шляпой, ступил с одной ноги на другую и принял прежний вид.
— Здесь иные считают меня даже вашим соперником у Лизаветы Николаевны, как же мне о наружности не заботиться? — засмеялся он.— Это кто же однако вам доносит? Гм. Ровно восемь часов; ну, я в путь; я к Варваре Петровне обещал зайти, но спасую, а вы ложитесь и завтра будете бодрее. На дворе дождь и темень, у меня впрочем извозчик, потому что на улицах здесь по ночам не спокойно... Ах как кстати: здесь в городе и около бродит теперь один Федька-каторжный, беглый из Сибири, представьте, мой бывший дворовый человек, которого папаша лет пятнадцать тому в солдаты упек и деньги взял. Очень замечательная личность.
— Вы... с ним говорили? — вскинул глазами Николай Всеволодович.
— Говорил. От меня не прячется. На всё готовая личность, на всё; за деньги, разумеется, но есть и убеждения, в своем роде конечно. Ах да, вот и опять кстати: если вы давеча серьезно о том замысле, помните, насчет Лизаветы Николаевны, то возобновляю вам еще раз, что и я тоже на всё готовая личность, во всех родах, каких угодно, и совершенно к вашим услугам... Что это, вы за палку хватаетесь? Ах нет, вы не за палку... Представьте, мне показалось, что вы палку ищете?
Бесы. <Фрагмент
909
Николай Всеволодович ничего не искал и ничего не говорил, но действительно он привстал как-то вдруг, с каким-то странным движением в лице.
— Если вам тоже понадобится что-нибудь насчет господина Гаганова,— брякнул вдруг Петр Степанович, уж прямехонько кивая на преспапье,— то, разумеется, я могу всё устроить и убежден, что вы меня не обойдете.
Он вдруг вышел, не дожидаясь ответа, но высунул еще раз голову из-за двери:
— Я потому так,— прокричал он скороговоркой,— что ведь Шатов, например, тоже не имел права рисковать тогда жизнью в воскресенье, когда к вам подошел, так ли? Я бы желал, чтобы вы это заметили.
Он исчез опять, не дожидаясь ответа.
IV
Может быть, он думал, исчезая, что Николай Всеволодович, оставшись один, начнет колотить кулаками в стену, и уж конечно бы рад был подсмотреть, если б это было возможно. Но он очень бы обманулся: Николай Всеволодович оставался спокоен. Минуты две он простоял у стола в том же положении, повидимому, очень задумавшись; но вскоре вялая, холодная улыбка выдавилась на его губах. Он медленно уселся на диван, на свое прежнее место в углу, и закрыл глаза, как бы от усталости. Уголок письма по-прежнему выглядывал из-под преспапье, но он и не пошевелился поправить.
Скоро он забылся совсем. Варвара Петровна, измучившая себя в эти дни заботами, не вытерпела, и по уходе Петра Степановича, обещавшего к ней зайти и не сдержавшего обещания, рискнула сама навестить Nicolas, несмотря на неуказанное время. Ей всё мерещилось: не скажет ли он наконец чего-нибудь окончательно? Тихо как и давеча постучалась она в дверь, и, опять не получая ответа, отворила сама. Увидав, что Nicolas сидит что-то слишком уж неподвижно, она с бьющимся сердцем осторожно приблизилась сама к дивану. Ее как бы поразило, что он так скоро заснул и что может так спать, так прямо сидя и так неподвижно; даже дыхания почти нельзя было заметить. Лицо было бледное и суровое, но совсем как бы застывшее, недвижимое; брови немного сдвинуты и нахмурены; решительно он походил на бездушную восковую фигуру. Она простояла над ним минуты три, едва переводя дыхание, и вдруг ее обнял страх; она вышла на цыпочках, приостановилась в дверях, наскоро перекрестила его и удалилась незамеченная, с новым тяжелым ощущением и с новою тоской.
910
Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ
Проспал он долго, более часу, и всё в таком же оцепенении: ни один мускул лица его не двинулся, ни малейшего движения во всем теле не выказалось; брови были всё так же сурово сдвинуты. Если бы Варвара Петровна осталась еще натри минуты, то наверно бы не вынесла подавляющего ощущения этой летаргической неподвижности и разбудила его. Но он вдруг сам открыл глаза и, попрежнему не шевелясь, просидел еще минут десять, как бы упорно и любопытно всматриваясь в какой-то поразивший его предмет в углу комнаты, хотя там ничего не было ни нового, ни особенного. Наконец, раздался тихий, густой звук больших стенных часов, пробивших один раз. С некоторым беспокойством повернул он голову взглянуть на циферблат, но почти в ту же минуту отворилась задняя дверь, выходившая в корридор, и показался камердинер Алексей Егорович. Он нес в одной руке теплое пальто, шарф и шляпу, а в другой серебряную тарелочку, на которой лежала записка.
— Половина десятого,— возгласил он тихим голосом и, сложив принесенное платье в углу на стуле, поднес на тарелке записку, маленькую бумажку незапечатанную, с двумя строчками карандашом. Пробежав эти строки, Николай Всеволодович тоже взял со стола карандаш, черкнул в конце записки два слова и положил обратно на тарелку.
— Передать тотчас же как я выйду, и одеваться,— сказал он, вставая с дивана.
Заметив, что на нем легкий, бархатный пиджак, он подумал и велел подать себе другой, суконный сюртук, употреблявшийся для более церемонных вечерних визитов. Наконец одевшись совсем и надев шляпу, он запер дверь, в которую входила к нему Варвара Петровна, и, вынув из-под преспапье спрятанное письмо, молча вышел в корридор в сопровождении Алексея Егоровича. Из корридора вышли на узкую каменную заднюю лестницу и спустились в сени, выходившие прямо в сад. В углу в сенях стояли припасенные фонарик и большой зонтик.
— По чрезвычайному дождю грязь по здешним улицам нестерпимая,— доложил Алексей Егорович в виде отдаленной попытки в последний раз отклонить барина от путешествия. Но барин, развернув зонтик, молча вышел в темный как погреб, отсырелый и мокрый старый сад. Ветер шумел и качал вершинами полуобнаженных деревьев, узенькие песочные дорожки были топки и скользки. Алексей Егорович шел как был, во фраке и без шляпы, освещая путь шага на три вперед фонариком.
— Не заметно ли будет? — спросил вдруг Николай Всеволодович.
— Из окошек заметно не будет, окромя того, что заранее всё предусмотрено,— тихо и размеренно ответил слуга.
Бесы. <Фрагмент>
911
— Матушка почивает?
— Заперлись по обыкновению последних дней ровно в девять часов и узнать теперь для них ничего невозможно. В каком часу вас прикажете ожидать? — прибавил он, осмеливаясь сделать вопрос.
— В час, в половине второго, не позже двух.
— Слушаю-с.
Обойдя извилистыми дорожками весь сад, который оба знали наизусть, они дошли до каменной садовой ограды и тут в самом углу стены отыскали маленькую дверцу, выводившую в тесный и глухой переулок, почти всегда запертую, но ключ от которой оказался теперь в руках Алексея Егоровича.
— Не заскрипела бы дверь? — осведомился опять Николай Всеволодович.
Но Алексей Егорович доложил, что вчера еще смазана маслом, «равно и сегодня». Он весь уже успел измокнуть. Отперев дверцу, он подал ключ Николаю Всеволодовичу.
— Если изволили предпринять путь отдаленный, то докладываю, будучи неуверен в здешнем народишке, в особенности по глухим переулкам, а паче всего за рекой,— не утерпел он еще раз. Это был старый слуга, бывший дядька Николая Всеволодовича, когда-то нянчивший его на руках, человек серьезный и строгий, любивший послушать и почитать от божественного.
— Не беспокойся, Алексей Егорыч.
— Благослови вас Бог, сударь, но при начинании лишь добрых дел.
— Как? — остановился Николай Всеволодович, уже перешагнув в переулок.
Алексей Егорович твердо повторил свое желание; никогда прежде он не решился бы его выразить в таких словах вслух пред своим господином.
Николай Всеволодович запер дверь, положил ключ в карман и пошел по проулку, увязая с каждым шагом вершка на три в грязь. Он вышел наконец в длинную и пустынную улицу на мостовую. Город был известен ему как пять пальцев; но Богоявленская улица была всё еще далеко. Было более десяти часов, когда он остановился наконец пред запертыми воротами темного старого дома Филипповых. Нижний этаж теперь, с выездом Лебядкиных, стоял совсем пустой, с заколоченными окнами, но в мезонине у Шатова светился огонь. Так как не было колокольчика, то он начал бить в ворота рукой. Отворилось оконце, и Шатов выглянул на улицу; темень была страшная, и разглядеть было мудрено; Шатов разглядывал долго, с минуту.
— Это вы? — спросил он вдруг.
— Я,— ответил незванный гость.
912
Ф.М.ДОСТОЕВСКИЙ
Шатов захлопнул окно, сошел вниз и отпер ворота. Николай Всеволодович переступил через высокий порог и, не сказав ни слова, прошел мимо, прямо во флигель к Кириллову.
V
Тут всё было отперто и даже не притворено. Сени и первые две комнаты были темны, но в последней, в которой Кириллов жил и пил чай, сиял свет и слышался смех, и какие-то странные вскрикивания. Николай Всеволодович пошел на свет, но, не входя, остановился на пороге. Чай был на столе. Среди комнаты стояла старуха, хозяйская родственница, простоволосая, в одной юбке, в башмаках на босу ногу и в заячьей куцавейке. На руках у ней был полуторагодовой ребенок, в одной рубашенке, с голыми ножками, с разгоревшимися щечками, с белыми всклоченными волосками, только-что из колыбели. Он, должно быть, недавно расплакался; слезки стояли еще под глазами; но в эту минуту тянулся рученками, хлопал в ладошки и хохотал, как хохочут маленькие дети, с захлипом. Пред ним Кириллов бросал о пол большой резиновый красный мяч; мяч отпрыгивал до потолка, падал опять, ребенок кричал: «мя, мя!» Кириллов ловил «мя» и подавал ему, тот бросал уже сам своими неловкими рученками, а Кириллов бежал опять подымать. Наконец «мя» закатился под шкаф. «Мя, мя!» кричал ребенок. Кириллов припал к полу и протянулся, стараясь из-под шкафа достать «мя» рукой. Николай Всеволодович вошел в комнату; ребенок, увидев его, припал к старухе и закатился долгим, детским плачем; та тотчас же его вынесла.
— Ставрогин? — сказал Кириллов, приподымаясь с полу с мячом в руках, без малейшего удивления к неожиданному визиту,— хотите чаю?
Он приподнялся совсем.
— Очень, не откажусь, если теплый,— сказал Николай Всеволодович; — я весь промок.
— Теплый, горячий даже,— с удовольствием подтвердил Кириллов: — садитесь: вы грязны, ничего; пол я потом мокрою тряпкой.
Николай Всеволодович уселся и почти залпом выпил налитую чашку.
— Еще? — спросил Кириллов.
— Благодарю.
Кириллов, до сих пор не садившийся, тотчас же сел напротив и спросил:
— Вы что пришли?
— По делу. Вот прочтите это письмо, от Гаганова; помните, я вам говорил в Петербурге.
Бесы. <Фрагментп
913
Кириллов взял письмо, прочел, положил на стол и смотрел в ожидании.
— Этого Гаганова,— начал объяснять Николай Всеволодович,— как вы знаете, я встретил месяц тому, в Петербурге, в первый раз в жизни. Мы столкнулись раза три в людях. Не знакомясь со мной и не заговаривая, он нашел-таки возможность быть очень дерзким. Я вам тогда говорил; но вот чего вы не знаете: уезжая тогда из Петербурга раньше меня, он вдруг прислал мне письмо, хотя и не такое, как это, но однако неприличное в высшей степени и уже тем странное, что в нем совсем не объяснено было повода, по которому оно писано. Я ответил ему тотчас же, тоже письмом, и совершенно откровенно высказал, что вероятно он на меня сердится за происшествие с его отцом, четыре года назад, здесь в клубе, и что я с моей стороны готов принести ему всевозможные извинения, на том основании, что поступок мой был неумышленный и произошел в болезни. Я просил его взять мои извинения в соображение. Он не ответил и уехал; но вот теперь я застаю его здесь уже совсем в бешенстве. Мне передали несколько публичных отзывов его обо мне, совершенно ругательных и с удивительными обвинениями. Наконец сегодня приходит это письмо, какого верно никто никогда не получал, с ругательствами и с выражениями: «ваша битая рожа». Я пришел, надеясь, что вы не откажетесь в секунданты.
— Вы сказали, письма никто не получал,— заметил Кириллов: — в бешенстве можно; пишут не раз. Пушкин Гекерну написал. Хорошо, пойду. Говорите как?
Николай Всеволодович объяснил, что желает завтра же, и чтобы непременно начать с возобновления извинений и даже с обещания вторичного письма с извинениями, но с тем однако что и Гаганов, с своей стороны, обещал бы не писать более писем. Полученное же письмо будет считаться как не бывшее вовсе.
— Слишком много уступок, не согласится,— проговорил Кириллов.
— Я прежде всего пришел узнать, согласитесь ли вы понести туда такие условия?
— Я понесу. Ваше дело. Но он не согласится.
— Знаю, что не согласится.
— Он драться хочет. Говорите, как драться?
— В том и дело, что я хотел бы завтра непременно всё кончить. Часов в девять утра вы у него. Он выслушает и не согласится, но сведет вас с своим секундантом,— положим, часов около одиннадцати. Вы с тем порешите, и затем в час или в два чтобы быть всем на месте. Пожалуста постарайтесь так сделать. Оружие, конечно, пистолеты,
914
Ф.М. ДОСТОЕВСКИЙ
и особенно вас прошу устроить так: определить барьер в десять шагов; затем вы ставите нас каждого в десяти шагах от барьера, и по данному знаку мы сходимся. Каждый должен непременно дойти до своего барьера, но выстрелить может и раньше, на ходу. Вот и всё, я думаю.
— Десять шагов между барьерами близко,— заметил Кириллов.
— Ну двенадцать, только не больше, вы понимаете, что он хочет драться серьезно. Умеете вы зарядить пистолет?
— Умею. У меня есть пистолеты; я дам слово, что вы из них не стреляли. Его секундант тоже слово про свои; две пары, и мы сделаем чет и нечет, его или нашу?
— Прекрасно.
— Хотите посмотреть пистолеты?
— Пожалуй.
Кириллов присел на корточки пред своим чемоданом в углу, всё еще не разобранным, но из которого вытаскивались вещи по мере надобности. Он вытащил со дна ящик пальмового дерева, внутри отделанный красным бархатом, и из него вынул пару щегольских, чрезвычайно дорогих пистолетов.
— Есть всё: порох, пули, патроны. У меня еще револьвер; постойте.
Он полез опять в чемодан и вытащил другой ящик с шестиствольным американским револьвером.
— У вас довольно оружия, и очень дорогого.
— Очень. Чрезвычайно. Бедный, почти нищий, Кириллов, никогда впрочем и не замечавший своей нищеты, видимо с похвальбой показывал теперь свои оружейные драгоценности, без сомнения приобретенные с чрезвычайными пожертвованиями.
— Вы всё еще в тех же мыслях? — спросил Ставрогин после минутного молчания и с некоторою осторожностию.
— В тех же,— коротко ответил Кириллов, тотчас же по голосу угадав о чем спрашивают, и стал убирать со стола оружие.
— Когда же? — еще осторожнее спросил Николай Всеволодович, опять после некоторого молчания.
Кириллов между тем уложил оба ящика в чемодан и уселся на прежнее место.
— Это не от меня, как знаете; когда скажут,— пробормотал он, как бы несколько тяготясь вопросом, но в то же время с видимою готовностию отвечать на все другие вопросы. На Ставрогина он смотрел не отрываясь, своими черными глазами без блеску, с каким-то спокойным, но добрым и приветливым чувством.
— Я, конечно, понимаю застрелиться,— начал опять, несколько нахмурившись Николай Всеволодович, после долгого, трехминутного задумчивого молчания; — я иногда сам представлял, и тут всегда
Бесы «фрагмент
915
какая-то новая мысль: Если бы сделать злодейство, или, главное, стыд, то-есть позор, только очень подлый и... смешной, так что запомнят люди на тысячу лет и плевать будут тысячу лет, и вдруг мысль: «один удар в висок и ничего не будет». Какое дело тогда до людей, и что они будут плевать тысячу лет, не так ли?
— Вы называете, что это новая мысль? — проговорил Кириллов подумав.
— Я... не называю... когда я подумал однажды, то почувствовал совсем новую мысль.
— «Мысль почувствовали»? — переговорил Кириллов,— это хорошо. Есть много мыслей, которые всегда и которые вдруг станут новые. Это верно. Я много теперь как в первый раз вижу.
— Положим, вы жили на луне,— перебил Ставрогин, не слушая и продолжая свою мысль,— вы там, положим, сделали, все эти смешные пакости... Вы знаете наверно отсюда, что там будут смеяться и плевать на ваше имя тысячу лет, вечно, во всю луну. Но теперь вы здесь и смотрите на луну отсюда: какое вам дело здесь до всего того, что вы там наделали, и что тамошние будут плевать на вас тысячу лет, не правда ли?
— Не знаю,— ответил Кириллов,— я на луне не был,— прибавил он без всякой иронии, единственно для обозначения факта.
— Чей это давеча ребенок?
— Старухина свекровь приехала; нет, сноха... всё равно. Три дня. Лежит больная, с ребенком; по ночам кричит очень, живот. Мать спит, а старуха приносит; я мячем. Мяч из Гамбурга. Я в Гамбурге купил, чтобы бросать и ловить: укрепляет спину. Девочка.
— Вы любите детей?
— Люблю,— отозвался Кириллов довольно впрочем равнодушно.
— Стало быть, и жизнь любите?
— Да, люблю и жизнь, а что?
— Если решились застрелиться.
— Что же? Почему вместе? Жизнь особо, а то особо. Жизнь есть, а смерти нет совсем.
— Вы стали веровать в будущую вечную жизнь?
— Нет, не в будущую вечную, а в здешнюю вечную. Есть минуты, вы доходите до минут, и время вдруг останавливается и будет вечно.
— Вы надеетесь дойти до такой минуты?
- Да.
— Это вряд ли в наше время возможно,— тоже без всякой иронии отозвался Николай Всеволодович, медленно и как бы задумчиво.— В Апокалипсисе ангел клянется, что времени больше не будет.
916
Ф. М. ДОС ТОЕВСКИЙ
— Знаю. Это очень там верно; отчетливо и точно. Когда весь человек счастья достигнет, то времени больше не будет, потому что не надо. Очень верная мысль.
— Куда ж его спрячут?
— Никуда не спрячут. Время не предмет, а идея. Погаснет в уме.
— Старые философские места, одни и те же с начала веков,— с каким-то брезгливым сожалением пробормотал Ставрогин.
— Одни и те же! Одни и те же с начала веков, и никаких других никогда! — подхватил Кириллов с сверкающим взглядом, как будто в этой идее заключалась чуть не победа.
— Вы, кажется, очень счастливы, Кириллов?
— Да, очень счастлив,— ответил тот, как бы давая самый обыкновенный ответ.
— Но вы так недавно еще огорчались, сердились на Липутина?
— Гм... я теперь не браню. Я еще не знал тогда, что был счастлив. Видали вы лист, с дерева лист?
— Видал.
— Я видел недавно желтый, немного зеленого, с краев подгнил. Ветром носило. Когда мне было десять лет, я зимой закрывал глаза нарочно и представлял лист зеленый, яркий с жилками, и солнце блестит. Я открывал глаза и не верил, потому что очень хорошо, и опять закрывал.
— Это что же, аллегория?
— Н-нет... зачем? Я не аллегорию, я просто лист, один лист. Лист хорош. Всё хорошо.
— Всё?
— Всё. Человек несчастлив потому, что не знает, что он счастлив; только потому. Это всё, всё! Кто узнает, тотчас сейчас станет счастлив, сию минуту. Эта свекровь умрет, а девочка останется — всё хорошо. Я вдруг открыл.
— А кто с голоду умрет, а кто обидит и обесчестит девочку — это хорошо?
— Хорошо. И кто размозжит голову за ребенка, и то хорошо; и кто не размозжит, и то хорошо. Всё хорошо, всё. Всем тем хорошо, кто знает, что всё хорошо. Если б они знали, что им хорошо, то им было бы хорошо, но пока они не знают, что им хорошо, то им будет нехорошо. Вот вся мысль, вся, больше нет никакой!
— Когда же вы узнали, что вы так счастливы?
— На прошлой неделе во вторник, нет, в среду, потому что уже была среда, ночью.
— По какому же поводу?
Бесы «Ррагмент
917
— Не помню, так; ходил по комнате... всё равно. Я часы остановил, было тридцать семь минут третьего.
— В эмблему того, что время должно остановиться?
Кириллов промолчал.
— Они нехороши,— начал он вдруг опять,— потому что не знают, что они хороши. Когда узнают, то не будут насиловать девочку. Надо им узнать, что они хороши, и все тотчас же станут хороши, все до единого.
— Вот вы узнали же, стало быть, вы хороши?
— Я хорош.
— С этим я впрочем согласен,— нахмуренно пробормотал Ставрогин.
— Кто научит, что все хороши, тот мир закончит.
— Кто учил, того распяли.
— Он придет, и имя ему человекобог.
— Богочеловек?
— Человекобог, в этом разница.
— Уж не вы ли и лампадку зажигаете?
— Да, это я зажег.
— Уверовали?
— Старуха любит, чтобы лампадку... а ей сегодня некогда,— пробормотал Кириллов.
— А сами еще не молитесь?
— Я всему молюсь. Видите, паук ползет по стене, я смотрю и благодарен ему за то, что ползет.
Глаза его опять загорелись. Он всё смотрел прямо на Ставрогина, взглядом твердым и неуклонным. Ставрогин нахмуренно и брезгливо следил за ним, но насмешки в его взгляде не было.
— Бьюсь об заклад, что когда я опять приду, то вы уж и в Бога уверуете,— проговорил он, вставая и захватывая шляпу.
— Почему? — привстал и Кириллов.
— Если бы вы узнали, что вы в Бога веруете, то вы бы и веровали; но так как вы еще не знаете, что вы в Бога веруете, то вы и не веруете,— усмехнулся Николай Всеволодович.
— Это не то,— обдумал Кириллов,— перевернули мысль. Светская шутка. Вспомните, что вы значили в моей жизни, Ставрогин.
— Прощайте, Кириллов.
— Приходите ночью; когда?
— Да уж вы не забыли ли про завтрашнее?
— Ах, забыл, будьте покойны, не просплю; в девять часов. Я умею просыпаться, когда хочу. Я ложусь и говорю: в семь часов, и проснусь в семь часов; в десять часов — и проснусь в десять часов.
918
Ф.М. ДОСТОЕВСКИЙ
— Замечательные у вас свойства,— поглядел на его бледное лицо Николай Всеволодович.
— Я пойду отопру ворота.
— Не беспокойтесь, мне отопрет Шатов.
— А, Шатов. Хорошо, прощайте.
VI
Крыльцо пустого дома, в котором квартировал Шатов, было неза- перто; но, взобравшись в сени, Ставрогин очутился в совершенном мраке и стал искать рукой лестницу в мезонин. Вдруг сверху отворилась дверь и показался свет; Шатов сам не вышел, а только свою дверь отворил. Когда Николай Всеволодович Стал на пороге его комнаты, то разглядел его в углу у стола, стоящего в ожидании.
— Вы примете меня по делу? — спросил он с порога.
— Войдите и садитесь,— отвечал Шатов,— заприте дверь, постойте, я сам.
Он запер дверь на ключ, воротился к столу и сел напротив Николая Всеволодовича. В эту неделю он похудел, атеперь, казалось, был в жару.
— Вы меня измучили,— проговорил он, потупясь, тихим полушепотом,— зачем вы не приходили?
— Вы так уверены были, что я приду?
— Да, постойте, я бредил... может, и теперь брежу... Постойте.
Он привстал и на верхней из своих трех полок с книгами, с краю, захватил какую-то вещь. Это был револьвер.
— В одну ночь я бредил, что вы придете меня убивать, и утром рано у бездельника Лямшина купил револьвер на последние деньги; я не хотел вам даваться. Потом я пришел в себя... У меня ни пороху, ни пуль; с тех пор, так и лежит на полке. Постойте...
Он привстал и отворил было форточку.
— Не выкидывайте, зачем? — остановил Николай Всеволодович,— он денег стоит, а завтра люди начнут говорить, что у Шатова под окном валяются револьверы. Положите опять, вот так, садитесь. Скажите, зачем вы точно каетесь предо мной в вашей мысли, что я приду вас убить? Я и теперь не мириться пришел, а говорить о необходимом. Разъясните мне, во-первых, вы меня ударили не за связь мою с вашею женой?
— Вы сами знаете, что нет,— опять потупился Шатов.
— И не потому, что поверили глупой сплетне насчет Дарьи Павловны?
— Нет, нет, конечно, нет! Глупость! Сестра мне с самого начала сказала...— с нетерпением и резко проговорил Шатов, чуть-чуть даже топнув ногой.
Бесы. <Фрагмент>
919
— Стало быть, и я угадал, и вы угадали,— спокойным тоном продолжал Ставрогин,— вы правы: Марья Тимофеевна Лебядкина, моя законная, обвенчанная со мною жена, в Петербурге, года четыре с половиной назад. Ведь вы меня за нее ударили?
Шатов, совсем пораженный, слушал и молчал.
— Я угадал и не верил,— пробормотал он наконец, странно смотря на Ставрогина.
— И ударили?
Шатов вспыхнул и забормотал почти без связи:
— Я за ваше падение... за ложь. Я не для того подходил, чтобы вас наказать; когда я подходил, я не знал, что ударю... Я за то, что вы так много значили в моей жизни... Я...
— Понимаю, понимаю, берегите слова. Мне жаль, что вы в жару; у меня самое необходимое дело.
— Я слишком долго вас ждал,— как-то весь чуть не затрясся Шатов и привстал было с места; — говорите ваше дело, я тоже скажу... потом...
Он сел.
— Это дело не из той категории,— начал Николай Всеволодович, приглядываясь к нему с любопытством; — по некоторым обстоятельствам я принужден был сегодня же выбрать такой час и итти к вам предупредить, что, может быть, вас убьют.
Шатов дико смотрел на него.
— Я знаю, что мне могла бы угрожать опасность,— проговорил он размеренно,— но вам, вам-то почему это может быть известно?
— Потому что я тоже принадлежу к ним, как и вы, и такой же член их общества, как и вы.
— Вы... вы член общества?
— Я по глазам вашим вижу, что вы всего от меня ожидали, только не этого,— чуть-чуть усмехнулся Николай Всеволодович,— но позвольте, стало быть, вы уже знали, что на вас покушаются?
— И не думал. И теперь не думаю, несмотря на ваши слова, хотя... хотя кто ж тут с этими дураками может в чем-нибудь заручиться! — вдруг вскричал он в бешенстве, ударив кулаком по столу.— Я их не боюсь! Я с ними разорвал. Этот забегал ко мне четыре раза и говорил, что можно... но,— посмотрел он на Ставрогина,— что ж собственно вам тут известно?
— Не беспокойтесь, я вас не обманываю,— довольно холодно продолжал Ставрогин, с видом человека, исполняющего только обязанность.— Вы экзаменуете, что мне известно? Мне известно, что вы вступили в это общество за границей, два года тому назад, и еще при старой его организации, как раз пред вашею поездкой в Америку
920
Ф.М. ДОСТОЕВСКИЙ
и, кажется, тотчас же после нашего последнего разговора, о котором вы так много написали мне из Америки в вашем письме. Кстати, извините, что я не ответил вам тоже письмом, а ограничился...
— Высылкой денег; подождите,— остановил Шатов, поспешно выдвинул из стола ящик и вынул из-под бумаг радужный кредитный билет; — вот возьмите, сто рублей, которые вы мне выслали; без вас я бы там погиб. Я долго бы не отдал, если бы не ваша матушка: эти сто рублей подарила она мне девять месяцев назад на бедность, после моей болезни. Но продолжайте пожалуста...
Он задыхался.
— В Америке вы переменили ваши мысли и, возвратясь в Швейцарию, хотели отказаться. Они вам ничего не ответили, но поручили принять здесь, в России, от кого-то какую-то типографию и хранить ее до сдачи лицу, которое к вам от них явится. Я не знаю всего в полной точности, но ведь в главном, кажется, так? Вы же, в надежде или под условием, что это будет последним их требованием и что вас после того отпустят совсем, взялись. Всё это, так ли, нет ли, узнал я не от них, а совсем случайно. Но вот чего вы, кажется, до сих пор не знаете: эти господа вовсе не намерены с вами расстаться.
— Это нелепость! — завопил Шатов,— я объявил честно, что я расхожусь с ними во всем! Это мое право, право совести и мысли... Я не потерплю! Нет силы, которая бы могла...
— Знаете, вы не кричите,— очень серьезно остановил его Николай Всеволодович,— этот Верховенский такой человечек, что может быть нас теперь подслушивает, своим или чужим ухом, в ваших же сенях пожалуй. Даже пьяница Лебядкин чуть ли не обязан был за вами следить, а вы может быть за ним, не так ли? Скажите лучше: согласился теперь Верховенский на ваши аргументы или нет?
— Он согласился; он сказал, что можно, и что я имею право...
— Ну, так он вас обманывает. Я знаю, что даже Кириллов, который к ним почти вовсе не принадлежит, доставил об вас сведения; а агентов у них много, даже таких, которые и не знают, что служат обществу. За вами всегда надсматривали. Петр Верховенский между прочим приехал сюда за тем, чтобы порешить ваше дело совсем, и имеет на то полномочие, а именно: истребить вас в удобную минуту, как слишком много знающего и могущего донести. Повторяю вам, что это наверно; и позвольте прибавить, что они почему-то совершенно убеждены, что вы шпион, и если еще не донесли, то донесете. Правда это?
Шатов скривил рот, услыхав такой вопрос, высказанный таким обыкновенным тоном.
— Если б я и был шпион, то кому доносить? — злобно проговорил он, не отвечая прямо.— Нет, оставьте меня, к чорту меня! — вскри¬
Бесы <Фрагментп>
921
чал он, вдруг схватываясь за первоначальную, слишком потрясшую его мысль, по всем признакам несравненно сильнее, чем известие о собственной опасности: — Вы, вы, Ставрогин, как могли вы затереть себя в такую бесстыдную, бездарную лакейскую нелепость! Вы член их общества! Это ли подвиг Николая Ставрогина! — вскричал он чуть не в отчаянии.
Он даже сплеснул руками, точно ничего не могло быть для него горше и безотраднее такого открытия.
— Извините,— действительно удивился Николай Всеволодович,— но вы, кажется, смотрите на меня как на какое-то солнце, а на себя как на какую-то букашку сравнительно со мной. Я заметил это даже по вашему письму из Америки.
— Вы... вы знаете... Ах, бросим лучше обо мне совсем, совсем! — оборвал вдруг Шатов.— Если можете что-нибудь объяснить о себе, то объясните... На мой вопрос! — повторял он в жару.
— С удовольствием. Вы спрашиваете: как мог я затереться в такую трущобу? После моего сообщения я вам даже обязан некоторою откровенностию по этому делу. Видите, в строгом смысле я к этому обществу совсем не принадлежу, не принадлежал и прежде и гораздо более вас имею права их оставить, потому что и не поступал. Напротив, с самого начала заявил, что я им не товарищ, а если и помогал случайно, то только так, как праздный человек. Я отчасти участвовал в переорганизации общества по новому плану, и только. Но они теперь одумались и решили про себя, что и меня отпустить опасно и, кажется, я тоже приговорен.
— О, у них всё смертная казнь и всё на предписаниях, на бумагах с печатями, три с половиной человека подписывают. И вы верите, что они в состоянии!
— Тут отчасти вы правы, отчасти нет,— продолжал с прежним равнодушием, даже вяло Ставрогин.— Сомнения нет, что много фантазии, как и всегда в этих случаях: кучка преувеличивает свой рост и значение. Если хотите, то, по-моему, их всего и есть один Петр Верховенский, и уж он слишком добр, что почитает себя только агентом своего общества. Впрочем основная идея не глупее других в этом роде. У них связи с Internationale; они сумели завести агентов в России, даже наткнулись на довольно оригинальный прием... но, разумеется, только теоретически. Что же касается до их здешних намерений, то ведь движение нашей русской организации такое дело темное и почти всегда такое неожиданное, что действительно у нас всё можно попробовать. Заметьте, что Верховенский человек упорный.
— Этот клоп, невежда, дуралей, не понимающий ничего в России! — злобно вскричал Шатов.
922
Ф.М. ДОСТОЕВСКИЙ
— Вы его мало знаете. Это правда, что вообще все они мало понимают в России, но ведь разве только немножко меньше, чем мы с вами; и при том Верховенский энтузиаст.
— Верховенский энтузиаст?
— О, да. Есть такая точка, где он перестает быть шутом и обращается в... полупомешанного. Попрошу вас припомнить одно собственное выражение ваше: «Знаете ли, как может быть силен один человек?» Пожалуста не смейтесь, он очень в состоянии спустить курок. Они уверены, что я тоже шпион. Все Они, от неуменья вести дело, ужасно любят обвинять в шпионстве.
— Но ведь вы не боитесь?
— Н-нет... Я не очень боюсь... Но ваше дело совсем другое. Я вас предупредил, чтобы вы всё-таки имели в виду. По-моему, тут уж нечего обижаться, что опасность грозит от дураков; дело не в их уме: и не на таких, как мы с вами, у них подымалась рука. А впрочем, четверть двенадцатого,— посмотрел он на часы и встал со стула; — мне хотелось бы сделать вам один совсем посторонний вопрос.
— Ради Бога! — воскликнул Шатов, стремительно вскакивая с места.
— То есть? — вопросительно посмотрел Николай Всеволодович.
— Делайте, делайте ваш вопрос, ради Бога,— в невыразимом волнении повторял Шатов,— но с тем, что и я вам сделаю вопрос. Я умоляю, что вы позволите... я не могу... делайте ваш вопрос!
Ставрогин подождал немного и начал:
— Я слышал, что вы имели здесь некоторое влияние на Марью Тимофеевну, и что она любила вас видеть и слушать. Так ли это?
— Да... слушала...— смутился несколько Шатов.
— Я имею намерение на этих днях публично объявить здесь в городе о браке моем с нею.
— Разве это возможно? — прошептал чуть не в ужасе Шатов.
— То-есть в каком же смысле? Тут нет никаких затруднений, свидетели брака здесь. Всё это произошло тогда в Петербурге совершенно законным и спокойным образом, а если не обнаруживалось до сих пор, то потому только, что двое единственных свидетелей брака, Кириллов и Петр Верховенский, и наконец сам Лебядкин (которого я имею удовольствие считать теперь моим родственником) дали тогда слово молчать.
— Я не про то... Вы говорите так спокойно... но продолжайте! Послушайте, вас ведь не силой принудили к этому браку, ведь нет?
— Нет, меня никто не принуждал силой,— улыбнулся Николай Всеволодович на задорную поспешность Шатова.
Бесы «Ррагмент
923
— А что она там про ребенка своего толкует? — торопился в горячке и без связи Шатов.
— Про ребенка своего толкует? Ба! Я не знал, в первый раз слышу. У ней не было ребенка и быть не могло: Марья Тимофеевна девица.
— А! Так я и думал! Слушайте!
— Что с вами, Шатов?
Шатов закрыл лицо руками, повернулся, но вдруг крепко схватил за плечо Ставрогина.
— Знаете ли, знаете ли вы, по крайней мере,— прокричал он,— для чего вы всё это наделали и для чего решаетесь на такую кару теперь?
— Ваш вопрос умен и язвителен, но я вас тоже намерен удивить: да, я почти знаю, для чего я тогда женился и для чего решаюсь на такую «кару» теперь, как вы выразились.
— Оставим это... об этом после, подождите говорить; будем о главном, о главном: я вас ждал два года.
- Да?
— Я вас слишком давно ждал, я беспрерывно думал о вас. Вы единый человек, который бы мог... Я еще из Америки вам писал об этом.
— Я очень помню ваше длинное письмо.
— Длинное чтобы быть прочитанным? Согласен; шесть почтовых листов. Молчите, молчите! Скажите: можете вы уделить мне еще десять минут, но теперь же, сейчас же... Я слишком долго вас ждал!
— Извольте, уделю полчаса, но только не более, если это для вас возможно.
— Ис тем, однако,— подхватил яростно Шатов,— чтобы вы переменили ваш тон. Слышите, я требую, тогда как должен молить... Понимаете ли вы, что значит требовать, тогда как должно молить?
— Понимаю, что таким образом вы возноситесь над всем обыкновенным, для более высших целей,— чуть-чуть усмехнулся Николай Всеволодович; — яс прискорбием тоже вижу, что вы в лихорадке.
— Я уважения прошу к себе, требую! — кричал Шатов,— не к моей личности,— к чорту ее,— а к другому, на это только время, для нескольких слов... Мы два существа и сошлись в беспредельности... в последний раз в мире. Оставьте ваш тон и возьмите человеческий! Заговорите хоть раз в жизни голосом человеческим. Я не для себя, а для вас. Понимаете ли, что вы должны простить мне этот удар по лицу уже по тому одному, что я дал вам случай познать при этом вашу беспредельную силу... Опять вы улыбаетесь вашею брезгливою светскою улыбкой. О, когда вы поймете меня! Прочь барича! Поймите же, что я этого требую, требую, иначе не хочу говорить, не стану ни за что!
924
Ф.М. ДОСТОЕВСКИЙ
Исступление его доходило до бреду; Николай Всеволодович нахмурился и как бы стал осторожнее.
— Если я уж остался на полчаса,— внушительно и серьезно промолвил он,— тогда как мне время так дорого, то поверьте, что намерен слушать вас по крайней мере с интересом и... и убежден, что услышу от вас много нового. Он сел на стул.
— Садитесь! — крикнул Шатов и как-то вдруг сел и сам.
— Позвольте, однако, напомнить,— спохватился еще раз Ставрогин,— что я начал было целую к вам просьбу насчет Марьи Тимофеевны, для нее по крайней мере очень важную...
— Ну? — нахмурился вдруг Шатов, с видом человека, которого вдруг перебили на самом важном месте и который, хоть и глядит на вас, но не успел еще понять вашего вопроса.
— И вы мне не дали докончить,— договорил с улыбкой Николай Всеволодович.
— Э, ну, вздор, потом! — брезгливо отмахнулся рукой Шатов, осмыслив наконец претензию и прямо перешел к своей главной теме.
VII
— Знаете ли вы,— начал он почти грозно, принагнувшись вперед на стуле, сверкая взглядом и подняв перст правой руки вверх пред собою (очевидно не примечая этого сам),— знаете ли вы, кто теперь на всей земле единственный народ «богоносец», грядущий обновить и спасти мир именем нового бога и кому единому даны ключи жизни и нового слова... Знаете ли вы, кто этот народ и как ему имя?
— По вашему приему я необходимо должен заключить, и, кажется, как можно скорее, что это народ русский...
— И вы уже смеетесь, о, племя! — рванулся было Шатов.
— Успокойтесь, прошу вас; напротив, я именно ждал чего-нибудь в этом роде.
— Ждали в этом роде? А самому вам не знакомы эти слова?
— Очень знакомы; я слишком предвижу, к чему вы клоните. Вся ваша фраза и даже выражение народ «богоносец» есть только заключение нашего с вами разговора, происходившего слишком два года назад, за границей, незадолго пред вашим отъездом в Америку... По крайней мере сколько я могу теперь припомнить.
— Это ваша фраза целиком, а не моя. Ваша собственная, а не одно только заключение нашего разговора. «Нашего» разговора совсем и не было: был учитель, вещавший огромные слова, и был ученик, воскресший из мертвых. Я тот ученик, а вы учитель.
Бесы. <Фрагмент
925
— Но если припомнить, вы именно после слов моих как раз и вошли в то общество и только потом уехали в Америку.
— Да, и я вам писал о том из Америки; я вам обо всем писал. Да, я не мог тотчас же оторваться с кровью от того, к чему прирос с детства, на что пошли все восторги моих надежд и все слезы моей ненависти... Трудно менять богов. Я не поверил вам тогда, потому что не хотел верить, и уцепился в последний раз за этот помойный клоак... Но семя осталось и возросло. Серьезно, скажите серьезно, не дочитали письма моего из Америки? Может быть не читали вовсе?
— Я прочел из него три страницы, две первые и последнюю, и кроме того бегло переглядел средину. Впрочем я все собирался...
— Э, всё равно, бросьте, к чорту! — махнул рукой Шатов.— Если вы отступились теперь от тогдашних слов про народ, то как могли вы их тогда выговорить?.. Вот что давит меня теперь.
— Не шутил же я с вами и тогда; убеждая вас, я, может, еще больше хлопотал о себе, чем о вас,— загадочно произнес Ставрогин.
— Не шутили! В Америке я лежал три месяца на соломе, рядом с одним... несчастным и узнал от него, что в то же самое время, когда вы насаждали в моем сердце бога и родину, в то же самое время даже может быть в те же самые дни, вы отравили сердце этого несчастного, этого маньяка, Кириллова, ядом... Вы утверждали в нем ложь и клевету и довели разум его до исступления... Подите, взгляните на него теперь, это ваше создание... Впрочем вы видели.
— Во-первых, замечу вам, что сам Кириллов сейчас только сказал мне, что он счастлив и что он прекрасен. Ваше предположение о том, что всё это произошло в одно и то же время, почти верно; ну, и что же из всего этого? Повторяю, я вас ни того, ни другого не обманывал.
— Вы атеист? Теперь атеист?
- Да.
— А тогда?
— Точно так же, как и тогда.
— Я не к себе просил у вас уважения, начиная разговор; с вашим умом, вы бы могли понять это,— в негодовании пробормотал Шатов.
— Я не встал с первого вашего слова, не закрыл разговора, не ушел от вас, а сижу до сих пор и смирно отвечаю на ваши вопросы и... крики, стало быть, не нарушил еще к вам уважения.
Шатов прервал, махнув рукой:
— Вы помните выражение ваше: «атеист не может быть русским», «атеист тотчас же перестает быть русским», помните это?
— Да? — как бы переспросил Николай Всеволодович.
926
Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ
— Вы спрашиваете? Вы забыли? А между тем это одно из самых точнейших указаний на одну из главнейших особенностей русского духа, вами угаданную. Не могли вы этого забыть? Я напомню вам больше,— высказали тогда же: «не православный не может быть русским».
— Я полагаю, что это славянофильская мысль.
— Нет; нынешние славянофилы от нее откажутся. Нынче народ поумнел. Но вы еще дальше шли: вы веровали, что римский католицизм уже не есть христианство; вы утверждали, что Рим провозгласил Христа, поддавшегося на третье дьяволово искушение, и что, возвестив всему свету, что Христос без царства земного на земле устоять не может, католичество тем самым провозгласило антихриста и тем погубило весь западный мир. Вы именно указывали, что если мучается Франция, то единственно по вине католичества, ибо отвергла смрадного бога римского, а нового не сыскала. Вот что вы тогда могли говорить! Я помню наши разговоры.
— Если б я веровал, то, без сомнения, повторил бы это и теперь; я не лгал, говоря как верующий,— очень серьезно произнес Николай Всеволодович.— Но уверяю вас, что на меня производит слишком неприятное впечатление это повторение прошлых мыслей моих. Не можете ли вы перестать?
— Если бы веровали? — вскричал Шатов, не обратив ни малейшего внимания на просьбу.— Но не вы ли говорили мне, что если бы математически доказали вам, что истина вне Христа, то вы бы согласились лучше остаться со Христом, нежели с истиной? Говорили вы это? Говорили?
— Но позвольте же и мне наконец спросить,— возвысил голос Ставрогин,— к чему ведет весь этот нетерпеливый и... злобный экзамен?
— Этот экзамен пройдет навеки и никогда больше не напомнится вам.
— Вы всё настаиваете, что мы вне пространства и времени...
— Молчите! — вдруг крикнул Шатов,— я глуп и неловок, но погибай мое имя в смешном! Дозволите ли вы мне повторить пред вами всю главную вашу тогдашнюю мысль... О, только десять строк, одно заключение.
— Повторите, если только одно заключение-
Ставрогин сделал было движение взглянуть на часы, но удержался и не взглянул.
Шатов принагнулся опять на стуле и, на мгновение, даже опять было поднял палец.
— Ни один народ,— начал он, как бы читая по строкам и в то же время продолжая грозно смотреть на Ставрогина,— ни один народ
Бесы «Ррагмент
927
еще не устраивался на началах науки и разума; не было ни разу такого примера, разве на одну минуту, по глупости. Социализм по существу своему уже должен быть атеизмом, ибо именно провозгласил, с самой первой строки, что он установление атеистическое и намерен устроиться на началах науки и разума исключительно. Разум и наука в жизни народов всегда, теперь и с начала веков, исполняли лишь должность второстепенную и служебную; так и будут исполнять до конца веков. Народы слагаются и движутся силой иною, повелевающею и господствующею, но происхождение которой неизвестно и необъяснимо. Эта сила есть сила неутолимого желания дойти до конца и в то же время конец отрицающая. Это есть сила беспрерывного и неустанного подтверждения своего бытия и отрицания смерти. Дух жизни, как говорит писание, «реки воды живой», иссякновением которых так угрожает Апокалипсис. Начало эстетическое, как говорят философы, начало нравственное, как отожествляют они же. «Искание Бога», как называю я всего проще. Цель всего движения народного, во всяком народе и во всякий период его бытия, есть единственно лишь искание бога, бога своего, непременно собственного, и вера в него как в единого истинного. Бог есть синтетическая личность всего народа, взятого с начала его и до конца. Никогда еще не было, чтоб у всех или у многих народов был один общий бог, но всегда и у каждого был особый. Признак уничтожения народностей, когда боги начинают становиться общими. Когда боги становятся общими, то умирают боги и вера в них вместе с самими народами. Чем сильнее народ, тем особливее его бог. Никогда еще не было народа без религии, то-есть без понятия о зле и добре. У всякого народа свое собственное понятие о зле и добре и свое собственное зло и добро. Когда начинают у многих народов становиться общими понятия о зле и добре, тогда вымирают народы, и тогда самое различие между злом и добром начинает стираться и исчезать. Никогда разум не в силах был определить зло и добро, или даже отделить зло от добра, хотя приблизительно; напротив, всегда позорно и жалко смешивал; наука же давала разрешения кулачные. В особенности этим отличалась полунаука, самый страшный бич человечества, хуже мора, голода и войны, не известный до нынешнего столетия. Полунаука — это деспот, каких еще не приходило до сих пор никогда. Деспот, имеющий своих жрецов и рабов, деспот, пред которым всё преклонилось с любовью и суеверием, до сих пор немыслимым, пред которым трепещет даже сама наука и постыдно потакает ему. Всё это ваши собственные слова, Ставрогин, кроме только слов о полунауке; эти мои, потому что я сам только полунаука, а стало быть, особенно ненавижу ее. В ваших же мыслях и даже в самых словах я не изменил ничего, ни единого слова.
928
Ф.М. ДОСТОЕВСКИЙ
— Не думаю, чтобы не изменили,— осторожно заметил Ставрогин; — вы пламенно приняли и пламенно переиначили, не замечая того. Уж одно то, что вы Бога низводите до простого аттрибута народности...
Он с усиленным и особливым вниманием начал вдруг следить за Шатовым, и не столько за словами его, сколько за ним самим.
— Низвожу Бога до атрибута народности? — вскричал Шатов,— напротив, народ возношу до Бога. Да и было ли когда-нибудь иначе? Народ — это тело божие. Всякий народ до тех только пор и народ, пока имеет своего бога особого, а всех остальных на свете богов исключает безо всякого примирения; пока верует в то, что своим богом победит и изгонит из мира всех остальных богов. Так веровали все с начала веков, все великие народы по крайней мере, все сколько-нибудь отмеченные, все стоявшие во главе человечества. Против факта идти нельзя. Евреи жили лишь для того, чтобы дождаться Бога истинного, и оставили миру Бога истинного. Греки боготворили природу и завещали миру свою религию, то-есть философию и искусство. Рим обоготворил народ в государстве и завещал народам государство. Франция в продолжение всей своей длинной истории была одним лишь воплощением и развитием идеи римского бога, и если сбросила наконец в бездну своего римского бога и ударилась в атеизм, который называется у них покамест социализмом, то единственно потому лишь, что атеизм всё-таки здоровее римского католичества. Если великий народ не верует, что в нем одном истина (именно в одном и именно исключительно), если не верует, что он один способен и призван всех воскресить и спасти своею истиной, то он тотчас же перестает быть великим народом и тотчас же обращается в этнографический материал, а не в великий народ. Истинный великий народ никогда не может примириться со второстепенною ролью в человечестве, или даже с первостепенною, а непременно и исключительно с первою. Кто теряет эту веру, тот уже не народ. Но истина одна, а, стало быть, только единый из народов и может иметь Бога истинного, хотя бы остальные народы и имели своих особых и великих богов. Единый народ «богоносец» — это русский народ и... и... и неужели, неужели вы меня почитаете за такого дурака, Ставрогин,— неистово возопил он вдруг,— который уж и различить не умеет, что слова его в эту минуту или старая, дряхлая дребедень, перемолотая на всех московских славянофильских мельницах, или совершенно новое слово, последнее слово, единственное слово обновления и воскресения и... и какое мне дело до вашего смеха в эту минуту! Какое мне дело до того, что вы не понимаете меня совершенно, совершенно, ни слова, ни звука!.. О, как я презираю ваш гордый смех и взгляд в эту минуту!
Бесы <Фрагмент>
929
Он вскочил с места; даже пена показалась на губах его.
— Напротив, Шатов, напротив,— необыкновенно серьезно и сдержанно проговорил Ставрогин, не подымаясь с места,— напротив, вы горячими словами вашими воскресили во мне много чрезвычайно сильных воспоминаний. В ваших словах я признаю мое собственное настроение два года назад, и теперь уже я не скажу вам, как давеча, что вы мои тогдашние мысли преувеличили. Мне кажется даже, что они были еще исключительнее, еще самовластнее, и уверяю вас в третий раз, что я очень желал бы подтвердить всё, что вы теперь говорили, даже до последнего слова, но...
— Но вам надо зайца?
— Что-о?
— Ваше же подлое выражение,— злобно засмеялся Шатов, усаживаясь опять: — «чтобы сделать соус из зайца, надо зайца, чтобы уверовать в Бога, надо Бога», это вы в Петербурге, говорят, приговаривали, как Ноздрев, который хотел поймать зайца за задние ноги.
— Нет, тот именно хвалился, что уж поймал его. Кстати, позвольте однако же и вас обеспокоить вопросом, тем более, что я, мне кажется, имею на него теперь полное право. Скажите мне: ваш-то заяц пойман ли, аль еще бегает?
— Не смейте меня спрашивать такими словами, спрашивайте другими, другими! — весь вдруг задрожал Шатов.
— Извольте, другими,— сурово посмотрел на него Николай Всеволодович; — я хотел лишь узнать: веруете вы сами в Бога или нет?
— Я верую в Россию, я верую в ее православие... Я верую в тело Христово... Я верую, что новое пришествие совершится в России... Я верую...— залепетал в исступлении Шатов.
— Ав Бога? В Бога?
— Я... я буду веровать в Бога.
Ни один мускул не двинулся в лице Ставрогина. Шатов пламенно, с вызовом, смотрел на него, точно сжечь хотел его своим взглядом.
— Я ведь не сказал же вам, что я не верую вовсе! — вскричал он наконец; — я только лишь знать даю, что я несчастная, скучная книга и более ничего покамест, покамест... Но погибай мое имя! Дело в вас, а не во мне... Я человек без таланта и могу только отдать свою кровь и ничего больше, как всякий человек без таланта. Погибай же и моя кровь! Я об вас говорю, я вас два года здесь ожидал... Я для вас теперь полчаса пляшу нагишом. Вы, вы одни могли бы поднять это знамя!.. Он не договорил и как бы в отчаянии, облокотившись на стол, подпер обеими руками голову.
— Я вам только кстати замечу, как странность,— перебил вдруг Ставрогин,— почему это мне все навязывают какое-то знамя? Петр
930
Ф.М. ДОСТОЕВСКИЙ
Верховенский тоже убежден, что я мог бы «поднять у них знамя», по крайней мере мне передавали его слова. Он задался мыслию, что я мог бы сыграть для них роль Стеньки Разина «по необыкновенной способности к преступлению»,— тоже его слова.
— Как? — спросил Шатов,— «по необыкновенной способности к преступлению»?
— Именно.
— Гм. А правда ли, что вы — злобно ухмыльнулся он,— правда ли, что вы принадлежали в Петербурге к скотскому сладострастному секретному обществу? Правда ли, что маркиз де-Сад мог бы у вас поучиться? Правда ли, что вы заманивали и развращали детей? Говорите, не смейте лгать,— вскричал он, совсем выходя из себя,— Николай Ставрогин не может лгать пред Шатовым, бившим его по лицу! Говорите всё, и если правда, я вас тотчас же, сейчас же убью, тут же на месте!
— Я эти слова говорил, но детей не я обижал,— произнес Ставрогин, но только после слишком долгого молчания. Он побледнел, и глаза его вспыхнули.
— Но вы говорили! — властно продолжал Шатов, не сводя с него сверкающих глаз.— Правда ли, будто вы уверяли, что не знаете различия в красоте между какою-нибудь сладострастною, зверскою штукой и каким угодно подвигом, хотя бы даже жертвой жизнию для человечества? Правда ли, что вы в обоих полюсах нашли совпадение красоты, одинаковость наслаждения?
— Так отвечать невозможно... я не хочу отвечать,— пробормотал Ставрогин, который очень бы мог встать и уйти, но не вставал и не уходил.
— Я тоже не знаю, почему зло скверно, а добро прекрасно, но я знаю, почему ощущение этого различия стирается и теряется у таких господ как Ставрогины,— не отставал весь дрожавший Шатов,— знаете ли, почему вы тогда женились, так позорно и подло? Именно потому, что тут позор и бессмыслица доходили до гениальности! О, вы не бродите с краю, а смело летите вниз головой. Вы женились по страсти к мучительству, по страсти к угрызениям совести, по сладострастию нравственному. Тут был нервный надрыв... Вызов здравому смыслу был уж слишком прельстителен! Ставрогин и плюгавая, скудоумная, нищая хромоножка! Когда вы прикусили ухо губернатору, чувствовали вы сладострастие? Чувствовали? Праздный, шатающийся барчонок, чувствовали?
— Вы психолог,— бледнел всё больше и больше Ставрогин,— хотя в причинах моего брака вы отчасти ошиблись... Кто бы, впрочем, мог вам доставить все эти сведения,— усмехнулся он через силу,— неужто Кириллов? Но он не участвовал...
Бесы. <Фрагмент
931
— Вы бледнеете?
— Чего, однако же, вы хотите? — возвысил наконец голос Николай Всеволодович,— я полчаса просидел под вашим кнутом и, по крайней мере, вы бы могли отпустить меня вежливо... если в самом деле не имеете никакой разумной цели поступать со мной таким образом.
— Разумной цели?
— Без сомнения. В вашей обязанности, по крайней мере, было объявить мне, наконец, вашу цель. Я всё ждал, что вы это сделаете, но нашел одну только исступленную злость. Прошу вас, отворите мне ворота.
Он встал со стула. Шатов неистово бросился вслед за ним.
— Целуйте землю, облейте слезами, просите прощения! — вскричал он, схватывая его за плечо.
— Я однако вас не убил... в то утро... а взял обе руки назад...— почти с болью проговорил Ставрогин, потупив глаза.
— Договаривайте, договаривайте! вы пришли предупредить меня об опасности, вы допустили меня говорить, вы завтра хотите объявить о вашем браке публично!.. Разве я не вижу по лицу вашему, что вас борет какая-то грозная новая мысль... Ставрогин, для чего я осужден в вас верить вовеки веков? Разве мог бы я так говорить с другим? Я целомудрие имею, но я не побоялся моего нагиша, потому что со Ставрогиным говорил. Я не боялся окарикатурить великую мысль прикосновением моим, потому что Ставрогин слушал меня... Разве я не буду целовать следов ваших ног, когда вы уйдете? Я не могу вас вырвать из моего сердца, Николай Ставрогин!
— Мне жаль, что я не могу вас любить, Шатов,— холодно проговорил Николай Всеволодович.
— Знаю, что не можете, и знаю, что не лжете. Слушайте, я всё поправить могу: я достану вам зайца!
Ставрогин молчал.
— Вы атеист, потому что вы барич, последний барич. Вы потеряли различие зла и добра, потому что перестали свой народ узнавать... Идет новое поколение, прямо из сердца народного, и не узнаете его вовсе, ни вы, ни Верховенские, сын и отец, ни я, потому что я тоже барич, я, сын вашего крепостного лакея Пашки... Слушайте, добудьте Бога трудом; вся суть в этом, или исчезнете, как подлая плесень; трудом добудьте.
— Бога трудом? Каким трудом?
— Мужицким. Идите, бросьте ваши богатства... А! вы смеетесь, вы боитесь, что выйдет кунштик?
Но Ставрогин не смеялся.
— Вы полагаете, что Бога можно добыть трудом, и именно мужицким? — переговорил он, подумав, как будто, действительно, встретил
932
Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ
что-то новое и серьезное, что стоило обдумать.— Кстати,— перешел он вдруг к новой мысли,— вы мне сейчас напомнили: знаете ли, что я вовсе не богат, так что нечего и бросать? Я почти не в состоянии обеспечить даже будущность Марьи Тимофеевны... Вот что еще: я пришел было вас просить, если можно вам, не оставить и впредь Марью Тимофеевну, так как вы одни могли бы иметь некоторое влияние на ее бедный ум... Я на всякий случай говорю.
— Хорошо, хорошо, вы про Марью Тимофеевну,— замахал рукой Шатов, держа в другой свечу,— хорошо, потом само собой... Слушайте, сходите к Тихону.
— К кому?
— К Тихону. Тихон, бывший архиерей, по болезни живет на покое, здесь в городе, в черте города, в нашем Ефимьевском Богородском монастыре.
— Это что же такое?
— Ничего. К нему ездят и ходят. Сходите; чего вам? Ну чего вам?
— В первый раз слышу и... никогда еще не видывал этого сорта людей. Благодарю вас, схожу.
— Сюда,— светил Шатов по лестнице,— ступайте,— распахнул он калитку на улицу.
— Як вам больше не приду, Шатов,— тихо проговорил Ставрогин, шагая чрез калитку.
Темень и дождь продолжались попрежнему.
VII
«МЫСЛЯЩИЙ ТРОСТНИК» В РУССКОЙ поэзии
Ф. ТЮТЧЕВ
Est in arundineis modulatio musica ripis
Певучесть есть в морских волнах, Гармония в стихийных спорах, И стройный мусикийский ** шорох Струится в зыбких камышах.
Невозмутимый строй во всем, Созвучье полное в природе,— Лишь в нашей призрачной свободе Разлад мы с нею сознаем.
Откуда, как разлад возник?
И отчего же в общем хоре Душа не то поет, что море, И ропщет мыслящий тростник?
И от земли до крайних звезд
Все безответен и поныне
Глас вопиющего в пустыне, Души отчаянной протест?
11 мая 1865
* Есть музыкальная стройность в прибрежных тростниках (лат.).
** Т. е. музыкальный.
О. МАНДЕЛЬШТАМ
Из омута злого и вязкого *
Я вырос, тростинкой шурша,— И страстно, и томно, и ласково Запретною жизнью дыша.
И никну, никем не замеченный,
В холодный и топкий приют, Приветственным шелестом встреченный Коротких осенних минут.
Я счастлив жестокой обидою,
И в жизни, похожей на сон, Я каждому тайно завидую И в каждого тайно влюблён.
Осень 1910,1927
Датировано: Осень 1910. Переработано в 1927. В первом варианте опубл, в Аполлоне, 1911, № 5, с. 33 с дополнительной строфой в конце:
Ни сладости в пытке не ведаю, Ни смысла я в ней не ищу;
Но близкой последней победою, Быть может, за всё отомщу.
М. ЦВЕТАЕВА
Поэма лестницы
Короткая ласка На лестнице тряской. Короткая краска
Лица под замазкой.
Короткая — сказка: Ни завтра, ни здравствуй.
Короткая схватка
На лестнице шаткой, На лестнице падкой.
В доме, где по ночам не спят, Каждая лестница водопад —
В ад...
— стезею листков капустных!
Точно лестница вся из спусков, Точно больше (что — жить! жить — жечь!) Расставаний на ней, чем встреч.
Так, до розовых уст дорваться — Мы порой забываем: здравствуй.
Тех же уст покидая край — Кто — когда — забывал: прощай.
Короткая шутка
На лестнице чуткой, На лестнице гудкой.
938
М. ЦВЕТАЕВА
От грешного к грешной На лестнице спешной Хлеб нежности днешней.
Знаешь проповедь Тех — мест?
Кто работает, Тот — ест.
Дорого в лавках!
Тощ — предприимчив. Спать можно завтра, Есть нужно нынче.
В жизненной давке — Княжеский принцип: Взять можно завтра, Дать нужно нынче.
Взрывом газовым
Час. Да-с.
Кто отказывал, Тот — даст.
Даст!
(Нынче зубаст Газ) ибо за нас — Даст! — (тигр он и барс),
Ящик сорный, Скажут, скажите: вздор. И у черной Лестницы есть ковер.
(Масти сборной, Правда...) Чеснок, коты,— И у черной Лестницы есть Coty*.
* Coty — здесь: аромат (от Коти — названия известной французской парфюмерной фирмы).
Поэма лестницы.
939
Любят сласти-то Червяки теснот! Это — классика: Чердаку — чеснок.
Может, лечатся...
А по мне — так месть: Черной лестницы Черноту заесть.
Стихотворец, бомбист, апаш Враг один у нас: бэль-этаж.
Короткая сшибка На лестнице щипкой, На лестнице сыпкой —
Как скрипка, как сопка, Как потная стопка. Работает — топка!
Короткая встрепка На лестнице шлепкой, На лестнице хлопкой.
Бьем до искр из глаз, Бьем — в лежь.
Что с нас взыскивать? Бит — бьешь.
Владельца в охапку — По лестнице каткой, По лестнице хлипкой —
Торопится папка, Торопится кепка, Торопится скрипка.
— Ох, спал бы и спал бы! Сжевала, сгноила, смолола! Торопятся фалды, Торопятся фалды, Торопятся полы.
940
М. ЦВЕТАЕВА
Судорожь! Сутолочь!
Бег! Приз!
Сами ж путают:
Вверх? вниз?
Что этаж — свой кашель:
В прямой связи.
И у нашей
Лестницы есть низы,
Кто до слез, кто с корнем, Кто так, кхи, кхи — И у черной Лестницы есть верхи.
— Вас бы выстукать!
— Киркой в грудь — ужо!
Гамма приступов
От подвала — до
Крыши — грохают!
Большинством заплат —
Маркса проповедь На стравинский лад *.
Короткая спевка
На лестнице плевкой: Низов голосовка.
Не спевка, а сплевка: На лестницу легких Ни цельного — ловко!
Торопкая склевка.
А ярости — в клохтах!
Работают — ох как!
Что ни бросите —
Все — в ход.
* На Стравинский лад — то есть резкими, диссонирующими звуками, какими, по мнению Цветаевой, отличалась музыка русского композитора И. Ф. Стравинского (1882-1971).
Поэма лестницы
941
Кто не досыта ест —
Жрет.
Стол — как есть домашний:
Отъел — кладут.
И у нашей
Лестницы — карта блюд.
Всех сортов диета!
Кипящий бак —
И у этой Лестницы — Франценсбад *.
Сон Иакова! **
В старину везло! Гамма запахов От подвала — до
Крыши — стряпают!
Ре-ми-фа-соль-си — Гамма запахов!
Затыкай носы!
Точно в аду вита, Раскалена — винта
Железная стружка.
Которая стопка
Ног — с лестницы швыркой?
Последняя сушка,
Последняя топка, Последняя стирка.
Последняя сцепка
Двух — кости да тряпки —
Ног — с лестницей зыбкой
* Франценсбад — в прошлом знаменитый курорт в Австрии (ныне — Франтишкове Лазии в Чехословакии).
** Сон Иакова — по библейскому преданию, Иакову приснилась во сне лестница, один конец которой упирался в землю, другой — в небо; по ней спускались и поднимались ангелы; в это время Бог возвестил Иакову, что потомство его будет бесчисленно, а жизнь — сохранна и благословенна.
942
М. ЦВЕТАЕВА
Последняя папка, Последняя кепка, Последняя скрипка.
Тихо.— Даже — кашель Иссяк, дотряс.
И у нашей
Лестницы есть свой час
Тишины...
Последняя взбежка По лестнице дрожкой. Последняя кошка.
Темнота все стерла И грязь,и нас.
И у черной
Лестницы есть свой час
Чистоты...
Откуда — узнай-ка! — Последняя шайка —
Рейн, рухнувший с Альп,— Воды об асфальт
Двора...
Над двором — узорно: Вон крест, вон гроздь...
И у черной
Лестницы — карта звезд.
Ночь — как бы высказать?
Ночь — вещи исповедь. Ночь просит искренности, Вещь хочет высказаться —
Вся! Все унижены — Сплошь, до недвижимых
Поэма лестницы.
943
Вплоть. Приступ выспренности: Вещь хочет выпрямиться.
Винт черной лестницы — Мнишь — стенкой лепится? Ночь: час молитвенностей: Винт хочет вытянуться.
Высь — вещь падежная.
В вещь — честь заложена.
Ложь вижу выломанной Пря — мою линиею.
Двор — горстка выбоин, Двор — год не выгребен! — Цветами, ягодами — Двор бредит загородом.
Вещь, бросив вежливость: — Есмь мел! Железо есмь!
Не быть нам выкрестами! — Жид, пейсы выпроставший.
Гвоздь, кафель, стружка ли — Вещь — лоно чувствует.
С ремесл пародиями — В спор — мощь прародинная.
Сткло, с полок бережных: — Пе — сок есмь! Вдребезги ж! Сти — хий пощечина!
Сткло — в пыль песочную!
Прочь, ложь и ломанность!
Тю — фяк: солома есмь!
Мат — рас: есмь водоросль!
Все, вся: природа есмь!
Час пахнет бомбою.
Be — ревка: льном была!
Огнь, в куче угольной: — Был бог и буду им!
944
М. ЦВЕТАЕВА
Что сталось с кранами? — Пал — бог и встану им! Чтоб сразу выговорить: Вещь хочет выздороветь.
Мы, с ремеслами, мы, с заводами, Что мы сделали с раем, отданным Нам? Нож первый и первый лом, Что мы сделали с первым днем?
Вещь как женщина нам поверила! Видно, мало нам было дерева, И железо — отвесь, отбей! — Захотелось досок, гвоздей,
Щеп! удобоваримой мелочи!
Что мы сделали, первый сделавши Шаг? Планету, где все о Нем — На предметов бездарный лом?
Мы — с ремеслами, мы — с искусствами!
Растянув на одре Прокрустовом Вещь... Замкнулась и ждет конца Вещь — на адском одре станка.
Слава разносилась реками, Славу утверждал утес.
В мир — одушевленней некуда! — Что же человек привнес?
Нужно же, чтоб он, сей видимый
Дух, болящий бог — предмет Неодушевленный выдумал! Лживейшую из клевет!
Вы с предметами, вы с понятьями, Вы с железом (дешевле платины), Вы с алмазом (знатней кремня), (С мыловаром, нужней меня!)
Поэма лестницы.
945
Вы с «незыблемость», вы с «недвижимость», На ступеньку, которой — ниже нет, В эту плесень и в эту теснь Водворившие мысль и песнь,—
(Потому-то всегда взрываемся!)
Что вы сделали с первым равенством Вещи — всюду, в любой среде —
Равной ровно самой себе.
Дерево, доверчивое к звуку
Наглых топоров и нудных пил, С яблоком протягивало руку. Человек — рубил.
Горы, обнаруживая руды
Скрытые (впоследствии «металл»), Твердо устанавливали:чудо!
Человек — взрывал.
Просвещенная сим приемом, Вещь на лом отвечает — ломом. Стол всегда утверждал, что — ствол. Стул сломался? Нет, сук подвел.
В лакированных ваших клетках Шумы — думаете — от предков? Просто, звезды в окно узрев, Потянулся в пазах орех.
Просыпаешься — как от залпа!
Шкаф рассохся? Нет, нрав сказался Вещи. Дворни домашний бал!
Газ взорвался? Нет, бес взыграл!
Ровно в срок подгниют перильца.
Нет — «нечаянно застрелился».
Огнестрельная воля бдит.
Есть — намеренно был убит
Вещью, в негодованье стойкой.
В пустоту не летит с постройки
946 М. ЦВЕТАЕВА
Камень — навыки таковы:
Камень требует головы!
Месть утеса.— С лесов — месть леса! Обстановочность этой пьесы!
Чем обставились? Дуб и штоф? Застрахованность этих лбов!
Все страхующих — вплоть до ситки Жестяной. Это ты — тростник-то Мыслящий?* — Биллиардный кий! Застрахованность от стихий!
От Гефеста — со всем, что в оном — Дом, а яхту — от Посейдона.
Оцените и мысль, и жест: Застрахованность от божеств!
От Гефеста? А шпиль над крышей — От Гефеста? Берите выше!
Но и тише! От всех в одном: От Зевеса страхуют дом.
Еще плачетесь: без подмоги!
Дурни — спрашивается — боги, Раз над каждым — язык неймет! — Каждым домом — богоотвод!
Бухты, яхты, гешефты, кофты — Лишь одной но ввели страховки: От имущества, только — сей: Огнь, страхующий от вещей.
Вещи бедных. Разве рогожа — Вещь? И вещь — эта доска? Вещи бедных — кости да кожа, Вовсе — мяса, только тоска.
Тростник... мыслящий — слова французского философа Блеза Паскаля (1623-1662) из его известного изречения: «Человек всего лишь слабый тростник... но тростник мыслящий».
Поэма лестницы.
947
Где их брали? Вид — издалека, Изглубока. Глаз не труди!
Вещи бедных — точно из бока: Взял да вырезал из груди!
Полка? случай. Вешалка? случай.
Случай тоже — этот фантом Кресла. Вещи? шипья да сучья,— Весь октябрьский лес целиком!
Нищеты робкая мебель!
Вся — чего? — четверть и треть. Вещь — давно, явно на небе!
На тебя — больно глядеть.
От тебя грешного зренья, Как от язв, трудно отвлечь. Венский стул — там, где о Вене — Кто? когда? — страшная вещь!
Лучшей всех — здесь — обесчещен, Был бы — дом? мало! — чердак Ваш. Лишь здесь ставшая вещью — Вещь. Вам — бровь, вставшая в знак
? — сей. На рвань нудную, вдовью — Что? — бровь вверх (Чем не лорнет — Бровь!) Горазд спрашивать бровью Глаз. Подчас глаз есть — предмет.
Так подчас пуст он и сух он — Женский глаз, дивный, большой, Что — сравните — кажется духом — Таз, лохань с синькой — душой.
Наравне с тазом и с ситом — Да — царю! Да — на суде! — Каждый, здесь званный пиитом, Этот глаз знал на себе!
Нищеты робкая утварь!
Каждый нож лично знаком.
948
М. ЦВЕТАЕВА
Ты как тварь, ждущая утра, Чем-то — здесь, всем — за окном —
Тем, пустым, тем — на предместья — Те — читал хронику краж?
Чистоты вещи и чести Признак: не примут в багаж.
Оттого что слаба в пазах, Распадается на глазах, Оттого, что на ста возах Но свезти...
В слезах —
Оттого что не стол, а муж, Сын. Не шкаф, а наш Шкаф.
Оттого что сердец и душ Не сдают в багаж.
Вещи бедных — плоше и суше: Плоше лыка, суше коряг.
Вещи бедных — попросту — души. Оттого так чисто горят.
Ввысь, ввысь Дым тот легкий! Чист, чист Лак от локтя!
Где ж шлак? Весь — золой Лак, лак Локтевой!
Прям,прям Дым окраин.
Труд — Хам, Но не Каин.
Поэма лестницы.
949
Обшлаг — Вдоль стола. Наш лак Есть смола.
Стол — гол — на вещицы. Стол — локтем вощится, Воск чист, локоть востр. За — стывший пот — воск.
Им, им — ваших спален (Вещим, но не салим!), Им, им так белы Полы — до поры!
Вещи бедных — странная пара Слов. Сей брак — взрывом грозит! Вещь и бедность — явная свара. И не то спарит язык!
Пономарь — что ему слово?
Вещь и нищ. Связь? нет, разлад.
Нагота ищет покрова, Оттого так часто горят
Чердаки — часто и споро — Час да наш в красном плаще!
Теснота ищет — простора (Автор сам в рачьей клешне).
Потолок, рухнув — по росту Стал — уж горб нажил, крался. Правота ищет помоста:
Все сказать! Пусть хоть с костра!
А еще — место есть: нары.
Ни луча. Лучная вонь.
Бледнота ищет загару.
О всем том — помнит огонь.
950
М. ЦВЕТАЕВА
Связь, звучанье парное: Черная — пожарная.
У огня на жалованья Жизнь живет пожарами.
В вечной юбке сборчатой — Не скреби, уборщица!
Пережиток сельскости — Не мети, метельщица!
Красотой не пичканы, Чем играют? Спичками.
Мать, к соседке вышедши, Позабыла спичечный
Коробок... — как вылизан Пол, светлее зеркала!
Есть взамен пожизненной
Смерти — жизнь посмертная!
Грязь явственно сожжена! Дом — красная бузина!
Честь царственно спасена!
Дом — красная купина!
Ваши рабства и ваши главенства Погляди, погляди, как валятся!
Целый рай ведь — за миг удушьица!
Погляди, погляди, как рушатся!
Печь прочного образца! Протопится крепостца!
Все тучки поразнесло! Просушится бельецо!
Поэма лестницы.
951
Пепелище в ночи? Нет — займище! Нас спасать? Да от вас спасаемся ж!
Не топчите златого пастбища!
Нас? Да разве спасают — спасшихся?
Задивившись наутро красное, Это ясень суки выпрастывает!
Спелой рожью — последний ломтичек! Бельевая веревка — льном цветет!..
А по лестнице — с жарко спящими — Восходящие — нисходящие — Радуги...
— Утро
Спутало перья.
Птичье? мое? невемо.
Первое утро — первою дверью Хлопает...
Спит поэма.
Июль 1926
А. АХМАТОВА
Тростник
(Шестая книга стихотворений 1923-1940)
Я играю в них во всех пяти.
Б. Пастернак
И ропщет мыслящий тростник.
Ф. Тютчев
Что отдал — то твое.
Ш. Руставели
Почти от залетейской тени В тот час, как рушатся миры, Примите этот дар весенний В ответ на лучшие дары, Чтоб та, над временами года, Несокрушима и верна, Души высокая свобода, Что дружбою наречена,— Мне улыбнулась так же кротко, Как тридцать лет тому назад... И Сада Летнего решетка, И оснеженный Ленинград Возникли, словно в книге этой Из мглы магических зеркал, И над задумчивою Летой Тростник оживший зазвучал.
Май 1940
Ленинград
* Отдельным изданием не выходила. Существует много вариантов книги. Состав — по варианту плана 1940-х годов (РНБ, см. Источники).
И.СЕВЕРЯНИН
Тютчев
(из книги «Медальоны»)
Мечта природы, мыслящий тростник *, Влюбленный раб роскошной малярии **, В душе скрывающий миры немые, Неясный сердцу ближнего, поник. Вечерний день осуеверил лик, В любви последней *** чувства есть такие, Блаженно безнадежные. Россия Постигла их. И Тютчев их постиг.
Не угасив под тлеющей фатою Огонь поэтов, вся светясь мечтою, И трепеща любви, и побледнев, В молчанье зрит страна долготерпенья, Как омывает сорные селенья Громокипящим Гебы кубком**** гнев.
1926
* Мыслящий тростник — из стих. Тютчева « Певучесть есть в морских волнах».
** Реминисценция из стихотворения « Malaria».
*** Имеется в виду стихотворение « Последняя любовь».
**** Перифраз из стихотворения «Весенняя гроза».
П. В. ДАШКОВА
Произнесемте: мыслящий тростник
Человек — самый слабый тростник во вселенной, но тростник мыслящий. Незачем всей природе вооружаться, чтобы погубить его.
Блез Паскаль
Произнесемте: мыслящий тростник. Не важно, на каком поет болоте. Продолжимте: зачем же всей природе Вооружаться, чтобы он затих?
Он слаб, тростник. Довольно пустяка. Щелчок случайный равен катастрофе. Месье Паскаль, у вас остынет кофе, Пока решится участь тростника. Как вам живется, геометр Блез, Во Франции семнадцатого века? Фонарное подрагивает веко, На свете осень. Холодно до слез.
Как нравится вам, Блез, осенний блюз? Вот соло самозванца-саксофона, Вот бас-гитара улыбнулась сонно, А вот тарелок взбалмошный союз. Вступает фортепиано. Шаг. Рысца. Почти кавалергардская осанка.
Но эта тема тает без остатка.
Нам не узнать победного конца. У месяца стекает по усам Блюз довоенный, век полувоенный.
Произнесемте: мыслящий тростник
955
Он слаб, тростник. Зачем же всей вселенной, Когда, месье Паскаль, он может сам?
В карманы руки. Уши в воротник.
Толпа под листопадом ждет трамвая.
Вы говорите — мыслящий тростник?
Я по-французски плохо понимаю.
1984
X. ОЛЬШВАНГ
Шесть стихотворений о «мыслящем тростнике»
-1 -
Давно не нарушаемая тишь.
Дома по краю озера. Такою предстала старость тростнику. И лишь свой собственный заслыша треск, легко и без муки просыпается, затем, чтобы забыться вновь.
Не уставая, кровь струится вдоль спины его, нагретой косым теплом.
Ни мысли о былом, ни горечи, ни страха усыханья,— таким предстанет мыслящий тростник окно приотворившему. На миг задержанное временем дыханье.
— 2 —
«Дома в сумерках, цвета неба, отворены для мотыльков, слепней, неразборчивых строк и чего-то ещё, плывущего к ним извне, боязливо...» —
— из дневника.— «...но штрих по кромке волны темней». « ...ноль, лунка в песке — начало луча, паучьего шага, лет, проведённых у окон... » Растущий со скоростью скорби свет.
Шесть стихотворений о «мыслящем тростнике»
957
-3-
Плечами заслонив ночь комнаты от ночи за окном, невнятный силуэт посередине рамы с белеющим воротником, внимает скрежету озерных цикад. Он видит: мятые углы кустов, и вдруг, как от пилы — срез наверху. Луна. И, чёрный, дождь рушится, как дерево, со свистом, « Как дерево на дно » — и с этой мыслью смотрящий удаляется. Окно.
-4-
Творимые ливнем круги. Ось — тростник. Циркулем чертит вкось от себя, один за другим, крутясь: облако,озеро, гром. В бок наклонясь — ореолы лун, очерк стебля. И о валун тростник оплетает корни во мгле земли. Скоро стихнет. Уже вдали показалось небо, и, медленно взмыв с воды, выпь облетает озеро.
-5-
Если ты, вглядевшись в своё лицо поутру, убедишься в том, что настала старость, что морщины твои повторяют рисунок озерной воды, вокруг рта проросла трава, и сродни усталость, изнутри толкающая висок, той, что облаком движет, склоны скул серы, будто песок,
958
X. ОЛЬШВАНГ
и неподвижны губы, сомкнувшись за прошлым словом, и проступает дверной проём, в коем робко столпились вещи, приседая, прильнув друг к другу, стремясь уместиться в нём, навечно запечатленный хлам, готика паутины, затеняя зримое по углам, придает зеркалу вид картины, перспективу которой старость сводит почти на нет, вдруг становится всё единым: окно, зеркало, озеро, твой портрет, треснувший в середине.
-6-
ТРОСТНИК (шепотом): Божья трость. Башня рыб. Древко знамён небесных. Тропа крови. Спинная кость. Позвоночник озера. Спица в клубке. Отвесный громоотвод. Улика. Весть.
Тонкое вещество. Закладка в волнах книги. Шнур от колокола, натяженье между тишью и звоном его, вдох, весь ты.
Последняя мысль, позади оставляющая надежду.
4 мая 2000 — 24 октября 2002, Нью-Йорк
И. ГУБЕРМАН
Паскаль бы многое постиг,
Увидь он и услышь, Как пьяный мыслящий тростник Поет «Шумел камыш».
В. ХАЛТОМА
Человек — тростинка малая, Слабосильная, усталая, Но мыслительной способностью Затеняет все огромности.
ПРИЛОЖЕНИЕ
<«Пари Г1аскаля»>
<Фрагмент>
3. Бесконечность — небытие
<...> Теперь поговорим об этом с точки зрения теории естественнонаучной.
Если Бог существует, Он бесконечно непостижим, поскольку, будучи неделим и беспределен, во всем отличен от нас. Итак, нам не дано знать, какова Его суть и есть ли Он. Но, признав это, кто дерзнет отрицать или утверждать Его бытие? Не мы, ибо ни в чем не соотносимы с Ним.
Как же можно осуждать христиан за то, что они не способны разумно обосновать свои верования,— они, исповедующие веру, не поддающуюся разумным обоснованиям? Христиане во всеуслышание заявляют, что их вера — нелепость, stultitia”,— а вы после этого жалуетесь, что они ничего не доказывают! Начни христиане доказывать бытие Божие, они были бы нечестны, а вот говоря, что никаких доказательств у них нет, они тем самым проявляют здравый смысл.
— Ну хорошо, но даже если ваш довод оправдывает тех, кто подобным образом излагает христианское вероучение, и снимает с них обвинение в бездоказательности, он ни в коем случае не оправдывает тех, кто сию бездоказательность покорно принимает.
— Что ж, рассмотрим это возражение и скажем так: «Бог либо есть, либо Его нет». Какой же ответ мы изберем? Разум нам тут не помощник: между нами и Богом — бесконечность хаоса. На самом краю этой бесконечности идет игра — что выпадет, орел или решка? На что вы поставите? Если внять разуму — ни на то, ни на другое; если внять разуму — выбор неправомерен.
Не осуждайте же за лицемерие того, кто сделал выбор и поставил на Вездесущего, ибо вы и сами не знаете правильного ответа.
— Не знаю и поэтому предаю осуждению не за тот или иной выбор, а за выбор вообще: неправильно ставить на Бога, неправильно ставить против Него, любой выбор равно неправилен. Единственный правильный путь — вообще воздержаться от выбора.
* Пер. Э. Липецкой.
** Глупость, нелепость (лат.).
964
ПРИЛОЖЕНИЕ
— Да, но не выбирать нельзя. Не спрашивая вашего согласия, вас уже засадили за эту игру. Так на что вы поставите? Давайте подумаем. Поскольку выбор неизбежен, подумаем, что вас меньше затрагивает. Вам грозят два проигрыша: в одном случае проигрыш истины, в другом — блага, на кон поставлены две ценности — ваш разум и ваша воля, знания и вечное блаженство, меж тем как ваше естество равно отвращается и от заблуждения, и от безмерных мук. На что бы вы ни поставили, разум смирится с любым выбором — ведь отказаться от игры никому не дано. Так что тут все ясно. Но как быть с вечным блаженством? Взвесим наш возможный выигрыш или проигрыш, если вы поставите на орла, то есть на Бога. Сопоставим тот и другой: выиграв, вы выиграете все, проиграв, не потеряете ничего. Ставьте же, не колеблясь, на Бога!
— Превосходное рассуждение! Да, выбирать, пожалуй, придется, но не слишком ли многим я при этом рискую?
— Давайте подумаем. Мы уже знаем, каковы шансы на выигрыш и проигрыш, поэтому вам был бы полный смысл ставить на Бога, даже если бы вы взамен одной жизни выигрывали только две (ведь не играть вы все равно не можете), тем паче три; в этой принудительной игре с подобными шансами на выигрыш и проигрыш было бы величайшим неблагоразумием отказаться рискнуть одной жизнью ради возможных трех! А ведь на кону вечная жизнь и вечное блаженство! Будь у вас один шанс из бесконечного множества, вы и то были бы правы, ставя одну жизнь против двух, и, с другой стороны, действовали бы очень неосмотрительно, отказавшись поставить одну против трех, ну а что говорить о шансе, пусть одном из бесконечного множества, выиграть бесконечно блаженную бесконечную жизнь! В нашем же случае у вас шанс выиграть бесконечно блаженную бесконечную жизнь против конечного числа шансов проиграть то, что все равно идет к концу. Этим все и решается: если выигрыш — бесконечность, а возможность проигрыша конечна, нет места колебаниям, нужно все ставить на кон. Таким образом, поскольку хотим мы того или не хотим, а играть все равно приходится, давайте откажемся от разума во имя жизни, рискнем этим самым разумом во имя бесконечно большого выигрыша, столь же возможного, сколь возможен и проигрыш, то есть небытие.
Ибо нет резона говорить, что выигрыш сомнителен, а риск несомненен, что бесконечность расстояния между несомненностью поставленного на кон и сомнительностью выигрыша вполне уравнивает конечное благо, которым человек, несомненно, рискует, с благом бесконечным, но сомнительным. Это пустая отговорка: в любой игре риск несомненен, а выигрыш сомнителен, тем не менее игрок идет на этот несомненный риск ради сомнительного выигрыша, ничуть не погрешая против разума. Неправда, что между такой несомненностью всего, что можно проиграть, и сомнительностью всего, что можно выиграть, пролегает бесконечное расстояние. Оно действительно пролегает, но лишь между несомненностью выигрыша и несомненностью проигрыша. Что же касается сомнительности выигрыша, то она прямо пропорциональна несомненности поставленного на кон, согласно соотношению между возможностью выигрыша и возможностью проигрыша. Отсюда вывод: если шансов выиграть столько же, сколько шансов проиграть, игра идет
«Пари Паскаля»
965
на равных и, значит, несомненность того, что стоит на карте, равна сомнительности выигрыша; другими словами, расстояние между ними отнюдь не бесконечно. Поэтому, когда речь идет об игре с подобными шансами на выигрыш и проигрыш, с риском проиграть конечное и выиграть бесконечное, наше утверждение обладает бесконечной доказательностью. Это очевидно, и если людям доступна хоть какая-то истина — вот она перед вами.
— Признаю вашу правоту и целиком с вами согласен. Но нет ли какого- нибудь способа выяснить, что кроется за этой игрой?
— Есть: чтение Евангелия и пр., и т. д.
— Все это так, но мне связали руки и заткнули рот, не дают вольно вздохнуть, меня принуждают играть и лишают свободы выбора, а я так устроен, что не могу уверовать. Что же прикажете мне делать с собой?
— Понимаю вас. Но постарайтесь по крайней мере понять, что если сам разум толкает вас к вере, а вы все равно не способны уверовать, значит, причина подобной неспособности — в ваших собственных страстях. Старайтесь преодолеть себя, но не с помощью умножения доказательств бытия Божия, а с помощью обуздывания страстей. Вы хотите прийти к вере, но не знаете пути, хотите исцелиться от безбожия и просите лекарств: учитесь у тех, кто был так же несвободен, как вы, а потом постепенно поставил на кон все свои блага; эти люди нашли путь, который вы ищете, исцелились от недуга, от которого вы жаждете исцелиться. Начните с того, с чего начали они: во всем поступайте так, словно уже уверовали, окропляйте себя святой водой, просите отслужить мессу и т.д. И вы невольно проникнетесь верой и перестанете умничать.
— Но этого-то я и боюсь.
— А чего тут бояться? Что вы теряете?
И чтобы вы уяснили себе, насколько правильно такое поведение, добавлю: оно поможет вам обуздать ваши страсти — камни преткновения на пути к вере.
Конец этого рассуждения.— Итак, чем вы рискуете, сделав такой выбор? Вы станете честным, неспособным к измене, смиренным, благодарным, творящим добро человеком, способным к нелицеприятной, искренней дружбе. Да, разумеется, для вас будут заказаны низменные наслаждения — слава, сладострастие,— но разве вы ничего не получите взамен? Говорю вам, вы много выиграете даже в этой жизни, и с каждым шагом по избранному пути все несомненнее будет для вас выигрыш и все ничтожнее то, против чего вы поставили на несомненное и бесконечное, ничем при этом не пожертвовав.
— Ваше рассуждение приводит меня в восторг, восхищает! и т.д.
— Если оно вам нравится, если убеждает вас, знайте: так рассуждает человек, не перестающий коленопреклоненно молить за вас То высшее, неделимое Существо, Которому целиком покорно его собственное существо, чтобы и вы в свою очередь покорились Ему ради вашего блага и ради славы оного человека; вот так сила сочетается с подобной низменностью.
КОММЕНТАРИИ
I
ПАСКАЛЬ В РУССКОЙ КРИТИКЕ
Е. М. Кляус, И. Б. Погребысский, У. И. Франкфурт От Паскаля до нас
Печатается по: Кляус Е. М., Погребысский И. Б., Франкфурт У. И. Паскаль. 1623-1662. М., 1971. Гл. XII. С. 254-333.
Кляус Евегений Михайлович — физик, специалист в области истории науки, сотрудник издательства «Наука», автор многочисленных работ о знаменитых физиках (Бор, Планк, Эйнштейн), написанных, как правило, в соавторстве с Франкфуртом и Погребысским.
Погребысский Иосиф Бенедиктович (1906-1971) — советский математик, доктор физико-математических наук, историк науки. С 1962 г. работал в Институте истории естествознания и техники АН СССР.
Франкфурт Ушер Иойнович (1908-1982) — физик, историк науки. С середины 1950-х гг. сотрудничал с Институтом истории естествознания и техники АН СССР, занимаясь историей науки и издательской деятельностью. Область научных интересов — теория термоэлектричества, история и философия физики. Составитель «Эйнштейновских сборников», книг из серии «Классики науки», сборников по истории физики и механики. Автор книг по истории физики и научных биографий, в том числе книги о X. Гюйгенсе, Дж. В. Гиббсе (обе — в соавторстве с А. М. Френком), Г. Гельмгольце (в соавт. с А. В. Лебединским и Френком), Г. А. Лоренце, Н. Боре (обе — в соавт. с Е. М. Кляусом и Френком), Б. Паскале (в соавт. с Кляусом и И. Б. Погребысским), М. Планке (в соавт. с Кляусом) и др.
Комментарии
967
Г. Я. Стрельцова
Атеистическая традиция. И. С. Тургенев
Печатается по: Стрельцова Г. Я. Паскаль и европейская культура. М., 1994. С. 321-330.
Стрельцова Галина Яковлевна (р. 1937) — специалист в области истории философии, культурологии и этики; доктор философских наук, профессор. Кандидатская диссертация — «Критика концепции диалектики Жана-Поля Сартра» (1968), докторская диссертация — «Философия Блеза Паскаля и современность» (1986). В трудах Стрельцовой особое внимание уделяется проблемам диалектики, гуманизма, человеческой духовности, интуиции и разума, свободы человека, субъекта и структур нравственного сознания, соотношения западной философии и русской культуры. В отдельную область исследований она выделила «метафизику сердца», идущую в Новое время от Паскаля и самобытно развитую такими русскими мыслителями, как И. Киреевский, А. Хомяков, Ф. Достоевский, П. Юркевич, П. Флоренский, И. Ильин, Б. Вышеславцев, супруги Рерих, Л. Андреев и др. Опора на «феномен сердца» в учении о человеке, сфере морали, а также и в постижении истины и самого Бога — в противовес «отвлеченно рассуждающему разуму» в западной метафизике — рассматривается Стрельцовой как глубинная основа, « душа русской культуры ».
Метафизика сердца
Печатается по: Стрельцова Г. Я. Паскаль и европейская культура. М., 1994. С. 374-401.
Б. Н.Тарасов
Л. Н.Толстой и Паскаль
Печатается по: Тарасов Б. Н. «Мыслящий тростник». Жизнь и творчество Паскаля в восприятии русских философов и писателей. М., 2004. С. 552-590.
Тарасов Борис Николаевич (р. 1947) — русский писатель, доктор филологических наук, ректор Государственного литературного института им. А. М. Горького. Заслуженный деятель науки РФ, член Правления Союза писателей России, лауреат Международной литературной премии имени Ф. М. Достоевского, Всероссийской литературной премии им. Ф. И. Тютчева, Всероссийской премии им. А. С. Хомякова. Автор биографий Паскаля и Чаадаева (Тарасов Б. H. 1) Паскаль. М.: Молодая гвардия, 1979. (ЖЗЛ; Вып. 599); 2) Н. Чаадаев. М.: Молодая гвардия, 1986. (ЖЗЛ; Вып. 670)), работ о Хомякове, Тютчеве и Чаадаеве.
968
Комментарии
И. Е. Бабанов
Блез Паскаль
Очерк жизни и творчества
Печатается по: Паскаль Блез. Мысли. СПб., 1995. С. 421-475.
Бабанов Игорь Евгеньевич (1936—1994) — российский историк, переводчик, культуролог; в его переводе и с его комментариями вышли «История искусства древности» Винкельмана, «Переписка» Гете и Шиллера в 2-х томах и другие произведения.
С. В. Власов
Первое знакомство с «Мнениями Паскаля» в России: перевод Псевдо-Паскаля в «Утреннем свете» Н. И. Новикова (1779)
Печатается впервые.
Власов Сергей Васильевич — кандидат филологических наук, доцент, заведующий кафедрой французского языка Санкт-Петербургского государственного университета. Область научных интересов: история русско-французских литературных связей, история и теория французского и русского языков, история лингвистических учений, история преподавания французского языка и французской литературы в России.
II
СТАТЬИ О ПАСКАЛЕ
И. Г. Бутовский
О жизни Паскаля и его сочинениях
Впервые: Паскаль В. Мысли. СПб., 1843. Печатается по этому изданию. С. 1-49 В статье произведены изменения в соответствии с современными нормами орфографии, грамматики и пунктуации. Имена собственные, равно как и стилистические особенности соответствуют подлиннику.
Бутовский Иван Григорьевич (1785 — ок. 1859) — писатель и переводчик. Он был первым переводчиком избранных отрывков из «Мыслей» Паскаля («Мысли» Паскаля, СПб., 1843), которые он сопроводил нижеследующей статьей, впервые представившей Паскаля русскоязычному читателю. Он также перевел: «Разговоры в царстве мертвых древних и новейших лиц» Фонтенеля (СПб., 1821), «Историю крестовых походов» Мишо (СПб., 1835; 2-е изд., 1841). Его оригинальные сочинения: «Об открытии памятника Императору Александру!» (СПб., 1834), «Фельдмаршал князь Кутузов-Смоленский при конце и начале своего боевого поприща» (СПб., 1858) и статьи в «Русском инвалиде» конца 1850-х гг.
Комментарии
969
Статья представляет собой сильно сокращенный перевод «Рассуждения о жизни и трудах Паскаля» аббата Шарля Боссю (1730-1814) —математика, первого издателя полного собрания сочинений Паскаля в четырех томах, вышедшего в Гааге в 1779 г. Однако впервые эта статья без указания имени автора была опубликована в предпринятом Кондорсе издании «Мыслей», вышедшем в 1776 г. Боссю был хорошо знаком с Кондорсе. Статья Боссю была опубликована отдельно в 1781 г. в Гааге и Париже (Bossut Ch. Discours sur la vie et les ouvrages de Pascal. La Haye et se trouve à Parie chez Nyon l’aîné, 1781). Многие отрывки из этой стать дословно переведены Бутовским, который значительно сокращает изложение научных и религиозных идей Паскаля. (Pascal В. Oeuvres. La Haye: chez Detune, libraire. 1779. P. 3-119.) Эта же статья была переиздана с комментариями в более доступном издании: Pascal В. Les Provinciales, ou Lettres de Louis de Montalte: In 21. Paris: Firmin Didot, 1819. T. LP. I-C.
1 Французское имя Блэз предложено в его русском аналоге — Власий. Паскаль был назван в честь брата отца, который был его крестным.
2 Клермон-Ферран — город и коммуна на юге центральной части Франции, столица региона Овернь и префектура (административный центр) департамента Пюи-де-Дом.
3 Паскаль Этьен (1588-1651) — выбранный королевский советник, а позднее второй президент Палаты сборов в Клермоне, знаток математики и астрономии. Переехал в Париж вместе с детьми в 1632 г. Покинув службу, он посвятил себя образованию Блеза и двух его сестер — Жильберты, в замужестве г-жи Перье (1620-1685), в будущем первого биографа Паскаля, и Жаклины, самого близкого для Паскаля человека (1625-1661).
4 По свидетельству г-жи Перье, интерес к геометрии проявился у Паскаля, когда ему еще не было двенадцати лет, однако отец уделял большее внимание изучению иностранных языков, пряча от сына книги по математике, и юный Паскаль не знал даже названий геометрических фигур, которые так привлекали его.
5 Это произошло в 1634-1635 гг., когда Паскаль также написал «Трактат о звуках». Указанное предложение содержится в трактате Евклида (Эвклида) (ок. 300 г. до н. э.) «Начала», с которым отец познакомил Паскаля уже позднее.
6 Сестра Паскаля, напротив, утверждает, что единственным учителем брата был его отец.
7 Арифметическая (т. е. счетная) машинка была задумана Паскалем для облегчения расчетов отца в 1642 г. Над ее созданием юный ученый проработал два года.
8 В 1642 г. у Паскаля появились первые признаки болезни.
9 Галилей Галилео (1564-1642) — итальянский физик, механик, астроном, философ и математик, оказавший значительное влияние на науку своего времени. Галилей — основатель экспериментальной физики. Своими экспериментами он убедительно опроверг умозрительную метафизику
970
Комментарии
Аристотеля и заложил фундамент классической механики. Галилей считал, что предельная высота водяного столба 18 локтей является мерой «боязни пустоты». «Так как медь в девять раз тяжелее воды, то сопротивление разрыву медного стержня, обусловленное боязнью пустоты, равняется весу двух локтей стержня той же толщины»,— писал Галилей в «Беседах». Другими словами, «боязнь пустоты» (т. е. сила атмосферного давления) уравновешивается либо весом водяного столба в 10 метров, либо весом медного столба высотой в 1,12 метра, составляя, по оценке Галилея, около 1 килограмма на квадратный сантиметр. Таким образом, практики с достаточной точностью оценили силу атмосферного давления, и подсчеты Галилея правильны, хотя интерпретация его наблюдения, сделанного итальянскими мастерами, носит еще схоластический характер. Необходимо было сделать дальнейший шаг. Его сделал Торричелли.
10 Торричелли Эванджелиста (1608-1647) — итальянский математик и физик, ученик Галилея. Известен как автор концепции атмосферного давления и продолжатель дела Галилея в области разработки новой механики. До середины XVII в. считалось непререкаемым утверждение древнегреческого ученого Аристотеля о том, что вода поднимается за поршнем насоса потому, что «природане терпит пустоты». Однако при сооружении фонтанов во Флоренции обнаружилось, что засасываемая насосами вода не желает подниматься выше 34 футов. Недоумевающие строители обратились за помощью к престарелому Галилею, который сострил, что, вероятно, природа перестает бояться пустоты на высоте более 34 футов, но все же предложил разобраться в этом своим ученикам — Торричелли и Вивиани. Трудно сказать, кто первым догадался, что высота поднятия жидкости за поршнем насоса должна быть тем меньше, чем больше ее плотность. Так как ртуть в 13 раз плотнее воды, то высота ее поднятия за поршнем будет во столько же раз меньше. Тем самым опыт получил возможность «перейти» со стройплощадки в лабораторию и был проведен Вивиани по инициативе Торричелли. Осмысливая результаты эксперимента, Торричелли делает два вывода: пространство над ртутью в трубке пусто (позже его назовут «торричеллиевой пустотой»), а ртуть не выливается из трубки обратно в сосуд потому, что атмосферный воздух давит на поверхность ртути в сосуде. Из этого следовало, что воздух имеет вес. Это утверждение казалось настолько невероятным, что не сразу было принято учеными того времени.
11 Паскаль с энтузиазмом принялся за дальнейшие эксперименты, пытаясь обобщить выводы Торричелли. Он использовал трубки различных форм, заполнял их различными жидкостями и устраивал публичные демонстрации. Однако чрезмерное усердие привело к серьезному недугу. В 1647 г. Паскаль вернулся в Париж, где встретился с Рене Декартом и опубликовал «Новые опыты, касающиеся пустоты» (Expriences nouvelles touchant le vide). В конце 1647 г. он просит своего зятя, Флорена Перье, провести барометрические испытания у подножия и на вершине горы Пюи-де-Дом, возвышавшейся над Клермон-Ферраном. Эти знаменитые эксперименты, проведенные лишь в сентябре 1648 г., открыли путь систематическим исследованиям в области
Комментарии
971
гидродинамики и гидростатики, которые разрушили старые представления о том, что природа «боится» пустоты. В ходе этих экспериментов Паскалю удалось сделать ряд изобретений (в частности, шприца и гидравлического пресса) и внести усовершенствования в конструкцию барометра. Гидравлический пресс действовал на основе физического закона, впервые сформулированного Паскалем и носящего его имя: при действии поверхностных сил давление во всех точках внутри жидкости одинаково. Самая глубокая научная работа Паскаля, «Трактат о пустоте», не была опубликована; после его смерти были обнаружены только ее фрагменты.
12 В 1651 г. Флорен Перье пишет своему зятю Паскалю, что один иезуит из коллежа Монферран, отец Медай, в своем письме от 25 июня обвинил его в плагиате, сославшись на то, что миланский капуцин, отец Маньи, сделал подобный опыт раньше. (Attali J. Blaise Pascal ou Le génie français. P.: Fayard, 2000. P. 161.)
13 Декарт Рене (1596-1650) — французский математик, философ, физик и физиолог, создатель аналитической геометрии и современной алгебраической символики, автор метода радикального сомнения в философии, механицизма в физике, предтеча рефлексологии. В 1637 г. издал «Рассуждение о методе» с приложениями «Геометрия», «Диоптрика», «Метеоры». Считал пространство материальным, а причиной движения — вихри материи, возникающие, чтобы заполнить пустоту (которую считал невозможной и поэтому не признавал атомов), или от вращения тел. Знакомство Паскаля с Декартом состоялось 23-24 сентября 1647 г.
14 Архимед (287 до н. э. — 212 до н. э.) — древнегреческий математик, физик, механик и инженер из Сиракуз. Сделал множество открытий в геометрии. Заложил основы механики, гидростатики, автор ряда важных изобретений. Знаменитый закон Архимеда изложен в сочинении «О плавающих телах», где он доказывает, что тела одинакового удельного веса с жидкостью (он называет их «равнотяжелыми с жидкостью») погружаются настолько, что их поверхность совпадает с поверхностью жидкости. Более легкое тело погружается настолько, что объем жидкости, соответствующий погруженной части тела, имеет вес, равный весу всего тела. Путем логических рассуждений Архимед приходит к предположениям, содержащим формулировку его закона: «Тела более легкие, чем жидкость, опущенные в эту жидкость насильственно, будут выталкиваться вверх с силой, равной тому весу, на который жидкость, имеющая равный объем с телом, будет тяжелее этого тела. Тела более тяжелые, чем жидкость, опущенные в эту жидкость, будут погружаться, пока не дойдут до самого низа, и в жидкости станут легче на величину веса жидкости в объеме, равном объему погруженного тела». В остальных предложениях первой и второй книги Архимед разбирает условия равновесия тел, плавающих в жидкости, причем тела имеют форму сферического или параболического сегмента.
15 Стевин Симон (1548-1620) — фламандский математик-универсал, инженер. Симон Стевин стал известен прежде всего своей книгой «Десятая» (De Thiende), изданной на фламандском и французском языках в 1585 г. Именно
972
Комментарии
после нее в Европе началось широкое использование десятичных дробей. Новый подход к статическим проблемам мы находим в его классическом труде «Начала статики». Особенно важна часть трактата Стевина, посвященная гидростатике. Для изучения условий равновесия тяжелой жидкости Стевин пользуется принципом отвердевания — равновесие не нарушится, если части уравновешенного тела получат дополнительные связи, отвердеют. Поэтому, выделив мысленно в массе тяжелой жидкости, находящейся в равновесии, произвольный объем, мы не нарушим этого равновесия, считая жидкость в этом объеме отвердевшей. Тогда она представит собой тело, вес которого равен весу воды в объеме этого тела. Поскольку тело находится в равновесии, на него со стороны окружающей жидкости действует сила, направленная вверх, равная его весу. Так как окружающая тело жидкость остается неизменной, то если это тело заменить любым другим телом той же формы и объема, она всегда действует на тело с силой, равной весу жидкости в объеме тела.
16 Речь идет о двух трактатах Паскаля: «Трактат о равновесии жидкостей» и «Трактат о тяжести воздушной массы», написанных в 1651 г., а напечатанных в 1663 г. зятем Паскаля, Флореном Перье в Париже. При жизни Паскаля выходит лишь «Рассказ о великом опыте по равновесию жидкостей» (1648). На русский язык научные труды Паскаля почти не переводились.
17 Напротив, многие работы по геометрии были написаны ранее, так, «Эссе о конических сечениях» было опубликовано в Париже в 1640 г. Работ, названных автором, не существует.
18 «Расширение Галльского Апполония» (лат.).
Под псевдонимом Галльского Апполония Франсуа Виет (François Viéte, Viette, Franciscus Vieta) (1540-1603) — французский юрист, математик, создатель символической алгебры, опубликовал в 1600 г. сочинение «Francisci Vietae Apollonius Gallus». Предполагают, что псевдоним был взят в честь древнегреческого математика Аполлония Пергского, решавшего ту же задачу о касаниях, что и Франсуа Виет.
Аполлоний Пергский (ок. 260-170 до н. э.) — древнегреческий математик и астроном, ученик Евклида. В основном труде «Конические сечения» (8 книг) дал полное изложение их теории. Он ввел понятия параболы, гиперболы и эллипса и дал их теорию, сохранившуюся в практически неизменном виде до XVII в. Среди других его достижений — решение задачи о построении окружности, касающейся трех заданных окружностей, которая получила название окружности Аполлония.
19 «Сферические касания», «Конические касания», «Положения ясные и прочные», «Методические перспективы» (лат.).
Все эти работы Паскаля не сохранились. Они были положены в основу более поздних трактатов о конических сечениях.
20 Обвинение Бутовского вряд ли справедливо, учитывая старания сестры, зятя и племянников Паскаля по сохранению его наследия.
21 Речь идет о «Трактате об арифметическом треугольнике и относящихся к данной теме трактатов», написанных в 1654 г. и опубликованных в 1665 г.
Комментарии
973
22 Арифметический треугольник Паскаля представляет собой треугольную числовую таблицу, по бокам которой стоят единицы, а внутри — суммы двух верхних чисел. Он использовался для составления биномиальных коэффициентов и лег в основу бинома Ньютона (1642-1727) — формулы, выражающей любую целую положительную степень суммы двух слагаемых (бинома, двучлена) через степени этих слагаемых.
23 Речь идет о сформулированном Паскалем «математическом ожидании» — среднем значении, которое используется в теории вероятностей и является важнейшей характеристикой распределения значений случайной величины X.
24 Принцип математического ожидания был найден Паскалем при изучении игры в кости по просьбе его приятеля Мере.
25 Маргарита Перье пишет, что у ее дяди случился паралич нижней части туловища, и « его ноги были холодными, как мрамор ». (Perier M. Mémoire sin- la vie de Pascal // Pascal B. Oeuvres complètes. P. / éd: de la Pléiade. P. 37.)
26 Жаклин уходит в монастырь Пор-Руаяля в 1652 г. и становится монахиней в 1653 г. Пор-Рояль или Пор-Руаяль (Port-Royal) — женский монастырь, был основан около Парижа в 1204 г. В 1625 г. от него отделился монастырь, обосновавшийся в самом Париже (Port-Royal de Paris); оставшийся же в старом здании монастырь стал называться Пор-Руаяль-в-Полях (Port-Royal des Champs). Благодаря усилиям и личным связям аббатиссы Анжелики Арно и ее братьев в XVII в. оба монастыря стали значительными центрами французской литературы и философской мысли, с 1630-х гг., а также центрами янсенизма, привлекая к себе просвещенную молодежь для научных занятий и литературных бесед. Мужчины селились по соседству с основной женской обителью.
27 Светский период Паскаля длился около двух лет — с 1652 г. по сентябрь 1654 г. К этому времени относится его дружба с герцогом де Роанне, Мере и Митоном. Артюс Гуфье (1627-1696) — губернатор Пуату, последний герцог де Роаннэ из рода Гуфье, один из самых близких друзей Блеза Паскаля. В 1654 г. на церемонии коронования Людовика XIV герцог нес шпагу короля. Он познакомился с Паскалем в 1652 г. Между герцогом и ученым завязались дружеские отношения, подкрепленные общими интересами: воспитанный дедом в духе эпикуреизма, де Роанне, тем не менее, интересовался вопросами религии, а также был увлечен математикой. Паскаль часто гостил в доме герцога, где для него была выделена особая комната. Герцог де Роанне был одним из акционеров общества по осушению болот Пуату, куда привлек также Паскаля. Под влиянием Паскаля проникся идеями янсенизма и резко изменил свою жизнь: отказался от брака с богатой наследницей мадемуазель де Меем и собирался стать отшельником Пор-Рояля, сложив с себя губернаторские полномочия. Подобные перемены не нашли поддержки в семье герцога, асам Паскаль вследствие этого чуть не лишился жизни: однажды в его комнату в доме герцога ворвался слуга с кинжалом. От смерти ученого спасло лишь то, что в тот день он покинул дом раньше обыкновенного. В 1658 г. герцог де Роанне убедил Паскаля, к тому времени почти отошедшего от научной
974
Комментарии
деятельности и не собиравшегося предавать свои открытия гласности, опубликовать решения задач, связанных с исследованием циклоиды. В 1662 г. герцог возглавил предприятие по устройству в Париже дешевого общественного каретного движения (кареты получили позднее название омнибусов), идею создания которого подал Паскаль. После смерти Паскаля в 1662 г. Роанне предпринял попытку издать его философские труды.
28 Нёйи-сюр-Сен — коммуна в департаменте О-де-Сен, на юге примыкающая к Булонскому лесу — западной окраине Парижа. С этим эпизодом жизни Паскаля связывают его страх перед «бездной», преследовавший его всю жизнь, однако его истинность ничем не подтверждена.
29 Речь идет о знаменитом «Мемориале» или «Амулете», записанном в ночь на 23 ноября 1654 г.
30 По свидетельству сестры, Паскаль ограничивал себя во всем, отказавшись от каких бы то ни было удовольствий. См. об этом далее в статье И. Г. Бутовского.
31 Орден Иезуитов' официальное название «Общество Иисуса» (лат. Societas Jesu) — мужской монашеский орден Римско-католической церкви, основанный в 1534 г. Игнатием Лойолой и утвержденный Павлом III в 1540 г. Иезуиты сыграли большую роль в контрреформации, активно занимались наукой, образованием и миссионерской деятельностью. Члены Общества Иисуса наряду с тремя традиционными обетами (бедности, послушания и целомудрия) дают и четвертый — послушания папе римскому « в вопросах миссий». Девизом ордена является фраза «Admaiorem Dei gloriam» («К вящей славе Божией»).
32 Реформаторы католической церкви: Лютер Мартин (1483-1546) — христианский богослов, инициатор Реформации, переводчик Библии на немецкий язык. Его именем названо одно из направлений протестантизма; Кальвин Жан (1509-1564) — французский богослов, реформатор церкви, основатель кальвинизма.
33 Аврелий Августин (354-430) — Блаженный Августин, святитель Августин — епископ Гиппонский, философ, влиятельнейший проповедник, христианский богослов и политик. Святой католической и православных церквей (при этом в православии обычно именуется с эпитетом блаженный — Блаженный Августин, что, однако, является лишь наименованием конкретного святого, а не более низким ликом, чем святость, как понимается этот термин в католицизме). Один из отцов Церкви, основатель августи- низма. Родоначальник христианской философии истории. Христианский неоплатонизм Августина господствовал в западноевропейской философии и католической теологии до XIII в., когда он был заменен христианским аристотелизмом Альберта Великого и Фомы Аквинского. Некоторая часть сведений об Августине восходит к его автобиографической «Исповеди». Его самый известный теологический и философский труд — «О граде Божием». Он защищает (против Пелагия) учение о предопределении: человеку заранее предопределено Богом блаженство или проклятие.
34 Молина Луи де (1535-1600) — испанский богослов и философ, иезуит, основоположник молинизма — учения, согласно которому Бог не предо¬
Комментарии
975
пределяет свободного волеизъявления человека, но заранее знает о его результатах.
35 Суарес Франсиско (1548-1617) — испанский философ и политический мыслитель. Изучал юридические науки, затем вступил в орден иезуитов и был профессором богословия в Сеговии, Алкале, Саламанке и Риме. Его ученость была необъятна; его память поражала всех; его диалектика воскрешала цветущую эпоху схоластической философии. Суареса не без основания называют последним из схоластов, он не был расположен к тем новым приемам мышления, которые создавались в его эпоху. Силлогизм и ссылка на авторитеты — его главные аргументы; единственное, что у него более или менее оригинально,— это то, что авторитет Аристотеля отступает на задний план перед авторитетом классиков схоластики. Главное произведение Суареса — трактат «De legibus», в котором он близко следует Фоме Аквинскому и который представляет собой энциклопедию схоластической философии, всестороннее знакомящую со всем строем средневековой католической мысли, с ее воззрениями на все области человеческого знания.
36 Доминиканский орден, орден братьев-проповедников (Ordo fratrum praedicatorum,) — католический монашеский орден, основанный испанским монахом святым Домиником (1170-1221). В 1214 г. вокруг св. Доминика в Тулузе образовалась первая община. Устав был утвержден двумя годами позже папой Гонорием III. Орден быстро распространился во Франции (здесь доминиканцы поначалу назывались якобитами, потому что первая резиденция ордена в Париже была при церкви св. Иакова), Испании и Италии. Важнейшим направлением деятельности доминиканцев было углубленное изучение теологии с целью подготовки грамотных проповедников. Центрами ордена стали Париж и Болонья — два крупнейших университетских города Европы.
37 Речь идет о Congregatio de Auxiliis (лат. — Конгрегация помощи), основанной папой Клементием VIII в конце XVI в. для разрешения теологических споров по вопросу о Божьей милости, возникших между доминиканцами и иезуитами.
38 Янсений Корнелий (1585-1638) — знаменитый голландский епископ, основатель католического богословского учения, известного как янсенизм. Учился в Париже и Лёвене, где в 1617 г. возглавил новый католический колледж. Янсения особенно занимали вопросы свободы воли и божественной благодати. В 1630 г. он стал профессором богословия в Лёвене и учил здесь в духе строгого августинизма. Уже в это время ему неоднократно приходилось вступать в спор с иезуитами по поводу различных догматических вопросов. Янсений выставлял философию Аристотеля виновницей пелагианской ереси и утверждал, совершенно в духе Августина, что человеческая природа порочна, что свободы воли не существует, что спасение человека зависит не от дел его, а от искупляющей силы божественной благодати, что спасутся только те, которые предопределены к спасению. Хотя Янсений считал себя католиком, кое в чем, включая догмат о предопределении, он сходился с Жаном Кальвином. При жизни Янсений обнародовал несколько мелких богословских сочинений, в которых полемизировал с иезуитами, а в 1635 г.
976
Комментарии
выпустил памфлет, в котором осуждал Ришельё за поддержку протестантов во время Тридцатилетней войны. Учение Янсения, изложенное в его книге об Августине, сделалось основанием янсенизма. В 1653 г. янсенизм был осужден Папой Иннокентием X.
39 «Августин» (лат.).
40 Сен-Сиран, аббат (наст, имя — дю Вержье 1581-1643) — французский церковный деятель, друг и соратник Янсения, глава французских янсенистов. В 1620 г. дю Вержье получает аббатство Сен-Сиран-эн-Бренн. Ришелье консультировался у него по вопросам теологии и отзывался в ту пору о нем, как о «самом ученом муже Европы». Со временем Сен-Сиран оставил занятия наукой, убежденный, что страсть к знанию скорее повредила ему «ибо усилия в интеллектуальном плане возбуждают лишь гордость, вызываемую похвалами тех, кого свет именует своими мудрецами». Он выступал против компромиссов, расслабленности, «обмирщения» церковной жизни, завоз- рождение чистоты раннехристианского учения. С 1623 г. поддерживал отношения с Пор-Роялем, стал духовником аббатиссы Анжелики Арно, проводившей в монастыре реформу монашеской жизни. С 1636 г. он становится настоятелем Пор-Рояля. Обладая даром духовного наставника, оратор, владеющий кратким, но убедительным слогом, прямолинейный и цельный человек, Сен-Сиран снискал себе поклонников, в том числе из аристократических и ученых кругов. При загородном Пор-Рояле, который в качестве резиденции избрал Сен-Сиран, образовалось поселение отшельников — людей, оставивших светские обязанности, но не принявших монашеского обета. 15 мая 1638 г. Сен-Сиран был обвинен в ереси и арестован по приказанию Ришельё. Бумаги, принадлежащие аббату, досконально изучили, однако ничего противозаконного в них не обнаружили. Сен-Сиран находился в заключении в Венсеннском замке пять лет и был освобожден только после смерти Ришельё и незадолго до своей собственной смерти.
41 Иезуиты, у которых коммерческие соображения всегда играли очень большую роль, опасались, как бы янсенисты не отбили у них педагогической и исповедальной практики; к тому же они были раздражены нападками на их учение со стороны Антуана Арно. Они немедленно стали приводить в движение тайные пружины, и хлопоты их увенчались успехом. Злополучный «Августин» Янсения был еще раз привлечен к ответу. Иезуиты извлекли из книги несколько тезисов, которые были представлены на суд Сорбонны. Богословы парижского университета выделили из них пять, касающихся, главным образом, учения о благодати, и они были представлены уже на суд курии. Несмотря на защиту со стороны янсенистов, тезисы были признаны еретическими и осуждены буллой Иннокентия X «Cum occasione» (1653). Против буллы янсенисты не решались спорить, но они стали доказывать, что осужденные пять положений либо вовсе не находятся в «Августине» Янсения, либо не имеют того смысла, который навлек на них осуждение; исходя из этого, они находили, что доктрина Янсения не осуждена. Доказательство вел главным образом Николь с помощью тонких аргументов, вроде различия вопросов права и факта по отношению к церковным
Комментарии
977
решениям. Папа Александр VII подтвердил постановление Иннокентиях, и определенно указал на то, что осужденные положения находятся у Янсения и имеют у него именно тот смысл, который им приписан буллой 1653 г. (булла «Adsacram», 1656).
42 Булла Александра II рассматривала те же положения, что и булла Иннокнетия X 1653 г. Осужденные положения были составлены Исааком Абером, епископом Вабрским, приближенным Ришелье. Они якобы вытекали из Augustinus, что оспаривали янсенисты, которые также осуждали данные положения, утверждая, однако, что их нет у Янсения. Вот эти положения: 1) Некоторые указания Бога невозможны для праведных, несмотря на все их усердие, а Божья милость, которая сделала бы их возможными, им также не дана; 2) Человек, который находится в падшем состоянии, не может сопротивляться внутренней благодати; 3) Чтобы заслужить или не заслужить благодать, грешному человеку не необходимо иметь свободу, лишенную принуждения; 4) Полупелагийцы допускают необходимость внутренней благодати для каждого действия, даже для начала веры, но они были еретиками, желая, чтобы благодать была такой, чтобы воля человека не могла сопротивляться или покоряться; 5) Полупелагийцы утверждали, что Иисус Христос умер или что он пролил свою кровь за всех людей, за исключением одного.
43 Ришелье Арман Жан дю Плесси, герцог де, Кардинал Ришелье, прозвище «Красный герцог» (1585-1642) — французский кардинал и государственный деятель. Кардинал Ришелье был государственным секретарем с 1616 годаи главой правительства («главным министром короля»)с 1624 г. до своей смерти.
44 Венсеннский замок был построен для королей Франции в XIV-XVII вв. в Венсенском лесу, на месте охотничьего поместья XII в., построенного королем Людовиком VII. Во времена французских религиозных войн XVI в. замок стал тюрьмой для высокородных преступников, в том числе — для будущего короля Генриха IV. В XVII в. по приказу Людовика XIV были построены два павильона — один предназначался для вдовствующей королевы, другой — для кардинала Мазарини. Однако после того, как внимание короля отвлек новый проект — Версаль, работы по обустройству новых дворов были заброшены, и в XVIII в. короли навсегда покинули замок.
45 Мазарини Джулио (1602-1661) — церковный и политический деятель и первый министр Франции (1642-1650, 1651-1661). Заступил на пост по протекции королевы Анны Австрийской после смерти кардинала Ришелье.
46 Рец Поль де Гонди, кардинал де (1613-1679), предназначенный к духовной карьере, он изо всех сил старался достичь в ней как можно больших высот, став уважаемым проповедником. Он назначается Анной Австрийской коадъютором архиепископства Парижа в 1643 г. Когда в 1648 г. начинается Фронда, он сразу становится одним из вождей так называемой парламентской Фронды, стремясь не только к устранению ненавистного кардинала Мазарини, но и к ограничению королевской власти и реформированию режима. В 1652 г. Рец был арестован и заключен в Венсеннский замок, откуда в 1654 г. его
978
Комментарии
переводят в Нант, где ему удается организовать дерзкий побег. Начинаются годы его скитаний по Италии, Германии, Голландии, Фландрии, Англии, несмотря на то, что многие видные деятели ходатайствуют о его примирении с французским двором. Только после смерти ненавистного ему кардинала Мазарини, Рец, в 1662 г., идет на соглашение с королем Людовиком XIV и возвращается на родину. В 1675 г. Рец письменно заявил о своем отказе от сана кардинала и в качестве простого монаха-бенедиктинца удалился в монастырь Мийель, где стал вести аскетический образ жизни, занимаясь благотворительностью, иногда посещая вверенное ему аббатство Сен-Дени, где он и умирает в 1679 г. Людовик XIV, мстя ему и после смерти, запретил поставить надгробие над могилой Реца в Сен-Дени.
47 Арно Антуан (1612-1694), прозванный Великим — теолог, философ и математик, главный учёный общины и доктор Сорбонны, крупнейший из деятелей янсенизма во Франции, один из основателей монастыря Пор- Руаяль. Автор «Логики» (совместно с П. Николем) и «Общей и рациональной грамматики» (совместно с К. Лансло). Будучи одним из наиболее опасных противников иезуитов, он был вынужден покинуть родину из-за преследований и бежать в Нидерланды в 70-х гг.. Он умер в Бельгии в 1694 г. Бутовский использует архаическое написание фамилии — Arnauld.
48 Николь Пьер (1625-1695) — известный французский моралист и богослов. Занимаясь в Париже изучением богословия и древнееврейского языка, Николь сблизился с Пор-Роялем, стал там профессором и принимал деятельное участие во всех трудах Пор-Рояля — «Логике», «Общей грамматике» и др., а также в его религиозной полемике. Друг и сотрудник А. Арно. Преследования, которым подвергались янсенисты, его единомышленники, и страх перед иезуитами, которых раздражили его нападки, вынудили его бежать в 1658 г. в Германию и Нидерланды. Вернувшись на родину, он всецело погрузился в свой любимый и главный труд: «Эссе о морали» — собрание небольших рассуждений о вопросах этики и религии. Полемика по-прежнему привлекала Николя, но, изменив свои воззрения, он высказывался по преимуществу против протестантов. От янсенистов он отрекся совершенно; произведения, написанные им в последний период его жизни, рассорили его с прежними друзьями по Пор-Роялю.
49 Противостояние между иезуитами и янсенистами обострилось в 1655 г., когда известный своими симпатиями к учению Янсения пэр Франции герцог де Лианкур не получил отпущения от своего духовника. Арно опубликовал «Письмо знатной особе», где осуждал действия духовника, во втором «Письме к герцогу и пэру» он продолжил дискуссию с иезуитами. Письмо содержало разъяснение взглядов противников и сторонников янсенистов. Оно было представлено иезуитами на рассмотрение комиссии теологического факультета Сорбонны. Заседание комиссии происходило с декабря 1655 по январь 1656 г. Правительственные круги и папа римский были заинтересованы в завершении споров в пользу иезуитов. На заседаниях комиссии присутствовал канцлер Сегье. Стороны с самого начала были поставлены в неравное положение. Иезуиты добились превосходства в дискуссии нарушениями устава (к ко¬
Комментарии
979
миссии присоединились монахи нищенствующих орденов) и ограничением времени для выступления янсенистов, а самому Арно слово не было предоставлено. 14 января 1656 г. Арно был осужден и на протяжении двадцати лет не имел возможности что-либо публиковать во Франции. Эти письма подтолкнули Паскаля к написанию «Провинциальных писем».
50 Сорбонна — университет, основанный в XII в. в Париже, один из крупнейших университетов Европы. Сорбонна в это время продолжала оставаться оплотом догматизма и схоластики.
51 См. вступит статью к данному изданию.
52 Еще в разгар работы Паскаля над письмами парижские служители церкви на специальной ассамблее обсуждали темы, поднятые в них с тем, чтобы осудить либо их автора, либо иезуитов. Ответом ордена на движение протеста против казуизма, развернувшееся во Франции, стала книга отца Пиро «Апология казуистов против янсенистов». В ней защищались наиболее спорные положения казуизма, эта защита сопровождалась клеветой в адрес противников иезуитов. «Апология...» была настолько неудачна, что вызывала неудовольствие даже у представителей ордена, а в 1659 г. была зачислена в Индекс запрещенных книг. Впоследствии многие из казуистических положений были осуждены Ватиканом в 1665 и 1679 гг.
53 Вольтер, критиковавший Паскаля в своих «Философских письмах», называл эту книгу «первой гениальной книгой, написанной прозой» и отмечал, что «этому произведению суждено было создать эпоху в окончательном оформлении языка», а Бальзак назвал этот труд «бессмертным образцом для памфлетистов».
54 Вольтер (наст, имя — Франсуа-Мари Аруэ; 1694-1778) — один из крупнейших французских философов-просветителей XVHI в., поэт, драматург, прозаик, сатирик, историк, публицист, правозащитник, один из наиболее ярких философов Просвещения.
55 Мольер (наст, имя — Жан Батист Поклеен; 1622-1673) — комедиограф Франции и новой Европы, создатель классической комедии, актер, режиссер и директор театра. Автор известных комедий «Тартюф», «Дон Жуан», «Скупой» и др.
56 Боссюэ Жак Бенинь (1627-1704) — знаменитый французский проповедник и богослов XVII в., писатель, прославившийся своими «Надгробными проповедями», принесшими ему славу одного из замечательных стилистов Франции.
57 Вольтер посвятил «Мыслям» Паскаля двадцать пятое письмо своих «Философских писем» (1733), где он пишет: «Мне представляется, что в целом настроение, в котором г-н Паскаль писал эти мысли, можно определить как стремление показать человека в одиозном свете. Он упорно старается изобразить всех нас дурными и жалкими: он выступает против человеческой природы почти в том же духе, как он выступает против иезуитов; он приписывает существу нашей природы то, что присуще лишь некоторым из людей; он сыплет красноречивыми инвективами по адресу человеческого рода. Я осмеливаюсь
980
Комментарии
стать за защиту человечества против этого возвышенного мизантропа; я осмеливаюсь утверждать, что мы не так злы и не так жалки, как он говорит».
58 Паскаль задумал написать «Апологию христианской религии», первый набросок которой представил друзьям из Пор-Рояля осенью 1658 г. Это сочинение вначале мыслилось как полемическое, однако по мере того, как Паскаль углублялся в свой материал, вышло за намеченные пределы. По-видимому, сначала Паскаль предполагал написать сочинение против свободомыслящих; опровержение их взглядов потребовало изложения и обоснования неких основных исходных тезисов, и здесь возник план истинной апологии — книги, утверждающей торжество христианства. Во исполнение этого Паскаль сосредоточил свое внимание на доказательстве следующих трех тезисов: христианство представляет собой единственно истинную религию; христианская религия отнюдь не противоречит разуму, но, напротив, полностью согласуется с ним; христианская религия — и только она! — ведет к подлинному благу. Христианство, по мысли Паскаля, основывается на совершенном знании человеческой природы и его установления во всем отвечают требованиям сердца и разума. Он работал над своим трудом до конца жизни, так и не успев завершить — он остался в виде записей (названных при издании фрагментами) на отдельных листах бумаги — так называемых « связок », лишь частично им классифицированных по темам и в соответствии с замыслом «Апологии». Множество других фрагментов не имело прямого к ней отношения и касалось, в общем, философских воззрений Паскаля: о природе, человеке, познании, различных направлениях в философии и др. Эти записи (выборочно, с целью прославить Паскаля) были впервые опубликованы Пор-Роялем в 1669 г. под названием « Мысли г. Паскаля о религии и о некоторых других предметах».
59 Циклоиде посвящен рад трактатов Паскаля, созданных в 1658 г.
60 Роберваль Жиль (наст, фамилия — Персонье; 1602-1675) — французский математик, член Парижской Академии наук (с 1666 г.). Наряду с Б. Кавальера разработал метод «неделимых», близкий по идеям к анализу бесконечно малых. Этот метод Роберваль применил для определения длин дуг многих кривых линий, площадей фигур с криволинейными границами, а также объемов некоторых тел. Роберваль предложил способ для проведения касательной к кривой, основанный на рассмотрении кривой как траектории сложного движения. Занимался также исследованиями в области механики, высшей алгебры, астрономии, физики.
61 Интегральное и дифференциальным исчисления составляют основу математического анализа. Именно в XVII столетии в математике и механике были получены классические результаты фундаментального значения в трудах таких ученых, как Исаак Ньютон, Готфрид Лейбниц, Леонард Эйлер и др., которые заложили основу современного математического анализа.
62 «Мысли» Паскаля были изданы Этьеном Перье в 1670 г. в Пор-Рояле.
63 В кавычках Бутовский дословно цитирует изложение плана Паскаля, предложенное Боссю в его вышеуказанной статье.
64 Perier F. La vie de monsieur Pascal // Pascal B. Oeuvres complètes. P.: Bibliothèque de la Pléiade. 1954. P. 12. Цитата переведена самим Бутовским.
Комментарии
981
65 «Письма к провинциалу» Паскаля пользовались большим успехом. Однако враги янсенистов стали действовать более энергично: Пор-Рояль подвергся обыску, ничего компрометирующего найдено не было, но после выхода пятого письма отшельники были вынуждены покинуть загородную резиденцию монастыря. Были закрыты янсенистские школы. Само существование монастыря находилось под угрозой: власти намеревались рассеять духовников и монахинь по другим обителям. В это тяжелое для пор-рояльской общины время произошло событие, не только смягчившее его положение, но и сделавшее Пор-Рояль еще более популярным. Маргарита Перье, воспитанница парижского Пор-Рояля, племянница и крестница Паскаля, уже несколько лет страдала от фистулы в углу левого глаза. Язва разъела кость носа и нёбо, гной отравлял девочку, к ее голове нельзя было прикоснуться, не причинив боли. Врачи были бессильны и считали, что Маргарите поможет лишь прижигание. 24 марта 1656 г. во время вечерней молитвы монахини как обычно целовали реликвию, хранившуюся в Пор-Рояле. Это была колючка (святое терние) из тернового венца Христа. Одна из монахинь посоветовала девочке приложить терние к больному глазу. Исполнив это, Маргарита возвратилась в келью и сообщила своей соседке, что перестала чувствовать боль: «Святое терние вылечило меня». Через несколько дней, по словам одного из отшельников Пор-Рояля, Маргарита Перье настолько излечилась, что исповедник монахинь «принял один глаз задругой».
Это невероятное событие поразило и вдохновило Паскаля. По словам Жильберты Перье, ее брат « был чрезвычайно утешен тем, что божья сила проявляется с такою очевидностью во времена, когда вера, казалось, погасла в сердцах большинства людей. Радость его была так велика, что ум его отдался этому чуду всецело, и у него явилось много удивительных мыслей о чудесах, которые, представив для него религию в новом освещении, удвоили любовь и уважение, всегда питаемые им к предметам веры». Паскаль даже изменил свою печать: теперь на ней были изображены небо и терновый венец с надписью Scio cui credidi — Знаю, кому поверил (ап. Павел). Церковные власти организовали следственную комиссию для проверки обстоятельств излечения девочки, в нее вошли самые знаменитые врачи и ученые того времени. В течение полугода комиссия собирала свидетельства об этом необычайном происшествии. В библиотеке Мазарини хранится один из протоколов свидетельских показаний, собираемых комиссией, подписанный Блезом Паскалем. В октябре факт исцеления был признан. После этого положение пор-рояльской общины заметно облегчилось.
66 Г-жа Перье пишет о «жестокой колике, лишившей сна» ее брата (Perier Mme. Ор. cit. P. 31), а племянница завершает свой рассказ результатами медицинского вскрытия: все внутренности (печень, желудок, кишечник) были подвержены гангрене, но самое удивительное врачи нашли в строении черепа, где не было ламбовидного шва, что, по всей видимости, и вызывало головные боли, терзавшие Паскаля всю жизнь (Pascal В. Oeuvres coplètes. P. 41).
67 Ошибка Бутовского или опечатка: Паскаль скончался 19 августа.
68 Вероятно, автор намекает на критическое восприятие идей Паскаля Вольтером (см. выше) и Дидро в «Философских мыслях».
982
Комментарии
69 Кондорсе так пишет в своей «Похвале Паскалю»: «Его воображение, прочно сохранявшее единожды полученные впечатления, было до конца жизни подвержено беспричинному ужасу» (Pensées de Pascal. Londres, 1776. P 23). Взгляд на Паскаля, как на помешанного, высказанный Лейбницем, Вольтером и другими энциклопедистами XVIII в., был в продолжение долгого времени господствующим.
И. В. Киреевский
Сочинения Паскаля, изданные Кузенем
Впервые: Полное собрание сочинений И. В. Киреевского. Т. 1-2. М.: А. И. Кошелев, 1861. Печатается по: Киреевский И. В. Критика и эстетика. М„ 1979. С. 230-234.
Киреевский Иван Васильевич (1806-1856) — прозаик, критик, публицист, теоретик литературы, издатель. Получив блестящее домашнее образование, Киреевский в восемнадцать лет поступил на службу в Московский главный архив Иностранной коллегии. Его друзьями и сослуживцами стали «архивные юноши» (Д. и А. Веневитиновы, В. Титов, С. Шевырев, В. Одоевский), как и Киреевский, жадно тянувшиеся к философскому знанию. Тогда же, в 1824 г., «архивные юноши» и близкие к ним молодые люди создали «Общество любомудрия». Поражение декабристов привело к роспуску кружка. Киреевский оставил службу и решил посвятить себя литературе, он рассматривал литературные занятия как способ служения народу и обществу. Литературное творчество Киреевского стало реализацией этого принципа. Вслед за Новиковым он пытается выработать в читателях сознательное отношение к культурным и духовным ценностям, объединить общество, показав ему общие цели и идеалы. Уже в ранних критических статьях Киреевского заметно желание постичь закономерности, которым подчиняется развитие литературы и в целом искусства. Он прослеживает смену определенных стадий в литературном процессе, различает их не только в плане содержания, но и в плане формы. В1830 г. Киреевский предпринял путешествие за границу, слушал лекции Гегеля, Окена, Шеллинга, Шлейермахера, Ганса, Риттера, и др., с некоторыми из них (Гегелем, Океном и Шеллингом) познакомился лично. Вернувшись в Россию в 1831 г., он приступает к изданию своего журнала «Европеец», который хотел превратить «в аудиторию европейского университета». В 1845 г. Киреевский становится неофициальным редактором «Москвитянина», журнала, издававшегося М. П. Погодиным и бывшего органом «официальной народности». Желая преодолеть кружковую ограниченность, он пригласил участвовать в журнале Т.Н. Грановского и А. И. Герцена. Он писал Грановскому: «Я желал бы своего «Москвитянина» сделать журналом хорошим, чистым, благородным, сочувствующим всему, что у нас есть благородного, чистого и хорошего». Однако из-за разногласий с Погодиным, не желавшим передавать право издания, Киреевский выпустил только три номера «Москвитянина» и отказался от обязанностей редактора.
Комментарии
983
1 Кузен Виктор (1792-1867) — французский философ-идеалист и политический деятель. Преподавал философию (1814-1820) в Высшей нормальной школе, позднее стал ее директором. В 1817-1818 гг. и 1824 г. посетил Германию, лично познакомился с Г. Гегелем и Ф. В. Шеллингом. В 1828- 1851 гг. был профессором философии в Сорбонне. Сторонник конституционной монархии, Кузен состоял при Луи Филиппе членом Государственного совета; пэр Франции, с 1830 г. член Французской академии, с 1832 г. член Академии моральных и политических наук, а в 1840 г. — министр просвещения. Проведенные им реформы преследовали цель сближения университетов с церковью. Философские взгляды Кузена в целом носят эклектический характер. Кузен утверждал, что все философские истины уже высказаны, поэтому задача философии заключается лишь в критическом отборе истин из прежних философских систем на основе «здравого смысла». Кузен боролся против материализма, особенно французского материализма XVIII в., основой которого он считал сенсуализм Э. Кондильяка. Он способствовал популяризации истории философии и развитию интереса к ней. Ему принадлежат переводы Платона на французский язык, а также издание сочинений Платона, Прокла, П. Абеляра, Б. Паскаля, Р. Декарта и др. мыслителей. Кузен познакомил французских читателей с философией И. Канта, Шеллинга, Гегеля.
2 Кузен восстановил текст книги Паскаля «Мысли» в 1843 г.
3 Рамбуйе Вивон Катрин, маркиза де (1588-1665) — французская аристократка, хозяйка одного из первых литературных салонов в Париже. С 1604 г. она принимает в своем особняке де Альд на улице Сен-Тома-дю-Лувр сначала одна, а затем с дочерьми, известных политических и литературных деятелей — Ришелье, Малерба, Вожла, Ларошфуко, Вуатюра, Жоржа и Мадлен де Скюдери, Пьера Корнеля и др. В литературных салонах зародились такие жанры, как максима и портрет.
4 О Николе и Арно см. коммент. 46 и 47 к статье Бутовского. Лансело Клод (1616-1695) — затворник Пор-Рояля, преподаватель греческого и математики, известный как блестящий педагог, наставник юных принцев де Конти. Автор методик изучения разных иностранных языков, автор «Мемуаров, касающихся жизни г-на де Сен-Сирана» (опубл. 1738), в аббатстве которого он прожил много лет, приняв там сан.
Леместр или Леметр (1608-1658) — французский юрист, писатель и переводчик, сторонник янсенизма. Внук Антуана Арно.
Саси Луи-Исаак (наст, имя — Луи-Исаак Леметр, брат Антуна Леметра; Саси — анаграмма имени Исаак: Saci — Isaac; 1613-1684) — французский богослов и писатель, ученик и последовать дю Вержье (Сен-Сирана). В возрасте 37 лет принял священство и сделался духовником в Пор-Рояле. Когда в 1661 г. началось преследование отцов Пор-Рояля, он вынужден был скрыться, но не прерывал сношений с Пор-Роялем; в 1666 г. был заключен в Бастилию. Во время трехлетнего своего заключения приступил к переводу на французский язык Библии, его помощниками в этом деле были брат его, известный оратор Антуан Леметр, Арно, Николь и герцог де Люинь.
984
Комментарии
Тилемон Бреденбах (1544-1587) — немецкий историк, доктор богословия. Из его сочинений самым замечательным трудом считается: «История ливонской войны» (1558). Впоследствии она переиздавалась и переводилась на разные языки.
5 Лонгвиль де (урожд. Анна-Женевьева Бурбон-Конде; 1619-1679) — сестра великого принца Конде. Когда началась Фронда, герцогиня де Лонгвиль стала во главе недовольных (1649) и привлекла на свою сторону принца Марсильяка (Ларошфуко), Конде, Конти. Во время трехмесячной осады столицы она имела громадное влияние на противников двора. Когда вожди восстания были арестованы в Париже в январе 1650 г., она спаслась бегством в Стенэ, главную квартиру Тюренна, которого склонила на сторону Фронды. Она издала манифест против двора, вступила в переговоры с Испанией и другими иностранными дворами о присылке вспомогательных войск. При возобновлении борьбы между Конде и двором она бежала в Бордо. Утомленная и разочарованная, она покорилась в 1653 г. и с тех пор жила в уединении, занимаясь благотворительностью и поддерживая янсенистов. Кузен посвятил ей два произведения: «Юность г-жи де Лонгиль» и «Г-жаде Лонгвиль во время Фронды».
6 Гарлей Роберт, граф Оксфордский (1661-1724) — английский политический деятель. Во время революции 1688 г. он вместе с отцом собрал конный отряд для поддержки Вильгельма Ш и занял для него город Ворчестер. Избранный в 1689 г. в палату общин, Гарлей, по семейной традиции, примкнул к вигам, но скоро перешел на противоположную сторону, протестуя главным образом против внешней политики Вильгельма III, и уже в 1698 г. заменил Монтегью в руководстве Палатой общин. Его близким другом был Дж. Свифт.
7 Тюренн виконт де, Анри де Ла Тур д’Овернъ (1611-1675) — знаменитый французский полководец, маршал Франции (1643) и главный маршал Франции (1660). Принял католическую веру незадолго перед смертью.
8 Саль Франсуа де, известный как Святой Франциск Сальский (1567- 1622) — католический святой, епископ Женевы, учитель Церкви, основатель конгрегации визитанток. Известен своими трудами о духовной жизни, в особенности «Введением в благочестивую жизнь».
9 Руссо Жан-Жак (1712-1778) — французский писатель, философ. Руссо впервые в политической философии попытался объяснить причины социального неравенства и его виды, иначе осмыслить договорный способ происхождения государства. Он полагал, что государство возникает в результате общественного договора, согласно которому верховная власть в государстве принадлежит всему народу ( « Общественный договор», 1762). Вместе с Вольтером считается одним из провозвестников французской буржуазной революции.
10 Людовик XIV де Бурбон, известный как «король-дитя», а затем — «король-солнце», также Людовик XIV Великий (1638-1715) — король Франции и Наварры с 14 мая 1643 г. Царствовал 72 года — дольше, чем какой-либо другой европейский король в истории (из монархов Европы дольше у власти были только некоторые правители мелких княжеств Священной Римской империи). Людовик, в детские годы переживший войны Фронды, стал убежденным сторонником принципа абсолютной монархии и божественно¬
Комментарии
985
го права королей, укрепление своей власти он сочетал с удачным подбором государственных деятелей на ключевые политические посты. Царствование Людовика, время значительной консолидации единства Франции, ее военной мощи, политического веса и интеллектуального престижа, период высочайшего расцвета культуры, вошло в историю как Великий век. Вместе с тем долголетние военные конфликты, в которых Франция участвовала во время правления Людовика Великого, привели к повышению налогов, что тяжелым бременем легло на плечи населения и вызвало народные восстания, а отмена Нантского эдикта, призывавшего к веротерпимости внутри королевства, привела к эмиграции тысяч гугенотов из Франции. Армия Людовика XIV была самой многочисленной, лучше всего организованной и руководимой. Его дипломатия господствовала над всеми европейскими дворами. Французская нация своими достижениями в искусстве и науках, в промышленности и торговле достигла невиданных высот. Версальский двор (Людовик перенес королевскую резиденцию в Версаль) стал предметом зависти и удивления почти всех современных государей, старавшихся подражать великому королю даже в его слабостях. При дворе был введен строгий этикет, регламентирующий всю придворную жизнь. Версаль стал центром всей великосветской жизни.
11 Речь идет о Тридцатилетней войне (1618-1648) — одном из первых общеевропейских военных конфликтов, затронувшем в той или иной степени практически все европейские страны (в том числе и Россию), за исключением Швейцарии. Война началась как религиозное столкновение между протестантами и католиками Германии, но затем переросла в борьбу против гегемонии Габсбургов в Европе. Когда Франция вступила в войну сама, объявив войну Испании в 1635 г., конфликт окончательно потерял религиозную окраску. Французы одерживают победу при Рокруа (1643), при Дюнкерке и Ленсе (1648). В 1648 г. был подписании Вестфальский мир. Однако роль несовершеннолетнего короля в этих победах была не столь велика.
12 Версаль — дворцово-парковый ансамбль во Франции, бывшая резиденция французских королей. Версаль сооружался под руководством Людовика XIV с 1661 г. и стал своеобразным памятником эпохи «короля- солнца» , художественно-архитектурным выражением идеи абсолютизма.
13 Расин Жан Батист (1639-1699) — французский драматург, один из «Великой Тройки» драматургов Франции XVII в., наряду с Корнелем и Мольером. Автор великих трагедий «Андромаха» и «Федра».
14 Людовик устраивал грандиозные праздники в Версале.
15 В 1710 г. женский монастырь Пор-Руаяль-в-Полях по приказу короля был разрушен. Парижский Пор-Руаяль существовал до 1790 г.
В. В.Розанов
Паскаль
Впервые: Розанов В. В. Паскаль // Человек. 2001. № 3. Печатается по этому изданию. Статья была начата в 1889 г. в виде рецензии на рус¬
986
Комментарии
ский перевод П. Д. Первова книги Блеза Паскаля «Мысли» (СПб., 1889), издание журнала « Пантеон литературы ».
Розанов Василий Васильевич (1856-1919) — русский религиозный философ, литературный критик и публицист. Проблемы, занимавшие Розанова, связаны с морально-этическими, религиозно-идейными оппозициями — метафизика и христианство, эротика и метафизика, православие и нигилизм. Розанов искал пути к снятию противоречий, к такой схеме их взаимодействий, при которой отдельные части оппозиции становятся разными проявлениями одних и тех же проблем в существовании человека.
1 Кеплер Иоганн (1571-1630) — немецкий математик, астроном, оптик и астролог, открывший законы движения планет.
2 Локк Джон (1632-1704) — английский философ, представитель сенсуализма и эмпиризма. Основной труд Локка — «Опыт о человеческом разумении» (1690). Его идеи оказали огромное влияние на развитие эпистемологии и политической философии. Он широко признан как один из самых влиятельных мыслителей Просвещения.
3 Мильтон Джон (1608-1674) — английский поэт, политический деятель, мыслитель, автор поэм «Потерянный рай» (1667), «Возвращенный рай» и «Самсон-борец» (обе 1670 г.).
4 В 1639 г. началась англо-шотландская война, в которой английский абсолютизм потерпел поражение. Это поражение и вспыхнувшие крестьянское и городское восстания ускорили начало революции. Короткий парламент (13 апреля — 5 мая 1640 г.) отказался предоставить субсидии для ведения шотландской войны. Отсутствие денег, недовольство не только в народных низах, но и среди финансистов и купечества сделали положение Карла безвыходным. Был созван новый парламент, получивший название Долгого парламента (3 ноября 1640-20 апреля 1653 г.); в стране началась революция, которая привела к казне короля Карла I в 1649 г., а Англия стала республикой.
5 Великие полководцы XVII в.: Тилли Иоганн Церклас (1559-1632) — фельдмаршал, знаменитый полководец Тридцатилетней войны, одержавший ряд важных побед; Валленштейн (Вальдштейн) Альбрехт (Войтех Вацлав) фон (1583-1634) — герцог Фридландский и Мекленбургский, имперский генералиссимус, выдающийся полководец Тридцатилетней войны.
6 Кромвель Оливер (1599-1658) — вождь Английской революции, выдающийся военачальник и государственный деятель, в 1643-1650 гг. — генерал-лейтенант парламентской армии, в 1650-1653 гг. — лорд-генерал, в 1653-1658 гг. — лорд-протектор Англии, Шотландии и Ирландии.
7 Гюйгенс Христиан ван Зёйлихем (1629-1695) — нидерландский механик, физик, математик, астроном и изобретатель. В 1657 г. Гюйгенс написал приложение «О расчетах в азартной игре» к книге его учителя ван Схоотена «Математические этюды». Это было содержательное изложение начал зарождающейся тогда теории вероятностей. Гюйгенс, наряду с Ферма и Паскалем, который состоял с ним в переписке, заложил ее основы. По этой
Комментарии
987
книге знакомился с теорией вероятностей Якоб Бернулли, который и завершил создание основ теории.
8 Томазий Христиан (1655-1728) — немецкий философ и юрист. Изучал философию и юриспруденцию под руководством отца, Якоба Томазия, учителя Лейбница. Испытал влияние Гроция и Пуфендорфа. С 1687 г. читал лекции в Лейпцигском университете, с 1694 г. — профессор, затем ректор университета в Галле. Убежденный просветитель, он основал первый в Германии научный журнал, способствовал высвобождению науки от пут схоластики, боролся с пережитками средневековья. Главные научные интересы Томазия лежали в области философии государства и права. Сторонник теории естественного права, Томазий впервые разграничил нравственность (охватывающую внутренний мир человека и определяемую его сознанием, убеждениями) и право (нормы которого регулируют внешние отношения между людьми и имеют принудительный характер). Он открыто выступал за освобождение философии и права из-под влияния теологии. «Установление божественной юриспруденции» вышло в 1688 г.
9 Ньютон работал над созданием «Математических начал натуральной философии» , то есть, на современном языке, «Математических основ физики», одного из самых знаменитых трудов в истории науки, с 1684 по 1686 г.
10 Век Перикла — период наивысшего подъема культуры демократических Афин, который приходится на V век до н. э., время активной деятельности государственного деятеля Афин Перикла (490-429 гг. до н. э.).
11 Возрождение в Италии, положившее начало всему европейскому Возрождению, длилось со второй половины XIV в. по конец XVI в.
12 Эпоха Просвещения во Франции длится с 1715 по 1789 г. Название «век энциклопедистов» происходит от «Энциклопедии, или Словаря наук, искусств и ремесел» под редакцией Дидро и д’Аламбера, которая начинает выходить в 1751 г. и становится центральным событием эпохи. Для работы над «Энциклопедией» Дидро привлек виднейших представителей эпохи — Вольтера, Руссо, Гельвеция, Гольбаха, Бюффона и др., называемых энциклопедистами.
13 Все три приведенных названия обозначают XVIII столетие.
14 Элейская школа — школа древнегреческой философии VI-V вв. до н. э. Основатель — Ксенофан Колофонский, главные представители — Парменид и Зенон из Элеи (греческая колония в Южной Италии, отсюда и название), Мелисс Самосский. Элейская школа впервые противопоставила мышление (и мыслимое бытие) чувственному восприятию (и чувственно- воспринимаемому бытию), отмечая неустойчивость, текучесть человеческих ощущений и чувственного бытия и отводя главную роль в познании мышлению. Она впервые в истории философии выдвинула и сделала основой философствования понятие единого бытия, которое понимается как непрерывное, неизменное, нераздельное, одинаково присутствующее в каждом мельчайшем элементе действительности, исключающее какую-либо множественность вещей и их движение (знаменитые рассуждения Зенона Элейского о невозмож¬
988
Комментарии
ности движения и др.)- В дальнейшем понятие единого неизменного бытия послужило одним из источников философии Платона и неоплатонизма.
15 «Новый Органон, или Истинные указания для истолкования природы» — основное сочинение Френсиса Бэкона (1561-1626), английского философа, историка, политического деятеля, основоположника эмпиризма. В этом труде излагаются основы выдвинутой им опытной (индуктивной) методологии. Опубликовано в Лондоне в 1620 г. на латинском языке.
16 «Общественный договор» (1762) Ж.-Ж. Руссо — социально- экономическая теория, объясняющая происхождение гражданского общества, государства, права как результат соглашения между людьми.
17 «Левиафан, или Материя, форма и власть государства церковного и гражданского» — название сочинения английского философа Томаса Гоббса (1588-1679), посвященного проблемам государства. Левиафан — библейское чудовище, изображенное как сила природы, принижающая человека. Гоббс использует этот образ для описания могущественного государства («смертного Бога»). При создании теории возникновения государства Гоббс отталкивается от постулата о естественном состоянии людей «Bellum omnium contra omnes» («Война всех против всех») и развивает идею «Homos homini lupus est» («Человек человеку волк»).
18 Деизм (от лат. deus — бог) — религиозно-философское направление, признающее существование Бога и сотворение им мира, но отрицающее большинство сверхъестественных и мистических явлений, божественное откровение и религиозный догматизм. Большинство деистов полагают, что Бог после сотворения миране вмешивается в течение событий. Наибольшего расцвета деизм достиг в эпоху Просвещения.
19 Герберт Эдуард, первый барон Герберт из Чербери (1583-1648) — английский религиозный философ, политический и государственный деятель, основоположник деизма.
20 Толанд Джон (1670-1722) — ирландский философ. Учился в университетах Англии, Шотландии и Голландии. Широкую известность Толанду принесла книга «Христианство без тайн», осужденная на сожжение. Основные идеи Толанда, оказавшие влияние на развитие английского и французского материализма XVIII в., связаны с доказательством единства материи и движения, признанием движения существенным свойством материи. Один из ярчайших представителей деизма.
21 Исчисление бесконечно малых величин — вычисления, производимые с бесконечно малыми величинами, при которых производный результат рассматривается как бесконечная сумма бесконечно малых. Исчисление бесконечно малых величин является общим понятием для дифференциальных и интегральных исчислений, составляющих основу современной высшей математики. В течение всего XVII в. предпринимались грандиозные усилия для его изучения, причем в них участвовали лучшие математики столетия (в том числе Ньютон), однако убедительно построить фундамент анализа удалось только Коши, который определил базовые понятия — предел, сходимость, непрерывность, дифференциал и др. Коши Огюстен Луи (1789-1857) — фран¬
Комментарии
989
цузский математик, член Парижской академии наук, Лондонского королевского общества, Петербургской академии наук и других академий. Разработал фундамент математического анализа, внес огромный вклад в анализ, алгебру, математическую физику и многие другие области математики.
22 Ньютон не заботился о своевременной публикации своих трудов, многие из которых появлялись лишь десятилетия спустя после их написания, а некоторые увидели свет лишь после его смерти. Так, достаточно полное изложение принципов анализа Ньютон опубликовал только в работе «О квадратуре кривых» (1704), приложенной к его монографии «Оптика», хотя почти весь изложенный материал был готов еще в 1670-1680-е гг., но лишь значительно позже Грегори и Галлей уговорили Ньютона издать работу, которая, с опозданием на 40 лет, стала первым печатным трудом Ньютона по математическому анализу.
23 В 1637 г. вышел в свет главный математический труд Декарта, «Рассуждение о методе» (полное название: «Рассуждение о методе, позволяющем направлять свой разум и отыскивать истину в науках»). В этой книге излагалась аналитическая геометрия, а в приложениях — многочисленные результаты в алгебре, геометрии, оптике. Ученый указывает способ перевода геометрических предложений на алгебраический язык (с помощью системы координат), после чего исследование становится намного эффективнее. Так родилась аналитическая геометрия. Декарт рассмотрел множество примеров, иллюстрирующих огромную мощь нового метода, и получил немало результатов, неизвестных древним.
24 «Этика» — основной трактат Спинозы, былаизданав 1677 г., год смерти автора. Произведения Спинозы, в соответствии с его желанием, публикуются после его смерти в Амстердаме без обозначения места издания и имени автора под названием В. d. S. Opera Posthuma (на лат. языке). В 1678 г. все произведения Спинозы были запрещены.
25 Кост так описывает последние дни и минуты Локка: « Около пяти часов вечера (27 октября 1704 г.) у Локка появилась испарина вместе с такою слабостью, что можно было опасаться за его жизнь; Локку и самому это опасение приходило в голову; он просил не забыть его навечерней молитве. Леди Метем спросила, не желает ли он, чтобы в этот день все вместе молились вечером в его комнате. Локк отвечал, что это было бы ему очень приятно, если бы никому не наделало хлопот. После молитвы он сделал несколько распоряжений на случай своей смерти, сохраняя большое присутствие духа, и долго говорил о благости Божией. Локк благодарил Богаглавным образом за то, что ощущал его в душе своей. Он советовал окружающим как можно ревностнее исполнять свои человеческие обязанности. За несколько дней перед тем философ писал своему бывшему ученику и другу Коллинзу, что находит утешение только в воспоминании о тех добрых делах, которые сделал он в жизни. Спокойную совесть и веру в будущую жизнь Локк считал единственными условиями счастия.
Локк как нельзя более любил своих близких. В последний год своей жизни он почти лишился слуха; это было для него величайшим несчастьем. Философ в отчаянии писал одному из своих друзей, что согласился бы лучше
990
Комментарии
ослепнуть, чем оглохнуть, так как глухота мешает ему беседовать с людьми». (См.: Литвинова Е. Ф. Джон Локк. Его жизнь и философская деятельность. СПб., 1892.)
26 Мальбранш Николя (1638-1715)— французский философ, своеобразно видоизменивший учение Декарта. Изучал теологию в Сорбонне, в возрасте 23 лет вступил в религиозную конгрегацию ораторианцев. Жизнь его, бедная внешними событиями, прошла в непрерывной умственной работе. Главное свое сочинение, «Поиски истины», он исправлял и переделывал в течение 40 лет (1 изд., в 1673 г., последнее при его жизни, 4-е, в 1712 г.).
27 Конфедерация ораторианцев святого Филиппа Нери — католическое общество апостольской жизни, возникшее в 1558 г. в Риме по инициативе святого Филиппа Нери. Ораторианцы прославились своими заслугами в области философии, науки и духовной музыки.
28 Валлис, точнее — Уоллис Джон (1616-1703) — английский математик, один из предшественников математического анализа. Был священником англиканской церкви и автором многих работ богословского и философского содержания.
29 Уайстон (Вайстон) Вильям (1667-1752) — английский математик.
30 Барроу Исаак (1630-1677) — английский математик, физик и богослов, известный многими учеными трудами и тем, что был учителем Ньютона. Барроу оставил также много сочинений богословских, нравственных и поэтических, в числе которых более 100 речей и проповедей на разные предметы, сочинение о власти пап, изложение веры, молитвы Господней, много поэм и писем. В Англии он более ценится как богослов и литератор, чем как математик и физик.
31 Финляндская железная дорога была проложена в 1850-1870 гг.
32 Молекулярно-кинетическая теория — теория XIX в., рассматривавшая строение вещества, в основном газов, с точки зрения трех основных приближенно верных положений: все тела состоит из частиц, размером которых можно пренебречь: атомов, молекул и ионов; частицы находятся в непрерывном хаотическом движении (тепловом); частицы взаимодействуют друг с другом путем абсолютно упругих столкновений.
33 Гельмгольц Герман Людвиг Фердинанд фон (1821-1894) — немецкий физик, физиолог и психолог. Он сформулировал гидродинамическую теорию вихревых движений в 1858 г.
34 Вероятно, имеется в виду Джеймс Томсон (1822-1892) — инженер и физик, специалист в области термодинамики или его отец Джеймс Томсон (1786-1849) — ирландский математик, сыгравший важную роль в формировании термодинамической школы в Университете Глазго.
35 Любимов Николай Алексеевич (1830-1897) — русский физик, профессор Московского университета. Работал в области оптики и учения об электричестве, а также над вопросами истории науки, главный смысл которой усматривал в уяснении «логики открытий» («История физики. Опыт изучения логики открытий в их истории», ч. 1-3, 1892-1896). Преимущественно под углом зрения
Комментарии
991
истории естествознания написана и книга Любимова «Философия Декарта» (1886), где дан обстоятельный очерк материалистической физики Декарта.
36 Падуанская школа — философское направление XIV-XVI вв., развивавшее традиции аристотелизма в их аверроистской интерпретации либо в истолковании Александра Афродисийского. Получила распространение в университетских центрах Северной Италии — Падуе, Мантуе, Ферраре, Болонье. Зарождение ее связывается с деятельностью профессора Падуанского университета Пьетро д’Абано (кон. XIII — нач. XIV в.). К Падуанской школе был близок Марсилий Падуанский, отстаивавший отделение политики от церковного авторитета и религиозной морали. К школе принадлежали многие профессора Падуанского и Болонского университетов.
37 Вероятно, имеется в виду Снелл (Снеллиус) Виллеброрд (1580-1626) — голландский математик, физик и астроном, предложивший использовать метод подобия треугольников при проведении геодезических измерений, ставивший многочисленные эксперименты по оптике.
38 Гарвей Уильям (1578-1657) — английский медик, основоположник физиологии и эмбриологии. Автор «Анатомического исследования о движении сердца и крови у животных» (1628), где он впервые сформулировал свою теорию кровообращения и привел экспериментальные доказательства в ее пользу.
39 «Пантеон литературы» — ежемесячный, ас 1891 г. трехмесячный, историко-литературный журнал, издавался с 1888 г. по 1895 г. в Санкт- Петербурге. Редактор-издатель А. Н. Чудинов (1843-1908), с 1891 г. издатель Ф. Трозинер, редактор А. Чудинов, с 1893 г. редактор-издатель Ф. Трозинер. Содержание журнала составляли: избранные и полные собрания произведений лучших писателей русских и иностранных (преимущественно), историко- литературные статьи и современная летопись. Таким образом вошли в состав Пантеона: сочинения В. П. Боткина, поэмы Оссиана, «Калевала», «Песнь о Нибелунгах», «Трилогия» Бомарше, «Баян» —сборник произведений современных славянских поэтов, «Современная эстетика» Гюйо, «Персидские письма» Монтескье, стихотворения В. Гюго, А. Мюссе, Ф. Петрарки, А. Теннисона, Мильтона и др. Ряд статей историко-литературного характера принадлежит: В. Спасовичу, Н. Стороженко, А. Кирпичникову, А. Веселовскому, О. Миллеру, Л. Н. Майкову, Я. К. Гроту, Ф. И. Буслаеву и др.
40 Тацит Публий или Гай Корнелий (ок. 56 — ок. 117 н.э.) — древнеримский историк, автор знаменитой «Истории» и «Анналов» (здесь — «Летописей»),
41 Прево-Парадоль Люсьен-Анатоль (1829-1870) — французский журналист и эссеист. Его «Эссе о французских моралистах» (где и помещена статья о Паскале) вышло в 1864 г. Перевод Первова, которому посвящена статья Розанова, сопровождался предисловием Прево-Парадоля «Паскаль как моралист».
42 Не совсем верная информация: Первая выборочная публикация была сделана Пор-Роялем в 1669 г., затем «Мысли» были изданы в 1670 г., а Паскаль умер в 1662 г.
992
Комментарии
43 Т.е. Ферма.
44 Т. е. Ле Пайер.
45 Марен Мерсенн (1588-1648) — французский математик, физик, философ и теолог. На протяжении первой половины XVII в. был, по существу, координатором научной жизни Европы, ведя активную переписку практически со всеми видными учеными того времени. Имеет также серьезные личные научные заслуги в области акустики, математики и теории музыки.
46 Эпизод изложен не совсем точно: Розанов объединяет в единое целое знакомство Паскаля с братьями Дешан, врачами, лечившими его отца, и посещение им вместе с отцом лекции Жака Фортона, аббата Сент-Анжа, на которого Паскаль доносит вместе с хозяином дома, где проходила лекция — Алле де Монфленом. См. коммент, к статье Мережковского.
47 Речь идет о редком издании, названном «издание на четырех языках»: Pascal Biaise. Les Provinciales ou lettres écrites par Louis de Montalte, traduites en latin par Guillame Wendrock, en espagnol par le Sr. Gratien Cordero de Burgos, en italien par le Sr. Cosimo Brunetti, gentilhomme florentin. A Cologne: chez Bathasar Winfelt.,1684.
48 Вероятно, речь идет об отце Берье, духовнике Паскаля, причащавшем его перед смертью.
49 Речь идет о знаменитом происшествии в Нейи в 1654 г.
Л. Н.Толстой
Паскаль
Впервые: Толстой Л. Н. Паскаль. Недельные чтения. Июль. Круг чтения. Избранные, собранные и расположенные на каждый день Львом Толстым мысли многих писателей об истине, жизни и поведении. 1904-1908. T. 1. Январь — август. Печатается по: Толстой Л. Н. Полное собрание сочинений в 90 томах, академическое юбилейное издание. М., 1957. Т. 41. С. 477-497.
Толстой Лев Николаевич (1828-1910) — один из наиболее широко известных русских писателей и мыслителей.
1 Отец Паскаля не был известным математиком, но хорошо ее знал.
2 Эпиктет (ок. 50 — ок. 135 гг. и. э.) — одна из уникальных фигур в западной философии древности. Сам Эпиктет ничего не писал, а излагал свое учение устно. Его мысли сохранились благодаря тому, что их записал ученик Флавий Арриан и собрал в книги «Беседы Эпиктета», «Рассуждения Эпиктета», «Руководство Эпиктета».
3 Монтень Мишель де (1533-1592) — французский писатель и философ эпохи Возрождения, автор книги «Опыты».положившей основу эссеисти- ческого жанра в литературе. Несмотря на большое разнообразие тем, затрагиваемым Монтенем, в центре его размышлений всегда остается человек во всем его непостижимом многообразии.
4 Обе цитаты взяты из воспоминаний сестры Паскаля г-жи Перье.
Комментарии
993
Д. С. Мережковский
Паскаль
Впервые на русском языке: Мережковский Д. С. Реформаторы. Лютер, Кальвин, Паскаль. Нью-Йорк, 1991. Печатается по: Мережковский Д. С. Собрание сочинений. Реформаторы. Испанские мистики. М., 2002. С. 235-310.
Книга выдающегося мыслителя, писателя, поэта Серебряного века Дмитрия Сергеевича Мережковского (1865-1941) «Реформаторы. Лютер, Кальвин, Паскаль» была издана посмертно на французском языке в 1941-1942 гг. Впервые вышла на русском языке в Нью-Йорке в 1991 г. Эта книга — не только блестящий образец романа-биографии, написанного на благодатном материале эпохи Реформации, но и глубокие размышления писателя о вере, свободе личности, духовном поиске, добавляющие новые грани к религиозно-философской концепции автора.
1 Латинский квартал — квартал в Париже, где находится университет Сорбонна.
2 Дювержъе Зе Оранн Жак (1581-1643)— он же Сен-Сиран (см. коммент. 39 к статье И. Г. Бутовского).
3 Фома Аквинский (1225-1274) — философ и теолог, систематизатор ортодоксальной схоластики, учитель Церкви, основатель томизма, член ордена доминиканцев. С 1879 г. признан наиболее авторитетным католическим религиозным философом, который связал христианское вероучение (в частности, идеи Августина Блаженного) с философией Аристотеля. Сформулировал пять доказательств бытия Бога. Признавая относительную самостоятельность естественного бытия и человеческого разума, утверждал, что природа завершается в благодати, разум — в вере, философское познание и естественная теология, основанная на аналогии сущего,— в сверхъестественном откровении.
4 Ересиарх (от др.-греч. oCtpecng — учение, секта àp/j] — власть) — основатель, глава ереси. Как правило, понятие употребляется представителями традиционных христианских конфессий (православие, католицизм и, частично, протестантизм) по отношению к основателям или руководителям религиозных направлений в раннем христианстве, которые ортодоксальным христианством признаны еретическими.
5 «Да не упразднится Крест» (ап. Павел).
6 Пелагий (ок. 360 г. — после 418 г.) — знаменитый ересиарх, известный своими взглядами на свободу воли, отрицающими доктрину первородного греха. Основатель пелагианства, учения, получившего распространение в странах бассейна Средиземного моря в начале V в. В противовес концепции благодати и предопределения Августина, пелагианство делало акцент на свободе воли человека, подчеркивало его собственные внутренние возможности в достижении нравственного совершенства и «спасения», отрицая
994
Комментарии
наследственную силу греха. На 3-м Вселенском соборе в Эфесе (431) было осуждено как ересь.
7 Манеса или Мани (216 — ум. 273 или 276) — перс, основатель манихейства, которое наряду с зороастризмом и митраизмом было одной из самых влиятельных иранских религий. Манихейство — синкретическое религиозное учение, составленное из вавилонско-халдейских, иудейских, христианских, иранских (зороастризм) гностических представлений. Учение Мани — это дуалистическое учение о борьбе света и тьмы, добра и зла. Беря свои истоки из гностицизма, оно требовало от определенного круга последователей строжайшей воздержанности, особенно в отношении питания, половой жизни, физического труда. Манихейские миряне, всегда составлявшие большую часть верующих, соблюдали лишь часть необходимых правил, что не отвергало возможности их спасения. Поскольку Мани, считавший себя последним и главным из пророков Бога добра (до него пророками были Авраам, Моисей, Заратустра, Иисус, Будда) стремился совместить все основные вероучения и заменить их, его преследовали представители всех других течений, в частности зороастрийские священники, от рук которых он и умер. Несмотря на это, манихейство приобрело известное влияние и за пределами государства Сассанидов, а позднее — Аббасидов: на восток — вплоть до Китая и Сибири, на запад — до Испании и Галлии. Августин, который позднее резко выступал против манихейства, на протяжении семи лет был адептом этого культа.
8 Кант Иммануил (1724-1804) — немецкий философ, родоначальник немецкой классической философии, стоящий на грани эпох Просвещения и Романтизма.
9 «Рассуждение о методе... » Декарта вышло в 1637 г.
10 Антуан Арно младший (он же Великий) в отличие от отца — Антуана Арно (1560-1619) — французского публициста, сторонника Генриха IV, автора политических брошюр, а также как энергичного защитника Парижского университета против иезуитов в 1594 г., за что он навлек на себя ненависть ордена, и иезуиты преследовали его до самой его смерти. Об А. Арно см. коммент. 46 к статье И. Г. Бутовского.
11 Святой- Венсан де Поль (1581-1660) — католический святой, основатель конгрегации лазаристов и конгрегации дочерей милосердия. Сильное влияние на формирование его взглядов оказали три личных знакомства: со знаменитым богословом кардиналом Берюлем, взгляды которого импонировали Венсану и который очень помог молодому священнику в первый период его парижской жизни; со святым Франциском Сальским, после встреч с которым в Венсане на всю жизнь запечатлелось стремление к святости; а также с Корнелием Янсением, учение которого, впоследствии известное как янсенизм, Венсан не принял и в дальнейшем активно с ним боролся.
12 Арно Жаклин Мари Анжелика (1591-1661) — дочь Антуана Арно, сестра Антуана Арно младшего (Великого), французский религиозный деятель XVII в., настоятельница монастыря Пор-Рояль. 16 июля 1602 г. (девочке не исполнилось и одиннадцати лет), после смерти настоятельницы Жанны Булеар, стала аббатиссой монастыря Пор-Рояль. Тринадцать монахинь мона¬
Комментарии
995
стыря не слишком строго исполняли обеты и даже участвовали в городских карнавалах. Исповедник был необразован, редко читал проповеди, монахини причащались лишь по большим праздникам. В 1608 г. под влиянием проповеди бродячего монаха-францисканца, мать Анжелика решила реформировать монашескую жизнь Пор-Рояля в сторону большего аскетизма и набожности. В 1618 г. мать Анжелика была приглашена для проведения реформ в аббатство Мобюиссон, где она познакомилась с Франсуа де Салем и хотела, оставив свою должность, вступить в Орден визитанток, основанный им и Иоанной де Шанталь. Однако сам Франсуа де Саль отговорил ее от ухода в полное затворничество. В 1625 г. в общине Пор-Рояль насчитывалось уже восемьдесят монахинь. В 1626 г. мать аббатиссы, Катрин Мерайон, купила для «сестер святого Причастия» (так теперь звались монахини общины) отель в парижском пригороде Сен-Жак. Сестры переселились в Париж, так как в загородном Пор-Рояле, окруженном болотами, многие монахини болели малярией. В парижском Пор-Рояле воспитывались и светские пансионерки, в том числе будущая польская королева Мария Гонзага. Мать Анжелика, не обращая внимания на высокое положение этих пансионерок, была строга к ним. Оплотом янсенизма и одним из важнейших духовных центров страны Пор-Рояль стал с 1636 г., когда во главе его встал Сен-Сиран, знакомый с Анжеликой Арно и ставший ее духовником в 1623 г. При загородном Пор-Рояле образовалась группа отшельников, состоявшая из дворян, военных, крестьян, ученых, оставивших свет, но не принявших монашеские обеты. Во главе отшельников Пор-Рояля стоял брат Анжелики Арно Антуан. К 1648 г., когда болота вокруг Пор-Рояля были осушены, парижский архиепископ разрешил многим монахиням вернуться в загородный Пор-Рояль. При Пор- Рояле для детей от четырех до восемнадцати лет были открыты янсенистские «малые школы» с рациональными методами обучения и с существенными отличиями в вопросах воспитания от иезуитских колледжей. В собственной типографии для школ печатались учебники, написанные отшельниками Пор-Рояля — Лансло и Арно. Теоретик педагогики, Лансло, был главным организатором «малых школ» и разработчиком новой методики для изучения латинского, греческого, испанского, итальянского языков. Совместно с Арно Лансло составил «Общую и систематическую грамматику». Одним из учеников пор-рояльских школ был Расин, написавший впоследствии «Историю Пор-Рояля». Противница публичной полемики янсенистов с Орденом иезуитов, разгоревшейся во второй половине 1650-х гг., считавшая вместе с А. Сенгленом, что истина должна защищаться только смирением и послушанием, мать Анжелика проявила твердость характера в 1661 г., отказавшись подписать формуляр осуждения пяти положений из книги Янсения «Августин».
13 «Тогда подобно будет Царство Небесное десяти девам, которые, взявши светильники свои, вышли навстречу жениху. Из них было пять мудрых и пять неразумных. Неразумные, взявши светильники свои, не взяли с собою масла» (Евангелие от Матфея).
14 Орден Братьев Меньших Капуцинов — монашеский орден, ветвь францисканцев; первоначально насмешливое прозвище, относившееся к остроко¬
996
Комментарии
нечному капюшону, который носили члены этого ордена. Основан в 1525 г. миноритом Басси в Урбино, утвержден в 1528 г. Папой Климентом VII ив 1529 г. получил чрезвычайно строгий устав. Когда генеральный викарий ордена Окино перешел в протестантство (1543), ордену грозило упразднение. Бедность часто соединялась у капуцинов с недостатком образования. Особенно известны их шутовские народные проповеди.
15 Речь идет о бродячем монахе-францисканце, под воздействием проповедей которого мать Анжелика решила реформировать монашескую жизнь Пор-Рояля.
16 Бенедикт Нурсийский, он же Св. Бенедикт, Св. Венедикт (480? — 547) — родоначальник западного монашеского движения бенедиктинцев. Святой католической и православной церкви. В православной традиции считается преподобным. Автор « устава св. Бенедикта» — важнейшего из монашеских уставов латинской традиции.
17 Франциск Ассизский (урожд. Джованни ди Пьетро Бернардоне; 1182-1226) — итальянский религиозный деятель, причисленный католической церковью к лику святых (1228). Он основал нищенствующий орден, который по его имени стал называться францисканским. В 1939 г. Папа Пий XII провозгласил Франциска Ассизского наряду с Екатериной Сиенской святым покровителем Италии. К местам, связанным со святым, каждый год приходят десятки тысяч паломников. Кроме того, Франциск Ассизский, написавший «Гимн брату солнцу» на итальянском языке, считается одним из основоположников итальянской литературы.
18 Плесси Роже дю, герцог де Лианкур (1609-1674) — дядя Ларошфуко. В его замке Линкур находили приют бедствующие янсенисты, а у него само было временное пристанище в Пор-Рояль-в-полях. Отказ священника отпустить ему грехи послужил поводом для написания знаменитых писем Антуана Арно: «Письмо к знатному человеку» и «Второе письмо к герцогу и пэру».
19 «Фивиада» — название незавершенной эпической поэмы о фиванской войне латинского поэта Публия Папиния Стация (ок. 40-96).
20 Ж.-Ж. Руссо противопоставлял развращенную цивилизацию совершенной природе.
21 Декарт был автором теории, объясняющей образование и движение небесных тел вихревым движением частиц материи (вихри Декарта).
Согласно Лейбницу, основаниями существующих явлений или феноменов служат простые субстанции или монады. Все монады просты и не содержат частей. Их бесконечно много, но каждая монада отличается от другой, что обеспечивает бесконечное разнообразие мира феноменов.
22 Гете Иоганн Вольфганг фон (1749-1832) — немецкий поэт, государственный деятель, мыслитель и естествоиспытатель.
23 Цитата из романа «Братья Карамазовы». Кн. 3, гл. III.
24 Бутру Этьен Эмиль Мари, известный как Эмиль Бутру (1845-1921) — французский философ и историк философии. Преподавал в Сорбонне, Эколь нормаль и др. университетах. Представитель спиритуализма. Командор
Комментарии
997
Ордена Почетного легиона. Его учение оказало влияние на таких мыслителей, как Бергсон, Блондель, Брюнсвик. Перестановка букв в фамилии — опечатка или описка.
25 Урбан II (ок. 1042-1099) — 159-й папа римский с 12 марта 1088 г. по 29 июля 1099 г. В миру — француз Эд (Одо) де Шатийон де Лажери. Родился в графстве Шампань недалеко от Парижа. Учился в Реймсе у святого Бруно. Был приором аббатства Клюни. В 1095 г. на созванном им Клермонском соборе объявил крестовый поход против мусульман, пообещав его участникам отпущение грехов.
26 Ле Пайер Жак (умер в 1654 г.) — математик, член академии Мерсенн с 1637 г., близкий друг Этьена Паскаля.
27 Данте Алигьери (1265-1321) — итальянский поэт, один из основателей литературного итальянского языка. Создатель «Божественной комедии», в которой дан синтез позднесредневековой культуры.
28 Серафим — огненный ангел (древнееврейское). Как сказано в священных книгах, Серафимы (а также Херувимы и Престолы), ближе всего предстоят Престолу Бога. Они воспламеняют, зажигают Божественную любовь в сердцах людей.
29 Анне Австрийской беременной будущим Людовиком XIV.
30 Жаклин была очень талантливой поэтессой, но она не могла соперничать с поэтами-мужчинами, что с горечью сознавала. В 1640 г. она одержала победу на конкурсе поэтов, но премию от ее имени получал Пьер Корнель. См. об этом: Attali J. Op. cit. Р. 58-72.
31 Мари-Мадлен де Виньеро, мадам де Комбале, герцогиня д’Эгийон (1604-1675) — племянница кардинала Ришельё.
32 Трагедия Жоржа де Скюдери (1601-1667) — французского поэта и драматурга, представителя прециозной литературы. Он был братом Мадлен де Скюдери. Стремясь следовать «указаниям сверху» и одновременно литературной моде, с 1635 г. соблюдал классицистические требования (особенно в позиционировавшей себя как своего рода «анти-Сид» регулярной трагикомедии «Тираническая любовь», L’Amour tyrannique, 1639), а позднее отошел от них. Г-жа д’Эгийон способствовала тому, чтобы юная Жаклин сыграла в этой пьесе роль Кассандры. Кардинал был поражен игрой ребенка, которого ему представили как дочь незаконно преследуемого человека. Именно благодаря Жаклин ее отец смог вернуться в Париж, а затем и получить достойную должность в Руане.
33 «Опыт о конических сечениях» (1640) впервые был представлен на заседании академии в 1639 г., где Блез сформулировал теорему, получившую известность как «теорема Паскаля» или «мистический шестиугольник», с которой берет начало начертательная геометрия (см.: Attali J. Op. cit. Р. 63-68).
34 Гассенди Пьер (1592-1655) — французский философ, математик, астроном и исследователь древних текстов. Преподавал риторику в Дине, а позднее стал профессором философии в Экс-ан-Провансе.
998
Комментарии
35 Верхняя Нормандия — регион на севере Франции. Семья переезжает в главный город Нормандии Руан в 1639 г.
36 Бунт босоногих произошел в Нормандии в 1639 г. Бунтовщики сначала нападали на сборщиков налогов, но очень скоро обратили свой гнев против всех богатых.
37 Жакерия — название крестьянского антифеодального восстания в Западной Европе в Средние века, вспыхнувшего во Франции в 1358 г., вызванного положением, в котором находилась Франция вследствие войн с Эдуардом Ш Английским (Столетняя война 1337-1453 гг.) и грабежей наемных солдат. Дворяне звали своих крестьян в насмешку «Jacques bon homme» — Жак- простак; отсюдаи произошло имя, данное восстанию. Современники называли восстание «войной недворян против дворян», название «Жакерия» появилось позже. Это самое крупное в истории Франции крестьянское восстание.
38 Мережковский ошибается в написании фамилии: Сегье Пьер (1588- 1672) — канцлер Франции в 1635-1650, 1651-1652 и 1656-1672 гг., библиофил. Восстание «босоногих» в Нормандии было подавлено Сегье.
39 Изобретенную Паскалем суммирующую машину построил в 1642 г. руанский часовщик по его чертежам и пытался ее продать, не указывая имени Паскаля, который, узнав об этом, пришел в ярость. (См.: Attali J. Op. cit. Р. 87.)
40 Слова Паскаля известны благодаря его сестре, которая пишет, что «он говорил им иногда, что с восемнадцатилетнего возраста у него не было ни одного дня без страданий» (Perler Mme. Ор. cit. P. 7).
41 С монахом-капуцином Фортоном, братом Сент-Анжем, доктором теологии, автором книги «Союз веры и рассуждения», в которой он пытался найти научное обоснование веры, Паскаль познакомился в 1647 г. Тогда рассуждения священника его глубоко возмутили, и он донес на него, хотя процесс и состоялся, но обвиняемому удалось доказать свою невиновность. Позднее сам Паскаль обратится к тем же вопросам веры, пытаясь найти им научное обоснование. (См.: Attali J. Op. cit. Р. 113-114.)
42 У Рауля Алле де Монфлена, королевского советника и проходило слушание труда Сент-Анжа.
43 Торквемда Томас де (1420-1498) — основатель испанской инквизиции, первый великий инквизитор Испании.
44 Пюи-де-Дом — молодой потухший вулкан в составе Шен-де-Пюи Центрального массива во Франции. Представляет собой лавовый купол, высота которого 1464 м. Он расположен примерно в 15 км от Клермон-Феррана.
45 «О духе геометрии и об искусстве убеждать» (ок. 1658 г.) — важнейший труд для понимания мысли Паскаля, который показывает, как от изучения геометрии он перешел к изучению человека и Бога. Состоит из двух отрывков, которые были впервые опубликованы отдельно в 1728 и 1776 гг.
46 Овернь — провинция в центральной Франции, на обоих склонах плоскогорья, составляющего водораздел бассейнов Луары и Гаронны (нынешние департаменты Канталь, Верхней Луары и Пюи-де-Дом).
Комментарии
999
47 Сенглен Антуан — французский проповедник (ум. в 1664 г.), духовник Пор-Рояля, пользовавшийся чрезвычайным авторитетом: Арно преклонялся перед ним, Паскаль повергал на его суд все свои сочинения до печати.
48 АрноАнн-Катрин-Аньес, матушка Аньес Арно(1593-1672)— настоятельница Пор-Руайяля, яркая представительница янсенизма. Сестра Антуана Арно Великого и матушки Анжелики Арно, наследуя которой она возглавляет Пор- Руайяль в 1658 г. Она руководит монастырем в период самых жестоких гонений на янсенистов. Она возглавляет движение против подписания постановления Александра VII, осудившего пять тезисов Янсения, встав в оппозицию архиепископу Парижа Ардуэну де Перефиксу. Она была автором «Установления», которое регламентировала материальную и духовную жизнь монастыря.
49 Об этой внешней бесчувственности Паскаля, за которой скрывалось стремление управлять своими чувствами, избегать libido sentiendi пишет его сестра.
50 «Руководство Эпиктета» было особенно популярным: оно был переведено на латынь, неоднократно комментировалось философами и богословами. Для Эпиктета, философа-моралиста, практика была важнее теории, устное слово, внушение и личный пример — важнее письменного слова.
51 Бернар Клервоский (1091-1153) — французский средневековый мистик, общественный деятель, цистерцианский монах, аббат монастыря Клерво(с 1117 г.).
52 Жак Вале, сеньор де Баро (1599-1673) — французский либертен, поэт, эпикуреец, хорошо знакомый с Гезом де Бальзаком, Теофилем де Вио и Декартом, автор многих вольных стихотворений и песен.
53 Пьер Мишон Бурдело (1610-1685) — французский врач и анатом, личный врач семейства Конде, знакомый со многими философами, писателями и учеными.
54 Елизавета Шарлотта Пфалъцская, принцесса Палатинская (1652- 1722) — немецкая принцесса из рода Виттельсбахов жена Филиппа! Орлеанского. Принцесса была одной из образованнейших дам своего времени (ее учителем был сам Лейбниц, с которым она поддерживала переписку в дальнейшем), она обратилась в католическую веру, чтобы выйти замуж за герцога Орлеанского, хотя оставалась протестанткой в душе. Будучи человеком свободных взглядов, она в принципе не принимала религиозных разногласий. Ей было душно при французском дворе, особенно в последние годы правления Людовика XIV. Она славилась своей откровенностью и пристрастием к острому словцу, однако ни о ее отношениях с принцем Конде, ни об указанном эпизоде попытки сожжения креста источники не упоминают.
55 Людовик II де Бурбон-Конде, принц де Конде, известный под именем Великий Конде (1621-1686) — полководец Франции, генералиссимус, первый принц крови.
56 Мадлен де Севр, маркиза де Сабле (1599-1678) — французская писательница и моралистка. Ее салон посещали, среди прочих, Ларошфуко и Бюсси де Рабютен, там велись не только прециозные, но и янсенистские беседы.
1000
Комментарии
57 Прециозностъ (фр. précieux — прециозный, первоначально — драгоценный, от лат. pretiosus, а затем также изысканный, жеманный) — изысканная манера поведения и речи, распространившаяся в дворянско-аристократической среде во Франции благодаря популярности прециозной литературы в первой половине XVII в. Это явление как искусственное, а потому вредное, высмеял Мольер в своей комедии «Смешные жеманницы» (1659).
58 Пуату — историческая область на западе Франции с главным городом Пуатье.
59 Гомбо Антуан, шевалье де Мере (1607-1684) — французский писатель- моралист, завсегдатай салонов, образованнейший человек, владевший многими иностранными языками, любитель математики. Его наиболее известные произведения — трактаты «Порядочный человек» и «Об истинной порядочности». Порядочность Мере определяет как «искусство превосходить во всем, что касается приятности и благопристойности жизни», а так же как «внимание к чужим желаниям и умение сдерживать свои собственные». Он считался одним из законодателей светского поведения и искусства салонной беседы. Особую известность он приобрел благодаря своему вкладу в развитие теории вероятностей. Именно благодаря ему, Паскаль, бывший его близким приятелем, открыл свой принцип математического ожидания. Шевалье де Мере был азартным игроком в кости. Его интересовала игра, состоящая из 24-х бросаний пары костей. По правилам игры можно было ставить на появление «двойной шестерки», по крайней мере, один раз за 24 бросания, или против этого результата. Выигрыш равнялся ставке. Шевалье де Мере произвел вычисления и получил, что вероятность появления «двойной шестерки» — 50 процентов. В правильности своих вычислений он не сомневался, но сомневался в математике как науке. Поэтому он произвел целую серию экспериментов. Оказалось, что частота появления «двойной шестерки» менее 50 процентов. Практика разошлась с теорией, и в результате он обратился за помощью к Паскалю. Паскаль рассмотрел проблему Шевалье де Мере. Оказалось, что для абсолютно правильных костей вероятность появления хотя бы одной двойной шестерки равнаО,491. Если бы де Мере это удовлетворило, возможно, рождение математической статистики произошло позже, но он хотел знать, как ставить, как по наблюдениям за несколькими играми, проведенными другими, сделать вывод о правильности костей. И Паскалю удалось разрешить этот вопрос при помощи арифметического треугольника. Благодаря этой задачке де Мере началась переписка Паскаля с другим великим математиком эпохи — Ферма, который искал решение аналогичной проблемы. Оба решение находят, но по- разному: решение Ферма имеет чисто практическое применение, в то время как решение Паскаля абстрактно и подводит к созданию теории вероятностей. Сам Паскаль назвал свое изобретение «геометрией случайности». Этому посвящен «Трактат об арифметическом треугольники и относящиеся к этому тексты», написанные в 1654 г. и опубликованные в 1665 г.
60 Паскаль так писал о де Мере в одном из писем к Ферма: «У него очень хороший ум, но он не геометр, а это, как Вы знаете, большой недостаток» (Pascal В. Lettres à Fermat // Oeuvres complètes. P. 80).
Комментарии
1001
61 Дамьен Митон, «весьма загадочный персонаж, редкостно красноречивый, страстный игрок, скептик, готовый на все ради острого словца, имя которого Паскаль не раз упоминает в своих «Мыслях». (См.: Attali J. Op. cit. Р. 165.)
62 «Рассуждение о любовных страстях», написанное, по всей вероятности, в 1653 г., было найдено В. Кузеном в 1843 г. Хотя авторство Паскаля ставится под сомнение, эта работа была опубликована в Oeuvres complètes de Pascal в издательстве Плеяда. Ж. Атали пишет, что теперь совершенно ясно, что автор «Рассуждения» не Паскаль, а Ломени деБриен. (См.: Attali J. Op. cit. Р. 205.)
63 Кристина (1626-1689) — королева Швеции, дочь Густава II Адольфа и Марии Элеоноры Бранденбургской. В 1654 г. Кристина сложила с себя корону и приняла католичество. Она была покровительницей искусств и наук, по ее приглашению приехал в Стокгольм Декарт. Кристина была загадкой для современников; последние на разные лады толковали факт ее отречения, указывая то на странности в характере королевы, то на желание отдаться служению муз, то на великодушные порывы ее натуры. Ее удивительный портрет создает мадемуазель де Монпансье в своих мемуарах.
64 Никаких свидетельств о любовных увлечениях Паскаля не сохранилось, но, как пишет Ж. Атали, в него была влюблена сестра Де Роанне Шарлота. (См.: Attali J. Op. cit. Р. 20.)
65 Сапфо (тж. Сафо, Сафо) (около 630 года до н. э. — 572/570 до н. э.) — древнегреческая поэтесса, известная своей любовной лирикой. Современники называли ее «страстной».
66 Подробно на отношениях Блеза и Жаклин останавливается Ж. Аттали в разделе «Блез и Жаклин: пара (1648)», основываясь на фактах их жизни и переписке со старшей сестрой. (См.: Attali J. Op. cit. Р. 133-138.)
67 Послание ап. Павла к галатам написано в середине 50-х гг., вероятно, в Эфесе. Адресовано жителям Галатии, римской провинции в Малой Азии на территории современной Турции, населенной кельтским племенем галатов (слово «галаты» — искаженное «галлы»). Галатию апостол посещал во время своего второго и третьего путешествия. В галатских христианских общинах бывшие язычники численно преобладали над обращенными иудеями, в среде последних появлялись проповедники, оспаривающие законность миссии Павла и проповедуемую им необязательность соблюдения Моисеева закона. Главные цели послания апостола — доказать свое право на учительство и укрепить галатских христан в вере.
68 Буало-Депрео Никола (1636-1711) — французский поэт, критик, теоретик классицизма. Получил основательное научное образование, изучал сначала правоведение и богословие, но потом исключительно предался изящной словесности. На этом поприще он рано приобрел известность своими «Сатирами» (1660). В 1677 г. Людовик XIV назначил его своим придворным историографом, вместе с Расином, сохранив свое расположение к Буало, несмотря на смелость его сатир. Самое знаменитое сочинение Буало — поэма- трактат в четырех песнях «Поэтическое искусство» («L’art poétique») (1674), где постулируются основные положения эстетики классицизма.
1002
Комментарии
69 Лефевр д’Этапль Жак (около 1450-1536) — французский гуманист, филолог, богослов, церковный деятель. Издал во Франции почти в полном объеме сочинения Аристотеля в латинских переводах итальянских гуманистов и со своими комментариями; это издание стало вкладом в новое, ренессансное истолкование аристотелизма. Перевел Библию на французский язык и написал комментарии к ней. Пользовался европейской известностью; лично или через учеников был связан с Эразмом Роттердамским и Ж. Кальвином. Хотя он был далек от разрыва с католицизмом, своеобразие его подхода к некоторым богословским темам и участие в попытках обновления церковной жизни создали ему славу предтечи и сторонника Реформации; в связи с этим он неоднократно подвергался церковным гонениям, от которых его избавляло, однако, покровительство светской власти.
™ Как повествует книга Деяний, на пути в Дамаск он неожиданным образом услышал неведомый голос «Савл! Савл! Что ты гонишь меня?» и на три дня ослеп (Деян. 9: 8-9). Приведенный в Дамаск, он был исцелен христианином Ананием и крестился (Деян. 9: 17-18).
71 К вечеру того дня, когда Иисус Христос воскрес и явился Марии Магдалине, Марии Иаковлевой и Петру, двое учеников Христовых (из числа 70-ти), Клеопа и Лука, шли из Иерусалима в селение Эммаус. Эммаус находился в верстах десяти от Иерусалима. Дорогою они разговаривали между собою о всех событиях, которые произошли в последние дни в Иерусалиме — о страданиях и смерти Спасителя. Когда же они рассуждали о всем случившемся, Сам Иисус Христос приблизился к ним и шел рядом с ними. Но что-то словно удерживало глаза их, так что они не узнали Его. (Лук. 24:13-35 и Мк. 16: 12).
72 Замок Вомюрье, расположенный вблизи деревни Вомюрье, был построен в 1651-1652 гг. герцогом Луи-Шарлем де Люинем на землях аббатства Пор-Руаяль де Шам. Расцвет замка приходится на 1652-1660 гг. Замок был построен, чтобы приблизиться к друзьям из Пор-Руаяля. Он будет служить убежищем для преследуемых, его часто будут посещать Расин, Ле Мэтр де Саси и Паскаль. Замок был разрушен около 1680 г.
73 Это имя приняла Жаклин после пострига.
74 Врач шведской королевы Кристины, знакомый Паскаля.
75 Доминиканский орден. Орден братьев-проповедников (Ordo fratrum praedicatorum, О. P.) — католический монашеский орден, основанный испанским монахом святым Домиником. Основные сферы деятельности доминиканцев — проповедь Евангелия, изучение наук, образование, борьба с ересями, миссионерская деятельность. К этому ордену изначально принадлежал Фома Аквинский.
Томизм (от лат. Thomas — Фома) — учение в схоластической философии и теологии католицизма, основанное Фомой Аквинским. Доктрина томизма выступает не столько учением о догматах веры, сколько учением о способах постижения этого учения посредством разума в отличие от августинианства, взывающего к интуиции.
Фома Аквинский (иначе Фома Аквинат, Томас Аквинат; ок. 1225-1274) — философ и теолог, систематизатор ортодоксальной схоластики, учитель
Комментарии
1003
Церкви. С 1879 г. признан наиболее авторитетным католическим религиозным философом, который связал христианское вероучение (в частности, идеи Августина Блаженного) с философией Аристотеля. Сформулировал пять доказательств бытия Бога. Признавая относительную самостоятельность естественного бытия и человеческого разума, утверждал, что природа завершается в благодати, разум — в вере, философское познание и естественная теология, основанная на аналогии сущего,— в сверхъестественном откровении.
76 Пьер Сегье (1588-1672) — канцлер Франции (с перерывами в 1650-1651 и 1652-1656 гг.), член Французской академии. Находясь в тени Ришельё и Мазарини, сыграл одну из ключевых ролей в утверждении абсолютизма во Франции. Канцлер Франции — высшее должностное лицо короны.
77 «Блез Паскаль, овернец, сын Этьена Паскаля».
78 Эскобар-и-Мендоза (1589-1669) — знаменитый испанский иезуит. Поступил в орден 15-ти лет и скоро обратил на себя внимание строгостью жизни, познаниями и красноречием. В течение 50-ти лет ежедневно произносил проповеди. Написал свыше 40 томов in folio. Многие из его сочинений выдержали массу изданий и были переведены на разные языки. В своих трудах Эскобар-и-Мендоза старался обосновать иезуитскую казуистическую мораль, причем не стеснялся искажать места из Св. Писания и из отцов Церкви. Он первый откровенно высказал и развил мысль, что чистота намерений оправдывает действия, порицаемые моралью и законами. На негос особенной энергией обрушился Паскаль в своих знаменитых «Провинциальных письмах». Даже папы принуждены были осудить некоторые положения Эскобра-и-Мендозы, и иезуиты официально отказались от поддержки его взглядов, тогда как раньше он играл роль главного теоретика их морали. Учение Эскобар-и-Мендоза подверглось беспощадным насмешкам со стороны Мольера, Буало и Лафонтена. Из его имени было даже образовано слово escobarderie, обозначающее, по объяснению словаря французской академии, лицемерие, при помощи которого человек разрешает затруднительные вопросы совести в благоприятном для своих выгод смысле.
79 Казуистика (от лат. casus — «случай», «казус») — в общеупотребительном бытовом значении под этим термином понимают изворотливость в аргументах при доказательстве сомнительных или ложных идей; крючкотворство. У средневековых схоластов (богословов и юристов) казуистика представляла собой особый диалектический прием, при помощи которого какой-либо религиозный, моральный или юридический вопрос разбивается на бесчисленное множество мелких деталей и случаев и вместо решения вопроса в принципе, превращается в тончайший и исчерпывающий анализ всех возможных и мысленно представимых случаев. В диалектической казуистике особенно отличались иезуиты.
80 Тартюф — главный герой комедии Мольера «Тартюф, или Обманщик» (1664). Имя стало нарицательным для обозначения лицемера.
81 Марат Жан-Поль (традиционная передача, французское произношение Мара) (1743-1793) — один из предводителей Великой французской революции, радикальный журналист, лидер якобинцев. Известен под прозвищем
1004
Комментарии
«Друг народа» в честь газеты, которую он издавал. Один из наиболее ярых сторонников якобинского террора. Был убит Шарлоттой Корде.
82 Математические исследования Паскаля были наиболее важной исходной посылкой изобретения Лейбница. Н. Бурбаки в книге «Очерки по истории математики» (М., 2007) пишет: «Благодаря счастливому случаю Лейбниц, когда он захотел приобщиться к современной ему математике, встретил Гюйгенса, который тотчас же дал ему сочинения Паскаля. Он был уже подготовлен к их восприятию своими размышлениями о комбинаторном анализе...» (С. 197). Об этом же говорит В. Ф. Панов в книге «Математика древняя и юная» (М., 2006): «На задачах о циклоиде Паскаль разработал, по существу, все, что необходимо для построения дифференциального и интегрального исчисления. Лейбниц пишет, что когда он познакомился с работами Паскаля, то был удивлен, насколько тот был близок к построению общей теории и почему неожиданно остановился, будто «наего глазах была пелена» (С. 145).
83 Д’Аламбер Жан Лерон (1717-1783) — французский ученый-энциклопедист. Широко известен как философ, математик и механик. Член Парижской академии наук (1740), Французской академии (1754), Петербургской (1764) и других академий.
84 Ферма Пьер де (1601-1665) — французский математик, один из создателей аналитической геометрии, математического анализа, теории вероятностей и теории чисел. По профессии юрист, с 1631 г. — советник парламента в Тулузе. Блестящий полиглот. Наиболее известен формулировкой Великой теоремы Ферма.
85 Святой Виргилий (Виргилий Зальцбургский; ок. 710-784) — епископ Зальцбурга (745-784), настоятель Зальцбургского аббатства св. Петра, миссионер, просветитель. Был великолепно образован и весьма сведущ в точных науках, за что его иногда называли Виргилий Геометр. Виргилий развернул активную миссионерскую деятельность. В ходе христианизации альпийского региона у Виргилия произошел конфликт со св. Бонифацием по вопросу о крещении. Уровень образования некоторых священников был настолько низким, что они даже не могли правильно выговорить на латыни формулу крещения «Крещу тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа». Бонифаций считал, что людей, крещенных с произнесением неточной формулы, следует перекрещивать, Виргилий же настаивал на действительности такого таинства. Спор был разрешен Папой Захарием, подтвердившим правоту Виргилия.
86 Отдельным сборником «Письма к провинциалу» были изданы в Кёльне в 1657 г. за подписью Луи Монтальта. В том же году внесены в Индекс запрещенных книг. Узнав об этом, Паскаль сказал, что если «Письма» осуждены в Риме, то то, что осуждается в них, осуждено на небе. Последнее прижизненное издание датируется 1659 г. К тому времени настоящее имя автора стало известно. В 1660 г. латинский перевод писем, выполненный Николем, был сожжен по постановлению королевского совета. В то же время казуистической морали был нанесен серьезный удар. Еще в разгар работы Паскаля над письмами парижские служители церкви на специальной ассамблее обсуждали темы, под¬
Комментарии
1005
нятые в них с тем, чтобы осудить либо их автора, либо иезуитов. Ответом ордена на движение протеста против казуистики, развернувшееся во Франции, стала книга отца Пиро «Апология казуистов против янсенистов». В ней защищались наиболее спорные положения казуистов, эта защита сопровождалась клеветой в адрес противников иезуитов. «Апология...» была настолько неудачна, что вызывала неудовольствие даже у представителей ордена, а в 1659 г. была зачислена в Индекс запрещенных книг. Впоследствии многие из казуистических положений были осуждены Ватиканом в 1665 и 1679 гг.
87 Анна Австрийская (1601-1666) — королева Франции, супруга короля Франции Людовика XIII. В 1643-1651 гг. была регентом при малолетнем Людовике XIV, фактически же государством управлял Мазарини, назначенный ею первым министром. В 1661 г., после смерти Мазарини, когда Людовик XIV стал править самостоятельно, Анна удалилась в монастырь Валь-де-Грас.
88 Анна Франсуа (1590-1670) — французский теолог, иезуит, писатель, один из известнейших противников янсенизма. Прославился в 1632 г., опубликовав трактат в защиту доктрины иезуитов. Против него направлено последнее из «Провинциальных писем» Паскаля.
89 «Огненная ночь» произошла 23 ноября 1654 г., когда с половины одиннадцатого до половины первого ночи Паскаль был словно ослеплен огнем и потерял сознание. Проснувшись на заре, он написал записку, известную как «Мемориал» или «Амулет», которую зашил в подкладку сюртука, где она была найдена после его смерти. Подобная практика была распространена в это время: Ришельё и Винсент де Поль также носили записку в своей одежде.
90 Дома Жан (1625-1696) — французский юрист. Находился в дружеских отношениях с Паскалем, который перед смертью вверил ему свои бумаги. Сочинения Дома проникнуты глубоким философским взглядом и представляют собой попытку установить основные, общие принципы права. По словам Буало, он был «восстановителем разума в юриспруденции». Его труды оказали огромное влияние на развитие юридических наук и практики во «Франции и выдержали множество изданий.
91 Спиноза Бенедикт (Барух Спиноза; 1632-1677) — нидерландский философ. Один из главных представителей философии Нового времени, рационалист. Опубликованный анонимно в Амстердаме «Теолого-политический трактат» (1670) (Мережковский неточен в указании даты) создает прочное мнение о Спинозе как атеисте. От серьезных преследований Спинозу спасало то, что во главе государства стояли братья де Витт, благосклонно относившиеся к философу.
92 Скорее всего, речь идет о совместном издании Кондорсе и Вольтера «Мыслей» Паскаля, снабженном ремарками обоих авторов. Первое издание вышло в 1776 г., а второе расширенное — в год смерти Вольтера (1778). Как полагает Бешо, опубликовавшего 94 заметки в 50 т. собрания сочинений Вольтера под названием «Последние ремарки о «Мыслях» Паскаля и о некоторых других авторах, это было последнее творение Вольтера, датированное, 1777 г. Oeuvres de Voltaire. T. 50. Paris, chez Lefèvre, 1734.
93 Оргон — герой комедии Мольера «Тартюф».
1006
Комментарии
94 Клеонтп. — персонаж той же комедии.
95 Сульпиций Север (363-410 или 429) — святой, писатель (агиограф и хронист). Сначала был адвокатом. После смерти жены, в 392 г., оставил должность адвоката и, под влиянием епископа Мартина Турского и Павлина из Нолы, избрал жизнь пустынника и удалился в монастырь близ Безье. В 409 г. перешел в Марсель. Провозгласив себя пелагианином, он скоро раскаялся в этом и осудил себя на вечное молчание.
96 «Духовный альманах Парижа и пригородов, предназначенный для набожных людей» издавался нерегулярно отцом Мартиалом де Маисом на протяжении многих лет: 1647, 1650, 1651-1654, 1667, 1670 и 1672 гг. В нем можно было найти сообщения о праздниках, службах, собраниях, проходящих во всех церквях и соборах Парижа и пригородов.
97 Церковь святого Стефана на горе расположена в 5 округе Парижа на горе Сент-Женевьев, позади Пантеона, в 600 м к востоку от Люксембургского сада, в 2 км к юго-востоку от Лувра.
98 Берье Поль (1608-1696) — священник, исповедник Паскаля. Принял монашеский сан в церкви Св. Женевьевы в 1625 г., стал аббатом в 1634 г. и главным аббатом с 1675 по 1681 г. Был исповедником Паскаля в последние месяцы его жизни, о чем он написал в своих «Мемуарах о смерти Паскаля», изданных в 1911 г. (Beurrier père du. Mémoires. Sur la mort de Pascal // Pascal B. Oeuvres comlètes. P. 42-49).
99 Господин де Пурсоньяк — герой одноименной комедии-балета в трех актах Мольера и Ж. Б. Люлли, написанной в 1669 г. по заказу короля Людовика XIV по мотивам комедии из репертуара комедии дель арте «Несчастья Пульчинеллы».
100 Сократ (ок. 469 г. до н. э. — 399 г. до и. э.) — древнегреческий философ, учение которого знаменует поворот в философии — от рассмотрения природы и мира к рассмотрению человека. Своим методом анализа понятий (майевтика, диалектика) и отождествлением добродетели и знания он направил внимание философов на безусловное значение человеческой личности.
101 Бейль Пьер (1647-1706) — французский мыслитель, историограф и критик религиозных догм. Кальвинист, как и его отец-пастор, он был обращен в католицизм во время обучения в университете Тулузы (1669), однако спустя год вернулся к своим первоначальным убеждениям. В дальнейшем учился в Женеве, служил домашним учителем, стал профессором философии протестантской Седанской академии (1675-1681). Вынужден был покинуть Францию и поселиться в Роттердаме, когда Людовик XIV закрыл Академию в 1681 г. Испытал влияние Монтеня и Декарта, как и других представителей «новой» философии. В Голландии Бейль преподавал (был профессором Роттердамского университета до 1693 г.) и много писал, завоевав известность среди ученых и репутацию неустанного борца за свободомыслие и религиозную терпимость, в том числе по отношению к атеистам. Автор пользовавшегося большим уважением «Историко-критического словаря» (первоначально в 2 т., Роттердам, 1696; новейшее изд. в 16 т., Париж, 1820).
Комментарии
1007
102 Ардуэн де Бомон деПерефиксПоль (1606-1671) — французский историк и священник. Получил образование в университете Пуатье и Парижа, доктор Сорбонны. С 1644 г. был наставником Людовика XIV, а позже его исповедником.
103 Сент-Бёв Шарль Огюстен де (1804-1869) — французский литературовед и литературный критик, заметная фигура литературного романтизма, создатель собственного метода в литературоведении, который в дальнейшем был назван «биографическим». Сент-Бёв не оставил теоретических, в узком смысле слова, трудов. Его монументальные «Портреты», «Беседы по понедельникам» , «Новые понедельники» представляют собою сборники критических статей, в течение долгих лет появлявшихся в парижских журналах. Метод этих статей, представлявших принципиально новый жанр критики, восходит к целостной концепции, в основу которой положен определяющий теорию и практику всей романтической школы философский индетерминизм. В 1837 г. Сент-Бев был приглашен читать лекции в Лозанне (Швейцария), где начал свою монументальную «Историю Пор-Рояля» (Histoire de Port-Royal, 1840-1860) — наиболее авторитетный труд по янсенизму, на который часто ссылается Мережковский в данной статье.
104 Гераклит Эфесский (544-483 гг. до н. э) — древнегреческий философ- досократик, основатель первой исторической или первоначальной формы диалектики. Единственное сочинение — «О природе».
105 Перье Этьен, племянник Паскаля, написал предисловие к первому изданию «Мыслей» в Пор-Рояле в 1670 г. (Perler Е. Préface de l’édition de Port-Royal // Pascal B. Oeuvres complètes. P. 1462-1474.
106 Океаниды — в древнегреческой мифологии нимфы, три тысячи дочерей титана Океана и Тефиды, составляют хор в трагедии Эсхила «Прикованный Прометей».
107 Люинь Шарль д’Альбер (1578-1621) — фаворит (миньон) французского короля Людовика XIII, который ради него восстановил упраздненное звание коннетабля Франции и сделал его первым герцогом де Люинем. Его сын Шарль д’Альбер, участник Фронды принцев и сторонник янсенизма, автор «Сборника сентенций, взятых из «Писания», был близким другом Паскаля, в доме которого он написал шестнадцатое «Письмо провинциала». По его просьбе, для сына Шарля Оноре де Шеврез Паскаль пишет «Три речи о положении сильных мира сего» (1660), опубликованные после его смерти Николем (1670), в которых он определяет обязанности власть имущих и критикует незаконность действий принцев.
108 Томмазо Кампанелла (1568-1639) — итальянский философ и писатель, один из первых представителей утопического социализма, автор знаменитой утопии «ГородСолнца».
109 Первый Ватиканский собор — согласно принятому в Римско-католической церкви счету, XX Вселенский собор открылся 8 декабря 1869 г., прервал свою работу 1 сентября 1870 г.; после капитуляции папской армии 20 сентября 1870 г. Пий IX буллой Postquam Dei типеге того же дня объявил его отложенным на неопределенное время. Предполагалось, что Собор обсудит
1008
Комментарии
большое количество догматических и канонических вопросов, но из-за того, что работа Собора была прервана, было принято только две догматические конституции: 1. DeiFilius излагала католическую позицию относительно Бога как Творца всех вещей, относительно естественного познания Бога человеком, сверхъестественного Откровения, веры и доверия и об отношении веры и разума. 2. Pastor aeternus провозглашала позицию по ряду тем: примат апостола Петра, папа как преемник Петра, вселенская юрисдикция Римского епископа, догмат о папской непогрешимости (безошибочности) (лат. tnfalltbtlttas). Конституция представляет собой наиболее полное официальное изложение позиции Римско-католической церкви относительно папской власти.
110 В начале 1655 г. Паскаль читает лекцию о Монтене и Эпиктете, которая поразила Великого Арно, долго беседовавшего с молодым человеком. (См.: Attali J. Op. cit. Р. 252.)
111 Мартини Раймонд (1220-1284) — доминиканский монах, отлично владевший ивритом и арабским, автор знаменитой в свое время книги «Кинжал веры» (на латинском и иврите), которая была завершена после 1278 г., издана в Париже в 1651 г. и в Лейпциге в 1687 г. Автор демонстрирует свое превосходное знание литературы на иврите и Талмуда. Книга часто использовалась как авторитетное издание в полемических спорах, предполагается, что с ней был знаком Фома Аквинский.
112 Плутарх из Херонеи (ок. 45 — ок. 127) — древнегреческий философ, биограф, моралист, автор знаменитых «Сравнительных жизнеописаний». Как пишет Плутарх в «Моралиях», кормчий Тамус, плывший в Италию мимо острова Паксы, услышал глас свыше: «Тамус, великий Пан умер!»
Это выражение стало крылатым, и смерть великого бога Пана стали толковать как закат античной цивилизации. Плутарх, который был жрецом в Дельфах во второй половине I века н. э., понял это выражение так. Однако в действительности культ этого бога в те времена вовсе не исчез, а просуществовал еще несколько столетий. Данное обстоятельство делает правдоподобным предположение Р. Грейвса (если это его догадка), что провозглашено было нечто иное: «Таммуз всевеликий [пан-мегас] умер!»
Действительно, Таммуз у многих народов Ближнего Востока, в Аккадии почитался как умирающий и воскресающий бог плодородия. Поэтому с острова вполне могли раздаваться голоса хора или голос жреца, возвещающие об очередной смерти Таммуза. В противном случае сообщение Плутарха следует считать легендой с философским или, если угодно, экологическим подтекстом — погибла дикая природа, преобразованная людьми.
113 Елевзис — один из демов Аттики, в плодородной Ориасийской равнине, между хребтом Эгалеем и Мегаридой. В древнейшее время был независимой общиной, управляемой родами Евмолпидов и Кериков, в руках которых находилось заведование существовавшей здесь святыней хтонических божеств. Легендарно эта независимость выразилась в сказании о войне Эрехфея, мифического царя Афин, с Евмолпом, после чего Елевзис был присоединен к Аттике. ЗаЕлевзисом и в историческое время сохранилось, как воспоминание о прежней его независимости, право чеканить свою отдельную монету.
Комментарии
1009
Кроме значения священного места, Елевзис был важен и как стратегический пункт: здесь разветвлялись дороги из Афин в Пелопоннес и в северную Грецию.
114 О Крито-Эгее Мережковский пишет в своей книге «Тайна Запада. Атлантида — Европа»: «Крито-Эгея — мать Европы. Кажется, наша европейская цивилизация получила начало свое не от арийцев (индо-германцев), как думали прежде, а от предварившего их на тысячи лет так называемого «средиземноморского племени» (Mediterranean race), пришедшего откуда- то с Запада, двумя путями, через Северную Африку и по Средиземному морю. Крито-эгейцы — гомеровские этеокритяне, пелазги, лелеги, ликийцы, израильские kaphtorim, египетские keftiu — принадлежат к этому племени (A. Mosso, Le origine della civilta Mediterranea, 1910, p. 332), безбородому, смугло-красному, так же как египтяне и племена древней Америки — ацтеки, тольтеки, майя. Это «красные», «краснокожие», phoinikes, «Финикийцы», не в новом историческом, а в древнем, баснословном или доисторическом, смысле. Как бы рдяный отблеск вечного Заката, Запада,— на лицах, и в телах — та «красная глина», afar, из которой вылеплен Адам, первый человек первого человечества (Dussaud, 1. С. 447)».
115 Аграфа (дословно «не записанные») — изречения, приписываемые Иисусу Христу и не отраженные в четырех канонических Евангелиях. Источниками аграфы являются: новозаветные сочинения, за исключением Евангелий; вариантные чтения и дополнения (интерполяция) в рукописях Евангелий; цитаты из отцов Церкви и другой раннехристианской литературы. Термин был введен в употребление в 1776 г. немецким исследователем Кёрнером. На выбор термина повлияла концепция, согласно которой первоначальные изречения (логии) Иисуса, не вошедшие в Евангелия, сохранялись в устной традиции ранней Церкви и лишь потом были записаны.
116 Гераклит считал, что все непрерывно меняется. Положение о всеобщей изменчивости связывалось Гераклитом с идеей внутренней раздвоенности вещей и процессов на противоположные стороны, с их взаимодействием. Гераклит считал, что все в жизни возникает из противоположностей и познается через них: «Болезнь делает приятным и благим здоровье, голод — сытость, усталость — отдых». Логос в целом есть единство противоположностей, системообразующая связь. «Из Единого все происходит и из всего — Единое». Гераклит является одним из основоположников диалектики.
117 Происхождение и значение слова не ясно. В латинском языке enantium означает уплывать, спасаться бегством.
118 Гераклит Эфесский (544-483 гг. до н. э) — древнегреческий философ- досократик. Единственное его сочинение, от которого сохранилось только около ста фрагментов-цитат,— книга «О природе», состоявшая из трех частей («О природе», «О государстве», «О Боге»). Хотя у более поздних авторов (Аристотеля и Плутарха и др.) встречаются многочисленные цитаты и перифразы из его труда, опыты сбора и систематизации этих цитат стали предприниматься только с начала XIX в. Вершиной этих исследований стал классический труд Германа Дильса (Die Fragmente der Vorsokratiker, первое
1010
Комментарии
издание — в 1903 г.). В течение XX в. собрание гераклитовских фрагментов неоднократно дополнялось, делались также попытки реконструировать их оригинальный порядок, воссоздать структуру и содержание исходного текста (Маркович, Муравьев). Именно поэтому Паскаль, как это предполагает Мережковский, не мог знать Гераклита.
119 Иоахим Флорский (Джоаккино да Фьоре; 1132-1202) — итальянский цистерцианский монах, мистик-прорицатель, родоначальник средневекового хилиазма, яркий мыслитель философско-мистического склада. Основные труды — «Согласование Ветхого и Нового заветов» и «Комментарии к откровениям Иоанна Богослова». Иоахим Флорский разделил всю историю человечества на три периода: Отца (от Авраама до Иоанна Крестителя), Сына (от воплощения Сына Божия — до 1260 г.) и Святого Духа (с 1260 г.). Он пришел к выводу, что этот период начнется в 1260 г., основываясь на книге Откровения Иоанна Богослова (стихи 11: 3 и 12: 6, в которых говорится о «тысяча двухстах шестидесяти днях»). Иоахим Флорский учил о наступлении Третьего Завета, связанного с господством монашества. Учение Иоахима было осуждено католическими Соборами.
120 Франциск Ассизский (1182-1226) — католический святой, учредитель названного его именем нищенствующего ордена. Знаменует собой перелом в истории аскетического идеала, а потому и новую эпоху в истории западного монашества. Основу поэзии Франциска составляет его братская любовь ко всякой твари. Уникальное место в его наследии занимает сочиненная им на смертном одре (1224 или 1225) «Песнь о Солнце» (в жанре лауды), славословие Господу и всем его творениям, прежде всего, Брату Солнцу и Сестре Луне, а также Брату Ветру, Сестре Воде, Брату Огню, Матери Земле, а под конец даже Сестре Смерти. Написанная ритмической прозой на умбрийском диалекте «Песнь о Солнце» Франциска ныне считается первым в мире памятником специфически итальянской литературы. Франциску Ассизскому Д. Мережковский посвятил одну из своих книг.
121 Той же троичностью пронизан текст «Божественной комедии» Данте: три части по 33 («Ад» — 34) песни в каждой, три ключевых символа, трижды повторенная конечная цель — Светила, трестишия, которыми написано произведение.
122 «Новая жизнь» — произведение автобиографического характера, написанное Данте в 1283-1293 гг. Написана в форме прозиметрума — чередования фрагментов стиха и прозы.
123 Дома Жан (1625-1696) — французский юрист, родившийся в Клермон- Ферране, симпатизировавший Пор-Роялю, близкий друг Паскаля, которому тот завещал свои личные бумаги. Главный труд Дома «Гражданские права в их естественном порядке» (Les lois civiles dans leur ordre naturel), изданный в 1689 г. и переизданный 68 раз, стал основой для кодекса Наполеона.
124 Сереет Мигель (1511-1553) — испанский мыслитель, теолог- антиринитарий, естествоиспытатель и врач. В 1553 г. во Вьенне анонимно выходит главный труд Сервета «Восстановление христианства», изучающий основы его антитринитарной «рациональной теологии». Считая бессмыслен¬
Комментарии
1011
ным крещение младенцев, Сервет полагает, что крещение должно происходить уже в зрелом, сознательном возрасте. Рассматривая понятие души, Сервет попытался дать представление о крови как обиталище души, впервые в Европе описал малый круг кровообращения. Приоритет его в изучении кровообращения считался неоспоримым до тех пор, пока в 1929 г. в Дамаске не была найдена рукопись арабского врача Ибн-ан-Нафиса с описанием легочного кровообращения. Прямые текстовые совпадения в описаниях Сервета и Ибн-ан-Нафиса позволяют предполагать знакомство Сервета с текстом его арабского предшественника. Книга Сервета была признана еретической, а весь тираж ее уничтожен. Книга вышла с инициалами М. S. V., что позволило инквизиции установить авторство Сервета. Он был арестован, но во время судебного процесса бежал из тюрьмы и был заочно приговорен к смерти. Покинув Францию, Сервет, по- видимому, пытался найти убежище в Неаполе. Его путь лежал через Женеву, где он был узнан Жаном Кальвином и по приговору женевской консистории сожжен на костре. Он вошел в историю, прежде всего, как первая жертва протестантского фанатизма, и его смерть положила начало многовековой дискуссии о свободе совести.
Б. П. Вышеславцев
Паскаль
Впервые: Вышеславцев Б. П. Вечное в русской философии. Нью-Йорк. 1955. Печатается по: Вышеславцев Б. П. Вечное в русской философии // Этика преображенного Эроса. М., 1994.
Вышеславцев Борис Петрович (1877-1954) — философ, специалист по этике, истории философии и религии. С 1917 г. — профессор философии права Московского университета. В 1922 г. Вышеславцев эмигрировал из России в Германию, где до 1924 г. преподавал в основанной Н. А. Бердяевым «Религиозно-философской академии», затем вместе с Академией переехал в Париж. Принимал участие в организации издательства YMCA-Press (Париж). С 1925 г. — один из редакторов религиозно-философского журнала «Путь». Разрабатывал проблематику «философии сердца», антропологии, теории культуры. Его книга «Сердце в христианской и индийской мистике» (1929) — первая систематизирующая работа по православному пониманию проблемы.
1 Гартман Николай, (1882-1950, Гёттинген), немецкий философ-идеалист, основоположник т. н. критической (или новой) онтологии.
Хайдеггер Мартин (1889-1976) — немецкий философ-экзистенциалист. Ясперс Карл Теодор (1883-1969) — немецкий философ, психолог и психиатр, один из главных представителей экзистенциализма.
Сартр Жан-Поль (1905-1980) — французский философ, представитель атеистического экзистенциализма, писатель, драматург и эссеист.
2 «Мысли»,№91. ВсовременномпереводеЭ. Линецкой: «Меняужасает вечное безмолвие этих бесконечных пространств».
1012
Комментарии
3 «Мысли», № 84: «Ибо в конечном счете что же он такое — человек во Вселенной? Небытие в сравнении с бесконечностью, все сущее в сравнении с небытием, нечто среднее между всем и ничем».
4 Джинс Джеймс (1877-1946) — известный английский физик, астрофизик и космолог
5 «Мысли», № 477: «У сердца немало своих собственных разумных, по его понятию чувств, непостижимых разуму».
6 Pascal В. Oeuvres complètes (par Brunschvicg L., P. Boutroux et F. Gazier): In 14 vol. La Collection des grands écrivains de la France. P.: Hachette, 1908-1925.
7 Валери Поль (1871-1945) — французский поэт, эссеист, философ, известный не только своими стихами и прозой, но и как автор многочисленных эссе и афоризмов, посвященных искусству, истории, литературе, музыке. Валери писал в статье «Заметка и отступление» (1919) о Леонардо да Винчи: «Ему предельно чужда та сильная и малопонятная вражда, которую полтораста лет спустя провозгласил между духом тонкости и духом геометрии человек, совершенно не воспринимавший искусства, который не мог представить себе это деликатное, но вполне естественное соединении различных наклонностей; который думал, что живопись — суета; что подлинное красноречие смеется над красноречием; который вовлекает нас в пари, где он теряет всю тонкость и всю геометрию,— и который, обменяв новую лампу на старую, стал заниматься подшиванием бумаг из своих карманов в то время, когда наступил час дать Франции славу исчисления бесконечности» (Валери П. Об искусстве. М. : Искусство, 1976. С. 83). Речь идет том различии, которое Паскаль устанавливает между суждением математическим и суждением непосредственным («Мысли», № 21, 24), когда он пишет: «Итак, обладай все математики зоркостью, они были бы способны к непосредственному познанию, ибо умеют делать правильные выводы из хорошо известных начал, а способные к непосредственному познанию были бы способны и к математическому, дай они себе труд пристально вглядеться в непривычные для них математические начала». И далее: «истинное красноречие пренебрегает красноречием, истинная нравственность пренебрегает нравственностью,— иными словами, нравственность, выносящая суждения, пренебрегает нравственностью, идущей от ума и не ведающей правил». Валери несправедлив и пристрастен к Паскалю, которому он не мог простить «пагубных последствий» противопоставления «духатонкости» (в вышеприведенном переводе — «способность к непосредственному познанию») «духу геометрии» (в вышеприведенном переводе — «математики»), ни его ухода от науки, ни склонности к прозелитизму, которую он у него видел.
8 Лаланд Пьер Андер (1867-1963) — французский философ. Вышеслвцев имеет в виду его Vocabulaire technique et critique de la philosophie, revu par MM. les membres et correspondants de la Société française de philosophie et publié, avec leurs corrections et observations par André Lalande, membre de l’institut, professeur à la Sorbonne, secrétaire général de la Société (2 volumes, 1927).
Комментарии
1013
9 Ричль Альбрехт (1822-1889) — немецкий историк христианства, протестантский богослов, один из представителей либеральной теологии.
Герман Вильгельм (1846-1922) — теолог-систематик, соединявший в своем творчестве наследие пиетизма с нравственным пафосом либеральной теологии.
10 Гарнак Теодозий (1817-1889) — заслуженный лютеранский богослов, профессор Дерптского университета.
Гёффдинг Хералъд (1843-1931) — датский философ и психолог, критический позитивист, профессор в Копенгагене.
11 Шелер Макс (1874-1928) — немецкий философ и социолог, один из основоположников философской антропологии.
12 Карл Густав Юнг (1875-1961) — швейцарский психиатр, основоположник одного из направлений глубинной психологии, аналитической психологии. Задачей аналитической психологии Юнг считал толкование архетипических образов, возникающих у пациентов. Юнг развил учение о коллективном бессознательном, в образах (архетипах) которого видел источник общечеловеческой символики, в том числе мифов и сновидений («Метаморфозы и символы либидо»).
13 «Мысли», № 481: «Это и есть вера: не умом, а сердцем чувствовать Бога».
14 «Мысли», № 335: «Я вижу сомкнувшиеся вокруг меня наводящие ужас пространства Вселенной, понимаю, что заключен в каком-то глухом закоулке этих необозримых пространств, но не могу уразуметь, ни почему нахожусь именно здесь, а не в каком-нибудь другом месте, ни почему столько-то, а не столько-то быстротекущих лет дано мне жить в вечности, что предшествовало моему появлению на свет и будет длиться, когда меня не станет. Куда ни взгляну, я вижу только бесконечность, я заключен в ней, подобно атому, подобно тени, которой суждено через мгновение безвозвратно исчезнуть. Твердо знаю я лишь одно — что очень скоро умру, но именно эта неминуемая смерть мне более всего непостижима. И как я не знаю, откуда пришел, так не знаю, куда иду, знаю только, что за пределами земной жизни меня ждет либо вековечное бытие, либо длань разгневанного Господа, но какому из этих уделов я обречен, мне никогда не узнать» .
15 Кьеркегор (варианты русского написания — Киркегард, Керкегор) Сёрен Обю (1813-1855) — датский религиозный философ, представитель экзистенциализма, протестантский теолог и писатель.
16 О связи идей Паскаля с философией экзистенциализма см.: Стрельцова Г. Я. Паскаль и экзистенциализм // Стрельцова Г. Я. Паскаль и европейская культура. М.: Республика, 1994.
17 Паскаль Б. Мысли. Часть 2. Раздел 2 «Узел». 3. Бесконечность — небытие, № 451.
18 «Вы станете честным, неспособным к измене, смиренным, благодарным, творящим добро человеком, способным к нелицеприятной, искренне дружбе. Да, разумеется, для вас будут заказаны низменные наслаждения — слава,
1014
Комментарии
сладострастие,— но разве вы ничего не получите взамен? Говорю вам, вы много выиграете даже в этой жизни» (Там же).
19 Штирнер Макс (настоящее имя и фамилия Каспар Шмидт; 1806- 1856) — немецкий философ-младогегельянец, предвосхитивший идеи нигилизма, экзистенциализма, постмодернизма и анархизма, в особенности индивидуалистического анархизма. «Ничто — вот на чем я построил свое дело» — первая и последняя фраза главного труда Штирнера «Единственный и его собственность» (1844) (в русском переводе вышел в СПб. в 1907 г.).
20 Вышеславцев довольно близко к тексту переводит отрывок из 122 мысли (классификация Ле Герна): «Quelle chimère est-ce donc que l’homme? quelle nouveauté, quel monstre, quel chaos, quel sujet de contradictions, quel prodige? Juge de toutes choses, imbécile ver de terre, dépositaire du vrai, cloaque d’incertitude et d’erreur, gloire et rebut de l’univers». Cp. русский перевод Ю. Гинзбург: «Что же это за химера — человек? Какая невидаль, какое чудовище, какой хаос, какое поле противоречий, какое чудо! Судья всех вещей, бессмысленный червь земляной, хранитель истины, сточная яма сомнений и ошибок, слава и сор вселенной» (№ 131 (434))
21 Параклет (греч. — утешитель) — в Евангелии св. Иоанна название Св. Духа.
Ill ПАСКАЛЬ В ЦИТАТАХ
В. Г. Белинский
Мысли Паскаля
Впервые: Белинский В. Г. Мысли Паскаля // Отечественные записки. 1843. T. XXIX. № 7. С. 456-458. Печатается по: Белинский В. Г. Собрание сочинений: В 9 т. М., 1979. Т. 5. Статьи, рецензии и заметки, апрель 1842 — ноябрь 1843. Статья написана в связи с выходом первого перевода «Мыслей» Паскаля И. Г. Бутовским в 1843 г. Подстрочные примечания Г. Г. Елизаветиной.
1 «Письма темных людей» — анонимно изданная в Германии книга в двух частях (1515 и 1517 гг.), содержавшая в себе сатиру, направленную против схоластики и клира. Она явилась важным культурным событием своего времени.
2 Цитаты даются по вышеуказанному изданию.
3 Белинский никак не комментирует тот факт, что Бутовский перевел лишь незначительные отрывки из «Мыслей» Паскаля.
Комментарии
1015
Л. Н. Толстой
Круг чтения
Впервые: Круг чтения. Избранные, собранные и расположенные на каждый день Львом Толстым мысли многих писателей об истине, жизни и поведении. 1904-1908. T. 1. Январь-август. Печатается по: Круг чтения. Избранные, собранные и расположенные на каждый день Львом Толстым мысли многих писателей об истине, жизни и поведении. 1904-1908. T. 1. Январь-август // Толстой Л. Н. Полное собрание сочинений в 90 томах, академическое юбилейное издание. М., 1957.Т.41.
1 В данном издании приводятся только цитаты из Паскаля, которые Толстой самостоятельно и порой весьма вольно переводит (см. вступ. статью в наст, издании).
Путь жизни
Впервые на русском языке: Путь жизни // Толстой Л. Н. Полное собрание сочинений в 90 томах, академическое юбилейное издание. М., 1957. Т. 45. Печатается по этому изданию.
1 «Путь жизни» — значительное этико-философское и религиозное произведение Л. Н. Толстого, по своему жанру аналогичное таким его книгам, как «Мысли мудрых людей на каждый день», «Круг чтения», «На каждый день». Оно не только продолжает, но и завершает этот ряд сборников нравственных максим, поскольку было создано писателем в последний год жизни: первая запись в дневнике о начале работы над книгой (составлена ее первая «книжечка» «О вере») была сделана Толстым 31 января 1910 г., последняя (о чтении корректуры) — 15 октября 1910 г. Книга представляет собой своеобразный итог многолетних раздумий Толстого над проблемами «смысла и блага» человеческого существования: что значит жить «по совести и разуму», каковы пути духовного единения людей друг с другом и с Богом, как избавиться от грехов, соблазнов и суеверий. Книга вышла уже после смерти Толстого в 1911 г., сначала в виде 30 отдельных выпусков, а затем как единое издание. По цензурным соображениям оно не было полным. Так, только в 1917 г. смогла выйти отдельным изданием глава «Суеверие государства». Много сокращений, изъятий, изменений текста было сделано в других главах. Без цензурных искажений перевод книги под названием «Cela Zivota» вышел в 1924 г. в Чехословакии под редакцией К. Велеминского («Библиотека Л. Н. Толстого»),
2 В данном издании приводятся только цитаты из Паскаля в вольном переводе Л. Н. Толстого.
1016
Комментарии
IV ПАСКАЛЬ В ПИСЬМАХ, ДНЕВНИКАХ, ВОСПОМИНАНИЯХ, ЭССЕ
К. Н. Батюшков
Письма
Впервые: Русская старина. 1883. № 4. Печатается по: Батюшков К. Н.
Сочинения в двух томах. Т. 2. Записные книжки и письма. М., 1989. Подстрочные примечания А. Л. Зорина.
Батюшков Константин Николаевич (1787-1855) — русский поэт. В 1802 г. в Петербурге Батюшков познакомился с представителями тогдашнего литературного мира: Г. Р. Державиным, Н. А. Львовым, В. В. Капнистом, А. Н. Олениным, Н. И. Гнедичем. В 1807 г. Батюшков записался в народное ополчение (милицию) и принял участие в прусском походе. В начале 1812 г. отправился в Петербург и при помощи Оленина поступил на службу в Публичную библиотеку, где его сослуживцами были были Гнедич и Крылов.
1 Гнедич Николай Иванович (1784-1833) — русский поэт, наиболее известный как переводчик на русский язык «Илиады».
2 Полозов Даниил Петрович (1794-1850) — генерал-лейтенант, участник Отечественной войны 1812 г. Принимал участие в Отечественной войне 1812 г. и последующих Заграничных походах 1813-1814 гг. За отличия, выказанные в сражениях против Наполеона, Полозов был произведен в поручики и награжден орденами. В 1831 г. был определен в Отдельный корпус жандармов по особым поручениям при шефе жандармов графе Бенкендорфе, ас 1833 г. был начальником 1-го округа корпуса жандармов.
3 Комментатор ошибается: во-первых, над понятием «бесконечно малого» трудились многие ученые XVII XVIII вв. (Кеплер и Лейбниц), в том числе Декарт и Паскаль, но окончательную формулировку дал Коши (см. комментарий к статье Розанова В. В. «Паскаль»), во-вторых, ученые использовали термин «infinitésimal» от «infinitesimus» (лат., XVII в.), что означает «бесконечный элемент серии». Выражение же « infiniment petit» отсылает к 185 (Ле Герн) фрагменту «Мыслей» Паскаля, известному под названием «О двух бесконечностях».
4 Сен-Ламбер Жан-Франсуа (1716-1803) — французский поэт и философ эпохи Просвещения, член Французской академии. Упоминаемое произведение — «Principes des moeurs chez toutes les nations ou Catéchisme universel» (1798) одно из наиболее популярных сочинений Сен-Ламбера.
5 «Беседа любителей русского слова» — литературное общество, образовавшееся в Петербурге в 1811 г. Во главе этого общества стояли Г. Р. Державин и А. С. Шишков. К нему принадлежали также С. А. Ширинский-Шихматов, А. С. Хвостов, А. А. Шаховской, И. С. Захаров и другие. В «Беседу» входили также Н. И. Гнедич и И. А. Крылов, отстаивавшие, в противовес Карамзину и сторонникам сентиментализма, национально-демократические традиции
Комментарии
1017
в развитии русского литературного языка, гражданский и демократический пафос в поэзии. Этим определялась ориентация именно на «Беседу» писателей декабристского направления, в том числе А. С. Грибоедова, П. А. Катенина, В. Ф. Раевского и других. Первое заседание состоялось в доме Державина 14 марта 1811 г. «Беседа любителей русского слова» распалась после смерти Державина в 1816 г.
6 Шаховской Александр Александрович (1777-1846) — российский драматург и театральный деятель. Член репертуарной комиссии императорских театров, режиссер, педагог, критик.
7 Шишков Александр Семенович (1754-1841) — русский писатель, военный и государственный деятель. Государственный секретарь и министр народного просвещения. Один из ведущих российских идеологов времен Отечественной войны 1812 г., известный консерватор, инициатор издания охранительного цензурного устава 1826 г. Президент Российской академии, филолог и литературовед.
8 Тибулл Альбий — древнеримский поэт, живший в I веке до н. э., автор знаменитых «Элегий».
9 Грессе Жан-Батист-Луи (1709-1777) — французский поэт и драматург, автор знаменитой комической эпопеи «Vert-Vert» (1734), в которой рассказана в изящных стихах история благочестивого попугая, воспитанного в женском монастыре.
10 Гурия — райская дева в исламе. Анакреонт (Анакреон) (570/559- 485/478 до н. э.) — древнегреческий лирический поэт. Был включен в канонический список Девяти лириков учеными эллинистической Александрии.
11 Т. е. Гоббс.
12 Казанъе — ср. южн.-зап. проповедь, речь (Словарь В. Даля).
13 Крылов Иван Андреевич (1769-1844) — русский поэт, баснописец, переводчик, писатель.
Н. В. Гоголь
Выбранные места из переписки с друзьями <Фрагменты>
Впервые: Выбранные места из переписки с друзьями Николая Гоголя. СПб., 1847. Печатается по: Гоголь Н. В. Выбранные места из переписки с друзьями // Гоголь Н. В. Духовная проза. М., 1992. В данном издании приводятся только письма, наиболее близкие к мыслям Паскаля. Подстрочные примечания В. А. Воропаева, И. А. Виноградовой.
Гоголь Николай Васильевич (1809—1852) — русский писатель, драматург, поэт, критик,публицист.
1 Обстоятельства жизни Гоголя в момент подготовки произведения очень близки к состоянию Паскаля в годы работы над «Мыслями».
2 Ср. «Молитва Богу об употреблении болезни во благо» Паскаля.
1018
Комментарии
3 Ср. у Паскаля: «Хвалю тебя, Боже мой, и буду благословлять Тебя всякий день моей жизни за то, что Тебе угодно было приблизить ради моей пользы этот страшный день, уничтожив для меня все это той немощью, в какую Ты меня поверг. Хвалю Тебя, Боже мой, и буду благословлять Тебя всякий день моей жизни за то, что Тебе угодно было сделать меня неспособным наслаждаться радостями здоровья и мирскими удовольствиями; и за то, что Ты для пользы моей словно бы уничтожил ложных идолов, которых Ты и вправду уничтожишь, чтобы смутить грешников, в день гнева Твоего» («Молитва, чтобы Бог дал мне употребить болезни во благо», пер. Ю. Гинзбург).
4 Паскаль в «Мыслях» и в «О математическом уме и способности убеждения» выделяет «ум математический», т. е. точный, развиваемый благодаря приобретению знаний, и «ум тонкий», т. е. способность к размышлению и рассуждению, полагая, что высшая мудрость дается человеку только благодаря Богу.
5 Соломон — третий еврейский царь, легендарный правитель объединенного Израильского царства в 965-928 до н. э., в период его наивысшего расцвета. Сын царя Давида и Вирсавии. Соломон умер в 928 г. до н. э. в возрасте 62 лет. Согласно легенде, это произошло в то время, когда он наблюдал за строительством нового алтаря. Во избежание ошибки (предположив, что это может быть летаргический сон), приближенные не стали хоронить его до момента, пока черви не начали точить его посох. Только тогда он был официально признан мертвым и захоронен.
6 Перевод «Одиссеи» на русский язык, сделанный В. А. Жуковским в 1849 г., стал классическим.
7 Идея любви к Богу, равно как и мысль о несовершенстве природы человека пронизывают «Мысли» Паскаля.
И. С.Тургенев
Письма
87. Полине Виардо
Впервые: во французском оригинале — Revue Hebdomadaire, 1898, № 44, 1 octobre, p. 40-46; в русском переводе — «Московские ведомости», 1898, № 266, 27 сентября (9 октября). Печатается по: Тургенев И. С. Полное собрание сочинений и писем в тридцати томах. Письма в восемнадцати томах. Издание второе, исправленное и дополненное. М., 1982. T. I. Письма 1831-1849. С. 390-391. Приводится вторая часть длинного письма, начатого 29 апреля 1848 продолженного 30 апреля. Подстрочные примечания P. М. Алексиной, А. И. Батюто, Т. П. Головановой, Н. В. Гужиевой, Т. П. Ден, А. Звигильского, Л. И. Кузьминой, Л. Н. Назаровой, А. С. Розанова, П. Уоддингтон.
Тургенев Иван Сергеевич (1818-1883) — русский писатель, поэт, переводчик.
Комментарии
1019
1 Лемуан Пьер (1602-1672) — французский поэт, иезуит, автор эпической поэмы «Святой Людовик» (1653), а также «Бесед и поэтических писем» (1665), «Нравственные картины» которых, написанные в стихах и прозе, равно как и его «Непринужденное благочестие» (1652) стали объектом острой критики Паскаля в «Провинциальных письмах» (письмо 11).
2 Местр Ксавье де (1763-1852) — французский писатель и ученый. Брат Жозефа де Местра. После присоединения Наполеоном Савойи к Франции Местр эмигрировал в Пьемонт, затем вместе с армией А. В. Суворова — в Россию (1800), где стал офицером русской армии и скончался в Петербурге. «Путешествие вокруг моей комнаты» («Voyage autour de ma chambre», 1794, рус. пер. 1802) — его первое художественное произведение, написанное в подражание «Сентиментальному путешествию» (1768) Л. Стерна. В повести автор лирически описывает мир повседневных вещей. Большую популярность принесли Местру две новеллы на русские темы: «Пленники Кавказа» (1815, рус. пер. 1894) и «Молодая Сибирячка» (1815, рус. пер. 1840).
3 Стерн Лоренс (1713-1768) — английский писатель, автор романов «Жизнь и мнения Тристрама Шенди, джентльмена» (1759-1767) и «Сентиментальное путешествие по Франции и Италии» (1768), отличающихся своеобразной манерой повествования с многочисленными отступлениями. Герой второго произведения, пастор Йорик, упивается своей чрезмерной чувствительностью. Стерн показывает на его примере, что в основе всех поступков человека лежит его себялюбие.
4 Тепфер Рудольф (1799-1846) — франко-швейцарский писатель, художник и педагог. Известен своими рассказами, романами и очерками из швейцарской жизни. По манере изложения и мировоззренческой позиции весьма близок Стерну. Лучшим образцом творчества Тепфера является наиболее популярный сборник его рассказов — « Женевские новеллы ».
5 Гервег Георг (1817-1875) — немецкий революционно-демократический поэт и публицист, демократ, член Союза коммунистов.
6 Жорж Санд (наст, имя — Амандина Аврора Люсиль Дюпен; (1804- 1876) — известная французская писательница, яркая представительница романтизма, автор романов имевших большой успех романов «Индиана» (1832) «Валентина» (1832), «Консуэло» (1842-1843) и др.
7 Рихтер Иоганн Пауль Фридрих (псевдоним — Жан Поль; 1763-1825) — немецкий писатель-сатирик, романист, проповедник демократических принципов и свободы духа. Автор повестей и романов «Геспер» (1795), «Зибенкэз» (1796-1797), «Приготовительная школа эстетики» (1804).
1599. А. А. Фету
Впервые: Фет А. А. Мои воспоминания (1848-1889). М., 1890. Ч. 2. Печатается по: Тургенев И. С. Полное собрание сочинений и писем в тридцати томах. Письма в восемнадцати томах. Издание второе, исправленное и дополненное М., 1988. Том пятый. Письма 1862-1864. С. 300 301.
8 Борисов Иван Петрович(1822-1871) — близкий друг Фета, связанный с ним родственными узами.
1020
Комментарии
9 Баден-Баден — город в Германии, в земле Баден-Вюртемберг. Знаменитое курортное место. До 1931 г. город назывался Баден, здесь Тургенев поселился в начале 1860-х гг.
<Полине Виардо>
Печатается по: Неизвестные письма Тургенева (из архива семьи Виардо) // Иностранная литература. 1971. № 1. С. 183-184 (первая публикация).
10 Виши — город в центре Франции (департамент Алье), на севере региона Овернь, в сердце провинции Бурбонне. В XIX в. во всем мире Виши считался самым фешенебельным бальнеологическим курортом Франции, известным своими теплыми термальными источниками.
11 Карлсбад (регион Баден) — поселок в Германии, в земле Баден- Вюртемберг. Бад-Эмс — город в Германии, районный центр, расположен в земле Рейнланд-Пфальц. В XIX в. — курорт, привлекавший многих монархов и людей культуры (император Вильгельм I, Александр II, Ф. М. Достоевский). Особенно любил отдыхать в городе знаменитый русский поэт князь П. А. Вяземский, посвятивший ему несколько стихотворений, в том числе «Красивый Эмс» (1875). На средства русских курортников была выстроена православная церковь Святой Александры.
12 Реплика Горация Куриацию в трагедии Корнеля «Гораций» (акт II, сцена 3). Римлянин Гораций, выбранный для защиты чести своего города, порывает со своим другом и зятем Куриацием, уроженцем и защитником Альбы-Лонги. Корнель Пьер (1606-1684) — французский драматург, «отец французской трагедии классицизма».
13 Тургенев довольно точно переводит отрывок из мысли Паскаля (Ле Герн, № 705), однако латинская цитата искажена: у Паскаля: Comminuentes cor. Паскаль вспоминает Деяния апостолов, 21, 13: «Но Павел в ответ сказал: что вы делаете? что плачете и сокрушаете сердце мое? я не только хочу быть узником, но готов умереть в Иерусалиме за имя Господа Иисуса».
14 Тургенев переводит отрывок из 185 мысли Паскаля (классификация Ле Герна).
15 Тургенев точно переводит следующие мысли Паскаля по классификации Ле Герна: № 154,764, 129.
А. И. Герцен
Письма
Печатается по: ГерценА. И. Собрание сочинений в 30т. М., 1961.Т. 21.
Письма 1832-1838 гг. С. 100-102.
Герцен Александр Иванович (1812-1870) — русский революционер, публицист, писатель, философ.
Комментарии
1021
1 Кетчер Николай Христофорович (1809-1886) — русский писатель- переводчик, врач. Входил в кружок Н. В. Станкевича, был другом А. И. Герцена и Н. П. Огарева.
2 Сазонов Николай Иванович (1815-1862) — русский публицист, общественный деятель, в студенческие годы подружился с Герценым и Огаревым.
3 Вико Джамбаттиста (1668-1744) — крупнейший итальянский философ эпохи Просвещения, творец современной философии истории, кроме того, заложивший основы культурной антропологии и этнологии. Вико был несокрушимо убежден в том, что Бог управляет миром в соответствии со своими замыслами и своей волей определяет историю народов, но отбросил антропопатическое представление, в соответствии с которым карающий гнев или милость Божья непосредственно могли ощущаться как счастье или несчастье народов. Он заставил Бога проявляться в истории только через созданную им самим человеческую природу. Природе человека свойственно думать только о своей личной пользе. Божественный дух дает ее страстям возможность свободной игры, так как он дал ей свободу воли, но одновременно Он заставляет размышлять и мудро руководит этой свободной игрой, чтобы из нее развивались гражданское устройство, постепенное преодоление варварства и в конце концов гуманность.
4 Огарев Николай Платонович (1813-1877) — русский поэт, публицист, революционер. Ближайший друг А. И. Герцена.
5 Шиллер Иоганн Кристоф Фридрих фон (1759-1805) — немецкий поэт, философ, историк, теоретик искусства и драматург.
ТЕКЛА
(Голос духа)
(1802)
Где теперь я, что теперь со мною, Как тебе мелькает тень моя?
Я ль не все покончила с землею, Не любила, не жила ли я?
Спросишь ты о соловьях залетных, Для тебя мелодии свои
Расточавших в песнях беззаботных?
Отлюбив, исчезли соловьи.
Я нашла ль потерянного снова? Верь, я с ним соединилась там, Где не рознят ничего родного, Там, где места нет уже слезам.
Там и ты увидишь наши тени, Если любишь, как любила я; Там отец мой, чист от преступлений, Защищен от бедствий бытия.
Там его не обманула вера В роковые таинства светил; Там всему по силе веры мера: Тот, кто верил, к правде близок был.
1022
Комментарии
Есть в пространствах оных бесконечных Упованьям каждого ответ.
Ройся ты в своих сомненьях вечных;
Смысл глубокий в грезах детских лет.
(Перевод А. Григорьева)
6 Беатриче — возлюбленная Данте, персонаж его «Божественной комедии» , проводник героя в Раю.
7 В Крутицких казармах в 1834-1835 гг. в течение семи месяцев отбывал заключение А. И. Герцен.
Прививка конституционной оспы
Впервые: Колокол. Л. 195 от 1 марта 1865 г. С. 1597-1599. Печатается по: Герцен А. И. Собрание сочинений: В 30 т. М., 1956. Т. 18. С. 317-324.
1 Анна Иоанновна (1693-1740) — российская императрица из династии Романовых. Вторая дочь царя Ивана V (брата и соправителя царя Петра!) от Прасковьи Федоровны. Была выдана замуж в 1710 г. за герцога Курляндского Фридриха Вильгельма; овдовев через 4 месяца после свадьбы, осталась в Курляндии. После смерти Петра II была приглашена в 1730 г. на российский престол Верховным тайным советом как монарх с ограниченными полномочиями, но забрала всю власть, разогнав Верховный совет.
2 Панин Никита Иванович (1718-1783) — русский дипломат и государственный деятель, граф, наставник великого князя Павла Петровича с 1760 г. С именем Панина связаны все вопросы внешней политики русского правительства за время от 1762 до 1783 г. Будучи сначала неофициальным советником императрицы, он в 1763 г., по увольнении в отпуск Воронцова, сделан старшим членом иностранной коллегии. Вскоре затем, по удалении Бестужева, ему было поручено заведывание всеми делами коллегии, хотя канцлером он никогда не был.
3 Аракчеев Алексей Андреевич (1769-1834) — русский государственный и военный деятель, граф, генерал от артиллерии. Когда Александра I заинтересовала мысль о военных поселениях в обширных размерах, Аракчеев сначала не поддержал ее; но ввиду непреклонного желания государя он повел дело круто, с беспощадной последовательностью, не стесняясь ропотом народа, насильственно отрываемого от вековых, исторически сложившихся обычаев и привычного строя жизни. Целый ряд бунтов среди военных поселян был подавлен с неумолимой строгостью; внешняя сторона поселений доведена до образцового порядка; до государя доходили лишь самые преувеличенные слухи об их благосостоянии.
4 Мурчисон Родерик Импи (1792-1871) — известный шотландский геолог, впервые описавший и исследовавший силурийский, девонский и пермский геологические периоды. В 1841 г. после посещения России он обосновал выделение пермской системы (периода). В 1845 г. месте с русским палеонтологом А. А. Кейзерлингом и французским палеонтологом Ф. Вернёйлем составил сводку по геологии Европейской части России и Урала (рус. пер.
Комментарии
1023
1849). Этим исследованием завершилась основная работа по разделению палеозойской группы (эры). Член ряда научных обществ и академий, в том числе Петербургской АН (1845).
5 Канкрин Егор Францевич (Георг Людвиг; 1774-1845) — писатель и государственный деятель, генерал от инфантерии, министр финансов России в 1823-1844гг.
6 Бирон Эрнст Иоганн (1690-1772) — регент Российской империи и герцог Курляндии и Семигалии, из остзейских дворян. Курляндский дворянин, граф (1730), фаворит русской императрицы Анны Иоанновны. С 1718 г. находился при ее дворе в Курляндии, в 1730 г. в качестве обер-камергера ее двора приехал в Россию. Имел огромное влияние на императрицу. В 1737 г. при содействии Анны Иоанновны был избран герцогом Курляндии, которой управлял из Петербурга. По завещанию Анны Иоанновны Бирон после ее смерти (17 октября 1740 г.) стал регентом при несовершеннолетнем императоре Иване VI Антоновиче, что вызвало недовольство русского дворянства. В результате борьбы за власть, вылившейся в дворцовый переворот, 9 ноября 1740 г. Бирон был арестован.
7 Клейнмихель Петр Андреевич (1793-1869) — русский государственный деятель, граф, строитель Николаевской железной дороги.
8 Нессельроде Карл Васильевич (при рождении Карл Роберт фон Нессельроде; 1780-1862) — граф, российский государственный деятель, канцлер, занимал пост министра иностранных дел Российской империи дольше, чем кто-либо другой.
9 Имя Вателя стало нарицательным как синоним гениального кулинара и даже как символ профессиональной чести повара, притом что он не придумал и не приготовил ни одного блюда. Про этого человека точно известно, что его фамилия была Ватель (после 1624-1671) и что он умер утром 24 апреля 1671 г., во время приема, устроенного принцем Конде в честь Людовика XIV. Причинной его смерти стала свежая рыба.
10 Баригулъ — фамилия известного французского шеф-повара, прославившегося в том числе своим рецептом приготовления артишоков.
11 Вел. кн. Михаил Павлович (1798-1849) — четвертый сын Павла I и Марии Федоровны (самый младший ребенок, единственный родившийся у них в период правления Павла I). Младший брат императоров Александра I и Николая I.
12 Цесаревич и вел. кн. Константин Павлович (1779-1831) — второй сын Павла I и Марии Федоровны. На протяжении 16 дней, с 27 ноября (9 декабря) по 13 (25 декабря) 1825 г., официальные учреждения в Петербурге и Москве под присягой признавали его императором и самодержцем Всероссийским Константином I, хотя фактически он никогда не царствовал и своего вступления на престол не признал.
13 Ростопчин Федор Васильевич (1763-1826) — граф, русский государственный деятель, Московский градоначальник, генерал-губернатор Москвы, писатель, публицист.
1024
Комментарии
14 Николай I Павлович (1796-1855) — император Всероссийский с 14 декабря (26 декабря) 1825-го по 18 февраля (2 марта) 1855 г., царь Польский и великий князь Финляндский.
15 Мандт M. М. (1800-1858) — лейб-медик Николая I.
16 Деятели Французской революции 1789-1794 гг.: Мирабо Оноре Габриэль Рикетти де (1749-1791); Дантон Жорж Жак (1759-1794) — один из отцов-основателей Первой французской республики, сопредседатель клуба кордельеров, министр юстиции времен Французской революции, первый председатель Комитета общественного спасения.
17 Якобинцы — участники политического клуба эпохи Великой французской революции, установившие свою диктатуру в 1793-1794 гг.
18 Робеспьер Максимилиан (1758-1794, известный современникам как Неподкупный или Бешеная Гиена (у своих врагов) — один из лидеров Великой французской революции, глава, возможно, самого радикального революционного движения — якобинцев.
19 Луи-Филипп I (1773-1850) — французский король с 1830 по 1848 г. периода Июльской монархии.
20 Беранже Пьер Жан де (1780-1857) — французский поэт и сочинитель песен, известный прежде всего своими сатирическими произведениями.
21 Гегель Георг Вильгельм Фридрих (1770-1831) — немецкий философ, один из создателей немецкой классической философии.
22 Петр III (Петр Федорович; 1728-1762) — российский император в 1761-1762 гг.
23 Офросимов Михаил Александрович (1797-1868) — русский генерал, участник Крымской войны, Московский градоначальник (Московский военный генерал-губернатор).
24 Катков Михаил Никифорович (1818 или 1817-1887) — русский публицист, издатель, литературный критик. Редактор газеты «Московские ведомости» , основоположник русской политической журналистики. Встречался с Герценым в Англии в 1859 г.
25 Безобразов Николай Александрович (1816-1867) — писатель, публицист. Ему принадлежит целый ряд брошюр по крестьянскому и вотчинному вопросам.
26 Орлов-Давыдов Владимир Петрович (1809-1882) — писатель, тайный советник, почетный член Академии наук.
27 Чиайя — (в тесте Киайя) муниципалитет коммуны Неаполя.
28 Кале — город во Франции, ближайший к Англии населенный пункт.
29 Форт Сент-Эльмо был построен в XIV в. для охраны подступов к гавани Марсамшетт и Великой Гавани на полуострове Маунт Шиберрас (Мальта).
30 Маццини или Мадзини Джузеппе (1805-1872) — итальянский политик, патриот, писатель и философ, сыгравший важную роль в ходе первого этапа движения за национальное освобождение и либеральные реформы в XIX в.
Комментарии
1025
31 Герцен не вполне точно цитирует мысль Паскаля (по Ле Герну № 392). Паскаль пишет: «Нос Клеопатры: будь он чуть короче, весь облик Земли был бы сегодня иным» (пер. Э. Линецкой)
32 Искья и Прочида — острова Неаполитанского залива.
33 Позилиппо — известный своей красотой мыс вблизи Неаполя.
34 ФердинандII (1810-1859) — король Обеих Сицилий в 1830-1859 гг., из династии Бурбонов. С 1825 г. — герцог калабрийский, после ухода австрийских войск в 1827 г. из королевства— главнокомандующий армией Обеих Сицилий. Вступил на престол после смерти отца Франциска I. При вступлении на престол обещал либеральные реформы, но на деле старался укрепить абсолютизм. Восстание в Палермо, ставшее началом революции 1848 г. в Италии, вынудило Фердинанда провозгласить конституцию. В результате переворота в Неаполе в мае 1848 г. ему удалось восстановить абсолютистскую власть. Расправляясь с повстанцами, подверг бомбардировке в 1849 г. город Мессина (Сицилия).
35 Гарибальди Джузеппе (1807-1882) — народный герой Италии, полководец, один из вождей национально-освободительного движения итальянского народа против иноземного господства, за объединение раздробленной Италии.
36 Бурбоны были королями Неаполя в 1734-1806, 1815-1816 гг.
37 Мюрат Иоахим (1767-1815) — великий герцог Бергский, король неаполитанский, знаменитый маршал Наполеона.
38 Виктор Эммануил //(1820-1878) — король Сардинского королевства (Пьемонта) с 1849 г., из Савойской династии; первый король единой Италии Нового времени.
39 Франциск I или Франческо I (1777-1830) — король Обеих Сицилий с 1825 г. Сын короля Обеих Сицилий Фердинанда!.
40 В ХП-ХШ вв. Генуя была независимым городом-государством.
41 Макарони — кондитерское изделие из яичных белков, сахарной пудры, сахарного песка, молотого миндаля и пищевых красителей. Обычно делается в форме печенья.
42 Пьемонт в 1720 г. стал основной частью Сардинского королевства со столицей в Турине. Речь идет о формировании королевства Италия — государства, возникшего в 1861 г. в ходе Рисорджименто и объединившего все независимые итальянские государства в единую страну под властью Сардинского королевства. Рисорджименто (итал. il risorgimento — возрождение, обновление) — историографический термин, обозначающий национально-освободительное движение итальянского народа против иноземного господства, за объединение раздробленной Италии, а также период, когда это движение, завершившееся в 1870 г. присоединением к Итальянскому королевству Рима, происходило. В октябре 1860 г. в результате референдума был объявлен конец королевства Неаполь и основание государства Италия.
1026
Комментарии
43 Коломбина — традиционный персонаж итальянской народной комедии масок — служанка, участвующая в развитии интриги.
44 Мадзини Джузеппе (1805-1872) — итальянский политик, патриот, писатель и философ, сыгравший важную роль в ходе первого этапа движения за национальное освобождение и либеральные реформы в XIX в. Организатор движения «Молодая Италия» в 1831 г. Когда Гарибальди, в отряде которого он ранее сражался, взял Неаполь, Мадзини поспешил туда, чтобы убедить Гарибальди двинуться на Рим. Когда этот план стал рушиться, Мадзини уехал в Лондон, откуда поддерживал сбором денег и вербовкой волонтеров экспедиции Гарибальди на Рим в 1862 и 1867 гг.
45 Розина и ее опекун Бартоло — персонажи «Севильского цирюльника» Бомарше, однако в пьесе графу Альмавиве удается обойти Бартоло и жениться на своей возлюбленной Розине.
46 Умберто I (1844-1900) — король Италии, сын Виктора Эммануила II, трон которого он наследовал 9 января 1878 г. Принц Умберто принимал участие в борьбе за объединение Италии.
47 Казерта — город в итальянском регионе Кампания, административный центр одноименной провинции.
48 Лаццарони — презрительное обозначение низшего класса в Неаполе.
49 Династия Бурбонов правила Неаполем с 1734 по 1816 г., когда город вошел в Королевство Обеих Сицилий.
51 Берсальеры (итал. Bersaglieri, от bersaglio — «мишень») — стрелки в итальянской армии, особый род войск, элитные высокомобильные пехотные части. Впервые введены в 1836 г. в сардинскую армию (Пьемонт) генералом Ламармора.
Муничипио — муниципалитет (итал).
52 Камальдулы, камалъдолийцы — термин, обозначающий католические монашеские автономные конгрегации, живущие в духе реформы св. Ромуальда, проведенной им в XI в. Главная заслуга в создании нового типа монастырей принадлежит итальянскому монаху — святому Ромуальду, который ранее был монахом бенедиктинского монастыря в Равенне. В начале XI века св. Ромуальд основал монастырь Камальдоли, расположенный высоко в горах центральной Италии возле города Ареццо, и ввел в монастыре правила, отличные от бенедиктинских. Предпринятые им реформы имели целью переработать устав бенедиктинцев в сторону большей строгости, увеличения аскезы и индивидуального аспекта монашеской жизни. Основными особенностями камальдолийского устава стали очень строгие посты, обеты молчания, практика ночного чтения Литургии часов, умерщвление плоти, в том числе ношение власяницы.
В XI-XIII вв. камальдолийские монастыри распространились по всей Италии.
53 Гаета и Террачина — населенные пункты на Тирренском побережье.
54 Регион Абруццо расположен в средней части Апеннинского полуострова на побережье Адриатическог моря примерно в 100 км к востоку от Рима.
Комментарии
1027
55 Калабрия расположена в самой южной части Апеннинского полуострова, как говорят иногда образно, «в носке итальянского сапога». С запада она омывается Тирренским морем, с востока — Ионическим, с северо-востока — заливом Таранто, а с юго-запада отделена от Сицилии Мессинским проливом.
Былое и думы (1852-1868)
Вп ервые: Герцен А. Былое и думы. Т. 4. Женева, 1866. Печатается по: Герцен А. И. Собрание сочинений в 30 т. М., 1961. Т. 10. С. 183-201.
1 Прудон Пьер Жозеф (1809-1865) — французский политик, публицист, экономист, философ-мютюэлист и социолог. Был членом французского парламента и первым человеком, назвавшим себя анархистом. Считается одним из наиболее влиятельных теоретиков анархизма.
2 «Глас народа» (фр.) — газета, издававшаяся во Франции во второй половине XIX — начале XX в., в которой были опубликованы многие статьи Прудона.
3 Ламенне Фелисите Робер (1782-1854) — французский политический деятель и публицист, представитель «христианского социализма».
4 Альба Фернандо Альварес де Толедо, герцог (1507-1582) — испанский полководец и государственный деятель, главный начальник экспедиции, посланной испанским королем Филиппом II в Нидерланды для подавления начавшегося там восстания против испанского владычества и католической церкви. Альба, отличавшийся крайним религиозным изуверством и национальной нетерпимостью, подавил восстание с необычайной жестокостью, чем вызвал крайнее ожесточение населения, вынудившее Филиппа II отозвать Альбу из Нидерландов.
5 Кавенъяк (Каваньяк) Луи Эжен (1802-1857) — французский генерал, буржуазный республиканец, военный диктатор в Июньские дни, глава правительства в июне — декабре 1848 г.
6 Луи Филипп (Людвиг Филипп) (1773-1850) — французский король в 1830-1848гг.
7 Ледрю-Роллен Александр Огюст (1808-1874) — французский политический деятель эпохи Июльской монархии и Второй республики, левый республиканец (неоякобинец).
8 «Представитель народа» (фр.) и «Народ» (фр.) — газеты, основанные Прудоном и публиковавшие его статьи.
9 Дюшен Жорж (1824-1876) — французский журналист, один из редакторов прудоновской газеты «Le Peuple» («Народ»), а затем «La Voix du Peuple» («Глас народа»),
10 Суд присяжных (фр.).
11 Прудон родился в Безансоне.
1028
Комментарии
12 Жирарден Эмиль де (1806-1881) — французский буржуазный публицист, издатель газеты «LaPresse» («Пресса»),
13 «Система экономических противоречий, или Философия нищеты» (1846) — одно из центральных произведений Прудона.
14 Леру Пьер (1797-1871) — французский социалист-утопист.
15 Консидеран Виктор (1808-1893) — французский социалист-утопист, ученик Фурье.
Ф. М. Достоевский
Письма
М. М. Достоевскому 9 августа 1838 г.
Впервые: Биография. Отд. II. С. 7-9. Печатается по: Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений: В 30 т. Л., 1980. Т. 28. Кн. 1. С. 49-51. Подстрочные примечания И. А. Битюговой, Т. И. Орнатской, И. Д. Якубович.
Достоевский Федор Михайлович (1821-1881) — один из самых значительных и известных в мире русских писателей и мыслителей.
1 Гофман Эрнст Теодор Амадей (1776-1822) — немецкий писатель — романтик, автор сказок, повестей, романов и новелл («Щелкунчик», «ЗолотойГоршок», «Песочный человек», «Крошка Цахес по прозванию Циннобер и др.).
2 Бальзак Оноре де (1799-1850) — французский писатель, один из основоположников реализма в европейской литературе. Крупнейшее произведение Бальзака — серия романов и повестей «Человеческая комедия». Творчество Бальзака пользовалось большой популярностью в Европе и еще при жизни принесло ему репутацию одного из величайших прозаиков XIX в. Произведения Бальзака повлияли на творчество Достоевского.
3 Гете Иоганн Вольфганг фон (1749-1832) — немецкий поэт, драматург, романист, мыслитель и естествоиспытатель.
4 Гюго Виктор Мари (1802-1885) — французский писатель (поэт, прозаик и драматург), глава и теоретик французского романтизма.
М. М. Достоевскому 31 октября 1838 г.
Впервые: Биография, отд. II, стр. 9-12. Печатается по: Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений: В 30 т. Л., 1980. Т. 28. Кн. 1. С. 53-55.
5 Здесь и далее выделение автора.
6 Шатобриан Франсуа Рене (1768-1848) — французский писатель, один из первых представителей романтизма и политический деятель.
7 «Сын отечества» — русский журнал XIX в, выходивший в Санкт- Петербурге с 1812 г. до 1852 г. (с перерывами) и оказавший влияние на развитие общественной мысли и движение литературной жизни в России.
Комментарии
1029
8 Низар Жан Мари Наполеон Дезире (1806-1888) — французский критик и историк литературы, член Французской академии, автор многочисленных сочинений по истории французской литературы. Низар был типичным догматиком, его критика, основанная на классической традиции, избравшей себе девизом «здравый смысл», восстает против всякого новшества.
<3аписные книжки 1863-1864 гг.>
Печатается по: Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений: В 30 т. Л., 1980. Т. 20. С. 172-175.
Дневник писателя
1876
Впервые: Печатается по: Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений: В 30 т. Л., 1980. Т. 23. С. 146-148.
1 Ср. у Паскаля: «Меня ужасает вечное безмолвие этих бесконечных пространств!» («Мысли». № 187 по Ле Герну).
1877
Впервые: Биография, отд. II, стр. 7-9. Печатается по: Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений: В 30 т. Л., 1980. Т. 25. С. 5-9.
2 Арминий (16 до н. э. — ок. 21 н. э.) — вождь германского племени херусков, нанесший римлянам в 9 г. н. э. одно из наиболее серьезных поражений во время Битвы в Тевтобургском лесу. В результате неожиданного нападения восставших германских племен под предводительством вождя херусков Арминия на римскую армию в Германии во время ее марша через Тевтобургский лес 3 легиона были уничтожены, римский командующий Квинтилий Вар погиб. Сражение привело к освобождению Германии из- под власти Римской империи и стало началом длительной войны империи с германцами. В итоге германские земли сохранили независимость, а Рейн стал северной границей Римской империи на западе.
3 Речь идет о франко-прусской войне 1870-1871 гг., военном конфликте между империей Наполеона III и германскими государствами во главе с добивавшейся европейской гегемонии Пруссией. Война, спровоцированная прусским канцлером О. Бисмарком и формально начатая Наполеоном III, закончилась поражением и крахом Франции. Война завершилась франкфуртским миром, заключенным между Францией и Германией 10 мая 1871 г. во Франкфурте-на-Майне.
4 Речь идет о подготовке новой войны между Францией и Пруссией, которая настаивала на изменении внутреннего законодательства Бельгии, что могло создать предпосылки для разрыва с ней и для использования ее тер¬
1030
Комментарии
ритории Францией для наступления на Германию. Также в немецкой прессе были опубликованы многочисленные заметки о подготовке якобы Францией в коалиции с Италией и Австрией нападения на Пруссию, в результате чего 21 апреля 1875 г. французскому послу в Берлине было объявлено о том, что ввиду военных приготовлений Франции, Германии считает необходимым начать превентивную войну.
П. А. Флоренский
Детям моим. Воспоминания
Впервые: Флоренский П.А. Обвал // Литературная учеба. 1988. № 6. С. 147-159. Печатается по: Священник Павел Флоренский. Детям моим. Воспоминанья прошлых дней. М., 1992. С. 238-245. Подстрочные примечания игумена Андроника (Трубачева).
Флоренский Павел Александрович (1882-1937) — русский православный священник, богослов, религиозный философ, ученый, поэт. В 1899 г. окончил 2-ю Тифлисскую гимназию и поступил на физико-математический факультет Московского университета. В университете знакомится с Андреем Белым, а через него с В. Брюсовым, К. Бальмонтом, Дм. Мережковским, Зинаидой Гиппиус, Ал. Блоком. Печатается в журналах «Новый путь» и «Весы». По окончании университета поступает в Московскую духовную академию, где у него возникает замысел сочинения «Столп и утверждение истины », которое он завершил к концу обучения (1908). В 1911 г. принимает священство, а в 1912 г. назначается редактором академического журнала «Богословский вестник». События революции воспринимает как живой апокалипсис и в этом смысле метафизически приветствует, но философски и политически все более склоняется к теократическому монархизму. Сближается с Василием Розановым и становится его духовником, требуя отречения от всех еретических трудов. С 1916 по 1925 г. П. А. Флоренский пишет ряд религиозно-философских работ, включая «Очерки философии культа» (1918), «Иконостас» (1922), работает над воспоминаниями. Наряду с этим он возвращается к занятиям физикой и математикой, работая также в области техники и материаловедения. С 1921 г. работает в системе Главэнерго, принимая участие в ГОЭЛРО, а в 1924 г. выпускает в свет большую монографию о диэлектриках. В феврале 1933 г. последовал арест и осуждение на 10 лет заключения. Выслан по этапу в восточно-сибирский лагерь «Свободный», где Флоренского определили работать в научно-исследовательском отделе управления БАМЛАГа. В 1934 г. был переведен в Соловецкий лагерь особого назначения (СЛОН), где занимался научными исследованиями. 25 ноября 1937 г. особой тройкой НКВД Ленинградской области он был приговорен к высшей мере наказания и расстрелян.
1 Глава печатается не полностью.
2 Предположительно речь идет о Вильяме Ланте Карпентере (1841- 1890) — английском физике, авторе книги «Энергия в природе». Карпентер относился к так называемым махистам. Махизм — субъективно-идеали¬
Комментарии
1031
стическое направление в философии и методологии науки, разработанное в конце XIX — начале XX в. в работах Э. Маха и учеников.
3 Уэвелл Уильям (1794-1866) — английский философ и историк. Он известен прежде всего своими трудами по теории индукции. Уэвелл подчеркивал необходимость рассматривать научный прогресс как исторический процесс, утверждая, что индуктивный способ рассуждения может правильно использоваться только тогда, когда тщательно проанализировано его историческое применение. Главными работами Уэвелла по индукции являются «История индуктивных наук» (3 т., 1837) и «Философия индуктивных наук» (1840).
4 Кант Иммануил (1724-1804) — немецкий философ, родоначальник немецкой классической философии, стоящий на грани эпох Просвещения и Романтизма.
Шопенгауэр Артур (1788-1860) — немецкий философ. Один из самых известных мыслителей иррационализма, мизантроп, тяготел к немецкому романтизму, увлекался мистикой, изучал философию Канта. Основной философский труд — «Мир как воля и представление» (1819), комментированием и популяризацией которого Шопенгауэр занимался до самой своей смерти.
V
ФИЛОСОФСКО-РЕЛИГИОЗНОЕ ВОСПРИЯТИЕ ПАСКАЛЯ
Н. И. Новиков
О достоинстве человека в отношениях к Богу и миру
Печатается по: Новиков Н. И. О достоинстве человека в отношениях к Богу и миру // Избранные сочинения. М.; Л., 1951. С. 387-393.
Новиков (Новиков) Николай Иванович (1744-1818) — русский журналист, издатель и общественный деятель. Издатель журнала «Трутень» (1769-1771), в котором проводил мысль о несправедливости крепостного права, выступал против злоупотреблений помещичьей властью, бичевал несправедливое правосудие, взяточничество и т. п. Был издателем журнала «Живописец», издававшегося с 1772 г. и признанного лучшим периодическим изданием XVIII в., и первого философского журнала «Утренний Свет» (1777-1780). Затем последовали периодическое издание «Городская и деревенская библиотека» (1782-1786), в 1782 г. «ВечерняяЗаря», в 1784-1785 гг. «Покоящийся Трудолюбец», в котором Новиков возобновил свою борьбу с крепостным правом, и первый русский детский журнал «Детское чтение» (1785-1789). Своей издательской деятельностью он хотел создать обильный и легкодоступный запас полезного и занимательного чтения для обширного круга читателей. В 1792 г. императрица подписала указ о заключении Новикова в Шлиссельбургскую крепость на 15 лет. Новиков обвинялся в «гнусном расколе», в корыстных обманах, в деятельности масонской ложи (что не было
1032
Комментарии
запрещено ни раньше, ни после), в сношениях с герцогом брауншвейгским и другими иностранцами, хотя они касались исключительно масонства и никакого политического значения не имели. Император Павел I в первый же день своего царствования освободил Новикова. Новиков был заключен в крепость еще в полном развитии его сил и энергии, а вышел оттуда «дряхл, стар, согбен». Он вынужден был отказаться от всякой общественной деятельности.
А. С. Хомяков
Несколько слов православного христианина о западных вероисповеданиях. По поводу брошюры г Лоранси
Впервые на русском языке: Хомяков А. С. Полное собрание его сочинений. Т. 2. Берлин, 1868. Печатается по: Хомяков А. С. Сочинения: В 2 т. Т. 2. Работы по богословию. М., 1994. С. 25-71. Перевод Н. П. Гилярова- Платонова под редакцией В. М. Лурье. Комментарий В. М. Лурье, текстология В. А. Кошелевой.
Хомяков Алексей Степанович (1804-1860) — русский поэт, художник, публицист, богослов, философ, основоположник раннего славянофильства, член-корреспондент Петербургской Академии наук (1856 г.). С 1850 г. особое внимание уделял религиозным вопросам, истории русского православия. Для Хомякова социализм и капитализм были в равной степени негативными отпрысками западного декадентства. Запад не смог решить духовные проблемы человечества, он увлекся конкуренцией и пренебрег кооперацией. По его словам, «Рим сохранил единство ценой свободы, а протестанты обрели свободу ценой единства».
Поводом к написанию брошюры послужило сочинение П. С. Лоранси: Laurentie P.-S. La Papauté, réponse â M. de Tutcheff, conseiller de S. M. L’Empereur de Russie. Paris, 1852 («Папство, ответ г-ну Тютчеву, советнику Его Величества Императора России) — где тот подытожил материалы своей двухлетней полемики со статьей Тютчева «Папство и римский вопрос с точки зрения Санкт- Петербурга» (1849), опубликованной под псевдонимом «Русский дипломат»: Diplomate Russe. La Papauté et la Question Romanic au point de vue de Saint- Petersbourg // Revue des Deux Mondes. An 20.1850. Vol. 5.1 Janv. P. 117-133 (Полный русск. пер.: Тютчев Ф. Папство и римский вопрос // РА. 1886. Кн. 2, Вып. 5. Стр. 33-51 (со вступительной заметкой П. Б<артенева>); подробно об истории появления статьи Тютчева см. указанную выше работу Р. Лейна).
По мысли Тютчева, католицизм не имеет внутренних сил для осуществления духовной власти в Церкви и потому неизбежно подменяет ее светской властью папы; это, в свою очередь, неизбежно вызывает протест, доходящий до полного безбожия революционного социализма. Возражая Тютчеву, Лоранси утверждал, что власти папы подчиняются добровольно, и это власть доброго пастыря, а не власть тирана; в то же время в православных странах, и прежде всего в России, духовная власть порабощена светской, которая
Комментарии
1033
использует Церковь в своих целях и оставляет в пренебрежении собственно духовные задачи. Против последнего тезиса и выступил Хомяков.
1 Revue des Deux Mondes («Обозрение двух миров» или «Обозрение Старого и Нового света» (фр.)) — двухнедельный французский журнал либерального направления. Издавался в Париже с 1829 по 1944 г., далее с 1945 г. под различными названиями и по настоящее время. В XIX в. и в первой половине XX столетия имел наибольший тираж среди всех французских литературных журналов.
2 Тютчев Федор Иванович (1803-1873) — русский поэт, дипломат, публицист, член-корреспондент Петербургской Академии наук с 1857 г.
3 Тертуллиан Квинт Септимий Флоренс (155/165-220/240) — один из наиболее выдающихся раннехристианских писателей и теологов, автор 40 трактатов, из которых сохранился 31. В зарождавшейся теологии Тертуллиан впервые выразил концепцию Троицы. Положил начало латинской патристике и церковной латыни — языку средневековой западной мысли.
4 Романов Михаил Федорович (1596-1645) — первый русский царь из династии Романовых (правил с 24 марта 1613 г.), был избран на царствование Земским собором 21 февраля (3 марта) 1613 г., что закрывало период Смутного времени.
5 Палеологи — последняя и наиболее долговечная династия императоров Византии, правившая на протяжении двух столетий — со времени изгнания Михаилом VIII из Константинополя крестоносцев в 1261 г. до взятия Константинополя турками в 1453 г. Отдельные Палеологи делили полноту власти с представителями рода Кантакузинов. С правлением Палеологов связан последний подъем византийского искусства, известный как палеоло- говское возрождение, и в то же время упадок государства и окончательное крушение Византийской империи. Одним из символов Палеологов был двуглавый орел с монограммой Палеологов на груди. После выхода замуж Софии Палеолог за Ивана III (1469) двуглавый орел стал гербом Российского государства.
6 Исаврия — небольшая, малоисследованная и скрытая в горах местность древней Малой Азии, граничившая на востоке с Ликаонией, на севере с частью Фригии, на западе с Писидией и на юге с гористой Киликией. В период с V по VIII в. исавры несколько раз занимали византийский престол. В первый раз после смерти Льва I в 474 г. императором сделался его шестилетний внук Лев, который умер в том же году, успев объявить соимператором своего отца Зенона, исавра по происхождению. После воцарения Зенона дикие исавры получили в столице преобладающее значение, занимая лучшие места и ответственные должности. Зенон, увидев, что среди его соплеменников были люди, поднявшие против него восстание, решительно выступил против повстанцев и подавил мятеж в самой горной Исаврии, где велел срыть большую часть укреплений. Исаврийское влияние в столице продолжалось до самой смерти Зенона. Лев III Исавр — византийский император (717-741) из Исаврийской династии, при правлении которого Византийская империя вступила в пе¬
1034
Комментарии
риод иконоборчества, когда было уничтожено огромное количество фресок и мозаик. Исаврийская династия царила до 802 г.
7 Ираклий I (574 641) — основатель династии Ираклия, правил с 610 по 641 г.
8 Констанций II (Флавий Юлий Констанций; 317-361) — римский император в 337-361 гг., десять раз был консулом. После смерти отца в 337 г. получил в управление большую часть Востока. В борьбе за установление контроля над всей империей устранил двух своих дядей (братьев Константина Великого) и семерых племянников. В 353 г. после победы над узурпатором Магненцием стал единоличным правителем империи. В его правление гражданская война осложнялась тем, что империя была вынуждена вести изнурительную войну с персами и германцами. Братьев разъединяли не только политические интересы, но и религиозные. В то время как Константин и Констант были на стороне никейцев, Констанций стоял за ариан. Арианство — одно из учений в христианстве в IV-VI вв. н. э., утверждавшее сотворенную природу Бога-Сына. Получило название по имени его основателя — александрийского священника Ария. Арианство возникло и, первоначально распространившись в восточных провинциях поздней Римской империи, стало государственной версией христианства при преемниках Константина и до окончания правления Валента II и затем государственной религией германских государств вплоть до VI в.
9 Либерий (? — 366) — епископ Рима с 17 мая 352 по 24 сентября 366 г. Св. Либерий (в русской традиции Ливерий Исповедник) прославился как борец с арианством. Он был низложен императором Констанцием II за отказ подписать решение Миланского собора, осудившего Афанасия Александрийского, и отправлен в ссылку во Фракию, а вместо него был назначен Феликс II позже признанный антипапой. В результате Либерий согласился осудить Афанасия Великого, подписал символ веры, приближенный к арианству. Также он должен был стать соправителем Феликса. После возвращения в Рим Либерий продолжил борьбу. Позже Афанасий примирился с Либерием. Впоследствии был канонизирован на православном Востоке, но не был прославлен у католиков.
10 Катары — название, данное католиками христианскому религиозному движению, распространенному в XI-XIV вв. в ряде стран и областей Западной Европы (особенно были затронуты Лангедок, Арагон, север Италии и некоторые земли Германии). Период расцвета движения пришелся наХП-ХШ вв., а противодействие катаризму долгое время было одним из главных мотивов политики римских пап. Противостояние между катарами и Католической церковью достигло кульминации в начале XIII в. Специально для борьбы с еретиками Папа Иннокентий III учредил церковную инквизицию, а затем санкционировал крестовый поход, вылившийся в 20-летнюю войну, разорившую юг Франции. В этой войне катары и их сторонники из числа католических феодалов потерпели поражение, а последовавшие систематические репрессии завершились полным разгромом движения.
11 Лолларды — название религиозных обществ, сначала имевших в виду лишь благотворительность, но позже, особенно в Англии, восстававших про¬
Комментарии
1035
тив иерархии, монашества и учения о таинствах Католической церкви. Самое название связывали с мифическим Вальтером Лоллардом, но правильнее его производить от нижнегерманского слова «lullen, lollen» — «тихо петь», «напевать погребальные песни».
12 Оккам Уильям (ок. 1285-1349) — английский философ, францисканский монах из Оккама, маленькой деревни в графстве Суррей в Южной Англии. Сторонник номинализма, считал, что существует только индивидуальное, а универсалии существуют только благодаря абстрактному мышлению в человеческом уме, а помимо этого не обладают никакой метафизической сущностью. Считается одним из отцов современной эпистемологии и современной философии в целом, а также одним из величайших логиков всех времен.
13 Уиклиф (Виклиф) Джон (1320 или 1324-1384) — английский богослов, профессор Оксфордского университета, основатель учения виклифистов, впоследствии превратившегося в народное движение лоллардов, реформатор и предшественник протестантизма. Первый переводчик Библии на среднеанглийский язык.
14 Гус Ян (1369-1415) — национальный герой чешского народа, проповедник, мыслитель, идеолог чешской Реформации. Был священником и некоторое время ректором Пражского университета. 6 июля 1415 г. в Констанце был сожжен вместе со своими трудами.
15 Местр Жозеф-Мари, граф де (1753-1821) — французский католический философ, литератор, политик и дипломат, основоположник политического консерватизма. В 1803-1817 гг. являлся сардинским посланником в России, где опубликовал некоторые свои основные работы: «Опыты о принципе порождения политических учреждений и других человеческих установлений» (СПб., 1810) и «О сроках божественной справедливости» (СПб., 1815). Его творчество нашло свое отражение в работах некоторых представителей социально-политической мысли России. Прежде всего, принято упоминать следующие фигуры: Петр Чаадаев, который во многом вдохновлялся мыслями де Местра из «Четырех глав о России»; Ф. Тютчев, Н. Катков; П. Данилевский, чью концепцию культурно-исторических типов де Местр во многом предвосхитил в своей философии истории; Константин Леонтьев, яркий представитель русского эстетического консерватизма, который также близок де Местру в ряде пунктов учения, включая критику современного состояния Европы; такие представители консервативной мысли, как К. Победоносцев и Л. Тихомиров. Философ Исайя Берлин убежден, что де Местр оказал влияние на Льва Толстого; существуют исследования, доказывающие преемственность идей савойского мыслителя в работах Федора Достоевского. Нельзя отрицать и тот факт, что концепция де Местраоказала определенное влияние на славянофильство.
16 Св. Николай I Великий (800-867) — Папа Римский с 24 апреля 858 по 13 ноября 867 г. Идеолог папоцезаризма, самый значительный понтифик эпохи Каролингов. Католическая историография почтила Николая наименованием Великий и внесла его в список святых.
1036
Комментарии
17 Сарацины (греч. Bapawjvôç — «восточные люди») — народ, упоминаемый древнеримскими историками IV в. Аммианом Марцеллином и Птоломеем. Кочующее разбойническое племя, бедуины, жившие вдоль границ Сирии. Со времени крестовых походов европейские авторы стали называть сарацинами всех мусульман, часто используя в качестве синонима термин «мавры», которые в 711 г. высадились на Пиренейский полуостров и вскоре его захватили, образовав Кордовский халифат. Несмотря на то что Реконкиста — отвоевание народами Пиренейского полуострова территорий, захваченных маврами, началась почти сразу, однако завершилась она лишь в лишь в 1492 г. взятием Гранады — последнего оплота мусульман на Пиренейском полуострове.
18 Т.е. иудаизма, иудейства.
19 Афанасий Великий (ок. 298-373) — один из греческих отцов Церкви, принадлежавший к александрийской школе патристики. Архиепископ Александрийский, секретарь, а затем преемник епископа Александра. Известен как один из наиболее энергичных противников арианства. К 350 г. он остался единственным неарианским епископом в восточной половине Римской империи.
20 Квакеры (англ. Quakers) — представители религиозного общества, исторически появившегося из радикальных протестантских направлений в христианстве.
21 Анабаптисты, или перекрещенцы (от греч. ava — «опять, вновь» и греч. ftamilfi)— «крещение», т. е. «вновь крещеные»), — такое название от своих противников получили участники радикального религиозного движения эпохи Реформации (XVI в.) в основном в Германии, Швейцарии, Нидерландах. Сами анабаптисты предпочитали называть себя Taufer (крещенные, крещен- цы), обосновывая крещение как сознательный выбор. Основным признаком движения стал призыв к повторному крещению в сознательном возрасте.
22 Возможно, имеется в виду Фоке Чарлз Джеймс (1749-1806) — английский государственный деятель. Выступал за независимость английских колоний в Северной Америке. В последующие годы Фоке находился в оппозиции премьер-министру Питту Младшему. Соперничество с Питтом привело его к противодействию некоторым реформам последнего, но в 1801 г. Фоке поддержал его в борьбе за расширение прав католиков.
23 Иоанн Лейденский (ок. 1509-1536) — вождь мюнстерских анабаптистов.
24 Арий (256-336) — один из ранних ересиархов, основоположник арианства.
25 Несторий (после 381 — ок. 451) — известный церковный деятель, представитель Антиохийской богословской школы; архиепископ Константинопольский в 428-431 гг., предполагаемый автор одной из трех литургий восточно-сирийского обряда. Основатель течения в христианстве — несторианства, осужденного как ересь на Эфесском (3-м Вселенском) соборе в 431 г. В Ассирийской Церкви Востока почитается как святой в числе «греческих учителей» Церкви. Подчеркивая, что Христос познается в двух
Комментарии
1037
естествах, как Бог и человек, Несторий учил, согласно со многими ранними отцами Церкви, что Спаситель есть одновременно и Бог, и человек. Полноту совершенства двух естеств Несторий видит в ипостасном характере бытия обеих природ в Нем, которые во Христе находятся в неразлучном и несмешанном союзе, составляя единое сложное «Лицо единения» Христа. Это «Лицо единения» соединяет во Христе Бога и человека самым тесным единством, далее которого может быть только смешение.
26 Вселенские соборы — собрания преимущественно епископата христианской Церкви в ее вселенской полноте, на которых обсуждаются вопросы и выносятся решения доктринального (догматического), церковно-политического и судебно-дисциплинарного характера.
27 Иоанн Дамаскин — Иоанн из Дамаска (ок. 675 — ок. 753 (780) — христианский святой, почитаемый в лике преподобных, один из отцов Церкви, богослов, философ и гимнограф.
28 Патриарх Фотий I (ок. 820—896) — византийский богослов, Константинопольский Патриарх (857—867 и 877-886 гг.). Помимо Иоанна Златоуста, это единственный из отцов Церкви, занимавший константинопольскую кафедру. Обвинял римских пап во властолюбии; впервые обвинил их в ереси за добавление к Символу веры слов «и от Сына», хотя в ту эпоху этот прилог, сделанный в Испании, не был принят в Риме. Предан анафеме в 863 г. папой Николаем I; святой Восточной Церкви.
29 Гонорий I (? — 638) — папа римский с 625 по 638 г. При Гонории в Византии возникла новая идея — монофелитство (от греч. pôvoç — одна, единственная + бе/лцга — воля), которая провозглашала двойственную природу и одну волю Христа. Эту идею поддерживал и Ираклий I, желавший религиозного мира среди подданных, в изданном в 640 г. эдикте «Ektesis». Гонорий I дважды заявлял о согласии с монофелитами. В 680 г. посмертно был предан анафеме в числе монофелитов 6-м Вселенским собором в Трулле. Позже критики католичества на примере Гонория I оспаривали догмат о непогрешимости папы. Современная Католическая церковь считает, что он поддержал монофелитов из-за невежества, так как не знал греческого.
30 Гизо Франсуа Пьер Гийом (1787-1874) — французский историк, критик, политический и государственный деятель.
31 Григорий Чудотворец (ок. 213 — ок. 270-275) — епископ Неокесарий- ский, святитель, богослов.
32 «Опыт катехизического изложения учения о Церкви» был написан в конце второй половины 1840-х гг., а издан только после его смерти в «Православном обозрении» в 1864 г.
33 Блаженный Пий IX (1792-1878) — римский папа с 1846 г. по 1878 г. Вошел в историю как папа, провозгласивший догмат о Непорочном зачатии Пресвятой Девы Марии и созвавший I Ватиканский собор, утвердивший догматически учение о безошибочности Римского первосвященника.
34 Митрополит Иннокентий (в миру Иван Евсеевич Попов-Вениаминов; 1797-1879) — епископ Православной Российской церкви; с 1868 г. митро¬
1038
Комментарии
полит Московский и Коломенский, святитель, апостол Америки и Сибири. Стал первым православным епископом Камчатки, Якутии, Приамурья и Северной Америки, сподвижник генерал-губернатора Восточной Сибири графа H. Н. Муравьева-Амурского в освоении Дальнего Востока и просвещении его коренных народов. В октябре 1977 г. был прославлен в лике святых Русской православной церковью и Православной церковью в Америке в лике святителей как апостол Сибири и Америки.
35 Пирронизм — учение древнегреческого философа Пиррона (ок. 360 до и. э. — 270 до н. э.) из Элиды, основателя античного скептицизма. Пиррон учил, что в умозрительном отношении все вещи непонятны и непознаваемы. Он опровергал всякую догматическую философию путем скрытых в ней противоречий и делал вывод о недостоверности человеческого знания. Пиррон утверждал, что о качествах предметов человек ничего не может знать и поэтому следует воздерживаться от какого бы то ни было суждения о предметах (акаталепсия или афазия) и считал такое душевное настроение наиболее подобающим мудрецу в теоретическом отношении, a в практическом отношении настаивал на невосприимчивости к чувственным впечатлениям (атараксия, то есть полное равнодушие), признавая, однако, безусловную ценность добродетели как высшего блага.
36 Мел(ъ)хиседек (ивр. Малкицедэк-, царь справедливости — от малки — «мой царь», цадик — «справедливость») — в Библии — царь Салимский, священник Всевышнего. В Ветхом Завете Мелхиседек упоминается в Быт. 14: 18, Пс. 109: 4 и др. Согласно Новому Завету, Мелхиседек пользовался большой известностью (Евр. 7: 1).
37 Греко-униатская церковь — христианская церковь, которая находится в общении с Римско-католической церковью, но сохраняет свой язык, обряды и кодексы канонического права.
38 Илоты — несвободные группы населения в Лаконии и всей Мессении.
39 На Толедском соборе в 589 г. Никейский символ веры, согласно которому Бог Сын «единосущий Отцу», был дополнен положением, что Святой Дух исходит и от Бога Сына. Это положение получило название филиокве (от лат. filiaque — «и от Сына») и послужило одним из формальных поводов разделения Церкви в XI в. на Восточную (православную), не принявшую филиокве, и Западную (католическую); такое несогласие продолжается и по сей день.
40 Первый Никейский собор — собор Церкви, признаваемый Вселенским; состоялся в июне 325 г. в городе Никея (ныне Изник, Турция); продолжался больше двух месяцев и стал первым Вселенским собором в истории христианства. Собор был созван императором Константином Великим для того, чтобы поставить точку в споре между Александрийским епископом Александром и Арием. Арий, как и гностики, отрицал божественность Христа. По мнению Ария, Христос не Бог, а первый и совершеннейший из сотворенных Богом существ. У Ария нашлось много сторонников. Епископ Александр обвинил Ария в богохульстве. На Никейском соборе определились и установились основные доктрины (догматы) христианства. На нем присутствовало 318 епископов.
Комментарии
1039
41 Ньюмен Джон Генри (1801-1890) — английский кардинал, центральная фигура в религиозной жизни Великобритании викторианского периода. Причислен к лику блаженных Католической церковью. Уже в молодости снискал репутацию блестящего проповедника. Стоял во главе Оксфордского движения, добивавшегося обновления «изъеденной либерализмом» англиканской церкви по образцу Вселенской церкви первых пяти столетий. В 1845 г. перешел в католичество, отстаивал принцип свободы воли, руководил католическим университетом в Дублине (1854-1858). Член общества ораторианцев. С 1879 г. кардинал-дьякон с дьяконством Сан-Джорджио-ин-Велабро, один из ведущих теологов Католической церкви, предшественник идей 2-го Ватиканского собора. Кардинал-протодьякон с 1890 г.
42 Неандер Август (1789-1850) — немецкий протестантский историк Церкви. Принял христианство, переменив при этом свое имя Давид Мендель на Неандер (греч. — новый человек). Богословское образование получил в университетах Геттингена и Галле. Оставив намерение заниматься юриспруденцией, он посвятил себя церковной истории. В 1812 г. он стал профессором богословия в Гейдельберге, а через год в Берлине, где преподавал до конца дней. Ему принадлежит большой цикл исследований по истории древней и средневековой Церкви (о Юлиане Отступнике, Тертуллиане, святом Иоанне Златоусте и др.). В основе этих работ лежало тщательное изучение первоисточников. Стиль работы Неандера резко отличался от стиля, господствовавшего в тогдашней историографии, которая оперировала скорее умозрительными концепциями, нежели фактами, поэтому немецкий богослов Ульгорн называл его «отцом новейшей церковной истории».
43 Шеллинг Фридрих Вильгельм Йозеф фон (1775-1854) — немецкий философ, выдающийся представитель идеализма в новой философии.
44 Тиресий — персонаж греческих мифов, слепой прорицатель в Фивах, который в «Одиссее» Гомера предсказывает главному герою его судьбу.
45 Омейяды — первая династия арабских халифов, основанная в 661 г. и свергнутая аббасидами в 750 г. Аббасиды — вторая династия арабских халифов (750-1258), происходившая от Аббаса ибн Абд аль-Мутталиба, дяди пророка Мухаммеда.
46 Радовиц Иосиф (1797-1853) — прусский генерал и государственный деятель. До 14-летнего возраста он воспитывался в протестантском духе, но затем отец успел внушить ему горячую любовь к католицизму, которая имела большое влияние на всю его последующую деятельность. Клерикализм и консерватизм Радовица способствовали его сближению с кронпринцем (впоследствии королем Фридрихом-Вильгельмом IV), перешедшему в задушевную дружбу. В конце 30-х гг. Радовиц был назначен прусским военным уполномоченным при франкфуртском союзном сейме, затем посланником при дворах Баденском, Дармштадтском и Нассауском. В 1847 г. он составил проект реформы Германского союза и для его проведения был отправлен чрезвычайным уполномоченным в Вену, но планы его не осуществились вследствие медлительности Меттерниха и революционных движений 1848 г. В конце апреля 1849 г. Радониц был вызван в Берлин и принял участие в вы¬
1040
Комментарии
работке проекта нового союзного устройства Германии. Попытка образования унии с мелкими государствами под прусским протекторатом нашла в нем горячего поборника и защитника перед прусскими палатами в эрфуртским парламентом (февраль-март 1850 г.). Во время конфликта Пруссии с Австрией и поддерживавшими ее германскими государствами Радониц принял пост министра иностранных дел (27 сент. 1850 г.) и настаивал на решительных мерах; когда его предложения не были приняты королем, он вышел в отставку. Автор многих известных в свое время произведений.
47 Маркионитство — гностическое течение в раннем христианстве, связанное с именем Маркиона(ок. 85-160) — христианского богослова, ересиарха, гностика, автора первой попытки составления канона Нового Завета. Маркиониты, проповедуя аскетизм, практиковали безбрачие. Крещение (совершаемое во имя Иисуса Христа) могло быть совершаемо трижды: при каждом повторении его прощались грехи, совершенные со времени первого крещения. Евхаристию совершали водой (а не вином). Седьмой день недели (субботу) освящали особым постом.
К. Н. Батюшков
О лучших свойствах сердца
Впервые: Сын Отечества. 1816. Ч. 29. № 14. С. 14-19 (подпись: NN). Печатается по: Батюшков К. Н. Опыты в стихах и прозе. М., 1977. С. 176-181. Подстрочные примечания И. М. Семенко.
1 Например, Т. Гоббс (1588-1679) в своем «Левиафане», или Материя, форма и власть государства церковного и гражданского» (1651) при создании теории возникновения государства отталкивается от постулата о естественном состоянии людей «Bellum omnium contra omnes» («Война всех против всех») и развивает идею «Homos homini lupus est» («Человек человеку волк»). Люди, в связи с неминуемым истреблением при нахождении в таком состоянии продолжительное время, для сохранения своих жизней и общего мира, отказываются от части своих «естественных прав» и по негласно заключаемому общественному договору наделяют ими того, кто обязуется сохранить свободное использование оставшимися правами — государство. Государству, союзу людей, в котором воля одного (государства) является обязательной для всех, передается задача регулирования отношений между всеми людьми. «Левиафан» в свое время был запрещен в Англии; перевод «Левиафана» на русский язык был сожжен.
2 Тюильри — не существующий более дворец Парижа, бывший частью комплекса зданий Лувра, служивший одной из резиденций для французских королей.
3 Курций Марк — персонаж героической истории республиканского Рима. В книге Тита Ливия « История Рима от основания города» рассказывается, как однажды (VIII в. до н. э.) в Риме «от какой-то силы» земля «рассеклась почти посередине Форума и огромной трещиною провалилась на неведомую глубину». Испуганные жители, обратившись к прорицателям, выяснили: чтобы город стоял
Комментарии
1041
вечно, надо принести в жертву этому месту самое ценное, что есть у римского народа. «Тогда-то,— гласит предание,— Марк Курций, юный воин, сукоризною спросил растерянных граждан, есть ли у римлян что-нибудь сильнее, чем оружие и доблесть. При воцарившемся молчании, обратив взоры на Капитолий и храмы бессмертных богов, высящиеся над Форумом, он... верхом на коне, убранном со всею пышностью, в полном вооружении бросился в провал».
4 ЛеонидI — царь Спарты, правивший в 491-480 гг. до н. э., обессмертивший свое имя сражением при Фермопилах, когда во главе 300 спартанцев при наступлении персидских войск он погиб в бою.
5 Элегия В. А. Жуковского «Сельское кладбище» представляет собой перевод «Элегии, написанной на сельском кладбище» (1751) английского поэта-сентименталиста Т. Грея (1716-1771).
6 «Человек есть не что иное, как слабая былинка в природе; но это — былинка мыслящая» (Паскаль Б. Мысли / Пер. И. Бутовского (1843)).
Нечто о морали, основанной на философии и религии
Впервые: Русская мысль. 1815. № 12, без подписи автора, с указанием «русское сочинение» и французским эпиграфом из Ж. Лабрюйера (даем в переводе): «Быть в течение своей жизни апостолом только одного человека — это не значит напрасно жить на земле или тщетно ее бременить». Статья сопровождена аннотацией издателя: «Автор скрывает имя свое, но и в прозе узнают поэта». Печатается по этому изданию.
1 Кантемир Антиох Дмитриевич (1708-1744) — русский поэт-сатирик и дипломат, деятель раннего русского Просвещения.
2 Гельвеций Клод Адриан (1715-1771) — французский литератор и философ- материалист эпохи Просвещения, автор знаменитого трактата «Об уме» (1758).
3 Автор примечаний И. М. Семенко ошибается: Батюшков вспоминает не «Мысли» Паскаля, но его «Беседу с господином де Саси» (1655), в которой речь идет об Эпиктете и Монтене.
4 «Беседу с господином де Саси об Эпиктете и Монтене» Паскаль завершает такими словами: «Вот почему подобным чтением следует управлять очень тщательно, осмотрительно и принимая во внимание положение и нравы тех, кому мы его советуем. Я только думаю, что если их соединить, то большого ущерба быть не может, потому что один уравновешивает зло другого: нет, они не могут научить добродетели, но могут смутить в пороках, поскольку в душе будут бороться эти противоположности, одна из которых изгоняет гордыню, а другая — лень, и душа не может ни успокоиться разумом на одном из этих пороков, ни избежать их всех» (Паскаль Б. Мысли. Малые сочинения. Письма / Пер. Ю. Гинзбург. М., 2011. С. 378).
5 Квинт Гораций Флакк (65 до н. э. — 8 до н. э.,) — древнеримский поэт «золотого века» римской литературы. Его творчество приходится на эпоху гражданских войн конца республики и первые десятилетия нового режима Октавиана Августа. Автор сатирических стихотворений.
1042
Комментарии
6 Октавиан Август или Гай Юлий Цезарь Август (63 г. до н. э. — 14 г.) — римский политический деятель, император Рима. Внучатый племянник Цезаря, усыновленный им по завещанию.
Меценат Гай Цильний (ок. 70 до н. э. — 8 до н. э.) — древнеримский государственный деятель и покровитель искусств. Личный друг Октавиана Августа и своего рода министр культуры при нем.
7 Катулл Гай Валерий (ок. 87 до н. э. — ок. 54 до н. э.) — один из наиболее известных поэтов Древнего Рима.
8 Тибур — ныне Тиволи — город на реке Анио, в 24 км к северо-востоку от Рима.
9 Меценат подарил Горацию имение в Сабинских горах, на реке Тибур, около теперешнего Тиволи.
10 «Исповедь» (1764-1770)Руссо начинается словами: «Я предпринимаю дело беспримерное, которое не найдет подражателя. Я хочу показать одного человека во всей правде его природы,— и этим человеком буду я. <...> Пусть трубный глас Страшного суда раздастся когда угодно,— я предстану пред Верховным судией с этой книгой в руках. Я громко скажу: “Вот что я делал, что думал, чем был. С одинаковой откровенностью рассказал я о хорошем и о дурном. <...> Я показал себя такими, каким был в действительности: презренным и низким, когда им был, добрым, благородным, возвышенным, когда был им. Я обнажил всю свою душу и показал ее такое, какою ты видел ее сам, Всемогущий”» (Ч. 1, кн. 1).
11 Речь идет о г-же де Варане, в доме которой нашел приют юный Руссо и которую называл «маменькой».
П. Я. Чаадаев
Философические письма
Печатается по: Чаадаев П. Я. Философические письма // Полное собрание сочинений и избранные письма. М., 1991. T. 1. Подстрочные примечания 3. А. Каменского.
Чаадаев Петр Яковлевич (1794-1856) — русский философ (по собственной оценке — «христианский философ») и публицист, объявленный правительством сумасшедшим за свои сочинения, в которых резко критиковал действительность русской жизни. Его труды были запрещены к публикации в императорской России. Главное произведение Чаадаева — «Письмао философии истории» (на французском языке; было переведено Кетчером) в 1829-1831 гг., за которыми закрепляется название «Философических писем». Первое «Философическое письмо» было опубликовано в журнале «Телескоп» в 1836 г. и дало мощный толчок развитию русской философии. Журнал был закрыт, а Чаадаев — объявлен сумасшедшим. Его сторонники оформились в западников, а его критики — в славянофилов. Чаадаев закладывает две основные идеи русской философии: стремление реализовать утопию и поиск национальной идентичности. Он обозначает себя как религиозного мыслителя, признавая существование Высшего Разума, который проявляет себя в истории через
Комментарии
1043
Провидение. Чаадаев не отрицает христианство, но считает, что его основная идея заключается в « водворении царства божьего на Земле », причем Царство Божье — это метафора справедливого общества, которое уже осуществляется на Западе (на этом позже делали основной упор западники).
1 Проблема бессмертия является основной для Паскаля в его « Мыслях », именно с ней связано его знаменитое «пари» о существовании Бога.
2 Цицерон Марк Туллий (106 до н. э. — 43 до н. э.) — древнеримский политик и философ, блестящий оратор. Основные труды Цицерона о политике: «О республике» («О государстве») и «О законах»; оба произведения написаны в форме диалогов.
3 «Слабейшее из созданий природы» (Паскаль).
4 Чаадаев обращается к идее Паскаля о «мыслящем тростнике» и о том, что именно способность мыслить возвышает человека и делает его сильнее его создательницы — Вселенной.
В. А. Жуковский
Две сцены из «Фауста»
Впервые: Москвитянин. 1849. Ч. 1. С. 13-18. Подпись: Жуковский. Рукопись — ГПБ. Ф. 286. On. 1. Ед. хр. 71. Печатается по: Жуковский В. А.
Эстетика и критика. М., 1985. С. 350-354. Подстрочные примечания Ф. 3. Кавуновой, О. Б. Лебедевой, А. С. Янушкевич.
Жуковский Василий Андреевич (1783-1852) — русский поэт, один из основоположников романтизма в русской поэзии, переводчик, критик.
1 Начало сцены «Рабочая комната Фауста».
2 Выпасая скот у горы Хорив (Синай), Моисей услышал из неопалимой купины призыв Бога, открывшего ему свое Имя — «Аз есмь сущий» — к освобождению своего народа.
3 «Мысли», № 84: «Вселенная — это не имеющая границ сфера, центр ее — всюду, окружность — нигде ».
4 Г иероглифический — (от гиероглиф, иероглиф) символический, загадочный, таинственный.
5 Ср. «Мысли», №335: «...дано мне жить в вечности, что предшествовала моему появлению на свет и будет длиться, когда меня не станет».
6 Последняя сцена первой части «Фауста» «Тюрьма» заканчивается словами: «Мефистофель: Она осуждена на муки! Голос свыше: Спасена! Мефистофель (Фаусту): Скорей за мною! (Исчезает с Фаустом). Голос Маргариты (из тюрьмы, замирая): Генрих! Генрих!» (пер. Б. Пастернака).
1044
Комментарии
С. С. Глаголев
Блез Паскаль
(19 июня 1623 — 19авг 1662)
Впервые: Глаголев. Влез Паскаль // Богословский вестник. 1904. № 12. С. 736-758. Печатается поэтому изданию.
Глаголев Сергей Сергеевич (1865-1937) — профессор Московской духовной академии по кафедре апологетики, автор многочисленных трудов по религии.
1 Именно в эту ночь 23 ноября 1654 г., названную «огненной», произошло обращение Паскаля и был написан его знаменитый «амулет», содержащий указанные слова. См. «Амулет Паскаля» П. Флоренского.
2 Строки из стихотворения А. Н. Апухтина «Перед операцией» (1883):
Неверие мое меня томит и мучит, Я слепо верить не могу.
Пусть разум веры враг и нас лукаво учит, Но нехотя внимаю я врагу.
3 Догмат о непогрешимости папы римского был официально провозглашен в догматической конституции Pastor Aeternus 18 июля 1870 г. наряду с утверждением «ординарной и непосредственной» власти юрисдикции понтифика во вселенской Церкви. Догмат утверждает, что, когда Папа определяет учение Церкви, касающееся веры или нравственности, провозглашая его ex cathedra, т. е. как глава Церкви, он обладает непогрешимостью (безошибочностью) и огражден от самой возможности заблуждаться.
4 Тертуллиан Квинт Септимий Флоренс (155/165-220/240) — один из наиболее выдающихся раннехристианских писателей и теологов, автор 40 трактатов, из которых сохранился 31. В зарождавшемся богословии Тертуллиан впервые выразил концепцию Троицы.
5 Еллин — это слово после завоеваний Александра Македонского и покорения греческому влиянию и культуре земель от Египта до Индии, стало для евреев нарицательным и обозначало всех язычников.
6 Первое послание к Коринфянам — книга Нового Завета. Послание написано апостолом Павлом, адресовано христианской общине города Коринф. Датировка времени написания послания варьируется периодом 54-57 гг. н. э. Многие фрагменты 1-го послания к Коринфянам играют важнейшую роль для христианского богословия.
7 Опечатка в тексте Глаголева: у Паскаля— «потеряете»
8 Достоевский Ф. М. Братья Карамазовы. Ч. IV. Кн. 11. Гл. IX «Черт. Кошмар Ивана Федолровича».
9 Второзаконие — пятая книга Пятикнижия (Торы), Ветхого Завета и всей Библии. В еврейских источниках эта книга также называется «Мишне Тора» (букв, «повторный закон»), поскольку представляет собой повторение всех предыдущих книг. Книга носит характер длинной прощальной речи,
Комментарии
1045
обращенной Моисеем к израильтянам накануне их перехода через Иордан и завоевания Ханаана.
10 Книга Исход — вторая книга Пятикнижия (Торы), Ветхого Завета и всей Библии. Книга описывает период времени от начала порабощения евреев в Египте фараоном, «не знавшим Иосифа» (Исх. 1: 8), до первого месяца второго года по Исходу их из Египта (Исх. 40: 17), всего около 130 лет. Состоит из 40 глав.
11 Книга пророка Иеремии — самая большая пророческая книга Ветхого Завета. Единого сюжета в ней нет, она представляет собою собрание разнородных текстов: речи самого пророка, рассказы о нем, небольшие фрагменты исторических хроник. Проза и поэзия чередуются внутри книги.
12 Книга пророка Иоиля — шестнадцатая часть Танаха, часть Библии, написанная пророком Иоилем.
13 Филиокве (лат. fi.li.oque — «и от Сына») — добавление, сделанное Западной (Римской) Церковью в Никео-Цареградский Символ веры, IV в., в догмате Троицы: об исхождении Святого Духа не только от Бога Отца, но « и от Сына».
14 Непорочное зачатие Девы Марии (лат. Immaculata conceptio) — католический догмат, согласно которому Дева Мария была зачата от обычных родителей — Анны и Иоакима, но на нее не перешел первородный грех.
15 Старокатолицизм — группа национальных церквей, возникших в 1870-е гг. вследствие неприятия частью духовенства Римско-католической церкви решений Первого Ватиканского собора: догмата о непогрешимости папы римского и догмата о непорочном зачатии Пресвятой Богородицы. Старокатолики отвергают также филиокве.
16 Баадер Франц Ксавер фон (1765-1841) — немецкий философ и теолог, представитель философского романтизма. Выход из общественных противоречий своего времени видел в создании универсальной христианской религии, преодолевающей расхождения между конфессиями (отсюда интерес Баадера к России и православию). Оказал влияние на славянофильство, позже на Владимира Соловьева и Николая Бердяева.
П. А. Флоренский
Столп и утверждение истины
<Фрагмент>
Впервые: Свящ. Павел Флоренский. Столп и утверждение истины. Опыт православной теодицеи в двенадцати письмах. Москва: Путь, 1914. Печатается по: Флоренский П.А. Столп и утверждение истины. Факсимиле издания 1914 г. М., 1990. С. 577-581.
1 Принятое французское название — le mémorial de Pascal точнее было бы перевести как «мемориал, записка, воспоминание» (богосл.).
2 Кондорсе Мари Жан Антуан Николя де Карита, маркиз де (1743- 1794) — французский философ, ученый-математик, академик и полити¬
1046
Комментарии
ческий деятель. Кондорсе издал «Мысли» Паскаля со своим предисловием и «Похвалой г-ну Паскалю» в Лондоне в 1766 г. (Pensées de Pascal. Nouvelle édition corrigée et augmentée! Londres, 1776)
3 Климент I(лат. Clemens Romanus I, ум. 97, или 99, или 101) — апостол от семидесяти, четвертый епископ Римский (4-й папа римский) (согласно официальной хронике Католической церкви, с 88 или 90 по 97 или 99), один из мужей апостольских. Широко почитался в Киевской Руси. Почитаем в православии как один из первых христианских проповедников в русских землях. По преданию, около 98 г. был сослан из Рима в Инкерманские каменоломни (район современного Севастополя), где проповедовал и встретил мученическую смерть. Память в Православной церкви — 25 ноября (по юлианскому календарю), в Католической церкви — 23 ноября.
4 Святой Хрисогон — раннехристианский мученик, пострадавший во время гонений Диоклетиана. Почитается Католической (память 24 ноября) и Православной (память 22 декабря [4 января]) церквами.
5 Здесь и далее выделено П. Флоренским.
Н. А. Бердяев Самопознание <Фрагмент>
Впервые: Бердяев Н.А. Самопознание. Париж: YMCA-Press, 1949. Печатается по: Бердяев Н.А. Самопознание. СПб., 2012. С. 203-217.
Бердяев Николай Александрович (1874-1948) — русский христианский и политический философ, представитель экзистенциализма. Бердяев переходит от марксизма к философии личности и свободы в духе религиозного экзистенциализма и персонализма. В своих работах он сопоставляет мировые философские и религиозные учения и направления: греческую, буддийскую и индийскую философию, каббалу, неоплатонизм, гностицизм, мистицизм, космизм, антропософию, теософию и др. У Бердяева ключевая роль принадлежала свободе и творчеству («Философия свободы» и «Смысл творчества»): единственный источник творчества — свобода. Свобода определяет царство духа. Дуализм в его метафизике — это Бог и свобода. Свобода угодна Богу, но в то же время она — не от Бога. Существует «первичная», «несотворенная» свобода, над которой Бог не властен. Эта же свобода, нарушая «божественную иерархию бытия», порождает зло. Тема свободы, по Бердяеву, важнейшая в христианстве — «религии свободы». Иррациональная, «темная» свобода преображается Божественной любовью, жертвой Христа «изнутри», «без насилия над ней», «не отвергая мира свободы». Книга «Самопознание» под названием «Философская автобиография» была написана в 1939-1940 гг. в Кламаре и Пиле. Работа над рукописью продолжалась фактически до последних лет жизни философа, но книга вышла уже после его смерти.
1 Обращение (фр.).
Комментарии
1047
2 Серафим Саровский (в миру Прохор Исидорович Мошнин, в некоторых источниках — Машнин; 1754 (или 1759) — 1833) — иеромонах Саровского монастыря, основатель и покровитель Дивеевской женской обители. Прославлен Российской церковью в 1903 г. в лике преподобных по инициативе царя Николая II. Один из наиболее почитаемых русских святых.
3 Теодицея — (греч. theos — бог и dike — право, справедливость) — «богооправдание»; название многих религиозно-философских трактатов, ставящих целью во что бы то ни стало оправдать явное и непримиримое противоречие между верой во всемогущего, премудрого и благого Бога и существованием в мире зла и несправедливости.
4 Бёме Якоб (1575-1624) — немецкий христианский мистик, провидец, теософ, родоначальник западной софиологии — учения о « Премудрости Божией». Я. Бёме Бердяев неоднократно цитирует в своих произведениях, например, в «Духе и реальности».
5 Ungrund — бездна, безначальность (нем.)' символ-понятие, которое Бёме применял к Богу.
6 Меон (греч. pf|8v — не-сущее, несуществующее, небытие) — философское понятие, передающее представление о всякой неопределенности, противоположности пределу, нетождественности самому себе и потому непостигаемое.
7 Пантократор (греч. Pantokrator— «Всесильный, всемогущий, вседержитель», от Pan — «всё» и krator — «сильный») — одно из наименований Бога, относимое как к Богу Отцу («Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца небу и земли...» — Никео-Цареградский символ веры), так и к Богу Сыну.
8 Катафатическая теология (от греч. катаграикос утвердительный) — один из двух (наряду с апофатической теологией) путей Богопознания, который ведет к познанию божественных атрибутов. Хотя сущность Бога невыразима с помощью какого-либо понятия, Священное Писание именует Бога сущим, благим, любовью, премудростью и т. д. Катафатическая теология стремится посредством позитивных понятий, представлений и атрибутов, связанных с Богом, а также с помощью метафорических аналогий представить оправданным его существование.
9 Социоморфизм — это проекция особенностей жизни на мир богов и природы. Например, мифы древности, когда боги имели семьи, детей и т. п.
10 «Понимание же Бога как силы, мощи, детерминирующей причинности взято из жизни природы и есть космоморфизм» (Бердяев Н.А. Истина и откровение. Гл. 3).
11 Шлейермахер Фридрих Даниэль Эрнст (1768-1834) — немецкий философ, теолог и проповедник, полагавший, что религиозность состоит в чисто пассивном сознании воздействия на нас мирового целого или Бога: «Истинная религия — это чувство и вкус бесконечности».
12 Халкидонский догмат — центральный для христологии и христианской антропологии догмат о Богочеловечестве Христа — о двуединстве совершенного Бога и совершенного человека во Христе. Принят на IV Вселенском соборе
1048
Комментарии
в 451 г. в Халкидоне как исповедание веры в «Одного и того же Христа, Сына, Господа, Единородного, в двух природах неслитно, неизменно, нераздельно, неразлучно познаваемого, так что соединением нисколько не нарушается различие природ, но сохраняется особенность каждой и они соединяются в одно Лицо и одну Ипостась». Великая тайна Богочеловечества, обозначенная этим догматом, привлекла к себе мысль многих русских религиозных философов.
13 Бердяев Н.А. Смысл творчества (Опыт оправдания человека). М., 1916.
14 Ангелус Силезиус, Силезский Ангел (собственное имя Иоханнес Шефлер; 1624-1677) — немецкий поэт, философ, богослов, автор более 200 духовных стихотворений. Наиболее известен его сборник поэтических афоризмов Cherubinischer Wandersmann (Херувимский странник, 1674), в котором воплощены идеи и образы католической мистики. Другой его сборник Heilige Seelenlust (Святая жажда души, 1657) состоит из духовных песнопений, многие из которых исполняются и по сей день; в них он воспевает мистический союз души с Богом.
15 Шанкара (Ади Шанкара) (788-820) — индийский мыслитель, ведущий представитель Веданты, религиозный реформатор и полемист, мистик и поэт.
16 Плотин (204/205-270) — античный философ-идеалист, основатель неоплатонизма. Систематизировал учение Платона о воплощении триады в природе и космосе. Определил Божество как неизъяснимую первосущ- ность, стоящую выше всякого постижения и порождающую собой все многообразие вещей путем эманации («излияния»). Пытался синтезировать античный политеизм с идеями Единого.
17 Экхарт (Эккехарт) Майстер Иоган (ок. 1260-1327) — философ — мистик, проповедник. Викарий доминиканского ордена, стал основателем направления, получившего название «рейнские мистики». Экхарт предлагал определенные аскетические правила, среди которых главными были полное самоотречение и полное подчинение Божественной воле и отказ от всех чувственных образов (даже Христа в человеческом воплощении). В результате можно добиться уже в этой жизни обожения — неразлучного соединения души с Богом. Нет истинного существования вне Бога, следовательно, все творение, рассматриваемое в себе — ничто. В силу собственной ничтожности человек просто не может не вернуться к Богу. Главная способность к соединению человека с Богом заключена в сущности интеллекта; в самом человеке есть некое основание, единосущное Богу. Для возвращения человека к единству с Богом, с божественным Ничто, необходимо полное самоотречение от своего Я. В этом случае человеческая душа становится полем вечного порождения Богом Самого Себя.
18 Монофизитство (Евтихианство), (от др.-греч. uôvoa — «один, един- ствен- ный » + <pvmç — « природа, естество » ) — христологическая доктрина в христианстве, возникшая в V в. и постулирующая наличие только одной Божественной природы (естества) в Иисусе Христе и отвергающая Его совершенное человечество. То есть, вопреки учению Католической, Православной и подавляющего большинства Протестантских церквей, монофизитство исповедует, что Христос — Бог, но не человек (Его человеческий вид якобы только призрачный, обманчивый).
19 Космоцентризм — система философских взглядов, появившаяся в Древней Греции, согласно которой мир воспринимается как космос, много¬
Комментарии
1049
образный, гармоничный и одновременно вселяющий ужас. Все явления окружающего мира рассматривались через призму космоса.
20 Вселенские соборы — собрания преимущественно епископата христианской Церкви в ее вселенской полноте, на которых обсуждаются вопросы и выносятся решения доктринального (догматического), церковно-политического и судебно-дисциплинарного характера.
С. Л. Франк
С нами Бог
Впервые: Франк С. Л. Духовные основы общества: Введение в социальную философию. Paris: Ymca-Press, 1930. Печатается по: Франк С.Л. С нами Бог. М., 2003.
Франк Семен Людвигович (1877-1950) — выдающийся русский религиозный философ, последовательно развивающий основную парадигму русской религиозной философии — парадигму Всеединства. Он доказывает, что все существенное содержание христианства основано на религиозном опыте, на «встрече человеческого сердца с Богом», на живом «общении с Богом». Различая два понятия веры, веру как доверие и веру как достоверное знание, Франк показывает, что доверие к авторитету предполагает такие переживания, которые свидетельствуют, что авторитет действительно выражает истину о Боге. Свое философское учение Франк изложил в последней книге, законченной им в 1949 г., но изданной уже посмертно, «Реальность и человек» (1956).
«С нами Бог. Три размышления» — итоговая книга «Франка, самая «личная» , даже «лирическая» у этого систематического и методичного философа. В книге «С нами Бог» Франк отходит от чистого философского письма своих прежних работ и переходит на язык богословия. Фактически, «С нами Бог» — тематизация имени Мессии из пророчества Исайи — Эммануил — «С нами Бог». Бог с нами, Христос воплотился, общение человека и Бога — суть христианства. В этой книге «Франк проводит великолепную попытку философски осмыслить существо веры, вернее — евангельской веры. Франк пишет о духовном и историческом контексте написания книги «С нами Бог» : «В страшное время разгула адских сил на Земле, среди невообразимых ужасов мировой войны, живя в совершенном уединении, я имел потребность отчетливо осознать и правдиво выразить то, во что я верю и что дает мне силу жить — уяснить подлинное благодатное существо веры и Божией правды. Мое размышление захватывает многообразные стороны религиозной веры вообще и, в частности, ее самого совершенного выражения в Христовом откровении и христианской вере. Но оно имеет одно средоточие, опирается на один основоположный опыт. Это есть опыт имманентности Бога человеческой душе — опыт восприятия тех духовных глубин, в которых человек реально соприкасается и общается с Богом, Божии силы реально вливаются в человеческую душу, сам Бог живет и действует в нас. Все выраженные мною мысли суть только варианты и выводы из этого основоположного опыта».
1050
Комментарии
1 Д’Аламбер.
2 Рембо Жан Николя Артюр (1854-1891) — французский поэт, один из основоположников символизма, творческая деятельность которого продлилась всего пять лет — с 1869 по 1874 г.
3 См.: Rimbaud Isabelle. Reliques Rimbaud mourant, mon frère Arthur, le dernier voyage de Rimbaud, Rimbaud Catholique, dans les remous de la bataille (passages censurés) avec un portrait de l’auteur d’après le tableau du musée du Luxembourg. P., 1921.
4 Джеймс Уильям (1842-1910) — американский философ и психолог, один из основателей и ведущий представитель прагматизма и функционализма. В работе «Многообразие религиозного опыта» (1902), к которой обращается Франк, Джеймс описывает две основные разновидности религиозного опыта: Религия душевного здоровья, к примеру — христианство; Религия страждущей души, к примеру — традиционный кальвинизм. Для Джеймса ценность религии заключалась в способности помочь людям обрести позитивное и уверенное отношение к жизни. По мнению ученого, религия способствует утверждению у человека верных представлений о самом себе и окружающих условиях для того, чтобы люди не стали жертвой несовершенства жизни и общества.
5 Бетховен Людвиг ван (1770-1827) — немецкий композитор, дирижер и пианист, один из трех «венских классиков». Бетховен — ключевая фигура западной классической музыки в период между классицизмом и романтизмом. Самым значительным в его наследии считаются инструментальные произведения: сонаты, концерты, квартеты, увертюры и симфонии.
6 Бах Иоганн Себастьян (1685-1750) — немецкий композитор и органист, представитель эпохи барокко. Бах создал основы всей музыки нового и новейшего времени — история музыки обоснованно делится на добаховскую и послебаховскую.
7 Моцарт Вольфганг Амадей (1756-1791) — австрийский композитор, капельмейстер, скрипач-виртуоз, клавесинист, органист. По свидетельству современников, обладал феноменальным музыкальным слухом, памятью и способностью к импровизации. Моцарт широко признан одним из величайших композиторов: его уникальность состоит в том, что он работал во всех музыкальных формах своего времени и во всех достиг наивысшего успеха. Наряду с Гайдном и Бетховеном, принадлежит к наиболее значительным представителям Венской классической школы.
8 Владимир I Святославич (ок. 960-1015) — киевский великий князь, при котором в 988 г. произошло крещение Руси.
9 Успенский Глеб Иванович (1843-1902) — русский писатель, видный представитель демократической литературы 60-х гг. Главные темы творчества — жизнь и быт мелких чиновников и городской бедноты, крестьянства.
10 Венера Милосская — знаменитая древнегреческая скульптура, созданная приблизительно между 130 и 100 гг. до нашей эры. Находится в музее Лувр (Париж).
Комментарии
1051
11 Франк ошибается: слова принадлежат не Тютчеву, а Тургеневу в повести «Довольно» (1865): «Венера Милосская, пожалуй, несомненнее римского права или принципов 89-го года».
12 Рудольф Отто (1879-1937) — немецкий евангелический теолог, религиовед, феноменолог.
13 Рильке Райнер Мария (1875-1926) — австрийский поэт-символист. Цитата взята из сборника «Часослов» (1905). Книга вторая. О пути на богомолье. Перевод В. Топорова:
Вопрошают Тебя — искушают Тебя.
А тот, кто находит,— сводит Тебя
к цвету и жесту.
Я же Тебя объемлю,
как землю,— в горсти.
В мою землю — растет она! — врасти!
Я не хочу от Тебя никаких чудес. Чудеса просты.
Я знаю, что миг, знаю, что век — это не Ты.
Той суеты не жаль. Знаю: грядет закон.
С каждым столетьем он явственней нам.
14 «Исповедь», VII, 10.
15 Песнь Соломона, Песнь (всех) песней. Книга Песни Песней Соломона — 30-я часть Танаха, 4-я книга Ктувим, каноническая книга Ветхого Завета, приписываемая царю Соломону. Содержанием Песни Песней является противопоставление чистой любви девушки Суламиты к пастуху участи женщин в гареме Соломона.
16 Соловьев Владимир Сергеевич (1853-1900) — русский философ, богослов, поэт, публицист, литературный критик; почетный академик Императорской Академии наук по Разряду изящной словесности (1900). Стоял у истоков русского «духовного возрождения» начала XX в. Оказал влияние на религиозную философию Н. А. Бердяева, С. Н. Булгакова, С. Н. и Е. Н. Трубецких, П. А. Флоренского, С. Л. Франка, а также на творчество поэтов-символистов — А. Белого, А. Блока и др. Цитируется стихотворение:
Бедный друг, истомил тебя путь, Темен взор, и венок твой измят. Ты войди же ко мне отдохнуть. Потускнел, догорая, закат.
Где была и откуда идешь,
Бедный друг, не спрошу я, любя;
Только имя мое назовешь —
Молча к сердцу прижму я тебя.
Смерть и Время царят на земле,—
Ты владыками их не зови;
1052
Комментарии
Все, кружась, исчезает во мгле, Неподвижно лишь солнце любви.
18 сентября 1887.
17 Шницлер Артур (1862-1931) — австрийский писатель, Крупнейший представитель венского импрессионизма. Проза и особенно драматургия Шницлера приобрели широкую известность, были на протяжении XX в. многократно экранизированы, наново переделывались для современной сцены (такие постановки принадлежат, в частности, Т. Стоппарду, В. Швабу). В России пьесы Шницлера ставили В. Мейерхольд и А. Таиров. Богатое психологическими мотивами творчество Шницлера стоит у начала той поры, которая отмечена восхождением австрийской литературы к ее вершинам XX в. — к Йозефу Роту, Роберту Музилю, Герману Броху, Францу Кафке.
Б. П. Вышеславцев
Значение сердца в религии
Впервые: Вышеславцев Б. П. Значение сердца в религии // Журнал «Путь». № 1. Сентябрь. Париж, 1925. С. 79-98. Печатается по этому изданию.
Вышеславцев Борис Петрович (1877-1954) — русский философ, религиозный мыслитель. В 1922 г. Вышеславцев эмигрировал из России в Германию, в Берлин, где до 1924 г. преподавал в основанной Н. А. Бердяевым «Религиозно-философской академии», затем вместе с Академией переехал в Париж. В 1927-1943 гг. профессор Свято-Сергиевского православного богословского института в Париже, где преподавал историю новой философии и нравственное богословие. Принимал участие в организации издательства YMCA-Press (Париж). С 1925 г. — один из редакторов религиознофилософского журнала «Путь». Разрабатывал проблематику «философии сердца», антропологии, теории культуры. Его книга «Сердце в христианской и индийской мистике» (1929) — первая систематизирующая работа по православному пониманию проблемы.
1 В статье использованы следующие ссылки: Апок. — Апокалипсис (Откровения Св. Иоанна Богослова); Гал. — Послание к Галатам; Деян. — Деяния святых апостолов; Евр. — Послание к евреям; Есф. — Книга Есфири; Иак. — Послание Иакова; Иер. — Плач Иеремии; Ио. — Евангелие от Иоанна; Ис. — Исход; Кол. — Послание к Колоссянам; Кор. — Послания к Коринфянам; Лк. — Евангелие от Луки; Мк. — Евангелие от Марка; Мф. — Евангелие от Матфея; Петр. — Послания Петра; Притч. — Притчи Соломона; Пс. — Псалтырь; Рим. — Послание к Римлянам; Фил. — Послание к Филиппийцам.
2 Блуа Леон (1846-1917) — французский писатель, мыслитель-мистик, автор романов, новелл, полемических эссе, дневника, который вел на протяжении многих лет.
Комментарии
1053
3 Бёме Якоб (1575-1624) — немецкий христианский мистик, визионер, теософ.
4 «Весь мир, полный бесконечного» (фр.).
5 «Человек не умом, а сердцем чувствует Бога. Это и есть вера: не умом, а сердцем чувствовать Бога» (пер. Э. Липецкой). Мысль № 397 по Ле Берну.
6 Апофатия (греч. aroxpaTiKOÇ — «отрицающий») — познание через отрицание.
7 «Брихадараньяка — одна из древнейших упанишад, создание которой ученые относят к VIII века до н.э., посвящена описанию природы «Я». Упанишады — древнеиндийские трактаты религиозно-философского характера. Являются частью Вед и относятся к священным писаниям индуизма категории шрути. В них в основном обсуждается философия, медитация и природа Бога. Считается, что в Упанишадах изложена основная суть Вед, поэтому их также называют «веданта» (конец, завершение Вед) и они являются основой ведантического индуизма. В Упанишадах главным образом описывается безличный аспект Абсолютной Истины. Далее Вышеславцев приводит цитаты из известных упанишад.
8 «Единство противоположностей» (лат.).
9 «ИскраБожия» «искра души» (нем.).
10 Экхарт Майстер, известный также как Иоганн Экхарт и Экхарт из Хоххайма (ок. 1260 — ок. 1328) — знаменитый средневековый немецкий теолог и философ, один из крупнейших христианских мистиков, учивший о присутствии Бога во всем существующем. Титул «Meister», означающий по-немецки «мастер, учитель», указывает на академическое звание магистра теологии, полученное в Париже.
11 Шопенгауэр Артур (1788-1860) — немецкий философ. Один из самых известных мыслителей иррационализма. Основной философский труд — «Мир как воля и представление» (1819-1843), комментированием и популяризацией которого Шопенгауэр занимался до самой своей смерти, оказал влияние на многих известных мыслителей, включая Ницше, Вагнера, Витгенштейна, Эйнштейна, Фрейда, Юнга, Льва Толстого. Дойсен Пауль (1845-1919) — немецкий философ; профессор (с 1889 г.), последователь Шопенгауэра.
12 Веданта — одна из шести ортодоксальных школ (даршан) в философии индуизма. В сущности, веданта является общим названием ряда философско-религиозных традиций в индуизме, объединяемых темой, предметом, и отчасти — основополагающими текстами и написанными к ним комментариями, и разделяемых предлагаемыми решениями. Кроме Вед и Упанишад, авторитетными текстами во всех направлениях веданты считаются «Веданта-сутры» Вьясы, а в теистических школах — «Бхагавадгита» и «Бхагавата-пурана».
13 Санкхъя, самкхья — философия индийского дуализма, основанная Капилой. В мире действуют два начала: пракрити (материя) и пуруша (дух). Цель философии санкхьи — отвлечение духа от материи.
1054
Комментарии
14 Имманентизм (от лат. immaneo — пребываю в чем-либо) — философское учение, утверждающее, что Бог целиком присутствует в мире, а не вне его. Это учение настаивает на исключении трансцендентного из рассмотрения любой реальности.
15 Собственную философскую систему, избегая иностранных терминов, Фихте называет «наукоучением» (Wissenschaftslehre). С одной стороны, наукоучение выступает как « наука наук », обосновывающая аксиомы частных дисциплин. С другой стороны, оно представляет собой исследование природы и законов человеческого духа, или «Я». Одним из центральных произведений всего цикла работ о «наукоучении» стал трактат «Основа общего наукоучения» (1794).
16 Преподобный Серафим Саровский и всея России чудотворец (в миру — Прохор Исидорович Мошнин; 1754 (или 1759) — 1833) — иеромонах Саровского монастыря, один из наиболее почитаемых русских святых. Основатель и покровитель Дивеевской женской обители. Прославлен Российской церковью в 1903 г. по инициативе царя Николая II. Далее приводится цитата из «Наставлений Серафима Саровского» «О Боге».
17 Беседа преподобного Серафима с Николаем Александровичем Мотовиловым (1809-1879) о цели христианской жизни произошла в ноябре 1831 г. в лесу, неподалеку от Саровской обители, и была записана Мотовиловым.
18 Дионисий Ареопагитп — афинский мыслитель, христианский святой. Согласно церковному преданию, Дионисий Ареопагит был учеником ап. Павла (Деян17: 34) и первым епископом г. Афины. В 95 г. он был послан св. папой Климентом во главе миссии на проповедь в Галлию, где и погиб ок. 96 г. Преподобный Максим Исповедник (580-662) — христианский монах, богослов и философ. Создатель и защитник христологической доктрины диофелит- ства — учения о двух волях во Христе. Один из ведущих оппонентов политике византийских императоров по объединению Вселенской церкви вокруг христологической доктрины монофелитства — учения об одной воле во Христе.
19 «Ибо крепка, как смерть, любовь» (Песнь песней, 8).
20 Рабиндранат Тагор (1861-1941) — индийский писатель, поэт, композитор, художник, общественный деятель. «Царь темного чертога» (1915) — мистическая драма.
21 Айстезис (греч. Aisthêsis) — ощущение.
22 Тришна — понятие индийской философии, обозначающее тягу к жизни как фундаментальное свойство психики всех живых существ.
23 «Культ святого сердца» (фр.).
24 Последователи св. Сульпиция: «Все внутреннее — от Иисуса». Сульпиций Север (363-410 или 429) — святой, писатель (агиограф и хронист). По смерти жены, в 392 г., бросил занятие адвоката и избрал жизнь пустынника и удалился в монастырь. Провозгласив себя пелагианином, он скоро раскаялся в этом и осудил себя на вечное молчание. Галлифет Жозеф де (1663-1749) — католический священник, автор книги «Обожаемое сердце
Комментарии
1055
Иисуса», учителем которого был исповедник Св. Маргариты Марии Алокок. Святая Маргарита Мария Алакок (1647-1690) — французская монахиня, учредительница культа «Святого Сердца Иисуса». В своем религиозном экстазе она написала мистическое сочинение «Культ святого сердца Иисуса», обнародованное в 1698 г. патером Круазе и послужившее поводом к основанию культа Святого Сердца Иисуса, о распространении которого еще в то время стали заботиться иезуиты и который в новейшее время нередко употреблялся ими для политической и клерикальной пропаганды.
25 Макарий Великий (Макарий Египетский; ок. 300-391) — христианский святой, отшельник, почитаемый в лике преподобного, автор духовных бесед.
26 Гомилия (греч. oui/.la — сообщество, сходка, беседа, учение; греч. Homos — равный, подобный; греч. üt] — толпа) — речь в собрании, беседа со многими. Древнейший (времен апостольских) вид христианской храмовой проповеди, преимущественно речи тех пастырей-пресвитеров, которые не получили школьного образования, но, глубоко уверовав в истины христианства, излагали и объясняли их языком безыскусственным и простым.
27 Сборник лучших гомилий отцов Церкви.
28 Минь Жак Поль (1800-1875) — французский католический священник, редактор и книгоиздатель, чья антология трудов отцов Церкви (Patrologia Latina и Patrologia Graeca) в науке считается классической и неофициально называется «патрологией Миня». «Patrologiae cursus completus» (Полный курс патрологии) и состоит из двух серий: латинской и греческой. Латинская серия (1844-1856) состоит из 220 томов, которые содержат труды богословов и церковных писателей Западной церкви от II века до XII в. включительно. Греческая серия (1857-1866) состоит из 161 тома и содержит в греческом подлиннике и латинском переводе творения греческих отцов и церковных писателей до XV в. включительно. Творения перепечатаны с лучших предшествовавших изданий, преимущественно бенедиктинских: каждому писателю предшествуют обширные prolegomena, часто — целые научные монографии знаменитых патрологов.
29 Так утверждают и Платон, и Плотин: «Ведь око наше никогда не увидело бы солнца, не сделавшись само солнцеподобным; и душа не узрела бы прекрасное, не сделавшись прекрасной. Итак, всякий, кто хочет созерцать божественное и прекрасное, пусть прежде сам сделается богоподобным и прекрасным» (Плотин. Эннеады 1. 6, 9).
30 Аристотель писал в «Политике», что тот, кто, по природе, принадлежит не самому себе, а другому, и при этом все-таки человек, тот по своей природе раб. Деятельность рабов состоит в применении их физических сил, это наилучшее, что они могут дать. Они в такой сильной степени отличаются от других людей, в какой душа отличается от тела, а человек — от животного. Именно такие люди по своей природе — рабы, и для них лучший удел быть в подчинении у господина. И Аристотель поясняет, что рабом по природе бывает тот, кто может принадлежать другому и кто одарен рассудком лишь настолько, что воспринимает приказания другого лица, но сам рассудка не имеет. По Аристотелю, природа устроена так, что
1056
Комментарии
сама физическая организация людей свободных отличается от физической организации рабской части общества: у рабов тело мощное, пригодное для выполнения необходимых физических работ; напротив, люди свободные не способны для выполнения подобного рода работ, зато пригодны для политической жизни. И хотя красоту души не так легко охватить взором как красоту тела, во всяком случае остается очевидным, что одни люди по своей природе свободны, другие же — рабы, и этим последним быть рабами и полезно, и справедливо.
31 Николай Кузанский (Кребс) (1401-1464) — выдающийся философ и теолог своего времени, кардинал римско-католической церкви, родоначальник ренессансного платонизма. Основные труды: «Об ученом незнании», «О предположениях», «Книга Простеца», «Апология ученого незнания», «О вершине созерцания». Считал, что познание дано Богом, поэтому предел познания — Бог. Человек, как творение Божие, является «малым миром», включающим «Большоймир».
32 «Если есть Бог, то откуда зло? Если есть сознание, то откуда грех?» (лат.). Цитата взята из «Утешения философией» Боэция (ок. 480-524 или 526) — римского государственного деятеля, философа-неоплатоника, теоретика музыки, христианского теолога. «Утешение философией» —главное сочинение Боэция, которое стало одной из популярнейших книг Средневековья и оказало сильное влияние на европейскую литературу.
33 «Вижу и одобряю лучшее, а следую худшему» (лат.). — Овидий, Метаморфозы, VII, 2021.
34 Ах, две души живут в больной груди моей, Друг другу чуждые,— и жаждут разделенья!
Гете «Фауст»
(Ч. 1, сцена 2 «У городских ворот» ).
35 Меоничностъ — от меон (греч. pf|ov — не-сущее, несуществующее, небытие) — философское понятие, передающее представление о всякой неопределенности, противоположности пределу, нетождественности самому себе и потому непостигаемое.
36 Эти слова — «Аз есмь Путь, Истина и Жизнь» — Господь произнес тогда, когда Он начал прощальную беседу со Своими учениками и сказал, что Он идет туда, куда они еще не могут идти. И апостол Фома, который всегда был умом пытливый, сразу Его спросил: «Куда же Ты идешь? Что это такое, куда Ты идешь?»,— вот Господь ему говорит: «Я есмь Путь, Истина и Жизнь».
Л. Шестов
Гефсиманская ночь (Философия Паскаля)
(Из книги «На весах Иова» (Странствования по душам))
Впервые: Шестов Л. На весах Иова (Странствования по душам). Париж, 1929. Печатается по: Шестов Л. На весах Иова. М., 2000.
Комментарии
1057
Шестов Лев (наст, имя и фамиля — Лев Исаакович Шварцман; 1866- 1938) — русский философ, литературовед. Участвовал в религиознофилософских собраниях в Петербурге, поддерживал отношения с ведущими представителями российского религиозно-философского движения начала века — с Д. С. Мережковским, С. Н. Булгаковым, В. В. Розановым, М. О. Гершензоном, Вяч. Ивановым и др. Критикуя любые попытки умозрительного отношения к Богу (философские и богословские в равной мере), Шестов противопоставлял им исключительно индивидуальный, жизненный (экзистенциальный) путь веры. Экзистенциальная философия, утверждал Шестов, начинается с трагедии, она исходит из предположения, что «неизвестное ничего общего с известным иметь не может, что даже известное не так уж известно, как это принято думать, и что, следовательно, все предположения... были только обманчивыми иллюзиями». Шестов предлагает забыть о том привычном образе мира, который навязан человеку наукой, рационалистической философией и здравым смыслом. В мире экзистенциальной философии будущее совершенно неизвестно. Идея веры-свободы в творчестве Шестова оказывается единственно возможным положительным ответом на вопрос о смысле исторического существования человека. Нельзя метафизически доказать, что «бывшее станет небывшим» и волею Абсурда «железная» логика исторического и природного процессов может быть отменена, но в это можно поверить. «Для Бога нет ничего невозможного — это самая заветная, самая глубокая, единственная, я готов сказать, мысль Кьеркегора — а вместе с тем она есть то, что коренным образом отличает экзистенциальную философию от умозрительной».
1 Юлиан Отступник (Флавий Клавдий Юлиан; 332-363) — римский император, вошедший в историю как Отступник (греч. «Апостатъ), как назвали его христиане за попытку вернуть Римскую империю к языческой религии.
2 Намек на цитату из трагедии У. Шекспира «Макбет»: «Макбет зарезал сон» (т. е. убил спящего короля Дункана).
3 «Провинциальные письма» (фр.).
4 «Мысли» (фр.).
5 Вера внедренная (лат.). Точного эквивалента данного понятия в русском языке не существует, используются следующие выражения: «внутренняя вера», «слепая вера», «потенциальная вера», «подразумеваемая вера».
6 «К Твоему, Боже, суду взываю» (лат.).
7 «Мысли», № 186, 154, 392 (по Ле Герну).
8 Согласно которому мы достойны похвалы или порицания (лат.).
9 Противоречие между определяемым и определением (лат.).
10 «Вечные истины» (лат.).
11 «Разумные истины» (фр.).
12 Тертуллиан Квинт Септимий Флоренс (155/165-220/240) — один из наиболее выдающихся раннехристианских писателей и теологов, ав¬
1058
Комментарии
тор 40 трактатов, из которых сохранился 31. В зарождавшейся теологии Тертуллиан впервые выразил концепцию Троицы. Положил начало латинской патристике и церковной латыни — языку средневековой западной мысли. Приводимая ниже фраза из его сочинения «О плоти Христа» (лат. De Carne Christi) где он полемизирует с гностиком Маркионом, имеет два основных варианта перевода: 1) И Сын Божий умер: это бесспорно, ибо нелепо. И, погребенный, воскрес: это несомненно, ибо невозможно. 2) И умер Сын Божий; это вполне достоверно, ибо ни с чем не сообразно. И после погребения воскрес; это несомненно, ибо невозможно. Парафраз данного высказывания превратился в известную максиму: Credo quiaabsurdum est («верую, ибо абсурдно»). Тертуллиан навсегда «отлучает» философию от ее познавательной и толковательной сверхзадачи, оставляя за ней лишь описательную, сравнительную и классифицирующую функции. Он исключает аллегорическую экзегезу, расценивая полемику о латентном смысле библейского текста как суемудрие — «расстройство желудка», зачастую приводящее к ереси. Философ, вопреки настоянию логики — в пользу иррационального, предлагает непосредственное наивное восприятие, поскольку бессилие постижения говорит лишь о его несовершенстве, неприменимости.
13 См. коммент, выше.
14 Ницше Фридрих Вильгельм (1844-1900) — немецкий мыслитель, классический филолог, создатель самобытного философского учения, которое носит подчеркнуто неакадемический характер и поэтому имеет широкое распространение, выходящее далеко за пределы научно-философского сообщества. Фундаментальная концепция Ницше включает в себя особые критерии оценки действительности, которые ставят под сомнение базисные принципы действующих форм морали, религии, культуры и общественно- политических отношений. У Ницше были серьезные проблемы со здоровьем: он почти ослеп, у него были невыносимые головные боли, которые он лечил опиатами, проблемы с желудком. Творческая деятельность Ницше оборвалась в начале 1889 г. в связи с помутнением рассудка. Существует несколько версий, объясняющих причину болезни. Среди них — плохая наследственность (душевной болезнью в конце жизни страдал отец Ницше); возможное заболевание сифилисом, спровоцировавшим безумие; а также помутнение разума, вызванное «заказным отравлением», которое связано с активной политической деятельностью, которую развернул Ницше в конце 1880-х гг.
15 См.: Boileau, abbé Jean-Jacques. Lettre sur différents sujets de morale et de piété. Paris, 1737-1742.
16 Всегда, везде, все убеждены (лат.).
17 Городу и миру; всем, всем, всем; ко всеобщему сведению (лат.).
18 Власть ключей (лат.). Название книги Л. Шестова «Potestas clavium (Власть ключей)» (1915).
19 Ненавистник разума (др.-гр.).
20 За которое нас или хвалят, или порицают (лат.).
Комментарии
1059
21 Тит Лукреций Кар (ок. 99-55 до н. э.) — римский поэт и философ. Считается одним из ярчайших приверженцев атомистического материализма, последователем учения Эпикура. На заре зарождения римской философской терминологии Лукреций в своем основном труде — философской поэме «О природе вещей» — облек свое учение в стройную поэтическую форму. Следуя теории эпикуреизма, Лукреций Кар постулировал свободу воли человека, отсутствие влияния богов на жизнь людей (не отвергая, однако, само существование богов). Он считал, что целью жизни человека должна быть атараксия (безусловное спокойствие духа), аргументированно отвергал боязнь смерти, саму смерть и потустороннюю жизнь: по его мнению, материя вечна и бесконечна, а после смерти человека его тело обретает иные формы существования. Развивал учение об атомизме, широко пропагандировал идеи физики Эпикура, попутно касаясь вопросов космологии и этики.
22 Марк Аврелий Антонин (121-180) — римский император (161-180) из династии Антонинов. Философ, представитель позднего стоицизма, последователь Эпиктета.
23 Гораций. «Оды», книга 3, ода 3: Лишь если мир, распавшись, рухнет, Чуждого страха сразят обломки (лат.).
24 То, что устанавливает разум, не может власть опровергнуть (лат.).
25 «Рассуждение о методе» Декарта.
26 Не смеяться, не плакать, а также не проклинать, но понимать (лат.).
27 Понимать (лат.).
28 В книге пророка Исайи содержится идея о грехопадении человека (Кн. 27, ст. 1).
29 Эразм Роттердамский (ок. 1469-1536) — католический писатель, богослов, библеист, ученый-филолог. Рано осиротев, поступил в Августинский монастырь (1487) и вскоре был рукоположен (1492). Однако в 1494 добился разрешения выйти из монастыря и стал независимым ученым. Некоторое время жил во Франции, Испании, Германии, посещал Англию, где сблизился с Т. Мором. К энциклопедически образованному ученому-гуманисту, гражданину мира, прислушивался весь образованный мир. Поборник гуманности, просвещения и терпимости, Эразм Роттердамский противопоставлял евангельский идеал фанатизму, обскурантизму и клерикализму. Наиболее известным произведением Эразма является его сатира «Похвала глупости». Далее речь идет о его «Диатрибе, или Рассуждении о свободе воли».
30 «О рабстве воли» (1525).
31 Основополагающие принципы учения Лютера: sola fide, sola gratia и sola scriptura (спасение только верой, благодатью и Библией).
32 Добродетели людей предпочтительнее пороков (лат.).
33 «Се, Боже, посвящаю тебе бесчестье и скверну жизни моей» (лат.).
34 Исх. 19: 1-3: «В третий месяц по исходе сынов Израиля из земли Египетской, в самый день новолуния, пришли они в пустыню Синайскую. И двинулись они из Рефидима, и пришли в пустыню Синайскую, и расположились там станом в пустыне; и расположился там Израиль станом против
1060
Комментарии
горы. Моисей взошел к Богу [на гору], и воззвал к нему Господь с горы...». На горе Божией Моисей получил от Бога основной Закон — 10 Заповедей, начертанных на каменных Скрижалях.
35 Платон (428 или 427 до н. э. — 348 или 347 до н. э.) — древнегреческий философ, ученик Сократа, учитель Аристотеля. Философия Платона не изложена систематически в его произведениях, представляющихся современному исследователю скорее обширной лабораторией мысли. Важнейшей ее частью является учение о трех основных онтологических субстанциях (триаде): «едином», «уме» и «душе»; к нему примыкает учениео «космосе». Основой всякого бытия является, по Платону, «единое», которое само по себе лишено каких-либо признаков, не имеет частей, т. е. ни начала, ни конца, не занимает какого-либо пространства, не может двигаться, поскольку для движения необходимо изменение, т. е. множественность; к нему неприменимы признаки тождества, различия, подобия и т. д. Познание есть анамнесис — воспоминание души об идеях, которые она созерцала до ее соединения с телом. Понятие анамнесис (греч.), т. е. припоминание и цитируется Шестовым ниже.
36 «Пусть же нас больше не упрекают за недостаток ясности, ведь мы это исповедуем открыто» (пр. Ю. Гинзбург) («Мысли», № 213 по Ле Герну).
37 «Напрасно вопиет разум: он не может определить цену вещей» («Мысли», № 41 по Ле Герну).
38 «Смирись, бессильный разум, замолчи, бессмысленная природа!» (пер. Э. Липецкой) («Мысли», № 122 по Ле Герну).
39 Когда Платон распространялся о своих идеях и говорил о «стельности» и «чашности», Диоген заметил: «Что касается меня, Платон, то стол и чашу я вижу, а вот «стельности» и «чашности» нет». На что Платон ему якобы ответил, что для чаши и стола у Диогена есть глаза, а для «чашности» и «стельности» у него нет разума.
40 Плотин (204/205—270) — античный философ-идеалист, основатель неоплатонизма. Систематизировал учение Платона о воплощении триады в природе и космосе. Определил Божество как неизъяснимую первосущность, стоящую выше всякого постижения и порождающую собой все многообразие вещей путем эманации («излияния»). Наиболее оригинальным является учение Плотина о Едином как трансцендентном начале, которое превышает все сущее и мыслимое, Единое, выступая как первосущность, не является ни разумом, ни потенциальным предметом разумного познания. Иерархия бытия распространяется от Единого, по ступеням Его нисхождения до материи — низшей границы. Это совершенное первоначало, сверхчувственное и сверхмыслимое, является неизреченным, абсолютным Благом. Плотин неизменно следует Платону в учении о бессмертии души, о нисхождении ее с неба на землю и обратном восшествии на небо, об укорененности всех индивидуальных душ в единой «мировой душе», о знании как припоминании и т. д. Разум рождается как следствие этой эманации Единого. Порожденные Умом мысли, идеи, образы, как и сам Ум, продолжают быть в общении и единении с абсолютным Благом. Концепция восхождения души от чувственного состояния к сверхумному экстазу составляет основу мистицизма Плотина.
Комментарии
1061
41 Сверхъестественные заклинание и оцепенение (фр.). У Паскаля: «un enchantement incompréhensible et un assoupissement surnaturel» («Мысли», № 398 по Ле Герну).
42 Один в Вашем присутствии (фр.).
43 Бегство единого к Единому (др.-греч.).
44 Недостаток ясности — вера (фр.).
45 Иисус будет в смертельным муках до конца мира (фр.).
С. С. Аверинцев
Два рождения европейского рационализма
Впервые: Аверинцев С. С. Два рождения европейского рационализма // Вопросы философии. 1989. № 3. С. 3-13. Печатается по этому изданию.
Аверинцев Сергей Сергеевич (1937-2004) — русский филолог, культуролог, историк культуры (в том числе христианской), философ, литературовед, библеист, крупный специалист в области изучения истории античной и средневековой литературы, поэтики, философии и культуры, русской и европейской литературы и философии культуры XIX — XX вв., поэзии Серебряного века.
1 Квинтилиан Марк Фабий (ок. 35 — ок. 96) — римский ритор, автор «Наставлений оратору» (Institutio oratoria) — самого полного учебника ораторского искусства, дошедшего до нас от античности. Он стал не только выразителем вкусов высшего римского общества, но и реформатором литературного стиля, исследователем проблем латинского языка.
2 Дионисий Галикарнасский — греческий историк I в. до н. э., ритор и критик, современник Юлия Цезаря. Его главный труд — «Римские древности» в 20 книгах, где рассказана история Рима с древнейших времен до первой Пунической войны.
3 Гиппий Элейский (ок. 400 г. до н. э.) — древнегреческий философ- софист. Является действующим лицом нескольких диалогов Платона («Гиппий меньший», «Гиппий больший», на которые ссылается Аверинцев, и «Протагор»). Платон говорит о Гиппии как о знатоке всех математических наук — вычислений и логистики, геометрии, астрономии, музыки. Гиппий обладал обширными познаниями во многих науках, за что получил прозвище «многознающий» (Полигистор).
4 Аристофан (444 до н. э. — между 387 и 380 гг., Афины) — древнегреческий комедиограф, прозванный «отцом комедии», по своим политическим и нравственным убеждениям был приверженцем старины, суровым защитником старых верований, старых обычаев, науки и искусства. Отсюда его язвительные насмешки над Сократом или, вернее, над умствованиями софистов в комедии «Облака» (423 г. до н. э.).
5 Гераклит Эфесский (544-483 гг. до и. э) — древнегреческий философ- досократик. Единственное его сочинение, от которого сохранилось только
1062
Комментарии
несколько десятков фрагментов-цитат,— книга «О природе», состоявшая из трех частей («О природе», «О государстве», «О боге»). Основатель первой исторической или первоначальной формы диалектики. Гераклит был известен как Мрачный или Темный, и его философская система контрастировала с идеями Демокрита, на что обратили внимание последующие поколения.
Парменид из Элеи (ок. 540 до н. э. или 520 до н. э. — ок. 450 до н. э.) — древнегреческий философ и политический деятель. Свои взгляды выразил в поэме «О природе». Занимался вопросами бытия и познания. Разделил истину и субъективное мнение. Доказывал, что существует только вечное и неизменное Бытие, тождественное мысли.
6 Систола (от греч. systole — сжимание, сокращение) — сокращение сердечной мышцы, или миокарда. Диастола (от греч. diastole — расширение) — расслабление предсердий и желудочков сердца. Последовательные систола и диастола составляют цикл сердечной деятельности.
7 Рабле Франсуа (1494-1553) — французский писатель, один из величайших европейских сатириков-гуманистов эпохи Ренессанса, автор романа «Гаргантюа и Пантагрюэль».
8 Винсент из Бове (фр. Vincent de Beauvais; 1190-1264) — доминиканский монах, богослов, энциклопедист, философ и педагог. Главным трудом Винсента является универсальная энциклопедия гигантского объема «Зерцало великое» (Speculum majus). Энциклопедия, состоявшая из 4 частей, давала обширные сведения по философии, истории, естественным наукам. В ней комментировались отрывки из античных авторов, богословские труды. В целом «Великое зерцало» представляет собой систематизацию знаний того времени по различным вопросам. Написана на латыни, состоит из 80 книг и 9885 глав. Это самая значительная энциклопедия Средневековья.
9 Два обширных трактата Фомы Аквинского написаны в жанре суммы, охватывающей широкий спектр тем,— «Сумма теологии» и «Сумма против язычников» («Сумма философии»). Сумма — литературная форма, или литературный жанр, соединяющий в себе признаки научного трактата и энциклопедического справочника.
10 Святой Альфонсо Лигуори (1696-1787) — католический епископ, теолог, основатель Конгрегации Святого Спасителя. Был канонизирован в 1831 г.; в 1871 г. признан учителем Церкви, в 1950 г. — святым покровителем исповедников и моралистов.
Пробабилист — богослов, почитающий доказанное доказываемым. От пробабилизм (от лат. probabilis — вероятный) — вероятностный стиль мышления, характерный для развития современного научного познания. Пробабилистский подход противоположен детерминистическому подходу. В католической теологии пробабилизм — концепция, которая обосновывает способ морального суждения, когда в сомнительных случаях следует вероятное принять за достоверное, если оно полезно для Церкви. Эта трактовка была поддержана иезуитами, в частности, Луисом Молиной.
Комментарии
1063
11 Экушар-Лебрен Понс Дени (прозванный Лебрен-Пиндар; 1729-1807) — французский поэт. В свое время пользовался преувеличенной славой, а после смерти был незаслуженно забыт.
12 Аттический период V-IV вв. до н. э. — период высшего расцвета полисного устройства. В результате победы греков в Греко-персидских войнах (500-449 до н. э.) происходит возвышение Афин, которые находились в области Аттика, отсюда название периода. Время высшего могущества Афин, наибольшей демократизации политической жизни и расцвета культуры приходится на время правления Перикла (443-429 до н. э.). Борьба между Афинами и Спартой за гегемонию в Греции и противоречия между Афинами и Коринфом, связанные с борьбой за торговые пути, привели к Пелопоннесской войне (431-404 до н. э.), которая завершилась поражением Афин. Характеризуется расцветом экономики и культуры греческих полисов.
13 Философский диалог Д. Дидро, известный под общим названием «Сон д’Аламбера» (1769), состоит из трех частей: «Продолжение разговора г-на д’Аламбера и г-на Дидро», «Сон д’Аламбера» и «Продолжение предыдущего разговора».
14 Еврипид (480-406 до н. э.) — древнегреческий драматург, представитель новой аттической трагедии, в которой преобладает психология над идеей божественного рока. «Полиид» и «Фрике» —названия малоизвестных трагедий Еврепида.
15 «Лягушки» (405 до н. э.) — комедия Аристофана, в которой бог Дионис, отправляется в загробный мир, чтобы вывести оттуда своего любимца Еврипида. Однако в агоне между Еврипидом и Эсхилом победу одерживает Эсхил, которого Дионис и забирает. Комедия представляет собой один из первых образцов литературной критики.
16 Сатировская драма или, иначе, игривая трагедия — у древних греков особый вид драматической поэзии, существовавший наряду с трагедией и комедией. Внешняя особенность, отличавшая сатировскую драму от трагедии в эпоху расцвета греческого театра, сводится к участию в сценическом действии сатиров, спутников Вакха.
17 Критий (460-403 до н. э.) — древнегреческий афинский государственный деятель, оратор и философ времен Пелопоннесской войны (431-404 гг. до н. э.). Он был одним из членов коллегии Тридцати тиранов. Тридцать тиранов (иначе Правление Тридцати) — коллективное прозвище группы проспартанских правителей, правивших в Афинах после окончания Пелопоннесской войны, в период 404-403 до н. э. Тридцать тиранов были фактически олигархическими правителями, поставленными в Афинах Критием и Фераменом под руководством спартанского военачальника Лисандра. Они правили очень жестоко и в течение менее чем одного года казнили около 1500 афинян, включая и самого Ферамена. Однако вскоре их сверг Фрасибул с помощью Фив. Большинство из Тридцати были убиты в течение года после лишения власти. Римские историки также использовали термин тридцать тиранов для обозначения всех императоров, захватывавших власть в отдельных частях империи во время Галлиена.
1064
Комментарии
18 Сатировская драма «Сисиф» была и у Еврипида и у Крития.
19 Виланд Христоф Мартин (1733-1813) — немецкий поэт и писатель Просвещения. Мастер ироничной философской прозы, за что его называли «немецким Вольтером». Его самый известный роман — «История Агатона» (1768). Роман «Агатодемон» (1799) посвящен философу Аполлонию Тианскому (1 год н. э. — 98 год н. э.) — философу-неопифагорейцу.
20 Калиостро Алессандро граф (наст, имя — Джузеппе Бальзамо; 1743- 1795) — известный мистик и авантюрист, называвший себя разными именами. Сен-Жермен граф (ок. 1696-1784) — авантюрист эпохи Просвещения, дипломат, путешественник, алхимик и оккультист. Происхождение графа Сен-Жермена, его настоящее имя и дата рождения неизвестны. Владел многими иностранными языками. Обладал обширными познаниями в области истории и химии. Занимался «улучшением» бриллиантов, алхимическим получением золота. Выполнял дипломатические миссии, пользуясь одно время доверием короля Людовика XV.
21 Волшебная флейта — опера-зингшпиль Моцарта в двух действиях, была впервые поставлена в Вене в 1791 г. Далее упоминаются герои оперы — Царица ночи и Зарастро.
22 «Пост» (фр.).
23 Телесфор (ум. ок. 136) — святой, римский папа (ок. 125 — ок. 136), седьмой преемник Св. Петра, грек по происхождению. Ему приписывают введение некоторых церковных обычаев, доживших до наших дней, например, семинедельный пост перед Пасхой и ночную мессу на Рождество
24 «Дело обучения» (лат.).
25 Плутарх в своих «Сравнительных жизнеописаниях» сопоставляет Ликурга — древнеспартанского законодателя, которому древние писатели единогласно приписывают политическое устройство, господствовавшее в Спарте в течение нескольких веков, и Нуму Помпилия — по легенде, второго царя Древнего Рима, который правил с 715 по 673/672 г. до н. э. Ему приписывается упорядочение календаря, учреждение жреческих и ремесленных коллегий, религиозных культов и празднеств Агоналий.
26 Бутада (фр. boutade) — вспышка, каприз; импровизированный балет; музыкальная фантазия.
27 Монтескье Шарль-Луи деСеконда, баронЛяБрэд (1689-1755) — французский писатель, правовед и философ, автор романа «Персидские письма» (1721), статей из «Энциклопедии, или Толкового словаря наук, искусств и ремесел», труда «О духе законов» (1748), сторонник натуралистического подхода в изучении общества.
28 Книга пророка Исаии — двенадцатая часть Танаха, часть Библии, традиционно связываемая с пророком Исаией (Йешайаху). Состоит из отдельных речей Исаии, сгрупированных не в строго хронологическом, а в систематическом порядке. В современной науке общепризнано деление книги натри раздела, созданных как минимум тремя разными авторами.
29 « По правилу геометрии » (лат.).
Комментарии
1065
30 Патристика (от лат. pater — отец) — философия и теология отцов Церкви, т. е. духовно-религиозных лидеров христианства до VII в. Учения, выработанные отцами Церкви, стали основополагающими для христианского религиозного мировоззрения. Патристика внесла огромный вклад в формирование этики и эстетики позднеантичного и средневекового общества.
31 Перводвигатель — центральное понятие космологии и теологии Аристотеля, о котором он пишет в «Физике» и «Метафизике». Формально учение о перводвигателе представляет собой выделение «движущей причины» применительно к космосу в целом. С помощью понятия перводвигателя Аристотель стремился объяснить целесообразность природы и обосновать вечность мира.
32 Посидоний (139/135 г. до н. э. — 51/50 г. до н. э.) — древнегреческий философ-стоик, историк, географ, астроном. Он считал, что Бог — это огненная мыслящая пневма, простирающаяся по всему сущему; он же — космический логос, взаимосвязь всех космических процессов и «мировая симпатия». Учение о «мировой симпатии» сделало Посидония активным приверженцем астрологии; он считал, что судьба человека определена расположением звезд в момент его рождения.
33 Шенье Андре Мари де (1762-1794) — знаменитый французский поэт, журналист и политический деятель. Его поэма «Гермес», сохранившаяся лишь в отрывках, должна была соответствовать принципам той новой и глубоко своеобразной поэтики, которые он формулировал в «Изобретении». В нем он отказывается от подражания античным авторам; Шенье манят новые формы красоты, новые звуки и новые образы.
34 Ксенофонт (не позже 444 г. до н. э. — не ранее 356 г. до н. э.) — древнегреческий писатель и историк афинского происхождения, полководец и политический деятель, главное сочинение которого — «Анабасис Кира» — высоко ценилось античными риторами и оказало огромное влияние на латинскую прозу.
35 Кинизм — одна из наиболее значительных сократических философских школ. В проведении своей программы кинизм отталкивался от общепринятых взглядов и развивал новые, прямо противоположные существующим, пользуясь методом «негативной филиации идей».
36 Плутарх рассказывает, что Александр Македонский долго ждал, пока сам Диоген придет к нему выразить свое почтение, но философ преспокойно проводил время у себя. Тогда Александр сам решил навестить его. Он нашел Диогена в Крании (в гимнасии неподалеку от Коринфа), когда тот грелся на солнце. Александр подошел к нему и сказал:
— Я — великий царь Александр.
— А я,— ответил Диоген,— собака Диоген.
— И за что тебя зовут собакой?
— Кто бросит кусок — тому виляю, кто не бросит — облаиваю, кто злой человек — кусаю.
— А меня ты боишься? — спросил Александр.
— А что ты такое,— спросил Диоген,— зло или добро?
1066
Комментарии
— Добро,— сказал тот.
— А кто же боится добра?
Наконец, Александр сказал:
— Проси у меня чего хочешь.
— Отойди, ты заслоняешь мне солнце,— сказал Диоген и продолжил греться.
VI
ПАСКАЛЬ В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
А. С. Хомяков
Желание
Впервые: Хомяков А. Н. Сборник «24 стихотворения». М., 1844. Печатается по: Стихотворения и драмы. Л., 1969. С. 72.
И. А. Крылов
Почта духов
Впервые: Крылов И. А. Почта духов, или Ученая, нравственная и критическая переписка арабского философа Маликульмулька с водяными, воздушными и подземными духами. Журнал. 1789. Печатается по: Крылов И. А. Сочинения. В 2 т. Т. 2. М., 1956. С. 187-194. Подстрочные примечания Н. Л. Степанова.
Крылов Иван Андреевич (1769-1844) — русский поэт, баснописец, переводчик, сотрудник Императорской Публичной библиотеки. В молодости Крылов был известен прежде всего как писатель-сатирик, издатель сатирического журнала «Почта духов» и ходившей в списках пародийной трагикомедии «Триумф», высмеивавшей Павла!. Крылов является автором более 200 басен с 1809 по 1843 г., они вышли в свет в девяти частях и переиздавались очень большими по тем временам тиражами. Сюжеты многих басен восходят к произведениям Эзопа и Лафонтена, хотя немало и оригинальных сюжетов. «Почта духов, или Ученая, нравственная и критическая переписка арабского философа Маликульмулькас водяными, воздушными и подземными духами» (в XVIII веке произносилось Почта духов) — литературный сатирический журнал, издаваемый И. А. Крыловым. Выходил в Санкт-Петербурге с января 1789 г. ежемесячно, всего вышло восемь номеров. Последним стал августовский номер, который появился лишь в марте 1790 г. По форме журнал представлял собой собрание писем, посланных Маликульмульку разными духами. Письма были связаны единым фантастическим сюжетом, что дает возможность рассматривать журнал как цельное произведение. Об авторстве и истории создания — см. вступительную статью.
1 Буало Депрео Никола (1636-1711) — французский поэт, критик, теоретик классицизма. В поэме «Поэтическое искусство» сформулировал ряд догм и законов поэзии.
Комментарии
1067
2 Крылов не очень точно переводит мысль № 184 (по Ле Герну) Паскаля.
3 Пустовраль и Любокрас — герои «Почты духов», как и упоминаемый ниже Пустосвят.
Ф. И. Тютчев
Стихотворения
Печатается по: Тютчев Ф. Полное собрание сочинений. Л., 1987. С. 144, 106, 179.
Тютчев Федор Иванович (1803-1873) — русский поэт, дипломат, публицист.
И. С. Тургенев
Отцы и дети <Фрагмент>
Впервые: Тургенев И. С. Отцы и дети // Русский вестник. 1862. № 2. С. 473-663 Печатается по: Тургенев И. С. Полное собрание сочинений и писем: В 30 т. М., 1981. Т. 7. С. 5-188. Подстрочные примечания А. И. Батюто, Е. И. Кийко, А. П. Могилянского, H. Н. Мостовской, Г. Ф. Перминова, Е. И. Покусаева.
Тургенев Иван Сергеевич (1818-1883) — русский писатель, поэт, переводчик.
1 Физиогномика — научно не обоснованное учение, ориентированное на познание типа личности человека, его душевных качеств и относительного психосоматического состояния здоровья, исходя из анализа внешних черт лица и его выражения.
2 Паллиатив — неисчерпывающее, временное решение, полумера. Изначально этим словом называлось лекарство или какое-либо иное средство, дающее временное облегчение больному на уровне устранения отдельных симптомов или улучшения самочувствия, но не содействующее излечению болезни (то есть обеспечивающее симптоматическое, паллиативное лечение).
Поездка в Полесье
Впервые: Тургенев И. С. Поездка в Полесье // Библиотека чтения. 1857. Б. № 10. Отд. 1. С. 219-234. Печатается по: Тургенев И. С. Полное собрание сочинений и писем: В 30 т. М., 1981. Т. 5. С. 130-148.
1 Полесье — историко-культурная и физико-географическая область, расположенная на территории Полесской низменности. Полесье находится на территории четырех государств: Беларуси, Украины, Польши и России. Общая площадь составляет около 130 тыс. км.
1068
Комментарии
2 Ср. у Паскаля: «Меня ужасает вечное безмолвие этих бесконечных про- транств» (пер. Э. Линецкой) («Мысли», № 187 по Ле Герну).
3 Карачевский уезд — административная единица в составе Орловской губернии Российской империи с центром в г. Карачеве, где проводились известные ярмарки.
4 14 ноября (27 ноября по н. с.) чествуют память святого Филиппа, одного из двенадцати апостолов — учеников Иисуса Христа. На Руси после Филиппова дня начинался строгий Рождественский (Филипповский) пост. Заканчивались свадьбы и прочие шумные праздники. Все время полагалось посвящать работе и благочестивым занятиям. Однако вечером Филиппова дня можно было заняться гаданием: девушки оставляли от ужина кусок говядины и клали его себе под подушку, зовя суженого «заговеться». После этого во сне можно было увидеть будущего жениха. С Филипповок начинались «бабьи засидки»: женщины собирались в одной избе, пряли лен и шерсть, при этом пели тихие песни или беседовали.
5 «Стрекоза» (фр. une libellule или une demoiselle — «барышня»).
Довольно
Впервые: Тургенев И. С. Сочинения. 1865. Ч. 5. С. 335-350. Печатается по: Тургенев И. С. Полное собрание сочинений и писем: В 30 т. М., 1981. Т. 7. С.220-231.
1 Ср. у Паскаля: «Взоры человека возведены горе, но его ноги стоят на песке. Земля разверзнется, и человек провалится в бездну, не отрывая глаз от неба» (пер. Э. Линецкой) (№ 264 по Ле Герну).
А. И. Герцен
С того берега
Впервые: Русская мысль 1882. № 12. Печатается по: Герцен А. И. Собрание сочинений: В 30 т. М., 1956. Т. 10. С.107-123.
1 Герцен Александр Александрович (1839-1906) — известный швейцарский физиолог русского происхождения, старший сын выдающегося русского публициста, писателя и философа Александра Ивановича Герцена.
2 Пригород Лондона.
3 Фрёбель Юлиус (1805-1893) — немецкий публицист и политик. Якоби Борис Семенович (Мориц Герман фон Якоби; 1801-1874) — русский физик, академик Петербургской Академии наук. Фальмерайер Якоб-Филипп (1790-1861) — немецкий историк и путешественник.
4 Р. Зольгер, которого Герцен называл своим «самым остроумным противником» (введение к «С того берега»), в статьях, напечатанных в 1850 г. в «Deutsche Monatsschrift für Politik, Wissenschaft, Kunst und Leben» (Статьи эти были напечатаны в журнале в виде передовых, без под¬
Комментарии
1069
писи, но их обычно приписывают Зольгеру, поскольку другие его статьи на эту тему неизвестны, а он был постоянным сотрудником этого журнала (ср. ЛН, т. 61, стр. 363, и Eberhard Wolfgramm. «Alexander Herzen und die «Deutsche Monatsschrift» » в «Zeitschrift für Geschichtswissenschaft», Beiheft 1, Berlin, 1954, S. 101)), пытался отклонить критику Герценом буржуазно-демократических верований и иллюзий под тем предлогом, что «С того берега» отражает «особую точку зрения», субъективно оправданную положением русского эмигранта, его одиночеством, но не могущую иметь значения идейного принципа. Противопоставляя пессимизму Герцена заявление «наше знамя — народ» и называя воззрения «С того берега» «аристократическими» («Deutsche Monatsschrift», 1850, Х-ХП, стр. 329, 330), Зольгер, однако, закрывал глаза на основной вопрос, поставленный этой книгой, на необходимость поисков правильной революционной теории, на несостоятельность миросозерцания буржуазной демократии. (Примечания. «С того берега». Т. 6).
5 Мишле Жюль (1798-1874) — французский историк и публицист, представитель романтической историографии, автор глубоко субъективных трактатов об истории, обществе и природе, написанных ярким, взволнованным языком.
6 Мизософы — люди, не любящие философию.
7 Эоны — (греч. iôv). По учению гностиков, существа, являющаяся олицетворениями мудрости, веры и проч.
8 Цивический — (лат. civis — гражданин) гражданский.
9 Пенн Уильям (1644-1718) — ключевая фигура в ранней истории английских колоний в Америке, Пенн почитается в США как один из отцов- основателей государства и его первой столицы — Филадельфии. Будучи квакером-пацифистом и проповедником веротерпимости, он основал в качестве «убежища для свободомыслящих европейцев» и назвал своим именем колонию Пенсильвания.
10 Лангобарды, ломбарды (нем. Langobarden, букв, «длиннобородые») — германское племя. По легенде, чтобы лангобарды казались более многочисленными и чтобы запугать врага, перед битвой лангобардские женщины завязывали свои волосы под подбородком, становясь похожими на бородатых мужчин. Первоначально жили на левом берегу нижней Эльбы (Барденгау), в V в. проникли в область Дуная, где приняли арианское христианство, в 493 г. разрушили государство герулов, в 526 г. государство гепидов и заняли Паннонию. В 568 г. вторглись оттуда под предводительством Альбоина в Италию, завоевали северную часть страны (нынешнюю Ломбардию) и основали Лангобардское государство со столицей в Павии.
11 Немецкое право, право Германии — правовая система, возникшая среди германских племен и развивавшаяся вплоть до сегодняшнего дня
12 Вико Джамбаттиста (1668-1744) — крупнейший итальянский философ эпохи Просвещения, творец современной философии истории, кроме того заложивший основы культурной антропологии и этнологии.
1070
Комментарии
13 Молох — упоминаемое в Библии имя семитского божества, которому поклонялись евреи во время исхода (Амос. 5: 26) и во времена царя Соломона (3 Цар. 11:7). Поклонение Молоху отличалось принесением детей в жертву через всесожжение. Неправильно понятое слово послужило поводом для сконструирования несуществовавшего у финикийцев бога Молоха, пожирающего человеческие жизни.
14 Клеопатра заключала знаменитое пари со своим возлюбленным — римским полководцем Марком Антонием, который утверждал, что последняя царица Египта, несмотря на баснословные богатство и власть, не сможет потратить 10 миллионов сестерциев за один раз. Тогда Клеопатра приказала слугам принести ей сосуд с уксусом, вынула из уха серьгу с жемчужиной. Поместила жемчужину в сосуд. После того, как уксус быстро растворил ее, Клеопатра выпила содержимое сосуда... » Жемчужину Плиний описывает как «самую большую в истории», «уникальное произведение природы», которое натурально может стоить те самые 10 миллионов сестерциев — предмет спора.
15 Баядера (от фр. bayadere) — индийская танцовщица и певица, перен.: женщина легкого поведения
16 Вакханки — спутницы и почитательницы Вакха, бога вина и веселья.
17 Кортес Фернандо (1485-1547) — испанский конкистадор, завоевавший Мексику и уничтоживший государственность ацтеков.
18 В теории катастроф французского палеонтолога Жоржа Кювье (1769- 1832) катаклизм — переворот, уничтожающий в конце каждого геологического периода все организмы, после которых следует новый «акт творения ».
19 Гиббон Эдуард(1737-1794) — английский историк, автор величайшего исторического труда на английском языке — шеститомной «Истории упадка и разрушения Римской империи» (1776-1788).
Встречи
Впервые: Герцен А. И. Встречи // Русская мысль. 1882. № 12. Печатается по: Герцен А. И. Собрание сочинений: В 30 т. М., 1956. T. 1. Произведения 1829-1841 годов.
Название произведения А. И. Герцена — «Встречи» — отсылает к «Автобиографическим мелочам» Гете, также названным «встречами», опубликованным в 1817 г. В произведении Гете речь идет о двух знаменательных встречах с Шиллером и Наполеоном.
1 Сазонов Николай Иванович (1815-1862) — русский публицист, общественный деятель. В Московском университете Сазонов особенно близко сошелся со студентами — Н. П. Огарёвым, и А. И. Герценом с которыми сблизила его общность идей и единство стремлений. В этом кружке, заслужившем потом громкую известность, Сазонов также пользовался репутацией
Комментарии
1071
человека даровитого, весьма образованного, одаренного умом чрезвычайно оригинальным.
2 В 1793 г. Гете начал писать «революционную драму» «Мятежные», которая так и осталась фрагментом: поэт завершил лишь несколько сцен. Впоследствии Гете включил эту незаконченную пьесу в собрание своих сочинений, дополнив комедию перечнем недостающих сцен и снабдив ее уникальным — для него — подзаголовком: «Политическая драма».
3 Ринальдо — храбрый рыцарь, герой рыцарской поэмы «Освобожденный Иерусалим» Т. Тассо (1544-1595).
4 Имя хозяйки напоминает о героине романа Жермены де Сталь «Коринна, или Италия» (1807).
5 Нодье Шарль (1780-1844) — французский писатель. Отец его в эпоху Великой французской революции был председателем революционного трибунала в Безансоне. Революционные настроения юности сменились впоследствии у Нодье игрой в революционера. В 1802 г. Нодье пишет стихотворный памфлет против Наполеона, однако впоследствии стал его сторонником и получил место в администрации. Наиболее характерен для него жанр фантастической новеллы, возникший под влиянием Гофмана, творчеством которого он восхищался.
6 Предика (лат. ргае — перед, dicere — говорить, проповедовать) — проповедь, увещевание.
7 Намек на события буржуазной революции во Франции 1789-1794 гг.
8 Клооц Анахарсис (наст, имя — Жан Батист; 1755-1794) — философ- просветитель, публицист и политический деятель, участник французской революции.
9 Вероятно, Эберт Фридрих Адольф — немецкий писатель (1791-1834). Его труды: «Die Bildung des Bibliothekars» (1820); «Geschichte der kônigl. Bibliothek zu Dresden» (1822); «Algemeines bibliographisches Lexi-con» (1821-1830); «Zur Handschriftkunde» (1825); «Die Kulturperioden des obersâ chs. Mittelalters» (1825); «Ueberlieferungen zur Geschichte der Vor- und Mitwelt» (1825-26) и др.
10 Манифест герцога Брауншвейгского — обращение к народу революционной Франции командующего объединенной австро-прусской армией Карла Вильгельма Фердинанда, герцога Брауншвейгского (1735-1806) в ходе Войны первой коалиции. Манифест имел последствия прямо противоположные его основным целям: принудить население Франции к повиновению и обеспечить безопасность короля и королевы. Он способствовал радикализации революции и в конечном счете стал поводом к восстанию 10 августа 1792 г. и «сентябрьским убийствам».
11 Питт Уильям (1759-1806) — английский политический деятель. На протяжении в общей сложности почти 20 лет был премьер-министром Великобритании, причем впервые возглавил кабинет в возрасте 24 лет, став самым молодым премьер-министром Великобритании за всю историю страны.
1072
Комментарии
12 Эрнст Антон Карл Людвиг (1784-1844) — герцог Саксен-Кобург- Заальфельдский в 1806-1826 гг. под именем Эрнст III, первый герцог Саксен- Кобург-Готский в 1826-1844 гг. из эрнестинской линии династии Веттинов, военачальник времен наполеоновских войн.
13 Сен-Жюст Луи Антуан (1767-1794) — деятель Великой французской революции, соратник Робеспьера. Главный обвинитель короля и идеолог террора.
14 Морган Сидней, леди (между 1780 и 1786-1859) — ирландская писательница.
15 Комедия Мольера, написанная в 1665 г.
16 Омир — выбор между написаниями Омир и Омер (tæjitæ Гомер — с начальным г, соответствующим густому придыханию), зависящий от признания рейхлиновского или эразмовского произношения, был предметом широкого обсуждения в первые десятилетия XIX в. (см.: Булаховский Л. А. Русский литературный язык первой половины XIX века: Фонетика; Морфология; Ударение; Синтаксис. М., 1954. С. 23-24). В своих печатных произведениях Батюшков употреблял формы Омир и Гомер1, только в 1-й (прозаической) части «Опытов в стихах и прозе» по настоянию редактора, Н. И. Гнедича, был принят вариант Омер. В марте 1817 г. Батюшков писал Гнедичу: «Ты печатал Омер, в прозе, пусть так, но в стихах оставь Омир, не то будет пестрота, а рифма требует up <...>» (Русская старина. 1883. Кн. VII. С. 42).
17 Ла Файет Мари Жозеф Поль Ив Рош Жильбер дю Мотье, маркиз де (1757-1834) — французский политический деятель. Участник трех революций: американской войны за независимость, Великой французской революции и Июльской революции 1830 г.
18 Якобинцы, в период Великой французской революции члены Якобинского клуба, выражавшие интересы революционно-демократической буржуазии, выступавшей в союзе с крестьянством и плебейскими массами, вождями которых были М. Робеспьер, Ж. П. Марат, Ж. Ж. Дантон, Л. А. Сен-Жюст, представляли собой фактически политическую партию; их программой являлись защита завоеваний революции и ее дальнейшее развитие.
19 Лилии, изображенные на флаге Франции, были символом французской монархии.
20 Цитен Ганс Иоахим фон (1699-1786) — знаменитый прусский генерал.
21 Блюхер Гебхард Леберехтп (1742-1819) — прусский генерал-фельдмаршал.
22 «Учение о цвете» Гете вышло в 1810 г.
23 Ранние произведения Гете: драма «Гёцфон Берлихинген» (1773)и эпистолярный роман «Страдания юного Вертера» (1774)
24 Герой драмы Гете Гёц, прототипом которого был знаменитый рыцарь конца XV и начала XVI в., потерял на войне правую руку, которую заменил железной.
Комментарии
1073
25 Менцель Вольфганг (1798-1873) — немецкий писатель и критик. В своей «Немецкой литературе» (1827, 2 т.) нападал на Гете за его «безнравственность».
26 Винкельман Иоганн Иоахим (1717-1768) — немецкий искусствовед, основоположник современных представлений об античном искусстве и науки археологии.
27 Гофман Эрнст Теодор Амадей (1776-1822) — немецкий писатель, яркий представитель романтического направления, прославившийся своими фантастическим новеллами и сказками.
28 Гюго Виктор Мари (1802-1885) — французский писатель, глава и теоретик французского романтизма.
29 Карбонарий (от лат. carbonaro, букв, угольщик) — член тайной революционной организации, существовавшей в Италии в первой половине XIX в. и во Франции в 20-30-х гг. XIX в. В России в XIX в. карбонарий ассоциировался с мятежником, вольнодумцем, заговорщиком.
30 Вандейцы — жители франц, провинции Вандеи, восставшие против нового республиканского правительствав 1793 г.
31 Мальзерб Кретьен (1721-1794) — французский государственный деятель.
32 Державин Гавриил Романович (1743-1816) — знаменитый русский поэт, представитель классицизма, прославлявший в своих одах Екатерину II.
33 Лафатер Каспар (1741-1801) — швейцарский писатель, богослов, психолог, основатель физиогномики — учения, согласно которому черты лица человека определяет качества его характера, основные положения которой были изложены в труде «Физиогномика» (1772-1778).
34 Саади Ширази Абу Мухаммад Муслих ад-Дин ибн Абд Аллах (ок. 1181-1291) — персидский поэт-моралист. Низами ГянджевиАбу Мухаммед Ильяс ибн Юсуф (ок. 1141 — ок. 1209) — крупнейший персидский поэт. Цикл Гете «Западно-восточный диван» навеян персидской поэзией.
35 Даннекер Иоганн-Генрих (1758-1841) — немецкий скульптор, ученик Кановы, профессор в Штуттгарте. Автор бюста Шиллера в Веймаре.
36 Сталь Анна-Луиза Жермена де (1766-1817) — знаменитая французская писательница, автор романа «Коринна, или Италия» (1809), теоретических трудов о новой романтической литературе «О Германии» (1810) и «О литературе» (1796-99). Познакомилась с Гете во время своего путешествия в Германию в 1802 г.
37 Лейпцигское сражение («битва народов») — генеральное сражение под Лейпцигом между союзными русскими, прусскими, австрийскими и шведскими войсками с наполеоновской армией 4-7 октября 1813 г.
38 Лоу Хадсон Сэр (1769-1844) — англо-ирландский солдат и колониальный администратор, губернатор острова Святой Елены во время заключения Наполеона Бонапарта.
39 Программное стихотворение Шиллера «Боги Греции» (1788) известно в переводе М. Лозинского:
1074
Комментарии
Где ты, светлый мир? Вернись, воскресни, Дня земного ласковый расцвет!
Только в небывалом царстве песни Жив еще твой баснословный след.
Вымерли печальные равнины, Божество не явится очам;
Ах, от знойно-жизненной картины Только тень осталась нам.
40 Ламарк Максимилиан (1770-1832) — французский генерал. В последние годы Империи был начальником дивизии и сражался в Испании, во время Ста дней командовал войсками в Вандее; после второй Реставрации бежал в Бельгию и только в 1818 г. получил разрешение вернуться во Францию.
41 Тассо Торквато (1544-1595) — один из крупнейших итальянских поэтов XVI в., автор знаменитой поэмы «Освобожденный Иерусалим» (1575). Ариосто Лудовико (1474-1533) — итальянский поэт и драматург эпохи Возрождения, автор знаменитой поэмы «Неистовый Орландо» (1507-1532).
42 О d’ogni vizio fetida sentina, | dormi, Italia imbriaca, e non tipesa | ch’ora di questa gente, ora di quella | che già serva ti fu, sei fatta ancella? (Ludovico Ariosto). Стих из «Неистового Орландо», песнь XVII.
Л. Н.Толстой
Отрочество <Фрагмент>
Впервые: Толстой Л. Н. Отрочество // Современник. 1854. № 10. Печатается по: Толстой Л. Н. Собрание сочинений: В 14 т. М., 1952. Т. 1.
1 Татищев Василий Никитич (1686-1750) — известный российский историк, географ, экономист и государственный деятель; автор первого капитального труда по русской истории — «Истории Российской», основатель Ставрополя (ныне Тольятти), Екатеринбурга и Перми. Незавершенный (до слова «Ключник») «Лексикон российской исторической, географической, политической и гражданской» (1744-1746 гг.) охватывает широкий спектр понятий: географические названия, военное дело и флот, административноуправленческая система, религиозные вопросы и церковь, наука и образование, народы России, законодательство и суд, классы и сословия, торговля и средства производства, промышленность, строительное дело и архитектура, деньги и денежное обращение. Впервые опубликован в 1793 г.
2 Ср. железный пояс Паскаля с шипами.
3 Гиль — чушь, чепуха, вздор, бессмыслица (Словарь В. Даля).
4 Ср. страх пустоты у Паскаля и попытки защититься от нее стулом.
Комментарии
1075
Записки сумасшедшего
Впервые: Толстой Л. Н. Посмертные художественные произведения. М., 1912. Печатается по: Толстой Л. Н. Собрание сочинений: В 14 т. М., 1952. Т. 10. С.323-333.
1 Арзамас — город в России, в Нижегородской области.
Ф. М. Достоевский
Бесы
<Фрагмент>
Впервые: Русский вестник. 1871. № 1, 2, 4, 7, 9-11; 1872. № 11, 12. Печатается по: Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений: В 30 т. Л., 1980. Т. 10. С. 166-203.
VII «МЫСЛЯЩИЙ ТРОСТНИК» В РУССКОЙ поэзии
Ф. Тютчев
Певучесть есть в морских волнах...
Печатается по: Тютчев Ф. Полное собрание сочинений. Л., 1987.
С. 176.
1 Децим Магн Авсоний (ок. 310 — ок. 394) — древнеримский поэт и ритор. Строка из письма Авсония к другу Паулину.
О. Мандельштам
Из омута злого и вязкого...
Впервые: Апполон. 1911. № 5. С. 33. Печатается по: Мандельштам О. Э.
Собрание сочинений: В 4 т. T. 1. Стихи и проза. М., 1993. С. 59.
Мандельштам Осип Эмильевич (1891-1938) — русский поэт, прозаик, эссеист, переводчик и литературный критик.
М. Цветаева
Поэма лестницы
Печатается по: Цветаева М. Сочинения: В 2 т., М., 1984. Подстрочные комментарии Анны Саакянц.
Цветаева Марина Ивановна (1892-1941) — русская поэтесса, прозаик, переводчик.
1076
Комментарии
А. Ахматова
Тростник
(Шестая книга стихотворений 1923-1940)
Печатается по: Ахматова А. А. Собрание сочинений: В 6 т. Т. 1. М., 2001.
Ахматова Анна Андреевна (наст, фамилия — Горенко; 1889-1966) — поэт, писатель, литературовед, литературный критик, переводчик.
И. Северянин
Тютчев (из книги «Медальоны»)
Впервые: Игорь-Северянин. Медальоны. Белград, 1934. Печатается по: Северянин И. Стихотворения. Л., 1978. (Библиотека поэта).
Игорь Северянин (наст, имя — Игорь Васильевич Лотарёв; 1887-1941) — русский поэт «Серебряного века».
В книгу «Медальоны» (Белград, 1934) вошло 100 сонетов о поэтах, писателях и композиторах, большая часть из которых написана в Тойла (1925-1927).
П. В. Дашкова
Произнесемте: мыслящий тростник
Печатается по: Дашкова П. В. Качели (сборник). М., 2003.
Дашкова Полина (наст, имя — Татьяна Викторовна Поляченко; р. 1960) — российская писательница. Дебютировала как поэт. Печаталась в журналах «Сельскаямолодежь», «Юность», «Истоки»,альманахе «Молодыеголоса». Широкую известность приобрела как автор детективов.
X. Ольшванг
Шесть стихотворений о мыслящем тростнике
Печатается по: Ольшванг X. Тростник: Книга стихотворений. СПб., 2003.
Ольшванг Хельга (1969) — сценарист, драматург, поэт, переводчик, автор сценариев к документальным, мультипликационным и художественным фильмам, театральных пьес, режиссер-постановщик полнометражных фильмов «Вдали от Венеции» (док.) и «Дневник Орфея» (англ. «Objects in mirror are closer than they appear»). Стихи и стихотворные переводы выходили в журналах «Альманах», «Знамя», «Арион», «Interpoezia», «Новая Юность», книжной серии издательства «Арс-Интерпрес» в Нью Йорке. Автор трех
Комментарии
1077
сборников стихов: «Девяносто шестая книга» (изд-во «Композитор», 1996), «Тростник», 2003 и «Стихотворения», 2004 (Изд-во Пушкинского фонда). С 1996 г. живет в Нью Йорке.
И. Губерман
Паскаль бы многое постиг..
Печатается по: Губерман И. Гарики на каждый день: В 2 т. T. 1.
М.,1992.
Губерман Игорь Миронович (р. 1936) — российский писатель, поэт, получивший широкую известность благодаря своим афористичным и сатирическим четверостишиям, «гарикам».
В. Халтома
Человек — тростинка малая...
Впервые: Халтома В. Импровизация на тему: «Французские моралисты». М., 2010. Печатается по этому изданию. В книги известные афоризмы французских писателей XVII-XVin в. переложены в четверостишия.
Вадим Халтома перепробовал много профессий (слесарь, электромонтажник, столяр, электрик и др.), считает себя любителем-стихотворцем и просит не называть себя поэтом.
УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН
Абеляр П. 93, 982
Абер И., еп. 977
Август О. 1041,1042
Август Г. Ю. Ц. 1042
Августин бл. (Аврелий) А. 6, 39, 42,71,89,90, 151, 197-200, 209,239,240, 252, 289-292, 309,319,339, 346, 370, 640, 684,686,688-689, 723, 724, 737,738,740-742, 745, 746, 748,788,789,973-976, 993, 994,1003
Аверинцев С. С. 43, 763, 772, 774, 1061
Аврелий Марк Антонин 157, 158, 739,742,743,748, 777, 778, 796,797,823,824, 1059
АвэЭ.77, 78, 129
Агнесса мать 312, 321, 329, 330
Азадовский М. К. 95, 823
Аксаков И. С. 485,
Александр (Македонский) 777, 784,863,864,1044,1065-1067
Александр I 6, 967, 1022,1023
Александр II6,484,485,491,492, 977,1020
Александр VII, папа римский 19, 213, 977, 999
Александр Афродисийский 991
Александр,еп. 1036,1038
Александров А. А. 516
Альба- Лонг 1020
Альба Ф. А. де Т. 479, 501, 1027
Альберт Великий 974
Альбоин 1069
Амвросий Оптинский 145
Анакреонт (Анакреон) 432,1017
Андийи Р. А. де 205
Андреев Д. 6, 154, 599
Андреев Ф. 599
Анжелика 205, 329, 330, 340, 346, 995, 996
Анна Австрийская 345, 997,1005
Анна Иоанновна 485
АннаФ. 19, 210, 214, 347,1005
Анненков П. В. 110,123,129, 475,
800
Антонины 1059
Аполлоний Пергский 972
Аполлоний Тианский 769,1064
Аракчеев А. А. 487,1022
Ардуэн де Бомон де Перефикс Поль
1007
Аржанс де 23, 24
Арий 559,1036,1038
Ариосто Л. 880,1074
Указатель имен
1079
Аристотель 154, 192, 202, 252, 255, 258,310,374,699, 713, 723, 729,738-740, 750, 758, 764- 766,774,775, 784-787, 856, 970, 975, 993,1002-1003,1009, 1055,1060,1065
Аристофан 767, 773, 830, 1061, 1063
Арминий 524,1029
Арно Антуан де младший 9, 18, 20, 209-212, 218, 332, 335, 344,346, 348, 722-723,725, 734, 735, 977, 978, 979, 983, 994, 995, 999,1008
Арно Анжелика 292, 294-297, 299, 300,973, 976, 995, 998
Арно Ж. М. А. 994
Арнольд 241,242
Арнольды 252
Архимед 20, 237, 307, 326, 350, 388,971
Аттали Ж. 1001
Аутртик У. 196
Афанасий Александрийский, св. 551,556,588,1034,1036
Ахматова А. А. 48, 952, 1076
Баадер Ф. К. фон 657, 1045
Базар С.-А. 83
Байрон Д. Г. 108, 255, 479, 513, 514,898
Бальзак О. де 60, 80, 104, 214, 508, 907,979, 999,1028
Бальмонт К. 79, 325, 1030
Бальяни Дж. Б. 202
Барбер 73
Баро Ж. В. Де 315, 316, 999
Барроу И. 990
Батюто А. И. 105, 106, 107, 122, 126,475,797, 823
Батюшков К. Н. 40, 41, 431, 433, 602,606,609, 614, 807, 1016, 1040,1041,1072
Бах И. С.679,687,1050
Бегон А. 191, 267
Безобразов Н. А. 484, 492
Безобразов А. М. 1024
Бейль П. 53, 72-74, 77, 763,1006
БёккР.М. 146, 147
Белинский В. Г. 14, 23, 96,395, 509,510,512,516,1014
Белый А. 6,1030,1051
Беме Я. 147, 666, 670, 698,1047, 1053
Бенедикт Нурсийский (св.
Бенедикт, св. Венедикт), 293, 294,996
Беранже П. Ж. де 37, 490, 854, 1024
Бергсон А. 88, 89, 997
Бердяев Н. А. 5, 42, 150, 664, 765, 1011,1045-1048,1051,1052
Бернард Клервоский (св. Бернард) 313,328,382,358,789, 999
Бернардоне Д. ди П. 295, 996
Берне Л. 77
Бернулли Я. 987
Бертран Ж. 81, 82
Берье П. 992,1006
Бетховен Л. ван 679, 687, 695, 831,
1050
Бехер И. 118
Бирон Э. И. 1023
Бирюков П. И. 38, 114
Блан Л. 78
БлокА. 6, 98, 1030,1051
Блуа Л. 698, 1052
Блюхер Г. Л. 873, 1072
Бобрищев-Пушкин П. С. 13, 14, 95
Богуславский Б. М. 73
Бодлер Ш. 10, 79
Борисов И. П.478,1019
БоссюШ. 15,969, 980
Боссюэ (Боссюэт) Ж. Б. 93, 243, 590,979
1080
Указатель имен
Бруншвиг (Брюншвиг, Брюнсвик) Л.11,12,81,85,88,387,997
Брюсов В. Я. 101,102,1030
Буало, аббат 324, 732
Буало-ДепреоН. 53, 75,1001,1001, 1003,1005,1066
Бугарель 479
Будда 157, 533, 705, 994
Булгаков В. Ф. 117,156, 157
Булгаков С. Н. 6,117,1051,1057
Булье 61
Бунин И. А.6, 432
Бунина А. П. 432
Бурбон-Конде А.-Ж. 984
Бурбон Людовик XIV де 984
Бурбон-Конде Людовик II де 999
Бурбоны 37,489, 493, 495, 496, 498, 1025,
Бурдело П. М. 315, 319, 331, 999
Бурден 162
Бутовский И. Г. 8, 9, 13-15, 17, 22, 46,95,96,110, 111, 235, 395, 968, 969, 972, 974, 978, 980-981, 983, 993-994,1014,1041
Бутру81,85,87-89, 387
Бутру Э. Э. М. 80, 81, 87-89, 996
Бэкон Р. 623
Бэкон Ф.80,190,263,264,519, 623,744,764,988
Бюссон А. 73
Бюффон Ж.-Л. Л. де 987
Вале Ж. Баро де 999
Валент II1034
Валери П. 42, 387, 1012
Валленштейн (Вальдштейн) А.
(Войтех Вацлав) фон 256, 986
Валлер Г. А. 223
Валлес Ж. 85
Валлис (Уоллис Д.) 260, 990
Валькенаэр Ш.-А. 224
Ватель 487, 1023
Вельяшев-Волынцов И. 94
Вендрок (Гийом де; Вильгельм)
213,277
Венсан П. де, св. 994
Виардо П. 105, 108, 123, 127-129, 474, 479, 480, 797, 827, 830- 832,1018,1020
Вивиани В. 202, 203, 970
Виельгорский А. М. 435
Виет Ф. 972
Вико Д. 97, 481,858, 859,1021,1069 Виктор Эммануил II 496, 497, 1025, 1026
ВиландХ.М. 769,1064
Вильгельм III 984
Вильмен Ф. 77
Вина А. 87
Винкельман И. И. 876,1073
Винсент из Бове 1062
Винсент П. де, св. 296, 297, 299, 346,1005
Винэ 77
Виргилий,св. (Виргилий Зальцбургский) 261, 592, 344, 1004
Владимир,князь 681
ВовенаргЛ. К.57
Вольтер 11, 20, 54-61, 63, 65, 67-73, 75, 76, 78, 79, 83, 99, 112, 135, 162, 214, 220, 243, 249, 253, 255, 259, 261, 323, 324, 340, 352, 353, 486, 493, 505, 607, 763, 765, 768, 769, 771, 778, 876, 877, 979, 982, 984, 987,1005,1064
Вольтер (Аруэ Ф.-М.) 979
Волфий 91
Вревская Ю. П. 830
Вышеславцев Б. П. 21, 22, 43, 130, 131,147,148,149,150,151, 152,153,154,384,697,1011, 1014,1052
Вяземский П. А. 449
Указатель имен
1081
Газье О. 73
Гакстгаузен А. 84
Галилей Г. 20, 190, 192,202, 203, 216, 236, 263, 310, 344,969, 970
Галлифет Ж. де 1054
Гантер Э. 196
Гарвей У. 263
Гардуэн (Ардуэн Б. П. П.) 72
Гарибальди Д. 493, 495, 496,1025, 1026
Гарибальди дон 498
Гарлей Р. 252, 984
Гарнак Т. 387,1013
ГартманН. 384, 387,704,1011
Гассенди П. 307, 997
Гегель Г. В. Ф. 42, 104, 133, 486, 490,503-505,598,632, 719, 720, 728, 740, 742, 748, 755, 756, 765,982, 983,1024
Гельвеций К. А. 68, 75, 609, 987,1041
Гельмгольц Г. Л. Ф. фон 262, 966, 990
Гераклит Эфесский 365, 377, 378, 764,1007,1009,1061,1062
Герберт Э. 259, 988
ГервегГ. 476,835, 1019
Герман В. 387, 1013
Герцен А. И. 22, 23, 35-37, 97, 98, 170, 180, 481-483,485, 488- 489,491 495,497,498, 500,503, 835-837,839,840, 842-844, 846,847,851,854, 857-859, 862-863, 865-868, 872, 877, 880,982,1020,10211024,1025, 1027,1068,1069,1070,1072
Герцен Н. А. 500
Гершель Д. 80
Гете И. В. фон 35, 84, 297, 352, 353, 364,486,509,634, 637,639, 689,717,823, 831, 847, 859, 861,866,867, 870, 872, 874,
875-880,968,996, 1028, 1056, 1070-1073,1075
Гёффдинг X. 387,1013
Гиббон Э. 864,1070
ГизоФ. П. Г. 566, 593, 595, 1037
Гиппий Элейский 763, 777,1061
Гиппиус 3. Н. 6,1030
Гиппократ 328
Глаголев С. 41,663, 640, 1044
Гнедич Н. И.431,1016,1072
Гоббс Т. 75, 149, 190, 259, 988, 1017,1040
Гоголь Н. В. 6, 21, 22, 38, 39, 42,114,159,160,281,282, 286,434,435,437-439,441, 442,444,445,447,449,450- 453,454,457,460,463,464, 470-472,1017
Гоголь А. В. 437
Гольбах П. 72, 73, 75, 149, 987
Гольцев В. А. 111
Гомбо А. шевалье де Мере 26, 204, 1000
Гонеггер Дж.-Дж. 98
Гонорий 11037
Гонорий III 975
Гораций 611, 612, 748,1020,1042, 1059
Горький М. (А. М.) 6, 119, 222, 634, 836,967
Гофман Э. Т. А. 508, 510, 829, 876, 1028,1071,1073
Грессе Ж.-Б.-Л. 432,1017
Гиббс Дж. В. 966
Грибоедов А. С. 1017
Григорий Нисский 457
Григорий Чудотворец, св. 569,1037
Григорьев А. 451,1022
Гроций Г. 91, 987
Гумилев Н. 6
ГусЯ. 553, 554,1035
Гусев М. 529
1082
Указатель имен
Гусев H. Н. 116, 533
Гуссерль Э. 90
Гуфье А. 973
Гюго В. М. 78, 82, 251, 474, 509, 515, 991,1028,1073
Гюйгенс X. 3. ван 192, 205, 217, 257, 986, 996,1004
Даламбер Ж. Л. (Д’Аламбер Ж. Л.) 60, 65-68, 70, 343, 763-765, 767, 769, 770, 987,1004,1050,1063
Даннекер И.Т. 877,1073
Данте А. 303, 365, 380,481,772, 776,997,1010,1022
Дантон Ж. Ж. 489, 1024,1072
Дарвин Ч. 80
ДезаргЖ. 44, 45, 191, 194
ДекартР. 69, 72, 87, 104, 118, 133, 136,154,190, 192-194, 200- 203,220,237, 256, 258, 259, 261-263,268, 270, 271, 282, 291,296,307, 310, 311,317, 370,371, 374, 384, 392, 431, 519,629,630,632,719,720, 721, 726, 728, 729, 742,743, 749, 750, 752-754, 759,762, 764, 774, 783, 970, 971, 983, 989-991,994,996, 999,1001, 1006,1016,1059
Делакруа В. Э. Д. Э. 78, 79
Деланд 197
Делейр А. 65
Демокрит 149,787, 1062
Державин Г. Р. 432, 617, 866, 877, 1016,1017,1073,1074
Джеймс Д. 1012
Джеймс Т. 990
Джеймс У. 1050
Джинс Дж. 385, 1012
Дидо 162
Дидро Д. 53, 57, 58, 60-65, 71, 72, 87, 99,149, 505, 763, 764, 766,
767, 769, 770, 777, 866, 876, 981, 987,1063
Дионисий Ареопагит 706, 710, 1054 Дионисий Галикарнасский 763,1061 Дионисий Фракиец 774 Добролюбов Н. А. 84, 96, 97, 800 Дойсен П. 1053
Дом П. дю 13
Дома Ж. 348, 383,1005,1010
Доминик, св. 334, 975,1002 Достоевский Ф. М. 21, 23-33, 35, 41,102-105,108,126,143,144, 148,160,168-171,181,183,184, 297,342,387,389, 390, 506-515, 649, 664, 665, 668, 669, 670, 688, 694, 713, 717, 893, 967,1020, 1028,1035,1044,1075
Достоевский М. А. 506
Достоевский M. М. 506-508, 511, 513,515,1028
Дроз 81
Дюбон П. 73
Дювержье де Оранн 199, 200, 205, 213, 240, 252, 289, 291, 292, 296- 300,309, 347,975,982,983,993
Дюшен Ж. 502, 1027
ЕврипидД. В. 767,768,1063,1064 Елевзис376,1008,1009
Жирарден Э. де 502, 503,1028
Жирмунский В. М. 634
Жиро В. 81
Жорж Санд (ДюпенА.А.Л.)476, 1019
Жуковский В. А. 40, 94, 448, 449, 471, 509, 513,605, 606, 634, 636,637,1018,1041,1043
Зеньковский В. В. 131 ЗоляЭ. 79, 80, 85, 118 Зороастр 118, 157
Указатель имен
1083
Ильин И. А. 154
Иннокентий III1034
Иннокентий, митрополит (Попов- Вениаминов И. Е.) 1037
Иннокентиях, папа римский 209, 213, 976,977
Иоанн VI 551
Иоанн,ап. 150, 200, 208, 326, 340, 341,349,463, 585, 634, 635, 713,715,1014,1053
Иоанн Богослов 453, 585, 631, 1010,1052
Иоанн Дамаскин 773,1037
Иоанн Златоуст, св. 441, 561, 1037, 1039
Иоанн Креститель 43, 631, 340, 1010
Иоанн Лейденский 559,1036
Иоанн Синайский, св. 471
Иоанн Безземельный 485
Иоахим Флорский (Джоаккино да Фьоре) 378, 1010
Иоахим Ц. Г. фон 1072
Ираклий I 551, 1034,1037
Кавеньяк (Каваньяк) Л. Э. 1027
Калиостро А. (Бальзамо Д.) 769, 1064
Кальвин Ж. 73, 198, 199, 209, 239, 289,290-292, 297-299, 325, 326,335,339-341, 345, 382, 383, 553, 558, 568, 974, 993, 1002,1011
Кампанелла Т. 374, 1007
Канкрин Е. Ф. (Георг Людвиг) 487, 1023
КантИ. 6, 104, 105, 112, 135, 157, 158,161,290, 291, 374, 385, 386,387,445, 532, 585, 621, 630-632, 732, 742, 765, 771, 983,994,1031
Кантемир А. Д. 607,1041
Карамзин H. М. 6, 92, 93, 840,1016
Карпентер В. Л. 529, 1030
Катенин П. А. 49,1017
Катков M. Н.483,484, 491, 492, 1024,1035
Катулл Г. В. 611, 612,1042
Квинтилиан М.Ф. 615, 763,1061
Квинтилий В. 1029
Кеплер И. 255,986,1016
Кетчер H. X. 481,867, 1021,1042
Кине Э. 84, 88
Киреевский И. В. 131, 168, 250, 251,437,952, 967
Клейнмихель П. А. 487,1023
Климент I, папа римский 1046
Климент VII, папа римский 207, 327, 660,996,1054
Клооц Анахарсис (Жан Батист) 867, 869, 870,1071
Ковалевская С. В. 96
Комбаледе М.-М. В. де 997
Кондорсе Ж. А. 54, 56, 67-72, 76, 81,142,162,249, 658, 969, 982, 1005,1046
Кондорсе М. Ж. А. Н. К. де 1045
Консидеран В. 504,1028
Констант 1034
Константин Великий 551, 1034, 1038
Константин Николаевич, вел. князь 492
Константин Павлович, цесаревич и вел. князь 488,1023
Констанций II (Флавий Юлий Констанций)551, 564,1034
Конфуций 113, 157, 158
Кортес Фернандо 1070
Кристина, королева Швеции 1001
Критий 768,1063,1064
Критские,братья 489
Кришна 157
Кромвель О. 73, 257, 986
1084
Указатель имен
Крылов И. А. 23, 24, 93, 433, 782, 1016,1017,1066,1067
Ксенофонт 777,1065
Кузанский Н. (Кребс) 685, 716, 1056
Кузен В. 15, 77, 81, 86-89,250, 982-984,1001
Кьеркегор С. (Киркегард, Керкегор) 41, 89, 90, 389, 1013, 1057
Ла Бутельер 197
ЛаФайетМ. Ж. 872,1073
Лабрюйер Ж. де 15, 16, 97, 119, 222,224-226,228,507,606, 609
Лаланд А. 387,1012
Ламарк М.879,1074
Ламенне Ф. Р.77,501, 618, 619, 627,1027
Ламетри Ж. О. 54, 61, 65, 74, 75
Ланжевен П. 120
Лансло К. (Лансело) 205, 252, 995, 978, 983
Лансон Г. 55
Лао-цзы 157
Ларошфуко Ф. 15, 97, 227, 602, 603, 609,983,994, 996, 999
Лафарг П. 85
Лафатер К. 877,1073
Лафонтен Ж. де 45, 97, 854,1003,
1066
ЛафюмаЛ. 12, 16
Ле Пайер Ж. 303, 992, 997
Лебедев 120
Ледрю-Роллен А. О. 502, 1027
Лекок П. 61
Лелю 81
Леметр (Леместр А.) 205, 252, 982, 983
Леметр Ж. 80
Леметр Л.-И. 983
Лемуан П. 475,1019
Лермонтов М. Ю. 6, 122
ЛеруП. 504, 1028
Лесков Н. А. 185
Лефеврд’Этапль Ж. 326, 1002
Лианкур де (Плесси) 209, 211, 295, 332,978, 996
Либерий, папа римский 551, 564, 577,582,588,1034
Лигуори А. 766,1062
Локк Д. 255, 256, 259, 260, 264, 433,986, 989, 990
Ломоносов М. В. 13, 91, 94
Лонгвиль де (Бурбон-Конде А.-Ж.) 984
Лоранси П. С. 545, 547, 548,552, 553,576,580,599,1032
Лоу Хадсон 1075
ЛуандрШ. 15, 162
Луи-Филипп I (Людвиг Филипп) 88, 983,1027,1024
Лукреций Тит Кар 739, 767, 776, 1059
Любимов Н. А. 83, 262, 263, 483, 491,990, 991
Людовик II (Бурбон-Конде де) 999, 1005
Людовик IX, св. 10, 874
Людовик VII 977
Людовик XIII 304,1004,1007
Людовик XIV (де Бурбон, Великий) 210,217,253,256,257,290, 606, 876, 973,978, 984, 985, 987, 996,999,1001,1004,1005,1006, 1007,1023
Людовик XV 1064
Людовик Монтальт 241, 345
Люинь де 328, 983,1007
Люиньд’Альбер Ш. 1007
Люинь Л.-Ш. 1002
Лютер М. 198, 239, 252, 289, 290, 291,297, 298,299,340,341, 345,382,383,524,525,553,
Указатель имен
1085
558, 568, 724, 732, 745, 746, 747-749, 757, 974, 993,1059
Лябрусс Э. 73
Магомет 157
Мадзини Дж. 1026
Мазарини Дж. 65, 241, 256, 345, 976,977, 980,1002,1004
Макарий Великий (Макарий Египетский) 711, 1055
Маковицкий Д. П.156,157, 159
Максвелл Дж. К. 120
Малерб (Мальзерб К.) 876, 606, 983,1073
Мальбранш Н. 990
Мандт M. М. 489,1024
Манеса (Мани) 290, 994
Марат Ж. П. 1003,1072
Маргарита Мария Алакок, св. 1055
Маркс К. 53, 61,170,175, 503
Марсильяк, принц (Ларошфуко) 984
Мартини Р. 375, 1008
Матфей, ап. 208, 360, 376, 457, 995,1052
Матье Ф. 86
Маццини (Мадзини Д.) 494, 498, 836, 1024,1026
Мел(ь)хиседек (Малкицедэк) 580, 1038
Мелье Ж. 54, 59
Ментце157
Менцель В.866, 875, 1073
Мере де 204, 973
Мерсен (Мерсенн) М. 94, 192-194, 196, 200, 202, 203, 270,992, 997
Мерэде 316, 317, 318, 338, 357
Местр Ж.-М. де 88, 476, 554, 567,576, 580, 585, 588, 592, 778,1019,1035
Местр К. де 476,1019
Меценат Гай Цильний 611, 612,1042
Мидорж К. 191
Милле 170
Миллер О. 991
Мильтон Д. 256, 259, 432, 618, 991,986
Минь Ж. П. 1055
Мирабо О. Г. Р. де 489, 1024
Митон Д. 317, 318, 333, 338, 973, 1001
Михаил VIII Палеолог 551,1033
Михаил Кируларий, патр. 561
Михаил Павлович, вел. князь 488, 617,1023
Мишле Ж. 58, 84, 838, 839, 867, 1069
Мишо Ж. Ф. 95, 968
Молина Л. де 199, 201, 239, 974, 1062
Мольер (Поклеен Ж. Б.) 13, 193, 212,243,253,315,359,364, 979, 985,1000,1003,1005,1006, 1072
Монтальт Л. де 19, 213, 241, 332, 333,334,335,336, 337, 343, 345, 475
Монтальт Луи 1004
Монтень М. де 14, 20, 41, 73, 95, 97,99,112,119,212,295,326, 330,350,355,364,375,505, 605,610,611,642,650,761, 766,992,1006,1008,1041
Монтескье Ш.-Л. С. де 72, 771,991, 1064
Мопассан Ги де 119
Морган С. 870,1072
Мориак Ф. 118
МоруаА. 118
Мопертюи П. Л. де 59
МороТ. де 82,1059
Моцарт В. А. 144, 679, 769,1050, 1064
Мурчисон Р. И. 487, 492,1022
1086
Указатель имен
Мэн Б. де 86
Мюрат И. 495, 499, 1025
НеандерА. 590, 592,1039
Непир Дж. 196
Нессельроде К. Р. фон 487, 1023
Несторий 559, 594,1036,1037
Низами Г. А. М. И. Ю. ибн 877, 1073
Низар Ж. M. Н. Д. 515,1029
Николай I Великий, св. 554, 563, 578,590,1035,1037
Николь П. (Николе, Гийом В. де) 8, 17, 64, 91, 205, 212, 213, 217, 218, 241, 252, 277, 297,298,348, 361, 363, 369, 592,722,723,734, 735, 976, 978, 983,1004,1007
Николя М. 990
Ницше Ф. В. 6, 41, 144, 668, 690, 731, 732, 733, 734, 745, 747, 750,1053,1058
Новиков Н. И. 39, 40, 91-93, 221- 224,227,228,230,968, 982, 1031,1032
Нодье К. 869
НодьеШ. 1071
Нолле А. 94
Ньюмен Дж. Г. 580, 589, 1039
Ньютон И. 67, 237, 243, 256, 257, 259,260,261,263, 277, 431, 973, 980, 987, 988, 989, 990
Огарёв Н. П. 482, 483,493,867, 1021,1070
Огарева Н. А. 483
Оккам У. 1035
Октавиан А. 1041
Орлов М. Ф. 868
Орлов А. И. 15, 111
Орлов А. А. 515, 516
Орлов-Давыдов В. П. 484, 491, 492, 1024
Отто Р. 1051
Офросимов М. А. 483, 491, 1024
Павел, ап. 46, 102, 150,151,291, 323, 479, 707, 708,713,715, 716, 745, 749, 751, 981, 993, 1020
Павел 11032
Павленков Ф. 99
Палатинская принцесса (Пфальцская Е. Ш.) 315, 999
Палеологи 551
Палеолог М. 551
Палеолог И. 551
ПанинН. И. 486,1022
Парменид 764, 987,1062
Паскаль Эт.191,193-195,201, 206 271,301-303, 306, 307 309,312,361
Паскаль Ж. 206, 218, 247, 271,320, 325,348,354,366
Пастер Л. 118
Пелагий 198,199,290, 291, 296, 724,738,740,746,749, 974, 993
ПеннУ. 1069
Перикл 257, 258, 259, 987,1063
Перье Ж. 68, 302, 308, 309, 312, 320,343, 352,353,357-359, 381,981
Перье Ф. 195, 203, 219, 310, 335, 348,353,970 972
Перье М. 10, 20, 68, 119, 215, 246, 247,314, 315,321,338,339, 342,348,973,981,992
Перье Э. 11,20, 274,321,361,366, 381,980,1007
Перье Л. 69, 336
Первое П. Д. 15, 46, 99, 265, 796, 986, 991
Перефикс (Бомон) А. де 999,1007
Перефикс Г.де 364,381
Перро Ш. 53,54
Указатель имен
1087
Пётр III 490, 1024
Пико делла Мирандола 99
Пий IX 572, 996,1007,1037
Пий XII, папа римский 996
Писарев Д. И. 61, 72, 97, 119, 799
ПиттУ. 870,1071
Питт Младший 1036
Платон 6,153,157,255, 258, 317, 319,385,388,592, 610, 618, 632,692,710,712, 738, 739, 753, 758, 760, 763, 764, 765, 766, 771, 773, 777, 785, 856, 983, 988,1048,1055,1060,1061
Плесси Р. дю Л. де 209, 221, 295, 332, 996
Плеханов Г. В. 71, 93
Плотин 670, 689, 710, 758, 762, 1048,1055,1060
Плутарх 376, 764, 770,1008,1009, 1064,1065
Полозов Д. П. 431, 1016
Прево-Парадоль Л.-А. 266, 267, 796,991
Пьер Ж. П. 1027
Прудон П. Ж. 98, 501, 502-505, 518,1027,1028
Поп 75
Посидоний 775,1065
Пушкин А. С. 6, 13, 94, 95, 122, 447,461,514, 516, 612, 623, 800,814,823,834, 846, 913
Пушкин В. Л. 94
Рабле Ф. 96, 99, 119, 202,505,765, 1062
Равессон 81
РадовицИ. 595,1039
Рамбуйе В. К. де 315, 982
Расин Ж. Б. 13, 75, 93, 208, 253, 257, 345, 617, 985, 995,1001, 1002
РембоЖ. Н. А. 1050
Ренан Э. 79, 90
Реньи А. 120, 205
Ренуар П. О. 14, 118
Рерих Н. К. 154
Рерих Е. И. 154
Рерихи 967
Рец П. Г. де 977, 978
Рильке P. М. 686, 1051
Рихтер И. П. Ф. (Ж. -П) 476, 1019
РичльА. 387, 1013
Риччи М. 203
Ришелье А. Ж. П. дю 194, 195, 200, 206,240,256, 271, 295, 296, 297, 304, 306, 307, 976,977,983, 977,1003,1005
Роаннэ А. Г. де 82, 206, 218, 219, 316, 323, 342, 343, 348, 973, 974, 1001
РобервальЖ.192,196,216,243, 268,270,980
Робеспьер М. 489, 490, 700, 770, 1024,1072
Розанов В. В. 6, 21, 22, 32, 34, 39, 129, 131, 144,956, 991,992, 1016,1030,1057
Романов М. Ф. 549, 1033
Ройе-Коллар М. Б. де 86
Роллан Р. 119
Ронсар П. де 119
Ростопчин Ф. В.488, 1023
Русанов Г. А. 11
Руссо Ж. Ж. 6, 39, 73, 75, 87, 115, 158,163,259,295,490,602, 607, 613, 614, 700, 765, 792, 852, 854, 984, 986, 988, 996,1042
Саади Ш. А. М. М. а.-Д. А. А. ибн 877,1073
Сабле М. С. де 315, 999
Сазонов Н. И. 481,482, 503, 836, 866,867,1021,1070
СальФ. де 296, 299, 341, 984, 995
1088
Указатель имен
Саси Л. И. 14, 20, 252, 329, 330, 331,983
Саси Л. М. де 1002,1041
Сапфо 1000
Сартр Ж.-П. 384, 389, 1011
Свистунов П.Н. 156
Свифт Дж. 112, 984
Севр (Сабле) М. де 999
Сегье П. (Селье) 307, 333, 978, 998, 1003
СенгленА. 215, 312, 329, 345,346, 995, 999
Сент-Анж (Фортон) 200, 201, 331, 992, 998
Сент-Бёв Ш. О. де 77, 78, 81, 88, 251,1007
Сент-Илер Ж. 80, 81
Сент-Экзюпери А. де 118, 119
Сен-Венсан 216, 994
Сен-Жермен 769, 872, 1064
Сен-Ламбер Ж.-Ф. 431, 1016
Сен-Симон А. 83
Сен-Сиран (Дювержье де Оран) 199, 200,205,213, 240, 252, 291, 292,296,297, 298, 299, 300, 309, 347,976,983, 993,995
Сен-Жюст Л. А. 870,1072
Серафим Саровский, св. 144, 600, 665,706,1045,1046,1054
СерветМ. 383,1010,1011
Серюрье 73
Скаррон П. 75
Скюдери Ж. де 271, 983, 997
Скюдери М. де 997
Снелл(Снеллиус) 263, 991
Сократ 113,115,117,118,157, 158, 161,258,363,618, 699, 713, 738,739,740, 764, 765, 863, 1006,1060,1061
Соловьёв В. С. 6, 692,1044,1051
Соломон 407, 446, 553,1018,1051, 1052,1070
Спиноза Б. 112,113, 190, 260-262, 352,364,374,491,622,744, 764,774,843,989,1005
Сталь А.-Л. Ж. де 1071,1073 Стевин С. 20, 263, 971, 972 Стендаль А. М. 76
Стерн Л. 476, 1019
Стороженко Н. И. 99, 991
Страхов H. Н. 110, 159, 167, 823
Страхов Ф. А. 116
Стровский Ф. 73
Суарес Ф. 975
Сульпиций С. 355,1006,1054
СэвЛ. 86, 87
СюЭ. 84
Сюлли-Прюдом 80, 81, 112, 156
Тагор Р.709,1054
Такке А. 216
Тассо Т. 880,1071,1074
Татон 86
Тацит П. (Гай К.) 224, 229, 265, 862,991
Телесфор, папа римский 770,1064
Тёпфер Р. 476,1019
Тертуллиан К. С. Ф. 89, 548, 577, 645,646,728, 729, 757,1033, 1039,1044,1057,1058
Тибулл А. 432,1016
Тилемон Б. 252, 984
Тиллих П. 90
Тирио 56
Толанд Дж. 75, 259, 988
Толстой Л. Н. 6, 14, 16, 21-23, 35,38,57,110-117, 155-161, 163-170,173, 174, 181, 182, 184-188,532-535, 772, 883, 967, 992,1015,1035,1053,1074, 1075
Толстой А. А. 155, 435, 437, 438, 441-443,450,452
Томазий X. 257, 987
Указатель имен
1089
Томсон И. 262
Томсон Дж. 990
Торквемда Т. де 309, 998
Торричелли Э. 13, 91, 94, 192, 202, 203,216,236, 237, 243, 272, 273,970
Тургенев И. С. 21, 23, 37, 38, 105-110, 122-130, 475-478, 480,792,796, 797, 799, 800, 807,810,822, 823, 825, 830- 833, 836, 898, 967,1018,1019, 1020,1051,1067,1068
Тургенев А. И. 619, 623, 624, 823
Тырлов H. Н. 96
Тюренн А. 89, 252, 984
Тютчев Ф. И. 6, 7, 21, 43, 46-49, 84,100-102,122,365, 485, 546, 547,600,682, 834, 952, 953, 967,1032,1033,1035,1051, 1067,1075,1076
Уайстон В. 260, 990
Уиклиф (Виклиф) Дж. 553,1035
Умберто I 498, 1026
Уоллис (Валлис) Дж. 260, 990
Урбан II, папа римский 301, 997
Урбан VIII, папа римский 200, 209 Успенский Г. И. 682, 1050 Успенский Н. 800
УэвеллУ. 529, 1031
ФальмерайерЯ.-Ф. 838,1068
Федоров Н. Ф. 169
Фейербах Л. 77, 113,149
Фердинанд II495,498,499,1025
Ферма П. де 8,192,204,205, 217, 277, 343,986,992,1000,1004
Фет А. А. 107, 110, 127, 155,477, 478,797,1019
Филиппов М. М.59, 81,100,1068
Филиппов Т.437
Финкелстайн С. 90
Фихте И. Г. 42, 113, 631, 632, 705, 1054
Флобер Г. 119
Флоренский П. А. 6, 21, 39, 42, 43, 131,139-42,144,145, 146, 527, 531, 533, 673, 765, 967,1030, 1044-1046,1051
Фожер П. 77, 129
Фоке Ч. Дж. 559, 884,1036
Фома Аквинский 104, 289, 333, 341, 374, 766, 773, 775, 974, 975, 993,1002,1008,1062
Фонтенель Б. Л. Б. де 72, 75, 968
Формой де 55, 60
Фотий I, патриарх 553, 560, 563, 1036
Франк С. 21, 42, 43, 130, 1049, 1050,1051
Франс А. 118, 119
Франциск Ассизский 2, 144, 157, 295,335,379,496,499, 9961010
ФрёбельЮ. 838,1068
Фрерэ Н. 60
Фридрих II 56
Хомяков А. С. 22, 40,141, 450, 547,548,550, 551, 553, 556, 561,563,564,567, 569, 570, 572,575,577, 578, 580, 581- 585,587,588, 589, 663, 967, 1032,1033,1066
Хрисогон 1046
Цитен Г. И. 1072
Цицерон M. Т.625, 789, 856,1042, 1043
Чаадаев П. Я. 21, 22, 40,170, 450, 618, 619, 620, 622-624,627, 629, 630-633, 868, 967,1035, 1042,1043
Чернышевский Н. Г. 6, 99, 619, 832
1090
Указатель имен
Шанкара 670,1048
Шатобриан Ф. Р. 54, 76, 88, 432, 514,568,592,615,616,871, 1028
Шаховской А. А. 432, 516, 619, 1016,1017
Шаховской Д. И. 619, 622
Шевалье Ж. 12,16, 85
Шелер М. 130, 131, 154, 387, 1013
Шеллинг Ф. В. Й. фон 6, 90, 387, 490,512,592,622,882,982, 983, 1039
Шенье А. М. де 76, 776, 1065
Шестов Л. 41, 718, 1056,1057,
1058,1060
Шиккард В. 196
Шиллер И. К. Ф. фон 482, 507, 637, 765,823,833, 851,877, 878, 968,1021,1070,1073
Шишкова. С. 432, 488, 1016,1017
Шлейермахер Ф. Д. Э. 667, 982, 1047
Шницлер А. 692, 823, 1052
Шопенгауэр А. 89, 157, 158, 532, 704,1031,1053
Штирнер М. 390,1014
Эберт Ф. А. 869,1071
Эгийон М.-М. В. де 206, 306, 315, 996, 997
Экхарт (Эккехарт) М. И. 703,1048, 1053
Экушар-Лебрен П. Д. 766,1063
Эпиктет 14,20, 95, 110-112, 115, 157,158, 161, 282,313, 326, 330,350,355,375,610,739, 742,743,748,761,778, 992, 999,1008,1041,1059
Эразм Роттердамский 198, 395, 746,747,1002,1059
ЭрнстА. К. Л. 1072
Эскобар-и-Мендоза А. 18, 211, 336, 337,341,644,1003
Юлиан-пелагианин 198
Юлиан Отступник 718, 720, 835, 1039,1057
ЮнгК.Г. 387,1013,1053
Юркевич П. Д. 43, 130-139, 147, 150,765,067
Якоби Б. 1068
Якоби Ф. Г. 66, 838
Якушкин И. Д. 95
Янсений К. (Янсен К.) 9, 132, 197, 199,200,209,212,213,240, 241, 242,283,289,290,292, 298, 299, 309,310,332,341,344,345, 346, 382,644,975-978, 995, 999
Ясперс К. Т. 384, 1011
Finch D. 58
Michelet J. 58
Sainte-Beuve Ch. 61
СОДЕРЖАНИЕ
От издателя 5
В.Д. Алташина
Блез Паскаль и русская культура: от «былинки» до «тростинки» 7
I ПАСКАЛЬ В РУССКОЙ КРИТИКЕ
Е.М. Клаус, И.Б. Погребысский, У.И. Франкфурт От Паскаля до нас 53
Г.Я. Стрельцова Атеистическая традиция. И.С. Тургенев 122
Метафизика сердца 130
Б.Н. Тарасов Л. Н. Толстой и Паскаль 155
И. Е. Бабанов Блез Паскаль. Очерк жизни и творчества 190
С.В. Власов
Первое знакомство с «Мнениями Паскаля» в России:
перевод Псевдо-Паскаля в «Утреннем свете» Н.И. Новикова(1779)... 221
II СТАТЬИ О ПАСКАЛЕ
И. Г. Бутовский О жизни Паскаля и его сочинениях 235
И. В. Киреевский Сочинения Паскаля, изданные Кузенем 250
В.В. Розанов Паскаль 255
Л.Н. Толстой Паскаль 281
1092
Содержание
Д. С. Мережковский Паскаль 288
Б.П. Вышеславцев Паскаль 384
III ПАСКАЛЬ В ЦИТАТАХ В.Г. Белинский
Мысли Паскаля 395
Л.Н. Толстой
Круг чтения 399
Путьжизни 417
IV
ПАСКАЛЬ В ПИСЬМАХ, ДНЕВНИКАХ, ВОСПОМИНАНИЯХ, ЭССЕ
К.Н. Батюшков Письма 431
Н.В. Гоголь
Выбранные места из переписки с друзьями <Фрагменты> 434
И.С. Тургенев
Письма 474
А.И. Герцен
Письма 481
Прививка конституционной оспы 483
Былое и думы (1852-1868) 501
Ф.М. Достоевский Письма 506
<3аписные книжки 1863-1864 гг.> 516
Дневник писателя 519
П. А. Флоренский
Детям моим. Воспоминания 527
V ФИЛОСОФСКО-РЕЛИГИОЗНОЕ ВОСПРИЯТИЕ ПАСКАЛЯ
Н.И. Новиков
О достоинстве человека в отношениях к Богу и миру 539
А. С. Хомяков
Несколько слов православного христианина
западных вероисповеданиях.
По поводу брошюры г. Лоранси 545
К.Н. Батюшков
О лучших свойствах сердца 602
Нечто о морали, основанной на философии и религии 606
Содержание
1093
П.Я. Чаадаев Философические письма 618
В.А. Жуковский Две сцены из «Фауста» 634
С. С. Глаголев Блез Паскаль (19 июня 1623 — 19 авг. 1662) 640
П.А. Флоренский Столп и утверждение истины <Фрагмент> 658
Н.А. Бердяев Самопознание 664
С. Л. Франк С нами Бог 674
Б. П. Вышеславцев Значение сердца в религии 697
Л. Шестов
Гефсиманская ночь (Философия Паскаля) (из книги «На весах Иова» (Странствования по душам)) 718
С.С. Аверинцев Два рождения европейского рационализма 763
VI ПАСКАЛЬ В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
А. С. Хомяков Желание 781
И. А. Крылов Почта духов 782
Ф. И. Тютчев Лебедь 790
Сон на море 790
Наш век 791
И. С. Тургенев Отцы и дети 792
Поездка в Полесье 807
Довольно 823
А.И. Герцен С того берега 835
Встречи 865
Л. Н. Толстой Отрочество <Фрагмент> 881
Записки сумасшедшего 883
Ф.М. Достоевский Бесы <Фрагмент> 893
1094
Содержание
VII «МЫСЛЯЩИЙ ТРОСТНИК» В РУССКОЙ поэзии
Ф. Тютчев Певучесть есть в морских волнах 935
О. Мандельштам Из омута злого и вязкого 936
М. Цветаева Поэма лестницы 937
А. Ахматова Тростник (Шестая книга стихотворений 1923-1940) 952
И. Северянин Тютчев (из книги «Медальоны») 953
П.В. Дашкова Произнесемте: мыслящий тростник 954
X. Олъшванг Шесть стихотворений о «мыслящем тростнике» 956
И. Губерман Паскаль бы многое постиг 959
В. Халтома Человек — тростинка малая 960
Приложение <«Пари Паскаля»> <Фрагмент> 963
Комментарии 966
У казатель имен 1078
Учебное издание
БЛЕЗ ПАСКАЛЬ: PRO ET CONTRA
Антология
Составитель
Вероника Дмитриевна Алташина
Директор издательства Р.В. Светлов Заведующий редакцией В.Н. Подгорбунских Корректор Т. Г. Шарипо
Верстка Т.О.Прокофьевой, О. М. Кукушкиной
Подписано в печать 29.10.2013. Формат 60 ><90 х/1е Бум. офсетная. Гарнитура Школьная. Печать офсетная. Усл. печ. л. 68,25. Тираж 1500 экз.
Зак. №890
191023, СанктПетербург, наб. р. Фонтанки, 15, Издательство Русской христианской гуманитарной академии.
Тел.: (812) 310-79-29; факс: (812) 571-30-75;
email: editor@rhga.ru. URL: http://www.rhga.ru
Отпечатано в типографии ООО «Вега»
194046, Санкт-Петербург, Зеленков пер., д.7, лит.А