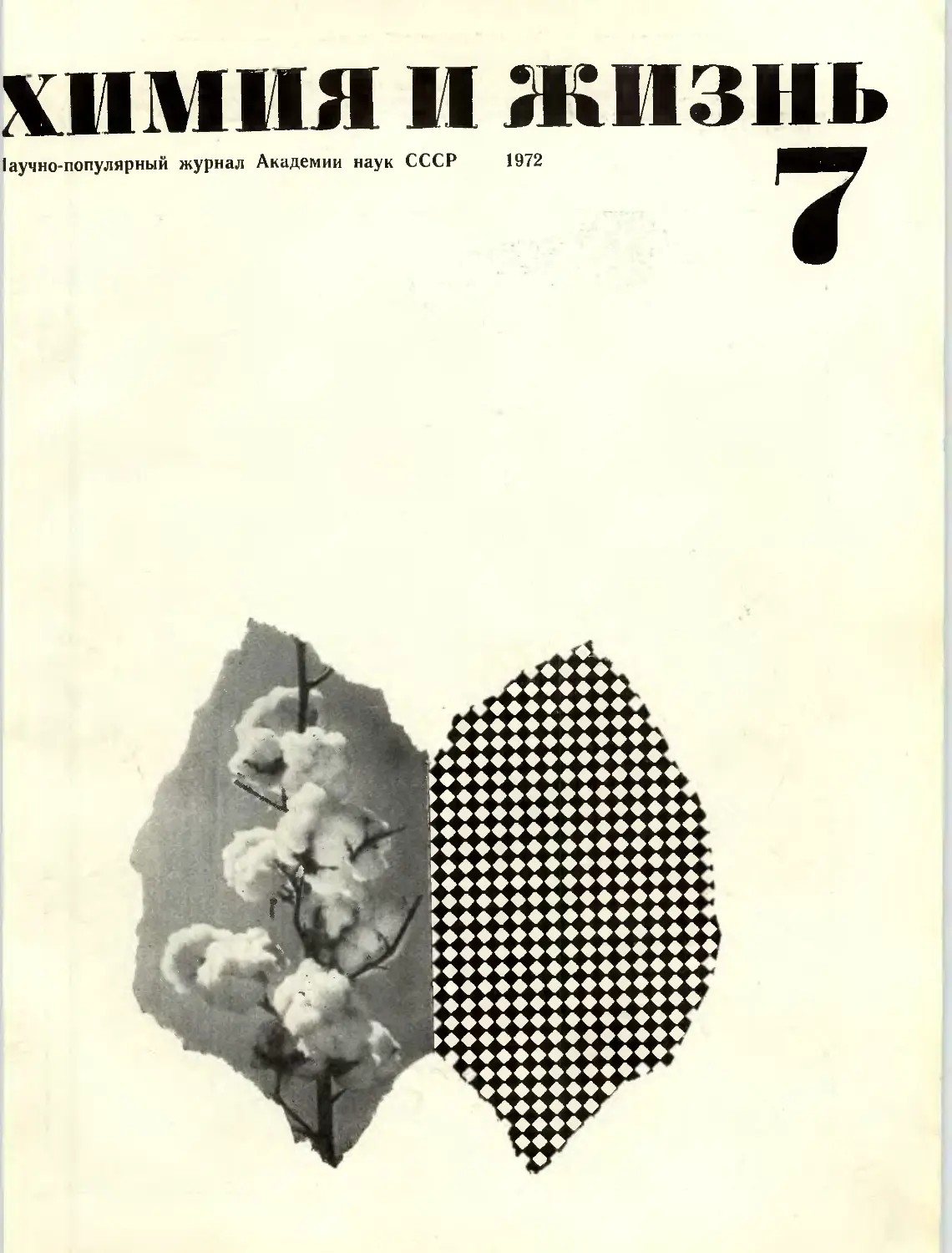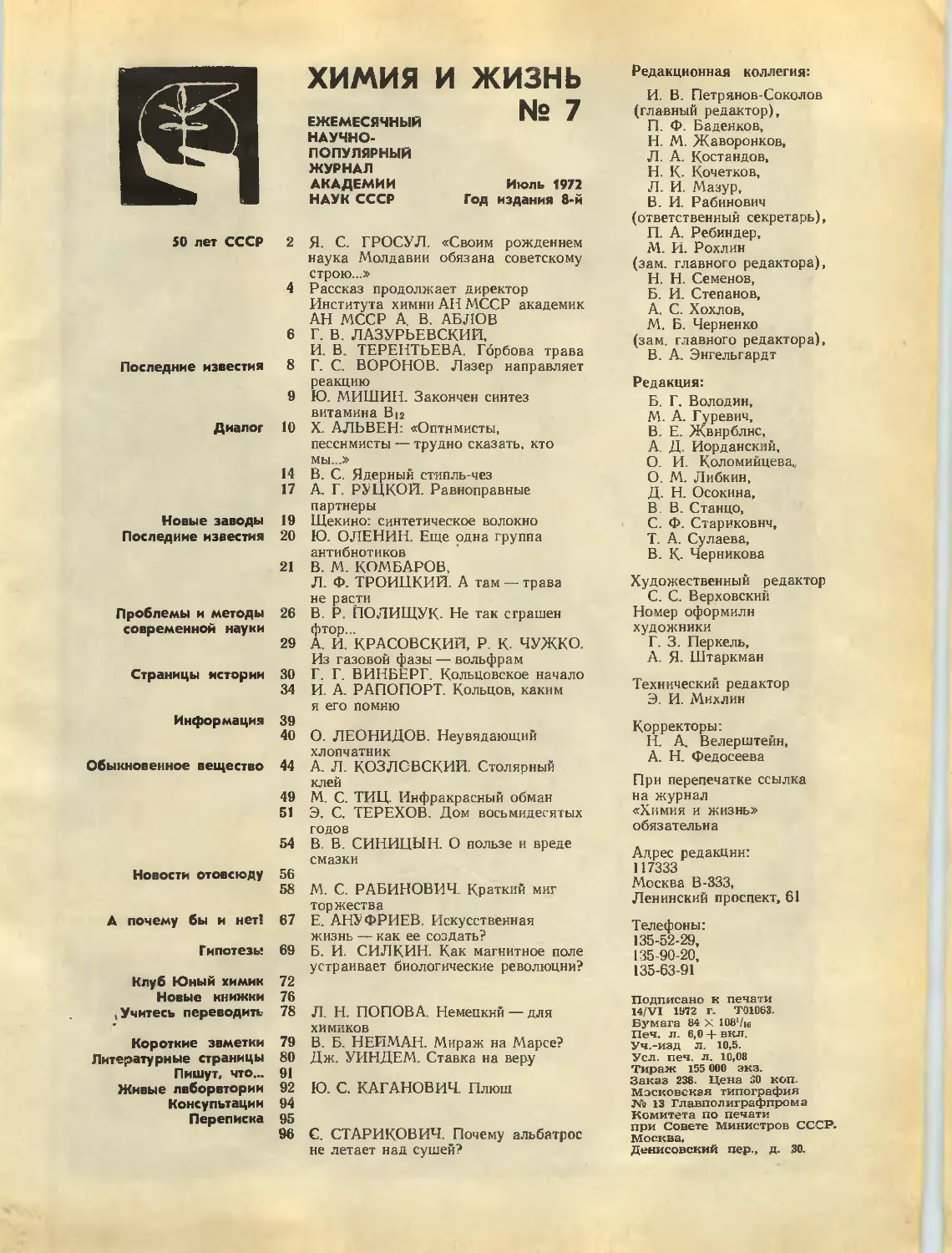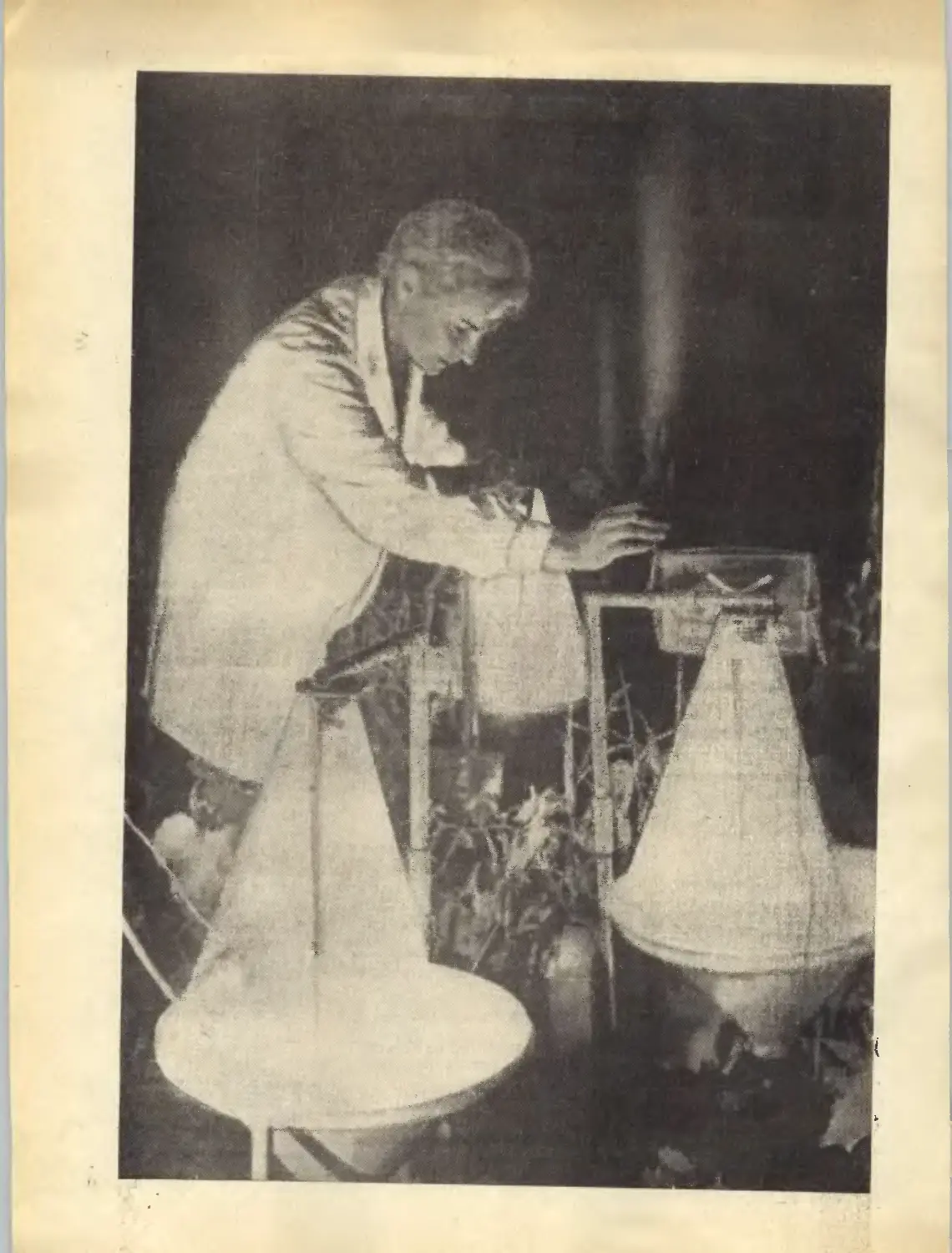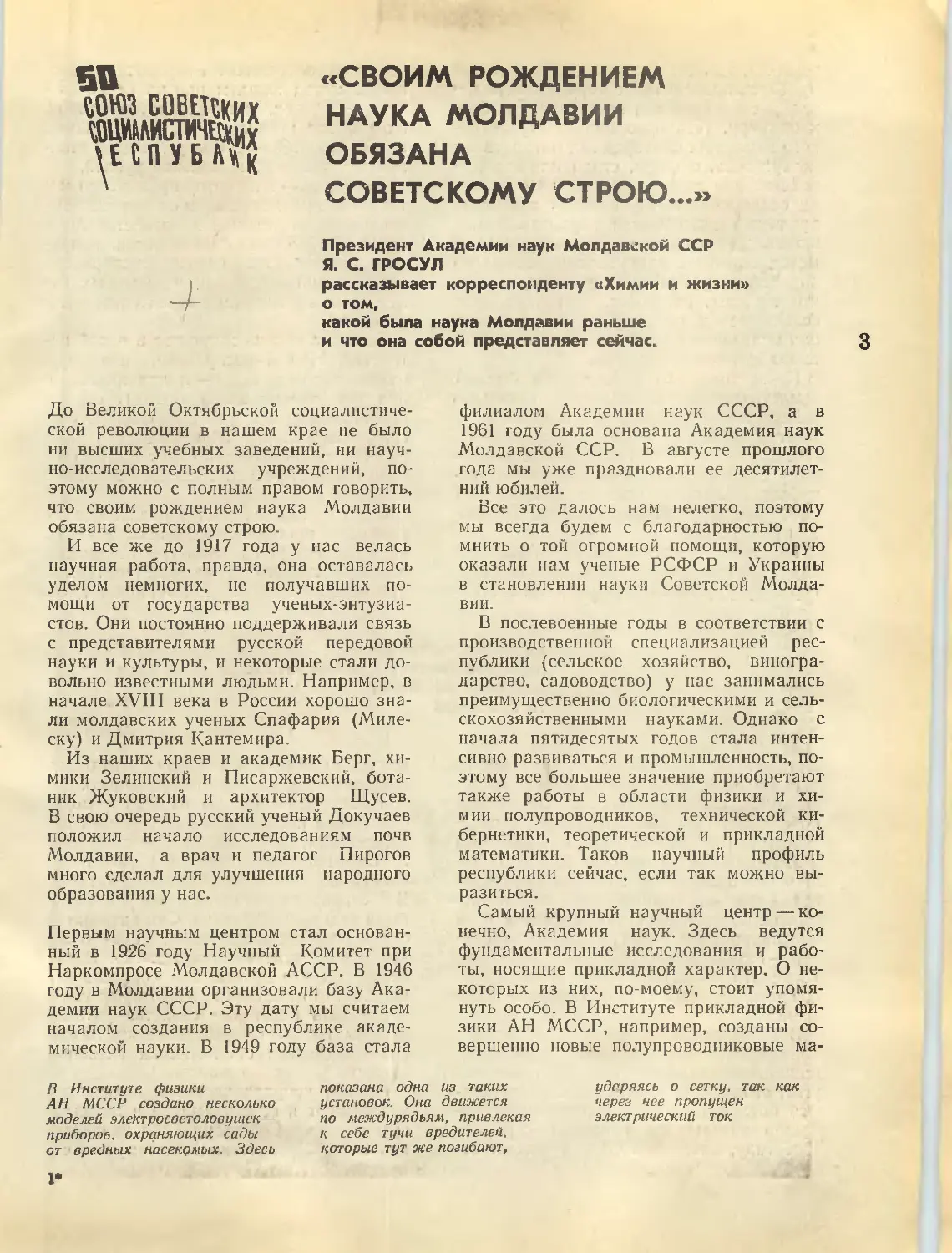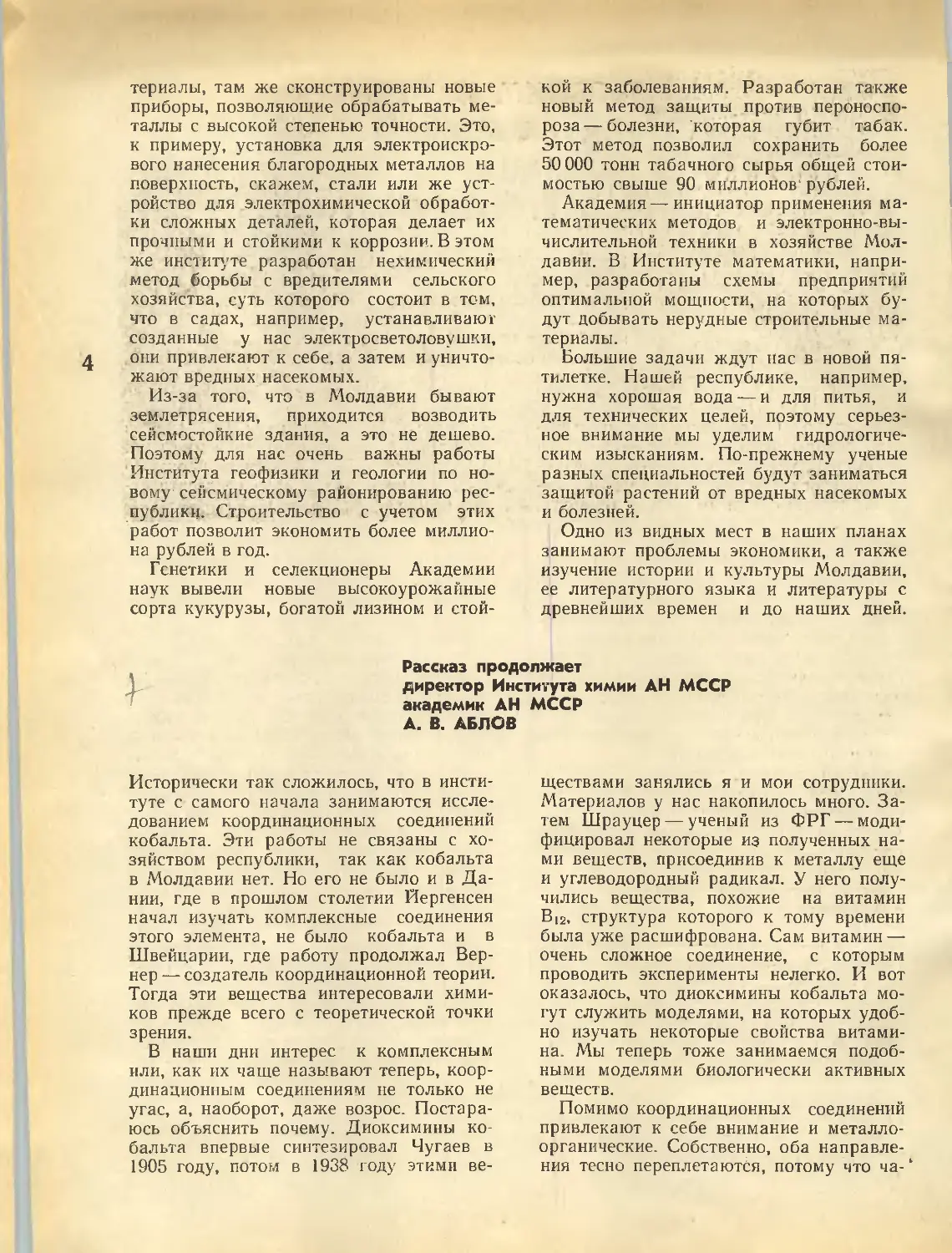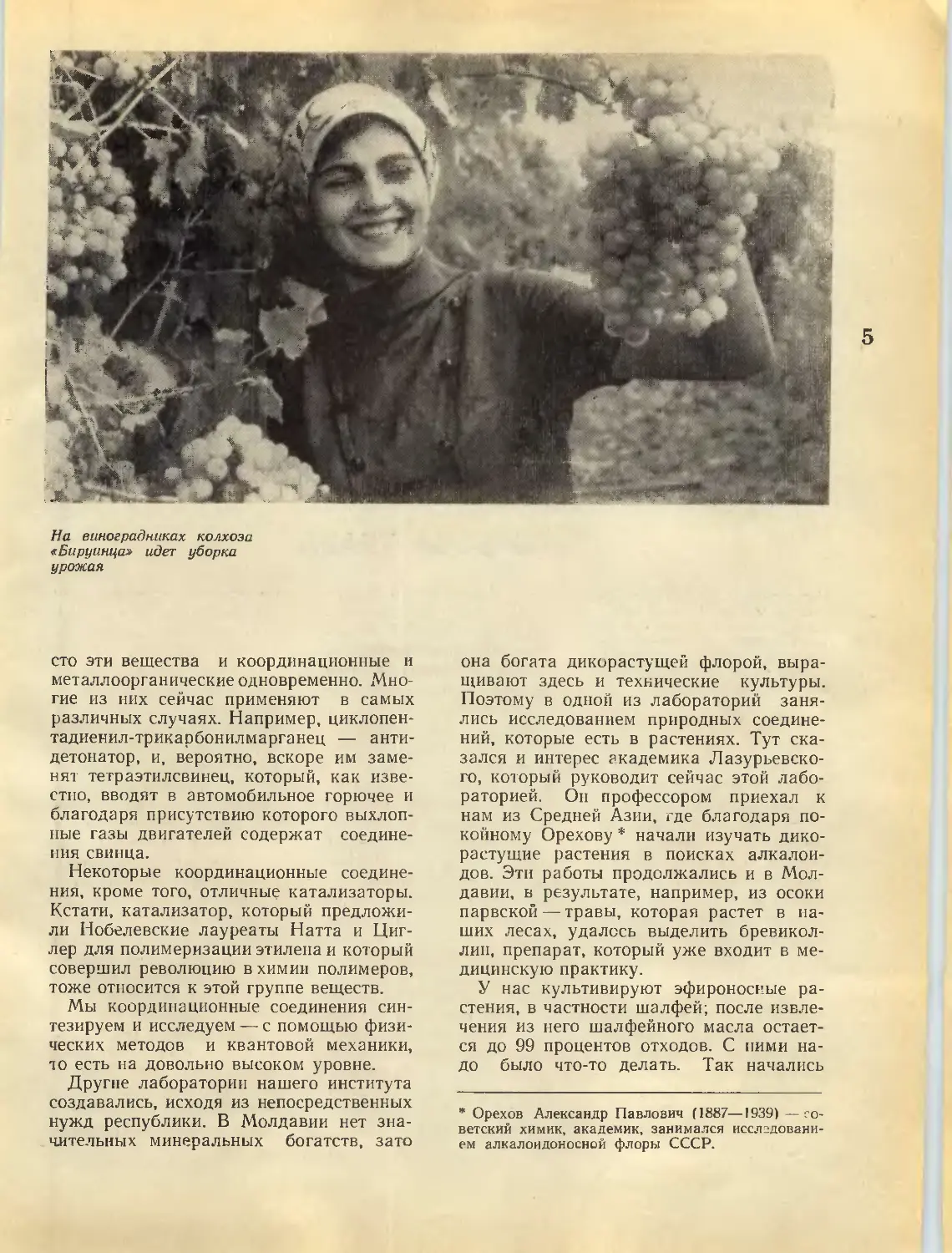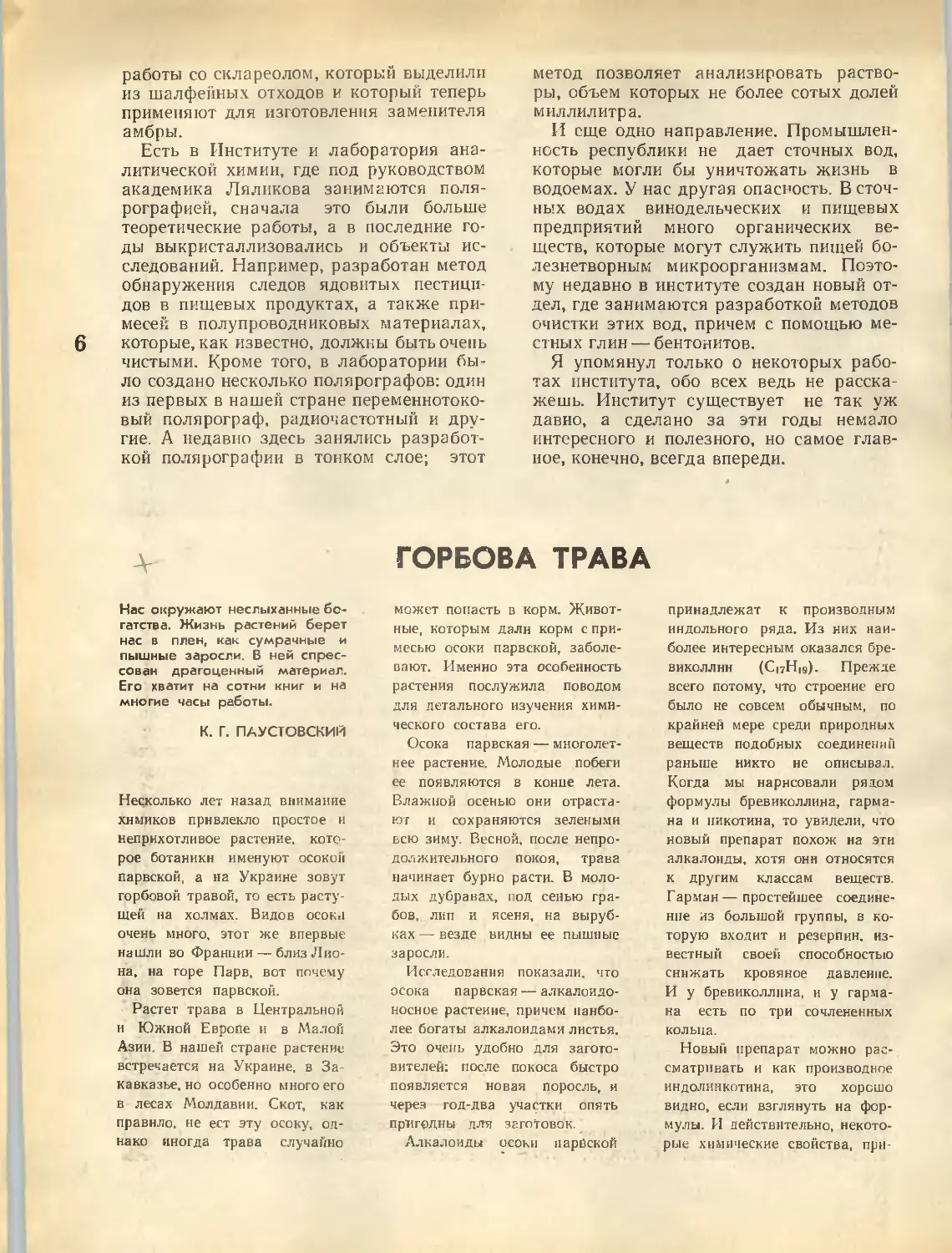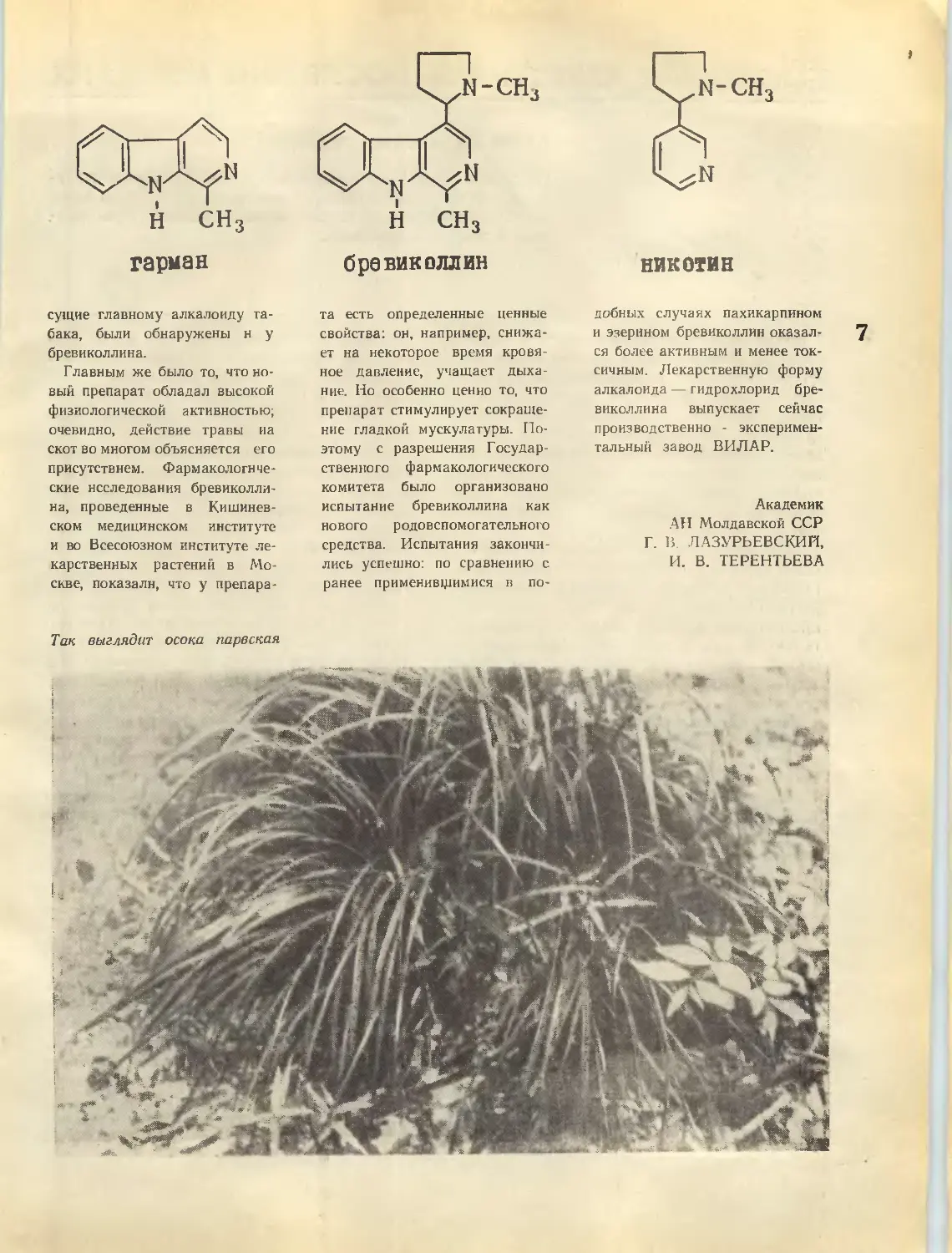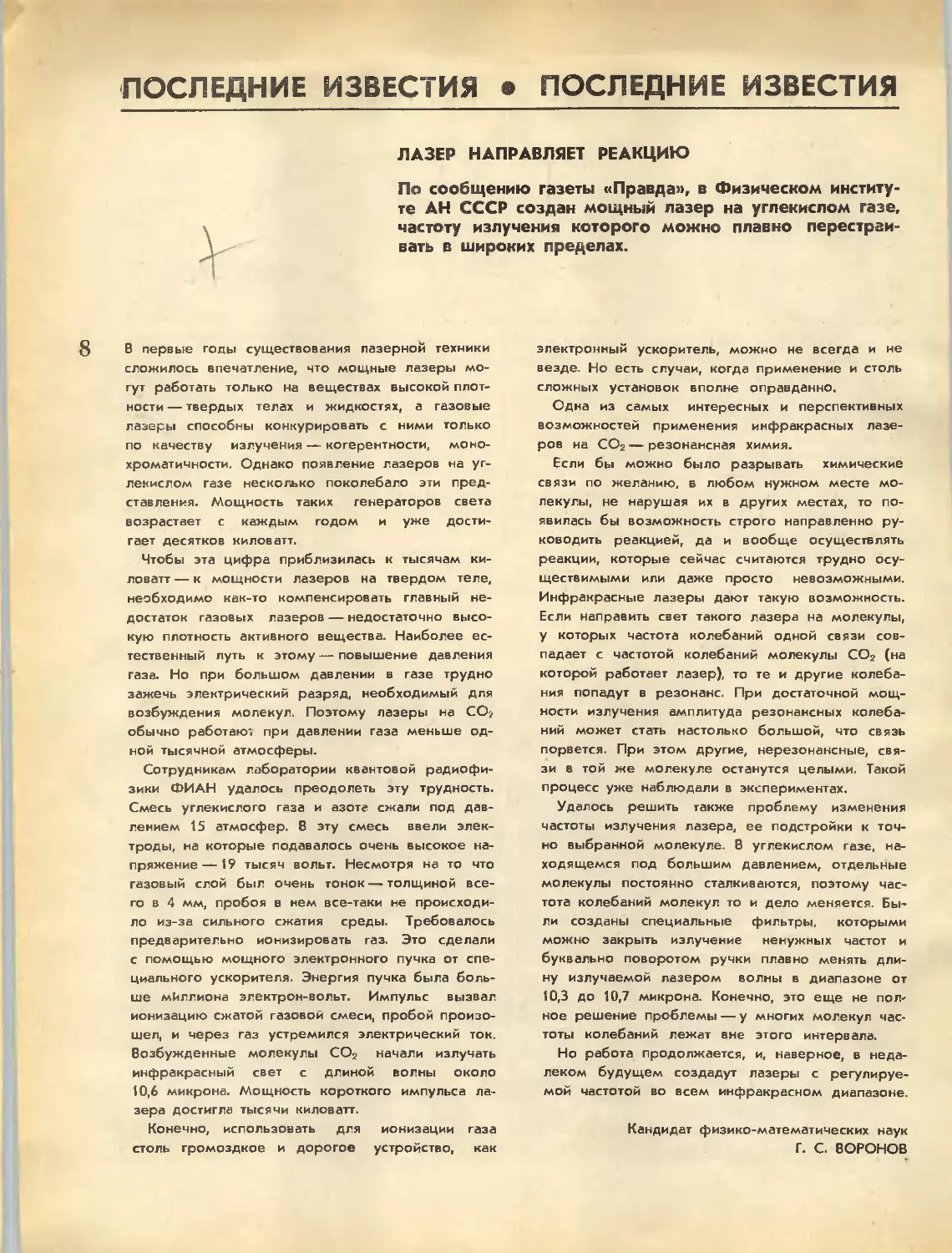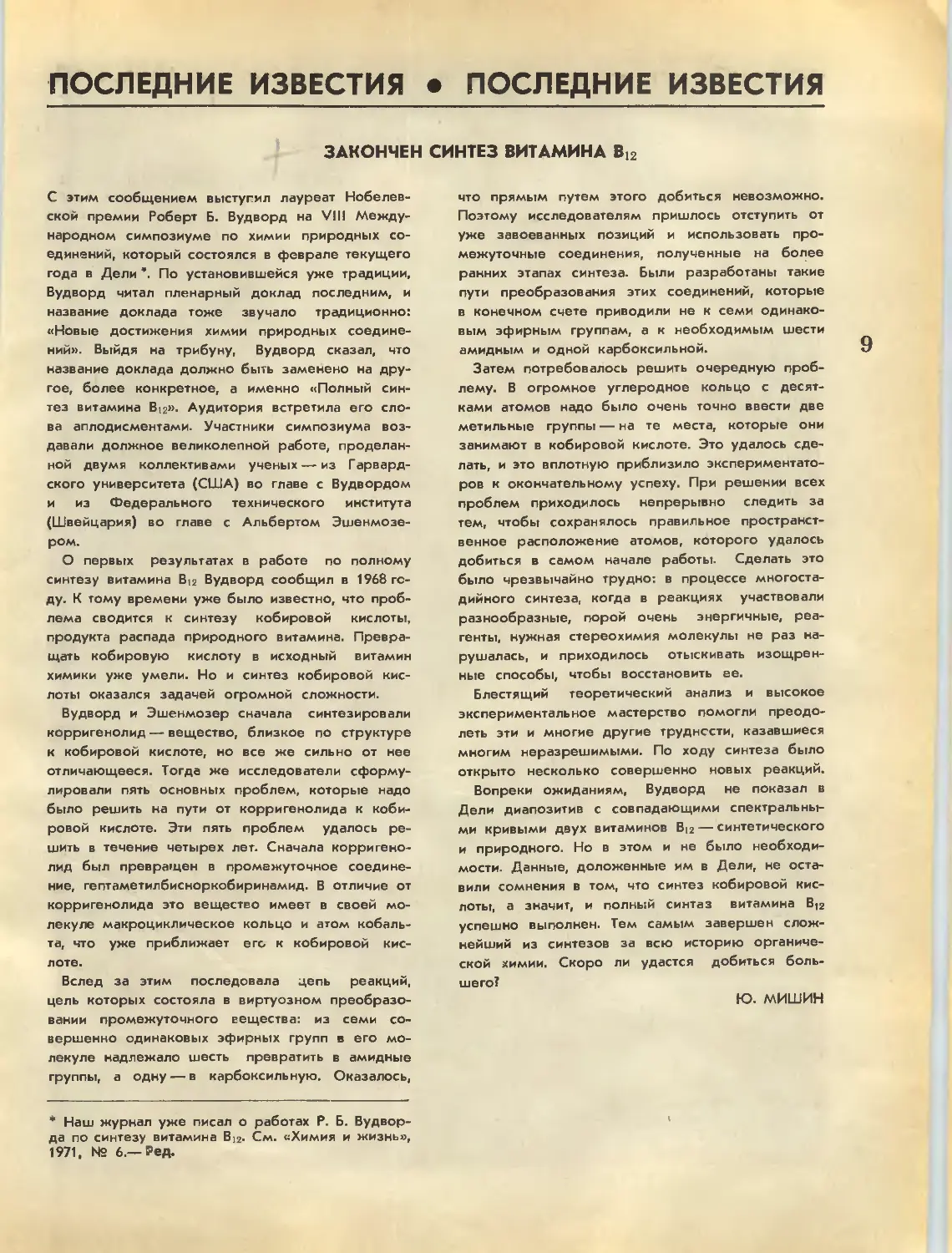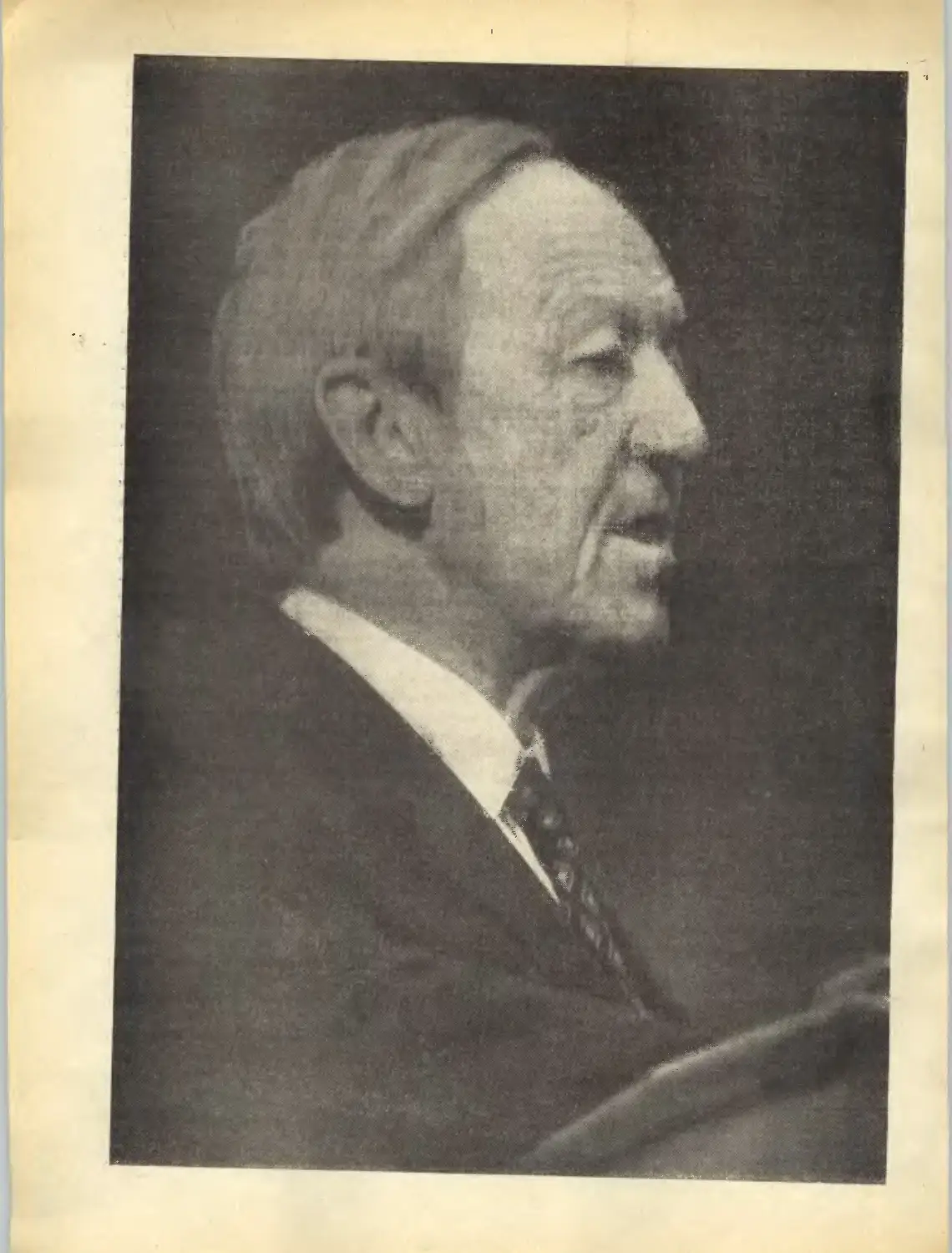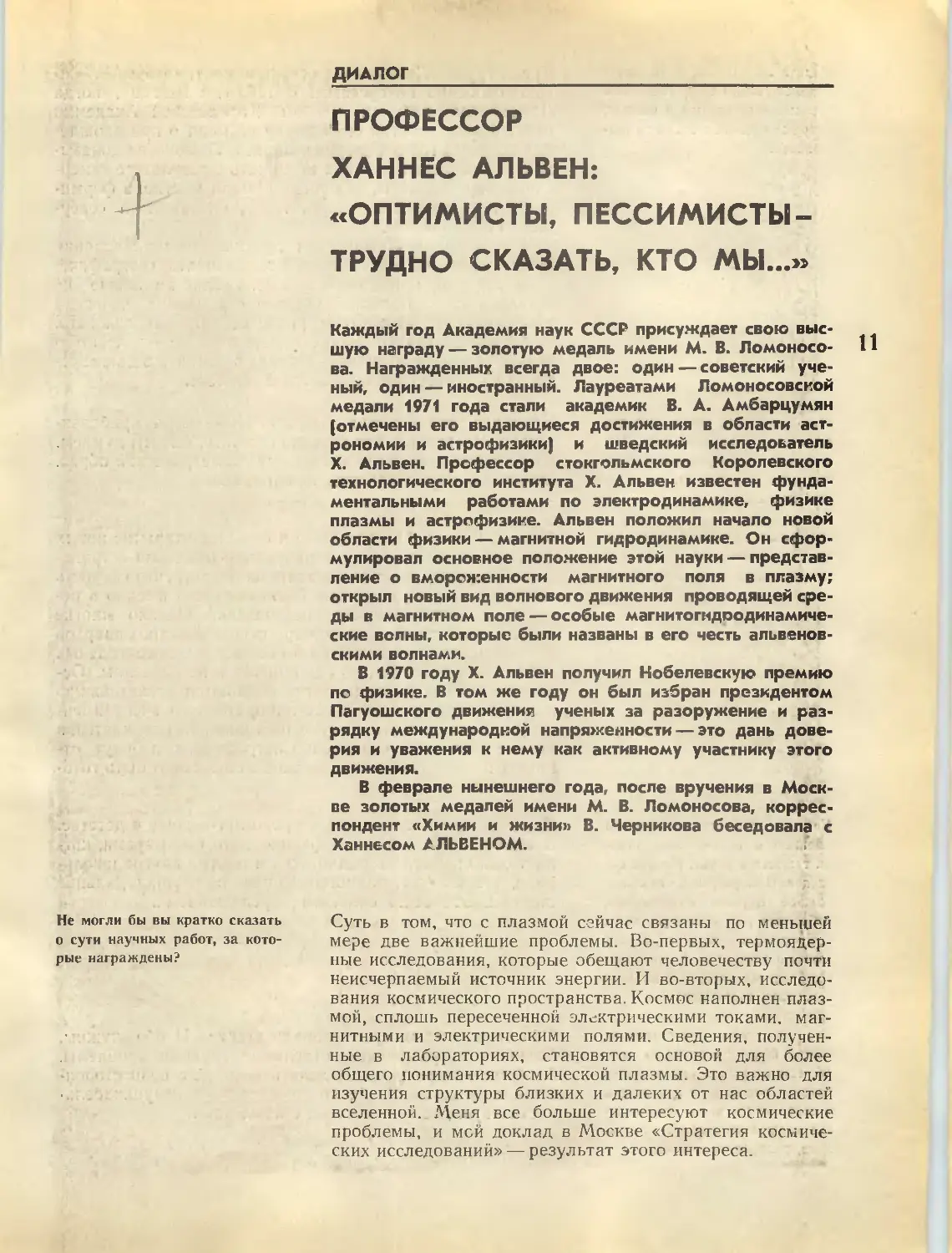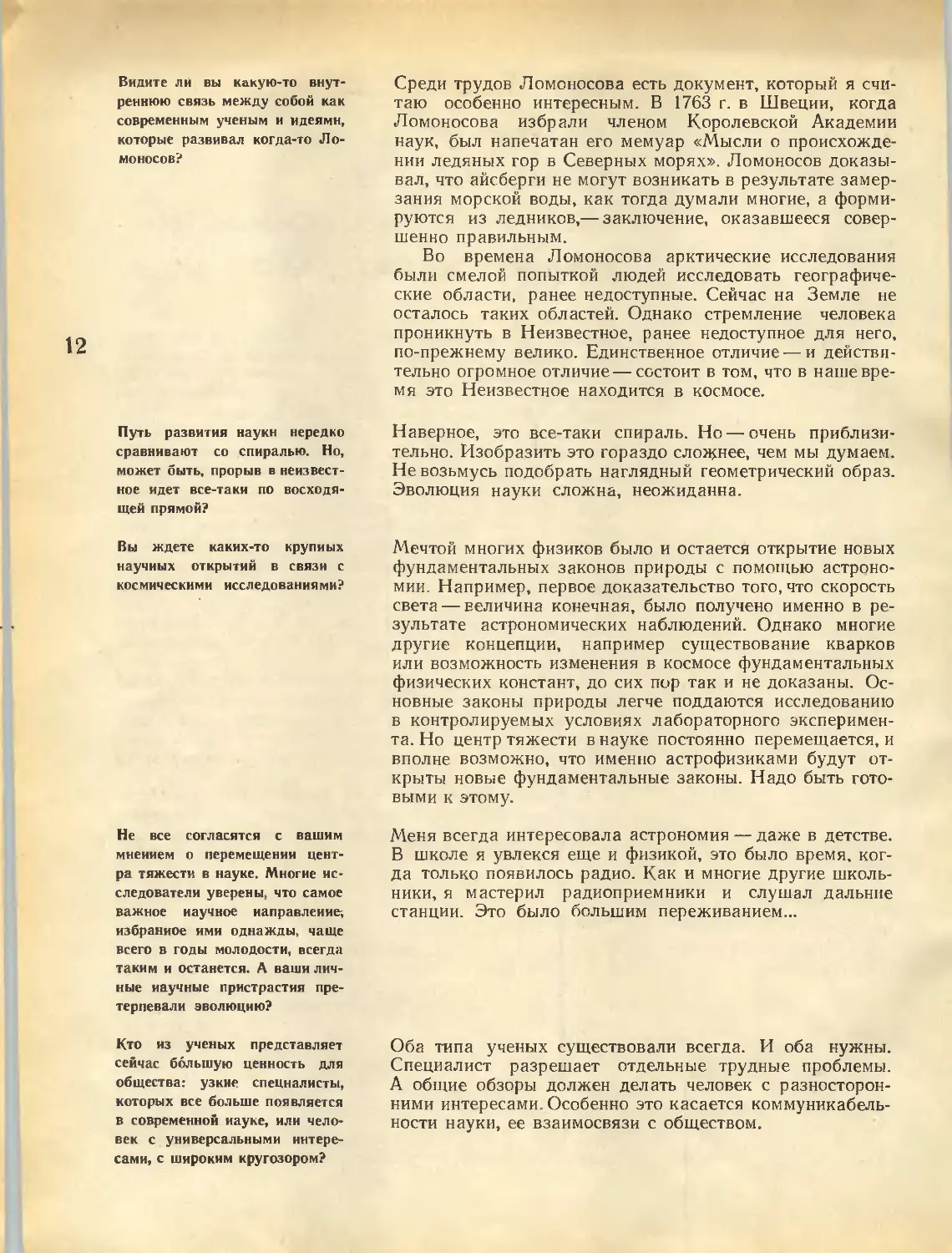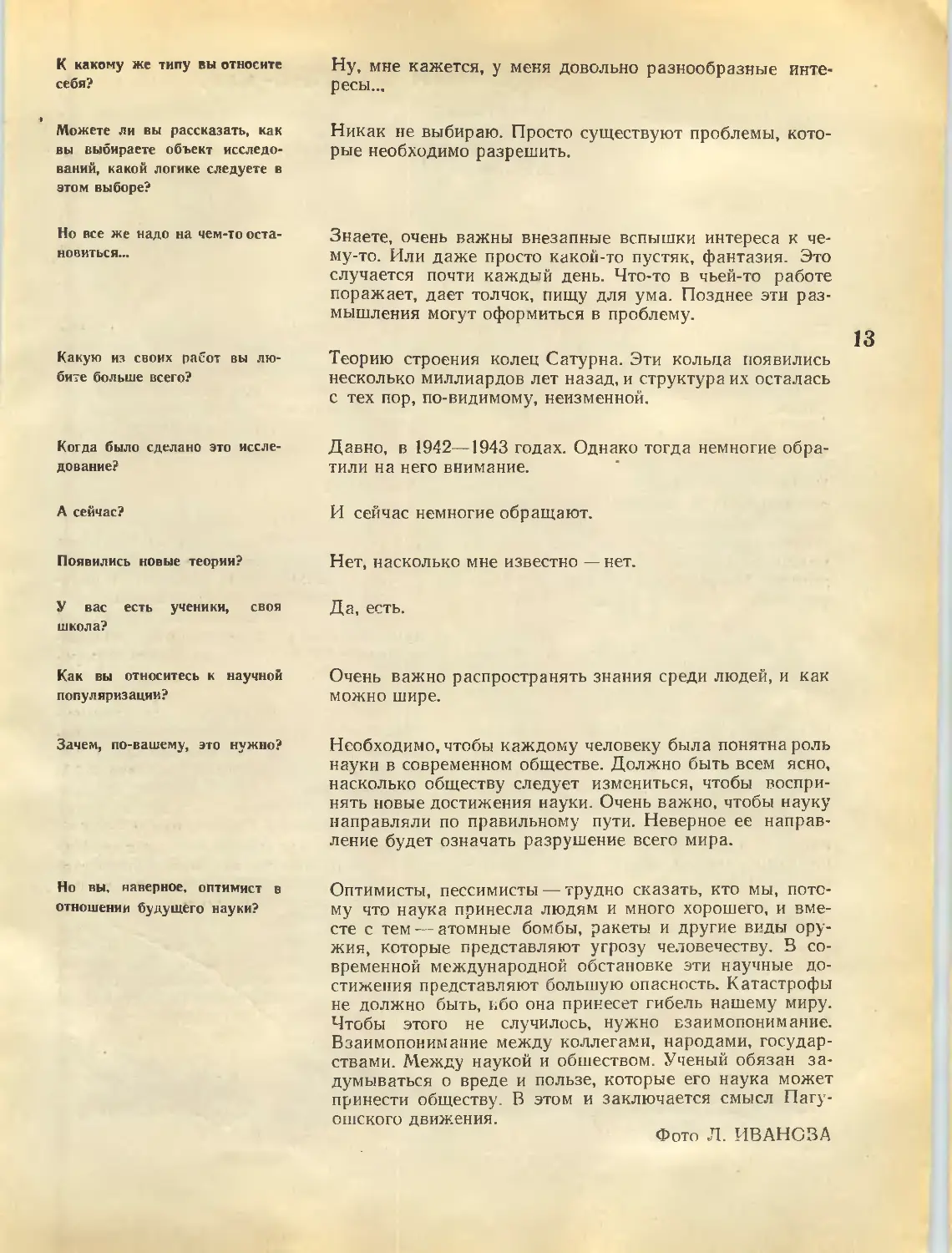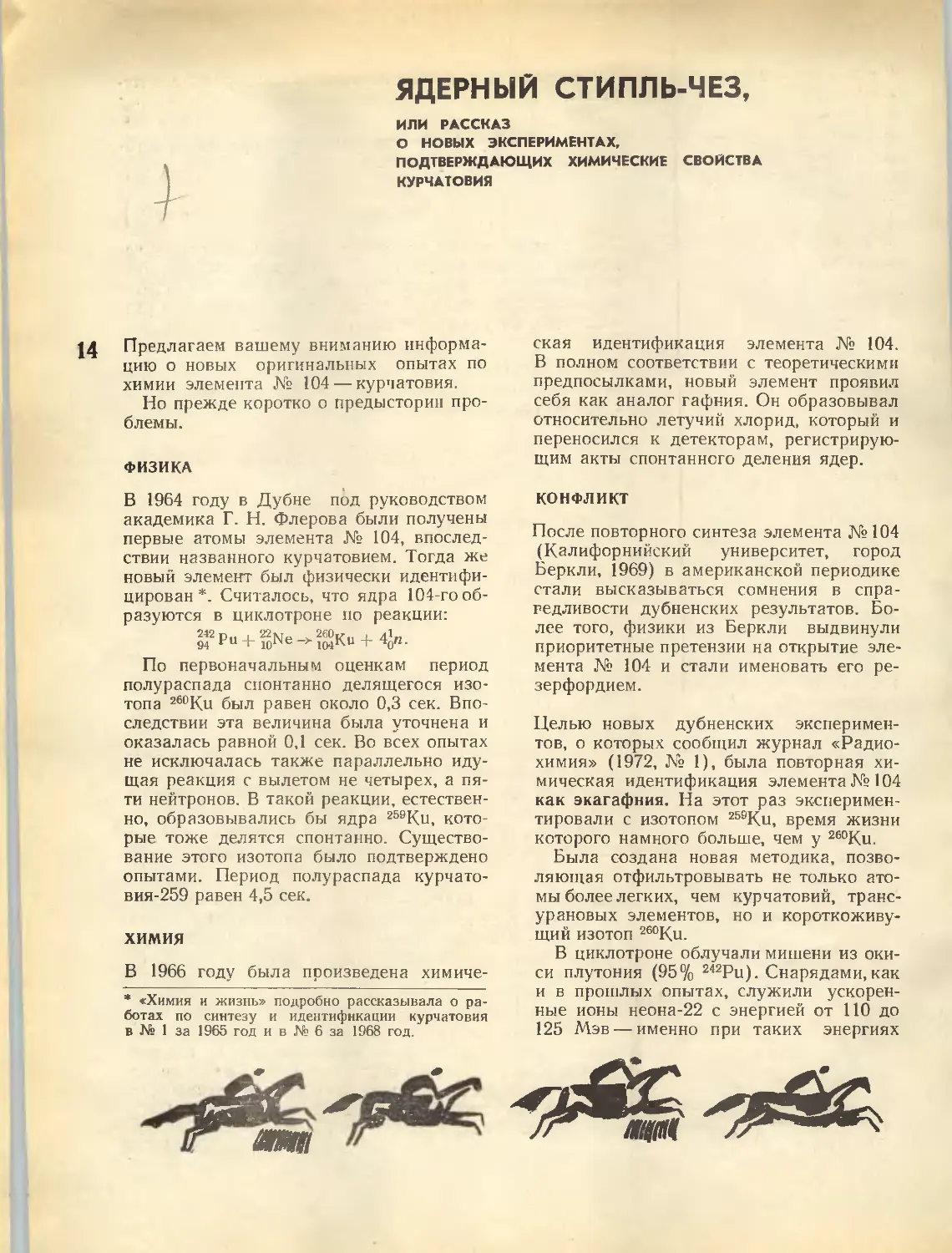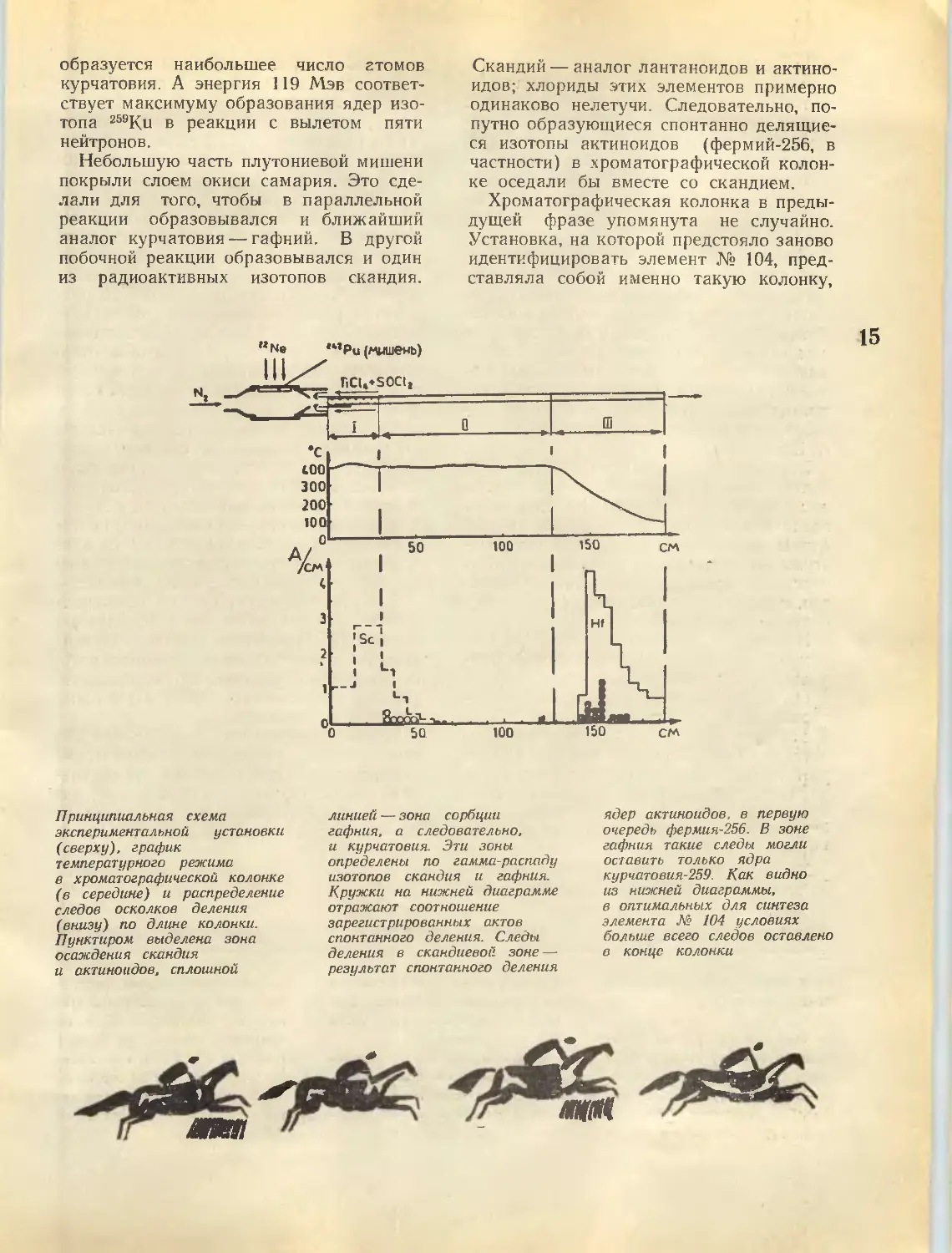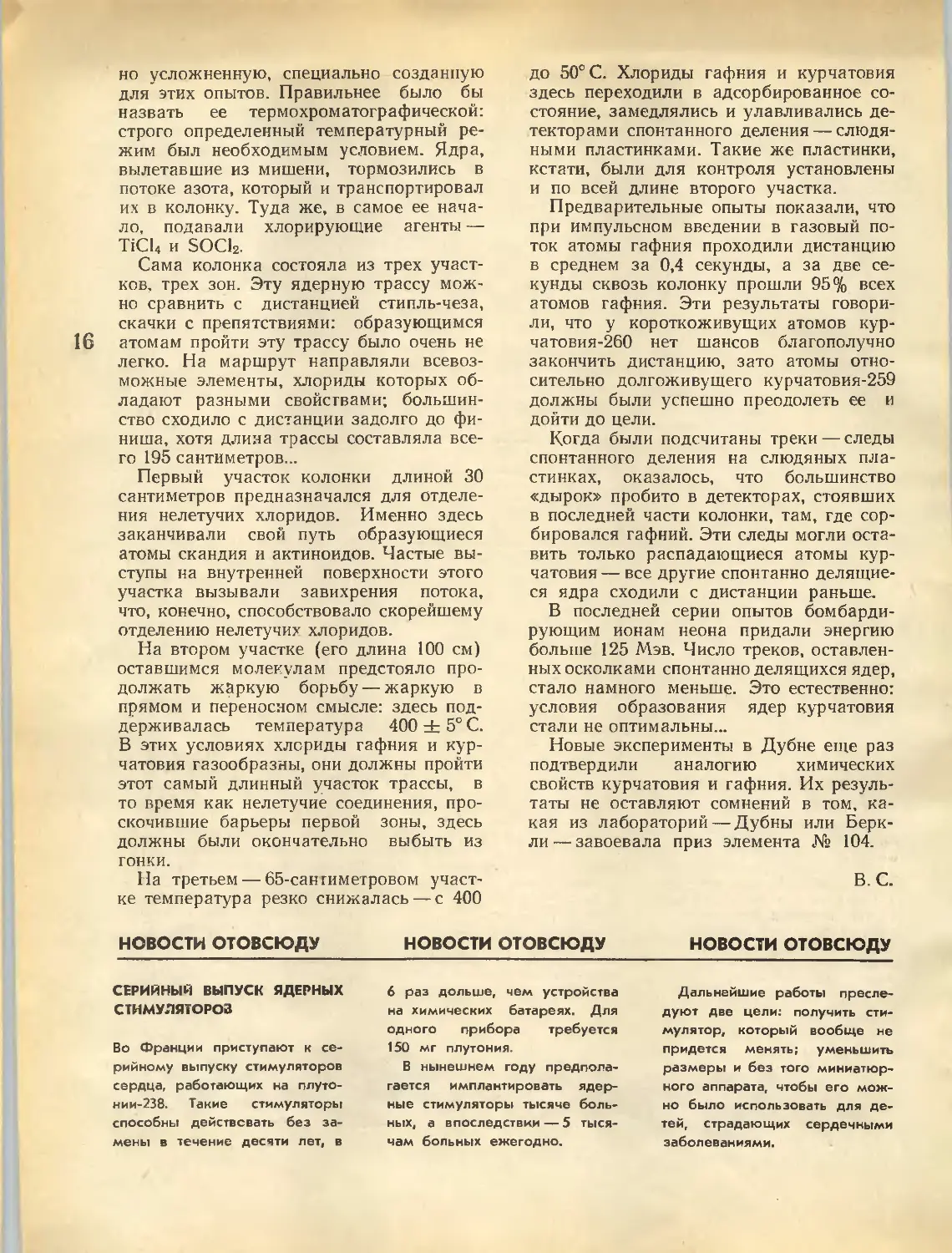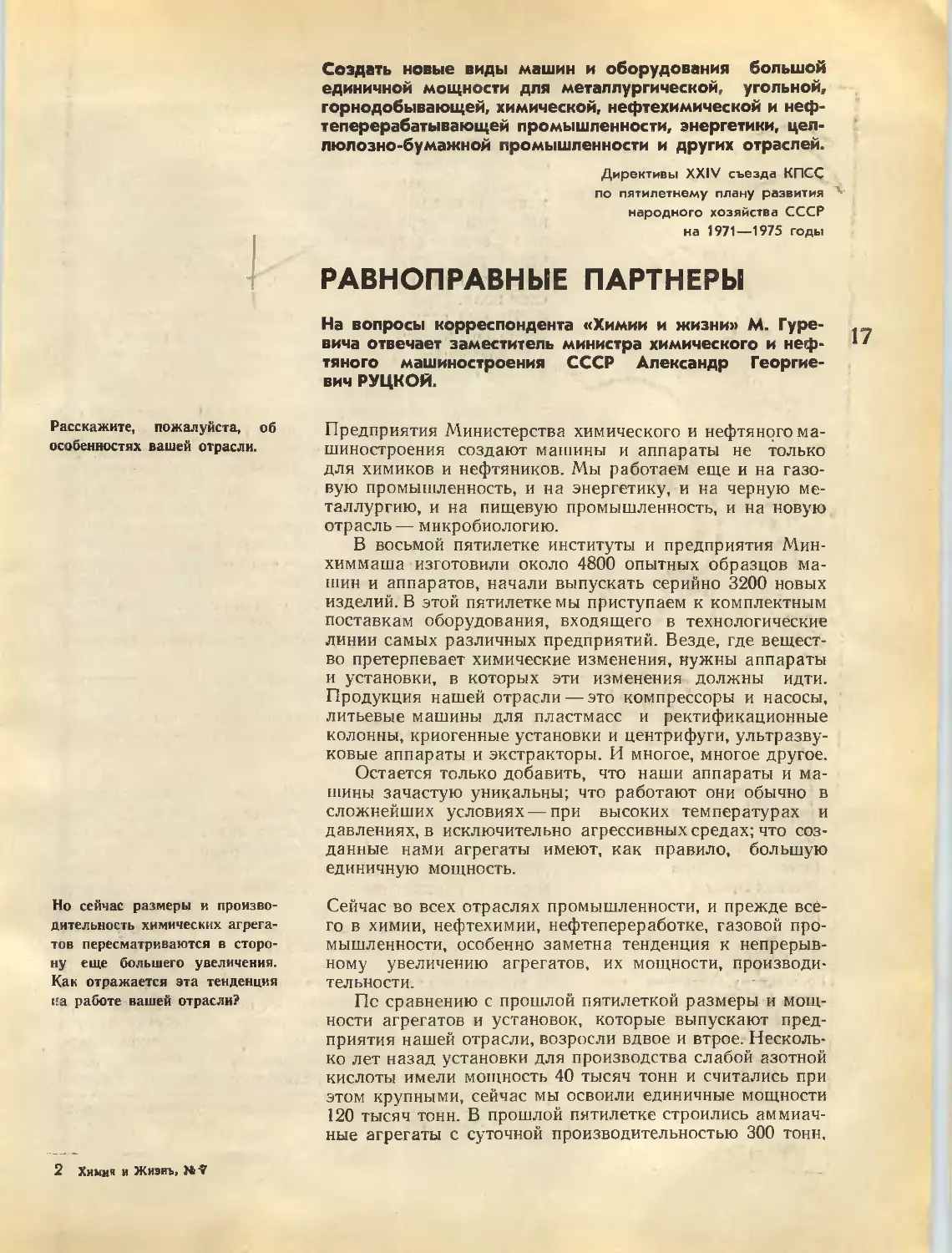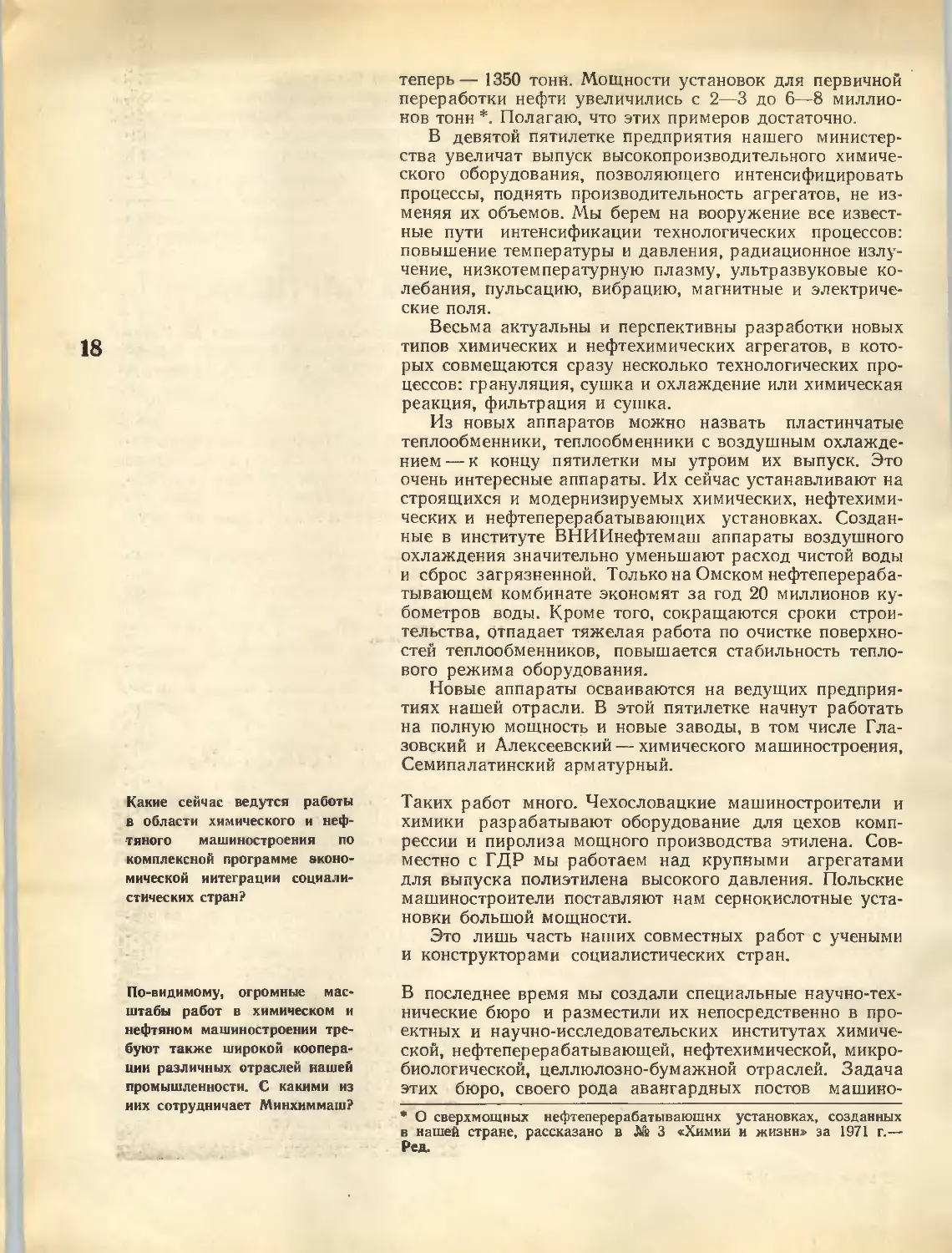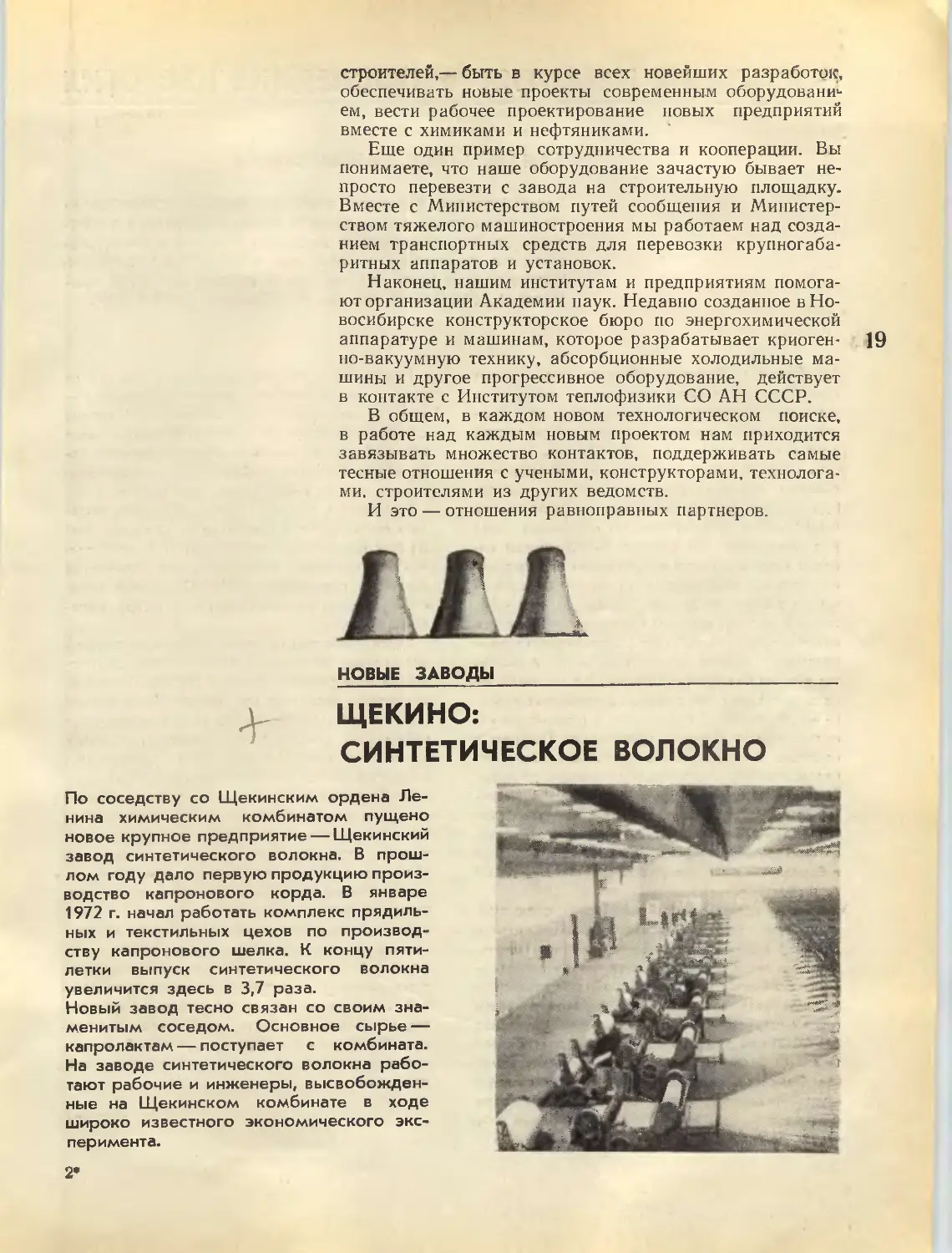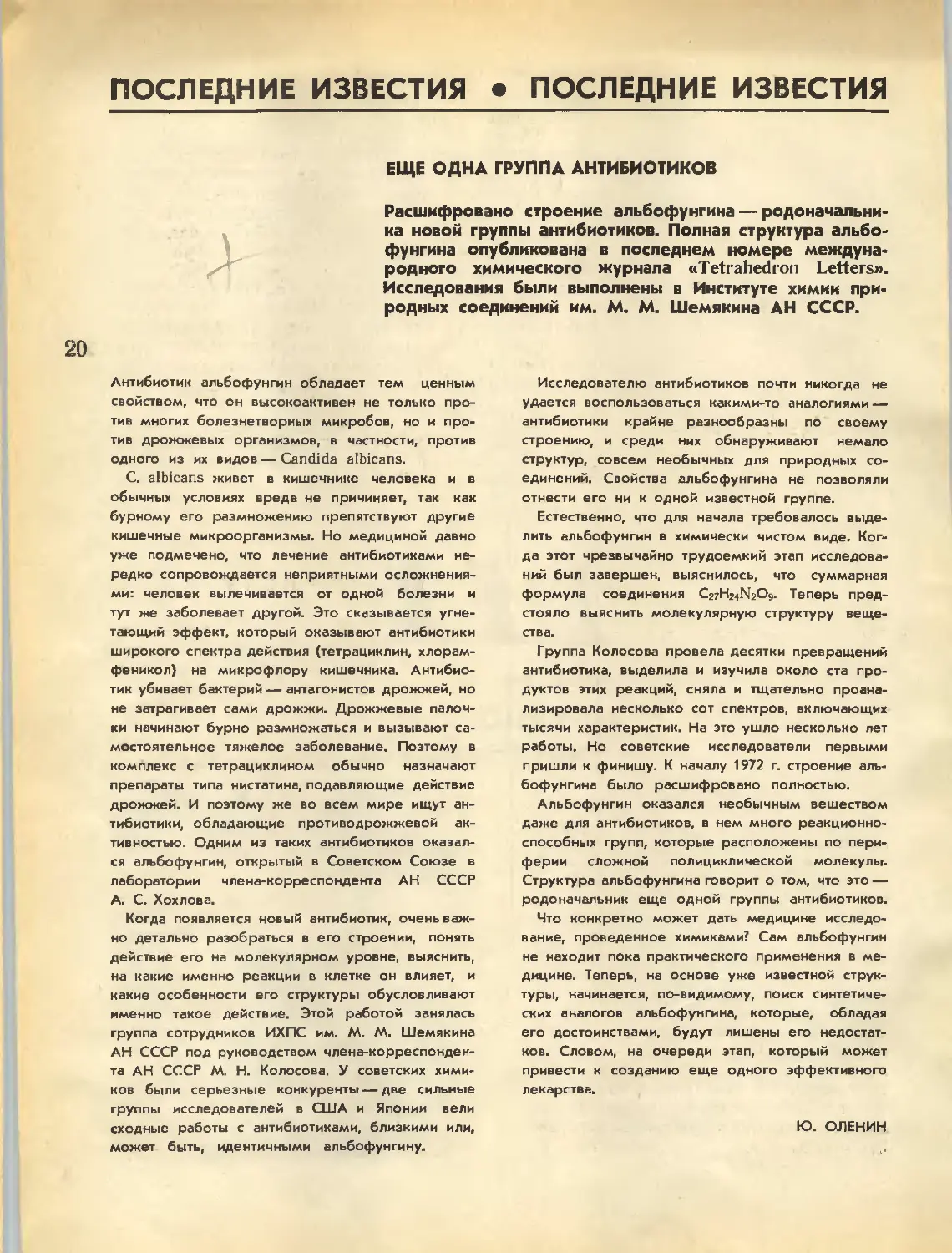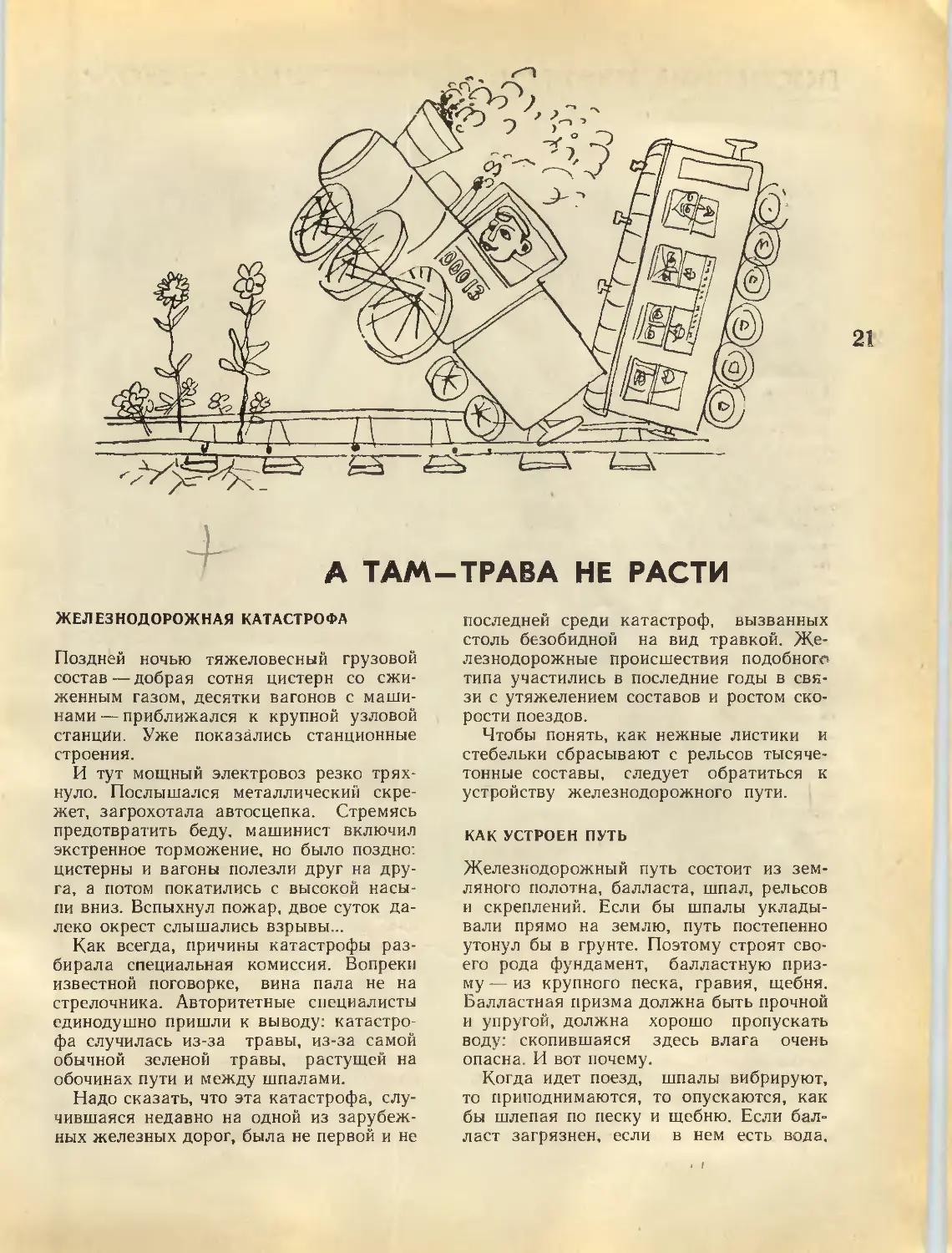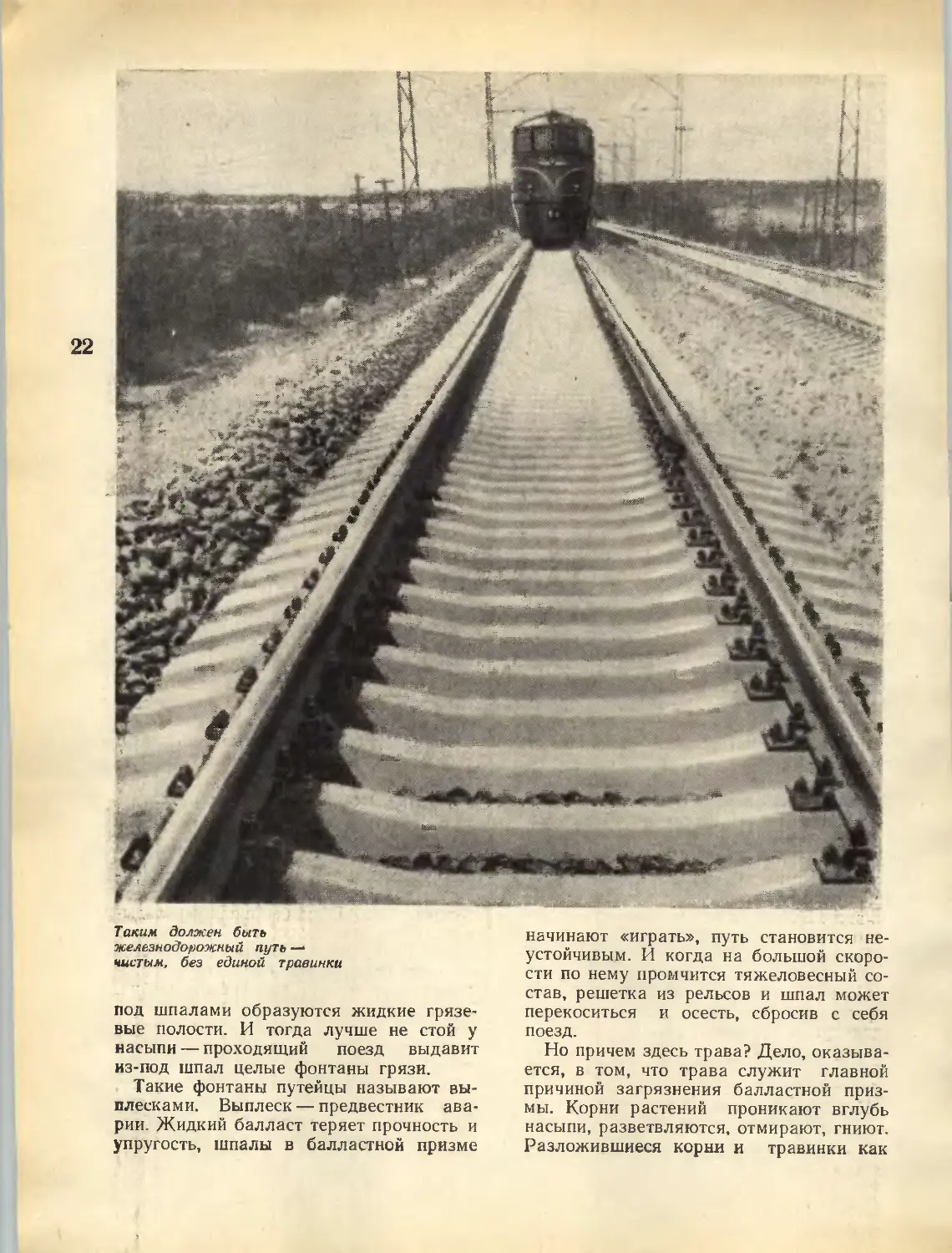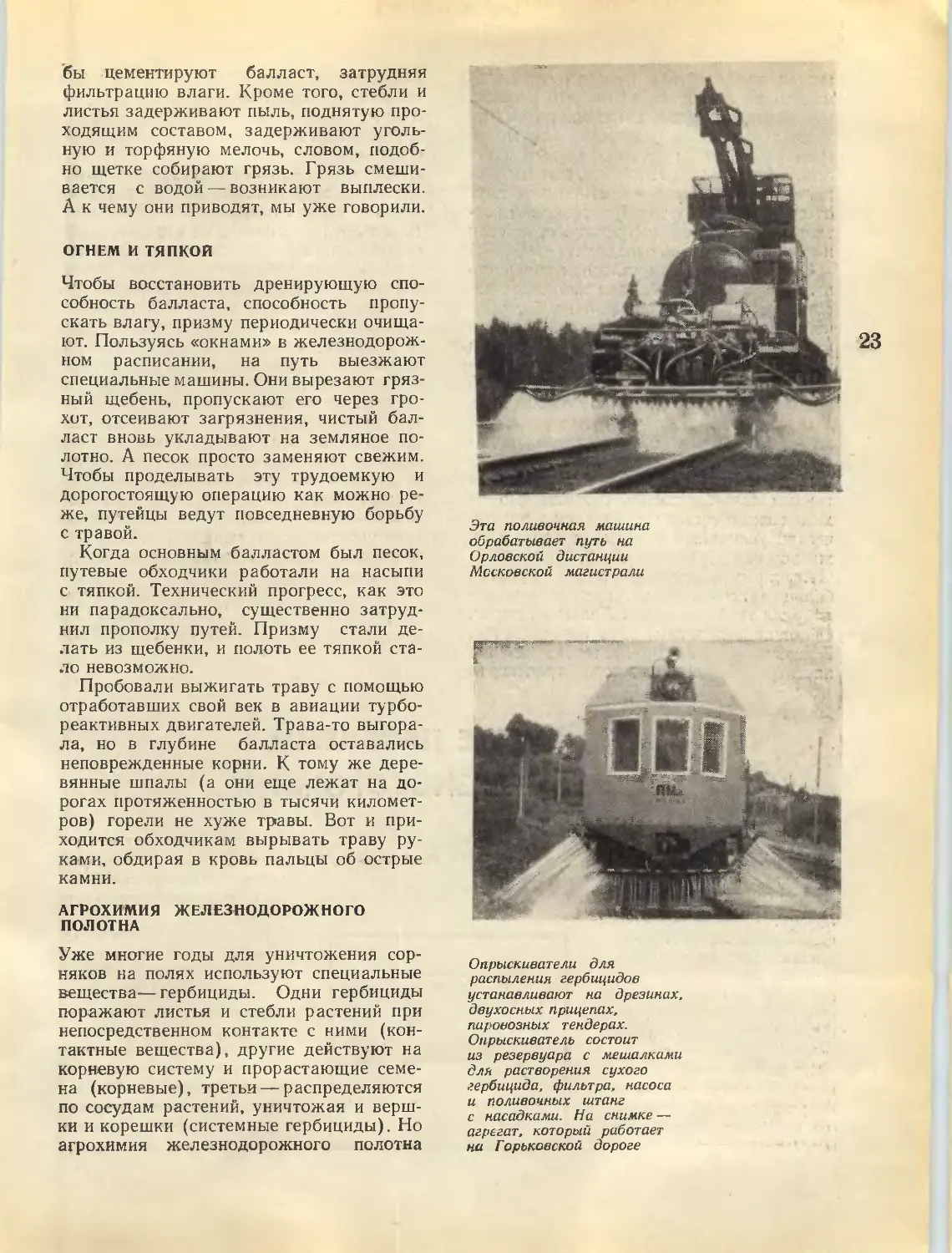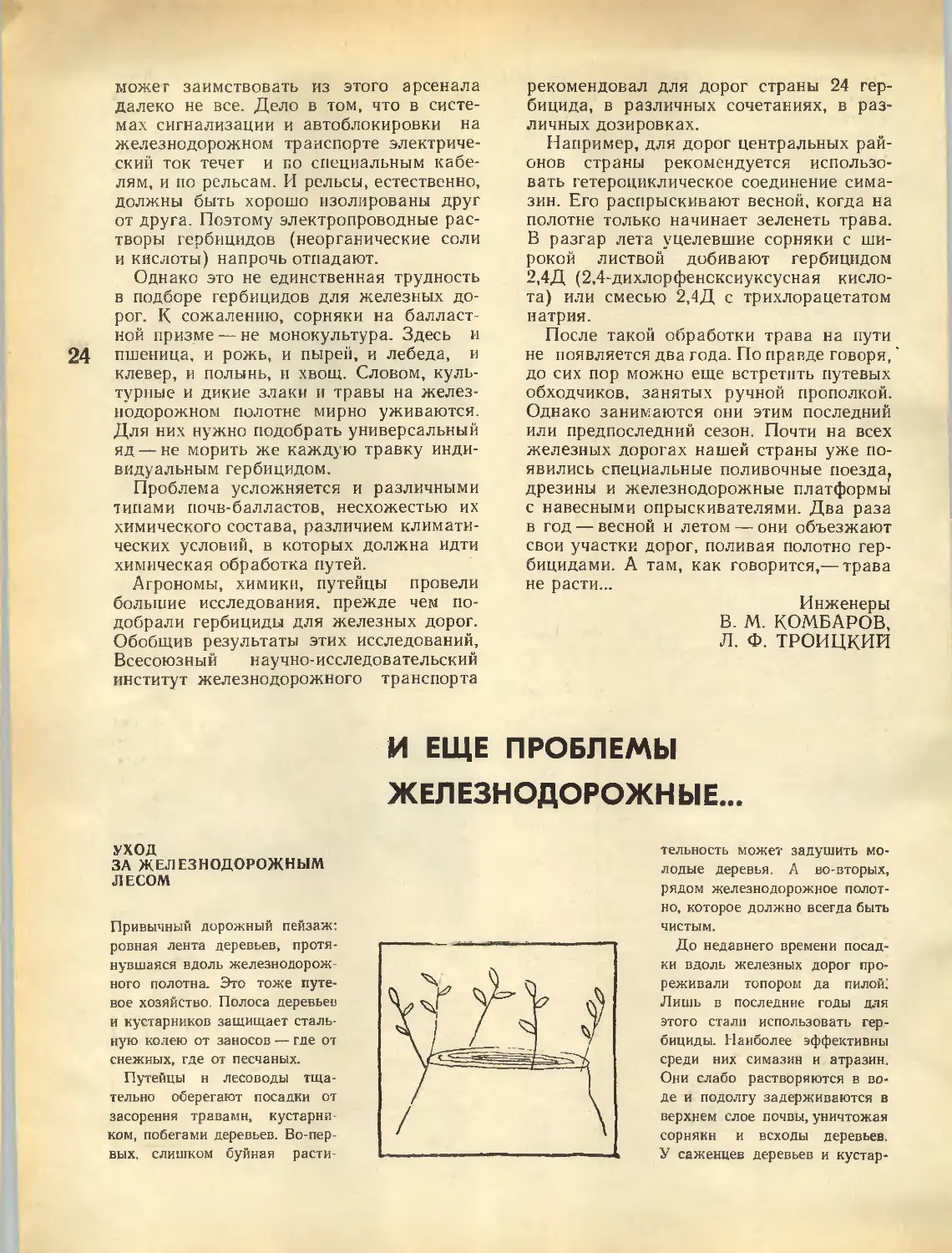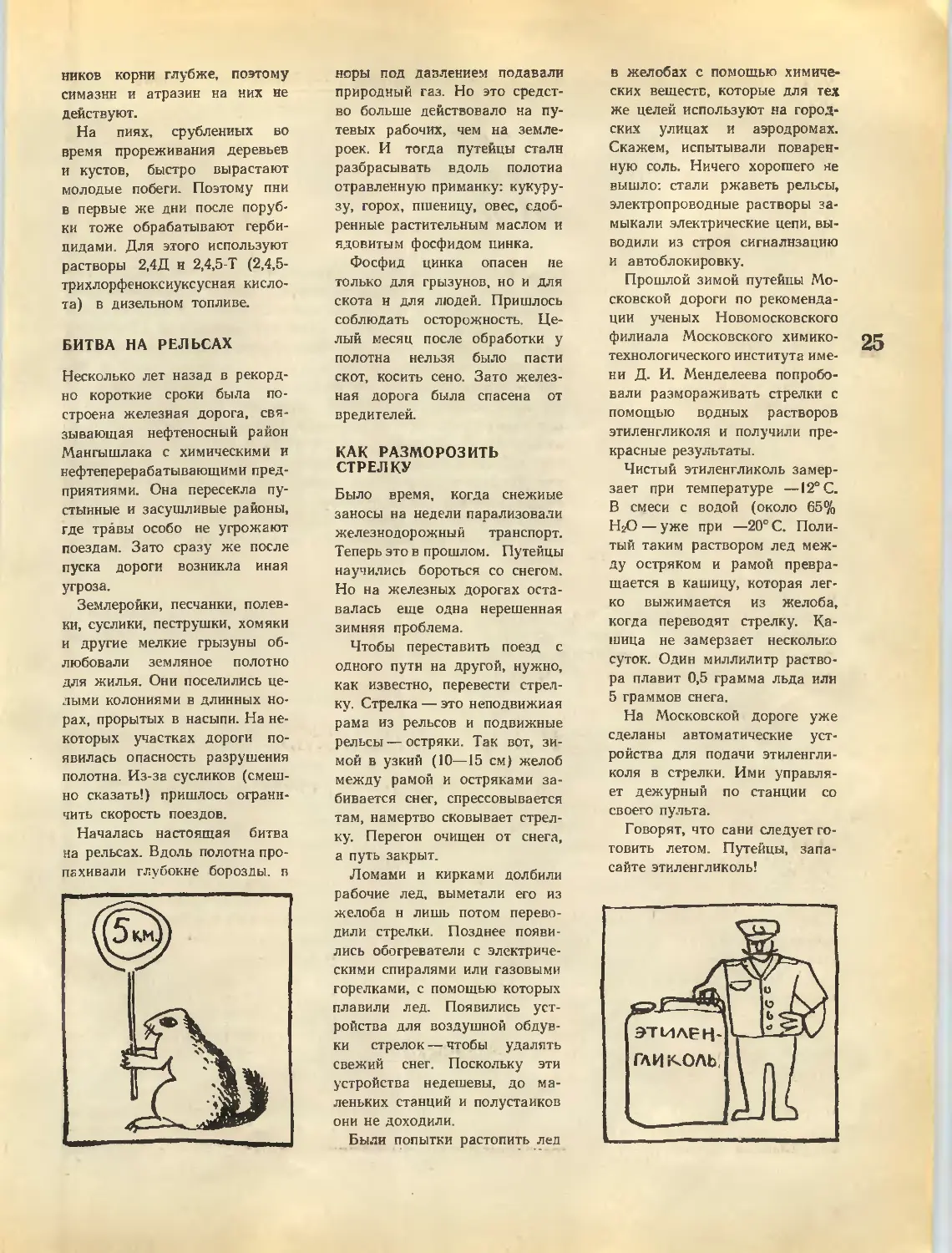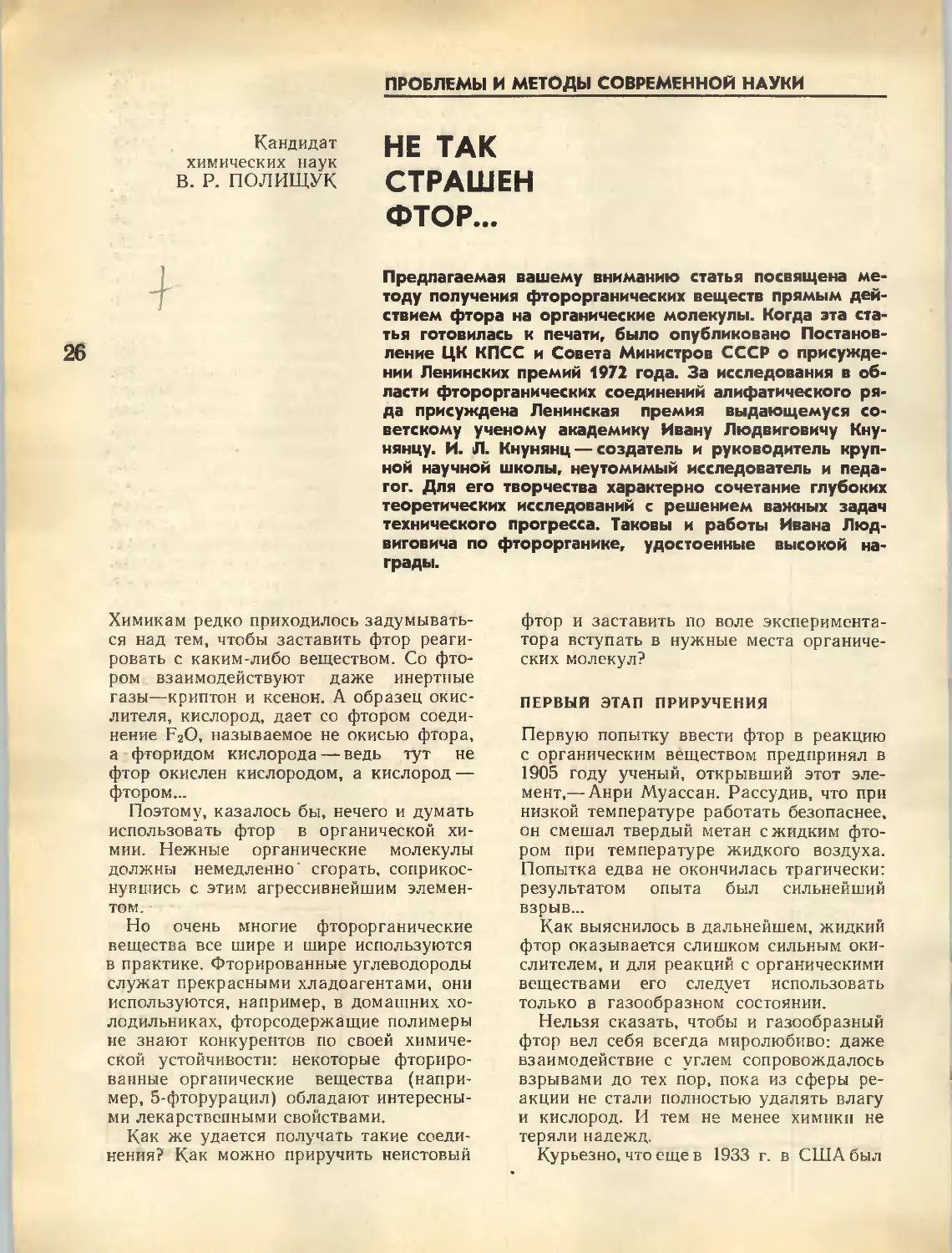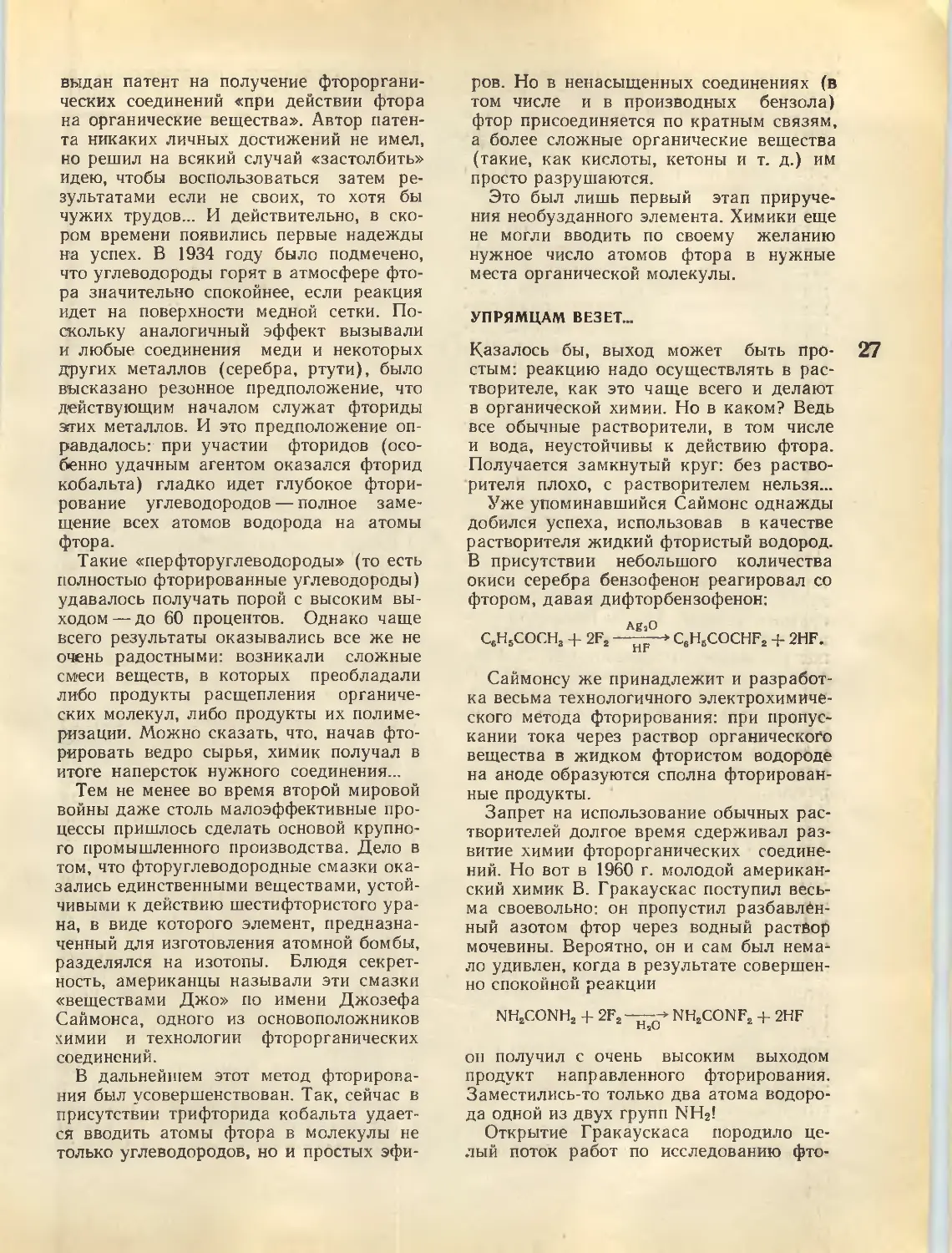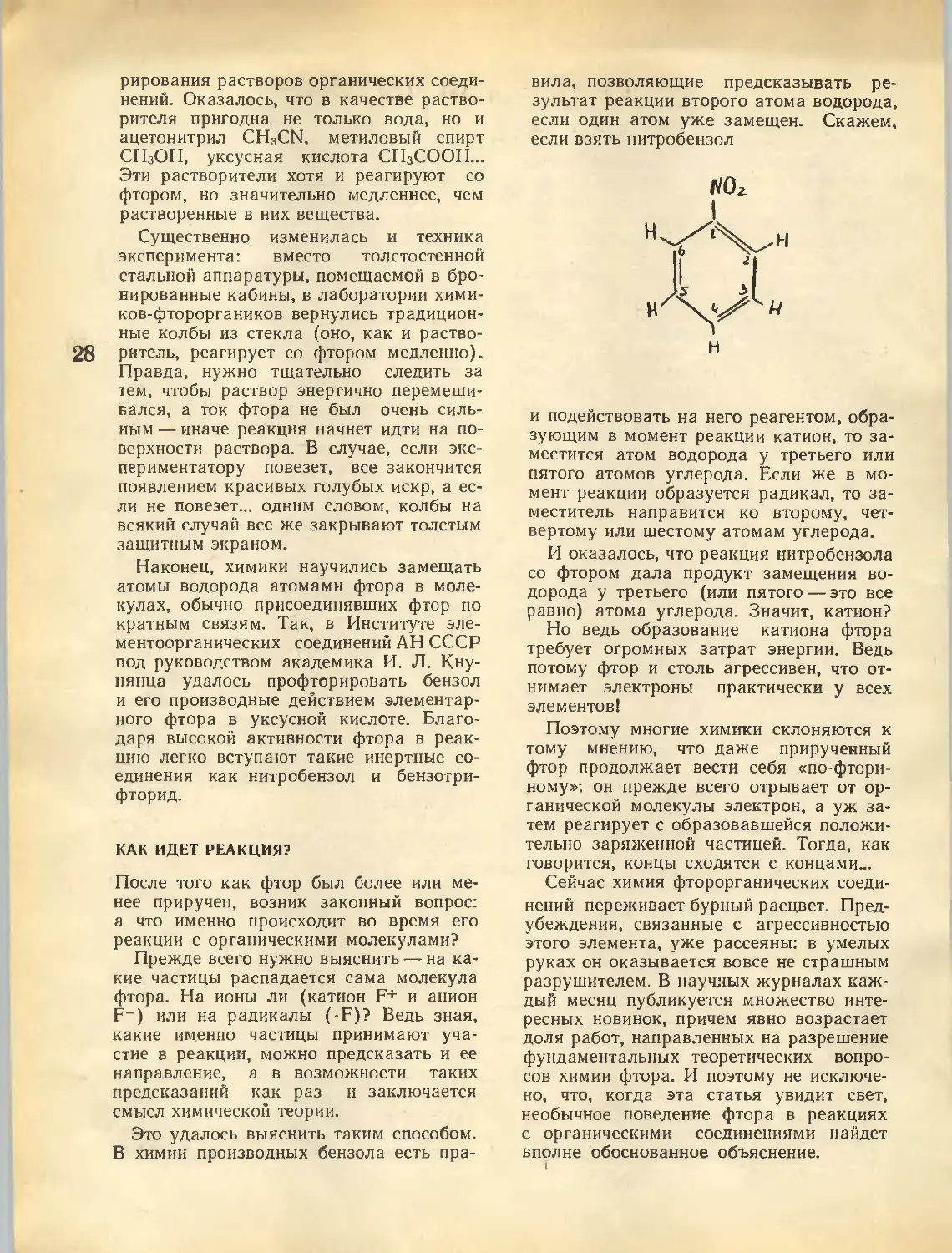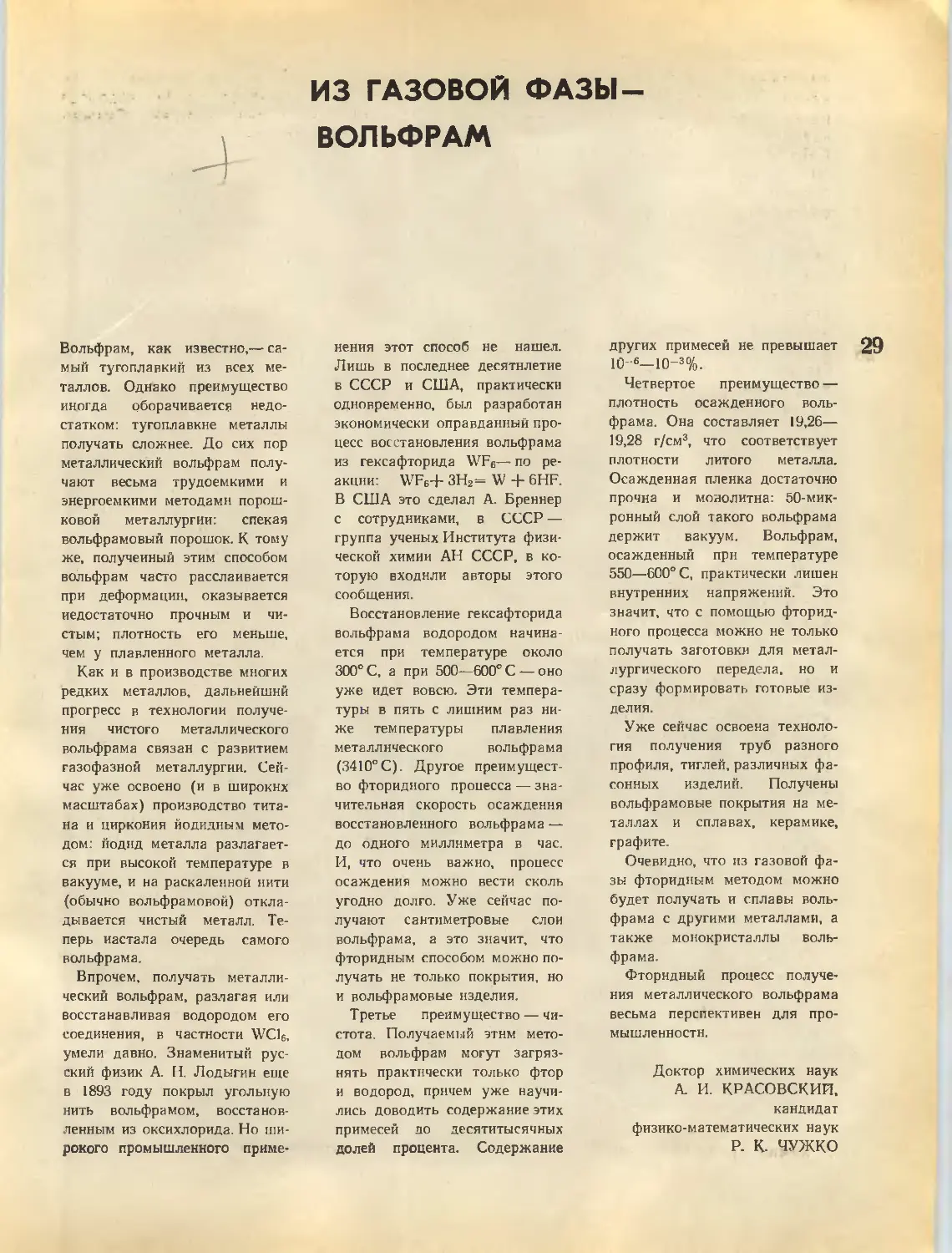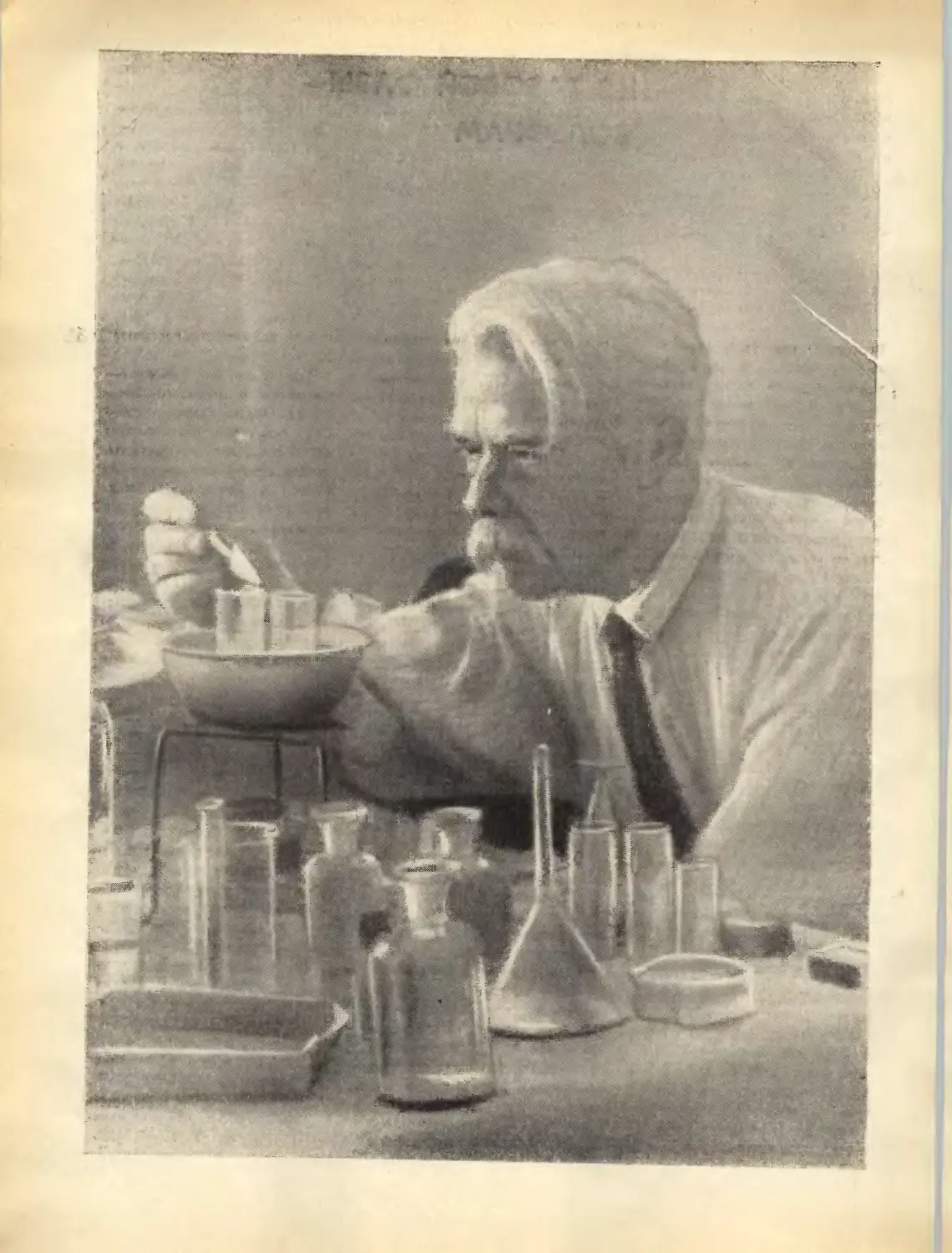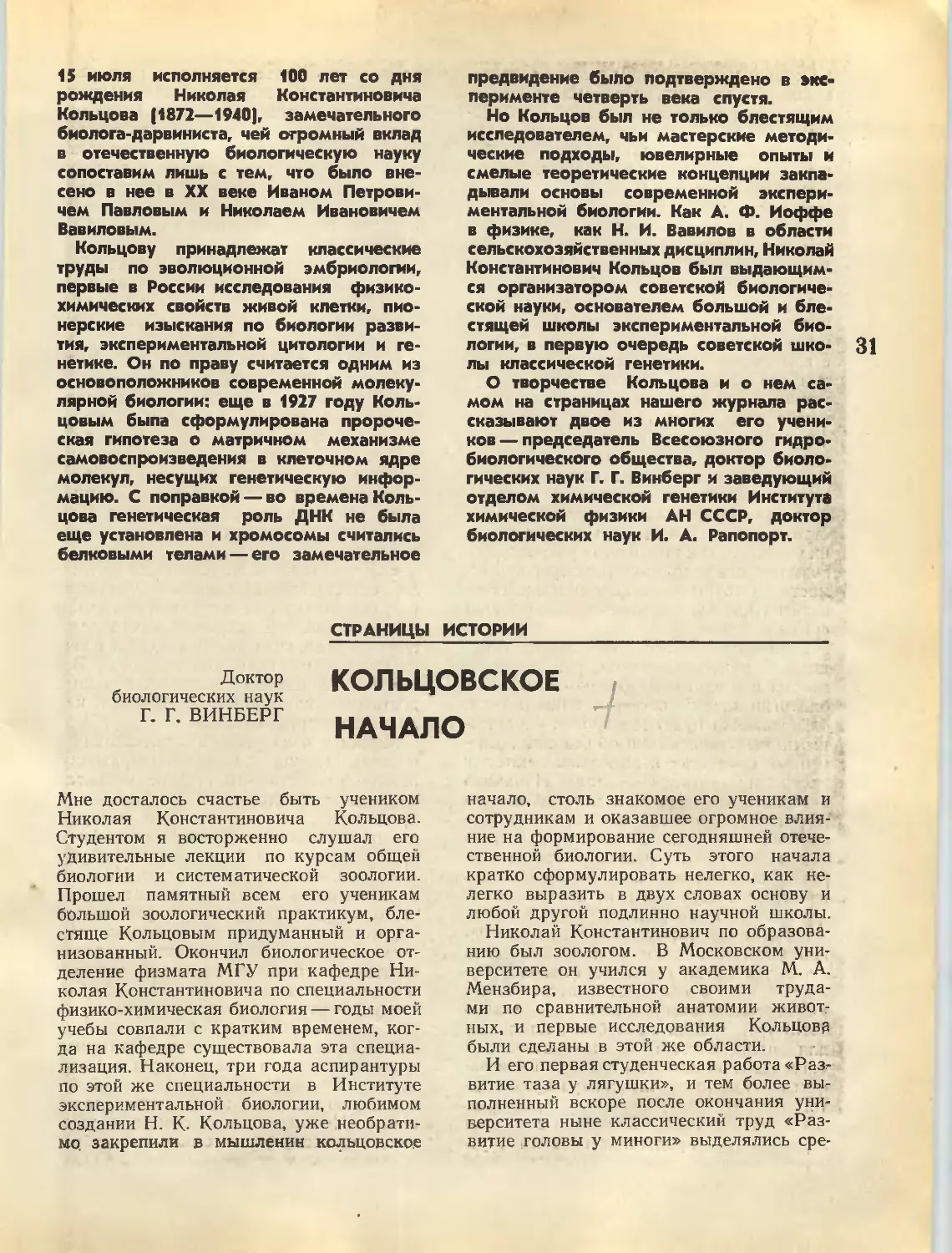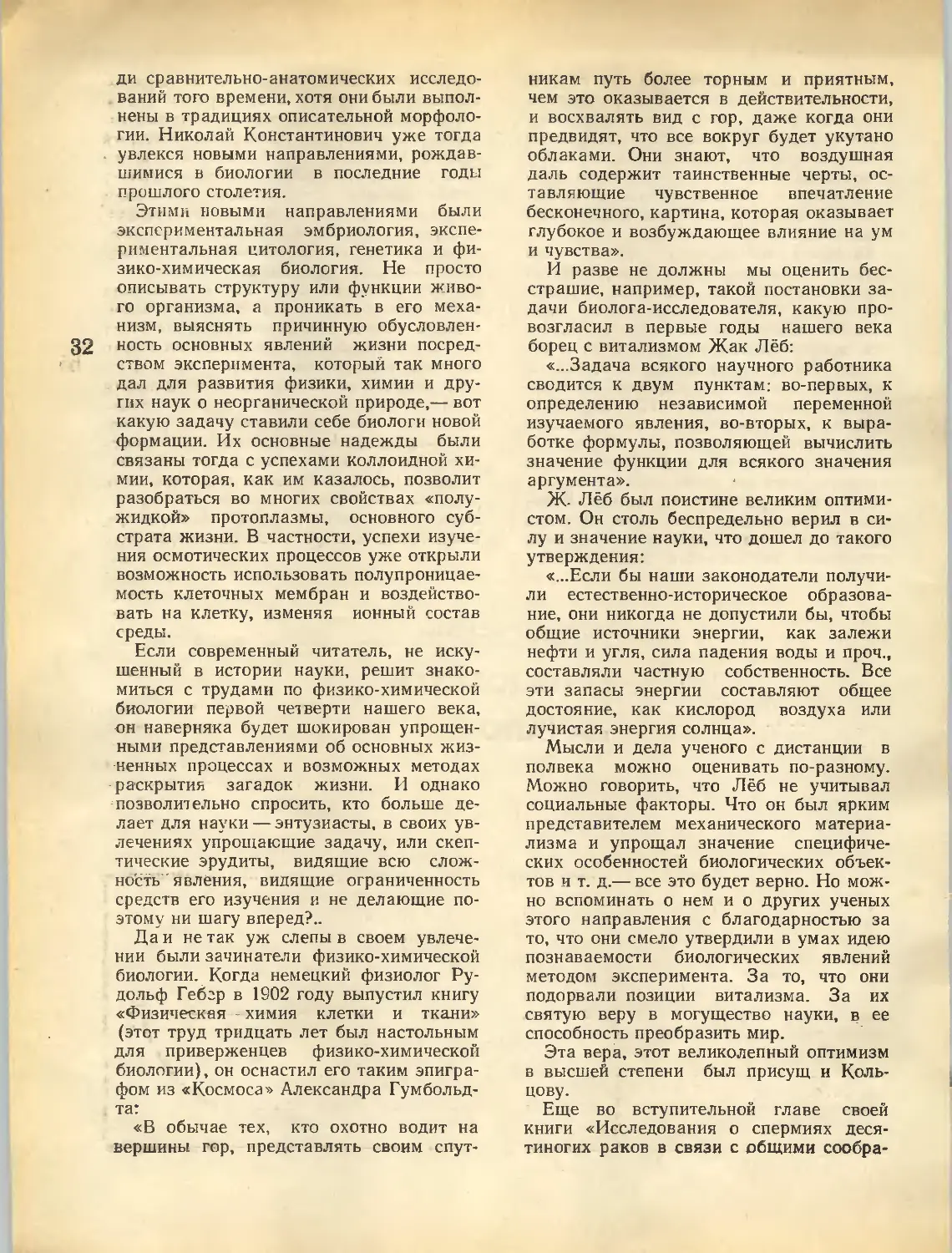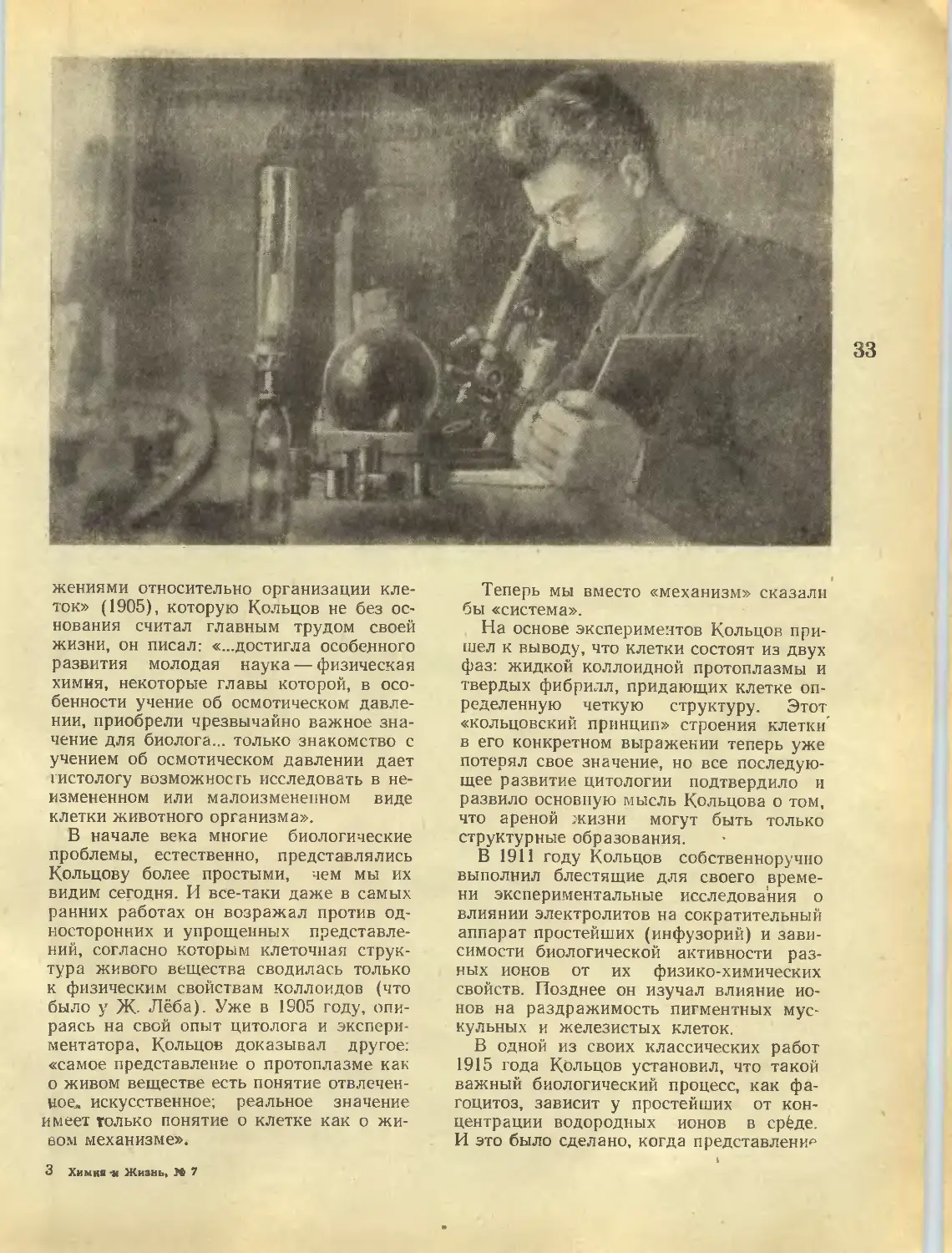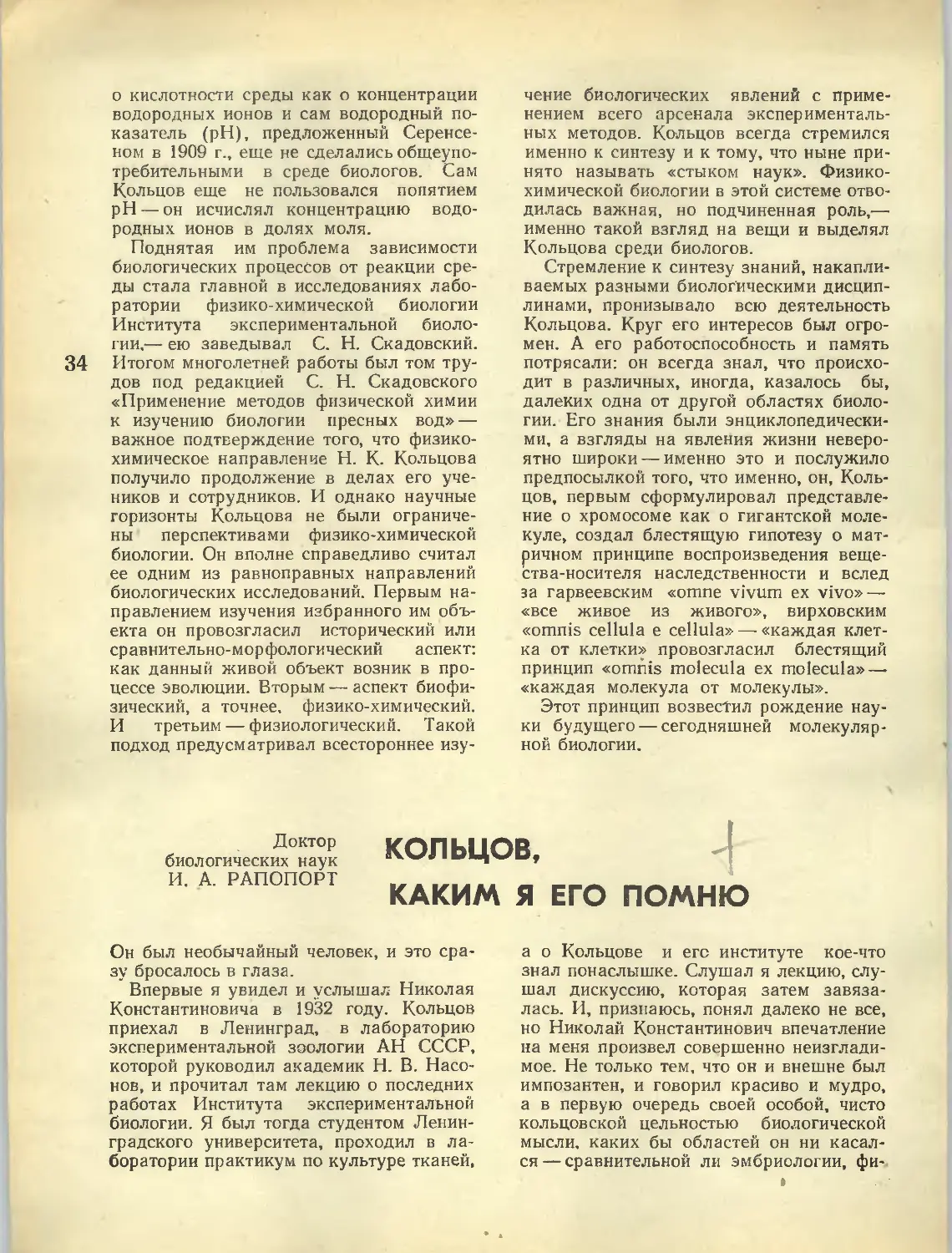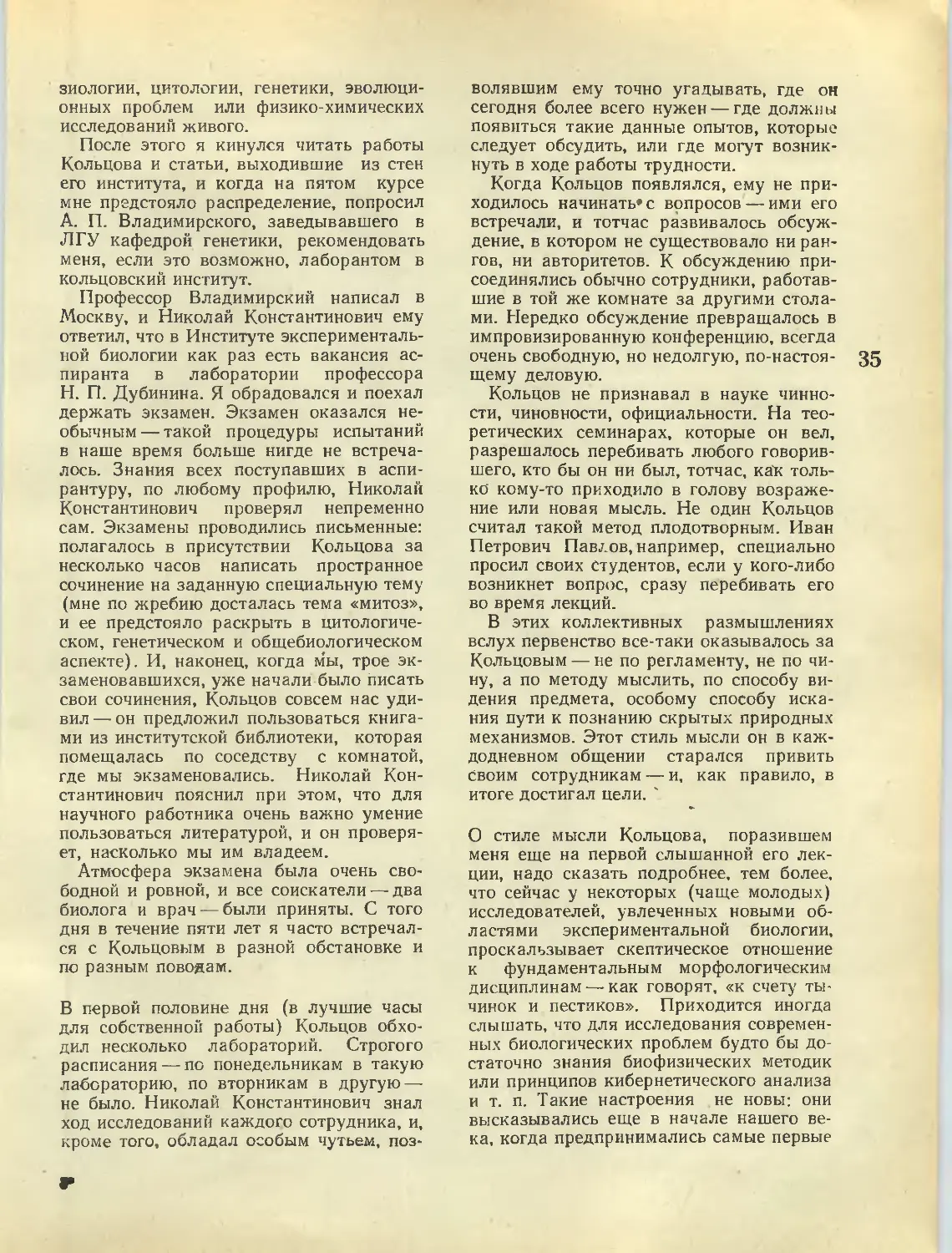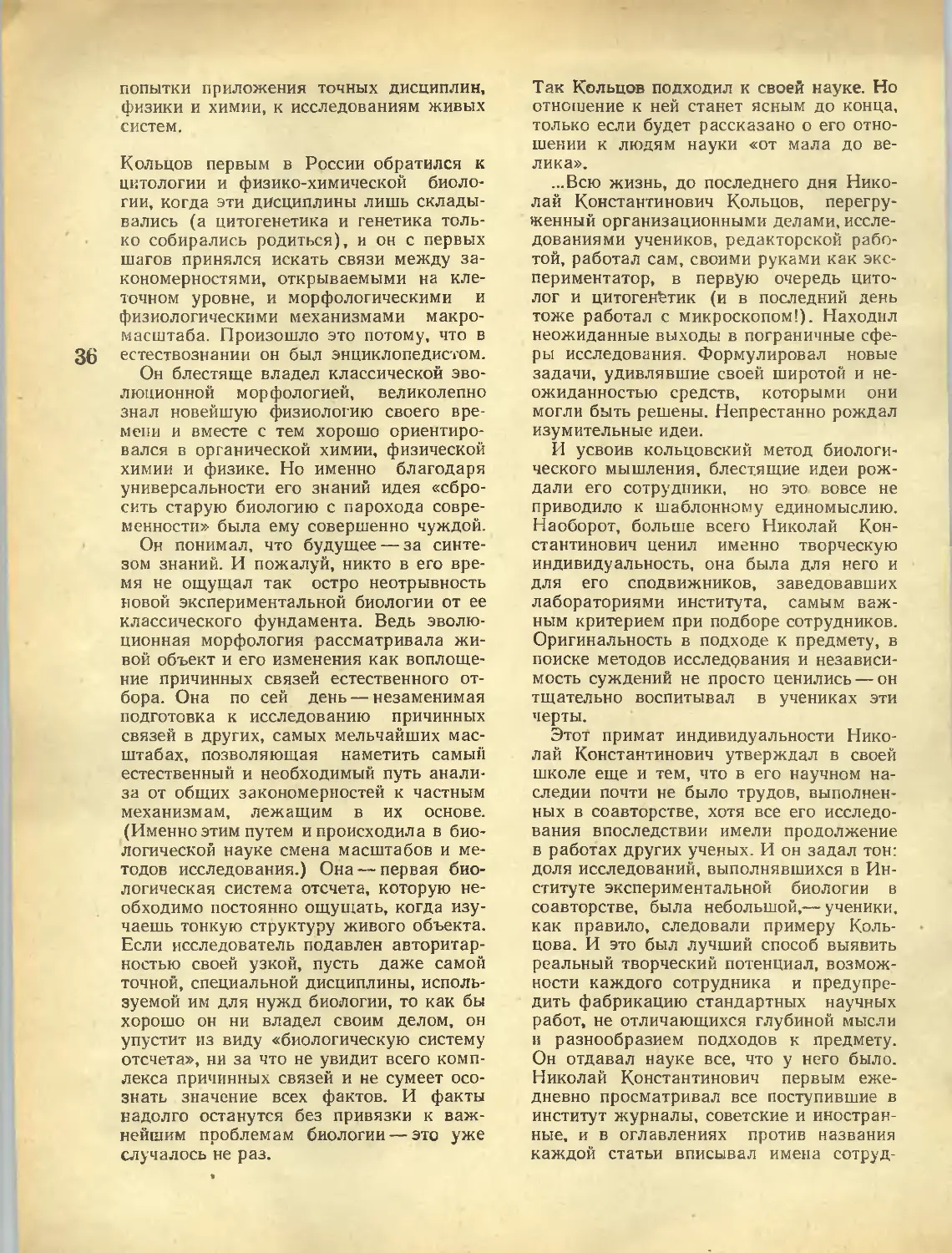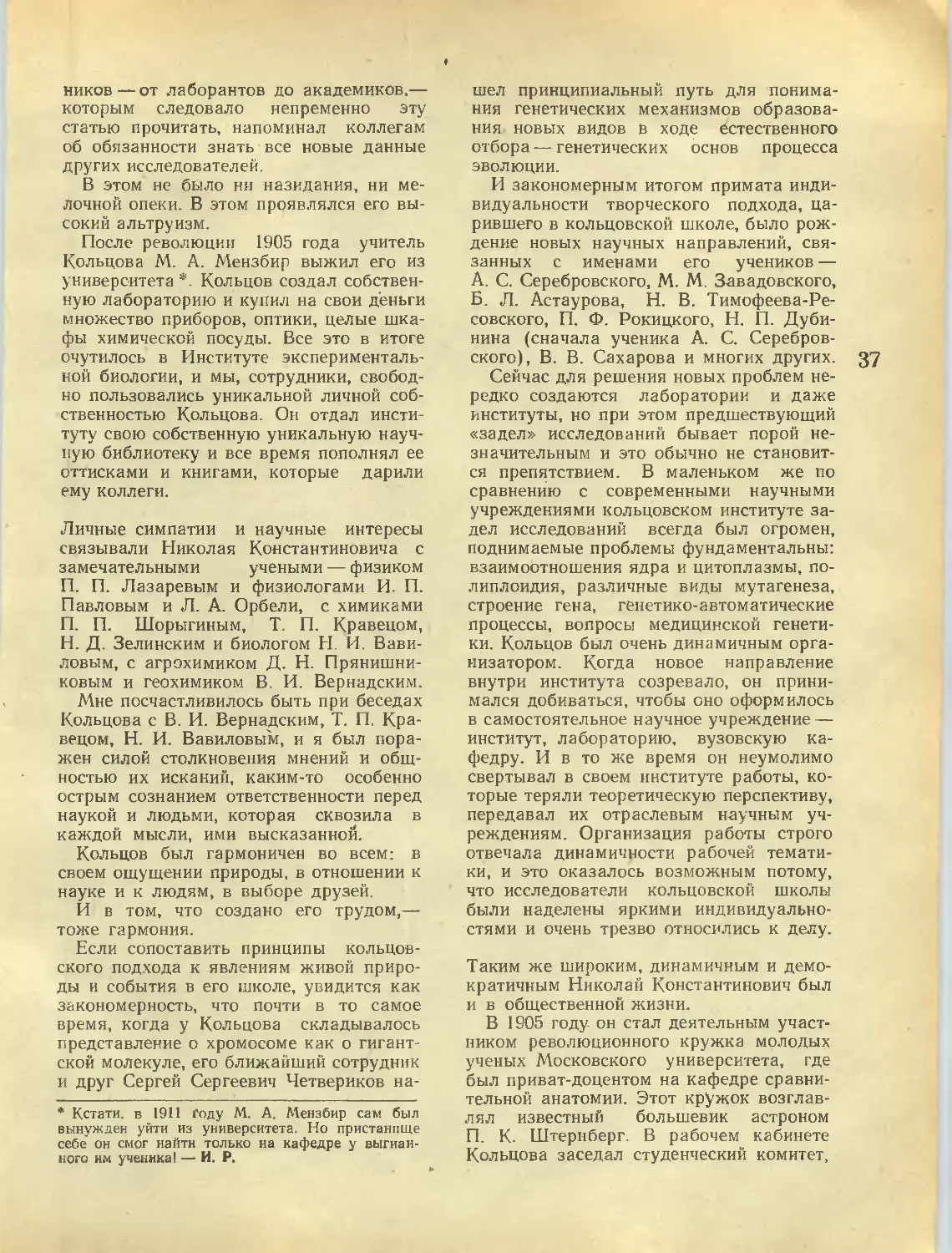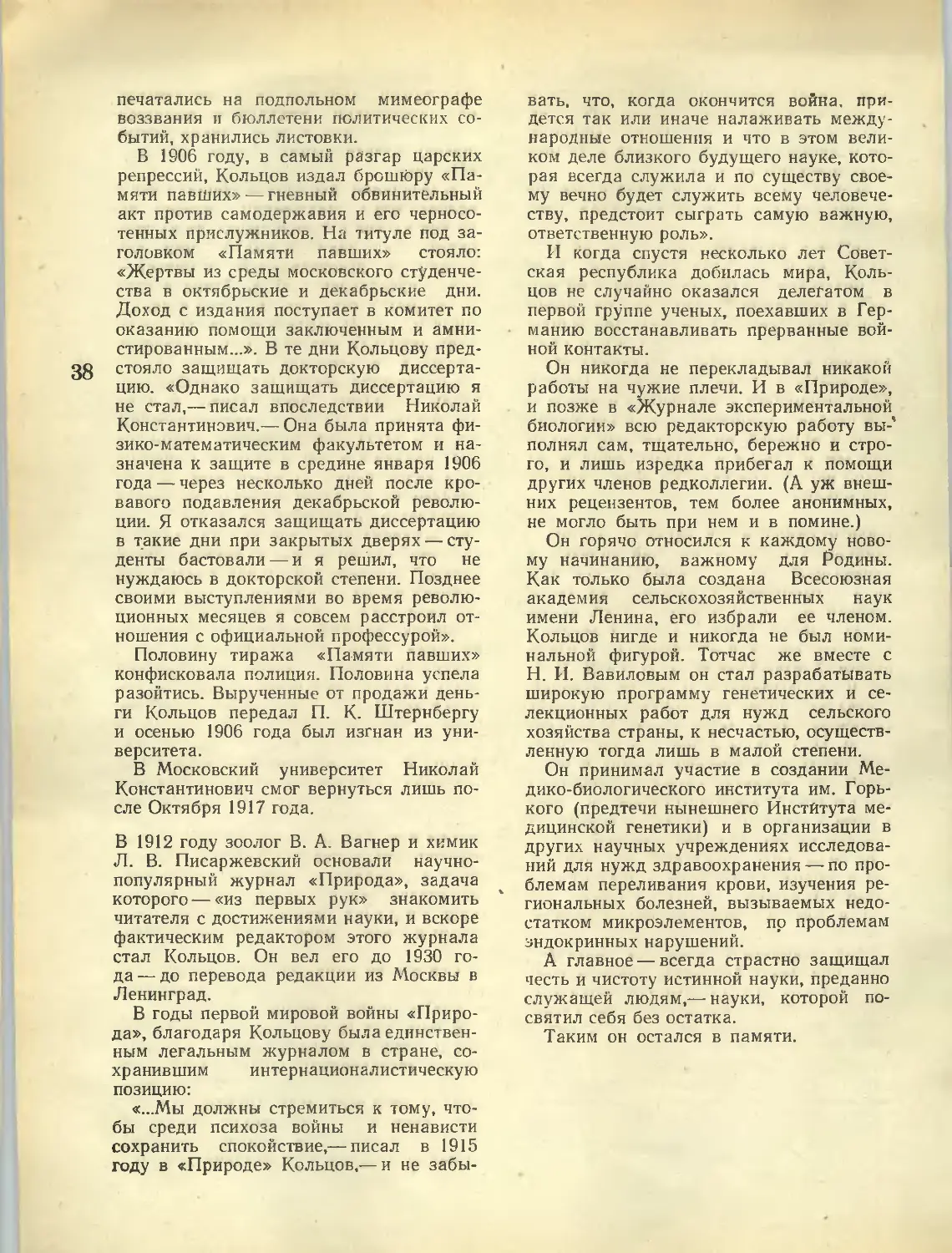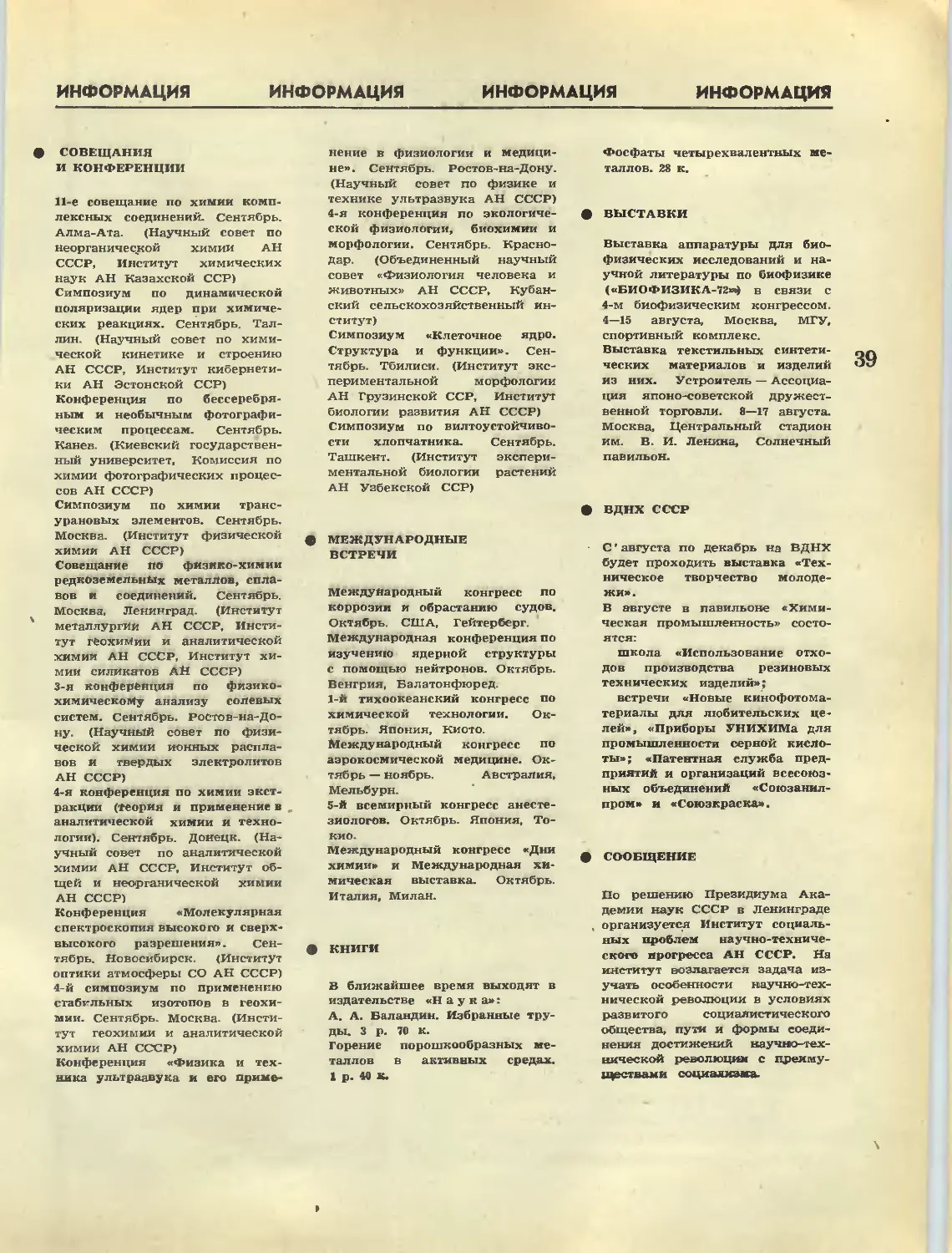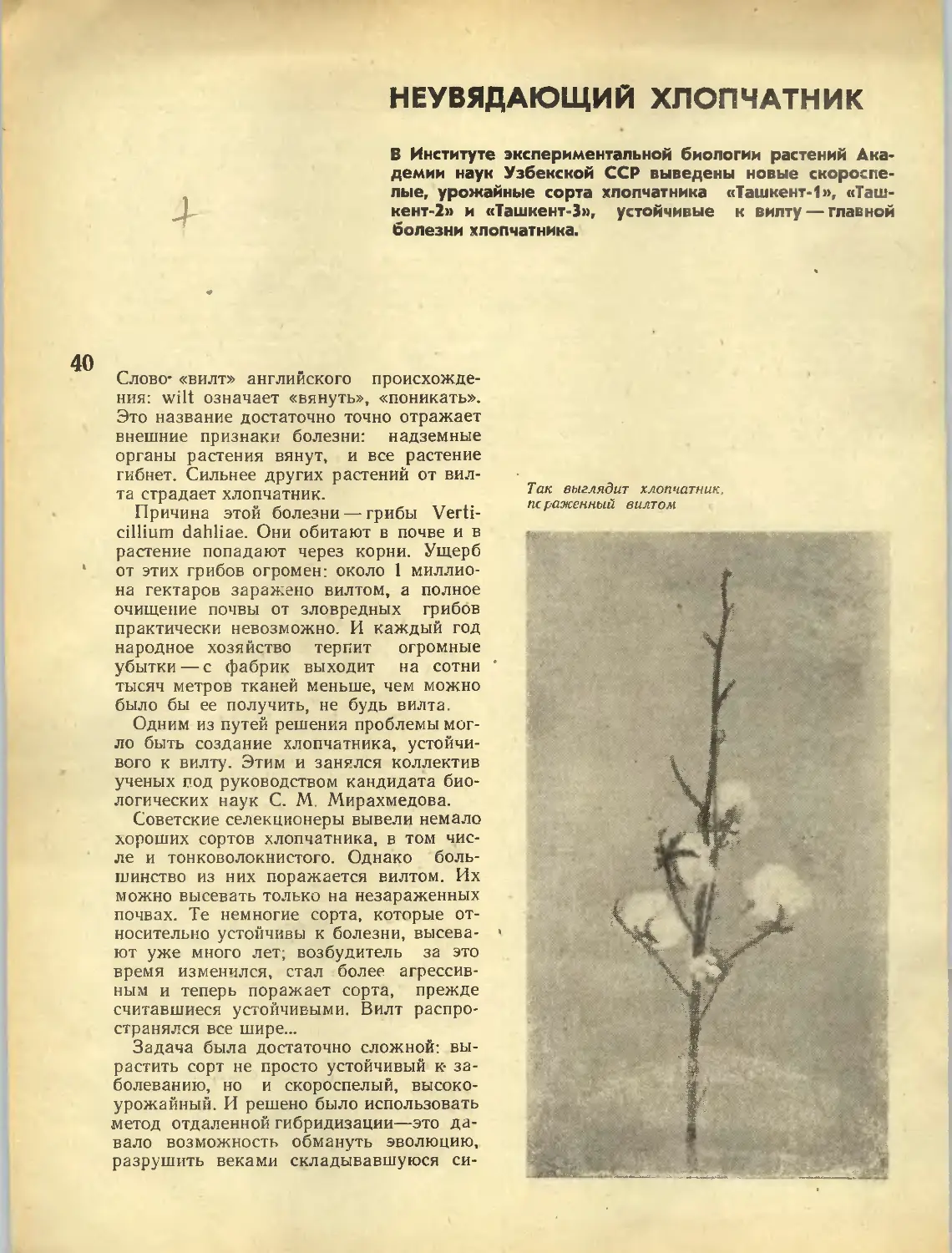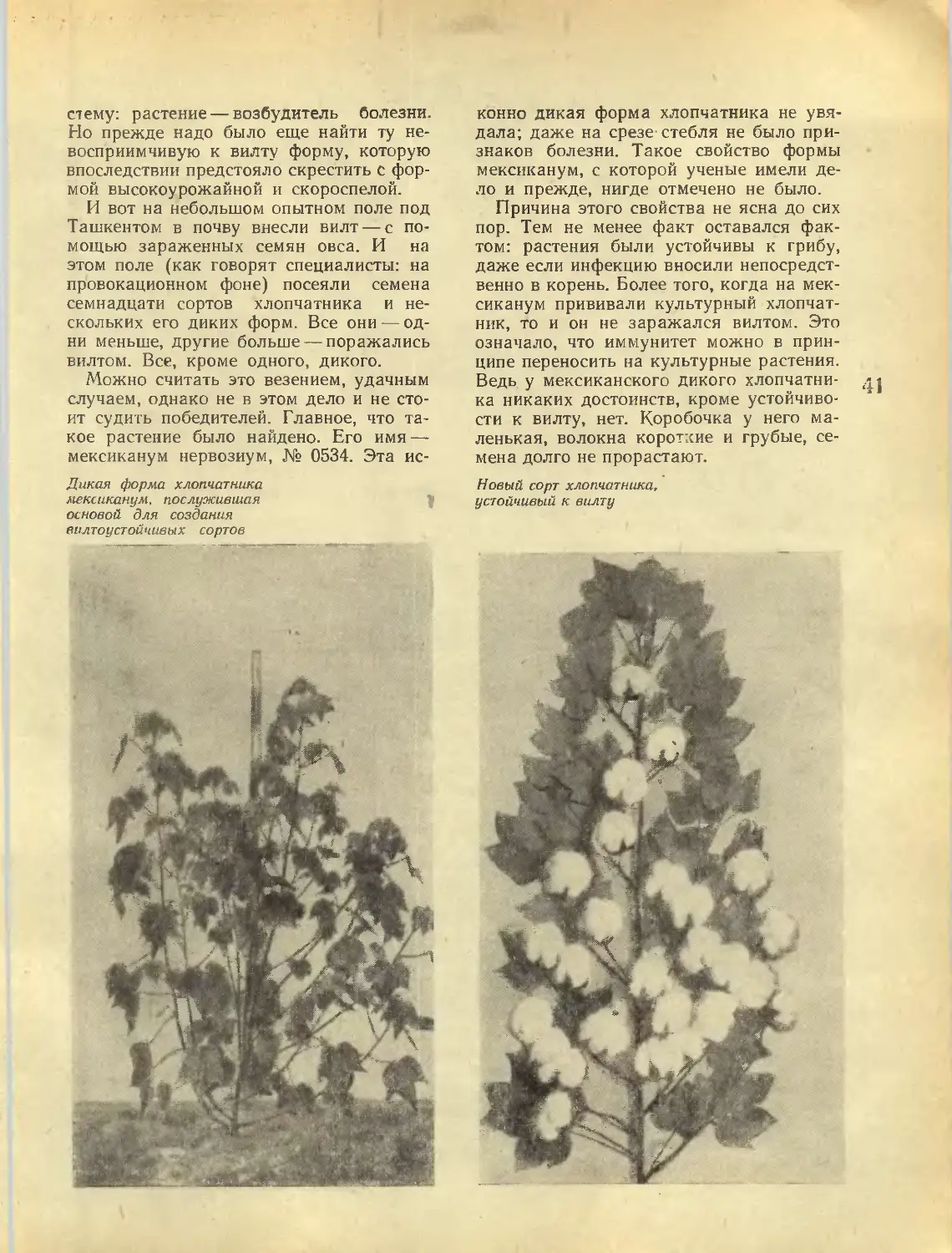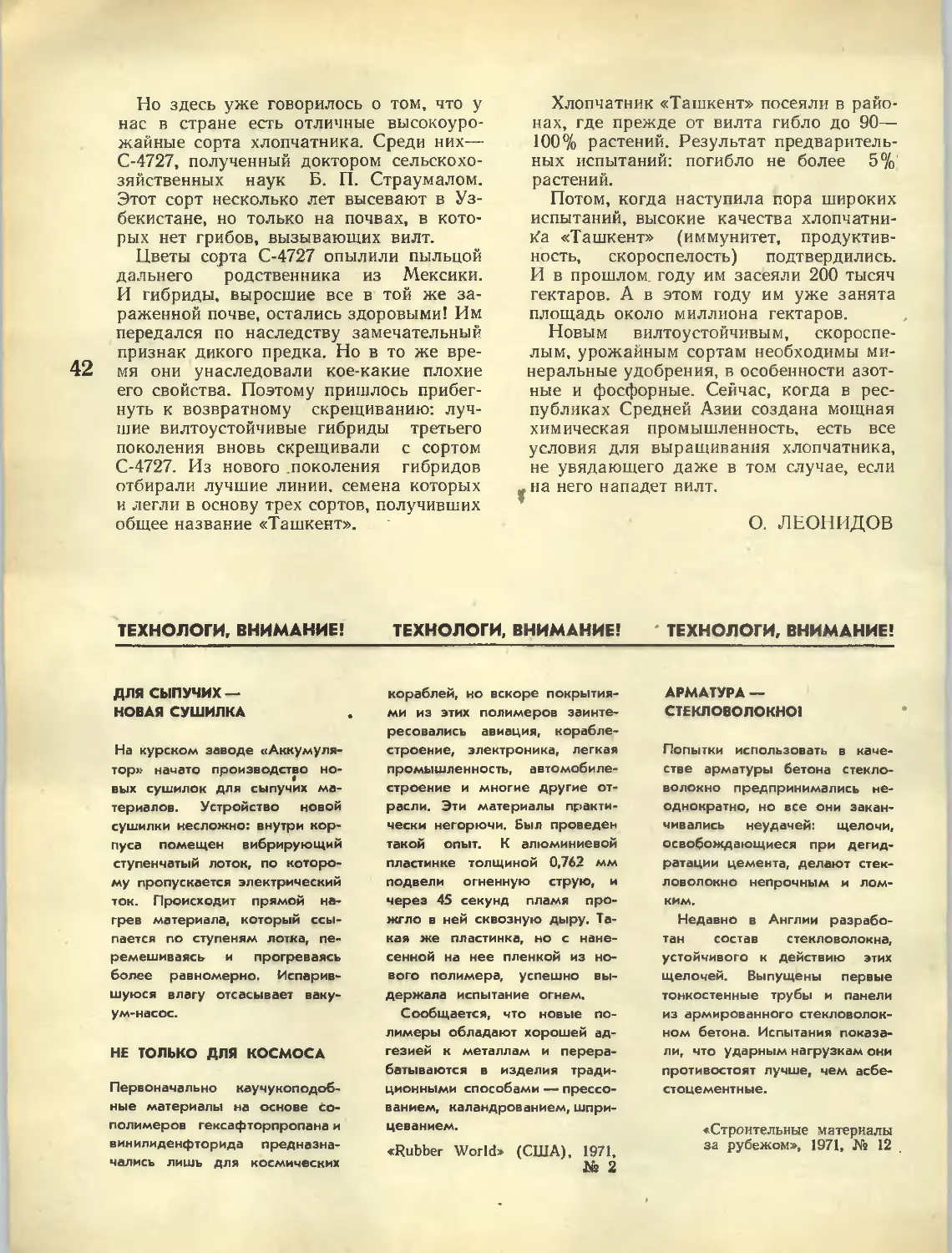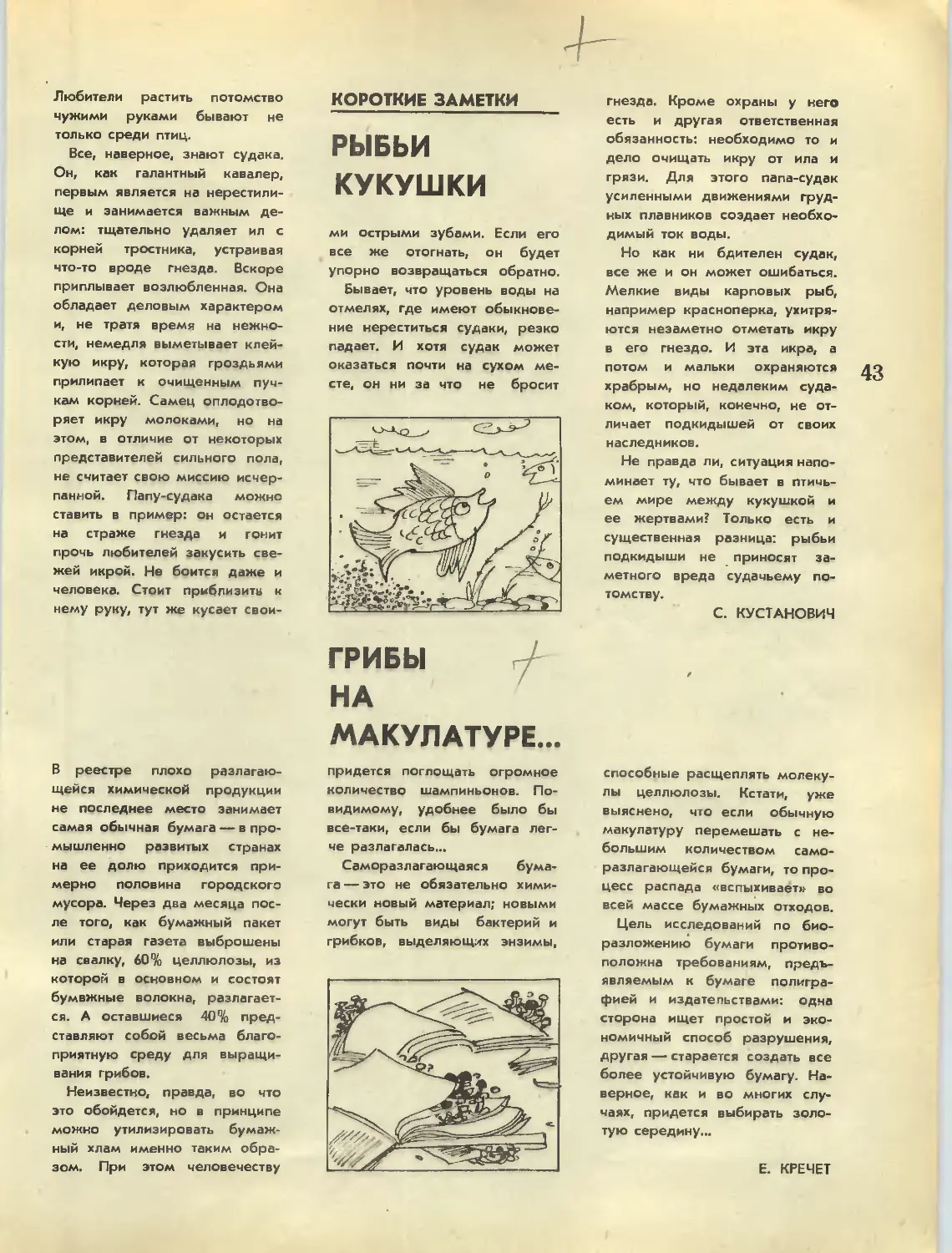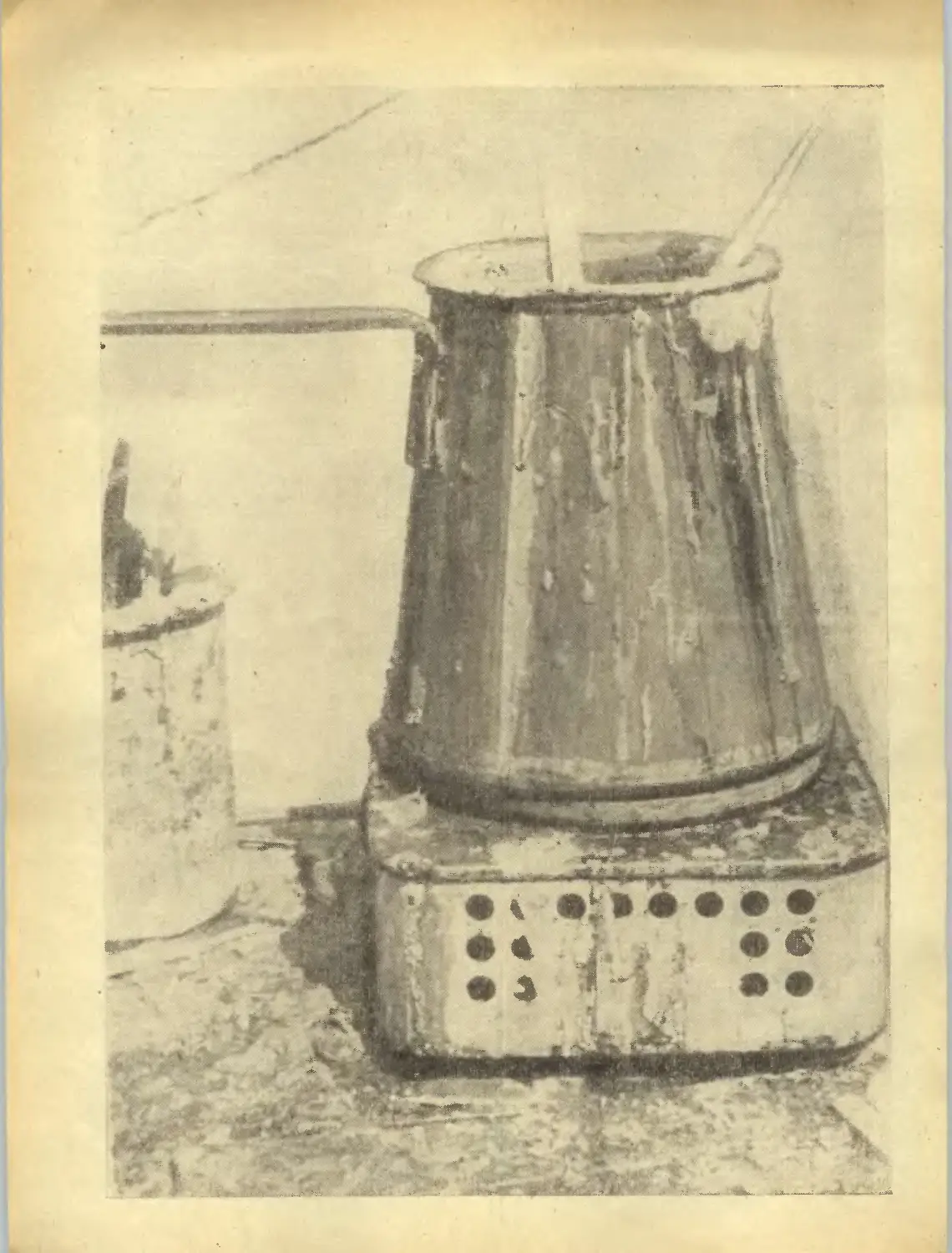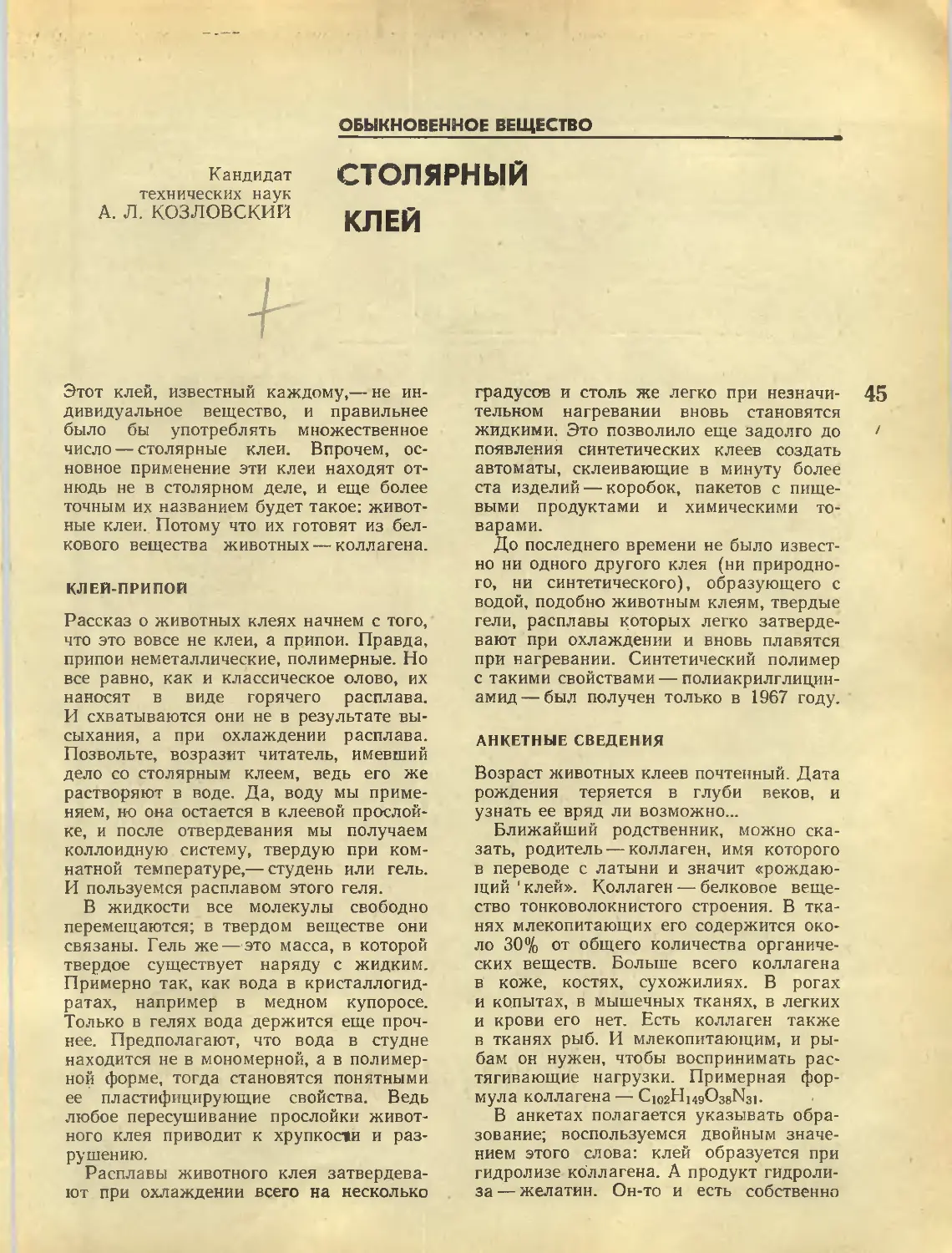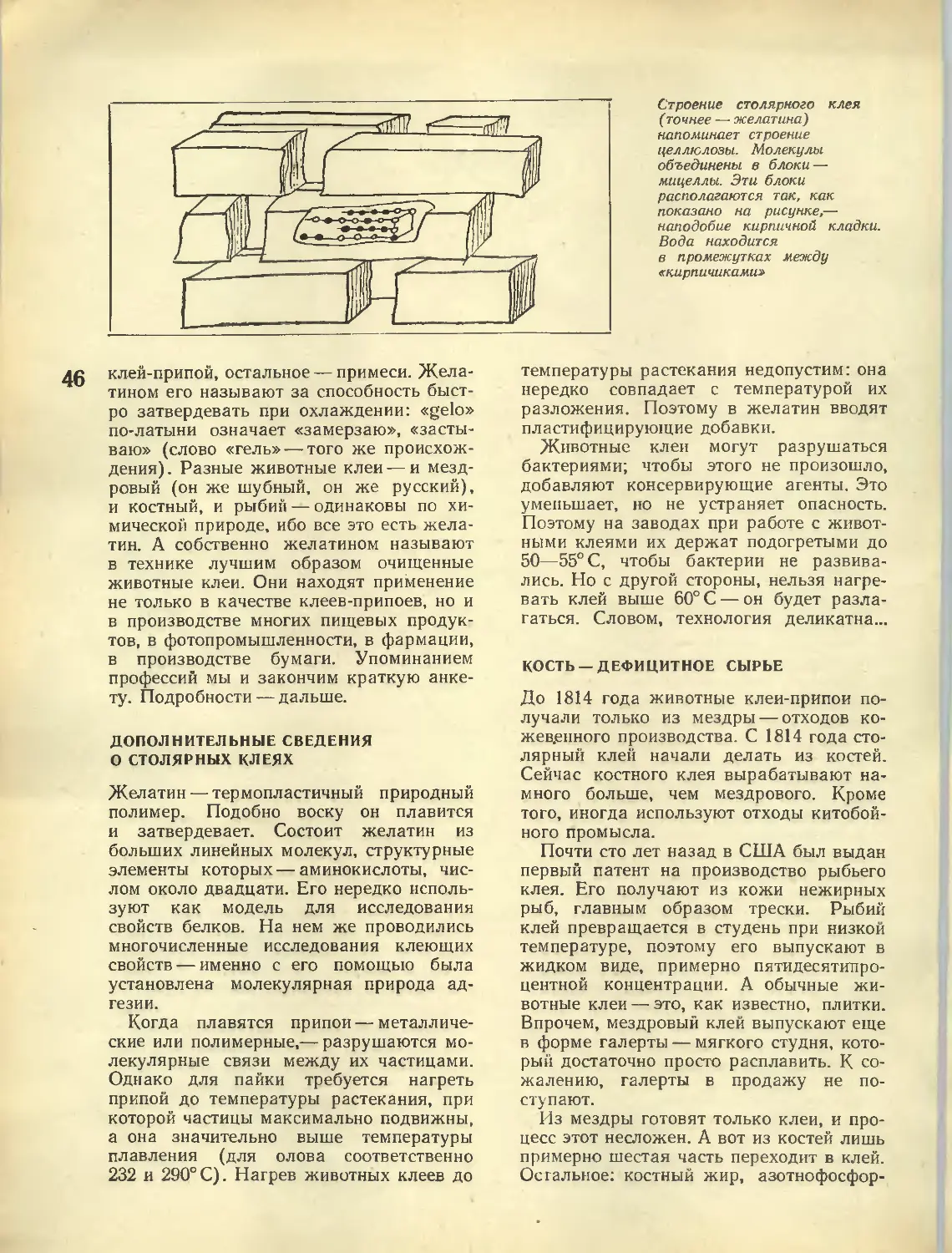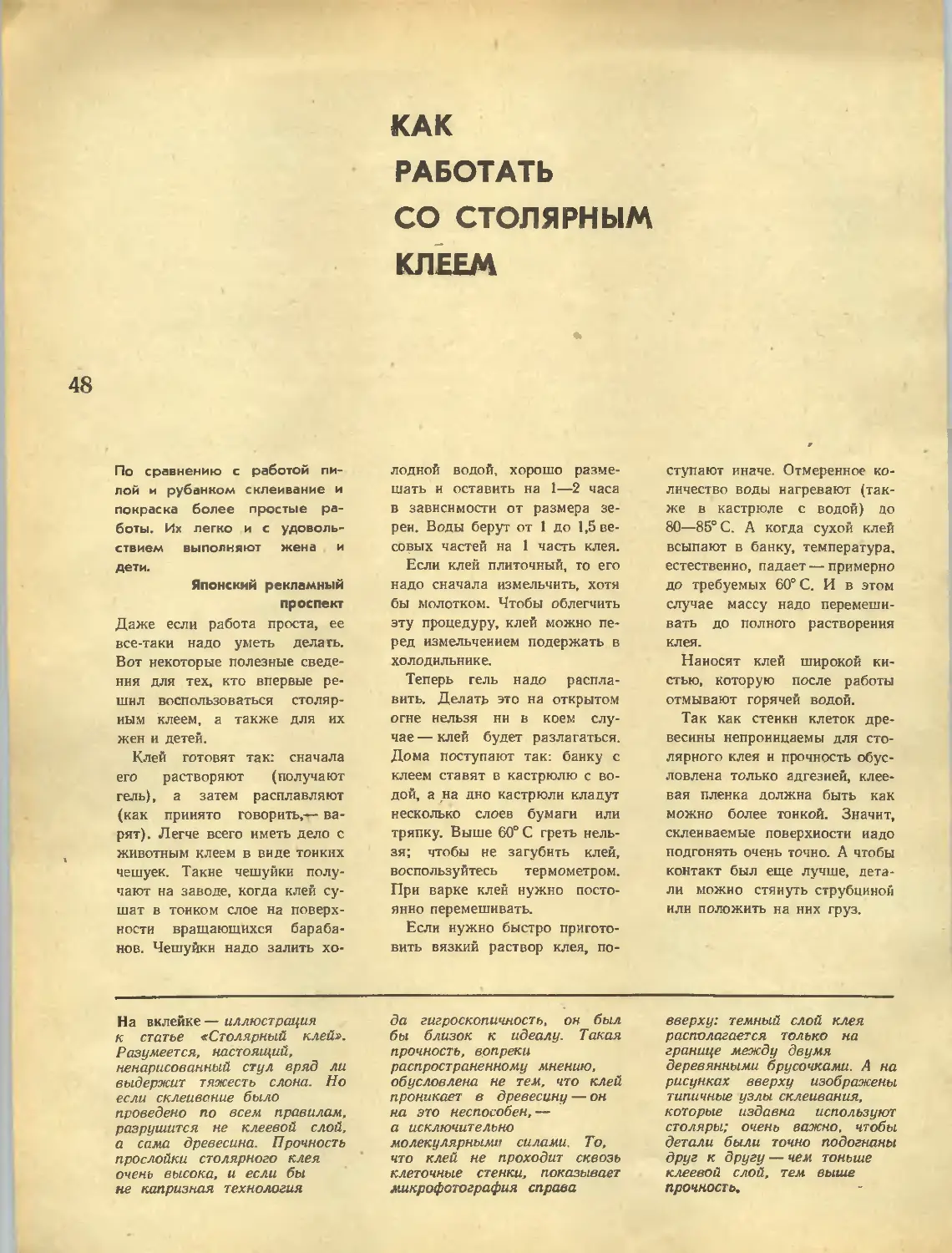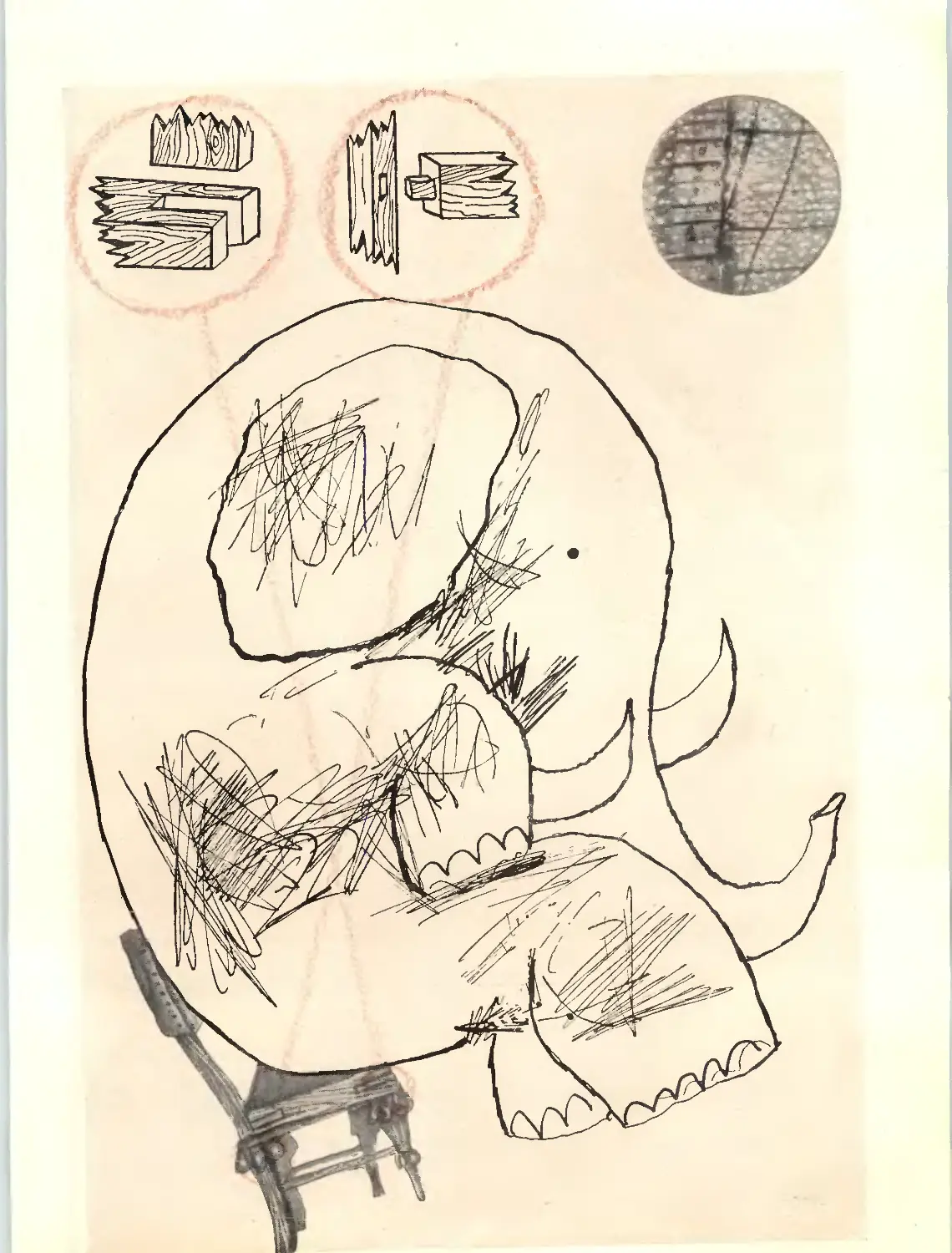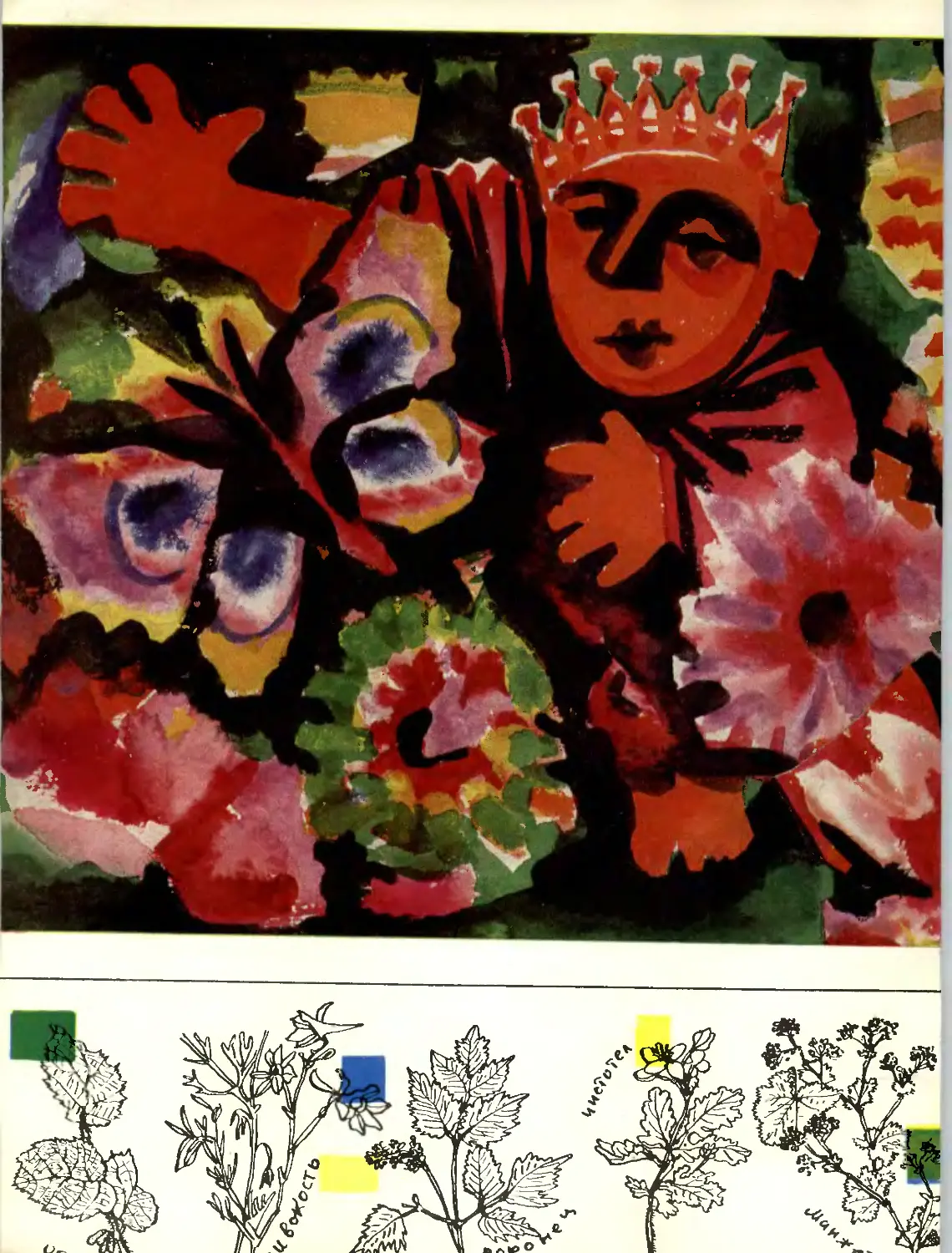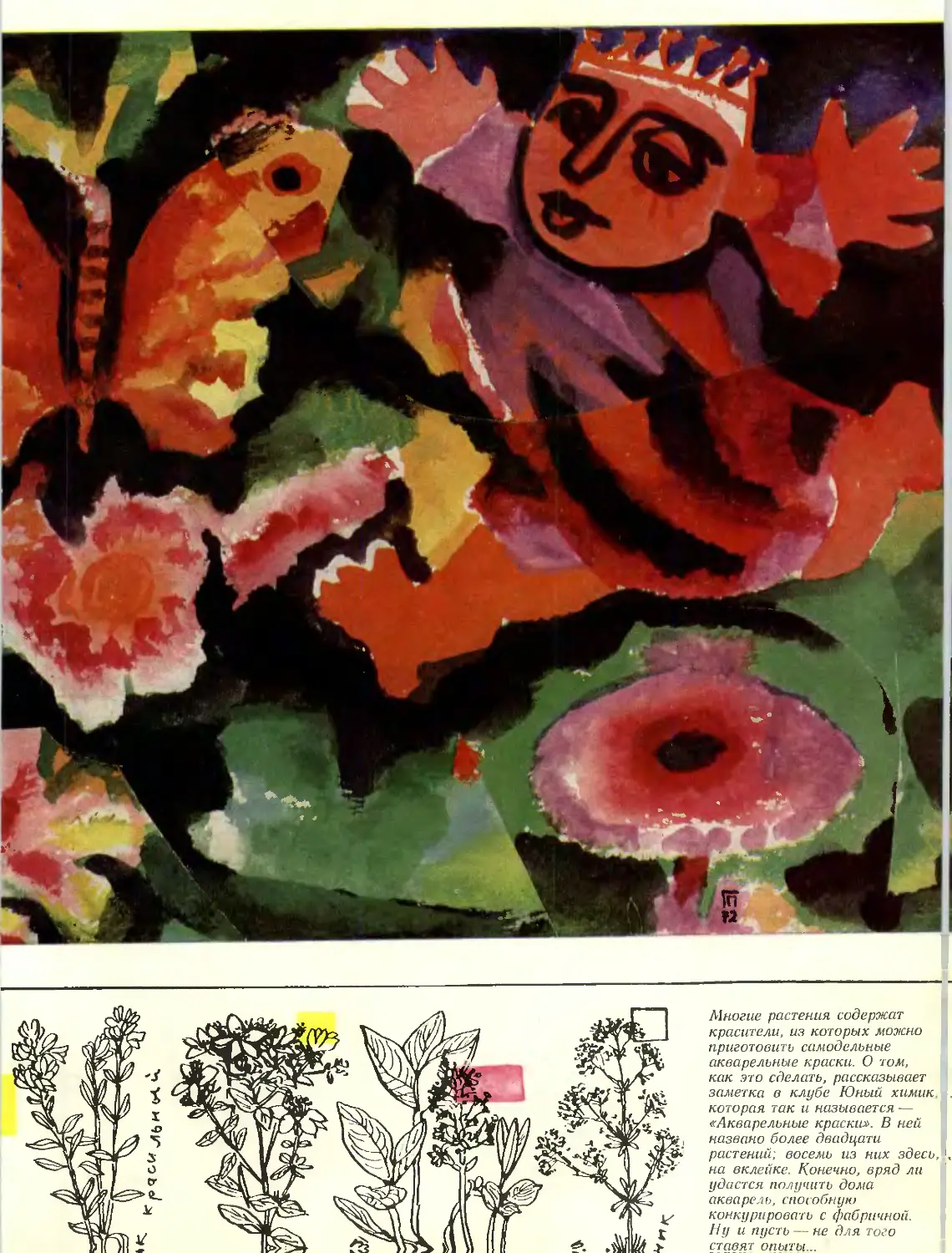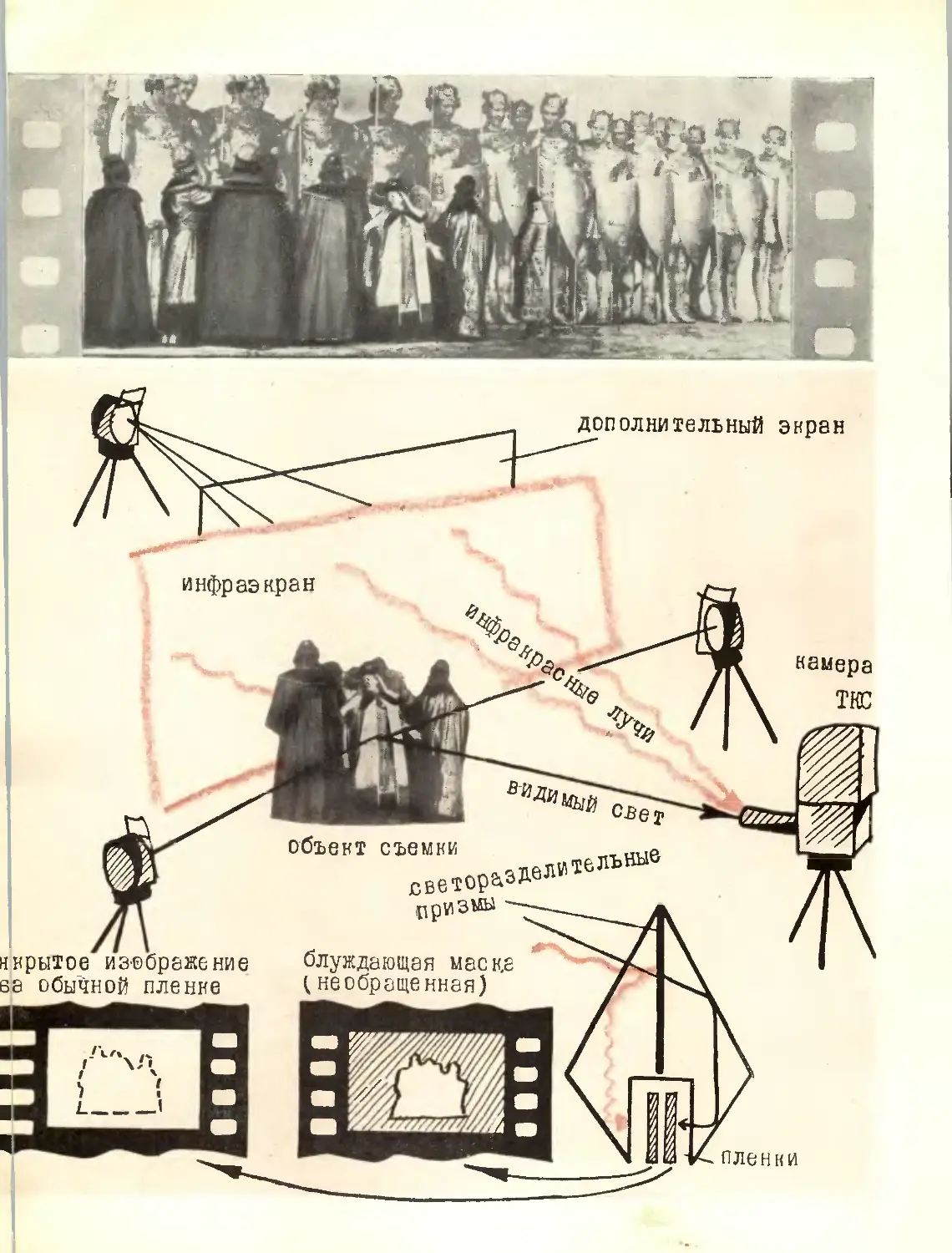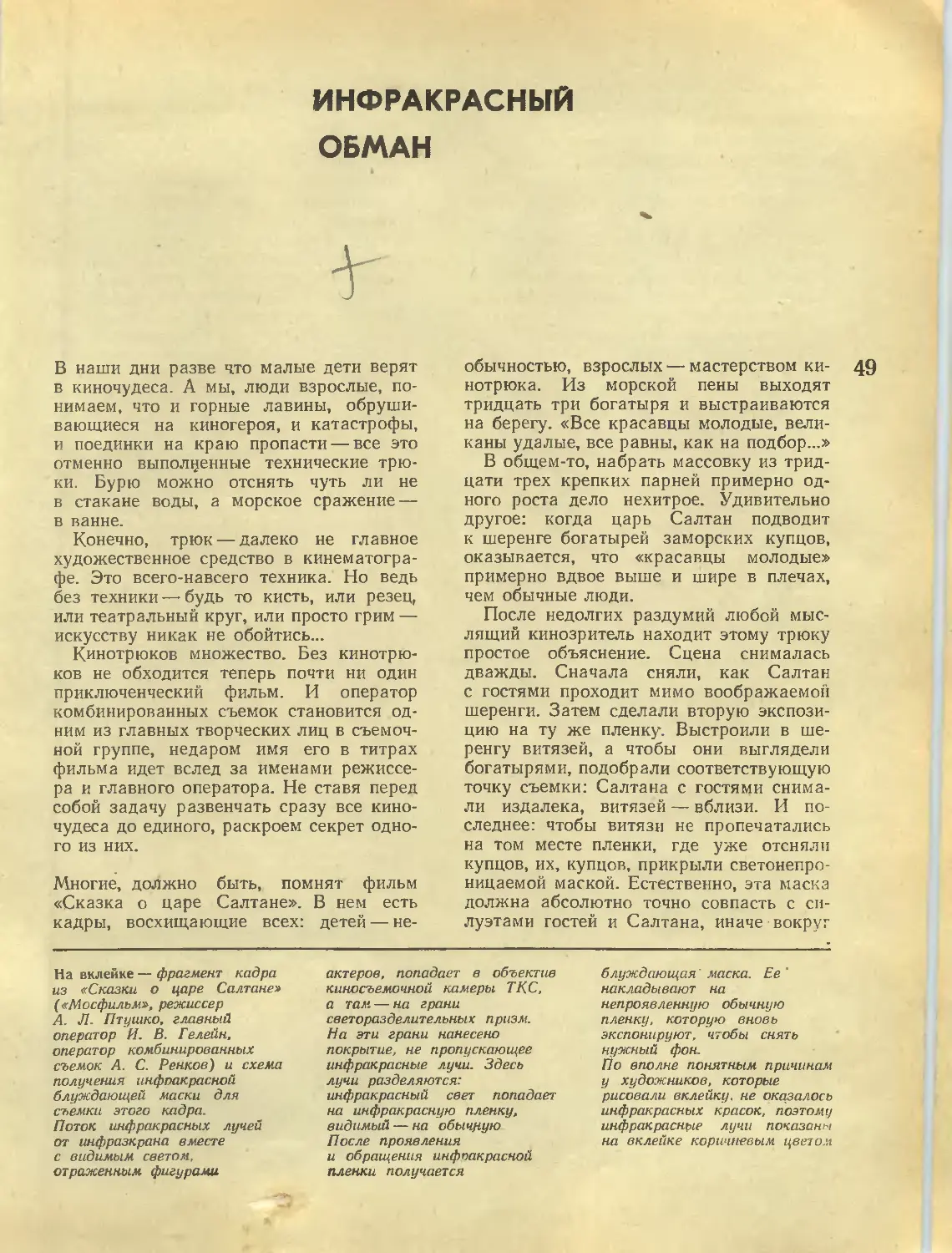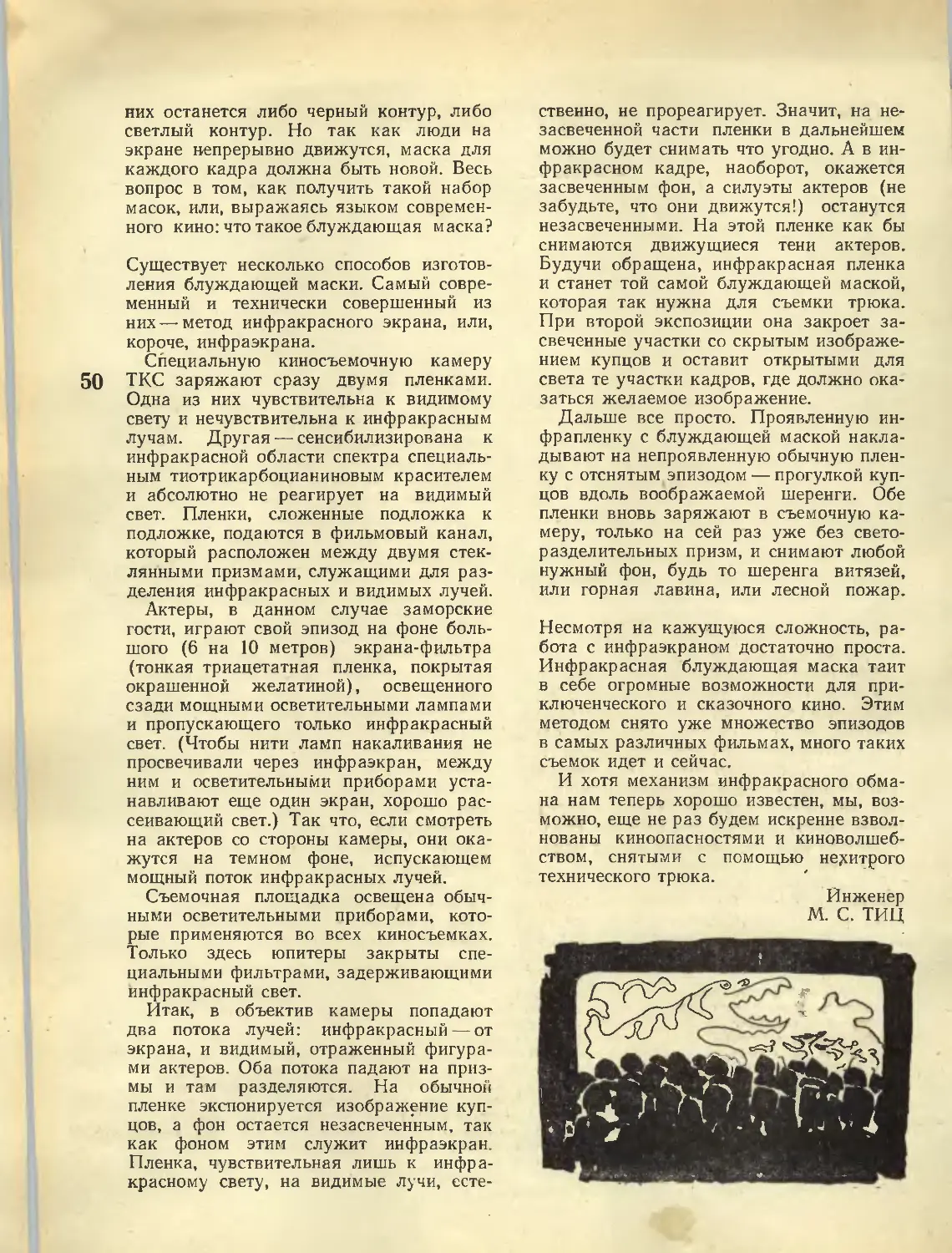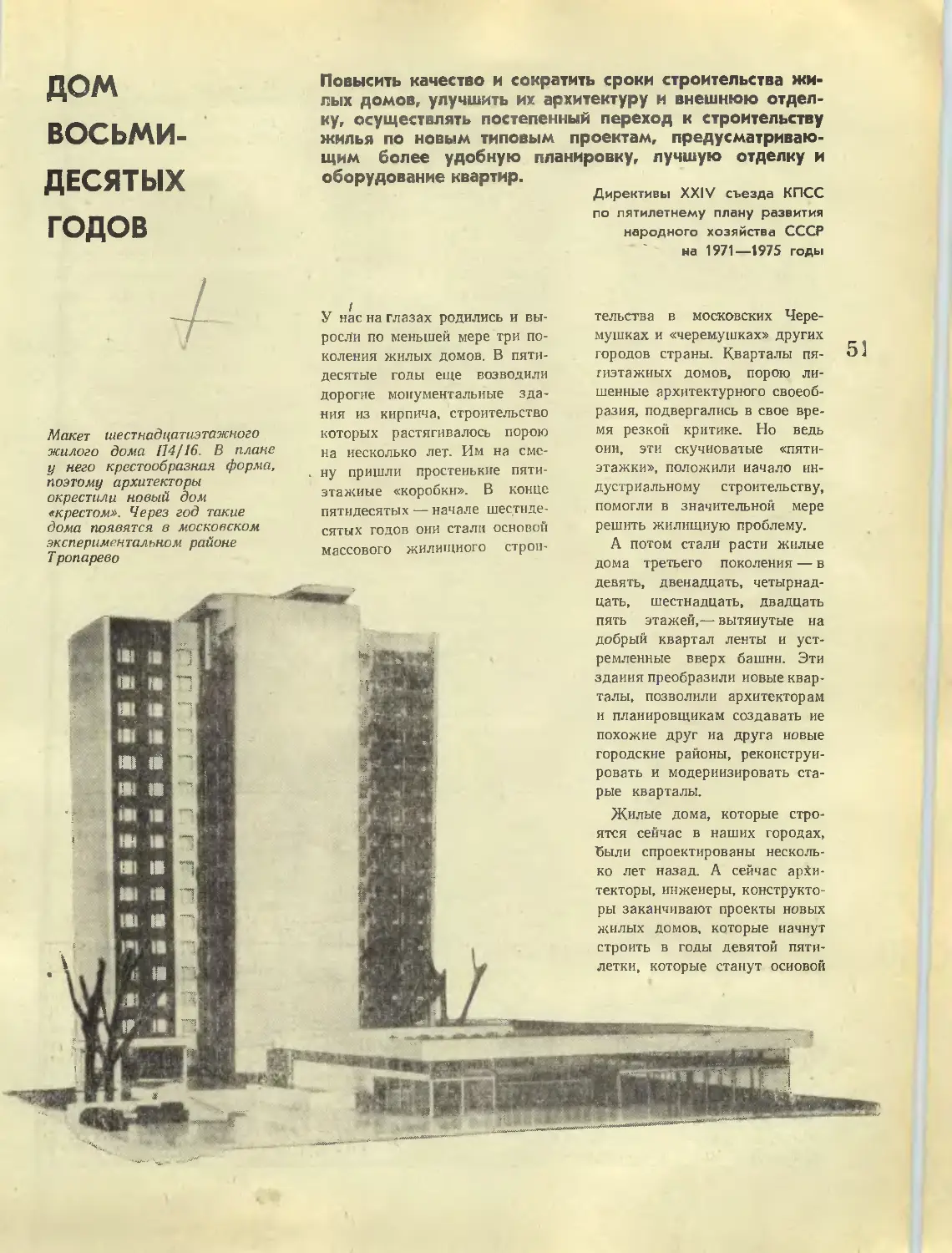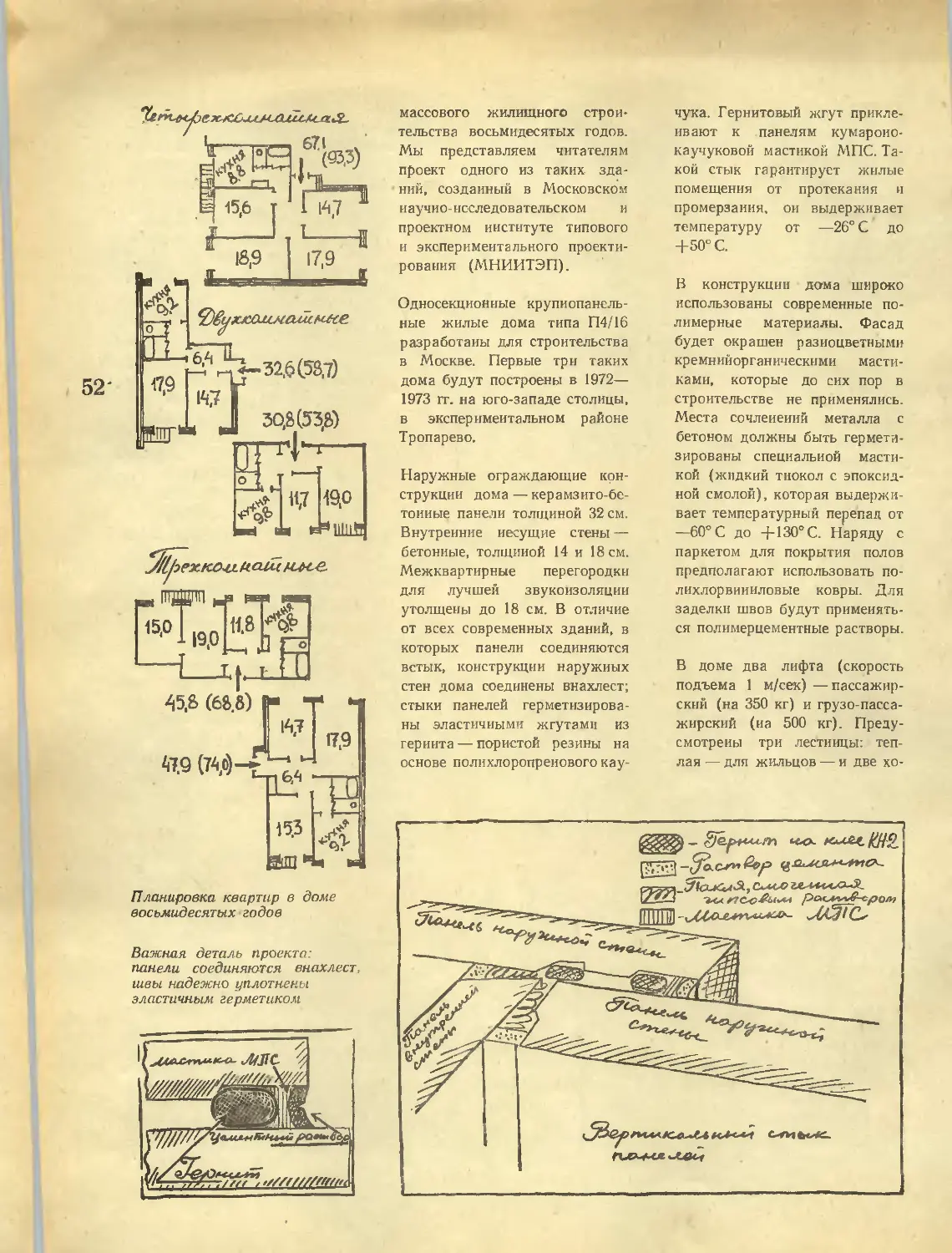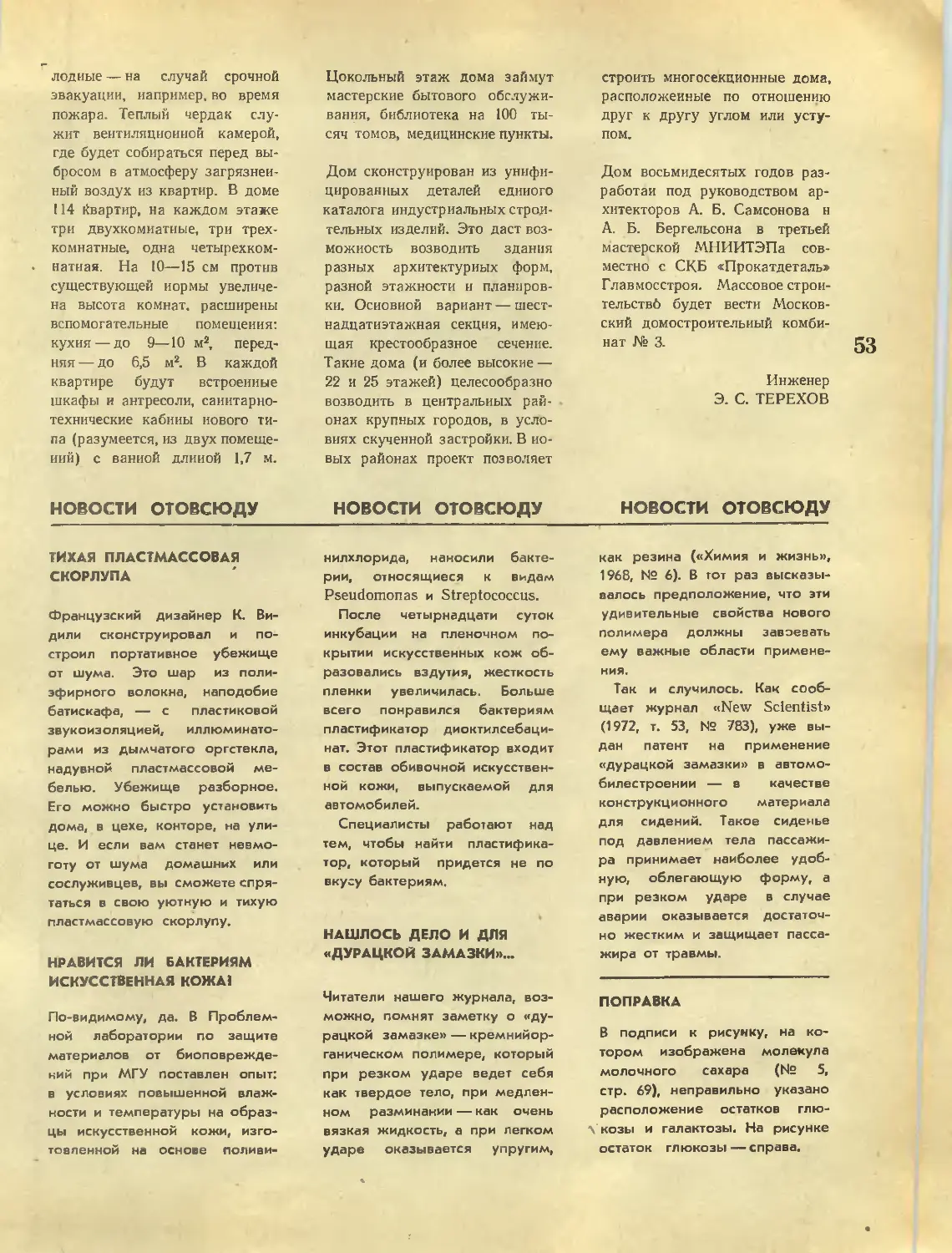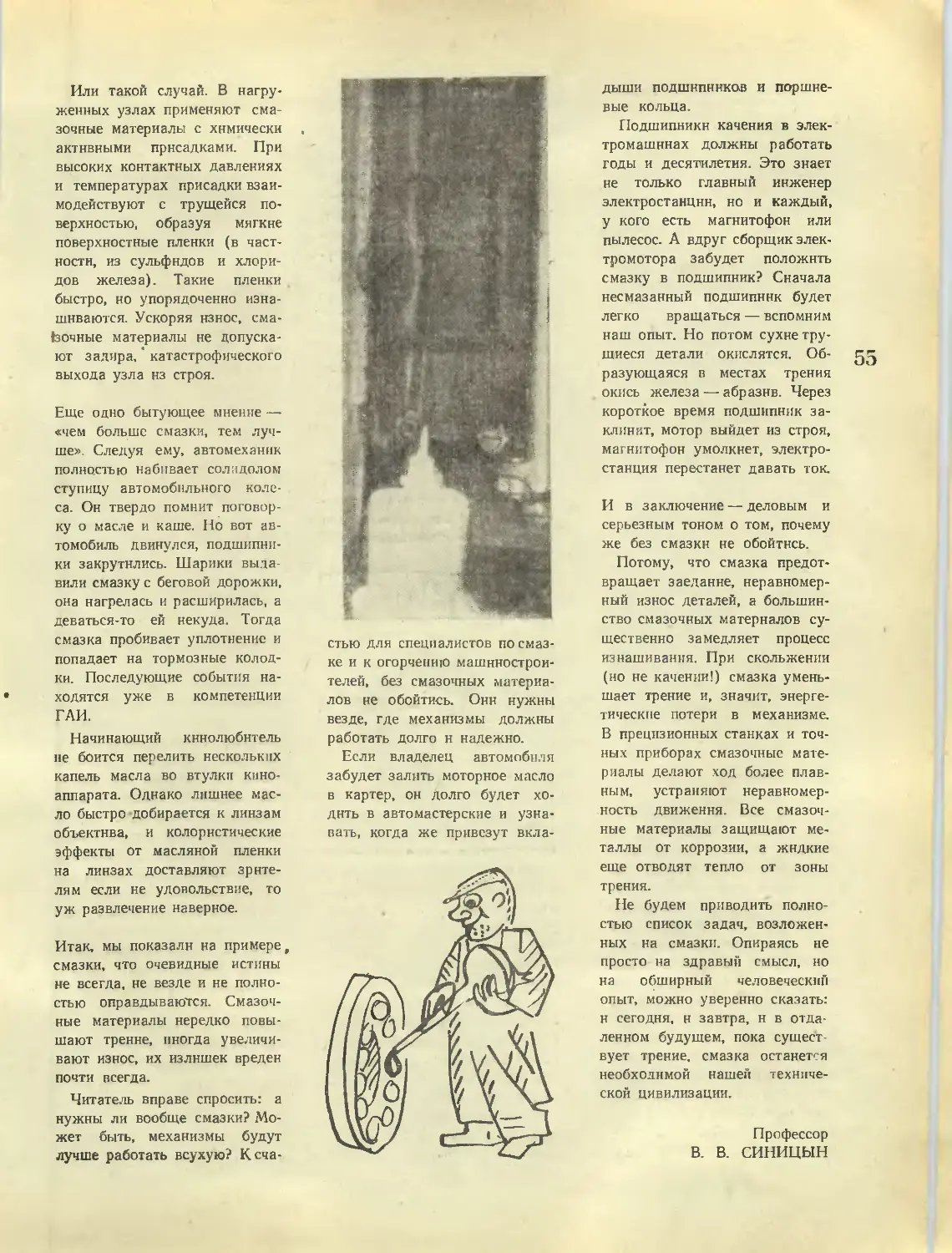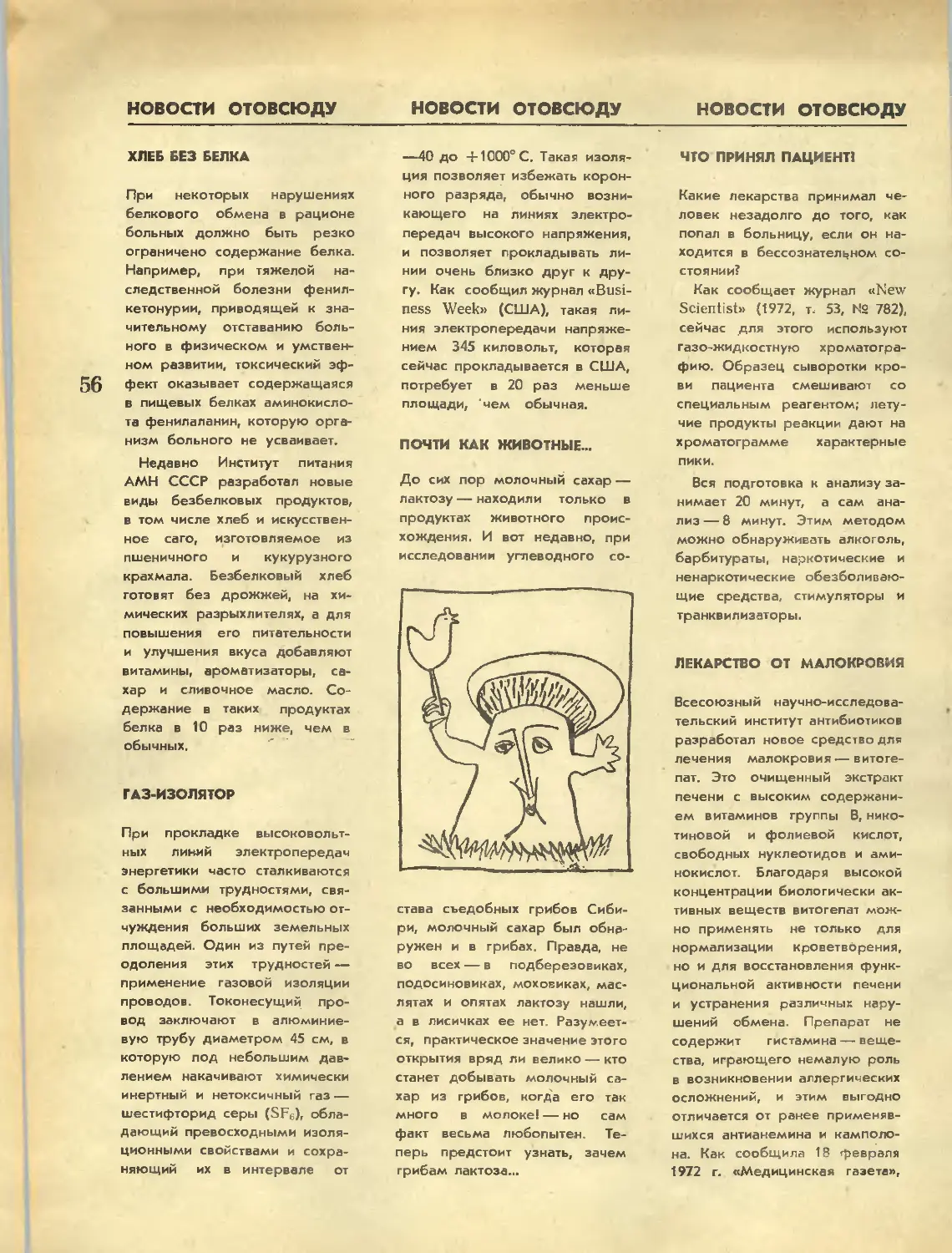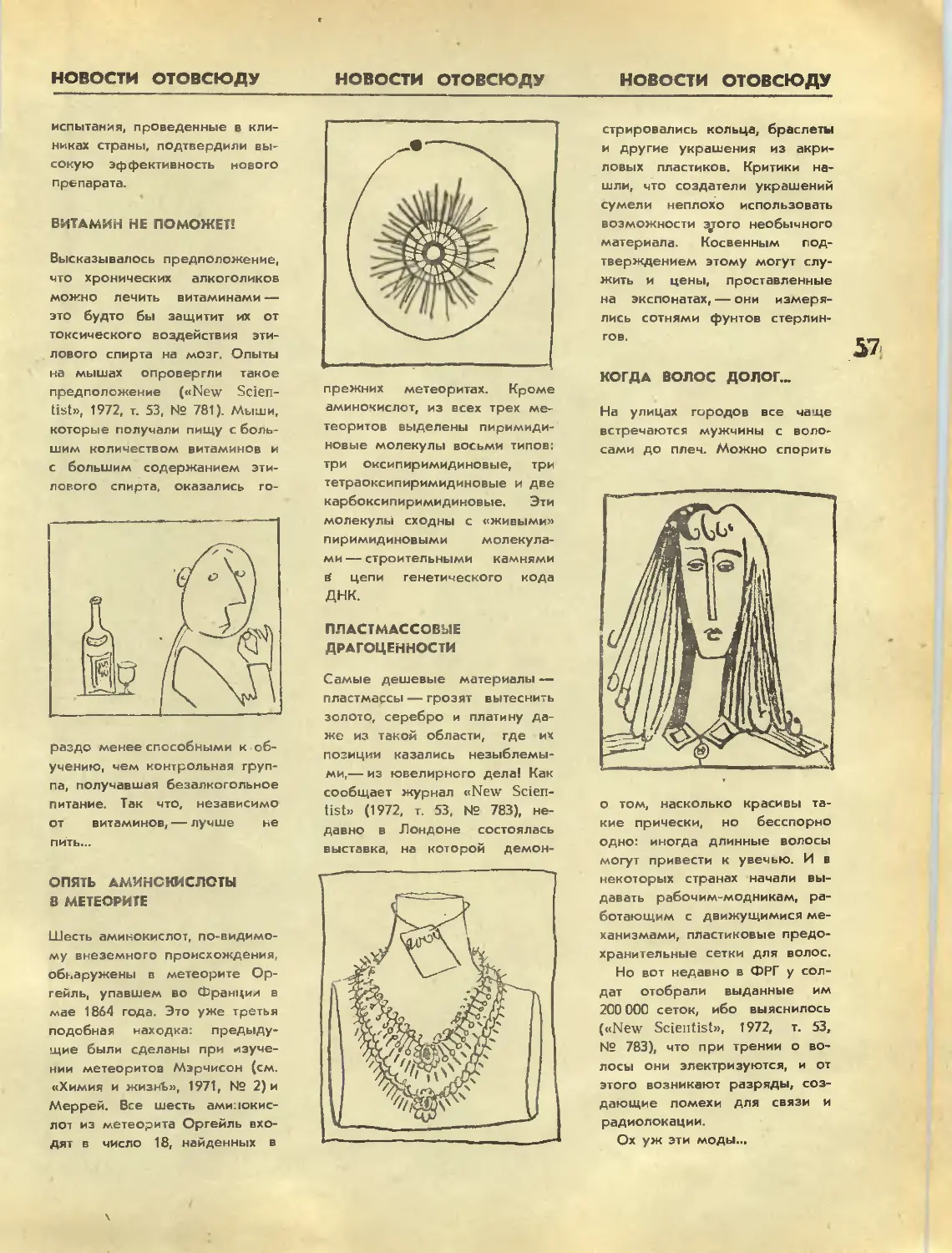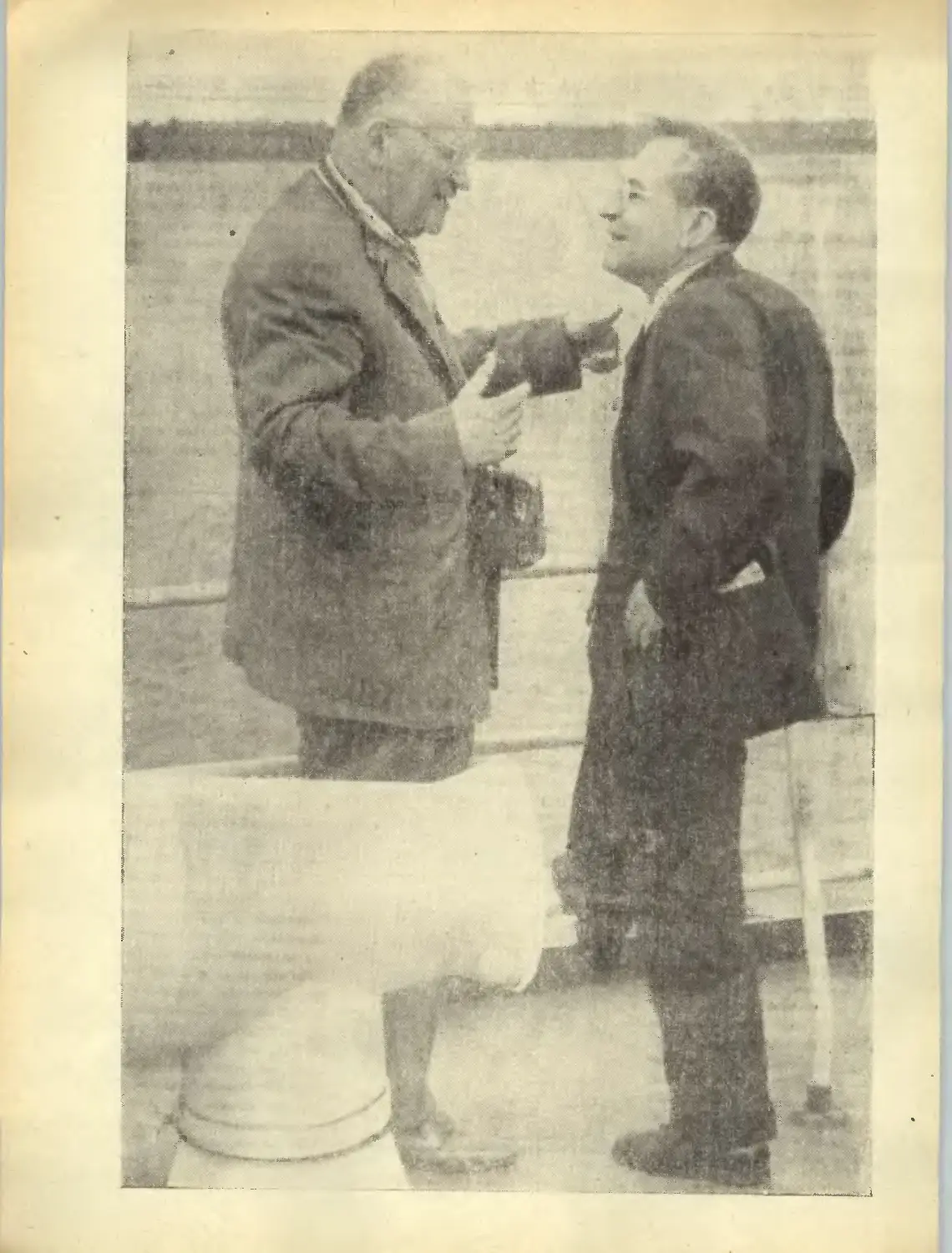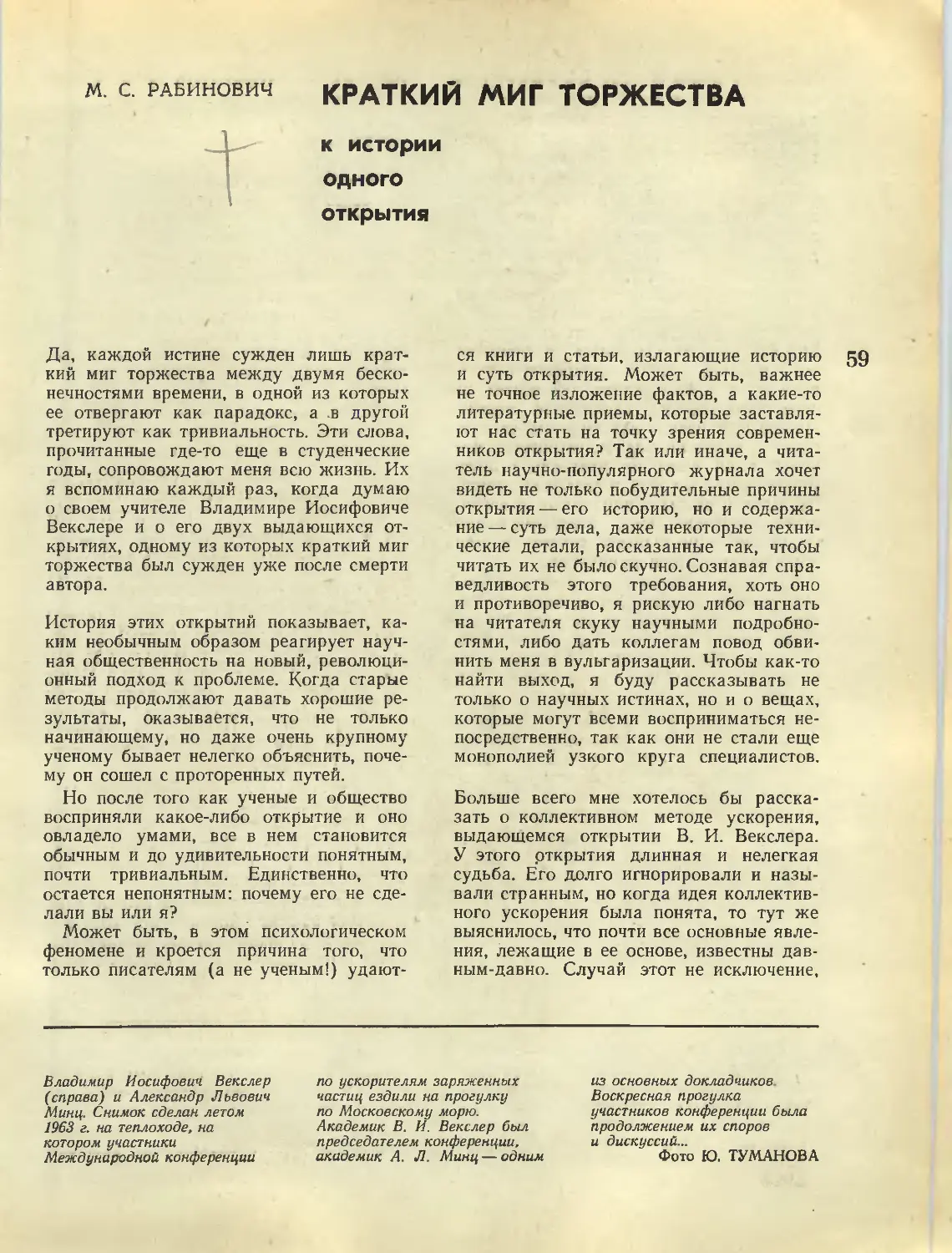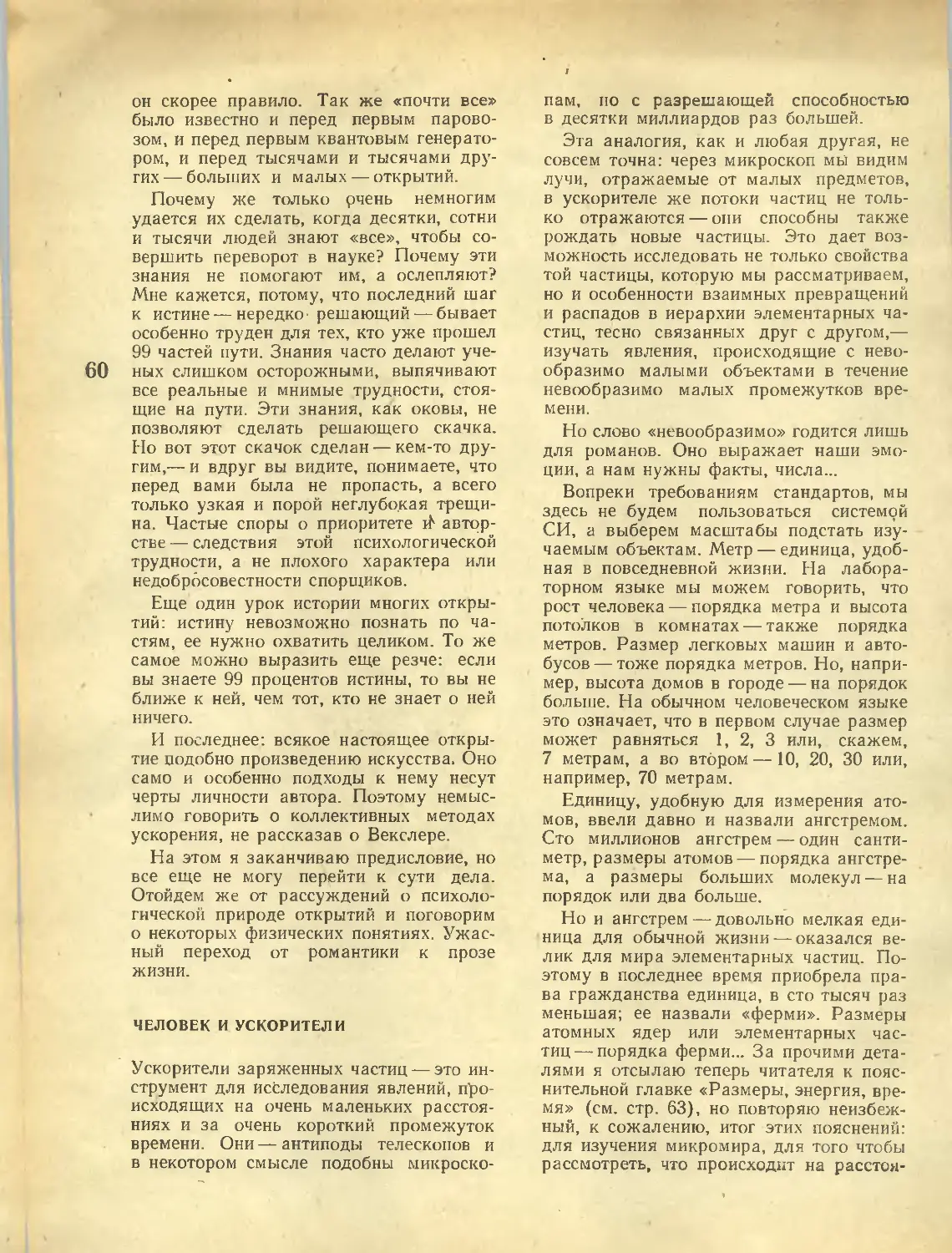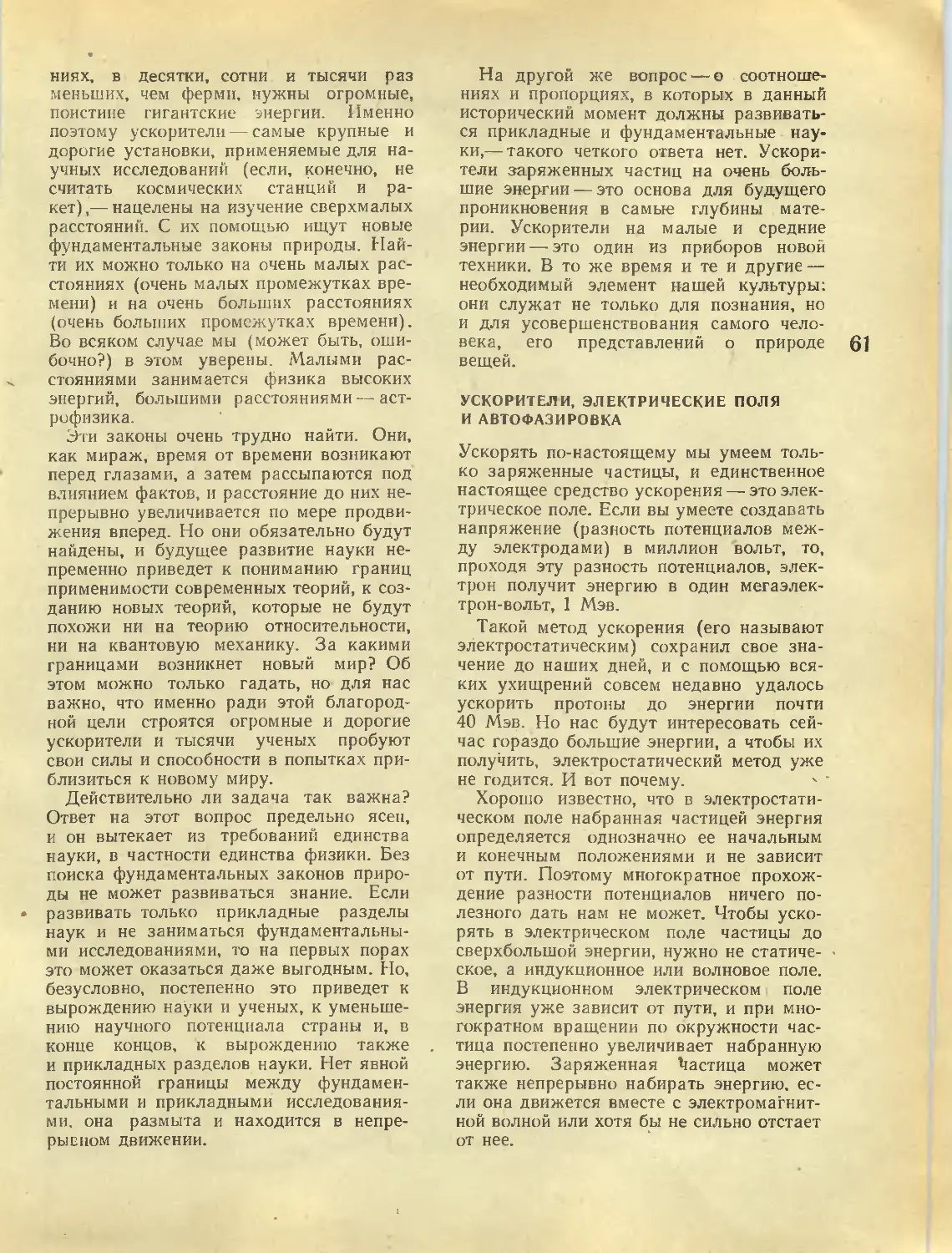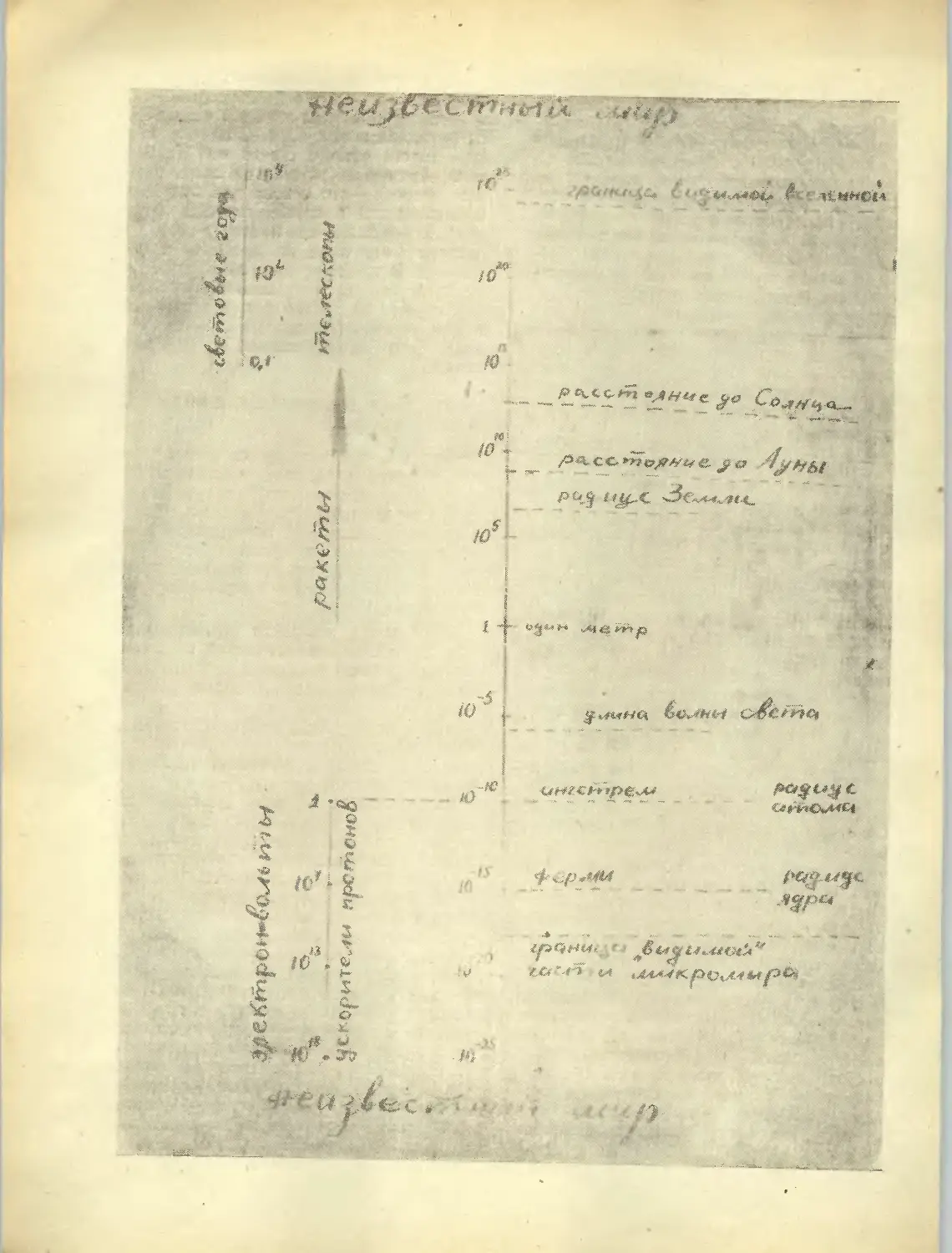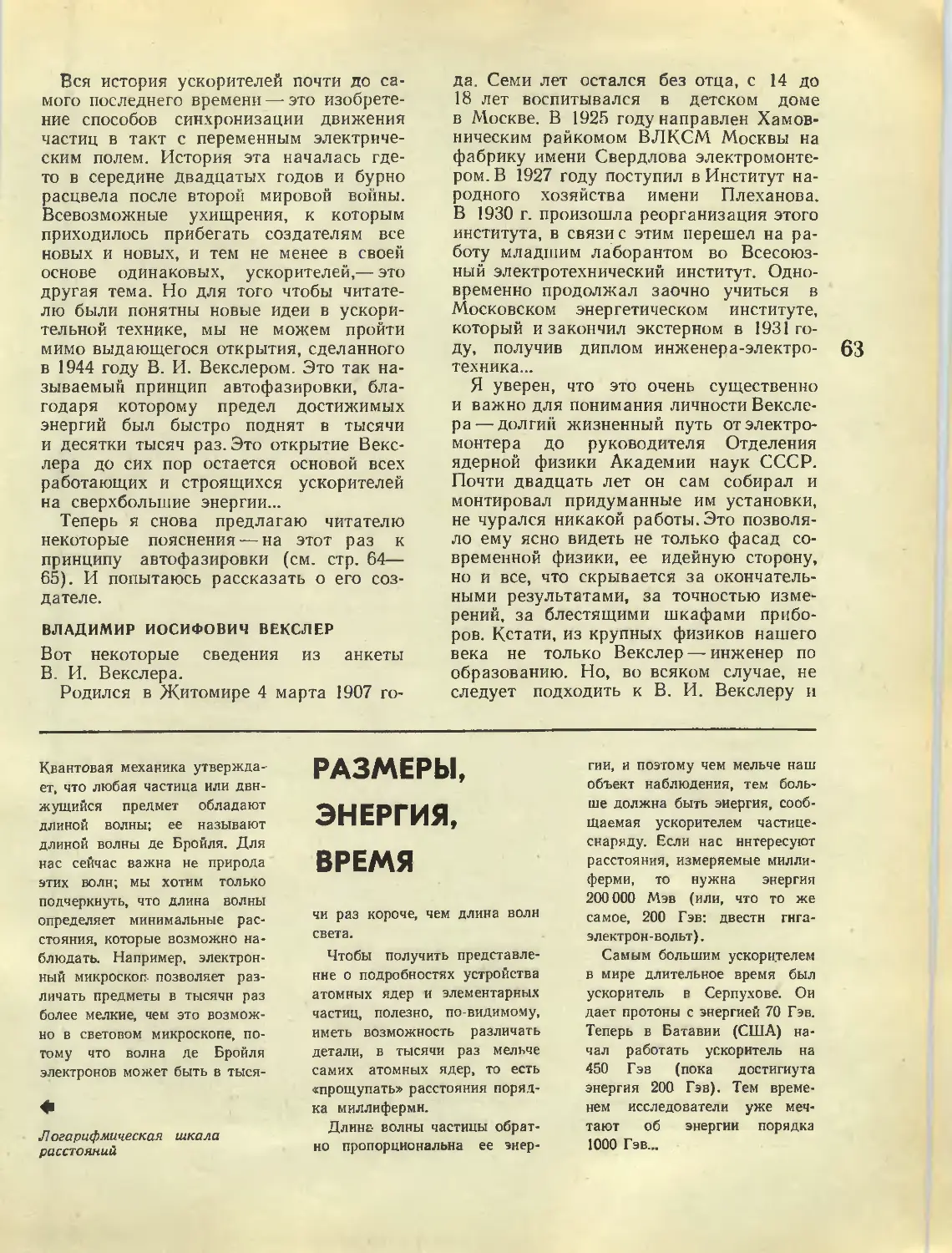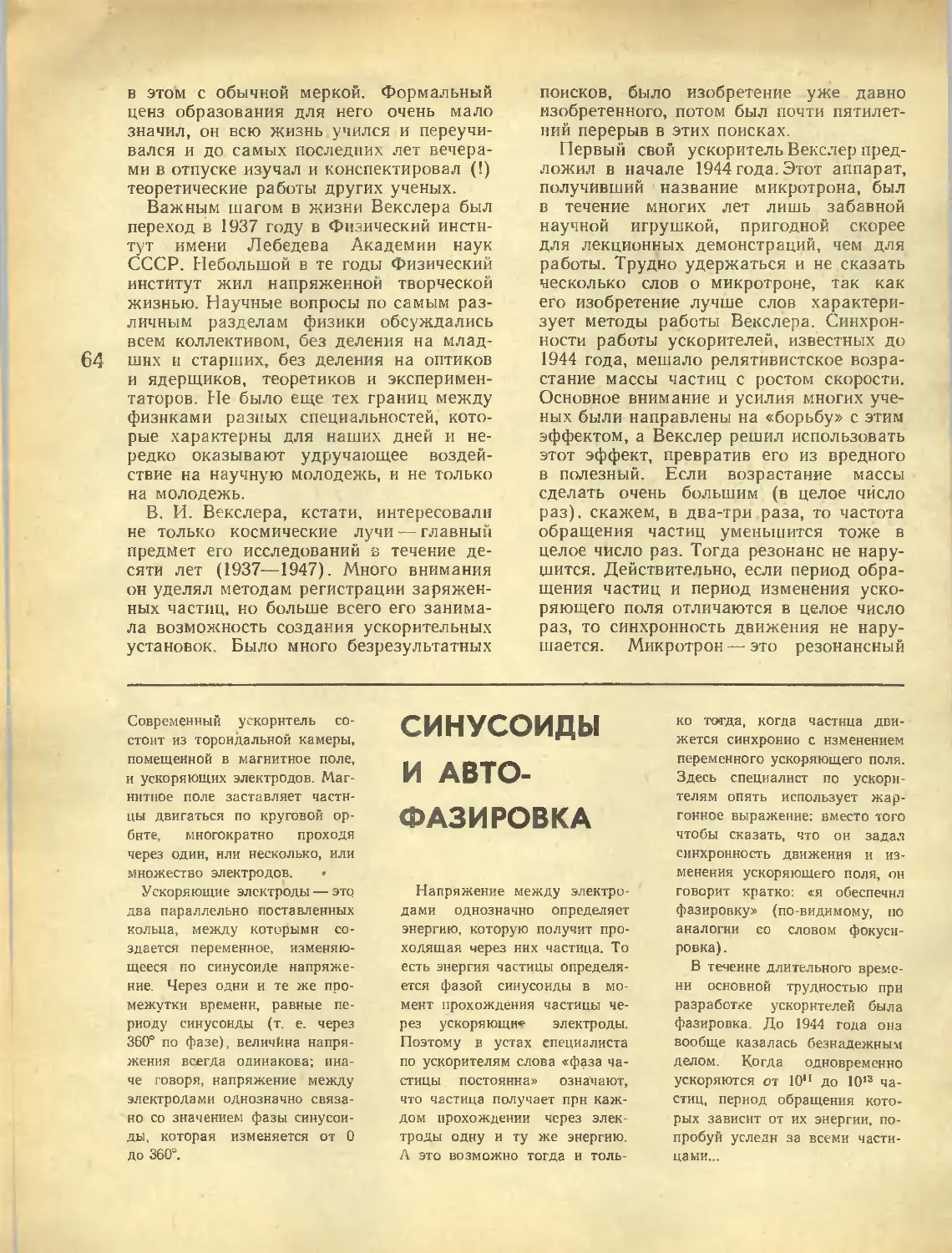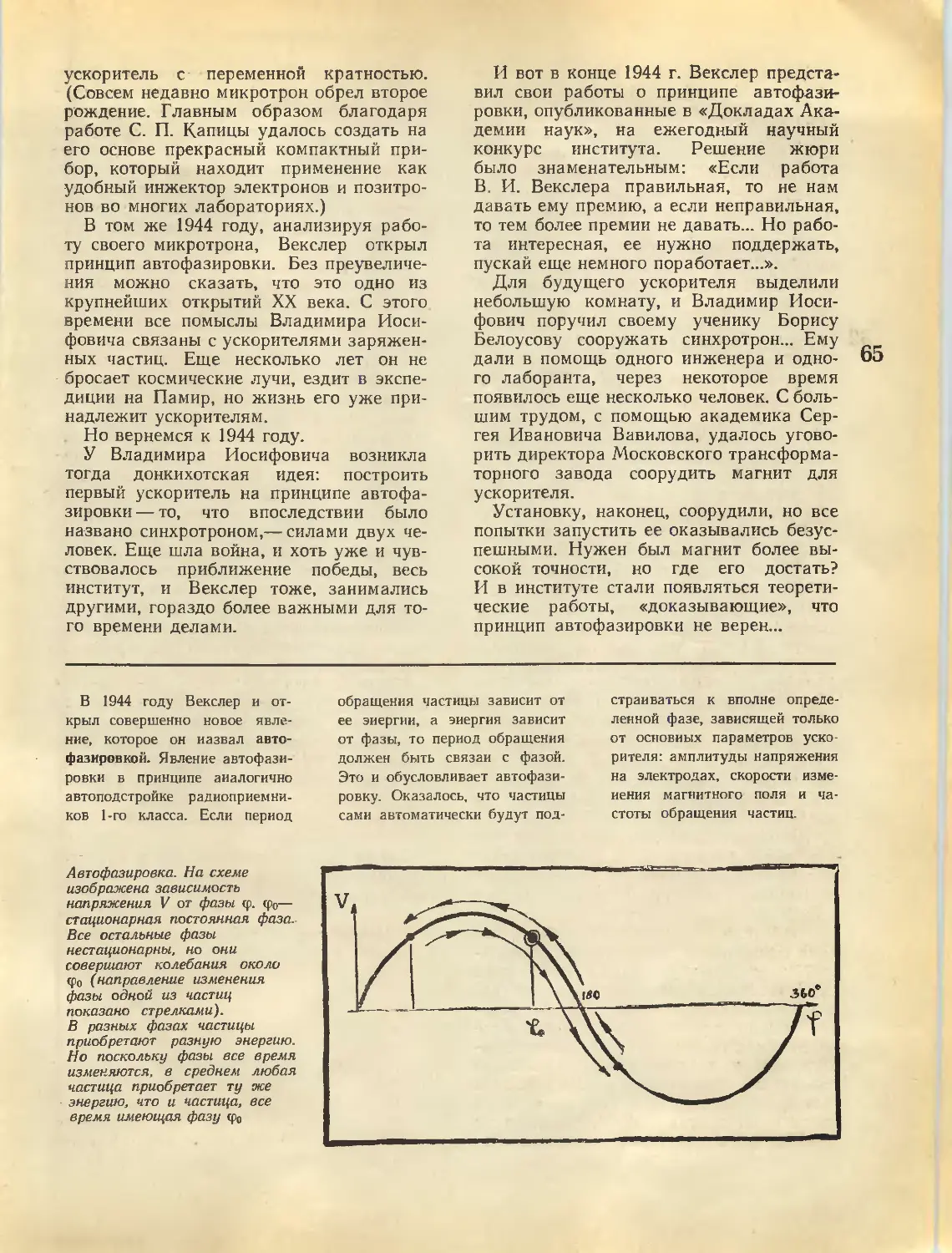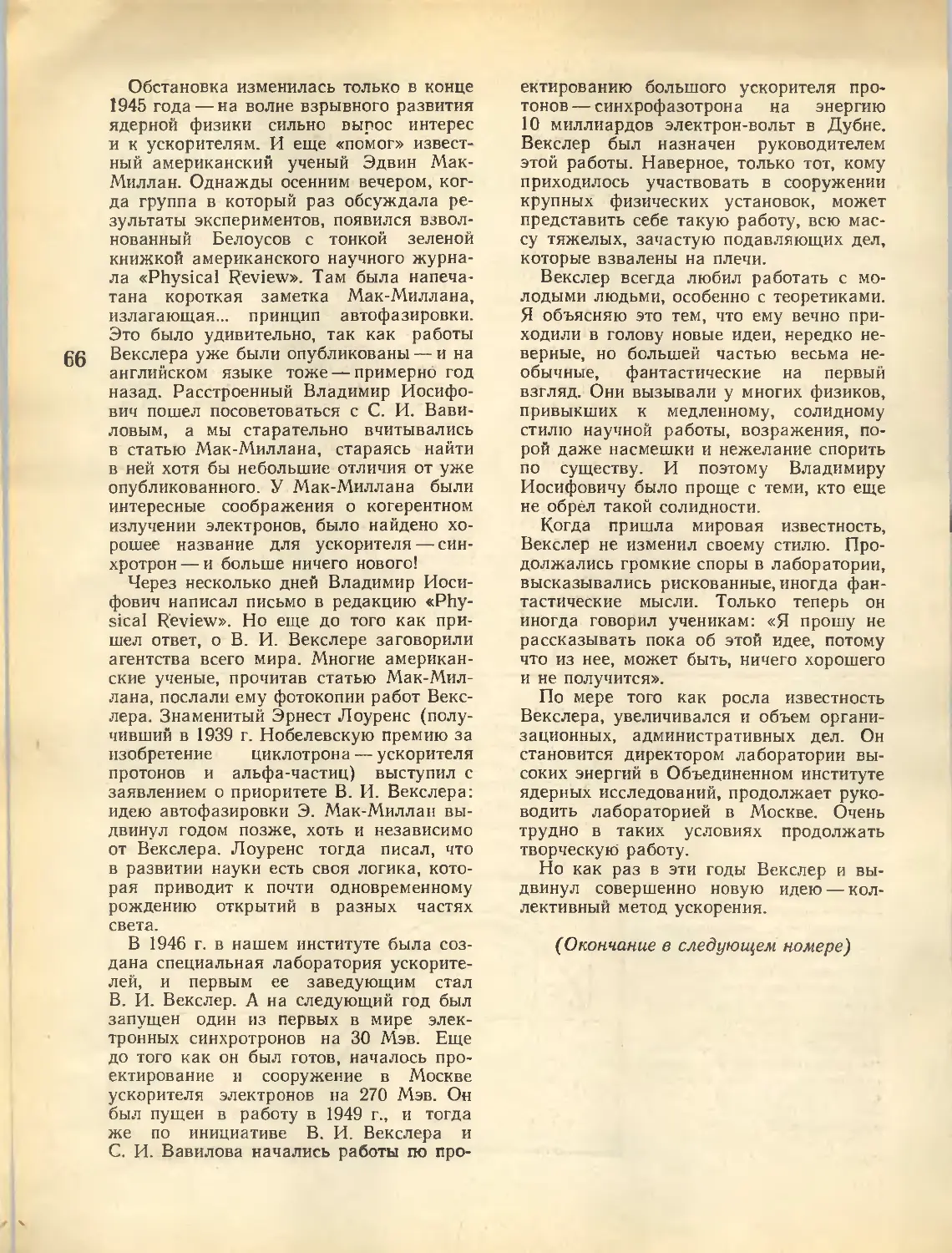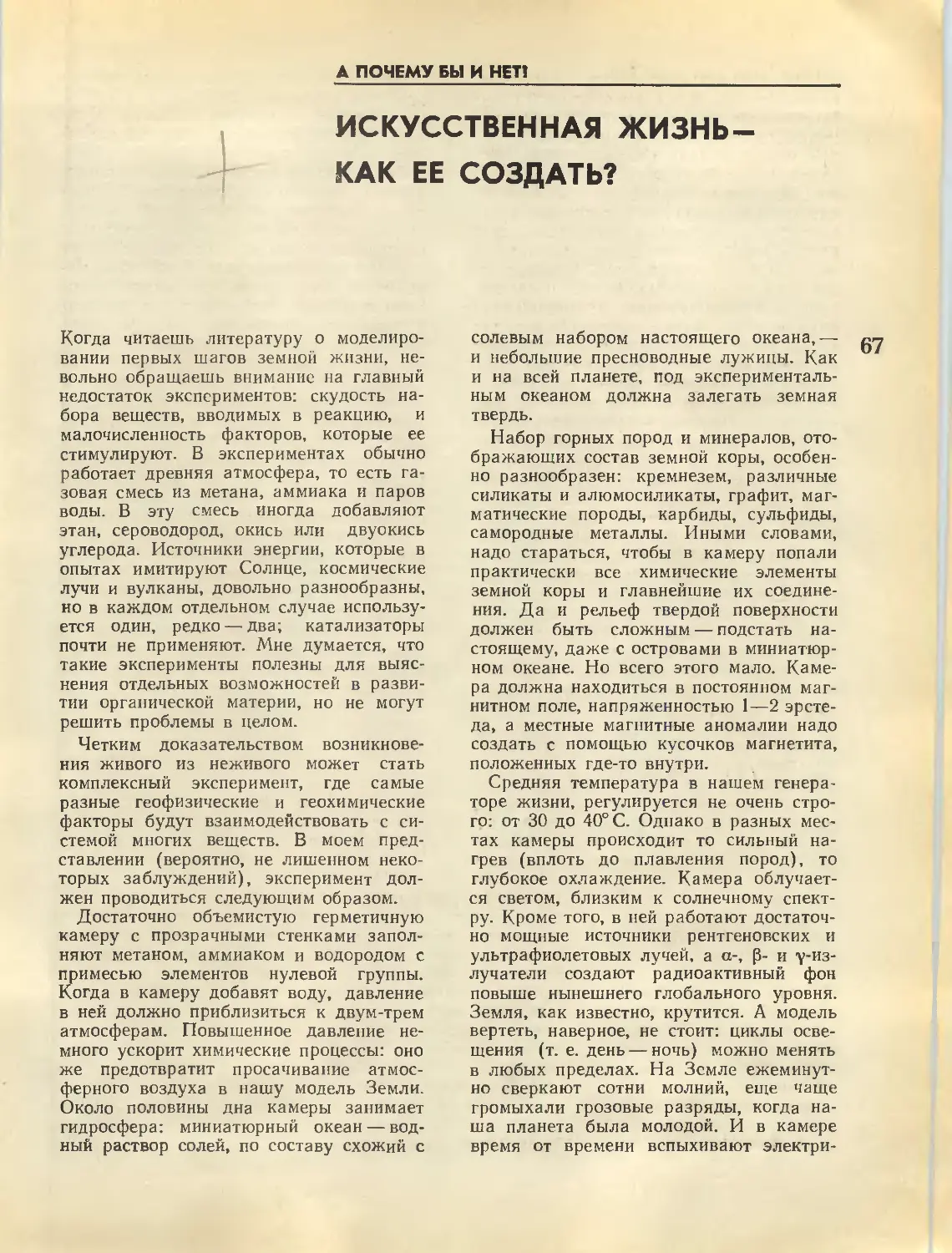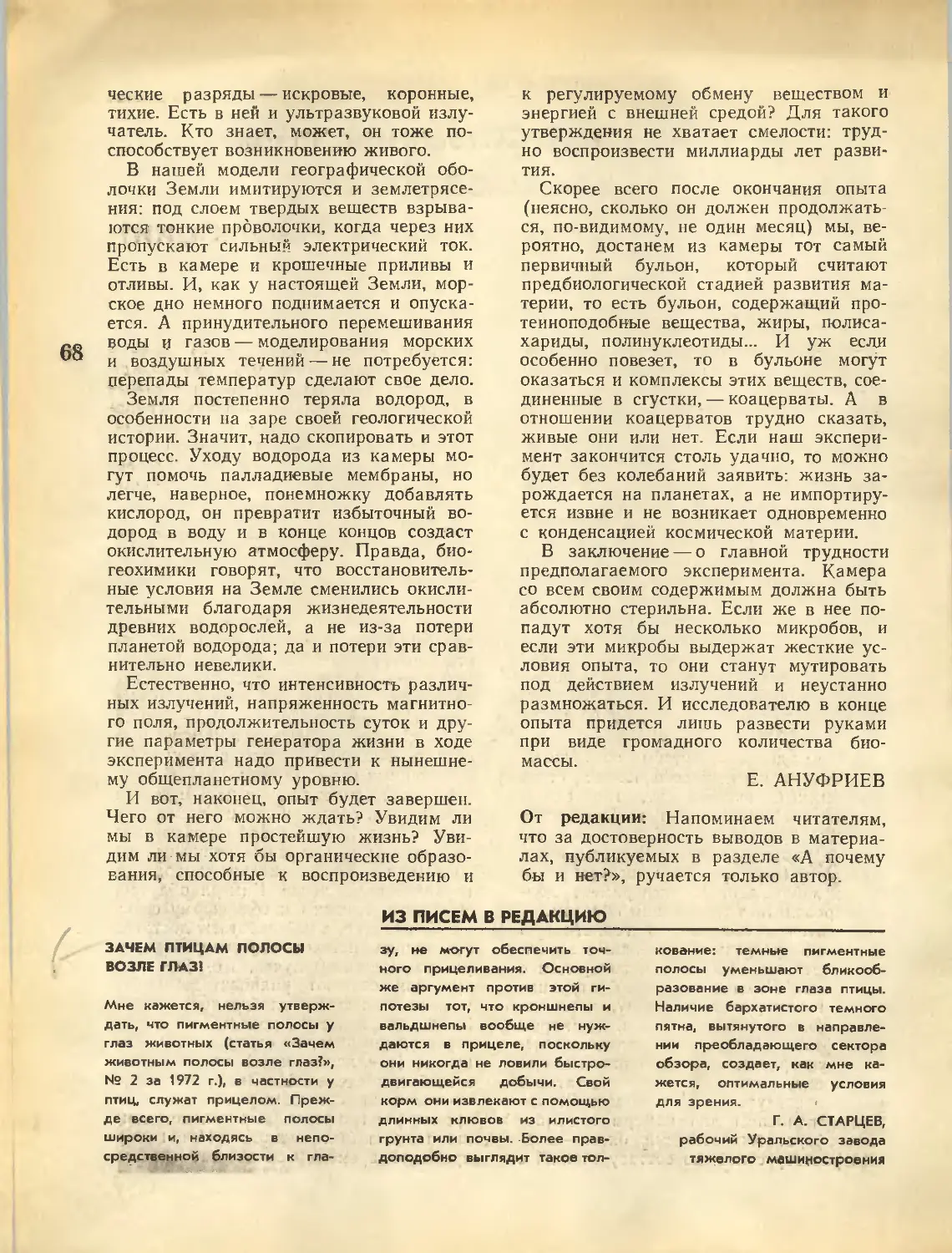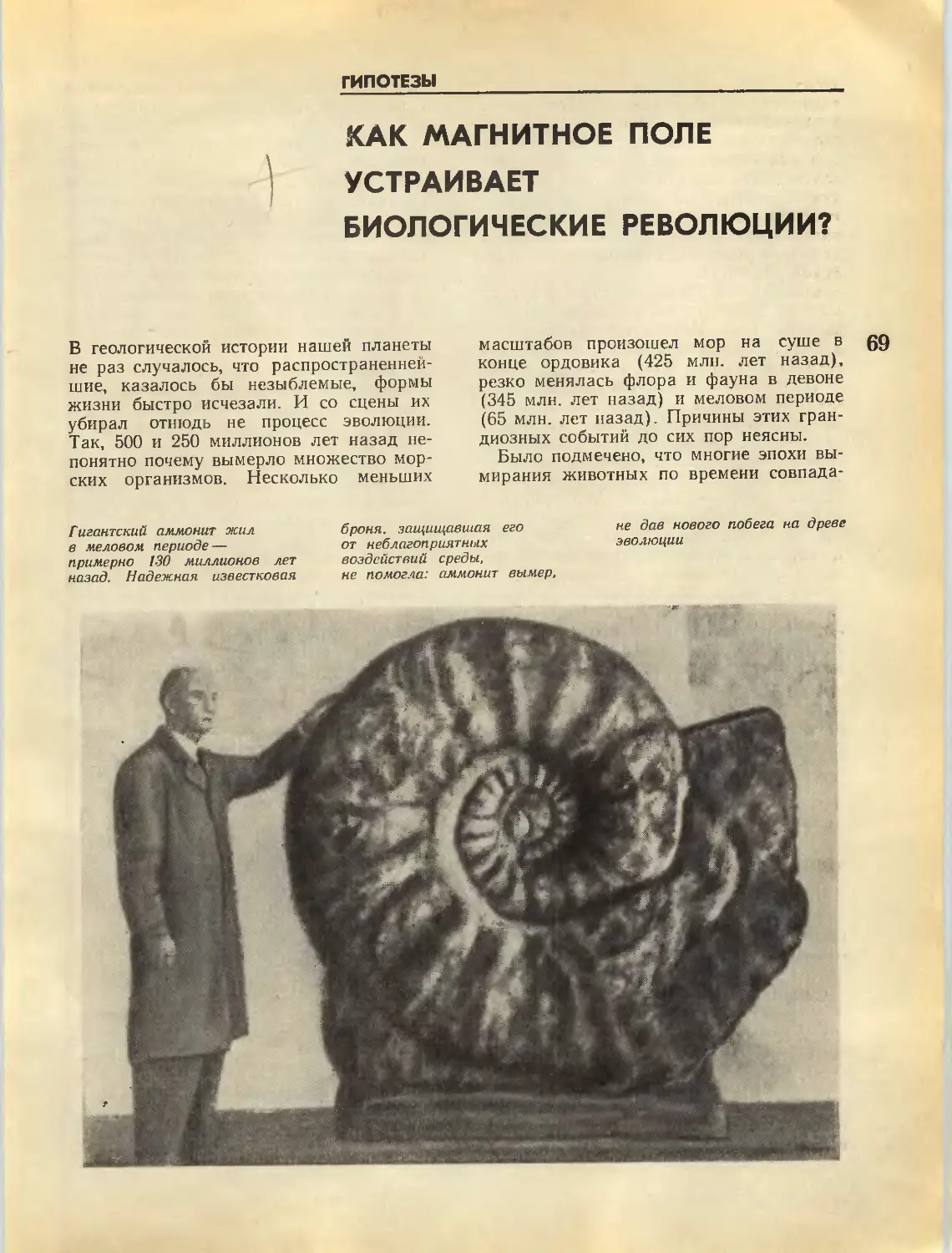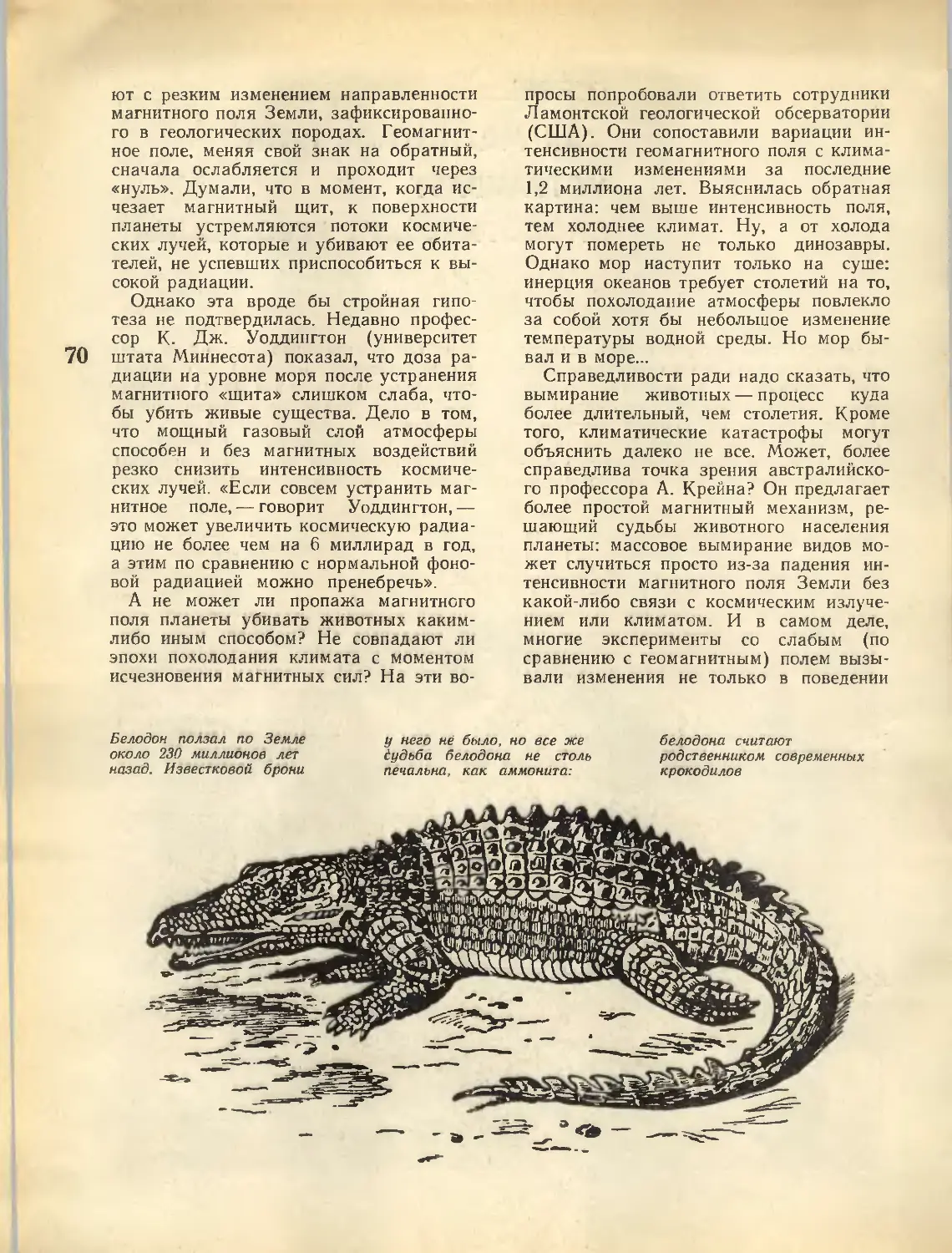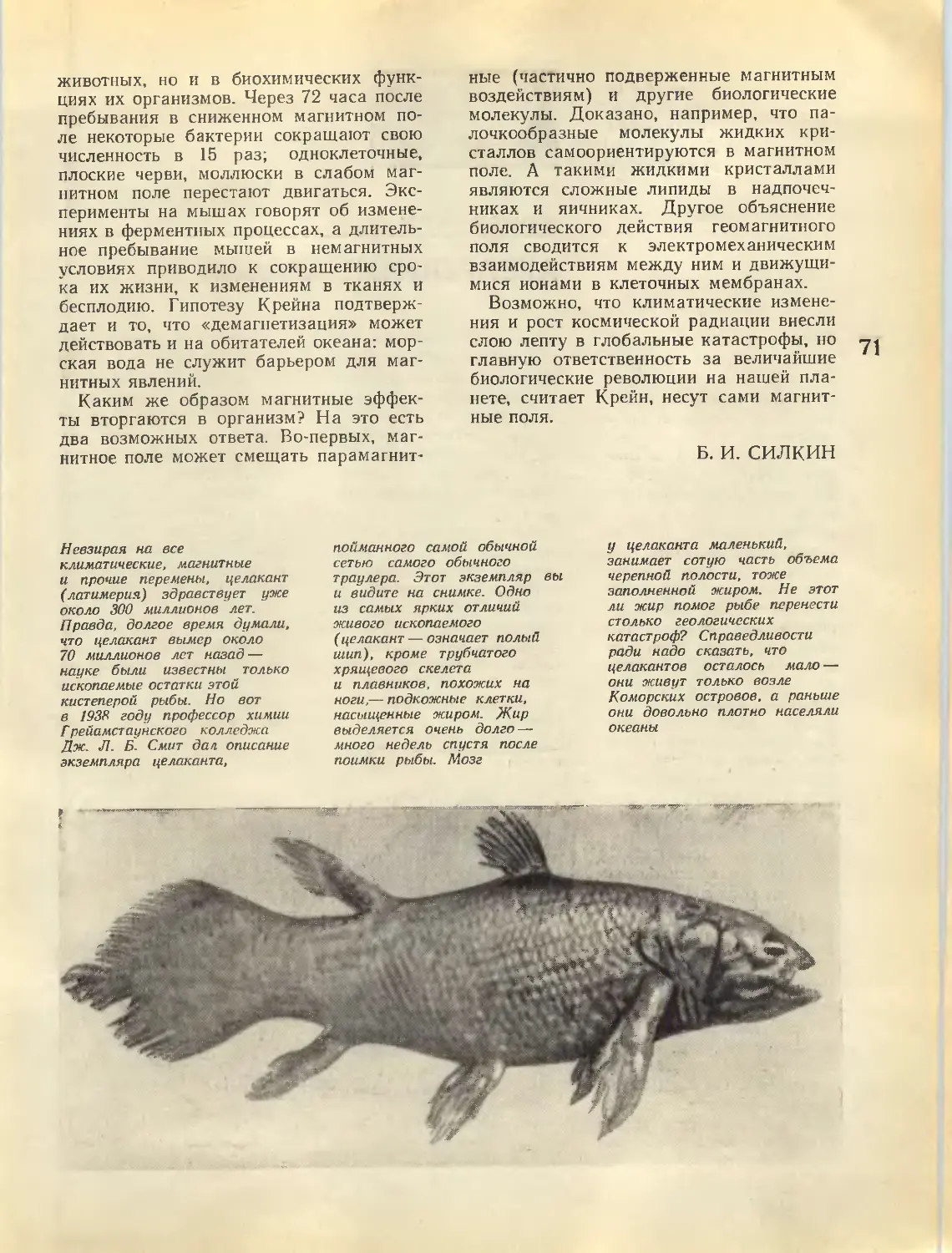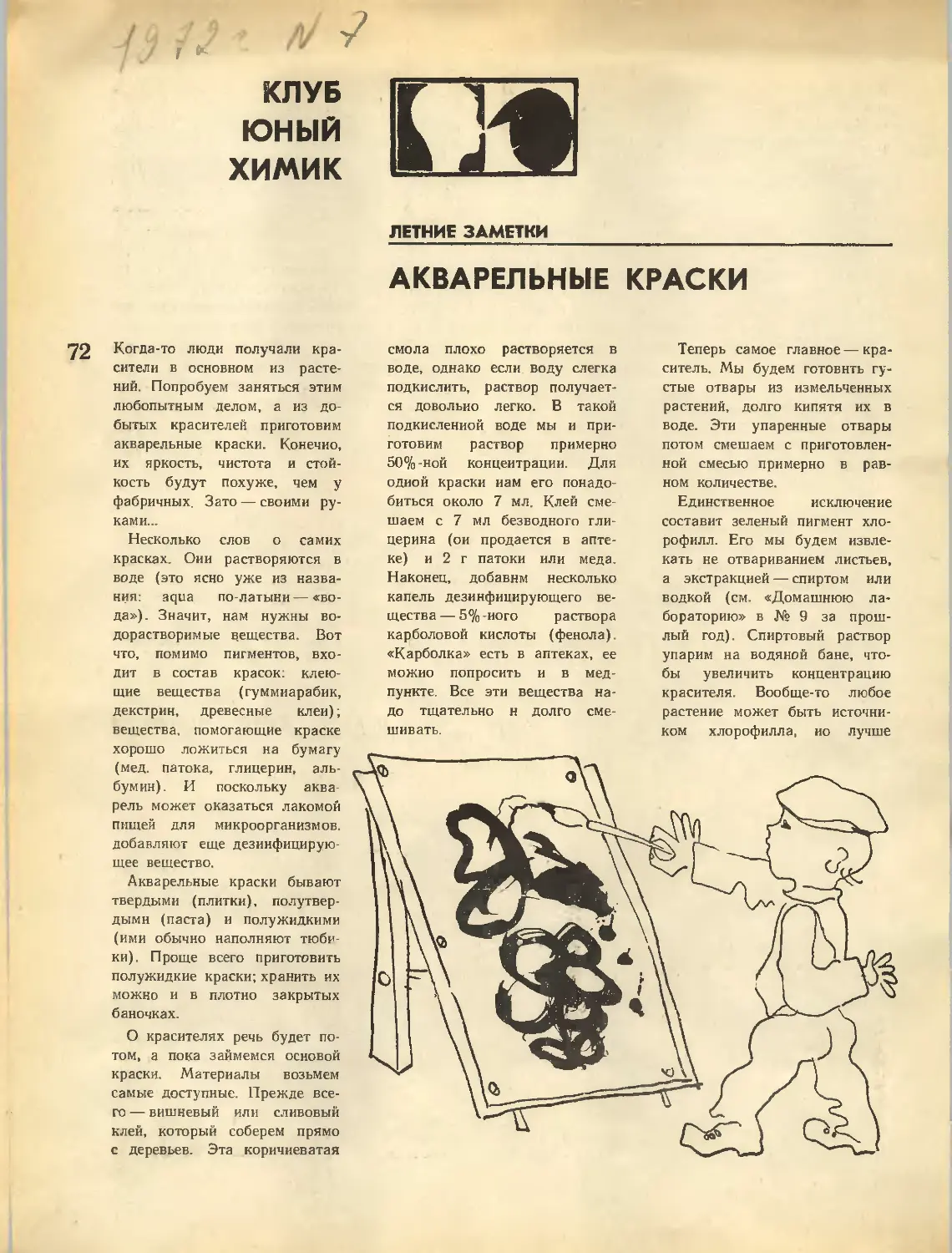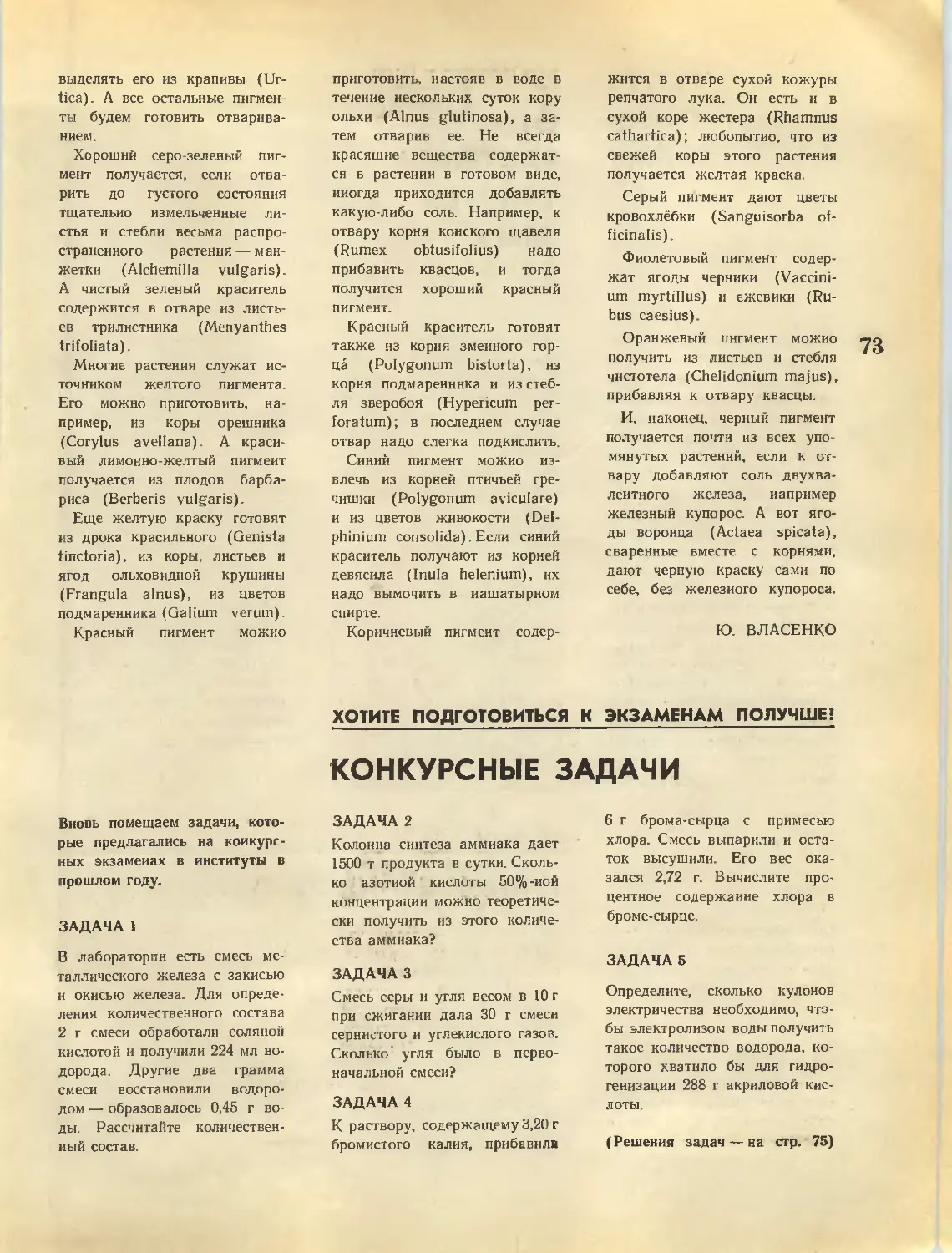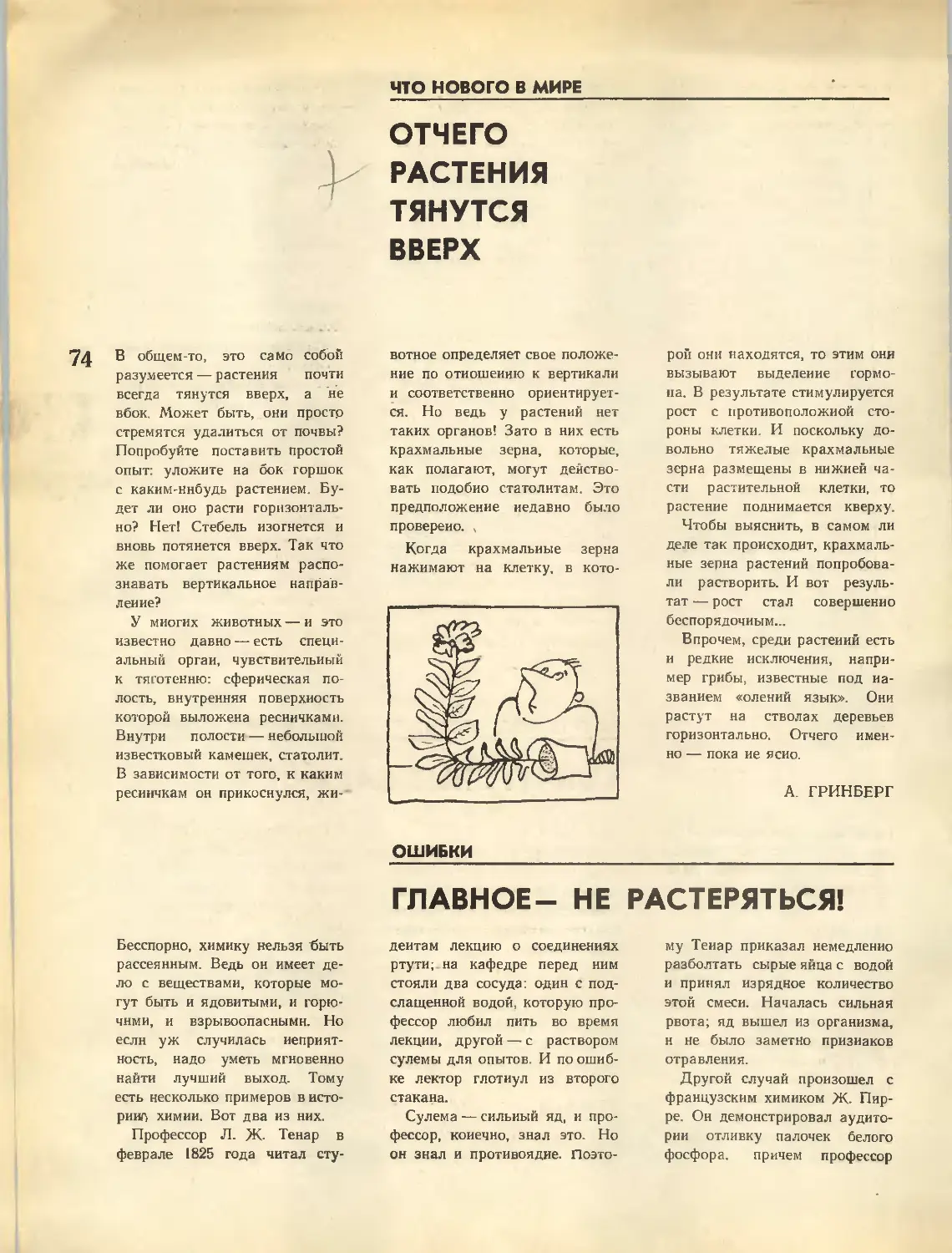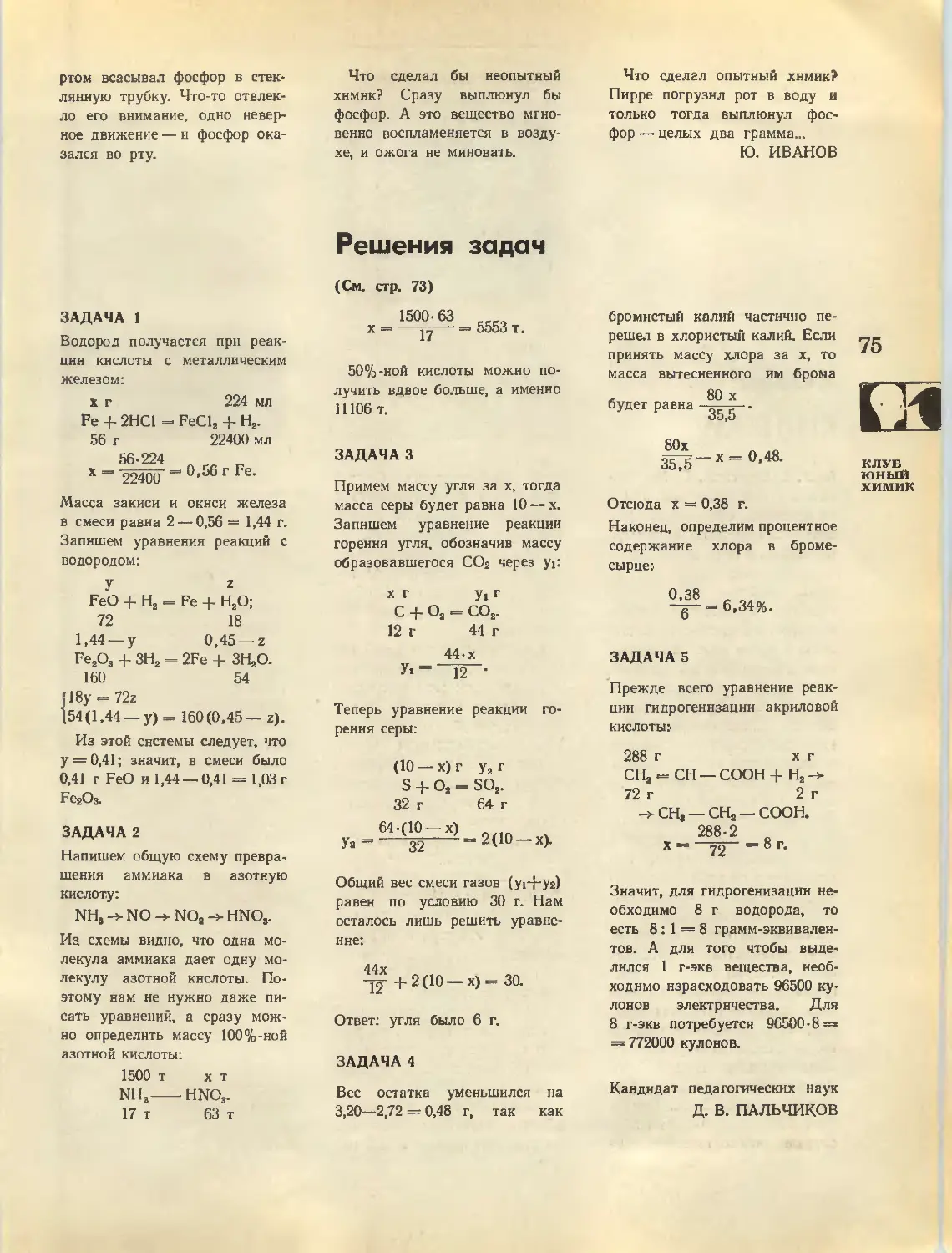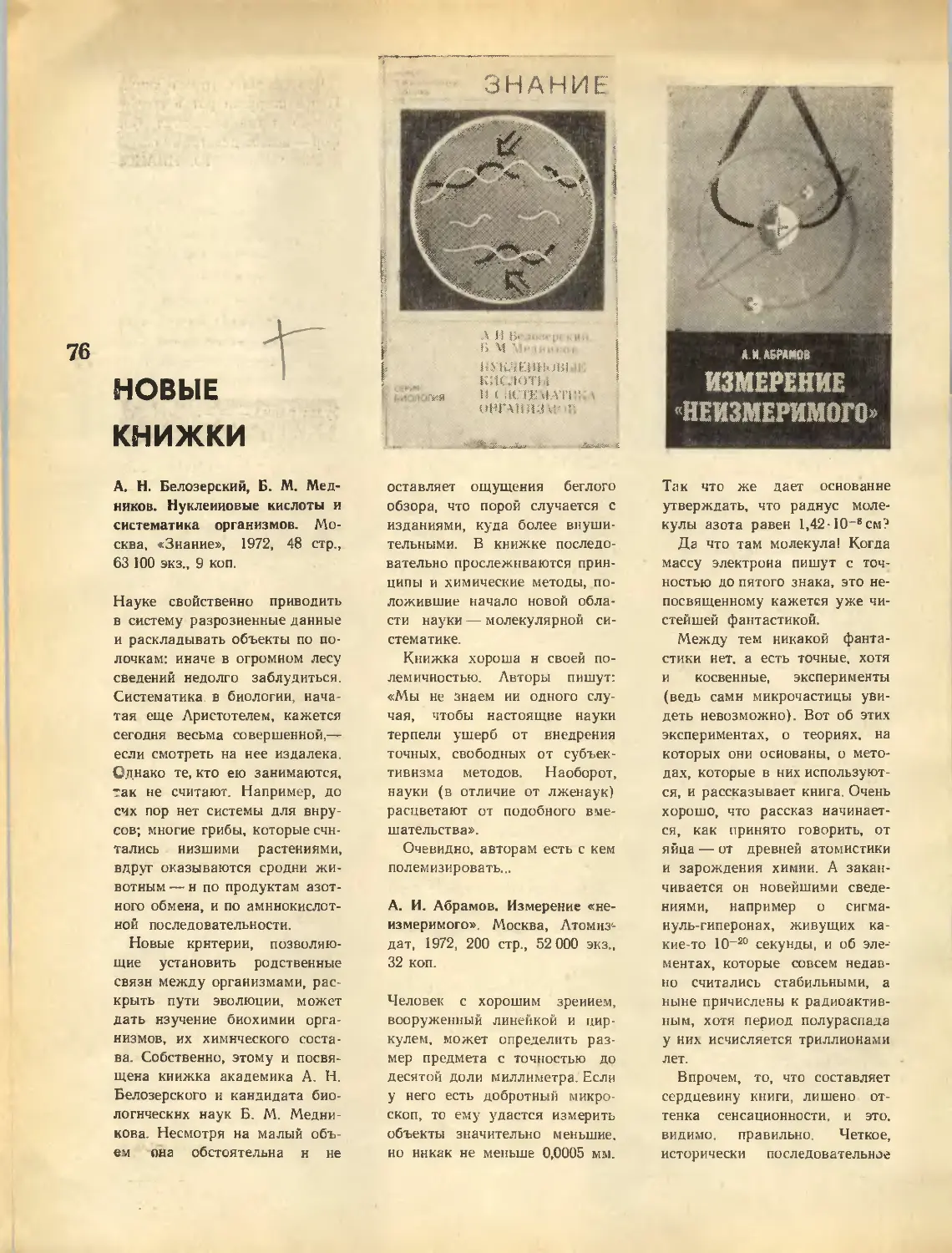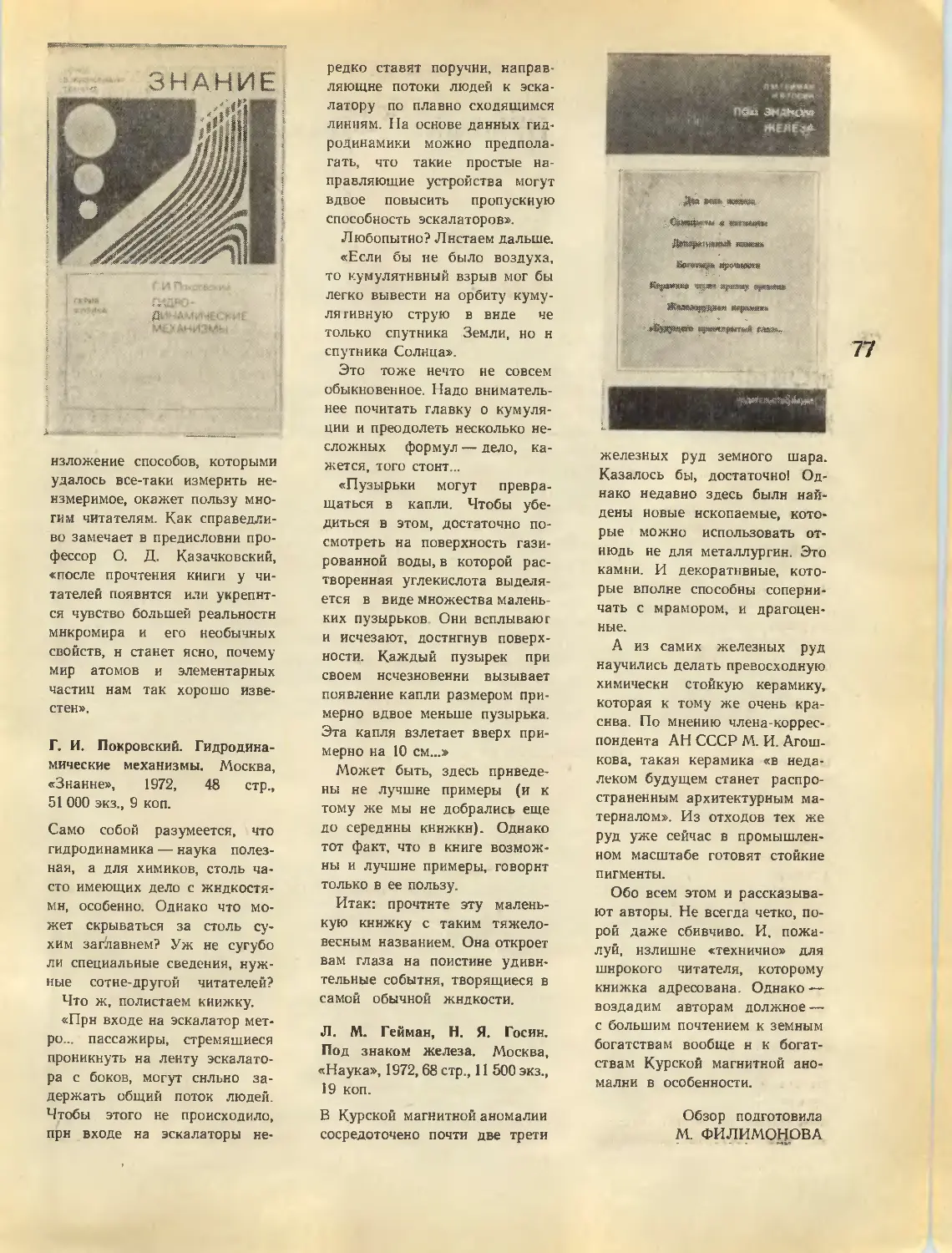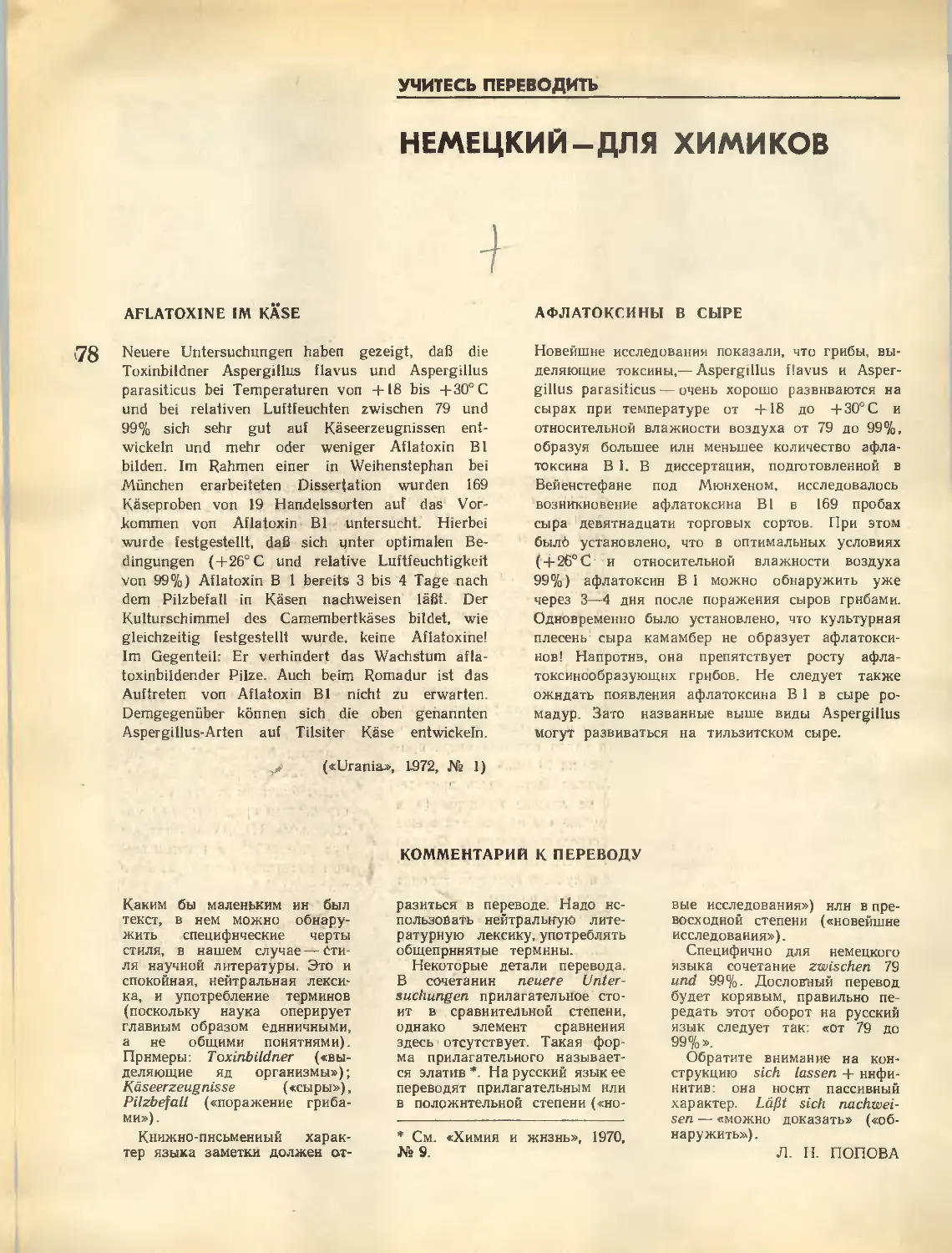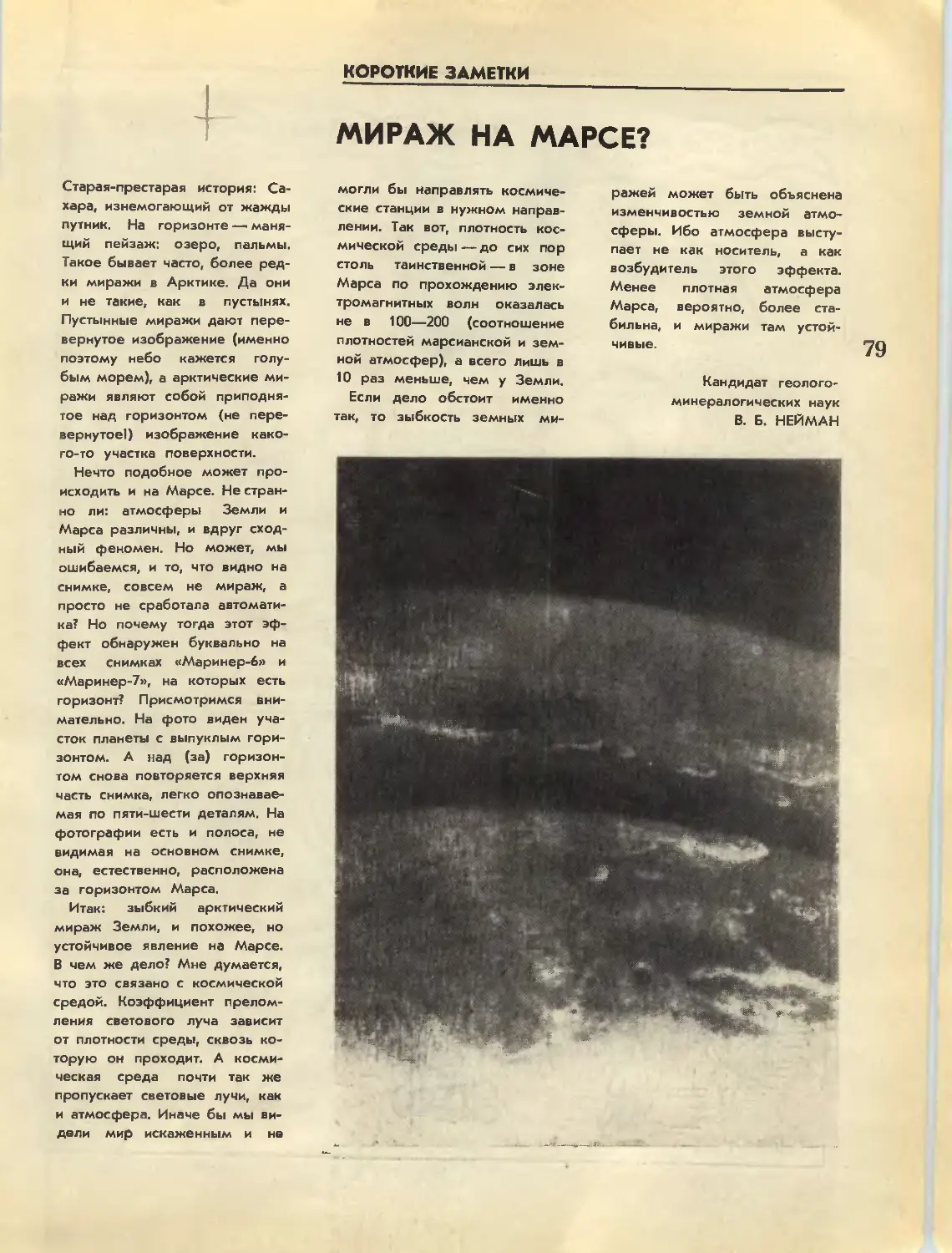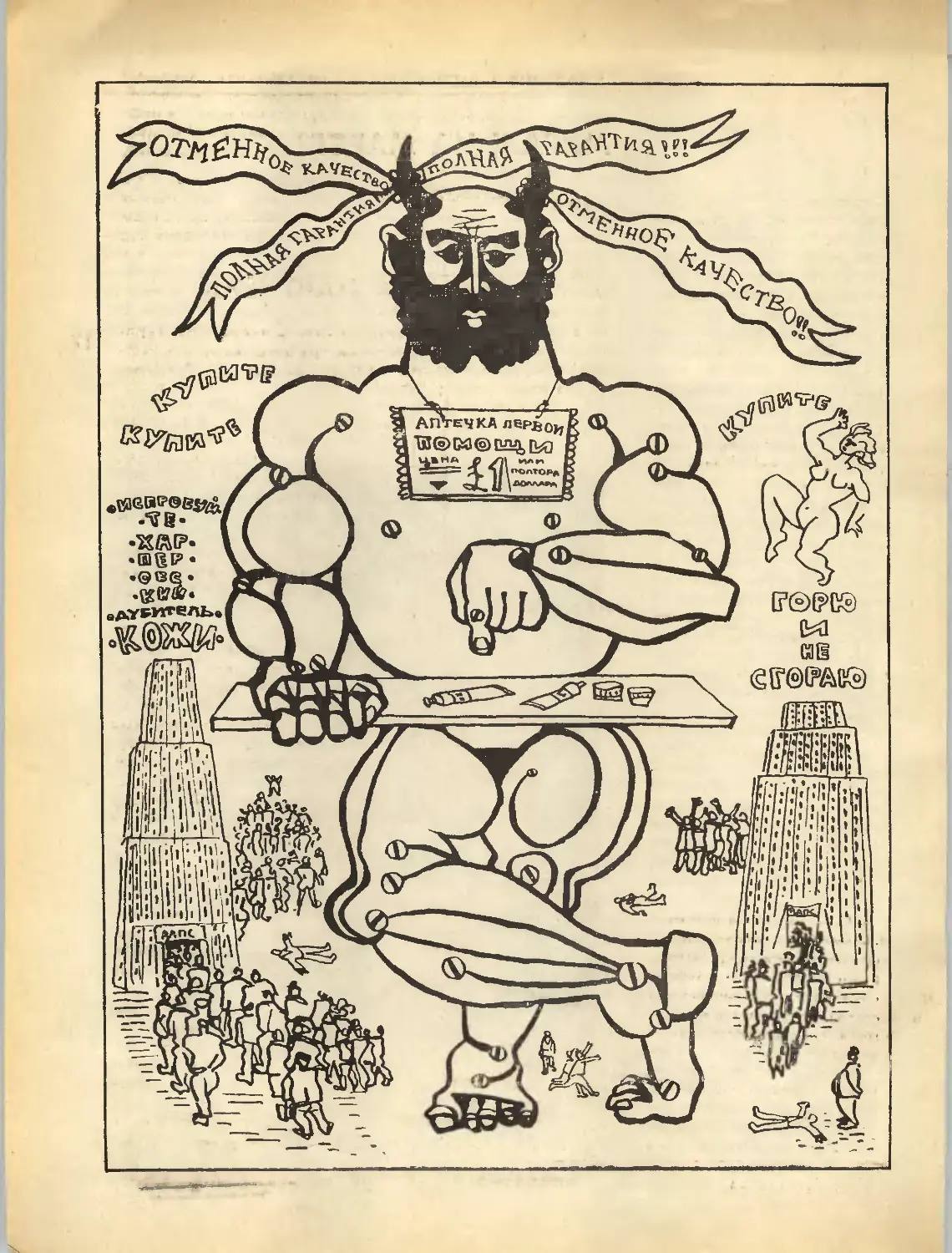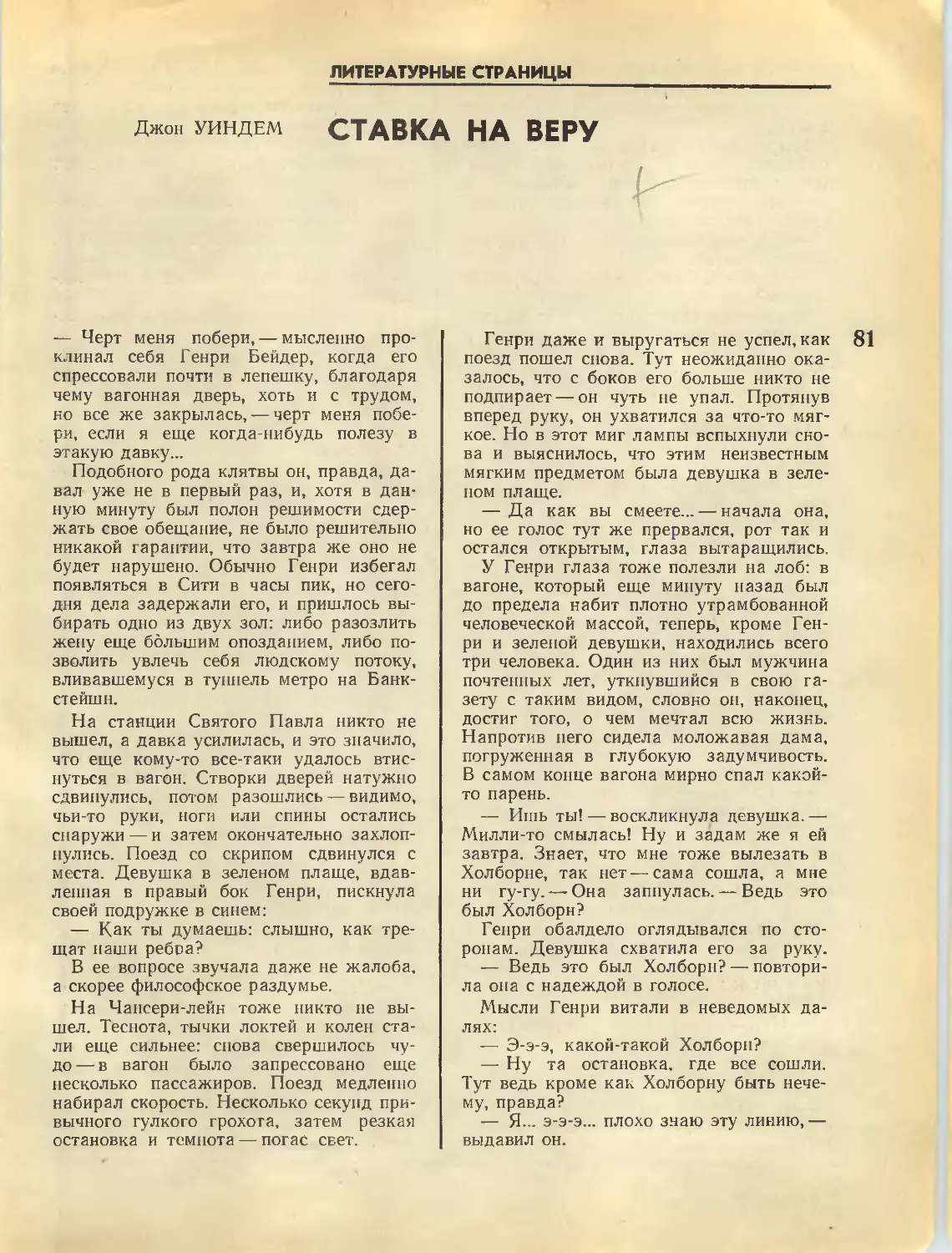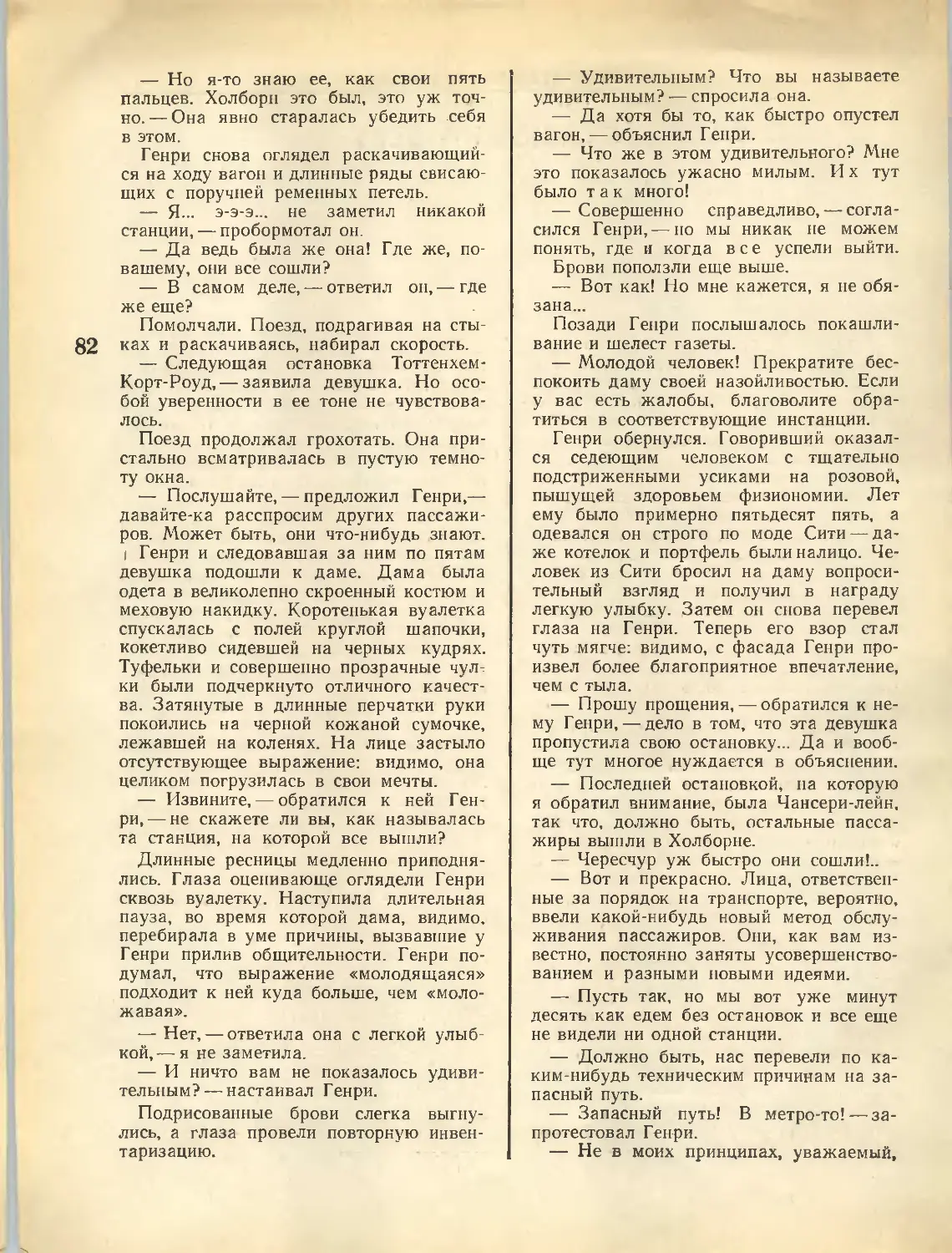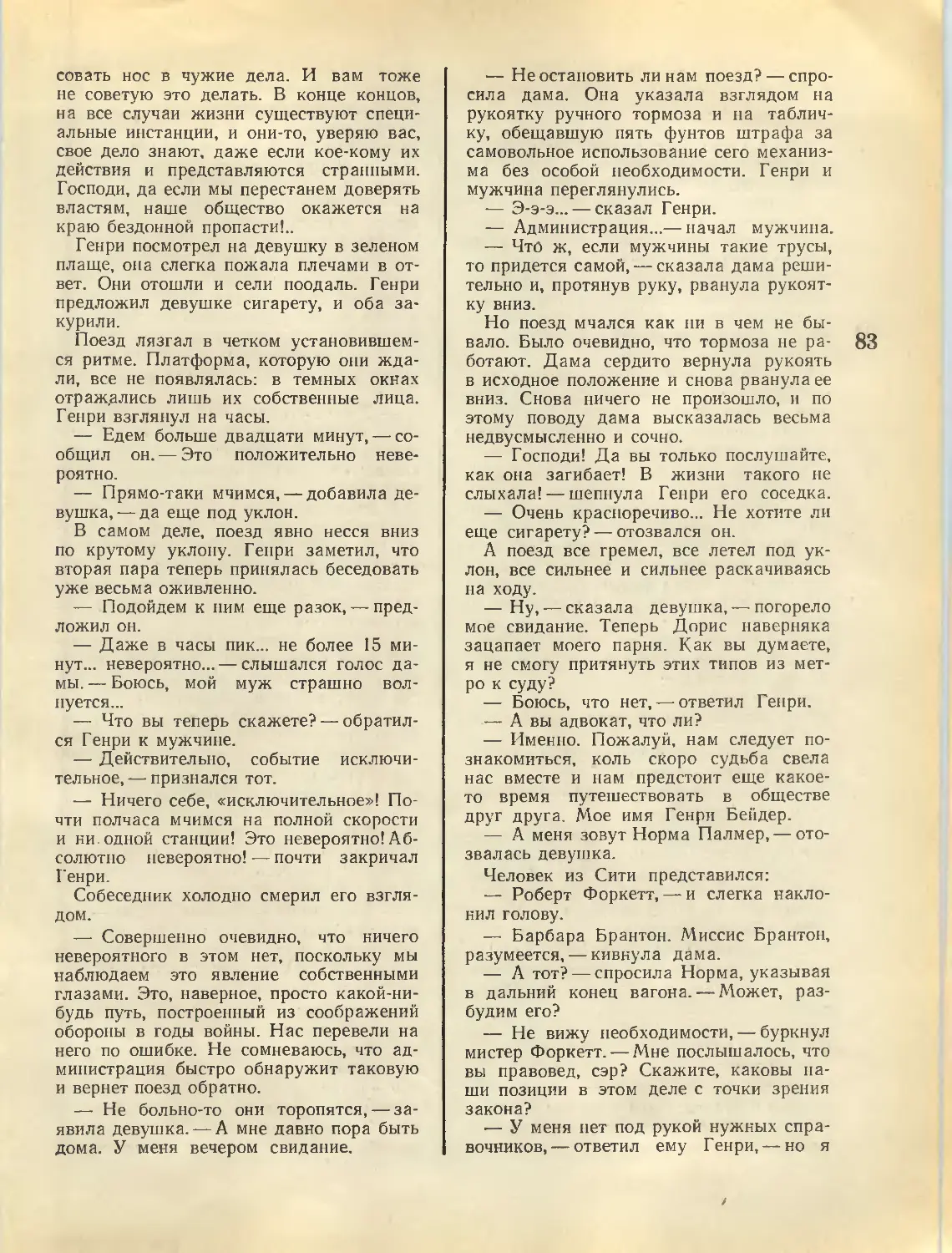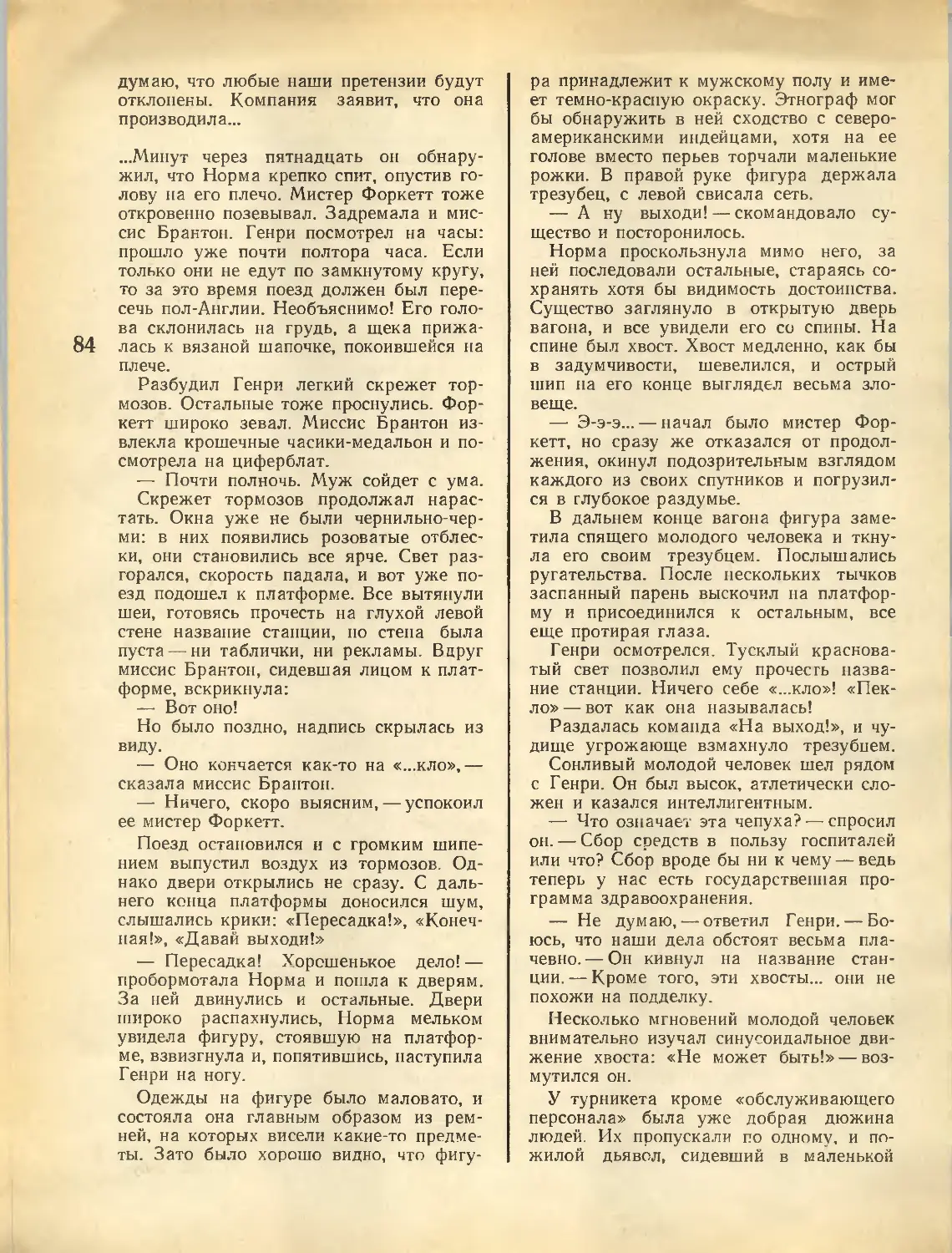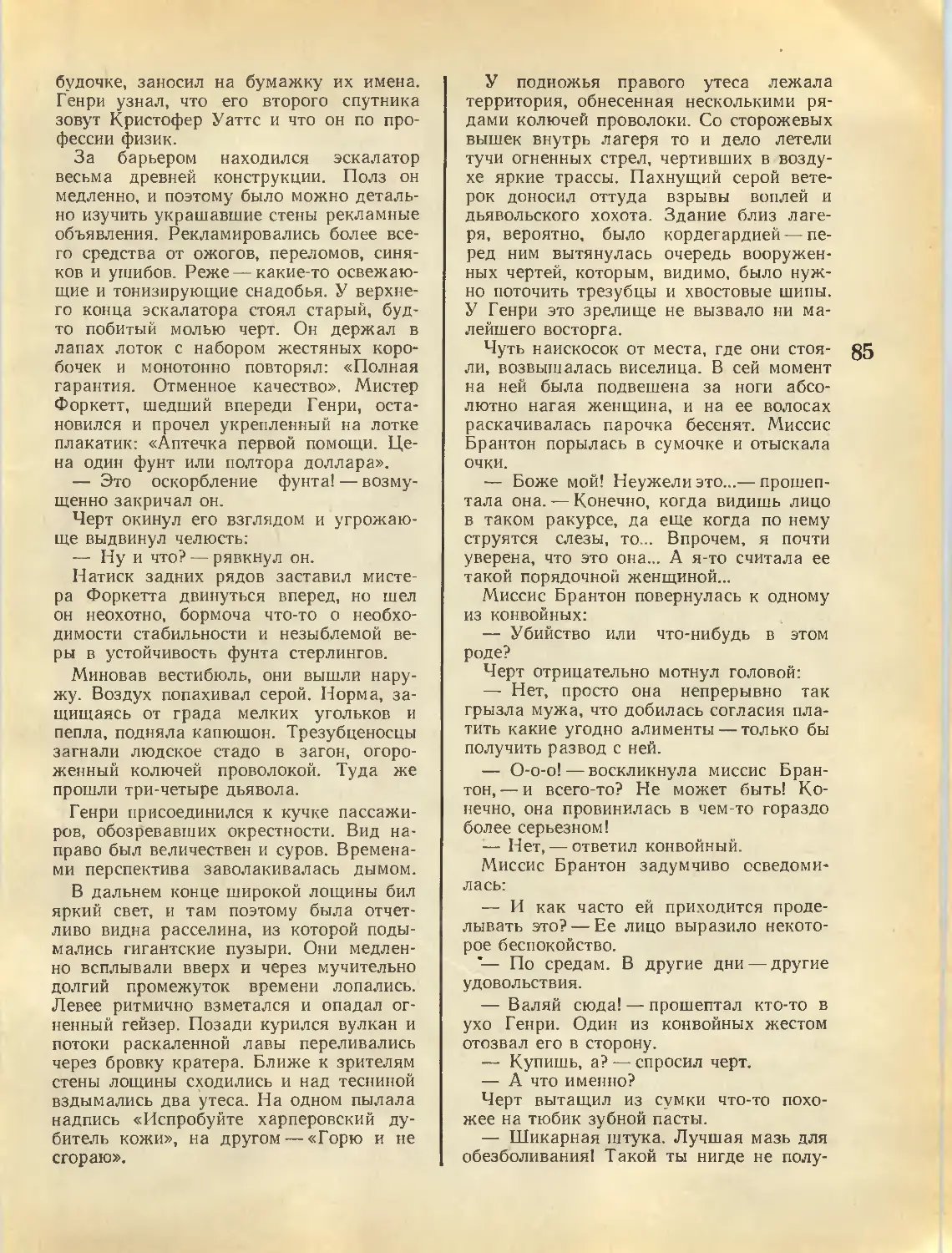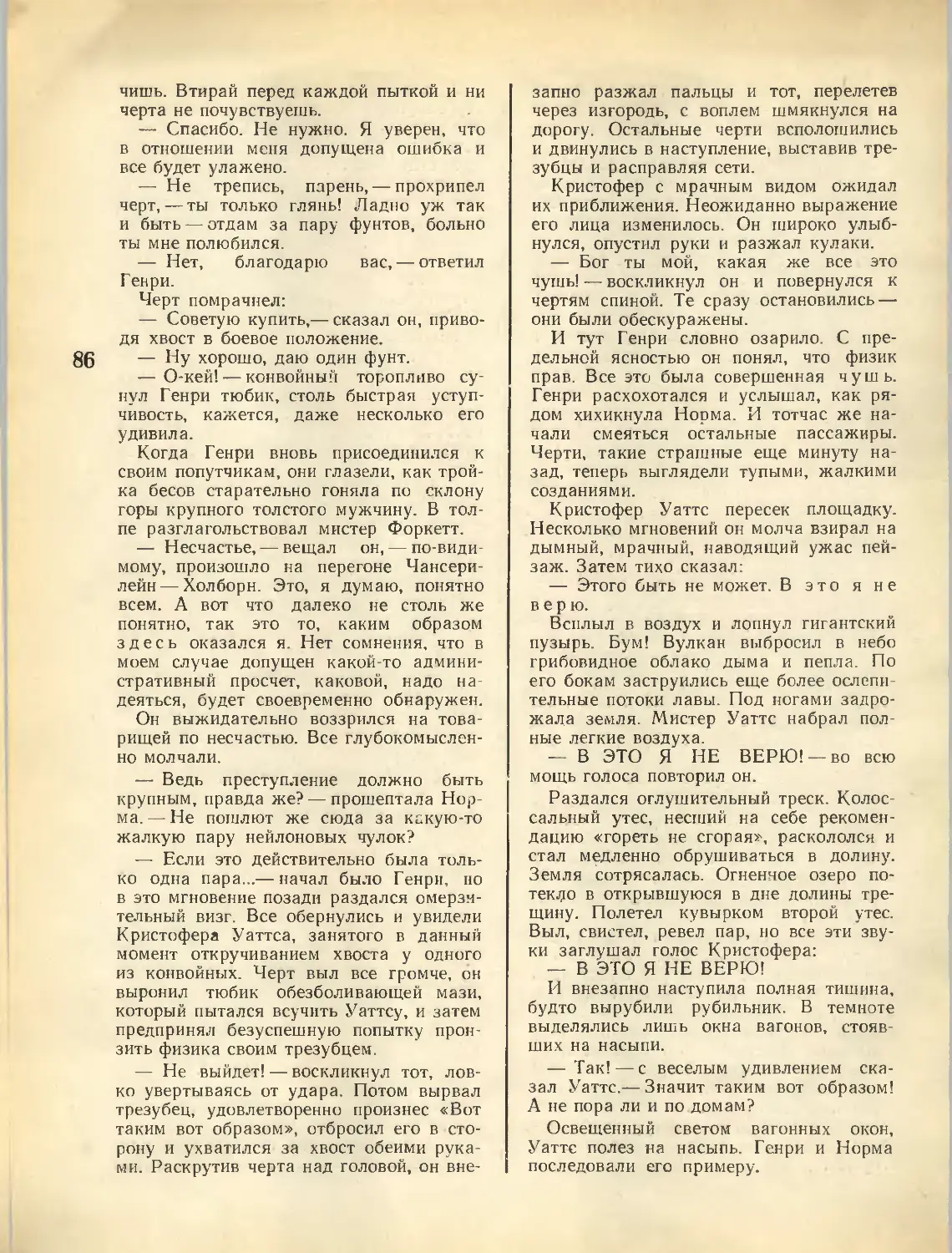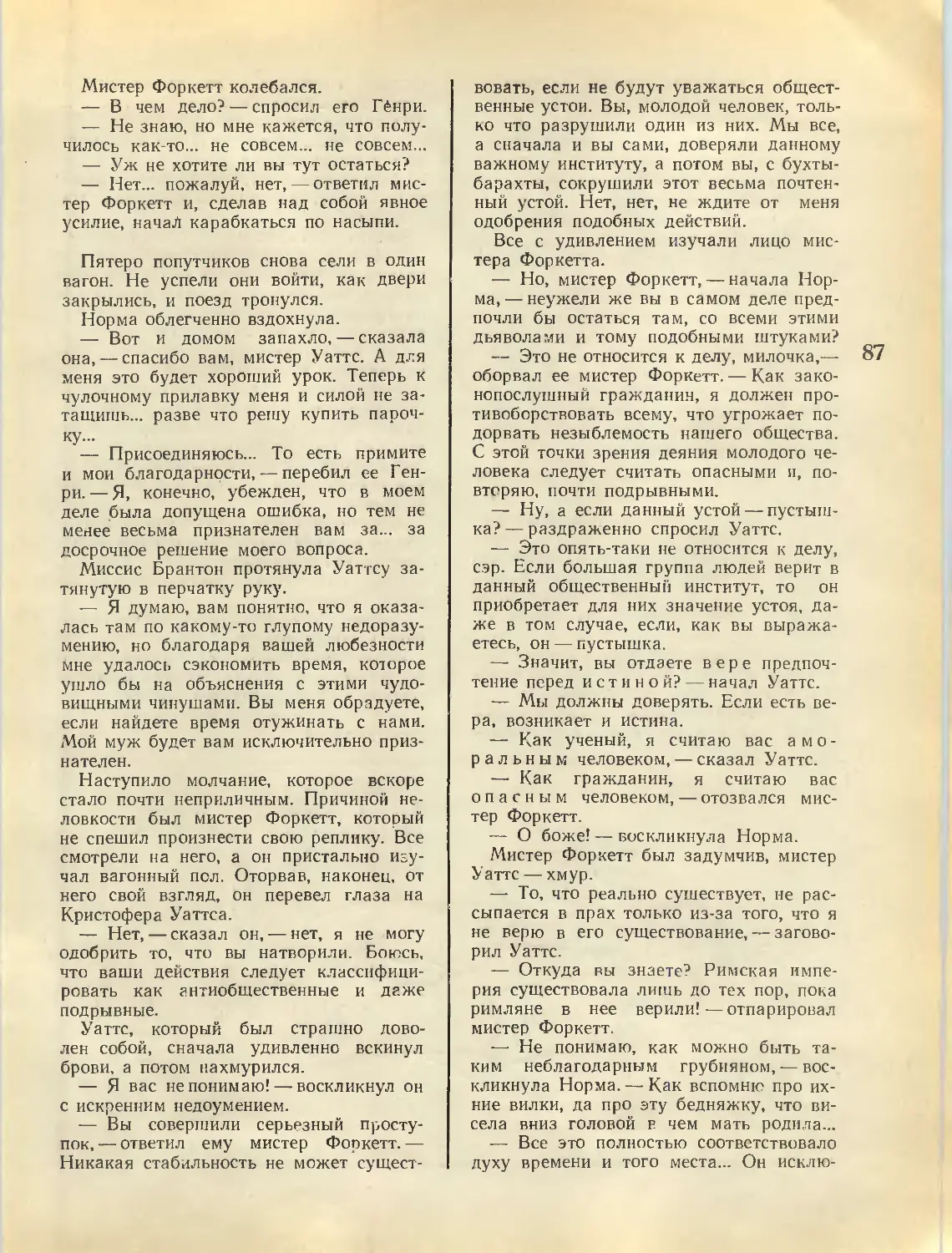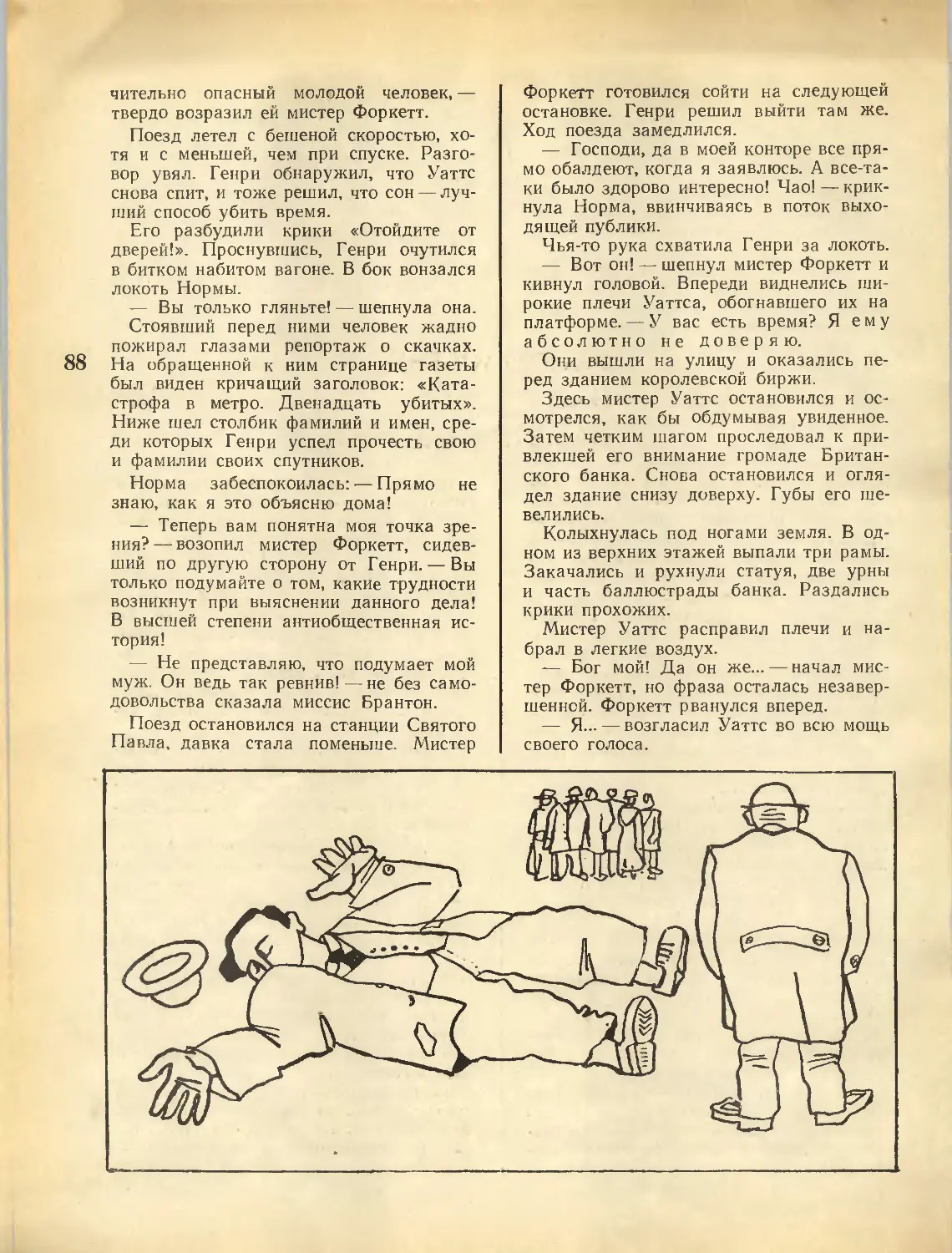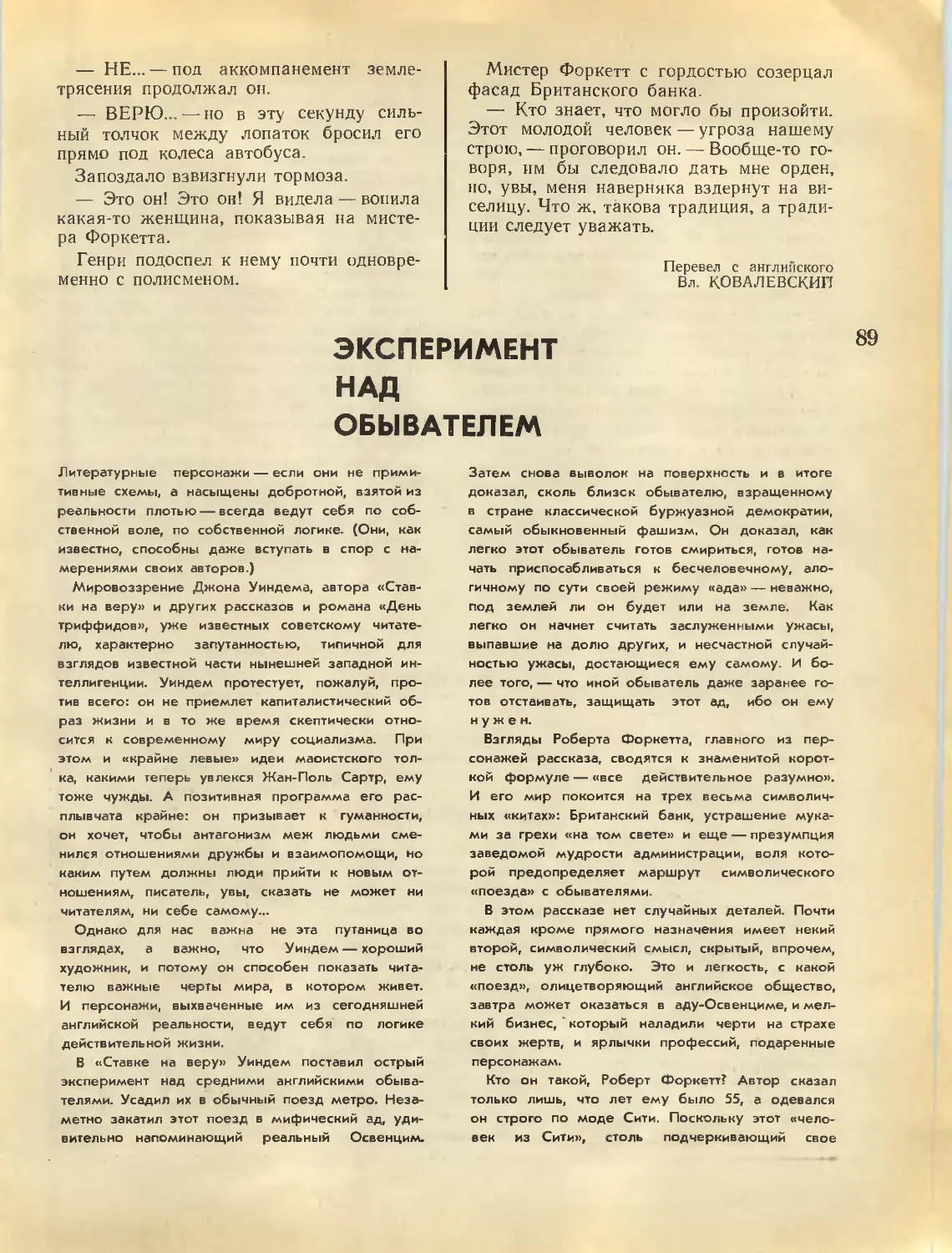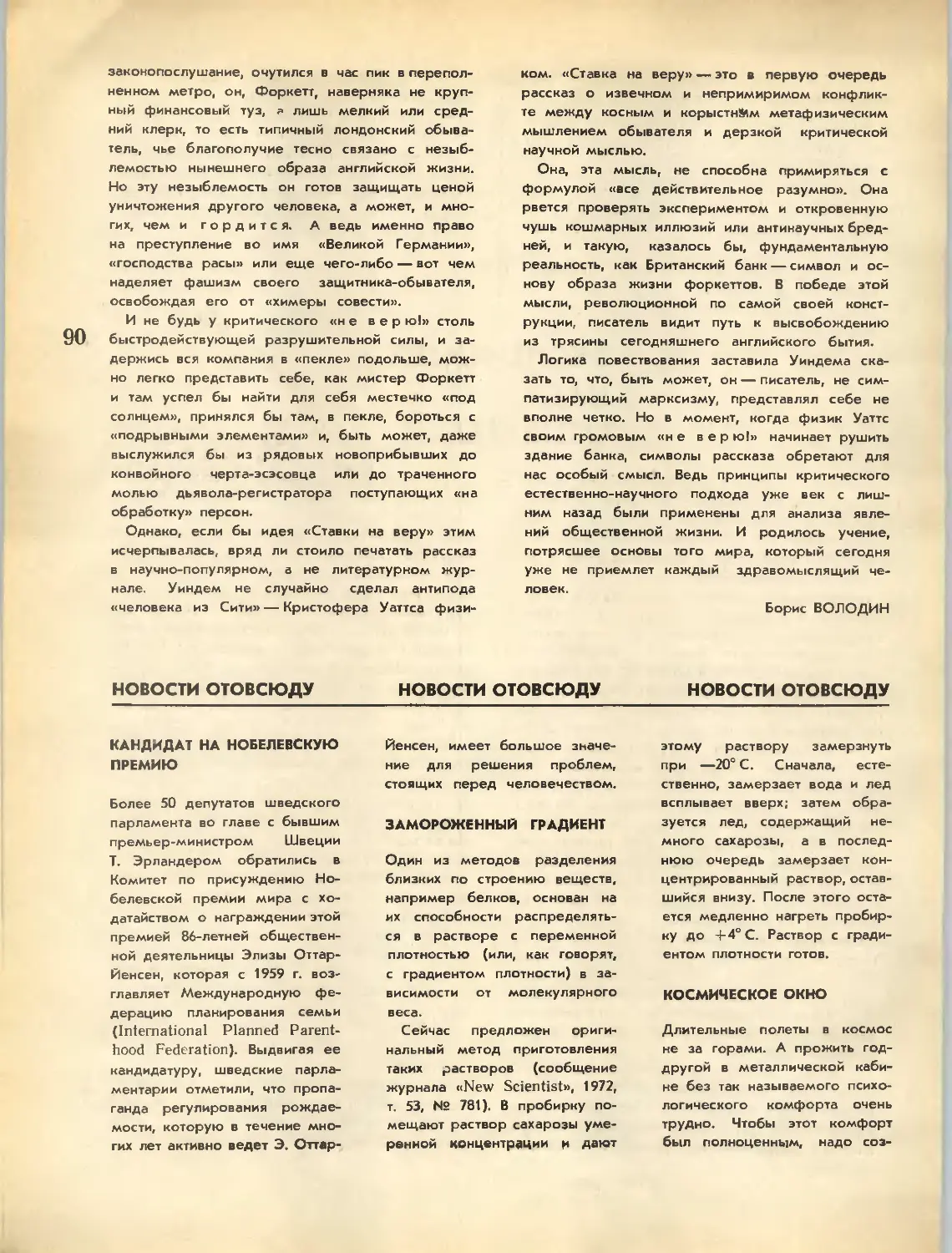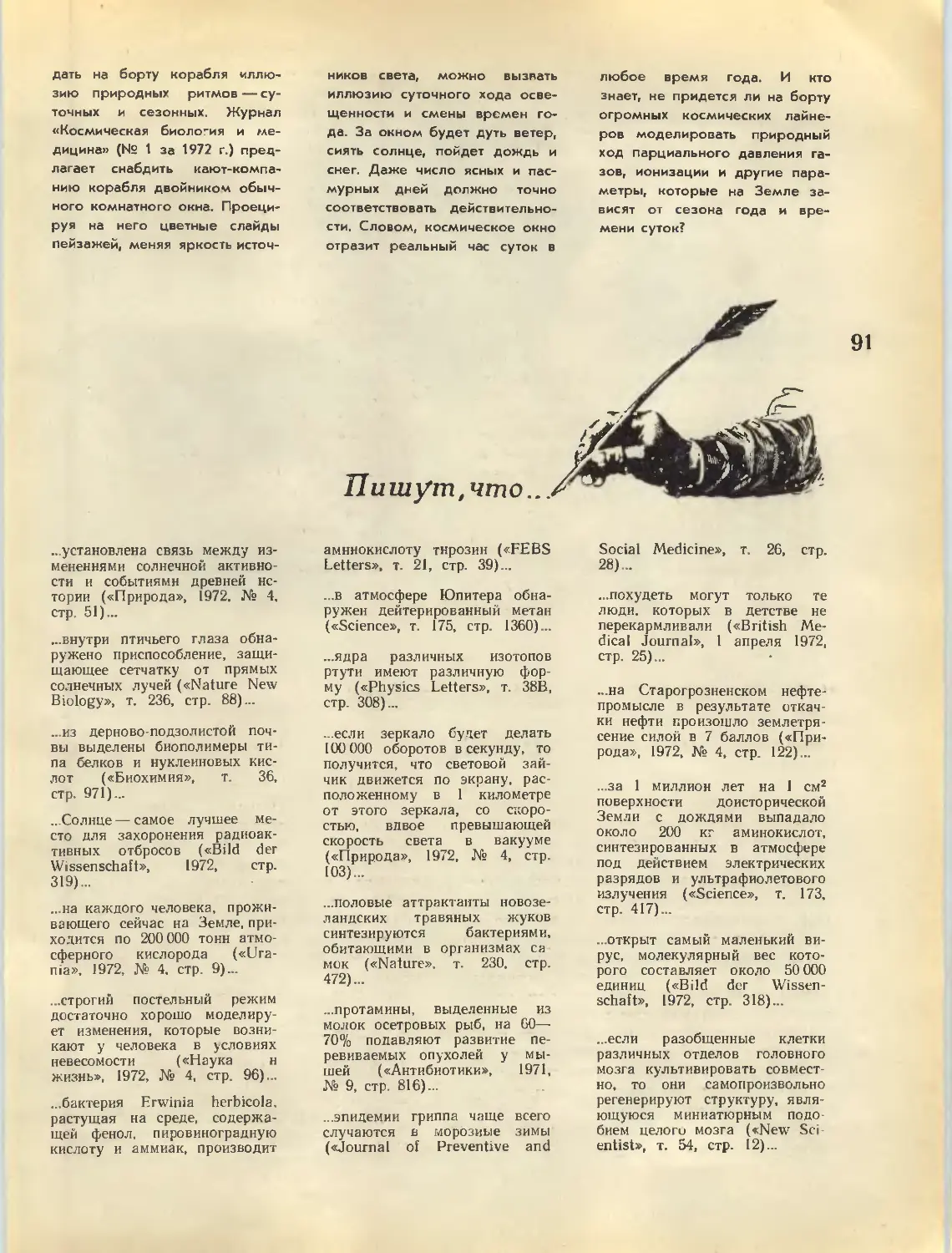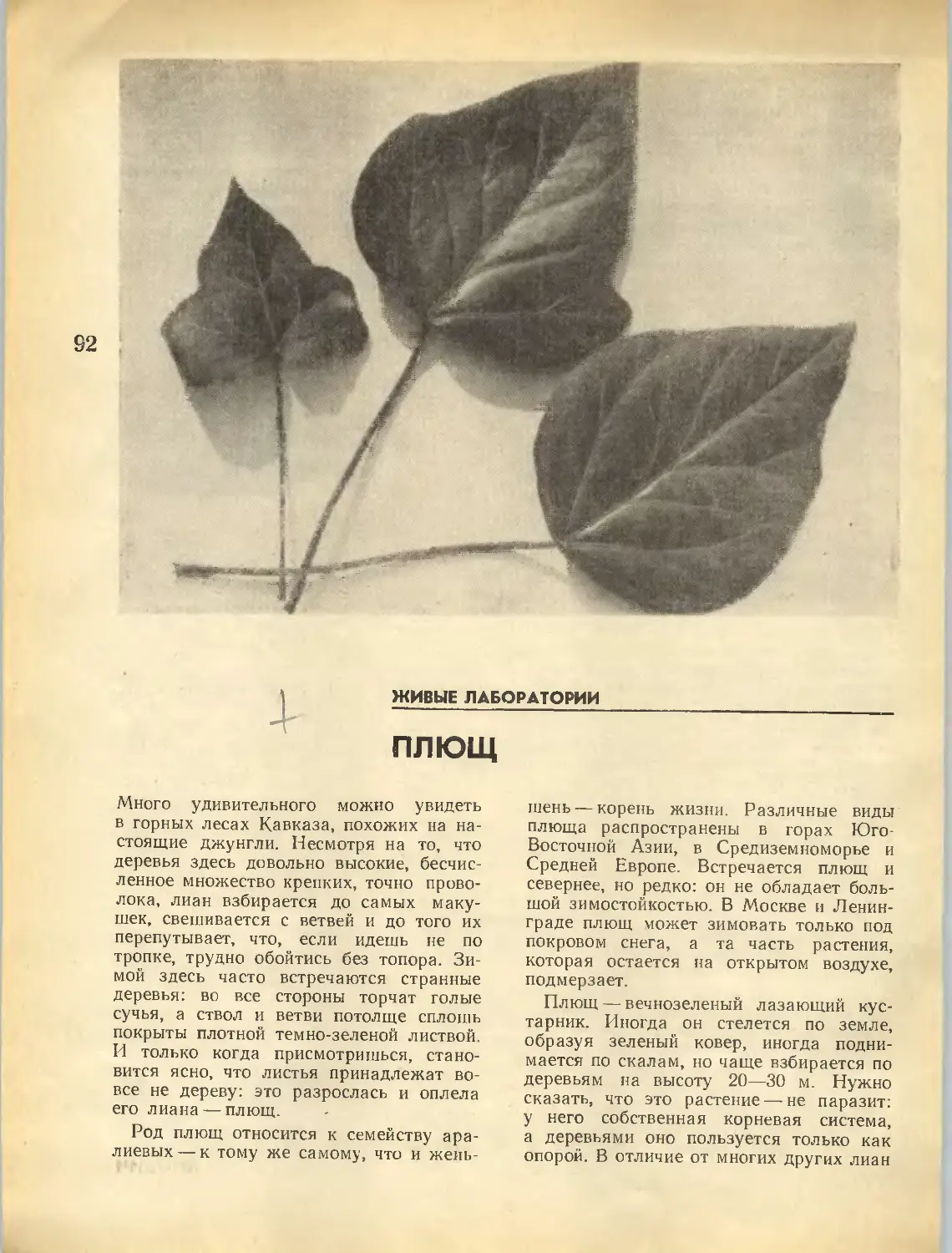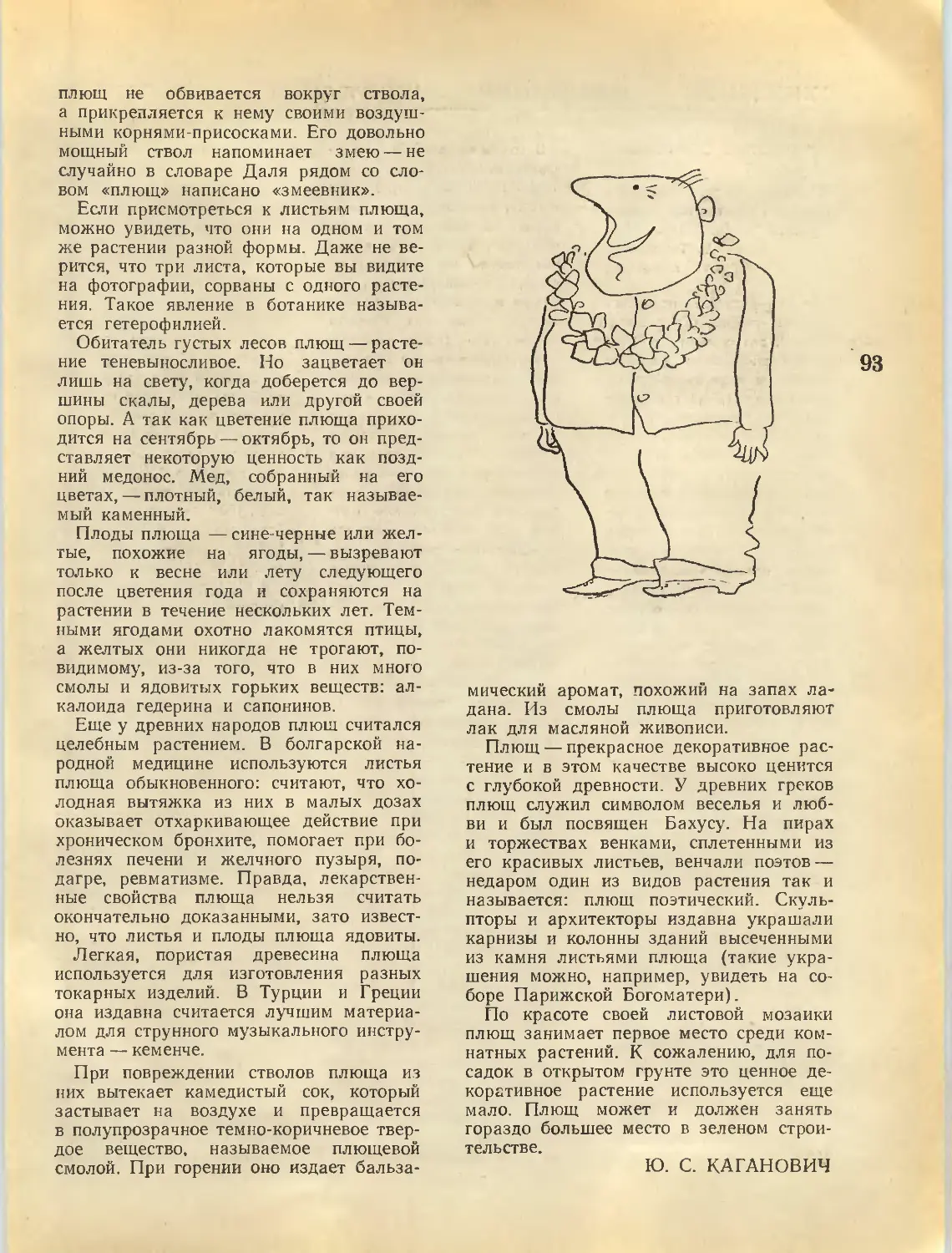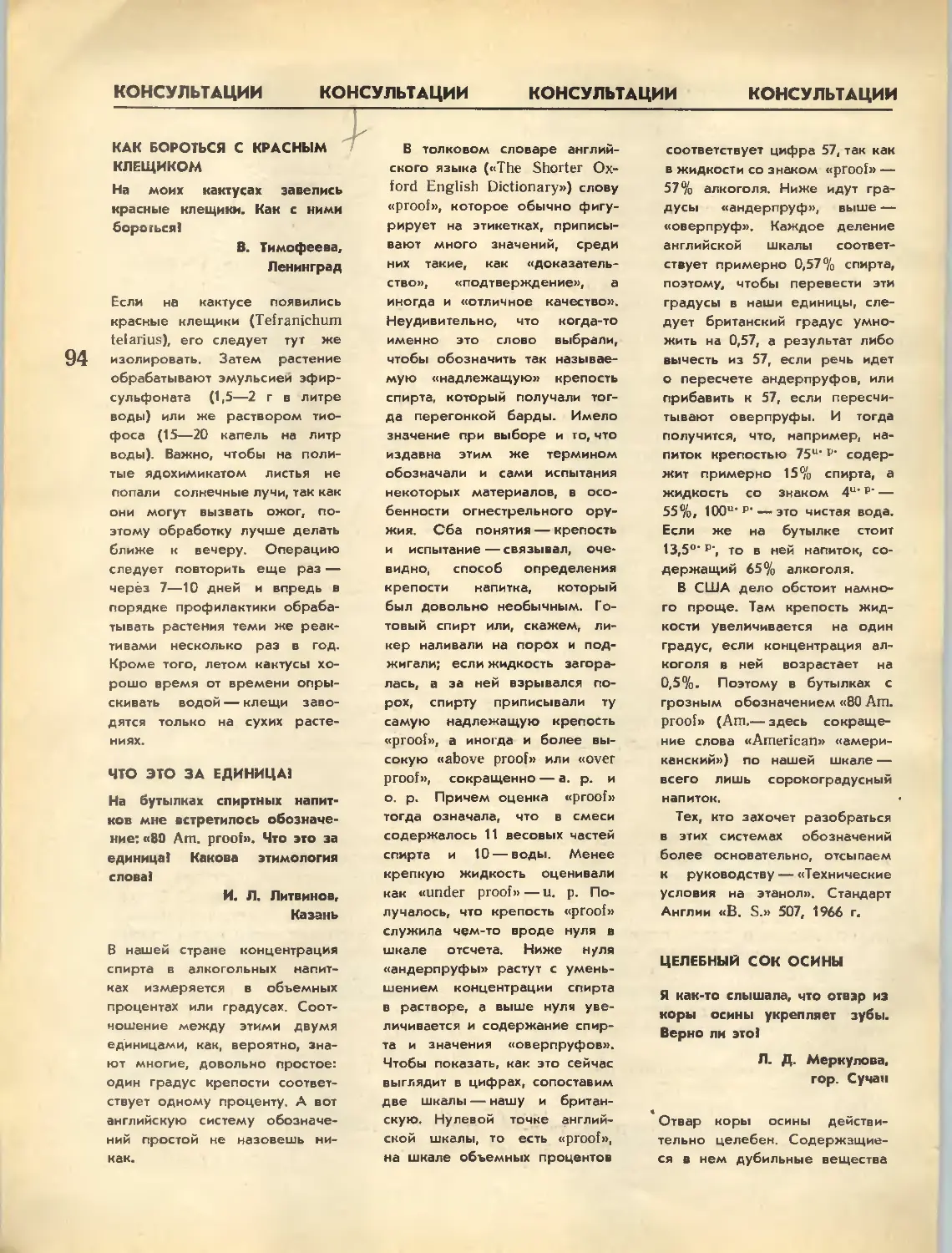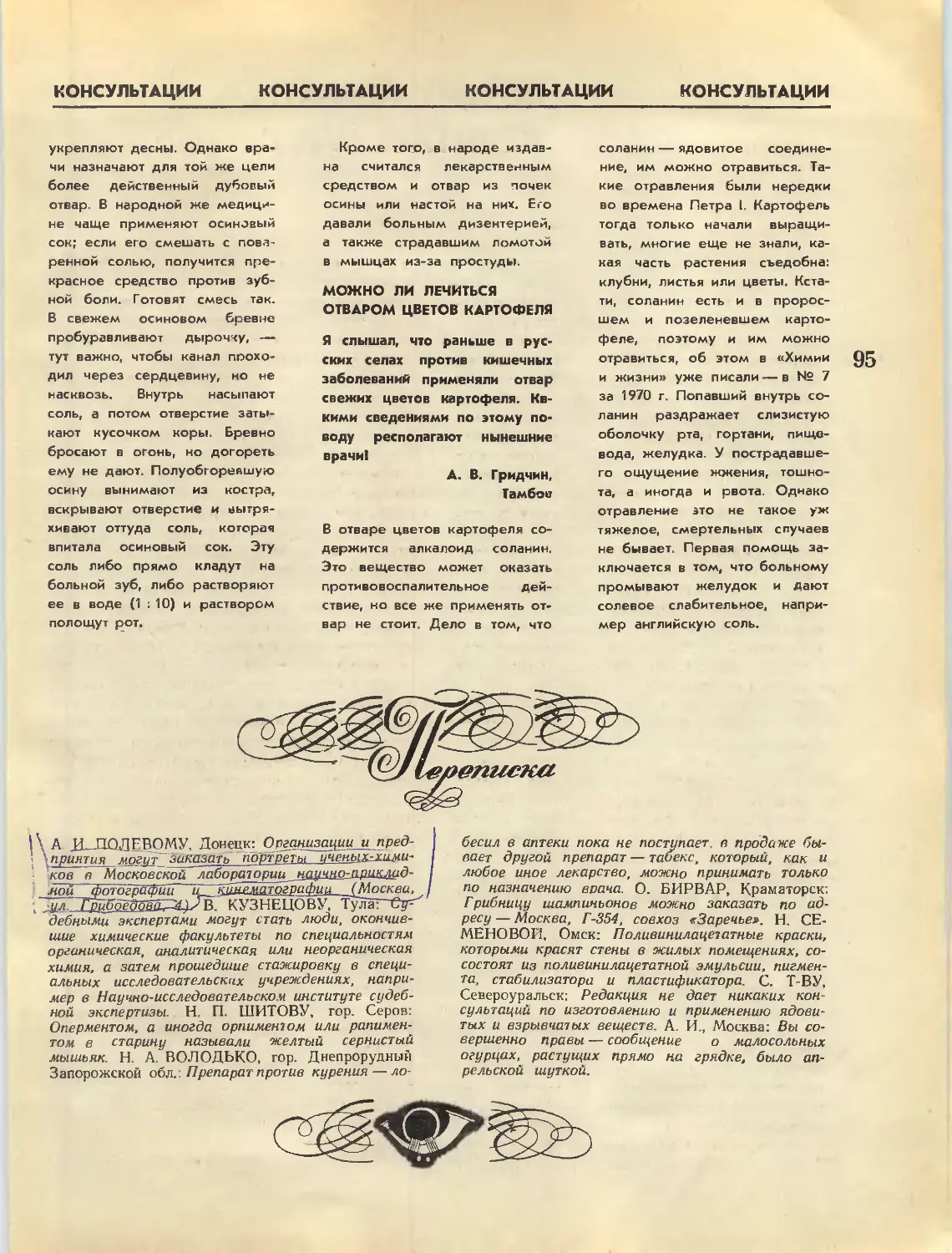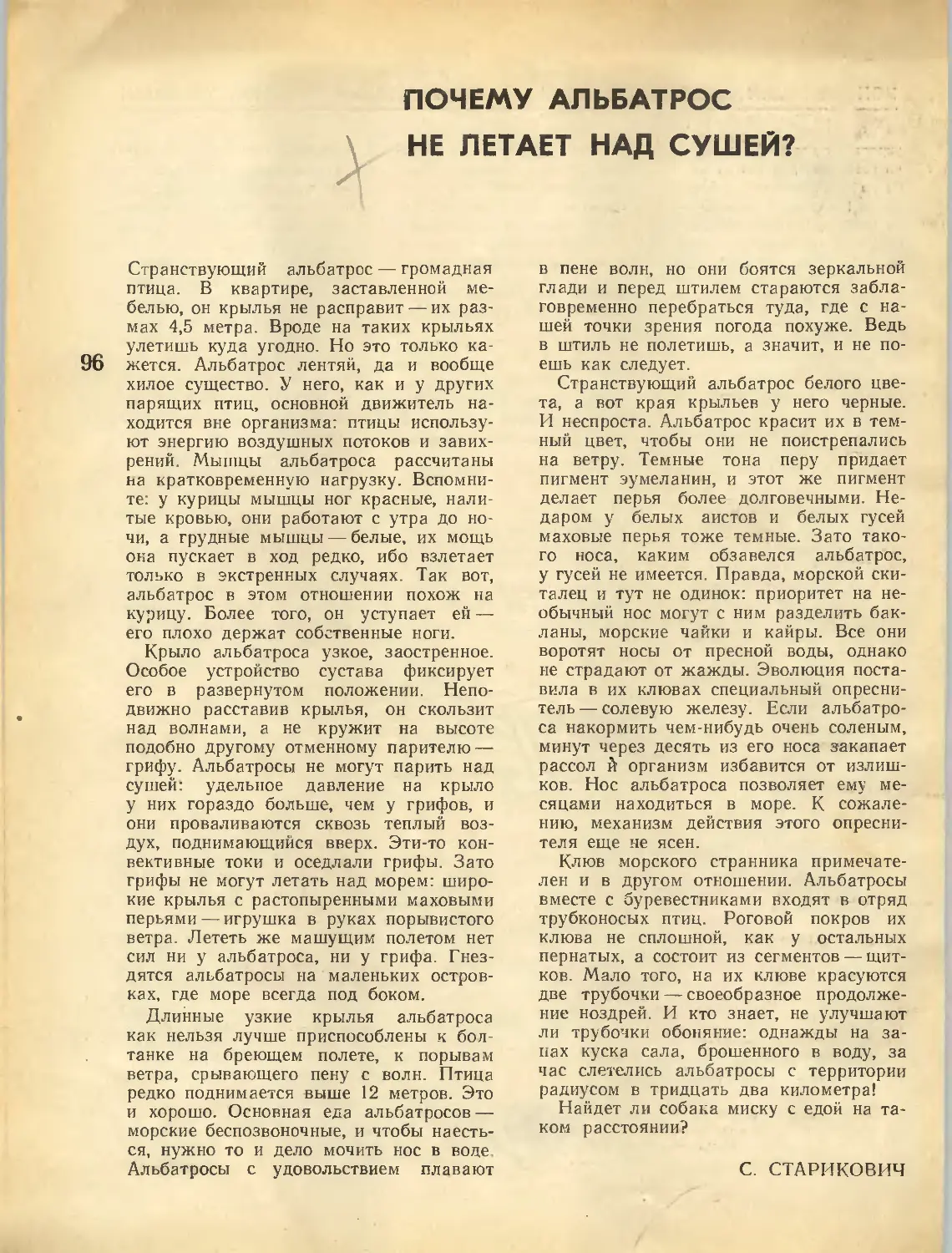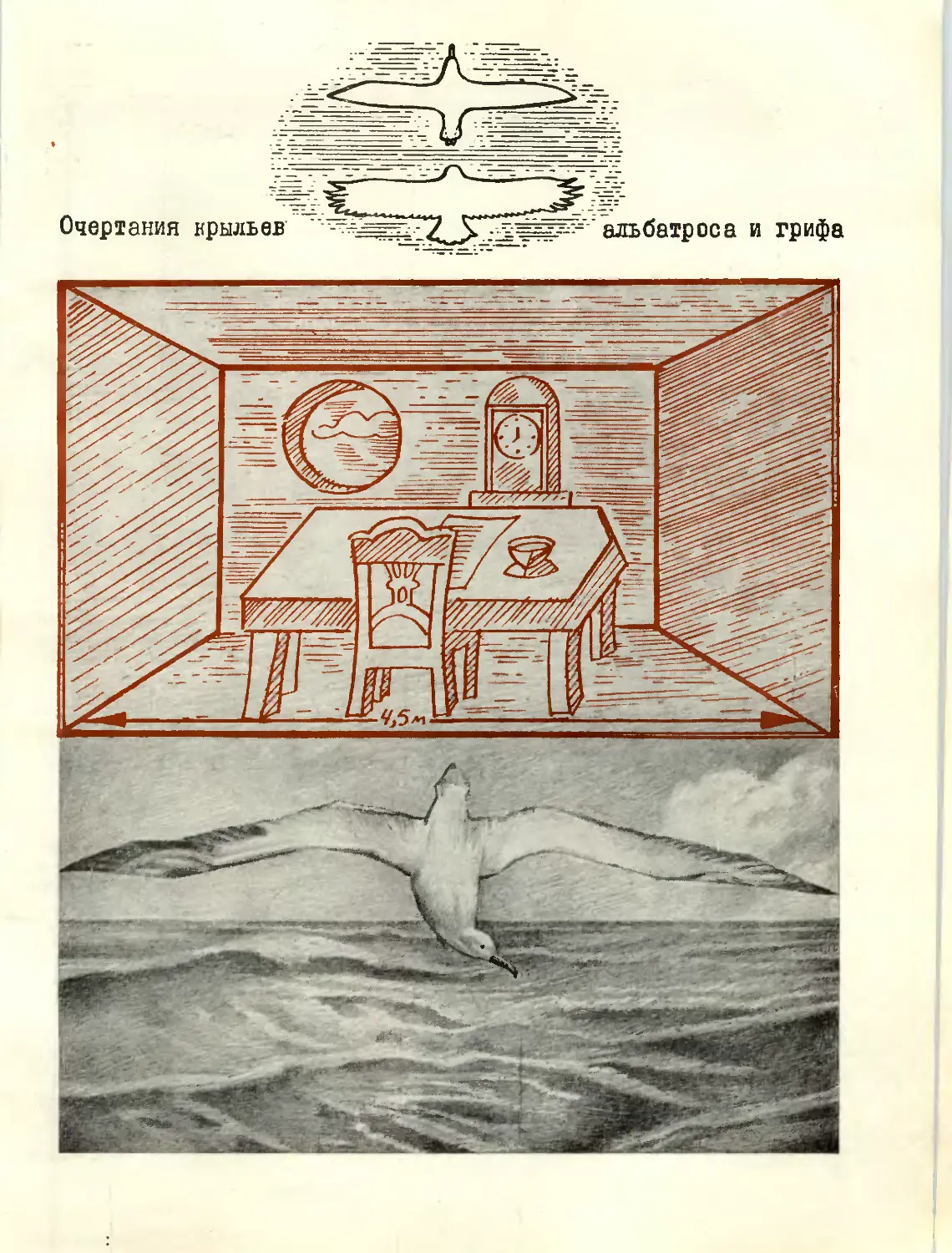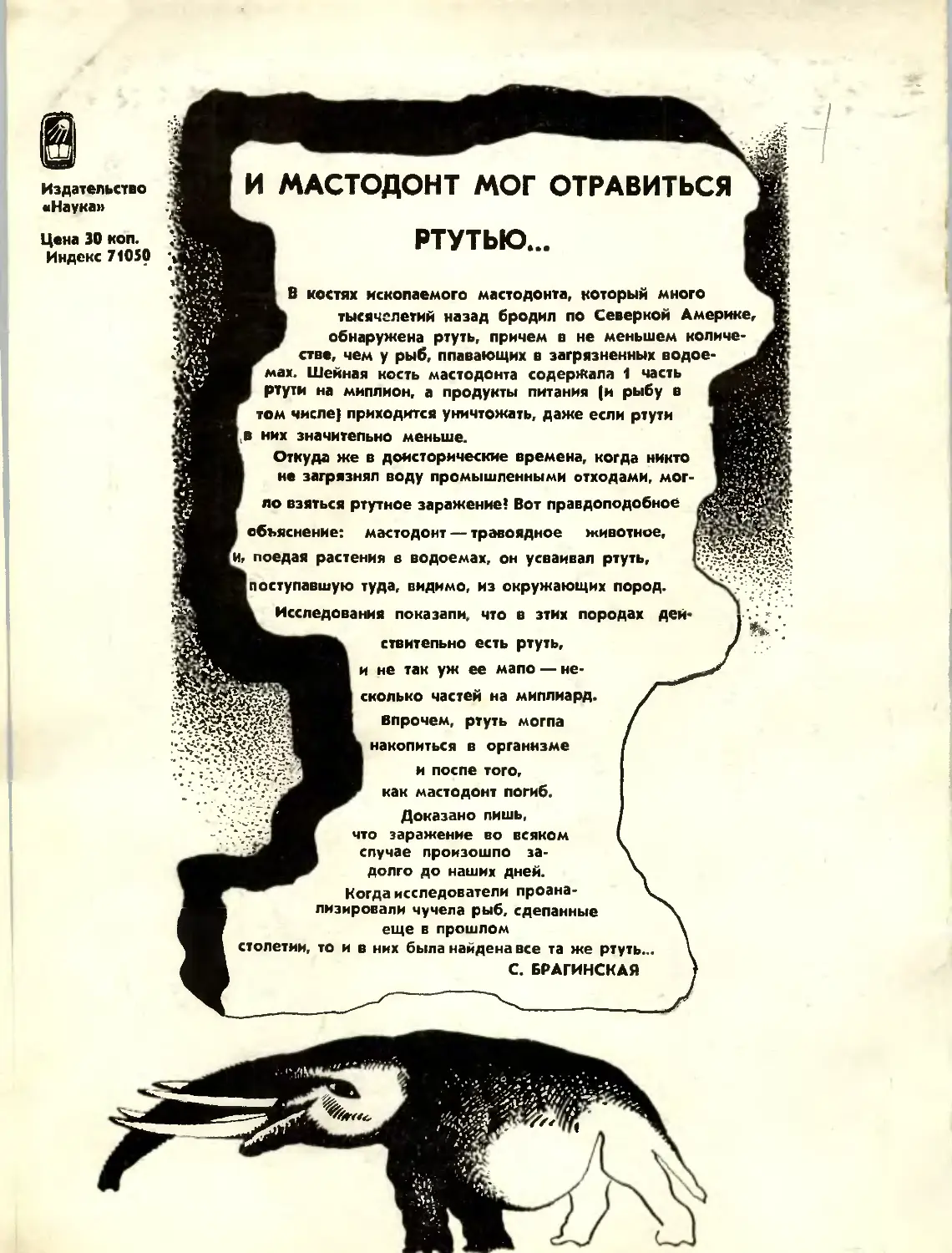Text
химия и жизнь
1аучно-популярный журнал Академии наук СССР 1972
*
ч$
^xl
♦♦♦♦
♦♦♦♦♦♦♦
♦♦♦♦♦♦♦♦
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
►♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
>♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
>♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
>♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
>♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
!►♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
>♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
>♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
*♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
>♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
>♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
►♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦^
>♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
>♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦!
►♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
►♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
K^♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦^
"♦♦♦♦♦♦♦♦♦<~
^♦♦♦♦♦♦"
♦♦♦♦♦♦
♦♦♦
♦♦♦
IS
Плющ, о котором вы можете
прочесть в этом номере,
служил в древнем мире
символом веселья и радости.
Венками из него увенчивали
на пирах поэтов. Такой венок
и на голове этого
мальчика-музыканта,
изображенного на сицилийской
мозаике IV века.
На первой странице обложки —
иллюстрация к статье
«Неувядающий хлопчатник»,
в которой рассказывается
о новых сортах, выведенных
узбекскими учеными. Эти
сорта устойчивы к вилту —
страшной болезни хлопчатника.
Вилтоустойчивым хлопчатником
заняты уже сотни тысяч
гектаров; это дает
возможность, не расширяя
посевных площадей,
производить больше хлопка,
вырабатывать больше тканей
химия и жизнь
№ 7
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ Ш^- #
НАУЧНО-
ПОПУЛЯРНЫЙ
ЖУРНАЛ
АКАДЕМИИ
НАУК СССР
Июль 1972
Год издания 8-й
50 лет СССР
Последние известия 8
9
Новые заводы
Последние известия
Проблемы и методы
современной науки
Страницы истории
Информация
Обыкновенное вещество
Я. С. ГРОСУЛ. «Своим рождением
наука Молдавии обязана советскому
строю...»
Рассказ продолжает директор
Института химии АН МССР академик
АН МССР А. В. АБЛОВ
Г. В. ЛАЗУРЬЕВСКИЙ,
И. В. ТЕРЕНТЬЕВА. Горбова трава
Г. С. ВОРОНОВ. Лазер направляет
реакцию
Ю. МИШИН. Закончен синтез
витамина Bi2
Диалог 10 X. АЛЬВЕН: «Оптимисты,
пессимисты — трудно сказать, кто
мы...»
В. С. Ядерный стипль-чез
A. Г. РУЦКОЙ. Равноправные
партнеры
Щекино: синтетическое волокно
Ю. ОЛЕНИН. Еще одна группа
антибиотиков
B. М. КОМБАРОВ,
Л. Ф. ТРОИЦКИЙ. А там — трава
не расти
В. Р. ПОЛИЩУК- Не так сграшен
фтор...
А. И. КРАСОВСКИЙ, Р. К- ЧУЖКО.
Из газовой фазы — вольфрам
Г. Г. ВИНБЕРГ. Кольцовское начало
И. А. РАПОПОРТ. Кольцов, каким
я его помню
14
17
19
20
21
26
29
30
34
Новости отовсюду
А почему бы и нет!
Гипотезы
Клуб Юный химик
Новые книжки
.Учитесь переводить
Короткие эвметки
Литературные страницы
Пишут, что...
Живые лвборвтории
Консультации
Переписка
39
40
44
49
51
54
56
58
67
69
72
76
78
79
80
91
92
94
95
96
О. ЛЕОНИДОВ. Неувядающий
хлопчатник
A. Л. КОЗЛСВСКИЙ. Столярный
клей
М. С. ТИЦ. Инфракрасный обман
Э. С. ТЕРЕХОВ. Дом восьмидесятых
годов
B. В. СИНИЦЫН. О пользе и вреде
смазки
М. С. РАБИНОВИЧ. Краткий миг
торжества
Е. АНУФРИЕВ. Искусственная
жизнь — как ее создать?
Б. И. СИЛКИН. Как магнитное поле
устраивает биологические революции?
Л. Н. ПОПОВА. Немецкий — для
химиков
В. Б. НЕЙМАН. Мираж на Марсе?
Дж. УИНДЕМ. Ставка на веру
Ю. С. КАГАНОВИЧ. Плюш
С. СТАРИКОВИЧ. Почему альбатрос
не летает над сушей
й?
Редакционная коллегия:
И. В. Петрянов-Соколов
(главный редактор),
П. Ф. Баденков,
Н. М. Жаворонков,
Л. А. Костандов,
Н. К- Кочетков,
Л. И. Мазур,
В. И. Рабинович
(ответственный секретарь),
П. А. Ребиндер,
М. И. Рохлин
(зам. главного редактора),
Н. Н. Семенов,
Б. И. Степанов,
A. С. Хохлов,
М. Б. Черненко
(зам. главного редактора),
B. А. Энгельгардт
Редакция:
Б. Г. Володин,
М. А. Гуревич,
В. Е. Жвнрблнс,
A. Д. Иорданский,
О. И. Коломийцева.,
О. М. Либкин,
Д. Н. Осокина,
B. В. Станцо,
C. Ф. Стариковнч,
Т. А. Сулаева,
B. К- Черникова
Художественный редактор
C. С. Верховский
Номер оформили
художники
Г. 3. Перкель,
А. Я- Штаркман
Технический редактор
Э. И. Михлин
Корректоры:
Н. А. Велерштейн,
А. Н. Федосеева
При перепечатке ссылка
на журнал
«Химия и жизнь»
обязательна
Адрес редакции:
117333
Москва В-333,
Ленинский проспект, 61
Телефоны:
135-52-29,
135-90-20,
135-63-91
Подписано к печати
14/VI 1972 Г. Т01063.
Бумага 84 х i08Vie
Печ. л. 6,0 + вкл.
Уч.-изд л. 10,5.
Усл. печ. л. 10,08
Тираж 155 000 экз.
Заказ 238. Цена 30 коп.
Московская типография
№ 13 Главполиграфпрома
Комитета по печати
при Совете Министров СССР.
Москва,
Денисовский пер., д. 30.
tO№ СОВЕТАХ
«СВОИМ РОЖДЕНИЕМ
НАУКА МОЛДАВИИ
ОБЯЗАНА
СОВЕТСКОМУ СТРОЮ...»
4
Президент Академии наук Молдавской ССР
Я. С. ГРОСУЛ
рассказывает корреспонденту «Химии и жизни»
о том,
какой была наука Молдавии раньше
и что она собой представляет сейчас.
До Великой Октябрьской
социалистической революции в нашем крае не было
ни высших учебных заведений, ни
научно-исследовательских учреждений,
поэтому можно с полным правом говорить,
что своим рождением наука Молдавии
обязана советскому строю.
И все же до 1917 года у нас велась
научная работа, правда, она оставалась
уделом немногих, не получавших
помощи от государства
ученых-энтузиастов. Они постоянно поддерживали связь
с представителями русской передовой
науки и культуры, и некоторые стали
довольно известными людьми. Например, в
начале XVIII века в России хорошо
знали молдавских ученых Спафария (Миле-
ску) и Дмитрия Кантемира.
Из наших краев и академик Берг,
химики Зелинский и Писаржевский,
ботаник Жуковский и архитектор Щусев.
В свою очередь русский ученый Докучаев
положил начало исследованиям почв
Молдавии, а врач и педагог Пирогов
много сделал для улучшения народного
образования у нас.
Первым научным центром стал
основанный в 1926 году Научный Комитет при
Наркомпросе Молдавской АССР. В 1946
году в Молдавии организовали базу
Академии наук СССР. Эту дату мы считаем
началом создания в республике
академической науки. В 1949 году база стала
филиалом Академии наук СССР, а в
1961 году была основана Академия наук
Молдавской ССР. В августе прошлого
года мы уже праздновали ее
десятилетний юбилей.
Все это далось нам нелегко, поэтому
мы всегда будем с благодарностью
помнить о той огромной помощи, которую
оказали нам ученые РСФСР и Украины
в становлении науки Советской
Молдавии.
В послевоенные годы в соответствии с
производственной специализацией
республики (сельское хозяйство,
виноградарство, садоводство) у нас занимались
преимущественно биологическими и
сельскохозяйственными науками. Однако с
начала пятидесятых годов стала
интенсивно развиваться и промышленность,
поэтому все большее значение приобретают
также работы в области физики и
химии полупроводников, технической
кибернетики, теоретической и прикладной
математики. Таков научный профиль
республики сейчас, если так можно
выразиться.
Самый крупный научный центр —
конечно, Академия наук. Здесь ведутся
фундаментальные исследования и
работы, носящие прикладной характер. О
некоторых из них, по-моему, стоит
упомянуть особо. В Институте прикладной
физики АН МССР, например, созданы
совершенно новые полупроводниковые ма-
В Институте физики
АН МССР создано несколько
моделей электросветоловушек—
приборов, охраняющих сады
от вредных насекомых. Здесь
показана одна из таких
установок. Она движется
по междурядьям, привлекая
к себе тучи вредителей,
которые тут же погибают,
ударяясь о сетку, так как
через нее пропущен
электрический ток
!•
териалы, там же сконструированы новые
приборы, позволяющие обрабатывать
металлы с высокой степенью точности. Это,
к примеру, установка для
электроискрового нанесения благородных металлов на
поверхность, скажем, стали или же
устройство для электрохимической
обработки сложных деталей, которая делает их
прочными и стойкими к коррозии. В этом
же институте разработан нехимический
метод борьбы с вредителями сельского
хозяйства, суть которого состоит в том,
что в садах, например, устанавливают
созданные у нас электросветоловушки,
они привлекают к себе, а затем и
уничтожают вредных насекомых.
Из-за того, что в Молдавии бывают
землетрясения, приходится возводить
сейсмостойкие здания, а это не дешево.
Поэтому для нас очень важны работы
Института геофизики и геологии по
новому сейсмическому районированию
республики. Строительство с учетом этих
работ позволит экономить более
миллиона рублей в год.
Генетики и селекционеры Академии
наук вывели новые высокоурожайные
сорта кукурузы, богатой лизином и стой-
Исторически так сложилось, что в
институте с самого начала занимаются
исследованием координационных соединений
кобальта. Эти работы не связаны с
хозяйством республики, так как кобальта
в Молдавии нет. Но его не было и в
Дании, где в прошлом столетии Йергенсен
начал изучать комплексные соединения
этого элемента, не было кобальта и в
Швейцарии, где работу продолжал Вер-
нер — создатель координационной теории.
Тогда эти вещества интересовали
химиков прежде всего с теоретической точки
зрения.
В наши дни интерес к комплексным
или, как их чаще называют теперь,
координационным соединениям не только не
угас, а, наоборот, даже возрос.
Постараюсь объяснить почему. Диоксимины
кобальта впервые синтезировал Чугаев в
1905 году, потом в 1938 году этими
веной к заболеваниям. Разработан также
новый метод защиты против пероноспо-
роза — болезни, "которая губит табак.
Этот метод позволил сохранить более
50 000 тонн табачного сырья общей
стоимостью свыше 90 миллионов* рублей.
Академия — инициатор применения
математических методов и
электронно-вычислительной техники в хозяйстве
Молдавии. В Институте математики,
например, разработаны схемы предприятий
оптимальной мощности, на которых
будут добывать нерудные строительные
материалы.
Большие задачи ждут нас в новой
пятилетке. Нашей республике, например,
нужна хорошая вода — и для питья, и
для технических целей, поэтому
серьезное внимание мы уделим
гидрологическим изысканиям. По-прежнему ученые
разных специальностей будут заниматься
защитой растений от вредных насекомых
и болезней.
Одно из видных мест в наших планах
занимают проблемы экономики, а также
изучение истории и культуры Молдавии,
ее литературного языка и литературы с
древнейших времен и до наших дней.
ществами занялись я и мои сотрудники.
Материалов у нас накопилось много.
Затем Шрауцер — ученый из ФРГ —
модифицировал некоторые из полученных
нами веществ, присоединив к металлу еще
и углеводородный радикал. У него
получились вещества, похожие на витамин
Bi2, структура которого к тому времени
была уже расшифрована. Сам витамин —
очень сложное соединение, с которым
проводить эксперименты нелегко. И вот
оказалось, что диоксимины кобальта
могут служить моделями, на которых
удобно изучать некоторые свойства
витамина. Мы теперь тоже занимаемся
подобными моделями биологически активных
веществ.
Помимо координационных соединений
привлекают к себе внимание и металло-
органические. Собственно, оба
направления тесно переплетаются, потому что ча- *
Рассказ продолжает
директор Института химии АН МССР
академик АН МССР
А. В. АБЛОВ
На виноградниках колхоза
«Бируинца» идет уборка
урожая
сто эти вещества и координационные и
металлоорганические одновременно.
Многие из них сейчас применяют в самых
различных случаях. Например, циклопен-
тадиенил-трикарбонилмарганец —
антидетонатор, и, вероятно, вскоре им
заменят тетраэтилсвинец, который, как
известно, вводят в автомобильное горючее и
благодаря присутствию которого
выхлопные газы двигателей содержат
соединения свинца.
Некоторые координационные
соединения, кроме того, отличные катализаторы.
Кстати, катализатор, который
предложили Нобелевские лауреаты Натта и Циг-
лер для полимеризации этилена и который
совершил революцию в химии полимеров,
тоже относится к этой группе веществ.
Мы координационные соединения
синтезируем и исследуем — с помощью
физических методов и квантовой механики,
то есть на довольно высоком уровне.
Другие лаборатории нашего института
создавались, исходя из непосредственных
нужд республики. В Молдавии нет
значительных минеральных богатств, зато
она богата дикорастущей флорой,
выращивают здесь и технические культуры.
Поэтому в одной из лабораторий
занялись исследованием природных
соединений, которые есть в растениях. Тут
сказался и интерес академика Лазурьевско-
го, который руководит сейчас этой
лабораторией. Он профессором приехал к
нам из Средней Азии, где благодаря
покойному Орехову * начали изучать
дикорастущие растения в поисках
алкалоидов. Эти работы продолжались и в
Молдавии, в результате, например, из осоки
парвской — травы, которая растет в
наших лесах, удалось выделить бревикол-
лин, препарат, который уже входит в
медицинскую практику.
У нас культивируют эфироносные
растения, в частности шалфей; после
извлечения из него шалфейного масла
остается до 99 процентов отходов. С ними
надо было что-то делать. Так начались
* Орехов Александр Павлович A887—1939) —
советский химик, академик, занимался
исследованием алкалоидоносной флоры СССР.
работы со склареолом, который выделили
из шалфейных отходов и который теперь
применяют для изготовления заменителя
амбры.
Есть в Институте и лаборатория
аналитической химии, где под руководством
академика Ляликова занимаются
полярографией, сначала это были больше
теоретические работы, а в последние
годы выкристаллизовались и объекты
исследований. Например, разработан метод
обнаружения следов ядовитых
пестицидов в пищевых продуктах, а также
примесей в полупроводниковых материалах,
которые, как известно, должны быть очень
чистыми. Кроме того, в лаборатории
было создано несколько полярографов: один
из первых в нашей стране переменнотоко-
вый полярограф, радиочастотный и
другие. А недавно здесь занялись
разработкой полярографии в тонком слое; этот
метод позволяет анализировать
растворы, объем которых не более сотых долей
миллилитра.
И еще одно направление.
Промышленность республики не дает сточных вод,
которые могли бы уничтожать жизнь в
водоемах. У нас другая опасность.
Веточных водах винодельческих и пищевых
предприятий много органических
веществ, которые могут служить пищей
болезнетворным микроорганизмам.
Поэтому недавно в институте создан новый
отдел, где занимаются разработкой методов
очистки этих вод, причем с помощью
местных глин — бентонитов.
Я упомянул только о некоторых
работах института, обо всех ведь не
расскажешь. Институт существует не так уж
давно, а сделано за эти годы немало
интересного и полезного, но самое
главное, конечно, всегда впереди.
ГОРБОВА ТРАВА
Нас окружают неслыханные
богатства. Жизнь растений берет
нас в плен, как сумрачные и
пышные заросли. В ней
спрессован драгоценный материал.
Его хватит на сотни книг и на
многие часы работы.
К. Г. ПАУСТОВСКИЙ
Несколько лет назад внимание
химиков привлекло простое и
неприхотливое растение,
которое ботаники именуют осокой
парвекой, а на Украине зовут
горбовой травой, то есть
растущей на холмах. Видов осок»!
очень много, этот же впервые
нашли во Франции — близ
Лиона, на горе Парв, вот почему
она зовется парвекой.
Растет трава в Центральной
и Южной Европе и в Малой
Азии. В нашей стране растение
встречается на Украине, в
Закавказье, но особенно много его
в лесах Молдавии. Скот, как
правило, не ест эту осоку,
однако иногда трава случайно
может попасть в корм.
Животные, которым дали корм с
примесью осоки парвекой,
заболевают. Именно эта особенность
растения послужила поводом
для детального изучения
химического состава его.
Осока парвекая —
многолетнее растение. Молодые побеги
ее появляются в конце лета.
Влажной осенью они
отрастают и сохраняются зелеными
ьею зиму. Весной, после
непродолжительного покоя, трава
начинает бурно расти. В
молодых дубравах, под сенью
грабов, лип и ясеня, на
вырубках — везде видны ее пышные
заросли.
Исследования показали, что
осока парвекая — алкалоидо-
носное растение, причем
наиболее богаты алкалоидами листья.
Это очень удобно для
заготовителей: после покоса быстро
появляется новая поросль, и
через год-два участки опять
пригодны дл^я заготовок.
Алкалоиды осоки парвекой
принадлежат к производным
индольного ряда. Из них
наиболее интересным оказался бре-
виколлнн (С|7Н,9). Прежде
всего потому, что строение его
было не совсем обычным, по
крайней мере среди природных
веществ подобных соединений
раньше никто не описывал.
Когда мы нарисовали рядом
формулы бревиколлина, гарма-
на и никотина, то увидели, что
новый препарат похож на эти
алкалоиды, хотя они относятся
к другим классам веществ.
Гарман — простейшее
соединение из большой группы, в
которую входит и резерпин,
известный своей способностью
снижать кровяное давление.
И у бревиколлина, и у гарма-
на есть по три сочлененных
кольца.
Новый препарат можно
рассматривать и как производное
индолникотина, это хорошо
видно, если взглянуть на
формулы. И действительно,
некоторые химические свойства, при-
Лг-1
*JV
1
H
П
YN
CH3
гарман
N-CH,
T
H CH3
бревиколлин
N-CH,
никотин
сущие главному алкалоиду
табака, были обнаружены н у
бревиколлина.
Главным же было то, что
новый препарат обладал высокой
физиологической активностью;
очевидно, действие травы иа
скот во многом объясняется его
присутствием.
Фармакологические исследования
бревиколлина, проведенные в
Кишиневском медицинском институте
и во Всесоюзном институте
лекарственных растений в
Москве, показали, что у
препарата есть определенные ценные
свойства: он, например,
снижает на некоторое время
кровяное давление, учащает
дыхание. Но особенно ценно то, что
препарат стимулирует
сокращение гладкой мускулатуры.
Поэтому с разрешения
Государственного фармакологического
комитета было организовано
испытание бревиколлина как
нового родовспомогательного
средства. Испытания
закончились успешно: по сравнению с
ранее применившимися в
подобных случаях пахикарпином
и эзерином бревиколлин
оказался более активным и менее
токсичным. Лекарственную форму
алкалоида — гидрохлорид
бревиколлина выпускает сейчас
производственно -
экспериментальный завод ВИЛАР.
Академик
АН Молдавской ССР
Г. TV ЛАЗУРЬЕВСКИИ,
И. В. ТЕРЕНТЬЕВА
Так выглядит осока парвская
ПОСЛЕДНИЕ ИЗВЕСТИЯ • ПОСЛЕДНИЕ ИЗВЕСТИЯ
ЛАЗЕР НАПРАВЛЯЕТ РЕАКЦИЮ
По сообщению газеты «Правда», в Физическом
институте АН СССР создан мощный лазер на углекислом газе,
частоту излучения которого можно плавно
перестраивать в широких пределах.
В первые годы существования лазерной техники
сложилось впечатление, что мощные лазеры
могут работать только на веществах высокой
плотности— твердых телах и жидкостях, а газовые
лазеры способны конкурировать с ними только
по качеству излучения — когерентности,
монохроматичности. Однако появление лазеров на
углекислом газе несколько поколебало эти
представления. Мощность таких генераторов света
возрастает с каждым годом и уже
достигает десятков киловатт.
Чтобы эта цифра приблизилась к тысячам
киловатт — к мощности лазеров на твердом теле,
необходимо как-то компенсировать главный
недостаток газовых лазеров — недостаточно
высокую плотность активного вещества. Наиболее
естественный луть к этому — повышение давления
газа. Но при большом давлении в газе трудно
зажечь электрический разряд, необходимый для
возбуждения молекул. Поэтому лазеры на СО*
обычно работаю', при давлении газа меньше
одной тысячной атмосферы.
Сотрудникам лаборатории квантовой
радиофизики ФИАН удалось преодолеть эту трудность.
Смесь углекислого газа и азоте сжали под
давлением 15 атмосфер. В эту смесь ввели
электроды, на которые подавалось очень высокое
напряжение—19 тысяч вольт. Несмотря на то что
газовый слой был очень тонок — толщиной
всего в 4 мм, пробоя в нем все-таки не
происходило из-за сильного сжатия среды. Требовалось
предварительно ионизировать газ. Это сделали
с помощью мощного электронного пучка от
специального ускорителя. Энергия пучка была
больше миллиона электрон-вольт. Импульс вызвал
ионизацию сжатой газовой смеси, пробой
произошел, и через газ устремился электрический ток.
Возбужденные молекулы С02 начали излучать
инфракрасный свет с длиной волны около
10,6 микрона. Мощность короткого импульса
лазера достигла тысячи киловатт.
Конечно, использовать для ионизации газа
столь громоздкое и дорогое устройство, как
электронный ускоритель, можно не всегда и не
везде. Но есть случаи, когда применение и столь
сложных установок вполне оправданно.
Одна из самых интересных и перспективных
возможностей применения инфракрасных
лазеров на С02 — резонансная химия.
Если бы можно было разрывать химические
связи по желанию, в любом нужном месте
молекулы, не нарушая их в других местах, то
появилась бы возможность строго направленно
руководить реакцией, да и вообще осуществлять
реакции, которые сейчас считаются трудно
осуществимыми или даже просто невозможными.
Инфракрасные лазеры дают такую возможность.
Если направить свет такого лазера на молекулы,
у которых частота колебаний одной связи
совпадает с частотой колебаний молекулы С02 (на
которой работает лазер), то те и другие
колебания попадут в резонанс. При достаточной
мощности излучения амплитуда резонансных
колебаний может стать настолько большой, что связь
порвется. При этом другие, нерезонансные,
связи в той же молекуле останутся целыми. Такой
процесс уже наблюдали в экспериментах.
Удалось решить также проблему изменения
частоты излучения лазера, ее подстройки к
точно выбранной молекуле. В углекислом газе,
находящемся под большим давлением, отдельные
молекулы постоянно сталкиваются, поэтому
частота колебаний молекул то и дело меняется.
Были созданы специальные фильтры, которыми
можно закрыть излучение ненужных частот и
буквально поворотом ручки плавно менять
длину излучаемой лазером волны в диапазоне от
10,3 до 10,7 микрона. Конечно, это еще не
полное решение проблемы — у многих молекул
частоты колебаний лежат вне этого интервала.
Но работа продолжается, и, наверное, в
недалеком будущем создадут лазеры с
регулируемой частотой во всем инфракрасном диапазоне.
Кандидат физико-математических наук
Г. С. ВОРОНОВ
ПОСЛЕДНИЕ ИЗВЕСТИЯ
ЗАКОНЧЕН
С этим сообщением выступил лауреат
Нобелевской премии Роберт Б. Вудворд на VIII
Международном симпозиуме по химии природных
соединений, который состоялся в феврале текущего
года в Дели *. По установившейся уже традиции,
Вудворд читал пленарный доклад последним, и
название доклада тоже звучало традиционно:
«Новые достижения химии природных
соединений». Выйдя на трибуну, Вудворд сказал, что
название доклада должно быть заменено на
другое, более конкретное, а именно «Полный
синтез витамина Bt2». Аудитория встретила его
слова аплодисментами. Участники симпозиума
воздавали должное великолепной работе,
проделанной двумя коллективами ученых — из
Гарвардского университета (США) во главе с Вудвордом
и из Федерального технического института
(Швейцария) во главе с Альбертом Эшенмозе-
ром.
О первых результатах в работе по полному
синтезу витамина Bt2 Вудворд сообщил в 1968
году. К тому времени уже было известно, что
проблема сводится к синтезу кобировой кислоты,
продукта распада природного витамина.
Превращать кобировую кислоту в исходный витамин
химики уже умели. Но и синтез кобировой
кислоты оказался задачей огромной сложности.
Вудворд и Эшенмозер сначала синтезировали
корригенолид — вещество, близкое по структуре
к кобировой кислоте, но все же сильно от нее
отличающееся. Тогда же исследователи
сформулировали пять основных проблем, которые надо
было решить на пути от корригенолида к
кобировой кислоте. Эти пять проблем удалось
решить в течение четырех лет. Сначала
корригенолид был превращен в промежуточное
соединение, гептаметилбисноркобиринамид. В отличие от
корригенолида это вещество имеет в своей
молекуле макроциклическое кольцо и атом
кобальта, что уже приближает его к кобировой
кислоте.
Вслед за этим последовала цепь реакций,
цель которых состояла в виртуозном
преобразовании промежуточного вещества: из семи
совершенно одинаковых эфирных групп в его
молекуле надлежало шесть превратить в амидные
группы, а одну — в карбоксильную. Оказалось,
* Наш журнал уже писал о работах Р. Б. Вудвор-
да по синтезу витамина В12. См. «Химия и жизнь»,
1971, № 6.—Ред.
• ПОСЛЕДНИЕ ИЗВЕСТИЯ
СИНТЕЗ ВИТАМИНА В12
что прямым путем этого добиться невозможно.
Поэтому исследователям пришлось отступить от
уже завоеванных позиций и использовать
промежуточные соединения, полученные на более
ранних этапах синтеза. Были разработаны такие
пути преобразования этих соединений, которые
в конечном счете приводили не к семи
одинаковым эфирным группам, а к необходимым шести
амидным и одной карбоксильной.
Затем потребовалось решить очередную
проблему. В огромное углеродное кольцо с
десятками атомов надо было очень точно ввести две
метильные группы — на те места, которые они
занимают в кобировой кислоте. Это удалось
сделать, и это вплотную приблизило
экспериментаторов к окончательному успеху. При решении всех
проблем приходилось непрерывно следить за
тем, чтобы сохранялось правильное
пространственное расположение атомов, которого удалось
добиться в самом начале работы. Сделать это
было чрезвычайно трудно: в процессе
многостадийного синтеза, когда в реакциях участвовали
разнообразные, порой очень энергичные,
реагенты, нужная стереохимия молекулы не раз
нарушалась, и приходилось отыскивать
изощренные способы, чтобы восстановить ее.
Блестящий теоретический анализ и высокое
экспериментальное мастерство помогли
преодолеть эти и многие другие трудности, казавшиеся
многим неразрешимыми. По ходу синтеза было
открыто несколько совершенно новых реакций.
Вопреки ожиданиям, Вудворд не показал в
Дели диапозитив с совпадающими
спектральными кривыми двух витаминов Bt2 — синтетического
и природного. Но в этом и не было
необходимости. Данные, доложенные им в Дели, не
оставили сомнения в том, что синтез кобировой
кислоты, а значит, и полный синтаз витамина В!2
успешно выполнен. Тем самым завершен
сложнейший из синтезов за всю историю
органической химии. Скоро ли удастся добиться
большего?
Ю. МИШИН
ДИАЛОГ
ПРОФЕССОР
ХАННЕС АЛЬВЕН:
«ОПТИМИСТЫ, ПЕССИМИСТЫ -
ТРУДНО СКАЗАТЬ, КТО МЫ...»
Каждый год Академия наук СССР присуждает свою
высшую награду — золотую медаль имени М. В.
Ломоносова. Награжденных всегда двое: один — советский
ученый, один — иностранный. Лауреатами Ломоносовской
медали 1971 года стали академик В. А. Амбарцумян
(отмечены его выдающиеся достижения в области
астрономии и астрофизики] и шведский исследоьатель
X. Альвен. Профессор стокгольмского Королевского
технологического института X. Альвен известен
фундаментальными работами по электродинамике, физике
плазмы и астрофизике. Альвен положил начало новой
области физики — магнитной гидродинамике. Он
сформулировал основное положение этой науки —
представление о вморсженности магнитного поля в плазму;
открыл новый вид волнового движения проводящей
среды в магнитном поле — особые магнитогидоодинамиче-
ские волны, которые были названы в его честь альвенов-
скими волнами.
В 1970 году X. Альвен получил Нобелевскую премию
по физике. В том же году он был избран президентом
Пагуошского движения ученых за разоружение и
разрядку международной напряженности — это дань
доверия и уважения к нему как активному участнику этого
движения.
В феврале нынешнего года, после вручения в
Москве золотых медалей имени М. В. Ломоносова,
корреспондент «Химии и жизни» В. Черникова беседовала с
Ханнесом / ЛЬВЕНОМ.
Не могли бы вы кратко сказать Суть в том, что с плазмой сейчас связаны по меньшей
о сути научных работ, за кото- мере две важнейшие проблемы. Во-первых, термоядер-
рые награждены? ные исследования, которые обещают человечеству почти
неисчерпаемый источник энергии. И во-вторых,
исследования космического пространства. Космос наполнен
плазмой, сплошь пересеченной электрическими токами,
магнитными и электрическими полями. Сведения,
полученные в лабораториях, становятся основой для более
общего понимания космической плазмы. Это важно для
изучения структуры близких и далеких от нас областей
вселенной. Меня все больше интересуют космические
проблемы, и мсй доклад в Москве «Стратегия
космических исследований» — результат этого интереса.
Видите ли вы какую-то
внутреннюю связь между собой как
современным ученым и идеями,
которые развивал когда-то
Ломоносов?
Среди трудов Ломоносова есть документ, который я
считаю особенно интересным. В 1763 г. в Швеции, когда
Ломоносова избрали членом Королевской Академии
наук, был напечатан его мемуар «Мысли о
происхождении ледяных гор в Северных морях». Ломоносов
доказывал, что айсберги не могут возникать в результате
замерзания морской воды, как тогда думали многие, а
формируются из ледников,— заключение, оказавшееся
совершенно правильным.
Во времена Ломоносова арктические исследования
были смелой попыткой людей исследовать
географические области, ранее недоступные. Сейчас на Земле не
осталось таких областей. Однако стремление человека
проникнуть в Неизвестное, ранее недоступное для него,
по-прежнему велико. Единственное отличие — и
действительно огромное отличие — состоит в том, что в наше
время это Неизвестное находится в космосе.
Путь развития наукн нередко
сравнивают со спиралью. Но,
может быть, прорыв в
неизвестное идет все-таки по
восходящей прямой?
Наверное, это все-таки спираль. Но — очень
приблизительно. Изобразить это гораздо сложнее, чем мы думаем.
Не возьмусь подобрать наглядный геометрический образ.
Эволюция науки сложна, неожиданна.
Вы ждете каких-то крупных
научных открытий в связи с
космическими исследованиями?
Мечтой многих физиков было и остается открытие новых
фундаментальных законов природы с помощью
астрономии. Например, первое доказательство того, что скорость
света — величина конечная, было получено именно в
результате астрономических наблюдений. Однако многие
другие концепции, например существование кварков
или возможность изменения в космосе фундаментальных
физических констант, до сих пор так и не доказаны.
Основные законы природы легче поддаются исследованию
в контролируемых условиях лабораторного
эксперимента. Но центр тяжести в науке постоянно перемещается, и
вполне возможно, что именно астрофизиками будут
открыты новые фундаментальные законы. Надо быть
готовыми к этому.
Не все согласятся с вашим
мнением о перемещении
центра тяжести в науке. Многие
исследователи уверены» что самое
важное научное направление-,
избранное ими однажды, чаще
всего в годы молодости, всегда
таким и останется. А ваши
личные научные пристрастия
претерпевали эволюцию?
Меня всегда интересовала астрономия — даже в детстве.
В школе я увлекся еще и физикой, это было время,
когда только появилось радио. Как и многие другие
школьники, я мастерил радиоприемники и слушал дальние
станции. Это было большим переживанием...
Кто из ученых представляет
сейчас большую ценность для
общества: узкие специалисты,
которых все больше появляется
в современной науке, или
человек с универсальными
интересами, с широким кругозором?
Оба типа ученых существовали всегда. И оба нужны.
Специалист разрешает отдельные трудные проблемы.
А общие обзоры должен делать человек с
разносторонними интересами. Особенно это касается
коммуникабельности науки, ее взаимосвязи с обществом.
К какому же типу вы относите
себя?
Можете ли вы рассказать, как
вы выбираете объект
исследований, какой логике следуете в
этом выборе?
Ну, мне кажется, у меня довольно разнообразные
интересы...
Никак не выбираю. Просто существуют проблемы,
которые необходимо разрешить.
Но все же надо на чем-то
остановиться...
Какую из своих расот вы
любите больше всего?
Знаете, очень важны внезапные вспышки интереса к
чему-то. Или даже просто какой-то пустяк, фантазия. Это
случается почти каждый день. Что-то в чьей-то работе
поражает, дает толчок, пищу для ума. Позднее эти
размышления могут оформиться в проблему.
Теорию строения колец Сатурна. Эти кольца появились
несколько миллиардов лет назад, и структура их осталась
с тех пор, по-видимому, неизменной.
Когда было сделано это
исследование?
Давно, в 1942—1943 годах. Однако тогда немногие
обратили на него внимание.
А сейчас?
Появились новые теории?
У вас есть ученики, своя
школа?
И сейчас немногие обращают.
Нет, насколько мне известно — нет.
Да, есть.
Как вы относитесь к научной
популяризации?
Очень важно распространять знания среди людей, и как
можно шире.
Зачем, по-вашему, это нужно?
Необходимо, чтобы каждому человеку была понятна роль
науки в современном обществе. Должно быть всем ясно,
насколько обществу следует измениться, чтобы
воспринять новые достижения науки. Очень важно, чтобы науку
направляли по правильному пути. Неверное ее
направление будет означать разрушение всего мира.
Но вы, наверное, оптимист в
отношении будущего науки?
Оптимисты, пессимисты — трудно сказать, кто мы,
потому что наука принесла людям и много хорошего, и
вместе с тем — атомные бомбы, ракеты и другие виды
оружия, которые представляют угрозу человечеству. В
современной международной обстановке эти научные
достижения представляют большую опасность. Катастрофы
не должно быть, ибо она принесет гибель нашему миру.
Чтобы этого не случилось, нужно взаимопонимание.
Взаимопонимание между коллегами, народами,
государствами. Между наукой и обществом. Ученый обязан
задумываться о вреде и пользе, которые его наука может
принести обществу. В этом и заключается смысл Пагу-
ошского движения.
Фото Л. Р1ВАНОЗА
ЯДЕРНЫЙ СТИПЛЬ-ЧЕЗ,
ИЛИ РАССКАЗ
О НОВЫХ ЭКСПЕРИМЕНТАХ,
ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
КУРЧАТОВИЯ
Предлагаем вашему вниманию
информацию о новых оригинальных опытах по
химии элемента № 104 — курчатовия.
Но прежде коротко о предыстории
проблемы.
ФИЗИКА
В 1964 году в Дубне под руководством
академика Г. Н. Флерова были получены
первые атомы элемента № 104,
впоследствии названного курчатовием. Тогда же
новый элемент был физически
идентифицирован *. Считалось, что ядра 104-го
образуются в циклотроне по реакции:
r42Pu + ?0Ne^Ku + 4>n.
По первоначальным оценкам период
полураспада спонтанно делящегося
изотопа 260Ku был равен около 0,3 сек.
Впоследствии эта величина была уточнена и
оказалась равной 0,1 сек. Во всех опытах
не исключалась также параллельно
идущая реакция с вылетом не четырех, а
пяти нейтронов. В такой реакции,
естественно, образовывались бы ядра 259Ки,
которые тоже делятся спонтанно.
Существование этого изотопа было подтверждено
опытами. Период полураспада курчато-
вия-259 равен 4,5 сек.
химия
В 1966 году была произведена химиче-
* «Химия и жизнь» подробно рассказывала о
работах по синтезу и идентификации курчатовия
в № 1 за 1965 год и в № 6 за 1968 год.
екая идентификация элемента № 104.
В полном соответствии с теоретическими
предпосылками, новый элемент проявил
себя как аналог гафния. Он образовывал
относительно летучий хлорид, который и
переносился к детекторам,
регистрирующим акты спонтанного деления ядер.
конфликт
После повторного синтеза элемента №104
(Калифорнийский университет, город
Беркли, 1969) в американской периодике
стали высказываться сомнения в спра-
редливости дубненских результатов.
Более того, физики из Беркли выдвинули
приоритетные претензии на открытие
элемента № 104 и стали именовать его ре-
зерфордием.
Целью новых дубненских
экспериментов, о которых сообщил журнал
«Радиохимия» A972, № 1), была повторная
химическая идентификация элемента №104
как экагафния. На этот раз
экспериментировали с изотопом 259Ки, время жизни
которого намного больше, чем у 260Ки.
Была создана новая методика,
позволяющая отфильтровывать не только
атомы более легких, чем курчатовий,
трансурановых элементов, но и короткоживу-
щий изотоп 260Ки.
В циклотроне облучали мишени из
окиси плутония (95% 242Ри). Снарядами,как
и в прошлых опытах, служили
ускоренные ионы неона-22 с энергией от ПО до
125 Мэв — именно при таких энергиях
образуется наибольшее число гтомов
курчатовия. А энергия 119 Мэв
соответствует максимуму образования ядер
изотопа 259Ки в реакции с вылетом пяти
нейтронов.
Небольшую часть плутониевой мишени
покрыли слоем окиси самария. Это
сделали для того, чтобы в параллельной
реакции образовывался и ближайший
аналог курчатовия — гафний. В другой
побочной реакции образовывался и один
из радиоактивных изотопов скандия.
Скандий — аналог лантаноидов и
актиноидов; хлориды этих элементов примерно
одинаково нелетучи. Следовательно,
попутно образующиеся спонтанно
делящиеся изотопы актиноидов (фермий-256, в
частности) в хроматографической
колонке оседали бы вместе со скандием.
Хроматографическая колонка в
предыдущей фразе упомянута не случайно.
Установка, на которой предстояло заново
идентифицировать элемент № 104,
представляла собой именно такую колонку,
"?! "'Ри (мишень)
TiCu*soci,
Принципиальная схема
экспериментальной установки
(сверху), график
температурного режима
в хроматографической колонке
(в середине) и распределение
следов осколков деления
(внизу) по длине колонки.
Пунктиром выделена зона
осаждения скандия
и актиноидов, сплошной
линией — зона сорбции
гафния, а следовательно,
и курчатовия. Эти зоны
определены по гамма-распаду
изотопов скандия и гафния.
Кружки на нижней диаграмме
отражают соотношение
зарегистрированных актов
спонтанного деления. Следы
деления в скандиевой зоне —
результат спонтанного деления
ядер актиноидов, в первую
очередь фермия-256. В зоне
гафния такие следы могли
оставить только ядра
курчатовия-259. Как видно
из нижней диаграммы,
в оптимальных для синтеза
элемента М 104 условиях
больше всего следов оставлено
в конце колонки
но усложненную, специально созданную
для этих опытов. Правильнее было бы
назвать ее термохроматографической:
строго определенный температурный
режим был необходимым условием. Ядра,
вылетавшие из мишени, тормозились в
потоке азота, который и транспортировал
их в колонку. Туда же, в самое ее
начало, подавали хлорирующие агенты —
TiCl4 и SOCl2.
Сама колонка состояла из трех
участков, трех зон. Эту ядерную трассу
можно сравнить с дистанцией стипль-чеза,
скачки с препятствиями: образующимся
атомам пройти эту трассу было очень не
легко. На маршрут направляли
всевозможные элементы, хлориды которых
обладают разными свойствами;
большинство сходило с дистанции задолго до
финиша, хотя длина трассы составляла
всего 195 сантиметров...
Первый участок колонки длиной 30
сантиметров предназначался для
отделения нелетучих хлоридов. Именно здесь
заканчивали свой путь образующиеся
атомы скандия и актиноидов. Частые
выступы на внутренней поверхности этого
участка вызывали завихрения потока,
что, конечно, способствовало скорейшему
отделению нелетучих хлоридов.
На втором участке (его длина 100 см)
оставшимся молекулам предстояло
продолжать жаркую борьбу — жаркую в
прямом и переносном смысле: здесь
поддерживалась температура 400 ± 5° С.
В этих условиях хлориды гафния и кур-
чатовия газообразны, они должны пройти
этот самый длинный участок трассы, в
то время как нелетучие соединения,
проскочившие барьеры первой зоны, здесь
должны были окончательно выбыть из
гонки.
На третьем — 65-сангиметровом
участке температура резко снижалась — с 400
до 50° С. Хлориды гафния и курчатовия
здесь переходили в адсорбированное
состояние, замедлялись и улавливались
детекторами спонтанного деления —
слюдяными пластинками. Такие же пластинки,
кстати, были для контроля установлены
и по всей длине второго участка.
Предварительные опыты показали, что
при импульсном введении в газовый
поток атомы гафния проходили дистанцию
в среднем за 0,4 секунды, а за две
секунды сквозь колонку прошли 95% всех
атомов гафния. Эти результаты
говорили, что у короткоживущих атомов кур-
чатовия-260 нет шансов благополучно
закончить дистанцию, зато атомы
относительно долгоживущего курчатовия-259
должны были успешно преодолеть ее и
дойти до цели.
Когда были подсчитаны треки — следы
спонтанного деления на слюдяных
пластинках, оказалось, что большинство
«дырок» пробито в детекторах, стоявших
в последней части колонки, там, где
сорбировался гафний. Эти следы могли
оставить только распадающиеся атомы
курчатовия— все другие спонтанно
делящиеся ядра сходили с дистанции раньше.
В последней серии опытов
бомбардирующим ионам неона придали энергию
больше 125 Мэв. Число треков,
оставленных осколками спонтанно делящихся ядер,
стало намного меньше. Это естественно:
условия образования ядер курчатовия
стали не оптимальны...
Новые эксперименты в Дубне еще раз
подтвердили аналогию химических
свойств курчатовия и гафния. Их
результаты не оставляют сомнений в том,
какая из лабораторий — Дубны или
Беркли— завоевала приз элемента № 104.
В. С
НОВОСТИ ОТОВСЮДУ
НОВОСТИ ОТОВСЮДУ
НОВОСТИ ОТОВСЮДУ
СЕРИЙНЫЙ ВЫПУСК ЯДЕРНЫХ
стнмулятороз
Во Франции приступают к
серийному выпуску стимуляторов
сердца, работающих на плуто-
нии-238. Такие стимуляторы
способны действовать без
замены в течение десяти лет, в
6 раз дольше, чем устройства
на химических батареях. Для
одного прибора требуется
150 мг плутония.
В нынешнем году
предполагается имплантировать
ядерные стимуляторы тысяче
больных, а впоследствии — 5
тысячам больных ежегодно.
Дальнейшие работы
преследуют две цели: получить
стимулятор, который вообще не
придется менять; уменьшить
размеры и без того
миниатюрного аппарата, чтобы его
можно было использовать для
детей, страдающих сердечными
заболеваниями.
Создать новые виды машин и оборудования большой
единичной мощности для металлургической, угольной,
горнодобывающей, химической, нефтехимической и
нефтеперерабатывающей промышленности, энергетики,
целлюлозно-бумажной промышленности и других отраслей.
Директивы XXIV съезда КПСС
по пятилетнему плану развития
народного хозяйства СССР
на 1971—1975 годы
РАВНОПРАВНЫЕ ПАРТНЕРЫ
На вопросы корреспондента «Химии и жизни» М. Гуре-
вича отвечает заместитель министра химического и
нефтяного машиностроения СССР Александр
Георгиевич РУЦКОЙ.
Расскажите, пожалуйста, об
особенностях вашей отрасли.
Но сейчас размеры и
производительность химических
агрегатов пересматриваются в
сторону еще большего увеличения.
Как отражается эта тенденция
era работе вашей отрасли?
Предприятия Министерства химического и нефтяного
машиностроения создают машины и аппараты не только
для химиков и нефтяников. Мы работаем еще и на
газовую промышленность, и на энергетику, и на черную
металлургию, и на пищевую промышленность, и на новую
отрасль— микробиологию.
В восьмой пятилетке институты и предприятия Мин-
химмаша изготовили около 4800 опытных образцов
машин и аппаратов, начали выпускать серийно 3200 новых
изделий. В этой пятилетке мы приступаем к комплектным
поставкам оборудования, входящего в технологические
линии самых различных предприятий. Везде, где
вещество претерпевает химические изменения, нужны аппараты
и установки, в которых эти изменения должны идти.
Продукция нашей отрасли — это компрессоры и насосы,
литьевые машины для пластмасс и ректификационные
колонны, криогенные установки и центрифуги,
ультразвуковые аппараты и экстракторы. И многое, многое другое.
Остается только добавить, что наши аппараты и
машины зачастую уникальны; что работают они обычно в
сложнейших условиях — при высоких температурах и
давлениях, в исключительно агрессивных средах; что
созданные нами агрегаты имеют, как правило, большую
единичную мощность.
Сейчас во всех отраслях промышленности, и прежде
всего в химии, нефтехимии, нефтепереработке, газовой
промышленности, особенно заметна тенденция к
непрерывному увеличению агрегатов, их мощности,
производительности.
Пс сравнению с прошлой пятилеткой размеры и
мощности агрегатов и установок, которые выпускают
предприятия нашей отрасли, возросли вдвое и втрое.
Несколько лет назад установки для производства слабой азотной
кислоты имели мощность 40 тысяч тонн и считались при
этом крупными, сейчас мы освоили единичные мощности
120 тысяч тонн. В прошлой пятилетке строились
аммиачные агрегаты с суточной производительностью 300 тонн,
2 Химия и Жизнь, Н7
теперь— 1350 тонн. Мощности установок для первичной
переработки нефти увеличились с 2—3 до 6—8
миллионов тонн *. Полагаю, что этих примеров достаточно.
В девятой пятилетке предприятия нашего
министерства увеличат выпуск высокопроизводительного
химического оборудования, позволяющего интенсифицировать
процессы, поднять производительность агрегатов, не
изменяя их объемов. Мы берем на вооружение все
известные пути интенсификации технологических процессов:
повышение температуры и давления, радиационное
излучение, низкотемпературную плазму, ультразвуковые
колебания, пульсацию, вибрацию, магнитные и
электрические поля.
Весьма актуальны и перспективны разработки новых
типов химических и нефтехимических агрегатов, в
которых совмещаются сразу несколько технологических
процессов: грануляция, сушка и охлаждение или химическая
реакция, фильтрация и сушка.
Из новых аппаратов можно назвать пластинчатые
теплообменники, теплообменники с воздушным
охлаждением— к концу пятилетки мы утроим их выпуск. Это
очень интересные аппараты. Их сейчас устанавливают на
строящихся и модернизируемых химических,
нефтехимических и нефтеперерабатывающих установках.
Созданные в институте ВНИИнефтемаш аппараты воздушного
охлаждения значительно уменьшают расход чистой воды
и сброс загрязненной. Только на Омском
нефтеперерабатывающем комбинате экономят за год 20 миллионов
кубометров воды. Кроме того, сокращаются сроки
строительства, отпадает тяжелая работа по очистке
поверхностей теплообменников, повышается стабильность
теплового режима оборудования.
Новые аппараты осваиваются на ведущих
предприятиях нашей отрасли. В этой пятилетке начнут работать
на полную мощность и новые заводы, в том числе Гла-
зовский и Алексеевский — химического машиностроения,
Семипалатинский арматурный.
Какие сейчас ведутся работы Таких работ много. Чехословацкие машиностроители и
в области химического и неф- химики разрабатывают оборудование для цехов комп-
тяного машиностроения по рессии и пиролиза мощного производства этилена. Сов-
комплексной программе аконо- местно с ГДР мы работаем над крупными агрегатами
мической интеграции социали- для выпуска полиэтилена высокого давления. Польские
стических стран? машиностроители поставляют нам сернокислотные
установки большой мощности.
Это лишь часть наших совместных работ с учеными
и конструкторами социалистических стран.
По-видимому, огромные мае- В последнее время мы создали специальные научно-тех-
штабы работ в химическом и нические бюро и разместили их непосредственно в про-
нефтяном машиностроении тре- ектных и научно-исследовательских институтах химиче-
буют также широкой коопера- ской, нефтеперерабатывающей, нефтехимической, микро-
иии различных отраслей нашей биологической, целлюлозно-бумажной отраслей. Задача
промышленности. С какими из этих бюро, своего рода авангардных постов машино-
иих сотрудничает Минхиммаш? ——■
* О сверхмощных нефтеперерабатывающих установках, созданных
в нашей стране, рассказано в Ale 3 «Химии и жизнн» за 1971 г.—
Ред.
строителей,— быть в курсе всех новейших разработок
обеспечивать новые проекты современным оборудовани1-
ем. вести рабочее проектирование новых предприятий
вместе с химиками и нефтяниками.
Еще один пример сотрудничества и кооперации. Вы
понимаете, что наше оборудование зачастую бывает
непросто перевезти с завода на строительную площадку.
Вместе с Министерством путей сообщения и
Министерством тяжелого машиностроения мы работаем над
созданием транспортных средств для перевозки
крупногабаритных аппаратов и установок.
Наконец, нашим институтам и предприятиям
помогают организации Академии наук. Недавно созданное в
Новосибирске конструкторское бюро по энергохимической
аппаратуре и машинам, которое разрабатывает криоген-
но-вакуумную технику, абсорбционные холодильные
машины и другое прогрессивное оборудование, действует
в контакте с Институтом теплофизики СО АН СССР.
В общем, в каждом новом технологическом поиске,
в работе над каждым новым проектом нам приходится
завязывать множество контактов, поддерживать самые
тесные отношения с учеными, конструкторами,
технологами, строителями из других ведомств.
И это — отношения равноправных партнеров.
т ^ » ^ * *
НОВЫЕ ЗАВОДЫ
J, ЩЕКИНО:
СИНТЕТИЧЕСКОЕ ВОЛОКНО
По соседству со Щекинским ордена
Ленина химическим комбинатом пущено
новое крупное предприятие — Щекинский
завод синтетического волокна. В
прошлом году дало первую продукцию
производство капронового корда. В январе
1972 г. начал работать комплекс
прядильных и текстильных цехов по
производству капронового шелка. К концу
пятилетки выпуск синтетического волокна
увеличится здесь в 3,7 раза.
Новый завод тесно связан со своим
знаменитым соседом. Основное сырье —
капролактам — поступает с комбината.
На заводе синтетического волокна
работают рабочие и инженеры,
высвобожденные на Щекинском комбинате в ходе
широко известного экономического
эксперимента.
2*
ПОСЛЕДНИЕ ИЗВЕСТИЯ • ПОСЛЕДНИЕ ИЗВЕСТИЯ
ЕЩЕ ОДНА ГРУППА АНТИБИОТИКОВ
Расшифровано строение альбофунгина —
родоначальника новой группы антибиотиков. Полная структура
альбофунгина опубликована в последнем номере
международного химического журнала «Tetrahedron Letters».
Исследования были выполнены в Институте химии
природных соединений им. М. М. Шемякина АН СССР.
Антибиотик альбофунгин обладает тем ценным
свойством, что он высокоактивен не только
против многих болезнетворных микробов, но и
против дрожжевых организмов, в частности, против
одного из их видов — Candida albicans.
С. albicans живет в кишечнике человека и в
обычных условиях вреда не причиняет, так как
бурному его размножению препятствуют другие
кишечные микроорганизмы. Но медициной давно
уже подмечено, что лечение антибиотиками
нередко сопровождается неприятными
осложнениями: человек вылечивается от одной болезни и
тут же заболевает другой. Это сказывается
угнетающий эффект, который оказывают антибиотики
широкого спектра действия (тетрациклин, хлорам-
феникол) на микрофлору кишечника.
Антибиотик убивает бактерий — антагонистов дрожжей, но
не затрагивает сами дрожжи. Дрожжевые
палочки начинают бурно размножаться и вызывают
самостоятельное тяжелое заболевание. Поэтому в
комплекс с тетрациклином обычно назначают
препараты типа нистатина, подавляющие действие
дрожжей. И поэтому же во всем мире ищут
антибиотики, обладающие противодрожжевой
активностью. Одним из таких антибиотиков
оказался альбофунгин, открытый в Советском Союзе в
лаборатории члена-корреспондента АН СССР
А. С. Хохлова.
Когда появляется новый антибиотик, очень
важно детально разобраться в его строении, понять
действие его на молекулярном уровне, выяснить,
на какие именно реакции в клетке он влияет, и
какие особенности его структуры обусловливают
именно такое действие. Этой работой занялась
группа сотрудников ИХПС им. М. М. Шемякина
АН СССР под руководством
члена-корреспондента АН СССР М. Н. Колосова. У советских
химиков были серьезные конкуренты — две сильные
группы исследователей в США и Японии вели
сходные работы с антибиотиками, близкими или,
может быть, идентичными альбофунгину.
Исследователю антибиотиков почти никогда не
удается воспользоваться какими-то аналогиями —
антибиотики крайне разнообразны по своему
строению, и среди них обнаруживают немало
структур, совсем необычных для природных
соединений. Свойства альбофунгина не позволяли
отнести его ни к одной известной группе.
Естественно, что для начала требовалось
выделить альбофунгин в химически чистом виде.
Когда этот чрезвычайно трудоемкий этап
исследований был завершен, выяснилось, что суммарная
формула соединения C27H24N2O9. Теперь
предстояло выяснить молекулярную структуру
вещества.
Группа Колосова провела десятки превращений
антибиотика, выделила и изучила около ста
продуктов этих реакций, сняла и тщательно
проанализировала несколько сот спектров, включающих
тысячи характеристик. На это ушло несколько лет
работы. Но советские исследователи первыми
пришли к финишу. К началу 1972 г. строение
альбофунгина было расшифровано полностью.
Альбофунгин оказался необычным веществом
даже для антибиотиков, в нем много реакционно-
способных групп, которые расположены по
периферии сложной полициклической молекулы.
Структура альбофунгина говорит о том, что это —
родоначальник еще одной группы антибиотиков.
Что конкретно может дать медицине
исследование, проведенное химиками? Сам альбофунгин
не находит пока практического применения в
медицине. Теперь, на основе уже известной
структуры, начинается, по-видимому, поиск
синтетических аналогов альбофунгина, которые, обладая
его достоинствами, будут лишены его
недостатков. Словом, на очереди этап, который может
привести к созданию еще одного эффективного
лекарства.
Ю. ОЛЕНИН
s~\
%&> -
-v№^
А ТАМ-ТРАВА НЕ РАСТИ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ КАТАСТРОФА
Поздней ночью тяжеловесный грузовой
состав — добрая сотня цистерн со
сжиженным газом, десятки вагонов с
машинами— приближался к крупной узловой
станции. Уже показались станционные
строения.
И тут мощный электровоз резко
тряхнуло. Послышался металлический
скрежет, загрохотала автосцепка. Стремясь
предотвратить беду, машинист включил
экстренное торможение, но было поздно:
цистерны и вагоны полезли друг на
друга, а потом покатились с высокой
насыпи вниз. Вспыхнул пожар, двое суток
далеко окрест слышались взрывы...
Как всегда, причины катастрофы
разбирала специальная комиссия. Вопреки
известной поговорке, вина пала не на
стрелочника. Авторитетные специалисты
единодушно пришли к выводу:
катастрофа случилась из-за травы, из-за самой
обычной зеленой травы, растущей на
обочинах пути и между шпалами.
Надо сказать, что эта катастрофа,
случившаяся недавно на одной из
зарубежных железных дорог, была не первой и не
последней среди катастроф, вызванных
столь безобидной на вид травкой.
Железнодорожные происшествия подобного
типа участились в последние годы в
связи с утяжелением составов и ростом
скорости поездов.
Чтобы понять, как нежные листики и
стебельки сбрасывают с рельсов
тысячетонные составы, следует обратиться к
устройству железнодорожного пути.
КАК УСТРОЕН ПУТЬ
Железнодорожный путь состоит из
земляного полотна, балласта, шпал, рельсов
и скреплений. Если бы шпалы
укладывали прямо на землю, путь постепенно
утонул бы в грунте. Поэтому строят
своего рода фундамент, балластную
призму — из крупного песка, гравия, щебня.
Балластная призма должна быть прочной
и упругой, должна хорошо пропускать
воду: скопившаяся здесь влага очень
опасна. И вот почему.
Когда идет поезд, шпалы вибрируют,
то приподнимаются, то опускаются, как
бы шлепая по песку и щебню. Если
балласт загрязнен, если в нем есть вода.
Таким должен быть
железнодорожный путь —«
чистым, без единой травинки
под шпалами образуются жидкие
грязевые полости. И тогда лучше не стой у
насыпи — проходящий поезд выдавит
из-под шпал целые фонтаны грязи.
Такие фонтаны путейцы называют
выплесками. Выплеск — предвестник
аварии. Жидкий балласт теряет прочность и
упругость, шпалы в балластной призме
начинают «играть», путь становится
неустойчивым. И когда на большой
скорости по нему промчится тяжеловесный
состав, решетка из рельсов и шпал может
перекоситься и осесть, сбросив с себя
поезд.
Но причем здесь трава? Дело,
оказывается, в том, что трава служит главной
причиной загрязнения балластной
призмы. Корни растений проникают вглубь
насыпи, разветвляются, отмирают, гниют.
Разложившиеся корни и травинки как
бы цементируют балласт, затрудняя
фильтрацию влаги. Кроме того, стебли и
листья задерживают пыль, поднятую
проходящим составом, задерживают
угольную и торфяную мелочь, словом,
подобно щетке собирают грязь. Грязь
смешивается с водой — возникают выплески.
А к чему они приводят, мы уже говорили.
ОГНЕМ И ТЯПКОЙ
Чтобы восстановить дренирующую
способность балласта, способность
пропускать влагу, призму периодически
очищают. Пользуясь «окнами» в
железнодорожном расписании, на путь выезжают
специальные машины. Они вырезают
грязный щебень, пропускают его через
грохот, отсеивают загрязнения, чистый
балласт вновь укладывают на земляное
полотно. А песок просто заменяют свежим.
Чтобы проделывать эту трудоемкую и
дорогостоящую операцию как можно
реже, путейцы ведут повседневную борьбу
с травой.
Когда основным балластом был песок,
путевые обходчики работали на насыпи
с тяпкой. Технический прогресс, как это
ни парадоксально, существенно
затруднил прополку путей. Призму стали
делать из щебенки, и полоть ее тяпкой
стало невозможно.
Пробовали выжигать траву с помощью
отработавших свой век в авиации
турбореактивных двигателей. Трава-то
выгорала, но в глубине балласта оставались
неповрежденные корни. К тому же
деревянные шпалы (а они еще лежат на
дорогах протяженностью в тысячи
километров) горели не хуже травы. Вот и
приходится обходчикам вырывать траву
руками, обдирая в кровь пальцы об острые
камни.
АГРОХИМИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО
ПОЛОТНА
Уже многие годы для уничтожения
сорняков на полях используют специальные
вещества—гербициды. Одни гербициды
поражают листья и стебли растений при
непосредственном контакте с ними
(контактные вещества), другие действуют на
корневую систему и прорастающие
семена (корневые), третьи — распределяются
по сосудам растений, уничтожая и
вершки и корешки (системные гербициды). Но
агрохимия железнодорожного полотна
Эта поливочная машина
обрабатывает путь на
Орловской дистанции
Московской магистрали
Опрыскиватели для
распыления гербицидов
устанавливают на дрезинах,
двухосных прицепах,
паровозных тендерах.
Опрыскиватель состоит
из резервуара с мешалками
для растворения сухого
гербицида, фильтра, насоса
и поливочных штанг
с насадками. На снимке —
агрегат, который работает
ни Горьковской дороге
можег заимствовать из этого арсенала
далеко не все. Дело в том, что в
системах сигнализации и автоблокировки на
железнодорожном транспорте
электрический ток течет и по специальным
кабелям, и по рельсам. И рельсы, естественно,
должны быть хорошо изолированы друг
от друга. Поэтому электропроводные
растворы гербицидов (неорганические соли
и кислоты) напрочь отпадают.
Однако это не единственная трудность
в подборе гербицидов для железных
дорог. К сожалению, сорняки на
балластной призме — не монокультура. Здесь и
пшеница, и рожь, и пырей, и лебеда, и
клевер, и полынь, и хвощ. Словом,
культурные и дикие злаки и травы на
железнодорожном полотне мирно уживаются.
Для них нужно подобрать универсальный
яд — не морить же каждую травку
индивидуальным гербицидом.
Проблема усложняется и различными
типами почв-балластов, несхожестью их
химического состава, различием
климатических условий, в которых должна идти
химическая обработка путей.
Агрономы, химики, путейцы провели
большие исследования, прежде чем
подобрали гербициды для железных дорог.
Обобщив результаты этих исследований,
Всесоюзный научно-исследовательский
институт железнодорожного транспорта
рекомендовал для дорог страны 24
гербицида, в различных сочетаниях, в
различных дозировках.
Например, для дорог центральных
районов страны рекомендуется
использовать гетероциклическое соединение сима-
зин. Его распрыскивают весной, когда на
полотне только начинает зеленеть трава.
В разгар лета уцелевшие сорняки с
широкой листвой добивают гербицидом
2,4Д B,4-дихлорфенсксиуксусная
кислота) или смесью 2,4Д с трихлорацетатом
натрия.
После такой обработки трава на пути
не появляется два года. По правде говоря,
до сих пор можно еще встретить путевых
обходчиков, занятых ручной прополкой.
Однако занимаются они этим последний
или предпоследний сезон. Почти на всех
железных дорогах нашей страны уже
появились специальные поливочные поезда?
дрезины и железнодорожные платформы
с навесными опрыскивателями. Два раза
в год — весной и летом — они объезжают
свои участки дорог, поливая полотно
гербицидами. А там, как говорится,— трава
не расти.
Инженеры
В. М. КОМБАРОВ,
Л. Ф. ТРОИЦКИЙ
И ЕЩЕ ПРОБЛЕМЫ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ...
УХОД
ЗА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ
ЛЕСОМ
Привычный дорожный пейзаж:
ровная лента деревьев,
протянувшаяся вдоль
железнодорожного полотна. Это тоже
путевое хозяйство. Полоса деревьев
и кустарников защищает
стальную колею от заносов — где от
снежных, где от песчаных.
Путейцы н лесоводы
тщательно оберегают посадки от
засорения травами,
кустарником, побегами деревьев.
Во-первых, слишком буйная
растительность может задушить
молодые деревья. А во-вторых,
рядом железнодорожное
полотно, которое должно всегда быть
чистым.
До недавнего времени
посадки вдоль железных дорог
прореживали топором да пилой;
Лишь в последние годы для
этого стали использовать
гербициды. Наиболее эффективны
среди них симазин и атразин.
Они слабо растворяются в
воде и подолгу задерживаются в
верхнем слое почвы, уничтожая
сорнякн и всходы деревьев.
У саженцев деревьев и кустар-
ников корни глубже, поэтому
симазнн и атразин на них не
действуют.
На пиях, срубленных во
время прореживания деревьев
и кустов, быстро вырастают
молодые побеги. Поэтому пни
в первые же дни после
порубки тоже обрабатывают
гербицидами. Для этого используют
растворы 2.4Д н 2,4,5-Т B,4,5-
трихлорфеноксиуксусная
кислота) в дизельном топливе.
БИТВА НА РЕЛЬСАХ
Несколько лет назад в
рекордно короткие сроки была
построена железная дорога,
связывающая нефтеносный район
Мангышлака с химическими и
нефтеперерабатывающими
предприятиями. Она пересекла
пустынные и засушливые районы,
где травы особо не угрожают
поездам. Зато сразу же после
пуска дороги возникла иная
угроза.
Землеройки, песчанки,
полевки, суслики, пеструшки, хомяки
и другие мелкие грызуны
облюбовали земляное полотно
для жилья. Они поселились
целыми колониями в длинных
норах, прорытых в насыпи. На
некоторых участках дороги
появилась опасность разрушения
полотна. Из-за сусликов
(смешно сказать!) пришлось
ограничить скорость поездов.
Началась настоящая битва
на рельсах. Вдоль полотна
пропихивали глубокие борозды, п
норы под дазлением подавали
природный газ. Но это
средство больше действовало на
путевых рабочих, чем на
землероек. И тогда путейцы стали
разбрасывать вдоль полотна
отравленную приманку:
кукурузу, горох, пшеницу, овес,
сдобренные растительным маслом и
ядовитым фосфидом цинка.
Фосфид цинка опасен не
только для грызунов, но и для
скота н для людей. Пришлось
соблюдать осторожность.
Целый месяц после обработки у
полотна нельзя было пасти
скот, косить сено. Зато
железная дорога была спасена от
вредителей.
КАК РАЗМОРОЗИТЬ
СТРЕЛКУ
Было время, когда снежиые
заносы на недели парализовали
железнодорожный транспорт.
Теперь это в прошлом. Путейцы
научились бороться со снегом.
Но на железных дорогах
оставалась еще одна нерешенная
зимняя проблема.
Чтобы переставить поезд с
одного пути на другой, нужно,
как известно, перевести
стрелку. Стрелка — это неподвижная
рама из рельсов и подвижные
рельсы — остряки. Так вот,
зимой в узкий A0—15 см) желоб
между рамой и остряками
забивается снег, спрессовывается
там, намертво сковывает
стрелку. Перегон очищен от снега,
а путь закрыт.
Ломами и кирками долбили
рабочие лед, выметали его из
желоба н лишь потом
переводили стрелки. Позднее
появились обогреватели с
электрическими спиралями или газовыми
горелками, с помощью которых
плавили лед. Появились
устройства для воздушной
обдувки стрелок — чтобы удалять
свежий снег. Поскольку эти
устройства недешевы, до
маленьких станций и полустанков
они не доходили.
Были попытки растопить лед
в желобах с помощью
химических веществ, которые для тех
же целей используют на
городских улицах и аэродром ах.
Скажем, испытывали
поваренную соль. Ничего хорошего не
вышло: стали ржаветь рельсы,
электропроводные растворы
замыкали электрические цепи,
выводили из строя сигнализацию
и автоблокировку.
Прошлой зимой путейцы
Московской дороги по
рекомендации учен ых Н овом осков ского
филиала Московского химико-
технологического института
имени Д. И. Менделеева
попробовали размораживать стрелки с
помощью водных растворов
этиленгликоля и получили
прекрасные результаты.
Чистый этиленгликоль
замерзает при температуре —12° С.
В смеси с водой (около 65%
Н2О —уже при —20° С.
Политый таким раствором лед
между остряком и рамой
превращается в кашицу, которая
легко выжимается из желоба,
когда переводят стрелку.
Кашица не замерзает несколько
суток. Один миллилитр
раствора плавит 0,5 грамма льда или
5 граммов снега.
На Московской дороге уже
сделаны автоматические
устройства для подачи
этиленгликоля в стрелки. Ими
управляет дежурный по станции со
своего пульта.
Говорят, что сани следует
готовить летом. Путейцы,
запасайте этиленгликоль!
ПРОБЛЕМЫ И МЕТОДЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ
Кандидат ВД£ ТАК
химических наук
в. р. полищук СТРАШЕН
ФТОР...
Предлагаемая вашему вниманию статья посвящена
методу получения фторорганических веществ прямым
действием фтора на органические молекулы. Когда эта
статья готовилась к печати, было опубликовано
Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР о
присуждении Ленинских премий 1972 года. За исследования в
области фторорганических соединений алифатического
ряда присуждена Ленинская премия выдающемуся
советскому ученому академику Ивану Людвиговичу
Кнунянцу. И. Л. Кнунянц — создатель и руководитель
крупной научной школыг неутомимый исследователь и
педагог. Для его творчества характерно сочетание глубоких
теоретических исследований с решением важных задач
технического прогресса. Таковы и работы Ивана
Людвиговича по фторорганике, удостоенные высокой
награды.
Химикам редко приходилось
задумываться над тем, чтобы заставить фтор
реагировать с каким-либо веществом. Со
фтором взаимодействуют даже инертные
газы—криптон и ксенон. А образец
окислителя, кислород, дает со фтором
соединение F20, называемое не окисью фтора,
а фторидом кислорода — ведь тут не
фтор окислен кислородом, а кислород —
фтором...
Поэтому, казалось бы, нечего и думать
использовать фтор в органической
химии. Нежные органические молекулы
должны немедленно* сгорать,
соприкоснувшись с этим агрессивнейшим
элементом.
Но очень многие фторорганические
вещества все шире и шире используются
в практике. Фторированные углеводороды
служат прекрасными хладоагентами, они
используются, например, в домашних
холодильниках, фторсодержащие полимеры
не знают конкурентов по своей
химической устойчивости: некоторые
фторированные органические вещества
(например, 5-фторурацил) обладают
интересными лекарственными свойствами.
Как же удается получать такие
соединения? Как можно приручить неистовый
фтор и заставить по воле
экспериментатора вступать в нужные места
органических молекул?
ПЕРВЫЙ ЭТАП ПРИРУЧЕНИЯ
Первую попытку ввести фтор в реакцию
с органическим веществом предпринял в
1905 году ученый, открывший этот
элемент,— Анри Муассан. Рассудив, что при
низкой температуре работать безопаснее,
он смешал твердый метан с жидким
фтором при температуре жидкого воздуха.
Попытка едва не окончилась трагически:
результатом опыта был сильнейший
взрыв...
Как выяснилось в дальнейшем, жидкий
фтор оказывается слишком сильным
окислителем, и для реакций с органическими
веществами его следует использовать
только в газообразном состоянии.
Нельзя сказать, чтобы и газообразный
фтор вел себя всегда миролюбиво: даже
взаимодействие с углем сопровождалось
взрывами до тех пор, пока из сферы
реакции не стали полностью удалять влагу
и кислород. И тем не менее химики не
теряли надежд.
Курьезно, что еще в 1933 г. в США был
выдан патент на получение фтороргани-
ческих соединений «при действии фтора
на органические вещества». Автор
патента никаких личных достижений не имел,
но решил на всякий случай «застолбить»
идею, чтобы воспользоваться затем
результатами если не своих, то хотя бы
чужих трудов... И действительно, в
скором времени появились первые надежды
на успех. В 1934 году было подмечено,
что углеводороды горят в атмосфере
фтора значительно спокойнее, если реакция
идет на поверхности медной сетки.
Поскольку аналогичный эффект вызывали
и любые соединения меди и некоторых
других металлов (серебра, ртути), было
высказано резонное предположение, что
действующим началом служат фториды
эггих металлов. И это предположение
оправдалось: при участии фторидов
(особенно удачным агентом оказался фторид
кобальта) гладко идет глубокое
фторирование углеводородов — полное
замещение всех атомов водорода на атомы
фтора.
Такие «перфторуглеводороды» (то есть
полностью фторированные углеводороды)
удавалось получать порой с высоким
выходом— до 60 процентов. Однако чаще
всего результаты оказывались все же не
очень радостными: возникали сложные
смеси веществ, в которых преобладали
либо продукты расщепления
органических молекул, либо продукты их
полимеризации. Можно сказать, что, начав
фторировать ведро сырья, химик получал в
итоге наперсток нужного соединения...
Тем не менее во время второй мировой
войны даже столь малоэффективные
процессы пришлось сделать основой
крупного промышленного производства. Дело в
том, что фторуглеводородные смазки
оказались единственными веществами,
устойчивыми к действию шестифтористого
урана, в виде которого элемент,
предназначенный для изготовления атомной бомбы,
разделялся на изотопы. Блюдя
секретность, американцы называли эти смазки
«веществами Джо» по имени Джозефа
Саймонса, одного из основоположников
химии и технологии фторорганических
соединений.
В дальнейшем этот метод
фторирования был усовершенствован. Так, сейчас в
присутствии трифторида кобальта
удается вводить атомы фтора в молекулы не
только углеводородов, но и простых эфи-
ров. Но в ненасыщенных соединениях (в
том числе и в производных бензола)
фтор присоединяется по кратным связям,
а более сложные органические вещества
(такие, как кислоты, кетоны и т. д.) им
просто разрушаются.
Это был лишь первый этап
приручения необузданного элемента. Химики еще
не могли вводить по своему желанию
нужное число атомов фтора в нужные
места органической молекулы.
УПРЯМЦАМ ВЕЗЕТ...
Казалось бы, выход может быть
простым: реакцию надо осуществлять в
растворителе, как это чаще всего и делают
в органической химии. Но в каком? Ведь
все обычные растворители, в том числе
и вода, неустойчивы к действию фтора.
Получается замкнутый круг: без
растворителя плохо, с растворителем нельзя...
Уже упоминавшийся Саймоне однажды
добился успеха, использовав в качестве
растворителя жидкий фтористый водород.
В присутствии небольшого количества
окиси серебра бензофенон реагировал со
фтором, давая дифторбензофенон:
C6HsCOCH3 + 2F2 A*p > C6H5COCHF2 + 2HF.
Саймонсу же принадлежит и
разработка весьма технологичного
электрохимического метода фторирования: при
пропускании тока через раствор органического
вещества в жидком фтористом водороде
на аноде образуются сполна
фторированные продукты.
Запрет на использование обычных
растворителей долгое время сдерживал
развитие химии фторорганических
соединений. Но вот в 1960 г. молодой
американский химик В. Гракаускас поступил
весьма своевольно: он пропустил
разбавленный азотом фтор через водный раствор
мочевины. Вероятно, он и сам был
немало удивлен, когда в результате
совершенно спокойной реакции
NH2CONH2 + 2F2 —--* NH2CONF2 + 2HF
н3о
он получил с очень высоким выходом
продукт направленного фторирования.
Заместились-то только два атома
водорода одной из двух групп NH2!
Открытие Гракаускаса породило
целый поток работ по исследованию фто-
рирования растворов органических
соединений. Оказалось, что в качестве
растворителя пригодна не только вода, но и
ацетонитрил CH3CN, метиловый спирт
СН3ОН, уксусная кислота СН3СООН...
Эти растворители хотя и реагируют со
фтором, но значительно медленнее, чем
растворенные в них вещества.
Существенно изменилась и техника
эксперимента: вместо толстостенной
стальной аппаратуры, помещаемой в
бронированные кабины, в лаборатории хими-
ков-фтороргаников вернулись
традиционные колбы из стекла (оно, как и
растворитель, реагирует со фтором медленно).
Правда, нужно тщательно следить за
тем, чтобы раствор энергично
перемешивался, а ток фтора не был очень
сильным— иначе реакция начнет идти на
поверхности раствора. В случае, если
экспериментатору повезет, все закончится
появлением красивых голубых искр, а
если не повезет... одним словом, колбы на
всякий случай все же закрывают толстым
защитным экраном.
Наконец, химики научились замещать
атомы водорода атомами фтора в
молекулах, обычно присоединявших фтор по
кратным связям. Так, в Институте эле-
ментоорганических соединений АН СССР
под руководством академика И. Л.
Кнунянца удалось профторировать бензол
и его производные действием
элементарного фтора в уксусной кислоте.
Благодаря высокой активности фтора в
реакцию легко вступают такие инертные
соединения как нитробензол и бензотри-
фторид.
КАК ИДЕТ РЕАКЦИЯ?
После того как фтор был более или
менее приручен, возник законный вопрос:
а что именно происходит во время его
реакции с органическими молекулами?
Прежде всего нужно выяснить — на
какие частицы распадается сама молекула
фтора. На ионы ли (катион F+ и анион
F-) или на радикалы (-F)? Ведь зная,
какие именно частицы принимают
участие в реакции, можно предсказать и ее
направление, а в возможности таких
предсказаний как раз и заключается
смысл химической теории.
Это удалось выяснить таким способом.
В химии производных бензола есть
правила, позволяющие предсказывать
результат реакции второго атома водорода,
если один атом уже замещен. Скажем,
если взять нитробензол
HOz
н
и подействовать на него реагентом,
образующим в момент реакции катион, то
заместится атом водорода у третьего или
пятого атомов углерода. Если же в
момент реакции образуется радикал, то
заместитель направится ко второму,
четвертому или шестому атомам углерода.
И оказалось, что реакция нитробензола
со фтором дала продукт замещения
водорода у третьего (или пятого — это все
равно) атома углерода. Значит, катион?
Но ведь образование катиона фтора
требует огромных затрат энергии. Ведь
потому фтор и столь агрессивен, что
отнимает электроны практически у всех
элементов!
Поэтому многие химики склоняются к
тому мнению, что даже прирученный
фтор продолжает вести себя «по-фтори-
ному»: он прежде всего отрывает от
органической молекулы электрон, а уж
затем реагирует с образовавшейся
положительно заряженной частицей. Тогда, как
говорится, концы сходятся с концами...
Сейчас химия фторорганических
соединений переживает бурный расцвет.
Предубеждения, связанные с агрессивностью
этого элемента, уже рассеяны: в умелых
руках он оказывается вовсе не страшным
разрушителем. В научных журналах
каждый месяц публикуется множество
интересных новинок, причем явно возрастает
доля работ, направленных на разрешение
фундаментальных теоретических
вопросов химии фтора. И поэтому не
исключено, что, когда эта статья увидит свет,
необычное поведение фтора в реакциях
с органическими соединениями найдет
вполне обоснованное объяснение.
ИЗ ГАЗОВОЙ ФАЗЫ-
ВОЛЬФРАМ
Вольфрам, как известно,—
самый тугоплавкий из всех
металлов. Однако преимущество
иногда оборачивается
недостатком: тугоплавкие металлы
получать сложнее. До сих пор
металлический вольфрам
получают весьма трудоемкими и
энергоемкими методами
порошковой металлургии: спекая
вольфрамовый порошок. К тому
же, полученный этим способом
вольфрам часто расслаивается
при деформации, оказывается
недостаточно прочным и
чистым; плотность его меньше,
чем у плавленного металла.
Как и в производстве многих
редких металлов, дальнейший
прогресс в технологии
получения чистого металлического
вольфрама связан с развитием
газофазной металлургии.
Сейчас уже освоено (и в широких
масштабах) производство
титана и циркония йодидным
методом: йоднд металла
разлагается при высокой температуре в
вакууме, и на раскаленной нити
(обычно вольфрамовой)
откладывается чистый металл.
Теперь настала очередь самого
вольфрама.
Впрочем, получать
металлический вольфрам, разлагая или
восстанавливая водородом его
соединения, в частности WC^,
умели давно. Знаменитый
русский физик А. Н. Лодыгин еще
в 1893 году покрыл угольную
нить вольфрамом,
восстановленным из оксихлорида. Но
широкого промышленного
применения этот способ не нашел.
Лишь в последнее десятилетие
в СССР и США, практически
одновременно, был разработан
экономически оправданный
процесс восстановления вольфрама
из гексафторида WF6—• по
реакции: WF6+ 3H2= W + 6HF.
В США это сделал А. Бреннер
с сотрудниками, в СССР —
группа ученых Института
физической химии АН СССР, в
которую входили авторы этого
сообщения.
Восстановление гексафторида
вольфрама водородом
начинается при температуре около
300° С, а при 500—600° С —оно
уже идет вовсю. Эти
температуры в пять с лишним раз
ниже температуры плавления
металлического вольфрама
C410°С). Другое
преимущество фторидного
процесса—значительная скорость осаждения
восстановленного вольфрама —
до одного миллиметра в час.
И, что очень важно, процесс
осаждения можно вести сколь
угодно долго. Уже сейчас
получают сантиметровые слои
вольфрама, а это значит, что
фторидным способом можно
получать не только покрытия, но
и вольфрамовые изделия.
Третье преимущество —
чистота. Получаемый этим
методом вольфрам могут
загрязнять практически только фтор
и водород, причем уже
научились доводить содержание этих
примесей ло десятитысячных
долей процента. Содержание
других примесей не превышает
Ю-в—10-3%.
Четвертое преимущество —
плотность осажденного
вольфрама. Она составляет 19,26—
19,28 г/см3, что соответствует
плотности литого металла.
Осажденная пленка достаточно
прочна и монолитна:
50-микронный слой такого вольфрама
держит вакуум. Вольфрам,
осажденный прн температуре
550—600° С, практически лишен
внутренних напряжений. Это
значит, что с помощью
фторидного процесса можно не только
получать заготовки для
металлургического передела, но и
сразу формировать готовые
изделия.
Уже сейчас освоена
технология получения труб разного
профиля, тиглей, различных
фасонных изделий. Получены
вольфрамовые покрытия на
металлах и сплавах, керамике,
графите.
Очевидно, что из газовой
фазы фторидным методом можно
будет получать и сплавы
вольфрама с другими металлами, а
также монокристаллы
вольфрама.
Фторндный процесс
получения металлического вольфрама
весьма перспективен для
промышленности.
Доктор химических наук
А. И. КРАСОВСКИИ,
кандидат
физико-математических наук
Р. К. ЧУЖКО
15 июля исполняется 100 лет со дня
рождения Николая Константиновича
Кольцова A872— 1940], замечательного
биолога-дарвиниста, чей огромный вклад
в отечественную биологическую науку
сопоставим лишь с тем, что было
внесено в нее в XX веке Иваном
Петровичем Павловым и Николаем Ивановичем
Вавиловым.
Кольцову принадлежат классические
труды по эволюционной эмбриологии,
первые в России исследования физико-
химических свойств живой клетки,
пионерские изыскания по биологии
развития, экспериментальной цитологии и
генетике. Он по праву считается одним из
основоположников современной
молекулярной биологии: еще в 1927 году
Кольцовым была сформулирована
пророческая гипотеза о матричном механизме
самовоспроизведения в клеточном ядре
молекул, несущих генетическую
информацию. С поправкой — во времена
Кольцова генетическая роль ДНК не была
еще установлена и хромосомы считались
белковыми телами — его замечательное
Мне досталось счастье быть учеником
Николая Константиновича Кольцова.
Студентом я восторженно слушал его
удивительные лекции по курсам общей
биологии и систематической зоологии.
Прошел памятный всем его ученикам
большой зоологический практикум,
блестяще Кольцовым придуманный и
организованный. Окончил биологическое
отделение физмата МГУ при кафедре
Николая Константиновича по специальности
физико-химическая биология — годы моей
учебы совпали с кратким временем,
когда на кафедре существовала эта
специализация. Наконец, три года аспирантуры
по этой же специальности в Институте
экспериментальной биологии, любимом
создании Н. К. Кольцова, уже
необратимо, закрепили в мышлении кольцовское
предвидение было подтверждено в
эксперименте четверть века спустя.
Но Кольцов был не только блестящим
исследователем, чьи мастерские
методические подходы, ювелирные опыты и
смелые теоретические концепции
закладывали основы современной
экспериментальной биологии. Как Л. Ф. Иоффе
в физике, как Н. И. Вавилов в области
сельскохозяйственных дисциплин, Николай
Константинович Кольцов был
выдающимся организатором советской
биологической науки, основателем большой и
блестящей школы экспериментальной
биологии, в первую очередь советской
школы классической генетики.
О творчестве Кольцова и о нем
самом на страницах нашего журнала
рассказывают двое из многих его
учеников— председатель Всесоюзного
гидробиологического общества, доктор
биологических наук Г. Г. Винберг и заведующий
отделом химической генетики Института
химической физики АН СССР, доктор
биологических наук И. Л. Рапопорт.
начало, столь знакомое его ученикам и
сотрудникам и оказавшее огромное
влияние на формирование сегодняшней
отечественной биологии. Суть этого начала
кратко сформулировать нелегко, как
нелегко выразить в двух словах основу и
любой другой подлинно научной школы.
Николай Константинович по
образованию был зоологом. В Московском
университете он учился у академика М. А.
Мензбира, известного своими
трудами по сравнительной анатомии
животных, и первые исследования Кольцову
были сделаны в этой же области.
И его первая студенческая работа
«Развитие таза у лягушки», и тем более
выполненный вскоре после окончания
университета ныне классический труд
«Развитие головы у миноги» выделялись сре-
СТРЛНИЦЫ ИСТОРИИ
Доктор КОЛЬЦОВСКОЕ
биологических наук ^
Г. Г. ВИНБЕРГ НдЧАЛО
ди сравнительно-анатомических
исследований того времени, хотя они были
выполнены в традициях описательной
морфологии. Николай Константинович уже тогда
увлекся новыми направлениями,
рождавшимися в биологии в последние годы
прошлого столетия.
Этими новыми направлениями были
экспериментальная эмбриология,
экспериментальная цитология, генетика и
физико-химическая биология. Не просто
описывать структуру или функции
живого организма, а проникать в его
механизм, выяснять причинную
обусловленность основных явлений жизни
посредством эксперимента, который так много
дал для развития физики, химии и
других наук о неорганической природе,— вот
какую задачу ставили себе биологи новой
формации. Их основные надежды были
связаны тогда с успехами коллоидной
химии, которая, как им казалось, позволит
разобраться во многих свойствах
«полужидкой» протоплазмы, основного
субстрата жизни. В частности, успехи
изучения осмотических процессов уже открыли
возможность использовать
полупроницаемость клеточных мембран и
воздействовать на клетку, изменяя ионный состав
среды.
Если современный читатель, не
искушенный в истории науки, решит
знакомиться с трудами по физико-химической
биологии первой четверти нашего века,
он наверняка будет шокирован
упрощенными представлениями об основных
жизненных процессах и возможных методах
раскрытия загадок жизни. И однако
позволительно спросить, кто больше
делает для науки — энтузиасты, в своих
увлечениях упрощающие задачу, или
скептические эрудиты, видящие всю
сложность'явления, видящие ограниченность
средств его изучения и не делающие
поэтому ни шагу вперед?..
Да и не так уж слепы в своем
увлечении были зачинатели физико-химической
биологии. Когда немецкий физиолог
Рудольф Гебгр в 1902 году выпустил книгу
«Физическая - химия клетки и ткани»
(этот труд тридцать лет был настольным
для приверженцев физико-химической
биологии), он оснастил его таким
эпиграфом из «Космоса» Александра
Гумбольдта:
«В обычае тех, кто охотно водит на
вершины гор, представлять своим
спутникам путь более торным и приятным,
чем это оказывается в действительности,
и восхвалять вид с гор, даже когда они
предвидят, что все вокруг будет укутано
облаками. Они знают, что воздушная
даль содержит таинственные черты,
оставляющие чувственное впечатление
бесконечного, картина, которая оказывает
глубокое и возбуждающее влияние на ум
и чувства».
И разве не должны мы оценить
бесстрашие, например, такой постановки
задачи биолога-исследователя, какую
провозгласил в первые годы нашего века
борец с витализмом Жак Лёб:
«...Задача всякого научного работника
сводится к двум пунктам: во-первых, к
определению независимой переменной
изучаемого явления, во-вторых, к
выработке формулы, позволяющей вычислить
значение функции для всякого значения
аргумента».
Ж- Лёб был поистине великим
оптимистом. Он столь беспредельно верил в
силу и значение науки, что дошел до такого
утверждения:
«...Если бы наши законодатели
получили естественно-историческое
образование, они никогда не допустили бы, чтобы
общие источники энергии, как залежи
нефти и угля, сила падения воды и проч.,
составляли частную собственность. Все
эти запасы энергии составляют общее
достояние, как кислород воздуха или
лучистая энергия солнца».
Мысли и дела ученого с дистанции в
полвека можно оценивать по-разному.
Можно говорить, что Лёб не учитывал
социальные факторы. Что он был ярким
представителем механического
материализма и упрощал значение
специфических особенностей биологических
объектов и т. д.— все это будет верно. Но
можно вспоминать о нем и о других ученых
этого направления с благодарностью за
то, что они смело утвердили в умах идею
познаваемости биологических явлений
методом эксперимента. За то, что они
подорвали позиции витализма. За их
святую веру в могущество науки, в ее
способность преобразить мир.
Эта вера, этот великолепный оптимизм
в высшей степени был присущ и
Кольцову.
Еще во вступительной главе своей
книги «Исследования о спермиях
десятиногих раков в связи с общими сообра-
жениями относительно организации
клеток» A905), которую Кольцов не без
основания считал главным трудом своей
жизни, он писал: «...достигла особенного
развития молодая наука — физическая
химия, некоторые главы которой, в
особенности учение об осмотическом
давлении, приобрели чрезвычайно важное
значение для биолога... только знакомство с
учением об осмотическом давлении дает
гистологу возможность исследовать в
неизмененном или малоизмененном виде
клетки животного организма».
В начале века многие биологические
проблемы, естественно, представлялись
Кольцову более простыми, чем мы их
видим сегодня. И все-таки даже в самых
ранних работах он возражал против
односторонних и упрощенных
представлений, согласно которым клеточная
структура живого вещества сводилась только
к физическим свойствам коллоидов (что
было у Ж- Лёба). Уже в 1905 году,
опираясь на свой опыт цитолога и
экспериментатора, Кольцов доказывал другое:
«самое представление о протоплазме как
о живом веществе есть понятие
отвлеченное* искусственное; реальное значение
имеет только понятие о клетке как о
живом механизме».
3 Химия-н Жизнь, J* 7
Теперь мы вместо «механизм» сказали
бы «система».
На основе экспериментов Кольцов
пришел к выводу, что клетки состоят из двух
фаз: жидкой коллоидной протоплазмы и
твердых фибрилл, придающих клетке
определенную четкую структуру. Этот
«кольцовский принцип» строения клетки'
в его конкретном выражении теперь уже
потерял свое значение, но все
последующее развитие цитологии подтвердило и
развило основную мысль Кольцова о том,
что ареной жизни могут быть только
структурные образования.
В 1911 году Кольцов собственноручно
выполнил блестящие для своего
времени экспериментальные исследования о
влиянии электролитов на сократительный
аппарат простейших (инфузорий) и
зависимости биологической активности
разных ионов от их физико-химических
свойств. Позднее он изучал влияние
ионов на раздражимость пигментных
мускульных и железистых клеток.
В одной из своих классических работ
1915 года Кольцов установил, что такой
важный биологический процесс, как
фагоцитоз, зависит у простейших от
концентрации водородных ионов в среде.
И это было сделано, когда представление
о кислотности среды как о концентрации
водородных ионов и сам водородный
показатель (рН), предложенный Серенсе-
ном в 1909 г., еще не сделались
общеупотребительными в среде биологов. Сам
Кольцов еще не пользовался понятием
рН — он исчислял концентрацию
водородных ионов в долях моля.
Поднятая им проблема зависимости
биологических процессов от реакции
среды стала главной в исследованиях
лаборатории физико-химической биологии
Института экспериментальной
биологии,— ею заведывал С. Н. Скадовский.
Итогом многолетней работы был том
трудов под редакцией С. Н. Скадовского
«Применение методов физической химии
к изучению биологии пресных вод» —
важное подтверждение того, что физико-
химическое направление Н. К. Кольцова
получило продолжение в делах его
учеников и сотрудников. И однако научные
горизонты Кольцова не были
ограничены перспективами физико-химической
биологии. Он вполне справедливо считал
ее одним из равноправных направлений
биологических исследований. Первым
направлением изучения избранного им
объекта он провозгласил исторический или
сравнительно-морфологический аспект:
как данный живой объект возник в
процессе эволюции. Вторым — аспект
биофизический, а точнее, физико-химический.
И третьим — физиологический. Такой
подход предусматривал всестороннее изу-
Он был необычайный человек, и это
сразу бросалось в глаза.
Впервые я увидел и услышал Николая
Константиновича в 1932 году. Кольцов
приехал в Ленинград, в лабораторию
экспериментальной зоологии АН СССР,
которой руководил академик Н. В.
Насонов, и прочитал там лекцию о последних
работах Института экспериментальной
биологии. Я был тогда студентом
Ленинградского университета, проходил в
лаборатории практикум по культуре тканей,
чение биологических явлений с
применением всего арсенала
экспериментальных методов. Кольцов всегда стремился
именно к синтезу и к тому, что ныне
принято называть «стыком наук». Физико-
химической биологии в этой системе
отводилась важная, но подчиненная роль,—
именно такой взгляд на вещи и выделял
Кольцова среди биологов.
Стремление к синтезу знаний,
накапливаемых разными биологическими
дисциплинами, пронизывало всю деятельность
Кольцова. Круг его интересов был
огромен. А его работоспособность и память
потрясали: он всегда знал, что
происходит в различных, иногда, казалось бы,
далеких одна от другой областях
биологии. Его знания были
энциклопедическими, а взгляды на явления жизни
невероятно широки — именно это и послужило
предпосылкой того, что именно, он,
Кольцов, первым сформулировал
представление о хромосоме как о гигантской
молекуле, создал блестящую гипотезу о
матричном принципе воспроизведения
вещества-носителя наследственности и вслед
за гарвеевским «omne vivum ex vivo» —
«все живое из живого», вирховским
«omnis cellula e cellula» — «каждая
клетка от клетки» провозгласил блестящий
принцип «omnis molecula ex molecula» —
«каждая молекула от молекулы».
Этот принцип возвестил рождение
науки будущего — сегодняшней
молекулярной биологии.
а о Кольцове и его институте кое-что
знал понаслышке. Слушал я лекцию,
слушал дискуссию, которая затем
завязалась. И, признаюсь, понял далеко не все,
но Николай Константинович впечатление
на меня произвел совершенно
неизгладимое. Не только тем, что он и внешне был
импозантен, и говорил красиво и мудро,
а в первую очередь своей особой, чисто
кольцовской цельностью биологической
мысли, каких бы областей он ни
касался— сравнительной ли эмбриологии, фи-
биологических наук avwJ IDL|wDy
И. А. РАПОПОРТ шмъшгшмы „ i-i-^ч плддм./ч
КАКИМ Я ЕГО ПОМНЮ
5
зиологии, цитологии, генетики,
эволюционных проблем или физико-химических
исследований живого.
После этого я кинулся читать работы
Кольцова и статьи, выходившие из стен
его института, и когда на пятом курсе
мне предстояло распределение, попросил
А. П. Владимирского, заведывавшего в
ЛГУ кафедрой генетики, рекомендовать
меня, если это возможно, лаборантом в
кольцовский институт.
Профессор Владимирский написал в
Москву, и Николай Константинович ему
ответил, что в Институте
экспериментальной биологии как раз есть вакансия
аспиранта в лаборатории профессора
Н. П. Дубинина. Я обрадовался и поехал
держать экзамен. Экзамен оказался
необычным — такой процедуры испытаний
в наше время больше нигде не
встречалось. Знания всех поступавших в
аспирантуру, по любому профилю, Николай
Константинович проверял непременно
сам. Экзамены проводились письменные:
полагалось в присутствии Кольцова за
несколько часов написать пространное
сочинение на заданную специальную тему
(мне по жребию досталась тема «митоз»,
и ее предстояло раскрыть в
цитологическом, генетическом и общебиологическом
аспекте). И, наконец, когда мы, трое
экзаменовавшихся, уже начали было писать
свои сочинения, Кольцов совсем нас
удивил— он предложил пользоваться
книгами из институтской библиотеки, которая
помещалась по соседству с комнатой,
где мы экзаменовались. Николай
Константинович пояснил при этом, что для
научного работника очень важно умение
пользоваться литературой, и он
проверяет, насколько мы им владеем.
Атмосфера экзамена была очень
свободной и ровной, и все соискатели—-два
биолога и врач — были приняты. С того
дня в течение пяти лет я часто
встречался с Кольцовым в разной обстановке и
по разным поводам.
В первой половине дня (в лучшие часы
для собственной работы) Кольцов
обходил несколько лабораторий. Строгого
расписания — по понедельникам в такую
лабораторию, по вторникам в другую —
не было. Николай Константинович знал
ход исследований каждого сотрудника, и,
кроме того, обладал особым чутьем,
позволявшим ему точно угадывать, где он
сегодня более всего нужен — где должны
появиться такие данные опытов, которые
следует обсудить, или где могут
возникнуть в ходе работы трудности.
Когда Кольцов появлялся, ему не
приходилось начинать» с вопросов — ими его
встречали, и тотчас развивалось
обсуждение, в котором не существовало ни
рангов, ни авторитетов. К обсуждению
присоединялись обычно сотрудники,
работавшие в той же комнате за другими
столами. Нередко обсуждение превращалось в
импровизированную конференцию, всегда
очень свободную, но недолгую,
по-настоящему деловую.
Кольцов не признавал в науке
чинности, чиновности, официальности. На
теоретических семинарах, которые он вел,
разрешалось перебивать любого
говорившего, кто бы он ни был, тотчас, как
только' кому-то приходило в голову
возражение или новая мысль. Не один Кольцов
считал такой метод плодотворным. Иван
Петрович Павлов, например, специально
просил своих студентов, если у кого-либо
возникнет вопрос, сразу перебивать его
во время лекций.
В этих коллективных размышлениях
вслух первенство все-таки оказывалось за
Кольцовым — не по регламенту, не по
чину, а по методу мыслить, по способу
видения предмета, особому способу
искания пути к познанию скрытых природных
механизмов. Этот стиль мысли он в
каждодневном общении старался привить
своим сотрудникам — и, как правило, в
итоге достигал цели. v
О стиле мысли Кольцова, поразившем
меня еще на первой слышанной его
лекции, надо сказать подробнее, тем более,
что сейчас у некоторых (чаще молодых)
исследователей, увлеченных новыми
областями экспериментальной биологии,
проскальзывает скептическое отношение
к фундаментальным морфологическим
дисциплинам — как говорят, «к счету
тычинок и пестиков». Приходится иногда
слышать, что для исследования
современных биологических проблем будто бы
достаточно знания биофизических методик
или принципов кибернетического анализа
и т. п. Такие настроения не новы: они
высказывались еще в начале нашего
века, когда предпринимались самые первые
Г
попытки приложения точных дисциплин,
физики и химии, к исследованиям живых
систем.
Кольцов первым в России обратился к
цитологии и физико-химической
биологии, когда эти дисциплины лишь
складывались (а цитогенетика и генетика
только собирались родиться), и он с первых
шагов принялся искать связи между
закономерностями, открываемыми на
клеточном уровне, и морфологическими и
физиологическими механизмами
макромасштаба. Произошло это потому, что в
естествознании он был энциклопедистом.
Он блестяще владел классической
эволюционной морфологией, великолепно
знал новейшую физиологию своего
времени и вместе с тем хорошо
ориентировался в органической химии, физической
химии и физике. Но именно благодаря
универсальности его знаний идея
«сбросить старую биологию с парохода
современности» была ему совершенно чуждой.
Он понимал, что будущее — за
синтезом знаний. И пожалуй, никто в его
время не ощущал так остро неотрывность
новой экспериментальной биологии от ее
классического фундамента. Ведь
эволюционная морфология рассматривала
живой объект и его изменения как
воплощение причинных связей естественного
отбора. Она по сей день — незаменимая
подготовка к исследованию причинных
связей в других, самых мельчайших
масштабах, позволяющая наметить самый
естественный и необходимый путь
анализа от общих закономерностей к частным
механизмам, лежащим в их основе.
(Именно этим путем и происходила в
биологической науке смена масштабов и
методов исследования.) Она — первая
биологическая система отсчета, которую
необходимо постоянно ощущать, когда
изучаешь тонкую структуру живого объекта.
Если исследователь подавлен
авторитарностью своей узкой, пусть даже самой
точной, специальной дисциплины,
используемой им для нужд биологии, то как бы
хорошо он ни владел своим делом, он
упустит из виду «биологическую систему
отсчета», ни за что не увидит всего
комплекса причинных связей и не сумеет
осознать значение всех фактов. И факты
надолго останутся без привязки к
важнейшим проблемам биологии — это уже
случалось не раз.
Так Кольцов подходил к своей науке. Но
отношение к ней станет ясным до конца,
только если будет рассказано о его
отношении к людям науки «от мала до
велика».
...Всю жизнь, до последнего дня
Николай Константинович Кольцов,
перегруженный организационными делами,
исследованиями учеников, редакторской
работой, работал сам, своими руками как
экспериментатор, в первую очередь
цитолог и цитоген^тик (и в последний день
тоже работал с микроскопом!). Находил
неожиданные выходы в пограничные
сферы исследования. Формулировал новые
задачи, удивлявшие своей широтой и
неожиданностью средств, которыми они
могли быть решены. Непрестанно рождал
изумительные идеи.
И усвоив кольцовский метод
биологического мышления, блестящие идеи
рождали его сотрудники, но это вовсе не
приводило к шаблонному единомыслию.
Наоборот, больше всего Николай
Константинович ценил именно творческую
индивидуальность, она была для него и
для его сподвижников, заведовавших
лабораториями института, самым
важным критерием при подборе сотрудников.
Оригинальность в подходе к предмету, в
поиске методов исследфвания и
независимость суждений не просто ценились — он
тщательно воспитывал в учениках эти
черты.
Этот примат индивидуальности
Николай Константинович утверждал в своей
школе еще и тем, что в его научном
наследии почти не было трудов,
выполненных в соавторстве, хотя все его
исследования впоследствии имели продолжение
в работах других ученых. И он задал тон:
доля исследований, выполнявшихся в
Институте экспериментальной биологии в
соавторстве, была небольшой,— ученики,
как правило, следовали примеру
Кольцова. И это был лучший способ выявить
реальный творческий потенциал,
возможности каждого сотрудника и
предупредить фабрикацию стандартных научных
работ, не отличающихся глубиной мысли
и разнообразием подходов к предмету.
Он отдавал науке все, что у него было.
Николай Константинович первым
ежедневно просматривал все поступившие в
институт журналы, советские и
иностранные, и в оглавлениях против названия
каждой статьи вписывал имена сотруд-
ников—от лаборантов до академиков.—
которым следовало непременно эту
статью прочитать, напоминал коллегам
об обязанности знать все новые данные
других исследователей.
В этом не было ни назидания, ни
мелочной опеки. В этом проявлялся его
высокий альтруизм.
После революции 1905 года учитель
Кольцова М. А. Мензбир выжил его из
университета *. Кольцов создал
собственную лабораторию и купил на свои деньги
множество приборов, оптики, целые
шкафы химической посуды. Все это в итоге
очутилось в Институте
экспериментальной биологии, и мы, сотрудники,
свободно пользовались уникальной личной
собственностью Кольцова. Он отдал
институту свою собственную уникальную
научную библиотеку и все время пополнял ее
оттисками и книгами, которые дарили
ему коллеги.
Личные симпатии и научные интересы
связывали Николая Константиновича с
замечательными учеными — физиком
П. П. Лазаревым и физиологами И. П.
Павловым и Л. А. Орбели, с химиками
П. П. Шорыгиным, Т. П. Кравецом,
Н. Д. Зелинским и биологом Н. И.
Вавиловым, с агрохимиком Д. Н.
Прянишниковым и геохимиком В. И. Вернадским.
Мне посчастливилось быть при беседах
Кольцова с В. И. Вернадским, Т. П.
Кравецом, Н. И. Вавиловым, и я был
поражен силой столкновения мнений и
общностью их исканий, каким-то особенно
острым сознанием ответственности перед
наукой и людьми, которая сквозила в
каждой мысли, ими высказанной.
Кольцов был гармоничен во всем: в
своем ощущении природы, в отношении к
науке и к людям, в выборе друзей.
И в том, что создано его трудом,—
тоже гармония.
Если сопоставить принципы кольцов-
ского подхода к явлениям живой
природы и события в его школе, увидится как
закономерность, что почти в то самое
время, когда у Кольцова складывалось
представление о хромосоме как о
гигантской молекуле, его ближайший сотрудник
и друг Сергей Сергеевич Четвериков на-
* Кстати, в 1911 Году М. А. Мензбир сам был
вынужден уйти из университета. Но пристанище
себе он смог найтн только на кафедре у
выгнанного нм ученика! — И. Р.
шел принципиальный путь для
понимания генетических механизмов
образования новых видов в ходе естественного
отбора — генетических основ процесса
эволюции.
И закономерным итогом примата
индивидуальности творческого подхода,
царившего в кольцовской школе, было
рождение новых научных направлений,
связанных с именами его учеников —
А. С. Серебровского, М. М. Завадовского,
Б. Л. Астаурова, Н. В.
Тимофеева-Ресовского, П. Ф. Рокицкого, Н. П.
Дубинина (сначала ученика А. С.
Серебровского), В. В. Сахарова и многих других. 37
Сейчас для решения новых проблем
нередко создаются лаборатории и даже
институты, но при этом предшествующий
«задел» исследований бывает порой
незначительным и это обычно не
становится препятствием. В маленьком же по
сравнению с современными научными
учреждениями кольцовском институте
задел исследований всегда был огромен,
поднимаемые проблемы фундаментальны:
взаимоотношения ядра и цитоплазмы,
полиплоидия, различные виды мутагенеза,
строение гена, генетико-автоматические
процессы, вопросы медицинской
генетики. Кольцов был очень динамичным
организатором. Когда новое направление
внутри института созревало, он
принимался добиваться, чтобы оно оформилось
в самостоятельное научное учреждение —
институт, лабораторию, вузовскую
кафедру. И в то же время он неумолимо
свертывал в своем институте работы,
которые теряли теоретическую перспективу,
передавал их отраслевым научным
учреждениям. Организация работы строго
отвечала динамичности рабочей
тематики, и это оказалось возможным потому,
что исследователи кольцовской школы
были наделены яркими
индивидуальностями и очень трезво относились к делу.
Таким же широким, динамичным и
демократичным Николай Константинович был
и в общественной жизни.
В 1905 году- он стал деятельным
участником революционного кружка молодых
ученых Московского университета, где
был приват-доцентом на кафедре
сравнительной анатомии. Этот кружок
возглавлял известный большевик астроном
П. К. Штернберг. В рабочем кабинете
Кольцова заседал студенческий комитет,
печатались на подпольном мимеографе
воззвания и бюллетени политических
событий, хранились листовки.
В 1906 году, в самый разгар царских
репрессий, Кольцов издал брошюру
«Памяти павших» — гневный обвинительный
акт против самодержавия и его
черносотенных прислужников. На титуле под
заголовком «Памяти павших» стояло:
«Жертвы из среды московского
студенчества в октябрьские и декабрьские дни.
Доход с издания поступает в комитет по
оказанию помощи заключенным и
амнистированным...». В те дни Кольцову
предстояло защищать докторскую
диссертацию. «Однако защищать диссертацию я
не стал,— писал впоследствии Николай
Константинович.— Она была принята
физико-математическим факультетом и
назначена к защите в средине января 1906
года — через несколько дней после
кровавого подавления декабрьской
революции. Я отказался защищать диссертацию
в такие дни при закрытых дверях —
студенты бастовали — и я решил, что не
нуждаюсь в докторской степени. Позднее
своими выступлениями во время
революционных месяцев я совсем расстроил
отношения с официальной профессурой».
Половину тиража «Памяти павших»
конфисковала полиция. Половина успела
разойтись. Вырученные от продажи
деньги Кольцов передал П. К. Штернбергу
и осенью 1906 года был изгнан из
университета.
В Московский университет Николай
Константинович смог вернуться лишь
после Октября 1917 года.
В 1912 году зоолог В. А. Вагнер и химик
Л. В. Писаржевский основали научно-
популярный журнал «Природа», задача
которого — «из первых рук» знакомить
читателя с достижениями науки, и вскоре
фактическим редактором этого журнала
стал Кольцов. Он вел его до 1930
года— до перевода редакции из Москвы в
Ленинград.
В годы первой мировой войны
«Природа», благодаря Кольцову была
единственным легальным журналом в стране,
сохранившим интернационалистическую
позицию:
«...Мы должны стремиться к тому,
чтобы среди психоза войны и ненависти
сохранить спокойствие,— писал в 1915
году в «Природе» Кольцов,— и не
забывать, что, когда окончится война,
придется так или иначе налаживать
международные отношения и что в этом
великом деле близкого будущего науке,
которая всегда служила и по существу
своему вечно будет служить всему
человечеству, предстоит сыграть самую важную,
ответственную роль».
И когда спустя несколько лет
Советская республика добилась мира,
Кольцов не случайно оказался делегатом в
первой группе ученых, поехавших в
Германию восстанавливать прерванные
войной контакты.
Он никогда не перекладывал никакой
работы на чужие плечи. И в «Природе»,
и позже в «Журнале экспериментальной
биологии» всю редакторскую работу вы-'
полнял сам, тщательно, бережно и
строго, и лишь изредка прибегал к помощи
других членов редколлегии. (А уж
внешних рецензентов, тем более анонимных,
не могло быть при нем и в помине.)
Он горячо относился к каждому
новому начинанию, важному для Родины.
Как только была создана Всесоюзная
академия сельскохозяйственных наук
имени Ленина, его избрали ее членом.
Кольцов нигде и никогда не был
номинальной фигурой. Тотчас же вместе с
Н. И. Вавиловым он стал разрабатывать
широкую программу генетических и
селекционных работ для нужд сельского
хозяйства страны, к несчастью,
осуществленную тогда лишь в малой степени.
Он принимал участие в создании
Медико-биологического института им.
Горького (предтечи нынешнего Института
медицинской генетики) и в организации в
других научных учреждениях
исследований для нужд здравоохранения — по
проблемам переливания крови, изучения
региональных болезней, вызываемых
недостатком микроэлементов, по проблемам
эндокринных нарушений.
А главное — всегда страстно защищал
честь и чистоту истинной науки, преданно
служащей людям,— науки, которой
посвятил себя без остатка.
Таким он остался в памяти.
ИНФОРМАЦИЯ ИНФОРМАЦИЯ ИНФОРМАЦИЯ ИНФОРМАЦИЯ
СОВЕЩАНИЯ
И КОНФЕРЕНЦИИ
11-е совещание по химии
комплексных соединений. Сентябрь.
Алма-Ата. (Научный совет по
неорганической химии АН
СССР, Институт химических
наук АН Казахской ССР)
Симпозиум по динамической
поляризации ядер при
химических реакциях. Сентябрь.
Таллин. (Научный совет по
химической кинетике и строению
АН СССР, Институт
кибернетики АН Эстонской ССР)
Конференция по
бессеребряным и необычным
фотографическим процессам. Сентябрь.
Канев. (Киевский
государственный университет, Комиссия по
химии фотографических
процессов АН СССР)
Симпозиум по химии
трансурановых элементов. Сентябрь.
Москва. (Институт физической
химии АН СССР)
Совещание по физико-химии
редкоземельных металлов,
сплавов и соединений. Сентябрь.
Москва, Ленинград. (Институт
металлургии АН СССР,
Институт геохиМии и аналитической
химии АН СССР, Институт
химии силикатов АН СССР)
3-я конференция по физико-
химическому анализу солевых
систем. Сентябрь.
Ростов-на-Дону. (Научный совет по
физической химии ионных
расплавов и твердых электролитов
АН СССР)
4-я конференция по химии
экстракции (теория и применение в
аналитической химии и
технологии). Сентябрь. Донецк.
(Научный совет по аналитической
химии АН СССР, Институт
общей и неорганической химии
АН СССР)
Конференция «Молекулярная
спектроскопия высокого и
сверхвысокого разрешения».
Сентябрь. Новосибирск. (Институт
оптики атмосферы СО АН СССР)
4-й симпозиум по применению
стабильных изотопов в
геохимии. Сентябрь. Москва.
(Институт геохимии и аналитической
химии АН СССР)
Конференция «Физика и
техника ультразвука и его
применение в физиологии и
медицине» . Сентябрь. Ростов-на-Дону.
(Научный совет по физике и
технике ультразвука АН СССР)
4-я конференция по
экологической физиологии, биохимии и
морфологии. Сентябрь.
Краснодар. (Объединенный научный
совет «Физиология человека и
животных» АН СССР,
Кубанский сельскохозяйственный
институт)
Симпозиум «Клеточное ядро.
Структура и функции».
Сентябрь. Тбилиси. (Институт
экспериментальной морфологии
АН Грузинской ССР, Институт
биологии развития АН СССР)
Симпозиум по вилтоустойчиво-
сти хлопчатника. Сентябрь.
Ташкент. (Институт
экспериментальной биологии растений
АН Узбекской ССР)
ф МЕЖДУНАРОДНЫЕ
ВСТРЕЧИ
Международный конгресс по
коррозии и обрастанию судов.
Октябрь. США, Гейтерберг.
Международная конференция по
изучению ядерной структуры
с помощью нейтронов. Октябрь.
Венгрия, Балатонфюред.
1-й тихоокеанский конгресс по
химической технологии.
Октябрь. Япония, Киото.
Международный конгресс по
аэрокосмической медицине.
Октябрь — ноябрь. Австралия,
Мельбурн.
5-й всемирный конгресс
анестезиологов. Октябрь. Япония,
Токио.
Международный конгресс «Дни
химии» и Международная
химическая выставка. Октябрь.
Италия, Милан.
ф книги
В ближайшее время выходят в
издательстве «Н а у к а»:
А. А. Баландин. Избранные
труды. 3 р. 70 к.
Горение порошкообразных
металлов в активных средах.
1 р. 40 ж.
Фосфаты четырехвалентных
металлов. 28 к.
ф ВЫСТАВКИ
Выставка аппаратуры для
биофизических исследований и
научной литературы по биофизике
< «БИОФИЗИК А-72«» в связи с
4-м биофизическим конгрессом.
4—15 августа, Москва, МГУ,
спортивный комплекс.
Выставка текстильных
синтетических материалов и изделий
из них. Устроитель —
Ассоциация японо-советской
дружественной торговли. 8—17 августа.
Москва, Центральный стадион
им. В. И. Ленина, Солнечный
павильон.
ф ВДНХ СССР
С * августа по декабрь на ВДНХ
будет проходить выставка
«Техническое творчество
молодежи».
В августе в павильоне
«Химическая промышленность»
состоятся:
школа «Использование
отходов производства резиновых
технических изделий»;
встречи «Новые
кинофотоматериалы для любительских
целей», «Приборы УНИХИМа для
промышленности серной
кислоты» ; «Патентная служба
предприятий и организаций
всесоюзных объединений «Союзанил-
пром» и «Союзкраска».
ф СООБЩЕНИЕ
По решению Президиума
Академии наук СССР в Ленинграде
ч организуется Институт
социальных проблем
научно-технического прогресса АН СССР. На
институт возлагается задача
изучать особенности
научно-технической революции в условиях
развитого социалистического
общества, пути и формы
соединения достижений
научно-технической революции с
преимуществами социализма.
неувядающий хлопчатник
В Институте экспериментальной биологии растений
Академии наук Узбекской ССР выведены новые
скороспелые, урожайные сорта хлопчатника «Ташкент-1»,
«Ташкенте» и «Ташкент-3», устойчивые к вилту — главной
болезни хлопчатника.
Слово- «вилт» английского
происхождения: wilt означает «вянуть», «поникать».
Это название достаточно точно отражает
внешние признаки болезни: надземные
органы растения вянут, и все растение
гибнет. Сильнее других растений от вил-
та страдает хлопчатник.
Причина этой болезни — грибы Verti-
cillium dahliae. Они обитают в почве и в
растение попадают через корни. Ущерб
от этих грибов огромен: около 1
миллиона гектаров заражено вилтом, а полное
очищение почвы от зловредных грибов
практически невозможно. И каждый год
народное хозяйство терпит огромные
убытки — с фабрик выходит на сотни *
тысяч метров тканей меньше, чем можно
было бы ее получить, не будь вилта.
Одним из путей решения проблемы
могло быть создание хлопчатника,
устойчивого к вилту. Этим и занялся коллектив
ученых под руководством кандидата
биологических наук С. М. Мирахмедова.
Советские селекционеры вывели немало
хороших сортов хлопчатника, в том
числе и тонковолокнистого. Однако
большинство из них поражается вилтом. Их
можно высевать только на незараженных
почвах. Те немногие сорта, которые
относительно устойчивы к болезни, высева- »
ют уже много лет; возбудитель за это
время изменился, стал более
агрессивным и теперь поражает сорта, прежде
считавшиеся устойчиЕ-ыми. Вилт
распространялся все шире...
Задача была достаточно сложной:
вырастить сорт не просто устойчивый к-
заболеванию, но и скороспелый,
высокоурожайный. И решено было использовать
метод отдаленной гибридизации—это
давало возможность обмануть эволюцию,
разрушить веками складывавшуюся си-
Так выглядит хлопчатник,
пс раженный вилтом
стему: растение — возбудитель болезни.
Но прежде надо было еще найти ту
невосприимчивую к вилту форму, которую
впоследствии предстояло скрестить с
формой высокоурожайной и скороспелой.
И вот на небольшом опытном поле под
Ташкентом в почву внесли вилт — с
помощью зараженных семян овса. И на
этом поле (как говорят специалисты: на
провокационном фоне) посеяли семена
семнадцати сортов хлопчатника и
нескольких его диких форм. Все они —
одни меньше, другие больше — поражались
вилтом. Все, кроме одного, дикого.
Можно считать это везением, удачным
случаем, однако не в этом дело и не
стоит судить победителей. Главное, что
такое растение было найдено. Его имя —
мексиканум нервозиум, № 0534. Эта ис-
Дикая форма хлопчатника
мексиканум. послужившая ,
основой для создания
вилтоустойчивых сортов
конно дикая форма хлопчатника не
увядала; даже на срезе-стебля не было
признаков болезни. Такое свойство формы
мексиканум, с которой ученые имели
дело и прежде, нигде отмечено не было.
Причина этого свойства не ясна до сих
пор. Тем не менее факт оставался
фактом: растения были устойчивы к грибу,
даже если инфекцию вносили
непосредственно в корень. Более того, когда на
мексиканум прививали культурный
хлопчатник, то и он не заражался вилтом. Это
означало, что иммунитет можно в
принципе переносить на культурные растения.
Ведь у мексиканского дикого хлопчатни- ,jj
ка никаких достоинств, кроме
устойчивости к вилту, нет. Коробочка у него
маленькая, волокна короткие и грубые,
семена долго не прорастают.
Новый сорт хлопчатника,
устойчивый к вилту
Но здесь уже говорилось о том, что у
нас в стране есть отличные
высокоурожайные сорта хлопчатника. Среди них—
С-4727, полученный доктором
сельскохозяйственных наук Б. П. Страумалом.
Этот сорт несколько лет высевают в
Узбекистане, но только на почвах, в
которых нет грибов, вызывающих вилт.
Цветы сорта С-4727 опылили пыльцой
дальнего родственника из Мексики.
И гибриды, выросшие все в той же
зараженной почве, остались здоровыми! Им
передался по наследству замечательный
признак дикого предка. Но в то же
время они унаследовали кое-какие плохие
его свойства. Поэтому пришлось
прибегнуть к возвратному скрещиванию:
лучшие вилтоустойчивые гибриды третьего
поколения вновь скрещивали с сортом
С-4727. Из нового .поколения гибридов
отбирали лучшие линии, семена которых
и легли в основу трех сортов, получивших
общее название «Ташкент».
Хлопчатник «Ташкент» посеяли в
районах, где прежде от вилта гибло до 90—
100% растений. Результат
предварительных испытаний: погибло не более 5%
растений.
Потом, когда наступила пора широких
испытаний, высокие качества
хлопчатника «Ташкент» (иммунитет,
продуктивность, скороспелость) подтвердились.
И в прошлом, году им засеяли 200 тысяч
гектаров. А в этом году им уже занята
площадь около миллиона гектаров.
Новым вилтоустойчивым,
скороспелым, урожайным сортам необходимы
минеральные удобрения, в особенности
азотные и фосфорные. Сейчас, когда в
республиках Средней Азии создана мощная
химическая промышленность, есть все
условия для выращивания хлопчатника,
не увядающего даже в том случае, если
- на него нападет вилт.
О. ЛЕОНИДОВ
ТЕХНОЛОГИ, ВНИМАНИЕ!
ТЕХНОЛОГИ, ВНИМАНИЕ!
ТЕХНОЛОГИ, ВНИМАНИЕ!
ДЛЯ СЫПУЧИХ —
НОВАЯ СУШИЛКА
На курском заводе
«Аккумулятор» начато производство
новых сушилок для сыпучих
материалов. Устройство новой
сушилки несложно: внутри
корпуса помещен вибрирующий
ступенчатый лоток, по
которому пропускается электрический
ток. Происходит прямой
нагрев материала, который
ссыпается по ступеням лотка,
перемешиваясь и прогреваясь
более равномерно.
Испарившуюся влагу отсасывает
вакуум-насос.
НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ КОСМОСА
Первоначально каучукоподоб-
ные материалы на основе
сополимеров гексафторпропана и
винилиденфторида
предназначались лишь для космических
кораблей, но вскоре
покрытиями из этих полимеров
заинтересовались авиация,
кораблестроение, электроника, легкая
промышленность,
автомобилестроение и многие другие
отрасли. Эти материалы
практически негорючи. Был проведен
такой опыт. К алюминиевой
пластинке толщиной 0,762 мм
подвели огненную струю, и
через 45 секунд пламя
прожгло в ней сквозную дыру.
Такая же пластинка, но с
нанесенной на нее пленкой из
нового полимера, успешно
выдержала испытание огнем.
Сообщается, что новые
полимеры обладают хорошей
адгезией к металлам и
перерабатываются в изделия
традиционными способами —
прессованием, каландрованием,
шприцеванием.
«Rubber World> (США), 1971,
J& 2
АРМАТУРА —
СТЕКЛОВОЛОКН01
Попытки использовать в
качестве арматуры бетона
стекловолокно предпринимались
неоднократно, но все они
заканчивались неудачей: щелочи,
освобождающиеся при
дегидратации цемента, делают
стекловолокно непрочным и
ломким.
Недавно в Англии
разработан состав стекловолокна,
устойчивого к действию этих
щелочей. Выпущены первые
тонкостенные трубы и панели
из армированного
стекловолокном бетона. Испытания
показали, что ударным нагрузкам они
противостоят лучше, чем асбе-
стоцементные.
♦Строительные материалы
за рубежом», 1971, № 12
Любители растить потомство
чужими руками бывают не
только среди птиц.
Все, наверное, знают судака.
Он, как галантный кавалер,
первым является на
нерестилище и занимается важным
делом: тщательно удаляет ил с
корней тростника, устраивая
что-то вроде гнезда. Вскоре
приплывает возлюбленная. Она
обладает деловым характером
и, не тратя время на
нежности, немедля выметывает
клейкую икру, которая гроздьями
прилипает к очищенным
пучкам корней. Самец
оплодотворяет икру молоками, но на
этом, в отличие от некоторых
представителей сильного пола,
не считает свою миссию
исчерпанной. Папу-судака можно
ставить в пример: он остается
на страже гнезда и гонит
прочь любителей закусить
свежей икрой. Не боится даже и
человека. Стоит приблизить к
нему руку, тут же кусает свои-
В реестре плохо
разлагающейся химической продукции
не последнее место занимает
самая обычная бумага — в про-
мышленно развитых странах
на ее долю приходится
примерно половина городского
мусора. Через два месяца
после того, как бумажный пакет
или старая газета выброшены
на свалку, 60% целлюлозы, из
которой в основном и состоят
бумвжные волокна,
разлагается. А оставшиеся 40%
представляют собой весьма
благоприятную среду для
выращивания грибов.
Неизвестно, правда, во что
это обойдется, но в принципе
можно утилизировать
бумажный хлам именно таким
образом. При этом человечеству
КОРОТКИЕ ЗАМЕТКИ
РЫБЬИ
КУКУШКИ
ми острыми зубами. Если его
все же отогнать, он будет
упорно возвращаться обратно.
Бывает, что уровень воды на
отмелях, где имеют
обыкновение нереститься судаки, резко
падает. И хотя судак может
оказаться почти на сухом
месте, он ни за что не бросит
ГРИБЫ 7
НА
МАКУЛАТУРЕ...
придется поглощать огромное
количество шампиньонов. По-
видимому, удобнее было бы
все-таки, если бы бумага
легче разлагалась...
Саморазлагающаяся
бумага— это не обязательно
химически новый материал; новыми
могут быть виды бактерий и
грибков, выделяющих энзимы.
Х-
гнезда. Кроме охраны у него
есть и другая ответственная
обязанность: необходимо то и
дело очищать икру от ила и
грязи. Для этого папа-судак
усиленными движениями
грудных плавников создает
необходимый ток воды.
Но как ни бдителен судак,
все же и он может ошибаться.
Мелкие виды карповых рыб,
например красноперка,
ухитряются незаметно отметать икру
в его гнездо. И эта икра, а
потом и мальки охраняются
храбрым, но недалеким
судаком, который, конечно, не
отличает подкидышей от своих
наследников.
Не правда ли, ситуация
напоминает ту, что бывает в
птичьем мире между кукушкой и
ее жертвами? Только есть и
существенная разница: рыбьи
подкидыши не приносят
заметного вреда судачьему
потомству.
С. КУСТАНОВИЧ
способные расщеплять
молекулы целлюлозы. Кстати, уже
выяснено, что если обычную
макулатуру перемешать с
небольшим количеством
саморазлагающейся бумаги, то
процесс распада «вспыхивает» во
всей массе бумажных отходов.
Цель исследований по
биоразложению бумаги
противоположна требованиям,
предъявляемым к бумаге
полиграфией и издательствами: одна
сторона ищет простой и
экономичный способ разрушения,
другая — старается создать все
более устойчивую бумагу.
Наверное, как и во многих
случаях, придется выбирать
золотую середину...
Е. КРЕЧЕТ
ОБЫКНОВЕННОЕ ВЕЩЕСТВО
Кандидат
технических наук
А. Л. КОЗЛОВСКИЙ
СТОЛЯРНЫЙ
КЛЕЙ
Этот клей, известный каждому,— не
индивидуальное вещество, и правильнее
было бы употреблять множественное
число — столярные клеи. Впрочем,
основное применение эти клеи находят
отнюдь не в столярном деле, и еще более
точным их названием будет такое:
животные клеи. Потому что их готовят из
белкового вещества животных — коллагена.
КЛЕЙ-ПРИПОЙ
Рассказ о животных клеях начнем с того,
что это вовсе не клеи, а припои. Правда,
припои неметаллические, полимерные. Но
все равно, как и классическое олово, их
наносят в виде горячего расплава.
И схватываются они не в результате
высыхания, а при охлаждении расплава.
Позвольте, возразит читатель, имевший
дело со столярным клеем, ведь его же
растворяют в воде. Да, воду мы
применяем, но она остается в клеевой
прослойке, и после отвердевания мы получаем
коллоидную систему, твердую при
комнатной температуре,— студень или гель.
И пользуемся расплавом этого геля.
В жидкости все молекулы свободно
перемещаются; в твердом веществе они
связаны. Гель же — это масса, в которой
твердое существует наряду с жидким.
Примерно так, как вода в
кристаллогидратах, например в медном купоросе.
Только в гелях вода держится еще
прочнее. Предполагают, что вода в студне
находится не в мономерной, а в
полимерной форме, тогда становятся понятными
ее пластифицирующие свойства. Ведь
любое пересушивание прослойки
животного клея приводит к хрупкосши и
разрушению.
Расплавы животного клея
затвердевают при охлаждении всего на несколько
градусов и столь же легко при
незначительном нагревании вновь становятся
жидкими. Это позволило еще задолго до
появления синтетических клеев создать
автоматы, склеивающие в минуту более
ста изделий — коробок, пакетов с
пищевыми продуктами и химическими
товарами.
До последнего времени не было
известно ни одного другого клея (ни
природного, ни синтетического), образующего с
водой, подобно животным клеям, твердые
гели, расплавы которых легко
затвердевают при охлаждении и вновь плавятся
при нагревании. Синтетический полимер
с такими свойствами — полиакрилглицин-
амид — был получен только в 1967 году.
АНКЕТНЫЕ СВЕДЕНИЯ
Возраст животных клеев почтенный. Дата
рождения теряется в глуби веков, и
узнать ее вряд ли возможно...
Ближайший родственник, можно
сказать, родитель — коллаген, имя которого
в переводе с латыни и значит
«рождающий 'клей». Коллаген — белковое
вещество тонковолокнистого строения. В
тканях млекопитающих его содержится
около 30% от общего количества
органических веществ. Больше всего коллагена
в коже, костях, сухожилиях. В рогах
и копытах, в мышечных тканях, в легких
и крови его нет. Есть коллаген также
в тканях рыб. И млекопитающим, и
рыбам он нужен, чтобы воспринимать
растягивающие нагрузки. Примерная
формула коллагена — C102H149O38N31.
В анкетах полагается указывать
образование; воспользуемся двойным
значением этого слова: клей образуется при
гидролизе коллагена. А продукт
гидролиза— желатин. Он-то и есть собственно
45
Строение столярного клея
(точнее —■ желатина)
напоминает строение
целлюлозы. Молекулы
объединены в блоки —
мицеллы. Эти блоки
располагаются так, как
показано на рисунке,—
наподобие кирпичной кладки.
Вода находится
в промежутках между
«кирпичиками»
клей-припой, остальное — примеси.
Желатином его называют за способность
быстро затвердевать при охлаждении: «gelo»
по-латыни означает «замерзаю»,
«застываю» (слово «гель» — того же
происхождения). Разные животные клеи —и
мездровый (он же шубный, он же русский),
и костный, и рыбин — одинаковы по
химической природе, ибо все это есть
желатин. А собственно желатином называют
в технике лучшим образом очищенные
животные клеи. Они находят применение
не только в качестве клеев-припоев, но и
в производстве многих пищевых
продуктов, в фотопромышленности, в фармации,
в производстве бумаги. Упоминанием
профессий мы и закончим краткую
анкету. Подробности — дальше.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ
О СТОЛЯРНЫХ КЛЕЯХ
Желатин — термопластичный природный
полимер. Подобно воску он плавится
и затвердевает. Состоит желатин из
больших линейных молекул, структурные
элементы которых — аминокислоты,
числом около двадцати. Его нередко
используют как модель для исследования
свойств белков. На нем же проводились
многочисленные исследования клеющих
свойств — именно с его помощью была
установлена молекулярная природа
адгезии.
Когда плавятся припои —
металлические или полимерные,— разрушаются
молекулярные связи между их частицами.
Однако для пайки требуется нагреть
припой до температуры растекания, при
которой частицы максимально подвижны,
а она значительно выше температуры
плавления (для олова соответственно
232 и 290°С). Нагрев животных клеев до
температуры растекания недопустим: она
нередко совпадает с температурой их
разложения. Поэтому в желатин вводят
пластифицирующие добавки.
Животные клеи могут разрушаться
бактериями; чтобы этого не произошло,
добавляют консервирующие агенты. Это
уменьшает, но не устраняет опасность.
Поэтому на заводах при работе с
животными клеями их держат подогретыми до
50—55° С, чтобы бактерии не
развивались. Но с другой стороны, нельзя
нагревать клей выше 60° С — он будет
разлагаться. Словом, технология деликатна...
КОСТЬ —ДЕФИЦИТНОЕ СЫРЬЕ
До 1814 года животные клеи-припои
получали только из мездры — отходов
кожевенного производства. С 1814 года
столярный клей начали делать из костей.
Сейчас костного клея вырабатывают на*
много больше, чем мездрового. Кроме
того, иногда используют отходы
китобойного промысла.
Почти сто лет назад в США был выдан
первый патент на производство рыбьего
клея. Его получают из кожи нежирных
рыб, главным образом трески. Рыбий
клей превращается в студень при низкой
температуре, поэтому его выпускают в
жидком виде, примерно пятидесятаиро-
центной концентрации. А обычные
животные клеи — это, как известно, плитки.
Впрочем, мездровый клей выпускают еще
в форме галерты — мягкого студня,
который достаточно просто расплавить. К
сожалению, галерты в продажу не
поступают.
Из мездры готовят только клеи, и
процесс этот несложен. А вот из костей лишь
примерно шестая часть переходит в клей.
Остальное: костный жир, азотнофосфор-
ная мука, фосфорный ангидрид, костная
мука — тоже ценные продукты. Кроме
того, из трубчатых костей производят
накладки клавишей для музыкальных
инструментов, галантерейные изделия. В
общем, процесс сложный и
многостадийный, продукты важные, и сырья с
мясокомбинатов не всегда хватает. Поэтому
не относитесь иронически к плакатам,
призывающим сдавать кости в утиль.
ВОЗМОЖНЫ ВАРИАНТЫ
Ни одно связующее не отвечает всей
гамме требований, предъявляемых к
клею. По этой причине клеи, как
правило, содержат много компонентов. Однако
там, где требуется высокая разрывная
прочность клеевого соединения, упругость
и жесткость, столярные клеи не
модифицируют— они и так неплохи. Но ведь не
всегда бывает достаточно прочности.
Добавка глицерина или гликолей
придает клеевым прослойкам гибкость, столь
необходимую, например, в переплетно-
брошюровочном производстве. Сахар и
декстрин предотвращают коробление при
высыхании; клеи с этими добавками
применяют для склеивания бумажных
коробок: там гибкость не требуется.
Природная способность животных
клеев пениться полезна в производстве
спичек: пористые головки зажигаются и
горят нормально, а плотные — трещат
и искрят. Однако для быстроходных
автоматов, склеивающих, скажем, пакеты,
нужны непенящиеся составы, и в клей'
вводят поверхностно-активные вещества.
Линейные макромолекулы животного
клея содержат многочисленные полярные
группы. Желатин — это полиэлектролит,
он нестоек к воде. Вспомним, как
сообщают долговечность кожам: их дубят,
сшивают линейные молекулы коллагена с
помощью веществ, в молекуле которых
есть несколько активных групп. Среди
таких веществ ■— бихроматы,
алюминиевые квасцы, синтетические и природные
дубители. Подобные вещества вводят и
в животные клеи, применяемые в
литографии, в производстве искусственной
пробки.
По сей день животные клеи находят
широчайшее применение — от склейки
пакетов и приготовления мороженого до
шлихтовки искусственных волокон и
изготовления абразивных кругов. И это
в то время, когда уже существует
множество полимерных припоев (их называют
также клеями-расплавами), которые в
отличие от животных припоев уже не
студни — воды в них нет. Безусловно, во
многих случаях они хороши, но,
естественно, не всегда; к тому же животные
клеи дешевы. И все же наметилась явная
тенденция при любой возможности
заменять их полимерными. Планирующие
организации пересматривают объемы
производства животных клеев, а в
результате возникает дефицит; ощущают его не
только предприятия, но и потребители —
не всегда можно купить в магазине
плитку столярного клея или пачку желатина.
СТОЛЯРНЫЙ —ЗНАЧИТ НАДЕЖНЫЙ
В конце статьи — немного о собственно
столярном клее.
Некогда по производству столярного
клея судили о техническом уровне
страны. Само название «столярный»
характеризовало надежность: мебель, кареты,
оконные рамы должны служить не один
десяток лет, и лучшего клея, чем
животный, для столярных изделий не было.
(Сейчас в деревообрабатывающей
промышленности животных клеев
расходуется намного меньше, чем, скажем, для
абразивных кругов и шкурок.)
Столярный клей и впрямь надежен: по
прочности на разрыв при склеивании он
уступает только металлам. И если
разрывать бруски прочной древесины,
соединенные столярным клеем, то разрушится
древесина, а не клеевая прослойка. И на
срез прочность очень высока — до
800 кг/см2. Есть и другие обстоятельства,
немаловажные для столяров: клей
быстро схватывается, не оставляет пятен.
Вопреки бытующему мнению,
столярный клей не впитывается внутрь
древесины, и прочность возникает благодаря
молекулярным силам. Лучшие свойства
высохшая прослойка приобретает, когда
в ней остается 10—14% воцы. Правда,
в зависимости от влажности воздуха клей
то отдает, то поглощает влагу, и это
несколько изменяет его прочность. Тем не
менее она остается достаточно высокой.
Но стоит ли убеждать читателя в
достоинствах столярного клея? Ведь почти
каждый имел с ним дело.
Фото Ю. ОСТРОВЕРХОВА
КАК
РАБОТАТЬ
СО СТОЛЯРНЫМ
КЛЕЕМ
ступают иначе. Отмеренное
количество воды нагревают
(также в кастрюле с водой) до
80—85° С. А когда сухой клей
всыпают в банку, температура,
естественно, падает — примерно
до требуемых 60° С. И в этом
случае массу надо
перемешивать до полного растворения
клея.
Наносят клей широкой
кистью, которую после работы
отмывают горячей водой.
Так как стенкн клеток
древесины непроницаемы для
столярного клея н прочность
обусловлена только адгезией,
клеевая пленка должна быть как
можно более тонкой. Значит,
склеиваемые поверхности надо
подгонять очень точно. А чтобы
контакт был еще лучше,
детали можно стянуть струбциной
или положить на ннх груз.
По сравнению с работой
пилой и рубанком склеивание и
покраска более простые
работы. Их легко и с
удовольствием выполняют жена и
дети.
Японский рекламный
проспект
Даже если работа проста, ее
все-таки надо уметь делагь.
Вот некоторые полезные
сведения для тех, кто впервые
решил воспользоваться
столярным клеем, а также для их
жен и детей.
Клей готовят так: сначала
его растворяют (получают
гель), а затем расплавляют
(как принято говорить,—
варят). Легче всего иметь дело с
животным клеем в виде тонких
чешуек. Такие чешуйки
получают на заводе, когда клей
сушат в тонком слое на
поверхности вращающихся
барабанов. Чешуйкн надо залить хо-
На вклейке — иллюстрация
к статье «Столярный клей».
Разумеется, настоящий,
ненарисованиый стул вряд ли
выдержит тяжесть слона. Но
если склеивание было
проведено по всем правилам,
разрушится не клеевой слой,
а сама древесина. Прочность
прослойки столярного клея
очень высока, и если бы
не капризная технология
лодной водой, хорошо
размешать н оставить на 1—2 часа
в зависимости от размера
зерен. Воды берут от 1 до 1,5
весовых частей на 1 часть клея.
Если клей плиточный, то его
надо сначала измельчить, хотя
бы молотком. Чтобы облегчить
эту процедуру, клей можно
перед измельчением подержать в
холодильнике.
Теперь гель надо
расплавить. Делать это на открытом
огне нельзя нн в коем
случае — клей будет разлагаться.
Дома поступают так: банку с
клеем ставят в кастрюлю с
водой, а на дно кастрюли кладут
н есколько слоев бум а ги или
тряпку. Выше 60° С греть
нельзя; чтобы не загубить клей,
воспользуйтесь термометром.
При варке клен нужно
постоянно перемешивать.
Если нужно быстро
приготовить вязкий раствор клея,
пода гигроскопичность, он был
бы близок к идеалу. Такая
прочность, вопреки
распространенному мнению,
обусловлена не тем, что клей
проникает в древесину — он
на это неспособен,—
а исключительно
молекулярными силами. То,
что клей не проходит сквозь
клеточные стенки, показывает
микрофотография справа
вверху: темный слой клея
располагается только на
границе между двумя
деревянными брусочками. А на
рисунках вверху изображены
типичные узлы склеивания,
которые издавна используют
столяры; очень важно, чтобы
детали были точно подогнаны
друг к другу — чем тоньше
клеевой слой, тем выше
прочность.
^r
A!
«V
%
,тГ7
V
^*%
f ■*■■
*-
Многие растения содержат
красители, из которых можно
приготовить самодельные
акварельные краски. О том,
как это сделать, рассказывает
заметка в клубе Юный химик
которая так и называется -
«Акварельные краски». В ней
названо более двадцати
растений, восемь из них здесь,
на вклейке Конечно, вряд ли
удастся получить дома
акварель, способную
конкурировать с фабричной.
Ну и пусть не д ,я „о
ставят опыты...
дополнительный экран
инфраэкран
и крытое изображение
68 обычной пленке
камера
ткс
пленки
ИНФРАКРАСНЫЙ
ОБМАН
-у
В наши дни разве что малые дети верят
в киночудеса. А мы, люди взрослые,
понимаем, что и горные лавины,
обрушивающиеся на киногероя, и катастрофы,
и поединки на краю пропасти — все это
отменно выполненные технические
трюки. Бурю можно отснять чуть ли не
в стакане воды, а морское сражение —
в ванне.
Конечно, трюк — далеко не главное
художественное средство в
кинематографе. Это всего-навсего техника. Но ведь
без техники — будь то кисть, или резец,
или театральный круг, или просто грим —
искусству никак не обойтись...
Кинотрюков множество. Без
кинотрюков не обходится теперь почти ни один
приключенческий фильм. И оператор
комбинированных съемок становится
одним из главных творческих лиц в
съемочной группе, недаром имя его в титрах
фильма идет вслед за именами
режиссера и главного оператора. Не ставя перед
собой задачу развенчать сразу все
киночудеса до единого, раскроем секрет
одного из них.
Многие, должно быть, помнят фильм
«Сказка о царе Салтане». В нем есть
кадры, восхищающие всех: детей —
необычностью, взрослых — мастерством
кинотрюка. Из морской пены выходят
тридцать три богатыря и выстраиваются
на берегу. «Все красавцы молодые,
великаны удалые, все равны, как на подбор...»
В общем-то, набрать массовку из
тридцати трех крепких парней примерно
одного роста дело нехитрое. Удивительно
другое: когда царь Салтан подводит
к шеренге богатырей заморских купцов,
оказывается, что «красавцы молодые»
примерно вдвое выше и шире в плечах,
чем обычные люди.
После недолгих раздумий любой
мыслящий кинозритель находит этому трюку
простое объяснение. Сцена снималась
дважды. Сначала сняли, как Салтан
с гостями проходит мимо воображаемой
шеренги. Затем сделали вторую
экспозицию на ту же пленку. Выстроили в
шеренгу витязей, а чтобы они выглядели
богатырями, подобрали соответствующую
точку съемки: Салтана с гостями
снимали издалека, витязей — вблизи. И
последнее: чтобы витязи не пропечатались
на том месте пленки, где уже отсняли
купцов, их, купцов, прикрыли
светонепроницаемой маской. Естественно, эта маска
должна абсолютно точно совпасть с
силуэтами гостей и Салтана, иначе вокруг
На вклейке — фрагмент кадра
из «Сказки о царе Салтане»
(«Мосфильм», режиссер
А. Л. Птушко, главный
оператор И. В, Гелейн,
оператор комбинированных
съемок А. С. Ренков) и схема
получ ения инфракрасной
блуждающей маски для
съемки этого кадра.
Поток инфракрасных лучей
от инфразкрана вместе
с видимым светом,
отраженным фигурами
актеров, попадает в объектив
киносъемочной камеры ТКС,
а там — на грани
светоразделительных призм.
На эти грани нанесено
покрытие, не пропускающее
инфракрасные лучи. Здесь
лучи разделяются:
инфракрасный свет попадает
на инфракрасную пленку,
видимый — на обычную
После проявления
и обращения инфракрасной
пленки получается
блуждающая маска. Ее'
накладывают на
непроявленную обычную
пленку, которую вновь
экспонируют, чтобы снять
нужный фон.
По вполне понятным причинам
у художников, которые
рисовали вклейку, не оказалось
инфракрасных красок, поэтому
инфракрасные лучи показаны
на вклейке коричневым цветом
них останется либо черный контур, либо
светлый контур. Но так как люди на
экране непрерывно движутся, маска для
каждого кадра должна быть новой. Весь
вопрос в том, как получить такой набор
масок, или, выражаясь языком
современного кино: что такое блуждающая маска?
Существует несколько способов
изготовления блуждающей маски. Самый
современный и технически совершенный из
них — метод инфракрасного экрана, или,
короче, инфраэкрана.
Специальную киносъемочную камеру
ТКС заряжают сразу двумя пленками.
Одна из них чувствительна к видимому
свету и нечувствительна к инфракрасным
лучам. Другая ■— сенсибилизирована к
инфракрасной области спектра
специальным тиотрикарбоцианиновым красителем
и абсолютно не реагирует на видимый
свет. Пленки, сложенные подложка к
подложке, подаются в фильмовый канал,
который расположен между двумя
стеклянными призмами, служащими для
разделения инфракрасных и видимых лучей.
Актеры, в данном случае заморские
гости, играют свой эпизод на фоне
большого F на 10 метров) экрана-фильтра
(тонкая триацетатная пленка, покрытая
окрашенной желатиной), освещенного
сзади мощными осветительными лампами
и пропускающего только инфракрасный
свет. (Чтобы нити ламп накаливания не
просвечивали через инфраэкран, между
ним и осветительными приборами
устанавливают еще один экран, хорошо
рассеивающий свет.) Так что, если смотреть
на актеров со стороны камеры, они
окажутся на темном фоне, испускающем
мощный поток инфракрасных лучей.
Съемочная площадка освещена
обычными осветительными приборами,
которые применяются во всех киносъемках.
Только здесь юпитеры закрыты
специальными фильтрами, задерживающими
инфракрасный свет.
Итак, в объектив камеры попадают
два потока лучей: инфракрасный — от
экрана, и видимый, отраженный
фигурами актеров. Оба потока падают на
призмы и там разделяются. На обычной
пленке экспонируется изображение
купцов, а фон остается незасвеченным, так
как фоном этим служит инфраэкран.
Пленка, чувствительная лишь к
инфракрасному свету, на видимые лучи,
естественно, не прореагирует. Значит, на не-
засвеченной части пленки в дальнейшем
можно будет снимать что угодно. А в
инфракрасном кадре, наоборот, окажется
засвеченным фон, а силуэты актеров (не
забудьте, что они движутся!) останутся
незасвеченными. На этой пленке как бы
снимаются движущиеся тени актеров.
Будучи обращена, инфракрасная пленка
и станет той самой блуждающей маской,
которая так нужна для съемки трюка.
При второй экспозиции она закроет
засвеченные участки со скрытым
изображением купцов и оставит открытыми для
света те участки кадров, где должно
оказаться желаемое изображение.
Дальше все просто. Проявленную ин-
фрапленку с блуждающей маской
накладывают на непроявленную обычную
пленку с отснятым эпизодом — прогулкой
купцов вдоль воображаемой шеренги. Обе
пленки вновь заряжают в съемочную
камеру, только на сей раз уже без свето-
разделительных призм, и снимают любой
нужный фон, будь то шеренга витязей,
или горная лавина, или лесной пожар.
Несмотря на кажущуюся сложность,
работа с инфраэкраном достаточно проста.
Инфракрасная блуждающая маска таит
в себе огромные возможности для
приключенческого и сказочного кино. Этим
методом снято уже множество эпизодов
в самых различных фильмах, много таких
съемок идет и сейчас.
И хотя механизм инфракрасного
обмана нам теперь хорошо известен, мы,
возможно, еще не раз будем искренне
взволнованы киноопасностями и
киноволшебством, снятыми с помощью нехитрого
технического трюка.
Инженер
м. с. тиц
дом
ВОСЬМИДЕСЯТЫХ
годов
Повысить качество и сократить сроки строительства
жилых домов, улучшить их архитектуру и внешнюю
отделку, осуществлять постепенный переход к строительству
жилья по новым типовым проектам,
предусматривающим более удобную планировку, лучшую отделку и
оборудование квартир.
Директивы XXIV съезда КПСС
по пятилетнему плану развития
народного хозяйства СССР
на 1971—1975 годы
Макет шестнадцатиэтажного
жилого дома П4/16. В плане
у него крестообразная форма,
поэтому архитекторы
окрестили новый дом
«крестом». Через год такие
дома появятся в московском
экспериментальном районе
Тропарево
У нас на глазах родились и
выросли по меньшей мере три
поколения жилых домов. В
пятидесятые годы еще возводили
дорогие монументальные
здания из кирпича, строительство
которых растягивалось порою
на несколько лет. Им на
смену пришли простенькие
пятиэтажные «коробки». В конце
пятидесятых — начале
шестидесятых годов оии стали основой
массового жилищного
строительства в московских
Черемушках и «черемушках» других
городов страны. Кварталы
пятиэтажных домов, порою
лишенные архитектурного
своеобразия, подвергались в свое
время резкой критике. Но ведь
оии, эти скучноватые
«пятиэтажки», положили начало
индустриальному строительству,
помогли в значительной мере
решить жилищную проблему.
А потом стали расти жилые
дома третьего поколения — в
девять, двенадцать,
четырнадцать, шестнадцать, двадцать
пять этажей,—• вытянутые на
добрый квартал ленты и
устремленные вверх башни. Эти
здания преобразили новые
кварталы, позволили архитекторам
и планировщикам создавать ие
похожие друг иа друга новые
городские районы,
реконструировать и модернизировать
старые кварталы.
Жилые дома, которые
строятся сейчас в наших городах,
Были спроектированы
несколько лет назад. А сейчас
архитекторы, инженеры,
конструкторы заканчивают проекты новых
жилых домов, которые начнут
строить в годы девятой
пятилетки, которые станут основой
53
15,6
3-32,$E8j)
30,8 E3$
Ifl9'0
Ulilffl
hexKOjjLttcLUtHJie.
„ ВДПП ja ra hs
45.S F8.S) f f
tt.9 GA,o)-
Планировка квартир в доме
восьмидесятых годов
Важная деталь проекта:
панели соединяются внахлест,
швы надежно уплотнены
эластичным герметиком
if
массового жилищного
строительства восьмидесятых годов.
Мы представляем читателям
проект одного из таких
зданий, созданный в Московском
научно-исследовательском и
проектном институте типового
и экспериментального
проектирования (МНИИТЭП).
Односекциониые
крупнопанельные жилые дома типа П4/16
разработаны для строительства
в Москве. Первые три таких
дома будут построены в 1972—
1973 гг. на юго-западе столицы,
в экспериментальном районе
Тропарево.
Наружные ограждающие
конструкции дома —
керамзито-бетонные панели толщиной 32 см.
Внутренние несущие стены —
бетонные, толщиной 14 и 18 см.
Межквартирные перегородки
для лучшей звукоизоляции
утолщены до 18 см. В отличие
от всех современных зданий, в
которых панели соединяются
встык, конструкции наружных
стен дома соединены внахлест;
стыки панелей
герметизированы эластичными жгутами из
гериита — пористой резины на
основе полихлоропреиового
каучука. Гернитовый жгут
приклеивают к панелям кумароио-
каучуковой мастикой МПС.
Такой стык гарантирует жилые
помещения от протекания и
промерзания, ои выдерживает
температуру от —26° С до
+50° С.
В конструкции дама широко
использованы современные
полимерные материалы. Фасад
будет окрашен разноцветными
кремнийорганическими
мастиками, которые до сих пор в
строительстве не применялись.
Места сочлеиеиий металла с
бетоном должны быть
герметизированы специальной
мастикой (жидкий тиокол с
эпоксидной смолой), которая
выдерживает температурный перепад от
—60° С до +130° С. Наряду с
паркетом для покрытия полов
предполагают использовать по-
лихлорвиииловые ковры. Для
заделки швов будут
применяться полимерцементные растворы.
В доме два лифта (скорость
подъема 1 м/сек)
—пассажирский (на 350 кг) и
грузо-пассажирский (иа 500 кг).
Предусмотрены три лестницы:
теплая — для жильцов — и две хо-
_ §е.в+ии,/п
лодиые — на случай срочной
эвакуации, например, во время
пожара. Теплый чердак
служит веитиляциоииой камерой,
где будет собираться перед
выбросом в атмосферу
загрязненный воздух из квартир. В доме
114 квартир, на каждом этаже
три двухкомнатные, три
трехкомнатные, одна
четырехкомнатная. На 10—15 см против
существующей нормы
увеличена высота комнат, расширены
вспомогательные помещения:
кухня —до 9—10 м2,
передняя — до 6,5 м2. В каждой
квартире будут встроенные
шкафы и антресоли, саиитарно-
технические кабины нового
типа (разумеется, из двух
помещений) с ванной длиной 1,7 м.
НОВОСТИ ОТОВСЮДУ
ТИХАЯ ПЛАСТМАССОВАЯ
СКОРЛУПА
Французский дизайнер К. Ви-
дили сконструировал и
построил портативное убежище
от шума. Это шар из
полиэфирного волокна, наподобие
батискафа, — с пластиковой
звукоизоляцией,
иллюминаторами из дымчатого оргстекла,
надувной пластмассовой
мебелью. Убежище разборное.
Его можно быстро установить
дома, в цехе, конторе, на
улице. И если вам станет
невмоготу от шума домашних или
сослуживцев, вы сможете
спрятаться в свою уютную и тихую
пластмассовую скорлупу.
НРАВИТСЯ ЛИ БАКТЕРИЯМ
ИСКУССТВЕННАЯ КОЖА!
По-видимому, да. В
Проблемной лаборатории по защите
материалов от
биоповреждений при МГУ поставлен опыт:
в условиях повышенной
влажности и температуры на
образцы искусственной кожи,
изготовленной на основе поливи-
Цокольный этаж дома займут
мастерские бытового
обслуживания, библиотека на 100
тысяч томов, медицинские пункты.
Дом сконструирован из
унифицированных деталей единого
каталога индустриальных строл-
тельных изделий. Это даст
возможность возводить здания
разных архитектурных форм,
разной этажности и
планировки. Основной вариант —
шестнадцатиэтажная секция,
имеющая крестообразное сечение.
Такие дома (и более высокие —
22 и 25 этажей) целесообразно
возводить в центральных
районах крупных городов, в
условиях скученной застройки. В
новых районах проект позволяет
НОВОСТИ ОТОВСЮДУ
нилхлорида, наносили
бактерии, относящиеся к видам
Pseudomonas и Streptococcus.
После четырнадцати суток
инкубации на пленочном
покрытии искусственных кож
образовались вздутия, жесткость
пленки увеличилась. Больше
всего понравился бактериям
пластификатор диоктилсебаци-
нат. Этот пластификатор входит
в состав обивочной
искусственной кожи, выпускаемой для
автомобилей.
Специалисты работают над
тем, чтобы найти
пластификатор, который придется не по
вкусу бактериям.
НАШЛОСЬ ДЕЛО И ДЛЯ
«ДУРАЦКОЙ ЗАМАЗКИ»...
Читатели нашего журнала,
возможно, помнят заметку о
«дурацкой замазке» — кремнийор-
ганическом полимере, который
при резком ударе ведет себя
как твердое тело, при
медленном разминании — как очень
вязкая жидкость, а при легком V
ударе оказывается упругим,
строить многосекционные дома,
расположенные по отношению
друг к другу углом или
уступом.
Дом восьмидесятых годов
разработай под руководством
архитекторов А. Б. Самсонова н
А. Б. Бергельсона в третьей
мастерской МНИИТЭПа
совместно с СКВ «Прокатдеталь»
Главмосстроя. Массовое
строительство будет вести
Московский домостроительный
комбинат № 3.
Инженер
Э. С. ТЕРЕХОВ
НОВОСТИ ОТОВСЮДУ
как резина («Химия и жизнь»,
1968, № 6). В тот раз
высказывалось предположение, что эти
удивительные свойства нового
полимера должны завоевать
ему важные области
применения.
Так и случилось. Как
сообщает журнал «New Scientist»
A972, т. 53, № 783), уже
выдан патент на применение
«дурацкой замазки» в
автомобилестроении — в качестве
конструкционного материала
для сидений. Такое сиденье
под давлением тела
пассажира принимает наиболее
удобную, облегающую форму, а
при резком ударе в случае
аварии оказывается
достаточно жестким и защищает
пассажира от травмы.
ПОПРАВКА
В подписи к рисунку, на ко*
тором изображена молекула
молочного сахара (№ 5,
стр. 69), неправильно указано
расположение остатков глю-
л козы и галактозы. На рисунке
остаток глюкозы —справа.
О ПОЛЬЗЕ
И ВРЕДЕ СМАЗКИ,
А ТАКЖЕ О ШАТКОСТИ ОЧЕВИДНЫХ ИСТИН
Здравый смысл нередко нас подводит. Каждому
здравомыслящему софисту было ясно, что с круглой Земли
люди должны свалиться. До появления лазера все
знали, что гиперболоид — фантастика... Ныне положение
бесспорных истин стало шатким. И не только в науке —
в технике тоже. Для примера поговорим о смазке.
Для чего нужен механизму
смазочный материал? Ясно для
чего — чтобы уменьшить трение
и изиос. Несмотря на полную
очевидность этого факта, ие
поверим сами себе. Давайте
поставим опыт, если хотите —
мысленный.
В'озьмем в руку сухой
шарикоподшипник и ладонью
толкнем внешнее кольцо.
Подшипник довольно долго будет
вращаться. Повторим опыт, но
предварительно обильно
смажем подшипник. Снова толкнем
кольцо. Смазаииый подшипник
остановится гораздо раньше —
масляная пленка мешает
качению шариков!
Да, так оно н есть:
эксперименты показывают, что трение
в подшипниках качения
увеличивается в присутствии любого
смазочного материала. Но ведь
подшипники качгния есть чуть
ли ие вв всех современных
машинах. Их годовой выпуск
исчисляется не миллионами, а
миллиардами. Таким образом,
утверждение, будто смазки
снижают трение, в миллиардах
случаев несостоятельно. Второе
утверждение — «смазки
уменьшают износ». И его нельзя
возводить в абсолют. Есть,
например, приработочные и антиава-
рийиые смазки, которые именно
ускоряют износ новых или
поврежденных трущихся деталей.
С их помощью шероховатые
поверхности быстро
притираются, прирабатываются.
Или такой случай. В
нагруженных узлах применяют
смазочные материалы с химически
активными присадками. При
высоких контактных давлениях
и температурах присадки
взаимодействуют с трущейся
поверхностью, образуя мягкие
поверхностные пленки (в
частности, из сульфидов и
хлоридов железа). Такие пленки
быстро, но упорядоченно
изнашиваются. Ускоряя нзнос, сма-
Ьочные материалы не
допускают задира, * катастрофического
выхода узла нз строя.
Еще одно бытующее мнение —
«чем больше смазки, тем
лучше». Следуя ему, автомеханик
полностью набивает солидолом
ступицу автомобильного
колеса. Он твердо помнит
поговорку о масле и каше. Но вот
автомобиль двинулся,
подшипники закрутились. Шарики
выдавили смазку с беговой дорожки,
она нагрелась и расширилась, а
деваться-то ей некуда. Тогда
смазка пробивает уплотнение и
попадает на тормозные
колодки. Последующие события
находятся уже в компетенции
ГАИ.
Начинающий кинолюбитель
не боится перелить нескольких
капель масла во втулки
киноаппарата. Однако лишнее
масло быстро добирается к линзам
объектива, и колористические
эффекты от масляной пленки
на линзах доставляют
зрителям если не удовольствие, то
уж развлечение наверное.
Итак, мы показали на примере 9
смазки, что очевидные истины
не всегда, не везде и не
полностью оправдываются.
Смазочные материалы нередко
повышают тренне, иногда
увеличивают износ, их излишек вреден
почти всегда.
Читатель вправе спросить: а
нужны ли вообще смазки?
Может быть, механизмы будут
лучше работать всухую? К
счастью для специалистов по
смазке и к огорчению
машиностроителей, без смазочных
материалов не обойтись. Онн нужны
везде, где механизмы должны
работать долго н надежно.
Если владелец автомобиля
забудет залить моторное масло
в картер, он долго будет
ходить в автомастерские и
узнавать, когда же привезут
вкладыши подшипников и
поршневые кольца.
Подшипники качения в
электромашинах должны работать
годы и десятилетия. Это знает
не только главный инженер
электростанции, но и каждый,
у кого есть магнитофон или
пылесос. А вдруг сборщик
электромотора забудет положить
смазку в подшипник? Сначала
несмазанный подшипник будет
легко вращаться — вспомним
наш опыт. Но потом сухне
трущиеся детали окислятся.
Образующаяся в местах трения
окись железа — абразив. Через
короткое время подшипник
заклинит, мотор выйдет из строя,
магнитофон умолкнет,
электростанция перестанет давать ток.
И в заключение — деловым и
серьезным тоном о том, почему
же без смазкн не обойтись.
Потому, что смазка
предотвращает заедание,
неравномерный износ деталей, а
большинство смазочных материалов
существенно замедляет процесс
изнашивания. При скольжении
(но не качении!) смазка
уменьшает трение и, значит,
энергетические потери в механизме.
В прецизионных станках и
точных приборах смазочные
материалы делают ход более
плавным, устраняют
неравномерность движения. Все
смазочные материалы защищают
металлы от коррозии, а жидкие
еще отводят тепло от зоны
трения.
Не будем приводить
полностью список задач,
возложенных на смазки. Опираясь не
просто на здравый смысл, но
на обширный человеческий
опыт, можно уверенно сказать:
н сегодня, н завтра, н в
отдаленном будущем, пока
существует трение, смазка останется
необходимой нашей
технической цивилизации.
Профессор
В. В. СИНИЦЫН
НОВОСТИ ОТОВСЮДУ
НОВОСТИ ОТОВСЮДУ
НОВОСТИ ОТОВСЮДУ
ХЛЕБ БЕЗ БЕЛКА
При некоторых нарушениях
белкового обмена в рационе
больных должно быть резко
ограничено содержание белка.
Например, при тяжелой
наследственной болезни фенил-
кетонурии, приводящей к
значительному отставанию
больного в физическом и
умственном развитии, токсический
эффект оказывает содержащаяся
в пищевых белках
аминокислота фенилаланин, которую
организм больного не усваивает.
Недавно Институт питания
АМН СССР разработал новые
виды безбелковых продуктов,
в том числе хлеб и
искусственное саго, изготовляемое из
пшеничного и кукурузного
крахмала. Безбелковый хлеб
готовят без дрожжей, на
химических разрыхлителях, а для
повышения его питательности
и улучшения вкуса добавляют
витамины, ароматизаторы,
сахар и сливочное масло.
Содержание в таких продуктах
белка в 10 раз ниже, чем в
обычных.
ГАЗ-ИЗОЛЯТОР
При прокладке
высоковольтных линий электропередач
энергетики часто сталкиваются
с большими трудностями,
связанными с необходимостью
отчуждения больших земельных
площадей. Один из путей
преодоления этих трудностей —
применение газовой изоляции
проводов. Токонесущий
провод заключают в
алюминиевую трубу диаметром 45 см, в
которую под небольшим
давлением накачивают химически
инертный и нетоксичный газ —
шестифторид серы (SFe),
обладающий превосходными
изоляционными свойствами и
сохраняющий их в интервале от
—40 до +1000° С. Такая
изоляция позволяет избежать
коронного разряда, обычно
возникающего на линиях
электропередач высокого напряжения,
и позволяет прокладывать
линии очень близко друг к
другу. Как сообщил журнал
«Business Week» (США), такая
линия электропередачи
напряжением 345 киловольт, которая
сейчас прокладывается в США,
потребует в 20 раз меньше
площади, 'чем обычная.
ПОЧТИ КАК ЖИВОТНЫЕ...
До сих пор молочный сахар —
лактозу — находили только в
продуктах животного
происхождения. И вот недавно, при
исследовании углеводного
состава съедобных грибов
Сибири, молочный сахар был
обнаружен и в грибах. Правда, не
во всех — в подберезовиках,
подосиновиках, моховиках,
маслятах и опятах лактозу нашли,
а в лисичках ее нет.
Разумеется, практическое значение этого
открытия вряд ли велико — кто
станет добывать молочный
сахар из грибов, когда его так
много в молоке! — но сам
факт весьма любопытен.
Теперь предстоит узнать, зачем
грибам лактоза...
ЧТО ПРИНЯЛ ПАЦИЕНТ!
Какие лекарства принимал
человек незадолго до того, как
попал в больницу, если он
находится в бессознательном
состоянии?
Как сообщает журнал «New
Scientist» A972, т, 53, № 782),
сейчас для этого используют
газо-жидкостную
хроматографию. Образец сыворотки
крови пациента смешивают со
специальным реагентом;
летучие продукты реакции дают на
хроматограмме характерные
пики.
Вся подготовка к анализу
занимает 20 минут, а сам
анализ— 8 минут. Этим методом
можно обнаруживать алкоголь,
барбитураты, наркотические и
ненаркотические
обезболивающие средства, стимуляторы и
транквилизаторы.
ЛЕКАРСТВО ОТ МАЛОКРОВИЯ
Всесоюзный
научно-исследовательский институт антибиотиков
разработал новое средство для
лечения малокровия — витоге-
пат. Это очищенный экстракт
печени с высоким
содержанием витаминов группы В,
никотиновой и фолиевой кислот,
свободных нуклеотидов и
аминокислот. Благодаря высокой
концентрации биологически
активных веществ витогепат
можно применять не только для
нормализации кроветворения,
но и для восстановления
функциональной активности печени
и устранения различных
нарушений обмена. Препарат не
содержит гистамина —
вещества, играющего немалую роль
в возникновении аллергических
осложнений, и этим выгодно
отличается от ранее
применявшихся антианемина и камполо-
на. Как сообщила 18 февраля
1972 г. «Медицинская газета»,
НОВОСТИ ОТОВСЮДУ
испытания, проведенные в
клиниках страны, подтвердили
высокую эффективность нового
препарата.
ВИТАМИН НЕ ПОМОЖЕТ!
Высказывалось предположение,
что хронических алкоголиков
можно лечить витаминами —
это будто бы защитит их от
токсического воздействия
этилового спирта на мозг. Опыты
на мышах опровергли такое
предположение («New
Scientist», 1972, т. 53, № 781). Мыши,
которые получали пищу с боль-
шим количеством витаминов и
с большим содержанием
этилового спирта, оказались
гораздо менее способными к
обучению, чем контрольная
группа, получавшая безалкогольное
питание. Так что, независимо
от витаминов, — лучше не
пить...
ОПЯТЬ АМИНОКИСЛОТЫ
8 МЕТЕОРИТЕ
Шесть аминокислот,
по-видимому внеземного происхождения,
обнаружены в метеорите Ор-
гейль, упавшем во Франции в
мае 1864 года. Это уже третья
подобная находка:
предыдущие были сделаны при
изучении метеоритов Мэрчисон (см.
«Химия и жизнь», 1971, № 2) и
Меррей. Все шесть
аминокислот из метеорита Оргейль
входят в число 18, найденных в
НОВОСТИ ОТОВСЮДУ
прежних метеоритах. Кроме
аминокислот, из всех трех
метеоритов выделены пиримиди-
новые молекулы восьми типов:
три оксипиримидиновые, три
тетраоксипиримидиновые и две
карбоксипиримидиновые. Эти
молекулы сходны с «живыми»
пиримидиновыми
молекулами — строительными камнями
й цепи генетического кода
ДНК.
ПЛАСТМАССОВЫЕ
ДРАГОЦЕННОСТИ
Самые дешевые материалы —
пластмассы — грозят вытеснить
золото, серебро и платину
даже из такой области, где их
позиции казались
незыблемыми,— из ювелирного дела! Как
сообщает журнал «New
Scientist» A972, т. 53, № 783),
недавно в Лондоне состоялась
выставка, на которой демон-
НОВОСТИ ОТОВСЮДУ
стрировались кольца, браслеты
и другие украшения из
акриловых пластиков. Критики
нашли, что создатели украшений
сумели неплохо использовать
возможности э^ого необычного
материала. Косвенным
подтверждением этому могут
служить и цены, проставленные
на экспонатах, — они
измерялись сотнями фунтов
стерлингов.
КОГДА ВОЛОС ДОЛОГ...
На улицах городов все чаще
встречаются мужчины с
волосами до плеч. Можно спорить
о том, насколько красивы
такие прически, но бесспорно
одно: иногда длинные волосы
могут привести к увечью. И в
некоторых странах начали
выдавать рабочим-модникам,
работающим с движущимися
механизмами, пластиковые
предохранительные сетки для волос.
Но вот недавно в ФРГ у
солдат отобрали выданные им
200 000 сеток, ибо выяснилось
(«New Scientist», 1972, т. 53,
№ 783), что при трении о
волосы они электризуются, и от
этого возникают разряды,
создающие помехи для связи и
радиолокации.
Ох уж эти моды...
М. С. РАБИНОВИЧ
КРАТКИЙ МИГ ТОРЖЕСТВА
к истории
одного
открытия
Да, каждой истине сужден лишь
краткий миг торжества между двумя
бесконечностями времени, в одной из которых
ее отвергают как парадокс, а .в другой
третируют как тривиальность. Эти слова,
прочитанные где-то еще в студенческие
годы, сопровождают меня всю жизнь. Их
я вспоминаю каждый раз, когда думаю
о своем учителе Владимире Иосифовиче
Векслере и о его двух выдающихся
открытиях, одному из которых краткий миг
торжества был сужден уже после смерти
автора.
История этих открытий показывает,
каким необычным образом реагирует
научная общественность на новый,
революционный подход к проблеме. Когда старые
методы продолжают давать хорошие
результаты, оказывается, что не только
начинающему, но даже очень крупному
ученому бывает нелегко объяснить,
почему он сошел с проторенных путей.
Но после того как ученые и общество
восприняли какое-либо открытие и оно
овладело умами, все в нем становится
обычным и до удивительности понятным,
почти тривиальным. Единственно, что
остается непонятным: почему его не
сделали вы или я?
Может быть, в этом психологическом
феномене и кроется причина того, что
только писателям (а не ученым!)
удаются книги и статьи, излагающие историю
и суть открытия. Может быть, важнее
не точное изложение фактов, а какие-то
литературные приемы, которые
заставляют нас стать на точку зрения
современников открытия? Так или иначе, а
читатель научно-популярного журнала хочет
видеть не только побудительные причины
открытия — его историю, но и
содержание— суть дела, даже некоторые
технические детали, рассказанные так, чтобы
читать их не было скучно. Сознавая
справедливость этого требования, хоть оно
и противоречиво, я рискую либо нагнать
на читателя скуку научными
подробностями, либо дать коллегам повод
обвинить меня в вульгаризации. Чтобы как-то
найти выход, я буду рассказывать не
только о научных истинах, но и о вещах,
которые могут всеми восприниматься
непосредственно, так как они не стали еще
монополией узкого круга специалистов.
Больше всего мне хотелось бы
рассказать о коллективном методе ускорения,
выдающемся открытии В. И. Векслера.
У этого открытия длинная и нелегкая
судьба. Его долго игнорировали и
называли странным, но когда идея
коллективного ускорения была понята, то тут же
выяснилось, что почти все основные
явления, лежащие в ее основе, известны
давным-давно. Случай этот не исключение,
Владимир Иосифович Векслер
(справа) и Александр Львович
Минц. Снимок сделан летом
1963 г. на теплоходе, на
котором участники
Международной конференции
по ускорителям заряженных
частиц ездили на прогулку
по Московскому морю.
Академик В. И. Векслер был
председателем конференции,
академик А. Л. Минц — одним
из основных докладчиков.
Воскресная прогулка
участников конференции была
продолжением их споров
и дискуссий...
Фото Ю. ТУМАНОВА
он скорее правило. Так же «почти все»
было известно и перед первым
паровозом, и перед первым квантовым
генератором, и перед тысячами и тысячами
других— больших и малых — открытий.
Почему же только очень немногим
удается их сделать, когда десятки, сотни
и тысячи людей знают «все», чтобы
совершить переворот в науке? Почему эти
знания не помогают им, а ослепляют?
Мне кажется, потому, что последний шаг
к истине —нередко- решающий-—бывает
особенно труден для тех, кто уже прошел
99 частей пути. Знания часто делают
ученых слишком осторожными, выпячивают
все реальные и мнимые трудности,
стоящие на пути. Эти знания, как оковы, не
позволяют сделать решающего скачка.
Но вот этот скачок сделан — кем-то
другим,— и вдруг вы видите, понимаете, что
перед вами была не пропасть, а всего
только узкая и порой неглубокая
трещина. Частые споры о приоритете if
авторстве — следствия этой психологической
трудности, а не плохого характера или
недобросовестности спорщиков.
Еще один урок истории многих
открытий: истину невозможно познать по
частям, ее нужно охватить целиком. То же
самое можно выразить еще резче: если
вы знаете 99 процентов истины, то вы не
ближе к ней, чем тот, кто не знает о ней
ничего.
И последнее: всякое настоящее
открытие подобно произведению искусства. Оно
само и особенно подходы к нему несут
черты личности автора. Поэтому
немыслимо говорить о коллективных методах
ускорения, не рассказав о Векслере.
На этом я заканчиваю предисловие, но
все еще не могу перейти к сути дела.
Отойдем же от рассуждений о
психологической природе открытий и поговорим
о некоторых физических понятиях.
Ужасный переход от романтики к прозе
жизни.
ЧЕЛОВЕК И УСКОРИТЕЛИ
Ускорители заряженных частиц — это
инструмент для исследования явлений,
происходящих на очень маленьких
расстояниях и за очень короткий промежуток
времени. Они — антиподы телескопов и
в некотором смысле подобны
микроскопам, но с разрешающей способностью
в десятки миллиардов раз большей.
Эта аналогия, как и любая другая, не
совсем точна: через микроскоп мы видим
лучи, отражаемые от малых предметов,
в ускорителе же потоки частиц не
только отражаются — они способны также
рождать новые частицы. Это дает
возможность исследовать не только свойства
той частицы, которую мы рассматриваем,
но и особенности взаимных превращений
и распадов в иерархии элементарных
частиц, тесно связанных друг с другом,—
изучать явления, происходящие с
невообразимо малыми объектами в течение
невообразимо малых промежутков
времени.
Но слово «невообразимо» годится лишь
для романов. Оно выражает наши
эмоции, а нам нужны факты, числа...
Вопреки требованиям стандартов, мы
здесь не будем пользоваться системой
СИ, а выберем масштабы подстать
изучаемым объектам. Метр — единица,
удобная в повседневной жизни. На
лабораторном языке мы можем говорить, что
рост человека — порядка метра и высота
потолков в комнатах — также порядка
метров. Размер легковых машин и
автобусов— тоже порядка метров. Но,
например, высота домов в городе — на порядок
больше. На обычном человеческом языке
это означает, что в первом случае размер
может равняться 1, 2, 3 или, скажем,
7 метрам, а во втором —10, 20, 30 или,
например, 70 метрам.
Единицу, удобную для измерения
атомов, ввели давно и назвали ангстремом.
Сто миллионов ангстрем — один
сантиметр, размеры атомов — порядка
ангстрема, а размеры больших молекул — на
порядок или два больше.
Но и ангстрем — довольно мелкая
единица для обычной жизни — оказался
велик для мира элементарных частиц.
Поэтому в последнее время приобрела
права гражданства единица, в сто тысяч раз
меньшая; ее назвали «ферми». Размеры
атомных ядер или элементарных
частиц— порядка ферми... За прочими
деталями я отсылаю теперь читателя к
пояснительной главке «Размеры, энергия,
время» (см. стр. 63), но повторяю
неизбежный, к сожалению, итог этих пояснений:
для изучения микромира, для того чтобы
рассмотреть, что происходит на расстоя-
ниях, в десятки, сотни и тысячи раз
хменьших, чем ферми, нужны огромные,
поистине гигантские энергии. Именно
поэтому ускорители —самые крупные и
дорогие установки, применяемые для
научных исследований (если, конечно, не
считать космических станций и
ракет),— нацелены на изучение сверхмалых
расстояний. С их помощью ищут новые
фундаментальные законы природы.
Найти их можно только на очень малых
расстояниях (очень малых промежутках
времени) и на очень больших расстояниях
(очень больших промежутках времени).
Во всяком случае мы (может быть,
ошибочно?) в этом уверены. Малыми
расстояниями занимается физика высоких
энергий, большими расстояниями —
астрофизика.
Эти законы очень трудно найти. Они,
как мираж, время от времени возникают
перед глазами, а затем рассыпаются под
влиянием фактов, и расстояние до них
непрерывно увеличивается по мере
продвижения вперед. Но они обязательно будут
найдены, и будущее развитие науки
непременно приведет к пониманию границ
применимости современных теорий, к
созданию новых теорий, которые не будут
похожи ни на теорию относительности,
ни на квантовую механику. За какими
границами возникнет новый мир? Об
этом можно только гадать, но для нас
важно, что именно ради этой
благородной цели строятся огромные и дорогие
ускорители и тысячи ученых пробуют
свои силы и способности в попытках
приблизиться к новому миру.
Действительно ли задача так важна?
Ответ на этот вопрос предельно ясен,
и он вытекает из требований единства
науки, в частности единства физики. Без
поиска фундаментальных законов
природы не может развиваться знание. Если
развивать только прикладные разделы
наук и не заниматься
фундаментальными исследованиями, то на первых порах
это может оказаться даже выгодным. Но,
безусловно, постепенно это приведет к
вырождению науки и ученых, к
уменьшению научного потенциала страны и, в
конце концов, к вырождению также
и прикладных разделов науки. Нет явной
постоянной границы между
фундаментальными и прикладными
исследованиями, она размыта и находится в
непрерывном движении.
На другой же вопрос — о
соотношениях и пропорциях, в которых в данный
исторический момент должны
развиваться прикладные и фундаментальные
науки,— такого четкого ответа нет.
Ускорители заряженных частиц на очень
большие энергии — это основа для будущего
проникновения в самые глубины
материи. Ускорители на малые и средние
энергии — это один из приборов новой
техники. В то же время и те и другие —
необходимый элемент нашей культуры:
они служат не только для познания, но
и для усовершенствования самого
человека, его представлений о природе
вещей.
УСКОРИТЕЛИ,ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОЛЯ
И АВТОФАЗИРОВКА
Ускорять по-настоящему мы умеем
только заряженные частицы, и единственное
настоящее средство ускорения — это
электрическое поле. Если вы умеете создавать
напряжение (разность потенциалов
между электродами) в миллион вольт, то,
проходя эту разность потенциалов,
электрон получит энергию в один
мегаэлектронвольт, 1 Мэв.
Такой метод ускорения (его называют
электростатическим) сохранил свое
значение до наших дней, и с помощью
всяких ухищрений совсем недавно удалось
ускорить протоны до энергии почти
40 Мэв. Но нас будут интересовать
сейчас гораздо большие энергии, а чтобы их
получить, электростатический метод уже
не годится. И вот почему. ч "
Хорошо известно, что в
электростатическом поле набранная частицей энергия
определяется однозначно ее начальным
и конечным положениями и не зависит
от пути. Поэтому многократное
прохождение разности потенциалов ничего
полезного дать нам не может. Чтобы
ускорять в электрическом поле частицы до
сверхбольшой энергии, нужно не
статическое, а индукционное или волновое поле.
В индукционном электрическом поле
энергия уже зависит от пути, и при
многократном вращении по окружности
частица постепенно увеличивает набранную
энергию. Заряженная Частица может
также непрерывно набирать энергию,
если она движется вместе с
электромагнитной волной или хотя бы не сильно отстает
от нее.
СУг>И*ШГ i~iul
fC
т
VI
• £Vf5 ■£*** ** С*«#н<^
/0
' "■ "Г
14
-I
| -4- &g«**< ^«й^/з
/О
-J
£*А**га Во^НИ 0&СГГ9С1
обе
:#1*
5
о»
V
*>?
Д "«SO -
г
S
н)
-№
^2£* lv
<*ШЪ***рЪ<А*
ф^р*$4Ы
/
Вся история ускорителей почти до
самого последнего времени — это
изобретение способов синхронизации движения
частиц в такт с переменным
электрическим полем. История эта началась где-
то в середине двадцатых годов и бурно
расцвела после второй мировой войны.
Всевозможные ухищрения, к которым
приходилось прибегать создателям все
новых и новых, и тем не менее в своей
основе одинаковых, ускорителей,— это
другая тема. Но для того чтобы
читателю были понятны новые идеи в
ускорительной технике, мы не можем пройти
мимо выдающегося открытия, сделанного
в 1944 году В. И. Векслером. Это так
называемый принцип автофазировки,
благодаря которому предел достижимых
энергий был быстро поднят в тысячи
и десятки тысяч раз. Это открытие Векс-
лера до сих пор остается основой всех
работающих и строящихся ускорителей
на сверхбольшие энергии...
Теперь я снова предлагаю читателю
некоторые пояснения — на этот раз к
принципу автофазировки (см. стр. 64—
65). И попытаюсь рассказать о его
создателе.
ВЛАДИМИР ИОСИФОВИЧ ВЕКСЛЕР
Вот некоторые сведения из анкеты
В. И. Векслера.
Родился в Житомире 4 марта 1907
года. Семи лет остался без отца, с 14 до
18 лет воспитывался в детском доме
в Москве. В 1925 году направлен Хамов-
иическим райкомом ВЛКСМ Москвы на
фабрику имени Свердлова
электромонтером. В 1927 году поступил в Институт
народного хозяйства имени Плеханова.
В 1930 г. произошла реорганизация этого
института, в связи с этим перешел на
работу младшим лаборантом во
Всесоюзный электротехнический институт.
Одновременно продолжал заочно учиться в
Московском энергетическом институте,
который и закончил экстерном в 1931
году, получив диплом
инженера-электротехника...
Я уверен, что это очень существенно
и важно для понимания личности
Векслера— долгий жизненный путь от
электромонтера до руководителя Отделения
ядерной физики Академии наук СССР.
Почти двадцать лет он сам собирал и
монтировал придуманные им установки,
не чурался никакой работы. Это
позволяло ему ясно видеть не только фасад
современной физики, ее идейную сторону,
но и все, что скрывается за
окончательными результатами, за точностью
измерений, за блестящими шкафами
приборов. Кстати, из крупных физиков нашего
века не только Векслер — инженер по
образованию. Но, во всяком случае, не
следует подходить к В. И. Век ел еру и
63
Квантовая механика
утверждает, что любая частица или
движущийся предмет обладают
длиной волны; ее называют
длиной волны де Бройля. Для
нас сейчас важна не природа
этих волн; мы хотим только
подчеркнуть, что длина волны
определяет минимальные
расстояния, которые возможно
наблюдать. Например,
электронный микроскоп- позволяет
различать предметы в тысячи раз
более мелкие, чем это
возможно в световом микроскопе,
потому что волна де Бройля
электронов может быть в тыся-
Логарифмическая шкала
расстояний
РАЗМЕРЫ,
ЭНЕРГИЯ,
ВРЕМЯ
чи раз короче, чем длина волн
света.
Чтобы получить
представление о подробностях устройства
атомных ядер и элементарных
частиц, полезно, по-видимому,
иметь возможность различать
детали, в тысячи раз мельче
самих атомных ядер, то есть
«прощупать» расстояния
порядка миллифермн.
Длине волны частицы
обратно пропорциональна ее
энергии, и поэтому чем мельче наш
объект наблюдения, тем
больше должна быть энергия,
сообщаемая ускорителем частице-
снаряду. Если нас интересуют
расстояния, измеряемые милли-
ферми, то нужна энергия
200000 Мэв (или, что то же
самое, 200 Гэв: двести гнга-
электрон-вольт).
Самым большим ускорителем
в мире длительное время был
ускоритель в Серпухове. Ои
дает протоны с энергией 70 Гэв.
Теперь в Батавии (США)
начал работать ускоритель на
450 Гэв (пока достигнута
энергия 200 Гэв). Тем
временем исследователи уже
мечтают об энергии порядка
1000 Гэв...
в этом с обычной меркой. Формальный
ценз образования для него очень мало
значил, он всю жизнь учился и
переучивался и до самых последних лет
вечерами в отпуске изучал и конспектировал (!)
теоретические работы других ученых.
Важным шагом в жизни Векслера был
переход в 1937 году в Физический
институт имени Лебедева Академии наук
СССР. Небольшой в те годы Физический
институт жил напряженной творческой
жизнью. Научные вопросы по самым
различным разделам физики обсуждались
всем коллективом, без деления на
младших и старших, без деления на оптиков
и ядерщиков, теоретиков и
экспериментаторов. Не было еще тех границ между
физиками разных специальностей,
которые характерны для наших дней и
нередко оказывают удручающее
воздействие на научную молодежь, и не только
на молодежь.
В. И. Векслера, кстати, интересовали
не только космические лучи — главный
предмет его исследований в течение
десяти лет A937—1947). Много внимания
он уделял методам регистрации
заряженных частиц, но больше всего его
занимала возможность создания ускорительных
установок. Было много безрезультатных
поисков, было изобретение уже давно
изобретенного, потом был почти
пятилетний перерыв в этих поисках.
Первый свой ускоритель Векслер
предложил в начале 1944 года. Этот аппарат,
получивший название микротрона, был
в течение многих лет лишь забавной
научной игрушкой, пригодной скорее
для лекционных демонстраций, чем для
работы. Трудно удержаться и не сказать
несколько слов о микротроне, так как
его изобретение лучше слов
характеризует методы работы Векслера.
Синхронности работы ускорителей, известных до
1944 года, мешало релятивистское
возрастание массы частиц с ростом скорости.
Основное внимание и усилия многих
ученых были направлены на «борьбу» с этим
эффектом, а Векслер решил использовать
этот эффект, превратив его из вредного
в полезный. Если возрастание массы
сделать очень большим (в целое число
раз), скажем, в два-три раза, то частота
обращения частиц уменьшится тоже в
целое число раз. Тогда резонанс не
нарушится. Действительно, если период
обращения частиц и период изменения
ускоряющего поля отличаются в целое число
раз, то синхронность движения не
нарушается. Микротрон — это резонансный
Современный ускоритель
состоит из тороидальной камеры,
помещенной в магнитное поле,
и ускоряющих электродов.
Магнитное поле заставляет
частицы двигаться по круговой
орбите, многократно проходя
через один, или несколько, или
множество электродов. «
Ускоряющие электроды — это
два параллельно поставленных
кольца, между которыми
создается переменное,
изменяющееся по синусоиде
напряжение. Через одни и те же
промежутки времени, равные
периоду синусоиды (т. е. через
360° по фазе), величина
напряжения всегда одинакова;
иначе говоря, напряжение между
электродами однозначно
связано со значением фазы
синусоиды, которая изменяется от 0
до 360°.
СИНУСОИДЫ
И АВТО-
ФАЗ И РОВ К А
Напряжение между
электродами однозначно определяет
энергию, которую получит
проходящая через них частица. То
есть энергия частицы
определяется фазой синусоиды в
момент прохождения частицы
через ускоряющие электроды.
Поэтому в устах специалиста
по ускорителям слова «фаза
частицы постоянна» означают,
что частица получает прн
каждом прохождении через
электроды одну и ту же энергию.
Л это возможно тогда и
только тогда, когда частица
движется синхронно с изменением
переменного ускоряющего поля.
Здесь специалист по
ускорителям опять использует
жаргонное выражение: вместо того
чтобы сказать, что он задал
синхронность движения и
изменения ускоряющего поля, он
говорит кратко: «я обеспечил
фазировку» (по-видимому, по
аналогии со словом
фокусировка).
В течение длительного
времени основной трудностью при
разработке ускорителей была
фазировка. До 1944 года она
вообще казалась безнадежным
делом. Когда одновременно
ускоряются от 10й до 1013
частиц, период обращения
которых зависит от их энергии,
попробуй уследн за всеми
частицами...
ускоритель с переменной кратностью.
(Совсем недавно микротрон обрел второе
рождение. Главным образом благодаря
работе С. П. Капицы удалось создать на
его основе прекрасный компактный
прибор, который находит применение как
удобный инжектор электронов и
позитронов во многих лабораториях.)
В том же 1944 году, анализируя
работу своего микротрона, Векслер открыл
принцип автофазировки. Без
преувеличения можно сказать, что это одно из
крупнейших открытий XX века. С этого
времени все помыслы Владимира
Иосифовича связаны с ускорителями
заряженных частиц. Еще несколько лет он не
бросает космические лучи, ездит в
экспедиции на Памир, но жизнь его уже
принадлежит ускорителям.
Но вернемся к 1944 году.
У Владимира Иосифовича возникла
тогда донкихотская идея: построить
первый ускоритель на принципе
автофазировки — то, что впоследствии было
названо синхротроном,— силами двух
человек. Еще шла война, и хоть уже и
чувствовалось приближение победы, весь
институт, и Векслер тоже, занимались
другими, гораздо более важными для
того времени делами.
И вот в конце 1944 г. Векслер
представил свои работы о принципе
автофазировки, опубликованные в «Докладах
Академии наук», на ежегодный научный
конкурс института. Решение жюри
было знаменательным: «Если работа
В. И. Векслера правильная, то не нам
давать ему премию, а если неправильная,
то тем более премии не давать... Но
работа интересная, ее нужно поддержать,
пускай еще немного поработает...».
Для будущего ускорителя выделили
небольшую комнату, и Владимир
Иосифович поручил своему ученику Борису
Белоусову сооружать синхротрон... Ему
дали в помощь одного инженера и
одного лаборанта, через некоторое время
появилось еще несколько человек. С
большим трудом, с помощью академика
Сергея Ивановича Вавилова, удалось
уговорить директора Московского
трансформаторного завода соорудить магнит для
ускорителя.
Установку, наконец, соорудили, но все
попытки запустить ее оказывались
безуспешными. Нужен был магнит более
высокой точности, но где его достать?
И в институте стали появляться
теоретические работы, «доказывающие», что
принцип автофазировки не верен...
В 1944 году Векслер и
открыл совершенно новое
явление, которое он назвал авто-
фазировкой. Явление
автофазировки в принципе аналогично
автоподстройке
радиоприемников 1-го класса. Если период
обращения частицы зависит от
ее энергии, а энергия зависит
от фазы, то период обращения
должен быть связан с фазой.
Это и обусловливает автофази-
ровку. Оказалось, что частицы
сами автоматически будут
подстраиваться к вполне
определенной фазе, зависящей только
от основных параметров
ускорителя: амплитуды напряжения
на электродах, скорости
изменения магнитного поля и
частоты обращения частиц.
Автофазировка. На схеме
изображена зависимость
напряжения V от фазы ср. ср0—
стационарная постоянная фаза.-
Все остальные фазы
нестационарны, но они
совершают колебания около
ср0 (направление изменения
фазы одной из частиц
показано стрелками).
В разных фазах частицы
приобретают разную энергию.
Но поскольку фазы все время
изменяются, в среднем любая
частица приобретает ту же
энергию, что и частица, все
время имеющая фазу ср0
Обстановка изменилась только в конце
1945 года — на волне взрывного развития
ядерной физики сильно вырос интерес
и к ускорителям. И еще «помог»
известный американский ученый Эдвин Мак-
Миллан. Однажды осенним вечером,
когда группа в который раз обсуждала
результаты экспериментов, появился
взволнованный Белоусов с тонкой зеленой
книжкой американского научного
журнала «Physical Review». Там была
напечатана короткая заметка Мак-Миллана,
излагающая... принцип автофазировки.
Это было удивительно, так как работы
Векслера уже были опубликованы — и на
английском языке тоже — примерно год
назад. Расстроенный Владимир
Иосифович пошел посоветоваться с С. И.
Вавиловым, а мы старательно вчитывались
в статью Мак-Миллана, стараясь найти
в ней хотя бы небольшие отличия от уже
опубликованного. У Мак-Миллана были
интересные соображения о когерентном
излучении электронов, было найдено
хорошее название для ускорителя —
синхротрон— и больше ничего нового!
Через несколько дней Владимир
Иосифович написал письмо в редакцию
«Physical Review». Но еще до того как
пришел ответ, о В. И. Векслере заговорили
агентства всего мира. Многие
американские ученые, прочитав статью
Мак-Миллана, послали ему фотокопии работ
Векслера. Знаменитый Эрнест Лоуренс
(получивший в 1939 г. Нобелевскую премию за
изобретение циклотрона — ускорителя
протонов и альфа-частиц) выступил с
заявлением о приоритете В. И. Векслера:
идею автофазировки Э. Мак-Миллан
выдвинул годом позже, хоть и независимо
от Векслера. Лоуренс тогда писал, что
в развитии науки есть своя логика,
которая приводит к почти одновременному
рождению открытий в разных частях
света.
В 1946 г. в нашем институте была
создана специальная лаборатория
ускорителей, и первым ее заведующим стал
B. И. Векслер. А на следующий год был
запущен один из первых в мире
электронных синхротронов на 30 Мэв. Еще
до того как он был готов, началось
проектирование и сооружение в Москве
ускорителя электронов на 270 Мэв. Он
был пущен в работу в 1949 г., и тогда
же по инициативе В. И. Векслера и
C. И. Вавилова начались работы по
проектированию большого ускорителя
протонов — синхрофазотрона на энергию
10 миллиардов электрон-вольт в Дубне.
Векслер был назначен руководителем
этой работы. Наверное, только тот, кому
приходилось участвовать в сооружении
крупных физических установок, может
представить себе такую работу, всю
массу тяжелых, зачастую подавляющих дел,
которые взвалены на плечи.
Векслер всегда любил работать с
молодыми людьми, особенно с теоретиками.
Я объясняю это тем, что ему вечно
приходили в голову новые идеи, нередко
неверные, но большей частью весьма
необычные, фантастические на первый
взгляд. Они вызывали у многих физиков,
привыкших к медленному, солидному
стилю научной работы, возражения,
порой даже насмешки и нежелание спорить
по существу. И поэтому Владимиру
Иосифовичу было проще с теми, кто еще
не обрёл такой солидности.
Когда пришла мировая известность,
Векслер не изменил своему стилю.
Продолжались громкие споры в лаборатории,
высказывались рискованные, иногда
фантастические мысли. Только теперь он
иногда говорил ученикам: «Я прошу не
рассказывать пока об этой идее, потому
что из нее, может быть, ничего хорошего
и не получится».
По мере того как росла известность
Векслера, увеличивался и объем
организационных, административных дел. Он
становится директором лаборатории
высоких энергий в Объединенном институте
ядерных исследований, продолжает
руководить лабораторией в Москве. Очень
трудно в таких условиях продолжать
творческую работу.
Но как раз в эти годы Векслер и
выдвинул совершенно новую идею —
коллективный метод ускорения.
(Окончание в следующем номере)
А ПОЧЕМУ БЫ И НЕТ!
ИСКУССТВЕННАЯ ЖИЗНЬ-
КАК ЕЕ СОЗДАТЬ?
Когда читаешь литературу о
моделировании первых шагов земной жизни,
невольно обращаешь внимание на главный
недостаток экспериментов: скудость
набора веществ, вводимых в реакцию, и
малочисленность факторов, которые ее
стимулируют. В экспериментах обычно
работает древняя атмосфера, то есть
газовая смесь из метана, аммиака и паров
воды. В эту смесь иногда добавляют
этан, сероводород, окись или двуокись
углерода. Источники энергии, которые в
опытах имитируют Солнце, космические
лучи и вулканы, довольно разнообразны,
но в каждом отдельном случае
используется один, редко — два; катализаторы
почти не применяют. Мне думается, что
такие эксперименты полезны для
выяснения отдельных возможностей в
развитии органической материи, но не могут
решить проблемы в целом.
Четким доказательством
возникновения живого из неживого может стать
комплексный эксперимент, где самые
разные геофизические и геохимические
факторы будут взаимодействовать с
системой многих веществ. В моем
представлении (вероятно, не лишенном
некоторых заблуждений), эксперимент
должен проводиться следующим образом.
Достаточно объемистую герметичную
камеру с прозрачными стенками
заполняют метаном, аммиаком и водородом с
примесью элементов нулевой группы.
Когда в камеру добавят воду, давление
в ней должно приблизиться к двум-трем
атмосферам. Повышенное давление
немного ускорит химические процессы: оно
же предотвратит просачивание
атмосферного воздуха в нашу модель Земли.
Около половины дна камеры занимает
гидросфера: миниатюрный океан —
водный раствор солей, по составу схожий с
солевым набором настоящего океана,—
и небольшие пресноводные лужицы. Как
и на всей планете, под
экспериментальным океаном должна залегать земная
твердь.
Набор горных пород и минералов,
отображающих состав земной коры,
особенно разнообразен: кремнезем, различные
силикаты и алюмосиликаты, графит,
магматические породы, карбиды, сульфиды,
самородные металлы. Иными словами,
надо стараться, чтобы в камеру попали
практически все химические элементы
земной коры и главнейшие их
соединения. Да и рельеф твердой поверхности
должен быть сложным — подстать
настоящему, даже с островами в
миниатюрном океане. Но всего этого мало.
Камера должна находиться в постоянном
магнитном поле, напряженностью 1—2
эрстеда, а местные магнитные аномалии надо
создать с помощью кусочков магнетита,
положенных где-то внутри.
Средняя температура в нашем
генераторе жизни, регулируется не очень
строго: от 30 до 40° С. Однако в разных
местах камеры происходит то сильный
нагрев (вплоть до плавления пород), то
глубокое охлаждение. Камера
облучается светом, близким к солнечному
спектру. Кроме того, в ней работают
достаточно мощные источники рентгеновских и
ультрафиолетовых лучей, а а-, Р- и \-из-
лучатели создают радиоактивный фон
повыше нынешнего глобального уровня.
Земля, как известно, крутится. А модель
вертеть, наверное, не стоит: циклы
освещения (т. е. день — ночь) можно менять
в любых пределах. На Земле
ежеминутно сверкают сотни молний, еще чаще
громыхали грозовые разряды, когда
наша планета была молодой. И в камере
время от времени вспыхивают электри-
ческие разряды — искровые, коронные,
тихие. Есть в ней и ультразвуковой
излучатель. Кто знает, может, он тоже
поспособствует возникновению живого.
В нашей модели географической
оболочки Земли имитируются и
землетрясения: под слоем твердых веществ
взрываются тонкие проволочки, когда через них
пропускают сильный электрический ток.
Есть в камере и крошечные приливы и
отливы. И, как у настоящей Земли,
морское дно немного поднимается и
опускается. А принудительного перемешивания
воды и газов — моделирования морских
и воздушных течений — не потребуется:
перепады температур сделают свое дело.
Земля постепенно теряла водород, в
особенности на заре своей геологической
истории. Значит, надо скопировать и этот
процесс. Уходу водорода из камеры
могут помочь палладиевые мембраны, но
легче, наверное, понемножку добавлять
кислород, он превратит избыточный
водород в воду и в конце концов создаст
окислительную атмосферу. Правда,
биогеохимики говорят, что
восстановительные условия на Земле сменились
окислительными благодаря жизнедеятельности
древних водорослей, а не из-за потери
планетой водорода; да и потери эти
сравнительно невелики.
Естественно, что интенсивность
различных излучений, напряженность
магнитного поля, продолжительность суток и
другие параметры генератора жизни в ходе
эксперимента надо привести к
нынешнему общепланетному уровню.
И вот, наконец, опыт будет завершен.
Чего от него можно ждать? Увидим ли
мы в камере простейшую жизнь?
Увидим ли мы хотя бы органические
образования, способные к воспроизведению и
к регулируемому обмену веществом и
энергией с внешней средой? Для такого
утверждения не хватает смелости:
трудно воспроизвести миллиарды лет
развития.
Скорее всего после окончания опыта
(неясно, сколько он должен
продолжаться, по-видимому, не один месяц) мы,
вероятно, достанем из камеры тот самый
первичный бульон, который считают
предбиологической стадией развития
материи, то есть бульон, содержащий про-
теиноподобные вещества, жиры,
полисахариды, полинуклеотиды... И уж если
особенно повезет, то в бульоне могут
оказаться и комплексы этих веществ,
соединенные в сгустки, — коацерваты. А в
отношении коацерватов трудно сказать,
живые они или нет. Если наш
эксперимент закончится столь удачно, то можно
будет без колебаний заявить: жизнь
зарождается на планетах, а не
импортируется извне и не возникает одновременно
с конденсацией космической материи.
В заключение — о главной трудности
предполагаемого эксперимента. Камера
со всем своим содержимым должна быть
абсолютно стерильна. Если же в нее
попадут хотя бы несколько микробов, и
если эти микробы выдержат жесткие
условия опыта, то они станут мутировать
под действием излучений и неустанно
размножаться. И исследователю в конце
опыта придется лишь развести руками
при виде громадного количества
биомассы.
Е. АНУФРИЕВ
От редакции: Напоминаем читателям,
что за достоверность выводов в
материалах, публикуемых в разделе «А почему
бы и нет?», ручается только автор.
ИЗ ПИСЕМ В РЕДАКЦИЮ
ЗАЧЕМ ПТИЦАМ ПОЛОСЫ
ВОЗЛЕ ГЛАЗ)
Мне кажется, нельзя
утверждать, что пигментные полосы у
глаз животных (статья «Зачем
животным полосы возле глаз?»,
№ 2 за 1972 г.), в частности у
птиц, служат прицелом.
Прежде всего, пигментные полосы
широки и, находясь в
непосредственной близости к
глазу, не могут обеспечить
точного прицеливания. Основной
же аргумент против этой
гипотезы тот, что кроншнепы и
вальдшнепы вообще не
нуждаются в прицеле, поскольку
они никогда не ловили быстро-
двигающейся добычи. Свой
корм они извлекают с помощью
длинных клювов из илистого
грунта или почвы. Более
правдоподобно выглядит такое
толкование: темные пигментные
полосы уменьшают 6л и к
©образование в зоне глаза птицы.
Наличие бархатистого темного
пятна, вытянутого в
направлении преобладающего сектора
обзора, создает, как мне
кажется, оптимальные условия
для зрения.
Г. А. СТАРЦЕВ,
рабочий Уральского завода
тяжелого машиностроения
ГИПОТЕЗЫ
КАК МАГНИТНОЕ ПОЛЕ
УСТРАИВАЕТ
БИОЛОГИЧЕСКИЕ РЕВОЛЮЦИИ?
В геологической истории нашей планеты
не раз случалось, что распространенней-
шие, казалось бы незыблемые, формы
жизни быстро исчезали. И со сцены их
убирал отнюдь не процесс эволюции.
Так, 500 и 250 миллионов лет назад
непонятно почему вымерло множество
морских организмов. Несколько меньших
масштабов произошел мор на суше в
конце ордовика D25 млн. лет назад),
резко менялась флора и фауна в девоне
C45 млн. лет назад) и меловом периоде
F5 млн. лет назад). Причины этих
грандиозных событий до сих пор неясны.
Было подмечено, что многие эпохи
вымирания животных по времени совпада-
Гигантский аммонит жил
в меловом периоде —
примерно 130 миллионов лет
назад. Надежная известковая
броня, защищавшая его
от неблагоприятных
воздействий среды,
не помогла: аммонит вымер,
не дав нового побега на древе
эволюции
ют с резким изменением направленности
магнитного поля Земли,
зафиксированного в геологических породах.
Геомагнитное поле, меняя свой знак на обратный,
сначала ослабляется и проходит через
«нуль». Думали, что в момент, когда
исчезает магнитный щит, к поверхности
планеты устремляются потоки
космических лучей, которые и убивают ее
обитателей, не успевших приспособиться к
высокой радиации.
Однако эта вроде бы стройная
гипотеза не подтвердилась. Недавно
профессор К. Дж. Уоддингтон (университет
70 штата Миннесота) показал, что доза
радиации на уровне моря после устранения
магнитного «щита» слишком слаба,
чтобы убить живые существа. Дело в том,
что мощный газовый слой атмосферы
способен и без магнитных воздействий
резко снизить интенсивность
космических лучей. «Если совсем устранить
магнитное поле, — говорит Уоддингтон, —
это может увеличить космическую
радиацию не более чем на 6 миллирад в год,
а этим по сравнению с нормальной
фоновой радиацией можно пренебречь».
А не может ли пропажа магнитного
поля планеты убивать животных каким-
либо иным способом? Не совпадают ли
эпохи похолодания климата с моментом
исчезновения магнитных сил? На эти
вопросы попробовали ответить сотрудники
Ламонтской геологической обсерватории
(США). Они сопоставили вариации
интенсивности геомагнитного поля с
климатическими изменениями за последние
1,2 миллиона лет. Выяснилась обратная
картина: чем выше интенсивность поля,
тем холоднее климат. Ну, а от холода
могут помереть не только динозавры.
Однако мор наступит только на суше:
инерция океанов требует столетий на то,
чтобы похолодание атмосферы повлекло
за собой хотя бы небольшое изменение
температуры водной среды. Но мор
бывал и в море...
Справедливости ради надо сказать, что
вымирание животных — процесс куда
более длительный, чем столетия. Кроме
того, климатические катастрофы могут
объяснить далеко не все. Может, более
справедлива точка зрения
австралийского профессора А. Крейна? Он предлагает
более простой магнитный механизм,
решающий судьбы животного населения
планеты: массовое вымирание видов
может случиться просто из-за падения
интенсивности магнитного поля Земли без
какой-либо связи с космическим
излучением или климатом. И в самом деле,
многие эксперименты со слабым (по
сравнению с геомагнитным) полем
вызывали изменения не только в поведении
Белодон ползал по Земле
около 230 миллионов лет
назад. Известковой брони
у него не было, но все же
судьба белодона не столь
печальна, как аммонита:
белодона считают
родственником современных
крокодилов
животных, но и в биохимических
функциях их организмов. Через 72 часа после
пребывания в сниженном магнитном
поле некоторые бактерии сокращают свою
численность в 15 раз; одноклеточные,
плоские черви, моллюски в слабом
магнитном поле перестают двигаться.
Эксперименты на мышах говорят об
изменениях в ферментных процессах, а
длительное пребывание мышей в немагнитных
условиях приводило к сокращению
срока их жизни, к изменениям в тканях и
бесплодию. Гипотезу Крейна
подтверждает и то, что «демагнетизация» может
действовать и на обитателей океана:
морская вода не служит барьером для
магнитных явлений.
Каким же образом магнитные
эффекты вторгаются в организм? На это есть
два возможных ответа. Во-первых,
магнитное поле может смещать
парамагнитные (частично подверженные магнитным
воздействиям) и другие биологические
молекулы. Доказано, например, что
палочкообразные молекулы жидких
кристаллов самоориентируются в магнитном
поле. А такими жидкими кристаллами
являются сложные липиды в
надпочечниках и яичниках. Другое объяснение
биологического действия геомагнитного
поля сводится к электромеханическим
взаимодействиям между ним и
движущимися ионами в клеточных мембранах.
Возможно, что климатические
изменения и рост космической радиации внесли
слою лепту в глобальные катастрофы, но
главную ответственность за величайшие
биологические революции на нашей
планете, считает Крейн, несут сами
магнитные поля.
Б. И. СИЛКИН
Невзирая на все
климатические, магнитные
и прочие перемены, целакант
(латимерия) здравствует уже
около 300 миллионов лет.
Правда, долгое время думали,
что целакант вымер около
70 миллионов лет назад —
науке были известны только
ископаемые остатки этой
кистеперой рыбы. Но вот
в 1938 году профессор химии
Грейамстаунекого колледжа
Дж. JI. Б. Смит da/i описание
экземпляра целаканта,
пойманного самой обычной
сетью самого обычного
траулера. Этот экземпляр вы
и видите на снимке. Одно
из самых ярких отличий
живого ископаемого
(целакант — означает полый
шип), кроме трубчатого
хрящевого скелета
и плавников, похожих на
ноги,— подкожные клетки,
насыщенные жиром. Жир
выделяется очень долго —
много недель спустя после
поимки рыбы. Мозг
у целаканта маленький,
занимает сотую часть объема
черепной полости, тоже
заполненной жиром. Не этот
ли жир помог рыбе перенести
столько геологических
катастроф? Справедливости
ради надо сказать, что
целакантов осталось мало —
они живут только возле
Коморских островов, а раньше
они довольно плотно населяли
океаны
ЪГъв*?Я$
; V
КЛУБ
ЮНЫЙ
ХИМИК
га
ЛЕТНИЕ ЗАМЕТКИ
АКВАРЕЛЬНЫЕ КРАСКИ
Когда-то люди получали
красители в основном из
растений. Попробуем заняться этим
любопытным делом, а из
добытых красителей приготовим
акварельные краски. Конечно,
их яркость, чистота и
стойкость будут похуже, чем у
фабричных. Зато — своими
руками...
Несколько слов о самих
красках. Оии растворяются в
воде (это ясно уже из
названия: aqua по-латыни —
«вода»). Значит, нам нужны
водорастворимые вещества. Вот
что, помимо пигментов,
входит в состав красок: клею-
щие вещества (гуммиарабик,
декстрин, древесные клеи);
вещества, помогающие краске
хорошо ложиться на бумагу
(мед. патока, глицерин,
альбумин). И поскольку
акварель может оказаться лакомой
пищей для микроорганизмов.
добавляют еще
дезинфицирующее вещество.
Акварельные краски бывают
твердыми (плитки),
полутвердыми (паста) и полужидкими
(ими обычно наполняют
тюбики). Проще всего приготовить
полужидкие краски; хранить их
можно и в плотно закрытых
баночках.
О красителях речь будет
потом, а пока займемся основой
краски. Материалы возьмем
самые доступные. Прежде
всего — вишневый или сливовый
клей, который соберем прямо
с деревьев. Эта коричневатая
смола плохо растворяется в
воде, однако если воду слегка
подкислить, раствор
получается довольно легко. В такой
подкисленной воде мы и
приготовим раствор примерно
50% -ной концентрации. Для
одной краски иам его
понадобиться около 7 мл. Клей
смешаем с 7 мл безводного
глицерина (ои продается в
аптеке) и 2 г патоки или меда.
Наконец, добавим несколько
капель дезинфицирующего
вещества — 5% иого раствора
карболовой кислоты (фенола).
«Карболка» есть в аптеках, ее
можно попросить и в
медпункте. Все эти вещества
надо тщательно н долго
смешивать.
Теперь самое
главное—краситель. Мы будем готовить
густые отвары из измельченных
растений, долго кипятя их в
воде. Эти упаренные отвары
потом смешаем с
приготовленной смесью примерно в
равном количестве.
Единственное исключение
составит зеленый пигмент
хлорофилл. Его мы будем
извлекать не отвариванием листьев,
а экстракцией — спиртом или
водкой (см. «Домашнюю
лабораторию» в № 9 за
прошлый год). Спиртовый раствор
упарим на водяной бане,
чтобы увеличить концентрацию
красителя. Вообще-то любое
растение может быть
источником хлорофилла, ио лучше
выделять его из крапивы (Ur-
tica). А все остальные
пигменты будем готовить
отвариванием.
Хороший серо-зеленый
пигмент получается, если
отварить до густого состояния
тщательно измельченные
листья и стебли весьма
распространенного растения —
манжетки (Alchemilla vulgaris).
А чистый зеленый краситель
содержится в отваре из
листьев трилистника (Menyanthes
trifoliata).
Многие растения служат
источником желтого пигмента.
Его можно приготовить,
например, из коры орешника
(Corylus avellana). А
красивый лимонно-желтый пигмент
получается из плодов
барбариса (Berberis vulgaris).
Еще желтую краску готовят
из дрока красильного (Genista
tinctoria), из коры, листьев и
ягод ольховидной крушины
(Frangula alnus), из цветов
подмаренника (Galium verum).
Красный пигмент можно
Вновь помещаем задачи,
которые предлагались на
конкурсных экзаменах в институты в
прошлом году.
ЗАДАЧА 1
В лаборатории есть смесь
металлического железа с закисью
и окисью железа. Для
определения количественного состава
2 г смеси обработали соляной
кислотой и получили 224 мл
водорода. Другие два грамма
смеси восстановили
водородом — образовалось 0,45 г
воды. Рассчитайте
количественный состав.
приготовить, настояв в воде в
течение нескольких суток кору
ольхи (Alnus glutinosa), а
затем отварив ее. Не всегда
красящие вещества
содержатся в растении в готовом виде,
иногда приходится добавлять
какую-либо соль. Например, к
отвару корня конского щавеля
(Rumex obtusifolius) надо
прибавить квасцов, и тогда
получится хороший красный
пигмент.
Красный краситель готовят
также нз кория змеиного
горца (Polygonum bistorta), нз
корня подмаренника и из
стебля зверобоя (Hypericum
perforatum); в последнем случае
отвар надо слегка подкислить.
Синий пигмент можно
извлечь из корней птичьей гре-
чишки (Polygonum aviculare)
и из цветов живокости
(Delphinium consolida). Если синий
краситель получают из корней
девясила (Inula helenium), их
надо вымочить в нашатырном
спирте.
Коричневый пигмент содер-
ЗАДАЧА 2
Колонна синтеза аммиака дает
1500 т продукта в сутки.
Сколько азотной кислоты 50% -иой
концентрации можно
теоретически получить из этого
количества аммиака?
ЗАДАЧА 3
Смесь серы и угля весом в 10 г
при сжигании дала 30 г смеси
сернистого и углекислого газов.
Сколько угля было в
первоначальной смеси?
ЗАДАЧА 4
К раствору, содержащему 3,20 г
бромистого калия, прибавили
жится в отваре сухой кожуры
репчатого лука. Он есть и в
сухой коре жестера (Rhamnus
cathartica); любопытно, что из
свежей коры этого растения
получается желтая краска.
Серый пигмент дают цветы
кровохлёбки (Sanguisorba
officinalis).
Фиолетовый пигмент
содержат ягоды черники (Vaccini-
um myrtillus) и ежевики (Ru-
bus caesius).
Оранжевый пигмент можно
получить из листьев и стебля
чистотела (Chelidonium majus),
прибавляя к отвару квасцы.
И, наконец» черный пигмент
получается почти из всех
упомянутых растений, если к
отвару добавляют соль
двухвалентного железа, например
железный купорос. А вот
ягоды воронца (Actaea spicata),
сваренные вместе с корнями,
дают черную краску сами по
себе, без железного купороса.
Ю. ВЛАСЕНКО
6 г брома-сырца с примесью
хлора. Смесь выпарили и
остаток высушили. Его вес
оказался 2,72 г. Вычислите
процентное содержание хлора в
броме-сырце.
ЗАДАЧА 5
Определите, сколько кулонов
электричества необходимо,
чтобы электролизом воды получить
такое количество водорода,
которого хватило бы для
гидрогенизации 288 г акриловой
кислоты.
(Решения задач — на стр. 75)
ХОТИТЕ ПОДГОТОВИТЬСЯ К ЭКЗАМЕНАМ ПОЛУЧШЕ!
КОНКУРСНЫЕ ЗАДАЧИ
ЧТО НОВОГО В МИРЕ
ОТЧЕГО
РАСТЕНИЯ
ТЯНУТСЯ
ВВЕРХ
В общем-то, это само собой
разумеется — растения почти
всегда тянутся вверх, а не
вбок. Может быть, они просто
стремятся удалиться от почвы?
Попробуйте поставить простой
опыт: уложите на бок горшок
с каким-нибудь растением.
Будет ли оно расти
горизонтально? Нет! Стебель изогнется и
вновь потянется вверх. Так что
же помогает растениям
распознавать вертикальное
направление?
У многих животных — и это
известно давно — есть
специальный орган, чувствительный
к тяготению: сферическая
полость, внутренняя поверхность
которой выложена ресничками.
Внутри полости — небольшой
известковый камешек, статолит.
В зависимости от того, к каким
ресинчкам он прикоснулся,
животное определяет свое
положение по отношению к вертикали
и соответственно
ориентируется. Но ведь у растений нет
таких органов! Зато в них есть
крахмальные зерна, которые,
как полагают, могут
действовать подобно статолнтам. Это
предположение недавно было
проверено. ,
Когда крахмальные зерна
нажимают на клетку, в кото-
рои они находятся, то этим они
вызывают выделение
гормона. В результате стимулируется
рост с противоположной
стороны клетки. И поскольку
довольно тяжелые крахмальные
зерна размещены в нижней
части растительной клетки, то
растение поднимается кверху.
Чтобы выяснить, в самом ли
деле так происходит,
крахмальные зерна растений
попробовали растворить. И вот
результат — рост стал совершенно
беспорядочным...
Впрочем, среди растений есть
и редкие исключения,
например грибы, известные под
названием «олений язык». Они
растут на стволах деревьев
горизонтально. Отчего
именно — пока ие ясно.
А. ГРИНБЕРГ
ОШИБКИ
ГЛАВНОЕ- НЕ РАСТЕРЯТЬСЯ!
Бесспорно, химику нельзя €ыть
рассеянным. Ведь он имеет
дело с веществами, которые
могут быть и ядовитыми, и
горючими, и взрывоопасными. Но
если уж случилась
неприятность, надо уметь мгновенно
найти лучший выход. Тому
есть несколько примеров в
истории/} химии. Вот два из них.
Профессор Л. Ж- Тенар в
феврале 1825 года читал
студентам лекцию о соединениях
ртути; на кафедре перед ним
стояли два сосуда: один с
подслащенной водой, которую
профессор любил пить во время
лекции, другой — с раствором
сулемы для опытов. И по
ошибке лектор глотнул из второго
стакана.
Сулема — сильный яд, и
профессор, конечно, знал это. Но
он знал и противоядие.
Поэтому Теиар приказал немедленно
разболтать сырые яйца с водой
и принял изрядное количество
этой смеси. Началась сильная
рвота; яд вышел из организма,
н не было заметно признаков
отравления.
Другой случай произошел с
французским химиком Ж.
Пирре. Он демонстрировал
аудитории отливку палочек белого
фосфора, причем профессор
ртом всасывал фосфор в
стеклянную трубку. Что-то
отвлекло его внимание, одно
неверное движение — и фосфор
оказался во рту.
Что сделал бы неопытный
хнмнк? Сразу выплюнул бы
фосфор. А это вещество
мгновенно воспламеняется в
воздухе, и ожога не миновать.
Что сделал опытный химик?
Пирре погрузил рот в воду и
только тогда выплюнул
фосфор — целых два грамма...
Ю. ИВАНОВ
Решения задач
ЗАДАЧА 1
Водород получается прн
реакции кислоты с металлическим
железом:
х г 224 мл
Fe-h2HCl-FeCl2-hH2.
56 г 22400 мл
56-224
х "" 22400 "" •*** г е*
Масса закиси и окиси железа
в смеси равна 2 — 0,56 = 1,44 г.
Запишем уравнения реакций с
водородом:
У г
FeO + Н2 - Fe + НаО;
72 18
1,44 —у 0,45 —z
Fe203 + ЗН2 = 2Fe + ЗН20.
160 54
J18y«72z
154A.44 — у)- 160@,45— z).
Из этой системы следует, что
у = 0,41; значит, в смеси было
0,41 г FeO и 1,44 — 0,41 = 1,03 г
Fe203.
ЗАДАЧА 2
Напишем общую схему
превращения аммиака в азотную
кислоту:
NHS -> NO ^ NOa -> HNOs.
Из схемы видно, что одна
молекула аммиака дает одну
молекулу азотной кислоты.
Поэтому нам не нужно даже
писать уравнений, а сразу
можно определить массу 100%-ной
азотной кислоты:
1500 т хт
NH3 HN03.
17 т 63 т
(См. стр. 73)
1500-63
х It-
- 5553 т.
50%-ной кислоты можно
получить вдвое больше, а именно
11106 т.
ЗАДАЧА 3
Примем массу угля за х, тогда
масса серы будет равна 10 — х.
Запишем уравнение реакции
горения угля, обозначив массу
образовавшегося СОг через yi:
х г ytr
С + Оа - С02.
12 г 44 г
44-х
*--12~"
Теперь уравнение реакции
горения серы:
A0 — х) г у2 г
s + оа - so2.
32 г 64 г
64.A0 —х)
Уя--
32
«2A0 —х).
Общий вес смеси газов (yi+уг)
равен по условию 30 г. Нам
осталось лишь решить
уравнение:
44х
-J2" +2A0 — х)- 30.
Ответ: угля было 6 г.
ЗАДАЧА 4
Вес остатка уменьшился на
3,20—2,72 = 0,48 г, так как
бромистый калий частично
перешел в хлористый калий. Если
принять массу хлора за х, то
масса вытесненного им брома
80 х
-V-6,34%.
ЗАДАЧА 5
Прежде всего уравнение
реакции гидрогеннзацнн акриловой
кислоты:
288 г х г
сна« сн—соон + н2 ->
72 г 2 г
-*сн, — сна — соон.
288-2
х уз" ~ 8 г-
Значит, для гидрогенизации
необходимо 8 г водорода, то
есть 8:1=8
грамм-эквивалентов. А для того чтобы
выделился 1 г-экв вещества,
необходимо израсходовать 96500
кулонов электричества. Для
8 г-экв потребуется 96500-8 =
= 772000 кулонов.
Кандидат педагогических наук
Д. В. ПАЛЬЧИКОВ
75
ЕЯ
будет равна .
ои,о
80х л „
3X5- х=0'48-
Отсюда х « 0,38 г.
Наконец, определим процентное
содержание хлора в
сырце:
броме-
и
КЛУБ
ЮНЫЙ
ХИМИК
НОВЫЕ
КНИЖКИ
А. Н. Белозерский, Б. М.
Медников. Нуклеиновые кислоты и
систематика организмов.
Москва, «Знание», 1972, 48 стр.,
63 100 экз., 9 коп.
Науке свойственно приводить
в систему разрозненные данные
и раскладывать объекты по
полочкам: иначе в огромном лесу
сведений недолго заблудиться.
Систематика в биологии,
начатая еще Аристотелем, кажется
сегодня весьма совершенной,—
если смотреть на нее издалека.
Однако те, кто ею занимаются,
так не считают. Например, до
счх пор нет системы для
вирусов; многие грибы, которые
считались низшими растениями,
вдруг оказываются сродни
животным — н по продуктам
азотного обмена, и по
аминокислотной последовательности.
Новые критерии,
позволяющие установить родственные
связи между организмами,
раскрыть пути эволюции, может
дать изучение биохимии
организмов, их химического
состава. Собственно, этому и
посвящена книжка академика А. Н.
Белозерского и кандидата
биологических наук Б. М. Медни-
кова. Несмотря на малый
объем она обстоятельна н не
ЗНАНИЕ
1 к; к лоты *
. .•' ■ .-*я И (. ,КТ>ЫЛТГ
оставляет ощущения беглого
обзора, что порой случается с
изданиями, куда более
внушительными. В книжке
последовательно прослеживаются
принципы и химические методы,
положившие начало новой
области науки — молекулярной
систематике.
Книжка хороша и своей
полемичностью. Авторы пишут:
«Мы не знаем ии одного
случая, чтобы настоящие науки
терпели ущерб от внедрения
точных, свободных от
субъективизма методов. Наоборот,
науки (в отличие от лженаук)
расцветают от подобного
вмешательства».
Очевидно, авторам есть с кем
полемизировать...
А. И. Абрамов. Измерение
«неизмеримого». Москва, Атомиз-
дат, 1972, 200 стр., 52 000 экз.,
32 коп.
Человек с хорошим зрением,
вооруженный линейкой и
циркулем, может определить
размер предмета с точностью до
десятой доли миллиметра. Если
у него есть добротный
микроскоп, то ему удастся измерить
объекты значительно меньшие,
но никак не меньше 0,0005 мм.
Так что же дает основание
утверждать, что раднус
молекулы азота равен 1,42-10~8см?
Да что там молекула! Когда
массу электрона пишут с
точностью до пятого знака, это
непосвященному кажется уже
чистейшей фантастикой.
Между тем никакой
фантастики нет, а есть точные, хотя
и косвенные, эксперименты
(ведь сами микрочастицы
увидеть невозможно). Вот об этих
экспериментах, о теориях, на
которых они основаны, о
методах, которые в них
используются, и рассказывает книга. Очень
хорошо, что рассказ
начинается, как принято говорить, от
яйца — от древней атомистики
и зарождения химии. А
заканчивается он новейшими
сведениями, например о сигма-
нуль-гиперонах, живущих
какие-то Ю-20 секунды, и об
элементах, которые совсем
недавно считались стабильными, а
ныне причислены к
радиоактивным, хотя период полураспада
у них исчисляется триллионами
лет.
Впрочем, то, что составляет
сердцевину книги, лишено
оттенка сенсационности, и это.
видимо. правильно. Четкое,
исторически последовательное
изложение способов, которыми
удалось все-таки измерить
неизмеримое, окажет пользу
многим читателям. Как
справедливо замечает в предисловии
профессор О. Д. Казачковский,
«после прочтения книги у
читателей появится или
укрепится чувство большей реальности
микромира и его необычных
свойств, н станет ясно, почему
мир атомов и элементарных
частиц нам так хорошо
известен».
Г. И. Покровский.
Гидродинамические механизмы. Москва,
«Знание», 1972, 48 стр.,
51000 экз., 9 коп.
Само собой разумеется, что
гидродинамика — наука
полезная, а для химиков, столь
часто имеющих дело с
жидкостями, особенно. Однако что
может скрываться за столь
сухим заглавием? Уж не сугубо
ли специальные сведения,
нужные сотне-другой читателей?
Что ж, полистаем книжку.
«Прн входе на эскалатор
метро... пассажиры, стремящиеся
проникнуть на ленту
эскалатора с боков, могут сильно
задержать общий поток людей.
Чтобы этого не происходило,
прн входе на эскалаторы
нередко ставят поручни,
направляющие потоки людей к
эскалатору по плавно сходящимся
линиям. На основе данных
гидродинамики можно
предполагать, что такие простые
направляющие устройства могут
вдвое повысить пропускную
способность эскалаторов».
Любопытно? Листаем дальше.
«Если бы не было воздуха,
то кумулятивный взрыв мог бы
легко вывести на орбиту
кумулятивную струю в виде че
только спутника Земли, но и
спутника Солнца».
Это тоже нечто не совсем
обыкновенное. Надо
внимательнее почитать главку о
кумуляции и преодолеть несколько
несложных формул—дело,
кажется, того стоит...
«Пузырьки могут
превращаться в капли. Чтобы
убедиться в этом, достаточно
посмотреть на поверхность
газированной воды, в которой
растворенная углекислота
выделяется в виде множества
маленьких пузырьков Они всплывают
и исчезают, достигнув
поверхности. Каждый пузырек при
своем исчезновении вызывает
появление капли размером
примерно вдвое меньше пузырька.
Эта капля взлетает вверх
примерно на 10 см...»
Может быть, здесь
приведены не лучшие примеры (и к
тому же мы не добрались еще
до середины книжки). Однако
тот факт, что в книге
возможны и лучшие примеры, говорит
только в ее пользу.
Итак: прочтите эту
маленькую книжку с таким
тяжеловесным названием. Она откроет
вам глаза на поистине
удивительные события, творящиеся в
са мой обычной жидкости.
Л. М. Гейман, Н. Я. Госин.
Под знаком железа. Москва,
«Наука», 1972,68 стр., 11 500 экз.,
19 коп.
В Курской магнитной аномалии
сосредоточено почти две трети
Шш#щ$}&мп тушат
железных руд земного шара.
Казалось бы, достаточно!
Однако недавно здесь были
найдены новые ископаемые,
которые можно использовать
отнюдь не для металлургии. Это
камни. И декоративные,
которые вполне способны
соперничать с мрамором, и
драгоценные.
А из самих железных руд
научились делать превосходную
химически стойкую керамику,
которая к тому же очень
красива. По мнению
члена-корреспондента АН СССР М. И. Агош-
кова, такая керамика «в
недалеком будущем станет
распространенным архитектурным
материалом». Из отходов тех же
РУД уже сейчас в
промышленном масштабе готовят стойкие
пигменты.
Обо всем этом и
рассказывают авторы. Не всегда четко,
порой даже сбивчиво. И.
пожалуй, излишне «технично» для
широкого читателя, которому
книжка адресована. Однако —
воздадим авторам должное —
с большим почтением к земным
богатствам вообще н к
богатствам Курской магнитной
аномалии в особенности.
Обзор подготовила
М. ФИЛИМОНОВА
УЧИТЕСЬ ПЕРЕВОДИТЬ
НЕМЕЦКИЙ-ДЛЯ ХИМИКОВ
AFLATOXINE IM KASE
АФЛАТОКСИНЫ В СЫРЕ
Neuere Untersuchungen haben gezeigt, dafi die
Toxinbildner Aspergillus flavus und Aspergillus
parasiticus bei Temperaturen von +18 bis +30° С
und bei relativen Luftfeuchten zwischen 79 und
99% sich sehr gut auf Kaseerzeugnissen ent-
wickeln und mehr oder weniger Aflatoxin Bl
bilden. Im Rahmen einer in Weihenstephan bei
Munchen erarbeiteten Dissertation wurden 169
Kaseproben von 19 Handelssorten auf das Vor-
Jrommen von Aflatoxin Bl untersucht. Hierbei
wurde festgestellt, dafi sich unter optimalen Be-
dingungen (+26° С und relative Luftfeuchtigkeit
von 99%) Aflatoxin В 1 bereits 3 bis 4 Tage nach
dem Pilzbefall in Kasen nachweisen lafit. Der
Kulturschimmel des Camembertkases bildet, wie
gleichzeitig festgestellt wurde, keine Aflatoxine!
Im Gegenteil: Er verhindert das Wachstum afla-
toxinbildender Pilze. Auch beim Romadur ist das
Auftreten von Aflatoxin В1 nicht zu erwarten.
Demgegenuber konnen sich die oben genannten
Aspergillus-Arten auf Tilsiter Kase entwickeln.
.j* («Urania», L972, № l)
Новейшне исследования показали, что грибы,
выделяющие токсины,— Aspergillus flavus и
Aspergillus parasiticus — очень хорошо развиваются на
сырах при температуре от +18 до +30° С и
относительной влажности воздуха от 79 до 99%,
образуя большее илн меньшее количество афла-
токсина В 1. В диссертации, подготовленной в
Вейенстефане под Мюнхеном, исследовалось
возникновение афлатоксина В1 в 169 пробах
сыра девятнадцати торговых сортов. При этом
было установлено, что в оптимальных условиях
( + 26° С и относительной влажности воздуха
99%) афлатоксин В 1 можно обнаружить уже
через 3—4 дня после поражения сыров грибами.
Одновременно было установлено, что культурная
плесень сыра камамбер не образует афлатокси-
нов! Напротив, она препятствует росту афла-
токсинообразующнх грибов. Не следует также
ожидать появления афлатоксина В 1 в сыре ро-
мадур. Зато названные выше виды Aspergillus
могут развиваться на тильзитском сыре.
КОММЕНТАРИЙ К ПЕРЕВОДУ
Каким бы маленьким ин был
текст, в нем можно
обнаружить специфические черты
стиля, в нашем случае —
стиля научной литературы. Это и
спокойная, нейтральная
лексика, и употребление терминов
(поскольку наука оперирует
главным образом единичными,
а не общими понятиями).
Примеры: Toxinbildner
(«выделяющие яд организмы»);
Kaseerzeugnisse («сыры»),
Pilzbefall («поражение
грибами»).
Книжно-пнсьмениый
характер языка заметки должен
отразиться в переводе. Надо
использовать нейтральную
литературную лексику, употреблять
общепринятые термины.
Некоторые детали перевода.
В сочетании neuere
Untersuchungen прилагательное
стоит в сравнительной степени,
однако элемент сравнения
здесь отсутствует. Такая
форма прилагательного
называется элатив *. На русский язык ее
переводят прилагательным или
в положительной степени («но-
* См. «Химия и жнзнь», 1970,
№9.
вые исследования») нлн в
превосходной степени («новейшне
исследования»).
Специфично для немецкого
языка сочетание zwischen 79
und 99%. Дословный перевод
будет корявым, правильно
передать этот оборот на русский
язык следует так: «от 79 до
99%».
Обратите внимание на
конструкцию sich lassen +
инфинитив: она носнт пассивный
характер- Lafit sich
nachweisen — «можно доказать»
(«обнаружить»),
Л. Н. ПОПОВА
КОРОТКИЕ ЗАМЕТКИ
МИРАЖ НА МАРСЕ?
Старая-престарая история:
Сахара, изнемогающий от жажды
путник. На горизонте —
манящий пейзаж: озеро, пальмы.
Такое бывает часто, более
редки миражи в Арктике. Да они
и не такие, как в пустынях.
Пустынные миражи дают
перевернутое изображение (именно
поэтому небо кажется
голубым морем), а арктические
миражи являют собой
приподнятое над горизонтом (не
перевернутое!) изображение
какого-то участка поверхности.
Нечто подобное может
происходить и на Марсе. Не
странно ли: атмосферы Земли и
Марса различны, и вдруг
сходный феномен. Но может, мы
ошибаемся, и то, что видно на
снимке, совсем не мираж, а
просто не сработала
автоматика? Но почему тогда этот
эффект обнаружен буквально на
всех снимках «Маринер-6» и
«Маринер-7», на которых есть
горизонт? Присмотримся
внимательно. На фото виден
участок планеты с выпуклым
горизонтом. А над (за)
горизонтом снова повторяется верхняя
часть снимка, легко
опознаваемая по пяти-шести деталям. На
фотографии есть и полоса, не
видимая на основном снимке,
она, естественно, расположена
за горизонтом Марса.
Итак: зыбкий арктический
мираж Земли, и похожее, но
устойчивое явление на Марсе.
В чем же дело? Мне думается,
что это связано с космической
средой. Коэффициент
преломления светового луча зависит
от плотности среды, сквозь
которую он проходит. А
космическая среда почти так же
пропускает световые лучи, как
и атмосфера. Иначе бы мы
видели мир искаженным и не
могли бы направлять
космические станции в нужном
направлении. Так вот, плотность
космической среды—до сих пор
столь таинственной — в зоне
Марса по прохождению
электромагнитных волн оказалась
не в 100—200 (соотношение
плотностей марсианской и
земной атмосфер), а всего лишь в
10 раз меньше, чем у Земли.
Если дело обстоит именно
так, то зыбкость земных
миражей может быть объяснена
изменчивостью земной
атмосферы. Ибо атмосфера
выступает не как носитель, а как
возбудитель этого эффекта.
Менее плотная атмосфера
Марса, вероятно, более
стабильна, и миражи там
устойчивые.
Кандидат геолого-
минералогических наук
В. Б. НЕЙМАН
ЛИТЕРАТУРНЫЕ СТРАНИЦЫ
Джон уиндем СТАВКА НА ВЕРУ
— Черт меня побери, — мысленно
проклинал себя Генри Бейдер, когда его
спрессовали почти в лепешку, благодаря
чему вагонная дверь, хоть и с трудом,
ко все же закрылась, — черт меня
побери, если я еще когда-нибудь полезу в
этакую давку...
Подобного рода клятвы он, правда,
давал уже не в первый раз, и, хотя в
данную минуту был полон решимости
сдержать свое обещание, не было решительно
никакой гарантии, что завтра же оно не
будет нарушено. Обычно Генри избегал
появляться в Сити в часы пик, но
сегодня дела задержали его, и пришлось
выбирать одно из двух зол: либо разозлить
жену еще большим опозданием, либо
позволить увлечь себя людскому потоку,
вливавшемуся в туннель метро на Банк-
стейшн.
На станции Святого Павла никто не
вышел, а давка усилилась, и это значило,
что еще кому-то все-таки удалось
втиснуться в вагон. Створки дверей натужно
сдвинулись, потом разошлись — видимо,
чьи-то руки, ноги или спины остались
снаружи — и затем окончательно
захлопнулись. Поезд со скрипом сдвинулся с
места. Девушка в зеленом плаще,
вдавленная в правый бок Генри, пискнула
своей подружке в синем:
— Как ты думаешь: слышно, как
трещат наши ребра?
В ее вопросе звучала даже не жалоба,
а скорее философское раздумье.
На Чансери-лейк тоже никто не
вышел. Теснота, тычки локтей и колен
стали еще сильнее: снова свершилось
чудо — в вагон было запрессовано еще
несколько пассажиров. Поезд медленно
набирал скорость. Несколько секунд
привычного гулкого грохота, затем резкая
остановка и темнота — погас свет.
Генри даже и выругаться не успел, как
поезд пошел снова. Тут неожиданно
оказалось, что с боков его больше никто не
подпирает — он чуть не упал. Протянув
вперед руку, он ухватился за что-то
мягкое. Но в этот миг лампы вспыхнули
скова и выяснилось, что этим неизвестным
мягким предметом была девушка в
зеленом плаще.
— Да как вы смеете... — начала она,
но ее голос тут же прервался, рот так и
остался открытым, глаза вытаращились.
У Генри глаза тоже полезли на лоб: в
вагоне, который еще минуту назад был
до предела набит плотно утрамбованной
человеческой массой, теперь, кроме
Генри и зеленой девушки, находились всего
три человека. Один из них был мужчина
почтенных лет, уткнувшийся в свою
газету с таким видом, словно он, наконец,
достиг того, о чем мечтал всю жизнь.
Напротив него сидела моложавая дама,
погруженная в глубокую задумчивость.
В самом конце вагона мирно спал какой-
то парень.
— Ишь ты! — воскликнула девушка. —
Милли-то смылась! Ну и задам же я ей
завтра. Знает, что мне тоже вылезать в
Холборне, так нет — сама сошла, а мне
ни гу-гу. — Она запнулась. — Ведь это
был Холборн?
Генри обалдело оглядывался по
сторонам. Девушка схватила его за руку.
— Ведь это был Холборн? —
повторила она с надеждой в голосе.
Мысли Генри витали в неведомых
далях:
— Э-э-э, какой-такой Холборн?
— Ну та остановка, где все сошли.
Тут ведь кроме как Холборну быть
нечему, правда?
— Я... э-э-э... плохо знаю эту линию,—
выдавил он.
— Но я-то знаю ее, как свои пять
пальцев. Холборн это был, это уж
точно.— Она явно старалась убедить себя
в этом.
Генри скова оглядел
раскачивающийся на ходу вагон и длинные ряды
свисающих с поручней ременных петель.
— Я... э-э-э... не заметил никакой
станции, — пробормотал он.
— Да ведь была же она! Где же, по-
вашему, они все сошли?
— В самом деле, — ответил он, — где
же еще?
Помолчали. Поезд, подрагивая на
стыках и раскачиваясь, набирал скорость.
— Следующая остановка Тоттенхем-
Корт-Роуд, — заявила девушка. Но
особой уверенности в ее тоне не
чувствовалось.
Поезд продолжал грохотать. Она
пристально всматривалась в пустую
темноту окна.
— Послушайте, — предложил Генри,—
давайте-ка расспросим других
пассажиров. Может быть, они что-нибудь знают.
/ Генри и следовавшая за ним по пятам
девушка подошли к даме. Дама была
одета в великолепно скроенный костюм и
меховую накидку. Коротенькая вуалетка
спускалась с полей круглой шапочки,
кокетливо сидевшей на черных кудрях.
Туфельки и совершенно прозрачные чул^
ки были подчеркнуто отличного
качества. Затянутые в длинные перчатки руки
покоились на черной кожаной сумочке,
лежавшей на коленях. На лице застыло
отсутствующее выражение: видимо, она
целиком погрузилась в свои мечты.
— Извините, — обратился к ней
Генри,— не скажете ли вы, как называлась
та станция, на которой все вышли?
Длинные ресницы медленно
приподнялись. Глаза оценивающе оглядели Генри
сквозь вуалетку. Наступила длительная
пауза, во время которой дама, видимо,
перебирала в уме причины, вызвавшие у
Генри прилив общительности. Гекри
подумал, что выражение «молодящаяся»
подходит к ней куда больше, чем
«моложавая».
— Нет, — ответила она с легкой
улыбкой,— я не заметила.
— И ничто вам не показалось
удивительным?— настаивал Генри.
Подрисованные брови слегка
выгнулись, а глаза провели повторную
инвентаризацию.
— Удивительным? Что вы называете
удивительным? — спросила она.
— Да хотя бы то, как быстро опустел
вагон, — объяснил Генри.
— Что же в этом удивительного? Мне
это показалось ужасно милым. Их тут
было так много!
— Совершенно справедливо, —
согласился Генри, — но мы никак не можем
понять, где и когда все успели выйти.
Брови поползли еще выше.
— Вот как! Но мне кажется, я не
обязана...
Позади Генри послышалось
покашливание и шелест газеты.
— Молодой человек! Прекратите
беспокоить даму своей назойливостью. Если
у вас есть жалобы, благоволите
обратиться в соответствующие инстанции.
Генри обернулся. Говоривший
оказался седеющим человеком с тщательно
подстриженными усиками на розовой,
пышущей здоровьем физиономии. Лет
ему было примерно пятьдесят пять, а
одевался он строго по моде Сити —
даже котелок и портфель были налицо.
Человек из Сити бросил на даму
вопросительный взгляд и получил в награду
легкую улыбку. Затем он снова перевел
глаза на Генри. Теперь его взор стал
чуть мягче: видимо, с фасада Генри
произвел более благоприятное впечатление,
чем с тыла.
— Прошу прощения, — обратился к
нему Генри, — дело в том, что эта девушка
пропустила свою остановку... Да и
вообще тут многое нуждается в объяснении.
— Последней остановкой, на которую
я обратил внимание, была Чаисери-лейк,
так что, должно быть, остальные
пассажиры вышли в Холборне.
— Чересчур уж быстро они сошли!..
— Вот и прекрасно. Лица,
ответственные за порядок на транспорте, вероятно,
ввели какой-нибудь новый метод
обслуживания пассажиров. Они, как вам
известно, постоянно заняты
усовершенствованием и разными новыми идеями.
— Пусть так, но мы вот уже минут
десять как едем без остановок и все еще
не видели ни одной станции.
— Должно быть, нас перевели по
каким-нибудь техническим причинам на
запасный путь.
— Запасный путь! В метро-то! —
запротестовал Генри.
— Не в моих принципах, уважаемый,
совать нос в чужие дела. И вам тоже
не советую это делать. В конце концов,
на все случаи жизни существуют
специальные инстанции, и они-то, уверяю вас,
свое дело знают, даже если кое-кому их
действия и представляются странными.
Господи, да если мы перестанем доверять
властям, наше общество окажется на
краю бездонной пропасти!..
Генри посмотрел на девушку в зеленом
плаще, она слегка пожала плечами в
ответ. Они отошли и сели поодаль. Генри
предложил девушке сигарету, и оба
закурили.
Поезд лязгал в четком
установившемся ритме. Платформа, которую они
ждали, все не появлялась: в темных окнах
отражались лишь их собственные лица.
Генри взглянул на часы.
— Едем больше двадцати минут, —
сообщил он. — Это положительно
невероятно.
— Прямо-таки мчимся, — добавила
девушка,— да еще под уклон.
В самом деле, поезд явно несся вниз
по крутому уклону. Генри заметил, что
вторая пара теперь принялась беседовать
уже весьма оживленно.
— Подойдем к ним еще разок, —
предложил он.
— Даже в часы пик... не более 15
минут... невероятно... — слышался голос
дамы. — Боюсь, мой муж страшно
волнуется...
— Что вы теперь скажете? —
обратился Генри к мужчине.
— Действительно, событие
исключительное, — признался тот.
— Ничего себе, «исключительное»!
Почти полчаса мчимся на полной скорости
и ни.одной станции! Это невероятно!
Абсолютно невероятно! — почти закричал
Генри.
Собеседник холодно смерил его
взглядом.
— Совершенно очевидно, что ничего
невероятного в этом нет, поскольку мы
наблюдаем это явление собственными
глазами. Это, наверное, просто
какой-нибудь путь, построенный из соображений
обороны в годы войны. Нас перевели на
него по ошибке. Не сомневаюсь, что
администрация быстро обнаружит таковую
и вернет поезд обратно.
— Не больно-то они торопятся, —
заявила девушка. — А мне давно пора быть
дома. У меня вечером свидание.
— Не остановить ли нам поезд? —
спросила дама. Она указала взглядом на
рукоятку ручного тормоза и на
табличку, обещавшую пять фунтов штрафа за
самовольное использование сего
механизма без особой необходимости. Генри и
мужчина переглянулись.
— Э-э-э... — сказал Генри.
— Администрация...— начал мужчина.
— Что ж, если мужчины такие трусы,
то придется самой, — сказала дама
решительно и, протянув руку, рванула
рукоятку вниз.
Но поезд мчался как ни в чем не
бывало. Было очевидно, что тормоза не
работают. Дама сердито вернула рукоять
в исходное положение и снова рванула ее
вниз. Снова ничего не произошло, и по
этому поводу дама высказалась весьма
недвусмысленно и сочно.
— Господи! Да вы только послушайте,
как она загибает! В жизни такого не
слыхала! — шепнула Генри его соседка.
— Очень красноречиво... Не хотите ли
еще сигарету? — отозвался он.
А поезд все гремел, все летел под
уклон, все сильнее и сильнее раскачиваясь
на ходу.
— Ну, — сказала девушка, — погорело
мое свидание. Теперь Дорис наверняка
зацапает моего парня. Как вы думаете,
я не смогу притянуть этих типов из
метро к суду?
— Боюсь, что нет, — ответил Генри.
— А вы адвокат, что ли?
— Именно. Пожалуй, нам следует
познакомиться, коль скоро судьба свела
нас вместе и нам предстоит еще какое-
то время путешествовать в обществе
друг друга. Мое имя Генри Бейдер.
— А меня зовут Норма Палмер, —
отозвалась девушка.
Человек из Сити представился:
— Роберт Форкетт, — и слегка
наклонил голову.
— Барбара Брайтон. Миссис Брайтон,
разумеется, — кивнула дама.
— А тот? — спросила Норма, указывая
в дальний конец вагона. — Может,
разбудим его?
— Не вижу необходимости, — буркнул
мистер Форкетт. — Мне послышалось, что
вы правовед, сэр? Скажите, каковы
наши позиции в этом деле с точки зрения
закона?
— У меня нет под рукой нужных
справочников,— ответил ему Генри, — но я
t
думаю, что любые наши претензии будут
отклонены. Компания заявит, что она
производила...
...Минут через пятнадцать он
обнаружил, что Норма крепко спит, опустив
голову на его плечо. Мистер Форкетт тоже
откровенно позевывал. Задремала и
миссис Брайтон. Генри посмотрел на часы:
прошло уже почти полтора часа. Если
только они не едут по замкнутому кругу,
то за это время поезд должен был
пересечь пол-Англии. Необъяснимо! Его
голова склонилась на грудь, а щека
прижалась к вязаной шапочке, покоившейся на
плече.
Разбудил Генри легкий скрежет
тормозов. Остальные тоже проснулись.
Форкетт широко зевал. Миссис Брайтон
извлекла крошечные часики-медальон и
посмотрела на циферблат.
— Почти полночь. Муж сойдет с ума.
Скрежет тормозов продолжал
нарастать. Окна уже не были чернильно-чер-
ми: в них появились розоватые
отблески, они становились все ярче. Свет
разгорался, скорость падала, и вот уже
поезд подошел к платформе. Все вытянули
шеи, готовясь прочесть на глухой левой
стене название станции, но стена была
пуста — ни таблички, ни рекламы. Вдруг
миссис Брактон, сидевшая лицом к
платформе, вскрикнула:
— Вот оно!
Но было поздно, надпись скрылась из
виду.
— Оно кончается как-то на «...кло»,—
сказала миссис Брайтон.
— Ничего, скоро выясним, — успокоил
ее мистер Форкетт.
Поезд остановился и с громким
шипением выпустил воздух из тормозов.
Однако двери открылись не сразу. С
дальнего конца платформы доносился шум,
слышались крики: «Пересадка!»,
«Конечная!», «Давай выходи!»
— Пересадка! Хорошенькое дело! —
пробормотала Норма и пошла к дверям.
За ней двинулись и остальные. Двери
широко распахнулись, Норма мельком
увидела фигуру, стоявшую на
платформе, взвизгнула и, попятившись, наступила
Генри на ногу.
Одежды на фигуре было маловато, и
состояла она главным образом из
ремней, на которых висели какие-то
предметы. Зато было хорошо видно, что
фигура принадлежит к мужскому полу и
имеет темно-красную окраску. Этнограф мог
бы обнаружить в ней сходство с
североамериканскими индейцами, хотя на ее
голове вместо перьев торчали маленькие
рожки. В правой руке фигура держала
трезубец, с левой свисала сеть.
— А ну выходи! — скомандовало
существо и посторонилось.
Норма проскользнула мимо него, за
ней последовали остальные, стараясь
сохранять хотя бы видимость достоинства.
Существо заглянуло в открытую дверь
вагона, и все увидели его со спины. На
спине был хвост. Хвост медленно, как бы
в задумчивости, шевелился, и острый
шип на его конце выглядел весьма
зловеще.
— Э-э-э... — начал было мистер
Форкетт, но сразу же отказался от
продолжения, окинул подозрительным взглядом
каждого из своих спутников и
погрузился в глубокое раздумье.
В дальнем конце вагона фигура
заметила спящего молодого человека и
ткнула его своим трезубцем. Послышались
ругательства. После нескольких тычков
заспанный парень выскочил на
платформу и присоединился к остальным, все
еще протирая глаза.
Генри осмотрелся. Тусклый
красноватый свет позволил ему прочесть
название станции. Ничего себе «...кло»!
«Пекло»— вот как она называлась!
Раздалась команда «На выход!», и
чудище угрожающе взмахнуло трезубцем.
Сонливый молодой человек шел рядом
с Генри. Он был высок, атлетически
сложен и казался интеллигентным.
— Что означает эта чепуха?-—спросил
он. — Сбор средств в пользу госпиталей
или что? Сбор вроде бы ни к чему — ведь
теперь у нас есть государственная
программа здравоохранения.
— Не думаю, — ответил Генри. —
Боюсь, что наши дела обстоят весьма
плачевно. — Он кивнул на название
станции.— Кроме того, эти хвосты... они не
похожи на подделку.
Несколько мгновений молодой человек
внимательно изучал синусоидальное
движение хвоста: «Не может быть!» —
возмутился он.
У турникета кроме «обслуживающего
персонала» была уже добрая дюжина
людей. Их пропускали по одному, и
пожилой дьявол, сидевший в маленькой
будочке, заносил на бумажку их имена.
Геири узнал, что его второго спутника
зовут Кристофер Уаттс и что он по
профессии физик.
За барьером находился эскалатор
весьма древней конструкции. Полз он
медленно, и поэтому было можно
детально изучить украшавшие стены рекламные
объявления. Рекламировались более
всего средства от ожогов, переломов,
синяков и ушибов. Реже — какие-то
освежающие и тонизирующие снадобья. У
верхнего конца эскалатора стоял старый,
будто побитый молью черт. Он держал в
лапах лоток с набором жестяных
коробочек и монотонно повторял: «Полная
гарантия. Отменное качество». Мистер
Форкетт, шедший впереди Генри,
остановился и прочел укрепленный на лотке
плакатик: «Аптечка первой помощи.
Цена один фунт или полтора доллара».
— Это оскорбление фунта! —
возмущенно закричал он.
Черт окинул его взглядом и
угрожающе выдвинул челюсть:
— Ну и что? — рявкнул он.
Натиск задних рядов заставил
мистера Форкетта двинуться вперед, но шел
он неохотно, бормоча что-то о
необходимости стабильности и незыблемой
веры в устойчивость фунта стерлингов.
Миновав вестибюль, они вышли
наружу. Воздух попахивал серой. Норма,
защищаясь от града мелких угольков и
пепла, подняла капюшон. Трезубценосцы
загнали людское стадо в загон,
огороженный колючей проволокой. Туда же
прошли три-четыре дьявола.
Генри присоединился к кучке
пассажиров, обозревавших окрестности. Вид
направо был величествен и суров.
Временами перспектива заволакивалась дымом.
В дальнем конце широкой лощины бил
яркий свет, и там поэтому была
отчетливо видна расселина, из которой
подымались гигантские пузыри. Они
медленно всплывали вверх и через мучительно
долгий промежуток времени лопались.
Левее ритмично взметался и опадал
огненный гейзер. Позади курился вулкан и
потоки раскаленной лавы переливались
через бровку кратера. Ближе к зрителям
стены лощины сходились и над тесниной
вздымались два утеса. На одном пылала
надпись «Испробуйте харперовский
дубитель кожи», на другом — «Горю и не
сгораю».
У подножья правого утеса лежала
территория, обнесенная несколькими
рядами колючей проволоки. Со сторожевых
вышек внутрь лагеря то и дело летели
тучи огненных стрел, чертивших в
воздухе яркие трассы. Пахнущий серой
ветерок доносил оттуда взрывы воплей и
дьявольского хохота. Здание близ
лагеря, вероятно, было кордегардией —
перед ним вытянулась очередь
вооруженных чертей, которым, видимо, было
нужно поточить трезубцы и хвостовые шипы.
У Генри это зрелище не вызвало ни
малейшего восторга.
Чуть наискосок от места, где они
стояли, возвышалась виселица. В сей момент
на ней была подвешена за ноги
абсолютно нагая женщина, и на ее волосах
раскачивалась парочка бесенят. Миссис
Брайтон порылась в сумочке и отыскала
очки.
— Боже мой! Неужели это...—
прошептала она. — Конечно, когда видишь лицо
в таком ракурсе, да еще когда по нему
струятся слезы, то... Впрочем, я почти
уверена, что это она... А я-то считала ее
такой порядочной женщиной...
Миссис Брайтон повернулась к одному
из конвойных:
— Убийство или что-нибудь в этом
роде?
Черт отрицательно мотнул головой:
— Нет, просто она непрерывно так
грызла мужа, что добилась согласия
платить какие угодно алименты — только бы
получить развод с ней.
— О-о-о! — воскликнула миссис
Брайтон, — и всего-то? Не может быть!
Конечно, она провинилась в чем-то гораздо
более серьезном!
— Нет, — ответил конвойный.
Миссис Брайтон задумчиво
осведомилась:
— И как часто ей приходится
проделывать это? — Ее лицо выразило
некоторое беспокойство.
"— По средам. В другие дни — другие
удовольствия.
— Валяй сюда! — прошептал кто-то в
ухо Генри. Один из конвойных жестом
отозвал его в сторону.
— Купишь, а?—-спросил черт.
— А что именно?
Черт вытащил из сумки что-то
похожее на тюбик зубной пасты.
— Шикарная штука. Лучшая мазь для
обезболивания! Такой ты нигде не полу-
чишь. Втирай перед каждой пыткой и ни
черта не почувствуешь.
— Спасибо. Не нужно. Я уверен, что
в отношении меня допущена ошибка и
все будет улажено.
— Не трепись, парень, — прохрипел
черт, — ты только глянь! Ладно уж так
и быть — отдам за пару фунтов, больно
ты мне полюбился.
— Нет, благодарю вас, — ответил
Генри.
Черт помрачнел:
— Советую купить,— сказал он,
приводя хвост в боевое положение.
— Ну хорошо, даю один фунт.
— О-кей! — конвойный торопливо
сунул Генри тюбик, столь быстрая
уступчивость, кажется, даже несколько его
удивила.
Когда Генри вновь присоединился к
своим попутчикам, они глазели, как
тройка бесов старательно гоняла по склону
горы крупного толстого мужчину. В
толпе разглагольствовал мистер Форкетт.
— Несчастье, — вещал он, —
по-видимому, произошло на перегоне Чансери-
лейн — Холборн. Это, я думаю, понятно
всем. А вот что далеко не столь же
понятно, так это то, каким образом
здесь оказался я. Нет сомнения, что в
моем случае допущен какой-то
административный просчет, каковой, надо
надеяться, будет своевременно обнаружен.
Он выжидательно воззрился на
товарищей по несчастью. Все
глубокомысленно молчали.
— Ведь преступление должно быть
крупным, правда же? — прошептала
Норма.— Не пошлют же сюда за какую-то
жалкую пару нейлоновых чулок?
—- Если это действительно была
только одна пара...— начал было Генри, но
в это мгновение позади раздался
омерзительный визг. Все обернулись и увидели
Кристофера Уаттса, занятого в данный
момент откручиванием хвоста у одного
из конвойных. Черт выл все громче, он
выронил тюбик обезболивающей мази,
который пытался всучить Уаттсу, и затем
предпринял безуспешную попытку
пронзить физика своим трезубцем.
— Не выйдет! — воскликнул тот,
ловко увертываясь от удара. Потом вырвал
трезубец, удовлетворенно произнес «Вот
таким вот образом», отбросил его в
сторону и ухватился за хвост обеими
руками. Раскрутив черта над головой, он
внезапно разжал пальцы и тот, перелетев
через изгородь, с воплем шмякнулся на
дорогу. Остальные черти всполошились
и двинулись в наступление, выставив
трезубцы и расправляя сети.
Кристофер с мрачным видом ожидал
их приближения. Неожиданно выражение
его лица изменилось. Он широко
улыбнулся, опустил руки и разжал кулаки.
— Бог ты мой, какая же все это
чушь! — воскликнул он и повернулся к
чертям спиной. Те сразу остановились —
они были обескуражены.
И тут Генри словно озарило. С
предельной ясностью он понял, что физик
прав. Все это была совершенная чушь.
Генри расхохотался и услышал, как
рядом хихикнула Норма. И тотчас же
начали смеяться остальные пассажиры.
Черти, такие страшные еще минуту
назад, теперь выглядели тупыми, жалкими
созданиями.
Кристофер Уаттс пересек площадку.
Несколько мгновений он молча взирал на
дымный, мрачный, наводящий ужас
пейзаж. Затем тихо сказал:
— Этого быть не может. В это я не
верю.
Всплыл в воздух и лопнул гигантский
пузырь. Бум! Вулкан выбросил в небо
грибовидное облако дыма и пепла. По
его бокам заструились еще более
ослепительные потоки лавы. Под ногами
задрожала земля. Мистер Уаттс набрал
полные легкие воздуха.
— В ЭТО Я НЕ ВЕРЮ! —во всю
мощь голоса повторил он.
Раздался оглушительный треск.
Колоссальный утес, несший на себе
рекомендацию «гореть не сгорая», раскололся и
стал медленно обрушиваться в долину.
Земля сотрясалась. Огненное озеро
потекло в открывшуюся в дне долины
трещину. Полетел кувырком второй утес.
Выл, свистел, ревел пар, но все эти
звуки заглушал голос Кристофера:
— В ЭТО Я НЕ ВЕРЮ!
И внезапно наступила полная тишина,
будто вырубили рубильник. В темноте
выделялись лишь окна вагонов,
стоявших на насыпи.
— Так! — с веселым удивлением
сказал Уаттс.— Значит таким вот образом!
А не пора ли и по домам?
Освещенный светом вагонных окон,
Уаттс полез на насыпь. Генри и Норма
последовали его примеру.
Мистер Форкетт колебался.
— В чем дело? — спросил его Гёнри.
— Не знаю, но мне кажется, что
получилось как-то... не совсем... не совсем...
— Уж не хотите ли вы тут остаться?
— Нет... пожалуй, нет, — ответил
мистер Форкетт и, сделав над собой явное
усилие, начал карабкаться по насыпи.
Пятеро попутчиков снова сели в один
вагон. Не успели они войти, как двери
закрылись, и поезд тронулся.
Норма облегченно вздохнула.
— Вот и домом запахло, — сказала
она, — спасибо вам, мистер Уаттс. А для
меня это будет хороший урок. Теперь к
чулочному прилавку меня и силой не
затащишь... разве что решу купить
парочку...
— Присоединяюсь... То есть примите
и мои благодарности, — перебил ее
Генри. — Я, конечно, убежден, что в моем
деле была допущена ошибка, но тем не
менее весьма признателен вам за... за
досрочное решение моего вопроса.
Миссис Брайтон протянула Уаттсу
затянутую в перчатку руку.
— Я думаю, вам понятно, что я
оказалась там по какому-то глупому
недоразумению, но благодаря вашей любезности
мне удалось сэкономить время, которое
ушло бы на объяснения с этими
чудовищными чинушами. Вы меня обрадуете,
если найдете время отужинать с нами.
Мой муж будет вам исключительно
признателен.
Наступило молчание, которое вскоре
стало почти неприличным. Причиной
неловкости был мистер Форкетт, который
не спешил произнести свою реплику. Все
смотрели на него, а он пристально
изучал вагонный пол. Оторвав, наконец, от
него свой взгляд, он перевел глаза на
Кристофера Уаттса.
— Нет, — сказал он, — нет, я не могу
одобрить то, что вы натворили. Боюсь,
что ваши действия следует
классифицировать как антиобщественные и даже
подрывные.
Уаттс, который был страшно
доволен собой, сначала удивленно вскинул
брови, а потом нахмурился.
— Я вас не понимаю! — воскликнул он
с искренним недоумением.
— Вы совершили серьезный
проступок, — ответил ему мистер Форкетт. —
Никакая стабильность не может
существовать, если не будут уважаться
общественные устои. Вы, молодой человек,
только что разрушили один из них. Мы все,
а сначала и вы сами, доверяли данному
важному институту, а потом вы, с бухты-
барахты, сокрушили этот весьма
почтенный устой. Нет, нет, не ждите от меня
одобрения подобных действий.
Все с удивлением изучали лицо
мистера Форкетта.
— Но, мистер Форкетт, — начала
Норма,— неужели же вы в самом деле
предпочли бы остаться там, со всеми этими
дьявола гли и тому подобными штуками?
— Это не относится к делу, милочка,—
оборвал ее мистер Форкетт. — Как
законопослушный гражданин, я должен
противоборствовать всему, что угрожает
подорвать незыблемость нашего общества.
С этой точки зрения деяния молодого
человека следует считать опасными н,
повторяю, почти подрывными.
— Ну, а если данный устой —
пустышка?— раздраженно спросил Уаттс.
— Это опять-таки не относится к делу,
сэр. Если большая группа людей верит в
данный общественный институт, то он
приобретает для них значение устоя,
даже в том случае, если, как вы
выражаетесь, он — пустышка.
— Значит, вы отдаете вере
предпочтение перед истиной? — начал Уаттс.
— Мы должны доверять. Если есть
вера, возникает и истина.
— Как ученый, я считаю вас
аморальным человеком, — сказал Уаттс.
— Как гражданин, я считаю вас
опасным человеком, — отозвался
мистер Форкетт.
— О боже! — воскликнула Норма.
Мистер Форкетт был задумчив, мистер
Уаттс — хмур.
— То, что реально существует, не
рассыпается в прах только из-за того, что я
не верю в его существование, —
заговорил Уаттс.
— Откуда вы знаете? Римская
империя существовала лишь до тех пор, пока
римляне в нее верили! —отпарировал
мистер Форкетт.
— Не понимаю, как можно быть
таким неблагодарным грубияном, —
воскликнула Норма. — Как вспомню про
ихние вилки, да про эту бедняжку, что
висела вниз головой в чем мать родила...
— Все это полностью соответствовало
духу времени и того места... Он исклю-
чительно опасный молодой человек, —
твердо возразил ей мистер Форкетт.
Поезд летел с бешеной скоростью,
хотя и с меньшей, чем при спуске.
Разговор увял. Генри обнаружил, что Уаттс
снова спит, и тоже решил, что сон —
лучший способ убить время.
Его разбудили крики «Отойдите от
дверей!». Проснувшись, Генри очутился
в битком набитом вагоне. В бок вонзался
локоть Нормы.
— Вы только гляньте! — шепнула она.
Стоявший перед ними человек жадно
пожирал глазами репортаж о скачках.
На обращенной к ним странице газеты
был виден кричащий заголовок:
«Катастрофа в метро. Двенадцать убитых».
Ниже шел столбик фамилий и имен,
среди которых Генри успел прочесть свою
и фамилии своих спутников.
Норма забеспокоилась: — Прямо не
знаю, как я это объясню дома!
— Теперь вам понятна моя точка
зрения? — возопил мистер Форкетт,
сидевший по другую сторону от Генри. — Вы
только подумайте о том, какие трудности
возникнут при выяснении данного дела!
В высшей степени антиобщественная
история!
— Не представляю, что подумает мой
муж. Он ведь так ревнив!—не без
самодовольства сказала миссис Брайтон.
Поезд остановился на станции Святого
Павла, давка стала поменьше. Мистер
Форкетт готовился сойти на следующей
остановке. Генри решил выйти там же.
Ход поезда замедлился.
— Господи, да в моей конторе все
прямо обалдеют, когда я заявлюсь. А
все-таки было здорово интересно! Чао! —
крикнула Норма, ввинчиваясь в поток
выходящей публики.
Чья-то рука схватила Генри за локоть.
— Вот он! — шепнул мистер Форкетт и
кивнул головой. Впереди виднелись
широкие плечи Уаттса, обогнавшего их на
платформе. — У вас есть время? Я ему
абсолютно не доверяю.
Они вышли на улицу и оказались
перед зданием королевской биржи.
Здесь мистер Уаттс остановился и
осмотрелся, как бы обдумывая увиденное.
Затем четким шагом проследовал к
привлекшей его внимание громаде
Британского банка. Снова остановился и
оглядел здание снизу доверху. Губы его
шевелились.
Колыхнулась под ногами земля. В
одном из верхних этажей выпали три рамы.
Закачались и рухнули статуя, две урны
и часть баллюстрады банка. Раздались
крики прохожих.
Мистер Уаттс расправил плечи и
набрал в легкие воздух.
-— Бог мой! Да он же... — начал
мистер Форкетт, но фраза осталась
незавершенной. Форкетт рванулся вперед.
— Я... — возгласил Уаттс во всю мощь
своего голоса.
— HE... — под аккомпанемент
землетрясения продолжал он.
— ВЕРЮ... — но в эту секунду
сильный толчок между лопаток бросил его
прямо под колеса автобуса.
Запоздало взвизгнули тормоза.
— Это он! Это ои! Я видела — вопила
какая-то женщина, показывая на
мистера Форкетта.
Генри подоспел к нему почти
одновременно с полисменом.
Мистер Форкетт с гордостью созерцал
фасад Британского банка.
— Кто знает, что могло бы произойти.
Этот молодой человек — угроза нашему
строю, — проговорил он. — Вообще-то
говоря, им бы следовало дать мне орден,
но, увы, меня наверняка вздернут на
виселицу. Что ж, такова традиция, а
традиции следует уважать.
Перевел с английского
Вл. КОВАЛЕВСКИЙ
ЭКСПЕРИМЕНТ
НАД
ОБЫВАТЕЛЕМ
Литературные персонажи — если они не
примитивные схемы, а насыщены добротной, взятой из
реальности плотью — всегда ведут себя по
собственной воле, по собственной логике. (Они, как
известно, способны даже вступать в спор с
намерениями своих авторов.)
Мировоззрение Джона Уиндема, автора
«Ставки на веру» и других рассказов и романа «День
триффидов», уже известных советскому
читателю, характерно запутанностью, типичной для
взглядов известной части нынешней западной
интеллигенции. Уиндем протестует, пожалуй,
против всего: он не приемлет капиталистический
образ жизни и в то же время скептически
относится к современному миру социализма. При
этом и «крайне левые» идеи маоистского
толка, какими теперь увлекся Жан-Поль Сартр, ему
тоже чужды. А позитивная программа его
расплывчата крайне: он призывает к гуманности,
он хочет, чтобы антагонизм меж людьми
сменился отношениями дружбы и взаимопомощи, но
каким путем должны люди прийти к новым
отношениям, писатель, увы, сказать не может ни
читателям, ни себе самому...
Однако для нас важна не эта путаница во
взглядах, а важно, что Уиндем — хороший
художник, и потому он способен показать
читателю важные черты мира, в котором живет.
И персонажи, выхваченные им из сегодняшней
английской реальности, ведут себя по логике
действительной жизни.
В «Ставке на веру» Уиндем поставил острый
эксперимент над средними английскими
обывателями. Усадил их в обычный поезд метро.
Незаметно закатил этот поезд в мифический ад,
удивительно напоминающий реальный Освенцим.
Затем снова выволок на поверхность и в итоге
доказал, сколь близск обывателю, взращенному
в стране классической буржуазной демократии,
самый обыкновенный фашизм. Он доказал, как
легко этот обыватель готов смириться, готов
начать приспосабливаться к бесчеловечному,
алогичному по сути своей режиму «ада» — неважно,
под землей ли он будет или на земле. Как
легко он начнет считать заслуженными ужасы,
выпавшие на долю других, и несчастной
случайностью ужасы, достающиеся ему самому. И
более того, — что иной обыватель даже заранее
готов отстаивать, защищать этот ад, ибо он ему
нужен.
Взгляды Роберта Форкетта, главного из
персонажей рассказа, сводятся к знаменитой
короткой формуле — «все действительное разумно».
И его мир покоится на трех весьма
символичных «китах»: Британский банк, устрашение
муками за грехи «на том свете» и еще — презумпция
заведомой мудрости администрации, воля
которой предопределяет маршрут символического
«поезда» с обывателями.
В этом рассказе нет случайных деталей. Почти
каждая кроме прямого назначения имеет некий
второй, символический смысл, скрытый, впрочем,
не столь уж глубоко. Это и легкость, с какой
«поезд», олицетворяющий английское общество,
завтра может оказаться в аду-Освенциме, и
мелкий бизнес, v который наладили черти на страхе
своих жертв, и ярлычки профессий, подаренные
персонажам.
Кто он такой, Роберт Форкетт? Автор сказал
только лишь, что лет ему было 55, а одевался
он строго по моде Сити. Поскольку этот
«человек из Сити», столь подчеркивающий свое
законопослушание, очутился в час пик в
переполненном метро, он, Форкетт, наверняка не
крупный финансовый туз, ? лишь мелкий или
средний клерк, то есть типичный лондонский
обыватель, чье благополучие тесно связано с
незыблемостью нынешнего образа английской жизни.
Но эту незыблемость он готов защищать ценой
уничтожения другого человека, а может, и
многих, чем и гордится. А ведь именно право
на преступление во имя «Великой Германии»,
«господства расы» или еще чего-либо — вот чем
наделяет фашизм своего защитника-обывателя,
освобождая его от «химеры совести».
И не будь у критического «не вер ю!» столь
быстродействующей разрушительной силы, и
задержись вся компания в «пекле» подольше,
можно легко представить себе, как мистер Форкетт
и там успел бы найти для себя местечко «под
солнцем», принялся бы там, в пекле, бороться с
«подрывными элементами» и, быть может, даже
выслужился бы из рядовых новоприбывших до
конвойного черта-эсэсовца или до траченного
молью дьявола-регистратора поступающих «на
обработку» персон.
Однако, если бы идея «Ставки на веру» этим
исчерпывалась, вряд ли стоило печатать рассказ
в научно-популярном, а не литературном
журнале. Уиндем не случайно сделал антипода
«человека из Сити» — Кристофера Уаттса
физиком. «Ставка на веру» — это в первую очередь
рассказ о извечном и непримиримом
конфликте между косным и корыстном метафизическим
мышлением обывателя и дерзкой критической
научной мыслью.
Она, эта мысль, не способна примиряться с
формулой «все действительное разумно». Она
рвется проверять экспериментом и откровенную
чушь кошмарных иллюзий или антинаучных
бредней, и такую, казалось бы, фундаментальную
реальность, как Британский банк — символ и
основу образа жизни форкеттов. В победе этой
мысли, революционной по самой своей
конструкции, писатель видит путь к высвобождению
из трясины сегодняшнего английского бытия.
Логика повествования заставила Уиндема
сказать то, что, быть может, он — писатель, не
симпатизирующий марксизму, представлял себе не
вполне четко. Но в момент, когда физик Уаттс
своим громовым «не вер ю!» начинает рушить
здание банка, символы рассказа обретают для
нас особый смысл. Ведь принципы критического
естественно-научного подхода уже век с
лишним назад были применены для анализа
явлений общественной жизни. И родилось учение,
потрясшее основы того мира, который сегодня
уже не приемлет каждый здравомыслящий
человек.
Борис ВОЛОДИН
НОВОСТИ ОТОВСЮДУ
НОВОСТИ ОТОВСЮДУ
НОВОСТИ ОТОВСЮДУ
КАНДИДАТ НА НОБЕЛЕВСКУЮ
ПРЕМИЮ
Более 50 депутатов шведского
парламента во главе с бывшим
премьер-министром Швеции
Т. Эрландером обратились в
Комитет по присуждению
Нобелевской премии мира с
ходатайством о награждении этой
премией 86-летней
общественной деятельницы Элизы Оттар-
Йенсен, которая с 1959 г.
возглавляет Международную
федерацию планирования семьи
(International Planned
Parenthood Federation). Выдвигая ее
кандидатуру, шведские
парламентарии отметили, что
пропаганда регулирования
рождаемости, которую в течение
многих лет активно ведет Э. Оттар-
Йенсен, имеет большое
значение для решения проблем,
стоящих перед человечеством.
ЗАМОРОЖЕННЫЙ ГРАДИЕНТ
Один из методов разделения
близких по строению веществ,
например белков, основан на
их способности
распределяться в растворе с переменной
плотностью (или, как говорят,
с градиентом плотности) в
зависимости от молекулярного
веса.
Сейчас предложен
оригинальный метод приготовления
таких растворов (сообщение
журнала «New Scientist», 1972,
т. 53, № 781). В пробирку
помещают раствор сахарозы
умеренной концентрации и дают
этому раствору замерзнуть
при —20е С. Сначала,
естественно, замерзает вода и лед
всплывает вверх; затем
образуется лед, содержащий
немного сахарозы, а в
последнюю очередь замерзает
концентрированный раствор,
оставшийся внизу. После этого
остается медленно нагреть
пробирку до +4° С. Раствор с
градиентом плотности готов.
КОСМИЧЕСКОЕ ОКНО
Длительные полеты в космос
не за горами. А прожить год-
другой в металлической
кабине без так называемого
психологического комфорта очень
трудно. Чтобы этот комфорт
был полноценным, надо соз-
дать на борту корабля
иллюзию природных ритмов —
суточных и сезонных. Журнал
«Космическая биология и
медицина» (№ 1 за 1972 г.)
предлагает снабдить
кают-компанию корабля двойником
обычного комнатного окна.
Проецируя на него цветные слайды
пейзажей, меняя яркость источ-
...установлена связь между
изменениями солнечной
активности и событиями древней
истории («Природа», 1972. № 4,
стр. 51)...
...внутри птичьего глаза
обнаружено приспособление,
защищающее сетчатку от прямых
солнечных лучей («Nature New
Biology», т. 236, стр. 88)...
...из дерново-подзолистой
почвы выделены биополимеры
типа белков и нуклеиновых
кислот («Биохимия», т. 36,
стр. 971)...
...Солнце — самое лучшее
место для захоронения
радиоактивных отбросов («Bild der
Wissenschaft», 1972» стр.
319)...
...на каждого человека,
проживающего сейчас на Земле,
приходится по 200 000 тонн
атмосферного кислорода
(«Urania». 1972, № 4, стр. 9)...
...строгий постельный режим
достаточно хорошо
моделирует изменения, которые
возникают у человека в условиях
невесомости («Наука н
жизнь», 1972, № 4, стр. 96)...
...бактерия Erwinia herbicola,
растущая на среде,
содержащей фенол, пировиноградную
кислоту и аммиак, производит
ников света, можно вызвать
иллюзию суточного хода
освещенности и смены времен
года. За окном будет дуть ветер,
сиять солнце, пойдет дождь и
снег. Даже число ясных и
пасмурных дней должно точно
соответствовать
действительности. Словом, космическое окно
отразит реальный час суток в
аминокислоту тирозин («FEBS
Letters», т. 21, стр. 39)...
...в атмосфере Юпитера
обнаружен дейтерированный метан
(«Science», т. 175, стр. 1360)...
...ядра различных изотопов
ртути имеют различную
форму («Physics Letters», т. 38В,
стр. 308)...
...если зеркало будет делать
100 000 оборотов в секунду, то
получится, что световой
зайчик движется по экрану,
расположенному в 1 километре
от этого зеркала, со
скоростью, вдвое превышающей
скорость света в вакууме
(«Природа», 1972, № 4, стр.
103)...
...половые аттрактаиты
новозеландских травяных жуков
синтезируются бактериями,
обитающими в организмах са
мок («Nature», т. 230. стр.
472)...
...протамины, выделенные из
молок осетровых рыб, на 60—
70% подавляют развитие
перевиваемых опухолей у
мышей («Антибиотики», 1971,
№ 9, стр. 816)...
...эпидемии гриппа чаще всего
случаются в морозные зимы
(«Journal of Preventive and
любое время года. И кто
знает, не придется ли на борту
огромных космических
лайнеров моделировать природный
ход парциального давления
газов, ионизации и другие
параметры, которые на Земле
зависят от сезона года и
времени суток?
Social Medicine», т. 26, стр.
28)...
...похудеть могут только те
люди, которых в детстве не
перекармливали («British
Medical Journal», 1 апреля 1972,
стр. 25)...
...на Старогрозненском
нефтепромысле в результате
откачки нефти произошло
землетрясение силой в 7 баллов
(«Природа», 1972, № 4, стр. 122)...
...за 1 миллион лет на 1 см2
поверхности доисторической
Земли с дождями выпадало
около 200 кг аминокислот,
синтезированных в атмосфере
под действием электрических
разрядов и ультрафиолетового
излучения («Science», т. 173,
стр. 417)...
...открыт самый маленький
вирус, молекулярный вес
которого составляет около 50 000
единиц («Bild der
Wissenschaft», 1972, стр. 318)...
...если разобщенные клетки
различных отделов головного
мозга культивировать
совместно, то они самопроизвольно
регенерируют структуру,
являющуюся миниатюрным
подобием целого мозга («New Sci
entist», т. 54, стр. 12)...
Пишут,что.
ЖИВЫЕ ЛАБОРАТОРИИ
ПЛЮЩ
Много удивительного можно увидеть
в горных лесах Кавказа, похожих на
настоящие джунгли. Несмотря на то, что
деревья здесь довольно высокие,
бесчисленное множество крепких, точно
проволока, лиан взбирается до самых
макушек, свешивается с ветвей и до того их
перепутывает, что, если идешь не по
тропке, трудно обойтись без топора.
Зимой здесь часто встречаются странные
деревья: во все стороны торчат голые
сучья, а ствол и ветви потолще сплошь
покрыты плотной темно-зеленой листвой.
И только когда присмотришься,
становится ясно, что листья принадлежат
вовсе не дереву: это разрослась и оплела
его лиана — плющ.
Род плющ относится к семейству
аралиевых— к тому же самому, что и
женьшень — корень жизни. Различные виды
плюща распространены в горах Юго-
Восточной Азии, в Средиземноморье и
Средней Европе. Встречается плющ и
севернее, но редко: он не обладает
большой зимостойкостью. В Москве и
Ленинграде плющ может зимовать только под
покровом снега, а та часть растения,
которая остается на открытом воздухе,
подмерзает.
Плющ — вечнозеленый лазающий
кустарник. Иногда он стелется по земле,
образуя зеленый ковер, иногда
поднимается по скалам, но чаще взбирается по
деревьям на высоту 20—30 м. Нужно
сказать, что это растение — не паразит:
у него собственная корневая система,
а деревьями оно пользуется только как
опорой. В отличие от многих других лиан
плющ не обвивается вокруг ствола,
а прикрепляется к нему своими
воздушными корнями-присосками. Его довольно
мощный ствол напоминает змею — не
случайно в словаре Даля рядом со
словом «плющ» написано «змеевник».
Если присмотреться к листьям плюща,
можно увидеть, что они на одном и том
же растении разной формы. Даже не
верится, что три листа, которые вы видите
на фотографии, сорваны с одного
растения. Такое явление в ботанике
называется гетерофилией.
Обитатель густых лесов плющ —
растение теневыносливое. Но зацветает он
лишь на свету, когда доберется до
вершины скалы, дерева или другой своей
опоры. А так как цветение плюща
приходится на сентябрь — октябрь, то он
представляет некоторую ценность как
поздний медонос. Мед, собранный на его
цветах, — плотный, белый, так
называемый каменный.
Плоды плюща —сине-черные или
желтые, похожие на ягоды, — вызревают
только к весне или лету следующего
после цветения года и сохраняются на
растении в течение нескольких лет.
Темными ягодами охотно лакомятся птицы,
а желтых они никогда не трогают, по-
видимому, из-за того, что в них много
смолы и ядовитых горьких веществ:
алкалоида гедерина и сапонинов.
Еще у древних народов плюш считался
целебным растением. В болгарской
народной медицине используются листья
плюща обыкновенного: считают, что
холодная вытяжка из них в малых дозах
оказывает отхаркивающее действие при
хроническом бронхите, помогает при
болезнях печени и желчного пузыря,
подагре, ревматизме. Правда,
лекарственные свойства плюща нельзя считать
окончательно доказанными, зато
известно, что листья и плоды плюща ядовиты.
Легкая, пористая древесина плюща
используется для изготовления разных
токарных изделий. В Турции и Греции
она издавна считается лучшим
материалом для струнного музыкального
инструмента — кеменче.
При повреждении стволов плюща из
них вытекает камедистый сок, который
застывает на воздухе и превращается
в полупрозрачное темно-коричневое
твердое вещество, называемое плющевой
смолой. При горении оно издает
бальзамический аромат, похожий на запах
ладана. Из смолы плюща приготовляют
лак для масляной живописи.
Плющ — прекрасное декоративное
растение и в этом качестве высоко ценится
с глубокой древности. У древних греков
плющ служил символом веселья и
любви и был посвящен Бахусу. На пирах
и торжествах венками, сплетенными из
его красивых листьев, венчали поэтов —
недаром один из видов растения так и
называется: плющ поэтический.
Скульпторы и архитекторы издавна украшали
карнизы и колонны зданий высеченными
из камня листьями плюща (такие
украшения можно, например, увидеть на
соборе Парижской Богоматери).
По красоте своей листовой мозаики
плющ занимает первое место среди
комнатных растений. К сожалению, для
посадок в открытом грунте это ценное
декоративное растение используется еще
мало. Плющ может и должен занять
гораздо большее место в зеленом
строительстве.
Ю. С. КАГАНОВИЧ
КОНСУЛЬТАЦИИ КОНСУЛЬТАЦИИ КОНСУЛЬТАЦИИ КОНСУЛЬТАЦИИ
КАК БОРОТЬСЯ С КРАСНЫМ
КЛЕЩИКОМ
На моих кактусах завелись
красные клещики. Как с ними
борогься!
В. Тимофеева,
Ленинград
Если не кактусе появились
красные клещики (Tefranichum
telarius), его следует тут же
изолировать. Затем растение
обрабатывают эмульсией эфир-
сульфоната A,5—2 г в литре
воды) или же раствором тио-
фоса A5—20 капель на литр
воды). Важно, чтобы на
политые ядохимикатом листья не
попали солнечные лучи, так как
они могут вызвать ожог,
поэтому обработку лучше делать
ближе к вечеру. Операцию
следует повторить еще раз —
через 7—10 дней и впредь в
порядке профилактики
обрабатывать растения теми же
реактивами несколько раз в год.
Кроме того, летом кактусы
хорошо время от времени
опрыскивать водой — клещи
заводятся только на сухих
растениях.
ЧТО ЭТО ЗА ЕДИНИЦА!
На бутылках спиртных
напитков мне встретилось
обозначение: «80 Am. proof». Что это за
единица! Какова этимология
слова!
И. Л. Литвинов,
Казань
В нашей стране концентрация
спирта в алкогольных
напитках измеряется в объемных
процентах или градусах.
Соотношение между этими двумя
единицами, как, вероятно,
знают многие, довольно простое:
один градус крепости
соответствует одному проценту. А вот
английскую систему
обозначений простой не назовешь
никак.
В толковом словаре
английского языка («The Shorter
Oxford English Dictionary») слову
«proof», которое обычно
фигурирует на этикетках,
приписывают много значений, среди
них такие, как
«доказательство», «подтверждение», а
иногда и «отличное качество».
Неудивительно, что когда-то
именно это слово выбрали,
чтобы обозначить так
называемую «надлежащую» крепость
спирта, который получали
тогда перегонкой барды. Имело
значение при выборе и то, что
издавна этим же термином
обозначали и сами испытания
некоторых материалов, в
особенности огнестрельного
оружия. Оба понятия — крепость
и испытание—связывал,
очевидно, способ определения
крепости напитка, который
был довольно необычным.
Готовый спирт или, скажем,
ликер наливали на порох и
поджигали; если жидкость
загоралась, а за ней взрывался
порох, спирту приписывали ту
самую надлежащую крепость
«proof», а иногда и более
высокую «above proof» или «over
proof», сокращенно — а. р. и
о. р. Причем оценка «proof»
тогда означала, что в смеси
содержалось 11 весовых частей
спирта и 10 — воды. Менее
крепкую жидкость оценивали
как «under proof»—u. p.
Получалось, что крепость «proof»
служила чем-то вроде нуля в
шкале отсчета. Ниже н/ля
«андерпруфы» растут с
уменьшением концентрации спирта
в растворе, а выше нуля
увеличивается и содержание
спирта и значения «оверпруфов».
Чтобы показать, как это сейчас
выглядит в цифрах, сопоставим
две шкалы — нашу и
британскую. Нулевой точке
английской шкалы, то есть «proof»,
на шкале объемных процентов
соответствует цифра 57, так как
в жидкости со знаком «proof» —
57% алкоголя. Ниже идут
градусы «андерпруф», выше —
«оверпруф». Каждое деление
английской шкалы
соответствует примерно 0,57% спирта,
поэтому, чтобы перевести эти
градусы в наши единицы,
следует британский градус
умножить на 0,57, а результат либо
вычесть из 57, если речь идет
о пересчете андерпруфов, или
прибавить к 57, если
пересчитывают оверпруфы. И тогда
получится, что, например,
напиток крепостью 75й' р*
содержит примерно 15% спирта, а
жидкость со знаком 4й*р* —
55%, 100й* Р' — это чистая вода.
Если же на бутылке стоит
13,5°*р*, то в ней напиток,
содержащий 65% алкоголя.
В США дело обстоит
намного проще. Там крепость
жидкости увеличивается на один
градус, если концентрация
алкоголя в ней возрастает на
0,5%. Поэтому в бутылках с
грозным обозначением «80 Am.
proof» (Am.— здесь
сокращение слова «American»
«американский») по нашей шкале —
всего лишь сорокоградусный
напиток.
Тех, кто захочет разобраться
в этих системах обозначений
более основательно, отсыпаем
к руководству — «Технические
условия на этанол». Стандарт
Англии «В. S.» 507, 1966 г.
ЦЕЛЕБНЫЙ СОК ОСИНЫ
Я как-то слышала, что отвэр из
коры осины укрепляет зубы.
Верно ли это!
Л. Д. Меркулова,
гор. Сучан
*
Отвар коры осины
действительно целебен.
Содержащиеся в нем дубильные вещества
КОНСУЛЬТАЦИИ КОНСУЛЬТАЦИИ КОНСУЛЬТАЦИИ КОНСУЛЬТАЦИИ
укрепляют десны. Однако
врачи назначают для той же цели
более действенный дубовый
отвар. В народной же
медицине чаще применяют осиновый
сок; если его смешать с
поваренной солью, получится
прекрасное средство против
зубной боли. Готовят смесь так.
В свежем осиновом бревне
пробуравливают дыроччу, —
тут важно, чтобы канал
проходил через сердцевину, но не
насквозь. Внутрь насыпают
соль, а потом отверстие
затыкают кусочком коры. Бревно
бросают в огонь, но догореть
ему не дают. Полуобгоревшую
осину вынимают из костра,
вскрывают отверстие и
вытряхивают оттуда соль, которая
впитала осиновый сок. Эту
соль либо прямо кладут на
больной зуб, либо растворяют
ее в воде A : 10) и раствором
полощут рот.
Кроме того, в народе
издавна считался лекарственным
средством и отвар из почек
осины или настой на них. Его
давали больным дизентерией,
а также страдавшим ломотой
в мышцах из-за простуды.
МОЖНО ЛИ ЛЕЧИТЬСЯ
ОТВАРОМ ЦВЕТОВ КАРТОФЕЛЯ
Я слышал, что раньше в
русских селах против кишечных
заболеваний применяли отвар
свежих цветов картофеля.
Некими сведениями по этому
поводу респолагают нынешние
врачи!
А. В. Гридчин,
Тамбов
В отваре цветов картофеля
содержится алкалоид соланин.
Это вещество может оказать
противовоспалительное
действие, но все же применять
отвар не стоит. Дело в том, что
соланин — ядовитое
соединение, им можно отравиться.
Такие отравления были нередки
во времена Петра I. Картофель
тогда только начали
выращивать, многие еще не знали,
какая часть растения съедобна:
клубни, листья или цветы.
Кстати, соланин есть и в
проросшем и позеленевшем
картофеле, поэтому и им можно
отравиться, об этом в «Химии
и жизни» уже писали — в № 7
за 1970 г. Попавший внутрь
соланин раздражает слизистую
оболочку рта, гортани,
пищевода, желудка. У
пострадавшего ощущение жжения,
тошнота, а иногда и рвота. Однако
отравление это не такое уж
тяжелое, смертельных случаев
не бывает. Первая помощь
заключается в том, что больному
промывают желудок и дают
солевое слабительное,
например английскую соль.
\
А JL-ЛОЛЕВОМУ, Донецк: 0рганизаи^и_^пред-
приятия могут заказать портреты цчепьцишми-
ков в Московской лабораюрии^научно-щшклад-
швматографии (Москва,
ротографиТГ
^ууС1ШШШа^^В. КУЗНЕЦОВУ, ТулаТ .
дебными экспертами могут стать люди,
окончившие химические факультеты по специальностям
органическая, аналитическая или неорганическая
химия, а затем прошедшие стажировку в
специальных исследовательских учреждениях,
например в Научно-исследовательском институте
судебной экспертизы. Н. П. ШИТОВУ, гор. Серов:
Оперментом, а иногда орпименюм или рапимен-
том в старину называли желтый сернистый
мышьяк. И. А. ВОЛОДЬКО, гор. Днепрорудный
Запорожской обл.: Препарат против курения — ло-
бесил в аптеки пока не поступает, в продаже
бывает другой препарат — табекс, который, как и
любое иное лекарство, можно принимать только
по назначению врача. О. БИРВАР, Краматорск:
Грибницу шампиньонов можно заказать по
адресу—Москва, Г-354, совхоз «Заречье». Н.
СЕМЕНОВОЙ, Омск: Поливинилацетатные краски,
которыми красят стены в жилых помещениях, со-
состоят из поливинилацетатной эмульсии,
пигмента, стабилизатора и пластификатора. С. Т-ВУ,
Североуральск: Редакция не дает никаких
консультаций по изготовлению и применению
ядовитых и взрывчатых веществ. А. И., Москва: Вы
совершенно правы — сообщение о малосольных
огурцах, растущих прямо на грядке, было
апрельской шуткой.
ПОЧЕМУ АЛЬБАТРОС
НЕ ЛЕТАЕТ НАД СУШЕЙ?
Странствующий альбатрос — громадная
птица. В квартире, заставленной
мебелью, он крылья не расправит — их
размах 4,5 метра. Вроде на таких крыльях
улетишь куда угодно. Но это только
кажется. Альбатрос лентяй, да и вообще
хилое существо. У него, как и у других
парящих птиц, основной движитель
находится вне организма: птицы
используют энергию воздушных потоков и
завихрений. Мышцы альбатроса рассчитаны
ьа кратковременную нагрузку.
Вспомните: у курицы мышцы ног красные,
налитые кровью, они работают с утра до
ночи, а грудные мышцы — белые, их мощь
ока пускает в ход редко, ибо взлетает
только в экстренных случаях. Так вот,
альбатрос в этом отношении похож на
курицу. Более того, он уступает ей —
его плохо держат собственные ноги.
Крыло альбатроса узкое, заостренное.
Особое устройство сустава фиксирует
его в развернутом положении.
Неподвижно расставив крылья, он скользит
над волнами, а не кружит на высоте
подобно другому отменному парителю —
грифу. Альбатросы не могут парить над
сушей: удельное давление на крыло
у них гораздо больше, чем у грифов, и
они проваливаются сквозь теплый
воздух, поднимающийся вверх. Эти-то
конвективные токи и оседлали грифы. Зато
грифы не могут летать над морем:
широкие крылья с растопыренными маховыми
перьями — игрушка в руках порывистого
ветра. Лететь же машущим полетом нет
сил ни у альбатроса, ни у грифа.
Гнездятся альбатросы на маленьких
островках, где море всегда под боком.
Длинные узкие крылья альбатроса
как нельзя лучше приспособлены к
болтанке на бреющем полете, к порывам
ветра, срывающего пену с волн. Птица
редко поднимается выше 12 метров. Это
и хорошо. Основная еда альбатросов —
морские беспозвоночные, и чтобы
наесться, нужно то и дело мочить нос в воде
Альбатросы с удовольствием плавают
в пене волн, но они боятся зеркальной
глади и перед штилем стараются
заблаговременно перебраться туда, где с
нашей точки зрения погода похуже. Ведь
в штиль не полетишь, а значит, и не
поешь как следует.
Странствующий альбатрос белого
цвета, а вот края крыльев у него черные.
И неспроста. Альбатрос красит их в
темный цвет, чтобы они не поистрепались
на ветру. Темные тона перу придает
пигмент эумеланин, и этот же пигмент
делает перья более долговечными.
Недаром у белых аистов и белых гусей
маховые перья тоже темные. Зато
такого носа, каким обзавелся альбатрос,
у гусей не имеется. Правда, морской
скиталец и тут не одинок: приоритет на
необычный нос могут с ним разделить
бакланы, морские чайки и кайры. Все они
воротят носы от пресной воды, однако
не страдают от жажды. Эволюция
поставила в их клювах специальный
опреснитель — солевую железу. Если
альбатроса накормить чем-нибудь очень соленым,
минут через десять из его носа закапает
рассол й организм избавится от
излишков. Нос альбатроса позволяет ему
месяцами находиться в море. К
сожалению, механизм действия этого
опреснителя еще не ясен.
Клюв морского странника
примечателен и в другом отношении. Альбатросы
вместе с буревестниками входят в отряд
трубконосых птиц. Роговой покров их
клюва не сплошной, как у остальных
пернатых, а состоит из сегментов —
щитков. Мало того, на их клюве красуются
две трубочки — своеобразное
продолжение ноздрей. И кто знает, не улучшают
ли трубочки обоняние: однажды на
запах куска сала, брошенного в воду, за
час слетелись альбатросы с территории
радиусом в тридцать два километра!
Найдет ли собака миску с едой на
таком расстоянии?
С. СТАРИКОВИЧ
Очертания крыльев чг-^/УГ^го:-'-' я згьАя тр пп я и грифа
И МАСТОДОНТ МОГ ОТРАВИТЬСЯ
РТУТЬЮ...
В костях ископаемого мастодонта, который много
тысячелетий назад бродил по Северной Америке,
обнаружена ртуть, причем в не меньшем
количестве, чем у рыб, плавающих в загрязненных
водоемах. Шейная кость мастодонта содержала 1 часть
ртути на миллион, а продукты питания (и рыбу в
том числе) приходится уничтожать, даже если ртути
[в них значительно меньше.
Откуда же в доисторические времена, когда никто
не загрязнял воду промышленными отходами,
могло взяться ртутное заражение! Вот правдоподобное
объяснение: мастодонт — травоядное животное,
[и, поедая растения в водоемах, он усваивал ртуть,
[поступавшую туда, видимо, из окружающих пород.
Исследования показали, что в этих породах дей-
ствитепьно есть ртуть,
и не так уж ее мало —
несколько частей на миллиард,
впрочем, ртуть могла
накопиться в организме
и после того,
как мастодонт погиб.
Доказано лишь,
что заражение во всяком
случае произошло
задолго до наших дней.
Когда исследователи
проанализировали чучела рыб, сделанные
еще в прошлом
столетии, то и в них была найдена все та же ртуть..
С. БРАГИНСКАЯ